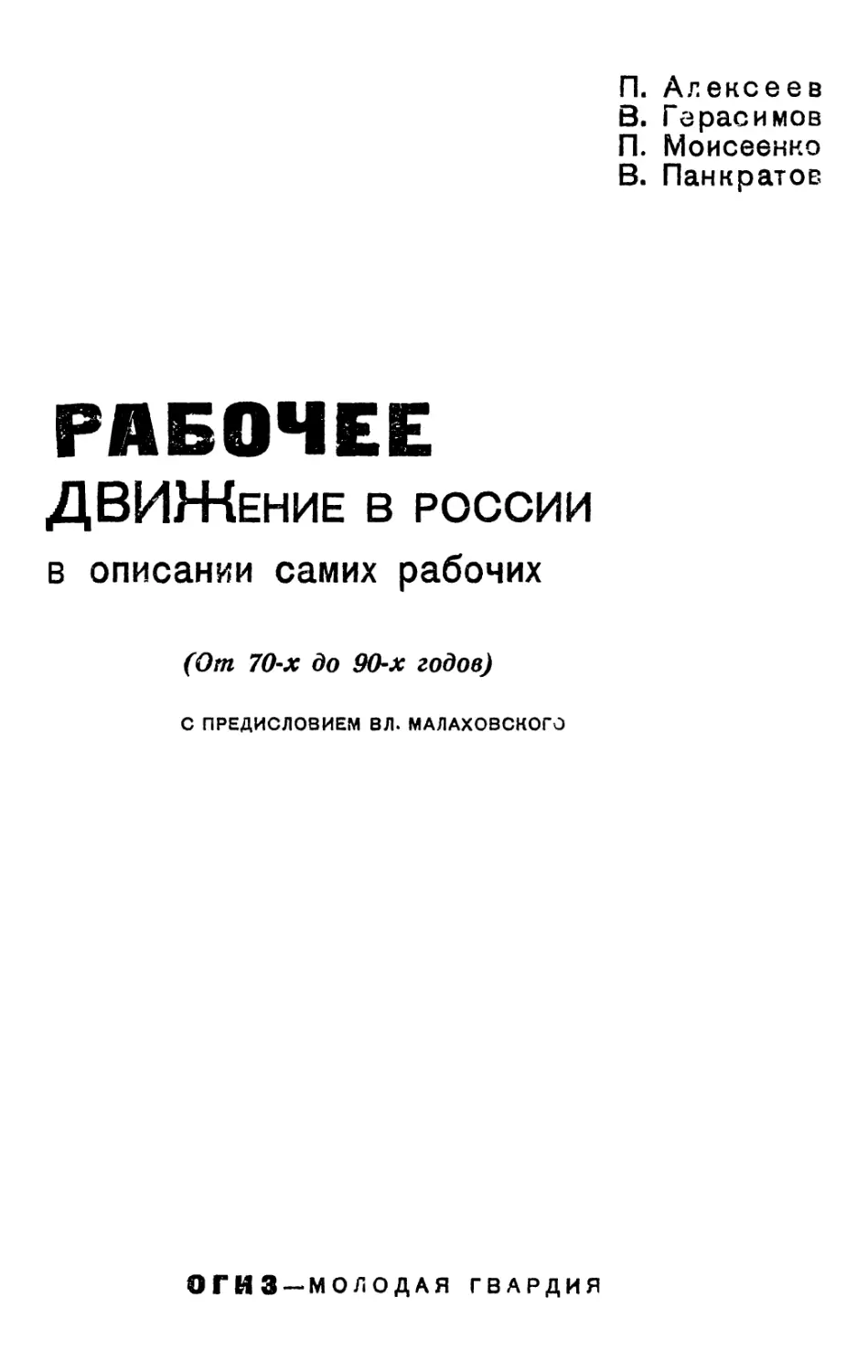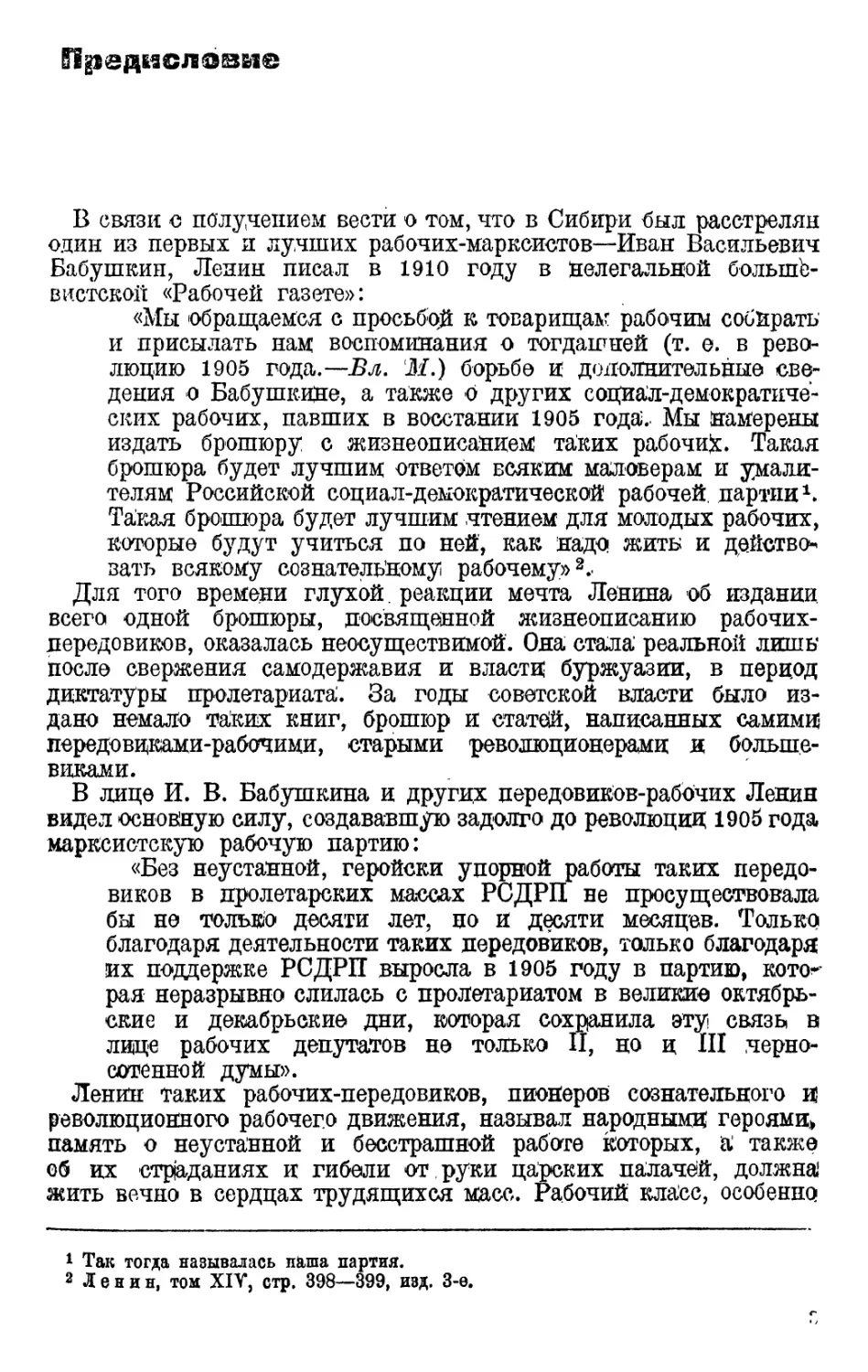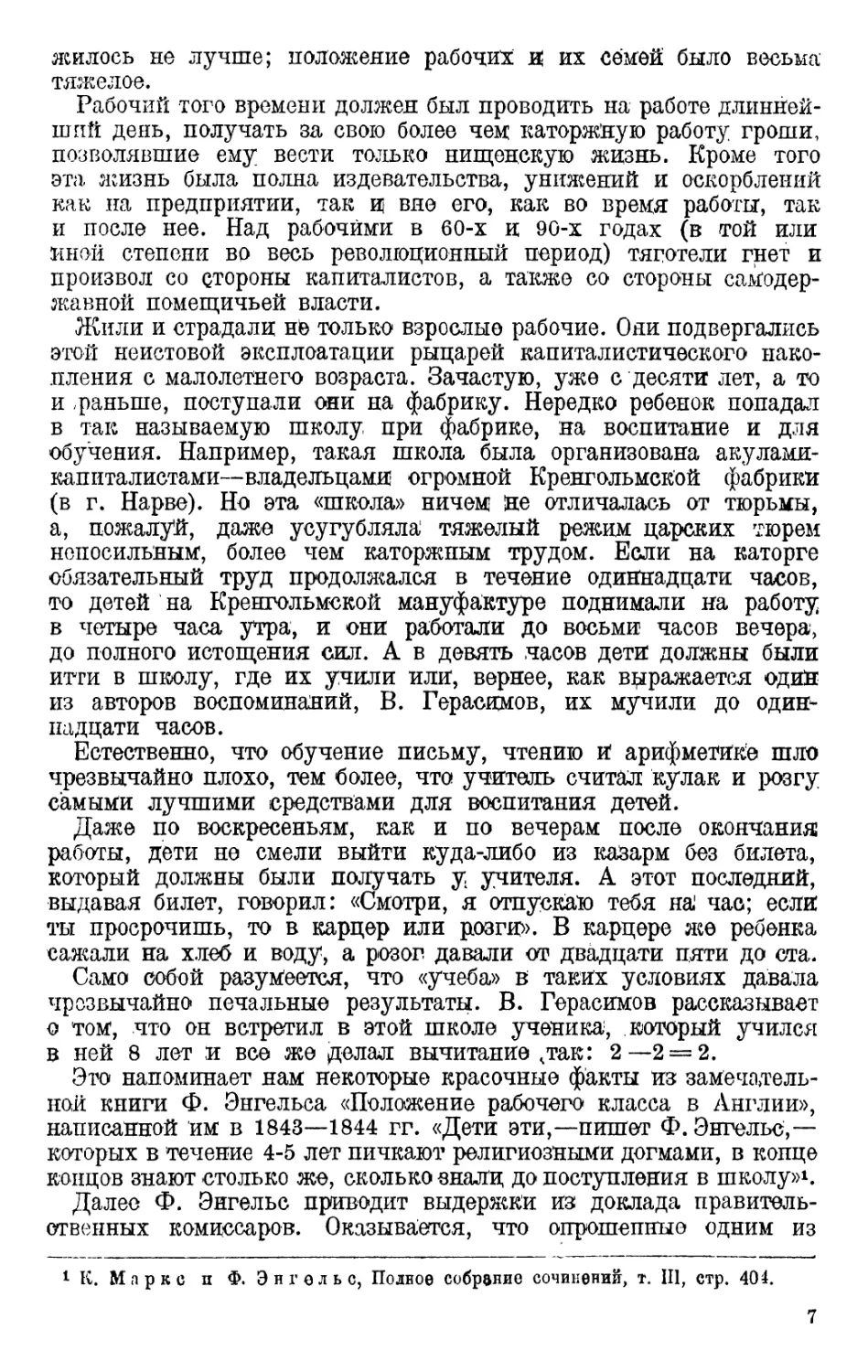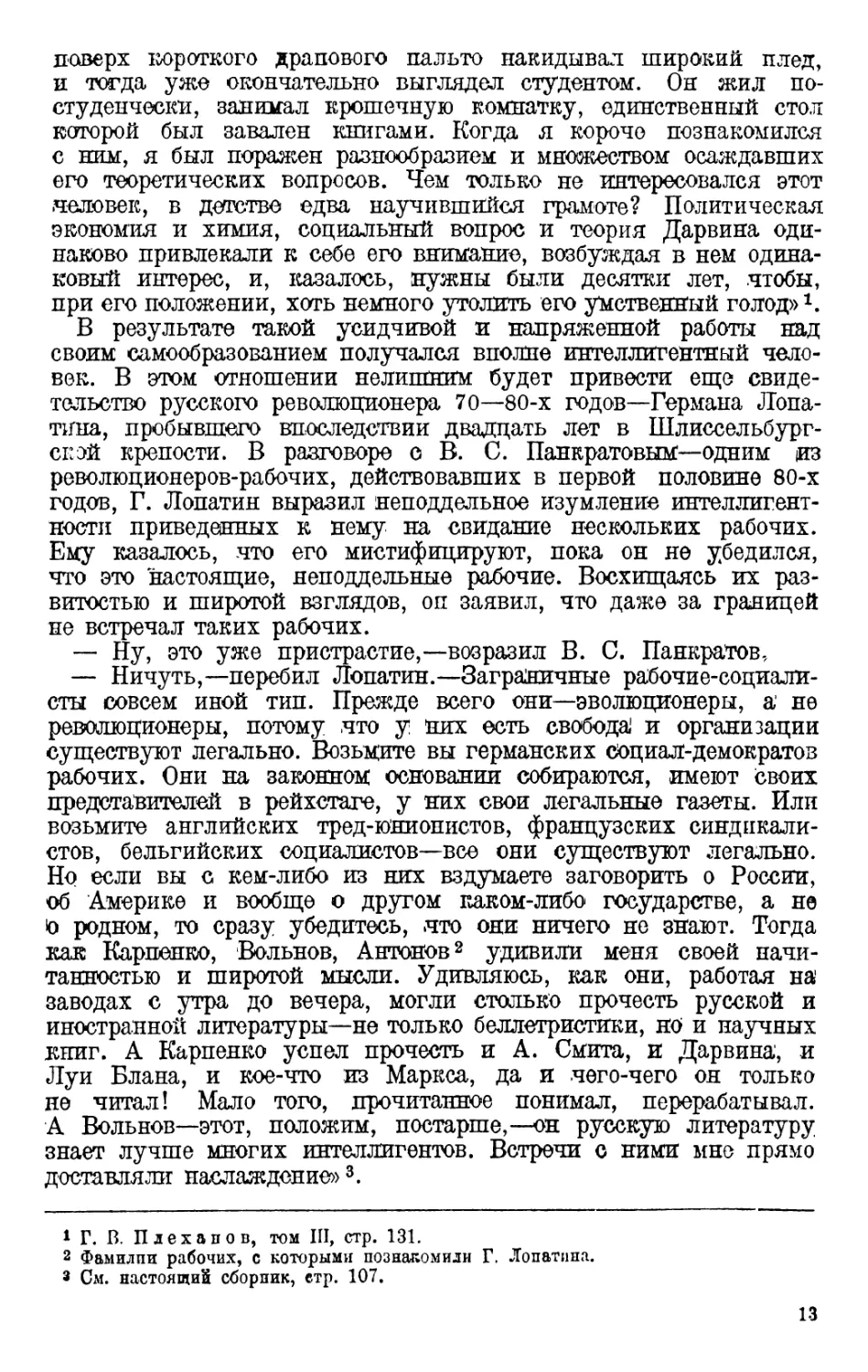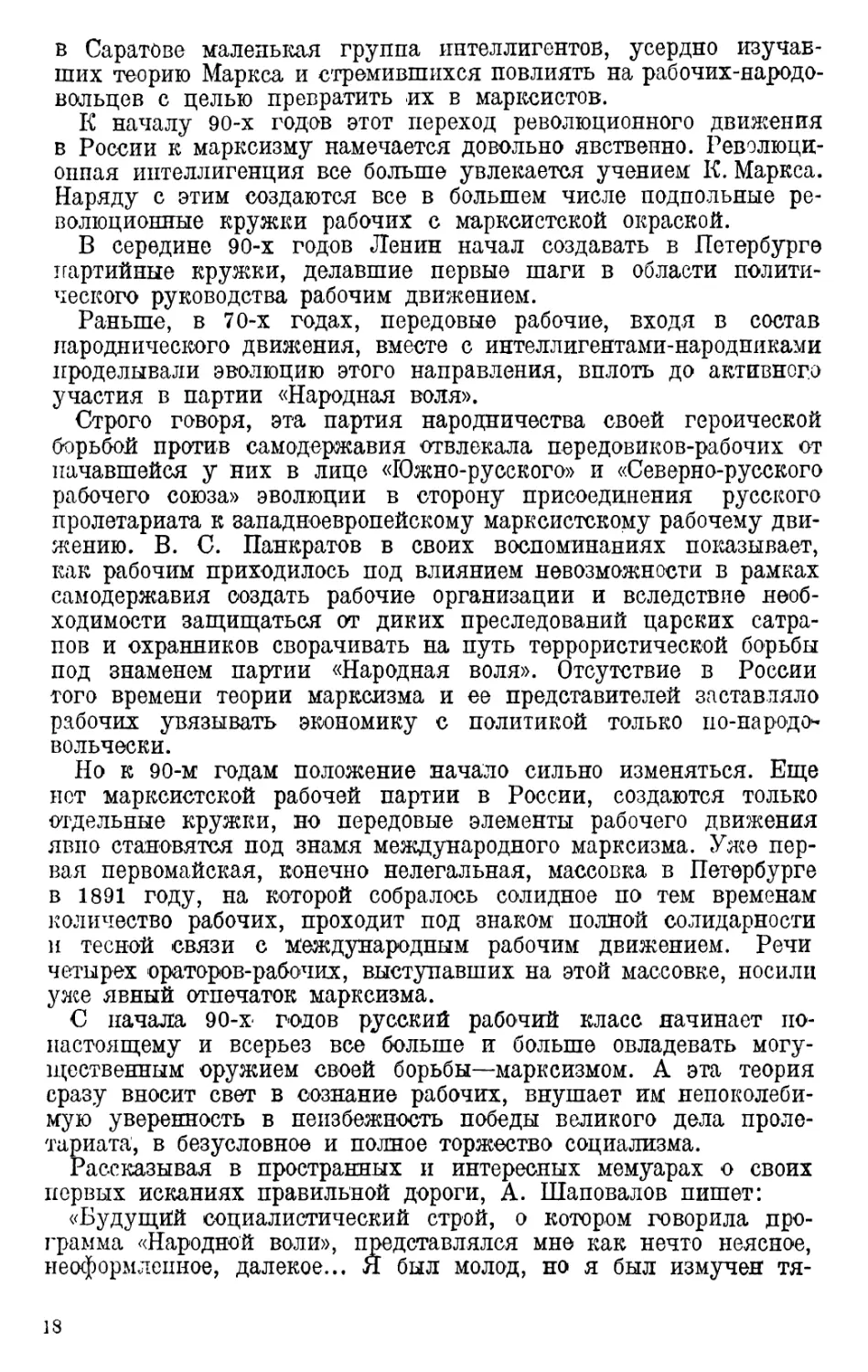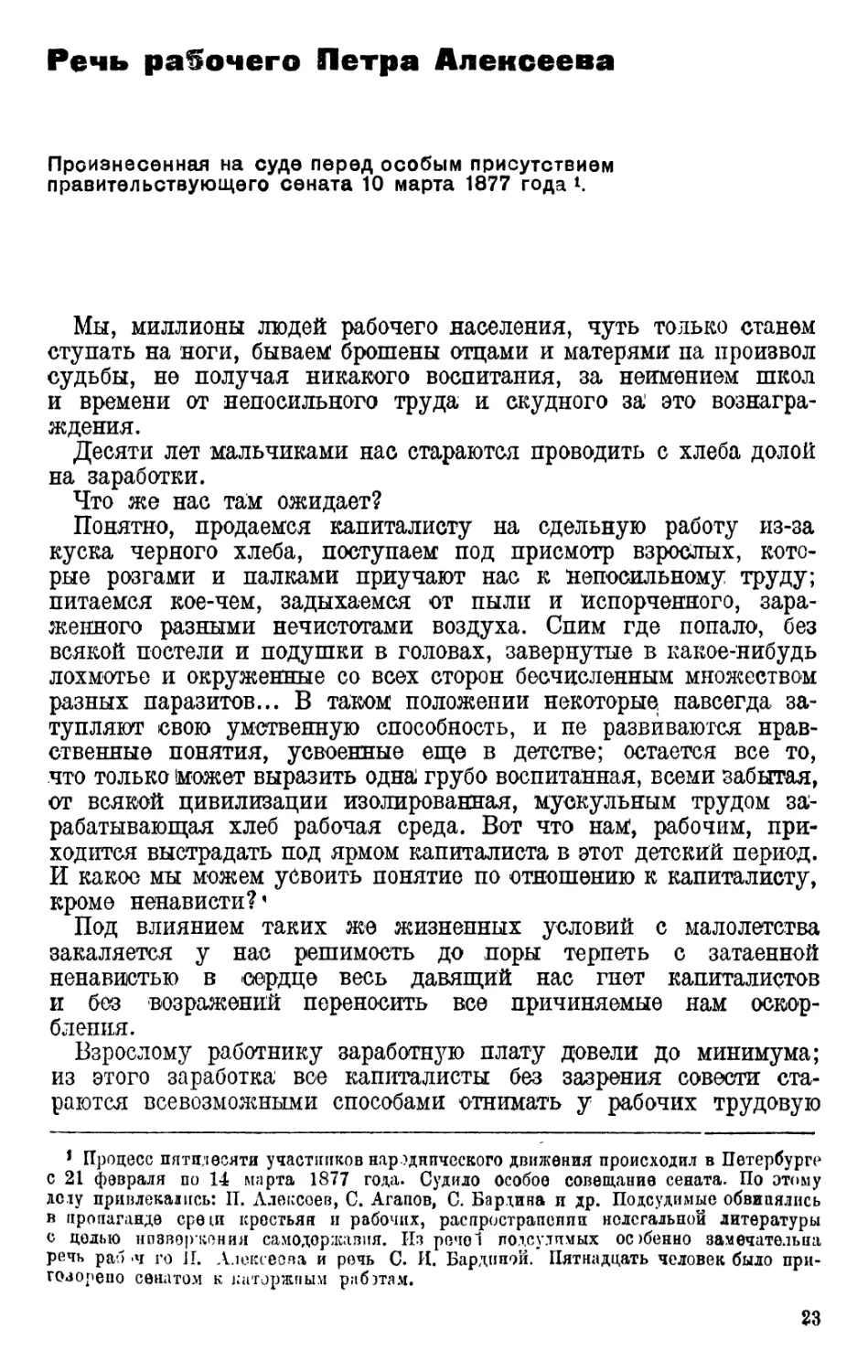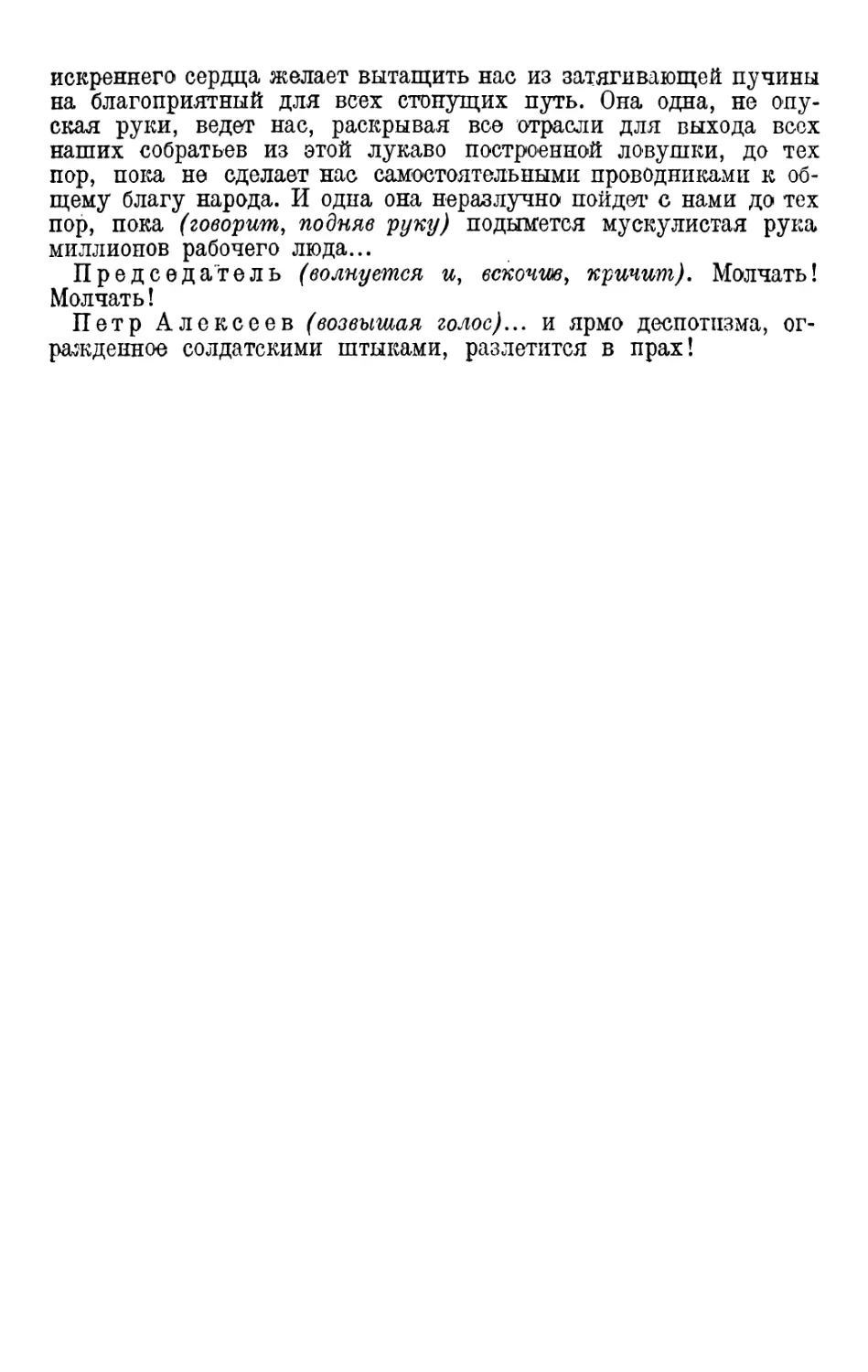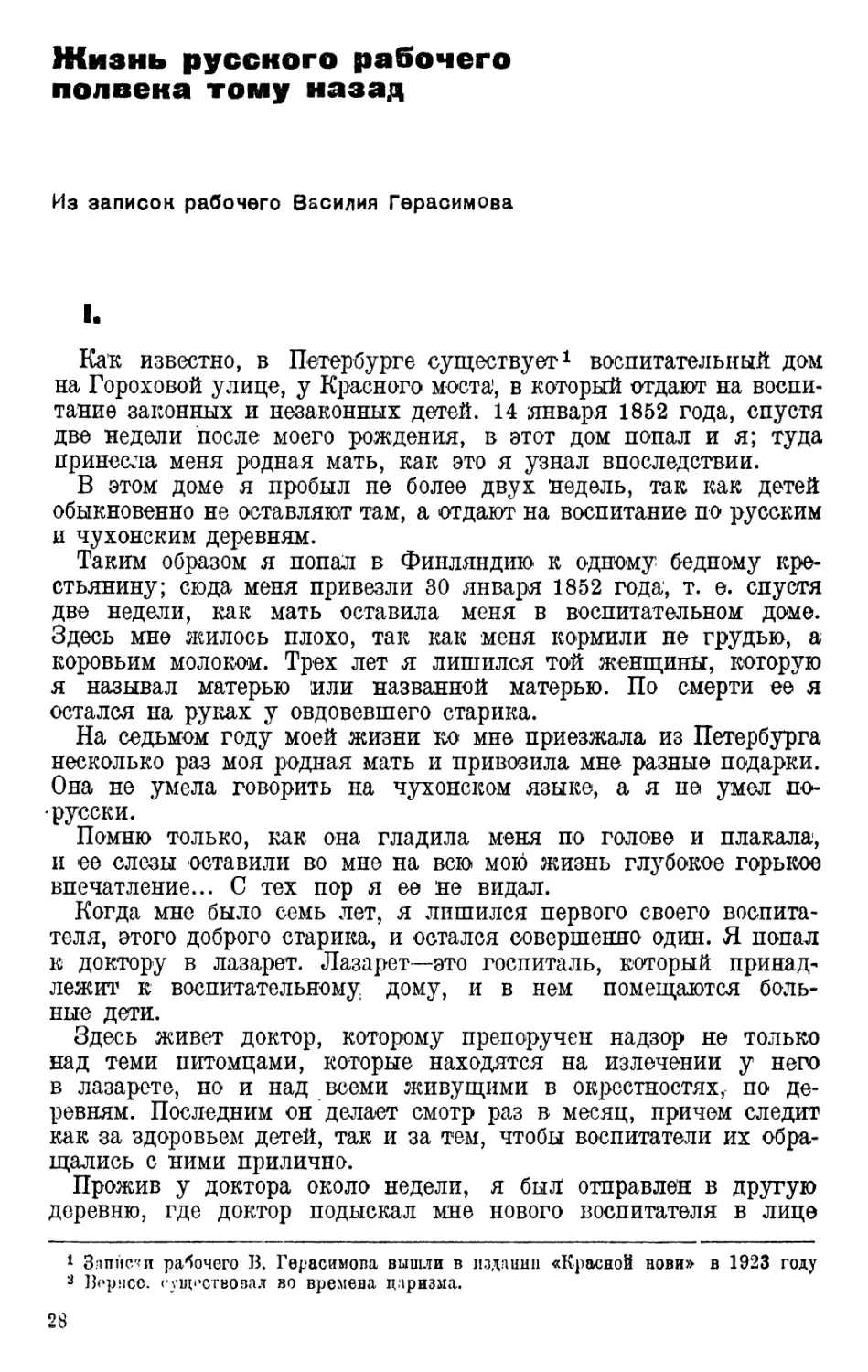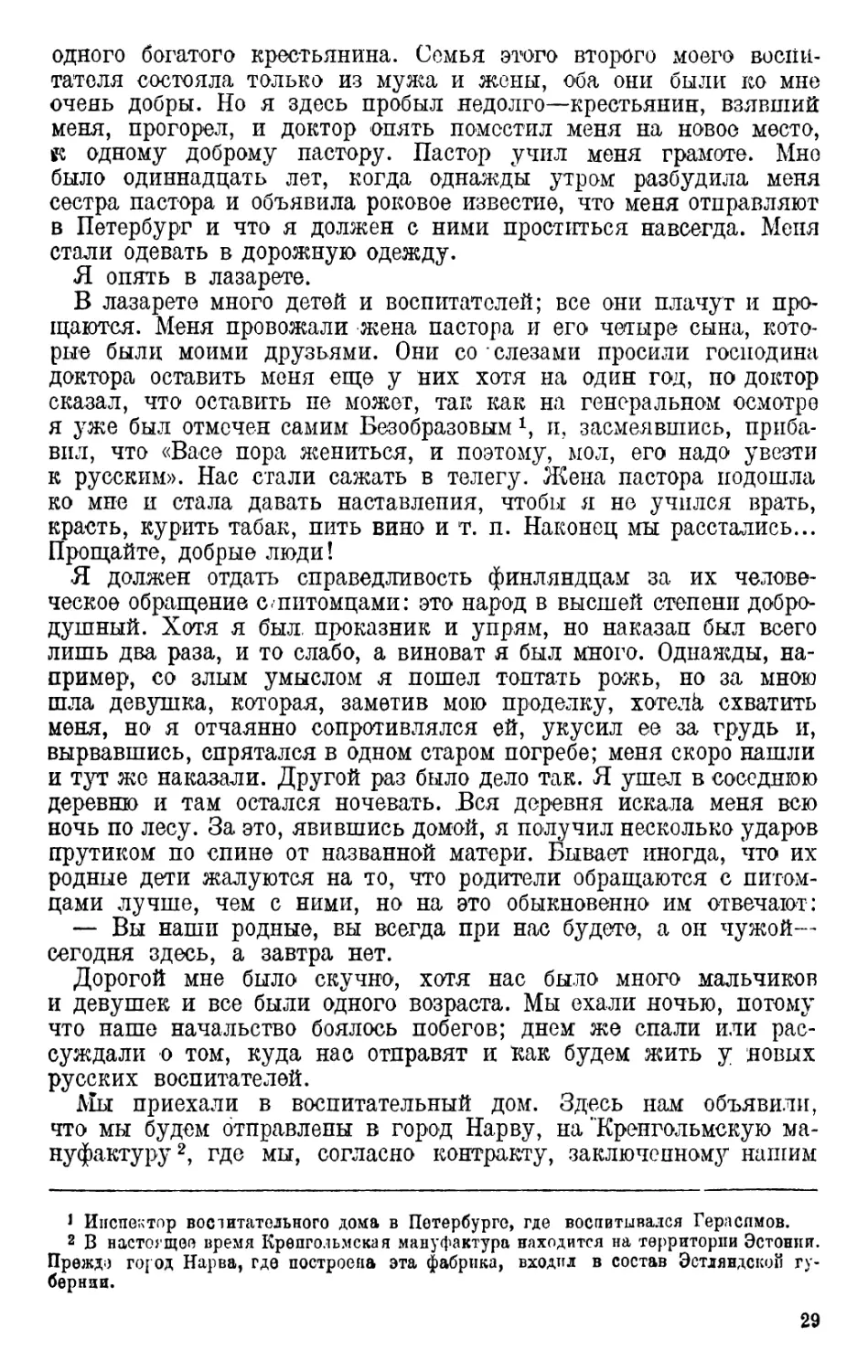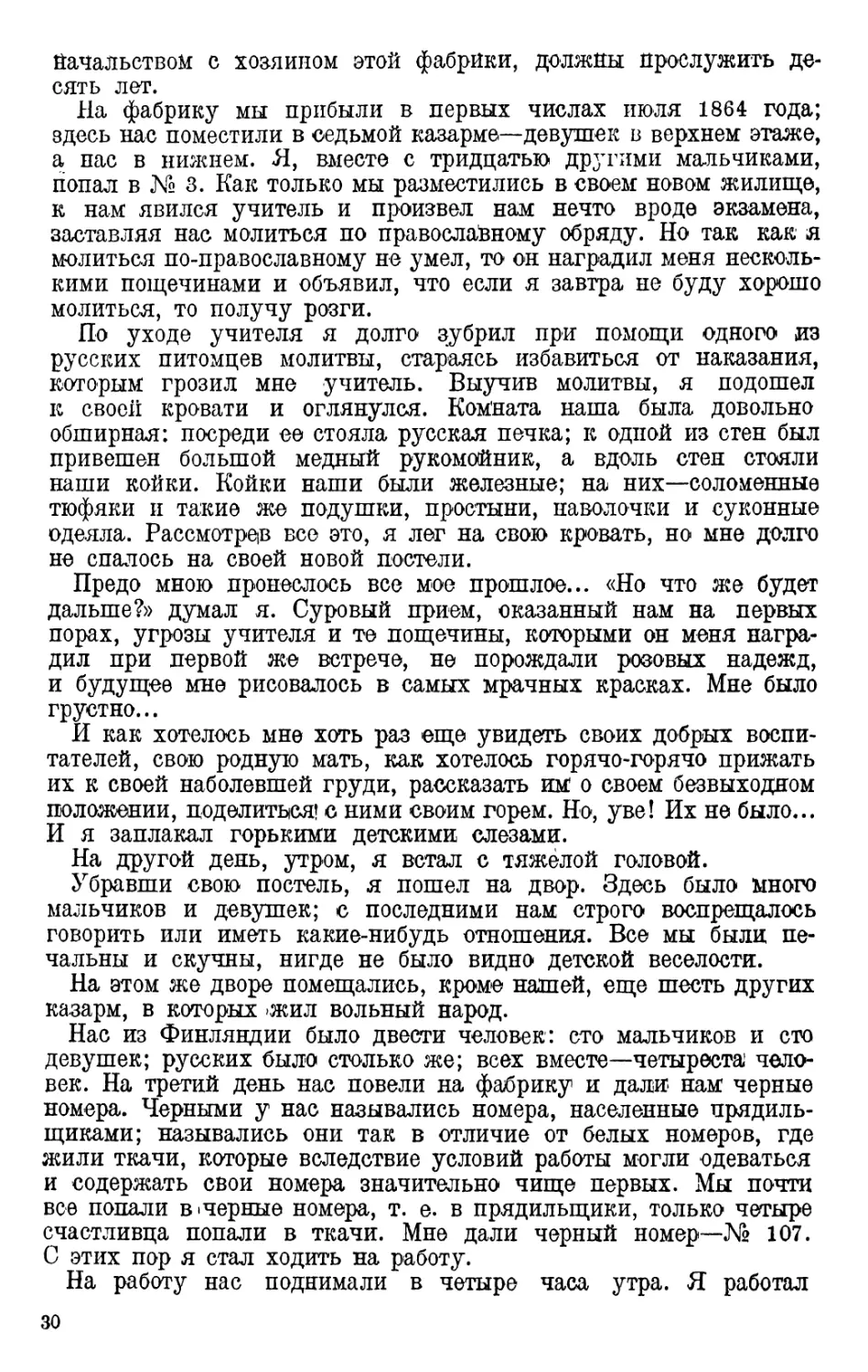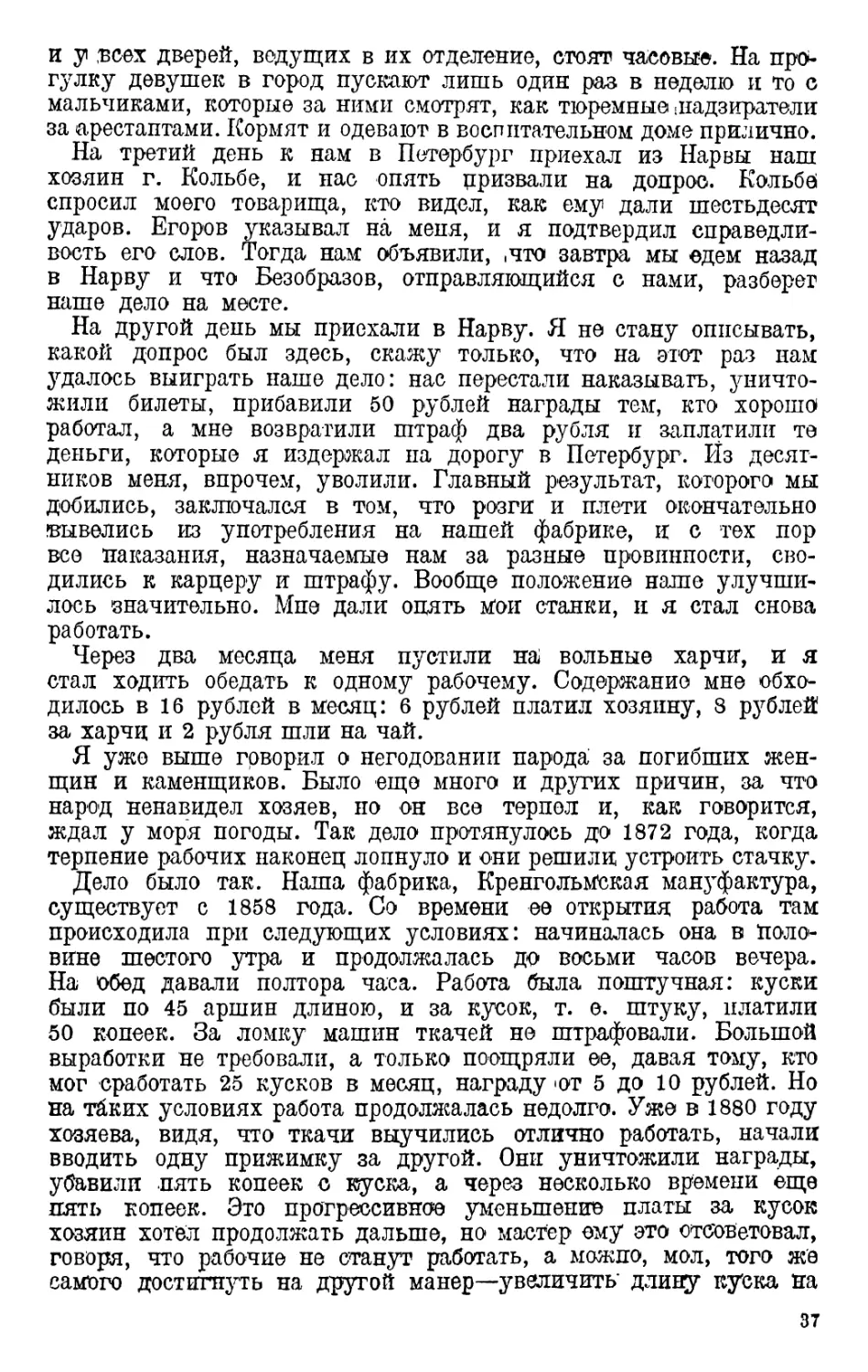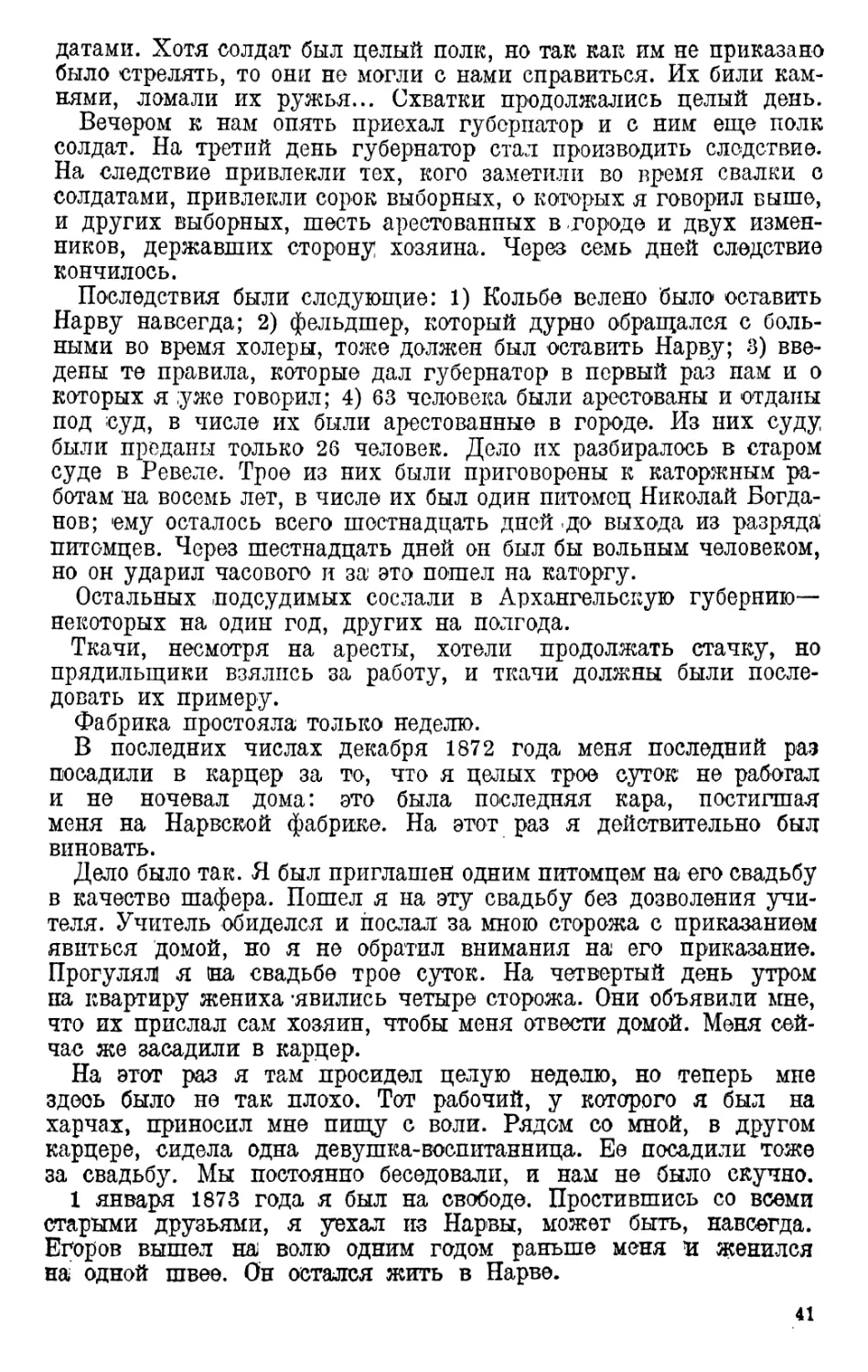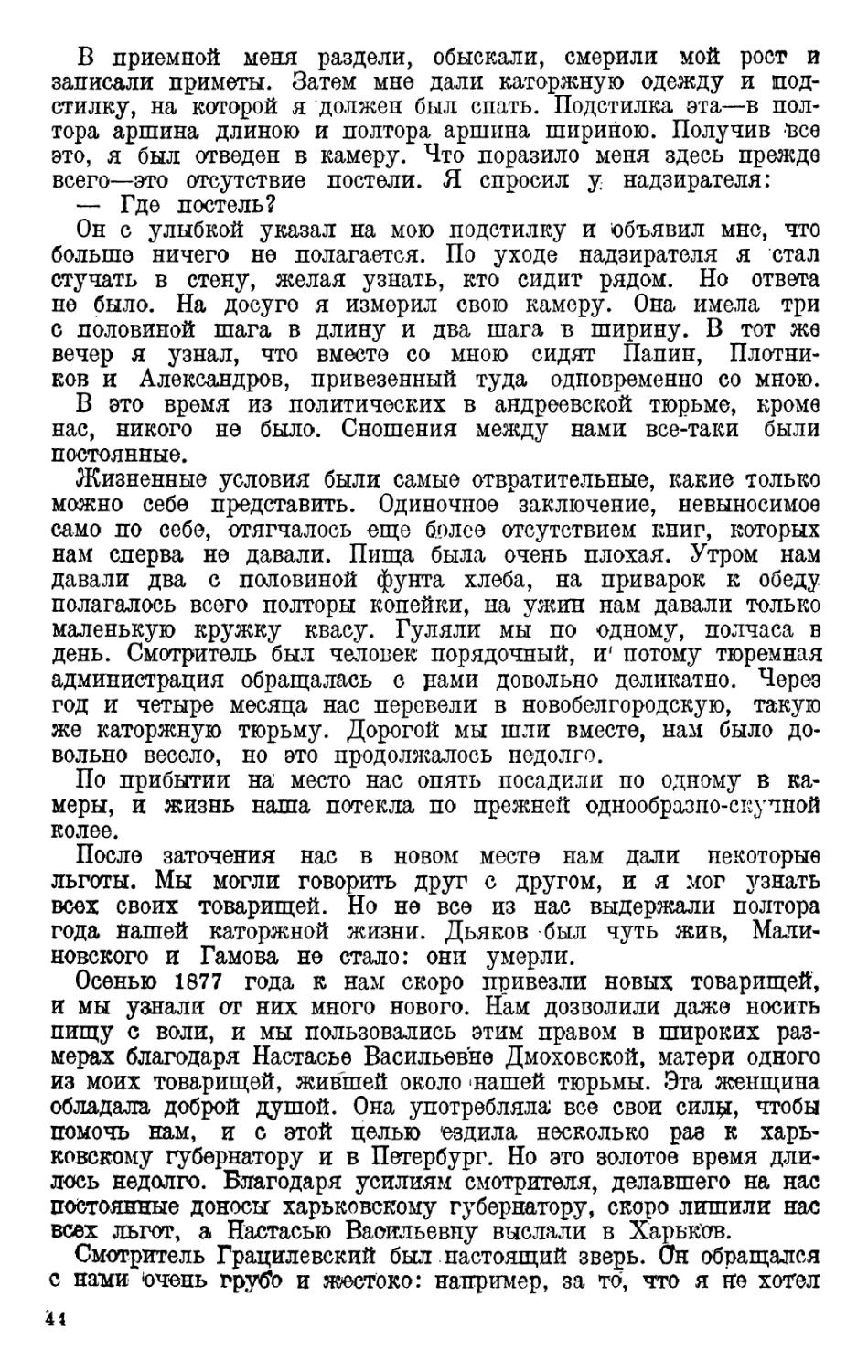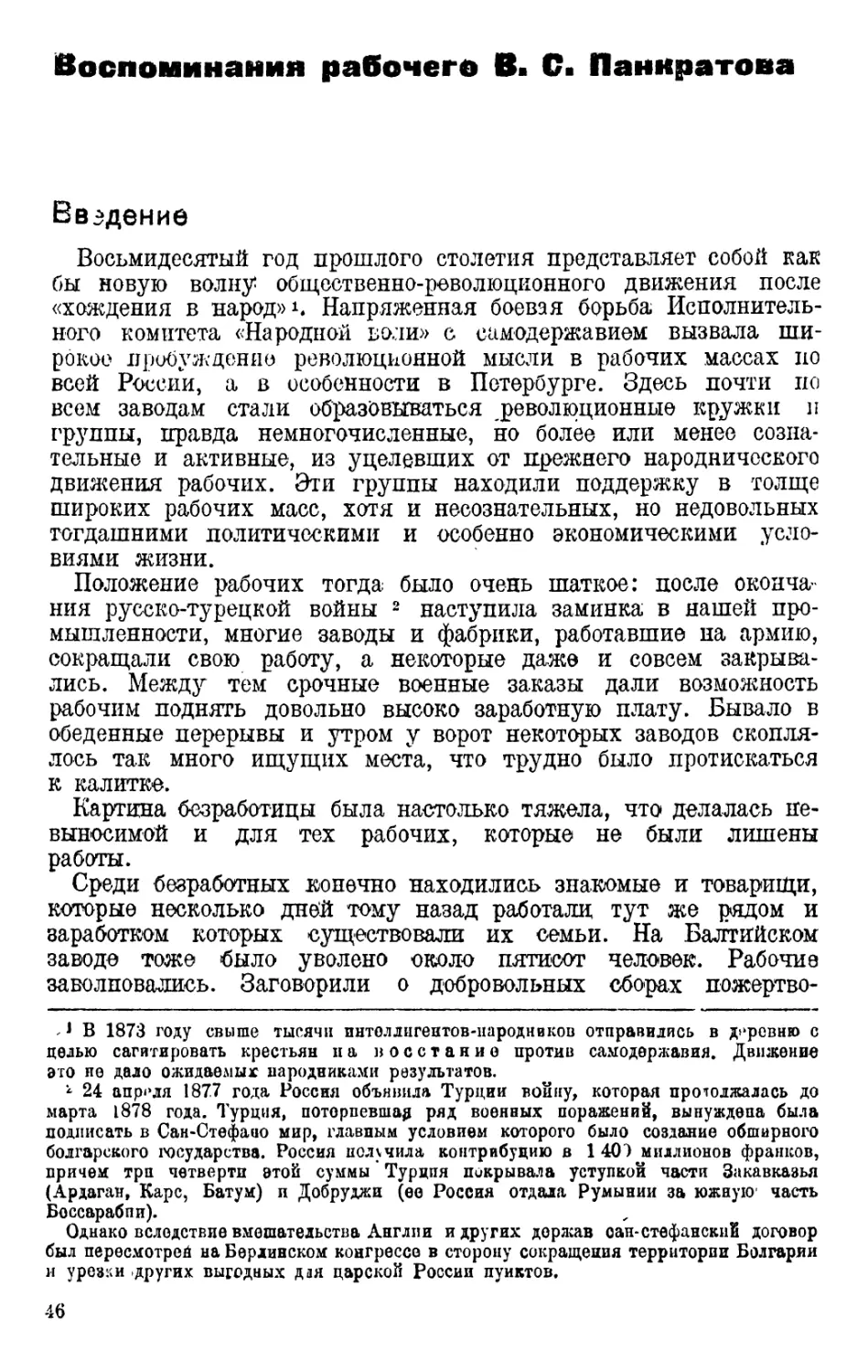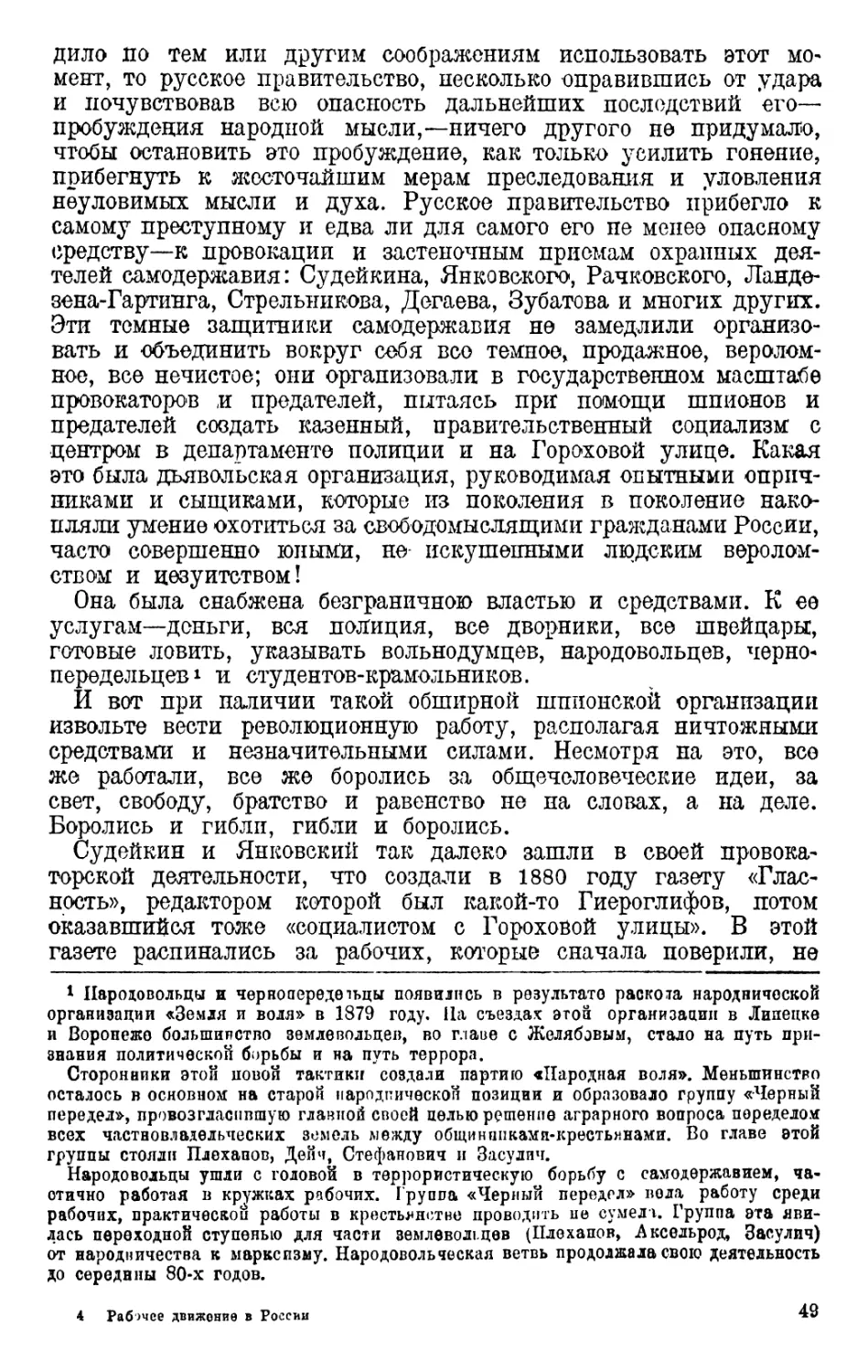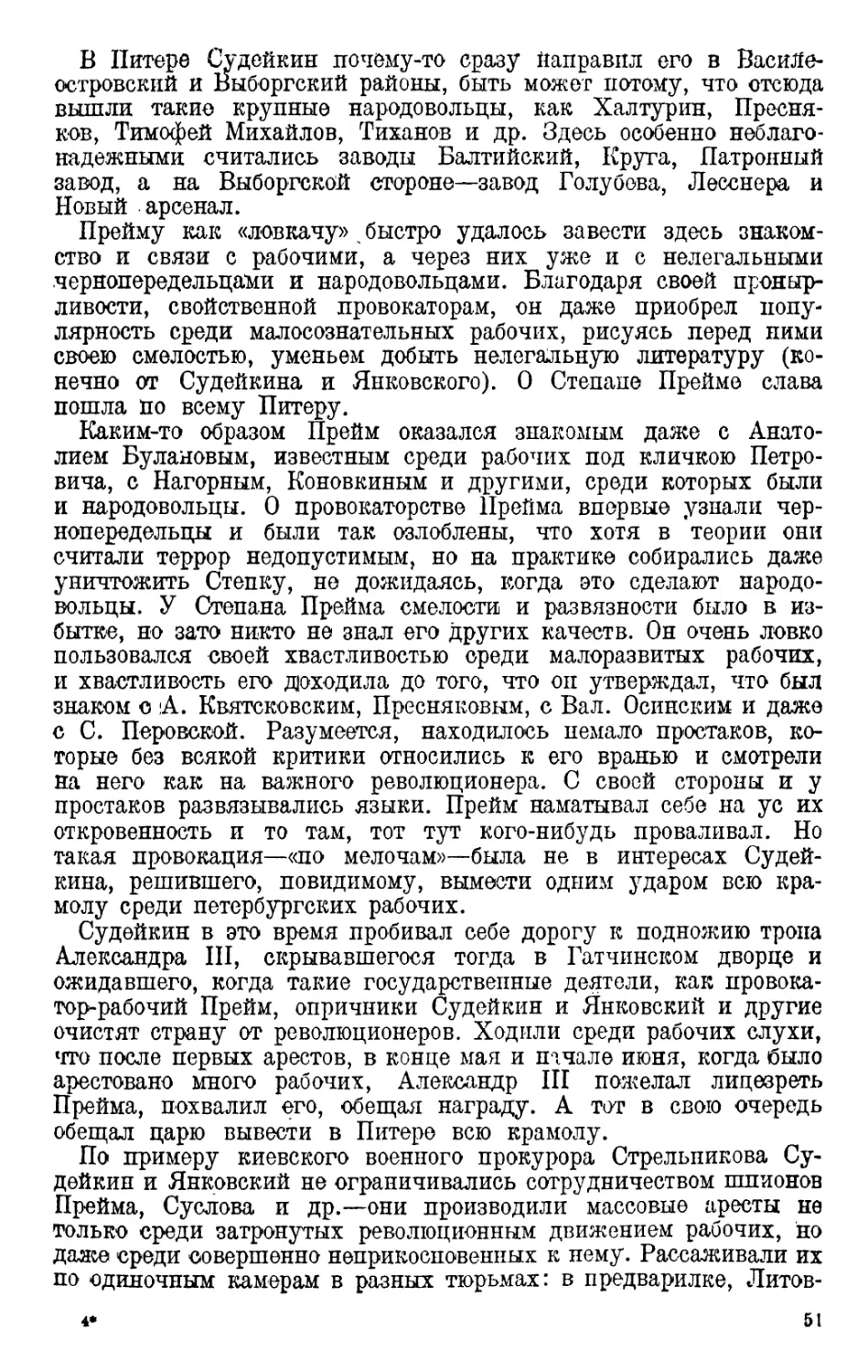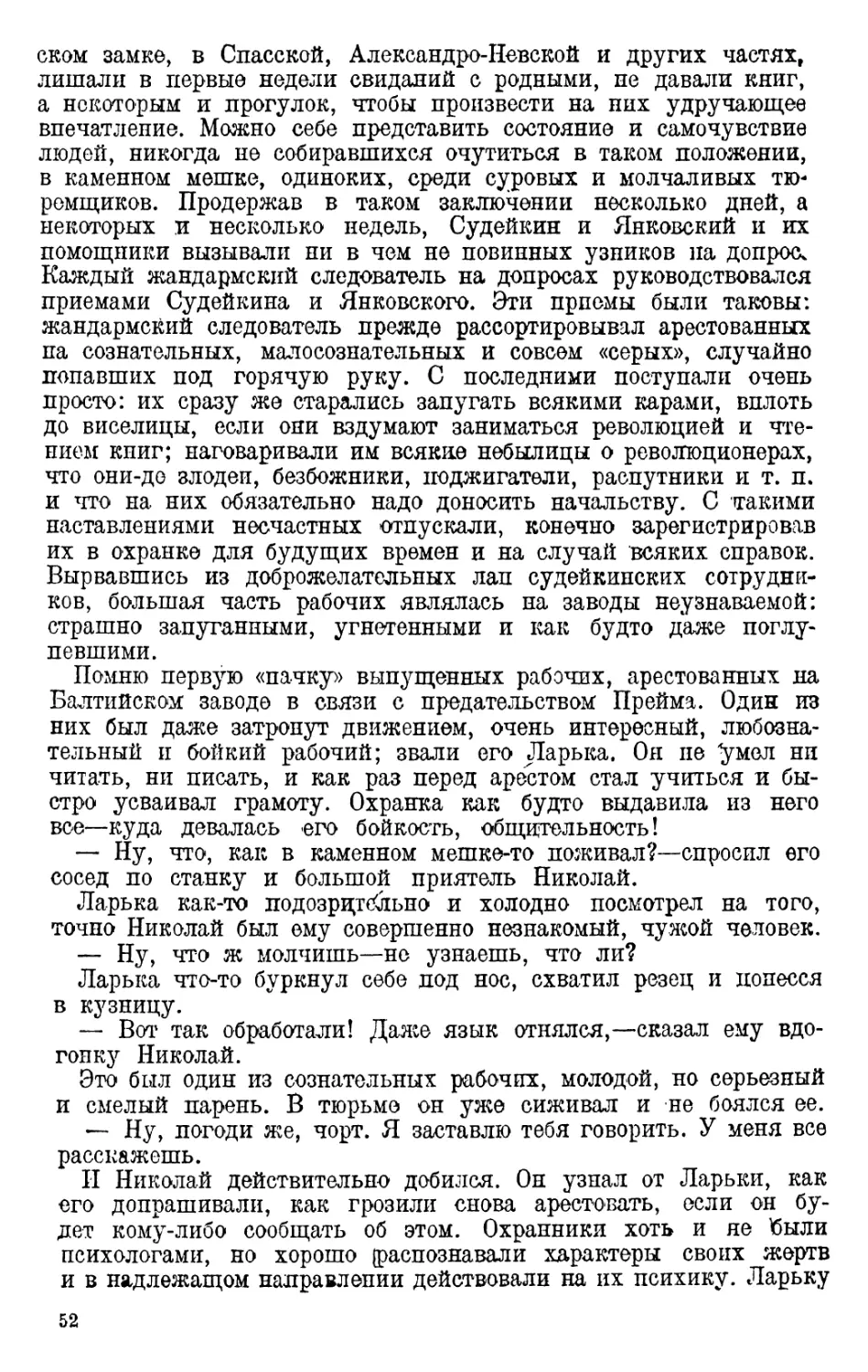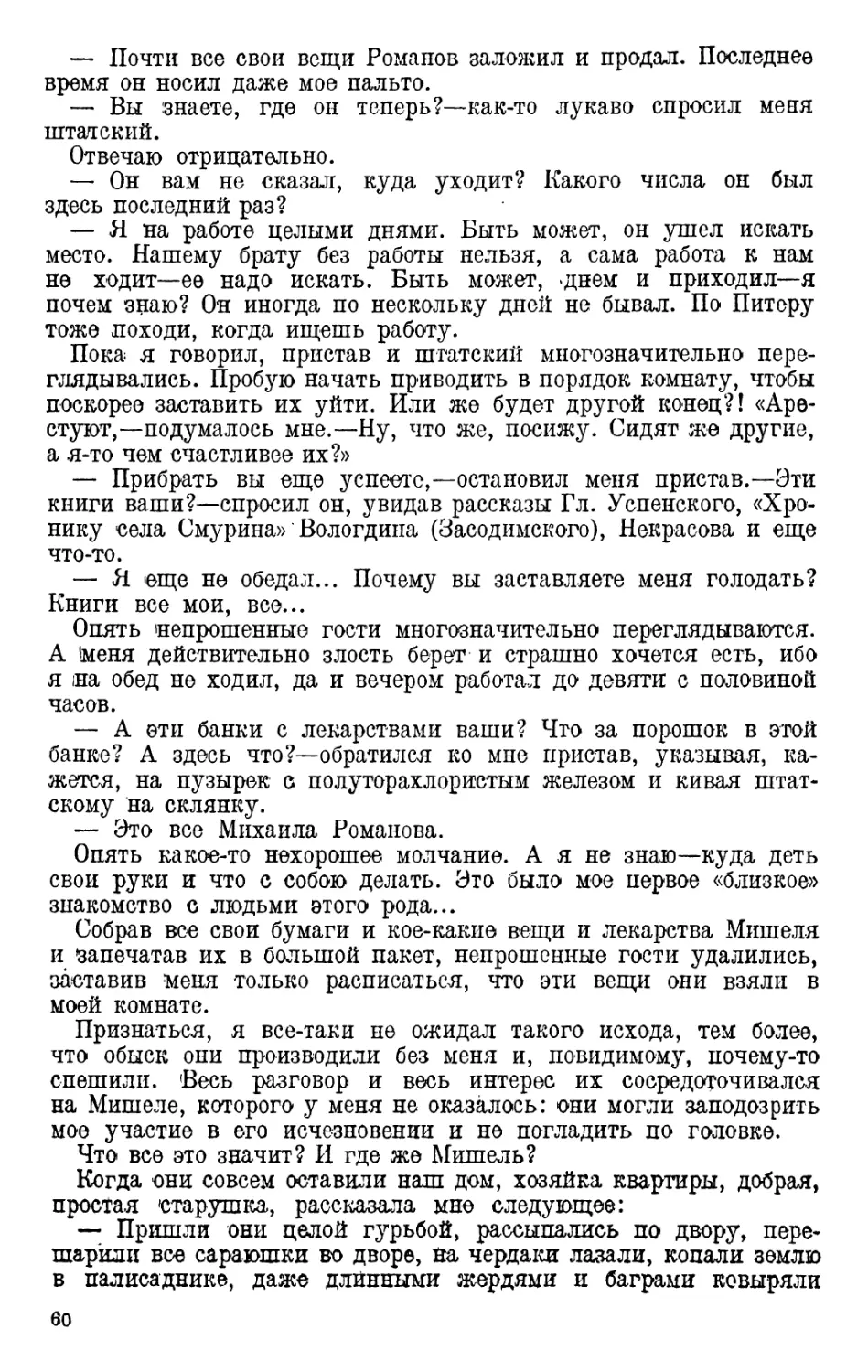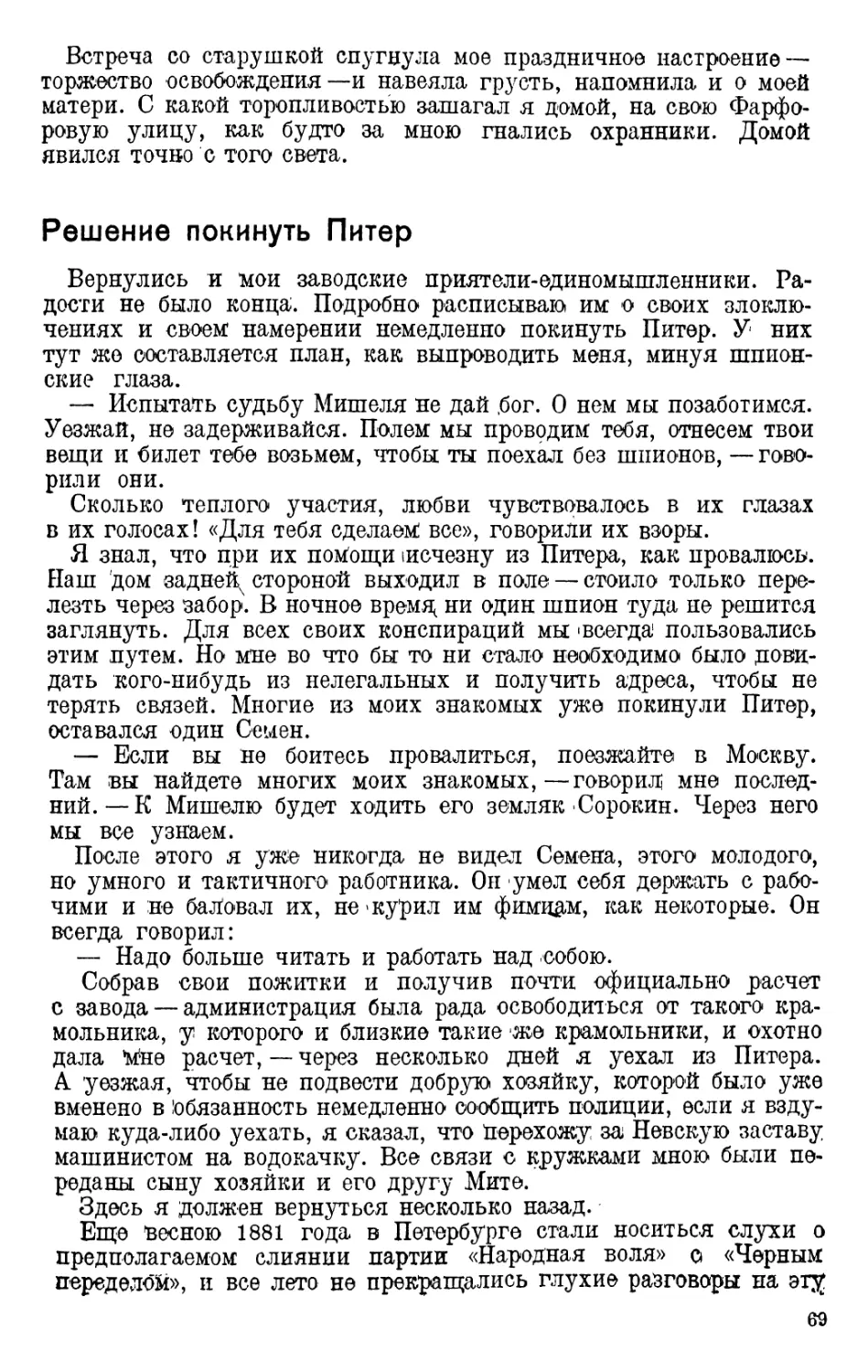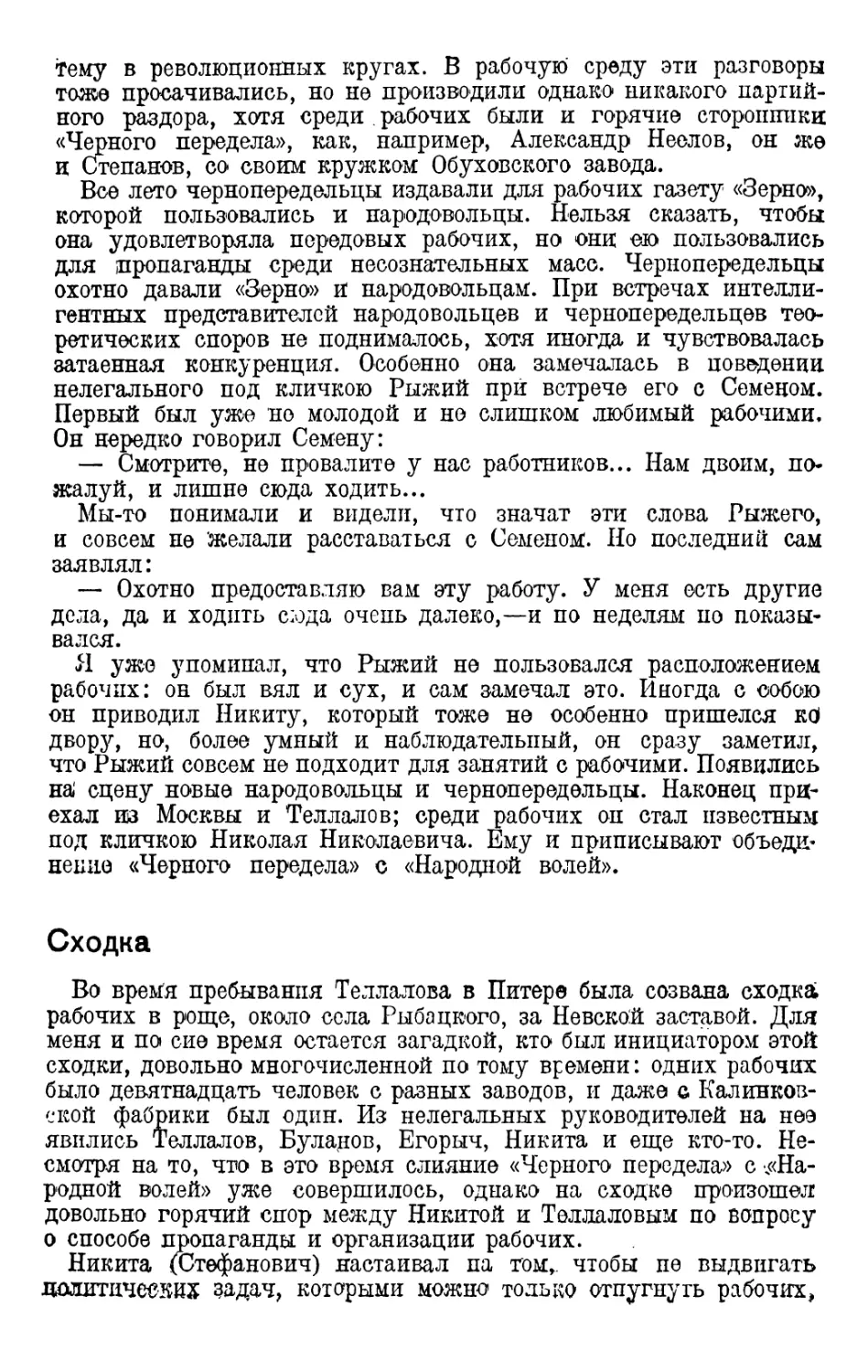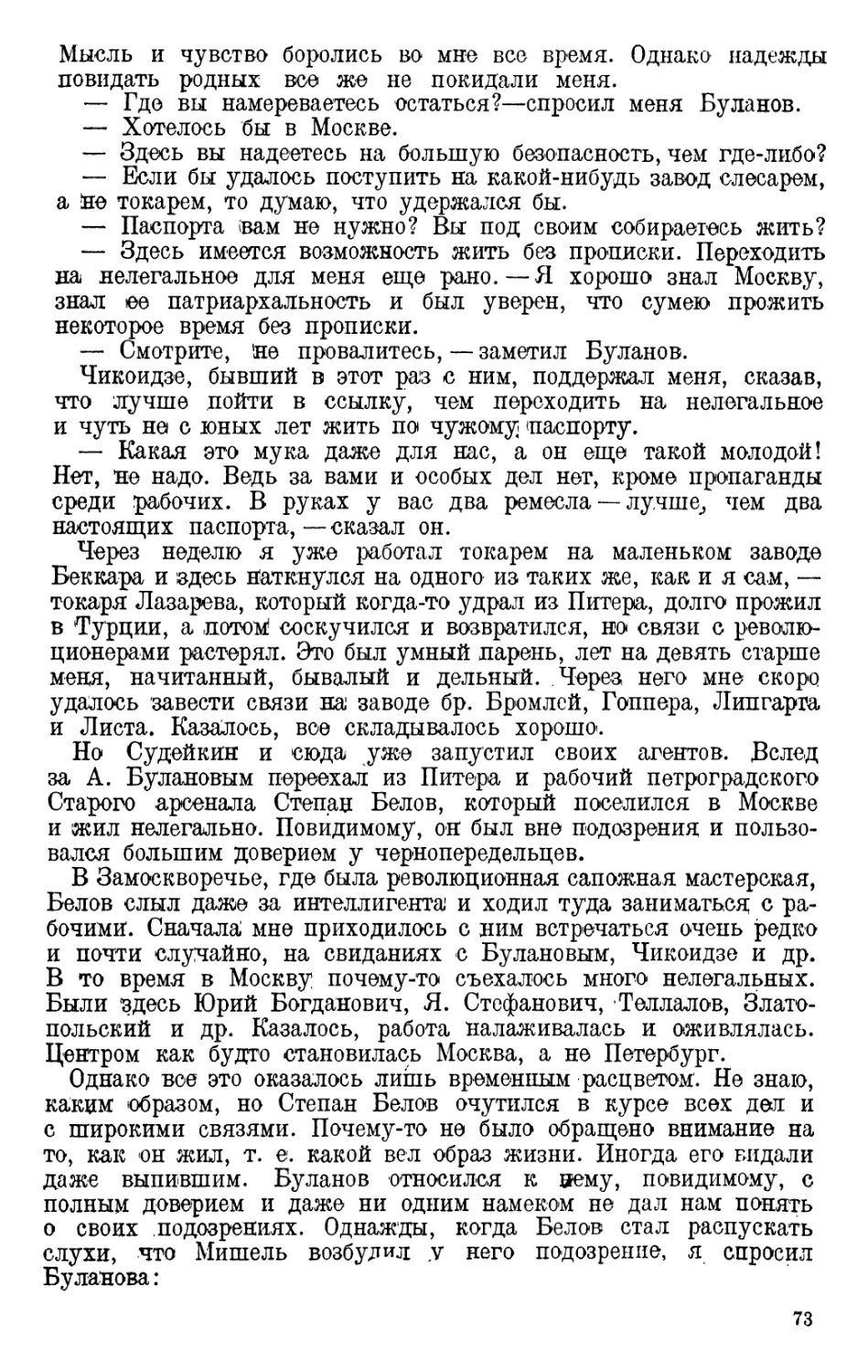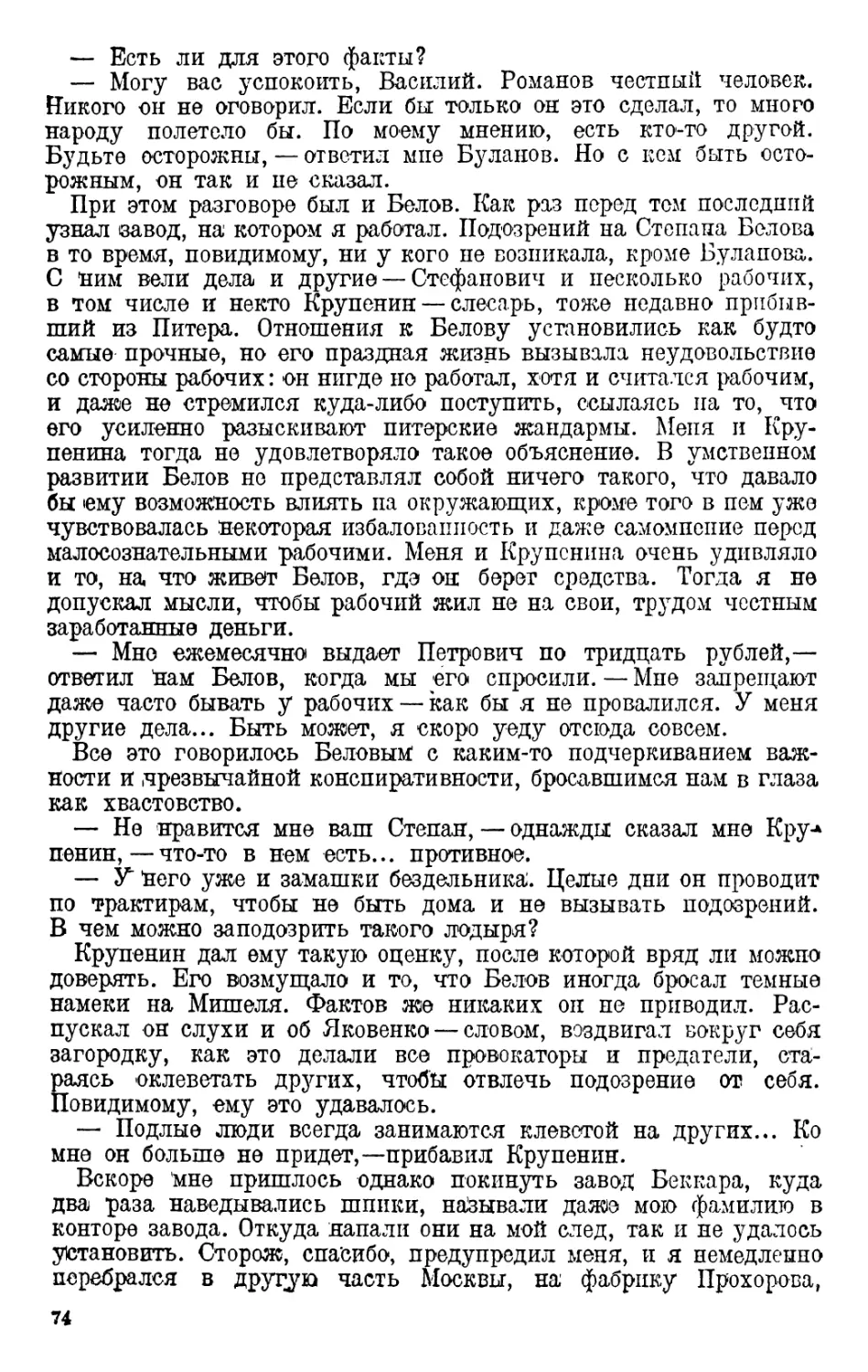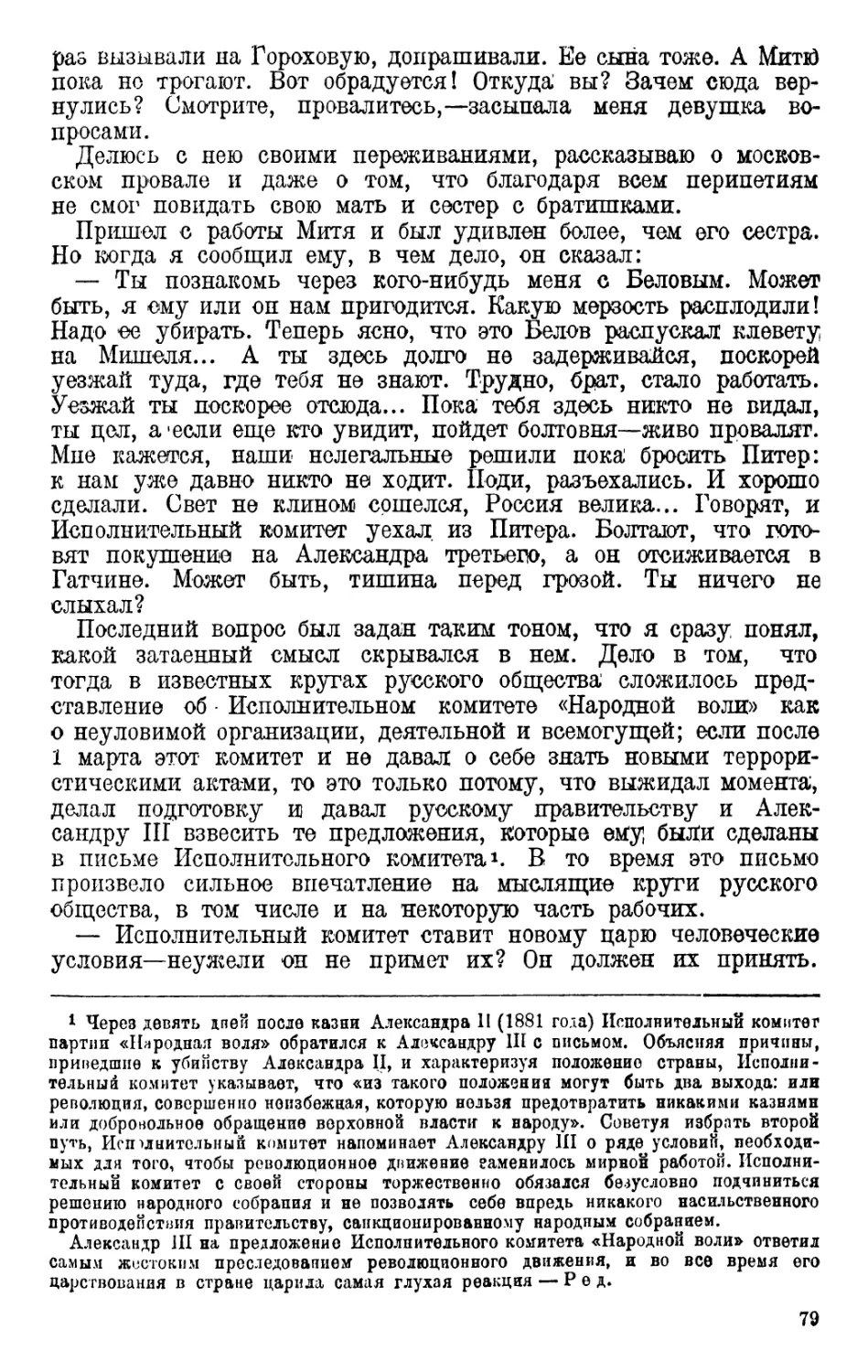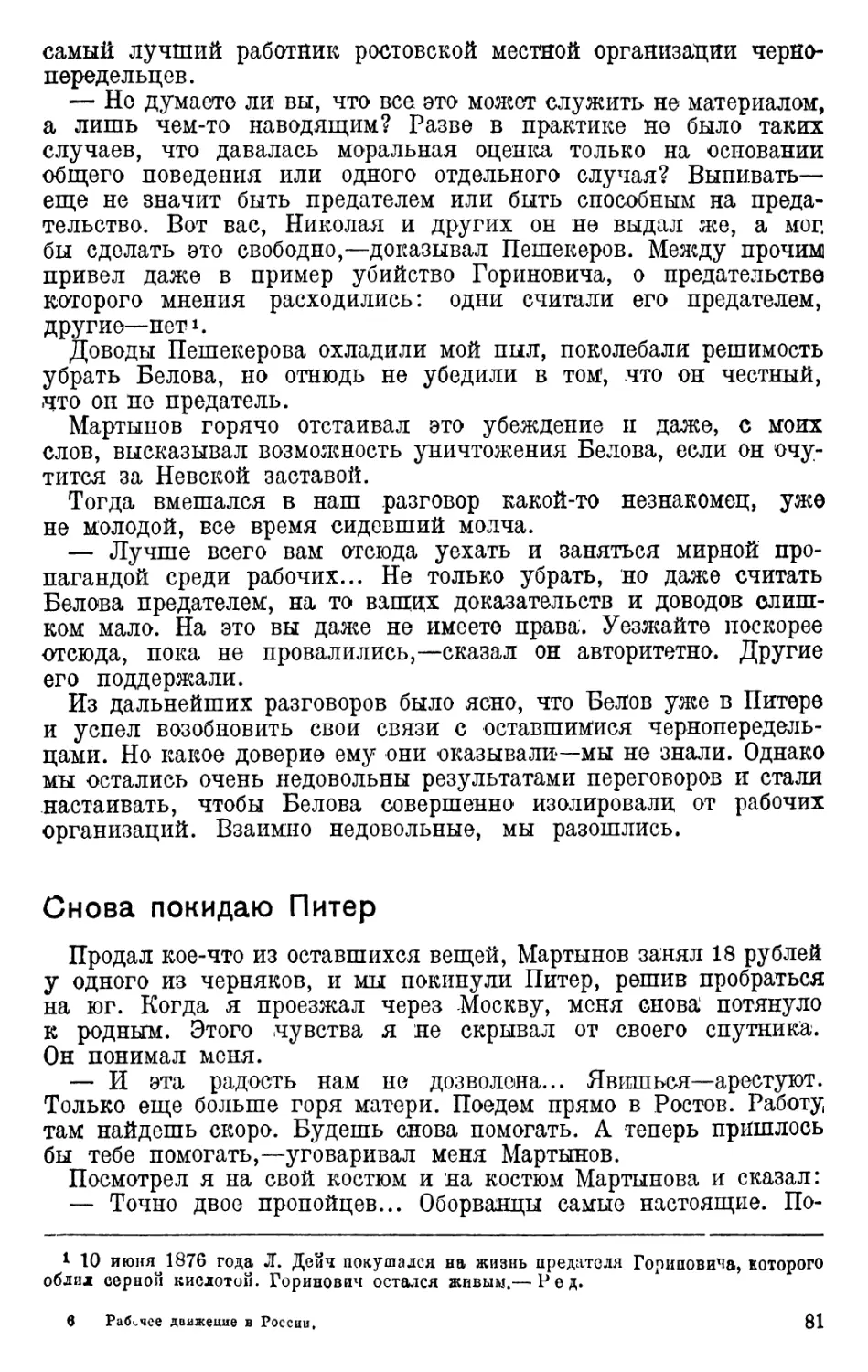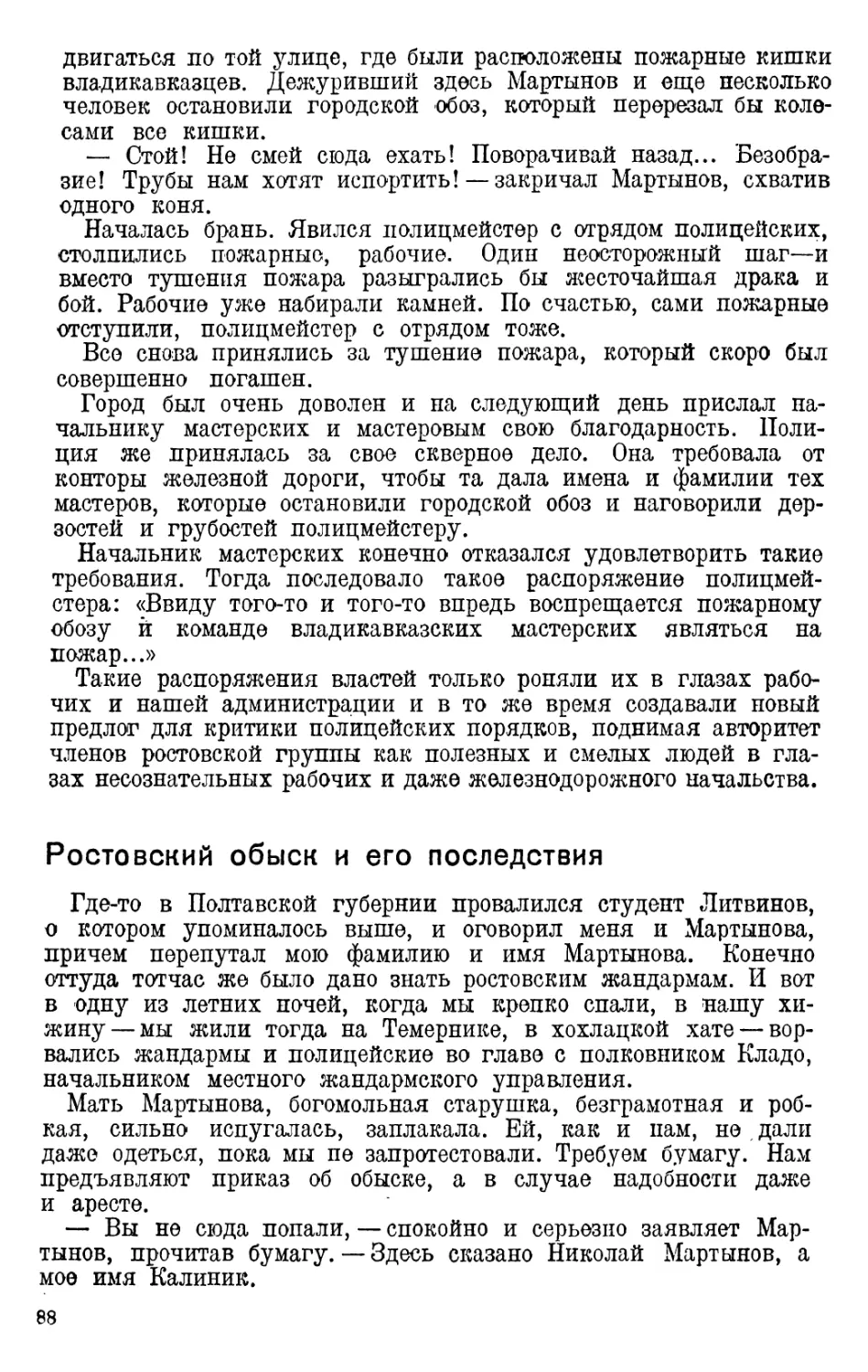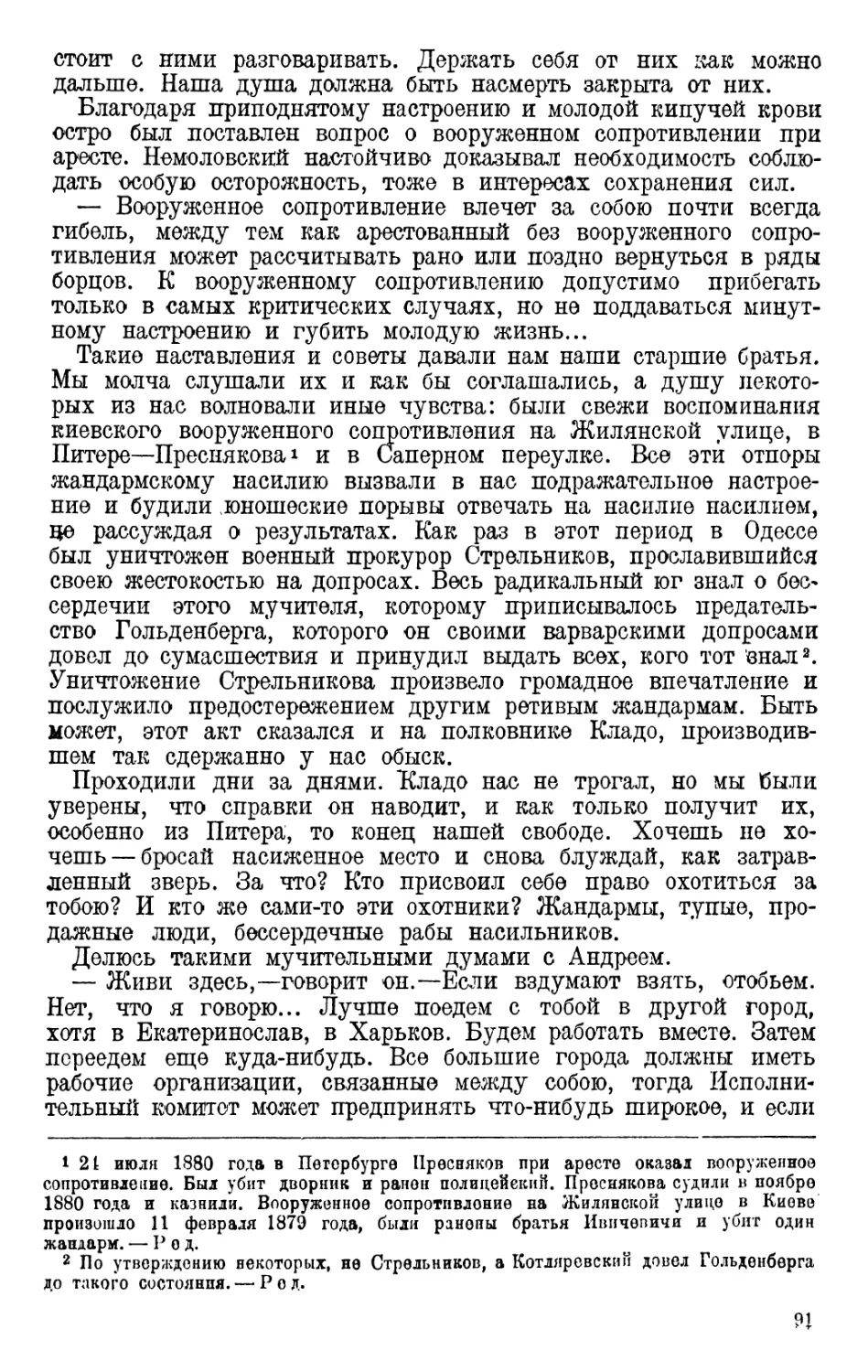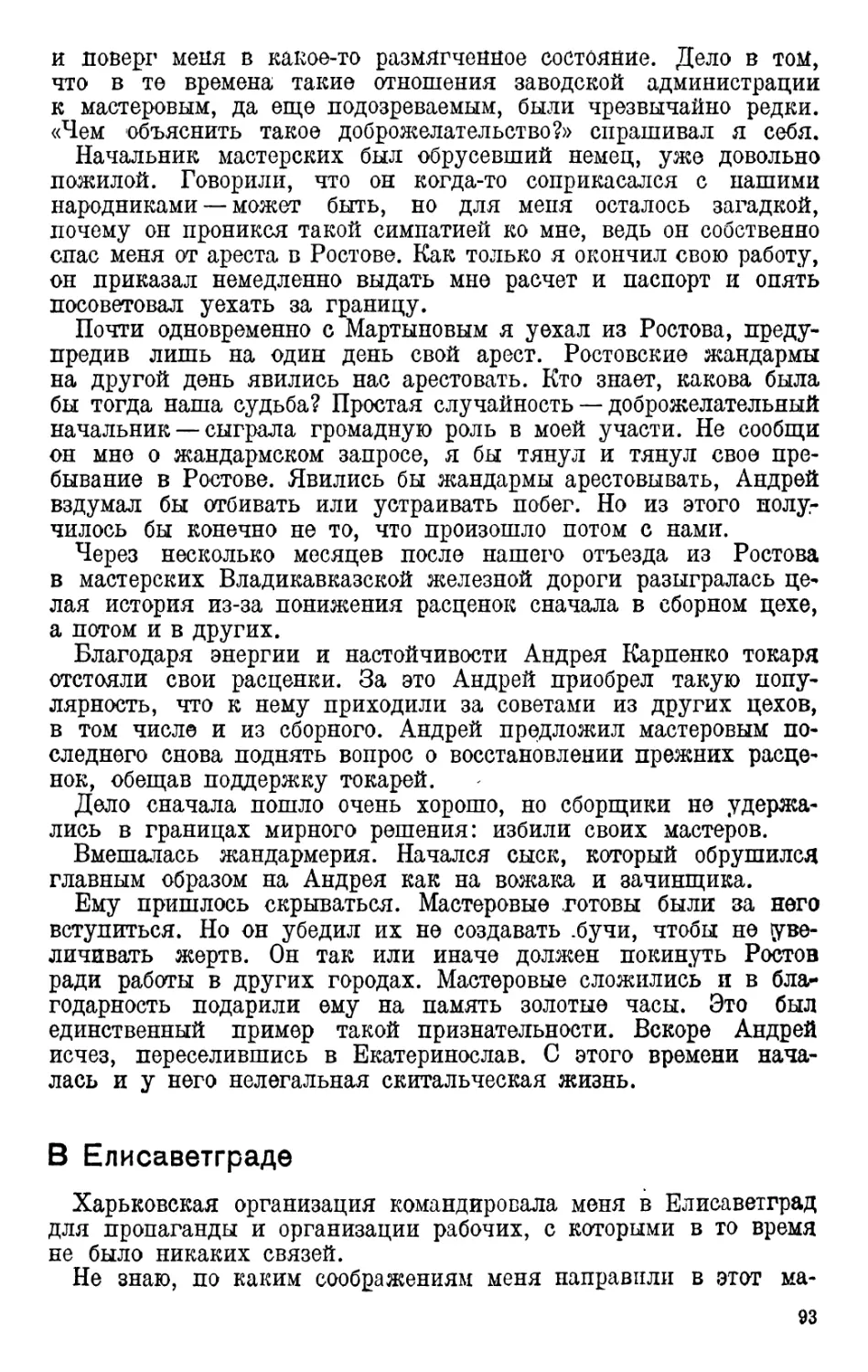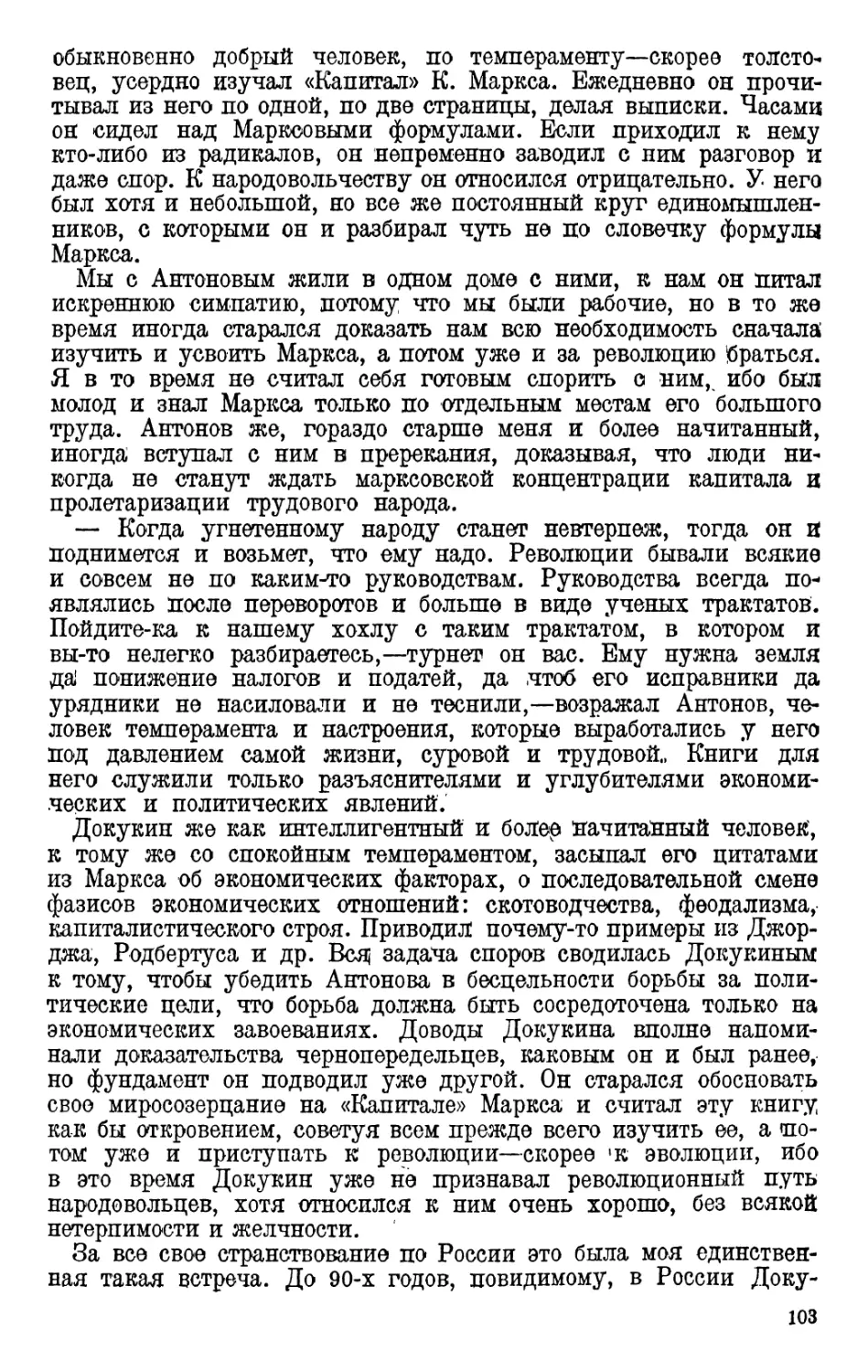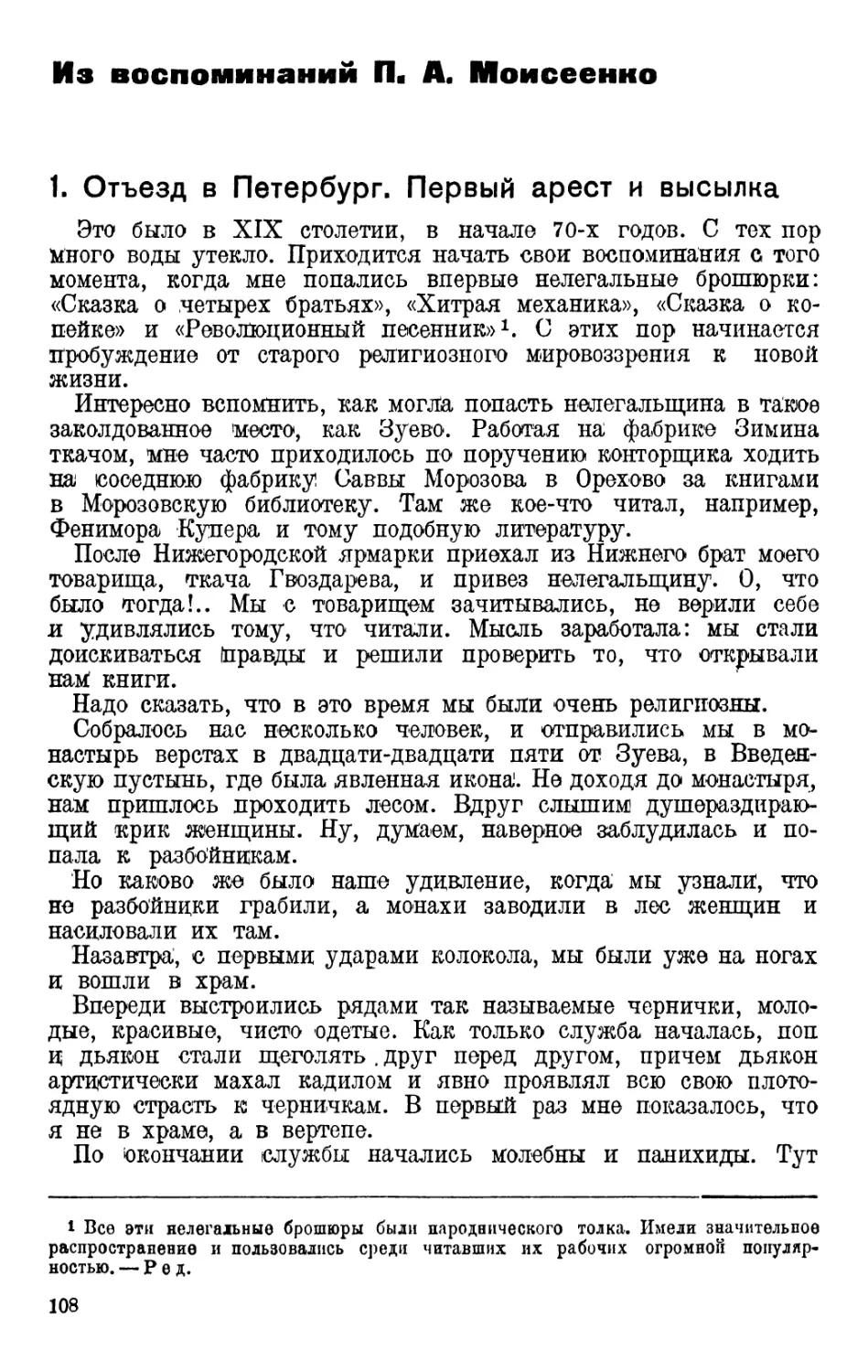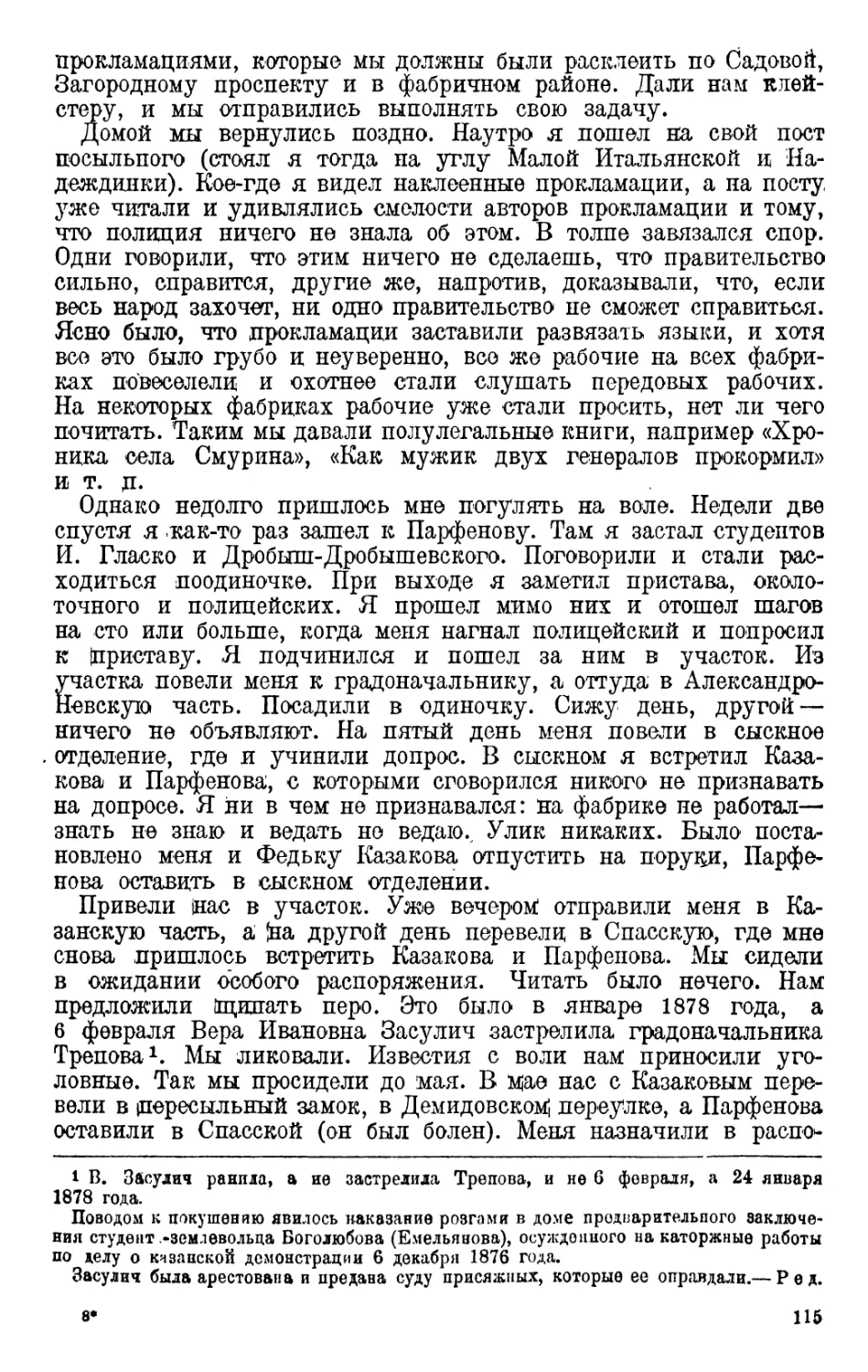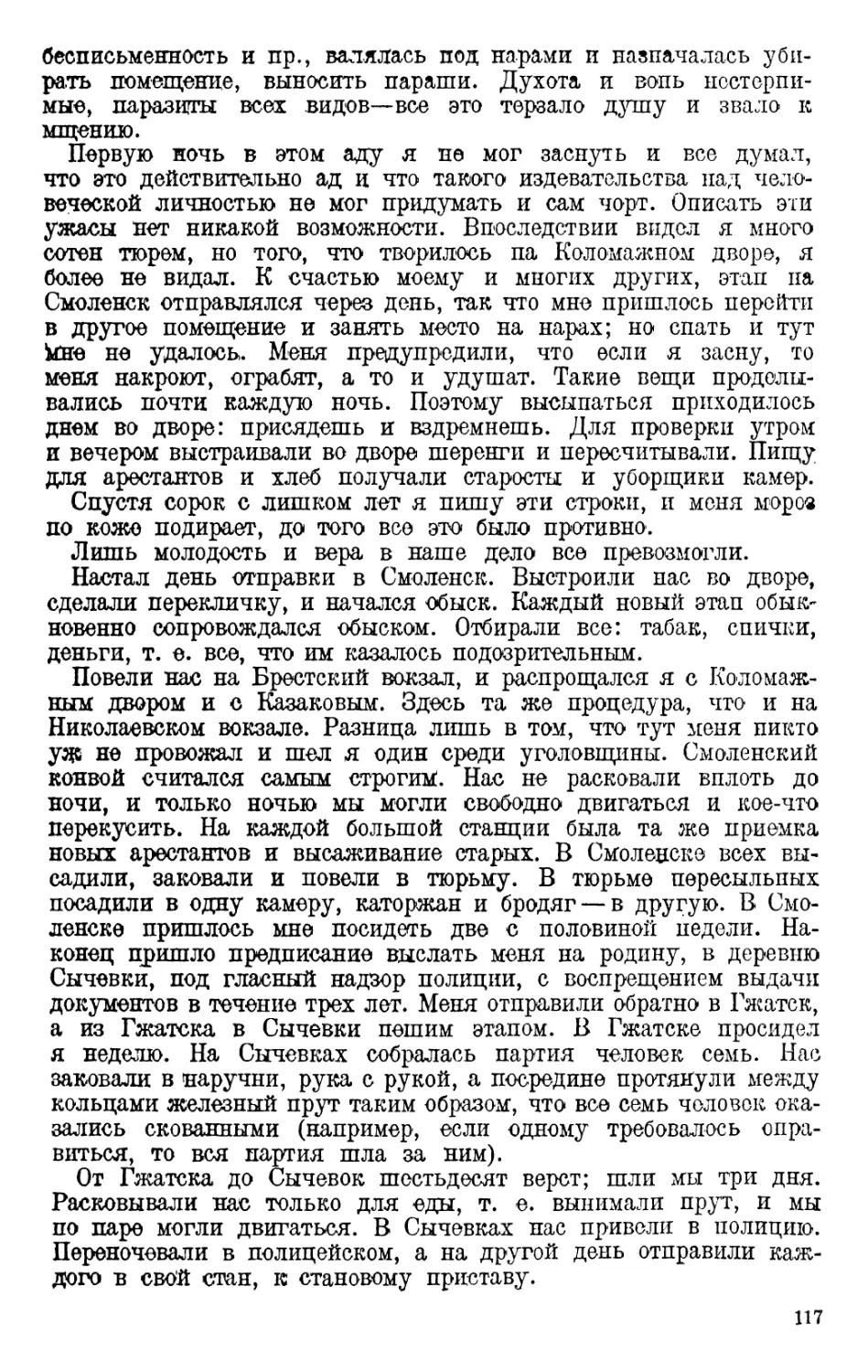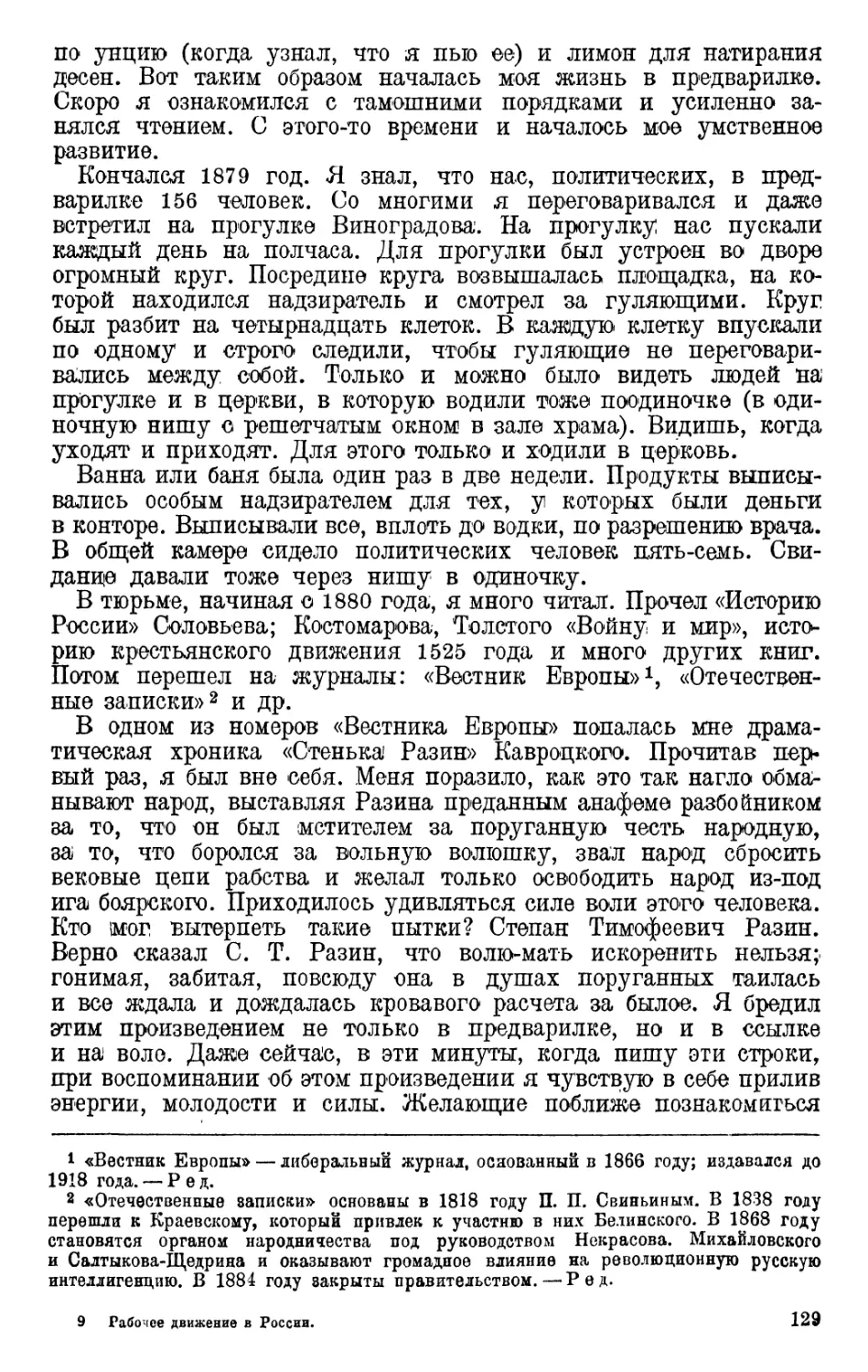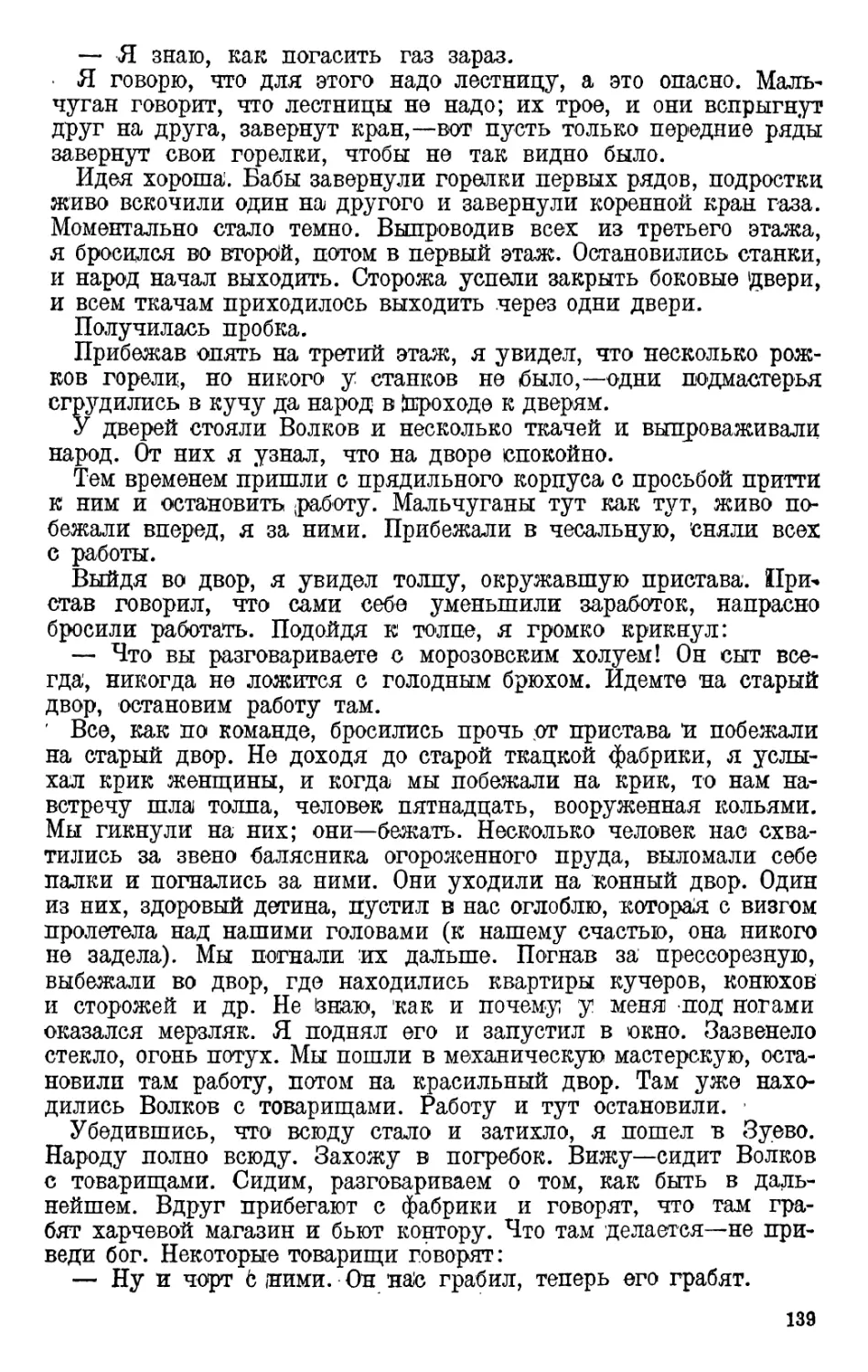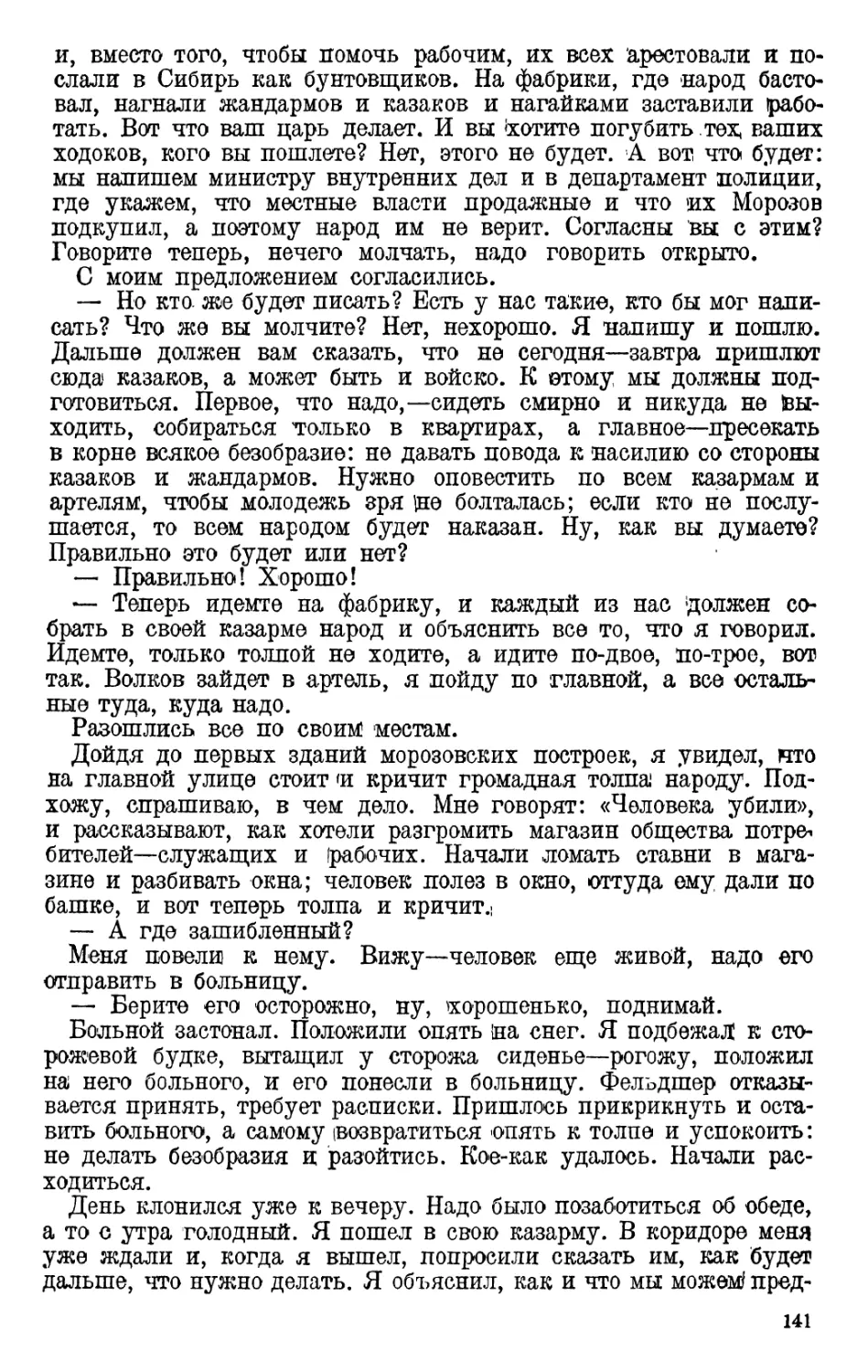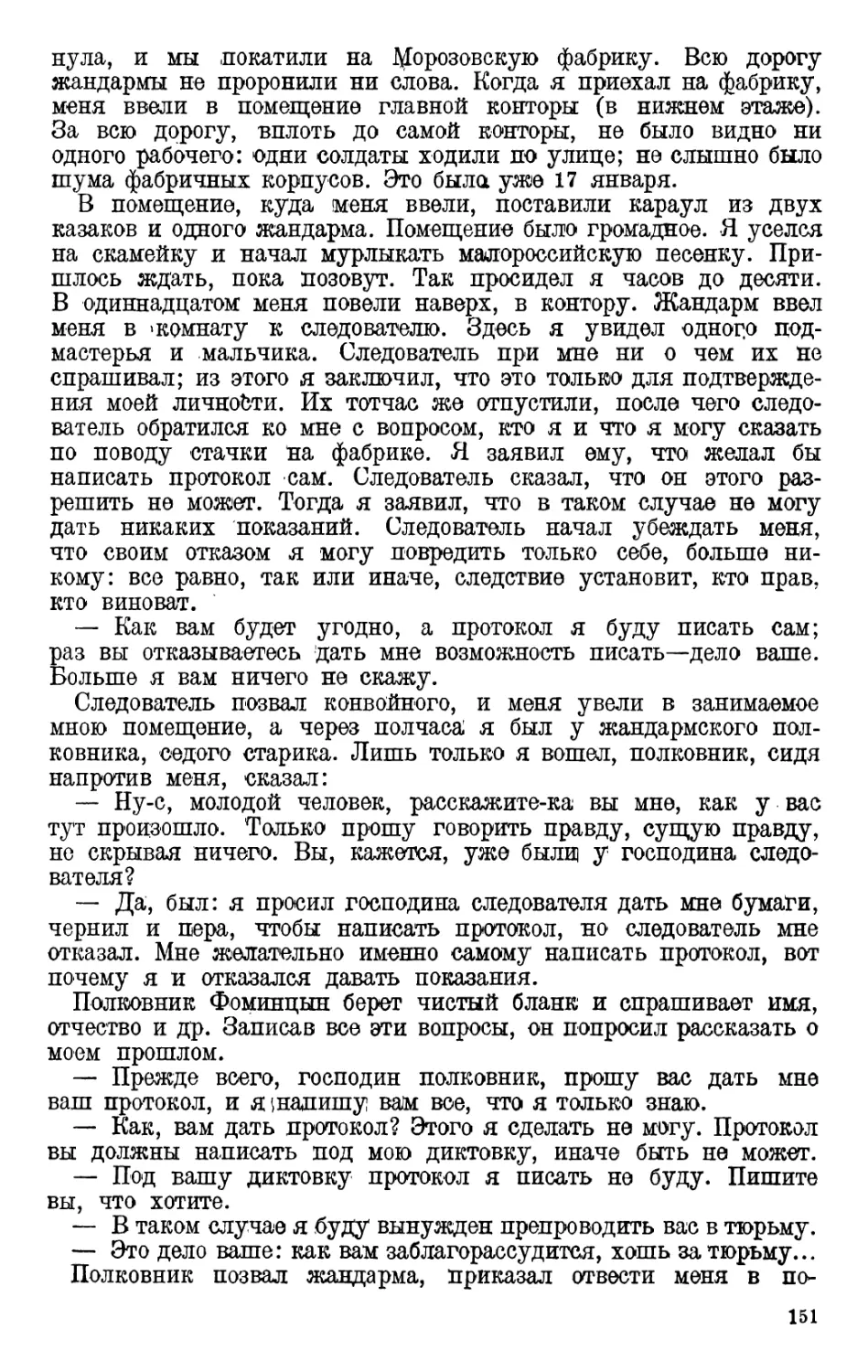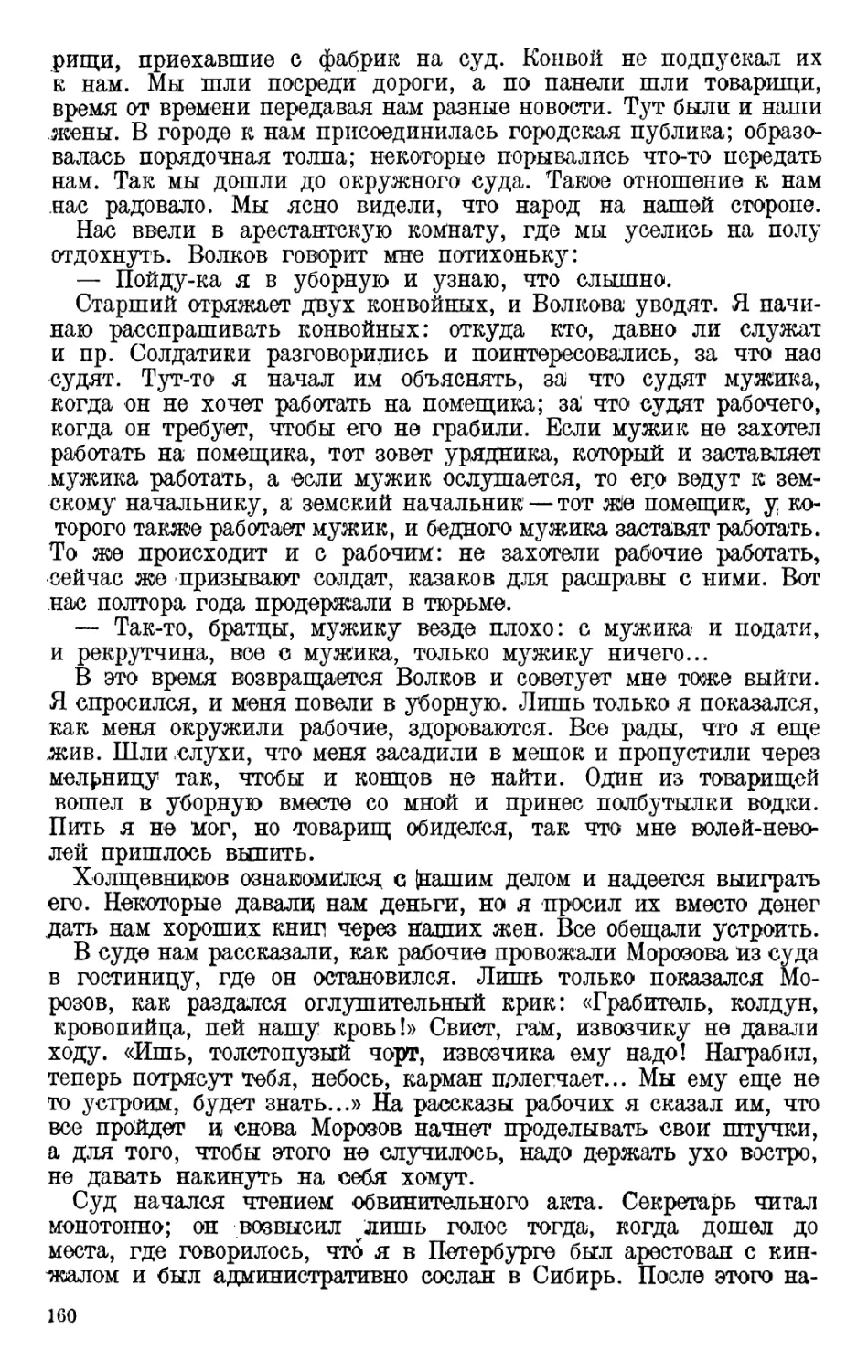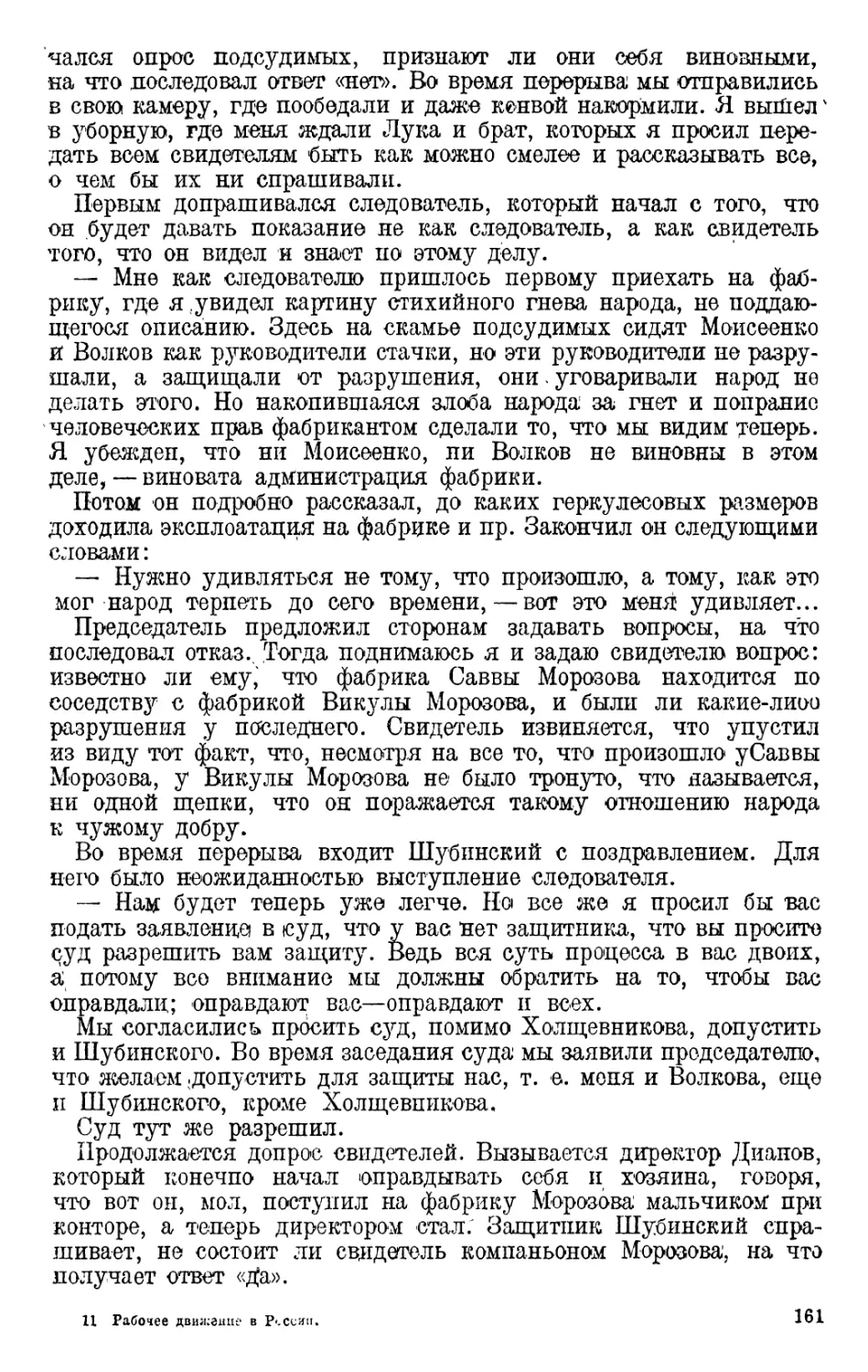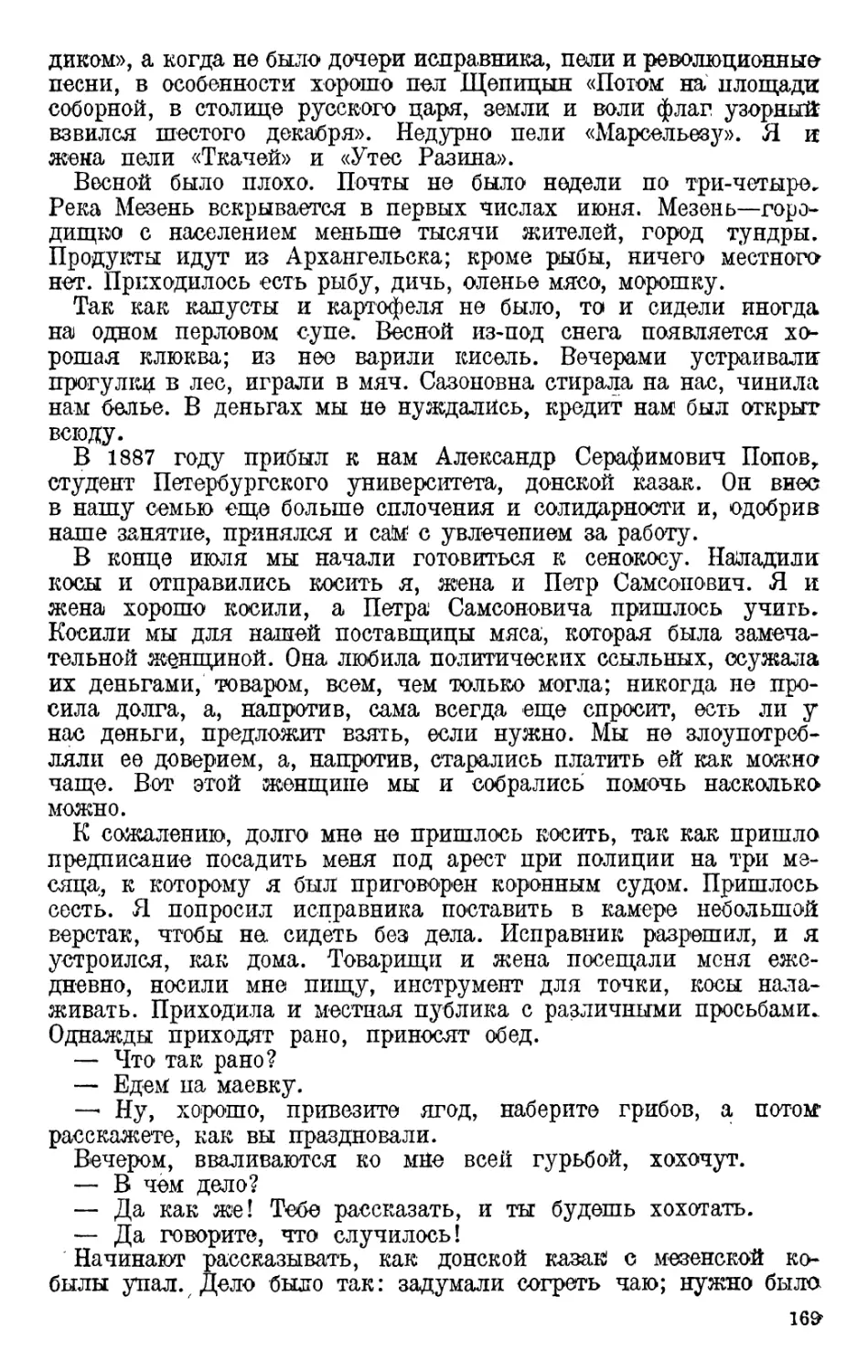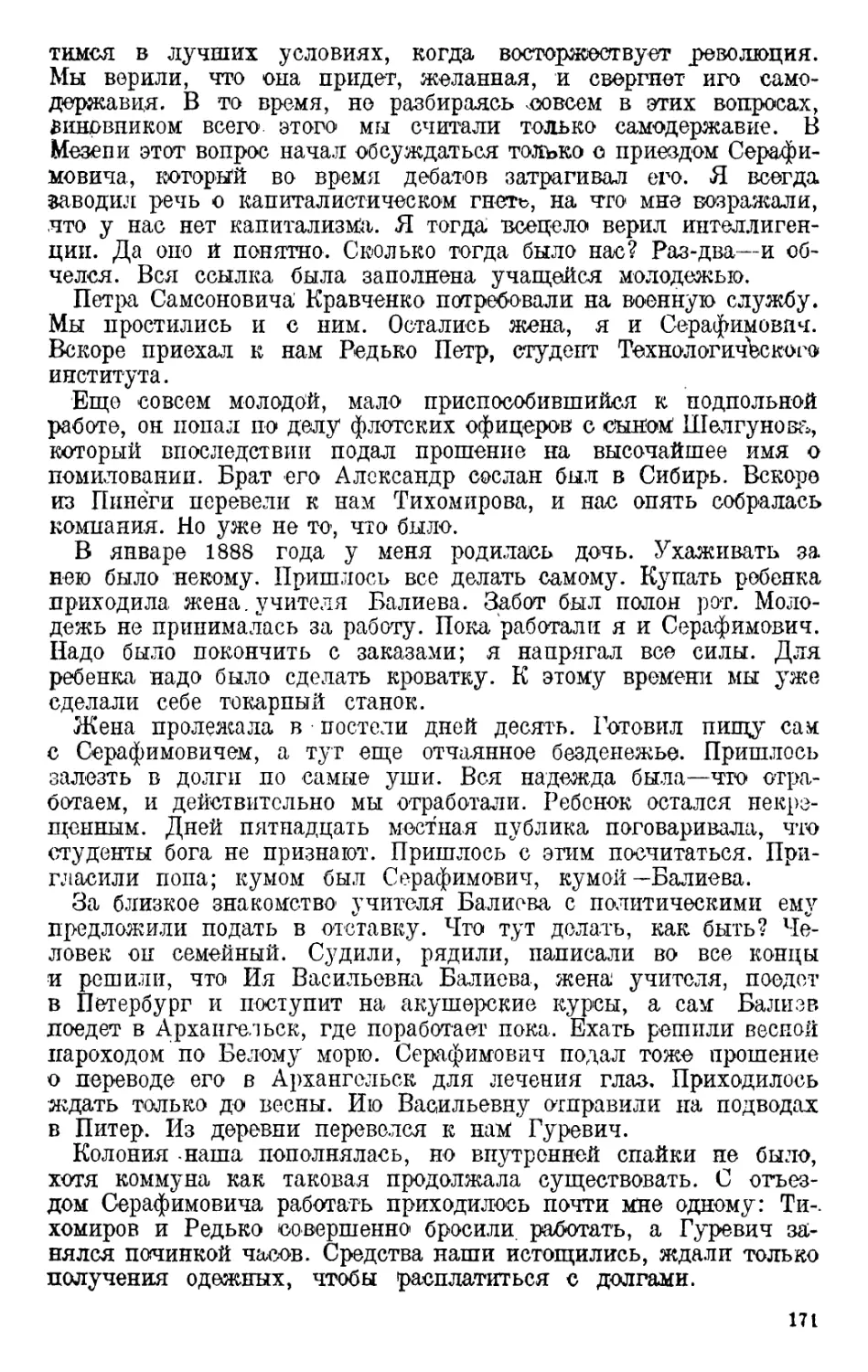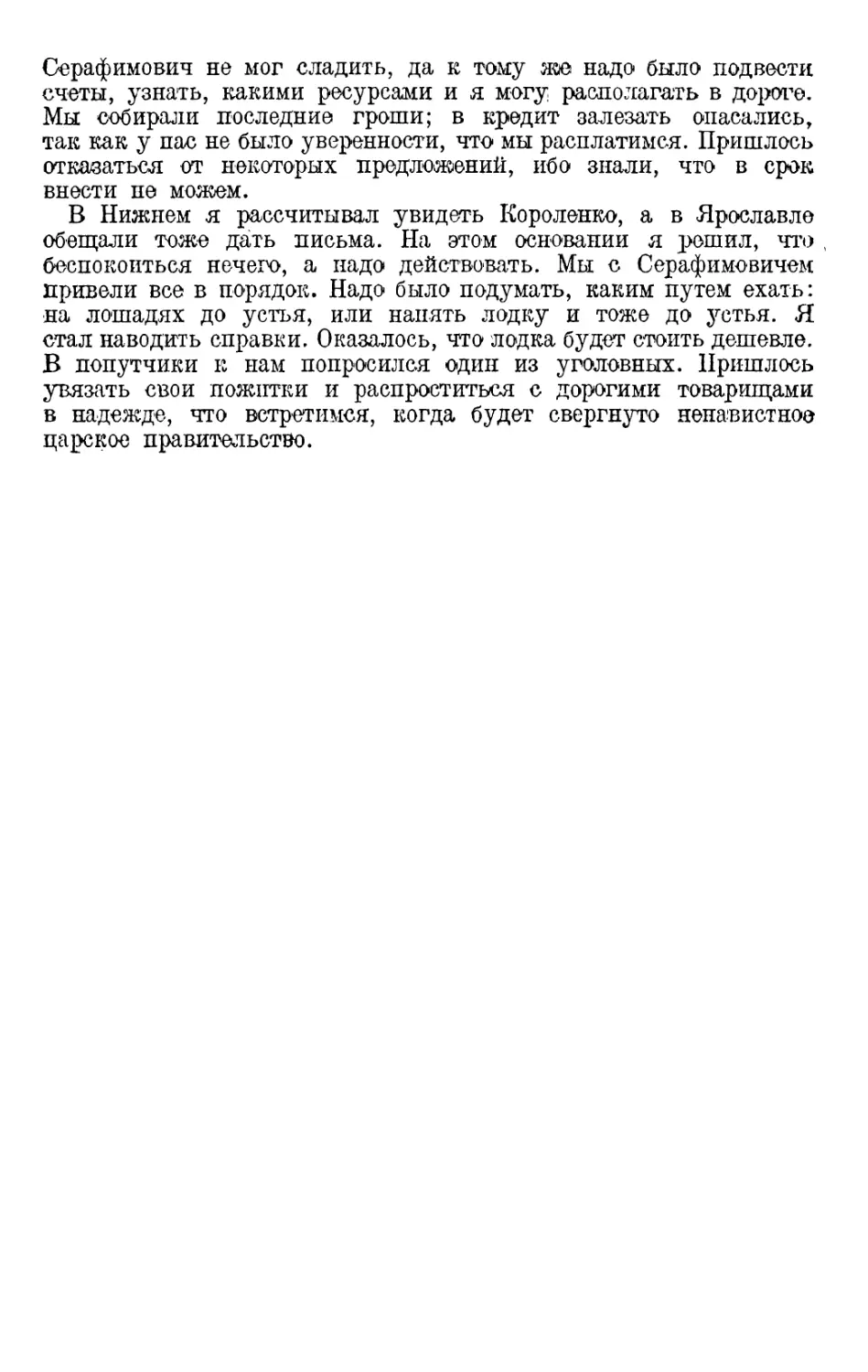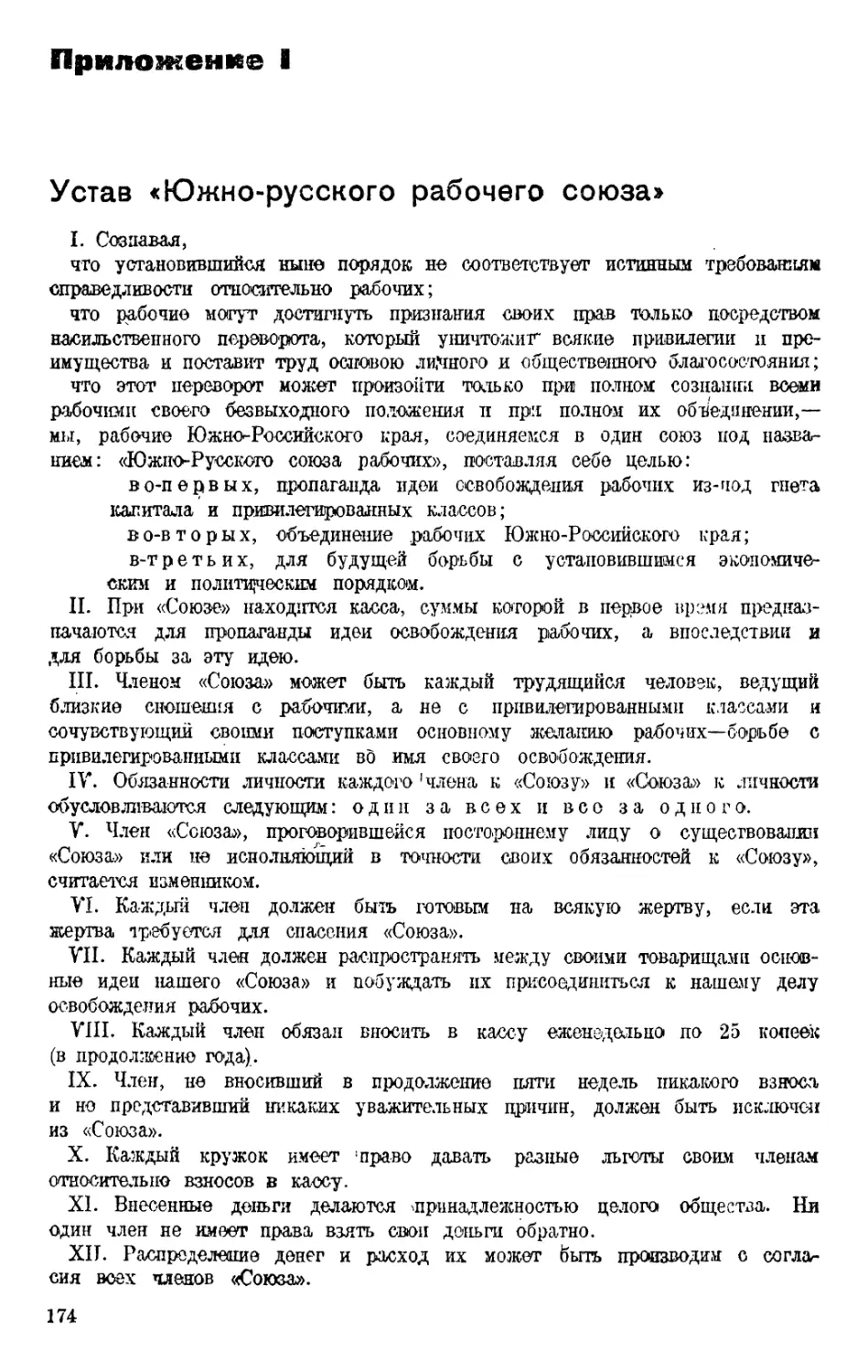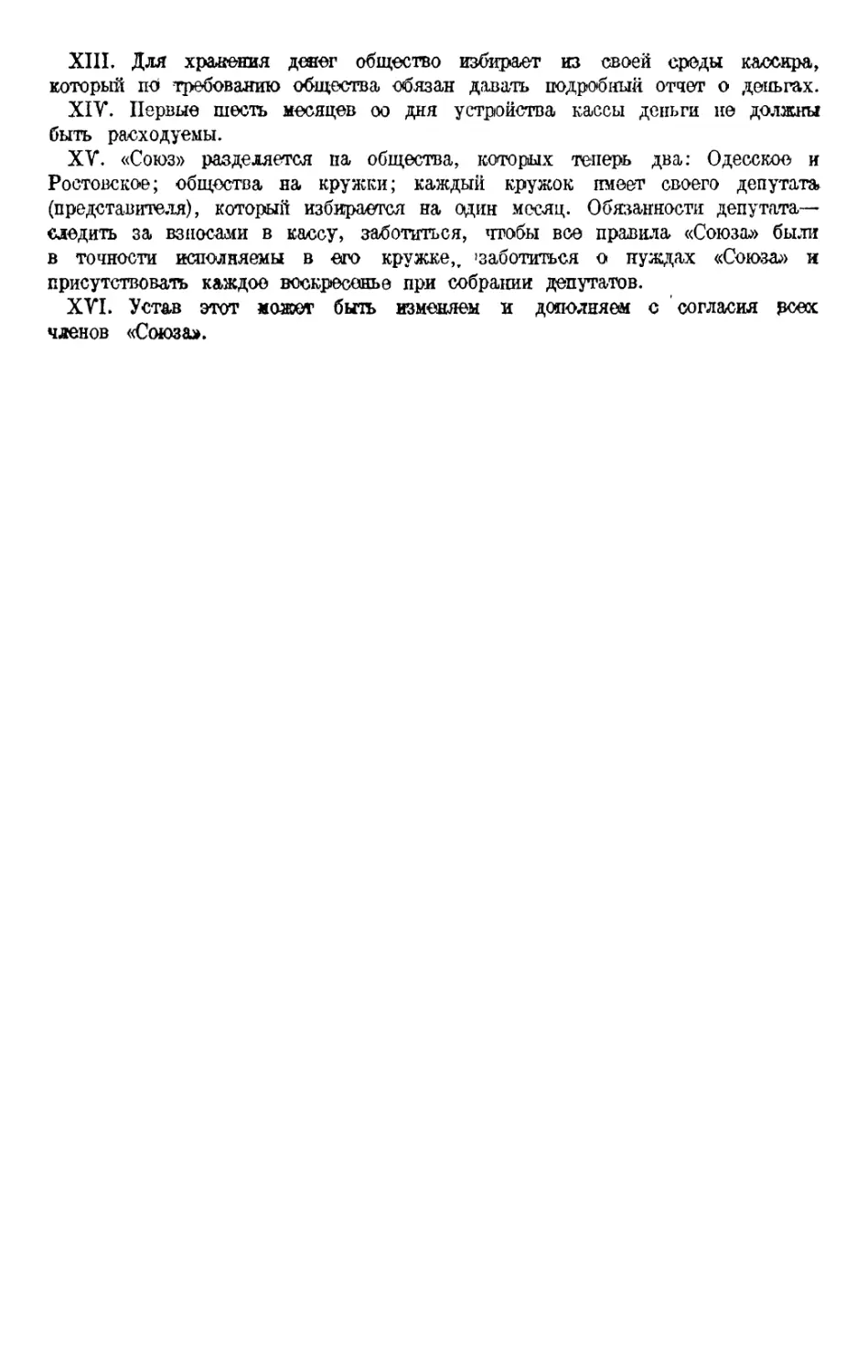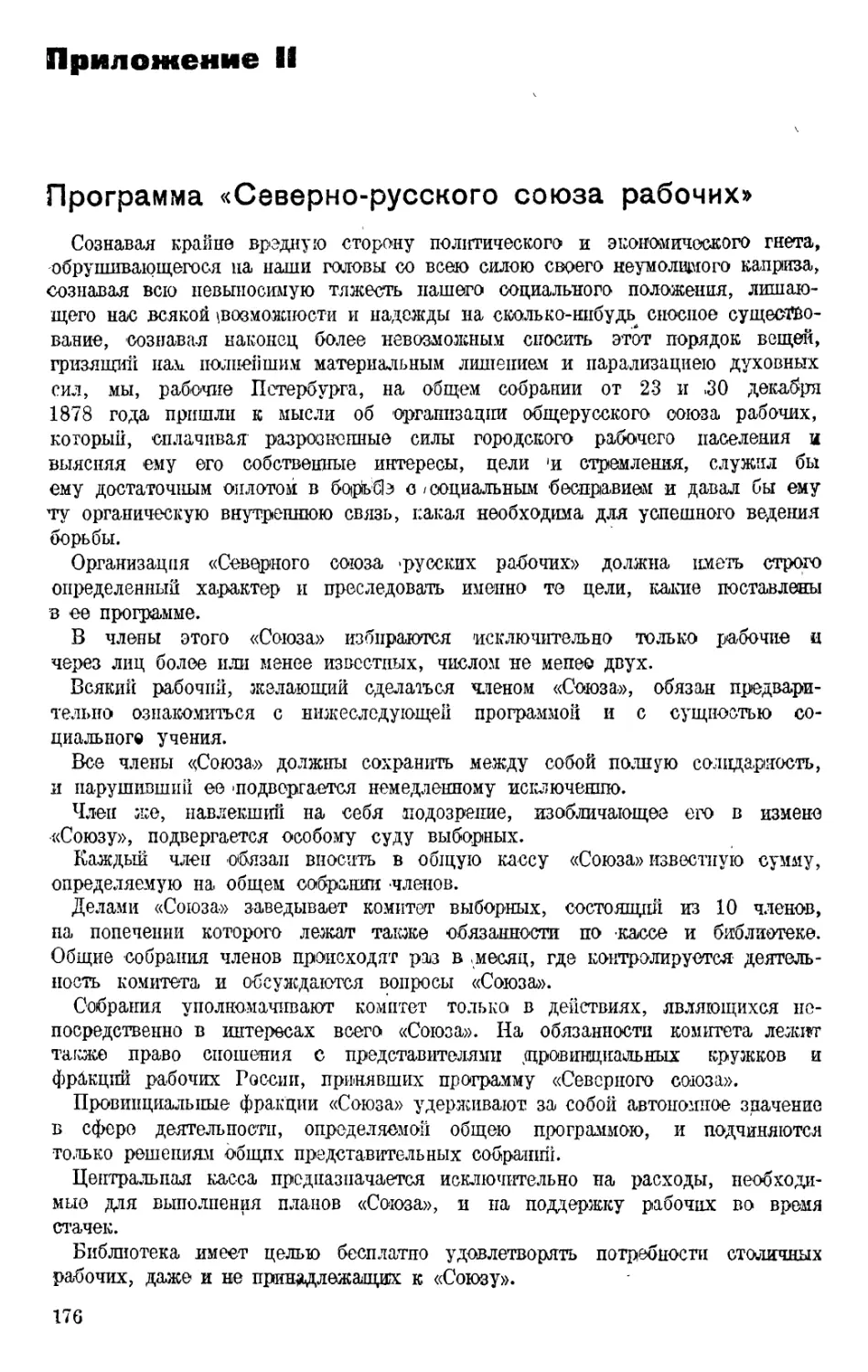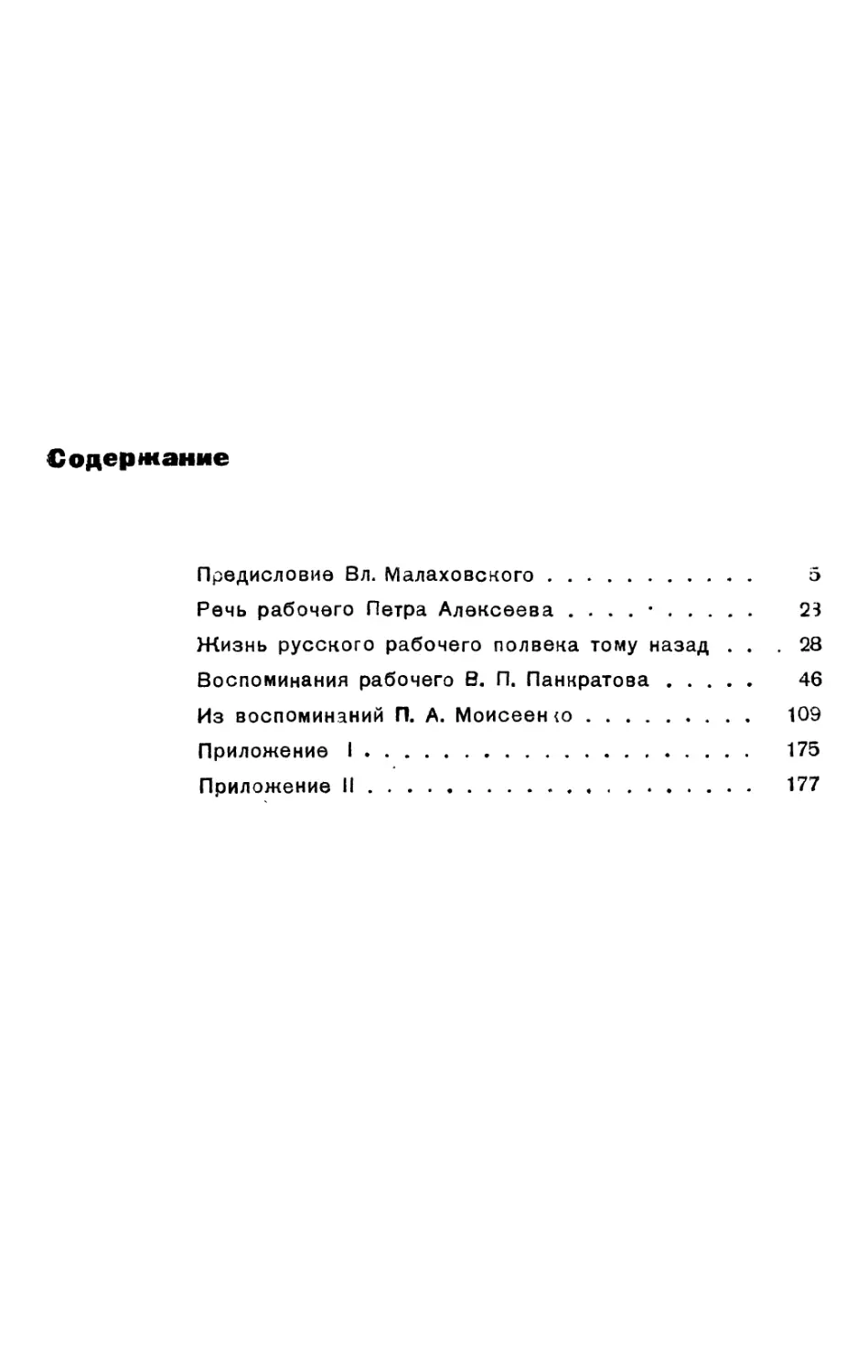Автор: Алексеев П. Герасимов В. Моисеенко П. Панкратов В.
Теги: социология социологические исследования
Год: 1995
Текст
РАБОЧЕЕ
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
в описании самих рабочих
(От 70-х до 90-х годов)
С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ. МАЛАХОВСКОГО
ОГИЗ —МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
Предисловие
В связи с получениехМ вести о том, что в Сибири был расстрелян
один из первых и лучших рабочих-марксистов—Иван Васильевич
Бабушкин, Ленин писал в 1910 году в Нелегальной
большевистской «Рабочей газете»:
«Мы обращаемся с просьбой к товарищам рабочим собирать
и присылать нам воспоминания о тогдашней (т. о. в
революцию 1905 года.— Вл. М.) борьбе и: дополнительные
сведения о Бабушкине, а также о других
социал-демократических рабочих, павших в восстании 1905 года). Мы намерены
издать брошюру с жизнеописанием; таких рабочие Такая
брошюра будет лучшим; ответом всяким маловерам и умали-
телям Российской социал-демократической рабочей, партии1»
Такая бро-шюра будет лучшим чтением для молодых рабочих,
которые будут учиться по ней, как надо! жить и
действовать всякому сознательному рабочему»2.
Для того времени глухой, реакции мечта Ленина об издании
всего одной брошюры, досвящшной жизнеописанию рабочих-
передовиков, оказалась неосуществимой. Она стала'реальной лишь
после свержения самодержавия и власти; буржуазии, в период
диктатуры пролетариата;. За годы советской власти было
издано немало та;ких книг, брошюр и статей, написанных самими
передовиками-рабочими, старыми революционерами и
большевиками.
В лице И. В. Бабушкина и других дередовиков-рабФчих Ленин
видел основную силу, создававшую задолго до революции; 1905 года
марксистскую рабочую партию:
«Без неустанной, геройски упорной работы таких
передовиков в пролетарских массах РСДРП не просуществовала
бы не только десяти лет, цо и десяти месяцев. Только
благодаря деятельности таких передовиков, только благодаря
их поддержке РСДРП выросла в 1905 году в партию, кото^
рая неразрывно слилась с пролетариатом в великие
октябрьские и декабрьские дни, которая сохранила эту связь Bi
лице рабочих депутатов не только II, но и III
черносотенной думы».
Ленин таких рабочих-передовиков, пионеров сознательного й
революционного рабочего движения, называл народными! героями*
память о неустанной и бесстрашной работе которых, & также!
об их стр|аданиях и гибели от,руки царских палачей, должна!
жить вечно в сердцах трудящихся масс. Рабочий кла:сс, особенно
1 Так тогда называлась паша партия.
2 Ленин, том XIY, стр. 398—399, изд. 3-е.
молодежь, должен изучать жизнеописания таких передовиков-
рабочих, учиться по ним тому, как надо жить и действовать.
Однако далеко не всегда молодой рабочий, тем более живущий
в деревне колхозник, сможет найти вышедшие в свет во
семь-двюнадцать лет тому назад воспоминания первых
зачинателей рабочего движения. Отдельные книги или сборники со
статьями их давно исчезли с рынка и стали библиографической
редкостью.
Настоящий сборник дает бесхитростно написанные, но яркие,
незабываемые картины тяжелой жизни и самоотверженной,
героической борьбы, начиная с 70-х годов и до 90-х годов, первых
одиночек, выходивших [непосредственно из рядов рабочего класса
на борьбу против самодержавия, против буржуазии, за
освобождение трудящихся масс, за социализм..
Надо всегда помнить, что беспредельное влияние нашей
партии на рабочий класс и на трудящиеся мабсы крестьянства
в настоящее время досталось ей путем долгой, неустанной,
непреклонной работы в течение десятилетий и благодаря
самоотверженной, геройской борьбе с помещиками и буржуазией,
а также с врагами внутри рабочего движения, с оппортунизмом
внутри самой партии. Огромный, небывалый до сих пор в
истории человечества авторитет нашей партии как внутри СССР,
так и среди пролетариата капиталистических стран достался ей
не сразу, вовсе не легко, а в неустанной борьбе, беспрерывной
работе (и благодаря стойкости в перенесении тяжких страданий
и мук в застенках самодер(жавия ряда поколений ее передовых
борцов.
Авторы воспоминаний, помещенных в настоящем сборнике, да*от
свое описание еще с периода домарксистского революционного
движения. Большинство авторов, несмотря на тяжкие лишения
и бурные события, прожили долгую жизнь, имели счастье увидеть
торжество пролетариата в борьбе против самодержавия и против
буржуазии, а некоторые из них живут и Посейчас, являясь
свидетелями великой исторической победы рабочего класса в деле
социалистического строительства. Но печатаемые здесь
воспоминания передовиков-рабочих того времени начинаются еще с 60-х
годов црошлюго века и не выходят за пределы 90-х годов.
Современному читателю, особенно из молодежи, даже трудно
представить себе условия жизни тогдашних рабочих на фене
политического и экономического положения тогдашней России.
В середине прошлого столетия в России происходили социально-
экономические сдвиги огромной важности. Под влиянием* сил
экономического развития, втянувшего страну на путь
капитализма, старые формы хозяйства ветшали и мало-по-малу разруч
шались. Наряду! с этим крестьянские восстания, возрастая из года
в год, вызывали в сознании господствующего
класса—помещиков-крепостников—образ пугачевщины, опасение, что
переустройство жизни на новых основаниях может быть произведено
«снизу», т. е. путем революции. Старый крепостнический строй был
разъедаем острым и непримиримым классовым антагонизмом
4
между помещиком-крепостником и закабаленным им крепостным
крестьянином.
Уже в начале прошлого века стала выявляться невозможность
жить по-старому, невозможность прогрессивного развития страны.
К середине века, особенно под влиянием: поражения России й.
крымской войне, вскрывшей всю гнилость и бессилие
крепостнического государства, это стало ясно и для самих помещиков.
Помимо 'образования в среде самого дворянства слоя,
настаивавшего на отмене крепостного права, первый из крепостников, царь
Александр II, вынужден был открыто заявить, что «лучше
освободить сверху, чем ждать пока свергнут снизу».
Но все волнения крестьян накануне реформы и после нее,
а также все старания тогдашних революционеров, являвшихся
одиночками, оказались не в силах помешать
помещикам-крепостникам полностью провести реформу в их духе и интересах.
Освобождение крестьян от крепостного права было помещичьей
реформой.
Реформа, как указывал Ленин, была шагом по пути
превращения России в буржуазную монархию. Но, делая шаг по пути
превращения крепостнической России в капиталистическую
страну, помещики-крепостники оставались верными себе. Они всячески
стремились сохранить поболыце элементов старого строя;
подчистить, подновить старую барщинную систему, приспособить ее
к развивающимся капиталистическим отношениям. Ленин
правильно указывал, что в результате реформы 1861 года
«старая барщинная система хозяйства была лишь
подорвана, но не уничтожена; окончательно. Крестьянское
хозяйкою не было вполне отделено от хозяйства' помещиков,
так как в руках последних остались весьма1 существенные
части крестьянских наделов: «отрезные земли», леса, луга,
водопой, выгоны и пр. Без; этих земель (или сервитутов)
крестьяне совершенно на в состоянии были вести
самостоятельного хозяйства, и помещики имели таким образом
возможность продолжать старую систему хозяйства а форме
отработков»1.
Условия освобождения крестьян по этой реформе были
чистейшим грабежом крестьянства, В связи о «освобождением» от
крестьян черноземных губерний было «отрезано» свыше одной
пятой части земель, которыми они пользовались до реформы.
В других губерниях «отрезали» до трети и даже до двух третей
крестьянской земли, причем , «отрезали» лучшую землю,
переселяя крестьян на «песочек». Помещичьи земли входили клином
в крестьянские, так что крестьянин должен был волей-неволей
прибегать к! аренде помещичьей земли по кабальным цейам.
Потрава скотом также была неизбежна, а за это взимался штраф,
который, за неимением у крестьянина денег, отрабатывался
крестьянином путем работы его на помещичьей земле. Но
ограничиваясь этим, крестьян заставили «выкупать» по необычайно вы-
1 Ленин, т. III, стр. 141.
5
оокой оценке и с большими процентами свои же, собственные
зшли, те земли, которые им принадлежали и до реформы. Эти
выкупные платежи тянулись до самой революции 1905 года,
лишь под влиянием которой царское правительство наконец
отменило их.
Эта реформа, наряду с другими куцыми реформами 60-х годов
(введение земства, воинской повиийости, реформирование суда),
открывала отдушину для дальнейшего развития капитализма.
Началась горячка железнодорожного , строительства, началась
постройка новых фабрик и заводов т основе последнего слова
техники передовых в капиталистическом отношении
западноевропейских стран. Особенно высокий подъем наша промышленность
переживала в 90-х годах.
Нужно сказать, что наряду с огромными сдвигами,
происходившими в сельском хозяйстве тогдашней России, представлявшей
собою аграрную страну, в небольшой сравнительно русской
промышленности того времени также происходил! в тех же 40—60-х
годах промышленный переворот, переход от мануфактуры к
крупной машинной индустрии.
Но все это развитие капитализма в России в пореформенную
эпоху происходило на полукрепостнических основаниях.
Источником средств, на которые строились фабрики, заводы,
железные дороги, военный флот, предметы различного рода снабжения
$рмид, явилось закабаленное крестьянство. Это забитое, нищее
крестьянство было обращено как бы в колонию, из которой
черпались средства на содержание аппарата полукрепостнического
государства и на цели развития капитализма.
Однако совершенно очевидно, что такое развитие в течение
долгого времени было невозможно. Широкие массы трудящегося
крестьянства разорялись и нищали под влиянием; полукрепостни-
ческой экснлоатации. Поэтому, естественно, они не могли
предъявлять достаточно большой платежеспособный4 спрос на
предметы промышленности. Точно так же и рабочие, эксплоатировав-
шиеся капитализмом под эгидой самодержавия, не получали
полной стоимости своей рабочей силы. Отсюда, наряду с
причинами международного доредка, в 900-х годах созревает
глубокий кризис сельского хозяйства, а также* и промышленности.
Развитие страны во всех областях уперлось в тупик, и из. него
не Выло никакого иного выхода, кроме революции.
Беспросветная нужда, прямая нищета, необычайно сильный
политический гнет—все это накапливает огромные резервуары
революционной энергии, а работа нашей партии способствует
быстрому росту сознательности масс, постепенно научает их вести
свою борьбу правильными методами и за истинные цели своего
класса.
В этой-то весьма кратко очерченной здесь
социально-экономической обстановке пореформенной России складывался и рос наш
русский пролетариат.
В рамках полукрепостнического государства; не только
положение крестьянства было ужасно. Рабочему классу в этот период
6
леи лось не лучше; положение рабочих й их семей было весьма
тяжелое.
Рабочий того времени должен был проводить на работе
длиннейший день, получать за свою более чем; каторжную работу гроши,
позволявшие ему вести только нищенскую жизнь. Кроме того
эта жизнь была полна издевательства, унижений и оскорблений
как на предприятии, так и} вне его, как во время работы, так
и после нее. Над рабочими в 60-х и 90-х годах (в той или
иной степени во весь революционный период) тяготели гнет и
произвол со стороны капиталистов, а также со стороны
самодержавной помещичьей власти.
Жили и страдали пЬ только взрослые рабочие. Они подвергались
этой неистовой эксплуатации рыцарей капиталистического
накопления с малолетнего возраста. Зачастую, уже с десяти лет, а то
и .раньше, поступали они на фабрику. Нередко ребенок попадал
в так называемую школу при фабрике, на воспитание и для
обучения. Например, такая школа была организована акулами-
капиталистами—владельцами огромной Кренгольмской фабрики
(в г. Нарве). Но эта «школа» ничем! йе отличалась от тюрьмы,
а, пожалуй, даже усугубляла' тяжелый режим царских тюрем
непосильным, более чем каторжным трудом. Если на каторге
обязательный труд продолятлея в течение одиннадцати часов,
то детей на Кренгольмской мануфактуре поднимали на работу
в четыре часа утра, и они работали до восьми часов вечера,
до полного истощения сил. А в девять часов дети должны были
итти в школу, где их учили или, вернее, как выражается один
из авторов воспоминаний, В. Герасимов, их мучили до
одиннадцати часов.
Естественно, что обучение письму, чтению й арифметике шло
чрезвычайно плохо, тем более, что учитель считал кулак и розгу
самыми лучшими средствами для воспитания детей.
Даже по воскресеньям, как и по вечерам после окончания!
работы, дети не смели выйти куда-либо из казарм без билета,
который должны были получать у учителя. А этот последний,
выдавая билет, говорил: «Смотри, я отпускаю тебя на] час; если:
ты просрочишь, то в карцер или розги>>. В карцере же ребенка
сажали на хлеб и воду, а розог давали от двадцати пяти до ста.
Само собой разумеется, что «учеба» в таких условиях давала
чрезвычайно печальные результаты. В. Герасимов рассказывает
о том, что он встретил в этой школе ученика, который учился
в ней 8 лет и все же делал вычитание ,так: 2—2 = 2.
Это напоминает нам некоторые красочные факты из
замечательной книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»,
написанной им в 1843—1844 гг. «Дети эти,— пишет Ф.Энгельс,—
которых в течение 4-5 лет пичкают религиозными догмами, в конце
концов знают столько же, сколько вналц до поступления в школу»!.
Далее Ф. Энгельс приводит выдержки из доклада
правительственных комиссаров. Оказывается, что опрошенные одним из
1 К. М а р к с и Ф. Э н г о л ь с, Полное собрание сочинении, т. Ill, стр. 404.
7
последних один за другим дети рабочих, сами работающие на
предприятиях, не знали ничего о том, чему их главным образом
учили учителя, поставленные ханжеской английской буржуазией.
Ребенок, перебывавший «в течение семи лет в нескольких
воскресных школах, умеет читать в тонких книжках и только
легкие односложные слова; об апостолах слышал, но не знает,
был ли одним из них св. Петр или св. Иоанн; последний, должно
быть, был св. Иоанн Уэслой (основатель секты методистов) и т. д.
В. Шеффильде комиссар Саймоне заставлял учеников воскресных
школ читать; после чтения они не были в состоянии сказать,
о чем они читали, или не знали, кто были апостолы, о которых
они только что читали. Он расспрашивал об этом всех, одного
за ДРУ1ТЕМ, ж ни от одного из них не получил правильного
ответа, как вдруг одан лукавого вида малыш с большой
уверенностью воскликнул: «Я знаю: это были прокаженные!»
Так отупляющо действовала; на мозг этих детей безысходная
нужда, нищета, неистовая эксплоатация детскопо труда
буржуазией Англии за 30-40 лег до того времени, которое описывается
в нашей книге.
В России методы капиталистической эксплоатации детей были
еще! жестче.
Били за малейшую провинность, били за пустяк:, били ни
за что ни про что, просто подвернувшегося под руку. 'Били
детей директор и его помощник, били управляющий, учитель-
или десятнюе* Но темнота я несознательность были тогда так
велики в среде рабочих, что даже мастера-ткачи и подмастерья
били детей смертным боем. И не только били, но и забивала
насмерть.
Детей ставили часа; на: два на колени на осколки кирпичей
и на соль, таскали за волосы, били ремнем. Питали детей очень
скверной пищей: каждый день один суп да по маленькому куску
говядины, а кашу варили только раз в неделю, в субботу вечером.
Зачастую продукты, из которых приготовляли пищу, были
недоброкачественны. Особенно плохо было летом; капуста была
гнилая, мясо тухлое, хлеб заплесневелый. Когда однажды детям-
ученикажс Крейгольмской фабрики сварили горох о червями, они
вышли к управляющему фабрикой и просили дать на1 уж-ля
селедок. На это был получен отказ. После этого они
отправились с протестом к исправнику. Но тут вышла еще хуже: их
отпороли весьма крепко.
С одеждой было не лучше. Белья давали две пары на
полгода, меняли его каждую субботу; но, несмотря на это, белье
было всегда грязно, так как верхней одежды для работы не
выдавалось и нужно было работать в одном белье. Дети и
подростки-ученики фабрики ходили вечно грязные и оборванные.
Летом еще перебивались кое-как, но зимой было невыносимо
холодно, так как одежда была рваная, а полушубок не покрывал
и колеп, между тем казармы отстояли от фабрики почти на целую
версту—приходилось страшно мерзнуть.
Само собой разумеется, что жалование как ученикам, тав и
8
взрослым рабочим было ничтожно; оно кроме того уменьшалось
непомерными штрафами.
Это было повсеместным явлением.
В таких ужасных условиях росли и «воспитывались» дети
рабочих в 60-х годах прошлого столетия. Большая половина не
выживала и гибла еще в детском возрасте или в молодости.
Те же, кто мог вынести эту нечеловеческую жизнь, уже в
молодые годы выглядели стариками.
В отношении характеристики своекорыстия и беспощадной экс-
плоатации российских рыцарей капиталистического накопления
можно повторить то же, что почти девяносто лет тому назад
писал Ф. Энгельс: «Для английского буржуа совершенно
безразлично, умирает ли его рабочий с голода или нет, лишь бы
он заработал (для капиталиста.— В. М.) много денег».
Только путем продолжительной, неустанной и решительной
борьбы рабочему классу удается постепенно смягчить и
облегчить первоначальные ужасные условия своей жизни, а затем
путей нескольких революций окончательно свергнуть господство
и помещиков и капиталистов.
Жизнь русского рабочего в 60-х и 70-х годах (в значительной
мере вплоть до революции) была столь горькой и тяжелой, что
ткач Петр Алексеев в своей знаменитой речи на' процессе «50-ти»
10 марта 1877 года сравнивал положение рабочих после реформы
19 февраля 1861 года с положением: крестьян в самые тяжелые
времена крепостного права;.
«Мы попрежнему,—говорил он,—остались без куска! хлеба;, с
клочками никуда негодной земли и; перешли в зависимость
к капиггалисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики
Носовых, говорит, что у него, за исключением праздничного дня,
все рабочие под строгим надзором и не явившийся в назначенный
срок на работу не остается безнаказанным?, а окружающие сотни
подобных же фабрик набиты крестьянским: народом, живущим
при таких же условиях,—значит они все крепостные!
Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить
повышения пониженной са&гим капиталистом заработной платы,
а нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь—значит мы
крепостные.
Если мы со стороны самого капиталиста; вынуждены оставить
фабрику и требовать расчета1 вследствие перемены доброты
материала и притеснения от разных штрафов, а нас обвиняют
в составлении бунта и прикладом солдатского ружья
приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, кале зачинщиков,
ссылают в дальние края—значит мы крепостные.
Если из нас каждый отдельно не может подать жалобу на
капиталиста и первый же встречный квартальный бьет в зубы
кулаком и пинками гонит вон—значит мы крепостные»1.
Понятно, что долго так продолжаться не мопло. Несмотря на
заШтость и томноту, в рабочей массе постепенно зарождалась
1 Настоящий сборник, стр. 27.
9
и зрела мысль о протесте;, о необходимости борьбы со своими угде-
татадяли—классовыми врагами.
Уже в 1872 .году происходит на Крепгельмекой фабрике (с
двенадцатью тысячами рабочих) стачка. Эта, стачка всполошила !не
только фабрикантов, но й власти. На фабрику «для усмирения»
были пригнаны войска. Рабочие в свою очередь приготовились
к защите. А когда, на утро, их стали гнать силой на работу,
произошли отчаянные схватки рабочих с войсками.
Впрочем, тогда до кровопролития дело не дошло.
Правительство еще стеснялось на. первых порах применять оружие к
рабочей массе, и солдатам было тогда приказано не стрелять.
Стрельба по массам рабочих и крестьян, повешение длинного
ряда революционеров—все это пришло notfoM, когда усилилось
рабочее движение, когда господствующим1 классам стала
угрожать опасность потерять все свои привилегии и возможность
нещадно эксплоатировать трудящиеся массы.
Печатаемые восцоминайия тогдашних передовиков-рабочих
наглядно показывают линию эволюции рабочего движения в России,
смену форм и идеологии внутри него в 'начальный период.
В начале эпохи промышленного капитализма в России
рабочее движение возникало стихийно под влиянием невыносимых
условий жизни, как естественный протест против
непосредственных угнетателей на данном предприятии. Точно так же и
руководители первых стачек и волнений рабочих выдвигались
стихийно из чирла; наиболее толковых, более развитых и смелых
людей. Они не были еще связаны с сознательным, оформленным
■идеологи-чёски и политически революционным движением, кон-
тингенты которого составлялись сначала исключительно из среды
интеллигенции.
Но уже в первой половине 70-х годов в организованное
революционное движение начинают вливаться отдельные передовые
рабочие, под влиянием первых своих столкновений с капиталом
и самодержавием. Они были охвачены огромной жаждой получить
знания и научиться правильным, наиболее действенным приемам
борьбы. Само собой разумеется, что эти первые ласточки рабочего
движения, входя в орбиту организаций революционного
движения и попадая под идейное влияние его в виде господствую^
щего тогда направления, проникались всецело народническими
взглядами. Это было неизбежно. Народническая идеология была1
тогда единственной в революционном движении России, она
всецело охватывала и пропитывала; его.
Это бцла идеология мелкого производителя. Несмотря на
'некоторые различия этапов и направлений, ''народническая теория
в общем сводилась к следующим основным положениям. Народ-
пики считали, что Россия должна миновать фазу
капиталистического развития, ибо капитализм грозит задушить истинцое
^народное производство» и подвергнуть русский народ всем тем
ужасам пролетаризации и обнищания, которые имеют место в
Западной Европе. Истинное же «народйое производство»
заключалось, по мнению народников, в русской земельной общине и
ю
артельном начале. И община й артель способствуют
непосредственному переходу крестьянской России к социалистическому,
до их мнению, строю. Этот; строй вытекает из идеалов народа, цбо
русский мужик, до мнению народников, по всему своему
социально-экономическому укладу и революционному историческому
прошлому является прирожденным коммунистом. Особое значение
.придавалось интеллигенции, которая рассматривалась как
надклассовая категория. Интеллигенция считалась основной
движущей силой и руководительницей революционного движения.
Эта теория народничества, или, как называл В. Ленин, «старого
русского крестьянского социализму», базировалась на , взглядах
Бакунина,, Лаврова; и Ткачева и отнюдь не яёлялась
революционной теорией. Недаром же'она так быстро выродилась/Народники
конца 80-х и 90-х годов прошлого столетия со своей насквозь
утопической l оппортунистической программой представляли уже
собою жалких эпигонов революционного народничества, вовсе
отказавшихся о^ революционных задач "и методов борьбы,
стремившихся приспособиться к самодержавию. Народники 90-х годов
утверждали, что старые основнйе устои крестьянской жизни—
община,, артель и др.—должны быть сохранены при помощи
«разумной» политики правительства. Но в 70-х года^ народники
представляли собой бесстрашных борцов против самодержавия,
а народндчество подымало -множество людей на героическую
борьбу с самодержавием. Народников этогф периода Ленин ценид
как смелых революционеров. Партия «Народная всцгя»
организовала 1 марта 1881 года убийство царя Александра II в расчете
на то, что в связи с этим событием поднимется народное
восстание. Однако революция не произошла.
Царизм, ведет беспощадную борьбу с народовольческим
движением.' После первомартовского взрыва (частью и накануне) в руки
полиций попадают крупнейшие (организаторы террористических а&-
тов. К началу 1,884 года партия «Народная воля» совершенно
разгромлена и быстро кдонитея к упадку* Наступил! крах
террористических иллюзий «Народной воли».
После этого на авансцену русского революционного движения
выступила марксистская рабочая партия.
Эта партия подйяла революционное движение на высшую
ступень борьбы за действительный социализм1, реализующий великую
историческую миссию пролетариата. И эта же партия рабочего
класса сумела оценить по заслугам дело своих
предшественников—мелкобуржуазных революционеров. Под шелухой реакцией:
ных представлений о социализме и методах борьбы за него,
борясь и разоблачая их, марксистская рабочая партия увидела
прогрессивное демократическое зерйо—революционную борьбу за
радикальный буржуазно-демократический переворот, за
«американский» путь развития страны, или, иначе говоря, за лйквидащдо
помещичьего землевладения, за свержение самодержавия.
Наряду с «кружком корифеев революции» (выражение Ленийа)—
народников-интеллигентов—рабочие выдвигают плеяду своих
блестящих представителей, прекрасных, неустрашимйх и талантли-
11
вых борцов против самодержавия, как-то: П. Алексеев, Степан
Халтурин, Виктор Обнорский, Т. Михайлов и др. Вместе с
интеллигентами рабочие ведут руда, об руку революционную работу,
создают организации и типографии, занимаются пропагандой.
Вместе с ними же они терпят гонения со стороны самодержавия,
сидят в тюрьме, идут на каторгу, на эшафот. Вместе с
интеллигентами-народниками эти передовики-рабочие переживают смену
этапов народнического движения в 70-х годах и в первой
половине 80-х годов, вплоть до разгрома партии «Народная воля».
Для того чтобы подняться |на такую высоту, чтобы стать
сознательным революционером, передовику-рабочему, недавнему
деревенскому слабограмотному парню, работавшему на
предприятии с утра до позднего вечера, приходилось тратить огромный
труд на свое развитие, на усвоение самых разнообразных
знаний. Но тяга' к учению и знанию была чрезвычайно велика.
Несмотря на колоссальные трудности: и всякого рода препятствия,
у нас в России очень рано начал складываться тип чрезвычайно
развитого, мало чем отличающегося от заправского интеллигента
революционера-рабочего.
Г. В. Плеханов, создатель и руководитель первой в России
марксистской организации—группа «Освобождение труда»1, сам
принимавший активнейшее участие в революционном движении
70-х годов, так характеризует тип тогдашнего
передовика-рабочего из среды петербургского пролетариата. Описывая знакомого
ему рабочего, он говорит: «При самых обыкновенных способностях
он отличался резкой жаждой знания и поистине удивительной
энергией в деле самообразования- Работая на заводе но десять-
одиннадцать часов в сутки и возвращаясь дамюй только вечером,
он ежедневно просиживал за книгами; да часу ночи. Читал он
медленно и, как я заметил, не легко усваивал прочитанное,
но то, что усваивал, знал очень основательно. Маленький, слабо-
грудый и бледный, безбородый, с небольшими тонкими усиками,
он носил длинные волосы и синие очки- В зимние холода он
1 Г. В. Плеханов пришел к марксистскому взгляду на рабочий класс как на
руководителя освободительно и борьбы с царизмом и борца за социалистический строй.
Однако пи он, ни созданная им группа «Освобождение труда» не могли выработать
правильной точки зрения на^гегемонию пролетариата, так как недооценивали роли
крестьянства в революционной борьбе, способность пролетариата руководить
крестьянством, явно переоценивали роль буржуазии, трактуя ее как дважующую силу
революции. Эта неправильная оценка роли буржуазии привела Плеханова в революции
1906 года к оппортунистическому требованию поддержки пролетариатом реакционной
буржуазии, вместо большевистской линии на развертывание резолюции, вплоть до
революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства силами
гегемона революции — пролотраиата — и его союзника — революционного
крестьянства, вплоть до установления диктатуры пролетариата. Оппортунистическая
позиция Плеханова в 1905 году привела его окончательно в лагерь меньшевиков в
1914—1917 гг. и поставила в ряды противиков Октябрьское революции.
Ленин — вождь большевиков — еще в начале 30-х годов в «Друзьях парода» дал
единственно правильное понимание рми пролетариата в революции, определив его
как главную движущую силу революции, способную довести до конца буржуазную
революцию, расчистить остатки феодализма в России и создать условия перерастания
буржуазно-демократической революции в социалистическую, которая и является
коночной целью пролетариата.
12
поверх короткого драпового пальто накидывал широкий плед,
и тогда уже окончательно выглядел студентом. Он жил по-
студенчески, занимал крошечную комнатку, единственный стол
которой был завален книгами. Когда я короче познакомился
с ним, я был поражен разнообразием и множеством осаждавших
его теоретических вопросов. Чем только не интересовался этот
.человек, в детство едва научившийся грамоте? Политическая
экономия и химия, социальный вопрос и теория Дарвина
одинаково привлекали к себе его внимание, возбуждая в нем
одинаковый интерес, и, казалось, нужны были десятки лет, чтобы,
при его положении, хоть немного утолить его умственный голод»г.
В результате такой усидчивой и напряженной работы над
своим самообразованием получался вполне интеллигентный
человек. В этом отношении нелишним будет привести еще
свидетельство русского революционера 70—80-х годов—Германа
Лопатина, пробывшего впоследствии двадцать лет в Шлиссельбург-
ской крепости. В разговоре о В. С. Панкратовым—одним |из
революционеров-рабочих, действовавших в первой половине 80-х
годов, Г. Лопатин выразил неподдельное изумление
интеллигентности приведенных к нему на свидание нескольких рабочих.
Ему казалось, что его мистифицируют, пока он не убедился,
что это настоящие, неподдельные рабочие. Восхищаясь их
развитостью и широтой взглядов, ои заявил, что даже за границей
не встречал таких рабочих.
— Ну, это уже пристрастие,—возразил В. О. Панкратов,
— Ничуть,—перебил Лопатин.—Заграничные
рабочие-социалисты совсем иной тип. Прежде всего они—эволюционеры, а не
революционеры, потому что у них есть свободе и организации
существуют легально. Возьмите вы германских социал-демократоз
рабочих. Они на законном; основании собираются, имеют своих
представителей в рейхстаге, у них свои легальные газеты. Или
возьмите английских тред-юнионистов, французских
синдикалистов, бельгийских социалистов—все они существуют легально.
Но если вы с кем-либо из них вздумаете заговорить о России,
об Америке и вообще о другом каком-либо государстве, а не
>о родном, то сразу убедитесь, .что они ничего не знают. Тогда
как Карпенко, Вольнов, Антонов2 удивили меня своей
начитанностью и широтой мысли. Удивляюсь, как они, работая на
заводах с утра до вечера, могли столько прочесть русской и
иностранной литературы—не только беллетристики, но и научных
книг. А Карпенко успел прочесть и А. Смита, и Дарвина, и
Луи Блана, и кое-что из Маркса, да и чего-чего он только
не читал! Мало того, прочитанное понимал, перерабатывал.
А Вольнов—этот, положим, постарше,—он русскую литературу
знает лучше многих интеллигентов. Встречи с ними мне прямо
доставляли наслаждение»3.
* Г. В. Плеханов, том III, стр. 131.
2 Фамилии рабочих, с которыми познакомили Г. Лопатина.
3 См. настоящий сборник, стр. 107.
13
Эта же черта характерна, и еще в большей мере, для
марксистского периода рабочего движения. Первые марксистские кружки
рабочих 90-х годов были заполнены именно такими рабочими,
глубоко, интересовавшимися разнообразными теоретическими
вопросами. Вот как, например, описывает К. М.
Тахтарев—активный работник социал-демократического движения. 90-х годов—
выдающегося рабочего деятеля этой эцохи—В. А. Шедгунова,
здравствующего щшыне:
«В. А. Ше лгу нов был положительно самый выдающийся
из всех рабочих, каких я когда-либо знал. Он решил
употребить все свои силы на то, чтобы поддержать, развить и
направить как следует рабочее дело. Он отдавался всецел*
служению общему делу рабочего движения, не упуская иг
виду ни малейшей мелочи фабричной жизни. Объединение
рабочих представителей рабочих районов Петербурга;,
начавшееся к осени 1895 года, было обязано ему и его
товарищам. В то же время вй могли увидеть его и в
университете на защите какой-либо интересной диссертации и в
аудитории высших женских курсов на: публичных лекциях» *.
Основоположники научного социализма Маркс и Энгельс, а г?
ними В. Ленин и Й. Сталин, всегда выдвигали на первый ила!
значение теории. Они настаивали на том, что ,без теории, без ле
родовой теории была1 бы немыслима победа пролетариата и его
партии. Ф. Энгельс в предисловии к своей работе «Крестьянская
война4 в Германии» цисал о том громадном преимуществе, которое
имеет немецкое рабочее движение по сравнению с движением i
других странах, в частности с английским рабочим движением
Это преимущество тогда заключалось в том, что немецкие рабочш
придавали теории огромное значение. В противоположность равно
душию к теории английских рабочих у немецких рабочих был<
широко развито изучение и усвоение научного социализма. Эт<
дало им возможность быстро подвигаться вперед, по пути орга
низации своего класса' и Ацентрического наступления прот-ш
капитала. Несмотря на позднее вступление в ряды международ
ного рабочего двцжейий, немецкие рабо(чие быстро догоняли \
перегоняли своих западных соседей.
Про русских рабочих-революционеров эпохи 70—90-х годов можн<
сказать, что у них интерес к теорий был, пожалуй, ещ* глубже,
чем в свое время у немецких рабочих, и интерес к тому же
всесторонний. Тем же глубочайшим интересом и приданием
первостепенного значения теории отличались всегда вся наша пар
тия с самого начала своего существова;ния и в частности; первы<
рабочие-марксисты.
Это обстоятельство явилось одним из основных условий гран
диозных, всемирно-исторических побед ж ycne^QB пролетариат*
России и СССР, й постепенного, по мере роста разложения не
мецкой социал-демократии ж благодаря непоколебимо революцион-
1 К. М. Tax тара в, Очерк петербургского рабочего движения 90-годов, Петро
град, 1918 г., изд-во «Жизнь и знание».
14
ной, выдержанной марксистско-ленинской деятельности ВКП(б),
перехода гегемонии в международном рабочем движении к нам,
к нашей партии.
Наряду с глубоким; интересом к чтению, к изучению
теоретических вопросов, в результате чего такой рабочий возвышался
в рабочей массе на целую голову, передовиков-рабочих, как тех,
которые включились в революционное движение во времена)
господства, народничества', так и тех, которые вступили в период
90-х годов в марксистские кружки, отличали еще высокие личные
нравственные качества. Это обстоятельство также имело
огромное политическое значение. Высокие личные качества,
неустрашимая борьба с самодержавием и капиталистами, стойкое
поведение на судебных процессах, в тюрьме, в ссылке, на' каторге
или эшафоте—все это привлекало сердца широких масс рабочего
класса, трудящихся вообще. Эта масса в значительном своем
большинстве была безграмотной, проводила1 жизнь в непосильном
труде на своих эксплуататоров, была забита и запугана.
Естественно, что ей было невмоготу самостоятельно разбираться в
вопросах политики и экономики, в теории вообще. Личные качества,
личный пример передовых элементов, выходцев из этой массы,
сыграли огромную роль в зарождении и развитии сознательного,
полного героизма и решительности движения рабочего класса,
в пробуждении трудящейся массы крестьянства для активной и:
упорйой революционной борьбы.
Необходимо отметить очень интересную черту, о которой
говорится в воспоминаниях ряда передовиков-рабочих того времени.
Это—классовый инстинкт, который верно подсказывал такому
рабочему, кто является главным его врагом, какова должна быть
истинная цель его борьбы.
Так, П. А. Моисеенко, известный руководитель знаменитой
стачки 1885 года на Морозовской фабрике в Орехово-Зуеве1,
имевшей огромное значение в развитии рабочего движения, еще
в середине 80-х годов, находясь в ссылке, в кругу исключительно
ссыльных народников-интеллигентов, ничего не зная о теорий
марксизма, но видя никогда; ни одного марксиста, постоянно
заводил речь о капиталистическом гнете и о необходимости борьбы
с деапиталой. За эти разговоры на него (набрасывалась вся
колония ссыльных, доказывая ему по тем; временам
«неопровержимую истину» о том, что капитализма в России вовсе. нет и не
может быть.
Это искание Настоящей цели из действительных путей борьбы
было свойственно далеко не только одному IT. А. Моисеенко.
Такие стремления были общими для подавляющего большинства)
передовиков-рабочих. Они не остались только желанием, а
претворялись! в такие дела, .как создание самими рабочими еще
в народнический период истории русского революционного
движения «Южно-русского рабочего союза» и «Северно-русского
рабочего союза».:
Воспоминания которого смотри в сборнике, стр. 109.
15
Несмотря на то, что эти союзы рабочих были организованы
передовиками-рабочими, входившими в народнические
организации, мысли, положенные в основу программных документов этих
союзов, уходили далеко вперед от теоретических основ
революционного народничества.
Программа «Северно-русского рабочего союза», руководителями
которого были рабочие Виктор Обнорский и Степан Халтурин,
выдвигала на первый план необходимость завоевания
политической свободы, считала своей главной задачей низвержение Це
только самодержавия, но всего тогдашнего экономического строя.
Она призывала рабочих й создаянию своей пролетарской партии,
прямо заявляя, что по своим задачам «Союз» тесно примыкает
к социал-демократическим партиям Запада.
Правда, наряду с этим программа «Союза» включала также
и ряд положений из области народнической теории.
Такая программа рабочих, выпестованных народнической
интеллигенцией, немало огорчила ее, как призна'вал это впоследствии
Г. В. Плеханов, бывший в 70-х годах еще правоверным
народником.
Народнический орган «Земля и воля», критикуя программу
«Северно-русского рабочего союза», вынужден был признать, что
рабочий вопрос и в России выдвигался вперед самой жизнью.
Г. В. Плеханов, став марксистом по прошествии некоторого
времени, заявил, что «к началу 1879 года рабочее движение
переросло народническое учение на целую голову»1.
Так, рабочие, в лице своих передовых представителей, под
влиянием классового инстинкта, своего бытия и уроков жизни
обогнали даже в области теории народническую интеллигенцию,
классовым инстинктом находили более правильный
революционный nytib в ;своей деятельности.
Программа «Северно-русского рабочего союза» показала, что и
русский рабочий уже с первых шагов своей революционной
деятельности ощущает международную солидарность, легко
воспринимает идеологию пролетариата, нашедшую широкое признание
у рабочих более передовых стран. Но еще за несколько лет
до появления «Северно-русского рабочего союза» на юге России
в 1874 году ясно вырисовываются очертания классовой
социалистической организации пролетариата. Хотя там организатором и
явился интеллигент—Е. О. Заславский, тем не менее вся
организация была рабочей, широко раскинувшейся вскоре, благодаря
организаторским усилиям самих рабочих, по всему югу России.
На «Южно-русском рабочем союзе» сказалось влияние деятельности
I Интернационала и учения К. Маркса.
Интересен устав этого «Южно-русского союза рабочих». В нем
очень ярко проводится идея полного несоответствия
существующего государственного строя интересам рабочих и необходимость
для них достичь своих прав посредством насильственного
переворота. А этот переворот должен уничтожить «всякие привилегии
1 Г. В. Плеханов, том Ш, стр. 181—182. Курсив автора.
Лб
й преимущества и поставить труд живого, личного и
общественного благосостояния».
Эти первые рабочие организации, далеко еще но овладевшие
таким мощным оружием, как марксизм, явились большим
«организующим началом в среде рабочих. Они явились
непосредственными предшественниками нашей партии, закладывая в эту раннюю
пору русского капитализма определенные крепкие основы
будущей мощной пролетарской организации.
Было бы однако совершенно неправильно относить честь
появления марксизма в России на долю этих первых сознательных
революционеров-рабочих. Учение марксизма, как говорил В. И.
Ленин в «Что делать?», могло быть принесено в рабочую среду
только извне.
«В России,—писал Ленин в 1902 году,—теоретическое
учение социал-демократии возникло совершенно независимо от
стихийного роста рабочего движения, возникло как
естественный и неизбежный результат развития мысли у
революционно-социалистической интеллигенции» *.
А в другом месте В. Ленин эту же мысль высказал еще
более ярко. В своей книге «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме» он в 1920 году писал: «Большевизм возник в 1903 году
на самой прочной базе теории марксизма. А правильность этой—
и только этой—революционной теории доказал не только
всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий
и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в
России. В течение около полувека передовая мысль в России, под
гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала
правильной революционной теории, следя с удивительным
усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом»
Ебропы и Америки в этой области. Марксизм как единственно
правильную революционную теорию Россия поистине выстрадала]
полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного
революционного героизма, невероятной эЬергии и беззаветности
исканий, обучения, испытания на практике, разочарований,
проверки, сопоставления опыта Европы»2.
Как известно, приход марксизма в Россию состоялся в виде
появления группы «Освобождение труда», пятидесятилетний
юбилей образования йоторой приходится как раз в нынешнем
1933 году. Однако этот поворот к марксизму выразился по только
в виде маленькой группы эмигрантов, бывших чернопередельцев,
с Г. В. Плехановым во главе. Как сейчас доказано, одновременно
с этой группой, жившей за границей, внутри России начали
складываться марксистские группы, как, например, группа Бла-
гоева в Петербурге, которая ставила своей основной задачей
работу среди рабочего класса.
В своих воспоминаниях В. С. Панкратов сообщает о том, что
в это же время, именно в самом йачале 80-х годов, существовала
1 В. Ленин, т. IV, стр. 384—385, изд. 3-е.
2 В. Ленин, т. XXV, стр. 175, изд. 3-е.
2 Рабочее движение в России.
в Саратове маленькая группа интеллигентов, усердно
изучавших теорию Маркса и стремившихся повлиять на
рабочих-народовольцев с целью превратить их в марксистов.
К началу 90-х годов этот переход революционного движения
в России к марксизму намечается довольно явственно.
Революционная интеллигенция все больше увлекается учением К. Маркса.
Наряду с этим создаются все в большем числе подпольные
революционные кружки рабочих с марксистской окраской.
В середине 90-х годов Ленин начал создавать в Петербурге
партийные кружки, делавшие первые шаги в области
политического руководства рабочим движением.
Раньше, в 70-х годах, передовые рабочие, входя в состав
народнического движения, вместе с интеллигентами-народниками
проделывали эволюцию этого направления, вплоть до активного
участия в партии «Народная воля».
Строго говоря, эта партия народничества своей героической
борьбой против самодержавия отвлекала передовиков-рабочих от
начавшейся у них в лице «Южно-русского» и «Северно-русского
рабочего союза» эволюции в сторону присоединения русского
пролетариата к западноевропейскому марксистскому рабочему
движению. В. С. Панкратов в своих воспоминаниях показывает,
как рабочим приходилось под влиянием невозможности в рамках
самодержавия создать рабочие организации и вследствие
необходимости защищаться от диких преследований царских
сатрапов и охранников сворачивать на путь террористической борьбы
под знаменем партии «Народная воля». Отсутствие в России
того времени теории марксизма и ее представителей заставляло
рабочих увязывать экономику с политикой только
по-народовольчески.
Но к 90-м годам положение начало сильно изменяться. Еще
нет марксистской рабочей партии в России, создаются только
отдельные кружки, но передовые элементы рабочего движения
явно становятся под знамя международного марксизма. Уже
первая первомайская, конечно нелегальная, массовка в Петербурге
в 1891 году, на которой собралось солидное по тем временам
количество рабочих, проходит под знаком полной солидарности
и тесной связи с международным рабочим движением. Речи
четырех ораторов-рабочих, выступавших на этой массовке, носили
уже явный отпечаток марксизма.
С начала 90-х- годов русский рабочий класс начинает по-
настоящему и всерьез все больше и больше овладевать
могущественным оружием своей борьбы—марксизмом. А эта теория
сразу вносит свет в сознание рабочих, внушает им:
непоколебимую уверенность в неизбежность победы великого дела
пролетариата, в безусловное и полное торжество социализма.
Рассказывая в пространных и интересных мемуарах о своих
первых исканиях правильной дороги, А. Шаповалов пишет:
«Будущий социалистический строй, о котором говорила дро-
грамма «Народной воли», представлялся мне как нечто неясное,
неоформленное, далекое... Я был молод, но я был измучен тя-
13
желой, полной труда жизнью, и тот порыв, на который способна
молодость, звал меня лишь к смерти... Но как раньше сомнение
в существовании бога, так теперь сомнение в непогрешимости,
верности народовольческой догмы снова выбило меня из колеи.
Я хотел погибнуть, протестуя против обмана, жертвою которого
являются рабочие, но в теоретических построениях партии
«Народная воля» я почувствовал новый, не менее ужасный, но более
тонкий обман.
Знакомство с теорией марксизма в 1894 году перевернуло все
у меня в голове. На место мрачного отчаяния у меня загорелась
надежда»1.
Не к отчаянию, не к смерти, а к жизни и радостям действенной
борьбы звал марксизм наших передовиков-рабочих 90-х годов.
И вскоре уже -марксизм завоевал гегемонию внутри рабочего
движения.
С помощью теории марксизма создав свою партию, насквозь
пропитанную духом большевистской непримиримости и
непреклонности в борьбе, русский рабочий класс начал быстро под
руководством Ленина одерживать победу за победой, хотя за длинный
путь борьбы ему пришлось понести немало поражений, делать
не раз отступления. Однако и поражения, как и временные
отступления, научали российский пролетариат перестраивать свои
ряды, менять свою тактику, собирать свои силы, накапливать
энергию и снова наносить мощные удары и по помещичьему
самодержавию и по капиталистам.
Уже в 1917 году осуществились слова рабочего Петра Алексеева,
говорившего на судебном процессе: «Подымется мускулистая рука
миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное
солдатскими штыками, разлетится в прах!» В дальнейшем
оказалось, что даже сами солдатские штыки перестали ограждать
царизм, повернули против него и вместе и под руководством
рабочего класса свергли власть помещичьего класса.
Пал колосс самодержавия. А затем были изгнаны и капиталисты,
попытавшиеся, в союзе с помещиками, утвердить в России на
долгое время вместо многовекового гнета царизма не менее
тяжелый гнет диктатуры буржуазии. Русский пролетариат совершил в
октябре 1917 года победоносную Октябрьскую революцию, все
великое международное значение которой сейчас еще вряд ш
может быть вполне осознано и оценено ее участниками и
современниками.
В результате сорокалетней борьбы и работы русский пролетариат,
руководимый своим авангардом—большевистской партией,
предводимый такими вождями, как В. Ленин, а затем И. Сталин,
достиг нигде невиданных до сих пор великих,
всемирно-исторических побед.
Установившаяся в России диктатура пролетариата открыла собой
эру гигантского революционного преобразования
капиталистического мира в социалистический строй. Начавшееся в СССР со-
1 Шаповалов А., По дороге к марксизму, стр. 64 и VIII.
2* 19
циалистичоское строительство, осуществление огромного
пятилетнего плана в четыре года, гигантское значение второй пятилетки,
совершающиеся грандиозные сдвиги во всех областях нашей жизни
и явный распад капитализма, четвертый год подряд не
вылезающего из тяжелого кризиса,—все это говорит о том, что наступает
последний час капитализма, что недалеко уже торжество
пролетариата во всемирном масштаба
У нас идет напряженное строительство социализма, все ближе
становится цель осуществления бесклассового общества. У- них
во всех капиталистических странах, идет глубокий развал. Этот
развал, этот невиданный четырехлетний кризис капитализма—
не случайность. Он был вызван длительным процессом
абсолютного обнищания масс, что является одним из основных законов
развития капитализма.
Недавно один английский автор, Аллен Харт, опубликовал
книгу «Положение рабочего класса в Британии», которая вскрыла
на основе современных фактов и документов гигантские
социальные контрасты к нищету рабочего класса старой
капиталистической страны—Англии, где рабочий класс находился долгое
время в привилегированном положении.
Наряду с накоплением огромных богатств на одном полюсе—
у кучки финансовых магнатов—наблюдается страшная нищета',
прямой голод рабочих, ютящихся в тех же самых трущобах,
которые были описаны Ф. Энгельсом, только постаревших с тех
пор на девяносто лет.
Эту жалкую картину существования рабочих в трущоба^ должен
был признать, не мог замолчать, принц Уэльский в своей речи
в Лондоне 17 мая 1933 г. «Это,—говорил наследник престола
Англии,—огромное количество трущоб в нашей стране имеет
больше чем столетнюю давность. Они выросли вокруг
индустриальных предприятий во времена промышленной революции
прошлого века... Я лично осматривал много таких мест и был
повергнут в ужас, что подобные условия могут существовать в^гакой
цивилизованной стране, как наша».
Мы надеемся, что наш читатель, прочитав наш сборник,
получит, несмотря на всю его неполноту, определенное и ясное
представление об огромном значении дела первых сознательных
рабочих, поднявших знамя великой борьбы еще в 70—90-х годах
прошлого столетия. Он должен также понять, что без их
героических усилий в борьбе и неустанных стремлений к познанию
теории не могло бы быть тех величайших побед пролетариата,
свидетелями которых мы являемся.
Из одиночек-революционеров, из маленьких подпольных
кружков постепенно, в ходе тяжелой, неустанной и героической борьбы,
вырастала и крепла великая фаланга пролетариата—наша
коммунистическая партия, приведшая рабочий класс к торжеству
на одной шестой части света и ставшая руководительницей
пролетариата всего мира.
В свое время Ленин, создавая в 1900 году нелегальную газету
партии «Искра», поставил ее эпиграфом слова из одного стихо-
20
творения декабристов: «Из искры возгорится пламя». Он глубоко
верил, что рабочее движение и его авангард—партия—вырастут
в огромную силу и начнут переворачивать весь мир.
Это свершилось.
Из искры действительно возгорелось пламя. Семя революций
и коммунизма, посеянное когда-то немногочисленными
революционерами-одиночками или маленькими кружками, дало под
неустанным руководством нашей партии и ее вождей Ленина;
и Сталина обильные всходы. Работа по разрушению старого
капиталистического мира не ограничилась рамками прежней
Российской империи. Наряду с происходящим сейчас кипучим
строительством социализма в СССР во всем мире идет кровавая
борьба трудящихся масс против ига капитализма, за диктатуру
пролетариата, за социализм. И недалек уже тот день, когда
международный пролетариат вместе о угнетаемыми империализмом
трудящимися массами колоний вступит в последний и
решительный бой и одержит окончательную победу над
капиталистами всех стран.
ВЛ. МАЛАХОВСКИЙ
Речь рабочего Петра Алексеева
Произнесенная на суде перед особым присутствием
правительствующего сената 10 марта 1877 года *.
Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем
ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол
судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ
и времени от непосильного труда и скудного за это
вознаграждения.
Десяти лет мальчиками нас стараются проводить с хлеба долой
на заработки.
Что же нас там ожидает?
Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за
куска черного хлеба, поступаем под присмотр взросчшх,
которые розгами и палками приучают нас к непосильному труду;
питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного,
зараженного разными нечистотами воздуха. Спим где попало, без
всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь
лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством
разных паразитов... В таком положении некоторые навсегда
затупляют свою умственную способность, и не развиваются
нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то,
что только (может выразить одна; грубо воспитанная, всеми забытая,
от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом
зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим,
приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период.
И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту,
кроме ненависти?«
Под влиянием таких же жизненных условий с малолетства
закаляется у нас решимость до поры терпеть с затаенной
ненавистью в -сердце весь давящий нас гнет капиталистов
и без возражений переносить все причиняемые нам
оскорбления.
Взрослому работнику заработную плату довели до минимума;
из этого заработка все капиталисты без зазрения совести
стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую
1 Процесс пятидесяти участников народнического движения происходил в Петербурге
с 21 февраля по 14 марта 1877 года. Судило особое совещание сената. По этому
лету привлекались: П. Алексеев, С. Агапов, С. Бардина л др. Подсудимые обвипялись
в пропаганде среди крестьян и рабочих, распрострапеппи нелегальной литературы
с целью нпзворконил самодержавия. Из речо1 подсудимых ообенно замечательна
речь раб-.что Л. Алексеева и речь С. И. Бардиной. Пятнадцать человек было при-
гозорепо сенатом к каторжным работам.
23
копейку и считают этот грабеж Доходом. Самые Лучшие для
рабочих из московских фабрикантов—и те сверх скудного заработка
эксплоатируют и тиранят рабочих следующим образом.
Рабочий отдается капиталисту на сдельную работу,
беспрекословно и с точностью исполняет все рабочие дни д работу,
для которой поступил, fie исключая и бесплатных хозяйских
чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им,
по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска
хлеба, который достается им семнадцатичасовым дневным трудом.
Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений
фабрикантов, потому что слова мои могут показаться
неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников
и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских
фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других.
Председатель, сенатор Петере. Это все равно. Вы
можете этого не говорить.
Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде
одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния.
Семнадцатичасовой дневной труд—и едва можно заработать
сорок копеек. Это ужасно. При дороговизне съестных припасов
приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку
семейного существования и уплату казенных податей.
Нет, при настоящих условиях жизни работников невозможно
Йдовлетворять самым необходимейшим потребностям человека,
усть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы,
скрепя сердце, будем »смотреть на них до тех лор, пока освободим
из-под ярма нашу усталую руку и свободно сможем тогда
протянуть ее для помощи другим. Отчасти все это странно, все это
непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности
сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не
с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал оемнадцагичасовым
трудом кусок черного хлеба.
Я несколько знаком с рабочим вопросов наших
собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не
преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные
минуты и много бессонных ночей проводят* за чтением книг;
напротив, там этим гордятся и о нас отзываются как о народе
рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться?
Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий?
Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка?
Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника?
Где и чему могут они научиться?
А загляните в русскую народную литературу. Ничего не
может быть разительнее того примера, что у нас издаются для
народного чтения такие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан
Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах»
и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие
понятия о чтении: одно—забавное, а другое—божественное.
Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все
еще не избавлены от преследований за1 чтение книг; в особекшости
если у него увидят книгу!, в которой говорится о его
положенного
тогда уж держись. Ему прямо говорят: «Ты, браг, не похож
на рабочего, ты читаешь книги». И страннее всего то, что и иронии
незаметно в этих словах, что в России походить на рабочего—то
же, что походить на животное.
Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему
настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как
нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уже как будто
и 'на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках?
Неужели мы невидим, как вокруг нас все богатеют и веселятся
за нашей спиной? Неужели мы не можем! сообразить и понять,
почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш
невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и
откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не
чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая
всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно
и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для
образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить?
Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах
высказанное мнение о найме рабочего класса?
Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не
чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий
же народ, хотя и остается в первобытном положении и до
настоящего времени не получает никакого образования, смотрит
на это как на временное зло, как на самую правительственную
власть, захваченную силою, и только для одного разнообразия
ворочающую все с лица наизнанку. Да больше и ждать от нее
нечего.
Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно
не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет
поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина,
выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами
вперед. Но, увы! Если оглянемся назад, то получаем полное
разочарование, и если при этом вспомним незабвенный
предполагаемый день для русского народа, день/ в который он, с
распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить
свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство—19
февраля.". И что же? И это для нас было только одной мечтой и
сном... Эта крестьянская реформа 19 февраля 1861 года1, реформа
1 19 февраля 1861 года царем Александром II был подписан манифест об
«освобождении» крестьян от крепостной зависимости. Эта реформа была вызнана всем ходом
экономического развития России, в силу которого крепостное хозяйстгю явно
разлагаюсь, развитие капитализма требовало замены крепостного хозяйства и
крепостнических отношений вообще новыми формами хоз> йства.
Необходимость отмены крепостного права вызывалась также постоянными
крестьянскими волнениями, выраставшими временами в целые крестьянские восстания. Эта
борьба крестьян против помещиков являлась основным противоречием феодально-
крепостнической общественно-экономической формации. Банкротство системы
крепостных отношений особенно ярко выявила крымская война.
Однако сила революционного напора снизу оказалась недостаточной, для того
чтобы помешать помещичьему классу провести реформу всецело в своих классовых
интересах.
25
«дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом,
не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина.
Мы попрежнему остались без куска хлеба', с клочками никуда
не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно,
если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него.
за исключением праздничного дня, все рабочие под строгим
надзором и не явившийся в назначенный срок на работу не остается
безнаказанным, а окружающие сотни подобных же фабрик набиты
крестьянским народом, живущим при таких же условиях,—значит
они все—крепостные!
Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить
повышения пониженной самим капиталистом заработной платы,
а нас обвиняют в стачке и 'ссылают в Сибирь—значит мы
крепостные.
Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены
оставить фабрику и требовать расчета вследствие перемены доброты
материала и притеснения от разных штрафов, а нас обвиняют в
составлении бунта и прикладом солдатского ружья
приневоливают продолжать у него работу, а некоторых как зачинщиков
ссылаются в дальние края,—значит мы крепостные.
Если из нас каждый отдельно не может подать жалобу на
капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы
кулаком и пинками гонит вон—значит мы крепостные.
Из всего мною высказанного видно, что русскому рабочему
народу остается только надеяться на себя и ни от кого не
ожидать помощи, кроме как ют одной нашей интеллигентной
молодежи.
Председатель (вскакивает и кричит). Молчите, замолчите!
Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает). Она одна
братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась,
подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны
Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала,
что значат и отчего это отовсюду слышны крестьянские, стоны.
Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного,
стонущего под ярмом деспотизма-, угнетенного крестьянина. Она
одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от
Реформа, являясь шагом вперед по превращению России в буржуазную монархию,
была в то же время чисто помещичьим делом и носила явпо грабительский по от, о-
шеншо к крестьянам характер.
Крестьянам не дали даже всей той земли, которой они пользовались до реформы.
Ленин правильно считал, что «освобождение» 1861 года — это но освобождение
крестьян от власти помещиков, а освобождение крестьян от «земли». От крестьян
было «отрезано» в общей сложности около одной трети их земли. Мало того,
их.заставили выкупать фактически свою собственную Землю и по необыкновенно высокой
цене. Так, в нечерноземной полосе крестьяне должны были уплатить 342 миллиона
рублей, в то время, когда стоимость земли составляла 180 миллионов рублен. Кроме
того выплачивались высокие проценты. Платежи были отменены только иод
влиянием революции 1905 года.
Реформа отнюдь не уничтожила целиком крепостнических отношений. Принявшая
широкие размеры «отработочная система» по существу являлась лишь подновлением,
подчисткой старой барщины.
26
искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины
на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не
опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех
наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех
пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к
общему благу народа. И одна она неразлучно пойдет с нами до тех
пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука
миллионов рабочего люда...
Председатель (волнуется и, вскочит, кричит). Молчать!
Молчать!
Петр Алексеев (возвышая голос)... и ярмо деспотизма,
огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!
Жизнь русского рабочего
полвека тому назад
Из записок рабочего Василия Герасимова
I.
Как известно, в Петербурге существует1 воспитательный дом
на Гороховой улице, у Красного моста1, в который отдают на
воспитание законных и незаконных детей. 14 января 1852 года, спустя
две недели после моего рождения, в этот дом попал и я; туда
принесла меня родная мать, как это я узнал впоследствии.
В этом доме я пробыл не более двух недель, так как детей
обыкновенно не оставляют там, а отдают на воспитание по русским
и чухонским деревням.
Таким образом я попал в Финляндию- к одному бедному
крестьянину; сюда меня привезли 30 января 1852 года, т. е. спустя
две недели, как мать оставила меня в воспитательном доме.
Здесь мне жилось плохо, так как меня кормили не грудью, а
коровьим молоком. Трех лет я лишился той женщины, которую
я называл матерью 'или названной матерью. По смерти ее я
остался на руках у овдовевшего старика.
На седьмом году моей жизни &о мне приезжала из Петербурга
несколько раз моя родная мать и привозила мне разные подарки.
Она не умела говорить на чухонском языке, а я не умел по-
русски.
Помню только, как она гладила меня по голове и плакала,
и ее слезы оставили во мне на всю мою жизнь глубокое горькое
впечатление... С тех пор я ее не видал.
Когда мне было семь лет, я лишился первого своего
воспитателя, этого доброго старика, и остался совершенно один. Я попал
к доктору в лазарет. Лазарет—это госпиталь, который
принадлежи!1 к воспитательному дому, и в нем помещаются
больные дети.
Здесь живет доктор, которому препоручен надзор не только
над теми питомцами, которые находятся на излечении у него
в лазарете, но и над всеми живущими в окрестностях, по
деревням. Последним он делает смотр раз в месяц, причем следит
как за здоровьем детей, так и за тем, чтобы воспитатели их
обращались с ними прилично.
Прожив у доктора около недели, я был: отправлен в другую
деревню, где доктор подыскал мне нового воспитателя в лице
1 З.ппискп рабочего В. Герасимова вышли в издании «Красной нови» в 1923 году
2 Воряес. существовал во времена царизма.
28
одного богатого крестьянина. Семья этого второго моего
воспитателя состояла только из мужа и жены, оба они были ко мне
очень добры. Но я здесь пробыл недолго—крестьянин, взявший
меня, прогорел, и доктор опять поместил меня на новое место,
де одному доброму пастору. Пастор учил меня грамоте. Мне
было одиннадцать лет, когда однажды утром разбудила меня
сестра пастора и объявила роковое известие, что меня отправляют
в Петербург и что я должен с ними проститься навсегда. Меня
стали одевать в дорожную одежду.
Я опять в лазарете.
В лазарете много детей и воспитателей; все они плачут и
прощаются. Меня провожали жена пастора и его четыре сына,
которые были моими друзьями. Они со • слезами просили господина,
доктора оставить меня еще у них хотя на один год, но доктор
сказал, что оставить не может, так как на генеральном осмотре
я уже был отмечен самим Безобразовым *, и, засмеявшись,
прибавил, что «Васе пора жениться, и поэтому, мол, его надо увезти
к русским». Нас стали сажать в телегу. Жена пастора подошла
ко мне и стала давать наставления, чтобы я не учился врать,
красть, курить табак, пить вино и т. п. Наконец мы расстались...
Прощайте, добрые люди!
Я должен отдать справедливость финляндцам за их
человеческое обращение спитомцами: это народ в высшей степени
добродушный. Хотя я был, проказник и упрям, но наказан был всего
лишь два раза, и то слабо, а виноват я был много. Однажды,
например, со злым умыслом я пошел топтать рожь, но за мною
шла девушка, которая, заметив мою проделку, хотели схватить
меня, но я отчаянно сопротивлялся ей, укусил ее за грудь и,
вырвавшись, спрятался в одном старом погребе; меня скоро нашли
и тут же наказали. Другой раз было дело так. Я ушел в соседнюю
деревню и там остался ночевать. Вся деревня искала меня всю
ночь по лесу. За это, явившись домой, я получил несколько ударов
прутиком по спине от названной матери. Бывает иногда, что их
родные дети жалуются на то, что родители обращаются с
питомцами лучше, чем с ними, но на это обыкновенно им отвечают:
— Вы наши родные, вы всегда при нас будете, а он чужой-
сегодня здесь, а завтра нет.
Дорогой мне было скучно, хотя нас было много мальчиков
и девушек и все были одного возраста. Мы ехали ночью, потому
что наше начальство боялось побегов; днем же спали или
рассуждали о том, куда нас отправят и &ак будем жить у новых
русских воспитателей.
Мы приехали в воспитательный дом. Здесь нам объявили,
что мы будем отправлены в город Нарву, на "Кренгольмскую
мануфактуру2, где мы, согласно контракту, заключенному нашим
1 Инспектор воспитательного дома в Петербурге, где воспитывался Герасямов.
2 В настоящее время Крепгольмская мануфактура находится на территории Эстонии.
Преждо город Нарва, где построена эта фабрика, входил в состав Эстляндской
губернии.
29
йачальством с хозяином этой фабрики, должны прослужить
десять лет.
На фабрику мы прибыли в первых числах июля 1864 года;
здесь нас поместили в седьмой казарме—девушек в верхнем этаже,
а нас в нижнем. Я, вместе с тридцатью другими мальчиками,
попал в № 3. Как только мы разместились в своем новом жилище,
к нам явился учитель и произвел нам нечто вроде экзамена,
заставляя нас молиться по православному обряду. Но так как я
молиться по-православному не умел, то он наградил меня
несколькими пощечинами и объявил, что если я завтра не буду хорошо
молиться, то получу розги.
По уходе учителя я долго зубрил при помощи одного из
русских питомцев молитвы, стараясь избавиться от наказания,
которым грозил мне учитель. Выучив молитвы, я подошел
к своей кровати и оглянулся. Комната наша была довольно
обширная: посреди ее стояла русская печка; к одной из стен был
привешен большой медный рукомойник, а вдоль стен стояли
наши койки. Койки наши были железные; на них—соломенные
тюфяки и такие же подушки, простыни, наволочки и суконные
одеяла. Рассмотрев все это, я лег на свою кровать, но мне долго
не спалось на своей новой постели.
Предо мною пронеслось все мое прошлое... «Но что же будет
дальше?» думал я. Суровый прием, оказанный нам на первых
порах, угрозы учителя и те пощечины, которыми он меня
наградил при первой же встрече, не порождали розовых надежд,
и будущее мне рисовалось в самых мрачных красках. Мне было
грустно...
И как хотелось мне хоть раз еще увидеть своих добрых
воспитателей, свою родную мать, как хотелось горячо-горячо прижать
их к своей наболевшей груди, рассказать им; о своем безвыходном
положении, поделиться! с ними своим горем. Но, уве! Их не было...
И я заплакал горькими детскими слезами.
На другой день, утром, я встал с тяжёлой головой.
Убравши свою постель, я пошел на двор. Здесь было много
мальчиков и девушек; с последними нам строго воспрещалось
говорить или иметь какие-нибудь отношения. Все мы были
печальны и скучны, нигде не было видно детской веселости.
На этом же дворе помещались, кроме нашей, еще шесть других
казарм, в которых >жил вольный народ.
Нас из Финляндии было двести человек: сто мальчиков и сто
девушек; русских было столько же; всех вместе—четыреста
человек. На третий день нас повели на фабрику и дали нам: черные
номера. Черными у нас назывались номера, населенные
прядильщиками; назывались они так в отличие от белых номеров, где
жили ткачи, которые вследствие условий работы могли одеваться
и содержать свои номера значительно чище первых. Мы почти
все попали в «черные номера, т. е. в прядильщики, только четыре
счастливца попали в ткачи. Мне дали черный номер—№ 107.
С этих пор я стал ходить на работу.
На работу нас поднимали в четыре часа утра. Я работал
30
йа ватерных машинах, и мне приходилось стоять все время на
одной ноге, что было очень утомителько. Этот адский труд
продолжался до восьми часов вечера.
Измученные этой работой до полного истощения сил, мы
принуждены были в девять часов вечера итти еще в школу, где нас
учили, или, вернее сказать, мучили, до одиннадцати часов.
В школе нас обучали письму, чтению и арифхметике. Но конечно
учение наше шло очень плохо: до учения ли нам было в этот
поздний час. Тем более шло оно плохо, что наш учитель
принадлежал к типу тех педагогов, которые признают кулак и розгу
лучшими, средствами для воспитания детей. Мы очень боялись
учителя; бывали случаи, что некоторые из нас падали в обморок,
когда учитель набрасывался tea них с поднятыми кулаками.
Усталые, измученные, дрожа каждую минуту в ожидании толчков и
затрещин, мы ровно ничего не выносили из школы. Я помню,
например, как один ученик делал у нас вычитание так: 2—2=2.
И этот ученик учился уже восемь лет.
По праздникам и по воскресеньям к нам! приезжал священник
и учил нас закону божию.
По воскресным дням и по вечерам, по окончании работ, я не
смел выйти никуда без билета, который должен был брать у
учителя. Он, выдавая билет, обыкновенно говорил: «Смотри, я
отпускаю тебя на час; если ты просрочишь, то в карцер или розги».
В карцер сажали на хлеб и на воду, а розог давали от двадцати
пяти до ста. Розгами били в казарме, и при этой операции
находились учитель, управляющий Александр Егорович Фрей и
десятник, а наказывали сторожа. На фабрике же наказывали директор
и его помощник Василий Васильевич Тринкин. Эти лица были
настоящие тираны; особенно отличались Тринкин и учитель.
На фабрике наказывали плетьми. В конторе постоянно у дверей
стоял палач Голянищев, который бил по приказанию начальников.
Я приведу несколько фактов, как били меня самого. Один раз
я нечаянно сломал щетку, за что получил двадцать пять ударов
плетью, другой раз—пятьдесят ударов за^ то, что проехал на
подъемной машине с четвертого этажа в третий; меня били так
сильно, что на моей спине не осталось белого пятна—вся была
черная как сапог. В карцере я сидел несколько раз; так,
однажды я попал туда за то, что не успел на поверку. Не стану
говорить о том, сколько я головомоек получил от десятников и от
других. Скажу только, что на фабрике мастера и подмастерья явно
убивали детей. Я сам видел, как один подмастерье бил одну
девушку, которая на другой же день слегла в больницу и умерла.
Детей ставили часа на два на колени на осколки старых кирпичей
и на соль, таскали за волосы, били ремнями. Словом сказать,
делали с йимй все, что только хотели.
Пища у нас была самая скверная; каждый день одни щи и по
маленькому куску говядины, а кашу варили только раз в неделю,
в субботу вечером.
Иногда нам варили горох. Из-за него раз у нас вышла целая
история. Однажды сварили нам его с червями; мы вышли к
31
Фрею и просили его дать нам на ужин селедок, так как горох
мы есть не можем. Но он отказал. Потерпев здесь неудачу, мы
решили отправиться к исправнику, но тут вышло еще хуже:
нас отпороли наславу. -Летом было особенно плохо, так как
капуста была гнилая, мясо тухлое, хлеб заплесневевший.
Одежда наша состояла из пальто, полушубка, сапог, башмаков
и шапки,—вот и весь наряд. Белья нам давали две пары на
полгода, переменяли нам его каждую субботу; но, несмотря на
это, белье у нас было всегда грязцо, так как верхней одежды у
нас для работы не было и нужно было работать в одном бельо.
В первый же день по прибытии на фабрику белье наше
загрязнялось до того, что не было признака, что оно мылось хоть когда-
нибудь. Мы ходили грязпые и оборванные. Летом мы еще кое-как
перебивались с этой одеждой, но зимою нам было невыносимо
холодно, так как одежда у, нас была рваная, а полушубок не
покрывал и колен, а (между тем казарма, в которой мы жили, от-
стояла от фабрики почти на целую версту,—вот тут-то и пробирал
мороз.
Я еще не говорил ничего о нашем хозяине—Оресте Федоровиче
Кольбе.
Это был в полном смысле деспот. Однажды мне пришлось
попасть к нему в когти. Это было вот как. Раз, по окончании
работ, я пошел с товарищем в молочную лавку. Мы там купили
хлеба, масла и еще чего-то, не помню. Лавочник, как это водится,
дал нам по папироске, и мы, закуривши, вышли из лавки, но,
как на грех, навстречу нам попался хозяин, который, увидев нас,
подозвал меня к .себе и спросил, питомец ли я. Получив
утвердительный ответ, он сильно рассердился.
— Такой молокосос, а куришь!—закричал он и, обругав меня
непечатным словом, схватил за волосы и начал бить по щекам.
Не ограничившись этим, он подозвал сторожа и велел на другой
день привести меня в контору, но, подумав немного, приказал
сторожу отвести меня к Фрею и посадить в карцер.
Но этим дело еще не кончилось. На другой день я по ошибке
был вызван в контору. Узнав от писаря, что он меня не вызывал,
я пошел было назад, но вдруг совершенно неожиданно наткнулся
на Тринкина. Я испугался не на шутку и хотел увильнуть
Ът этой неприятной встречи, но было уже поздно. Как только
поровнялся я с ним;, он накинулся на меня и сильно побил.
Вот как дорого обошлась Мне эта злополучная папироска.
Но жаловаться было некому, да и незачем. Инспектор
воспитательного дома, господин Безобразов, приезжал только раз в году
И то никаких жалоб не принимал.
В 1868 году, около рождества, я маслил большой шкаф
ватерной машины "и попал в нее рукой. Ушиб был настолько силен,
что меня отправили в больницу, где я пролежал четыре месяца.
По выходе из госпиталя меня, по моей просьбе, перевели
в ткацкую. Здесь мне было немного лучше; я работал на двух
станках и зарабатывал от 18 до 22 рублей в месяц. Из этих
Денег хозяину платил за свое содержание 8 рублей, а осталь-
32
йымй Покрывал Долг, Цолучая йа руки лишь 5 копеей с рубля.
Долгу к этому времени у меня набралось до 136 рублей.
При поступлении на фабрику директор положил жалованья нам
по 4 рубля; из этих денег нам давали лишь 8 копеек в месяц,
т. е. по две копейки с рубля. За такое жалованье я жил целых
четыре года. До шестнадцати лет хозяин брал с меня за
содержание 6 руб. 50 коп. Поэтому я оставался должен ему каждый
месяц по 2 руб. 50 коп., а иной раз и больше, так как с нас
часто брали штраф за разные провинности и эти штрафные деньги
присчитывались к долгу. Когда мне наступил двадцатый год,
с меня хозяин стал брать за содержание по 10 рублей в месяц.
Таким-то образом и составился мой долг, на покрытие которого
шел почти весь мой заработок. Через три года мне удалось
выплатить все, что я должен был хозяину. Но положение мое
после этого не особенно улучшилось, так как мне все-таки не
выдавали на руки весь мой заработок, а только 10 копеек с рубля;
остальные деньги шли в ссудо-сберегательную кассу, и я мог их
тратить лишь под контролем хозяина. Из этих денег я мог
покупать себе одежду, пищу и другие необходимые вещи. Тецерь
я ходил постоянно в чистом белье; одежда у нас грязнилась мало,
так как в ткацкой работа была чистая.
В 1869 году, на третий день троицы, на нашей фабрике елу-
чилось ужасное событие: с моста свалились в реку сто пятьдесят
женщин; некоторых удалось вытащить, но, как говорили,
семьдесят пять из них пропали без следа. Обстоятельства этого
происшествия были следующие. Кренгольмская мануфактура
считается самой большой фабрикою в России, здесь в то время
работало более двенадцати тысяч вольного народа. По окончании работ
хозяин каждый вечер производил строгий обыск рабочих,
опасаясь, чтобы они не унесли чего-нибудь с собой из фабрики.
Обыск этот производился на мосту, через который проходили
йа фабрику. Мост этот стоял у самых больших порогов реки,
посредине- которой стояла фабрика. Помимо моста на фабрику
никакого прохода не было, так как она, находясь на середине
реки, была окружена со всех сторон водой. Мост был деревянный
и существовал уже 6 1848 года. Поперек моста стояли четыре
рогатки, сквозь которые в четыре ряда проходил народ: через
;первые две рогатки шроходили мужчины, а через, остальные
две—женщины. Женщин обыскивали сторожихи, а нас,
мужчин,—сами сторожа. На третий день троицы в 1869 году1
случилось, что сторожихи куда-то пропали, и поэтому женщинам
пришлось ждать довольно долго, а между тем с фабрики
приходили все новые толпы женщин и становились в ряды.
Ожидание длилось долго. Наконец женщины вышли из терпения,
задние нажали передних, которые, прижатые к перилам, налегли
со всей тяжестью на эту гнилую хрупкую преграду, сломили
ее и начали падать в реку. Между тем задние, не зная о
случившемся, продолжали напирать. Всех уцавших в реку, как я уже
говорил, было более ста пятидесяти, и около половцны из них
былц убиты.
3 Рабочее движение в России»*:.
33
Как бы вы думали—было за это что-нибудь хозяину? Нет, ой
никакой ответственности не подвергся. Это событие возбудило
сильное негодование в народе.
3 1871 году повторился подобный же случай. У нас строился
новый четырехэтажный корпус. Он был уже готов, и
оставалось только доделать карниз. Вокруг него высились леса, на
которых находилось до восьмисот рабочих. Леса] эти, вероятно,
были построены очень непрочно, так как в один прекрасный день
они рухнули, и все работавшие на них полетели вниз. Многие
убились до смерти, многие были покалечены на всю жизнь. Но
хозяину однако и на этот раз ничего не было. Народное
негодование еще более усилилось.
Хотя мы теперь были уже на возрасте, но телесное наказание
к нам применялось еще с полной силой. Кто плохо работал,
того мастер бил по лицу. Иногда эти побои были очень жестоки;
так, однажды он ударил с такой силой одного питомца, что
у того сделались нарывы в ушах, он слег в больницу и умер.
Дело было так. У одного питомца, Антона Дмитриева,
попортилась машина, и потому работа его получалась плохого качества
и попадала в брак. Мастер, не разобрав, в чем дело,
оштрафовал Дмитриева на три рубля и так сильно избил, что у него
сделались нарывы, от которых он сильно страдал. В это самое
время приехал к нам Безобразов. Дмитриев пожаловался ему,
но его превосходительство Безобразов не обратил никакого
внимания на его 'заявление. После отъезда инспектора болезнь
Дмитриева усилилась, и он слег в больницу. Через две недели его
не стало. В кассе у него осталось 175 рублей заработанных денег;
из этой суммы он завещал 50 рублей на бедных, 30 рублей на
Похороны, оетальпые же отказал своей названной матери. На
другой день доктор вскрыл череп и, вынув головной мозг,
убедился, что смерть последовала от побоев. Он донес об этом
хозяину, и по этому поводу было назначено нечто вроде домашнего
«следствия». Это, как и надо было ожидать, кончилось полным
оправданием мастера, который не только не поплатился за свой
поступок, но даже остался служить на фабрике, продолжая
истязать питомцев. По этому поводу мы еще раз жаловались, когда
приехал к вам ого превосходительств? Безобразов, но он и на этот
раз не обратил никакого внимания на нашу просьбу;
жаловались ему также на пищу, но и из этого ничего не вышло. Он
сказал, что было бы нам в обед похлебать чего-нибудь
тепленького, а вечером можно есть и хлеб с водой.
В казарме житье стало невыносимым: за все розги да розгя.
Из тех детей, которые приехали со мною в Нарву, в живых
уже нет и половины. Холод и голод свели их в
преждевременную могилу. Были у нас протесты и бунты, но они не улучшали
нашего шшжения и обыкновенно кончались поркой. Случались
и побеги, но напрасно: бежавших привозили назад из Петербурга
и жестоко наказывали. Так как побег был единственным исходом
из нашего невыносимого положения, то я, несмотря на
печальную, участь своих предшественников, решился бежать.
34
Дело было так. В ноябре 1870 года мне попались худые основы,
и потому я не мог сделать назначенный мне урок. Мне поставили
штрафу два рубля. Я отправился к главному1 мастеру и показал
ему основы, Объяснив, что я не виноват, что при таком плохом
материале скоро работать нельзя. Он согласился со мною, но,
когда пришло время призывать в контору для объяснения
причин дурной выработки, в числе других позвали и меня. Здесь
главный подмастерье стал рекомендовать меня директору .как
человека нерадивого, и. потому, несмотря на все мои оправдания,
директор велел взыскать с меня штраф. Это окончательно взбесило
меня и послужило последней каплей, переполнившей мое
терпение.
Придя из конторы к станкам, я снял ремни и, разыскав
в-прядильной своего товарища Алексея Егорова, уговорил его бежать
со мною в Петербург. Это был самый добродушный человек,
каких я только видел на своем веку, но он в то же время был
самым несчастливым. За все пребывание на Нарвской фабрике
он получил две тысячи ударов розгами. Такого человека легко
было подбить на побег, тем более, что он только что понес
незаслуженную кару, и это еще более усилило раздражение его
против фабричного начальства. Дело происходило так. Раз он был
шафером на одной свадьбе и гулял там до первого часу. На
другой день утром он пошел к доктору, потому что у него
болела грудь. Доктор, заметив, что от него пахнет водкой, донес
об этой управляющему. Это преступление» последнему
показалось настолько серьезным, что он, явившись на фабрику, избил
Егорова столь сильно, что тот долго не мог ничего есть. Он
оштрафовал его на три рубля и кроме того в тот же [день
вечером, по окончании работ, велел дать ему сорок розог. Я был
в то время десятником, а Егоров был у меня в десятке, и
поэтому я видел, как его наказывали. Это было ужасно! Он стонал
под ударами палачей. Управляющий и учитель присутствовали
при совершении этой операции и хладнокровно разговаривали
о чем-то между собою.
— Вы хотите убить меня!—прокричал Егоров.
— Дать ему еще десять,—спокойно приказал управляющий
и продолжал прерванный разговор.
Сторожа были рады. Пользуясь тем, что на них не обращают
внимания, они вместо десяти дали двадцать, и Егор получил
таким! образом шестьдесят ударов розгами. Щконец эта сцена
кончилась. Егоров не мог встать с полу и лишь при; нашей
помощи кое-как добрался до своей кровати. Его спина была вся
в лоскутьях.
Вечером того же дня, как меня оштрафовали на два рубля,
мы надели новое чистое платье и, приготовившись таким образрм Б
(путь, легли спать под одеяло, чтобы учитель или сторкш,
которые ходят ночью на поверку, не заметили наших
приготовлений к побегу. На другой день утром мы благополучно уехали
в Петербург.
з»
35
li
В Петербурге мы наняли извозчика и поехала в
воспитательный дом. У ворот мы были опрошены часовым, который, узнав
от нас, что мы питомцы, велел какому-то солдату провести нас
в управление. Здесь нас встретил директор, он снял с пас допрос,
и мы подробно рассказали ему, как было дело. Директор, покачав
головой, спросил нас, жаловались ли мы Безобразову. Получив
утвердительный ответ, директор попросил нас сесть и подождать
Безобразова. Ждать нам пришлось довольно долго. Безобразов
явился лишь к шести часам вечера. Мы подробно объяснили
ему о своем побеге и о причинах, вызвавших нас на этот поступок.
На первых лорах Безобразов отнесся к нам сурово и грозил
розгами, но эти отношения скоро изменились к лучшему. Егорова
повели к главному доктору, который, осмотрев его исполосованную
спину, подтвердил справедливость наших слов. Начальство стало
относиться к нам с большим доверием и, вероятно под влиянием
доктора, приняло некоторое участие в нашем безвыходном
положении. Нас повели в отделение, где были наши братья-питомцы.
Здесь &ам дали ужинать, а после ужина уложили спать.
На следующее утро мы попросили своих новых товарищей
показать {нам обстановку воспитательного дома и рассказать нам
о их житье-бытье. Надо заметить, что там было много взрослых
(мальчиков и девочек, взятых обратно из деревень в
воспитательный дом. К ним-то мы и обратились со своей просьбой
Трое из йих были с Егоровым из одной деревни и потому хорошо
знали его. Это нам было, как говорится, с руки. ,Они
согласились tea нашу просьбу, и мы отправились. Но, чтобы
подробно рассмотреть дом, нам нужно было прибегнуть к хитрости,
так как в некоторые его отделение, как, например, в женское,
мужчин не пускали. Чтобы избежать этого препятствия, я оделся
столяром, а Егоров слесарем, и каждый из нас нес инструменты
соответствующего ремесла. Вооружившись таким «паспортом», мы
смело отправились в отделение взрослых девиц. У дверей,
ведущих в это «святое место», стоял часовой, который, увидя нас,
спросил, куда и зачем.
— Мы идем на работу,—отвечали мы и для большей
убедительности показали ему щои инструменты.
Часовой, toe подозревая обмана, позвонил в колокольчик, и нас
пропустили. Это было часов в восемь утра, и наше начальство
еще спало. Сестры наши были очень рады, когда увидели нас.
Мы сами рекомендовали им себя как беглецов, и они сожалели,
что нас постигла такая печальная участь. Этих девушек здесь
учат грамоте и разному рукоделию. Распростившись со своими
сестрами, мы отправились в палату своих маленьких братьев—
детей. Детям здесь довольно уютно. Для каждого ребенка есть
особенная кормилица. Кормилица должна кормить ребенка и
держать его постоянно в чистоте; за это она получает 10 рублей в
месяц. Мальчикам в воспитательном доме живется довольно хорошо,
девущкам же значительно хуже. Они сидят взаперти день и ночь,
36
и у всех дверей, ведущих в их отделение, стоят часовые. На
прогулку девушек в город пускают лишь один раз в неделю и то с
мальчиками, которые за ними смотрят, как тюремные атдзиратели
за арестантами. Кормят и одевают в воспитательном доме прилично.
На третий день к нам в Петербург приехал из Нарвы наш
хозяин г. Кольбе, и нас опять цризвали на допрос. Кольбе
спросил моего товарища, кто видел, как ему дали шестьдесят
ударов. Егоров указывал на меня, и я подтвердил
справедливость его слов. Тогда; нам объявили, .что завтра мы едем назад
в Нарву и что Безобразов, отправляющийся с нами, разберет
наше дело на месте.
На другой день мы приехали в Нарву. Я не стану описывать,
какой допрос был здесь, скажу только, что на этот раз нам
удалось выиграть наше дело: нас перестали наказывать,
уничтожили билеты, прибавили 50 рублей награды тем, кто хорошо
работал, а мне возвратили штраф два рубля и заплатили те
деньги, которые я издержал на дорогу в Петербург. Из
десятников меня, впрочем, уволили. Главный результат, которого мы
добились, заключался в том, что розги и плети окончательно
вывелись из употребления на нашей фабрике, и; с тех пор
все наказания, назначаемые нам за разные провинности,
сводились к карцеру и штрафу. Вообще положение наше
улучшилось значительно. Мне дали оцять м:ои станки, и я стал снова
работать.
Через два месяца меня пустили Hai вольные харчи, и я
стал ходить обедать к одному рабочему. Содержание мне
обходилось в 16 рублей в месяц: 6 рублей платил хозяину, 8 рублей
за харчи; и 2 рубля шли на чай.
Я ужо выше грворил о негодовании народа; за погибших
женщин и каменщиков. Было еще много и других причин, за что
народ ненавидел хозяев, но он все терпел и, как говорится,
ждал у моря погоды. Так дело протянулось до 1872 года, когда
терпение рабочих наконец лопнуло и они решили устроить стачку.
Дело было так. Наша фабрика, Кренгольм'ская мануфактура,
существует с 1858 года. Со времени ее открытия работа там
происходила при следующих условиях: начиналась она в
Половине шестого утра и продолжалась щ> восьми часов вечера.
На обед давали полтора часа. Работа была поштучная: куски
были по 45 аршин длиною, и за кусок, т. е. штуку, платили
50 копеек. За ломку машин ткачей не штрафовали. Большой
выработки не требовали, а только поощряли ее, давая тому, кто
мог сработать 25 кусков в месяц, награду -от 5 до 10 рублей. Но
на тйких условиях работа продолжалась недолго. Уже в 1880 году
хозяева, видя, что ткачи выучились отлично работать, начали
вводить одну прижимку за другой. Они уничтожили награды,
убавили пять копеек с куска, а через несколько времени еще
пять копеек. Это прогрессивное уменьшение платы за кусок
хозяин хотел продолжать дальше, но мастер ему это отсоветовал,
говоря, что рабочие не станут работать, а можно, мол, того же
самого достигнуть на другой манер—увеличить' длину куска на
37
пять 'аршин. Эта проделка так понравилась хозяевам, что в
1872 году куски уже были в 60 аршин длиною. Вместе с тем
на обед стали давать только час, а работу начинать с пята
часов утра. За всякую ломку машин стали штрафовать. Рабочие
давно заметили все эти проделки и только ждали удобного
случая, чтобы заявить свой протест.
В 1872 году у нас была сильная холера, так что каждый
день умирало сорок пять-пятьдесят человек. С больными
начальство обращалось бесчеловечно. Так, например, одного рабочего
тащили в покойницкую будку, но на пути оказалось, что он был
еще жив. Таких примеров было много, и они, естественно,
усиливали негодование рабочих. Но сигналом к стачке, как это часто
бывает, послужил сравнительно мелкий факт. Дело в том, что
директор, вероятно ради гигиенических целей, приказал
отворить на фабрике все окна и при этом заявил, что если кто
запрет окно, то тот подвергнется пятирублевому штрафу. В
фабрике стало так холодно, что не было никакой возможности
работать.
Мы целой толпой направились к директору. Мы прежде всего
заявили 'наш протест насчет окна, на что директор очень вежливо
ответил, что он желал нам только одного добра и ради нашей же
пользы велел провентилировать фабрику, но что, если нам это
не нравится, он прикажет затворить окна. Но мы этим не
удовлетворились. Мы значительно расширили свои требования и стали
настаивать, чтобы хозяин восстановил те условия работы,
которые существовали при основании фабрики. Директор задумался.
Минут через десять он вышел к нам и объявил, что так как он
такой же подневольный человек, как и мы, то он от себя много
сделать не может, что пока он нам разрешит только начинать
работу позднее на четверть часа, прибавит нам на обед четверть
часа и дозволит носить с собой завтрак на фабрику, что нам
строго запрещалось. О наших же требованиях обещался объявить
хозяевам. В заключение он просил нас подождать неделю. Мы
согласились и отправились на работу.
Миновала неделя, а ответа от наших хозяев все еще не было.
Вновь мы собрались толпой и, придя к директору, стали
требовать своих прав. Но на этот раз директор совершенно изменил
свою тактику. Он закричал на нас, говоря, что мы должны быть
довольны тем, что уже получили от него, и приказал нам итти
работать. Но рабочие отказались повиноваться его приказанию
и продолжали настаивать на своих требованиях. Директор
рассердился и ушел, оставив нас в конторе.
Между тем движение наше разрасталось все больше и больше.
До сих пор в стачке участвовали одни ткачи, но в этот день
прядильщики, узнав наши требования, остановили свои машины
и присоединились к нам. Таким образом мы все вместе, ткачи
и йрядильщики, дожидались в конторе. Часов в двенадцать к
нам явилось начальство—директор и жандармский полковник
с жандармами. Они просили нас заявить им о своих требованиях,
что и было нами исполнено. После этого Крльбе стал просить цъс,
38
йтги на работу, обещая дать нам два. часа на юбед, а об
остальном известить нас через недата. Мы согласились ждать.
Через неделю к нам действительно приехал из Ревеля
губернатор. Он пошел по фабрике и давал нам рукой знак следовать
за ним в контору. Мы остановили станки и отправились вслед за
ним. Губернатор просил нас выбрать из своей среды сорок человек,
чтобы 'переговорить с ним о нашем деле. Мы исполнили эту
просьбу, и губернатор удалился с нашими выборными в
директорскую контору, а мы остались в хозяйской конторе в
ожидании результатов переговоров. Через некоторое время,
совершенно неожиданно для нас, к нам снова явился губернатор й,
приняв суровый вид и топнув ногой, закричал на нас громким
голосом: «Марш на работу!» Но в ответ на это раздались свистки,
насмешки. Губернатор сильно разгневался, говоря, что он поедет
в Петербург и, приведя три полка солдат, накажет всех
бунтовщиков* Но все было напрасно—рабочие смеялись на его угрозы.
Губернатор, видя, что это не помогает, переменил свой тон и
стал нас расспрашивать о причинах нежелания итти работать.
Мы заявили ему о своих желаниях и потребовали освобождения
наших выборных, которые были заперты в конторе, так как мы
боялись, чтобы они не были арестованы. Последнее наше
требование было немедленно исполнено. Отпуская наших выборных,
губернатор просил их уговорить рабочих итти на .работу. Просьба
их подействовала, и мы ушли работать. Между тем выборные
остались, чтобы совещаться с губернатором. К вечеру
совещания кончились, и наши выборные объявили нам те льготы, на
которые согласился и губернатор. Правила, данные нам, «были
следующие:
1) ткач, должен сработать в день 90 аршин полотна на, двух
станках, т. е. 45 аршин со станка;
2) работа должна начинаться утром в четверть шестого, но
рабочие мсйгут приходить и в половине шестого, не подвергаясь
штрафу;
3) на обед давать час с четвертью—с двенадцати до часа
с четвертью, но мы могли приходить и в половине "второго;
4) за повреждение машин не взыскивать штрафа;
5) завтрак дозволить носить па фабрику.
Этими новыми правилами мы остались довольны. Но Колъбе
они не понравились, и он, желая повредить нашему делу,
подкупил десять человек прядильщиков и, дав им по десяти рублей,
заставил их подписать какую-то бумагу. Дело это велось конечно
в глубочайшей тайне, но ткачам однако удалось во-время
проведать о нем. Ткачи, первыми узнав об измене, бросились в
трактир, где собрались предатели. Но им не удалось захватить
врасплох изменников, которые, заметив их приближение, успели
уничтожить бумагу, содержание которой так и не узнали.
Этот случай послужил поводом к возобновлению стачки.
На другой день утром мы выбрали шесть человек и отправили
их в город к жандармскому полковнику. Полковник, выслушав
их, велел им притти к себе в шесть часов вечера, но, когда] они
39
явшШбь в назначенное время, полковник принял их сурово и велел
арестовать одного из них. Остальные пять человек заявили
полковнику, что он должен арестовать и их, что они не оставят своего
товарища и не уйдут без него.
Полковник арестовал и их. Все они были посажены в тюрьму.
Об этом происшествии на фабрике узнали только на второй день.
Тотчас же все машины были остановлены, и рабочие бросились
к Кольбе и стали требовать освобождения товарищей. Он сперва
объявил, что ничего не знает об их судьбе, но потом, после
долгих йаших требований, прибавил, что товарищи наши не
возвратятся.
Услышав это, мы немедленно все ушли с фабрики, с твердым
намерением не возвращаться на работу до тех пор, пока не
выпустят арестованных товарищей.
После обеда мы все собрались у моста, через который
ходили на фабрику. Уже было два часа, когда' к нам явилось
начальство. То были Кольбе, исправник и директор. Они стали
уговаривать нас итти на работу, но мы отказались исполнить их
просьбу до возвращения арестованных товарищей. По уходе
начальства мы решились итти в город, чтобы требовать
освобождения наших выборных.
Когда мы пришли туда, то увидели своих товарищей. Они
сидели в долиции. Мы стали требовать, чтобы их выпустили, но
нам отказали, и жандармский полковник, явившийся к нам,
заявил, что они будут отправлены в'Ревель. Так как уже наступил
вечер и рабочие почувствовали усталость, то они не стали ломать
помещение полиции и воротились домой.
На возвратном пути из города нас встретил мальчик, который
сообщил нам, что хозяин с жандармами, воспользовавшись
нашим отсутствием, били женщин и детей и посадили их в карцер
и подвалы, заставляя их работать.
Мы поспешили к ним на выручку. Слова, сказанные
мальчиком, оправдались.
Это возмутило нас всех до крайности, и мы, не помня себя
от гнева, начали бить все, что только попадалось под руки.
Первым пострадал карцер, потом подвалы, где были посажены
женщины; затем мы проникли в хозяйский дом и переломали
там мебель, выбили окна. Мы искали хозяина, но не могли
найти. Как потом мы узнали, он 'спрятался в городе.
Для 'нашего усмирения скоро явились войска. Мы
приготовились к защите ц разделили свои силы на три партии: первая
партия состояла из двух тысяч человек и должна была
отправиться на вокзал и следить там, чтобы арестованных товарищей
не увезли в Ревель; вторая партия должна была стоять на мосту
и не- пускать никого на фабрику; она состояла из четырех тысяч
человек; наконец третья партия состояла из шести тысяч человек
и была обязана охранять женщин и детей от солдат.
Так мы провели ночь.
На другой день солдаты, по приказанию начальства, стали
гнать дао на работу. Начались схватки между нами и сол-
40
датами. Хотя солдат был целый полк, но так как им не приказано
было стрелять, то они не могли с нами справиться. Их били
камнями, ломали их ружья... Схватки продолжались целый день.
Вечером к нам опять приехал губернатор и с ним еще полк
солдат. На третий день губернатор стал производить следствие.
На следствие привлекли тех, кого заметили во время свалки с
солдатами, привлекли сорок выборных, о которых я говорил выше,
и других выборных, шесть арестованных в городе и двух
изменников, державших сторону хозяина. Через семь дней следствие
кончилось.
Последствия были следующие: 1) Кольбе велено было оставить
Нарву навсегда; 2) фельдшер, который дурно обращался с
больными во время холеры, тоже должен был оставить Нарву; 3)
введены те правила, которые дал губернатор в первый раз нам и о
которых я уже говорил; 4) 63 человека были арестованы и отданы
под суд, в числе их были арестованные в городе. Из них суду
были преданы только 26 человек. Дело их разбиралось в старом
суде в Ревеле. Трое из них были приговорены к каторжным
работам на восемь лет, в числе их был один питомец Николай
Богданов; ему осталось всего шестнадцать дней .до выхода из разряда;
питомцев. Через шестнадцать дней он был бы вольным человеком,
но он ударил часового и за это пошел на каторгу.
Остальных подсудимых сослали в Архангельскую губернию—
некоторых на один год, других на полгода.
Ткачи, несмотря на аресты, хотели продолжать стачку, но
прядильщики взялись за работу, и ткачи должны были
последовать их примеру.
Фабрика простояла только неделю.
В последних числах декабря 1872 года меня последний раз
посадили в карцер за то, что я целых трое суток не работал
и не ночевал дома: это была последняя кара, постигшая
меня на Нарвской фабрике. На этот раз я действительно был
виновать.
Дело было так. Я был приглашен одним питомцем на его свадьбу
в качество шафера. Пошел я на эту свадьбу без дозволения
учителя. Учитель обиделся и послал за мною сторожа с приказанием
явиться домой, но я не обратил внимания на его приказание.
Прогулял! я йа свадьбе трое суток. На четвертый день утром
на квартиру жениха -явились четыре сторожа. Они объявили мне,
что их прислал сам хозяин, чтобы меня отвести домой. Меня
сейчас же засадили в карцер.
На этот раз я там просидел целую неделю, но теперь мне
здеоь было не так плохо. Тот рабочий, у которого я был на
харчах, приносил мне пищу с воли. Рядом со мной, в другом
карцере, сидела одна девушка-воспитанница. Ее посадили тоже
за свадьбу. Мы постоянно беседовали, и нам не было скучно.
1 января 1873 года я был на свободе. Простившись со всеми
старыми друзьями, я уехал из Нарывы, может быть, навсегда.
Егоров вышел ш волю одним годом раньше меня и женился
на одной швее. Он остался жить в Нарве.
41
HI
По приезде моем в Петербург у меня была небольшая сумма,
которую я заработал еще в Нарве. Из кассы я получил 250
рублей да при выходе на волю получил с воспитательного дома
81 рубль наградных, всего—331 рубль. Благодаря этим
деньгам я мог не спеша присмотреться к быту петербургских
рабочих и подыскать себе прибыльное занятие. С этой целью я
переходил с фабрики на фабрику. К этому же времени
относится моо первое столкновение с социалистами. Переходя с места
на место и толкаясь между рабочим людом, я узнал, что за
Невской заставой была школа, где главную роль играл С.1.
Я желал попасть в эту школу, но это мне не удалось, так как
С. вскоре был арестован, и его школа прекратила свое
существование. Таким образом мне на этот раз не удалось ближе
сойтись с социалистами, учение которых в то время «сильно
интересовало меня. Но случай скоро помог мне удовлетворить
мое любопытство.
Летом 1874 года я жил на даче Базунова. Здесь я
познакомился с Дьяковым и скоро сошелся с ним. По вечерам и
воскресным дням у нас часто собирались сходки рабочих.
Я быстро усвоил идеи социалистов и горячо отдался их делу.
Их идеи мне были не чужды. Брошенный родными,
«принужденный с малых лет скитаться по чужим людям, переносить
всевозможные невзгоды, я сознавал все несовершенство
существующего строя. Я видел, как гибли мои братья и сестры на
Кренгольмской мануфактуре, и я не мог оставаться
равнодушным зрителем их гибели.
По совету Дьякова я оставил работу и все ;свое время
посвятил пропаганде между рабочими, среди которых у меня было
обширное знакомство. Кроме этого я часто ходил в московский
полк, где между солдатами велась деятельная пропаганда. Дело
наше шло успешно, но несколько промахов, сделанных
некоторыми из нас, скоро погубили его. Среди нас оказались шпионы,
которые доносили на нас правительству. Эти лица были
следующие: Матвей Тарасов, Павел Александров, Никифор
Кондратьев, бомбардир Антон Андреев и его брат Яков Андреев.
Узнав, что меня уже ищут, я хотел уехать в Выборг, но на
станции Финляндской железной дороги был арестован сыщиком
Назаровым. При мне нашли книги революционного содержания
и фальшивый паспорт. Это было 11 апреля 1875 года. На
первых лорах меня поместили в Третьем отделении. Скоро
арестовали и моих товарищей: Дьякова, Сирякова ^.Александрова.
О тюремной жизни я не буду много говорить.
Через три недели следствие по нашему делу кончилось, и
меня перевели в Литовский замок.
1 По всэй вероятности, Слнегуб Сергей (род. в 1853 году, умер в 1907 году),
занимавшийся тогда революционной пропагандой среди рабочих за Невской заставой,
Спнегуб был арестован в ноябре 1873 года и судился iro процессу 193-х. — Ред.
42
Здесь с меня: сняли мое платье и надели арестантское. Когда
я получил свой новый костюм, надзиратель поместил меня и
секретную, на темную половину. На другой день я узнал, что
в том же помещении сидят Дмоховский, Долгушин, Папин,
Плотников и другие1. 16 июля того же 1875 года меня
привезли в сенат на суд. Здесь я встретил своих друзей. Нас было
восемь человек: Дьяков, Сиряков, Ельцов, Вячеславов, Янсон,
Зайцев, Александров и я. На другой день вечером нам
прочитали приговор. Меня приговорили к каторжным работам на
9 лет, Дьякова—на 10 лет, Сирякова—на б лет,
Александрова—на 9 лет, Янсона и Зайцева—в арестантские роты на
1 год и 9 месяцев, Вячеславова и Ельцова под арест—одного
на 10 дней, а другого на 7 дней. После суда меня привезли
обратно в Литовский замок. Здесь меня посадили вместе с Ма-
линовским, но с ним я сидел недолго. Меня 'перевели в дом
предварительного заключения. Через месяц я снова был
переведен в Литовскую тюрьму и был посажен на светлую
половину. 25 октября меня в первый раз заковали в кандалы и
на другой день повезли] на эшафот. Мы ехали втроем: Дьяков, я
и Александров. На груди у нас были привешены черные доски,
па которых было написано: «За государственное преступление».
G нами ехали два палача л священник. Прибыв на эшафот,
палачи развязали ремни, связывавшие нам руки и ноги, и
Помогли нам спуститься на землю.
К нам подошел священник и, сказав вместо наставления: «Вы
люди грамотные и знаете сами, что творите», поднес нам крест.
Затем к нам снова приступили палачи и, взяв нас за руки,
повели на эшафот. Здесь был секретарь сената и товарищ обер-
прокурора, который нас обвинял. Секретарь прочитал приговор
суда. Палачи подвели пас к позорным столбам и ;лриковали
к ним. Мы стояли недолго. Дьяков хотел закричать: «Долой
деспотизм, да здравствует социальная революция!»—но не успел
он разинуть рот, как забили в барабаны, и отдачи схватили
нас и потащили в карету.
По приезде в тюрьму с меня сняли кандалы. Я был
посажен с Дьякорым, а на прогулку на.с пускали всех вместе.
4 февраля 1876 года нам обрили половину головы, заковали
в кандалы и отправили в харьковскую центральную тюрьму. Нас
везли ночью, по одному. Через четверо суток1 я прибыл! в
Харьков. Пробыв тут три дня, я был повезен в новоборнсоглебскую
центральную тюрьму. Я приехал туда 14 февраля 1876 года1.
i Судились в 1874 году по процессу так называемых «долгушинцев». Были
приговорены к каторжным работам ва разные сроки. Отбывал:! наказание в
новобелгородской тюрьме, 5 в начале 18>0 года, за исключением сошедшего с ума Плотникова,
были отправлены в Сибирь. Главную задачу своей деятельности «долгушинцы» видели
в революционной пропаганде среди народа с целью поднятия восстания против царя
и» помещиков. Придавали большое значепие рабочим, хотя чисто по-народнически,
отводили им роль связующего звена между интеллигенцией и крестьянством.
Этим кружком впервые была выдвинута для конкретного осуществления давно
бродившая в среде народнических элементов идея «хождения в народ». — Ред.
48
В приемной меня раздели, обыскали, смерили мой рост и
записали приметы. Затем мне дали каторжную одежду и
подстилку, на которой я должен был спать. Подстилка эта—в
полтора аршина длиною и полтора аршина шириною. Получив fcce
это, я был отведен в камеру. Что поразило меня здесь прежде
всего—это отсутствие постели. Я спросил у надзирателя:
— Где постель?
Он с улыбкой указал на мою подстилку и объявил мне, что
больше ничего не полагается. По уходе надзирателя я стал
стучать в стену, желая узнать, кто сидит рядом. Но ответа
не было. На досуге я измерил свою камеру. Она имела три
с половиной шага в длину и два шага в ширину. В тот же
вечер я узнал, что вместе со мною сидят Папин,
Плотников и Александров, привезенный туда одновременно со мною.
В это время из политических в андреевской тюрьме, кроме
нас, никого не было. Сношения между нами все-таки были
постоянные.
Жизненные условия были самые отвратительные, какие только
можно себе представить. Одиночное заключение, невыносимое
само по себе, отягчалось еще более отсутствием книг, которых
нам сперва не давали. Пища была очень плохая. Утром нам
давали два с половиной фунта хлеба, на приварок к обеду
полагалось всего полторы копейки, на ужин нам давали только
маленькую кружку квасу. Гуляли мы по одному, полчаса в
день. Смотритель был человек порядочный, и' цотому тюремная
администрация обращалась с рами довольно деликатно. Через
год и четыре месяца нас перевели в новобелгородскую, такую
же каторжную тюрьму. Дорогой мы шли вместе, нам было
довольно весело, но это продолжалось недолго.
По прибытии на место нас опять посадили по одному в
камеры, и жизнь наша потекла по прежней однообразно-скучной
колее.
После заточения нас в новом месте нам дали некоторые
льготы. Мы могли говорить друг с другом, и я мог узнать
всех своих товарищей. Но не все из нас выдержали полтора
года нашей каторжной жизни. Дьяков был чуть жив,
Малиновского и Гамова не стало: они умерли.
Осенью 1877 года к нам скоро привезли новых товарищей,
и мы угнали от них много нового. Нам дозволили даже носить
пищу с воли, и мы пользовались этим правом в широких
размерах благодаря Настасье Васильевне Дмоховской, матери одного
из моих товарищей, жившей около • нашей тюрьмы. Эта женщина
обладала доброй душой. Она употребляла все свои сшщ, чтобы
помочь нам, и с этой целью 'ездила несколько раз к
харьковскому губернатору и в Петербург. Но это золотое время
длилось недолго. Благодаря усилиям смотрителя, делавшего на нас
постоянные доносы харьковскому губернатору, скоро лишили нас
всех льгот, а Настасью Васильевну выслали в Харьков.
Смотритель Грацилевский был настоящий зверь. Он обращался
с нами 'очень ррубЬ и жестоко: например, за то, что я #е хотел
а
встать на поверку по приоытии моем в эту тюрьму, он на
третий же день посадил меня на хлеб и на воду, давая лишь
четверть фунта хлеба в день. Так я просидел три дня.
Я не буду описывать всех страданий, которые мы вынесли за
время нашего пребывания в стенах харьковских каторжных
тюрем. О них довольно красноречиво говорит масса наших
товарищей, нашедших в этих стенах преждевременную могилу или
сошедших с ума. Наши страдания еще более усилились
благодаря тому обстоятельству, что мы не знали, на какой срок
мы были посажены в эту смирительную тюрьму. Смотритель
Литовского замка при отправлении Долгушина и его
товарищей в центральную тюрьму сказал им, что они будут сидеть
там вечно. Наше тюремное начальство и харьковский
губернатор, отвечая на наши вопросы, говорили, что им неизвестно,
как долго продлится наше заключение, и мы думали, что будем
сидеть без сроку, вечно. Только спустя пять лет, когда кон-
сился срок Папину и он был отправлен в Сибирь, наши
подозрения рассеялись, и мы стали питать надежду выйти когда-
нибудь из опостылевшей тюрьмы.
10 октября 1880 года нам объявили, что нас всех через трое
суток увезут. Для нас это было совершенно неожиданно, и
мы так обрадовались, что даже забыли спросить, куда нас везут.
Да, впрочем, для нас было безразлично, куда бы ни
отправили, лишь бы только вырваться из ненавистной тюрьмы. Через
три дня мы действительно были уже на пути в Харьков. Нас
поместили в Орловской губернии, в городе Мценске, в так
называемую вторую политическую тюрьму. 18 мая 1881. года нас
увезли в Сибирь.
воспоминания рабочего В. С. Панкратова
Ввздение
Восьмидесятый год прошлого столетия представляет собой как
бы новую волну общественно-революционного движения после
«хождения в народ»!. Напряженная боевая борьба
Исполнительного комитета «Народной боли» с самодержавием вызвала
широкое пробуждение революционной мысли в рабочих массах по
всей России, а в особенности в Петербурге. Здесь почти по
всем заводам стали образовываться революционные кружки и
группы, правда немногочисленные, но более или менее
сознательные и активные, из уцелевших от прежнего народнического
движения рабочих. Эти группы находили поддержку в толще
широких рабочих масс, хотя и несознательных, но недовольных
тогдашними политическими и особенно экономическими
условиями жизни.
Положение рабочих тогда было очень шаткое: после
окончания русско-турецкой войны 2 наступила заминка в нашей
промышленности, многие заводы и фабрики, работавшие на армию,
сокращали свою работу, а некоторые даже и совсем
закрывались. Между тем срочные военные заказы дали возможность
рабочим поднять довольно высоко заработную плату. Бывало в
обеденные перерывы и утром у ворот некоторых заводов
скоплялось так много ищущих места, что трудно было протискаться
к калитке.
Картина безработицы была настолько тяжела, что делалась
невыносимой и для тех рабочих, которые не были лишены
работы.
Среди безработных конечно находились знакомые и товарищи,
которые несколько дней тому назад работали; тут же рядом и
заработком которых существовали их семьи. На Балтийском
заводе тоже было уволено около пятисот человек. Рабочие
заволновались. Заговорили о добровольных сборах пожертво-
-J B 1873 году свыше тысячи интеллигентов-народников отправились в деревню с
целью сагитировать крестьян на восстанио против самодержавия. Движение
это не дало ожидаемых народниками результатов.
* 24 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну, которая продолжалась до
марта 1878 года. Турция, потерпевшая ряд военных поражений, вынуждена была
подписать в Сан-Стефано мир, главным условием которого было создание обширного
болгарского государства. Россия получила контрибуцию в 1 400 миллионов франков,
причем три четверти этой суммы Турция покрывала уступкой части Закавказья
(Ардаган, Каре, Батум) и Добруджи (ее Россия отдала Румынии за южную часть
Боссарабпи).
Однако вследствие вмешательства Англии и других дорлсав оан-стефанский договор
был пересмотрен на Берлинском конгрессе в сторону сокращения территории Болгарии
и урез:;и других выгодных для царской России пунктов.
46
ваний в пользу безработных. Но этот способ помощи был
сразу отвергнут. В механической мастерской группа
революционно настроенных рабочих предложила другой проект, который
состоял в следующем: неуволенные рабочие должны согласиться
работать только три четверти дня вместо целого дня, но с тем,
чтобы все уволенные были вновь приняты и работали также
по три четверти дня.
— Надо дать рабочему постоянный заработок, а, не кормить
его подачками, как нищего. Один раз соберем и дадим, а в
другой, пожалуйj и не удастся,—говорили сторонники этого
предложения.
Большинство без дальнейших рассуждений согласилось с этим
предложением. Но глухо шла и такая агитация: собраться всем
безработным, а хорошо бы и; имеющим работу, и двинуться
толпою к дворцу, потребовать от царя хлеба и работы; царь-до
ничего не знает, от него все скрывают чиновники и заводчики.
Но эта пропаганда встретила серьезный отпор.
— Покуда мы соберемся да сговоримся—одних арестуют за
5унт, другие с голоду подохнут, а третьи разъедутся по
деревням. Да допустят ли нас ко дворцу? Те, кто теперь
скрывает от него безработицу, нас же но пустят. Да и что мо*
ж-etf дать царь? В кармане, что ли, у него заводы: когда
захотел, тогда и запустил, как волчки? Дают народу дельный
совет—итти к управляющему, ну и вали,—возражали
противники.
Хотя у многих крепко сидела вера в царя, в его
доброжелательство к народу, однако в этом случае они не могли ее
отстоять, и патриотически-демонстративный протест провалился,
быть может, потому что настоящего собрания не было, а шли
частичные переговоры группы с группою.
Не откладывая в дальний ящик, механическая мастерская
выбрала делегацию из трех человек и направила ее к
управляющему заводом Кази. Этот деловой1 человек, выслушав
делегацию, сразу согласился, приказал вывесить объявление о
приеме обратно рассчитанных с завода. Через несколько дней
уволенные уже снова работали—хотя и по три четверти дня,
но все же работали.
На заводе Семянникова, за Невской заставой, рабочие согла-
сились работать только четыре дня в неделю, с тем чтобы никто
не был рассчитан.
Заводская администрация и там пошла на такой :ке
компромисс.
Таким 'образом удалось ослабить остроту безработицы,
сохранить солидарность и до некоторой степени подавить
отвратительные чувства себялюбия: моя-до хата с краю, меня не
уволили, а до других мне горя мало. Любопытно, что в то время
открыто никто не высказывал недовольства против известного
сокращения своего заработка, а значит и удобств жизни..
Получать за три четверти не то, что получать за целый день. Но
глухой ропот слышался и слышался как-то робко.
47
Питерские жандармы-охранники и их провокация
Среди рабочих то и дело производились обыски, аресты и
даже высылки. Достаточно было шпику подслушать случайный
разговор на политическую тему, достаточно было при обысках
у рабочих найти «Исторические письма» Миртова,
«Отечественные записки», «Политическую экономию» Иваиюкова, даже
стихотворения Н. А. Некрасова, чтобы привлечь к дознанию
обладателя и даже только хранителя таких книг как крамольника,
опасного революционера, засадить в предварилку, а знакомых
подвергнуть большим неприятностям. Бывали случаи, что таких
вольнодумцев высылали: в северные губернии, а их приятелей—
только за знакомство—на родину, под надзор, взяв с них
подписку не поступать ни на один завод, ни на одну фабрику.
А чтобы крамольники не погибали с голоду, заботливое
правительство назначало им казенпое пособие, смотря по
отдаленности ссылки, от 3 до 6 рублей в месяц.
Высланным на родину пособие не выдавалось вовсе. Такое
отношение правительства к рабочим не только не ослабляло
недовольства существовавшим тогда порядком, но, наоборот, оно
только усиливало его и толкало недовольных прямо на
политический путь, к достижению политических свобод,
гражданских и человеческих прав.
Деятели партии «Народная воля», занимавшиеся тогда с
рабочими, благодаря этим условиям находили подготовленную!
почву, расширяли свои связи с рабочей средой и приобретали
влияние главным образом: нежду квалифицированными
рабочими—слесарями, токарями иГ т. д., как наиболее развитыми, а
через них уже и на остальных.
Удар, нанесенный Исполнительным комитетом партии
«Народная воля» русскому правительству 1 марта 1881 года1, побудил
и ту часть рабочих, которая была равнодушна и далее враждебна
к революционному движению. Это не значит, что она стала
революционной,—нет, но она стала говорить, рассуждать: за что
убили царя, кто убил. Рассуждали, разумеется, вкривь и вкось,
но все же рассуждали, думали.
Если в расчеты и планы Исполнительного комитета не вхо-
1 В эгот день по приговору Исполнительного комитета партии «Народная воля»
в ^Петербурге был убит бомбой царь Александр Ц. До окончательного приведения
приговора в исполнение на Александра II покушались несколько раз: в 1866 году —
Каракозов, в 1879 году—■ Соловьев, затем осенью этого же года и в следующем, 1880
году партией «Народная воля»- было организовано несколько, все не удававшихся,
покушений на царя. Систематическим террором против наиболее выдающихся
представителей и слуг царского самодержавия партия «Народная воля» старалась
дезорганизовать способность сопротивления старого режима и вызвать переворот или же
по крайней мере принудить царские правительство на серьезные политические уступки.
Тактика эта однако неминуемо должна была потерпеть крах, ибо, как история
показала, не единичным террором гороев-одиночек, а только организуя и опираясь на
революционное движепив масс, можно было добиться серьезных политических
изменений в стране. И действительно, смерть Александра II не вызвала никакого массового
революцирнного движения, царское правительство также не пошло и на уступки.—
Ред.
48
дило по тем или другим соображениям использовать этот
момент, то русское правительство, несколько оправившись от удара
и почувствовав вею опасность дальнейших последствий его—
пробуждеция народной мысли,—ничего другого не придумало,
чтобы остановить это пробуждение, как только усилить гонение,
прибегнуть к жесточайшим мерам преследования и уловления
неуловимых мысли и духа. Русское правительство прибегло к
самому преступному и едва ли для самого его пе менее опасному
средству—к провокации и застеночным приемам охранных
деятелей самодержавия: Судейкина, Янковского, Банковского, Ландо-
зена-Гартинга, Стрельникова, Дегаева, Зубатова и многих других.
Эти темные защитники самодержавия не замедлили
организовать и объединить вокруг себя все темное,, продажное,
вероломное, все нечистое; они организовали в государственном масштабе
провокаторов и предателей, пытаясь при помощи шпионов и
предателей сшдать казенный, правительственный социализм с
центром в департаменте полиции и на Гороховой улице. Какая
это была дьявольская организация, руководимая опытными
опричниками и сыщиками, которые из поколения в поколение
накопляли умение охотиться за свободомыслящими гражданами России,
часто совершенно юными, не искушенными людским
вероломством и иезуитством!
Она была снабжена безграничною властью и средствами. К ее
услугам—деньги, вся полиция, все дворники, все швейцары:,
готовые ловить, указывать вольнодумцев, народовольцев, черно-
передельцев* и студентов-крамольников.
И вот при. наличии такой обширной шпионской организации
извольте вести революционную работу, располагая ничтожными
средствами и незначительными силами. Несмотря на это, все
же работали, все же боролись за общечеловеческие идеи, за
свет, свободу, братство и равенство не на словах, а на деле.
Боролись и гибли, гибли и боролись.
Судейкин и Янковский так далеко зашли в своей
провокаторской деятельности, что создали в 1880 году газету
«Гласность», редактором которой был какой-то Гиероглифов, потом
оказавшийся тоже «социалистом с Гороховой улицы». В этой
газете распинались за рабочих, которые сначала поверили, не
1 Народовольцы и чернопередельцы появились в результате раскота народнической
организации «Земля и воля» в 1879 году. На съездах этой организации в Липецке
и Воронеже большинство землевольцев, во главе с Желябовым, стало на путь
признания политической борьбы и на путь террора.
Сторонники этой повой тактики создали партию «Народная воля». Меньшинство
осталось в основном на старой народнической позиции и образовало группу «Черный
передел», провозгласившую главной своей целью решение аграрного вопроса переделом
всех частновладельческих земель между общинниками-крестьянами. Во главе этой
группы стояли Плеханов, Дейч, Стефанович и Засулич.
Народовольцы ушли с головой в террористическую борьбу с самодержавием,
частично работая в кружках рабочих. Группа «Черный передел» кола работу среди
рабочих, практической работы в крестьянстве проводить не сумела. Группа эта
явилась переходной ступенью для части землевольцев (Плехапов, Аксельрод, Засулич)
от народничества к марксизму. Народовольческая ветвь продолжала свою деятельность
до середины 80-х годов.
4 Рабочее движение в России
49
подозревая, какую цель она преследует на самом деде. Одяакоже
скоро распознали, перестали ее покупать, мало того, стали
распространять, что эта газета департамента полиции,
точнее—газета Судейкина и Янковского. На третьем номере она
прекратилась. Зато с большим успехом работали Судейкин и
Янковский при помощи предателей и провокаторов, которые помогали
им громить революционные кружки и группы в Питере.
Малосознательных и неустойчивых рабочих обрабатывали сами
Судейкин, Янковский и их сотрудники. Они запугивали их
всевозможными карами: тюрьмою, ссылкой и даже виселицей, а когда
и это не помогало, то прибегали к подкупам, обещаниям
покровительства на заводах, развращая таким образом малодушных
и склонных к легкой наживе и подачкам,—словом, разливали
среди люд^й тот яд взаимного недоверия, в котором страна
должна была либо задохнуться и потонуть, либо приступить к
уничтожению этого источника моральной заразы. Надо было жить
и бороться в то время, чтобы чувствовать, переживать все это.
Провокатор Степан Прейм
Чтобы глубже проникнуть в среду рабочих и поразить их
в самую голову, Судейкин выписывает из Ростова-на-Дону
рабочих-провокаторов. Степана Прейма и Суслова, которые
соблазняют поехать с собою и Ивана Курлыкова. Последний скоро
однако одумывается, бросает провокаторскую компанию и
удирает в Ростов, где все чистосердечно рассказывает своим
товарищам и отстает затем от революционной работы.
Суслов и Прейм остаются в Петербурге, и здесь, под
руководством своего «высокого» покровителя Судейкина, Прейм
развертывается во всю ширь человеческой подлости и низости. Это
был типичный представитель провокаторства, настоящий
защитник всяких насилий и обманов, которые сулят личные выгоды
и обеспечивают безнаказанность беспутству и разврату.
До появления в Питере он работал слесарем в вагонных
мастерских Владикавказской железной дороги и отличался не
работою, а прислужничеством начальству и «свободомыслием»
провокатора, а посему пользовался покровительством местной охранки
и, к сожалению, популярностью среди темных рабочих своего
цеха за свой свободный язык и развязность. Сознательные же
рабочие, которых было мало, не доверяли ему, сторонились его,
подозревая в нем «нечистого человека»: он жил широко, сильно
выпивал и не по заработку бахвалился. Его даже подозревали
в воровстве. Эти подозрения потом оправдались. Прейм
действительно воровал из мастерской медь. Такое поведение самими же
рабочими считалось в высшей степени преступным, позорным
и недостойным честного мастерового. Нередко сами рабочие, узнав
о таком воровстве, заставляли прекращать его или же
заставляли такого рабочего оставить завод.
50
В Питере Судейкин почему-то сразу йаправил его в ВасиЯе-
Островский и Выборгский районы, быть может потому, что отсюда
вышли такие крупные народовольцы, как Халтурин,
Пресняков, Тимофей Михайлов, Тиханов и др. Здесь особенно
неблагонадежными считались заводы Балтийский, Круга, Патронный
завод, а на Выборгской стороне—завод Голубова, Лесснера и
Новый арсенал.
Прейму как «ловкачу» ^ быстро удалось завести здесь
знакомство и связи с рабочими, а через них уже и с нелегальными
чернопередельцами и народовольцами. Благодаря своей
пронырливости, свойственной провокаторам, он даже приобрел
популярность среди малосознательных рабочих, рисуясь перед ними
своею смелостью, уменьем добыть нелегальную литературу
(конечно от Судейкина и Янковского). О Степапе Прейме слава
пошла по всему Питеру.
Каким-то образом Прейм оказался знакомым даже с
Анатолием Булановым, известным среди рабочих под кличкою
Петровича, с Нагорным, Коновкиным и другими, среди которых были
и народовольцы. О провокаторстве Прейма впервые узнали чер-
нопередельцы и были так озлоблены, что хотя в теории они
считали террор недопустимым, но на практике собирались даже
уничтожить Степку, не дожидаясь, когда это сделают
народовольцы. У Степана Прейма смелости и развязности было в
избытке, но зато никто не знал его других качеств. Он очень ловко
пользовался своей хвастливостью среди малоразвитых рабочих,
и хвастливость его доходила до того, что он утверждал, что был
знаком с А. Квятсковским, Пресняковым, с Вал. Осинским и даже
с С. Перовской. Разумеется, находилось немало простаков,
которые без всякой критики относились к его вранью и смотрели
на него как на важного революционера. С своей стороны и у
простаков развязывались языки. Прейм наматывал себе на ус их
откровенность и то там, тот тут кого-нибудь проваливал. Но
такая провокация—«по мелочам»—была не в интересах
Судейкина, решившего, повидимому, вымести одним ударом всю
крамолу среди петербургских рабочих.
Судейкин в это время пробивал себе дорогу к подножию трона
Александра III, скрывавшегося тогда в Гатчинском дворце и
ожидавшего, когда такие государственные деятели, как
провокатор-рабочий Прейм, опричники Судейкин и Янковский и другие
очистят страну от революционеров. Ходили среди рабочих слухи,
что после первых арестов, в конце мая и начале июня, когда было
арестовано много рабочих, Александр III пожелал лицезреть
Прейма, похвалил его, обещая награду. А тот в свою очередь
обещал царю вывести в Питере всю крамолу.
По примеру киевского военного прокурора Стрельникова
Судейкин и Янковский не ограничивались сотрудничеством шпионов
Прейма, Суслова и др.—они производили массовые аресты не
только среди затронутых революционным движением рабочих, но
далее среди совершенно неприкосновенных к нему. Рассаживали их
по одиночным камерам в разных тюрьмах: в предварилке, Литов-
4*
51
ском замке, в Спасской, Александро-Невской и других частях,
лишали в первые недели свиданий с родными, не давали книг,
а некоторым и прогулок, чтобы произвести на них удручающее
впечатление. Можно себе представить состояние и самочувствие
людей, никогда не собиравшихся очутиться в таком положении,
в каменном мешке, одиноких, среди суровых и молчаливых
тюремщиков. Продержав в таком заключении несколько дней, а
некоторых н несколько недель, Судейкин и Янковский и их
помощники вызывали ни в чем не повинных узников па допрос
Каждый жандармский следователь на допросах руководствовался
приемами Судейкина и Янковского. Эти приемы были таковы:
жандармский следователь прежде рассортировывал арестованных
па сознательных, малосознательных и совсем «серых», случайно
попавших под горячую руку. С последними поступали очень
просто: их сразу же старались запугать всякими карами, вплоть
до виселицы, если они вздумают заниматься революцией и
чтением книг; наговаривали им всякие небылицы о революционерах,
что они-де злодеи, безбожники, поджигатели, распутники и т. п.
и что на них обязательно надо доносить начальству. С такими
наставлениями несчастных отпускали, конечно зарегистрировав
их в охранке для будущих времен и на случай всяких справок.
Вырвавшись из доброжелательных лап судейкинских
сотрудников, большая часть рабочих являлась на заводы неузнаваемой:
страшно запутанными, угнетенными и как будто даже
поглупевшими.
Помню первую «пачку» выпущенных рабочих, арестованных на
Балтийском заводе в связи с предательством Прейма. Один из
них был даже затронут движением, очень интересный,
любознательный и бойкий рабочий; звали его Ларька. Он не ^умел ни
читать, ни писать, и как раз перед арестом стал учиться и
быстро усваивал грамоту. Охранка как будто выдавила из него
все—куда девалась ого бойкость, общительность!
— Ну, что, как в каменном мешке-то поживал?—спросил его
сосед по станку и большой приятель Николай.
Ларька как-то подозрительно и холодно посмотрел на того,
точно Николай был ему совершенно незнакохмый, чужой человек.
— Ну, что ж молчишь—не узнаешь, что ли?
Ларька что-то буркнул себе под нос, схватил резец и понесся
в кузницу.
— Вот так обработали! Даже язык отнялся,—сказал ему
вдогонку Николай.
Это был один из сознательных рабочих, молодой, но серьезный
и смелый парень. В тюрьме он уже сиживал и не боялся ее.
— Ну, погоди же, чорт. Я заставлю тебя говорить. У меня все
расскажешь.
II Николай действительно добился. Он узнал от Ларьки, как
его допрашивали, как грозили снова арестовать, если он
будет кому-либо сообщать об этом. Охранники хоть и не йыли
психологами, но хорошо (распознавали характеры своих жертв
и в надлежащом направлении действовали на их психику. Ларьку
52
они, поводимому, отметили как незаурядного рабочего и
постарались по-настоящему обработать, запугать как следует.
Другие из выпущенных почему-то быстро исчезали из Питера:
уезжали или в деревню или в другие города.
Однако не все оказывались такими робкими, не все
обнаруживали равнодушие к охранным доброжелательсгвам, особенно к
деньгам, которые довольно щедро раздавались Судейкиным и
Янковским, чтобы как можцо глубже развратить рабочих, сделать
их продажными, чтобы шире развить в их среде шпионство и
Щосеять взаимное недоверие. Кое-кто из арестованных, хотя и
малосознательных, осмелился брать деньги, конечно не предвидя
последствий.
Так, один из слесарей того же завода соблазнился и, как
только вышел из предварилки, сейчас же завел себе дорогую
гармонику, купил новый костюм, держал себя развязно, даже
стал радикальничать и прислуживаться. Такое поведение сразу
обратило на себя внимание Николая, который успевал все
подметить.
— С Охлонщшм что-то неладно, — говорил он своим. —
По-моему, он хитрит. О овоих допросах ничего не рассказывает. Только
отбрехивается: ничего, говорит, особенного.
— У Алешки характер другой,—возражали Николаю его
приятели.—Ты очень подозрителен. Одни у тебя нехороши, потому
что молчаливы, другие—что болтливы. Так работать нельзя.
— Лучше быть осторожным. Откуда он взял деньги па
гармонику, на костюм? Ведь два месяца не работал, сидел в тюрьме,—
настаивал Николай.
И подозрения его были вполне понятны: в ту пору заводы
никогда не платили рабочим за то время, когда они сидели в
тюрьме, часто даже считали их уволенными со дня ареста.
— Я добьюсь, что он скажет мне, откуда у него взялись
деньги,—не унимался Николай.—Не я буду, если не узнаю.
Что-то недоброе случилось с Алешкой, ведет он себя
(подозрительно—с нами ничего не говорит, а других о нас же
расспрашивает. Какого чорта ему надо?
Николай отличался настойчивостью, доходящей до упрямства.
Своей бдительностью он многих спас от ареста, многих преду-
цреждал от подозрительных. На этот счет у него были какое-
то особое чутье и наблюдательность.
За Охлониным он стал серьезно наблюдать и однажды в
праздник проследил его шедшим с Гороховой улицы.
На Косой линии прямо поставил ему вопросы.
— Ты куда ходил? На Гороховую? Откуда деньги брал йа
гармонику?
Николай был здоровяк, а главное—смел.
Охлонин вздумал было изворачиваться, но, видя, что на
улице кроме них никого нет и 4fo имеет дело с парнем,
который может и вздуть, даже изуродовать, признался.
"'— Грешен, двадцать пять рублей взял у Янковского... Но
& дикого не выдал, никого не оговорил. Янковский меня со-
53
блазнил взять. Пригрозил, если не возьму... Но я никого не
оговорил — вот тебе кроет! — оправдывался Охлонин.
— А зачем на Невскую ходил? Мишеля разыскивать?
Янковский посылал? Ах ты, с... Если не уберешься из Питера и не
прекратишь своего подлого знакомства с Янковским и
жандармами, я тебя укокошу... Если не я, так другие... Чтоб твоего
духу здесь но было. Но помни, если ты где-нибудь еще
снюхаешься с этими; с..., мы тебя везде найдем. С тобой будет
то же, что и со Степкой Преймом.
В это время последнего уже не существовало. Он был убит
29 июня на Смоленском кладбище.
Охлонин так напугался, угрозы Николая так подействовали
на него, что через несколько дней он исчез, никому не
сказав куда. Оказалось, как потом узнал Николай, он уехал в
деревню на родину, в Костромскую губернию, и там притих.
На петербургских заводах потом было обнаружено среди
рабочих много таких грешных, как Охлонин, и они весьма
затрудняли работу пропаганды.
Но творцы такой гнусной политики и тактики напрасно
думали таким способом укрепить царство насилия и неправды,
остановить колесо истории; нередко они сами падали от 'ударов
этой античеловеческой политики разврата.
Тот же Судейкин был убит в декабре 1883 года. Такая же
участь постигла еще раньше Стрельникова в Одессе1.
Хотя все их усилия, весь шпионский долголетний опыт и
были направлены в эту сторону, однако превратить всех людей
в продажных и вероломных им не удалось: находились йюди
стойкие, твердые, которые с большим напряжением и
настойчивостью продолжали революционную работу, продолжали будить
умы и чувства и звать к активной борьбе с неправдою, с
бесправием.
"Тяжело было работать при таких условиях; у некоторых даже
руки опускались, и они с болью и стыдом говорили:
— Возможно ли работать при такой дьявольской обстановке:
чуть не на каждом шагу в заводе или шпион свой же брат
или малодушный и падкий на деньги простак, готовый *гебя
продать... Не можешь людям верить.
В некоторых кружках стали поговаривать и строить планн
о том, как бы уничтожить руководителей питерской охранки.
В это время с юга приехало несколько рабочих. Нерадостные
вести привезли они и оттуда, особенно из Киева. Там
свирепствовал военный прокурор Стрельников: он арестовывал рабочих
массами, направо и налево. На допросах вел себя в высшей
степени грубо, собственноручно бил рабочих, склоняя их
выдавать своих товарищей. Все это только усиливало злобу и раз-
1 18 марта 1882 года в Одессе был убит Желваковым и Халтуриным военный
прокурор Стрельников. Стрелявший в Стрельникова Желваков оказал вооруженное
сопротивление, а Халтурин пытался его спасти. Оба были арестованы. Третий
участник Клименко скрылся. По приговору суда Желваков и Халтурин 22 марта 1882 года
были повешены. — Ред.
драженио и принудило (некоторых рабочих начать подготовку
убийства Судейкина и Янковского.
В это же время было обнаружено провокаторство и Степки
Прейма. Хотя вначале и старались скрыть это, чтобы не
спугнуть его и не заставить исчезнуть, но в течение двух-трех дней
проделки Прейма стали известны почти по всем кружкам
Питера. В некоторых районах ему уже был приготовлен прием
по заслугам. 29 июня он был убит на Смоленском кладбище
рабочими, которые не догадались его обыскать и отобрать
находившиеся при нем списки. Благодаря этим спискам, когда
"полицией был найден его труп, последовали большие аресты.
Негодованию Судейкина не было конца. Многих арестованных по
списку Прейма довели до душевного расстройства. Жестоко
поплатился Тропицын, модельщик с завода Круга,
Мережин—слесарь и др., которые не имели никакого отношения к убийству
Прейма.
Однако Судейкин, повидимому, ;недолго печалился о своем
слуге Степане Прейме. Он быстро обзавелся другим — Степаном
Беловым. Это был тоже рабочий, из Старого арсенала, лет
двадцати пяти—двадцати шести, высокий блондин, оставшийся от
кружка Желябова. До ареста он никогда ни в чем не
подозревался и ничем не выделялся в кружке, но после ареста
раобчего Лебедева он занял центральное место в кружке,
поддерживал связи с другими кружками, добывал книжки и др.,
пока Пре'йм не провалил его. Просидев несколько месяцев в
предварилке, он получил свободу, ловко разыгрывая роль
революционера.
Токарь Михаил Романов (Мишель)
Одновременно с ним был выпущен и токарь с Балтийского
завода Михаил Романов. Этот рабочий был хотя и моложе
многих своих товарищей, но выдавался недюжинными
способностями. Умница, энергичный, развитой организатор, он
обладал незаменимым качеством—привлекать к себе людей. Связи
у него имелись по всему Питеру. Многие называли его
Мишелем. Молодой, стройный, красивый брюнет, высокого роста,
добродушный и подвижной, он скорее напоминал интеллигента, чем
рабочего; в некоторых кружках, где не знали, кто он, его так
и принимали. В своих отношениях он был всегда скромен и прост.
Одно время он играл видную роль в деле организации
рабочих кружков, проявлял необычайную неутомимость. Бывало в
течение дня он успеет побывать и за Невской и за Парвской
заставами, и на Выборгской стороне, если дело того требовало.
Во время своего заключения ему более чем кому-либо
пришлось испытать на себе ласки и когти Оудейкийа и
Янковского. Какими только соблазнами ни старались они склонить
его, однако успеха не имели.
Считая его, очевидно, крупным человеком, они во что бы
55
to ни стало решили им овладеть. Выпуская из тюрьмы, они
не упускали его из своего поля зрения «и придумали более
действительные средства—если не превратить его в предателя,
то погубить. Прежде всего они послали на Балтийский завод
приказание не принимать его на работу, чтобы тем оставить
его без заработка, зная, что в такое время было очень трудно
поступить на какой-либо другой завод. Таким образом хотя
Мишель и получил свободу, но свободу голодать, если только
его не поддержат свои.
Сколько мы ни хлопотали за него по другим заводам, все
оказывалось безуспешным. Наконец мастер механической
мастерской Семенниковского завода, где работал тогда я, юбещал его
принять через некоторое время.
В ожидании работы Мишель поселился у меня. Ему
положительно некуда было деться, ибо никого он не хотел подводить,
за меня же ему нечего было бояться: мы с ним работали на
Балтийском заводе, и, значит, наше знакомство было вполне
естественным. В результате же оказалось, что шпики стали
следить и за мною. Эта слежка доходила до того, что шпионы
каждый день стали сопровождать меня с квартиры на завод,
с завода на квартиру и по целым дням сидели то один, то
другой у ворот противоположного дома, пока о;гдш из моих
приятелей не спугнул их кирпичем. Мы с Мишелем каждый
день ждали обыска и, разумеется, почистились. А мне даже
пришлось вести образ жизни самого настоящего обывателя:
Ходить в трактирчик «Сан-Стефано», играть на биллиарде,
ухаживать вечерами за соседками-барышнями, конечно так, для зиду,
чтобы показать, что де занимаюсь. никакой революционной
деятельностью. Все это тогда казалось ловким ходом. Впрочем, меня
долго не трогали, быть может отчасти и Потому, что л часто
оставался работать по вечерам. Внешняя уличнад слежка
никогда но могла помешать мне делать свое дело в мастерских,
где были приятели-единомышленники.
Хотя Мишель сильно тосковал без работы, тем йе менее
продолжал вести революционнум работу с большой настойчивостью
и осторожностью. Чтобы не затащить с собою шпионов, он
перелезал через забор и ходил полем. Иногда, для виду, в
обеденный перерыв он по улице проходил к воротам завода, чтобы
усыпить бдительность охранников. Работать в кружках и
группах Мишелю приходилось очень много в разных концах Питера.
Трамваев тогда не было, конки ходили медленно и не везде,
об извозчиках и говорить по приходилось, тем более что среди
них имелись и шпионы, — значит, ноги за все отдувались.
Осенью 1881 года как народовольцы из центральной
организации, так и чернопередельцы особенно усиленно занимались
с рабочими в Петербурге. Представителями чернопередельцев
являлись Анатолий Петрович Буланов, под кличкой Петровича,
Лавров, Загорский и другие,— все это были морские офицеры.
Особенной популярностью пользовались Буланов, потом
Стефанович, полившийся позже, и еще какте-то нелегальные под
56
кличками Никита, Егорыч и Рыжий. Они же снабжали
рабочих и своей нелегальной газетой «Зерно»!.
Из народовольцев с рабочими занимались студент
университета Семен, дельный и скромный работник, которого очень
любили невские рабочее, — Н. С. Тютчев утверждает, что это
был Сидоренко Евг. Матвеевич; затем Савелий Савельевич, он
же Златопольский, недолго был и Теллалов, под кличкой
Николай Николаевич. Все они удивительно дружно работали и
выдвигали нашего Мишеля, предполагали его перевести в
Москву или на юг, так как оставаться в Питере ему было
опасно и невыносимо: Судейкин и Янковский то и дело
вызывали его на допросы, грозили ему, соблазняли 'деньгами —
словом, отравляли и терзали молодую душу.
Сначала мы верили, что они в конце концов оставят его
в покое. Но тут-то было: эти инквизиторы, повидимому,
решили так или «иначе1 доконать его. Быть может, но их же
проискам или распоряжению наш мастер отказался принять lero
па работу. Еще так недавно он очень сочувственно отнесся к
моей просьбе, но вдруг изменил данному обещанию и заявил
даже, что никоим образом не может принять Романова.
— Почему?—спросил я.
Он ответил, что есть причина. Тон ответа был таков, что мне
ясно стало, тем более, что за отказом последовал и допрос, где я
познакомился с Романовым, за что он сидел в тюрьме и т. д.
В заключение я получил даже предупреждение от мастера:
— Смотрите, и вы не попадите из-за него. Он, должно быть,
на подозрении у тайной полиции.
Мне пришлось открыто заявить мастеру, что Романов даже
живет у меня, ему некуда деться и жить не на что. Он
человек честный и хороший работник. Но его толкают на беду.
Единственная надежда была устроиться здесь, и она потеряна.
— Скажите, что же остается ему делать?—спросил я каким
тоном, что мастер смягчился, даже пожалел, что ничем не
может помочь, и лишь посоветовал спровадить его в провинцию.
— Боюсь, что и вы попадете под' подозрение. На-днях
заводский околоточный справлялся о вас в конторе,—добавил он.
Это сообщение взволновало меня. Невольно мелькнула мысль:
а что как и меня турнут о 'завода? На что тогда жить, да
еще вдвоем? Кроме того я ежемесячно должен был посылать
матери деньги для поддержки братишек и сестер. В душе
закипела тоскливая буря. С мастером мы расстались >мирно. Но
думы, навеянные его сообщением,' жгли мой мозе и заставляли
сжиматься сердце.
Наши общие приятели вечерами приходили ко мне и
справлялись о Мишеле. Некоторые советовали ему поскорее покинуть
Питер, предлагали собрать на отъезд деньги, но он почему-то
не соглашался.
1 «Зерно» — рабочий листок, издавался в Петербурге чнрнопервдедьцами с декабря
1880 до кои да 1831 года. Всего еышдо шесгь или сель номеров.
57
— Нельзя же подчиняться этим мучителям и при первом
их натиске удирать. Ведь тогда и жить невозможно: отсюда
тебя выживают — удирай, в другое место явишься, там то же—
опять удирай! Нет, так невозможно! Надо бороться, — возражал
он настойчиво.
Между тем, несмотря на свой ровный и выдержанный
характер, он с каждым днем становился все ^раздражительнее.
На его нервы отвратительное действие производила
непрекращающаяся слежка шпионов и особенно участившиеся вызывы его в
охранку, к Янковскому.
— ГЧего я им дался? —возмущенно говорил Мишель
неоднократно. — Уж арестовывали бы прямо. Не думают ли взять измо-
Ёш, измучив на свободе, эти господа социалисты с Гороховой?
е думают ли купить? Палачи, как они меня мучают! Посмотрим—
кто кого... Но какую глупость я сделал, что поселился у тебя!
Разве они оставят тебя в покое? Разве тебя не ждет такая же
участь? Нет, я должен уйти от тебя, скрыться,—говорил Мишель,
нервно шагая из угла в угол моей небольшой комнатки.
Л еще никогда не видел его в таком возбужденном
состоянии. Мне становилось даже жутко и страшно жаль его. Что
он задумал? До чего они его довели?
— Тебе надо немедленно уехать отсюда, — настойчиво говорю
я.—Буду просить Семена и Петровича, чтобы тебя перевели
в другой город. Переходи на нелегальное положение, ибо здесь
тебя доконают.
Мишель согласился без возражений. Но Семен и Петрович
несколько дней не показывались. Отъезд Мишеля день ото дня
оттягивался. Он становился молчаливее и о чем-то все думал.
Видно было, что затягивалась какая-то ужасная петля в этой
сатанинской игре. Хотя Мишель и не все договаривал до конца,
но для меня была ясна та цель, которой добивались Судейкин
и Янковский в этой дикой, бесчеловечной игре с молодым рабочим.
Они хотели довести его до падения, т. е. превратить в агента,
как и Степана Прейуа, и^и опорочить перед рабочими, таская
в охранку чуть ли не два раза в. неделю, чтобы набросить тень,
что он-де имеет связь с Гороховой улицей, значит нечист, тогда,
быть может, и сами рабочие его убьют.
Мишель понимал эту подлун} игру и со своей стороны
задумал поймать кого-либо из своих мучителей. Для этого он стал
добиваться с ними свидания на улице.
Такой же план наметили и некоторые его приятели с
Патронного завода и в арсенале. Выпущенный' на свободу рабочий
Степан Белов, о котором упоминалось выше, оказался сговорчивее
Мишеля. Охранники так обработали его, что он стал как бы
наследником Прейма.
Белов очень мало знал Романова и однако по выходе из
тюрьмы стал распускать глухие слухи о последнем — это с одной
стороны, а с другой—подзуживал арсенальскую группу к
покушению на Янковского и очень ловко провалил ее. Это
предательство Белова обва?ру жилось только спустя несколько месяцев.
53
Арестованным по этому делу сразу предъявили обвинение в
подготовке убийства Янковского. Не приходится говорить, как
содержались эти лица в тюрьме. Рабочий Самострелов скоро заболел
психически. Трагично кончил и Романов.
Однажды утром, уходя, он сказал мне, что наконец уезжает
из Питера. Мы распрощались. Прошло несколько дней. Из
нелегальных никто не заходил ко мне за это время. Слежка за мною
продолжалась. Связь с близкими нам группами я поддерживал
через сына хозяйки квартиры. О Мишеле ни слуху, ни духу. Мы
были уверены, чтб он уехал из Питера, и радовались за него.
Обыск
4 Однажды вечером, когда я возвращался с работы, на улице
меня хватают полицейские и двое каких-то штатских и чуть ли
не на руках тащат по направлению к моей квартире.
— Что такое, в чем дело? Пустите меня! —почти кричу я.
— Ничего... Домой пожалуйте,—довольно вежливо отвечает
мне один из полицейских.
— Чего же вы меня тащите —я сам пойду. Пустите меня!
— Не беспокойтесь, мы вам ничего не сделаем, — совершенно
спокойно сказал тот же чин, держа меня за правую руку.
Повидимому, они ожидали вооруженного сопротивления или
чего-нибудь еще.
Когда мы вошли во двор дома, где я жил, я почувствовал
такую невыносимую вонь, точно целый обоз ассенизаторов перед
тем проехал со своими бочками. В сенях меня встретили городовые,
незнакомые штатские, озирая меня о ног до головы. Накопец
входим 'в мою комбату, там уже сидят пристав, околоточный и
несколько штатских. Все уставили на меня свои взоры, точно
увидели какого-то важного-преважного преступника, на; самом же
деле совсем молодого, но здорового юношу в засаленной блузе.
Все мои вещи и постель перерыты и в беспорядке: шкафчик
с бельем и платьем раскрыт, даже обивка стульев разорвана,
а отставшие немного от стены обои отодраны совсем от стены.
Полный разгром! На столе горит моя лампа и разложены бумаги
незванных, противных гостей. Мне стало страшно обидно и
досадно.
— Почему без меня рылись в моих вещах? Что это значит?
Я подам в суд. Какое вы имели право...
— Не беспокойтесь. Все ваши вещи остались в, сохранности,—
перебил меня пристав.—Ваша комната была осмотрена в
присутствии понятых.
— Вы знакомы с Михаилом Романовым?—спросил маня
штатский.
— Не только знаком, но он жил у меня. Если вам хотелось
это знать, вы могли бы запросить меня.
— Где и когда вы с ш£м познакомились? Вещи Романова у
вас есть? Где они?
59
— Почти все свои вещи Романов заложил и продал. Последнее
время он носил даже мое пальто.
— Вы :знаете, где он теперь?—как-то лукаво спросил меня
штатский.
Отвечаю отрицательно.
— Он вам не сказал, куда уходит? Какого числа он был
здесь последний раз?
— Я на работе целыми днями. Быть может, он ушел искать
место. Нашему брату без работы нельзя, а сама работа к нам
не ходит—ее надо искать. Быть может, >днем и приходил—я
почем знаю? Он иногда по нескольку дней не бывал. По Питеру
тоже походи, когда ищешь работу.
Пока я говорил, пристав и штатский многозначительно
переглядывались. Пробую начать приводить в порядок комнату, чтобы
поскорее заставить их уйти. Или же будет другой конец?!
«Арестуют,—подумалось мне.—Ну, что же, посижу. Сидят же другие,
а я-то чем счастливее их?»
— Прибрать вы еще успеете,—остановил меня пристав.—Эти
книги ваши?—спросил он, увидав рассказы Гл. Успенского,
«Хронику села Смурина» Вологдина (Засодимского), Некрасова и еще
что-то.
— Я >еще не обедал... Почему вы заставляете меня голодать?
Книги все мои, все...
Опять непрошенные гости многозначительно переглядываются.
А ^меня действительно злость берет и страшно хочется есть, ибо
я на обед не ходил, да и вечером работал до девяти с половиной
часов.
— А ети банки с лекарствами ваши? Что за порошок в этой
банке? А здесь что?—обратился ко мне пристав, указывая,
кажется, на пузырек с полуторахлористым железом и кивая
штатскому на склянку.
— Это все Михаила Романова.
Опять какое-то нехорошее молчание. А я не знаю—куда деть
свои руки и что с собою делать. Это было мое первое «близкое»
знакомство с людьми этого рода...
Собрав все свои бумаги и кое-какие вещи и лекарства Мишеля
и напечатав их в большой пакет, непрошенные гости удалились,
заставив меня только расписаться, что эти вещи они взяли в
моей комнате.
Признаться, я все-таки не ожидал такого исхода, тем более,
что обыск они производили без меня и, повидимому, почему-то
спешили. Весь разговор и весь интерес их сосредоточивался
на Мишеле, которого у меня не оказалось: они могли заподозрить
мое участие в его исчезновении и не погладить по головке.
Что все это значит? И где же Мишель?
Когда они совсем оставили наш дом, хозяйка квартиры, добрая,
простая 'старушка, рассказала мне следующее:
— Пришли они целой гурьбой, рассыпались по двору,
перешарили все сараюшки во дворе, на чердаки лазали, копали землю
в палисаднике, даже длинными жердями и баграми ковыряли
60
в помойке и ватере. Везде, везде шарили... Все вас и Михаила
спрашивали. Всю комнату вашу перерыли. Я даже испугалась:
спаси, царица небесная, не случилось ли что с вами? Думаю:
«А может, и спрятали куда-нибудь какую вещь». Вот напасть
пришла.
«А где же Михаил? Они так и не сказали. Не проговорился
ли он?» подумал я.
Ночью мне не спалось—все ждал снова гостей и даже
ареста . «Хоть бы скорее свисток да на работу,—духма л я.—На
ваводе как-то лучше себя чувствуешь». Словно с работы не
могли взять.
Когда 1на следующий день я пошел на работу в завод, на
Шлиссельбургском шоссе за мною увязалась высокая фигура,
которую вчера вечером я приметил среди незваных гостей.
Эта фигура проводила меня до ворот завода, где всегда дежурили
околоточные. Заметив, что я скоро скроюсь в проходной конторе
и (затеряюсь среди рабочих, она быстро подошла к околоточному
и что-то сказала, показав на меня рукой. Это заметил один из
моих соседей по станку.
— Э-э! Да у тебя телохранитель-то какой же дылда! Он
«духу» (полицейскому) на тебя показывал,—ответил я.
— Чорт с ними! Пускай,—ответил я.
А 'на душе досада и скверное беспокойство. Настроение
испорчено. Теперь уже я должен ждать со дня на день нового
йабега. ^Присутствие шпионов, их бесцеремонные рожи стали
меня 'раздражать: я не арестован, но и не свободен. Не могу
свободно итти, куда захочу. Почему, за что? Как противно
все это!
В мастерской скоро стало известно, что у,меня был обыск,
что за мною следят. Здесь у нас были всякие—и заядлые
монархисты, изуверы, фанатики, готовые за царя-батюшку любого
искалечить. Эти стали как-то исподлобья на меня смотреть, глаза
их как будто говорили: «У-у, безбожник, крамольник, сицилист!»
Были и такие, что недоумевали и осторожно расспрашивали—за
что да что. Моих единомышленников было немного, они из
конспиративных соображений старались казаться равнодушными, на
самом же деле было иное, и я чувствовал это, и это ободряло меня.
Заводская администрация, очевидно официально
осведомленная, стала коситься. Мастер, который всегда хорошо относился
ко мне (он сам когда-то радикальничал, но потом отстал;
говорили, будто жена его переделала), теперь не подходит ко мне
и как будто избегает. Сразу все отношения изменились к худшему.
Кому, зачем это понадобилось?
Мое самочувствие становилось тревожным, негодование иногда
переходило в бессильную злобу, но, как мне тогда казалось,
и Небеспричинную и справедливую. Если дальше так пойдет,
то могут меня довести до безрассудного поступка, хотя с таким
состоянием я всегда боролся; заботы о матери, братишках и
сестрах охлаждали и утихомиривали душевную бурю.
Проходили дни за днями. Спокойствие понемногу возвращалось,
61
к шпионской слежке начинал привыкать. Попалась книга
«История одного преступления» В. Гюго, затем «Крестьяне на Руби»
Беляева. Опять втягиваюсь в чтение.
«Надолго ли?» задаю себе вопрос.
Ответ дает"питерская Гороховая улица.
У инквизитора
Однажды, когда я только что расположился работать, меня
вызывают в 1контору. Опять? Иду с тревогой. Там уже меня
ожидают1 гайдук-городовой, околоточный и наша администрация.
— Вы такой-то?—спрашивает околоточный.
И, получив утвердительный ответ, подает бумажку, в
которой требуют от меня явиться в охранное отделение на Гороховую.
— Вы пойдете с нами,—прибавил околоточный.
Первый раз иду под конвоем полицейских. Ластроение у меня
довольно спокойное, хотя ненависть бурлит. Об аресте в бумаге
сказано не было. Садимся в конку и едем молча. Можно ли было
говорить с людьми, тебе враждебными? Конечно нет, хотя они
могли быть и незлые и неплохие сами по себе. Но раз они служат
в охранке, иного отношения к ним: не может быть. Меня должны
были представить в какое-то отделение, но, Прежде чем попасть в
него, когда мы очутились в пресловутом доме на Гороховой,
околоточный водил меня до разным коридорам, комнатам,
закоулкам. Тут встречали много людей. Какое страшное впечатление
производили они! Невольно думалось, что попадаю в застенок,
а мелькающие люди—все это инквизиторы если не тела, то
души и сердца. Их так много 'здесь, а я совершенно один—
что хотят, то и сделают. Хорошо, что успел послать деньги
матери. Если что со мною и случится, то она целый месяц
будет покойна, не будет знать, что со мною. Что думают теперь
мои приятели? Они уже знают о моем аресте. Предупредят ли,
чтобы ко мне никто не ходил и никто не спрашивал? Эти думы
волновали меня все время, пока мы сидели & полутемном коридоре.
Чтобы скрыть свою тревогу, я курил папироску за папироской.
Хотя бы поскорее все это кончилось! Тюрьма или свобода—все
равно, здесь мне противно, я ненавижу этот дом.
— Пожалуйте,—сказал совершенно неожиданно подошедший
гайдук, высокого роста, плечистый, должно быть переодетый
жандарм, судя по выправке.
Моим провожатым он сделал знак рукою и буркнул:
— Вы можете итги.
Они остались, а меня гайдук снова повел по коридорам,
проходным комнатам и наконец ввел в большую комнату с длинным
узким столом и несколькими стульями. На одном сидел невысокого
роста русый господин со стеклянными глазами.
— Прошу садиться,—кивнул он мне на стул, стоявший у
противоположного конца стола. На гайдука же Talc посмотрел,
что тот без слов понял и вышел.
62
Мы остались вдвоем, но расстояние, разделявшее нас, было
так велико, что если бы между нами что и произошло, то достать
его я никак но мог бы. Входная же дверь была ближе ко мге—
в нее вышел гайдук. «Очевидно, все предусмотрено на всякий
случай», подумал я.
— Как ваша фамилия?—спросил меня русый субъект,
пронизывая своими нехорошими глазами.
Потом я узнал, что это был Янковский, правая рука Судей-
кина.
Называю свою фамилию и спрашиваю, зачем меня оторвали от
работы и вызвали сюда.
— Мы тут ни при чем: виноваты-вы сами,—уверенно и даже
властно ответил он, строго глядя мне в глаза.—Скажите, вы давно
занимаетесь революционными делами? Помните, что вы должны
дать откровенный ответ. Нам все известно. Неоткровенность с
вашей стороны повлечет за собою самые тяжкие последствия.
Он произнес длинную речь, пересыпанную то угрозами, то
лестью и ласками, вызывая во мце беспредельное негодование
и отвращение. Догадывался ли он об этом? Вспоминаю рассказы
тех товарищей, которые уже побывали в таком положении, как
теперь я. Как много благодарности посылал я им мысленно.
Благодаря им я уже вижу, с кем имею дело и как должен
себя держать, чтобы не обесчестить своего имени. Терпеливо
выслушиваю длинную фальшивую речь, не веря ни одному слову,
и повторяю в уме слова: «Надо же быть таким фарисеем, лжецом
и обольстителем!» Нет, ни одного слова искренности не вытянет
он из меня. Что может быть противнее неискренних, слащавых
улыбок и угроз безжалостного ищейки-инквизитора! Как
держаться; с ним? Хотелось бы сказать ему самую жестокую и
искреннюю грубость, дерзость, чтобы оскорбить до боли. Но в памяти
всплывает умный совет нелегального Семена: на допросах никого
не называть и даже намеков на знакомство не делать, даже
о своих делах не говорить, но соблюдать вежливость и
чувство собственного достоинства; грубое поведение только может
унизить.
— Если вам все известно, зачем же вы еще меня
спрашиваете?—отвечаю я.—Конечно вы должны знать, что я работаю
токарем на заводе Семянникова, что не пьянствую...
— Я вас спрашиваю не о том. Вы мне скажите: с какого
времени вы занимаетесь революционными делами? Вы еще такой
молодой, можете испортить свою жизнь, свою карьеру.
Слово «карьера» взорвало меня, и я резко воскликнул:
— Какими революционными делами? Мне некогда ими
заниматься. Я работаю на заводе с шести часов утра до шести
вечера, а иногда остаюсь и на вечерние работы. Даже на чтение книг
не остается времени, а мне надо учиться.
— Какие же вы книги читаете?—лукаво перебил
он.—Политическую экономию, Некрасова, Миртова, Наумова? Кто же
советует читать эти книги, а не другие? Читаете один или с
товарищами? «Рабочую газету», «Зерно», «Народную волю» тоже
03
читаете? А—уже с ехидной иронией стал он перечислять
нелегальную литературу, следя за моим лицом:. Мне пришлось
почувствовать свою бестактность: зачем было говорить о саморазвитии
и чтении книг? Как ловко придумал он запутать меня на этом,
как скоро приплел он сюда и чтение в кружках и
нелегальщину. В душе я даже разозлился на себя.
— Читаю всякие книги, какие попадутся,—ответил я.
— Где же вы их берете?
— Покупало на Апраксином рынке.
— И «Зерно» и «Народпую волю» тоже там?
— Таких книг я там не видал.
— А «если бы нашли—купили? Зачем вы прикидываетесь
простачком? Я вам повторяю—вы должны быть откровенны. Ваша
неискренность заставит нас отправить вас на Шпалерную улицу.
Вам тогда придется пожалеть. Знаете эту улицу?—уже
недовольным тоном проговорил он.
— Не знаю,—бухнул я, надеясь таким образом озадачить его.
Его игра со мною заставила и меня быть игроком, может быть
и наивным, но игроком. В голове сразу сложился такой план:
дрикидываться агростаком и отвечать или не на вопросы или
только на общие места его лукавых вопросов, чтобы не пойматься
на мелочах, их тонкостях, которые он плел как паутину.
— Я но понимаю, зачем вы меня оторвали от работы. Мне
каждый день дорог. Я должен лож>гать семье.
— Нам: все это известно,—перебил он меня и, признаюсь,
озадачил. Но тут же и выдал себя, прибавив:—За все мы вам
заплатим. Вам нужны деньги для семьи? Сколько вам нужно?
Вы можете получить здесь.
Меня взорвало. Как искусно он приспосабливал к себе все
мои мысли, мои слова. С ним не знаешь, как говорить.
— Я привык работать и за работу получать. Никаких других
денец мне но нужно.
— Работу мы вам дадим... Мы тоже социалисты, тоже
защищаем рабочих, но не бомбами, не револьверами. Сознайтесь:
вы! социалист? Народоволец? К чему зовут вас народовольцы?
Они враги рабочих... Они губят вас. Вы будете служить у нас...
Опять он залился соловьем, начал длинную» рочь о своем
социализме, (о злодеях-народовольцах, о борьбе с ними и своих
симпатиях к рабочим. Его речь была полна подхалимства,
ехидства и желания поймать меня на слове, запутать, заглянуть в
мою душу, отравить ее, втянуть в какое-нибудь грязное дело,
в предательство. Видно было, что он сознавал свою безграничную
власт> йадо мною. Был убежден, что я не посмею ему возразить,
ибо этим выдам—кто я. А мне так хотелось бросить ему ъ лицо:
«Все-то ты лжешь, лукавишь, клевещешь!»
1 «Рабочая гавота» издавалась в Петербурге партией «Народная воля» при участии
Желябова, Грипевицкого и др. с 15/XII 1880 да конца 1831 года.
Журнал «Ыародная воля» выходил в СИВ. под редакцией Н. Морозова и Л. Тихо
мирова. № 1 выпшд 1/Х 1879 года.
U
Во время нашего разговора боковая дверь то и дело
приотворялась й из-за нее выглядывала красная -физиономия гайдука.
Однажды вошел высокий рыжий мужчина, тоже здоровенный,
окинув меня глазами, он перекинулся вполголоса несколькими
фразами с моим инквизитором и тотчас же вышел. Потом я
узнал, что это был Судейкин. Недобрым взглядом проводил я его,
подумав: «Это тоже мучитель нашего брата».
— Я люблю только свою токарную работу... Я не писарь,
в канцеляриях не работал и не люблю... Меня оторвали от
работы. Начальство на заводе будет недовольно и может меня
рассчитать...
— Опять вы прикидываетесь! Оставьте эту манеру,—почти
грубым! тоном оборвал он меня.—Все зависит от вашего
доведения и откровенности, а мы можем сделать так, что никакое
начальство 'не посмеет вас уволить. Вы <жо хотите со мною
играть. Я вам этого не позволю. Не пришлось бы вам жестоко
раскаяться и пожалеть потом!
Он снова засыпал меня кучею вопросов, и старых и новых:
кто ввел меня в революционную жизнь, что люблю читать,
почему ушел с Балтийского завода, кого там знал... И снова
стал распинаться, что он социалист, но противник народовольцев,
которые только и знают убивать, до интересов рабочих им
никакого дела йет, а вот-де оц и они, т. е. жандармы, только и думают,
как бы оберечь рабочих от злодеев-народовольцев. В своем
сладком фарисействе он вспомнил даже о моей семье, о которой как;
будто у него были уже наведены справки, может быть
распечатывали мои письма, и оттуда он узнал,—пожалел (!?)—о моей
матери. И опять повторил свой проклятый соблазн деньгами.
От такой сатанинской речи его у меня голова шла кругом,
в 'душе кипела такая злость, какой я никогда еще не
испытывал. Будь у меня в это время револьвер, я пустил бы в него
пулю; Может быть, потом и пожалел бы, но так сильно было
мое раздражение: ведь ясно было, что он говорит все неправду
и старается меня обмануть, обольстить и склонить к
предательству. Лучше убыо себя, чем сдамся. Что сказали бы мать,
братишки, сестры, приятели, если бы я так низко упал? Нет, лучше
умереть. Только как бы мне не проговориться, как бы не поймал
он меня и не запутал. Что ему стоит? Он пожилой, ловкий.
А я что? Мальчишка перед ним.
— Зачем вы вое это говорите мне? Я вам сказал, что люблю
только свою токарную работу и никакой другой не хочу. Что
вы хотите еще) от меня? Отпустите меня Haj работу или делайте,
что знаете. Вы все грозите... Я конечйо здесь один и в ваших
руках — вы можете со мной сделать, что угодно,—не вытерпел
я и сказал это с умыслом, чтобы задеть его и показать, что
жду от него даже насилия. Мне было все равно: пусть злится.
Оказалось, что мой удар попал в его самолюбие прямо.
Он рассердился и обиделся.
— Вы: уверены, что здесь совершают насилия над людьми?
Вы это знаете? Кто вам сообщил? Вы так выразились... Рас-
5 Рабочее движение в России.
65
скажите мйе—о каких же насилиях вам говорили? Оказывается,
вы очень много знаете.
— Никто мне ничего не говорил. Я вам говорю: зачем вы
меня держите здесь, мучаете?
Последнее слово сорвалось у меня с языка помимо моей воли.
Мне совсем но хотелось открывать хоть чуточку своей души,
своего внутреннего состояния.
Янковский молчал, но пристально посмотрел на меня. Я тоже
молчал и ждал, что он ответит, что он еще придумает.
Боковая дверь снова отворилась, показалась фигура; гайдука.
Он что-то принес моему мучителю, мне показалось—спички. Это
конечно был только предлог, чтобы посмотреть, что тут за кол-
чание. Гайдук вышел, а Янковский вынул из кармана серебряный
портсигар, достал оттуда две папироски, одну предложил мне.
Я отказался и заподозрил даже, что в папироске может быть
что-нибудь (снотворное. Вдруг заснешь и во сне наговоришь
бог знает чего. Кроме того взять что-либо от такого человека
казалось мне тогда уже падением—такое внушил он к себе
отвращение.
— Вы знаете, где Михаил Романов? Это ващ
друг!—неожиданно заговорил он, поставив меня почти втупик.
«Что это? Какой-то новый подвох? — мелькнуло у меня в
голове. — Пусть! Тут он ничего не выудит. Мишель жил у меня.
При обыске я об этом уже заявил. Тут могу быть откровенным! —
может быть, скорее отстанет».
— Да, это мой приятель, он жил у меня... Не по вашему ли
распоряжению делали у меня безобразный обыск?
— Безобразный? Как безобразный? — перебил меня Янковский.
Рассказываю коротко о посещении моей квартиры соглядатаями
и жалуюсь на порчу обоев и: диванчика.
— У вас что-нибудь пропало?
— Ничего.
— За все благодарите своего друга Романова.—И прибавил.—
Вы знаете, где он теперь, этот ваш приятель?
Последние слова были произнесены им с сильным оттенком
пренебрежения и негодования.
— Откуда ■Ж0 Я знаю? Ушел искать место.
— Хорош, хорош ваш приятель! Не знаю — назовете ли вы
его так, если узнаете о нем.—Говоря это, он нехорошо смотрит
мне в глаза и повторяет слово: «Хорош, хорош!» Я тожо смотрю
ему в глаза. Кого-то они мне напоминают... «Всеми способами
старается обратить меня в свою веру,—дунаю я.—Да, точь
в точь, как наш священник, законоучитель о. Алексей». В
памяти живо встала яркая сцена из далекой жизни детства. Тогда
за веру (я был старообрядцем) меня тоже допекали. Однако все
кончилось благополучно.
Авось и теперь выкручусь. Выкрутиться-то, может быть, и
выкручусь, но какал была пытка выслушивать провокаторские речи
Янковского, этого застеночного жреца, опытного, всемогущего!
Еще более возненавидел я его. Все, все в этом учреждении — люди,
66
мебель, воздух, свет — казалось мне пропитанным шпионством,
предательством, вероломством. «Хоть бы в самуд скверную тюрьму
поскорее, чем в этом проклятом доме», думал я. Однако падежда
Еырваться не покидала меня. Если выберусь отсюда, живо айда
из Питера. Тогда ищи ветра, лишь бы вырваться!
— Значит, вы не знаете, где ваш приятель Михаил Романов?
Я вам скажу, — снова начал Янковский, не сводя с меня своих
стеклянных глаз.—Он у нас, в Литовском замке. Вы желаете
с йим повидаться? Я могу доставить вам это удовольствие...
Бог его наказал... Он жестоко поплатился за свою дерзкую игру.
Говоря это, Янковский цедил каждое слово сквозь зубы и
наблюдал &а мною, какое впечатление он производит своим
сообщением. Мучительный вопрос сверлит мне мозг: «Неужели Мишель
сдал, Ослабел? Как он попал к ним?» Нет, я но верю ничему,
что он говорит. Все это делается, чтобы поймать меня на словах.
— Да, я хочу видеть Михаила, — прямо заявляю я.
— А если я вам расскажу- о том, что он позволил себе здесь,
вы, пожалуй, откажетесь от своего желания.
— Что яке такое он сделал? — спрашиваю. Чувствую, что ему
просто доставляет удовольствие мучить меня.
— Он хотел убить меня здесь, — совершенно спокойно начал
Янковский.—Бросился с ножом... Но ему не удалось. Он
выбросился из окна и сломал себе позвоночный столб. Наши люди
не успели ему помешать... Он еще жив. Жестоко поплатился
за свою дерзость и неблагодарность. Мы могли бы сгноить его
в тюрьме, но мы его пожалели и выпустили. А он вздумал со мнкш
играть... Сам бог его наказал. Вы верите ё бога?—неожиданно
бросил он мне вопрос и, получив ^утвердительный ответ,
продолжал:— Вы хотите видеть Романова?
— Да, хочу, —' уже почти назло даю такой ответ.
Мое терпение приходило к концу, и я мог сказать еще что-
нибудь более возмутительное, по его мнению. Но моя голова была
отвлечена судьбой и поведением Мишеля. Его конечно довели
здесь до такого состояния. Недаром он однажды мне сказал: «Я им
покажу, что купить меня им не удастся...» Да, не купили, йо
довели до безумного поступка и погубили. Мысленно я
представил себе его положение и сравнил со своим. Лучше бы! в тюрьму
засадили, чем слушать здесь этого варвара. С утра я ничего
не ел и почему-то, вспомнив об этом, подумал: «Может быть,
и этим хотят меня допечь? Нет, не подам и вида, что я голоден».
Он снова стал распространяться о мирном социализме, жалел
рабочих, признавал, что их положение должно быть изменено,
и пр. и пр.
— Вы 'должны мне дать ответы на все. Вы видите, с какой
откровенностью и доверием я отношусь к вам. Того же жду и от
вас. Я понимаю, что вы должны подумать. Подукайте, подумайте...
Потом придите сюда и дайте ответ. Сегодня что у нас?
Понедельник. Ну вот, хорошо. Придете в понедельник. Тогда получите
и разрешение на свидание с Романовым, — говорил Янковский.
В это время вошел какой-то тип и подал ему бумагу.
5»
67
«Слава богу, — подумал я,— значит, сейчас вырвусь, а там
уже дудки: завтра или послезавтра меня в Питере не будет».
Я ненавижу это гнездо больше, чем прежде. Здесь убиваюсг
людей !не веревкой, не палкой, а обманом, ложью и гнусными
подкупами. Чему он хотел меня научить и к чему склонить?
Хотели сделать из меня Иуду. «Будь ты проклят!» мысленно
выругался я.
— Сейчас, — сказал Янковский типу, прочитав бумагу.
Должно быть, его куда-то приглашали, а .может быть, привели
нову#> жертву, вроде меня.
—■ Помните же, в понедельник, ровно через неделю, вы обязаны
явиться сюда. Не вздумайте играть со мною,—сказал он строго
и даже властно.—Можете итти... До свиданья.
Молча поклонившись, направляюсь к двери, которую уже
открыл мне гайдук. В душе у меня такая радость, какое-то
торжество юноши, дерзкого, решившего остаться победителем и почти
добившегося своей цели. Хотя пбвидать Мишеля и очень
хотелось — мне было страшно жаль его, но ведь мне могут только
пообещать и не дать свидания, а меня довести до такого же
состояния. Нет, лучше я сразу уеду —и баста!
В коридоре появился, как дух, какой-то другой тип и проводил
меня до лестницы, ведущей вниз, прямо на улицу.
— Boa1 здесь опуститесь и выйдете прямо на
улицу,—сказал он.
На! 'лестнице догоняю старушку, по виду мещанку.
Она плачет и бранится.
— Изверги, душегубы! — причитает она.
— Что с вами, бабушка?
Она посмотрела на меня, на мое засаженное пальто и спросила:
— Ты какой будешь — Мастеровой, что ль?
— С Семянникова завода, мастеровой.
Старушка испытующими главами посмотрела на меня и
спросила:
— Свиданья, что ль, с кем просил? Дали?
— Нет, обещали.
— Ишь ты, какой дошлый... А мне вот даже не говорят, где
мой юын. Арестовали ночью сынка. Он мой поилец, кормилец.
Изверги! Я их о сыне спрашиваю, а они допытываться: скажи,
с кем он водился, какие книжки \читал. А мне какое дело: я
неграмотная. Мой сын трезвый, не пьяница беспутный, смиренник.
А они его увели, может и в каменный мешок засадили, —
проговорила старушка и снова заплакала.
Ее сын, оказалось, работал на Патронном /заводе.
— Вы, бабушка, идите на завод, где ваш сын работал. Там
мастеровым скажите об аресте сына — они скорее вам укажут,
что и как надо делать,—посоветовал я.
Такой способ у нас существовал для разыскивания своих и для
предупреждения их, чтобы не попадали в засады. Таким же
способом скорее доходило и до революционного Красного креста
известие об аресте того или другого рабочего.
G8
Встреча со старушкой спугнула мое праздничное настроение —
торжество освобождения—и навеяла грусть, напомнила и о моей
матери. С какой торопливостью зашагал я домой, на свою
Фарфоровую улицу, как будто за мною гнались охранники. Домой
явился точно с того света.
Решение покинуть Питер
Вернулись и мои заводские приятели-единомышленники.
Радости не было конца. Подробно расписываю им о своих
злоключениях и своем намерении немедленно покинуть Питер. У них
тут же составляется план, как выпроводить меня, минуя
шпионские глаза.
— Испытать судьбу Мишеля не дай ,бог. О нем мы позаботимся.
Уезжай, не задерживайся. Полем мы проводим тебя, отнесем твои
вещи и билет тебе возьмем, чтобы ты поехал без шпионов,
—говорили они.
Сколько теплого участия, любви чувствовалось в их глазах
в их голосах! «Для тебя сделаем:, все», говорили их взоры.
Я знал, что при их помощи (исчезну из Питера, как провалюсь.
Наш дом заднейч стороной выходил в поле —стоило только
перелезть через забор. В ночное время; ни один шпион туда не решится
заглянуть. Для всех своих конспирации мы 'всегда1 пользовались
этим путем. Но мне во что бы то ни стало необходимо было дови-
дать кого-нибудь из нелегальных и получить адреса, чтобы не
терять связей. Многие из моих знакомых уже покинули Питер,
оставался один Семен.
— Бели вы не боитесь провалиться, поезжайте в Москву.
Там вы найдете многих моих знакомых,—говорив мне
последний.—К Мишелю будет ходить его земляк Сорокин. Через него
мы вое узнаем.
После этого я уже никогда не видел Семена, этого молодого,
но умного и тактичного работника. Он умел себя держать с
рабочими и не баловал их, не * курил им фимщьм, как некоторые. Он
всегда говорил:
— Надо больше читать и работать над собою.
Собрав свои пожитки и получив почти официально расчет
с завода — администрация была рада освободиться от такого
крамольника, у которого и близкие такие же крамольники, и охотно
дала Уне расчет, — через несколько дней я уехал из Питера.
А. уезжая, чтобы не подвести добрую хозяйку, которой было уже
вменено в [обязанность немедленно оО'Общить полиции, если я
вздумаю куда-либо уехать, я сказал, что йерехожу за; Невскую заставу
машинистом на водокачку. Все связи с кружками мною были
переданы сыну хозяйки и его другу Мите.
Здесь я должен вернуться несколько назад.
Еще 'весною 1881 года в Петербурге стали носиться слухи о
предполагаемом слиянии партии «Народная воля» о «Черным
переделом», и все лето не прекращались глухие разговоры на эту.
69
Тему в революционных кругах. В рабочую среду эти разговоры
тоже просачивались, но не производили однако никакого
партийного раздора, хотя среди рабочих были и горячие сторонники
«Черного передела», как, например, Александр Неелов, он же
и Степанов, со своим: кружком Обуховского завода.
Все лето чернопередельцы издавали для рабочих газету «Зерно»,
которой пользовались и народовольцы. Нельзя сказать, чтобы
она удовлетворяла передовых рабочих, но они: ею пользовались
для пропаганды среди несознательных масс. Чернопередельцы
охотно давали «Зерно» й народовольцам. При встречах
интеллигентных представителей народовольцев и чернопередельцев
теоретических споров не поднималось, хотя иногда и чувствовалась
затаенная конкуренция. Особенно она замечалась в поведении
нелегального под кличкою Рыжий при встрече его с Семеном.
Первый был уже но молодой и не слишком любимый рабочими.
Он нередко говорил Семену:
— Смотрите, не провалите у нас работников... Нам двоим,
пожалуй, и лишне сюда ходить...
Мы-то понимали и видели, что значат эти слова Рыжего,
и совсем не желали расставаться с Семеном. Но последний сам
заявлял:
— Охотно предоставляю вам эту работу. У меня есть другие
дела, да и ходить сюда очень далеко,—и по неделям но
показывался.
Я уже упоминал, что Рыжий не пользовался расположением
рабочих: он был вял и сух, и сам замечал это. Иногда с собою
он приводил Никиту, который тоже не особенно пришелся ко!
двору, но, более умный и наблюдательный, он сразу заметил,
что Рыжий совсем не подходит для занятий с рабочими. Появились
на; сцену новые народовольцы и чернопередельцы. Наконец
приехал из Москвы и Теллалов; среди рабочих он стал известным
под кличкою Николая Николаевича. Ему и приписывают
объединение «Черного передела» с «Народной волей».
Сходка
Во время пребывания Теллалова в Питере была созвана сходка
рабочих в роще, около села Рыбацкого, за Невской заставой. Для
меня и по сие время остается загадкой, кто был инициатором этой
сходки, довольно многочисленной по тому времени: одних рабочих
было девятнадцать человек с разных заводов, и даже с Калинков-
ской фабрики был один. Из нелегальных руководителей на нее
явились Теллалов, Буланов, Егорыч, Никита и еще кто-то.
Несмотря на то, что в это время слияние «Черного передела» с
.«Народной волей» уже совершилось, однако на сходке произошел
довольно горячий спор между Никитой и Теллаловым по вопросу
о способе пропаганды и организации рабочих.
Никита (Стефанович) настаивал па гомг чтобы не выдвигать
долитдчссвих задач, которыми можно только отпугнуть рабочих,
навлекая на них ненужное преследование властей. Теллалов
доказывал, что политика и экономика совершенно не отделимы
и что сами рабочие это понимают и ведут свою пропаганду и
агитацию, сообразуясь со своим пониманием и условиями работы.
Замыкать мысль рабочего в узкие и односторонние рамки одних
экономических вопросов — значит ограничивать его духовную
жизнь, суживать его кругозор, скрывать от него политическую
жизнь, полноту жизни... Задача революционеров и социалистов—
расширять этот кругозор рабочих, а но наоборот.
По этому вопросу Теллалов произнес тогда прекрасную речь,
убедительную и понятную всем присутствующим. Рабочим она
так понравилась, что некоторые стали говорить между собою,
нельзя ли ее записать. Вообще Теллалов произвел чарующее
впечатление на всех нас своей искренностью, простотой и
своеобразной мягкостью и стойкостью. Рабочие настойчиво просили
его навещать нас, но в то время ему было не до того. В Питер он
приезжал только "на время и по специальному делу объединения.
За это короткое время он успел побывать всюду и везде производил
одно и то же обаятельное впечатление. Даже любимец Петрович
(Буланов) никогда не имел такого успеха. На сходке поговорили
о французской революции, затем некоторые из рабочих посетовали
на то, что Судейкин и Янковский очень глубоко пустили свои
корни среди рабочих.
— Надо бить, —с негодованием сказал один с Обуховского
завода.
— Надо поймать Судейкина и Янковского. У нас ходы уже
делаются, — добавил токарь из арсенала.
— Не следует горячиться. Лучше всего_быть осторожнее и пока
оставить все ходы,—вмешался Теллалов.—Судейкин и
Янковский конечно опытнее и постараются устранить от себя беду,
а из вашей среды выхватят не одного. Так рисковать силами
нельзя.
— Пока что, а рабочим лучше всего направить свои силы на
агитацию и пропаганду среди рабочих. Все другие дела
предоставьте другим, — поддерживал Никита.
— Как это —другим? Среди нас завелась такая подлость,
а убирать ее должны другие! А мы-то что? Нет, мы ее и должны
чистить,—горячо протестовал ткач Иван, большая горячка.
Напрасно старались его успокоить —он лишь более горячился.
За это напали на него свои же рабочие.
— Вот так мы и потворствуем шпионству. Если бы щелкали
их почаще, то отучили бы от знакомства с Гороховой. Теперь
до чего дошло: дохнуть нельзя — везде свой брат мастеровой
тебя же и предаст, и все безнаказанно. Подлее всего то, что це
знаешь, кому верить, — в каждом человеке видишь продажную
душу. И все это потому, что всем даем спуск. Бить, глушить
надо эту с...—кипятился Иван. Его поддерживали и некоторые
другие.
Теллалов спокойно стал доказывать неприменимость такого
способа борьбы, подчеркивая, что борьба с мелкими, малодушными,
71
несознательными людьми ни к чему не приведет, а только отвлечет
от главной работы и посеет среди самих же рабочих раздор и
вражду, к чему собственно и стремятся Судейкин и Янковский.
— Надо тогда убить и того и другого, — раздалось несколько
голосов.—'На юге тоже есть свой Судейкин. Вчера получил
письмо из Киева] —там какой-то Стрельников неистовствует и
йа допросах бьет нашего брата и заставляет выдавать,
оговаривать своих товарищей. Мало их бьем... Вот они и подняли
головы. Житья (нет. Какая это работа? Чуть только где-нибудь
заведем связи, (начнем налаживать дело... трах! — аресты.
Стефанович хотя и иносказательно, но опять стал обвинять
народовольцев в том', что они завлекли; рабочих на путь
политической борьбы. По^юо, даже его недавний единомышленник
А. Буланов возражал ему.
— Я все лето занимался с рабочими и даже никогда об этом
не говорил, отклонял даже политические вопросы, но сама жизнь,
политические условия, сильнее нас: они на каждом шагу бьют
рабочих и толкают их в сторону политики,—говорил он, и
привел целый ряд примеров из недавнего прошлого — массовых
арестов по самым пустым поводам.
Эта сходка была последней, так как большинство вынуждено
было покинуть Питер, но она произвела бодрящее впечатление.
Присутствовавшие -на ней рабочие разошлись с 'приподнятым
йастроением, готовые продолжать ту работу, которую так
беспощадно парализовали и отравляли «социалисты» с Гороховой улицы
через своих шпионов. В скором времени однако остальным также
пришлось исчезнуть из Питера, так как работа здесь становилась
абсолютно невозможной и для них.
Работа в Москве
В Москве я нашел Прежних своих .знакомых —Буланова, Злато-
польского и 'Др. Сюда же в это врем!я только что прибыли
Мартынов с Желваковым и еще несколько человек с юга. Халтурин
тогда собирался с Желваковым на юг, с известной целью. Здесь
я видел Халтурина в последний раз.
До (отъезда он временно занимался с московскими рабочими
как нелегальный, под кличкою Алексей. У него были связи с
рабочими на заводе Комиссарова и в мастерских Смоленской железной
дороги. Эти связи предполагалось распространить на все
московские заводы и фабрики, которые с 70-х годов почему-то оставались
почти вне влияния революционных партий.
В Москве и под Москвою у меня жили родные: мать, братишки,
сестры. Чувство родства тянуло меня повидаться с ними, но
опасение, что меня могут у них арестовать по приказанию из
Питера, удерживало меня. Было ясно, что как только
Янковский узнает о моем отъезде, то прикажет обыскать моих родных
и !нападет на мой. след. Одна мысль, что я снова могу очутиться
в руках этого человека, приводили меня в страшное негодование.
72
Мысль и чувство боролись во мне все время. Однако надежды
повидать родных все же не покидали меня.
— Где вы намереваетесь остаться?—спросил меня Буланов.
— Хотелось бы в Москве.
— Здесь вы надеетесь на большую безопасность, чем где-либо?
— Если бы удалось поступить на какой-нибудь завод слесарем,
а йе токарем, то думаю, что удержался бы.
— Паспорта (вам не нужно? Вы под своим собираетесь жить?
— Здесь имеется возможность жить без прописки. Переходить
на нелегальное для меня еще рано.—Я хорошо знал Москву,
знал tee патриархальность и был уверен, что сумею прожить
некоторое время без прописки.
— Смотрите, Не провалитесь, — заметил Буланов.
Чикоидзе, бывший в этот раз с ним, поддержал меня, сказав,
что лучше дойти в ссылку, чем переходить на нелегальное
и чуть не с юных лет жить по чужому, (паспорту.
— Какая это мука даже для нас, а он еще такой молодой!
Нет, не надо. Ведь за вами и особых дел нет, кроме пропаганды
среди рабочих. В руках у вас два ремесла — лучше, чем два
настоящих паспорта, — сказал он.
Через неделю я уже работал токарем на маленьком заводе
Беккара и здесь Наткнулся на одного из таких же, как и я сам, —
токаря Лазарева, который когда-то удрал из Питера, долго прожил
в Турции, а дотом! соскучился и возвратился, но связи с
революционерами растерял. Это был умный дарень, лет на девять старше
меня, начитанный, бывалый и дельный. Через него мне скоро
удалось завести связи на заводе бр. Бромлей, Гоппера, Липгарга
и Листа. Казалось, все складывалось хорошо.
Но Судейкнн и сюда уже запустил своих агентов. .Вслед
за А. Булановым переехал из Питера и рабочий петроградского
Старого арсенала Степан Белов, который поселился в Москве
и жил нелегально. Повидимому, он был вне подозрения и
пользовался большим доверием у чернопередельцев.
В Замоскворечье, где была революционная сапожная мастерская,
Белов слыл даже за интеллигента и ходил туда заниматься; с
рабочими. Сначала мне приходилось с ним встречаться очень редко
и почти случайно, на свиданиях с Булановым, Чикоидзе и др.
В то время в Москву почему-то съехалось много нелегальных.
Были здесь Юрий Богданович, Я. Стефанович, Теллалов, Злато-
польский и др. Казалось, работа Налаживалась и оживлялась.
Центром как будто становилась Москва, а не Петербург.
Однако все это оказалось лишь временным расцветом. Не знаю,
какцм «образом, но Степан Белов очутился в курсе всех дел и
с широкими связями. Почему-то не было обращено внимание на
то, как он жил, т. е. какой вел образ жизни. Иногда его видали
даже выпившим. Буланов относился к вюму, повидимому, с
полным доверием и даже ни одним намеком не дал нам понять
о своих подозрениях. Однажды, когда Белов стал распускать
слухи, что Мишель возбудил у него подозрение, я спросил
Буланова:
73
— Есть ли для этого факты?
— Могу вас успокоить, Василий. Романов честный человек.
Никого он не оговорил. Если бы только он это сделал, то много
народу полетело бы. По моему мнению, есть кто-то другой.
Будьте осторожны, — ответил мне Буланов. Но с кем быть
осторожным, он так и не сказал.
При этом разговоре был и Белов. Как раз перед том последний
узнал завод, на котором я работал. Подозрений на Степана Белова
в то время, повидимому, ни у кого не возникала, кроме Буланова.
С Ним вели дела и другие — Стефанович и несколько рабочих,
в том числе и некто Крупенин — слесарь, тоже недавно
прибывший из Питера. Отношения к Белову установились как будто
самые прочные, но его праздная жизнь вызывала неудовольствие
со стороны рабочих: он нигде но работал, хотя и считался рабочим,
и даже но стремился куда-либо поступить, ссылаясь на то, что
его усиленно разыскивают питерские жандармы. Меня и Кру-
пенина тогда не удовлетворяло такое объяснение. В умственном
развитии Белов не представлял собой ничего такого, что давало
бы <ему возможность влиять на окружающих, кроме того в нем уже
чувствовалась некоторая избалованность и даже самомнение перед
малосознательными рабочими. Меня и Крупенина очень удивляло
и то, на что живет Белов, где он берет средства. Тогда я не
допускал мысли, чтобы рабочий жил не на свои, трудом честным
заработанные деньги.
— Мне ежемесячно выдает Петрович по тридцать рублей,—
ответил Нам Белов, когда мы его спросили. — Мне запрещают
даже часто бывать у рабочих — как бы я не провалился. У меня
другие дела... Быть может, я скоро уеду отсюда совсем.
Все это говорилось Беловым: с каким-то подчеркиванием
важности я .чрезвычайной конспиративности, бросавшимся нам в глаза
как хвастовство.
— Не нравится мне ваш Степан, — однажды сказал мне Кру-*
пенин, — что-то в нем есть... противное.
— У" Него уже и замашки бездельника. Целые дни он проводит
по трактирам, чтобы не быть дома и не вызывать подозрений.
В чем можно заподозрить такого лодыря?
Крупенин дал ему такую оценку, после которой вряд ли можно
доверять. Его возмущало и то, что Белов иногда бросал темные
намеки на Мишеля. Фактов же никаких он не приводил.
Распускал он слухи и об Яковенко — словом, воздвигал вокруг себя
загородку, как это делали все провокаторы и предатели,
стираясь оклеветать других, чтобы отвлечь подозрение от себя.
Повидимому, ему это удавалось.
— Подлые люди всегда занимаются клеветой на других... Ко
мне он больше не придет,—прибавил Крупенин.
Вскоре мне пришлось однако покинуть завод Беккара, куда
два раза наведывались шпики, называли даже мою фамилию в
конторе завода. Откуда напали они на мой след, так и не удалось
установить. Сторож, спасибо, предупредил меня, и я немедленно
перебрался в другую часть Москвы, на фабрику Прохорова,
и
куда поступил уже слесарем, в ремонтную мастерскую. Сделать
это мне удалось очень легко: на заводе Беккара паспорта у меня
не требовали, но зато и платили только 1 р. 20 к. в день, что
для токаря было маловато. Но это было певажпо, важнее было
для меня то, что в этот промежуток мне удалось избегнуть
всероссийской переписи и не попасть в списки.
В 1882 году в Москве производилась перепись населения.
Полиция тогда усердствовала, помогая переписчикам. На
нелегальное положение мне переходить не хотелось, жил я
полулегально, т. е. без прописки паспорта. В Москве это было возможно
в обычное время, но во время переписи удавалось только
тогда, когда поселишься в это время в притоне босяков
(золоторотцев).
Передав свои пожитки одному рабочему—Николаю
Герасимовичу (где-то этот чудный человек?), остаюсь в рабочем засаленном
костюме и в таком же пальто и поселяюсь в одном из подвалов на
Старой Басманной улице, населенном босяками, пропойцами,
опустившимися рабочими и чинушами. Здесь жили даже два
городовых. Эти «духи» в нашем подвале обитали с женами и каждый
раз предудреждали нас о налете полиции и переписчиков. А мы
в свою очередь своевременно выметались, предоставляя
содержательнице притона вывертываться всяческими способами. И
ловкая же была эта Кузьминшпна! За ночлег она1 брала с нас
полтора рубля в месяц, а городовым мы платили особо, по своему
усмотрению, — кто десять, кто двадцать копеек.
Московский провал 1882 года
и предатель Степан Белов. Опять в Питере
Не прошло и недели после возвращения моего из подвала,
как ко мне является Златопольский и сообщает об арестах. Это
было начало большого московского провала.
— Постарайтесь убраться из Москвы как можно скорее:
арестованы Петрович, Черный (это Чикоидзе), Богданович, Николай
Николаевич—словом, полный разгром. Это предательство или
измена. Я зайду к вам на-днях, —сообщил он чрезвычайно
взволнованным голосом и ушел.
В тот же день явился ко мне и Мартынов с такими же вестями.
Он был принужден бросить свою комнату и остался у меня.
Утром я ушел на работу и заявил механику о расчете.
— Зачем расчет? Вы больны?
— Да, мне совсем нездоровится... На такой работе больше не
могу оставаться.
— Найдем вам другую.
Но я повторил свою просьбу и убедительно настаивал на
свеем.
Расчет получен. Но что же дальше? Связи все порвались.
Очевидно, все арестованы, кроме тех, которые успели скрыться
или уехать раньше, как Желваков, Халтурин, Лазарев (рабочий)
75
и др. Очевидно, дойдет очередь и до нас. Надо уезжать, но куда?
Почти вел работа ухнула!
Сколько крупных, незаменимых людей вырвали! 10.
Богданович, Теллалов, Чикоидзе, Буланов...
Мартынов стал меня звать на юг, в Ростов-на-Дону или
Новочеркасск, ибо в Питер возврат закрыт; кроме того я заболел:
ночью температура у меня подымалась до 40°, утром вставал: весь
мокрый и с тяжелой головой, кашель душил меня.
— Ты поедешь со мной на юг—там поправишься,—настаивал
Мартынов.—Там у нас связи есть. Не горевать надо, а работать
и работать,—утешал он меня.
Эти аресты первое время прямо ошеломили меня.
— А на что поедем? Денег нехватит!
— Надо сапожников разыскать—целы ли они.
Эту задачу Мартынов взял на себя, оставив меня дома с моей
инфлуэнцей. Хорошо, что мой квартирный хозяин—портной—
был честный и добрый старик. Вся семья его была такова же
и ухаживала за мною, как за родным. О враче и речи не могло
быть,—тогда это считалось роскошью. Вечером Мартынов
возвратился с вестью о том, что сапожники целы, но удрали с
квартиры, Белов тоже цел и не знает, что делать.
— Собирается ехать в Питер. У него денег нет. Его прямо
жалко. Он такой несчастный, убитый... Без связей и
нелегальный—куда он денется?—говорил Мартынов.
Белов, повидимому, разыграл перед ним несчастненького и
разжалобил его.
— Будем как-нибудь изворачиваться. У меня есть часы, костюм
черный, пальто зимнее. Дело идет к весне. Заложим, потом
выкупим,—предлагаю Мартынову.
— А сам в чем останешься?
— У меня довольно сносное рабочее пальто— прохожу и в йем.
На этом и порешили. Мартынов почему-то не сам пошел
закладывать мои вещи, а поручил их Белову. Тот охотно взялся,
обещая на другой день принести деньги в условленное место;
моей квартиры он не знал.
День этот прошел, и однако Белов не являлся, другой
прошел—тоже. Мы возмущены. Мартынов дает мне адрес Белова.
Иду—пусть будет, что будет. И нахожу Белова спящим в
небольшой комнате, откуда вышла подозрительная женщина, вся
взъерошенная, осовелая, а Белов лежит на; кровати и спит или
делает вид спящего. На столе беспорядок, бутылки пивные и
водочные и какая-то записка, которая особенно привлекла мое
внимание. Быстро беру и пробегаю. Оказывается, это счет и
Ютчет, сколько израсходовал Белов за последние два месяца.
Сумма оказалась по этому времени колоссальная—несколько сот
рублей.
«Откуда у него такие деньги?» мелькнуло у меня в голове,
и подозрения мои оправдались* Бужу его, толкая за плечи. Не
встает. В дверях появляется та же женщина.
— Сильнее будите,—говорит она и снова уходит.
76
«Может быть, это шпионка его оберегает?» мелькйула мысль.
В моей голове в это время роились всевозможные мрачные мысли.
Наконец Белов проснулся. Лицо его обрюзглое—видно, что
накануне было выпито много. Спрашиваю:
— Где деньги? Я за деньгами пришел,—и уже не говорю
об отъезде.
— Сейчас денег нет... Принесу, подожди. Когда едешь?
Куда?—бормотал он с похмелья.
— Ты пропил деньги,—не вытерпел я, видя, что это
действительно так.
Он молчит, тупо и бесстыдно смотрит мне в лицо.
— Подлец ты!—сказал я.
Он молча посмотрел на меня, как будто услышал непонятную
фразу, и не знал, как на нее отвечать.
В душе у меня осталась страшная тяжесть—подозрение, что
Белов—предатель, что во всяком случае он пал так низко, дальше
некуда: он пьянствует в такое вре^я, когда идут аресты, гибнут
лучшие силы, лучшие люди. Если он шпион, предатель, меня
арестуют, как только выйду на улицу. Иду озираясь. Кругом
тихо. По коридору бродят странные фигуры простоволосых
женщин. Почему он жил в таких номерах, правда' дешевых? Это
тоже наводило 1меня на разные жуткие размышления, может
быть, и неправильные, 'но такова уже психология человека,
никогда не жившего в таких помещениях, где разгул и душевная
грязь прикрыты внешностью как бы приличной гостиницы.
«Степка—предатель. Теперь ясно», думал я. Выйдя на улицу,
озираюсь кругом. Иду домой. Меня никто не арестовывает, никого
и за мной не видно. Значит, слежки нет. Достаю из кармана
записку, взятую у Белове, и снова перечитываю. В (ней все
те же громадные цифры расходов. Откуда он мог взять такие
деньги? Невольно припоминаю щедрость «социалистов» с
Гороховой, которые так бесстыдно подкупали и рабочих и
интеллигентов своими деньгами. Белов был в их руках. Сидел и выпущен
на условиях, нам неизвестных. Но ведь Петрович, Никита и др.
относились к нему с доверием. С такими тяжелыми думами
прихожу домой.
— Ну что?—спрашивает меня Мартынов.
Рассказываю ему, показывая записку.
— Да, он предатель. Его сейчас же надо ухлопать.
Мерзавец!—вспылил Мартынов.—Это он провалил всех. Я удавлю его
своими руками!—горячился он, нервно шагая из угла; в угол.
Даже мне пришлось успокаивать его, чтобы кто-либо из наших
добрых хозяев не услышал. Остыв немного; мы стали
рассуждать спокойней: что же делать дальше? Была; опасность быть
преданным Беловым, но не было против него достаточно улик,
и хотя внутренне мы и были убеждены в его предательстве,
все же одной записки было недостаточно для того, чтобы
уничтожить его как предателя-шпиона.
После сильных словесных негодований мы решили пробраться
в Питер, чтобы предупредить там других, представив записку,
77
и если за нами будет признано право, то Спровадить Белова.
В Питере у нас остались кое-какие связи, в Москве же мы их
лишились совсем из-за арестов. Вопрос стоял только за деньгами.
Продаем еще кое-какие вещи и уезжаем в Питер. Едем в одном
вагоне, но как незнакомые и лишь на площадке встречаемся
и делимся думами и наблюдениями.
— В Питере >ш по крайней мере предупредим всех. Мы
обязаны это сделать,—говорим мы друг другу.—Иначе он и там
провалит.
Мы были уверены, что Белов—предатель.
— А, может быть, до Питера он нас обоих предаст? Мне
кажется, Степка едет с этим же поездом,—говорит Мартынов.—
Кажется, я его видел в Твери на вокзале. На всякий случай
нам надо с тобой условиться, где и как найти друг, друга.
До полной остановки поезда мы выскочили из вагона.
Кондуктор что-то крикнул нам вслед, но я не разобрал и нырнул
под вагон стоявшего на запасном пути поезда.
— Вот это ловко у нас вышло,—буркнул Мартынов.—Никакой
шпик нас не перехватит.
Вещей у нас имелось лишь по узелочку. Мы разбрелись в
разные стороны. Тяжесть мрачного ожидания, что нас могут
арестовать в Питере при выходе из вагона; сразу исчезла. На
душе стало как-то легко, свободно. Никто не знает, что мы
очутились опять в .Питере,—значит, успеем предупредить и,
может быть, хоть кого-нибудь спасти.
Чтобы попасть к своим друзьям, не приведя с собою шпиков,
которые могли увидеть меня где-нибудь на улице, пришлось
пробираться окольными путями, полем, перелезть через забор.
Удобнее всего было попасть к Мите. Он жил с бабушкой и
сестрой; их всегда можно застать дома и подождать возвращения
Мити с работы. Сестра его, прикованная к постели ревматизмом
молодая девушка, знала многое из наших конспирации и в
трудные минуты помогала нам. Она много читала и сочувствовала,
жалея, что не может принять участия в наших делах.
— Вам кого?—спросила меня бабушка1, когда; я позвонил.
— Митю.
— Он на заводе.
— Может быть, я могу видеть его сестру Саню? Позвольте
к ней пройти, я тороплюсь.
— Вы ее знаете?—недоверчиво спросила старушка и, получив
утвердительный ответ, пошла узнать.
— Войдите,—сказала она, отпирая дверь.
Вхожу в маленькую уютную комнатку. На самодельном
домашнем кресле полулежа сидит миловидная девушка, с русским
лицом и большими глазами, как вишни.
Она изумленно смотрит, точно видит привидение.
— Здравствуйте, Саня! Испугались?
— Неужели это вы, Василий? Что с вами? Митя сегодня
собирался остаться работать вечер. Никто не знает, что вы здесь.
Вас тут усиленно разыскивали. Екатерину Михайловну несколько
78
раз вызывали на Гороховую, допрашивали. Ее сына тоже. А Митй
пока но трогают. Вот обрадуется! Откуда; вы? Зачем сюда
вернулись? Смотрите, провалитесь,—засыпала меня девушка
вопросами.
Делюсь с нею своими переживаниями, рассказываю о
московском провале и даже о том, что благодаря всем перипетиям
не смог повидать свою мать и сестер с братишками.
Пришел с работы Митя и был удивлен более, чем его сестра.
Но когда я сообщил ему, в чем дело, он сказал:
— Ты познакомь через кого-нибудь меня с Беловым. Может
быть, я ему или он нам пригодится. Какую мерзость расплодили!
Надо ее убирать. Теперь ясно, что это Белов распускал клевету
на Мишеля... А ты здесь долго не задерживайся, поскорей
уезжай туда, где тебя не знают. Трудно, брат, стало работать.
Уезжай ты поскорее отсюда... Пока тебя здесь никто не видал,
ты цел, а-если еще кто увидит, пойдет болтовня—живо провалят.
Мпе кажется, наши нелегальные решили пока бросить Питер:
к нам уже давно никто не ходит. Поди, разъехались. И хорошо
сделали. Свет не клином сошелся, Россия велика... Говорят, и
Исполнительный комитет уехал, из Питера. Болтают, что
готовят покушение на Александра третьего, а он отсиживается в
Гатчине. Может быть, тишина перед грозой. Ты ничего не
слыхал?
Последний вопрос был задан таким тоном, что я сразу понял,
какой затаенный смысл скрывался в нем. Дело в том, что
тогда в известных кругах русского общества сложилось
представление об - Исполнительном комитете «Народной воли» как
0 неуловимой организации, деятельной и всемогущей; если после
1 марта этот комитет и не давал: о себе знать новыми
террористическими актами, то это только потому, что выжидал момента,
делал подготовку и давал русскому правительству и
Александру III взвесить те предложения, которые ему, был:и сделаны
в письме Исполнительного комитета1. В то время это письмо
произвело сильное впечатление на мыслящие круги русского
общества, в том числе и на некоторую часть рабочих.
— Исполнительный комитет ставит новому царю человеческие
условия—неужели он не примет их? Он должен их принять.
1 Через девять дней после казни Александра II (1881 года) Исполнительный комитет
партии «Народная воля» обратился к Александру III с письмом. Объясняя причины,
приведшие к убийству Александра II, и характеризуя положение страны,
Исполнительный комитет указывает, что «из такого положения могут быть два выхода: или
революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями
или добровольное обращение верховной власти- к народу». Советуя избрать второй
путь, Исполнительный комитет напоминает Александру 111 о ряде условий,
необходимых для того, чтобы революционное движение еаменилось мирной работой.
Исполнительный комитет с своей стороны торжественно обязался безусловно подчиниться
решению народного собрания и не позволять себе впредь никакого насильственного
противодействия правительству, санкционированному народным собранием.
Александр III на предложение Исполнительного комитета «Народной воли» ответил
самым жестоким преследованием революционного движения, и во все время его
царствования в стране царила самая глухая реакция — Ред.
79
Йе примет—с ним сделают то же, что й с его отцом. Зря
комитет говорить не будет,—так говорили рабочие, даже не
принадлежавшие к кружкам. А от них уже распространилось и
далее.
В то время русское общество еще не знало, какие громадные
потери понес сам Исполнительный комитет с питерскими
арестами в 1881 году и с арестами в Москве в 1882 году. Тогда
еще никто не подозревал измен В. Меркулова, И. Окладского
и Дегаева, которые разрушили не только комитет, но и его
военную организацию; последняя могла бы сыграть свою роль
в борьбе с самодержавием. В рабочих кругах меньше всего знали
об этих потерях Исполнительного комитета. Бездействие его
объясняли подготовкою к новому нападению на самодержавную
власть. Митю интересовал именно этот вопрос еще и потому, что
революционная работа в Питере в это время шла; очень вяло,
настроение падало, работники куда-то пропадали, появлялись и
вновь исчезали.
Почти до полуночи пробеседовали мы и решили, что мне во
всяком случае надо уезжать из Питера немедленно. Митя даже
достал для меня денег у сестры.
Мартынову посчастливилось более,—он разыскал своих
ростовских знакомых: С. Пешекерова, Колониуса, Литвинова и др.
и кое-кого из Красного креста. В этой компании мы потом
встретились и с Аксельродом, удачно избежавшим ареста и
выжидавшим случая удрать за границу.
Сошлись мы где-то на Песках, недалеко от Таврического сада.
Из упомянутых лиц прежде я никого не знал, но общих
знакомых у нас оказалось довольно много.
— Вы давно и хорошо знаете Белова?—был первый вопрос
С. Пешекерова.
— Как вам сказать... С дурной стороны я его знаю больше.
— Вы уверены, что он предатель? На чем основана ваша
уверенность?—вмешался Литвинов, студент, с болезненным
бледным лицом и жиденькой растительностью на подбородке.
«Что это—допрос?» подумал я. Мне стало обидно и неприятно.
Литвинов мне сразу почему-то не понравился.
— Да, Белова я считаю шпионом и предателем, пьяницей,
бездельником и хвастуном. Он ничего не делал, но всюду старался
проникнуть, все знать, зачем...
И я припомнил случай в портерной, когда вслед за нами
появился как бы пьяный офицер. Об этом случае рассказано
выше. Сослался на записку—счет, взятый мною у Белова. Все
это так горячо выпалил, что тотчас же сам удивился своей
стремительности.
Почти все присутствующие, кроме Пешекерова и Мартынова,
напали на меня, стали упрекать меня в «скоропалительности»
и неосновательности. Спокойнее говорил С. Пешекеров. По
происхождению армянин, черный, с горящими- глубокими глазами
и волосами как смоль, он производил впечатление умного и
дельного, яо скромного человека. Потом оказалось, что это был
80
самый лучший работник ростовской местной организации черно-
передельцев.
— Не думаете ли вы, что все это может служить не материалом,
а лишь чем-то наводящим? Разве в практике не было таких
случаев, что давалась моральная оценка только на основании
общего поведения или одного отдельного случая? Выпивать—
еще не значит быть предателем или быть способным на
предательство. Вот вас, Николая и других он не выдал же, а мог,
бы сделать это свободно,—доказывал Пешекеров. Между прочим]
привел даже в пример убийство Гориновича, о предательства
которого мнения расходились: одни считали его предателем,
другие—пет 1.
Доводы Пешекерова охладили мой пыл, поколебали решимость
убрать Белова, но отнюдь не убедили в том1, что он честный,
.что он не предатель.
Мартынов горячо отстаивал это убеждение и даже, с моих
слов, высказывал возможность уничтожения Белова, если он
очутится за Невской заставой.
Тогда вмешался в наш разговор какой-то незнакомец, уже
не молодой, все время сидевший молча.
— Лучше всего вам огсюда уехать и заняться мирной
пропагандой среди рабочих... Не только убрать, но даже считать
Белова предателем, на то ващцх доказательств и доводов
слишком мало. На это вы даже не имеете права. Уезжайте поскорее
отсюда, пока не провалились,—сказал он авторитетно. Другие
его поддержали.
Из дальнейших разговоров было ясно, что Белов уже в Питере
и успел возобновить свои связи с оставшимися чернопередель-
цами. Но какое доверие ему они оказывали'—мы не знали. Однако
мы остались очень недовольны результатами переговоров и стали
настаивать, чтобы Белова совершенно изолировали; от рабочих
организаций. Взаимно недовольные, мы разошлись.
Снова покидаю Питер
Продал кое-что из оставшихся вещей, Мартынов занял 18 рублей
у одного из черняков, и мы покинули Питер, решив пробраться
на юг. Когда я проезжал через -Москву, меня снова потянуло
к родным. Этого чувства я не скрывал от своего спутника.
Он понимал меня.
— И эта радость нам не дозволена... Явишься—арестуют.
Только еще больше горя матери. Поедем прямо в Ростов. Работу
там найдешь скоро. Будешь снова помогать. А теперь пришлось
бы тебе помогать,—уговаривал меня Мартынов.
Посмотрел я на свой костюм и на костюм Мартынова и сказал:
— Точно двое пропойцев... Оборванцы самые настоящие. По-
1 10 июня^1876 года Л. Дейч покушался на жизнь предателя Гориповича, которого
облил серной кислотой. Горинович остался живым.— Ред.
6 Рабочее движение в России,
81
жалуй, еще и на работу не возьмут. Еще никогда таким не
ходил.
— Потому что долго без работы не сидел. А со мной это
бывало. Не бойся, в Ростове меня знают. Живо найдем тебе
место, лишь бы дорогой нас не арестовали.
Пока мы находились в пределах центральной России,
приближение весны еще не чувствовалось—везде лежал снег, стояли
упорные морозы. В вагоне было очень холодно, мы оба даже
простудились. Но по мере приближения к Ростову становилось
все теплее и теплее, природа здесь уже одевалась в свое
весеннее брачное одеяние. Дон уже баюкает пароходы на своих
волнах, всюду зеленеют деревья. Солнце и щедро и ласково.
Люди ходят в летних костюмах.
В Ростов мы приехали в яркий солнечный день. На юг я попал
в первый раз и был поражен ласковой природой и теплом.
Временно остановились у младшего брата Мартынова, в
маленькой-премаленькой комнатушке, надеясь в дальнейшем устроиться
попросторнее, когда поступим на работу.
Как ни розово рисовал Мартынов наш приезд в Ростов, однако
несколько дней мы сидели без работы, благодаря нашим костюмам,
в которых даже неприятно было заходить к знакомым Мартынова.
Пока мы делали разведку о работе и квартире, с нами произошла
история, довольно неприятная, и в ней большую роль сыграли
именно наши костюмы.
Один из знакомых Мартынова, слесарь Егор Сердюков, парень
саженного роста, добродушный, обещал приютить меня у себя,
так как жил он в домишке своего отца, местного мещанина.
В назначенный час встречаемся в городском саду. Так как
день был праздничный, то Сердюков пришел в чистеньком
светлом костюме, в шляпе и новых ботинках—словом,
джентльменом; на нас же были засаленные пиджаки неопределенного
цвета, брюки такого же вида и стоптанные, порыжевшие сапоги.
Кругом снует народ, одетый по-праздничному.
Мне стало как-то неловко.
— Уйдемте куда-нибудь на боковую дорожку*
— Почему?—спросил Сердюков.
Объясняю почему.
— Ну, вот ерунда!—почти воскликнул Сердюков.—Кто вас
здесь знает? Могут подумать, что вы праздник работали. И кому
какое дело?
Однако мы все же свернули на безлюдную дорожку.
Получилось нечто неожиданное: как раз здесь-то и встретился
отец Сердюкова. Он холодно измерил нас своим взором и даже
едва ответил на приветствие. Усаживаемся на лавочку.
Отец нашего спутника проходит мимо и отзывает своего сына.
Остаемся вдвоем с Мартыновым, греемся на солнышке и
вспоминаем суровую и холодную природу Питера, который так недавно
оказался очень неприветливым. Когда мы уезжали, Нева была
еще скована льдфм: и ветер пронизывал на'о до костей, а теперь
через неделю, мы сидим уже в летних пиджачишках.
Ь-
— Каков мой батька-то! Знаете, зачем ой меня
звал?—взволнованно сказал Сердюков.—Ну и дурной... Он принял вас за
«ракло» (местное название босяков-пропойцев). «Что это с тобою
за ракло гуляют? Не вздумай с собой их привести!» Ну, я ему
отпел. Пойдемте непременно ко мне; надо старику показать, что
по одежде нельзя судить о людях.
Но мы с Мартыновым отказались наотрез.
Когда я поступил во владикавказские мастерские, тут мне
сразу повезло: в лотерее разыгрывалась швейная машина, и
(выигрышный билет пал на мой номер. Машину мы продали:
за 25 рублей и на эти деньги купили себе летние костюмы.
Отец Сердюкова не только не называл нас «ракло», но непрочь
был и познакомиться, да у нас уже но было времени.
Владикавказские мастерские
и токарь Андрей Карпенко
Третий месяц живем в Ростове, завели широкие связи среди
рабочих и учащихся. Южная теплая природа, успешная
пропаганда, отсутствие атмосферы Гороховой улицы—все это
заставило забыть остроту пережитого в Питере и; Москве. Опять
явилась возможность читать книги;—иногда даже не в одиночку,
а совместно с другими—и обсуждать прочитанное. Иногда даже
позволяем себе и прогулки на лодке по Дону с конспиративными
целями и конечно в бурю, чтобы уже никакой соглядатай не
решился погнаться.
Летом приехал С. Пешекеров и привез сообщение, что Степан
Белов оказался действительно шпионом и предателем. По словам
Пешекерова, обнаружилось это таким образом. На одном из
питерских семейных вечеров какими-то судьбами очутился в
качестве гостя и жандармский полковник. Там же была одна из
девиц революционного Красного креста, некто Рыженькая.
Полковник, не подозревая в этой девице чужого человека, подвыпил
и разоткровенничался. Поговорил о крамольниках, вспомнил
Прейма и его заслуги, рассказал, как его убили, горько пожалел,
а потом выпалил такое утешение: «Ну что ж, убили Степана
Прейма, теперь у нас есть другой Степан...» Рыженькая
неожиданно спросила: «Какой Степан»—«Степан Белов, тоже рабочий
и не хуже Прейма». Рыженькая конечно передала; об этом
в революционный Красный крест, который распространил эти
сведения в революционных кругах.
Белов вскоре куда-то исчез.
От Мити тоже -было получено подтверждение о шпионстве
Белова, но найти его не удалось.;
Ростов-на-Дону и тогда был торговым! портовым городом и
железнодорожным узлом, а потому кишел всякого рода рабочими,
предоставляя широкое поле для социалистической пропаганды
и агитации. Правда, за последние годы эта работа велась урывками
и почти без всякой системы и связей с центрами.
6*
83
С весны 1882 года последними было обращено особенное
внимание на такие окраины, как Ростов, Севастополь, Екатерино-
слав и другие промышленные центры. Сюда посылали агентов
«Народной воли» с целью организации рабочих групп,
устанавливали связь между ними, налаживали систематическую
подготовительную революционную работу.
В Ростове в то время была особенно благоприятная почва
для этого: на заводах кое-где сохранились остатки прежних
работников. Через них в короткое время удалось связать
разрозненные силы владикавказских мастерских, пастуховской
мельницы, завода Грагамма, танаисской мастерской,. а затем
перебросить эту связь на Таганрог, Новочеркасск и грушевские
каменноугольные копи.
Центром всей этой работы явились владикавказские
железнодорожные мастерские, где совершенно случайно сосредоточилась
большая группа наиболее развитых и сознательных рабочих,
сплоченных главным образом личной дружбой и отчасти
революционными переживаниями.
В конце лета 1882 года в Ростов-на-Дону прислали из Харькова
Немоловского и Линицкого; последний слыл у нас под кличкою
Константин или просто Костя. Немоловский потом судился по
процессу В. Н. Фигнер и погиб в Шлиссельбургской крепости,
где умер в 1886 году. Познакомившись с работой ростовской
группы и ее членами, они произвели отбор нескольких лиц ц
предложили им войти в организацию партии «Народная воля».
Некоторые из этих лиц выразили даже желание участвовать
в террористических делах, но Костя отклонил, сказав, что для
таких дел найдутся другие, если же понадобятся рабочие силы,
то* их пригласят, в настоящее же время необходима напряженная
деятельность среди рабочих. В организацию тогда вошли
Мартынов, сидевший потом в Шлиссельбургской крепости, я, Карпенко
Андрей, погибшие в ссылке на Сахалине Виталий Кудряшов,
Василий Горбунов, Громов и др., фамилии которых уже не помню.
Все они в середине 80-х годов попали в ссылку по делам] партии
«Народная воля».
Самым выдающимся из этой группы был Андрей Карпенко,
или, как мы звали его, Жучок, за блестящие черные глаза и
черно-стальной цвет волос. Действительно, это был во всех
отношениях крупный деятель, настоящий рабочий-самородок из
местных ремесленников. ;
Отец его был простой сапожник, почти безграмотный, но
влюбленный в свое ремесло. К нему он старался приспособить я
своего единственного сына Андрея. Однако последний не
поддался и уговорил отца отдать его в ученики на железную дорогу
в мастерские.
— Хотя первое время было очень трудно, потому что
приходилось вставать в пять,часов утра, чтобы попасть к последнему
свистку, однако токарная мастерская так притягивала меня, что
я скоро примирился с этой неприятностью—рано вставать. Во
всяком случае это было лучше, чем иметь дело с вонючими ко-
84
жами, старыми сапогами и быть под опекою отца,—рассказывал
Андрей.—Дома только бы и видел одного отца да случайных
заказчиков. А здесь столько народу, простор и работа интересная...
Андрей рано пристрастился к книжкам, которые читал, не
гоняясь за количеством. Он читал немного, но тщательно
переваривал и перерабатывал их в своем мозгу, и любил поговорить,
поделиться с другими о прочитанном.
В мастерской Андрей считался самым развитым, хорошим
товарищем, скромным и честным. Его наружность гармонировала
с его характером: высокий, стройный брюнет, с ласковыми умными
глазами. Душа у него была широкая. Рабочие любили его.
Благодаря его близости ко мне они распространили свои симпатии
и на меня, хотя я был новичком в мастерской. Андрея любили
еще и за то, что он и вне Мастерской был широк душою: любил
петь, танцовать. На рабочих вечеринках веселился во-всю и
других веселил—словом, не убивал в себе разностороннего человека
и не загонял себя в футляр, хотя некоторые, по своей наивности,
и ставили ему это в jnpeK. На это он только добродушно улыбался
и шутил.
Чтобы приучить рабочих к чтению, поднять в них
любознательность и разрыхлить почву для пропаганды, мы устраивали
совместные чтения в обеденный перерыв. Сначала нашими
слушателями были только те, кому далеко было ходить на обед,
и они принуждены были оставаться в мастерской—обедать
всухомятку.
Но скоро к нам стали приходить й другие.
Читали мы обыкновенно что-нибудь легальное: стихотворения
Некрасова, Г. Успенского, из французской революции, о
Гарибальди, из политической экономии, смотря по настроению
слушателей. Иногда кто-нибудь из наших слушателей приносил
газету, и нас заставляли читать и разъяснять.
1882 год вообще был богат событиями, возбуждавшими интерес.
На Дону тогда шло волнение среди казачества из-за нормы
земельных наделов простых казаков и офицерства; в Австрии!
прогремел процесс революционера Обердаыке, казнью которого
была возмущена почти вся передовая европейская пресса; в
Германии росла социал-демократическая партия; в Ирландии шла
борьба фениев1, в Англии смерть Ч. Дарвина заставила весь
мир говорить об этом великом ученом; затем неслыханный рост
эмиграции ирландцев в Северную Америку, убийство
президента Гарфильда,—все эти события представляли живые темы
для наших бесед. Правда, все они обсуждались горячо, а
некоторые даже страстно, но, разумеется, схематично, с недостаточ-
1 Фении (или «Ирландское революционное братство») — конспиративная
террористическая организация. Возникла в Ирландии и Америке в 1858 году. Стапила собе
вадачеМ организовать вооруженное восстание против Англии и, в случао победы,
превратить Ирландию в пезависимую республику. Несколько раз поднимали восстания
в Ирландии.
В состав организации входили мелкобуржуазные элементы, но принимали также
участие и рабочие. — Р с д
85
ной основательностью, но зато поддерживали темперамент и
разнообразили нашу духовную атмосферу. Благодаря этим чтениям
и беседам некоторые так заинтересовывались Дарвином, что прочли
его основательно.
Об этих чтениях знала наша железнодорожная администрация,
однако к прекращению их никаких мер не принимала, хотя часто
во время чтения затрагивались и политика и экономика', но это
делалось весьма осторожно. И мы сами смотрели на
присутствующих только как на людей, проникающихся общим с нами духом
солидарности и взаимного понимания,—словом, мы создавали ту
внутреннюю связь, то здоровое объединение, которое тогда было
сильнее всех писанных и печатных уставов и резолюций, и кроме
того намечали отдельных людей, с которыми уже можно говорить
свободнее и привлечь их в интимные кружки.'
От слов иногда' приходилось переходить к делу, чтобы
подчеркнуть значение солидарности. Эти дела конечно не считались
революционными делами, их рассматривали только как акты
воспитания общего духа и гражданского чувства, без которых
всякая революция должна превратиться в самую уродливую
анархию, а потом: и в дикую тиранию, деспотизм случайных людей
и проходимцев.
Одному ученику токарного цеха мастер сбавил расценку.
Мальчик пришел к нам с жалобой и рассказал, в чем дело. Проверив
в конторе жалобу мальчика—и обидели-то какого
добросовестного, честного мальчика, работягу, у которого на шее сидели
шяъ и две сестренки-подростка,—мы с Андреем в тот же день
подняли !на ноги весь цех, отправились в контору к начальнику
и добились удовлетворения требования мальчика. Благодаря
присутствию мастера, виновника всей этой истории, объяснения с
начальником происходили довольно бурно и резко. Много было
Наговорено колкостей по адресу мастера, которого начальник
сначала пытался оправдать, но потом, очевидно, сообразил,
насколько глупо и позорно поступил мастер, урезав заработок
ученика на пять рублей в месяц.
— Как разбогатеет железная дорога от такой бережливости
мастера! А правление, пожалуй, назначит ему награду в сто
рублей,—говорил один рабочий.—Это позор, стыд!
Начальник быстро пошел на уступки, признав беебмысленным
и несправедливым поступок мастера.
Казалось, что все кончилось хорошо. Однако по тут-то было.
Когда мы все вышли из конторы, к начальнику явился слесарь
Гвоздков.
— Вы знаете, господин начальник, с кем вы сейчас
разговаривали? Кто поднял мастеровых? Это П. и К., известно кто—
социалисты,—заговорил Гвоздков.
— Замолчите и уходите! — оборвал его начальник. Не хочу
слышать... Вас убьют и меня убьют. Замолчите!
Этот разговор происходил в присутствии старого сторожа,
приятеля Андрея. Он тотчас же пришел к нам в мастерскую и
рассказал.
86
— Такого негодяя надо вон из мастерской. Надо предать
огласке его поступок. Пусть все знают. А начальнику надо дать
понять, что таких господ, как Гвоздков, мы не допустим,
—сказал Андрей.
Переговоры с начальником я взял на себя.
— Сегодня этот господин явился доносчиком вам на нас, а
завтра он пойдет доносить жандармам на вас...
— Я уже распорядился дать расчет Гвоздкову, — перебил меня
начальник.
Рабочие собирались было бить Гвоздкова, и только
увольнением он был избавлен от этого. С горя он зацил и по пьяному
делу хвастался, что убьет П-ва и Карпенко.
— Пусть только тронет, — говорили некоторые рабочие, —
дров из него наломаем.
Но угроза пьяного и низкого человека так и осталась угрозой.
Другой случай был таков. Один из токарей таскал медь из
мастерской и продавал ее в железную лавочку. Токарь этот
зарабатывал довольно хорошо по тогдашнему времени — 50—60
рублей в месяц. Узнали об этом рабочие и сообщили Андрею.
Воровство материалов из мастерских считалось безнравственным
и позорящим рабочих. Андрей без дальнейших рассуждений
потребовал прекращения воровства.
— Какое тебе дело болеть за чужое добро? — озадачил его
воришка.
— Честный рабочий не может заниматься воровством. Ты
позоришь нас всех...
— А Егоров не позорит? Из какого материала он делал багор?
— На Егорова ты не ссылайся, ему дал разрешение мастер
наварить трубку, и то из своего железа. Об этом все знали —
и мы и мастер. Попробуй-ка ты попроси у мастера разрешения
воровать медь. Не посмеешь... Если не перестанешь, то
получишь взбучку и вылетишь из мастерской. Тебе говорят делом, —
пригрозил Андрей.
Воришка, скрепя сердце, подчинился и как потом
благодарил Жучка, когда один из слесарей сборной мастерской попался
с медью, был отдан под суд и выгнан из мастерской как вор.
— И мне не миновать бы такой же судьбы: повадился
кувшин по воду ходить... Попался бы и я. Сраму-то сколько.
Спасибо тебе, Андрюша, спас ты меня, — каялся одумавшийся вор.
Владикавказская группа быстро завоевала себе доверие и
уважение рабочих. При случае она могла сделать в Ростове
очень много, если бы Исполнительный комитет перешел в
наступление.
Однажды в городе произошел большой пожар. Наш
железнодорожный отряд со своими машинами и народом быстро явился,
дружно принялся за дело и, сразу локализовав огонь, стал
справляться с пожаром.
Местная пожарная часть явилась очень поздно, чем вызвала
недовольство обывателей и зевак, которых так много бывает на
пожарах. Брандмейстер стал браниться и приказал своему обозу
87
двигаться по той улице, где были расположены пожарные кишки
владикавказцев. Дежуривший здесь Мартынов и еще несколько
человек остановили городской обоз, который перерезал бы
колесами все кишки.
— Стой! Не смей сюда ехать! Поворачивай назад...
Безобразие! Трубы нам хотят испортить! —закричал Мартынов, схватив
одного коня.
Началась брань. Явился полицмейстер с отрядом полицейских,
столпились пожарные, рабочие. Один неосторожный шаг—и
вместо тушения пожара разыгрались бы жесточайшая драка и
бой. Рабочие уже набирали камней. По счастью, сами пожарные
отступили, полицмейстер с отрядом тоже.
Все снова принялись за тушение пожара, который скоро был
совершенно погашен.
Город был очень доволен и на следующий день прислал
начальнику мастерских и мастеровым свою благодарность.
Полиция же принялась за свое скверное дело. Она требовала от
конторы железной дороги, чтобы та дала имена и фамилии тех
мастеров, которые остановили городской обоз и наговорили
дерзостей и грубостей полицмейстеру.
Начальник мастерских конечно отказался удовлетворить такие
требования. Тогда последовало такое распоряжение
полицмейстера: «Ввиду того-то и того-то впредь воспрещается пожарному
обозу и команде владикавказских мастерских являться на
пожар...»
Такие распоряжения властей только роняли их в глазах
рабочих и нашей администрации и в то же время создавали новый
предлог для критики полицейских порядков, поднимая авторитет
членов ростовской группы как полезных и смелых людей в
глазах несознательных рабочих и даже железнодорожного начальства.
Ростовский обыск и его последствия
Где-то в Полтавской губернии провалился студент Литвинов,
о котором упоминалось выше, и оговорил меня и Мартынова,
причем перепутал мою фамилию и имя Мартынова. Конечно
оттуда тотчас же было дано знать ростовским жандармам. И вот
в одну из летних ночей, когда мы крепко спали, в нашу
хижину—мы жили тогда на Темернике, в хохлацкой хате —
ворвались жандармы и полицейские во главе с полковником К ладо,
начальником местного жандармского управления.
Мать Мартынова, богомольная старушка, безграмотная и
робкая, сильно испугалась, заплакала. Ей, как и нам, не , дали
даже одеться, пока мы по запротестовали. Требуем бумагу. Нам
предъявляют приказ об обыске, а в случае надобности даже
и аресте.
— Вы не сюда попали, — спокойно и серьезно заявляет
Мартынов, прочитав бумагу. — Здесь сказано Николай Мартынов, а
мое имя Калиник.
88
— А моя фамилия Панкратов, а не Панкратьев, —прибавляю
я, хотя и чувствую, что мой-то протест ни к чему. Но все же
надо как-то выигрывать время и использовать путаницу.
Полковник как будто смутился. Повидимому, солидный вид
Мартынова произвел на него впечатление. У Мартынова седая
голова и такая же борода; вид у него очень степенный и
солидный.
— Ваши документы? — смущенно и нерешительно спросил
полковник.
— Они в конторе железнодорожных мастерских. Все паспорта
мастеровых находятся там.
Кладо недоумевает. Смущен. Обыск производится вяло,
нерешительно, даже небрежно. Наш маленький сарайчик, где у
нас хранились кое-какие части летучки —мы в то время
приступили уже к оборудованию летучей типографии, — этот
сарайчик жандармы даже путем и не осматривали.
Мартынов же все время обиженным тоном повторяет:
— Вы не сюда попали...
Его вид почтенного бородача, казака-старообрядца, плечистого,
сурового; производит впечатление на жандармов.
Кладо о чем-то задумался. Он, как можно было заметить,
был разочарован неудачным обыском. Жандармы все наши вещи
осмотрели, опустили руки по швам и молча ждут дальнейших
приказаний. У всех какие-то глупые, недоумевающие лица.
— Вы Литвинова знаете? — совершенно неожиданно задает
вопрос Кладо, очевидно желая на этом поймать нас или
проверить себя.
— Это монтер-то, что в вагонной мастерской? Как не знать...—
отвечает Мартынов, зная отлично, что дело идет не об этом
Литвинове, ловко разыгрывая почтенного простака-обывателя.
К нему это так шло, что, глядя на него, я спрашивал себя:
«Откуда у него такой талант?» Порою я готов был рассмеяться
во весь рот.
— Литвинова я давно знаю. Но он квартирует на другом
конце Темерника,—продолжал Мартынов.
— Другой Мартынов в этой части города есть? —спрашивает
жандарм.
— Раньше жил здесь какой-то Николай... Мое имя КаЛи-
ник,—продолжает свою роль Мартынов.
Его мать-старушка, догадавшись, в чем дело, начинает
усерднее и чаще креститься на иконы и призывать царицу пебесную.
Младший брат Мартынова, Степан, молчит, как рыба. Для
жандармов получилось какое-то глупое, нудное положение.
Засвистел первый гудок. Пора уже собираться на работу, а
голубые все еще у нас и, как говорится, не шьют, не порют:
не арестовывают и не уходят.
Мы начинаем заявлять, что нам надо собираться на работу.
После некоторых колебаний и размышлений Кладо снова
наводит справки о другом Мартынове и заявляет нам, что по
первому его требованию мы обязаны будем явиться в жандарм-
89
ское управление, и со всей своей многочисленной свитой
удаляется.
Оставшись одни и позубоскалив немного, стали однако ломать
голову над вопросами: откуда сия беда? При чем тут Литвинов?
Тогда еще мы не знали об его предательстве. Между тем
оказалось, что он-то нас и; предал, да не только юс, нэ и многих
других. С целью предупреждения из Полтавы приехал студент
и сообщил об этом. Нашего же адреса узнать ему не удалось,
поэтому мы и остались непредупрежденными. Пожалуй, это было
к лучшему. Мы ничего не знали и великолепно разыграли роль,
особенно Мартынов был бесподобен; иначе волновались бы и
выдали себя.
После этой истории, о которой узнал почти весь Темерник,
где много было таких людей, как отец Андрея Карпенко, наше
положение в мастерских стало очень непрочным: с одной
стороны, с часу на час нас могли арестовать, а с другой—многие
стали побаиваться нас, как бы и их заодно с нами не
прихватили: садиться в тюрьму никому не хотелось, да и за }что?
Ведь только что начинали жить, работать. Кроме того создались
уже личные привязанности, дружба. Бросать таких друзей, как
Жучок, Громов, брат Мартынова, Фокин и др., было слишком
тяжело, хотя каждый из нас сознавал, что рано или поздно
сама жизнь рассеет нас, но все же...
Снова навестили нас Немоловский, затем Костя и Иван
Петрович (Кашинцев). Немоловский дал устав боевой дружины,
который мы жевали и переваривали.
— Это не для распространения, — говорил Немоловский. —Его
надо хорошо обдумать, смело и добросовестно ответить себе —
есть ли силы... Никакого насилия над своей совестью и волею
делать не следует. Никогда не следует браться за то, что
не по силам...
Средь мира дольпого
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую —»
Каким итти...
Помню, лишь очень немногие заявили, что, кроме террора,
они готовы на всякую революционную работу.
— Если так, то каждый должен помнить, что его могут
командировать в какой-либо другой город. Работы всякой много, но
надо брать только по силам.
Несколько человек изъявило желание участвовать в
террористических актах.
В тот день у всех нас было какое-то особое настроение и
желание поговорить обо всем на просторе — в одной из балок за
городом. Очень много говорили Костя и Немоловский о
сохранении сил, о том, как вести себя на допросах в случае ареста.
Отнюдь не называть никого, но верить жандармским
утверждениям, что такой-то признался, все рассказал. Даже о себе не
90
стоит с ними разговаривать. Держать себя от них как можно
дальше. Наша душа должна быть насмерть закрыта от них.
Благодаря приподнятому настроению и молодой кипучей крови
остро был поставлен вопрос о вооруженном сопротивлении при
аресте. Номоловскисй настойчиво доказывал необходимость
соблюдать особую осторожность, тоже в интересах сохранения сил.
— Вооруженное сопротивление влечет за собою почти всегда
гибель, между тем как арестованный без вооруженного
сопротивления может рассчитывать рано или поздно вернуться в ряды
борцов. К вооруженному сопротивлению допустимо прибегать
только в самых критических случаях, но не поддаваться
минутному настроению и губить молодую жизнь...
Такие наставления и советы давали нам наши старшие братья.
Мы молча слушали их и как бы соглашались, а душу
некоторых из нас волновали иные чувства: были свежи воспоминания
киевского вооруженного сопротивления на Жилянской улице, в
Питере—Преснякова 1 и в Саперном переулке. Все эти отпоры
жандармскому насилию вызвали в нас подражательное
настроение и будили юношеские порывы отвечать на насилие насилием,
це рассуждая о результатах. Как раз в этот период в Одессе
был уничтожен военный прокурор Стрельников, прославившийся
своею жестокостью на допросах. Весь радикальный юг знал о
бессердечии этого мучителя, которому приписывалось
предательство Гольденберга, которого он своими варварскими допросами
довел до сумасшествия и принудил выдать всех, кого тот знал2.
Уничтожение Стрельникова произвело громадное впечатление и
послужило предостережением другим ретивым жандармам. Быть
может, этот акт сказался и на полковнике Кладо,
производившем так сдержанно у нас обыск.
Проходили дни за днями. Ъладо нас не трогал, но мы были
уверены, что справки он наводит, и как только получит их,
особенно из Питера, то конец нашей свободе. Хочешь не
хочешь—бросай насиженное место и снова блуждай, как
затравленный зверь. За что? Кто присвоил себе право охотиться за
тобою? И кто же сами-то эти охотники? Жандармы, тупые,
продажные люди, бессердечные рабы насильников.
Делюсь такими мучительными думами с Андреем.
— Живи здесь,—говорит он.—Если вздумают взять, отобьем.
Нет, что я говорю... Лучше поедем с тобой в другой город,
хотя в Екатеринослав, в Харьков. Будем работать вместе. Затем
переедем еще куда-нибудь. Все большие города должны иметь
рабочие организации, связанные между собою, тогда
Исполнительный комитет может предпринять что-нибудь широкое, и если
1 21 июля 1880 года в Петербурге Пресняков при аресте оказал вооруженное
сопротивление. Был убит дворник и ранен полицейский. Преснякова судили в ноябре
1880 года и казнили. Вооруженное сопротивление на Жилянской улице в Киеве
произошло 11 февраля 1879 года, были ранены братья Ивичепичи и убит один
жандарм. — Род.
2 По утверждению некоторых, не Стрельников, а Котляревский довел Гольденберга
до такого состояния. — Род.
П
при этом подготовить ряд актов, то — как знать? — быть можег,
результат будет другой, чем предыдущий...
За последнее время эта тема стала любимою темою Андрея.
О ней рассуждали и мы в нашей ростовской рабочей группе,
разрабатывали ее даже в деталях практического исполнения,
забывая д не подозревая, что беспощадная действительность скоро
разбросает нас всех в разные стороны и порвет между пами
всякую связь, а у некоторых прервет даже и самую жизнь.
Но пока там что, а я продолжал работать. Наладил сношения
с матерью, посылал ей деньги. Зарабатывал я в то время хорошо,
мог свободно помогать семье... и теперь снова все порвется.
В любой момент я должен быть готовым исчезнуть. В таком
же положении находился и Мартынов. Исчезнуть мы могли только
оба сразу, ибо заметили, что за нами следят. Исчезни один,
а другой останься — последнего арестуют тотчас же. Хорошо,
что ростовские жандармы не знают о моем пребывании в Питере.
Какое-то бессознательное чувство подсказывало мне, что пора
уехать. Между тем мы все откладывали наш отъезд.
Прихожу как-то в мастерскую не с утра, а с завтрака.
'Подходит ко мне начальник и говорит осторожно:
— Постарайтесь поскорее отсюда уехать.
Меня смутил этот добрый совет: его я совсем не ожидал.
— Не можете ли сказать — почему? —спросил я.
— О вас поступил сегодня запрос из жандармского
управления: откуда вы сюда прибыли, где работали раньше... Все в
этом роде. Я решил сначала переговорить с вами, а потом уже
дать ответ. Против вас лично я ничего не имею, но что думают
там — ручаться нельзя. Надеюсь, этот разговор останется только
между нами.
Как глубоко тронуло меня поведение начальника, я чуть не
заплакал. Поблагодарил его и сказал:
— Уеду, господин начальник, только позвольте мне
закончить работу.
Мне очень не хотелось бросать свою в высшей степени
интересную и редкую работу, над которой я несколько дней возился
только для того, чтобы поставить ее на станок и приступить
к обработке. Эта работа интересовала не только меня, но и всех,
кроме того из-за нее стоял в бездействии паровой молот. Пока
я придумывал всякие вспомогательные приспособления, мои
товарищи по цеху и администрация приходили смотреть и
помогать советами. Наконец, когда бабка была уже укреплена и
подверглась обработке, тут-то и вмешалась жандармская справка.
Еще какой-нибудь день-полтора— и работа будет окончена. Будь
что будет, но так я не брошу. Скажут, что не сумел и удрал.
Какой срам! «Я должен сдать работу, выполнив *ее», мысленно
решил я. Молодое самолюбие руководило мною в этом случае.
Начальник как будто угадывал мое настроение.
— Кончайте... Я вас не гоню. Со сведениями из конторы
торопиться не буду. Думаю — подождут. Мой совет: уезжайте
за границу. Вы еще так молоды...—сказал начальник искренно
92
и поверг меня в какое-то размягченное состояние. Дело в том,
что в те времена такие отношения заводской администрации
к мастеровым, да еще подозреваемым, были чрезвычайно редки.
«Чем объяснить такое доброжелательство?» спрашивал я себя.
Начальник мастерских был обрусевший немец, уже довольно
пожилой. Говорили, что он когда-то соприкасался с пашими
народниками — может быть, но для меня осталось загадкой,
почему он проникся такой симпатией ко мне, ведь он собственно
спас меня от ареста в Ростове. Как только я окончил свою работу,
он приказал немедленно выдать мне расчет и паспорт и опять
посоветовал уехать за границу.
Почти одновременно с Мартыновым я уехал из Ростова,
предупредив лишь на один день свой арест. Ростовские жандармы
на другой день явились нас арестовать. Кто знает, какова была
бы тогда наша судьба? Простая случайность — доброжелательный
начальник — сыграла громадную роль в моей участи. Не сообщи
он мне о жандармском запросе, я бы тянул и тянул свое
пребывание в Ростове. Явились бы жандармы арестовывать, Андрей
вздумал бы отбивать или устраивать побег. Но из этого
получилось бы конечно не то, что произошло потом с нами.
Через несколько месяцев после нашего отъезда из Ростова
в мастерских Владикавказской железной дороги разыгралась
целая история из-за понижения расценок сначала в сборном цехе,
а потом и в других.
Благодаря энергии и настойчивости Андрея Карпенко токаря
отстояли свои расценки. За это Андрей приобрел такую
популярность, что к нему приходили за советами из других цехов,
в том числе и из сборного. Андрей предложил мастеровым
последнего снова поднять вопрос о восстановлении прежних
расценок, обещав поддержку токарей.
Дело сначала пошло очень хорошо, но сборщики не
удержались в границах мирного решения: избили своих мастеров.
Вмешалась жандармерия. Начался сыск, который обрушился
главным образом на Андрея как на вожака и зачинщика.
Ему пришлось скрываться. Мастеровые готовы были за него
вступиться. Но он убедил их не создавать .бучи, чтобы не
увеличивать жертв. Он так или иначе должен покинуть Ростов
ради работы в других городах. Мастеровые сложились и в бла^
годарность подарили ему на память золотые часы. Это был
единственный пример такой признательности. Вскоре Андрей
исчез, переселившись в Екатеринослав. С этого времени
началась и у него нелегальная скитальческая жизнь.
В Елисаветграде
Харьковская организация командировала меня в Елисаветград
для пропаганды и организации рабочих, с которыми в то время
не было никаких связей.
Не знаю, по каким соображениям меня направили в этот ма-
93
лейький городов, где имелся только одий завод Эльвортй,
железнодорожное депо и целое предместье кустарей-кузнецов—
мелких хозяйчиков—да ремесленники-штундисты.
Явку мне дали к А. И. Турковскому и учителю Дудину,
который познакомил меня с сыном редактора газеты «Елисаветград-
ский вестник» Хорманским. Оба последних потом оказались
предателями и оговорили всех, кого знали, и провалили всю рабочую
группу, которую удалось организовать. Меня они тоже
оговорили, но благодаря тому, что не знали моей фамилии и откуда
я, их предательство не могло лично мне уже повредить, ибо в
то время я был уже осужден киевским военным судом на двадцать
лет каторги. Тем не менее киевские жандармы вызвали меня
на допрос по елисаветградскому делу и были недовольны, что эта
дело обнаружилось уже после приговора. От всяких разговоров
и показаний я конечно отказался. Жандармы не скрыли своей
досады. Полковник Новицкий сказал:
— Дамский приговор вынес вам суд, дамский.
— А вам обидно? Вы хотели бы видеть меня болтающимся
на веревке и любоваться, как дрыгают мои ноги?—ответил я.
Меня возмутили его слова: двадцать лет каторги—дамский
приговор!
Он обиделся и прекратил допрос.
Впрочем, я забежал вперед.
В Елисаветграде мне пришлось сначала очень туго. На завод
поступить не удалось. Жить без работы скучно, труднее
заводить связи с рабочими и больше шансов возбудить подозрение.
Каждый день хожу к заводу Эльвортй и справляюсь, нет ли
места, хотя бы даже молотобойца. И все получаю отказ. Завожу
знакомство с двумя слесарями у ворот завода, а через них уже
мои знакомства раскидываются по всему городу. В качестве
безработного быстро приобретаю симпатии как раз у наилучших
мастеровых, с высокими общественными запросами. Завязывается
даже дружба с модельщиком Мирошниченко, его зятем и
другими. Делюсь с ними своими книгами. Особым успехом
пользовалась «Хроника села Смурина» Вологдина1. В Елисаветграде
эта книга сослужила мне громадную службу: она помогла сразу,
наметить мастеровых из прочитавших lee, с кем я мргу Иметь
дело, чтобы составить^основное ядро, передать его местной
интеллигенции для дальнейшего развития.
Благодаря этой же книге я завел интересные связи с местными
ремесленниками-штундистами. В мае из Харькова приехал ко
мне П. Левандовский и по поручению харьковской центральной
группы передал предложение переселиться в Крым. В
Елисаветграде мне удалось прожить тоже без прописки. Владелица
той мазанки, которую я занимал, даже не знала, как меня
зовут. За домовитость и староверскую чистоту она назвала меня
«хозяином».
1 «Хроника седа Смурппа» паписана беллетристом-народником Засодимским. Роман
этот пользовался в 80-х годах известным усиехом. — Р е д.
94
— Так и зовите,—в шутйу поддержал я эту кличку. Паспорт
жо не давал, желая сберечь его на будущее время, ссылаясь на
то, что он мне нужен для поступления на завод. Так и осталось
за мною данное мне имя «хозяин».
Пока я жил в Елисаветграде, у меня было много свободного
времени для того, чтобы поработать над собою—почитать,
пополнить свои знания, кои, надо признаться, были довольно скудные.
За это время удалось прочесть (как—конечно другое дело) Дрепера
«Историю умственного развития Европы», несколько монографий
Костомарова, И. Тэна «Старый режим». Перечитал Беляева
«Крестьяне на Руси», кое-что по естественной истории. И погоревал я
тогда сильно над своим скудным умственным багажом. Хорошо
еще, что сама жизнь все время преподносила мне хоть и
жестокие, но полезные уроки.
В Севастополе и Харькове
Незадолго до моего приезда в Севастополь, куда меня
командировала харьковская организация, был произведен разгром:
провалилась транспортная организация, перевозившая нелегальную
литературу и сплавлявшая за границу эмигрантов, было
арестовано несколько рабочих и матросов. Эти аресты проводились
не местными жандармами, а приехавшими из Одессы, где в &то
время выдавал рабочий Василий Меркулов, служивший когда-то
«молодцом»-приказчиком в сырной лавке Кобозева (Юр.
Богдановича) на Малой Садовойг в Питере. Из предосторожности, чтобы
не провалиться на старых связях, никаких явок мне не было дано,
хотя и была указана фамилия Телешова и еще какая-то женская
фамилия. Об их аресте сведений не было; харьковцы
предполагали, что они еще целы, но не убедившись тем или другим
способом в их целости, не советовали пользоваться их адресами
как явками. Немоловский настаивал, чтобы я пока даже вообще
воздерживался от всякой революционной работы и жил
обывателем до выяснения положения дел в Севастополе. Всеволод
Гончаров предлагал мне уехать на время за границу. Уже, кажется,
тогда стала обнаруживаться предательская роль Дегаева. Хотя
лично он никого не знал! из южной рабочей организации, однако
ему было известно об ее существовании и о тех подготовлениях,
какие делались членами центральной народовольческой
организации при участии этой группы.
1 Сырная давка на Малой Садовой в Петербурге была открыта народовольцами
Ю. Н. Богдановичем и А. В. Якимовой под фамилией супругов Кобозевых по
поручению Исполнптельного комитета, начавшего подготовку покушения на жизнь царя
Александра II.
Место на Малой Садовой являлось, по расчетам Исполнительного комитета,
наиболее подходящим для проведения подкопа, закладки мины и взрыва в свя8и с тем,
что по воскресеньям царь обыкновенно проезжал по этой улице в манеж. В случае
изменения маршрута царя решено было его убить метательными снарядами. Так оно
и случилось. 1 марта 1881 года Александр II был убит не на Малой Садовой, а на
набережной Екатерининского канала бомбой, брошенной в него Гриневицким. — Ред.
95
Вскоре Дегаев выдал Немоловского, Б. Иванова, попутано с
ним был арестован Яков Собко, рабочий, и провалилась
типография, станок для которой был послан из Варшавы пролетариат-
цами х. Но окончательно шпионство Дегаева выяснилось только
позже, когда от Немоловского была получена записка из тюрьмы.
Одно время меня сильно подмывало уехать за границу, особенно
когда мною было получено шифрованное письмо из Харькова.
В то время я успел даже поступить котельщиком в
севастопольское адмиралтейство, так как свободных мест ни токаря, ни
слесаря не нашлось, да и в конспиративном отношении профессия
котельщика являлась для меня безопаснее.
В громадном котельном цехе я потонул среди мастеровых и
рабочих. Правда, работа была очень тяжелая, но я скоро
сошелся с некоторыми мастеровыми, и они стали моими
единомышленниками; особенно деятельным и энергичным оказался
хохол Андрей Кондратенко. Затем возобновил порванные связи 6
остатками прежней организации—Телешевым и токарем Мотори-
ным. Оба они пользовались большим доверием местной
интеллигенции. Узнав о том, что мне пришлось поступить в котельный
цех на очень тяжелую работу, и думая, что меня могут посылать
на клепки котлов, где я могу оглохнуть, они стали уговаривать
меня взять расчет и подождать вакансии слесаря или токаря. Но
я отказался, ибо хотелось все! испытать, если бы даже пришлось
попасть и на такую работу. Однако у меня была уверенность,
что на клепку котлов меня не пошлют—там работа сдельная
и требующая специальной сноровки, чего у меня не было.
В наше время котельщики по своему умственному развитию
считались самыми отсталыми и темными мастеровыми. Большая
часть их была безграмотна и лишь немногие—малограмотны, едва
умели подписать свои фамилии и совершенно ничего не читали,
да и не интересовались книжками. Работа их была хоть не
тяжелее кузнечной и не грязнее работы в литейных мастерских,
однако считалась самой несимпатичной и антигигиеничной за
некоторые свои стороны. Недаром котельщиков называли
глухарями. На эту 'тему был написан прекрасный рассказ Вс. Гаршя-
ным «Глухари». В нем автор изобразил прелести этого ремесла
и что получают от него котельщики. Этим рассказом мы и
пользовались для пропаганды.
Я попал в эту среду первый раз, и меня поразило следующее
обстоятельство: большинство котельщиков нашего цеха были
крестьяне Владимирской губернии, Гороховского уезда,—народ
рослый, с длинными мускулистыми ручищами и бледными
худосочными лицами. Духовно они были неразвиты, умственный
интерес их был сведен почти до нуля. Заинтересовать их было
можно только чем-нибудь таким, что касалось непосредственно
их работы или посылки денег в деревню.
Мое пребывание и в Севастополе продлилось недолго. В августе
получаю письмо, в коем сообщается о новом провале. Мне реко-
* Членами польской революционной партии «Пролетариат».
96
мендуется немедленно переменить место жительства;. Соблазняя
меня Кондратенко наняться на какой-нибудь иностранный
пароход матросом или кочегаром и уехать за границу, хоть *в
Константинополь.
— И я с тобой,—говорил он.—А там дернем в Америку или
Англию, повидаем свет. Поживем там немного. Глядишь—про
тебя и забудут. Вернемся снова сюда.
Хотя бродяжническая жизнь травленого волка начала меня
раздражать, однако уезжать за границу, бросать родину мне
казалось зазорным малодушием, тем более что и так уже многие
удрали туда. Тогда же уехал и Бах. «Что же 'будет, если все
удерем? Для чего было и огороды городить?» рассуждал я.
Возвращаюсь в Харьков. Здесь застаю своих прежних
приятелей: ШртыЗнова, Антонова, Вольнова и др. Яков Собко уже
был арестован и вскоре умер в тюрьме. Кроме Линицкого, Вс.
Гончарова, встречаюсь здесь первый раз с Серг. Ивановым (под
кличкою Василий Андреевич), с Элько (теперь забыл кличку этого
отвратительнейшего предателя) и еще несколькими, кажется, из
представителей польской партии «Пролетариат»1.
Харьков в этот период являлся центром народовольческой
деятельности юга. Несмотря на недавний провал, здесь велась
оживленная работа, сюда стекались деятели «Народной воли» по
разным делам. Настроение здесь сохранялось цовышенное. Строились
разные планы на будущее. Благодаря тому, что связи с рабочими
по всему югу стали налаживаться, возникла идея подготовки
восстаний в ряде городов, уничтожение в них жандармских
управлений и даже захвата этих городов, причем предполагалось
воспользоваться донским казачеством, небольшие связи с которым
поддерживались через рабочих Ростова к Новочеркасска. Тогда
же в Харькове намечалось устройство съезда русских и польских
рабочих для объединения их действий. Эта идея принадлежала
Вольнову и кому-то из членов польской партии «Пролетариат».
Повышенное настроение наблюдалось не только среди; харьковских
народовольцев-интеллигентов, но и среди рабочих. Происходило
это, с одной стороны, вследствие успешной деятельности среди
последних на юге, а отчасти к потому, что здесь еще совсем не
внали о разгроме старого Исполнительного комитета, о гибели
всех его деятелей.
1 «Пролетариат» так называлась революционная партия в Польше, существовавшая
в первой половине 80-х годов. Основана была революционно-настроенными
студентами, но вскоре в ее ряды влилось много передовых рабочих. Были созданы
организации этой партии главным образом в промышленных центрах: в Варшаве, Лодзи,
Белостоке и др. Взгляды ее представляли собой смесь марксизма с анархизмом
и бланкизмом. Партия стояла на почве интернационализма и признания принципа
классовое борьбы, солидаризировалась с русской партией «Народная воля», с которой
было даже заключено боевое соглашение. Тактика партии включала и террор.
«Пролетариат» выпустил ряд прокламаций и пять номеров газеты. В 1883—1885 годах
был ряд провалов. 29 человек было привлечено к военному суду и административно
выслано свыше 160 человек. Военный суд приговорил четырех подсудимых к смертной
казни, остальных к долгосрочной каторге. После этого партия «Пролетариат»
перестала существовать. —-Ред.
7 Рабочее движение в Focchh.
97
Харьковцы полагали, что Исполнительный комитет йа севере
ведет свою работу, занят центральной конспиративной
подготовкой. Работа на местах должна вестись напряженно и неустанно,
не дожидаясь подталкиваний из центра.
На всех харьковских заводах, в главных железнодорожных ма^
стерских и депо существовали связи с рабочими. Большой
недостаток чувствовался в подпольной литературе и средствах. Для
добычи последних строились всевозможные, далее нелепые планы*
которые одними осуждались, другими оправдывались и
одобрялись.
Летучая типография
В первую очередь решили приступить к оборудованию
типографии-летучки домашними средствами. Так как я был свободен,
то мне предложили заняться этим делом вместе с Вольновым,
на! редкость способным и развитым слесарем постарше меня лет
на шесть-семь.
В то время Вольнов работал слесарем-инструментальщиком на
заводе Прянишникова, а квартировал в отдельном домишке на
краю города. Я должен был поселиться у него в качестве
безработного квартиранта, ищущего места.
Наша квартира должна быть законспирирована от всех наших
единомышленников и доступна только для лиц из центра.
Устроились мы довольно хорошо в смысле удобства работы. Вольнов
был женат и имел уже дочку месяцев десяти, черноглазую
забавную девочку Клавку, которая была очень терпелива и
молчалива: она почтиз никогда hoi плакала] и не сердилась, чем:
изумляла нас, а; я, грешен, старался вызвать в ней ц то и другое,
ибо меня огорчал такой ребенок. Но глаза у этого ребенка были
удивительно хороши—как вишни, и в глубине их всегда
виднелся ласковый детский вопрос. Жена Вольнова, Анна Алексеевна,
была молодая хохлушка, простая мещаночка, с чуткой душой и
добрым сердцем человек. Мужа своего она любила беззаветно, но
тихо. Ради него она готова была на все. К нашему брату,
нелегальным, она относилась с благоговением и заботливостью
любящей сестры и] друга. Бывало, когда кто-либо из нелегальных
приедет к нам, и если! она узнает, что издалека1, она] не только
накормит—будь то за полночь,—даст чистого белья, сходит куда
угодно по поручению и выполнит его не хуже мнощх дз нас.
Анна Алексеевна была нашей любимицей, заботилась о нас как
о родных. К нашей организаций она конечно не принадлежала,'
но очень многое зна;ла ц была молчалива, как Мрамор, в сфере
конспиративных дел. Во воем же остальном вела себя как самая
настоящая обывательница. Грамоте ее научил муж. У Had
неоднократно поднимался вопрос о том, имеем ли мы право подвергать
<ее всем тем последствиям, которые ожидают -ее в случае ареста
типографии. Не лучше ли заблаговременно устранить ее?
— Жандармы не погладят нашу Анну Алексеевну,—говорили
мы ее мужу.
98
— Я уже не раз с ней говорил об этом,—отвечал
он,—расписывал ей все прелести тюрьмы, допросов, положение Клавки—
ничего не помогает.
— А ручаетесь ли вы, Василий, что она выдержит все
испытания? Вспомните слова Некрасова: «У кого не слабели шаги
перед дверью тюрьмы и могилы...» Она совсем иная женщина,
бесконечно добрая, но совсем неподготовленная. Арест, грубое
обращение жандармов, особенно когда они увидят, что она мало
развита, совсем простая—каких только обид, оскорблений не
нанесут £й! Нет, вы постарайтесь во что бы то ни стало уговорить
ее уехать, хоть на время, к своим родителям, пока мы здесь не
устроимся иначе,—горячо доказывал Во. Гончаров Вольнову.
Впоследствии, когда они были арестованы уже по другим
делам (Вольнов судился по делу Лопатина Г. А.), Анна Алексеевна
держала себя; с достоинством и погибла на Сахалине, куда пошла
за; своим мужем.
Финансовое положение наше было очень скромное. Мы
существовали на то, что зарабатывал Вольнов на заводе, да на
остатки моих севастопольских сбережений. Партийных средств
нехватало на типографские материалы. Все принадлежности, кроме
зеркала, которое мы купили—по конспиративным соображениям—
вместо чугунной плиты, приготовлялось нашими рабочими: где
рамки, где валики, верстатки, а кассовые ящики делал я сам
дома. По конспиративным соображениям все части делались в
разных мастерских и передавались мне большею частью ночью
на свидании в сосновой роще Основе, чтобы приносившие не
могли знать в лицо получателя.
Обыкновенно один или двое рабочих с кем-либо из
нелегальных являлись в условленный час в эту рощу и передавали мне,
не видя меня в лицо за темнотою. Такая строгая
конспиративность была заведена еще Немоловским. Так с него она и пошла.
Но и темнота иногда дает возможность проникнуть туда, где
и при дневном освещении не удастся разглядеть предмет и его
настоящее нутро.
Вот какие черные стороны одного «бойца» осветила мне
темная ночка.
Из Киева в Харьков прибыл некто Элько, маленький, юркий,
черный человечек. Я его совсем не знал, но мне рекомендовали
его как лицо, через которого я буду получать от рабочцх
типографские принадлежности.
Однажды в назначенное время рабочие не явились. Пришел
только Элько. Ждем час, другой—рабочих нет и нет. Вместо
них прошла сначала одна загадочная фигура, затем и другая.
Нам это показалось странным. Элько сильно заволновался, стал
нервничать. Я сначала подумал, что он волнуется за типографию:
если провалюсь я, то погибнет и типография наша в своем, так
сказать, зародыше. Беспокойство овладело мною.
— Сегодня я, пожалуй, не пойду домой ночевать. Как бы Ее
затащить шпиков. Ночью их и не заметишь, если это шпионы,—
говорю я.—Ночь теплая—можно переночевать здесь, в роще.
7*
Ь9
Элько согласился со мною и сделал предположение, не выдал
ли нас кто из его знакомых рабочих.
— Некоторые из них трусы большие и малонадежные люди,—
сказал он.
Последние слова резанули мое ухо. Дело в том, что он меня
не знал, а я его. Не £нал я и тех рабочих, с которыми ондмел
дело. И если он так смотрел на некоторых из них, то зачем же
поручал им такие дела, зачем водил сюда? Одним словом, мне
не понравилась его аттестация. Я промолчал однако.
Ночь теплая, тихая; небо звездное; меж вершинами стройных
деревьев искрятся звездочки. Природа так хороша, а
настроение скверное, беспокойное. Со мною человек, которого я не знаю
и который сам начал рыть между нами пропасть. «Лучше бы
остаться одному», подумал я.
— Неужели вы ночуете здесь?—спросил меня Элько.
При мне был револьвер. Так как до утра;, т. е. до рассвета,
оставалось уже не так много, мне казалось, что лучше всего
остаться в лесу, конечно уйдя от места несостоявшегося свида-
■ния подальше. Свое намерение сообщаю Элько.
— В таком 'случае лучше пойдемте со мною. Здесь вы можете
наткнуться на жулье или простудиться,—стал уговаривать он
меня.—У меня имеется надежная, совершенно чистая
обывательская квартира. Никакой опасности нет, там мы и переночуем.
После некоторого колебания соглашаюсь. Идем. Дорогою он
убедительно советует мне ни о какой революции, ни, о чем таком не
говорить.
— Семья самая настоящая обывательская, религиозйая и
преданные старине,—говорил Элько.—Я скажу, что вы мой хороший
знакомый, случайно встретились, заболтались и я уговорил вас
пойти со мною, ибо итти на Сабурову дачу далеко и рискованно.
Словом, он придумал, как отрекомендоваться, чтобы скрыть
истинное положение и не дать повода заподозрить в какой-либо
конспирации.
Мы очутились в просторной и приличной квартире. Нас
встретила почтенная дама, молодая девушка и два молодых человека:
один—студент-ветеринар, другой—реалист. Элько был принят
ими как хороший знакомый. Рассказал свою выдумку—без
нее конечно нельзя было обойтись, и нам отвели для спанья
комнату.
Пока таскали в нее подушки, одеяла и прочее. Элько все время
болтал с молодыми людьми и за болтовнёю, совершенно
забывшись, стал рассказывать им в соседней их комнате, отделенной
от нашей тонкой перегородкой, так что я мог. все слышать. По
секрету он сообщал им обо мне, в том смысле, что я'«очень
важный» революционер, которого полиция и жандармы тщетно
разыскивают. После этого я сделался предметом их любопытства. Они
рассматривали меня как какого-то человека, явившегося из
таинственной страны. Задавали вопросы, из коих можно было
заключить, как расписал он меня. Мною овладела досада, и я им
сказал:
100
— Не придавайте серьезного значения его рассказам: он шутит.
Но Элько, словно с ума сошел, стал возражать и, повидимому,
чтобы рассеять их сомнения, стал вынимать из своего кармана
револьвер и кинжал и, положив их на стол, обратился ко мне:
— Покажите ваш. У вас «смит»... Не стесняйтесь, эти люди свои.
Все это произвело на меня удручающее впечатление и
возмущало до глубины души. Но заводить ссору в присутствии
посторонних было бестактно. Не скрывая недовольства, говорю, что
очень хочу спать.
— Зачем вы все это проделали?—спрашиваю Элько, когда
молодые люда ушли.
— Пусть знают, кого они приютили. С ними надо действовать
в открытую.... Для них это имеет воспитательное значение,—
громко возражал Элько.
— Если бы я это знал, ни за что не пошел бьй с вами сюда.
Оставим разговор,—сказал я.
Он стал меня успокаивать. Я с нетерпением ждал рассвета,
чтобы уйти скорее и успокоить Вольнова, который мог объяснить
мое отсутствие арестом.
Утром, когда мы собирались покидать наше убежище, под
окнами проходили два полицейских, громко о чем-то
разговаривая, и вдруг остановились.
Элько, заметив это, так заволновался, что стал метаться из
угла в угол, достав револьвер из кармана.
•— Надо его куда-нибудь бросить. Нас проследили... Нельзя
чтобы нашли при нас оружие,—бессвязно бормотал он.
Меня это прямо разозлило. Ясно было, что полицейские
очутились случайно и совершенно не имели нас в виду.
— Вы не за свое дело взялись. Лучше вам все оставить,—грубо
говорю ему и ухожу, унося с собою самое скверное
впечатление об Элько.
При первой же встрече с Вольновым, Мартыновым и другими
сообщил им об этом. Тогда мне представлялось, что нет хуже
людей, в которых совмещаются такие скверные качества, как
бахвальство, трусость и лживость.
— Такому человеку нет места среди нас. На него надеяться
нельзя,—сказал я тогда Мартынову и Гончарову. Настаивал на
удалении Элько от наших дел. Не знаю, как было принято мое
(предложение,— меня вскоре командировали в Саратов, а затем
в Киев, где я был вскоре арестован на улице, но мое
предчувствие не обмануло меня.
Элько судился по процессу Г. А. Лопатина. Оказалось, что он
потом вертелся все в центральных делах, а попав в руки
{жандармов и на скамью подсудимых, вел себя самым
отвратительным образом: выдавал всех и все, врал, клеветал на других,
плакал, каялся, ругал своих товарищей—словом, держал себя так,
что возмутил даже прокурора. Но больше всего он оговаривал
Антонова, которому распинался в любви и уважении, когда был
на воле.
Не знаю, каким образом такой ничтожный во всех отношениях
101
человек мог всплыть на поверхность и оыть посвященным в
интимные предприятия последних народовольцев периода Г. А.
Лопатина.
Повидимому, слишком приподнятое настроение, наблюдавшееся
у нас на юге, помешало тогда поближе присмотреться вообще
к поведению Элько. Вместе с тем к моему заявлению отнеслись,
как мне тогда показалось, очень странно—как к сделанному
слишком молодым и стремительным товарищем.
По летам я был самым молодым в нашей организации. Но все
же, если бы меня не командировали в Саратов после моего ва-
явления об Элько, я или сам вылетел бы из организации 1или
настоял бы на его удалении—такое он возбудил во мне
недоверие; с ним я работать но мог бы.
Незадолго до своей смерти Судейкин инкогнито налетел на
Харьков, повидимому для наставления местной жандармерии. На
юге в то время ходили слухи, что этот отец русской провокации
и шпионства будет совмещать в себе и роль убитого в .Одессе
Стрельникова. Благодаря своим шпионским талантам и особенно
содействию предателя-рабочего В. Меркулова и пресловутого Де-
гаева ему удалось здесь кое-кого арестовать и напасть на следы
харьковской организации.
В свою очередь и харьковская организация, узнав о
пребывании Судейкина в Харькове, начала свою «подготовку» к поимке
Судейкина. Участниками были: Вс. Гончаров, Мартынов,
Антонов и еще несколько человек. Им удалось установить и открыть
квартиры Судейкина: у него их было две, и в обеих он жил
под вымышленными фамилиями. Но когда почти все уже было
готово, он внезапно исчез и очутился потом1 в Питере.
В нашей харьковской летучке при мне были напечатаны
прокламации по поводу уничтожения Судейкина, письмо Мышкина
о жизни карийцев, начат листок «Народной воли». Но выхода
его я уже не дожидался и был командирован вместе с
Антоновым в Саратов.
В Саратове
Здесь местная организация все еще оставалась под
впечатлением ужасной истории—попытки Поливанова и Райко освободить
из тюрьмы М. Новицкого. В центре организации стояли Троицк
кий, лет сорока, солидный деятель, с общественным
положением, П. Д. Кузнецов, высланный сюда административно из
московского технического училища, М. Коробов- и еще несколько
человек. Связи с рабочими у них сохранились только с
наборщиками. Впрочем, тогда и заводы здесь были мелкие. Кроме того,
здесь имелась еще небольшая военная группа из офицеров и
вольноопределяющихся. В Саратове нам пришлось столкнуться как
бы с зародышем марксистского направления в России. Не могу
не упомяпуть об этом.
Бывший народник Виктор Докукин-Бессмертный, по натуре т-
102
обыкновенно добрый человек, по темпераменту—скорее
толстовец, усердно изучал «Капитал» К. Маркса. Ежедневно он
прочитывал из него по одной, по две страницы, делая выписки. Часами
ой сидел над Маркоовыми формулами. Если приходил к нему
кто-либо из радикалов, он непременно заводил с ним разговор и
даже спор. К народовольчеству он относился отрицательно. У него
был хотя и небольшой, но все же постоянный круг
единомышленников, с которыми он и разбирал чуть не до словечку формулы
Маркса.
Мы с Антоновым жили в одном доме с ними, к нам он питал
искреннюю симпатию, потому что мы были рабочие, но в то же
время иногда старался доказать нам всю необходимость сначала
изучить и усвоить Маркса, а потом уже и за революцию браться.
Я в то время не считал себя готовым спорить о нимг ибо был
молод и знал Маркса только по отдельным местам его большого
труда. Антонов же, гораздо старше меня и более начитанный,
иногда вступал с ним в пререкания, доказывая, что люди
никогда не станут ждать марксовской концентрации капитала и
пролетаризации трудового народа.
— Когда угнетенному народу станет невтерпеж, тогда он й
поднимется и возьмет, что ему надо. Революции бывали всякие
и совсем не по каким-то руководствам. Руководства всегда
появлялись после переворотов и больше в виде ученых трактатов.
Пойдите-ка к нашему хохлу с таким трактатом, в котором и
вы-то нелегко разбираетесь,—турнет он вас. Ему нужна земля
да! понижение налогов и податей, да чтоб его исправники да
урядники не насиловали и не теснили,—возражал Антонов,
человек темперамента и настроения, которые выработались у него
под давлением самой жизни, суровой и трудовой., Книги для
него служили только разъяснителями и углубителями
экономических и политических явлений.
Докукин же как интеллигентный и боле^е начитанный человек,
к тому же со спокойным темпераментом, засыпал его цитатами
из Маркса об экономических факторах, о последовательной смене
фазисов экономических отношений: скотоводчества, феодализма,
капиталистического строя. Приводил почему-то примеры из
Джорджа, Родбертуса и др. Вся; задача споров сводилась Докукиным
к тому, чтобы убедить Антонова в бесцельности борьбы за
политические цели, что борьба должна быть сосредоточена только на
экономических завоеваниях. Доводы Докукина вполне
напоминали доказательства чернопередельцев, каковым он и был ранее,
но фундамент он подводил уже другой. Он старался обосновать
свое миросозерцание на «Капитале» Маркса и считал эту книгу,
как бы откровением, советуя всем прежде всего изучить ее, а
йотом уже и приступать к; революции—скорее <к эволюции, ибо
в это время Докукин уже не признавал революционный путь
народовольцев, хотя относился к ним очень хорошо, без всякой
нетерпимости и желчности.
За все свое странствование по России это была моя
единственная такая встреча. До 90-х годов, повидимому, в России Доку-
юз
кин не имел у себя единомышленников, ибо о них: что-то не
слышно была даже и от тех, кто был арестован позже нас, т. е.
после 1884 года.
Хоть мы с Антоновым и знали, что наше пребывание в
Саратове не будет продолжительным, тем не менее решили поступить
на заводы: так оно было и конспиративнее и экономнее, все же
что-нибудь да заработаем.
Для Антонова как кузнеца нигде вакансии не оказалось. Я же
хотя и поступил было токарем на завод Чурилина, что на
Затоне, однако в тот же день пришлось удрать по самой 'нелепой
причине.
Заводская администрация потребовала у меня паспорт,
который я и не замедлил дать, так как он хотя и был. чужой, во
настоящий. По нему я числился Степановым Иваном Степановичем.
В свою очередь и мастер дал мне пробную работу—выточить
гайку для токарного винта и нарезать в ней плоскую резьбу. До
завтрака работаю доволен !и весел. Знакомлюсь с рабочими,
которые то и дело подходят ко доне с расспросами—где работал,
откуда лриехал и т. д. Когда мастера нет—они вертятся у моего
станка, а как мастер покажется—удирают.
После завтрака иду в кузницу, чтобы подправить резец для
плоской резьбы.
— Э-э, Василий! Откуда ты? Когда приехал?—быстро
подходит один мастеровой и протягивает мне руку.
На момент я даже растерялся от такой неожиданной и
нежеланной встречи. Но тотчас же оправился.
— Вы ошиблись... Вы за кого-то меня приняли,—говорю я,
стараясь казаться удивленным. Но это, вероятно, плохо у меня
выходило, ибо в душе я искренно ругнул этого знакомого.
— Чего же ты, Василий, отрекаешься, чего дурака строишь?
Давно из Харькова? Где твой любимчик
Андрюша?—продолжает тот.
. Злость меня разбирает. Вытаскиваю из горнца резец и усердно
начинаю бить молотком.
— Да что же ты, Василий, в самом деле!
— Вы ошиблись,—нагнувшись над наковальней', проговорил я.
На счастье, в это время появился кузнечный мастер, и мой
знакомый удалился. Не знаю, убедился ли он в своей «ошибке»,—
не думаю: так недавно я с ним работал у Пильстрема га
Харькове. Там звали его Алешей-еврейчиком, за его наружность. Он
очень походил на типичного еврея, на самом же деле был
настоящий русский и очень набожный. К революции у него
никакой склонности не было, но болтун он был большой.
Мое положение оказалось скверным: он знал меня как
Василия, а паспорт у меня на' Ивана. Начнет болтать, и я провалюсь.
Как быть? Ничего не остается, как оставить завод и выручать
паспорт, который жаль бросать. К обеду спешу окончить пробу.
Алеша не раз порывался подойти ко мне, но наш мастер мешал.
Беру оконченную гайку и иду к мастеру, сдаю и прошу
возвратить мне паспорт.
104
— Зачем?—спрашивает мастер.
— Хозяйка квартиры требует,—сочиняю я и настаиваю.
— Какая там у вас нетерпеливая хозяйка,—говорит мастер,
возвращает мне мой документ.
На завод я больше не показывался. Антонов мне посоветовал
в эту часть города и не ходить. Таково было положение
нелегального.
К сожалению, мне и Антонову недолго пришлось пробыть в
Саратове—его вызвали в Харьков, а м'еня в Киев, где и
кончилась моя свобода.
Арест
4 марта, идя с одной нелегальной женщиной, Раисой Кранц-
фельд, женою товарища, по Б. Владимирской улице, я заметил,
что за нами гонятся здоровенные переодетые жандармы, вынул
револьвер, решив дорого отдать свою свободу. Спутница
схватила меня за руку, сказав:
— Не стреляйте, повесят.
В это время один из жандармов бросился и схватил меня сзади.
Вырвав руку и оттолкнув назад спутницу, я выстрелил.
Первым выстрелом я освободился от обхвативших меня сзади
рук. Выстрел был сделан через плечо. Жандарм, упав, уронил
и мою спутницу. Тут на меня набросились откуда-то выросшие
люди. Началась упорная борьба одного против многих. Этой
борьбой воспользовалась моя спутница и ушла. А я был доставлен
в киевское жандармское управление. О этого момента началась
долгая-предолгая жизнь по казематам.
Такая же судьба постигла почти всех моих друзей и приятелей
по рабочей организации, арестованных в разное время и в
разных местах. Многие преждевременно сошли в могилу, в
расцвете сил, энергии. Казематная жизнь, отдаленная ссылка в
тяжелых климатических условиях постепенно подтачивали молодые
организмы.
Андрей Карпенко умер на Сахалине, куда он был сослан
административно на десять лет, предварительно просидев три года
в Петропавловской крепости. Из Ростова он ушол в 1883 [году и
работал на юге в Екатеринославе, Севастополе, Мелитополе и
Кременчуге.
Вольнов судился с Г. Лопатиным и был сослан на Сахалин
вместе с женою Анною Алексеевною. Эта простая, но глубоко
благородная, твердая женщина, с бесконечно добрым и чутким
сердцем, быстро погибла на холодном и отдаленном острове. Но
и там она всегда была верна себе: многие изгнанники; всегда
находили у ней приют, ласку и заботливость. Кого я ни встречал
из бывших в ссылке на Сахалине, все о одинаковой теплотою
вспоминают об Анне Алексеевне.
Андрей Кондратенко хотя в ссылке и не был, но много раз
сидел в тюрьме. В 90-х годах он работал уже с социал-демократами
105
в Киеве. Да и один ли Кондратенко из народовольческих
работников потом снова, выступил борцом и в России и в Сибири?
Герман Александрович Лопатин, с которым я увиделся первый
раз на прогулке во время заключения в Шлиссельбургской
крепости в 1892 году, так передавал мне свое впечатление, какое
на него произвели рабочие-народовольцы южной группы.
— Мне казалось, что меня мистифицируют, когда ко мне на
свидание привели Карпенко, Вольнова, Антонова и еще кого-то.
«Да это совсем интеллигентные люди, а не рабочие», подумал я.
На; поверке же оказалось, что это были самые заправские
мастеровые, да еще какие мастеровые—артисты своего ремесла,
которые могли с гордостью заявить: «Да, мы честные рабочие, а не
фальшивки. Да, мы честные бойцы, народовольцы, а не дряблые
трусы, как Меркуловы, Окладские». Я прямо восхищался их
развитостью и широтой взглядов. Не преувеличивая, могу сказать,
что даже за границей не встречал таких рабочих.
— Ну, это уже пристрастие... — возражаю я.
— Ничуть,—перебил меня Г. А. Лопатин. — Заграничные
рабочие-социалисты совсем иной тип. Прежде всего они —эволю-
ционеры, а; не революционеры, потому что у них есть свобода,
и организации существуют легально. Возьмите вы германских
социал-демократов рабочих —они на законном основании
собираются, имеют своих представителей в рейхстаге, у них свои
легальные газеты. Или возьмите английских тред-юнионистов,
французских синдикалистов, бельгийских социалистов — все они
существуют легально. Но если вы с кем-либо из них вздумаете
заговорить о России, об Америке и вообще о другом каком-
либо государстве, а не об их родном, то сразу убедитесь, что они
ничего не знают. Тогда как Карпенко, Вольнов, Антонов удивили
меня своей начитанностью и широтой мысли. Удивляюсь, как
они, работая на заводах с утра до вечера, могли столько
прочесть русской и иностранной литературы — не только
беллетристики, но и научных книг. Андрей Карпенко успел прочесть
и Адама Смита, и Дарвина, и Луи Блана, и кое-что из Маркса,
да и чего-чего он только не читал. Мало того, прочитанное
понимал, перерабатывал. А Вольнов — этот, положим, постарше, —■
он русскую литературу знает лучше многих интеллигентов.
Встречи с ним мне прямо доставляли наслаждение. С ними
я мог обо всем говорить, находил в них интересных
собеседников. Совсем другое дело германские рабочие-социалисты: с ними
можно было говорить только о том, что касается Германии или
Австрии, да и о том они знают из своих газет. Попробуйте
заговорить с ними о России, Италии, Англии—право, бывало
и разговор не клеится. О нашей литературе там и понятия йе
имеют и как-то не интересуются. Тогда как и Вольнов и
Карпенко да и другие русские рабочие, с которыми приходилось
сталкиваться, — они, смотришь, читали Шпильгагена, Лассаля,
Виктора; Гюго, Эркмана-Шатриана, Альфонса Додэ, Мишле,
Диккенса, Элиота, Тэна и других, не говоря уже о своей родной
литературе. Какой же колоссальной энергии стоило им все это!
106
А революционная работа, требующая такой громадной
осторожности, сообразительности и ума, чего-нибудь тоже стоит...
Береги себя, береги других и делай дело, каждую минуту
озираясь, чтобы тебя жандармы не слопали... Заграничный
социалист ничего этого не знает и ничего не боится. Я уверен, что
если бы пересадить в Россию германских социалистов-рабочих
и заставить их вести здесь революционную борьбу и работу,
они бы отказались.
Покойный Лопатин и в дальнейших наших встречах на
прогулке в крепости не раз возвращался к своим восторгам о
рабочих-народовольцах и негодовал на русское самодержавие,
которое «тупо и беспощадно уничтожало народные таланты».
Вея елисаветградская группа активных рабочих, преданная
Дудиным и Хорманским, была выслана в Сибирь. Такая же
участь постигла и ростовскую и харьковскую. Некоторые не
перенесли гонений и умерли —кто в ссылке, кто в казематах.
О арестом Г. А. Лопатина и С. А. Иванова остатки южной
рабочей организации были окончательно разбиты, разметаны, как
ураганом. Лишь немногие уцелели, но, потеряв всякие связи,
притихли на; долгие годы темного царствования Александра III.
Из воспоминаний П. А. Моисеенко
1. Отъезд в Петербург. Первый арест и высылка
Это было в XIX столетии, в начале 70-х годов. С тех пор
много воды утекло. Приходится начать свои воспоминания с того
момента, когда мне попались впервые нелегальные брошюрки:
«Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», «Сказка о
копейке» и «Революционный песенник»1. С этих пор начинается
пробуждение от старого религиозного мировоззрения к новой
жизни.
Интересно вспомнить, как моглГа попасть нелегальщина в такое
заколдованное место, как Зуево. Работая на фабрике Зимина
ткачом, мне часто приходилось по поручению конторщика ходить
на юооеднюю фабрику Саввы Морозова в Орехово за книгами
в Морозовскую библиотеку. Там же кое-что читал, например,
Фенимора Купера и тому подобную литературу.
После Нижегородской ярмарки приехал из Нижнего брат моего
товарища, ткача Гвоздарева, и привез нелегальщину. О, что
было тогда!.. Мы с товарищем зачитывались, не верили себе
и удивлялись тому, что читали. Мысль заработала: мы стали
доискиваться [правды и решили проверить то, что открывали
нам! книги.
Надо сказать, что в это время мы были очень религиозны.
Собралось нас несколько человек, и отправились мы в
монастырь верстах в двадцати-двадцати пяти от Зуева, в
Введенскую пустынь, где была явленная икона. Не доходя до монастыря,
нам пришлось проходить лесом. Вдруг слышим
душераздирающий крик женщины. Ну, думаем, наверное заблудилась и
попала к разбойникам.
Но каково же было наше удивление, когда мы узнали, что
не разбойники грабили, а монахи заводили в лес' женщин и
насиловали их там.
Назавтра, с первыми ударами колокола, мы были уже на ногах
и вошли в храм.
Впереди выстроились рядами так называемые чернички,
молодые, красивые, чисто одетые. Как только служба началась, поп
и; дьякон стали щеголять . друг перед другом, причем дьякон
артцстйчески махал кадилом и явно проявлял всю свою
плотоядную страсть к черничкам. В первый раз мне показалось, что
я не в храме, а в вертепе.
По окончании службы начались молебны и панихиды. Тут
1 Все эти нелегальные брошюры были народнического толка. Имели значительное
распространение и пользовались среди читавших их рабочих огромной
популярностью. — Ред.
108
еще больше выказали монахи всю свою хищническую душу.
Жертвенные деньги открыто расхищались по карманам, даже
слепой послушник тащил. Омерзительное впечатление осталось
у меня; когда я поделился со своими спутниками, услышал
от них еще более омерзительные вещи. Всякая вера была1
потеряна и не только в монахов и цопов, но и в бога1. Невольно
родилась мысль: если ты, бог, всемогущ,, так что же ты смотришь?
Ведь достаточно одного твоего слова, и все нечестие сгинет с лица
земли, а |если ты бессилен, то значит тебя нет. Мою мысль
разделял и т. Гвоадарев.
Мы мучились, искали выхода, и нам казалось, что выход ко-
жет быть только один: уехать в Питер, где мы можем все узнать.
Но вот вопрос, куда мы там денемся? Все же решили ехать. Сборы
были наши скоры. Я и мой брат поехали, а Гвоздарев остался
пока на фабрике. До москвы мы доехали быстро (восемьдесят
две версты), повидались 'кое о кем и отправились в Питер.
Первое, что нам предстояло сделать по приезде в Питер,—
разыскать кого-либо из знакомых. Вспомнили, что на Гончарной
улице живут два брата арзамасца, ломовых извозчика, и
отправились туда. Дома их не застали и остались ждать вечера,
когда они и явились. Напоили нас чаем, накормили и спать
уложили на сеновале.
Утром на другой день они рано уехали на работу, а мы пошли
осматривать Питер. Целый день мы пробродили по городу
голодные, так как денег у нас не было ни копейки. Решили искать
работы. Стоим мы у ворот дома извозопромышленника.
Подъезжает кучер. Разговорились с ним и тут же столковались, что брат
поступит конюхом на завод Струкова за Московской заставой,
а 1я пойду искать работы на фабрике, адрес которой удалось
узнать.
Дождались мы вечера. К тому времени вернулись наши
знакомые, которые накормили нас.
Наутро брат отправился за Московскую заставу, а я пошел
на Ново-бумагопрядильную фабрику. У стоящего у ворот фабрики
народа узнал условия работы. Оказалось, что ткачей принимают,
но что долго приходится ходить «поналишним» (запасным), т.е.
работа не постоянная, а случайная, например: кто не вышел
на работу—да его место ставят запасного (поналишнего). Что
делать?
Стою, разговариваю. В это время подходят новые люди.
Разговор завязывается, и один мужчина говорит, что за Нарвской
заставой, на фабрике IHay, набирают новую смену и что туда
можно доступшъ прямо на свою пару.
Направился к этой фабрике. Стал искать земляков; вызываю
одного подмастерья-земляка, разговорился с ним и узнал, что
земляков здесь порядочно. Здесь я получил работу,, и
определили меня в артель земляков.
Спасение от голода полное. Квартира общая, стол общий,
товарищи все молодые. Я быстро ознакомился с окружающей
обстановкой, и работа закипела. Оказалось, что наша артель почти
109
вся состоит ез тех, которых тогда называли студентами, т, е. из
ходивших на вечерние курсы (когда же школы были закрыты,
то ходили к студентам на квартиры). Меня сейчас же посвятили
в святая-святых. Стал учиться. Первыми, с кем я познакомился,
были: Пресняков и Дёйч *, затем Чубаров, Лизогуб и многие
другие, в особенности курсистки.
Я с жадностью набросился на книги, как легальные, так и
йелегальные: читал не только в свободное время, по и за
работой. Сменщик мне попался дельный и старательный, и мы
скоро выдвинулись как лучшие ткачи. Нам дали по другой
паре станков с подручными мальчиками.
Это было в 1874—1875 годах. С этих пор я начал принимать
деятельное участие в партии «Земля и воля»2. Кружок наш
расширялся, все же систематических занятий не было вплоть до
знакомства с Плехановым, с которым мы начали разбирать
сочинения Н. В. Шелгунова. Благодаря Плеханову я многое уяснил
1 Пресняков Андреи, Лев Дейч, С. Ф. Чубаров и Д. Лизогуб были видными
революционерами, принимавшими активнейшее участие в народническом движении.
Пресдяков, Чубаров и Лизогуб были арестованы в 1879 —1880 годах и казнены.
Л. Дейч был арестован в 1884 году и присужден к каторжным работам.
2 «Земля и водя»—нелегальная народническая организация. Начала складываться
в 1874 году, оформление ее произошло в 1876 году в Петербурге.
«Земля и воля» ставила своей задачей путем пропаганды организовать и поднять
крестьянские массы на бунт против самодержавного правительства с целью
осуществления ликвидации помещичьего землевладения, национализации земли, отмены налогов,
создания свободного государственного строя на основе федерации общин.
В «Земле и воле» выделялись две группы: северная (Петербург) и южная (Киев),
каждая из которых вносила известные оттенки в идеологию и тактику партии. Так,
южная группа с течением времени стала относиться отрицательно к пропаганде и
все болов и более склонялась к выдвижению на первый план террора.
Партия делилась в организационном отношении на:
1) администрацию,
2) группу для пропаганды среди крестьян,
3) группу для пропаганды среди рабочих,
4) группу пропаганды среди молоделси и
5) группу дезорганизаторов.
Во главе всей партии стоял совет. Адимипистрация, кроме функций ЦК, выполняла
информационные функции для всех групп и руководила снабжением революционеров
паспортами. Совет созывался центром в особо важных случаях. В состав совета
входили все члены партии, находившиеся в данный момент в Петербурге. Группа
дезорганизаторов пользовалась полной автономией и занималась ослаблением всеми
средствами правительственного механизма, освобождением арестованных, борьбой против
репрессий, убийствами пщпонов и предателей.
Партия издавала свой орган «Земля и водя» (с ноября 1878 года по апрель 1879 года)
и листок «Земля и воля».
Однако пропаганда и агитация партии «Земля и воля» не имели непосредственного
успеха. Крестьянство не поднялось на восстание. В партии начинали получать все
большее значение элементы, выдвигавшие на первый план террор, борьбу за
политическую свободу.
В результате террористы летом собрались в Липецке и, организовавшись там,
явились на общепартийный съезд в Воронеже. На съезде по вопросу о терроре и в
частности о цареубийстве разгорелась борьба, в которой победили террористы.
После съезда очень скоро стала ясной для обеих группировок необходимость раскола.
Партия распалась на партию «Народная воля» (террористы) и группу «Черный
передел». —Ред.
110
себе и |стал разбираться в литературе. Помню, сильное Впечатление
произвел на нас тогда роман Швейцера «Эмйа».
Настроение было воинственное. На фабрике пропаганда шла
усиленным темпом!. Ходившие ко мне студенты и курсистки
занимались с младшим братом и воспитанницей. Моя семья была
уже в Питере; я имел отдельную квартиру, где часто
происходили собрания.
В 1875 году первую экономическую стачку, как пробную,
произвели на фабрике Шау с т. Александровым, участником стачки
1872 года в Нарве, на Кренгольмской мануфактуре, который
впоследствии был арестован за распространение и; хранение
нелегальной литературы; он был сослан на каторгу на1 десять лет.
Защитником был Ольхин, который и сам шпал в ссылку.
После этого события начались частые обыски среди рабочих;
пришлось держалъ ухо востро. Знакомство расширялось; ко мне
стали часто заходить тт. Густов и Ташаков.
В ожидании казанской демонстрации я все еще держался за
Нарвской заставой. Накануне казанской демонстрации Пресняков
пригласил меня и еще одного товарища на собрание, которое
было, кажется, йа Выборгской стороне. На собрании этом было
доного интеллигенции, рабочих же почти не было. Много
говорили, спорили, в особенности Плеханов и Боголюбов. Одни
доказывали, что демонстрация только убавит напшз ряды и ничего
существенного не даст, другие же, напротив, говорили", что она
даст толчок в обществе, и если даже рабочие не поймут ее
значения, то все же лозунг «земля и воля» всколыхнет народные
массы. Решено было провести демонстрацию. Нам дан был наказ—
собрать как можио более народу. Но здесь произошла заминка
или ошибка. Некоторые товарищи отправились к Исаакиевскому
собору, так что на Казанскую площадь собралось не более
трехсот человек.
Придя к собору, мы увидели, что нас слишком; мало, и решили
войти в собор. Потолкавшись там, мы сделали знак к выходу
и высыпали все йа площадь, где с рачью выступил Г. Плеханов.
Речь его произвела очень сильное впечатление... Он говорил
о гибели лучших сынов России: Нечаева, Чернышевского,
Михайлова и др. После речи Плеханова был поднят на руки рабочий
Торнтоновской фабрики1, который развернул красное знамя с
надписью: «Земля и воля». Все с замиранием? сердца смотрели на это
знамя. В этот момент со всех окрулделсщих длощадь дворов
ринулась на нас свора переодетых жандармов и дворников, ц
началась ужасная свалка. Так как нас было очень мало, то мы
и устуцили силе.
Кто-то крикнул: «Расходись!» Меня подхватили товарищи и
увели. Впоследствии оказалось, что арестовано было 36 человек.
Так кончилась демонстрация на Казанской площади.
Но йа окраинах дело обстояло не так. За Нарвской заставой,
* Это был шестнадцатилетний Яков Потапов, пр g уждепный к ссылке в отдаленный
монастырь на пять дет.
111
в трактире «Каре», выступил на додмостках оратор и рассказал
публике о том1, что было на Казанской площади. Публика
встретила оратора (фамилии его теперь не помню) дружными
аплодисментами. Впечатление было сильное. Шпионы хотели скрыть
свое гнусное дело—арестовать оратора при выходе из трактира.
Они схватили его, посадили в сани и покатили. Мы; за ними,
И вот на Египетском мосту один из наших схватил шпика за
шиворот и бросил его с моста, а другому дали тумака, тот
только успел свистнуть. Городовой схватил одного из наших,
но в то время другой подошел и такого тумака1 дал городовому,
что тот покатился замертво. Свисток оборвали, и мы благополучно
возвратились домой, уничтожив все то, ,что компрометировало
нас (парики и бороды). Это событие сделало нас передовыми
работниками, ютмеченными предательской рукой,- и заставило нас
быть осторожнее.
С декабря 1876 до весны 1877 года пришлось подналечь на
самообразование.
Б 1877 году была1 война с Турцией. Задумали провести на
Исаакиевской площади демонстрацию-протест против войны, но
она не удалась совершенно, и нам пришлось мирно разойтись
по домам.
В это время я перекочевал на Обводный канал, на
Новобумагопрядильную фабрику. Здесь ноле для пропаганды: было
шире, и мы это использовали. Завели хор и бубен с плясунами.
Один из товарищей, Алешка Рыжий (так мы его прозвали),
прекрасно вцполнял роль бесноватого из сказки «Q четырех
братьях». Ставили революционные песни: «Долго нас помещики
душили» и «Оводушка», напев «Лучинушки». Эффект был
поразительный. Всех нас воодушевляла революционная песня.
Несмотря на усталость, мы забывали вое. Особенно отличался своим
голосом и талантом Федот Лазарев, который удивительно ловко
умел подсунуть брошюрку заслушавшимся посторонним. Иногда
мы пели в трактире по приглашению.
На Ново-бумагопрядильной фабрике зрело недовольство
(рабочих вычетами за челноки и низкой заработной платой. Мы решили
этим воспользоваться для проведения стачки; об этом я сообщил
Родионовичу. Организация поручила мне стать на работу на
фабрику. Мастер Яков Яковлевич (англичанин) охотно
согласился, сказав, что возьмет меня, ка# только освободятся станки.
Все было подготовлено, и меня приняли на фабрику.
Агитация велась усиленно. Наконец фабрика стала. Рабочие
предъявили требования, удовлетворить которые контора не
согласилась. Мы сильно агитировали за продолжение стачки.
Рабочие держались дружно; на собрании долицию просили уходить,
не мешать; шпиков выпроваживали из трактиров. На третий день
появилась статья в газете «Новости» о стачке, написанная
Родионовичем. Купил я до пятидесяти номеров, раздал рабочим,
читал и пояснял им. Некоторые из рабочих поговаривали о том,
что йужно додать прошение наследнику (в то время наследником
быд Александр III). Так как вера царя была тогда еще
112
сильна, то нам приходилось изворачиваться: критиковать, ругать
правительство, дворян, полов > купцов—словом, всячески
отговаривать не подавать прошения царю. Царя трогать тогда нельзя
было. Сложилась даже поговорка: «посуду бей, а самовара не
трогай». И вот волей-неволей пришлось согласиться и
написать прошение наследнику. Написать поручили нам:, а мы
поручили Попову (Родионовичу)*. На другой день принесли прошение,
которое я торжественно прочел собравшимся рабочим, и спросил
их мнения. Все кричали «подать». Встал вопрос—как подать?
Надо итти ко дворцу. Я знал, что наследник живет в Аничкином
дворце. Подойти к дворцу надо было незаметно. Порешили итти
по-двое, но-трое, не больше. Место для сбора выбрали в
Александровском сквере, у монумента Екатерины II.
В Александровском сквере стал собираться народ, и так как
толпа образовалась порядочная, то полиция, заметив это,
предложила разойтись. Я видел, что дальше ждать нельзя, надо
действовать. Махнул рукой—все высыпали на Невский, прямо
к воротам. Прошение я передал одному из ткачей (впоследствии
он меня провалил).
Толпа напрудила весь Невский. Мы пробовали проникнуть во
двор, но городовые загородили дорогу и объявили, что
наследника нет дома. Тогда я перебежал на другую сторону Невского
и увидел стоявшего в амбразуре окна наследника. В это время
прцмчался помощник градоначальника Козлов. Он выскочил из
экипажа И врезался в толпу. Мы сгрудились плотней. Ко мне
протискался товарищ, у которого было прошение, и шепнул,
что юн боится. Я взял у него прошение и спрятал его под
полу и, придерживая рукой из кармана, двинулся к Козлову.
Когда увидел, что рабочие, услышав просьбы Козлова разойтись,
стать на работу, путаются, я обратился к Козлову:
— Ваще превосходительство. Народ желает говорить с
цесаревичем и просить его улучшить положение рабочих.
Козлов ответил, чтобы мы шли на свою фабрику, становились
на работу, а если не хотим, то можем получить расчет и итти
на другие фабрики, и что цесаревича дома нет.
Тогда ;я снова начал говорить, что мы пришли просить не
эа себя только, а за всех рабочих, что на других фабриках нас
тоже грабят и душат, как и на нашей, на что последовал ответ
Козлова-; 'если нам не нравится на фабриках, то можем
отправляться йа родину, откуда приехали.
— Ваше превосходительство. Мы с родины приехали, потому
что нас нужда выгнала, мы должны кормить стариков, мы
должны подати платить.
Козлов рассвирепел:
— А, подати платить! Взять его!
Полицейские подскочили. Я улучил минуту и выпустил про-
* Это был один из основателей организации «Земля и воля». В 1880 году был
арестован в Киеве, приговорен к смертной казни, которая была заменена вечной
каторгоМ. Пробыл в Щлиссольбургсхой крепости 25 лет. Умер в 1910 году.— Ред.
8 Рабочее движение в России,
113
шение на панель. Кто-то из студентов сказал: «Ваше
превосходительство, вы бумагу обронили».
Меня посадили в пожарном отделении, внизу, во дворе. Окна
выходили на Невский. Я взобрался на окно и стал наблюдать
за происходившим на улице. Козлов вертел: бумагой и что-то
говорил. Вся улица была запружена публикой. Вдруг входит
лакей, камердинер. Поздоровался со мной и спрашивает, за что
меня арестовали. Я ему рассказал все. После его ухода опять
занял свой наблюдательный пост. Вижу—народ все еще стоит.
Минут через пятнадцать вбегает ко мне Козлов и начинает орать:
— Как ты смел! Я тебя загоню не только в Сибирь, но и
за Сибирь! Кто писал прошение? Отвечай!
— Не знаю.
В это время входит камердинер и просит Козлова пожаловать
к цесаревичу. Они уходят, а я снова остаюсь один и смотрю
на Невский. Народ ужо стал расходиться. Сижу и думаю, что-то
будет, наверное теперь отправят в тюрьму. Невольно приходят
мне на ум слова из «Песни про долю»: за прошение мужиков
его милости плательщик сподобился кандалов.
Задолго до ареста мы знали, что чаши этой нам не миновать.
Каждый сознавал, что это неизбежно и будет продолжаться до
тех дор, пока рабочие не завоюют своих прав. Вспомнилось: «Хоть
и погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых—дело всегда
отзовется на поколеньях живых». Время шло. Вот возвращается
снова Козлов, бледный, как белый носовой платок, или, вернее,
как его перчатки, и обращается ио'мне ласково и тихо:
— Вот что, голубчик, я не хочу знать, кто вы, но должен
сказать, что цесаревич сделать ничего не может, пока он еще
не имеет на то прав. Пойди и скажи об этом своим рабочим,
и если хотят работать, то пусть работают; не хотят пусть ищут,
где лучше.
— Вот если бы так умно разъясняли рабочим, тогда бы ничего
и не было,—говорю я ему.
— Голубчик, я же был у вас на фабрике и говорил, по вас
не видел. Можете итти, вы свободны.
По дороге из Аничкина дворца я ще встретил ни одного
знаком)ого и подпел ирямо на фабрику, думая, что по моим
пятам идут шпики. Я умышленно прошел шмо участка,
заглянув в ворота. На дворе стояли жандармы. Я обогнул два переулка,
зашел в артель рабочих; там застал Родионовича. Дорогой я
обдумал все. Если рабочим сказать правду, забастовка провалится,
и 1мы ничего не выиграем, а дадо поднять дух рабочих. Придя на
фабрику, я сказал, что будет назначена комиссия, которая и
рассмотрит наше дело. Забастовка окрепла. Наконец вывесили
объявление, что штрафы уничтожаются, что за челноки вычета
не будет и за прогул заплатят. Мы победили. Забастовка
выиграла как в экономическом, так и в моральном отношении.
Как-то раз, точно не помню когда', меня и еще двух
товарищей пригласили в студенческую библиотеку. Я, Алешка
Рыжий и Шилов вечером отправились туда. Там нас наделили
114
прокламациями, которые мы должны были расклеить по Садовой,
Загородному проспекту и в фабричном районе. Дали нам
клейстеру, и мы отправились выполнять свою задачу.
Домой мы вернулись поздно. Наутро я пошел на свой пост
посыльного (стоял я тогда на углу Малой Итальянской и На-
деждинки). Кое-где я видел наклеенные прокламации, а на посту
уже читали и удивлялись смелости авторов прокламации и тому,
что полиция ничего не знала об этом. В толпе завязался спор.
Одни говорили, что этим ничего не сделаешь, что правительство
сильно, справится, другие же, напротив, доказывали, что, если
весь народ захочет, ни одно правительство не сможет справиться.
Ясно было, что ^прокламации заставили развязать языки, и хотя
все это было грубо и; неуверенно, все же рабочие на всех
фабриках повеселели и охотнее стали слушать передовых рабочих.
На некоторых фабриках рабочие уже стали просить, нет ли чего
почитать. Таким мы давали полулегальные книги, например
«Хроника села Смурина», «Как мужик двух генералов прокормил»
и т. д.
Однако недолго пришлось мне погулять на воле. Недели две
спустя я как-то раз зашел к Парфенову. Там я застал студентов
И. Гласко и Дробыш-Дробышевского. Поговорили и стали
расходиться поодиночке. При выходе я заметил пристава,
околоточного и полицейских. Я прошел мимо них и отошел шагов
на сто или больше, когда меня нагнал полицейский и попросил
к [приставу. Я подчинился и пошел за ним в участок. Ив
ёчастка повели меня к градоначальнику, а оттуда в Александро-
'•евскуто часть. Посадили в одиночку. Сижу день, другой —
ничего не объявляют. На пятый день меня повели в сыскное
отделение, где и учинили допрос. В сыскном я встретил
Казакова и Парфенова, с которыми сговорился никого не признавать
на допросе. Я ни в чем не признавался: на фабрике не работал—
знать не знаю и ведать не ведаю.. Улик никаких. Было
постановлено меня и Федьку Казакова отпустить на порувд,
Парфенова оставить в сыскном отделении.
Привели йас в участок. Уже вечером! отправили меня в
Казанскую часть, а !на другой день перевели; в Спасскую, где мне
снова пришлось встретить Казакова и Парфенова. Мы сидели
в ожидании особого распоряжения. Читать было нечего. Нам
предложили ацщгать перо. Это было в январе 1878 года, а
6 февраля Вера Ивановна Засулич застрелила градоначальника
Тренева1. Мы ликовали. Известия с воли нам приносили
уголовные. Так мы просидели до мая. В Miae нас с Казаковым
перевели в [пересыльный замок, в Демидовском! переулке, а Парфенова
оставили в Спасской (он был болен). Меня назначили в распо-
1 В. Засулич ранила, а не застрелила Трепова, и не 6 февраля, а 24 января
1878 года.
Поводом к покушеняю явилось наказание розгами в доме предварительного
заключения студент >землевольца Боголюбова (Емельянова), осужденного на каторжные работы
по делу о казанской демонстрации 6 декабря 1876 года.
Засулич была арестована и предана суду присяжных, которые ее оправдали.— Ред.
8*
115
ряжение смоленского губернатора, Казакова — в Костромскую
губернию, в город Галич. Впервые нам пришлось надеть оковы
на руки. В день отправки нас выстроили во дворе попарно и
стали надевать наручники, рука с рукой. Тронулись. Впереди
шли кандальники, за ними лишенцы и бродяги, а мы в хвосте.
Шли мы бодро, обрадовавшись свежему воздуху поело тюрьмы.
У Николаевского вокзала мы заметили много фабричных
товарищей, вышедших нас провожать. Конвой близко не подпускал
их. Когда мы уселись в арестантских вагонах, нам разрешили
разговаривать и брать переданные через конвойных вещи от
товарищей-рабочих. Я шел в своей одежде, а Казаков—в арестантской.
Перед отходом поезда вызвали Казакова, и, когда; он вышел, все
провожающие сгрудились в группу, человек сто пятьдесят, у
меня под окном. Тут были родственники, которые разговаривали
тихонько. Когда свидание кончилось, Казаков снял арестантскую
фуражку и крикнул: «Прощайте, друзья!» А толпа, как один,
крикнула: «Ура!» Конвой всполошился, Казакова втолкнули в
вагон.
Дебаркадер хотели очистить от публики, но она' сама плотной
массой пошла, устроив таким образом маленькую демонстрацию,
инициатором которой был Осинский 1. Казаков—природный
фабричный, гусляк. Под Москвой, во Владимирской губернии, есть
местность, называемая Гуслццами. В этих Гуслицах очень
развито ткачество и хмелеводство, редко кто не работал па фабрике.
Все гусляки—старообрядцы, и среди них бродило сильное
недовольство правительством. Казаков парень был видный л
работник хороший.
Итак, мы тронулись из Петербурга в Москву.
В вагонах было душно, хотя нас и расковали, сняли наручни,
все же сидеть неподвижно было очень утомительно, а
вставать и стоять запрещалось. Ночь спали сидя, лечь, хотя бы
на пол, не разрешалось. На 'каждой большой станции
высаживали одних и сажали новых арестантов. Кипяток и прови-
•иго приносили конвоиры, которые торговали папиросаш и
табаком и драли с рас втридорога.
По приезде в Москву нас снова заковали попарно, сделали
перекличку и тронулись в путь с Николаевского вокзала на
Пречистенку, в пересыльную тюрьму. В это время тюрьма была
на Пречистенке и называлась Коломажным двором. Что такое
Коломажный двор, вы теперь и представить себе не можете.
Строение одноэтажное, низкое (бывшая конюшня), окна
маленькие, внутри все застроено нарами, на нарах и под нарами
размещается народ, т. е. арестанты. Тюремная «аристократия» —
каторжане, бродяги, лишенцы — занимали лучшие места на
нарах; из них выбирались старосты. Шпана, т. е. высылаемые за
1 Оси некий Валериан Андреевич был одним из основателей «Земли н воли»
Главная деятельность Осииского выразилась в организации ряда террористических
актов. 24 января 1379 года он был арестован и присужден к смертной казни, хотя
против него не было серьезных улик. Он был осужден только то, что
во время ареста прикоснулся к кобуре револьвера, не вынув даже его.
116
бесписьменность и пр., валялась под нарами и назначалась
убирать помещение, выносить параши. Духота и вонь
нестерпимые, паразита всех видов—все это терзало душу и звало к
мщению.
Первую ночь в этом аду я не мог заснуть и все думал,
что это действительно ад и что такого издевательства над
человеческой личностью не мог придумать и сам чорт. Описать эти
ужасы нет никакой возможности. Впоследствии видел я много
сотен тюрем, но того, что творилось на Коломажном дворе, я
более не видал. К счастью моему и многих других, этап на
Смоленск отправлялся через день, так что мне пришлось перейти
в другое помещение и занять место на нарах; но спать и тут
кие не удалось. Меня предупредили, что если я засну, то
меня накроют, ограбят, а то и удушат. Такие вещи проделы-
вались почти каждую ночь. Поэтому высыпаться приходилось
днем во дворе: присядешь и вздремнешь. Для проверки утром
и вечером выстраивали во дворе шеренги и пересчитывали. Пищу
для арестантов и хлеб получали старосты и уборщики камер.
Спустя сорок с лишком лет я пишу эти строки, и меня мороз
по коже подирает, до того все это было противно.
Лишь молодость и вера в наше дело все превозмогли.
Настал день отправки в Смоленск. Выстроили нас во дворе,
сделали перекличку, и начался обыск. Каждый новый этап
обыкновенно сопровождался обыском. Отбирали все: табак, спички,
деньги, т. е. все, что им казалось подозрительным.
Повели нас на Брестский вокзал, и распрощался я с Коломаж-
ным двором и с Казаковым. Здесь та же процедура, что и на
Николаевском вокзале. Разница лишь в том, что тут меня никто
у#с не провожал и шел я один среди уголовщины. Смоленский
конвой считался самым строгим:. Нас не расковали вплоть до
ночи, и только ночью мы могли свободно двигаться и кое-что
перекусить. На каждой большой станции была та же приемка
новых арестантов и высаживание старых. В Смоленске всех
высадили, заковали и повели в тюрьму. В тюрьме пересыльных
посадили в одну камеру, каторжан и бродяг — в другую. В
Смоленске пришлось мне посидеть две с половиной недели.
Наконец пришло предписание выслать меня на родину, в деревню
Сычевки, под гласный надзор полиции, с воспрещением выдачи
документов в течение трех лет. Меня отправили обратно в Гжатск,
а из Гжатска в Сычевки пешим этапом. В Гжатске просидел
я неделю. На Сычевках собралась партия человек семь. Нас
заковали в наручни, рука с рукой, а посредине протянули между
кольцами железный прут таким образом, что все семь человек
оказались скованными (например, если одному требовалось
оправиться, то вся партия шла за ним).
От Гжатска до Сычевок шестьдесят верст; шли мы три дня.
Расковывали нас только для еды, т. е. вынимали прут, и мы
по паре могли двигаться. В Сычевках нас привели в полицию.
Переночевали в полицейском, а на другой день отправили
каждого в свой стан, к становому приставу.
117
В стане нам пришлось ждать станового, который изволил где-то
гулять. Я не дождался, ушел.
Итак, я снова на воле и без конвоя пришел в свою
деревню. Деньги у меня были. Дома я никого не застал. Первое
время пришлось быть у родственников. Отец мой работал
плотником в соседнем имении, в селе Голицыне, в верстах двадцати
пяти от нашей деревни. Разыскав отца, я просил его принять
меня на работу по плотницкому (ремеслу. Отец отказал. Пришлось
мне слоняться без дела до начала сенокоса. Настал сенокос—
работы было по горло. Работал у родственников и у себя. Время
летело быстро. После сенокоса началась уборка хлеба. К этому
времени приехала жена из Питера, привезла с собой новости:
рассказала, как оправдали Веру Ивановну Засулич, как прошла
демонстрация, как жандармы хотели арестовать В. И. Засулич
и убили одного из студентов. Когда я услышал все это, во
мне загорелась я:ажда мести и борьбы.
Вскоре я жену снова дроводил в Питер, а сам стал
собираться к побегу.
В августе 1878 года дошел слух, чта убит Мезенцев1,
которому я носил письма. Значит, одного негодяя убрали. Теперь
очередь за другими. О своем побеге я сказал только одному
человеку, дальнему родственнику, который помогал выручать
арестованных после казанской демонстрации. Я просил его
писать в случае переполоха после моей отлучки. Уехал, рассчитывая,
что документ достану.
В Питере, только я вышел с вокзала, мне бросились в глаза
вооруженные патрули на всех углах и перекрестках. Питер
казался в осадном положении. Быстрыми шагами направился я за
Нарвскую заставу, где было все тихо: ни обысков, ни арестов
!не было. В первое же свидание с товарищами-рабочими они
преподнесли мне маленький листок, в котором описывались наши
проводы на Николаевском вокзале, отношение рабочих к этим
проводам. (Здесь я должен пояснить, что в то время у меня не
было фамилии и звали меня просто Петром Анисимовым. Это
отчество служило мне также и фамилией.) Рабочие всюду
встречали меня с радостью. Никто из них не заикнулся, есть ли
у меня документ на прожитие. На другой день меня познакомили
с новой литературой, свели к Виноградову, студенту Технолог
гического института, и Благовещенскому, которым я объяснил свое
положение. На этом совещании решили, что я должен взять
свою жену с фабрики, нанять квартиру и обставить ее наиболее
конспиративно. Документ мне обещали приготовить. Я стал
агитировать среди рабочих за Нарвской заставой и на
Ново-бумагопрядильной фабрике, создавать кружки, тройки и пятерки. Дело
* 3 августа 1878 года в Петербурге, на улице, среди дпя был убит кинжалом шеф
жапдармов Мезенцев. Он был убит за то, что настоял на отмене ходатайства суда
о смягчении приговора по процессу «193», был виновен в избиении заключенных
в Петропавловской крепости и утверждении смертного приговора над Ковальским.
Убийство было совершено С. М. Кравчинекий при участии Адриана Михайлова,
А. Бараниикбва и др. Bje участвовавшие в убийство скрылись^
118
шло успешно. Сильное впечатление на рабочих производило
стихотворение по поводу убийства Мезенцева, а также летучие листки
и чтение легальных и нелегальных брошюр.
Виноградов задумал познакомить меня с бывшим народным
учителем Потехиным. Жил он в Коломне, недалеко от
Михайловской церкви. Мы застали его дома. Он засуетился с закуской
и чаем, и мне сразу, бросилось в глаза, что это не наш; инстинкт
подсказывал, что это шпион. Он обещал достать денег и все
устроить нам. Выйдя от него, я высказал свое подозрение, но
Виноградов не придал этому никакого значения, говоря, что это
не социалист, а либерал и т. д. Ну, ладно, пусть будет по-
вашему. Я стал ходить к нему и как-то раз' предложил ему,
как учителю, заняться обучением воспитанницы и брата, на что
он согласился. Привел его к себе, познакомил со своей семьей, й
мы порешили, что он будет три раза в неделю по вечерам
заниматься. Потехин, видя, что я его использую только как учителя,
не больше, дал мне адрес на Загородный проспект к некоему
Федоровичу, который должен был дать средства на наем квартиры
и т.п. Федорович встретил меня с распростертыми объятиями:
угостил завтраком, показал некоторые нелегальные брошюры,
обещал все устроить и говорил, что деньги найдутся; расспрашивал
также о кружках, о рабочих и пр. Я на все это отвечал неохотно.
Вдруг Федорович залвляет, что желательно было бы объединиться
с типографией народников, но он никого не знает, я на это
ответил ему тоже незнанием. Я поведал свои подозрения насчет
шпионства Федоровича. Мы решили проверить. До моего
знакомства с Федоровичем им уж был пристроен паренек,
приехавший из Москвы, которого мы решили призвать и расспросить.
Оказалось, что Федорович выпытывал обо всем, старался узнавать
адреса и т. д. После этого не было никакого сомнения, что
мы попали к шпионам. Оставалось только собрать более веские
улики.
Придя к Федоровичу во второй раз, я был настороже,
разговор велся на тему о квартире и будущей организации. Денег
на первый раз для найма квартиры я получил 37 рублей; на
обстановку было обещано отдельно.
Мне приходилось ночевать в разных местах. Последнее мое
свидание с Федоровичем было в конце 1878 года. На вопрос,
где моя квартира, я ответил, что в Измайловском полку, 10-я рота,
№ такой-то. Выйдя от Федоровича, я заметил, что за мной,
не отставая, идут два шпиона. Я выскочил на Обводный канал,
забежал во двор трактира и прямо в уборную. Только что успел
затворить дверь, слышу—бегут, говорят что здесь, и бросаются
в верхнее этажи. Я воспользовался этим- и удрал.
Ночевать мне пришлось на одной из Рождественских улиц,
вблизи участка, у одного художника. У Нарвской заставы была
квартдра, которую всеми силами старались сохранить, так как
она служила нам сборным пунктом. Жить там мне
пришлось временно.
119
2. Стачка на Ново-бумагопрядильной фабрике
в 1879 году
Тем временем на Ново-бумагопрядильной фабрике назревала
забастовка. Приходилось агитировать за Нарвской и в Екатерин-
гофе1, собирать сведения о ходе работы в них. За Нарвской
и на Ново-бумагопрядильной товарищи были дружно настроены;
на других же фабриках было слабовато, например на Выборгскую
рассчитывать совсем нельзя было. Поэтому все внимание мы
сосредоточили на Новой Канаве2, за Нарвской и в Екатерингофе.
Было условлено, что, как только начнется на Новой Канаве,
сейчас же дать знать за Нарвскуто.
В назначенный день мне пришлось опять поступить на
фабрику для агитации и с обеда объявить забастовку. На этот раз
рабочие-ткачи, а также прядильщики были более уверены в
правоте своего дела. Забастовка началась очень дружно. За
Нарвской стоило мне только остановиться против фабрики, как рабочие
меня поняли, и началось движение. Вышел конторщик и сообщил
мне, что фабрика забастовала. Собрались 'мщ в одной из артелей
ткачей, где и наметили план требований. Эти требования были
предъявлены конторе; мы же, более сознательные рабочие,
собрались на квартире моей жены и обсудили дальнейший ход
забастовки. Вое это время с нами находился т. Виноградов,
молодой, энергичный. Он почти день и ночь работал. Решили
напечатать воззвание ко всем рабочим Питера. Поручили это дело
Виноградову. Он обещал. Я с т. Штрипаном отправились на
Екатерингофскую и там решили, чтобы ткачи из Нарвской
избрали делегацию к ткачам на Новой Канаве и выступили с
приветствием и призывом к общей поддержке. Все было
подготовлено. На ночлег пошел на Новую Канаву; там мне передали,
что приходили товарищи-интеллигенты и обещали зайти завтра.
На другой день, с утра, стали приходить рабочие, сообщавшие
о ходе событий. От них я узнал, что во дворе участка стоят
конные жандармы, что народ уже собирался, после чего разбился
на группы; некоторые из ткачей пошли по трактирам высматривать
шпиков, и были случаи выпроваживания последних из трактиров.
Ткачи вели себя образцово; порядок нигде не был нарушен;
пьянство не допускалось; чувствовалось, что рабочие уже
многому научились. Пропаганда велась усиленно. Сами рабочие
требовали опубликовать в газетах и выпустить листки о стачке.
Часам к двенадцати дня пришла делегация из-за Нарвской
заставы. Открыли общее собрание. Говорили Виноградов, я и др.
На собрании было решено: все рабочие должны дружно
поддерживать друг друга и ни на какие уступки не итти без общего
на то согласия. Когда на собрание пожаловала полиция, ее
попросили убраться, мотивируя тем, что беспорядков среди нас
1 Имеется в виду Екатерингофск^я мануфактура.
2 Обводный капал, где находилась Ново бумагопрядильная, рабочими назывался
«Новой Канавой».
120
не наблюдалось, а если полиция заметит кого-либо, нарушающего
порядок, пусть объявит о том нам, и мы сами сумеем наказать.
Так закончилось дневное собрание.
На вечернем собрании я предложил с Ново-бумагопрядильной:
пойти за Нарвскую и в Екатерингоф, предупредив, чтобы
обычной дорогой не ходили, а шли около Московской заставы, через
Митрофановское кладбище, так как знал по опыту, что шпики
увяжутся по пятам и будут следить, в глухую же местность
они не рискнут итти. Мои предположения оправдались: шпики
и жандармы гонялись за нами, но никак не могли узнать, где мы.
В этот вечер пришли к нам Халтурин с Обнорским. Собрались
все в артели, выделили двух товарищей—Абраменкова и
другого (фамилии его не помню)—и послали за Нарвскую заставу, где
они должны были оповестить тамошних рабочих о забастовке,
обещав назавтра выпустить летучку. Я говорил, что мы
подвергаемся риску, так как у нас нет никакого оружия. В ответ
на мои слова Халтурин достал свой кинжал, подал его мне,
а для других обещал достать финские ножи. За Нарвскую они
не пожелали итти; тогда направились Виноградов и я. Там
мы при многолюдном! стечении рабочих провели собрание, после
окончания которого пошли в деревню Волынку, на Екатерин-
гофскую фабрику.
У ворот фабрики стояло много онароду. Первый начал говорить
Виноградов. Говорил он о том, что на Новой Канаве рабочие
требуют прибавки заработной платы, уничтожения штрафов и
вычетов за прогулы и т. п. После Виноградова произнес речь я. В своей
речи я пояснил значение общего движения рабочих; говорил, как
нужно поддерживать друг друга, и т. д. Собравшиеся слушали
внимательно до тех пор, пока не подошел полицейский и крикнул:
«Что за собрание? 'Расходись!» Мало-по-малу слушатели стали
расходиться, а мы со своей группой направились к фабрике Шау.
Вскоре мы увидели, что за нами бежит кучка людей с криками:
«Студенты! Бунтовщики!» Опасаясь свалки и,побоища, мы с
Виноградовым: посоветовали своим уходить поскорее. Кучка
черносотенников была уже близко, кричала одно: «Бей студентов!»
Я остановился, вынул кинжал из ножен—клинок блеснул в
воздухе и сразу остановил толпу, мигом поворотившую назад, —а
сам бросился бежать.
Назавтра фабрика Шау забастовала, за ней и Екатерингофская.
Жандармы целым эскадроном ездили, разыскивая собрания, по,
не найдя, уехали обратно на Новую Канаву. На следующий день
была готова летучка. Надо было распространить и ночью
расклеить. Весь день я бегал, так что поесть даже было некогда.
Да вообще за все это время есть приходилось где придется..
Вечером в этот день решили собраться на квартире моей жены,
так как более удобного места не находилось, да и дело показывало,
что это последнее собрание в районе Нарвской заставы. Мы ясно
видели, как бесновались полиция и жандармы. На собрание
Виноградов привел и Потехина. На этом собрании наметили
дальнейший ход работы. Решили подать прошение градоначальнику,
121
потому что рабочие, в особенности новоканавские, горели
нетерпением: довести дело до конца. Они не учитывали, что прошение
ничего не даст. Но в то время трудно было вразумить массу, что
градоначальник—друг фабриканта, а не рабочих и т. д.
Насколько это было возможно, мы сдерживали рабочих и вели
политику выдержки, но, видя, как рвется рабочий, мы сами
заражались энтузиазмом и волей-неволей становились на ряду со всеми.
В этот день собрались все на пустопорожнем месте в ожидании
объявления администрации фабрики. Наши лазутчики, т. е. дети,
доносили нам, что во дворе участка стоит много жандармов.
Порешили к завтрашнему дню еще раз вывесигь свои требования.
Из-за Нарвской заставы поступили сведения, что там некоторые
семейные ткачи нуждаются в помощи. Мы сделали сбор, но наша
помощь была недостаточной. Пошел к студентам и курсисткам
позондировать почву—нельзя ли помочь нуждающимся, так как
при таких условиях продолжать забастовку немыслимо.
Встретившись с Софьей Перовской, я рассказал ей все, что мне как
нелегальному в районе забастовок ночевать нельзя, что надо где-
нибудь устроиться на эту ночь. Она предложила мне свою
комнату. Что касается сбора денег, то пообещала их достать. Так
прошел вечер. Набегался, устал, а в одиннадцать часов вечера
отправился к Перовской и застал еще трех курсисток. Взяли
они Соню с собой, предоставив мне постель и подушку. Скоро
я уснул сном праведника. Рано утром я проснулся, позвал
хозяйку и сказал, что ухожу.
Полиция все же сумела спровоцировать рабочих, явившись на
собрание целой оравой с предложением итти к приставу
поговорить. Рабочие двинулись всей массой за полицейским и, дойдя
до Обводного канала, с криком «ура» бросились за канал.
Собравшись на другой стороне Обводного канала, решили уйти всей
массой на Гороховую, к градоначальнику. В это время шпики
на извозчиках проехали мимо рабочих. Рабочие освистали их.
Лишь только вышли на Фонтанку, откуда-то взялся эскадрон
конных жандармов, которые начали хватать за шиворот всякого,
кто подвертывался под руку. Я избавился от такого удовольствия,
так как вскоре перебежал на набережную, и как посторонний
начал наблюдать. Человек пятьдесят захватили и погнали в
Московскую часть. Я, Абраменков и некоторые товарищи отправились
в Коломну к Потехину, чтобы написать прошение о насилии
жандармов и назавтра же подать градоначальнику. Послали
сказать за Нарвскую, чтобы оттуда пришли рабочие. Пока писали
и обсуждали, Потехин послал за закуской и водкой. Выпили,
закусили честь-честыо, вооружились ножами, протест вручили
Коняеву и стали расходиться по-двое и в одиночку; при выходе
переодетые жандармы хватали нас и отводили в Коломенскую
часть, где уже были приготовлепы камеры.
Арестованных было одиннадцать человек, из них двое
малолетних (мой брат и брат Штрипана). В эту же ночь обыскали квартиру
моей жены, ко ее оставили. При apeiCTe я назвал себя Осипом
Ивановым, уроженцем Владимирской губернии, Покровского уезда;
122
но когда арестовали брата и свели нас на очнук> ставку, то
произошел скандал.
Спрашивают братишку:
— Это ваш брат?
Тот отвечает:
— Да.
Я крикнул на братишку:
— Что ты врешь, кто тебя научил врать? Я не брат тебе.
Тогда братишка говорит:
— Нет, это не брат.
Пристав затопал ногами и начал кричать на меня, на что
я тоже крикнул ему:
— Меня не испугаешь, я не ребенок!
Жандармский ротмистр приказал приставу замолчать.
Братишку увели, а вслед за ним и меня.
Вот начало нашего ареста.
По дороге в часть я выбросил кинжал на землю. Я уже знал,
кто здесь сидит. Братишек наших посадили в уголовную камеру,
а с Ьими и еще кое-кого из рабочих. На другой день меня
посадили в темный карцер. Ну, думаю, начинается. Сижу день и ночь.
Нащупал в печи ко-ваный большой гвоздь. Задумал вызвать
смотрителя и, если тот откажется перевести меня в камеру,
улучить минуту и всадить ему гвоздь в глаз. Барабаню в дверь как
можно сильнее. Приходит надзиратель.
— Прошу вызвать ко мне смотрителя по очень важному делу,—
говорю я.
Через полчаса приходит смотритель с двумя надзирателями.
Спрашиваю, за что они посадили меня в карцер. Смотритель
объясняет, что камера была нужна для одного очень важного
арестанта, к тому же женщины; сейчас ее уводят, и я смогу
занять свою камеру. На вопрос смотрителя, почему отказываюсь
от своего настоящего имени—все равно меня уличат не только
брат, но и все мои товарищи,—я ответил:
— Я знаю сам, что делаю. Вы не жандарм и не следователь,
и вам безразлично, как бы я 'ни назывался. Вы вот скорее
переведите меня, это будет лучше.
Смотритель приказал сейчас же приготовить камеру и
перевести меня. Через полчаса перевели меня на прежнее место,
и жизнь потекла монотонно и однообразно, сегодня, как вчера.
Режим в Коломенской части был убийственный: книг никаких,
даже евангелия нельзя было добиться; свидания с родственниками
не давали; прогулки, хотя бы на пять минут, не разрешались.
После допроса наших братишек освободили. Начали допрашивать
нас. Допрапщвали в Третьем отделении, туда возили нас в
каретах. Мы все отказывались друг от друга, что знать не зпаем,
ведать но ведаем.
Однажды меня повезли в одной карете с Виноградовым, только
тогда я узнал, что он арестован. Где он сидел, в какой части—
не знаю. Свели нас на очную ставку, на которой мы конечно
отказались друг от друга. Тогда жандармский полковник заставил
Ш
меня писать протокол под его диктовку. Теперь я пишу неважно,
тогда же писал совсем плохо, чем вызвал недовольство полковника.
Так меня возили несколько раз, пока не убедились, что от меня
ничего не добьешься. В протоколе обозначено два имени: Петр
Анисимов, он же Осип Иванов.
Сидим месяц, другой, третий—ничего не слышно. С
товарищами разговариваю через форточки, выходящие во двор, или
перестукиваюсь. Перестукиваться нас научил Лука Иванович Абра-
менков. Но этого было мало. Стали мы нервничать, требовать бани,
прогулки и т. д. На наши требования—нуль внимания; только
одного меня свели в ванну при малолетней тюрьме тут же, в
Коломенской части. Мы со Штрипаном задумали писать кто что
может, но у йа£ не было ни бумаги, ни карандаша. Ухитрились
спичкой писать на стене; потом утилизировать свинцовую обертку
от чая. Так нами было написано стихотворение «Ткачи». Первую
половину написал Штрипан, вторую я. Привожу полностью оба
стихотворения, так как они нигде не были напечатаны.
Ткачи
С утра до почи в заботе —
Мы на фабрике в работе
Чисто как в аду,
Как пришел — иальтишко скинул,
Взял крючок, согнувши спину,
Целый день в ходу.
Чорт с вен, за год рубль награды.
Давай и мы,
А и то ведь, братцы, дело:
Ну-ка дружно все да смело
Крикните «сУра!»
Тут все разом закричали,
Шибко вертится станок;
Вдруг туту... летит челнок
И ударит в бок.
В краю нитка порвалась,
И корзина наплелась,~
Ткач остановил.
Отвернул набор рукою,
Взял щипцы, полил водою,
Голову склонил.
Он таскал нитку за ниткой,
Тут ему с соседней кидкн
В спину челноком.
Он назад тут обернулся,
Шибко, крепко он ругнулся,
Грозил кулаком.
Взял щипцы, на место втор иуд,
И ногой назад надернул,
II станок пустил.
На другой оборотился
И за ручку ухватился,
Плюнул на станок.
Там корзина пребольшая,
Да широкая такая —
Задаром кусок.
Тут станки оба на якорь —
Ш
Чуть с досады не заплакал
И в заход пошел.
Там полным-полно народу;
Говорят, с нового года
Вздорожит вино.
Об вине, братцы, не дело,
Надо взяться нам ва дело —
Плохо нам жатье.
Всякий ткач про это знает,
Как хозяин обпрает
Всех нас дочиста.
На Канаве забастовка —
От хозяина прибавки
Требуют ткачи.
И нам то лее, братцы, надо,
Вон из фабрики бежали:
Стачка и у нас.
Вот за это толсе дело,
Что стакнулись дружно, смело,
Нас в тюрьму сажать.
Нас жандармы забирали,
По тюрьмам всех разогнали,
Всех по одному.
И доирашипали нас:
«Кто зачинщик был у вас?
Что за человек?»
Мы жандармам отвечали:
Мы зачинщика не знаем —
Все мы таковы.
Нам зачинщика не надо:
Наш хозяин — обирало,
Всему он виной,
Обирает нас кругом,
Не кнутом бьет, а рублем,
Все пишет штрафы.
Вот за эти-то штрафы
И стакнулися-то мы,
Чтобы не писал,
Чтоб прибавил за работу.
В ночь под праздник не работать —
Не по силе нам.
С восьми вечера ты станешь,
До восьми утра прядешь —
Тут-то каково?
В голове тут закружится,
И в глазах уже помутнится.
Ходишь, как глумной.
А машина все вертится,
И в руках уж не спорится,
И присесть нельзя.
На окно если присел,
То полтинник, глядишь, съел:
Штрафуют тебя.
AS да славно песня вышла
Про житье-бытье фабрично,—
То-то молодцы.
1879 год, Штрипан, Моиозенко
Вторая песня
Я хочу вам рассказать,
Как нас стали обирать
Дармоеды-к лаки,
Полицейские крючки.
А министры да цари
На нас смотрят издали—■
Указ повый написали,
Чтобы чище обирали,
Попы пьяные орали,
Народ бодный надунали.
Царь нага батюшка-с пасите ль,
Нашей шапки предводитель,
Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь.
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабтл,
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу.
Кто осмелится сказать —
Велит вешать и стрелять.
1879 год, Моисеенко
Писали мы эти стихи как раз после покушения Соловьева.
За эти писания нам доставалось: нас оставляли без кипятку,
отбирали евангелие, бумагу всякую. Нам ничего не оставалось
больше делать, как чертить на стенах. Со стен однако
соскабливали.
Я стал задумываться, как вырваться отсюда, хотя бы в дом
предварительного заключения. Товарищ мой, Штрипан, заболел
кровавым поносом. Я потребовал смотрителя и заявил ему, чтобы
больного отправили в больницу. Смотритель ответил, что в
больницах нет мест, когда будет—его отправят.
Вечером я вызываю всех товарищей к форточкам и говорю им,
как быть нам дальше, что так прбдолжаться не может; мы с сноей
стороны должны сделать вое, что в наших силах и что возможно,
а возможцо нам только одно: объявить голодовку, не принимать
пищи до тех пор, пока не удовлетворят наших требований,
другого оружия у нас нет. «Вы помните и знаете, как сделали наши
товарищи в Харькове, в ново-белгородской тюрьме; вы читали!
брошюру «Заживо погребенные»г — так помните, что у нас есть
только одно оружие, к которому мы должны прибегнуть. Не
все ли равно, где погибать и когда? Штрипан сегодня, завтра
Лука, и всех нас заморят поодиночке. Нет, умирать—так умирать
всем. Помните русскую поговорку—«на миру и смерть красна»?
Так вот, товарищи, дайте мне ответ».
Лука Абраменков меня поддержал, и мы решили со следующего
дня не придимать пищи и выполнить это свято. Назавтра мы
почти не разговаривали, все были заняты своими думами. Пришло
1 «Заживэ погребенные» — протест, написанный в 1878 году революционером
Долгушиным о г имени заключенных в ново-белгородской центральной каторжной
тюрьме. Протест этот был нелегально отпечатан и распространялся.— Ред.
126 }
время обеда. Надзиратели принесли обед и хлеба.
Прислушиваюсь—ничего не слышно; только хлопали дверьми. Думаю:
неужели изменили? Доходит очередь до меня (я сидел самым
последним). Входит надзиратель с чашкой щей, ставит на стол.
Я беру паек хлеба и бросаю в чашку со словами: «Возьми обратно,
я пищи принимать не буду!» Кричу это громко, так, чтобы
товарищи слышали. Надзиратель опешил, стоит и не знает, что
делать. Тогда я кричу надзирателю еще раз: «Возьми чашку
и неси смотрителю и скажи ему, что мы пищи принимать не
будем!» Надзиратель берет чашку с хлебом и уходит, а я кричу
товарищам, чтобы никто из них не смел прикасаться к пище.
Слышу шум по коридору. Идут прямо к моей камере. Я стал
у стола. Подходит помощник смотрителя к вюлчку. Я беру в руку
табуретку и думаю, если станет забирать, буду сопротивляться,
но помощник только полаялся у волчка и ушел. Вечером пришел
смотритель. Видя, что я лежу, грубо обратился со словами:
— Подохнете, никто и знать не будет; мы умеем с вами
справляться. — И удалился.
На другой день я посоветовал товарищам не вставать и не
растрачивать напрасно сил, потребовать прокурора и инспектора
врачебного отдела, потому что у нас у всех и до этого уже
развивался скорбут.
Перед обедом этого дня смотритель обошел всех и уговаривал
бросить голодать и не слушать «зверька», как он меня называл.
Но на это ему заявили, что до тех пор не примут нищи, дока
больных не отправят в больницу и пока не приедет прокурор
и инспектор. Так и пришлось 'ему уйти, ничего не добившись.
В этот день ко мне пришла воспитанница. Я увидел ее во дворе
и крикнул, чтобы она сказала всем', что мы голодаем и не
.принимаем пищи. Принесенные ею продукты я хотел отослать обратно,
но надзиратель сказал, что она уже ушла. Принявши все, я
уложил на окно, но ни к чему не притронулся. Перед вечером
слышу какое-то движение. Оказалось, что снизу, т. е. с нижнего
этажа, увезли товарища интеллигента и Луку Абраменкова.
Потом, слышу, вызвали и Штрипана; значит, началось очищение.
Вечером посетил меня смотритель. Он был очень ласковым. Начал
объяснять, что вот, мол, как только стала возможность, сейчас же
отправил в больницу, что ему пришлось изъездить все
тюремные больницы и везде полно, что напрасно мы затеяли голодовку,
и просил бросить все это и пожалеть его, так как он человек
семейный и т. п. Некоторые товарищи поддались его увещаниям и на*
чали принимать пищу, но я и еще некоторые, более твердые,
продолжали голодать.
Это был уже четвертый день. На пятый день перед вечером
посетил нас прокурор, а потом инспектор. Прокурору мы изложили
все, и я заявил категорически, что скорее умру, чем перенесу
такие пытки, и если мы виноваты, то пусть судят, но не
издеваются над нами. На это прокурор ответил одно: мы находимся
за жандармским управлением, а не за окружным судом, но он
постарается, чтобы нас перевели отсюда. Инспектор осмотрел
127
всех нас и нашел, что такое бесчеловечное отношение довело,
до того, что у всех заключенных образовались язвы на теле
и выпадают зубы. Смотритель мог только ответить, что этот
взят с кинжалом. Инспектор зло засмеялся и сказал, что он не
прокурор и не жандарм, следствия не производит, а изнурять
людей до такой степени непозволительно, и он обязан доложить
обо всем куда следует. Посоветовал нам принимать пищу
понемногу, зараз не налегать, а то будет плохо, и обещал завтра
же перевести.
Так закончилась наша голодовка, продолжавшаяся пять дней.
Вечером прицесли нам кипяток, и мы вкусили то, что могли,
а назавтра действительно нас всех отправили в предварилку. При
отправке не оказалось моей шапки (а шапка была бобровая,
Потехина), и мне дали каракулевую. Ну, думаю, чорг с вами.
Сели зимой, а теперь лето, хорошо и так. В канцелярии
предварилки спрашивают, собирались ли мы в Америку. На наш
вопрос, откуда они узнали, нам ответили, что смотритель
Коломенской части пишет об этом. Вскоре меня водворили в камеру.
Осматриваюсь. Прежде всего заметил надписи своих
предшественников. Сколько их тут перебывало!
Обстановка камеры следующая: стол железный и табурет
привинчены к стене, кровать с матрацем и подушкой тоже
привинчены к стене; на стене полочка железная, стоит на ней оловянная
кружка и металлические миска и тарелка; окно высоко, под
окном раковина для умывания; в углу параша; дверь оковала
железом; в двери форточка для додачи пищи, в верхней части
волчок, или глазок, как его называют; потолок сводом; пол
цементный, — словом, склеп для мертвеца, поглядеть некуда. В окно
видна часть неба, и только. Впечатление очень неприятное.
В определенные часы открывается форточка, подают кипяток, а
вечером—ужин. Свет гасится в десять часов.
Назавтра пришел тюремный врач, осмотрел меня, ничего не
сказал и ушел. Я вызвал надзирателя и попросил у него книг.
Надзиратель объяснил мне, что книги из библиотеки разносит
один раз в день Особый надзиратель и что скоро он будет разносить.
Первая книга, которую мне принесли из библиотеки, была
«Путешествие от Питера до Москвы» Радищева'. Я не знаю, как
выразить то чувство, которое возбудила во мне эта1 книга. Я
плакал, злился, возмущался. Ведь я хорошо помню крепостное право
и сам был бит барином, хотя; тогда мне и было не более пяти лет.
Эта книга всколыхнула во мне всю горечь и ненависть против
помещиков.
Меня перевели в больницу, тоже в одиночную камеру, но
белье и посуда,были там чище. Интересный случай произошел
со мной в больнице. Тюремный врач был в отпуску; его заменял
другой врач, пожилой, с проседью. Во время обхода камер он
вежливо спрдсил, как моя фамилия. Я сказал. Тогда он потихоньку
дернул меня за рукав и шепнул: «Молодец!» Затем он приказал
фельдшеру выписать мне усиленную порцию кислой капусты,
храна, яиц, молока, белого хлеба1 и даже водки два раза в день
128
по унцию (когда узнал, что я пыо ее) и лимон для натирания
десен. Вот таким образом началась моя жизнь в предварилке.
Скоро я ознакомился с тамошними порядками и усиленно
занялся чтением. С этого-то времени и началось мое умственное
развитие.
Кончался 1879 год. Я знал, что нас, политических, в
предварилке 156 человек. Со многими я переговаривался и даже
встретил на прогулке Виноградова'. На прогулку нас пускали
каждый день на полчаса. Для прогулки был устроен во дворе
огромный круг. Посредине круга возвышалась площадка, на
которой находился надзиратель и смотрел за гуляющими. Круг
был разбит на четырнадцать клеток. В каждую- клетку впускали
по одному и строго следили, чтобы гуляющие не
переговаривались между собой. Только и можно было видеть людей на
прогулке и в церкви, в которую водили тоже поодиночке (в
одиночную нишу с решетчатым окном в зале храма). Видишь, когда
уходят и приходят. Для этого только и ходили в церковь.
Ванна или баня была один раз в две недели. Продукты
выписывались особым надзирателем для тех, у которых были деньги
в конторе. Выписывали все, вплоть до водки, по разрешению врача.
В общей камере сидело политических человек шпъ-семь.
Свиданье давали тоже через нишу в одиночку.
В тюрьме, начиная с 1880 года, я много читал. Прочел «Историю
России» Соловьева; Костомарова, Толстого «Войну и мир»,
историю крестьянского движения 1525 года и много других книг.
Потом перешел на журналы: «Вестник Европы»1,
«Отечественные записки»2 и др.
В одном из номеров «Вестника Европы» попалась мне
драматическая хроника «Стенька1 Разин» Кавроцкого. Прочитав перь
вый раз, я был вне себя. Меня поразило, как это так нагло
обманывают народ, выставляя Разина преданным анафеме разбойником
за то, что он был мстителем за поруганную честь народную,
за то, что боролся за вольную волюшку, звал народ сбросить
вековые цепи рабства и желал только освободить народ из-под
ига боярского. Приходилось удивляться силе воли этого человека.
Кто 1мог вытерпеть такие пытки? Степан Тимофеевич Разин.
Верно сказал С. Т. Разин, что волю-мать искоренить нельзя;
гонимая, забитая, повсюду она в душах поруганных таилась
и все ждала и дождалась кровавого расчета за былое. Я бредил
этим произведением не только в предварилке, но и в ссылке
и на воле. Даже сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки,
при воспоминании об этом произведении я чувствую в себе прилив
энергии, молодости и силы. Желающие поближе познакомиться
1 «Вестник Европы» — либеральный журнал, основанный в 1866 году; издавался до
1918 года. — Ред.
2 «Отечественные ваписки» основаны в 1818 году П. П. Свиньиным. В 1838 году
перешли к Краевскому, который привлек к участию в них Белинского. В 1868 году
становятся органом народничества под руководством Некрасова. Михайловского
и Салтыкова-Щедрина и оказывают громадное влияние на революдионнуго русскую
интеллигенцию. В 1884 году закрыты правительством. — Ред.
9 Рабочее движение в России.
129
о этим произведением могут найти его в «Вестнике Европы»,
издание Стасюлевича.
Я должен вернуться к своей одиночной жизни; несмотря на то,
что это было так давно, все же такие дела не проходят
бесследно.
В феврале 1880 года мы все были опечалены неудавшимся
взрывом в Зимнем! дворце. Весть эта распространилась с
невероятной быстротой. Вое передавали друг другу эту новость.
Шли разные предположения: говорили, что взрыв был удачен,
но царь задержался в других половинах дворца, а поэтому и не
лопал и т. д. Это событие долгое время нас занимало. Тюремная
администрация реагировала на это по-своему. К нам,
политическим, стал применяться более суровый режим. Такое отношение
служило нам барометром, указывало, что на воле ничего хорошего
для нас не случилось, а наоборот. Сидим второй год и не знаем,
когда будут нас судить. Жена ходила ко мне каждую неделю
и тоже томилась неизвестностью.
Наконец в июне, в один прекрасный день, приходит надзиратель
и заявляет: «Собирайте ваши вещи». Для чего — не объясняет,
ведет на второй этаж. По дороге я увидел своих
товарищей-рабочих—их куда-то вели. Меня посадили в камеру. Ну, Думаю,
это что-то не так: или выпустят или отправят куда-либо. В ксь
ридоре тихо, ни звука. Стучу, никто, не отзывается. Из окна;
вижу—на прогулке ходят товарищи.
Расспрашиваю, что сей сон означает. Мне отвечают: наверное,
высылают куда-либо. Я говорю, что сегодня как раз была жена
на свидании и мне ничего не сказала,
— Ну и что ж!е, и никогда] не скажут, у ;них свсня
политика: просто-напросто пошлют —и дело с концом.
Разговаривая так, я услышал шаги по коридору. Спрыгнул
с окна, сел на табуретку. Вдруг слышу—кого-то вызывают;
потом, немного погодя, отворяется дверь, и надзиратель спра-
пщвает, как фамилия. Я отвечаю: «Анцсимов».—«Одевайтесь,
забирайте свои вещи, в канцелярию». В канцелярии подают бумагу
,со словами: «Распишитесь, что вы не убежите из ссылки, и
сдайте казенные вещи». Снимаю коты, бушлат, получай) своп
вещи и одеваюсь. Появляются два жандарма, получают бумаги
и приглашают следовать за ними. У< дверей — черная карета.
Ну, думаю, в Петропавловскую. Уселись и поехали. Со
Шпалерной свернули на Знаменскую; думаю, значит на вокзал. Так
оно и вышло. Приехали на Николаевский вокзал, подкатили к
дебаркадеру. Поезд стоял на пути, но странно, не видать было
арестантских вагонов. Жандармы взяли наши вещи и
пригласили следовать за ни^и. Ввели нас в вагон. В вагоне уже
были мои товарищи: Лука Абраменков, Онуфрий и Гараська.
Лука был привезен из Литовского замка, а мы трое из
предварилки. Все мы подписывали бумаги, и никто не спросил, куда
(отправляют. Жандармы тоже не говорят,—молчат, как мумии.
Поговорили, посоветовались, стали закусывать. Поезд уже мчался
по Ндколаевской дороге. В вагоне, кроме! Haci й; жандармов, ни-
130
кого не было. Наконец нам жандармы сказали, что Онуфрия
и Гараську на Москву, а меня и Луку в Тверь. Я тогда
ничего не знал. Спрашиваю Луку, почему в Тверь. Лука кое-
что слышал, но тоже верного ничего не знает и говорит, что
нас отправят в Восточную Сибирь на поселение, а Онуфрия и
Гараську—этих наверное на родцну под надзор полиции1.
3. Морозовская стачка.
Арест, суд и ссылка
Еще живя в ссылке, в Сибири, я уже решил, что могу,
сделать для общего дела. Я уже не стремился в большие города,
а шел туда, «где трудно дышится, где горе олышится...»
Мы были «свободны». Получили подорожную, распростились с
ссылкой. Перед нами была задача — скорей возвратиться. Ехали
мы втроем: я, жена и Лука Абраменков 2.
Наконец через несколько дней мы в Москве.
Луку Абраменкова я взял в Орехово-Зуево, потому что в
Зуеве, на фабрике Зимина, жил мой отец и через него я мог
узнать, принимают ли ткачей. Поступать с проходным
свидетельством нельзя было. Приходилось ехать на родину, взять
паспорт и потом думать о поступлении на фабрику. Жену я
оставил у отца, а сам поехал на' родину. В волости мне
предложили поехать в город к исправнику за разрешением выдать
документ. Исправник дал разрешение. Писарю я заявил, чтобы
в паспорте он написал фамилию, так как этого всюду требуют.
Он просмотрел книги, но фамилии моей там не оказалось. Тогда
я сказал, что уличная кличка нашего рода Мосеенки, и потому
я значусь Мосеенок, писарь же по недоразумению или по
неопытности написал в паспорте Моисеенко. Я обрадовался и молча
взял паспорт, думая про себя: теперь меня уже не найдут (ни
в каких списках, все прошлое отошло, смело можно приниматься
за дело. Ни соседи, ни родственники об этом не знали, <и я
сцокюйно 'отправился в Орехово.
В Орехове-Зуеве я поступил к Морозову на фабрику в
качестве ткача, зная, что если полиция и жандармы будут искать,
то Анисимова больше не найдут. Так оно и вышло. На 'родине
наводили справку, куда я уехал, сказали, поехал в Москву,
а там кто его знает, где он.
На фабрике Морозова царил произвол, какого нигде никогда
не было. Мне дали два двухаршинных станка, основа была мит>
каль; жену поставили на аршинцые станки — старые, разбитые,
требовалось много знания и ловкости, чтобы их наладить.
Пришлось напрячь всю энергию и показать работу. Подмастерье,
1 Дальше идет описание тюремной жизни и ссылки Моисеенко в Сибири, которые
в настоящем издании опускаются.
2 Был сослан вместо с П. А. Моисеенко в Канскии округ, Енисейской губернии,
ва участие в стачках на Ново-бумагонрядидьнои и примкнувшей к ней фабрике Шау
(в 1879 году). —Ред.
9* 131
который обязан налаживать станки, относился небрежно к своим
обязанностям, и, видя, что новый ткач понимает дело, охотно
давал гаечные ключи и — налаживай сам, как тебе надо, лишь
бы не сделал поломки. Трудно было привыкнуть к фабричной
атмосфере после правильной Сибири.
Благодаря умению работа пошла быстро и чисто. Работали
сдельно, с куска. Первые куски, мною сработанные, были сданы
в приемную контору и записаны в книжку. На второй день
меня вызывают в контору, где особо приставленные браковщики
просматривают сданный товар,, и, если находят какую-либо порчу,
близну, недосеку, подплетину, или кромка нехороша, или довар
нечист, вызывают ткача или ткачиху, указывают порчу и
вписывают в книжку штрафы. Так заведено на всех ткацких
фабриках. Иду в брако'вскую. Ткачи и ткачихи стоят в затылок
с книжками. Браковщик вызывает по номерам станков.
Подходят. Браковщик берет книжонку, порчу не указывает, а штраф
вписывает. 8а что — неизвестно. Ткачи и ткачихи вступают в
пререкания, а все же книжки дают. Видя, что им записывают
в книжку, некоторые тут же плачут. Ну, думаю, порядки! Хотя
об этих доредках я уже знал.)
Доходит очередь до меня.
— Вашу книжку.
— Для чего?
— Записать штраф, кромка нехороша.
— Покажцте товар.
— Товара нет.
— Товара нет — и книжек нет, потому что кромка хороша и
подписана мастером Шориным.
— Мы ничего не знаем, подписана или нет, а штраф должен
быть за порчу.
— Да, но за хороший товар вы должны записать премию,
согласно вывешенным правилам, а потому я книжку не дам
и штрафа не признаю. До свидания.
Ухожу. Свидетели этой сцены смотрят с удивлением: ничего
подобного они никогда не видели и никогда не мыслили себе,
что можно не дать книжки и так разговаривать с
браковщиками. Некоторые из ткачей, присутствовавших во время сцены,
пришли ко мне и, увидя мою работу, удивились — так хорошо
она получилась. Ткачи начинали рассказывать о своем горьком
положении, что Морозов задушил штрафами: «Моченьки нет,
деться некуда с семьей».
Такие разговоры происходили ежедневно и повсюду, где только
сходились рабочие. Бабы отводили душу в слезах, мужчины —
в ругани и проклятиях. Видя все это и переживая сам, я
заражался все большей и большей ненавистью к вампиру Морозову.
Немедля записался в библиотеку, стал брать книги и на
досуге в своей казарме читал вслух приходившим! ко мне
товарищам. Постепенно я начал вести агитацию, что так жить нельзя,
надо изыскивать средства, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить
свое положение. Приходилось иногда читать в библиотеке га-
132
зеты. Так, помню как-то раз, зайдя в библиотеку, увидел много
народу. Чего-то ожидали. Спросил: «Чего ждете?» — «А вот ждем:
такого-то, который читает нам газету, а его нет, читать некому,
а интересная штука про Чуркина». — «Что же, давай я прочту».
Все согласились, и я начал читать глупейший роман об
атамане Чуркине и его похождениях. Только я начал, все
насторожились и стали с вниманием прислушиваться к чтению. Мне
пришлось прибегнуть к междустрочному чтению, например:
почему Чуркин не вытерпел морозовской «ласки»? Ведь он был
таким же фабричным, как и мы, и ему так же «хорошо» жилось
у Морозова, как и нам, а вот поди ж ты: захотел быть
разбойником-грабителем. Послышалось несколько голосов, что он бед-
ных не грабил, а только богатых. Читаю дальше. У слушателей
дух захватывает. Ну, вот Чуркин — атаман из простого рода,
а почему-то не хочет добывать воли для черного народа, а йишь
заботится о себе и о своей шайке. Мы шею гнем 'свою и
ничего не хотим делать, а все думаем: авось да небось. Чуркин
организовал свою шайку и живет свободно, а мы не умеем
организовать хотя бы маленький кружок для защиты' себя, а
ведь надо бы, давно надо...
Когда я кончил читать, библиотекарь пристально посмотрел
на меня, но ничего не сказал. Когда расходились, я услышал
разговор:
— А хорошо нам что-либо сделать, да вот не / знаешь, как
приняться.
Другой и говорит:
— Надо бунт устроить, а без этого ничего не будет.
— Бунт, ты думаешь, а разве не знаешь, что у Морозова
фабрика заколдована от всяких бунтов? Морозов — колдун, а то
давно бы уже был бунт.
На меня этот разговор произвел сильное впечатление:
заставил задуматься, что с такой невежественной, суеверной массой
трудно что-либо сделать, кроме бесшабашного бунта, что тут
пригоден и Чуркин и всякий, кто только немного проявляет
склонность что-либо сделать.
Работа моя как ткача была безукоризненна, и я все время
боролся с браковщиками: не давал им писать штрафы, чем
возбуждал ненависть их и симпатию ткачей. Они воочию увидели,
что только борьбой и протестами можно кое-что сделать. Ткачи*
стали ко мне обращаться с просьбой посмотреть их станки,
почему у них работа не ладится. Я налаживал, все, что
можно, делал и этим заслужил почет и уважение ткачих своего
этажа.
Пропаганда моя подвигалась медленно, но слушателей моих
разговоров и чтений все прибавлялось. Мало-по-малу лед,
сковывавший сознание, стал лохматься. Требовалась выдержка и
беззаветная вера, вера в наше святое дело. Поддержать меня было
некому среди этого мрака. Приходилось обдумывать каждый шаг.
На политическую тему не с кем было говорить, не говоря [уже
о революционных песнях. Даже из Некрасова что-либо — и то
133
приходилось декламировать, а не петь. Только и отводили душу,
когда- заходили в лес.
Так я и проработал у Морозова до пасхи 1884 года. С пасхи
перешел на другую фабрику — Смирнова в Ликине, где
заработок был больше. Сделать это пришлось под давлением
семейных обстоятельств и кой-каких конспиративных соображений.
Помню, как-то раз меня пригласил мой земляк быть у него
кумом и окрестить ребенка. Я согласился. Окрестив ребенка,
ореховский поп спрашивает:
— А где отец этого ребенка?
Я говорю:
— Здесь.
— Позови его ко мне.
Я позвал; И начал поп пилить моего кума, что он нехристь,
еретик и т. д.
Я спрашиваю:
— В чем дело, отец духовный?
— Дело в том, что ребенок зачат в великую семидесятницу —
за это не будет прощения на том свете.
Я не выдержал и сказал:
— А вы-то, батюшка, верите в тот свет? Я думаю, что нет,
ибо философы не доказали, есть ли тот свет.
Поп мой растерялся:
— Как так! Как ты смеешь говорить такие вещи? Я донесу
в контору, этого нельзя допустить...
И пошел. Я и кум поспешили уйти, а то и в самом деле
пойдет в контору. Не знаю, ходил ли поп в контору или нет,
только мы между собой вдоволь посмеялись над бешенством
попа. В то время приходилось всякую мелочь подмечать за
собой й остерегаться. Малейшая ошибка — и все пропало. Из
Ликина к Морозову на фабрику ходил почти каждую неделю
и справлялся обо всем, что 'делается. В Ликине .мне недолго
пришлось проработать, из-за семейных неурядиц я перекочевал
в Богородск на фабрику Ивана Морозова «Глуховская
мануфактура», а на рабочем жаргоне «Жеребчиха». Фабричных квартир
не было. Жил в селе Клюеве, от «Жеребчихи» версты две.
Проработав месяц — другой, я надумал окончательно перейти к Сав-
вушке Морозову и во что бито ни стало устроить забастовку.
К этому времени приехал мой товарищ Лука Абраменков. Его
я устроил у Смирнова на фабрике, а сам перешел к Савве
Морозову. Здесь уж я не гнался за заработком, а стал
исключительно агитировать. Что бы мне ни говорили, я стоял на
своем. Будь что будет, а дальше откладывать нельзя.
В библиотеке я взял журнал №г 5 «Вестник Европы» 1871 года1,
где помещена драматическая хроника «Стенька Разин», и
стал ее читать по казармам. Слушателей собралось столько,
сколько было в казарме жителей. Тут были и дети, и старики.
Это чтение произвело громадное впечатление на весь рабочий
народ.
Они иначе не мыслили, как то, что Разин:—разбФйццк и ;щю-
134
дан анафеме. А тут совсем другое. Разин не разбойник, а
защитник крестьянского и рабочего люда, и шел юн против
московских бояр, которые притесняют крестьянский народ, а также
против попов долгогривых, которые морочат православных и
заодно с боярами да приказными помогают душить народ и т. д.
Такие рассуждения можно было слушать всюду, где только
собиралось трое-четверо. Весть об этом чтении проникла и на
соседние фабрики. Приходили посланцы и просили прочесть и
у них, что и приходилось делать. Об этом чтении донесли в
контору. Там поручили дворовому приказчику разузнавать.
Приказчик ходил, собирал сведения; что он вынес из этого —
неизвестно. Мне предложили перейти в продовольственный
магазин и ста^ь торговцем. Я отказался. Видимо, это пока
пробовали «домашним способом», не доводя ни до полиции, ни до
жандармов. На фабрике Морозова проживал полицейский пристав,
зкандармов на железнодорожной станции совершенно не было
видно. Я успокоился. Забастовка] все назревала, так или иначе
она должна быть. Чтобы отчасти охранить себя, я пошел к мастеру
Шорину и заявил ому, что работать нельзя, так как на; меня косо
смотрит дворовая администрация за то, что я читаю книги,
которые беру из библиотеки, а поэтому просил расчет. Шорин
сказал:
— Плюнь на них! Для того й устроена библиотека, чтобы
брали книги и .читали. Нди, работай и будь спокоен, ничего
не будет.
Хорошо, думаю себе, ничего ты не чувствуешь, что
происходит. Я же предвидел, что будет со мной и что в случае
расправы Шорин будет свидетелем. Так оно и вышло.
Подходили рождественские праздники, ждали получки;
каждый рассчитывал, что он получит, что можно купить и т. д.
Все знали, что получать почти нечего; торопились запастись
ордером в хозяйский магазин, взять, что можно. Немало .было
и слез бедных ткачих, у которых нехватало заработка на харчи,
и они оставались в долгу у конторы. Контора давала ордер
срезанный, праздник справить не на что. Наступила получка, а
получать нечего: то за харчи, то за штрафы. Заработок —8,
9, 12 рублей, не более, вычет штрафа—3-4 рубля, а то и более.
Вот тут и живи, как знаешь. Мужчины зарабатывали 12, 15,
17 рублей, штрафов в среднем на каждого приходилось не
менее 3 р. 50 к. да харчи, и приходилось получать 2-3 рубля.
Наступили праздники. Люди ходили унылые, недовольные,
проклинали жизнь, и себя, и всех. Вот тут-то и приходилось
подливать масла в огонь.
Тут я впервые столкнулся с т. Волковым, который оказался
смышленым и толковым. Он недавно поступил к Морозову,,
а раньше работал в Серпухове. Я вплотную взялся за него,
и в два-три дня Волков мой был готов на все — и в огонь и в
воду. Я несказанно был рад, что приобрел себе такого
товарища. Он был молод и красив собою, чем много выигрывал
среди ткачих.
135
Наша агитация приняла большие размеры; нужно было
выбрать время, когда начать. Время это указала нам сама контора.
Когда стало известно, что 7 января (по старому стилю) у
Морозова фабрика будет работать, тогда как на других, соседних
фабриках этот день считался праздником, этого для нас было
достаточно, и мы решили использовать этот случай. «Повели
агитацию среди более подготовленных ткачей, что пам -нужно
собраться и потолковать о деле, которое необходимо тщательно
обсудить, чтобы не вышло розни, где собираться и когда. Судили,
рядили и наконец решили собраться на Песках, в трактире.
Там редко бывали посторонние, посетителями трактира всегда
были лишь рабочие. Собрание назначили после шабаша в
сочельник под крещение: как только вычистим станки, прямо с
фабрики итти на Пески; каждый должен взять с собой
несколько копеек, закажем чаю и будем обсуждать вопросы.
С нетерпением я ждал этого дня; все время ходил и
уговаривал товарищей, чтоб не только сами пришли, «но и других
привели.
Настал сочельник, 5 января. Работа на ум не шла; только
из опасения, как бы не заметил мастер, что станки стоят, не
работают, пришлось торчать у станков, а если уходил, то !про-
сил соседей или жену, которая работала вблизи, вертеть станки,
лишь бы не стояли. Наконец-то дождались. Машина остановилась*
все принялись за чистку станков, вытирали, и через полчаса все
было готово.
Мастера обошли, осмотрели. Ткачи начали выходить; вышли
и мы с Волковым и стали поджидать других. Когда набралось
несколько человек, пошли на Пески.
В трактире сидело уже человек десять, и мы все уселись за
средним столом, заказали чаю, принесли бублики. Товарищи все
подходили, и нас набралось человек семьдесят. Чтобы отвлечь
внимание трактирщиков, заказал кое-кто водку. Видя, что уже
достаточно народу, я начал рисовать все те притеснения, грабежи,
которым мы подвергаемся; я говорил о том, что нет выхода из
этого положения, что нам остается одно: как можно теснее и
дружнее сплотиться и общими силами повести борьбу против
ненавистного вампира, который высосал всю нашу кровь. Для
этого у нас одно оружие—стачка. Стачка дружная, общая,
солидарная во всех отношениях, чтобы все не только бросили работу,
но и другим не давали работать. Все рабочие—ткачи, ирядиль-
пщки—не только согласились с этим, но поклялись во что бы то
ни стало остановить фабрику и не дать работать другим
фабрикам.
Волков рассказал, как они бастовали в Серпухове, как дружна
поддерживали друг друга и выиграли дело и теперь >гам
благодать и т. д. Но вот вопрос: как йам сделать, чтобы остановить
фабрику, хотя бы одно ткацкое отделение? А там видно будет.
Выступил! прядильщик и говорит: «Самое лучшее—пораньше
встать, стать у дверей ц не пускать». Другой предлагает взять
гвоздей и забить двери; третий—лучше войти в фабрику и, со-
135
бравшись, вызвать весь народ. После долгих прений решили стать
у дверей и никого не пускать. Решив этот вопрос, я еще раз
напомнил всем, что только дружной, единой, неуклонной волей
йсех нас мы добьемся победы над нашим кровожадным
[поработителем. С такими пожеланиями мы решили разойтись сегодня,
а завтра1, часов в двенадцать или к часу, собраться снова: быть
может, кто-лцбо придумает новый способ, как лучше начать.
Я, Волков и еще человек десять пошли в Зуево, зашли; в
погребок, взяли водки и уселись за стол и снова принялись
обсуждать: можно ли надеяться на товарищей, не предаст ли кто-
либо из тех й тем самым помешает забастовке? Начали
перебирать всех товарищей, бывших на Песках, и пришли %
заключению, что будто таких нет. Есть трусы, которые 'не пойдут, но
и доносить побоятся. Эти трусы хотя и хорошо ънают бабьи
сплетни, что Морозов колдун, что бунта у него не будет, что он
всех купит, что будто Морозов говорил так: «Покров, уездный
город,—моя подметка, я—Владимир, мой карман—воз голов и
воз денег, и деньги перетянут: о деньгами что хочу, то и делаю».
Но сами-то мужики сомневаются: верят и не верят. Да это пустяки.
Вот Шорина—этого надо выгнать с фабрики, это все он хозяину
наговаривает, такого аспида и свет не родит. Дианов—тоже. Да
много их, всех надо выкинуть, чтобы понимали и не обижали
рабочих, и т. Д. Так мы поговорили и (пошли на фабрику,
обещая завтра собраться.
Наутро шестого пришли ко мне из Ликина Лука и брат мой.
Им я рассказал, что у нас делается, и хгригласил Луку на1 наше
собрание. У5 него оказался нелегальный листок к московским
рабочим с призывом организоваться. Листок был в
единственном экземпляре, да1 и то уже затасканный. Пришел Волков, и |мы
отправились собирать, кого знаем, а те в свою очередь.
Итак, мы снова' собрались и пошли на Пески. Принялись за
чаепитие; подошли еще ребята;. Я попросил Луку прочесть нам
воззвание к московским рабочим и пояснить сущность его. Лука
прочел с пояснением, что не одни мы страдаем, а страдают все
рабочие, находящиеся под гнетом капитала, а чтобы избавиться
о* этого гнета', нам необходимо обратиться за помощью к «Север*
ному рабочему союзу»*, который объединяет всех рабочих и в
случае нужды помогает в борьбе за лучшее будущее для всех
рабочих. Волков также призывал не унывать, а стоять твердо
и т. д. Мне оставалось только резюмировать все сказанное:
* К этому времени «Северно-русский рабочий союз» уже не существовал, будучи
разгромлен полицией. Возможно, что П. Моисеенко это было не известно.
«Северный союз русских рабочих» возник в конце 1878 года в
Петербурге. Эта нелегельная политическая организация рабочих образовалась из кружков,
в народнической партии «Земля и воля». По уставу союза членами его могли быть
только рабочие. Уже вначале союз насчитывал более 200 человек. Главными
руководителями были рабочие Степан Халтурин и Виктор Обнорский. Союз принял доятель-
ное участив в стачечном движении 1878—1879 годов и выпустил ряд прокламаций.
В 1880 году им был выпущен один номер первой в России рабочей газеты «Рабочая
ааряэ>, арестованный с типографией. В 1881 году союз был окончательно разгромлен
и часть его руководителей со Степаном Халтуриным во главе прпмкнула к
террористам.—Р е д.
137
— Раз и навсегда нужно помнить лозунг «один за всех и все
за одного». Без воли,, без свободы мы равны скотам и даже хуже
их, хуже палачей своих. Волю-мать искоренить нельзя: гонимая,
забитая, она повсюду в душах таится и дожидается кровавого
расчета за былое. Вчера вы мне говорили, что Морозов—колдун и с
деньгами все может сделать. Неправда, не верьте этому, ice это
ложь. На слово—слово, а на силу—сила,—вот как только можно
отвечать. А ведь нам ее не занимать—с избытком есть. И верьте
мне, что топорами можно скорее справиться с врагами, чем бабьей
болтовней. Так ли я говорю?
Все закричали:
— Так, верно! Нечего баб слушать! Идем все с Ъами!
Условились встать пораньше, стать у дверей и никого не
пускать. Распростились.
Я, Волков и Лука отправились ко мне и до поздней ночи
беседовали. Лука сомневался, что что-либо выйдет из этого,
мотивируя тем, что слишком забитый народ и пр.; я же доказывал,
что эта забитость и послужит тому, что мы выгоним их из
фабрики, как стадо овец, и они послушно пойдут, la потом может»
случиться и то, что когда они почувствуют волю, то могут из
кротких овечек превратиться в разъяренных зверей.
— Вспомни хорошенько, —говорил я ему,—какого труда стоило
тебе й мне создать первую забастовку на Новой Канаве 1. Ведь
тоже вое сомневались, а когда создалась, рабочие выиграли,
вторую уже было легче создать. Главное—не надо забывать, что
необходимо убить в народе веру в колдовство Морозова.
Седьмого мы рано встали и пошли на фабрику. Было пять
часов утра. Понемногу стекался народ. Подойдя к фабрике, мы
увидели, что у дверей стоят сторожа с дубинами, ломами,
оглоблями и не дают останавливаться. Проходят прядильщики в свой
корпус и тоже говорят, что сегодня праздник, но сами идут.
Подходит Волков и говорит, (что ничего не поделаешь: сторожа
разгоняют, и народ проходит в здание. Я пошел к другим
дверям. Пока стоял—останавливались, а как только пошел к
другим дверям—все расходились.
Пошли мы с Волковым домой, подкрепились немного и
отправились на фабрику. Машина была уже пущена, мои станки
раскрыты и пущены (это уже жена успела). Волков и я прошли» по
второму этажу, потом опять в третий, пригласили кое-кого и
пошли прямо в уборную. Там уже полно народу, галдят. Мы
начали их усовещевать и бранить. В это время заходит младший
мастер и говорит, что если не хотим работать, то должны бросить;
праздник, так пусть будет праздник, а собираться нельзя. Мы
попросили его уйти. Он ушел. Хотели узнать мнение женщин и
спросили их через стенку. Оттуда закричали на нас, что мы хуже
баб, бараны и т. д.
В это время ко мне подходит подросток и говорит:
1 Речь идет об одной из забастовок на Ново-бумагопрядпльной, имевшей место в
1378 и 1879 годах в Петербурге. Об этом рассказано выше.
138
— Я знаю, как погасить газ зараз.
■ Я говорю, что для этого надо лестницу, а это опасно.
Мальчуган говорит, что лестницы не надо; их трое, и они вспрыгнут
друг на друга, завернут кран,—вот пусть только передние ряды
завернут свои горелки, чтобы не так видно было.
Идея хороша'. Бабы завернули горелки первых рядов, подростки
живо вскочили один на другого и завернули коренной кран газа.
Моментально стало темно. Выпроводив всех из третьего этажа,
я бросцлся во второй, потом в первый этаж. Остановились станки,
и народ начал выходить. Сторожа успели закрыть боковые Двери,
и всем ткачам приходилось выходить через одни двери.
Получилась пробка.
Прибежав опять на третий этаж, я увидел, что несколько
рожков горели:, но никого у станков не было,— одни подмастерья
сгрудились в кучу да народ в Цгроходе к дверям.
У дверей стояли Волков и несколько ткачей и выпроваживали
народ. От них я узнал, что на дворе спокойно.
Тем временем пришли с прядильного корпуса с просьбой притти
к ним и остановить (работу. Мальчуганы тут как тут, живо
побежали вперед, я за ними. Прибежали в чесальную, сняли всех
с работы.
Выйдя во двор, я увидел толпу, окружавшую пристава. При*
став говорил, что сами себе уменьшили заработок, напрасно
бросили работать. Подойдя в толпе, я громко крикнул:
— Что вы разговариваете с морозовским холуем! Он сыт
всегда, никогда не ложится с голодным брюхом. Идемте на старый
двор, остановим работу там.
' Все, как по команде, бросились прочь от пристава "и побежали
на старый двор. Не доходя до старой ткацкой фабрики, я
услыхал крик женщины, и когда мы побежали на крик, то нам
навстречу шла толпа, человек пятнадцать, вооруженная кольями.
Мы гикнули на них; они—бежать. Несколько человек нас
схватились за звено балясника огороженного пруда, выломали себе
палки и погнались за ними. Они уходили на конный двор. Один
из них, здоровый детина, пустил в нас оглоблю, которая с визгом
пролетела над нашими головами (к нашему счастью, она никого
не задела). Мы погнали их дальше. Погнав за прессорезную,
выбежали во двор, где находились квартиры кучеров, конюхов
и сторожей и др. Не !знаю, 'как pi почему у меня под ногами
оказался мерзляк. Я поднял его и запустил в окно. Зазвенело
стекло, огонь потух. Мы пошли в механическую мастерскую,
остановили там работу, потом на красильный двор. Там уже
находились Волков с товарищами. Работу и тут остановили. •
Убедившись, что всюду стало и затихло, я пошел в Зуево.
Народу полно всюду. Захожу в погребок. Вижу—сидит Волков
с товарищами. Сидим, разговариваем о том, как быть в
дальнейшем. Вдруг прибегают с фабрики и говорят, что там
грабят харчевой магазин и бьют контору. Что там делается—не
приведи бог. Некоторые товарищи говорят:
— Ну и чорт k 1ними. Он наю грабил, теперь его грабят.
139
Я обратился к товарищам и говорю:
— Этого нельзя допустить. Мы должны остановить это
безобразие, мы не грабители, а честные труженики, а потому идемте
скорее и по возможности остановим] и успокоим народ.
Все поднялись и побежали к фабрике. Не добежав до главной
конторы, мы услышали шум и звон битых стекол. На дворе
увидели громадную толпу, которая тащила, кто что мог. Ордера,
по которым выдавались продукты, разбросаны по двору; из
пекарни летит хлеб на улицу; откуда-то появились сани,
наваливают, что попадается. Я и Волков закричали что есть мочи:
— Прочь! Что вы делаете? Долой со двора!
Но каково же было наше удивление, когда сгруппировавшиеся
вокруг нас рабочие указывали, что это не наши, а ореховские
босяки.
— Их здесь до чорта, все Орехово и Воиново о подводами, а
некоторые и наши; помогают. Ничего не поделаешь, народ
обозлился.
Но все же кое-как удалось угомонить.
Странно, где же администрация? Куда она подевалась? Почему,
она; не защищает морозовского добра? Я спросил рабочих, где
Дианов. Мне указали его квартиру. Я пошел на 'дом. За мной
пошли. Подхожу—ворота заперты. Тогда я прыгнул па забор,
вижу—на крыльце стоят прислуга Дианова и его детишки. Я
'спросил, дома ли директор. Мне ответили, что нет, он еще с утра
уехал к хозяину. Ну, нет, и дела нет. Чорт с ними! Если они
не берегут хозяйского добра, так нам-то что! Слез с забора' и
пошел по улице с народом. По Английской улице разгромлены
квартиры Шорина и еще каких-то, которых я не знал.
Мальчуганы распустили на ухват занавески; с окон и носят, как знамя.
Волков опять куда-то скрылся. Пришлось одному переходить с
соседнего двора на другой. iB фабричных корпусах, оказалось, не
выбито ни одного стекла, а также в зданиях Елисова. Громили
лишь морозовские,чи только те, где помещалась администрация»
Обойдя кругом, я отправился в Орехово. Там все было спокойно,
лишь гостиницы и погребки были закрыты. Нужно было Достать
писчей бумаги для написания наших требований. При встрече
с рабочими, которые расспрашивали, как теперь быть, что
будем: делать, приходилось отвечать:
— Что было, видели, а что будет—увидим.
Мне указали, где Волков. Пошел туда. Там компания йгкачей,
прядильщиков обсуждала, что теперь будет; говорили, что
Морозов подкупит исправника и губернатора—ему все можно. Надо
подумать и послать ходоков ib Питер к батюшке-царю. Злость
меня взяла, не вытерпел |и говорю:
.— К царю? Да вы знаете ли, что ггакое царь? Это и есть
первый защитник бар да купцов. Слыхали вы такую песнь, где
поется: «За прошение мужиков его милости плательщик
сподобился кандалов»? Не слыхали? Так слушайте, что я буду вам
говорить. Во-первых, никакой царь вам не Поможет. Были Юлучаи,
когда питерские рабочие ходили к царю, к наследнику ходили,
140
и, вместо того, чтобы помочь рабочим, их всех арестовали и
послали в Сибирь как бунтовщиков. На фабрики, где народ
бастовал, нагнали жандармов и казаков и нагайками заставили |рабо-
тать. Вот что ваш царь делает. И вы {хотите погубить тех, ваших
ходоков, кого вы пошлете? Нет, этого не будет. А вот что будет:
мы напишем министру внутренних дел и в департамент полиции,
где укажем, что местные власти продажные и что »их Морозов
подкупил, а поэтому народ им не верит. Согласны вы с этим?
Говорите теперь, нечего молчать, надо говорить открыто.
С моим предложением согласились.
— Но кто же будет писать? Есть у нас такие, кто бы мог
написать? Что же вы молчите? Нет, нехорошо. Я напишу и пошлю.
Дальше должен вам сказать, что не сегодня—завтра пришлют
сюда казаков, а может быть и войско. К отому мы должны
подготовиться. Первое, что надо,—сидеть смирно и никуда не
(выходить, собираться только в квартирах, а главное—пресекать
в корне всякое безобразие: не давать повода к насилию со стороны
казаков и жандармов. Нужно оповестить по всем казармам и
артелям, чтобы молодежь зря {не болталась; если кто не
послушается, то всем народом будет наказан. Ну, как вы думаете?
Правильно это будет или нет?
— Правильно! Хорошо!
— Теперь идемте на фабрику, и каждый из нас 'должен
собрать в своей казарме народ и объяснить все то, что я говорил.
Идемте, только толпой не ходите, а идите по-двое, по-трое, вот
так. Волков зайдет в артель, я пойду по главной, а все
остальные туда, куда надо.
Разошлись все по своим! местам.
Дойдя до первых зданий морозовских построек, я увидел, что
на главной улице стоит <и кричит громадная толпа народу.
Подхожу, спрашиваю, в чем дело. Мне говорят: «Человека убили»,
и рассказывают, как хотели разгромить магазин общества потр&
бителей—служащих и [рабочих. Начали ломать ставни в
магазине и разбивать окна; человек полез в окно, оттуда ему дали по
башке, и вот теперь толпа и кричит,-
— А где зашибленный?
Меня повели к нему. Вижу—человек еще живой, надо его
отправить в больницу.
— Берите его осторожно, ну, хорошенько, поднимай.
Больной застонал. Положили опять !на снег. Я подбежал! к
сторожевой будке, вытащил у сторожа сиденье—рогожу, положил
на него больного, и его понесли в больницу. Фельдшер
отказывается принять, требует расписки. Пришлось прикрикнуть и
оставить больного, а самому (возвратиться опять к толпе и успокоить:
не делать безобразия и; разойтись. Кое-как удалось. Начали
расходиться.
День клонился уже к вечеру. Надо было позаботиться об обеде,
а то с утра голодный. Я пошел в свою казарму. В коридоре меня
уже ждали и, когда я вышел, попросили сказать им, как будет
дальше, что нужно делать. Я объяснил, как и что мы можем! пред-
141
принять, согласно тому, как мы постановили с Волковым и това*
рищами. Просил держаться, как можно дружней, следить за всем,
.чтобы но было изменников, ^которые могут наделать много
пакостей; потом отправился к Елисову на фабрику узнать, что там
поговаривают.
Придя в казарму, где жил молодой Гвоздарев, я был окружен
со всех сторон, и; на меня посыпались вопросы. Надо было"
отвечать и разъяснять положение рабочих.
— Сегодня у Саввы Морозова, а завтра может случиться у
Елиса Морозова, а поэтому мы, рабочие, должны
поддерживать друг друга к (Объединиться в один общий союз; когда
мы объединимся и будем поддерживать друг друга, тогда мы
будем сильны и с нами будут считаться—сказано: «в единении
аила». До сих пор |с нами не считались, потому что видели в
нас разрозненную массу и делали, что хотели,—вот почему] и
вылилась забастовка в такие формы. Будь мы объединены,
организованы, этого не получилось бы, а для того, чтобы быть
организованными, надо учиться не только в школе, но и вне ее,
читать полезные книги, а |не «Бову-королевича» и «Руслана
Лазаревича», «Жениха в чернилах, да невесту во щах», а брать
из библиотеки Некрасова, Пушкина, Белинского, Добролюбова,
Писарева и других. Тогда' вы доймете, что книга книге рознь,
и научитесь разбираться хотя и на во всем, но во многом; узнаете,
как люди живут и работают не для себя только, но и для других.
Много пришлось говорить, засиделись за полночь. Меня
проводили до моей казармы. Так прошел первый день. Наутро
следующего дня, напившись чаю, я пошел по зданиям. Всюду,
было тихо и спокойно; нигде никого не было видно—все
сидели по домам, администрация вся попряталась, сторожа—и то
кое-где.
Гигант-фабрика стояла, как осиротевшая; по улицам нигде
никого не видно. Пошел к Волкову. У него сидело человек пять
товарищей, с которыми мы пошли в Зуево посмотреть, что
делается там. В Зуеве никого не было видно,—на всех отразилась
забастовка. Зуевские фабриканты напугались до, того, что
поспешили вывесить всюду объявление, что штраф прощается и
заработок повышается на десять процентов на все работы. Я
указал товарищам на это и заметил им:
— Видите, как мы теперь помогли рабочим, даже тем, которые
и не думали никогда, чтобы им прибавляли. А если бы и эти
забастовали, тогда не то бы было, не десять процентов, а
набавили бы пятьдесят процентов, лишь бы только их Не трогали.
Но наше дело ещё впереди, нам нужно собраться и написать
свои требования. Идемте к себе на фабрику, соберем более
толковых ткачей и прядильщиков и напишем требования. Собирайте
людей, зайдите за мной, я возьму бумагу, и; примемся за дело,
пока все тихо и спокойно.
Когда мы снова собрались и стали обсуждать, где какие
требования мы выставим и кто будет писать, оказалось, что, кроме
меня, некому. Требования наши состояли в следующем:
142
1. Мы, все рабочие, требуем уйичтоженйя бсех штрафов й
вернуть взятые уже штрафы] с 1 октября, за три месяца.
2. Увеличения заработной платы всем: 'без исключения на 25%
на все работы и сорта.
3. Уплаты за все прогульные дни, за все время остановки
работы, которая произошла по вине хозяина, потому что мы были
обременены непомерными штрафами и йизкой расценкой.
4. Установки контроля над браковщиками из выборных от
рабочих, которые могли бы проверять правильность приемки товара
и наложения штрафа за действительную и незаменимую порчу,
как это было раньше.
5. Увольнения мастеров с фабрики за их притеснение рабочих
и грубое отношение с рабочими, как-то: Шорина и других
(теперь не помню).
6. Удешевления продуктов, выдаваемых из хозяйского
магазина, по ценам не дороже рыночных и т. д.
Наши требования состояли из семнадцати параграфов. За
писанием требований прошло немало времени.
Я прочел им также письмо, написанное мною министру
внутренних дел, в котором просил его выслать особую, комиссию
ввиду того, что рабочие не поверят местным властям. Письмо
нашли правильным, и я его отослал. К вечеру стало известно, что
прибыли казаки. Стало прибывать разное начальство: приставы,
жандармы, следователи и тому подобная сволочь.
Вечером мы с Волковым обошли все казармы и еще раз
просили зря не выходить из казармы и не давать повода к каким-
нибудь столкновениям. Если начнутся обыски и аресты, то [пусть
берут всех подряд, мы ;все одинаковы, мы все ограблены. Бабам
и детишкам не заводить шашней с казаками и солдатами.
Сидеть по казармам и больше ничего. Пусть они; увидят, что здесь
люди сидят смирно и тихо. В таком духе йришлось вести беседы
со всеми, особенно с молодежью, которой не сиделось дома.
Наутро пришел полк солдат, которых разместили по свободным
казармам. Солдаты с дороги сидели в казарме и не выходили.
Казаки вышли на переезд железной дороги группой человек в
двадцать пять. Детвора сейчас же их обступила; за детворой стали
собираться и другие. Видя, что уже порядочно собралось йа-
роду, я пошел на] [переезд послушать, что будут говорить. Кроме
шуток и смеха, ничего не было.
Мне захотелось пощупать немножко казаков, узнать, чем все
это пахнет. Я уселся |на перилах и начал говорить о казаках,
не обращаясь к ним. Начал с того—что такое казак:
— Казак—вольный человек и в кабалу к купцу охотой не
пойдет. Нет, казаки не такие люди, лишь смерть одна к земле
прикрепит, да и тогда он землю рыть не будет, и даже мертвый воли
не забудет; только в бою чорту душу отдаст. Казаку жена—
сабля острая, казаку изба—поле чистое, казаку торговать не
товарами—лихим мечом, алой кровью. Но теперь времена;
изменились: атаманы их поглупели, как бабы от старости,
разжирели, как свиньи, от лености, сами сыты, а о других не забо-
143
тятся. Все слушают московского царя и толкуют о нарушении
клятвы, а у московского царя одно: усмиряйте мирный народ
и покажите свою рыцарскую храбрость на беззащитном народе.
Хорош казак с киркой вместо сабли, да со счетами в руках!
Нет! Не то казаком называется! Тот казак, кто за народ сражается
и добывает волюшку для черного народа.
Казаки слушали внимательно, изредка только ухмылялись, но
ни слова не проронили и с тем ушли. Я попросил своих тоже
уйти, не собираться. Сам же я пошел к Волкову и рассказал
ему о том, что народ соскучился и дома не сидит.
— Пойдем пройдемся и поглядим, что делается на главной
улице, ведь теперь там в сборе все начальство.
Пришли еще солдаты, приехал (губернатор. Теперь йачнется
усмирение—надо быть готовыми-ко всему!
Пошли на главную улицу. Там ни души; только часовые
стоят чуть не у каждых дверей да в окнах мелькают мундиры
офицеров. Прошлись мы так по всей улице и йошли в Зуево.
Там я вручил Волкову требование, которое мы решили при
случае подать губернатору. Вместе итти нам нельзя, потому ото
могут арестовать обоих1.
Губернатор уже выходил со (свитой на переезд, но там были
одни подростки и девчата. Проходя до главной улице, мы видели
множество начальства.
— Ну, теперь очередь за нами. Смотри, не трусь, говори
смелее, все равно нам не миновать ареста. Ты иди прямо на; переезд,
а я пойду через двор Елиса,—сказал я Волкову.
Волков пошел прямо, а я пошел через двор Елиса. Подхожу
к переезду. Мне говорят, что Волкова и еще человек пятьдесят
губернатор арестовал, и всех их погнал на старый 'двор. Рао-
спрашиваю, как было дело. Мне говорят:
— Волков, выйдя со двора на переезд, вынул бумагу из стал
читать наше требование. Пока он читал, собрался народ. 'В это
время—губернатор, а за ним казаки на конях с Пиками.
Подойдя к народу, губернатор спросил: «Чего вы хотите?» Тогда
вышел Волков и подал губернатору требование. Тот развернул
и говорит: «Посмотрим», и дал знак рукой казакам, которые
моментально окружили тех, кто близко стоял к губернатору, и
1 Моисеопко опустил в своем повествовании один из интереснейших моментов
морозовской стачки. Губернатор, узнав, каковы требования рабочих, обещал
поговорить об этом с Морозовым. Результатом этого разговора было объявление,
вывешенное администрацией, где Морозов согласился: 1) на скидку, взыскав за плохие работы
с 1 октября 1884 года по день забастовки; 2) па расчет всех без исключения
рабочих, с условием эа сим приема на фабрику желающих согласиться на расденки,
объявленные 1 октября 1884 года, предоставив себе при этом право принимать
обратно на службу рабочих по своему усмотрению.
Сорвав это объявление, рабочие расклеили следующие требования: «Объявляется
Савве Морозову, что за эту сбавку ткачи и прядильщики никак не соглашаются
работать. А если ты нам не прибавишь расценок, то дай нам расчет и разочти нас
по пасху, а то если но разочтешь нас по пасху, то мы будем бунтоваться до самой
пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а то ежели не согласишься, то и фабрики
вам не видать». («Архив истории труда в России». И., 1921, кн. 2-я,стр.49.) — Ред.
144
пошли во двор *-. Как только они прошли во двор сейчас же
у ворот появился караул солдат и казаков, и во двор перестали
пускать.
Выслушав все это, я попросил ребят пройти по воем казармам
и созвать народ. Я предложил им всем итти к губернатору.
— Если ему нужно, пусть забирает всех, а не нужно—пусть
освободит арестованных. Все равно на работу мы не пойдем до
тех пор, дока не удовлетворят наших требований.
Когда мы подошли к 1воротам, солдаты и казаки нас не
впустили. Тогда мы стали напирать, а казаки пустили в дело пики.
Я был отшиблен пикой и упал на снег. Поднявшись, я снова
хшел ринуться, но в это время раздался крик te банных воротах.
Мы вое бросились туда, вбежали во двор и начали звонить во
все звонки. Из казарм посыпал надюд. В это время ко мне
подбегает мальчуган и говорит:
— Я знаю, где сидят арестованные.
Спрашиваю:
— Можно ли пройти, есть ли караул и солдаты?
Мальчуган отвечает:
— Никого нет.
— Ну, веди меня.—И с этими словами я и мальчуган
побежали—он впереди, а я за ним—в помещение, где была
столовая мальчиков. Пусто, только три-четыре мальчугана.
Опрашиваю :
— Где же арестованные?
Мне указали на дверь:
— Вот там, в другом отделении.
Попробовал—дверь заперта. Скамейки в столовой большие,
длинные, аршин в девять. Я попросил •мальчуганов помочь мне
пщнять скамейку. Мальчуганы помогли, и мы ударили ею в
дверь. Дверь поддалась; ударили второй раз—распахнулись обе
половинки. Вижу—на другом конце столовой сгрудились все
арестованные, кроме Волкова и прядильщика. Я крикнул:
«Выходи!»—и ребята бросились вон. Осталось человек семь. «Ну,
а вы что же, не хотите? Остава]йтесь»—и побежал вниз. Только
я выбежал—натолкнулся на солдат: целая рота с ружьями, а
по другую сторону— рабочие.
— Что вы делаете?—крикнул я солдатам.—Отходи прочь! Кого
вы бьете? Своих отцов и братьев!
В это время один солдат направил штык прямо мне в грудь.
Я ухватился &а ствол ружья, вырвал его и бросил: в солдат.
Затем перебежал к рабочим и крикнул им: «Отходи!» Рабочие
отошли, а солдаты остановились в ряд о ружьями на-руку. Я шо-
просил своих отойти подальше. }Ко мне подходили раненые и
говорили, что, когда они увидели, что наши бегут, а солдаты хотят
их задержать, народ бросился на солдат, и началась свалка.
Я никогда не думал,- /что дойдет до этого; я представлял себе
аресты и только, но чтобы дошло до1 столкновения те войсками—
1 Кроме Волкова и Шелухина было арестовано 51 человек.
10 Рабочее движение в Россия.
это было для меня неожиданностью. Далее теперь я затрудняюсь
дать себе в этом отчет.
Мы стаяли огромной массой, нас были тысячи. И вот
появляются владимирский губернатор, прокурор московской
судебной палаты Муравьев, владимирский прокурор Товарков и
целая свита с гарцующим на лошади полковником.
— Зачем вы это делаете? Вы противитесь власти, которая
поставлена над вами высшей властью! Вы нарушаете порядок и своими
поступками делаете хуже для себя,—обращается губернатор к
рабочим.
Тогда я выступил и говорю:
— Прежде всего порядок нарушен не нами, а вами. Ваше
распоряжение об аресте рабочих, подавших вам мирным путем
наше требование, вынудило нас сделать то, что сейчас
произошло. Вот кровь рабочих, раненных вашими солдатами.
Полковник, сидевший на лошади, указал на меня
губернатору:
— Этого человека надо арестовать.
Я успел только сказать: «Попробуй!», как меня затерли в
толпу, из которой послышались /крики:
— Освободите остальных, иначе вам придется арестовать нас
всех с женами и детьми! Иль Морозов штаны новые посулил?
Мы начали выходить со двора и собираться возле казарм за
железной дорогой. Когда нас собралось тысяч до трех, я начал
говорить о насилии над рабочими, упирая на то, что рабочим
неоткуда ждать защиты, рабочий должен сам себя защищать,
а для этого надо плотнее и дружнее сомкнуться в ряды и
защищать друг друга; для того чтобы улучшить свою жизнь,
надо не давать в обиду своих братьев-товарищей, употребить
все силы на то, чтобы вырвать остальных из когтей
опричников и пр. Говорить пришлось много на разные темы. Д то, .время,
как я говорил, к нам подошел офицер с просьбой разойтись
и выбрать из своей среды уполномоченных для переговоров с
губернатором. На слова офицера я сказал:
— Во-первых, выборных послать мы йе можем до тех пор,
пока губернатор не освободит остальных наших
уполномоченных; во-вторых, я бы просил вас, господин офицер, доложить
губернатору, что те люди, которые арестованы, так же
виноваты, как и мы, все здесь находящиеся. Только тогда мы будем
разговаривать с губернатором, когда он вернет нам наших братьев.
Прошу вас убедительно передать это губернатору.
Офицер обещал исполнить мою просьбу и ушел.
Тогда я предложил рабочим послать телеграмму министру
внутренних дел, которой известить, что мы, рабочие, не {пойдем
на работу до тех пор, пока не будет прислана конфликтная
комиссия, которая должна будет расследовать конфликт между
нами и Морозовым, а не арестовывать рабочих и призывать
вооруженную силу. Все согласились со мной.
— Но кто пошлет? В Орехове нельзя, сейчас же арестуют
и телеграмму не пошлют; надо из Павлова или из Богородска,
или из Москвы. Кто согласен на это, пусть подумают и выбе-
346
рут из своей среды человека, а я тем временем напишу
телеграмму.
Я пошел писать к себе в комнату. Написав телеграмму, я
вышел и прочел ее перед собравшимися. Все согласились со
мной. Но кто же пойдет отправлять? Все закричали, что, кроме
меня, пойти некому, что у нас нет таких людей.
—< Хорошо,—говорю я,—я пошлю, но дайте мне обещание,
что вы не пойдете на; работу до тех пор, пока я не возвращусь:
быть может, мне удастся кое-что добыть для поддержки нашей
забастовки.
Все поклялись, что ни один человек не пойдет на работу,
что бы с ними ни делали, что они твердо будут стоять на своем
до моего возвращения.
— Хорошо. Теперь попытаемся. еще раз освободить Волкова
и Яковлева. Пойдемте все до одного, авось удастся.
Уже смеркалось. Мы направились к главной конторе, где нас
уже ждали казаки с нагайками, и кое-кому из нас попало
изрядно. Воспользовавшись суматохой, я проскочил в Зуево (из
Зуева на Дубровку, на фабрику Зиминых, никого не
пропускали). Я переночевал у моего земляка на фабрике, а рано
утром, задолго до света, он меня разбудил, и я отправился в
Ликино к своим товарищам. Я застал дома всех: Луку,
воспитанницу и брата, которые там работали". Был Татьянин день,
и воспитанница была именинницей. Раздевшись, я заметил у
себя на груди запекшуюся кровь. Я промыл рану, а Лука
осмотрел ее. Рана, пробитая штыком, оказалась неглубокой.
Воспитанница наша захлопотала, чем бы меня порадовать, и
надела мне на шею крест. Мы с Лукою посмеялись, ибо оба
были неверующие, но обижать девчонку не хотелось. Я
принял подарок, .и- до сих пор он лежит у меня в коробке как
память. Лука Иванович смеялся все время: вот, мол, йолучил
награду от молодого поколения.
Я пробыл целый день в Ликине, так как днем итти было
нельзя. Решил итти пешком до Павловского посада, верст во-
семнадцать-двадцать 'от Ликина. Луке я строго приказал
запрятать всю нашу перелиску, чтобы не попала в руки
жандармов. Надев полушубок брата и валеные сапоги, я отправился
в путь-дорогу. Прошел Иваново, Дрезну, заглянул на станцию,
где мне показалось подозрительно, и направился в Павлово.
Там я зашел прямо в гостиницу, в которой за круглым столом
сидели жандармы, хозяин гостиницы и еще какие-то люди.
Я прошел мимо в другую половину комнаты, сел за стол и
заказал себе чаю.
До прихода поезда было еще много времени. Сижу, склонив
голову на руки, как будто дрем:лю. За соседним столом сидят
два субъекта. На столе у них ничего нет, разговаривают тихо.
Я уловил несколько фраз о морозовской забастовке и о том,
что надо во что бы то ни стало поймать зачинщика.
Через некоторое время ко мне подсел один из них и начал
расспрашивать меня, куда и зачем я иду. Отвечаю, что я из
10*
147
такой-то деревни, еду в Москву за товаром на фабрику
Коншина, что вот рано приехал и приходится ждать поезда, а
дремлется—и опять склоняю голову на руки. Субъект отходит,
подходит другой и спрашивает о том же. Ну, думаю, не
переоденься я, конечно был бы арестован, а у меня с собой письма
для отправки в Сибирь: Коняеву в Устьянск и Латовскому в
Янцырь. Надо их уничтожить. Пошел в уборную, порвал и
бросил. Ну, теперь будь что будет, надо как-нибудь улизнуть от
этих соглядатаев. До прихода поезда ничего не сделаешь, надо
ждать.
Наконец подходит поезд. Я направляюсь к двери, впереди
меня показались двое с фонарями. Я замедляю шаг при
выходе. Смотрю—они на станцию. Забегаю за лавчонку.
Остановился и жду, что будет. Через минуту показались опять эти
субъекты с фонарями, пробежали в гостиницу и опять па
станцию. Тут для меня стало ясно, что на станцию показываться
нельзя. Тогда я отправился к Павловке, прошел ее. Куда итти?
В Богородск, благо погода хорошая; итти все лесом, верст
пятнадцать до села Клюева. Я взял напрямик, прямо в лес, и; скоро
очутился в нем. Теперь я в безопасности, иду себе не спеша.
Дорога знакомая. Вдруг слышу колокольчик. Я в сторону,
спрягался за кусты и жду, пока проедут. Скоро показался ямщик
с седоком. Кто это был, узнать мне не удалось. Как, только они
проехали, я вышел на дорогу и пошел не спеша.
На рассвете я уже был в Клюеве, остановился 'у своей
бывшей хозяйки (я раньше квартировал у нее). Стал расспрашивать,
как идут у них дела. Хозяйка поведала мне следующее:
— Бунт поднялся да такая кутерьма! Как только услыхали,
что у Морозова бунт, контора сейчас же вывесила объявление,
в котором извещалось о прощении всем штрафов, о прибавке
заработной платы на десять процентов. Мастера стали такие
добрые да ласковые. Квартирную плату назначили для тех, кто
живет на вольных квартирах. После этого народ немного
успокоился, но зато полиции прибавилось. На дворе не дают
собираться; у ворот повсюду стоят полицейские. У нас тут говорят,
что будто ты заварил всю эту кашу у Морозова.
Говорю хозяйке:
'— А вам от этого хуже стало, поди. Я думаю, вас стошнило
от этого.
— Да нет, я это так, к слову сказала.
— Ну, скажи пожалуйста, можно будет пробраться на
фабрику, повидаться кое с кем?
Хозяйка даже подпрыгнула:
— Что ты, разве можно! Да тебя тале сейчас же схватят.
Нет, нет, боже тебя избави), не ходи и глаз не кажи.
Что тут оставалось делать? Рисковать собой, будучи
неуверенным, что можно что-либо сделать, когда уже хозяева
поторопились наложить пластырь на рану рабочему? Все было за то,
чтобы отправиться в Москву. Поблагодарив хозяйку, я, не ва-
ходя на фабрику, пошел в Богородск, а оттуда—в Москву.
148
По большой дороге нагоняю мужичка, который тоже
направляется в Москву. В этот день до Москвы добраться нам не
удалось. Пришлось заночевать в деревне. На вопрос хозяина,
есть ли у аде документы, мы ответили утвердительно. Тогда
он принес нам пук соломы; мы расстелили и уснули, как
убитые.
Рано утром, чуть свет, мы встали, поблагодарили хозяина,
saj ночлег и отправились в дорогу. К полудню были уже в Москве.
Я направился прямо к Покровским воротам, рассчитывая
разыскать прежде всего брата Луки Ивановича, который служил
у своего дяди водовозом. У- Покровского бассейна, вшку, стоит
с бочкой Петр Иванович. Поздоровались, отозвал его в сторону,
рассказал вкратце, в чем дело, а также спросил, есть ли) у
него кто-либо из знакомых, которые могли бы меня
познакомить с интеллигенцией. Петр Иванович, к сожалению, никого
не знал.
Я пожурил его:
— Какие же вы деятели! Жить в Москве и не иметь связей.
Он грустно покачал головой. Я взял у него денег рубля
полтора и отправился на фабрику Альберта Гюбнера, под Девичьим
полем, где были мои родственники. Разыскав родственника, я
сказал ему, что мне нужно увидеть таких-то людей.
Родственник ответил, что людей у них таких пет, что у них все
темный народ, газет и тех не читают, боятся. О морозовской стачке
он ничего не слыхал.
Больше говорить с ним я не стал, распростился и пошел к
бабушке, которая жила в кухарках на Никитской улице. На душе
у меня было скверно; людей, которых хотел! найти, я не нашел,
подойти же к первому встречному студенту и рассказать ему
все, я понимал, было невозможно.
Наутро, напившись чаю у бабушки, я отправился к оестре-
бахромщицо в надежде узнать от нее о нужных мне людях.
Но и тут меня ожидала неудача. Злость меня взяла. Неужели,
думаю, так-таки никого не удастся разыскать! От сестры я
Направился на Хитров рынок, где думал купить в трактире
паспорт. Сел к столу, сейчас же ко 1мне подсела уголовная братия.
Я говорю им:
— Мне нужны очки.
Они живо метнулись куда-то и через пять минут вернулись.
— Есть.
— Сколько?
— Полтора.
Я посмотрел: нет, не годится, и ушел от них.
Пошел на Покровку к Абраменкову с окончательным
решением ехать обратно на фабрику. Беру еще денег на дорогу.
Будь, что будет, зато своей головой людей спасу. Я твердо
решил взять всю вину на себя, зная вперед, что ссылки все
равно мне не миновать, а своим признанием я избавлю
других от тюрьмы. С облегченным сердцем поехал обратно на
фабрику. Слез в Дрезне, так как хотел зайти ъ Ликино к своим.
I4i>
Ничего не подозревал, прохожу всю деревню. Иваново; подхожу
к Ликину и слышу—кто-то говорит:
— Кто идет?
Отвечаю:
— Свой.
— А, это вы, Петр Анисимович.
— Да, это я.
Подходят ближе. Вижу знакомые лица. Поздоровались. Они
мне и говорят'
— А мы вот уже которую ночь караулим тебя, у нас тут
строгий приказ: как только увидят тебя, то, сейчас же
арестовать J
— Ну, так за чем же дело стало? Арестуйте.
— Нет, Петр Анисимович, мы надумали вот что: идите-ка вы
в село, ведь там есть кум вашего отца, у него вы переждете.
— Нет, друзья мои, я никуда не пойду, я знаю, что все
равно мне не избежать того, что уже раз решено. Об одном
прошу вас: дозвольте мне сходить на квартиру проститься со
своими, через полчаса приходите и берите меня.
— Хорошо, мы и на это согласны.
Я пошел на квартиру, где застал одну воспитанницу,
которая встретила меня со слезами.
—■ Что случилось, отчего ты плачешь?
— Да как же не плакать? Гришу ц Луку арестовали и все
твои письма забрали.
— Так об этом плакать брось, глупая, ничего не будет.
Подержат их немного и выпустят.
— Да, выпустят! Ведь там, у Морозова, всех арестовали и
всех отправили: кого в Москву, кого в Покров, а кого во
Владимир. Не только мужчин, но и женщин. Мы думали, что и
тебя арестовали. Как же ты прошел? Ведь тебя ищут по всем
деревням.
— Ну, теперь уже искать больше не будут, а за мной скоро
придут и заберут. Ты же будь паинькой и йе плачь. Лучше
дай-ка мне чего-нибудь поесть.
Танюша принесла мне соленых грибов с квасом. Я поел,
переоделся и стал ждать. Недолго мне пришлось ждать. Пришел
десятский и пригласил меня в съезжую. Я живо собрался, и мы
пошли.
В съезжей нас уже поджидали староста и встретившие меня
товарищи. Староста объяснил мне, что я арестован, утром за
мной приедут от Морозова жандармы. Приказав десятскому
смотреть за мной, староста ушел.\
На съезжую стал собираться народ.
Я чувствовал себя совершенно успокоенным, памятуя, что надо
воспользоваться случаем и, насколько возможно, пояснить
рабочим, что такое стачка и как следует проводить ее.
Так мы провели время до самого утра. Утром приехали
жандармы, и меня пооадили в сани. Народ весь вышел еще раз
проводить меня с пожеланием скорее возвратиться. Лошадь тро-
150
нула, и мы покатили на Д^орозовскую фабрику. Всю дорогу
жандармы не проронили ни слова. Когда я приехал на фабрику,
меня ввели в помещение главной конторы (в нижнем этаже).
За всю дорогу, вплоть до самой конторы, не было видно ни
одного рабочего: одни солдаты ходили по улице; не слышно было
шума фабричных корпусов. Это была уже 17 января.
В помещение, куда меня ввели, поставили караул из двух
казаков и одного жандарма. Помещение было громадное. Я уселся
на скамейку и начал мурлыкать малороссийскую песенку.
Пришлось ждать, пока позовут. Так просидел я часов до десяти.
В одиннадцатом меня повели наверх, в контору. Жандарм ввел
меня в ^комнату к следователю. Здесь я увидел одного
подмастерья и мальчика. Следователь при мне ни о чем их не
спрашивал; из этого я заключил, что это только для
подтверждения моей личности. Их тотчас же отпустили, после чего
следователь обратился ко мне с вопросом, кто я и что я могу сказать
по поводу стачки на фабрике. Я заявил ему, что желал бы
написать протокол сам. Следователь сказал, что он этого
разрешить не может. Тогда я заявил, что в таком случав не могу
дать никаких показаний. Следователь начал убеждать меня,
что своим отказом я могу повредить только себе, больше
никому: все равно, так или иначе, следствие установит, кто прав,
кто виноват.
— Как вам будет угодно, а протокол я буду писать сам;
раз вы отказываетесь дать мно возможность писать—дело ваше.
Больше я вам ничего не скажу.
Следователь позвал конвойного, и меня увели в занимаемое
мною помещение, а через полчаса я был у жандармского
полковника, седого старика. Лишь только я вошел, полковник, сидя
напротив меня, сказал:
— Ну-с, молодой человек, расскажите-ка вы мне, как у вас
тут произошло. Только прошу говорить правду, сущую правду,
не скрывая ничего. Вы, кажется, уже были у господина
следователя?
— Да, был: я просил господина следователя дать мне бумаги,
чернил и пера, чтобы написать протокол, но следователь мне
отказал. Мне желательно именно самому написать протокол, вот
почему я и отказался давать показания.
Полковник Фоминцын берет чистый бланк и спрашивает имя,
отчество и др. Записав все эти вопросы, он попросил рассказать о
моем прошлом.
— Прежде всего, господин полковник, прошу вас дать мне
ваш протокол, и я ;надишу вам все, что я только знаю.
— Как, вам дать протокол? Этого я сделать не могу. Протокол
вы должны написать под мою диктовку, иначе быть не может.
— Под вашу диктовку протокол я писать не буду. Пишите
вы, что хотите.
— В таком случае я буду вынужден препроводить вас в тюрьму.
— Это дело ваше: как вам заблагорассудится, хошь за тюрьму...
Полковник позвал жандарма, приказал отвести меня в по-
151
мощение и следить за мной строго. Так в этот день окончился
мой допрос.
Ночь я проспал, как убитый. Наутро встал, попросил
жандарма принести воды, умылся, освежился как следует, попросил
принести кипятку, заварил себе чаю. В то время как я пил чай,
ко мне подсел жандарм и начал разговор о Морозове, о том,
сколько народу кормится на фабрике, и т. п.
— Да,—говорю я,—много народу кормит и никак не можег
накормить; такое ненасытное брюхо—сколько ни жрет, все ему
мало, когда только налопается, а придет пора—облопается.
Видя, что разговор принимает такой оборот, жандарм сообщил
мне, что Морозов знаком даже самому государю, недаром государь
произвел Морозова в советники.
— Верно русская пословица говорит: «Ворон ворону глаз не
выклюет»...
Так за разговором прошло время. Принесли обед: щи и кашу.
Я пообедал. Пришел другой жандарм и пригласил пожаловать
за ним.
Прихожу в контору. Там сидит полковник, а рядом; с ним
господин в штатском со значком судебного ведомства. Последний
просит полковника оставить нас, отрекомендовывается
прокурором, присланным от министра внутренних дел (если не ошибаюсь—
Доброжинский), вынимает из кармана письмо к показывает его
мне1.
— Это вы писали?
— Да,—говорю я.
— Так вот, голубчик, почему отказываетесь дать показания?
— Я не отказываюсь, а прошу только, чтобы мне дали
бумаги, чернил и пера, тогда я напишу показание.
— Почему же вам не дали этого?
— Не знаю.
— В таком случае вот вам комната и бумага. Все, что только
вам потребуется, все вам подадут. Садитесь и пишите. Я
прикажу, чтобы вам подали чай.
Я попросил разрешение сходить в помещение за табаком.
— Не беспокойтесь, вот вам и папиросы.
От радости мой прокурор рассыпал папиросы.
— Скажите, пожалуйста, как все это произошло, кто причиной
всему этому?
— Причиной всему этому—администрация, которая, чтобы
предупредить забастовку, вооружила сторожей, конюхов и послала
их избивать рабочих. Вот, досмотрите в это окно, отсюда; отчасти
видно, где прежде всого начали избивать рабочих.
— Хорошо, понимаю. Прошу вас, садитесь и пишите все,
что и как произошло.
Я вошел в комнату, где для меня все уже было готово.
1 Речь, вероятно, идет о письме, посланном П. А. Моисеенко во время стачки
министру внутренних дел, в котором он просил его выслать особую комиссию, так
как рабочие не доверяют местным властям. — Ред.
152
Усевшись за стол, я начал писать свою историю. Это не протоколу
а история. Я начал с того, когда еще работал в Дубровке у
Зимина. Тогда я уже знал, каковы условия работы у Морозова
и на других фабриках. Потом писал о ссылке в Смоленскую
губернию, где был йод надзором полиции, с лишением права
жить в столицам, b побеге из ссылки, стачке ни Новопрядильной,
у Шау, о ссылке в Сибирь, в Енисейскую губернию, о жизни
в Сибири, где у меня созрела мысль по окончании ссылки
поступить на фабрику Морозова, что и сделал. В 1883 году я
возвратился и поступил на Морозовскую фабрику под фамилией
Моисеепко. Также описал я, каким образом получил такую
фамилию.
В то время как я писал, вошел полковник, посмотрел 1на
мое дисьмо, но ничего не сказал. Я попросил полковника, чтобы
он разрешил мне повидаться с женой. Полковник обещал и
действительно вызвал жену, с которой я увиделся) в его
присутствии. Она принесла мне чаю, сахару и табаку. На мой вопрос,
чем! занимается, жена отвечала;, что ничем, на фабрику не
принимают, почему—не знает. Обращаюсь к полковнику и
спрашиваю, почему такое преследование женщины, которая
буквально ничего не знала и не знает. Полковник обещал все устроить,
обнадежив меня, что жена будет принята на работу.
Жена ушла, а я снова принялся за свой протокол. Писал не
спеша, обдуманно, старался всякую мелочь взять на себя, вплоть
до вычисления средней заработной платы, а также вычета
штрафов. Во время писания ко» мне входили полковник и прокурор;:
раз вошли Муравьев и Товарков. Заметив мое писание, Товар-
ков сказал: «К чему все эти мелочи?» На это Муравьев ответил,
что из мелочей составляется целое.
— Да, но все это лишнее, ведь скоро должен быть издан
закон для рабочих.
— Да, теперь, может быть, скоро, но не будь этой стачки,
наверное, пришлось бы ждать лет десяток.
Ушли.
Я начинаю размышлять: «Вот оно что! Значит, наши труды
не пропадут даром; если же пострадаем, все же* дело подвинется
вперед». И мне пришло на память стихотворение: «Вперед беа
страха и сомнений на! подвиг доблестный, друзья...»
Ко мне опять пришла жена и сообщила, что с меня высчитали,
три рубля за книгу, йе сданную в библиотеку. К этому я отнесся
равнодушно. Полковник спрашивает:
— Какая книга?
— Журнал «Вестник Европы»,—отвечаю я.
— Ничего, я поговорю с сыном Морозова, не высчитают,—
успокоил полковник.
Протокол пришлось писать 'двое с лишком: суток, только на
третьи я его закончил. Прокурор и полковник просмотрели,
кбе-что пришлось исправить, и протокол был подписан. При
выходе из конторы меня задержали несколько. Гляжу—выходит
Морозов, смотрит на меня, словно слопать хочет. Жандарм! при-
153»
глашает последовать за ним, и я снова в своем помещении.
Осмотрел свои вещи. Оказалось—табак мой улетучился. Я
заявляю жандарму о пропаже табака и прошу доложить полковнику.
Вскоре он отдал распоряжение выдать табак. Через некоторое
время меня вызывает следователь и просит написать в
сокращенном виде протокол, отбросив все прошлое, которое для суда
не требуется. Снова пишу. Вдруг мое внимание привлекает
открытая книга законоположения. 308-я статья говорит: «За
нападение на военный караул и освобождение арестованных
наказание от 12 до 15 лет каторги».
У следователя мне ,пришлось долго засидеться, и только к
вечеру я закончил протокол. Когда следователь вошел, я,
указывая на статью, говорю ему:
— Неужели вы думали запугать меня этой статьей? Каторги
я не боюсь. Л знал вперед, что вы меня не помилуете, а
постараетесь запрятать куда Макар телят не гонял. Я все это знал.
Следователь начал оправдываться, говоря, что это ни к чему
не поведет.
— Мы можем выставлять статьи, а суд может их не
признавать, и я ручаюсь, что это тай и будет.
Я просил следователя взять с фабрики несколько книжек,
по возможности с разных станков, чтобы можно было наглядно
убедиться в правильности моих показаний, где, как в зеркале,
видно все то, что творилось на фабрике. Следователь тотчас
же отдал распоряжение принести заработные книжки рабочих
с разных станков. Из разговора со следователем я заключил,
что он желает добиться как можно больше ясности; в этом
поистине заколдованном кругу.
Принесли книжки. Пришел товарищ прокурора и вместе со
следователем начал просматривать их. Просмотрели одну,
другую, переглянулись и говорят:
— Здесь мы ничего не можем понять: штраф, штраф, а за
что—разобраться мы но можем. Скажите пожалуйста, что
означает буква «б» или буква «к»?
Я разъясняю:
— Буква «б»—это близна.
— А что такое близна?
— Это недостача одной нитки основы в полотне, отчего в
последнем дросвечивает полоска.
— А буква «к», где зацисано штрафу семьдесят пять копеек,
это что значит?
— Это значит—кромка нехороша, то есть не к чему придраться,
ну, вот кромка тут и есть. Это еще цветочки, а ягодки впереди.
До чего доходит открытый грабеж1, я вам расскажу. Например,
ткача или ткачиху призывают, берут их книжки и пишут штраф.
Ткач просит показать свой товар, так как он знает, что ничего
подобного у него нет. Его просят не разговаривать, так как в
противном случае еще штрафу прибавят. Что тут остается делать
рабочему, куда пойдешь, кому скажешь? Так вот и терпели до
поры до времени. Вы скажете, что по правилам за хорошо сработан-
154
ный товар полагается награда. Да, на бумаге это так, но на деле—
другое. Я бы просил вас вызвать в качестве свидетеля подмастерья
такого-то. С ним вот что произошло. Сдал он кусок полубархата,
товар был действительно сработан безукоризненно, и он ждал
премии. Но что же оказалось? Когда в браковскую вошел хозяин,
браковщик показал ому этот кусок. Морозов, перелистывая этот
кусок, говоригг: «Хорошо, хорошо сработано, запишите ему
пятьдесят копеек штрафу, он еще лучше сработает». Вот вам и премия
и награда за труд. Перед вами пятьдесят книжек. Найдите хоть
одну, в которую была бы вписана премия. Народ был доведен до
отчаяния. Вот чем все это и было вызвано. Сеяли ветер, а пожали
бурю...
Когда я закончил свои показания, меня отвели в помещение,
где я находился все время, а через час пришел жандарм и
предложил мне собрать свои вещи, так как сегодня меня отправят
в тюрьму.
Так кончилась моя работа на фабрике Морозова.
Вечером! мы тронулись в путь. Жандарм и я сели в одни
санц, цолковник—в другие. Конвой из казаков провожал нас
до станции Орехово. На станции было много народу, который
расступился перед полковником, и мы прошли на дебаркадер.
Поезда еще не было, пришлось ждать несколько минут.
Полковник, обращаясь ко мне, говорит:
— Напрасно вы все это сделали, надо было бы подождать до
поры до времени, должно было скоро измениться к лучшему.
— Да,—говорю я,—теперь изменится, так говорит и
прокурор Муравьев, а не будь этой стачки, еще лет десяток пришлось
бы подождать. Мы пострадаем, зато другим будет лучше, —
свобода искупительных жертв просит.
В это время подошел поезд. Полковник направился в первый
класс, а мы с жандармом в третий. Уселись в отдельном купе,
где к нам присоединился еще один жандарм. Мне вспоминается
некрасовское стихотворение: «Жандарм, с усищами в аршин,
девятый шкалик допивает. Гремит, звенит и улетает, куда Макар
телят гоняет».
Всю дорогу жандармы молчали. По приезде во Владимир прежде
всего мы заехали в жандармское управление, написали там бумагу
и только после всего этого отправились в тюрьму.
В тюрьме все спали. Жандарм достучался. Отворились ворота
адовы, и я в последний раз простился с волей, зная, что из
тюрьмы я нескоро вырвусь. Смотритель, узнав, что я с Морозов-
ской фабрики, приказал обыскать меня и отобрать все, что имеется.
Со мной был узелок с хлебом, чаем, сахаром и табаком. Табак
отобрали было, но я сослался на разрешение полковника,
которое подтвердил и жандарм, и табак мне возвратили.
Старший надзиратель пригласил меня следовать за ним. Я взял
свои вещи, и мы пошли. В коридоре второго этажа нас встретил
дежурный надзиратель, который привычной рукой отпер замок
моего жилья. Камера большая, но в ней нет ни стола, ни табуретки,
вдоль стен голые нары. Надзиратель приносит войлок для
155
постелц, и я остаюсь один. Осматриваю стены, нары, подоконник—
нет ли где каких-либо надписей; кроме пошлых, ничего не нашел.
По всей вероятности здесь камера уголовная. Сел я на нары
и задумался. Спать еще не хотелось. Слышу, подходит к форточке
надзиратель, спрашивает:
— Что, еще не спите?
— Нет, неохота спать.
— Вы откуда прибыли?
Говорю, что с -.фабрики Морозова.
— Много вас оттуда пригнали. Некоторых уже выслали на
родину. Теперь немного осталось здесь, двое или трое, хорошо
не знаю. Ну, спокойной ночи.
Я улегся на пары и уснул. Но недолго пришлось мне спать:
клопы но дают новичкам долго покоя, с ними мне пришлось
повоевать. Улегшись снова, я проспал до утра. Утром по моей просьбе
дежурный коридорный принес мне кипятку и вместе с ним
записку от Луки Ивановича Абраменкова1. Когда надзиратель
ушел, я прочел записку, из которой узнал, что Волков здесь,
но сидит в общей камере с уголовными и его на этот коридор
не пускают. У меня нашелся маленький огрызок карандаша,
и я написал Луке все, что со мной случилось, что в протоколе
я взял всю вину на себя и что жену вновь приняли на фабрику.
Не забыл пожурить его за то, что он не смог спрятать переписку,
чем и навлек на пас новое дело. Так с первого дня у нас началась
переписка.
Благодаря моим настойчивым требованиям мне разрешили
прогулку на полчаса. Луку я увидел через окно. Пища была скверная,
но с голоду приходилось и ее уничтожать. На другой день меня
позвали в контору и предложили снять одежду и надеть
арестантскую. В камере я почувствовал скуку: читать нечего, писать же
нельзя. Оставалось одно занятие — ходить из угла в угол и думать
думу крепкую. Зову надзирателя и спрашиваю, есть ли у них
библиотека. Надзиратель говорит, что надо спросить у батюшки:
у него арестанты берут книги. Вечером он приносит мне
душеспасительную книгу. Ну, думаю, теперь начну изучать богословие.
То-то будет богослов в обратную сторону! Вот так и потекла моя
жизнь. Иногда смотритель выкинет какую-нибудь штучку, ну,
конечно сейчас же идешь в канцелярию, пишешь прошение
прокурору или полковнику. Оттуда едут расследовать дело, и
смотритель получает нагоняй, и для нас пища на целую неделю.
По воскресеньям приходила жена. Во Владимире она поступила
в кухарки за два рубля, но с условием, чтобы каждое воскресенье
иметь возможность ходить в тюрьму на свидание. Так просидели
мы с ,Волковым; с января 1885 до октября 1886 года в ожидании
суда. При таком режиме и скудном: питании у Волкова начал
развиваться туберкулез. Лечения никакого не было. Луку Ива-
1 Узнав, что Моисеенко проживает под именем Петра Анисимова у Абраменкова,
жандармы отправились к последнему. Моисеенко не нашли, но при обыске нашли
письма от политических ссыльных из Сибири. Абраменков был арестован. — Ред.
156
яовича освободили, продержавши десять месяцев. 1885 год
прошел, а о суде нцчего не было слышно. Весенняя сессия прошла,
а про нас словно позабыли. Одно утешение было у н!ас—это то,
что наши жены нас не забывали, ходили каждое воскресенье и
цо праздникам и приносили с собой все, что только могли.
Мне не было так горыйо за себя, как за Волкова. Он был] еще
новичок, и для него тюрьма была во >сто крат тяжелее, чем для
меня. К тому же он сидел 6 уголовными: атмосфера
развращающая, а не успокаивающая. Я видел, что Волков мой чахнет, но
сделать ничего не мог.
В мае 1886 года мы получили обвинительный акт в печатном
виде на восьми страницах или даже больше. Первой стояла
моя фамилия, второй—Волкова, третьей—Яковлева, прядильщика
(кажется, не ошибаюсь, называл его фамилию) , а потом уже
подряд остальные, которых' было до пятидесяти человек,,
обвинявшихся по другим статьям. Мы с Волковым сейчас же подали
заявление в окружной суд, чтобы нам позволили просмотреть
наше дело. Суд разрешил, и мы были вызваны. В суде я и
Волков сговорились написать в Москву Плевако и Шубинскому,
чтобы они взяли на себя нашу защиту. На просмотр мы ходили
три дня; пересмотрели наказания. Хотелось узнать, кто был
против нас, но сколько ни рылись, не нашли никаких показаний,
уличающих нас в чем-либо серьезном. Мы остались довольны
и были уверены, что, кроме наших личных показаний, у суда
ничего не будет.
Через неделю мы получили ответ от Плевако и Шубинского,
что они принимают защиту на себя, — они уже подали
заявление в окружной суд.
Первый суд будет коронный — судебная палата. Этому суду
предстоит судить только трех человек, организаторов стачки.
Мы с нетерпением ждали суда, хотя я знал, что этот суд будет
Шемякиным судом. Нас ждет осуждение, и даже Плевако не
поможет. Волкову этого я не говорил,v зная, что это бесполезно.
Яковлева с нами; не было, и мы до суда не знали, где он
находится. Там мы узнали, что <т был выслан под надзор полиции,
но в какую местность—не знаю, забыл.
Накануне суда приехал Плевако, посетил нас в тюрьме, где
советовался с нами, с чего начать защиту. Я говорю Плевако:
— Мне кажется удивительным, что никто ничего не знал
о том^ что творится на фабрике Морозова, как будто это в другом
государстве, несмотря на то, что морозовский товар славится не
только в России, но и за границей.
Плевако отвечает:
— Да, все это верно: фабрика Морозова находилась за китайской
стеной — вот мы с этого и начнем.
Он спросил, как мы живем. Я пожаловался, что плохо, что
делать нечего, книг нет, очень тяжело. Перед уходом Плевако
осведомился, есть ли у нас деньги, на что я ответил, что они
нам вовсе не нужны, так как наши жены приносят нам все,
что необходимо. Но Плевако вынимает портмоне, достает пятишник
157
и подает его Волкову. Тот берет и благодарит. Признаюсь, что
мне было неловко сказать Волкову при Плевако, что он нехорошо
постуцщл, и я 'промолчал. Плевако остался в конторе; нас повели
обратно в тюрьму.
Утром, часов в девять, нас пригласили в контору* Там уже
нас ожидал конвой. Привели нас в арестантскую комнату, где
пришлось ждать до одиннадцати часов. Наконец нас повели
в зал суда. Зал был полон народу, весь владимирский бомонд1
был тут, а за председательским столом в креслах восседали
чиновники высших рангов. Был и прокурор московской судебной
палаты Муравьев, корреспонденты московских газет и др. За
решеткой я увидел Яковлева. Дамы навели свои лорнеты в нашу
сторону, разглядывая нас, как заморских зверей. Пришел наш
защитник Плевако, и раздался возглас пристава: «Суд идет».
Все встали; пригласили и нас встать. Мы встали. Входят
председатель суда, два члена и секретарь. Прокурор суда становится
за свой пюпитр, раскладывает бумаги; председатель объявляет
суд открытым. Секретарем прочитывается обвинительный акт. Мы.
обвиняемся как зачинщики стачки, а все содеянное нами будет
разбирать суд присяжных.
После прочтения; акта слово предоставляется прокурору^
который говорит недолго, больше налегая на мое прошлое, выставляя,
меня человеком, который никогда не будет доволен. Волков, как
более развитой и сознательный ра^бочий, явился хорошим
помощником, в результате чего фабрика была остановлена, что
причинило неисчислимые убытки как хозяину, так и государству.
В таком духе была речь прокурора.
Защитник наш начал о того, знает ли кто-либо, как
происходила работа на фабрике Морозова.
— Я сознаюсь, грешный человек, что до настоящего
времени не знал ничего. Фабрика Морозова была защищена
китайской стеной от взоров всех: туда не проникал луч света, и только
благодаря стачке мы теперь можем проследить, какова была жизнь
на фабрике. Когда мы читаем книгу о чернокожих невольниках,
возмущаемся, но теперь перед нами белые невольники.
(Председатель делает замечание.) Я коснусь здесь одного вопроса: сколько
зарабатывал рабочий и сколько с него высчитывали; в виде штрафа.
Цифры ясно говорят, что средний заработок рабочего равен восьми-
девяти рублям, вычет же в среднем — два пятьдесят, до трех
рублей. Можно ли было существовать на этот заработок? Я знаю,,
скажут, что рабочие могли свободно уйти туда, где им лучше,
а я скажу, что так могут говорить люди, которые или не знают
жизни, или не хотят знать. Рабочий бессилен что-либо сделать,
он вечно в долгу у хозяина. Хозяин: бьет его не только рублем,,
но иногда и кнутом.
Долго говорил Плевако, публика была вся—внимание, и, когда
он кончил, чувствовалось, что много света пролила эта речь на
темную полосу мрака.
1 «Высший свет».
158
Суд удалился на совещание. Через полчаса возвратился
председатель и прочел приговор. Мы трое признаны виновными и
приговариваемся к высшей мере наказания по этой статье—к трем
месяцам ареста при полиции и судебные издержки за-круговой
порукой.
На публику приговор произвел удручающее впечатление.
Казалось, что только один я остался спокойным. На меня приговор
не произвел никакого впечатления потому, что я знал, что ссылки
мне не миновать. Плевако и Шубинский подошли к нам и сказали,
что они хотят апеллировать к судебной палате. Я высказался
против этого, так как считал, что это будет напрасная процедура,
ссылки мне все равно не миновать. Плевако на м!ои слова гордо
заявил:
— Этого не будет.
— Ну, хорошо, я согласен, чем чорт не шутит, когда бог спит..
Если не мне, то моим товарищам, быть может, поможет, а это
уже много будет, и мы будем вам очень признательны.
На этом мы и кончили наш разговор, и нас повели обратно в
тюрьму на старое место.
Через месяц был назначен суд с присяжными. Этот месяц
показался нам дольше полуторагодичного заключения, хотя
режим несколько ослабился. Волков имел возможность заходить в
мою камеру, и мы с ним подолгу беседовали о том, что даст нам
суд с присяжными. Я всячески успокаивал его, доказывая, что
этот суд оправдает всех, каков бы ни был: его состав, с своей же
стороны мы должны вывести на свежую воду все то, что
происходило на фабрике. Со всех концов нам говорили, что нас оправдают;
даже тюремный поп и владимирское общество тогдашнего
времени в один голос твердили! о том, что на& оправдают. Это нас
подбадривало, и мы с нетерпением ждали суда.
Наконец день суда настал. Мы с утра чистились,
прихорашивались, наводили на себя красоту, словно готовились на свадьбу..
В девять часов нас позвали в контору, где уже ждал конвой.
С нами пошел также один старик, который был причастен к этому
делу.
Накануне суда наши защитники посетили нас; вместо Плевако
приехал Холщевников, щегольски одетый молодой человек.
Познакомили его с 'более существенными вопросами дела и выразили
сожаление по поводу неприезда Федора Никифоровича Плевако.
Холщевников нас успокоил, говоря, что все будет хорошо.
Второй защитник, Шубинский, говорил, что дело йе совсем хорошо.
— Кто его знает. Человек молодой; еще мало выступал,
неизвестно, как поведет дело, а ведь все дело в вас двоих: если
вас признают виновными, должны будут признать виновными и
всех. Плохо сделал Федор Никифорович, что не приехал. Быть
может, стоит суд отложить.
Мы взмолились:
— Ради бога, не делайте этого; лучше суд, чем эта проклятая
тюрьма.
Как только мы вышли из тюремных ворот, нас встретили това-
159-
рищи, приехавшие с фабрик на суд. Конвой не подпускал их
к нам. Мы шли посреди дороги, а по панели шли товарищи,
время от времени передавая нам разные новости. Тут были и наши
жены. В городе к нам присоединилась городская публика;
образовалась порядочная толпа; некоторые порывались что-то передать
нам. Так мы дошли до окружного суда. Такое отношение к нам
нас радовало. Мы ясно видели, что народ на нашей стороне.
Нас ввели в арестантскую комнату, где мы уселись на полу
отдохнуть. Волков говорит мне потихоньку:
— Пойду-ка я в уборную и узнаю, что слышно.
Старший отряжает двух конвойных, и Волкова уводят. Я
начинаю расспрашивать конвойных: откуда кто, давно ли служат
и пр. Солдатики разговорились и поинтересовались, за что нао
судят. Тут-то я начал им объяснять, за что судят мужика,
когда он не хочет работать на помещика; за; что судят рабочего,
когда он требует, чтобы его не грабили. Если мужик не захотел
работать на помещика, тот зовет урядника, который и заставляет
мужика работать, а если мужик ослушается, то ег,о ведут к
земскому начальнику, а земский начальник1 — тот ж1е помещик, у
которого также работает мужик, и бедного мужика заставят работать.
То же происходит и с рабочим: не захотели рабочие работать,
сейчас же призывают солдат, казаков для расправы с ними. Вот
нас полтора года продержали в тюрьме.
— Так-то, братцы, мужику везде плохо: с мужика и подати,
и рекрутчина, все с мужика, только мужику ничего...
В это время возвращается Волков и советует мне тоже выйти.
Я спросился, и меня повели в уборную. Лишь только я показался,
как меня окружили рабочие, здороваются. Все рады, что я еще
жив. Шли слухи, что меня засадили в мешок и пропустили через
мельницу так, чтобы и концов не найти. Один из товарищей
вошел в уборную вместе со мной и принес полбутылки водки.
Пить я не мог, но товарищ обиделся, так что мне
волей-неволей пришлось вылить.
Холщевнцков ознакомился; с (нашим делом и надеется выиграть
его. Некоторые давали) нале деньги, но я просил их вместо денег
дать нам хороших книл через йащих жен. Все обещали устроить.
В суде нам рассказали, как рабочие провожали Морозова из суда
в гостиницу, где он остановился. Лишь только показался
Морозов, как раздался оглушительный крик: «Грабитель, колдун,
кровопийца, пей нашу кровь!» Свист, гам, извозчику не давали
ходу. «Ишь, толстопузый чорт, извозчика ему надо! Награбил,
теперь потрясут тебя, небось, карман полегчает... Мы ему еще не
то устроим, будет знать...» На рассказы рабочих я сказал им, что
все пройдет и снова Морозов начнет проделывать свои штучки,
а для того, чтобы этого не случилось, надо держать ухо востро,
не давать накинуть на себя хомут.
Суд начался чтением! обвинительного акта. Секретарь читал
монотонно; он возвысил ^«лишь голос тогда, когда дошел до
места, где говорилось, что я в Петербурге был арестован с
кинжалом и был административно сослан в Сибирь. После этого на-
160
'чался опрос подсудимых, признают ли они себя виновными,
на что доследовал ответ «нет». Во время перерыва мы отправились
в свою камеру, где пообедали и даже кенвой накормили. Я выШелN
в уборную, где меня ждали Лука и брат, которых я просил
передать всем свидетелям быть как можно смелее и рассказывать все,
о чем бы их ни спрашивали.
Первым допрашивался следователь, который начал с того, что
он будет давать показание не как следователь, а как свидетель
того, что он видел н знает по этому делу.
— Мне как следователю пришлось первому приехать на
фабрику, где я .увидел картину стихийного гнева народа, не
поддающегося описанию. Здесь на скамье подсудимых сидят Моисеенко
й Волков как руководители стачки, но эти руководители не
разрушали, а защищали ют разрушения, они. уговаривали народ не
делать этого. Но накопившаяся злоба народа за гнет и попрание
человеческих прав фабрикантом сделали то, что мы видим теперь.
Я убежден, что ни Моисеенко, пи Волков не виновны в этом
деле, — виновата администрация фабрики.
Потом он подробно рассказал, до каких геркулесовых размеров
доходила эксплоатация на фабрцке и пр. Закончил он следующими
словами:
— Нужно удивляться не тому, что произошло, а тому, как это
мог народ терпеть до сего времени,— вот это меня удивляет...
Председатель предложил сторонам задавать вопросы, на что
последовал отказ., Тогда поднимаюсь я и задаю свидетелю вопрос:
известно ли ему, что фабрика Саввы Морозова находится по
соседству с фабрикой Викулы Морозова, и были ли какие-лиоо
разрушения у последнего. Свидетель извиняется, что упустил
из виду тот факт, что, несмотря на все то, что произошло у Саввы
Морозова, у Викулы Морозова не было тронуто, что называется,
ни одной щепки, что он поражается такому отношению народа
к чужому добру.
Во время перерыва входит Шубинский с поздравлением. Для
него было неожиданностью выступление следователя.
— Наад будет теперь уже легче. Но все же я просил бы вас
подать заявление) в суд, что у вас нет защитника, что вы просите
суд разрешить вам защиту. Ведь вся суть процесса в вас двоих,
я потому все внимание мы должны обратить на то, чтобы вас
оправдали; оправдают вас—оправдают и всех.
Мы согласились просить суд, помимо Холщевникова, допустить
и Шубинского. Во время заседания суда мы заявили председателю,
что желаем допустить для защиты нас, т. е. меня и Волкова, еще
и Шубинского, кроме Холщевникова.
Суд тут же разрешил.
Продолжается допрос свидетелей. Вызывается директор Диапов,
который конечно начал оправдывать себя и хозяина, говоря,
что вот он, мол, постудил на фабрику Морозова мальчиком при
конторе, а теперь директором стал; Защитник Шубинский
спрашивает, не состоит ли свддетель компаньоном Морозова', на что
получает ответ «Да».
П Рабочее движение в России.
161
— Скажите, кем было дано распоряжение поставить у дверей
стражу седьмого января?
— Стража была поставлена потому, что нам было сообщено
одним рабочим, что ткачи хотят забастовать и решили остановить
рабочих и не пускать на фабрику.
— А для чего стража ваша была вооружена?
— Боялись, что рабочие учинят бунт.
— Значит, вы знали; и хотели помешать собраться рабочим?
— Да.
Защитник садится. Я встаю и спрашиваю свидетеля:
— По чьему распоряжению штрафовали?
— Это зависело от хозяина.
— Вы же тоже компаньон, без вашего согласия хозяин один
не мог этого сделать.
— Ему было предоставлено особое право на это.
— А вы его утверждали?
— Да, мы делали то, что находили нужным.
Теперь трудно воспроизвести все то, что происходило на} суде,
но мне хорошо помнится, что председатель меня останавливал
несколько раз при допросе Дианова; при допросе свидетелей
доходило до того, что председатель грозил вывести меня из зала
суда. Шубинский отказался продолжать защиту. Получился
скандал, пришлось сделать перерыв. Скандал, уладил Муравьев. Мы
сидели в своей камере и недоумевали, когда вошел Шубинский
и юбъявил нам, что конфликт улажен.
И потянулся суд... Бывали иногда и комичные моменты,
в особенности при допросе Саввы Морозова. Жалко было смотреть
на эту фигуру, когда-то столь грозную, а теперь съежившуюся,
пришибленную, отвечающую невпопад. Вот случай: когда
кончался допрос, Морозов, весь красный, как рак, пошат в зал и хотел
уже сесть на свободное место, но, увидев сидящую женщину-
ткачиху, бросился от нее стремглав в сторону, споткнулся и упал.
В зало поднялся смех.
Интересен был допрос Луки Ивановича. Прокурор все время
налегал на его переписку с Кановкиным и Апельбергом". Защит
протестовала против такого допроса, а Лука Иванович отказывался
отвечать на вопросы, не относящиеся к делу. После допроса
нескольких свидетелей-ткачей, которые показывали, что
штрафовали ни за что ни про чго, а так, за здорово живешь, я попросил
вызвать Морозова для пояснения, так ли было, что писали штраф
ни за что ни про что. Вызвали Морозова. Я спрашиваю:
— Скажите, пожалуйста, за что писались штрафы?
— Писались за порчу.
— Я прошу предъявить Морозову заработные книжки, в
которых записывался штраф, а защиту — обратить внимание на
то, за что написан штраф.
Защита ухватилась за это. Что ни строка;, то перл —штраф
50 копеек, за что — объяснить никто не может, и 7;аже сам
Морозов. Во всех книгах стояла одна буква «б» — и больше ничего.
Вот тут-то и началась перестрелка между защитой, с одной сто-
162
роны, и предоеда/гелем и прокурором — о другой. Председатель
старался выгородить Морозова, а защита уцепилась, как клещ,
и не выпускала своей добычи. Довели до того, что Морозов попро--
сил на время, освободить его от показаний, что суд конечно
исполнил.
Во время перерыва брат мне говорит, что его Дианов спрашивал,
где я учился. Он ответил, что нигде, но директор не поверил:
он убежден, что я из студентов.
Не могу умолчать о допросе мастера Шорина, правой руки
Морозова. Этот холоп начал взваливать всю вину на своего
благодетеля, оправдывая себя с документами в руках. Шорин говорил,
что хозяин его бомбардировал письмами и телеграммами:
штрафовать как можно больше. Шорин тоже знал, что готовится
стачка, но вся администрация вкупе не придавала этому значения,
рассчитывая, что все это кончится ничем. На вопрос, заданный
мною, почему разгромили его квартиру, а не другого, Шорин
отвечал, что все думали, что он своевольно пишет штрафы1.
Этот процесс показал, в каких условиях находились рабочие
и как им приходилось жить.
На пятый день процесса ч начались прения сторон. Речь
прокурора была непродолжительна и почти вся сводилась к 'Обвинению
меня, причем в доказательство приводилась переписка с Сибирью,
в особенности с Апельбергом, Кановкиным (Каняевым). После
него говорил Шубинский, который был защитником более двадцати
обвиняемых. Говорил он очень долго, но нельзя сказать, чтобы
речь его была блестяща — напротив, как мне показалось, очень
слабовата. Речь Холщевникова была сильной и содержательной.
Он громил весь порядок существующего строя, не хныкал, как
Шубинский, он признавал, что сделано великое дело, которое
у нас пока называется преступлением. Преступниками оказались
те, кто защищал свои попранные права, а не тот, кто нарушил эти
права.
— Перед нами прошел ряд свидетелей,, —говорил
Холщевников, — которые выяснили, какой кошмар царил на фабрике, где
пришлось работать Моисеенко и Волкову. Могли ли они быть
безучастны к нуждам своих братьев-рабочих? Я скажу, что нет.
Да и никто из нас не вытерпел бы этого. Что касается Моисеенко,
я должен сказать господам присяжным заседателям, чем руко-
1 «Из расспросов свидетеля Шорина Шубинеким видно, что штрафов с рабочих
собиралось ло 20 тысяч рублей в год. Штраф с рабочих шел п пользу кассы правлония,
а за курение и за водку «на помощь увечным».
Штраф у некоторых рабочих равнялся ЬО процентам жаювапия, воэвышаясь от
30 процентов. Когда ппрафы доходили до 50 процентов, рабочих или заставляли
брать ра чет, а потом они как бы вновь поступали на фабрику, или выдавались
новые книжки, и тат.им образом могушее быть доказательство непомерных штрафов,—
старые расчетные книжки исчезали бесследно...
Иногда Морозов проверял на. таблицах принятую работу, и сверяч штрафы, оп
говорил: «Мяло... прогоню» браковшикам. Материал за п< следнее время выдавался
хуже прежнего, а вес, длина куска и ширина требовалась та же. С хороших
рабочих тоже брались штрафы, равнявшиеся приблизительно 15 процентам». («Русские
ведомости», № 141, 18ь6 года).
!!•
163
водилсй Моисеенко в своих выступлениях: кроме братской любви
и желания помочь людям — ничем. Доказательством этого служит
тот факт, что, как только он вернулся из сибирской ссылки, куда
он был сослан за стачку, здесь, у Морозова, он начинает борьбу
не на жизнь, а на смерть, не щадя себя. Вы видите, что человек
не мог равнодушно смотреть на слезы близких ему людей и
боролся за их интересы. История ого не забудет как борца за великое
народное дело. Волков как рабочий не чужд был того ясе
направления, и он всецело примкнул к Моисеенко, видя в нем спасение.
Если осудить Волкова и Моисеенко—значит, осудить весь
рабочий класс всей России, а поэтому я настаиваю на их полном
оправдании.
После Холщевникова говорил также бывший товарищ прокурора,
который подробно останавливался на разгроме продовольственного
магазина, указывая на то, что среди подсудимых почти нет
рабочих фабрики Морозова, а: большинство из Орехова и Зуева;
толкаемые голодом на погром, все эти бывшие когда-то морозовские
рабочие выразили весь гнев и ненависть к Морозову.
После защиты прокурор додал несколько реплик по адресу
защиты, потом председатель сделал свое резюме, и присяжные
удалились в совещательную комнату, а мы отправились в
арестантскую ждать своей участи. Хотя нам было известно, что за
оправдание девять присяжных, все же нас брало сомнение.
Совещание затянулось, и нам пришлось ждать порядочно.
Наконец нас пригласили в суд. Публика была вся на местах.
Старшина начал читать протокол. Первый, Моисеенко, — по таким-то
статьям не виновен, потом Волков, — словом, всех признали
невиновными. Вздох 'Облегчения пронесся по залу, начались
поздравления. Первыми пожала нам руки защита, потом студенческая
молодежь, рабочие и пр. Но недолго была наша
радость,—возвратился суд и объявил свое решение: Моисеенко' и Волкова
оставить под стражей впредь до решения судебной палаты, куда
подана кассация на приговор коронного суда, остальных
освободить. Защита тут же заявила, что берет нас на поруки, до суд
На это не дал своего согласия, заявив, что освободить нас может
только в том случае, если получится на то постановление
судебной вдлаты.
Поздно ,ночыо вернулись мы в тюрьму.
Через неделю получаем из судебной палаты приказ освободить
нас. Одновременно был получен приказ министра внутренних
дел об удержании нас впредь до особого разрешения. Мой расчет
оказался верным —нас сошлют административным порядком. На
другой день получаем известие, что прокурор хочет опротестовать
приговор.
Волков мой начал падать духом, и я попросил смотрителя
поместить его ко мне в камеру, что он разрешил. И вот мы
принялись горячо за чтепке «Политической экономии» Милля, чтобы
том избавиться от скуки. Студенты сдержали свое слово и
снабжали нас книгами. После суда нам пришлось просидеть до
октября. Только в октябре получилось решение выслать нас
164
административным порядком: меня в Архангельскую губернию,
а Волкова в Вологодскую — на три года. Нам осталось ждать
этапа и подать заявление о желании наших жен ехать с нами.
Все уладили и готовы были к отправке.
Настал день отъезда. Нас вывели во двор, надели наручники,
и мы вышли на простор. Нашим женам приказали ехать за наки.
В полицейском управлении 'вынесли постатейный список для
наших жен, и мы направились на станцию. При посадке нашей
паргии в вагоны произошел скандал: сопровождавший
партию офицер не хотел принять вещей; пришлось с ним
ругаться.
Был уже вечер. Вагон бцл полон арестованными. Кое-как
разместились; жен наших посади ли в женское отделение, их мы
не видели до Москвы. В Москве до Бутырской тюрьмы мы шли
с женами, где нас опять разъединили: их повели в Пугачовскую
башню, а Нас—в Северную. Там, где нас домостили, оказался
знакомый надзиратель, >с которым у нас завязалась маленькая
дружба. Благодаря ему мы могли сноситься с нашими женами.
Ё Москве нам пришлось просидеть с неделю в ожидании этапа
на Ярославль. Предварительно нас тщательно обыскали, забрали
тдбак, спички, бумагу, повели на Троицкий вокзал и отправили
в Ярославль. В Ярославле нас повели в тюрьму, посадили в
одиночку. Ярославская тюрьма производит удручающее
впечатление своей мрачностью. Хорошо, что недолго пришлось просидеть
в ней. Скоро нас отправили дальше. В Вол:огде Волкову пришлось
обратиться к доктору, туберкулез усиливался, и надо было
подумать о лечении. Но тюрьма не может дать лечения, а сидеть ему
пришлось с месяц, пока вышло назначение ехать в Устъ-Сысольск.
Мне пришлось просидеть в Вологде около двух недель, пока
собрался этап на Архапгельск. Здесь я распростился с Волковым,
как оказалось, навсегда.
Дорога от Вологды до Архангельска продолжалась тридцать
два дня. Останавливались в Белозерске, Кириллове, где тамошний
доктор, узнав, кто мы, предложил нам подводу, ужин и два
рубля. Зима, холод стояли в то время, а дорогу приходилось
совершать пешком. Порционных выдавалось несколько копеек
в сутки; мы покупали на них кто треску, кто пикшу, кто
сайду, посылая конвойного покупать как для них, так и для
нас. В Каргополе меня встретили два товарища, помню, фамилия
одного была Левин, другого я не вспомню. Они дали мне табаку,
спичек, бумаги, рассказали, кто находится в Холмогорах, вышли
меня провожать и далее принесли бутылку водки, которую мы
и распили тут же в санях. Вот каково было товарищеское
отношение между ссыльными.
В Холмогорах нас встретили товарищи-ссыльные, все такие
бодрые. Они мне рассказали, кто где находится, и принесли нам
очень вкусный обед. По газетам они; знали о нашем процессе
и думали встретить великана, а встретили пигмея—человека
небольшого роста, угреватого, но плотно сложенного—грудь
колесом, голос чистый, даже позавидовали моему здоровью, несмотря
165
на та, что я перенес ужо но одцу ссылку. Я был рад, что
нахожусь среди своих, и во мне загорелась еще больше
энергии работать за народное дело, все мои помыслы были устремлены
в будущее.
Через два дня мы прибыли в архангельскую тюрьму, Где
нас поверхностно обыскали; меня посадили в общую камеру с
уголовными, а жену—в женское отделение. В конторе мне
предложили подать заявление губернатору, чтобы меня освободили
из тюрьмы и я мог жить под надзором полиции до дальнейшей
отправки. Я так и сделал, и через неделю меня выпустили из
тюрьмы. Мы разыскали с женой квартиру за полтора рубля в
месяц и поселились в ней. Я сейчас же написал письмо в
Холмогоры, чтоб i дали адрес ссыльных в Архангельске. Оттуда
послали письмо прямо Ташакову, который явился ко мне с
одним товарищем. Оказалось, что мы с ним старые знакомые
по Петербургу: вместе участвовали в казанской демонстрации,
и звали его Ушаковым. Здесь меня перезнакомили со всеми
товарищами, находившимися в Архангельске.
В Архангельске пришлось прожить с месяц. Ташаков имел
переплетную мастерскую, в которой работали на артельных
началах. Переплетная была обставлена очень хорошо и давала
хороший заработок.
Быстро пролетел месяц. Накануне мне объявили, что меня
отправят в город Мезень. Товарищи снабдили меня литературой
и всем необходимым, и мы двинулись в путь-дорогу. В Холмо-
горах опять встреча с ссыльными товарищами. Я уже знал,
кто направляется в Пинегу, кто в Мезень. От Архангельска
до Мезени зимой двадцать три дня пешего пути, а летом, кажется,
дней сорок.
В Пинеге нас встретила вся колония ссыльных. Жену мою
они взяли к себе, хотя исправник и намеревался оставить жену
при полиции. Отношение товарищей было очень хорошее. Все
были знакомы с ходом процесса, в особенности1 с выходкой
«Московских ведомостей», блаженной памяти, Каткова1. Последний
метал гром и молнию на суд присяжных за оправдание такого
завзятого преступника, как Моисеенко, и пр.
Назавтра утром мы уселись в сани и тронулись в дальнейший
путь. Товарищи проводили нас за город. Мороз был порядочный,
пришлось упрашивать их вернуться, и мы распростились.
В Мезени попали прямо в полицию; пришли двое товарищей,
их только и было: Кравченко Петр Самсонович, петровец2 (был
1 «Московские ведомости» — газета, издававшаяся с 1756 гола. Ежедневно отала
выходить с 1859 года под редакцией М. И. Каткова, который вел газету сначала
в либеральном духе, а эатем, став на страже интересов реакционного дворянства,
боролся со всяким проявлением прогрессивной мысли. После суда над участниками
морозовской стачки газета резко прогестовала против оправдательного приговора
присялшых. Газета просуществовала до 1917 года и была закрыта после Февральской
революции.—Р е д.
2 Под «петровцем» Моисеенко подразумевает студента Петров:;кой
сельскохозяйственной академии в Москве (ныне имени Тимирязева), — Ред.
16$
сослан по делу Лопатина), и Щепицьш Александр Николаевич,
студент Петербургского университета.
Мы, не снимая вещей с подводы, после некоторой процедуры
отправились к ним на квартиру. Жили они вместе. Я начал
расспрашивать их, чем они занимаются, можно ли найти работу
и т. д. Они, оказывается, обучались столярному ремеслу, так
как другой работы нет. Платят за ученье полтора рубля в
месяц, а за два месяца они сделали себе стол, обзаводятся
инструментом, выписали по столярному долу руководство. За
разговором время прошло незаметно, и мы ночевали у них.
Утром проснулись поздно. Хозяйка давно уже приготовила
самовар, принесла бубликов. Уселись за чай. Говорили о том:,
что надо подыскать квартиру, сходить в мастерскую, закончить
стол и принести его сюда. Так и сделали.
Б мастерской работал один старик, отец столяра, который
осаживал шерхебель для товарищей. Я осмотрел стол и сказал,
что остается только зачистить,—и стол готов. Подали мне
рубанок, двойник, и я принялся за работу. В это время приходит
мастер и, присмотревшись к моей работе, спрашивает:
— Где вы работали?
Отвечаю, что нигде не работал; а вот отец мой ллотнюц
у него-то я и присмотрелся.
— Как, вы политический, а отец ваш плотник?—с удивлением
спрашивает мастер.
— Да, мы крестьяне. Не все политические—дворяне, есть и
крестьяне, и, очень много. А крестьянин должен уметь работать
для своего хозяйства.
Мастер говорит:
— Может быть, вы поступите ко мне работать?
— Почему не так! Можно.
Я зачистил стол, взял его на голову и понес на квартиру.
Тут новое удивление: несу стол на голове, придерживая рукой.
Я объяснил товарищам, что ведь я был в ученье в Петровско-
Разумовском у Филатова, на Выселках, при бакалейной лавке,
и там приходилось таскать на голове тяжести. Петр Самсонович
как петровец заинтересовался, кого я там знавал из студентов.
Я говорю, 'Что знавал Новодводского Ивана, которого учил
Нечаев. И начались общие воспоминания о тех временах,
событиях, о Короленко. Я им рассказал, как мы расставались
с Короленко и как он попал в Якутку. Поделившись своими
воспоминаниями, вее трое пошли искать квартиру. Нашли комнату
с русской печкой, поладили, и я перешел на постоянное
жительство.
Вечером собрались. Начали обсуждать вопрос, как будет дальше:
поступать ли мне к столяру или искать другой какой-либо
работы. П. С. Кравченко предложил мне не искать никакой работы,
а просто-напросто заняться работой на дому, самостоятельно.
Я говорю, что в столярном деле ничего не понимаю и не м>ешало
бы доработать у Мастера.
— Пустяки,—говорит Щешщын,— у нас есть руководство. Ма-
167
ло будет—еще выпишем. Инструмент и верстаки сделаем, лесу
нам дадут сколько угодно с Русановского завода, стоит лишь
послать. Директор там англичанин. Он обещал нам лесу, какой
потребуется и сколько угодно, а насчет инструмента, то таковой
пришлют нам через неделю из Петербурга. Я сегодня же напишу
брату, как раз завтра отправляется почта.
Я согласился с ним. Тогда Петр Самсонович внес новое
предложение:
— Нельзя ли сделать так, чтобы Сазоновна (моя жена)
готовила на нас, а мы приносили бы ей продукты? Это будет
удобнее и не дороже того, что мы платим за стол. Петр
Анисимович будет получать двенадцать рублей в месяц, а; остальное
мы берем на себя. Ну как вы думаете?
Щепицын был в затруднении, так как не было посуды. Но когда
было решено приобрести посуду и согласилась Сазоцовна (жена4
моя согласилась), он присоединился к этому предложению. Мы
закурили трубку мира и закричали «ура». Расстались поздно
вечером. Наутро Петр Самсонович притащил кастрюли, тарелки,
ножи, вилки, мясо, капусту, картофель, даже конфеты (Петр
Самсонович имел слабость к сладкому). Так началась наша
коммуна, и чем дальше, тем все прочнее устанавливались наши
отношения.
Я с обычной энергией принялся за работу: строгал, йи-
лил. Лесу мне привезли целый воз. Я взялся за верстак и
быстро его окончил, только заднюю коробку не мог сделать без
указания. У нас был знакомый столяр, к которому я и
обратился. Он пришел и показал, как она устанавливается, и
подивился моему искусству (я никогда не работал, и эту вещь
сделал в первый раз, а такую работу не всякий плотник сделает).
Первое время мы работали для своих нужд, кому что нравилось":
кому полочка, кому шкатулочка. Александр Николаевич
Щепицын увлекся полировкой. Мы с Самсоковичем работали пока
белую работу, чтобы иметь навык владения инструментом. Успехи
нащи были поразительные.
Знакомый наш столяр удивлялся. Иногда он показывал мне,
как размечать, как расчерчивать. Я все это принимал: к сведению.
Появились заказы. Цены 'мы назначали небольшие, но
заказчики набавляли нам цены сами за чистоту работы. Это нас
радовало, и мы не чувствовали усталости. Я видел в своем
труде источник спасения от всех скорбей и скорпионов. Я так
рассуждал: после ссылки Мй-е не придется итти на фабрику,
едва ли примут па работу после морозовской забастовки, столяром
же всюду можно будет работать. Мои товарищи, глядя на меня,
тоже увлекались работой, и работа у нас кипела.
Однако мы не забывали и просвещения: читали совместно,
когда; получалась почта, журналы, где помещались статьи Южа-
кова, Михайловского, Короленко* Пешехонова и др.
К нам приходили местные учителя, учительницы, дочь
исправника. По вечерам обыкновенно Петр Самсонович брал скрипку,
и начиналось пение. Пели «Ночевала тучка золотая», или «На севере
168
диком», а когда не было дочери исправника, пели и революционные*
песни, в особенности хорошо пел Щепицын «Потом на площади
соборной, в столице русского царя, земли и воли флаг узорный
взвился шестого декабря». Недурно пели «Марсельезу». Я и
жена пели «Ткачей» и «Утес Разина».
Весной было плохо. Почты не было недели по три-четыре.
Река Мезень вскрывается в первых числах июня. Мезень—горо-
дищко с населением меньше тысячи жителей, город тундры.
Продукты идут из Архангельска; кроме рыбы, ничего местного
нет. Приходилось есть рыбу, дичь, оленье мясо, морошку.
Так как капусты и картофеля не было, то и сидели иногда
на одном перловом супе. Весной из-под снега появляется
хорошая клюква; из нее варили кисель. Вечерами устраивали
прогулкц в лес, играли в мяч. Сазоновна стирала на нас, чинила
нам беЛье. В деньгах мы не нуждались, кредит нам был открыт
всюду.
В 1887 году прибыл к нам Александр Серафимович Попов,,
студент Петербургского университета, донской казак. Он внес
в нашу семью еще больше сплочения и солидарности и, одобрив
наше занятие, принялся и са!М с увлечением за работу.
В конце июля мы начали готовиться к сенокосу. Насадили
косы и отправились косить я, жена и Петр Самсонович. Я и
жена хорошо косили, а Петра Самсоновича пришлось учить-
Косили мы для нашей поставщицы мяса, которая была
замечательной женщиной. Она любила политических ссыльных, ссужала
их деньгами, товаром, всем, чем только могла; никогда не
просила долга, а, напротив, сама всегда еще спросит, есть ли у
нас деньги, предложит взять, если нужно. Мы не
злоупотребляли ее доверием, а, напротив, старались платить ей как можно
чаще. Вот этой женщине мы и собрались помочь насколько
можно.
К сожалению, долго мне не пришлось косить, так как пришло
предписание посадить меня под арест при полиции на три
месяца, к которому я был приговюрен коронным судом. Пришлось
сесть. Я попросил исправника поставить в камере небольшой
верстак, чтобы на сидеть без» дела. Исправник разрешил, и я
устроился, как дома. Товарищи и жена посещали меня
ежедневно, носили мне пищу; инструмент для точки, косы
налаживать. Приходила и местная публика с различными просьбами.
Однажды приходят рано, приносят обед.
— Что так рано?
— Едем па маевку.
—■ Ну, хорошо, привезите ягод, наберите грибов, а потом"
расскажете, как вы праздновали.
Вечером, вваливаются ко мйе всей гурьбой, хохочут.
— В чем дело?
— Да как же! Тебе рассказать, и ты будешь хохотать.
— Да говорите, что случилось!
Начинают рассказывать, как донской казак! с мезенской
кобылы упал. Дело было так: задумали согреть чаю; нужно было
169>
привезти воды. Серафимович вызвался съездить. Он сел верхом
и взял чайники. Только тронул—чайники загремели, кобыла
испугалась и стала бить задом. Серафимович не удержался и
полетел с кобылы, а чайндки—в сторону. Кобыла ушла в лес.
Поднялся хохот, а Серафимович, очень застенчивый от
природы, было страшно сконфужен, перед дамами. Это так на него
подействовало, что он растерялся и не знал, что ему делить.
Выручила Сазоновна: она привела; кобылу, принесла воды,
разложила костер. Серафимович долго не мог успокоиться, все
удивляясь тому, что он упал.
Просидели у меня до темноты. Смех, шутки не прекращались.
Время моего ареста в общем проходило незаметно; мне не
было особенно плохо, но все же брала досада, что люди
развлекаются, а я принужден сидеть.
7 августа они снова поехали на лодке по ту сторону реки
смотреть затмение солнца. Их подхватило приливом и понесло
вверх до течению, еле прибились к берегу. Высадились и стали
ждать затмения солнца, которого им однако не удалось увидеть,
так как стоял туман такой, что противоположного берега не
было видно. Когда сели в лодку, их понесло вниз, потому что
.начался отлив. На поверхности воды показался зверь, заяц или
тюлень. Ребята струсили, как бы их не занесло в море, и начали
усиленно грести к берегу. Попали в вяшу, т. е. в грязь, из
которой едва выбрались. Выпачкались, как чучела гороховые.
Пришли ко мне поздно и рассказали свои приключения.
Из-под ареста я вышел в октябре, когда стояла уже зима.
Только я вышел из-под ареста, как из Архангельска приехал
жандармский ротмистр и следователь, и меня позвали к
исправнику. Вот прихожу. Меня приглашают в кабинет.
— Вы Моисеенко?
— Да, я. Что вам: угодно?
— Именем закона мы должны сделать у вас обыск. Идите на
квартиру.
Обыск был произведен, но ничего не нашли. Составили
протокол. После их ухода я удивился, как они не могли догадаться,
когда' рассматривали кусок сплавленного желатина. Вероятно,
они сочли его за мыло. Затем они не нашли спрятанных за
картиной прокламаций. Они искали переписку, перерыли все
бумаги. Вечером зовут опять к исправнику. Начинается допрос.
На вопрос, с кем я переписываюсь, отвечаю, что со многими,
например с родными, И далее: есть ли у меня во Владимире
родные. Я отвечаю, что совершенно нцкого не знаю. После
этого меня заставляют писать крупно и мелко, и я пишу„ будучи
совершенно уверен, что моих писем нет. Написали протокол,
подписали, и делу конец. Больше никого из нас не трогали.
Мы взялись за работу. Но недолго нам пришлось работать.
Щепицын подал прошение Ь переводе его в другой город.
Разрешение пришло, с условием ехать на свой счет с провожатым.
Проводили мы Александра Николаевича Щепицына. Жаль было
расставаться с таким товарищем. Утешало лишь то, что встро-
170
тимся в лучших условиях, когда восторжествует резолюция.
Мы верили, что она придет, желанная, и свергнет иго
самодержавия. В то время, не разбираясь совсем в этих вопросах,
виновником всего этого мы считали только самодержавие. В
Мезени этот вопрос начал обсуждаться только с приездом
Серафимовича, который во время дебатов затрагивал его. Я всегда
ваводил речь о капиталистическом гнетъ, на что мне возраясали,
что у нас нет капитализме. Я тогда, всецело верил
интеллигенции. Да оно й понятно. Сколько тогда было нас? Раз-два—и
обчелся. Вся ссылка была заполнена учащейся молодежью.
Петра Самеоновича; Кравченко потребовали на военную службу.
Мы простились и с ним. Остались жена, я и Серафимович.
Вскоре приехал к нам Редько Петр, студент Технологического»
института.
Еще совсем молодой, мало приспособившийся к подпольной
работе, он попал по делу флотских офицеров с съейом: Шелгуновь,
который впоследствии подал прошение на высочайшее имя о
помиловании. Брат его Александр сослан был в Сибирь. Вскоре
из Пинеги перевели к нам Тихомирова, и нас опять собралась
компания. Но уже не то, что было.
В январе 1888 года у меня родилась дочь. Ухаживать за
нею было некому. Пришлось все делать самому. Купать ребенка
приходила жена, учителя Балиева. Забот был полон рот.
Молодежь не принималась за работу. Пока работали я и Серафимович.
Надо было покончить с заказами; я напрягал все силы. Для
ребенка надо было сделать кроватку. К этому времени мы уже
сделали себе токарный станок.
Жена пролежала в постели дней десять. Готовил пищу сам
с Серафимовичем, а тут еще отчаянное безденежье. Пришлось
залезть в долги по самые уши. Вся надежда была—что
отработаем, и действительно мы отработали. Ребенок остался некрз-
щенным. Дней пятнадцать местная публика поговаривала, что
студенты бога не признают. Пришлось*с этим посчитаться.
Пригласили попа; кумом был Серафимович, кумой—Балиева.
За близкое знакомство учителя Балиева с политическими ему
предложили подать в отставку. Что тут делать, как быть?
Человек он семейный. Судили, рядили, написали во все концы
;и решили, что Ия Васильевна Балиева, жена учителя, поедет
в Петербург и поступит на акушерские курсы, а сам Бализв
лоедет в Архангельск, где поработает пока. Ехать решили весной
пароходом по Белому морю. Серафимович подал тоже прошение
о переводе его в Архангельск для лечения глаз. Приходилось
ждать только до весны. И'ю Васильевну отправили на подводах
в Питер. Из деревни перевелся к нам: Гуревич.
Колония -наша пополнялась, но внутренней спайки не было,
хотя коммуна как таковая продолжала существовать. С
отъездом Серафимовича работать приходилось почти мне одному: Ти-.
хомиров и Редько совершенно бросили, работать, а Гуревич
занялся починкой часов. Средства наши истощились, ждали только
получения одежных, чтобы расплатиться с долгами.
171
Из Архангельска Серафимович переселился в Пинегу. Мне
{писали, чтобы я подал прошение о переводе меня туда же.
Это пришлось сделать в 1889 году. В январе подал губернатору
прошение, мотивируя тем, что мне в этом году кончается срок
и что легче будет выехать водным путем. Ответ губернатора
получился как раз в марте. В последних числах марта я взял
подводу, усадил жюцу) с дочерью. Товарищи все вышли провожать
меня. Так я распрощался с Мезенью.
Через два дня мы были в Пипеге. Квартира1 для меня уже
была приготовлена. Меня встретили Серафимович, Мошицкий,
Захарова. Мы с Серафимовичем завели мастерскую; работа у\наа
закипела. Сначала заказы были небольшие, но потом! они стали
все увеличиваться. Желающие ознакомиться ближе с ссылкой
могут прочесть рассказ Серафимовича «У холодного моря», где
он мастерски обрисовал нашу жизнь. Мне пришлось читать
этот рассказ в журнале «Современный вестник».
Лето 1889 года прошло среди близких и дорогих товарищей,
забыть которых невозможно. У нас не было частной
собственности, все было общее. Те, которые не пожелали этого, отходили
в сторону. С этим и воевала Машицкая. Всех таких она пилила
за эгоизм. Машицкая была одной из неутомимых борцов.
Это было переходное время от народничества к марксизму.
Мы с большим усердием читали первый том «Капитала» Маркса
и произведения Лассаля. У меня был первый том «Капитала»,
подарок П. С. Кравченко; потом я получил от Короленко все
то, что вышло из-под его пера. Серафимович принялся
штудировать Короленко. Пошло первый рассказ Серафимовича,
переписанный Машицкой. Однако этому рассказу не удалось увидеть
света. Написан был второй рассказ, который появился в
«Русских ведомостях»1 и за который получили гонорар 50 рублей.
О, какими богачами мы считали себя!
Машицкий и Машицкая вскоре получили разрешение выехать
в Шенкурск. Но и наша колония прибавилась. Из села прибыл
Иванов и учительница, фамилии которой я не помню. Я готовился
вскоре покинуть этот край. По этому пфводу велась уже переписка]
с Поповым и Гофманом, которые жили в Челябинском уезде и
имели сельскохозяйственную заимку. Вот мы и решили, что
я буду работать с .Поповым и Гофманом как знающими сельское
хозяйство' и столярное, ремесло. Рисковать попасть куда-либо
нашли' неподходящим. Переписка привела к тому, что я еду
в Челябинск, а там—что будет...
Ребенок мой был здоровый,. так что путешествие меня не
пугало. Я всецело отдавался общественной работе: Таким
образом мы постепенно подготовлялись к отъезду. Каждый день
учитывался. Мы торопились покончить с заказами, так к&к одий
* «Русские ведомости» — московская газета, выходившая с 1863 по 1918 год и
группировавшая вокруг себя либерально-народнические профессорские круги, которые
в значительной своей части стали на сторону контрреволюции против Октября и
соответственно проповедывалн свои идеи в газете. С 1906 года — орган правого крыла
кадетов. — Ред.
172
Серафимович не мог сладить, да к тому жю надо было подвести
счеты, узнать, какими ресурсами и я могу располагать в дороге.
Мы собирали последние гроши; в кредит залезать опасались,
так как у пас не было уверенности, что мы расплатимся. Пришлось
отказаться от некоторых предложений, ибо знали, что в срок
внести не можем.
В Нижнем я рассчитывал увидеть Короленко, а в Ярославле
обещали тоже дать письма. На этом основании я решил, что
беспокоиться нечего, а надо действовать. Мы с Серафимовичем
привели все в порядок. Надо было подумать, каким путем ехать:
на лошадях до устья, или нанять лодку и тоже до устья. Я
стал наводить справки. Оказалось, что лодка будет стоить дешевле.
В попутчики к нам попросился один из уголовных. Пришлось
увязать свои пожитки и распроститься с дорогими товарищами
в надежде, что встретимся, когда будет свергнуто ненавистное
царское правительство.
Приложение® I
Устав «Южно-русского рабочего союза»
I. Сознавал,
что установившийся ныне порядок не соответствует истинным требованиям
справедливости относительно рабочих;
что рабочие могут достигнуть признания своих прав только посредством
насильственного переворота, который уничтожит" всякие привилегии и
преимущества и поставит труд основою лимного и общественного благосостояния;
что этот переворот может произойти только при полном сознании всеми
рабочими своего безвыходного положения н при полном их об т/единении,—
мы, рабочие Южно-Российского крал, соединяемся в один союз под
названием: «Южно-Русского союза рабочих», поставляя себе целью:
во-первых, пропаганда идеи освобождения рабочих из-под гнета
капитала и привилегированных классов;
во-вторых, объединение рабочих Южно-Российского края;
в-третьих, для будущей борьбы с установившимся
экономическим и политическим порядком.
II. При «Союзе» находится касса, суммы которой в первое время
предназначаются для пропаганды идеи освобождения -рабочих, а впоследствии и
для борьбы за эту идею.
III. Членом «Союза» может быть каждый трудящийся человек, ведущий
близкие сношения с рабочими, а не с привилегированными классами и
сочувствующий своими поступками основному желанию рабочих—борьбе с
привилегированными классами во имя своего освобождения.
IV. Обязанности личности каждого 'члена к «Союзу» и «Союза» к личности
обусловливаются следующим: один за всех и все за одного.
V. Член «Союза», проговорившейся постороннему лицу о существовании
«Союза» или не исполняющий в точности своих обязанностей к «Союзу»,
считается изменником.
VI. Каждый член должен быть готовым на всякую жертву, если эта
жертва требуется для спасения «Союза».
VII. Каждый член должен распространять между своими товарищами
основные идеи нашего «Союза» и побуждать их присоединиться к нашему делу
освобождения рабочих.
VIII. Каждый член обязан вносить в кассу еженедельно по 25 копеек
(в продолжение года)...
IX. Член, не вносивший в продолжение пяти недель никакого взноса
и но представивший никаких уважительных причин, должен быть исключен
из «Союза».
X. Каждый кружок имеет 'право давать разные льготы своим членам
относительно взносов в кассу.
XI. Внесенные деньги делаются принадлежностью целого общества. Ни
один член не имеет права взять свои деньги обратно.
XII. Распределение денег и расход их может быть производим с
согласия всех членов «Союза».
174
XIII. Для хранения дшег общество избирает из своей среды кассира,
который по* требованию общества обязан давать подробный отчет о деньгах.
XIY. Первые шесть месяцев оо дня устройства кассы деньги не должны
быть расходуемы.
XV. «Союз» разделяется па общества, которых теперь два: Одесское и
Ростовское; общества на кружки; каждый кружок имеет своего депутата
(представителя), который избирается на один месяц. Обязанности депутата—
следить за взносами в кассу, заботиться, чтобы все правила «Союза» были
в точности исполняемы в его кружке,, 'заботиться о нуждах «Союза» и
присутствовать каждое воскресенье при собрании депутатов.
XVI. Устав этот «оаоет быть изменяем и дополняем с согласия всех
членов «Союза».
Приложение II
Программа «Северно-русского союза рабочих»
Сознавая крайне вредную сторону политического и экономического гнёта,
обрушивающегося на наши головы со всею силою своего неумолимого каприза,
сознавая всю невыносимую тяжесть нашего социального положения,
лишающего нас всякой возможности и надежды на сколько-нибудь сносное
существование, сознавая наконец более невозможным сносить этот порядок вещей,
.гризящий иак полнейшим материальным лишением и парализациею духовных
сил, мы, рабочие Петербурга, на общем собрании от 23 и. .30 декабря
1878 года пришли к мысли об 'Организации общерусского союза рабочих,
который, оплачивая разрозненные силы городского рабочего населения и
выясняя ему его собствешше интересы, цели 'и стремления, служил бы
ему достаточным оплотом в борьб! э о /социальным бесправием и давал бы ему
ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения
борьбы.
Организация «Северного союза «русских рабочих» должна иметь строго
определенный характер и преследовать именно те цели, какие поставлены
в ее программе.
В члены этого «Союза» избираются исключительно только рабочие ц
через лиц более или менее известных, числом не менее двух.
Всякий рабочий, желающий сделаться, аденом «Союза», обязан
предварительно ознакомиться с нижеследующей программой и с сущностью
социального учения.
Все члены «£оюза» должны сохранить между собой полную солидарность,
и нарушивший ее -подвергается немедленному исключению.
Член же, навлекший на себя подозрение, изобличающее ею в измене
«Союзу», подвергается особому суду выборных.
Каждый член обязан вносить в общую кассу «Союза» известную сумму,
определяемую на общем собрании -членов.
Делами «Союза» заведывает комитет выборных, состояшдй из 10 членов,
па попечении которого лежат также обязанности по кассе и библиотеке.
Общие собрания членов происходят раз в * месяц, где контролируется-
деятельность комитета и обсуждаются вопросы «Союза».
Собрания уполкомачивают комитет только в действиях, являющихся
непосредственно в интересах всего «Союза». На обязанности комитета лежит
также право сношения с представителями щровинщиа^льных кружков и
фракций рабочих России, примявших программу «Северного союза».
Провинциальные фракции «Союза» удерживают за собой автономное значение
в сфере деятельности, определяемой общею программою, и подчиняются
только решениям общих представительных собраний.
Центральная касса предназначается исключительно на расходы,
необходимые для выполнения планов «Союза», и на поддержку рабочих во время
стачек.
Библиотека имеет целью бесплатно удовлетворять потребности столичных
рабочих, даже и не принадлежащих к «Союзу».
176
Расходы на ее содержание и па выписку книг идут из кассы «иоюза» и
из сумм, жертвуемых рабочими.
«Северный союз русских рабочих», тесно примыкая по своим задачам к
социально-демократической партии Запада, ставит своею программою:
1) ниспровержение существующего политического и экономического строя
государства кале строя крайне несправедливого;
2) учреждение свободной народной федерации общин, основанных на полной
политической равноправности и с полным внутренним самоуправлением на
началах русского обычного права;
3) уничтожение поземельной собственности и замена ее общинным
земледелием,
4) правильную ассоциационную организацию труда, предоставляющую в
рууя рабочих-производителей продукты и орудия производства.
Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком
самостоятельность его убеждений и действий и так как ею прежде всего
обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными требованиями
«Союза» должны быть:
1) свобода слова, печати; право собраний и сходок;
2) уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступлением;
3) уничтожение сословных прав и преимуществ;
4) обязательное и бесплатное обучение во всех школах и учебных
заведениях ;
5) уменьшение количества постоянных войск или полная замена их народньш
вооружением;
6) право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то:
размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления;
7) уничтожение паспортной системы и свобода передвижения;
8) отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно доходу
и наследству;
9) ограничение числа рабочих часов и запрещение детскою труда;
10) уничтожение производительных ассоциаций, -ссудных касс и дарового
кредита рабочим ассоциации и крестьянским обществам.
Вот в главных чертах та программа, руководиться какою поставило себе
задачею общее собрание петербургских рабочих от 23 и 30 декабря.
Путем неутомимой и деятельной пропаганды в среде своих собратьев
«Северный союз» надеется 'достичь тех результатов, которые выдвинут и у нас
рабочее сословие и заставят его заговорить о себе, о своих правах; посему
на обязанности каждого члена этого «Союза» лелсит священный долг вести
посильную агитацию в угнетаемой и отзывчивой на требования справедливости
рабочей массе. Услуга его не останется забытою потомством, и славное имя
его, как апостола евангельской истины, занесется в летописи истории.
Рабочие! Вас зовем мы теперь, к вашему голосу совести и сознанию
обращаемся мы.
Великая социальная борьба уже началась, и нам нечего ждать; наши
западные братья уже подняли знамя освобождения миллионов, и нам остается
только примкнуть к ним. Рука об руку! с ними пойдем мы вперед и в
братском единении сольемся в одну грозную боевую силу.
На нас, рабочие, лелсит великое дело—дело освобождения себя и своих
братьев, на нас лелсит обязанность обновления мира, утопающего в роскоши
и истощающего наши силы,—и мы доллсны дать его.
Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа, кто первый
12 Рабочее движение в России.
177
был носителем его учения о любви и; братстве, перевернувшего весь старый
мир. Простые поселяне! Мы тоже зовемся к проповеди, мы тоже призываемся
быть апостолами нового, но в сущности только непонятого и позабытого
учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут
бить и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их
поруганий, так как одно это озлобление против нас уже покажет нам ш
бессилие в борьбе с нравственным величием идей, в борьбе с тою силою,
какую мы представим собою.
«Вы развращаете мир,—скажут нам,—вы разрушаете семью, вы
попираете собственность и оскверняете религию». «Нет,—будем отвечать им,—не
мы развращаем мир, а вы, ;не мы причина зла, а вы. Напротив, мы идем
обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна
быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве...»
Рабочие! Становитесь смело под наше знамя социального переворота, сомкьи-
тесь в дружную братскую семью и, опоясавшись духовным мечом истины,
идите проповедывать свое • учение по городам и селам! Ваше будущее лежит
в этой спасительной пропаганде, и ваш успех зависит от нравственной силы
вашей; с (нею iмощны вы, с нею вы покорите мир.
Знайте, что в вас заключается вся сила и значение страны, вы—плоть
и кровь государства, и без вас не существовало бы других классов, оосушда
теперь вашу кровь. Вы смутно сознаете это, но у вас нет организации,
нет идеи, которой бы руководились, нет наконец нравственной поддержки,
столь необходимой для дружного отпора врага. Но мы,
рабочие—организаторы «Северного союза», даем вам эту руководящую идею, даем вам
нравственную поддержку в сплочении интересов и наконец даем вам ту
организацию, в какой нуждаетесь вы.
Итак, за вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь великого
«Союза» и успех социальной революции в России.
«Петербургская вольная типография», 12 января 1879 года. Печатано по прсеьбе
рабочих.
Содержание
Предисловие Вл. Малаховского 5
Речь рабочего Петра Алексеева . . . . • 23
Жизнь русского рабочего полвека тому назад ... 28
Воспоминания рабочего В. П. Панкратова 46
Из воспоминаний П. А. Моисеен чо 109
Приложение I 175
Приложение II 177
Редактор Котов. Техред. Лойтерштейн. Обл. худ. А. Гончарова.
Сдано в производство 14/IV—33 г. Подписано к печати 5/VII—33 rv
М. Г.—2823. Инд. Д—0. Формат 62X947ie. H'/i печ- л- *8 00° зн-
в печ. л. Уполн. Главлита Б—30084. Тираж 15 000. Зак. 6695.
Фабрика книги сКрасный пролетарий» издательства ЦК ВКП (б
Партиздата. Москва, Краснопролетарская, 16.