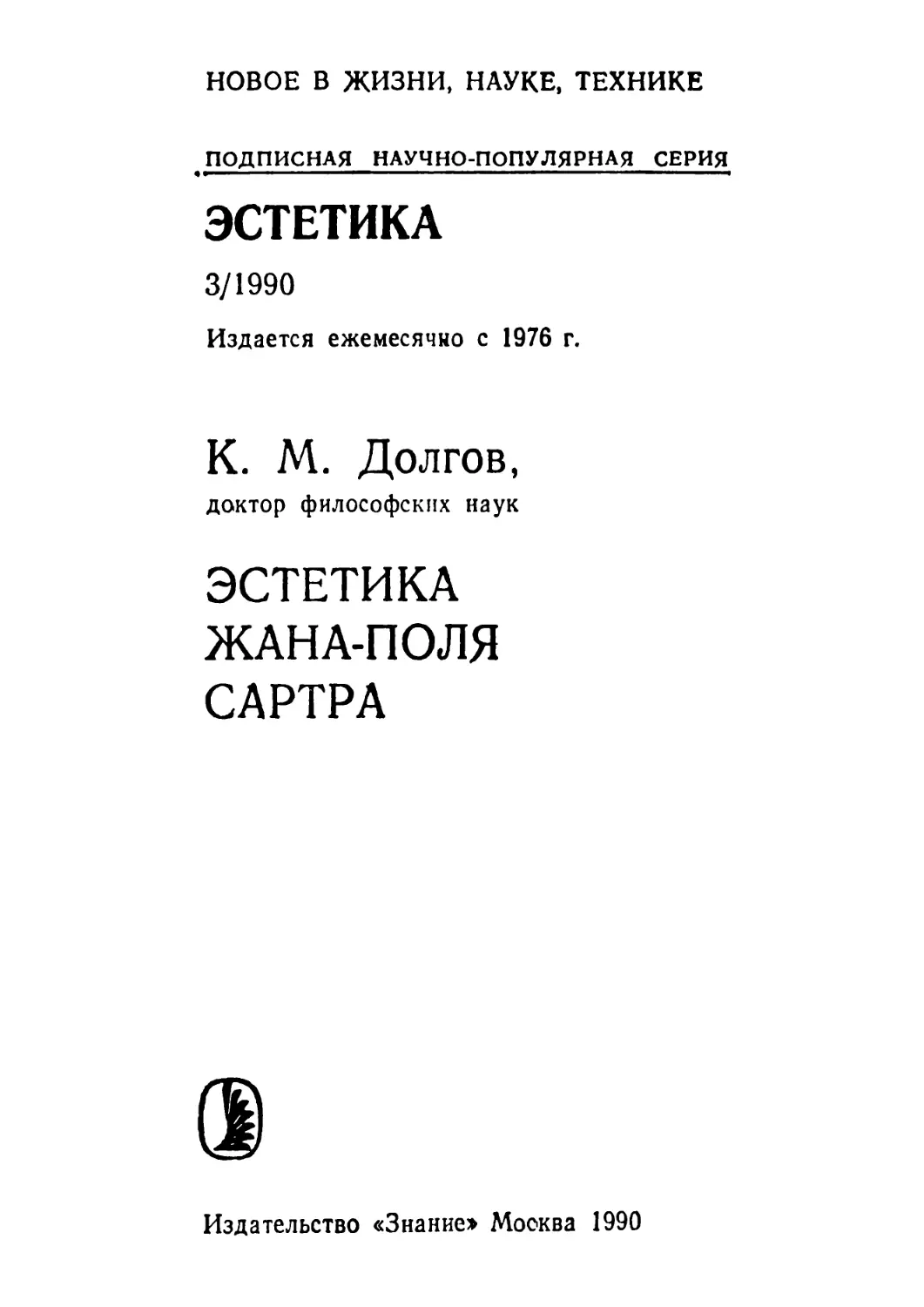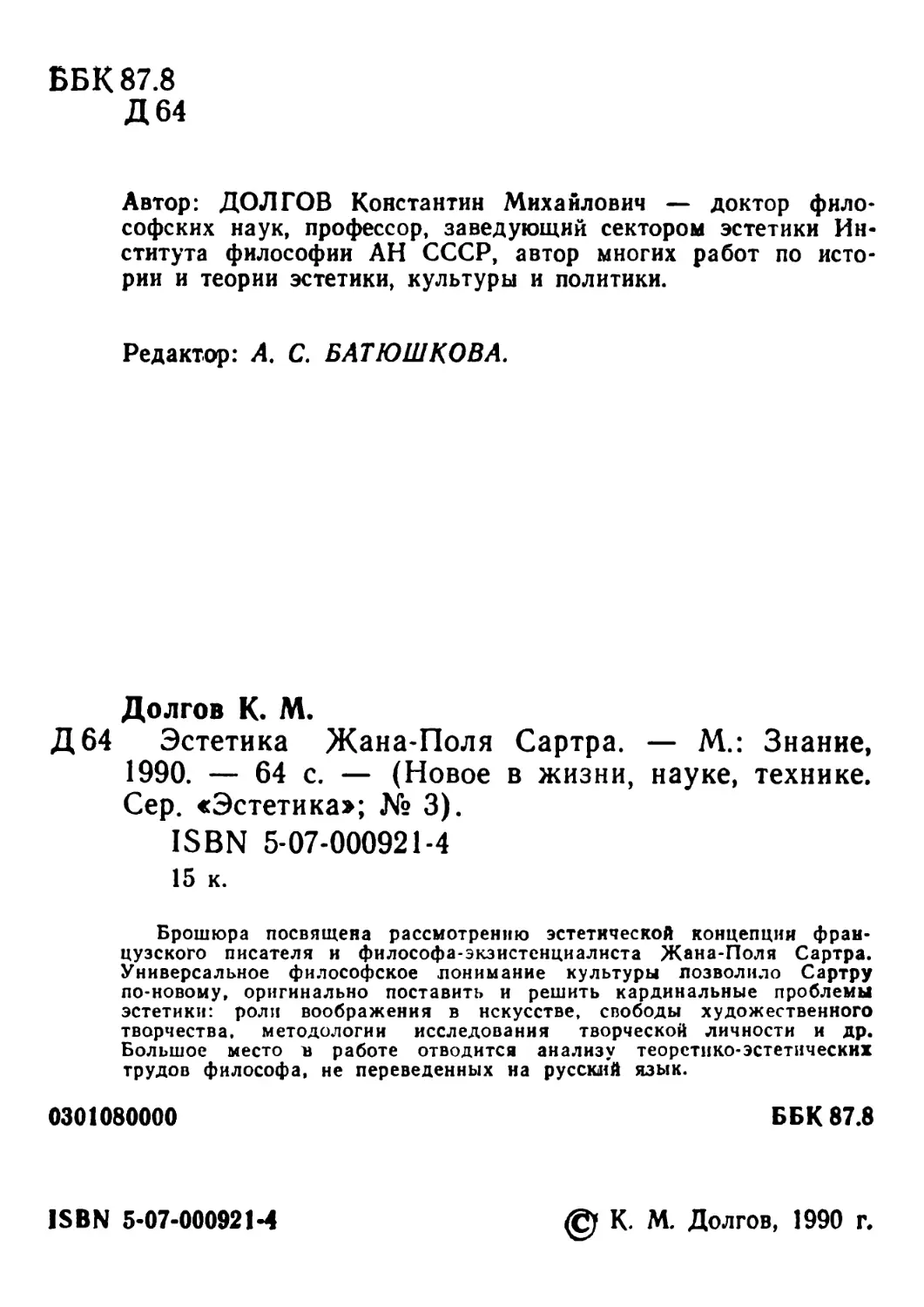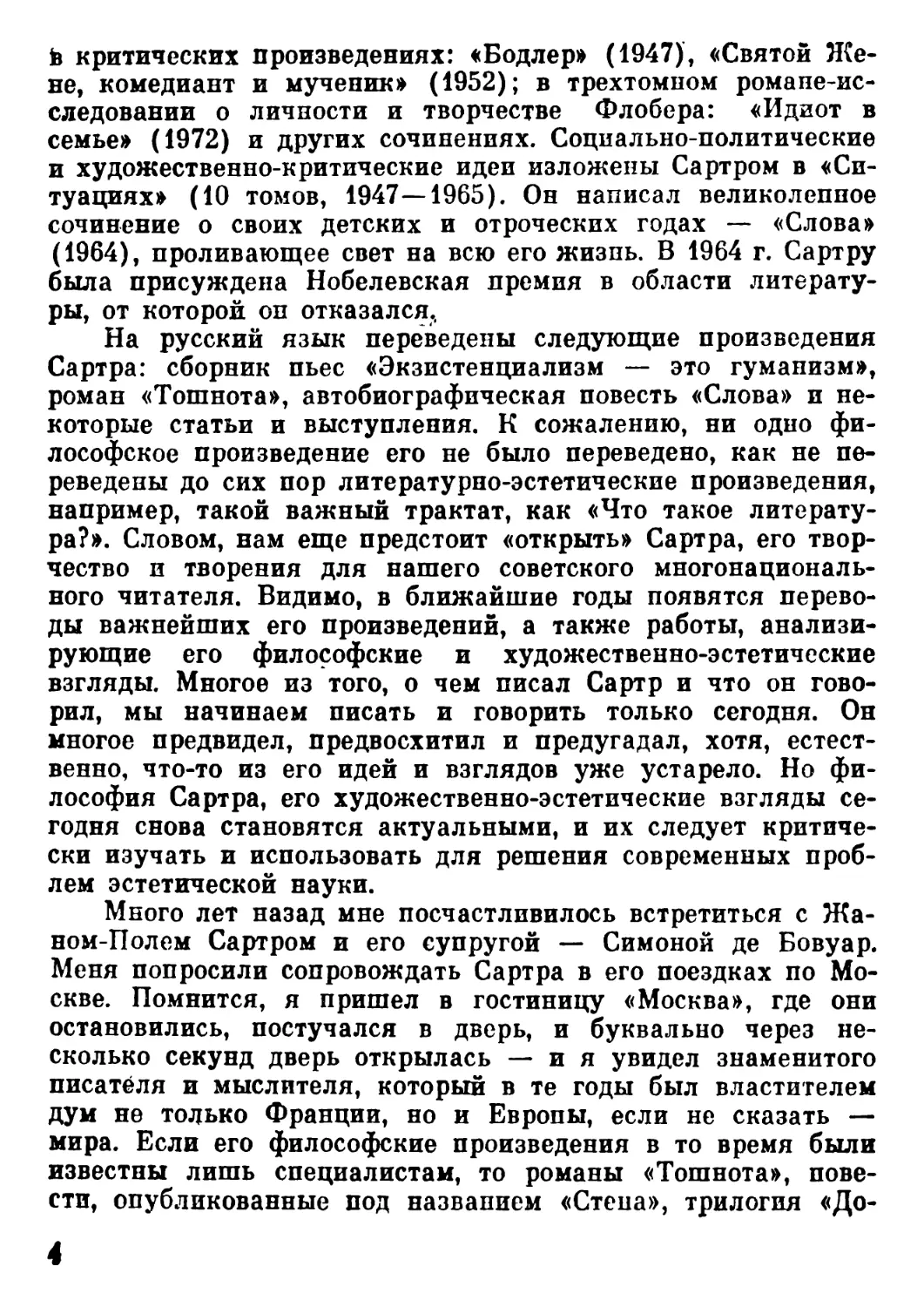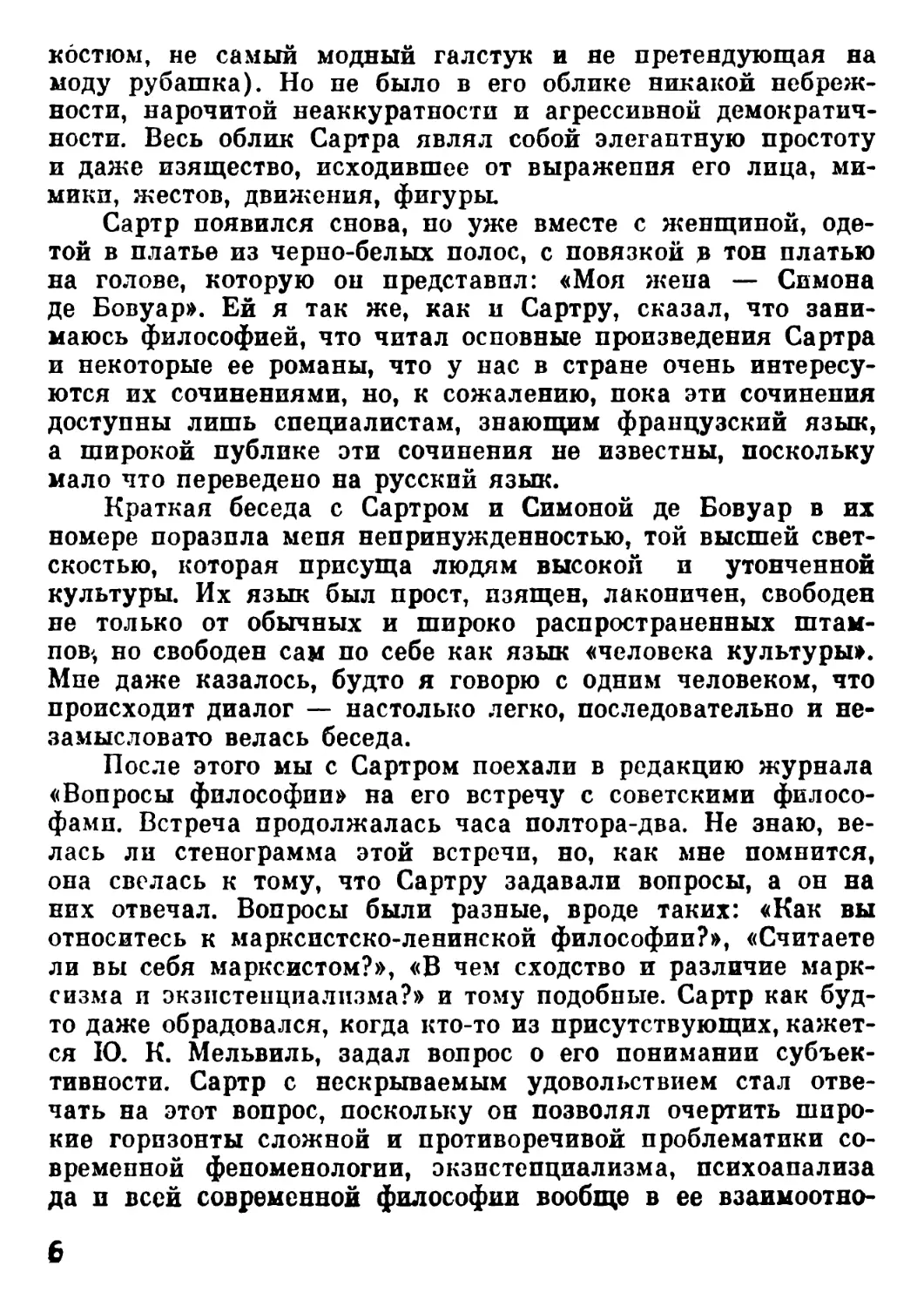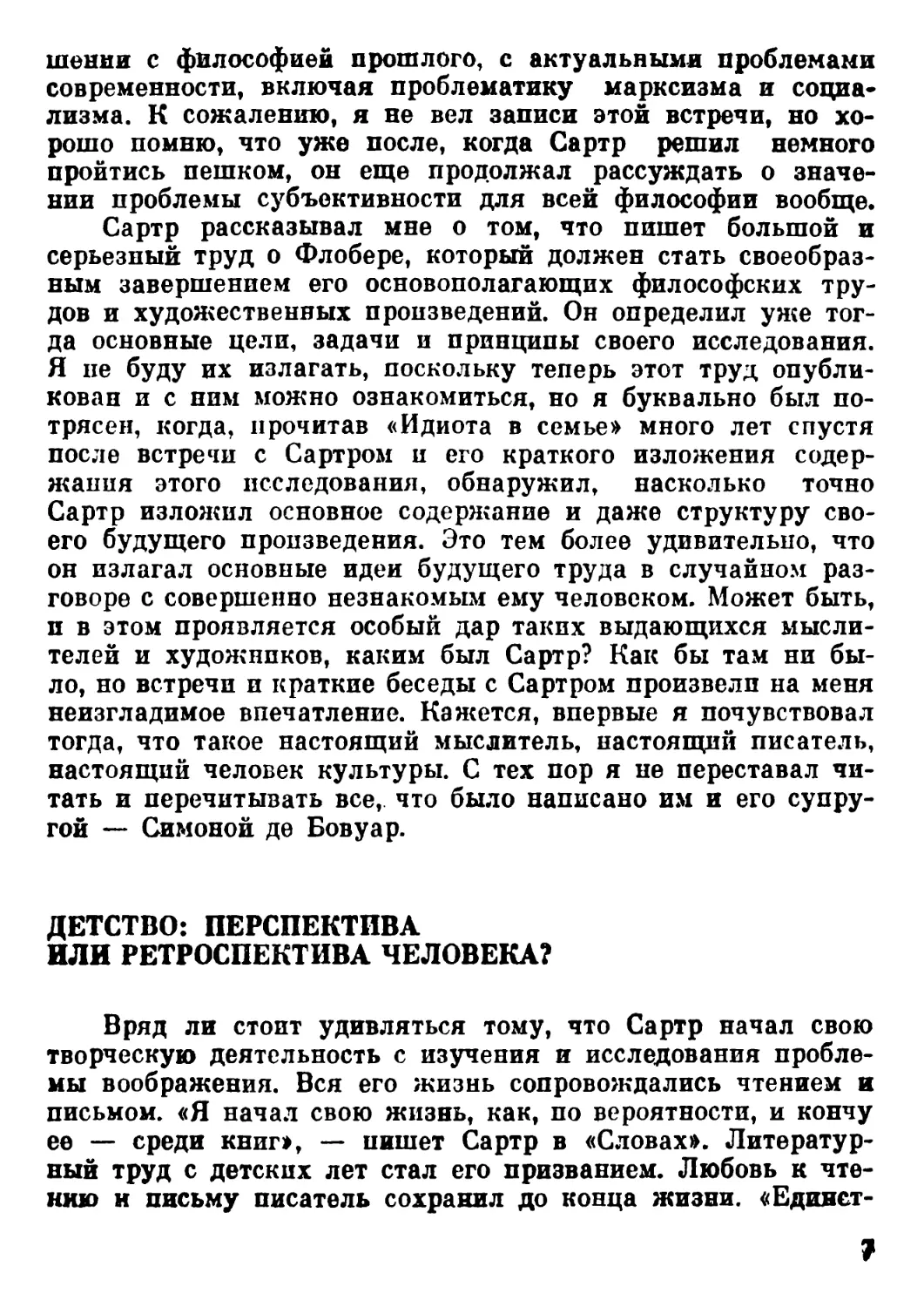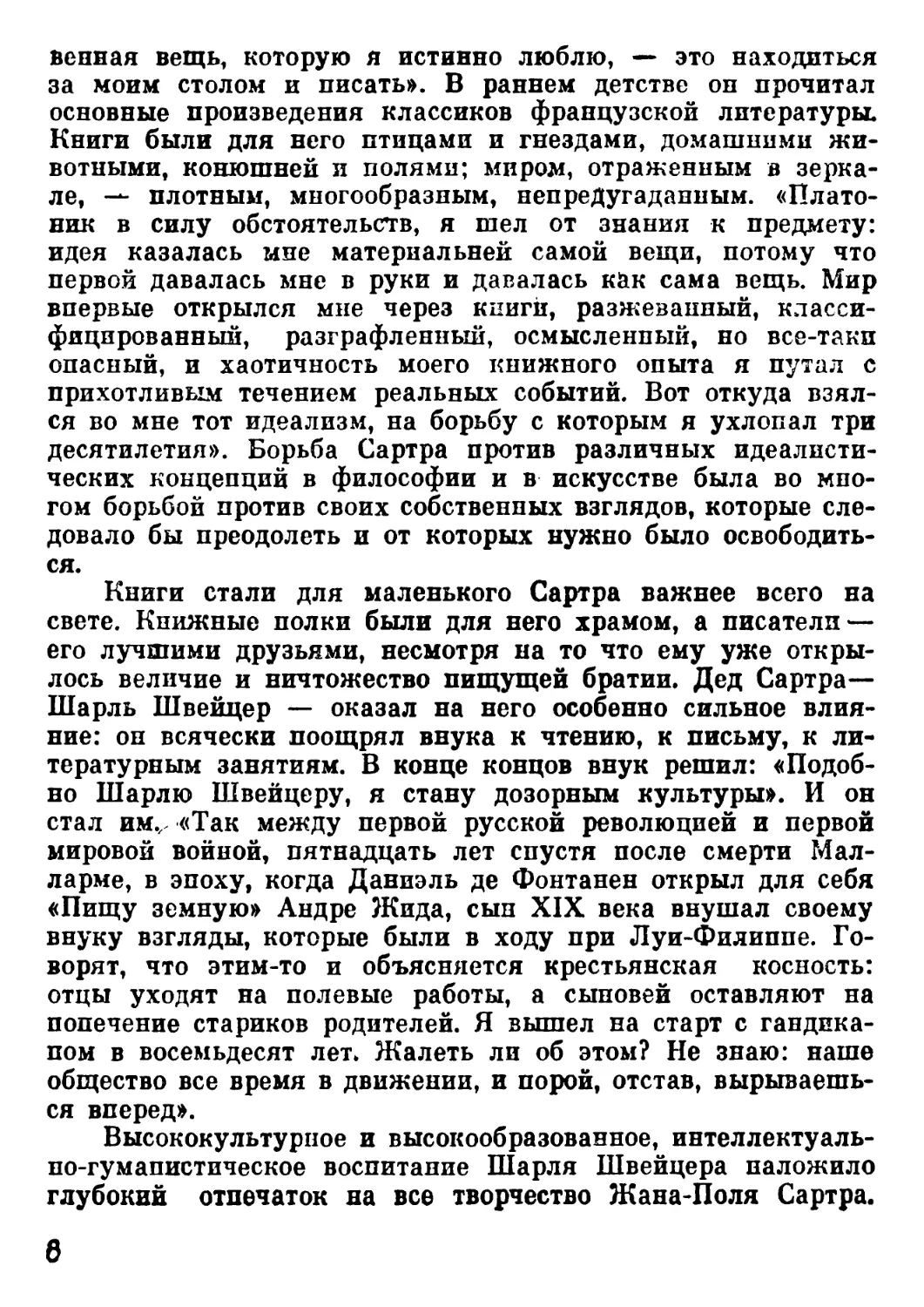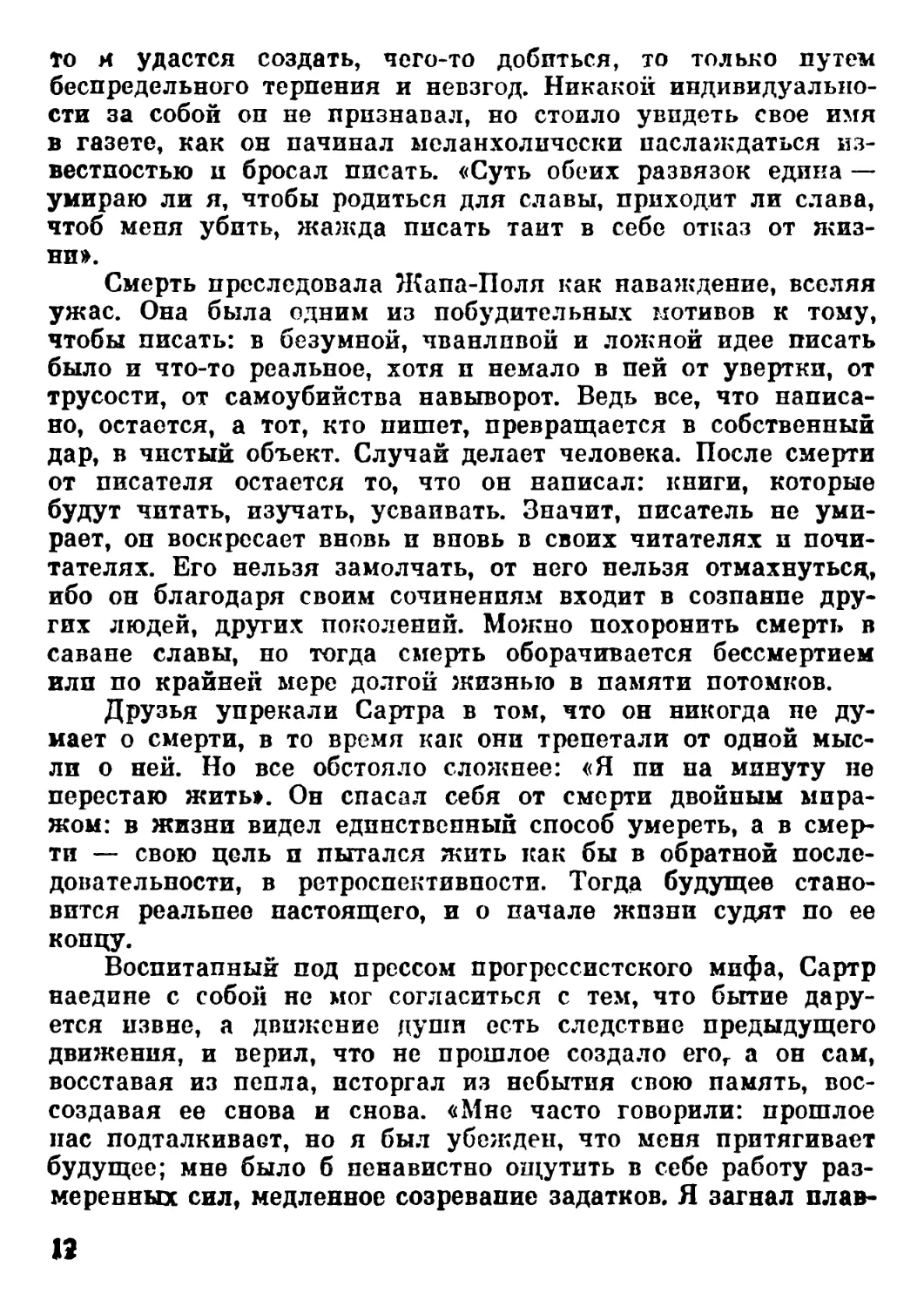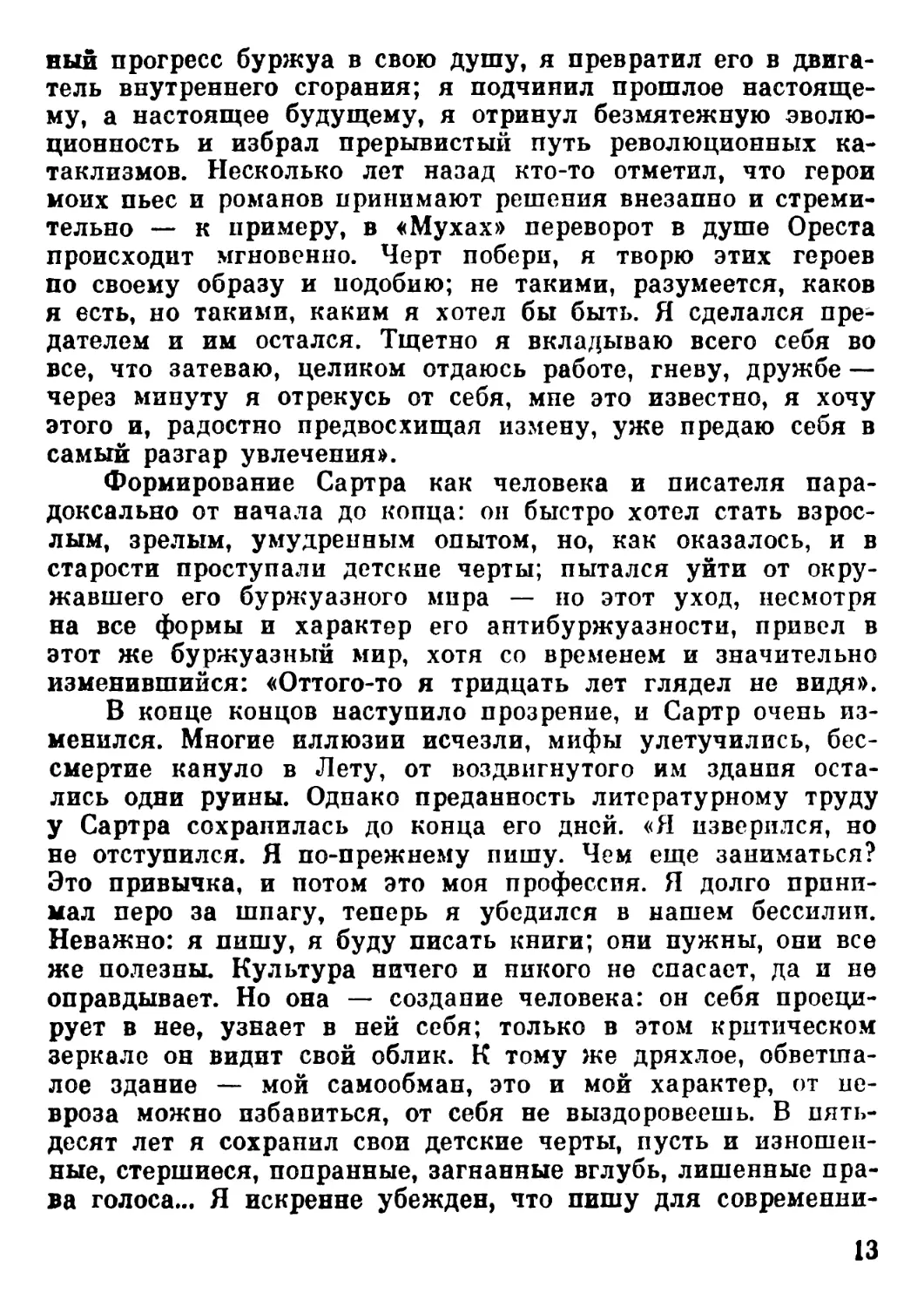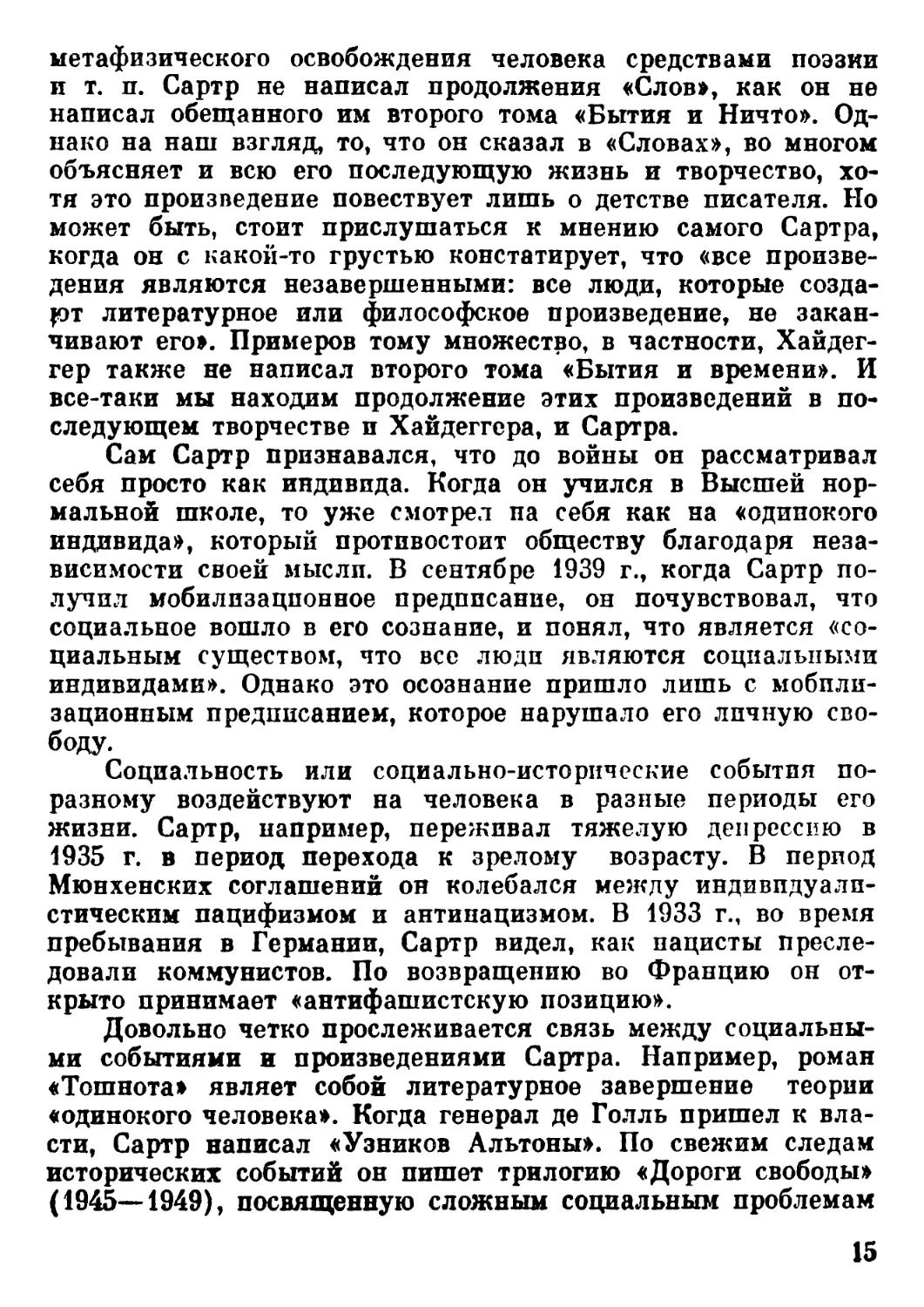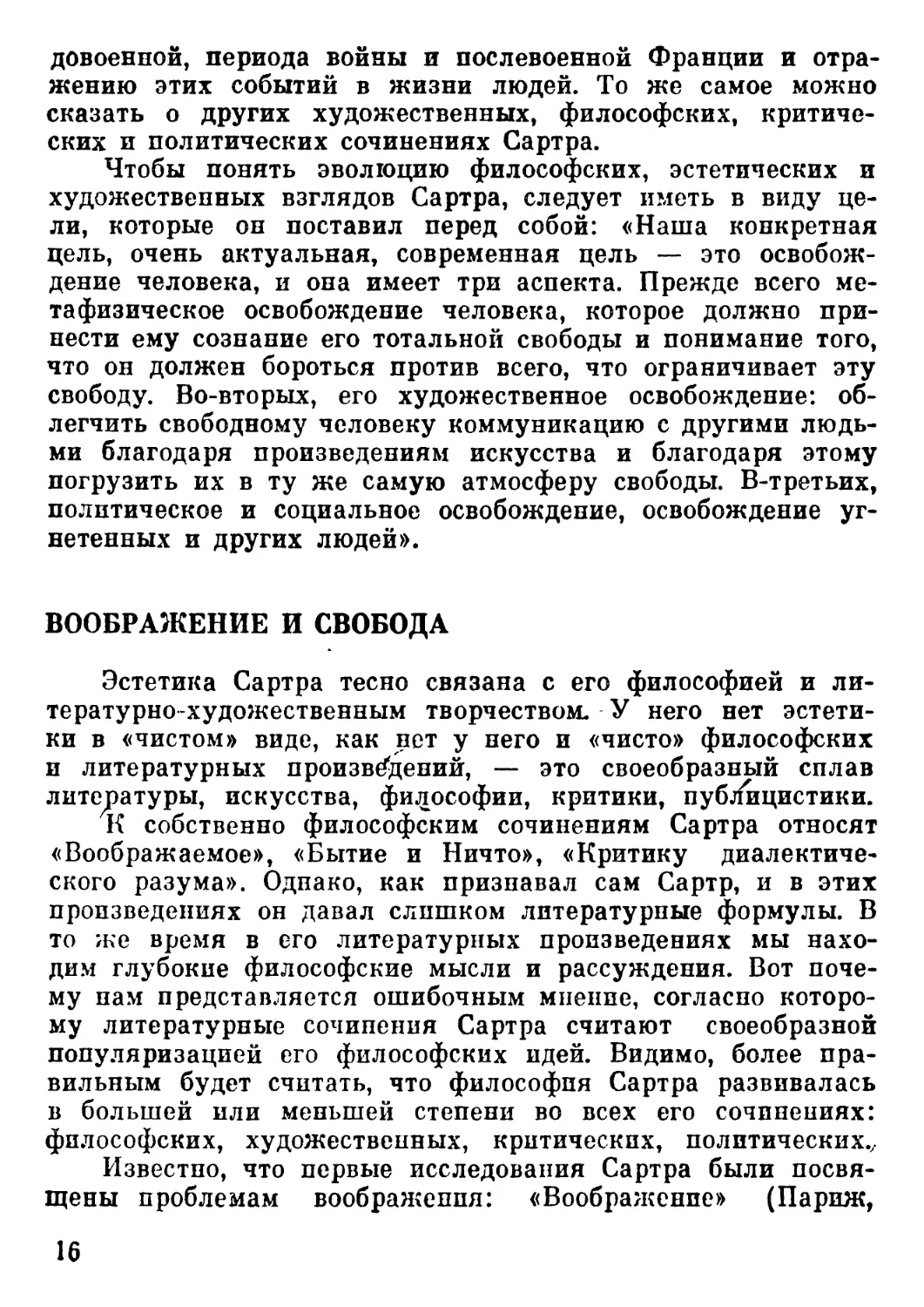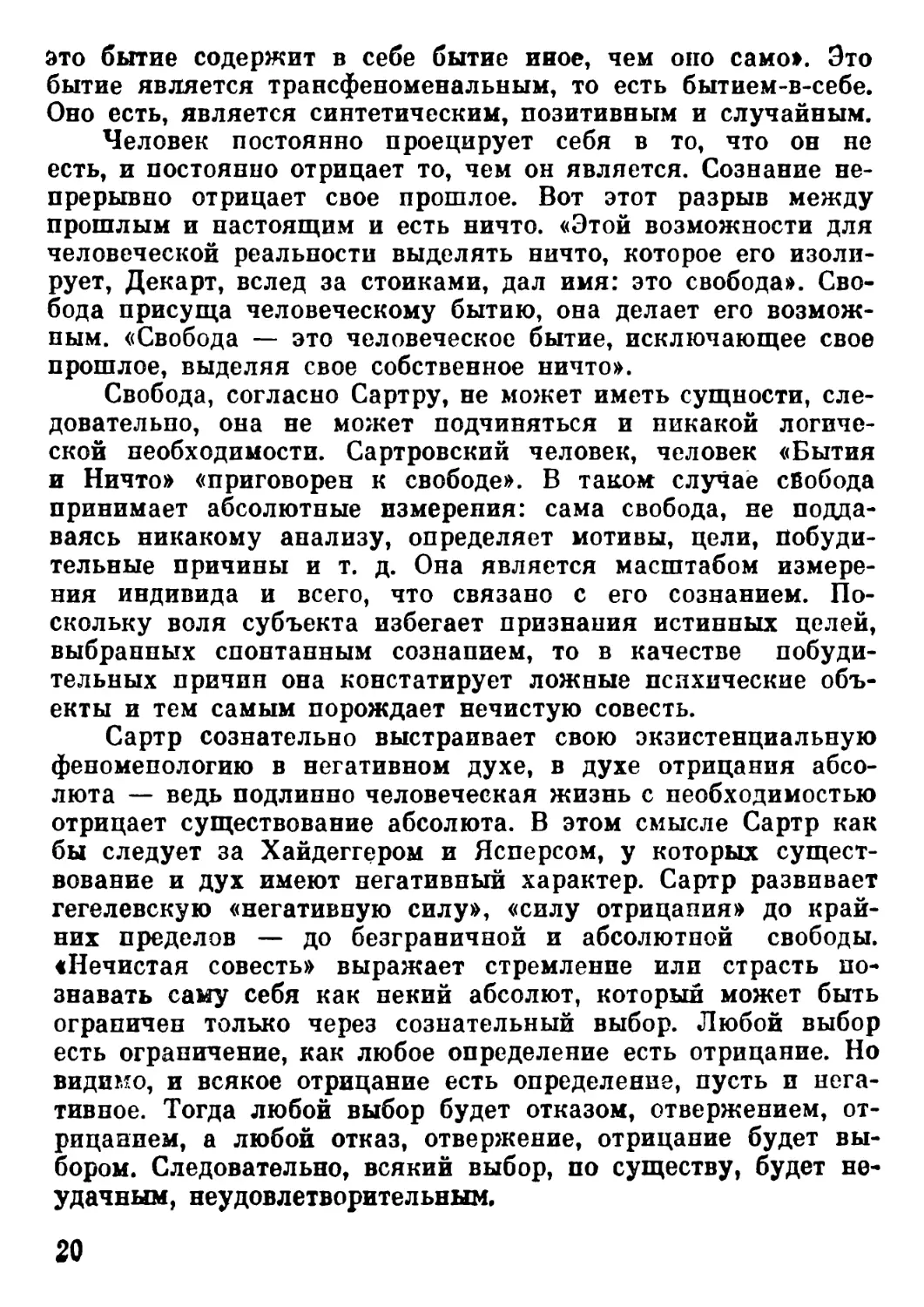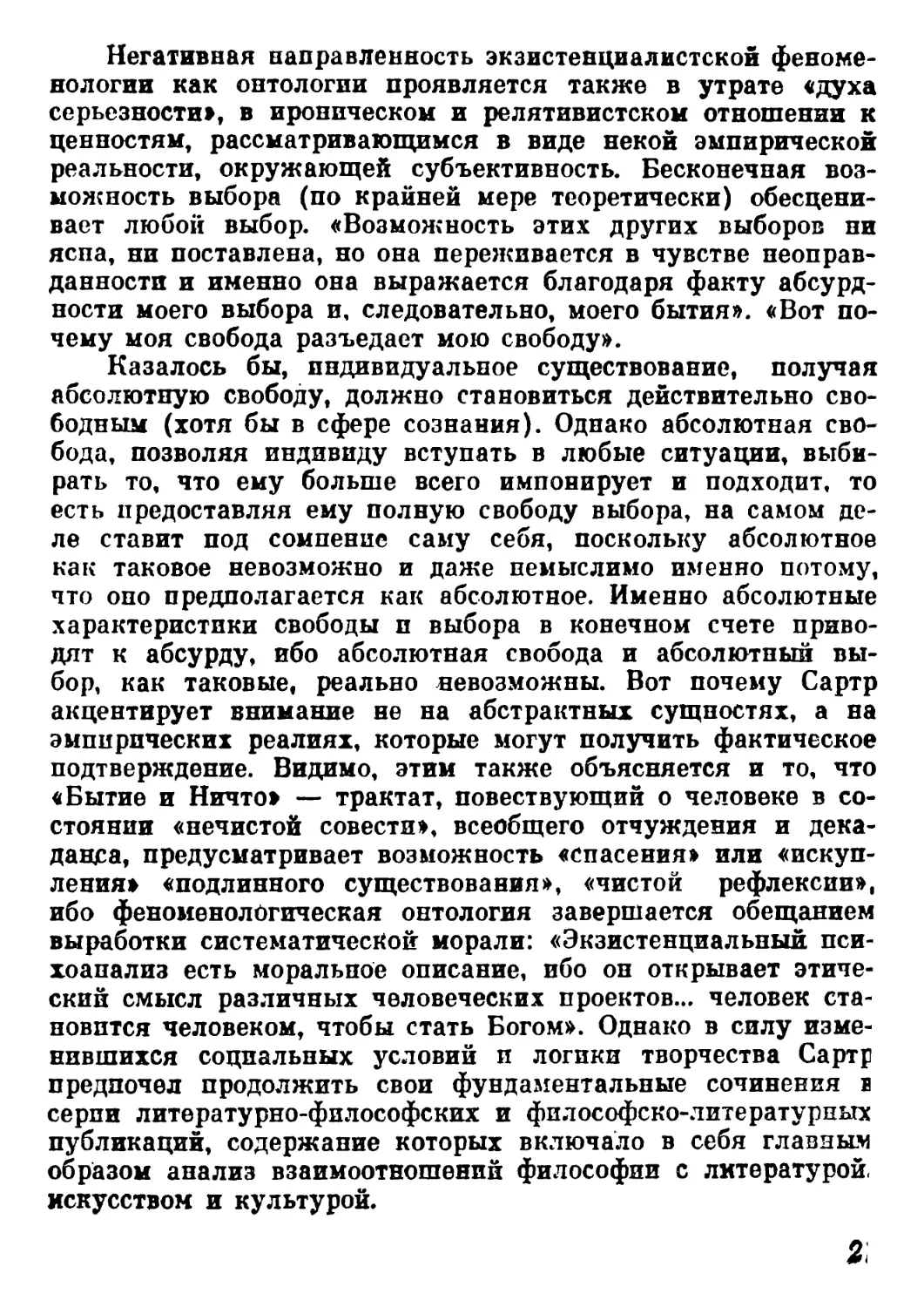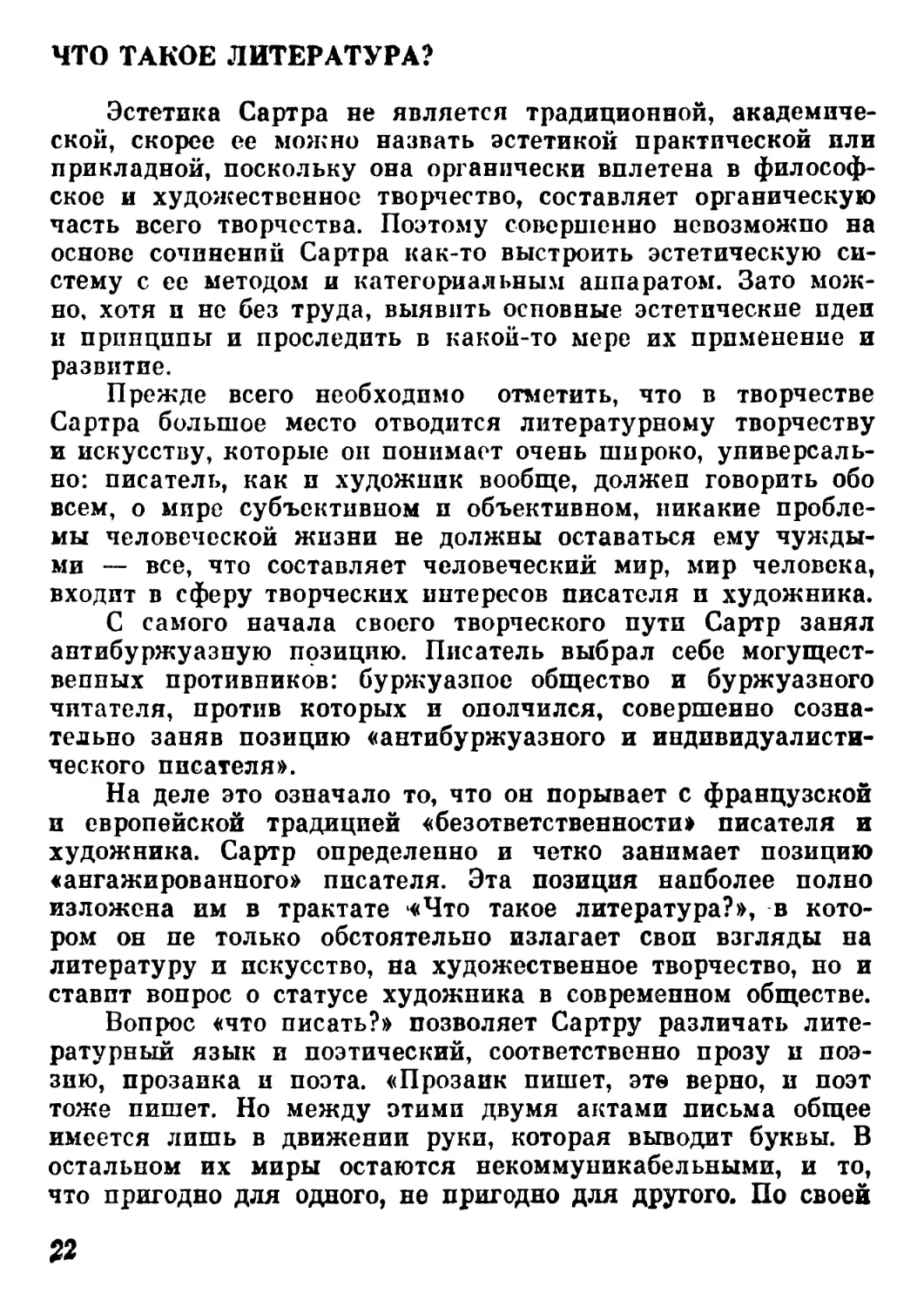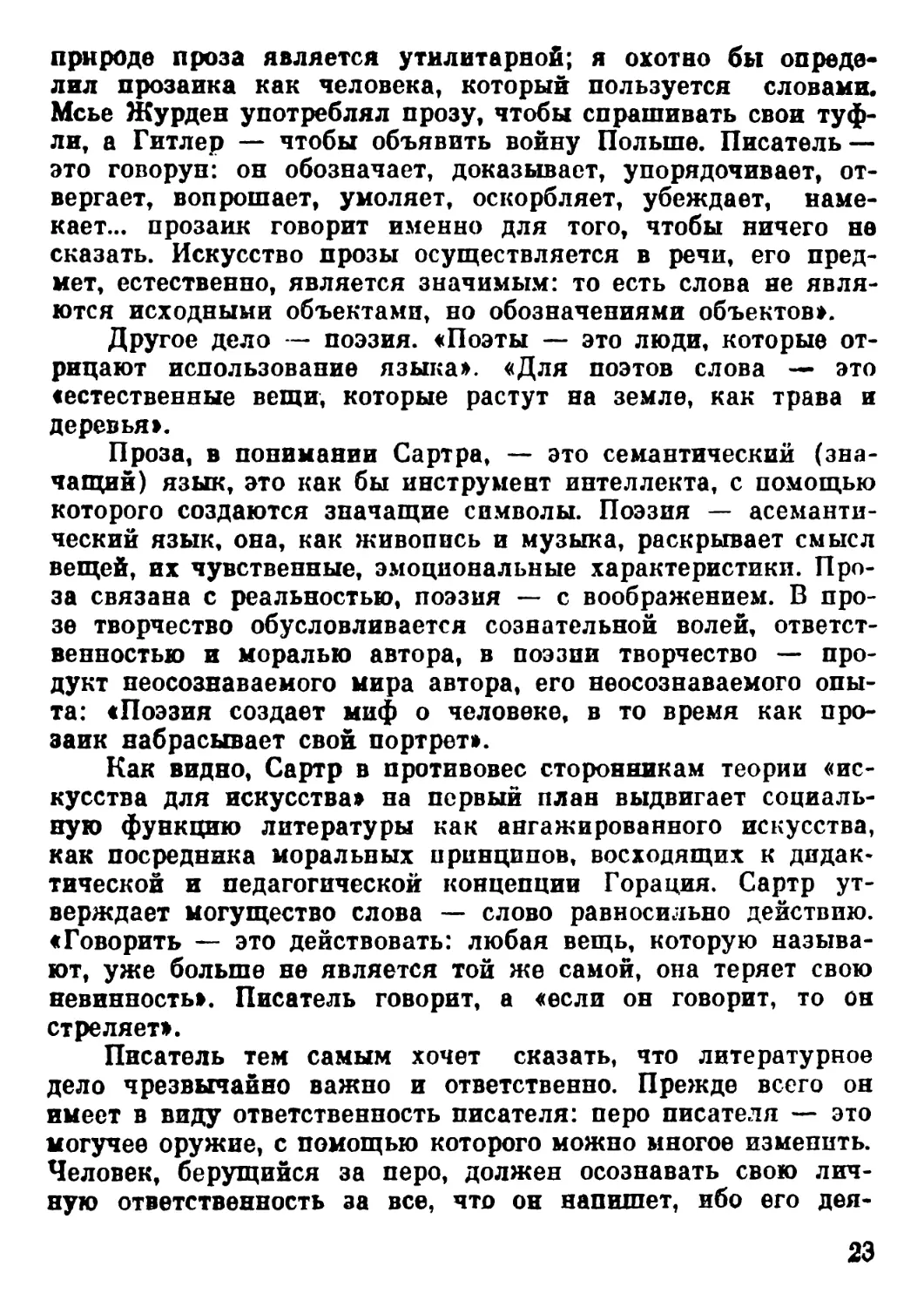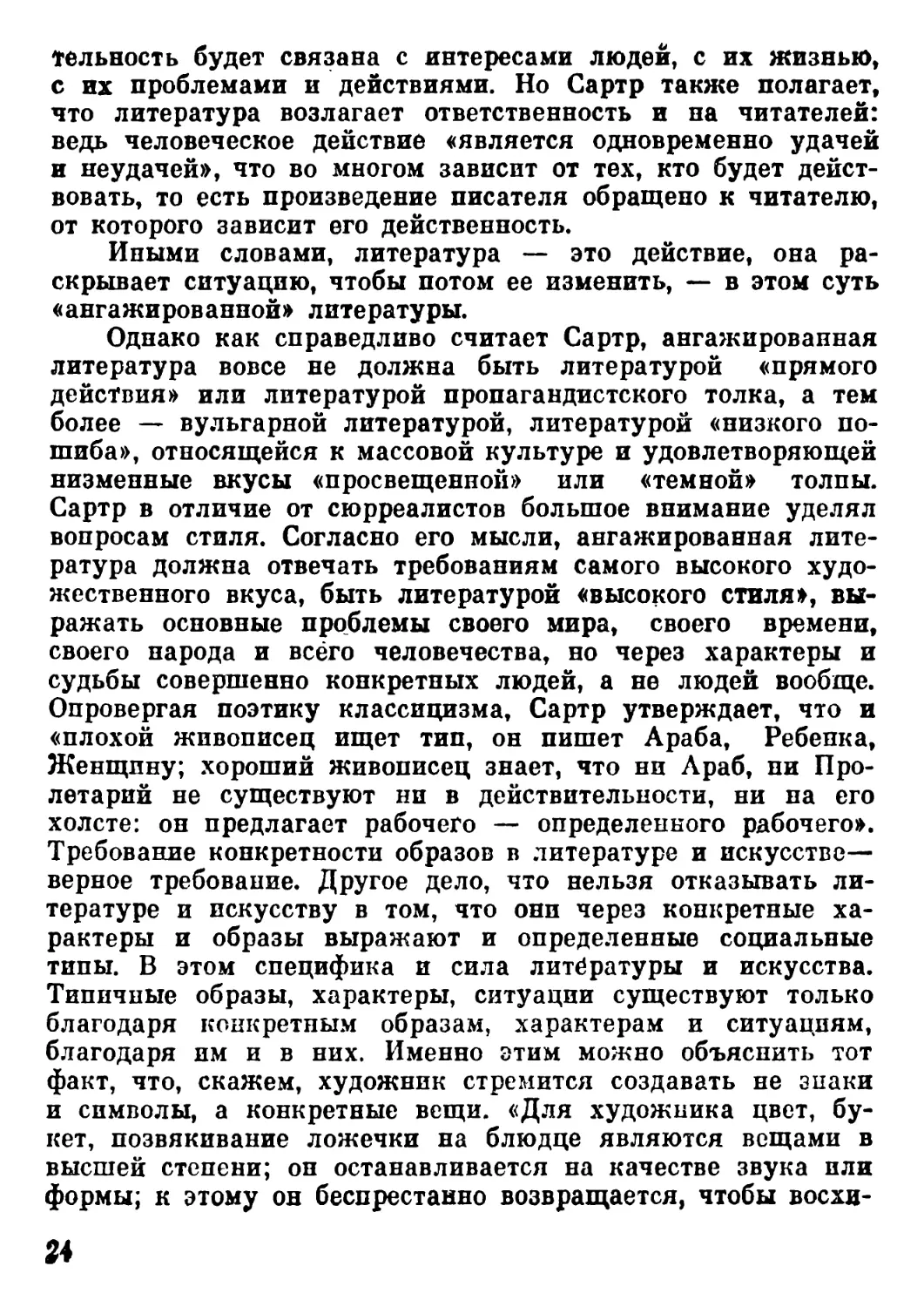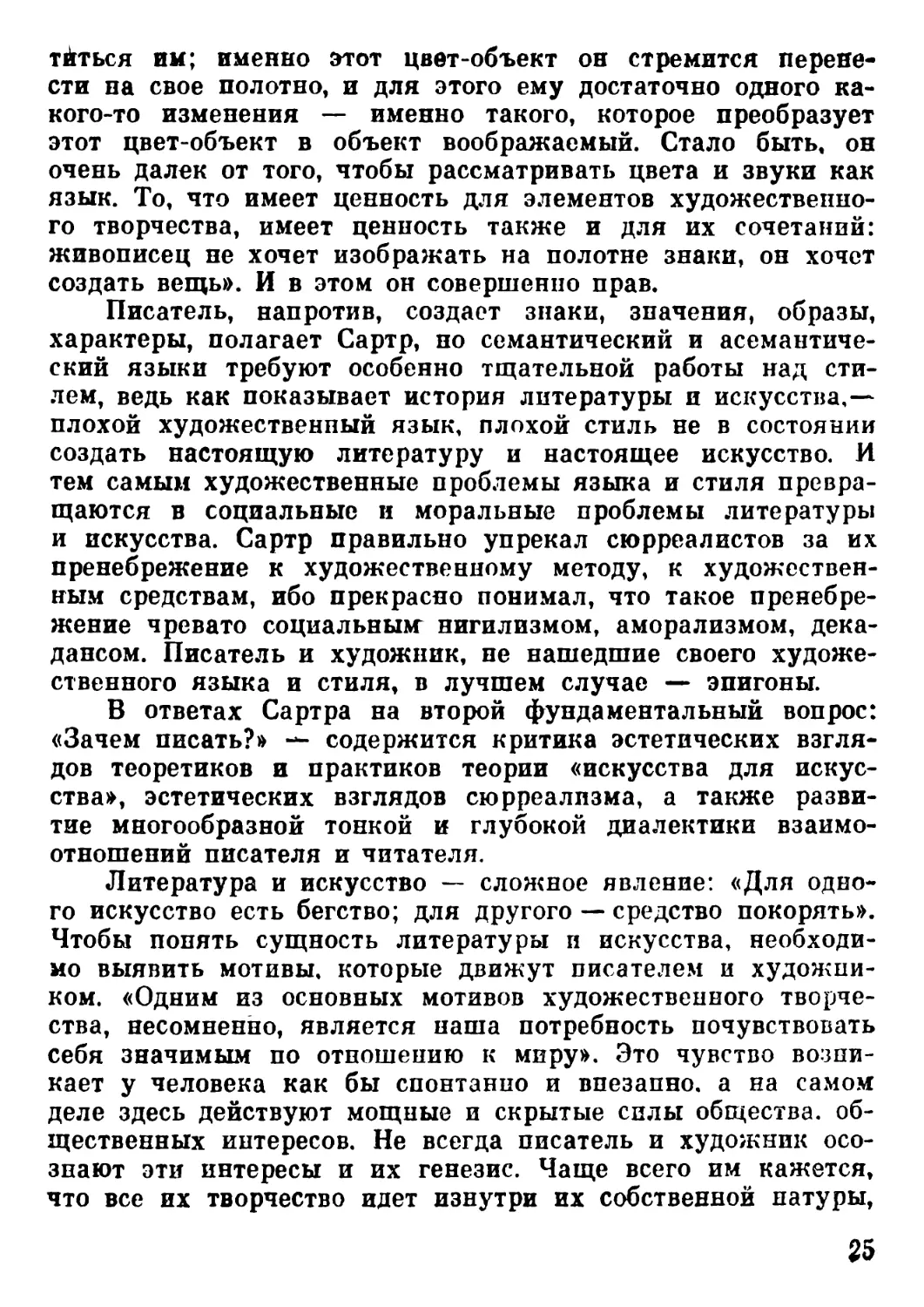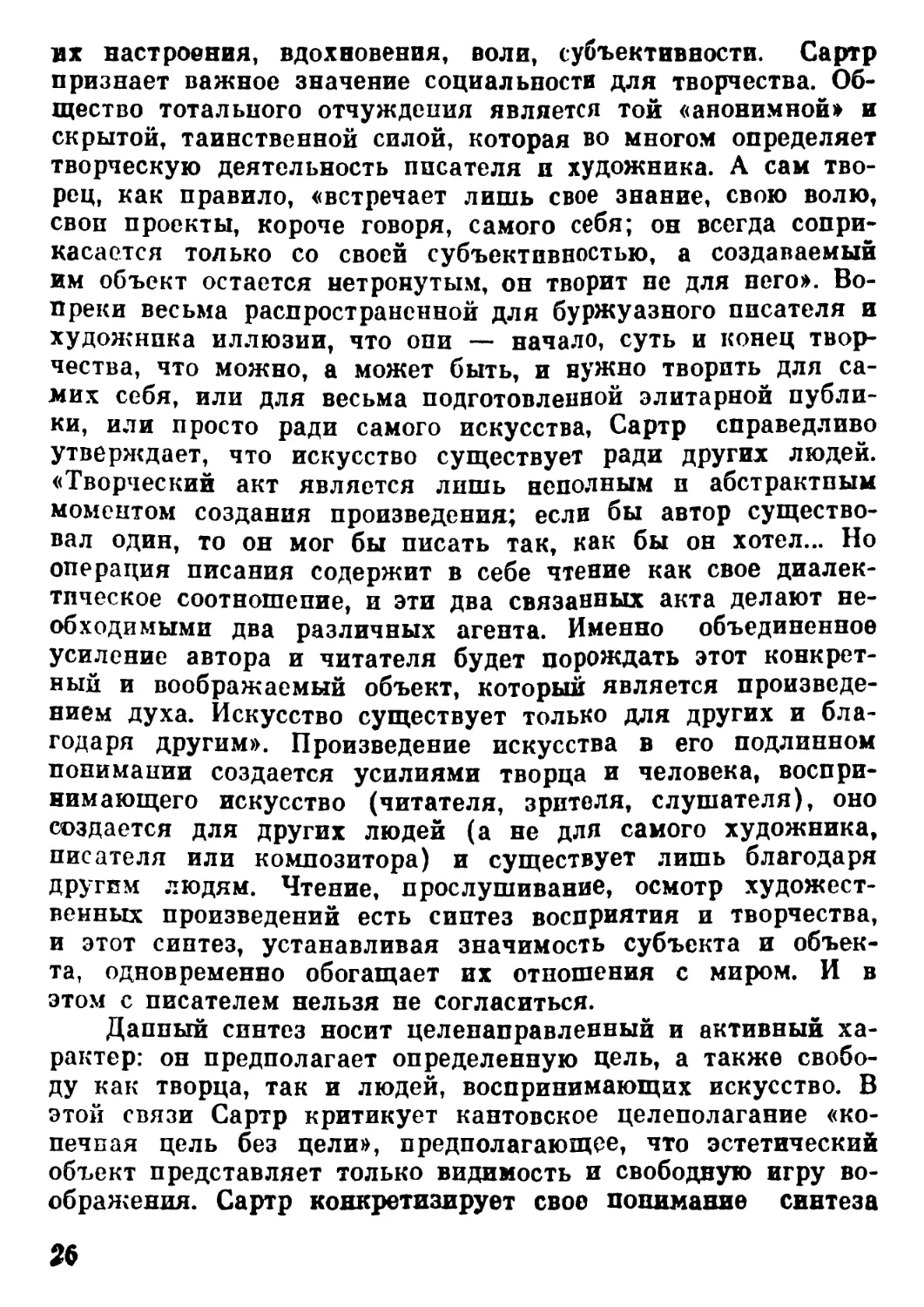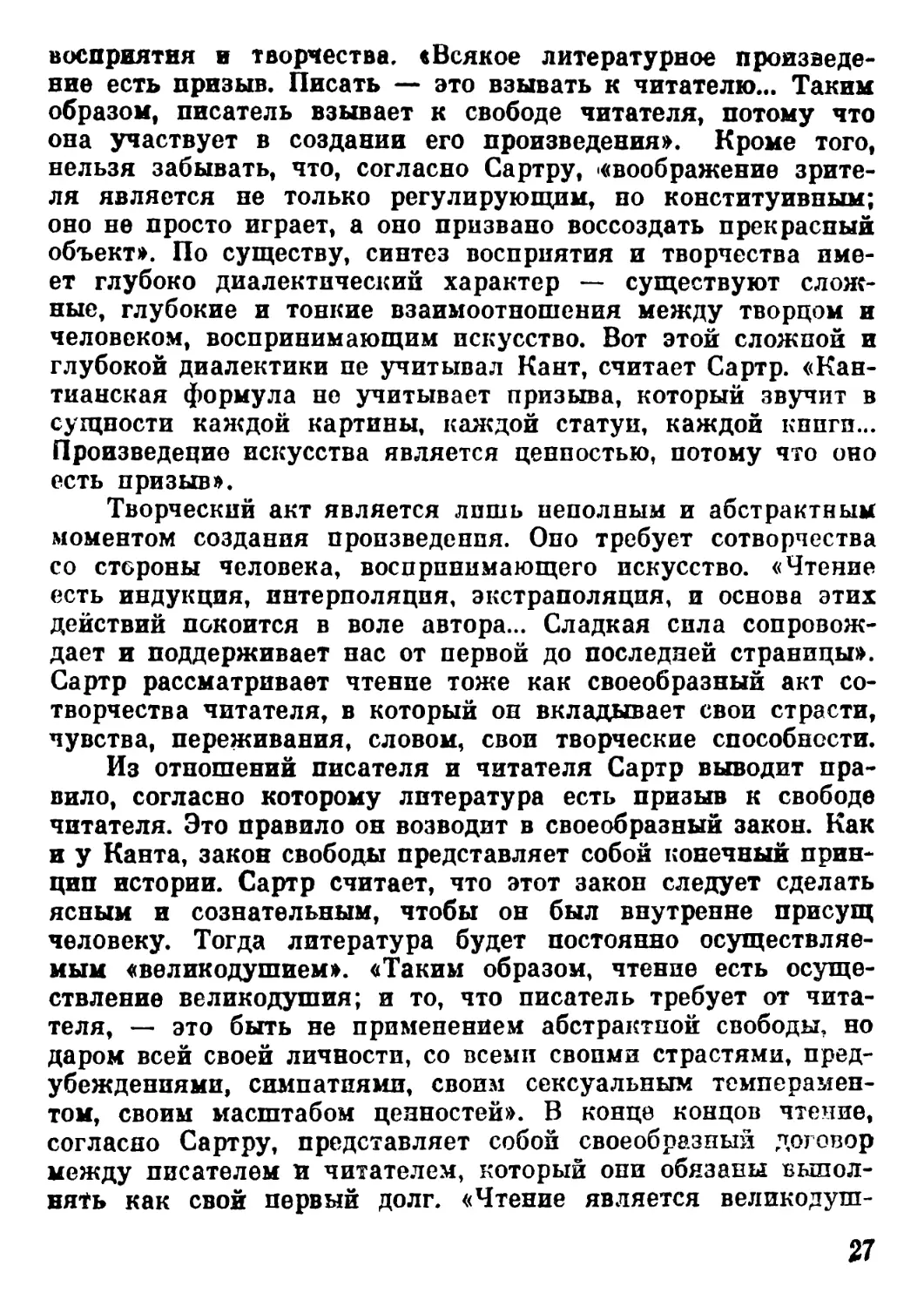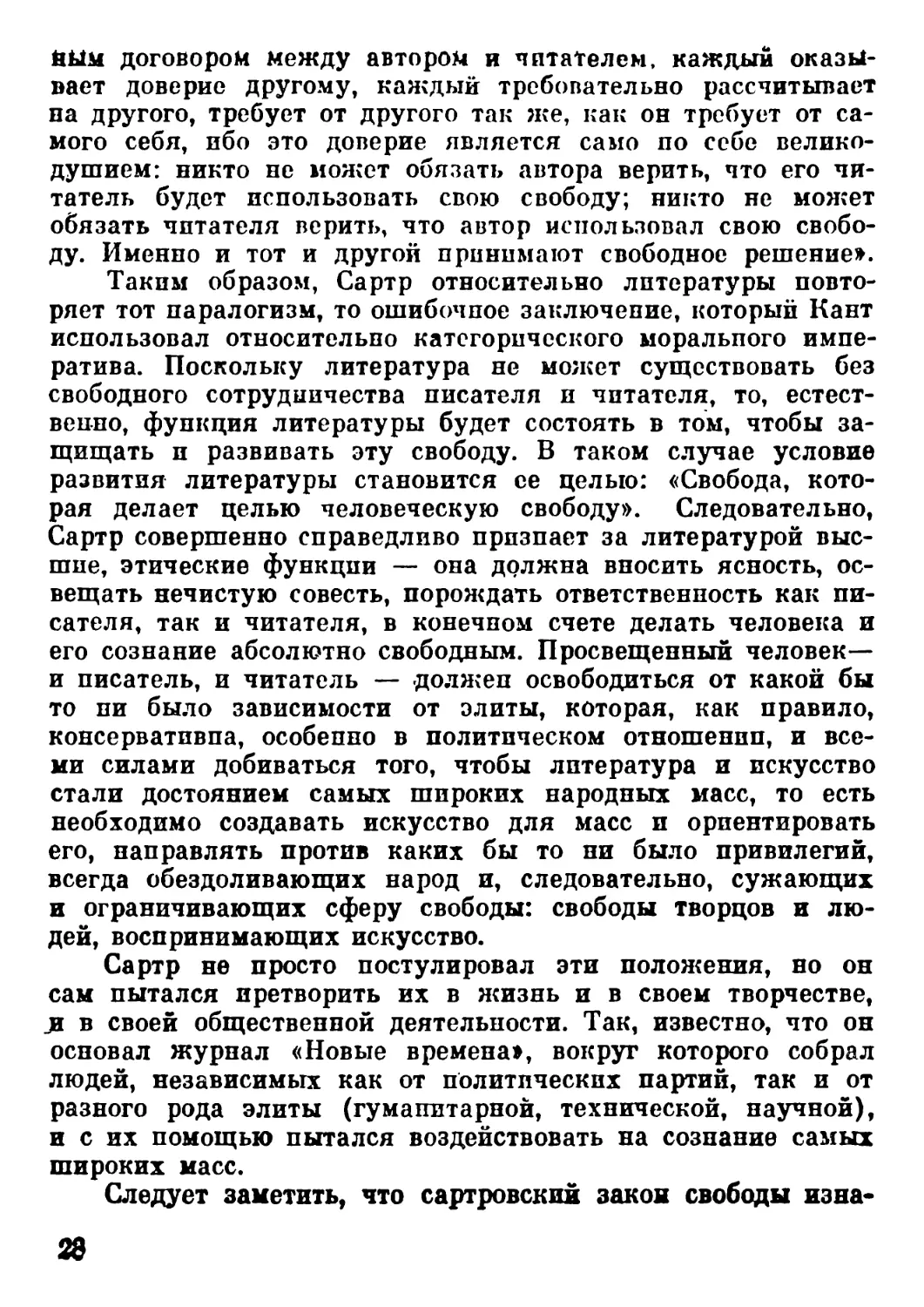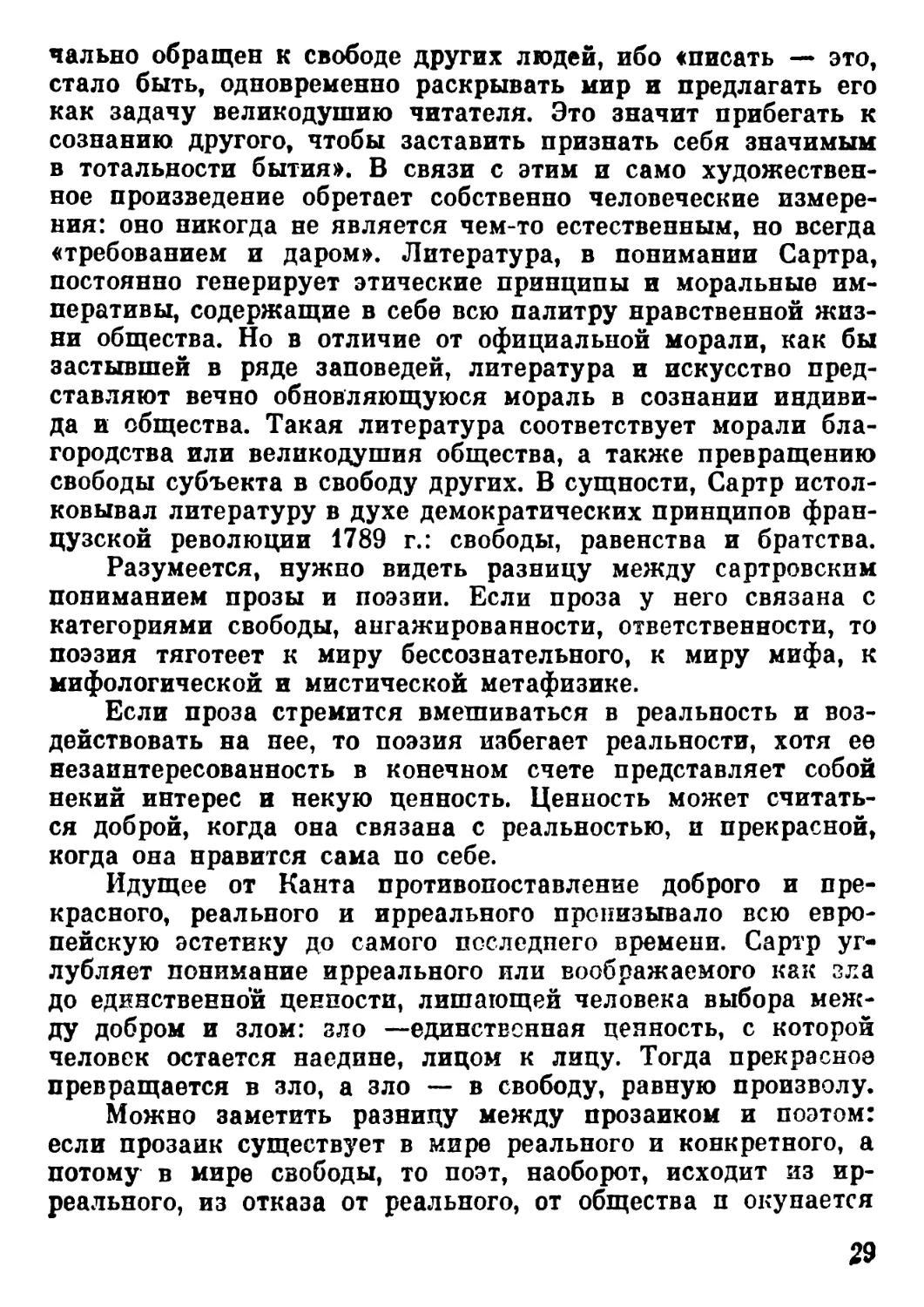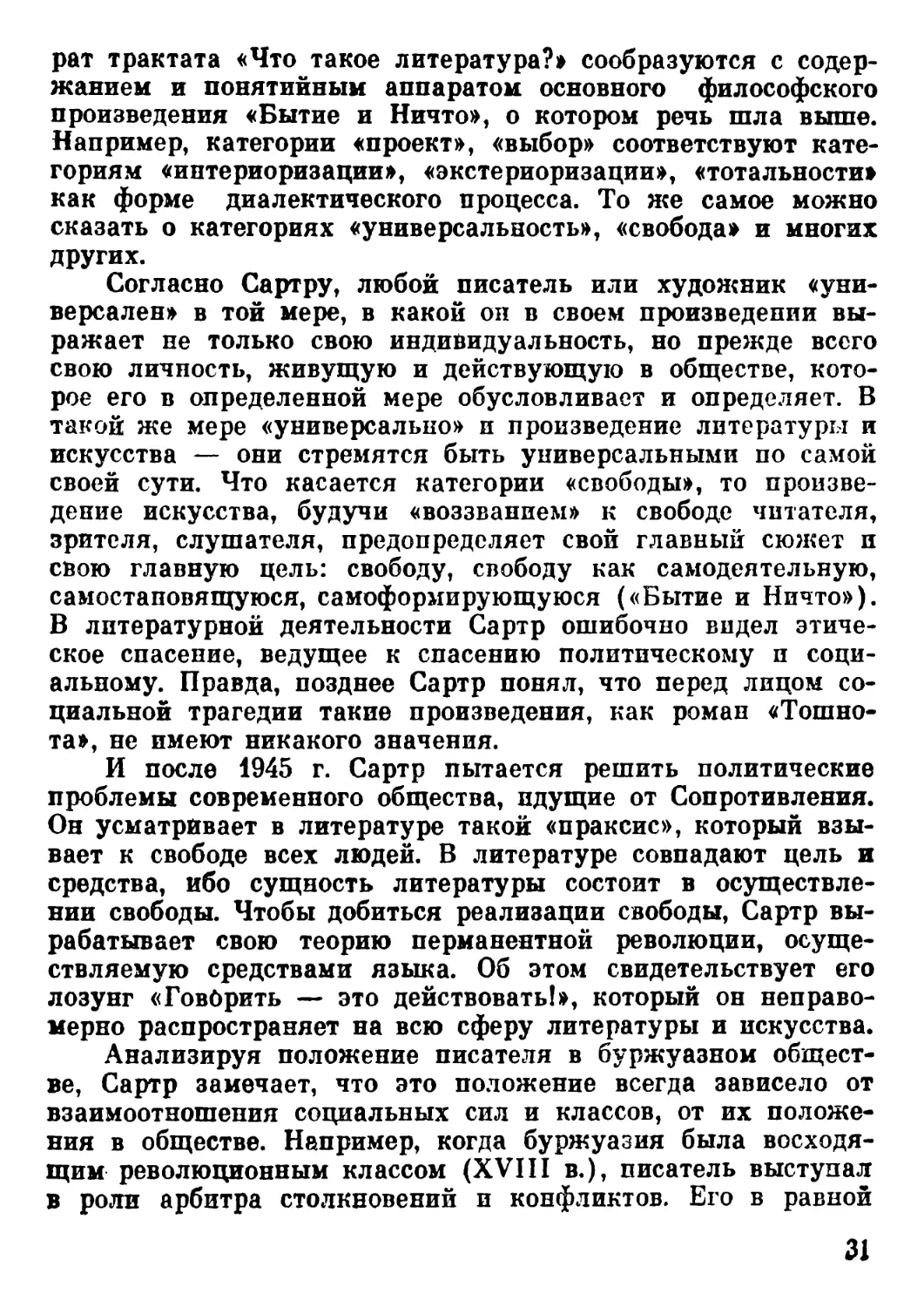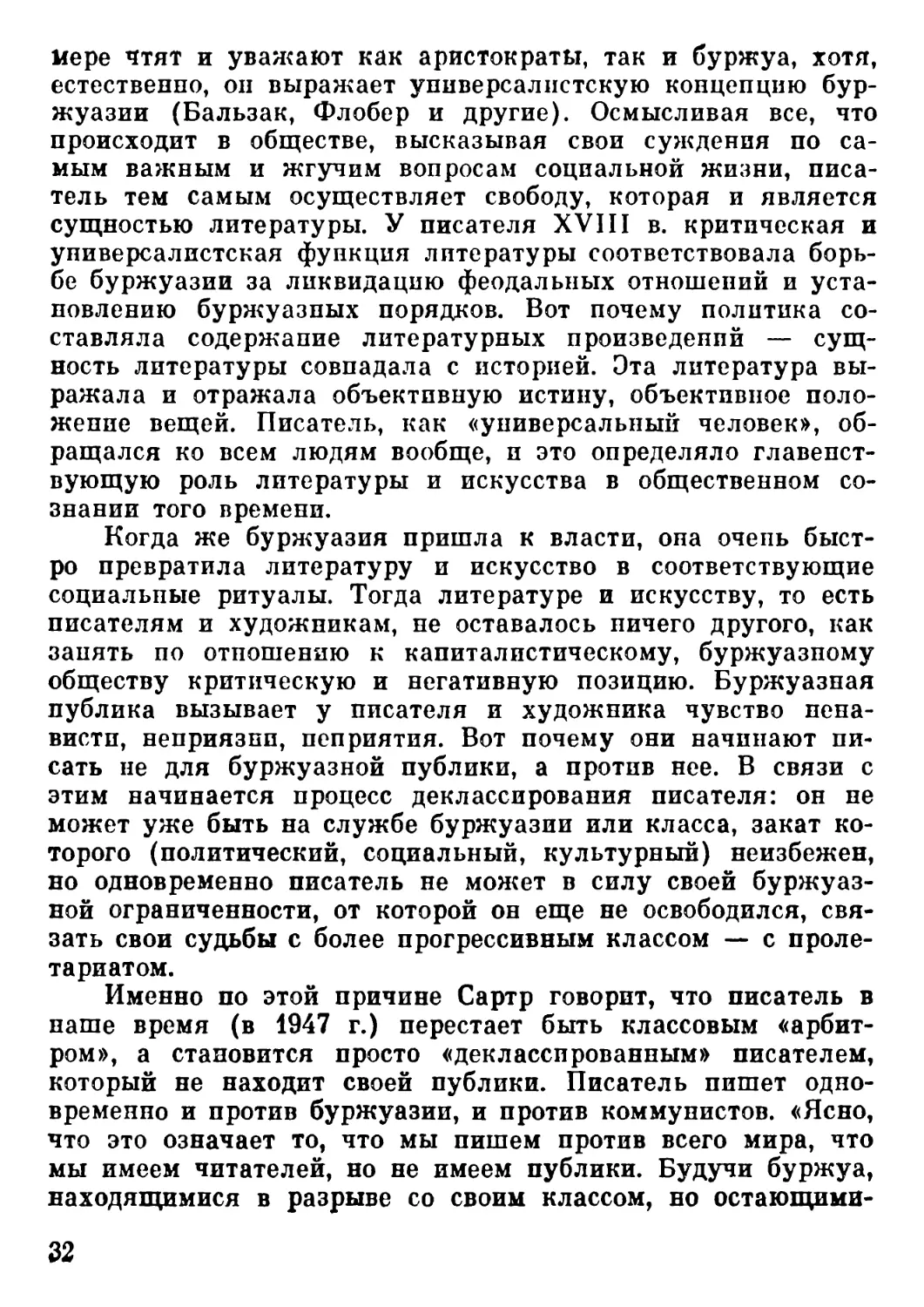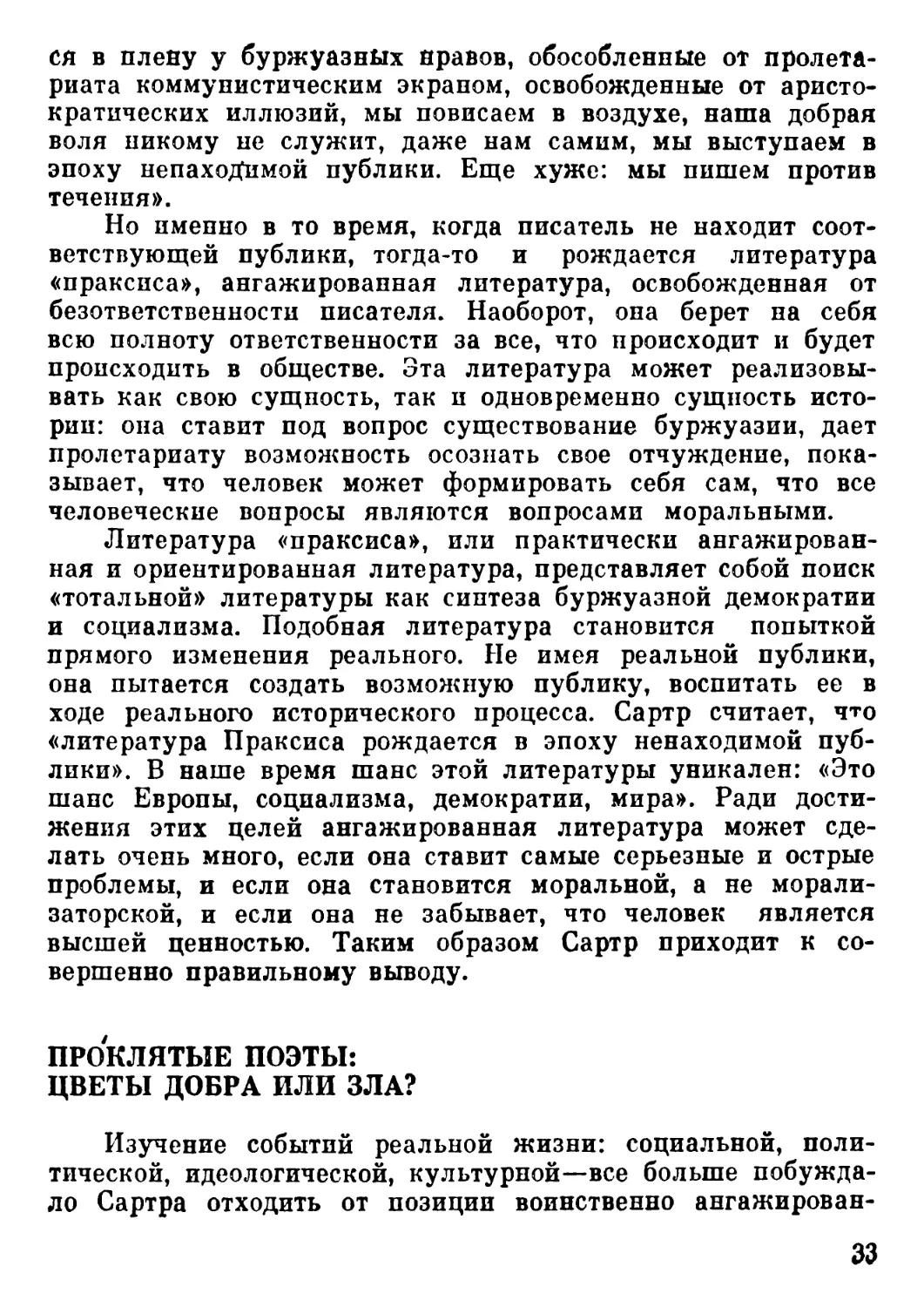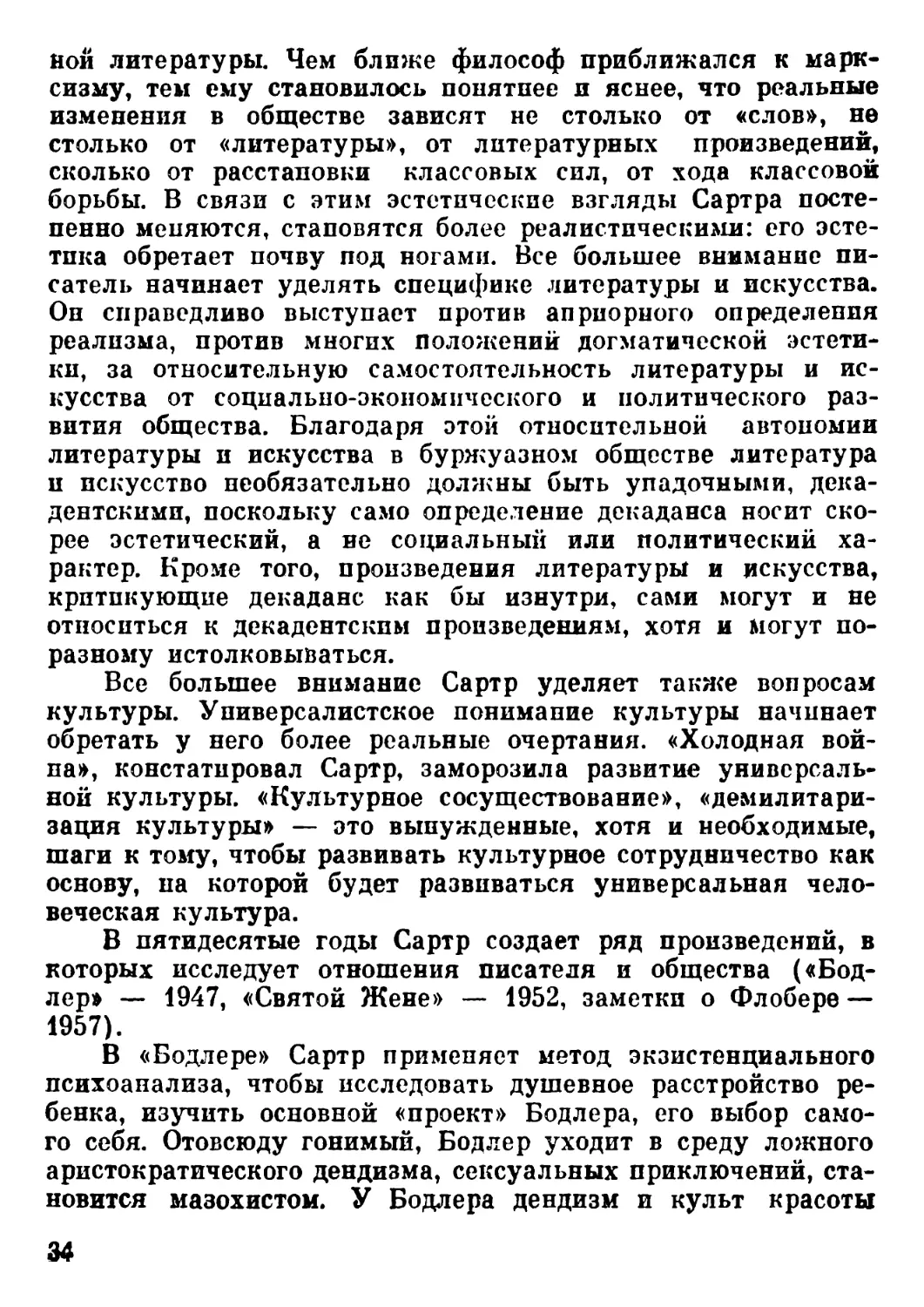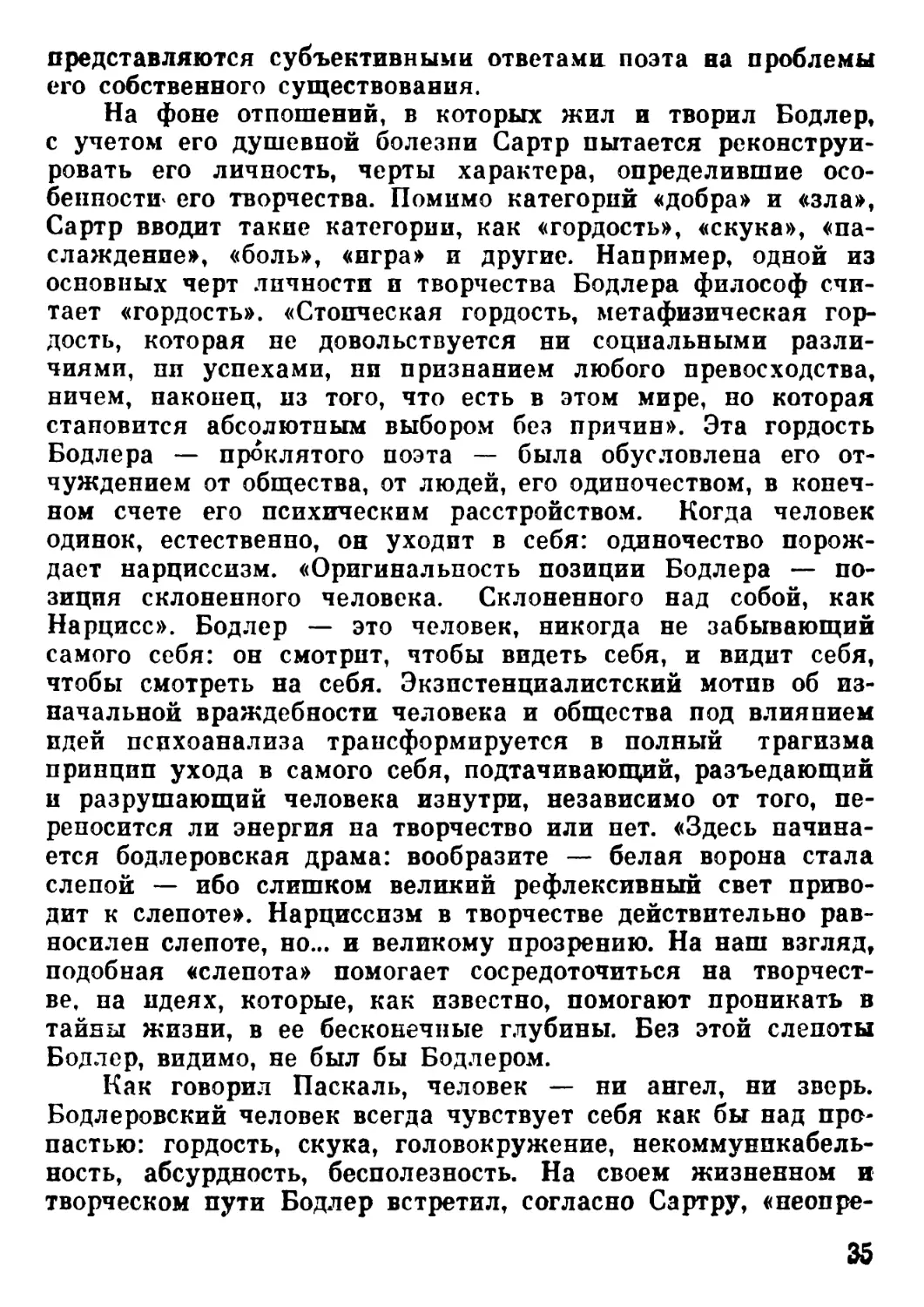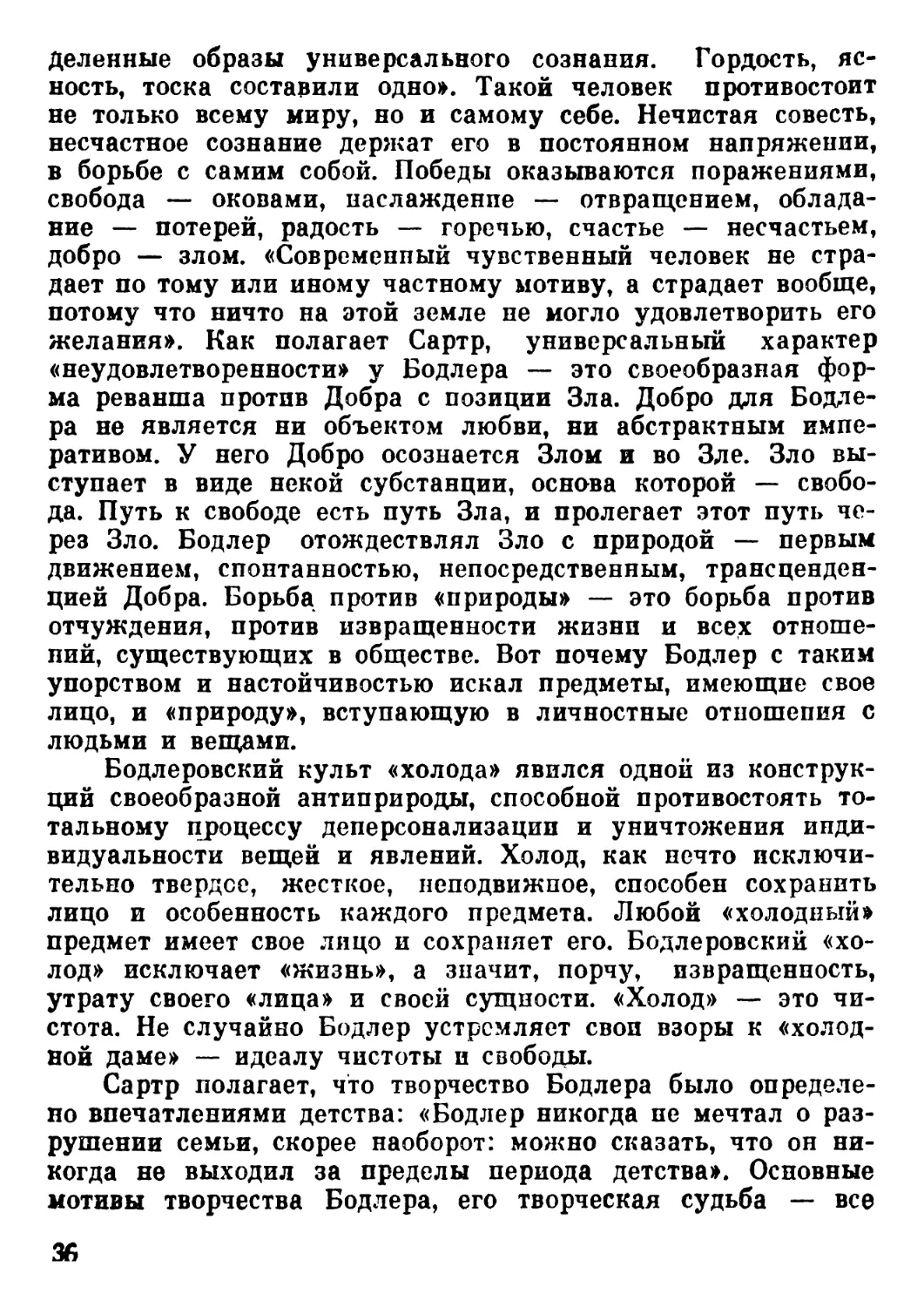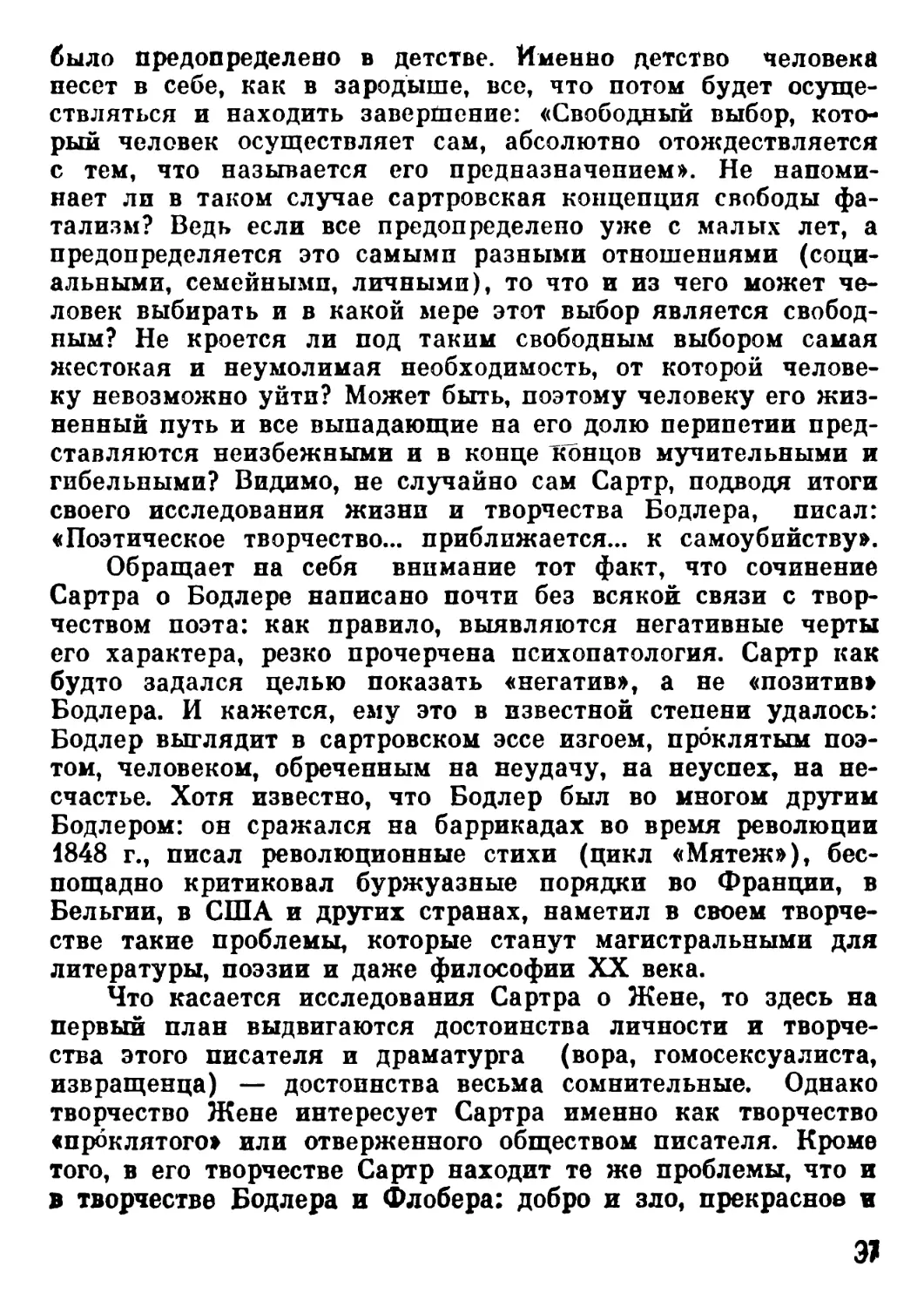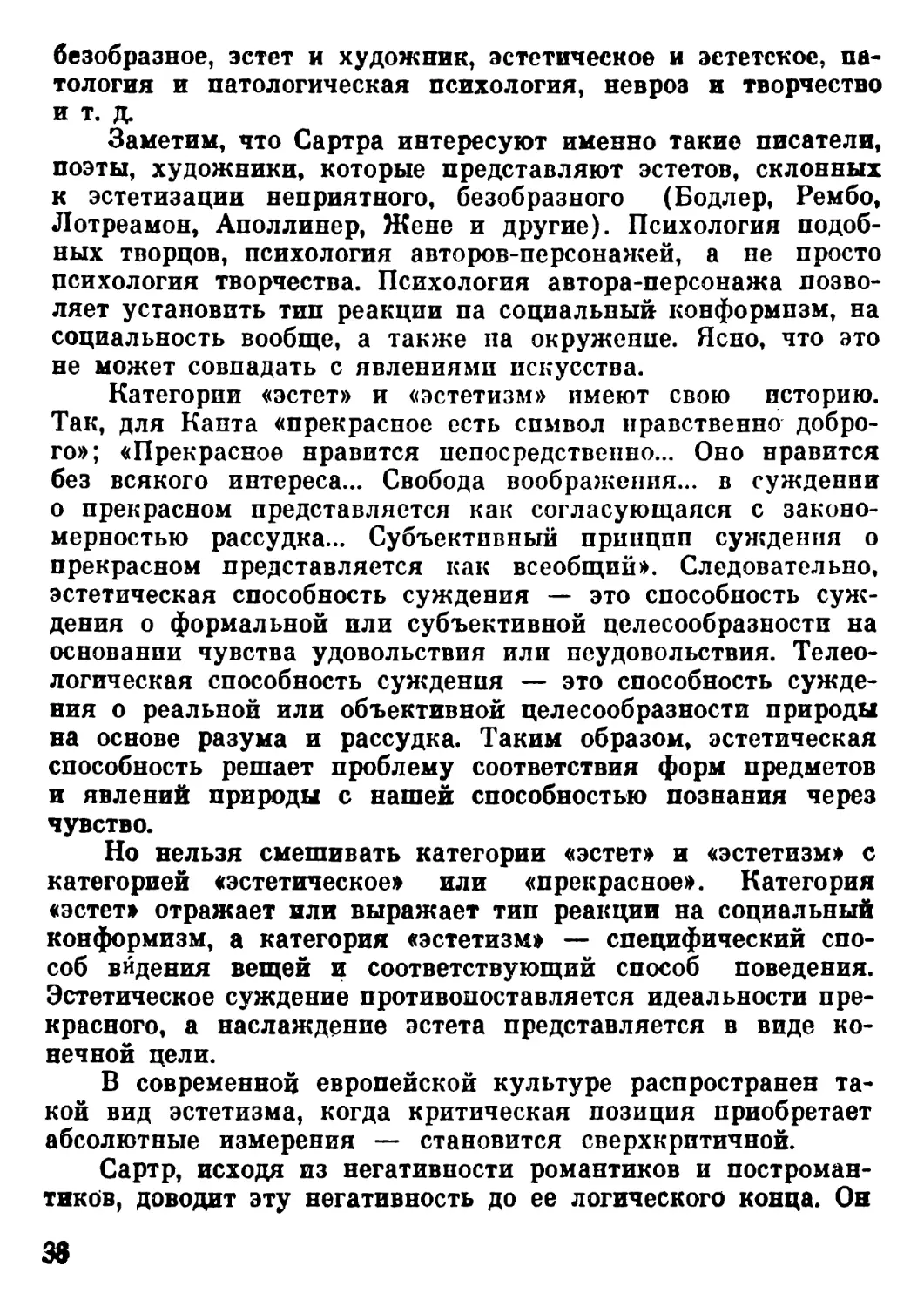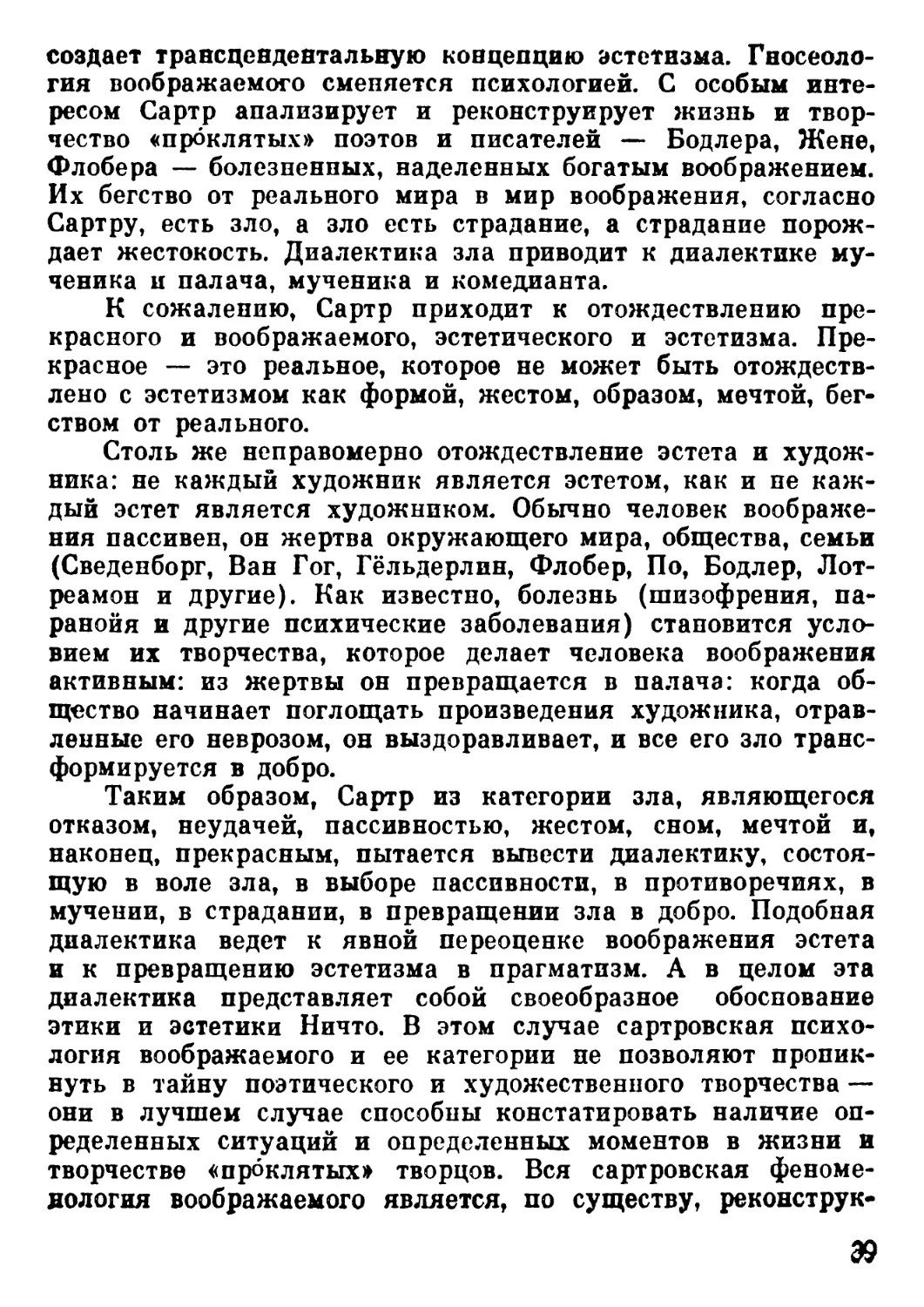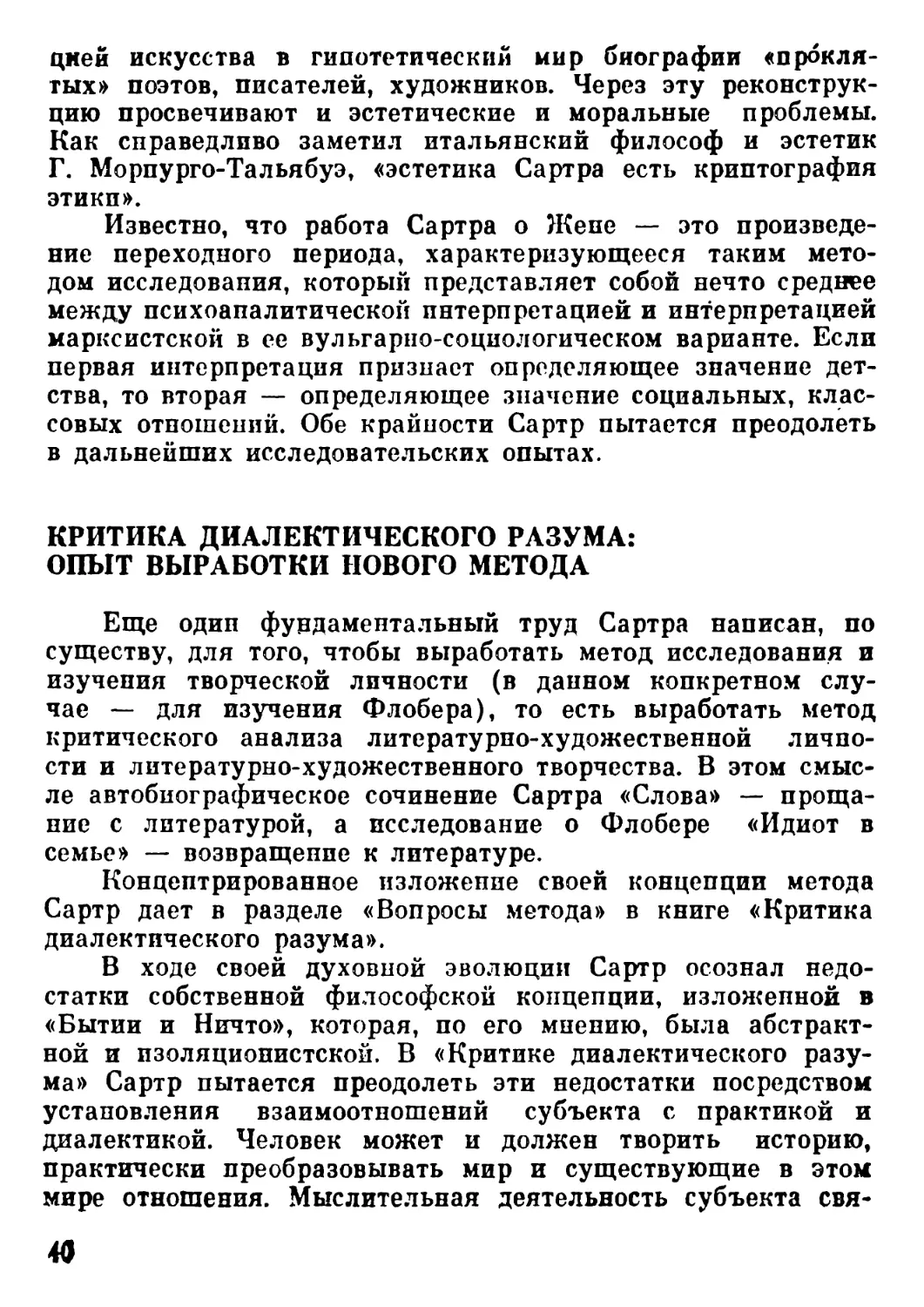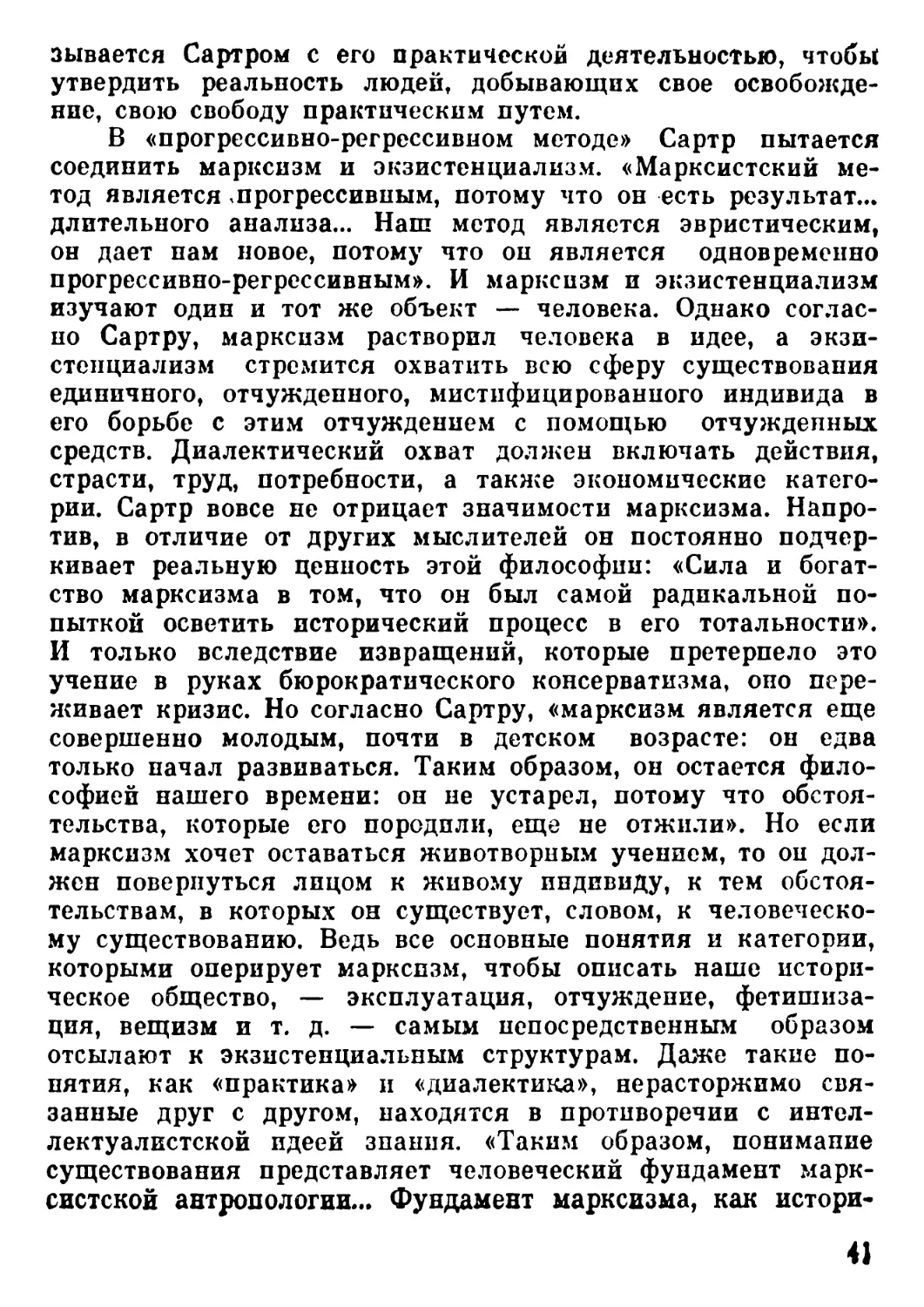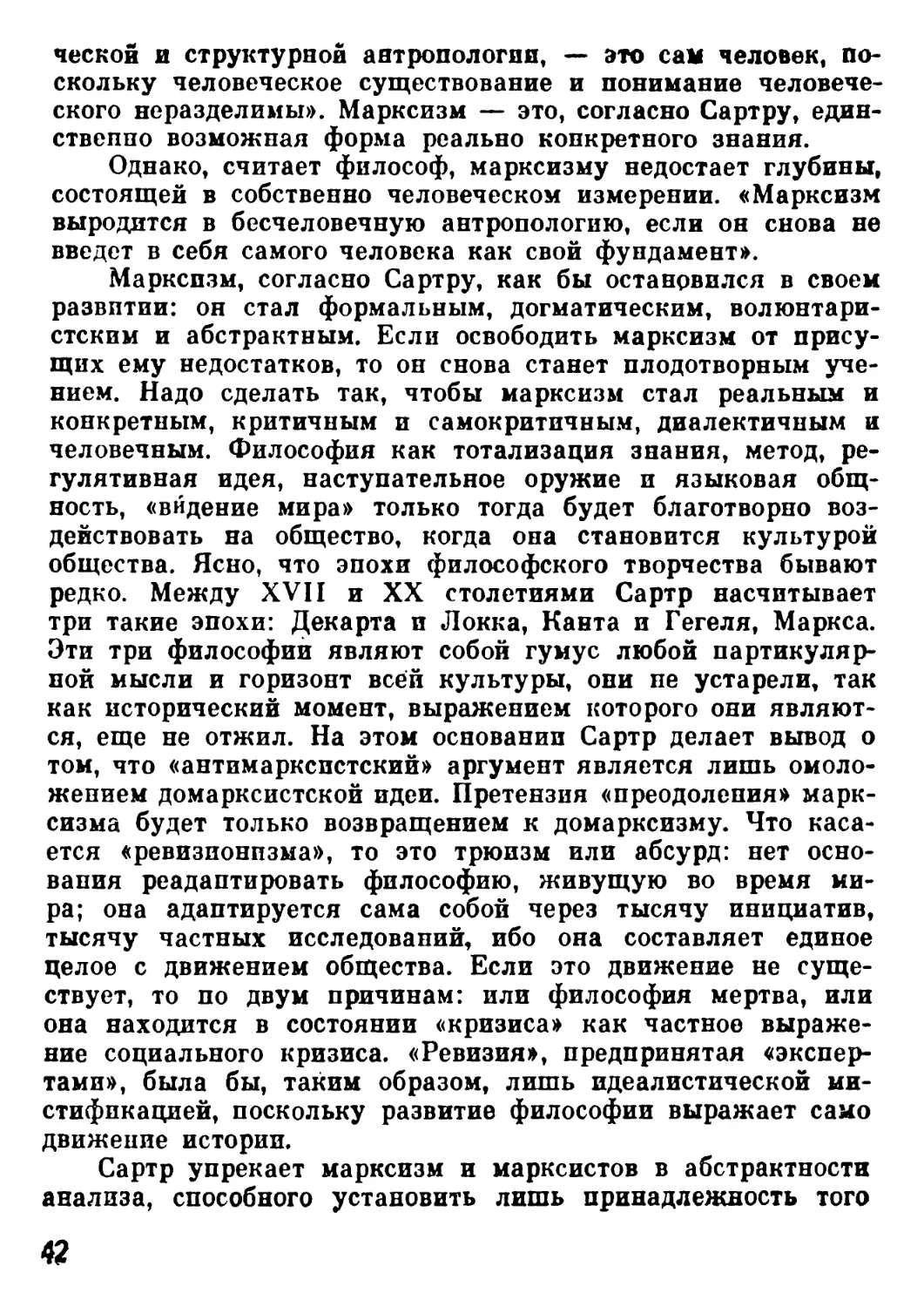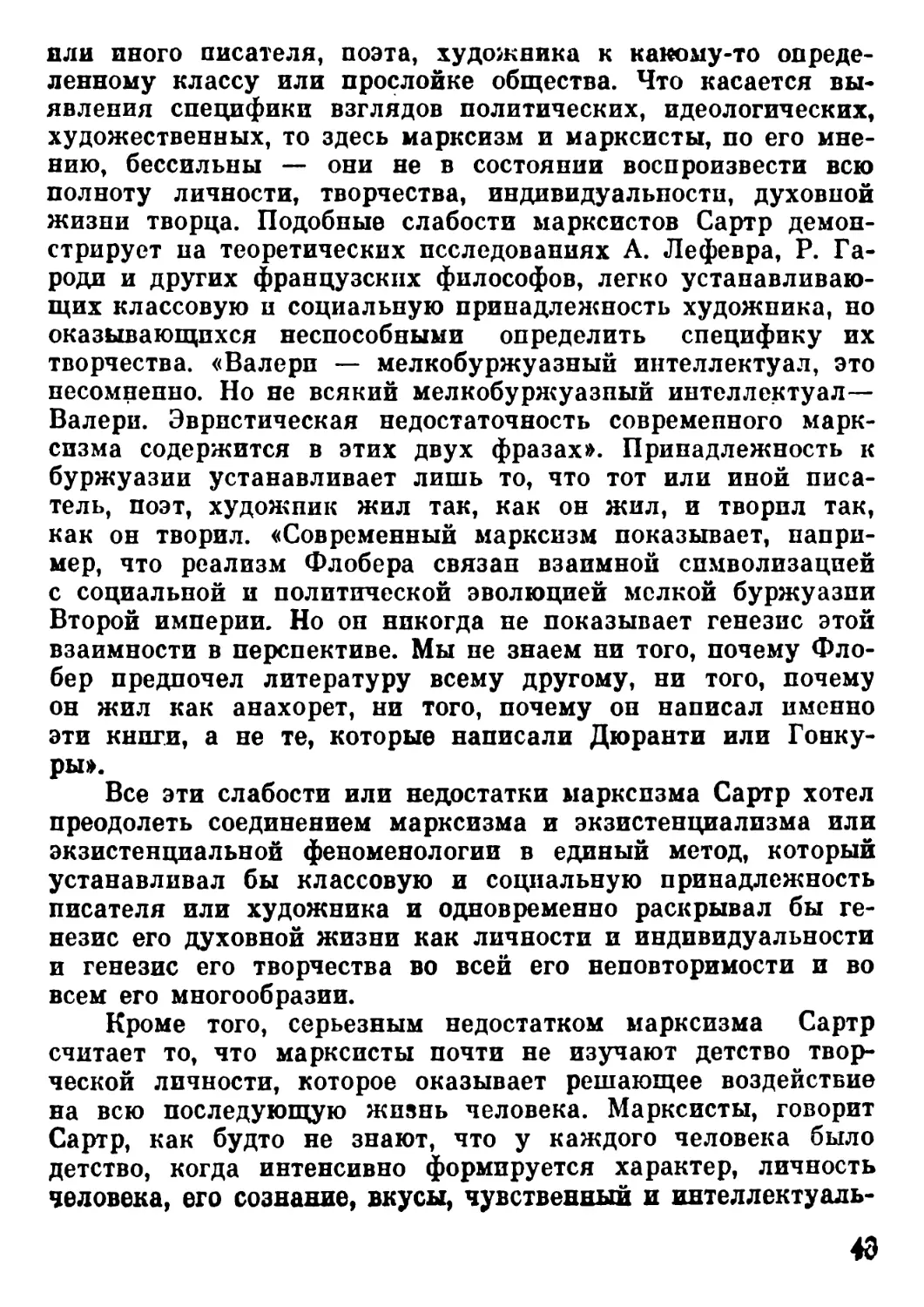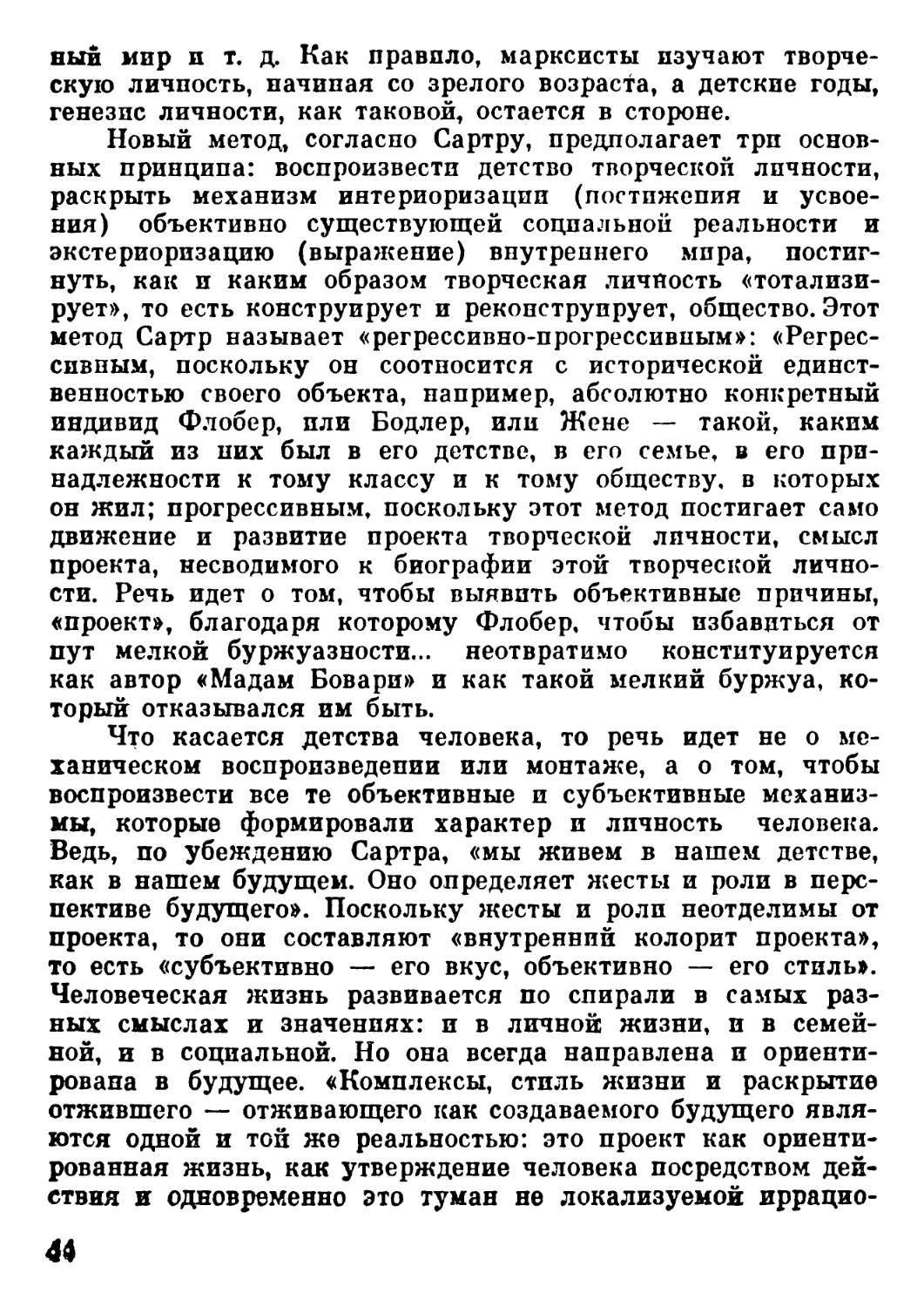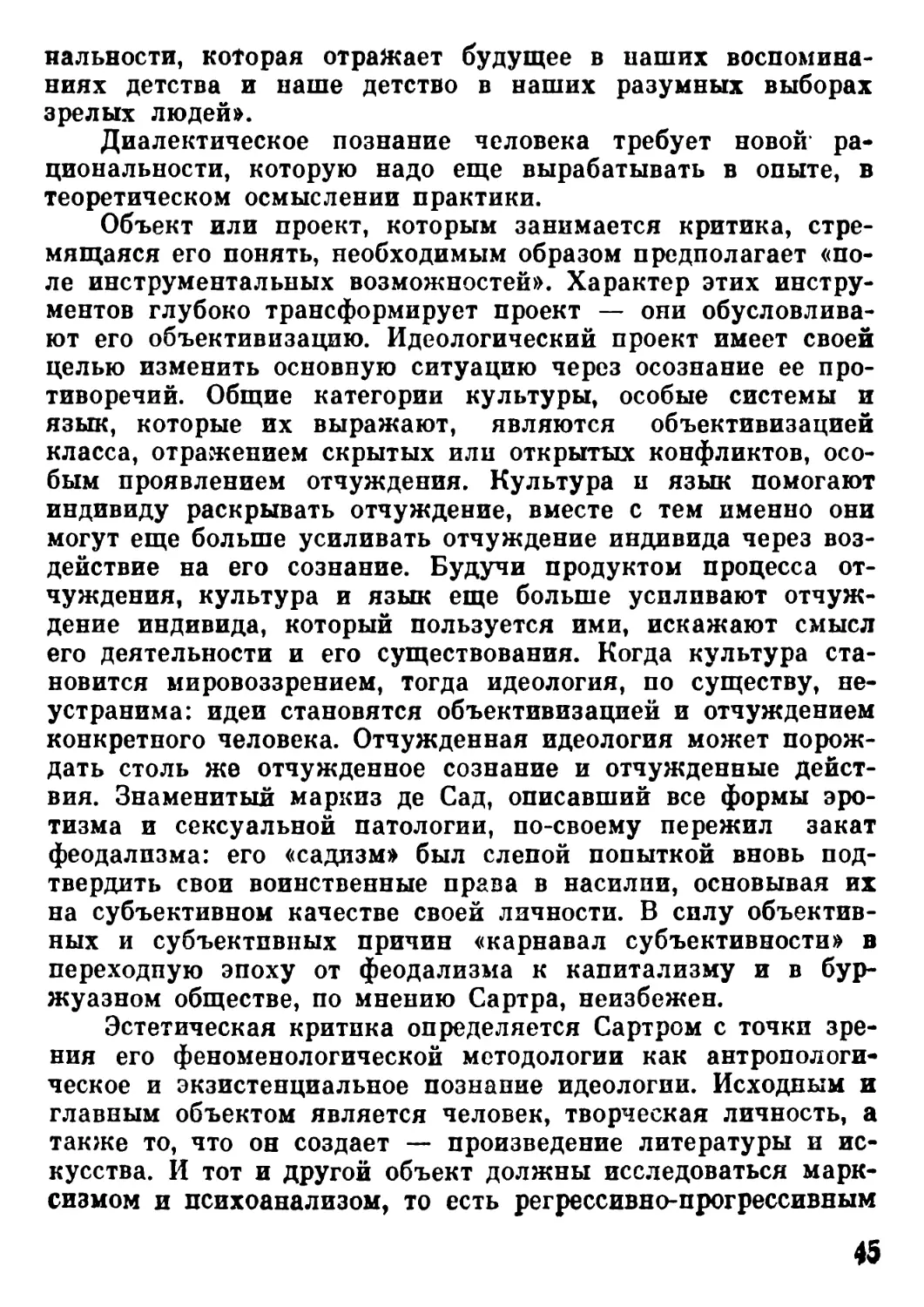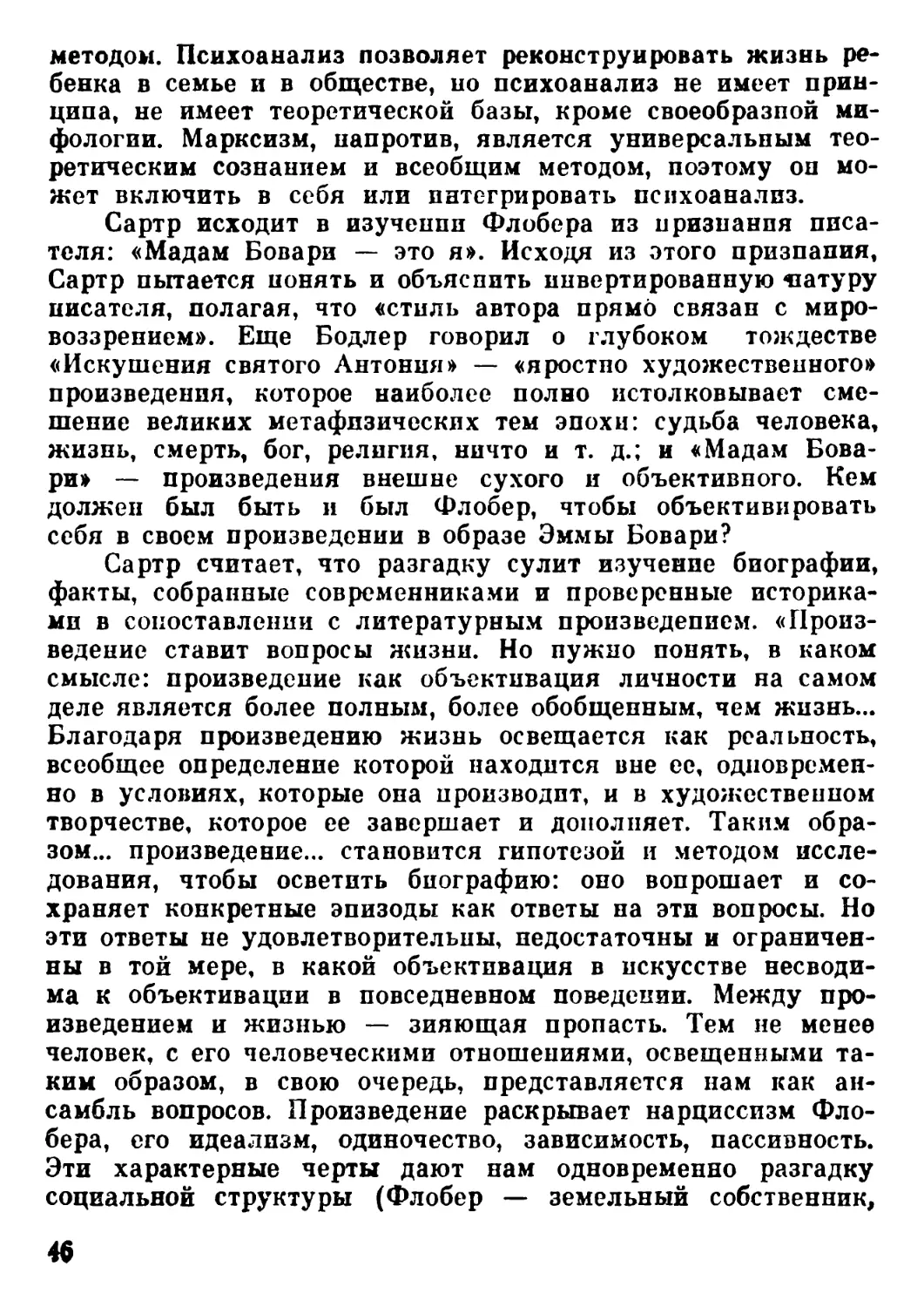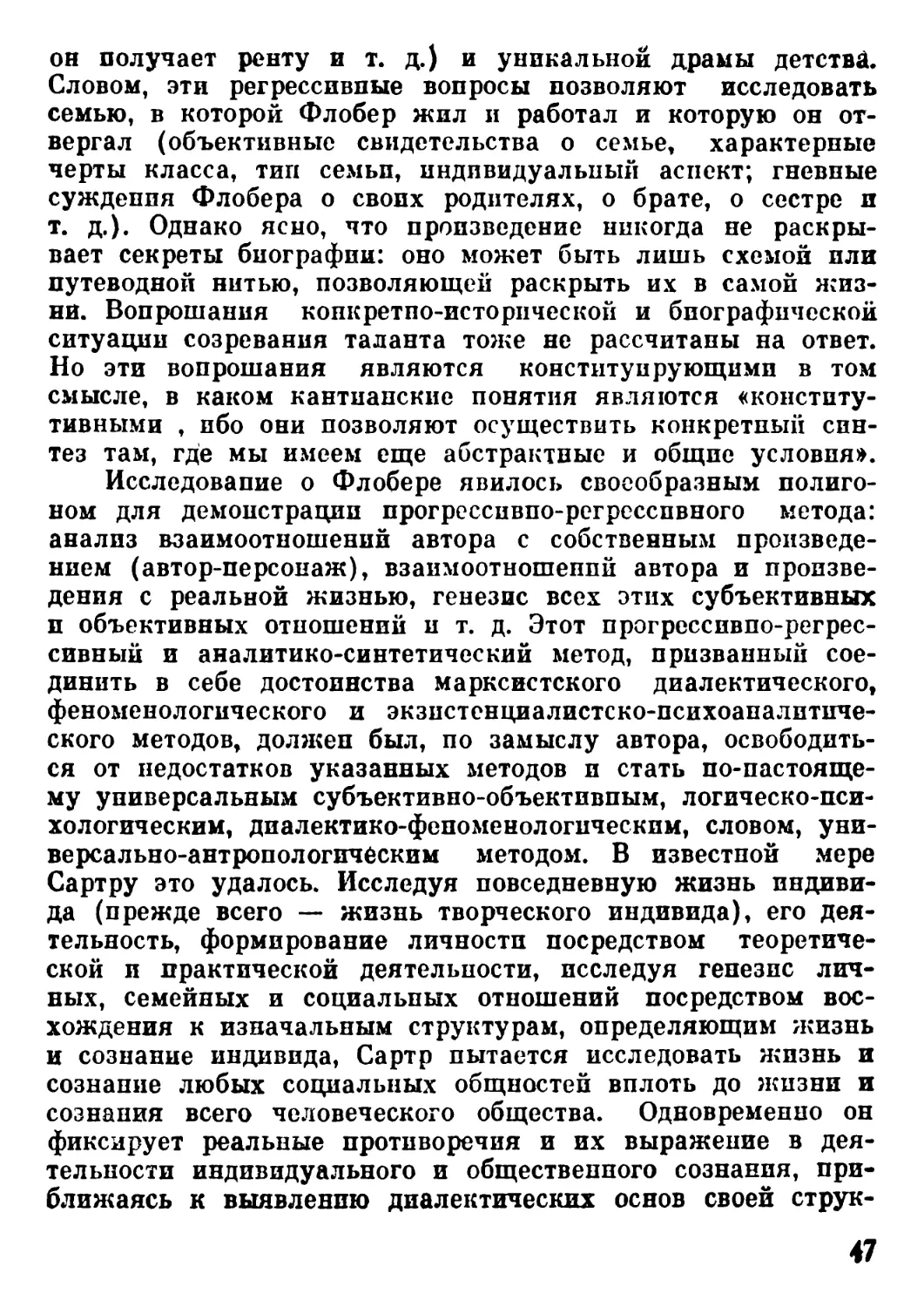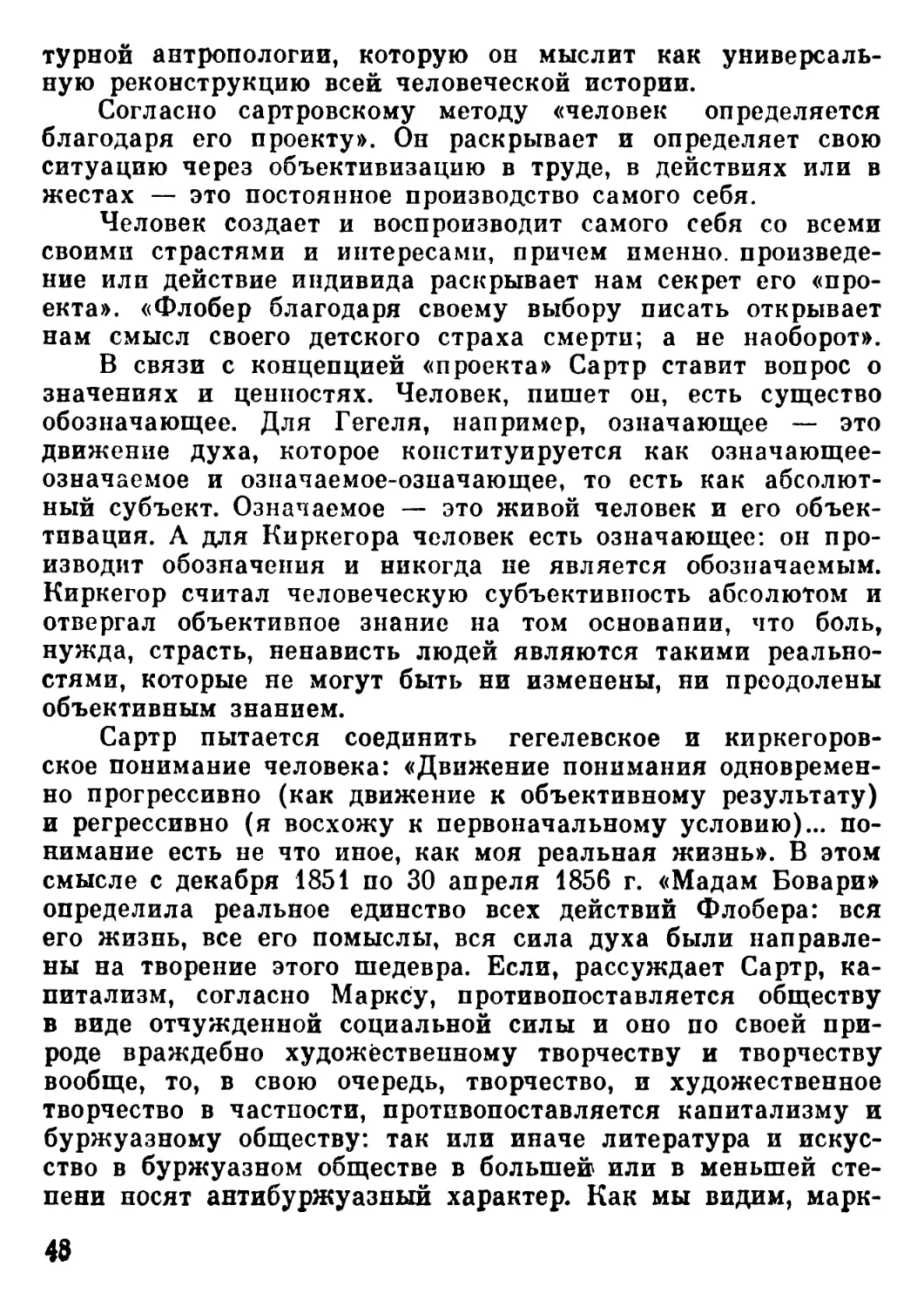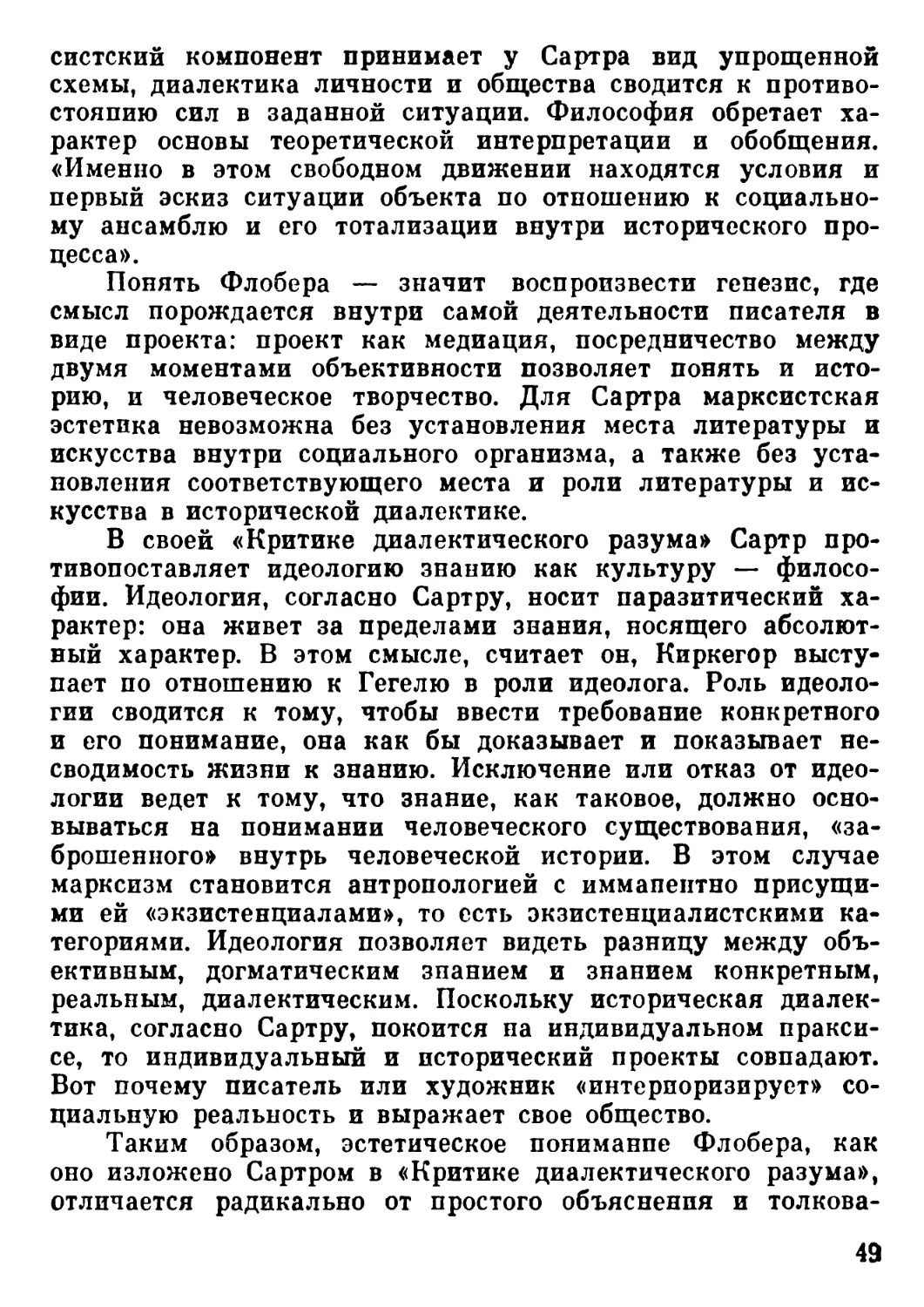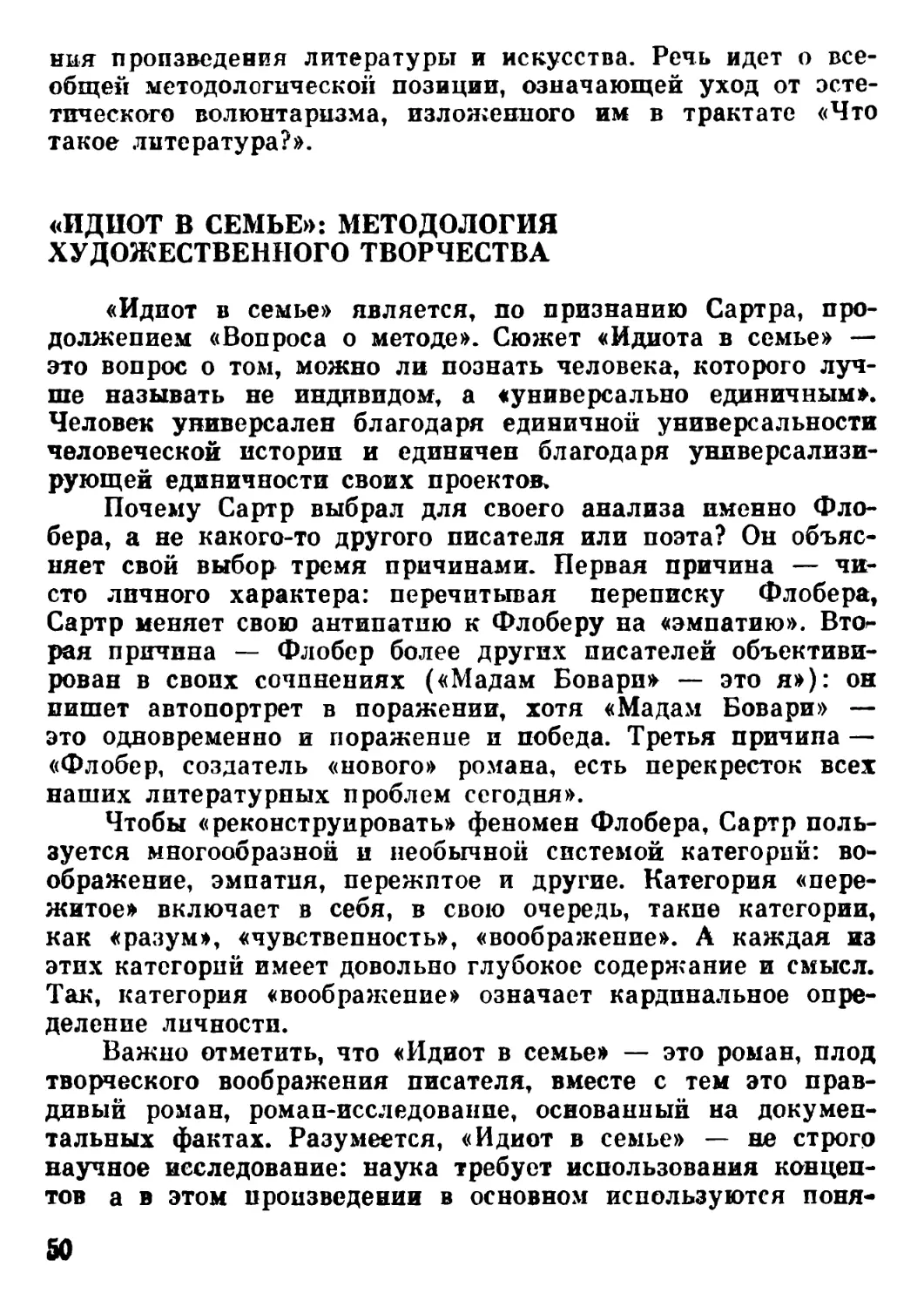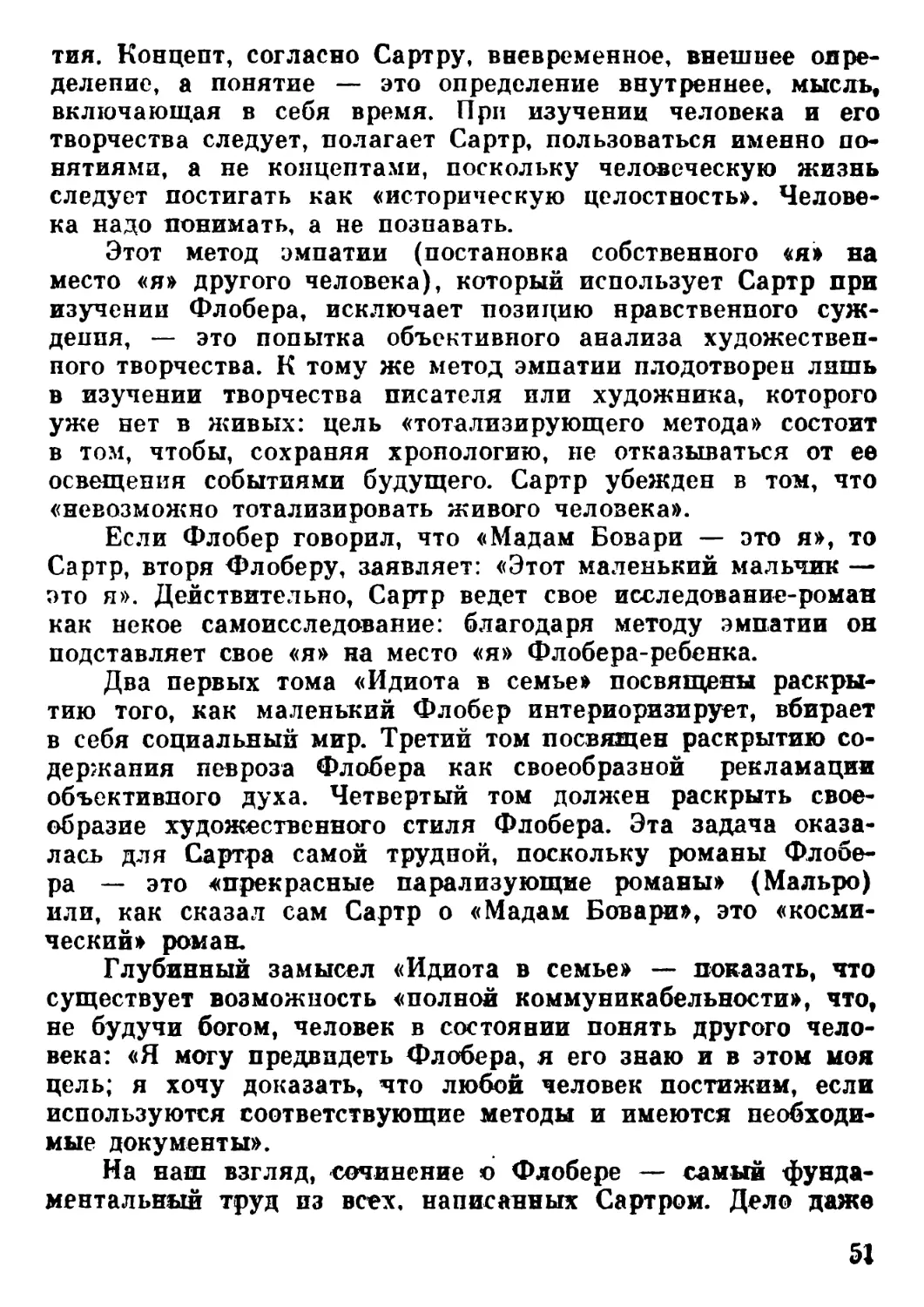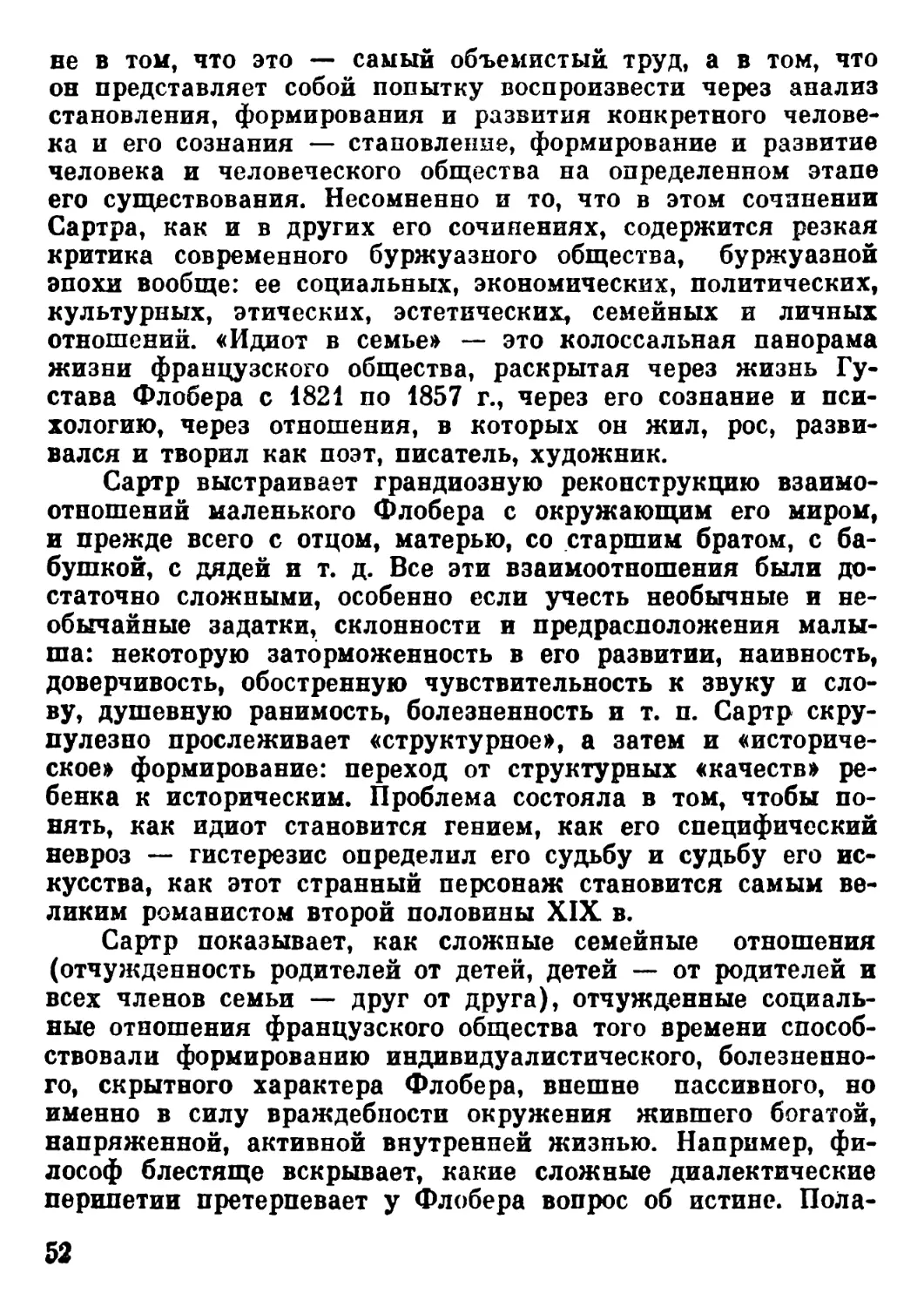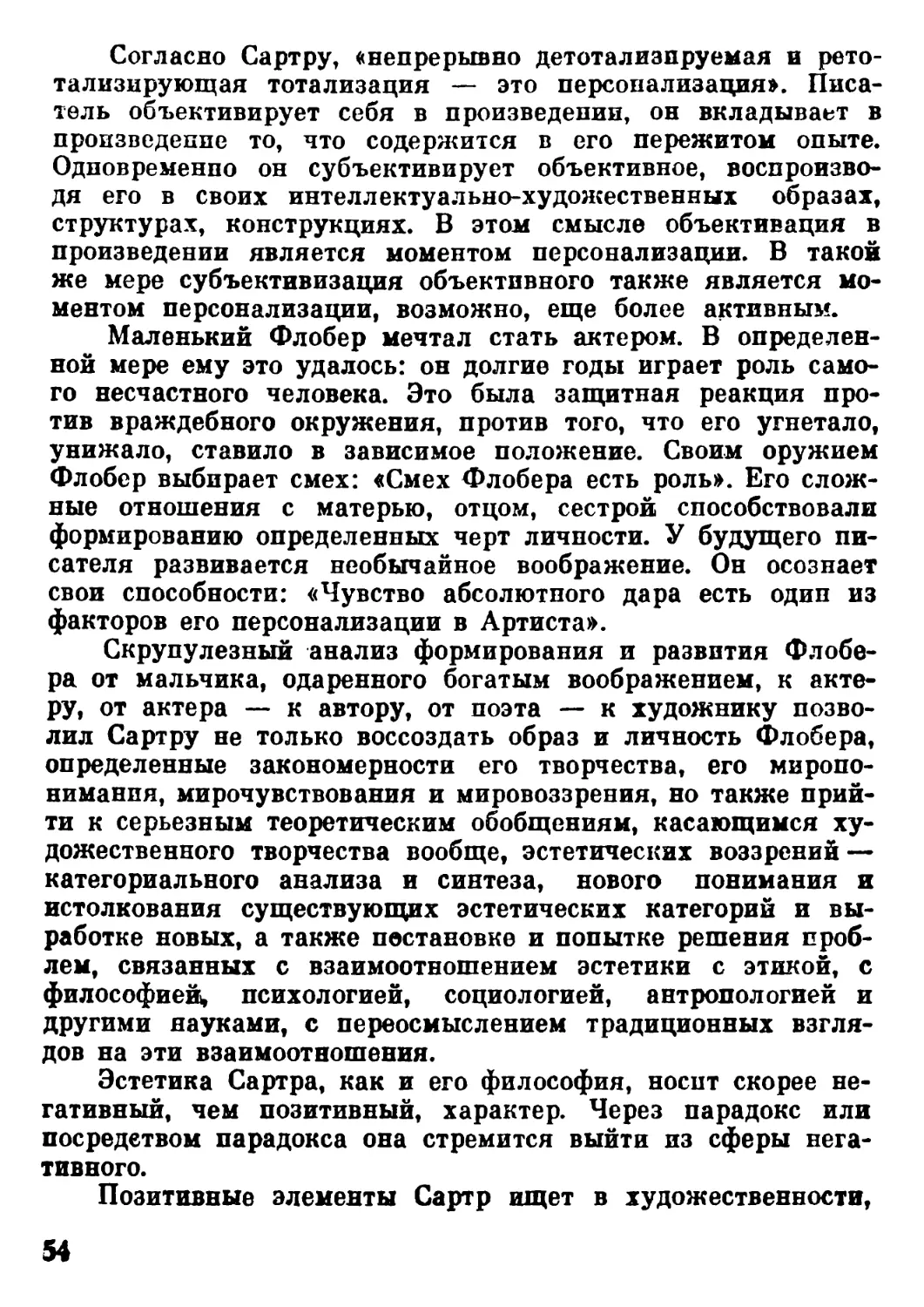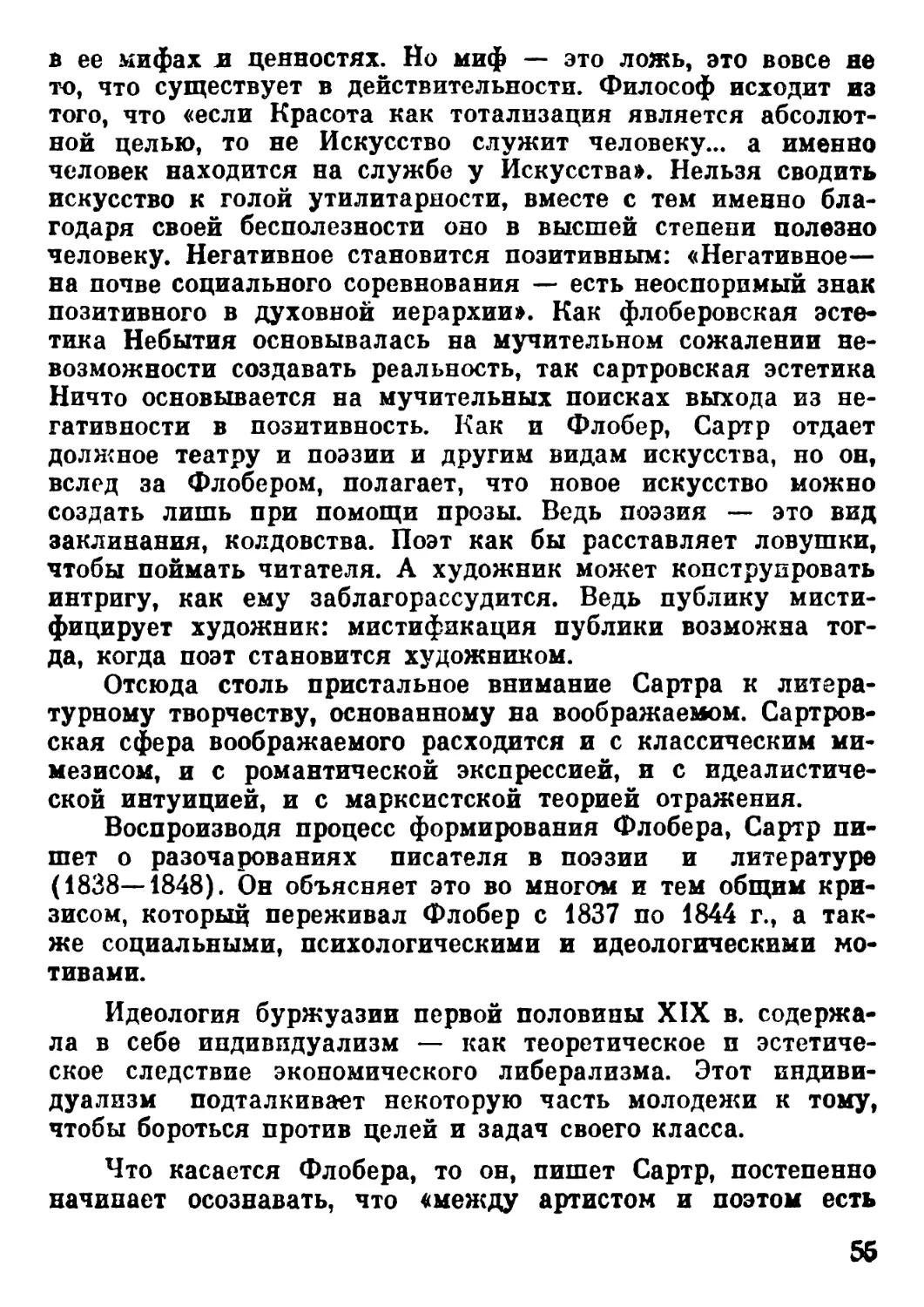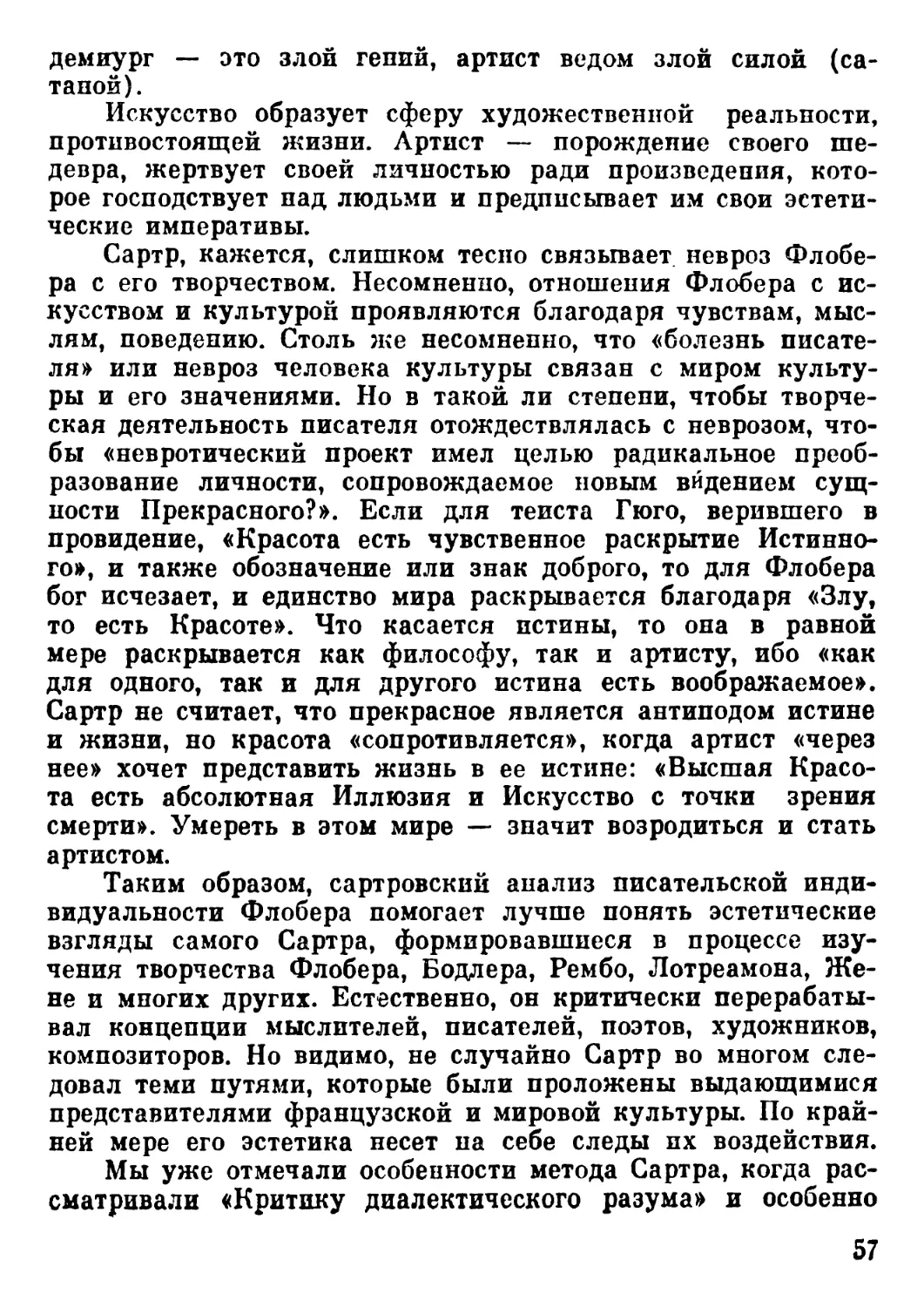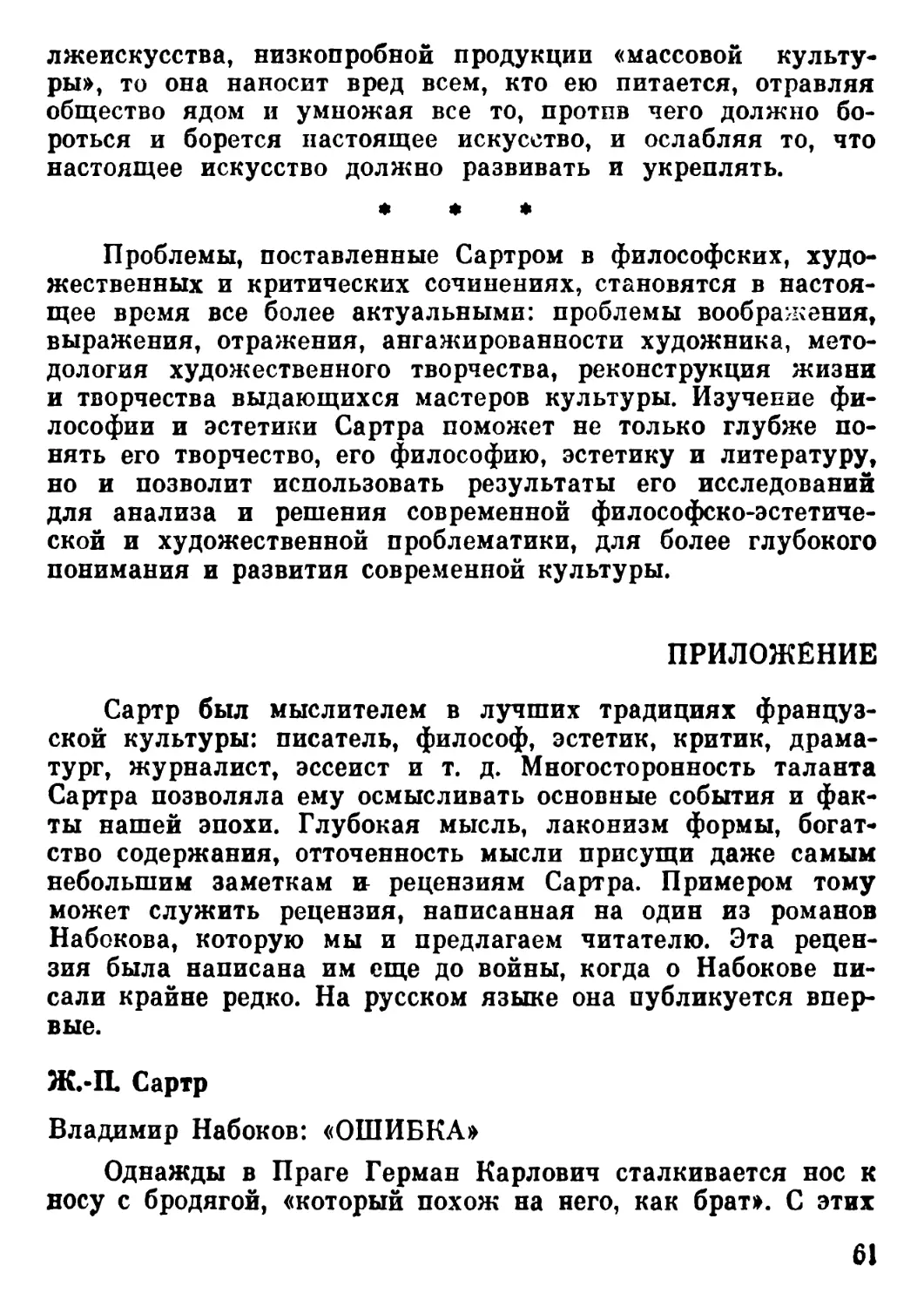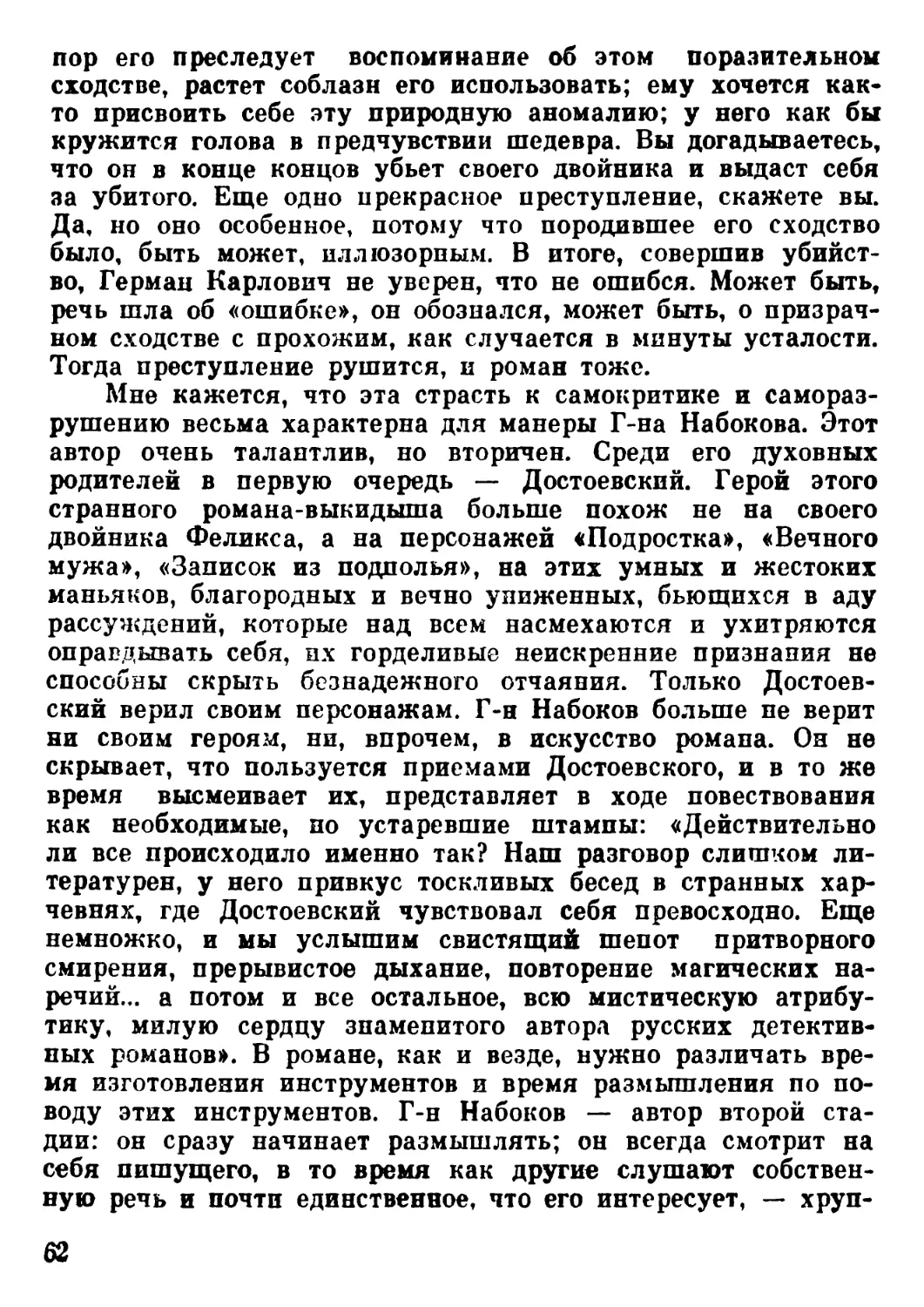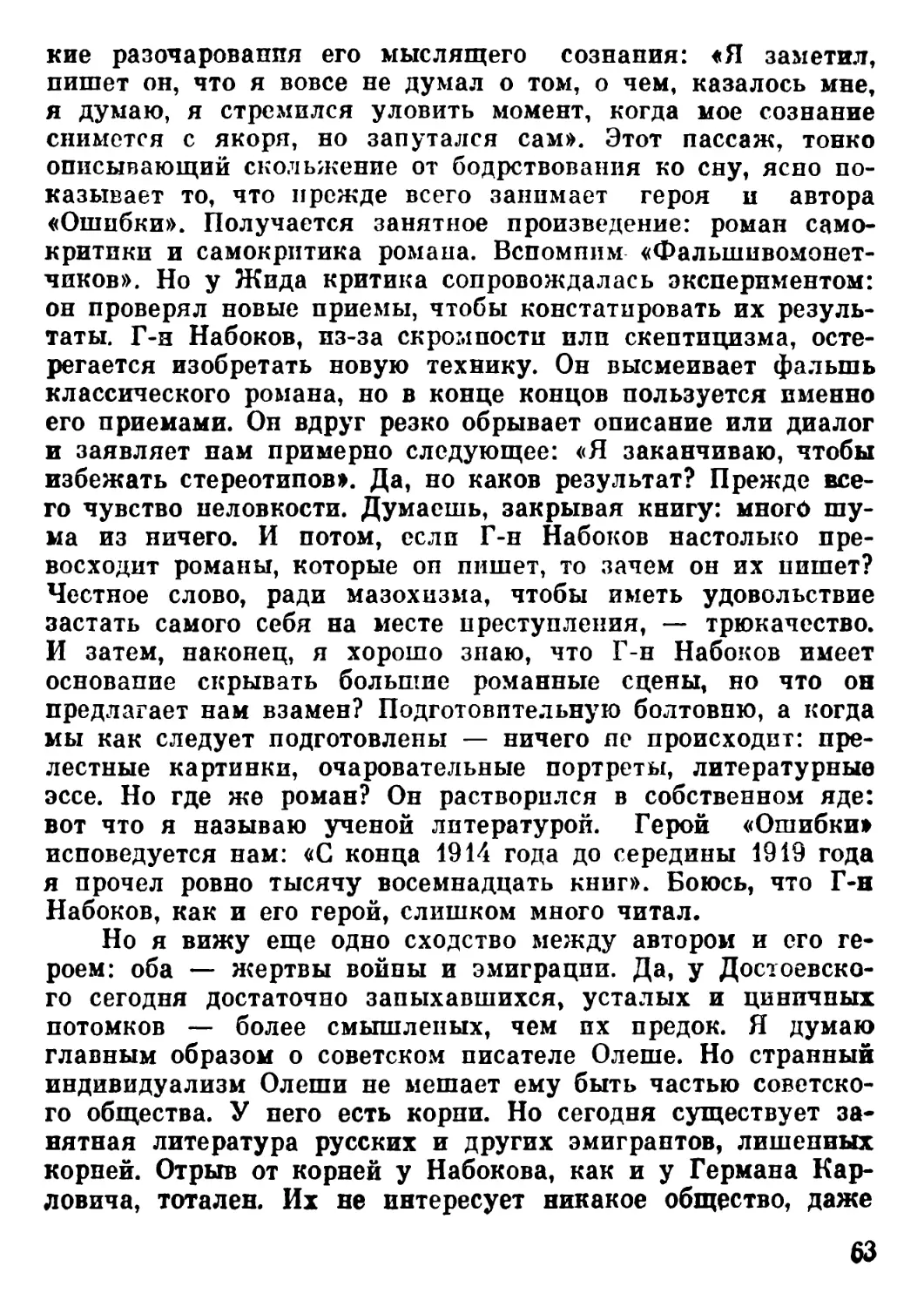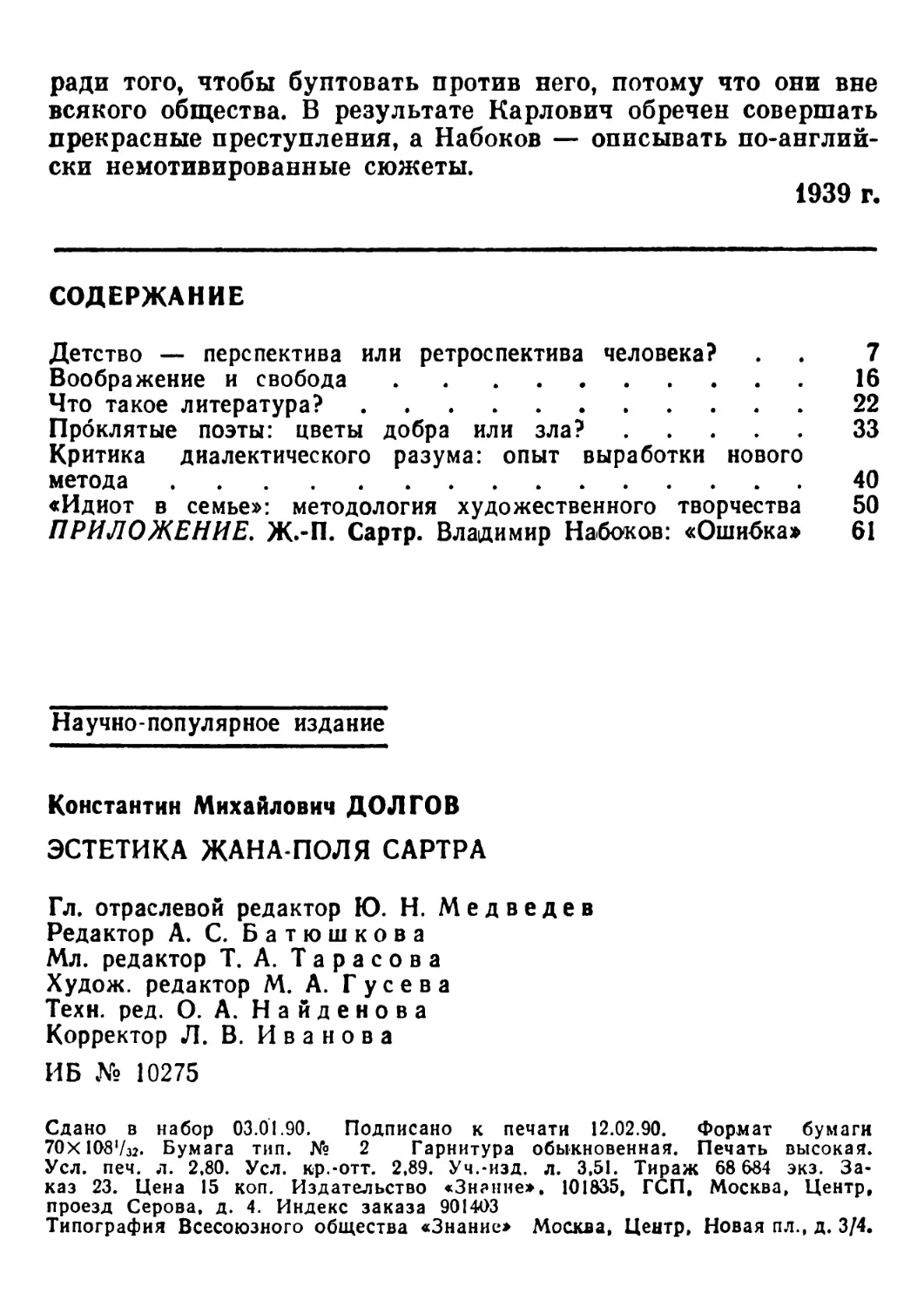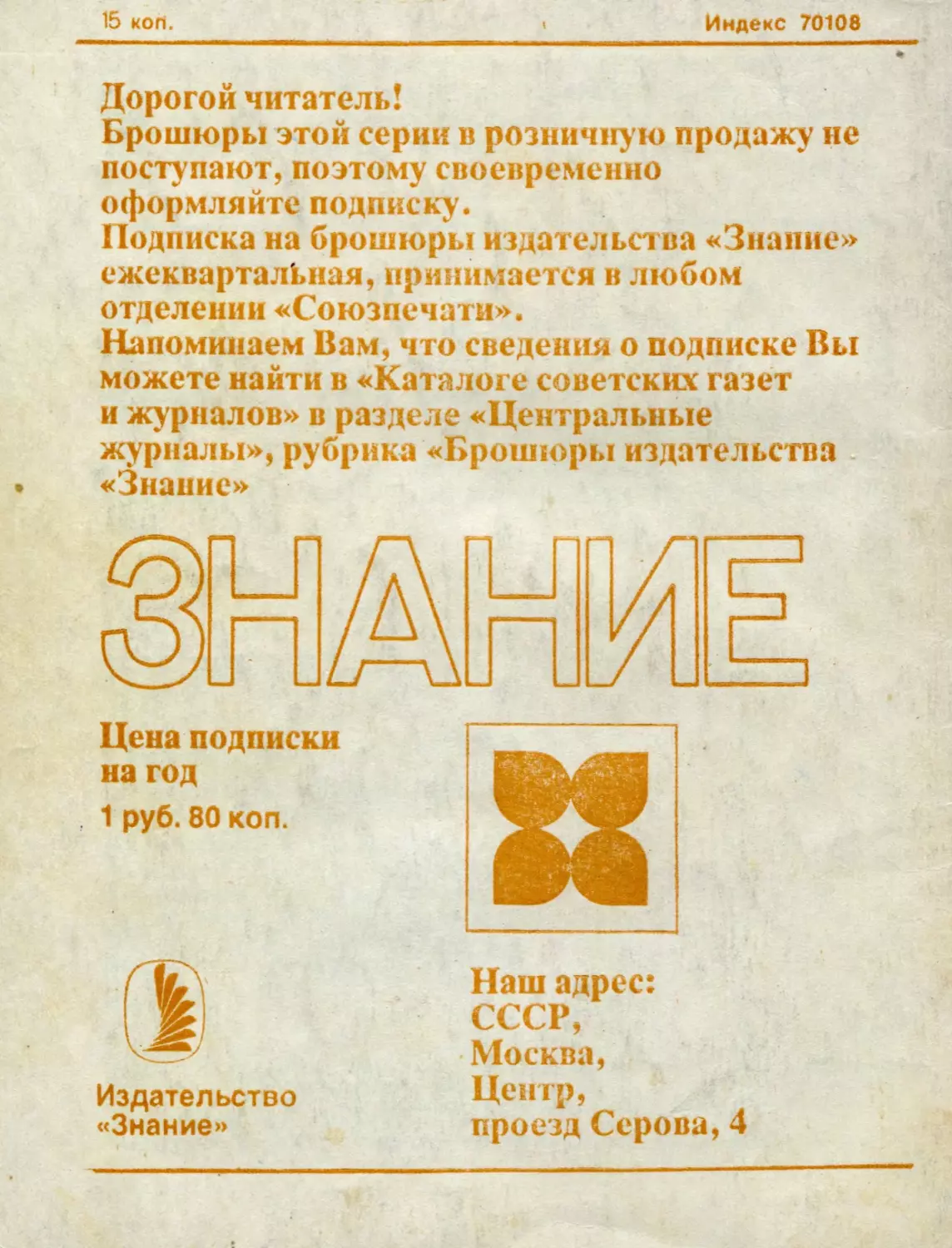Автор: Долгов К.М.
Теги: эстетика философия французкая философия издательство знание философия постмодерна экзистенциализм
ISBN: 5-07-000921-4
Год: 1990
Текст
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
ЭСТЕТИКА
3/1990
Издается ежемесячно с 1976 г.
К. М. Долгов,
доктор философских наук
ЭСТЕТИКА
ЖАНА-ПОЛЯ
САРТРА
Издательство «Знание» Москва 1990
ББК87.8
Д64
Автор: ДОЛГОВ Константин Михайлович — доктор
философских наук, профессор, заведующий сектором эстетики
Института философии АН СССР, автор многих работ по
истории и теории эстетики, культуры и политики.
Редактор: А. С. БАТЮШКОВА.
Долгов К. М.
Д64 Эстетика Жана-Поля Сартра. — М.: Знание,
1990. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике.
Сер. «Эстетика»; № 3).
ISBN 5-07-000921-4
15 к.
Брошюра посвящена рассмотрению эстетической концепции
французского писателя и философа-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра.
Универсальное философское лонимание культуры лозволнло Сартру
по-новому, оригинально поставить и решить кардинальные проблемы
эстетики: роли воображения в искусстве, свободы художественного
творчества, методологии исследования творческой личности и др.
Большое место в работе отводится анализу теоретико-эстетических
трудов философа, не переведенных на русский язык.
0301080000 ББК87.8
ISBN 5-07-000921-4
@ К. М. Долгов, 1990 г.
Жан-Поль Сартр (1905—1980) — крупнейший и
влиятельнейший после Хайдеггера и Ясперса
философ-экзистенциалист, писатель, драматург, этик, эстетик, критик. Окончил
Высшую нормальную школу в Париже, работал
преподавателем философии в лицее Гавра. В 1933—34 гг. находился в
Берлине, где изучал немецкую философию, в частности
Гуссерля, Хайдеггера. Его первые философские произведения
(«Воображение», 1936; «Очерк теории эмоций*, 1939;
«Воображаемое», 1940) были посвящены критике
механистического и натуралистического реализма и идеализма и выработке
феноменологпческо-экзистенциалистской теории воображения.
Затем Сартр излагает основные идеи своего
экзистенциализма — философии существования («существование
предшествует сущности», а не сущность — существованию, как это
было в традиционной философии) в фундаментальном труде
«Бытие и Ничто. Очерк феноменологической онтологии»
(1943). Чтобы донести идеи экзистенциализма до широкого
круга читателей, Сартр пишет популярную книгу о своем
«атеистическом экзистенциализме»: «Экзистенциализм — это
гуманизм» (1946), в которой он пытается придать
экзистенциалистскому учению позитивный, человеческий,
гуманистический характер. Наконец, он создает еще один
фундаментальный философский труд «Критика диалектического
разума» (I960), где старается обновить марксизм, превратить его
в философию человека, в философскую антропологию,
которая была бы одновременно исторической и структуральной,
рассматривающей человека во всей его полноте и цельности.
Свои философские идеи Сартр воплощал в
художественных произведениях: романах «Тошнота» (1938), «Стена»
(1939), «Пути свободы» (1943-1949), пьесах «Мухи» (1943),
«Закрытые двери» (1945), «Мертвые без погребения» (1946),
«Грязные руки» (1948), «Дьявол и господь Бог» (1951),
«Некрасов» (1956), «Затворники из Альтоны» (I960) и другие;
3
в критических произведениях: «Бодлер» (1947), «Святой
Жене, комедиант и мученик» (1952); в трехтомном
романе-исследовании о личности и творчестве Флобера: «Идиот в
семье» (1972) и других сочинениях. Социально-политические
и художественно-критические идеи изложены Сартром в
«Ситуациях» (10 томов, 1947—1965). Он написал великолепное
сочинение о своих детских и отроческих годах — «Слова»
(1964), проливающее свет на всю его жизнь. В 1964 г. Сартру
была присуждена Нобелевская премия в области
литературы, от которой оп отказался.
На русский язык переведены следующие произведения
Сартра: сборник пьес «Экзистенциализм — это гуманизм»,
роман «Тошнота», автобиографическая повесть «Слова» и
некоторые статьи и выступления. К сожалению, ни одно
философское произведение его не было переведено, как не
переведены до сих пор литературно-эстетические произведения,
например, такой важный трактат, как «Что такое
литература?». Словом, нам еще предстоит «открыть» Сартра, его
творчество и творения для нашего советского
многонационального читателя. Видимо, в ближайшие годы появятся
переводы важнейших его произведений, а также работы,
анализирующие его философские и художественно-эстетические
взгляды. Многое из того, о чем писал Сартр и что он
говорил, мы начинаем писать и говорить только сегодня. Он
многое предвидел, предвосхитил и предугадал, хотя,
естественно, что-то из его идей и взглядов уже устарело. Но
философия Сартра, его художественно-эстетические взгляды
сегодня снова становятся актуальными, и их следует
критически изучать и использовать для решения современных
проблем эстетической науки.
Много лет назад мне посчастливилось встретиться с
Жаном-Полем Сартром и его супругой — Симоной де Бовуар.
Меня попросили сопровождать Сартра в его поездках по
Москве. Помнится, я пришел в гостиницу «Москва», где они
остановились, постучался в дверь, и буквально через
несколько секунд дверь открылась — и я увидел знаменитого
писателя и мыслителя, который в те годы был властителем
дум не только Франции, но и Европы, если не сказать —
мира. Если его философские произведения в то время были
известны лишь специалистам, то романы «Тошнота»,
повести, опубликованные под названием «Стена», трилогия «До-
4
роги свободы» («Зрелый возраст», «Отсрочка», «Смерть в
душе»), драмы «Мухи», «При закрытых дверях», «Ставки
сделаны», «Грязные руки», «Дьявол и господь Бог»,
«Затворники из Альтоны» и другие известны во многих странах.
Постоянные устные и печатные выступления Сартра по
вопросам войны и мира, внутренней и международной политики,
по вопросам прав человека, свободы и независимости народов,
против эксплуатации, угнетения и порабощения, по
проблемам образования, философии, литературы и искусства,
культуры сделали его самым известным и, может быть, саныч
влиятельным интеллектуалом XX в. Не случайно Герберт
Маркузе назвал Сартра своим «супер-эго» и «сознанием
мира». Действительно, все, что происходило в мире, вызывало
отклик в душе, сердце и сознании Сартра, и благодаря его
выступлениям в больших аудиториях, на митингах и
демонстрациях, по радио и телевидению, интервью в газетах и
журналах, выступлениям в массовой печати его суждения но
самым актуальным для миллионов людей во всем мире
вопросам становились достоянием самой широкой
общественности. Он был тесно связан со всеми выдающимися
учеными, мыслителями, писателями, поэтами, художниками,
композиторами, мастерами литературы и искусства, деятелями
культуры, политическими и общественными деятелями и,
кажется, на самом деле был своеобразным «сознанием
мира». Большой популярностью пользовалась в то время и его
ученица и жена — Симона де Бовуар. Естественно, встреча
с такими знаменитыми личностями была для меня большой
радостью.
Сартр пригласил меня в номер. Я представился и
сообщил, что буду их сопровождать в поездках по Москве (в
частности, в этот день должна была состояться встреча
Сартра с нашими философами в редакции журнала «Вопросы
философии»). Сартр подтвердил свою заинтересованность в
этой встрече и попросил немного подождать.
Пока он отсутствовал, я переживал свои первые
впечатления от встречи. Его неказистый внешний вид: человек
небольшого роста, в старомодных очках, с проницательным
взглядом немного косящих глаз. Одет он был так, как
одеваются люди, для которых внешний вид не имеет практически
никакого значения, — как человек, живущий постоянной
напряженной внутренней духовной жизнью (видавший виды
5
костюм, не самый модный галстук и не претендующая на
моду рубашка). Но не было в его облике никакой
небрежности, нарочитой неаккуратности и агрессивной
демократичности. Весь облик Сартра являл собой элегантную простоту
и даже изящество, исходившее от выражения его лица,
мимики, жестов, движения, фигуры.
Сартр появился снова, по уже вместе с женщиной,
одетой в платье из черно-белых полос, с повязкой з тон платью
на голове, которую он представил: «Моя жена — Симона
де Бовуар». Ей я так же, как и Сартру, сказал, что
занимаюсь философией, что читал основные произведения Сартра
и некоторые ее романы, что у нас в стране очень
интересуются их сочинениями, но, к сожалению, пока эти сочинения
доступны лишь специалистам, знающим французский язык,
а широкой публике эти сочинения не известны, поскольку
мало что переведено на русский язык.
Краткая беседа с Сартром и Симоной де Бовуар в их
номере поразила меня непринужденностью, той высшей
светскостью, которая присуща людям высокой и утонченной
культуры. Их язык был прост, изящен, лаконичен, свободен
не только от обычных и широко распространенных
штампов, но свободен сам по себе как язык «человека культуры».
Мне даже казалось, будто я говорю с одним человеком, что
происходит диалог — настолько легко, последовательно и
незамысловато велась беседа.
После этого мы с Сартром поехали в редакцию журнала
«Вопросы философии» на его встречу с советскими
философами. Встреча продолжалась часа полтора-два. Не знаю,
велась ли стенограмма этой встречи, но, как мне помнится,
она свелась к тому, что Сартру задавали вопросы, а он на
них отвечал. Вопросы были разные, вроде таких: «Как вы
относитесь к марксистско-ленинской философии?», «Считаете
ли вы себя марксистом?», «В чем сходство и различие
марксизма и экзистенциализма?» и тому подобные. Сартр как
будто даже обрадовался, когда кто-то из присутствующих,
кажется 10. К. Мельвиль, задал вопрос о его понимании
субъективности. Сартр с нескрываемым удовольствием стал
отвечать на этот вопрос, поскольку он позволял очертить
широкие горизонты сложной и противоречивой проблематики
современной феноменологии, экзистенциализма, психоанализа
да и всей современной философии вообще в ее взаимоотно-
6
шении с философией прошлого, с актуальными проблемами
современности, включая проблематику марксизма и
социализма. К сожалению, я не вел записи этой встречи, но
хорошо помню, что уже после, когда Сартр решил немного
пройтись пешком, он еще продолжал рассуждать о
значении проблемы субъективности для всей философии вообще.
Сартр рассказывал мне о том, что пишет большой и
серьезный труд о Флобере, который должен стать
своеобразным завершением его основополагающих философских
трудов и художественных произведений. Он определил уже
тогда основные цели, задачи и принципы своего исследования.
Я не буду их излагать, поскольку теперь этот труд
опубликован и с ним можно ознакомиться, но я буквально был
потрясен, когда, прочитав «Идиота в семье» много лет спустя
после встречи с Сартром и его краткого изложения содер-
жаиия этого исследования, обнаружил, насколько точно
Сартр изложил основное содержание и даже структуру
своего будущего произведения. Это тем более удивительно, что
он излагал основные идеи будущего труда в случайном
разговоре с совершенно незнакомым ему человеком. Может быть,
п в этом проявляется особый дар таких выдающихся
мыслителей и художников, каким был Сартр? Как бы там ни
было, но встречи и краткие беседы с Сартром произвели на меня
неизгладимое впечатление. Кажется, впервые я почувствовал
тогда, что такое настоящий мыслитель, настоящий писатель,
настоящий человек культуры. С тех пор я не переставал
читать и перечитывать все, что было написано им и его
супругой — Симоной де Бовуар.
ДЕТСТВО: ПЕРСПЕКТИВА
ИЛИ РЕТРОСПЕКТИВА ЧЕЛОВЕКА?
Вряд ли стоит удивляться тому, что Сартр начал свою
творческую деятельность с изучения и исследования
проблемы воображения. Вся его жизнь сопровождались чтением и
письмом. «Я начал свою жизнь, как, по вероятности, и кончу
ее — среди книг», — пишет Сартр в «Словах».
Литературный труд с детских лет стал его призванием. Любовь к
чтению н письму писатель сохранил до конца жизни. «Единет-
?
венная вещь, которую я истинно люблю, — это находиться
за моим столом и писать». В раннем детстве он прочитал
основные произведения классиков французской литературы.
Книги были для него птицами и гнездами, домашними
животными, конюшней и полями; миром, отраженным в
зеркале, — плотным, многообразным, непреДугаданным.
«Платоник в силу обстоятельств, я шел от знания к предмету:
идея казалась мне материальнеи самой вещи, потому что
первой давалась мне в руки и давалась к&к сама вещь. Мир
впервые открылся мне через книги, разжеванный,
классифицированный, разграфленный, осмысленный, но все-таки
опасный, и хаотичность моего книжного опыта я путал с
прихотливым течением реальных событий. Вот откуда
взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три
десятилетия». Борьба Сартра против различных
идеалистических концепций в философии и в искусстве была во
многом борьбой против своих собственных взглядов, которые
следовало бы преодолеть и от которых нужно было
освободиться.
Книги стали для маленького Сартра важнее всего на
свете. Книжные полки были для него храмом, а писатели —
его лучшими друзьями, несмотря на то что ему уже
открылось величие и ничтожество пищущей братии. Дед Сартра—
Шарль Швейцер — оказал на него особенно сильное
влияние: он всячески поощрял внука к чтению, к письму, к
литературным занятиям. В конце концов внук решил:
«Подобно Шарлю Швейцеру, я стану дозорным культуры». И он
стал им., «Так между первой русской революцией и первой
мировой войной, пятнадцать лет спустя после смерти
Малларме, в эпоху, когда Даниэль де Фонтанен открыл для себя
«Пищу земную» Андре Жида, сын XIX века внушал своему
внуку взгляды, которые были в ходу при Луи-Филиппе.
Говорят, что этим-то и объясняется крестьянская косность:
отцы уходят на полевые работы, а сыновей оставляют на
попечение стариков родителей. Я вышел на старт с
гандикапом в восемьдесят лет. Жалеть ли об этом? Не знаю: наше
общество все время в движении, и порой, отстав,
вырываешься вперед».
Высококультурное и высокообразованное, интеллектуаль-
по-гумапистическое воспитание Шарля Швейцера наложило
глубокий отпечаток на все творчество Жана-Поля Сартра.
б
Однако нельзя недооценивать и другого мощного фактора
воспитания — реальной жизни, которая постоянно
врывалась, как «шальпой кит», в его существование. И эта жизнь
вносила свои поправки в формирование личности Сартра,
его ума, чувств, вкусов, суждений, привязанностей и
позиций. Он всячески хочет угодить взрослым, зная, что они его
будут хвалить и поощрять, вместе с тем он открывает для
себя, что «тому, кто хочет нравиться, не до ненависти, И не
до любви». С младых лет Сартр был подготовлен к тому,
чтобы «видеть в педагогической деятельности
священнодействие, а в литературной — подвижничество», но он уже
видел и понимал, что это каторжный труд, сулящий не
столько лавры, сколько глубокие страдания и лишения. Будучи
буржуазным ребенком, он вел беззаботную и
бездейственную жизнь, он не грустил, зато скучал, как король или как
собака. Мальчик чувствовал, что от пего ускользает смысл
собственного существования, не ощущал в себе ни глубины,
ни устойчивости, ни непроницаемости. «Я был ничто —
безнадежная прозрачность». Подобная бессмысленная жизнь
облагала его данью — жить в вечном страхе перед смертью:
«чем бессмысленней жизнь, тем непереносимее мысль о
смерти». Он хотел бы верить в бога, но официальная доктрина
отбила у него охоту искать собственную веру, к тому же в
хорошем обществе в бога верили, чтобы о нем не говорить.
Повседневная жизнь взрослых, с ее здравыми
принципами, ходячей мудростью, прописными истинами,
безапелляционными суждениями, скучными доводами, пустыми
конфликтами, с пронизывающей все суетой, не могла идти ни в
какое сравнение с жизнью книжной, где ребенок
сталкивался с могучей мыслью, превосходившей его разумение, с
драматическими и трагедийными конфликтами, со смертью, —
эта жизнь захватывала воображение и не отпускала от себя.
Мальчик бежал от взрослых, от мертвящей незыблемости их
существования в мир книг, в их чтение, что на деле
означало еще более тесное общение с миром взрослых. Он начал
понимать фарисейство и притворство взрослых, их «детские
игры», заранее распределенные и выученные роли одной и
той же весьма скучной комедии, которую они играли, но
эта жалкая комедия приобщала его к реальной жизни, как
комедия культуры приобщала его к подлинной культуре. В
хорошо изданных и хорошо оформленных книгах ребенок
9
впервые встретился с красотой, как из «черной серии»
почерпнул свою самую заветную иллюзию — оптимизм.
«Комедия заслоняла от меня реальный мир и подлинных
людей — я видел только роли и реквизит... правда и вымысел —
одно и то же; если хочешь почувствовать страсть, делай вид,
что ее чувствуешь; человек — существо, созданное для
ритуала. Мне внушили, что мы на то и живем, чтобы
разыгрывать комедию». Сартр был готов участвовать в этой
комедии, если бы ему предоставили главную роль. Но он
обнаружил, что просто никому не нужен. А раз так, то он решил
стать нужным всему миру. Что может быть прекраснее и
глупее? К счастью, семейная комедия скользила по
поверхности его души, он возненавидел привычную схему и стал
искать свой путь в жизни. Как признавался сам Сартр, «я
обретал себя в противопоставлении самому себе, ударяясь в
гордыню и садизм — иначе говоря, в великодушие — это
фермент, который врачует наши внутренние раны, но в
конце концов приводит к отравлению организма. Пытаясь
избавиться от заброшенности — участи творения, —- я готовил
себе самое безысходное буржуазное одиночество — участь
творца. Однако не путайте это внезапное сальто с
подлинным бунтом: бунтуют против палачей, я был окружен
благодетелями. Я долго оставался их сообщником».
Маленький Сартр, как и все его сверстники, увлекался
недавно появившимся кино — «искусством простонародья»,
предвосхищавшим век варварства; искусством, положившим
конец социальной иерархии театра, театральному
церемониалу и этикету. Оно как бы обнажило подлинную связь
людей, единство разноперстной толпы. Но именно
кинематограф, этот сон наяву, внушил ему смутное сознание о том,
что «быть человеком опасно». Кинематограф стал его новым
миром, в котором он хотел бы жить. Однако стоило
закончиться фильму, как ребенок выходил на улицу и вновь
обретал свою неприкаянность и одиночество.
Увлечение музыкой все больше и больше подталкивало
малыша Сартра к воображаемой жизпи, к жизни в сфере
образов: он писал романы, «делал» фильмы, сочинял
музыку. В конце концов романы, не имевшие ни начала ни
конца, заменили ему все.
'Творческий процесс, носивший почти автоматический
характер, постепенно становился все болео осознанным. «Я на-
10
чинал познавать себя. Я был почти ничто: самое большее*—
активность без содержания, но и этого хватало. Я ускользал
из комедии; я еще не трудился, но уже не играл, врун
обретал свою истину, разрабатывая собственное вранье. Меня
породили мои писания: до них была лишь игра зеркал;
сочинив первый роман, я понял, что в зеркальный дворец
пробрался ребенок. Когда я писал, я существовал, я ускользал
от взрослых; но я существовал только для того, чтобы
писать, и, если я говорил «я», это значило — я, который пишу.
Что бы там ни было, я познал радость — публичный
ребенок, я назначал себе частные свидания».
Все окружающие были убеждены в том, что у
маленького Сартра есть талант писателя, что он должен писать.
Буржуазно-пуританский индивидуализм его окружения лишь
способствовал этому. Шарль Швейцер, который больше
других заботился о литературных занятиях своего внука, вдруг
стал рассказывать ему о всех тяжестях, опасностях и
лишениях писательской профессии. И чем больше он старался
убедить впука в этом, тем больше тот убеждался в обратном.
«Короче, он отшвырнул меня в литературу, так как
переусердствовал, пытаясь меня от нее отвратить». Сартр
уверовал в свое призвание, в свою миссию литератора, в
необходимость его труда. Преднамеренно оп спутал литературное
мастерство и великодушие. Но, чем больше писал, тем острее
ощущал свое несовершенство. А писал Сартр чаще всего
наперекор себе и другим, следовательно, в самом высоком
умственном напряжении. Когда же он писал, то
становилось еще тяжелее, еще хуже. Литературное дело постепенно
становится делом его жизни. Каторжный труд, каторжное
призвание, но зато оно позволяет открыто взглянуть в лицо
своей судьбе и понять, что она есть лишь собственная
свобода, возведенная в ранг стороппей силы. Чтобы сохранить
душевный мир, нельзя отказываться ни от свободы, которая
вдохновляет, ни от необходимости, которая оправдывает.
Сартр принял гнусный миф о святом, спасающем чернь,
потому что сам был чернью и через спасение черни хотел
спастись сам. Его писательство было оторвано от всего — он
писал ради того, чтобы писать. И наконец, «идеализм
служителя культа опирался на реализм ребенка... открыв мир
в слове, я долго принимал слово за мир». Как бы то ни
было, Сартр понимал, что он отмечен, но бездарен, и если что-
11
то и удастся создать, чего-то добиться, то только путем
беспредельного терпения и невзгод. Никакой
индивидуальности за собой он не признавал, но стоило увидеть свое имя
в газете, как он начинал меланхолически наслаждаться
известностью и бросал писать. «Суть обеих развязок едина —
умираю ли я, чтобы родиться для славы, приходит ли слава,
чтоб меня убить, жажда писать таит в себе отказ от
жизни».
Смерть преследовала Жапа-Поля как наваждение, вселяя
ужас. Она была одним из побудительных мотивов к тому,
чтобы писать: в безумной, чванливой и ложной идее писать
было и что-то реальное, хотя п немало в пей от увертки, от
трусости, от самоубийства навыворот. Ведь все, что
написано, остается, а тот, кто пишет, превращается в собственный
дар, в чистый объект. Случай делает человека. После смерти
от писателя остается то, что он написал: книги, которые
будут читать, изучать, усваивать. Значит, писатель не
умирает, он воскресает вновь и вновь в своих читателях и
почитателях. Его нельзя замолчать, от него нельзя отмахнуться,,
ибо он благодаря своим сочинениям входит в сознание
других людей, других поколений. Можно похоронить смерть в
саване славы, но тогда смерть оборачивается бессмертием
или по крайней мере долгой жизнью в памяти потомков.
Друзья упрекали Сартра в том, что он никогда не
думает о смерти, в то время как они трепетали от одной
мысли о ней. Но все обстояло сложнее: «Я пи па минуту не
перестаю жить». Он спасал себя от смерти двойным
миражом: в жизни видел единственный способ умереть, а в
смерти — свою цель и пытался жить как бы в обратной
последовательности, в ретроспективпости. Тогда будущее
становится реальнее настоящего, и о начале жизни судят по ее
концу.
Воспитапный под прессом прогрессистского мифа, Сартр
наедине с собой не мог согласиться с тем, что бытие
даруется извне, а движение души есть следствие предыдущего
движения, и верил, что не прошлое создало егог а он сам,
восставая из пепла, исторгал из небытия свою память,
воссоздавая ее снова и снова. «Мне часто говорили: прошлое
нас подталкивает, но я был убежден, что меня притягивает
будущее; мне было б ненавистно ощутить в себе работу
размеренных сил, медленное созревание задатков. Я загнал плав-
12
ный прогресс буржуа в свою душу, я превратил его в
двигатель внутреннего сгорания; я подчинил прошлое
настоящему, а настоящее будущему, я отринул безмятежную эволю-
ционность и избрал прерывистый путь революционных
катаклизмов. Несколько лет назад кто-то отметил, что герои
моих пьес и романов принимают решения внезапно и
стремительно — к примеру, в «Мухах» переворот в душе Ореста
происходит мгновенно. Черт побери, я творю этих героев
по своему образу и подобию; не такими, разумеется, каков
я есть, но такими, каким я хотел бы быть. Я сделался
предателем и им остался. Тщетно я вкладываю всего себя во
все, что затеваю, целиком отдаюсь работе, гневу, дружбе —
через минуту я отрекусь от себя, мне это известно, я хочу
этого и, радостно предвосхищая измену, уже предаю себя в
самый разгар увлечения».
Формирование Сартра как человека и писателя
парадоксально от начала до копца: он быстро хотел стать
взрослым, зрелым, умудренным опытом, но, как оказалось, и в
старости проступали детские черты; пытался уйти от
окружавшего его буржуазного мира — но этот уход, несмотря
на все формы и характер его антибуржуазности, привел в
этот же буржуазный мир, хотя со временем и значительно
изменившийся: «Оттого-то я тридцать лет глядел не видя».
В конце концов наступило прозрение, и Сартр очень
изменился. Многие иллюзии исчезли, мифы улетучились,
бессмертие кануло в Лету, от воздвигнутого им здания
остались одни руины. Однако преданность литературному труду
у Сартра сохранилась до конца его дней. «Я изверился, но
не отступился. Я по-прежнему пишу. Чем еще заниматься?
Это привычка, и потом это моя профессия. Я долго
принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии.
Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все
же полезны. Культура ничего и никого не спасает, да и не
оправдывает. Но она — создание человека: он себя
проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом
зеркале он видит свой облик. К тому же дряхлое,
обветшалое здание —- мой самообман, это и мой характер, от
невроза можно избавиться, от себя не выздоровеешь. В
пятьдесят лет я сохранил свои детские черты, пусть и
изношенные, стершиеся, попранные, загнанные вглубь, лишенные
права голоса... Я искренне убежден, что пишу для современни-
13
ков, но известность раздражает меня — это не слава, ведь
я еще жив, и все же это подрывает мои давние мечты.
Значит, втайне я еще их питаю? И да и нет... Но в моем
безумии есть и хорошая сторона: с первого дня оно хранило
меня от искушения причислить себя к «элите», я никогда
не считал, что мне выпала удача обладать «талантом»;
передо мной была одна цель — спастись трудом и верой, руки
и карманы были пусты. Мой ничем не подкрепленный выбор
ни над кем меня не возвышал: ничем не снаряженный, я
всего себя отдал творчеству, чтобы всего себя спасти. Но
что остается, если я понял неосуществимость вечного
блаженства и отправил его на склад бутафории? Весь человек,
вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой».
Вряд ли мы найдем более интеллектуальную
автобиографию, чем «Слова» Сартра. Ведь речь идет о понимании
детства, о том, как формировался мальчик Сартр до девяти-
десяти лет. Однако эта автобиография является, по
существу, романом, написанным человеком стареющим,
умудренным жизненным опытом, с высоты той философской
рефлексии, которая была выработана в течение всей предыдущей
жизни. Она написана в таком стиле, что каждая фраза
содержит многозначный и многослойный смысл. Здесь игра
воображения временами достигает такой глубины и такой
утонченности, которые редко можно найти в самых
известных художественных произведениях. Целостность формы и
содержания, структуры и ее проявлений позволяет уяснять
смысл каждой фразы, восходя от самого ясного и самого
непосредственного смысла к смыслу самому сложному и
самому глубокому.
Очень важно для понимания творчества Сартра и его
личности то, что он поведал нам в «Словах», хотя
повествование и доводится до десятилетнего возраста. Ведь это
произведение проливает свет на все творчество Сартра — от
начала до конца. «Я не считаю, что история человека
заключена в его детстве. Я думаю, что есть также и другие очень
важные эпохи: отрочество, юность, зрелый возраст».
И это касается не только становления писательской
индивидуальности, но и более широкой сферы —
эстетических воззрений. Так детская убежденность в том, что
искусство — явление метафизическое и что от каждого
произведения зависит судьба Вселенной, находит преломление в идее
14
метафизического освобождения человека средствами поэзии
и т. п. Сартр не написал продолжения «Слов», как он не
написал обещанного им второго тома «Бытия и Ничто».
Однако на наш взгляд, то, что он сказал в «Словах», во многом
объясняет и всю его последующую жизнь и творчество,
хотя это произведение повествует лишь о детстве писателя. Но
может быть, стоит прислушаться к мнению самого Сартра,
когда он с какой-то грустью констатирует, что «все
произведения являются незавершенными: все люди, которые
создают литературное или философское произведение, не
заканчивают его». Примеров тому множество, в частности, Хайдег-
гер также не написал второго тома «Бытия и времени». И
все-таки мы находим продолжение этих произведений в
последующем творчестве и Хайдеггера, и Сартра.
Сам Сартр признавался, что до войны он рассматривал
себя просто как индивида. Когда он учился в Высшей
нормальной школе, то уже смотрел па себя как на «одинокого
индивида», который противостоит обществу благодаря
независимости своей мысли. В сентябре 1939 г., когда Сартр
получил мобилизационное предписание, он почувствовал, что
социальное вошло в его сознание, и понял, что является
«социальным существом, что все люди являются социальными
индивидами». Однако это осознание пришло лишь с
мобилизационным предписанием, которое нарушало его личную
свободу.
Социальность или социально-исторические события по-
разному воздействуют на человека в разные периоды его
жизни. Сартр, например, переживал тяжелую депрессию в
1935 г. в период перехода к зрелому возрасту. В период
Мюнхенских соглашений он колебался между
индивидуалистическим пацифизмом и антипацизмом. В 1933 г., во время
пребывания в Германии, Сартр видел, как нацисты
преследовали коммунистов. По возвращению во Францию он
открыто принимает «антифашистскую позицию».
Довольно четко прослеживается связь между
социальными событиями и произведениями Сартра. Например, роман
«Тошнота» являет собой литературное завершение теории
«одинокого человека». Когда генерал де Голль пришел к
власти, Сартр написал «Узников Альтоны». По свежим следам
исторических событий он пишет трилогию «Дороги свободы»
(1945—1949), посвященную сложным социальным проблемам
15
довоенной, периода войны и послевоенной Франции и
отражению этих событий в жизни людей. То же самое можно
сказать о других художественных, философских,
критических и политических сочинениях Сартра.
Чтобы понять эволюцию философских, эстетических и
художественных взглядов Сартра, следует иметь в виду
цели, которые он поставил перед собой: «Наша конкретная
цель, очень актуальная, современная цель — это
освобождение человека, и она имеет три аспекта. Прежде всего
метафизическое освобождение человека, которое должно
принести ему сознание его тотальной свободы и понимание того,
что он должен бороться против всего, что ограничивает эту
свободу. Во-вторых, его художественное освобождение:
облегчить свободному человеку коммуникацию с другими
людьми благодаря произведениям искусства и благодаря этому
погрузить их в ту же самую атмосферу свободы. В-третьих,
политическое и социальное освобождение, освобождение
угнетенных и других людей».
ВООБРАЖЕНИЕ И СВОБОДА
Эстетика Сартра тесно связана с его философией и
литературно-художественным творчеством- У него нет
эстетики в «чистом» виде, как нет у него и «чисто» философских
и литературных произведений, — это своеобразный сплав
литературы, искусства, философии, критики, публицистики.
К собственно философским сочинениям Сартра относят
«Воображаемое», «Бытие и Ничто», «Критику
диалектического разума». Однако, как признавал сам Сартр, и в этих
произведениях он давал слишком литературные формулы. В
то же время в его литературных произведениях мы
находим глубокие философские мысли и рассуждения. Вот
почему нам представляется ошибочным мнение, согласно
которому литературные сочинения Сартра считают своеобразной
популяризацией его философских идей. Видимо, более
правильным будет считать, что философия Сартра развивалась
в большей или меньшей степени во всех его сочинениях:
философских, художественных, критических, политических..
Известно, что первые исследования Сартра были
посвящены проблемам воображения: «Воображение» (Париж,
16
1936), «Очерк теории эмоций» (Париж, 1939),
«Воображаемое» (Париж, 1940). Категория воображения является
основой философии и эстетики Сартра и в его интерпретации
получает универсальное значение: это феноменологически *
определенная интенциональность (направленность) сознания.
П6 существу, Сартр будет разрабатывать проблемы
воображения во всех своих произведениях.
Воображаемая жизнь, или жизнь воображения,
определяется актом воображения, который, в понимании Сартра,
является магическим. «Акт воображения является
одновременно конституирующим, изолирующим и анеантизирую-
щим», то есть в высшей степени творческим актом.
Сартр приходит к признанию существования двух
миров: мира реального, существующего в пространстве и
времени, и мира ирреального, существующего вне пространства
и времени. Лишь позиция сознания определяет
воображаемый мир как реальный универсум.
Произведение искусства «ирреально», как ирреален в
нем эстетический объект. Сартр иллюстрирует это на
примере прослушивания музыкального сочинения. «Симфония
не существует там, где я ее воспринимаю, ни между этими
стенами, ни на кончиках этих смычков. Она есть не
больше, чем «прошлое»: как если бы я о нем думал: именно там
зародилось произведение в определенное время в уме
Бетховена. Она существует полностью вне реального. Она имеет
свое собственное время, то есть она обладает внутренним
временем, которое проходит от первой ноты аллегро до
последней ноты финала, но это время не есть время,
следующее за другим временем, которое бы оно продолжало и
которое было бы «прежде» аллегро»; за ним также не следует
какое-то время, которое наступило бы после финала.
Седьмая симфония совершенно не существует во времени. Она,
таким образом, полностью вырывается из реального».
Следовательно, мир воображения совершенно отличен от
обычного, реального мира. Его отличие состоит именно в
ирреальности, то есть в том, что он существует вне времени
и пространства и в этом своем бытии противостоит
реальному миру. При этом основная функция воображения за-
* Феноменология — наука о явлениях, философия,
описывающая явления.
ключается в том, чтобы сделать свой объект ирреальным.
Феноменология сознания предполагает «очищение» всех
видов сознания от разного рода «примесей» материального
и чувственного характера. Однако Сартр, для которого
чистое знание является дологическим, стремится ввести в
структуру образа чувство страсти. В таком случае позпавательно-
чувствепный характер структуры образа делает
принципиально невозможной абсолютную чистоту образа. Чтобы
видеть объект или обладать им, мысль принимает образную
форму: воображение представляет собой некое заклинание,
необходимое для появления объекта, о котором мыслят, или
вещи, которой хотят обладать. Движение сознания от знака
к образу и от портрета к образу не означает двух
реальностей, а есть лишь символическое движение. «Знание
осознает себя здесь только в форме образа; сознание образа
является деградированным сознанием знания». Главная
«функция образа — символическая».
В воображении сознание как бы осуществляет сполна
свою свободу; оно выступает причиной самого себя. В таком
виде оно становится фундаментальной характеристикой
трансцендентального сознания. Вот почему позже Сартр
скажет, что «самая большая трудность ввести идею
воображения как кардинального определения личности».
Становится понятно, почему так много внимания Сартр
уделяет анализу проблемы воображения; ведь почти все
сочинения философа посвящены исследованию человека, его
сознания, его мира.
Как известно, Сартр начал разрабатывать концепцию
метафизического, художественного и социально-политического
освобождения человека почти одновременно, поскольку для
него литературный труд, литература и искусство
охватывали все сферы жизни и деятельности человека.
Именно поэтому прежде всего он обратил внимание на
разработку проблем воображения, то есть проблем,
связывающих философию, литературу, искусство, психологию с
человеком и его повседневной жизнью. Отмеченные нами
труды: «Трансценденция Эго» (1934), «Воображение» (1936),
«Эскиз теории эмоций» (1939), «Воображаемое» (1940) —
явились теоретической основой метафизического,
художественного и социально-политического освобождения человека
посредством изменения его сознания. Затом издается фунда-
18
ментальаый философский труд «Бытие и Ничто» (1943) —
своеобразный трактат о человеке в состоянии его «нечистой
совести», в состоянии его естественного вырождения или
декаданса.
В этом труде Сартр, пытаясь преодолеть недостатки
идеалистической философии, генерирует свою философию
субъекта как философскую антропологию, науку о человеке,
человеческом существовании, об отношении человека к
окружающему миру. Он стремится радикально переосмыслить
проблему субъективности — всего того, что относится к
субъекту, к его взглядам, интересам, вкусам и т. д.,
которая, по его мнению, непоследовательно решалась в
философской традиции Запада.
Прежде всего писатель резко выступает против
гносеологического отождествления бытия и мышления.
Гносеологические, познавательные проблемы он преобразует в
онтологические, проблемы бытия, ибо для обоснования бытия,
считает Сартр, необходимо сознание, а не познание. При этом
теория бытия сводится к бытию сознания со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Трансцендентальное сознание как сознание, выходящее
за пределы любого опыта, является источником, основой и
катализатором жизненной и творческой активности
человека. Вместе с тем одновременно с абсолютной свободой,
характеризующей феноменологическое или трансцендентальное
сознание, как бы спонтанно вводилась абсолютная
ответственность: отныне свобода будет определяться
ответственностью, а ответственность — свободой. Метафизическое
освобождение человека тесно связывалось Сартром с его
закабалением в тиски абсолютной свободы и абсолютной
ответственности — бремя, которое традиционный европейский
гуманизм не мог вынести.
Естественно, Сартр понимает самоопределение сознания
не как генезис, не как становление, иначе бы следовало
предположить, что сознание предшествует своему
существованию, то есть надо было бы признать, что прошлое
определяет настоящее, но именно это Сартр отрицает.
Содержание философии, ее диалектика развертываются
между бытием и ничто. Бытие определяется Сартром
следующим образом: «Сознание есть бытие, для которого оно
в самом его бытии является вопросом его бытпя, поскольку
19
это бытие содержит в себе бытие иное, чем оно само». Это
бытие является трансфеноменальным, то есть бытием-в-себе.
Оно есть, является синтетическим, позитивным и случайным.
Человек постоянно проецирует себя в то, что он не
есть, и постоянно отрицает то, чем он является. Сознание
непрерывно отрицает свое прошлое. Вот этот разрыв между
прошлым и настоящим и есть ничто. «Этой возможности для
человеческой реальности выделять ничто, которое его
изолирует, Декарт, вслед за стоиками, дал имя: это свобода».
Свобода присуща человеческому бытию, она делает его
возможным. «Свобода — это человеческое бытие, исключающее свое
прошлое, выделяя свое собственное ничто».
Свобода, согласно Сартру, не может иметь сущности,
следовательно, она не может подчиняться и никакой
логической необходимости. Сартровский человек, человек «Бытия
и Ничто» «приговорен к свободе». В таком случае свобода
принимает абсолютные измерения: сама свобода, не
поддаваясь никакому анализу, определяет мотивы, цели,
побудительные причины и т. д. Она является масштабом
измерения индивида и всего, что связано с его сознанием.
Поскольку воля субъекта избегает признания истинных целей,
выбранных спонтанным сознанием, то в качестве
побудительных причин она констатирует ложные психические
объекты и тем самым порождает нечистую совесть.
Сартр сознательно выстраивает свою экзистенциальную
феноменологию в негативном духе, в духе отрицания
абсолюта — ведь подлинно человеческая жизнь с необходимостью
отрицает существование абсолюта. В этом смысле Сартр как
бы следует за Хайдеггером и Ясперсом, у которых
существование и дух имеют негативный характер. Сартр развивает
гегелевскую «негативную силу», «силу отрицания» до
крайних пределов — до безграничной и абсолютной свободы.
«Нечистая совесть» выражает стремление или страсть
познавать саму себя как некий абсолют, который может быть
ограничен только через сознательный выбор. Любой выбор
есть ограничение, как любое определение есть отрицание. Но
видимо, и всякое отрицание есть определение, пусть и
негативное. Тогда любой выбор будет отказом, отвержением,
отрицанием, а любой отказ, отвержение, отрицание будет
выбором. Следовательно, всякий выбор, по существу, будет
неудачным, неудовлетворительным.
20
Негативная направленность экзистенциалистской
феноменологии как онтологии проявляется также в утрате «духа
серьезности», в ироническом и релятивистском отношении к
ценностям, рассматривающимся в виде некой эмпирической
реальности, окружающей субъективность. Бесконечная
возможность выбора (по крайней мере теоретически)
обесценивает любой выбор. «Возможность этих других выборов ни
яспа, ни поставлена, но она переживается в чувстве
неоправданности и именно она выражается благодаря факту
абсурдности моего выбора и, следовательно, моего бытия». «Вот
почему моя свобода разъедает мою свободу».
Казалось бы, индивидуальное существование, получая
абсолютную свободу, должно становиться действительно
свободным (хотя бы в сфере сознания). Однако абсолютная
свобода, позволяя индивиду вступать в любые ситуации,
выбирать то, что ему больше всего импонирует и подходит, то
есть предоставляя ему полную свободу выбора, на самом
деле ставит под сомнение саму себя, поскольку абсолютное
как таковое невозможно и даже немыслимо именно потому,
что оно предполагается как абсолютное. Именно абсолютные
характеристики свободы и выбора в конечном счете
приводят к абсурду, ибо абсолютная свобода и абсолютный
выбор, как таковые, реально яевозможны. Вот почему Сартр
акцентирует внимание не на абстрактных сущностях, а на
эмпирических реалиях, которые могут получить фактическое
подтверждение. Видимо, этим также объясняется и то, что
«Бытие и Ничто» — трактат, повествующий о человеке в
состоянии «нечистой совести», всеобщего отчуждения и
декаданса, предусматривает возможность «спасения» или
«искупления» «подлинного существования», «чистой рефлексии»,
ибо феноменологическая онтология завершается обещанием
выработки систематической морали: «Экзистенциальный
психоанализ есть моральное описание, ибо он открывает
этический смысл различных человеческих проектов... человек
становится человеком, чтобы стать Богом». Однако в силу
изменившихся социальных условий и логики творчества Сартр
предпочел продолжить свои фундаментальные сочинения в
серии литературно-философских и философско-литературных
публикаций, содержание которых включало в себя главным
образом анализ взаимоотношений философии с литературой-
искусством и культурой.
21
ЧТО ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРА?
Эстетика Сартра не является традиционной,
академической, скорее ее можно назвать эстетикой практической или
прикладной, поскольку она органически вплетена в
философское и художественное творчество, составляет органическую
часть всего творчества. Поэтому совершенно невозможно на
основе сочинений Сартра как-то выстроить эстетическую
систему с ее методом и категориальным аппаратом. Зато
можно, хотя и не без труда, выявить основные эстетические идеи
и принципы и проследить в какой-то мере их применение и
развитие.
Прежде всего необходимо отметить, что в творчестве
Сартра большое место отводится литературному творчеству
и искусству, которые он понимает очень широко,
универсально: писатель, как и художник вообще, должен говорить обо
всем, о мире субъективном и объективном, никакие
проблемы человеческой жизни не должны оставаться ему
чуждыми — все, что составляет человеческий мир, мир человека,
входит в сферу творческих интересов писателя и художника.
С самого начала своего творческого пути Сартр занял
антибуржуазную позицию. Писатель выбрал себе
могущественных противников: буржуазпое общество и буржуазного
читателя, против которых и ополчился, совершенно
сознательно заняв позицию «антибуржуазного и
индивидуалистического писателя».
На деле это означало то, что он порывает с французской
и европейской традицией «безответственности» писателя и
художника. Сартр определенно и четко занимает позицию
«ангажированного» писателя. Эта позиция наиболее полно
изложена им в трактате «Что такое литература?», в
котором он пе только обстоятельно излагает свои взгляды на
литературу и искусство, на художественное творчество, но и
ставит вопрос о статусе художника в современном обществе.
Вопрос «что писать?» позволяет Сартру различать
литературный язык и поэтический, соответственно прозу и
поэзию, прозаика и поэта. «Прозаик пишет, эте верно, и поэт
тоже пишет. Но между этими двумя актами письма общее
имеется лишь в движении руки, которая выводит буквы. В
остальном их миры остаются некоммуникабельными, и то,
что пригодно для одного, не пригодно для другого. По своей
22
природе проза является утилитарной; я охотно бы
определил прозаика как человека, который пользуется словаки.
Мсье Журден употреблял прозу, чтобы спрашивать свои
туфли, а Гитлер — чтобы объявить войну Польше. Писатель —
это говорун: он обозначает, доказывает, упорядочивает,
отвергает, вопрошает, умоляет, оскорбляет, убеждает,
намекает... прозаик говорит именно для того, чтобы ничего не
сказать. Искусство прозы осуществляется в речи, его
предмет, естественно, является значимым: то есть слова не
являются исходными объектами, но обозначениями объектов».
Другое дело — поэзия. «Поэты — это люди, которые
отрицают использование языка». «Для поэтов слова — это
«естественные вещи, которые растут на земле, как трава и
деревья».
Проза, в понимании Сартра, — это семантический
(значащий) язык, это как бы инструмент интеллекта, с помощью
которого создаются значащие символы. Поэзия —
асемантический язык, она, как живопись и музыка, раскрывает смысл
вещей, их чувственные, эмоциональные характеристики.
Проза связана с реальностью, поэзия — с воображением. В
прозе творчество обусловливается сознательной волей,
ответственностью и моралью автора, в поэзии творчество —
продукт неосознаваемого мира автора, его неосознаваемого
опыта: «Поэзия создает миф о человеке, в то время как
прозаик набрасывает свой портрет».
Как видно, Сартр в противовес сторонникам теории
«искусства для искусства» на первый план выдвигает
социальную функцию литературы как ангажированного искусства,
как посредника моральных принципов, восходящих к
дидактической и педагогической концепции Горация. Сартр
утверждает могущество слова — слово равносильно действию.
«Говорить — это действовать: любая вещь, которую
называют, уже больше не является той же самой, она теряет свою
невинность». Писатель говорит, а «если он говорит, то он
стреляет».
Писатель тем самым хочет сказать, что литературное
дело чрезвычайно важно и ответственно. Прежде всего он
имеет в виду ответственность писателя: перо писателя — это
могучее оружие, с помощью которого можно многое изменить.
Человек, берущийся за перо, должен осознавать свою
личную ответственность за все, что он напишет, ибо его дея-
23
тельность будет связана с интересами людей, с их жизнью,
с их проблемами и действиями. Но Сартр также полагает,
что литература возлагает ответственность и на читателей:
ведь человеческое действие «является одновременно удачей
и неудачей», что во многом зависит от тех, кто будет
действовать, то есть произведение писателя обращено к читателю,
от которого зависит его действенность.
Иными словами, литература — это действие, она
раскрывает ситуацию, чтобы потом ее изменить, — в этом суть
«ангажированной» литературы.
Однако как справедливо считает Сартр, ангажированная
литература вовсе не должна быть литературой «прямого
действия» или литературой пропагандистского толка, а тем
более — вульгарной литературой, литературой «низкого
пошиба», относящейся к массовой культуре и удовлетворяющей
низменные вкусы «просвещенной» или «темной» толпы.
Сартр в отличие от сюрреалистов большое внимание уделял
вопросам стиля. Согласно его мысли, ангажированная
литература должна отвечать требованиям самого высокого
художественного вкуса, быть литературой «высокого стиля»,
выражать основные проблемы своего мира, своего времени,
своего народа и всего человечества, но через характеры и
судьбы совершенно конкретных людей, а не людей вообще.
Опровергая поэтику классицизма, Сартр утверждает, что и
«плохой живописец ищет тип, он пишет Араба, Ребенка,
Женщину; хороший живописец знает, что ни Араб, пи
Пролетарий не существуют ни в действительности, ни на его
холсте: он предлагает рабочего — определенного рабочего».
Требование конкретности образов в литературе и искусстве—
верное требование. Другое дело, что нельзя отказывать
литературе и искусству в том, что они через конкретные
характеры и образы выражают и определенные социальные
типы. В этом специфика и сила литературы и искусства.
Типичные образы, характеры, ситуации существуют только
благодаря конкретным образам, характерам и ситуациям,
благодаря им и в них. Именно этим можно объяснить тот
факт, что, скажем, художник стремится создавать не зиаки
и символы, а конкретные вещи. «Для художника цвет,
букет, позвякивание ложечки на блюдце являются вещами в
высшей степени; он останавливается на качестве звука или
формы; к этому он беспрестанно возвращается, чтобы восхд-
24
титься им; именно этот цвет-объект он стремится
перенести на свое полотно, и для этого ему достаточно одного
какого-то изменения — именно такого, которое преобразует
этот цвет-объект в объект воображаемый. Стало быть, он
очень далек от того, чтобы рассматривать цвета и звуки как
язык. То, что имеет ценность для элементов
художественного творчества, имеет ценность также и для их сочетаний:
живописец не хочет изображать на полотне знаки, он хочет
создать вещь». И в этом он совершенно прав.
Писатель, напротив, создает знаки, значения, образы,
характеры, полагает Сартр, но семантический и
асемантический языки требуют особенно тщательной работы над
стилем, ведь как показывает история литературы и искусства,—
плохой художественный язык, плохой стиль не в состоянии
создать настоящую литературу и настоящее искусство. И
тем самым художественные проблемы языка и стиля
превращаются в социальные и моральные проблемы литературы
и искусства. Сартр правильно упрекал сюрреалистов за их
пренебрежение к художественному методу, к
художественным средствам, ибо прекрасно понимал, что такое
пренебрежение чревато социальным^ нигилизмом, аморализмом,
декадансом. Писатель и художник, не нашедшие своего
художественного языка и стиля, в лучшем случае — эпигоны.
В ответах Сартра на второй фундаментальный вопрос:
«Зачем писать?» — содержится критика эстетических
взглядов теоретиков и практиков теории «искусства для
искусства», эстетических взглядов сюрреализма, а также
развитие многообразной тонкой и глубокой диалектики
взаимоотношений писателя и читателя.
Литература и искусство — сложное явление: «Для
одного искусство есть бегство; для другого — средство покорять».
Чтобы попять сущность литературы и искусства,
необходимо выявить мотивы, которые движут писателем и
художником. «Одним из основных мотивов художественного
творчества, несомненно, является наша потребность почувствовать
себя значимым по отношению к миру». Это чувство
возникает у человека как бы спонтанно и внезапно, а на самом
деле здесь действуют мощные и скрытые силы общества,
общественных интересов. Не всегда писатель и художник
осознают эти интересы и их генезис. Чаще всего им кажется,
что все их творчество идет изнутри их собственной натуры,
25
их настроения, вдохновения, воли, субъективности. Сартр
признает важное значение социальности для творчества.
Общество тотального отчуждения является той «анонимной» и
скрытой, таинственной силой, которая во многом определяет
творческую деятельность писателя и художника. А сам
творец, как правило, «встречает лишь свое знание, свою волю,
своп проекты, короче говоря, самого себя; он всегда
соприкасается только со своей субъективностью, а создаваемый
им объект остается нетронутым, он творит не для пего».
Вопреки весьма распространенной для буржуазного писателя и
художника иллюзии, что они — начало, суть и конец
творчества, что можно, а может быть, и нужно творить для
самих себя, или для весьма подготовленной элитарной
публики, или просто ради самого искусства» Сартр справедливо
утверждает, что искусство существует ради других людей.
«Творческий акт является лишь неполным и абстрактным
моментом создания произведения; если бы автор
существовал один, то он мог бы писать так, как бы он хотел... Но
операция писания содержит в себе чтение как свое
диалектическое соотношение, и эти два связанных акта делают
необходимыми два различных агента. Именно объединенное
усиление автора и читателя будет порождать этот
конкретный и воображаемый объект, который является
произведением духа. Искусство существует только для других и
благодаря другим». Произведение искусства в его подлинном
понимании создается усилиями творца и человека,
воспринимающего искусство (читателя, зрителя, слушателя), оно
создается для других людей (а не для самого художника,
писателя или композитора) и существует лишь благодаря
другим людям. Чтение, прослушивание, осмотр
художественных произведений есть синтез восприятия и творчества,
и этот синтез, устанавливая значимость субъекта и
объекта, одновременно обогащает их отношения с миром. И в
этом с писателем нельзя не согласиться.
Данный синтез носит целенаправленный и активный
характер: он предполагает определенную цель, а также
свободу как творца, так и людей, воспринимающих искусство. В
этой связи Сартр критикует кантовское целеполагание
«конечная цель без цели», предполагающее, что эстетический
объект представляет только видимость и свободную игру
воображения. Сартр конкретиздрует свое понимание синтеза
26
восприятия и творчества, «Всякое литературное
произведение есть призыв. Писать — это взывать к читателю... Таким
образом, писатель взывает к свободе читателя, потому что
она участвует в создании его произведения». Кроме того,
нельзя забывать, что, согласно Сартру, «воображение
зрителя является не только регулирующим, но конституивным;
оно не просто играет, а оно призвано воссоздать прекрасный
объект». По существу, синтез восприятия и творчества
имеет глубоко диалектический характер —- существуют
сложные, глубокие и тонкие взаимоотношения между творцом и
человеком, воспринимающим искусство. Вот этой сложной и
глубокой диалектики не учитывал Кант, считает Сартр.
«Кантианская формула не учитывает призыва, который звучит в
сущности каждой картины, каждой статуи, каждой книги...
Произведецие искусства является ценностью, потому что оно
есть призыв».
Творческий акт является лишь неполным и абстрактным
моментом создания произведения. Оно требует сотворчества
со стороны человека, воспринимающего искусство. «Чтение
есть индукция, интерполяция, экстраполяция, и основа этих
действий покоится в воле автора... Сладкая сила
сопровождает и поддерживает нас от первой до последней страницы».
Сартр рассматривает чтение тоже как своеобразный акт
сотворчества читателя, в который он вкладывает свои страсти,
чувства, переживания, словом, свои творческие способности.
Из отношений писателя и читателя Сартр выводит
правило, согласно которому литература есть призыв к свободе
читателя. Это правило он возводит в своеобразный закон. Как
и у Канта, закон свободы представляет собой конечный
принцип истории. Сартр считает, что этот закон следует сделать
ясным и сознательным, чтобы он был внутренне присущ
человеку. Тогда литература будет постоянно
осуществляемым «великодушием». «Таким образом, чтение есть
осуществление великодушия; и то, что писатель требует от
читателя, — это быть не применением абстрактной свободы, но
даром всей своей личности, со всеми своими страстями,
предубеждениями, симпатиями, своим сексуальным
темпераментом, своим масштабом ценностей». В конце концов чтение,
согласно Сартру, представляет собой своеобразный договор
между писателем и читателем, который они обязаны
выполнять как свой первый долг. «Чтение является великодуш-
27
ным договором между автором и читателем, каждый
оказывает доверие другому, каждый требопательно рассчитывает
на другого, требует от другого так же, как он требует от
самого себя, ибо это доверие является само по себе
великодушием: никто не может обязать автора верить, что его
читатель будет использовать свою свободу; никто не может
обязать читателя верить, что автор использовал свою
свободу. Именно и тот и другой принимают свободное решение».
Таким образом, Сартр относительно литературы повто^
ряет тот паралогизм, то ошибочное заключение, который Кант
использовал относительно категорического моральпого
императива. Поскольку литература не может существовать без
свободного сотрудничества писателя и читателя, то,
естественно, функция литературы будет состоять в том, чтобы
защищать и развивать эту свободу. В таком случае условие
развития литературы становится се целью: «Свобода,
которая делает целью человеческую свободу». Следовательно,
Сартр совершенно справедливо признает за литературой
высшие, этические функции —- она должна вносить ясность,
освещать нечистую совесть, порождать ответственность как
писателя, так и читателя, в конечном счете делать человека и
его сознание абсолютно свободным. Просвещенный человек—
и писатель, и читатель — должен освободиться от какой бы
то пи было зависимости от элиты, которая, как правило,
консервативна, особенно в политическом отношении, и
всеми силами добиваться того, чтобы литература и искусство
стали достоянием самых широких народных масс, то есть
необходимо создавать искусство для масс и ориентировать
его, направлять против каких бы то ни было привилегий,
всегда обездоливающих народ и, следовательно, сужающих
и ограничивающих сферу свободы: свободы творцов и
людей, воспринимающих искусство.
Сартр не просто постулировал эти положения, но он
сам пытался претворить их в жизнь и в своем творчестве,
Л в своей общественной деятельности. Так, известно, что он
основал журнал «Новые времена», вокруг которого собрал
людей, независимых как от политических партий, так и от
разного рода элиты (гуманитарной, технической, научной),
и с их помощью пытался воздействовать на сознание самых
широких масс.
Следует заметить, что сартровский закон свободы изна-
28
чально обращен к свободе других людей, ибо «писать — это,
стало быть, одновременно раскрывать мир и предлагать его
как задачу великодушию читателя. Это значит прибегать к
сознанию другого, чтобы заставить признать себя значимым
в тотальности бытия». В связи с этим и само
художественное произведение обретает собственно человеческие
измерения: оно никогда не является чем-то естественным, но всегда
«требованием и даром». Литература, в понимании Сартра,
постоянно генерирует этические принципы и моральные
императивы, содержащие в себе всю палитру нравственной
жизни общества. Но в отличие от официальной морали, как бы
застывшей в ряде заповедей, литература и искусство
представляют вечно обновляющуюся мораль в сознании
индивида и общества. Такая литература соответствует морали
благородства или великодушия общества, а также превращению
свободы субъекта в свободу других. В сущности, Сартр
истолковывал литературу в духе демократических принципов
французской революции 1789 г.: свободы, равенства и братства.
Разумеется, нужно видеть разницу между сартровским
пониманием прозы и поэзии. Если проза у него связана с
категориями свободы, ангажированности, ответственности, то
поэзия тяготеет к миру бессознательного, к миру мифа, к
мифологической и мистической метафизике.
Если проза стремится вмешиваться в реальность и
воздействовать на нее, то поэзия избегает реальности, хотя ее
незаинтересованность в конечном счете представляет собой
некий интерес и некую ценность. Ценность может
считаться доброй, когда она связана с реальностью, и прекрасной,
когда она нравится сама по себе.
Идущее от Канта противопоставление доброго и
прекрасного, реального и ирреального пронизывало всю
европейскую эстетику до самого последнего времени. Сартр
углубляет понимание ирреального или воображаемого как зла
до единственной ценности, лишающей человека выбора
между добром и злом: зло —единственная ценность, с которой
человек остается наедине, лицом к лицу. Тогда прекрасное
превращается в зло, а зло — в свободу, равную произволу.
Можно заметить разницу между прозаиком и поэтом:
если прозаик существует в мире реального и конкретного, а
потому в мире свободы, то поэт, наоборот, исходит из
ирреального, из отказа от реального, от общества и окупается
29
в свой индивидуалистический мир воображаемого,
прекрасного, злого. Мы можем тогда заметить, что проза составляет
как бы социальную этику, а поэзия — этику
индивидуальную или индивидуалистическую. Не представляет ли в
таком случае эстетика в ее сартровском понимании
своеобразную мораль? Или, наоборот, не предлагает ли Сартр свое
понимание морали в форме эстетики?
В первый период творчества Сартр понимал проблемы
литературы как проблемы всего общества, как проблемы
социальные, ибо искусство для него неотделимо от истории, от
человека. Следовательно, ставить вопросы литературы и
искусства — это вопрошать самого человека. Вот почему
литература и искусство для Сартра являются самой
универсальной формой коммуникации, а произведения литературы
и искусства создаются не только писателем пли
художником, но в неменьшей, если не в большей, степени теми, кто
воспринимает эти произведения, и создаются они прежде
всего для них. «Принимая перо за шпагу», Сартр стремился
с помощью слова изменить буржуазное общество, спасти
себя и других. Помрачение взора и затмение оп принимал за
освобождение. Однако прошло время, и он понял, что
здание, воздвигавшееся им на протяжении многих лет,
оказалось построенным на песке — оно рассыпалось, иллюзии
развеялись, он понял, что занимался самообманом. Менять
призвание и судьбу — невозможно, осталось вернуться к
началу, начать все с начала: писать, писать, писать, но уже
отдавая себе отчет в том, что нельзя принимать иллюзии за
реальность, а реальность — за иллюзии, что удел и судьба
человека — не в божественном и не в дьявольском, а
именно в человеческом: человек должен стать, быть и
оставаться человеком. «Весь человек, вобравший всех людей, он стоит
всех, его стоит любой».
До 1945 г. Сартр «наводит мосты» между писателем и
публикой, подчеркивая особое значение прогрессивных идей,
«в сущности эстетического императива мы распознаем
моральный императив». После 1945 г. он основывает свои
эстетические взгляды на моральном отождествлении
политической практики и искусства, сводя политическую
деятельность к эстетическому проекту, а эстетическую
деятельность — к политическому.
Следует заметить, что содержание и понятийный аппа-
30
рат трактата «Что такое литература?» сообразуются с
содержанием и понятийным аппаратом основного философского
произведения «Бытие и Ничто», о котором речь шла выше.
Например, категории «проект», «выбор» соответствуют
категориям «интериоризации», «экстериоризации», «тотальности»
как форме диалектического процесса. То же самое можно
сказать о категориях «универсальность», «свобода» и многих
других.
Согласно Сартру, любой писатель или художник
«универсален» в той мере, в какой оп в своем произведении
выражает не только свою индивидуальность, но прежде всего
свою личность, живущую и действующую в обществе,
которое его в определенной мере обусловливает и определяет. В
такой же мере «универсально» и произведение литературы и
искусства — они стремятся быть универсальными по самой
своей сути. Что касается категории «свободы», то
произведение искусства, будучи «воззванием» к свободе читателя,
зрителя, слушателя, предопределяет свой главный сюжет и
свою главную цель: свободу, свободу как самодеятельную,
самостаповящуюся, самоформирующуюся («Бытие и Ничто»).
В литературной деятельности Сартр ошибочно видел
этическое спасение, ведущее к спасению политическому и
социальному. Правда, позднее Сартр понял, что перед лицом
социальной трагедии такие произведения, как роман
«Тошнота», не имеют никакого значения.
И после 1945 г. Сартр пытается решить политические
проблемы современного общества, идущие от Сопротивления.
Он усматривает в литературе такой «праксис», который
взывает к свободе всех людей. В литературе совпадают цель и
средства, ибо сущность литературы состоит в
осуществлении свободы. Чтобы добиться реализации свободы, Сартр
вырабатывает свою теорию перманентной революции,
осуществляемую средствами языка. Об этом свидетельствует его
лозунг «Говорить — это действовать!», который он
неправомерно распространяет на всю сферу литературы и искусства.
Анализируя положение писателя в буржуазном
обществе, Сартр замечает, что это положение всегда зависело от
взаимоотношения социальных сил и классов, от их
положения в обществе. Например, когда буржуазия была
восходящим революционным классом (XVIII в.), писатель выступал
в роли арбитра столкновений и конфликтов. Его в равной
31
мере чтят и уважают как аристократы, так и буржуа, хотя,
естественно, он выражает универсалистскую концепцию
буржуазии (Бальзак, Флобер и другие). Осмысливая все, что
происходит в обществе, высказывая свои суждения по
самым важным и жгучим вопросам социальной жизни,
писатель тем самым осуществляет свободу, которая и является
сущностью литературы. У писателя XVIII в. критическая и
универсалистская функция литературы соответствовала
борьбе буржуазии за ликвидацию феодальных отношений и
установлению буржуазных порядков. Вот почему политика
составляла содержание литературных произведений —
сущность литературы совпадала с историей. Эта литература
выражала и отражала объективную истину, объективное
положение вещей. Писатель, как «универсальный человек»,
обращался ко всем людям вообще, и это определяло
главенствующую роль литературы и искусства в общественном
сознании того времени.
Когда же буржуазия пришла к власти, она очень
быстро превратила литературу и искусство в соответствующие
социальные ритуалы. Тогда литературе и искусству, то есть
писателям и художникам, не оставалось ничего другого, как
занять по отпошению к капиталистическому, буржуазному
обществу критическую и негативную позицию. Буржуазная
публика вызывает у писателя и художника чувство пена-
вистп, неприязни, неприятия. Вот почему они начинают
писать не для буржуазной публики, а против нее. В связи с
этим начинается процесс деклассирования писателя: он не
может уже быть на службе буржуазии или класса, закат
которого (политический, социальный, культурный) неизбежен,
но одновременно писатель не может в силу своей
буржуазной ограниченности, от которой он еще не освободился,
связать свои судьбы с более прогрессивным классом — с
пролетариатом.
Именно по этой причине Сартр говорит, что писатель в
паше время (в 1947 г.) перестает быть классовым
«арбитром», а становится просто «деклассированным» писателем,
который не находит своей публики. Писатель пишет
одновременно и против буржуазии, и против коммунистов. «Ясно,
что это означает то, что мы пишем против всего мира, что
мы имеем читателей, но не имеем публики. Будучи буржуа,
находящимися в разрыве со своим классом, но остающими-
32
ся в плену у буржуазных нравов, обособленные от
пролетариата коммунистическим экраном, освобожденные от
аристократических иллюзий, мы повисаем в воздухе, наша добрая
воля никому не служит, даже нам самим, мы выступаем в
эпоху непахоДимой публики. Еще хуже: мы пишем против
течения».
Но именно в то время, когда писатель не находит
соответствующей публики, тогда-то и рождается литература
«праксиса», ангажированная литература, освобожденная от
безответственности писателя. Наоборот, она берет на себя
всю полноту ответственности за все, что происходит и будет
происходить в обществе. Зта литература может реализовы-
вать как свою сущность, так и одновременно сущность
истории: она ставит под вопрос существование буржуазии, дает
пролетариату возможность осознать свое отчуждение,
показывает, что человек может формировать себя сам, что все
человеческие вопросы являются вопросами моральными.
Литература «праксиса», или практически
ангажированная и ориентированная литература, представляет собой поиск
«тотальной» литературы как синтеза буржуазной демократии
и социализма. Подобная литература становится попыткой
прямого изменения реального. Не имея реальной публики,
она пытается создать возможную публику, воспитать ее в
ходе реального исторического процесса. Сартр считает, что
«литература Праксиса рождается в эпоху ненаходимой
публики». В наше время шанс этой литературы уникален: «Это
шанс Европы, социализма, демократии, мира». Ради
достижения этих целей ангажированная литература может
сделать очень много, если она ставит самые серьезные и острые
проблемы, и если она становится моральной, а не морали-
заторской, и если она не забывает, что человек является
высшей ценностью. Таким образом Сартр приходит к
совершенно правильному выводу.
ПРОКЛЯТЫЕ ПОЭТЫ:
ЦВЕТЫ ДОБРА ИЛИ ЗЛА?
Изучение событий реальной жизни: социальной,
политической, идеологической, культурной—все больше
побуждало Сартра отходить от позиции воинственно ангажирован-
33
ной литературы. Чем ближе философ приближался к
марксизму, тем ему становилось понятнее и яснее, что реальные
изменения в обществе зависят не столько от «слов», не
столько от «литературы», от литературных произведений,
сколько от расстановки классовых сил, от хода классовой
борьбы. В связи с этим эстетические взгляды Сартра
постепенно меняются, становятся более реалистическими: его
эстетика обретает почву под ногами. Все большее внимание
писатель начинает уделять специфике литературы и искусства.
Он справедливо выступает против априорного определения
реализма, против многих положений догматической
эстетики, за относительную самостоятельность литературы и
искусства от социально-экономического и политического
развития общества. Благодаря этой относительной автономии
литературы и искусства в буржуазном обществе литература
и искусство необязательно должны быть упадочными,
декадентскими, поскольку само определение декаданса носит
скорее эстетический, а не социальный или политический
характер. Кроме того, произведения литературы и искусства,
критикующие декаданс как бы изнутри, сами могут и не
относиться к декадентским произведениям, хотя и могут по-
разному истолковываться.
Все большее внимание Сартр уделяет также вопросам
культуры. Универсалистское понимание культуры начинает
обретать у него более реальные очертания. «Холодная вой-
па», констатировал Сартр, заморозила развитие
универсальной культуры. «Культурное сосуществование»,
«демилитаризация культуры» — это вынужденные, хотя и необходимые,
шаги к тому, чтобы развивать культурное сотрудничество как
основу, на которой будет развиваться универсальная
человеческая культура.
В пятидесятые годы Сартр создает ряд произведений, в
которых исследует отношения писателя и общества
(«Бодлер» — 1947, «Святой Жене» — 1952, заметки о Флобере —
1957).
В «Бодлере» Сартр применяет метод экзистенциального
психоанализа, чтобы исследовать душевное расстройство
ребенка, изучить основной «проект» Бодлера, его выбор
самого себя. Отовсюду гонимый, Бодлер уходит в среду ложного
аристократического дендизма, сексуальных приключений,
становится мазохистом. У Бодлера дендизм и культ красоты
34
представляются субъективными ответами поэта на проблемы
его собственного существования.
На фоне отпошений, в которых жил и творил Бодлер,
с учетом его душевной болезни Сартр пытается
реконструировать его личность, черты характера, определившие
особенности* его творчества. Помимо категорий «добра» и «зла»,
Сартр вводит такие категории, как «гордость», «скука»,
«наслаждение», «боль», «игра» и другие. Например, одной из
основных черт личности и творчества Бодлера философ
считает «гордость». «Стоическая гордость, метафизическая
гордость, которая не довольствуется ни социальными
различиями, ни успехами, пи признанием любого превосходства,
ничем, наконец, из того, что есть в этом мире, по которая
становится абсолютным выбором без причин». Эта гордость
Бодлера — проклятого поэта — была обусловлена его
отчуждением от общества, от людей, его одиночеством, в
конечном счете его психическим расстройством. Когда человек
одинок, естественно, он уходит в себя: одиночество
порождает нарциссизм. «Оригинальность позиции Бодлера —
позиция склоненного человека. Склоненного над собой, как
Нарцисс». Бодлер — это человек, никогда не забывающий
самого себя: он смотрит, чтобы видеть себя, и видит себя,
чтобы смотреть на себя. Экзистенциалистский мотив об
изначальной враждебности человека и общества под влиянием
идей психоанализа трансформируется в полный трагизма
принцип ухода в самого себя, подтачивающий, разъедающий
и разрушающий человека изнутри, независимо от того,
переносится ли энергия на творчество или нет. «Здесь
начинается бодлеровская драма: вообразите — белая ворона стала
слепой — ибо слишком великий рефлексивный свет
приводит к слепоте». Нарциссизм в творчестве действительно
равносилен слепоте, но... и великому прозрению. На наш взгляд,
подобная «слепота» помогает сосредоточиться на
творчестве, на идеях, которые, как известно, помогают проникать в
тайны жизни, в ее бесконечные глубины. Без этой слепоты
Бодлер, видимо, не был бы Бодлером.
Как говорил Паскаль, человек — ни ангел, ни зверь.
Бодлеровский человек всегда чувствует себя как бы над
пропастью: гордость, скука, головокружение,
некоммуникабельность, абсурдность, бесполезность. На своем жизненном и
творческом пути Бодлер встретил, согласно Сартру, «неопре-
35
Деленные образы универсального сознания. Гордость,
ясность, тоска состарили одно». Такой человек противостоит
не только всему миру, но и самому себе. Нечистая совесть,
несчастное сознание держат его в постоянном напряжении,
в борьбе с самим собой. Победы оказываются поражениями,
свобода — оковами, наслаждение — отвращением,
обладание — потерей, радость — горечью, счастье — несчастьем,
добро — злом. «Современный чувственный человек не
страдает по тому или иному частному мотиву, а страдает вообще,
потому что ничто на этой земле не могло удовлетворить его
желания». Как полагает Сартр, универсальный характер
«неудовлетворенности» у Бодлера — это своеобразная
форма реванша против Добра с позиции Зла. Добро для
Бодлера не является ни объектом любви, ни абстрактным
императивом. У него Добро осознается Злом и во Зле. Зло
выступает в виде некой субстанции, основа которой —
свобода. Путь к свободе есть путь Зла, и пролегает этот путь
через Зло. Бодлер отождествлял Зло с природой — первым
движением, спонтанностью, непосредственным, трансценден-
цией Добра. Борьба против «природы» — это борьба против
отчуждения, против извращенности жизни и всех
отношений, существующих в обществе. Вот почему Бодлер с таким
упорством и настойчивостью искал предметы, имеющие свое
лицо, и «природу», вступающую в личностные отношения с
людьми и вещами.
Бодлеровский культ «холода» явился одной из
конструкций своеобразной антиприроды, способной противостоять
тотальному процессу деперсонализации и уничтожения
индивидуальности вещей и явлений. Холод, как нечто
исключительно твердое, жесткое, неподвижное, способен сохранить
лицо и особенность каждого предмета. Любой «холодный»
предмет имеет свое лицо и сохраняет его. Бодлеровский
«холод» исключает «жизнь», а значит, порчу, извращенность,
утрату своего «лица» и своей сущности. «Холод» — это
чистота. Не случайно Бодлер устремляет свои взоры к
«холодной даме» — идеалу чистоты и свободы.
Сартр полагает, что творчество Бодлера было
определено впечатлениями детства: «Бодлер никогда не мечтал о
разрушении семьи, скорее наоборот: можно сказать, что он
никогда не выходил за пределы периода детства». Основные
мотивы творчества Бодлера, его творческая судьба — все
3fi
было предопределено в детстве. Именно детство человека
песет в себе, как в зародыше, все, что потом будет
осуществляться и находить завершение: «Свободный выбор,
который человек осуществляет сам, абсолютно отождествляется
с тем, что называется его предназначением». Не
напоминает ли в таком случае сартровская концепция свободы
фатализм? Ведь если все предопределено уже с малых лет, а
предопределяется это самыми разными отношениями
(социальными, семейными, личными), то что и из чего может
человек выбирать и в какой мере этот выбор является
свободным? Не кроется ли под таким свободным выбором самая
жестокая и неумолимая необходимость, от которой
человеку невозможно уйти? Может быть, поэтому человеку его
жизненный путь и все выпадающие на его долю перипетии
представляются неизбежными и в конце Концов мучительными и
гибельными? Видимо, не случайно сам Сартр, подводя итоги
своего исследования жизни и творчества Бодлера, писал:
«Поэтическое творчество... приближается... к самоубийству».
Обращает на себя внимание тот факт, что сочинение
Сартра о Бодлере написано почти без всякой связи с
творчеством поэта: как правило, выявляются негативные черты
его характера, резко прочерчена психопатология. Сартр как
будто задался целью показать «негатив», а не «позитив»
Бодлера. И кажется, ему это в известной степени удалось:
Бодлер выглядит в сартровском эссе изгоем, проклятым
поэтом, человеком, обреченным на неудачу, на неуспех, на
несчастье. Хотя известно, что Бодлер был во многом другим
Бодлером: он сражался на баррикадах во время революции
1848 г., писал революционные стихи (цикл «Мятеж»),
беспощадно критиковал буржуазные порядки во Франции, в
Бельгии, в США и других странах, наметил в своем
творчестве такие проблемы, которые станут магистральными для
литературы, поэзии и даже философии XX века.
Что касается исследования Сартра о Жене, то здесь на
первый план выдвигаются достоинства личности и
творчества этого писателя и драматурга (вора, гомосексуалиста,
извращенца) — достоинства весьма сомнительные. Однако
творчество Жене интересует Сартра именно как творчество
«проклятого» или отверженного обществом писателя. Кроме
того, в его творчестве Сартр находит те же проблемы, что и
в творчестве Бодлера и Флобера: добро и зло, прекрасное и
Э?
безобразное, эстет и художник, эстетическое и эстетское,
патология и патологическая психология, невроз и творчество
и т. д.
Заметим, что Сартра интересуют именно такие писатели,
поэты, художники, которые представляют эстетов, склонных
к эстетизации неприятного, безобразного (Бодлер, Рембо,
Лотреамон, Аполлинер, Жене и другие). Психология
подобных творцов, психология авторов-персонажей, а не просто
психология творчества. Психология автора-персонажа
позволяет установить тип реакции па социальный конформизм, на
социальность вообще, а также на окружение. Ясно, что это
не может совпадать с явлениями искусства.
Категории «эстет» и «эстетизм» имеют свою историю.
Так, для Капта «прекрасное есть символ нравственно
доброго»; «Прекрасное нравится непосредственно... Оно нравится
без всякого интереса... Свобода воображения... в суждении
о прекрасном представляется как согласующаяся с
закономерностью рассудка... Субъективный принцип суждения о
прекрасном представляется как всеобщий». Следовательно,
эстетическая способность суждения — это способность
суждения о формальной пли субъективной целесообразности на
основании чувства удовольствия или неудовольствия.
Телеологическая способность суждения — это способность
суждения о реальной или объективной целесообразности природы
на основе разума и рассудка. Таким образом, эстетическая
способность решает проблему соответствия форм предметов
и явлений природы с нашей способностью познания через
чувство.
Но нельзя смешивать категории «эстет» и «эстетизм» с
категорией «эстетическое» или «прекрасное». Категория
«эстет» отражает или выражает тип реакции на социальный
конформизм, а категория «эстетизм» — специфический
способ видения вещей и соответствующий способ поведения.
Эстетическое суждение противопоставляется идеальности
прекрасного, а наслаждение эстета представляется в виде
конечной цели.
В современной европейской культуре распространен
такой вид эстетизма, когда критическая позиция приобретает
абсолютные измерения — становится сверхкритичной.
Сартр, исходя из негативности романтиков и построман-
тиков, доводит эту негативность до ее логического конца. Он
38
создает трансцендентальную концепцию эстетизма.
Гносеология воображаемого сменяется психологией. С особым
интересом Сартр анализирует и реконструирует жизнь и
творчество «проклятых» поэтов и писателей — Бодлера, Жене,
Флобера —- болезненных, наделенных богатым воображением.
Их бегство от реального мира в мир воображения, согласно
Сартру, есть зло, а зло есть страдание, а страдание
порождает жестокость. Диалектика зла приводит к диалектике
мученика и палача, мученика и комедианта.
К сожалению, Сартр приходит к отождествлению
прекрасного и воображаемого, эстетического и эстетизма.
Прекрасное — это реальное, которое не может быть
отождествлено с эстетизмом как формой, жестом, образом, мечтой,
бегством от реального.
Столь же неправомерно отождествление эстета и
художника: не каждый художник является эстетом, как и не
каждый эстет является художником. Обычно человек
воображения пассивен, он жертва окружающего мира, общества, семьи
(Сведепборг, Ван Гог, Гёльдерлин, Флобер, По, Бодлер, Лот-
реамон и другие). Как известно, болезнь (шизофрения,
паранойя и другие психические заболевания) становится
условием их творчества, которое делает человека воображения
активным: из жертвы он превращается в палача: когда
общество начинает поглощать произведения художника,
отравленные его неврозом, он выздоравливает, и все его зло
трансформируется в добро.
Таким образом, Сартр из категории зла, являющегося
отказом, неудачей, пассивностью, жестом, сном, мечтой и,
наконец, прекрасным, пытается вывести диалектику,
состоящую в воле зла, в выборе пассивности, в противоречиях, в
мучении, в страдании, в превращении зла в добро. Подобная
диалектика ведет к явной переоценке воображения эстета
и к превращению эстетизма в прагматизм. А в целом эта
диалектика представляет собой своеобразное обоснование
этики и эстетики Ничто. В этом случае сартровская
психология воображаемого и ее категории не позволяют
проникнуть в тайну поэтического и художественного творчества —
они в лучшем случае способны констатировать наличие
определенных ситуаций и определенных моментов в жизни и
творчестве «проклятых» творцов. Вся сартровская
феноменология воображаемого является, по существу, реконструк-
39
цией искусства в гипотетический мир биографии
«проклятых» поэтов, писателей, художников. Через эту
реконструкцию просвечивают и эстетические и моральные проблемы.
Как справедливо заметил итальянский философ и эстетик
Г. Морпурго-Тальябуэ, «эстетика Сартра есть криптография
этики».
Известно, что работа Сартра о Жене — это
произведение переходного периода, характеризующееся таким
методом исследования, который представляет собой нечто среднее
между психоаналитической интерпретацией и интерпретацией
марксистской в ее вульгарно-социологическом варианте. Если
первая интерпретация признает определяющее значение
детства, то вторая — определяющее значение социальных,
классовых отношений. Обе крайности Сартр пытается преодолеть
в дальнейших исследовательских опытах.
КРИТИКА ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО РАЗУМА:
ОПЫТ ВЫРАБОТКИ НОВОГО МЕТОДА
Еще одип фундаментальный труд Сартра написан, по
существу, для того, чтобы выработать метод исследования и
изучения творческой личности (в данном конкретном
случае — для изучения Флобера), то есть выработать метод
критического анализа литературно-художественной
личности и литературно-художественного творчества. В этом
смысле автобиографическое сочинение Сартра «Слова» —
прощание с литературой, а исследование о Флобере «Идиот в
семье» — возвращение к литературе.
Концентрированное изложение своей концепции метода
Сартр дает в разделе «Вопросы метода» в книге «Критика
диалектического разума».
В ходе своей духовной эволюции Сартр осознал
недостатки собственной философской концепции, изложенной в
«Бытии и Ничто», которая, по его мнению, была
абстрактной и изоляционистской. В «Критике диалектического
разума» Сартр пытается преодолеть эти недостатки посредством
установления взаимоотношений субъекта с практикой и
диалектикой. Человек может и должен творить историю,
практически преобразовывать мир и существующие в этом
мире отношения. Мыслительная деятельность субъекта свя-
40
зывается Сартром с его практической деятельностью, чтобы
утвердить реальность людей, добывающих свое
освобождение, свою свободу практическим путем.
В «прогрессивно-регрессивном методе» Сартр пытается
соединить марксизм и экзистенциализм. «Марксистский
метод является прогрессивным, потому что он есть результат...
длительного анализа... Наш метод является эвристическим,
он дает нам новое, потому что он является одновременно
прогрессивно-регрессивным». И марксизм и экзистенциализм
изучают один и тот же объект — человека. Однако
согласно Сартру, марксизм растворил человека в идее, а
экзистенциализм стремится охватить всю сферу существования
единичного, отчужденного, мистифицированного индивида в
его борьбе с этим отчуждением с помощью отчуждепных
средств. Диалектический охват должен включать действия,
страсти, труд, потребности, а также экономические
категории. Сартр вовсе не отрицает значимости марксизма.
Напротив, в отличие от других мыслителей он постоянно
подчеркивает реальную ценность этой философии: «Сила и
богатство марксизма в том, что он был самой радикальной
попыткой осветить исторический процесс в его тотальности».
И только вследствие извращений, которые претерпело это
учение в руках бюрократического консерватизма, оно
переживает кризис. Но согласно Сартру, «марксизм является еще
совершенно молодым, почти в детском возрасте: он едва
только начал развиваться. Таким образом, он остается
философией нашего времени: он не устарел, потому что
обстоятельства, которые его породили, еще не отжили». Но если
марксизм хочет оставаться животворным учением, то он
должен повернуться лицом к живому индивиду, к тем
обстоятельствам, в которых он существует, словом, к
человеческому существованию. Ведь все основные понятия и категории,
которыми оперирует марксизм, чтобы описать наше
историческое общество, — эксплуатация, отчуждение,
фетишизация, вещизм и т. д. — самым непосредственным образом
отсылают к экзистенциальным структурам. Даже такие
понятия, как «практика» и «диалектика», нерасторжимо
связанные друг с другом, находятся в противоречии с интел-
лектуалистской идеей знания. «Таким образом, понимание
существования представляет человеческий фундамент
марксистской антропологии... Фундамент марксизма, как истори-
4)
ческой и структурной антропологии, — это сак человек,
поскольку человеческое существование и понимание
человеческого неразделимы». Марксизм — это, согласно Сартру,
единственно возможная форма реально конкретного знания.
Однако, считает философ, марксизму недостает глубины,
состоящей в собственно человеческом измерении. «Марксизм
выродится в бесчеловечную антропологию, если он снова не
введет в себя самого человека как свой фундамент».
Марксизм, согласно Сартру, как бы остановился в своем
развитии: он стал формальным, догматическим,
волюнтаристским и абстрактным. Если освободить марксизм от
присущих ему недостатков, то он снова станет плодотворным
учением. Надо сделать так, чтобы марксизм стал реальным и
конкретным, критичным и самокритичным, диалектичным и
человечным. Философия как тотализация знания, метод,
регулятивная идея, наступательное оружие и языковая
общность, «видение мира» только тогда будет благотворно
воздействовать на общество, когда она становится культурой
общества. Ясно, что эпохи философского творчества бывают
редко. Между XVII и XX столетиями Сартр насчитывает
три такие эпохи: Декарта и Локка, Канта и Гегеля, Маркса.
Эти три философии являют собой гумус любой
партикулярной мысли и горизонт всей культуры, они не устарели, так
как исторический момент, выражением которого они
являются, еще не отжил. На этом основании Сартр делает вывод о
том, что «антимарксистский» аргумент является лишь
омоложением домарксистской идеи. Претензия «преодоления»
марксизма будет только возвращением к домарксизму. Что
касается «ревизионизма», то это трюизм или абсурд: нет
основания реадаптировать философию, живущую во время
мира; она адаптируется сама собой через тысячу инициатив,
тысячу частных исследований, ибо она составляет единое
целое с движением общества. Если это движение не
существует, то по двум причинам: или философия мертва, или
она находится в состоянии «кризиса» как частное
выражение социального кризиса. «Ревизия», предпринятая
«экспертами», была бы, таким образом, лишь идеалистической
мистификацией, поскольку развитие философии выражает само
движение истории.
Сартр упрекает марксизм и марксистов в абстрактности
анализа, способного установить лишь принадлежность того
42
или иного писателя, поэта, художника к какому-то
определенному классу или прослойке общества. Что касается
выявления специфики взглядов политических, идеологических,
художественных, то здесь марксизм и марксисты, по его
мнению, бессильны — они не в состоянии воспроизвести всю
полноту личности, творчества, индивидуальности, духовной
жизни творца. Подобные слабости марксистов Сартр
демонстрирует па теоретических исследованиях А. Лефевра, Р. Га-
роди и других французских философов, легко
устанавливающих классовую и социальную принадлежность художника, но
оказывающихся неспособными определить специфику их
творчества. «Валери — мелкобуржуазный интеллектуал, это
несомненно. Но не всякий мелкобуржуазный интеллектуал—
Валери. Эвристическая недостаточность современного
марксизма содержится в этих двух фразах». Принадлежность к
буржуазии устанавливает лишь то, что тот или иной
писатель, поэт, художник жил так, как он жил, и творил так,
как он творил. «Современный марксизм показывает,
например, что реализм Флобера связан взаимной символизацией
с социальной и политической эволюцией мелкой буржуазии
Второй империи. Но он никогда не показывает генезис этой
взаимности в перспективе. Мы не знаем ни того, почему
Флобер предпочел литературу всему другому, ни того, почему
он жил как анахорет, ни того, почему он написал именно
эти книги, а не те, которые написали Дюранти или
Гонкуры».
Все эти слабости или недостатки марксизма Сартр хотел
преодолеть соединением марксизма и экзистенциализма или
экзистенциальной феноменологии в единый метод, который
устанавливал бы классовую и социальную принадлежность
писателя или художника и одновременно раскрывал бы
генезис его духовной жизни как личности и индивидуальности
и генезис его творчества во всей его неповторимости и во
всем его многообразии.
Кроме того, серьезным недостатком марксизма Сартр
считает то, что марксисты почти не изучают детство
творческой личности, которое оказывает решающее воздействие
на всю последующую жизнь человека. Марксисты, говорит
Сартр, как будто не знают, что у каждого человека было
детство, когда интенсивно формируется характер, личность
человека, его сознание, вкусы, чувственный и интеллектуаль-
40
ныи мир и т. д. Как правило, марксисты изучают
творческую личность, начиная со зрелого возраста, а детские годы,
генезис личности, как таковой, остается в стороне.
Новый метод, согласно Сартру, предполагает три
основных принципа: воспроизвести детство творческой лцчности,
раскрыть механизм интериоризации (постижения и
усвоения) объективно существующей социальной реальности и
экстериоризацию (выражение) внутреннего мира,
постигнуть, как и каким образом творческая личность «тотализи-
рует», то есть конструирует и реконструирует, общество. Этот
метод Сартр называет «регрессивно-прогрессивным»:
«Регрессивным, поскольку он соотносится с исторической
единственностью своего объекта, например, абсолютно конкретный
индивид Флобер, или Бодлер, или Жене — такой, каким
каждый из них был в его детстве, в его семье, в его
принадлежности к тому классу и к тому обществу, в которых
он жил; прогрессивным, поскольку этот метод постигает само
движение и развитие проекта творческой личности, смысл
проекта, несводимого к биографии этой творческой
личности. Речь идет о том, чтобы выявить объективные причины,
«проект», благодаря которому Флобер, чтобы избавиться от
пут мелкой буржуазности... неотвратимо конституируется
как автор «Мадам Бовари» и как такой мелкий буржуа,
который отказывался им быть.
Что касается детства человека, то речь идет не о
механическом воспроизведении или монтаже, а о том, чтобы
воспроизвести все те объективные и субъективные
механизмы, которые формировали характер и личность человека.
Ведь, по убеждению Сартра, «мы живем в нашем детстве,
как в нашем будущем. Оно определяет жесты и роли в
перспективе будущего». Поскольку жесты и роли неотделимы от
проекта, то они составляют «внутренний колорит проекта»,
то есть «субъективно — его вкус, объективно — его стиль».
Человеческая жизнь развивается по спирали в самых
разных смыслах и значениях: и в личной жизни, и в
семейной, и в социальной. Но она всегда направлена и
ориентирована в будущее. «Комплексы, стиль жизни и раскрытие
отжившего — отживающего как создаваемого будущего
являются одной и той же реальностью: это проект как
ориентированная жизнь, как утверждение человека посредством
действия и одновременно это туман не локализуемой иррацио-
44
дальности, которая отражает будущее в иаших
воспоминаниях детства и наше детство в наших разумных выборах
зрелых людей».
Диалектическое познание человека требует новой
рациональности, которую надо еще вырабатывать в опыте, в
теоретическом осмыслении практики.
Объект или проект, которым занимается критика,
стремящаяся его понять, необходимым образом предполагает
«поле инструментальных возможностей». Характер этих
инструментов глубоко трансформирует проект — они
обусловливают его объективизацию. Идеологический проект имеет своей
целью изменить основную ситуацию через осознание ее
противоречий. Общие категории культуры, особые системы и
язык, которые их выражают, являются объективизацией
класса, отражением скрытых или открытых конфликтов,
особым проявлением отчуждения. Культура и язык помогают
индивиду раскрывать отчуждение, вместе с тем именно они
могут еще больше усиливать отчуждение индивида через
воздействие на его сознание. Будучи продуктом процесса
отчуждения, культура и язык еще больше усиливают
отчуждение индивида, который пользуется ими, искажают смысл
его деятельности и его существования. Когда культура
становится мировоззрением, тогда идеология, по существу,
неустранима: идеи становятся объективизацией и отчуждением
конкретного человека. Отчужденная идеология может
порождать столь же отчужденное сознание и отчужденные
действия. Знаменитый маркиз де Сад, описавший все формы
эротизма и сексуальной патологии, по-своему пережил закат
феодализма: его «садизм» был слепой попыткой вновь
подтвердить свои воинственные права в насилии, основывая их
на субъективном качестве своей личности. В силу
объективных и субъективных причин «карнавал субъективности» в
переходную эпоху от феодализма к капитализму и в
буржуазном обществе, по мнению Сартра, неизбежен.
Эстетическая критика определяется Сартром с точки
зрения его феноменологической методологии как
антропологическое и экзистенциальное познание идеологии. Исходным и
главным объектом является человек, творческая личность, а
также то, что он создает — произведение литературы и
искусства. И тот и другой объект должны исследоваться
марксизмом и психоанализом, то есть регрессивно-прогрессивным
45
методом. Психоанализ позволяет реконструировать жизнь
ребенка в семье и в обществе, но психоанализ не имеет
принципа, не имеет теоретической базы, кроме своеобразной
мифологии. Марксизм, напротив, является универсальным
теоретическим сознанием и всеобщим методом, поэтому он
может включить в себя или интегрировать психоанализ.
Сартр исходит в изучении Флобера из признания
писателя: «Мадам Бовари — это я». Исходя из этого признания,
Сартр пытается понять и объяснить инвертированную натуру
писателя, полагая, что «стиль автора прямо связан с
мировоззрением». Еще Бодлер говорил о глубоком тождестве
«Искушения святого Антония» — «яростпо художественного»
произведения, которое наиболее полно истолковывает
смешение великих метафизических тем эпохи: судьба человека,
жизнь, смерть, бог, религия, ничто и т. д.; и «Мадам
Бовари» — произведения внешне сухого и объективного. Кем
должен был быть и был Флобер, чтобы объективировать
себя в своем произведении в образе Эммы Бовари?
Сартр считает, что разгадку сулит изучение биографии,
факты, собранные современниками и проверенные
историками в сопоставлении с литературным произведением.
«Произведение ставит вопросы жизни. Но пужно понять, в каком
смысле: произведение как объективация личности на самом
деле является более полным, более обобщенным, чем жизнь...
Благодаря произведению жизнь освещается как реальность,
всеобщее определение которой находится вне ее,
одновременно в условиях, которые опа производит, и в художественном
творчестве, которое ее завершает и дополняет. Таким
образом... произведение... становится гипотезой и методом
исследования, чтобы осветить биографию: оно вопрошает и
сохраняет конкретные эпизоды как ответы на эти вопросы. Но
эти ответы не удовлетворительны, недостаточны и
ограниченны в той мере, в какой объективация в искусстве
несводима к объективации в повседневном поведении. Между
произведением и жизнью — зияющая пропасть. Тем не менее
человек, с его человеческими отношениями, освещенными
таким образом, в свою очередь, представляется нам как
ансамбль вопросов. Произведение раскрывает нарциссизм
Флобера, его идеализм, одиночество, зависимость, пассивность.
Эти характерные черты дают нам одновременно разгадку
социальной структуры (Флобер — земельный собственник,
46
он получает ренту и т. д.) и уникальной драмы детства.
Словом, эти регрессивные вопросы позволяют исследовать
семью, в которой Флобер жил и работал и которую он
отвергал (объективные свидетельства о семье, характерные
черты класса, тип семьи, индивидуальный аспект; гневные
суждения Флобера о своих родителях, о брате, о сестре и
т. д.). Однако ясно, что произведение никогда не
раскрывает секреты биографии: оно может быть лишь схемой или
путеводной нитью, позволяющей раскрыть их в самой
жизни. Вопрошания конкретно-исторической и биографической
ситуации созревания таланта тоже не рассчитаны на ответ.
Но эти вопрошания являются конституирующими в том
смысле, в каком кантианские понятия являются
«конститутивными , ибо они позволяют осуществить конкретный
синтез там, где мы имеем еще абстрактные и общие условия».
Исследование о Флобере явилось своеобразным
полигоном для демонстрации прогрессивно-регрессивного метода:
анализ взаимоотношений автора с собственным
произведением (автор-персонаж), взаимоотношений автора и
произведения с реальной жизнью, генезис всех этих субъективных
и объективных отношений и т. д. Этот
прогрессивно-регрессивный и аналитико-синтетический метод, призванный
соединить в себе достоинства марксистского диалектического,
феноменологического и экзистенциалистско-психоапалптиче-
ского методов, должен был, по замыслу автора,
освободиться от недостатков указанных методов и стать
по-настоящему универсальным субъективно-объективным, логическо-пси-
хологическим, диалектико-феноменологическпм, словом,
универсально-антропологическим методом. В известной мере
Сартру это удалось. Исследуя повседневную жизнь
индивида (прежде всего — жизнь творческого индивида), его
деятельность, формирование личности посредством
теоретической и практической деятельности, исследуя генезис
личных, семейных и социальных отношений посредством
восхождения к изначальным структурам, определяющим жизнь
и сознание индивида, Сартр пытается исследовать жизнь и
сознание любых социальных общностей вплоть до жизни и
сознания всего человеческого общества. Одновременно он
фиксирует реальные противоречия и их выражение в
деятельности индивидуального и общественного сознания, при-
ближаясь к выявлению диалектических основ своей струк-
47
турной антропологии, которую он мыслит как
универсальную реконструкцию всей человеческой истории.
Согласно сартровскому методу «человек определяется
благодаря его проекту». Он раскрывает и определяет свою
ситуацию через объективизацию в труде, в действиях или в
жестах — это постоянное производство самого себя.
Человек создает и воспроизводит самого себя со всеми
своими страстями и интересами, причем именно,
произведение или действие индивида раскрывает нам секрет его
«проекта». «Флобер благодаря своему выбору писать открывает
нам смысл своего детского страха смерти; а не наоборот».
В связи с концепцией «проекта» Сартр ставит вопрос о
значениях и ценностях. Человек, пишет он, есть существо
обозначающее. Для Гегеля, например, означающее — это
движение духа, которое конституируется как означающее-
означаемое и означаемое-означающее, то есть как
абсолютный субъект. Означаемое — это живой человек и его
объективация. А для Киркегора человек есть означающее: он
производит обозначения и никогда не является обозначаемым.
Киркегор считал человеческую субъективность абсолютом и
отвергал объективное знание на том основании, что боль,
нужда, страсть, ненависть людей являются такими
реальностями, которые не могут быть ни изменены, ни преодолены
объективным знанием.
Сартр пытается соединить гегелевское и киркегоров-
ское понимание человека: «Движение понимания
одновременно прогрессивно (как движение к объективному результату)
и регрессивно (я восхожу к первоначальному условию)...
понимание есть не что иное, как моя реальная жизнь». В этом
смысле с декабря 1851 по 30 апреля 1856 г. «Мадам Бовари»
определила реальное единство всех действий Флобера: вся
его жизнь, все его помыслы, вся сила духа были
направлены на творение этого шедевра. Если, рассуждает Сартр,
капитализм, согласно Марксу, противопоставляется обществу
в виде отчужденной социальной силы и оно по своей
природе враждебно художественному творчеству и творчеству
вообще, то, в свою очередь, творчество, и художественное
творчество в частности, противопоставляется капитализму и
буржуазному обществу: так или иначе литература и
искусство в буржуазном обществе в большей или в меньшей
степени носят антибуржуазный характер. Как мы видим, марк-
48
систский компонент принимает у Сартра вид упрощенной
схемы, диалектика личности и общества сводится к
противостоянию сил в заданной ситуации. Философия обретает
характер основы теоретической интерпретации и обобщения.
«Именно в этом свободном движении находятся условия и
первый эскиз ситуации объекта по отношению к
социальному ансамблю и его тотализации внутри исторического
процесса».
Понять Флобера — значит воспроизвести генезис, где
смысл порождается внутри самой деятельности писателя в
виде проекта: проект как медиация, посредничество между
двумя моментами объективности позволяет понять и
историю, и человеческое творчество. Для Сартра марксистская
эстетика невозможна без установления места литературы и
искусства внутри социального организма, а также без
установления соответствующего места и роли литературы и
искусства в исторической диалектике.
В своей «Критике диалектического разума» Сартр
противопоставляет идеологию знанию как культуру —
философии. Идеология, согласно Сартру, носит паразитический
характер: она живет за пределами знания, носящего
абсолютный характер. В этом смысле, считает он, Киркегор
выступает по отношению к Гегелю в роли идеолога. Роль
идеологии сводится к тому, чтобы ввести требование конкретного
и его понимание, она как бы доказывает и показывает
несводимость жизни к знанию. Исключение или отказ от
идеологии ведет к тому, что знание, как таковое, должно
основываться на понимании человеческого существования,
«заброшенного» внутрь человеческой истории. В этом случае
марксизм становится антропологией с иммапентно
присущими ей «экзистенциалами», то есть экзистенциалистскими
категориями. Идеология позволяет видеть разницу между
объективным, догматическим знанием и знанием конкретным,
реальным, диалектическим. Поскольку историческая
диалектика, согласно Сартру, покоится на индивидуальном пракси-
се, то индивидуальный и исторический проекты совпадают.
Вот почему писатель или художник «интериоризирует»
социальную реальность и выражает свое общество.
Таким образом, эстетическое понимание Флобера, как
оно изложено Сартром в «Критике диалектического разума»,
отличается радикально от простого объяснения и толкова-
49
ныя произведения литературы и искусства. Речь идет о
всеобщей методологической позиции, означающей уход от
эстетического волюнтаризма, изложенного им в трактате «Что
такое литература?».
«ИДИОТ В СЕМЬЕ»: МЕТОДОЛОГИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«Идиот в семье» является, по признанию Сартра,
продолжением «Вопроса о методе». Сюжет «Идиота в семье» —
это вопрос о том, можно ли познать человека, которого
лучше называть не индивидом, а «универсально единичным».
Человек универсален благодаря единичной универсальности
человеческой истории и единичен благодаря
универсализирующей единичности своих проектов»
Почему Сартр выбрал для своего анализа именно
Флобера, а не какого-то другого писателя или поэта? Он
объясняет свой выбор тремя причинами. Первая причина —
чисто личного характера: перечитывая переписку Флобера,
Сартр меняет свою антипатию к Флоберу на «эмпатию». Вто>-
рая причина — Флобер более других писателей
объективирован в своих сочинениях («Мадам Боварп» — это я»): он
пишет автопортрет в поражении, хотя «Мадам Бовари» —
это одновременно и поражение и победа. Третья причипа —
«Флобер, создатель «нового» романа, есть перекресток всех
наших литературных проблем сегодня».
Чтобы «реконструировать» феномен Флобера, Сартр
пользуется многообразной и необычной системой категорий:
воображение, эмпатия, пережптое и другие. Категория
«пережитое» включает в себя, в свою очередь, такие категории,
как «разум», «чувственность», «воображение». А каждая из
этих категорий имеет довольно глубокое содержание и смысл.
Так, категория «воображение» означает кардинальное
определение личности.
Важно отметить, что «Идиот в семье» — это роман, плод
творческого воображения писателя, вместе с тем это
правдивый роман, роман-исследование, основанный на
документальных фактах. Разумеется, «Идиот в семье» — не строго
научное исследование: наука требует использования
концептов а в этом произведении в основном используются поня-
50
тая. Концепт, согласно Сартру, вневременное, внешнее
определение, а понятие — это определение внутреннее, мысль,
включающая в себя время. При изучении человека и его
творчества следует, полагает Сартр, пользоваться именно
понятиями, а не концептами, поскольку человеческую жизнь
следует постигать как «историческую целостность».
Человека надо понимать, а не познавать.
Этот метод эмпатии (постановка собственного «я» на
место «я» другого человека), который использует Сартр при
изучении Флобера, исключает позицию нравственного
суждения, — это попытка объективного анализа
художественного творчества. К тому же метод эмпатии плодотворен лишь
в изучении творчества писателя или художника, которого
уже нет в живых: цель «тотялизирующего метода» состоит
в том, чтобы, сохраняя хронологию, не отказываться от ее
освещения событиями будущего. Сартр убежден в том, что
«невозможно тотализировать живого челозека».
Если Флобер говорил, что «Мадам Бовари — это я», то
Сартр, вторя Флоберу, заявляет: «Этот маленький мальчик —
ото я». Действительно, Сартр ведет свое исследование-роман
как некое самоисследование: благодаря методу эмпатии он
подставляет свое «я» на место «я» Флобера-ребенка.
Два первых тома «Идиота в семье» посвящены
раскрытию того, как маленький Флобер интериоризирует, вбирает
в себя социальный мир. Третий том посвящен раскрытию
содержания невроза Флобера как своеобразной рекламации
объективного духа. Четвертый том должен раскрыть
своеобразие художественного стиля Флобера. Эта задача
оказалась для Сартра самой трудной, поскольку романы
Флобера — это «прекрасные парализующие романы» (Мальро)
или, как сказал сам Сартр о «Мадам Бовари», это
«космический» роман.
Глубинный замысел «Идиота в семье» — показать, что
существует возможность «полной коммуникабельности», что,
не будучи богом, человек в состоянии понять другого
человека: «Я могу предвидеть Флобера, я его знаю и в этом моя
цель; я хочу доказать, что любой человек постижим, если
используются соответствующие методы и имеются
необходимые документы».
На наш взгляд, сочинение о Флобере — самый
фундаментальный труд из всех, написанных Сартром. Дело даже
51
не в том, что это — самый объемистый труд, а в том, что
он представляет собой попытку воспроизвести через анализ
становления, формирования и развития конкретного
человека и его сознания — становление, формирование и развитие
человека и человеческого общества на определенном этапе
его существования. Несомненно и то, что в этом сочинении
Сартра, как и в других его сочинениях, содержится резкая
критика современного буржуазного общества, буржуазной
эпохи вообще: ее социальных, экономических, политических,
культурных, этических, эстетических, семейных и личных
отношений. «Идиот в семье» — это колоссальная панорама
жизни французского общества, раскрытая через жизнь
Густава Флобера с 1821 по 1857 г., через его сознание и
психологию, через отношения, в которых он жил, рос,
развивался и творил как поэт, писатель, художник.
Сартр выстраивает грандиозную реконструкцию
взаимоотношений маленького Флобера с окружающим его миром,
и прежде всего с отцом, матерью, со старшим братом, с
бабушкой, с дядей и т. д. Все эти взаимоотношения были
достаточно сложными, особенно если учесть необычные и
необычайные задатки, склонности и предрасположения
малыша: некоторую заторможенность в его развитии, наивность,
доверчивость, обостренную чувствительность к звуку и
слову, душевную ранимость, болезненность и т. п. Сартр
скрупулезно прослеживает «структурное», а затем и
«историческое» формирование: переход от структурных «качеств»
ребенка к историческим. Проблема состояла в том, чтобы
понять, как идиот становится гением, как его специфический
невроз — гистерезис определил его судьбу и судьбу его
искусства, как этот странный персонаж становится самым
великим романистом второй половины XIX в.
Сартр показывает, как сложные семейные отношения
(отчужденность родителей от детей, детей — от родителей и
всех членов семьи — друг от друга), отчужденные
социальные отношения французского общества того времени
способствовали формированию индивидуалистического,
болезненного, скрытного характера Флобера, внешне пассивного, но
именно в силу враждебности окружения жившего богатой,
напряженной, активной внутренней жизнью. Например,
философ блестяще вскрывает, какие сложные диалектические
перипетии претерпевает у Флобера вопрос об истине. Пола-
52
гая, что истина — это лишь нужда, необходимость веры,
Флобер, заменяя истину иерархизпроваппыми верованиями,
с самого начала «смешивал... Ложное и Истинное,
Отчуждение и Свободу». Флобер считал, что нет ни ложной, ни
истинной идеи, что в конечном счете все надо основывать на
опыте: «Радикальное Зло — это опыт». Диалектика добра и
зла, раскрываемая Сартром на юношеских сочинениях
Флобера, пронизывает все последующее его творчество.
Достаточно почитать диалог или спор Антония и дьявола, чтобы
убедиться в определенном спинозизме Флобера и в том, что
он отстаивал глубоко диалектические идеи: бытия и
небытия или ничто, бога л дьявола, знания и веры, науки и
религии и т. д. «Густав уже открыл структуру трех
измерений своего внутреннего пространства. Подъемы и падения
являются повторяющимися определениями абсолютной
вертикали, то есть ее отношений с Вечностью; глубина,
наоборот, есть необратимое движение к этому другому абсолюту,
к Смерти, это направление к самому Худшему. Таким
образом... пережитое развертывается в тройном регистре.
Религиозное и примитивное отчуждение — в семье...
рациональное и светское по внешности отчуждение — в глубине
иррационального и святого — в идеологии... отчуждение в
монархической и теократической иерархии, которое
отрицается и тем не менее порабощает его: три системы, три типа
интерпретации, которые предлагаются сразу для каждого
опыта и сразу четвертуют его». Флобер научился ненавидеть
буржуазные обычаи, Фатум, Сциентизм, Веру, Бога, Ничто.
Единственное, что выручает и спасает Флобера, — это
его «глупость»: «Глупость — это обезглавленный разум, это
интеллектуальная операция, лишенная единства, иначе
говоря, лишенная своей силы унификации». Таким образом,
абсентеизм (отключение от действительности) Флобера
делает возможным интеллектуальное развитие, ускользающее
от определений социальных отношений, и оставляет простор
чувственно-непосредственному постижению мира. Сартр
называет это сознание «животным сознанием мира».
Такова «конституция» молодого Флобера. Однако Сартр
стремится выявить не только структуру или «конституцию»
молодого Флобера, но и его становление и формирование как
творческой личности. Второй том «Идиота в семье» целиком
посвящен проблеме «персонализации».
53
Согласно Сартру, «непрерывно детотализируемая и рето-
тализирующая тотализация — это персонализация».
Писатель объективирует себя в произведении, он вкладывает в
произведение то, что содержится в его пережитом опыте.
Одновременно он субъективирует объективное,
воспроизводя его в своих интеллектуально-художественных образах,
структурах, конструкциях. В этом смысле объективация в
произведении является моментом персонализации. В такой
же мере субъективизация объективного также является
моментом персонализации, возможно, еще более активным.
Маленький Флобер мечтал стать актером. В
определенной мере ему это удалось: он долгие годы играет роль
самого несчастного человека. Это была защитная реакция
против враждебного окружения, против того, что его угнетало,
унижало, ставило в зависимое положение. Своим оружием
Флобер выбирает смех: «Смех Флобера есть роль». Его
сложные отношения с матерью, отцом, сестрой способствовали
формированию определенных черт личности. У будущего
писателя развивается необычайное воображение. Он осознает
свои способности: «Чувство абсолютного дара есть один из
факторов его персонализации в Артиста».
Скрупулезный анализ формирования и развития
Флобера от мальчика, одаренного богатым воображением, к
актеру, от актера — к автору, от поэта — к художнику
позволил Сартру не только воссоздать образ и личность Флобера,
определенные закономерности его творчества, его
миропонимания, мирочувствования и мировоззрения, но также
прийти к серьезным теоретическим обобщениям, касающимся
художественного творчества вообще, эстетических воззрений —
категориального анализа и синтеза, нового понимания и
истолкования существующих эстетических категорий и
выработке новых, а также постановке и попытке решения
проблем, связанных с взаимоотношением эстетики с этикой, с
философией, психологией, социологией, антропологией и
другими науками, с переосмыслением традиционных
взглядов на эти взаимоотношения.
Эстетика Сартра, как и его философия, носит скорее
негативный, чем позитивный, характер. Через парадокс или
посредством парадокса она стремится выйти из сферы
негативного.
Позитивные элементы Сартр ищет в художественности,
54
в ее мифах я ценностях. Но миф — это ложь, это вовсе не
то, что существует в действительности. Философ исходит из
того, что «если Красота как тотализация является
абсолютной целью, то не Искусство служит человеку... а именно
человек находится на службе у Искусства». Нельзя сводить
искусство к голой утилитарности, вместе с тем именно
благодаря своей бесполезности оно в высшей степени полезно
человеку. Негативное становится позитивным: «Негативное—
на почве социального соревнования — есть неоспоримый знак
позитивного в духовной иерархии». Как флоберовская
эстетика Небытия основывалась на мучительном сожалении
невозможности создавать реальность, так сартровская эстетика
Ничто основывается на мучительных поисках выхода из
негативности в позитивность. Как и Флобер, Сартр отдает
должное театру и поэзии и другим видам искусства, но он,
вслед за Флобером, полагает, что новое искусство можно
создать лишь при помощи прозы. Ведь поэзия — это вид
заклинания, колдовства. Поэт как бы расставляет ловушки,
чтобы поймать читателя. А художник может конструировать
интригу, как ему заблагорассудится. Ведь публику
мистифицирует художник: мистификация публики возможна
тогда, когда поэт становится художником.
Отсюда столь пристальное внимание Сартра к
литературному творчеству, основанному на воображаемом.
Сартровская сфера воображаемого расходится и с классическим
мимезисом, и с романтической экспрессией, и с
идеалистической интуицией, и с марксистской теорией отражения.
Воспроизводя процесс формирования Флобера, Сартр
пишет о разочарованиях писателя в поэзии и литературе
(1838—1848). Он объясняет это во многом и тем общим
кризисом, который, переживал Флобер с 1837 по 1844 г., а
также социальными, психологическими и идеологическими
мотивами.
Идеология буржуазии первой половины XIX в.
содержала в себе индивидуализм — как теоретическое и
эстетическое следствие экономического либерализма. Этот
индивидуализм подталкивает некоторую часть молодежи к тому,
чтобы бороться против целей и задач своего класса.
Что касается Флобера, то он, пишет Сартр, постепенно
начинает осознавать, что «между артистом и поэтом есть
56
огромная разница: один чувствует, другой говорит, один —
сердце, другой — голова». «Вдохновенная» поэзия есть лишь
констатация поражения. Чтобы «делать Искусство», надо
быть Артистом. А что такое Артист? Это прежде всего
отрицаемый и отвергаемый поэт. А что такое искусство? Это то,
что занимается прекрасным, создает прекрасное. Но
«прекрасное, отчуждение к нечеловеческой цели, есть
отчуждение Артиста в его Искусстве». Если поэтическая позиция
состоит в бегстве от реального в сферу воображаемого, то
артистическая деятельность состоит в обесценивании реального
в процессе реализации воображаемого. Вот почему у
Флобера крушение и отрицание становятся основными
принципами тотализации или обобщения. Чтобы показать эстетически,
что «мир —- это Ад», Флобер пользуется тремя способами или
методами: тотализировать универсум вовнутрь, тотализиро-
вать универсум вовне, при помощи систематической
деморализации представлять веру в ничто как эстетический
императив. Этим трем методам соответствуют три позиции:
пассивная активность, гордость и злоба. Искусство для
Флобера — это тотальный субъект, его цель — сделать всеобщим,
универсальным творчество, чтобы показать на его фоне суету,
ничто. Флобер принимает точку зрения абсолюта, которая
помогает ему выбрать воображаемое, противостоящее
реальному, — «реализующее движение дереализации реального».
Воображаемое — ирреально, реальное — антипод
воображаемого. «Артист» производит идеи, которые воплощаются
в произведении, но эти идеи и воображаемый субъект
являются видимостью или кажимостью идей реальных.
Внутренняя этическая работа с необходимостью приводит к
мировоззрению Артиста. И тогда искусство будет состоять,
согласно юному Флоберу, в объективизации этого мировоззрения.
Истинному как анализу Флобер противопоставляет
прекрасное как почти диалектический синтез. Для Флобера
прекрасное является более полезным, чем доброе. Но если
доброе близко к человеку, то прекрасное дегуманизирует.
«Красота требует универсального страдания». Что касается
искусства, то Флобер сводит его к чему-то исключительно
вредному. Красота есть сверхистина: истина говорит о том,
что есть, а красота раскрывает смысл бессмыслицы,
бесконечное как смысл конечного, абсолютное как смысл
относительного, ничто как смысл бытия. Прекрасное — это зло,
56
демиург — это злой гений, артист ведом злой силой
(сатаной).
Искусство образует сферу художественной реальности,
противостоящей яшзни. Артист — порождение своего
шедевра, жертвует своей личностью ради произведения,
которое господствует над людьми и предписывает им свои
эстетические императивы.
Сартр, кажется, слишком тесно связывает невроз
Флобера с его творчеством. Несомненно, отношения Флобера с
искусством и культурой проявляются благодаря чувствам,
мыслям, поведению. Столь же несомненно, что «болезнь
писателя» или невроз человека культуры связан с миром
культуры и его значениями. Но в такой ли степени, чтобы
творческая деятельность писателя отождествлялась с неврозом,
чтобы «невротический проект имел целью радикальное
преобразование личности, сопровождаемое новым видением
сущности Прекрасного?». Если для теиста Гюго, верившего в
провидение, «Красота есть чувственное раскрытие
Истинного», и также обозначение или знак доброго, то для Флобера
бог исчезает, и единство мира раскрывается благодаря «Злу,
то есть Красоте». Что касается истины, то она в равной
мере раскрывается как философу, так и артисту, ибо «как
для одного, так и для другого истина есть воображаемое».
Сартр не считает, что прекрасное является антиподом истине
и жизни, но красота «сопротивляется», когда артист «через
нее» хочет представить жизнь в ее истине: «Высшая
Красота есть абсолютная Иллюзия и Искусство с точки зрения
смерти». Умереть в этом мире — значит возродиться и стать
артистом.
Таким образом, сартровский анализ писательской
индивидуальности Флобера помогает лучше понять эстетические
взгляды самого Сартра, формировавшиеся в процессе
изучения творчества Флобера, Бодлера, Рембо, Лотреамона,
Жене и многих других. Естественно, он критически
перерабатывал концепции мыслителей, писателей, поэтов, художников,
композиторов. Но видимо, не случайно Сартр во многом
следовал теми путями, которые были проложены выдающимися
представителями французской и мировой культуры. По
крайней мере его эстетика несет на себе следы их воздействия.
Мы уже отмечали особенности метода Сартра, когда
рассматривали «Критику диалектического разума» и особенно
57
его «Вопрос о методе». К тому, что Сартр пытался в своем
методе объединить марксизм, феноменологию,
экзистенциализм и психоанализ, следует добавить, что он рассматривает
феноменологическое описание эстетического объекта не с
точки зрения его восприятия читателем, зрителем или
слушателем, а с точки зрения автора. При этом Сартра интересует
не «интенциональность» художника, как это было присуще
всей феноменологической традиции, а его намерения, его
замыслы. По существу, писатель в своих произведениях о
Бодлере, Жене, Флобере стремится к сочетанию
исторического описания и биографического исследования: он ищет
идеальный прототип, с его моральной интенцией, художника как
страдающего человека, а не как человека создающего,
производящего и творящего. В связи с этим ему нет
необходимости исследовать сам процесс творчества, а также его
результат — произведение искусства. Сартр считает
ошибочным традиционное «извлечение» души художника из его
произведения: соответствующее понимание и эмоции, присущие
тому, кто проводит анализ, приписываются автору
произведения. Подобный экстраполярный метод он не приемлет, как
не приемлет и позитивистский анализ.
Мы уже видели, что Сартр, сочетая социальные,
психологические и биографические данные, конструирует
психологические типы или психологические модели. Если
традиционная метафизическая философия сводила содержание
личности автора к содержанию его произведения, а
позитивизм сводил содержание произведения к содержанию
личности автора, то Сартр отделяет автора от произведения.
Эстетическая проблематика смещается: эстетику интересуют
отношения не автора и произведения, а автора и публики.
Совершенно очевидно, что эстетика становится более
социальной, более активной в социальном отношении. Однако в
понимании взаимосвязей автора и публики (читателя,
зрителя, слушателя) утрачивается глубина и диалектичность
этих взаимосвязей, поскольку отношения автора и публики
сводятся к сотрудничеству или к партнерству, а то, что их
связывает по-настоящему, — произведение искусства —
остается в стороне. В связи с этим проблема творца
(художника, писателя, композитора и т. д.) и публики (зрителя,
читателя, слушателя, словом, человека, воспринимающего
искусство) не может быть решена до-настоящему. А ведь эта
58
проблема проходит через всю историю искусства от
древности до наших дней, становясь со временем все более острой
и все более актуальной: речь идет уже не об «игре»
художника, как такового, а о его «игре» с публикой, то есть речь
идет о самых важных и самых фундаментальных проблемах
искусства и общества.
Нам кажется, что Сартр вполне понимает всю
серьезность, глубину и масштабность задач современной эстетики.
Ведь не случайно, подхватывая традиционную
проблематику, он преобразует ее в самую что ни на есть современную,
но так, чтобы она не теряла исторической глубины и
гуманистического пафоса. Например, он бесстрашно и новаторски
трансформирует мифы и откровения Хайдеггера в проблему
субъективности, мистификации, в проблему мстящей,
карающей функции современного искусства. Заслуживает
внимания и его трансформация нигилизма, изобличенного
Ницше, и гуманизма, отвергнутого Хайдеггером, которые он
доводит до их логического конца, чтобы дать им самое
современное звучание, истолкование и решение.
А сартровское понятие ученого, или эрудита, понятие,
тождественное понятиям социальности, свободы,
ангажированности, — разве оно не является определяющим для
современного искусства и современной эстетики? Серьезные
тенденции современного буржуазного искусства отражает и
выражает понятие художника (поэта, ставшего художником),
находящегося в непримиримом конфликте с обществом и
стремящегося спастись творчеством, включающим в себя
мистификацию, озлобленность и обман, которые
трансформируются в произведениях в карающую и мстящую функцию
искусства.
Особого внимания заслуживает попытка Сартра тесно
связать эстетику, этику и политику: эстетика у него
намечает основные измерения гуманистической этики, а политика
придает и эстетике и этике глубоко гуманистическое
содержание и человеческий облик как в индивидуальном, так и
в социальном смысле. Правда, Сартр, восходя к традициям
Платона и Канта, не может до конца решить этическую
проблематику — позитивная этика (попытка учреждения
подлинной свободы человека, освобождение его от эгоизма, от
страха, от консерватизма и привилегий, унижающих его
достоинство) существует у него вместе с негативной этикой
59
(искусство освобождает себя посредством порабощения
людей, воспринимающих его, оно — не поиск истины, а
мистификация, не средство объединения и сотрудничества людей,
а их разъединение, отчуждение). Сартр перевертывает
традиционные представления об эстетике как этике и морали
будущего — у него, наоборот, именно эстетика порождает,
формирует и развивает этику и мораль как отчужденное
искусство, представляя собой концентрированный опыт
отчужденного индивида, порождает, формирует и развивает
социальный опыт индивида (восставший человек должен в
конце концов стать революционером). Словом, эстетика Сартра
ставит новые проблемы перед искусством, углубляя его
содержание, расширяя его горизонты, делая его социально
более значимым и универсальным.
Кажется, публика, равно как и художник, ищет в
подобном искусстве спасения. Спасения от чего или от кого?
Сартр полагает, что от болезни воображения, от эстетизма,
хотя он понимает, что речь идет о больном обществе,
которое враждебно человеку, человеческому, а следовательно, и
творчеству как концентрированному выражению
человечности, человеческой деятельности. Своим искусством художник
ведет борьбу с этим бесчеловечным обществом и как бы
мстит ему за все обиды, лишения, эксплуатацию и
угнетение. Стихийное «дионпсийское» начало публики встречается
со злобой и ненавистью художника по отношению к
обществу — и здесь они как бы находят друг друга — художник
вызывает соответствующие чувства у публики, как правило,
тоже недовольной обществом, хотя они сами и составляют
данное общество, а публика с благодарностью отдается во
власть «чарующей» злобы и ненависти художника. Может
быть, после «мщения» художник «выздоравливает», но
публика скорее еще больше «заболевает», ибо ей, чтобы
«выздороветь», необходимо обратить накопившееся в ней
недовольство и злобу против реального зла, реальпого угнетения и
реального общества, следовательно, против самих себя и
всего того, что составляет и представляет их общество.
Проклятые поэты и художники становятся святыми и пророками,
а святые и пророки — проклятыми лжесвятымп и
лжепророками. Правда, здесь речь идет о таком искусстве, которое
действительно является искусством: произведения Флобера,
Бодлера, Малларме, Рембо, Лотреамона и т. д. Что касается
60
лжеискусства, низкопробной продукции «массовой
культуры», то она наносит вред всем, кто ею питается, отравляя
общество ядом и умножая все то, против чего должно
бороться и борется настоящее искусство, и ослабляя то, что
настоящее искусство должно развивать и укреплять.
• * *
Проблемы, поставленные Сартром в философских,
художественных и критических сочинениях, становятся в
настоящее время все более актуальными: проблемы воображения,
выражения, отражения, ангажированности художника,
методология художественного творчества, реконструкция жизни
и творчества выдающихся мастеров культуры. Изучение
философии и эстетики Сартра поможет не только глубже
понять его творчество, его философию, эстетику и литературу,
но и позволит использовать результаты его исследований
для анализа и решения современной философско-эстетиче-
ской и художественной проблематики, для более глубокого
понимания и развития современной культуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сартр был мыслителем в лучших традициях
французской культуры: писатель, философ, эстетик, критик,
драматург, журналист, эссеист и т. д. Многосторонность таланта
Сартра позволяла ему осмысливать основные события и
факты нашей эпохи. Глубокая мысль, лаконизм формы,
богатство содержания, отточенность мысли присущи даже самым
небольшим заметкам к рецензиям Сартра. Примером тому
может служить рецензия, написанная на один из романов
Набокова, которую мы и предлагаем читателю. Эта
рецензия была написана им еще до войны, когда о Набокове
писали крайне редко. На русском языке она публикуется
впервые.
Ж.-П. Сартр
Владимир Набоков: «ОШИБКА»
Однажды в Праге Герман Карлович сталкивается нос к
носу с бродягой, «который похож на него, как брат». С этих
61
пор его преследует воспоминание об этом поразительном
сходстве, растет соблазн его использовать; ему хочется как-
то присвоить себе эту природную аномалию; у него как бы
кружится голова в предчувствии шедевра. Вы догадываетесь,
что он в конце концов убьет своего двойника и выдаст себя
за убитого. Еще одно прекрасное преступление, скажете вы.
Да, но оно особенное, потому что породившее его сходство
было, быть может, иллюзорным. В итоге, совершив
убийство, Герман Карлович не уверен, что не ошибся. Может быть,
речь шла об «ошибке», он обознался, может быть, о
призрачном сходстве с прохожим, как случается в минуты усталости.
Тогда преступление рушится, и роман тоже.
Мне кажется, что эта страсть к самокритике и
саморазрушению весьма характерна для манеры Г-на Набокова. Этот
автор очень талантлив, но вторичен. Среди его духовных
родителей в первую очередь — Достоевский. Герой этого
странного романа-выкидыша больше похож не на своего
двойника Феликса, а на персонажей «Подростка», «Вечного
мужа», «Записок из подполья», на этих умных и жестоких
маньяков, благородных и вечно униженных, бьющихся в аду
рассуждений, которые над всем насмехаются и ухитряются
оправдывать себя, их горделивые неискренние признания не
способны скрыть безнадежного отчаяния. Только
Достоевский верил своим персонажам. Г-н Набоков больше не верит
ни своим героям, ни, впрочем, в искусство романа. Он не
скрывает, что пользуется приемами Достоевского, и в то же
время высмеивает их, представляет в ходе повествования
как необходимые, по устаревшие штампы: «Действительно
ли все происходило именно так? Наш разговор слишком ли-
тературен, у него привкус тоскливых бесед в странных
харчевнях, где Достоевский чувствовал себя превосходно. Еще
немножко, и мы услышим свистящий шепот притворного
смирения, прерывистое дыхание, повторение магических
наречий... а потом и все остальное, всю мистическую
атрибутику, милую сердцу знаменитого автора русских
детективных романов». В романе, как и везде, нужно различать
время изготовления инструментов и время размышления по
поводу этих инструментов. Г-н Набоков — автор второй
стадии: он сразу начинает размышлять; он всегда смотрит на
себя пишущего, в то время как другие слушают
собственную речь и почти единственное, что его интересует, — хруп-
62
кие разочарования его мыслящего сознания: «Я заметил,
пишет он, что я вовсе не думал о том, о чем, казалось мне,
я думаю, я стремился уловить момент, когда мое сознание
снимется с якоря, но запутался сам». Этот пассаж, тонко
описывающий скольжение от бодрствования ко сну, ясно
показывает то, что прежде всего занимает героя и автора
«Ошибки». Получается занятное произведение: роман
самокритики и самокритика романа. Вспомним
«Фальшивомонетчиков». Но у Жида критика сопровождалась экспериментом:
он проверял новые приемы, чтобы констатировать их
результаты. Г-н Набоков, из-за скромности пли скептицизма,
остерегается изобретать новую технику. Он высмеивает фальшь
классического романа, но в конце концов пользуется именно
его приемами. Он вдруг резко обрывает описание или диалог
и заявляет нам примерно следующее: «Я заканчиваю, чтобы
избежать стереотипов». Да, но каков результат? Прежде
всего чувство неловкости. Думаешь, закрывая книгу: много
шума из ничего. И потом, если Г-н Набоков настолько
превосходит романы, которые оп пишет, то зачем он их пишет?
Честное слово, ради мазохизма, чтобы иметь удовольствие
застать самого себя на месте преступления, — трюкачество.
И затем, наконец, я хорошо знаю, что Г-н Набоков имеет
основание скрывать большие романные сцены, но что он
предлагает нам взамен? Подготовительную болтовню, а когда
мы как следует подготовлены — ничего не происходит:
прелестные картинки, очаровательные портреты, литературные
эссе. Но где же роман? Он растворился в собственном яде:
вот что я называю ученой литературой. Герой «Ошибки»
исповедуется нам: «С конца 1914 года до середины 1919 года
я прочел ровно тысячу восемнадцать книг». Боюсь, что Г-н
Набоков, как и его герой, слишком много читал.
Но я вижу еще одно сходство между автором и его
героем: оба — жертвы войны и эмиграции. Да, у
Достоевского сегодня достаточно запыхавшихся, усталых и циничных
потомков — более смышленых, чем их предок. Я думаю
главным образом о советском писателе Олеше. Но странный
индивидуализм Олеши не мешает ему быть частью
советского общества. У него есть корни. Но сегодня существует за*
нятная литература русских и других эмигрантов, лишенных
корней. Отрыв от корней у Набокова, как и у Германа
Карловича, тотален. Их не интересует никакое общество, даже
63
ради того, чтобы буптовать против него, потому что они вне
всякого общества. В результате Карлович обречен совершать
прекрасные преступления, а Набоков — описывать
по-английски немотивированные сюжеты.
1939 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Детство — перспектива или ретроспектива человека? . . 7
Воображение и свобода 16
Что такое литература? 22
Проклятые поэты: цветы добра или зла? 33
Критика диалектического разума: опыт выработки нового
метода 40
«Идиот в семье»: методология художественного творчества 50
ПРИЛОЖЕНИЕ. Ж.-П. Сартр. Владимир Набоков: «Ошибка» 61
Научно-популярное издание
Константин Михайлович ДОЛГОВ
ЭСТЕТИКА ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА
Гл. отраслевой редактор Ю. Н. Медведев
Редактор А. С. Батюшкова
Мл. редактор Т. А. Тарасова
Худож. редактор М. А. Гусева
Техн. ред. О. А. Найденова
Корректор Л. В. Иванова
ИБ № 10275
Сдано в набор 03.01.90. Подписано к печати 12.02.90. Формат бумаги
70хЮ8'/з2. Бумага тип. № 2 Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 2,80. Усл. кр.-отт. 2,89. Уч.-изд. л. 3,51. Тираж 68 684 экз.
Заказ 23. Цена 15 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр,
проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 901403
Типография Всесоюзного общества «Знание» Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.