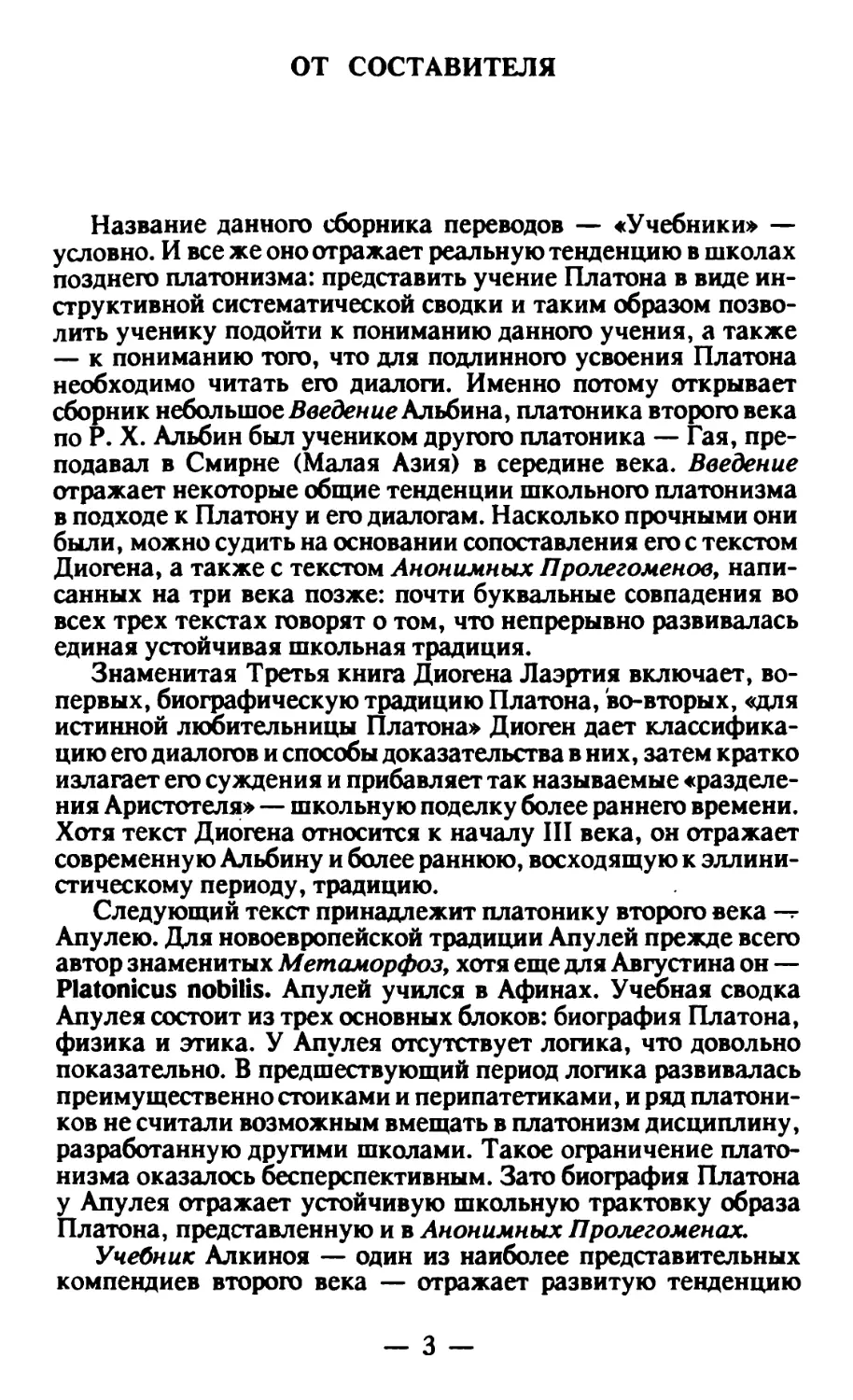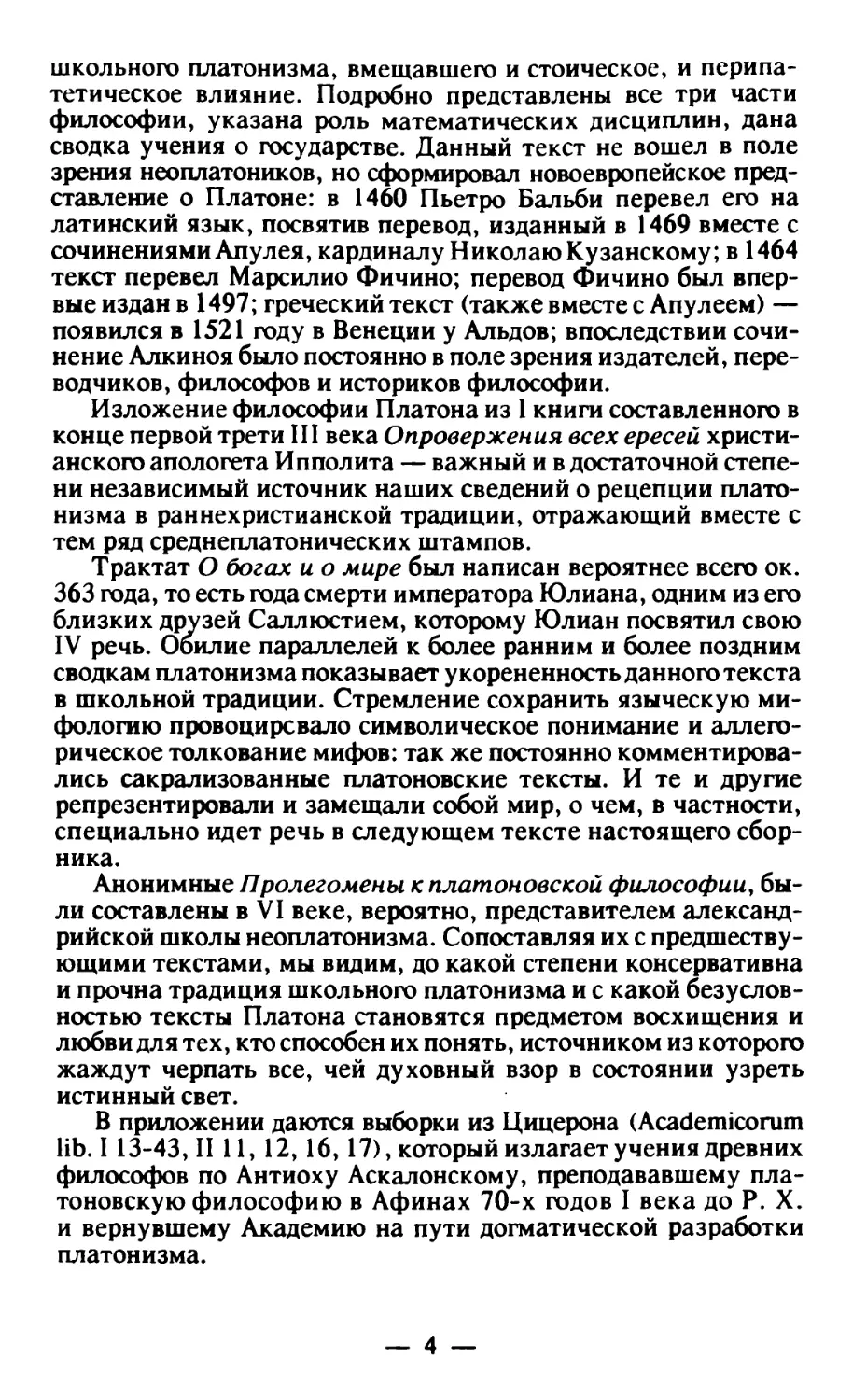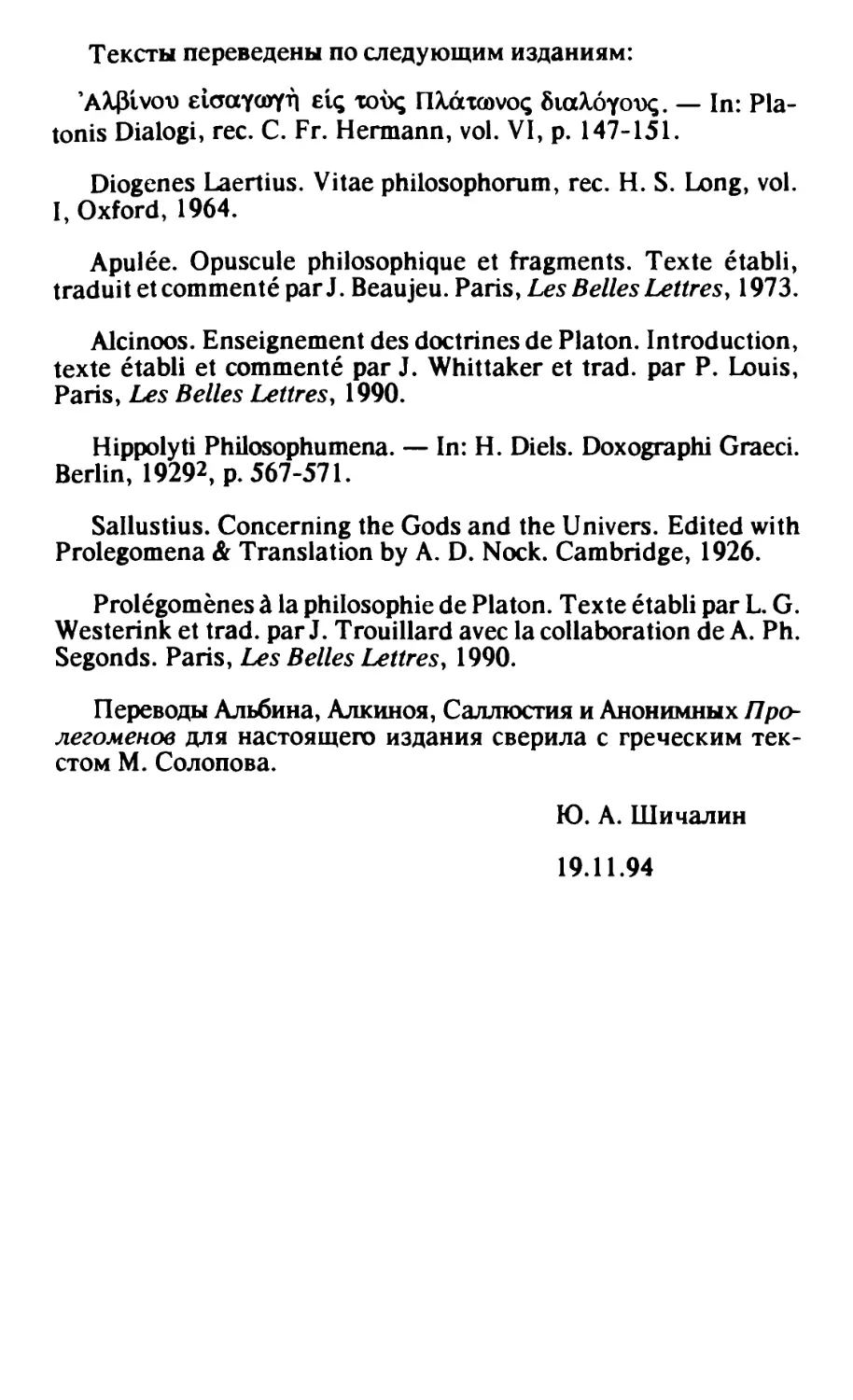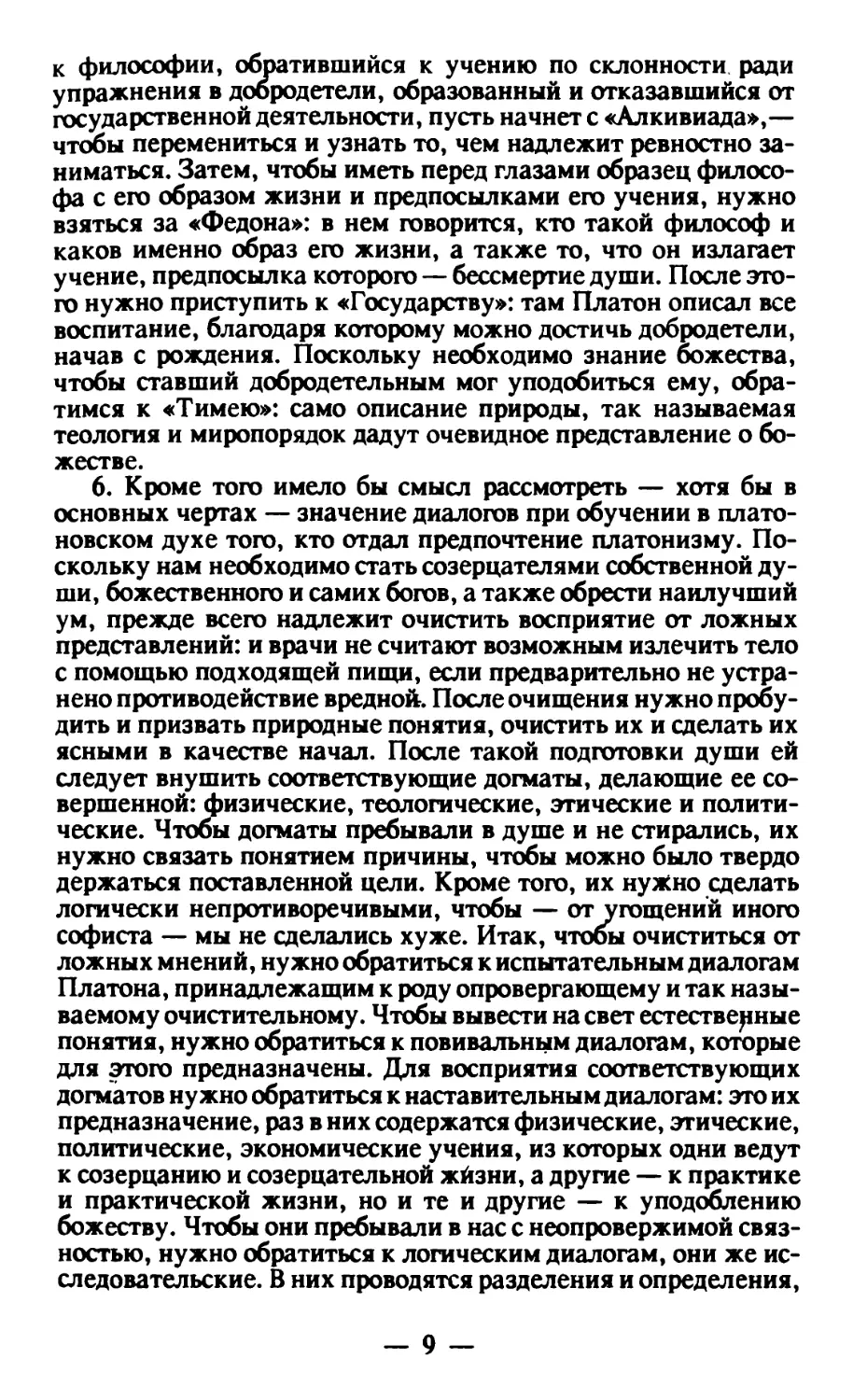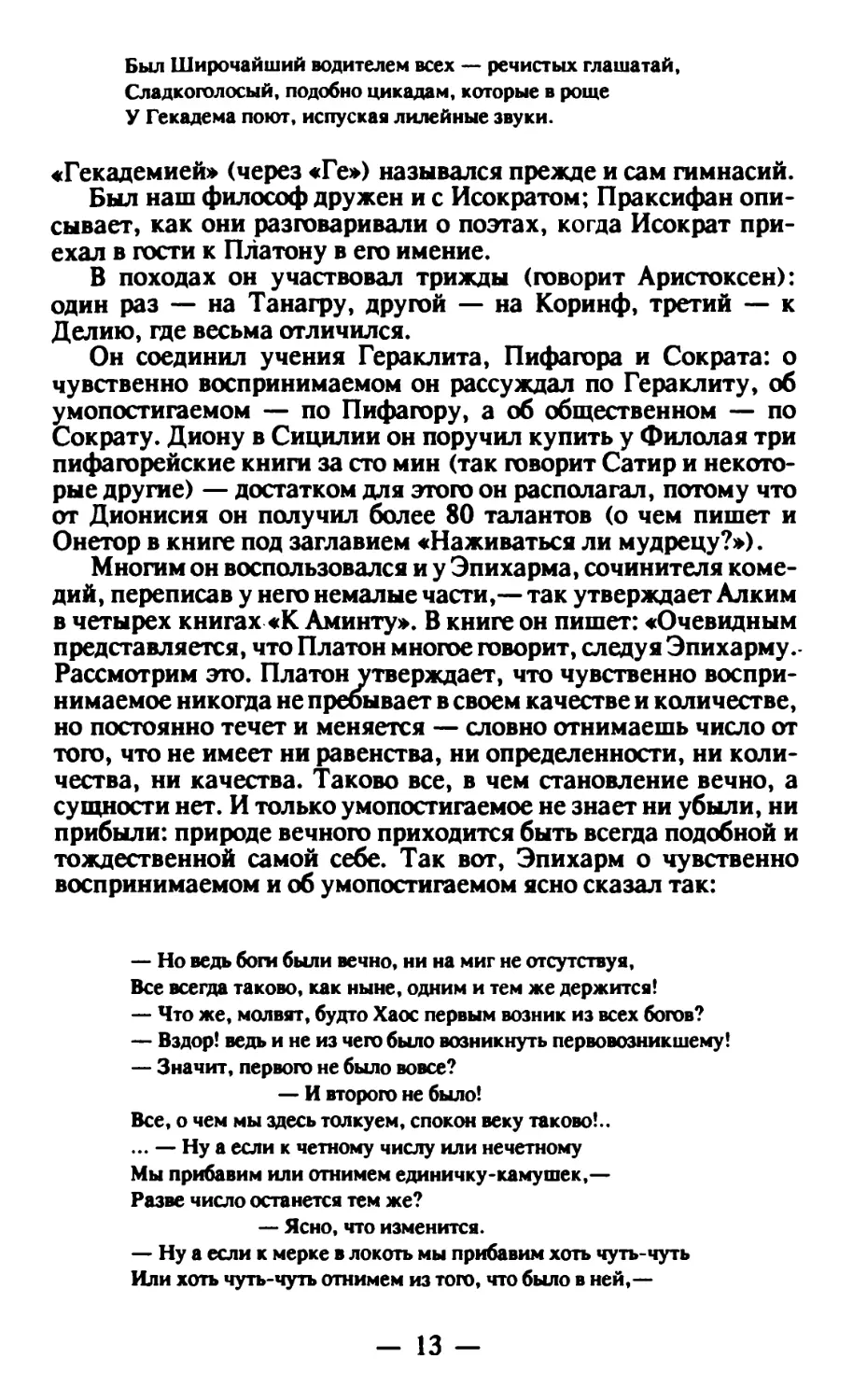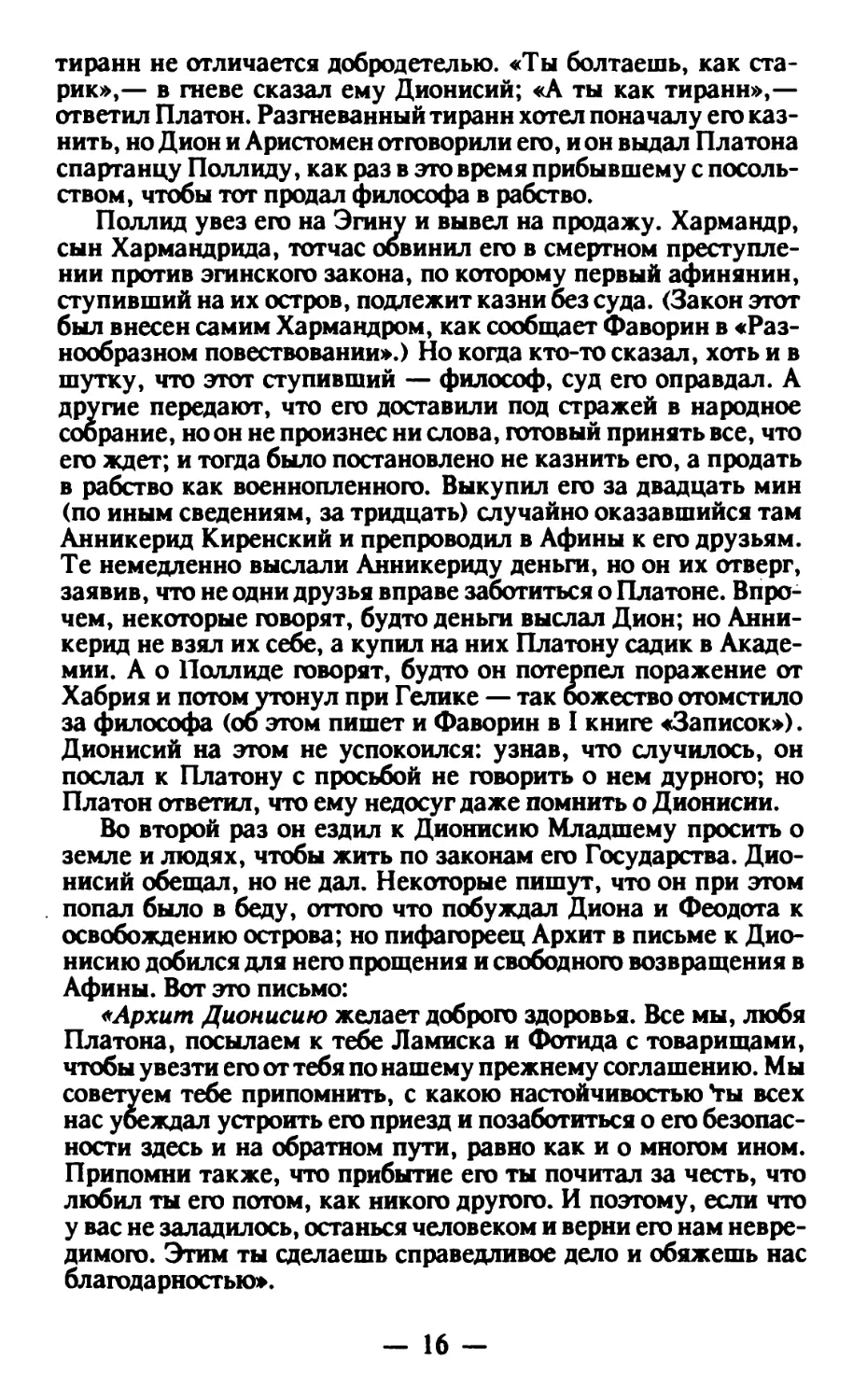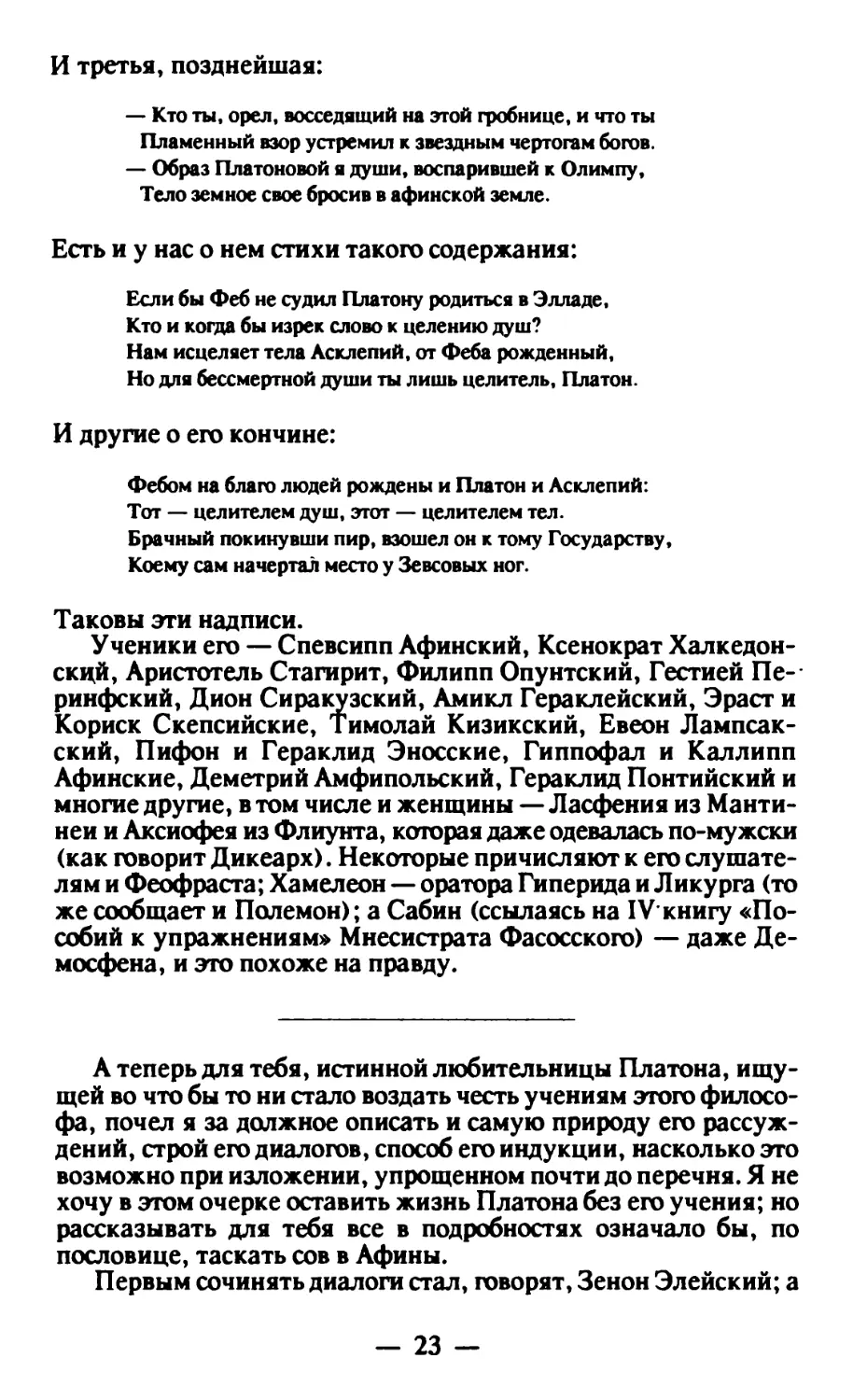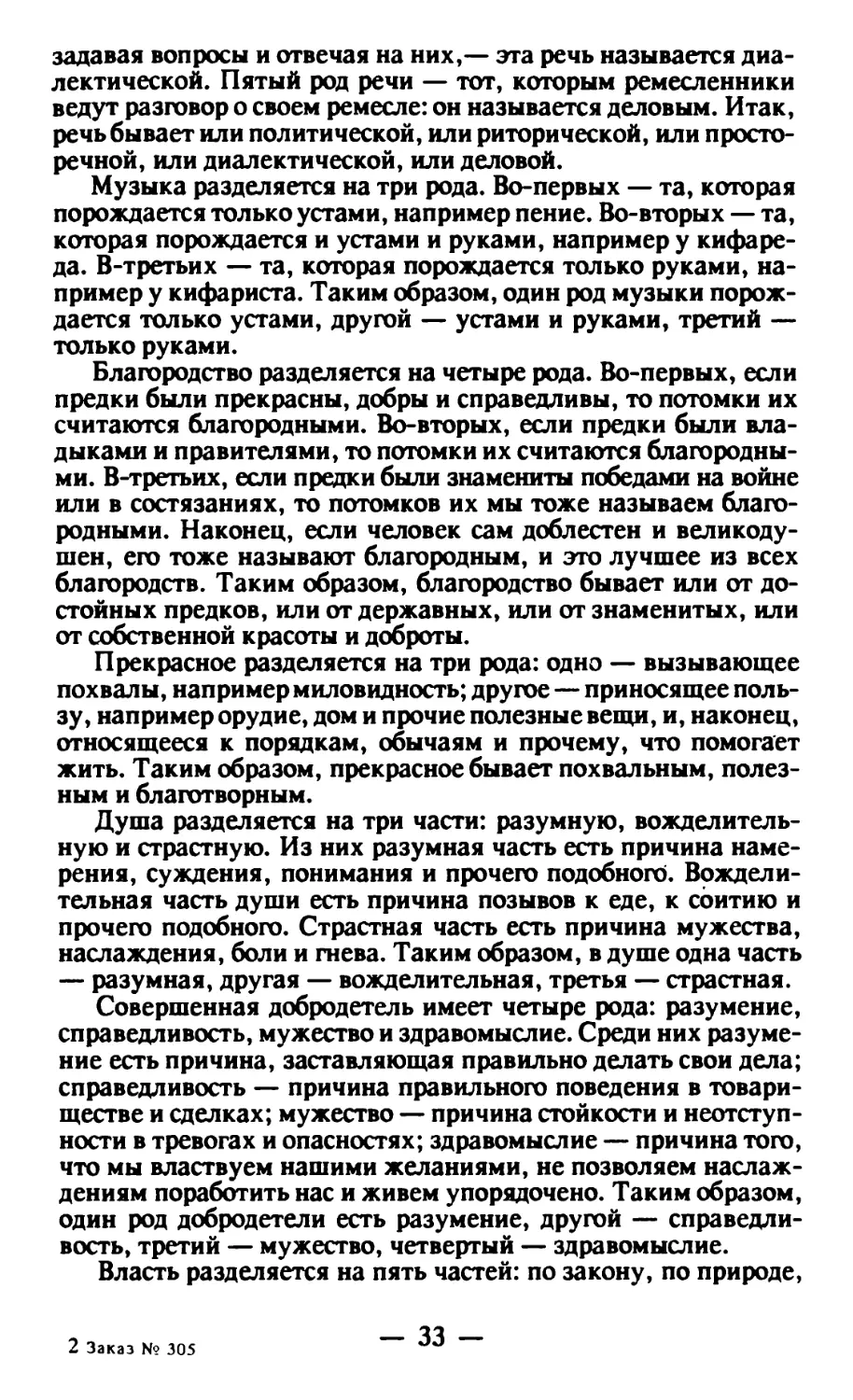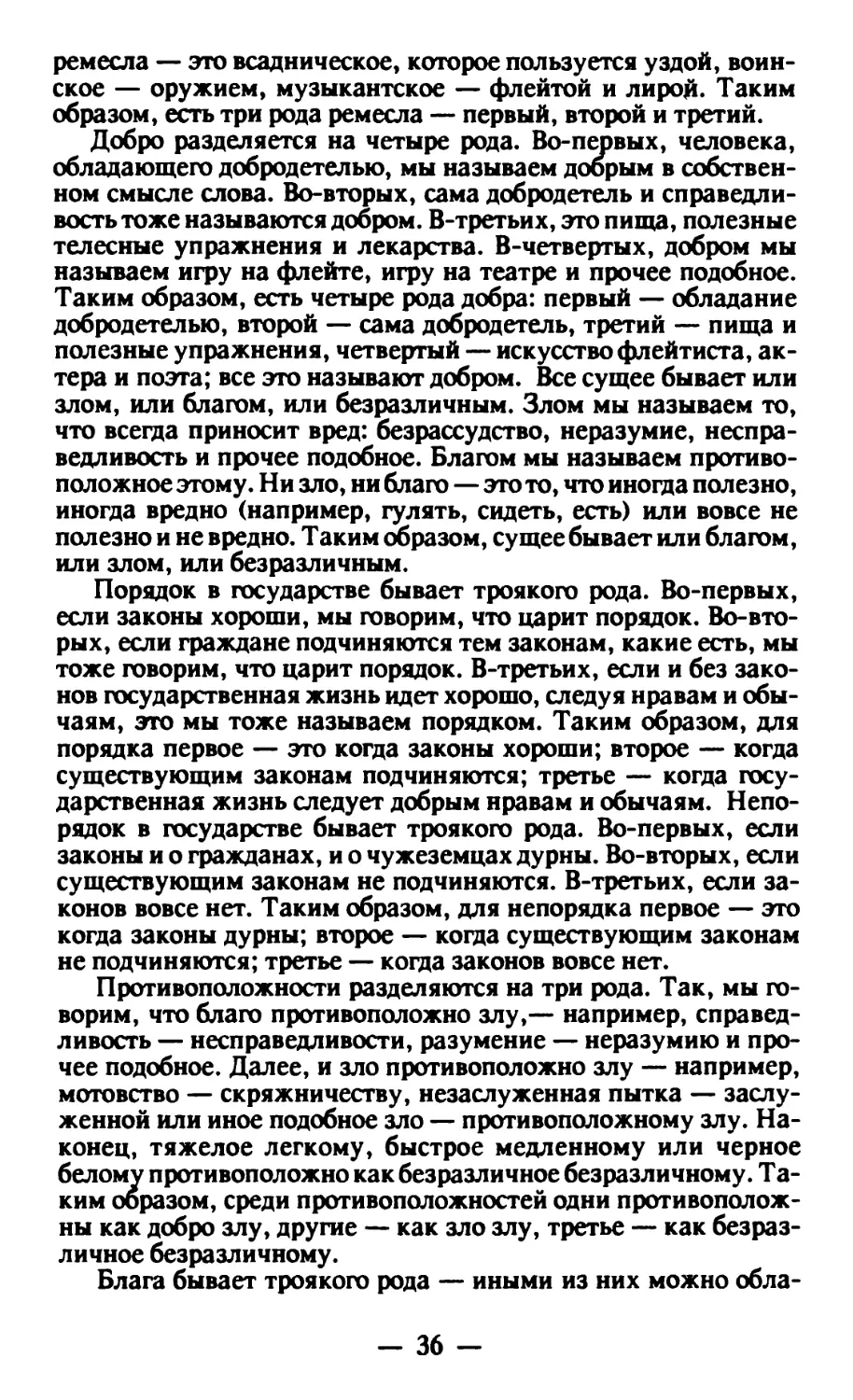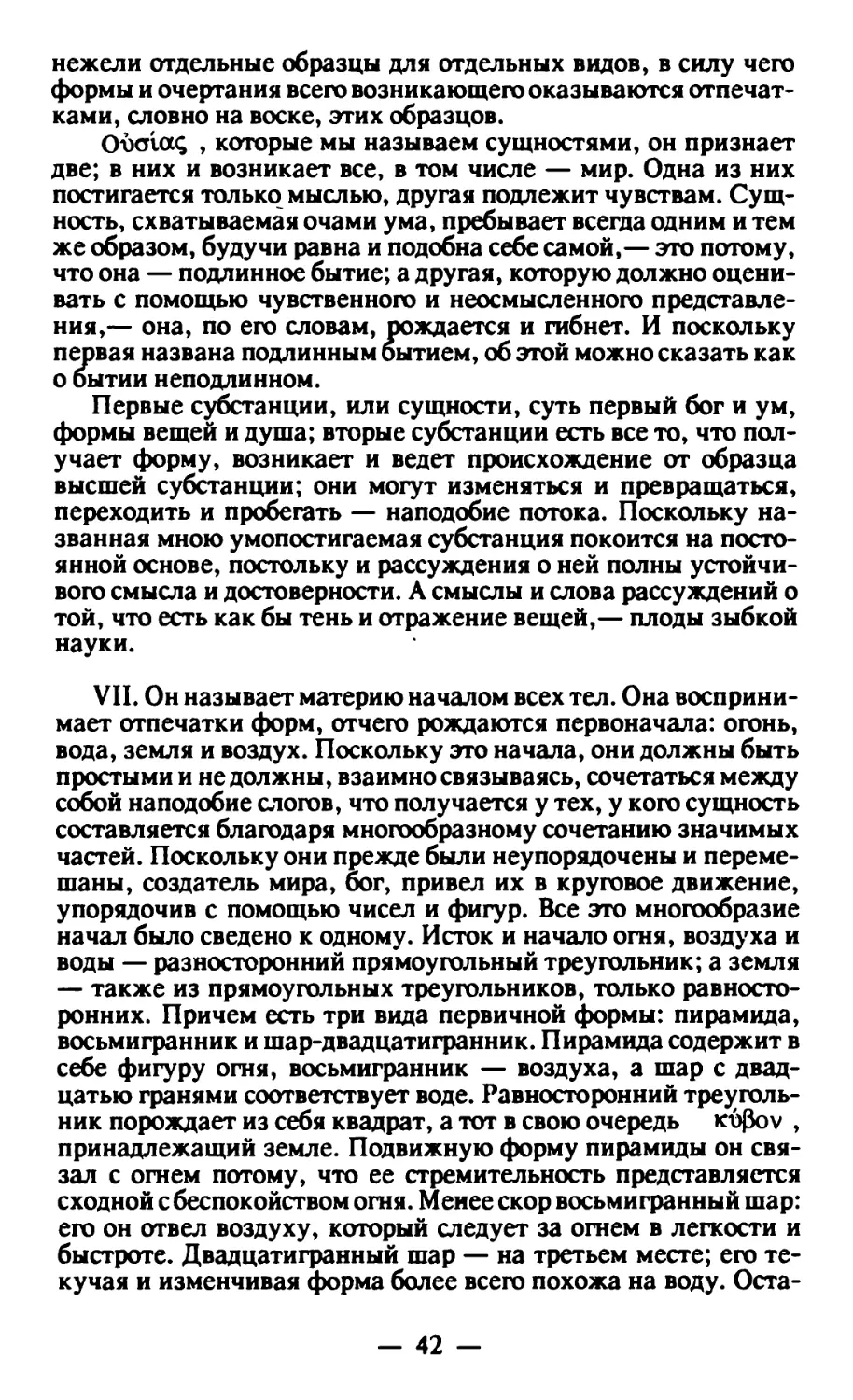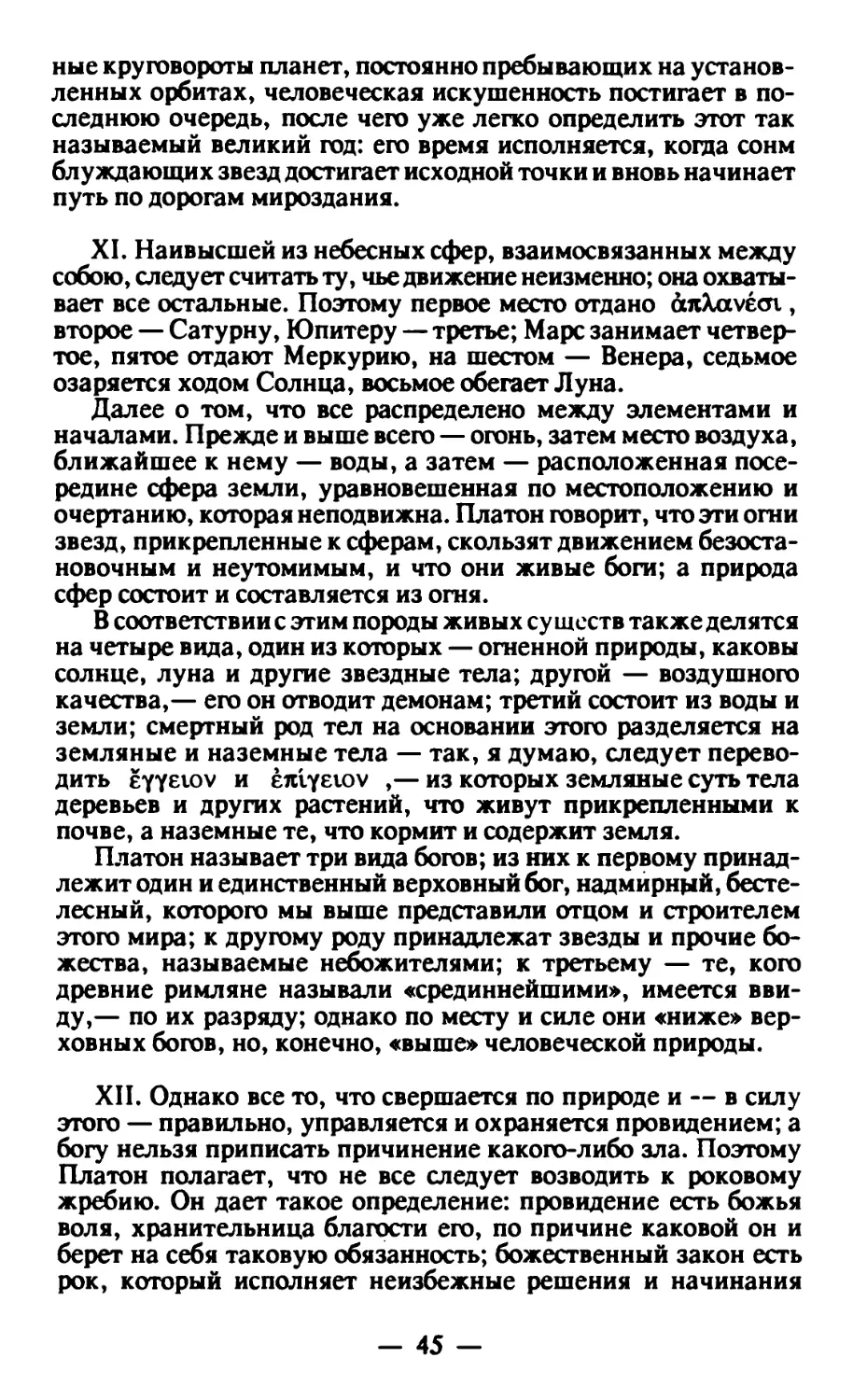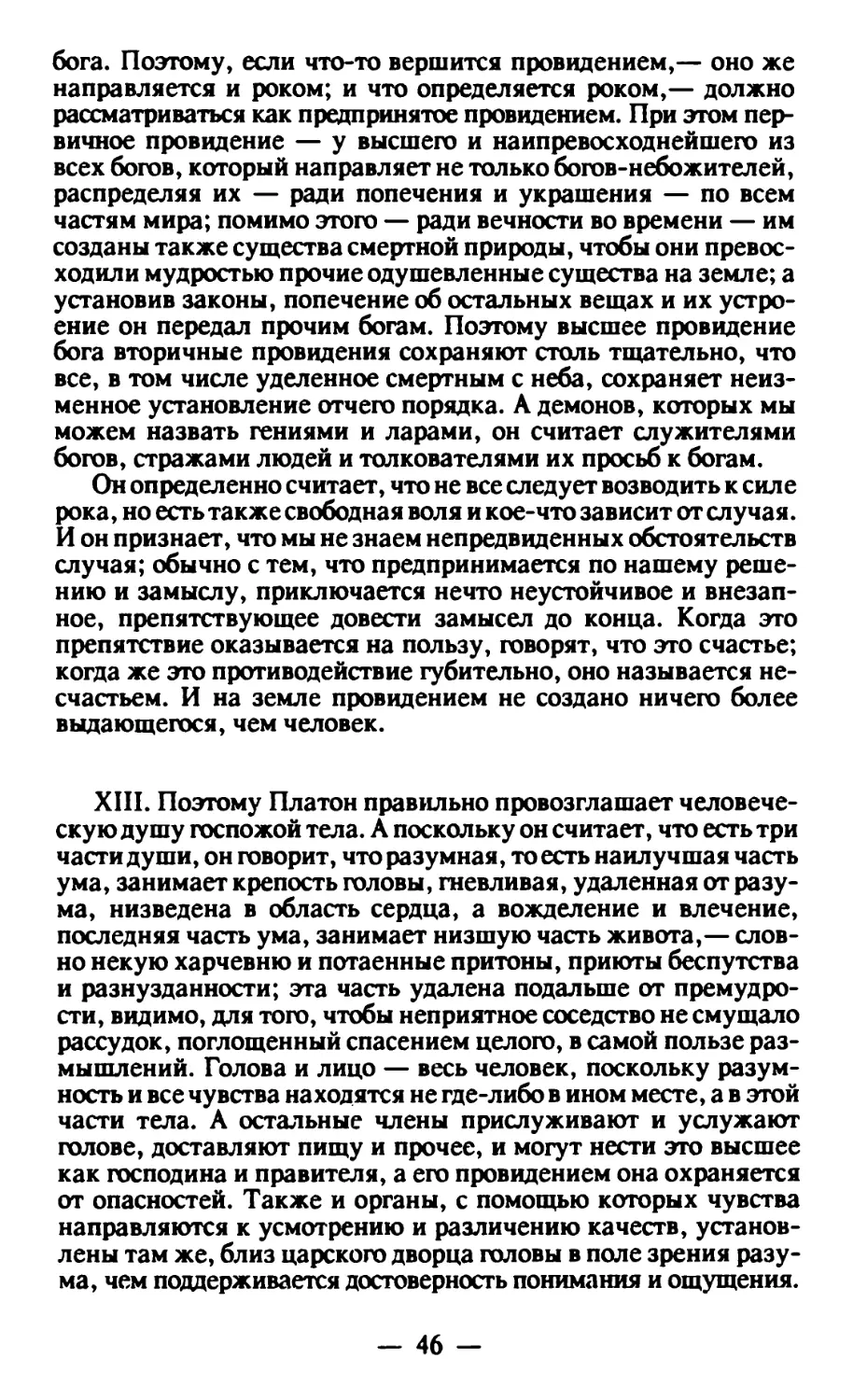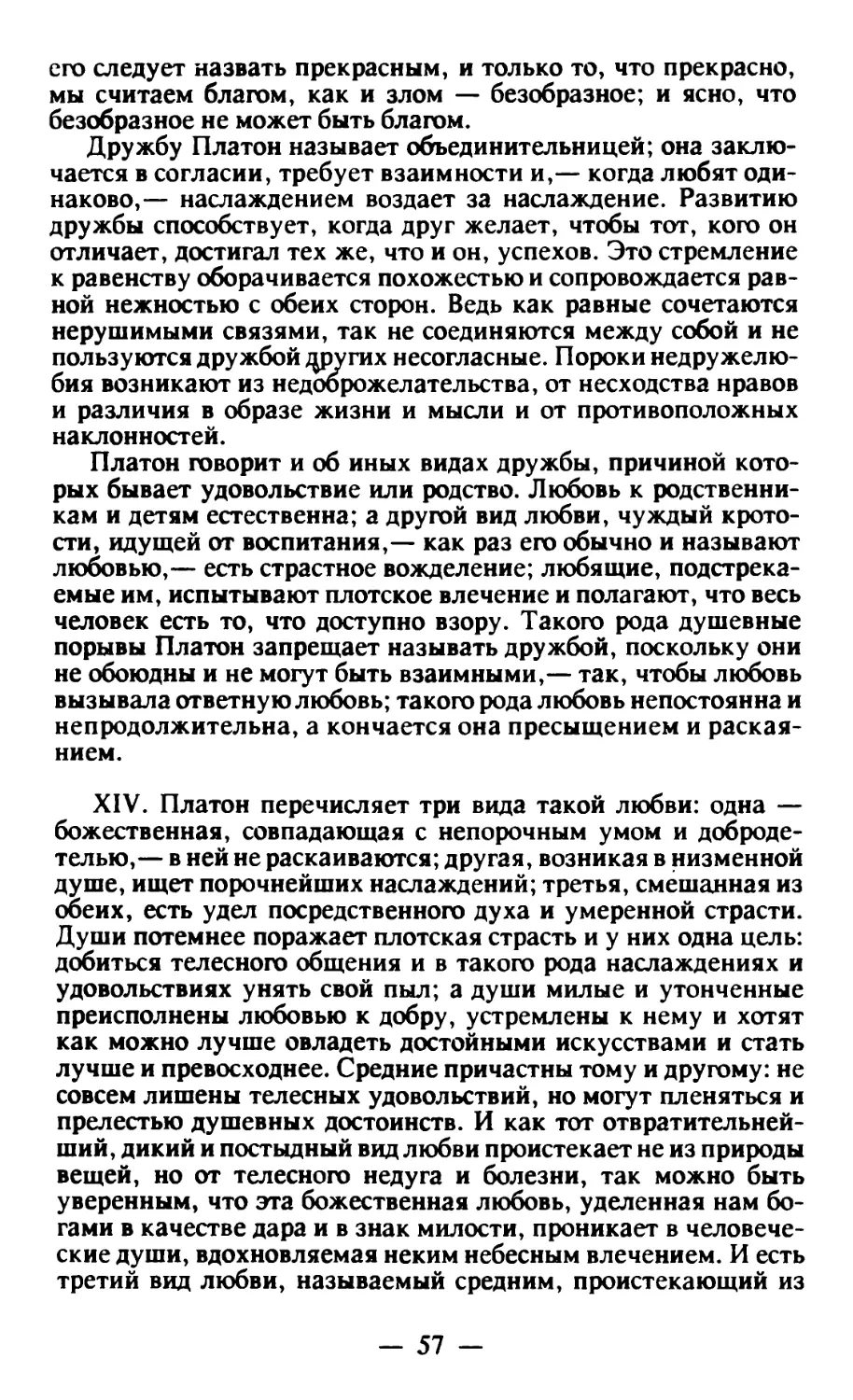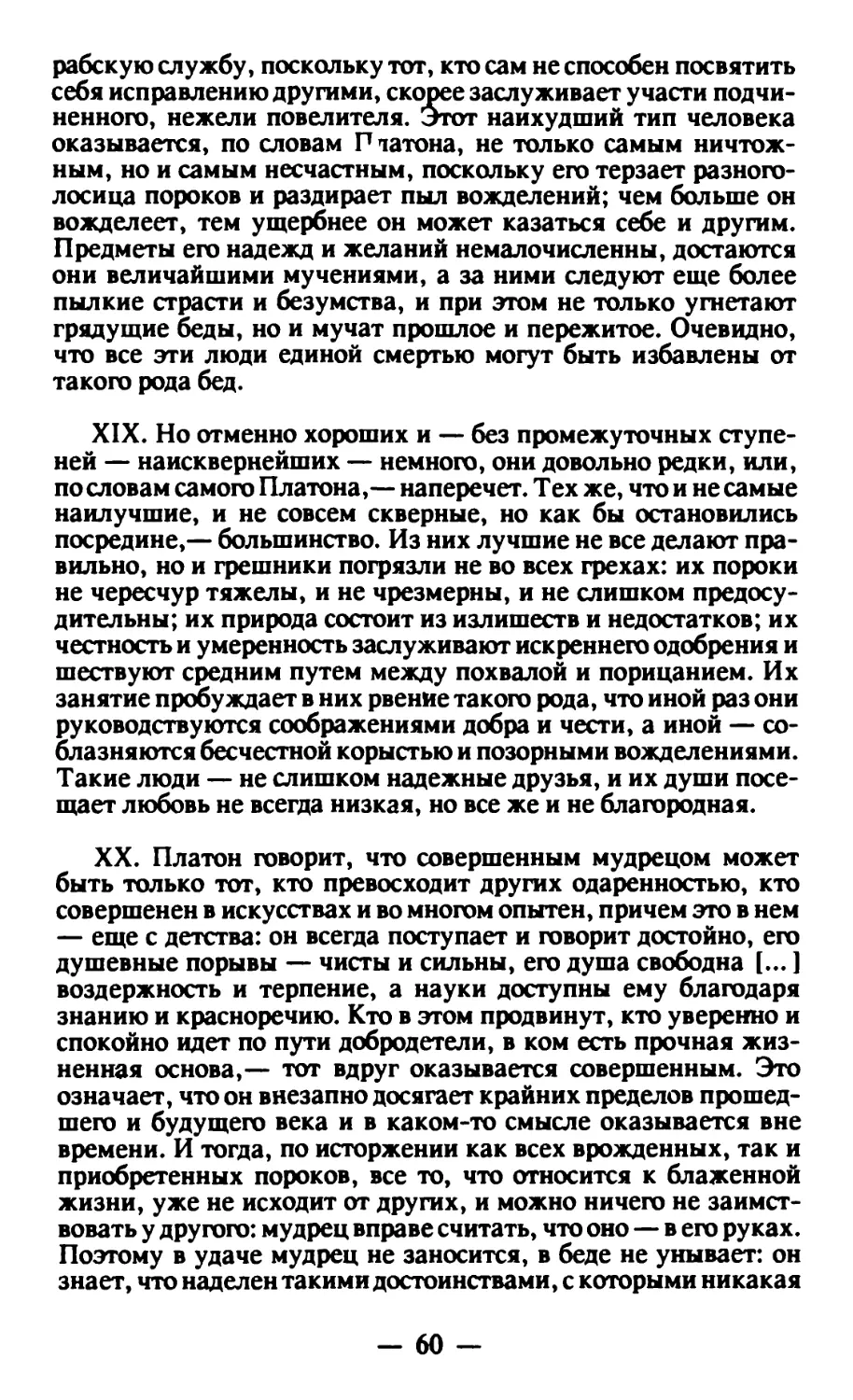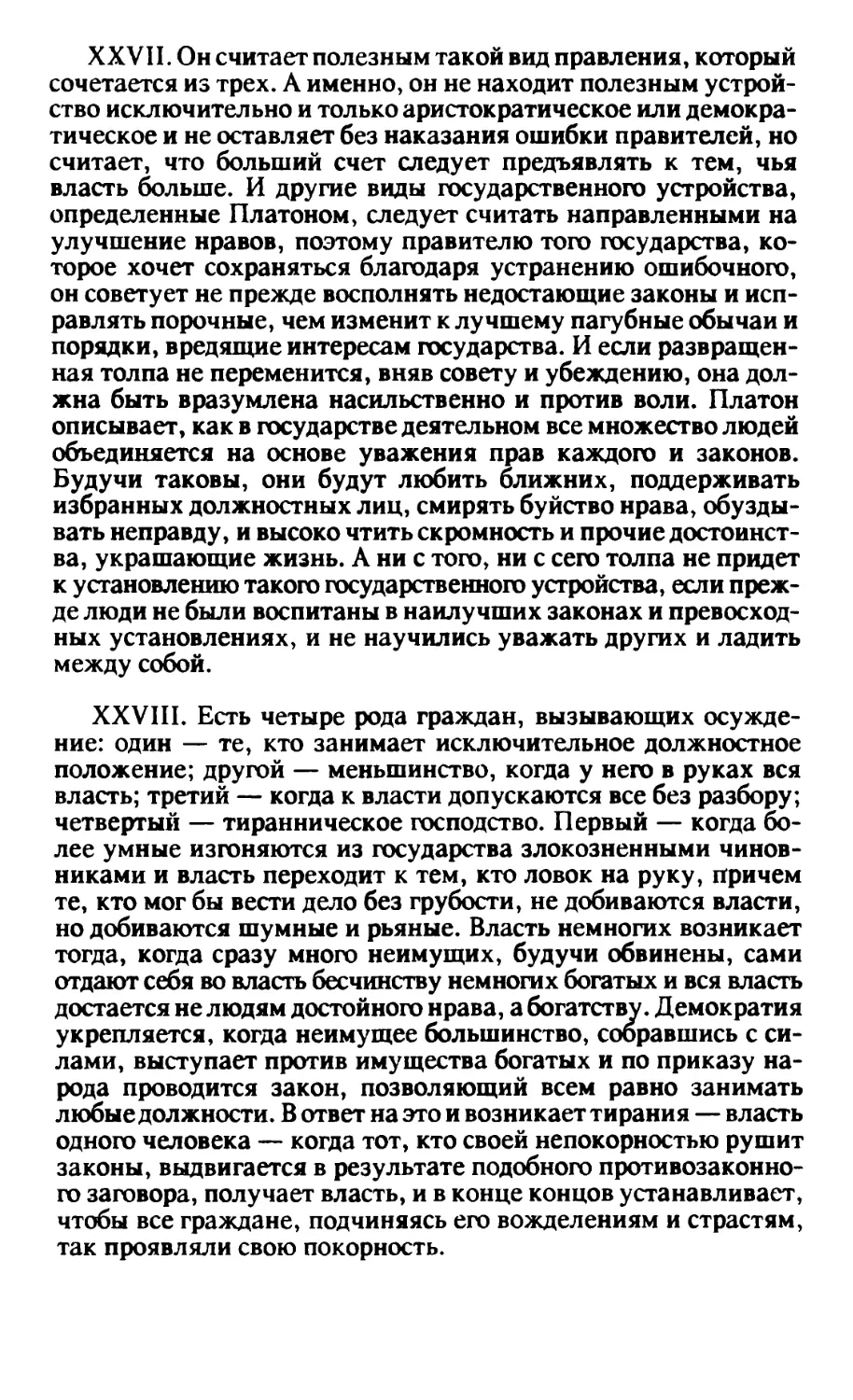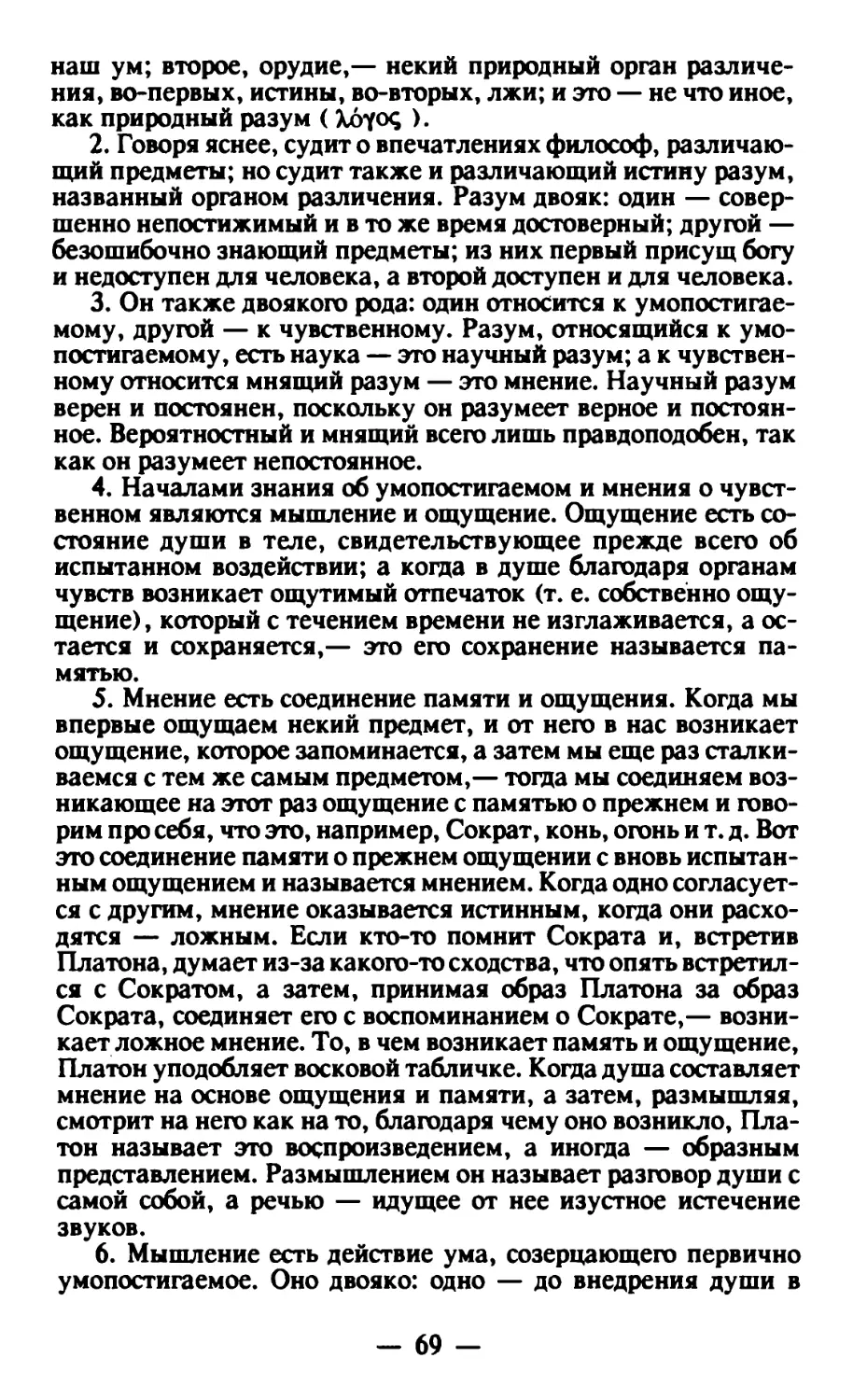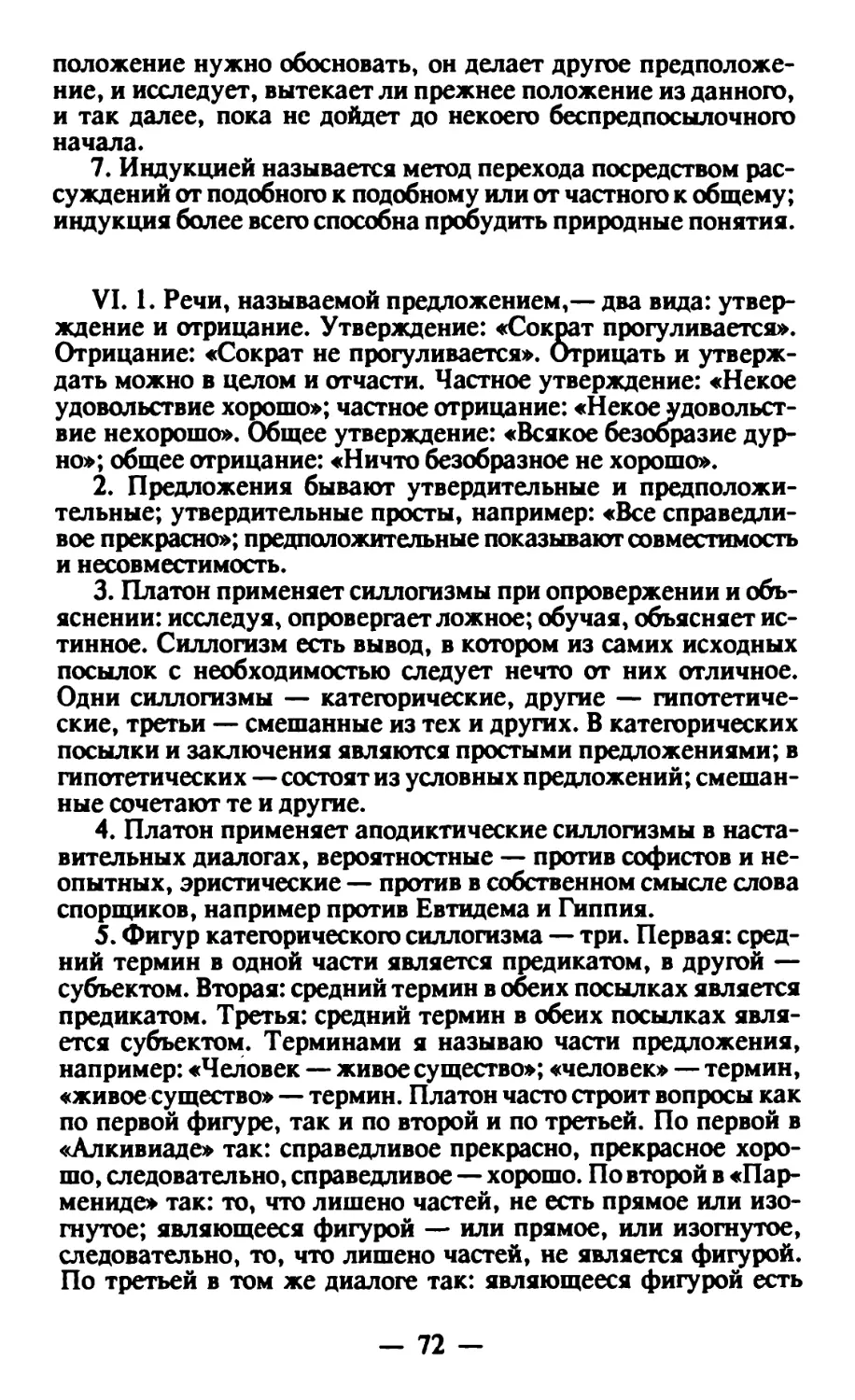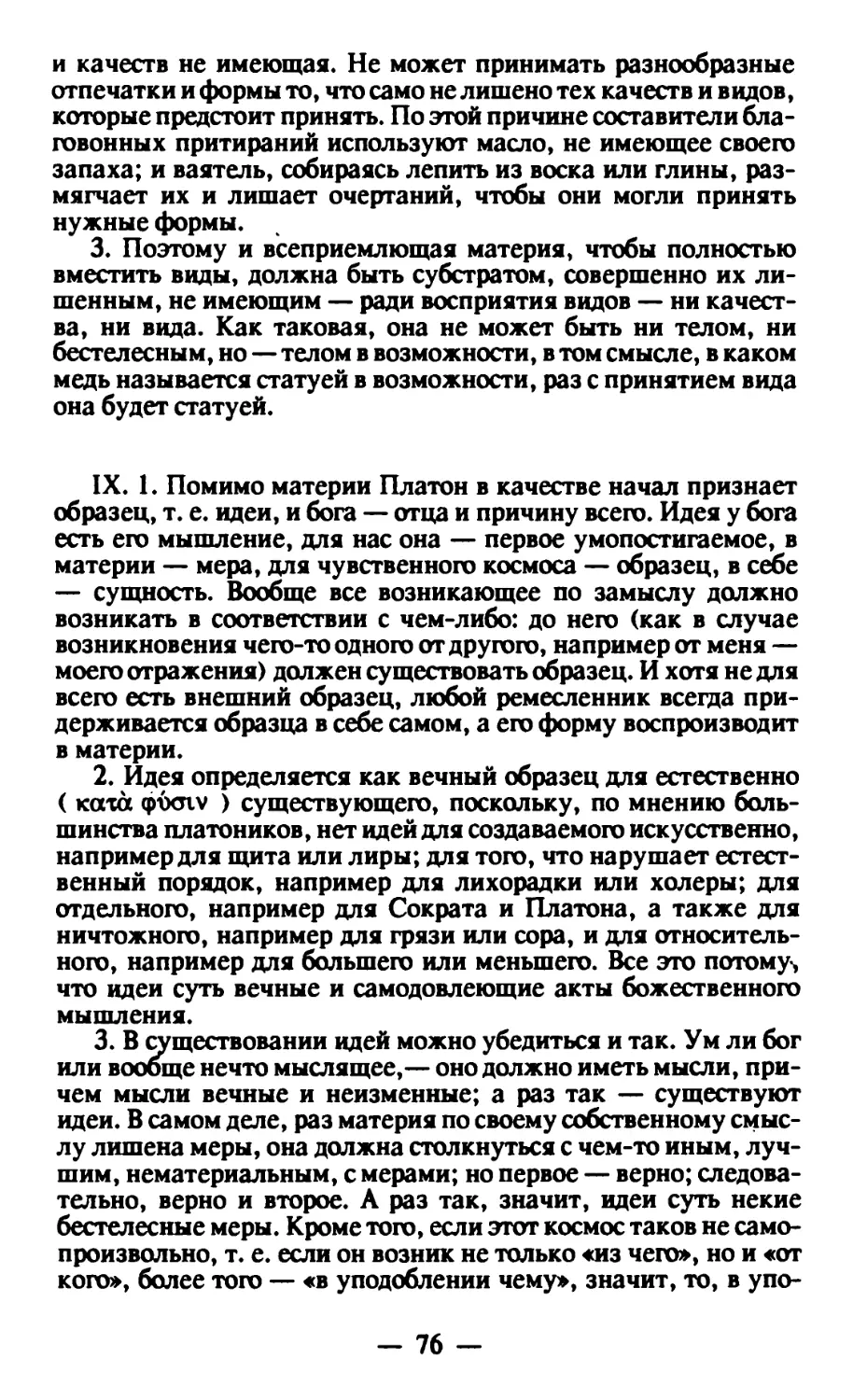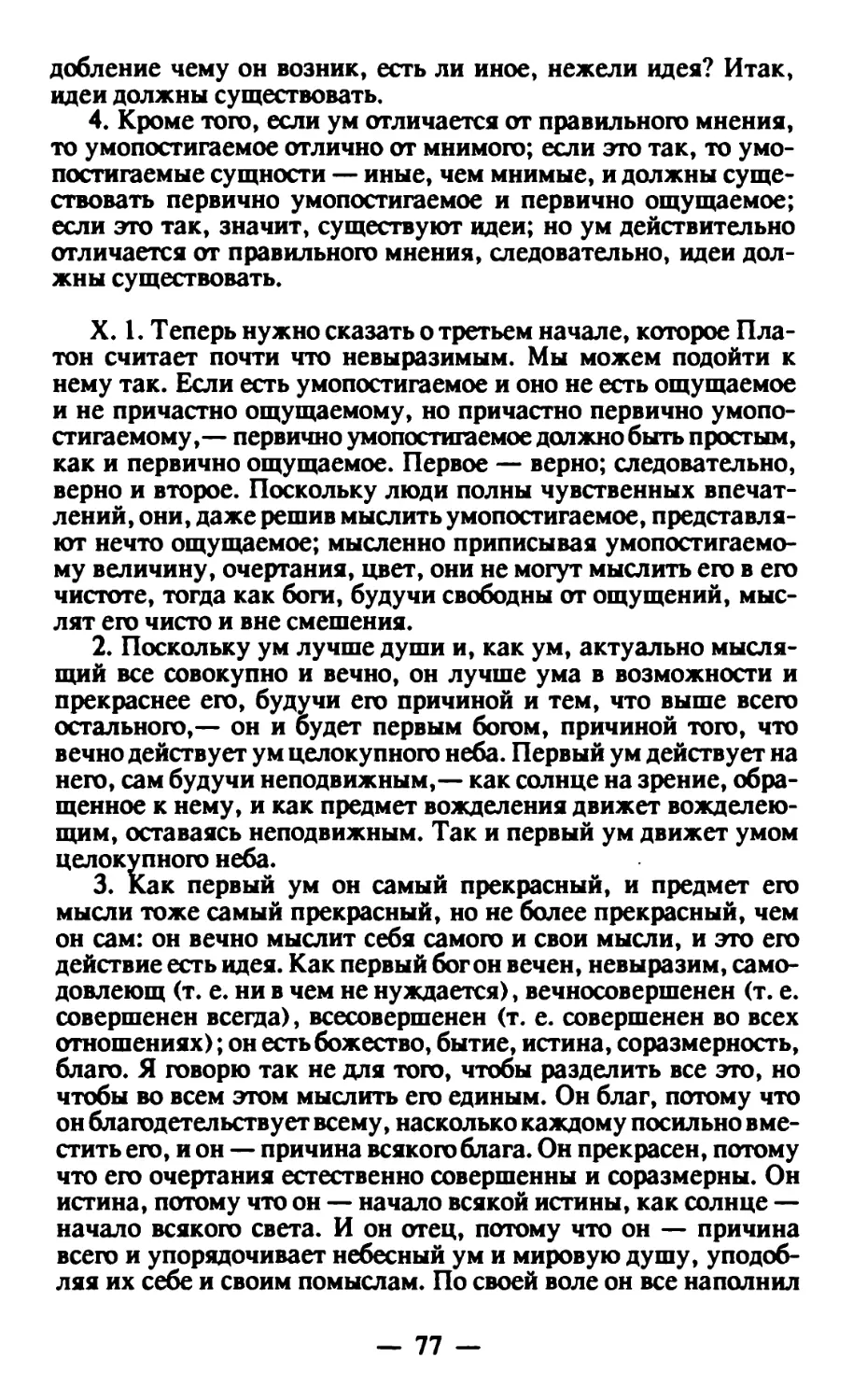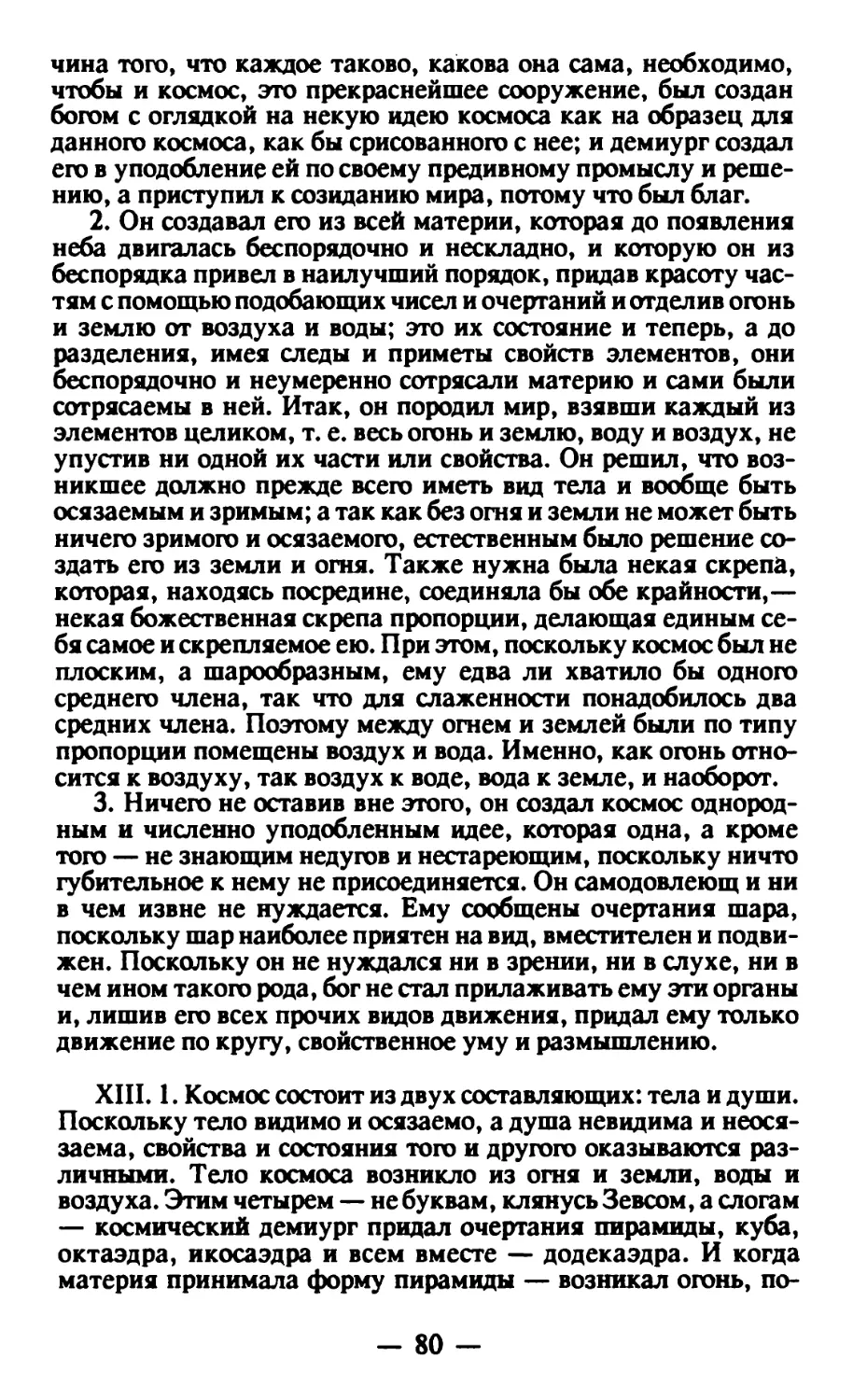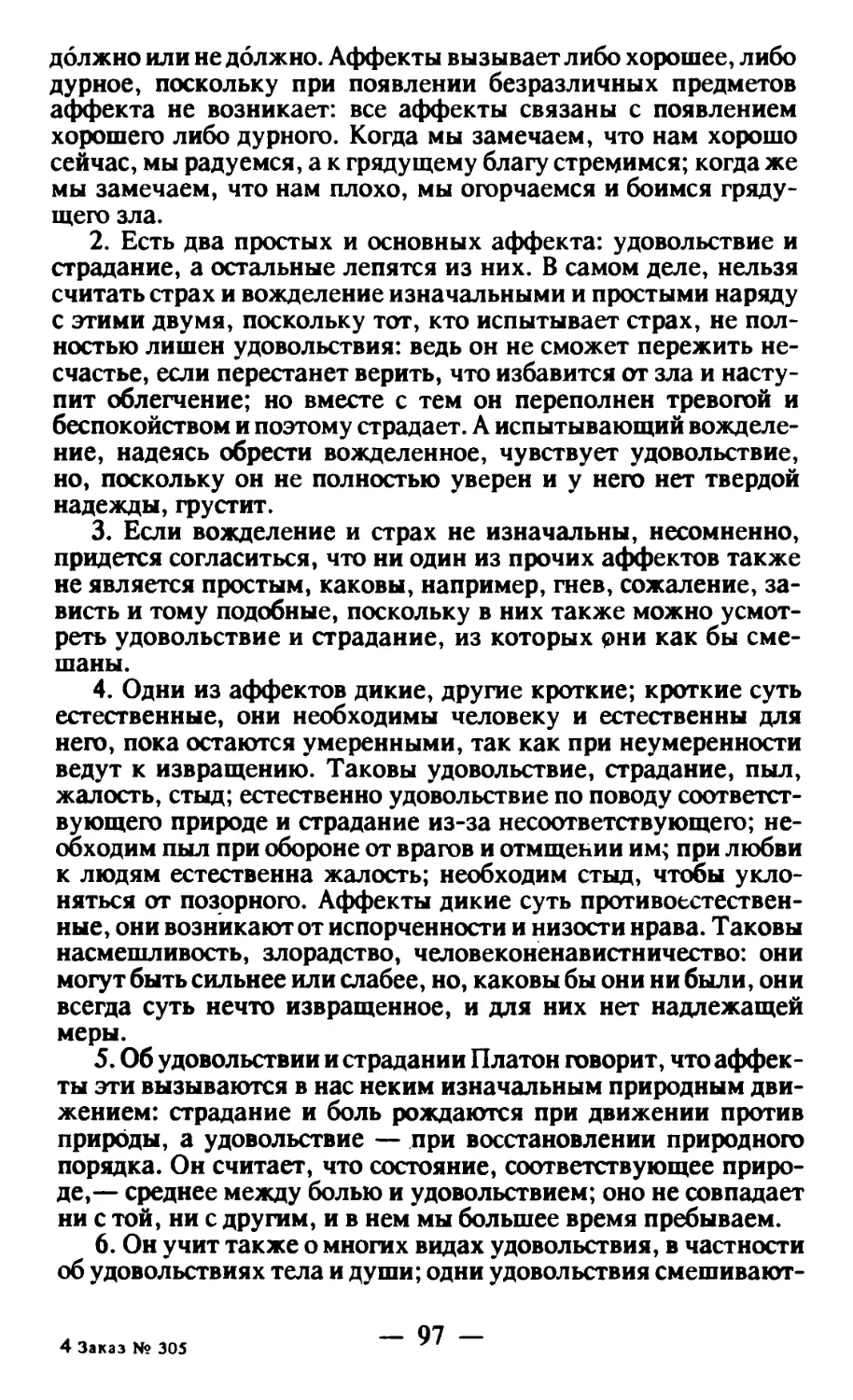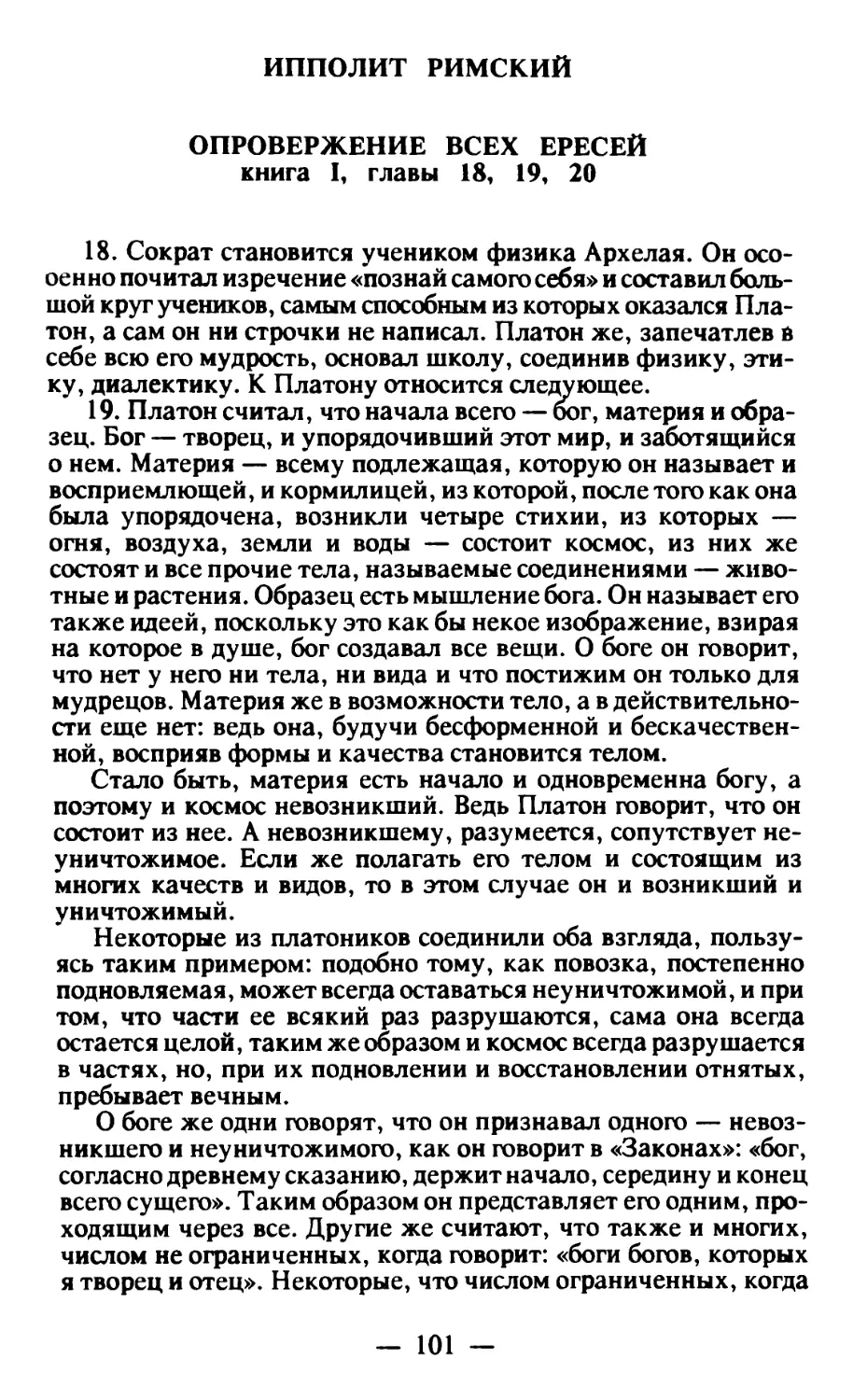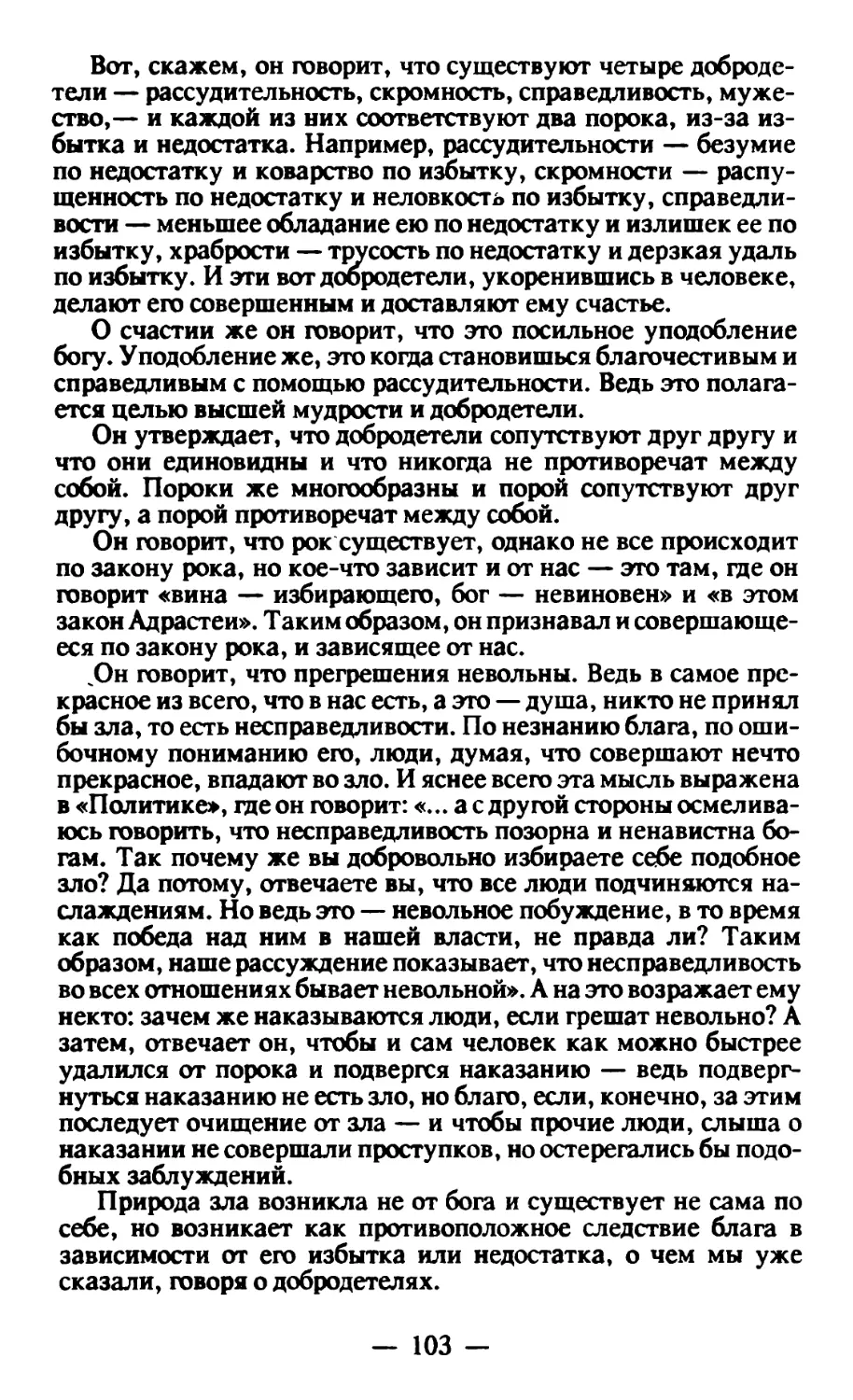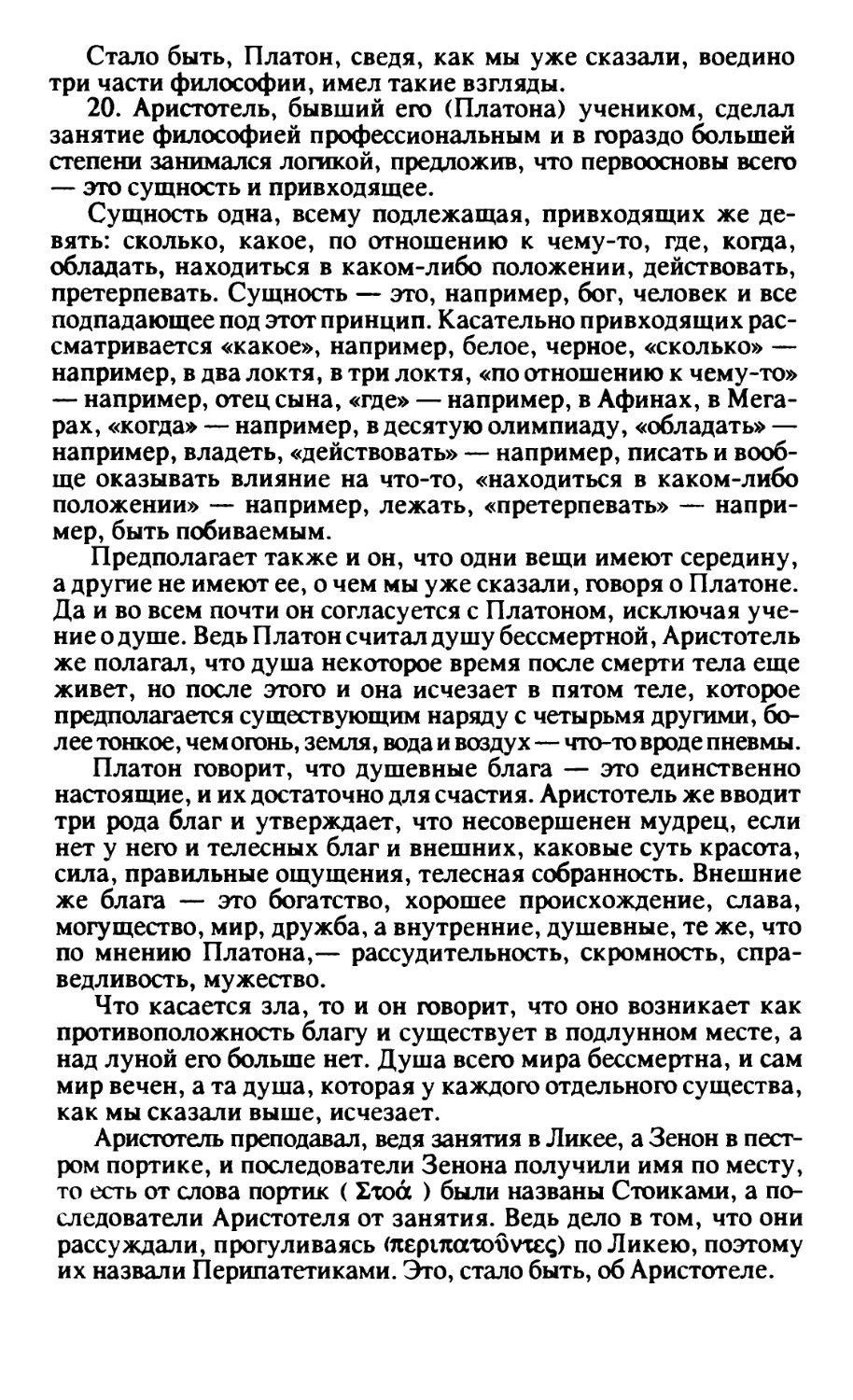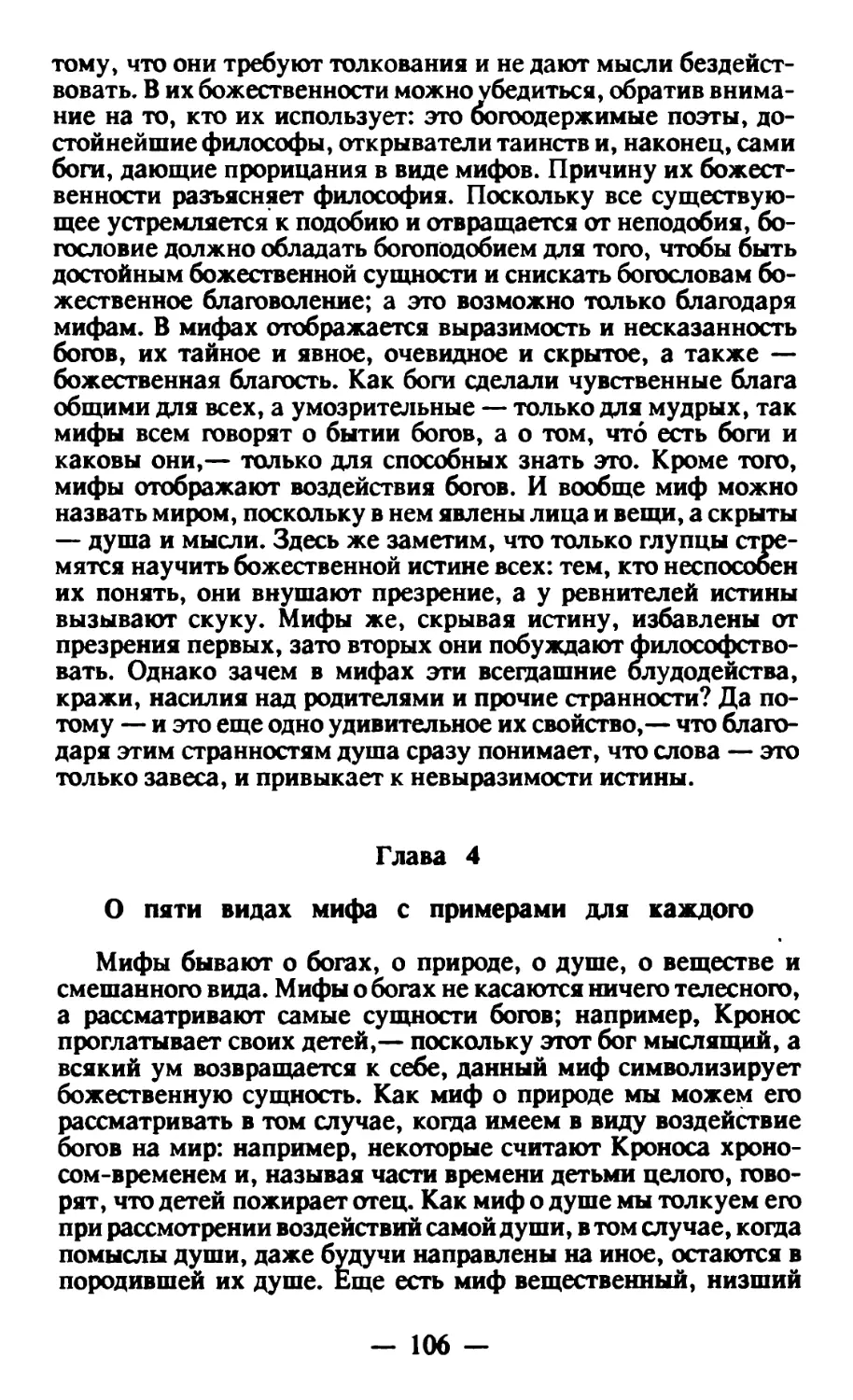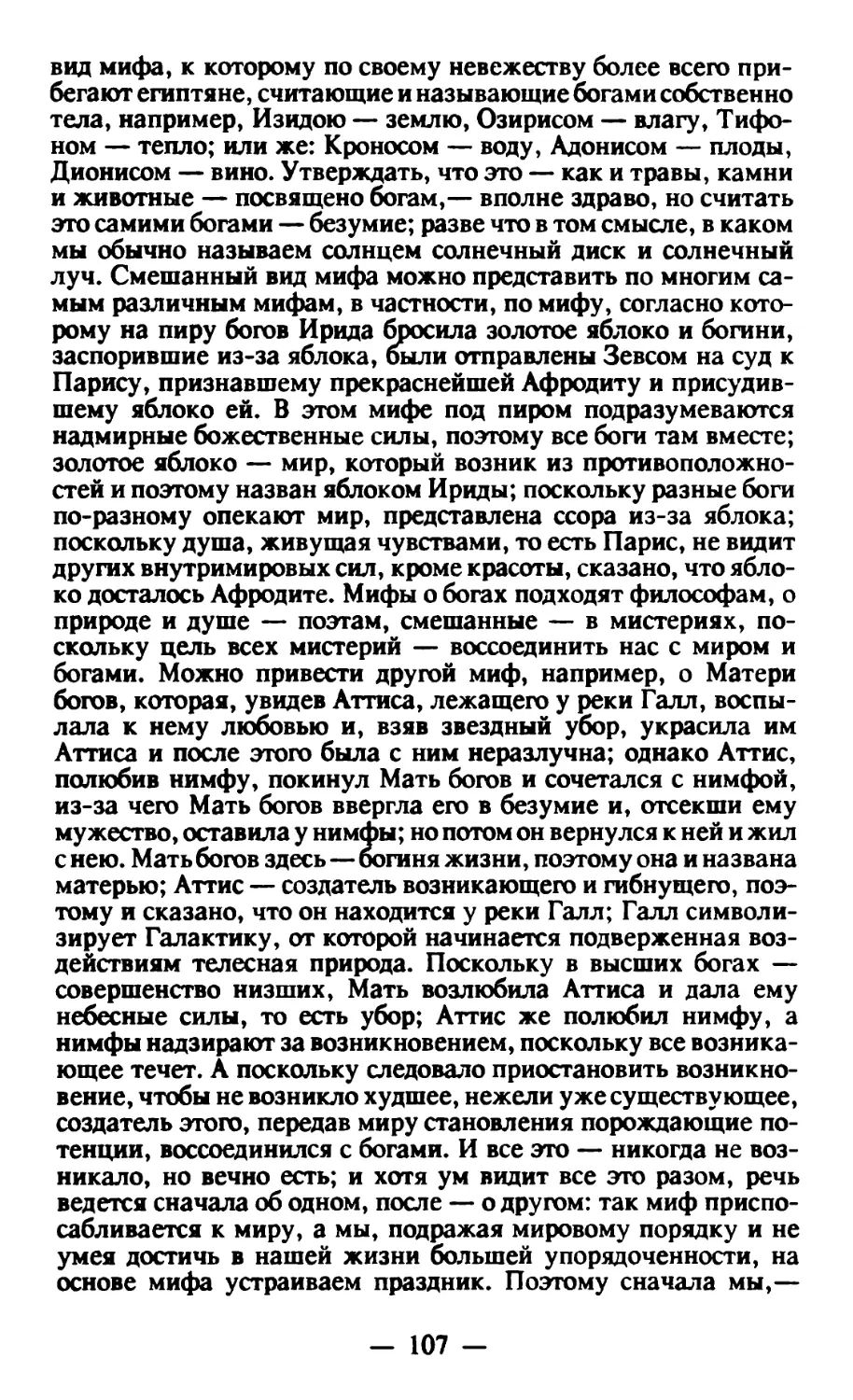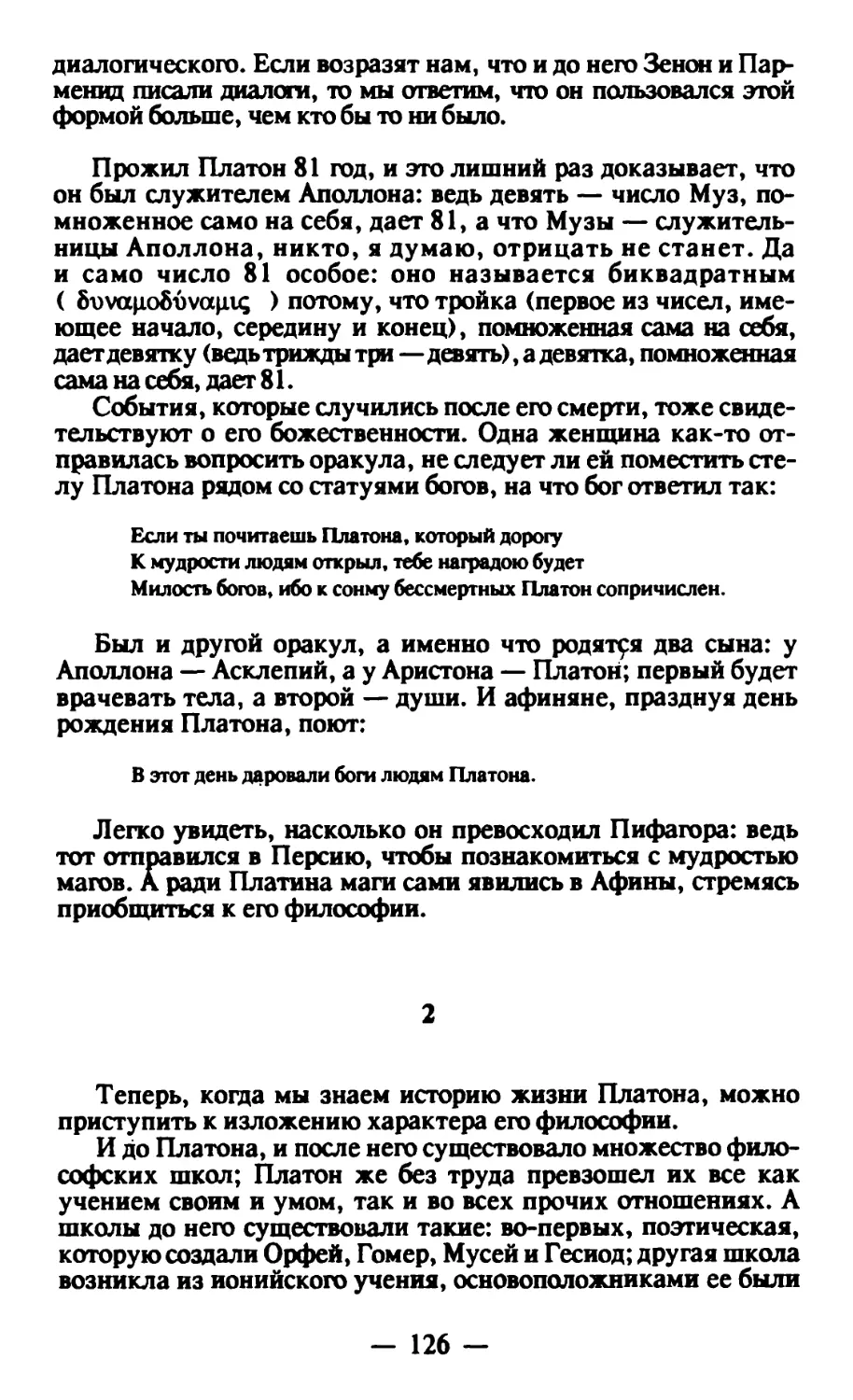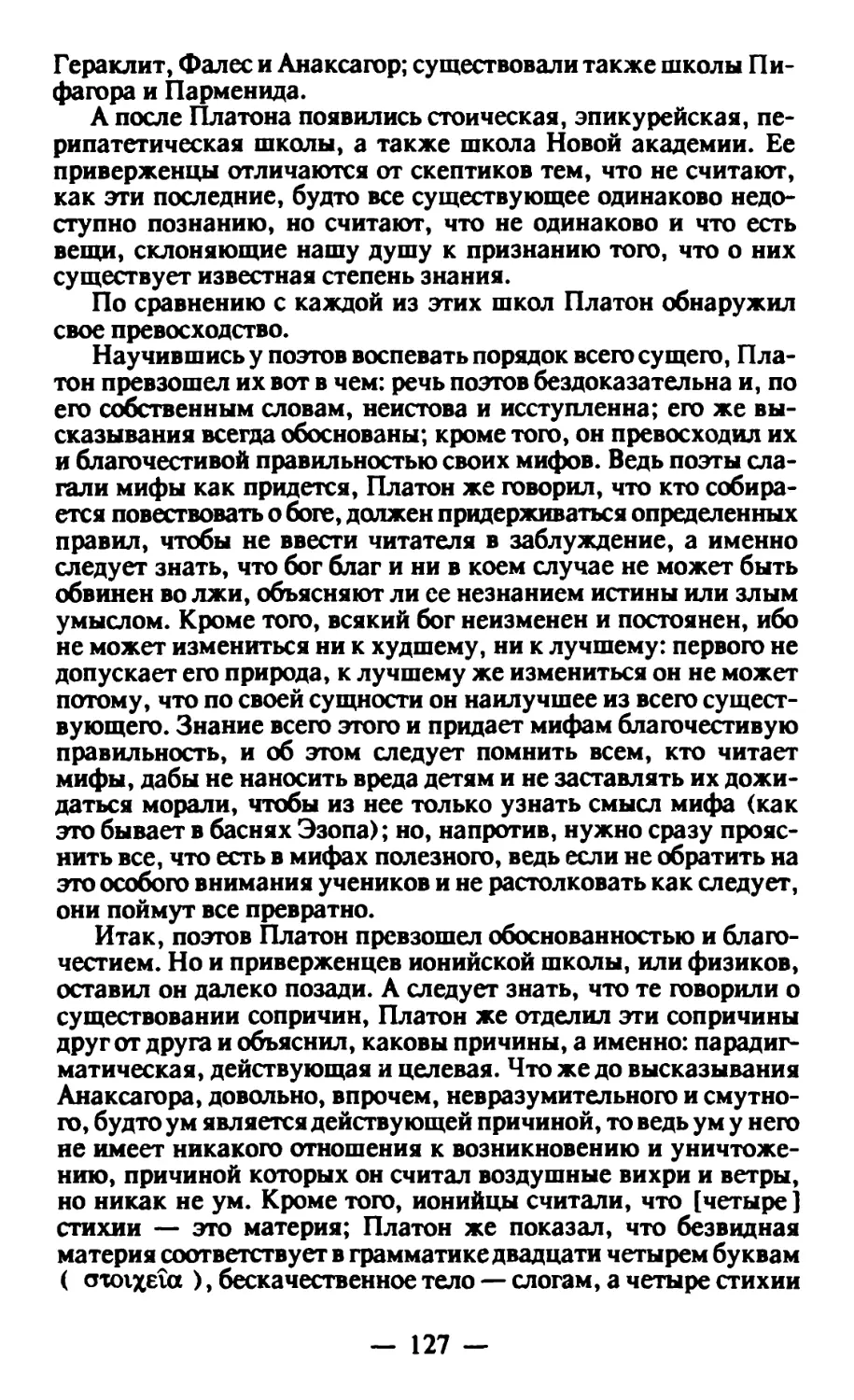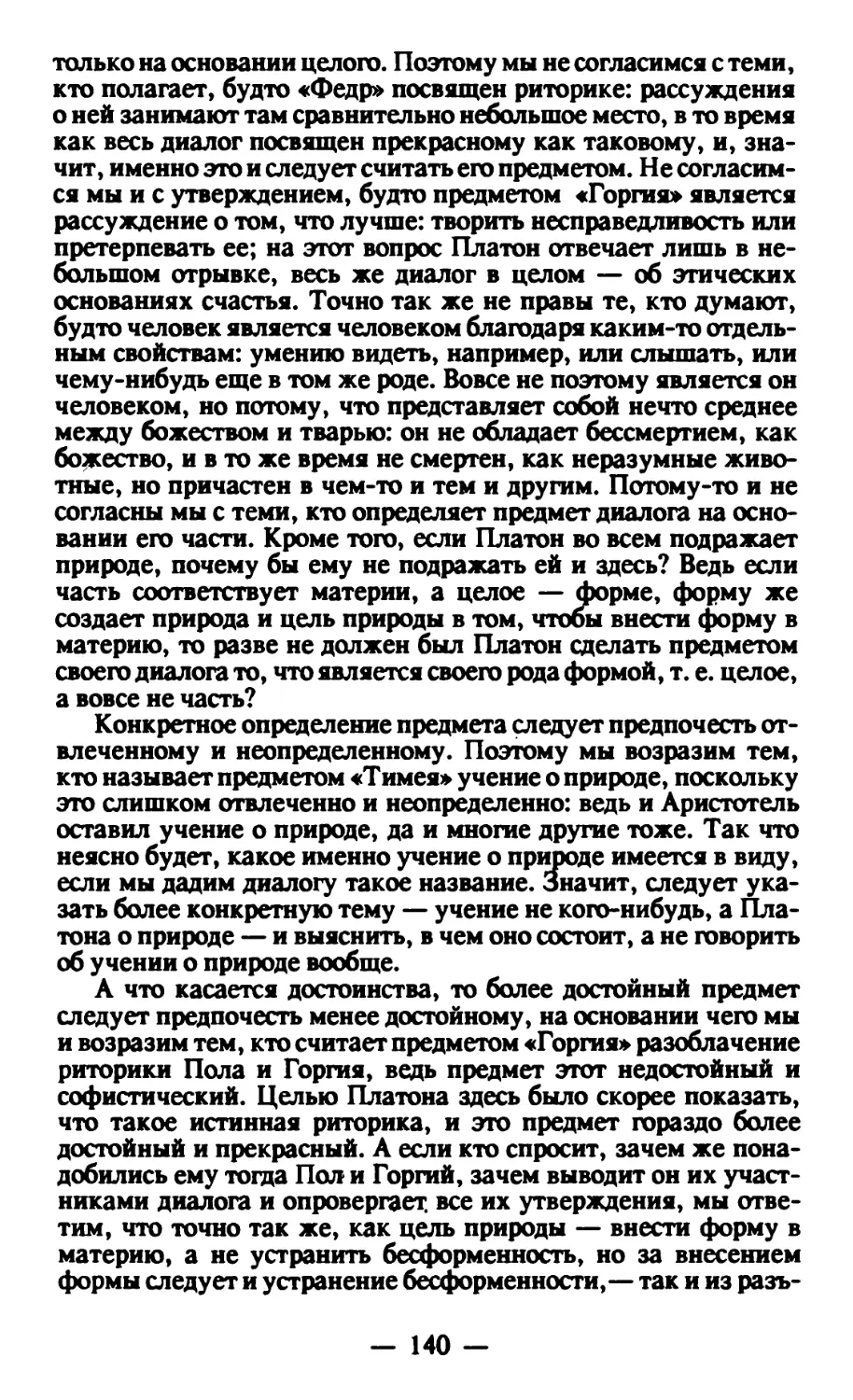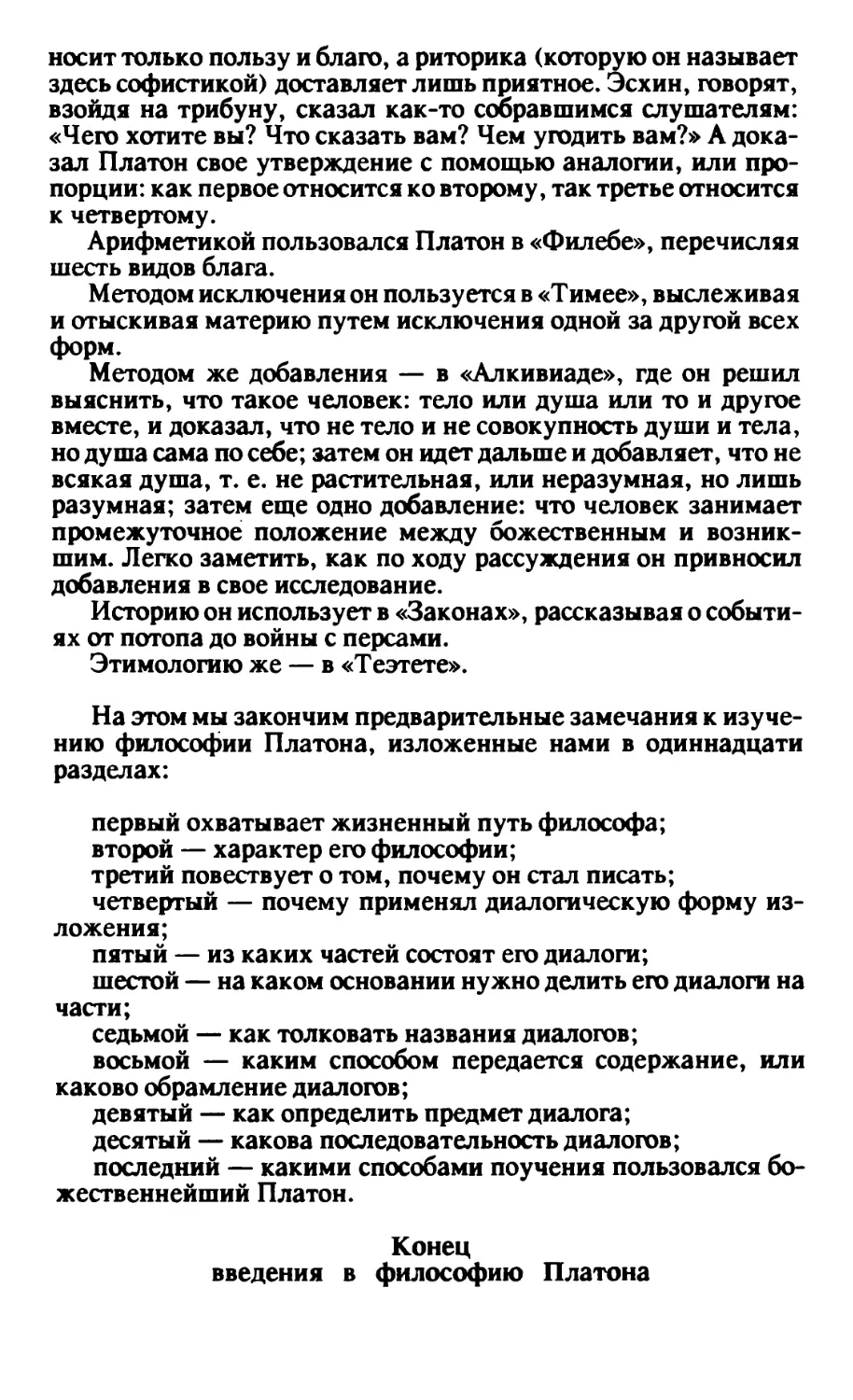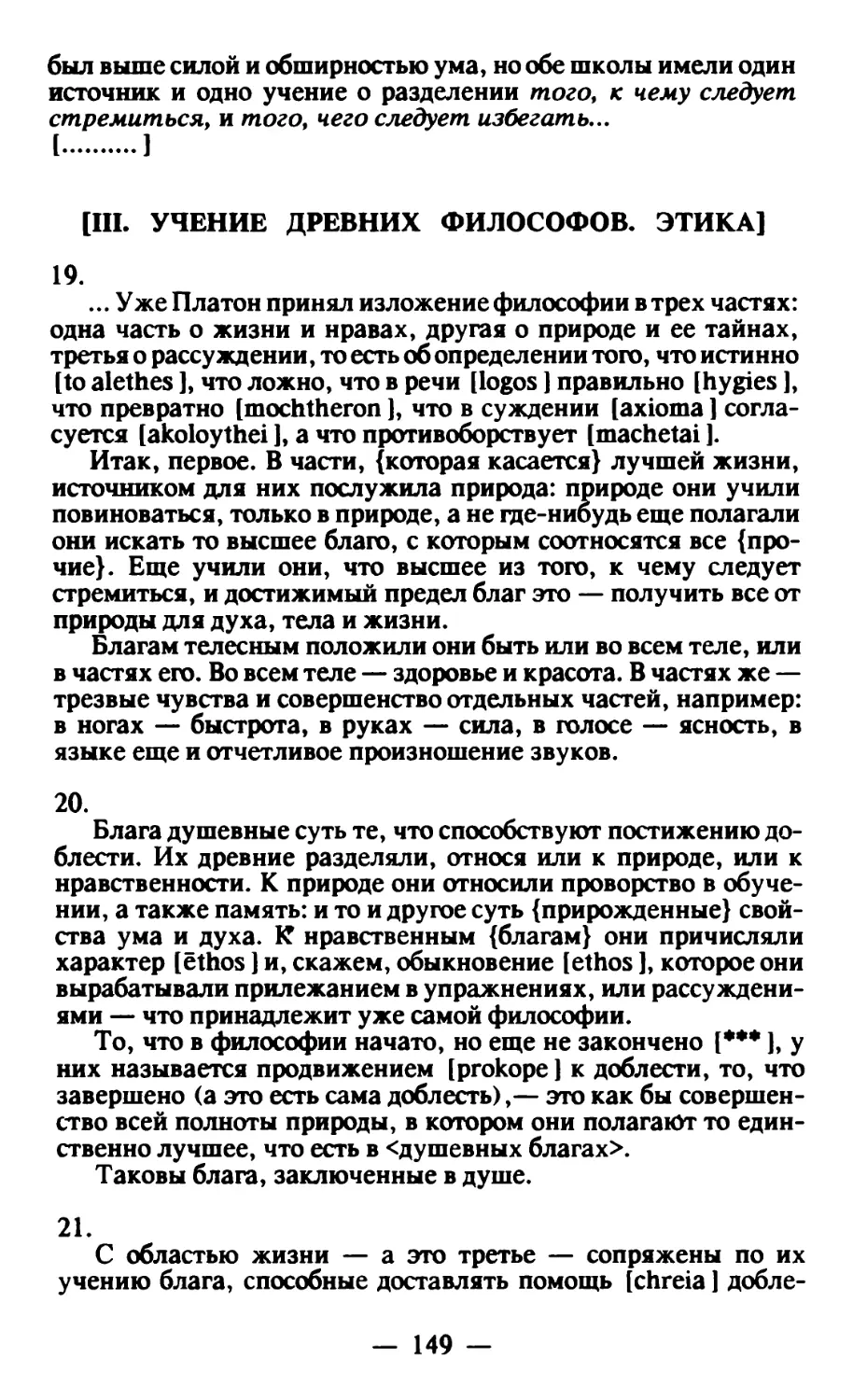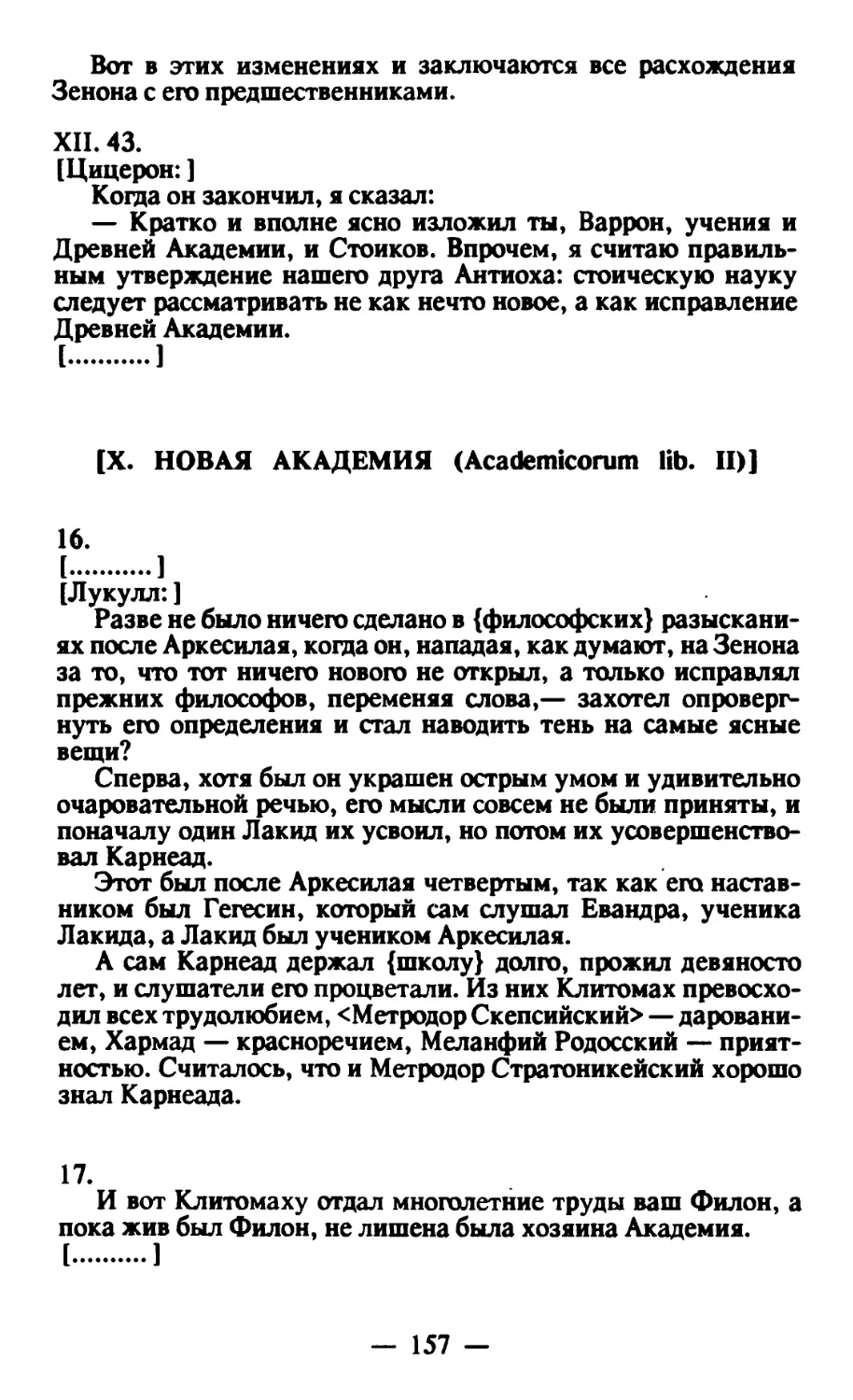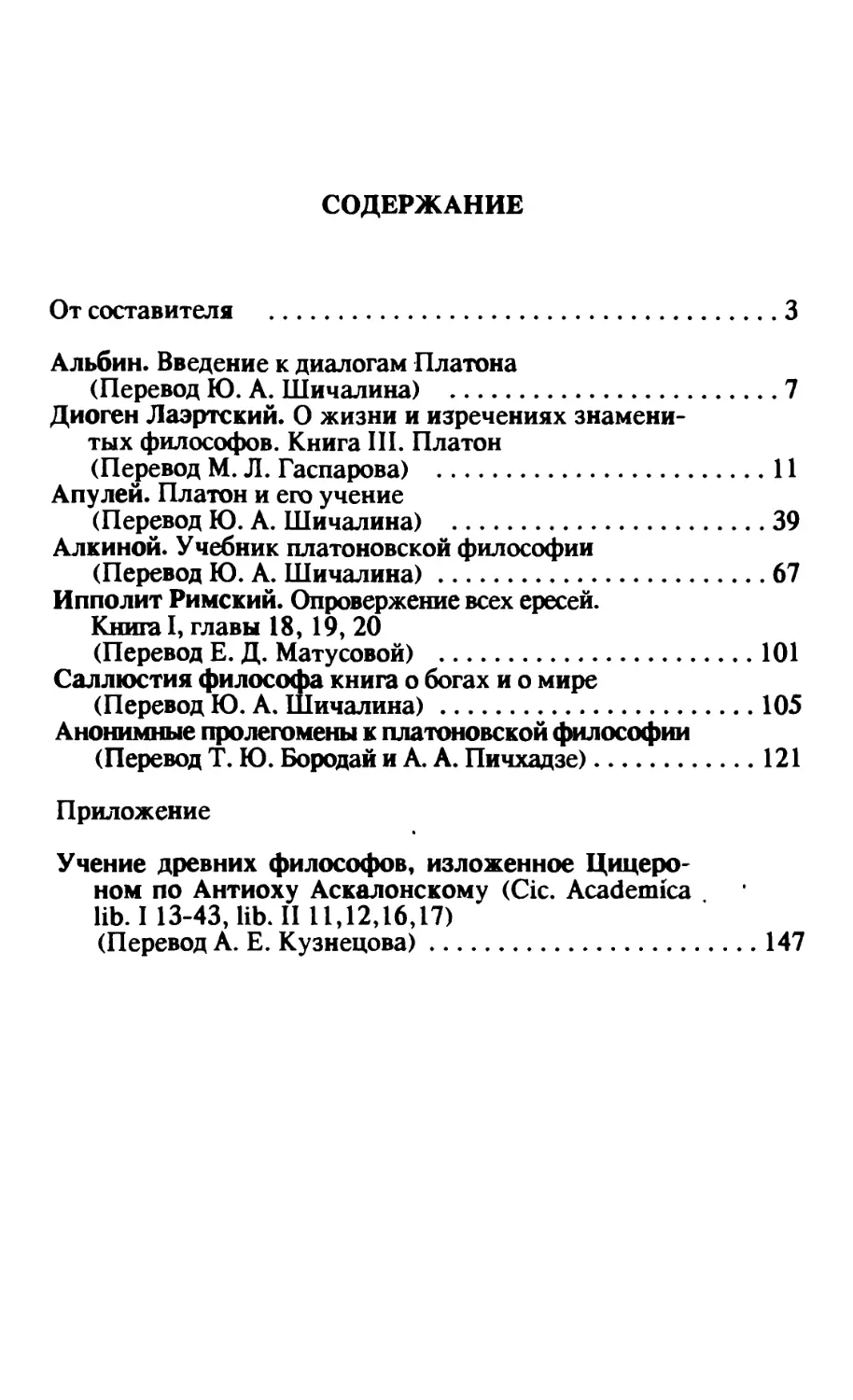Автор: Шичалин Ю.А.
Теги: история научно информационной деятельности философия
ISBN: 5-7137-0023-2
Год: 1995
Текст
«ГРЕКО-ЛАТИНСКИЙ КАБИНЕТ»®
Ю. А. ШИЧАЛИНА
УЧЕБНИКИ
ПЛАТОНОВСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
Составитель Ю. А. Шичалин
Издательство «ВОДОЛЕЙ»
МОСКВА-ТОМСК 1995
«Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина
Учредитель издательства «Водолей» —
Томская областная научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Учебники платоновской философии.— Томск:
«Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина (Москва),
«Водолей» (Томск), 1995.— 160с.
© Перевод Ю. А. Шичалин,
М. Л. Гаспаров,
Е. Д. Матусова,
Т. А. Бородай,
А. А. Пичхадзе,
А. Е. Кузнецов, 1995
© Составление. Ю. А. Шичалин, 1995
© Оформление. «Водолей», 1995
ISBN 5-7137—0023—2
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Название данного сборника переводов — «Учебники» —
условно. И все же оно отражает реальную тенденцию в школах
позднего платонизма: представить учение Платона в виде
инструктивной систематической сводки и таким образом
позволить ученику подойти к пониманию данного учения, а также
— к пониманию того, что для подлинного усвоения Платона
необходимо читать его диалоги. Именно потому открывает
сборник небольшое Введение Альбина, платоника второго века
по Р. X. Альбин был учеником другого платоника — Гая,
преподавал в Смирне (Малая Азия) в середине века. Введение
отражает некоторые общие тенденции школьного платонизма
в подходе к Платону и его диалогам. Насколько прочными они
были, можно судить на основании сопоставления его с текстом
Диогена, а также с текстом Анонимных Пролегоменов,
написанных на три века позже: почти буквальные совпадения во
всех трех текстах говорят о том, что непрерывно развивалась
единая устойчивая школьная традиция.
Знаменитая Третья книга Диогена Лаэртия включает, во-
первых, биографическую традицию Платона, во-вторых, «для
истинной любительницы Платона» Диоген дает
классификацию его диалогов и способы доказательства в них, затем кратко
излагает его суждения и прибавляет так называемые
«разделения Аристотеля» — школьную поделку более раннего времени.
Хотя текст Диогена относится к началу III века, он отражает
современную Альбину и более раннюю, восходящую к
эллинистическому периоду, традицию.
Следующий текст принадлежит платонику второго века —г
Апулею. Для новоевропейской традиции Апулей прежде всего
автор знаменитых Метаморфоз, хотя еще для Августина он —
Platonicus nobilis. Апулей учился в Афинах. Учебная сводка
Апулея состоит из трех основных блоков: биография Платона,
физика и этика. У Апулея отсутствует логика, что довольно
показательно. В предшествующий период логика развивалась
преимущественно стоиками и перипатетиками, и ряд
платоников не считали возможным вмещать в платонизм дисциплину,
разработанную другими школами. Такое ограничение
платонизма оказалось бесперспективным. Зато биография Платона
у Апулея отражает устойчивую школьную трактовку образа
Платона, представленную и в Анонимных Пролегоменах.
Учебник Алкиноя — один из наиболее представительных
компендиев второго века — отражает развитую тенденцию
- 3 -
школьного платонизма, вмещавшего и стоическое, и
перипатетическое влияние. Подробно представлены все три части
философии, указана роль математических дисциплин, дана
сводка учения о государстве. Данный текст не вошел в поле
зрения неоплатоников, но сформировал новоевропейское
представление о Платоне: в 1460 Пьетро Бальби перевел его на
латинский язык, посвятив перевод, изданный в 1469 вместе с
сочинениями Апулея, кардиналу Николаю Кузанскому; в 1464
текст перевел Марсилио Фичино; перевод Фичино был
впервые издан в 1497; греческий текст (также вместе с Апулеем) —
появился в 1521 году в Венеции у Альдов; впоследствии
сочинение Алкиноя было постоянно в поле зрения издателей,
переводчиков, философов и историков философии.
Изложение философии Платона из I книги составленного в
конце первой трети III века Опровержения всех ересей
христианского апологета Ипполита — важный и в достаточной
степени независимый источник наших сведений о рецепции
платонизма в раннехристианской традиции, отражающий вместе с
тем ряд среднеплатонических штампов.
Трактат О богах и о мире был написан вероятнее всего ок.
363 года, то есть года смерти императора Юлиана, одним из его
близких друзей Саллюстием, которому Юлиан посвятил свою
IV речь. Обилие параллелей к более ранним и более поздним
сводкам платонизма показывает укорененность данного текста
в школьной традиции. Стремление сохранить языческую
мифологию провоцировало символическое понимание и
аллегорическое толкование мифов: так же постоянно
комментировались сакрализованные платоновские тексты. И те и другие
репрезентировали и замещали собой мир, о чем, в частности,
специально идет речь в следующем тексте настоящего
сборника.
Анонимные Пролегомены к платоновской философии,
были составлены в VI веке, вероятно, представителем
александрийской школы неоплатонизма. Сопоставляя их с
предшествующими текстами, мы видим, до какой степени консервативна
и прочна традиция школьного платонизма и с какой
безусловностью тексты Платона становятся предметом восхищения и
любви для тех, кто способен их понять, источником из которого
жаждут черпать все, чей духовный взор в состоянии узреть
истинный свет.
В приложении даются выборки из Цицерона (Academicorum
lib. I 13-43,1111, 12, 16,17), который излагает учения древних
философов по Антиоху Аскалонскому, преподававшему
платоновскую философию в Афинах 70-х годов I века до Р. X.
и вернувшему Академию на пути догматической разработки
платонизма.
— 4 —
Тексты переведены по следующим изданиям:
Άλβίνου εισαγωγή είς τους Πλάτωνος διάλογους. — In:
Piatonis Dialogi, гее. С. Fr. Hermann, vol. VI, p. 147-151.
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, rec. H. S. Long, vol.
I, Oxford, 1964.
Apulée. Opuscule philosophique et fragments. Texte établi,
traduit et commenté par J. Beaujeu. Paris, Les Belles Lettres, 1973.
Alcinoos. Enseignement des doctrines de Platon. Introduction,
texte établi et commenté par J. Whittaker et trad, par P. Louis,
Paris, Les Belles Lettres, 1990.
Hippolyti Philosophumena. — In: H. Diels. Doxographi Graeci.
Berlin, 19292, p. 567-571.
Sallustius. Concerning the Gods and the Univers. Edited with
Prolegomena & Translation by A. D. Nock. Cambridge, 1926.
Prolégomènes à la philosophie de Platon. Texte établi par L. G.
Westerink et trad, par J. Trouillard avec la collaboration de A. Ph.
Segonds. Paris, Les Belles Lettres, 1990.
Переводы Альбина, Алкиноя, Саллюстия и Анонимных
Пролегоменов для настоящего издания сверила с греческим
текстом М. Солопова.
Ю. А. Шичалин
19.11.94
АЛЬБИН
ВВЕДЕНИЕ К ДИАЛОГАМ ПЛАТОНА
1. Кто приступает к диалогам Платона, должен прежде
знать, что такое сам диалог. Диалоги написаны по
определенным правилам искусства, и поэтому нелегко правильно понять
их человеку неученому. Чем бы ни занимался Философ, он
всегда считал нужным исследовать существо предмета: что ему
свойственно, что нет, для чего пригоден и непригоден. Он
говорит так: «Есть, мой мальчик, одно средство хорошо
рассудить: знать то, о чем рассуждаешь; иначе ошибка неизбежна».
Большинство забывают о своем незнании существа каждой
вещи: не зная его, они и вначале высказывают несогласные
мнения, и в дальнейшем точно так же не могут добиться
согласия ни сами с собой, ни один с другим. Чтобы и с нами не
случилось того же, мы, приступая к платоновским диалогам,
рассмотрим, как я сказал, что такое сам диалог. А он есть не
что иное, как состоящая из вопросов и ответов речь о
политических и философских предметах, выводящая
соответствующие характеры действующих лиц путем отбора слов.
2. Речью диалог называется, как человек — живым
существом. Речь бывает внутренняя и вслух; под диалогом мы будем
понимать речь вслух; из речей вслух одна называется
изложением, а другая состоит из вопросов и ответов; диалогу
свойственны вопросы и ответы. Поэтому он называется речью из
вопросов. О философских и политических предметах
прибавлено потому, что диалог должен трактовать соответствующую
материю, именно, политическую и философскую: как
соответствующая материя трагедии и вообще поэзии — предание, так
диалога — любомудрие, то есть то, что относится и к
философии. О выведении соответствующих характеров
действующих лиц — потому что они различаются речами. Поскольку
одни ведут жизнь философов, другие — софистов, каждого
следует наделить соответствующим характером: философ
благороден, прост и любит истину; софист лукав, переменчив,
живет представлениями; обычный человек — обычен. Кроме
того, говорится об отборе слов. Это понятно: как трагедии и
комедии присущ метр, а так называемой истории —
изображение, так диалогу — соответствующий отбор слов и склад,—
аттический, красивый без излишеств и скудости. Если некая
речь составлена не так, как сказано, но лишена этого,
неправильно давать ей название диалога. Так, то, что говорится у
Фукидида, воспроизводит особенности диалога, но диалогом
— 7 —
не называется: скорее это речи, противопоставленные одна
другой по мысли.
3. Выяснив, что такое диалог, рассмотрим особенности
собственно платоновского диалога, то есть его виды: главные и их
подразделения вплоть до отдельных диалогов. В дальнейшем
будет указан вид каждого диалога, теперь узнаем только о
главных. Их два: наставительный и исследовательский;
наставительный для воспитания, обучения и доказательства истины;
исследовательский — для упражнения, состязания и
опровержения лжи. Наставительный занят предметами,
исследовательский — лицами. Из платоновских диалогов к физическому
виду относится «Тимей»; к этическому — «Апология»; к
логическому — «Феаг», «Кратил», «Лисид», «Софист», «Лахет»,
«Политик»; к обличительному «Парменид», «Протагор»; к
политическому — «Критон», «Государство», «Федон», «Минск», «Пир»,
«Законы», «Письма», «Послезаконие», «Менексен», «Клито-
фонт», «Филеб»; к испытательному —- «Евтифрон», «Менон»,
«Ион», «Хармид»; к повивальному — «Алкивиад»; к
опровергающему — «Гиппий», «Евтидем», «Горгий».
4. Рассмотрев основные особенности и виды диалогов,
скажем далее, начиная с каких следует приступать к
платоновскому учению. Есть разные мнения: одни начинают с «Писем»,
другие с «Феага»; некоторые делят на тетралогии, включая в
первую тетралогию «Евтифрона», «Апологию», «Критона» и
«Федона»: «Евтифрона» — поскольку в нем Сократу
сообщается о суде; «Апологию» — поскольку ему пришлось защищаться;
далее, «Критона» — из-за беседы в узилище; наконец,
«Федона», поскольку в нем Сократ умирает. Таково мнение Дерки-
лида и Трасилла, которые, на мой взгляд, хотели установить
порядок исходя из действующих лиц и жизненных
обстоятельств. В определенном смысле это, конечно, полезно, но не с
точки зрения наших теперешних задач: найти начало и
последовательность умудряющего обучения. Мы утверждаем, что у
платоновского учения нет единственного и определенного
начала. Его учение совершенно и подобно совершенной фигуре
— кругу: как у круга нет единственного и определенного
начала, так не имеет его и учение.
5. Однако на этом основании не следует приступать к нему
как придется: если нужно начертить круг, его не чертят,
начиная с какой попало точки. Всякий пусть приступает исходя из
своих реальных особенностей. Эти особенности
многочисленны и разнообразны. Во-первых, природные данные:
способность — неспособность; во-вторых, возраст: пора изучать
философию или поздно; затем — склонность: к философии или к
истории; далее, обученность: образованный или неуч;
наконец, предмет: погруженность в философию или увлеченность
тем, что она дает. Человек способный, вовремя приступающий
- 8 -
к философии, обратившийся к учению по склонности ради
упражнения в добродетели, образованный и отказавшийся от
государственной деятельности, пусть начнет с «Алкивиада»,—
чтобы перемениться и узнать то, чем надлежит ревностно
заниматься. Затем, чтобы иметь перед глазами образец
философа с его образом жизни и предпосылками его учения, нужно
взяться за «Федона»: в нем говорится, кто такой философ и
каков именно образ его жизни, а также то, что он излагает
учение, предпосылка которого — бессмертие души. После
этого нужно приступить к «Государству»: там Платон описал все
воспитание, благодаря которому можно достичь добродетели,
начав с рождения. Поскольку необходимо знание божества,
чтобы ставший добродетельным мог уподобиться ему,
обратимся к «Тимею»: само описание природы, так называемая
теология и миропорядок дадут очевидное представление о
божестве.
6. Кроме того имело бы смысл рассмотреть — хотя бы в
основных чертах — значение диалогов при обучении в
платоновском духе того, кто отдал предпочтение платонизму.
Поскольку нам необходимо стать созерцателями собственной
души, божественного и самих богов, а также обрести наилучший
ум, прежде всего надлежит очистить восприятие от ложных
представлений: и врачи не считают возможным излечить тело
с помощью подходящей пищи, если предварительно не
устранено противодействие вредной:. После очищения нужно
пробудить и призвать природные понятия, очистить их и сделать их
ясными в качестве начал. После такой подготовки души ей
следует внушить соответствующие догматы, делающие ее
совершенной: физические, теологические, этические и
политические. Чтобы догматы пребывали в душе и не стирались, их
нужно связать понятием причины, чтобы можно было твердо
держаться поставленной цели. Кроме того, их нужно сделать
логически непротиворечивыми, чтобы — от угощений иного
софиста — мы не сделались хуже. Итак, чтобы очиститься от
ложных мнений, нужно обратиться к испытательным диалогам
Платона, принадлежащим к роду опровергающему и так
называемому очистительному. Чтобы вывести на свет естественные
понятия, нужно обратиться к повивальным диалогам, которые
для этого предназначены. Для восприятия соответствующих
догматов нужно обратиться к наставительным диалогам: это их
предназначение, раз в них содержатся физические, этические,
политические, экономические учения, из которых одни ведут
к созерцанию и созерцательной жизни, а другие — к практике
и практической жизни, но и те и другие — к уподоблению
божеству. Чтобы они пребывали в нас с неопровержимой
связностью, нужно обратиться к логическим диалогам, они же
исследовательские. В них проводятся разделения и определения,
- 9 -
используется аналитика и силлогистика, доказывающая
истину и опровергающая ложь. Поскольку кроме этого нужно
уберечься от софистических опровержений, обратимся к
доказательным и побудительным диалогам: с их помощью нужно
изучить, как следует слушать софистов и каким образом их
злословие обратить к пользе.
ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ
О ЖИЗНИ, УЧЕНИЯХ И ИЗРЕЧЕНИЯХ
ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ
Книга III. ПЛАТОН
Платон, афинянин, сын Аристона и Периктионы (или
Погоны), которая вела свой род от Солона. А именно, у Солона
был брат Дропид, у того — сын Критий, у того — Каллесхр, у
того — Критий (из Тридцати тираннов) и Главкон, у Главкона
— Хармид и Периктиона, а у нее и Аристона — Платон — в
шестом поколении от Солона. А Солон возводил свой род к
Нелею и Посидону. Говорят, что и отец его происходил от
Кодра и Меланфа, а Кодр и Меланф (по словам Фрасила) — от
Посидона.
Спевсипп (в книге под заглавием «Платонова тризна»), и
Клеарх (в «Похвальном слове Платону»), и Анаксилаид (во II
книге «О философах») пишут, что по Афинам ходил такой
рассказ: когда Погона была в цвете юности, Аристон пытался
овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои попытки, он
увидел образ Аполлона, после чего сохранял жену в чистоте,
пока та не разрешилась младенцем.
Родился Платон в 88-ю олимпиаду, седьмого фаргелиона, в
день, когда делосцы отмечают рождение Аполлона,— так
пишет Аполлодор в «Хронологии». Скончался он на свадебном
пиру в первый год 108-й олимпиады, на 81-м году,— так пишет
Гермипп. (Впрочем, Неанф говорит, что он умер 84 лет.)
Таким образом, он на шесть лет моложе Исократа: тот родился
при архонте Лисимахе, а Платон — при Аминии, в год смерти
Перикла. Был он из дема Коллит (как говорит Антилеонт во II
книге «О сроках»), а родился, по мнению некоторых, на Эгине
(в доме Фидиада, сына Фалеса, как пишет Фаворин в
«Разнообразном повествовании»), куда отец его был послан вместе с
другими поселенцами, но вернулся в Афины, когда их выгнали
спартанцы, явившись на помощь Эгине. В Афинах он даже
выступил хорегом (за счет Диона, как пишет Афинодор в VIII
книге «Прогулок»). У него были два брата, Адимант и Главкон,
и сестра Погона, мать Спевсиппа.
Грамоте он учился у Дионисия, о котором упоминает в
своих «Соперниках», а гимнастикой занимался у борца
Аристона из Аргоса — от него он и получил имя Платон
(«Широкий») за свое крепкое сложение, а прежде звался Аристоклом,
по имени деда (так пишет Александр в «Преемствах»).
Впрочем, некоторые полагают, что он так прозван за широту своего
слога, а Неанф — что за широкий лоб. Иные говорят, будто он
даже выступал борцом на Истме (так пишет Дикеарх в I книге
«Жизнеописаний»), занимался живописью и сочинял стихи —
сперва дифирамбы, а потом лирику и трагедии. Но говорят,
голос был у него слабый (так пишет и Тимофей Афинский в
«Жизнеописаниях»).
Рассказывают, что Сократу однажды приснился сон, будто
он держал на коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями
и взлетел с дивным криком: а на следующий день он встретил
Платона и сказал, что это и есть его лебедь. Сперва Платон
занимался философией <в Академии, затем в саду близ Коло-
на> (так пишет Александр в «Преемствах»), следуя Гераклиту;
но потом, готовясь выступить с трагедией на состязаниях, он
услышал перед Дионисовым театром беседу Сократа и сжег
свои стихи с такими словами:
Бог огня, поспеши: ты надобен нынче Платону!
И с этих пор (а было ему двадцать лет) стал он неизменным
слушателем Сократа; после кончины Сократа примкнул к Кра-
тилу, последователю Гераклита, и Гермогену, последователю
Парменида; потом, в двадцать восемь лет (по словам Гермодо-
ра), вместе с некоторыми другими сократиками перебрался в
Мегары к Евклиду; потом поехал в Кирену к математику
Феод ору; оттуда — в Италию, к пифагорейцам Филолаю и Евриту;
оттуда — в Египет к вещателям (говорят, туда его сопровождал
Еврипид); там он заболел, и жрецы исцелили его морской
водой, на что он и сказал:
Вода смывает все людское ало —
и повторил за Гомером, что «все египтяне — врачи». Собирался
Платон посетить и магов, но не сделал этого из-за азиатских
войн.
Воротившись в Афины, он поселился в Академии. Это гим-
насий в роще за городскими стенами, получивший свое
название от героя Гекадема, как пишет и Евполид в комедии
«Невоеннообязанные»:
У Гекадема-бога средь тенистых троп...
Также и Тимон, говоря о Платоне, пишет:
— 12 -
Был Широчайший водителем всех — речистых глашатай,
Сладкоголосый, подобно цикадам, которые в роще
У Гекадема поют, испуская лилейные звуки.
«Гекадемией» (через «Ге») назывался прежде и сам гимнасий.
Был наш философ дружен и с И Сократом; Праксифан
описывает, как они разговаривали о поэтах, когда Исократ
приехал в гости к Платону в его имение.
В походах он участвовал трижды (говорит Аристоксен):
один раз — на Танагру, другой — на Коринф, третий — к
Делию, где весьма отличился.
Он соединил учения Гераклита, Пифагора и Сократа: о
чувственно воспринимаемом он рассуждал по Гераклиту, об
умопостигаемом — по Пифагору, а об общественном — по
Сократу. Диону в Сицилии он поручил купить у Филолая три
пифагорейские книги за сто мин (так говорит Сатир и
некоторые другие) — достатком для этого он располагал, потому что
от Дионисия он получил более 80 талантов (о чем пишет и
Онетор в книге под заглавием «Наживаться ли мудрецу?»).
Многим он воспользовался и у Эпихарма, сочинителя
комедий, переписав у него немалые части,— так утверждает Алким
в четырех книгах «К Аминту». В книге он пишет: «Очевидным
представляется, что Платон многое говорит, следуя Эпихарму.
Рассмотрим это. Платон утверждает, что чувственно
воспринимаемое никогда не пребывает в своем качестве и количестве,
но постоянно течет и меняется — словно отнимаешь число от
того, что не имеет ни равенства, ни определенности, ни
количества, ни качества. Таково все, в чем становление вечно, а
сущности нет. И только умопостигаемое не знает ни убыли, ни
прибыли: природе вечного приходится быть всегда подобной и
тождественной самой себе. Так вот, Эпихарм о чувственно
воспринимаемом и об умопостигаемом ясно сказал так:
— Но ведь боги были вечно, ни на миг не отсутствуя.
Все всегда таково, как ныне, одним и тем же держится!
— Что же, молвят, будто Хаос первым возник из всех богов?
— Вздор! ведь и не из чего было возникнуть первовозникшему!
— Значит, первого не было вовсе?
— И второго не было!
Все, о чем мы здесь толкуем, спокон веку таково!..
... — Ну а если к четному числу или нечетному
Мы прибавим или отнимем единичку-камушек,—
Разве число останется тем же?
— Ясно, что изменится.
— Ну а если к мерке в локоть мы прибавим хоть чуть-чуть
Или хоть чуть-чуть отнимем из того, что было в ней,—
- 13 -
Разве она останется прежней?
— Нет, никоим образом.
— Меж людьми мы видит то же: толстеет один, худеет другой.
Так все время, так все время люди изменяются.
А то, что меняется по природе, не застывая ни на миг,
Непременно будет отличным от неизменного.
Вчера мы — одни, сегодня — другие, завтра будем третьими.
Но никогда не одни и те же — уж таков порядок вещей.
Далее Алким пишет так: «Мудрецы говорят, что душа одни
вещи воспринимает посредством тела — например, зрением
или слухом, а другие улавливает сама по себе, без посредства
тела: поэтому одни существующие предметы чувственно
воспринимаемы, а другие — умопостигаемы. Оттого и Платон
говорит: кто хочет познать начала всего, тому следует: во-первых,
различить идеи сами по себе — например, подобие, единство,
множество, величину, состояние, движение; во-вторых,
положить в основу идеи, существующие сами по себе,— красоту,
благо, справедливость и тому подобное; в-третьих, познать те
из идей, которые существуют по соотношению друг с другом,—
например, знание, величину или власть. (При этом надобно
помнить: вещи, которые при нас, причастны иным и соименны
с иными — так, справедливым зовется то, что причастно
справедливости; прекрасным то, что причастно красоте.) Все идеи
вечны, умственны и чужды страдания. Потому и говорит
Платон, что идеи в природе занимают место образцов, а все
остальное сходствует с ними, будучи их подобием. Так вот, о благе и
об идеях Эпихарм говорит так:
— Скажи, игра на флейте — это дело?
-Да.
— Игра на флейте — это человек?
— О, нет.
— Ну а флейтист — он кто такой, по-твоему?
Он человек?
— Нуда.
— Тогда попробуй-ка
И о добре судить таким же образом.
Добро само есть дело: кто учен добру,
Сам делается добрым в силу этого —
Как и флейтист есть тот, кто флейте выучен,
Плясун — кто пляске, венцеплет — венки плести,
Какое ремесло бы ни усвоил ты —
Не ремесло ты все же, а ремесленник.
Платон в своем учении об идеях говорит так: идеи
присутствуют во всем, что есть,— ведь существует память, память
- 14 -
бывает лишь о вещах покоящихся и пребывающих, а
пребывают лишь идеи, и ничто другое. Как бы иначе выжили живые
существа, говорит он, если бы они не были приспособлены к
идеям и если бы именно для этого природа не наделила их
умом? Однако животные помнят о сходстве, помнят, на что
похожа пища, какая для них существует, и тем самым
показывают, что наблюдение сходства в рождено всем животным.
Точно так же они воспринимают и животных своей породы. А как
об этом пишет Эпихарм?
Любезный! Нет на всех единой мудрости.
Но есть во всем живом свое понятие.
Взгляни, прошу, попристальней на курицу —
Она цыплят живыми не родит на свет.
Но греет их, пока не оживут они.
Одной природе эта мудрость ведома:
Она сама же у себя же учится.
И еще:
Такой наш разговор не удивителен —
Всегда себе мы сами очень нравимся
И кажемся красавцами — не так же ли
Осел ослу, свинья свинье и бык быку
И пес другому псу прекрасным кажется?
Все это и иное подобное твердит Алким на протяжении
четырех книг, указывая, сколько полезного почерпнул из Эпи-
харма Платон. Да и сам Эпихарм сознавал свою мудрость —
это понятно из следующих строк, где он предвещает себе
соревнователя:
Так я думаю, и это ясно мне доподлинно.
Что слова мои кому-то в будущем припомнятся:
Он возьмет, освободит их от размера строгого,
Облечет их в багряницу, пестрой речью шитую,
И пред ним, непобедимым, лягут победимые.
Как кажется, Платон первым привез в Афины также и
книги мимографа Софрона и подражал ему в изображении
характеров; книги эти были найдены у него в изголовье.
В Сицилию он плавал трижды. В первый раз — затем, чтобы
посмотреть на остров и на вулканы; тиранн Дионисий, сын
Гермократа, заставил его жить при себе, но Платон его
оскорбил своими рассуждениями о тираннической власти, сказав,
что не все то к лучшему, что на пользу лишь тиранну, если
- 15 -
тиранн не отличается добродетелью. «Ты болтаешь, как
старик»,— в гневе сказал ему Дионисий; «А ты как тиранн»,—
ответил Платон. Разгневанный тиранн хотел поначалу его
казнить, но Дион и Аристомен отговорили его, и он выдал Платона
спартанцу Полл ид у, как раз в это время прибывшему с
посольством, чтобы тот продал философа в рабство.
Поллид увез его на Эгину и вывел на продажу. Хармандр,
сын Хармандрида, тотчас обвинил его в смертном
преступлении против эгинского закона, по которому первый афинянин,
ступивший на их остров, подлежит казни без суда. (Закон этот
был внесен самим Хармандром, как сообщает Фаворин в
«Разнообразном повествовании».) Но когда кто-то сказал, хоть и в
шутку, что этот ступивший — философ, суд его оправдал. А
другие передают, что его доставили под стражей в народное
собрание, но он не произнес ни слова, готовый принять все, что
его ждет; и тогда было постановлено не казнить его, а продать
в рабство как военнопленного. Выкупил его за двадцать мин
(по иным сведениям, за тридцать) случайно оказавшийся там
Анникерид Киренский и препроводил в Афины к его друзьям.
Те немедленно выслали Анникериду деньги, но он их отверг,
заявив, что не одни друзья вправе заботиться о Платоне.
Впрочем, некоторые говорят, будто деньги выслал Дион; но
Анникерид не взял их себе, а купил на них Платону садик в
Академии. А о Поллиде говорят, будто он потерпел поражение от
Хабрия и потом утонул при Гелике — так божество отомстило
за философа (оо этом пишет и Фаворин в I книге «Записок»).
Дионисий на этом не успокоился: узнав, что случилось, он
послал к Платону с просьбой не говорить о нем дурного; но
Платон ответил, что ему недосуг даже помнить о Дионисии.
Во второй раз он ездил к Дионисию Младшему просить о
земле и людях, чтобы жить по законам его Государства.
Дионисий обещал, но не дал. Некоторые пишут, что он при этом
попал было в беду, оттого что побуждал Диона и Феодота к
освобождению острова; но пифагореец Архит в письме к
Дионисию добился для него прощения и свободного возвращения в
Афины. Вот это письмо:
«Архит Дионисию желает доброго здоровья. Все мы, любя
Платона, посылаем к тебе Ламиска и Фотида с товарищами,
чтобы увезти его от тебя по нашему прежнему соглашению. Мы
советуем тебе припомнить, с какою настойчивостью ты всех
нас убеждал устроить его приезд и позаботиться о его
безопасности здесь и на обратном пути, равно как и о многом ином.
Припомни также, что прибытие его ты почитал за честь, что
любил ты его потом, как никого другого. И поэтому, если что
у вас не заладилось, останься человеком и верни его нам
невредимого. Этим ты сделаешь справедливое дело и обяжешь нас
благодарностью».
- 16 -
В третий раз он ездил с тем, чтобы примирить Диона с
Дионисием; но это ему не удалось, и он воротился восвояси ни
с чем. И более он государственными делами не занимался, хоть
из сочинений его и видно, что он был государственный человек.
Дело в том, что народ уже свыкся с совсем иными
государственными установлениями. Когда аркадяне и фиванцы
основывали Mегалополь, они пригласили его в законодатели; но,
поняв, что блюсти равенство они не согласны, он отказался. (Об
этом пишет Памфила в XXV книге «Записок».) Говорят также,
что он один заступился за военачальника Хабрия, когда тому
грозила смерть, а никто другой из граждан на это не решился;
и когда он вместе с Хабрием шел на акрополь, ябедник Кробил
встретил его и спросил: «Ты заступаешься за другого и не
знаешь, что тебя самого ждет Сократова цикута?» — а он
ответил: «Я встречался с опасностями, сражаясь за отечество,
не отступлю и теперь, отстаивая долг дружбы».
Он первый ввел в рассуждение вопросы и ответы (как пишет
Фаворин в «Разнообразном повествовании»). Он первый
подсказал Леодаманту Фасосскому аналитический способ
исследования. Он первый употребил в философии такие понятия,
как «противостояние», «основа», «диалектика», «качество»,
«продолговатое число», «открытая плоскость граней»,
«божественное провидение». Он первый из философов дал ответ на речь
Лисия, сына Кефала, которую изложил слово за слово в своем
«Федре». Он первый стал рассматривать возможности
грамматики. И он первый выступил с опровержением почти всех
философов, ему предшествовавших; непонятно лишь, почему он
ни разу не упоминает о Демокрите.
Когда он шел в Олимпию (рассказывает Неанф Киэикский),
все эллины смотрели только на него; это было, когда он
встретился с Дионом, замышлявшим поход на Дионисия. И даже
перс Митридат (как сообщается в I книге «Записок» Фаворина)
воздвиг в Академии статую Платона с надписью: «Митридат
персидский, сын Родобата, посвящает Музам этот образ
Платона, работу Силаниона».
Гераклид говорит, что в юности он был так стыдлив и вел
себя так сдержанно, что никто не видел, чтобы он смеялся в
голос. Но и его тем не менее не оставили своими насмешками
сочинители комедий. Так, Феопомп пишет в «Гедихаре»:
— И ни одно не есть одно,
Ни два не есть одно — как говорит Платон.
Анаксандрид в «Тесее»:
— Оливы ел по образу Платонову.
— 17 -
Тимон пересмеивал его имя:
Так и Платон распластал пестро заплетенные чуда.
Алексид пишет в «Меропиде»:
— Ты вовремя пришел. Уже я выдохся:
Хожу я взад-вперед, Платону следуя.
Все ноги стер, но ничего не выдумал.
И в «Анкилионе»:
— Пустое! За Платоном вслед побегай-ка —
Познаешь суть и в чесноке и в щелоке.
Амфий — в «Амфикрате»:
— Какого там добра ты удостоился,—
О том, хозяин, знаю я не более,
Чем о добре Платоновой.
— Так выслушай!
И в «Дексидемиде»:
— Ах, Платон, Платон,
Ведь только ты и знаешь, что угрюмиться
И брови гнуть, улитке наподобие.
Кратин в «Лжеподкидыше»:
— Ты — человек, а значит, есть душа в тебе.
— Платон свидетель, я того не ведаю,
А лишь предполагаю.
Алексид в «Олимпиодоре»:
— Плоть смертная иссохшим прахом сделалась,
И в воздух возлетела часть бессмертная.
— Твердишь урок Платона?..
И в «Парасите»:
— Наедине с Платоном празднословить ли...
Насмехается над ним и Анаксилай в «Виноградаре», в
«Цирцее» и в «Богачках».
Аристипп в IV книге «О роскоши древних» уверяет, что он
— 18 —
был влюблен в некоего мальчика Астера, который обучался
астрономии, а также в вышеназванного Диона, а также, по
утверждению некоторых, и в Федра. Любовь эта явствует из
нижеследующих эпиграмм, которые он будто бы написал о
них:
Смотришь на звезды. Звезда ты моя! О, если бы стал я
Небом, чтоб мог на тебя множеством глаз я смотреть!
И еще:
Прежде звездою рассветной светил ты, Астер мой, живущим;
Мертвым ты, мертвый, теперь светишь закатной звездой.
А о Дионе так:
Древней Гекубе, а с нею и всем о ту пору рожденным
Женам троянским в удел слезы послала судьба.
Ты же, Дион, победно свершивший великое дело,
Много утех получил в жизни от щедрых богов.
В тучной отчизне своей, осененный почетом сограждан,
Ты почиваешь, Дион, сердцем владея моим.
Говорят, эти стихи и в самом деле начертаны на его
гробнице в Сиракузах.
А о любви своей к Алексиду и (как было сказано) к Федру
он сложил такие стихи:
Стоило только лишь мне назвать Алексида красавцем,
Как уж прохода ему нет от бесчисленных глаз.
Да, неразумно собакам показывать кость! Пожалею
Позже: не так ли я встарь Федра навек потерял?
Говорят, он имел любовницей Археанассу, о которой
написал так:
Археанасса со мной, колофонского рода гетера,—
Даже морщины ее жаркой любовью горят.
Ах, злополучные те, что на первой стезе повстречали
Юность подруги моей! Что это был за пожар!
А вот стихи его к Агафону:
Душу свою на устах я имел, Агафона целуя,
Словно стремилась она переселиться в него.
- 19 -
Вот и другие:
Я тебе яблоко бросил. Подняв его, если готова
Ты полюбить меня, в дар девственность мне принеси.
Если же нет, то все же возьми себе яблоко это,
Только подумай над ним, как наша юность кратка.
И еще другое:
Яблоко я, а бросил меня полюбивший Ксантиппу.
Что же, Ксантиппа, кивни! Вянешь и ты ведь, как я.
Говорят, ему принадлежит и надпись пленным эретрийцам:
Мы, эретрийцы, евбейское племя, лежим на чужбине,
Около Суз, от родной так далеко стороны!
И такие стихи:
Музам Киприда грозила: «О девушки! Чтите Киприду,
Или Эрота на вас, вооружив, я пошлю!»
Музы Киприде в ответ: «Аресу рассказывай сказки!
К нам этот твой мальчуган не прилетит никогда».
И такие:
Золото некто нашел, обронивши при этом веревку.
Тот, кто его потерял, смог себе петлю связать.
Молон недолюбливал Платона и говорил: «Удивительно не
то, что Дионисий оказался в Коринфе, а то, что Платон
оказался в Сицилии». Ксенофонт, по-видимому, тоже не был
расположен к нему: во всяком случае они словно соперничали,
сочиняя такие схожие произведения, как «Пир», «Апология
Сократа» и «Нравственные записки»; один сочинил
«Государство», другой — «Воспитание Кира», а Платон на это заявил в
«Законах», что такое «Воспитание Кира» — выдумка, ибо Кир
был совсем не таков; и оба, вспоминая о Сократе, нигде не
упоминают друг о друге — только один раз Ксенофонт
называет Платона в III книге «Воспоминаний».
Также и Антисфен, говорят, собираясь однажды читать вслух
написанное им, пригласил Платона послушать: тот спросил, о
чем чтение, и Антисфен ответил: «О невозможности
противоречия». «Как же ты сумел об этом написать?» — спросил
Платон, давая понять, что Антисфен-то и противоречит сам себе;
после этого Антисфен написал против Платона диалог под
- 20 -
заглавием «Сафон», и с этих пор они держались друг с другом
как чужие.
Сам Сократ, говорят, прослушав, как Платон читал «Ли-
сия», воскликнул: «Клянусь Гераклом! сколько же навыдумал
на меня этот юнец!» — ибо Платон написал много такого, чего
Сократ вовсе не говорил.
Враждовал Платон и с Аристиппом. Так, в диалоге «О душе»
он порочит Аристиппа тем, что тот не был при кончине
Сократа, хотя Аристипп был не так уж далеко — на Эгине.
Ревновал он и к Эсхину за его добрую славу при Дионисии;
и когда Эсхин приехал, то Платон к его бедности отнесся
свысока, а Аристипп помог. Он вложил в уста Критону те доводы,
которыми Сократа в тюрьме уговаривал бежать,— а
принадлежат они (говорит Идоменей) Эсхину, и лишь по своей
неприязни к нему Платон приписал их Критону.
А о себе Платон не упоминает нигде в своих сочинениях,
кроме как в «Апологии» и в диалоге «О душе».
Аристотель говорит, что образ речи Платона — средний
между поэзией и прозой. Аристотель один дослушал Платона
до конца, когда тот читал диалог «О душе», а остальные
слушатели все уже разошлись (об этом пишет в одном месте Фа-
ворин). Филипп Опунтский, по некоторым известиям, переписал
с восковых дощечек его «Законы», и он же, говорят, сочинил к
ним «Послезаконие». Начало «Государства» было найдено
записанным на много ладов (сообщают Евфорион и Панэтий).
Это «Государство», по уверению Аристоксена, почти все
входит в состав «Противоречий» Протагора. Первым Платоновым
диалогом, говорят, был «Федр»: в самом деле, в его постановке
вопроса есть что-то мальчишеское. Впрочем, Дикеарх и весь
слог его сочинений читает грубым.
Говорят, Платон увидел одного человека за игрой в кости и
стал его корить. «Это же мелочь»,— ответил тот. «Но привычка
не мелочь»,— возразил Платон.
На вопрос, будут ли писать о нем в записках, как о его
предшественниках, он отвечал: «Было бы доброе имя, а
записок найдется довольно».
Однажды, когда к нему зашел Ксенократ, Платон попросил
его выпороть раба: сам он не мог это сделать, потому что был в
гневе. А какому-то из рабов он и сам сказал: «Не будь я в гневе,
право, я бы тебя выпорол!»
Сев на коня, он тотчас поспешил сойти, чтобы не поддаться
(так сказал он) всаднической гордыне. Пьяным он советовал
смотреться в зеркало, чтобы отвратиться от своего безобразия.
Допьяна, говорил он, нигде не следует пить, кроме как на
празднествах бога — подателя вина. Сон без меры тоже ему
претил. Недаром он пишет в «Законах»: «Ни на что не годен
спящий».
- 21 —
«Слаще всего,— говорил он,— слышать истину». (А другие
передают: «говорить истину».) Об истине пишет он и в
«Законах»: «О чужеземец, истина прекрасна и незыблема, однако
думается, что внушить ее нелегко».
Желанием его было оставить по себе память в друзьях или
в книгах. Сам же он по большей части сторонился людей, как
о том сообщают некоторые.
Скончался он, как мы уже описывали, на тринадцатом году
царствования Филиппа (как пишет Фаворин в III книге
«Записок») и был удостоен от царя почетом (как пишет Феопомп).
Впрочем, Мирониан в «Сравнениях» говорит, что у Филона
упоминаются пословицы о Платоновых вшах, словно он умер
от вшей. Погребен он в Академии, где провел большую часть
жизни в занятиях философией, отчего и школа его получила
название академической. При погребении его сопровождали
все ученики, а завещание он составил такое:
«Платон оставляет и завещает следующее имущество.
Имение в Ифистиадах, к северу до дороги в Кефисийский храм, к
югу до храма Геракла в Ифистиадах, к востоку до земли Архе-
страта Фреаррийского, к западу до земли Филиппа Холлидско-
го; это имение никому не продавать и не отчуждать, а владеть
им отроку Адиманту по мере его сил. Имение в Иресидах, что
куплено у Каллимаха, к северу до земли Евримедонта Мирри-
нунтского, и к югу до Демострата Ксипетейского, к востоку до
Евримедонта Мирринунтского, к западу до реки Кефиса. Денег
— три мины. Чашу серебряную весом 165 драхм, чашу малую
в 45 драхм, перстень золотой и серьгу золотую весом вместе 4
драхмы 3 обола. Три мины мне должен Евклид-каменотес. На
волю отпускаю рабыню Артемиду. Рабов оставляю Тихона,
Бикта, Аполлониада и Дионисия. Утварь оставляю
перечисленную, а второй ее список — у Дионисия. Долга никому не
имею. Душеприказчики мои — Леосфен, Спевсипп, Демет-
рий, Гегий, Евримедонт, Каллимах, Фрасипп».
Таково его завещание. А на гробнице его начертаны такие
надписи. Первая:
Знанием меры и праведным нравом отличный меж смертных,
Оный божественный муж здесь погребен Аристокл. '
Если кому из людей достижима великая мудрость,
Этому — более всех: зависть — ничто перед ним.
Вторая:
В лоне глубоком земля сокрыла останки Платона,
Дух же бессмертный его в сонме блаженных живет.
Сын Аристона, ты знал прозренье божественной жизни,
И меж достойнейших чтим в ближней и дальней земле.
- 22 -
И третья, позднейшая:
— Кто ты, орел, восседящий на этой гробнице, и что ты
Пламенный взор устремил к звездным чертогам богов.
— Образ Платоновой я души, воспарившей к Олимпу,
Тело земное свое бросив в афинской земле.
Есть и у нас о нем стихи такого содержания:
Если бы Феб не судил Платону родиться в Элладе,
Кто и когда бы изрек слово к целению душ?
Нам исцеляет тела Асклепий, от Феба рожденный,
Но для бессмертной души ты лишь целитель, Платон.
И другие о его кончине:
Фебом на благо людей рождены и Платон и Асклепий:
Тот — целителем душ, этот — целителем тел.
Брачный покинувши пир, взошел он к тому Государству,
Коему сам начертал место у Зевсовых ног.
Таковы эти надписи.
Ученики его — Спевсипп Афинский, Ксенократ Халкедон-
ский, Аристотель Стагирит, Филипп Опунтский, Гестией Пе-
ринфский, Дион Сира кузек ий, Амикл Геракл ейский, Эраст и
Кориск Скепсийские, тимолай Кизикский, Евеон Лампсак-
ский, Пифон и Гераклид Эносские, Гиппофал и Каллипп
Афинские, Деметрий Амфипольский, Гераклид Понтийский и
многие другие, в том числе и женщины — Ласфения из Манти-
неи и Аксиофея из Флиунта, которая даже одевалась по-мужски
(как говорит Дикеарх). Некоторые причисляют к его
слушателям и Феофраста; Хамелеон — оратора Гиперида и Ликурга (то
же сообщает и Полемон); а Сабин (ссылаясь на IV книгу
«Пособий к упражнениям» Мнесистрата Фасосского) — даже
Демосфена, и это похоже на правду.
А теперь для тебя, истинной любительницы Платона,
ищущей во что бы то ни стало воздать честь учениям этого
философа, почел я за должное описать и самую природу его
рассуждений, строй его диалогов, способ его индукции, насколько это
возможно при изложении, упрощенном почти до перечня. Я не
хочу в этом очерке оставить жизнь Платона без его учения; но
рассказывать для тебя все в подробностях означало бы, по
пословице, таскать сов в Афины.
Первым сочинять диалоги стал, говорят, Зенон Элейский; а
— 23 —
по Аристотелю — Алексамен Стирийский или Теосский (по
свидетельству в «Записках» Фаворина, об этом говорится в I
книге «О поэтах»). Мне же кажется, что Платон, который
довел этот род до совершенства, по праву может почитаться
здесь первым как в красоте, так и в изобретательности.
Диалог есть речь, состоящая из вопросов и ответов, о
предмете философском или государственном, соблюдающая
верность выведенных характеров и отделку речи. Диалектика же
есть искусство доводов, служащее утверждению или
опровержению в вопросах и ответах собеседников.
Платоновский диалог имеет два самых общих вида:
наставительный ( ύφηγητικός ) и исследовательный ( ζητητικός ).
Наставительный в свою очередь разделяется на два вида:
теоретический и практический; теоретический разделяется на
физический и логический, а практический — на этический и
политический. Исследовательный же в свою очередь
разделяется на два вида: упражнительный и состязательный; упраж-
нительный разделяется на повивальный и испытательный, а
состязательный — на доказующий и опровергающий. (Мне
известно, что иные разделяют диалоги по-иному: они
называют одни диалоги драматическими, другие
повествовательными, третьи смешанными; но эти наименования различают
диалоги более с точки зрения сценической, чем с философской.)
К физическому роду диалогов принадлежит «Тимей»; к
логическому роду — «Политик», «Кратил», «Парменид»,
«Софист»; к этическому — «Апология», «Критон», «Федон»,
«Федр», «Пир», равно как «Менексен», «Клитофонт», письма,
«Филеб», «Гиппарх», «Соперники»; к политическому —
«Государство», «Законы», «Миноо, «Послезаконие», «Атлантида»;
к повивальному — оба «Алкивиада», «Феаг», «Лисий», «Лахет»;
к испытательному — «Евтифрон», «Менон», «Ион», «Хармид»,
«Феэтет»; к доказующему — «Протагор» и к опровергающему
— «Евфидем», «Горгий» и оба «Гиппия». Вот что нужно сказать
о диалоге, о его сущности и его разделениях.
Далее существует немалый спор: одни утверждают, что
Платон — философ догматический, а другие — что нет.
Рассмотрим теперь и это.
Догматик есть тот, кто полагает догмы, как законодатель
есть тот, кто издает законы. Догма же есть название двоякое:
и то, что мнимо, и само о том мнение. То, что мнимо, есть
данное, само же мнение есть предположение.
Так вот, Платон о вещах, им постигнутых, раскрывает свое
мнение и оспаривает ложные, а о вещах, ему неясных,
воздерживается от суждения. Раскрывает свои мнения он через
четырех лиц: Сократа, Тимея, афинского гостя и элейского гостя.
(Гости эти отнюдь не Платон и Парменид, как полагают
некоторые, но лица безымянные и вымышленные.) Говоря даже от
— 24 —
лица Сократа и Тимея, Платон излагает свои собственные
догмы. А оспаривает ложные мнения он, вводя таких лиц, как,
например, Фрасимах, Калликл, Пол, а также Горгий и Π рота-
гор, а также Гиппий и Евфидем и прочие подобные.
Строя доказательства, он по большей части пользуется
способом индукции. Способ этот не единый, а двоякий. Индукция
есть рассуждение, выводящее должным образом из некоторых
истин новую подобную истину. Индукция имеет два вида:
один — по противоположности ( κατ' έναντίωσιν ), другой —
по следствию ( έκ της ακολουθίας ).
Индукция по противоположности — это способ, при
котором всякий ответ на вопрос будет противоположным.
Например: «Мой отец — это то же, что твой отец, или не то же? Если
твой отец — не то же, что мой отец, стало быть, твой отец —
не то же, что отец; стало быть, он — не отец. Если же твой отец
— то же, что мой отец, стало быть, твой отец есть мой отец».
Или так: «Если человек — не живое существо, то он или дерево
или камень. Но он не дерево и не камень, ибо одушевлен и
способен к самостоятельному движению; стало быть он —
живое существо. Но если он — живое существо, а собака и бык —
тоже живые существа, то и человек, будучи живым существом,
есть и собака и бык». Этот способ индукции и по
противоположности и по борьбе употреблялся Платоном не для изложения
догм, а для оспаривания.
Индукция по следствию имеет два вида: один разрешает
частные вопросы, идя от частного, другой — идя от общего
через частное. Первый вид — риторический,
второй—диалектический. По первому виду, например, решается вопрос,
совершил человек убийство или нет; доказательство — в это
самое время он был застигнут весь в крови. Риторическим этот
способ индукции называется потому, что риторика имеет дело
именно с частным, а не с общим: например, исследует не
справедливость как таковую, а частные случаи справедливого. По
второму виду, диалектическому, предварительно через
частное доказывается общее: например, исследуется, бессмертна
ли душа и возвращаются ли мертвые к жизни; доказывается
это (в диалоге «О душе») общим положением, что из
противоположного рождается противоположное, а общее положение
подкрепляется частным — о том, что сон возникает из
бодрствования и наоборот, и что большее из меньшего и наоборот.
Таков способ, которым он пользовался для подкреплений
своих мнений.
Как в древней трагедии поначалу вел действие один только
хор, потом Феспис ввел одного актера, чтобы дать отдых взору,
потом Эсхил — второго, Софокл — третьего, и тогда трагедия
достигла своей полноты,— так и философия поначалу знала
только один род рассуждения — физический; Сократ ввел вто-
- 25 -
рой — этический, а Платон третий — диалектический и тем
завершил философию.
Фрасил пишет, что даже диалоги сам Платон издавал
тетралогиями по примеру трагических поэтов, которые
состязались четырьмя драмами на празднествах Дионисийских, Ле-
нейских, Всеафинских и Хитрийских, четвертая из драм была
сатировская, а все четыре назывались тетралогией.
Подлинных диалогов Платона, по его словам, имеется 56, если
считать, что «Государство» делится на десять, а «Законы» — на
двенадцать. (Впрочем, о «Государстве» Фаворин во II книге
«Разнообразного повествования» говорит, будто оно почти
целиком содержится в «Противоречиях» Протагора.) А
тетралогий у Платона девять, если считать «Государство» за одно
сочинение и «Законы» тоже за одно. Первая тетралогия у него
объединена содержанием: Платон хочет показать, какова
должна быть жизнь философа. Каждому сочинению Фрасил дает
двойное заглавие — одно по имени, другое — по теме. Эту
первую тетралогию начинает «Евтифрон, или О благочестии»,
диалог испытательный; вторым следует «Апология Сократа»,
этический; третий — «Критон, или О должном», этический;
четвертый — «Федон, или О душе», этический. Вторая
тетралогия: открывает ее «Кратил, или О правильности имен»,
логический; «Феэтет, или О знании», испытательный; «Софист,
или О сущем», логический; «Политик, или О царской власти»,
логический. Третью тетралогию открывает «Парменид, или Об
идеях», логический; «Филеб, или О наслаждении», этический;
«Пир, или О благе», этический; «Федр, или О любви»,
этический. Четвертую тетралогию открывает «Алкивиад, или О
природе человека», повивальный; «Алкивиад Второй, или О
молитве», повивальный; «Гиппарх, или Сребролюбец»,
этический; «Соперники, или О философии», этический. Пятую
открывает «Феаг, или О Философии», повивальный; «Хармид,
или Об умеренности», испытательный; «Лахет, или О
мужестве», повивальный; «Лисий, или О дружбе», повивальный.
Шестую открывает «Евфидем, или Спорщик», опровергающий;
«Протагор, или Софисты», доказующий; «Горгий, или О
риторике», опровергающий; «Менон, или О добродетели»,
испытательный. Седьмую открывают два «Гиппия» — первый «О
прекрасном», второй «О должном», опровергающие; «Ион, или об
Илиаде», испытательный; «Менексен, или Надгробное слово»,
этический. Восьмую открывает «Клитофонт, или Вступление»,
этический; «Государство, или О справедливости»,
политический; «Тимей, или О природе», физический; «Критий, или
Атлантида», этический. Девятую открывает «Минос, или О
законе», политический; «Законы, или О законодательстве»,
политический; «Послезаконие, или Ночной совет, или
Философ», политический; и тринадцать «Писем», этические. (На-
— 26 -
чинает он их словами «Желаю благополучия», как Эпикур
свои — «Желаю хорошей жизни», а Клеон — «Желаю
радости».) Из них одно к Аристодему, два к Архиту, четыре к
Дионисию, одно к Гермию, Эрасту и Корсику, одно к Леода-
манту, одно к Диону, одно к Пердикке, два к друзьям Диона.
Вот какое разделение принимают Дион и некоторые другие.
Иные, в том числе грамматик Аристофан, раскладывают
диалоги в трилогии. Первая, по их мнению, включает
«Государство», «Тимей» и «Критий»; во второй «Софист»,
«Политик» и «Кратил»; в третьей «Законы», «Минос» и «Послезако-
ние»; в четвертой «Феэтет», «Евтифрон» и «Апология»; в пятой
«Критон», «Федон» и письма; остальные беспорядочно
располагаются поодиночке. Некоторые начинают счет, как сказано,
с «Государства»; некоторые — с «Алкивиада-большего»;
некоторые — с «Феага»; иные — с «Евтифрона»; иные — с «Клито-
фонта»; некоторые — с «Тимея»; некоторые — с «Федра»;
некоторые — с «Феэтета»; многие, наконец, принимают за
начало «Апологию».
Подложными среди диалогов считаются «Мидон, или
Конюший», «Эриксий, или Эрасистрат», «Алкион», «Безголовые,
или Сизиф», «Аксиох», «Феак», «Демодок», «Хелидон», «Седь-
мица», «Эпименид». «Алкион», по-видимому, принадлежит
некоему Леонту (так говорит Фаворин в V книге «Записок»).
Словами Платон пользовался очень разными, желая, чтобы
его учение не было легкоуяснимым для людей несведущих.
Особенно своеобразно понимает он «мудрость» — как знание
вещей умопостигаемых и существенно существующих,
знание, свойственное (по его словам) богу и душе, отделенной от
тела. Своеобразно называет он мудростью также и
философию, ибо она вселяет стремление к божественной мудрости.
Общепринятым же образом называет он мудростью всякий
опыт, говоря, например, «мудрый ремесленник». Далее, он
пользуется одними и теми же словами в разных значениях —
например, говорит «простой» вместо «бесхитростный» (так,
говорят, и у Еврипида в «Ликимнии» сказано о Геракле:
Он прост, неизощрен, добр на большое,
Мудр на дела, неловок на слова),
но иногда Платон говорит «простой» вместо «дурной», а иногда
вместо «мелкий». Часто и наоборот, он пользуется разными
словами или обозначениями одного и того же — например,
«идею» (ιδέα) он называет и «образ» ( είδος ), и «род» ( γένος ),
и «образец» ( παράδειγμα ), и «начало» ( αρχή ), и «причина»
( αίτιον ). Пользуется он даже противоположными
выражениями для одного и того же — например, чувственно
воспринимаемое он называет и сущим и не-сущим: сущим — по своему
— 27 —
порождению, не-сущим — по непрерывному изменению; идею
он называет не движущейся и не пребывающей, а также единой
и многой. Это его обычай во многих случаях.
Истолкование его диалогов разделяется на три части: во-
первых, надобно выяснить, в чем состоит каждое из его
высказываний; затем — для чего оно высказано: для развития мысли
или для образности, чтобы подкрепить догму или чтобы
оспорить собеседника, и, в-третьих, соответствует ли оно истине.
Так как при сочинениях Платона имеются некоторые
знаки, сообщим о них. Крест ставится при словах, оборотах и
вообще при Платоновой обычае. Расщеп — при догмах и
суждениях Платона. Крест с точками — при избранных местах и
красотах слога. Расщеп с точками — при исправлениях
некоторых издателей. Черта с точками — при местах,
безосновательно отвергаемых. Дуга с точками — при повторениях и
перестановке слов. Зигзаг—при последовательном изложении
философии. Звездочка — при согласии догм. Черта — при
местах отвергаемых. Таковы эти знаки, и столько есть
Платоновых книг. Когда они только что были изданы (говорит
Антигон Каристский в книге «О Зеноне»), то обладатели их давали
желающим на прочтение лишь за деньги.
Суждения у него были таковы.
Душу ( ψυχή ) он полагал бессмертною, облекающеюся во
многие тела попеременно; начало души — числовое, а тела —
геометрическое; а определял он душу как идею повсюду
разлитого дыхания. Душа самодвижется и состоит из трех частей:
разумная часть ее ( λογιστικόν ) имеет седалище в голове,
страстная часть ( θυμοειδής ) — в сердце, а вожделительная
часть — ( έπιθυμητικόν > — при пупе и печени.
Из середины со всех сторон душа окружает тело по кругу.
Состоит она из первооснов и гармоническими расстояниями
разделена на два соприкасающихся круга, из которых
внутренний круг в свою очередь разделен шестью разрезами на семь
кругов. Этот круг движется по поперечному влево и изнутри,
а другой — по стороне вправо. Власть принадлежит внешнему
кругу, ибо другой разделен изнутри. Внешний круг есть круг
Тождественного, внутренний — круг Иного. Этим Платон
говорит, что движение души есть движение целого, и обращение
планет.
Будучи разделена и слажена таким образом от середины и
до краев, душа познает сущее и входит в его лад, ибо во
внутреннем ладу находятся и ее собственные основы. Когда
правильно движется круг Иного, тогда возникает мнение, когда
круг Тождественного — тогда знание.
Он заявлял, что есть два начала всего—бог и вещество (бога
- 28 -
он называет также умом и причиной). Вещество бесфигурно и
беспредельно; из него рождается сложное. Некогда оно было в
нестройном движении, но бог (говорит Платон), полагая, что
строй лучше нестроения, свел вещество в единое место, и эта
сущность обратилась в четыре первоосновы — огонь, воду,
воздух, землю,— а из них возник мир и все, что в мире. При
этом, по его словам, земля одна из всех не подвержена
изменениям, а причина тому — отличие фигур, из которых она
состоит. В других первоосновах, говорит он, фигуры однородны —
все они единообразно состоят из продолговатых
треугольников,— у земли же фигура особенная. А именно: первооснова
огня — пирамида, воздуха — восьмигранник, воды —
двадцатигранник, земли же — куб. Поэтому ни земля не
превращается в иные первоосновы, ни они — в землю. Первоосновы не
рассредоточены каждая в своем месте,— нет, сжимающее и
средостремительное кругообращение сосредоточивает малое и
рассредоточивает большое. Потому-то образы и сами
изменяются, и места свои изменяют.
Порожденный мир един, поскольку он чувственно
воспринимаем, будучи устроен богом. Мир одушевлен, ибо
одушевленное выше, чем неодушевленное. Мир есть изделие,
предполагающее наилучшую причину. Он устроен единым и не
беспредельным, ибо единым был и образец, с которого он
сделан. Он шарообразен, ибо такова и фигура его породителя: тот
объемлет все прочие живые существа, а этот объемлет фигуры
их всех; он гладок и не имеет вокруг себя никаких органов,
потому что не нуждается в них. Мир пребывает безущербным,
ибо он не расточается вновь в божество.
Причина всякого становления есть бог, ибо благу
естественно быть благотворным. Причина становления небоздания [есть
он же], ибо наилучшее из умопостигаемого есть причинна
прекраснейшего из порожденного; а так как бог именно таков
и так как небоздание в своей красоте подобно именно
наилучшему, то оно не может быть подобно ничему порожденному, а
только богу.
Мир состоит из огня, воды, воздуха, земли; из огня — чтобы
быть видимым, из земли — чтобы быть твердым, из воды и
воздуха — чтобы быть связным (ибо твердые силы связуются
двумя промежуточными, чтобы из Всего возникло Единое), и,
наконец, из всех вместе — чтобы быть завершенным и
безущербным.
Время порождено как образ вечности. Но вечность
пребывает вечно, время же есть обращение неба: частицы времени
суть ночь, день, месяц и прочее, и поэтому вне природы мира
нет и времени, но вместе с миром существует и время. Для
порождения времени порождены солнце, луна и планеты.
Чтобы число времени года было явно для глаза и чтобы живые
- 29 -
существа были причастны числу, богом возжен свет солнца. На
кругу» ближайшем к земле, находится луна, на следующем —
солнце, на дальнейших — планеты.
Мир всецело одушевлен, ибо он связан с одушевленным
движением. А для того чтобы мир, порожденный наподобие
умопостигаемого живого существа, нашел свое завершение,
была порождена природа всех остальных живых существ, ибо
если она есть в том мире, то должна быть и в небоздании. Боги
преимущественно имеют огненную природу; а остальных
природ существует три: крылатая, водная и наземная. Из богов
небоздания древнее всех земля; сооружена она, чтобы создать
день и ночь, лежит посредине и обращается вокруг середины.
Далее, говорит он, следует указать: так как есть два рода
причин, то некоторые вещи существуют по уму, а некоторые
— от неизбежности. Таковы воздух, огонь, земля, вода — они
не первоосновы в точном смысле слова, а лишь носители.
Слагаются они из треугольников и разлагаются на треугольники;
слагаемыми их служат треугольники — продолговатый и
равнобедренный.
Стало быть, есть две вышеназванные причины и начала, а
образцы их — бог и вещество. При этом вещество по
необходимости бесформенно, как и остальные носители идей, которым
оно служит необходимой причиной: принимая идеи, оно
рождает сущности. Вещество движется, ибо сила в нем
неравномерна, и, движась, движет в свою очередь свои порождения.
Движутся они сперва бестолково и нестройно, но когда
начинают составлять мир, то принимаемое от бога делает их движение
размеренным и стройным. Да и две причины,
предшествовавшие сотворению небоздания, и третья причина — порождение
— сами были еще неотчетливы и выступали лишь нестройно,
как следы; только когда возник мир, обрели строй и они. А
возникло небоздание из всех существующих тел.
Бог, по его мнению, бестелесен, как и душа,— именно
поэтому он не подвержен ущербу и претерпеванию. Идеи же он
полагал за причины и начала, которыми все, что различно по
природе, бывает таково, каково оно есть.
О благе и зле говорил он так. Конечная цель заключается в
том, чтобы уподобиться богу. Добродетель довлеет себе для
счастья. Правда, она нуждается в дополнительных средствах
— и в телесных, каковы сила, здоровье, здравые чувства, и в
сторонних, каковы богатство, знатность и слава. Тем не менее
и без всего этого мудрец будет счастлив. Он будет и заниматься
государственными делами, и жить в браке, и блюсти
существующие законы, а по мере возможности даже
законодательствовать на благо отечества, если только положение дел не окажется
вконец безнадежным из-за повальной испорченности народа.
Он верит в то, что боги надзирают дела человеческие и что
— 30 -
существуют божественные демоны. Он первый дал
определение прекрасного: в него входит и похвальное, и разумное, и
полезное, и уместное, и пригожее, а объединяет их согласие с
природой и следование природе. Беседовал он и о правильности
наименований — он был первым, кто установил самую науку
и правилах вопросов и ответов, а прибегал он к ней сплошь и
рядом. Справедливость он принимал в своих диалогах за
божеский закон, чтобы страх посмертной кары за дурные поступки
подкреплял его увещания о добрых поступках. Поэтому
некоторые даже считают, что он слишком увлекался мифами, ибо
повествования такого рода он охотно вплетал в свои книги,
чтобы люди, не будучи уверены, что их ждет после смерти,
воздерживались от несправедливости.
Таковы были его суждения.
Разделение предметов, по словам Аристотеля, производил
он следующим образом.
Благо бывает душевное, телесное и стороннее. Душевное
благо—это, например, справедливость, разумение, мужество,
здравомыслие и прочее подобное. Телесное благо — красота,
хорошее сложение, здоровье, сила. Стороннее благо — друзья,
счастье отечества, богатство. Таким образом, благо бывает
трех родов — душевное, телесное и стороннее.
Приязнь бывает трех родов: природная, товарищеская и
гостеприимственная. Природная — это та, которую
испытывают родители к детям или родственники друг к другу; она
свойственна и другим животным. Товарищеская — это та, которая
возникает из близости и к родству не имеет отношения,
например между Пиладом и Орестом. Гостеприимственная — это та,
которая возникает к гостям от встречи и от напутственных
писем. Таким образом, приязнь бывает природная,
товарищеская и гостеприимственная; некоторые добавляют еще приязнь
четвертого рода — любовную.
Государственная власть бывает пяти родов: демократическая,
аристократическая, олигархическая, царская и тиранническая.
Демократическая власть — это та, при которой государством
правит большинство, по своему усмотрению назначая законы
и правителей. Аристократия — та, при которой правят не
богатые, не бедные, не знаменитые, но первенство принадлежит
лучшим людям в государстве. Олигархия (правление
немногих) — та, где власти разбираются по достатку: ведь богатых
всегда меньше, чем бедных. Царская власть бывает или по
закону, или по происхождению: по закону — в Карфагене, где
она продается с торгов; по происхождению — в Спарте или в
Македонии, где цари избираются из одного рода. Тиранния —
— 31 —
это власть единого правителя, достигнутая хитростью или
силой. Таким образом, государственная власть бывает или
демократией, или аристократией, или олигархией, или
царствованием, или тираннией.
Справедливость бывает трех родов: перед богами, перед
людьми и перед усопшими. Кто печется о храмах и приносит
жертвы по чину,— тот вне сомнений благочестив перед богами.
Кто возвращает то, что получил в долг или по доверию,— тот
справедлив перед людьми. Кто печется о гробницах — тот вне
сомнений справедлив перед усопшими. Таким образом,
справедливость бывает или перед богами, или перед людьми, или
перед усопшими.
Наука бывает трех родов: действенная, производительная и
умозрительная. Зодчество и кораблестроение — науки
производительные, ибо их произведения видимы воочию. Политика,
игра на флейте, игра на кифаре и прочее подобное — науки
действенные, ибо здесь нет видимых произведений, но есть
действие: игра на флейте, игра на кифаре, занятия
государственными делами. Наконец, геометрия, гармоника, астрономия
— науки умозрительные: здесь нет ни производства, ни
действия, но геометр занимается умозрением отношений между
линиями, гармоник — умозрением звуков, астроном —
умозрением светил и мироздания. Таким образом, среди наук одни
бывает умозрительные, другие — действенные, третьи —
производительные.
Врачевание бывает пяти родов: лекарственное,
хирургическое, диетическое, диагностическое, целебное. Лекарственное
излечивает недуги лекарствами, хирургическое оздоровляет
железом и огнем, диетическое изгоняет недуги диетой,
диагностическое — распознанием заболеваний, целебное —
мгновенным удалением болезнетворного. Таким образом, врачевание
бывает или лекарственное, или хирургическое, или
диетическое, или диагностическое, или целебное.
Закон бывает двух родов: писанный и неписанный. Тот, по
которому живут в государствах,— писанный; тот, который
возник из обычаев, называется неписанным. Например,
выходить на людное место голым или надевать женскую одежду не
запрещает никакой закон, однако мы этого не делаем, ибо нам
препятствует неписанный закон. Таким образом, закон бывает
или писанным, или неписанным.
Речь разделяется на пять родов. Первый — тот, которым
говорят, когда ведут дела в народных собраниях: он называется
политическим. Второй род речи — тот, каким пишут ораторы,
когда выносят напоказ похвалу, порицание или обвинение,—
это род риторический. Третий род — тот, каким говорят между
собой простые люди,— этот род называется просторечным.
Четвертый род речи — тот, которым ведут беседу, коротко
- 32 -
задавая вопросы и отвечая на них,— эта речь называется
диалектической. Пятый род речи — тот, которым ремесленники
ведут разговор о своем ремесле: он называется деловым. Итак,
речь бывает или политической, или риторической, или
просторечной, или диалектической, или деловой.
Музыка разделяется на три рода. Во-первых — та, которая
порождается только устами, например пение. Во-вторых — та,
которая порождается и устами и руками, например у кифаре-
да. В-третьих — та, которая порождается только руками,
например у кифариста. Таким образом, один род музыки
порождается только устами, другой — устами и руками, третий —
только руками.
Благородство разделяется на четыре рода. Во-первых, если
предки были прекрасны, добры и справедливы, то потомки их
считаются благородными. Во-вторых, если предки были
владыками и правителями, то потомки их считаются
благородными. В-третьих, если предки были знамениты победами на войне
или в состязаниях, то потомков их мы тоже называем
благородными. Наконец, если человек сам доблестен и
великодушен, его тоже называют благородным, и это лучшее из всех
благородств. Таким образом, благородство бывает или от
достойных предков, или от державных, или от знаменитых, или
от собственной красоты и доброты.
Прекрасное разделяется на три рода: одно — вызывающее
похвалы, например миловидность; другое — приносящее
пользу, например орудие, дом и прочие полезные вещи, и, наконец,
относящееся к порядкам, обычаям и прочему, что помогает
жить. Таким образом, прекрасное бывает похвальным,
полезным и благотворным.
Душа разделяется на три части: разумную, вожделитель-
ную и страстную. Из них разумная часть есть причина
намерения, суждения, понимания и прочего подобного. Вождели-
тельная часть души есть причина позывов к еде, к соитию и
прочего подобного. Страстная часть есть причина мужества,
наслаждения, боли и гнева. Таким образом, в душе одна часть
— разумная, другая — вожделительная, третья — страстная.
Совершенная добродетель имеет четыре рода: разумение,
справедливость, мужество и здравомыслие. Среди них
разумение есть причина, заставляющая правильно делать свои дела;
справедливость — причина правильного поведения в
товариществе и сделках; мужество — причина стойкости и
неотступности в тревогах и опасностях; здравомыслие — причина того,
что мы властвуем нашими желаниями, не позволяем
наслаждениям поработить нас и живем упорядочено. Таким образом,
один род добродетели есть разумение, другой —
справедливость, третий — мужество, четвертый — здравомыслие.
Власть разделяется на пять частей: по закону, по природе,
2 Заказ № 305
— 33 —
по обычаю, по происхождению, по насилию. Если правители
государства избираются гражданами, то они правят по закону.
По природе правит, например, мужской пол, и не только у
людей, но и у животных, ибо повсюду самцы весьма и весьма
правят самками. Власть по обычаю — это, например, власть
воспитателей над детьми и учителей над учениками. Власть по
происхождению — это такая власть, какою пользуются цари в
Спарте, где царское достоинство передается по
происхождению, и в Македонии, где тоже установлено царствование по
происхождению. А если правитель пришел к власти с помощью
насилия или коварства против воли граждан, то это называется
властью по насилию. Таким образом, бывает власть по закону,
по природе, по обычаю, по происхождению, по насилию.
Красноречие бывает шести родов. Когда увещают вступить
с кем-нибудь в войну или в союз — это называется убеждением.
Когда почитают за лучшее не войну и не союз, а сохранение
спокойствия — это называется разубеждением. Третий род
красноречия — это когда говорящий утверждает, что его кто-то
обидел, и доказывает, что это было причиною многих бед,—
такой род называется обвинением. Четвертый род красноречия
— это когда говорящий доказывает, что он не причинил
никакой обиды и не сделал ничего иного недолжного,— такой род
называется защитою. Пятый род красноречия — это когда
говорящий хвалит кого-либо, показывая, как он прекрасен и
благороден,— такой род называется похвалой. Шестой род —
когда обличают кого-либо, показывая, как он ничтожен,—
такой род называется порицанием. Итак, красноречие бывает
похвалой, порицанием, убеждением, разубеждением,
обвинением и защитой.
Правильность речи разделяется на четыре рода: она состоит
в том, чтобы говорить то, что нужно, сколько нужно, перед кем
нужно и когда нужно. «То, что нужно» — это значит то, что на
пользу говорящим и слушающим. «Сколько нужно» — ни
более ни менее достаточного. «Перед кем нужно» — перед
стариками следует говорить, как со стариками, перед младшими —
как с младшими. «Когда нужно» — ни слишком рано, ни
слишком поздно, иначе случится ошибка, и речь не будет правильной.
Услуги разделяются на четыре рода: или деньгами, или
лично, или знанием, или словом. Деньгами — когда человеку
в нужде помогают вновь привести в порядок его денежные
дела. Лично — когда, увидев, что человека бьют, приходят к
нему на помощь. Кто воспитывает, лечит или учит
чему-нибудь хорошему, те оказывают услугу знаниями. Когда друг
приходит на помощь другу в суде, выступая с подобающей
речью в его защиту, он оказывает услугу словом. Таким
образом, услуги могут быть или деньгами, или личные, или
знанием, или словом.
— 34 -
Конец дела бывает четырех родов. Первый конец дело
принимает, коща выставляется законопредложение и
завершается постановлением. Второй конец дело принимает по природе,
как день, год или времена года. Третий конец дело принимает
по умению — например, зодчество, когда достраивается дом,
или судостроение, когда достраивается корабль. Четвертый
конец дело принимает по случайности, когда исход его
противоположен ожиданию. Таким образом, конец дела бывает по
постановлению, по природе, по умению или по случайности.
Способности разделяются на четыре рода. Во-первых, это
способность ума — рассуждать и предполагать. Во-вторых,
способность тела — ходить, давать, брать и прочее. В-третьих,
способность больших войск и богатств — от этого, например,
называется сильным царь. В-четвертых, способности в том,
чтобы творить или терпеть доброе и злое — например, болеть,
воспитывать, выздоравливать и все подобное. Таким образом,
способности заключаются или в уме, или в теле, или в войсках
и богатствах, или в том, чтобы творить и терпеть.
Обходительность бывает трех родов. Первый род — в
обращении: например, в том, как обращаются ко всем встречным и
приветствуют их, протягивая руку. Второй — когда приходят
на помощь всякому бедствующему. И наконец, третий род
обходительности — когда бывает гостеприимными застольника-
ми. Таким образом, обходительность заключается или в
привете, или в услуге, или в хлебосольстве.
Счастье разделяется на пять частей: во-первых, разумные
желания, во-вторых, здравые чувства и невредимое тело, в-
третьих, удача в делах, в-четвертых, добрая слава среди
людей, в-пятых, достаток в деньгах и прочих жизненных
средствах. Разумные желания возникают следствием воспитания и
многоопытности. Чувства бывают здравыми от состояния
частей нашего тела, когда глаза видят, уши слышат и рот и ноздри
ощущают все, что им надлежит,— вот что такое здравые
чувства. Удача бывает, когда все, к чему человек стремится, он и
' совершает должным образом, как подобает человеку
ревностному. Добрая слава бывает, когда о человеке слышно хорошее.
Достаток бывает, когда у человека есть довольно средств,
чтобы оказывать помощь друзьям и отбывать государственные
повинности с честью и щедростью. У кого все это есть, тот
вполне счастлив. Таким образом, счастье состоит из разумных
желаний, здравых чувств и невредимого тела, удачи, доброй
славы и достатка.
Ремесла разделяются на три рода: первый, второй и третий.
Первый род — ремесло железодела или дровосека; это ремесла
добывающие. Кузнечное дело и деревообделка — это ремесла
перерабатывающие: из железа кузнец делает оружие, из
дерева деревообделочник делает флейты и лиры. А использующие
— 35 —
ремесла — это всадническое, которое пользуется уздой,
воинское — оружием, музыкантское — флейтой и лирой. Таким
образом, есть три рода ремесла — первый, второй и третий.
Добро разделяется на четыре рода. Во-первых, человека,
обладающего добродетелью, мы называем добрым в
собственном смысле слова. Во-вторых, сама добродетель и
справедливость тоже называются добром. В-третьих, это пища, полезные
телесные упражнения и лекарства. В-четвертых, добром мы
называем игру на флейте, игру на театре и прочее подобное.
Таким образом, есть четыре рода добра: первый — обладание
добродетелью, второй — сама добродетель, третий — пища и
полезные упражнения, четвертый — искусство флейтиста,
актера и поэта; все это называют добром. Все сущее бывает или
злом, или благом, или безразличным. Злом мы называем то,
что всегда приносит вред: безрассудство, неразумие,
несправедливость и прочее подобное. Благом мы называем
противоположное этому. Ни зло, ни благо—это то, что иногда полезно,
иногда вредно (например, гулять, сидеть, есть) или вовсе не
полезно и не вредно. Таким образом, сущее бывает или благом,
или злом, или безразличным.
Порядок в государстве бывает троякого рода. Во-первых,
если законы хороши, мы говорим, что царит порядок.
Во-вторых, если граждане подчиняются тем законам, какие есть, мы
тоже говорим, что царит порядок. В-третьих, если и без
законов государственная жизнь идет хорошо, следуя нравам и
обычаям, это мы тоже называем порядком. Таким образом, для
порядка первое — это когда законы хороши; второе — когда
существующим законам подчиняются; третье — когда
государственная жизнь следует добрым нравам и обычаям.
Непорядок в государстве бывает троякого рода. Во-первых, если
законы и о гражданах, и о чужеземцах дурны. Во-вторых, если
существующим законам не подчиняются. В-третьих, если
законов вовсе нет. Таким образом, для непорядка первое — это
когда законы дурны; второе — когда существующим законам
не подчиняются; третье — когда законов вовсе нет.
Противоположности разделяются на три рода. Так, мы
говорим, что благо противоположно злу,— например,
справедливость — несправедливости, разумение — неразумию и
прочее подобное. Далее, и зло противоположно злу — например,
мотовство — скряжничеству, незаслуженная пытка —
заслуженной или иное подобное зло — противоположному злу.
Наконец, тяжелое легкому, быстрое медленному или черное
белому противоположно как безразличное безразличному.
Таким образом, среди противоположностей одни
противоположны как добро злу, другие — как зло злу, третье — как
безразличное безразличному.
Блага бывает троякого рода — иными из них можно обла-
- 36 -
дать, в иных соучаствовать, а иные существуют сами по себе.
Первые — это те, которыми можно обладать, например
справедливость и здоровье. Вторые — те, которыми нельзя обладать
одному, но можно вместе с другими: например, самим благом
обладать нельзя, но разделять его с другими можно. Третьи —
это те, которых нельзя ни иметь, ни разделить, но которые
должны существовать: например, быть ревностным или быть
справедливым — благо, его нельзя ни иметь, ни разделять, но
оно должно непременно существовать. Таким образом, блага
бывает или такие, которыми можно обладать, или такие, в
которых можно соучаствовать, или такие, которые
существуют сами по себе.
Совет бывает трех родов: он может исходить из прошлого
времени, из будущего и из настоящего. От прошлого времени
приводятся примеры: скажем, как спартанцы когда-то
поплатились за свою доверчивость. От настоящего времени: скажем,
указания на то, что стены слабы, воины робки, припасов мало.
От будущего времени: скажем, что не следует из одного
подозрения оскорблять посольство, не то позор ляжет на Элладу.
Итак, советы бывает или от прошлого, или от настоящего, или
от будущего времени.
Звуки бывает двух родов — одушевленные и
неодушевленные, одушевленные — это голоса живых существ,
неодушевленные — это звоны и отзвуки. Одушевленные звуки делятся
на членораздельные и нечленораздельные: членораздельны
голоса людей, нечленораздлельны голоса животных. Таким
образом, звуки бывает или одушевленные, или неодушевленные.
Сущее бывает или делимо или неделимо. Делимое бывает
однородно и неоднородно. Неделимое — это то, что не
поддается разделению и ни из чего не состоит, например единица,
точка или нота. Делимое — это то, что из чего-то состоит,
например слоги, созвучия, живые существа, вода, золото.
Однородное — это то, что состоит из подобных частей, и целое
отличается от части только величиной, например вода, золото,
все сыпучие тела и прочее подобное. Неоднородное — это то,
что состоит из несхожих частей, например дом и прочее
подобное. Таким образом, сущее бывает или делимо, или неделимо,
причем делимое бывает однородно и неоднородно.
Сущее или бывает самостоятельным, или называется
относительным по отношения к чему-либо. Самостоятельным
называется то, что ни в чем не нуждается для своего объяснения,
например человек, лошадь и другие животные,— ничто из
этого не требует объяснения. Относительным называется то,
что нуждается в объяснении, например нечто более крупное,
более быстрое, более красивое и прочее, ибо более крупное
должно быть крупнее чего-то иного, более быстрое — быстрее
чего-то иного, таким образом, сущее бывает или самостоя-
— 37 —
тельным, или относительным. Так (по словам Аристотеля),
Платон разделял даже самое первичное.
Был также и другой Платон, родосский философ, ученик
Панэтия (как сообщает грамматик Селевк в I книге «О
философии») , и третий, перипатетик, ученик Аристотеля, и
четвертый, ученик Праксифана, и пятый, поэт древней комедии.
АПУЛЕЙ
ПЛАТОН И ЕГО УЧЕНИЕ
Книга 1
I. Платон прозывается так из-за своего внешнего вида,—
сначала ему дали имя Аристокла. Его отцом называют
Аристона; а матерью его была Периктиона, дочь Главка. Поэтому с
обеих сторон он достаточно знатного происхождения: Аристон,
отец, через Кодра восходит к самому Нептуну; род матери идет
от Сол она-мудреца, установившего в Аттике законы.
Впрочем, некоторые утверждают, что Платон — плод
зачатия священнейшего, что, мол, с Периктионой сочетался
Аполлонов образ. Он и родился в месяце, называемом в Аттике
Таргелием, в день рождения от Латоны Аполлона и Дианы на
Делосе. Сократ, как известно, родился днем раньше.
Передают также о Сократовом
сновидении-предзнаменовании: ему виделось, что с жертвенника, посвященного в
Академии Купидону, взлетел птенец лебедя и уселся ему на
колени, а потом этот лебедь на крыльях устремился к небу,
прекрасным пением лаская слух людей и богов. Когда Сократ
рассказывал это в кругу друзей, как раз приходит Аристон,
чтобы отдать Платона, еще мальчика, в учение к Сократу.
Едва взглянув на него, Сократ по одному его виду распознал
глубину его дарований: «Вот он, друзья,— Купидонов лебедь
из Академии».
II. Будучи таков и такого рода, Платон не только отличался
доблестями героев, но и сравнялся с божественными, силами.
Опираясь на семейные свидетельства, Спевсипп говорит об
отличавшем его в детстве остром к познанию уме и
поразительной врожденной скромности; подростком он укрепил задатки
благодаря трудолюбию и прилежанию к наукам; а достигши
зрелости он, по свидетельству Спевсиппа, развил эти и прочие
доблести.
Его братья от тех же родителей — Главк и Адимант. Его
учителя: в начатках грамоты — Дионисий, а в гимнастике —
Аристон, родом из Apr, причем Платон, занимаясь у него, так
преуспел, что на Пифийских и Истмийских играх состязался в
борьбе. Не пренебрегал искусством живописи, считал себя
способным к трагедии и дифирамбу. Уверившись в своем
поэтическом даровании, он уже собирался принять участие в
состязаниях, но тут Сократ изгнал из его помыслов эту низкую страсть
и постарался посеять в его душе подлинное честолюбие. Дело
- 39 -
в том, что он раньше уже познакомился с учением Гераклита.
А когда он перешел к Сократу, то превзошел прочих его
учеников не только дарованиями и ученостью, но и прославил
переданную ему от Сократа мудрость благодаря усердию и
вкусу: имеется в виду усердие, с каким он стремился защитить
ее, и вкус, проявившийся в изящной и внушительной речи,
благодаря которой он придал этой мудрости чрезвычайную
представительность.
III. А когда Сократ оставил людей, Платон, в поисках
наиболее совершенного учения, обратился к пифагорейскому. Он
усмотрел в нем создание ума тонкого и высокого, но все же ему
хотелось, чтобы существо вещей было воспроизведено точнее
и чище. Поэтому,— видя, что мысль Пифагорейцев опирается
на ряд наук,— он отправляется к Феодору Киренскому, чтобы
изучить геометрию, а ради астрологии добирается до самого
Египта, чтобы кроме того усвоить там обряды прорицателей.
Затем он возвращается в Италию, где становится слушателем
пифагорейцев Еврита Тарентского и старейшего Архита. Он
было устремился к индийцам и магам, но ему
воспрепятствовала бывшая тогда война.
Поскольку Парменид и Зенон уже изобрели диалектику, он
прилежно изучил ее; наполнив свои книги всем, что по
отдельности заслуживало восхищения, он первый сочетал три части
философии, причем показал, что эти части, будучи
необходимыми одна для другой, не только одна другой не противоречат,
но друг друга взаимно поддерживают. Хотя он воспринял эти
части философии от разных школ,— физическую от
пифагорейцев, логическую от элеатов, а этическую — из сократова
источника,— все же соединение их в единое тело произведено
им самим; кроме того, зачинатели этих отраслей передали
своим ученикам мысли неотточенные, незавершенные, а
Платон,— логически отточив их и облекши в достойнейший наряд
возвышенной речи,— сделал их совершенными и
вызывающими восхищение.
IV. Многие ученики его и ученицы прославились в
философии.
Наследство, оставленное им, заключалось в участке земли,
примыкающем к Академии, в двух прислужниках и в чаше,
которой он совершал возлияния богам; кроме того он оставил
золотую серьгу — знак благородного происхождения,—
которую носил юношей. Что же касается трех его поездок в
Сицилию, то недоброжелатели порицают их — по разным
основаниям. Но он первое совершил с научными целями,— чтобы
понять природу Этны и возгораний в полости этой горы; второе
— по просьбе Дионисия, чтобы помочь сиракузянам и научить
- 40 -
их законам независимого гражданства; а его третий приезд
вернул на родину изгнанника Диона, для которого Платон
получил прощение у Дионисия.
Теперь перейдем к изложению его мыслей, которые по-
гречески обычно называют δόγματα , направленных к пользе
человеческой и касающихся образа жизни, мысли и речи. И
поскольку он первый показал, что три части философии
согласуются между собою, мы также будем говорить о каждой в
отдельности, а начнем с философии природы.
V. По мнению Платона, есть три начала вещей: бог, материя
— лишенная самостоятельного и оформленного бытия, а также
отличий по виду и качественным признакам,— и формы
вещей, называемые также ίδέαι.
Бога Платон считает бестелесным. Он, по его словам,
един, άπερίμετρος , родитель и составитель всех вещей,
блаженный и благодетельный, прекраснейший, ни в чем не
нуждающийся, объединяющий все. Он называет его небесным,
невыразимым, неименуемым, а также, как он сам
говорит, άόρατον , αδαμαντον ; отыскать его природу трудно; а,
отыскав, объяснить толпе, какова она, невозможно. Платон
говорит так: βεόν εύρειν τε έργον, εύρόντα τε εις πολλούς
έκφέρειν αδύνατον.
О материи он говорит как о нерожденной и неуничтожимой,
не являющейся ни водой, ни любым другим из начал и простых
элементов; напротив, она — первая из всего, восприемница
очертаний и подлежащее оформлению, а до этого —
необработанная и лишенная формальных отличий, поскольку
бог-создатель дал ей нерасчлененную форму. Поэтому она
беспредельна: ее величина неопределенна, поскольку беспредельное
не обладает строго определенной величиной. И как раз потому,
что она лишена предела, ее правильно считать бесконечной.
Но Платон не допускает не только телесности, но также и
собственно бестелесности материи: он полагает, что она — не
тело, потому что всякое тело не лишено того или иного образа;
но он не может сказать, что она совсем бестелесна, потому что
ничто бестелесное не содержит в себе тела; поэтому Платону
она представляется телесной в возможности и по смыслу, и
поэтому ее нельзя ни просто ощущать, ни понять с помощью
одного мысленного представления. Дело в том, что тела,
будучи различны по внешнему виду, распознаются с помощью
соответствующего критерия, а не имеющее телесной субстанции
усматривается мыслью; поэтому двойственное качество
материи можно понять благодаря незаконному умозаключению.
VI. Идеи, или формы всего,— просты и вечны, однако не
суть тела; чз них бог выбрал образцы вещей, которые есть и
будут; нельзя усматривать в этих образцах нечто большее,
- 41 —
нежели отдельные образцы для отдельных видов, в силу чего
формы и очертания всего возникающего оказываются
отпечатками, словно на воске, этих образцов.
Ουσίας , которые мы называем сущностями, он признает
две; в них и возникает все, в том числе — мир. Одна из них
постигается только мыслью, другая подлежит чувствам.
Сущность, схватываемая очами ума, пребывает всегда одним и тем
же образом, будучи равна и подобна себе самой,— это потому,
что она — подлинное бытие; а другая, которую должно
оценивать с помощью чувственного и неосмысленного
представления,— она, по его словам, рождается и гибнет. И поскольку
первая названа подлинным бытием, об этой можно сказать как
о бытии неподлинном.
Первые субстанции, или сущности, суть первый бог и ум,
формы вещей и душа; вторые субстанции есть все то, что
получает форму, возникает и ведет происхождение от образца
высшей субстанции; они могут изменяться и превращаться,
переходить и пробегать — наподобие потока. Поскольку
названная мною умопостигаемая субстанция покоится на
постоянной основе, постольку и рассуждения о ней полны
устойчивого смысла и достоверности. А смыслы и слова рассуждений о
той, что есть как бы тень и отражение вещей,— плоды зыбкой
науки.
VII. Он называет материю началом всех тел. Она
воспринимает отпечатки форм, отчего рождаются первоначала: огонь,
вода, земля и воздух. Поскольку это начала, они должны быть
простыми и не должны, взаимно связываясь, сочетаться между
собой наподобие слогов, что получается у тех, у кого сущность
составляется благодаря многообразному сочетанию значимых
частей. Поскольку они прежде были неупорядочены и
перемешаны, создатель мира, бог, привел их в круговое движение,
упорядочив с помощью чисел и фигур. Все это многообразие
начал было сведено к одному. Исток и начало огня, воздуха и
воды — разносторонний прямоугольный треугольник; а земля
— также из прямоугольных треугольников, только
равносторонних. Причем есть три вида первичной формы: пирамида,
восьмигранник и шар-двадцатигранник. Пирамида содержит в
себе фигуру огня, восьмигранник — воздуха, а шар с
двадцатью гранями соответствует воде. Равносторонний
треугольник порождает из себя квадрат, а тот в свою очередь κύβον ,
принадлежащий земле. Подвижную форму пирамиды он
связал с огнем потому, что ее стремительность представляется
сходной с беспокойством огня. Менее скор восьмигранный шар:
его он отвел воздуху, который следует за огнем в легкости и
быстроте. Двадцатигранный шар — на третьем месте; его
текучая и изменчивая форма более всего похожа на воду. Оста-
— 42 -
ется фигура куба, которая в силу неподвижности удачно
выбрана для устройства земли. Платон говорит, что, вероятно,
можно найти и другие начала, ведомые богу и тому, кто
богам друг.
VIII. Из этих первоэлементов — огня, воды и других —
состоят, в частности, тела одушевленных существ, а также
неодушевленные; мир в целом создан из всей воды, из всего
огня, из всего воздуха и всей земли, причем не только ни одна
их часть не остается за пределами мира, но нельзя говорить и
об их воздействии вовне. Они поочередно один с другим и
между собой скрепляются и связуются, и как огонь связан
узами родства с воздухом, так влага сопрягается с соседней
землей. Поэтому мир един, в нем — все, и нет места для другого
мира, и нет лишних элементов, из которых можно было
бы составить его тело. Кроме того, миру дана непреходящая
юность и безущербное здоровье; и потому ничего не оставлено
помимо и вне мира, что могло бы разрушить его природу;
впрочем, даже если бы что-то оставалось, оно не причинило бы
ущерба, поскольку мир в самом себе с любой стороны слажен
и упорядочен настолько, что противное и противоречащее не
могло бы помешать его существу и укладу.
По этой причине для совершеннейшего и прекраснейшего
мира его создателем, богом, был избран образ прекрасной и
совершенной сферы,— чтобы он ни в чем не нуждался, но —
все, обнимая и сдерживая, охватывал, будучи прекрасным и
дивным, себе самому подобным и соответствующим. Отсюда и
вот что: поскольку есть семь видов пространственного
движения, и тела устремляются вперед и назад, направо и налево,
вверх и вниз, а также движутся по кругу и вращаются, то шесть
первых были отвергнуты, и только одно — свойственное
мудрости и разумности — было оставлено для мира, чтобы он
осмысленно двигался круговым движением. При этом Платон
то говорит, что этот мир не имеет начала существования, а в
другой раз,— что он имеет начало и рожден: не возник и не
имеет начала существования,— в том смысле, что он
существовал всегда; а рожденным он кажется потому, что его сущность
и природа состоит из вещей, удел которых — возникновение.
Поэтому он осязаем, зрим и доступен телесным чувствам. Но
поскольку причина того, что мир возникает,— в боге,
постольку с бессмертным постоянством он пребудет вечно.
IX. Душа ν всех одушевленных существ бестелесна и
отнюдь не погибает при отрешении от тела, будучи старше всего
возникающего; поэтому она повелевает и правит тем, что
жребий отдает ее заботе и попечению, сама же движется вечно и
от себя самой, будучи погонщицей того, что по своей природе
- 43 -
неподвижно и косно. Но, говорит Платон, источником всех
душ является небесная душа, и она — наилучшая и мудрейшая
— обладает рождающей способностью, а также помогает богу-
создателю и способствует ему во всех его замыслах. В самом
деле, существо этого небесного ума создано с помощью чисел и
мер, благодаря удвоению и умножению остатков и величин,
возникающих сами по себе и внешним образом; в этом причина
того, что мир движется музыкально и певуче.
И природы вещей суть две, причем одну из них он
называет δοξαστή ν , и ее можно видеть глазами и касаться ее рукой ;
другая, восходящая к уму,— мыслимая и умопостигаемая (да
простится мне здесь новизна слов, вынужденная темнотой
излагаемого). И часть, названная прежде,— изменяема и легка
для рассмотрения, та же, что видима взором ума и
воспринимается и понимается углубленным размышлением,
неразрушима, неизменяема, постоянна, тождественна и вечна.
Поэтому он говорит о двояком способе изложения и объяснения,
поскольку о первой, видимой, на основе непроизвольной и не
слишком уверенной догадки, тогда как бытие умопостигаемой
доказывается истинным, вечным и постоянным способом.
X. Время есть образ вечности, но только время движется, а
вечность есть природа неизменная и неподвижная; при этом
время может переходить в нее, а может — в
противоположность ее величию — прекратиться и разрушиться, если так
решит создатель мира бог. Промежутками того же времени
следует считать меры обращения мира. Его ведут шары солнца
и луны и прочие звезды, которые мы неправильно называем
отклоняющимися и блуждающими, поскольку — независимо
от их движений — наши мнения и рассуждения могут
заставить ум блуждать. Впрочем, оный устроитель вещей так
определил их круговороты, восходы, закаты, удаления, замедления
и приближения, что не остается места даже для
незначительного блуждания. Дни и ночи заполняют промежутки месяцев,
месяцы в свою очередь составляют круговороты лет; и не
прежде, чем начали пылать звездным светом эти знаки, могли
начаться исчисления времен, а вести эти расчеты мы прекратим
в том случае, если этот древний хоровод остановится.
Итак, чтобы познавать меры и круговороты времен и
усматривать круговращение мира, были зажжены огни солнца и,
наоборот, чтобы живые существа обретали покой, был создан
ночной мрак. Месяцы исполняются, когда луна, завершив свой
круговой бег, возвращается к тому же месту, из которого
выходит; промежутки лет заключаются, когда солнце охватывает
четыре времени года и вступает в тот же знак. Закономерность,
с какой они возвращаются к себе и начинают новый бег,
вызывает отклик в размышляющем рассудке. А не менее определен-
— 44 —
ные круговороты планет, постоянно пребывающих на
установленных орбитах, человеческая искушенность постигает в
последнюю очередь, после чего уже легко определить этот так
называемый великий год: его время исполняется, когда сонм
блуждающих звезд достигает исходной точки и вновь начинает
путь по дорогам мироздания.
XI. Наивысшей из небесных сфер, взаимосвязанных между
собою, следует считать ту, чье движение неизменно; она
охватывает все остальные. Поэтому первое место отдано άπλανέσι,
второе — Сатурну, Юпитеру — третье; Марс занимает
четвертое, пятое отдают Меркурию, на шестом — Венера, седьмое
озаряется ходом Солнца, восьмое обегает Луна.
Далее о том, что все распределено между элементами и
началами. Прежде и выше всего — огонь, затем место воздуха,
ближайшее к нему — воды, а затем — расположенная
посередине сфера земли, уравновешенная по местоположению и
очертанию, которая неподвижна. Платон говорит, что эти огни
звезд, прикрепленные к сферам, скользят движением
безостановочным и неутомимым, и что они живые боги; а природа
сфер состоит и составляется из огня.
В соответствии с этим породы живых существ также делятся
на четыре вида, один из которых — огненной природы, каковы
солнце, луна и другие звездные тела; другой — воздушного
качества,— его он отводит демонам; третий состоит из воды и
земли; смертный род тел на основании этого разделяется на
земляные и наземные тела — так, я думаю, следует
переводить έγγειο ν и επίγειο ν ,— из которых земляные суть тела
деревьев и других растений, что живут прикрепленными к
почве, а наземные те, что кормит и содержит земля.
Платон называет три вида богов; из них к первому
принадлежит один и единственный верховный бог, над мирный,
бестелесный, которого мы выше представили отцом и строителем
этого мира; к другому роду принадлежат звезды и прочие
божества, называемые небожителями; к третьему — те, кого
древние римляне называли «срединнейшими», имеется
ввиду,— по их разряду; однако по месту и силе они «ниже»
верховных богов, но, конечно, «выше» человеческой природы.
XII. Однако все то, что свершается по природе и — в силу
этого — правильно, управляется и охраняется провидением; а
богу нельзя приписать причинение какого-либо зла. Поэтому
Платон полагает, что не все следует возводить к роковому
жребию. Он дает такое определение: провидение есть божья
воля, хранительница благости его, по причине каковой он и
берет на себя таковую обязанность; божественный закон есть
рок, который исполняет неизбежные решения и начинания
— 45 -
бога. Поэтому, если что-то вершится провидением,— оно же
направляется и роком; и что определяется роком,— должно
рассматриваться как предпринятое провидением. При этом
первичное провидение — у высшего и наипревосходнейшего из
всех богов, который направляет не только богов-небожителей,
распределяя их — ради попечения и украшения — по всем
частям мира; помимо этого — ради вечности во времени — им
созданы также существа смертной природы, чтобы они
превосходили мудростью прочие одушевленные существа на земле; а
установив законы, попечение об остальных вещах и их
устроение он передал прочим богам. Поэтому высшее провидение
бога вторичные провидения сохраняют столь тщательно, что
все, в том числе уделенное смертным с неба, сохраняет
неизменное установление отчего порядка. А демонов, которых мы
можем назвать гениями и ларами, он считает служителями
богов, стражами людей и толкователями их просьб к богам.
Он определенно считает, что не все следует возводить к силе
рока, но есть также свободная воля и кое-что зависит от случая.
И он признает, что мы не знаем непредвиденных обстоятельств
случая; обычно с тем, что предпринимается по нашему
решению и замыслу, приключается нечто неустойчивое и
внезапное, препятствующее довести замысел до конца. Когда это
препятствие оказывается на пользу, говорят, что это счастье;
когда же это противодействие губительно, оно называется
несчастьем. И на земле провидением не создано ничего более
выдающегося, чем человек.
XIII. Поэтому Платон правильно провозглашает
человеческую душу госпожой тела. А поскольку он считает, что есть три
части души, он говорит, что разумная, то есть наилучшая часть
ума, занимает крепость головы, гневливая, удаленная от
разума, низведена в область сердца, а вожделение и влечение,
последняя часть ума, занимает низшую часть живота,—
словно некую харчевню и потаенные притоны, приюты беспутства
и разнузданности; эта часть удалена подальше от
премудрости, видимо, для того, чтобы неприятное соседство не смущало
рассудок, поглощенный спасением целого, в самой пользе
размышлений. Голова и лицо — весь человек, поскольку
разумность и все чувства находятся не где-либо в ином месте, а в этой
части тела. А остальные члены прислуживают и услужают
голове, доставляют пищу и прочее, и могут нести это высшее
как господина и правителя, а его провидением она охраняется
от опасностей. Также и органы, с помощью которых чувства
направляются к усмотрению и различению качеств,
установлены там же, близ царского дворца головы в поле зрения
разума, чем поддерживается достоверность понимания и ощущения.
- 46 -
XIV. Чувства сами обладают соответствующим
пониманием, благодаря природе, ладно согласованной с чувственно
воспринимаемым. Прежде всего, двойные светоносные и —
благодаря некоему свету зрения — сияющие лучи глаз выполняют
задачу познания света. Слух же, причастный воздушной
природе, воспринимает голоса, доносящиеся по воздуху. Вкусовые
ощущения суть более неопределенные, и поэтому они больше
приспособлены к более влажному и водянистому. Осязание,
будучи земляным и телесным, различает все то, чего можно
коснуться и на что натолкнуться. Особо постигается то, что
претерпевает изменение при разложении; именно, посреди
лица природа установила ноздри, через двойные врата которых
вместе с дыханием поступает запах. Превращения и
изменения являются причинами запаха, и он наблюдается в
разложившихся, сгоревших, расплавившихся и размокших вещах,
когда доносимое паром или извергаемое дымом на путях
обоняния становится предметом суждения или ощущения; а
устойчивые вещи и чистый воздух никогда не возбуждают их
такого рода веяньями.
Сами чувства общи нам с прочими одушевленными
существами; однако благодаря божественному благоволению эта
способность у людей значительно совершеннее и развитей, так что
у них слух и зрение — лучше. В частности, с помощью глаз
последнее измеряет небо и круговращение светил, заход и
восход звезд и постигает значение расстояний между ними, что
является прекраснейшим и полноводным источником
философии. А что для человека может быть драгоценнее слуха,
благодаря которому он может научиться разумению и мудрости,
измерить ритмичность речи, задать размер, и самому стать
всецело ритмичным и музыкальным! Сюда же прибавь язык,
ограду зубов и сладость самого поцелуя. Ибо то, что у других
животных приспособлено к удовлетворению жизненных нужд
и доставлению пищи в желудок,— то человеку дано, скорее, в
качестве вместилища здравого рассудка и сладостнейшей
речи, дабы разумом зачатое в сердце было въяве истолковано
речью.
XV. Однако у тела в целом состояния и очертания членов
его на одном уровне—наилучшие,— а на другом —
значительно худшие, причем низшие управляются превосходством
наилучших и несут жизненную службу. Все начиная от ступней и
до плеч покоряется голове. Ограда ресниц защищает глаза,
дабы на них не попало то, что может повредить нежному и
восприимчивому зрению. Легкие в силу своего расположения
и природы оказывают наибольшую поддержку сердцу; когда
оно вспыхивает от гнева, начинает биться и быстро колотиться,
а его вершина становится влажной от крови, легкие выручают
— 47 —
его благодаря своей податливости, сухости и прохладе.
Селезенка не случайно соседствует с печенью: она избавляет ее от
переполнения путем частичного отчерпывания и
освобождения, чтобы, освободившись от грязи, она вновь была чистой и
гладкой, что более всего полезно для всех внутренних органов.
Желудок оплетен различными видами кишок кишечника и
защищен их переплетениями, чтобы еда и питье не
проскакивали, а — будучи задержаны — постепенно отдавали
организму то, что в них полезно и ценно; а в противном случае сразу
же после поглощения и проскальзывания всего того, что
внесено, нам угрожала бы необходимость вновь приниматься за еду,
и пришлось бы только на это тратить дни и ночи.
XVI. Кости покрыты плотью; они же перевиты
сухожилиями так, чтобы ощущения не притуплялись от ее толщины.
Кости, которые соединены сочленениями и связками, для
большей подвижности также не обременены плотью. Наконец,
обрати внимание на верхнюю часть головы: ты увидишь, что она
покрыта тонкой кожей и волосами, причем волосяной покров
ослабляет воздействие как холода, так и жары. Наоборот,
части тела, выдерживающие физическую нагрузку, плотны,
каковы ляжки и ягодицы.
Надо ли говорить о пище, которую каналы, исходящие из
брюшной полости и соединенные с долями печени,
распределяют, преобразовав предварительно в кровь, так что
искусница-природа заставляет ее расходиться по всем членам тела? А
из области сердца возникает перемещение в венах, через
отдушины в легких, переносящих жизненную энергию,
воспринятую от сердца; они также, разделяясь из этого места по членам,
наполняют все тело дыханием. Отсюда оные чередования
вдохов и выдохов, происходящих попеременно во избежание
помех от взаимных столкновений.
Вены, предназначенные для порождения, различны по
качеству; из затылочной части они проходят через нервы почек
и опускаются в область паха; а от сокращения вен исторгается
вызывающее зачатие мужское семя.
XVII. Однако, когда Платон говорит, что тело в целом
состоит из трех сущностей, он первую усматривает в огне, воде и
прочих элементах; другую — в подобных частях плоти, костей,
крови и прочего; третью — в различных и разнообразных
членах тела, к каковым относится голова, живот и другие
несхожие части. Поэтому если поступающее извне, необходимое для
жизнедеятельности оказывается хоть в какой-то мере
подходящим,— сущность, состоящая из простых элементов,
сохраняет качество и телесную соразмерность роду отдельных
членов; усиливает крепость того, что состоит из подобных частей;
— 48 -
и она напитывает красотой то, что выше названо «несхожими
между собою частями». Вместе с тем, эта уравновешенность
сухого и влажного, горячего и холодного создает здоровье, силу
и вид, тогда как неуравновешенное и неумеренное смешение
— из-за повреждения отдельных частей и организма в целом
— приводит живое существо к скорой гибели.
XVIII. Платон говорит также о трех частях души: первая
часть — разумная, другая — пылкая, или раздражительная,
третья — вожделеющая; эту последнюю можно также назвать
похотью. Но одушевленное существо тогда обладает здоровьем,
силой и красотой, когда всем управляет разум, а две
подчиненные ему низшие части, гневливость и вожделение, согласуются
между собой, ничего не требуют и не производят никакого
волнения, которое разум признал бы бесполезным. Если части
души таким образом уравновешены и умерены, тело не
разрушают никакие потрясения. А их неслаженность и взаимная
неуравновешенность приводит к тому, что человек начинает
тосковать, заболевает и скверно выглядит, когда, например,
похоть одолевает и подчиняет себе гневливость и
благоразумие, или когда оного господина и правителя, разум, побеждает
— при потворстве успокоенной похоти — не в меру
распылавшийся гнев. Болезнь ума он называет неразумием и выделяет
два ее вида: один носит имя невежества, другой именуется
безумием. О болезни невежества можно судить по бесстыдному
хвастовству, когда кто-то уверяет, будто знает и умеет то, в
чем несведущ. Неистовство бывает от скверного нрава и
распущенного образа жизни, а безумием его именуют тогда, когда
оно вызвано телесным пороком, состоящим в том, что
вместилище разума — из-за неподобающей узости верхней части
головы — оказывается сжатым.
Совершенен же человек тогда, когда душа и тело
соединяются равномерно, подходят и соответствуют друг другу; тогда
здравость ума не принижается превосходством телесных сил;
наоборот, она возрастает с естественным ростом тела, если
разумная забота о здоровье не допускает выхода за пределы
жизненно необходимого и здоровье не подрывается ни из-за
величины внешних нагрузок, ни тяжестью неумеренно
поглощенной пищи, ни тем, что она недолжным образом
переваривается и распределяется в теле. Ведь суставы и члены тела
тогда сохраняют должную меру крепости и силу, когда
поступающее для поддержания тела в целом разделяется по всем
частям тела как бы поровну в каждой. Но тело гибнет, когда...
- 49 -
Книга 2
I. Главное в этике, сын Фаустин, знать, как можно достичь
счастливой жизни. Но поскольку для достижения счастья прежде
всего следовало бы достичь высшего блага, я укажу, что об этом
думает Платон.
Платон считал, что из благ одни суть исключительные и
первые, а другие оказываются благами по сложившимся
представлениям. Первые блага суть высший бог и оный ум, который
Платон называет νουν ; за ним следуют проистекающие из
первоисточника добродетели души: разумность, справедливость,
воздержность и храбрость; при этом разумность выше их всех,
второю по порядку и значению он поместил воздержность, за
ней — справедливость, четвертая — храбрость. Он установил
следующее различие между благами: одни следует полагать
божественными в себе первыми и простыми благами; другие
считаются благами не одинаково у всех людей. Так,
добродетели души суть блага божественные и простые, а человеческие
блага суть те, которые принадлежат тому или иному человеку
и совпадают с определенными удобствами тела, а также те,
которые мы называем внешними; эти последние
действительно суть блага у людей мудрых и осмотрительных, но только при
их жизни; а для глупцов и людей, не умеющих ими
пользоваться, они невольно оборачиваются злом.
II. Первое благо есть истинное и божественное,
превосходящее и то, что любят и чего вожделеют, чьей красоты жаждут
разумные умы, вождем-природой побуждаемые пылать ею. А
поскольку не все могут его достичь и не у всех есть эта
способность достижения первого блага, люди устремляются к
человеческому, второму благу, а оно не всем общее и не для всех в
равной мере благое. В самом деле, вожделение и желание
сделать нечто возбуждаются либо истинным благом, либо тем, что
благом кажется. Поэтому у той части души, которая согласна
с разумом, есть некое природное сродство с благом. Благом-
призраком является и считается то, что связано с телом и
привходящим извне. И тот, кто от природы устремлен к
достижению блага, считает, что оно укоренено не только в нем
самом, но и во всех прочих людях, однако не в равной мере и
не сходным образом; тем не менее всякий благорасположен к
родине, потом к близким, а потом и ко всем тем, с кем он связан
узами родства или знакомства.
III. Нельзя сказать, что человек с самого рождения
абсолютно плох или хорош, поскольку ему врождены обе
склонности; в нем есть некие зародыши того и другого, соответствую-
- 50 -
щие его происхождению, которые должны развиться в ту или
другую сторону в зависимости от воспитания и обучения.
Наставникам юношей прежде всего следует заботиться о том,
чтобы они стремились быть поклонниками добродетелей, и
нравственными наставлениями решительно устремлять их к
тому, чтобы они — управляя и подчиняясь —
руководствовались справедливостью. Поэтому, помимо прочего, их следует
подводить к пониманию того, что домогаться и избегать
должно честного и бесчестного, поскольку в первом — наслаждение
и слава, а от второго — позор и бесчестие; и что следует смело
устремляться к честному, поскольку оно же — благо.
Платон описывает три вида дарований, одно из них он
называет превосходным и выдающимся, другое — ничтожным и
прескверным, а третье, равномерно сочетающее в себе оба
первых,— средним; по его мнению, к этой середине
принадлежат понятливые юноши и мужи, достигшие определенной
благопристойности, обходительные и приятные. На долю такого
рода середины, по его словам, выпадает нечто третье между
добродетелями и пороками, причем одно достохвальное, а
другое предосудительное. Между подлинным знанием и незнанием
он помещает правильное мнение и другое, ложное,
высказываемое с пустым упорством, а между скромностью и
разнузданной жизнью помещает воздержность и несдержанность, а
средними между доблестью и трусостью считает совестливость и
нерадивость. Таким образом, у посредственных он не хочет
признавать ни подлинных добродетелей, ни настоящих и
неумеренных пороков, поскольку все у них так или иначе
перемешано.
IV. Порочность он считает свойством негодяев, наделенных
всеми недостатками. Она, по его мнению, возникает тогда,
когда лучшая и разумная часть, которая должна управлять
прочими, вместо этого — служит им, а они — вожди пороков
— вспыльчивость и похоть — господствуют, поработив разум.
Та же порочность состоит из противоположного — избытка и
недостатка; и он считает, что она не просто хромает от порока
неуравновешенности, но просто пропитана неподобием: ведь
не может совпадать с благостью та, что от самой себя
отличается в стольких отношениях и выставляет напоказ не только
свою неправильность, но даже неприличие.
Три части души осаждаются тремя пороками: с
разумностью сражается бестолковость, которая не только губит
знание, но просто противна изучению наук (у Платона говорится
о двух ее видах: невежество и тупоумие, из которых в
невежестве узнаем врага мудрости, в тупоумии — разумности); враг
отваги — вспыльчивость, сопровождаемая
раздражительностью и невозмутимостью — так сказать, άοργεσίο:,— которая
— 51 —
не гасит то, что возбудило гнев, а укрепляет своей несдвигае-
мой оцепенелостью. К страстям приставлена чувственность, то
есть жажда наслаждений и ненасытимое поглощение того, что
доставляет удовольствие. Отсюда проистекает алчность и
мотовство, из которых первая стесняет свободу, а вторая,
неумеренно растрачивая наследство, расстраивает состояние.
V. Зато добродетель, по словам Платона, есть наилучшим и
благороднейшим образом оформленное состояние ума; того, в
ком она подлинно укоренена, она приводит в согласие с самим
собой, делает спокойным и ровным, позволяет достичь
подобающего себе самому и другим не только на словах, но и на деле.
Достичь этого легче, если разум, утвержденный на престоле
своего царства, укрощает и держит в узде вожделения и гнев,
и они сами так ему подчиняются, что управлять ими можно
спокойно.
Добродетель должна быть однородной (потому что благое
по своей природе не нуждается ни в какой поддержке) и
совершенной (потому что она довольствуется только собой). При
этом добродетельному характеру свойственна не только
уравновешенность, но и постоянство, поскольку добродетель так
согласуется с собой во всякой своей части, что она от самой себя
зависит и себе же дает отчет. Поэтому Платон одни и те же
добродетели называет не только «вершинами», но и
«серединами», так они, будучи лишены избытка и недостатка, помимо
этого еще пребывают как бы в самом средоточии пороков;
например, мужество обступают безрассудная храбрость и
трусость: безрассудная храбрость возникает от избытка
самоуверенности, а страх есть порок, происходящий от недостатка
храбрости.
VI. Одни добродетели — совершенны, другие —
несовершенны; несовершенны как те, что во всем исходят из одной
только природной доброты, так и те, что ведомы только
наставлениями, а наставляемы единым разумением; а совершенными
назовем те, что вмещают и то и другое. Платон не считает, что
несовершенные добродетели сопутствуют одна другой, тогда
как совершенные, по его мнению, тем более неотделимы одна
от другой и между собой связаны, что муж выдающегося
дарования, исполненный усердия и к тому же прошедший науку,
преподанную разумом, водителем всякого дела, ничего не
оставит без опеки добродетели.
Все добродетели он соотносит с частями души и ту
добродетель, которая опирается на разум, за всем наблюдает и все
судит, он называет разумностью и мудростью; из них в
мудрости он хочет видеть науку о божестве и человеке, а в
разумности — знание и понимание добра и зла, а также среднего между
- 52 -
тем и другим. В части души, постоянно пребывающей в некоем
возбуждении, помещается мужество, а также силы и орудия
души, позволяющие совершать то, строгое исполнение чего
предписано нам повелением законов. Третья часть души,
отведенная страстям и вожделениям, обязательно
сопровождается воздержностью, в которой Платон видит охранительницу
согласованности между хорошими и дурными задатками
человека. Воздержность направляет похоть к умеренности и ее
разумностью и скромностью сдерживается разнузданность.
VII. Между этими тремя частями души равномерно
распределена четвертая добродетель, справедливость; Платон
называет ее знанием и причиной того, что каждая часть наилучшим
способом и образом покорно исполняет свои обязанности. Наш
божественный наставник то именует ее справедливостью, а то
охватывает названием целокупной добродетели и называет
также словом «честность»; но когда она полезна тому, кто ею
обладает, она — благосклонность, когда же она обращена вовне
и честно блюдет чужую пользу, то называется справедливостью.
Справедливостью является и то, что при обычном разделении
добродетелей занимает четвертое место и что связано с
благочестием, или όσιότητι. При этом благочестие занято богопо-
читанием и исправлением богослужебных обрядов, а
справедливость в первом смысле слова есть лекарство и врачевание
согласного людского общежития.
О пользе людей справедливость заботится на двух равно
важных путях: во-первых, путем надзора за количеством и
равномерностью распределения и за поступлением
установленных взносов, для чего проверяются весы и меры и в ведении
общественных дел соблюдается гласность; во-вторых, путем
ограниченного и основанного на равенстве распределения
земли, чтобы отдельным лицам было дано и охранялось
соответствующее право владения землей: лучшим — более выгодное, и
менее выгодное — дурным; для этого всякого хорошего — как
по природным задаткам, так и по усердию — гражданина
следует отличать почестями и должностями, а худших граждан —
лишать видного положения. Но этот справедливый способ
распределения и сохранения почестей доступен тому, кто добрых
выдвигает, дурных отвергает, чтобы всегда в государстве
процветало полезное для всех, и не могли поднять голову пороки
и порочные.
VIII. Это будет легче понять, если мы представим два
образца: один — человека божественного, спокойного и счастливого,
другой — нечестивого, бесчеловечного и в полном смысле
отвратительного; так вот на худшего захочет походить
недоброжелательный и отвративший силы своей души от правильного
- 53 -
распорядка жизни, а хороший человек захочет стать как
можно более похожим на божественного и небесного.
Поэтому у Платона риторика делится на две части, одна из
которых есть искусство созерцать добро, блюсти
справедливость, она сообразуется и согласуется с образом мысли того, кто
хочет казаться политиком; другая есть уменье угождать,
схватывать правдоподобное; это поведение, не основанное на
разуме (так я перевожу άλογο ν τριβήν ) ; она хочет убедить в том,
чего не может объяснить. Платон определяет ее как δύναμιν
του πείθειν άνευ του διδάσκει ν и дает имя тени, то есть
подобия, одного из разделов гражданской науки. Гражданскую
науку — он ее называет πολιτικήν , мы согласно Платону
должны понимать как такую, которая состоит в рассмотрении
определенного числа добродетелей. Предмет ее — не только
[политический ] деятель и то, что относится к управлению, но
и рассмотрение общих [категорий ]; она не только
предусматривает полезное в государственных делах, но и высказывает
суждения и предложения о счастливом и блаженном состоянии
государства.
IX. Эта же наука двояким образом заботится о пользе души:
с одной стороны,— как законодательство, с другой,— как
судопроизводство. Но первая имеет полное сходство с
гимнастикой, в процессе которой душа обретает красоту и силу так же,
как тело благодаря гимнастике сохраняет здоровье и осанку. А
судопроизводство есть как бы раздел медицины, поскольку оно
врачует болезни души так же, как та — тела. Их Платон
называет «искусствами» и объявляет заботу о них источником
величайшего благополучия. Им подражают поваренное
искусство, искусство умащений, софистика и судебное красноречие,
построенные на угождении и приманивающие лестью; как
занятия они позорны, а для всех бесполезны. Из них софистика
соответствует поваренному искусству: как оно, объявляя себя
медициной, иной раз увлекает неискушенных, делая вид,
будто оно занимается тем, что пригодно для лечения болезней, так
софистика, подражая судопроизводству, глупцов заставляет
думать, что она стремится к справедливости, хотя ясно, что
угождает неправде. А судебное красноречие уподобляется
искусству умащений, которое, желая быть средством сохранения
телесной красоты и здоровья, не только уменьшает
выносливость тела, но и разрушает его крепость и силы и меняет
естественный цвет лица, делая его как бы бескровным; так и
судебное красноречие, подражающее науке о праве, делает вид,
будто оно развивает в душах добродетель, а на самом деле
ослабляет их природное деятельное начало.
Платон считал, эти добродетели, относящиеся к разумной
части души, то есть мудрость и разумность,— можно преподать
- 54 -
и им можно научиться. Разумными являются также мужество
и сдержанность, которые противостоят порочным частям души
как противоядия; первые две добродетели относятся к числу
искусств, а прочие он называет добродетелями только когда
они совершенны; Платон не считает, что их следует называть
искусствами, когда они не совсем совершенны, однако он не
думает, будто они чужды искусствам. Что же касается
справедливости, которая рассеяна по трем областям души, то он
считает ее умением жить и искусством, которое отчасти можно
преподать, а отчасти приобрести благодаря опыту и
упражнению.
X. Из благ одни он признает вожделенными ради них
самих,— таковы благополучие, естественная радость; другие —
не ради них самих,— такова медицина; третьи — и ради них
самих, и ради другого,— таковы предусмотрительность и
прочие добродетели, к которым мы стремимся и ради них самих —
поскольку они представительны и почтенны; и ради другого, то
есть благополучия, этого самого вожделенного плода
добродетели.
Таким же образом одни из зол следует избегать из-за них
самих, а другие — из-за другого; большинство же — и из-за
них самих, и из-за другого,— такова глупость и подобные ей
пороки, которых лучше не иметь и из-за них самих, и из-за
того, что может за ними последовать, то есть беды и несчастья.
Из вожделенного одно мы называем благом в
безотносительном смысле,— это то, наличие чего всегда и для всех
приносит пользу,— таковы добродетели, плод которых — счастье;
другие суть блага для кого-то, а не для всех и не все время,—
таковы силы, здоровье, богатство и прочие дары плоти и
случая.
Равным образом из избегаемого одно представляется злом
для всех и всегда, когда вредят и мешают,— таковы пороки и
несчастья; другое зло только для кого-то и проносит вред не
всегда,— таковы болезнь, бедность и прочее.
Но если добродетель — предмет свободного выбора —
заключена в нас самих и мы стремимся к ней по своей воле, то
порок — хотя он также избирается свободно и заключен в нас
самих — усваивается невольно. В самом деле, когда
блюститель добродетели проникнется пониманием ее благости и
несравненной благотворности, он, конечно, устремится к ней и
будет при этом считать, что ее следует добиваться ради нее
самой; тот же, кто заметит, что пороки не только причина
дурной славы, но и в других отношениях являются помехой и
приносят вред,— разве может он добровольно сделаться их
приспешником? — Ясно, что обращаясь к такого рода злу и
- 55 —
веря, что извлечет из этого пользу, он обманывается и,
сознательно повергаясь во зло, побуждается к этому призраком
блага. И, конечно, не следует соглашаться с общим мнением, если
узнаешь разницу между бедностью и богатством, и
представляться безумцем, предпочитая недостаток необходимого
богатству, потому что — хотя это и может случиться с легкостью
— ни бедность сама по себе не принесет почета, ни само по себе
богатство — позора; еще того нелепее — презирая телесное
здоровье, предпочитать болезни; но предел безумия — когда
кто-то, видя очами души красоту добродетели и на опыте и в
уме постигши ее пользу, а помимо того хорошо зная, сколько
позора и неприятностей выпадает на долю пайщика пороков,—
все-таки хочет предаться порокам.
XII. Телесное здоровье, бодрость, отсутствие страданий и
прочие внешние блага, а также богатства и прочие подарки
судьбы,— это все не следует называть просто благами, потому
что для того, кто, владея, отказывается ими пользоваться,—
они бесполезны, а для того, кто, пользуясь, обращает их во
вред, они кажутся даже вредными. И если ими будет владеть
человек, подверженный порокам, само их наличие будет также
во вред. Отсюда вывод: их не следует называть просто благами,
как и то, что [им противоположно],— болезни, бедность и
прочее,— не следует считать [самим по себе злом ]. Ведь тот, у
кого скромные потребности, не усмотрит беды в том, что он
ограничен в расходах; и тот, кто достойно несет свою бедность,
не только не будет испытывать никаких неудобств, но даже
окажется несравненно лучшим в перенесении других
[несчастий ]. Поэтому — если «быть бедным» и «разумно переносить
бедность» не суть противоположности — сама по себе бедность
не есть зло.
Удовольствие само по себе не есть ни безотносительно добро,
ни просто зло; Платон считал, что удовольствий достаточных
и сопряженных не с бесстыдством, а с похвальными
поступками, избегать не следует, но нужно отказываться от
удовольствий, самою природой отвергаемых за то, что их дарят
низменные услады. Заботы и труды, если они естественны, исходят от
самой добродетели и предпринимаются ради некоего
прекрасного служения, он полагал вожделенными; но
противоестественные и имеющие целью низменное — полагал дурными и
отвратительными. Не только скорби и удовольствия выпадают
на долю душ и осаждают тела, но есть и некоторое среднее
состояние, которое мы испытываем тогда, когда скорби нет, но
нет и радости.
XIII. Из того, что зависит от нас, первым и достохвальным
благом является добродетель,— благо взыскующего. Поэтому
- 56 -
его следует назвать прекрасным, и только то, что прекрасно,
мы считаем благом, как и злом — безобразное; и ясно, что
безобразное не может быть благом.
Дружбу Платон называет объединительницей; она
заключается в согласии, требует взаимности и,— когда любят
одинаково,— наслаждением воздает за наслаждение. Развитию
дружбы способствует, когда друг желает, чтобы тот, кого он
отличает, достигал тех же, что и он, успехов. Это стремление
к равенству оборачивается похожестью и сопровождается
равной нежностью с обеих сторон. Ведь как равные сочетаются
нерушимыми связями, так не соединяются между собой и не
пользуются дружбой других несогласные. Пороки
недружелюбия возникают из недоброжелательства, от несходства нравов
и различия в образе жизни и мысли и от противоположных
наклонностей.
Платон говорит и об иных видах дружбы, причиной
которых бывает удовольствие или родство. Любовь к
родственникам и детям естественна; а другой вид любви, чуждый
кротости, идущей от воспитания,— как раз его обычно и называют
любовью,— есть страстное вожделение; любящие,
подстрекаемые им, испытывают плотское влечение и полагают, что весь
человек есть то, что доступно взору. Такого рода душевные
порывы Платон запрещает называть дружбой, поскольку они
не обоюдны и не могут быть взаимными,— так, чтобы любовь
вызывала ответную любовь; такого рода любовь непостоянна и
непродолжительна, а кончается она пресыщением и
раскаянием.
XIV. Платон перечисляет три вида такой любви: одна —
божественная, совпадающая с непорочным умом и
добродетелью,— в ней не раскаиваются; другая, возникая в низменной
душе, ищет порочнейших наслаждений; третья, смешанная из
обеих, есть удел посредственного духа и умеренной страсти.
Души потемнее поражает плотская страсть и у них одна цель:
добиться телесного общения и в такого рода наслаждениях и
удовольствиях унять свой пыл; а души милые и утонченные
преисполнены любовью к добру, устремлены к нему и хотят
как можно лучше овладеть достойными искусствами и стать
лучше и превосходнее. Средние причастны тому и другому: не
совсем лишены телесных удовольствий, но могут пленяться и
прелестью душевных достоинств. И как тот
отвратительнейший, дикий и постыдный вид любви проистекает не из природы
вещей, но от телесного недуга и болезни, так можно быть
уверенным, что эта божественная любовь, уделенная нам
богами в качестве дара и в знак милости, проникает в
человеческие души, вдохновляемая неким небесным влечением. И есть
третий вид любви, называемый средним, проистекающий из
— 57 —
сочетания божественной и земной любви, и представляющий
собой соединение и связь равных частей той и другой: как не
чуждый разумности, он есть божественная любовь, но это и
земная любовь, поскольку она сочетается с вожделением и
наслаждением.
XV. Есть четыре вида заслуживающих наказание людей, из
которых первый — честолюбцы, следующий — стяжатели,
третий — угождающие толпе, последний — стремящиеся к
тираннии. Первый порок возникает в душе, когда ослабевает
сила разума, а возвышается и крепнет та часть души, в которой
господствует пылкое начало. Тот, что называется ολιγαρχία,
возникает тогда, когда — в силу скверного питания той части
души, которая состоит из влечений,— ими оказываются
охвачены не только места, занимаемые разумным и пылким
началами, но и те, где влечения не необходимы. Этот порок Платон
называет любостяжанием и скаредностью. Свойство угождать
толпе возникает, когда влечения, окрепшие благодаря
снисходительности, начинают разгораться не только от справедливых
потребностей, но и от тех, которые препятствуют и мешают, и
подавляют своими узами рассудительную и пылкую часть души.
Тираннический род — от роскошной и совершенно
разнузданной жизни, в которой господствует ум, целиком распаленный
наслаждениями неумеренными, разнородными и
недозволенными.
XVI. Итак, этот наихудший тип человека, говорит Платон,
не только живет жизнью позорной, преступной,
оскорбляющей богов, бесчинной, жизнью, которая противоречит
человеческой природе и правилам общежития, но даже с
приближенным и с самим собой не бывает в согласии, и до такой степени
не только другим, но и себе противоречит, и не только другим,
но себе — враг, что поэтому, будучи таким, он ни хорошим, ни
всем прочим, ни себе самому — не бывает другом. Но
наихудшим оказывается тот, кого не может остановить величайшее
злодейство; он не может собраться ни для какого дела, причем
не только в силу невежества, но потому, что он сам себя не
знает, а его совершенная порочность вносит раздор в его
замыслы, препятствует его начинаниям и решениям, не дозволяет
исполнить что-либо из того, что он хочет. В нем, наихудшем и
сквернейшем, вызывают омерзение не только
противоестественные пороки, например, зависть, радость из-за чужих
несчастий; но даже то, что природой не отвергается,-— удовольствие
и огорчение, страсть, любовь, милосердие, страх, стыд, гнев.
Поэтому получается так, что этот неумеренный ум, за что бы
он ни брался,— нигде не находит меры и поэтому ему вечно
либо чего-то недостает, либо что-то лишнее. В любви такого
- 58 -
рода людей с самого ее начала и до конца есть нечто
извращенное: при своих разнузданных страстях и неутомимой жажде
она не только желает черпать все виды удовольствия, но,
бессмысленно заблуждаясь, терзается из-за своего представления
о красоте, поскольку подлинной красоты не знает, а
влюбляется в томную, изнеженную красоту тела вялого, не опаленного
солнцем, не укрепленного в упражнениях, но ценит матовых
от тени, мягких от праздности и с немощным от чрезмерного
ухода членами.
XVII. Порочность возникает не сама собой, и
свидетельствует об этом многое; Платон называет ее несправедливостью,
бесчинством страстей и болезнью ума и считает, что люди
становятся порочными не по своей воле. Действительно, кто
добровольно допустит такое несчастье и сознательно в лучшей
части своей души поселит преступление и злодейство? А
поскольку к обладанию пороком стремятся неразумные,
постольку понятно, что порок и дурные поступки обычны у
невежественных; и поэтому хуже причинять вред, чем понести его от
других: дурные поступки могут принести вред менее ценному,
телесному и внешнему, могут ослабить и даже коварно
погубить его, однако драгоценнейшее — то, что относится к самой
душе, остается при этом невредимым. Но вредить другим —
значительно хуже, и это легко понять, поскольку такой порок
вносит пагубу в добрые души, так что тот, кто собирается
погубить другого, больше мешает себе, чем вредит тому,
против кого он злоумышляет. И поскольку причинять вред другому
есть из всех зол наибольшее, гораздо тяжелее для
причинившего вред остаться безнаказанным; и тяжелее и мучительней
всякого наказания, если виновного неожиданно оправдывают
и его не карает людское осуждение,— так даже при самых
мучительных болезнях более тяжелым, чем отсутствие
лечения, оказывается неправильное лечение, при котором
прижигают и отсекают то, что — страдая — сохраняет в целости
остальные части.
XVIII. Поэтому,-— как лучшие врачи не пытаются лечить
тела уже оплаканных безнадежно больных, боясь, что их
вмешательство только откроет путь новым страданиям,— так для
тех, чьи души пропитаны пороками и не поддаются лечению
мудрости, лучше умереть. И кому природа и задатки не
позволяют обратиться к правильной жизни, тот, по мнению
Платона, должен быть из жизни изгнан; если же его удерживает
любовь к жизни, его следует предать мудрым, чтобы их
искусством он был обращен к чему-то более правильному. Гораздо
лучше, чтобы таким человеком управляли другие, а сам он не
имел возможности управлять другими и господствовать, но нес
- 59 -
рабскую службу, поскольку тот, кто сам не способен посвятить
себя исправлению другими, скорее заслуживает участи
подчиненного, нежели повелителя. Этот наихудший тип человека
оказывается, по словам Рчатона, не только самым
ничтожным, но и самым несчастным, поскольку его терзает
разноголосица пороков и раздирает пыл вожделений; чем больше он
вожделеет, тем ущербнее он может казаться себе и другим.
Предметы его надежд и желаний немалочисленны, достаются
они величайшими мучениями, а за ними следуют еще более
пылкие страсти и безумства, и при этом не только угнетают
грядущие беды, но и мучат прошлое и пережитое. Очевидно,
что все эти люди единой смертью могут быть избавлены от
такого рода бед.
XIX. Но отменно хороших и — без промежуточных
ступеней — наисквернейших — немного, они довольно редки, или,
по словам самого Платона,— наперечет. Тех же, что и не самые
наилучшие, и не совсем скверные, но как бы остановились
посредине,— большинство. Из них лучшие не все делают
правильно, но и грешники погрязли не во всех грехах: их пороки
не чересчур тяжелы, и не чрезмерны, и не слишком
предосудительны; их природа состоит из излишеств и недостатков; их
честность и умеренность заслуживают искреннего одобрения и
шествуют средним путем между похвалой и порицанием. Их
занятие пробуждает в них рвение такого рода, что иной раз они
руководствуются соображениями добра и чести, а иной —
соблазняются бесчестной корыстью и позорными вожделениями.
Такие люди — не слишком надежные друзья, и их души
посещает любовь не всегда низкая, но все же и не благородная.
XX. Платон говорит, что совершенным мудрецом может
быть только тот, кто превосходит других одаренностью, кто
совершенен в искусствах и во многом опытен, причем это в нем
— еще с детства: он всегда поступает и говорит достойно, его
душевные порывы — чисты и сильны, его душа свободна [... ]
воздержность и терпение, а науки доступны ему благодаря
знанию и красноречию. Кто в этом продвинут, кто уверенно и
спокойно идет по пути добродетели, в ком есть прочная
жизненная основа,— тот вдруг оказывается совершенным. Это
означает, что он внезапно досягает крайних пределов
прошедшего и будущего века и в каком-то смысле оказывается вне
времени. И тогда, по исторжении как всех врожденных, так и
приобретенных пороков, все то, что относится к блаженной
жизни, уже не исходит от других, и можно ничего не
заимствовать у другого: мудрец вправе считать, что оно — в его руках.
Поэтому в удаче мудрец не заносится, в беде не унывает: он
знает, что наделен такими достоинствами, с которыми никакая
- 60 -
сила не заставит его расстаться. Такой муж не способен не
только оскорбить, но даже ответить на оскорбление. Он не
считает обидой причиненное негодяем, но сносит это с
непоколебимым терпением, поскольку в его душе высечен закон
природы: то, что считают злом прочие, не может повредить
мудрецу. Платон говорит, что мудрец, доверившийся своей совести,
сохранит спокойствие и уверенность в течение всей своей
жизни, поскольку все, случающееся с ним, он возведет к лучшим
причинам, не станет раздражаться и тяжело переживать и
убедит себя, что о нем заботятся бессмертные боги. И дня своей
смерти он ожидает без возмущения и ропота, поскольку уверен
в бессмертии души: освобожденная от телесных оков, душа
мудреца возвращается к богам и за то, что жизнь им прожита
чисто и непорочно,— разделяет божественную участь.
XXI. Того же мудреца Платон называет наилучшим и по
справедливости считает его порядочным и благоразумным,
поскольку его намерения вполне согласуются с прекраснейшими
поступками, а в побуждениях своих он исходит из
соображений справедливости. Кроме того, Платон называет мудрого
самым мужественным, поскольку — в силу крепости духа —
он способен все перенести. Вот почему мужество он называет
мышцами и хребтом духа, тогда как трусость, по его словам,
граничит с духовной немощью. Он справедливо полагает, что
только мудрец богат, поскольку, видимо, только мудрец может
обладать наряду с сокровищами тем, что гораздо драгоценнее:
добродетелью. А поскольку он один может расходовать
средства на необходимое,— мудреца нужно считать самым богатым,
тогда как другие, несмотря на обилие средств, кажутся
неимущими,— или потому, что не знают, как ими пользоваться, или
из-за того, что находят им худшее употребление. Ведь бедность
происходит не от недостатка денег, но от наличия
неумеренных желаний. А философу пристало — если он ни в чем не
нуждается, все презирает и возвышается над всем тем, что
люди считают трудновыносимым,— ничем не заниматься, так
как он стремится отделить душу от общения с телом; именно
поэтому философию следует считать стремлением к смерти
и постепенным умиранием.
XXII. Все добрые люди должны быть друзьями между собой,
даже не будучи хорошо знакомыми, и их следует считать
друзьями именно в силу того, что совпадает их образ жизни и
мыслей; ведь одинаковое легко согласуется между собой. Ясно
поэтому, что только между добрыми возможна верная дружба.
Мудрость заставляет любить юношу, правда, если он,
благодаря хорошим задаткам, оказывается расположен к добрым
поступкам. Такой склонности не может помешать телесное несо-
- 61 -
вершенство: когда мила сама душа, мил и весь человек; так,
когда домогаются тела, мила и его менее совершенная часть.
Поэтому правильно думать, что постигший добро и домогаться
будет такого рода вещей: ведь только тот воспламеняется
стремлением к добру, кто видит его очами души, и это — мудрец.
Глупец же, будучи невежественным, по необходимости
оказывается ненавистником и противником добродетелей: не
случайно он так любит позорные наслаждения. Мудрец же ни в
коем случае не станет действовать только ради одного чистого
наслаждения, если следом не обретет достойные плоды
добродетели. И он, благодаря такого рода наслаждению, будет жить
жизнью достойной, завидной, достохвальной и славной, но
возвышаться над всеми будет не только из-за этого, но из-за
того, что он один всегда наслаждается веселием и
спокойствием. Лишившись самых дорогих, он не терзается скорбью,—
либо потому, что от него самого зависит все то, что ведет к
блаженству; либо потому, что такого рода терзания запрещены
ему уставом и законом здравого смысла; и если он станет
мучить себя, то причиной этого мучения может быть либо
умерший,— как будто бы он обрел худшую долю: либо он сам,—
поскольку он скорбит, что лишился такого друга. Но не следует
поднимать плач из-за умершего, поскольку мы знаем, что он
либо не испытывает никакого зла, либо он обрел добрую долю
и даже встретился с лучшими; также из-за себя,— поскольку
тот, кто все вмещает в себе, не может из-за чьего-либо
отсутствия лишится добродетели, вечным обладателем которой он
себя объявляет. Следовательно, мудрец печалиться не станет.
XXIII. Цель мудрости — возвыситься до божественного
достоинства, и назначение мудреца в том, чтобы достичь
божественной действительности, соревнуя ей в жизни. Это
действительно может стать его уделом, если он станет мужем, достигшим
совершенной праведности, благочестия и благоразумия.
Поэтому не только в области созерцательных представлений, но и
в своей деятельности ему подобает следовать тому, что
одобряют боги и люди,— если уже высочайший из богов не только
обозревает все расчетливой мыслью, но входит в первое,
среднее и низшее и, познав его изнутри, управляет им благодаря
всеобщности и постоянству своего устрояющего предвидения.
Но в действительности все считают блаженным того, у кого
довольно разного рода благ, и кто опытен в том, как должным
образом избегать пороков. В самом деле, один вид блаженства
состоит в том, что присущие нам способности охраняют нас в
наших свершениях; другой — в том, что мы проводим жизнь,
ни в чем не нуждаясь и довольствуемся самим созерцанием.
Начало обоих видов счастья — в добродетели. И для
украшения этого святилища — добродетели — мы не нуждаемся ни в
- 62 -
чем помимо того, что считаем благами. Для жизни обычной
нужно заботиться о теле и опираться на разного рода внешние
средства, однако таким образом, чтобы они становились лучше
благодаря той же добродетели и с ее одобрения были
причислены к преимуществам блаженства, без чего их нельзя отнести и
к благам. Не случайно только добродетель может сделать
счастливейшим, потому что без нее даже при наличии всего
прочего счастья не получится.
Именно мудреца мы называем слугой и подражателем
бога и считаем, что он следует богу,— в этом смысл
выражения έπου θεφ . Он не только на протяжении жизни
совершает достойное богов и не делает того, что не угодно их
величию, но и с телом не расстается, если это не угодно богу: хотя
возможность умереть — в его руке, хотя он знает, что,
расставшись с земным, он обретет лучшее, все же он не станет звать
ее, если божественный закон не предпишет, что это
необходимо претерпеть. Хотя его смерть отмечена красою прожитой
жизни, однако грядущей славой он будет почтен еще более.
Итак, чуждый беспокойства о своей будущности, он отпускает
душу в путь к бессмертию, твердо зная, что за благочестие она
обретет обиталища блаженных и воссоединится с хороводами
богов и полубогов.
XXIV. Мнения Платона о государственном устройстве и его
наставления государственным деятелям суть следующие.
Прежде всего, он так определяет государство как таковое:
государство есть совместная жизнь множества людей, среди которых
одни — правители, другие — подчиненные; и те, и другие
соединены между собой согласием и взаимной поддержкой и
помощью, оба определяют свои обязанности одними и теми же
законами; единым государством за общими стенами будет
такое, умы обитателей которого об одном и том же прирыкнут
одинаково говорить «да» или «нет». Поэтому основатели
государств должны заботиться, чтобы население их мест
увеличивалось только до тех пор, пока они все будут известны
правителю и будут знать друг друга: тогда может быть достигнуто
всеобщее единомыслие и желание все делить поровну.
Необходимо, чтобы поистине великое государство опиралось не на
множество обитателей, а скорее на их доблести; потому что он
полагает, что мощью следует считать не мощь телесную и
богатство, которые при господстве большинства сочетаются с
неразумием и самовластием, но когда всеобщему
установлению подчиняются все жители — мужи, украшенные всеми
добродетелями и все опирающиеся на законы. А остальные
государства, если они будут основаны иначе, он не считает
здоровыми, но отвратительными и разбухающими от
болезней. Наконец, он говорит, что основаны на разуме те государ-
- 63 -
ства, которые устроены наподобие душ, так чтобы лучшая часть,
отмеченная здравомыслием и мудростью, управляла
множеством, и чтобы как она заботится о теле в целом, так и выбор
здравомыслия соблюдал выгоды всего государства. Также и
мужество, вторая часть добродетели, если оно своею силой
очистит и смирит вожделение, то оно также должно бдить в
государстве. Пусть молодые люди выполняют роль стражей
ради всеобщей пользы, но в то же время, пусть они обуздывают
и сдерживают мятежников и смутьянов, то есть худших
граждан, и при необходимости сокрушают, исходя из твердых
установлений лучшего решения. А третью часть — вожделеющую
— он сопоставляет с простолюдинами и земледельцами и
считает, что ее нужно поддерживать соразмерными доходами.
Однако он считает, что государство не может существовать,
если у его правителя нет ревностного отношения к мудрости
или если для управления избирается не тот, кого все признают
мудрейшим.
XXV. Нравственными достоинствами должны быть
наделены все граждане, для того, чтобы те, кому доверено опекать это
государство, не испытывали страсти к золоту и серебру, под
видом общего не заботились о своем благосостоянии, чтобы
отношения взаимного гостеприимства не передавались по
наследству и не были закрыты для других. Пусть они так
заботятся о своей пище и прожитке, чтобы мзда, полученная от тех,
кого они опекают, тратилась ими на совместные трапезы.
Браки также должны заключаться не частным образом, но должны
быть общими, причем выбор пар должно официально
производить само такого рода государство, а именно, мудрые
должностные лица, предназначенные к этому жребием и в
особенности пекущиеся о том, чтобы не вступали в брак разные по
общественному положению и несхожие между собой. К этому
следует прибавить полезное и необходимое смешение:
совместное вскармливание детей должно до такой степени
затруднить родителям узнавание, чтобы — не зная своих — они
считали своими всех — кого ни увидят — детей определенного
возраста и все были бы родителями всех как бы общих детей.
Помимо этого требуется своевременное заключение самих
браков, который по его мнению, будет прочным, если числа дней
будут согласовываться с музыкальной гармонией. При этом
рожденные от таких браков пусть будут приобщены к
подобающим занятиям и под общим руководством наставников будут
изучать прекраснейшие науки, причем не только мужеский
пол, но и женский, поскольку Платон полагает, что женщины
должны приобщиться ко всем тем искусствам, какие считаются
собственно мужскими, в том числе и к военным, поскольку —
раз природа у них одна — одинаковы должны быть и спосооно-
- 64 -
сти. Такого рода государство не нуждается в законах,
вводимых извне, потому что оно управляется разумом и такими
установлениями и обычаями, опираясь на которые оно не
стремится к другим законам. Итак, Платон полагает, что
государство, составленное в качестве образца и вымышленного
прообраза для действительного, должно быть таким.
XXVI. Помимо этого есть и другое — наилучшее и вполне
справедливое как по сути, так и в своих проявлениях —
государство, составленное в отличие от первого не без очевидных
предпосылок, но уже с известной опорой на действительность.
В данном случае Платон не излагает — на основе
самостоятельного исследования о строе и преимуществах этого
государства — начала и основы его возникновения, но занят тем же,
чем правитель, который, получив определенную область и
сборище толп, в соответствии с природой наличных обстоятельств
и собравшихся людей, должен создать государство,
исполненное благих законов и благих нравов. Он полагает, что в этом
государстве должно быть такое же воспитание детей и
обучение их тем же искусствам; в отношении брака, деторождения,
имущества и домоправительства он отказывается сохранять
установления первого государства, допуская парный брак по
собственному усмотрению; однако хотя собирающиеся
вступить в брак и должны при этом исходить из своего желания,—
он устанавливает, чтобы стоящие во главе всего государства
исходили из общей пользы. Поэтому богатым не запрещен брак
с менее состоятельными, и неимущим дозволено сочетаться с
обеспеченными, а те, у кого имущественное равенство,
должны обладать разными природными задатками (например, со
вспыльчивым должна сочетаться спокойная, а к человеку
уравновешенному прилепляться женщина легко возбудимая),
благодаря целительной и благодетельной силе таких предписаний
потомство, появившееся от сочетания разных природ,
улучшало свои нравственные качества и становилось крепче, и
благодаря такому слиянию мощи отдельных семейств усиливалось
государство; и сами дети, зачатые от несхожих нравственных
начал,— поскольку у них будет сходство и с тем и с другим,—
не будут лишены ни силы при ведении дел, ни понимания при
их рассмотрении. Но они должны быть воспитаны... Однако
жилища и имущество пусть у них будет частное — по
возможностям каждого, хотя он и не позволяет, чтобы его чрезмерно
накапливали из-за алчности, расточали из-за страсти к
роскоши или из-за небрежения теряли. Он велит обнародовать
законы для такого государства и призывает законодателя, когда он
что-нибудь предпринимает, печься о добродетели.
3 Заказ № 305
- 65 -
XXVII. Он считает полезным такой вид правления, который
сочетается из трех. А именно, он не находит полезным
устройство исключительно и только аристократическое или
демократическое и не оставляет без наказания ошибки правителей, но
считает, что больший счет следует предъявлять к тем, чья
власть больше. И другие виды государственного устройства,
определенные Платоном, следует считать направленными на
улучшение нравов, поэтому правителю того государства,
которое хочет сохраняться благодаря устранению ошибочного,
он советует не прежде восполнять недостающие законы и
исправлять порочные, чем изменит к лучшему пагубные обычаи и
порядки, вредящие интересам государства. И если
развращенная толпа не переменится, вняв совету и убеждению, она
должна быть вразумлена насильственно и против воли. Платон
описывает, как в государстве деятельном все множество людей
объединяется на основе уважения прав каждого и законов.
Будучи таковы, они будут любить ближних, поддерживать
избранных должностных лиц, смирять буйство нрава,
обуздывать неправду, и высоко чтить скромность и прочие
достоинства, украшающие жизнь. А ни с того, ни с сего толпа не придет
к установлению такого государственного устройства, если
прежде люди не были воспитаны в наилучших законах и
превосходных установлениях, и не научились уважать других и ладить
между собой.
XXVIII. Есть четыре рода граждан, вызывающих
осуждение: один — те, кто занимает исключительное должностное
положение; другой — меньшинство, когда у него в руках вся
власть; третий — когда к власти допускаются все без разбору;
четвертый — тиранническое господство. Первый — когда
более умные изгоняются из государства злокозненными
чиновниками и власть переходит к тем, кто ловок на руку, причем
те, кто мог бы вести дело без грубости, не добиваются власти,
но добиваются шумные и рьяные. Власть немногих возникает
тогда, когда сразу много неимущих, будучи обвинены, сами
отдают себя во власть бесчинству немногих богатых и вся власть
достается не людям достойного нрава, а богатству. Демократия
укрепляется, когда неимущее большинство, собравшись с
силами, выступает против имущества богатых и по приказу
народа проводится закон, позволяющий всем равно занимать
любые должности. В ответ на это и возникает тирания — власть
одного человека — когда тот, кто своей непокорностью рушит
законы, выдвигается в результате подобного
противозаконного заговора, получает власть, и в конце концов устанавливает,
чтобы все граждане, подчиняясь его вожделениям и страстям,
так проявляли свою покорность.
АЛКИНОЙ
УЧЕБНИК ПЛАТОНОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
1.1. Перед вами учебное руководство по основам
платоновской философии. Философия есть тяга к мудрости, или
отрешение и отвращение от тела души, обратившейся к
умопостигаемому и истинно сущему; мудрость состоит в познании дел
божественных и человеческих.
2. Имя «философ» происходит от «философии», как
«музыкант» — от «музыки». У философа, во-первых, должна быть
природная склонность к наукам, приобщающим и подводящим
к знанию умопостигаемого, а не изменчивого и текучего; во-
вторых, он должен любить истину и ни в коем случае не
допускать лжи; кроме того, он должен быть как-то от природы
скромным и по натуре спокойным в смысле душевных
волнений, поскольку тот, кто предан наукам о сущем и на них
направляет свои устремления, не станет гнаться за
удовольствиями.
3. Еще будущему философу нужно обладать
независимостью суждения: мелочные соображения всего более враждебны
душе будущего созерцателя божества и человека. И он должен
быть от природы справедлив. Только когда он правдолюбив,
независим и сдержан, ему пойдут впрок способности и память,
которые также отличают философа.
4. Такие природные задатки в сочетании с правильным
обучением и соответствующим воспитанием дают образцы
совершенной добродетели; но если оставить их без внимания, они
становятся причиной величайших зол. По имени
соответствующих добродетелей Платон называет их скромностью
( σωφροσύνη ), мужеством и справедливостью.
II. 1. Есть два рода жизни: созерцательная и деятельная.
Главное в созерцательной жизни — знать истину, а в
деятельной — делать то, что велит разум. Жизнь созерцательная
хороша сама по себе, а деятельная — поскольку необходима. Что
это так, ясно из следующего.
2. Созерцание есть действие ума, мыслящего
умопостигаемое, а деятельность — действие разумной души, происходящее
с помощью тела. Считается, что душа, созерцающая
божественное и мысли божьи, получает удовольствие, и это ее
состояние называется размышлением, которое, можно сказать, ничем
не отличается от уподобления божеству. Поэтому созерцание
— самое важное и ценное, самое желанное и притягательное,
— 67 —
всегда доступное и зависящее от нас самих — одним словом,
то, ради чего мы стремимся к поставленной цели. А в
деятельности и делах практических, совершаемых с помощью тела,
могут встретиться препятствия; поэтому ими следует
заниматься только тогда, когда к обычным человеческим заботам
ведут предметы, относящиеся к созерцательной жизни.
3. В самом деле, ревностный обращается к общественным
делам, когда замечает, что они идут плохо. Поневоле
становится он полководцем, судьей или послом, наилучшей и самой
важной деятельностью считая законодательство, устроение
государства и воспитание молодых. Итак, философу пристало
непрерывное созерцание: его он должен постоянно питать и
усиливать, а к жизни деятельной обращаться постольку-по-
скольку.
III. 1. Согласно Платону, философ ревностно занимается
тремя вещами: он созерцает и знает сущее, творит добро и
теоретически рассматривает смысл ( λόγος ) речей. Знание
сущего называется теорией, знание того, как нужно
поступать,— практикой, знание смысла речей — диалектикой.
2. Части диалектики: разделение, определение, анализ,
индукция, силлогизм. Виды силлогизма: доказательство — в
случае необходимого умозаключения; [фактический] вывод
( επιχείρημα ) — в случае вероятного умозаключения;
риторическое умозаключение, или энтимема, называемая
несовершенным силлогизмом. Кроме того, бывают софизмы; они хотя
и не главное для философа, но необходимы.
3. Один аспект практической философии — воспитание
характер, другой — домоправительство, третий — государство
и его благо. Первый называется этикой, второй — экономикой,
третий — политикой.
4. Одна часть теоретической философии — теология —
имеет дело с неподвижными и первыми причинами, а также с
божеством; другая — физика — изучает движение звезд, их
обращение и возвращение, а также устройство космоса;
математике подлежит то, что рассматривает геометрия и прочие
такого рода науки.
5. Проведя расчленение и разделение видов философии,
скажем сначала, как понимает Платон диалектику, и прежде
всего — о критерии.
IV. 1. Если есть некая способность суждения, есть и предмет
суждения; но тогда должно быть и нечто получающееся от их
сочетания, говоря иначе — само суждение. В более
специальном смысле критерием называется суждение, в более общем —
также и способность суждения. Способность суждения двояка:
одно в ней — источник суждения, другое — орудие. Первое —
- 68 -
наш ум; второе, орудие,— некий природный орган
различения, во-первых, истины, во-вторых, лжи; и это — не что иное,
как природный разум ( λόγος ).
2. Говоря яснее, судит о впечатлениях философ,
различающий предметы; но судит также и различающий истину разум,
названный органом различения. Разум двояк: один —
совершенно непостижимый и в то же время достоверный; другой —
безошибочно знающий предметы; из них первый присущ богу
и недоступен для человека, а второй доступен и для человека.
3. Он также двоякого рода: один относится к
умопостигаемому, другой — к чувственному. Разум, относящийся к
умопостигаемому, есть наука — это научный разум; а к
чувственному относится мнящий разум — это мнение. Научный разум
верен и постоянен, поскольку он разумеет верное и
постоянное. Вероятностный и мнящий всего лишь правдоподобен, так
как он разумеет непостоянное.
4. Началами знания об умопостигаемом и мнения о
чувственном являются мышление и ощущение. Ощущение есть
состояние души в теле, свидетельствующее прежде всего об
испытанном воздействии; а когда в душе благодаря органам
чувств возникает ощутимый отпечаток (т. е. собственно
ощущение), который с течением времени не изглаживается, а
остается и сохраняется,— это его сохранение называется
памятью.
5. Мнение есть соединение памяти и ощущения. Когда мы
впервые ощущаем некий предмет, и от него в нас возникает
ощущение, которое запоминается, а затем мы еще раз
сталкиваемся с тем же самым предметом,— тогда мы соединяем
возникающее на этот раз ощущение с памятью о прежнем и
говорим про себя, что это, например, Сократ, конь, огонь и т. д. Вот
это соединение памяти о прежнем ощущении с вновь
испытанным ощущением и называется мнением. Когда одно
согласуется с другим, мнение оказывается истинным, когда они
расходятся — ложным. Если кто-то помнит Сократа и, встретив
Платона, думает из-за какого-то сходства, что опять
встретился с Сократом, а затем, принимая образ Платона за образ
Сократа, соединяет его с воспоминанием о Сократе,—
возникает ложное мнение. То, в чем возникает память и ощущение,
Платон уподобляет восковой табличке. Когда душа составляет
мнение на основе ощущения и памяти, а затем, размышляя,
смотрит на него как на то, благодаря чему оно возникло,
Платон называет это воспроизведением, а иногда — образным
представлением. Размышлением он называет разговор души с
самой собой, а речью — идущее от нее изустное истечение
звуков.
6. Мышление есть действие ума, созерцающего первично
умопостигаемое. Оно двояко: одно — до внедрения души в
- 69 -
данное тело, когда душа созерцает умопостигаемое; другое —
после внедрения в данное тело. Собственно мышлением
называется то, что существует до внедрения души в тело; после
внедрения души в тело то, что раньше называлось мышлением,
теперь лучше назвать природным понятием, т. е. некоей
мыслью, заложенной в душе. Говоря «мышление есть начало
научного разума», мы имеем ввиду не это последнее, но мышление
души, отделенной от тела, т. е. то, которое, как сказано, раньше
называлось мышлением, а теперь называется природным
понятием. Это природное понятие Платон называет также
простым знанием и крыльями души, а иногда — памятью.
7. Из простых знаний составлен природный научный разум,
наличный от природы. Но поскольку наряду с научным
разумом есть разум мнящий и наряду с мышлением ощущение,
различают и их объекты: умопостигаемое и чувственное. И
поскольку умопостигаемое бывает первичным (идеи) и
вторичным (эйдосы в материи, неотделимые от материи), двояко
и мышление: одно мыслит первичное, другое — вторичное. А
поскольку ощущаемое также бывает первичным — качества
(например, белизна) — и вторичным — свойства (например,
нечто белого цвета), а также бывают соединения (например,
огонь, мед), то и ощущение, относящееся к первичному, будет
называться первичным, а ко вторичному — вторичным. О
первично умопостигаемом — обобщенно и неподробно — судит
мышление не без научного разума, а о вторичном судит
научный разум не без мышления. О первично и вторично
ощущаемом ощущение судит не без мнящего разума, а о соединении —
мнящий разум не без ощущения.
8. Умопостигаемый космос есть первично умопостигаемое,
а ощущаемый — соединение. Об умопостигаемом космосе
судит мышление с осмыслением ( λόγου ), точнее, не без
осмысления, а об ощущаемом — мнящий разум не без ощущения.
Поскольку созерцание отличается от действия,
непосредственный разум неодинаково судит о предмете созерцания и о делах:
созерцая, он выясняет истину и ложь, а в делах — подходящее,
неподходящее и само дело. Благодаря тому что у нас есть
природные понятия красоты и добра, мы, пользуясь разумом и
сообразуясь с природными понятиями как с некими мерилами,
судим: так обстоит дело или по-другому.
V. I. Первым началом диалектики можно считать
усмотрение сущности всякой вещи, затем усмотрение ее свойств.
Диалектика рассматривает то, чем является всякая вещь, сверху
вниз — путем разделения и определения — и снизу вверх —
путем анализа; принадлежащие сущности свойства она
рассматривает, идя от менее общего — путем индукции и от более
общего — путем силлогизма. Поэтому части диалектики суть
- 70 -
разделение, определение, анализ, а также индукция и
силлогизм.
2. Разделение есть рассечение рода на виды, целого на
части. Так, душу мы рассекаем на осмысливающую и аффициру-
емую, аффицируемую — на пылкую и вожделеющую. Слово
мы разделяем по его значениям; например, одно и то же слово
обозначает несколько предметов. Свойства разделяются по
принадлежности; например, относительно благ мы говорим, что
одни относятся к душе, другие — к телу, а третьи суть внешние
блага. Предметы разделяются по свойствам; например, мы
говорим, что одни люди — хорошие, другие — плохие, а третьи
— ни то ни се.
3. Применять разделение рода на виды нужно прежде всего
при установлении сущности каждой вещи, что невозможно без
определения. Определение на основании разделения
возникает так: нужно взять род определяемой вещи (например, для
человека — животное), затем нужно рассекать его, доходя по
смежным различиям вплоть до видов (например, разумное —
неразумное, смертное — бессмертное), чтобы при составлении
смежных различий с тем родом, которому они принадлежат,
получилось определение человека.
4. Видов анализа три: восхождение от ощущаемого к
первично умопостигаемому; восхождение — с помощью
демонстраций и примеров — к положениям не требущим доказательства
и усматриваемым непосредственно; восхождение от посылок к
беспредпосылочным началам.
5. Пример первого вида: от телесной красоты мы переходим
к красоте души, от нее — к красоте обычаев, от нее — к красоте
законов, затем к великому морю красоты, затем — путем
такого перехода — получаем остаток: само прекрасное. Второй
вид анализа таков. Нужно взять искомое в качестве
предположения, рассмотреть, что ему предшествует, показать это,
восходя от позднейшего к более раннему и доходя до первого и
общепризнанного; затем, начав с него, переходить к искомому
путем составления. Например, я исследую, бессмертна ли душа.
Предположив это, я исследую, является ли она вечнодвижу-
щейся. Показав это, исследую, самодвижно ли вечнодвижуще-
еся. Показав это, смотрю, является ли самодвижное началом
движения, а начало — нерожденным. Последнее
общепризнано, а как нерожденное оно и не гибнет. Начав с этого
очевидного положения, составлю следующее доказательство: если
начало не возникает и не гибнет, начало движения
самодвижно, а самодвижное — душа, то душа не гибнет, не рождается и
бессмертна.
6. Анализ на основе предположения таков. Исследующий
нечто предполагает это в качестве данного, затем смотрит, что
вытекает из данного предположения. После этого, если пред-
— 71 —
положение нужно обосновать, он делает другое
предположение, и исследует, вытекает ли прежнее положение из данного,
и так далее, пока не дойдет до некоего беспредпосылочного
начала.
7. Индукцией называется метод перехода посредством
рассуждений от подобного к подобному или от частного к общему;
индукция более всего способна пробудить природные понятия.
VI. 1. Речи, называемой предложением,— два вида:
утверждение и отрицание. Утверждение: «Сократ прогуливается».
Отрицание: «Сократ не прогуливается», отрицать и
утверждать можно в целом и отчасти. Частное утверждение: «Некое
удовольствие хорошо»; частное отрицание: «Некое
удовольствие нехорошо». Общее утверждение: «Всякое безобразие
дурно»; общее отрицание: «Ничто безобразное не хорошо».
2. Предложения бывают утвердительные и
предположительные; утвердительные просты, например: «Все
справедливое прекрасно»; предположительные показывают совместимость
и несовместимость.
3. Платон применяет силлогизмы при опровержении и
объяснении: исследуя, опровергает ложное; обучая, объясняет
истинное. Силлогизм есть вывод, в котором из самих исходных
посылок с необходимостью следует нечто от них отличное.
Одни силлогизмы — категорические, другие —
гипотетические, третьи — смешанные из тех и других. В категорических
посылки и заключения являются простыми предложениями; в
гипотетических—состоят из условных предложений;
смешанные сочетают те и другие.
4. Платон применяет аподиктические силлогизмы в
наставительных диалогах, вероятностные — против софистов и
неопытных, эристические — против в собственном смысле слова
спорщиков, например против Евтидема и Гиппия.
5. Фигур категорического силлогизма — три. Первая:
средний термин в одной части является предикатом, в другой —
субъектом. Вторая: средний термин в обеих посылках является
предикатом. Третья: средний термин в обеих посылках
является субъектом. Терминами я называю части предложения,
например: «Человек — живое существо»; «человек» — термин,
«живое существо» — термин. Платон часто строит вопросы как
по первой фигуре, так и по второй и по третьей. По первой в
«Алкивиаде» так: справедливое прекрасно, прекрасное
хорошо, следовательно, справедливое — хорошо. По второй в «Пар-
мениде» так: то, что лишено частей, не есть прямое или
изогнутое; являющееся фигурой — ■ или прямое, или изогнутое,
следовательно, то, что лишено частей, не является фигурой.
По третьей в том же диалоге так: являющееся фигурой есть
- 72 -
некое качество; являющееся фигурой ограничено;
следовательно, качество — ограничено.
6. Гипотетические силлогизмы, построенные в виде
вопросов, можно найти во многих книжках, особенно в «Пармени-
де»: если единое лишено частей, у него нет начала, середины и
конца, а если у него нет начала, середины и конца, то нет и
границы; если у него нет границы, оно не является фигурой;
следовательно, если единое не имеет частей, оно не является
фигурой. По второй гипотетической фигуре, которую чаще
называют третьей,— когда средний термин в обеих посылках
входит в заключение — вопрос задается так: если единое
лишено частей, оно — ни прямое, ни изогнутое; если нечто
является фигурой, оно — или прямое, или изогнутое;
следовательно, если не имеет частей — не является фигурой. Так и третью
фигуру (согласно иным — вторую), когда средний термин в
обеих посылках входит в условие, в «Федоне» он использует в
вопросе вот как: если, приобретя знание равного, мы не
забыли, мы знаем; если забыли — припоминаем.
7. У него встречаются и смешанные силлогизмы.
Утвердительный на основании соответствия таков: если единое —
целое и ограниченное, то, обладая началом, серединой и концом,
оно причастно фигуре; первое истинно; следовательно,
истинно и второе.
8. С помощью примера можно понять, каковы особенности
и отрицательных смешанных силлогизмов на основании
соответствия. Итак, кто хорошо различает способности души у
разных людей и виды речей, соответствующие той или иной
душе, а также тонко чувствует, какими речами можно
убедить, тот при удачной практике будет хорошим ритором, и его
риторику справедливо назвать знанием хорошей речи.
9. Описание того, как использовать софизмы, мы можем
найти у Платона, внимательно прочитав «Евтидема», где
показано, какие софизмы относятся к словам, какие к предметам
и как их разрешать.
10. На десять категорий есть указания в «Пармениде» и в
других диалогах, вся этимология подробно изложена в «Крати-
ле». Его прямо-таки великолепные и необыкновенные
определения и разделения все демонстрируют чрезвычайную
диалектическую силу. А смысл «Кратила» таков. Платон исследует,
от приводы имена или по установлению. По его мнению,
правильные имена устанавливаются, но не как попало, а в
соответствии с природою вещи, поскольку правильно наименовать
— значит дать имя, согласное с природою вещи. Одного какого
попало наложения имен для правильности недостаточно,
равно как одной природы и простого возгласа; необходимо
сочетание того и другого, при котором любое имя налагается в силу
его соответствия природе вещи. При случайном наложении у
- 73 -
имени, конечно, не будет правильного значения, например если
назвать человека лошадью. Кроме того, речь есть
определенная последовательность действий; нельзя говорить правильно,
говоря как попало, но только так, чтобы речь соответствовала
природе предметов. Поскольку одна из функций речи —
именовать, а одна из частей речи — имя, то дать правильное или
неправильное имя нельзя путем случайного наложения, но
только благодаря природному соответствию между именем и
вещью. Поэтому тот именедатель лучше других, кто в имени
выражает природу вещи: имя не случайный придаток вещи,
оно — инструмент, согласованный с ее природой. С его
помощью мы объясняем друг другу предметы и различаем их.
Поэтому имя есть инструмент обучения и различения
сущности каждой вещи, как челнок — инструмент для изготовления
ткани.
11. Правильное употребление имен тоже относится к
диалектике. Как челноком пользуется ткач, знающий его
свойства, хотя изготовляет его плотник, так и данным именедателем
именем умело и кстати пользуется диалектик. Плотник
сделает кормило, а хорошо им пользоваться — дело кормчего. А
именедатель даже хорошо установить имя может только тогда,
когда ему помогает диалектик, знающий природу предмета.
VII. 1. Очерк диалектики закончим на этом. Теперь речь
пойдет о теоретической философии. В ней три части: теология,
физика и математика. Предмет теологии — первые причины и
знание высших начал; предмет физики — изучение природы
универсума, человек как живое существо и его место в мире,
промысл божий о мировом целом и подчинение ему других
богов, отношения между людьми и богами; предмет
математики — исследование плоскости и объема, вопросы движения и
перемещения.
2. Сначала рассмотрим основы математики. Математику
Платон допускает ради того, что она, по его мнению, изощряет
мысль, оттачивает душу и позволяет достичь точности в
исследовании бытия. Часть математики, посвященная числам,
заставляет подходить к сущему не со стороны его случайных
особенностей, но отучает нас от неопределенности и
недостоверности чувственно воспринимаемого, помогает познать
сущность; на войне она применима при решении тактических
задач. Также и геометрия весьма способствует познанию блага,
если, конечно, подходить к ней не ради практических целей, а
для восхождения к вечно сущему, без обращения к
возникающему и гибнущему.
3. Также крайне полезна и стереометрия, поскольку за
изучением двухмерных фигур следует изучение трехмерных тел.
Полезна и астрономия, четвертая дисциплина, рассматриваю-
— 74 —
щая движение звезд по небу и самого неба, а также создателя
ночи и дня, месяцев и лет. А после этого мы известным путем
перейдем к поискам создателя универсума, используя эти
дисциплины в качестве подспорья и азбуки.
4. Устремляясь к тождественному слухом, не забудем о
музыке: как к астрономии — зрение, так к гармонии относится
слух. И как астрономия обращает взор от зримого к незримому
и подводит к умопостигаемому бытию, так и восприятие
гармоничных звуков позволяет перейти от слышимого к
умозрению тождественного. Без прохождения данного курса наук
наши попытки рассматривать тождественное будут
совершенно бесцельны, бесполезны и бессмысленны. В самом деле, от
зримого и слышимого мы должны непосредственно переходить
к тому, что может увидеть только размышляющая душа. Так
вот, изучение этих дисциплин есть своего рода введение к
рассмотрению сущего: в своем стремлении постичь сущее
геометрия, арифметика и связанные с ними дисциплины грезят о
нем, хотя и не способны увидеть его въяве. Итак, они, как было
сказано, совершенно необходимы, но не знают начал и того,
что из начал складывается.
5. Поэтому Платон не называет эти дисциплины науками.
А диалектический метод действительно по своей природе
восходит от предпосылок геометрии к первым беспредпосылоч-
ным началам. Поэтому он называет диалектику наукой, а
указанные дисциплины не называет ни мнением, потому что они
более ясные, чем ощущения; ни наукой, потому что они менее
отчетливы, чем первично умопостигаемое; но мнение он
связывает с телами, науку — с первичными сущностями, а
указанные дисциплины — с размышлением. Что касается веры и
уподобления, то веру он относит к ощущаемому, а
уподобление — к отображениям и образам. Поскольку диалектика
сильнее дисциплин и имеет дело с божественным и постоянным, она
стоит выше дисциплин, как бы их увенчивая или охраняя.
VIII. 1. После этого следует сказать о началах и о
теологических учениях, начав сверху, с первоначал; от них перейти к
рассмотрению того, как возник космос, а закончить
возникновением и природой человека. Прежде всего скажем о материи.
2. Платон называет ее принимающей любые оттиски и все-
приемницей, кормилицей, матерью и пространством, а кроме
того — подлежащим, осязаемым неощущаемо и постигаемым
путем незаконного умозаключения. Ей свойственно вмещать
всякое рождение, а имя «кормилицы» она носит потому, что
допускает и воспринимает все виды, причем сама остается
лишенной формы, качества и вида, хотя и создает в себе их
слепки и отпечатки, будучи как бы «принимающей любые
оттиски», принимающей от них очертания, а своих очертаний
- 75 —
и качеств не имеющая. Не может принимать разнообразные
отпечатки и формы то, что само не лишено тех качеств и видов,
которые предстоит принять. По этой причине составители
благовонных притираний используют масло, не имеющее своего
запаха; и ваятель, собираясь лепить из воска или глины,
размягчает их и лишает очертаний, чтобы они могли принять
нужные формы.
3. Поэтому и всеприемлющая материя, чтобы полностью
вместить виды, должна быть субстратом, совершенно их
лишенным, не имеющим — ради восприятия видов — ни
качества, ни вида. Как таковая, она не может быть ни телом, ни
бестелесным, но—телом в возможности, в том смысле, в каком
медь называется статуей в возможности, раз с принятием вида
она будет статуей.
IX. 1. Помимо материи Платон в качестве начал признает
образец, т. е. идеи, и бога — отца и причину всего. Идея у бога
есть его мышление, для нас она — первое умопостигаемое, в
материи — мера, для чувственного космоса — образец, в себе
— сущность. Вообще все возникающее по замыслу должно
возникать в соответствии с чем-либо: до него (как в случае
возникновения чего-то одного от другого, например от меня —
моего отражения) должен существовать образец. И хотя не для
всего есть внешний образец, любой ремесленник всегда
придерживается образца в себе самом, а его форму воспроизводит
в материи.
2. Идея определяется как вечный образец для естественно
( κατά ψύσιν ) существующего, поскольку, по мнению
большинства платоников, нет идей для создаваемого искусственно,
например для щита или лиры; для того, что нарушает
естественный порядок, например для лихорадки или холеры; для
отдельного, например для Сократа и Платона, а также для
ничтожного, например для грязи или сора, и для
относительного, например для большего или меньшего. Все это потому-,
что идеи суть вечные и самодовлеющие акты божественного
мышления.
3. В существовании идей можно убедиться и так. Ум ли бог
или вообще нечто мыслящее,— оно должно иметь мысли,
причем мысли вечные и неизменные; а раз так — существуют
идеи. В самом деле, раз материя по своему собственному
смыслу лишена меры, она должна столкнуться с чем-то иным,
лучшим, нематериальным, с мерами; но первое — верно;
следовательно, верно и второе. А раз так, значит, идеи суть некие
бестелесные меры. Кроме того, если этот космос таков не
самопроизвольно, т. е. если он возник не только «из чего», но и «от
кого», более того — «в уподоблении чему», значит, то, в упо-
- 76 -
добление чему он возник, есть ли иное, нежели идея? Итак,
идеи должны существовать.
4. Кроме того, если ум отличается от правильного мнения,
то умопостигаемое отлично от мнимого; если это так, то
умопостигаемые сущности — иные, чем мнимые, и должны
существовать первично умопостигаемое и первично ощущаемое;
если это так, значит, существуют идеи; но ум действительно
отличается от правильного мнения, следовательно, идеи
должны существовать.
X. 1. Теперь нужно сказать о третьем начале, которое
Платон считает почти что невыразимым. Мы можем подойти к
нему так. Если есть умопостигаемое и оно не есть ощущаемое
и не причастно ощущаемому, но причастно первично
умопостигаемому,— первично умопостигаемое должно быть простым,
как и первично ощущаемое. Первое — верно; следовательно,
верно и второе. Поскольку люди полны чувственных
впечатлений, они, даже решив мыслить умопостигаемое,
представляют нечто ощущаемое; мысленно приписывая
умопостигаемому величину, очертания, цвет, они не могут мыслить его в его
чистоте, тогда как боги, будучи свободны от ощущений,
мыслят его чисто и вне смешения.
2. Поскольку ум лучше души и, как ум, актуально
мыслящий все совокупно и вечно, он лучше ума в возможности и
прекраснее его, будучи его причиной и тем, что выше всего
остального,— он и будет первым богом, причиной того, что
вечно действует ум целокупного неба. Первый ум действует на
него, сам будучи неподвижным,— как солнце на зрение,
обращенное к нему, и как предмет вожделения движет
вожделеющим, оставаясь неподвижным. Так и первый ум движет умом
целокупного неба.
3. Как первый ум он самый прекрасный, и предмет его
мысли тоже самый прекрасный, но не более прекрасный, чем
он сам: он вечно мыслит себя самого и свои мысли, и это его
действие есть идея. Как первый бог он вечен, невыразим, само-
довлеющ (т. е. ни в чем не нуждается), вечносовершенен (т. е.
совершенен всегда), всесовершенен (т. е. совершенен во всех
отношениях) ; он есть божество, бытие, истина, соразмерность,
благо. Я говорю так не для того, чтобы разделить все это, но
чтобы во всем этом мыслить его единым. Он благ, потому что
он благодетельствует всему, насколько каждому посильно
вместить его, и он — причина всякого блага. Он прекрасен, потому
что его очертания естественно совершенны и соразмерны. Он
истина, потому что он — начало всякой истины, как солнце —
начало всякого света. И он отец, потому что он — причина
всего и упорядочивает небесный ум и мировую душу,
уподобляя их себе и своим помыслам. По своей воле он все наполнил
— 77 —
собою, пробудив мировую душу и обратив ее к себе как к
причине ее ума, который, будучи упорядочен отцом,
упорядочивает всю внутрикосмическую природу.
4. Он невыразим и, как сказано, постижим только для ума,
поскольку он — не род, не вид, не различие. Нельзя говорить
о его свойствах: он — не зло (говорить так — неблагочестиво),
не благо (таковым он может стать по причастию чему-либо, а
именно благу как таковому), не безразличное (это не входит в
понятие о нем), не качество (он не обретал качества и не
становился совершенным под влиянием некоего качества), не
бескачественное (он не лишен качеств следующего за ним) ; он
не часть чего-либо, но и не целое, имеющее части; он ничему
не тождествен, но и ни от чего не отличен: у него нет такого
свойства, которое могло бы отделять его от чего-либо; он не
движется и не движет.
5. Путем такого рода отвлечения возникает первоначальное
мысленное представление ( νόησις ) о нем: так точку мы
мыслим путем отвлечения от чувственно воспринимаемого,
представляя плоскость, затем линию и, наконец, точку. Во-вторых,
его можно представить себе мысленно путем аналогии
примерно так: как солнце соотносится со зрящим и зримым, само не
будучи зрением, а только позволяя одному видеть, а другому
быть видимым, так и первый ум соотносится с мышлением,
доступным душе и мыслимым ею: он не есть само ее мышление,
а только уделяет ей мыслительную способность и мыслимость
— мыслимому, освещая доступную этой сфере истину.
6. В-третьих, можно мысленно представить его так: пусть
некая душа созерцает прекрасное в телах, потом переходит к
прекрасному в душе, потом — к прекрасному в обычаях и
законах, потом — к великому морю красоты, после чего пусть
мыслит благо само по себе и желанное и вожделенное,
наподобие света, явленного и просиявшего для восходящей так души,
который по преизбытку его достоинства пусть она мысленно
представит и богом.
7. У него нет частей в силу отсутствия предшествующего
ему: часть и «то, из чего» прежде того, что из частей
составляется, например плоскость прежде объемного тела, а линия
прежде плоскости; поскольку у него нет частей, он неподвижен
— ив смысле пространственного перемещения, и в смысле
изменения. В самом деле, если он станет меняться, то или
благодаря самому себе, или благодаря иному; и если благодаря
иному, то последнее будет сильнее его; а если благодаря
самому себе, он может измениться к худшему или к лучшему;
однако и то и другое нелепо. Из всего этого ясно, что он
бестелесен; это же можно показать и иначе. Если бы бог был телом,
он состоял бы из материи и вида, раз всякое тело есть некое
сочетание материи и соединенного с нею вида, уподобляемого
- 78 —
идеям и причастного им неким невыразимым способом. Но
нелепо богу быть составленным из материи и вида, поскольку
в таком случае он не будет ни простым, ни первоначальным;
поэтому бог бестелесен.
8. И еще. Если бог — тело, значит, он материален, т. е. он
вода, или земля, или воздух, или что-нибудь в таком роде; но
все такое не первоначально. Кроме того, если он будет
материален, он окажется после материи. Поскольку все это нелепо,
нужно признать, что он бестелесен: будь он телом, он был бы
подвержен уничтожению, возникновению и переменам; но все
это нелепо по отношению к нему.
XI. 1. Таким же образом можно показать и то, что качества
бестелесны. Всякое тело есть субстрат, но качество — не
субстрат, а свойство; следовательно, качество — не тело. Всякое
свойство принадлежит некоему субстрату, но тело не
принадлежит субстрату; следовательно, качество — не тело. Кроме
того, одно качество противоположно другому, а тело телу —
нет; одно тело своей телесностью ничем не отличается от
другого: оно отличается качеством, но не телесностью, клянусь
Зевсом; поэтому качества —- не тела. И в высшей степени
верно, что материя бескачественна, а качества
нематериальны; но если качество нематериально, значит, оно бестелесно.
Будь качества телами, в одном и том же месте оказывалось бы
по два и по три тела, что верх нелепости. И если качества
бестелесны, начало, их создавшее, также бестелесно.
2. Кроме того, бестелесными будут и действующие начала,
поскольку тела подвержены воздействиям и текучи, никогда
не бывают теми же самыми и в одном и том же состоянии, не
постоянны и не устойчивы, так что даже там, где кажется,
будто они проявляют какую-то активность, гораздо раньше
обнаруживается их подверженность воздействиям. И как есть
чисто страдательное, так же необходимо быть и в подлинном
смысле деятельному; и мы найдем, что оно есть именно
бестелесное.
3. Таково рассуждение о началах, или то, что называют
теологией. Теперь перейдем к разделу, именуемому физикой,
начав так.
XII. 1. Поскольку для существующего от природы
единичного чувственно воспринимаемого идеи суть определенные
образцы, они же должны быть знаниями и определениями этого:
за всеми людьми мыслится один человек, за всеми конями —
один конь и вообще за всеми живыми существами —
нерожденное и негибнущее живое существо. Как одна печать может
давать множество отпечатков, так от одного человека
возникает тысяча отображений. Поскольку идея есть изначальная при-
- 79 -
чина того, что каждое таково, какова она сама, необходимо,
чтобы и космос, это прекраснейшее сооружение, был создан
богом с оглядкой на некую идею космоса как на образец для
данного космоса, как бы срисованного с нее; и демиург создал
его в уподобление ей по своему предивному промыслу и
решению, а приступил к созиданию мира, потому что был благ.
2. Он создавал его из всей материи, которая до появления
неба двигалась беспорядочно и нескладно, и которую он из
беспорядка привел в наилучший порядок, придав красоту
частям с помощью подобающих чисел и очертаний и отделив огонь
и землю от воздуха и воды; это их состояние и теперь, а до
разделения, имея следы и приметы свойств элементов, они
беспорядочно и неумеренно сотрясали материю и сами были
сотрясаемы в ней. Итак, он породил мир, взявши каждый из
элементов целиком, т. е. весь огонь и землю, воду и воздух, не
упустив ни одной их части или свойства. Он решил, что
возникшее должно прежде всего иметь вид тела и вообще быть
осязаемым и зримым; а так как без огня и земли не может быть
ничего зримого и осязаемого, естественным было решение
создать его из земли и огня. Также нужна была некая скрепа,
которая, находясь посредине, соединяла бы обе крайности,—
некая божественная скрепа пропорции, делающая единым
себя самое и скрепляемое ею. При этом, поскольку космос был не
плоским, а шарообразным, ему едва ли хватило бы одного
среднего члена, так что для слаженности понадобилось два
средних члена. Поэтому между огнем и землей были по типу
пропорции помещены воздух и вода. Именно, как огонь
относится к воздуху, так воздух к воде, вода к земле, и наоборот.
3. Ничего не оставив вне этого, он создал космос
однородным и численно уподобленным идее, которая одна, а кроме
того — не знающим недугов и нестареющим, поскольку ничто
губительное к нему не присоединяется. Он самодовлеющ и ни
в чем извне не нуждается. Ему сообщены очертания шара,
поскольку шар наиболее приятен на вид, вместителен и
подвижен. Поскольку он не нуждался ни в зрении, ни в слухе, ни в
чем ином такого рода, бог не стал прилаживать ему эти органы
и, лишив его всех прочих видов движения, придал ему только
движение по кругу, свойственное уму и размышлению.
XIII. 1. Космос состоит из двух составляющих: тела и души.
Поскольку тело видимо и осязаемо, а душа невидима и
неосязаема, свойства и состояния того и другого оказываются
различными. Тело космоса возникло из огня и земли, воды и
воздуха. Этим четырем — не буквам, клянусь Зевсом, а слогам
— космический демиург придал очертания пирамиды, куба,
октаэдра, икосаэдра и всем вместе — додекаэдра. И когда
материя принимала форму пирамиды — возникал огонь, по-
- 80 -
скольку эта фигура самая остроугольная, состоящая из
мельчайших треугольников, и значит самая тонкая. С формой
октаэдра материя принимала качества воздуха; став икосаэдром,
получала качества воды; а фигура куба создавала землю,
самую плотную и устойчивую. Фигурой додекаэдра он
воспользовался для целокупности.
2. Из всего этого первичнее всего плоскость, поскольку
плоскость предшествует объему. Из всех плоских фигур первичны
два прекраснейших треугольника — прямоугольные: неравно-
бедренный и равнобедренный. Один угол неравнобедренного
прямой, другой — две трети прямого, третий — одна треть.
Первый прямоугольник, т. е. неравнобедренный, становится
элементом пирамиды, октаэдра и икосаэдра: пирамида состоит
из четырех равносторонних треугольников, каждый из
которых делится на шесть названных неравнобедренных
треугольников; октаэдр — из восьми, каждый из которых также делится
на шесть неравнобедренных; икосаэдр — из двадцати. Другой
треугольник, т. е. равнобедренный, входит в состав куба:
четыре равнобедренных треугольника, соединившись, составляют
квадрат, а из шести таких квадратов состоит куб. Форма
додекаэдра была использована для целокупности, поскольку на
небе мы видим двенадцать знаков зодиака, составляющих
зодиакальный круг, и каждый из них делится на тридцать частей;
так и додекаэдр состоит из двенадцати пятиугольников,
разделяемых на пять треугольников, в каждом из которых шесть
треугольников; поэтому всего мы находим в додекаэдре триста
шестьдесят треугольников, т. е. столько же, сколько частей в
зодиаке.
3. Когда материя получила от бога их отпечатки, она
сначала стала двигаться, как и прежде, беспорядочно, а затем была
приведена богом в порядок, и все было с помощью пропорции
связано одно с другим. Но, будучи разделено в пространстве,
все это не стоит на месте, а непрерывно сотрясается и сотрясает
материю, потому что теснимые вращением космоса элементы
сталкиваются, и тончайшее, сбиваясь одно с другим, несется в
места, занимаемые более плотным. Поэтому не остается
пустоты, лишенной тел, а остающаяся неравномерность
продолжает вызывать сотрясение: так телами сотрясается материя и
тела — ею.
XIV. 1. Изложив строение тел,... Платон рассматривает...
вопрос о душе, исходя из проявляющихся в ней потенций.
Поскольку о каждом из существующих предметов мы судим
благодаря душе, Платон и поместил в ней начала всего
существующего, чтобы, рассматривая каждый предмет всякий раз с
помощью родственного и сходного с ним начала души, мы
могли поставить в соответствие с предметами ее сущность.
- 81 -
2. Считая, что есть некая умопостигаемая неделимая
сущность и другая, претерпевающая разделение в телах, он
составил из них одну и показал, что душа может мысленно постичь
оба вида сущности. Видя, что и в умопостигаемом, как и в
делимом, есть тождество и различие, он сложил ее из всего
этого. В самом деле, подобным познается подобное, как учат
пифагорейцы, а неподобным, по учению физика Гераклита,—
неподобное.
3. Когда Платон говорит о возникновении космоса, следует
понимать это не в том смысле, будто некогда было время, когда
космоса не было, но в том, что космос находится в вечном
возникновении и обнаруживает некую исходную причину
своего бытия; душу космоса, существующую вечно, бог также не
создает, а упорядочивает, и в этом смысле, пожалуй, можно
сказать, что создает, поскольку пробуждает и возвращает ее к
ней самой и к ее уму как бы из некоего глубокого забытья, или
сна, чтобы, взирая на мыслимое умом, она воспринимала виды
и формы и устремлялась к его помыслам.
4. Итак, ясно, что космос — некое мыслящее живое
существо. Бог хотел сделать его наилучшим, и вот он сделал его
одушевленным и мыслящим: одушевленное в целом
совершеннее неодушевленного и мыслящее — лишенного мысли, при
всем том что ум не может появиться без души. Когда же душа
вытянулась от середины до краев, получилось, что она
охватывает и покрывает все тело космоса; простираясь по космосу в
целом, она благодаря этому сковывает и сдерживает его, причем
ее внешние части делают это с большей силой, чем внутренние:
внешнее не претерпевает разделения, тогда как внутреннее
было рассечено на семь кругов, изначально разделенных
двойными и тройными промежутками; область, объемлемая
неделимой и неподвижной сферой, соответствует тождественному,
а разделенная — иному.
5. Движение, объемлющее все небо, избегая блуждания,
является единообразным и упорядоченным, тогда как
внутреннее движение разнородно и изменчиво, поскольку допускает
восхождения и закаты, отчего эта область и зовется
«блуждающей». Внешняя сфера движения — вправо, с востока на
запад; внутренняя — налево, с запада на восток — навстречу
движению неба.
6. Кроме того, бог сотворил звезды и планеты, причем первые
(числом великое множество) — неподвижными ради
украшения ночного неба, а другие (числом семь) — ради
возникновения числа, времени и чтобы свидетельствовать о
существующем. Дело в том, что время он сделал мерой движения космоса
в уподобление вечности, которая есть мера неподвижности
вечного космоса. Планеты не одинаковы по своим потенциям.
Солнце всем управляет, все обнаруживает и являет; Луна по
— 82 —
своей потенции считается занимающей второе место; а другие
планеты — каждая в соответствии со свойственной ей долей.
Луна задает меру месяца, поскольку за это время она
завершает свой круговорот и настигает Солнце; а Солнце — меру года:
обходя зодиакальный круг, оно отмечает смену времен года. У
каждой из других планет свои периоды обращения, которые
можно усмотреть не на глаз, но только с помощью науки. В
результате всех этих круговоротов число времени полного года
исполняется тогда, когда все планеты, вернувшись в ту же
самую точку, вновь занимают прежнее положение, так что,
если мысленно провести от неподвижной сферы прямую,
перпендикулярную к земле, их центры окажутся на ней.
7. Поскольку в пределах подвижной сферы есть семь сфер,
бог, создав из огненной — наиболее ценной — сущности семь
видимых тел, прикрепил их к сферам, находящимся на
подвижном круге иного. Луну он установил на круге, первом
после Земли; Солнце разместил на втором; утреннюю звезду,
посвященную Гермесу,— на круге, скорость движения
которого совпадает с солнечным, а расположение не совпадает; выше
— прочие планеты на соответствующих сферах:
непосредственно под неподвижной сферой лежит самая медленная
звезда, называемая Кроновой; немного быстрее движется Зевсова
звезда, под ней — Аресова. Восьмая сила с вершины неба
охватывает все прочие. Все эти звезды суть мыслящие живые
существа и боги и имеют шарообразную форму.
XV. 1. Есть и другие божественные силы — демоны
(которых можно назвать рожденными богами), обитающие в каждой
из стихий; одни из них видимые, другие невидимые, они есть
в эфире и огне, в воздухе и воде; таким образом, ни одна из
частей мира не обделена душой и не лишена живых существ,
чья природа превосходит смертную; им подчинена вся
подлунная и наземная область.
2. Ибо бог сам создает все мироздание, богов и демонов, и по
его воле все это не подвластно разрушению; а во главе всего
прочего стоят его дети, по его приказу и в подражание ему
совершающие то, что совершают; от них — предвещания,
предзнаменования, вещие сны, пророчества и все прочее, доступное
смертным благодаря искусству предсказателей.
3. Земля лежит посредине мировой целокупности и
занимает место вокруг оси, проходящей через все мироздание, и
блюдет дни и ночи; после души мира она старшая из внутримиро-
вых богов, и нам она предоставляет обильную пищу; вокруг нее
вращается мир, хотя и она — одна из звезд, неподвижная в силу
уравновешенности благодаря своему срединному положению
и равной удаленности от крайних точек.
4. Стихия, объемлющая все прочие,— эфир; им заполнена
- 83 -
сфера неподвижных звезд и сфера планет; ближе к центру —
воздух, в центре — земля с водою на ней.
XVI. 1. После того как бог упорядочил все это, остались
несозданными еще три рода живых существ, которые должны
были стать смертными и обитать в воздухе, воде и на земле; их
создание он поручил рожденным от него богам: ведь если бы их
создал он сам, они стали бы бессмертными. А те, позаимствовав
от первичной материи некоторые части, которые должны быть
ей возвращены в определенный срок, создали смертные живые
существа.
2. Но когда у отца всего и у рожденных от него богов
возникла мысль о человеческом роде, который ближе всего богам, то
души для этого рода на землю послал сам создатель мировой
целокупности, причем в числе, равном числу звезд. Возведя их
на отведенные для них звезды как на некие колесницы, он —
как законодатель — возвестил им законы предопределения,
чтобы на нем самом не было вины: что им вместе с телом
будут прирождены аффекты, свойственные смертным,
во-первых, ощущения, затем удовольствие и страдание, страх и пыл.
Только тот, кто властвует над ними и им не подчиняется, будет
жить справедливо и вернется на свою звезду; а кто подчинится
неправде, тот во втором рождении сменит свою природу на
женскую; а если и тогда он не откажется от несправедливости,
то в конце концов переродится в животную природу.
Прекращает страдания победа над прирожденными аффектами и
возвращение к первоначальному состоянию.
XVII. 1. Боги вылепили человека главным образом из
земли, огня, воздуха и воды, заняв определенную их часть в долг;
они скрепили их невидимыми скрепами и так создали некое
единое тело, причем главенствующую часть души они
поместили в голове, как бы засеяв ею головной мозг; на лице они
поместили органы чувств, несущие соответствующую службу;
из гладких и ровных треугольников, использованных при
образовании стихий, составили костный мозг, который должен
был производить семя; кость они сделали из земли,
увлажненной мозгом и несколько раз закаленной в воде и огне; жилы —
из кости и плоти; а сама плоть была приготовлена на своего
рода закваске, соленой и горьковатой.
2. Мозг они окружили костью, а сами кости скрепили
жилами, благодаря которым получились сочленения и суставы;
они прикрыли их, как бы облепив плотью, в одних местах более
плотной, в других менее,— так, чтобы телу было удобно.
3. Из того же самого они сплели внутренние органы,
желудок с извивами кишок, а сверху, от полости рта, дыхательный
канал, ведущий к легким, и горло, ведущее в пищевод. Пища,
— 84 —
попадая в полость желудка, размельчается и размягчается с
помощью горячего воздуха и после соответствующего
изменения распространяется по всему телу; две жилы, идущие вдоль
хребта, перекрестно оплетают голову, встречаясь друг с
другом, а от головы разделяются на множество нервов.
4. Создав человека, боги сочетали с его телом душу,
господствующую над ним, причем ведущую часть души сознательно
поместили в области головы, где начала нервов и жил, а также
источники переживаний, могущих привести к
умопомешательству; а органы чувств вокруг головы суть как бы стражи
ведущего начала. Здесь же помещаются и начала рассуждения,
выбора и оценки: несколько ниже они поместили чувственное
начало души, а пылкое — в области сердца; вожделеющее
начало помещается в нижней части живота и в области вокруг
пупка; об этих началах речь пойдет ниже.
XVIII. 1. Установив на лице светоносные глаза, боги
заставили их сдерживать заключенный в теле огненный свет,
гладкость и плотность которого роднила его, по их мнению, с
дневным светом. Этот внутренний свет, чистейший и
прозрачнейший, легко изливается через глаза в целом, но особенно
легко — через их середину. Сталкиваясь, как подобное с
подобным, со светом извне, он создает зрительные ощущения.
Поэтому ночью, когда свет исчезает или затемняется, световой
поток перестает устремляться к окружающему нас воздуху и,
удерживаясь внутри, успокаивает и рассеивает наши
внутренние порывы и тем самым вызывает сон; вследствие этого веки
во сне смежаются.
2. При наступлении полного спокойствия приходят
кратковременные сны; но если некоторые движения остаются, нас
одолевают продолжительные сновидения. Именно так —
наяву и во сне — создаются воображаемые представления, а вслед
за ними — образы в зеркалах и других прозрачных и гладких
предметах, возникающие путем отражения. При этом в
зеркале создается впечатление выпуклости, глубины и
протяженности, и разные образы здесь получаются из-за того, что лучи
света либо отталкиваются от разных частей, либо
соскальзывают с выпуклостей, либо стекаются в углубления; поэтому в
одном случае левое представляется правым, в другом —
отображается то же самое, в третьем — более далекое
оборачивается близким, и наоборот.
XIX. 1. Слух возник ради распознавания звуков; слышание
начинается с движения в области головы и кончается в области
печени. Звук через уши поражает мозг и кровь и доходит до
самой души; высокий звук — от быстрого движения, низкий —
от медленного, громкий — от сильного, тихий — от слабого.
- 85 -
2. Следующая способность — у ноздрей, состоящая в
восприятии запахов. Запах есть ощущение, нисходящее от сосудов
в ноздрях к околопупочной области. Виды запаха не поддаются
именованию, за исключением двух первичных — приятного и
неприятного, которые называются благоуханием и зловонием.
Всякий запах плотнее воздуха, но тоньше воды; это
доказывается тем, что пахучим, понятным образом, называется то, что
пребывает в некотором незавершенном, переходном состоянии
и сохраняет свойства, общие воздуху и воде, каковы пар и
туман; состояние перехода воды в воздух или обратно как раз
и доступно чувству обоняния.
3. Вкус боги создали ради распознания самых различных
сочащихся веществ; они протянули от языка до сердца сосуды,
которые должны оценивать и судить о вкусовых ощущениях,
и, сравнивая и различая воздействие сочащихся веществ,
определяют разницу между ними.
4. Есть семь видов веществ, вызывающих разные вкусовые
ощущения: сладкое, кислое, едкое, терпкое, соленое, острое и
горькое. Из них сладкое обладает природой, противоположной
всем прочим и приятно проникающей во влагу вокруг языка.
Из остальных кислое бередит и разъедает, острое горячит и
устремляется вверх, горькое хорошо прочищает и даже
разрушает, соленое слегка очищает и прочищает; из веществ,
сжимающих и закрывающих поры, едкое — более шероховатое, а
терпкое — менее.
5. Осязательную способность боги приспособили для
восприятия горячего и холодного, мягкого и твердого, легкого и
тяжелого, гладкого и шероховатого, чтобы можно было судить
и о такого рода различиях. То, что при прикосновении
подается, мы называем податливым, а что не подается —
неподатливым; это зависит от основания самих тел: то, у чего большее
основание,— устойчиво и основательно, а то, основание чего
мало,— податливо, мягко и легко изменяется. Шероховатым
можно считать то, что неоднородно и твердо, гладким —
однородное и плотное. Ощущения горячего и холодного, как наиболее
противоположные, возникают от противоположных причин.
Одно, вызывая расщепление острой и быстрой подвижностью
частей, вызывает ощущение тепла. Ощущение холода
вызывается привхождением более крупного, которое вытесняет более
мелкое и маленькое и насильно занимает их место: ведь именно
тогда начинается некое сотрясение и дрожь, и при этом в телах
возникает ощущение замерзания.
XX. Тяжелое и легкое ни в коем случае не следует
определять через понятия верха и низа, так как «верх» и «низ» ничего
не означают; в самом деле, поскольку небо в целом
шарообразно и совершенно выровнено со своей внешней стороны, непра-
- 86 -
вильно что-либо одно в нем называть верхом, а другое —
низом. Тяжелое есть то, что с трудом можно сдвинуть с места,
свойственного ему по природе; легкое — то, что без труда;
кроме того, тяжелым является составленное из множества
частей, а легким — из немногих.
XXI. Дышим мы так: извне нас облекает большой объем
воздуха; этот воздух через рот, ноздри и прочие пути,
имеющиеся в теле и усматриваемые разумом, проникает внутрь,
а нагревшись, устремляется наружу к такому же воздуху; и
сколько его выходит, столько же воздуха извне входит внутрь;
так, при непрерывном совершении этого круговорота,
получаются вдохи и выдохи.
XXII. Причины болезней многочисленны. Во-первых,
избыток и недостаток элементов, а также переход их в
несвойственные им места. Во-вторых, рождение однородного в обратном
порядке, например когда из плоти выделяется кровь, желчь и
слизь,— это означает не что иное, как разложение плоти.
Именно, слизь представляет собой разложение молодой плоти,
пот и слезы — своего рода сыворотку слизи. Слизь, выступая
наружу, вызывает сыпь и лишаи, а смешавшись внутри с
черной кровью, возбуждает так называемую священную болезнь;
едкая и соленая слизь есть причина катаров; все воспаления
вызываются желчью, и вообще желчь и флегма вызывают
тысячи разнообразных недугов. Непрерывная лихорадка
возникает от избытка огня, ежедневная — воздуха, трехдневная —
воды, четырехдневная — земли.
XXIII. 1. Теперь следует сказать о душе; хотя может
показаться, что мы повторяемся, начнем со следующего. Как мы
уже показали, боги, созидавшие смертные роды, получили от
первого бога бессмертную человеческую душу и прибавили к
ней две смертные части. Чтобы божественная и бессмертная
часть души не была подавлена ничтожеством смертной части,
они поместили ее как бы в крепости человеческого тела и,
предназначив ее для управления и господства, уделили ей
место в голове, форма которой подобна форме мироздания;
остальное тело они предназначили для подчинения ей,
прирастив его в качестве носителя, и в разных частях его поместили
прочие смертные части души.
2. Пылкое начало они поместили в сердце, вожделеющее —
в средней области, между пупком и диафрагмой, связав его,
словно некоего бешеного и дикого зверька. В помощь сердцу
они приспособили легкие, сделав их мягкими, бескровными и
пористыми наподобие губки ради смягчения ударов
закипающего гневом сердца. Печень благодаря имеющейся у нее сла-
— 87 —
дости и горечи пробуждает вожделеющее начало души и
укрощает его; кроме того, печень вызывает пророческие сны,
поскольку она, будучи гладкой, плотной и лоснящейся, отражает
идущую от ума силу. Селезенка помогает печени, очищая ее и
придавая ей лоск; она вбирает в себя вредные выделения,
возникающие от некоторых болезней печени.
XXIV. Что три части души соответствуют трем ее силам и
что части эти занимают свои места в соответствии с
определенным замыслом, можно усмотреть из следующего. Во-первых,
то, что от природы разделено, является разным; а чувства и
разум разделены от природы, раз одно относится к мышлению,
а другое — к страданиям и удовольствиям; кроме того, чувства
есть и у животных.
2. Так как чувства и разум действительно разные от
природы, они должны и помещаться отдельно, поскольку в конечном
счете они приходят в столкновение друг с другом; но ничто не
может прийти в столкновение с самим собой, и
противоположное друг другу не может одновременно находиться в одном и
том же месте.
3. На примере Медеи видно, как пыл страстей приходит в
столкновение с рассудком; она говорит так:
Я знаю, что злодейство мной задумано,
Но пыл страстей сильнее понимания.
И в Лаие, похищающем Хрисиппа, страсть также приходит
в столкновение с рассудком; он говорит так:
В том для людей несчастье величайшее,
Что дурно поступают, благо ведая.
4. О том, что разум отличается от чувств, можно судить и
на основании того, что разум и чувства воспитываются
по-разному; первый — с помощью обучения, а вторые — с помощью
усвоения хороших привычек.
XXV. 1. Бессмертие души Платон доказывает следующим
способом. Душа привносит жизнь в то, во что входит,
поскольку жизнь — ее естественное свойство; то, что приносит жизнь
другому, само не может принять смерти, а таковое бессмертно.
Если душа бессмертна, она и неуничтожима: она есть
бестелесная сущность, неизменная в своем существе, умопостигаемая,
невидимая и единовидная; тем самым она несоставная,
неразрушимая, недробимая. Тело—полная тому противоположность:
воспринимаемое чувствами, видимое, дробимое, составленное
из разных видов. Именно поэтому душа, входя благодаря телу
- 88 -
в соприкосновение с чувственным миром, теряется,
тревожится и словно пьянеет; а в умопостигаемом, оказываясь сама по
себе, она укрепляется и успокаивается. Она не может быть
подобна тому, что ее тревожит; следовательно, она более
сходна с умопостигаемым, которое недробимо и неуничтожимо.
Кроме того, душа есть естественное ведущее начало, а таковое
подобно богу; поэтому, будучи подобной богу, душа неуничто-
жима и нетленна.
2. Непосредственно противоположные начала, причем
противоположные не сами по себе, а как свойства, обычно
рождаются одно из другого. То, что люди называют жизнью,
противоположно мертвому; как смерть есть отделение души от тела,
так жизнь есть соединение души, которая, несомненно,
существовала прежде, и тела; и если душа будет существовать после
смерти и существовала до встречи с телом, то, вероятнее всего,
она вечна, поскольку невозможно помыслить ничего
способного ее разрушить.
3. Кроме того, душа должна быть бессмертной, если
научение есть припоминание; а к мысли о том, что научение есть
припоминание, можно прийти на основе того, что научение не
может осуществляться иначе, как через припоминание
некогда узнанного. В самом деле, если мы составляем общее
понятие, исходя из общих свойств отдельных вещей, как можем мы
перебрать все отдельные вещи, которых бесконечно много?
Или как [постигнем общее ] из рассмотрения немногих?
Никак, поскольку в этом случае неизбежны ошибки; тому пример
— суждение «Только обладающее дыханием есть живое
существо». И самое главное, как могли бы существовать понятия?
Итак, мы в порядке припоминания мыслим на основе
крохотных проблесков, по некоторым отдельным признакам
припоминая, о чем давно знаем, но что забыли по воплощении.
4. Кроме того, душу не разрушает ее собственная
порочность, она не может разрушиться от порочности другого и
вообще от другого; а раз так, она должна быть бессмертной.
Кроме того, самодвижное начало обладает вечным движением,
а таковое бессмертно; но душа как раз самодвижна; как
самодвижное, она есть начало всякого движения и возникновения,
а как начало, она есть нечто нерожденное и негибнущее.
Следовательно, такова всякая душа — не только мировая, но и
человеческая, поскольку обе они созданы из одной и той же
смеси. Платон называет душу самодвижной, поскольку ей
свойственна жизнь, вечно деятельная в себе самой.
5. Что бессмертны души разумных существ — это у Платона
можно считать твердо установленным; а вот бессмертие душ у
существ неразумных сомнительно. И по всей вероятности,
души неразумных существ, ведомые чистой видимостью и не
обладающие ни рассудком, ни способностью суждения, ни до-
— 89 —
казанными положениями и выводами из них, ни общими
разделениями и совершенно лишенные, таким образом, понятия
об умопостигаемом и по существу отличные от разумных
существ, смертны и тленны.
6. Из положения о бессмертии душ следует, что они
внедряются в тела и срастаются с зародышами, способствуя их
созреванию; меняют многие тела — человеческие и другие — или
дождавшись прошествия отмеренного им числа лет, или по
воле богов, или из-за невоздержности, или из-за
приверженности к телу; душа и тело в каком-то смысле приспособлены
друг к другу, как огонь и смола.
7. И душа богов обладает способностью суждения (которую
можно назвать также способностью понимания),
побудительной способностью (которую можно именовать
воодушевлением) и способностью присвоения. Эти способности имеются и у
человеческих душ, но после воплощения они некоторым
образом преобразуются: способность присвоения становится
вожделением, а побудительная способность — пылким началом.
XXVI. 1. Мнение Платона о роке таково. Все, говорит он,
подчиняется року, но не все им предопределено, ибо действие
рока подобно закону, который не может сказать, что один
совершит одно, с другим случится другое и так далее до
бесконечности, поскольку бесконечно число рождающихся и
бесконечны обстоятельства, в которых они оказываются; в таком
случае не будет места ни для нашей воли, ни для наших
представлений о похвальном, порицаемом и тому подобном; но рок
говорит, что при выборе такой-то жизни и по свершении таких-
то поступков для души воспоследует то-то.
2. Таким образом, душа свободна от принуждения и в ее
воле сделать что-то или не сделать; здесь необходимость
отсутствует, но неизбежность последствий поступка определяется
роком, например за добровольным поступком «Парис похитит
Елену» последует «из-за Елены эллины начнут войну». Таково
же пророчество Аполлона Лаию:
Зачнешь дитя — убьет тебя родившийся;
здесь говорится о Лаии и о том, что он может родить дитя, а
последствие этого предопределено роком.
3. Природа возможного помещается где-то между истиной
и ложью; на этой природе неопределенной возможности и
основывается наша свободная воля. Истиной или ложью будет то,
что получится после нашего выбора, а возможное отлично от
называемого наличным и действительным. Возможное
обозначает некую способность к чему-либо, но не его наличие. Так,
можно сказать, что ребенок есть в возможности грамматик,
- 90 -
флейтист или плотник, но у него тогда будет в наличии одно
или два из этих искусств, когда он обучится и приобретет
какой-либо навык, а в действительности — тогда, когда он
будет действовать в соответствии с приобретенным навыком.
Но возможное не есть что-либо из этого, а то
неопределившееся и зависящее от нашей воли, что становится истинным или
ложным в зависимости от того, какая из наших наклонностей
возьмет верх.
XXVII. 1. Данная глава посвящена платоновской этике. Он
полагает, что драгоценнейшее и величайшее благо нелегко
найти, а найдя — трудно объяснить всем. Это он изложил в
беседе «О благе» избранным и особенно близким ему ученикам.
Что же касается человеческого блага, то внимательному
читателю его сочинений ясно, что он считает им науку и созерцание
первого блага, которое можно определить как бога и первый
ум.
2. Все то, что считается человеческим благом, заслуживает
такого имени в меру его причастности к первому и
драгоценнейшему благу, точно так же как сладкое и теплое получают
свое имя от первых сладости и теплоты. В нас неким подобием
его оказывается ум и способность рассуждения, в силу чего
наше благо так хорошо, возвышенно, привлекательно,
соразмерно и ... божественно. Что же касается остальных так
называемых благ, каковы для большинства здоровье, красота, сила,
богатство и тому подобное, то все это является благом не
безусловно, а только в том случае, когда пользование этим
неразрывно с добродетелью, без которой это остается всего лишь в
разряде вещественном и при дурном употреблении
оказывается злом; в таком случае Платон называет все это тленными
благами.
3. Платон не относит к числу доступных человеку благ
счастье: последнее доступно божеству, а людям — лишь в виде
загробного блаженства. Потому Платон и говорит, что, по
существу, философские души преисполнены великим и
удивительным и по отрешении от тела они становятся
сотрапезниками и спутниками богов и созерцают луг истины, поскольку уже
при жизни им вожделенно знание ее и выше всего они ценят
стремление к нему. Благодаря этому они как бы очищают и
восстанавливают некое зрение души, потускневшее и
ослабленное, которое, однако, следует беречь больше, нежели
тысячу телесных очей, и оказываются в состоянии вознестись ко
всему разумному.
4. А неразумные, по мнению Платона, подобны никогда не
видевшим ясного света обитателям подземных пещер: они
видят некие неясные тени наших тел и думают, будто это —
подлинное постижение бытия. И как те, выбравшись из мрака
- 91 -
и оказавшись в чистом свете, понятным образом меняют свое
мнение о том, что видели раньше, и в первую очередь
понимают собственное заблуждение, точно так же и неразумные,
перейдя из мрака здешней жизни к истинно божественному и
прекрасному, начинают презирать то, чем раньше
восхищались, и исполняются неодолимым стремлением созерцать
тамошнее, ибо только там прекрасное тождественно с благом и
добродетели довольно для счастья. Что благо есть знание
первого и что это же — прекрасное, Платон разъясняет во всех
своих сочинениях. Сжато это изложено в первой книге
«Законов» примерно так: «Есть два рода благ, один — человеческие,
другие божественные» и т. д. Когда некая отдельная вещь,
непричастная сущности первого блага, по недоразумению
также именуется благом, обладание ею, говорит Платон в «Евти-
деме», есть наибольшее зло.
5. Его положение о том, что добродетели благодетельны
сами по себе, следует понимать как вывод из его положения о
прекрасном как единственном благе; очень подробно и лучше
всего он говорит об этом в «Государстве», во всех книгах этого
диалога. Обладатель того знания, о котором шла речь выше,—
великий удачник и счастливец, причем не только в том случае,
когда ему за это оказывают почести и награждают, но даже и
в том, когда никому из людей это не известно и его преследуют
так называемые беды: бесчестье, изгнание, смерть. И тот, кто
обладает всем тем, что считается благом,— богатством,
властью над великим царством, крепким телесным здоровьем и
красотой, но при этом лишен того знания, ни в коем случае не
счастливее его.
XXVIII. 1. Из всего этого естественно вытекает положение
Платона о том, что целью является посильное уподобление
божеству. Он излагает это по-разному. Иной раз он говорит,
что уподобиться божеству — значит быть разумным,
справедливым и благочестивым,— так в «Теэтете». Потому и надо
стремиться как можно быстрее бежать отсюда туда: бегство и
означает посильное уподобление божеству, а уподобление
заключается в том, чтобы стать справедливым и благочестивым
благодаря размышлению. Он может ограничиться и
справедливостью, как в последней книге «Государства»; в самом деле,
боги не оставят своим попечением того, кто предан стремлению
стать справедливым и в меру человеческих сил уподобиться
богу, ведя добродетельную жизнь.
2. В «Федоне» о том, что уподобиться божеству — значит быть
рассудительным и справедливым, он говорит примерно так: «А
самые счастливые и блаженные, уходящие самой лучшей
дорогой,— это те, кто преуспел в добродетели, полезной народу
и гражданам; имя ей — рассудительность и справедливость».
- 92 -
3. Иногда он говорит, что цель — уподобиться божеству,
иногда — следовать, например: «Бог, в котором, по древнему
учению, начало и конец» и т. д. Иногда — и то и другое,
например: «Душа, которая следует божеству и уподобилась
ему» и т. д. Но ведь благо есть и начало всякой пользы, и можно
сказать, что оно — от бога; а такому началу соответствуют
цель, состоящая в уподоблении божеству,— я имею в виду,
конечно, бога небесного, а не занебесного, клянусь Зевсом,
который не обладает добродетелью, поскольку он выше ее.
Поэтому правильно будет сказать, что несчастье есть
демонская порча, а счастье — расположение демона.
4. Мы можем достичь богоподобия, если при
соответствующих природных задатках приобретем хорошие привычки,
будем должным образом наставлены и воспитаны в духе закона
и, самое главное, если благодаря разуму и обучению усвоим те
знания, которые позволяют удалиться от большинства
людских забот и постоянно заниматься умопостигаемыми
предметами. Если же нам предстоит посвящение в более высокие
науки, то подготовкой и предварительным очищением демона
в нас может стать музыка, арифметика, астрономия и
геометрия; при этом мы должны следить за нашим телом и заниматься
гимнастикой, которая закаляет тела как для войны, так и для
мирных занятий.
XXIX. 1. Добродетель есть вещь божественная,
представляющая собой совершенное и наилучшее расположение души,
благодаря которому человек приобретает благообразие,
уравновешенность и основательность в речах и делах, причем как
по отношению к себе, так и по отношению к другим.
Различаются следующие виды добродетели: добродетели разума и те,
что противостоят неразумной части души, каковы мужество и
воздержность; из них мужество противостоит пылкости,
воздержность — вожделению. Поскольку различны разум, пыл и
вожделение, различно и их совершенство: совершенство
разумной части — рассудительность, пылкой — мужество,
вожделеющей — воздержность.
2. Благоразумие есть знание добра и зла, а еще того, что не
является ни тем ни другим. Воздержность есть
упорядоченность страстей и влечений и умение подчинить их ведущему
началу, каковым является разум. Когда мы называем
воздержность упорядоченностью и умением подчинять, мы
представляем нечто вроде определенной способности, под воздействием
которой влечения упорядочиваются и подчиняются
естественному ведущему началу, т. е. разуму.
3. Мужество — сохранение представления о долге перед
лицом опасности и без таковой, т. е. некая способность
сохранять представление о долге. Справедливость есть некое согла-
- 93 —
сие названных добродетелей друг с другом, способность,
благодаря которой три части души примиряются и приходят к
согласию, причем каждая занимает место, соответствующее и
подобающее ее достоинству. Таким образом, справедливость
заключает в себе полноту совершенства трех добродетелей:
благоразумия, мужества и воздержности. Правит разум, а
остальные части души, соответствующим образом
упорядоченные благодаря разуму, подчиняются ему: поэтому правильно
положение о том, что добродетели взаимно дополняют друг
Друга.
4. В самом деле, мужество, будучи сохранением
представления о долге, сохраняет и правильное понятие, поскольку
представление о долге есть некое правильное понятие; а
правильное понятие возникает от разумности. В свою очередь
разумность связана также и с мужеством: ведь она является
знанием добра, а никто не может увидеть, где добро, если
смотрит, подчиняясь трусости и другим страстям, с нею
связанным. Так же не может быть разумным человек разнузданный
и вообще тот, кто, побежденный той или иной страстью,
совершает нечто вопреки правильному понятию. Платон считает
это воздействием незнания и неразумия; вот почему не может
быть разумным тот, кто разнуздан и труслив. Итак,
совершенные добродетели нераздельны друг с другом.
XXX. 1. Но мы говорим о добродетелях и в другом смысле,
называя, например, даровитость или успехи, ведущие к
добродетели, тем же именем, что и совершенные добродетели, по
сходству с ними. Так мы называем мужественными воинов, а
иной раз — если речь идет о несовершеннных добродетелях —
говорим, что некоторые храбры, хотя и неразумны, имея в виду
несовершенные добродетели. Очевидно, что совершенные
добродетели не усиливаются и не ослабевают, а вот порочность
может быть сильнее и слабее, например этот неразумнее или
несправедливее, нежели тот. Но в то же время пороки не
взаимосвязаны друг с другом, поскольку одни противоречат
другим и не могут сочетаться в одном и том же человеке. Так,
дерзость противоречит трусости, мотовство — скупости; кроме
того, не может быть человека, одержимого всеми пороками,
как не может быть тела, имеющего в себе все телесные
недостатки.
2. Еще следует допускать некое среднее состояние между
распущенностью и нравственной строгостью, поскольку не все
люди либо безупречно строги, либо распущенны. Таковы те,
кто довольствуется определенными успехами в нравственной
области. Но ведь и в самом деле нелегко перейти от порока к
добродетели: расстояние между этими крайностями велико и
преодолеть его трудно.
— 94 —
3. Из добродетелей одни нужно считать главными, а другие
— второстепенными; главные связаны с разумным началом, от
которого получают совершенство и остальные, а
второстепенные — с чувственным. Эти последние ведут к прекрасному
благодаря разуму, а не сами по себе, поскольку сами по себе
они разумом не обладают, а получают его благодаря
разумности при соответствующем образе жизни и воспитании. И
поскольку ни знание, ни искусство не могут образоваться ни в
какой другой части души, кроме разумной, оказывается
невозможным обучить добродетелям, связанным с чувственностью,
поскольку они — не искусства и не знания и не обладают
собственным предметом. Поэтому разумность, будучи
знанием, определяет, что свойственно каждой добродетели,
наподобие кормчего, подсказывающего гребцам то, чего они не видят;
и гребцы слушаются его, как и воин слушается полководца.
4. Порочность может быть большей и меньшей, и
преступления неодинаковы, а одни большие, другие меньшие; поэтому
правильно, что законодатели назначают за них то большее, то
меньшее наказание. И хотя добродетели, конечно, суть нечто
предельное в силу своего совершенства и сходства со
справедливостью, их с другой точки зрения можно рассматривать как
нечто среднее, поскольку если не каждой, то большинству из
них соответствуют два порока, один из которых связан с
избытком, а другой — с недостатком; например, щедрости
противоположны: с одной стороны — мелочность, а с другой —
мотовство.
5. В самом деле, неумеренность страстей возникает тогда,
когда либо преступают меру должного, либо не достигают ее.
Нельзя считать впечатлительным того, кто без гнева смотрит,
как оскорбляют его родителей, и сдержанным того, кто
гневается по всяким пустякам,— совсем наоборот. Точно так же
следует считать бесчувственным того, кто не скорбит, когда его
родители умирают, и угнетенным переживаниями и безмерно
страдающим — того, кто готов умереть от скорби; умерен в
страстях тот, кто скорбит, но соблюдает меру в переживаниях.
6. Кто буквально всего и очень сильно боится — труслив;
кто ничего не боится — самонадеян; а мужествен тот, кто
отважен и осторожен в меру; точно так же обстоит дело и со
всем прочим. И поскольку в том, что касается страстей,
умеренность — наилучшее, а умеренность есть не что иное, как
середина между избытком и недостатком, такого рода
добродетели существуют в этой середине потому, что они позволяют
нам придерживаться в страстях среднего.
XXXI. 1. Но такова же и добродетель, поскольку она также
есть то, что в нашей воле и ничему не подвластно. В самом деле,
порядочность не была бы чем-то похвальным, если бы она
- 95 -
возникала от природы или доставалась в удел от бога.
Добродетель должна быть чем-то добровольным, поскольку она
возникает в силу некоего горячего, благородного и упорного
устремления. А раз добродетель добровольна, значит, порочность
невольна. Действительно, кто добровольно выберет
величайшее из зол для достойнейшего и драгоценнейшего в себе? Когда
кто-то устремляется к злу, исходно это устремление к злу не
как к злу, но как к благу; и когда кто-то обращается к злу, с
тем чтобы приобрести с помощью незначительного зла
превосходящее его благо, он находится в совершенном заблуждении,
но опять-таки совершает зло невольно, поскольку
невозможно, чтобы кто-то устремлялся к злу, желая себе зла, а не в
надежде на благо или не из страха перед большим злом.
2. Все несправедливые дела злого человека также
оказываются невольными, потому что если несправедливость
невольна, то совершение несправедливости должно быть невольным
тем в большей степени, что несправедливое действие является
большим злом, чем несправедливость, которая не проявляет
себя. Но хотя несправедливые поступки и невольны, тех, кто
их совершает, следует наказывать, причем неодинаково,
поскольку неодинаков причиняемый ими вред; а сама
невольность объясняется либо незнанием, либо аффектом, от чего
можно избавить вразумлением, воспитанием, образованием и
заботой.
3. Несправедливость — такое зло, что скорее следует
избегать самому совершать несправедливые поступки, чем
подвергаться несправедливости: первое присуще порочному
человеку, а второе — всего лишь слабому. Конечно, постыдно и то и
другое, но совершать несправедливое настолько же хуже,
насколько и позорнее; и преступнику лучше быть наказанным,
как больному лучше доверить свое тело искусству врача,
поскольку всякое наказание как раз и есть некое врачевание
заблудшей души.
XXXII. 1. Поскольку большинство добродетелей так или
иначе связаны с аффектами, следует определить, что есть
аффект. Аффект есть неразумное движение души, все равно к злу
или к благу. Движение называется неразумным, потому что
аффекты не суть ни суждения, ни мнения, но движения
неразумных частей души: оно возникает в чувствующей части
души и есть наша непроизвольная деятельность. Аффекты часто
возникают в нас против воли и вызывают противодействие.
Иной раз, даже зная, что с нами не происходит ничего
печального, радостного или страшного, мы все же находимся под
воздействием происходящего; этого мы не испытывали бы,
если бы аффекты совпадали с суждениями, поскольку суждение
мы можем отвергнуть, поняв относительно него, что так
— 96 —
должно или не должно. Аффекты вызывает либо хорошее, либо
дурное, поскольку при появлении безразличных предметов
аффекта не возникает: все аффекты связаны с появлением
хорошего либо дурного. Когда мы замечаем, что нам хорошо
сейчас, мы радуемся, а к грядущему благу стремимся; когда же
мы замечаем, что нам плохо, мы огорчаемся и боимся
грядущего зла.
2. Есть два простых и основных аффекта: удовольствие и
страдание, а остальные лепятся из них. В самом деле, нельзя
считать страх и вожделение изначальными и простыми наряду
с этими двумя, поскольку тот, кто испытывает страх, не
полностью лишен удовольствия: ведь он не сможет пережить
несчастье, если перестанет верить, что избавится от зла и
наступит облегчение; но вместе с тем он переполнен тревогой и
беспокойством и поэтому страдает. А испытывающий
вожделение, надеясь обрести вожделенное, чувствует удовольствие,
но, поскольку он не полностью уверен и у него нет твердой
надежды, грустит.
3. Если вожделение и страх не изначальны, несомненно,
придется согласиться, что ни один из прочих аффектов также
не является простым, каковы, например, гнев, сожаление,
зависть и тому подобные, поскольку в них также можно
усмотреть удовольствие и страдание, из которых они как бы
смешаны.
4. Одни из аффектов дикие, другие кроткие; кроткие суть
естественные, они необходимы человеку и естественны для
него, пока остаются умеренными, так как при неумеренности
ведут к извращению. Таковы удовольствие, страдание, пыл,
жалость, стыд; естественно удовольствие по поводу
соответствующего природе и страдание из-за несоответствующего;
необходим пыл при обороне от врагов и отмщении им; при любви
к людям естественна жалость; необходим стыд, чтобы
уклоняться от позорного. Аффекты дикие суть
противоестественные, они возникают от испорченности и низости нрава. Таковы
насмешливость, злорадство, человеконенавистничество: они
могут быть сильнее или слабее, но, каковы бы они ни были, они
всегда суть нечто извращенное, и для них нет надлежащей
меры.
5. Об удовольствии и страдании Платон говорит, что
аффекты эти вызываются в нас неким изначальным природным
движением: страдание и боль рождаются при движении против
природы, а удовольствие — при восстановлении природного
порядка. Он считает, что состояние, соответствующее
природе,— среднее между болью и удовольствием; оно не совпадает
ни с той, ни с другим, и в нем мы большее время пребываем.
6. Он учит также о многих видах удовольствия, в частности
об удовольствиях тела и души; одни удовольствия смешивают-
4 Заказ № 305
- 97 -
ся с тем, что им противоположно, а другие остаются чистыми
и несмешанными; одни возникают от воспоминания, а другие
— благодаря надежде; одни — позорные — у людей
разнузданных и несправедливых, другие — удовольствия людей
умеренных — так или иначе причастные к благу, например
удовольствие от свершения хороших дел и добродетельной жизни.
7. Относительно множества низменных удовольствий нет
нужды исследовать, могут ли они принадлежать к числу благ
как таковых, поскольку они являются преходящими и ничего
не стоят, возникают в качестве побочного следствия
природных свойств, не имеют в себе ничего существенного и
изначального и допускают наряду с собою то, что им
противоположно; удовольствие и страдание здесь смешиваются, а этого не
происходило бы, если бы одно было благом как таковым, а другое
— злом.
XXXIII. 1. Дружбой в наивысшем и собственном смысле
называется не что иное, как чувство, возникающее от
взаимного расположения. Оно появляется в том случае, когда каждый
из двоих хочет, чтобы близкий и он сам были равно
благополучны. Это равенство сохраняется только в том случае, когда
у обоих похожий нрав, поскольку подобное дружественно
подобному как соразмерному, тогда как несоразмерные
предметы не могут пребывать в согласии ни один с другим, ни с
предметами соразмерными.
2. Есть и иные чувства, которые, не будучи дружбой, тем не
менее называются дружескими, неся на себе некий налет
добродетели. Таково естественное расположение родителей к
детям и родственников друг к другу, так называемое гражданское
чувство и товарищество, которые, однако, не всегда построены
на взаимном расположении.
3. Вид дружбы представляет собой и любовное чувство.
Любовь бывает благородная — в душах взыскательных, низкая —
в душах порочных и средняя — в душах людей
посредственных. Поскольку душа разумного человека бывает трех
разрядов — добрая, негодная и средняя, поэтому и видов любовного
влечения — три. Более всего о различии этих трех видов любви
можно судить на основании различия их предметов. Низкая
любовь направлена только на тело и подчинена чувству
удовольствия, поэтому в ней есть нечто скотское; предмет
благородной любви — чистая душа, в которой ценится ее
расположенность к добродетели; средняя любовь направлена и на тело,
и на душу, поскольку ее влечет как тело, так и красота души.
4. Достойный любви также представляет собой нечто
среднее между негодным и благородным, в силу чего воплощением
Эроса следует представлять не бога, а, скорее, некоего демона,
который, никогда не облекаясь в земное тело, служит как бы
- 98 -
перевозчиком от богов к людям и обратно. Поскольку три
наиболее общих вида любви были названы выше, любовь к благу
следует определить как некое искусство, не связанное с
аффектами, относящееся к разумной части души и занятое
рассмотрением, которое дает знание того, как обрести предмет,
достойный любви, и обладать им. О предмете любви это искусство
судит по его устремлениям и порывам — насколько они
благородны, направлены на прекрасное, сильны и искренни.
Стремящийся к такой любви обретет ее не путем ублажения и
превознесения любимца, но, скорее, удерживая его и
доказывая, что не следует и дальше вести такую жизнь, какую он
ведет теперь. Когда он завоюет предмет любви, он будет
общаться с ним, склоняя его к тому, в чем, упражняясь, станет
он совершенным; а цель их общения — из влюбленного и
любимца стать друзьями.
XXXIV. 1. Платон говорит, что среди государств одни
идеальны — их он рассмотрел в «Государстве», где сначала описано
государство, не ведущее войн, а затем — исполненное
воинственным пылом, причем Платон исследует, какое из них лучше
и как его можно осуществить. Подобно душе, государство
также делится на три части: на стражей, воинов и ремесленников.
Одним он поручает управление и власть, другим — военную
защиту в случае необходимости (их следует соотносить с
пылким началом, которое находится как бы в союзе с началом
разумным), третьи заняты ремеслами и другим
производительным трудом. Он считает, что власть должна быть у
философов и созерцателей первого блага.
2. В самом деле, только в таком случае можно устроить все
соответствующим образом, поскольку в человеческих делах
никогда не избавиться от зол, если философы не станут царями
или же — по какому-то божественному определению — те,
кого именуют царями, не станут по-настоящему философами.
Наилучшим и справедливым образом они смогут управлять
государством тогда, когда каждая его часть будет
самостоятельна, правители будут заботиться о народе, воины служить
им и сражаться за них, а остальные будут послушно им
повиноваться.
37 Платон называет пять видов государственного
устройства: при аристократии у власти стоят лучшие, второй вид —
тимократия, когда у власти честолюбцы, третий —
демократия, затем —- олигархия и, наконец, наихудший вид —
тирания.
4. Он описывает и другие государства, построенные на
определенной реальной основе, из которых одно изображено в
«Законах», а другое (в виде указаний, как исправить
существующее положение) — в «Письмах». Такие указания он дает и
- 99 -
для описанных в «Законах» больных городов, которые
занимают ограниченное место, населены отборными людьми всякого
возраста и — в силу различия их природы и размещения —
нуждаются каждый в особенном воспитании, образовании и
вооружении: приморские города будут заниматься
мореплаванием и вести морские сражения; населяющие области,
удаленные от моря, приспособятся к битве в пешем строю, причем
жители гор — с более легким вооружением, жители низин — с
более тяжелым; некоторые из них могли бы завести конницу.
В такого рода государстве не идет речи об общности жен.
5. Гражданская добродетель является одновременно и
теоретической и практической; к ней относится умение обеспечить
в государстве благополучие, счастье, единомыслие и согласие;
будучи искусством приказывать, она имеет в подчинении
военное, полководческое и судебное искусства, а кроме того,
занята рассмотрением тысячи других дел, в частности
определением того, вести войну или нет.
XXXV. 1. Из сказанного ясно, каков философ. Софист
отличается от него, во-первых, обычаем, например тем, что
обучает юношей за плату и больше стремится к тому, чтобы казаться
хорошим и добрым человеком, чем быть таким. Во-вторых,
предметом занятий, потому что философ занят тем, что
обладает вечно тождественным и неизменным бытием, а софист
хлопочет о небытии, удаляясь туда, где мрак не позволяет
ничего разглядеть. Небытие не есть противоположность
бытия, поскольку оно лишено реальности, не дано мысли и никак
не осуществлено; кто силится сказать о нем и помыслить его,
попадает в порочный круг из-за того, что оно в самом себе
содержит противоречие.
2. Само слово «небытие» не только означает отрицание
бытия, но одновременно указывает на различие и каким-то
образом является свойством бытия: ведь если бы вещи не были
причастны небытию, они не отличались бы одна от другой;
однако в действительности они суть бытие в такой же мере, в
какой и небытие, поскольку то, что не есть нечто, не может
обладать бытием.
XXXVI. Сказанного довольно для введения в существо
платоновского учения. Что-то изложено мною систематически, а
что-то — случайно и бессистемно. Тем не менее на основе
данного изложения можно рассмотреть и последовательно
восстановить все прочие положения платоновской философии.
ИППОЛИТ РИМСКИЙ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ
книга I, главы 18, 19, 20
18. Сократ становится учеником физика Архелая. Он осо-
оенно почитал изречение «познай самого себя» и составил
большой круг учеников, самым способным из которых оказался
Платон, а сам он ни строчки не написал. Платон же, запечатлев в
себе всю его мудрость, основал школу, соединив физику,
этику, диалектику. К Платону относится следующее.
19. Платон считал, что начала всего — бог, материя и
образец. Бог — творец, и упорядочивший этот мир, и заботящийся
о нем. Материя — всему подлежащая, которую он называет и
восприемлющей, и кормилицей, из которой, после того как она
была упорядочена, возникли четыре стихии, из которых —
огня, воздуха, земли и воды — состоит космос, из них же
состоят и все прочие тела, называемые соединениями —
животные и растения. Образец есть мышление бога. Он называет его
также идеей, поскольку это как бы некое изображение, взирая
на которое в душе, бог создавал все вещи. О боге он говорит,
что нет у него ни тела, ни вида и что постижим он только для
мудрецов. Материя же в возможности тело, а в
действительности еще нет: ведь она, будучи бесформенной и
бескачественной, восприяв формы и качества становится телом.
Стало быть, материя есть начало и одновременна богу, а
поэтому и космос невозникший. Ведь Платон говорит, что он
состоит из нее. А невозникшему, разумеется, сопутствует
неуничтожимое. Если же полагать его телом и состоящим из
многих качеств и видов, то в этом случае он и возникший и
уничтожимый.
Некоторые из платоников соединили оба взгляда,
пользуясь таким примером: подобно тому, как повозка, постепенно
подновляемая, может всегда оставаться неуничтожимой, и при
том, что части ее всякий раз разрушаются, сама она всегда
остается целой, таким же образом и космос всегда разрушается
в частях, но, при их подновлении и восстановлении отнятых,
пребывает вечным.
О боге же одни говорят, что он признавал одного — невоз-
никшего и неуничтожимого, как он говорит в «Законах»: «бог,
согласно древнему сказанию, держит начало, середину и конец
всего сущего». Таким образом он представляет его одним,
проходящим через все. Другие же считают, что также и многих,
числом не ограниченных, когда говорит: «боги богов, которых
я творец и отец». Некоторые, что числом ограниченных, когда
— 101 -
говорит: «Великий на небе Зевс на крылатой колеснице едет»
и когда перечисляет род детей Урана и Геи. Некоторые же, что
он представил богов возникшими, и поскольку они возникли,
разумеется необходимо, чтобы они были уничтожены, однако
же по желанию бога они бессмертны, когда он, добавляя,
говорит: «Боги богов, которых я творец и отец, бессмертные по
моему желанию»,— так, как если бы он захотел их погубить,
то легко бы погибли.
Он признает существование природы демонов и говорит,
что одни из них хорошие, другие дурные. И о душе одни
говорят, что он считает ее невозникшей и неуничтожимой, когда
говорит: «Всякая душа бессмертна, ведь вечнодвижущееся
бессмертно», и когда он объявляет ее самодвижущейся и началом
движения. Другие же говорят, что он считал ее хотя и
возникшей, однако же бессмертной по желанию бога. Третьи, что
составной, возникшей и уничтожимой, ведь и сосуд для нее
предполагается, и телом она обладает светообразным, а все
возникшее по необходимости должно быть уничтожено.
Те, кто утверждает, что она бессмертна, главным
подтверждением своих слов считают те места, где он говорит, что и
приговоры существуют после смерти, и в Аиде — суды, и благие
души в качестве вознаграждения получают благо, дурные же
— соответствующие наказания.
А некоторые говорят, что он признает даже переселение
душ, так что души, поскольку они отделены от тел, переходят
в другие тела в соответствии с достоинством каждой и через
какие-то определенные периоды посылаются в этот мир с тем,
чтобы снова подвергнуть испытанию свой выбор. Другие же это
отрицают, но считают, что каждая душа получает место по
достоинству, в доказательство приводя его слова о том, что
некоторые души находятся вместе с Зевсом, другие,
принадлежавшие хорошим людям, сопровождают других богов, а третьи
избывают вечные наказания — это те, которые в течение этой
жизни совершали низкие и несправедливые поступки.
Говорят, что одни из вещей он называет не имеющими
середины, другие имеющими середину, а третьи средними.
Пробуждение и сон и все тому подобное — не имеющие
середины, имеющие середину — это такие вещи, как добро и зло;
средние — серый или какой-нибудь другой цвет, находящийся
между белым и черным.
Говорят, что благами в собственном смысле он считал
только душевные, телесные же и внешние уже не в собственном
смысле блага, но «так называемые»; часто он называет их еще
средними, ведь ими можно пользоваться и хорошо и дурно.
О добродетелях он говорит, что по достоинству это верхний
предел, а по сути — середина, ведь нет ничего достойнее
добродетели. Избыток же их или недостаток обращается в порок.
— 102 —
Вот, скажем, он говорит, что существуют четыре
добродетели — рассудительность, скромность, справедливость,
мужество,— и каждой из них соответствуют два порока, из-за
избытка и недостатка. Например, рассудительности — безумие
по недостатку и коварство по избытку, скромности —
распущенность по недостатку и неловкость по избытку,
справедливости — меньшее обладание ею по недостатку и излишек ее по
избытку, храбрости — трусость по недостатку и дерзкая удаль
по избытку. И эти вот добродетели, укоренившись в человеке,
делают его совершенным и доставляют ему счастье.
О счастии же он говорит, что это посильное уподобление
богу. Уподобление же, это когда становишься благочестивым и
справедливым с помощью рассудительности. Ведь это
полагается целью высшей мудрости и добродетели.
Он утверждает, что добродетели сопутствуют друг другу и
что они единовидны и что никогда не противоречат между
собой. Пороки же многообразны и порой сопутствуют друг
другу, а порой противоречат между собой.
Он говорит, что рок существует, однако не все происходит
по закону рока, но кое-что зависит и от нас — это там, где он
говорит «вина — избирающего, бог — невиновен» и «в этом
закон Адрастеи». Таким образом, он признавал и
совершающееся по закону рока, и зависящее от нас.
^Он говорит, что прегрешения невольны. Ведь в самое
прекрасное из всего, что в нас есть, а это — душа, никто не принял
бы зла, то есть несправедливости. По незнанию блага, по
ошибочному пониманию его, люди, думая, что совершают нечто
прекрасное, впадают во зло. И яснее всего эта мысль выражена
в «Политике», где он говорит: «... а с другой стороны
осмеливаюсь говорить, что несправедливость позорна и ненавистна
богам. Так почему же вы добровольно избираете себе подобное
зло? Да потому, отвечаете вы, что все люди подчиняются
наслаждениям. Но ведь это — невольное побуждение, в то время
как победа над ним в нашей власти, не правда ли? Таким
образом, наше рассуждение показывает, что несправедливость
во всех отношениях бывает невольной». А на это возражает ему
некто: зачем же наказываются люди, если грешат невольно? А
затем, отвечает он, чтобы и сам человек как можно быстрее
удалился от порока и подвергся наказанию — ведь
подвергнуться наказанию не есть зло, но благо, если, конечно, за этим
последует очищение от зла — и чтобы прочие люди, слыша о
наказании не совершали проступков, но остерегались бы
подобных заблуждений.
Природа зла возникла не от бога и существует не сама по
себе, но возникает как противоположное следствие блага в
зависимости от его избытка или недостатка, о чем мы уже
сказали, говоря о добродетелях.
— 103 -
Стало быть, Платон, сведя, как мы уже сказали, воедино
три части философии, имел такие взгляды.
20. Аристотель, бывший его (Платона) учеником, сделал
занятие философией профессиональным и в гораздо большей
степени занимался логикой, предложив, что первоосновы всего
— это сущность и привходящее.
Сущность одна, всему подлежащая, привходящих же
девять: сколько, какое, по отношению к чему-то, где, когда,
обладать, находиться в каком-либо положении, действовать,
претерпевать. Сущность — это, например, бог, человек и все
подпадающее под этот принцип. Касательно привходящих
рассматривается «какое», например, белое, черное, «сколько» —
например, в два локтя, в три локтя, «по отношению к чему-то»
— например, отец сына, «где» — например, в Афинах, в Мега-
рах, «когда» — например, в десятую олимпиаду, «обладать» —
например, владеть, «действовать» — например, писать и
вообще оказывать влияние на что-то, «находиться в каком-либо
положении» — например, лежать, «претерпевать» —
например, быть побиваемым.
Предполагает также и он, что одни вещи имеют середину,
а другие не имеют ее, о чем мы уже сказали, говоря о Платоне.
Да и во всем почти он согласуется с Платоном, исключая
учение о душе. Ведь Платон считал душу бессмертной, Аристотель
же полагал, что душа некоторое время после смерти тела еще
живет, но после этого и она исчезает в пятом теле, которое
предполагается существующим наряду с четырьмя другими,
более тонкое, чем огонь, земля, вода и воздух — что-то вроде π невмы.
Платон говорит, что душевные блага — это единственно
настоящие, и их достаточно для счастия. Аристотель же вводит
три рода благ и утверждает, что несовершенен мудрец, если
нет у него и телесных благ и внешних, каковые суть красота,
сила, правильные ощущения, телесная собранность. Внешние
же блага — это богатство, хорошее происхождение, слава,
могущество, мир, дружба, а внутренние, душевные, те же, что
по мнению Платона,— рассудительность, скромность,
справедливость, мужество.
Что касается зла, то и он говорит, что оно возникает как
противоположность благу и существует в подлунном месте, а
над луной его больше нет. Душа всего мира бессмертна, и сам
мир вечен, а та душа, которая у каждого отдельного существа,
как мы сказали выше, исчезает.
Аристотель преподавал, ведя занятия в Ликее, а Зенон в
пестром портике, и последователи Зенона получили имя по месту,
то есть от слова портик ( Στοά ) были названы Стоиками, а
последователи Аристотеля от занятия. Ведь дело в том, что они
рассуждали, прогуливаясь οιεριπατοΰντες) по Ликею, поэтому
их назвали Перипатетиками. Это, стало быть, об Аристотеле.
САЛЛЮСТИЯ ФИЛОСОФА
КНИГА О БОГАХ И О МИРЕ
Глава 1
Каким должен быть ученик,
а также относительно общих понятий
Кто хочет изучать богословие, тот с детства должен быть
хорошо образован и не должен впитывать бессмысленные
представления; у него должны быть хорошие природные
задатки и ум, позволяющий правильно усвоить учение; кроме того,
ему следует обладать знанием общих понятий. Общие понятия
суть те, на вопросы относительно которых все люди отвечают
одинаково, например, всякий бог благ, нестрадателен и чужд
перемен, поскольку все переменчивое становится либо
лучшим, либо худшим; то, что становится худшим, оказывается
дурным, а то, что становится лучшим, было дурным поначалу.
Глава 2
Бог чужд перемен, не знает рождения,
вечен, вне тела и места
Это относительно ученика. Что же касается учения, оно
таково. Божественные сущности не имели возникновения,
поскольку вечно сущее не возникает; они существуют вечно,
поскольку обладают первичной силой и по сути своей нестра-
дателъны; они не принадлежат к сфере телесного, поскольку
силы, воздействующие на тела, сами бестелесны; они не
содержатся в том или ином месте, что свойственно как раз телам; в
то же время они не отделены от первопричины и одна от другой,
как мысли не отделены от ума, знания — от души, а чувства —
от живого существа.
Глава 3
О мифах, о том, что они божественны,
и о причине этого
Нужно разъяснить, почему древние излагали свое учение
иначе и прибегали к мифам. Мифы полезны прежде всего по-
— 105 -
тому, что они требуют толкования и не дают мысли
бездействовать. В их божественности можно убедиться, обратив
внимание на то, кто их использует: это оогоодержимые поэты,
достойнейшие философы, открыватели таинств и, наконец, сами
боги, дающие прорицания в виде мифов. Причину их
божественности разъясняет философия. Поскольку все
существующее устремляется к подобию и отвращается от неподобия,
богословие должно обладать богоподобием для того, чтобы быть
достойным божественной сущности и снискать богословам
божественное благоволение; а это возможно только благодаря
мифам. В мифах отображается выразимость и несказанность
богов, их тайное и явное, очевидное и скрытое, а также —
божественная благость. Как боги сделали чувственные блага
общими для всех, а умозрительные — только для мудрых, так
мифы всем говорят о бытии богов, а о том, что есть боги и
каковы они,— только для способных знать это. Кроме того,
мифы отображают воздействия богов. И вообще миф можно
назвать миром, поскольку в нем явлены лица и вещи, а скрыты
— душа и мысли. Здесь же заметим, что только глупцы
стремятся научить божественной истине всех: тем, кто неспособен
их понять, они внушают презрение, а у ревнителей истины
вызывают скуку. Мифы же, скрывая истину, избавлены от
презрения первых, зато вторых они побуждают
философствовать. Однако зачем в мифах эти всегдашние блудодейства,
кражи, насилия над родителями и прочие странности? Да
потому — и это еще одно удивительное их свойство,— что
благодаря этим странностям душа сразу понимает, что слова — это
только завеса, и привыкает к невыразимости истины.
Глава 4
О пяти видах мифа с примерами для каждого
Мифы бывают о богах, о природе, о душе, о веществе и
смешанного вида. Мифы о богах не касаются ничего телесного,
а рассматривают самые сущности богов; например, Кронос
проглатывает своих детей,— поскольку этот бог мыслящий, а
всякий ум возвращается к себе, данный миф символизирует
божественную сущность. Как миф о природе мы можем его
рассматривать в том случае, когда имеем в виду воздействие
богов на мир: например, некоторые считают Кроноса хроно-
сом-временем и, называя части времени детьми целого,
говорят, что детей пожирает отец. Как миф о душе мы толкуем его
при рассмотрении воздействий самой души, в том случае, когда
помыслы души, даже будучи направлены на иное, остаются в
породившей их душе. Еще есть миф вещественный, низший
- 106 -
вид мифа, к которому по своему невежеству более всего
прибегают египтяне, считающие и называющие богами собственно
тела, например, Изидою — землю, Озирисом — влагу, Тифо-
ном — тепло; или же: Кроносом — воду, Адонисом — плоды,
Дионисом — вино. Утверждать, что это — как и травы, камни
и животные — посвящено богам,— вполне здраво, но считать
это самими богами — безумие; разве что в том смысле, в каком
мы обычно называем солнцем солнечный диск и солнечный
луч. Смешанный вид мифа можно представить по многим
самым различным мифам, в частности, по мифу, согласно
которому на пиру богов Ирида бросила золотое яблоко и богини,
заспорившие из-за яблока, были отправлены Зевсом на суд к
Парису, признавшему прекраснейшей Афродиту и
присудившему яблоко ей. В этом мифе под пиром подразумеваются
надмирные божественные силы, поэтому все боги там вместе;
золотое яблоко — мир, который возник из
противоположностей и поэтому назван яблоком Ириды; поскольку разные боги
по-разному опекают мир, представлена ссора из-за яблока;
поскольку душа, живущая чувствами, то есть Парис, не видит
других внутримировых сил, кроме красоты, сказано, что
яблоко досталось Афродите. Мифы о богах подходят философам, о
природе и душе — поэтам, смешанные — в мистериях,
поскольку цель всех мистерий — воссоединить нас с миром и
богами. Можно привести другой миф, например, о Матери
богов, которая, увидев Аттиса, лежащего у реки Галл,
воспылала к нему любовью и, взяв звездный убор, украсила им
Аттиса и после этого была с ним неразлучна; однако Аттис,
полюбив нимфу, покинул Мать богов и сочетался с нимфой,
из-за чего Мать богов ввергла его в безумие и, отсекши ему
мужество, оставила у нимфы; но потом он вернулся к ней и жил
с нею. Мать богов здесь—богиня жизни, поэтому она и названа
матерью; Аттис — создатель возникающего и гибнущего,
поэтому и сказано, что он находится у реки Галл; Галл
символизирует Галактику, от которой начинается подверженная
воздействиям телесная природа. Поскольку в высших богах —
совершенство низших, Мать возлюбила Аттиса и дала ему
небесные силы, то есть убор; Аттис же полюбил нимфу, а
нимфы надзирают за возникновением, поскольку все
возникающее течет. А поскольку следовало приостановить
возникновение, чтобы не возникло худшее, нежели уже существующее,
создатель этого, передав миру становления порождающие
потенции, воссоединился с богами. И все это — никогда не
возникало, но вечно есть; и хотя ум видит все это разом, речь
ведется сначала об одном, после — о другом: так миф
приспосабливается к миру, а мы, подражая мировому порядку и не
умея достичь в нашей жизни большей упорядоченности, на
основе мифа устраиваем праздник. Поэтому сначала мы,—
— 107 —
сами — падшие небожители, сошедшиеся с нимфой,—
пребываем в беспросветной скорби и отказываемся от хлеба и другой
грубой и нечистой пищи, поскольку все это противно душе; за
этим следует обрубание древа и пост, словно и для нас закрыт
путь дальнейшего бытия; после этого — млекопитие,— как бы
по возрождении; и затем — веселие, и венки, и как бы новое
восхождение к богам. Такое толкование мифа подтверждается
и временем праздника, свершаемого в дни весеннего
равноденствия, когда возникающее перестает возникать, а день
становится больше ночи, что соответствует возведению души; тогда
как во время осеннего равноденствия, согласно мифу,
происходит похищение Коры, что означает нисхождение душ. За эти
наши речи о мифах — да будут к нам милостивы боги, а также
души сочинителей мифов.
Глава 5
О первопричине
Теперь рассмотрим первопричину и чины богов,
следующие за ней, природу мира, сущность ума и души, промысл, рок
и случай, добродетель и порок, а также — возникающие от них
правильные и извращенные типы государственного устройства
и то, откуда в мире зло. Конечно, каждый из перечисленных
предметов требует пространного и обстоятельного изложения;
однако ничто не мешает сказать об этом вкратце, только чтобы
не упустить этого из виду совсем.
Первопричина должна быть одна, поскольку до всякого
множества — монада, превосходящая все силой и благом;
поэтому необходимо, чтобы все было причастно ей: ничто другое
не может ей препятствовать из-за ее силы, а сама она не
отстранится по благости. Если бы первопричина была душой, все
было бы одушевлено, если умом — умно, если бытием,— все
было бы причастно бытию. Некоторые, усматривая его во всем,
считали первопричину бытием. И будь все только
существующим, но не благим,— это было бы истиной; но поскольку все
существующее обладает бытием от благости и по причастию к
благу, необходимо, чтобы вышебытийное благо и было первым.
И вот величайшее подтверждение этому: ревнители блага
пренебрегают своим существованием, когда добровольно
подвергаются опасности ради родины, друга и добродетели.
За этой столь неизреченной силой следуют чины богов.
- 108 —
Глава 6
О надмирных и внутримировых богах
Одни боги — внутримировые, другие — надмирные. Внут-
римировыми я называю миросозидающих богов. Из
надмирных богов одни созидают субстанции богов, другие — умы,
третьи — души. Поэтому их — три чина; их все следует
определить в настоящем о них рассуждении. Из внутримировых
одни дают миру бытие; другие одушевляют его; третьи
согласуют те различия, из которых мир состоит; четвертые это
согласие охраняют. Поскольку каждый из четырех чинов имеет
начало, середину и конец, всего богов устроителей
оказывается двенадцать. Боги-миросозидатели суть Зевс, Посейдон и
Гефест; боги-одушевители — Деметра, Гера, Артемида; боги-
согласователи — Аполлон, Афродита, Гермес;
боги-охранители — Гестия, Афина и Apec. Их изваяния можно узнать по
атрибутам: Аполлон настраивает лиру, Афина вооружена,
Афродиту изображают нагой; последнее объясняется тем, что
согласие рождает красоту, а красота видимых вещей — открыта.
Эти двенадцать — главные владетели мира; однако внутри них
нужно мыслить и других богов, например, в Зевсе — Диониса,
в Аполлоне — Асклепия, в Афродите — Харит. Кроме того
необходимо различать их сферы: сфера Гестии — земля,
Посейдона — вода, Геры —- воздух, Гефеста — огонь; а шесть
высших сфер, как их называют, распределены так: Аполлон и
Артемида суть как бы Солнце и Луна; Сатурн отдан Деметре;
Афине — эфир; а небо в целом — общее владение их всех.
Таковы двенадцать чинов, сил и сфер двенадцати богов
согласно преданиям и песнопениям.
Глава 7
О мире и его вечности
Ясно, что сам мир — неразрушим и нерожден. Он
неразрушим потому, что по его разрушении можно создать лицо
худший, либо лучший, либо такой же, либо нечто
неупорядоченное. Если худший—тот, кто создаст его из лучшего, плох; если
лучший — бессилен, поскольку не сумел с самого начала
создать лучший; если такой же — новое творение лишено
смысла; если нечто беспорядочное, впрочем, об этом и говорить не
подобает.
Хотя для доказательства его нерожденности достаточно и
этого: если мир неразрушим, то и нерожден, поскольку все
возникшее разрушается,— к этому можно добавить еще одно:
— 109 —
бог извечно благ, а поскольку мир существует по благости бога,
ясно, мир вечен; так солнцу и огню гопутствует свет, а телу —
тень.
Одни внутримировые тела подражают уму и движутся по
кругу; другие, подражая душе, движутся по прямой: огонь и
воздух — вверх, земля и вода — вниз; а из движущихся
круговым движением сфера неподвижных звезд движется с востока
на запад, а семь планет — с запада на восток. Причины этого
многочисленны и разнообразны, основная же — чтобы из-за
слишком быстрого обращения сфер не получилось
несовершенного порождения. Ясно, что при различии движений
различается и природа тел; но небесное тело не жжет и не охлаждает,
и вообще не воздействует так, как четыре элемента. Поскольку
мир сферичен (что подтверждает и зодиак), а у сферы низшая
точка — центр (именно центр далее всего отстоит от
периферии), тяжелые предметы несутся вниз, к земле. Итак, все это
создано богами, упорядочено умом, приведено в действие
душой. И о богах уже сказано.
Глава 8
Ум, душа и ее бессмертие
Ум же есть некая сила, которая ниже первичного бытия,, но
выше души; она получает бытие от первичного бытия и дает
совершенство душе, как солнце — зрению. Одни души —
разумны и бессмертны, другие — неразумны и смертны. Первые
— произведения первичных, вторые—вторичных богов. Прежде
всего рассмотрим, что такое душа.
Душа есть то, чем одушевленное отличается от
неодушевленного; а отличается оно подвижностью, чувством,
ощущением, мышлением. Когда душа неразумна, она представляет
собой жизнь, основанную на ощущении и воображении;
разумная душа, властвуя над ощущением и воображением, опирается
на разум. Душа неразумная подчиняется телесным аффектам,
ей свойствен неразумный пыл и раздражительность; разумная
душа благодаря разуму не обращает внимания на тело и
борется с неразумием; одерживая над ним верх, она становится
добродетельной, если же одолевает неразумие — порочной.
Ясно, что она бессмертна, поскольку она познает богов (а
ничто смертное не обладает знанием бессмертного) и
человеческие заботы презирает как чужеродное; и все же, несмотря на
свою бестелесность, она подвержена телесным аффектам;
поэтому в молодых телах она подвержена соблазнам и только в
стареющем теле достигает зрелости. Всякая ревностная душа
опирается на ум, а ума никакое тело не рождает: как, в самом
- ПО —
деле, лишенное ума сможет породить ум? Используя тело в
качестве инструмента, душа не заключена в теле точно так же,
как изобретателя нет в изобретенном механизме; и тем не
менее многие механизмы движутся без посторонней помощи.
Что удивляться, если душа иной раз бывает совращена телом?
— Ведь и ремесленник не может работать, когда портятся
инструменты.
Глава 9
Промысл, рок и случай
О наличии божественного промысла можно судить на
основании следующего. Откуда бы взялся мировой строй, не будь
устроителя? Откуда эта всеобщая целесообразность,
например: наличие неразумной души, позволяющей чувствовать, и
наличие разумной, устрояющей землю? О существовании
промысла можно судить и на основании наших природных свойств.
Так, глаза прозрачны ради зрения, нос помещается надо ртом
ради различения зловония, передние зубы острые ради,
рассечения пищи» а по обеим сторонам — плоские, ради ее
перетирания. И мы видим, что все и во всем — с таким же расчетом.
Не может быть так, чтобы при наличии промысла в низшем,
его не было в высшем. И сама возможность прорицания и
лечения объясняется благим божественным промыслом. В этой
заботе о мире нельзя видеть сознательного действия со стороны
богов. Нет, но как обладающее определенными свойствами
тело самим своим существованием производит
соответствующее действие (например, солнце светит и греет просто в силу
того, что оно есть), так — и даже в гораздо большей степени —
божественный промысл безо всякого напряжения со своей
стороны оказывается благом для того, на что он направлен. Так,
кстати, разрешаются вопросы эпикурейцев, утверждающих,
что божество и само не заботится о мире и не препоручает этого
другим. Бестелесный божественный промысл о телах и о душах
заключается в этом. Что же касается отличного от промысла и
возникающего от самих тел и в телах рока (называемого так от
некоей исключительно телесной скрепленности), то им занята
и наука чисел. Вполне справедливо и истинно утверждение,
что человеческие тела устраиваются не только благодаря
богам, но и благодаря божественным телам; в особенности это
относится к состоянию здоровья. Поэтому не нуждается в
доказательствах утверждение, что они — причина здоровья и
болезни, а также удач и неудач. Но сваливать на рок нашу
несправедливость и разнузданность — значит делать нас
хорошими, обвиняя во зле богов. Впрочем, это утверждение имеет
— 111 —
смысл, если хотят сказать, что в целом мир и человеческое
естество рассчитаны на благо, а наше дурное воспитание и
слишком слабое здоровье роковым образом меняют благо на
нечто худшее. Так солнце хорошо для всех, а для тех, у кого
болезнь глаз или лихорадка, оно вредно. В самом деле, почему
массагеты поедают родителей, евреи обрезаются, а персы
оберегают благородство, рождая детей от собственных матерей? И
как те, кто считают Сатурн и Марс злотворными, в другой раз
делают их благотворными, возводя к ним философию, царское
и военное искусство, а также богатство? — Они будут говорить
о тритоне и квадрате, но тогда выйдет нелепость: человеческая
добродетель всюду остается той же самой, тогда как боги
покидают свои места. И предсказания, учитывающие благородное
и низкое происхождение родителей, также доказывают, что
звезды ничего не определяют, но только знаменуют, поскольку
не может появиться после рождения то, что определилось до
рождения.
Итак, промысл и рок относятся как к народам и
государствам, так и к отдельному человеку; то же самое и случай, о
котором пойдет речь теперь. Случаем называют божественную
силу, через разные и неожиданные события приводящую к
благу; поэтому городам весьма пристало оказывать ему
почести как богу: ведь жизнь всякого города определяется
множеством разных событий. Случай имеет силу в подлунном мире,
поскольку выше Луны ничто не происходит случайно. А что
негодяи процветают и хорошие бедствуют,— удивляться не
следует: те считают богатство всем, а эти — ничем. И удача не
лишает злодеев порочности, а хорошим людям довольно и
одной добродетели.
Глава 10
О добродетели и порочности
Рассуждая о добродетели и порочности, необходимо снова
коснуться вопроса о душе. Когда в тела внедряется неразумная
душа, она тут же пробуждает пыл и вожделение, тогда как
разум, будучи поставлен над телами, производит трехчастную
душу, состоящую из разума, пыла и вожделения. Добродетель
разума — рассудительность, пыла — мужество, вожделения —
воздержность, души в целом — справедливость. Разум должен
давать соответствующую оценку, пыл, повинуясь разуму,—
преодолевать ложные страхи, вожделение — преследовать не
призрачные, но разумные удовольствия. В таком случае
возможна справедливая жизнь, а справедливость в одних лишь
денежных делах — всего лишь малая часть добродетели. Все
— 112 —
добродетели можно наблюдать в том, кто получил воспитание;
а среди невоспитанных найдешь и несправедливого храбреца,
и бессмысленного скромника, и рассудительного распутника.
Поэтому при отсутствии разума нечего и говорить о
добродетелях: они несовершенны и встречаются даже среди животных.
Порочность можно рассмотреть, исходя из противного:
отсутствие разума—безумие, пыла—трусость, порочное вожделение
— разнузданность, порочность души в целом —
несправедливость. Добродетели возникают при правильном
государственном устройстве, правильном воспитании и образовании, а в
противном случае — пороки.
Глава 11
Об истинном и ложном государственном устройстве
Государство также возникает в соответствии с трехмастным
делением души. Правители соответствуют разуму, воины —
пылу, чернь — вожделению. Где все вершится разумно и
правит наилучший, там возникает монархия; где к разуму
примешивается пыл и правителей несколько, обычно возникает
аристократия; а государство, в котором правит вожделение и чины
определяются денежным цензом, называется тимократией.
Монархии противоположна тирания: в первой все разумно, во
второй — безрассудно; аристократии — олигархия: вместо лучших
здесь правит меньшинство негодяев; тимократии —
демократия, где господа надо всем не люди имущие, а чернь.
Глава 12
Откуда зло, а также о том,
что зло не субстанциально
Однако, раз боги благи и все созидают,— откуда в мире зло?
Здесь прежде всего следует сказать, что как раз в силу благости
богов, созидающих все,— зло не субстанциально, но возникает
из-за отсутствия блага; так не существует мрак сам по себе, но
возникает из-за отсутствия света. При этом ясно, что если зло
субстанциально, оно — либо в богах, либо в умах, либо в
душах, либо в телах. Среди богов его нет, поскольку всякий бог
— благ. Кто назовет злым ум, скажет о безумном уме; кто
душу,— сделает ее худшей, чем тело, поскольку тело как
таковое зла не содержит; усматривать же зло в сочетании души
и тела — бессмысленно, поскольку не может вместе создать зла
то, что по отдельности не зло. Могут сказать о злых демонах;
- ИЗ —
но если их сила — от богов, они не могут быть злыми; если
откуда-то еще,— значит не все создали боги. Если боги создали
не все, либо у них желание без возможности, либо возможность
без желания; но ни то, ни другое богу не пристало.
Что в мире нет субстанциального зла, видно из этого. Что
же касается человеческих действий, причем далеко не всех,—
они не всегда представляются плохими. Если бы люди
допускали проступки благодаря самому злу, это можно было бы
считать субстанциальным злом; но дело в том, что прелюбодей
считает прелюбодейство злом, но удовольствие — благом; и
убийца считает убийство злом, но деньги — благом; причиняя
зло врагу, само причинение зла мы считаем злом, но защиту от
врага — благом; и все заблуждения души — такого рода, так
что зло возникает ради добра. Так из-за отсутствия света
возникает тьма, которая сама по себе не существует. Душа
ошибочно полагает, будто стремится к добру, и мечется в поисках
добра, потому что ее бытие — не первично. А чтобы она
избавилась от метаний и выправилась, ей многое дано от богов:
искусства и науки, заклятия и молитвы, жертвоприношения и
таинства, законы и установления, суд и наказание,— все это
существует, чтобы избавить душу от ошибок. А когда души
покидают тело, их очищают от заблуждений боги и демоны
очищения.
Глава 13
В каком смысле говорится о возникновении вечного
Относительно богов, мира и человека — для тех, кто не
получил философской выучки и не исцелился душой,— этого
довольно. Но еще нужно сказать относительно нерожденности
всего этого и неотделимости одного от другого,— ведь мы сами
сказали в предшествующем изложении, что вторичное
произошло от первичного. Все возникает либо с помощью
искусства, либо естественным порядком, либо в силу некоей потенции.
При этом ясно, что созидающее с помощью искусства или
естественным порядком,— предшествует созидаемому; а
созидающее в силу некоей потенции составляет одно со своими
созданиями, поскольку сама эта возможность неотчуждаема от
него; так солнце дает свет, огонь — тепло, снег — холод. Если
боги создают мир с помощью искусства, они создают не бытие
как таковое, но некоторое данное бытие, поскольку всякое
искусство создает определенный вид изделий. Но в таком
случае, откуда у мира бытие? Если естественным порядком, то как
может естественно созидающее не дать возникающему что-то
от себя? — И поскольку боги бестелесны, мир тоже должен
— 114 —
быть бестелесен. Если кто-то считает богов телами, то откуда
берется бестелесная потенция? Если мы допустим это, то ясно,
что с разрушением мира разрушится и его создатель,— если он
созидает естественным порядком. И если боги созидают мир не
с помощью искусства и не естественным порядком, остается
только созидание в силу некоей потенции. А все возникающее
в силу некоей потенции составляет одно с тем, что этой
потенцией обладает. Возникшее таким образом никогда не может
погибнуть,— разве что кто-то лишит его создателя потенции.
Поэтому допускающие разрушение мира утверждают тем
самым, что богов нет, или же, если они говорят, что боги есть,—
что бог бессилен. И поскольку созидающее в силу некоей
потенции составляет все в единстве с самим собой, величайшая
потенция должна создать не только людей и животных, но
богов, людей и демонов. При этом ясно, что насколько первый
бог превосходит человеческую природу, настолько велико
должно быть число промежуточных потенций между нами и им,
поскольку все, далеко отделенное одно от другого, имеет
множество промежуточных звеньев.
Глава 14
В каком смысле говорят о гневе и заботе
у неизменчивых богов
Если кто-то считает—вполне справедливо и истинно,— что
боги — неизменчивы и при этом не может понять, как они
радуются добрым и отворачиваются от злых, гневаются на
преступников и милостивы к благочестивым,— необходимо
подтвердить, что бог — не радуется, поскольку радующийся и
печалится; и он не гневается, поскольку гнев — аффект; его не
подкупают дары благочестия, поскольку это значило бы
поддаваться чувствам. Да, божеству не положено переменяться
из-за человеческих дел. Боги всегда благи, они только полезны
и никогда не чинят вреда, всегда совершенно ровны. А мы,
когда мы хороши, благодаря сходству соединяемся с ними, а
когда дурны, то — в силу несходства — отъединяемся. Живя
добродетельно, мы их соседи; став дурными, мы делаем их
врагами. Они не гневаются, но наши проступки закрывают нас
от божественного света и отдают во власть демонов-мстителей.
Когда мы молитвами и жертвоприношениями стремимся смыть
наши преступления, это не ублажает богов и не заставляет их
перемениться; это мы сами, поступая так и обращаясь к
божеству, исцеляемся от нашей порочности и вновь вкушаем от
божественной благости. Можно сказать, что боги отворачива-
— 115 —
ются от дурных; но это то же самое, что сказать «солнце
скрылось от ослепших».
Глава 15
Зачем почитать самодовлеющих богов
Здесь может возникнуть сомнение относительно
жертвоприношений и богослужения вообще. В самом деле, божество —
самодовлеюще, а богопочитание установлено ради нашей
пользы. Божественный промысл распространяется на все, но
только нужно средство, чтобы его уловить. Всякое средство
основано на воспроизведении и сходстве; поэтому храмы
воспроизводят небо, а жертвенники — землю; идолы — жизнь
(поэтому это часто изваяния животных) ; молитвы — ум;
символы — неизреченные горние силы; травы и камни —
вещество; а жертвенные животные — нашу неразумную жизнь. Во
всем этом боги совершенно не заинтересованы: какой тут
интерес богу?—А мы получаем возможность воссоединения с ними.
Глава 16
О жертвоприношениях и прочих обрядах,
от которых польза не для богов, а для людей
Полагаю уместным кое-что прибавить относительно
жертвоприношений. Во-первых,— поскольку все у нас от богов,—
справедливо отблагодарить дающих лучшим от их даров: за
имущество — пожертвованиями, за наши тела — тем, что их
украшает, за жизнь — жертвенными животными; во-вторых,
молитвы, не подкрепленные жертвами,— только слова, а
подкрепленные — одушевленные речи: слово дает силу жизни, а
жизнью одушевляется речь. Далее, все естественно
завершается блаженством, а естественное завершение для каждого —
соединение со своей причиной. Именно поэтому мы молимся о
воссоединении с богами. И поскольку неточная жизнь — у
богов, а жизнь человеческая — только один из видов жизни,
она, желая воссоединиться с той, нуждается в посреднике;
поскольку непосредственно соединить разделенное нельзя,
посредник должен быть подобен тому, что он соединяет; поэтому
посредником жизни должна быть жизнь. Вот почему люди — и
сегодняшние счастливцы и все люди древности — приносят в
жертву животных, причем не каких попало, но тех, какие
подобает приносить данному богу, соблюдая при этом и другие
многочисленные обряды. Впрочем, об этом достаточно.
- 116 -
Глава 17
О естественной неразрушимости мира
О том, что боги не станут разрушать мир, сказано. Однако
следует сказать и об его естественной неразрушимости. Все
разрушимое претерпевает разрушение либо от самого себя,
либо от иного. Если бы космос разрушал сам себя, тогда и огонь
должен был бы сам себя сжигать, и вода — иссушать себя самое.
Если он разрушается иным, то либо телом, либо бестелесным;
однако последнее невозможно: бестелесное (например,
природа или душа) целительно для тел, а ничто, по сути своей
целительное, не вызывает разрушения. Если он разрушается телом,
то либо уже существующими телами, либо какими-то
другими; предположим, что существующими: тогда либо тела,
движущиеся по кругу, разрушали бы тела, движущиеся по
прямой, либо движущиеся по прямой — движущиеся по кругу. Но
телам, движущимся по кругу, не свойственна разрушительная
сила: разве мы видим, чтобы от них исходило разрушение? И
они же недосягаемы для тел, движущихся прямолинейно: до
сих пор ведь это было невозможно. Но тела, движущиеся
прямолинейно, неспособны разрушить друг друга, поскольку с
гибелью одного возникает другое, а это — не разрушение, но
изменение. Если же речь пойдет о разрушении мира от каких-
то других тел, то нельзя сказать ни того, откуда они возьмутся,
ни того, где они могли бы находиться сейчас. Кроме того, при
всяком разрушении разрушается либо вид, либо вещество. Вид
есть внешний облик, вещество — тело. Если по разрушении
вида вещество сохраняется,— возникают новые тела. Можно
предположить разрушение вещества; но тогда — почему же
оно до сих пор не иссякло за столькие годы? Если вместо
разрушаемого возникает нечто другое, оно возникает либо из
существующего, либо из несуществующего. И если из
существующего, то — поскольку оно существует вечно,— вечно и
вещество. Если же разрушится и существующее,— тогда
придется говорить не только о разрушении мира, но вообще всего.
Положим, что вещество возникает из несуществующего, но,
во-первых, не может быть существующего из
несуществующего; но даже если это возможно и возможно вещество из
несуществующего, то пока будет несуществующее, будет и материя,
ибо как бы это могло перестать существовать
несуществующее? Когда вещество называют лишенным очертаний, то, во-
первых, спрашивается, почему этого нет в отдельных частях,
но только — в мире в целом? И, во-вторых, тем самым
уничтожается не бытие тел, но только их красота. Кроме того, все
разрушаемое разлагается либо на составляющие его части,
либо исчезает в небытии. Но в первом случае вновь возникает
— 117 —
что-то другое: ведь была же причина, в силу которой оно
возникло в первый раз. А если существующее может переходить в
небытие, что избавляет от такой участи бога? И если избавляет
свойственная ему сила, то разве может сильный сохранять
только самого себя. — Нет, и точно так же невозможно
возникновение существующего из несуществующего и исчезновение
существующего в небытии. Кроме того ясно, что разрушение
космоса происходит либо естественно, либо
противоестественно. ... Но противоестественное разрушение мира невозможно,
поскольку противоестественное не может предшествовать
естеству. Если же речь идет о естественном разрушении, у мира
должно быть другое, измененное естество, которое теперь не
проявляется. Кроме того, все естественно разрушимое может
быть разрушено и нами; но никто не может разрушить и даже
просто изменить это кружащееся тело мира; и его стихии
также нельзя разрушить, хотя и можно изменить. Кроме того, все
разрушающееся со временем меняется и стареет; а мир —
столько лет! — пребывает в неизменности.
За эти наши речи, обращенные к тем, кто нуждается в
самых сильных доказательствах, молим сам этот мир стать для
нас милостивым.
Глава 18
В чем причина безбожия
и об его безвредности для богов
Ниже достоинства человека разумного смущаться
встречающимися там и сям случаями безбожия, которых в будущем
станет еще больше. Во-первых, это не вредит богам, точно так
же как им нет пользы от почестей; а во-вторых, душа — как
сущность срединная — и не может все время поступать
правильно. Ведь не может мир во всех своих частях равно
испытывать на себе воздействие божественного промысла: где-то оно
вечно, где-то временно, там первично, здесь вторично; точно
так же человеческой голове доступны все чувства, а телу в
целом—только одно. Поэтому неслучайно установители
праздничных дней установили и дни запретные, когда в одних
храмах не служат, другие запирают, третьи лишаются
украшения теми, кем искупается немощь нашей природы. Кстати,
очень похоже, что безбожие — некий вид наказания;
по-видимому, те, кто знали богов, но не почитали их, в другой жизни
лишаются этого знания; точно так же тех, кто чтит как богов
своих правителей, следовало бы наказывать богоотлучением.
- 118 -
Глава 19
Почему преступники не тотчас наказываются
А тому, что ни за этими, ни за другими преступлениями не
тотчас следует наказание преступников,— удивляться не
следует: во-первых, души подвергаются наказанию не только от
демонов, но и сами себя осуждают; во-вторых, с тем, что
пребывает в течение вечного времени, не должно случаться все
сразу; а кроме того, иначе не будет возможна человеческая
добродетель, поскольку при мгновенном наказании за
преступления люди, став праведниками со страху, лишились бы
добродетели. Наказание наступает по выходе из тела: одни
обречены скитаться здесь, другие — в иных местах, в землях
зноя и стужи, третьих терзают демоны. Но везде они остаются
с тем неразумием, в силу которого стали преступны; именно
из-за него и возникают те телесные тени, которые можно иной
раз видеть, в особенности — при могилах грешников.
Глава 20
Душепереселение: в каком смысле говорится
о превращении в неразумных животных
Если душа переселяется в разумное существо, она так и
остается душою тела; а если в неразумное,— она извне следует
за ним наподобие демонов, получивших нас по жребию и
следующих за нами; но стать душой неразумного душа разумного
существа не может. О душепереселении можно судить по
врожденным порокам. В самом деле, почему иначе рождаются
слепые, увечные и даже — душевнобольные? И поскольку души
от природы предназначены к управлению телом, неужели,
однажды расставшись с ним, они потом весь век останутся в
бездействии? И если бы души не возвращались в тела, ясно, что
их было бы бесконечно много; или же богу пришлось бы
постоянно создавать новые. Но в мире нет ничего бесконечного: ну
какая, в самом деле, может быть бесконечность в сфере
конечного? И рождение новых душ также невозможно: ведь ясно, что
все, допускающее в себе рождение нового,— несовершенно.
А космосу, рожденному от совершенства, и самому пристало
быть совершенным.
- 119 -
Глава 21
Добрые блаженны и в этой жизни, и после смерти
Добродетельно прожившие души обретают блаженство как
во всем прочем, так и в том, что они отмежевываются от
неразумия и полностью очищаются от телесной природы; они
воссоединяются с богами и вместе с ними становятся
устроителями мирового целого. Впрочем, если они и не достигают этого,
то сама добродетель и приносимые ею радость, слава и жизнь
беспечальная и свободная,— достаточны для того, чтобы
сделать счастливыми решивших и сумевших вести
добродетельную жизнь.
АНОНИМНЫЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ
К ПЛАТОНОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Боговдохновенный Аристотель, приступая к той части своей
философии, ще он рассуждает о божественном, говорил, что
все люди стремятся к знанию, и в доказательство приводил
любовь к ощущениям: ведь мы любим ощущения, оттого что с
их помощью можем что-то познать. На мой взгляд, так же
обстоит дело и с философией Платона: очевидно, что все хотят
почерпнуть из нее, как из некоего источника, сколько каждый
сочтет для себя необходимым. Говоря «все», я имею в виду тех,
кто живет сообразно с природой, а не тех, кто огрубел
настолько, что не может, подобно летучим мышам, смотреть на
солнечный свет и считает, будто существует только то, что
доступно ощущениям, нимало не задумываясь об умопостигаемом.
1
Пожалуй, восхищение философией Платона станет еще
больше, если вначале мы расскажем его историю и изложим
характер его философии.
Так вот, отцом великого Платона был Аристон, сын Ари-
стокла, а матерью — Периктиона, происходившая из рода Со-
лона-законодателя; ему-то в подражание и написал Платон
«Государство» и «Законы». Сам он получил имя Аристокла в
честь деда со стороны отца, но позже его прозвали Платоном:
то ли за широкую грудь, то ли за обширный лоб, а вернее всего
— за широту и непринужденность слога. Так же ведь и Феоф-
раста называли вначале Тиртамом, а потом переименовали за
божественный слог в Феофраста.
Божественным был Платон и священными узами связан с
Аполлоном. Это подтверждают его собственные слова, а также
сны; он говорил о себе, будто служит тому же господину, что и
лебеди, а со снами дело обстоит так. Учитель его Сократ
накануне того дня, когда Платон должен был прийти к нему, увидел
во сне, как бескрылый лебедь опустился к нему на колени;
потом у лебедя выросли крылья, и он взлетел, издавая звуки
громкие и звонкие, пленившие всех, кто слышал его. Это
означало, что придет к нему Платон незрелым, но достигнет
совершенства и создаст такое замечательное учение, что все будут
стремиться его услышать и никто не сможет, да и не станет
- 121 -
пытаться ему противоречить. И сам Платон перед смертью
видел во сне, будто он превратился в лебедя и, перелетая с
дерево на дерево, доставлял множество хлопот птицеловам,
которые не могли его поймать. Услыхав про этот сон, Симмий,
ученик Сократа, сказал, что все будут пытаться понять мысли
Платона, но никто не сможет, и каждый станет толковать его
по-своему: один — теологически, другой — физически, третий
— еще как-нибудь. В этом отношении с Платоном случилось
то же, что и с Гомером: оба говорят так приятно и складно, что
доступны всякому, как бы он за них ни взялся.
А что Платон был служителем Аполлона, показывают не
только сны, но и сам образ жизни его, направленный на
очищение: ведь это бог очищающий и само имя «Аполлон»
означает «отрешенный от многого», так как альфа здесь
отрицательная частица.
Кроме того, само время появления Платона на свет
указывает на его связь с Аполлоном: он родился в седьмой день
Таргелиона, когда делосцы справляют праздник Аполлона. А
в шестой день этого месяца, когда празднуют день рождения
Артемиды, родился Сократ; это указывает на то, что он
предшествовал Платону и по времени и по разуму.
Чтобы наш рассказ о жизни Платона получился полным,
будем излагать все по порядку.
Все, что возникает, возникает в определенное время и в
определенном месте, а потому и Платон, раз уж он родился,
должен был родиться в какое-то время и в каком-то месте. Так
давайте первым делом выясним то и другое, а также все прочие
обстоятельства и события, связанные с его рождением.
Итак, родился Платон в восемьдесят восьмую Олимпиаду,
в архонтство Аминия, когда Перикл был еще жив и
Пелопоннесская война еще только началась; таким образом, он на шесть
лет младше Исократа. Место его рождения—Эгина, поскольку
его отец Аристон послан был в это время на Эгину афинянами
в качестве клеруха. Вот все о времени и месте его рождения.
Что же до других обстоятельств, то, когда мать еще носила
его во чреве, отец его видел сон, запрещавший ему иметь с
женой сношения. Это означало, что супруги должны
сожительствовать не ради наслаждения, но только ради
деторождения и что ребенок должен родиться чистым, не запятнанным
сожительством, которое после зачатия было бы постыдным. А
после родов мать его, взяв ребенка, отправилась с ним на гору
Гиметт, чтобы принести жертвы Аполлону — охранителю стад
и нимфам. И положила его там, а вернувшись, увидела, что рот
его полон меда: это сделали прилетевшие пчелы, чтобы
возвестить, что из уст его польются речи «слаще меда», как говорит
поэт. Пищу же Платон никогда не употреблял животную, но
только растительную.
— 122 —
Когда же он подрос, стал учиться грамоте у Дионисия,
которого упоминает в «Письмах», ибо несправедливо было бы, по
его словам, не оставить памяти о своем учителе. Гимнастике
он обучался у Аристона, да так усердно, что дважды выходил
победителем — на Олимпийских и на Немейских играх. Затем
он занимался музыкой с Драконтом из школы Мегилла,
ученика Дамона; об этом Дамоне он упоминает в «Теэтете».
Чтением, гимнастикой и музыкой Платон много занимался сам и
учеников своих призывал к тому же, ибо знал, что эти
предметы способствуют воспитанию трех частей души, и с помощью
чтения заострял свой разум, музыкой укрощал страсти, а
гимнастикой закалял вожделеющую часть души.
После этих учителей он перешел к сочинителям
дифирамбов, желая усвоить особенности их стиля; первое его сочинение,
«Федр», написано, несомненно, в форме дифирамба. Учился он
и у трагиков, перенимая их высокий слог; учился и у
комедиографов, желая почерпнуть для себя пользу из знакомства с их
языком. Без сомнения, он овладел и стилем Аристофана,
самого выдающегося из комедиографов; что он перенял его слог,
видно из его эпиграммы на Аристофана, в которой говорится:
Сами Хариты, искавшие храма нетленного, душу
Аристофана найдя, в ней обрели себе храм.
Старался он также перенять мастерство сочинителя
шутовских мимов Софрона, желая, видимо, усовершенствоваться в
искусстве изображения (την μιμητικήν): ведь тот, кто пишет
диалоги, не обходится без изображения действующих лиц.
Учился он и у живописцев, чтобы узнать о разных цветовых
сочетаниях, поэтому-то в «Тимее» так много говорится о цвете. Но
всем этим занимался он до двадцати лет, а потом стал
учеником Сократа и провел в общении с ним десять лет, желая
изучить этическую философию. И, увидев превосходство
Сократа над всеми остальными, он, говорят, решился предать
огню все, что написал прежде, произнеся такие слова:
Выйди сюда, о Гефест, сегодня ты нужен Платону.
Сократу он был предан, как никто другой. Когда Сократ был
привлечен к суду и попал в тюрьму, Платон поднялся на
трибуну и воскликнул: «Хоть я и молод еще, сограждане, я все же
поднялся сюда!» Но рассерженные судьи стащили его с
трибуны, и, огорченный, он покинул здание суда, не в силах там
дольше оставаться.
Когда Платон освоил Сократову этику, причем самого
Сократа он во время бесед нередко ставил в тупик, он еще при
жизни Сократа написал диалог «Лисид», и диалог этот попал в
— 123 —
руки к учителю. Прочитав его, Сократ сказал своим друзьям:
«Этот юноша ведет меня как хочет, сколько хочет и к кому
хочет».
После обучения у Сократа он отправился к пифагорейцам,
желая поучиться у них обозначать вещи с помощью чисел;
отсюда так много высказываний об этом в «Тимее». Слушал он
также Кратила, последователя Гераклита, и Гермиппа,
последователя Парменида, желая постичь учения Гераклита и Пар-
мен ид а. В связи с этим он написал два диалога — «Кратил» и
«Парменид», где говорит об учениях вышеупомянутых мужей.
Узнав, что философия пифагорейцев ведет свое
происхождение из Египта, он отправился в Египет и возвратился, изучив
там геометрию и жреческое искусство. Затем, поехав в
Финикию, он встретил там персов и узнал от них учение Зороастра.
А оттуда он отправился в Сицилию, намереваясь исследовать
кратеры Этны; тогда-то он и встретился с Дионисием.
Вернувшись затем в Афины, он учредил школу рядом с
пристанищем Тимона-человеконенавистника, который не мог
ужиться решительно ни с кем — это ясно и из его эпитафий,— но
охотно переносил общество Платона. Эпитафии же эти таковы:
Здесь я покоюсь, извергнув свою злосчастную душу.
Кто я такой — не скажу. Пропадите вы пропадом, дурни!
И вторая:
Мимо стелы иди себе, путник, меня не приветствуй,
И не расспрашивай ты, кто я и кто мой отец.
Часть земли, на которой располагалась школа, Платон
отделил под священный участок и посвятил его Музам. Его
школу посещали не только мужчины, но и женщины: Дексифея из
Флиунта и Ласфения из Аркадии.
Этот божественный, как мы уже не раз говорили, муж
впервые изобрел многие вошедшие потом в употребление имена,
вещи и литературный жанр (είδους συγγραφής).
Из имен он ввел «качество», до него этого имени не знали;
в «Теэтете» у него Сократ беседует с Феодором и говорит, что,
возможно, слово «качество» покажется ему странным и
непривычным. Это подтверждает и Аристотель, который говорит в
«Категориях»: «Качеством я называю...»; говоря «я называю»
Аристотель повторяет, видимо, одним из первых слова самого
изобретателя этого имени, ведь если бы оно уже давно было в
употреблении, он сказал бы не «я называю», но «называется»,
ибо так было в обычае и у него самого, и у всех древних. Кроме
того, Платон ввел имена «антиподы» и «продолговатое число»
( μήκους αριθμού ).
— 124 —
Он открыл многие вещи в физике, этике, теологии и в
политике. В физике доказал, что магнит не притягивает железа,
но воздух толкает железо к магниту. В математике он открыл
так называемое среднее пропорциональное, о котором мы
говорили, разъясняя «Вторую Аналитику» Аристотеля.
А дело было вот как: во время эпидемии чумы послали
афиняне в Дельфы вопросить оракула, что им сделать, чтобы
чума прекратилась. Бог ответил им: удвоить алтарь и принести
на нем жертвы. А так как алтарь этот был кубической формы,
они взгромоздили на него еще один такой же куб, думая тем
исполнить повеление оракула. Когда же чума после этого не
прекратилась, отправились они к Платону и спросили, что же
теперь делать. Тот отвечал: «Сердится на вас бог за незнание
геометрии» — и объяснил, что следовало подразумевать здесь
не простое удвоение, но найти некое среднее
пропорциональное и произвести удвоение с его помощью; и как только они это
сделали, чума тотчас же кончилась. В этике он тоже ввел
кое-что новое: ведь именно он первым предложил не учить за
плату, а это относится к области этики. Известно же, что
Пифагор, как и все без исключения его предшественники,
продавал свою мудрость за сто золотых драхм, так что был скорее
словоторговцем, нежели философом. Поэтому пришлось
Платону, чтобы купить «Тимея», заплатить пифагорейцам семь
серебреников; потом в подражание ему он написал свой
диалог, отсюда и стали говорить:
Много денег Платон за малую выложил книжку
И, прочитав, принялся тимеософствовать он.
Открыл он новое и в политике, а именно ему первому
пришло в голову, что помещения для заседаний должны быть
круглыми, поскольку так они будут более вместительны: ведь
геометрами доказано, что круг имеет большую площадь,
нежели любая другая фигура того же периметра. Открыл он и
третий вид государственного устройства — по установлению. И в
теологии открыл он много нового, например что идеи
существуют как образцы. Нельзя сказать, чтобы до него ничего не
знали о существовании идей; только Пифагор считал их
действующей причиной, и после Платона Аристотель тоже помещал
их в действующей причине; Платон же, как сказано, помещал
их в парадигматической причине, так что они запредельны
действующей. Потому и говорят, что, когда он открыл идеи,
ему показалось, будто у него открылся еще один глаз. Открыл
он также, что такое вечность; до него вечностью считали
безграничность времени, он же показал, что безграничность
времени — этот одно, а вечность — совсем другое.
Был он и основоположником нового литературного жанра —
— 125 —
диалогического. Если возразят нам, что и до него Зенон и Пар-
менид писали диалоги, то мы ответим, что он пользовался этой
формой больше, чем кто бы то ни было.
Прожил Платон 81 год, и это лишний раз доказывает, что
он был служителем Аполлона: ведь девять — число Муз,
помноженное само на себя, дает 81, а что Музы —
служительницы Аполлона, никто, я думаю, отрицать не станет. Да
и само число 81 особое: оно называется биквадратным
( δυναμοδύναμις ) потому, что тройка (первое из чисел,
имеющее начало, середину и конец), помноженная сама на себя,
дает девятку (ведь трижды три — девять), а девятка, помноженная
сама на себя, дает 81.
События, которые случились после его смерти, тоже
свидетельствуют о его божественности. Одна женщина как-то
отправилась вопросить оракула, не следует ли ей поместить
стелу Платона рядом со статуями богов, на что бог ответил так:
Если ты почитаешь Платона, который дорогу
К мудрости людям открыл, тебе наградою будет
Милость богов, ибо к сонму бессмертных Платон сопричислен.
Был и другой оракул, а именно что родятся два сына: у
Аполлона — Асклепий, а у Аристона — Платон; первый будет
врачевать тела, а второй — души. И афиняне, празднуя день
рождения Платона, поют:
В этот день даровали боги людям Платона.
Легко увидеть, насколько он превосходил Пифагора: ведь
тот отправился в Персию, чтобы познакомиться с мудростью
магов. À ради Платина маги сами явились в Афины, стремясь
приобщиться к его философии.
2
Теперь, когда мы знаем историю жизни Платона, можно
приступить к изложению характера его философии.
И до Платона, и после него существовало множество
философских школ; Платон же без труда превзошел их все как
учением своим и умом, так и во всех прочих отношениях. А
школы до него существовали такие: во-первых, поэтическая,
которую создали Орфей, Гомер, Мусей и Гесиод; другая школа
возникла из ионийского учения, основоположниками ее были
- 126 -
Гераклит, Фалес и Анаксагор; существовали также школы
Пифагора и Парменида.
А после Платона появились стоическая, эпикурейская,
перипатетическая школы, а также школа Новой академии. Ее
приверженцы отличаются от скептиков тем, что не считают,
как эти последние, будто все существующее одинаково
недоступно познанию, но считают, что не одинаково и что есть
вещи, склоняющие нашу душу к признанию того, что о них
существует известная степень знания.
По сравнению с каждой из этих школ Платон обнаружил
свое превосходство.
Научившись у поэтов воспевать порядок всего сущего,
Платон превзошел их вот в чем: речь поэтов бездоказательна и, по
его собственным словам, неистова и исступленна; его же
высказывания всегда обоснованы; кроме того, он превосходил их
и благочестивой правильностью своих мифов. Ведь поэты
слагали мифы как придется, Платон же говорил, что кто
собирается повествовать о боге, должен придерживаться определенных
правил, чтобы не ввести читателя в заблуждение, а именно
следует знать, что бог благ и ни в коем случае не может быть
обвинен во лжи, объясняют ли ее незнанием истины или злым
умыслом. Кроме того, всякий бог неизменен и постоянен, ибо
не может измениться ни к худшему, ни к лучшему: первого не
допускает его природа, к лучшему же измениться он не может
потому, что по своей сущности он наилучшее из всего
существующего. Знание всего этого и придает мифам благочестивую
правильность, и об этом следует помнить всем, кто читает
мифы, дабы не наносить вреда детям и не заставлять их
дожидаться морали, чтобы из нее только узнать смысл мифа (как
это бывает в баснях Эзопа) ; но, напротив, нужно сразу
прояснить все, что есть в мифах полезного, ведь если не обратить на
это особого внимания учеников и не растолковать как следует,
они поймут все превратно.
Итак, поэтов Платон превзошел обоснованностью и
благочестием. Но и приверженцев ионийской школы, или физиков,
оставил он далеко позади. А следует знать, что те говорили о
существовании сопричин, Платон же отделил эти сопричины
друг от друга и объяснил, каковы причины, а именно:
парадигматическая, действующая и целевая. Что же до высказывания
Анаксагора, довольно, впрочем, невразумительного и
смутного, будто ум является действующей причиной, то ведь ум у него
не имеет никакого отношения к возникновению и
уничтожению, причиной которых он считал воздушные вихри и ветры,
но никак не ум. Кроме того, ионийцы считали, что [четыре ]
стихии — это материя; Платон же показал, что безвидная
материя соответствует в грамматике двадцати четырем буквам
( στοιχεία ), бескачественное тело — слогам, а четыре стихии
— 127 —
— уже словам, так что их и со слогами нельзя сопоставлять.
Таким вот образом возвысился Платон над этими двумя
школами: поэтов он превзошел доказательностью, а ионийцев
— вдохновением.
У пифагорейцев же он заимствовал обозначение вещей с
помощью чисел: именно этим приемом он воспользовался в
«Тимее», причем в том, что касается ясности и
убедительности, оставил самих пифагорейцев далеко позади. Ведь на
примере того же самого «Тимея» видно, насколько яснее и
убедительнее раскрывает он [сущность ] вещей с помощью чисел.
Превзошел он также и философию Парменида,
опровергнув утверждение последнего, будто началом всего сущего
является бытие, и показав, что единое — прежде бытия. Ведь если
бы началом было бытие, то все сущее стремилось бы к нему,
ибо все связано неразрывно со своим началом; мы же,
напротив, видим, что некоторые пренебрегают своим
существованием ради большего блага; следовательно, не бытие является
единственным началом всего, но единое, которое выше бытия.
Итак, почему Платон превосходил всех своих
предшественников, ясно из вышесказанного; но он превзошел также и всех
последующих философов. Так, он оказался сильнее стоиков,
полагавших, будто все существующее — это тела, ибо Платон
доказал, что есть и некоторые бестелесные сущности, а именно
доказал, что душа бестелесна. А если бестелесна душа, то и
ангелы, которые выше ее, и ум, предшествующий ангелам, и
первопричина, которую Платон называет благом,— все они
будут бестелесны.
Превзошел он и эпикурейцев, поскольку те считали, будто
здешний мир находится вне провидения демиурга, которое
управляет лишь небесными телами: ведь, по их словам,
демиургу пришлось бы взять на себя слишком много хлопот и труда,
если бы его провидение управляло еще и этим миром. Платон
же доказал, что и здешний мир подвластен провидению.
Принимая все то, что есть истинного в учениях стоиков и
эпикурейцев, Платон сумел в то же время избежать
нелепостей и тех и других. Ведь у первых — я имею в виду стоиков —
из утверждения, что все существующее телесно, вытекает
явная несуразность, будто демиург, если только он управляет
здешним миром, будет вынужден применять какие-то орудия
и рычаги, ибо всякое воздействие на тела производится с
помощью тех или иных орудий, причем одно тело воздействует
на другое. Этого нелепого следствия Платон избежал, доказав
наличие бестелесных сущностей. Зато в том, что божественное
провидение управляет здешним миром, он был со стоиками
согласен, потому что из утверждения эпикурейцев, будто
демиург не на все распространяет свое провидение, вытекает та
же явная нелепость, которой не допускает Платон: в отличие
— 128 —
от них он считает, что демиург не орудует какими-то
рычагами, но что, будучи бестелесным, осуществляет свое
провидение без всякого труда и усилия.
Кроме того, имел Платон некоторое преимущество и над
перипатетиками. Они ведь полагали началом всего ум, а
Платон показал, что единое первее и ума, и всего остального. Ведь
если бы ум был началом всего сущего, то все было бы наделено
умом, ибо все сущее причастно своему началу; мы же видим,
что некоторые вещи лишены разума, следовательно, ум не
является первоначалом. Кроме того, перипатетики называли
ум целевой причиной всего сущего; Платон же доказал, что и
действующей и целевой причиной является единое. А что ум
не первопричина, это мы можем доказать и другим способом:
если бы он ею был, то, поскольку существует множество форм
( πολλά είδη ), и умов будет много; следовательно, начало в
этом случае было бы множеством — опять нелепость, ибо
начало должно быть единым.
Превзошел Платон и новых академиков, кои отстаивали
непознаваемость; он же доказал, что существует нечто доступное
научному познанию. Некоторые, правда, причисляют Йлато-
на к скептиком и новым академикам, утверждая, будто и он
отвергал возможность достоверного знания; к такому
заключению они приходят будто бы на основании сказанного им в
собственных его сочинениях. По их словам, рассуждая о любом
предмете, он выбирает выражения двусмысленные и
сомнительные, такие, как «может быть», «вероятно», «похоже на то»;
все это будто бы не пристало человеку ученому и выдает
незнакомство с точным знанием. Мы же им возразим, что Платон
говорит так, пытаясь уточнить определения, в чем не
нуждаются скептики: к чему им точность в рассуждении или в
определении, если они провозгласили непознаваемым все вообще?
Второй довод у них такой: раз Платон об одном и том же
предмете высказывает противоположные суждения, ясно, что
он не допускает возможности точного знания. В «Лисиде», мол,
он высказывает противоположные суждения о дружбе, в «Хар-
миде» — о рассудительности, в «Евтифроне» — о благочестии.
Мы возразим, что, выдвигая вначале противоположные точки
зрения, он в конце концов все же приходил к истине.
В-третьих, по их мнению, уже из того, что в «Теэтете»
Платон отвергает все определения знания и числа, ясно что он
отрицал знание: и как, мол, такой человек мог превозносить
знание? На это мы ответим, что Платон не уподобляет душу
неисписанной дощечке и что, по его мнению, достаточно
только снять окутывающие ее покровы, чтобы она пришла в себя и
смогла все разглядеть. Знание заложено в ней самой, а видит
она плохо лишь из-за сопряженности с телом и поэтому
нуждается в очищении.
5 Заказ № 305
— 129 —
Таким образом возражает Платон на все, что было
высказано против знания, допуская возможность постижения
истины после очищения души.
В-четвертых, они говорят следующее: если Платон считает,
что есть всего два вида познания: один — через ощущения,
другой — посредством разума, и затем называет оба вида
ошибочными, не признает ли он тем самым невозможность всякого
познания? Он ведь утверждает: «Мы ничего не можем слышать
или видеть точно, наши чувства обманывают нас». Точно так
же и об умопостигаемом говорит он, что «душа наша,
связанная с этим злом, с телом, ничего не в силах уразуметь». На это
мы возразим вот что: говоря, что ощущения не познают
ощущаемого, Платон имеет в виду, что они не могут познать
сущность ощущаемого. Ощущения получают некое впечатление
от ощущаемого, но сами по себе они не могут знать сущность
этого впечатления. Зрение, например, воспринимает белый
цвет, но, что такое «белое» само по себе, оно не знает, а узнает
лишь с помощью воображения ( φαντασία ) ; точно так же
мнение само по себе не может знать того, что оно узнает лишь с'
помощью размышления. А говоря, что душа ничего не
разумеет, будучи соединена со злом, т. е. с телом, Платон имеет в виду
не всех людей, но только тех, кто пребывает в плену у
материального, ибо их душа всецело подчинена телу. В другом месте
он называет таких людей «спартами», потому что они
коренятся в земле, как растения. А людей, прошедших через
очищение, он именует в другом месте «небожителями», и они-то
наделены разумом.
Пятый довод [тех, кто хочет причислить Платона к
скептикам ], таков: Платон, заявляют они, сам признается в своем
диалоге: «Я ничего не знаю и ничему не учу, я только
сомневаюсь». Разве не провозглашает он собственными устами
невозможность познать что бы то ни было? На это мы возразим
так: говоря «Я ничего не знаю», Платон как бы сравнивает свое
собственное знание со знанием богов, а оно ведь совсем иное,
нежели наше, ибо мы обладаем лишь простым знанием, а они
— творческим. Кроме того, они познают любую вещь, просто
обратившись к ней, а мы — с помощью причин и предпосылок.
Что же касается слов «Я ничему не учу», то это значит: «Я
никому не навязываю своего учения», ведь, как уже было
сказано выше, Платон не уподобляет душу неисписанной
дощечке, на которой предстоит начертать все, чего на ней еще нет,—
Платон как бы выводит душу на свет и очищает простым
напоминанием, подобно тому, кто снимает с глаз застилающую их
пелену. Недаром говорит он в другом месте, что отвечающий
на вопросы участвует в выяснении истины наравне с ним самим
и что следует предоставить отвечающему говорить так, как ему
покажется правильным.
— 130 —
А что «сомнение» есть путь к пониманию — это ясно
всякому. К словам же «Я ничего не знаю» Платон прибавляет затем:
«Кроме сущей безделицы — задавать вопросы и отвечать на
них», имея в виду искусство диалектики, которым владел в
совершенстве. Кроме того, в другом месте он говорит, что
сведущ в любви и в повивальном искусстве. Из этих трех частей
он слагает свой гимн божеству в «Федре», именуя его благим,
прекрасным и мудрым, ибо, как все виды знания пронизаны
диалектикой, так все сущее устремлено к благу, почему по
аналогии диалектику Платон и сопоставляет с благом, любовь
же — с прекрасным, ибо мы любим прекрасное. А повивальное
искусство он сопоставляет с мудростью, ибо, подобно тому как
задача повитухи состоит в том, чтобы вывести на свет
находящееся во чреве дитя, так задача мудреца — в том, чтобы
вывести на свет все скрытое в глубине души и помочь ей во время
этих родовых мук.
Теперь, когда мы ответили на все их аргументы, приведем
уже вне связи с ними еще одно подтверждение тому, что
подобных взглядов Платон никогда не держался. В самом деле, как
мог быть сторонником подобных взглядов тот, кто
провозгласил, что ничто не укроется от его метода расчленения? А в
«Горгии» у него Сократ, вынудив собеседника ответить на свой
вопрос утвердительно, произносит такие слова: «Пока не
услышишь этого из собственных уст, не поверишь, сколько бы ни
убеждали тебя в том же другие». Как же мы можем считать
этого мужа скептиком?
Убедившись, таким образом, что философия Платона имеет
преимущество перед всеми остальными и что был он вовсе не
скептиком, а догматиком, перейдем теперь к изложению
порядка и иерархии сущего, как представлял ее Платон.
Согласно ему, все существующее имеет одно начало, а не два, как
полагал Эмпедокл, и не бесчисленное множество, как думали
эпикурейцы; начало это не есть некое тело, как считали
стоики, но бестелесно; а будучи бестелесным, оно не есть жизнь
— в противном случае ведь существовало бы только живое —
и не является также ни душою, ни умом, ни бытием, поскольку
все эти предположения приводят к подобным же нелепым
выводам; это начало — единое, которое Платон именует также
благом. После единого, говорит он, существуют предел и
беспредельное, вслед за ними — умопостигаемый космос, затем —
боги надкосмические, а после них — боги внутрикосмические.
За ними — двенадцать родов ангелов, дальше — человеческие
души, а после них — души бессловесных животных. И
наконец, растительная душа, за нею — тело, материальное и
нематериальное, смертное и бессмертное, за телом — материальная
форма < ενυλον εΐδος ) и в конце концов материя.
— 131 —
3
После того как мы рассмотрели историю жизни Платона и
характер его философии, приступим к третьему разделу и
поговорим о его сочинениях.
Первым делом постараемся разрешить затруднение,
возникающее в связи с тем, что он решил все-таки записать свое
учение. Ведь, как замечают некоторые, сам Платон в «Федре»
упрекает пишущих. По его собственным словам, мертвая
запись ничего не может разъяснить попавшему в затруднение
читателю и только повторяет одно и то же, не в силах
разрешить возникшее недоумение или ответить на возражение. Так
что, заключает он, следует не писать, а оставлять учеников,
которые суть живые записи. Именно так ведь и поступали его
предшественники: и Сократ, и Пифагор оставили только
единомышленников своих, но не сочинения. Вот в чем состоит
затруднение, и вот что мы скажем на этот счет: он записал свое
учение, решившись, в подражание божеству, допустить малое
зло ради великого блага. Ибо, подобно тому как божество одни
свои творения сделало невидимыми — сюда относится все
бестелесное: ангелы, души и умы и все остальное в том же роде,
другие же сделало доступными нашему восприятию и
видимыми — к ним относятся небесные тела и все, что подвержено
возникновению и уничтожению, точно так же и Платон кое-
что записал, а кое-что оставил неписаным и недоступным
восприятию, как бы бестелесным — это то, о чем рассуждал он в
беседах со своими учениками. Недаром и Аристотель
упоминает о незаписанных беседах Платона. Он стремился подражать
божеству, чтобы и в этом проявить свою любовь к нему: ведь
друзья всегда стараются подражать друг другу.
4
Предыдущий вопрос мы разобрали, и теперь стоит
рассмотреть вот какой: почему воспользовался он формой диалога?
Однако прежде чем искать причину этого, выясним, что
такое диалог. Диалог — это произведение в прозе ( λόγος άνευ
μέτρου ), состоящее из вопросов и ответов разнообразных
действующих лиц с изображением подобающего каждому лицу
характера. «В прозе» мы добавили потому, что трагедии и
комедии пишутся в стихах: они ведь тоже состоят из вопросов
и ответов разных лиц с изображением подобающих характеров.
Здесь важно выяснить вот что: почему Платон, осуждавший
в другом месте разнообразие — ведь он недвусмысленно пори-
— 132 —
цает игру на флейте за то, что искусство это использует
составленный из многих разных частей инструмент со множеством
отверстий, и точно так же — искусство игры на кифаре за
применение множества различных струн, а комических и
трагических поэтов — за разнообразие персонажей,— почему же
сам он, осуждая все это, пленился подобным видом словесности
συγγραφική Ιδέα, ведь диалог тоже состоит из разнообразных
действующих лиц?
Можно ответить на это так: разнообразие персонажей в
комедии и в трагедии совсем не такое, как у Платона, ибо в
первом случае, каковы бы ни были действующие лица — а
выводятся там и дурные и хорошие,— они до конца остаются
неизменными; у Платона же, если и возможно это найти — я
имею в виду дурных и хороших персонажей,— всегда видно,
как изменяются дурные под воздействием хорошего, как
учатся они и очищаются и, наконец, отвращаются совершенно от
прежней своей погруженной в материальное жизни. Поэтому
разнообразие у него совсем иного рода, чем у тех писателей, и,
таким образом, он отнюдь не впадает в противоречие с самим
собой.
Теперь скажем о причинах, побудивших его обратиться
именно к этому жанру. Сделал он это, утверждаем мы, потому,
что диалог — это своего рода космос. Подобно тому как в
диалоге звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому
подобает, так и в космосе есть разные природы, издающие
разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной
природе. Так что Платон поступил таким образом ради
подражания божественному творению, под коим я разумею космос.
Так вот, космос есть диалог или по вышеуказанной
причине, или по следующей: подобно тому как в космосе есть высшие
природы и низшие и пребывающая в космосе душа
присоединяется то к одним, то к другим, так и в диалоге есть персонажи
спрашивающие и отвечающие, опровергающие и
опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею меж ними,
склоняется то к тем, то к другим.
Или вот еще: как говорит сам Платон, литературное
произведение ( λόγος ) подобно живому существу; разве не означает
это, что прекраснейшее из произведений будет подобно
прекраснейшему из живых существ? Самое прекрасное живое
существо — это космос, и ему подобен диалог, ибо, как мы уже
говорили, диалог — наипрекраснейший из видов словесности.
Четвертая причина такова: поскольку подражание
( μίμησις ) радует нашу душу, а диалог различных
персонажей есть не что иное, как подражание, Платон выбрал его,
чтобы увлечь нашу душу. А что душа наша радуется
подражанию, явстует из того, что все дети любят сказки.
Далее он обратился именно к этому жанру еще и потому,
- 133 -
что не хотел передавать нам голые и лишенные наглядных
примеров рассуждения, чтобы не говорить просто о дружбе так
таковой, но о дружбе между таким-то и таким-то человеком и
так же о честолюбии не самом по себе, но о честолюбии
какого-то определенного человека. Таким образом, наша душа,
глядя, как хвалят или порицают других, вынуждена бывает
присоединиться к упрекам или соревноваться с восхваляемым:
это похоже на то, как души, увидев в Аиде наказание других
за их грехи, сами обретают благоразумие из страха перед
подобным наказанием.
Шестая причина состоит в том, что диалог подражает
искусству диалектики. Как диалектика возникла из искусства
спрашивать и отвечать, так и диалог — из вопросов и ответов
действующих лиц. Платон хотел привести читателя к
согласию со своими доводами тем же самым путем, каким
диалектика заставляет душу родить в муках то, что скрыто в ней, и
явить на свет, ибо душа, по Платону, отнюдь не подобна чистой
табличке. Как раз поэтому он и воспользовался таким вот
литературным способом.
Седьмая причина — чтобы легче нам было сохранить наше
внимание, следя за словами разных собеседников; чтобы не
задремали мы ненароком, слушая поучения вечно одного и
того же, как случалось это с оратором Эсхином, оттого что
составленная им речь произносилась от начала до конца одним
и тем же лицом. Ибо, произнося свою речь с трибуны, он не
беседовал со слушателями, ни разу не задал им вопроса и не
заставил их задавать вопросы себе, так что не только не
возбудил слушателей, но и сами судьи погрузились в сон; заметив
это, Эсхин, говорят, сказал им: «Надеюсь, вам приснился
правильный приговор». Возбудить же слушателей можно, лишь
беседуя с ними, задавая им вопросы и отвечая на их
собственные; именно так было с Алкивиадом: речи Сократа приводили
его в такое волнение, что он сказал однажды: «О Сократ,
словно беснующийся корибант, забилось ν меня сердце от твоих
слов, и я плачу». И если уж так глубоко проникнут слова в
одаренного человека, вопьются они в него, подобно
разъяренной змее, и уже от них не отделаешься.
Все это разъясняет, почему необходимо было Платону
передать свое учение в диалогической форме.
5
В следующей, пятой главе мы выясним, из каких частей
состоит каждый диалог Платона. Поскольку мы уже знаем, что
диалог—это космос, а космос—это диалог, то, как мы увидим,
- 134 -
и составных частей у диалога столько же, сколько и у
космоса. Что до целого космоса, то он состоит из материи, формы
( εΐδος ), природы, которая вводит форму в материю, души,
ума и божества.
В диалоге же материи соответствуют действующие лица, а
также время и место, в котором Платон эти диалоги написал.
Однако, если действующих лиц во всяком диалоге можно
обнаружить без труда, время и место нам удается определить не
всегда, как, например, в «Миносе» или «Клитофонте», и это
вполне закономерно. Ибо собственно материю диалога
составляют именно действующие лица, а не время и место. Подобно
тому как для всякого возникновения необходима материя, так
как она — одна из [четырех ] причин [всего сущего ], и если нет
материи, то возникающее не возникнет, место же и время
являются лишь неизбежно [сопутствующими условиями ], точно
так же не получится и диалога, если нет действующих лиц,
поскольку по определению своему, как мы уже сказали, диалог
составляют действующие лица, задающие вопросы и
отвечающие. Потому-то в диалоге действующие лица указаны всегда,
а время и место — не всегда.
Эти действующие лица могут обладать либо знанием, либо
правильным мнением, либо быть вовсе невеждами.
Невежество этих последних может быть в свою очередь либо простым,
либо двойным, либо полнейшим незнанием, либо
софистическим. Простое невежество — это когда человек не знает чего-
либо и понимает, что не знает. Двойное — если не знает чего-то
и не понимает, что не знает, как сказано об этом в «Федре»: «Не
могу я никак, согласно дельфийской надписи, познать самого
себя». Полнейшее же незнание — это когда человек чего-то не
знает и понимает, что не знает, но так сильно увлечен
противоположными взглядами, что не желает отказаться от
собственного незнания. Софистическое же незнание — это когда
кто-нибудь не знает и стремится с помощью более или менее
убедительных рассуждений скрыть свое незнание.
Действующие лица в диалоге описаны не всегда точь-в-точь
как в жизни (совсем не обязательно было Платону описывать
мельчайшие подробности, например, того, как Сократ
подворачивал при ходьбе ногу), но и не все в них вымышлено (иначе
они не получились бы правдивыми). Платон отбирает только
те черты, которые помогут ему показать что-то одно, подобно
тому как живописцы отбирают краски для изображения
какого-то одного предмета. Вот и все, что нужно оыло сказать о
действующих лицах.
Что же касается времени, то Платон издавал свои диалоги
не когда придется, но по праздникам, в дни всенародных
торжеств в честь богов, так что сочинения его возглашались и
пелись, подобно гимнам: мы ведь привыкли во время праздни-
— 135 —
ков петь гимны. «Тимея», например, он предал гласности во
время Бендидий (есть такой праздник Артемиды в Пирее), а
«Парменида» — на Панафинеях, и точно так же и остальные
— каждый на каком-нибудь празднике. О времени достаточно.
Место же действия в каждом диалоге особое. При жизни
Сократа он выбирал сценой Афины, после же его смерти —
никогда, полагая, что афиняне не достойны того, чтобы он о
них писал. Так, действие «Пира» происходит в доме Агафона,
«Государства» — в Пирее, «Федра»—в храме Нимф, а «Тимея»
— не в каком-то определенном месте, но вообще в городе —
словом, всякий раз в другом месте. Пожалуй, о месте мы
сказали достаточно.
Итак, все, о чем мы рассказали, соответствует в
диалоге материи; форме ( τφ είδη ) же соответствует стиль
( χαρακτήρ ). Стиль бывает возвышенным, простым или
смешанным, причем смешанный стиль бывает результатом
слияния или чередования двух первых. Платон использует
возвышенный стиль в теологических диалогах, а простой — во всех
остальных, так, чтобы слог подражал предмету. Что же до
смешанного стиля, то, прежде чем выяснить, в каких случаях
использовал он оба его вида, скажем, что они собой
представляют. Стиль не слишком возвышенный, или же простой, но
обладающий некоторой долей возвышенности, мы называем
смешанным в результате слияния. Смешанный же по очереди
— это когда часть диалога написана возвышенно, а часть —
просто, как, например, в «Горгии» часть диалога,
предшествующая мифу, написана просто, сам же миф — возвышенно по
указанной уже нами причине: возвышенно выражался он о
предметах теологических, просто — о логических. Слитно
смешанным же слогом пользуется он, говоря о добродетели, ибо
всякая добродетель есть некая середина, а смешанный в
результате слияния стиль есть тоже не что иное, как середина.
Аналогом природы является в диалоге способ ведения
беседы. Это может быть изложение, или исследование, или же
смешанный способ. Изложение — это когда Платон предлагает
нам свое мнение без какого-либо исследования или
доказательства; исследование — когда он пытается что-то найти, а
сочетание обоих порождает смешанный способ. Каждый из
двух первых видов подразделяется в свою очередь еще на два:
изложение может быть теоретическим или политическим, а
исследование может быть настоящим спором или
упражнением. Теоретическое изложение встречается у Платона там, где
речь идет о теологии, а политическое — в «Государстве».
Доказательства в диалоге аналогичны душе, ведь именно
она порождает их. Уму же соответствует проблема, вокруг
которой как бы по периферии собираются все доказательства.
В самом деле, ум подобен проблеме [диалога ]: ум ведь не имеет
- 136 -
частей и мыслится как бы неким центром, а вокруг него,
подобно движущейся вокруг центра орбите, собираются
рассуждения; точно так же и рассматриваемая в диалоге проблема
является центром, вокруг которого, как бы прицеливаясь в него,
кружат доказательства. Богу же в диалоге соответствует благо.
Помимо всего вышесказанного можно и другим способом
показать, как составные части диалога соответствуют частям
космоса. Всякая вещь возникает при наличии шести причин:
материальной, формальной, творческой, целевой,
парадигматической, инструментальной. Материальной причине
аналогичны действующие лица, время и место диалога, формальной
— стиль, творческой — душа, инструментальной —
доказательства, парадигматической — проблемы, целевой — благо.
6
В шестом разделе мы должны выяснить, откуда брал
Платон названия для своих диалогов. Ответим: названием
служило имя действующего лица или предмет диалога. В первом
случае эти действующие лица могут поучать, или
выслушивать поучения, или просто заниматься каким-нибудь делом.
Поучают, например, Парменид и Тимей, выслушивают
поучения Алкивиад и Федр, а Критон занимается своим делом. Если
же в названии указан предмет, то это может быть какое-нибудь
действительное событие, как, например, апология, или предмет
исследования, как, например, софист, или <...>.
7
В седьмой главе мы объясним, чем следует
руководствоваться, чтобы разделить диалог на части. Во всяком диалоге
есть три элемента: действие и действующие лица, рассуждение
и умозаключения и, наконец, [положительное] учение. Не
следует при разделении диалога руководствоваться ни
развитием действия, ни расстановкой действующих лиц, как делают
некоторые, разделяя «Горгия» на три части: речи, обращенные
к Горгию, Полу и Калликлу. Этим руководствоваться нельзя,
так как Платон, рассуждая о предмете и переходя к следующей
части рассуждения, очень часто вводит новый оборот действия
и новое лицо. Однако и из рассуждения или умозаключений
нельзя исходить при разделении диалога на части, как делят
некоторые «Алкивиада» на десять силлогизмов, излагаемых в
этом диалоге. Делать этого не следует по той же причине: часто
— 137 -
об одном и том же предмете высказывает Платон несколько
умозаключений, так как в одно не умещается все
доказательство. Делить диалог нужно в соответствии с [утверждениями,
составляющими положительное ] учение.
8
В восьмом разделе мы расскажем о том, каким образом
передает Платон беседу участвующих в диалоге лиц. Как мы
убедились, он либо непосредственно изображает беседу
участников диалога, например Сократа и какого-нибудь его
собеседника, либо передает рассказ тех, кто слышал такую беседу,
например когда кто-нибудь рассуждает у него о вещах,
которые сам слышал от Сократа; или изображает тех, кто узнал обо
всем от слышавших беседу; или, наконец, показывает тех, кто
услышал из вторых рук от этих последних. Более длинного
ряда слушателей-рассказчиков Платон уже не допускает. В
этом он, по всей вероятности, опять подражает порядку всего
сущего: он тоже не идет дальше третьей ступени. Ведь все
сущее бывает или умопостигаемым; или доступным рассудку
— это будет не что иное, как подобие умопостигаемых
сущностей; или чувственным — это подобие тех сущностей, что
постигаются рассудком; или, наконец, подобием чувственных
вещей, как, например, произведения живописцев, и более уже
нет ничего, что можно было бы рассматривать как четвертую
ступень. Таким образом, действующие лица в диалоге
соответствуют умопостигаемому; те, кто сами слышали беседу,—
рассудочному, ибо они являются как бы отражением собеседников;
слышавшие же рассказ из вторых рук аналогичны чувственно
воспринимаемому.
9
В девятом разделе нам нужно найти все правила, с помощью
которых можно верно определить предмет ( σκοπός ) диалога.
О том, что дело это полезное и необходимое, свидетельствуют
слова самого Платона в «Федре»: «Во всяком деле, юноша, надо
для правильного его обсуждения начинать с одного и того же:
требуется знать, что же именно подвергается обсуждению,
иначе неизбежны сплошные ошибки». После таких его слов
как же не стремиться нам узнать, о чем именно рассуждает он
- 138 —
в каждом из диалогов? Еще легче будет нам убедиться в
полезности такого рода исследования, если мы обратим внимание на
двойные заголовки большинства диалогов, ведь почти каждый
из них имеет двойное название, как, например, «Федон, или О
душе», «Федр, или О красоте» и так далее, так что не ясно, о
котором из двух упомянутых в заглавии предметов пойдет
речь. Поэтому наши поиски определения предмета всякого
диалога будут небесполезны. Это определение можно получить,
ответив на десять вопросов: [должен ли предмет диалога быть ]
единым или множественным? общим или частным? цельным
или частичным? приблизительным или точным?
возвышенным или низким? согласующимся или нет? может ли быть
предметом диалога критика кого-либо? или страстное
увлечение? можно ли подменять предмет методом (ее tön organön)?
или искать его в области материального?
На вопрос о единстве и множестве мы ответим, что всякий
диалог имеет один предмет, а не много, ибо как же может иметь
много предметов диалог того самого Платона, который
воспевает божество за то, что оно едино? Кроме того, он сам говорит,
что диалог подобен живому существу, ибо он пишет, что всякая
речь должна быть составлена, словно живое существо; если же
диалог подобен живому существу, а живое существо имеет
одну цель — благо (для того-то ведь оно и создано), то и диалог
должен иметь одну цель, а значит, один предмет. Поэтому
нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто в «Федоне»
рассматриваются три предмета: бессмертие души, смерть как
благо и философский образ жизни; утверждающие подобное
ошибаются, ибо, как уже сказано выше, предмет должен быть
один, а не много.
Более общий и тем самым обширный предмет следует
предпочесть частному. Поэтому не правы те, кто говорят, будто
«Софист» — это диалог о софисте; согласиться же нужно с
теми, кто говорит, что диалог этот — о не-сущем. В самом деле,
софист есть нечто несуществующее, а просто «не-сущее» —
понятие более общее, чем «нечто не-сущее», так что, будучи
более общим и всеобъемлющим, оно включает в себя и частную
тему. Отсюда мы со всей очевидностью можем сделать
дополнительное заключение, что у диалогов не должно быть по два
названия; они ведь могут указывать либо на разные предметы,
либо на один и тот же, если одно из них — более общее, а другое
— частное. Если названия указывают на разные предметы, мы
не можем принять их, ибо допустим тем самым наличие многих
предметов в одном диалоге и нарушим первое правило. Если
же они указывают на один и тот же предмет, то одно из них
лишнее, как частное, и следует предпочесть более общее.
Что же касается целого и части, то, конечно, не следует
судить о предмете диалога по какой-то небольшой его части, но
- 139 -
только на основании целого. Поэтому мы не согласимся с теми,
кто полагает, будто «Федр» посвящен риторике: рассуждения
о ней занимают там сравнительно небольшое место, в то время
как весь диалог посвящен прекрасному как таковому, и,
значит, именно это и следует считать его предметом. Не
согласимся мы и с утверждением, будто предметом «Горгия» является
рассуждение о том, что лучше: творить несправедливость или
претерпевать ее; на этот вопрос Платон отвечает лишь в
небольшом отрывке, весь же диалог в целом — об этических
основаниях счастья. Точно так же не правы те, кто думают,
будто человек является человеком благодаря каким-то
отдельным свойствам: умению видеть, например, или слышать, или
чему-нибудь еще в том же роде. Вовсе не поэтому является он
человеком, но потому, что представляет собой нечто среднее
между божеством и тварью: он не обладает бессмертием, как
божество, и в то же время не смертен, как неразумные
животные, но причастен в чем-то и тем и другим. Потому-то и не
согласны мы с теми, кто определяет предмет диалога на
основании его части. Кроме того, если Платон во всем подражает
природе, почему бы ему не подражать ей и здесь? Ведь если
часть соответствует материи, а целое — форме, форму же
создает природа и цель природы в том, чтобы внести форму в
материю, то разве не должен был Платон сделать предметом
своего диалога то, что является своего рода формой, т. е. целое,
а вовсе не часть?
Конкретное определение предмета следует предпочесть
отвлеченному и неопределенному. Поэтому мы возразим тем,
кто называет предметом «Тимея» учение о природе, поскольку
это слишком отвлеченно и неопределенно: ведь и Аристотель
оставил учение о природе, да и многие другие тоже. Так что
неясно будет, какое именно учение о природе имеется в виду,
если мы дадим диалогу такое название. Значит, следует
указать более конкретную тему — учение не кого-нибудь, а
Платона о природе — и выяснить, в чем оно состоит, а не говорить
об учении о природе вообще.
А что касается достоинства, то более достойный предмет
следует предпочесть менее достойному, на основании чего мы
и возразим тем, кто считает предметом «Горгия» разоблачение
риторики Пола и Горгия, ведь предмет этот недостойный и
софистический. Целью Платона здесь было скорее показать,
что такое истинная риторика, и это предмет гораздо более
достойный и прекрасный. А если кто спросит, зачем же
понадобились ему тогда Пол и Горгий, зачем выводит он их
участниками диалога и опровергает, все их утверждения, мы
ответим, что точно так же, как цель природы — внести форму в
материю, а не устранить бесформенность, но за внесением
формы следует и устранение бесформенности,— так и из разъ-
- 140 -
яснения того, что есть истинная риторика, вытекает
опровержение риторики Пола и Горгия.
С точки зрения согласованности и несогласованности мы
предпочтем такое определение предмета, которое согласуется
с тем, что обсуждается в данном диалоге, а не такое, которое
не согласуется. Придерживаясь этого правила, мы не примем
такого определения предмета «Горгия», как «ум, созерцающий
самого себя», ибо это вовсе не согласуется с тем, о чем идет речь
в этом диалоге.
Не следует также считать предметом диалога выпады
против кого-либо: не таков был божественный Платон, чтобы
заниматься перебранкой. Поэтому мы не согласимся с теми, кто
заявляет, будто «Менексен» посвящен критике Фукидида и
соперничанью с ним. Они утверждают, что надгробная речь
написана Платоном единственно с целью превзойти
Фукидида, что есть чистейшая ложь.
Может ли быть предметом диалога страсть? Конечно, нет,
иначе страсть завладеет читателем, и он окажется во власти
материального. Не правы поэтому те, кто полагают, будто
предмет «Филеба» — наслаждение: оно-то как раз и способно
совратить душу. Как мог Платон, чья жизнь проходила в
постоянном очищении, избрать предметом своего диалога
наслаждение? Разумеется, тема у него здесь совсем другая, а
именно соотношение шести видов блага.
Не следует подменять предмет методом, ведь предмет—это
цель, а не средство для достижения цели. Поэтому не правы
считающие предметом «Софиста» метод разделения. Конечно,
Платон много говорит о нем в этом диалоге, заявляя, что ни
один человек не сможет похвастаться, будто ему удалось
укрыться от всесильного метода разделения, который, по его
словам, был дарован людям через Прометея. Но поскольку этот
метод есть орудие доказательства, он играет подчиненную роль
по отношению к теме: мы используем его для того, чтобы
раскрыть тему, но сам по себе он темой быть не может.
Не следует искать предмет диалога и в области
материального, как поступают некоторые, утверждая, что тема «Алкивиа-
да» — честолюбие Алкивиада. Таким образом, они ищут
предмет в области материального, а этого делать не следует, ведь
мы говорили уже, что действующие лица — это материя
диалога. Не должны мы считать, что весь диалог сводится к
порицанию честолюбия Алкивиада еще и потому, что тем самым
нарушим и второе правило, выделив частный предмет вместо
общего. Скорее должны мы указать общую цель диалога —
порицание честолюбия, которое живет в душе каждого
человека. Ведь каждый из нас, подобно Алкивиаду, обладает
честолюбием, которое нужно направлять на благо, привнося меру и
порядок. Впрочем, недостойно предполагать, что божествен-
— 141 —
ный Платон снисходил до порицания человеческих страстей,
разве что он присоединял между прочим такое порицание к
другим речам своим.
Вот этими-то всеми правилами и нужно руководствоваться
при определении предмета того или иного диалога.
10
В десятой главе мы расскажем о порядке расположения
диалогов Платона. Некоторые высказывали мнение, что их
нужно располагать по времени или по тетралогиям, причем по
времени двояким образом: по времени жизни либо самого
Платона, либо действующих лиц его диалогов.
Если располагают их по времени жизни самого Платона, то
первым считают «Федра» на том основании, что там
рассматривается вопрос, следует ли записывать свои сочинения или
нет; каким же образом Платон, выражающий в «Федре»
сомнение, нужно ли вообще писать, мог написать что-нибудь прежде
этого? Другой довод состоит в том, что он пользуется здесь
дифирамбическим стилем, как бы не расставшись еще с музой
дифирамба. А последними он написал «Законы»; так думают
потому, что он оставил их неисправленными и не привел в
порядок, не успев, вероятно, закончить их перед смертью.
Если же и кажутся они теперь составленными как должно, то
это работа Филиппа Опунтского, восприемника Платона.
Если же отсчитывать время по жизни действующих лиц, то
первым следует считать «Парменида», где Сократ изображен
совсем еще юным и Парменид поучает его; последним — «Те-
этета», так как действие здесь происходит после смерти Сократа.
Что же касается расположения по тетралогиям, то
некоторые утверждают, будто Платон издавал свои диалоги
тетралогиями в подражание трагикам и комикам, состязавшимся в
сочинении четырех драм на одну и ту же тему, причем самая
последняя обязательно должна была быть веселой. Так вот,
тетралогий этих насчитывают девять, поскольку всего Платон
написал 36 диалогов, по их словам; для того, чтобы получилось
целое число тетралогий, они объявляют подлинным ошибочно
приписываемое Платону «Послезаконие». Неподлинность же
его двояко доказал мудрейший Прокл; во-первых, говорит он,
каким образом мог Платон, не имевший перед смертью
времени окончить «Законы», написать вслед за ними еще и
«Послезаконие»? Во-вторых, он замечает, что в остальных диалогах
Платона звезды движутся справа налево, а в этом наоборот —
слева направо.
Сторонники тетралогического расположения диалогов счи-
— 142 —
тают первой тетралогию: «Евтифрон», «Апология», «Критон»,
«Федон». Из этих диалогов первым считают «Евтифрона»,
поскольку там изображен Сократ накануне суда; второй
считается «Апология», где идет суд над Сократом; третьим —
«Критон», где Сократ уже осужден, и четвертым — «Федон», в
котором Сократ умирает. Самым последним произведением
Платона они считают «Письма», а первым, как мы уже
сказали,— «Евтифрона», потому что и там и тут много
рассказывается о частной жизни Сократа: Платон якобы расставил их так
не без намерения, желая закончить тем же, с чего начал.
Мы не согласны с мнением, будто Платон подражал
трагикам и потому должен был воспользоваться формой тетралогий;
он ведь сам порицает трагиков, говоря, что они создают
подобия подобий. Что он им не подражал, можно доказать и по-
другому: у них конец тетралогии должен быть веселым и
приятным, в то время как диалог «Федон», завершающий первую
тетралогию, кончается не весельем, а смертью Сократа.
Поэтому неверно утверждение, будто Платон издавал диалоги
тетралогиями. Да кроме того, и «Евтифрон», и «Апология», и
«Критон», и «Федон» — все написаны на разные темы.
Чтобы правильно определить порядок диалогов, исключим
прежде всего из круга нашего рассмотрения неподлинные. Итак,
все единодушно признают подложными «Сизифа», «Демодо-
ка», «Алкиону», «Эриксия» и «Определения», которые
приписываются Спевсиппу. Таким образом, остается 36 диалогов, из
которых божественный Прокл считает подложным «Послеза-
коние» по указанным выше причинам, а также исключает
«Государство», поскольку в нем много книг и оно не имеет формы
диалога, и «Законы» — на том же основании; исключает он за
простоту слога также и «Письма», так что остается всего 32
диалога. Если к ним прибавить 12 книг «Законов» и 10 книг
«Государства», получится 54 диалога. Мы не станем
перечислять здесь их все по порядку, что было бы ни к чему и выходило
бы за рамки краткого изложения; мы расскажем только о том,
что сделал божественный Ямвлих: он свел все диалоги к
двенадцати, подразделив их на диалоги о природе и диалоги о
божественном; в свою очередь эти двенадцать он свел к двум
— к «Тимею» и «Пармениду», причем «Тимей» возглавил все
диалоги о природе, а «Парменид» — все о божественном.
Порядок этих двенадцати диалогов стоит рассмотреть,
поскольку их всегда принято читать и изучать. Так вот, первым
нужно считать «Алкивиада», так как этот диалог помогает нам
узнать самих себя. Ведь необходимо вначале познать себя
самих, а потом уж — то, что вне нас; да и как могли бы мы
узнавать это, не зная себя? Последним следует разбирать «Фи-
леба», так как в нем идет речь о благе, запредельном всему;
поэтому и диалог этот должен занимать особое место и стоять
- 143 -
последним. Между этими двумя диалогами следует
расположить все остальное следующим образом: поскольку
существуют добродетели пяти степеней — природные, нравственные,
общественные, очистительные и созерцательные, первым нужно
читать «Горгия», где затрагиваются вопросы общественной
жизни, а вторым — «Федона», в котором идет речь об очищении,
ведь за жизнью общественной идет жизнь очистительная.
Затем мы переходим к познанию сущего, которое осуществляется
через нравственную добродетель; сущее же мы можем познать
через созерцание либо мыслей, либо вещей. Так что четвертым
следует читать «Кратила», который учит об именах, а затем
«Теэтета», где идет речь о вещах. После этих диалогов
переходим к <...> который рассказывает о природе, а затем к «Федру»
и «Пиру», так как это диалоги созерцательные и
рассуждающие о божественном. И только тогда наконец можно
переходить к «Тимею» и «Пармениду».
Вот и все, что необходимо было сказать об этих диалогах; а
так как некоторые находят нужным изучать также
«Государство» и «Законы», стоит сказать кое-что и о них. Есть три вида
государственного устройства: первый — основанный на
исправлении, второй — на установлении, а третий — без каких бы
то ни было установлений. Государство основано на
исправлении, когда мы стремимся исправить дурные нравы нашей души;
на установлении — когда в основу государственного
устройства положены определенные законы и нравы; без установления
— когда нет никаких установлений, но все — общее, так что
мое — это твое, а твое — это мое, и богатство каждого
принадлежит одновременно и ему самому, и другим. Государство,
основанное на исправлении, Платон разбирает в «Письмах»,
на установлении — в «Законах», без установлений — в
«Государстве».
11
В последнем разделе наших предварительных заметок к
диалогам Платона мы рассмотрим, каким способом поучения
пользуется Платон.
Так вот, поучает он пятнадцатью способами: и
исполненный священного вдохновения, и с помощью доказательства, а
также с помощью определения, разделения, анализа,
определения признака, метафоры, сравнения, индукции, аналогии,
арифметики, исключения, добавления, повествования и
этимологии.
Священного вдохновения преисполнен Платон в «Федре»,
где он одержим нимфами, и в восьмой книге «Государства», где
— 144 —
он говорит о Музах, и в «Тимее», где он изображает демиурга,
беседующего с небожителями, и в некоторых других диалогах.
Доказательством он пользуется в «Федоне», доказывая
бессмертие души через самодвижение как средний термин.
К определениям Платон прибегает почти во всех диалогах,
и сам давая их, и других побуждая к тому же.
Разделением Платон воспользовался и в «Софисте»,
заявив, как мы уже сказали выше, что ничто не может
ускользнуть от метода разделения, который был дарован людям через
Прометея.
Анализом, или методом разложения, он воспользовался в
«Тимее», разлагая все существующее в природе на
воспринимающее начало (восприемницей он называл материю) и
форму; в свою очередь форму он разлагал на фигуры, а фигуры —
на треугольники; о том же, что получится из разложения
треугольников, знает, по его словам, только бог и тот, кто богу
любезен.
Определением признака он воспользовался в «Алкивиаде»,
утверждая, что признаком лжи является разногласие, а
признаком истины — согласие: ведь истина не впадает в
разногласие и в противоречие с самой собой.
Метафорой он пользуется в «Федре», уподобляя нашу душу
возничему, а ее силы — коням, причем одного он называет
хорошим, а другого — дурным.
Сравнением он пользуется в «Государстве», сравнивая город
с кораблем, народ — с капитаном, а правителей — с моряками,
которые хотят подпоить капитана, чтобы иметь возможность
делать все, что им заблагорассудится. Метафора отличается от
сравнения большей степенью воспроизведения природы того,
чье подобие она создает, и подражания ей; сравнение же
подражает в меньшей степени. Кроме того, метафора, может
служить именем самого предмета, а сравнение — нет; например,
мы не ошибемся, назвав душу возничим, но кто назовет город
кораблем? Причина этого — разная степень уподобления.
Индукцией Платон пользуется в «Алкивиаде», где говорит,
что убеждающий одного может убедить также и многих и,
наоборот, убеждающий многих может убедить и одного. Это
доказывается методом индукции: ведь геометр, убеждая одного,
может убедить многих и он же, убеждая многих, может
убедить, по всей очевидности, и одного.
К аналогии Платон прибегает в «Горгии», показывая, что
искусство судьи так же относится к искусству софиста, как
врачебное искусство к поварскому: подобно тому как врач,
заботясь о благом и полезном, предписывает нужные
лекарство и пищу, хотя бы они были очень неприятны, в то время как
повар заботится только о приятном, начиняя кушанье
разнообразными приправами,— точно так же искусство судьи при-
- 145 —
носит только пользу и благо, а риторика (которую он называет
здесь софистикой) доставляет лишь приятное. Эсхин, говорят,
взойдя на трибуну, сказал как-то собравшимся слушателям:
«Чего хотите вы? Что сказать вам? Чем угодить вам?» А
доказал Платон свое утверждение с помощью аналогии, или
пропорции: как первое относится ко второму, так третье относится
к четвертому.
Арифметикой пользовался Платон в «Филебе», перечисляя
шесть видов блага.
Методом исключения он пользуется в «Тимее», выслеживая
и отыскивая материю путем исключения одной за другой всех
форм.
Методом же добавления — в «Алкивиаде», где он решил
выяснить, что такое человек: тело или душа или то и другое
вместе, и доказал, что не тело и не совокупность души и тела,
но душа сама по себе; затем он идет дальше и добавляет, что не
всякая душа, т. е. не растительная, или неразумная, но лишь
разумная; затем еще одно добавление: что человек занимает
промежуточное положение между божественным и
возникшим. Легко заметить, как по ходу рассуждения он привносил
добавления в свое исследование.
Историю он использует в «Законах», рассказывая о
событиях от потопа до войны с персами.
Этимологию же — в «Теэтете».
На этом мы закончим предварительные замечания к
изучению философии Платона, изложенные нами в одиннадцати
разделах:
первый охватывает жизненный путь философа;
второй — характер его философии;
третий повествует о том, почему он стал писать;
четвертый — почему применял диалогическую форму
изложения;
пятый — из каких частей состоят его диалоги;
шестой — на каком основании нужно делить его диалоги на
части;
седьмой — как толковать названия диалогов;
восьмой — каким способом передается содержание, или
каково обрамление диалогов;
девятый — как определить предмет диалога;
десятый — какова последовательность диалогов;
последний — какими способами поучения пользовался бо-
жественнейший Платон.
Конец
введения в философию Платона
ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФОВ,
ИЗЛОЖЕННОЕ ЦИЦЕРОНОМ
ПО АНТИОХУ АСКАЛОНСКОМУ
(Cicero Academica lib. I 13-43, Üb. II 11,12,16,17).
[I. ВСТУПЛЕНИЕ]
IV. 13.
[Цицерон: ]
[.... ] — Другу нашему Антиоху позволено было
переселиться из нового дома в древний, мне же нельзя из древнего в
новый? Но следует признать, что все новое более правильно и
свободно от ошибок. Впрочем, учитель Антиоха Филон, муж
выдающийся,— с чем и ты согласишься — в своем сочинении,
которое мы слушали из его же уст, отрицал существование
двух академий; тех же, кто так думает, он изобличал в ошибке.
— Ты говоришь правду,— отвечал Варрон,— но я не думаю,
что ты не знаешь возражений Филону, которые написал Антиох.
14.
— Напротив,— сказал я,— мне бы хотелось (если тебе не в
тягость), чтобы ты помог мне обновить в памяти и книгу
Филона, и всю Древнюю Академию, от которой я давно уже
отстранился.
[ ]
[П. ИСКОННОЕ ЕДИНСТВО АКАДЕМИЧЕСКОЙ
И ПЕРИПАТЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ]
15.
Тогда Варрон начал так:
Сократ — как я думаю,— [**** ] был первый, кто отвлек
философию от потаенных и самой природой сокрытых вещей,
которыми до него занимались все философы, и приобщил ее к
обыденной жизни. Поэтому он исследовал доблести и пороки и
- 147 —
вообще добро и зло, считая, что небесные явления далеки от
нашего познания, и даже если познать их в наибольшей
степени, это ничто для доброй и хорошей жизни.
16.
Во всех своих беседах, которые столь искусно записаны его
слушателями, он рассуждает, сам ничего не утверждая, но
опровергая других. Он говорит, что не знает ничего сам, кроме
того, что ничего не знает, что он тем и превосходит прочих, что
они полагают, что знают то, чего не знают; он же знает только
то, что не знает ничего, и еще — что по его мнению, Аполлон
как раз по этой причине его назвал мудрейшим {из людей}:
ведь единственная мудрость дана человеку — не мнить, что
знаешь то, чего не знаешь.
На этом он твердо стоял, всегда придерживаясь этого
суждения,— и всё же его разговоры служили восхвалению
доблести и к доблести в слушателях пробуждали усердие,— что из
всех сократиков лучше всего дают понять книги Платона.
17.
Сам же Платон, который был и сложен, и разнообразен, и
обилен, своим авторитетом основал философию — единую и
единодушную, но под двумя названиями: Академической и
Перипатетической, и различались эти школы на словах, на
деле пребывая в согласии.
Дело в том, что Платон оставил по себе философию как бы
в наследство сыну своей сестры, Спевсиппу. Но были еще два
мужа выдающейся учености и трудолюбия — Ксенократ из
Калхедона и Аристотель из Стагиры.
Последователей Аристотеля называли Перипатетиками,
поскольку они беседовали, прогуливаясь в Ликее. Другие
собирались по обычаю Платона для бесед в Академии (и там и тут
было место для гимнастических упражнений), отсюда они и
получили свое прозвище.
Уже щедрое плодородие Платона дало совершенство обеим
школам, и обе они могли создать твердую формулу своего
учения, конечно, столь же плодотворного и
всеобъемлющего,— а от повадки Сократа во всем сомневаться, от его
привычки рассуждать, не делая утверждений, они отказались. Так
получилось то, чего Сократ никогда не одобрял: как бы
философское ремесло, строгий строй предметов и учение,
изложенное по распорядку.
18.
Само учение было сперва, как я сказал, одно под двумя
названиями: ведь между Перипатетиками и Древней
Академией не было никакой разницы. Аристотель, как мне кажется,
- 148 -
был выше силой и обширностью ума, но обе школы имели один
источник и одно учение о разделении того, к чему следует
стремиться, и того, чего следует избегать...
[ 1
[III. УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФОВ. ЭТИКА]
19.
... Уже Платон принял изложение философии в трех частях:
одна часть о жизни и нравах, другая о природе и ее тайнах,
третья о рассуждении, то есть об определении того, что истинно
[to alethes ], что ложно, что в речи [logos 1 правильно [hygies ],
что превратно [mochtheron ], что в суждении [axioma ]
согласуется [akoloythei ], а что противоборствует [machetai ].
Итак, первое. В части, {которая касается} лучшей жизни,
источником для них послужила природа: природе они учили
повиноваться, только в природе, а не где-нибудь еще полагали
они искать то высшее благо, с которым соотносятся все
{прочие}. Еще учили они, что высшее из того, к чему следует
стремиться, и достижимый предел благ это — получить все от
природы для духа, тела и жизни.
Благам телесным положили они быть или во всем теле, или
в частях его. Во всем теле — здоровье и красота. В частях же —
трезвые чувства и совершенство отдельных частей, например:
в ногах — быстрота, в руках — сила, в голосе — ясность, в
языке еще и отчетливое произношение звуков.
20.
Блага душевные суть те, что способствуют постижению
доблести. Их древние разделяли, относя или к природе, или к
нравственности. К природе они относили проворство в
обучении, а также память: и то и другое суть {прирожденные}
свойства ума и духа. К нравственным {благам} они причисляли
характер [ëthos ] и, скажем, обыкновение [ethos ], которое они
вырабатывали прилежанием в упражнениях, или
рассуждениями — что принадлежит уже самой философии.
То, что в философии начато, но еще не закончено [*** 1, у
них называется продвижением [ргокоре ] κ доблести, то, что
завершено (а это есть сама доблесть),— это как бы
совершенство всей полноты природы, в котором они полагают то
единственно лучшее, что есть в <душевных благах>.
Таковы блага, заключенные в душе.
21.
С областью жизни — а это третье — сопряжены по их
учению блага, способные доставлять помощь [chreia 1 добле-
— 149 —
сти. Ведь доблесть проявляет себя и в благах душевных, и в
благах телесных, а еще и в том, что зависит не столько от
природы, сколько от счастливой жизни.
Они считают, что человек есть как бы часть некоего
государства, то есть всего человеческого рода, и что он сопряжен с
человечеством некоей [человеческой ] общностью <******>
Так они судят о высшем и естественном благе, прочие же
блага, как они думают, соотносятся с высшим — или
увеличивая его, или сохраняя, таковы: богатство, могущество, слава,
влияние.
Вот каким образом делят они блага на три части.
VI. 22.
И как раз об этих трех родах учат Перипатетики — так
думают почти все и, конечно, правильно: Перипатетики
придерживаются этого разделения. Неразумно судят именно те,
для кого Академики [**** ] — одно, а Перипатетики другое.
Изложенное учение — общее для обеих школ, и обе они видели
предельное благо в том, чтобы достичь первое по природе, что
само по себе есть предмет стремлений; достичь или полностью,
или наибольшее, а это есть то, что заключено в душе и в самой
доблести.
Итак, все древние философы думали, что единственно
доблесть есть основание жизни счастливой — однако не самой
счастливой, а таковой не будет, если не присоединятся {к
доблести} блага телесные и другие, которые, как сказано
выше, полезны для осуществления доблести.
23.
Из этой системы {благ} они выводили начало для того,
чтобы в жизни действовать, и для самого долга. Начало это —^
сохранение тех вещей, которые предписаны природой. Отсюда"
рождалось: бегство от лени, к удовольствиям презрение;
отсюда являлась готовность к трудам и страданиям —
многочисленным и великим — ради правды и чести, {являлось} и <стрем-
ление> к вещам, сообразным с предписанием природы; отсюда
возникала и дружба, и правосудие, и справедливость,
{соблюдение} которых противно наслаждениям и множеству
жизненных удобств.
Вот каково было учение древних о нравах, и таково
{систематическое} изложение основ той части философии, которую
я поставил первой.
— 150 —
[IV. УЧЕНИЕ О ПРИРОДЕ]
24.
Далее. О природе — а это следующая часть — они учили
так.
Они разделяли природу на две части: одна — то, что
действует, другая — то, что как бы себя предоставляет и из чего
нечто производится.
Они определяли, что в действующей части есть сила, а в
подвергающейся воздействию — как бы [** ] материя. Однако
и то и другое переплетено, ибо материя не может быть
устойчива, если не действует сила, устанавливающая в ней порядок,
но и сила не {осуществляется} вне материи: ведь все, что есть,
с необходимостью есть где-то. Далее. То, что образовано из
материи и силы, они называли [** ] телом и, скажем, качеством
(poiotes). [ ]
26.
[ ]
... Из упомянутых качеств одни начальные, другие же
возникают из начальных. Качества начальные единообразны и
просты, а возникают из них сложные и как бы многообразные.
Так вот, аэр (этим словом пользуемся мы уже как
латинским) , огонь, вода и земля суть начала, из которых возникают
виды животных и тех вещей, которых порождает земля.
Начала называются первопричинами или, если перевести с
греческого буквами [stoicheia ]. Из них аэр и огонь заключают
в себе способность двигать, другие — воспринимать и как бы
претерпевать (я говорю о воде и земле).
Пятый вид, из которого составлено естество светил и
наделенных разумом душ, Аристотель считал чем-то особенным и
непохожим на прочие четыре, о которых я сказал выше.
27.
Далее. Думают они, что в основе всех вещей лежит
материя, безвидная и не имеющая никаких качеств (произнося это
слово мы уже сделали его употребительным и привычным), из
которой все вылепляется и выделывается. Материя вся
целиком может все воспринимать, всеми способами и во всех частях
переменяться, даже погибать и разрушаться — однако не в
ничто, а на части, которые можно делить и рассекать до
бесконечности, ибо нет в природе того, что было бы мельчайшей, не
допускающей деления величиной; также и то, что движется,—
движется промежутками, которые можно делить до
бесконечности.
- 151 -
28.
И правда, поскольку [* ] движется та сила [oysia? ]
(которая, как мы сказали, есть качество), и [* ] устремляется во все
стороны, то они рассудили, что и материя сама изменяется во
всей своей толще, и {при этом} возникает то, что они называют
качественное [ta poia ], из чего в упорядоченном и связном
протяжении природы образуется единственный мир со всеми
своими частями, и вне этого мира нет ни единой частицы
материи, ни единого тела. А части мира есть все то, что в нем есть,
и части эти воедино стянуты ощущающей природой [aisthetike
oysia ], а в ней содержится совершенный разум и она вечна и
себе тождественна — ведь нет ничего более мощного, что могло
бы ее разрушить.
29.
Об этой силе они говорят, что она есть душа мира, она же —
ум и совершенная мудрость, которую они называют богом и
промыслом, опекающим все, ему подлежащее, {богом}
который заботится больше всего о небе, а далее — о том на земле,
что относится к человеку.
Это мудрое попечение называют иногда необходимостью,
ибо ничто не может <быть> иначе, как {это попечение}
установило <в> определенном и непреложном протяжении вечного
порядка; иногда — случаем, ибо многие действия его для нас
неожиданны и негаданны, потому что причины темны и
неведомы.
[V. ЛОГИКА]
VIII. 30.
Наконец, третью часть философии, посвященную
правилам рассуждения, обе школы излагают так.
Хотя способность судить [kriterion ] об истине пробуждается
от ощущений, он однако, не в ощущениях. Судья, по их
учению, есть ум; и они постановили, что единственно уму
подобает верить, ибо только ум распознает то, что всегда просто,
единообразно и есть таково, как оно есть, а это они именовали
idea — название данное уже Платоном, которое мы сможем
точно перевести как вид.
31.
О чувствах же судили, что все они притуплены и
медлительны, и не {всегда} воспринимают вещи, которые даны как
предметы ощущений. Например, если вещи будут столь малы, что
не смогут стать предметом ощущений, или столь подвижны и
стремительны, что в них не будет ничего постоянного и себе
- 152 —
тождественного, потому что они беспрестанно переменяются и
перетекают.
Поэтому всю эту часть называли они мнимой.
32.
А знание, как они учили, бывает только в понятиях и в
суждениях духа. Поэтому они одобряли определения и
применяли их ко всему, что исследовали. Они одобряли также
изъяснение слов, то есть, почему нечто имеет свое имя (это называлось
у них etymologia), и еще они пользовались доказательствами,
<то есть, как их называют, вопросами [erotemata], а также
разделениями> для убедительного умозаключения о том, что
они хотели прояснить.
В этом и состояло все учение о диалектике, то есть науке о
речи, содержащей правильные умозаключения.
А к диалектике они добавили как бы ее подобие [ек
paralleloy? ] — способность говорить, эту наставницу {в
искусстве} связной и протяженной речи, пригодной для убеждения.
33.
В таком виде {три части философии} были завещаны
Платоном.
Если вы желаете, то я изложу и последующие изменения
насколько я о них знаю.
[ 1
[VI. ШКОЛА ФЕОФРАСТА]
IX.
— ... Аристотель был первый, кто поколебал те виды, о
которых я только что говорил,— виды, которыми Платон был
столь увлечен, что утверждал, что в них есть нечто
божественное.
А Феофраст, имевший речь сладостную и нравом своим
являвший достоинство и благородство, еще сильнее сокрушил
авторитет древнего учения. Ведь он украл достоинство и
красоту доблести, когда стал отрицать, что лишь на доблести
основана счастливая жизнь.
34.
И вот Стратон, его ученик, хотя и был сильный мыслитель,
но его следует вообще поставить вне этой школы. Ведь он
пренебрегал самым важным разделом философии: учением о
доблестях и нравственности. Всего себя он посвятил изучению
природы, но и здесь он во многом расходится со своими
{учителями}.
- 153 -
[VII. ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ]
Напротив, Спевсипп и Ксенократ, которые первые приняли
учение и главенство в школе после Платона — а после них
Полемон и Кратет вместе с Крантором,— объединились в
Академии, где с тщанием сохраняли то, что унаследовали от
предшественников.
[VIII. ЗЕНОН И АРКЕСИЛАЙ]
35.
И уже у Полемона учились усердно Зенон и Аркесилай.
Зенон, однако, был старше, имел тонкие суждения и мощный
разум — поэтому он решил внести исправления в науку
{философии}...
Если вы хотите я изложу и его исправления, следуя при
этом Антиоху.
[ ]
[IX. УЧЕНИЕ ЗЕНОНА]
X.
— Так вот, Зенон, в отличие от Феофраста, не был тем, кто
подрезает жилы доблести. Напротив, единственно к доблести
сводил он все, что относится к счастливой жизни, кроме
доблести никаких благ он не усматривал, исключительно доблесть
называл он «честное, которое и есть некое простое, единое и
единственное благо».
36.
А прочее — ни добро, ни зло, но, как он говорил, или
согласно с природой, или противно природе. К этому добавлял
он еще и промежуточное, или среднее.
Далее. Он учил, что согласное с природой должно быть
принято и одобрено за свою определенную ценность [to
ophelein ]; с противоположным следует поступать
противоположным образом, а ни то, ни другое он причислял к
среднему,— этому он не придавал никакого значения.
37.
Но то, что получено от среднего, ценится [axioysthai ] или
больше или меньше. То, что ценится больше, он называл
предпочтительное [proegmenon ], то, что меньше,— отвергаемое.
Итак, здесь он переменил, скорее, слова, чем существо дела.
Таким же образом он ввел среднее между правильным дей-
- 154 -
ствием и прегрешением — долг и то, что противно долгу. Итак,
он помещал в число благ[*** ] одни лишь правильные
{действия} , а в число зол — превратные, то есть прегрешения.
Средним же, как я сказал, он считал и соблюдение и нарушение
долга.
38.
Если старшие философы утверждали, что не вся доблесть в
разуме, что некоторые доблести получают совершенство от
природы и нрава, то Зенон все полагал в разуме. И если они
считали, что доблести разного рода (о них я уже говорил) могут
быть друг от друга отделены, то он доказывал, что это никак не
возможно, и еще, что не только действенное осуществление
доблести преславно (как думали старшие), но и обладание
доблестью само по себе преславно; однако лишь тот обладает
доблестью, кто всегда ее осуществляет. И если они душевные
смятения человека не отрицали и утверждали, что человек по
природе и страдает, и вожделеет, и терзается страхом, и
радостью исполняется (однако эти волнения они укрощали и
направляли в стесненные границы), то {Зенон} учил, что
мудрецу все эти болезни чужды.
39.
И если древние утверждали, что эти смятения души
естественны и неподвластны рассудку, и помещали в одной части
души вожделения, а в другой — разум, то {Зенон} с ними не
соглашался и думал, что даже смятения души произвольны,
что они зачинаются в суждении, мнением {производятся}, а
мать всех страстей есть необузданность и невоздержанность.
Вот что можно сказать об учении о нравах.
XI.
О природах учение Зенона таково.
Во-первых, он отказывался прибавить к четырем
упомянутым первопричинам пятую природу, из которой, как думали
{древние} сделан высший ум, и утверждал, что огонь и есть та
природа, которая порождает, {так что} даже ум и чувства —
{это огонь}. Ведь он расходился с древними еще и в том, что
считал, что никаким образом ничто не может быть
произведено действием того, что бестелесно,— а именно бестелесной
была душа по учению Ксенократа и старших философов — и
еще он считал, что не может воздействовать или подвергаться
воздействию то, что есть бестелесное.
40.
Многое переменил он в третьей части философии.
Во-первых, он стал утверждать кое-что новое в самих чув-
— 155 —
ствах и ощущениях, определив, что {каждое} ощущение есть
то, что зависит от некоторого прикосновения, происходящего
извне, которое было им названо phantasia, а мы позволим себе
слово созерцание, которого и будем придерживаться, ведь в
нашей беседе его придется употреблять очень часто. Далее. Он
учит, что тому, что созерцается и как бы принимается
чувствами, сопутствует сочувствие души [synkatathesis ], которое
есть то, что в нас и произвольно.
41.
Однако, по его суждению, не всем созерцаниям сопутствует
доверие, но только тем, которые содержат в себе ясное
представление [enargeia ] того, что созерцается, и созерцание,
которое себя являет в себе четким и определненым, есть
постигаемое (katalepton).
— Далее. Созерцание, уже принятое и одобренное, он
именовал постижение [katalepsis ], уподобляя тому, как вещи
настигаются рукой,— отсюда взято и само это название, а прежде
этим словом никто в таком значении не пользовался. Много и
других новых слов {Зенон} ввел в употребление, ибо говорил
то, что было ново.
Наконец, то, что постигнуто ощущением, он называл самим
словом ощущение. Если постигнуто так, что {ощущение} не
может быть поколеблено рассудком, то это он называл знание,
если иначе, то — незнание, а из незнания проистекает еще и
мнение, немощное и родственное лжи и неведенью.
42.
Далее. Между знанием и незнанием поместил он
постижение (о котором я уже сказал), которое он не причислял ни к
тому, что правильно, ни к тому, что превратно, однако
утверждал, что единственно постижению надлежит верить.
От постижений он переносил доверие даже на ощущения,
во-первых, потому, что, как я сказал, он полагал, что
постижение (которое получается из ощущений) истинно и
достоверно, хотя и не в силу того, что постигается существо вещи
целиком, но в силу того что постижение способно не упустить
все то, что дано как предмет постижения,— и еще потому, что
природа вложила {в нас} как бы канон знания и начало самой
себя, с которых были впоследствии отпечатаны в душах
понятия о вещах, открывающие не только начала, но и более
просторные пути для осмысления.
Наконец, заблуждение, опрометчивость, неведение,
мнение и гадание, одним словом все то, что исключает твердое и
устойчивое сочувствие, все это он ставил вне доблести и знания.
— 156 —
Вот в этих изменениях и заключаются все расхождения
Зенона с его предшественниками.
XII. 43.
[Цицерон: ]
Когда он закончил, я сказал:
— Кратко и вполне ясно изложил ты, Варрон, учения и
Древней Академии, и Стоиков. Впрочем, я считаю
правильным утверждение нашего друга Антиоха: стоическую науку
следует рассматривать не как нечто новое, а как исправление
Древней Академии.
[ ]
[X. НОВАЯ АКАДЕМИЯ (Academicorum lib. II)]
16.
[ I
[Лукулл: ]
Разве не было ничего сделано в {философских}
разысканиях после Аркесилая, когда он, нападая, как думают, на Зенона
за то, что тот ничего нового не открыл, а только исправлял
прежних философов, переменяя слова,— захотел
опровергнуть его определения и стал наводить тень на самые ясные
вещи?
Сперва, хотя был он украшен острым умом и удивительно
очаровательной речью, его мысли совсем не были приняты, и
поначалу один Лакид их усвоил, но потом их
усовершенствовал Карнеад.
Этот был после Аркесилая четвертым, так как его
наставником был Гегесин, который сам слушал Евандра, ученика
Лакид а, а Лакид был учеником Аркесилая.
А сам Карнеад держал {школу} долго, прожил девяносто
лет, и слушатели его процветали. Из них Клитомах
превосходил всех трудолюбием, <Метродор Скепсийский> —
дарованием, Хармад — красноречием, Меланфий Родосский —
приятностью. Считалось, что и Метродор Стратоникейский хорошо
знал Карнеада.
17.
И вот Клитомаху отдал многолетние труды ваш Филон, а
пока жив был Филон, не лишена была хозяина Академия.
[ 1
— 157 —
[XI. РАСКОЛ МЕЖДУ ФИЛОНОМ И АНТИОХОМ
(Academicomm Hb. II)]
11.
Когда в Александрии я был пропретором, со мной там был
Антиох, а еще раньше в Александрии оказался друг Антиоха
Гераклит Тирский, который много лет слушал и Клитомаха и
Филона [ ]. С ними часто беседовал Антиох, причем и он и
Гераклит вели себя очень мягко. Но вот те две книги Филона,
о которых вчера говорил Кату л, попали тогда впервые в руки
Антиоха, и он, человек тишайший (ничего не могло быть его
мягче), пришел в бешенство.
Я был изумлен: ведь ничего подобного я раньше не видел. А
он, взывая к памятливости Гераклита, спрашивал его, что тот
думает: принадлежит ли все это Филону? И слышал ли он
когда-нибудь это от Филона или от иного академика? Тот
отрицал, но авторство Филона признавал. В этом и нельзя было
сомневаться, потому что присутствовали мои ученые друзья
[ ], и они говорили, что сами в Риме слышали все это о^
Филона и он сам дал им переписать эти две книги.
12.
Тогда произнес Антиох и то, о чем, как вчера вспоминал
Катул, говорил его отец, и многое другое. Не удержался он ι
от того, чтобы написать против своего учителя книгу под за
главием «Sösos».
А я, хотя слушал одинаково старательно как рассужденш
Гераклита против Антиоха, так и Антиоха против Академиков
но отдавал я свое внимание более Антиох у, так что я знаю во
это дело от него.
СОДЕРЖАНИЕ
От составителя 3
Альбин. Введение к диалогам Платона
(Перевод Ю. А. Шичалина) 7
Диоген Лаэртский. О жизни и изречениях
знаменитых философов. Книга III. Платон
(Перевод М. Л. Гаспарова) 11
Апулей. Платон и его учение
(Перевод Ю. А. Шичалина) 39
Алкиной. Учебник платоновской философии
(Перевод Ю. А. Шичалина) 67
Ипполит Римский. Опровержение всех ересей.
Книга I, главы 18, 19, 20
(Перевод Е. Д. Матусовой) 101
Саллюстия философа книга о богах и о мире
(Перевод Ю. А. Шичалина) 105
Анонимные пролегомены к платоновской философии
(Перевод Т. Ю. Бородай и А. А. Пичхадзе) 121
Приложение
Учение древних философов, изложенное
Цицероном по Антиоху Аскалонскому (Cic. Academica
lib. I 13-43, Üb. II 11,12,16,17)
(Перевод Α. Ε. Кузнецова) 147
Учебники платоновской философии