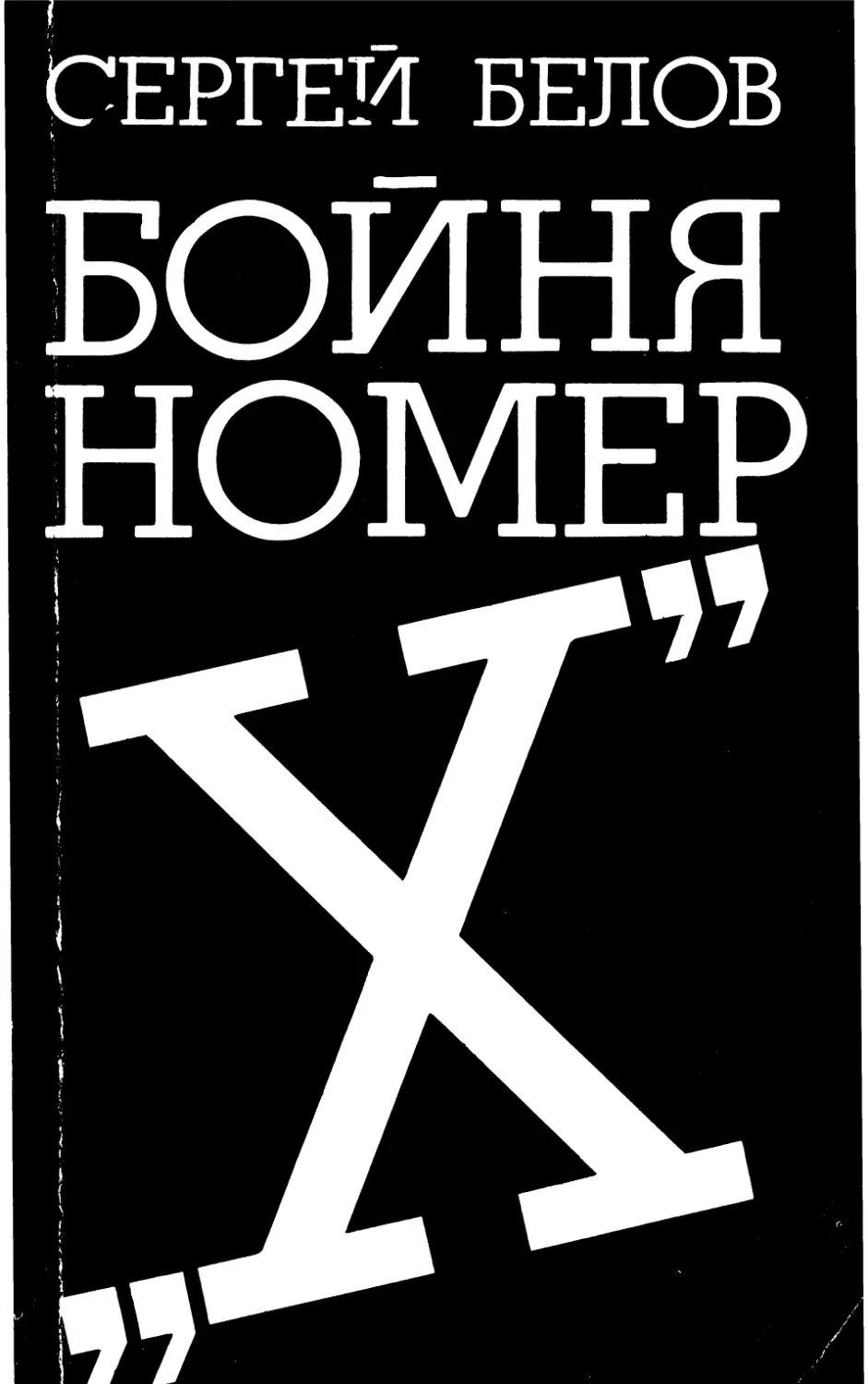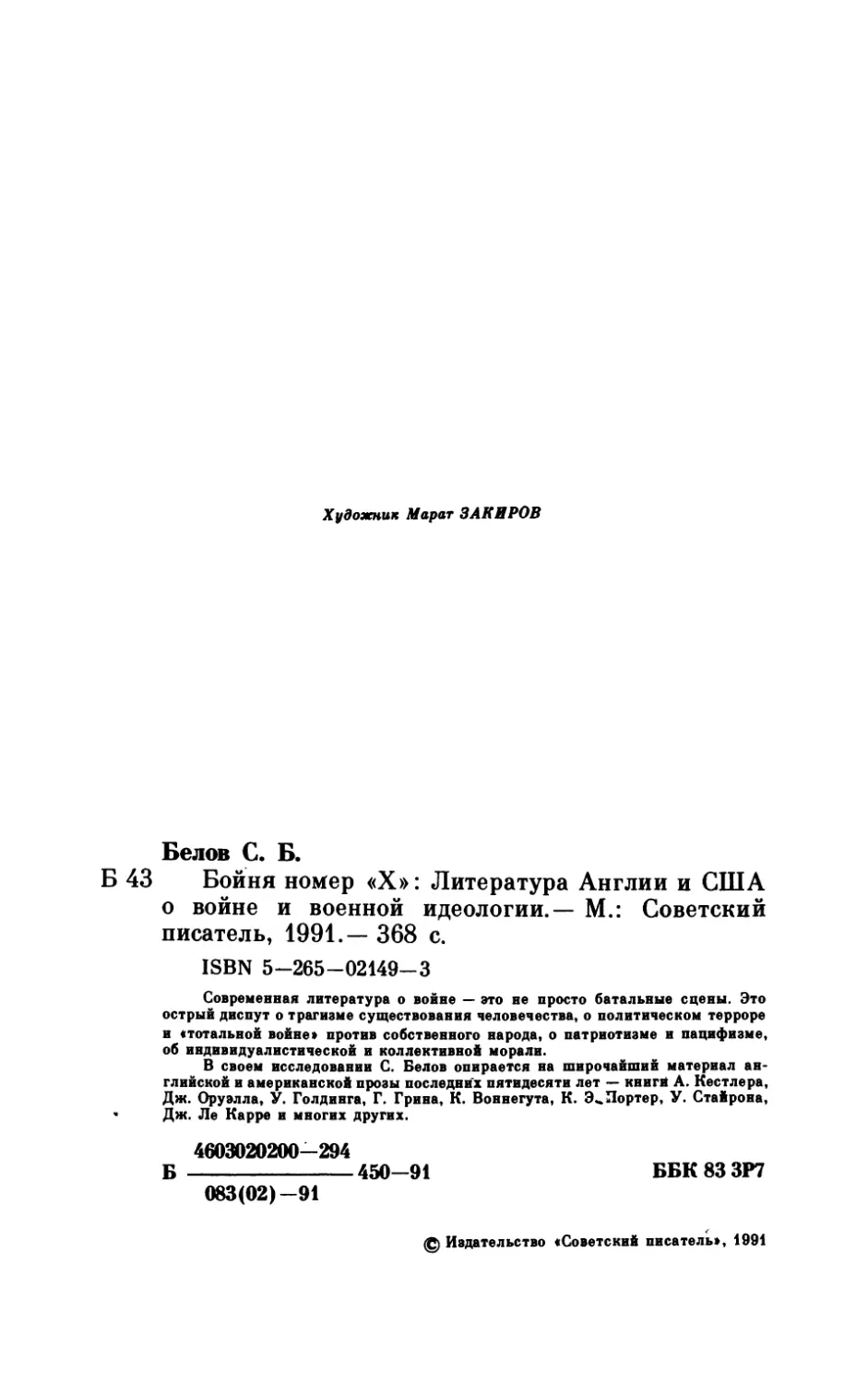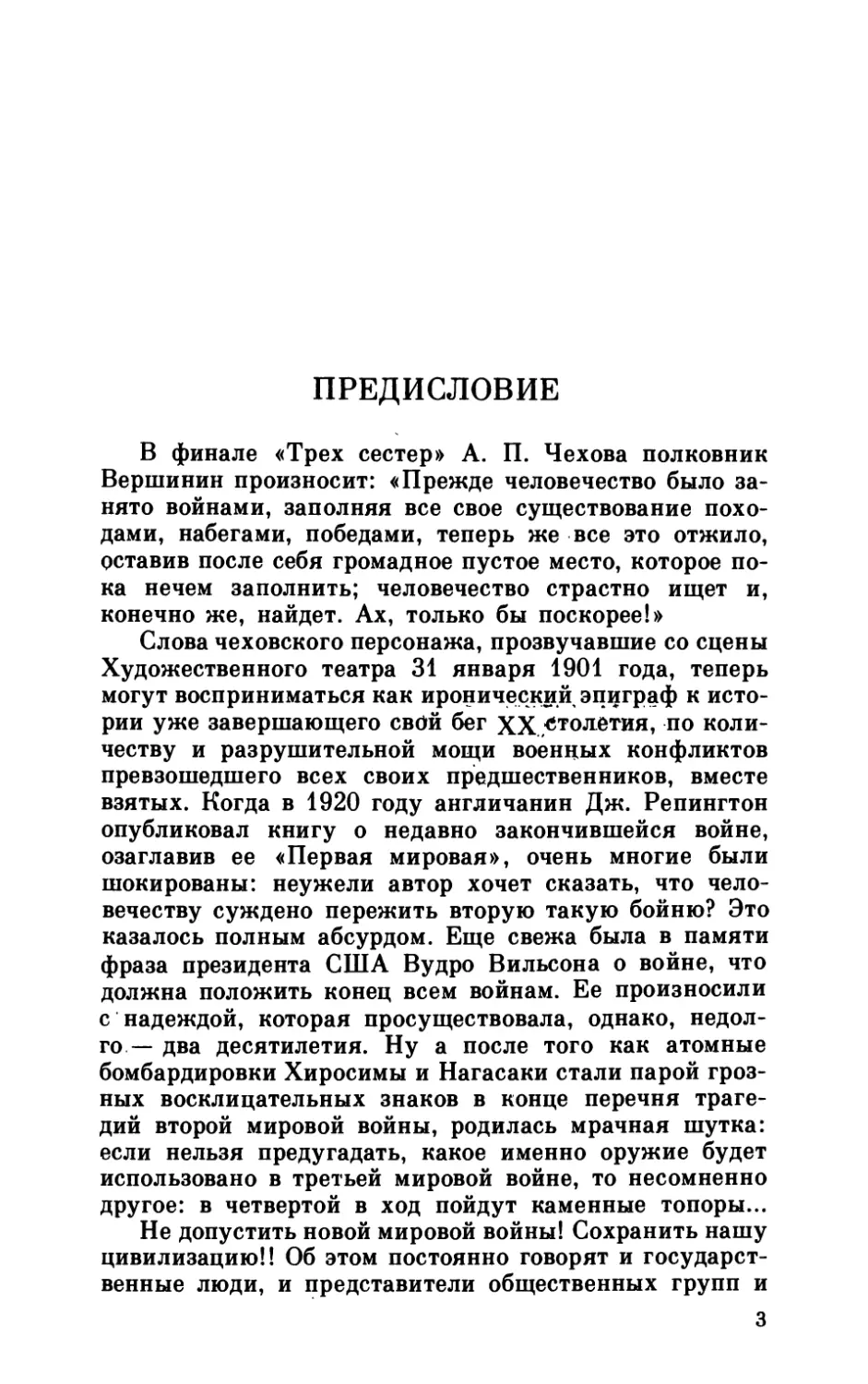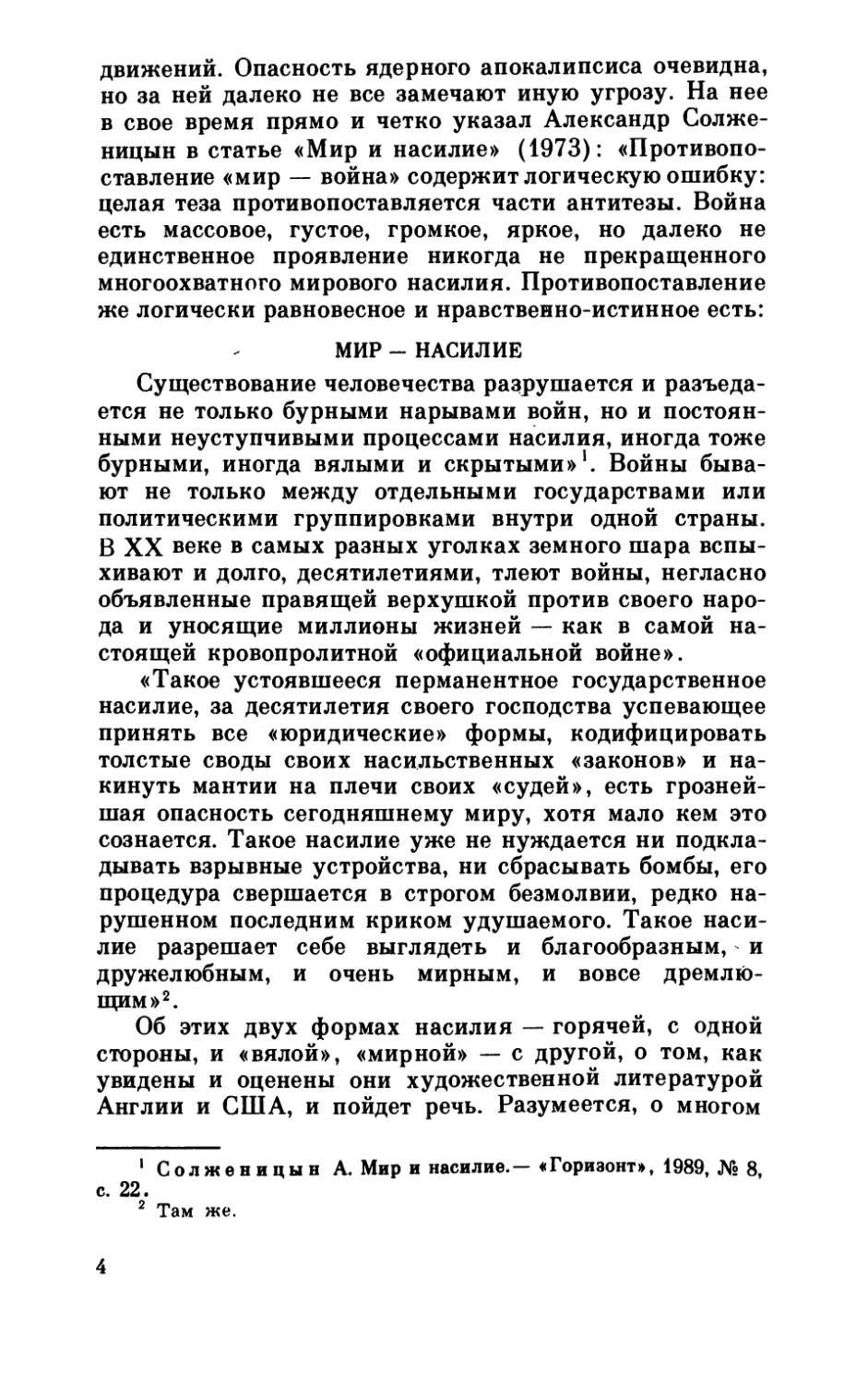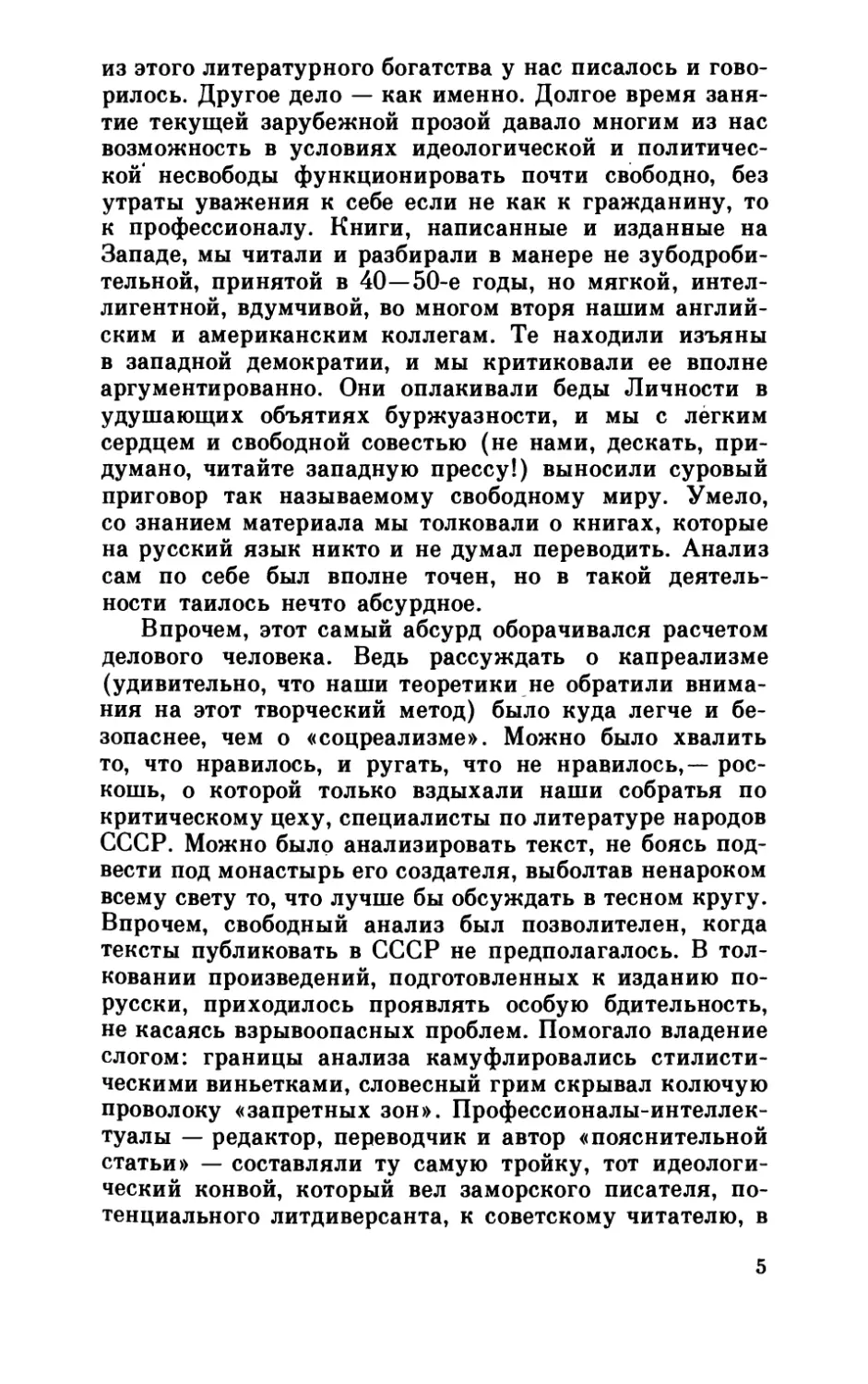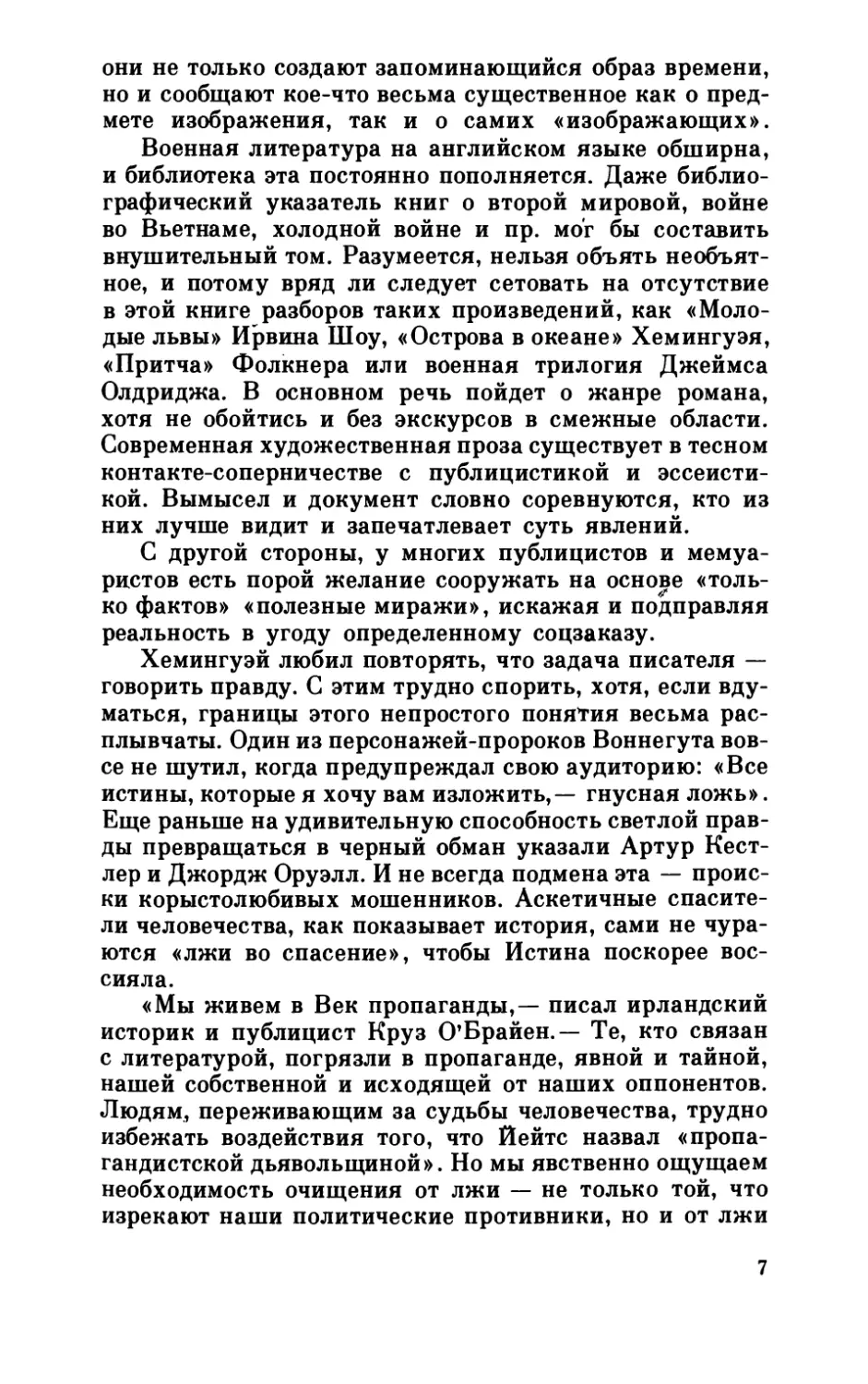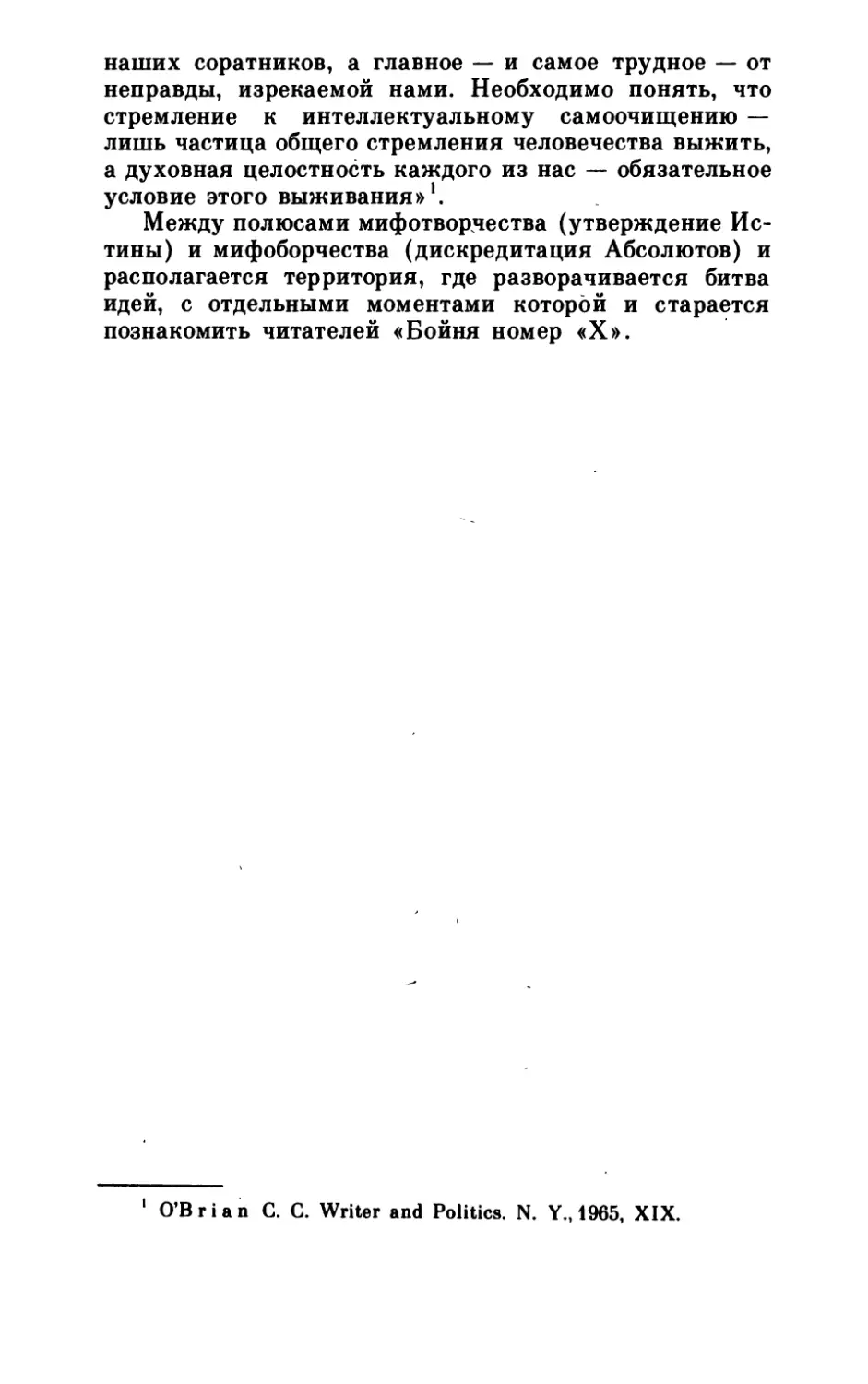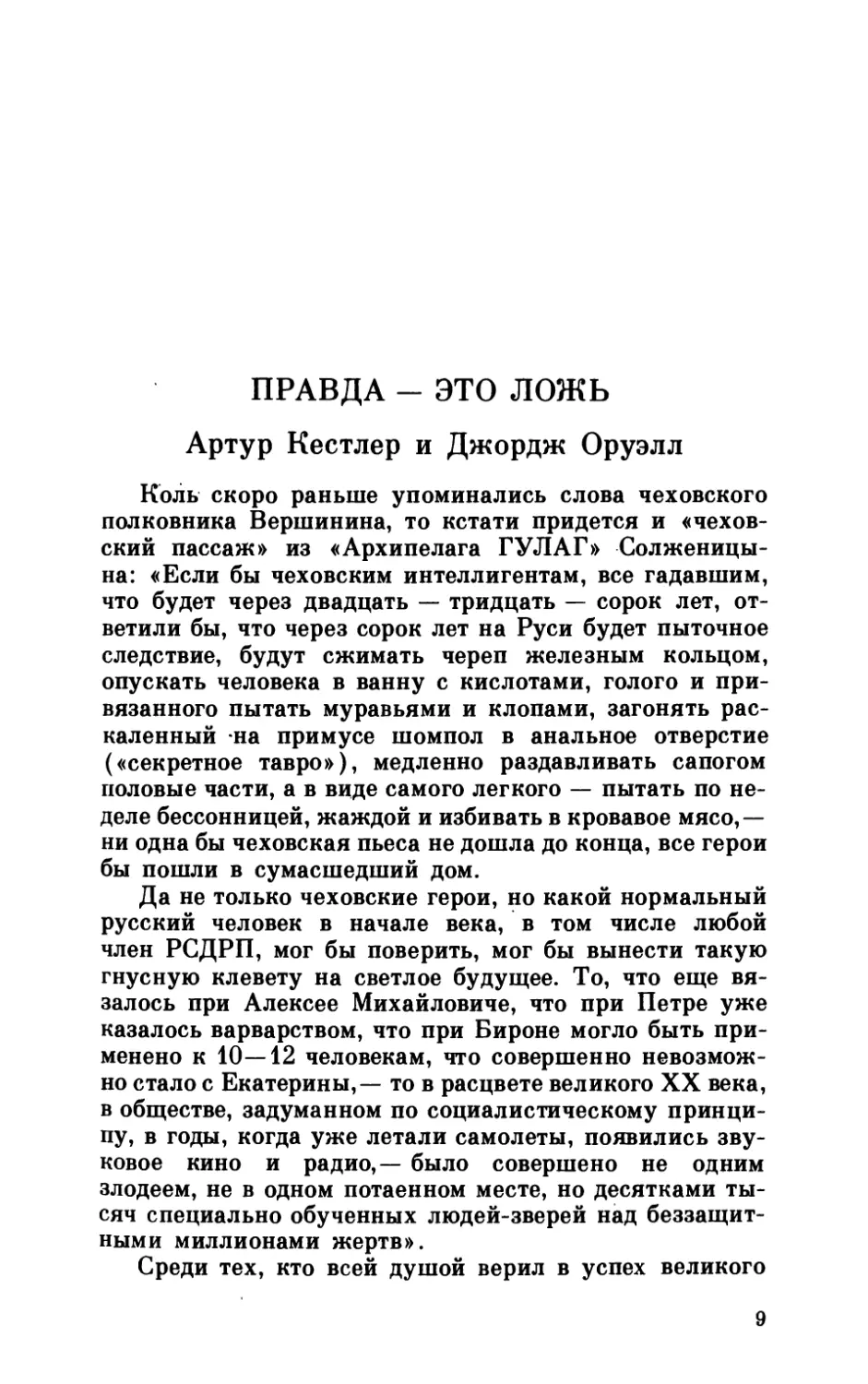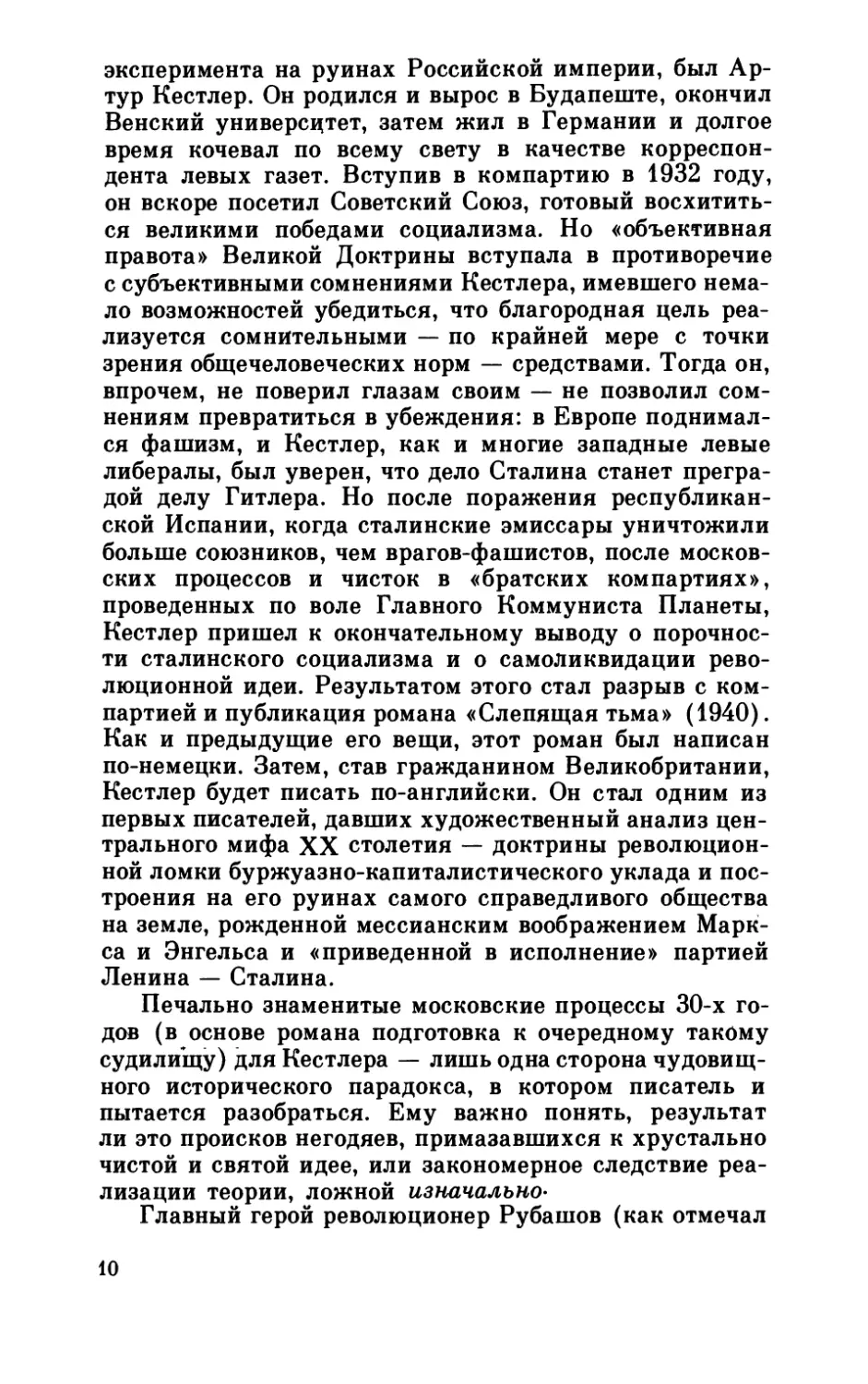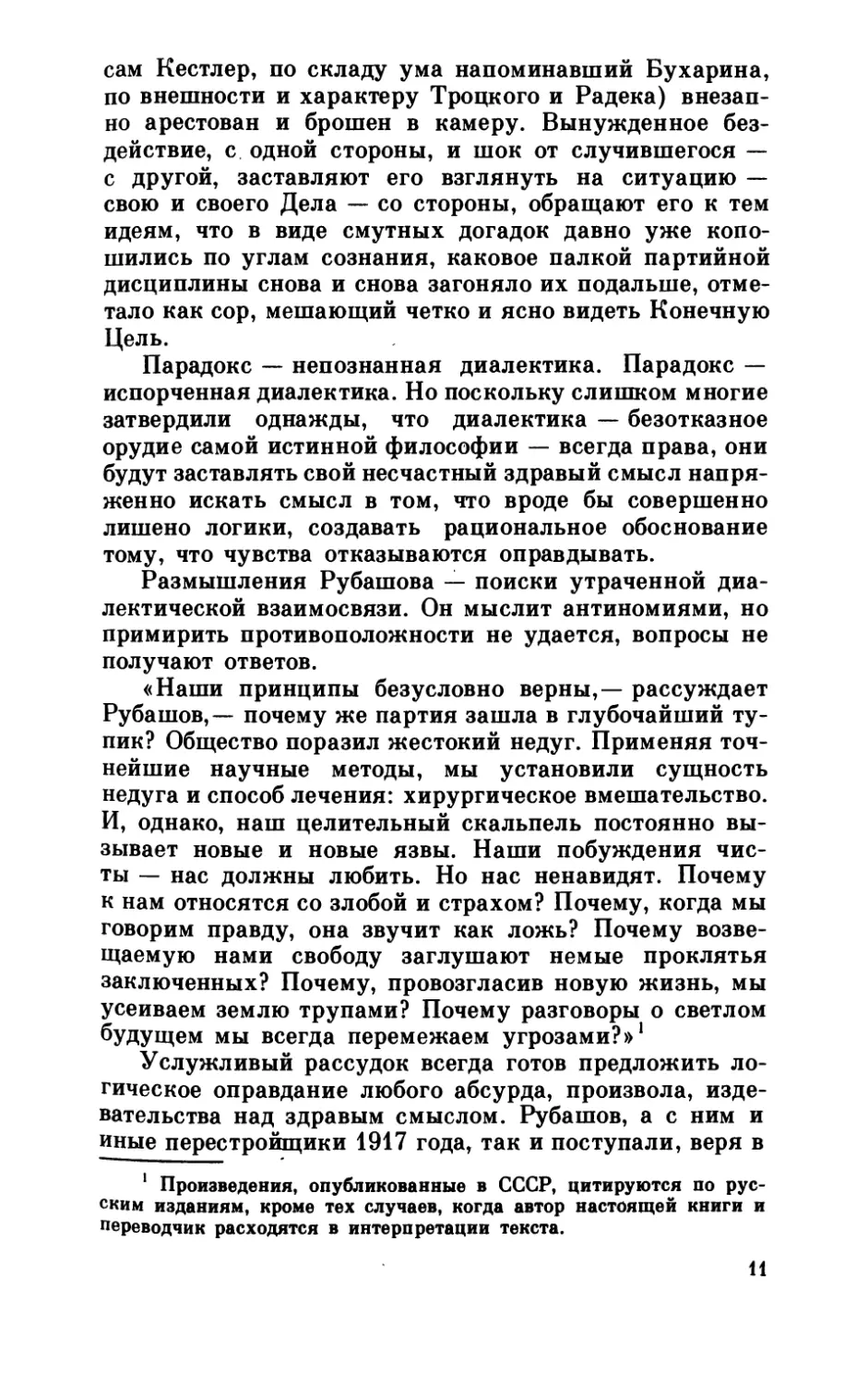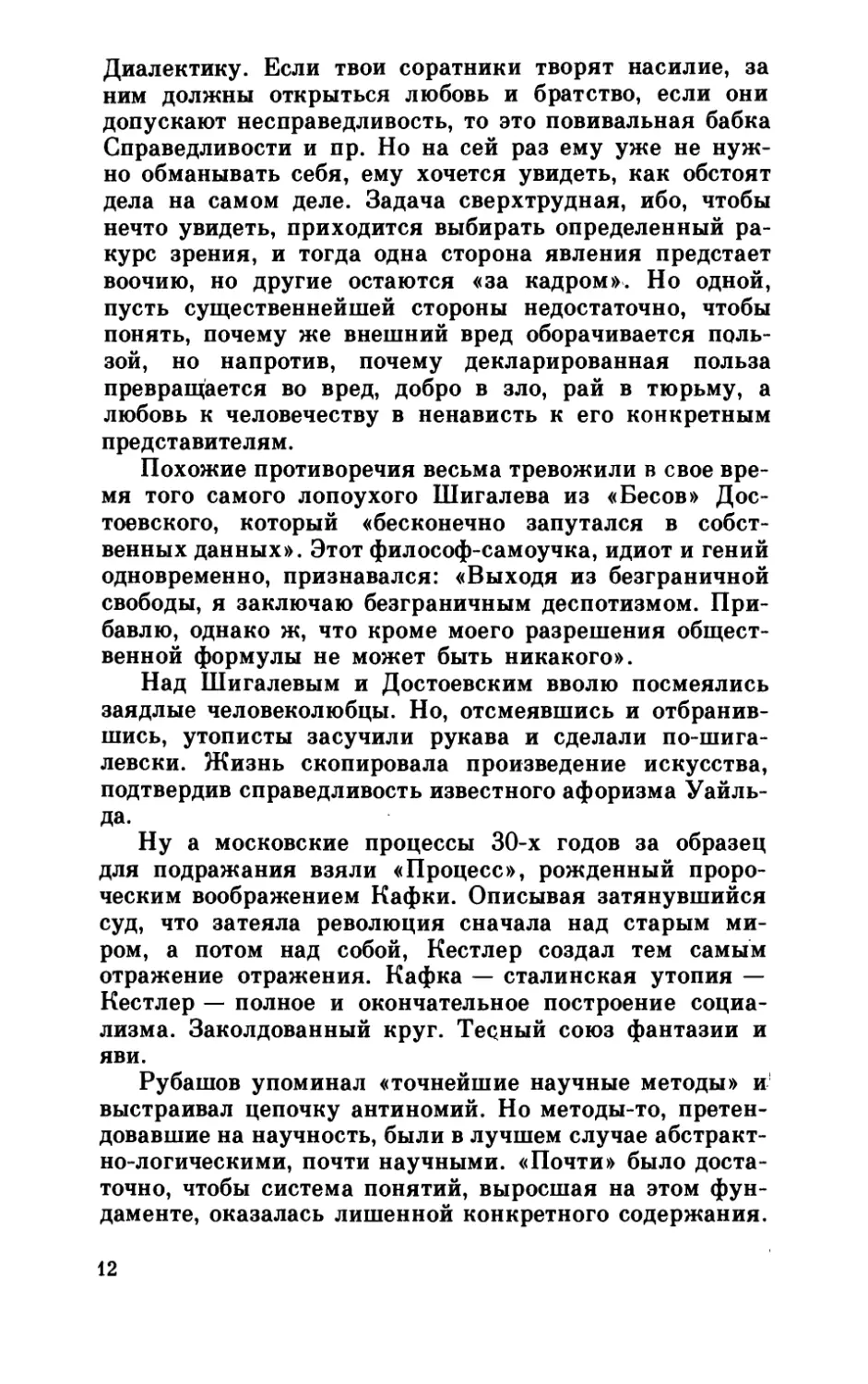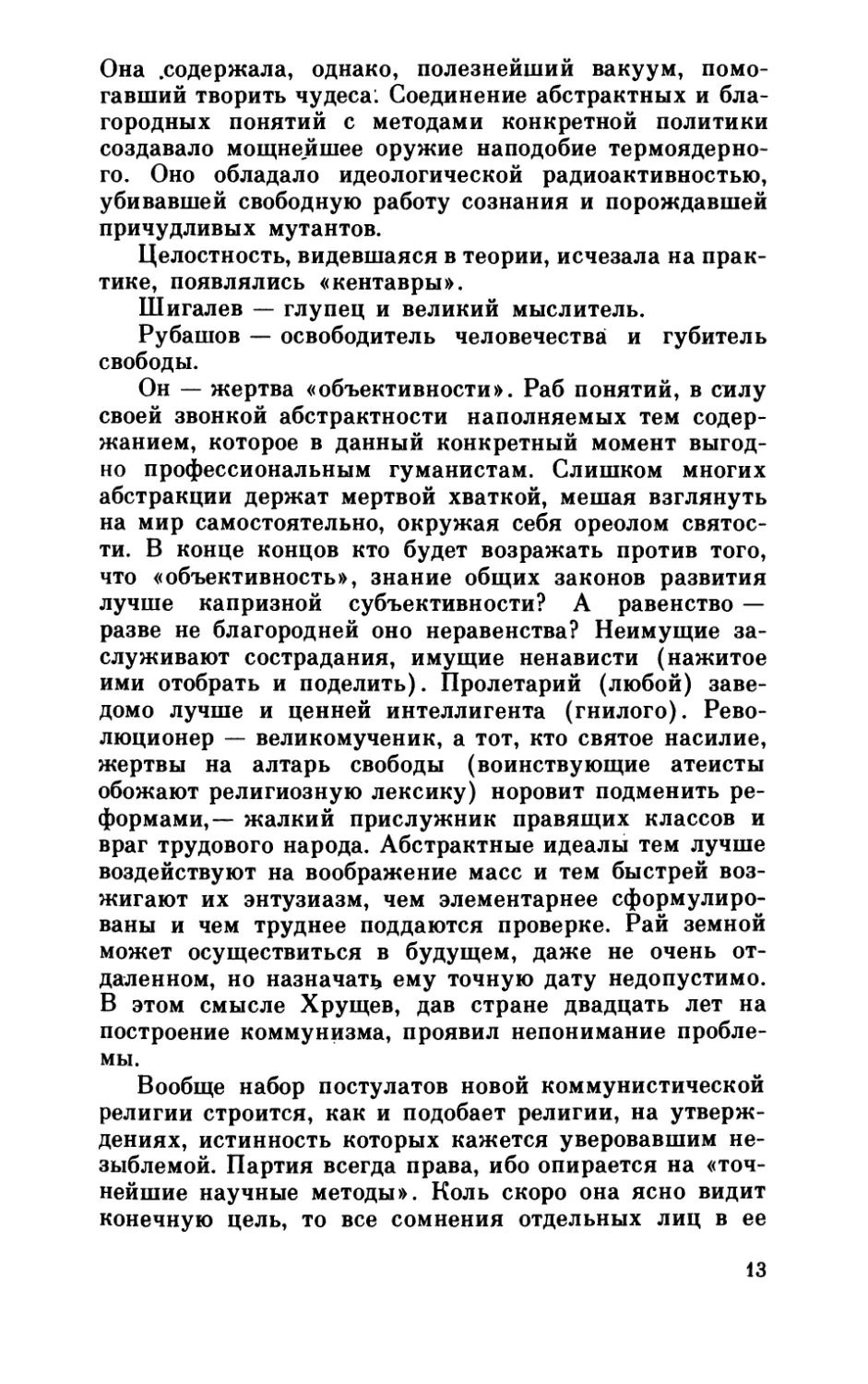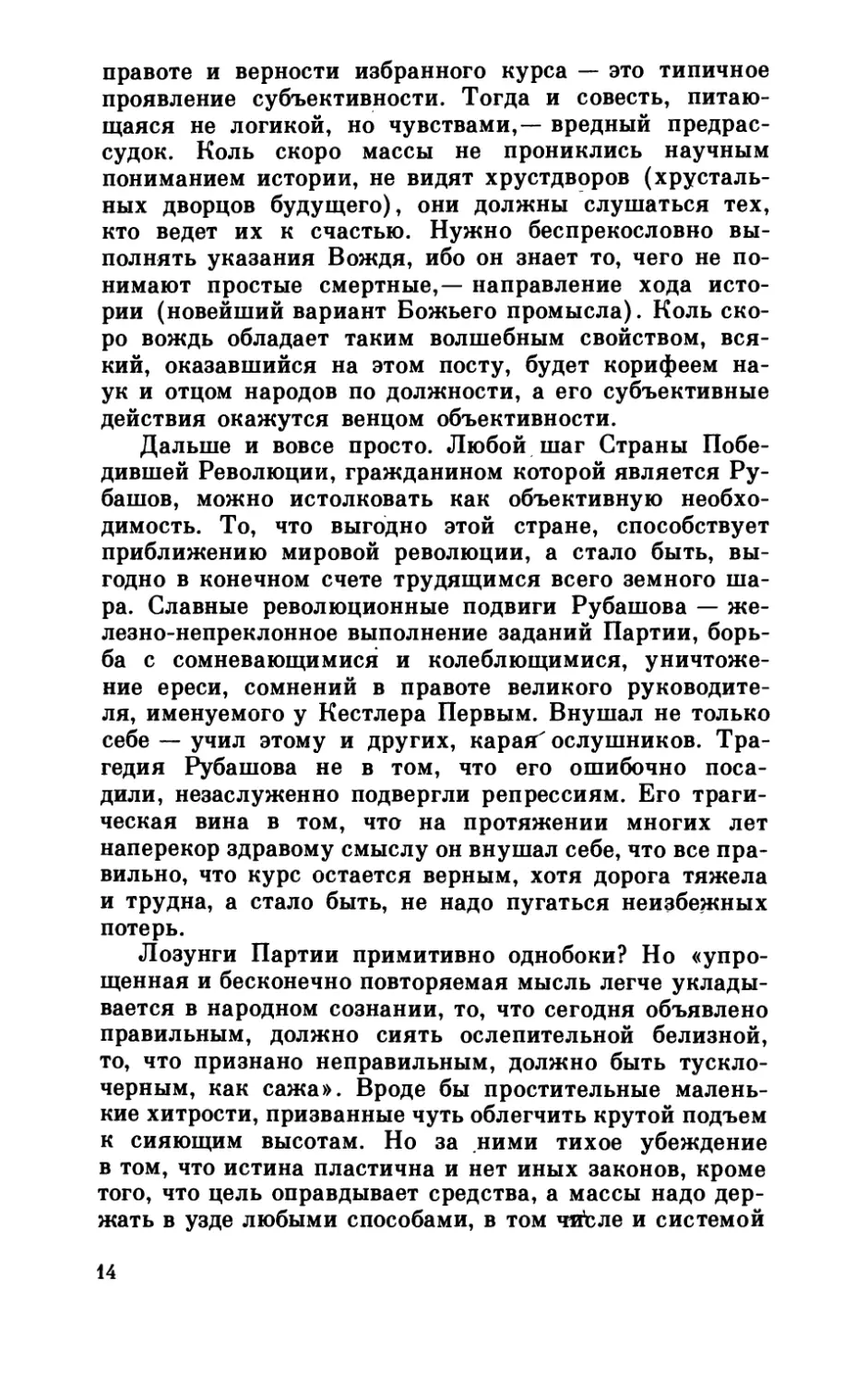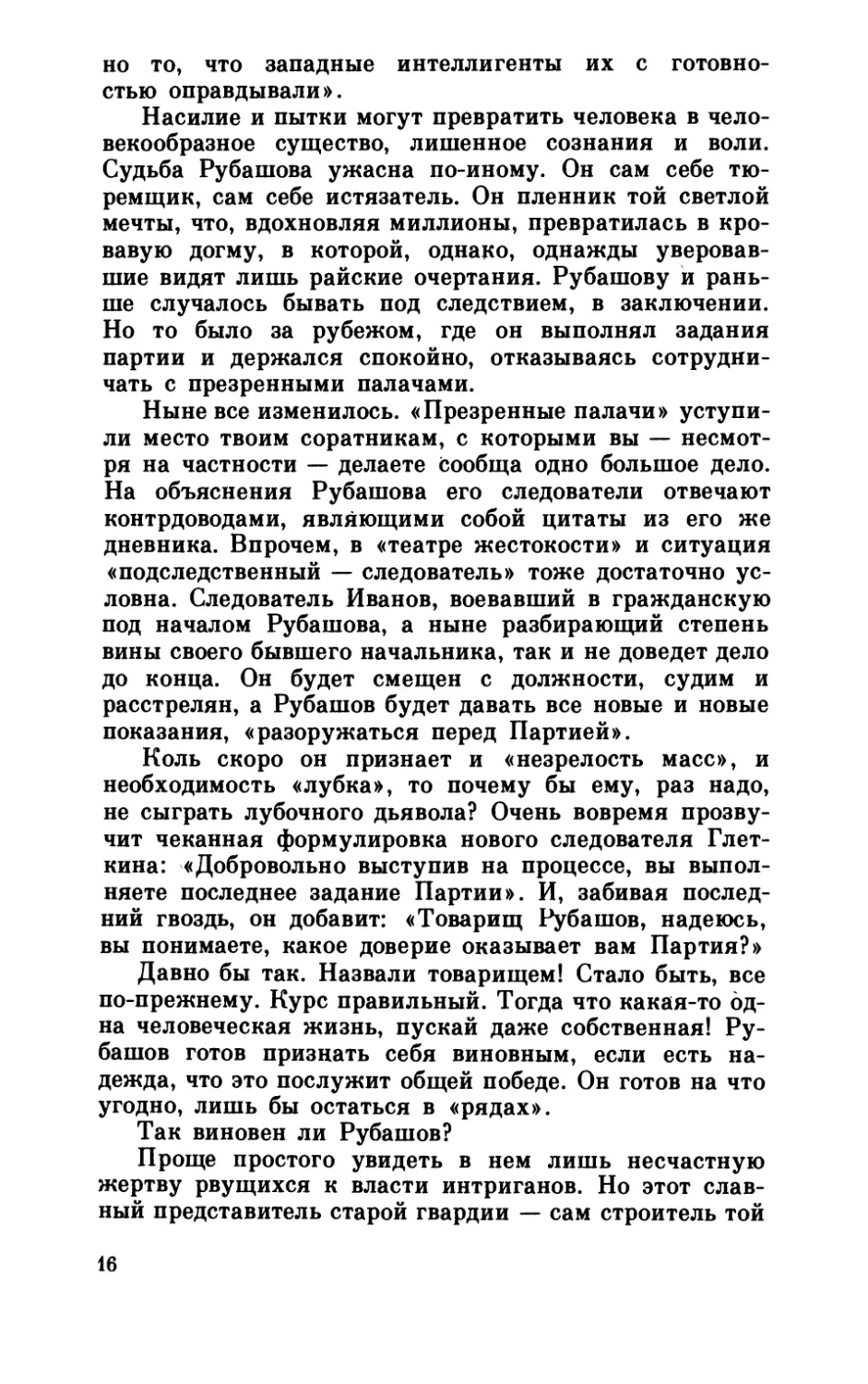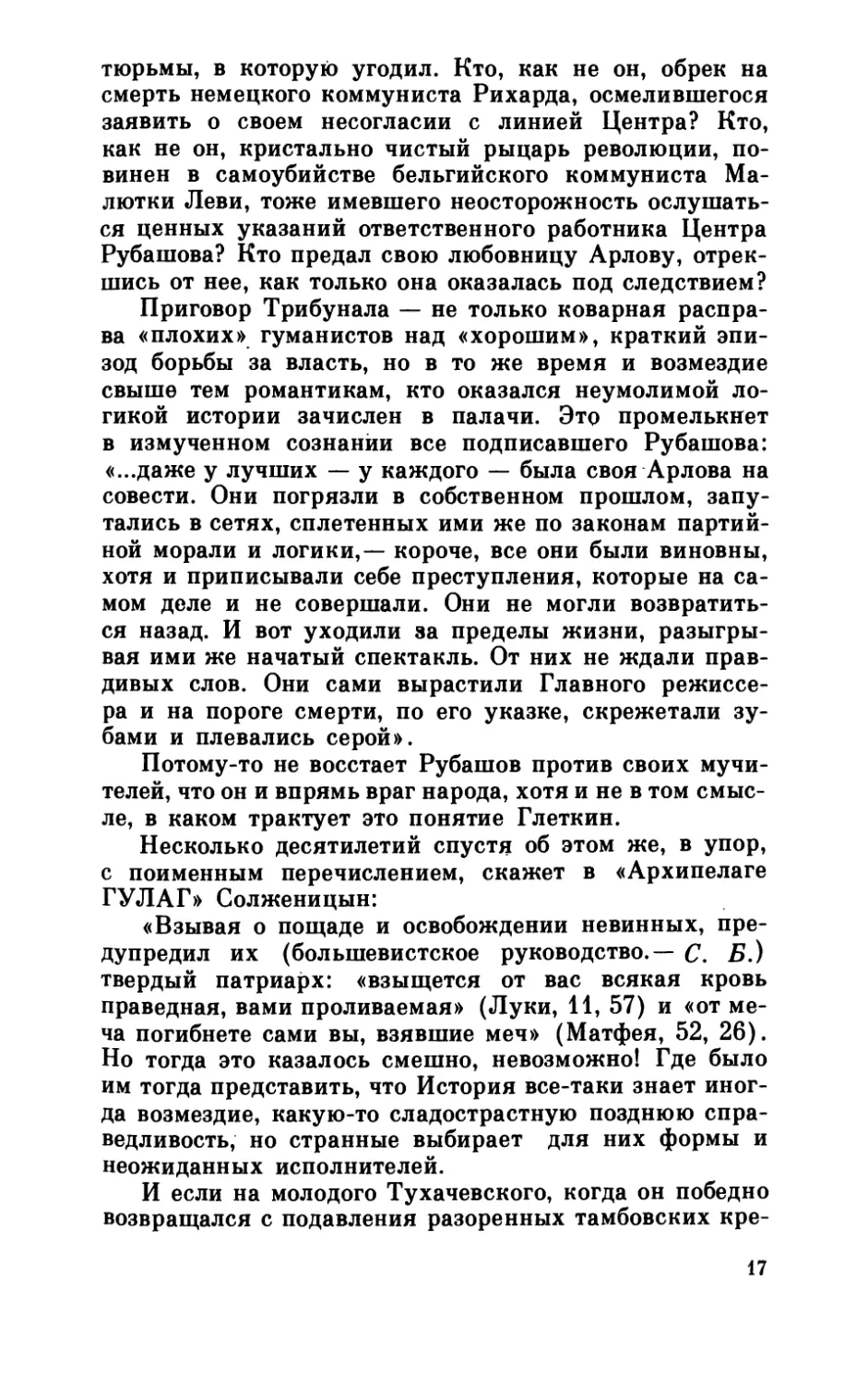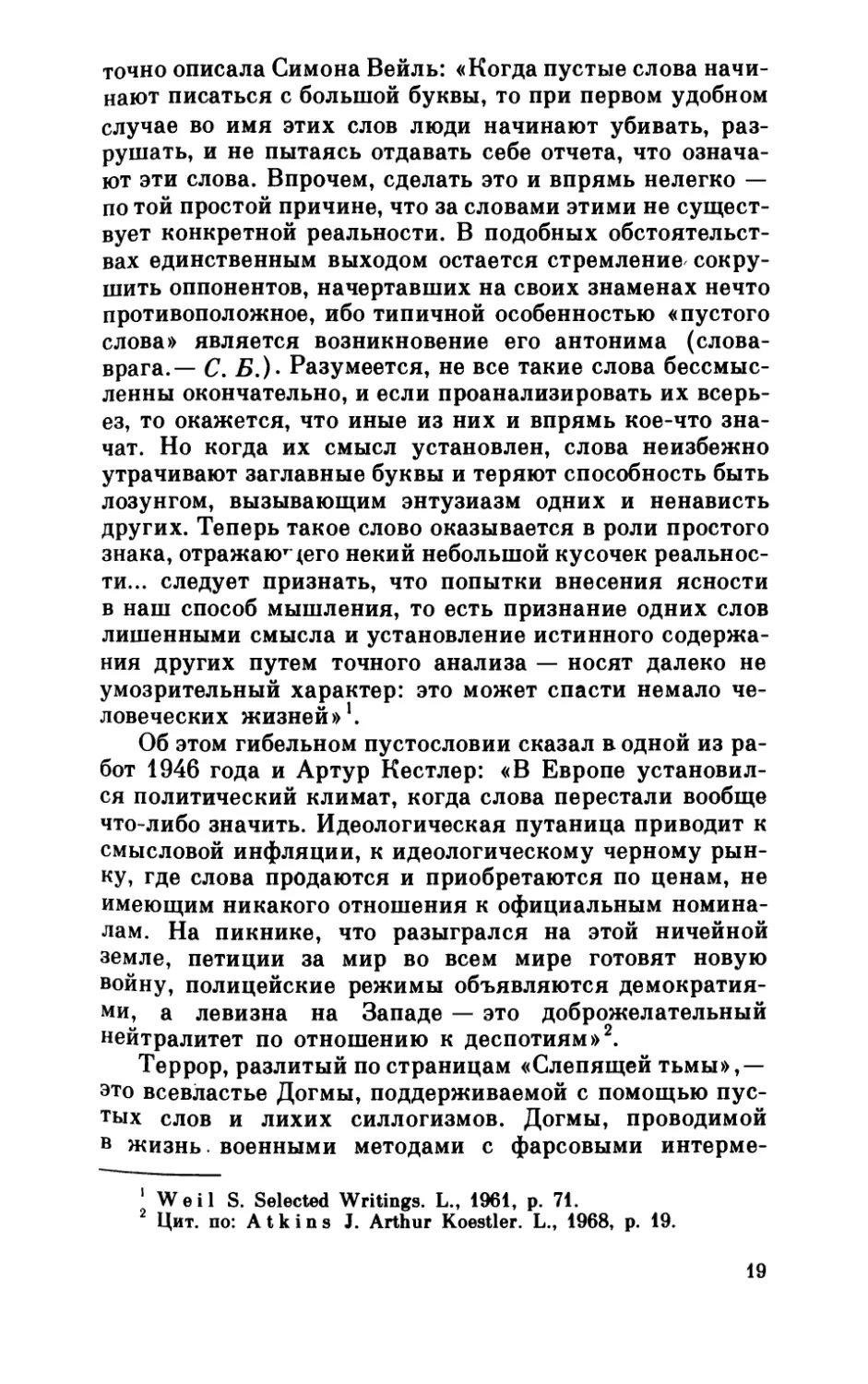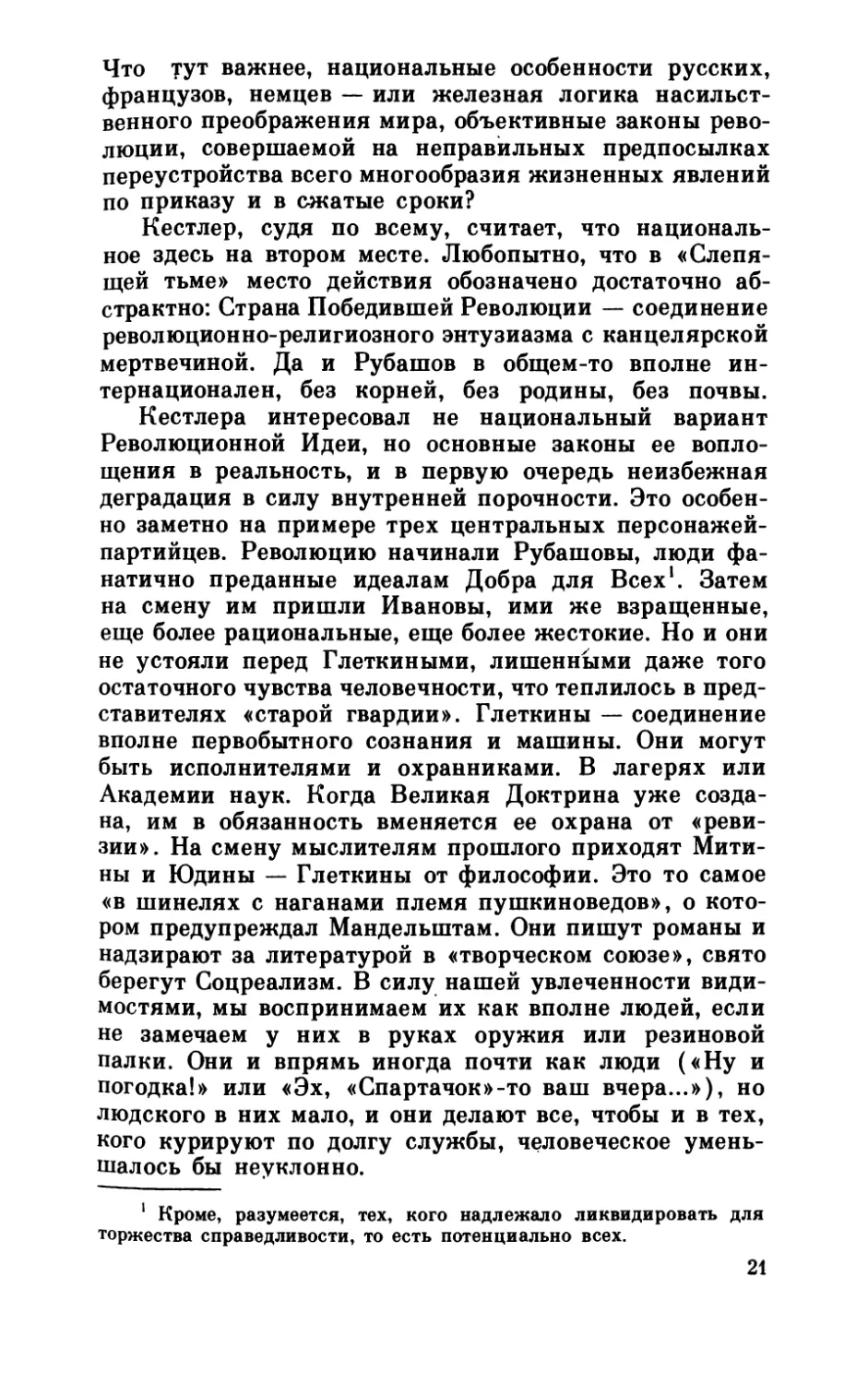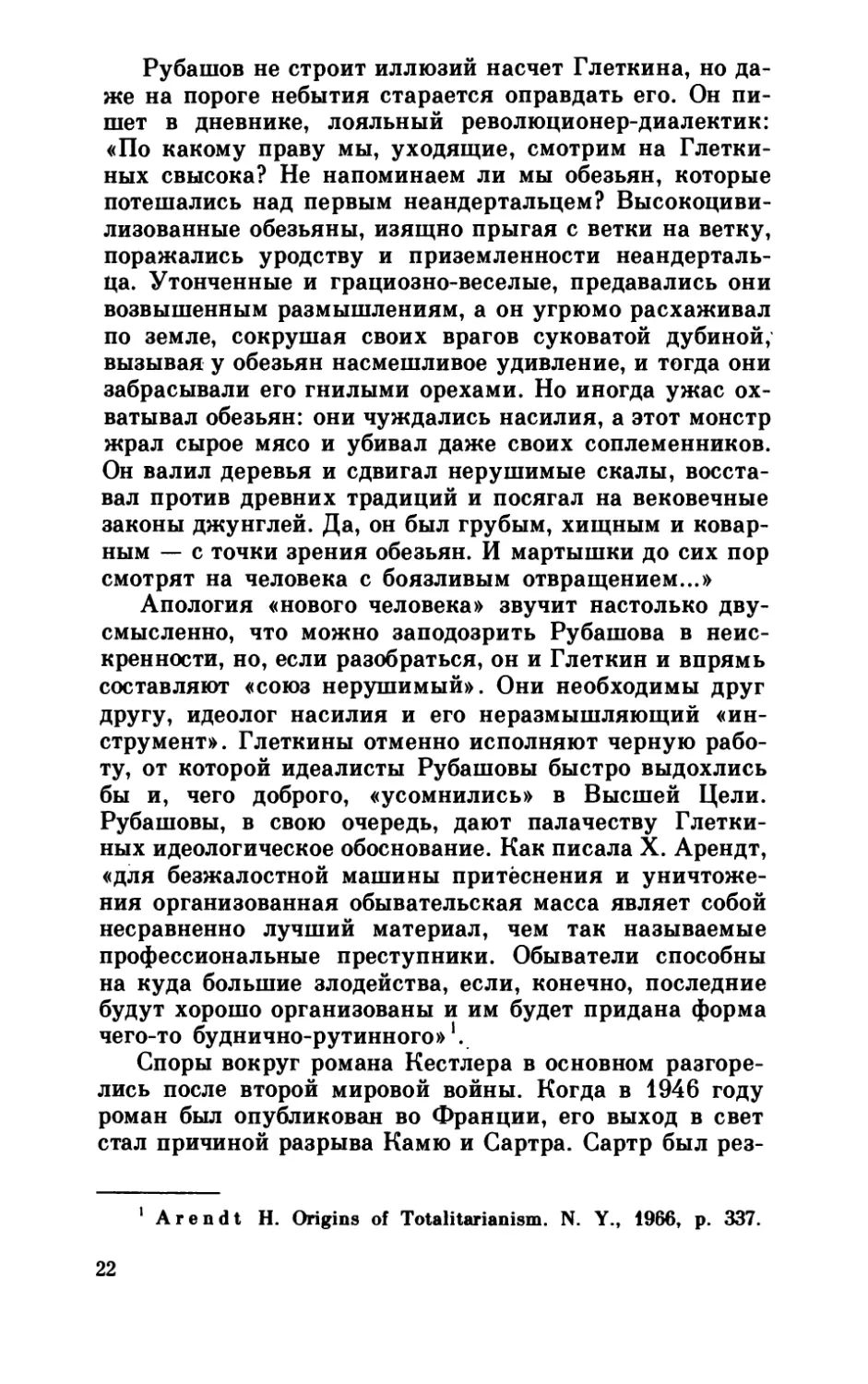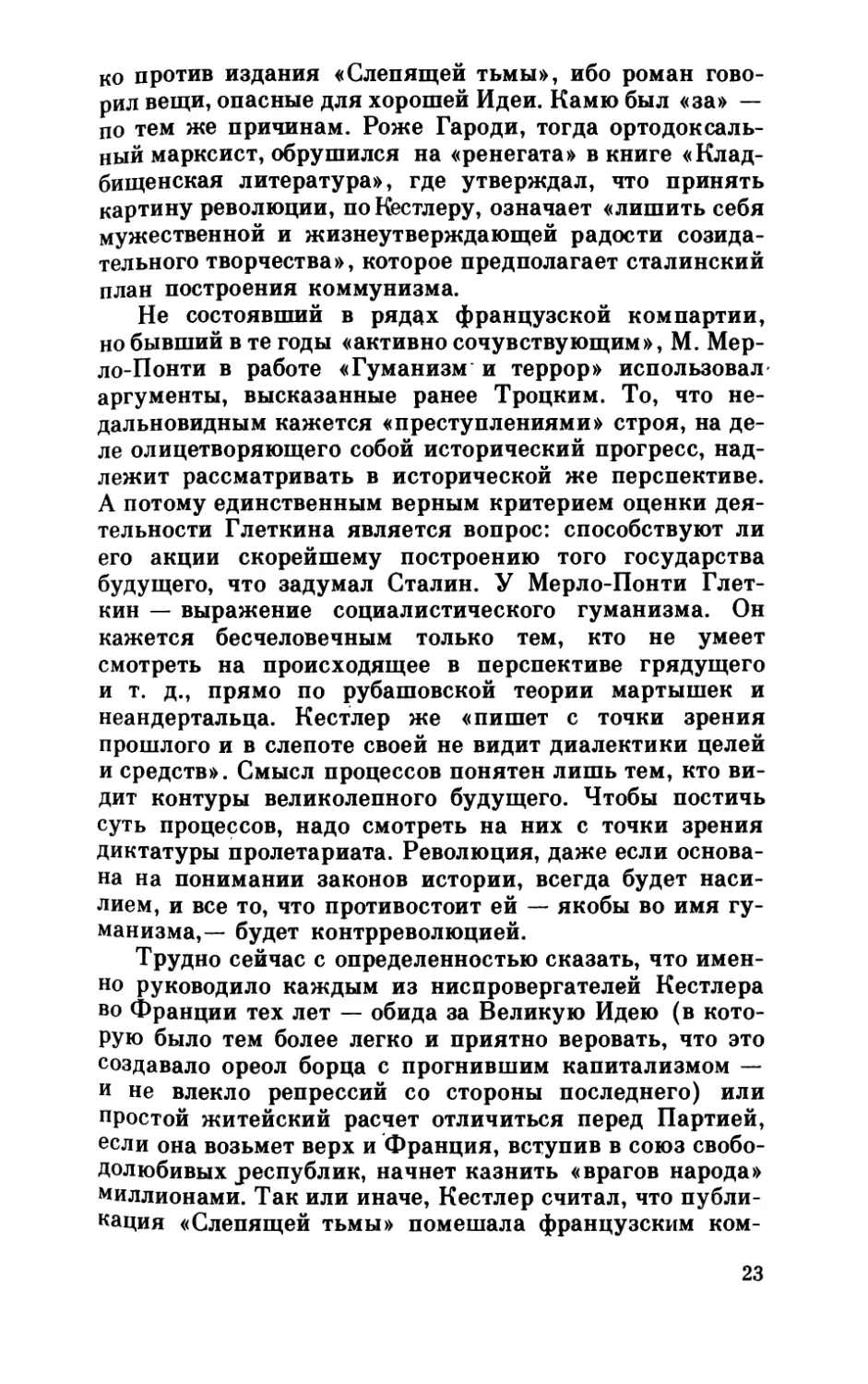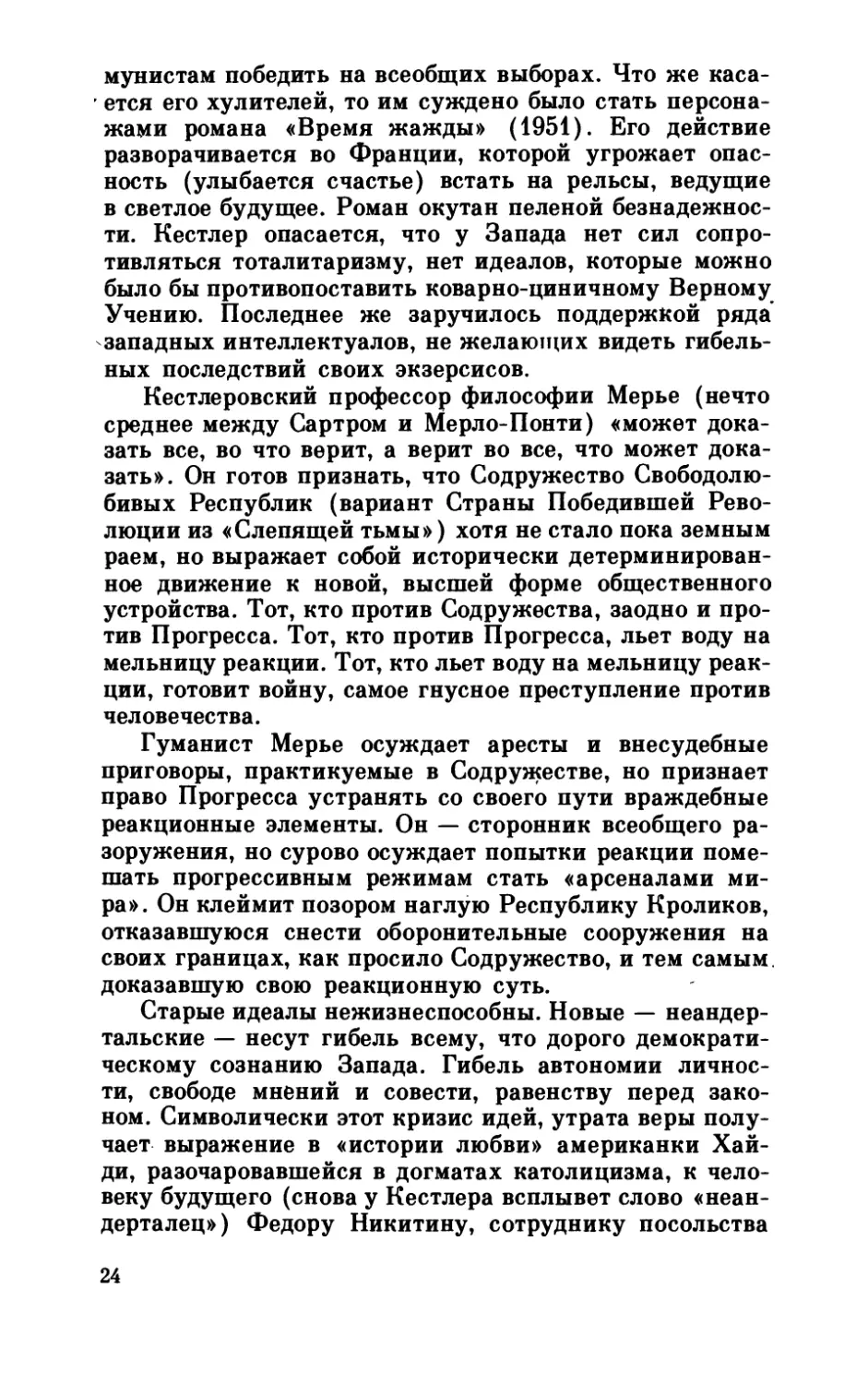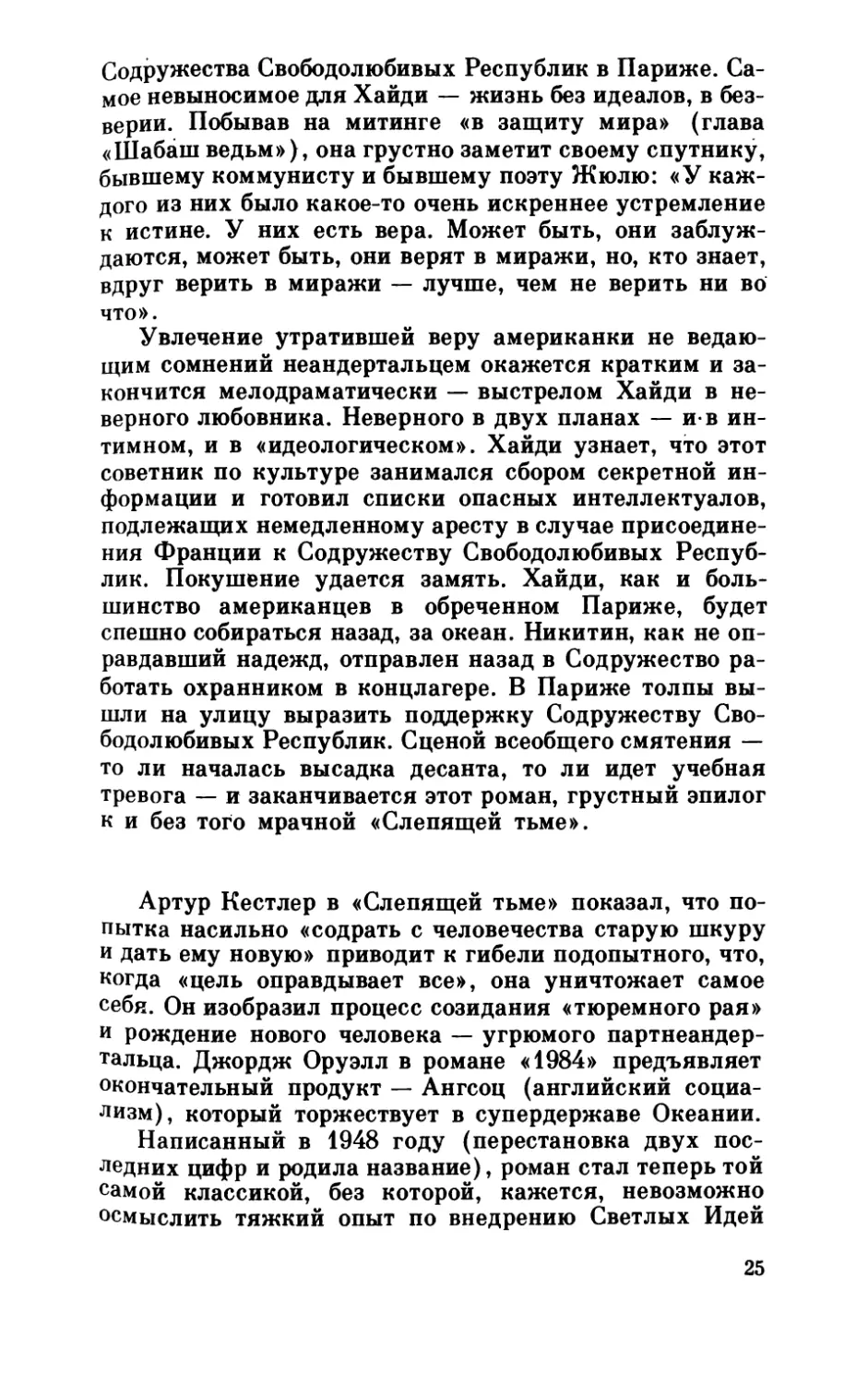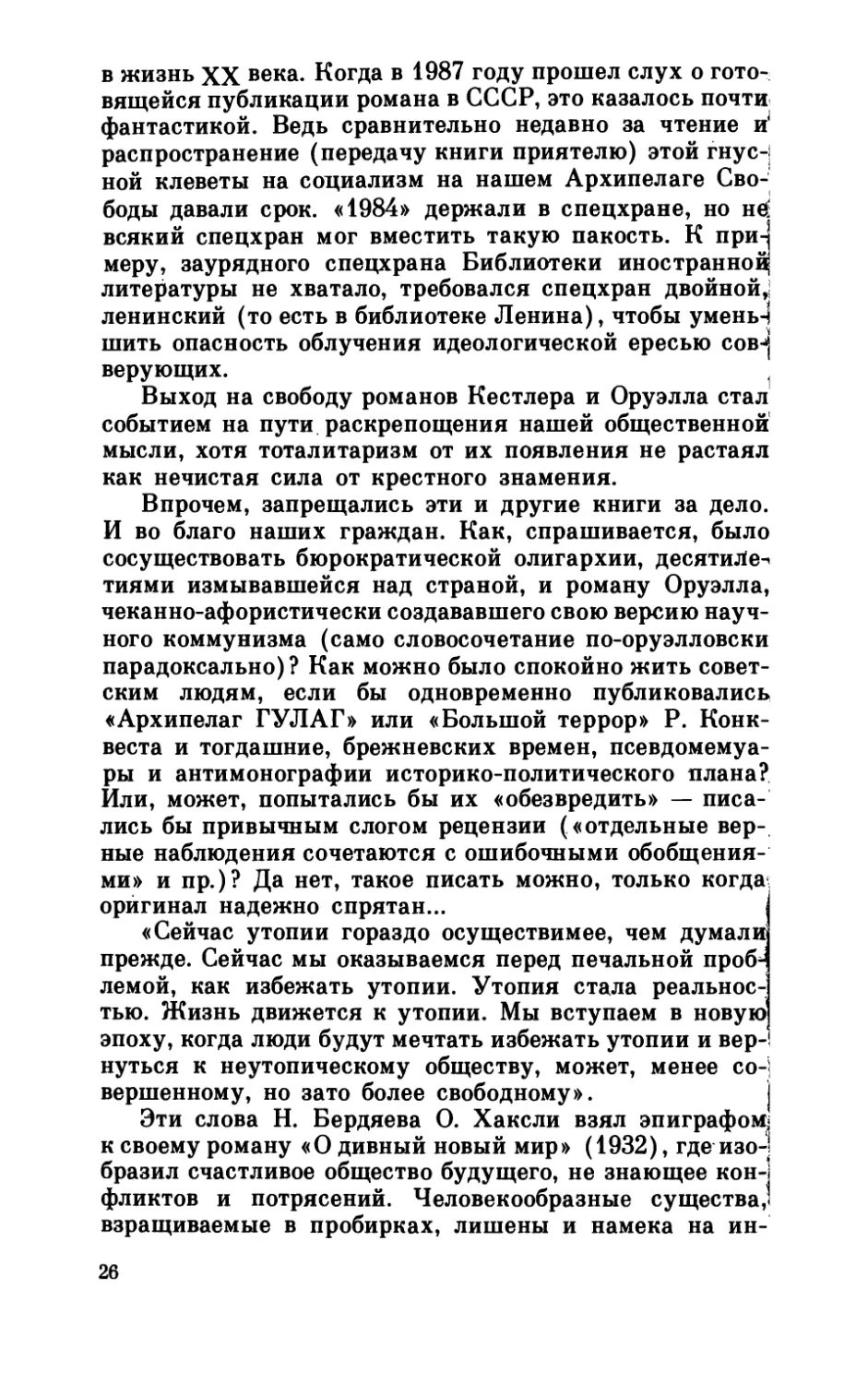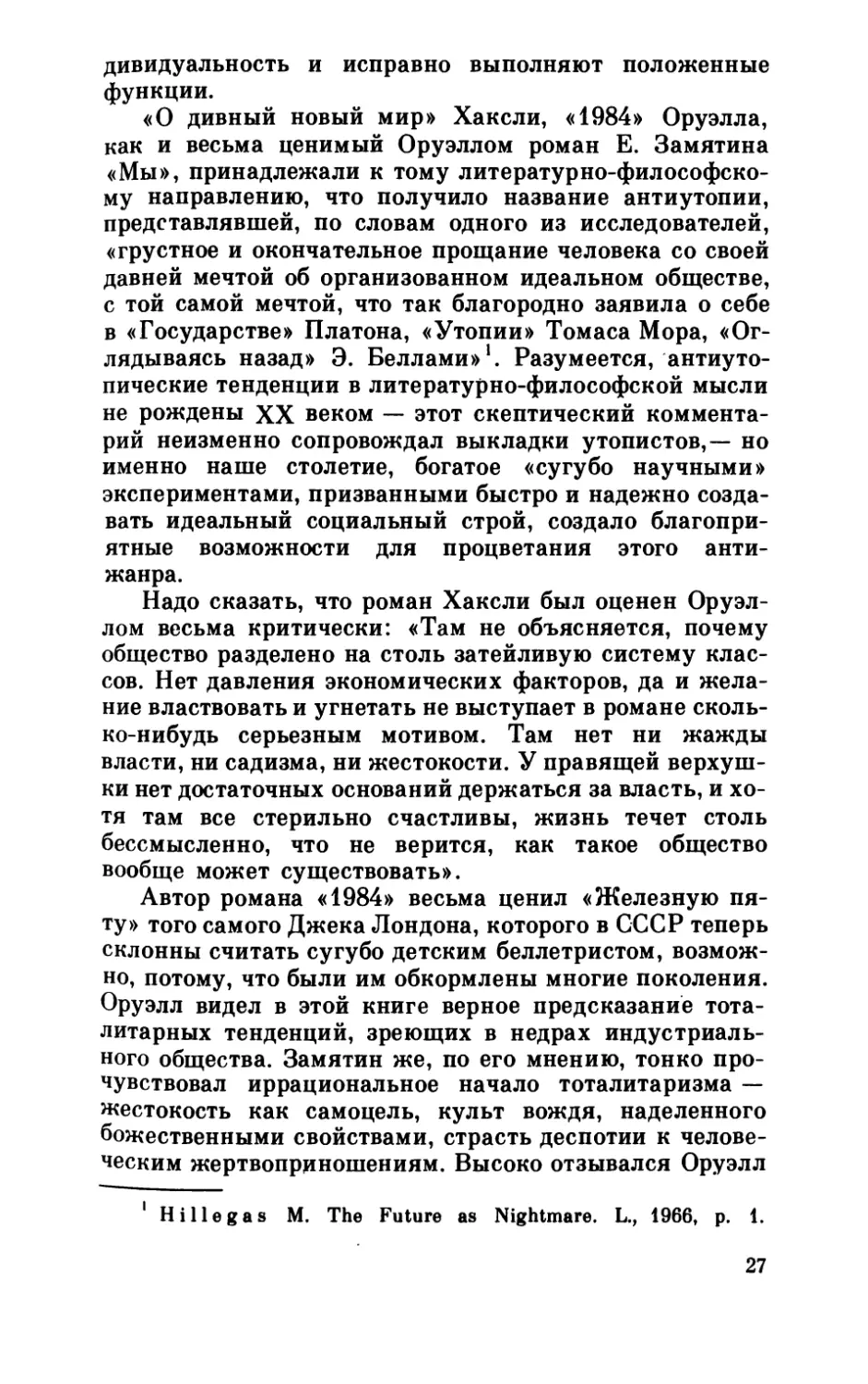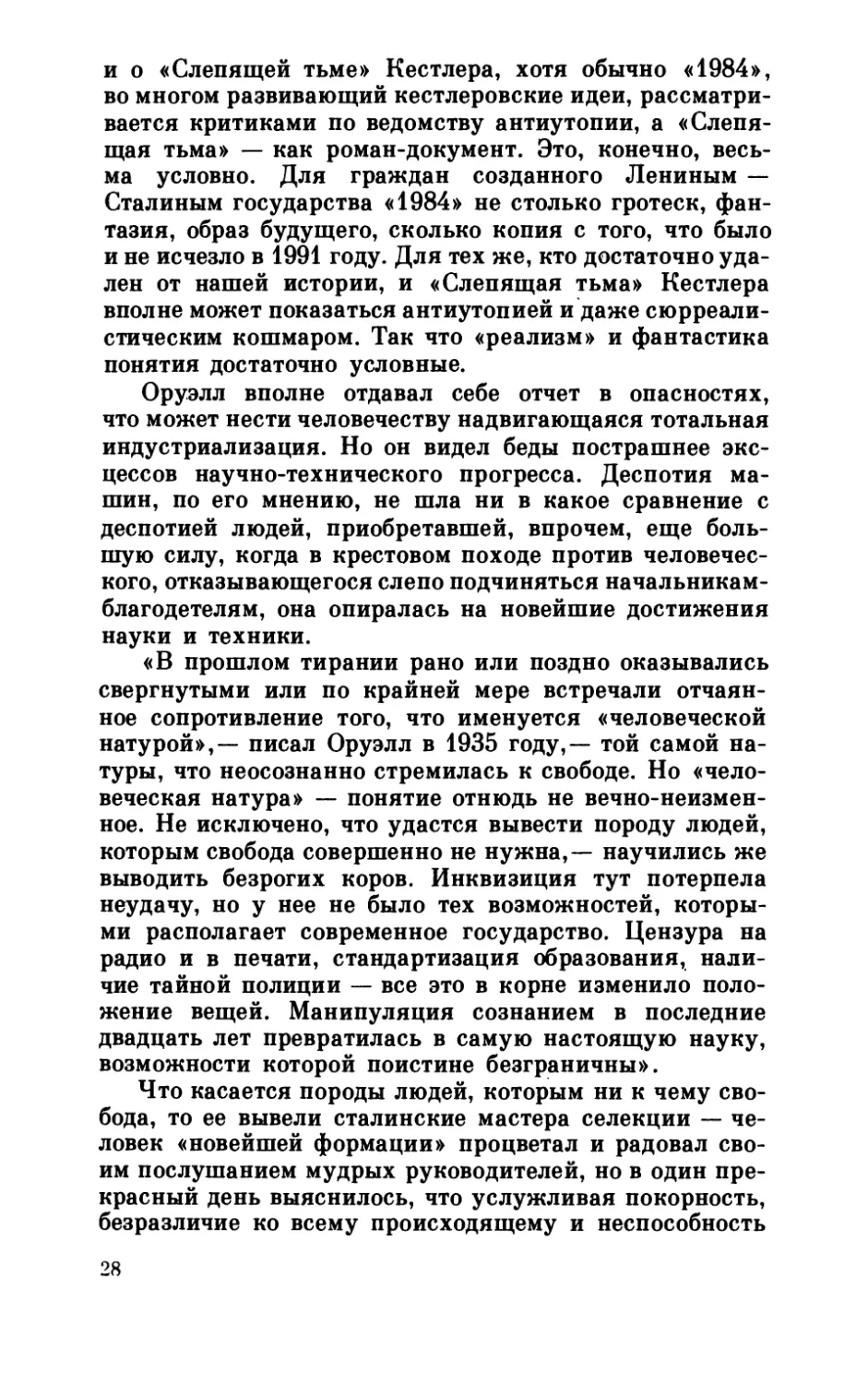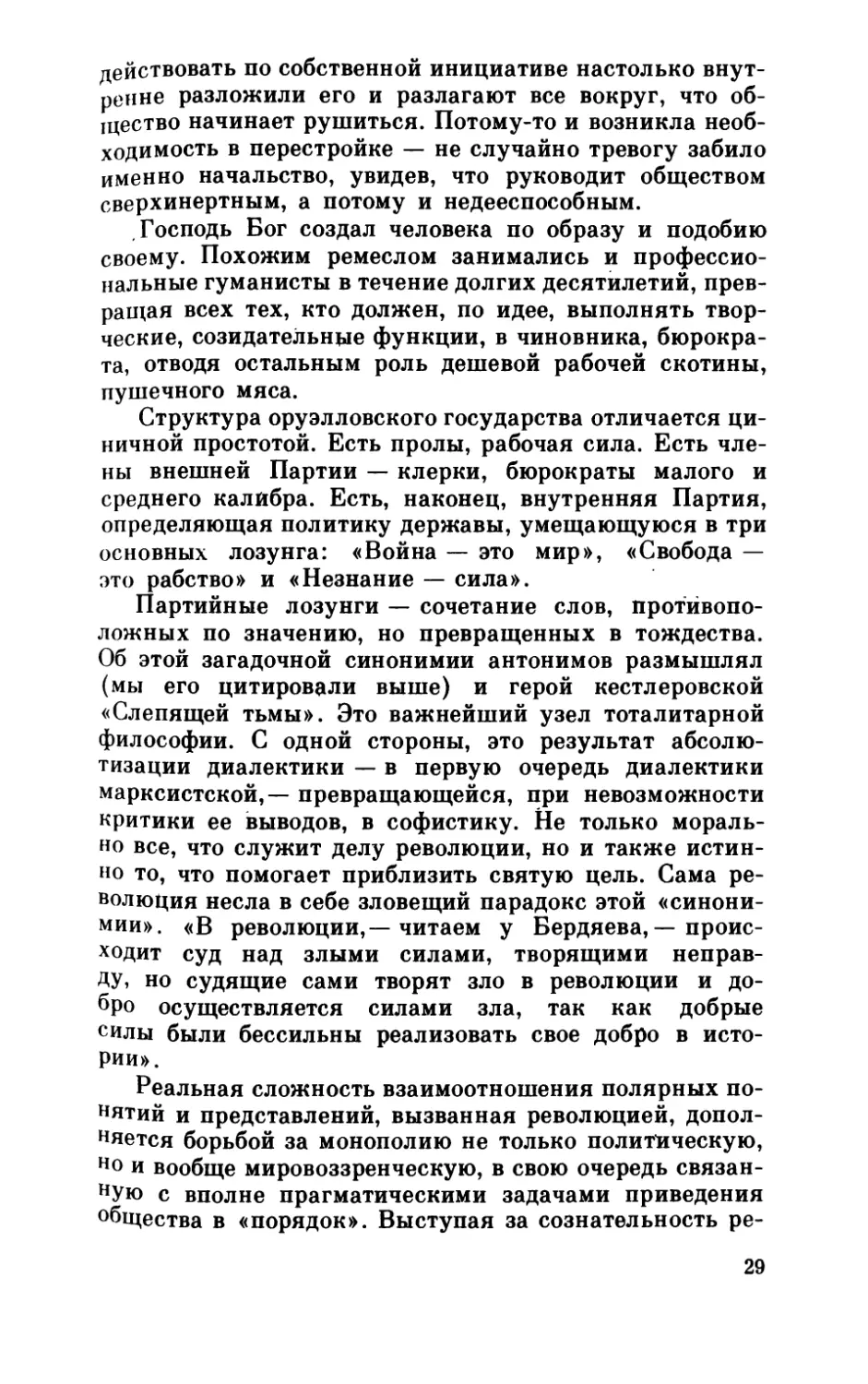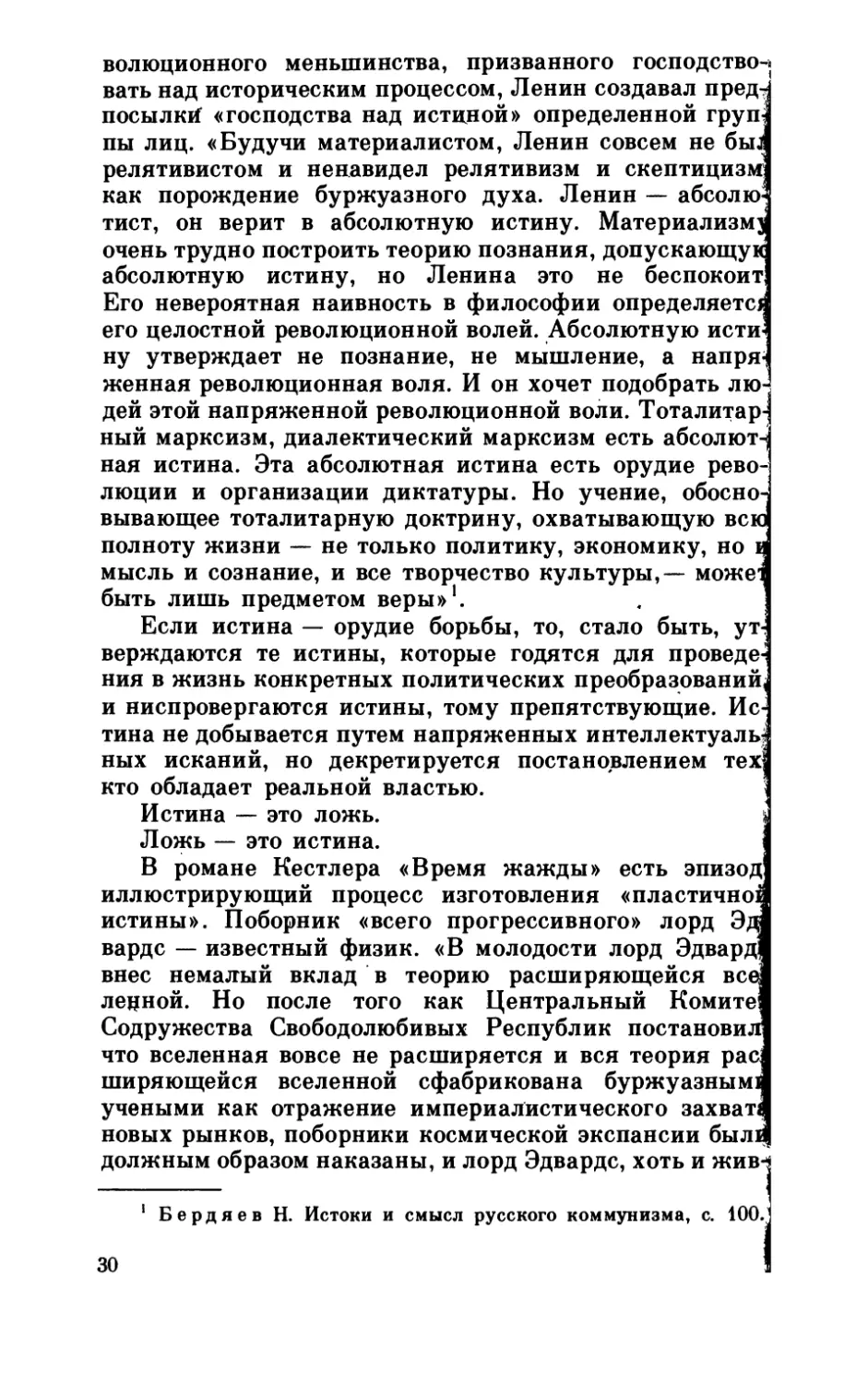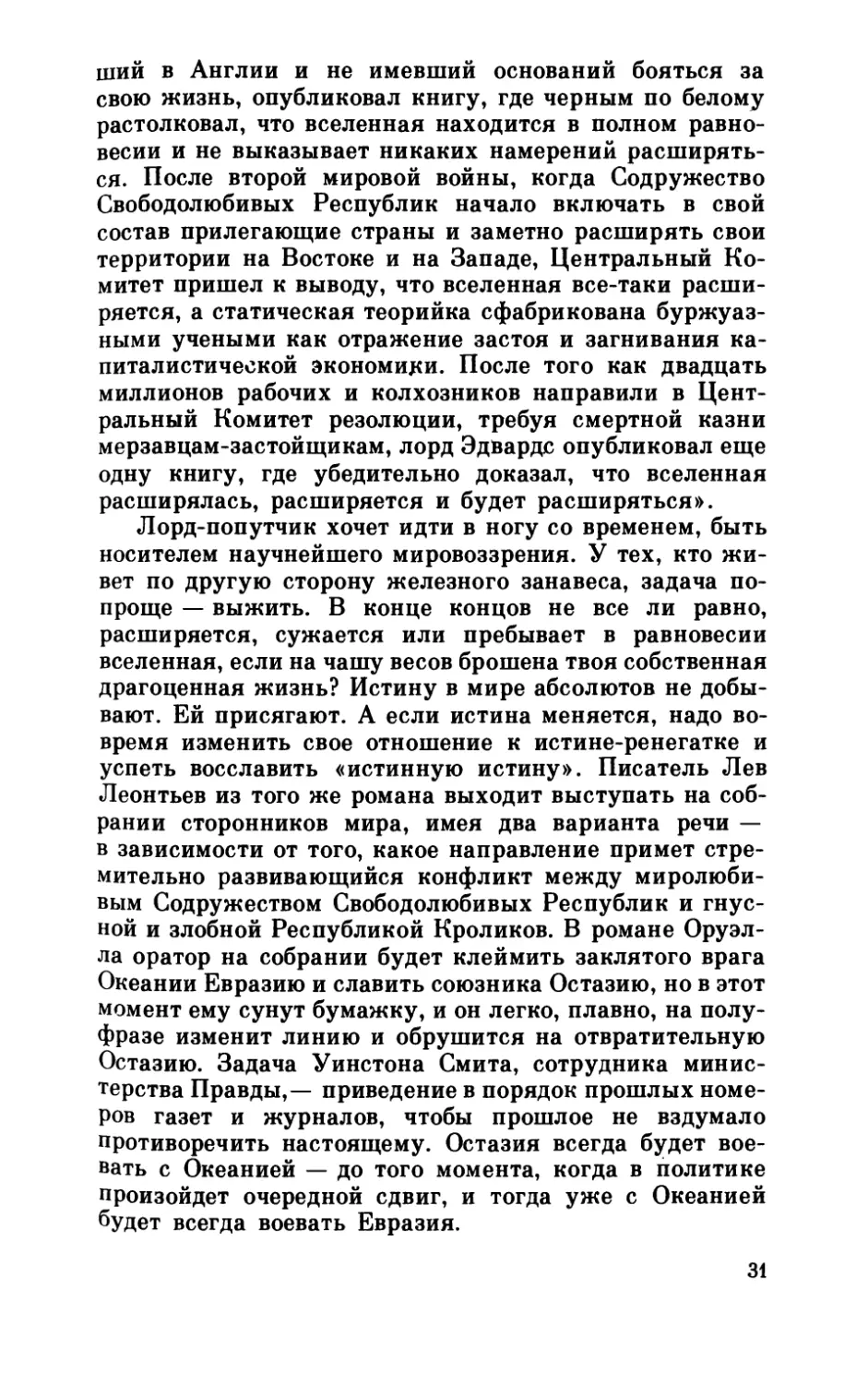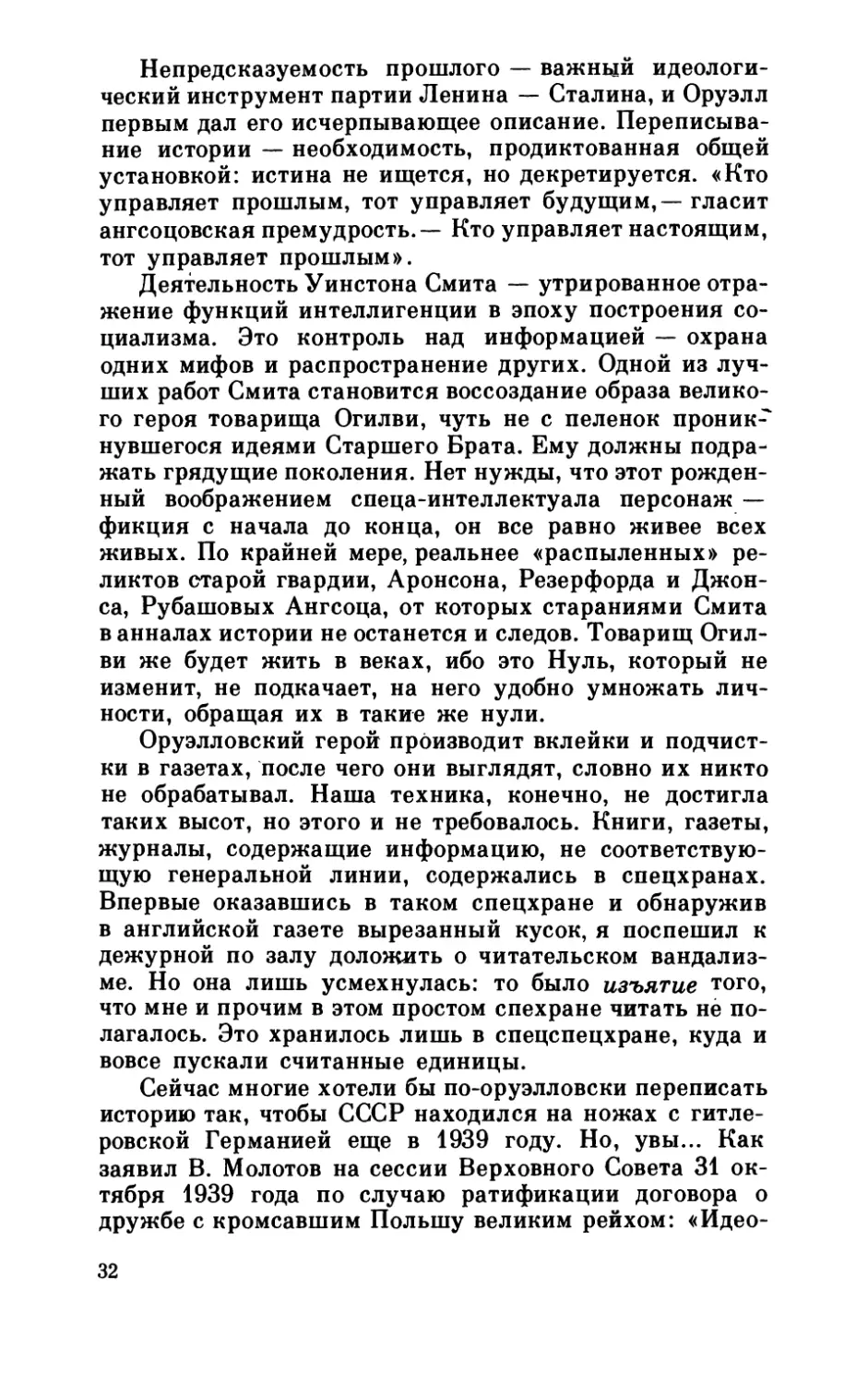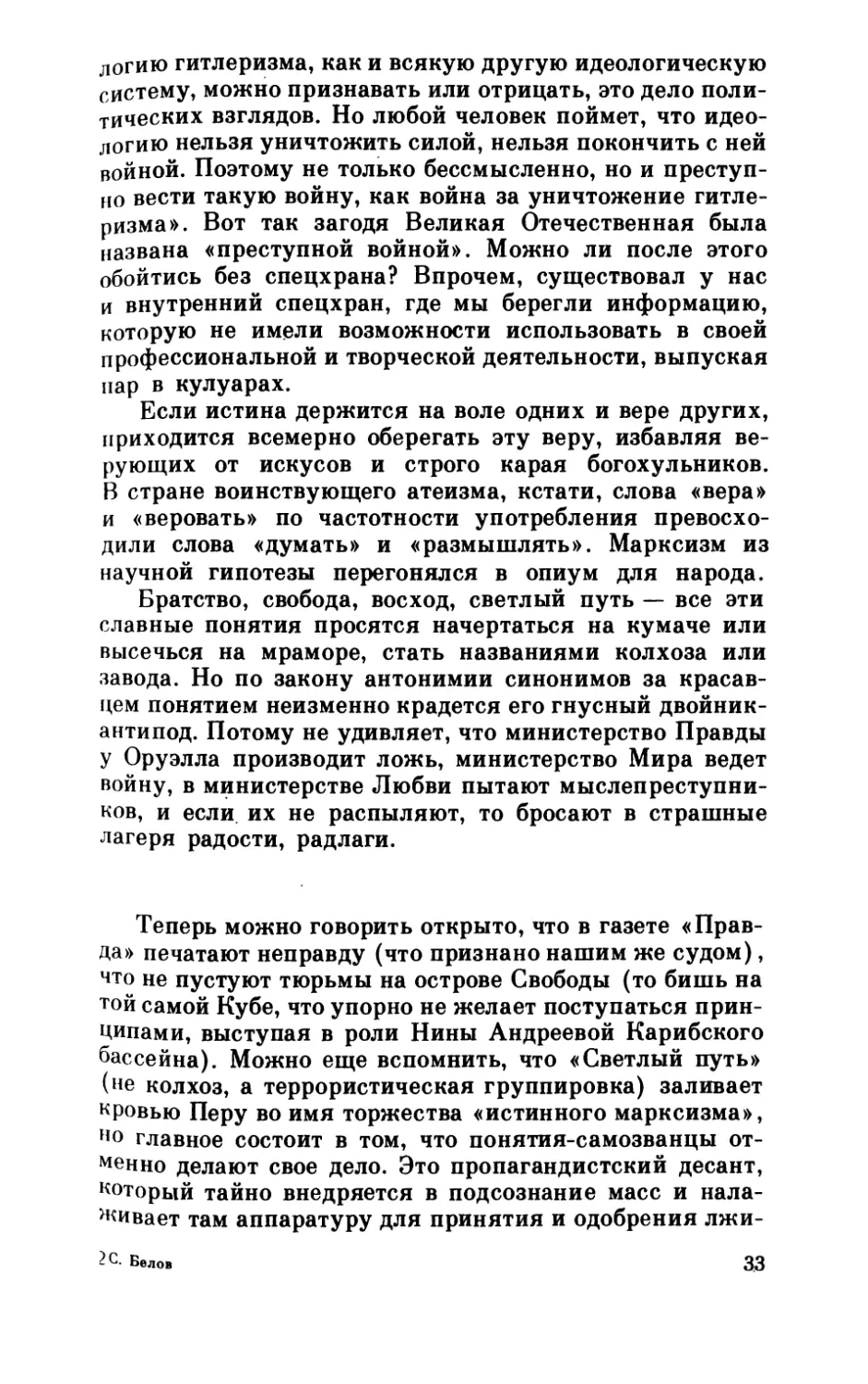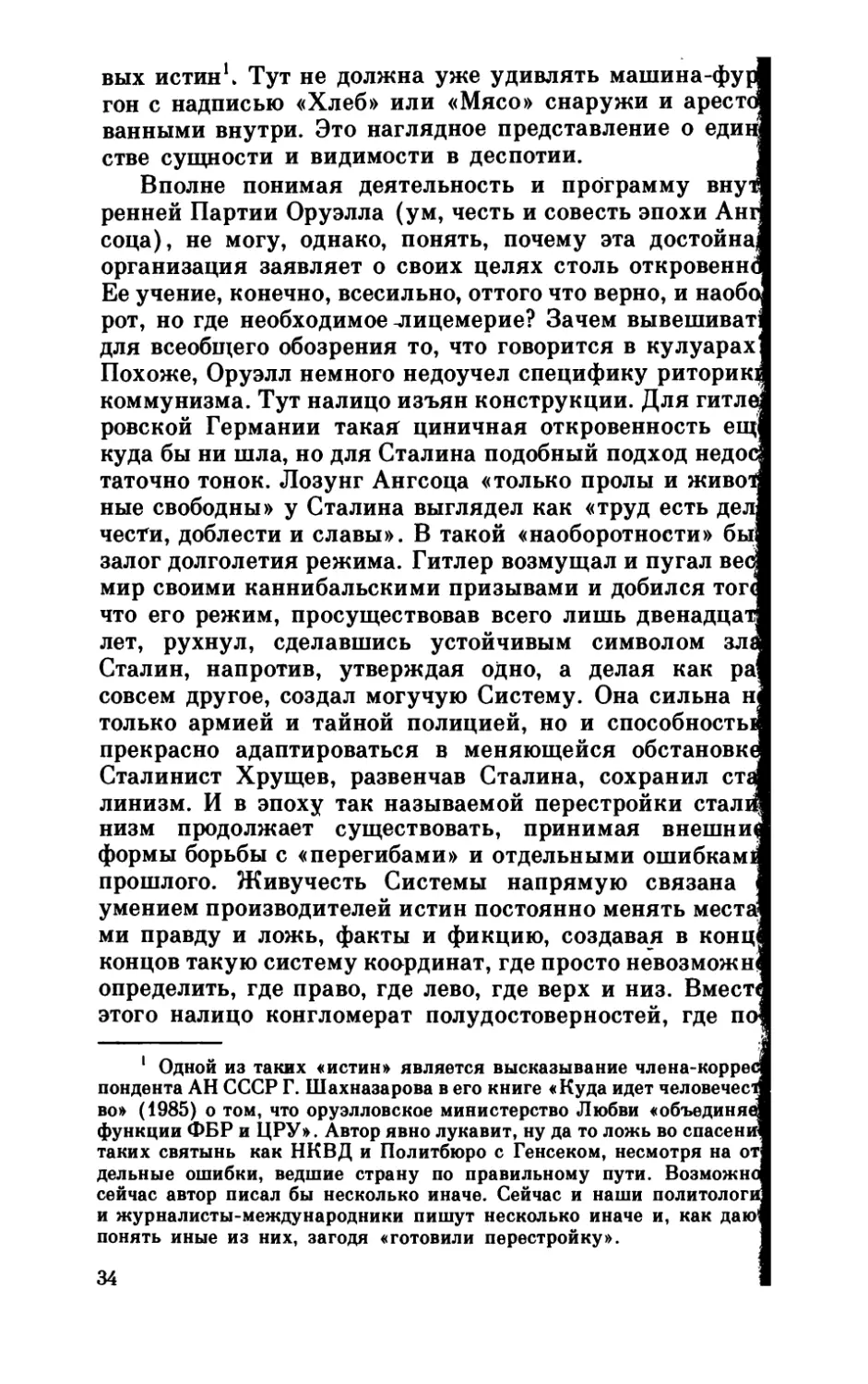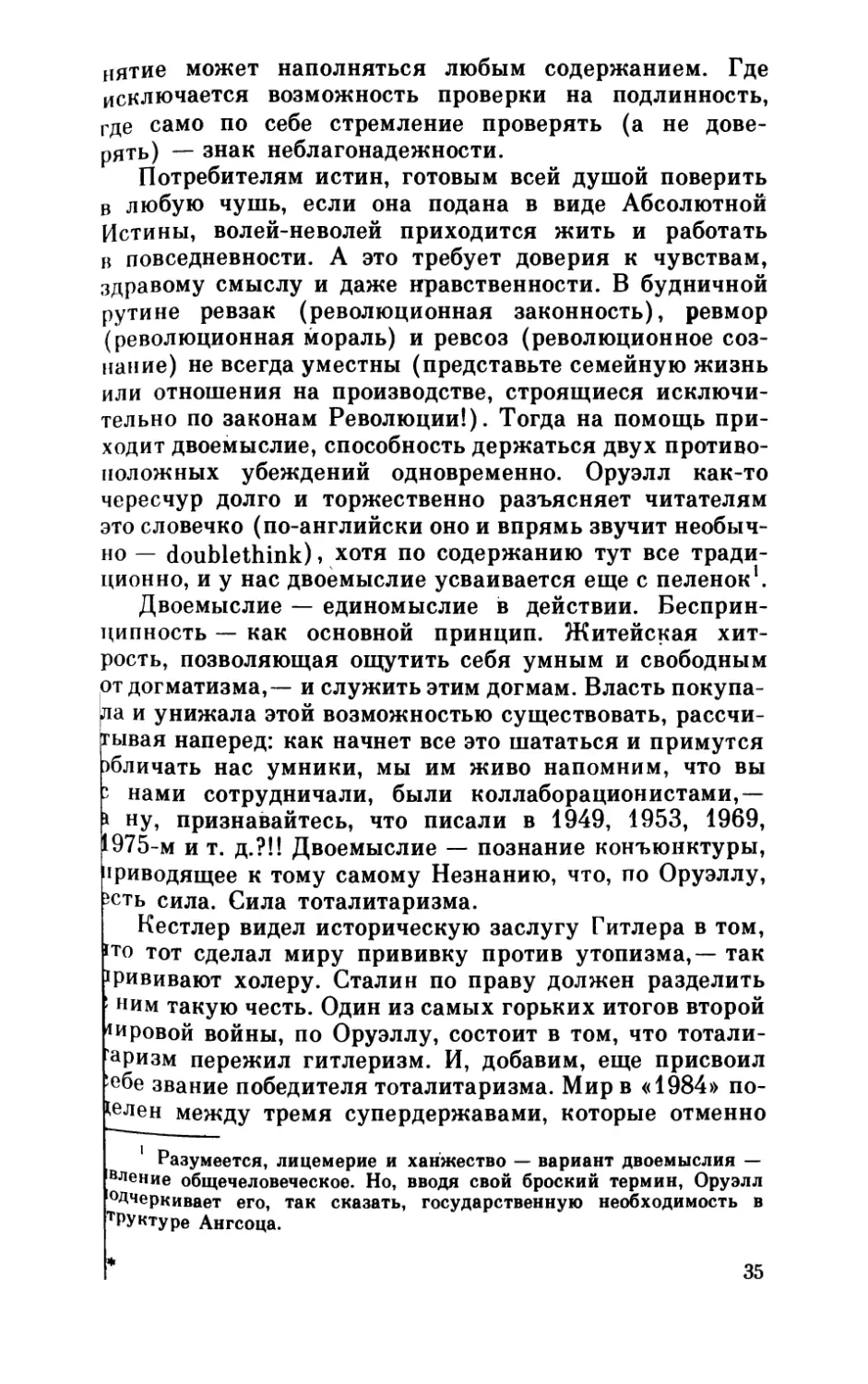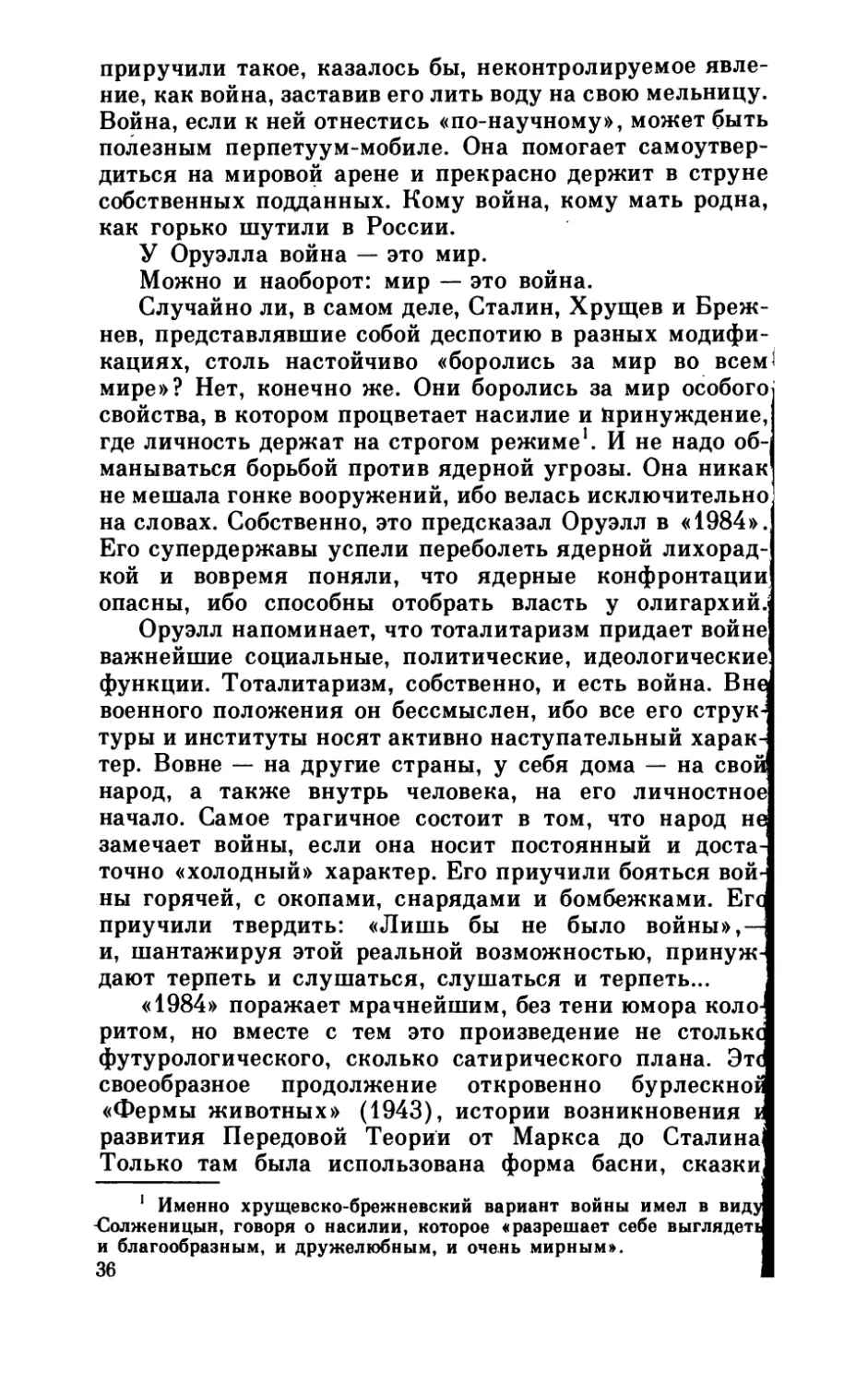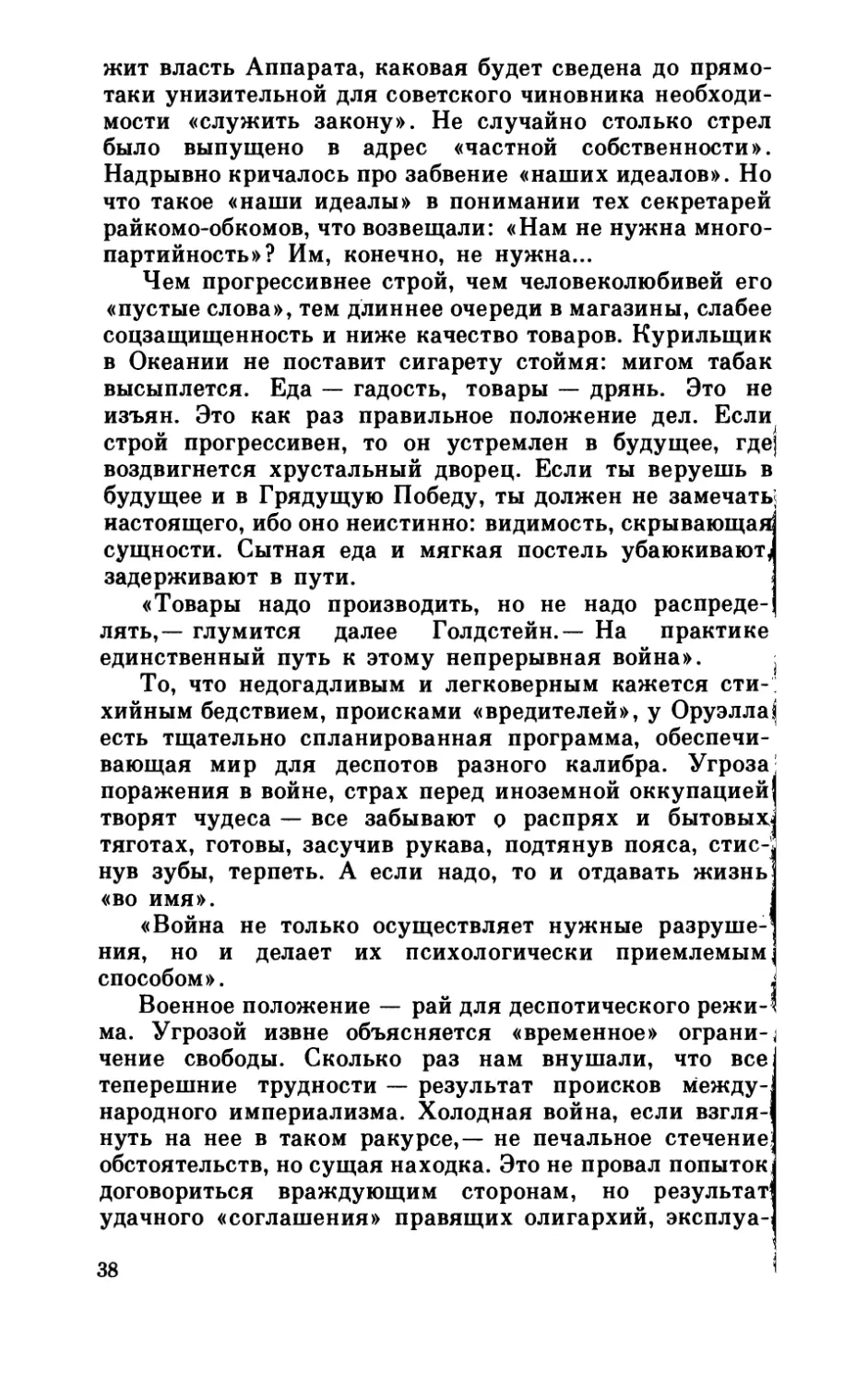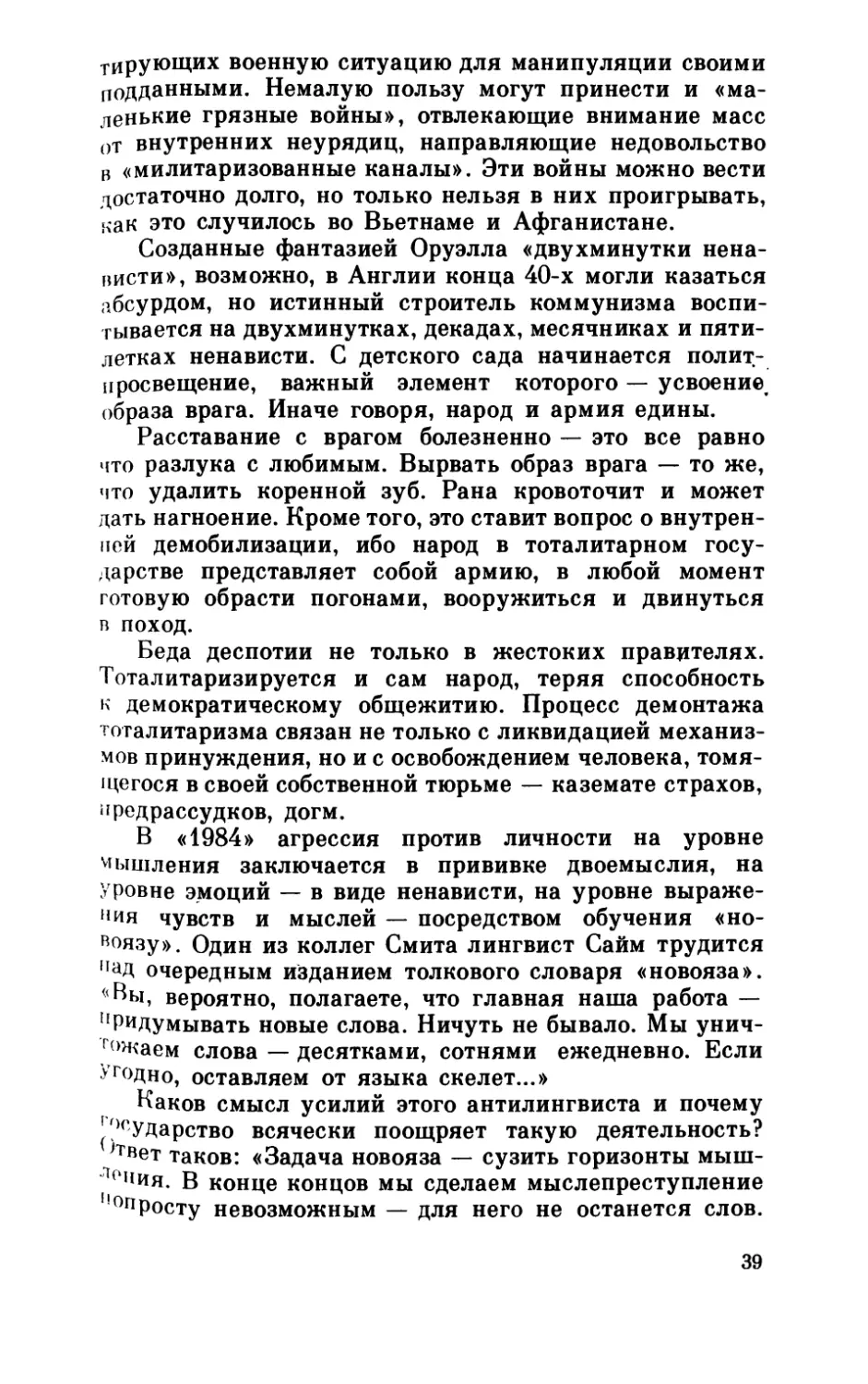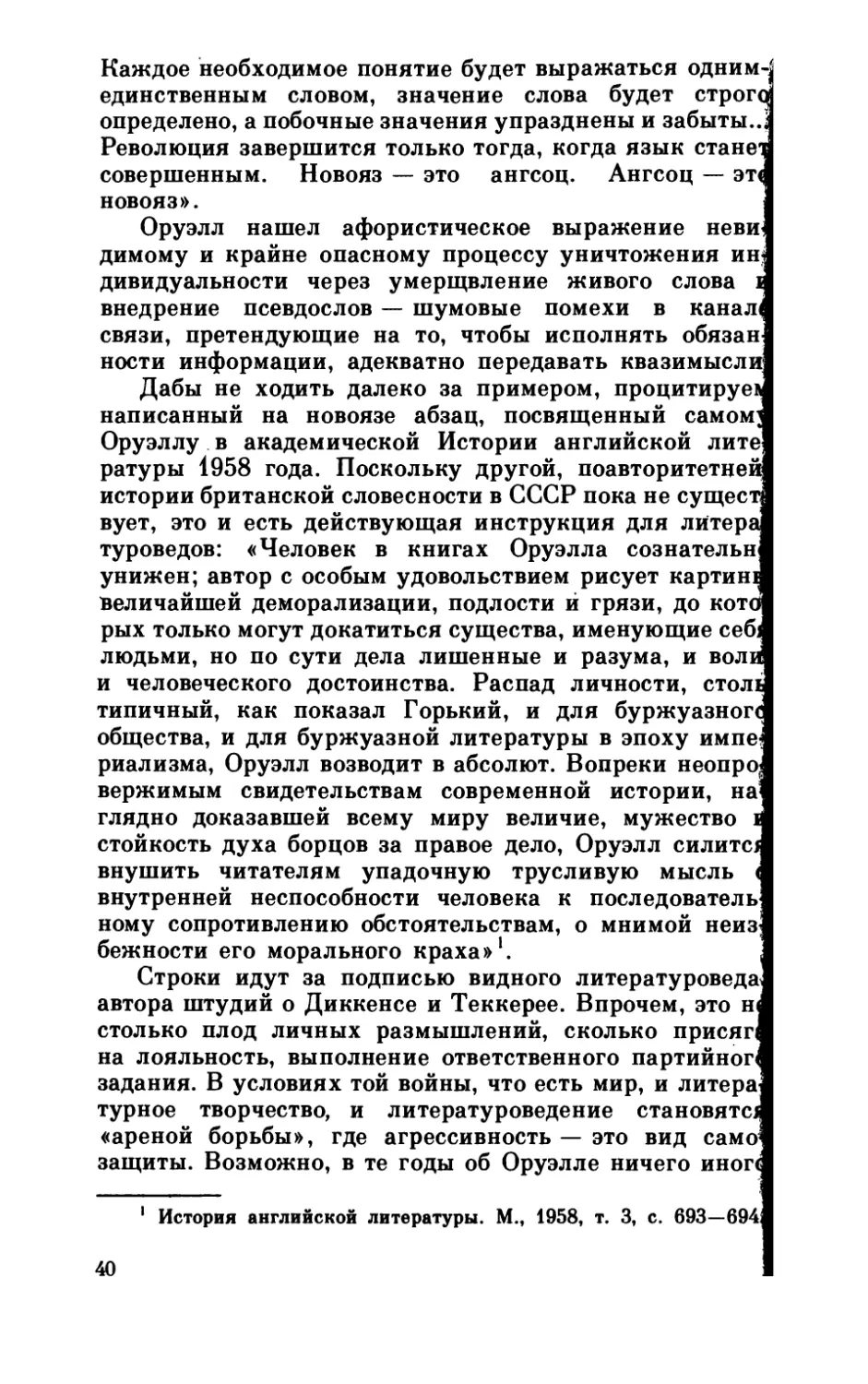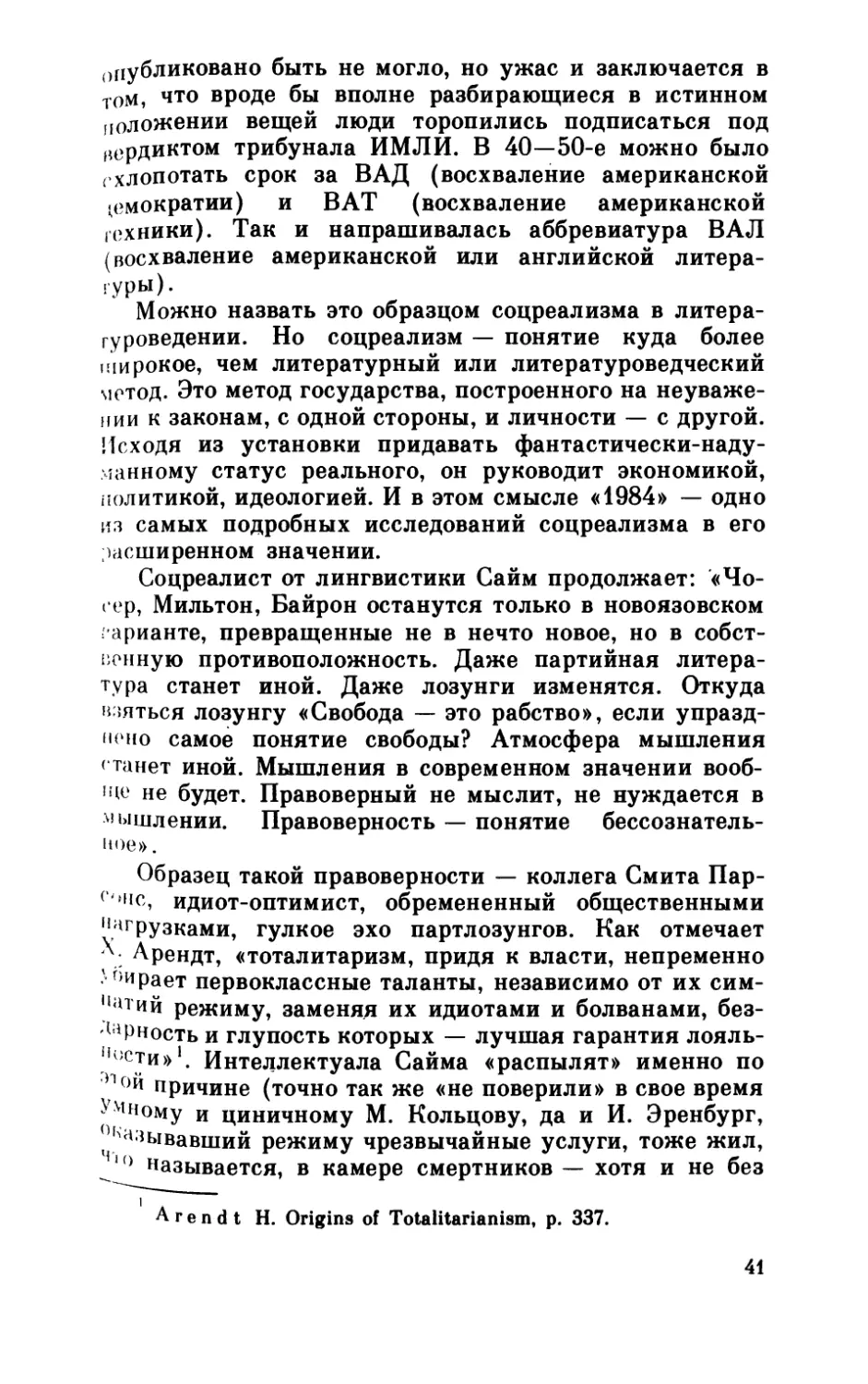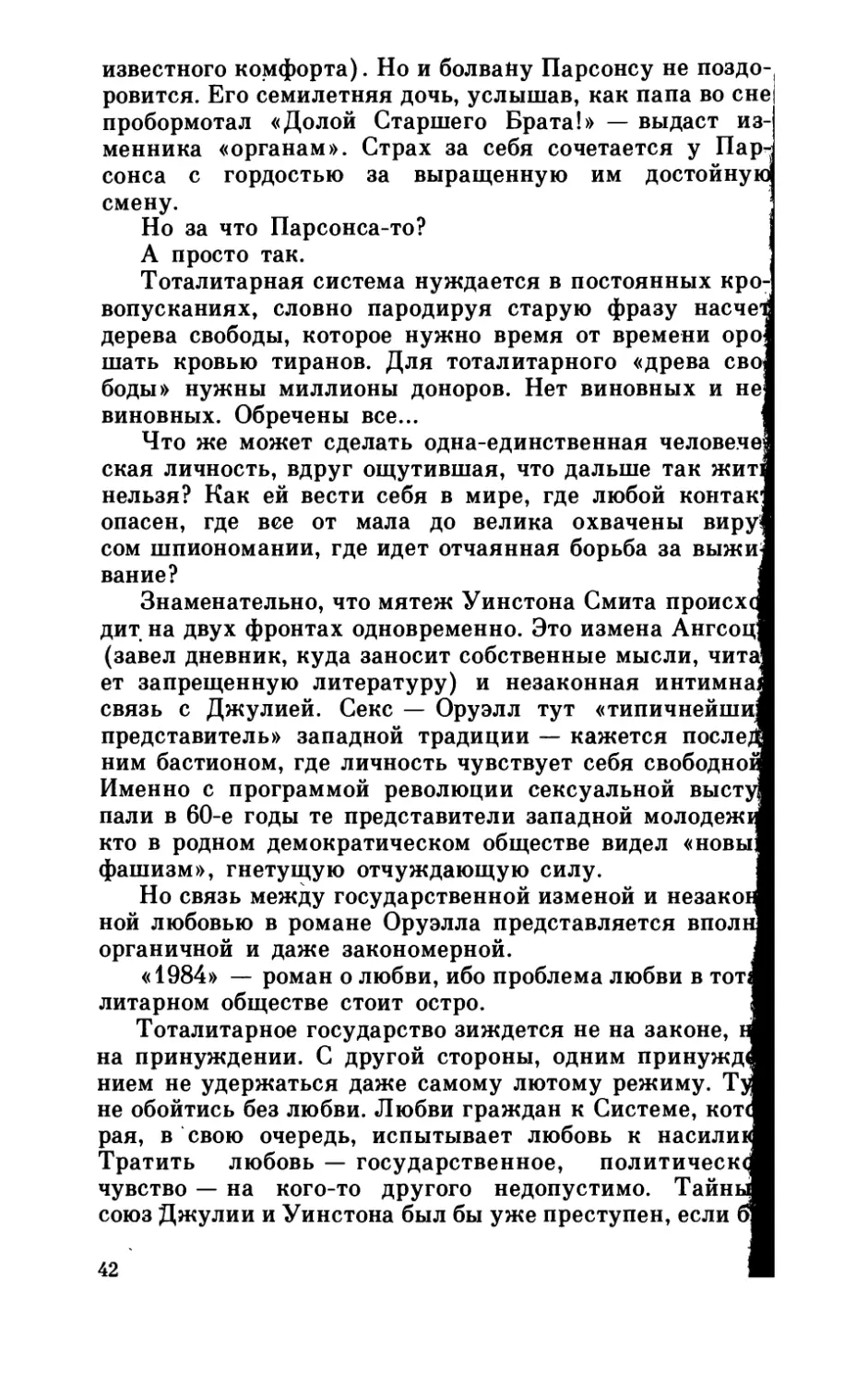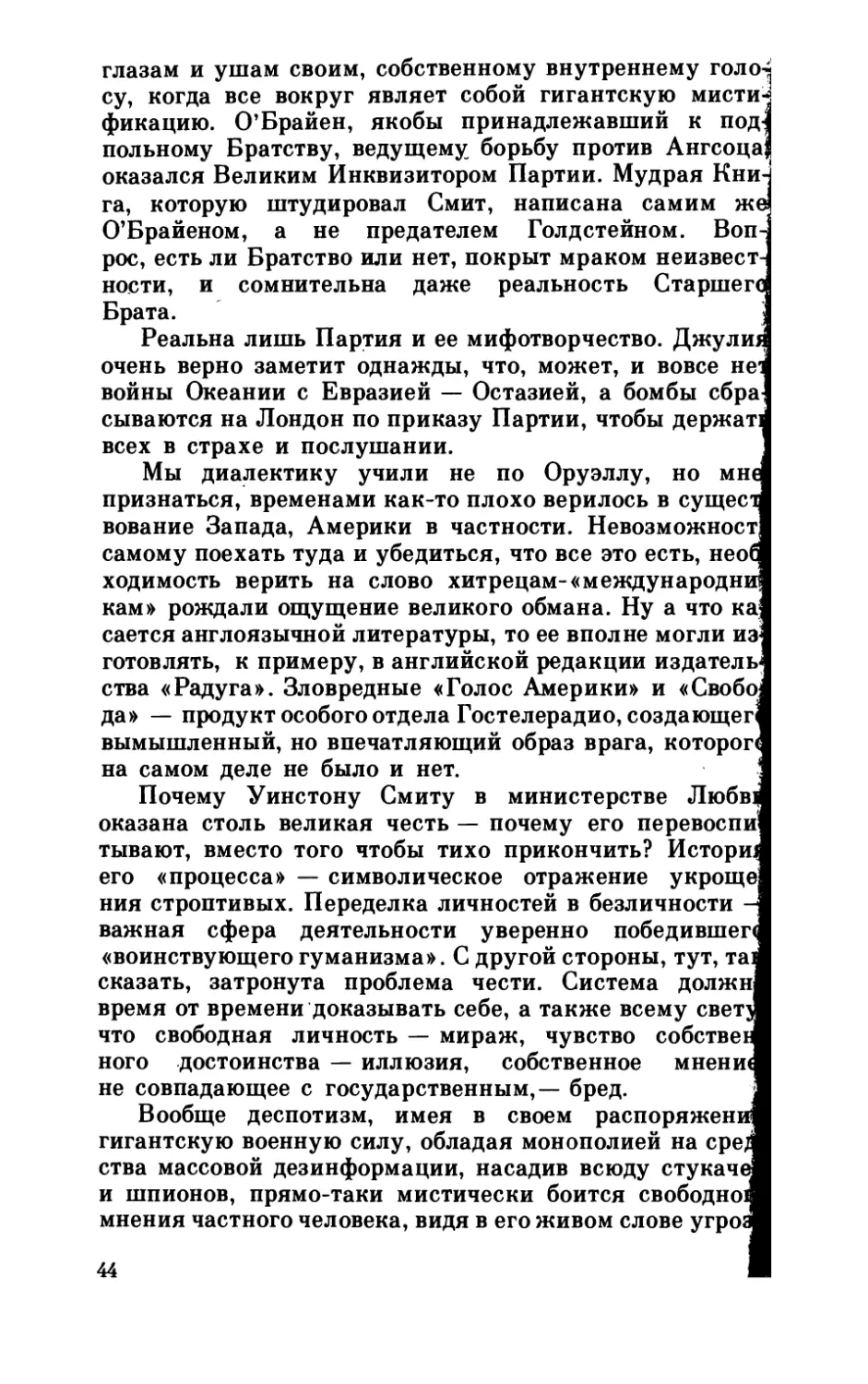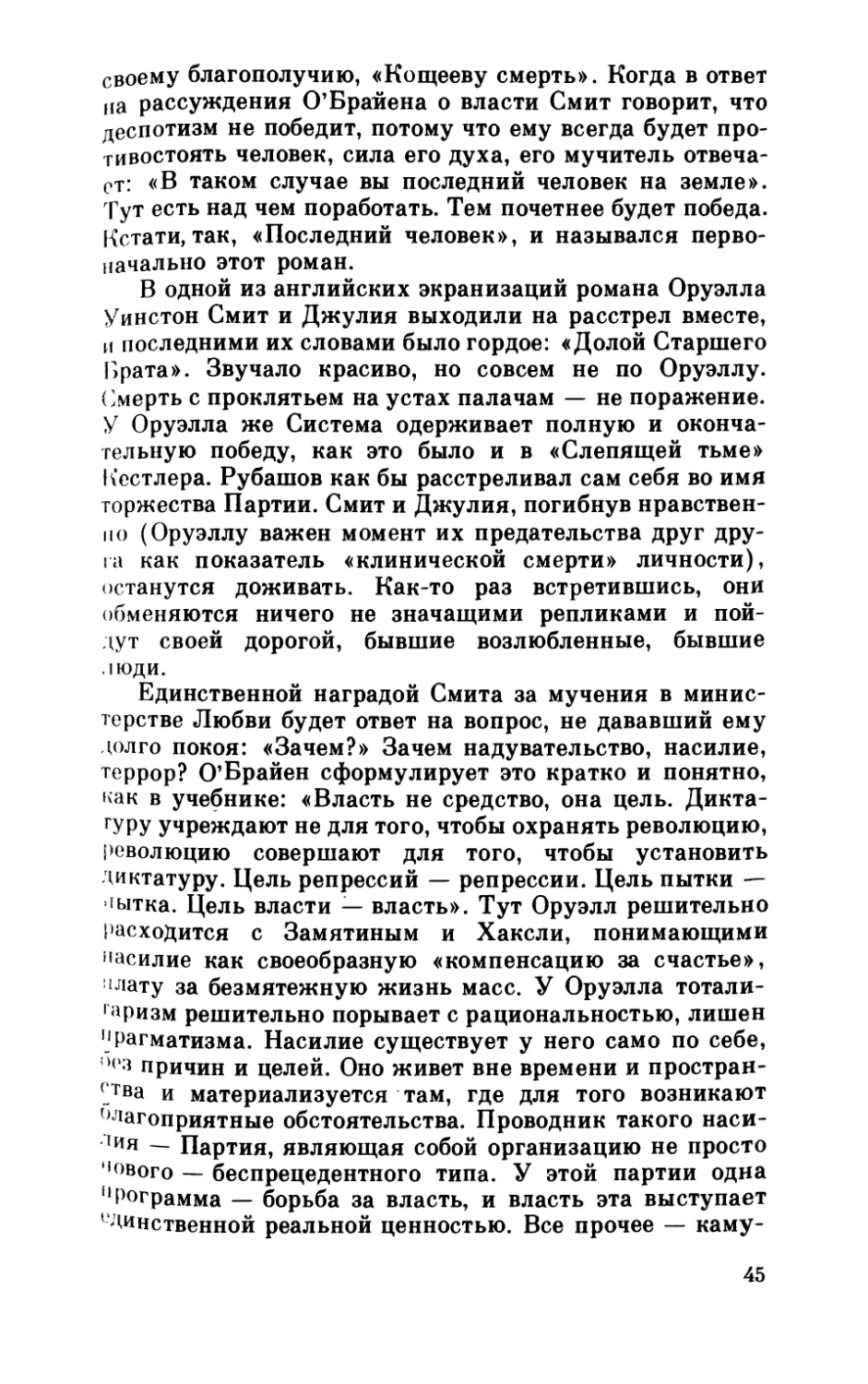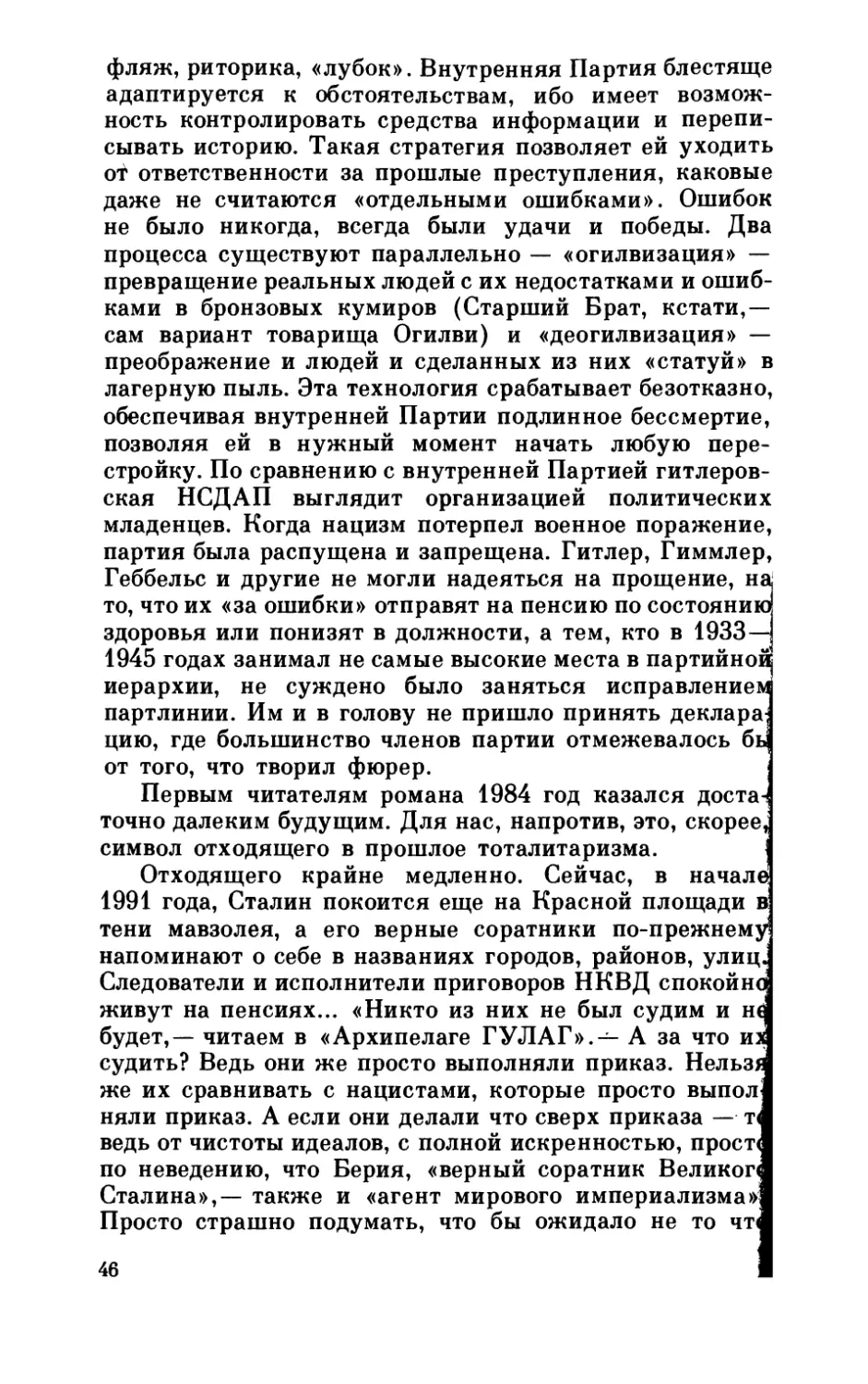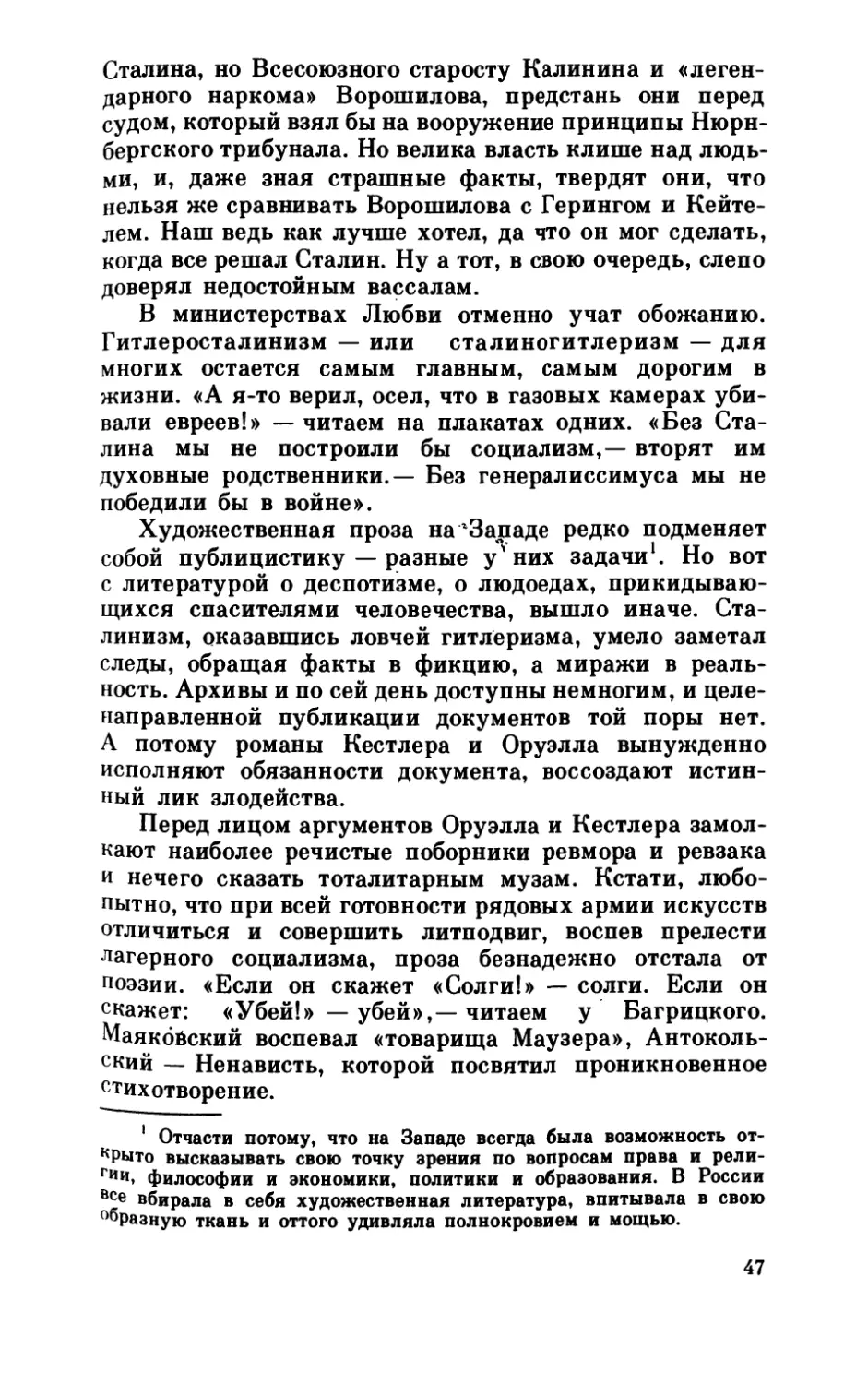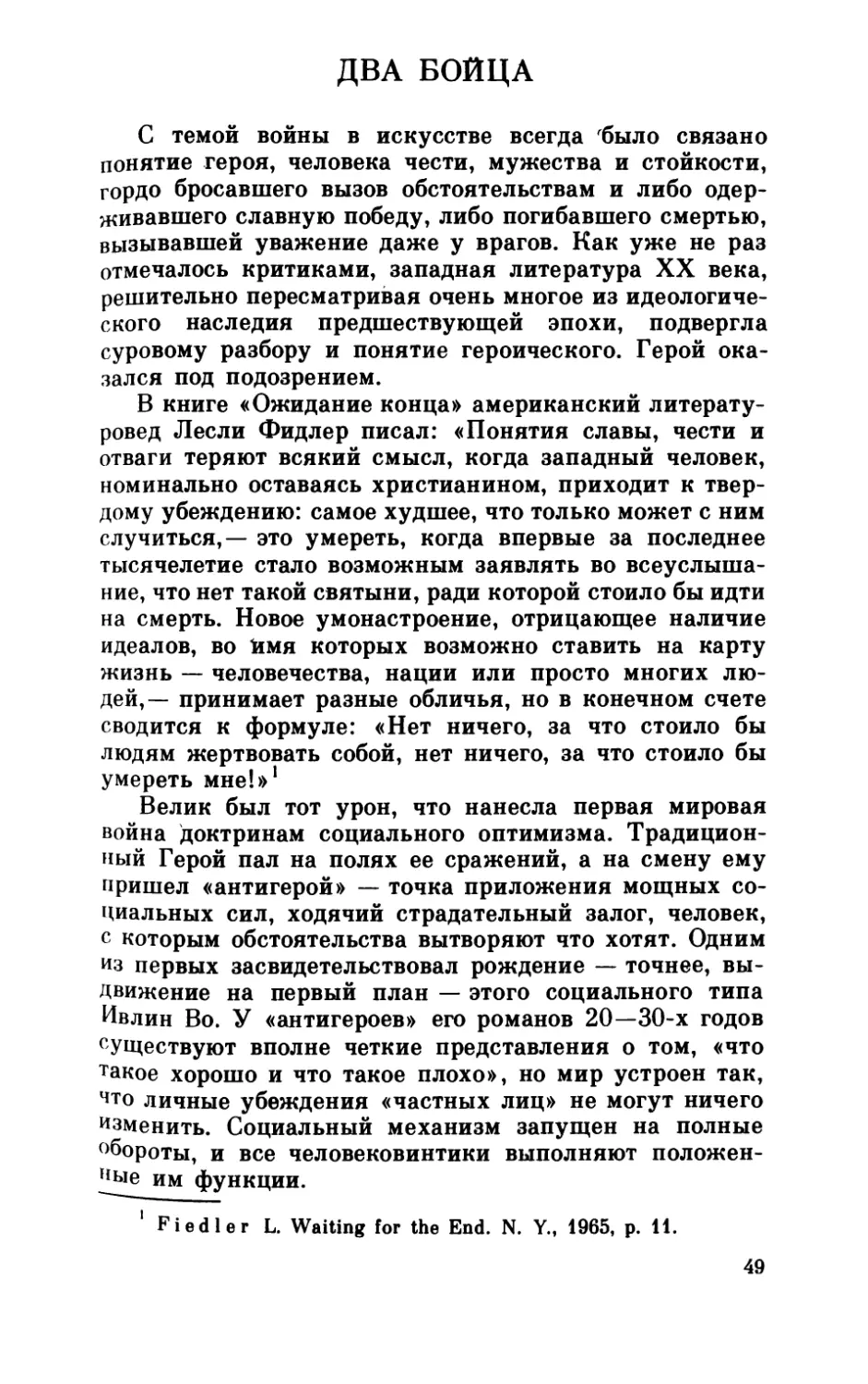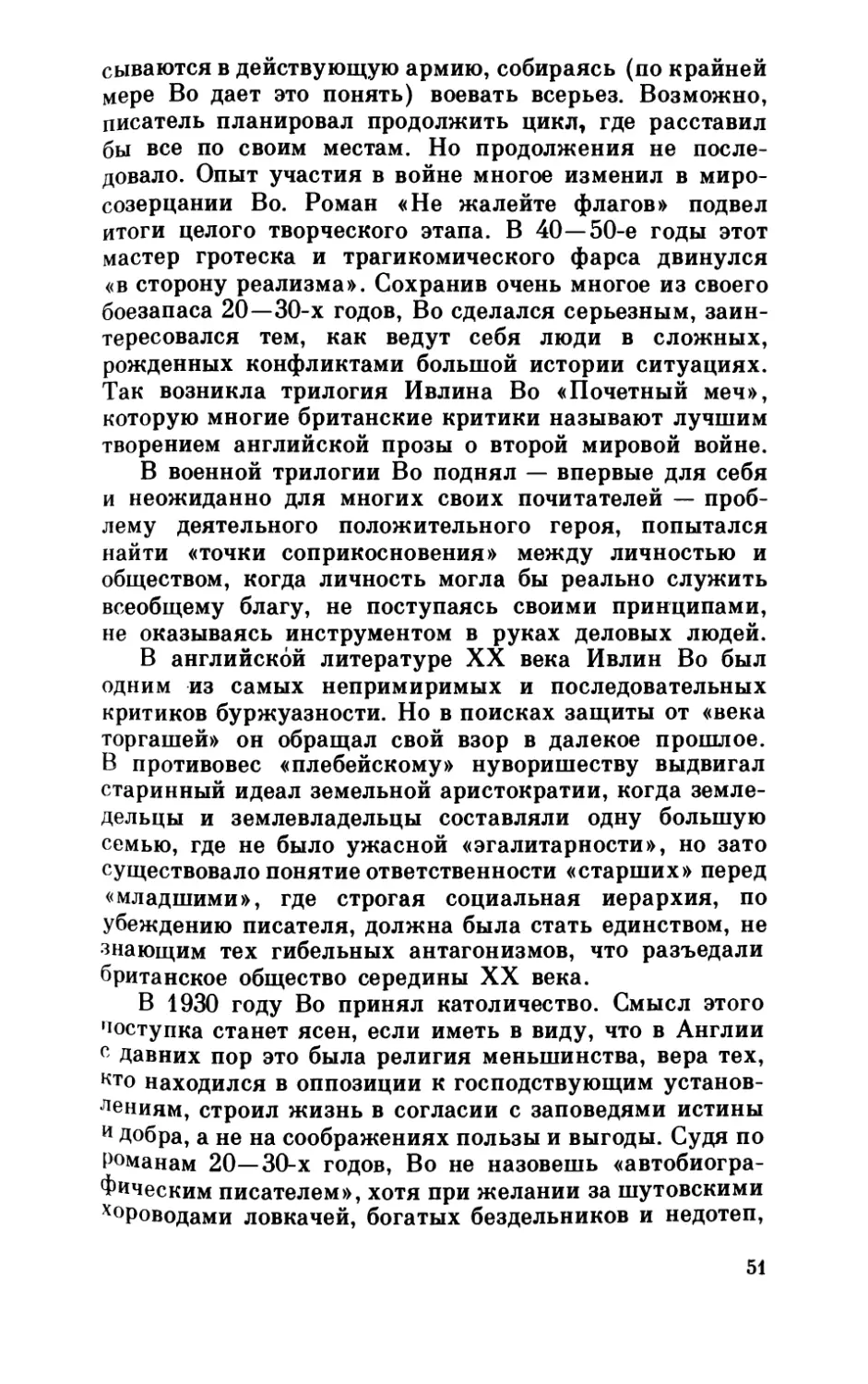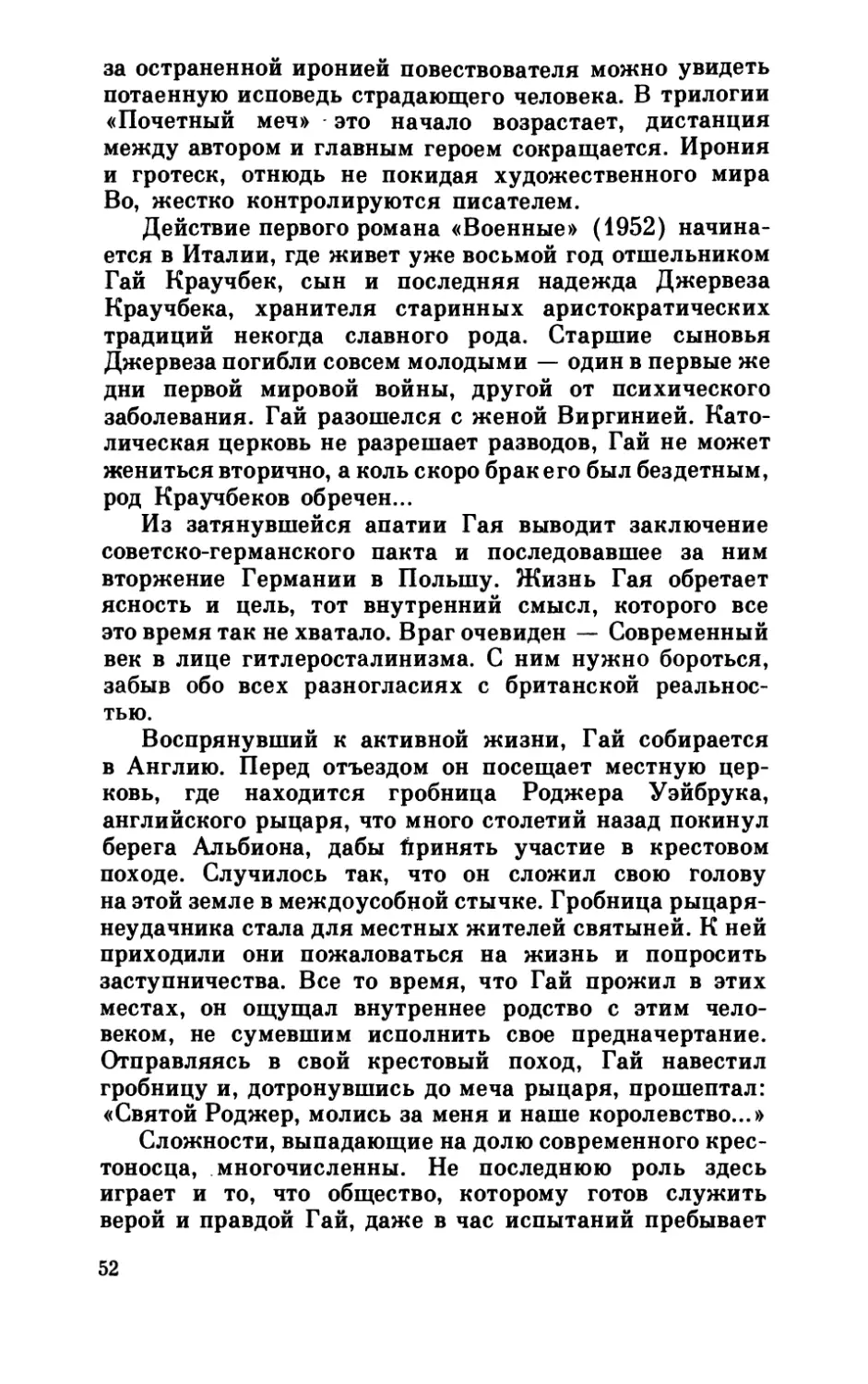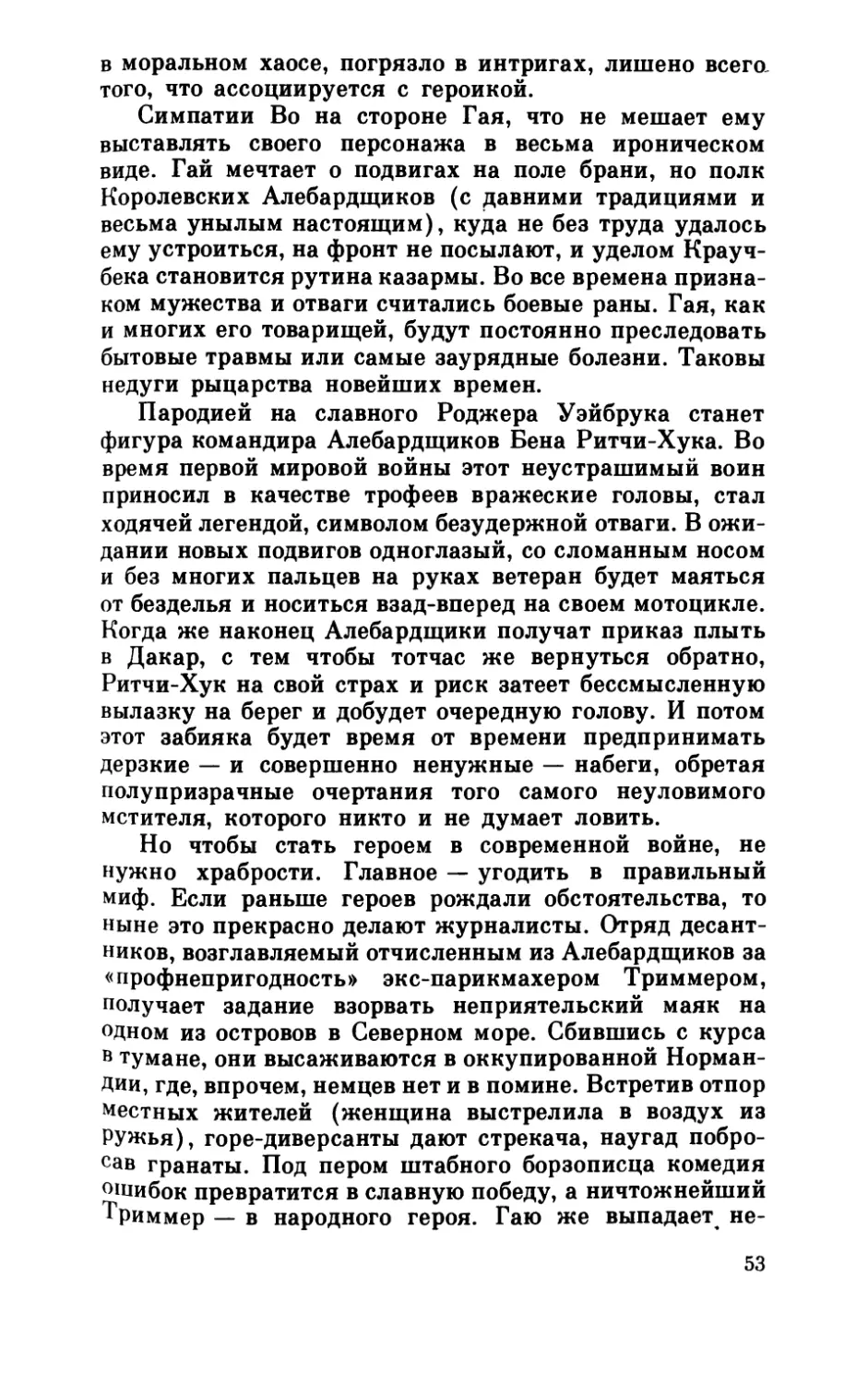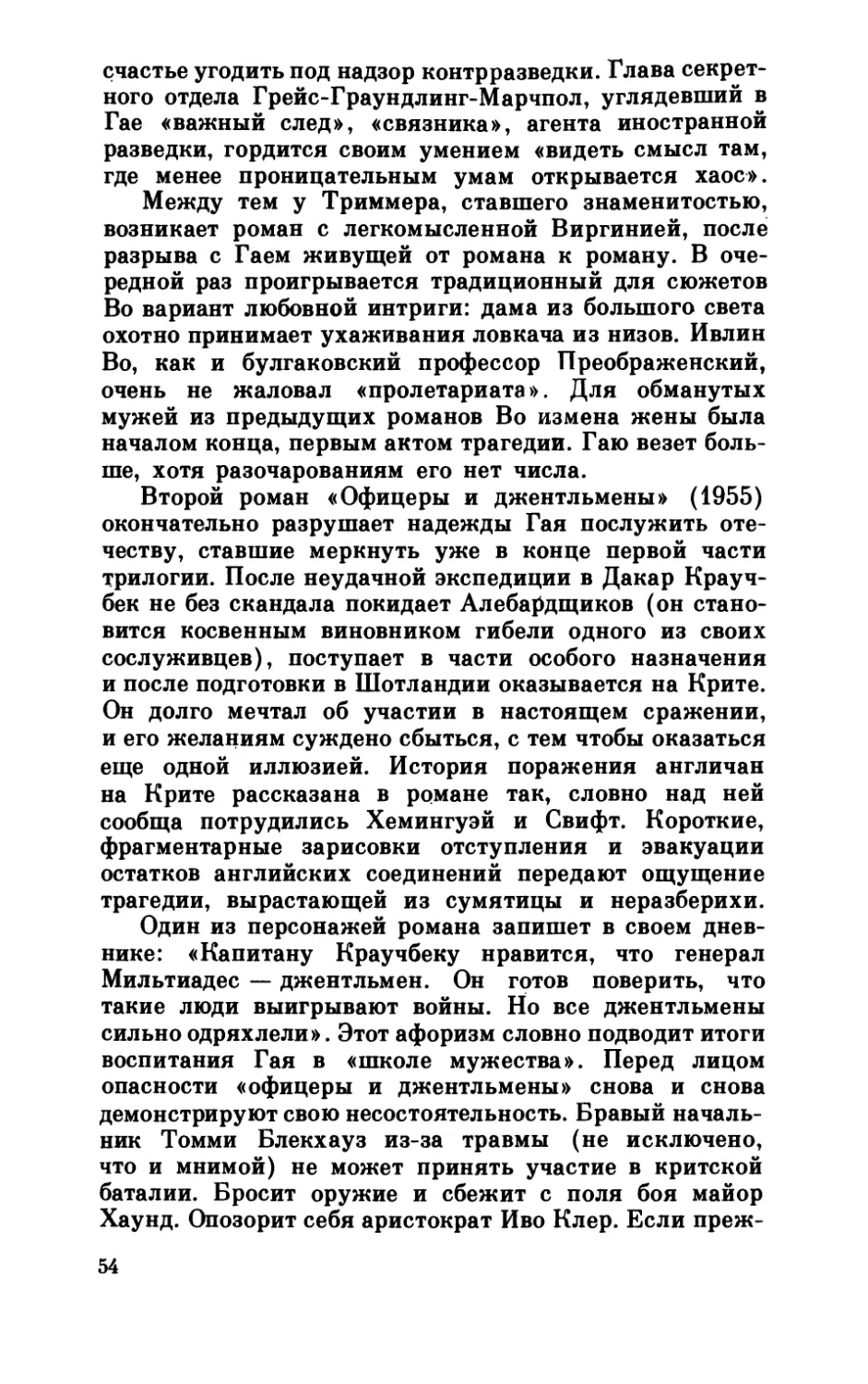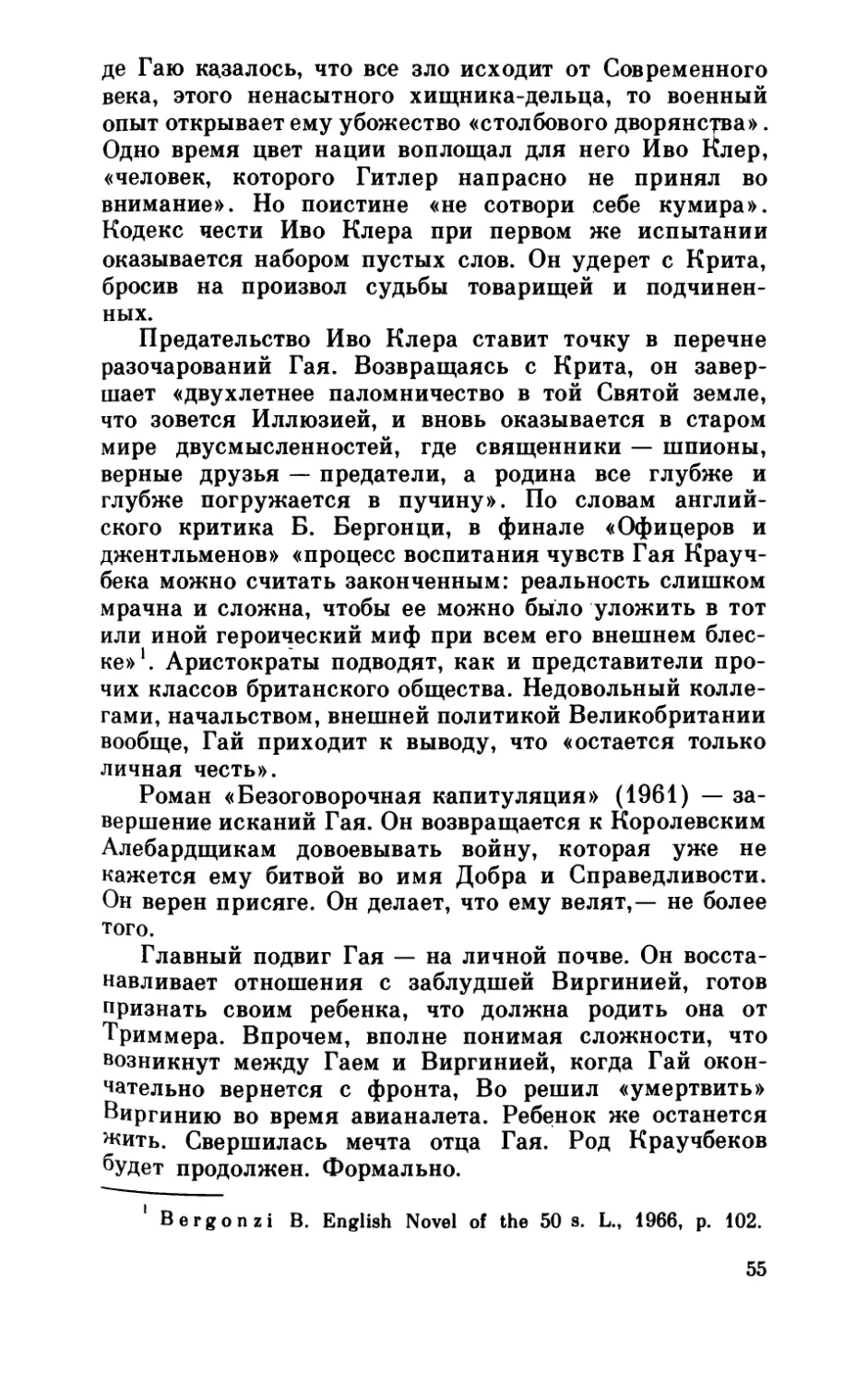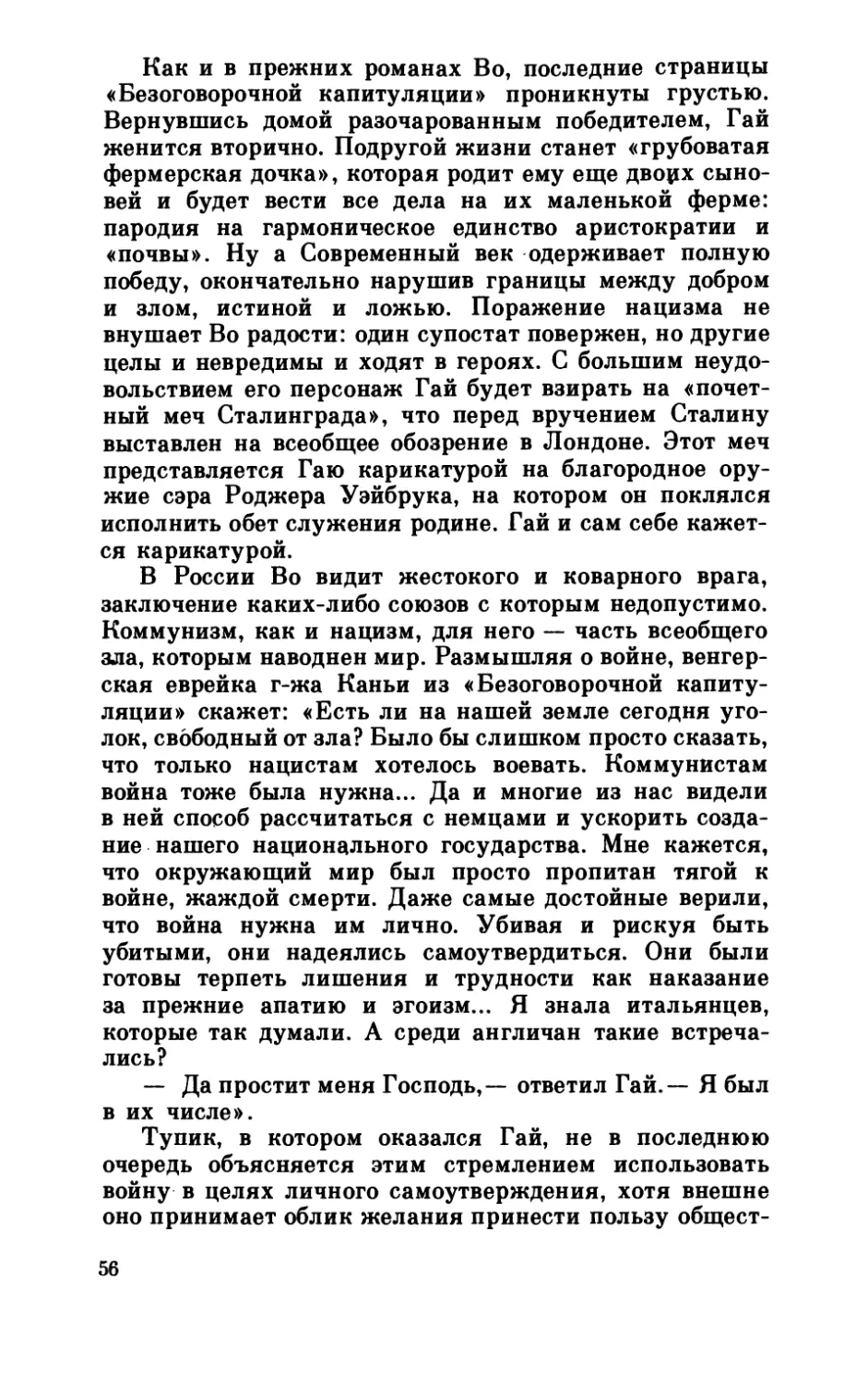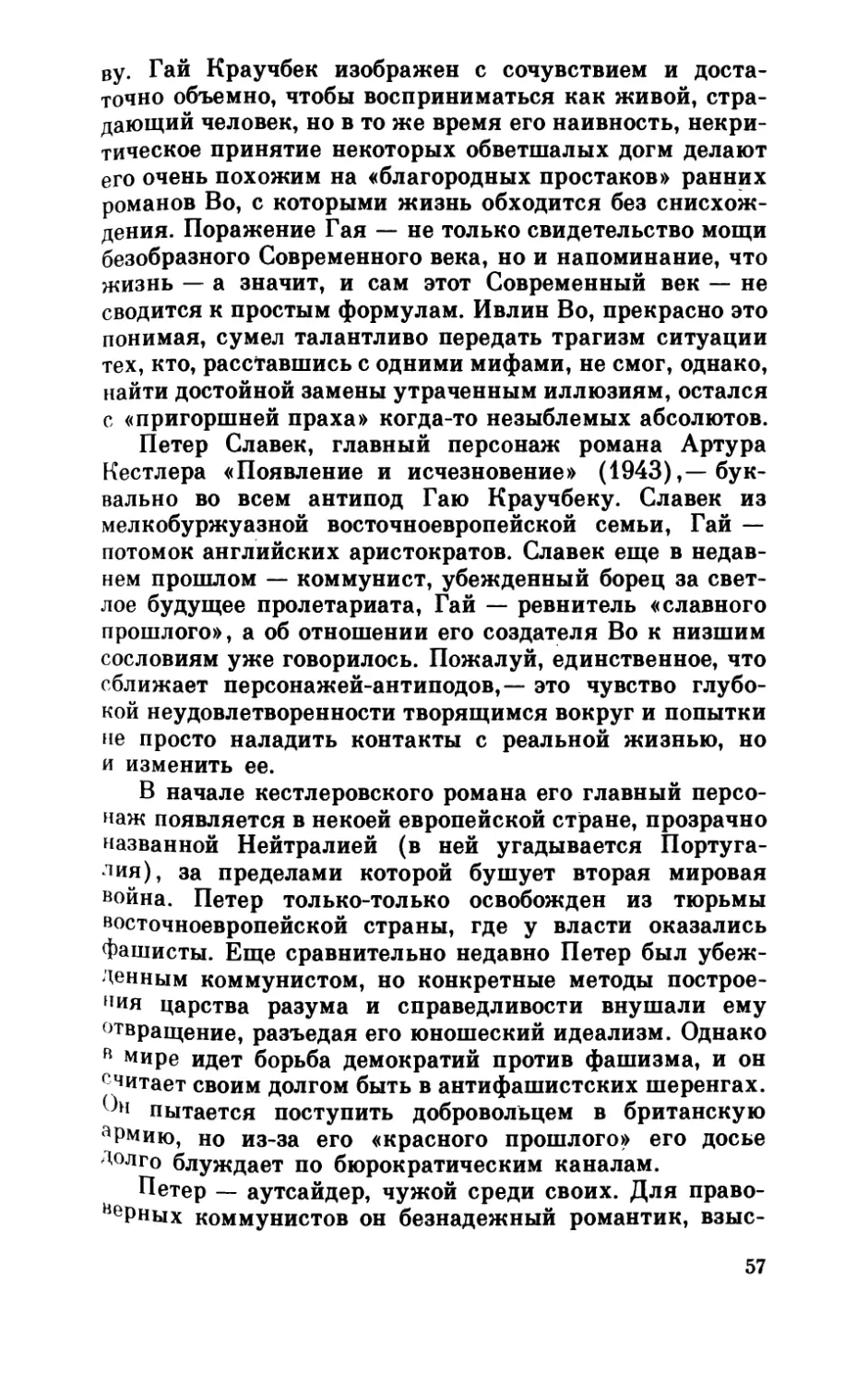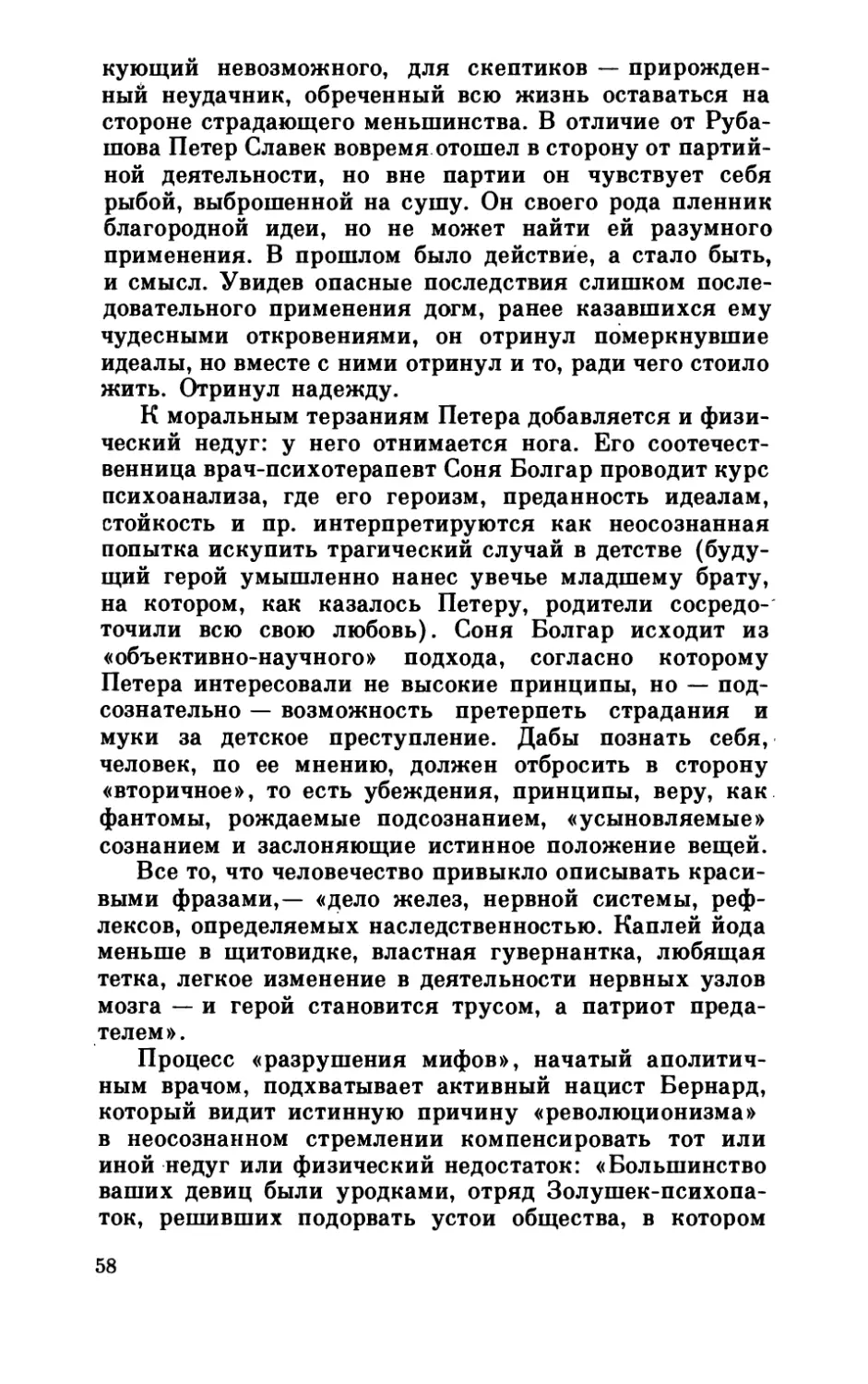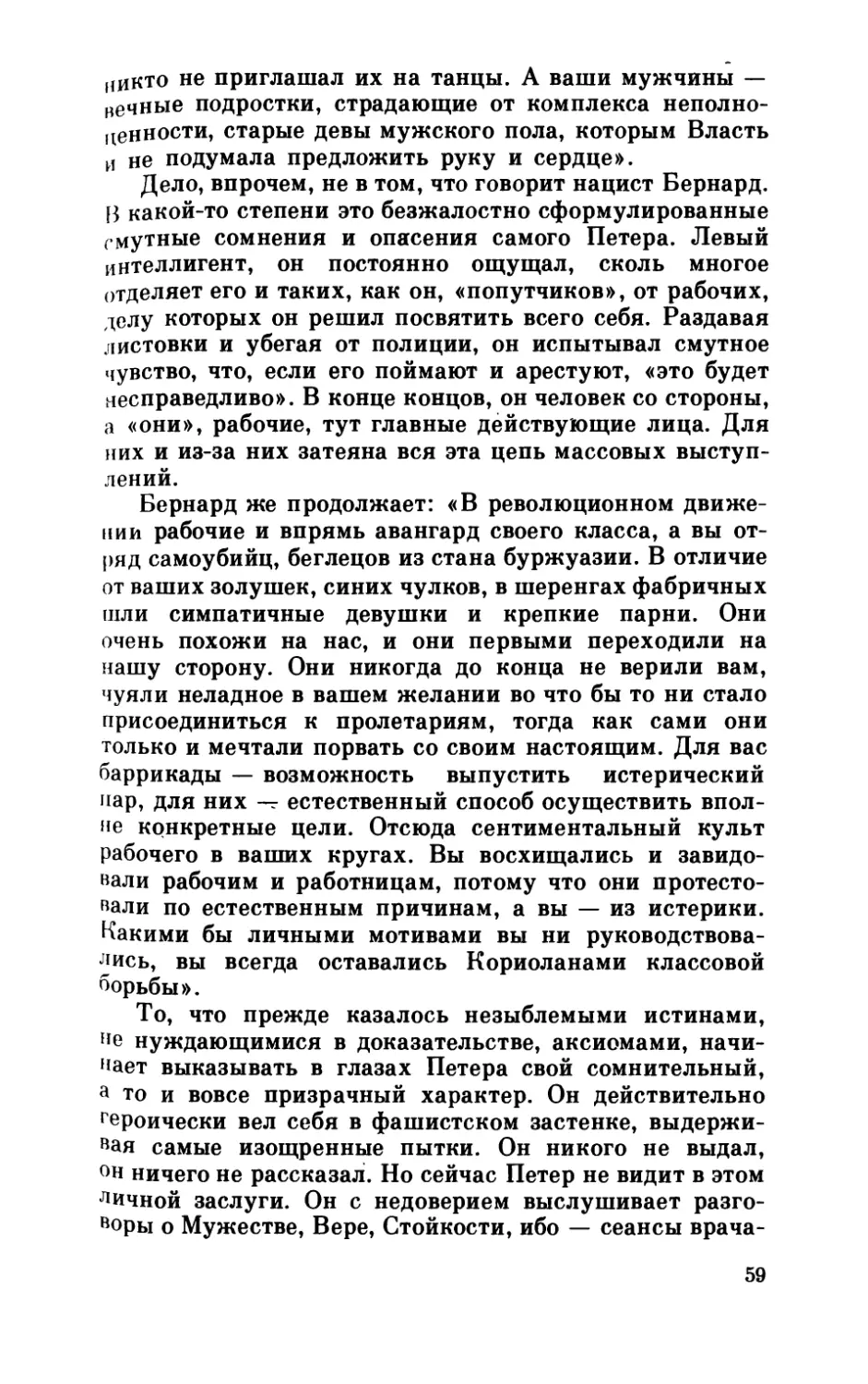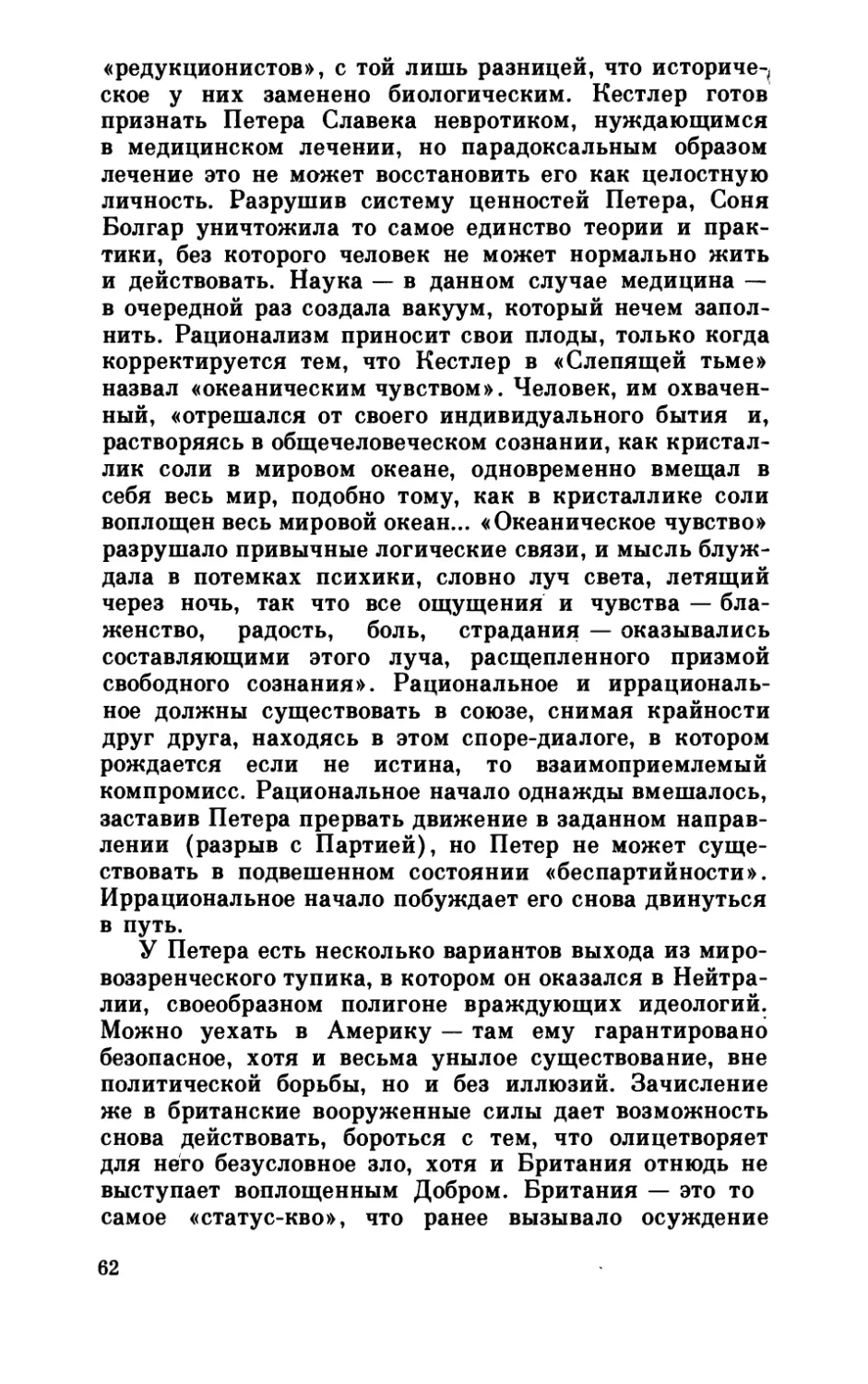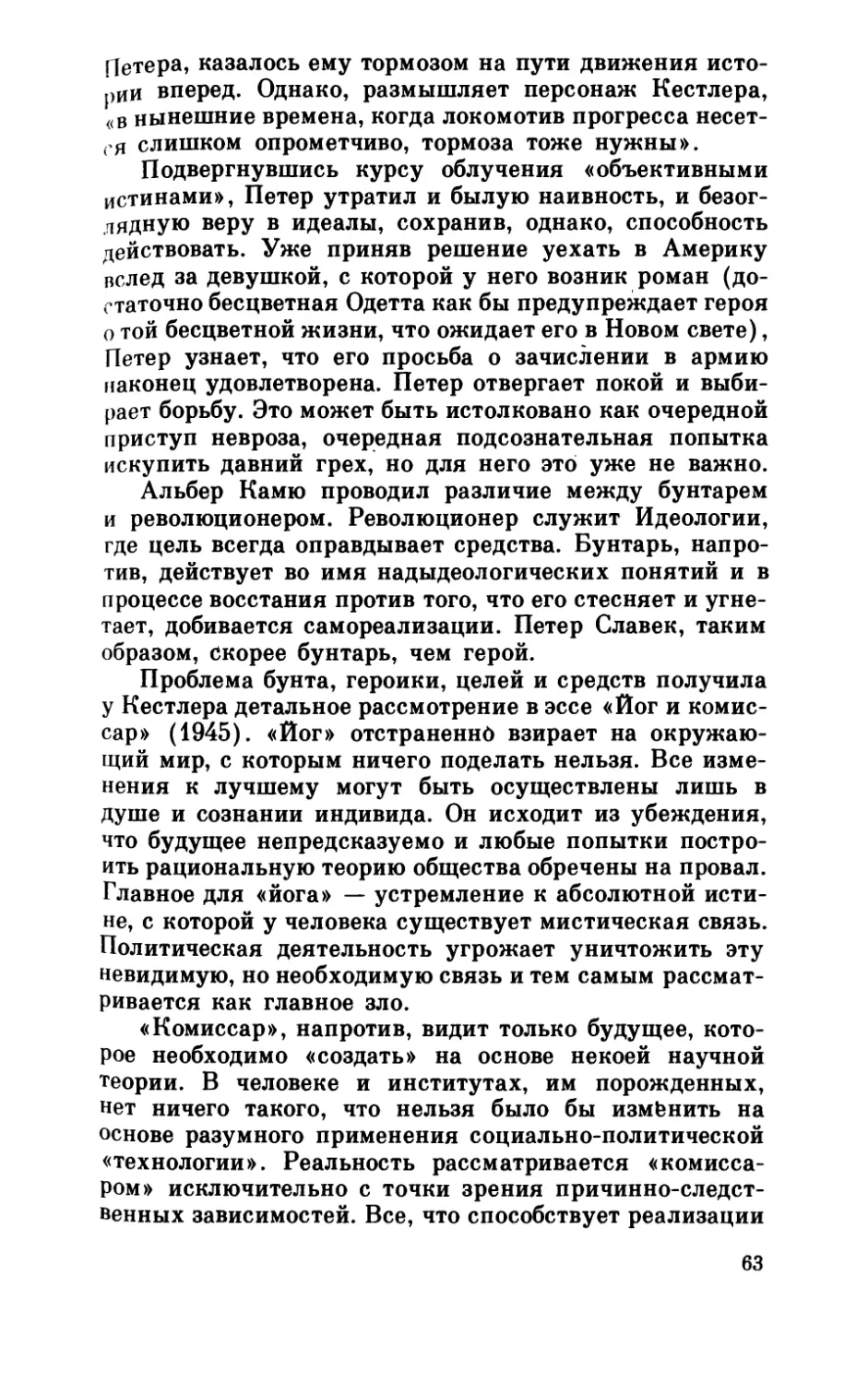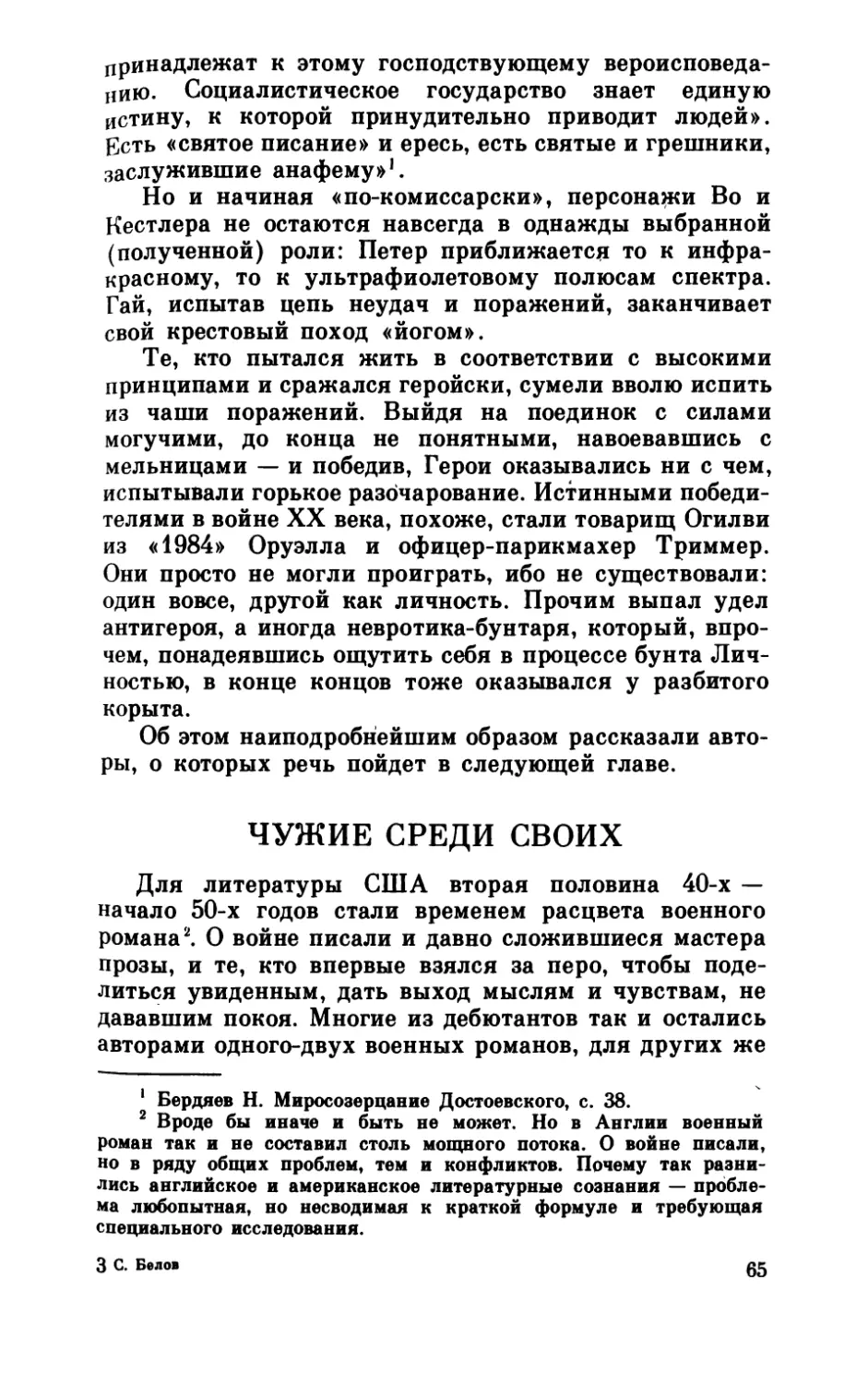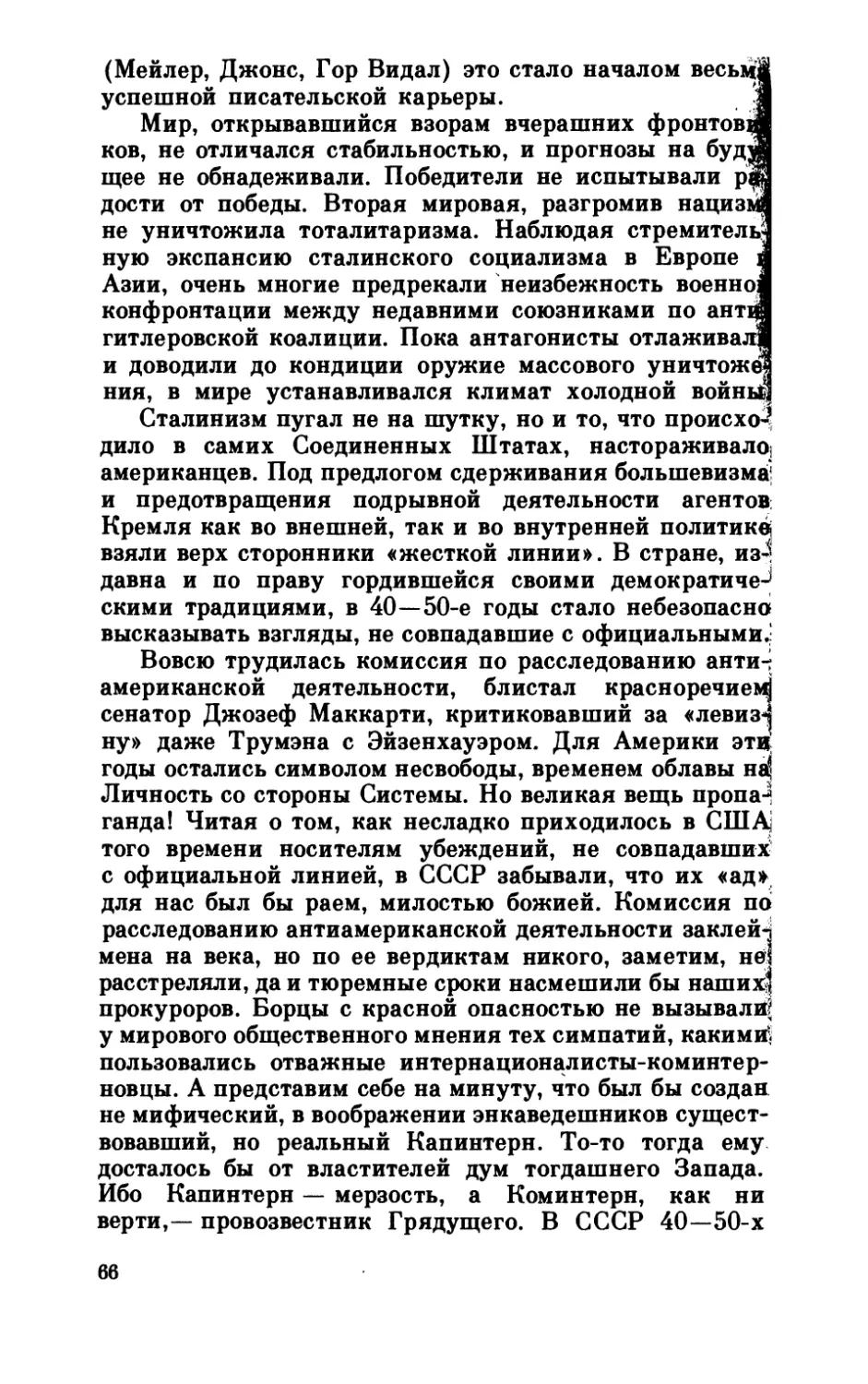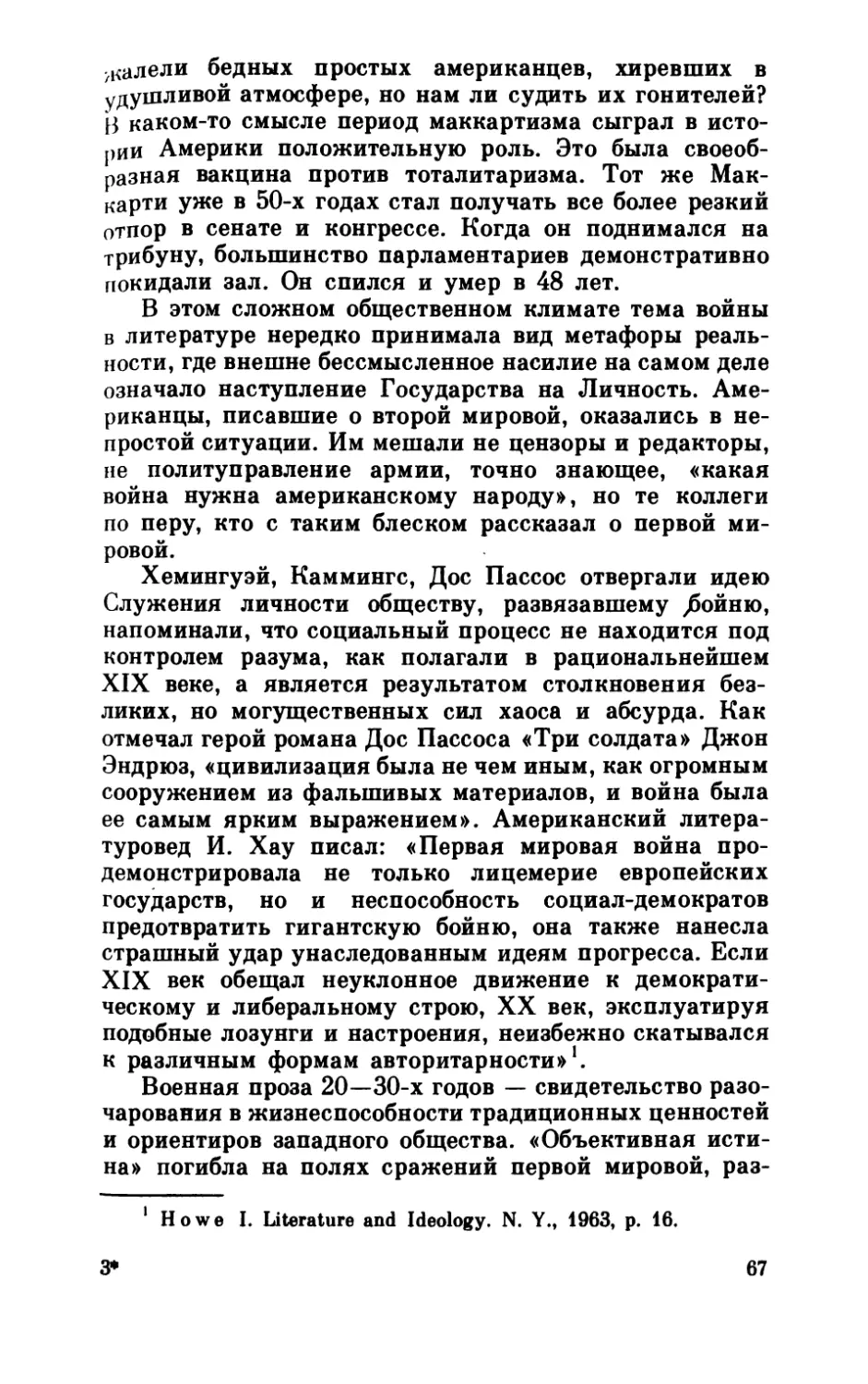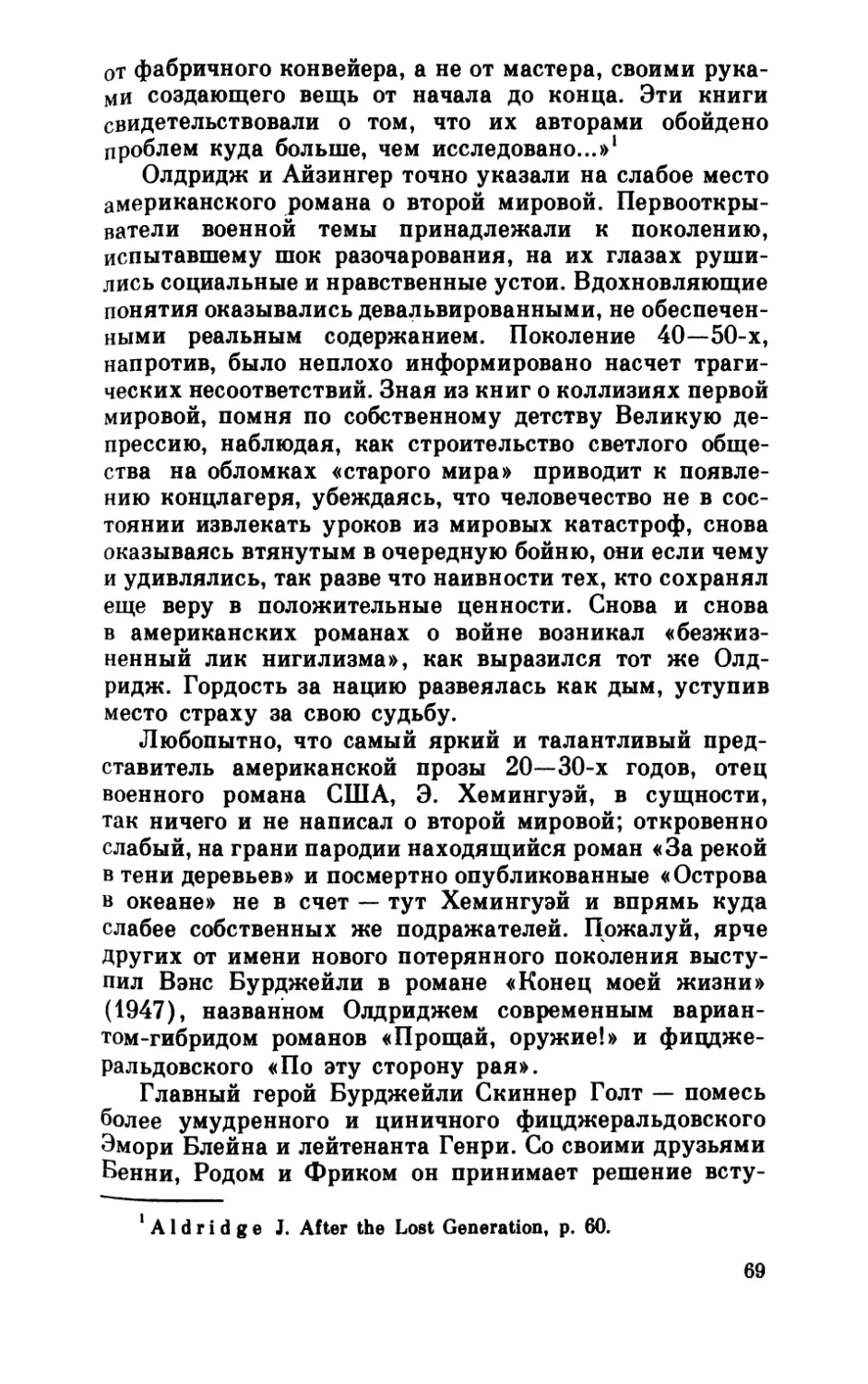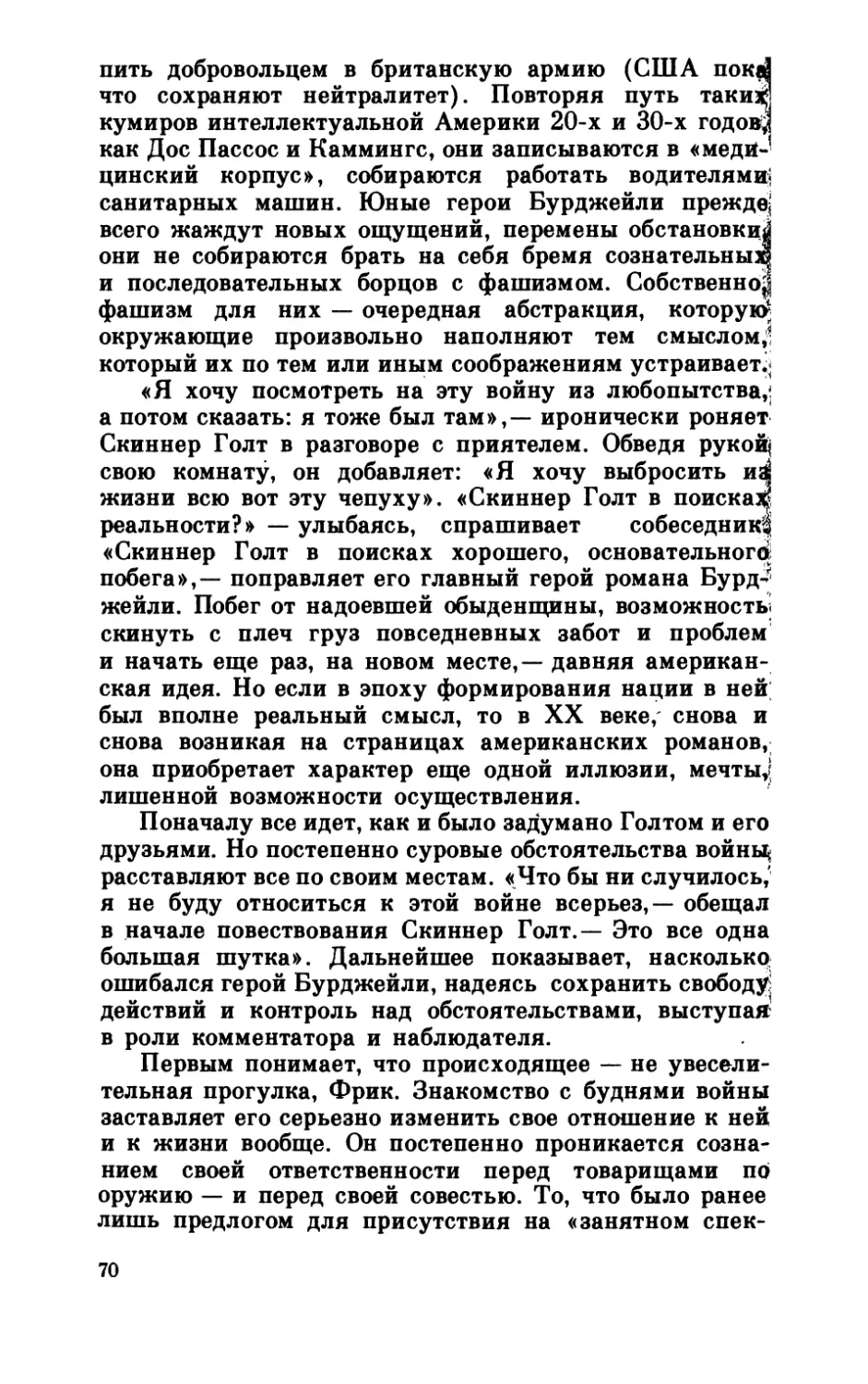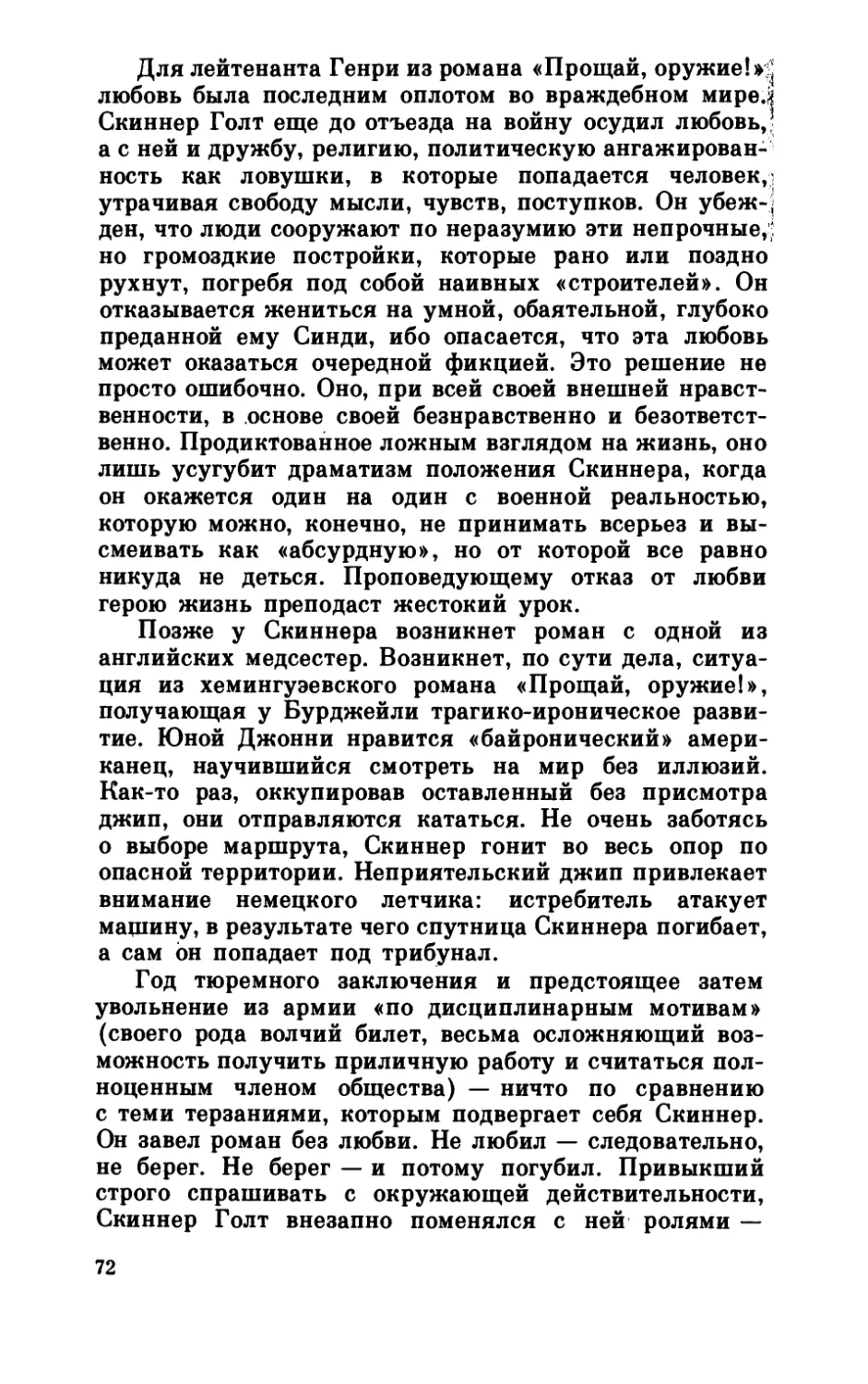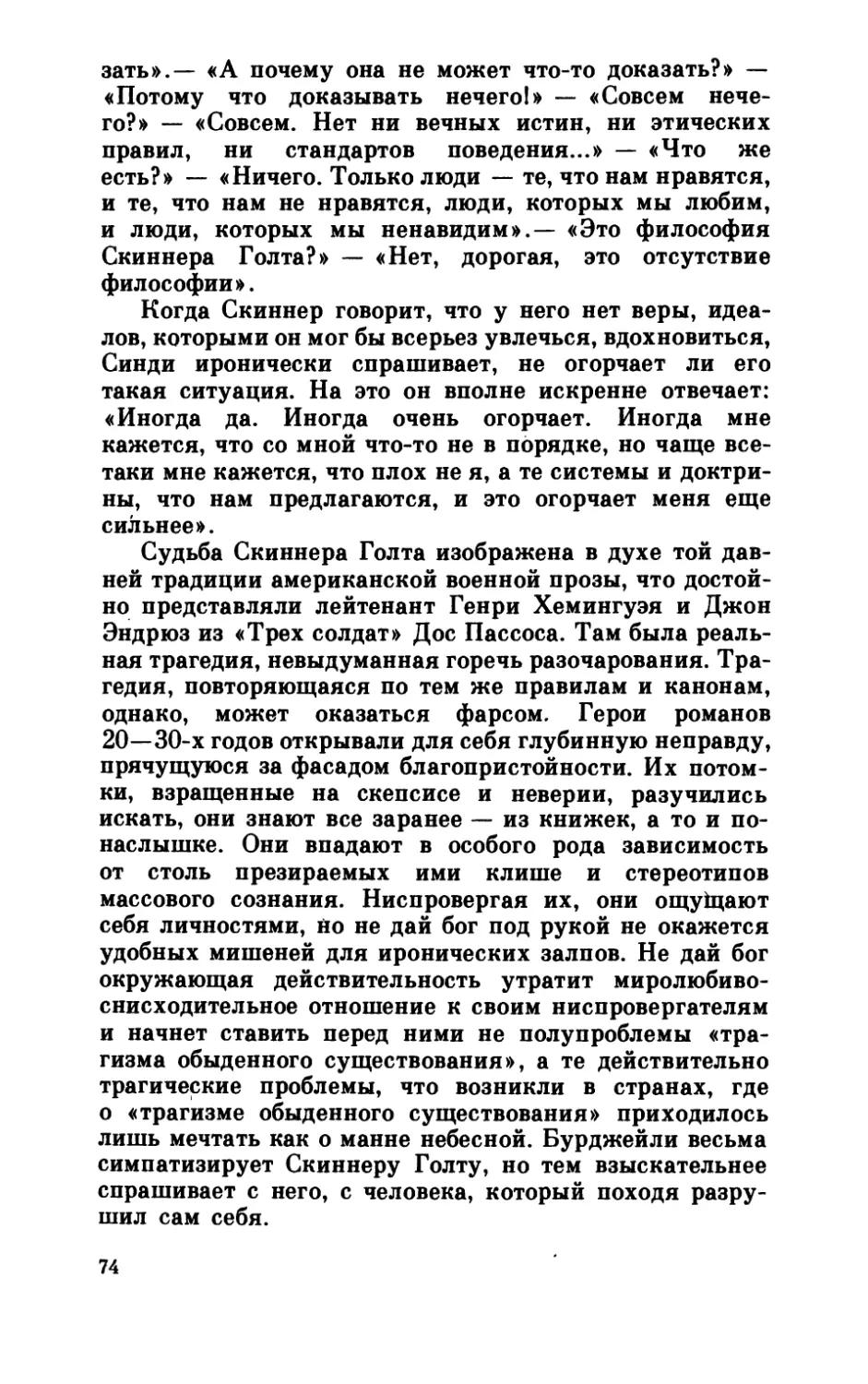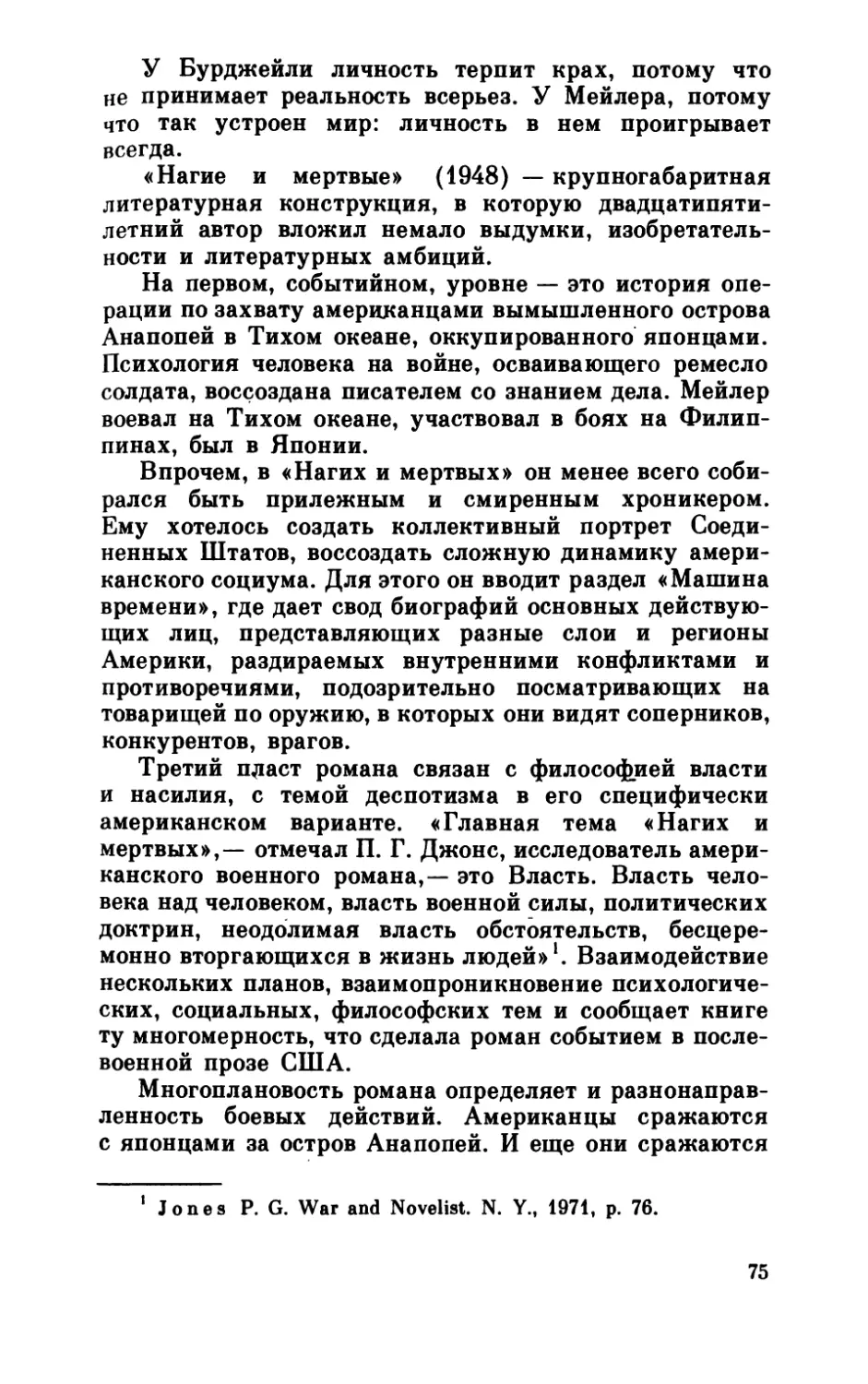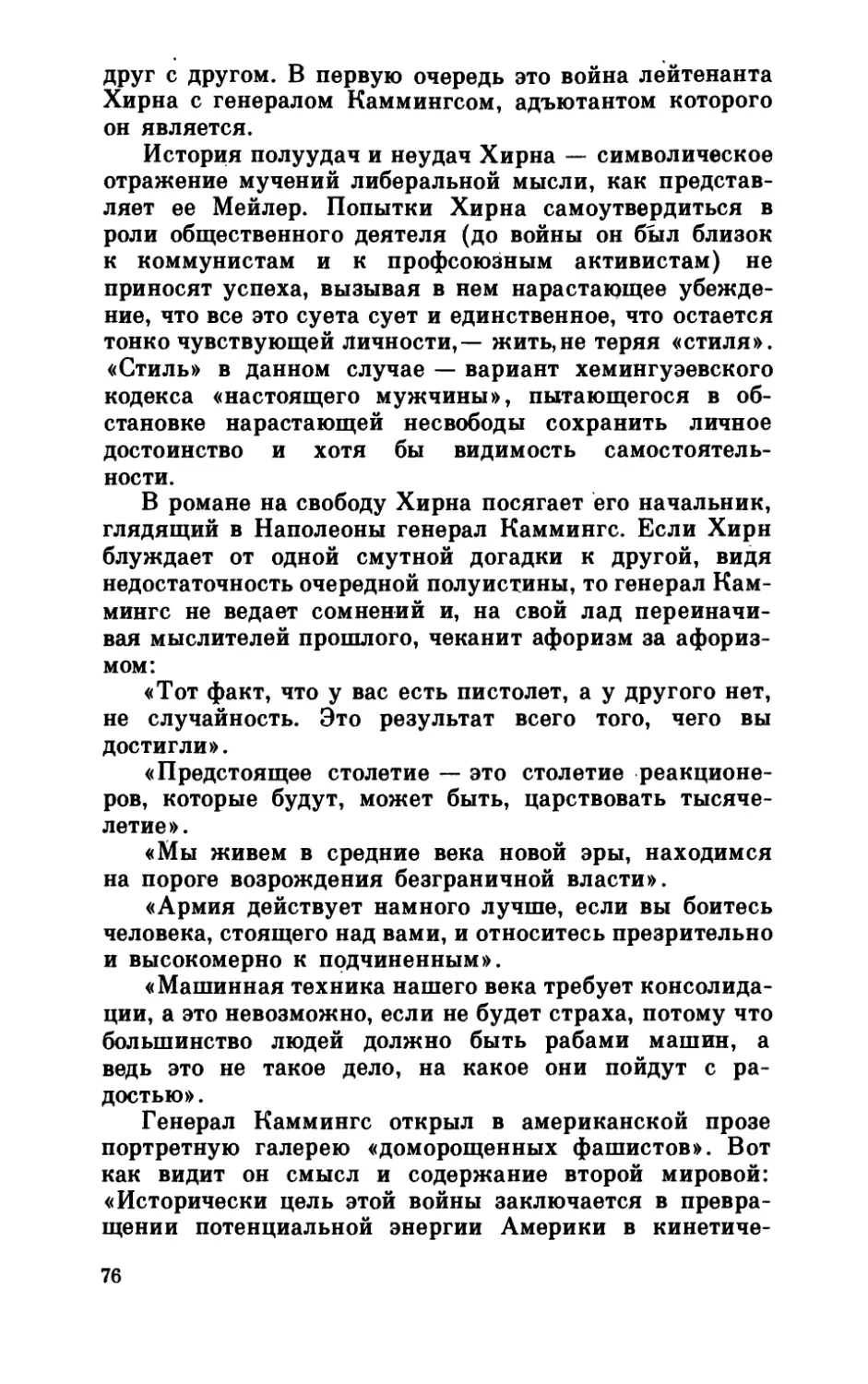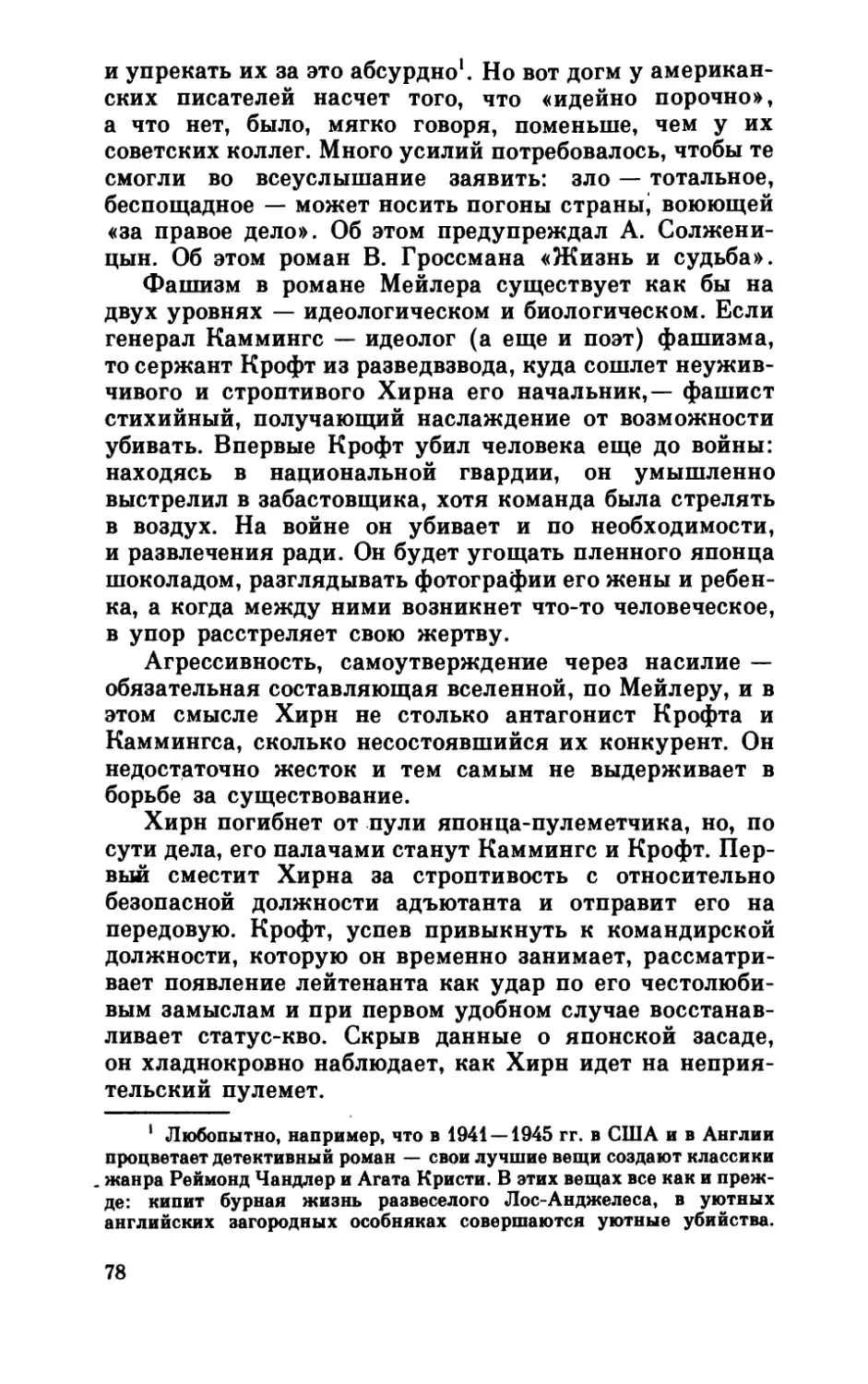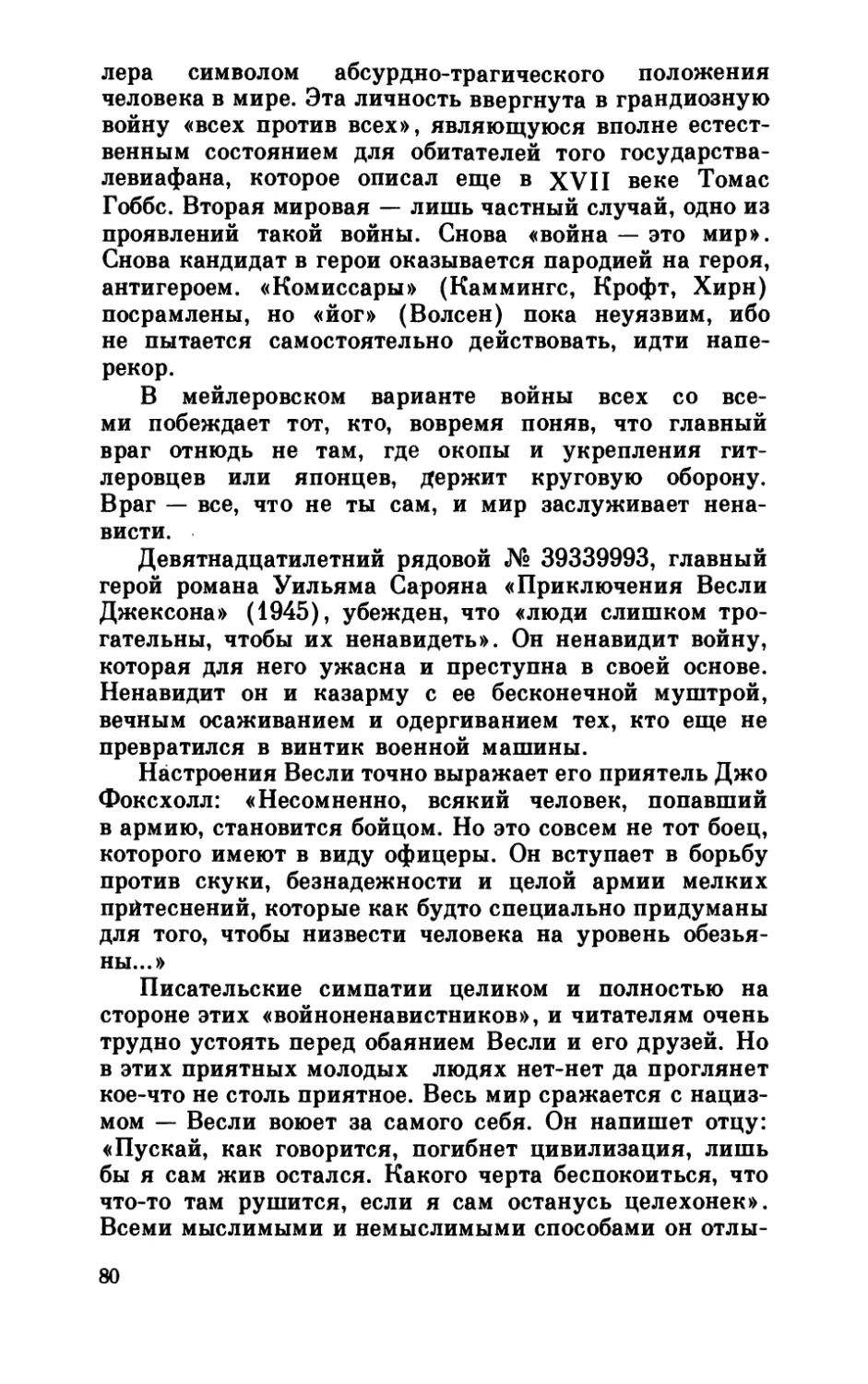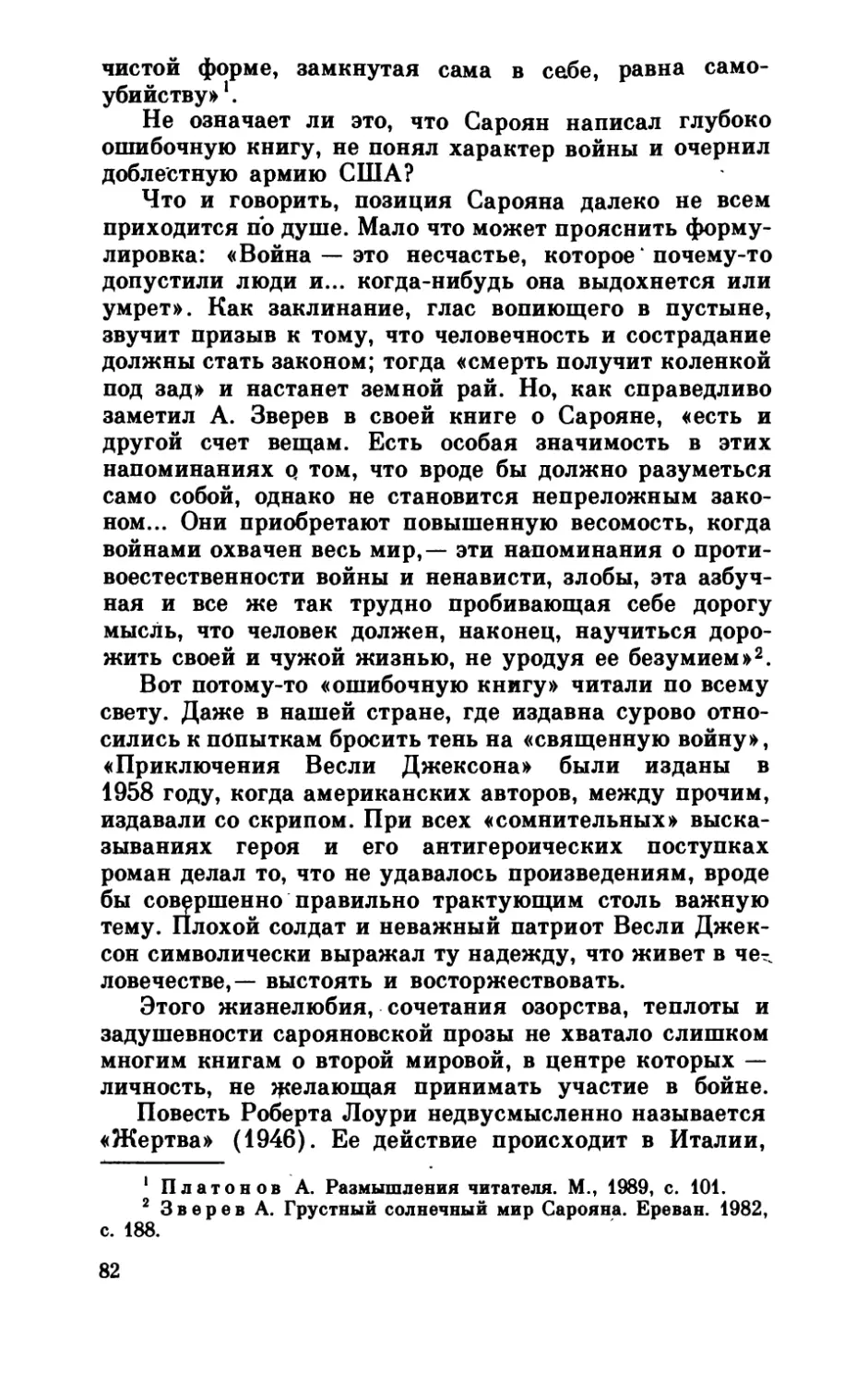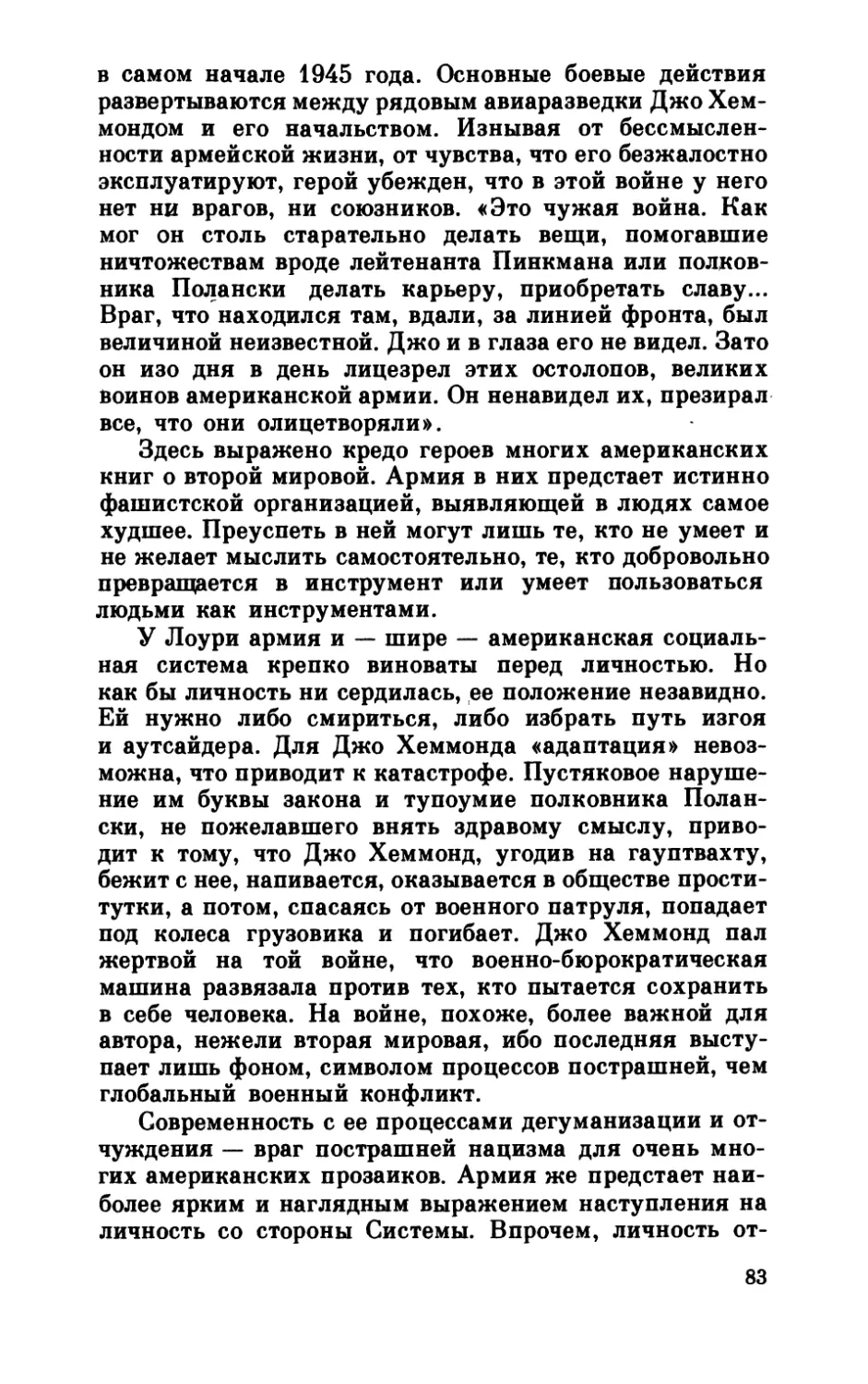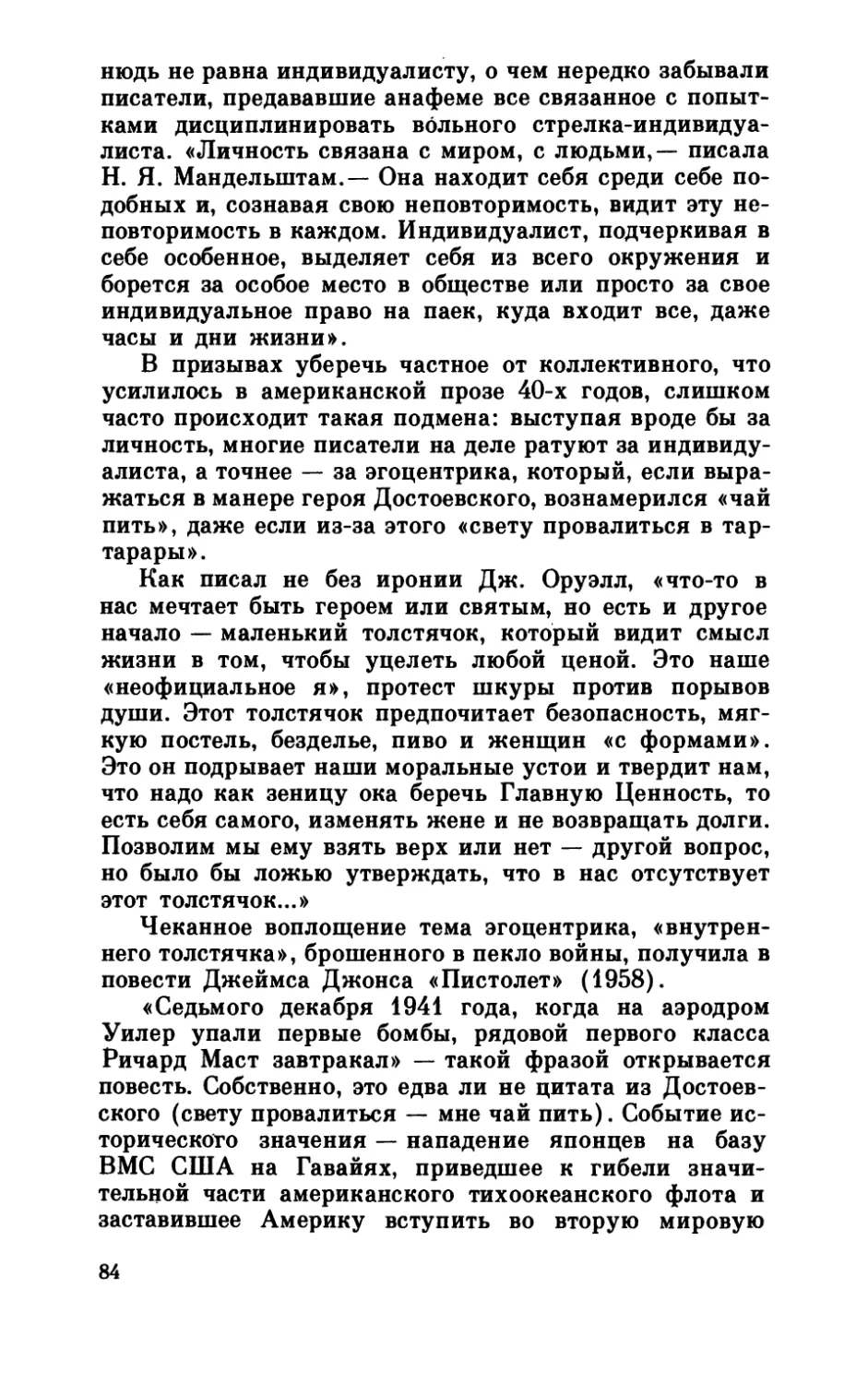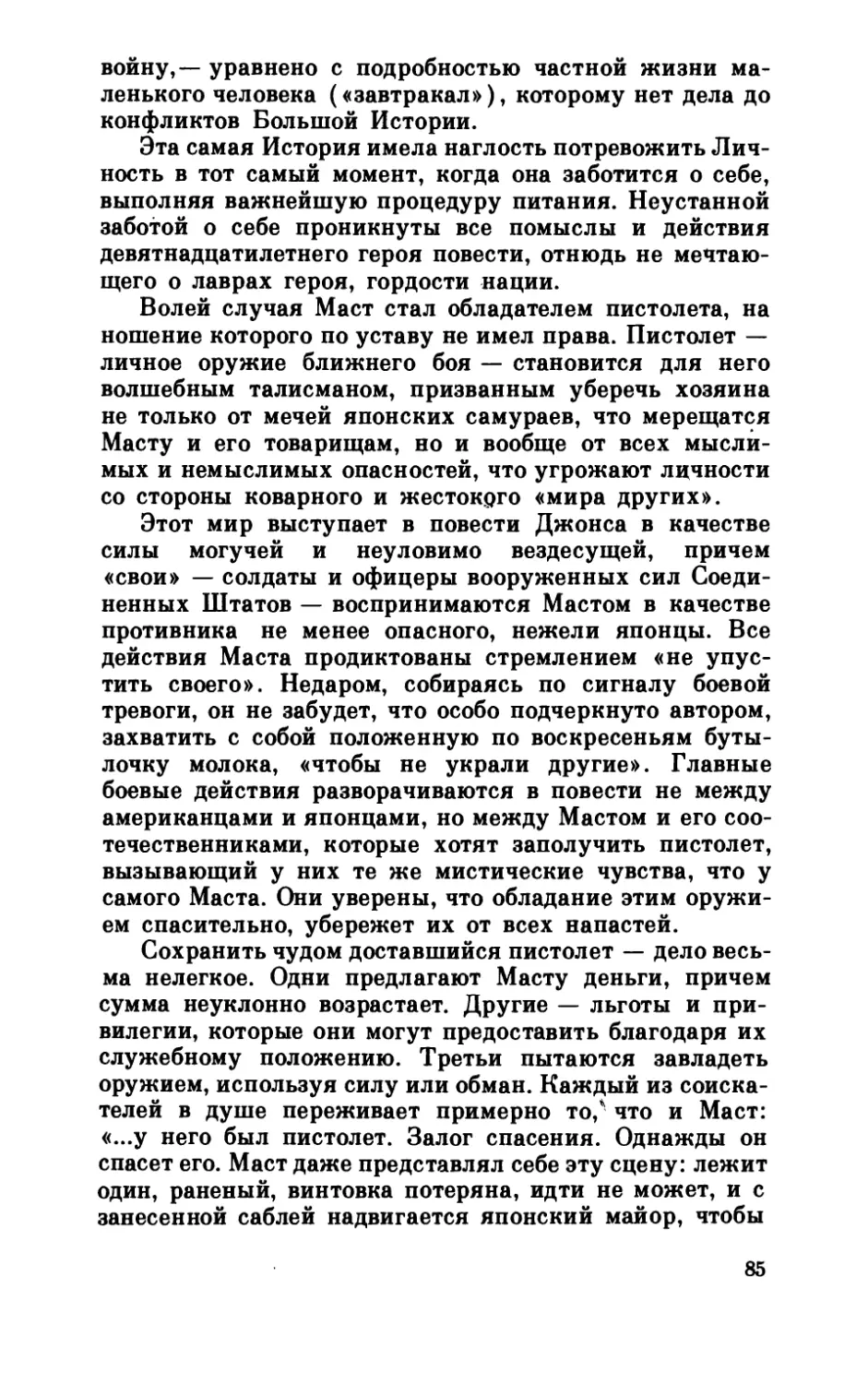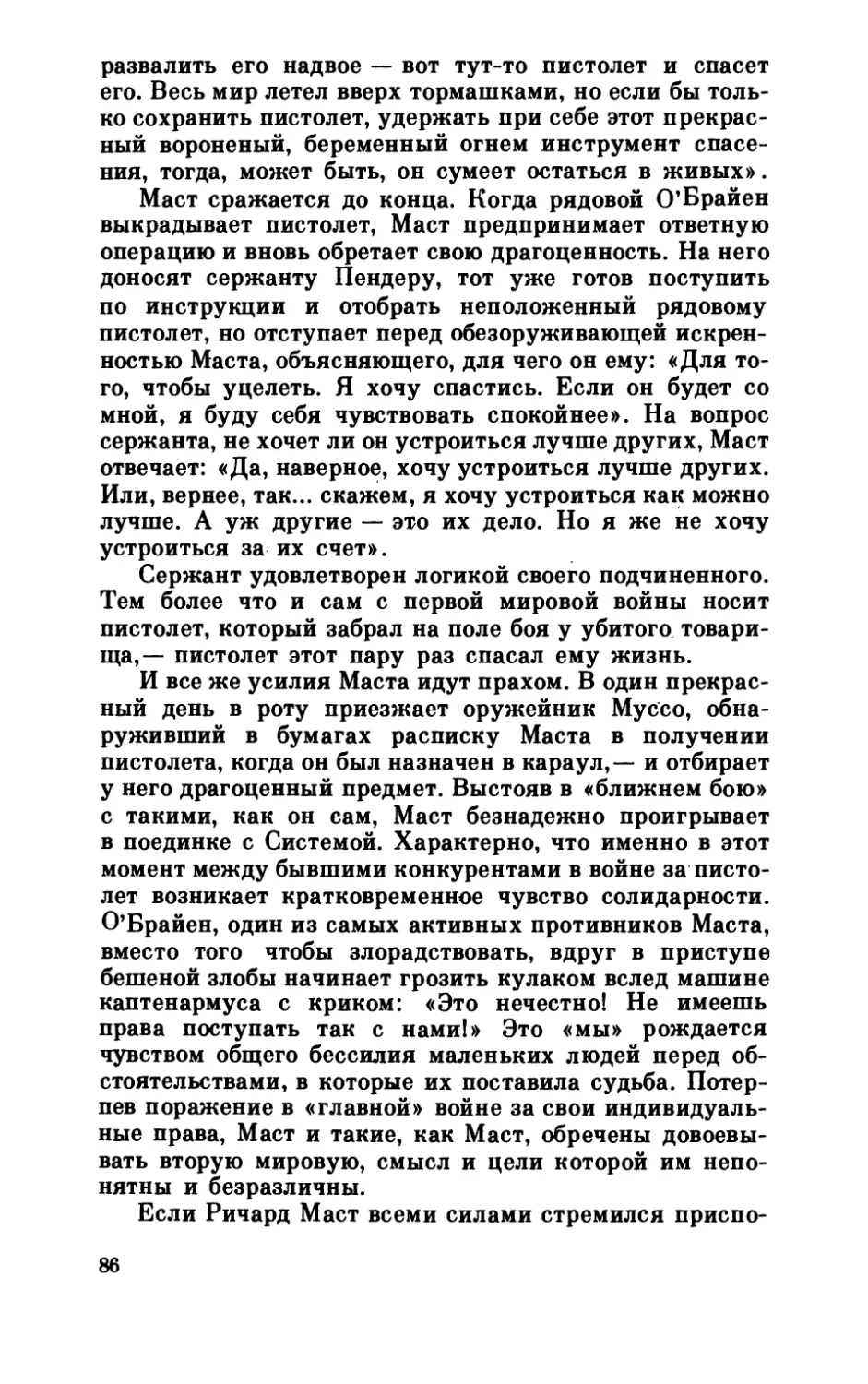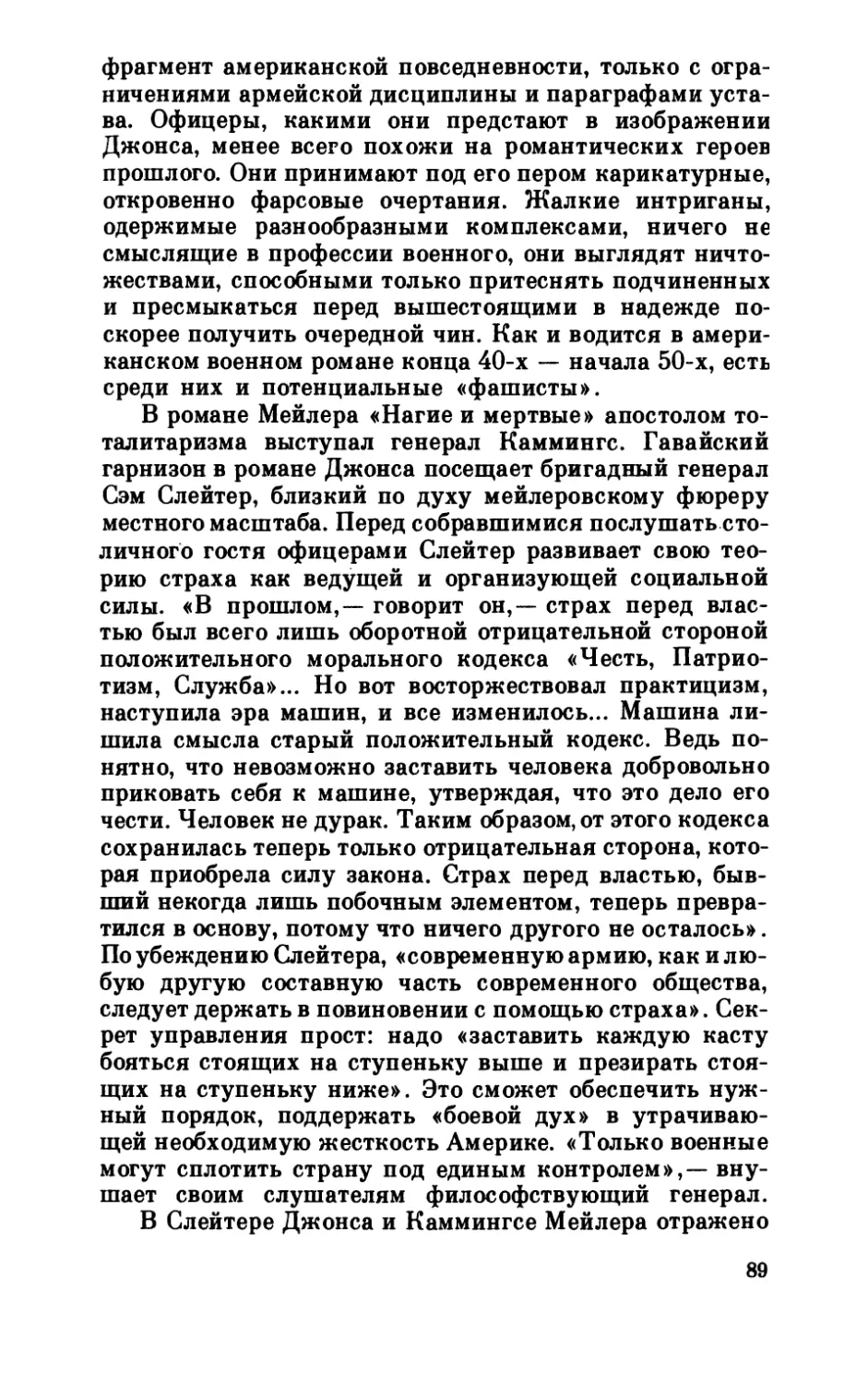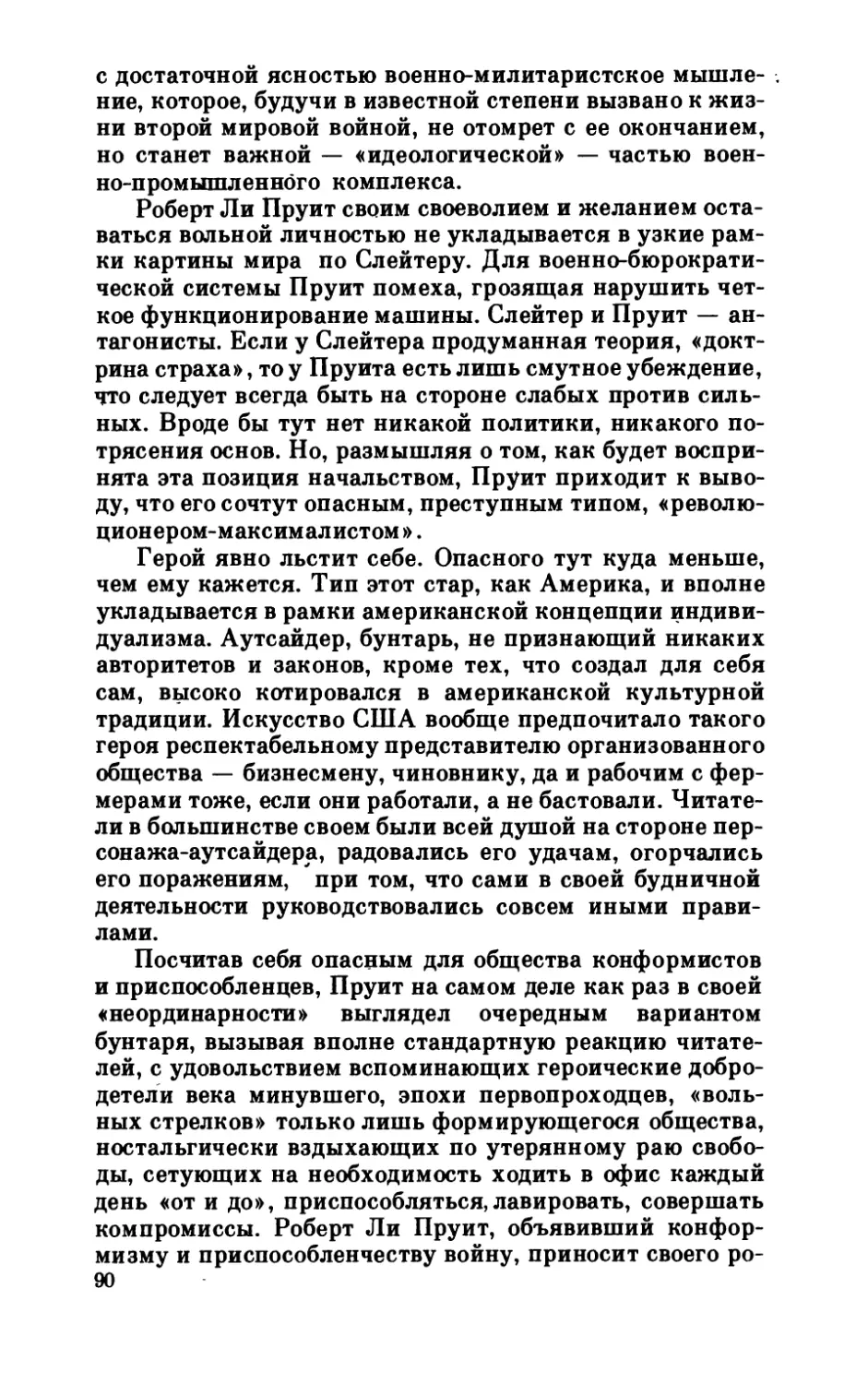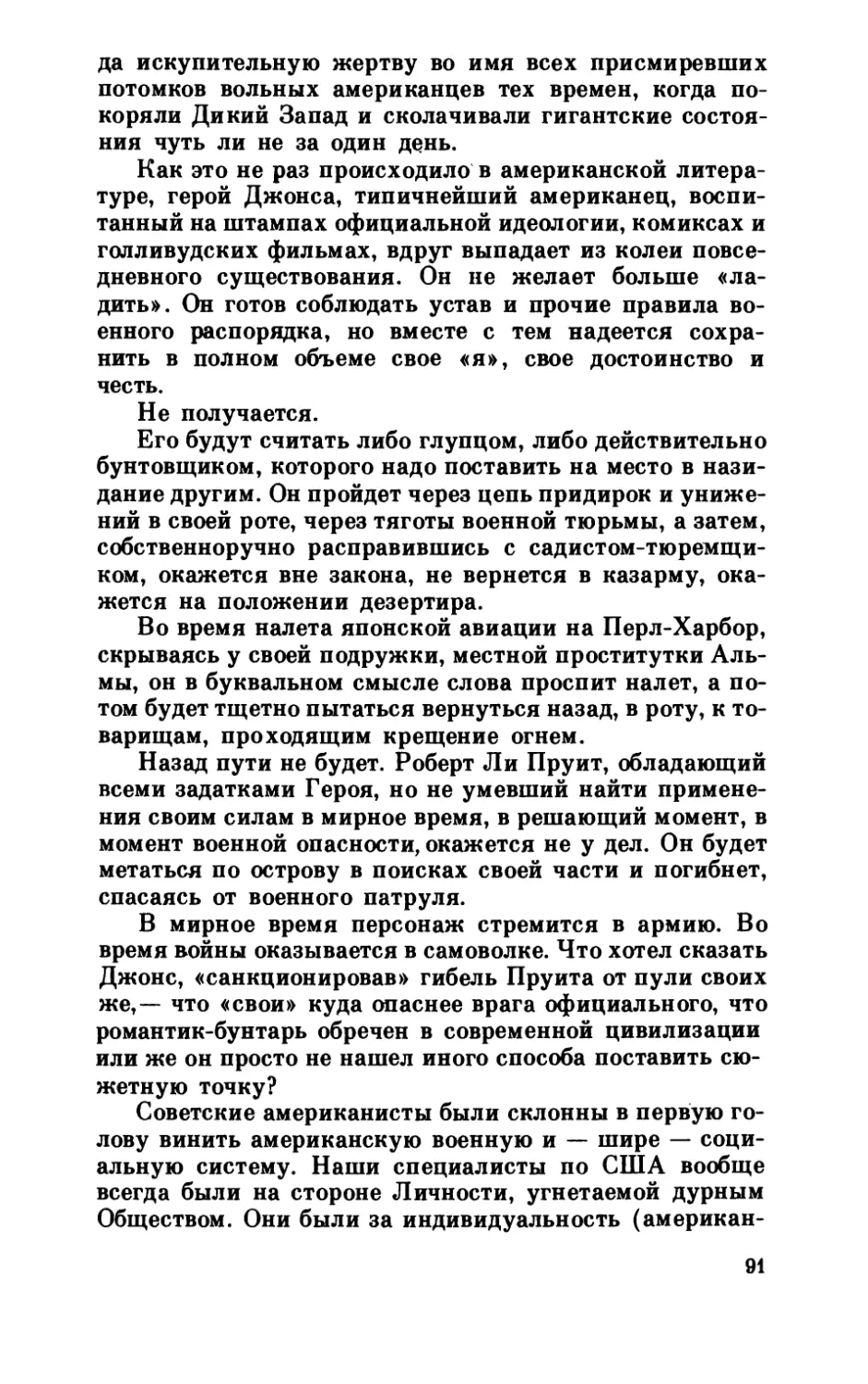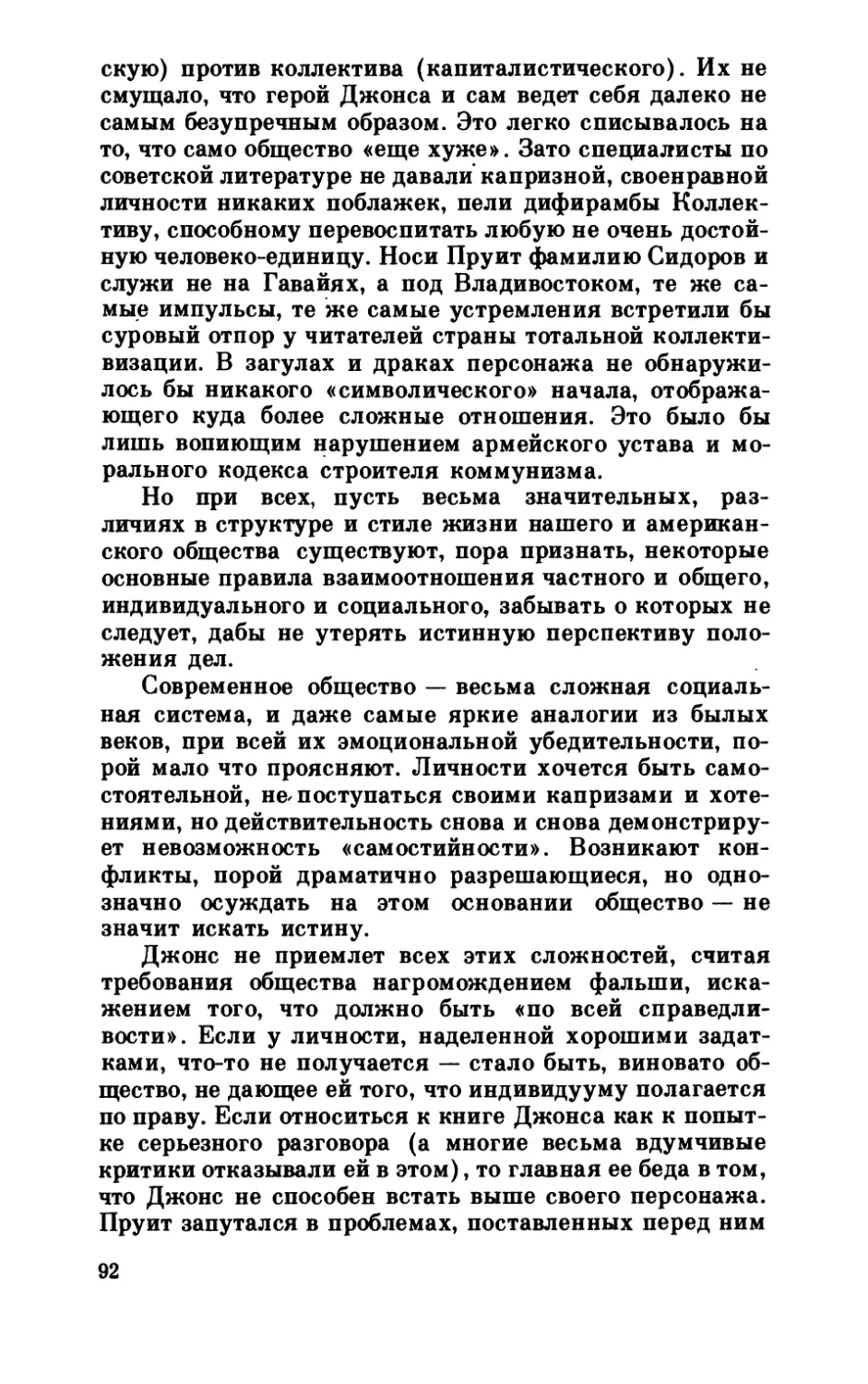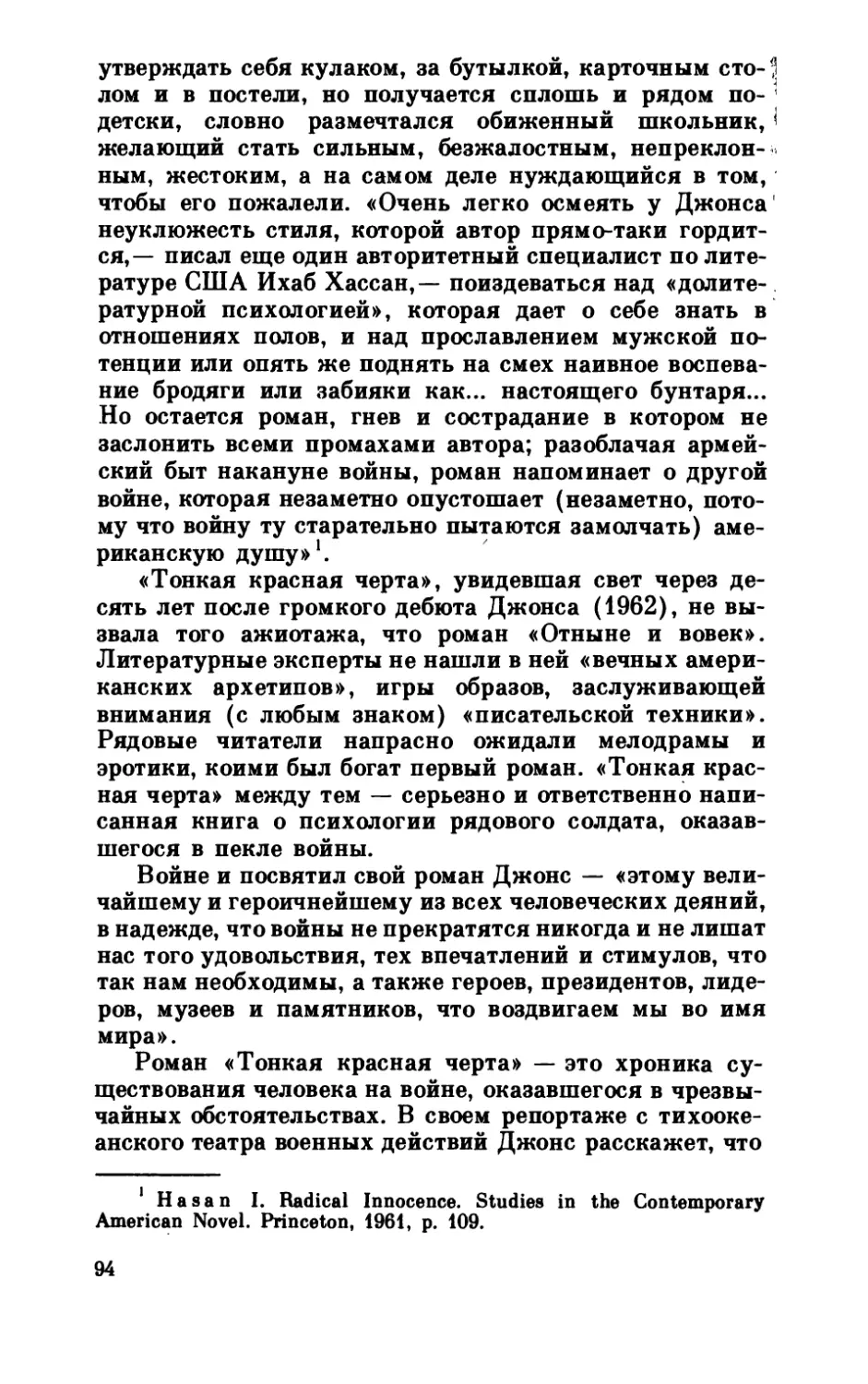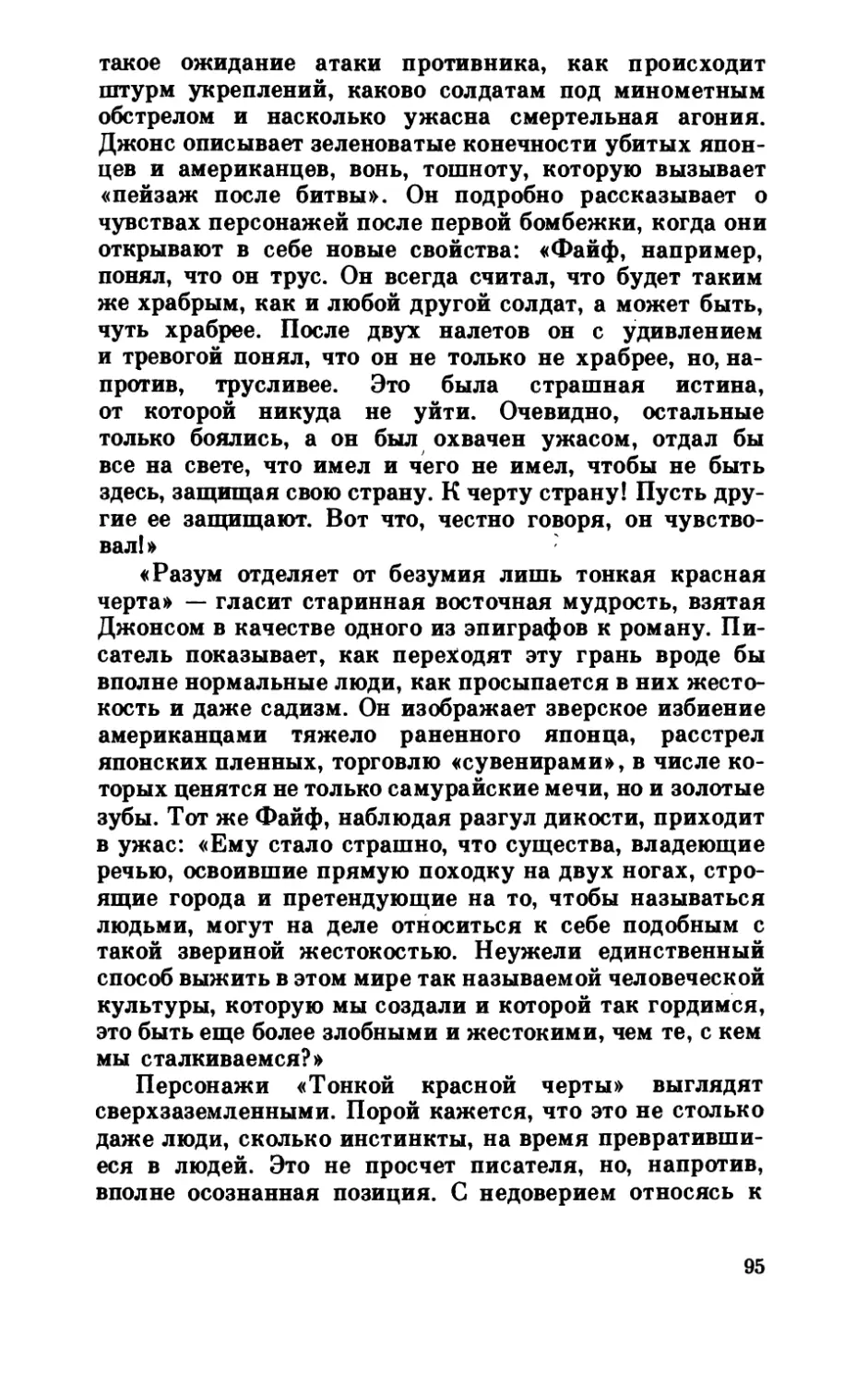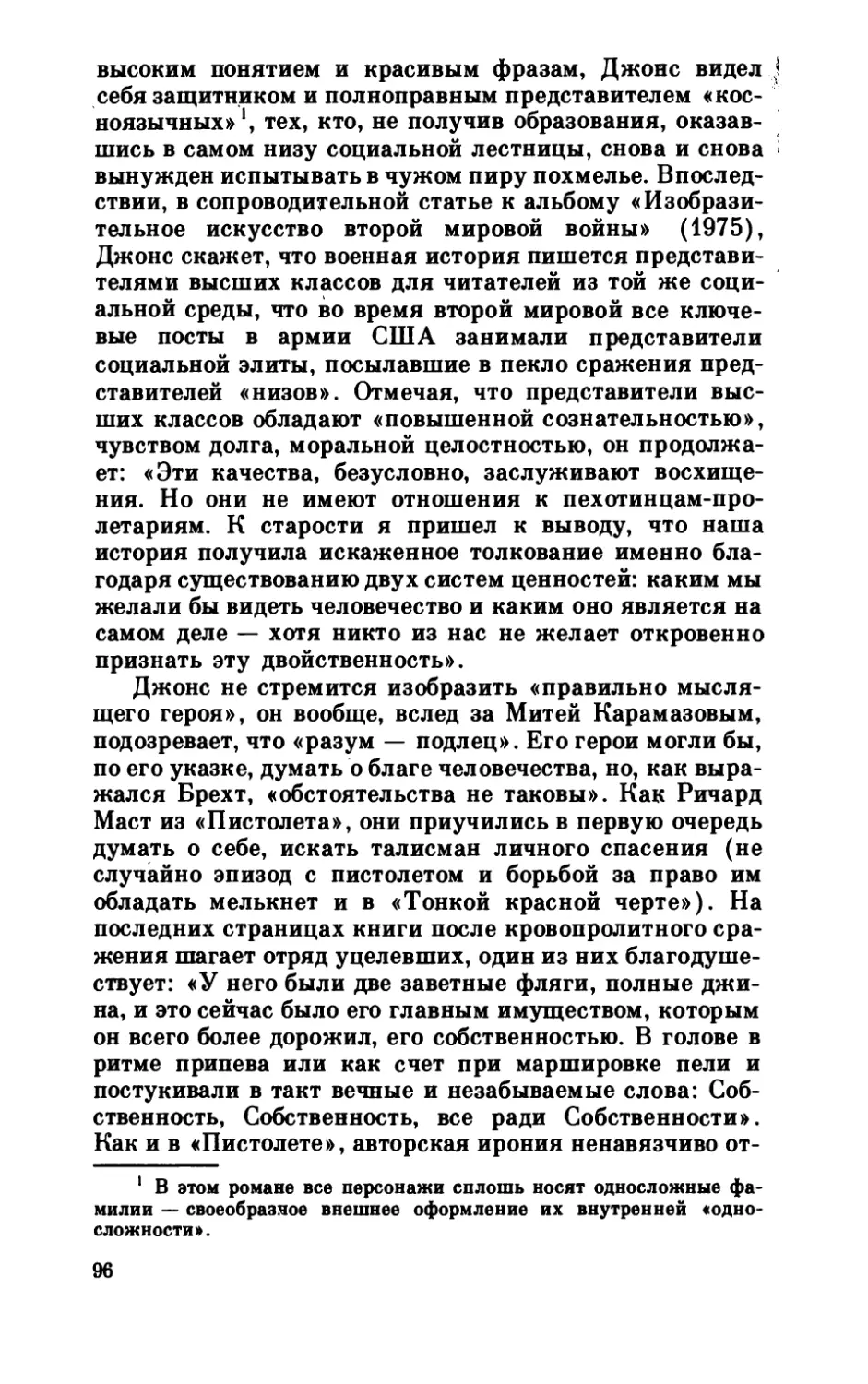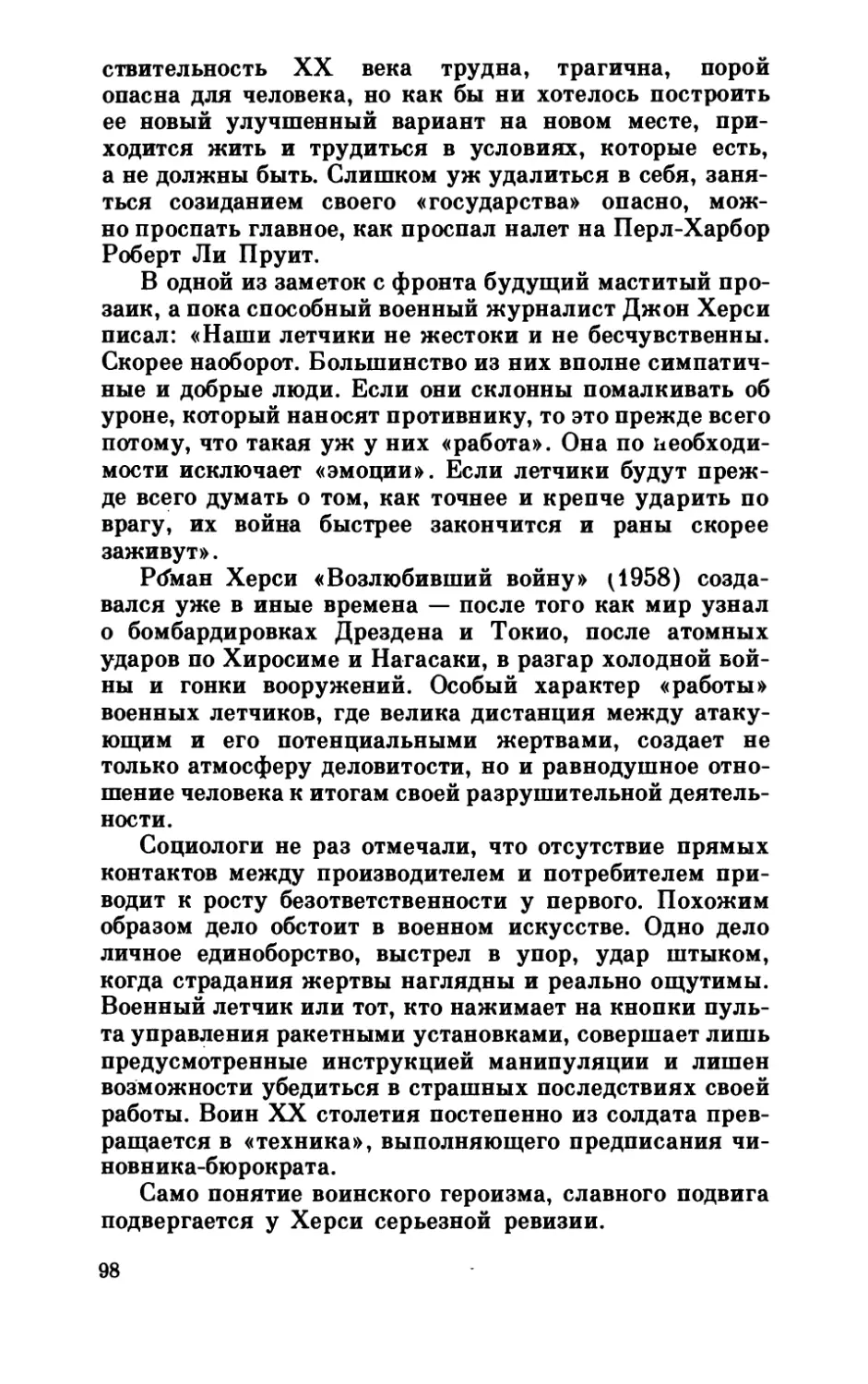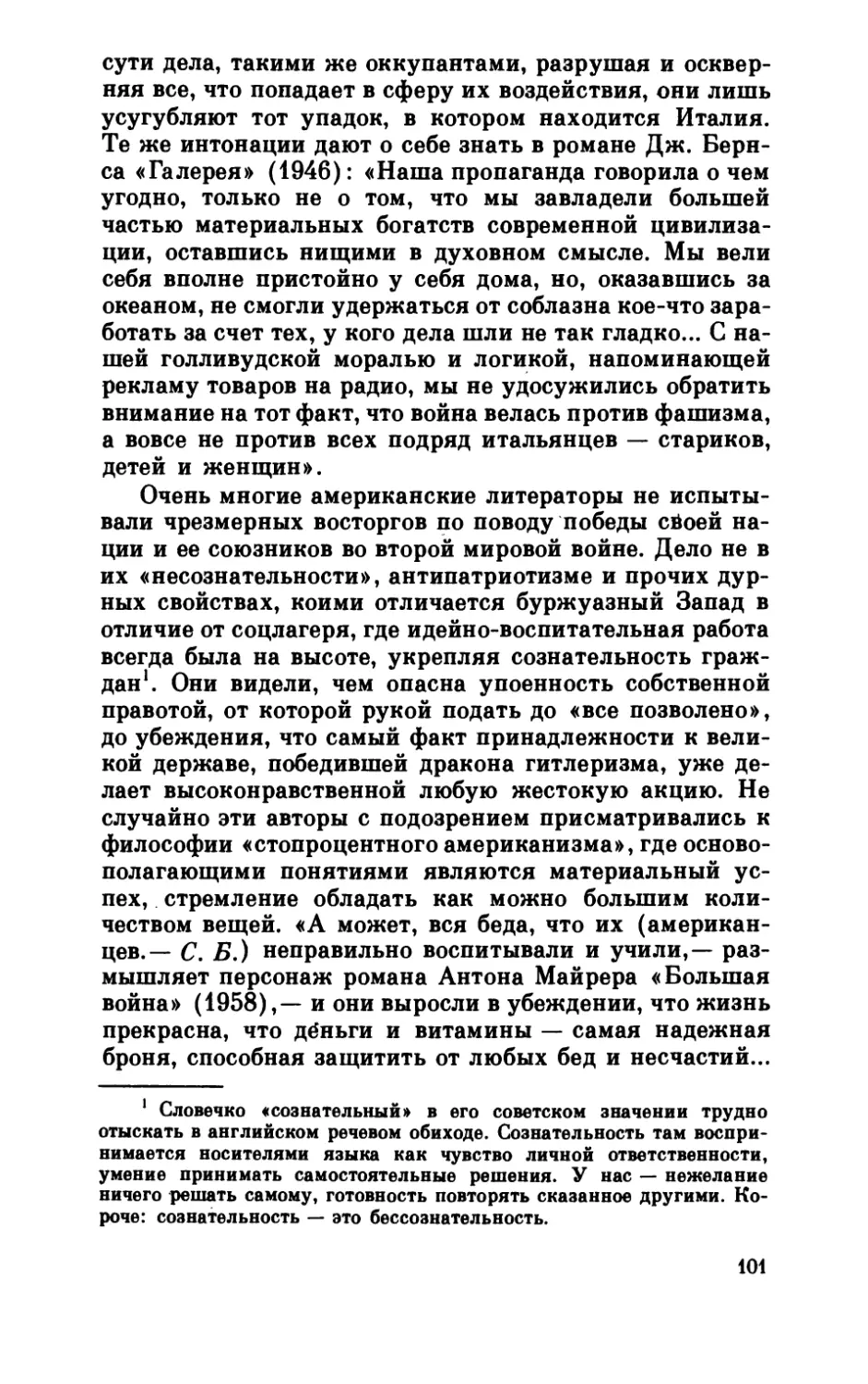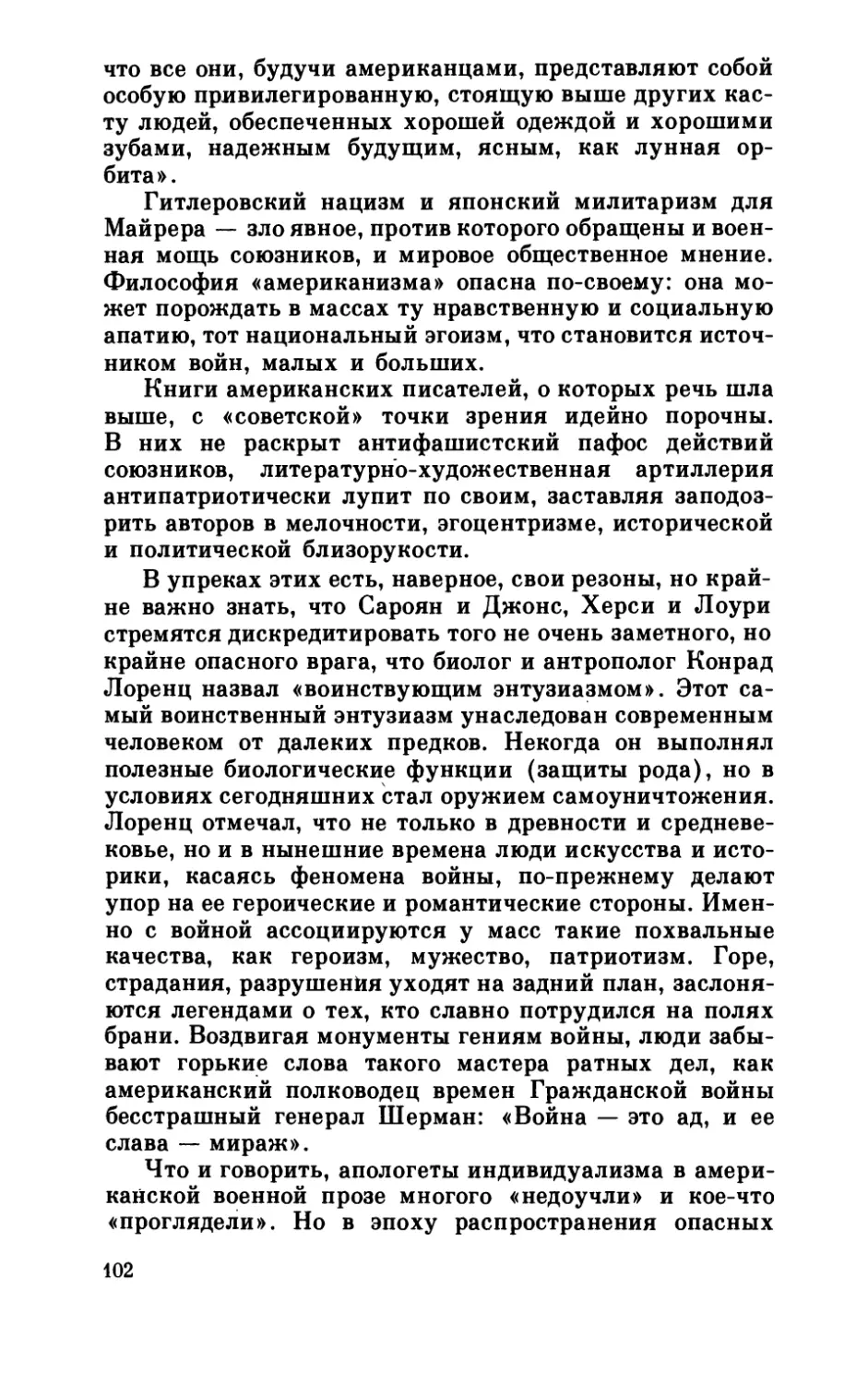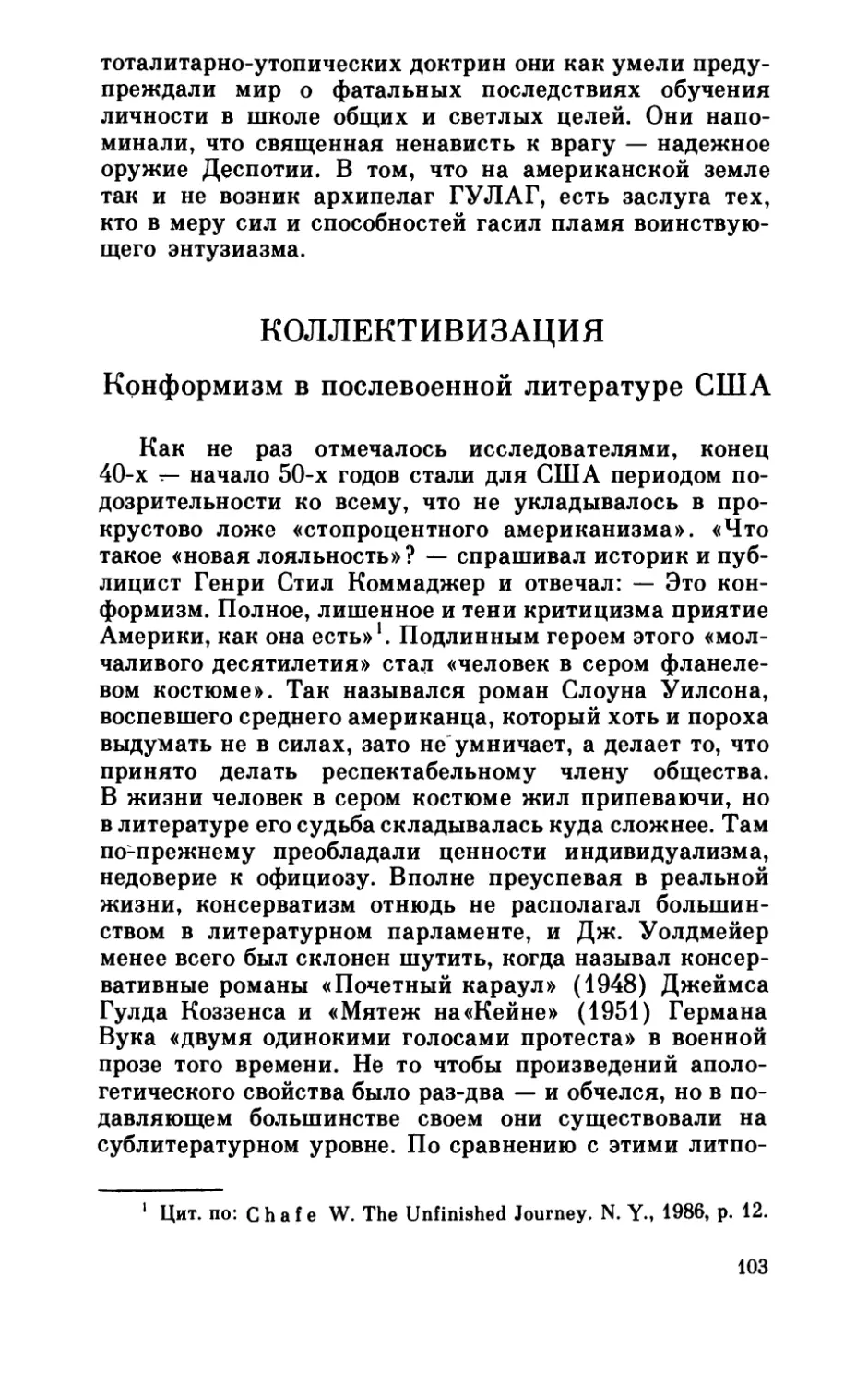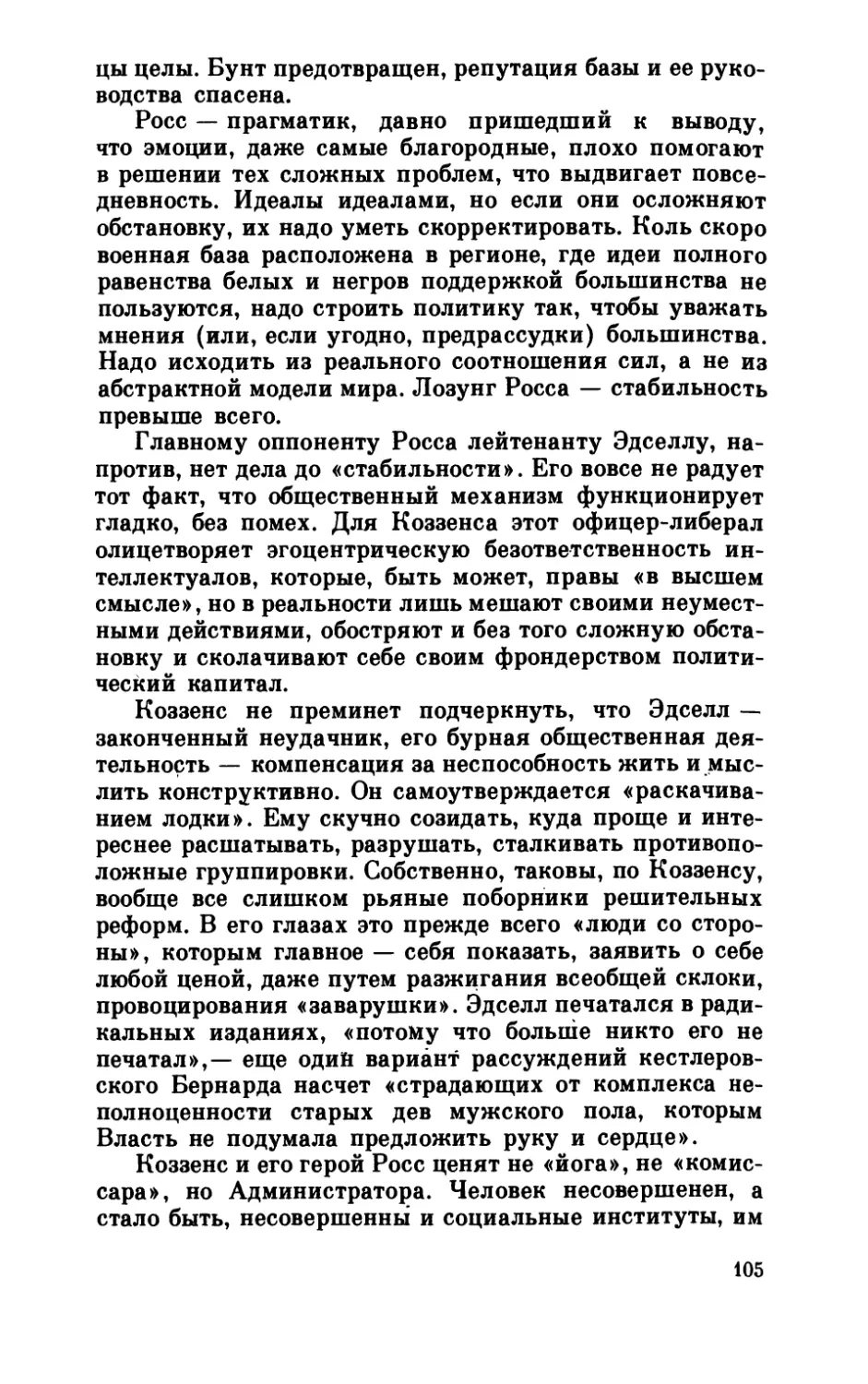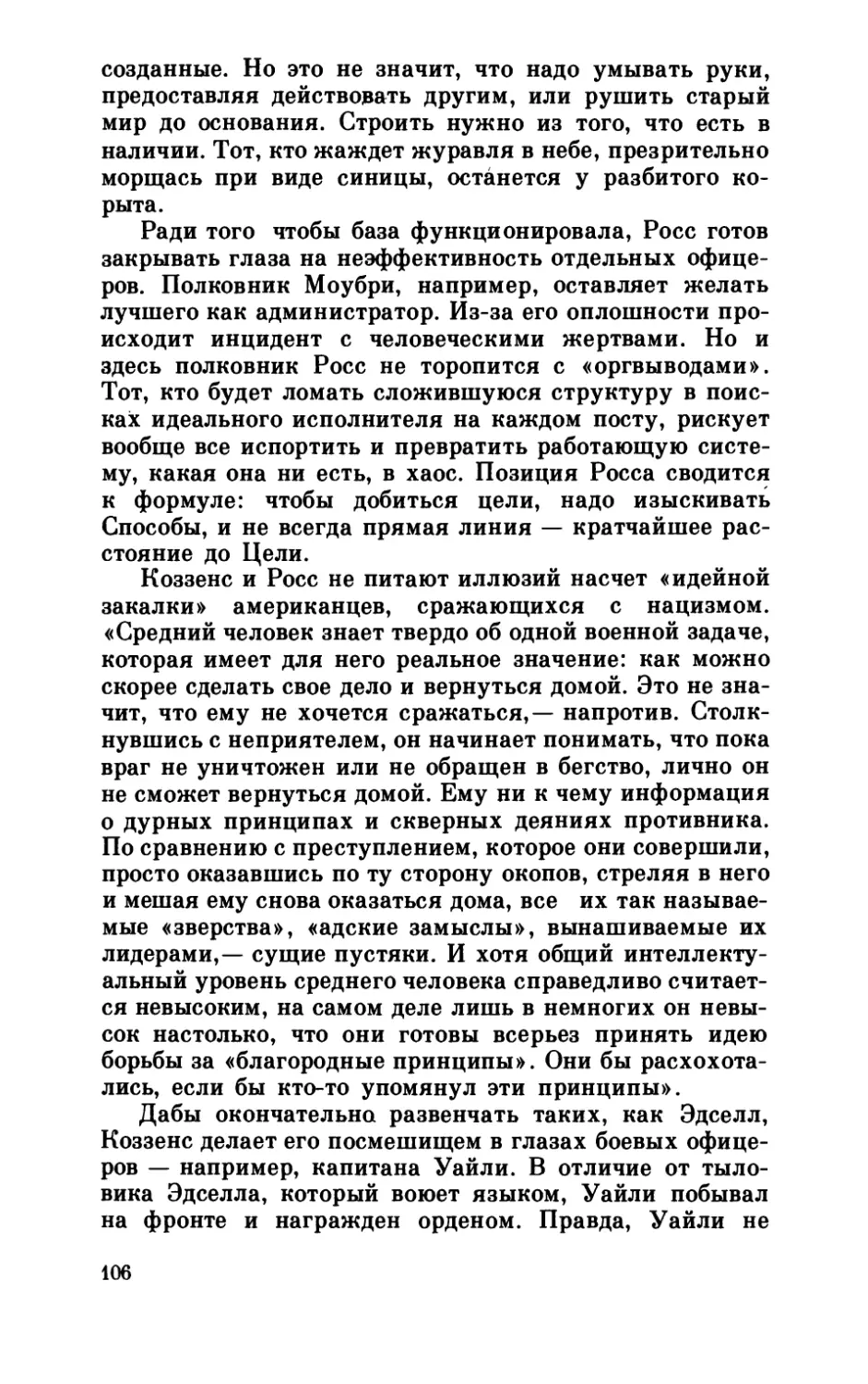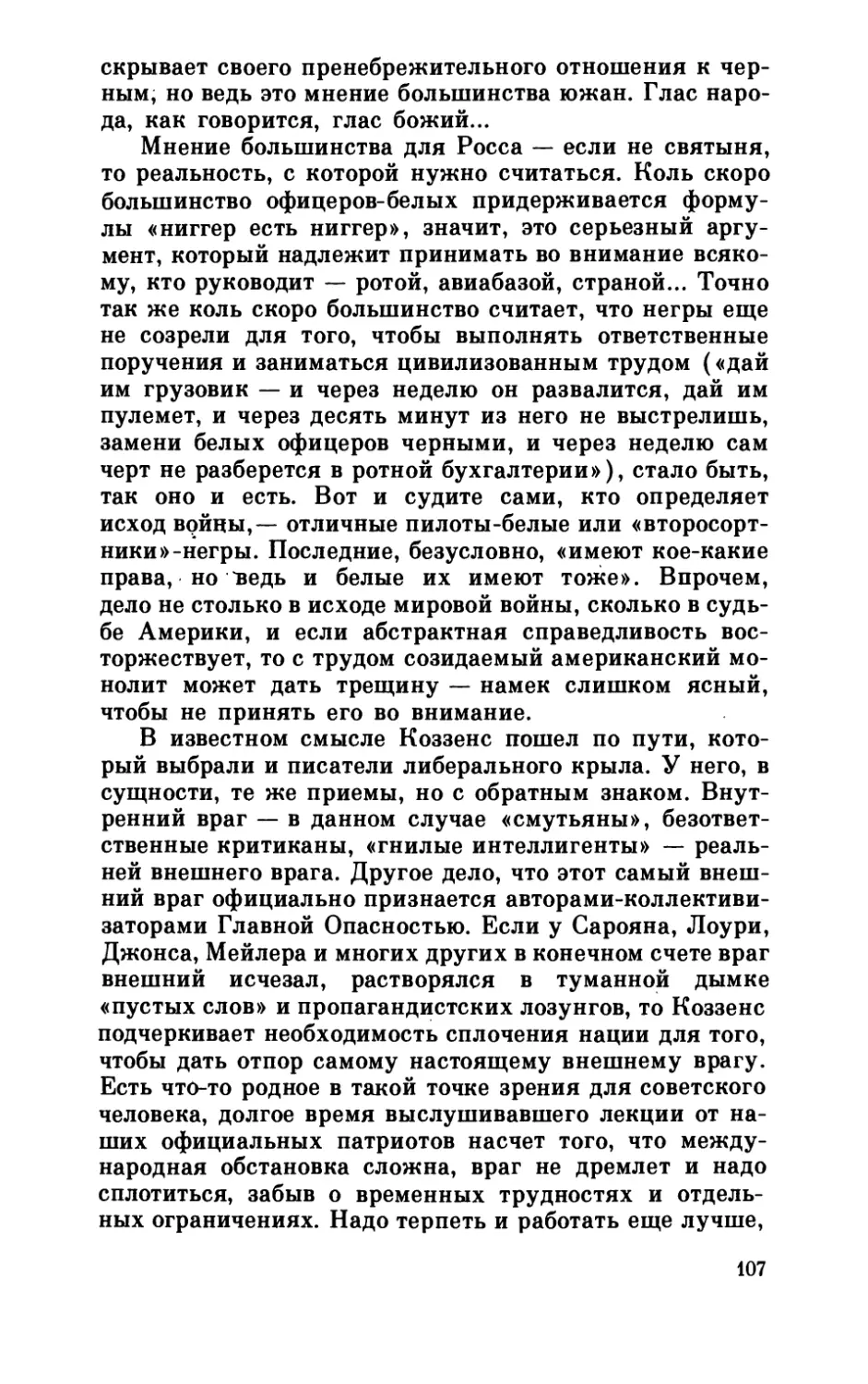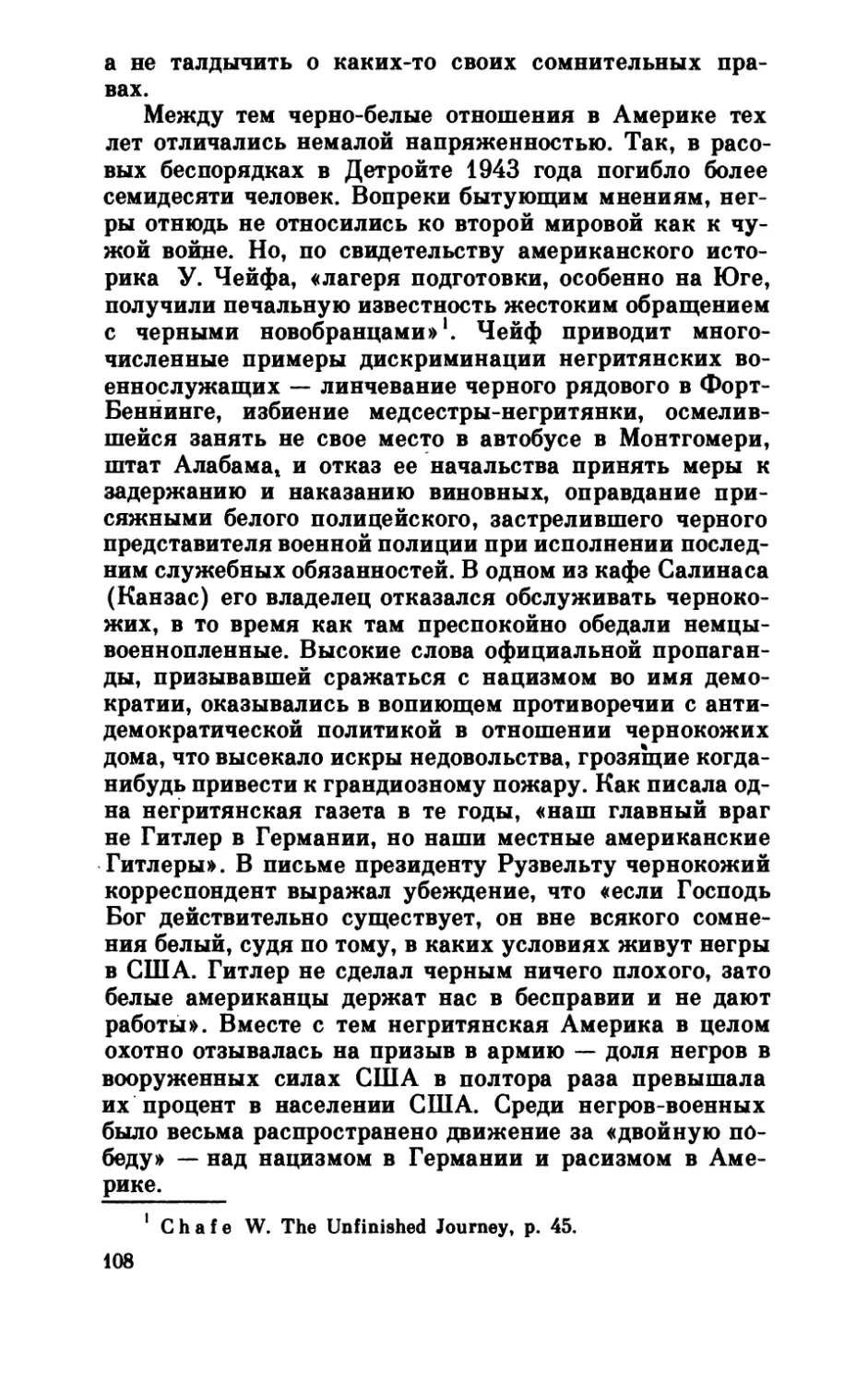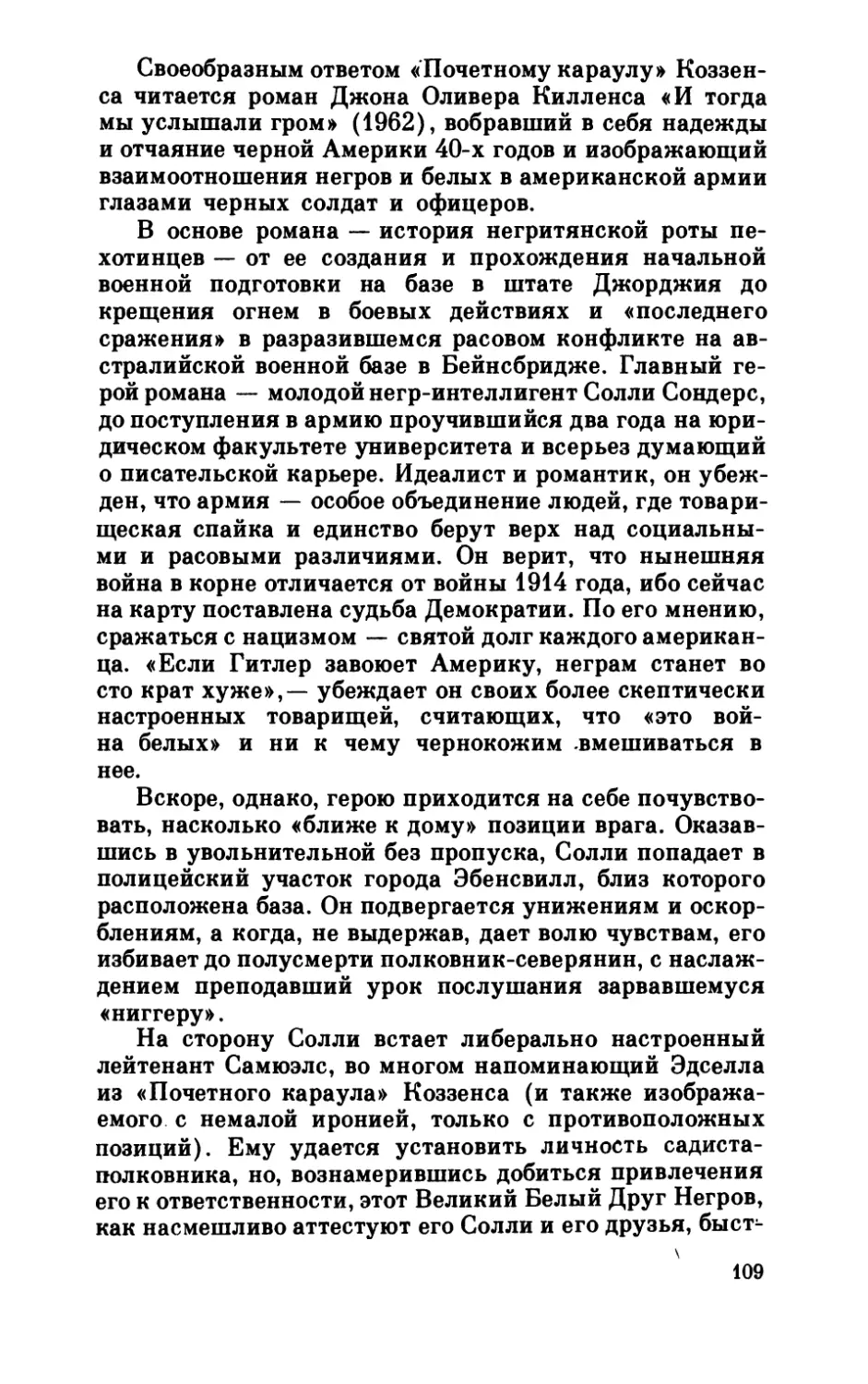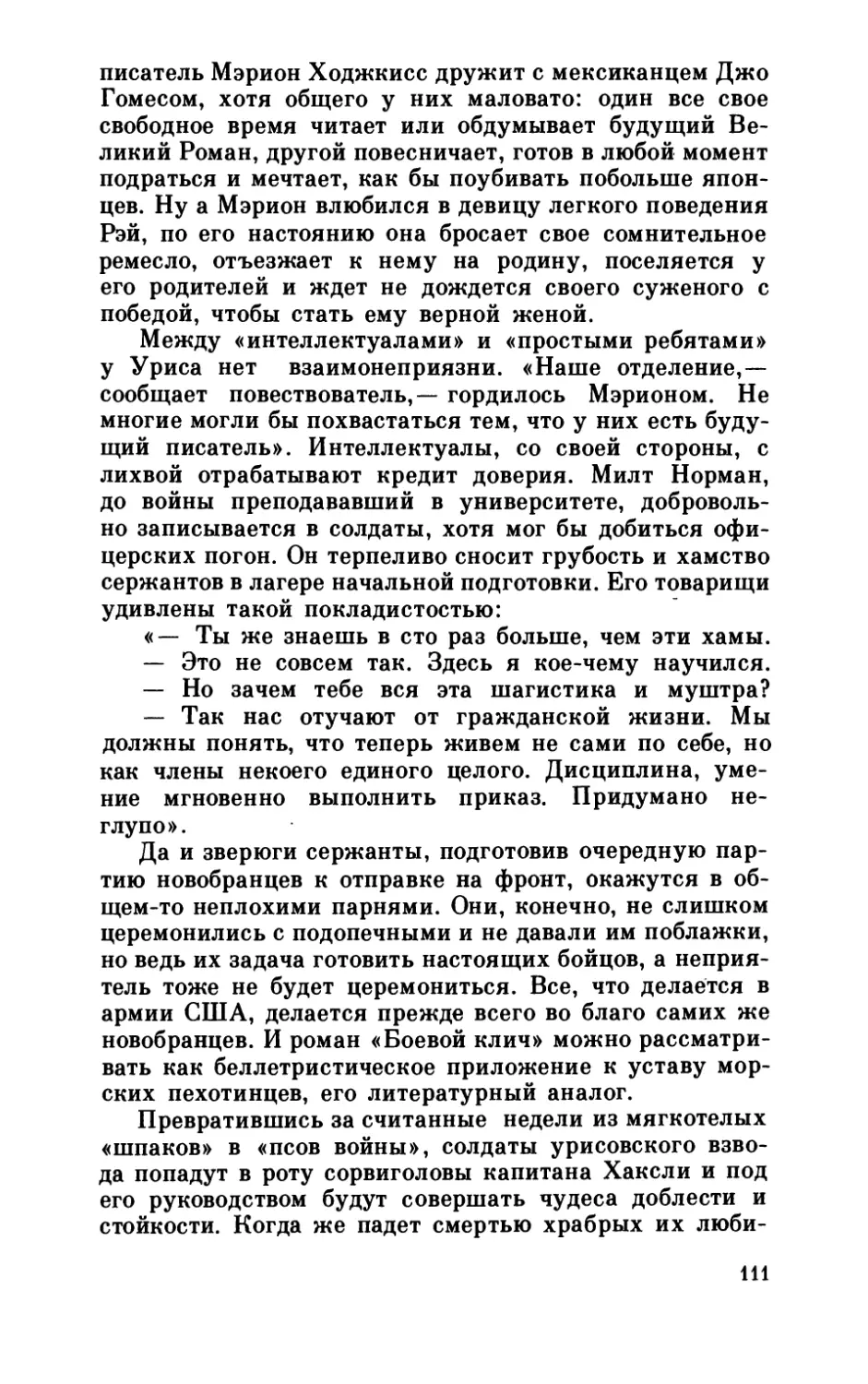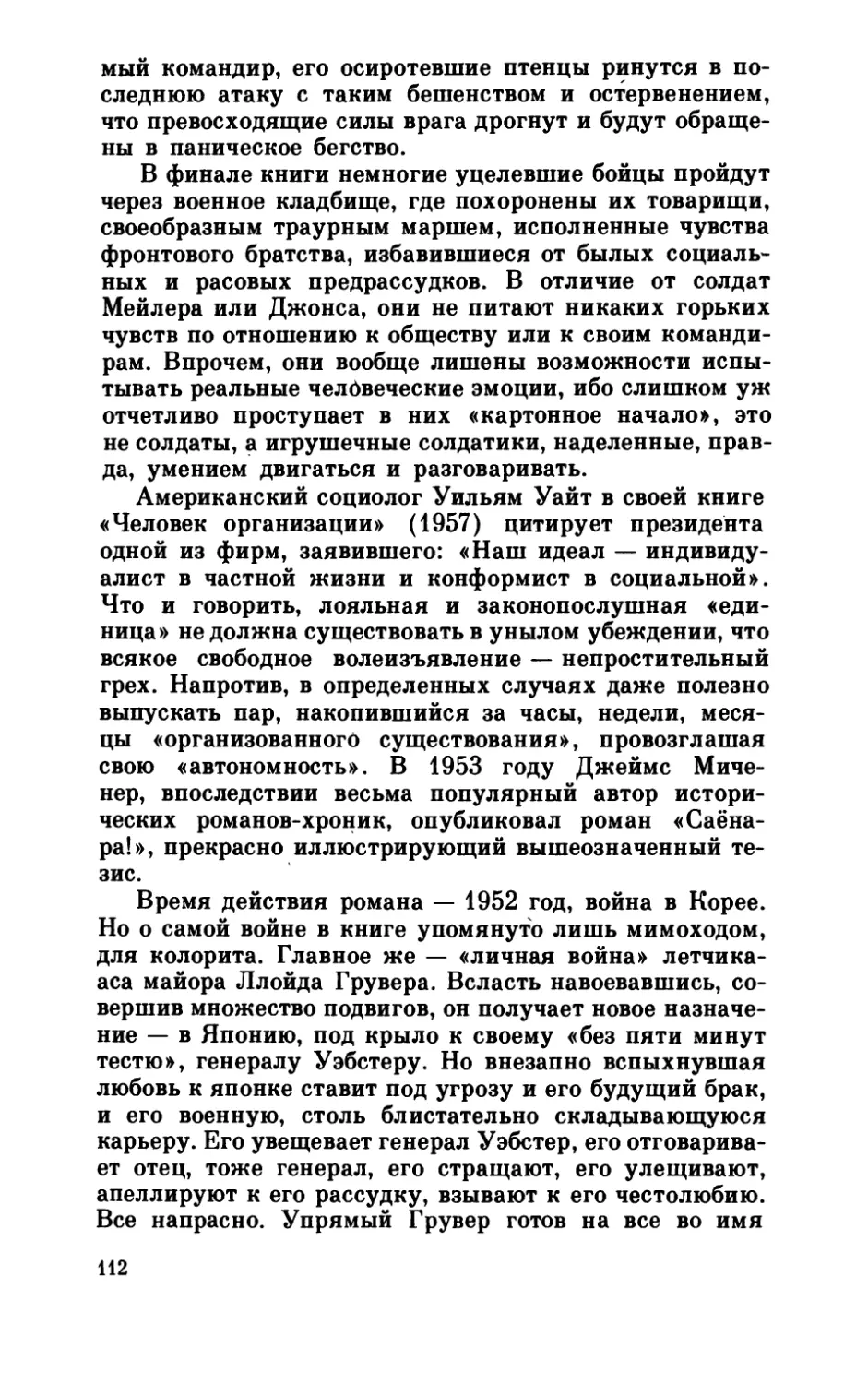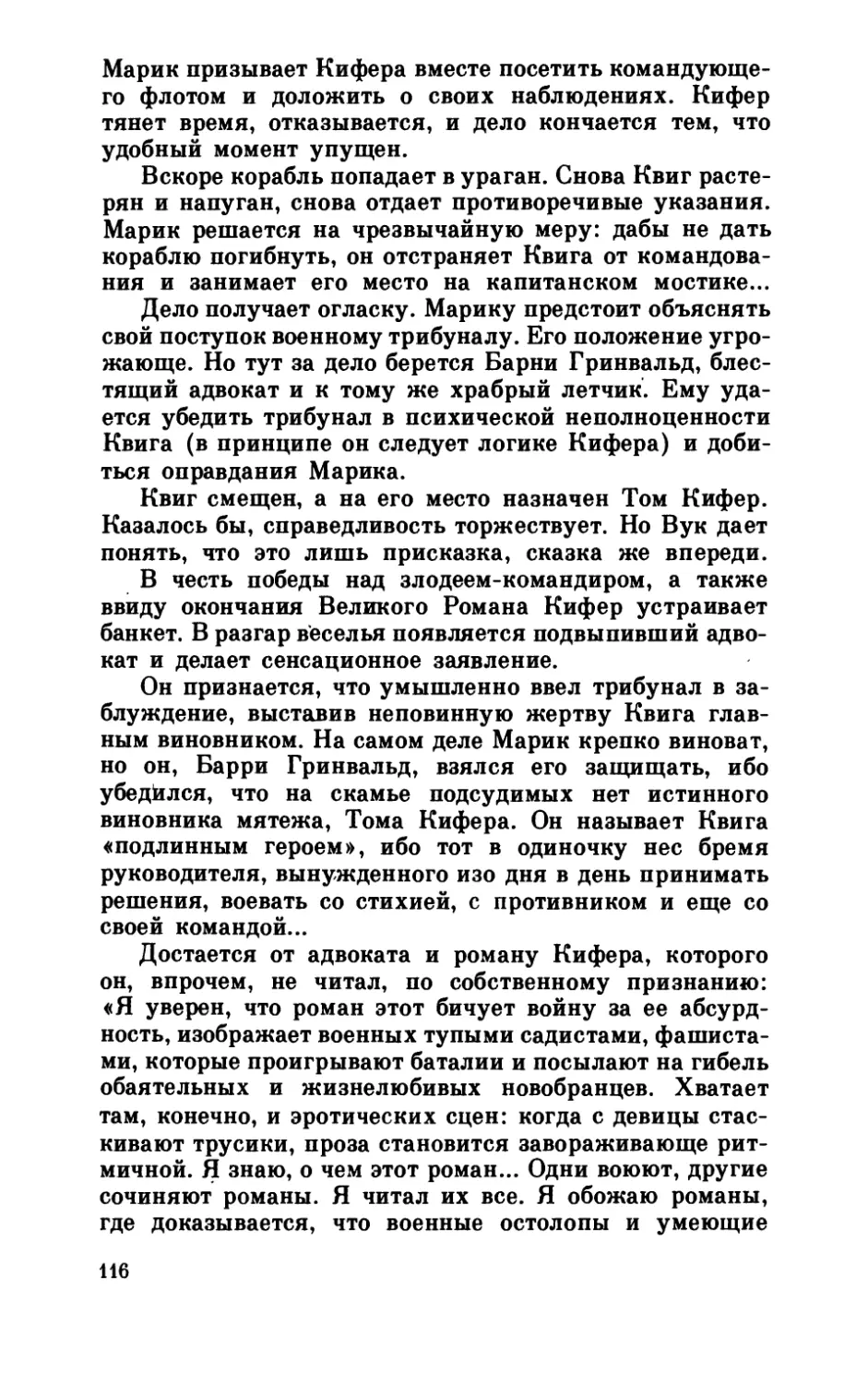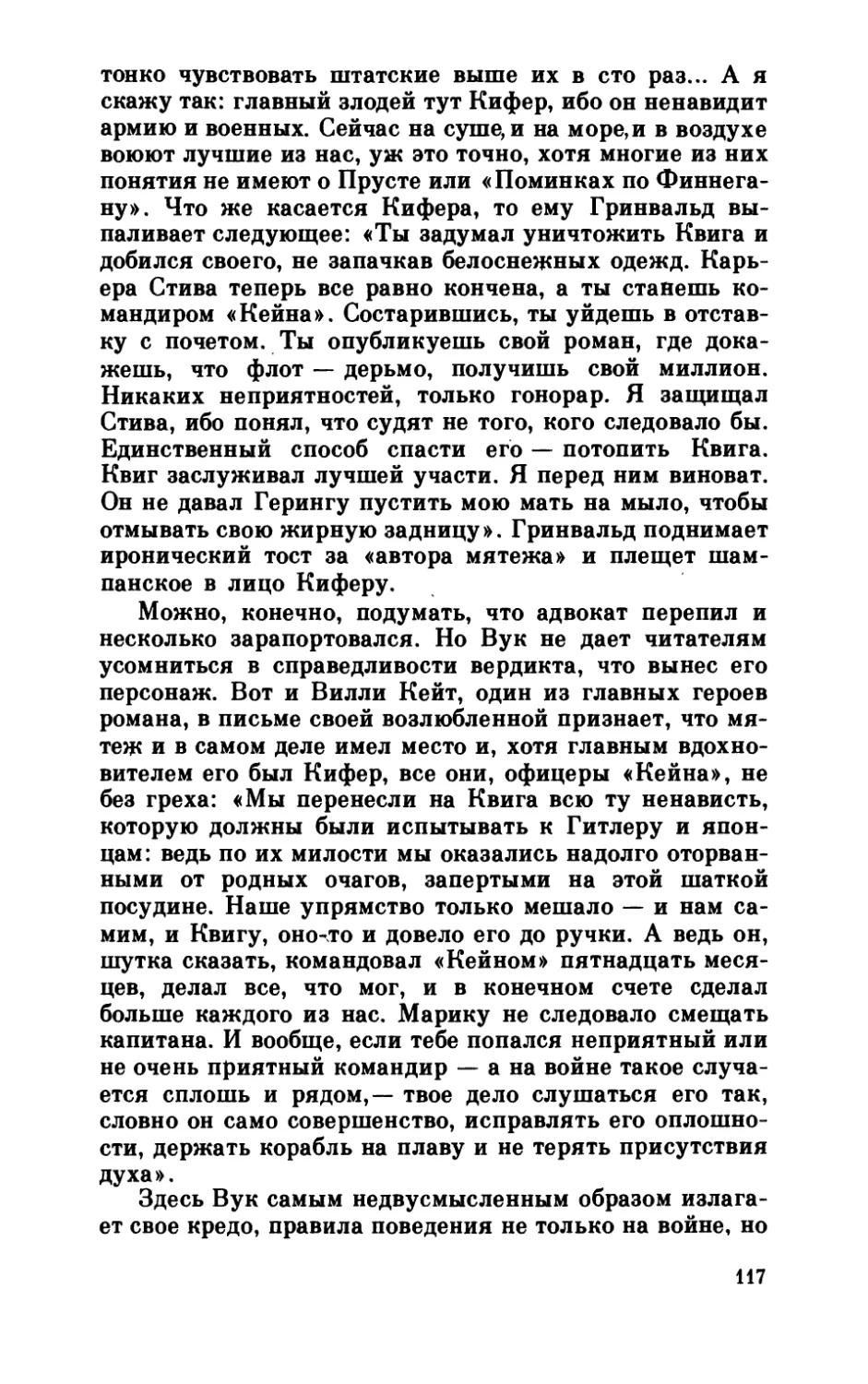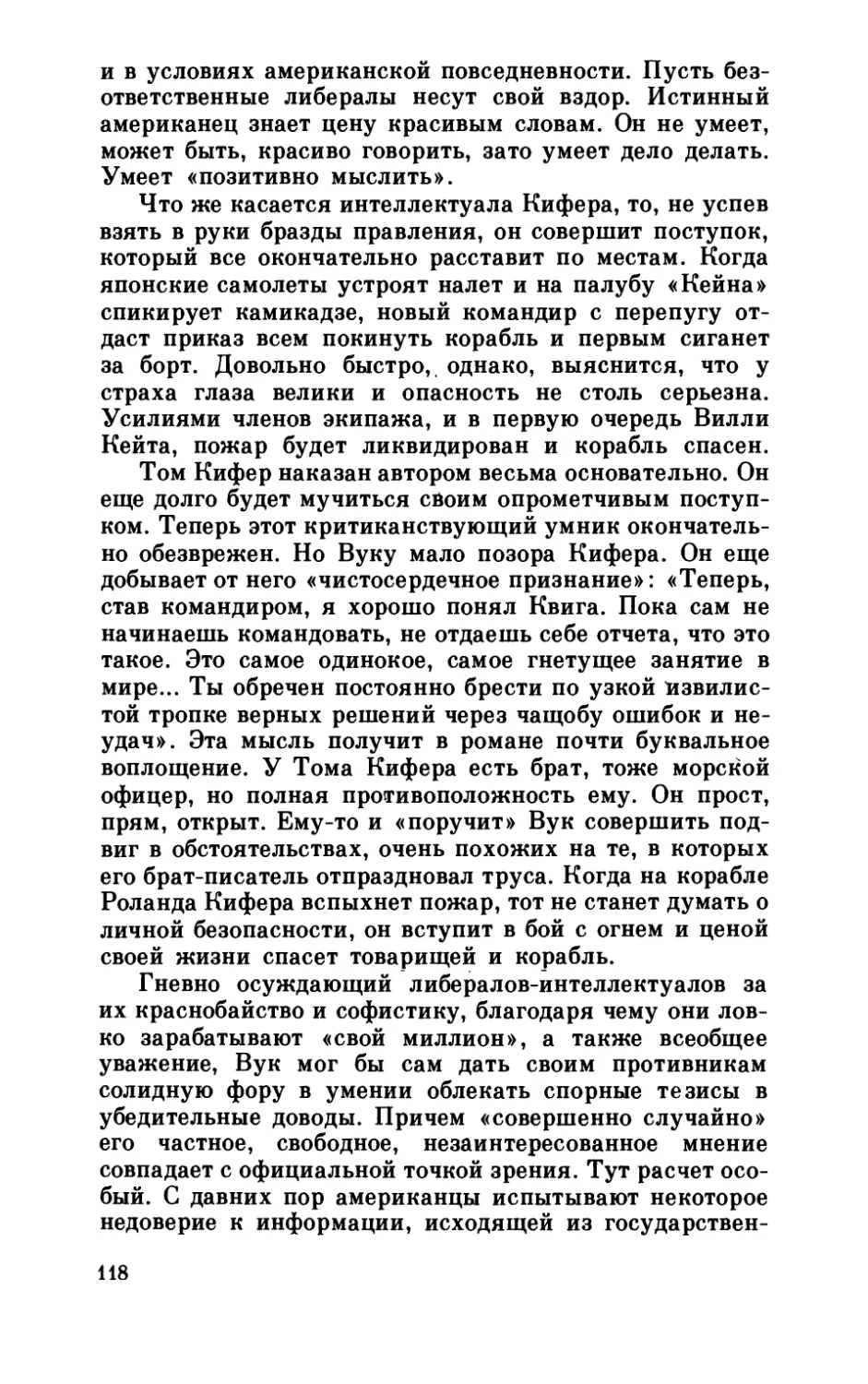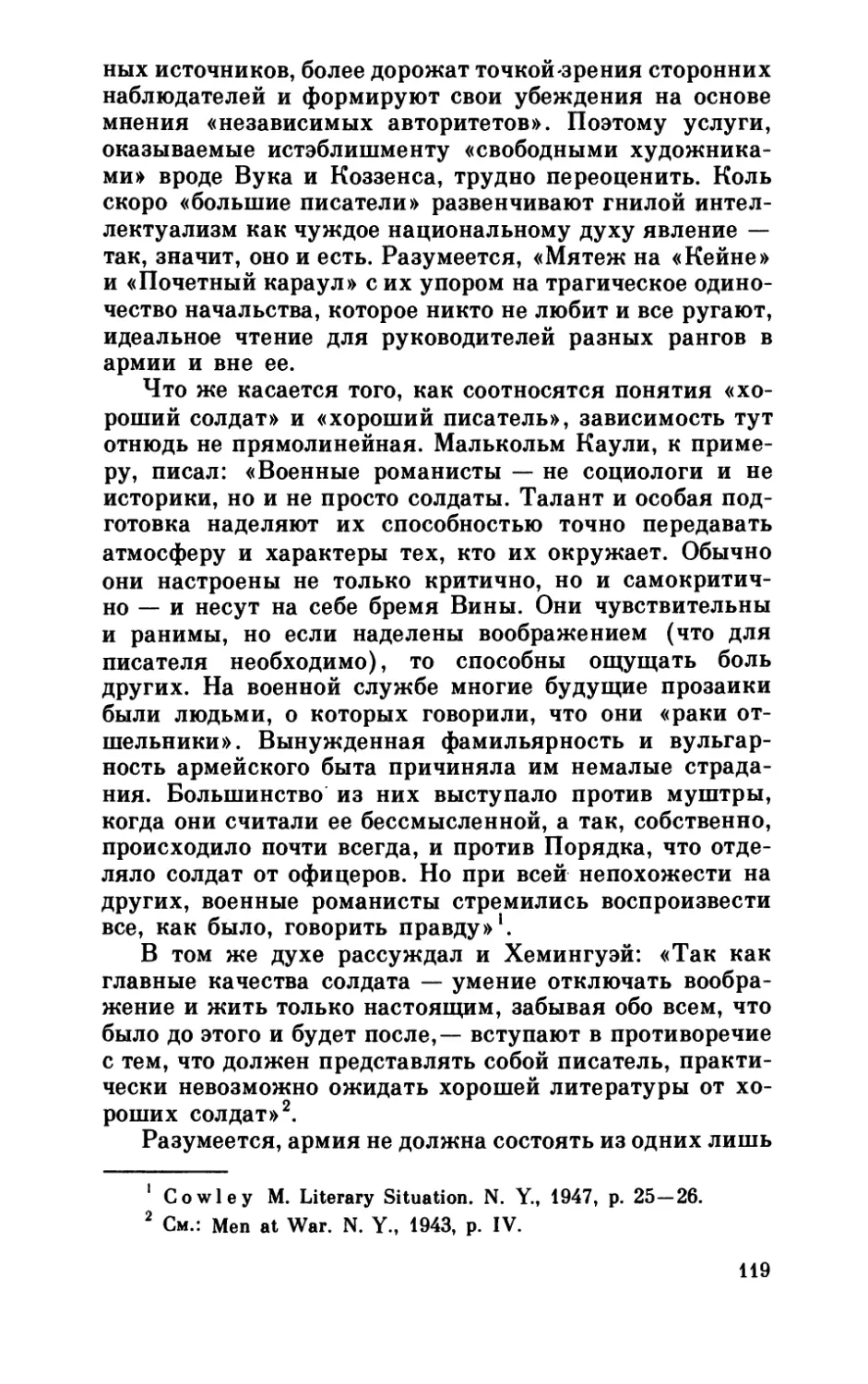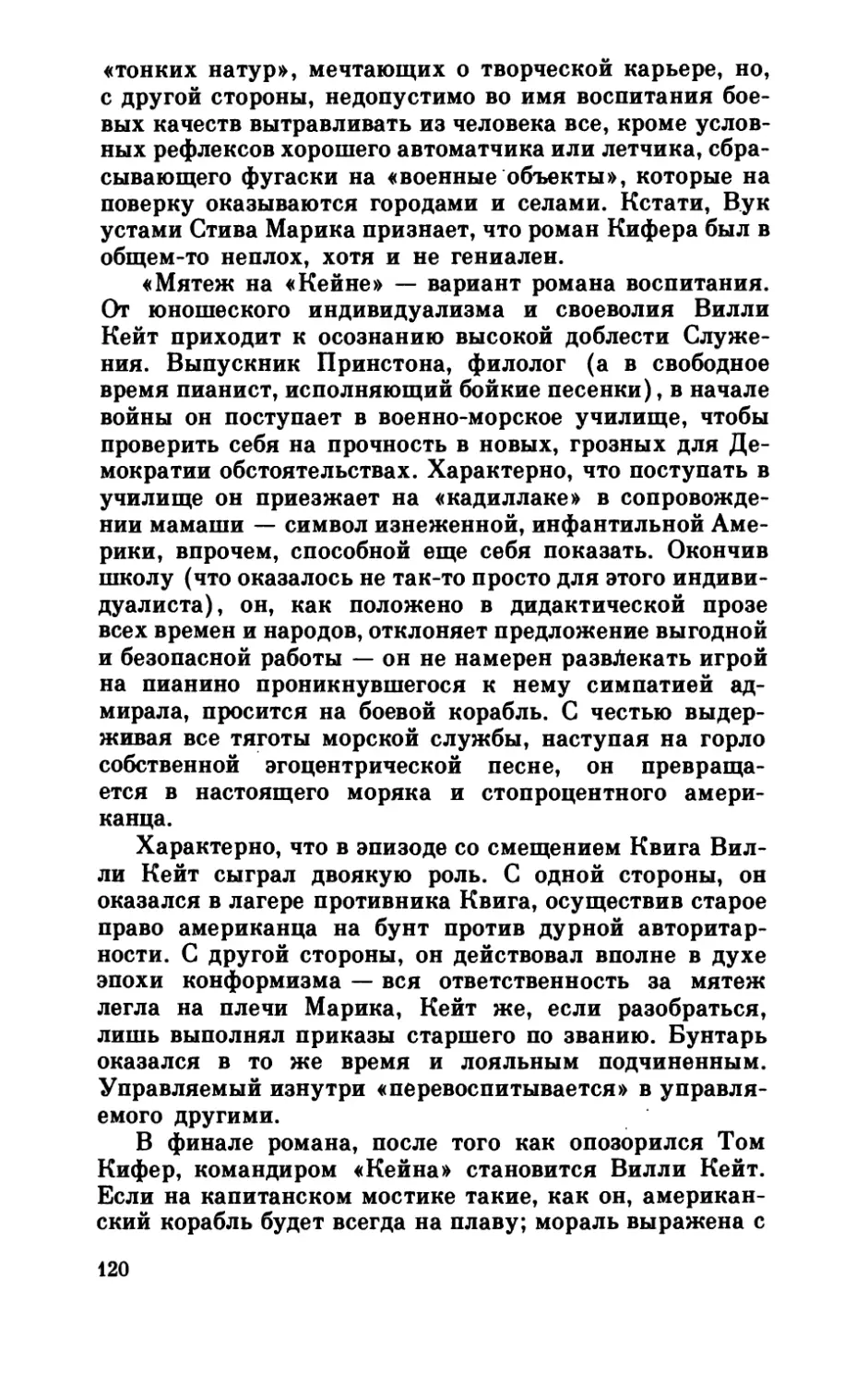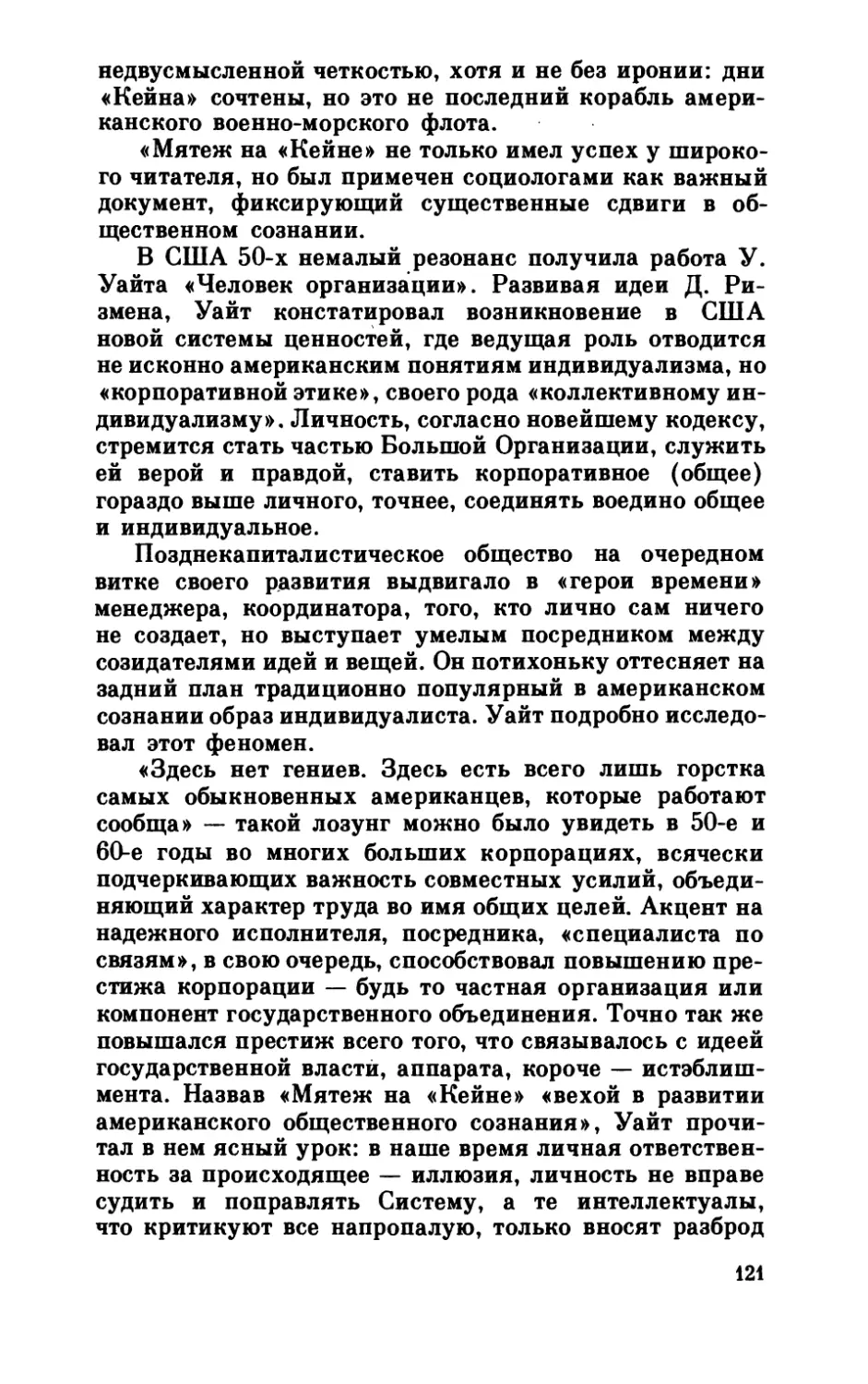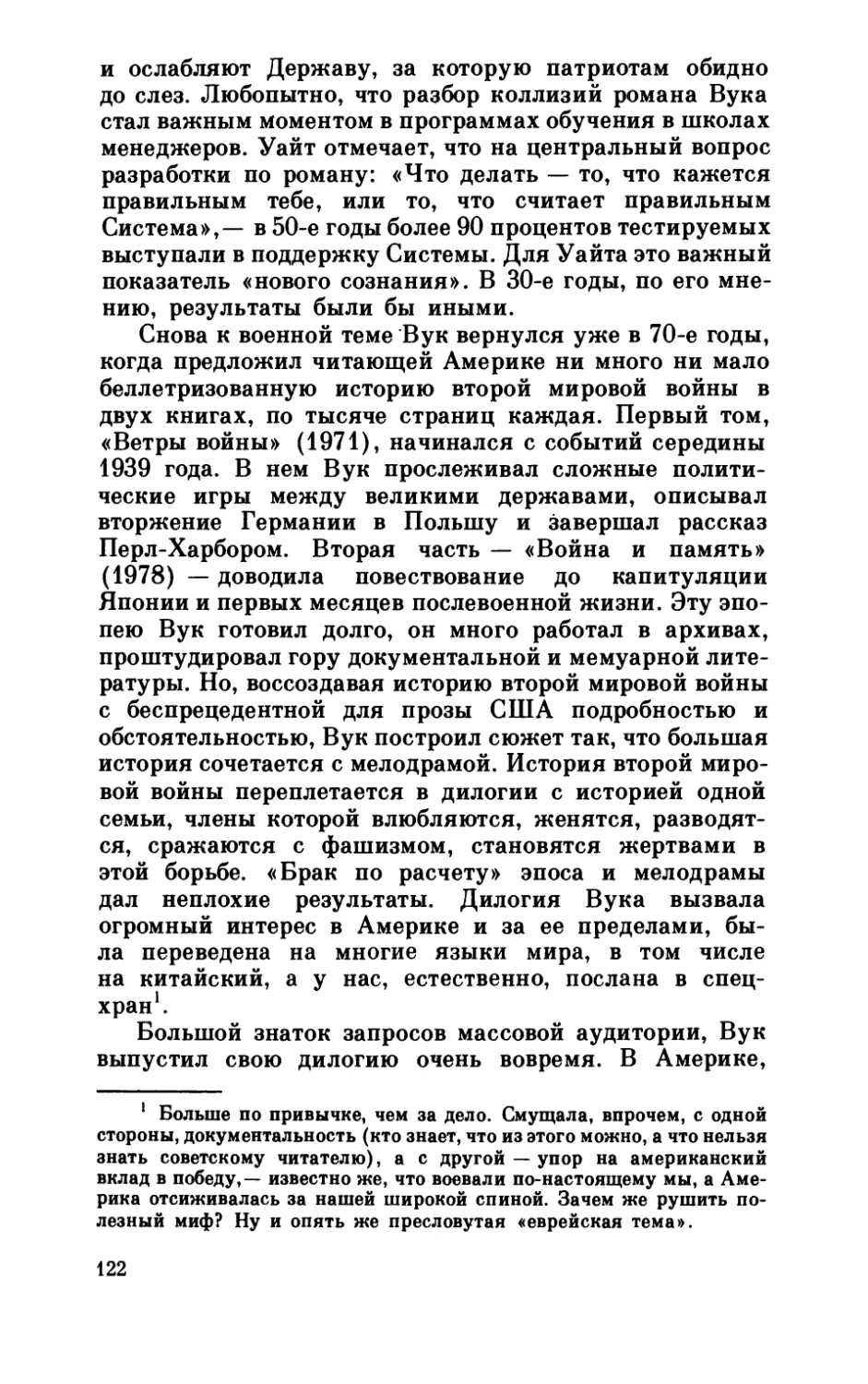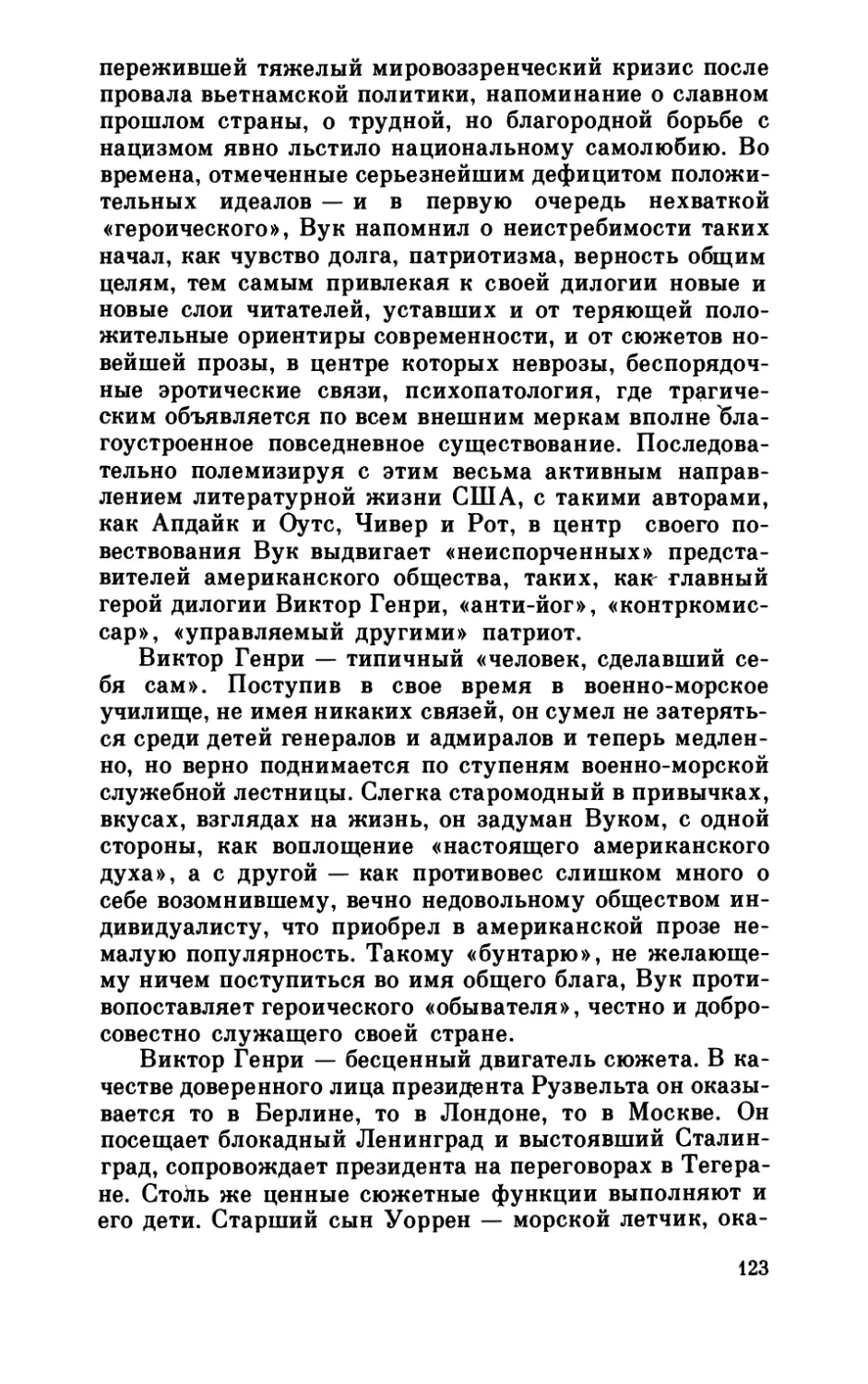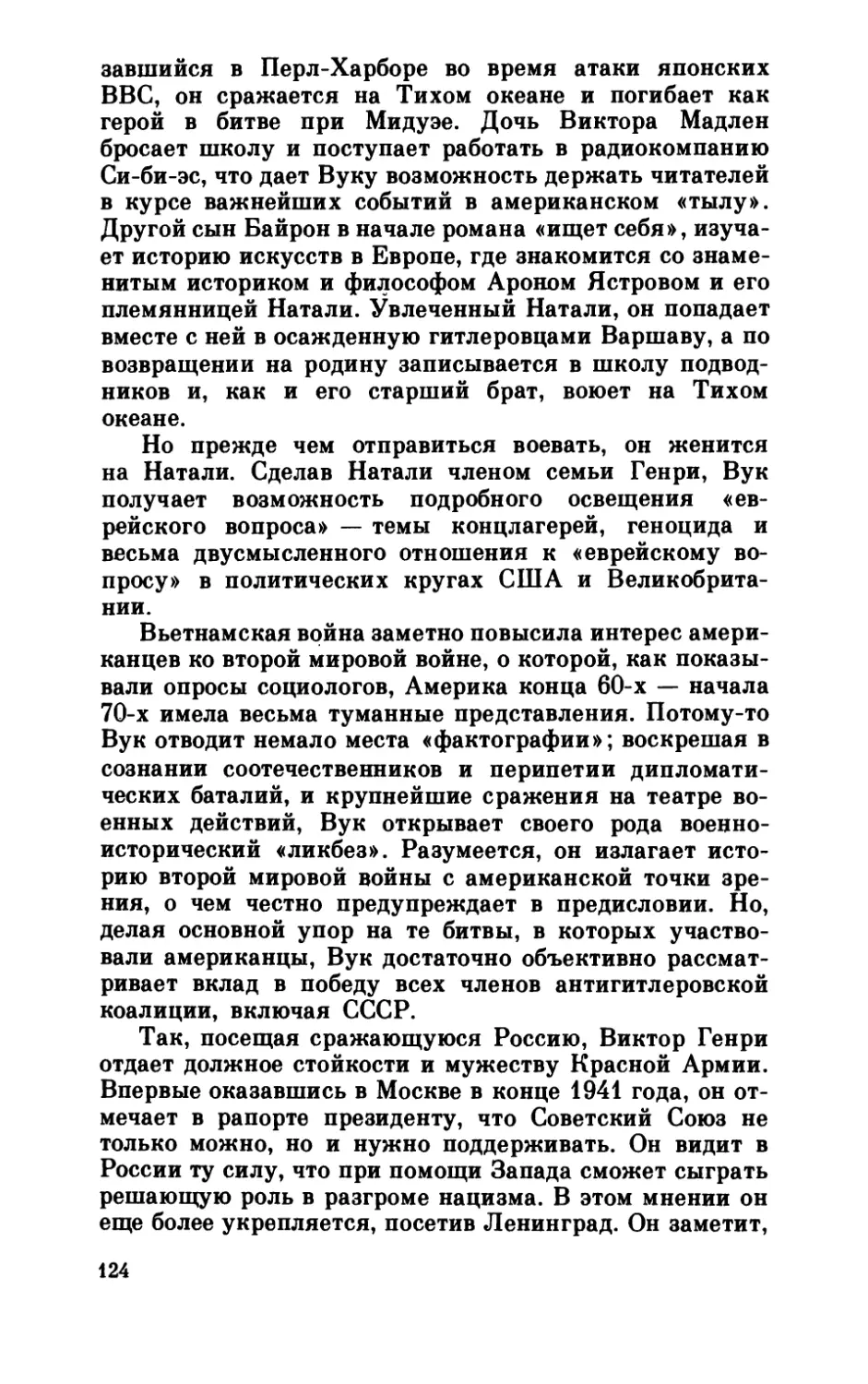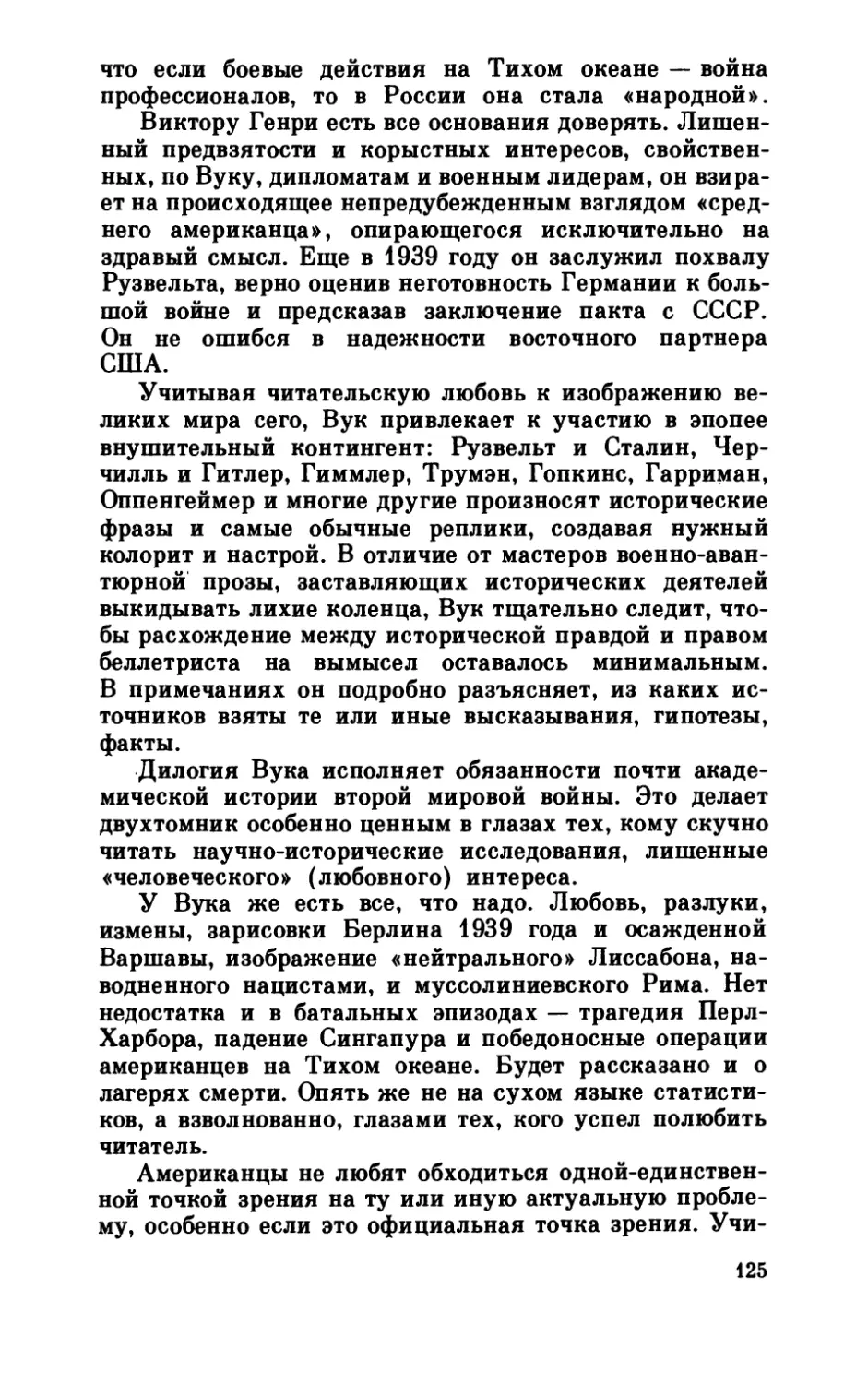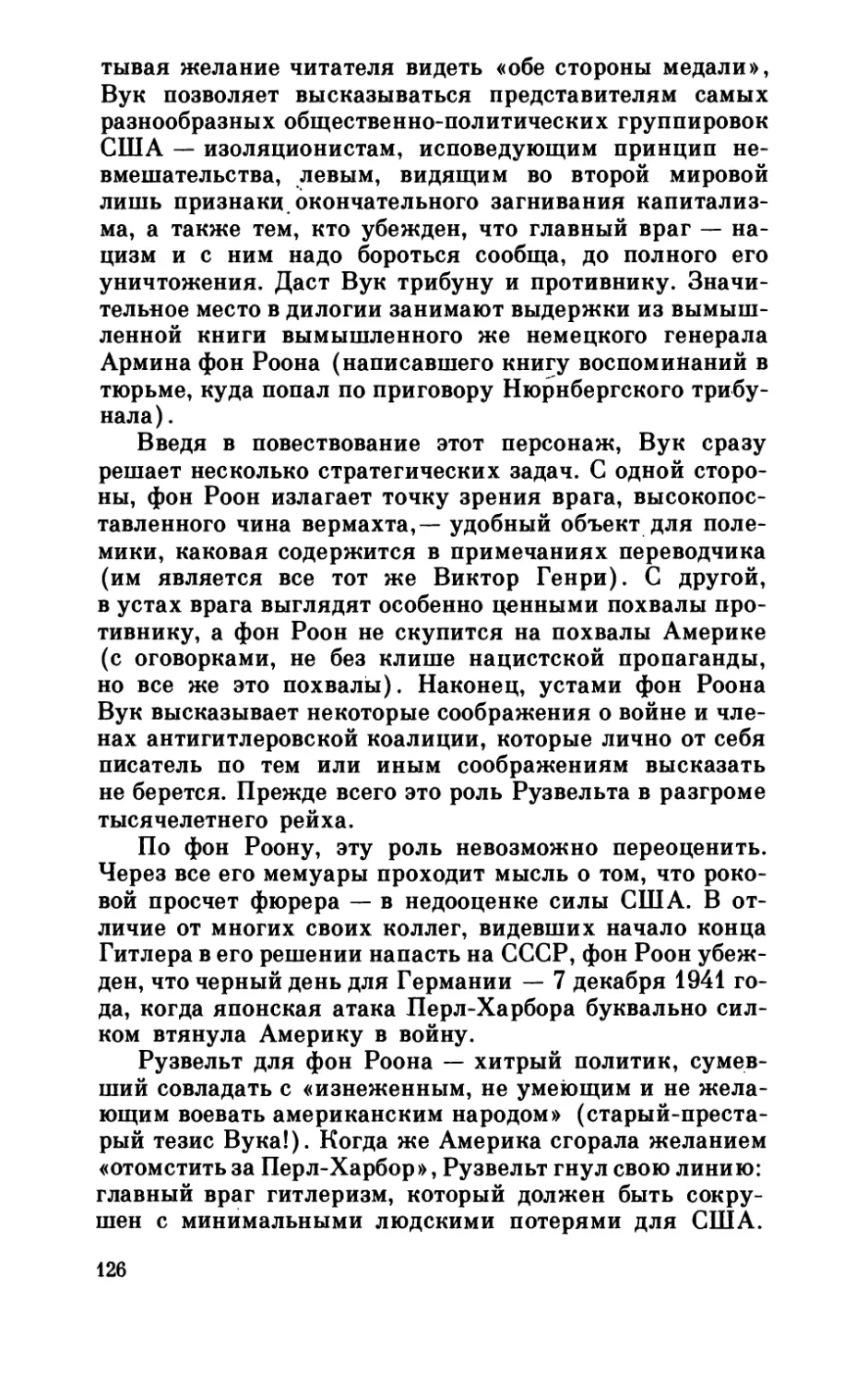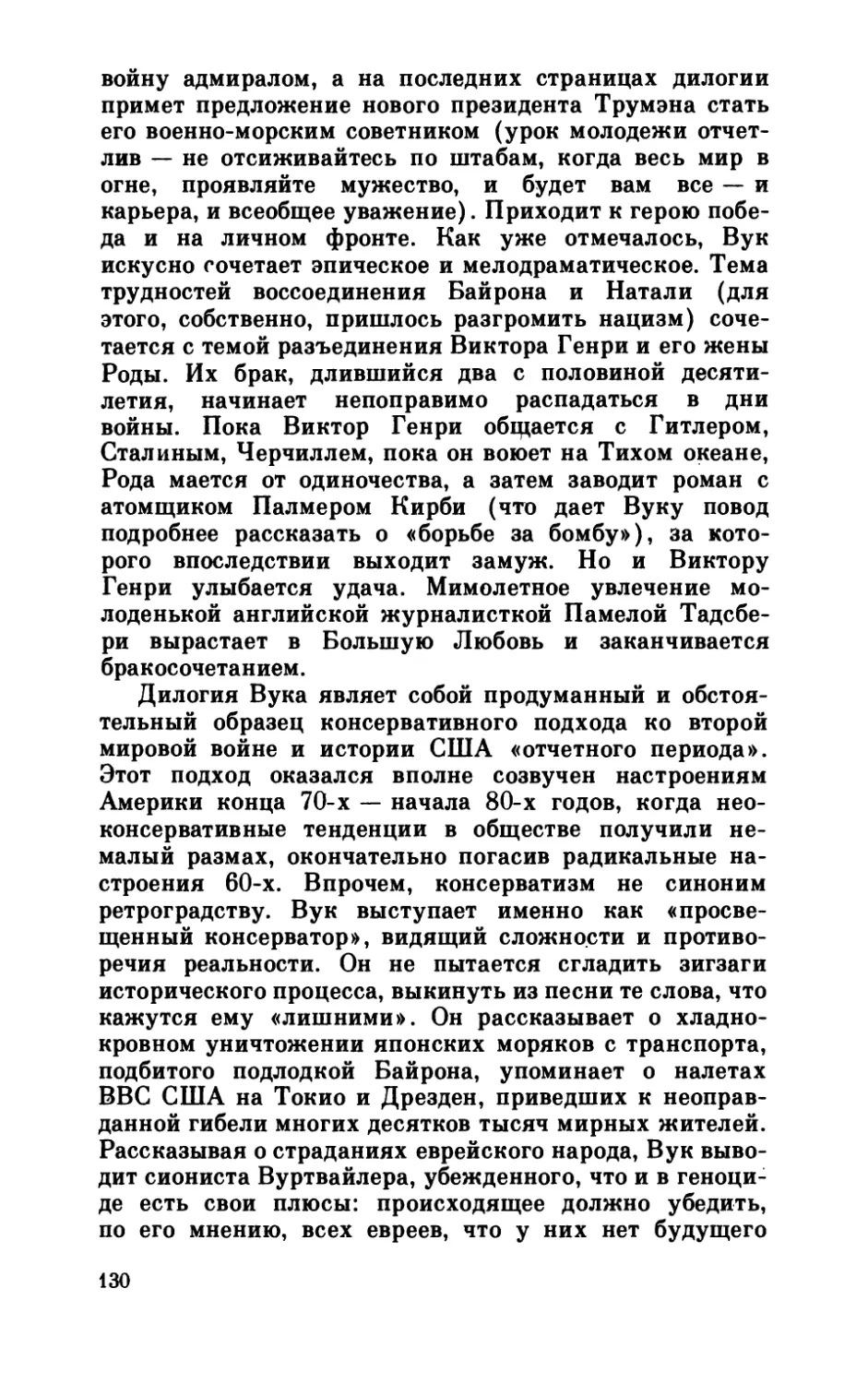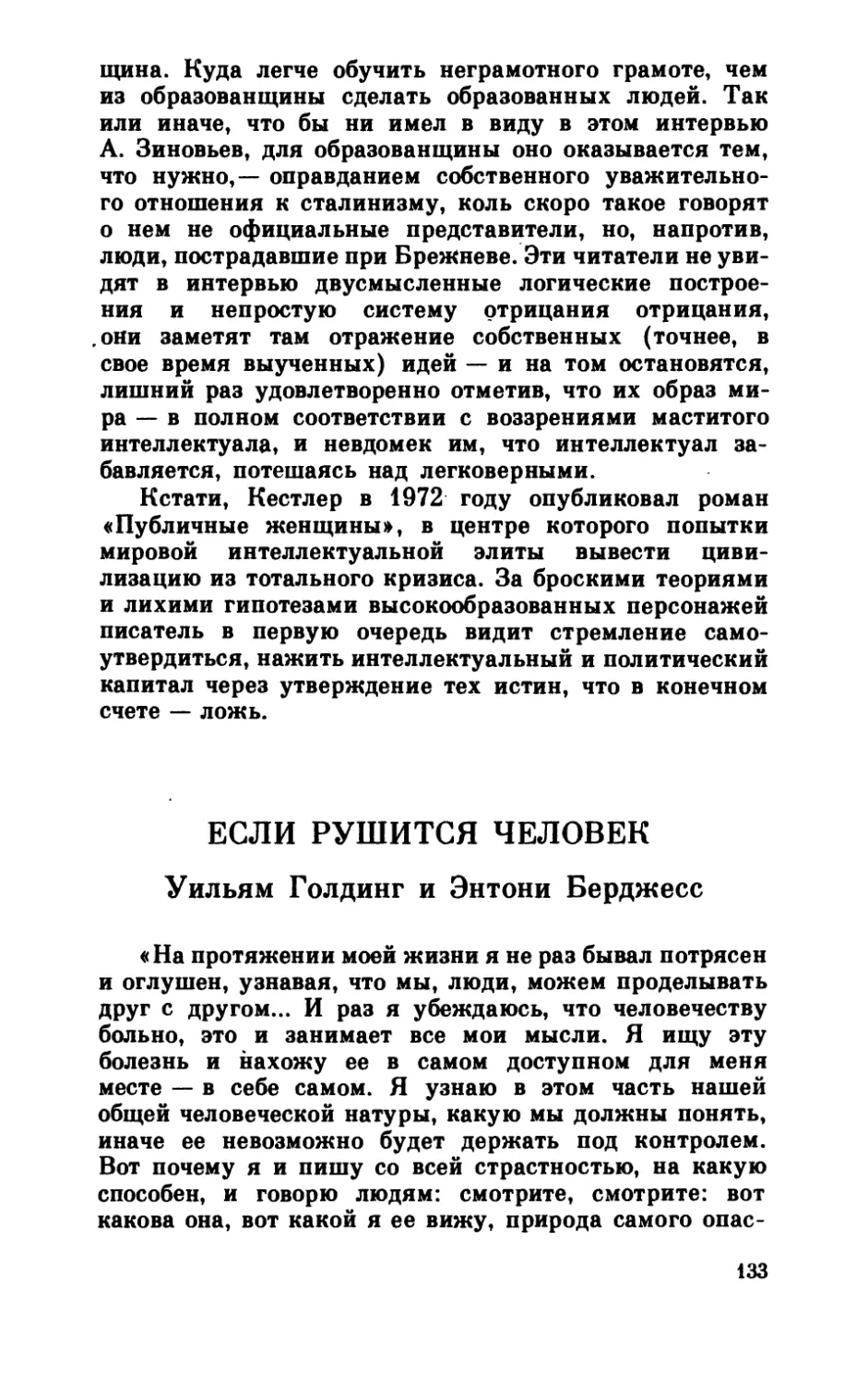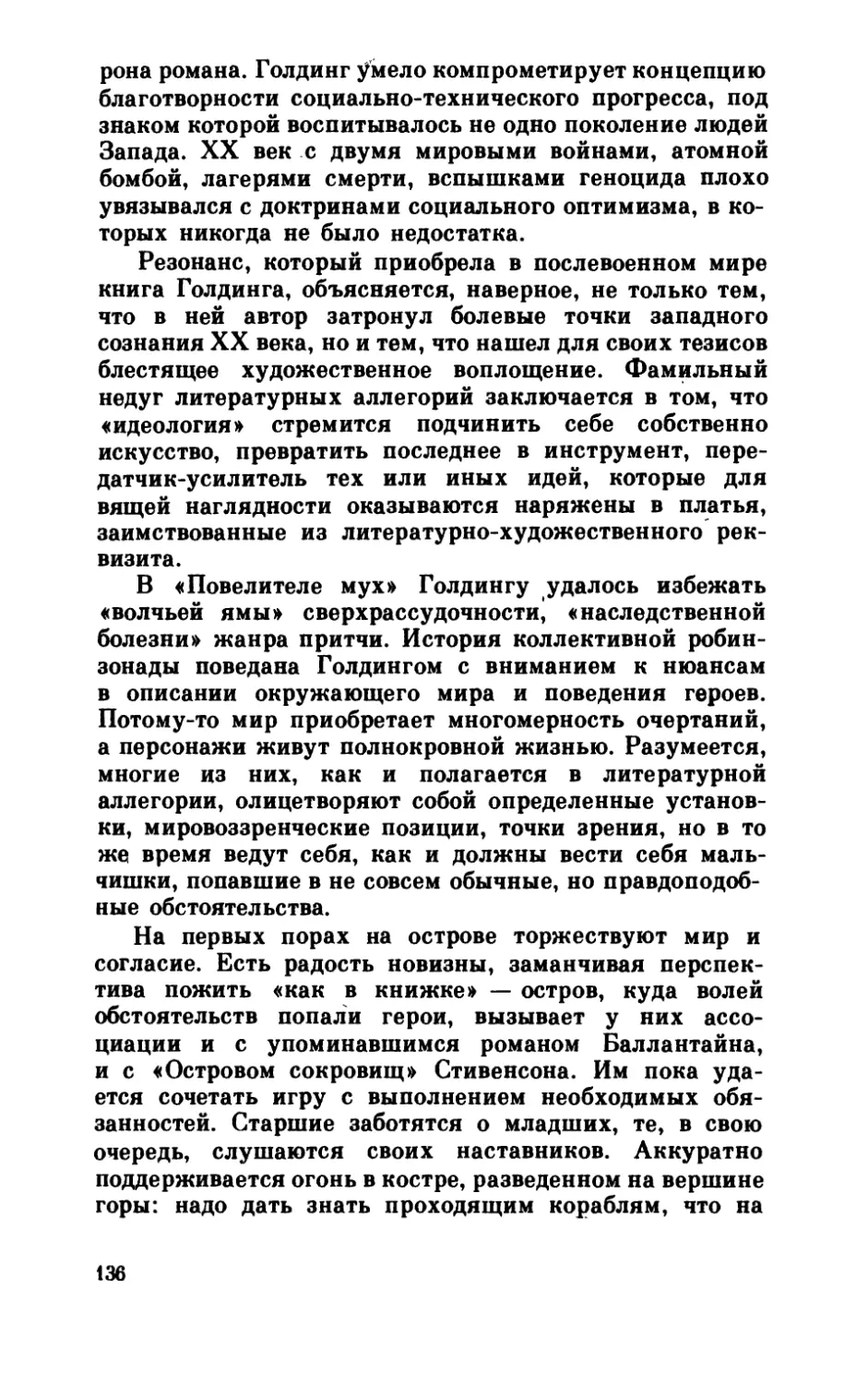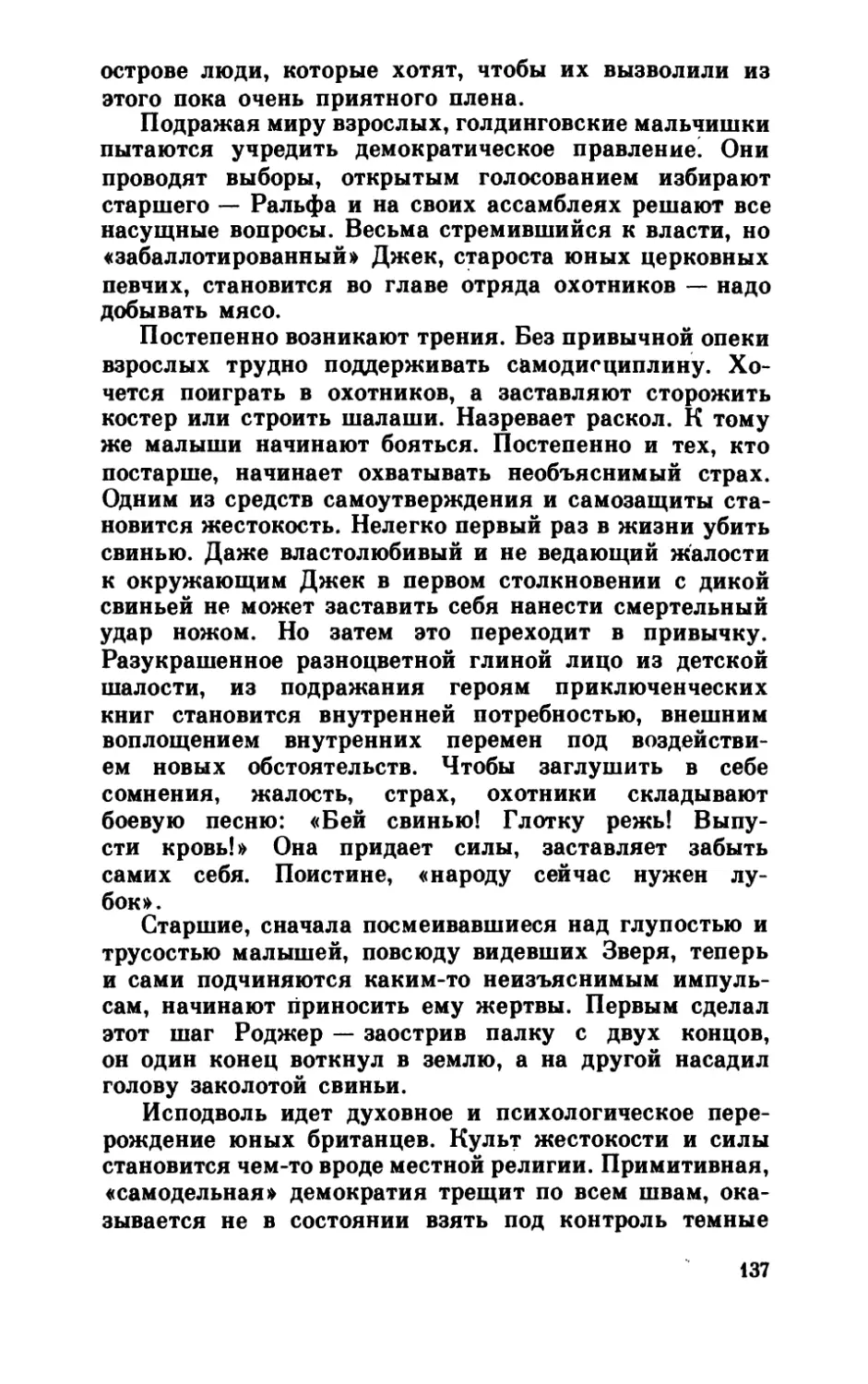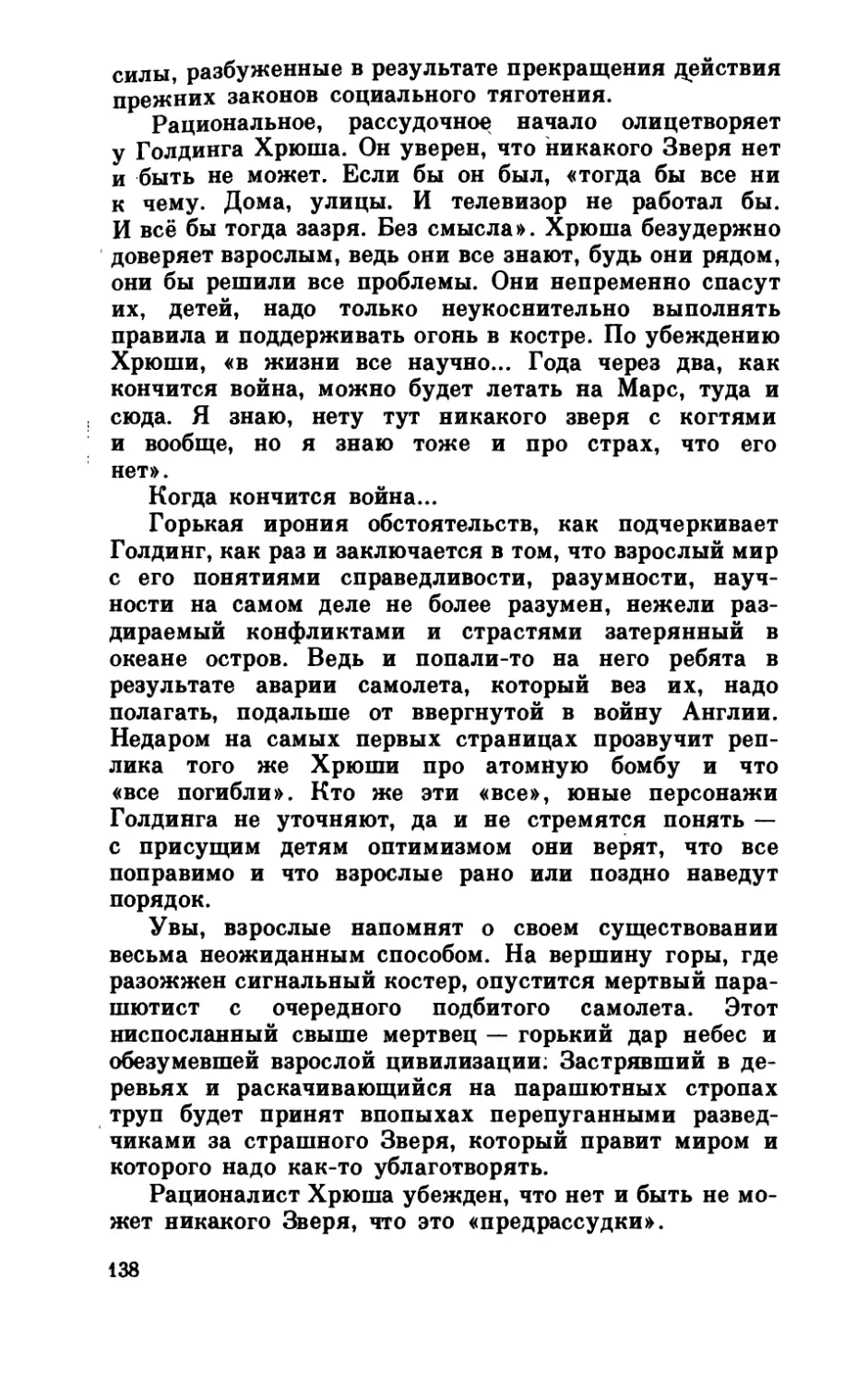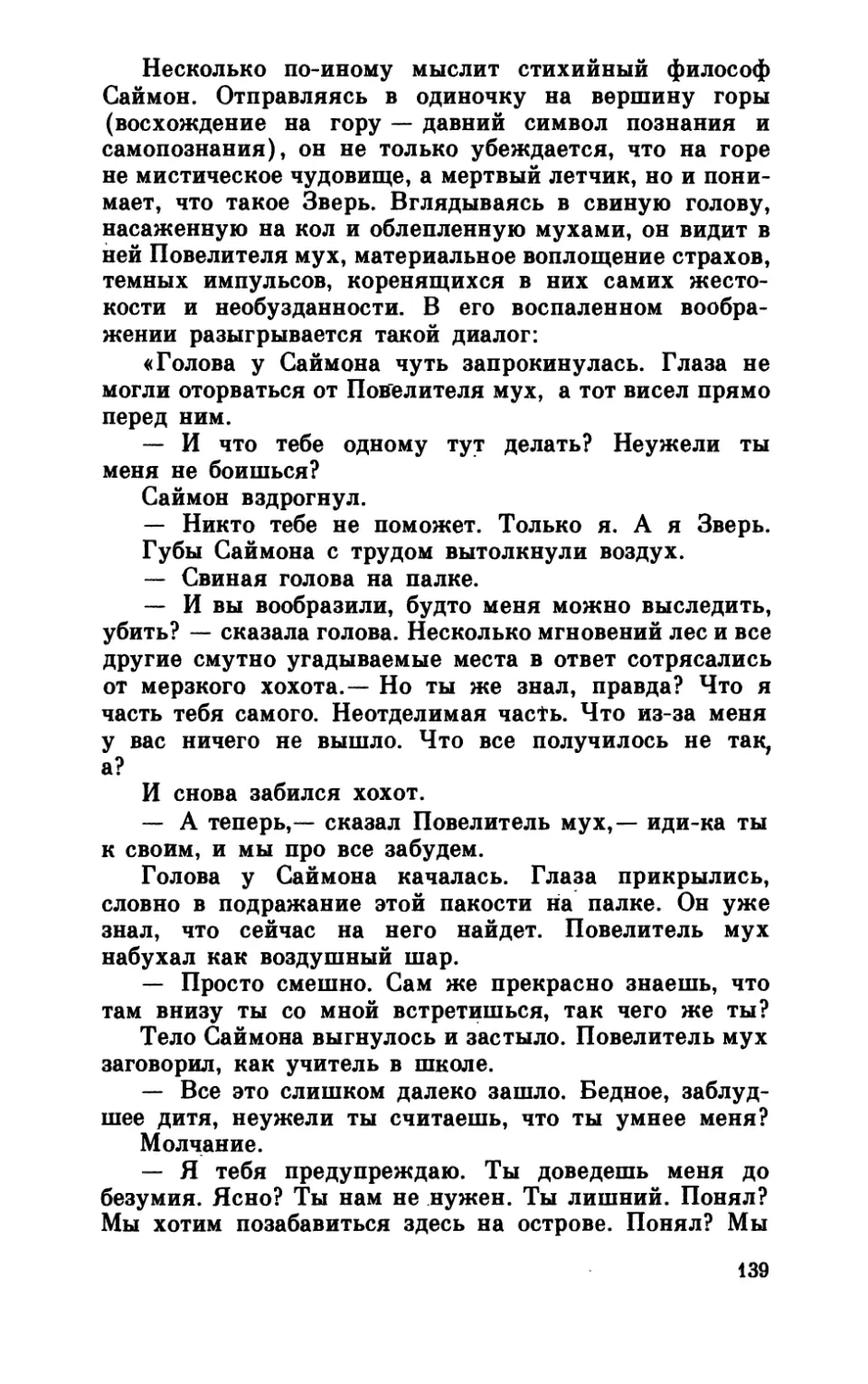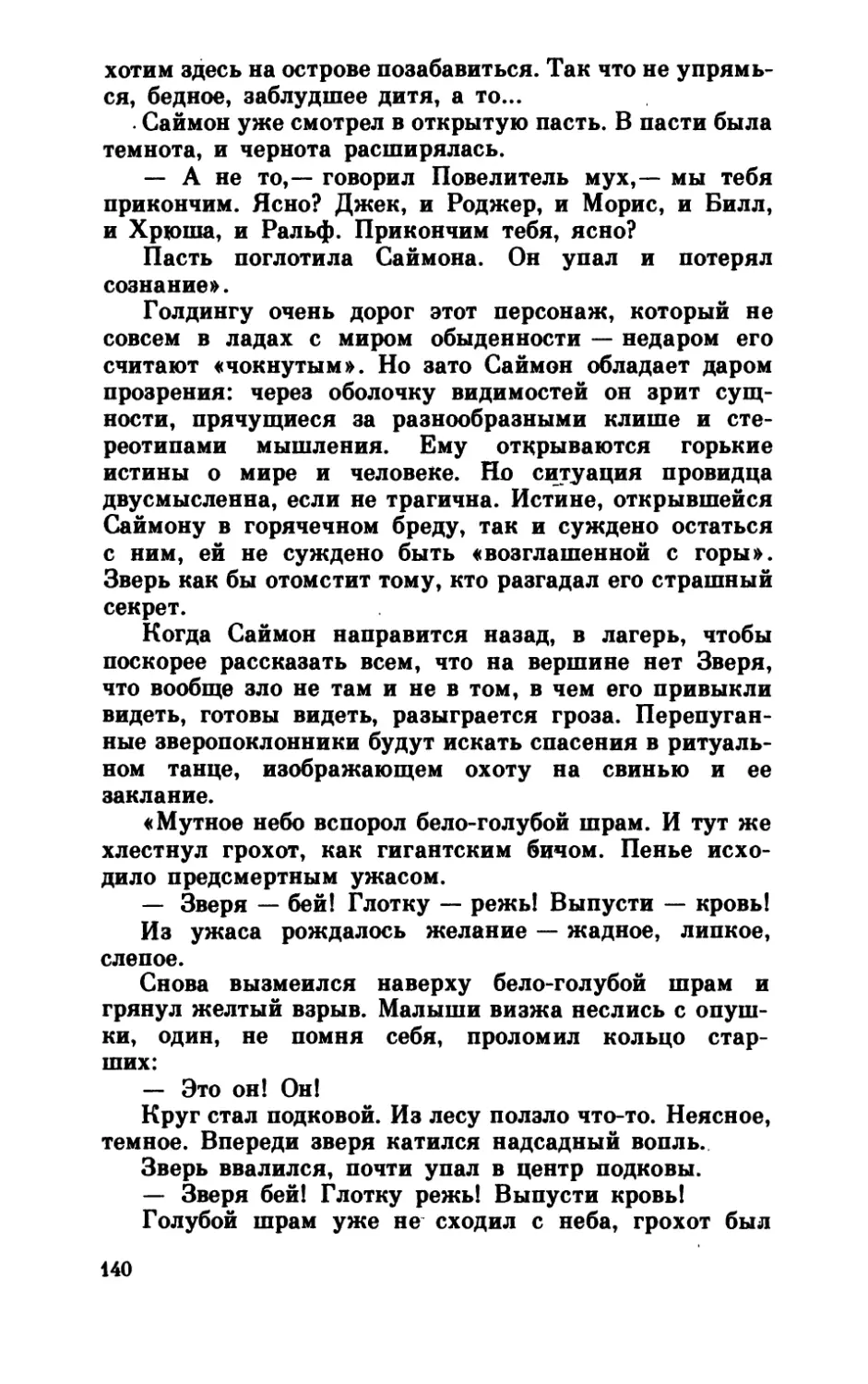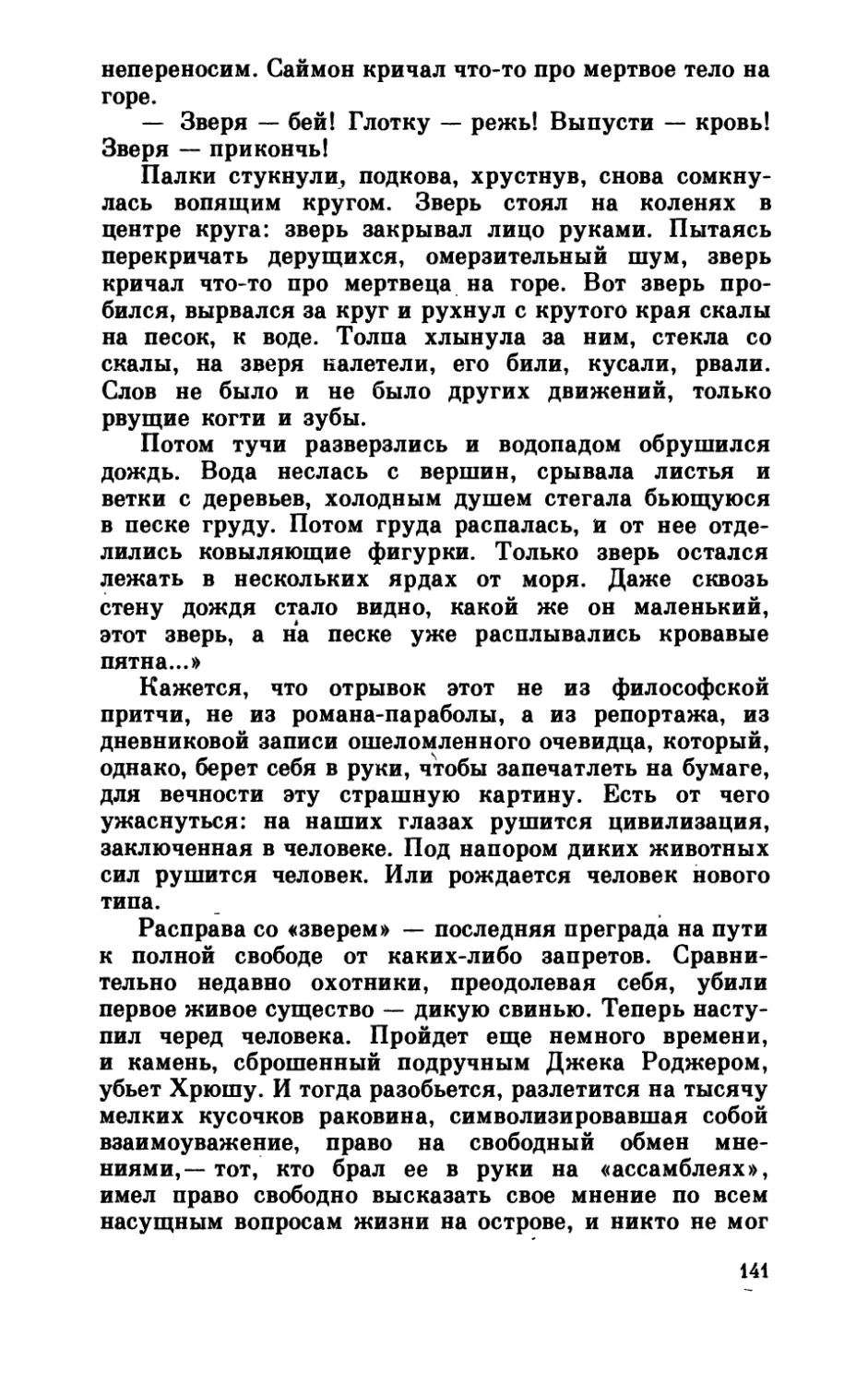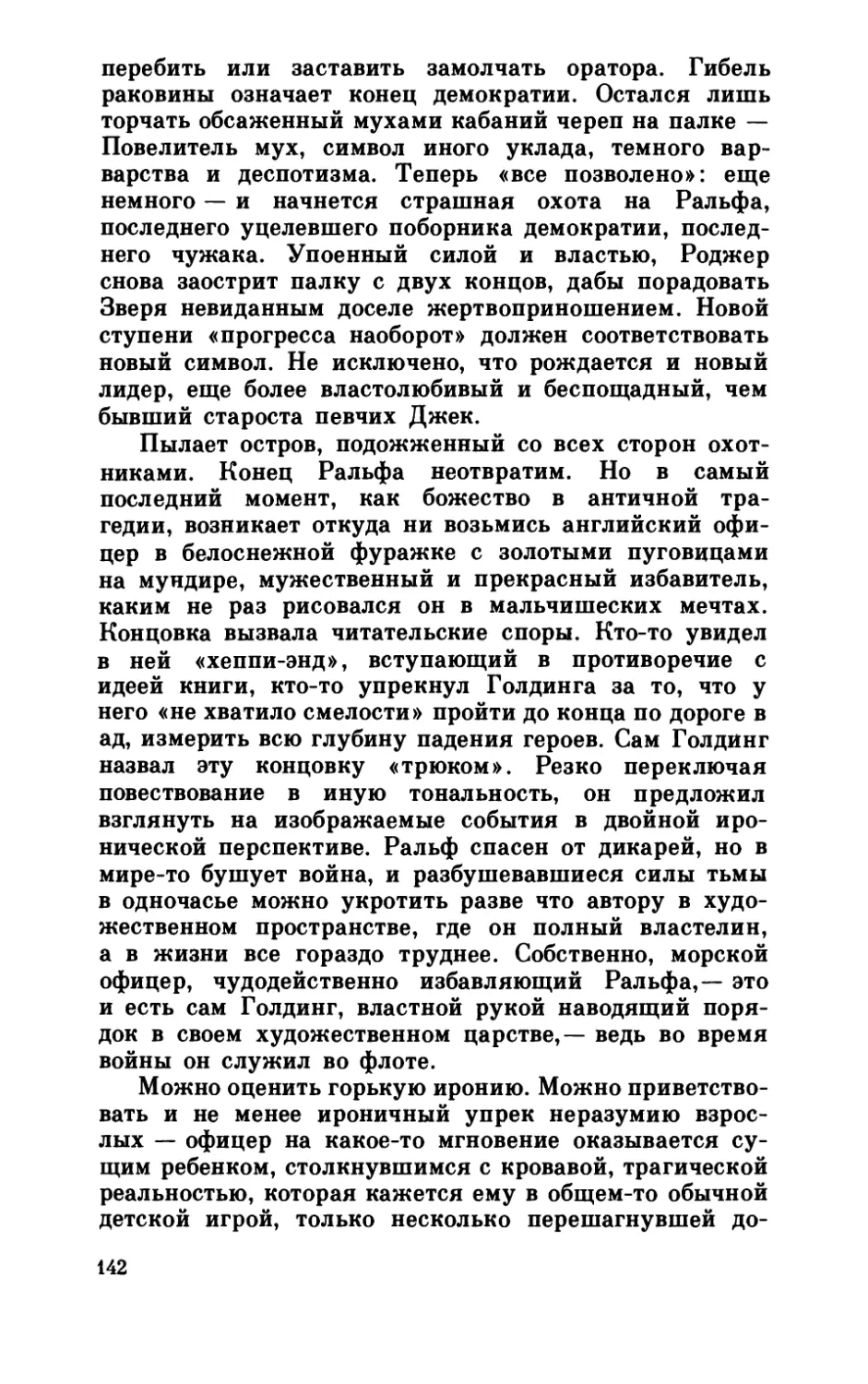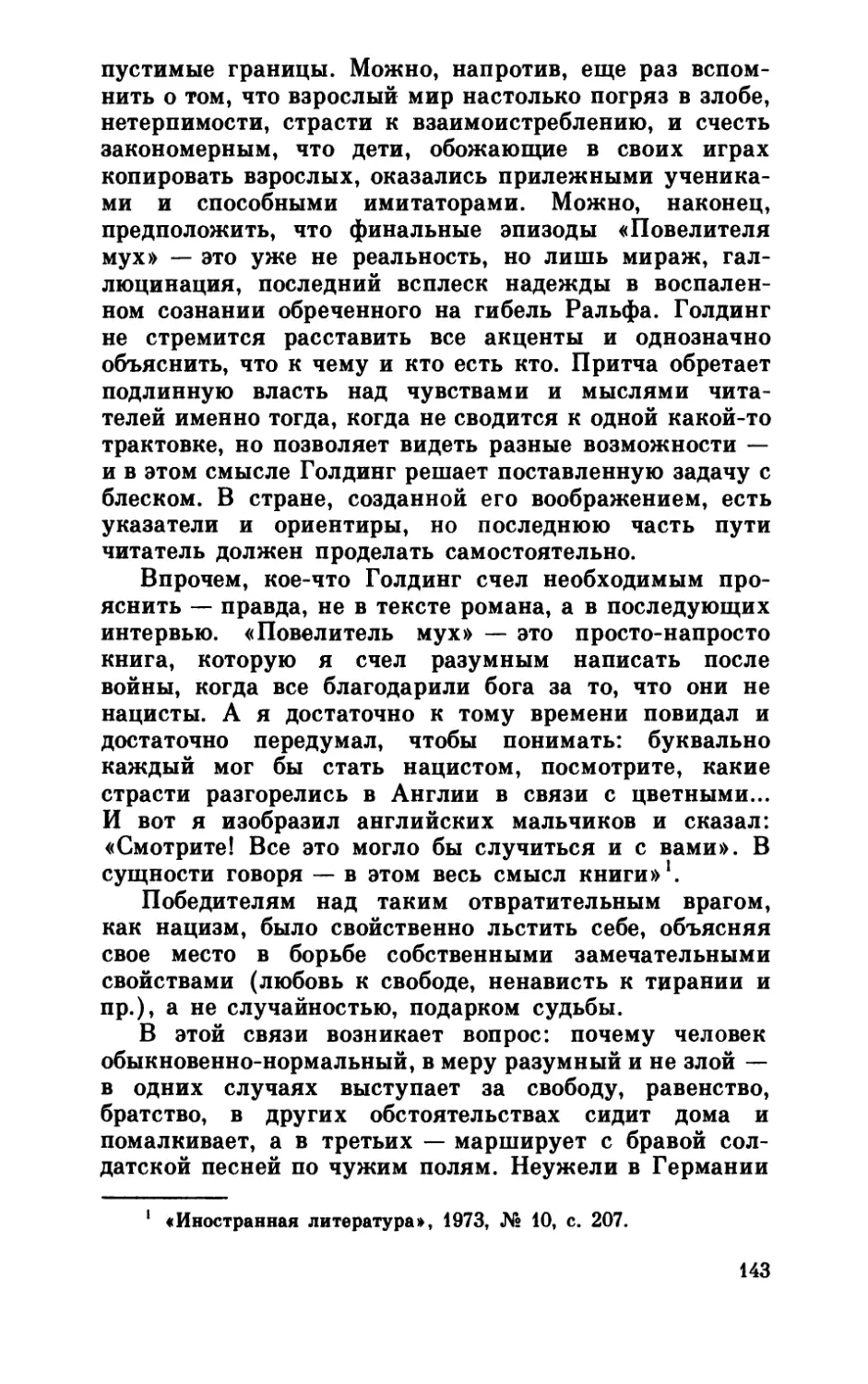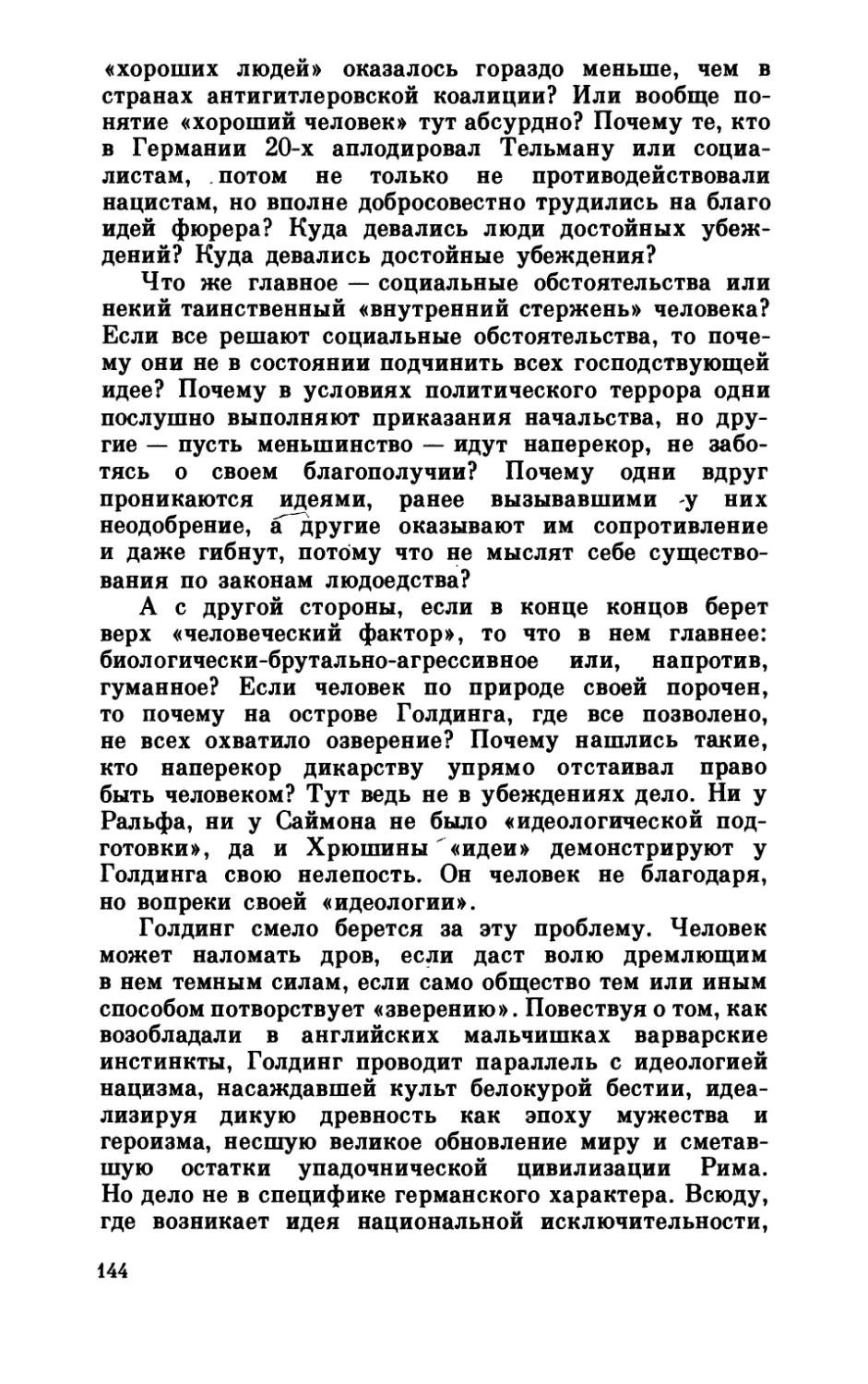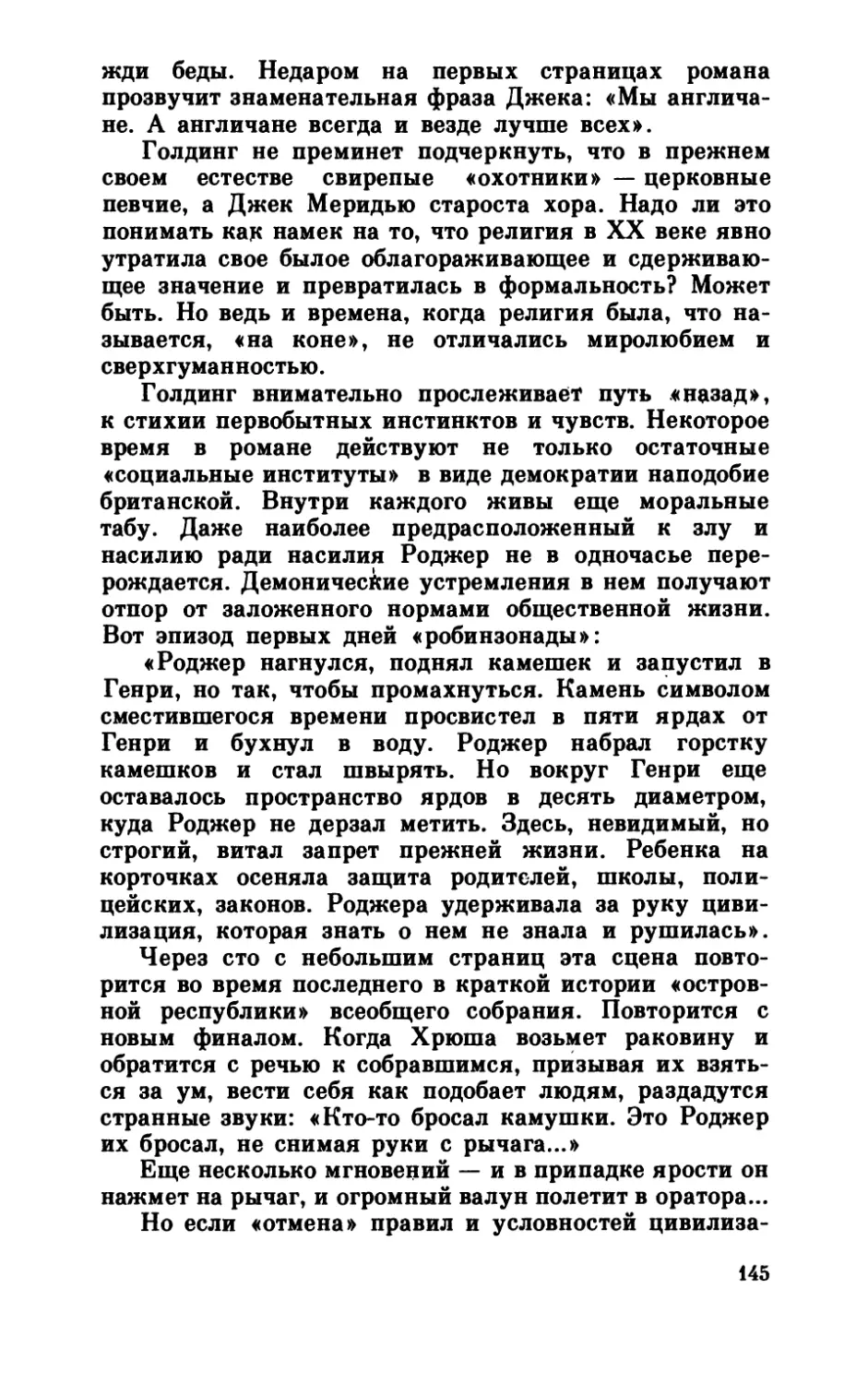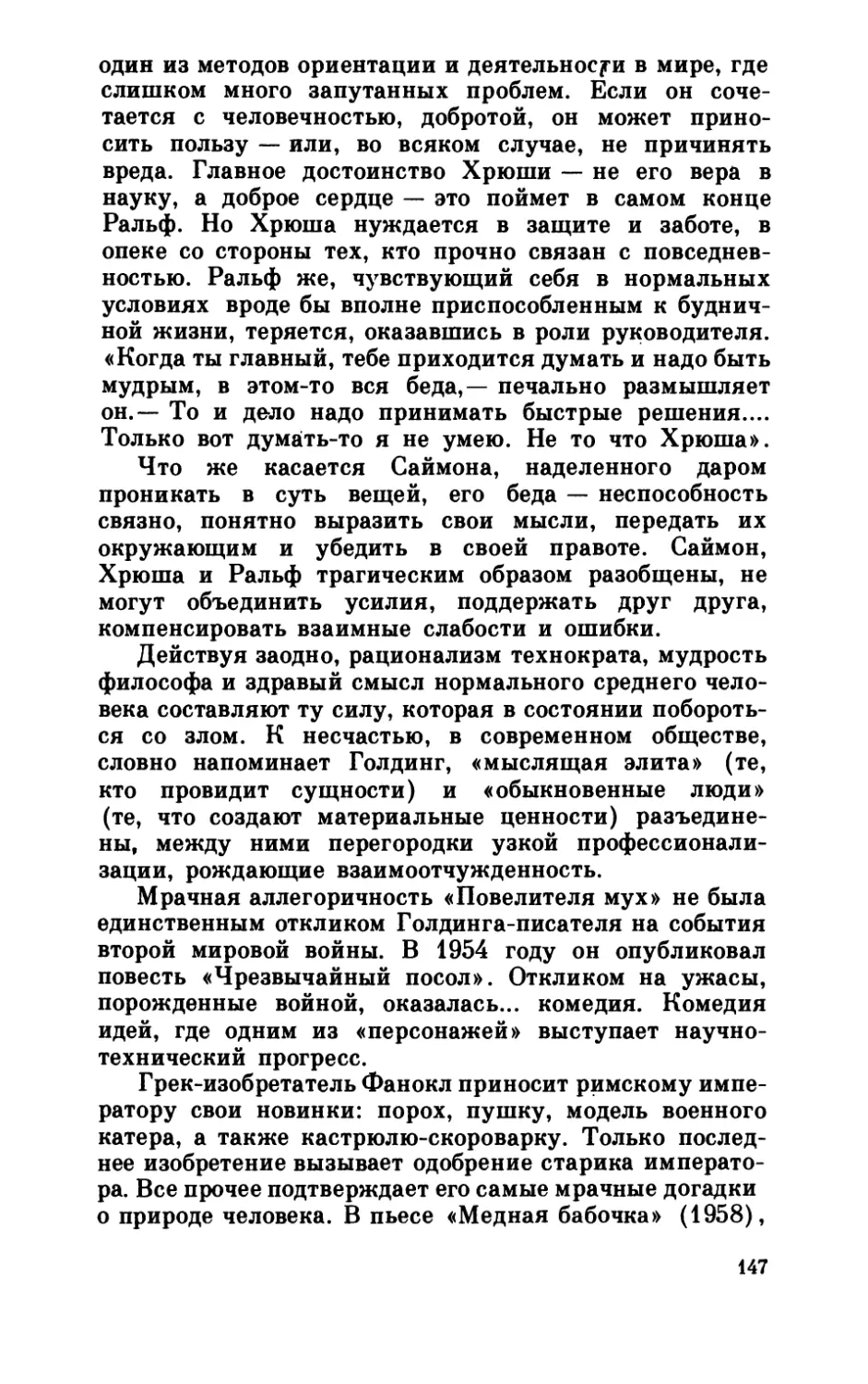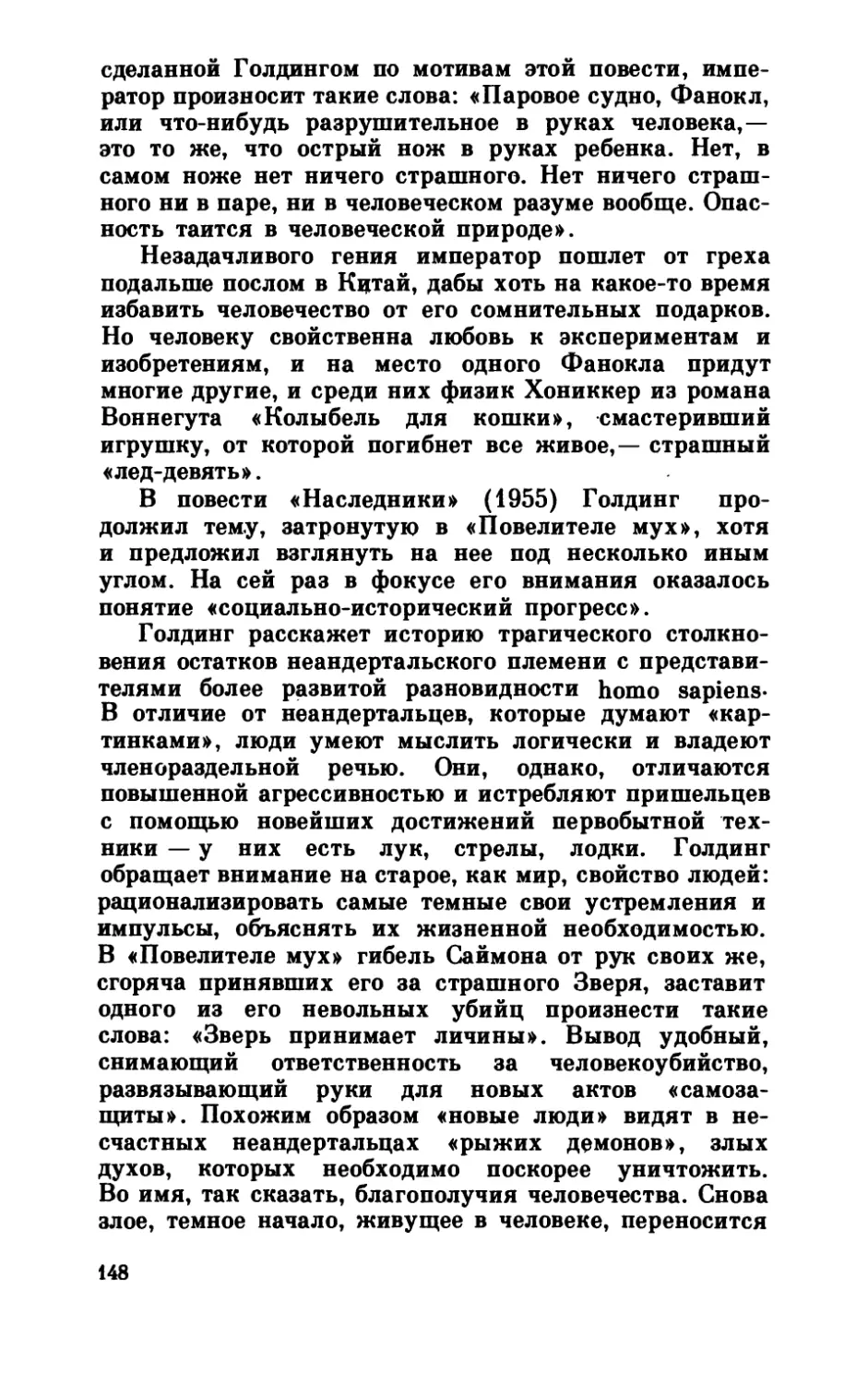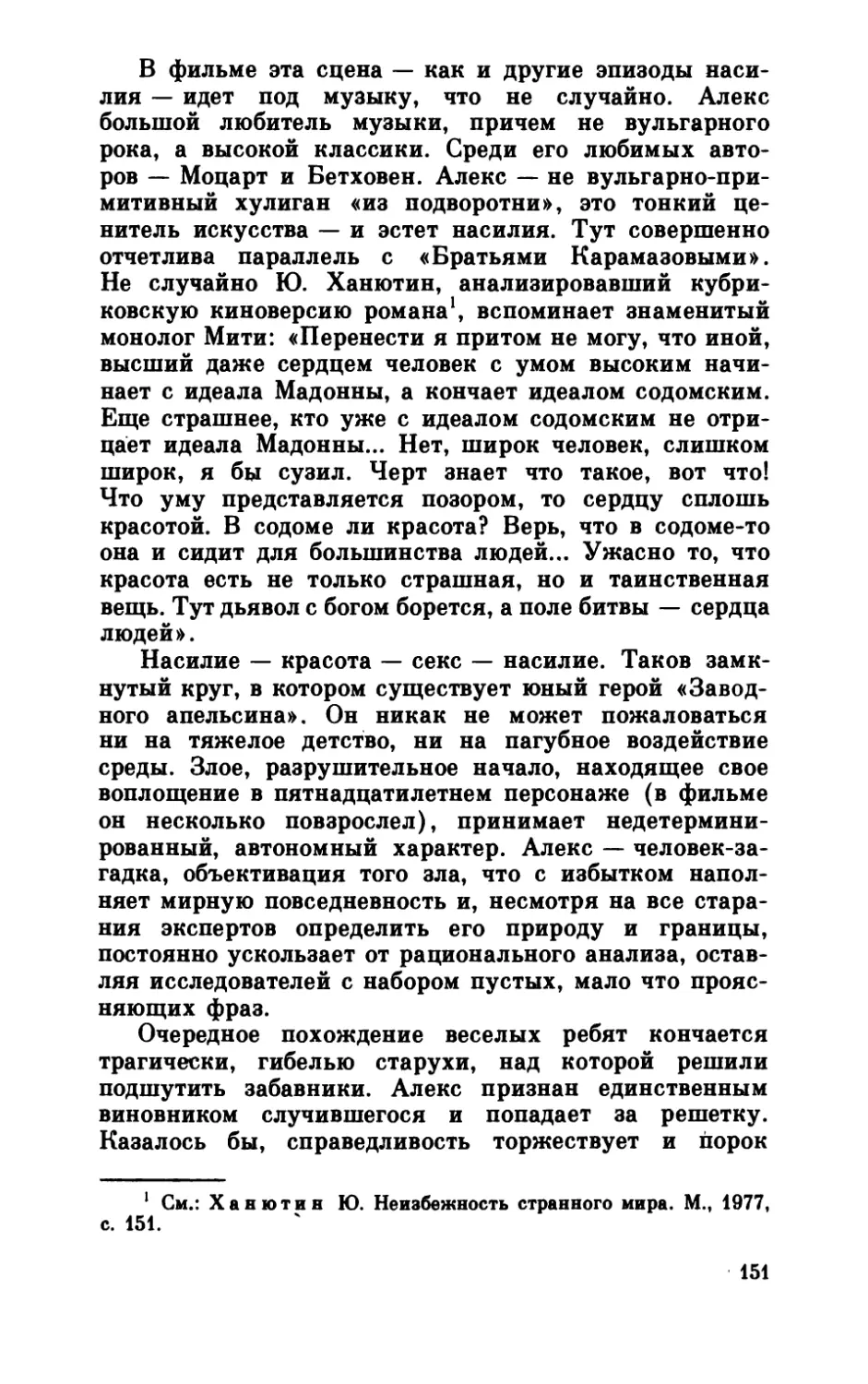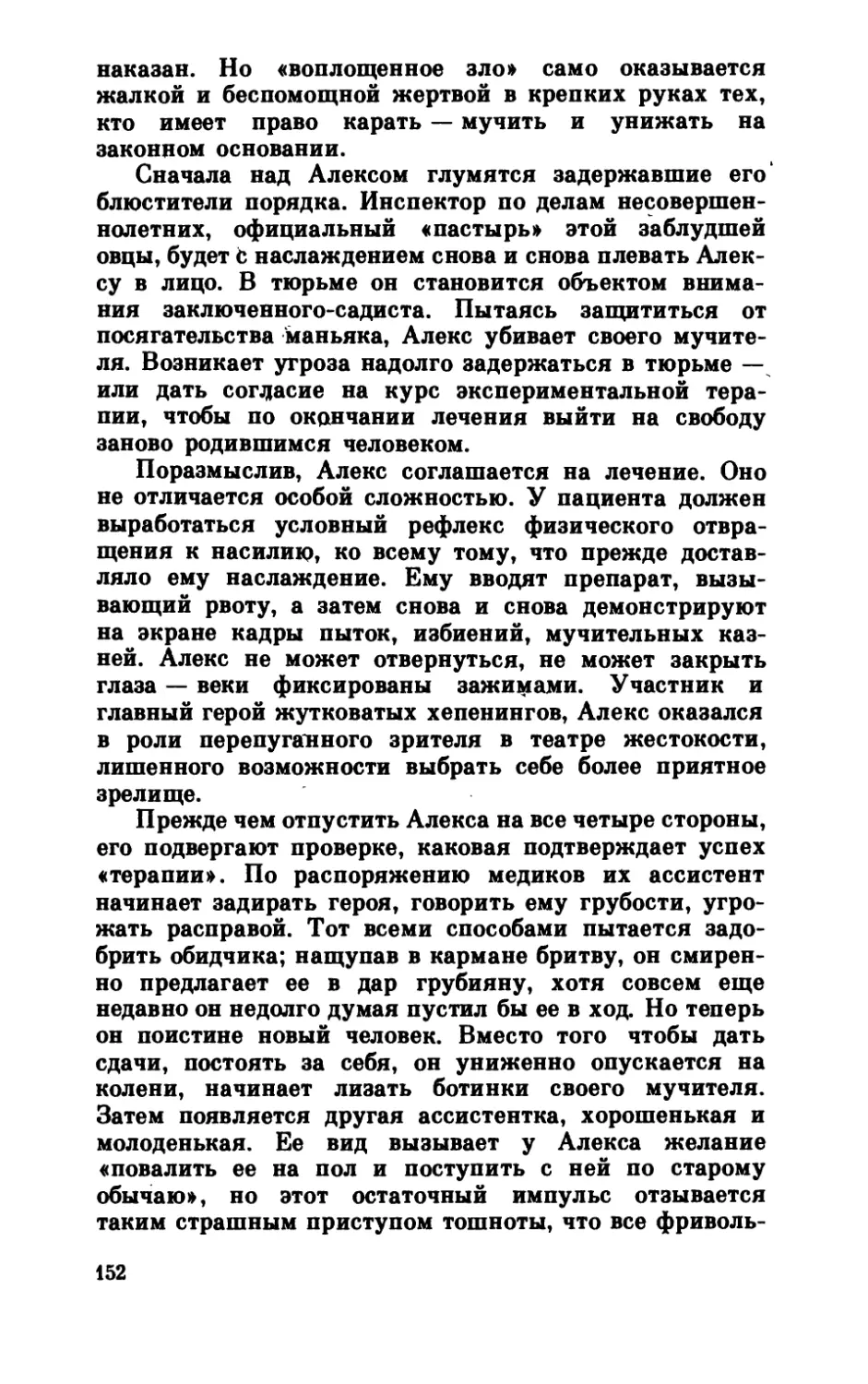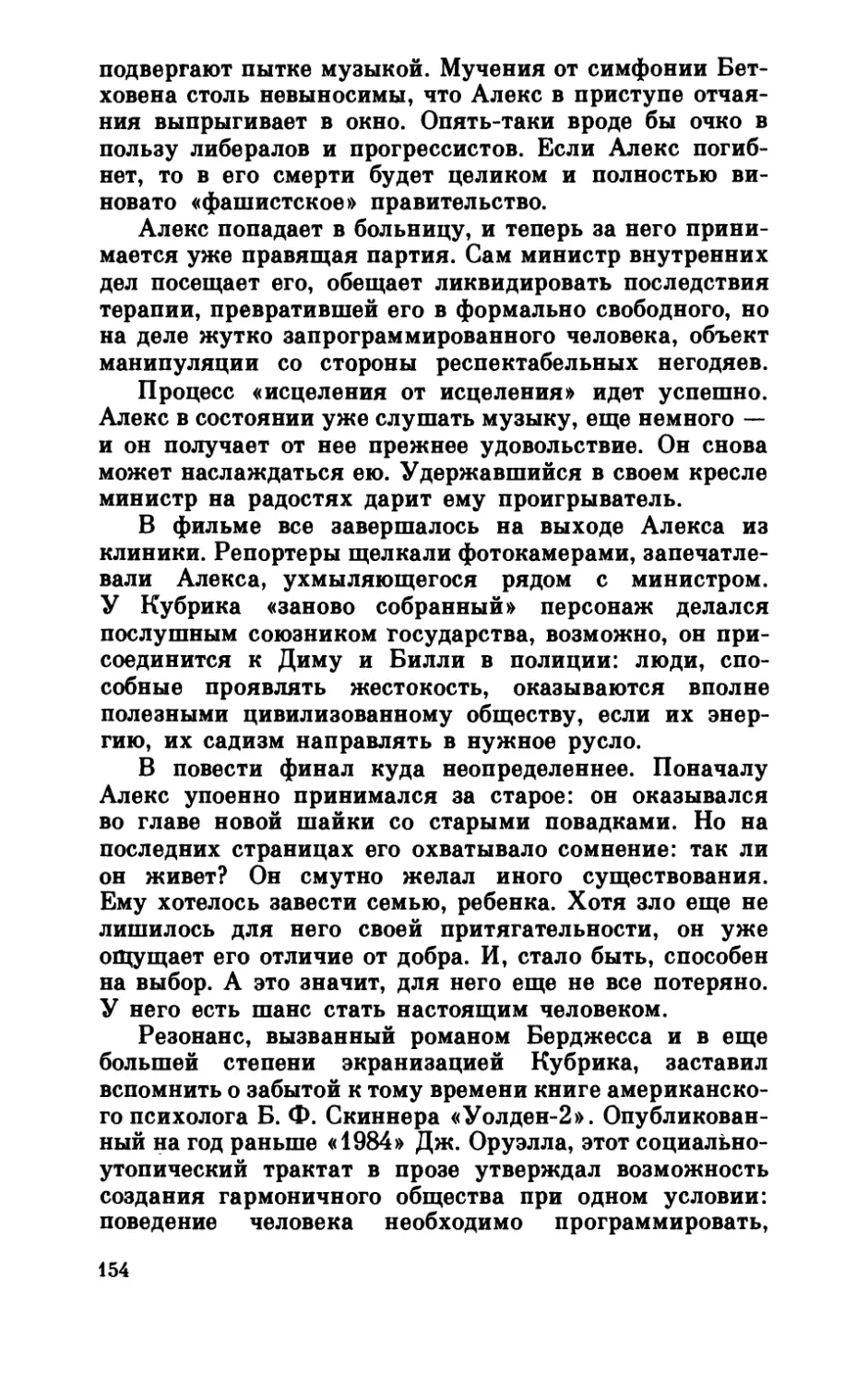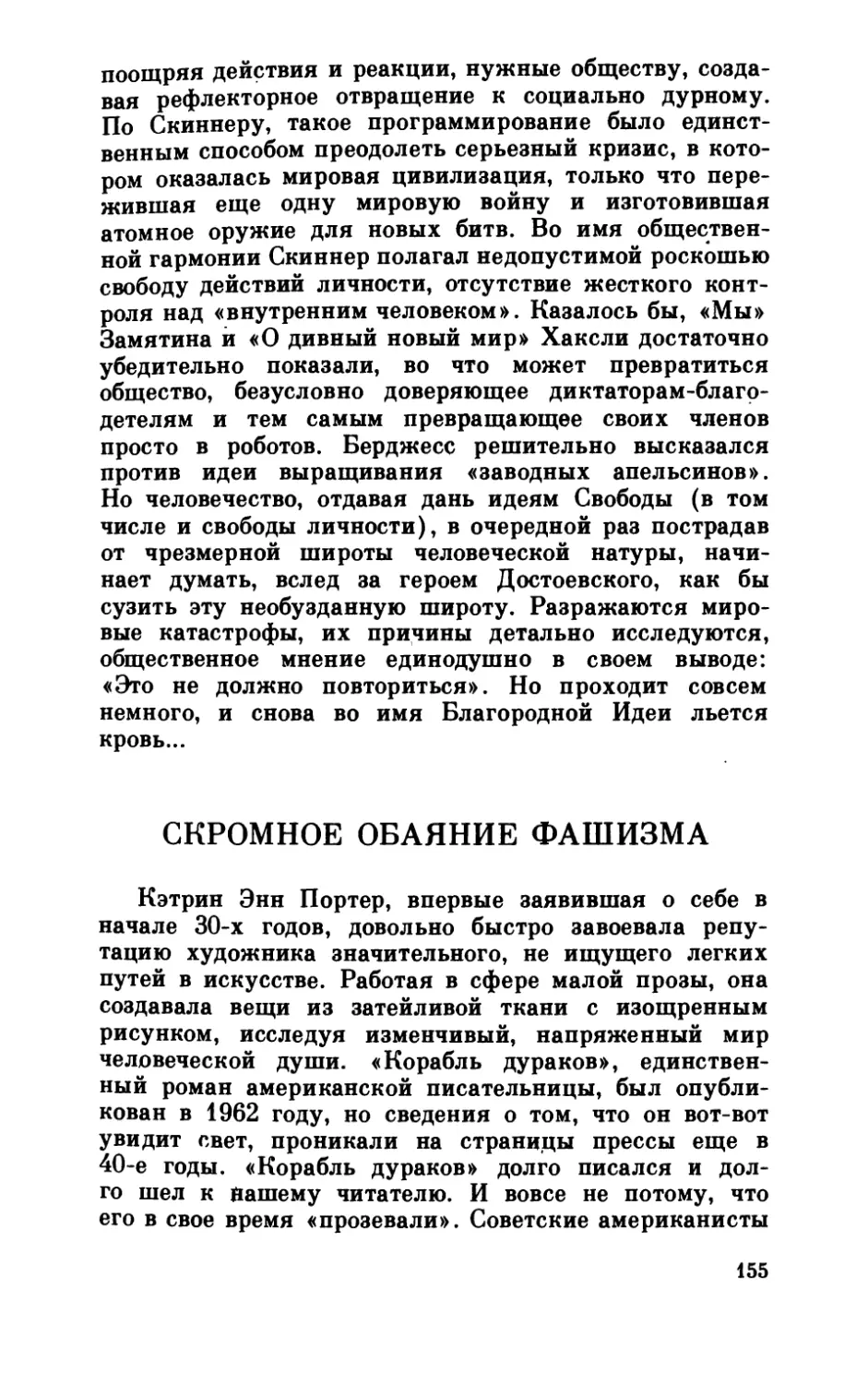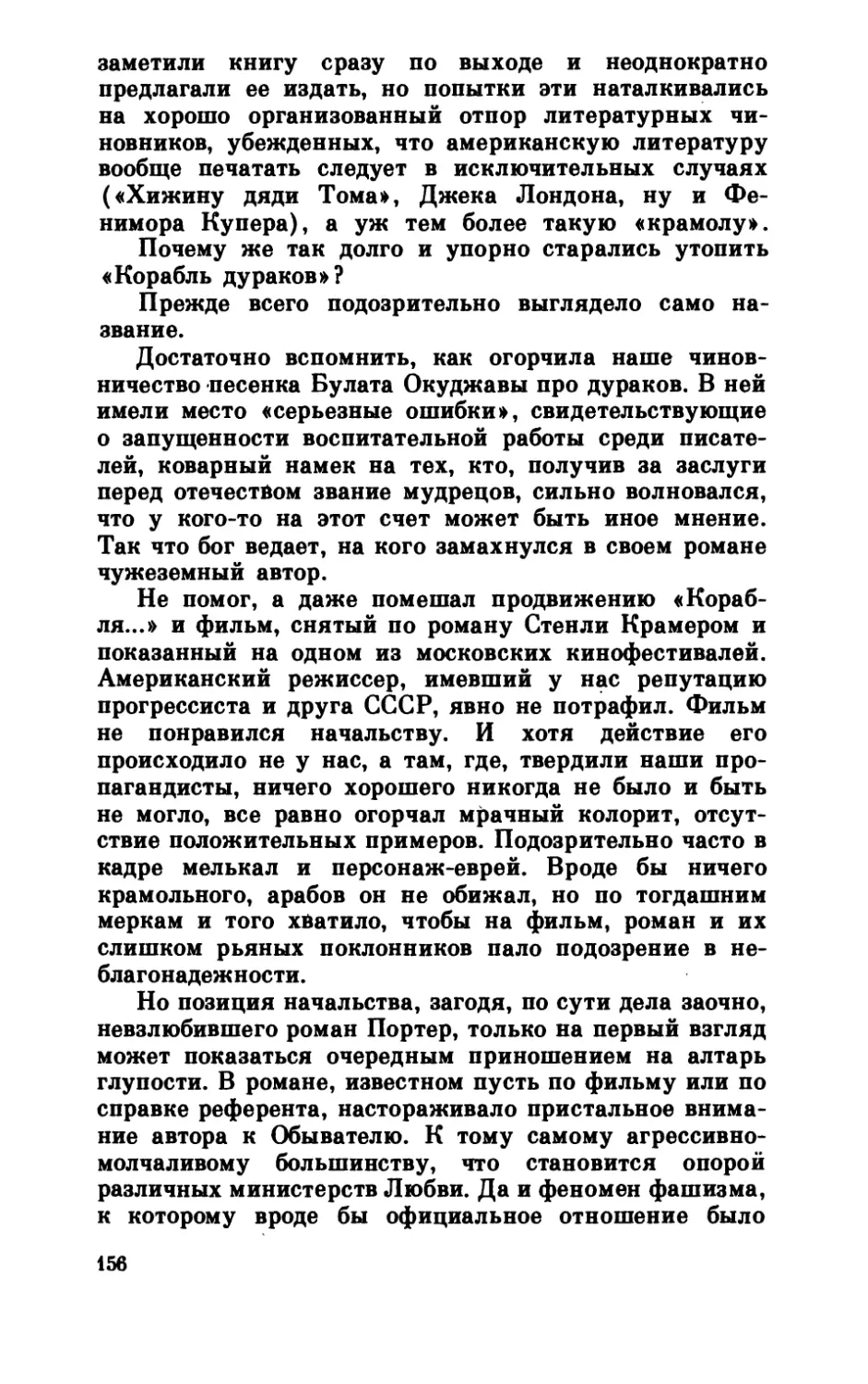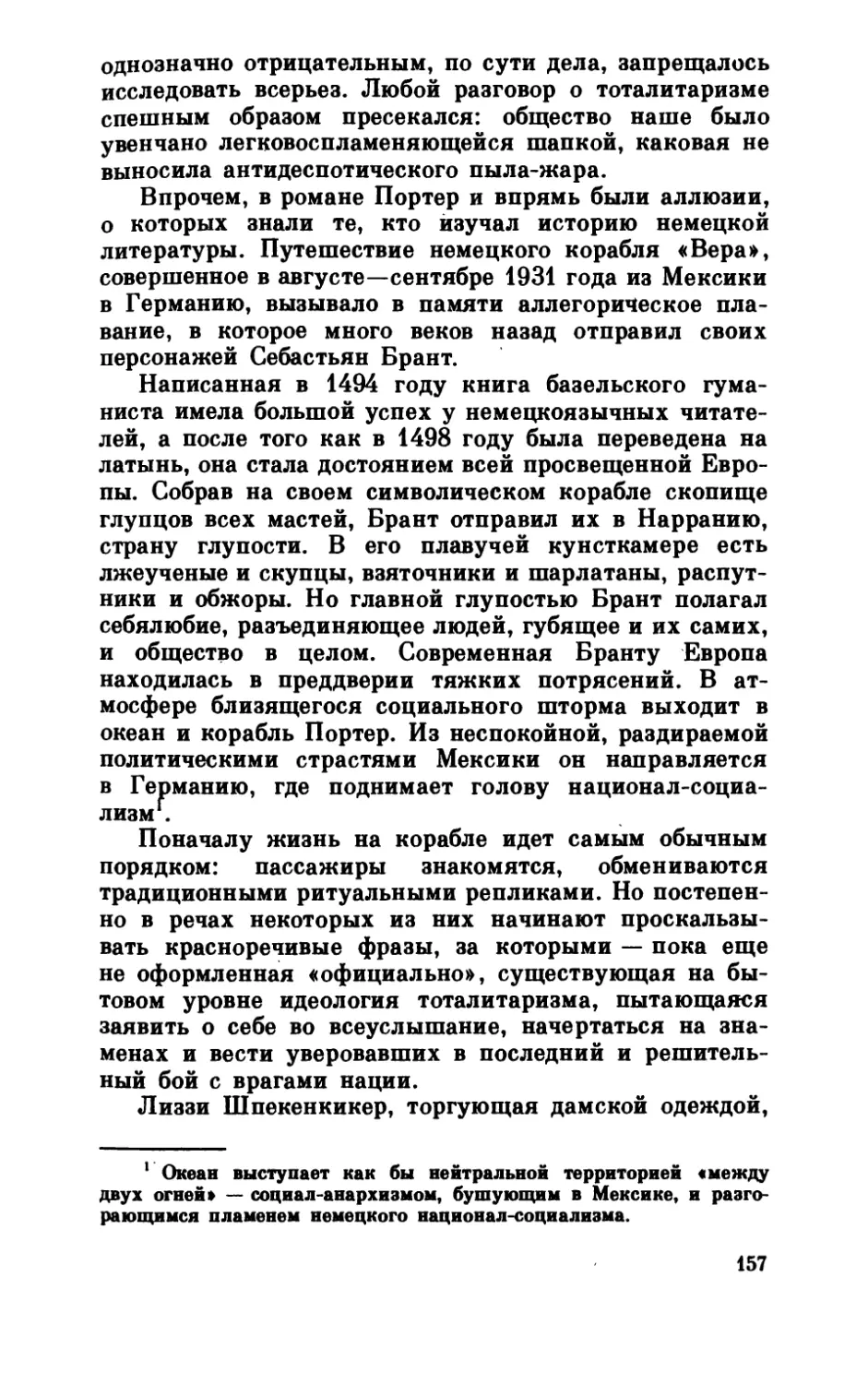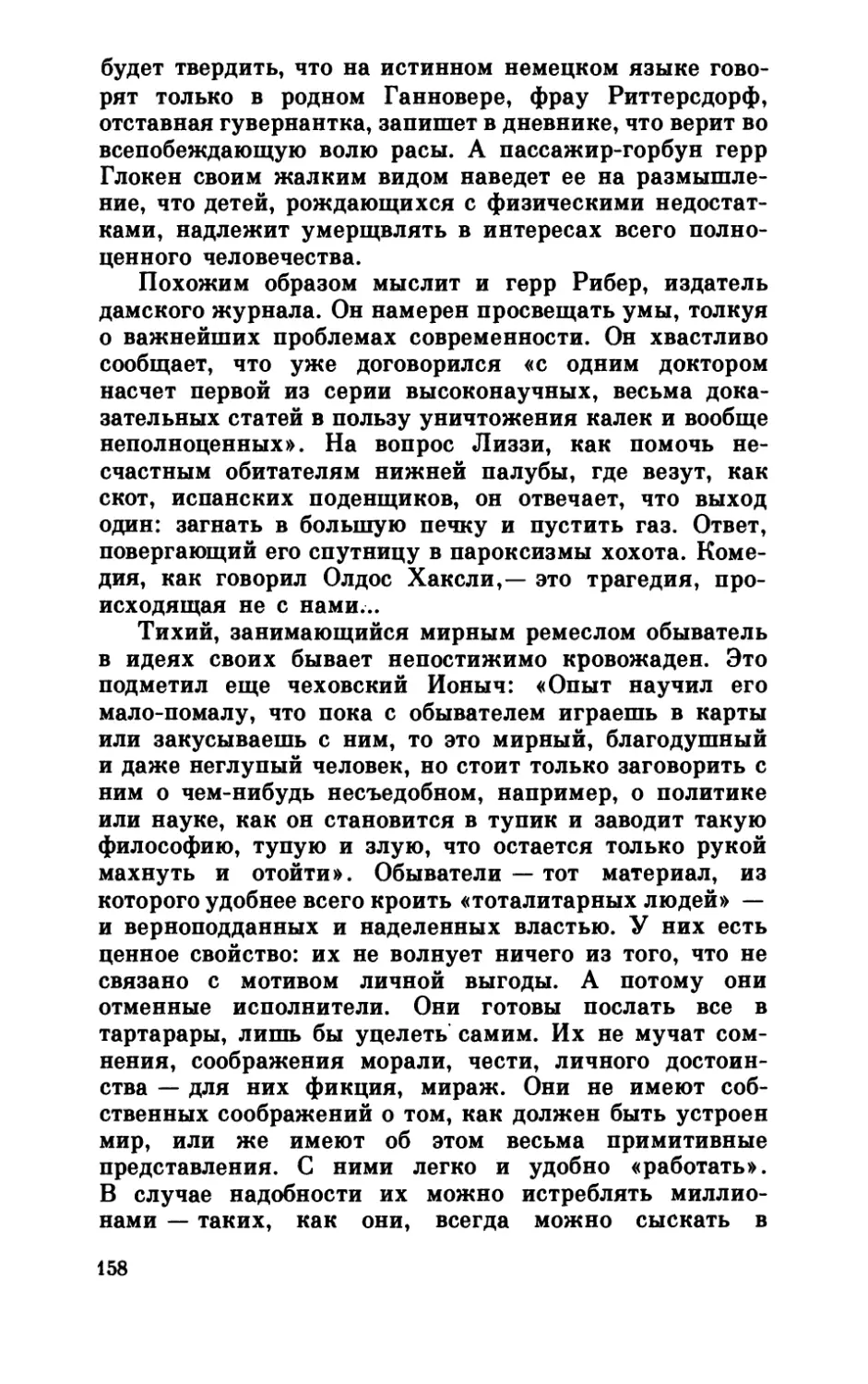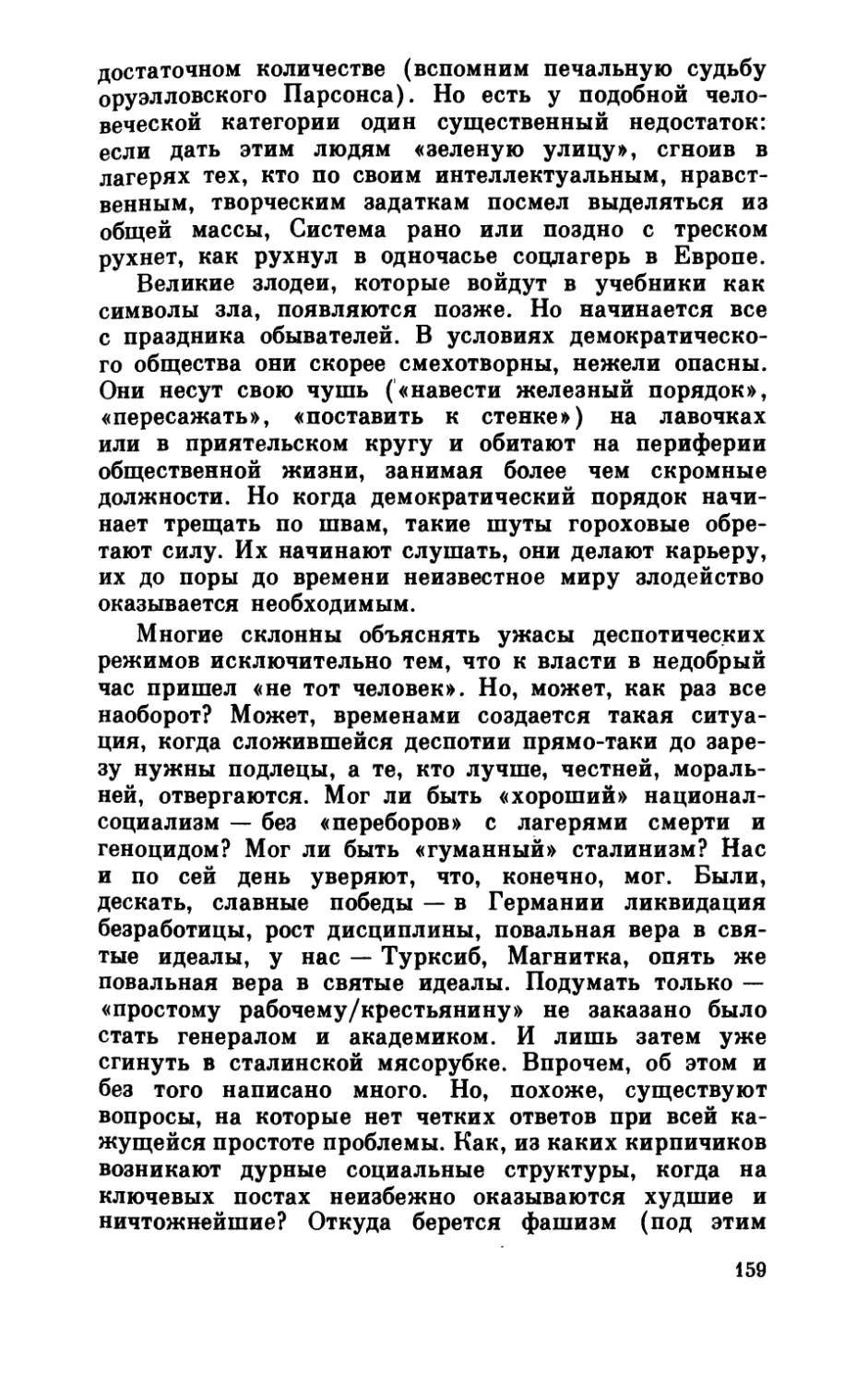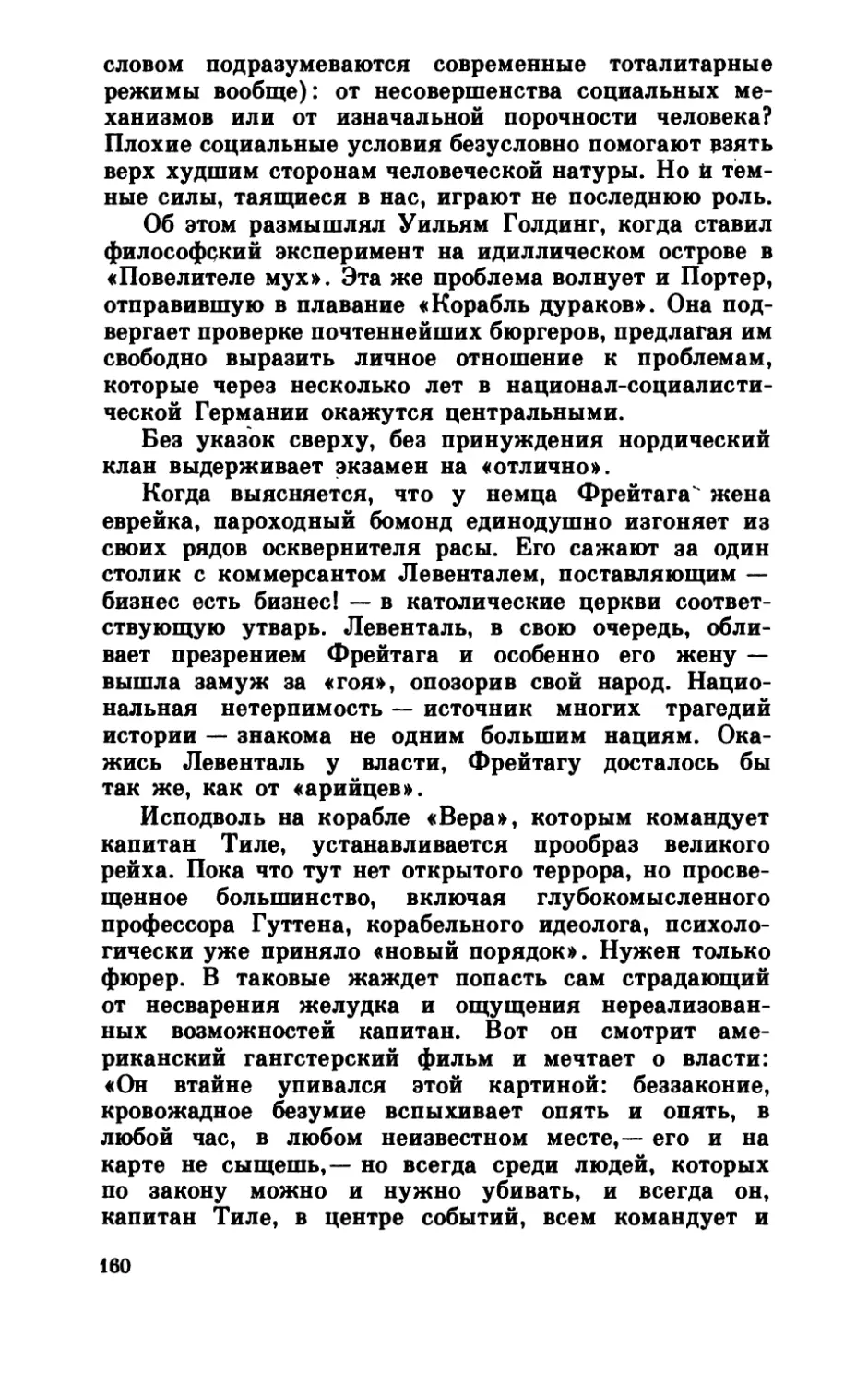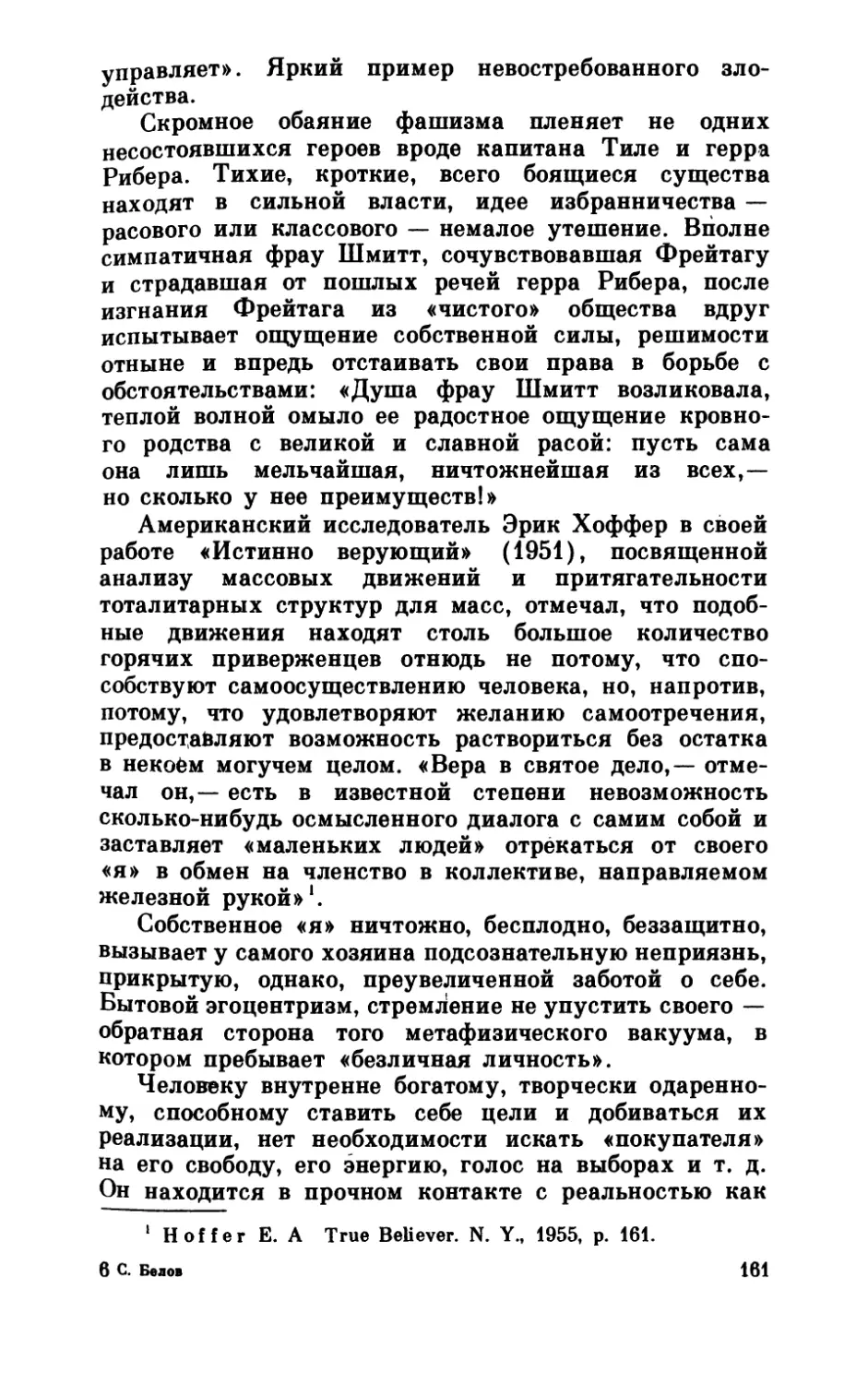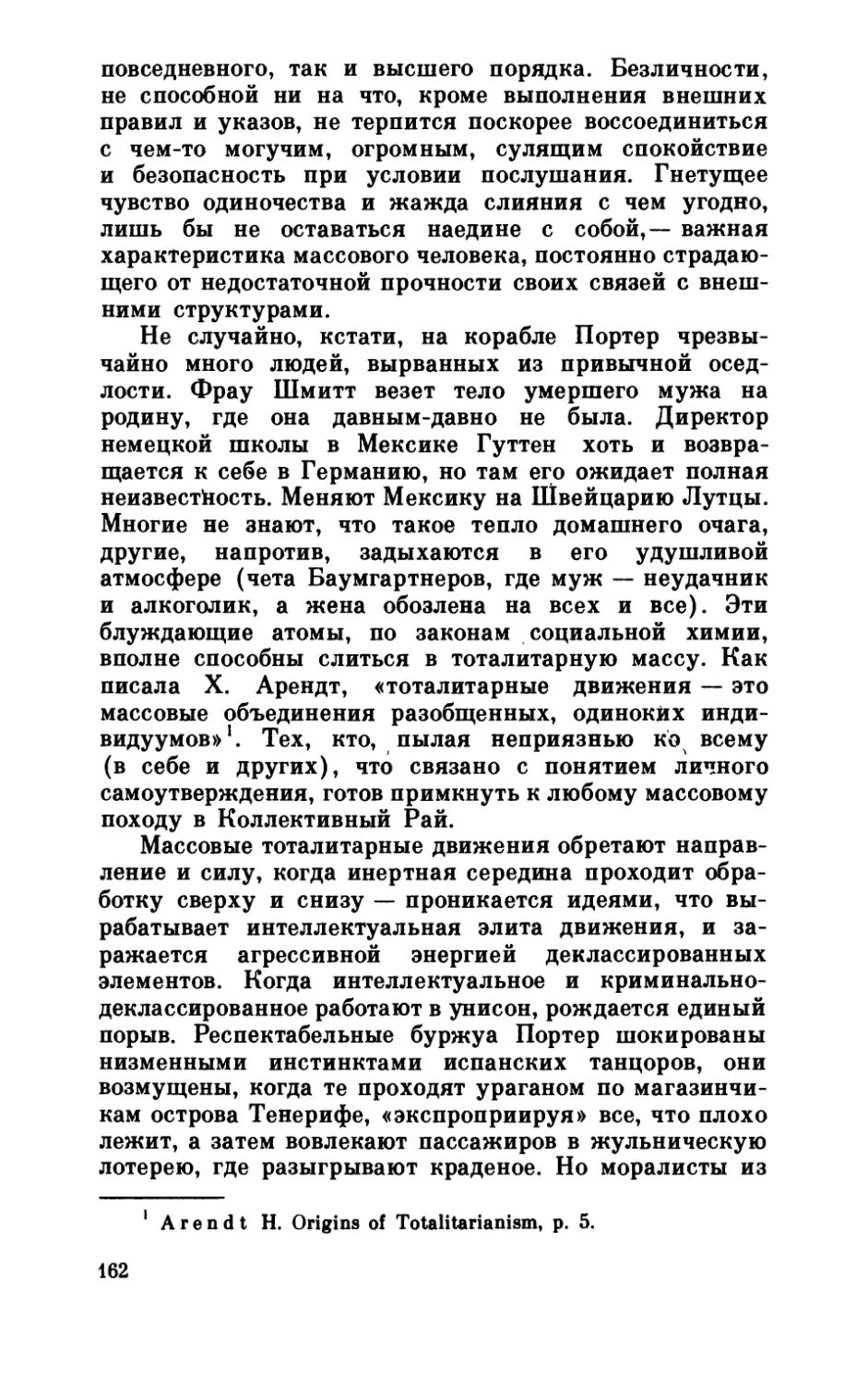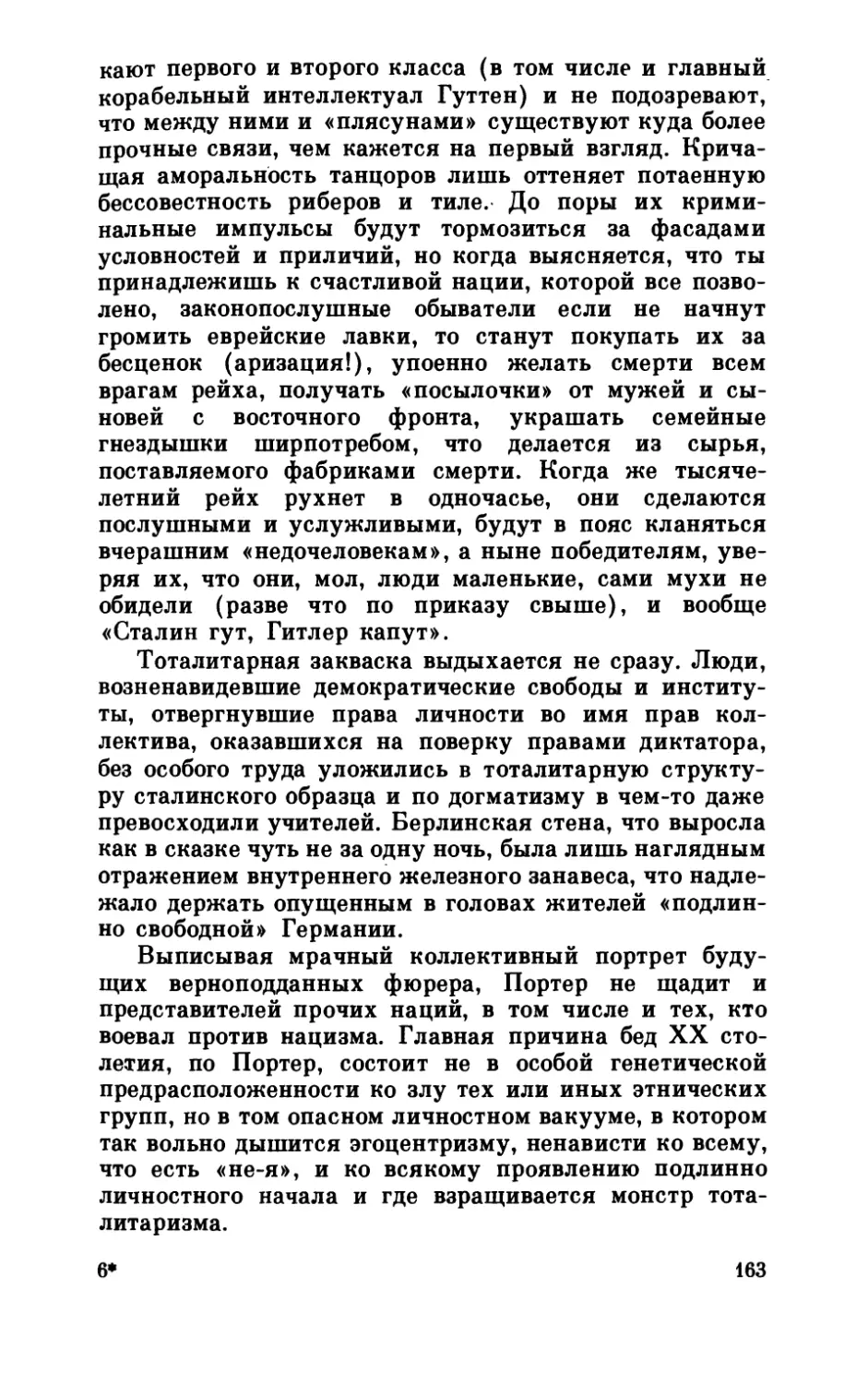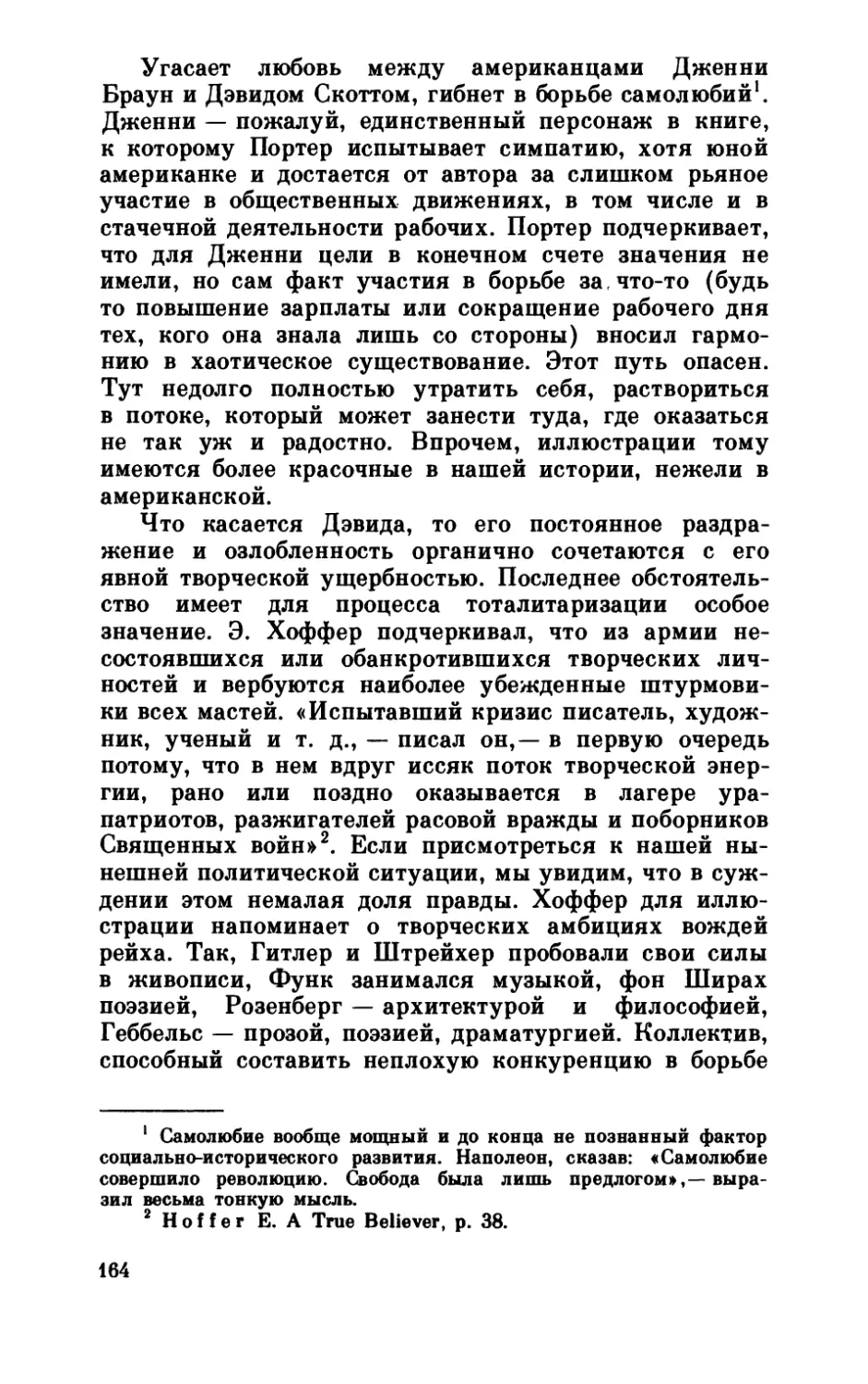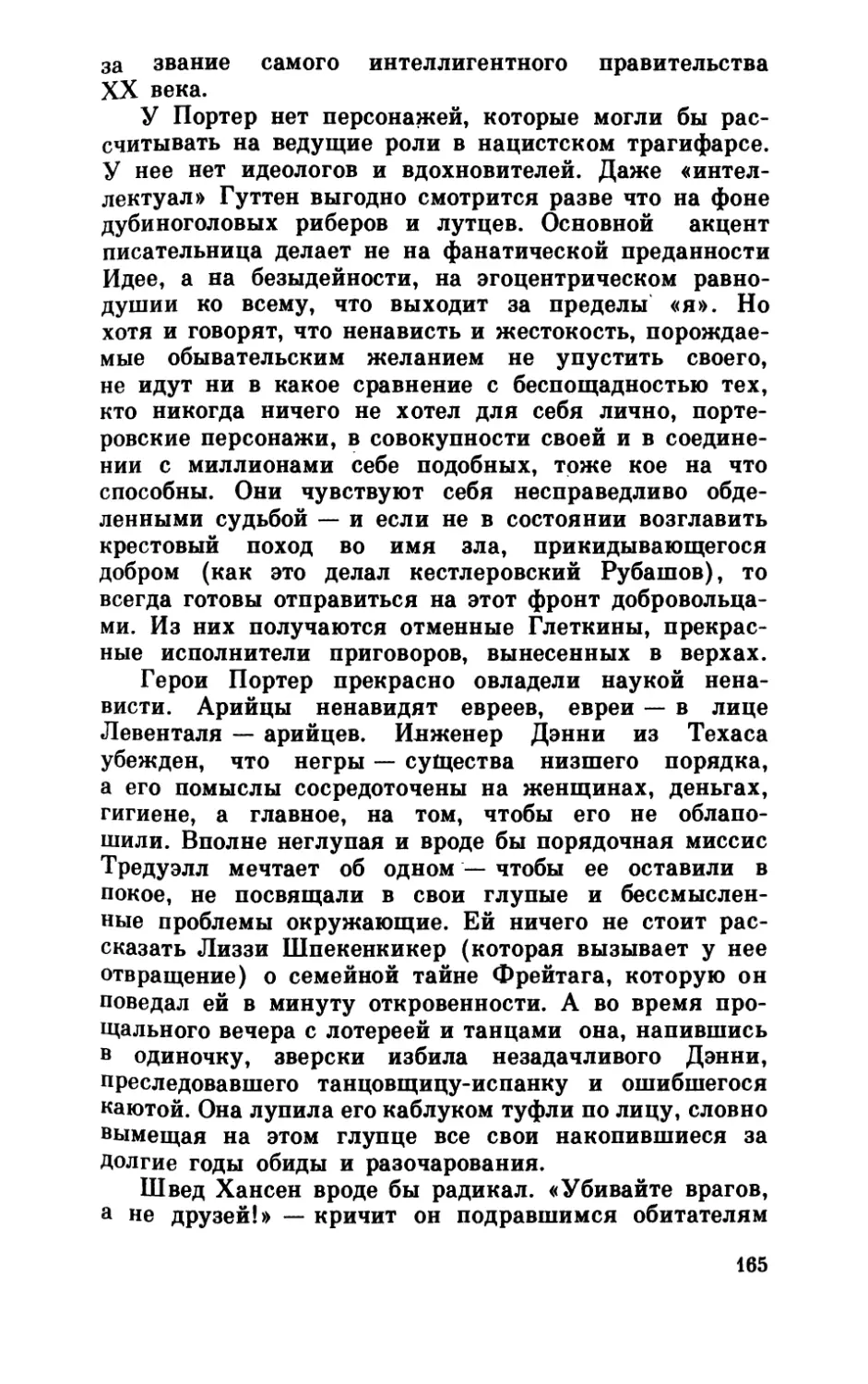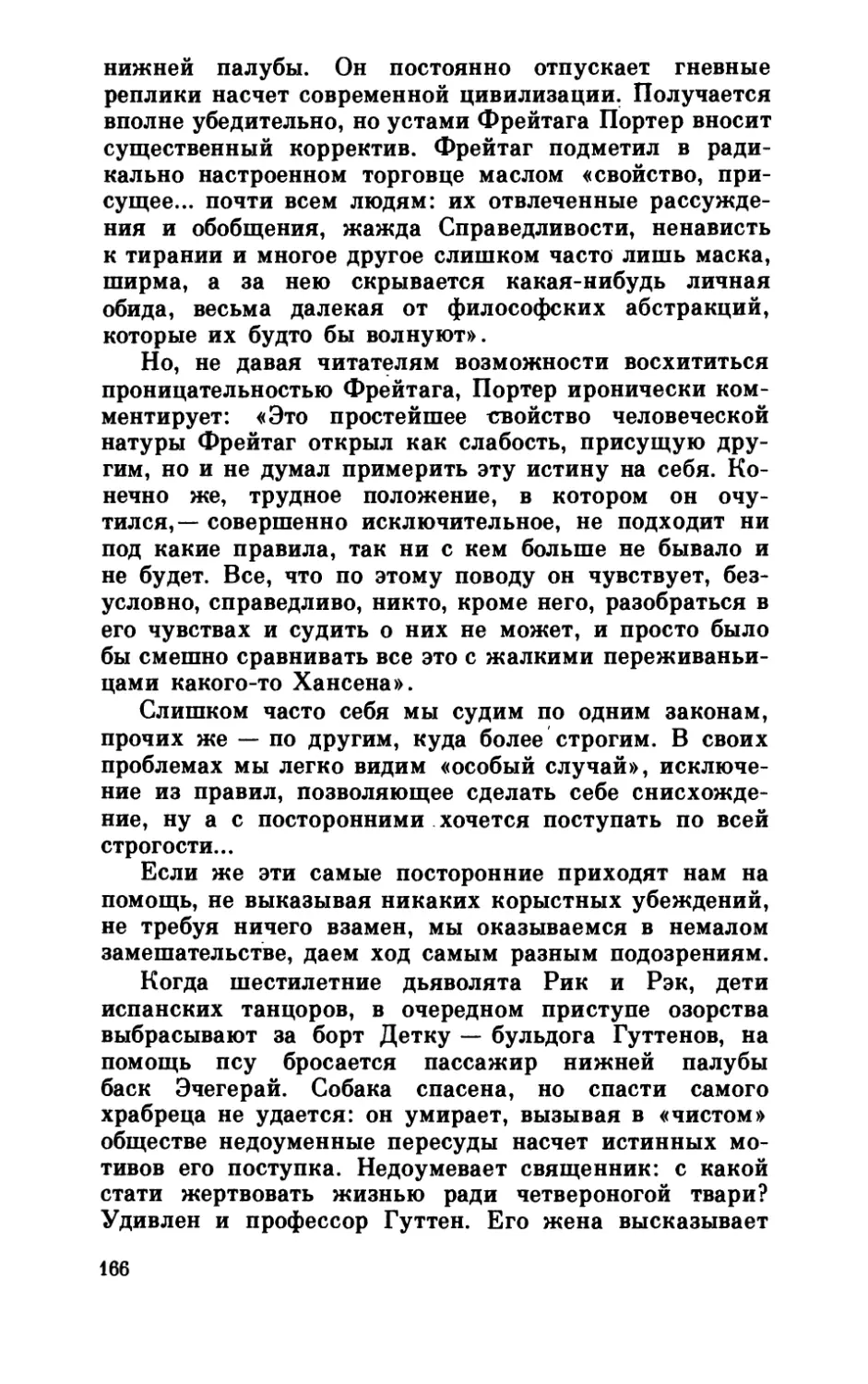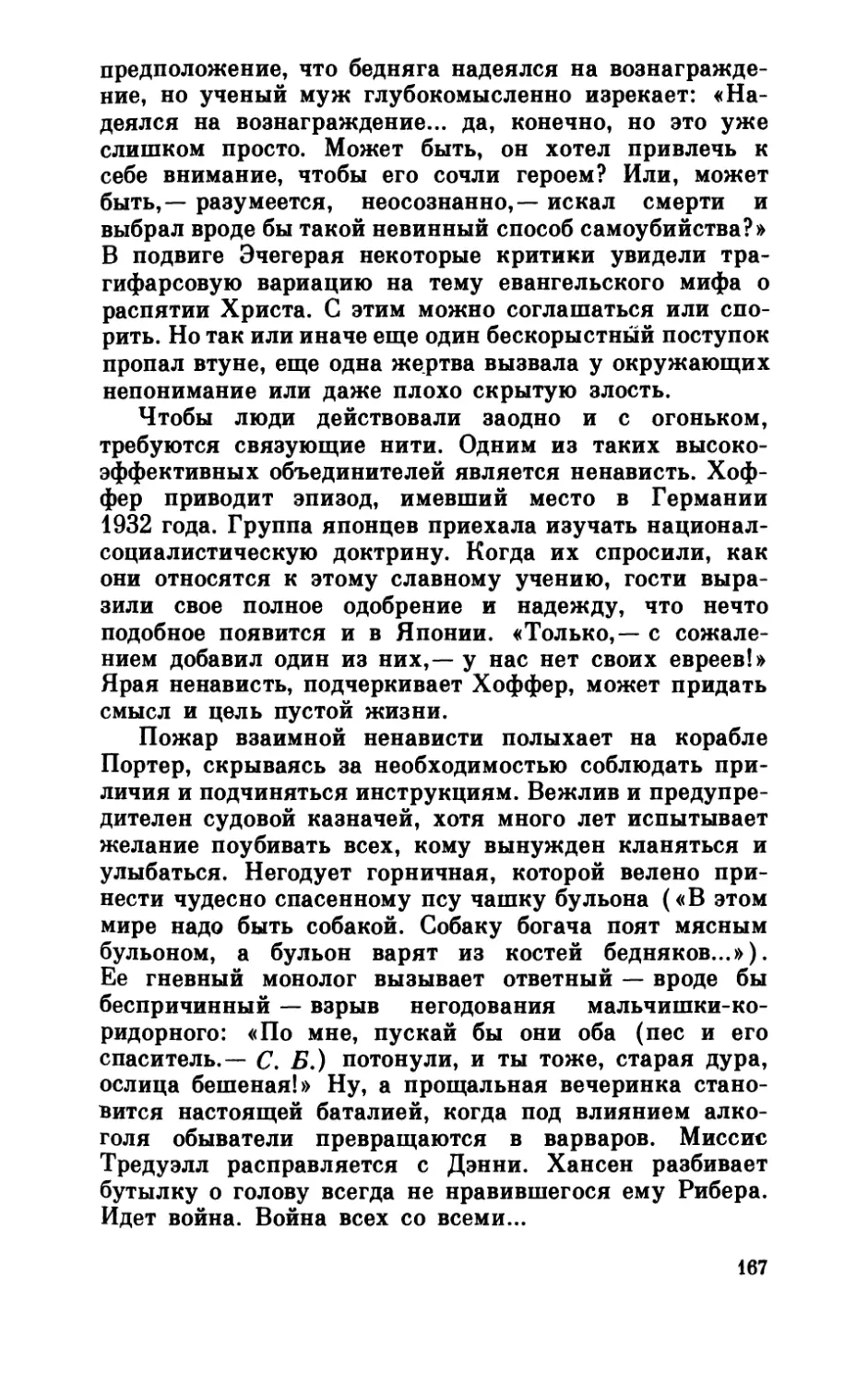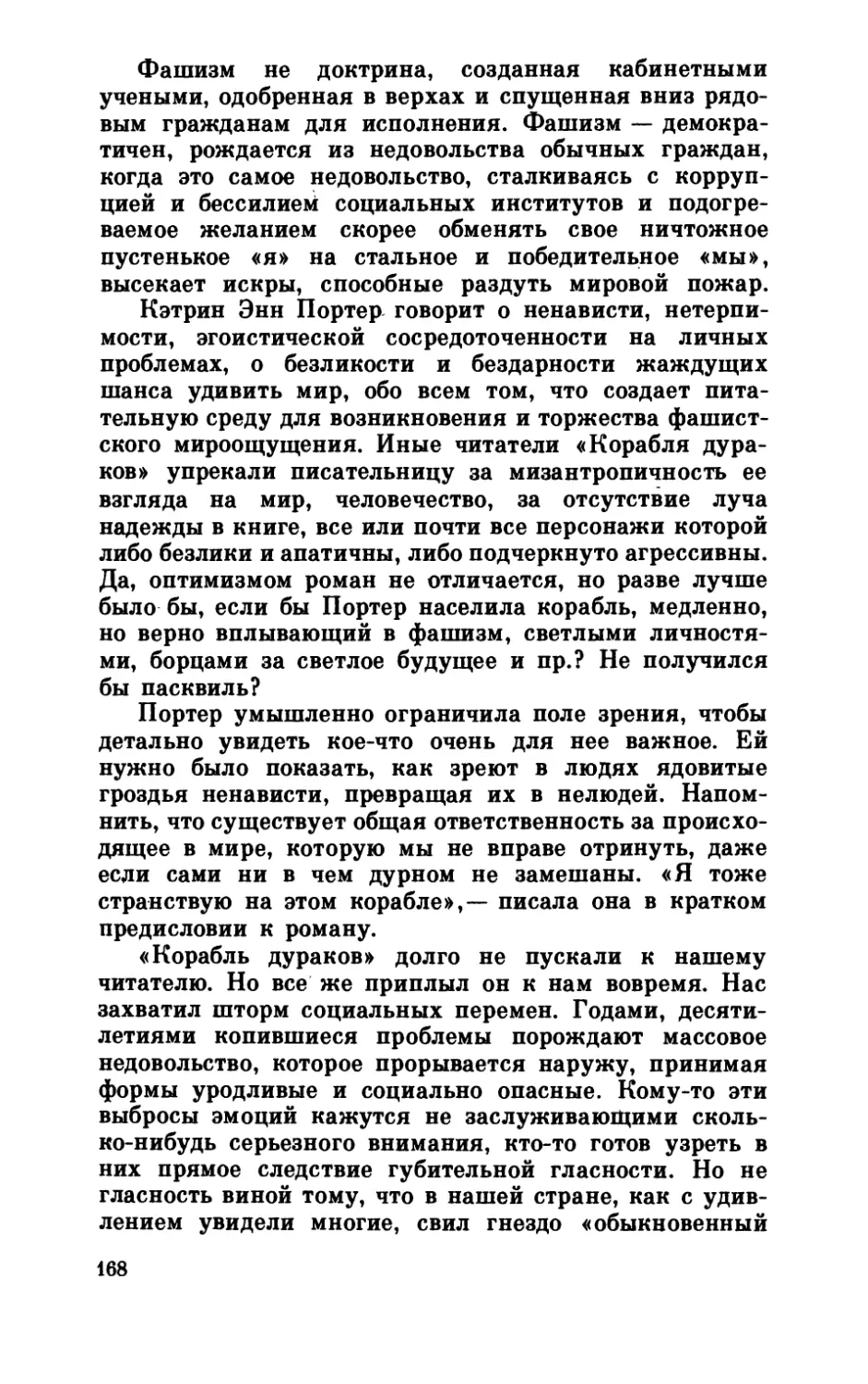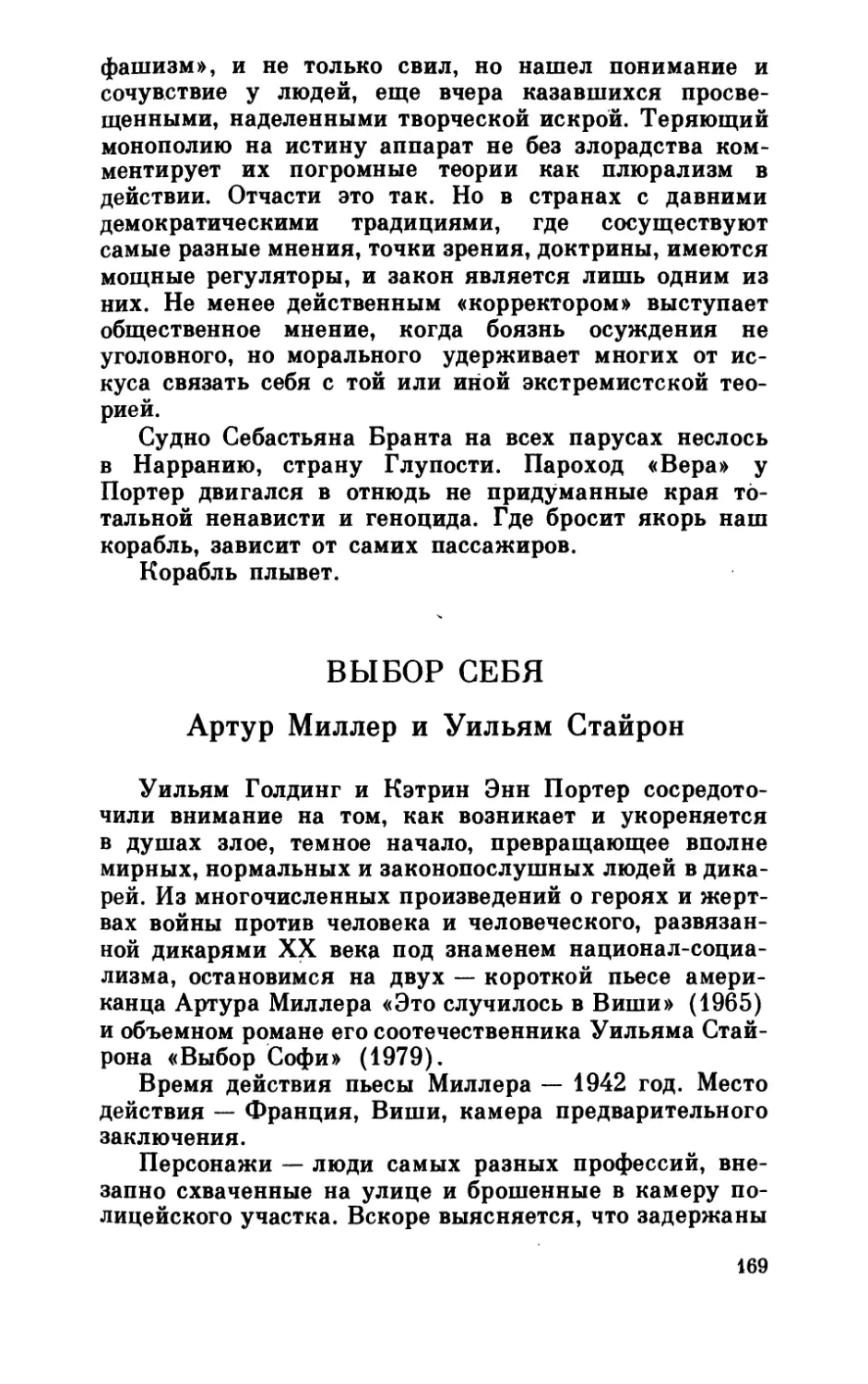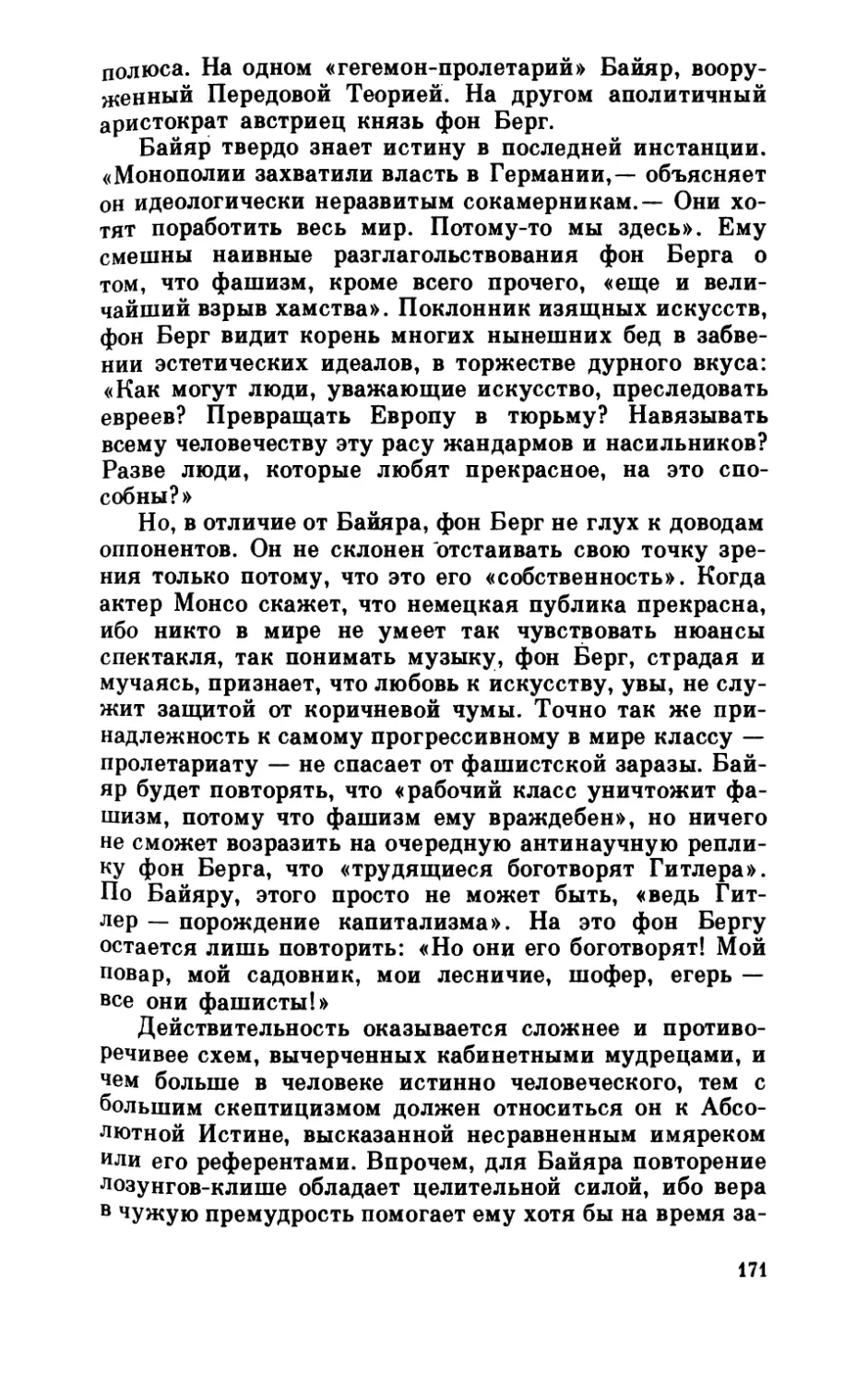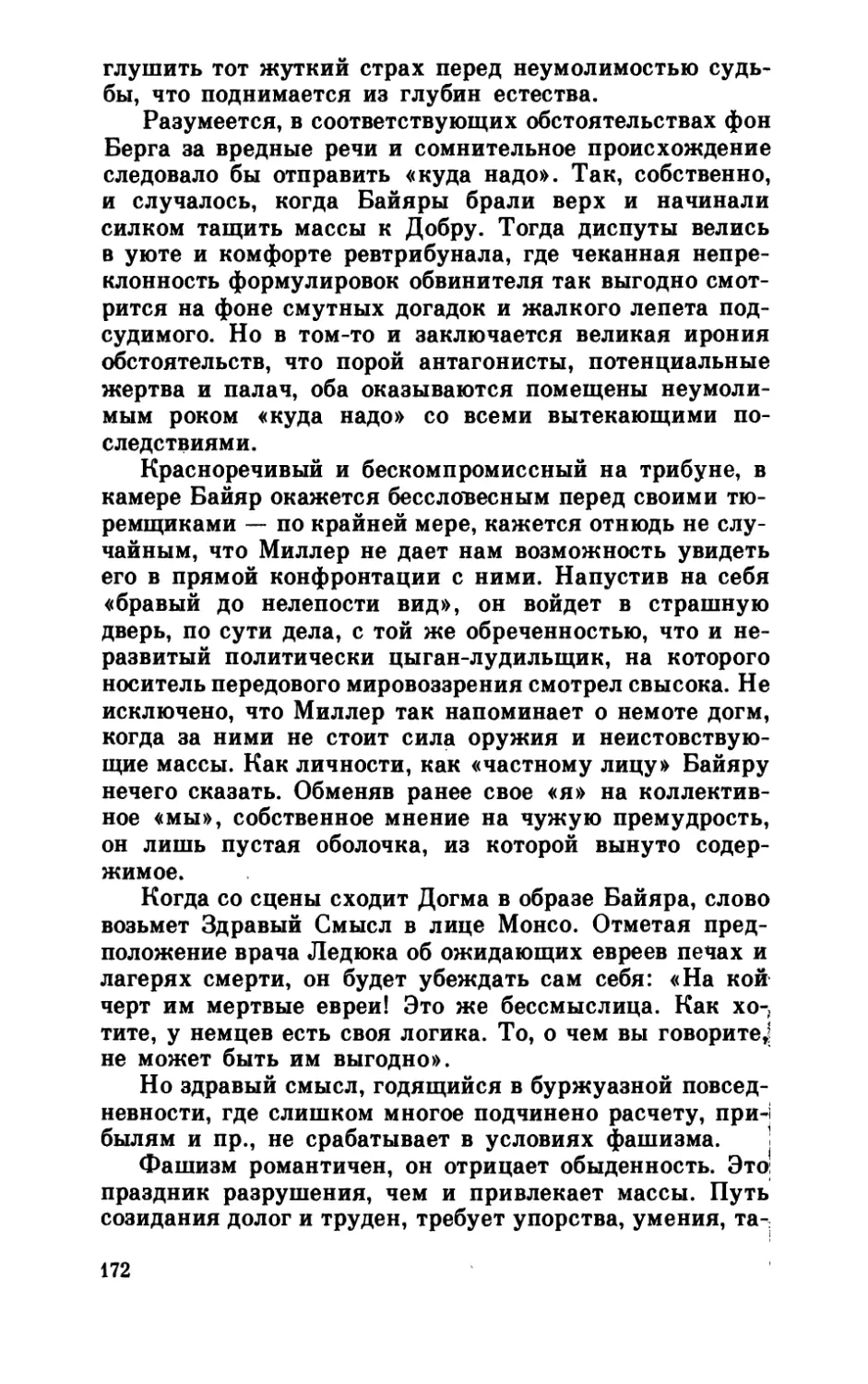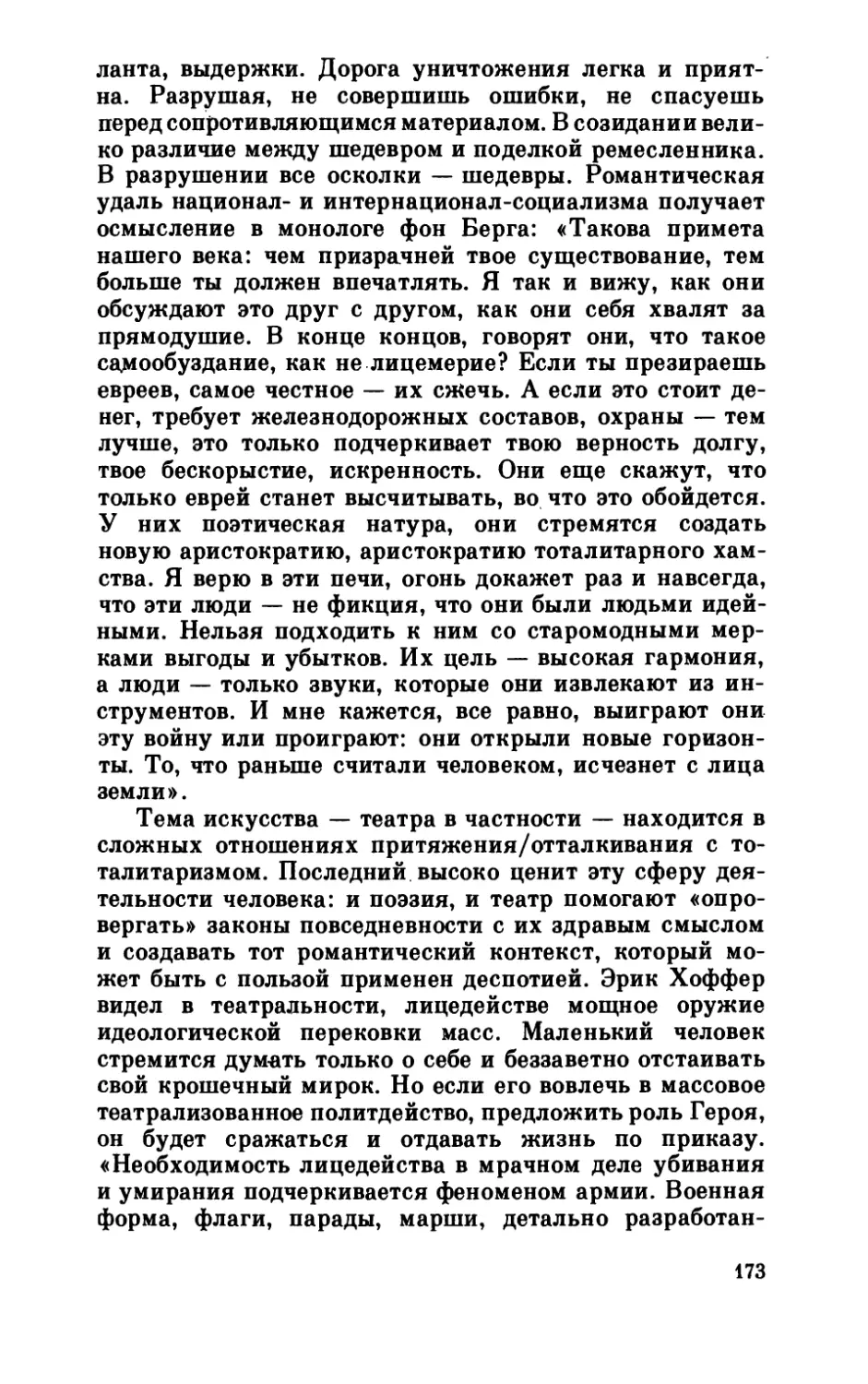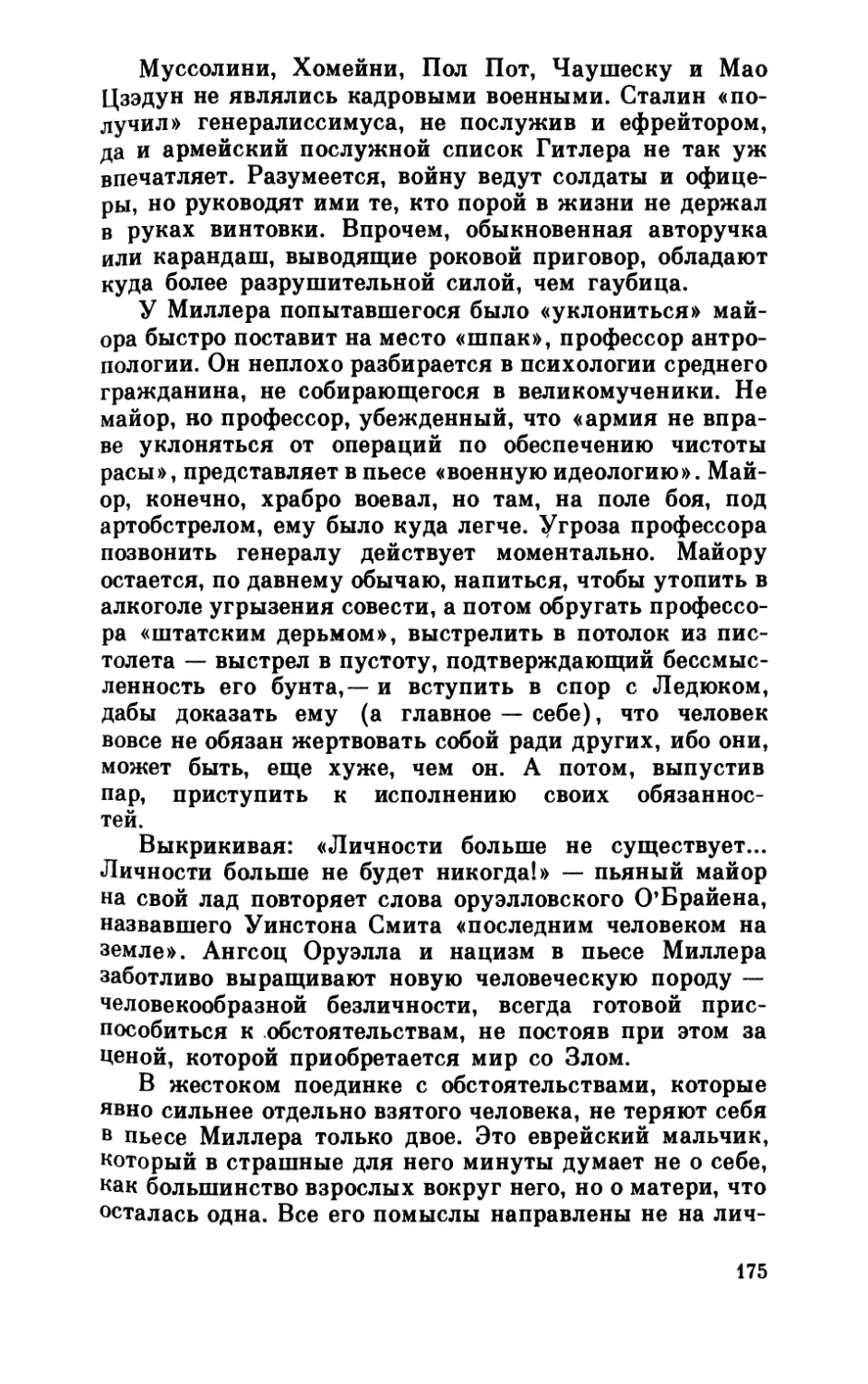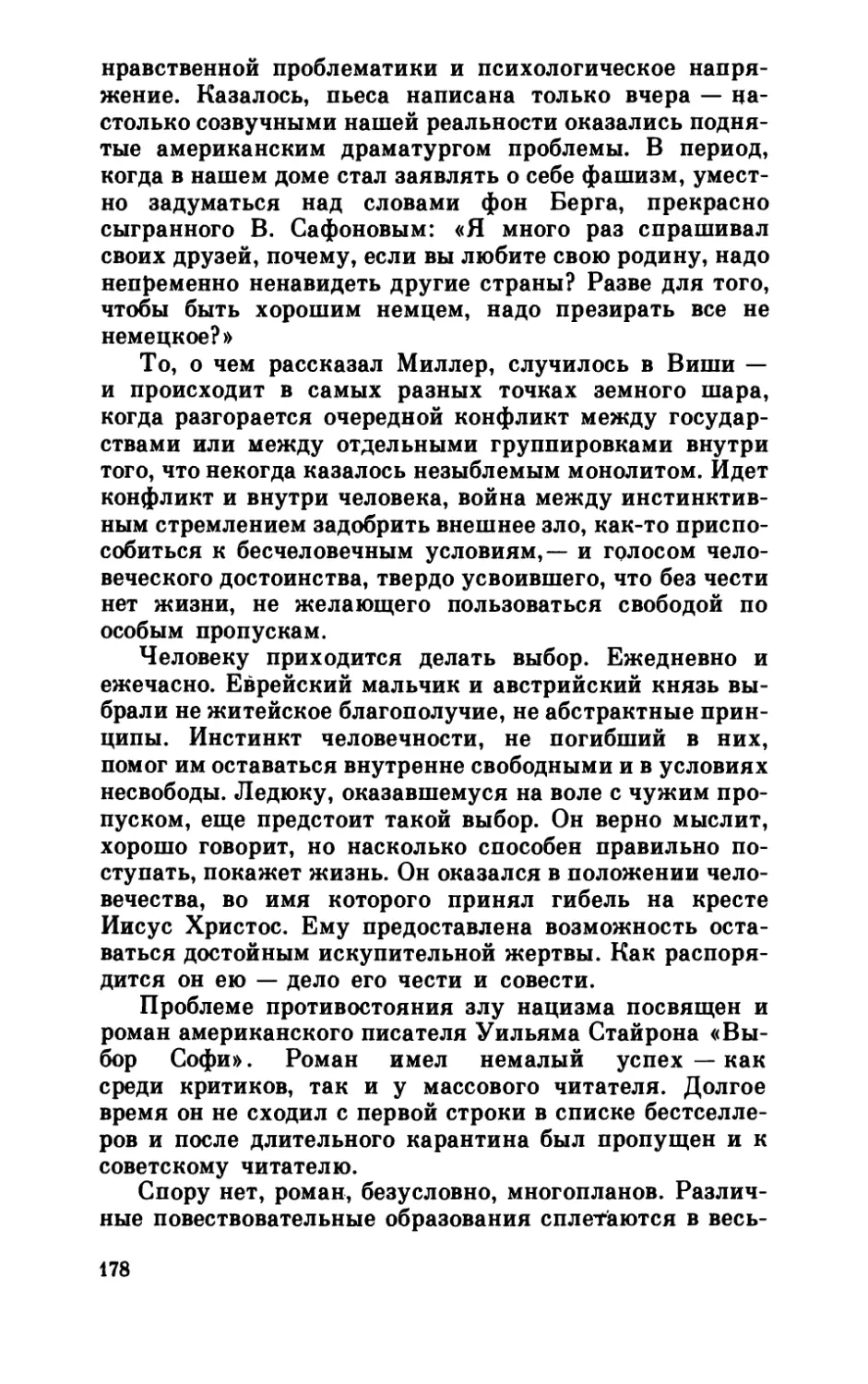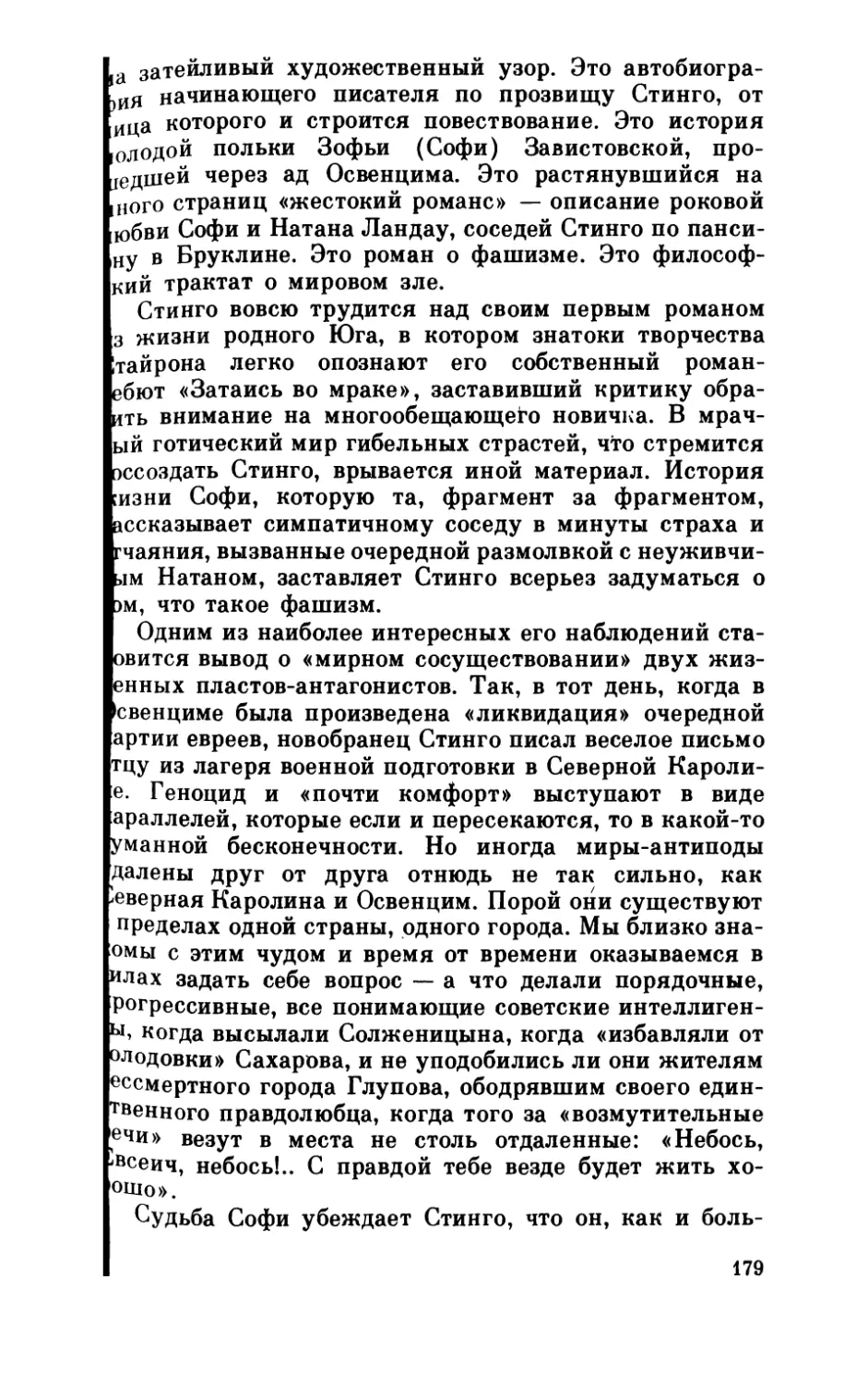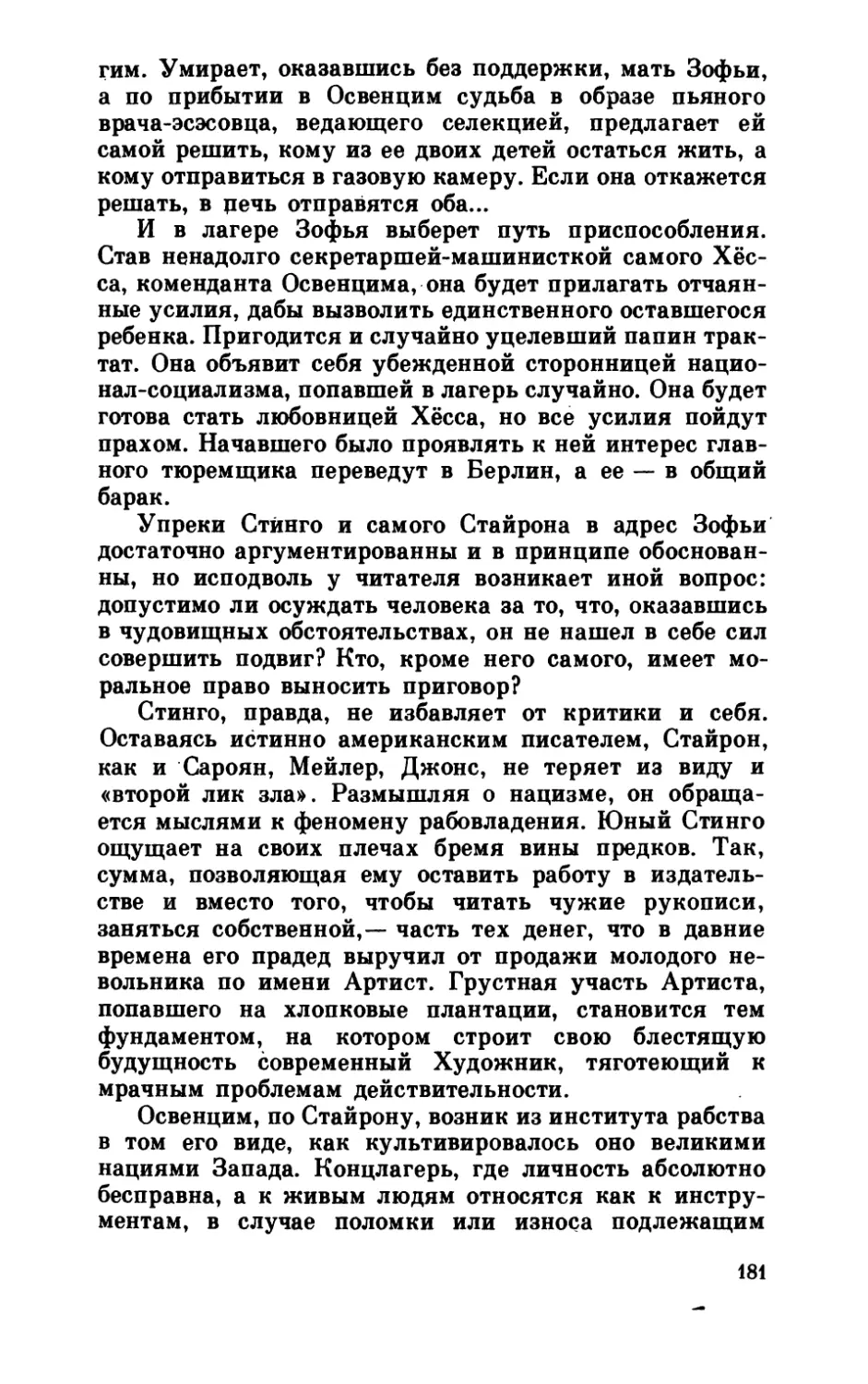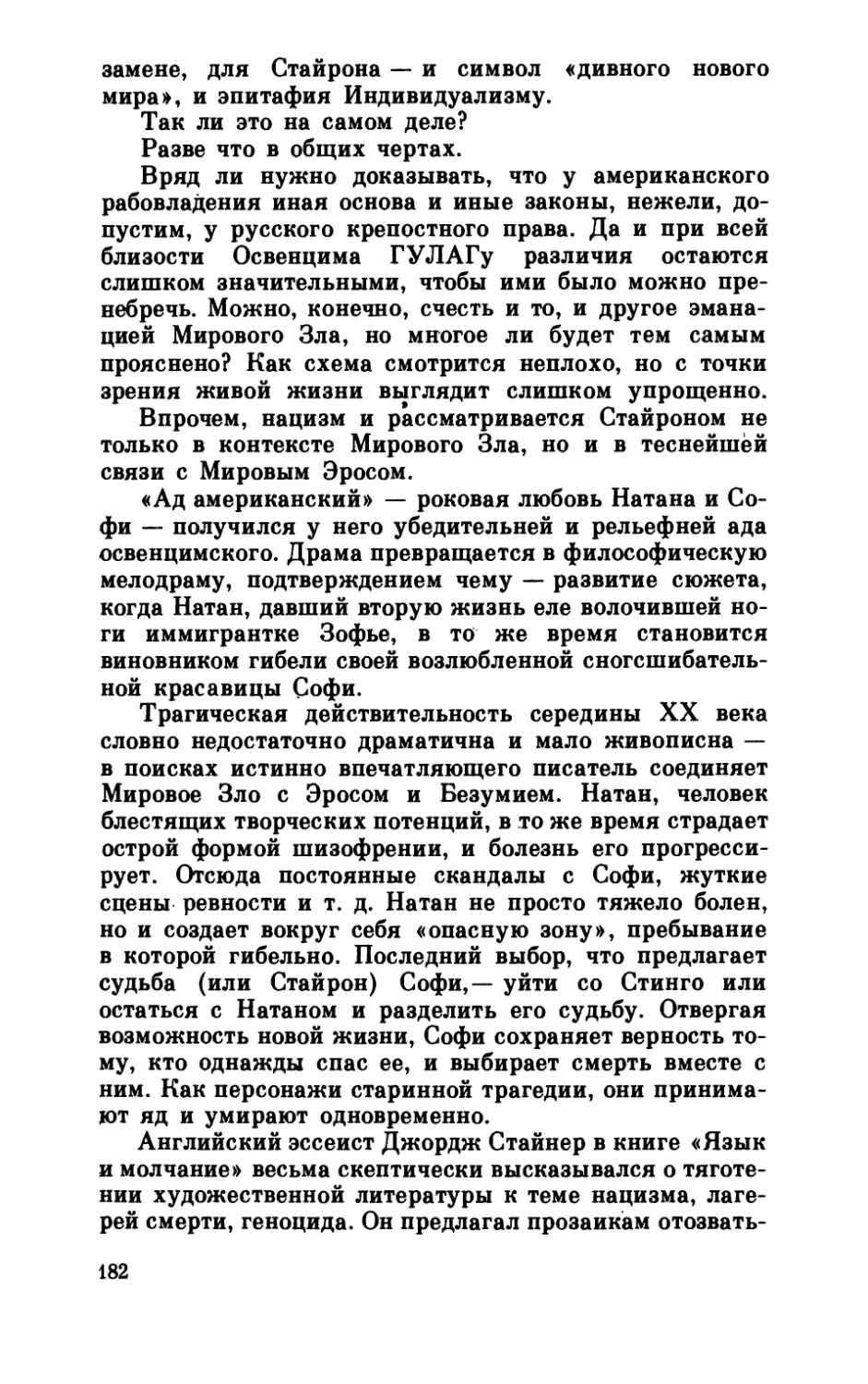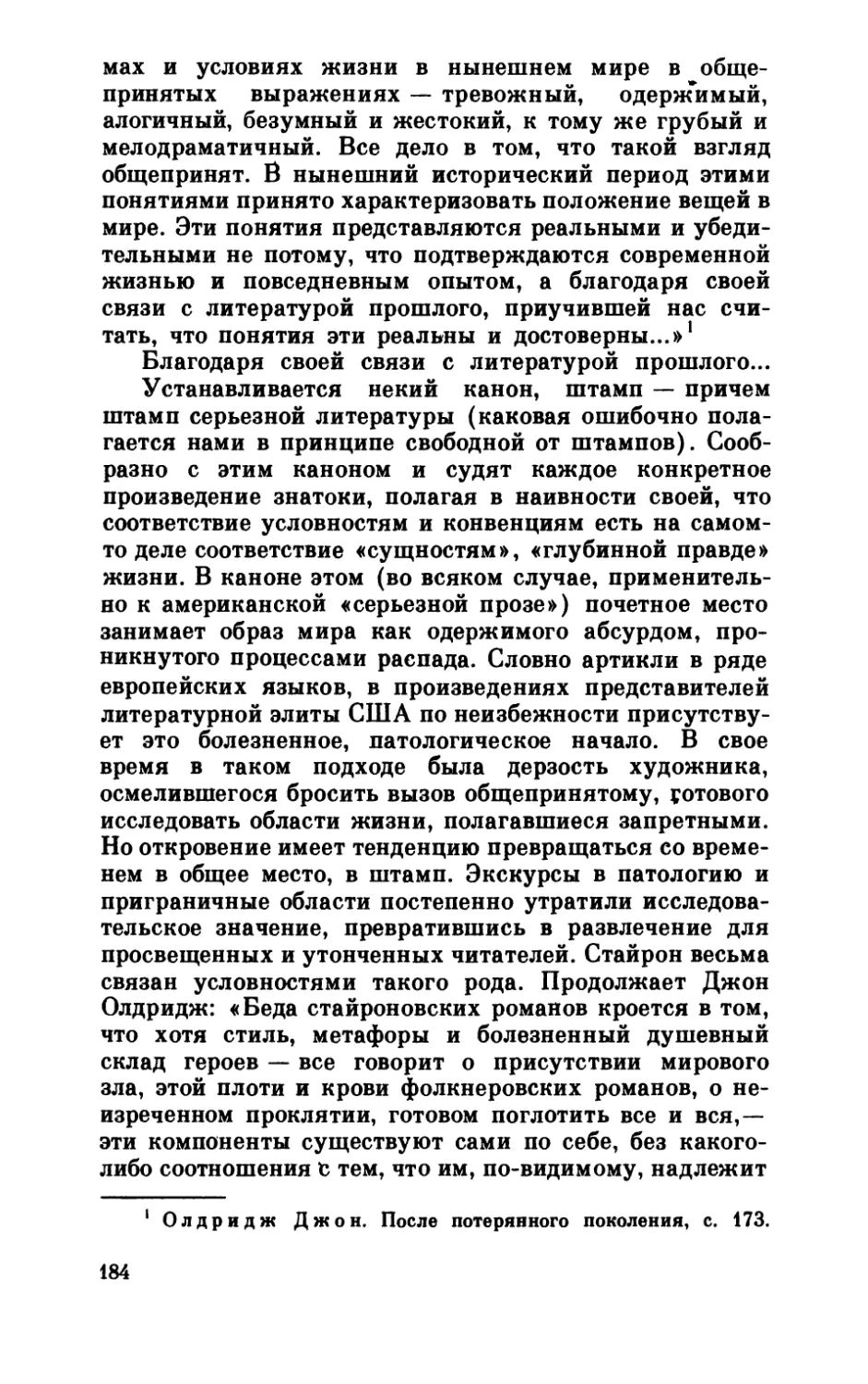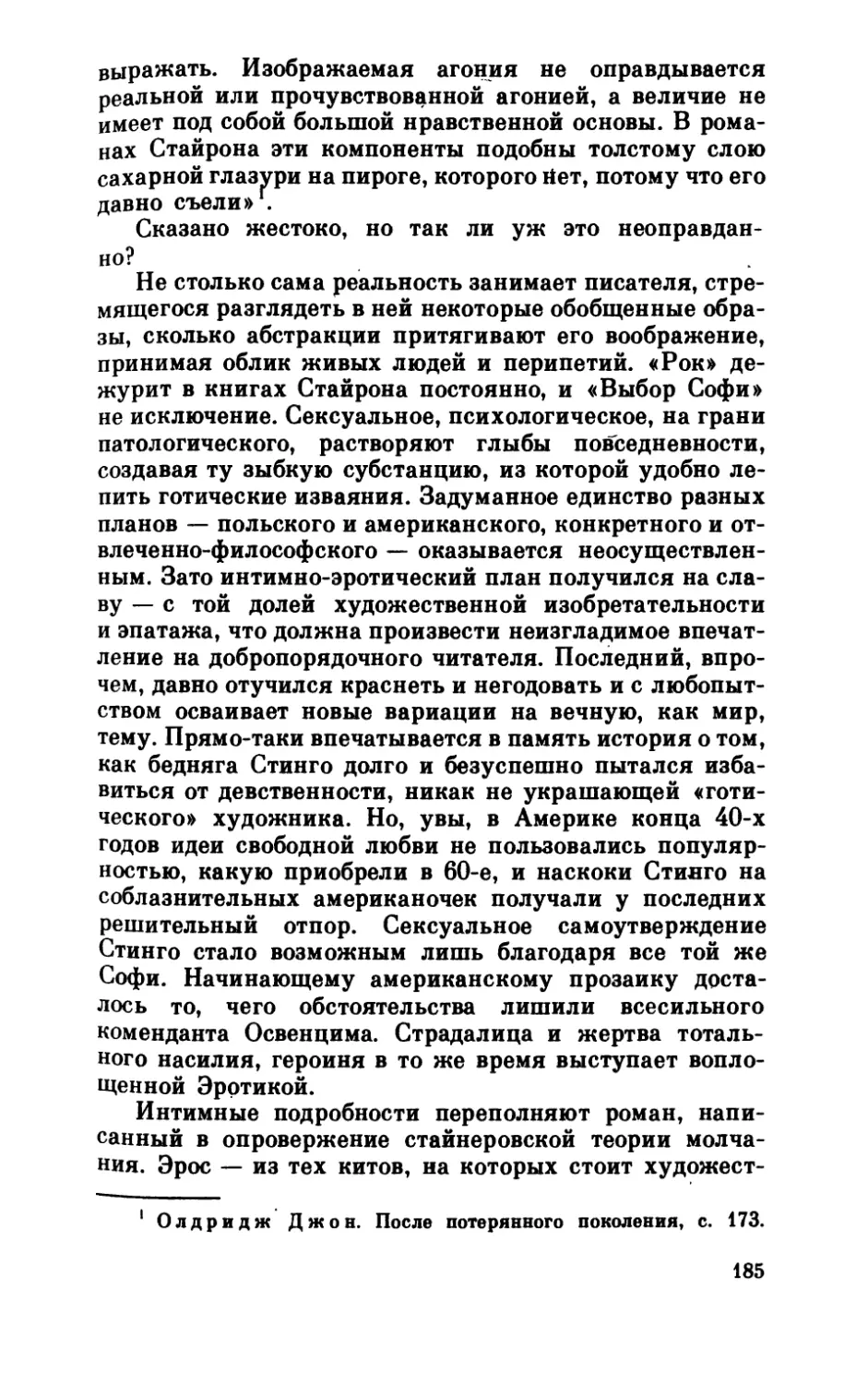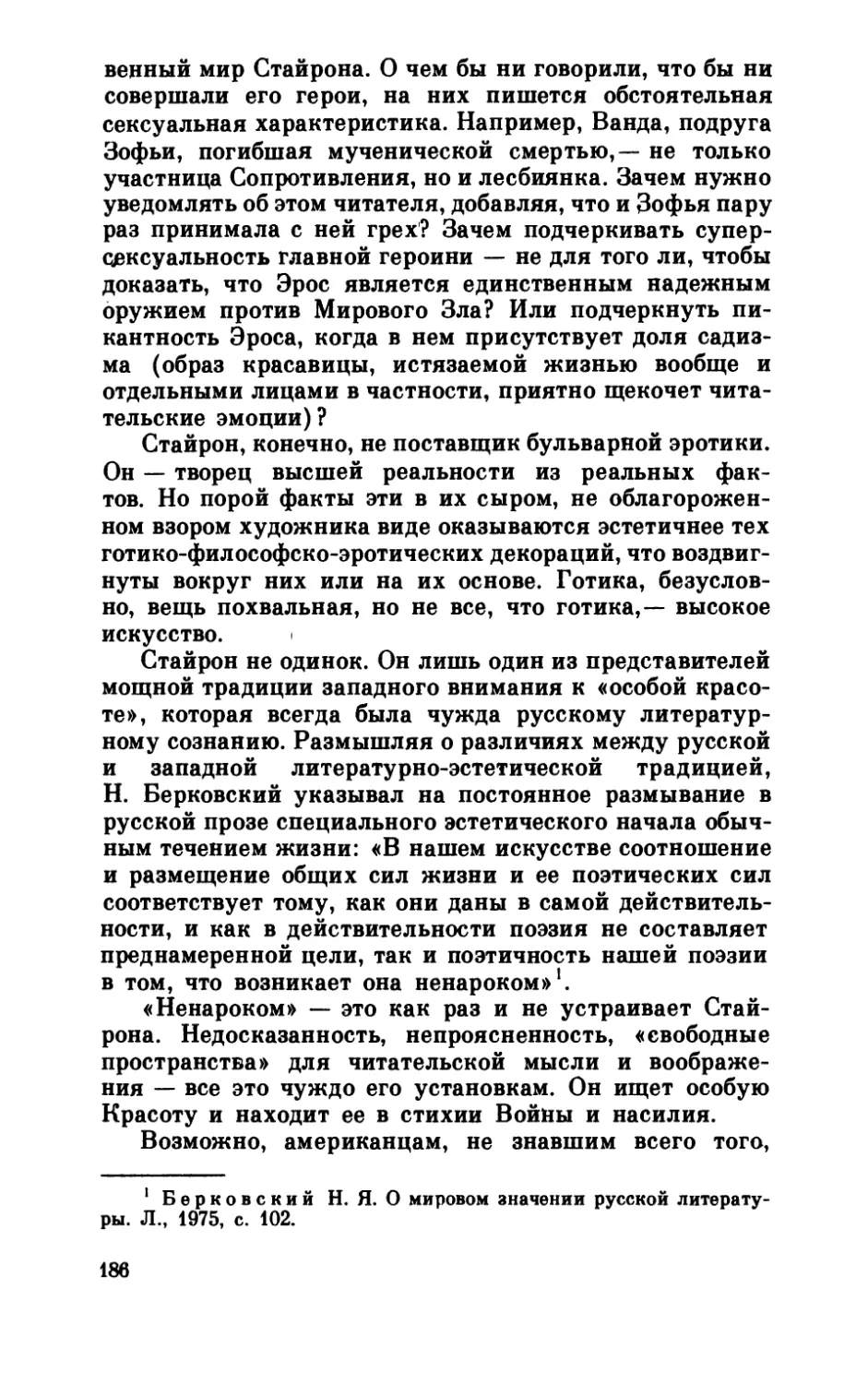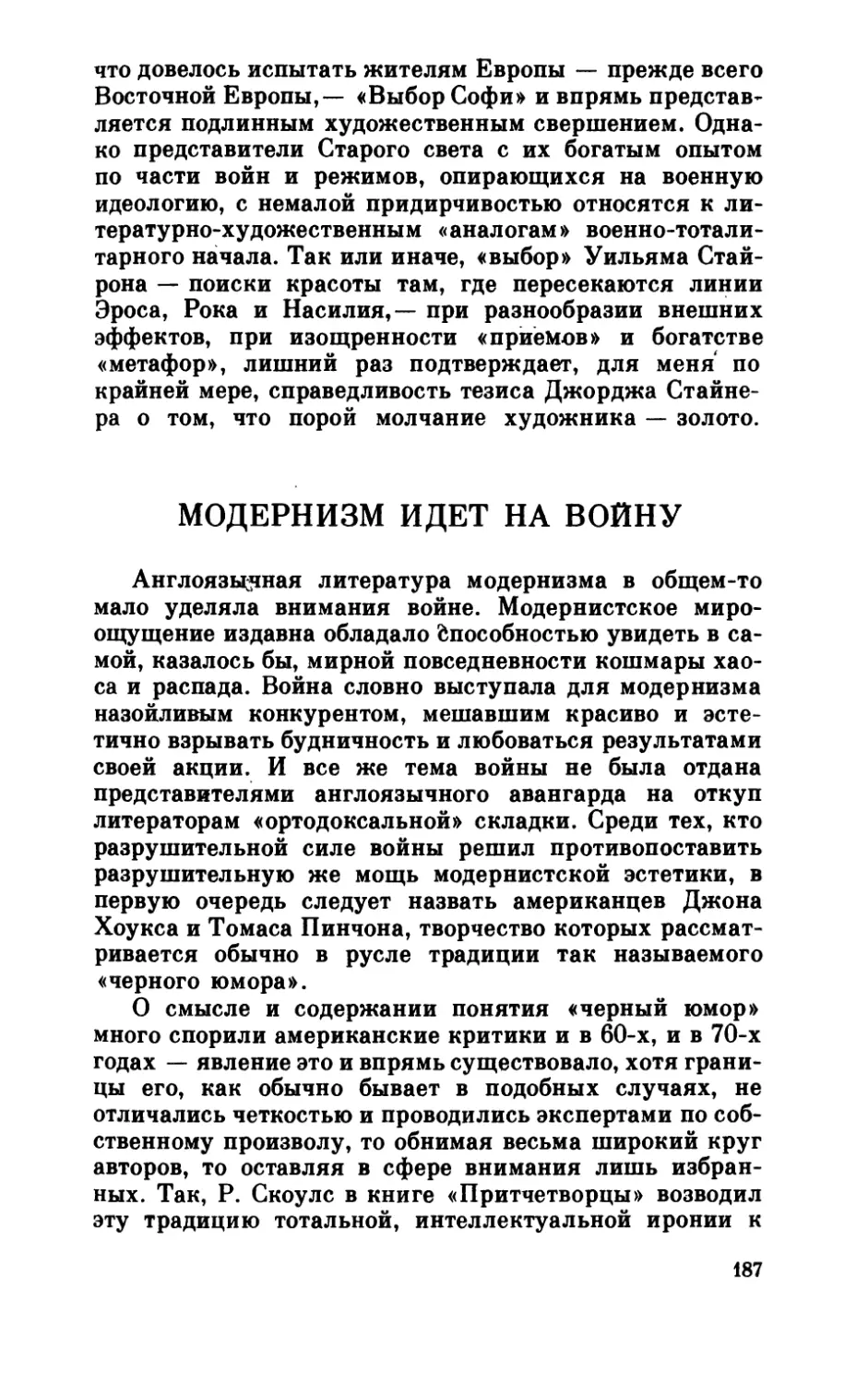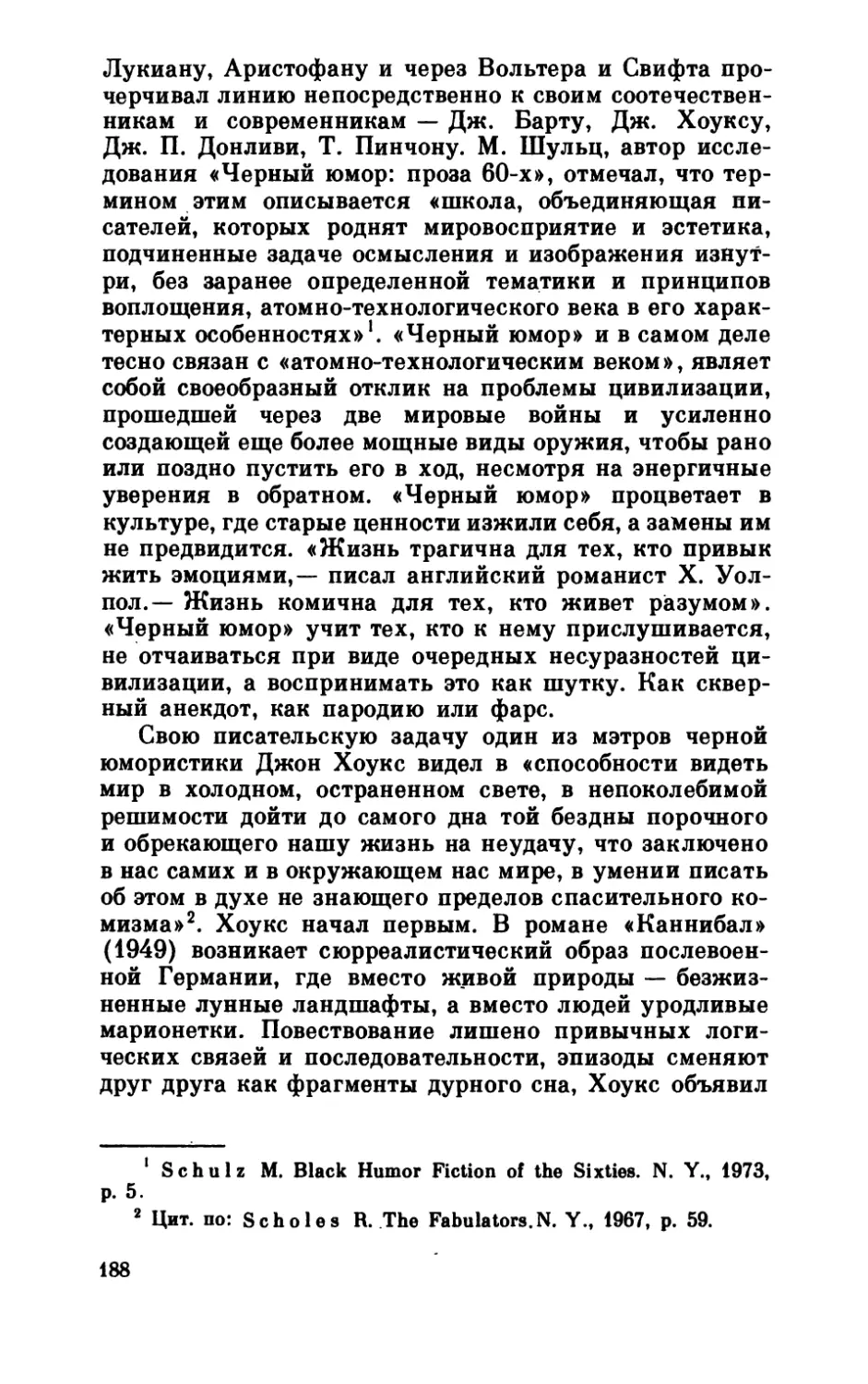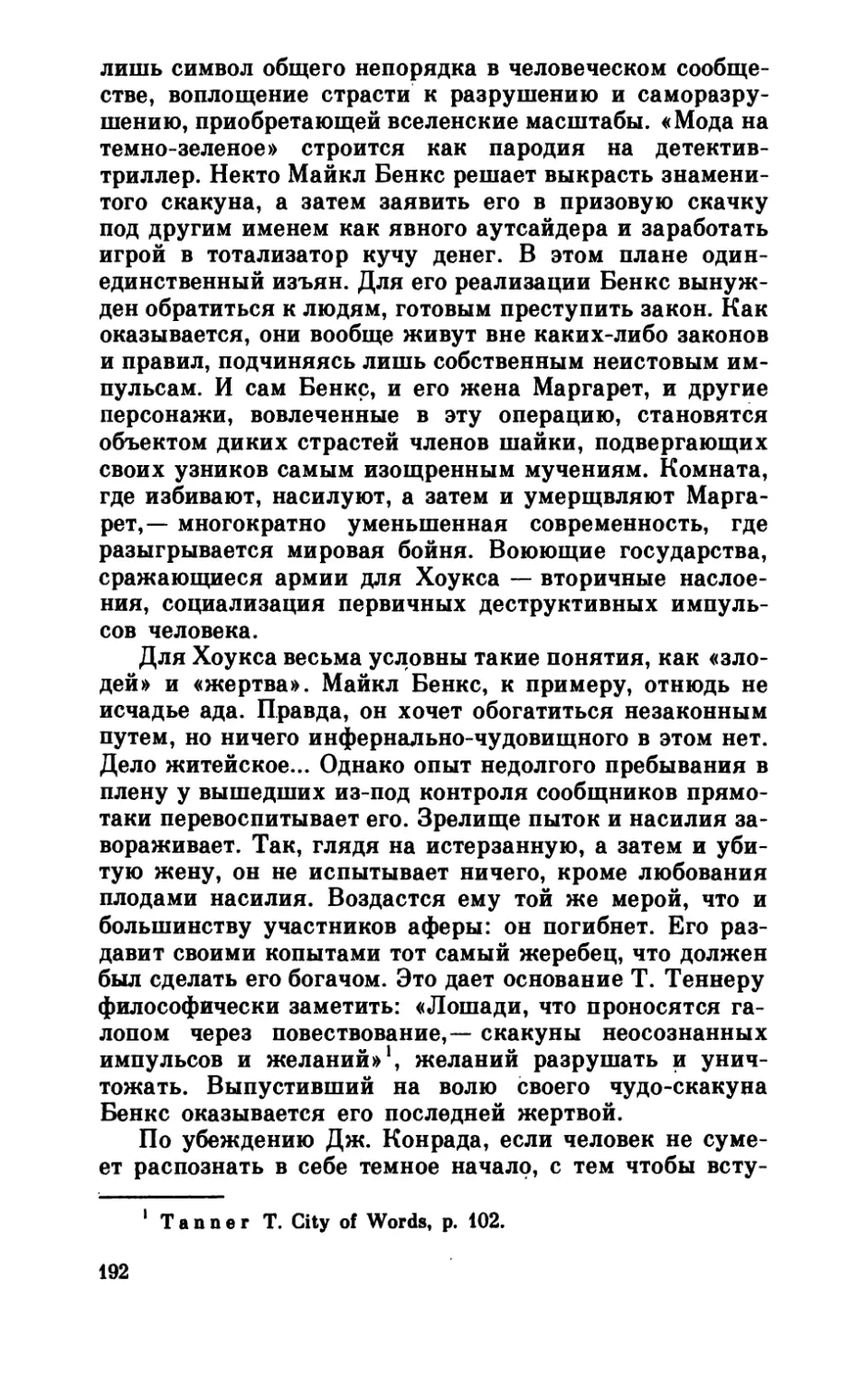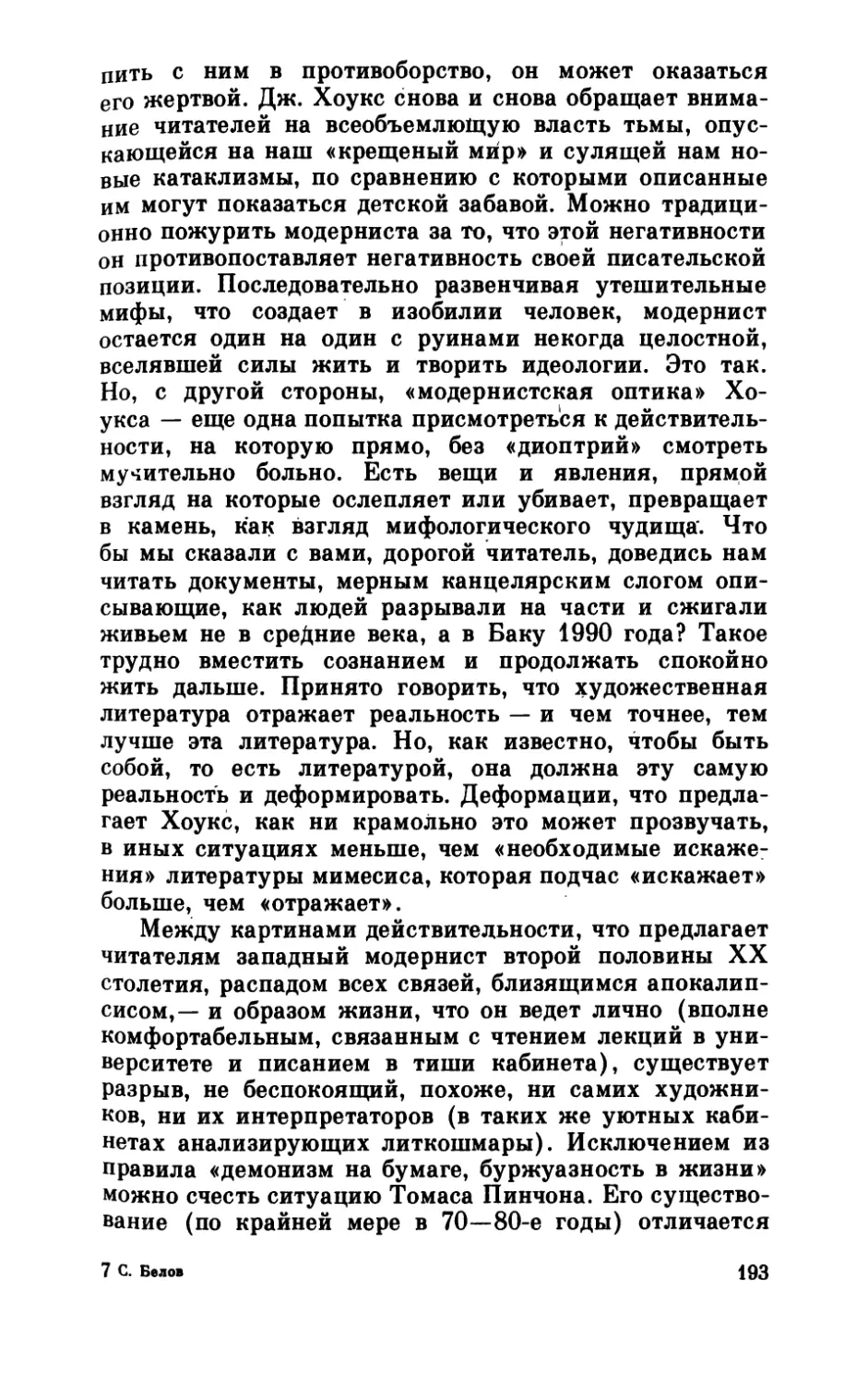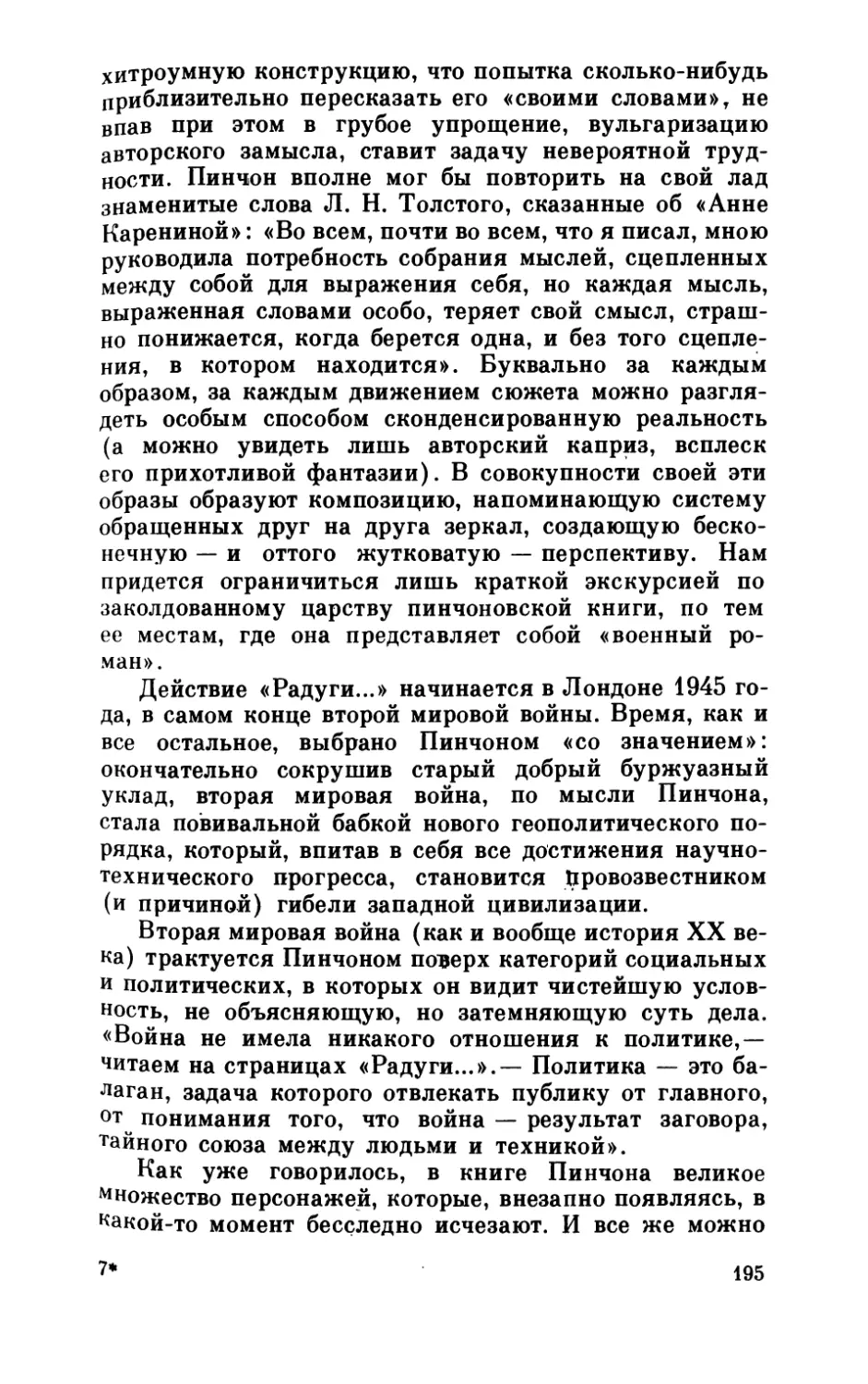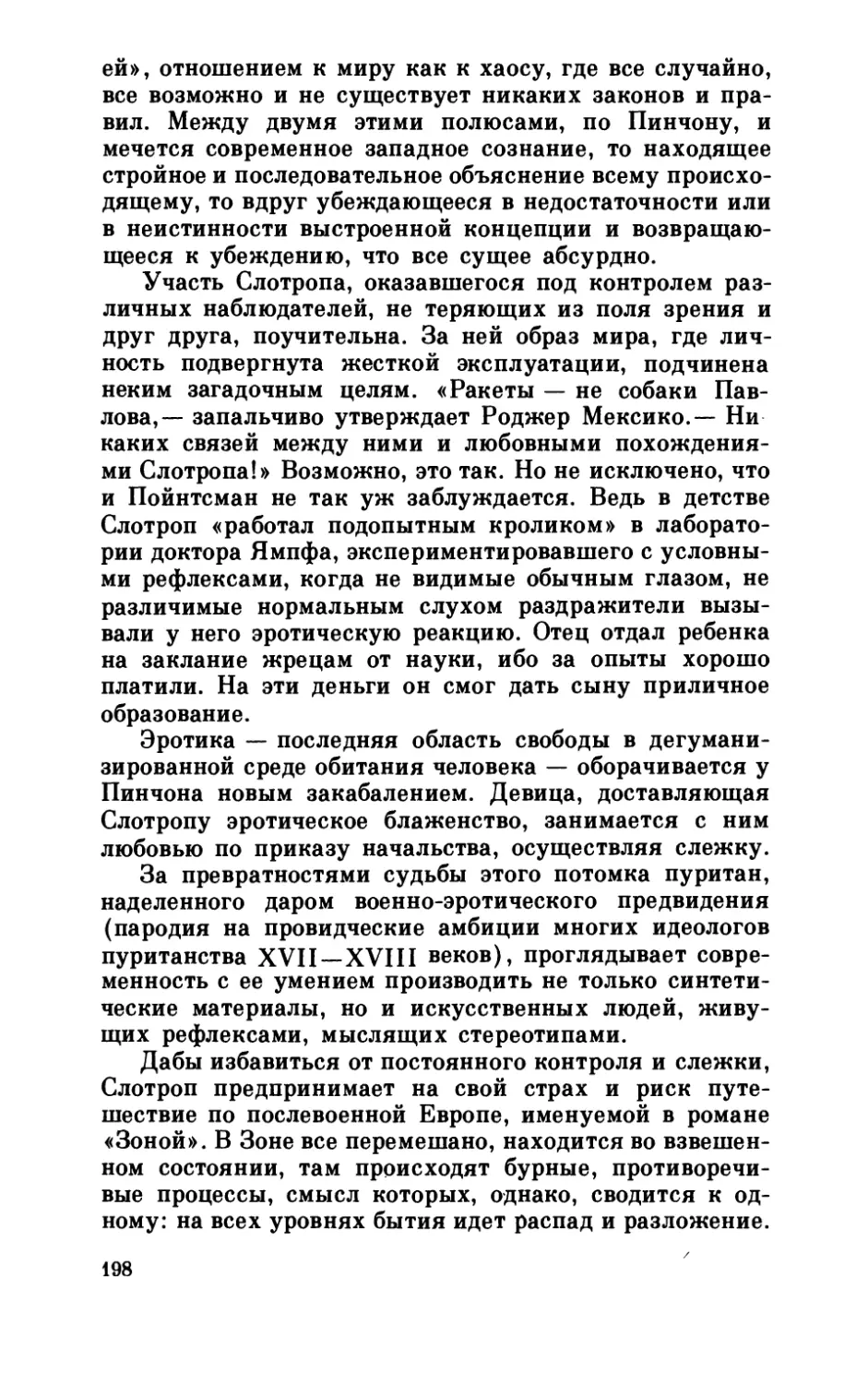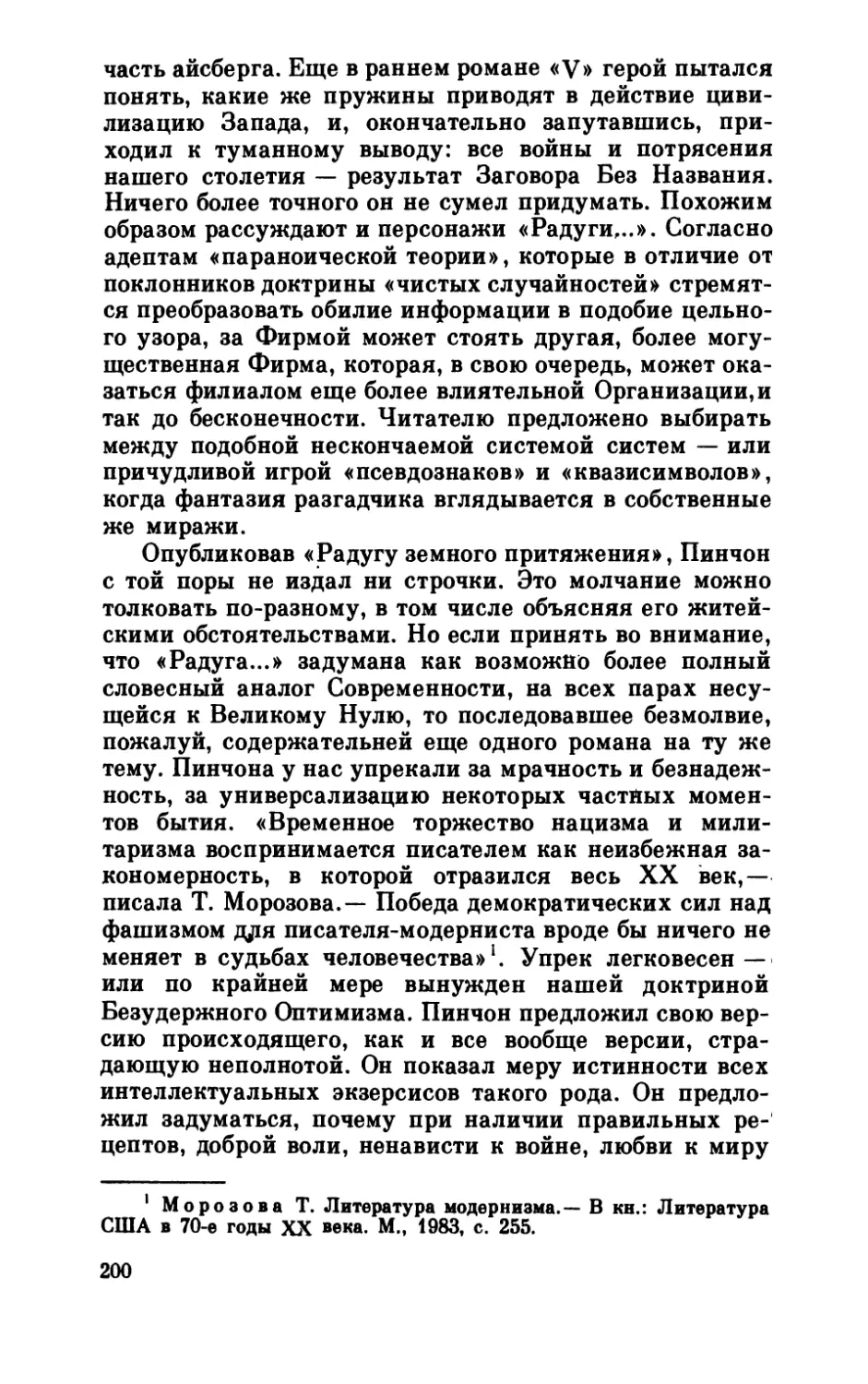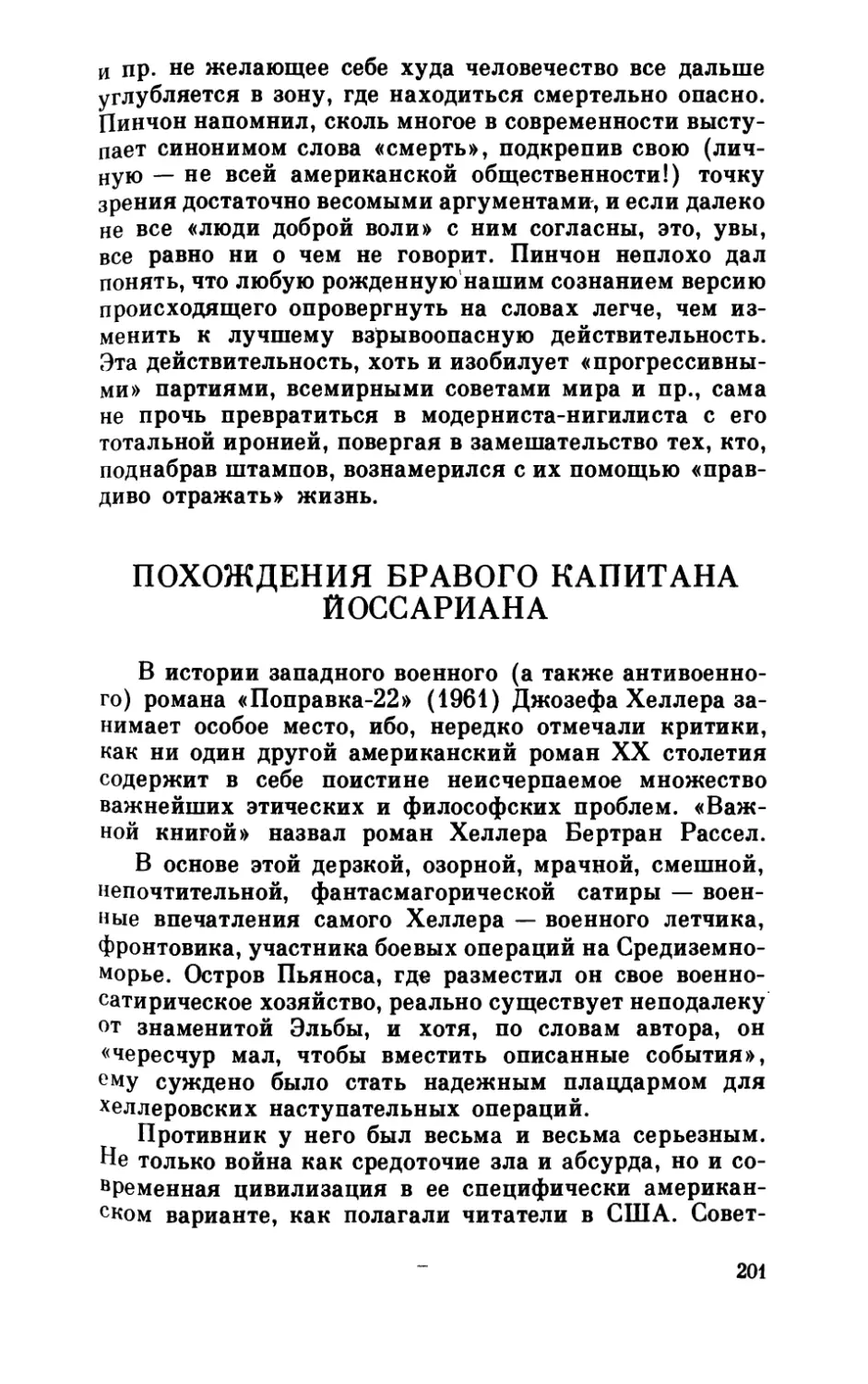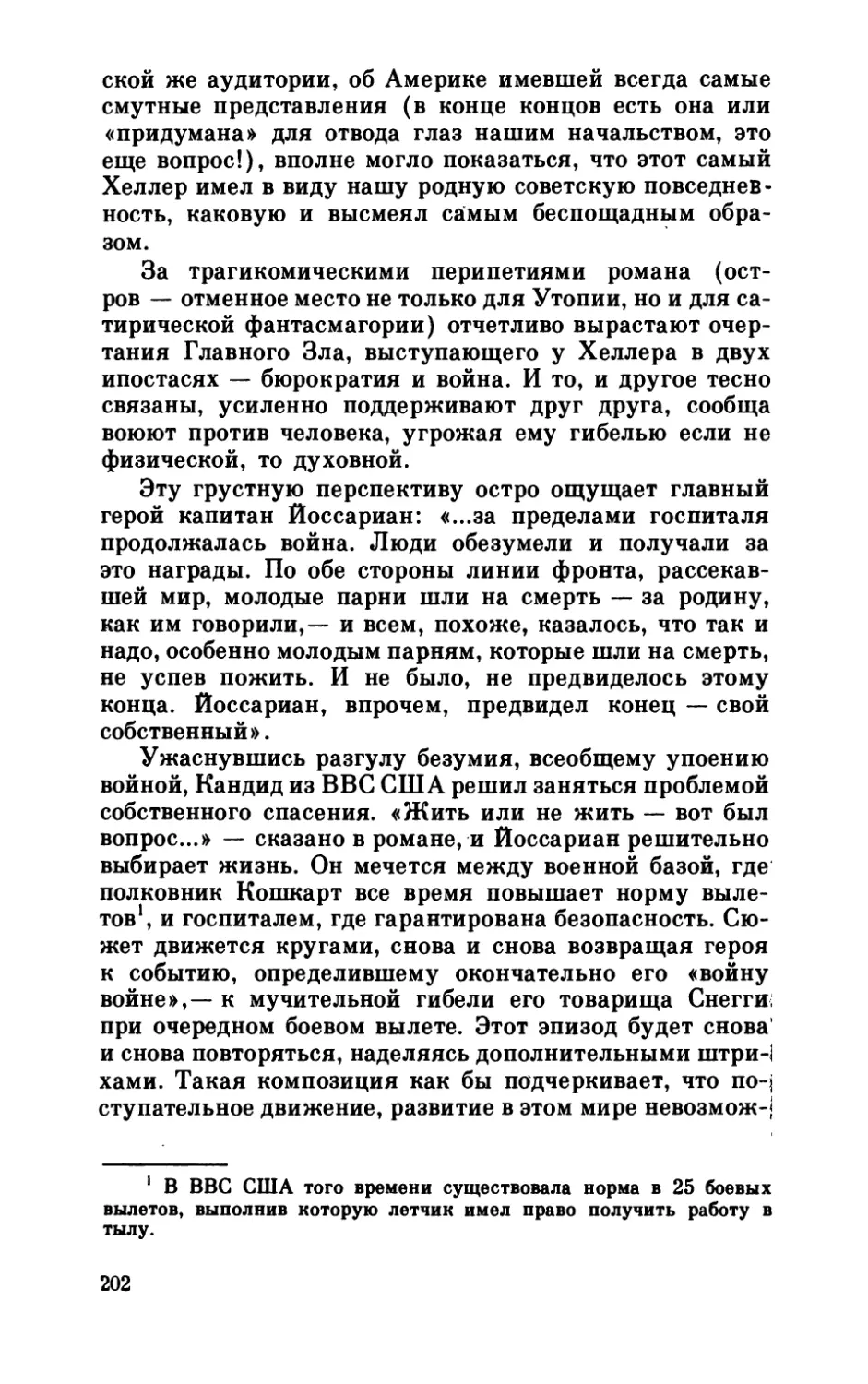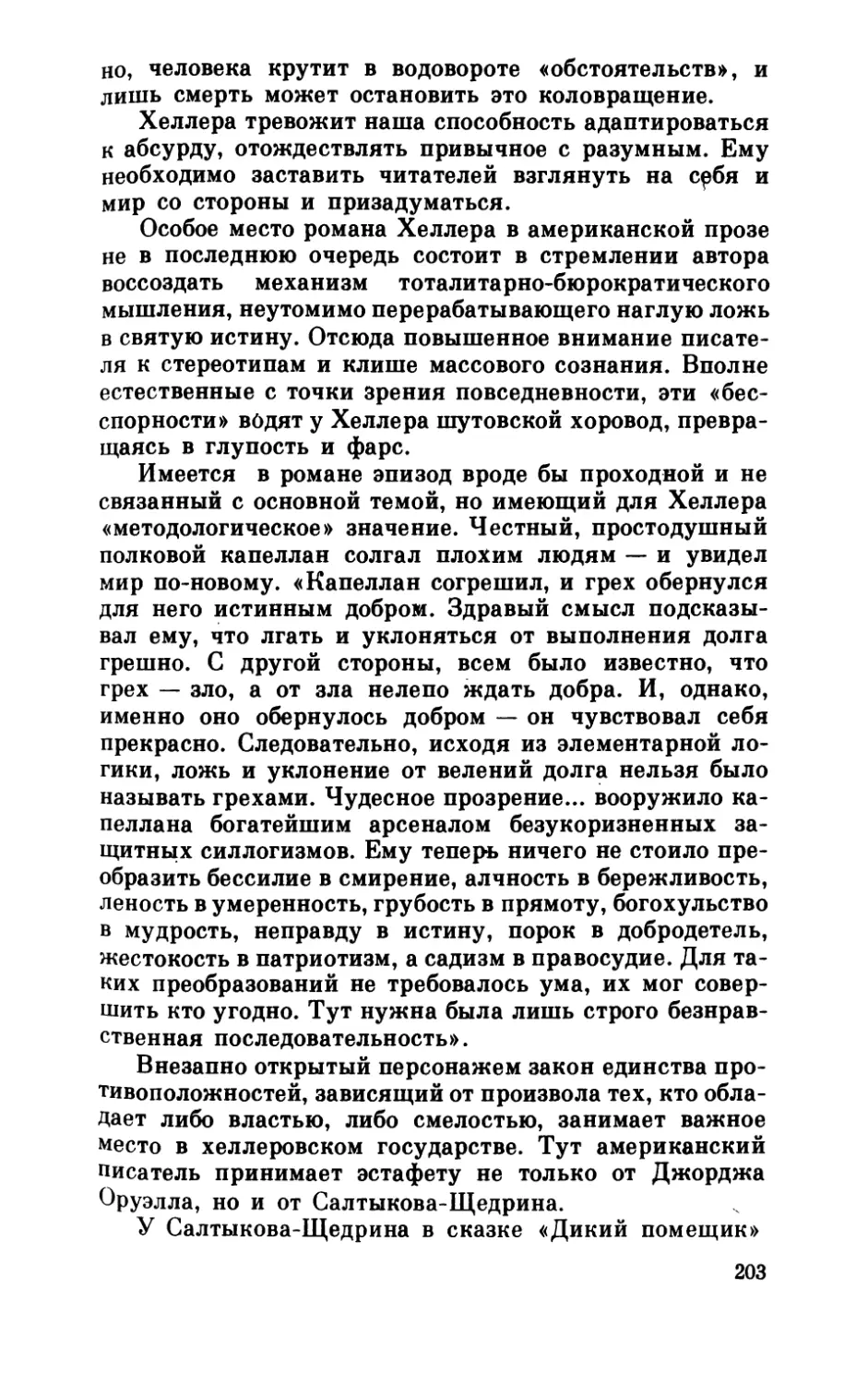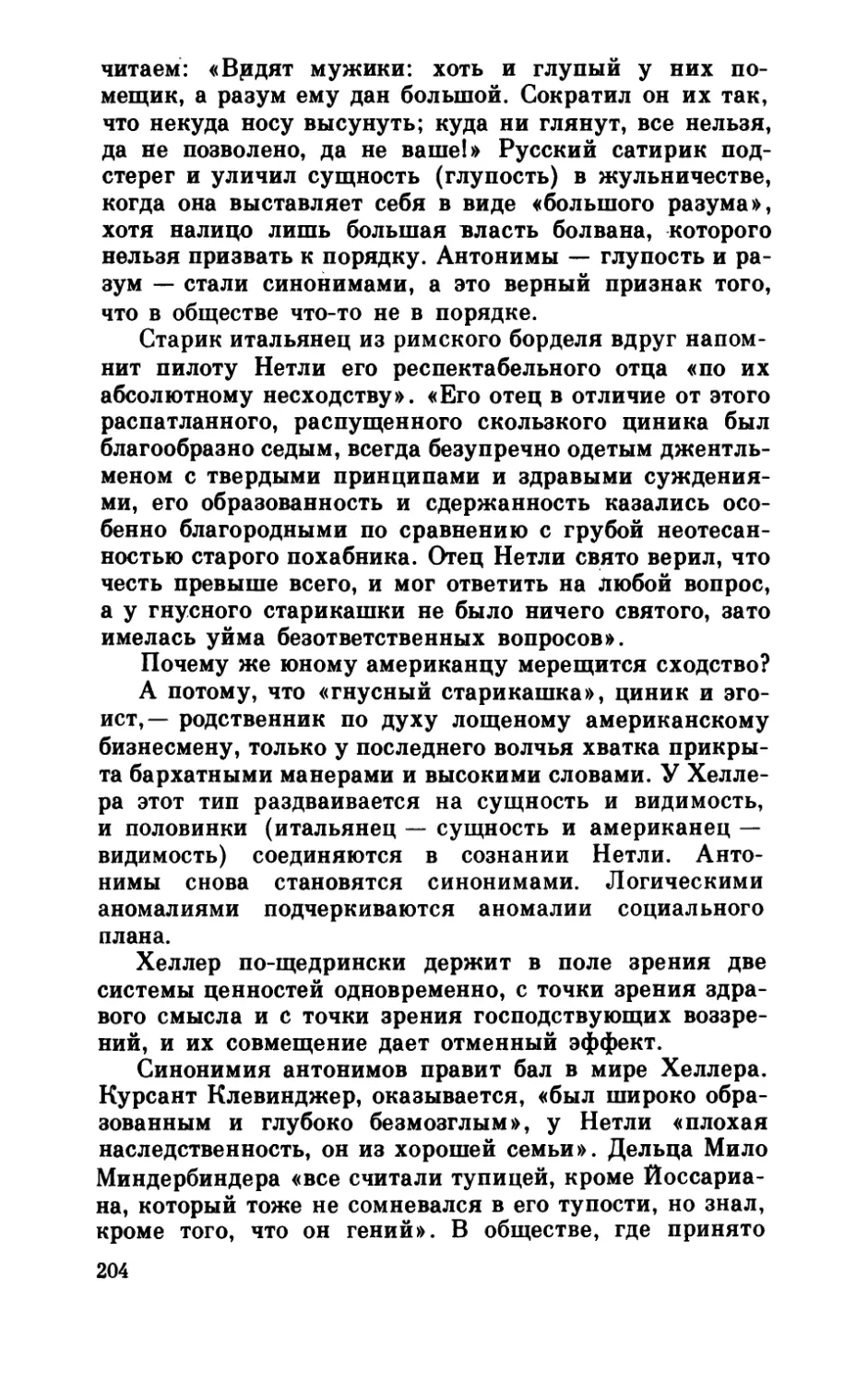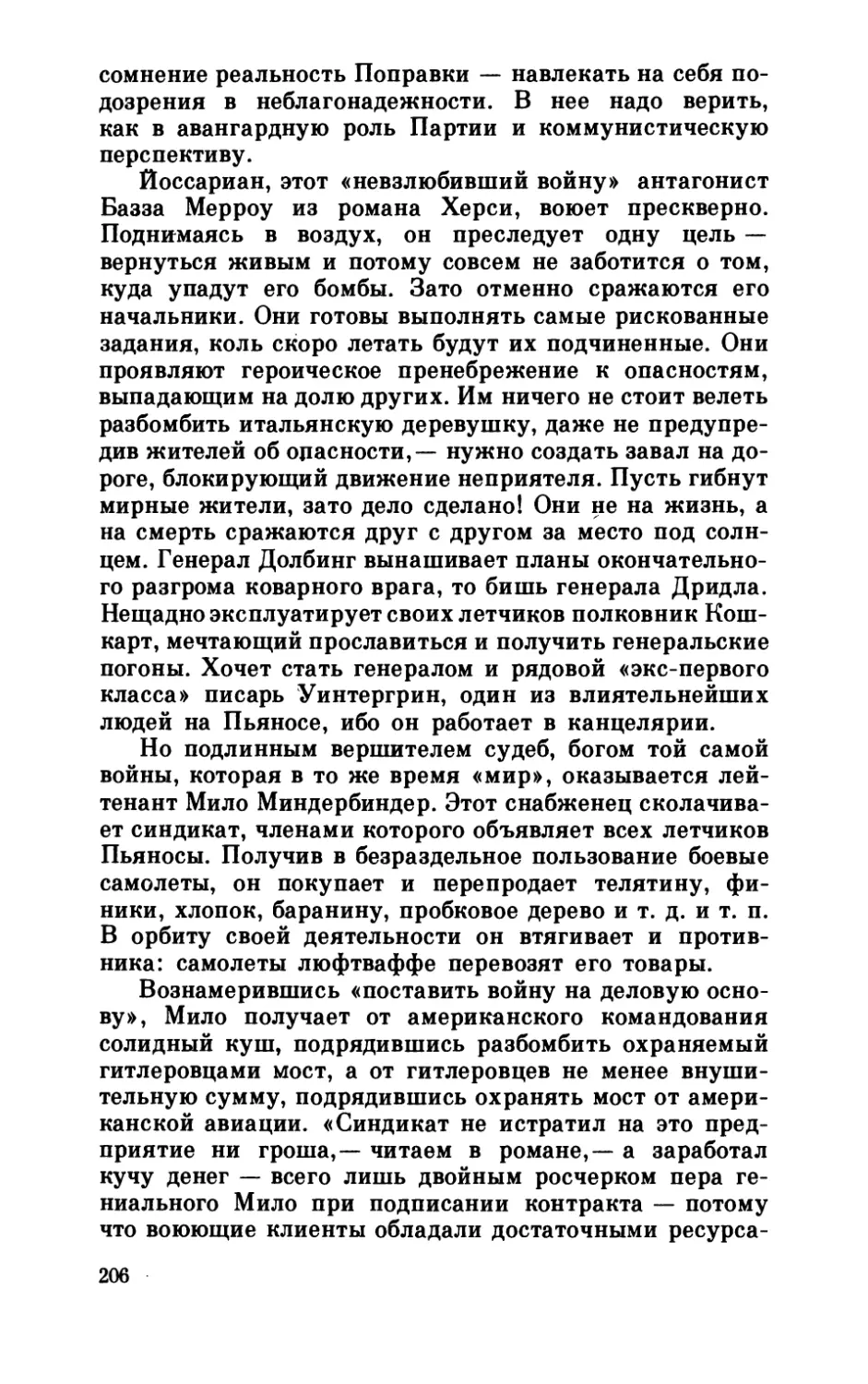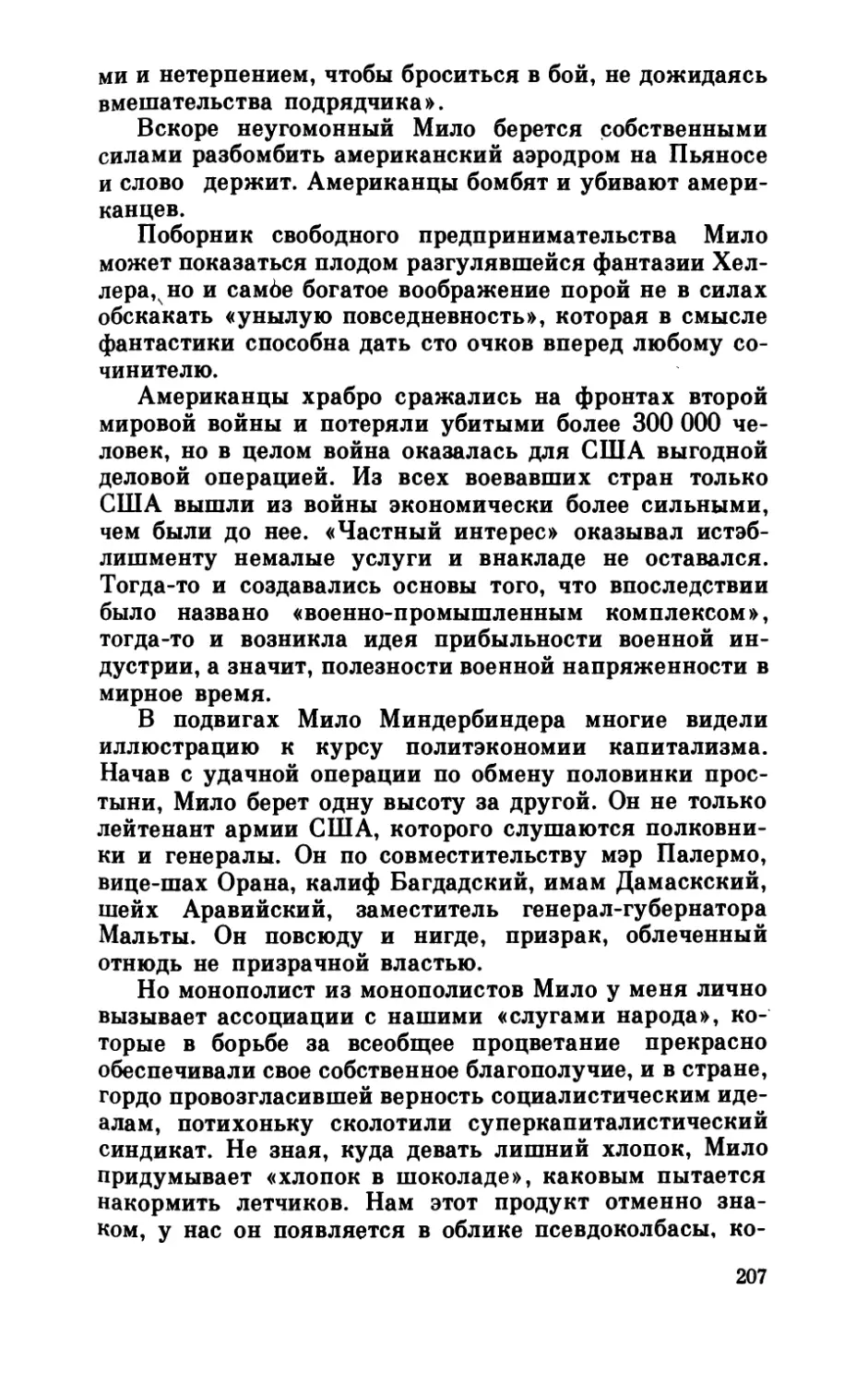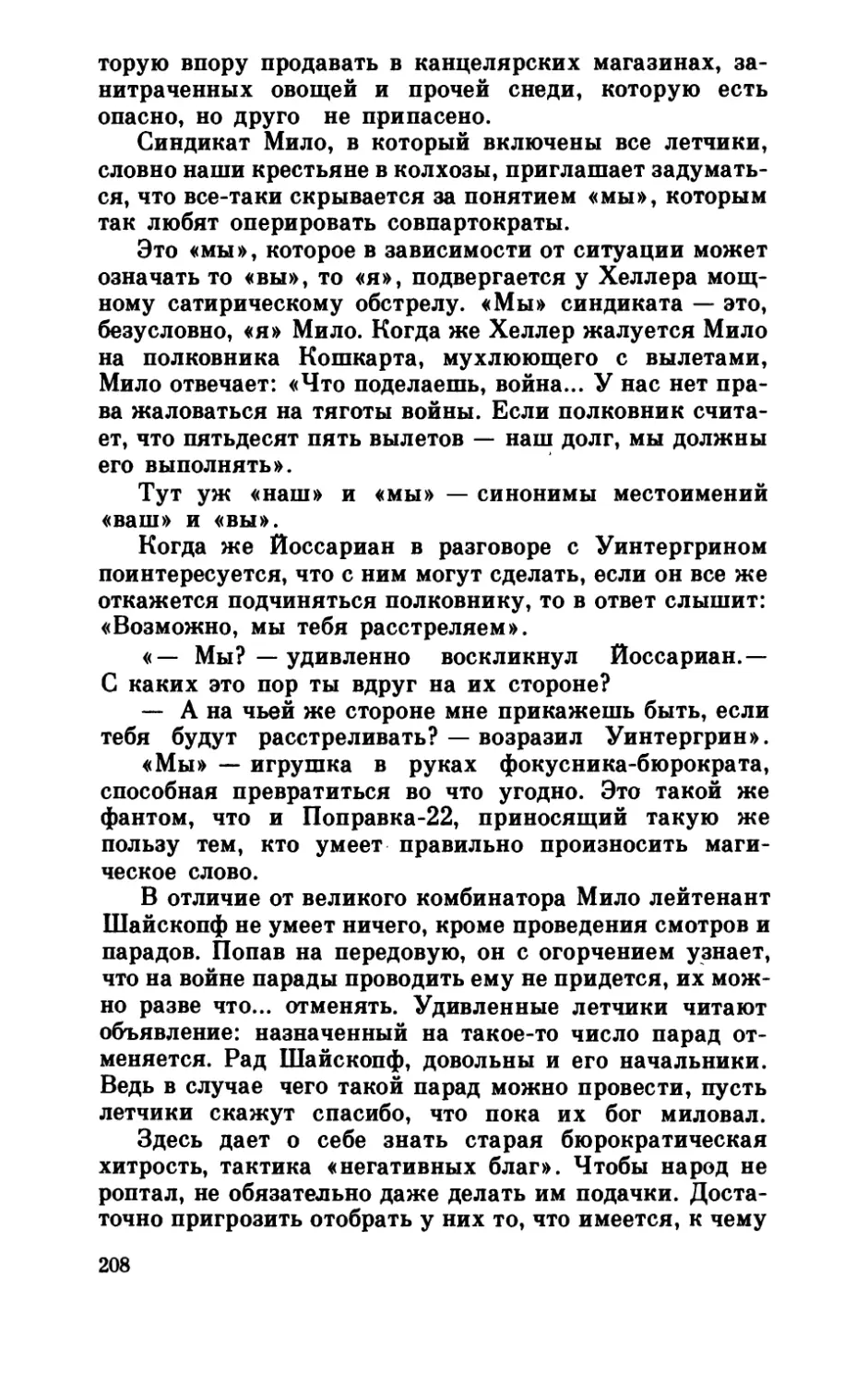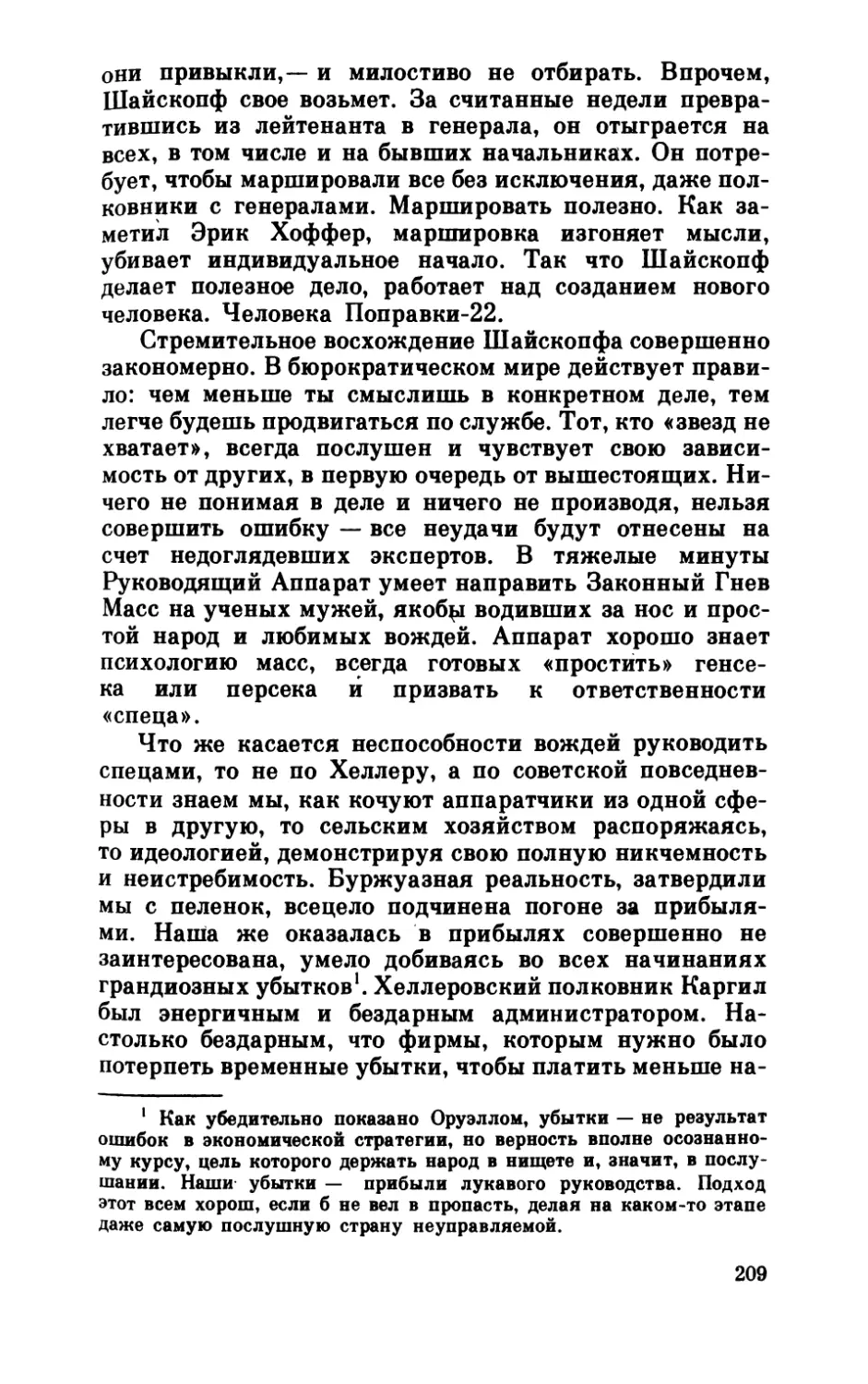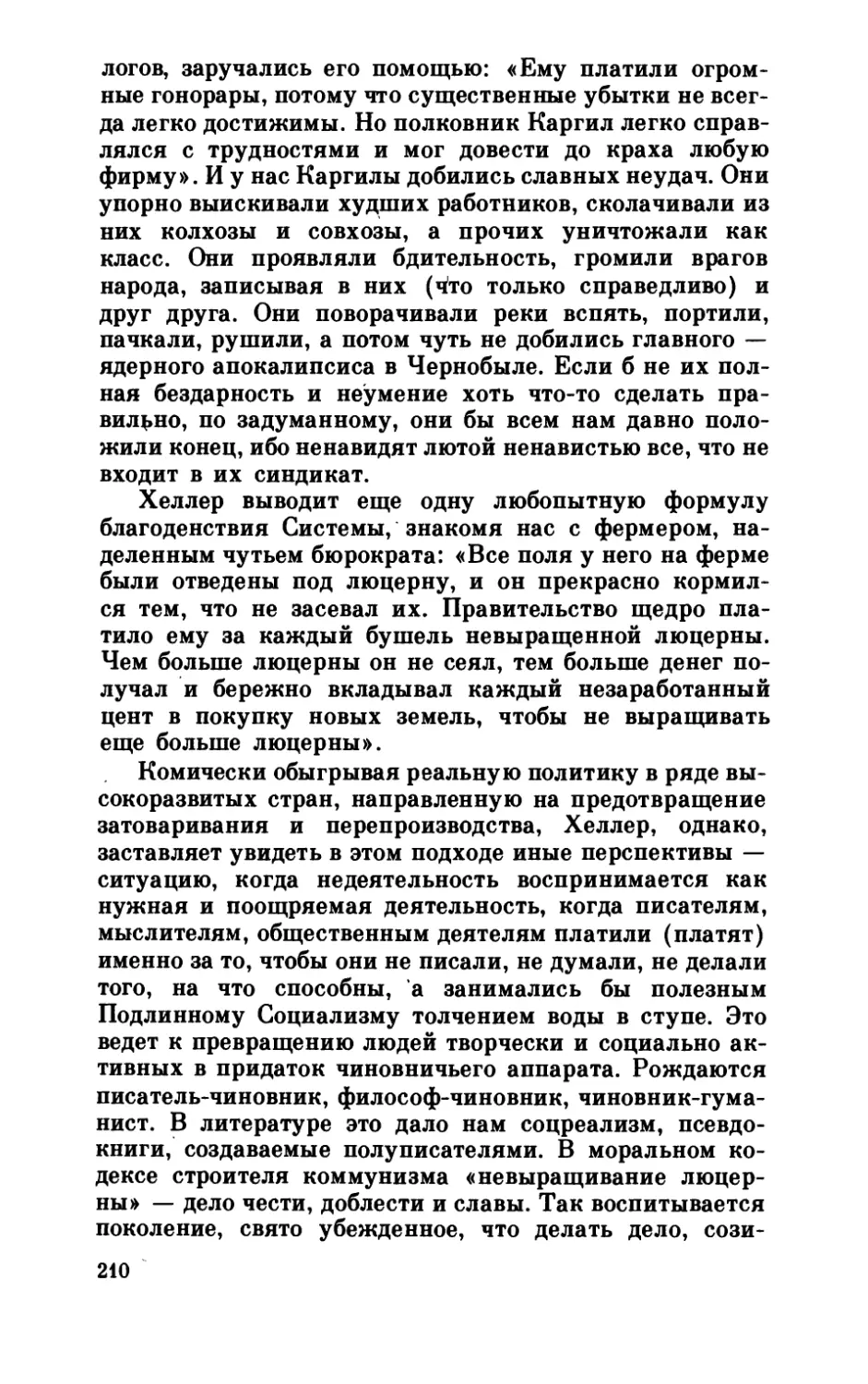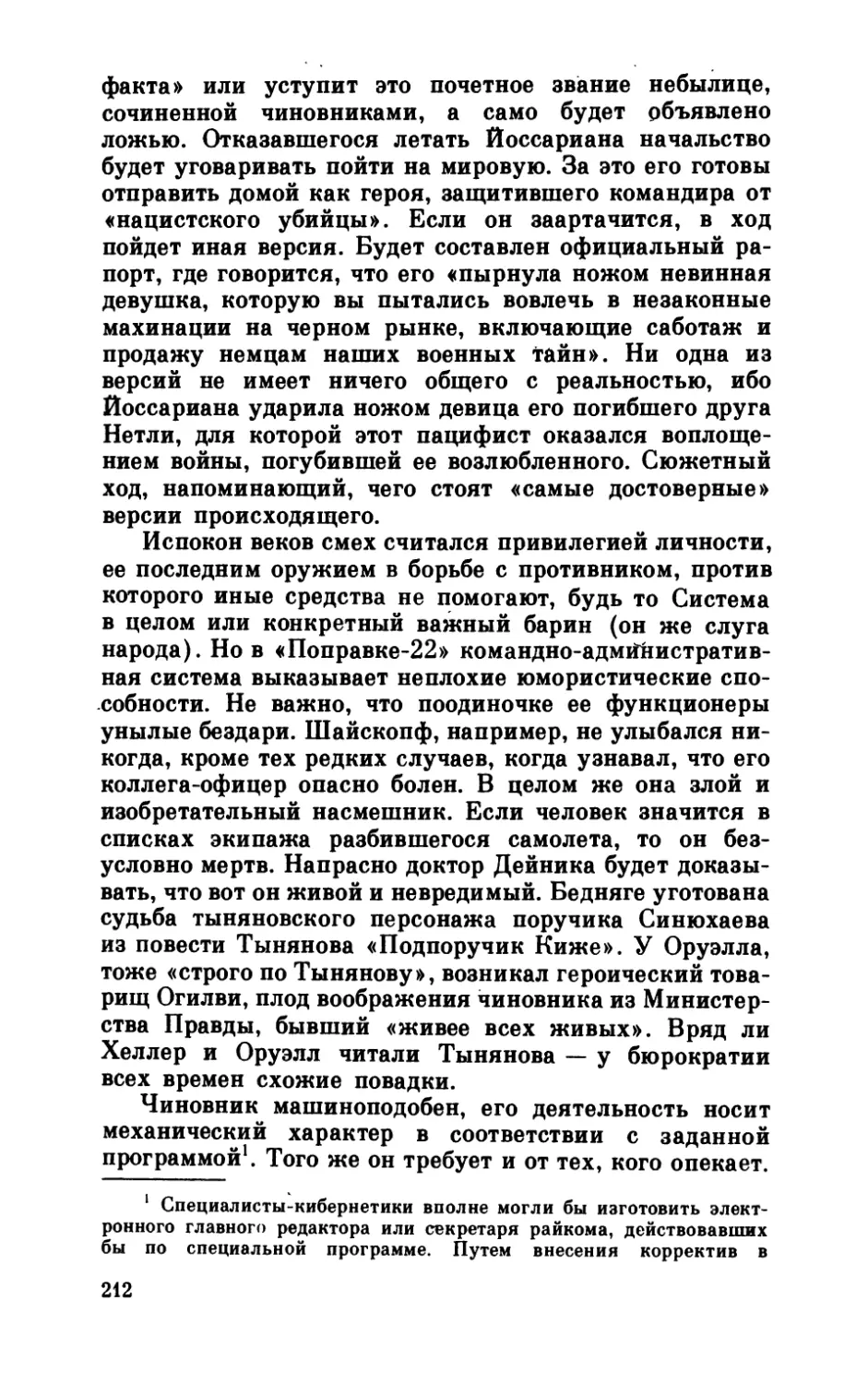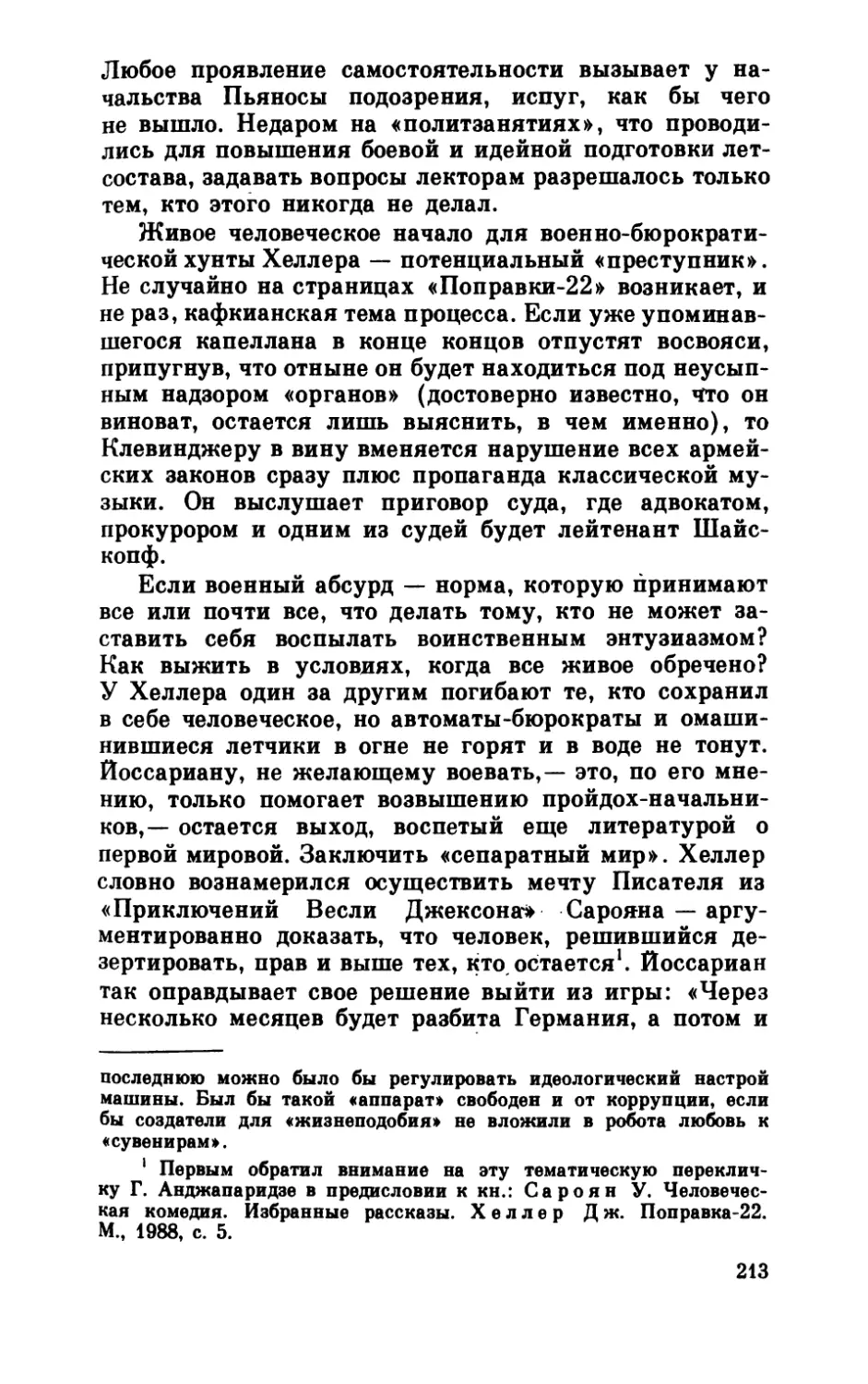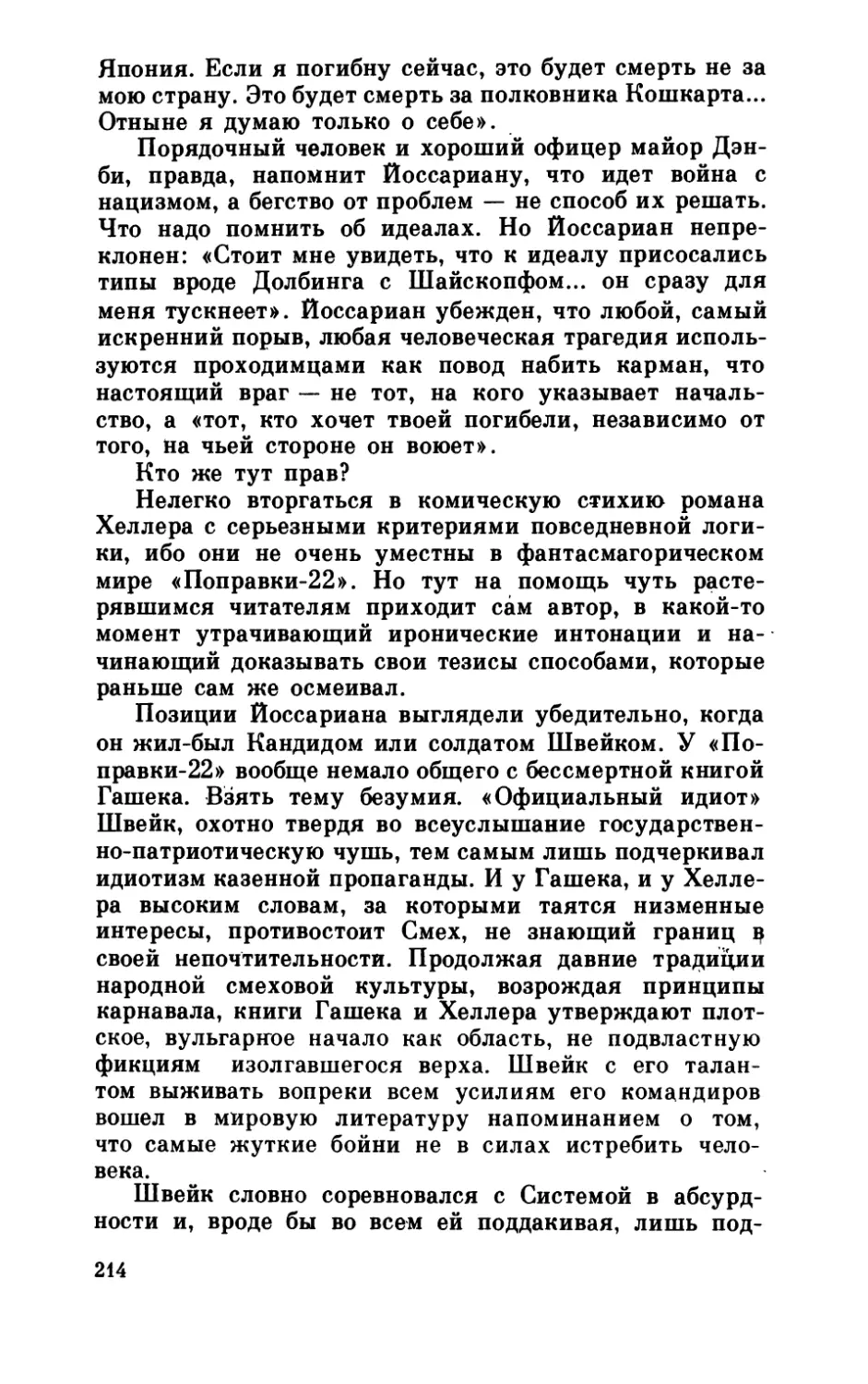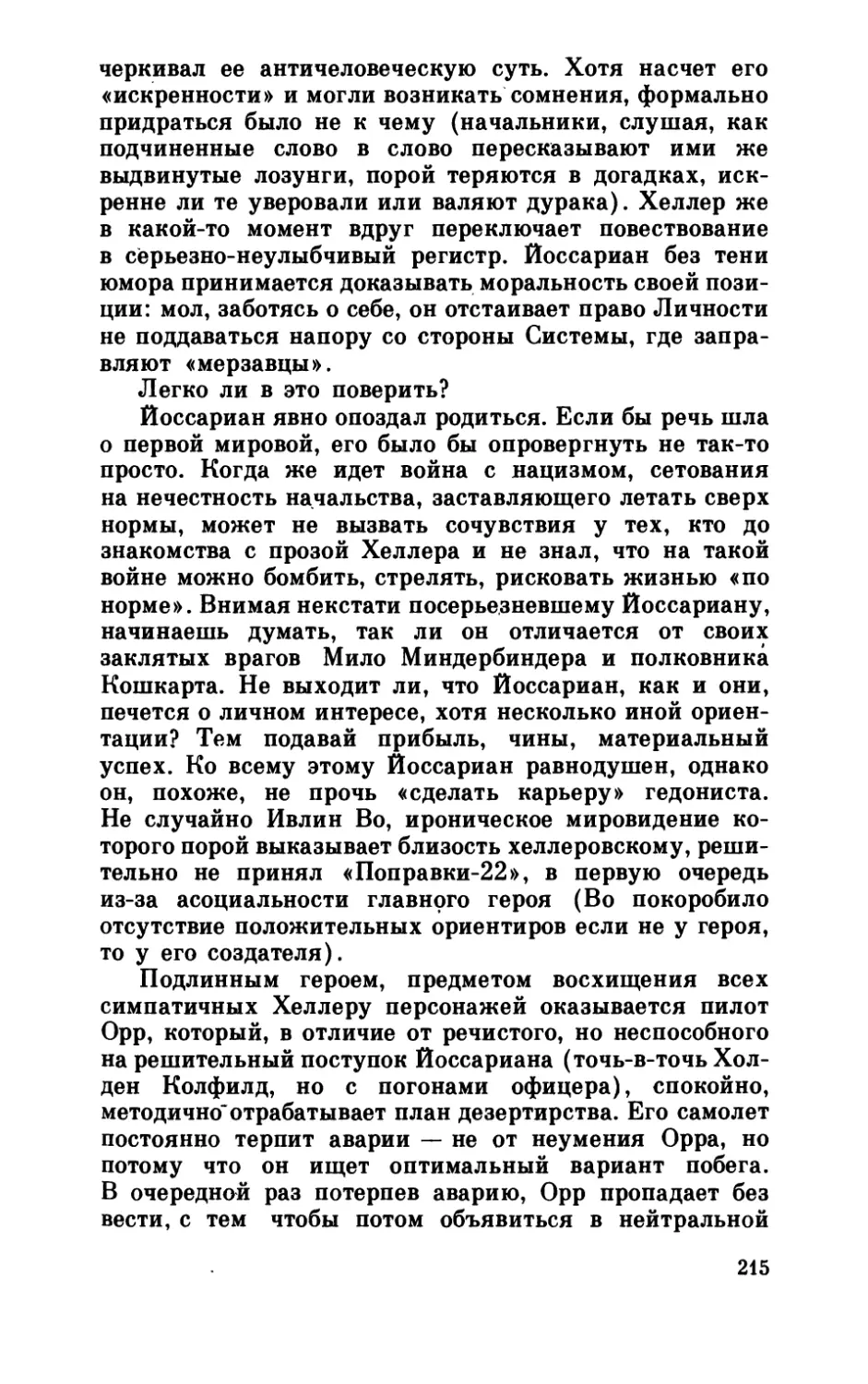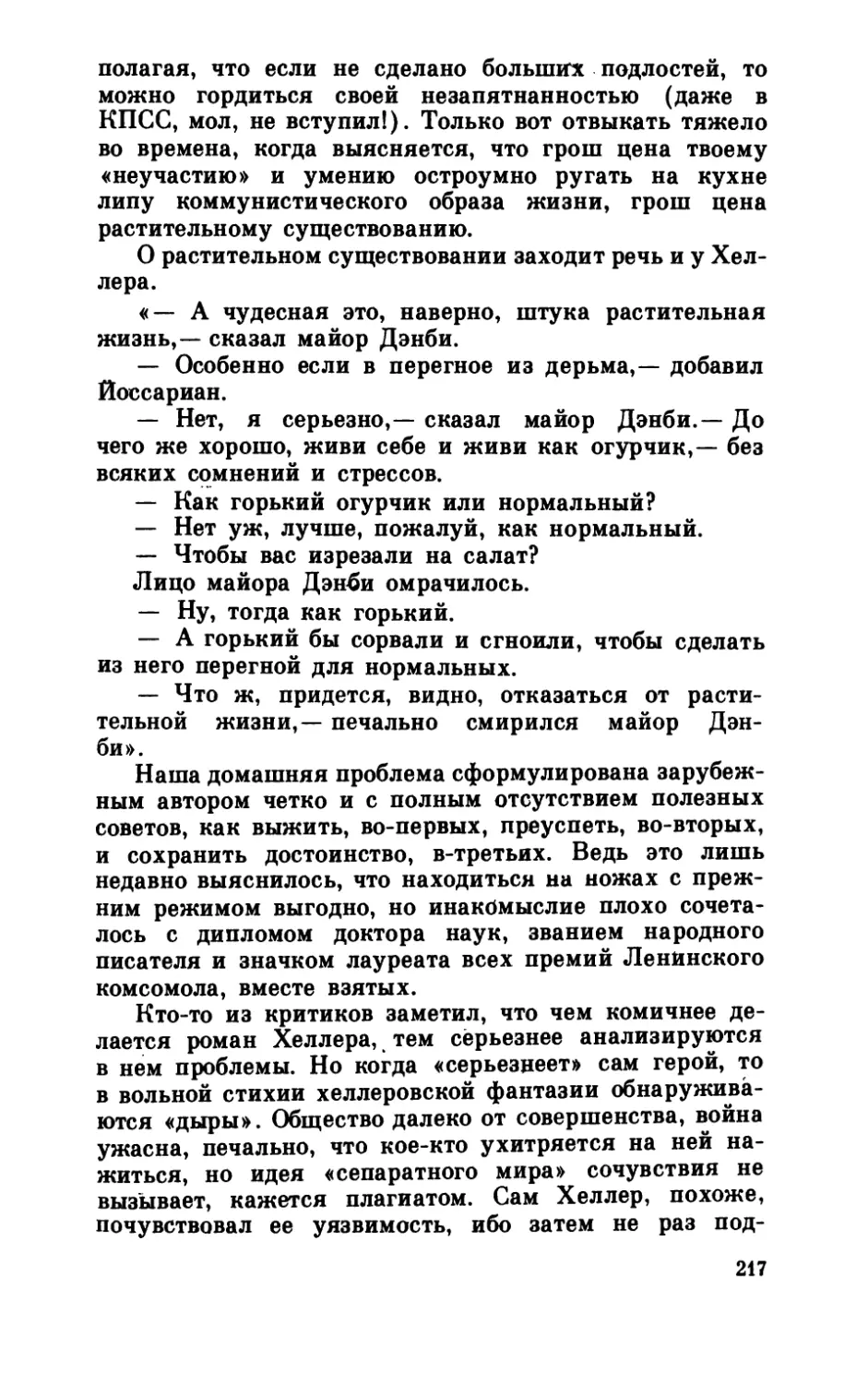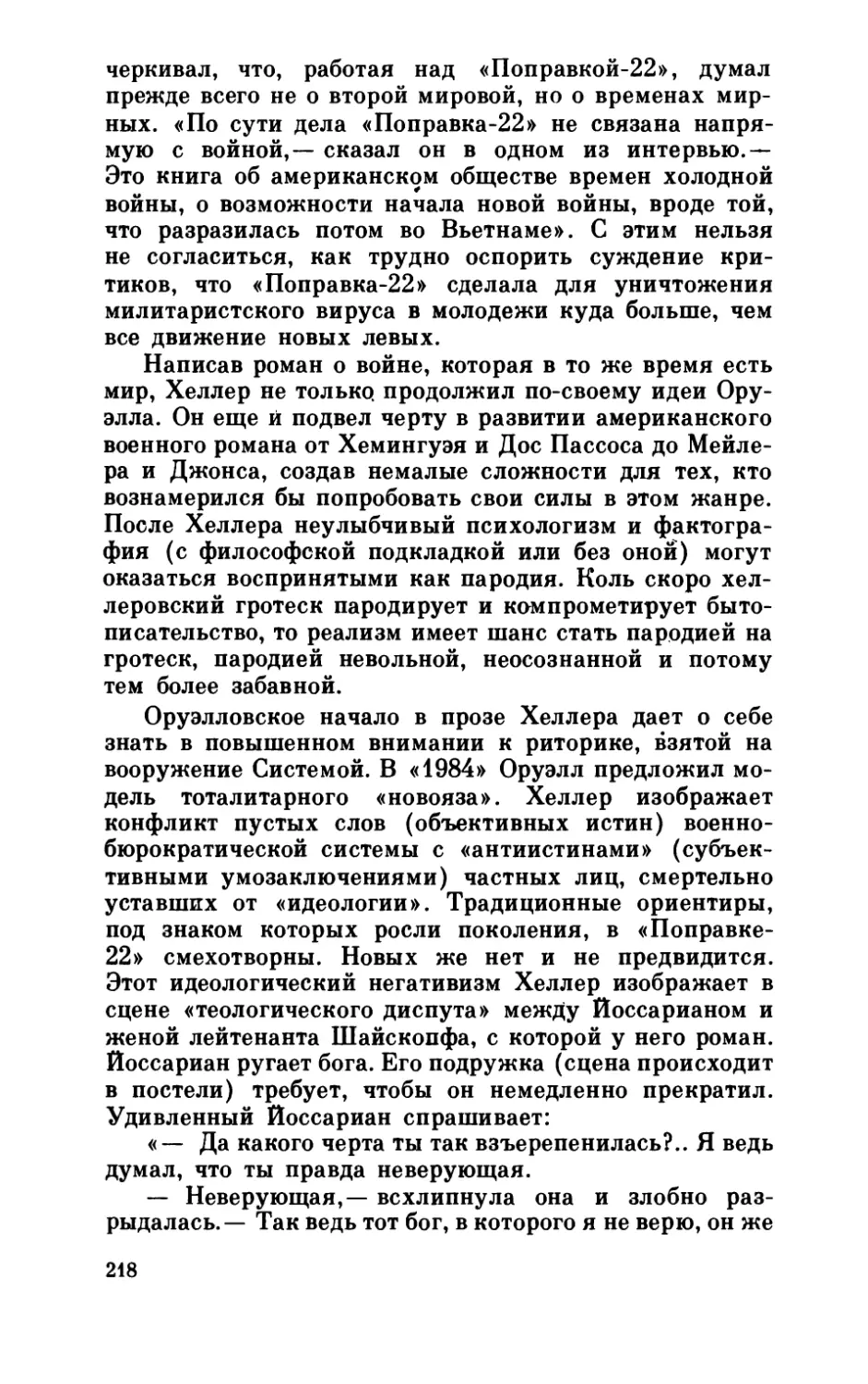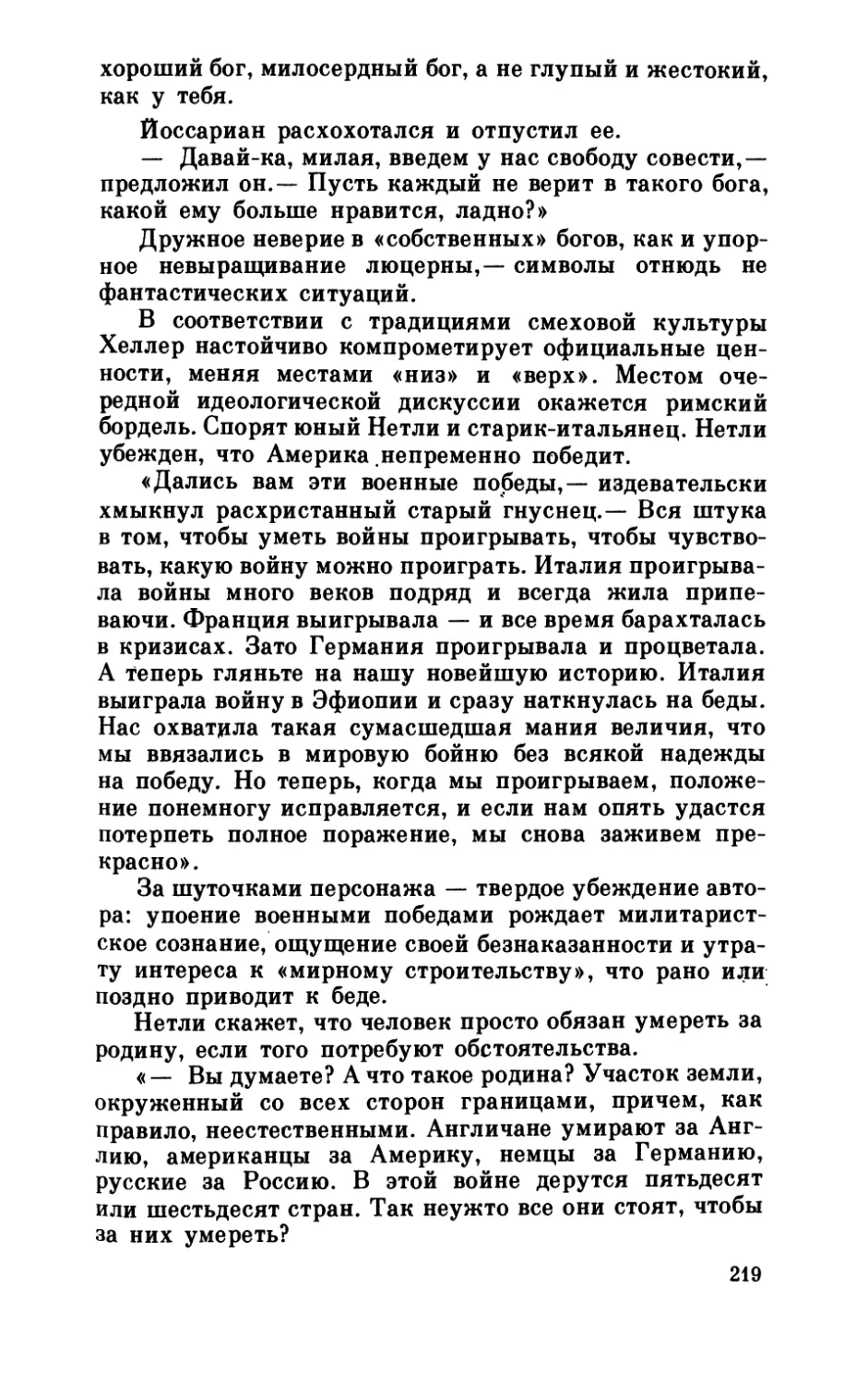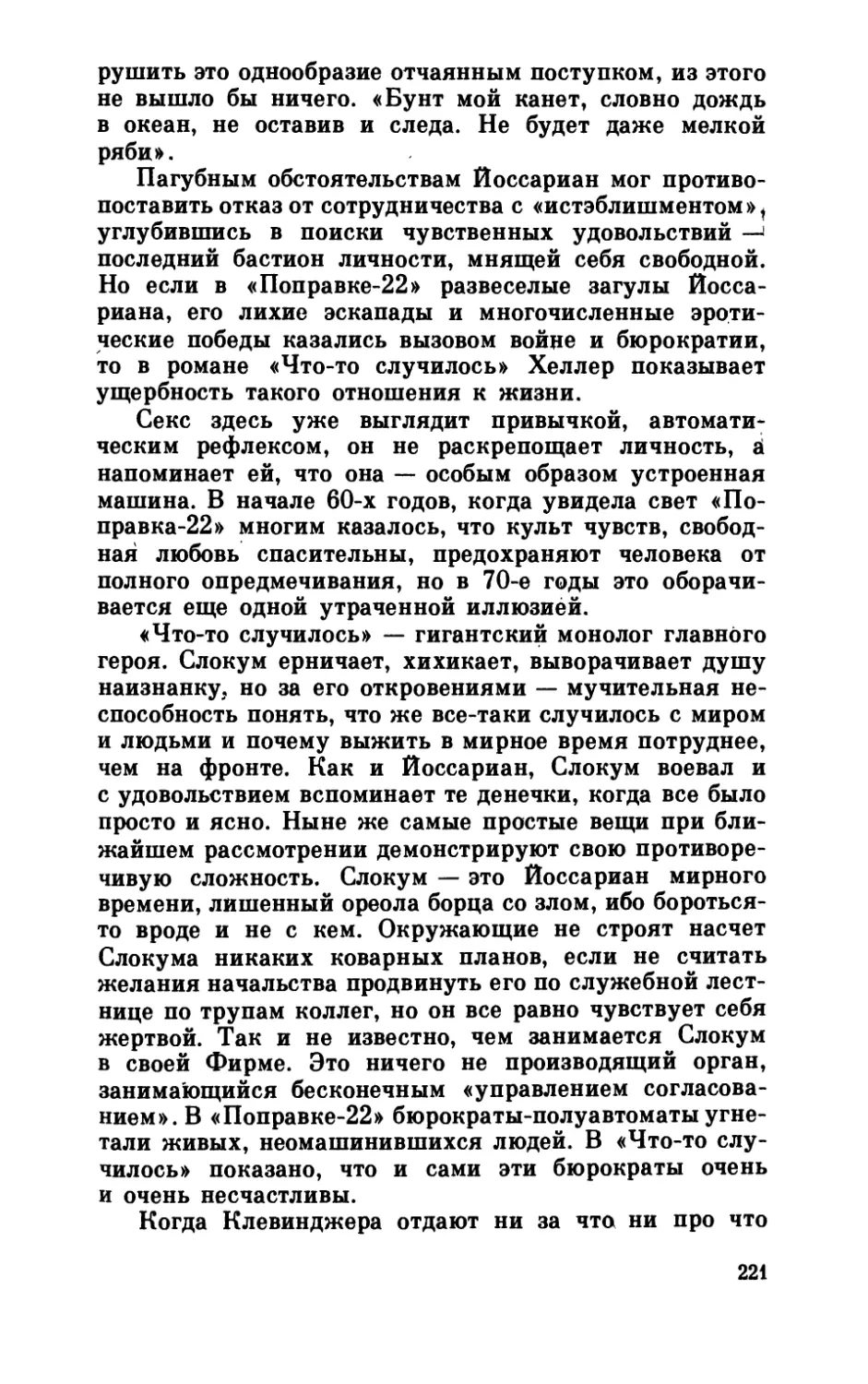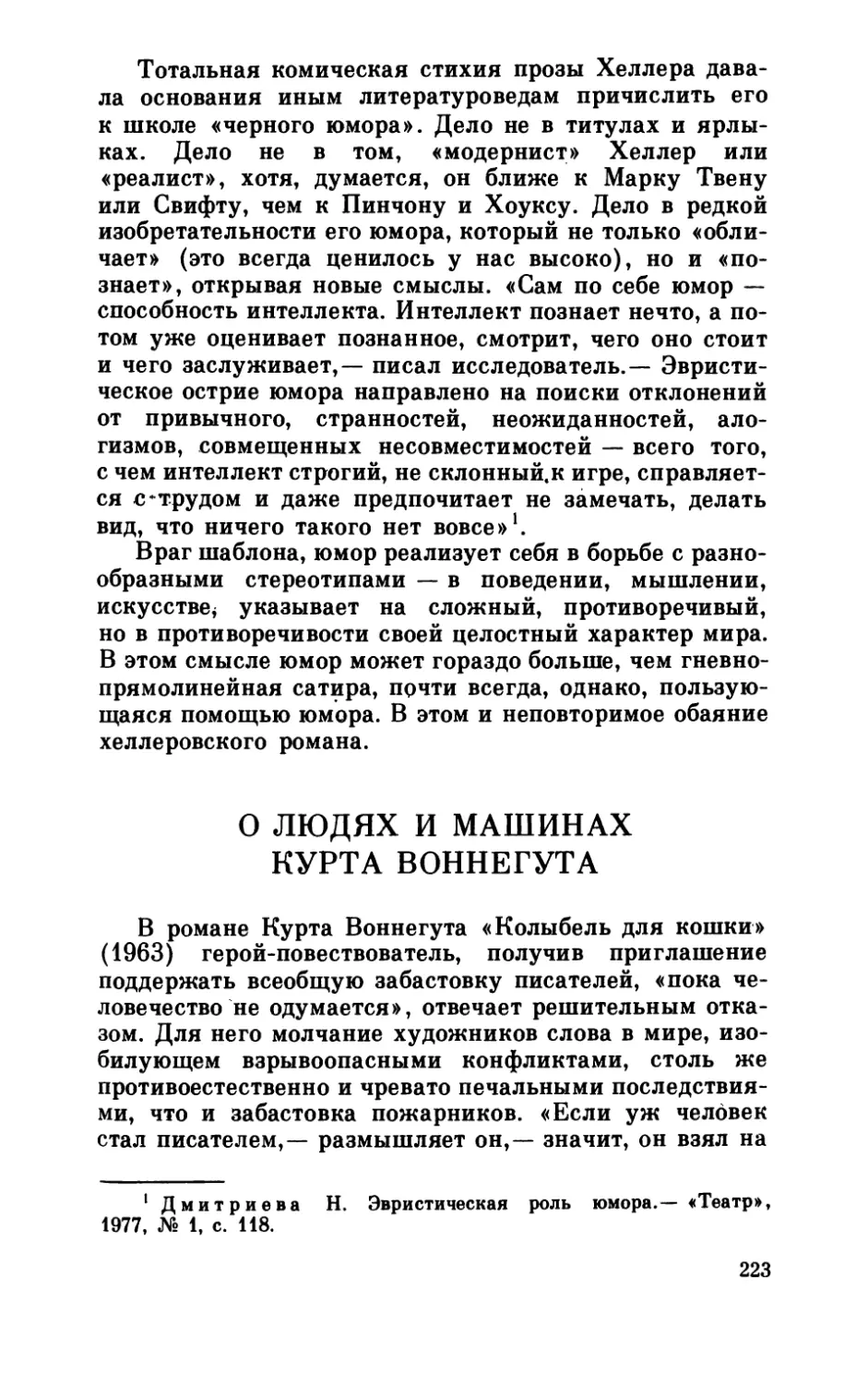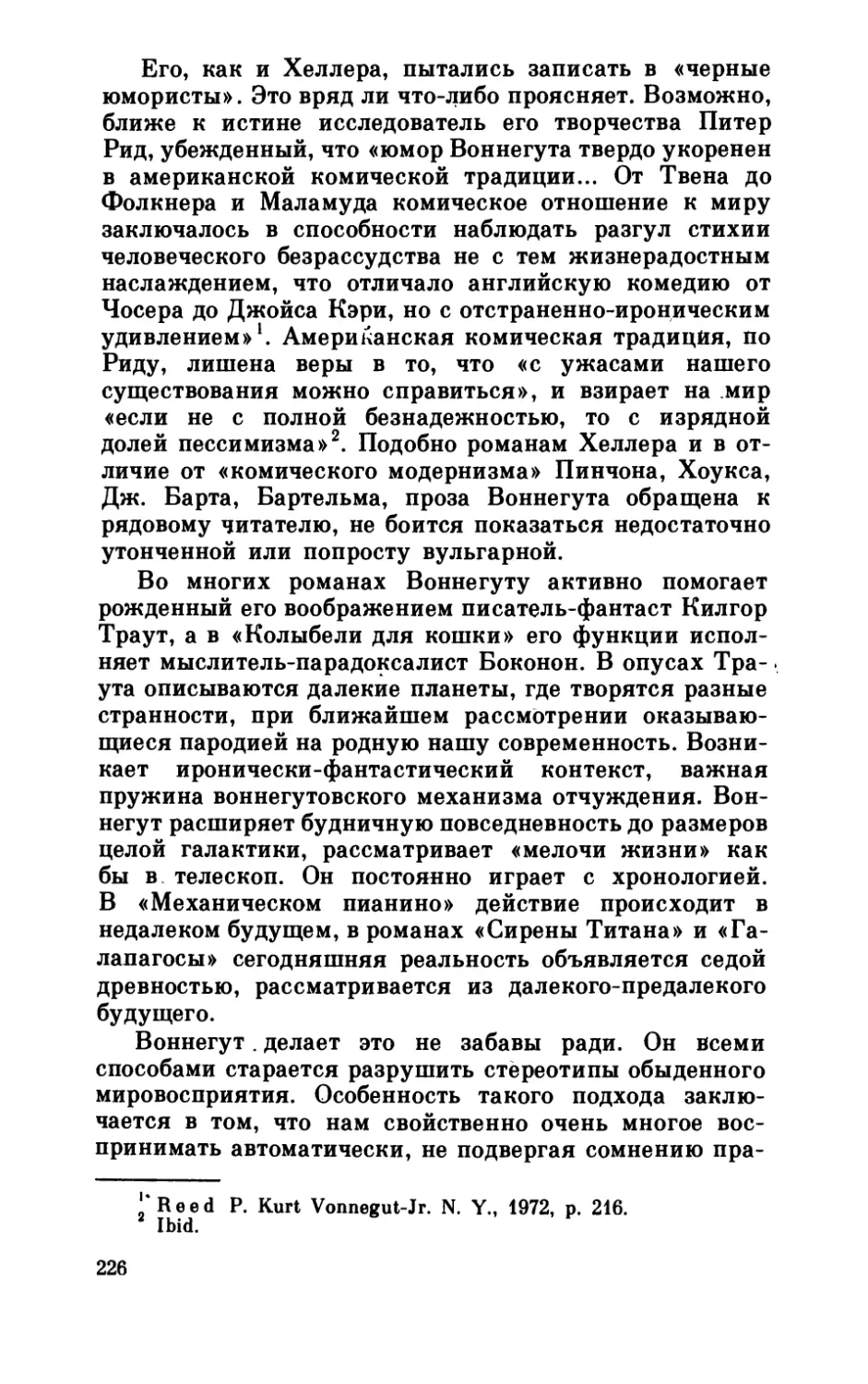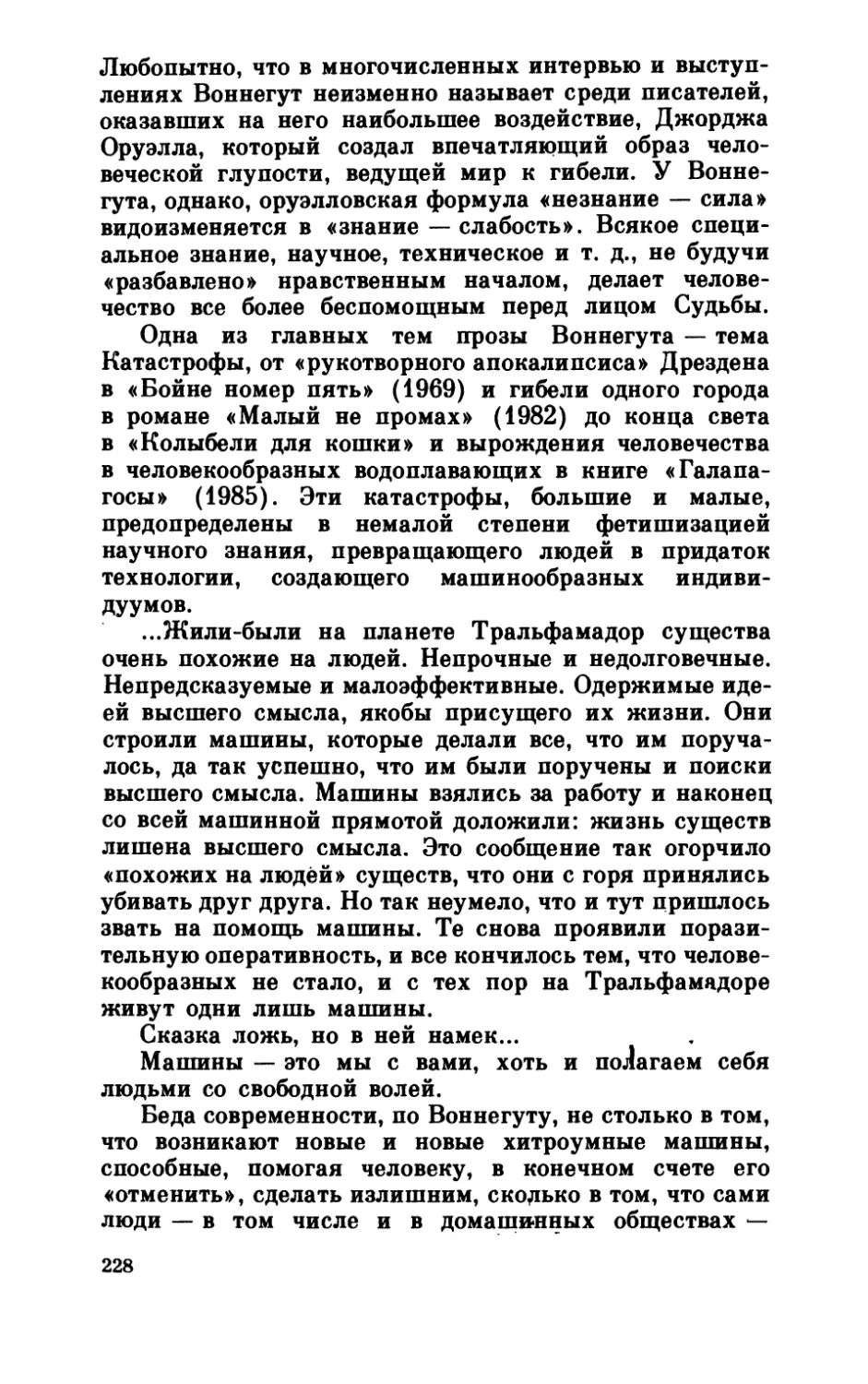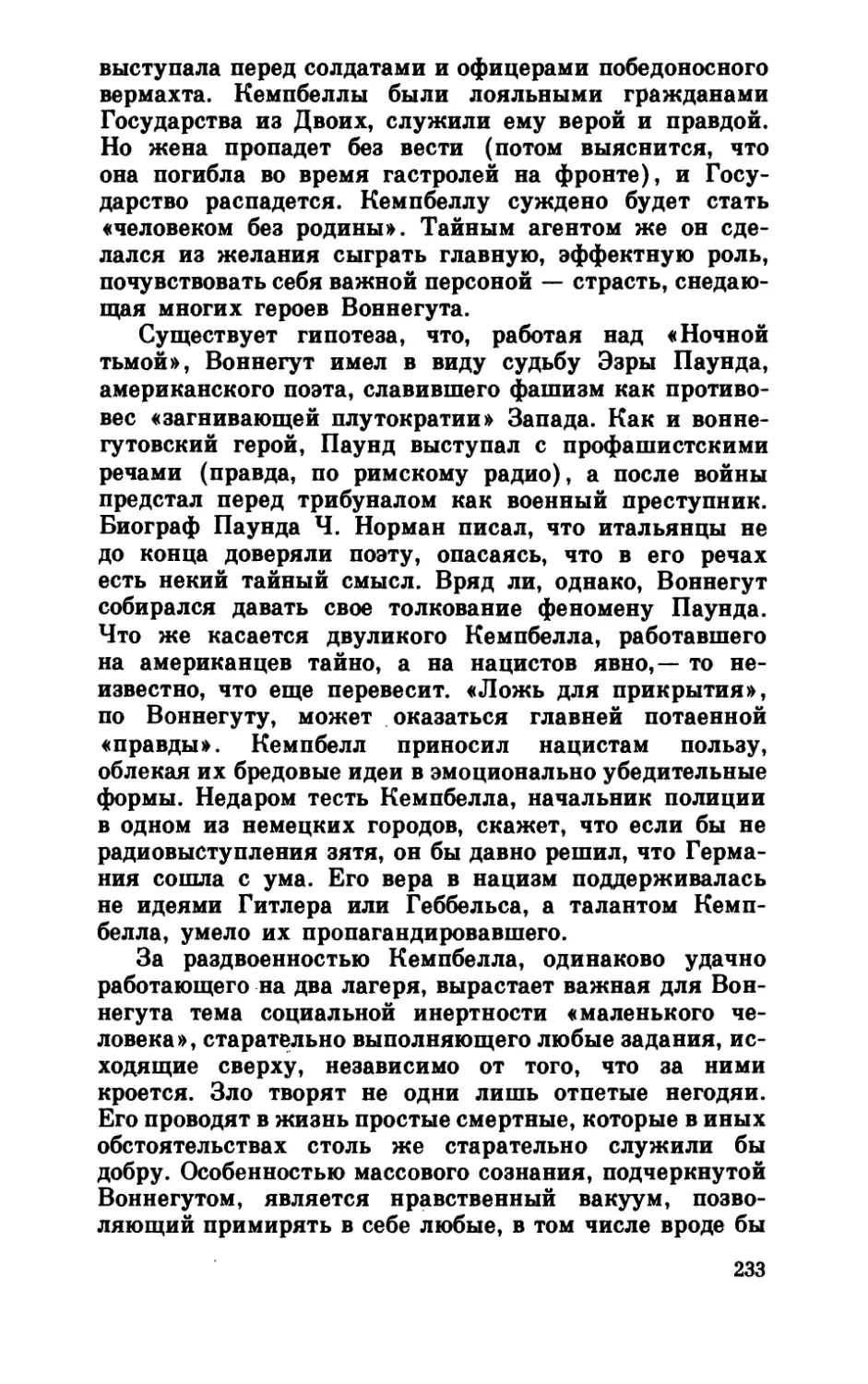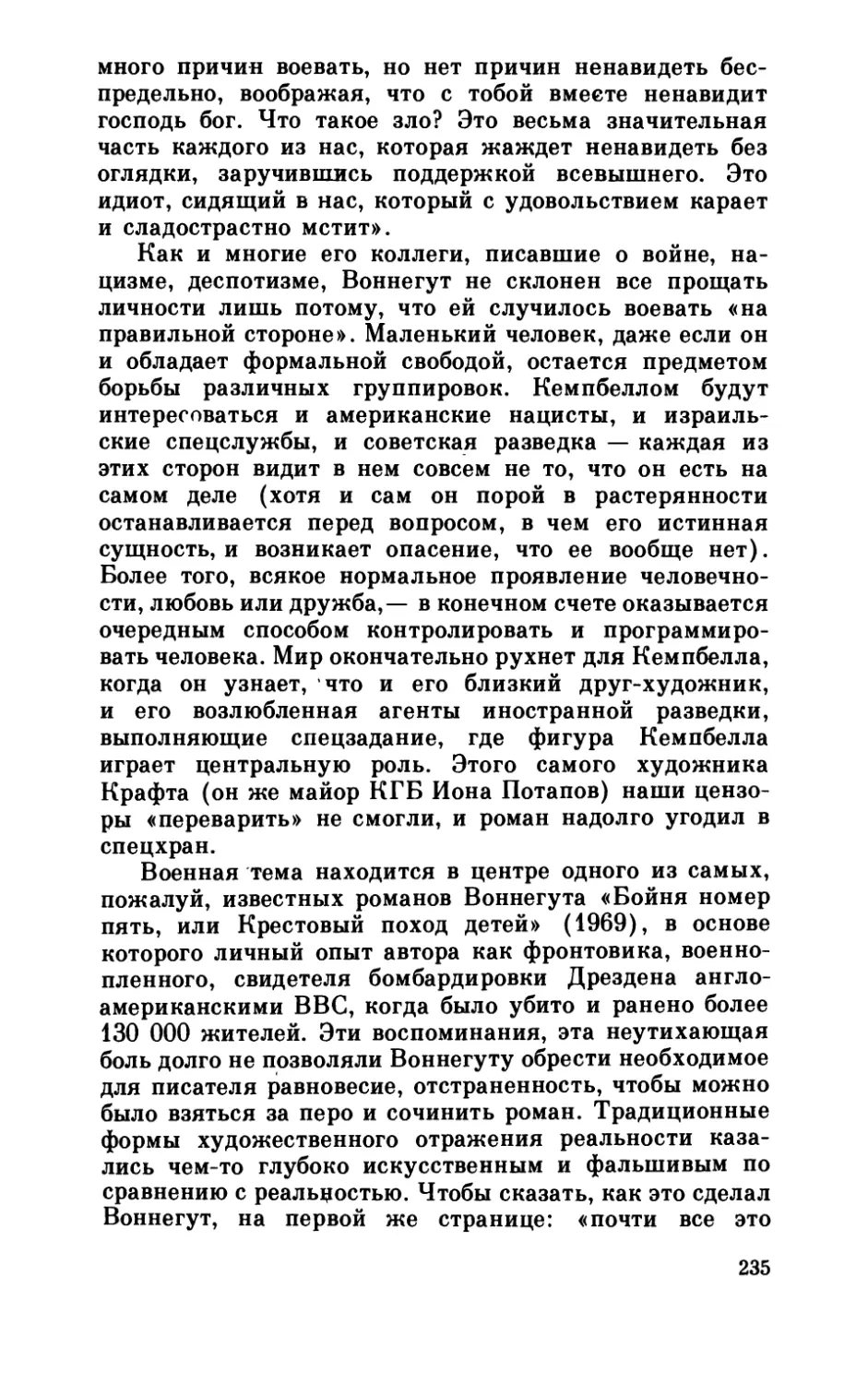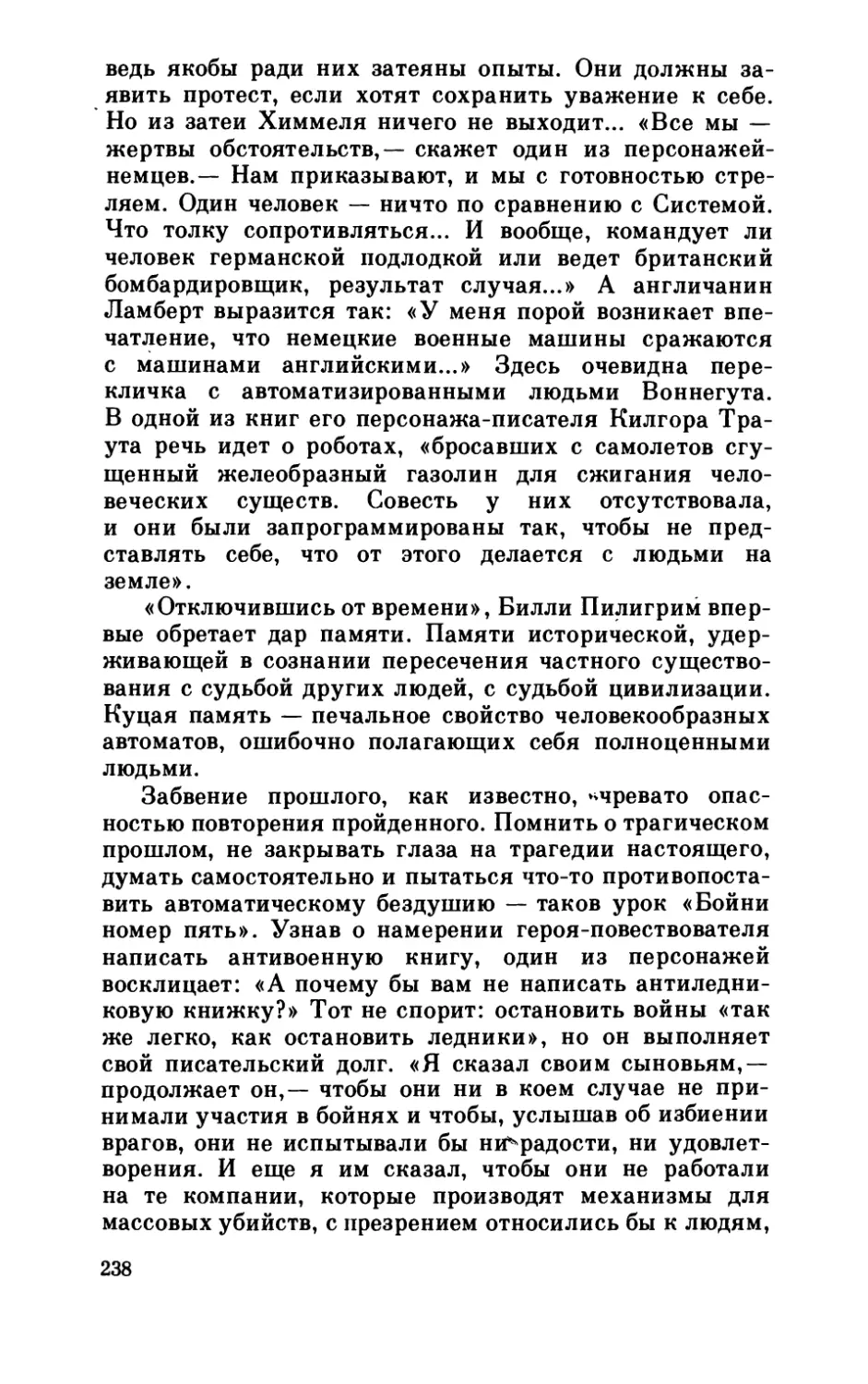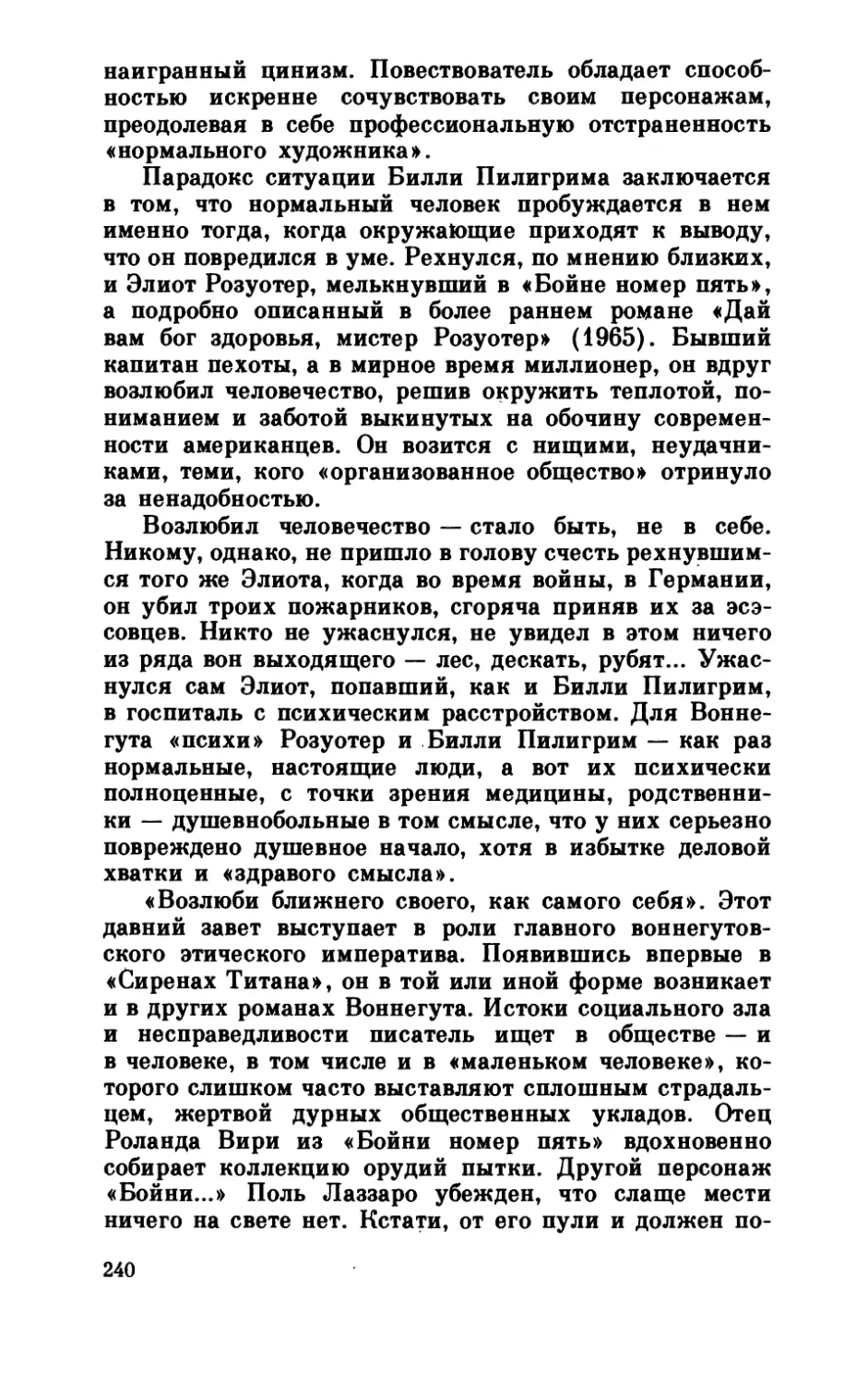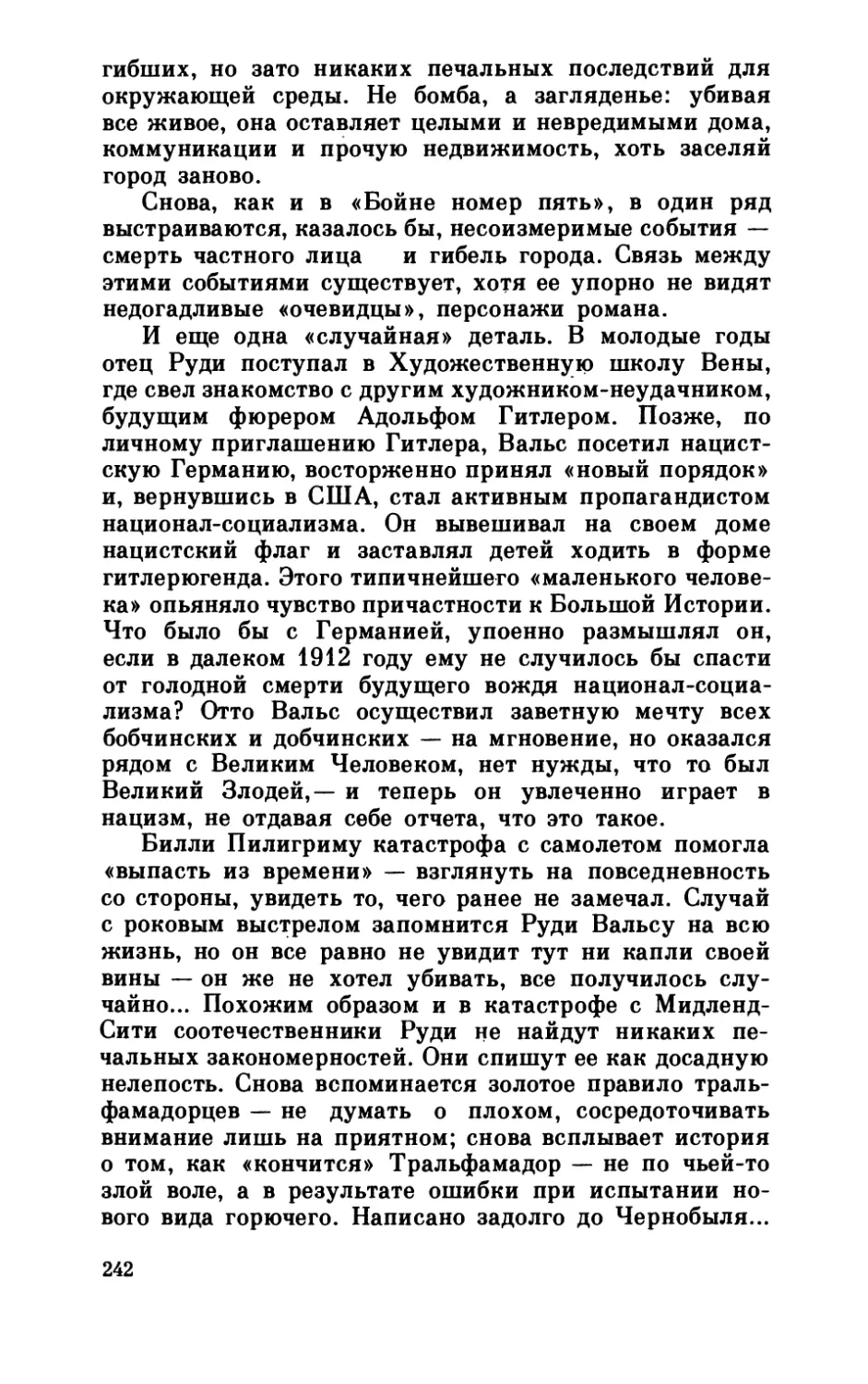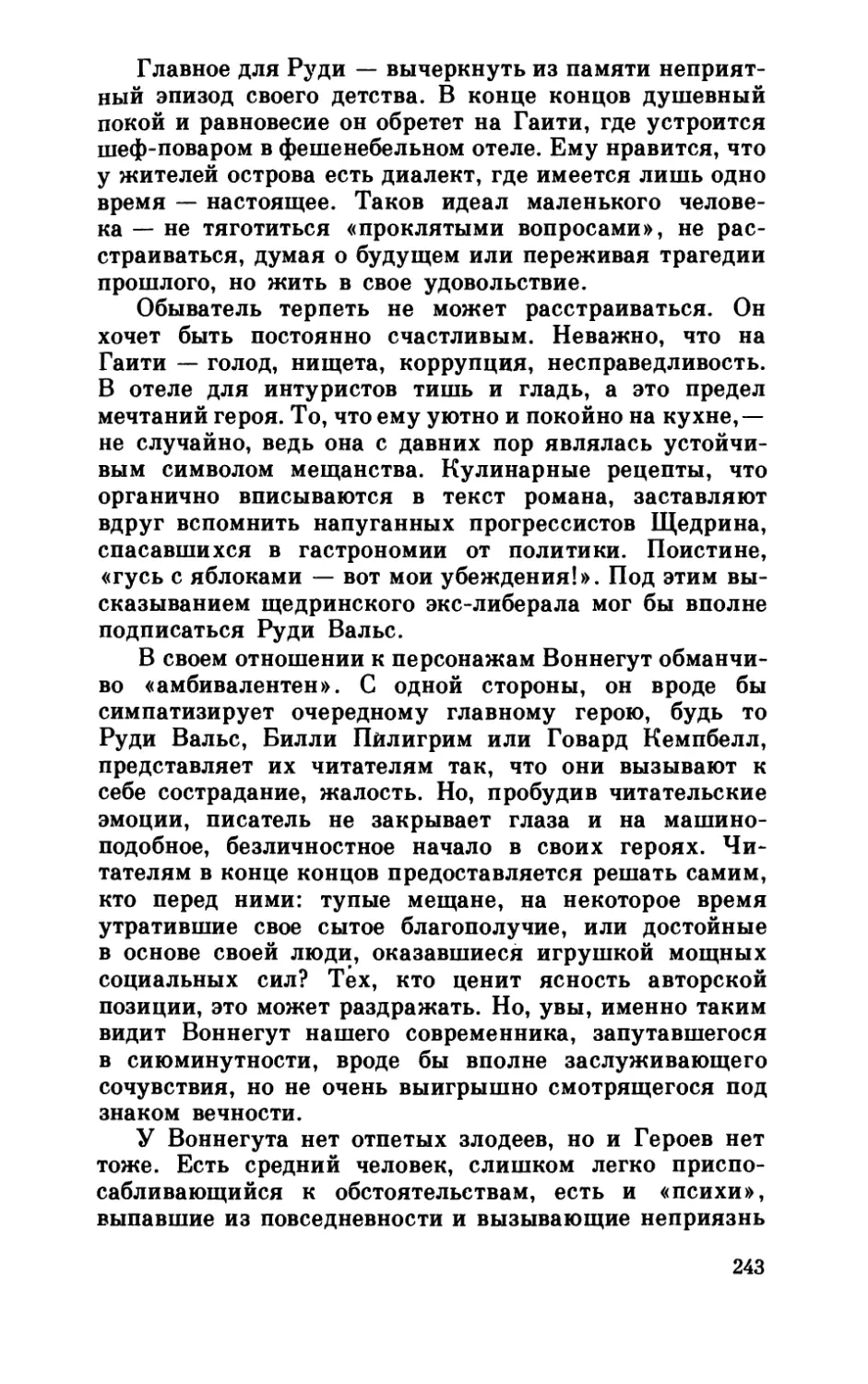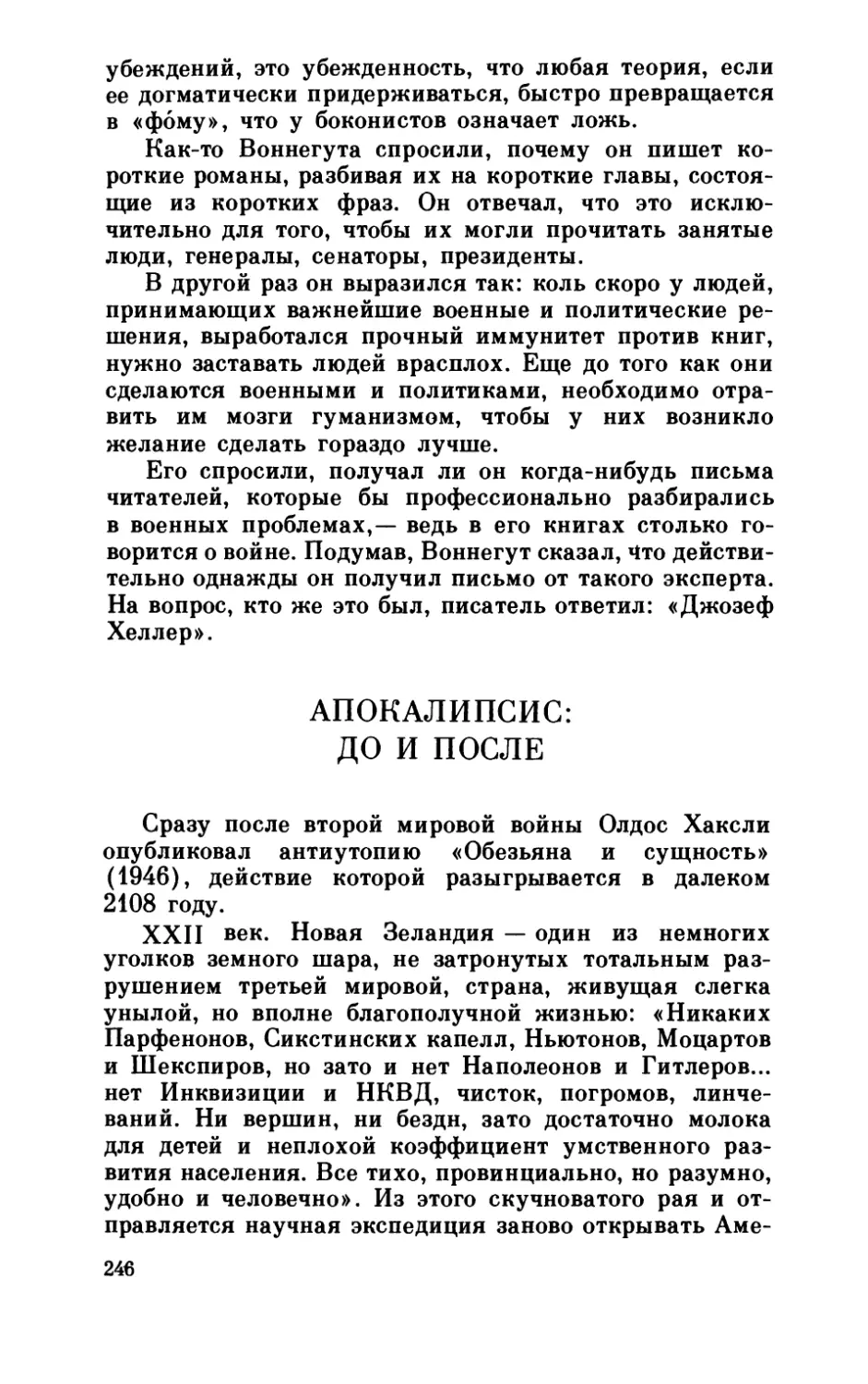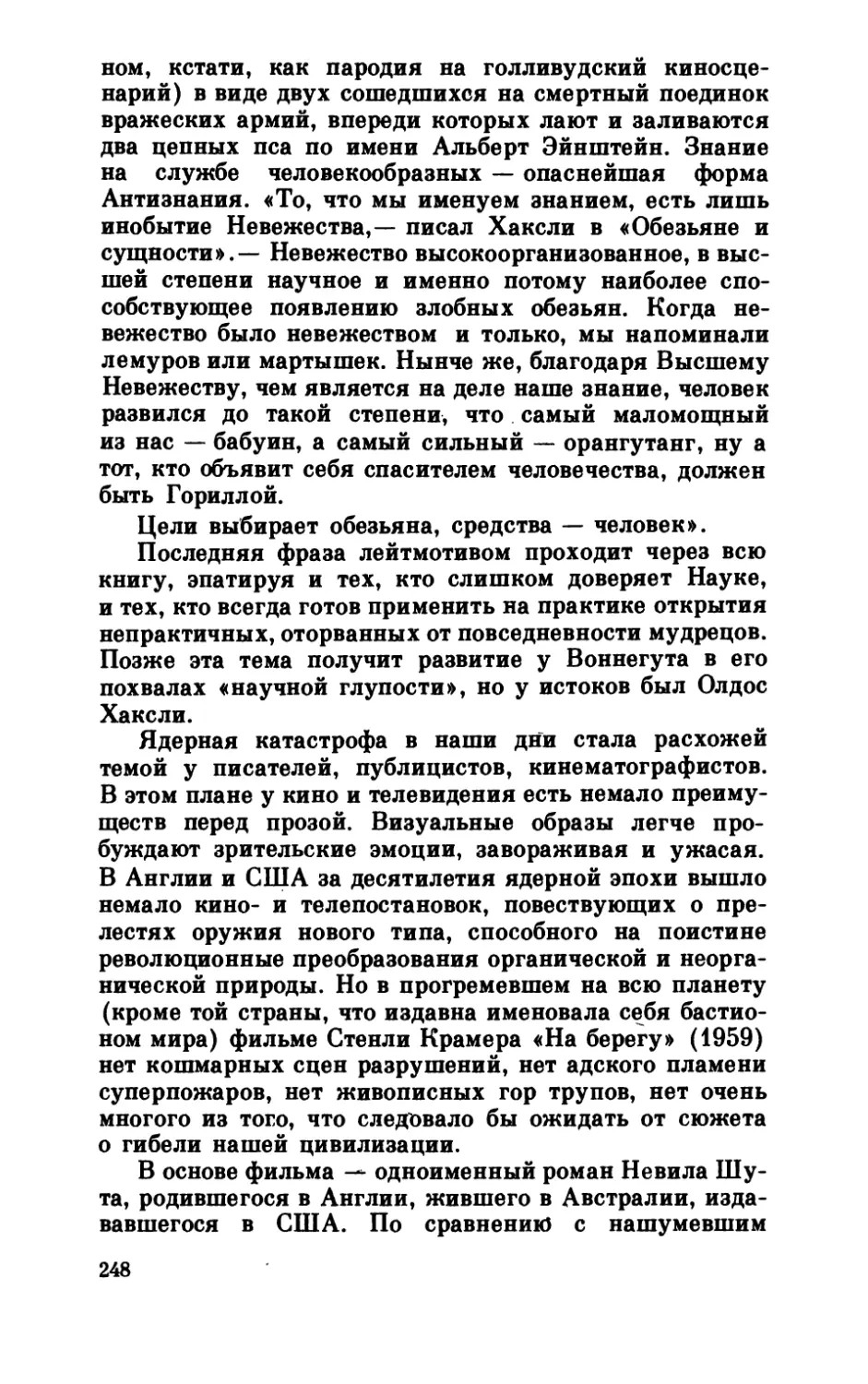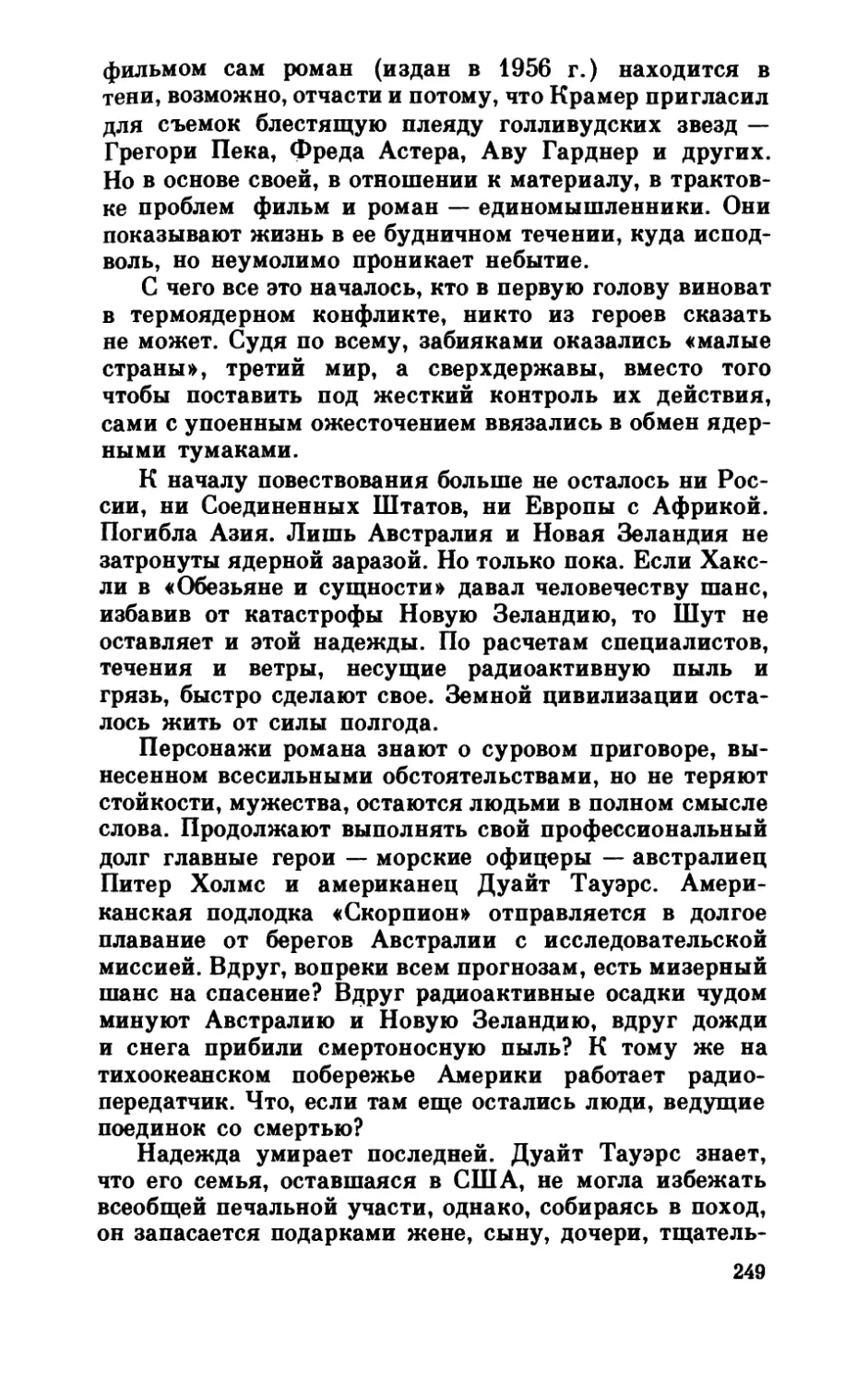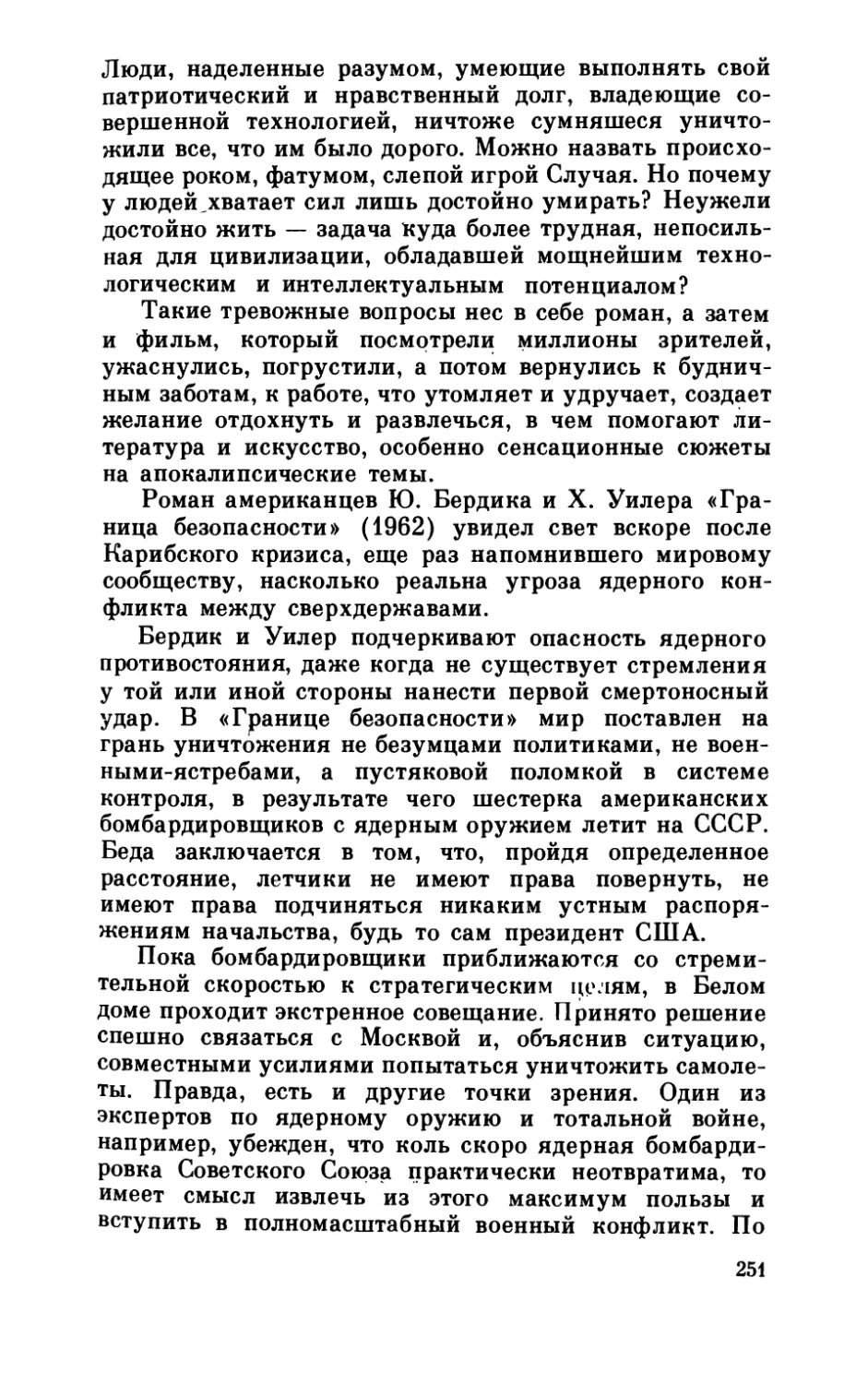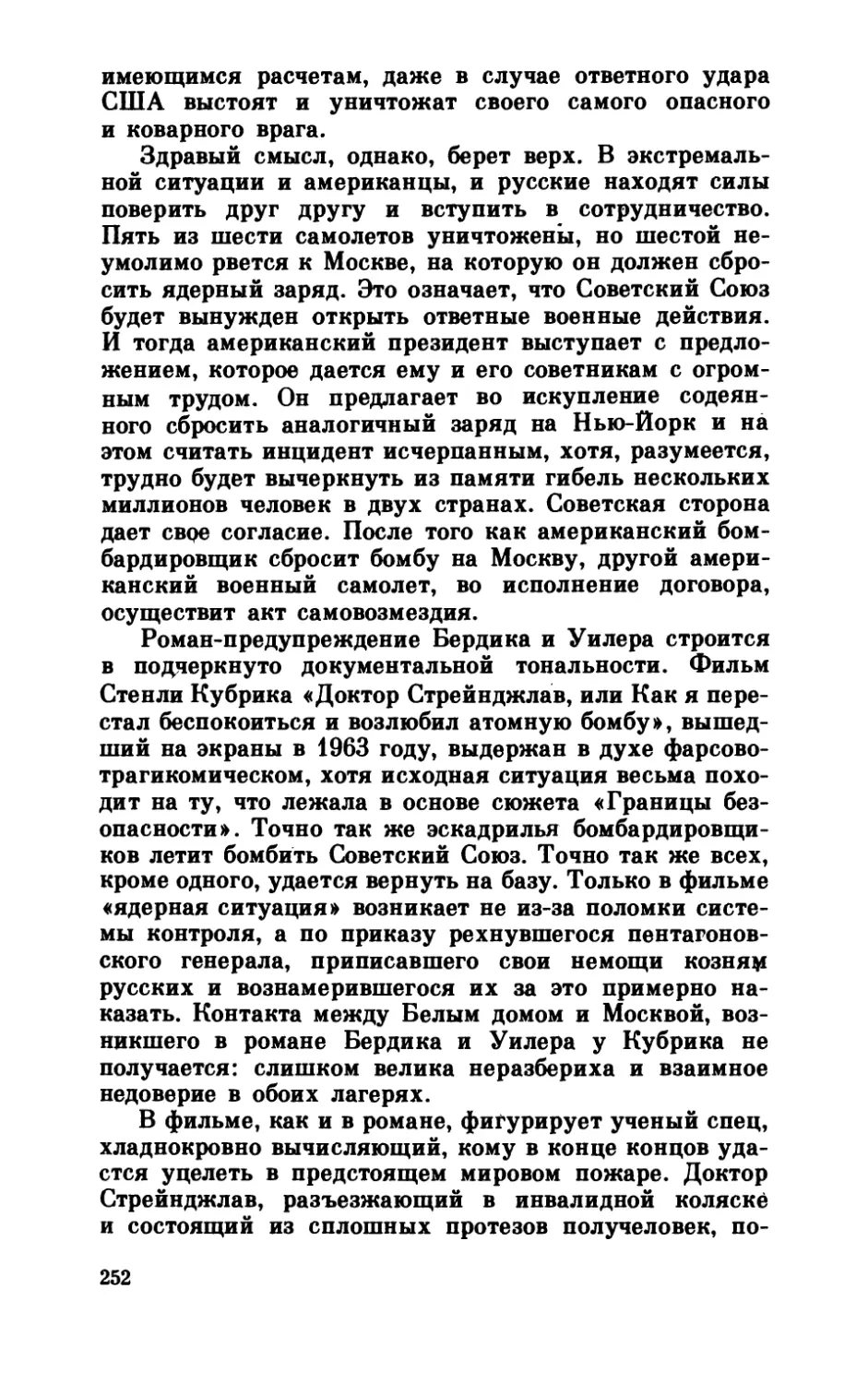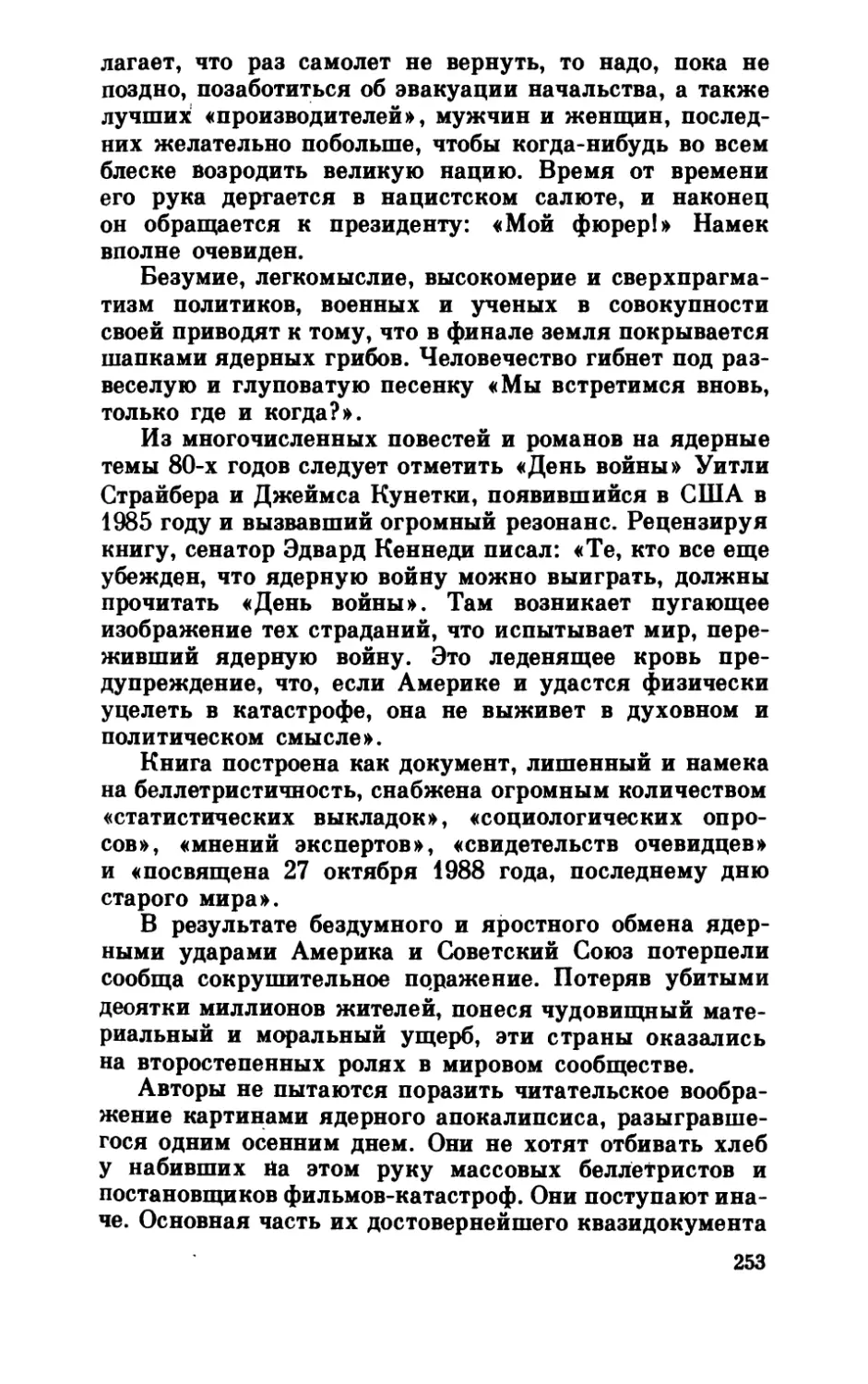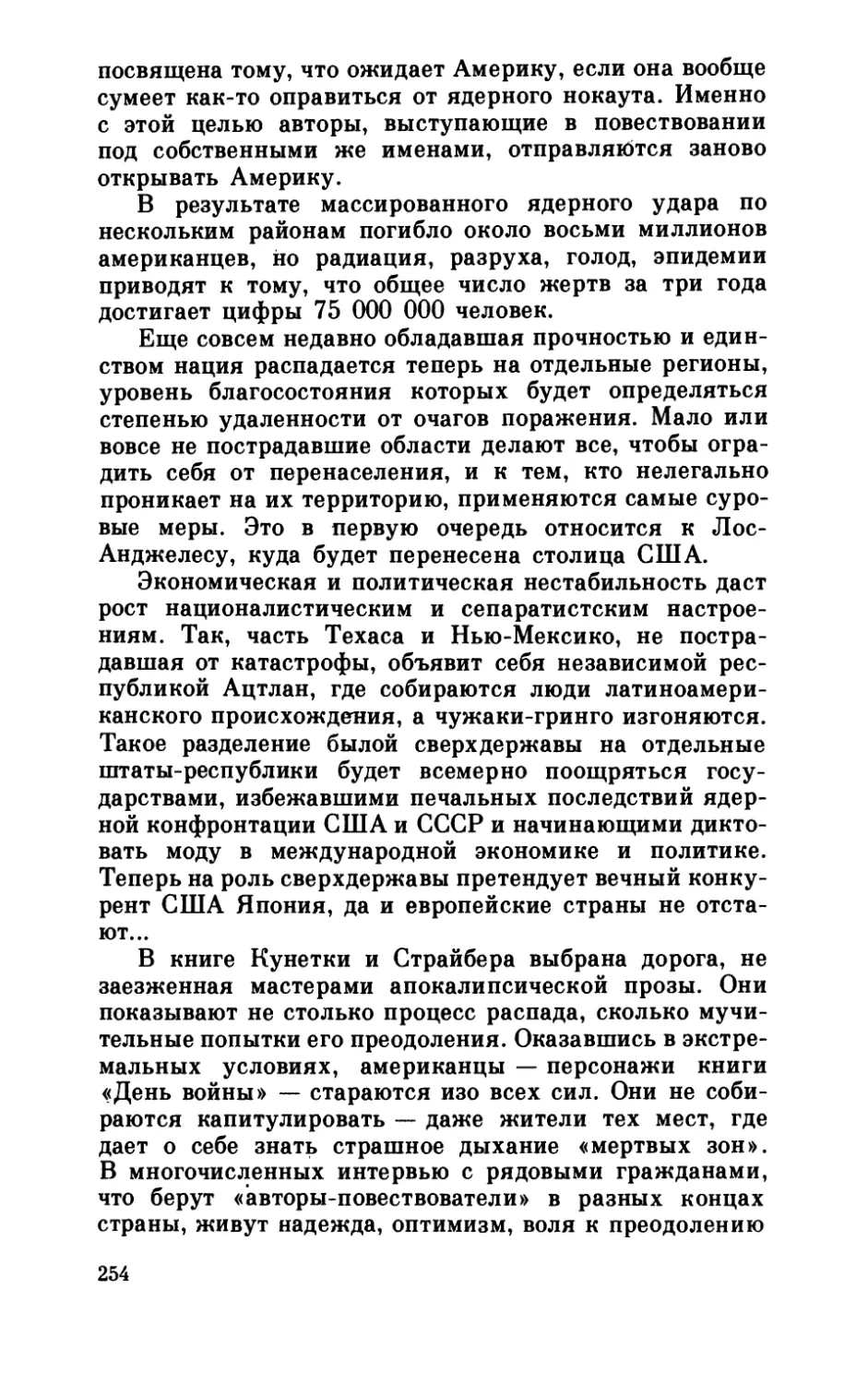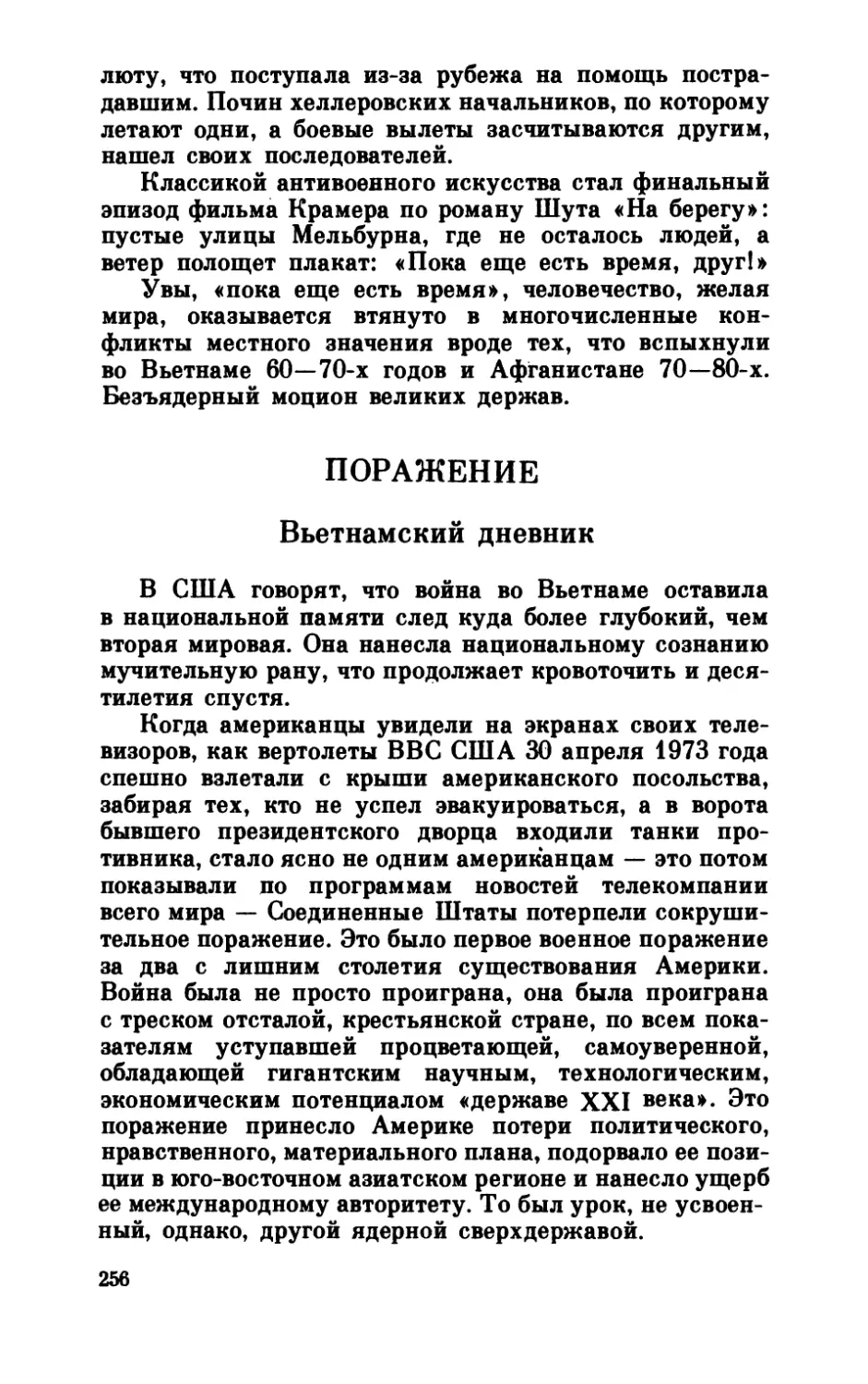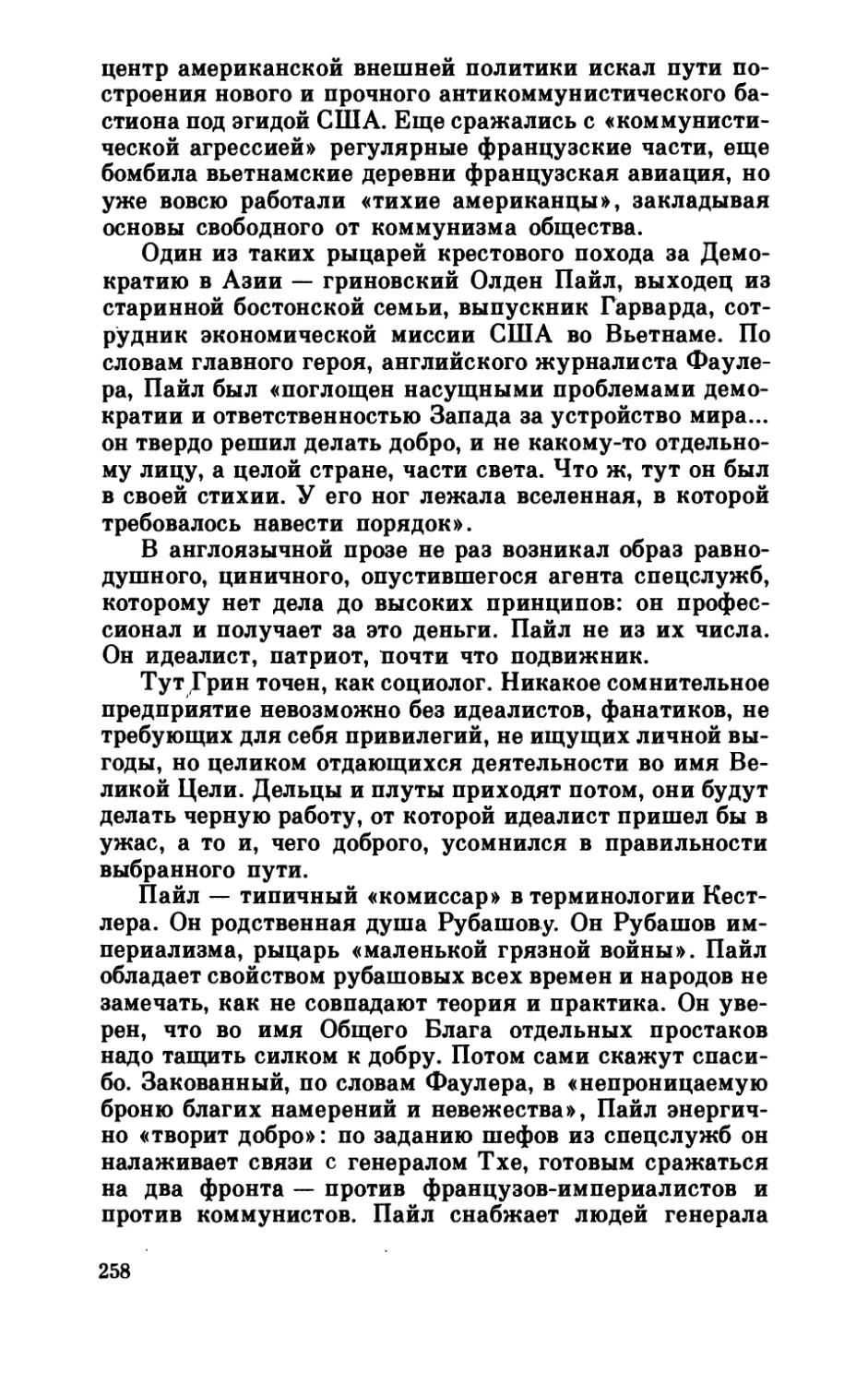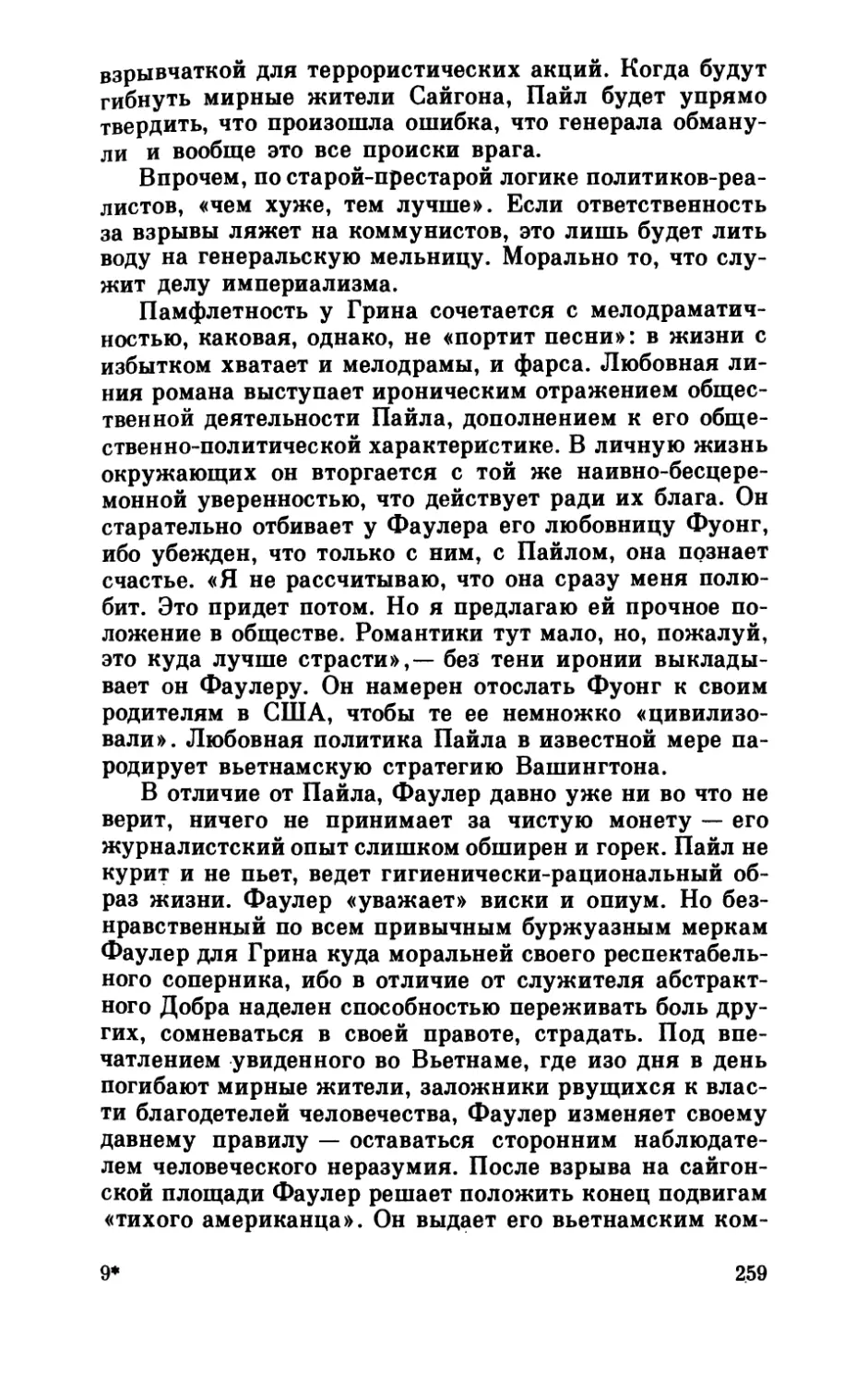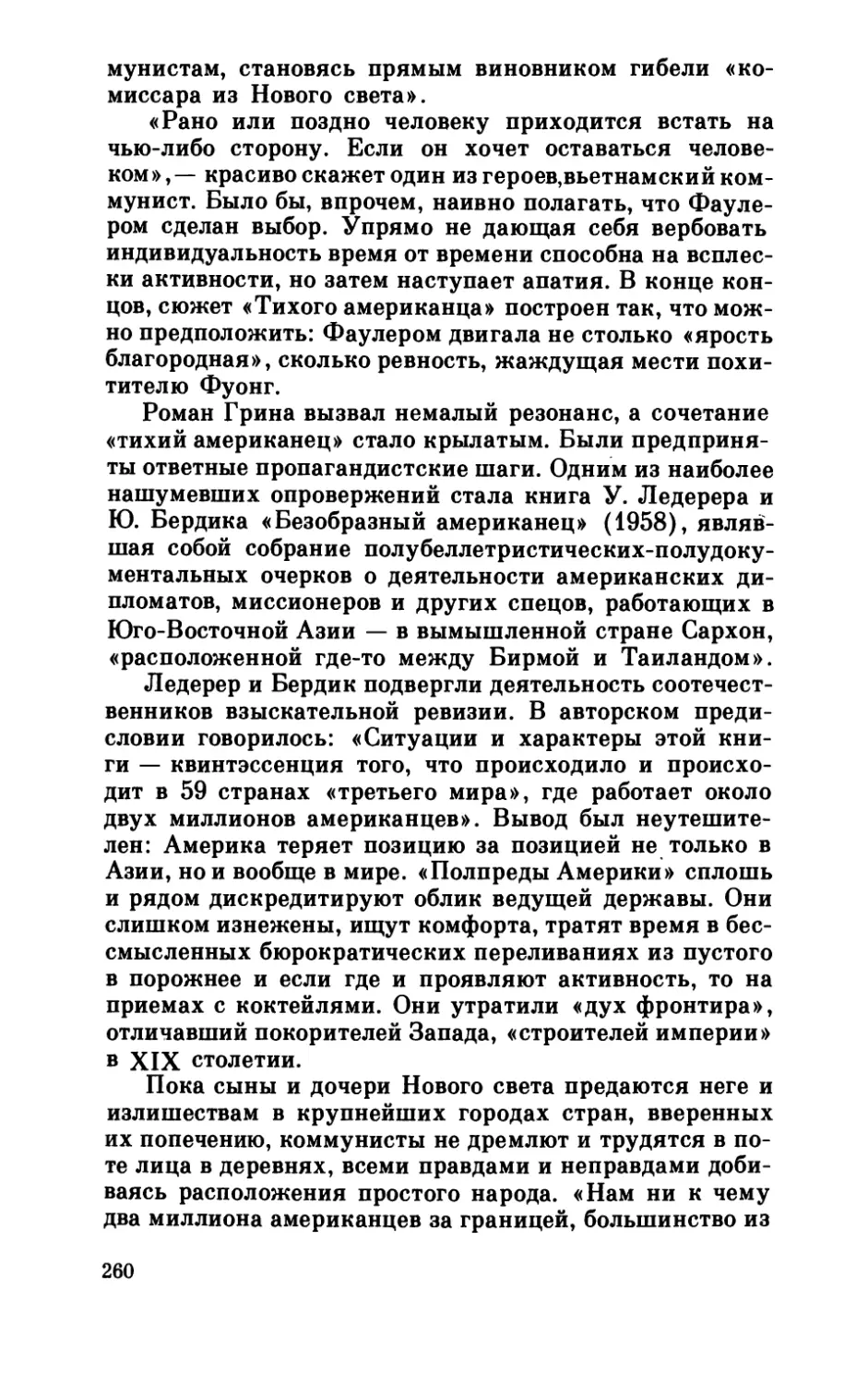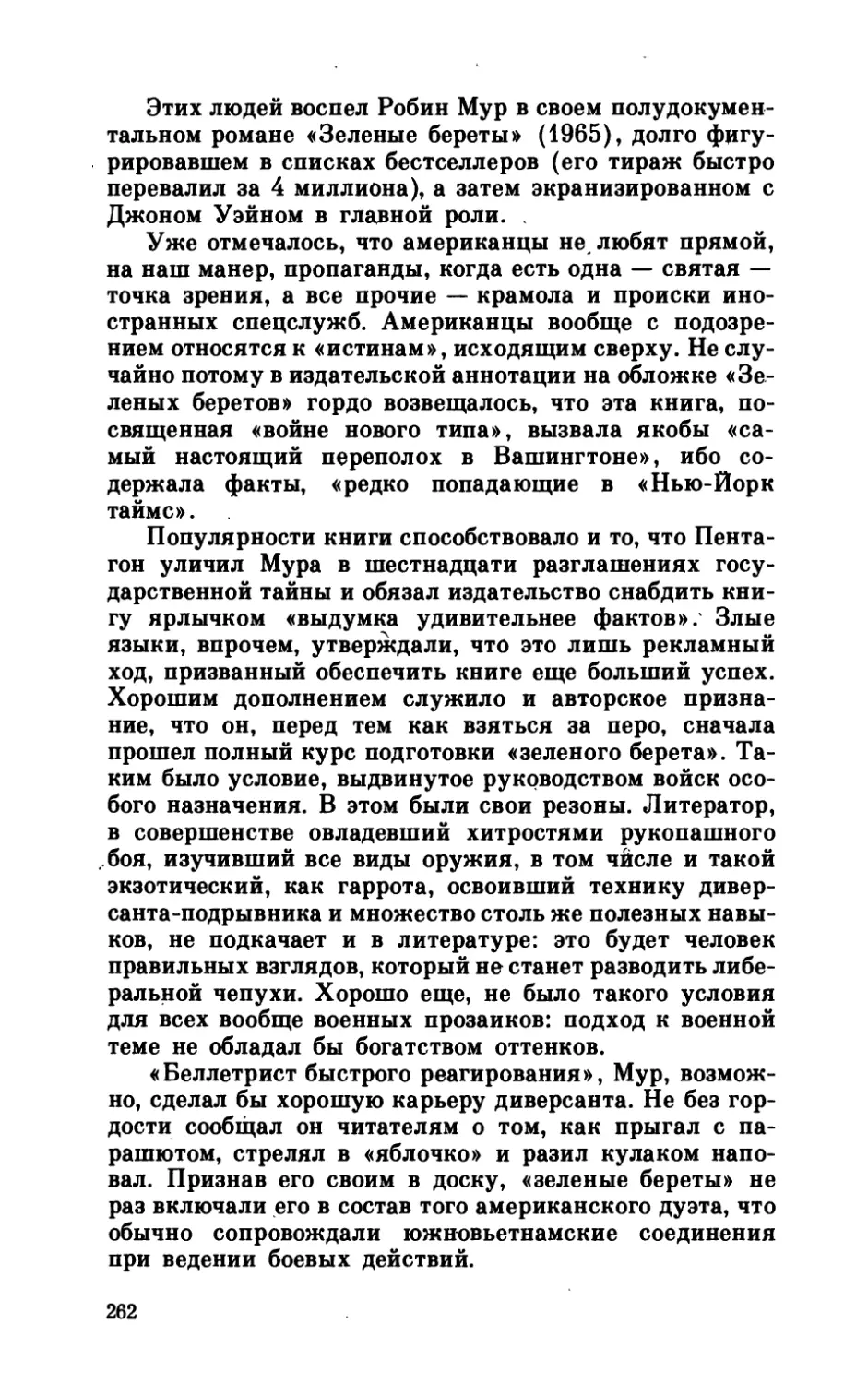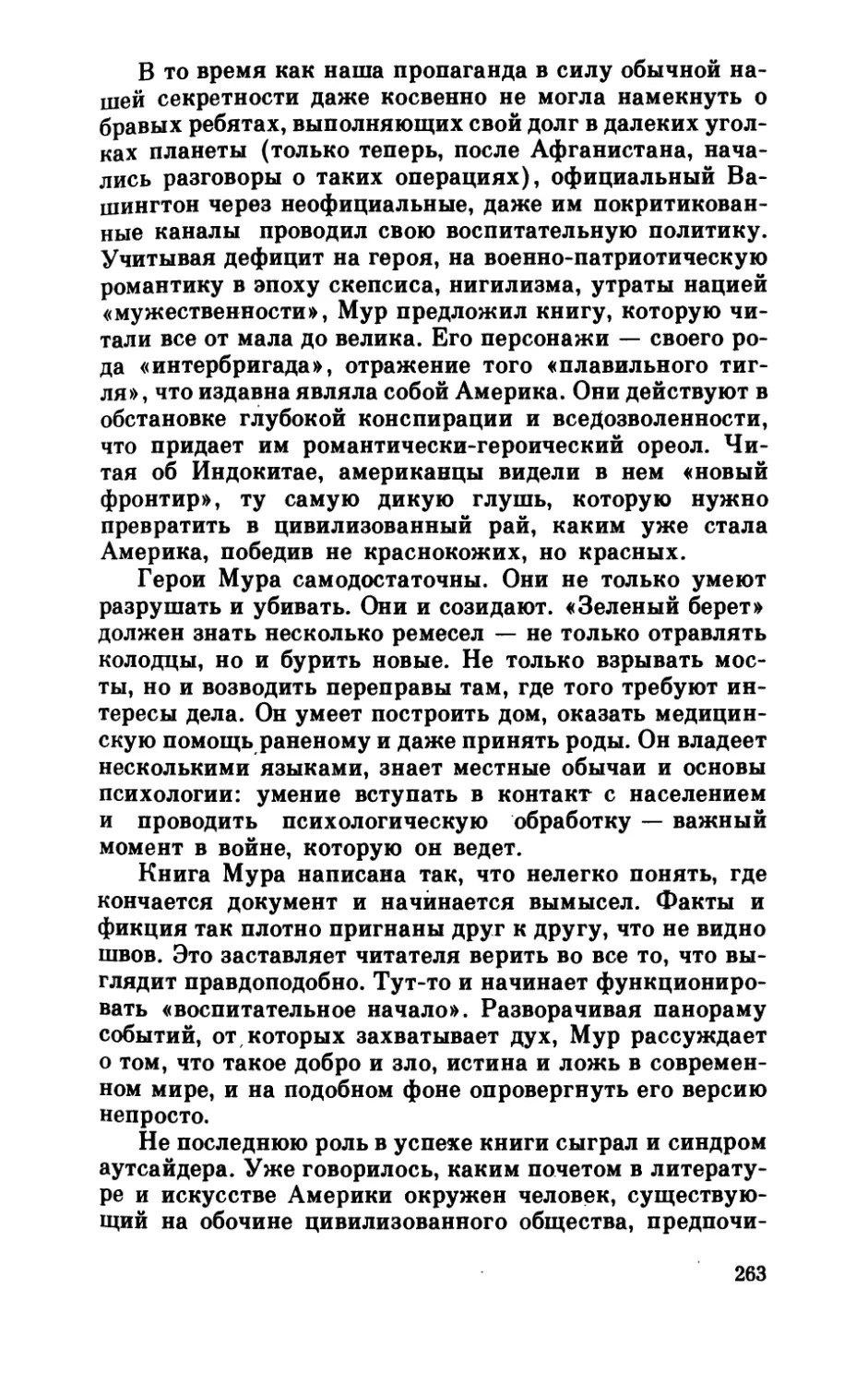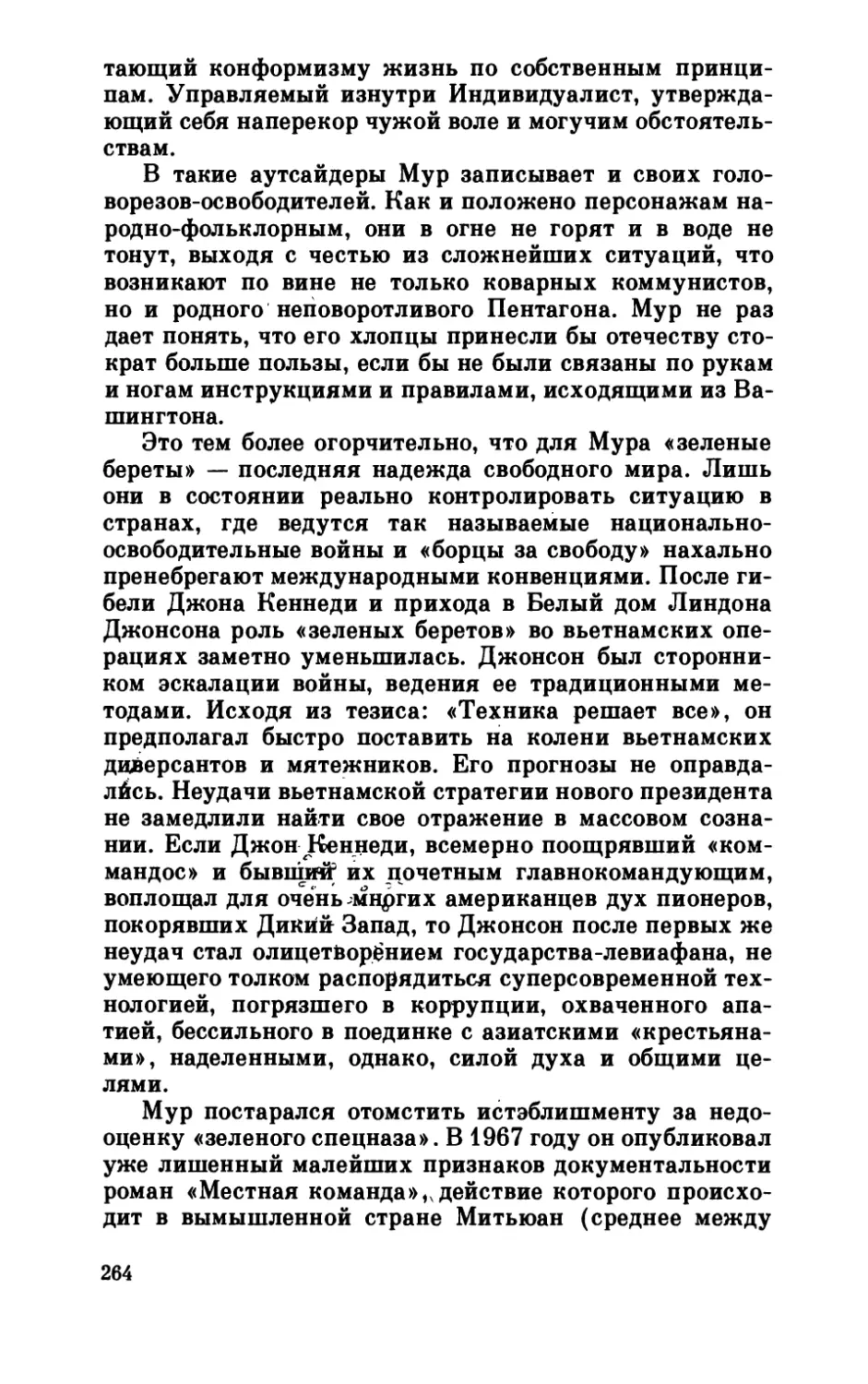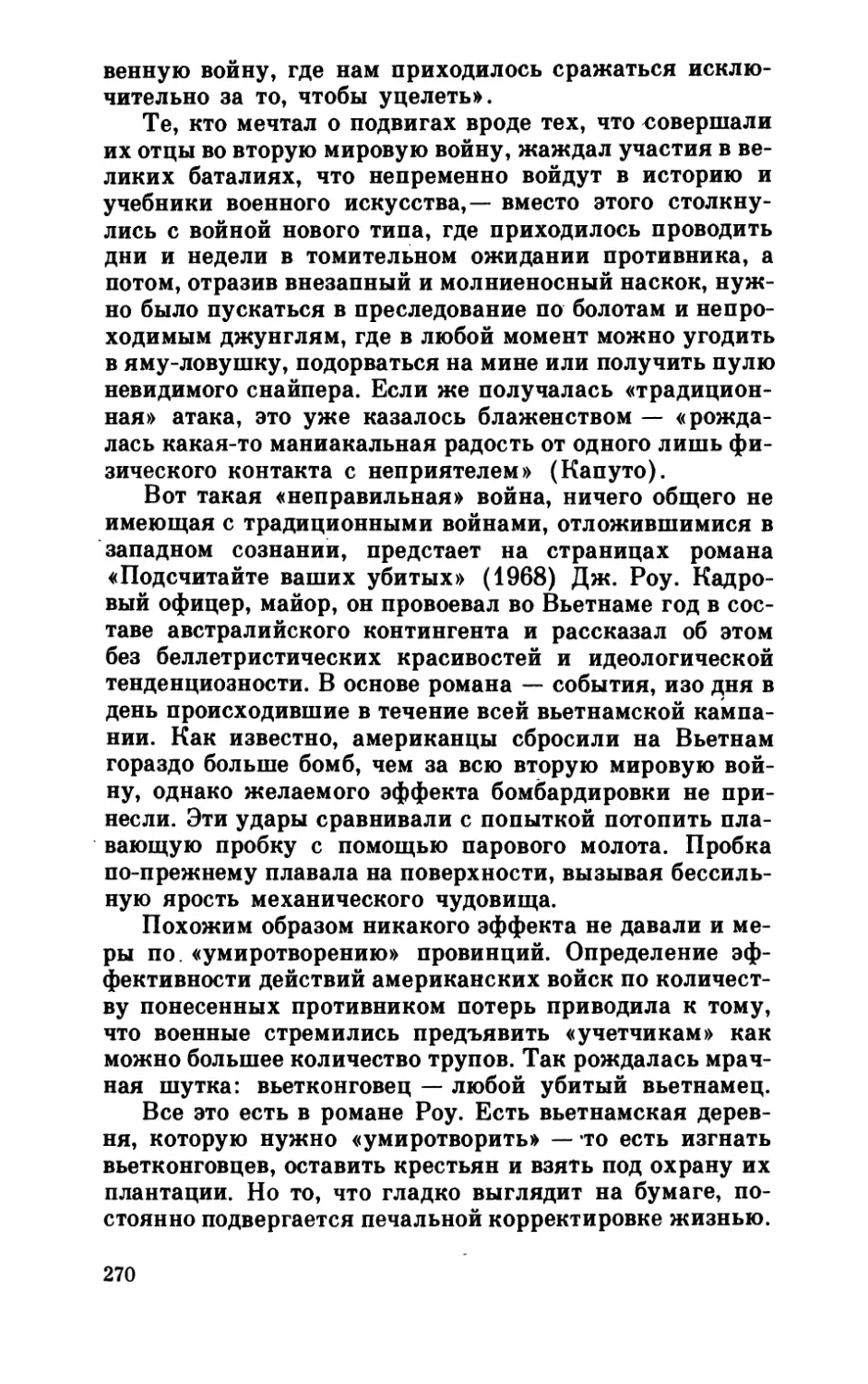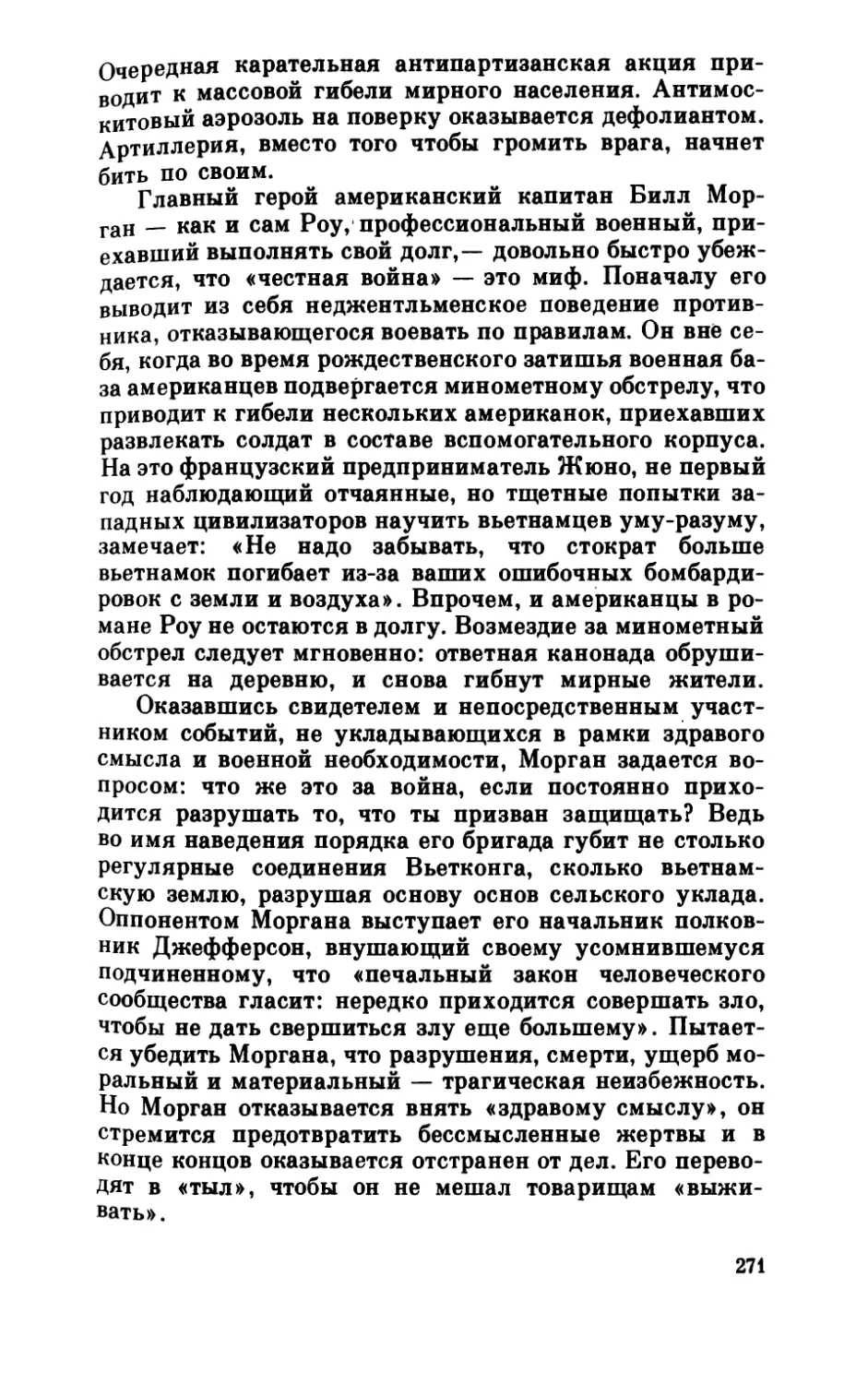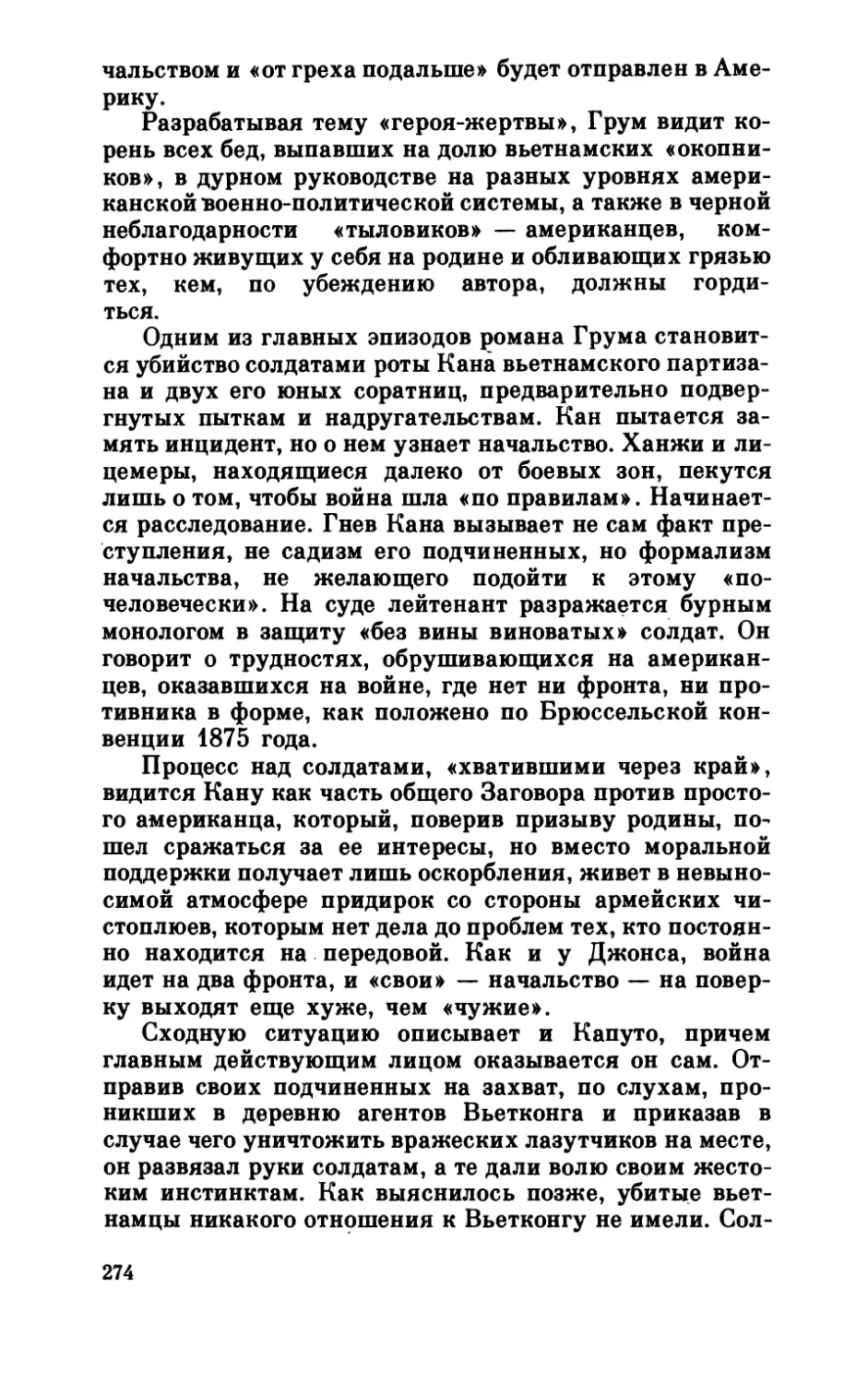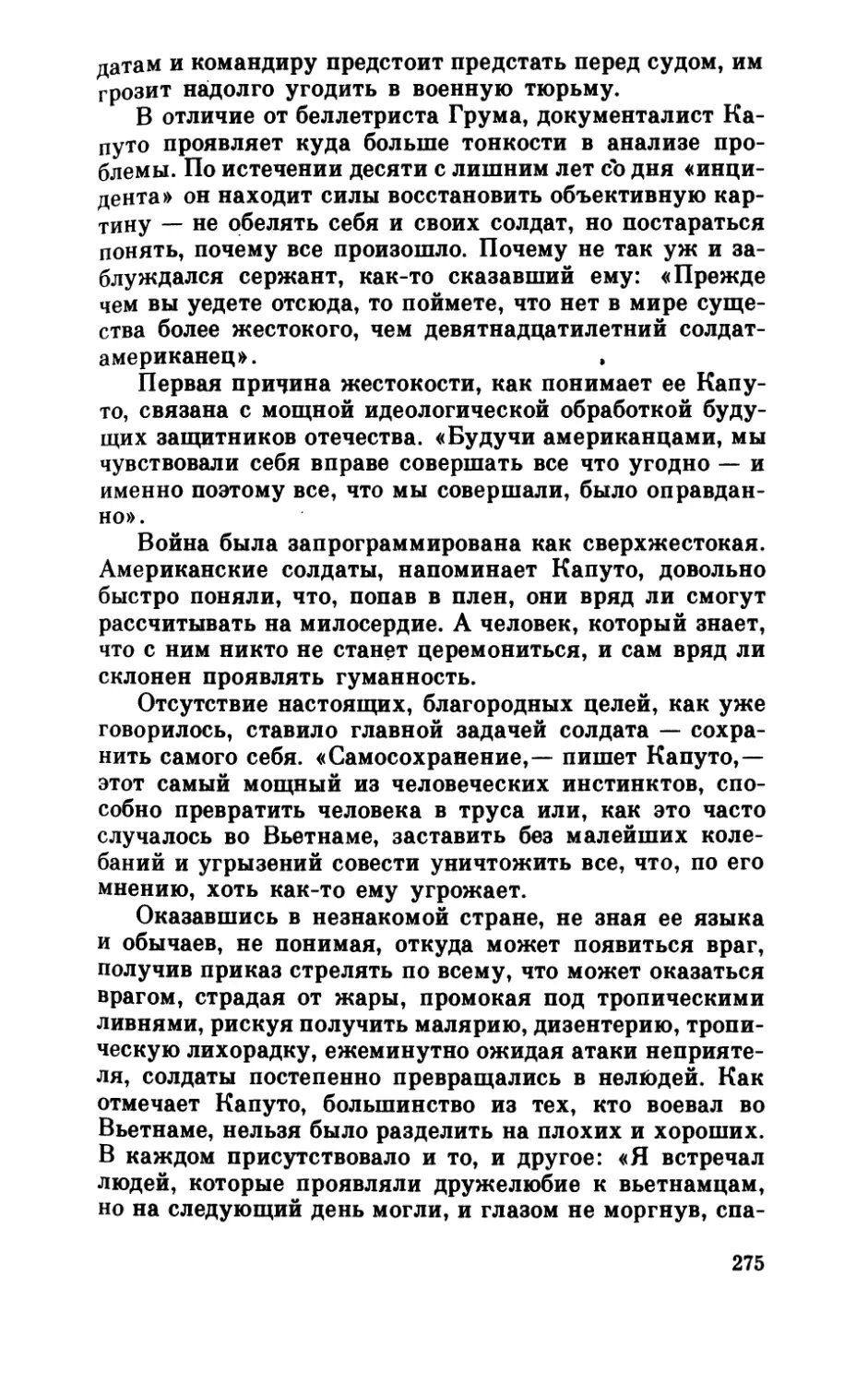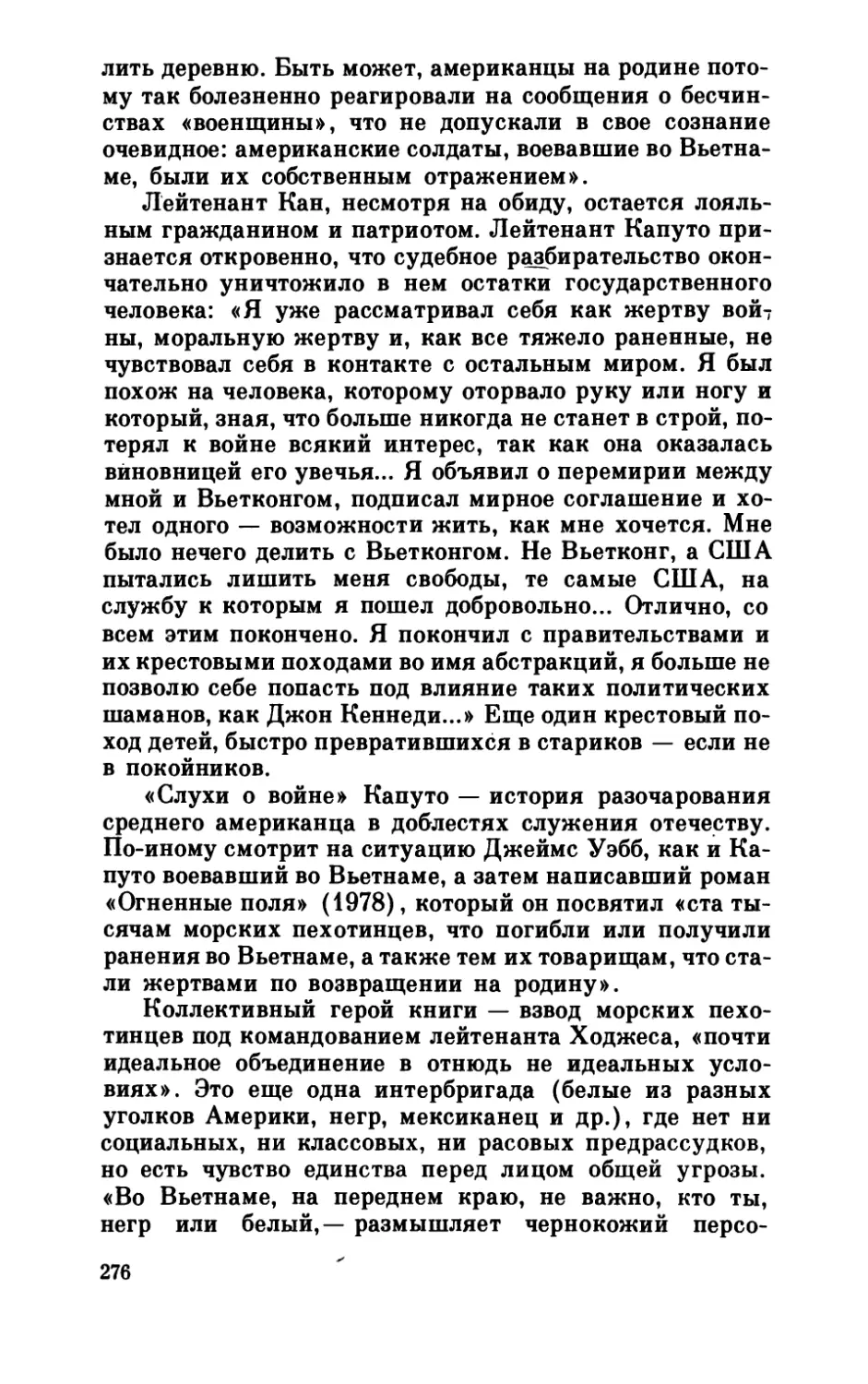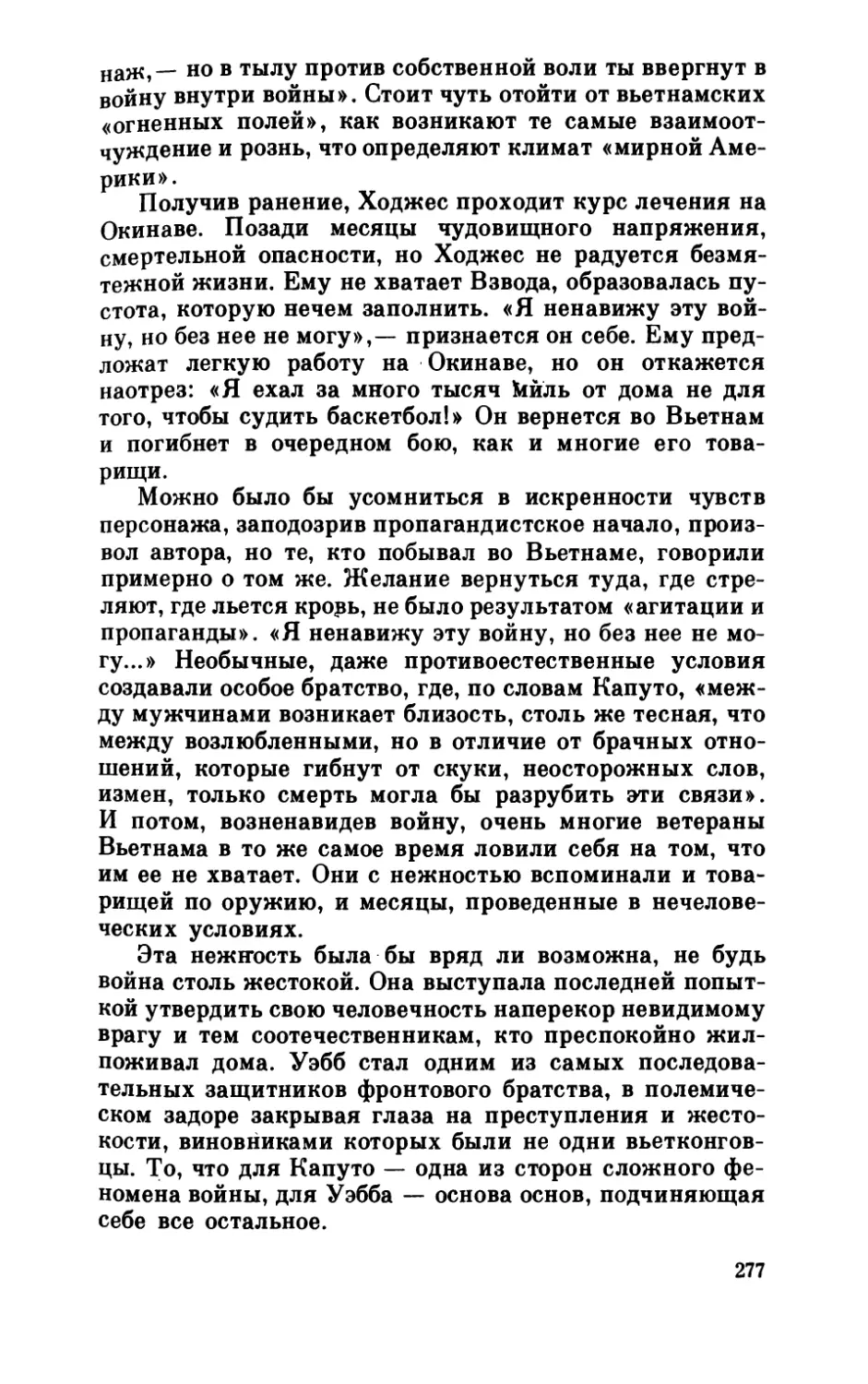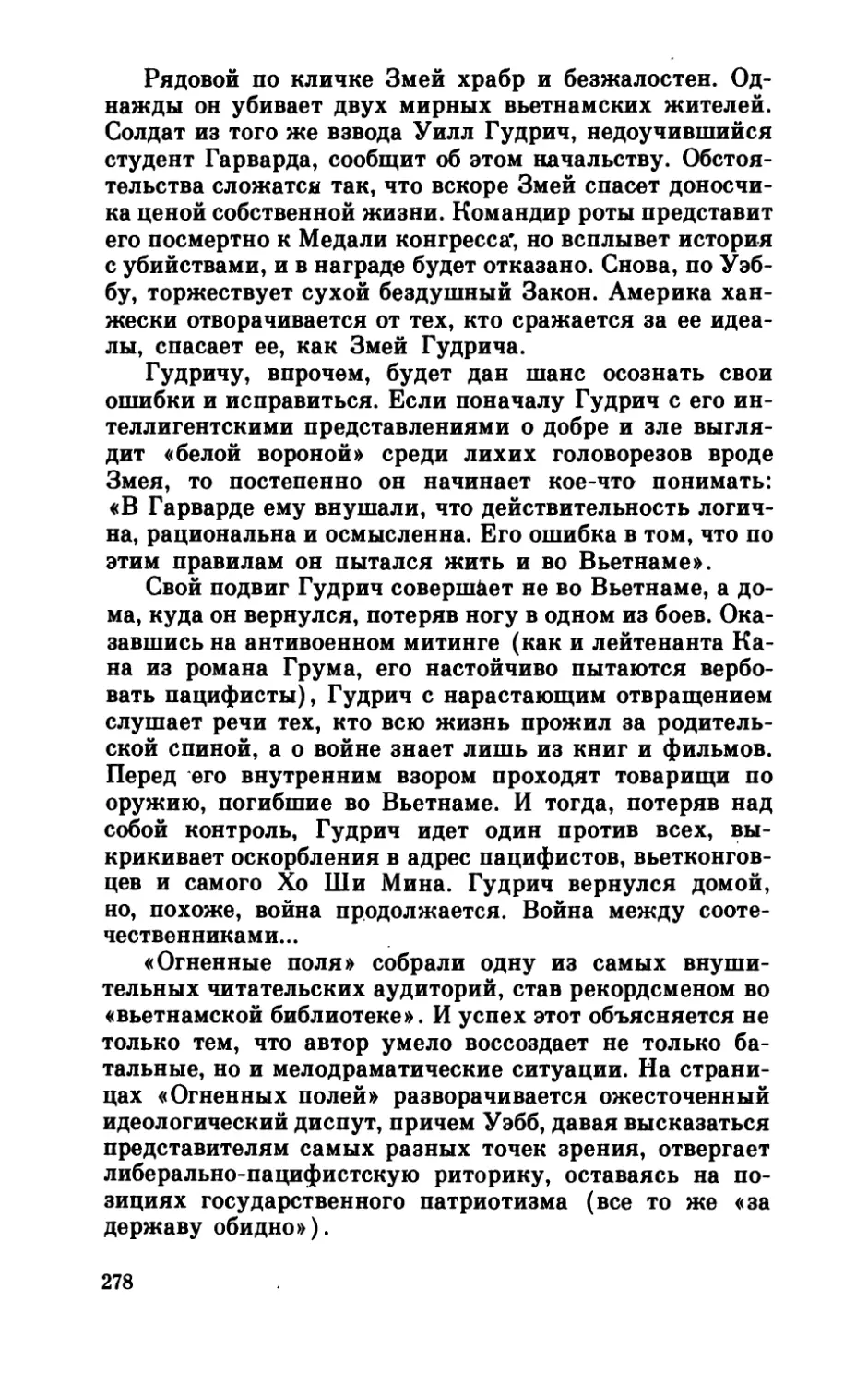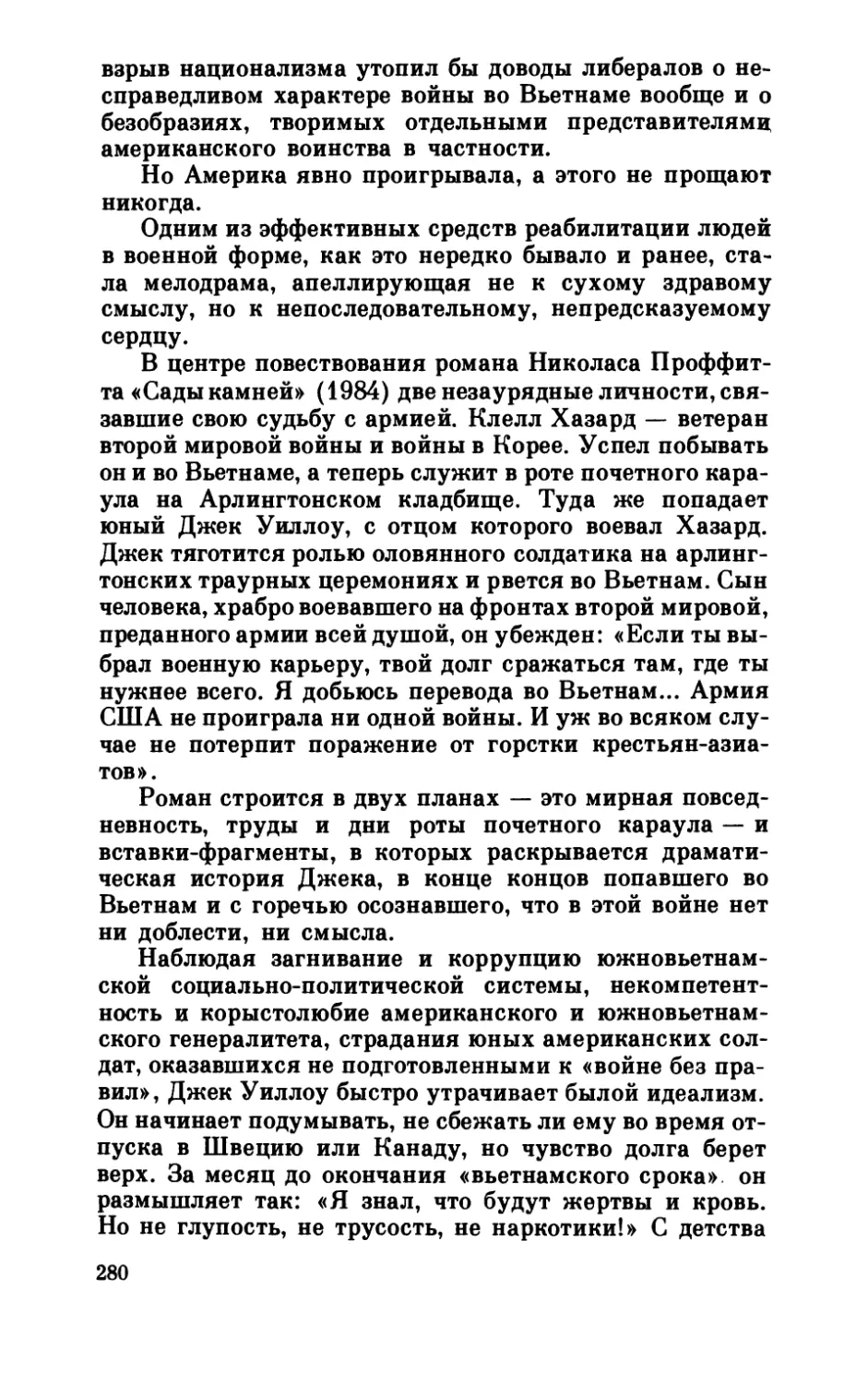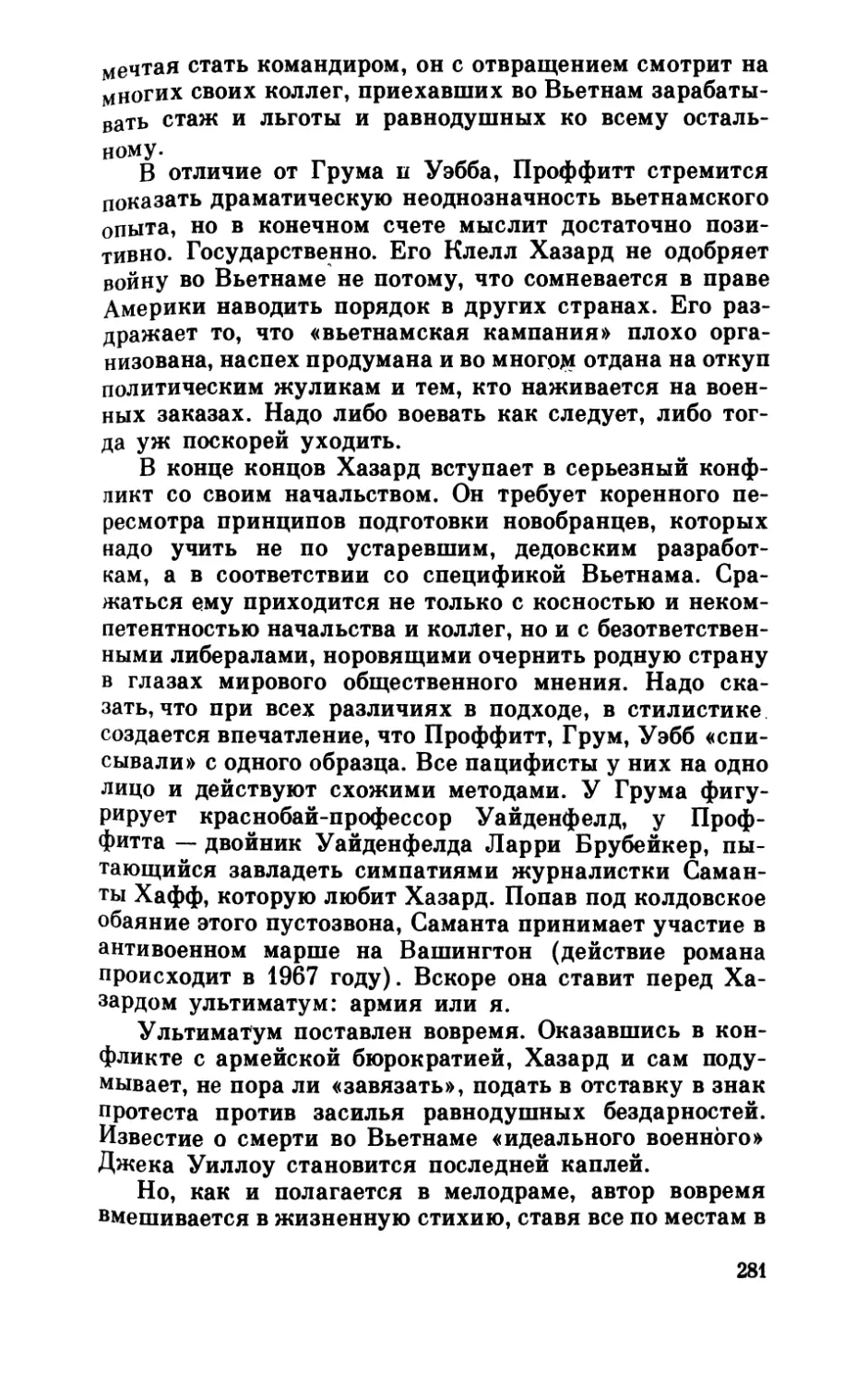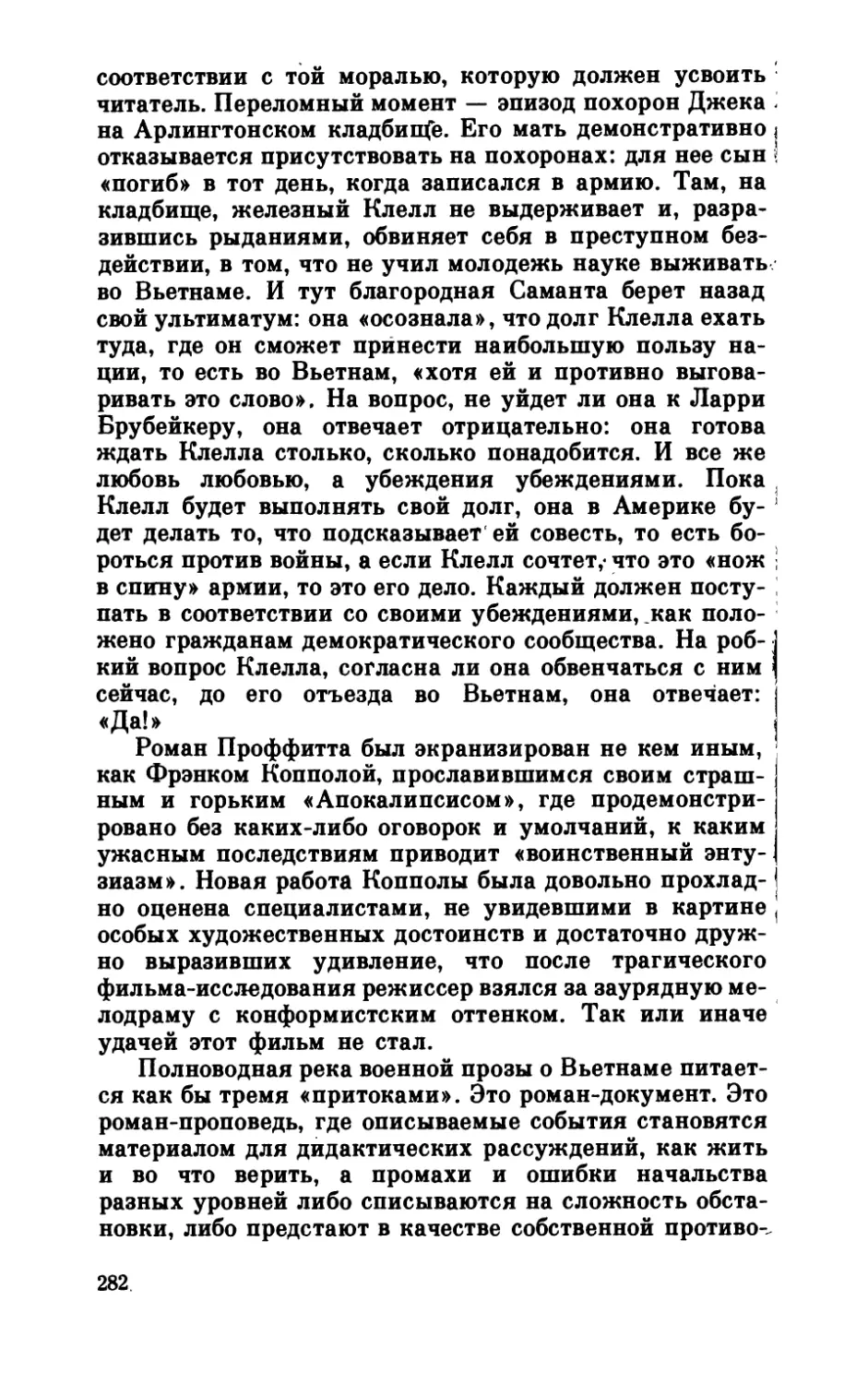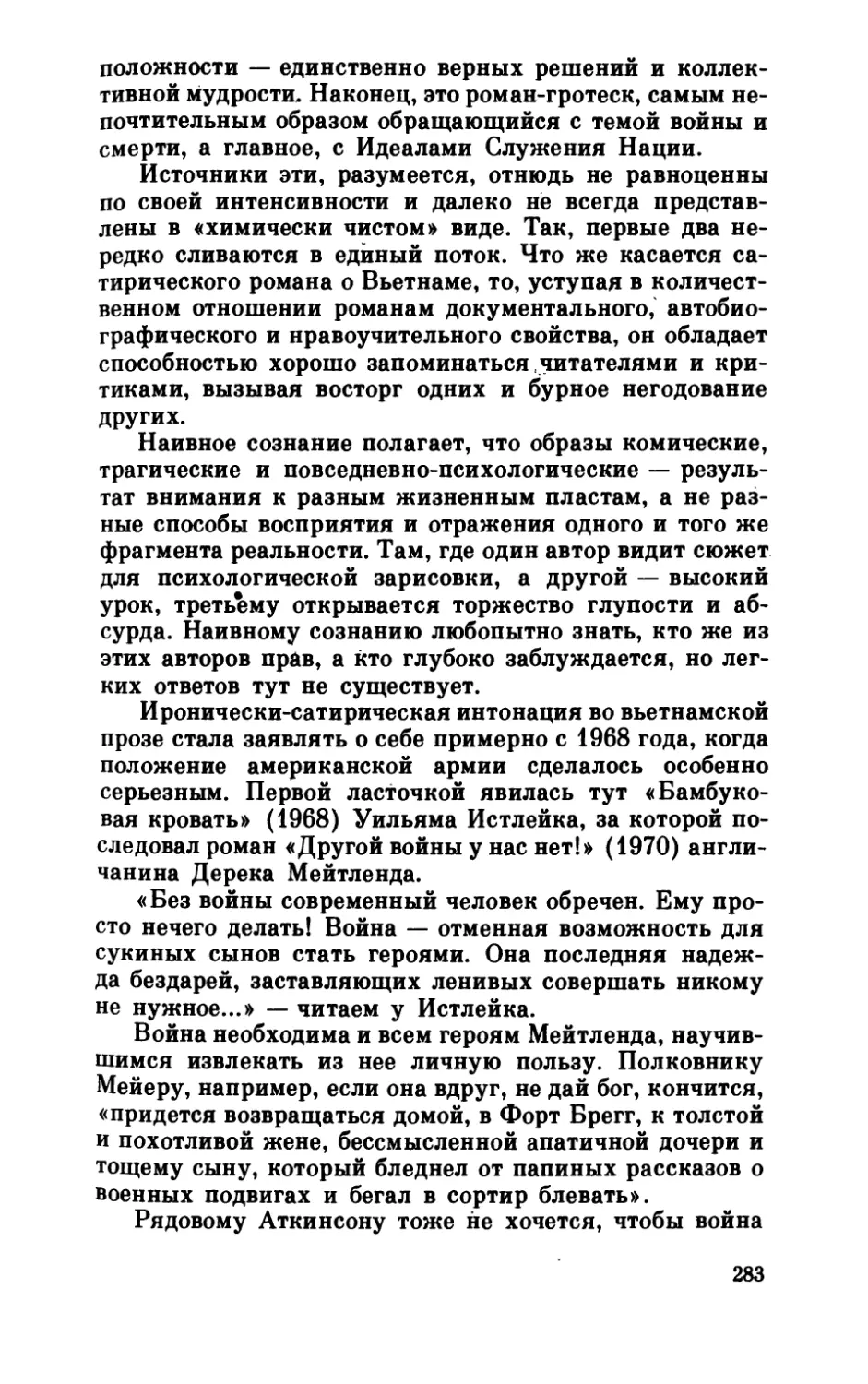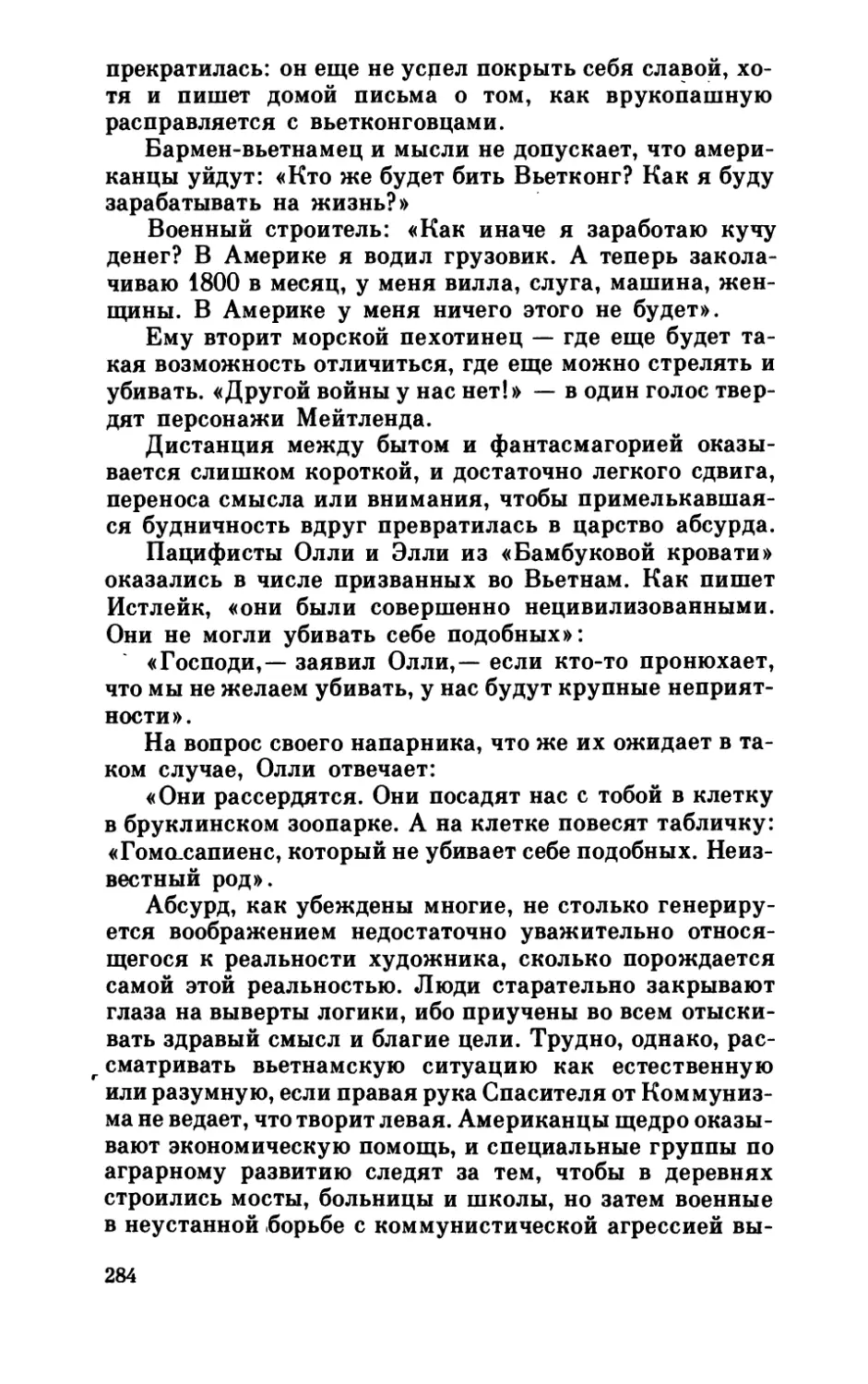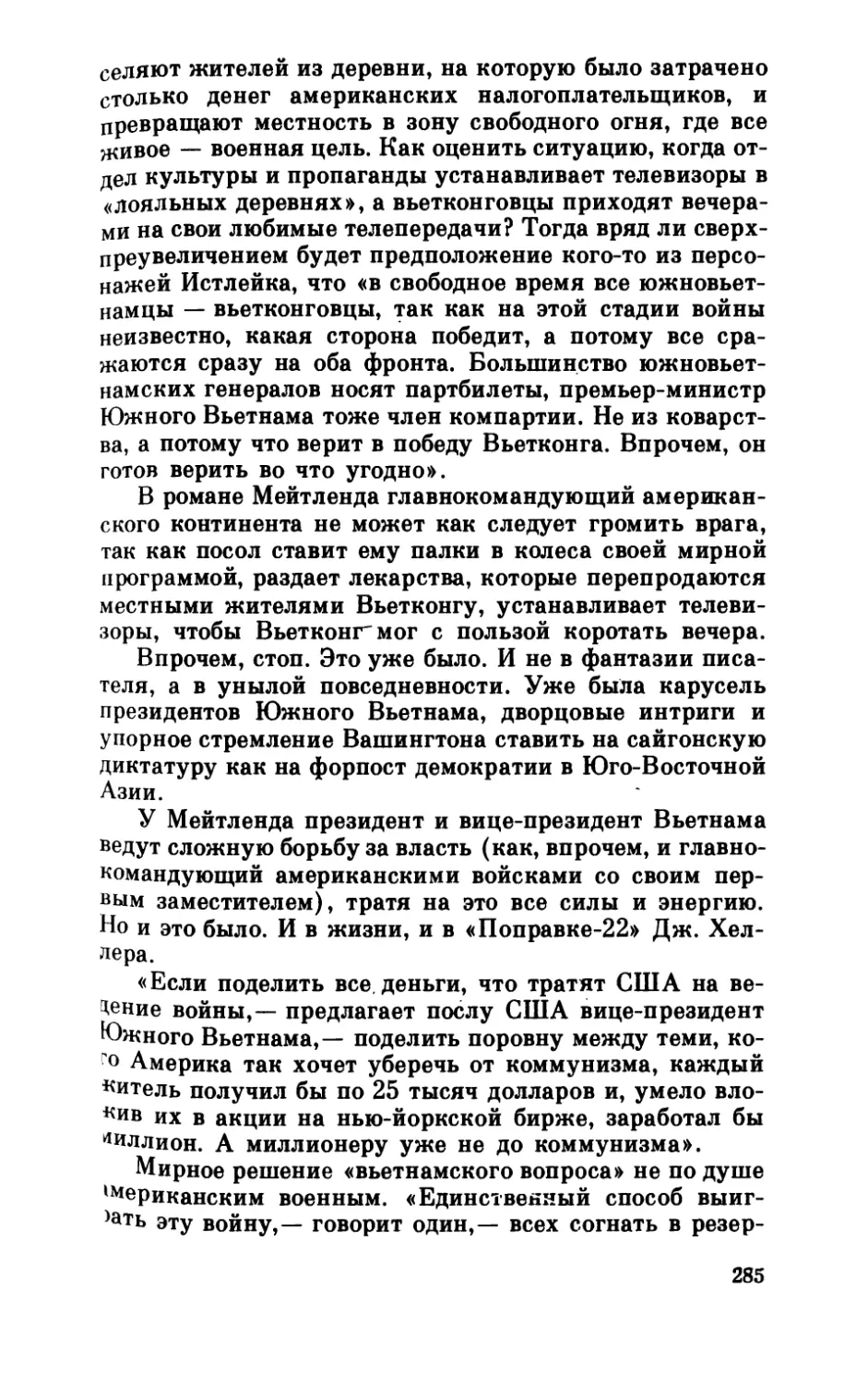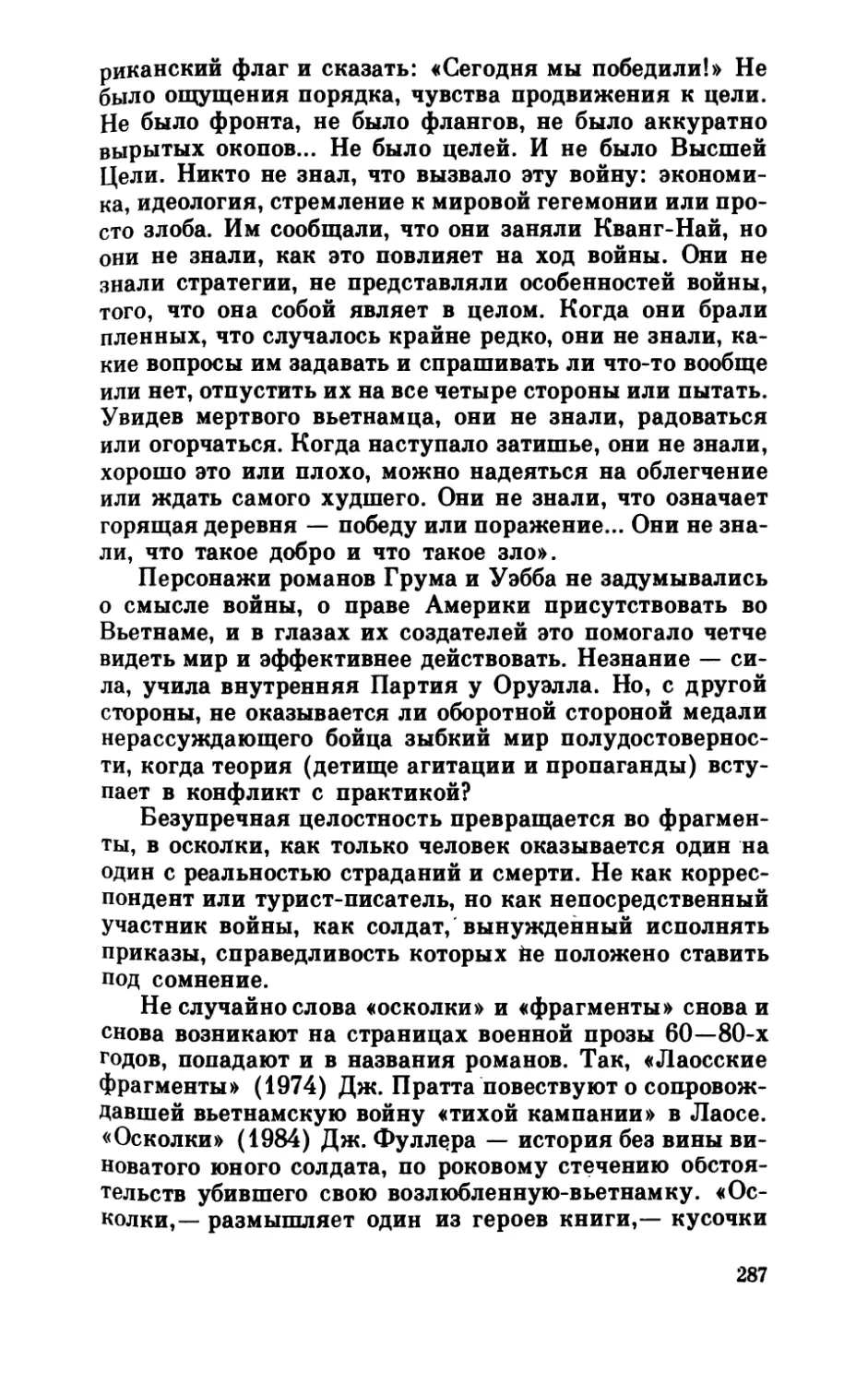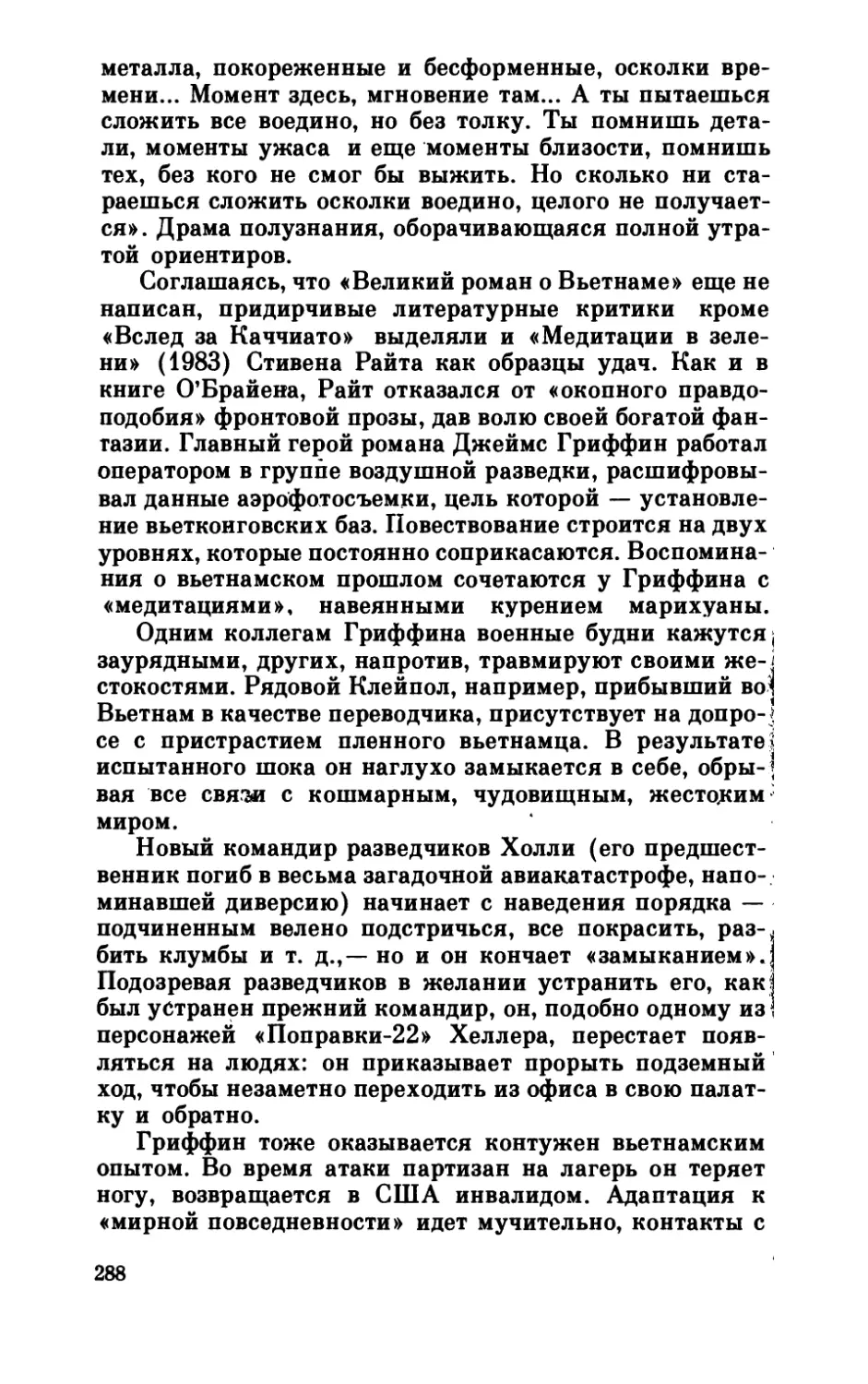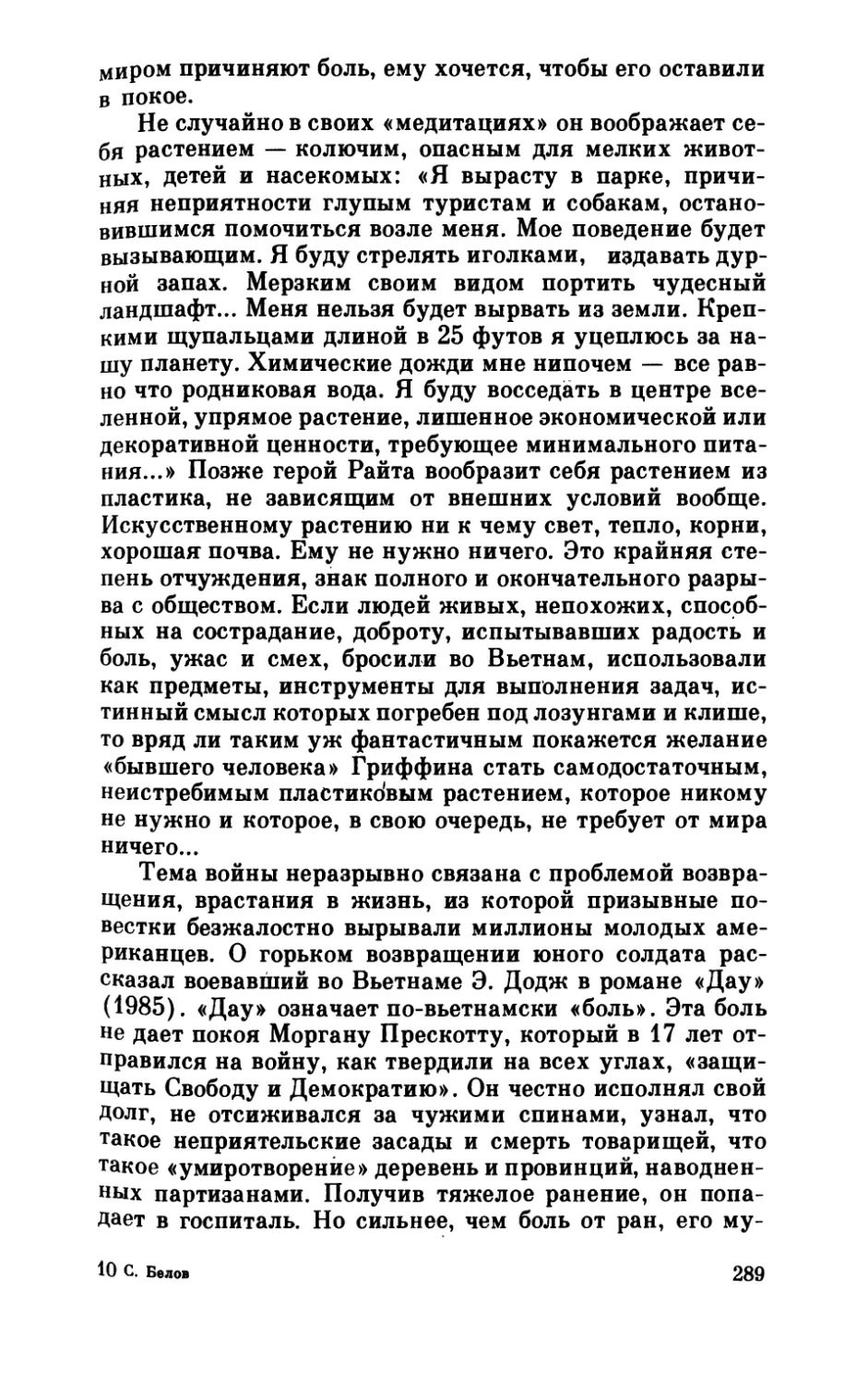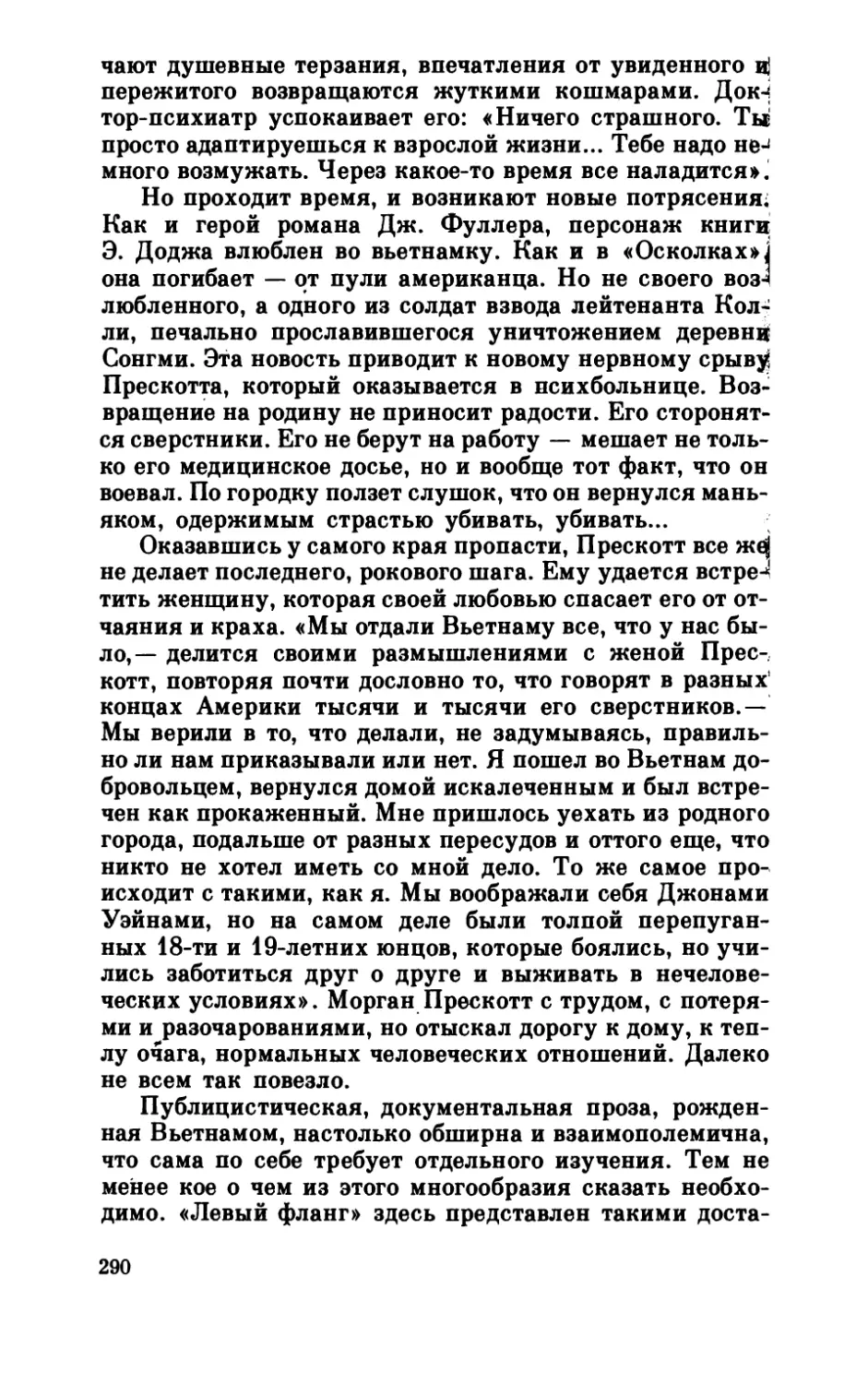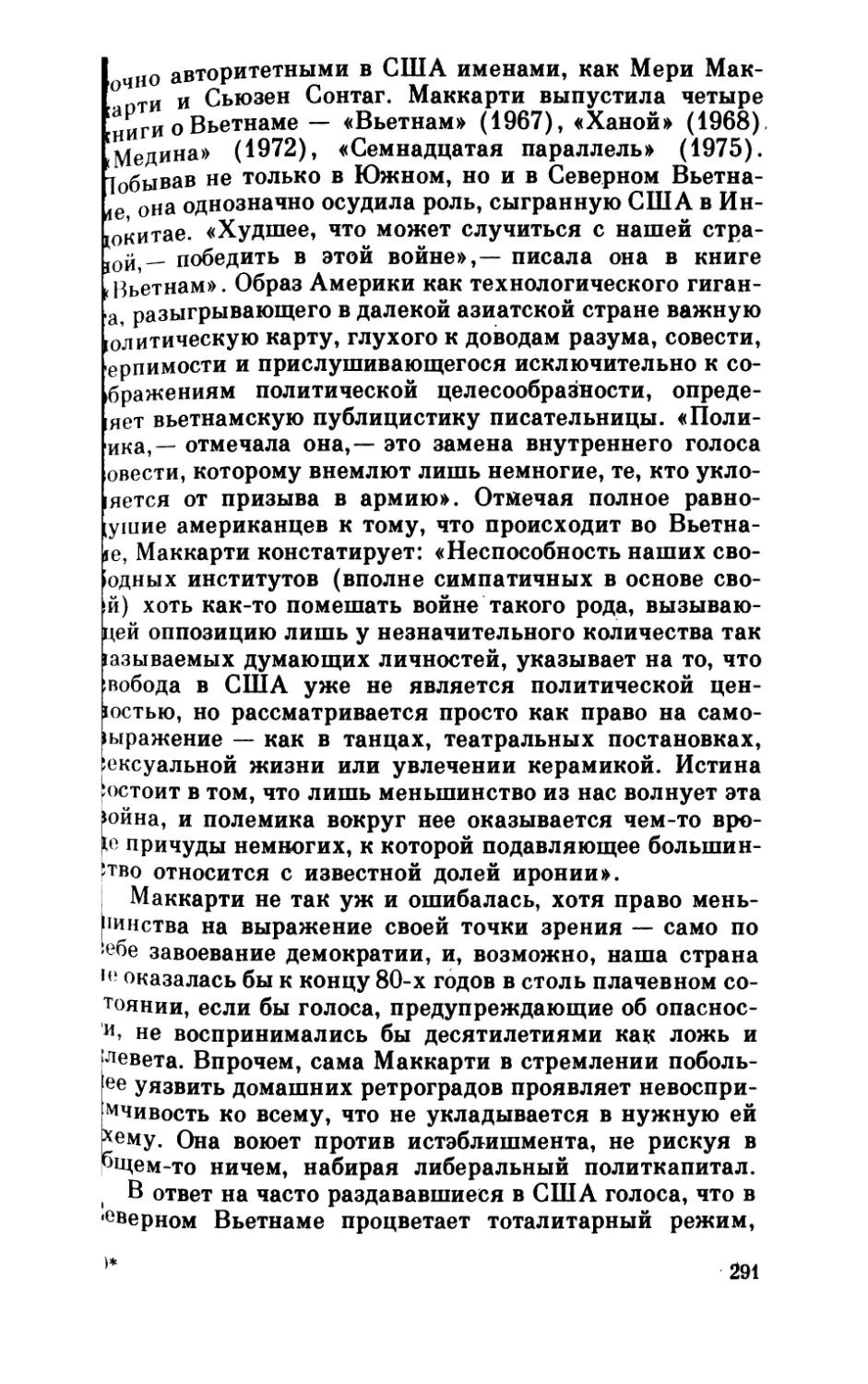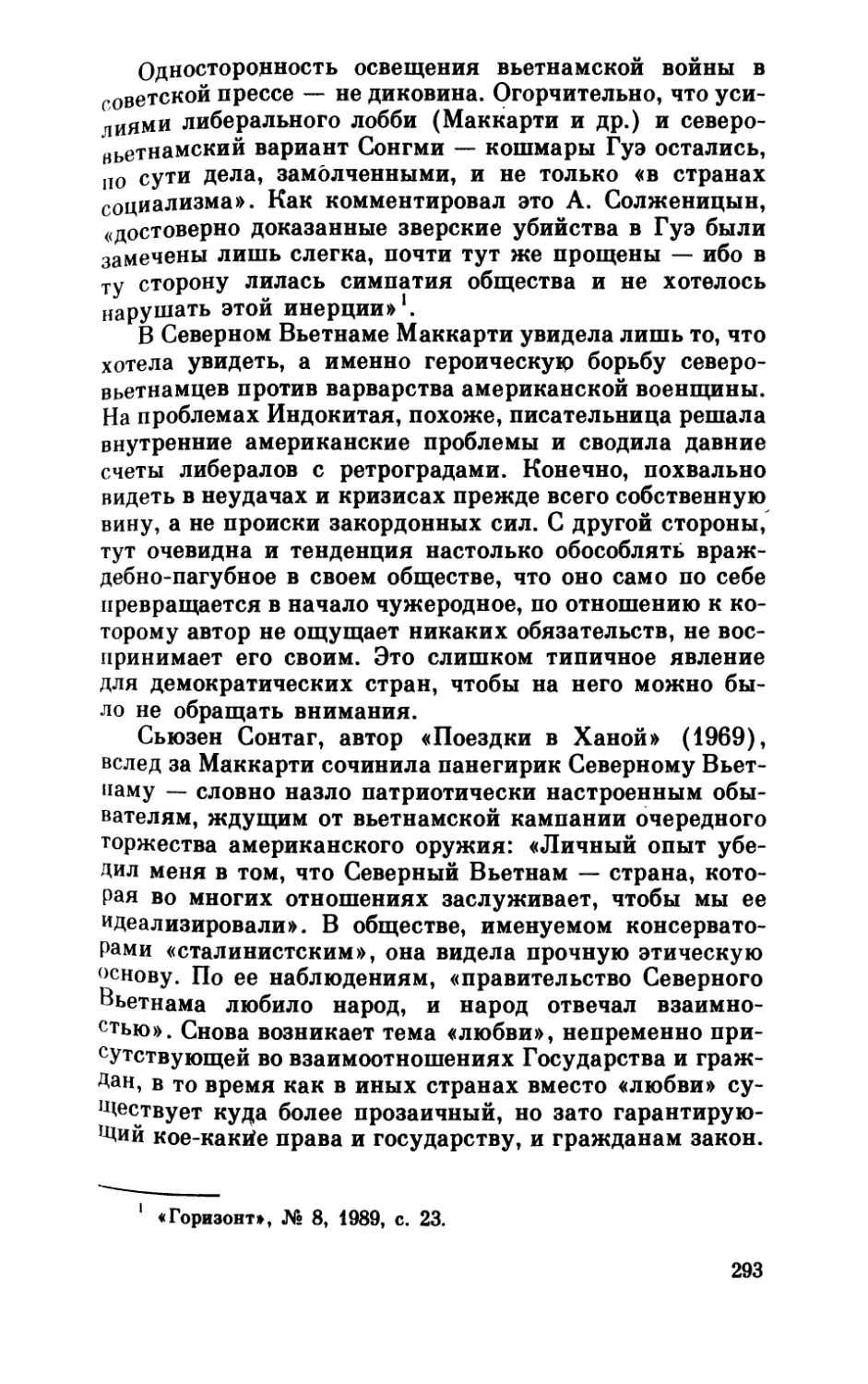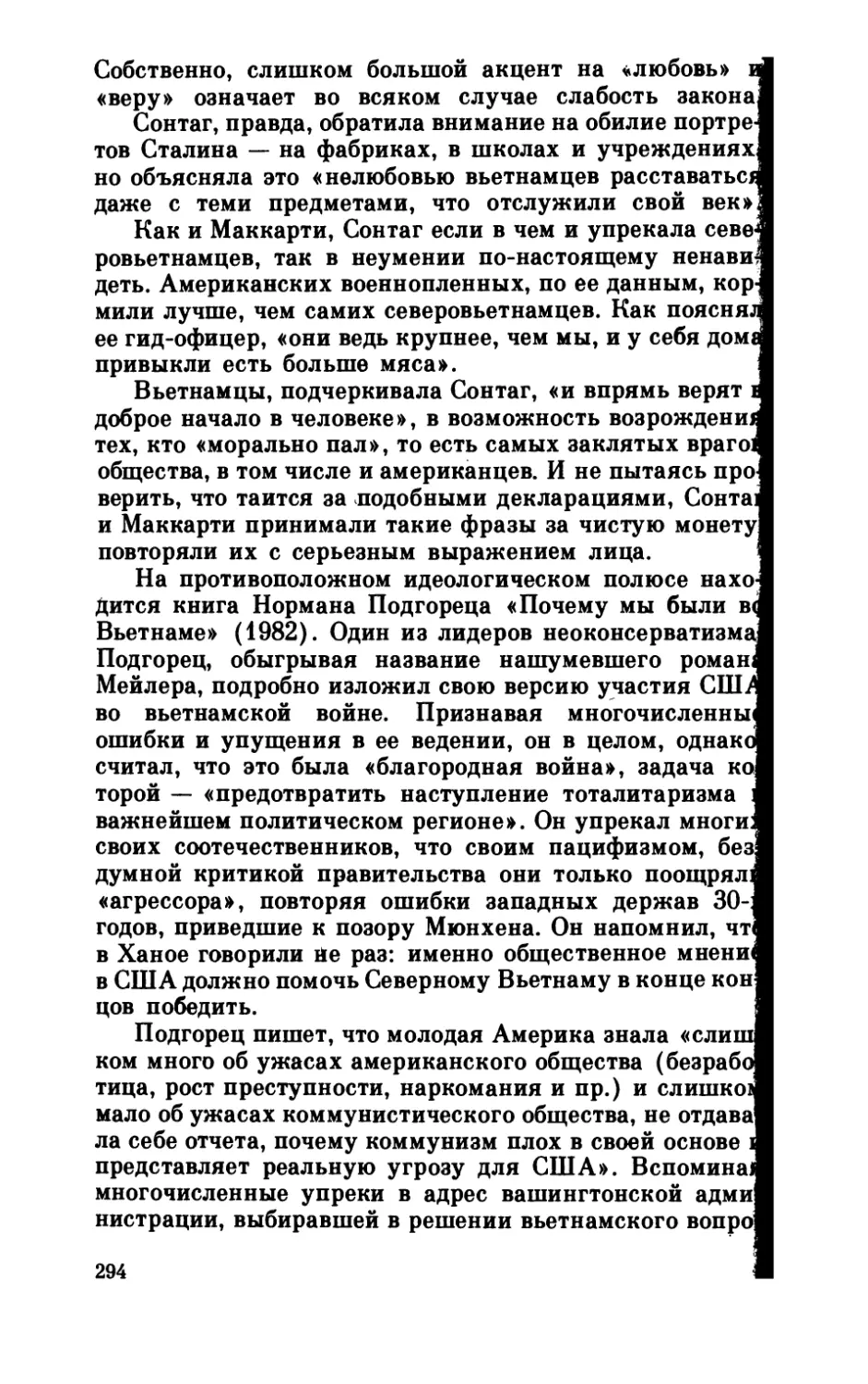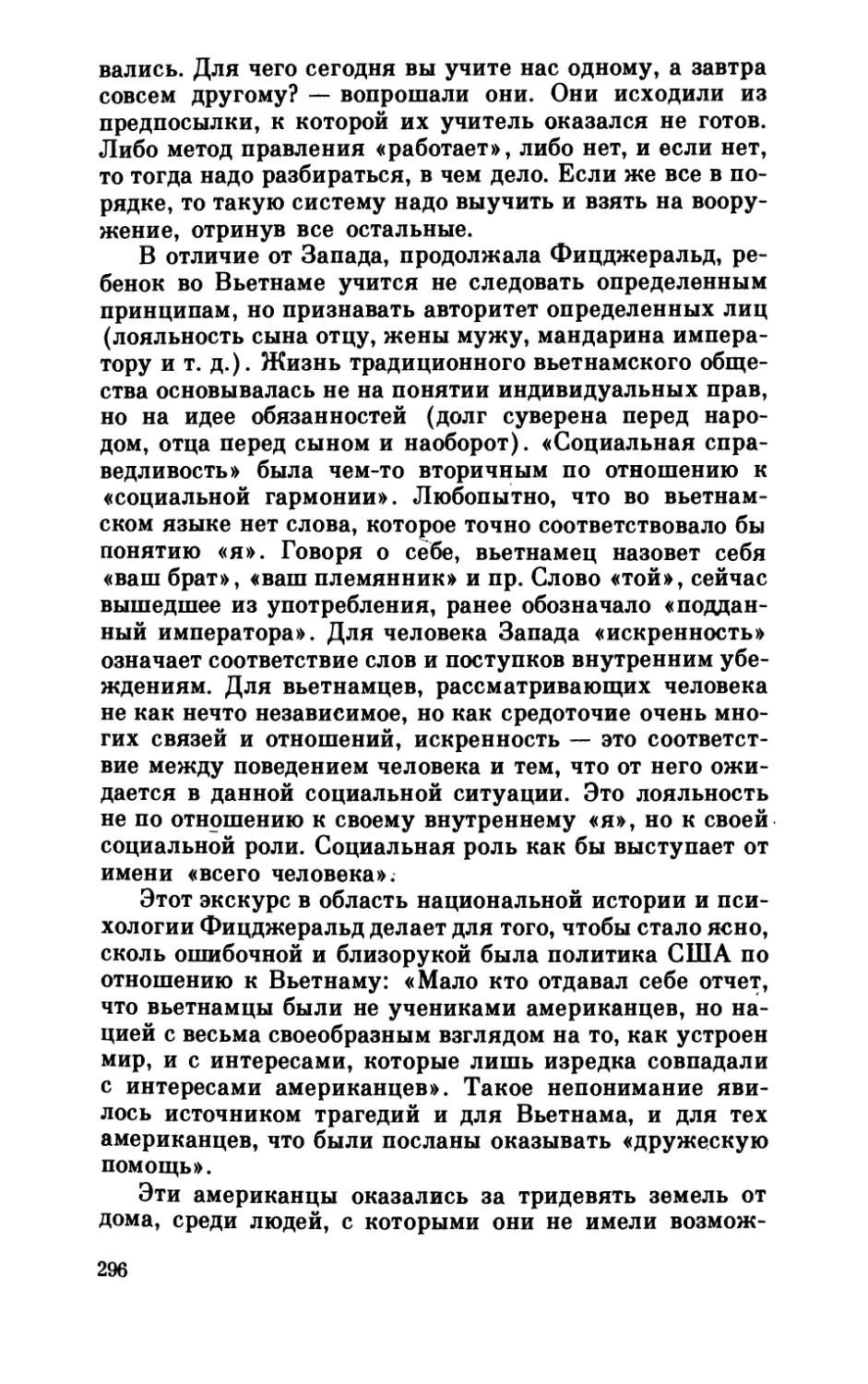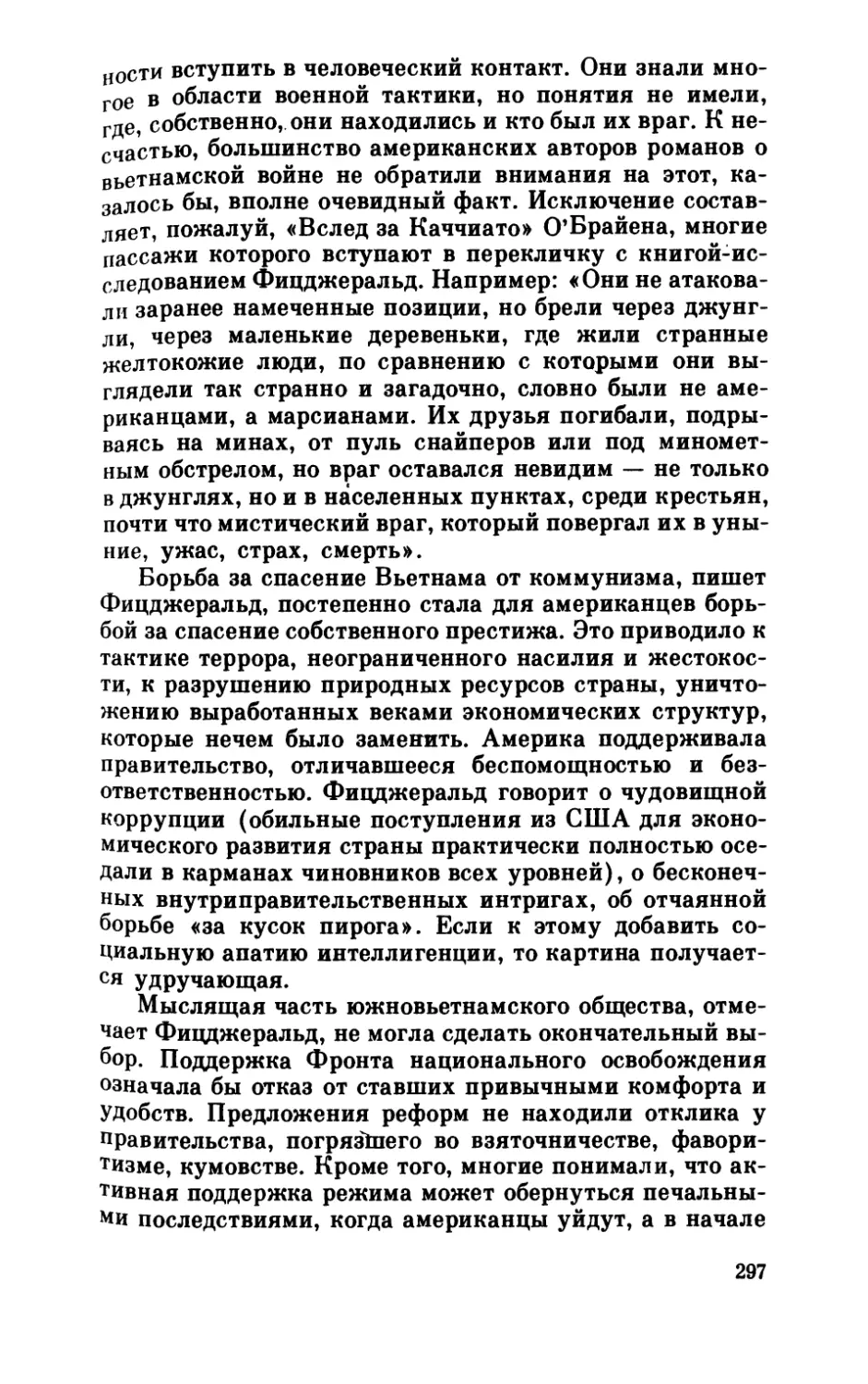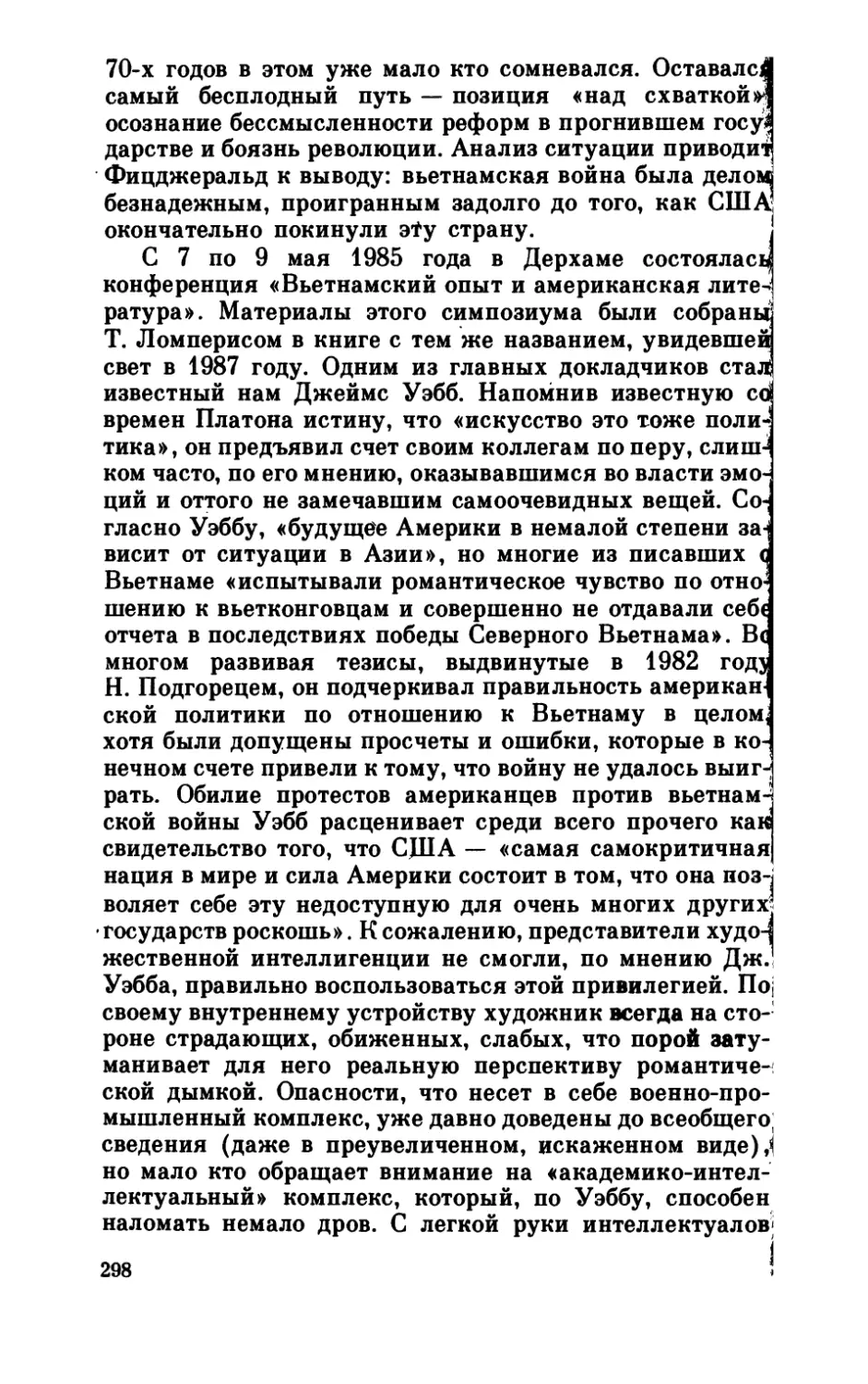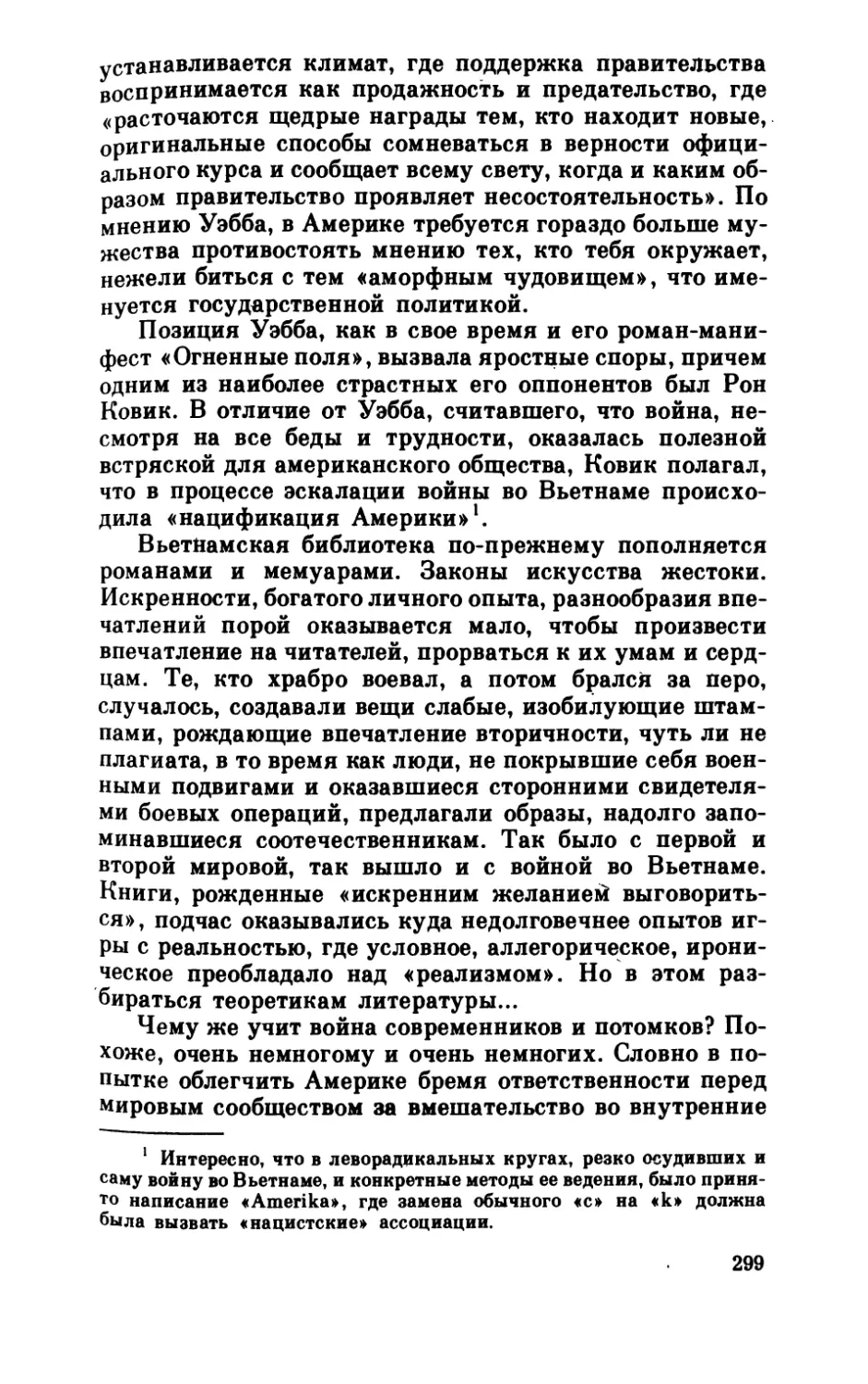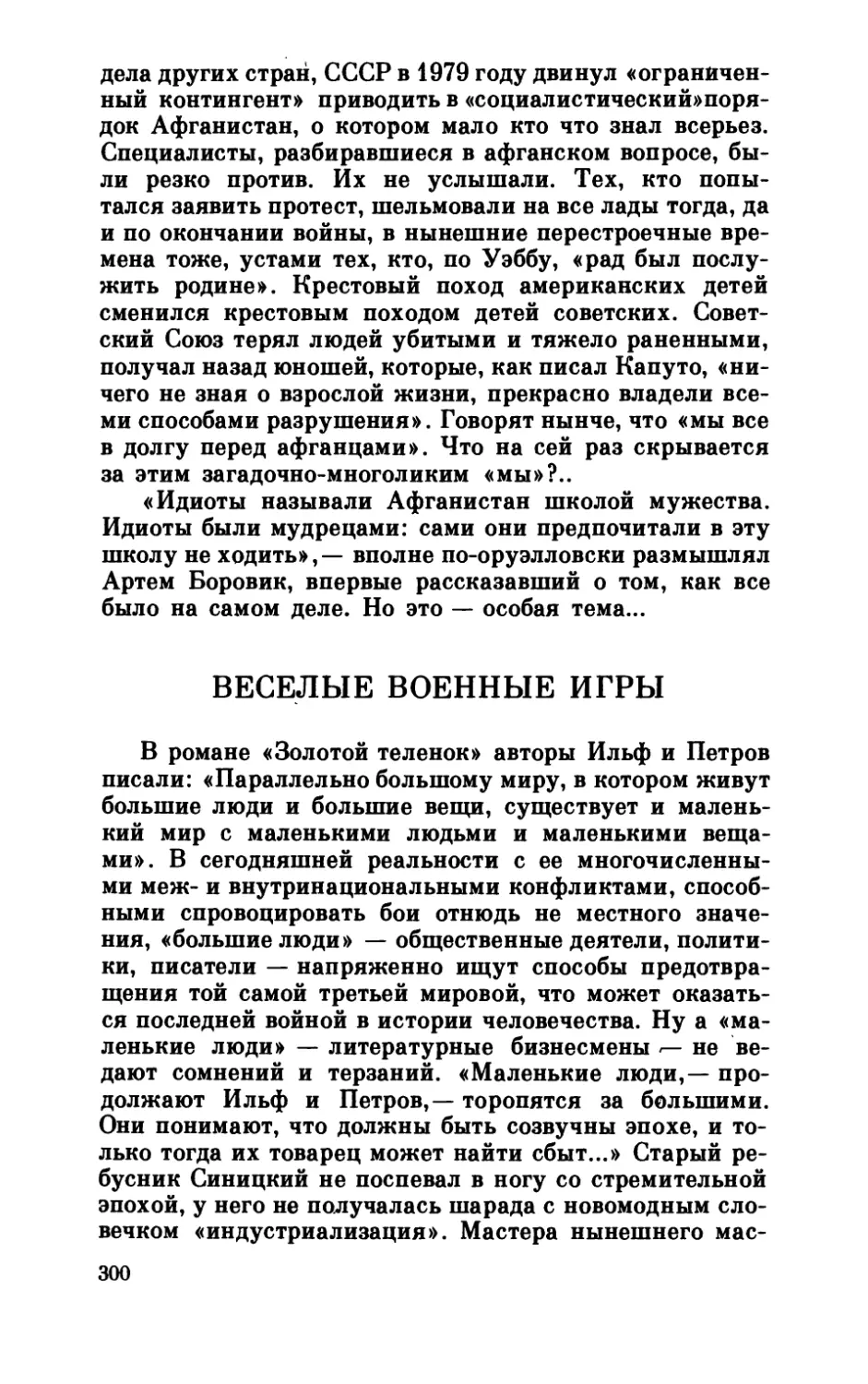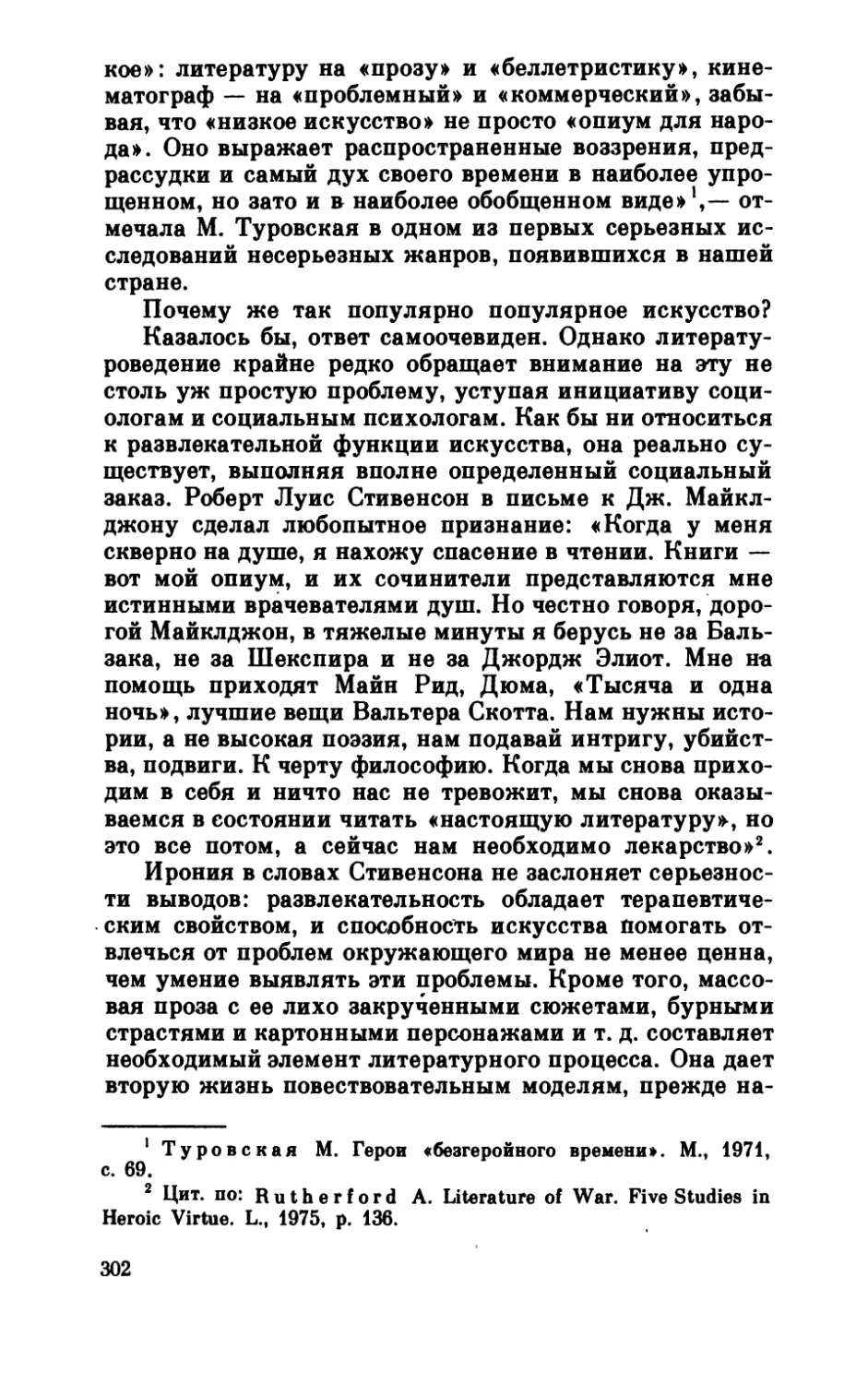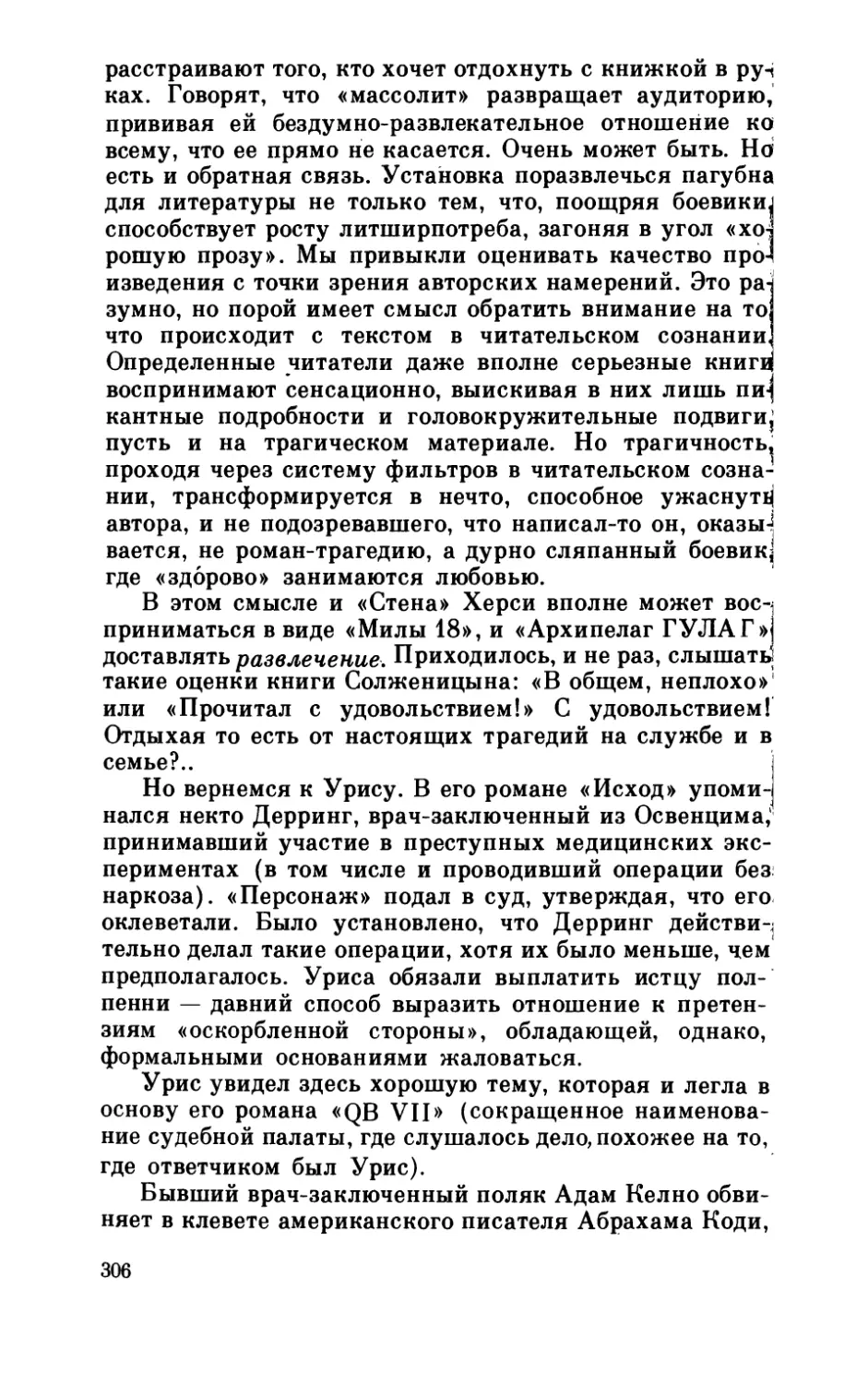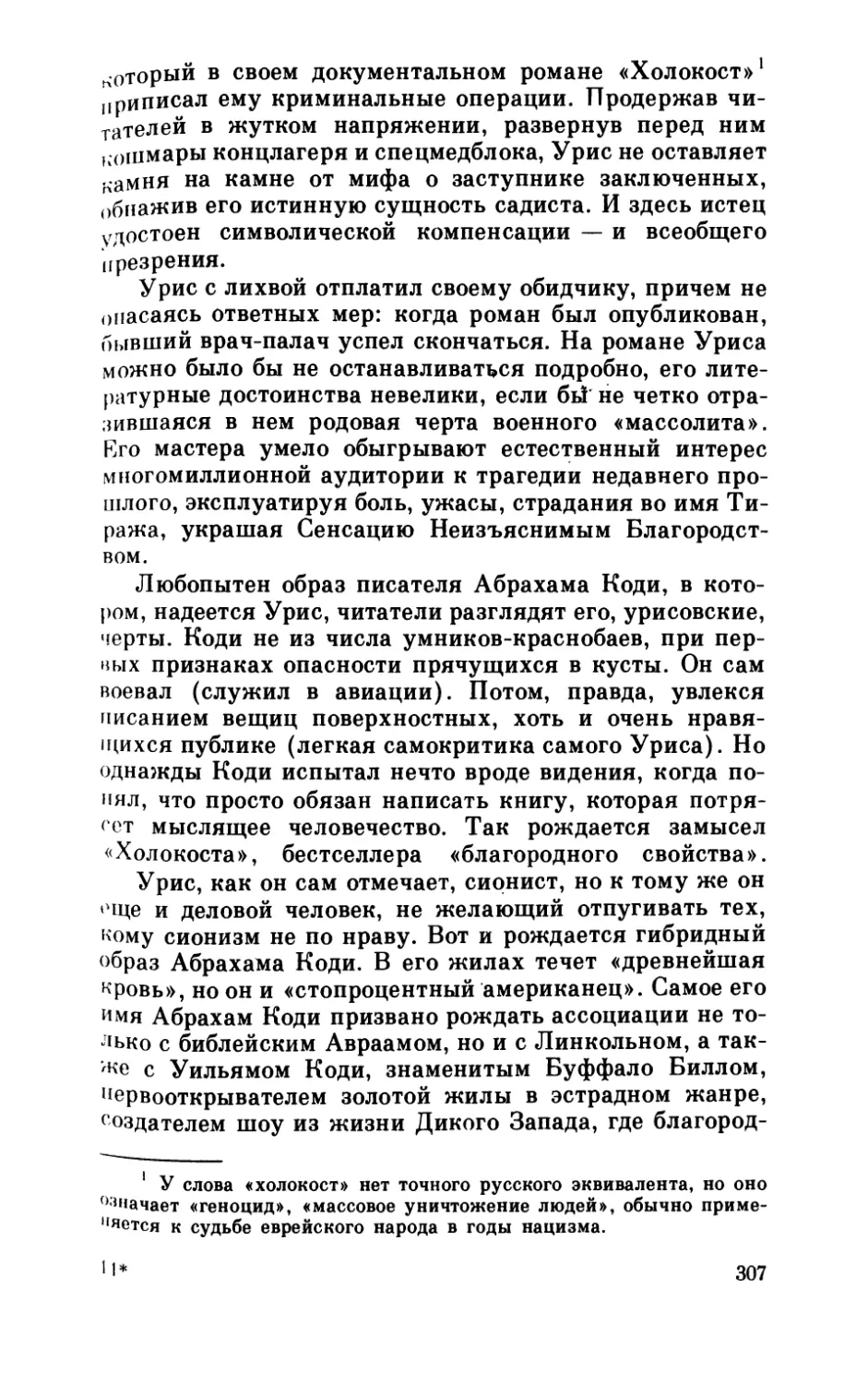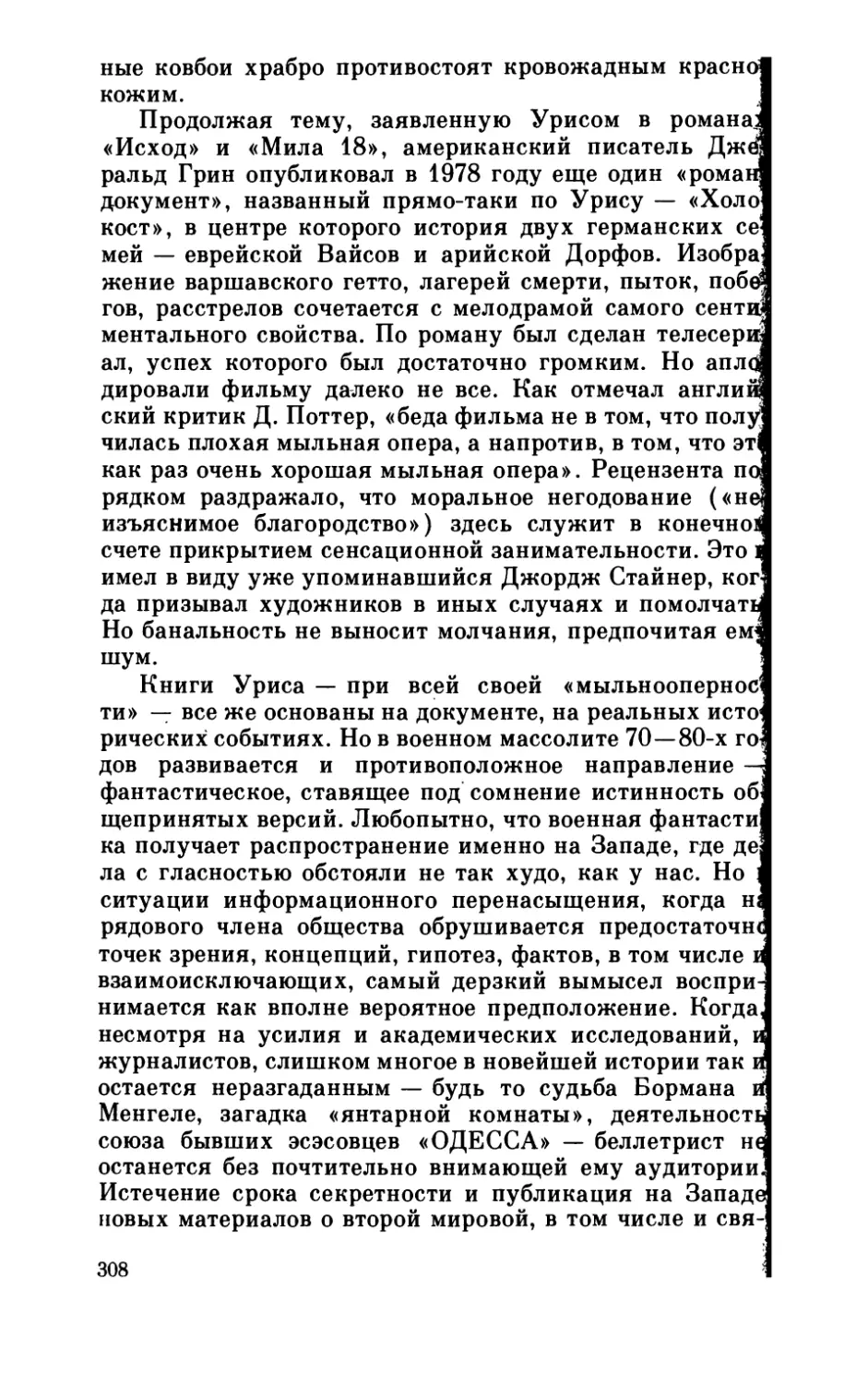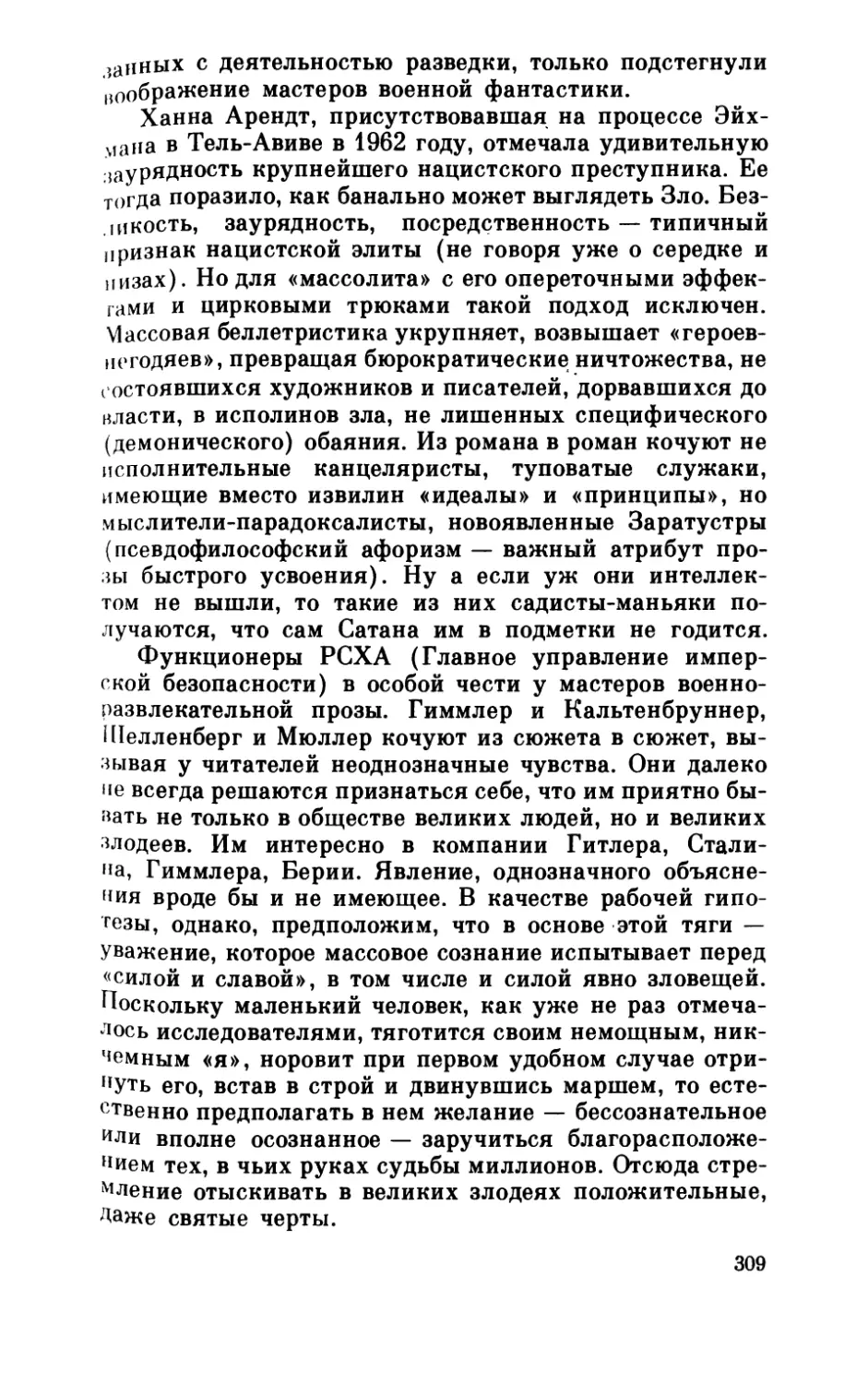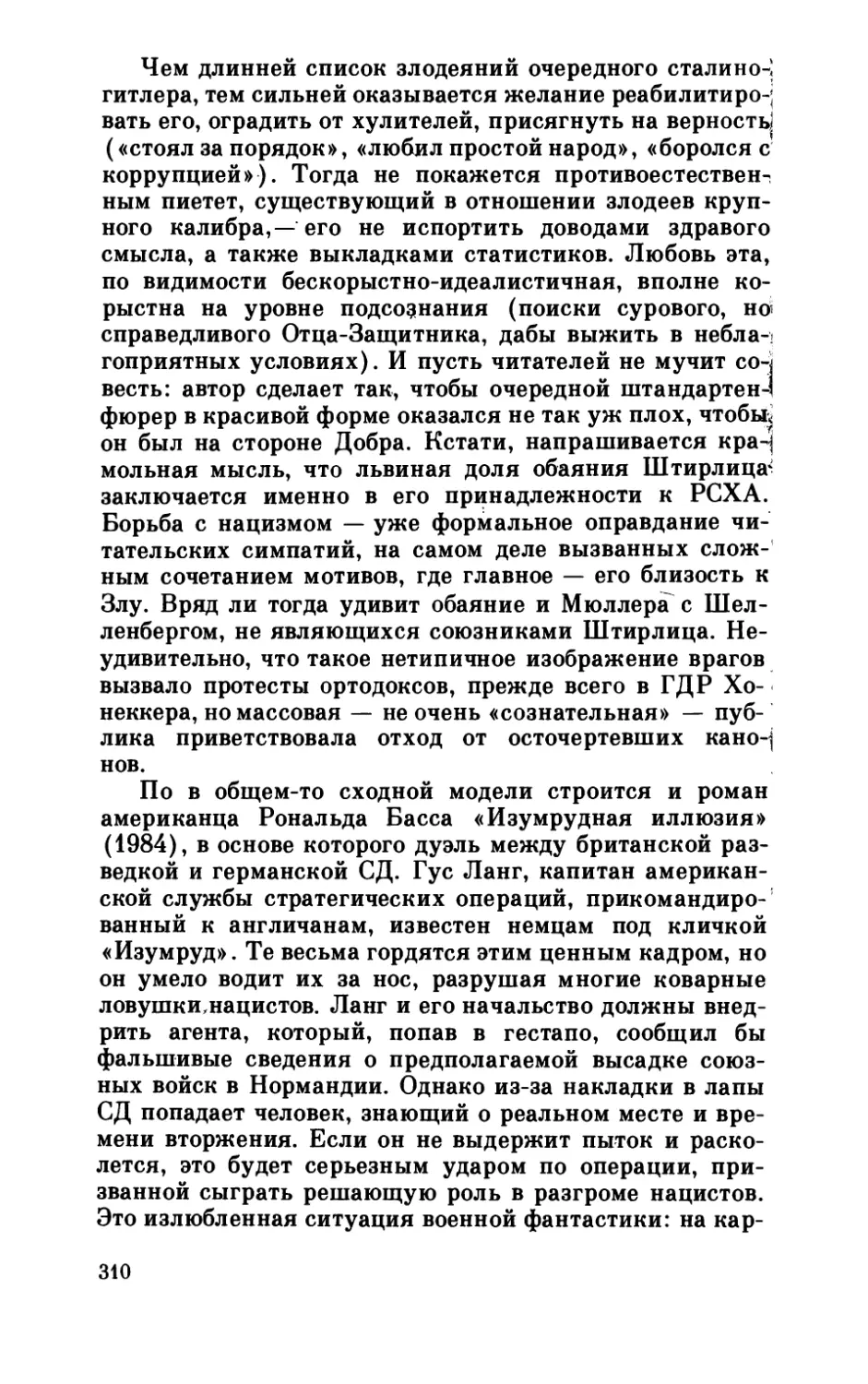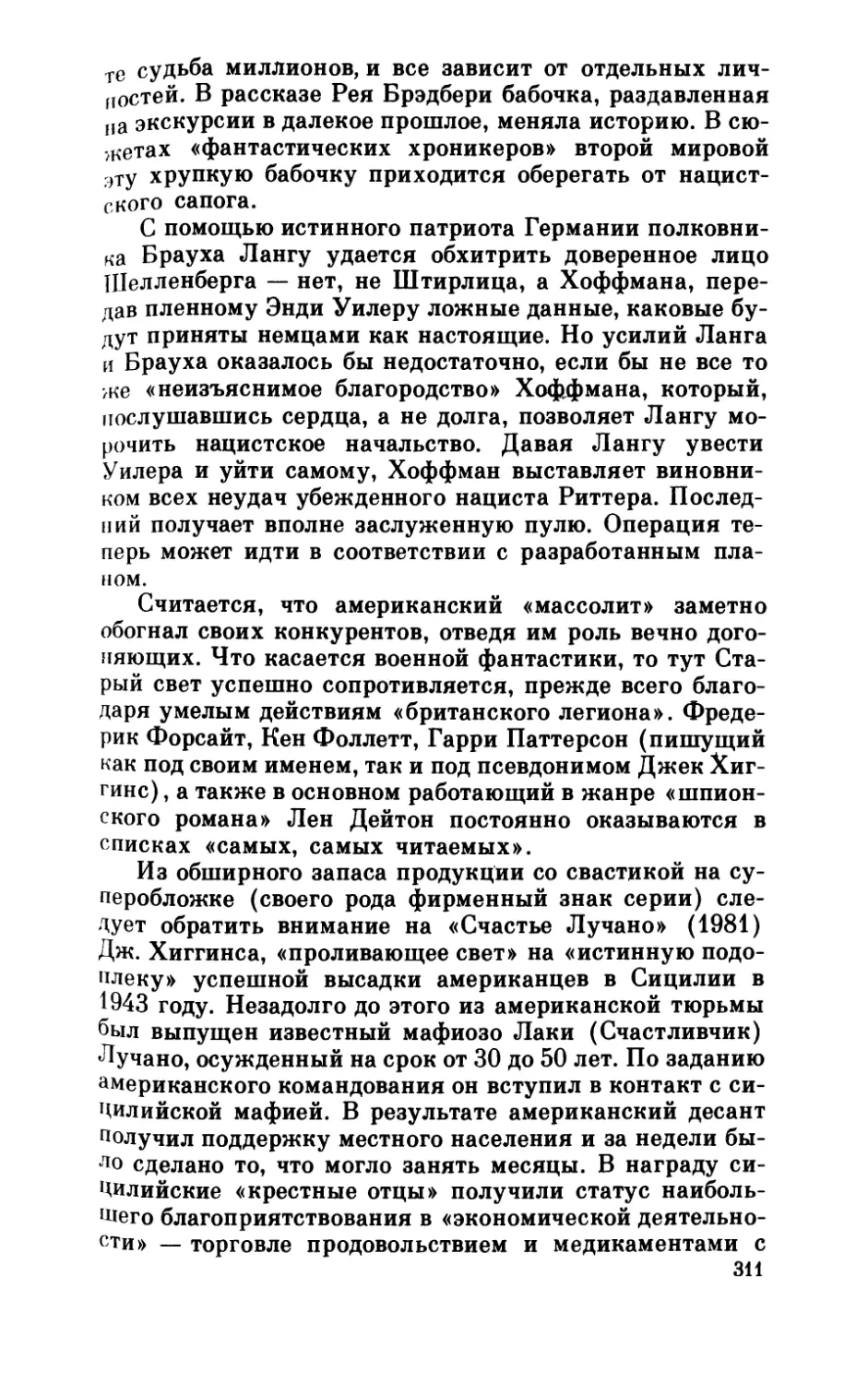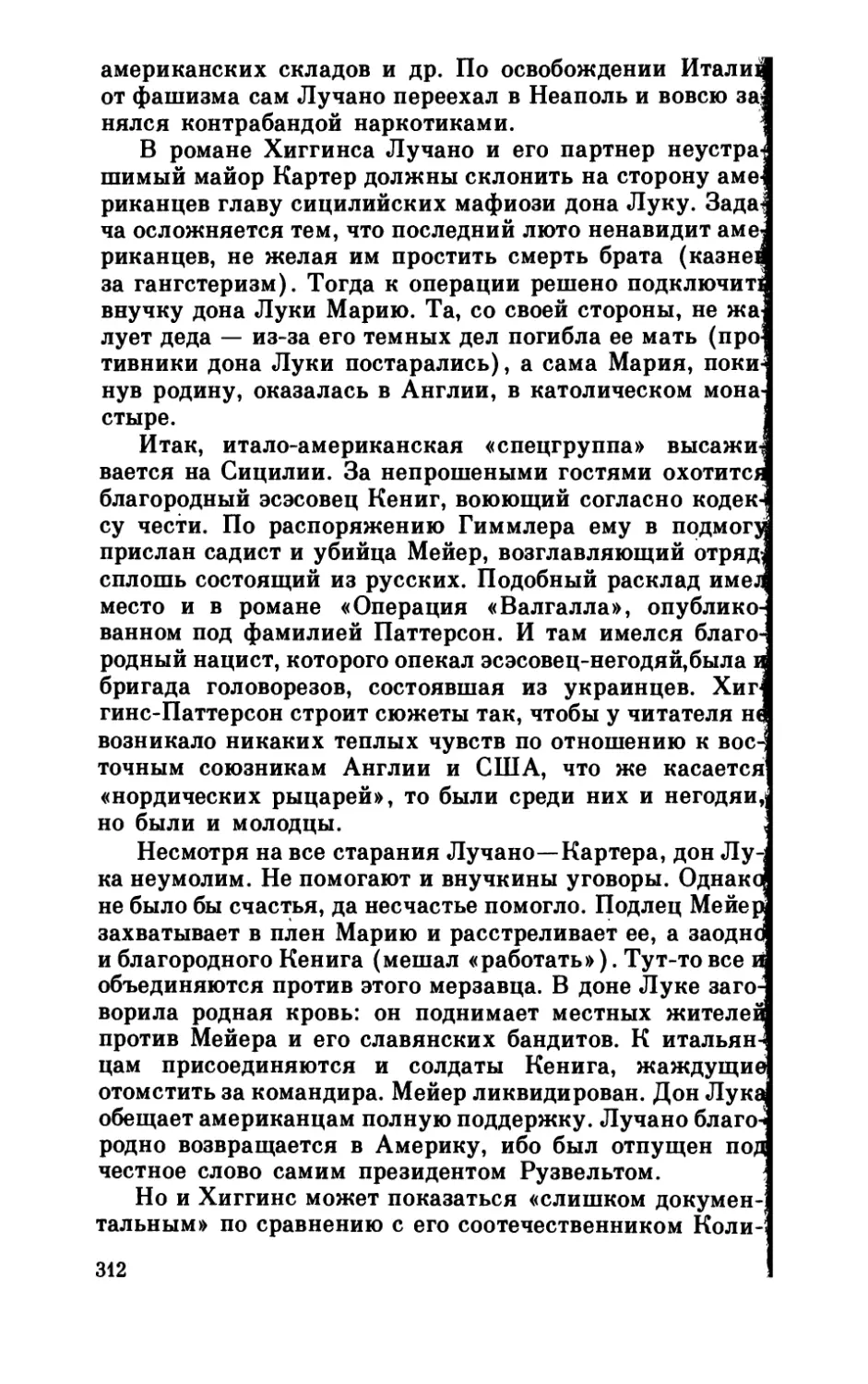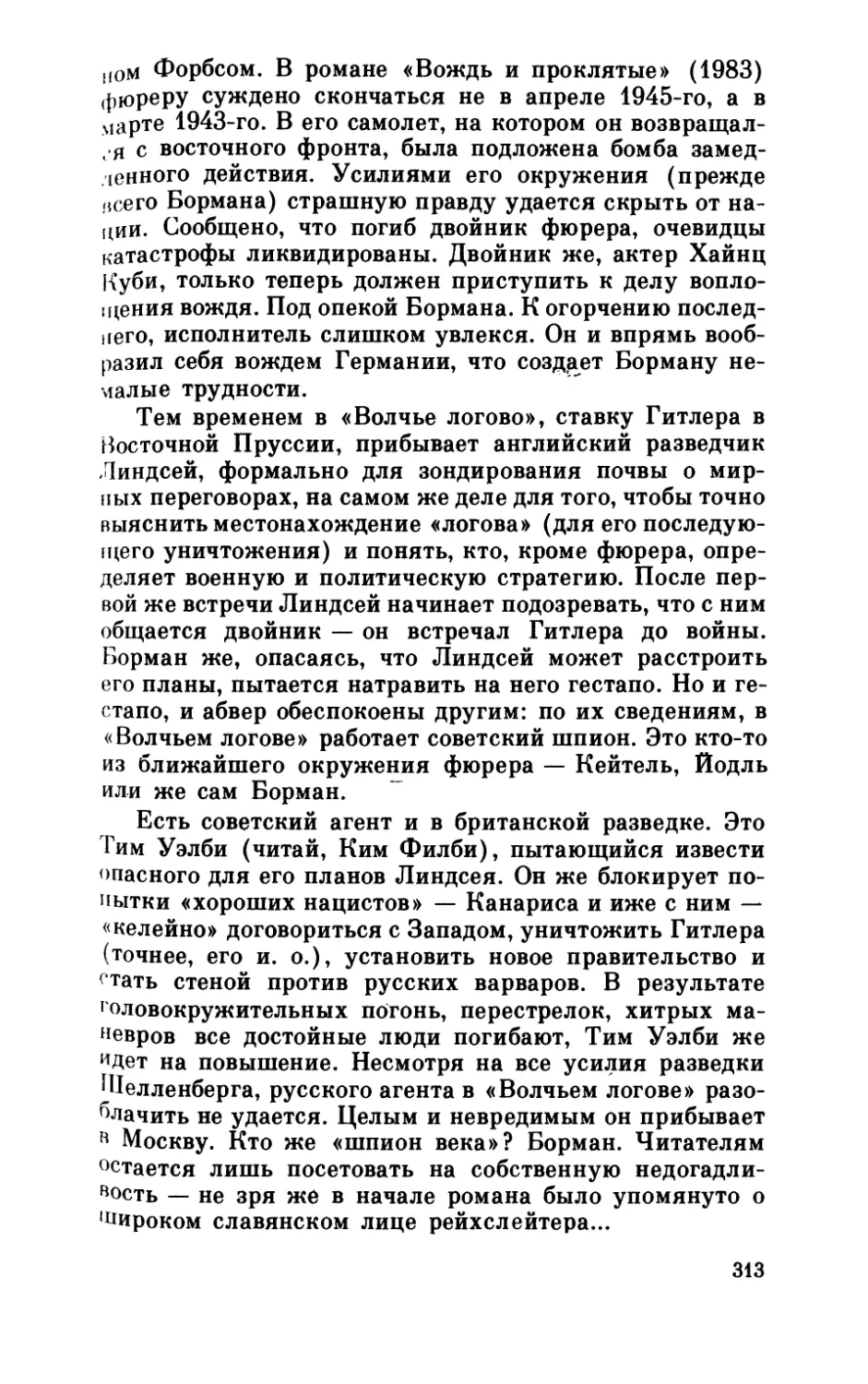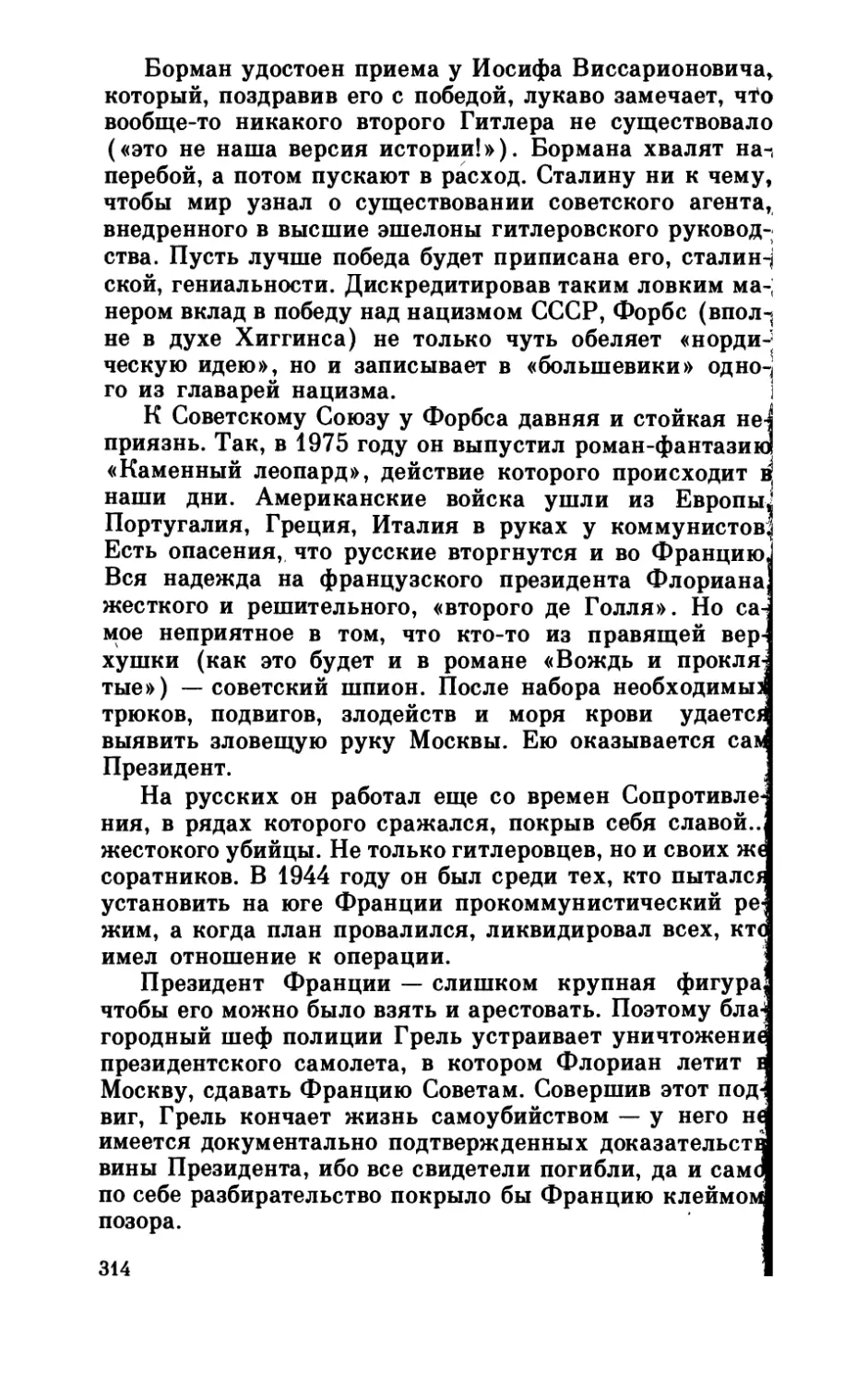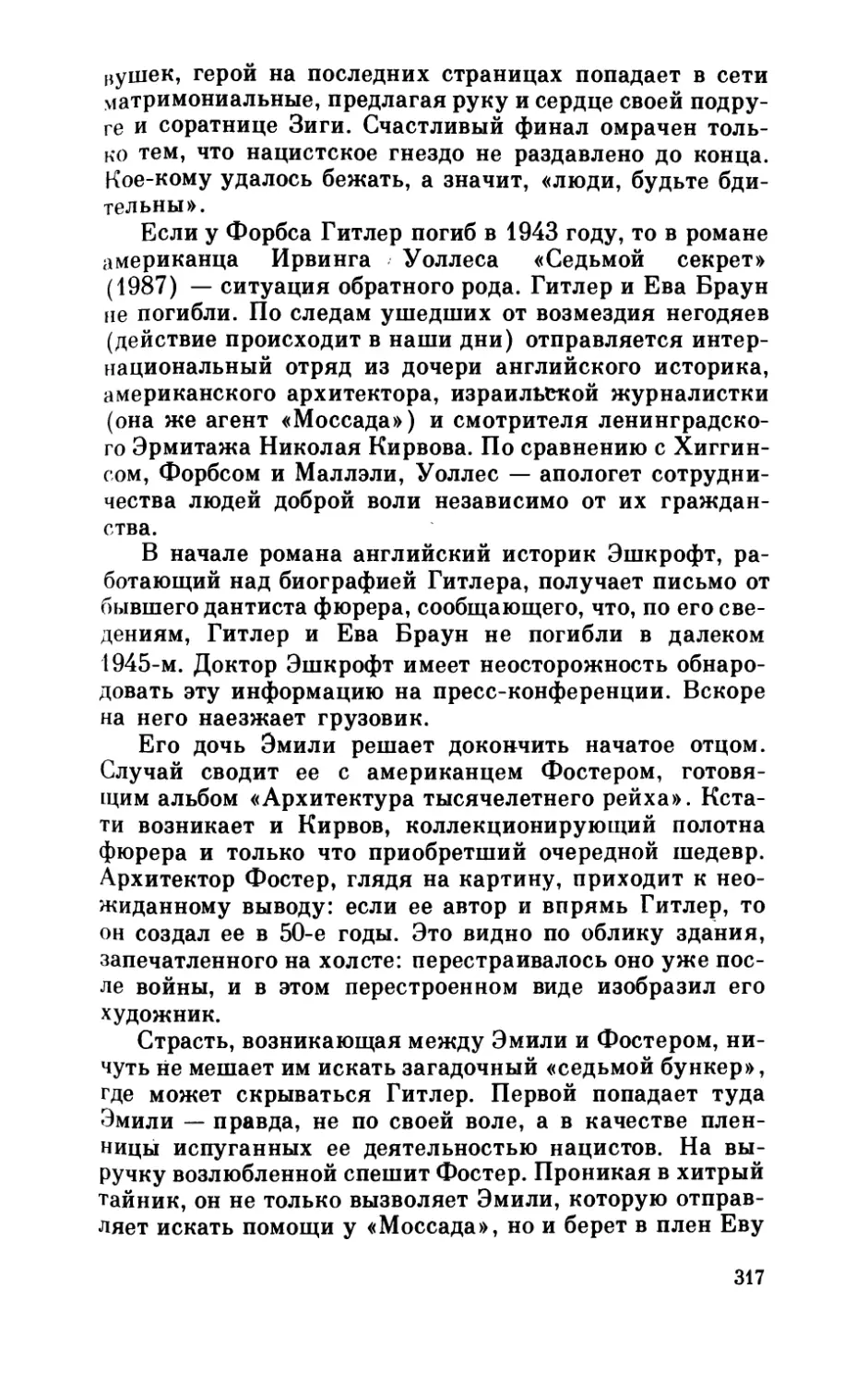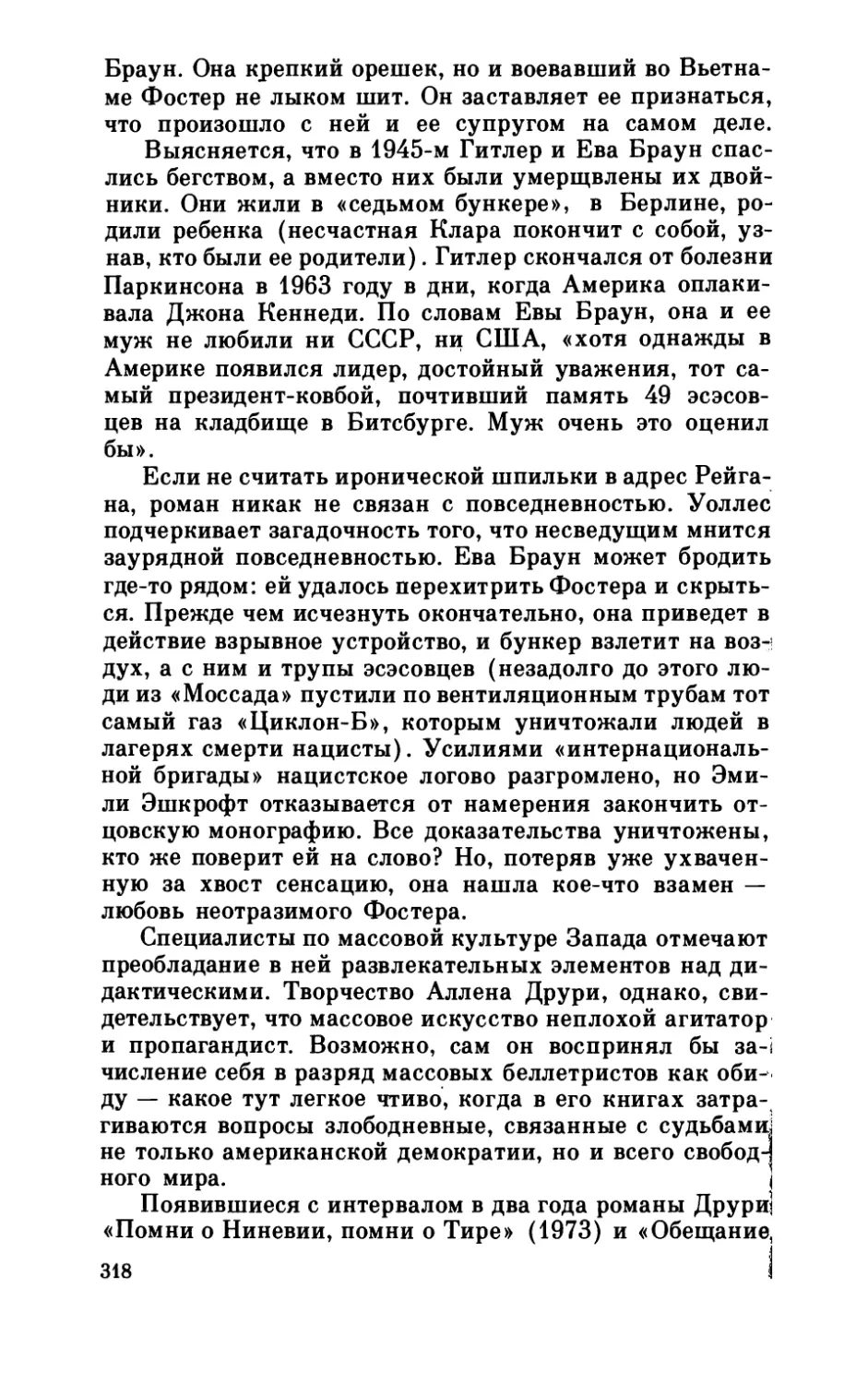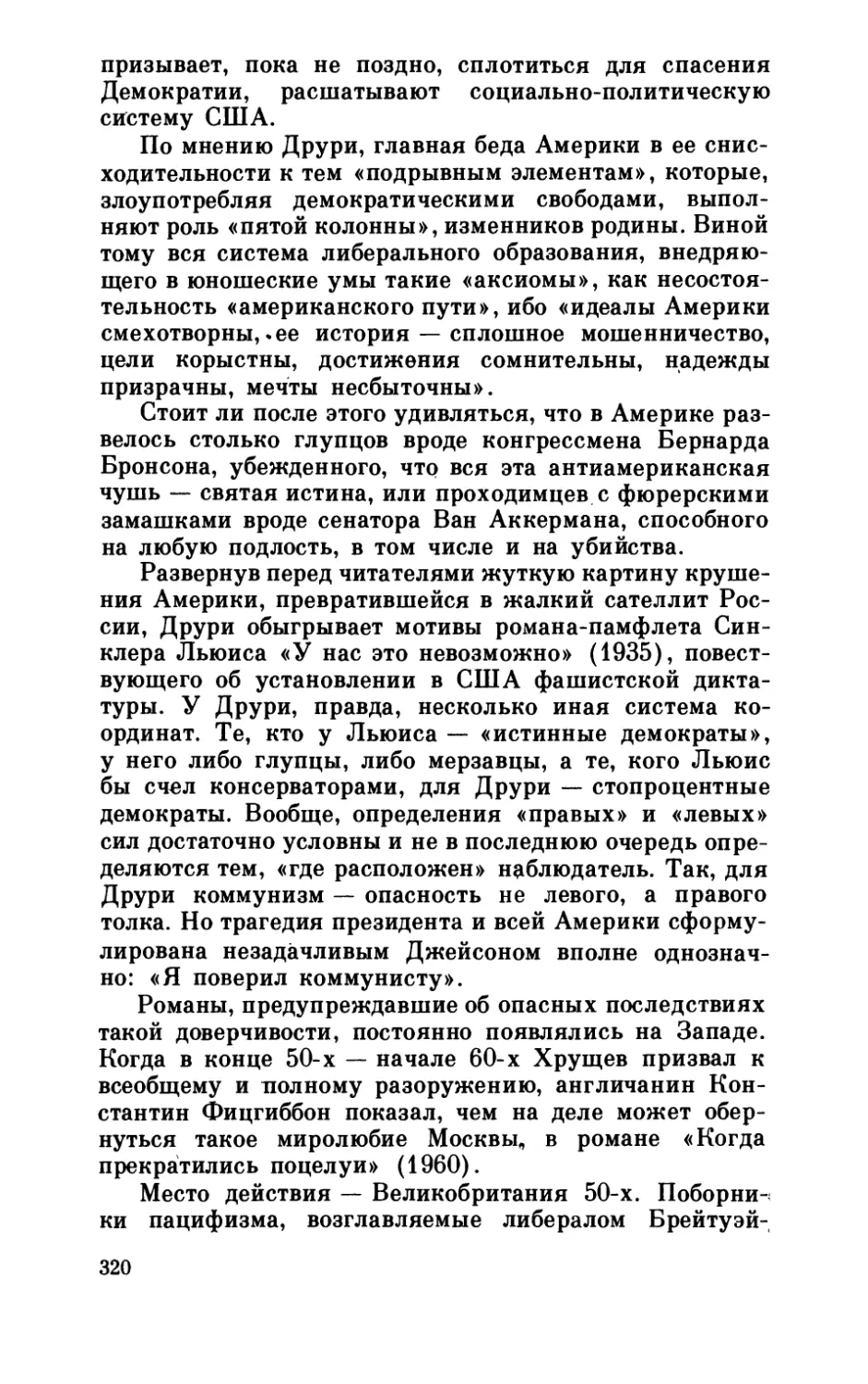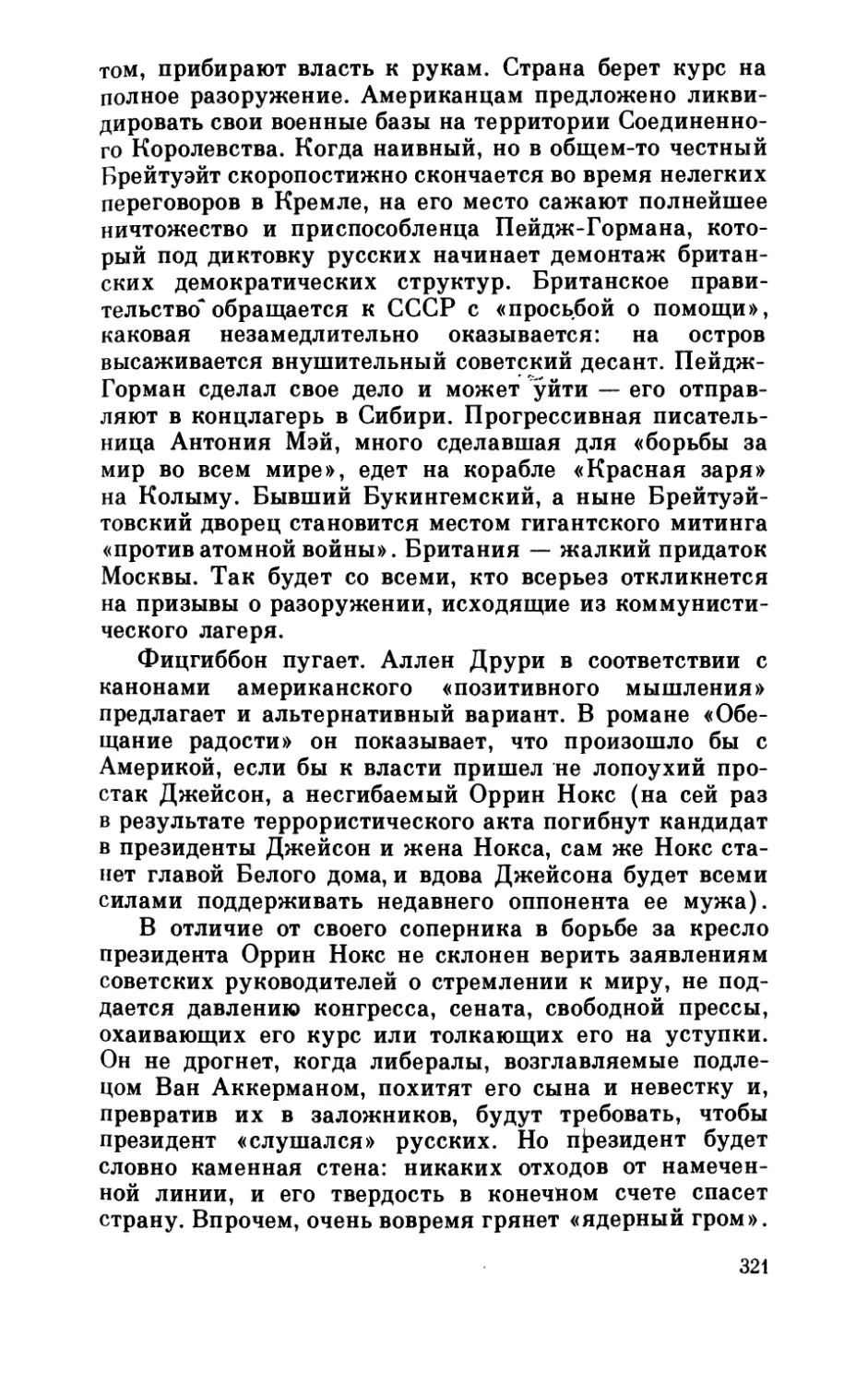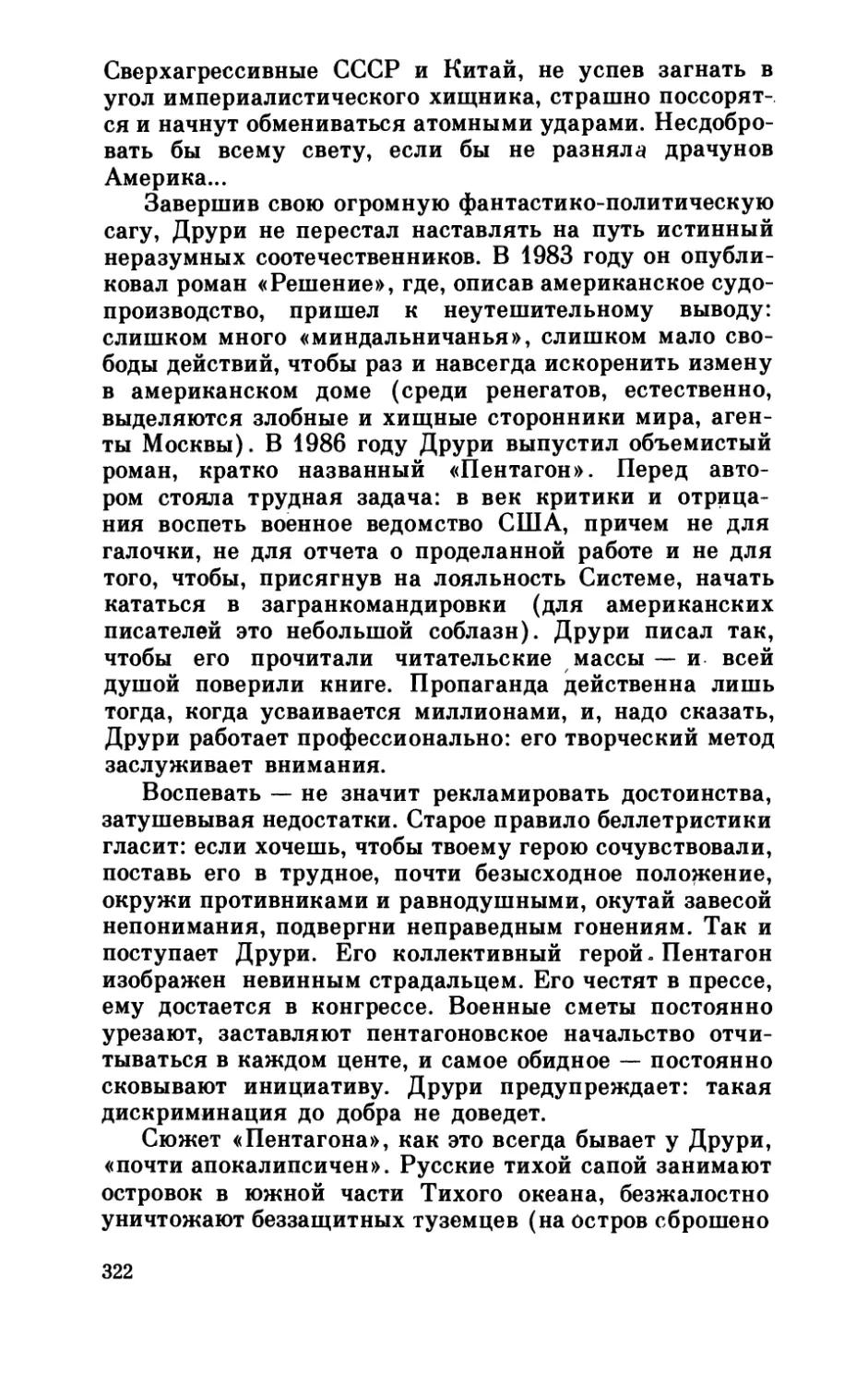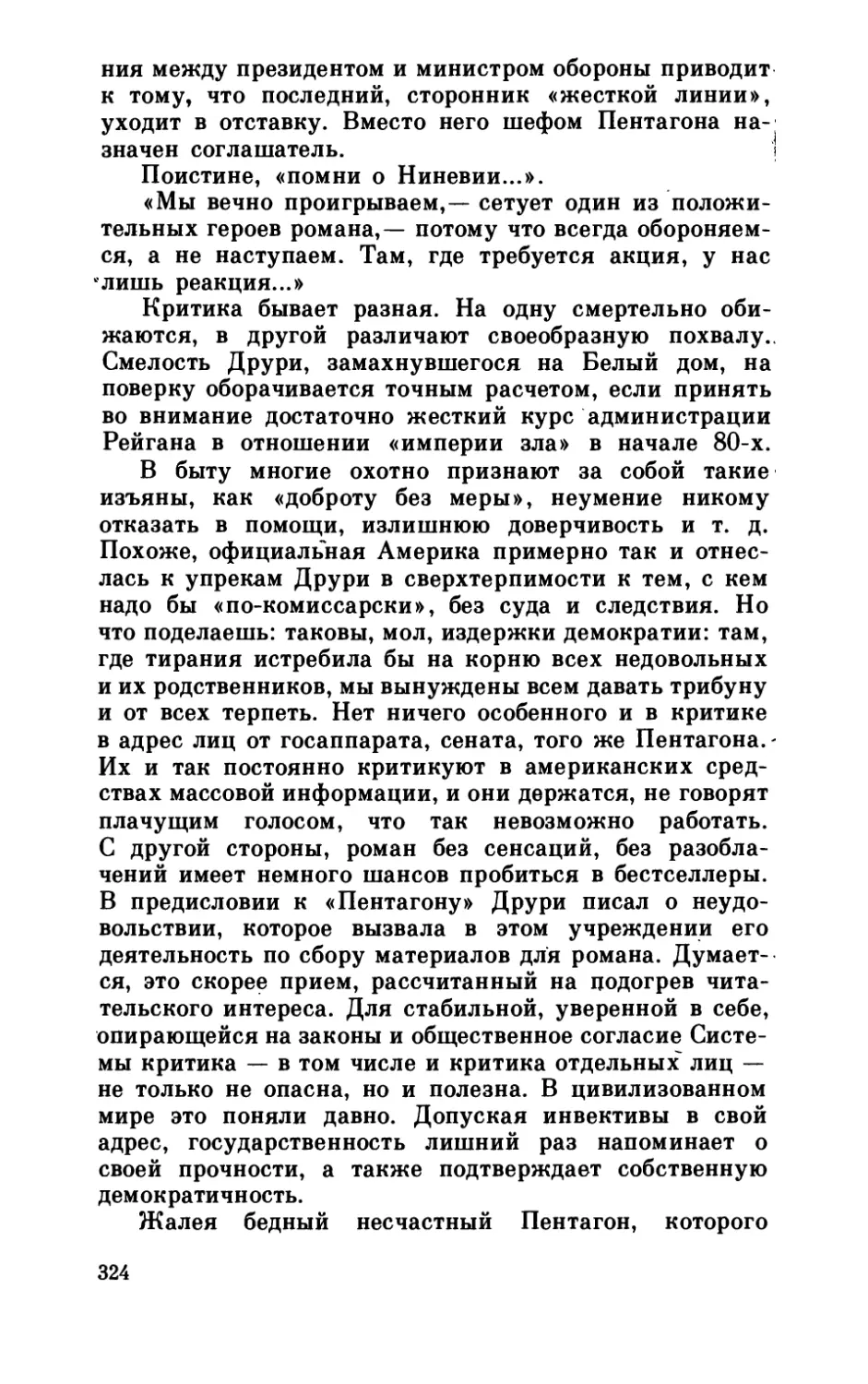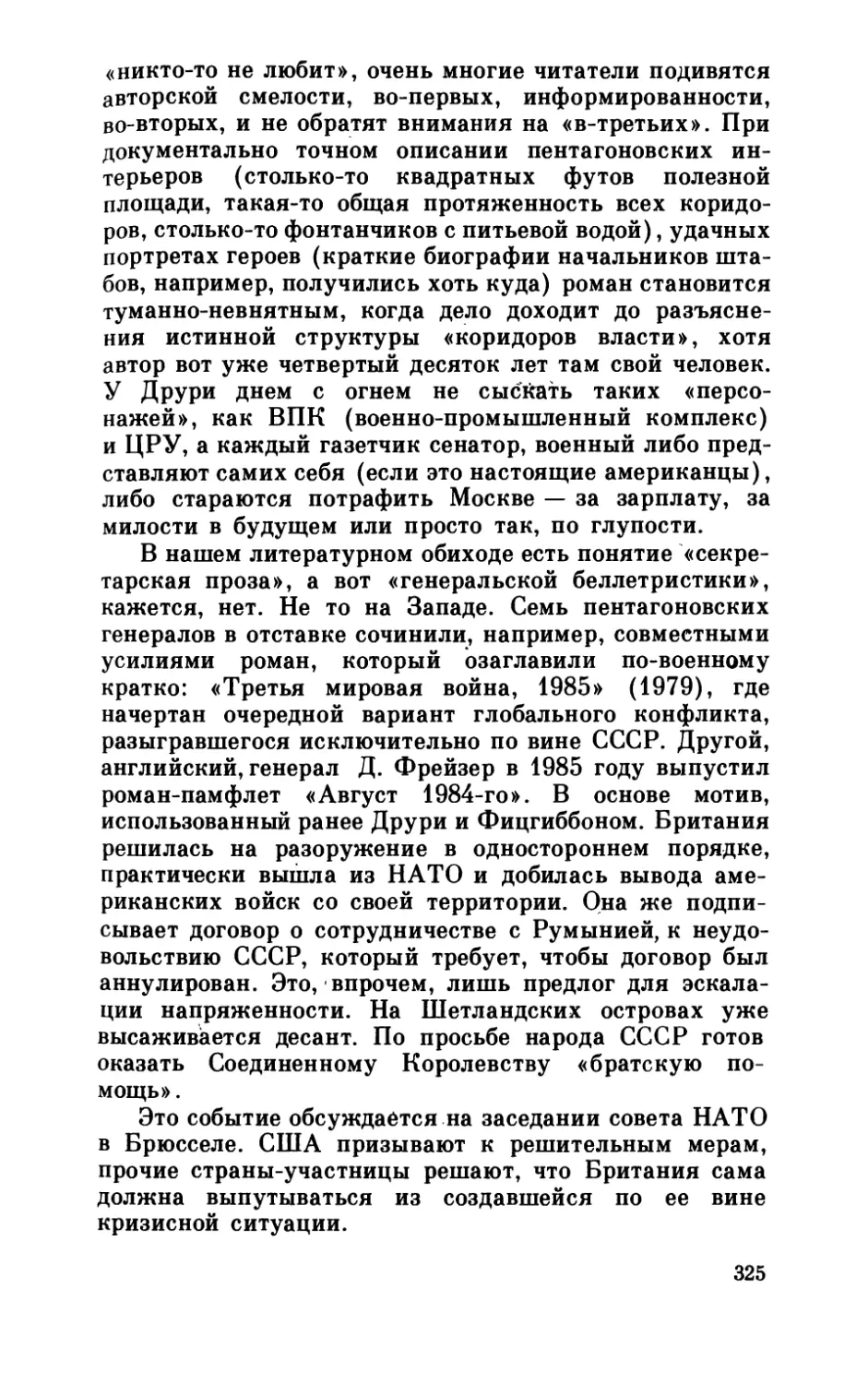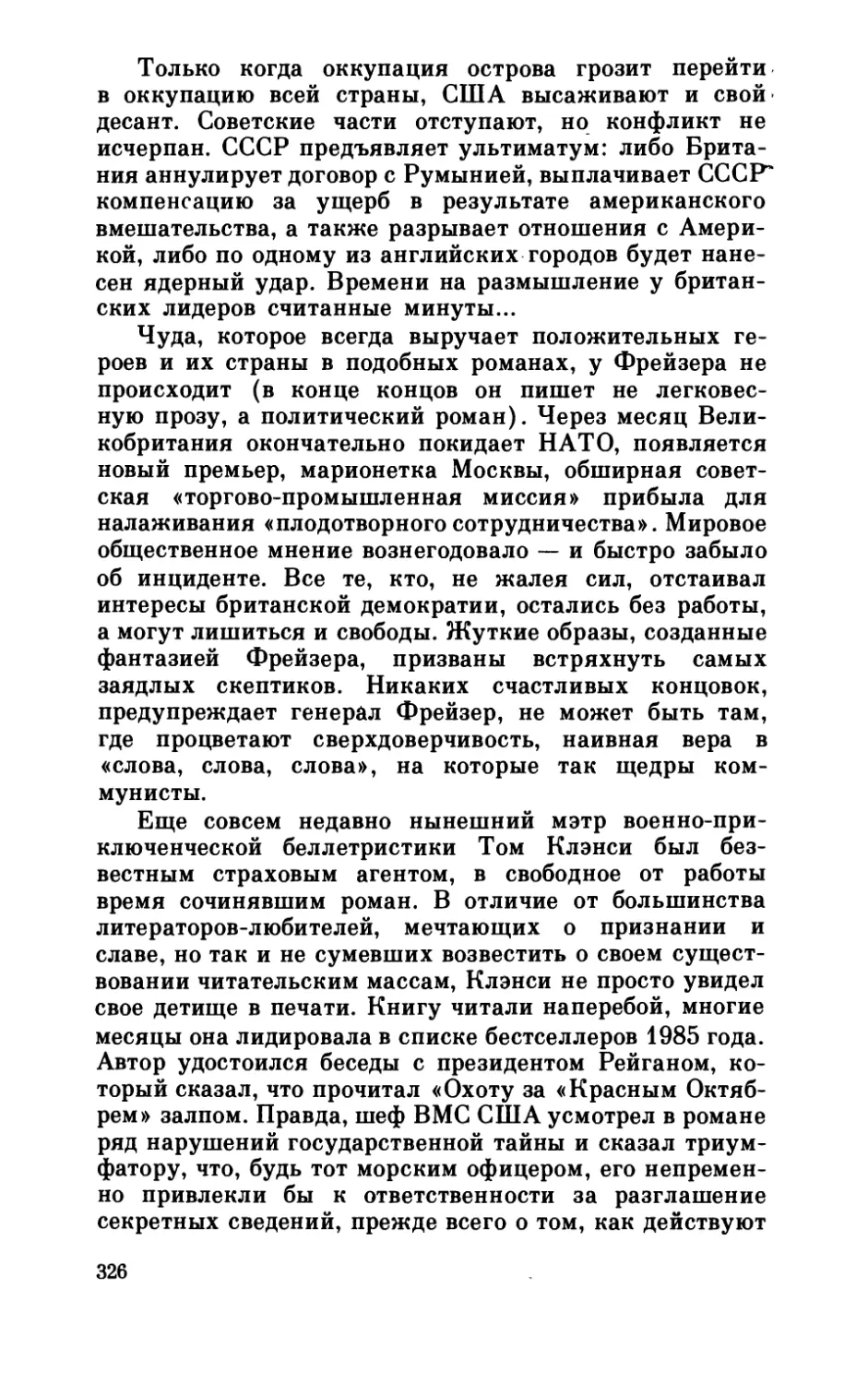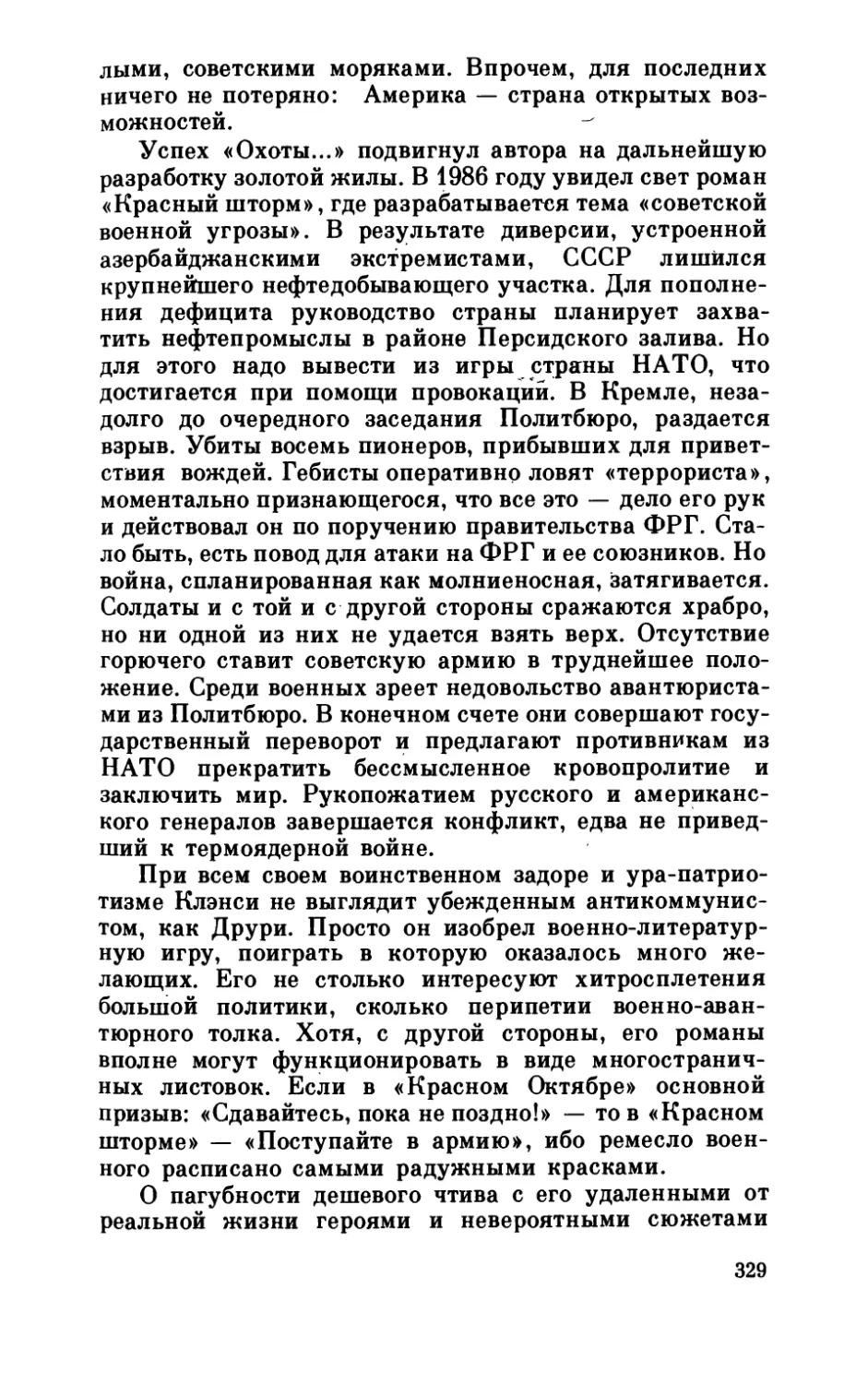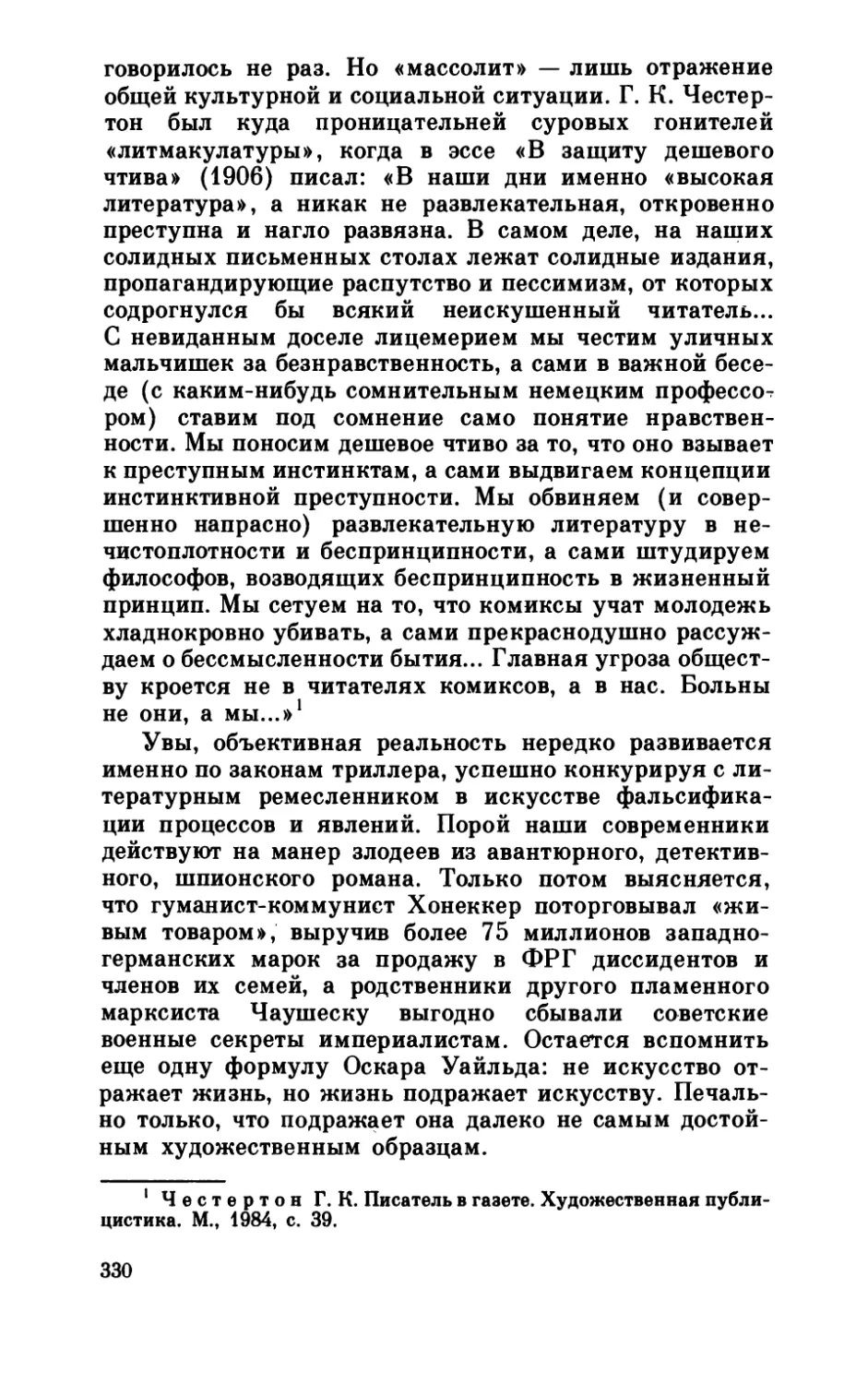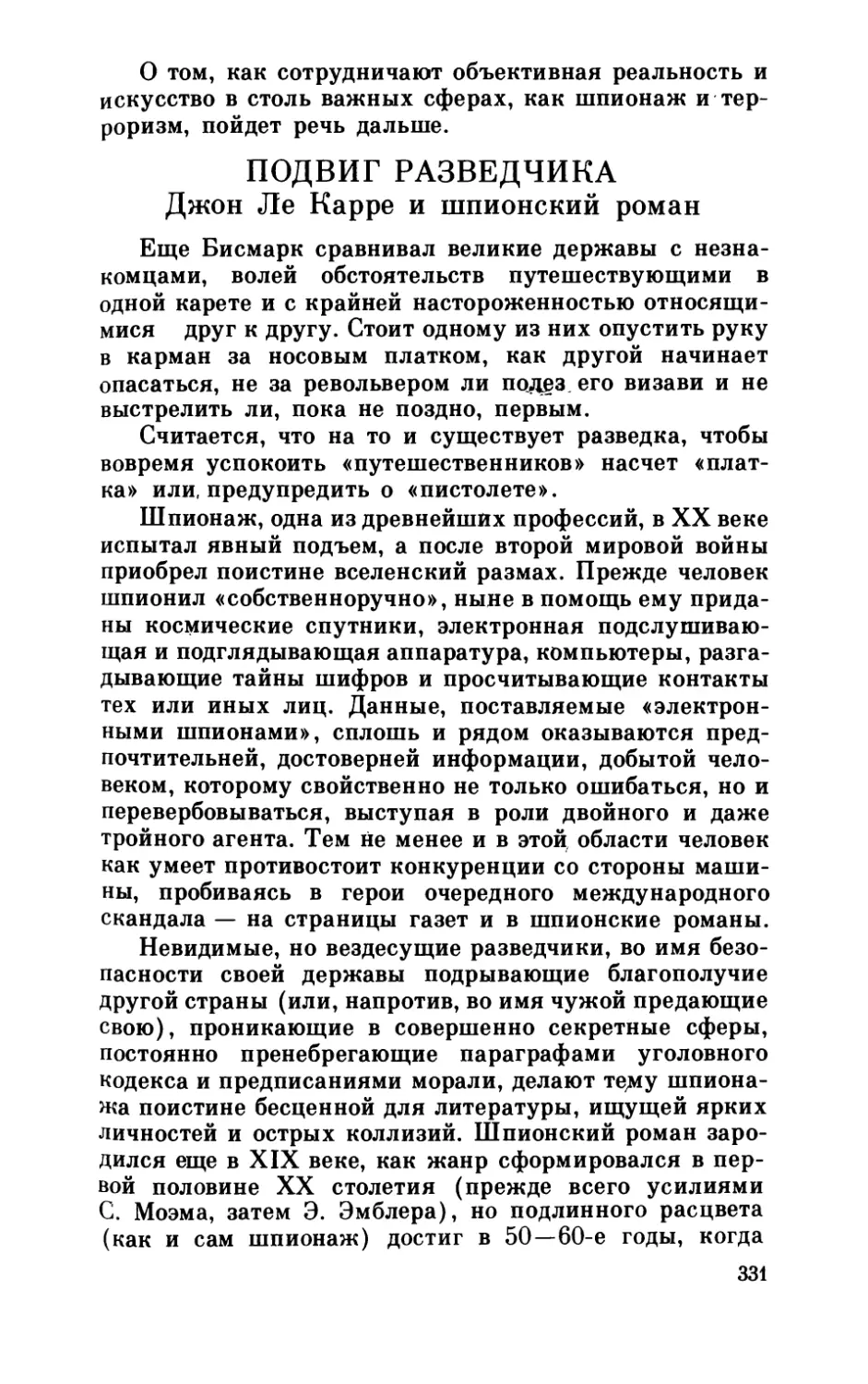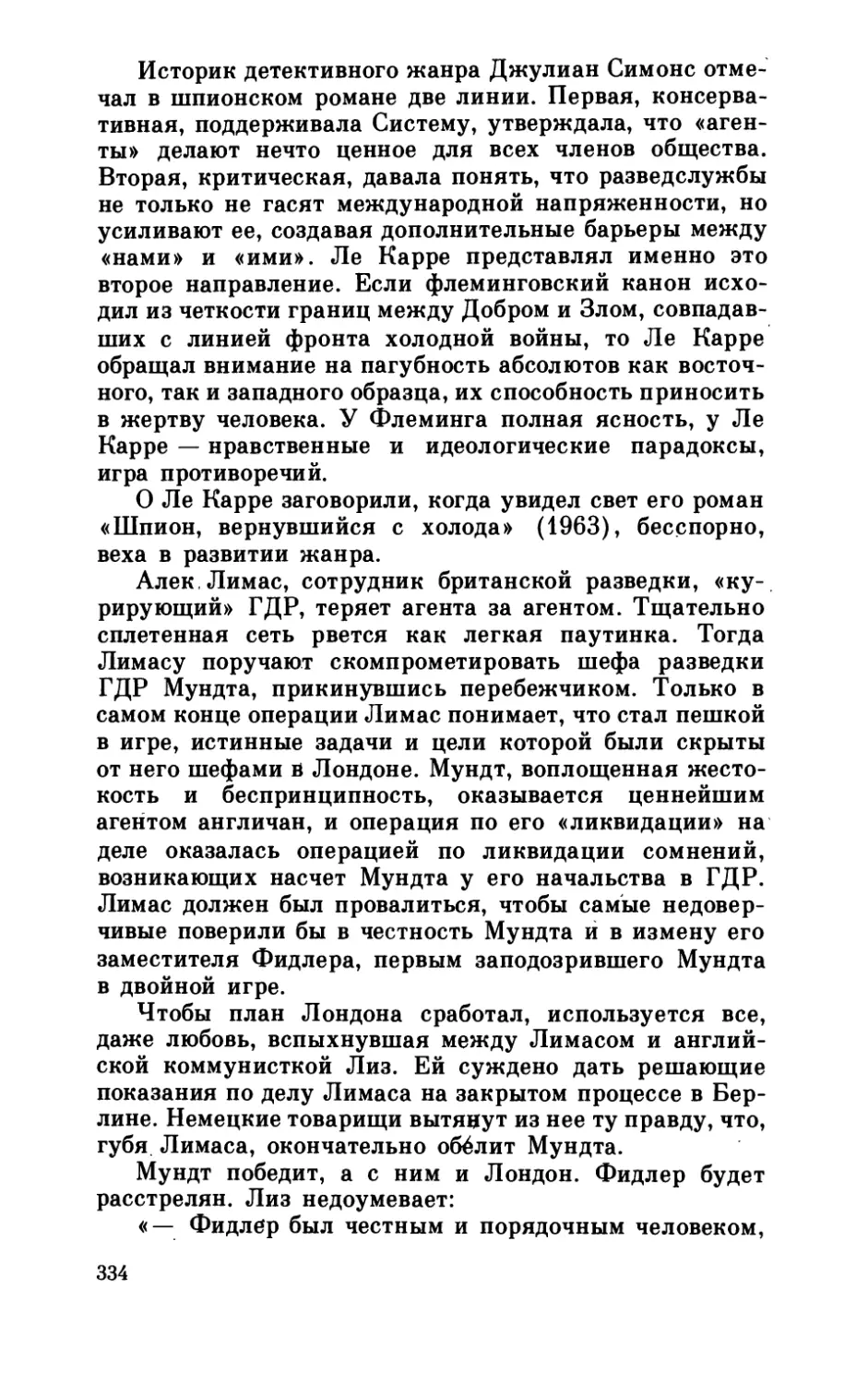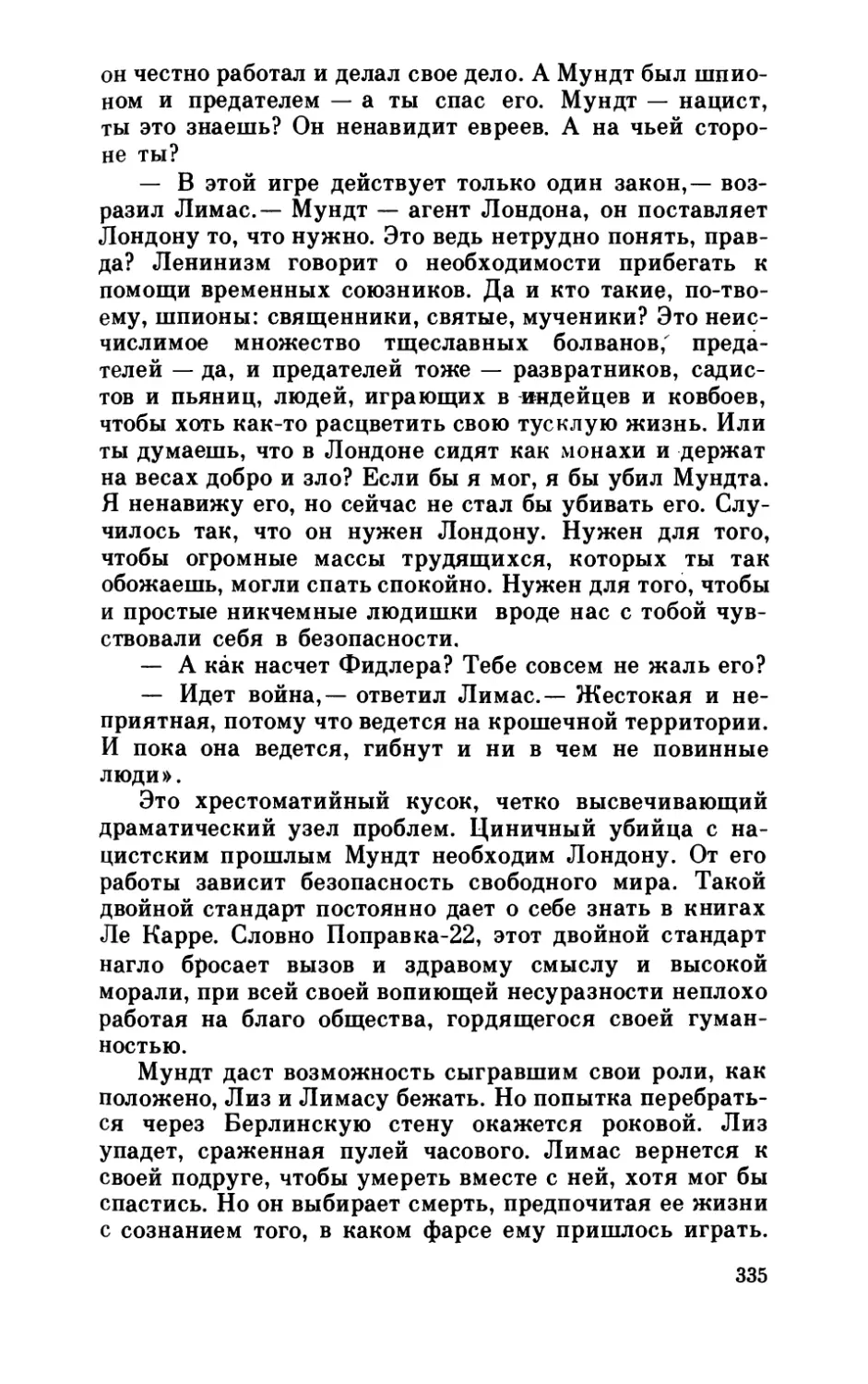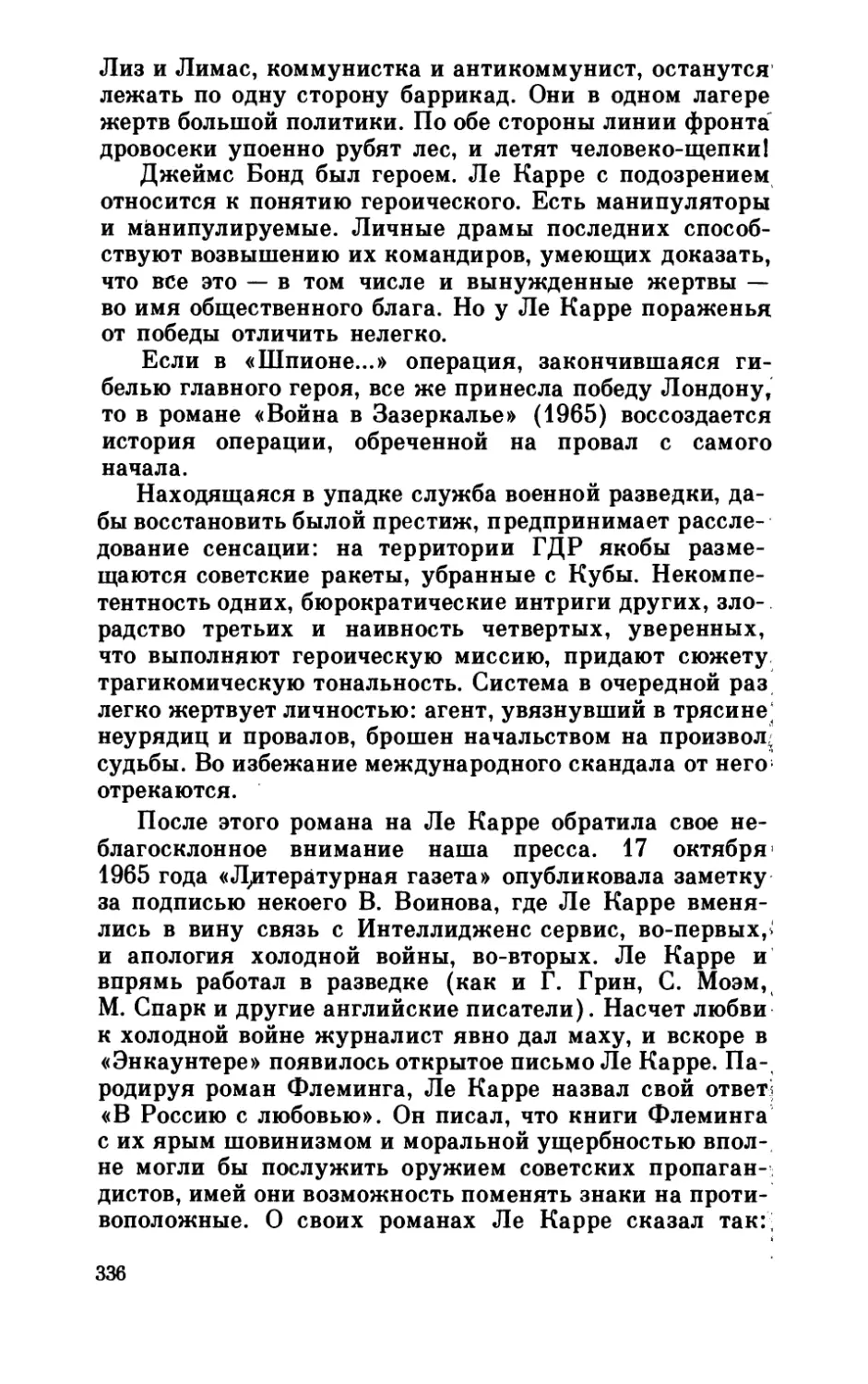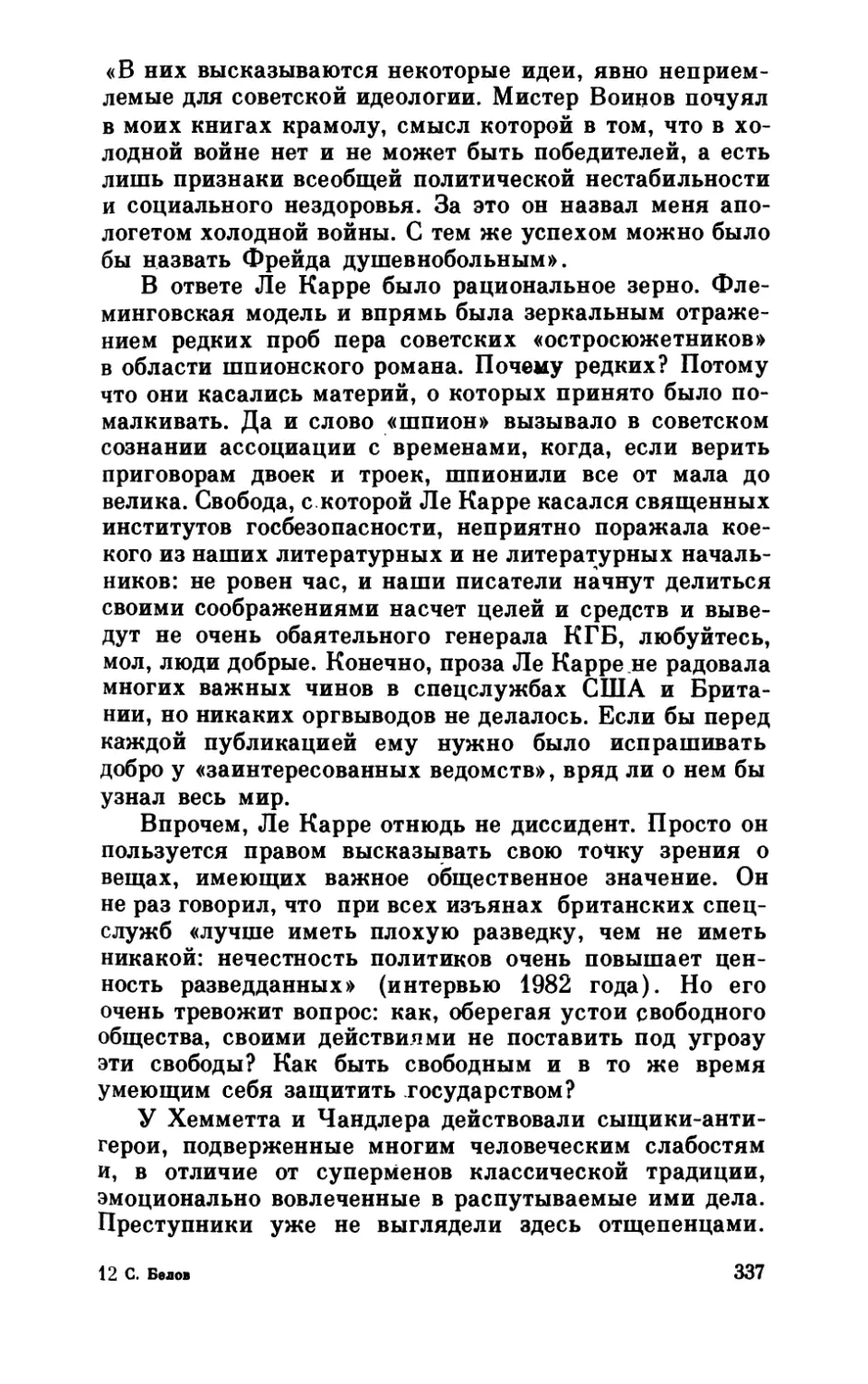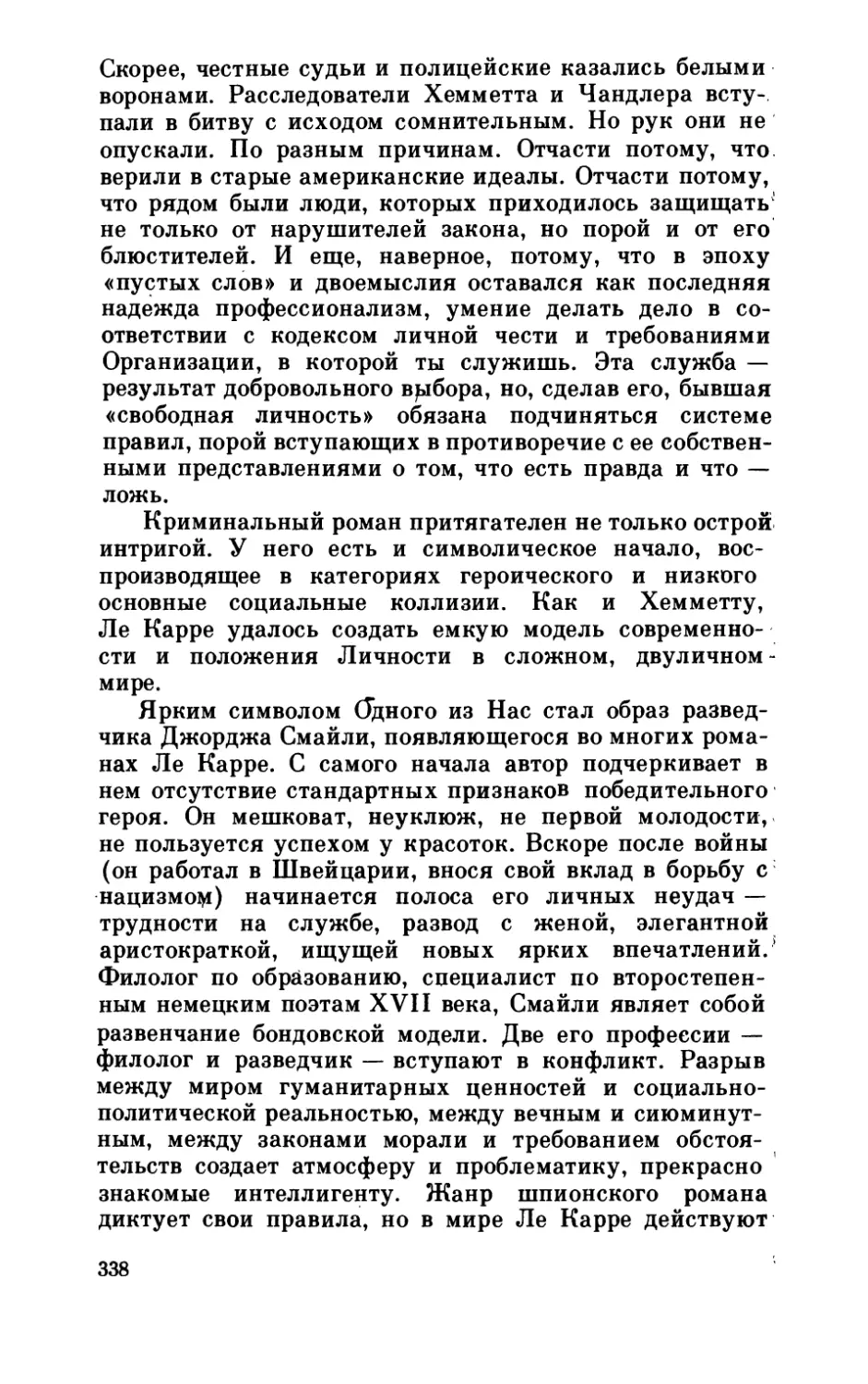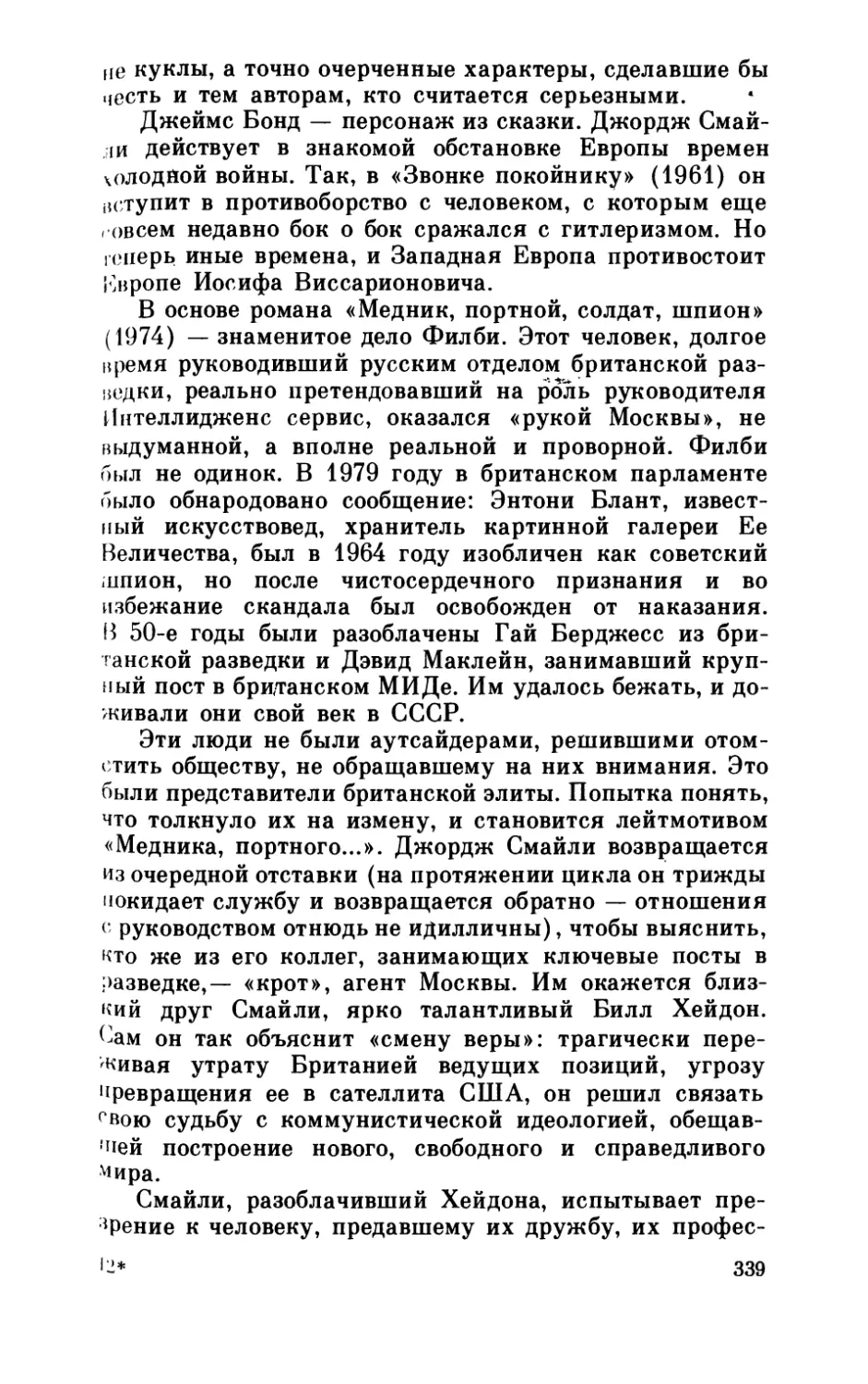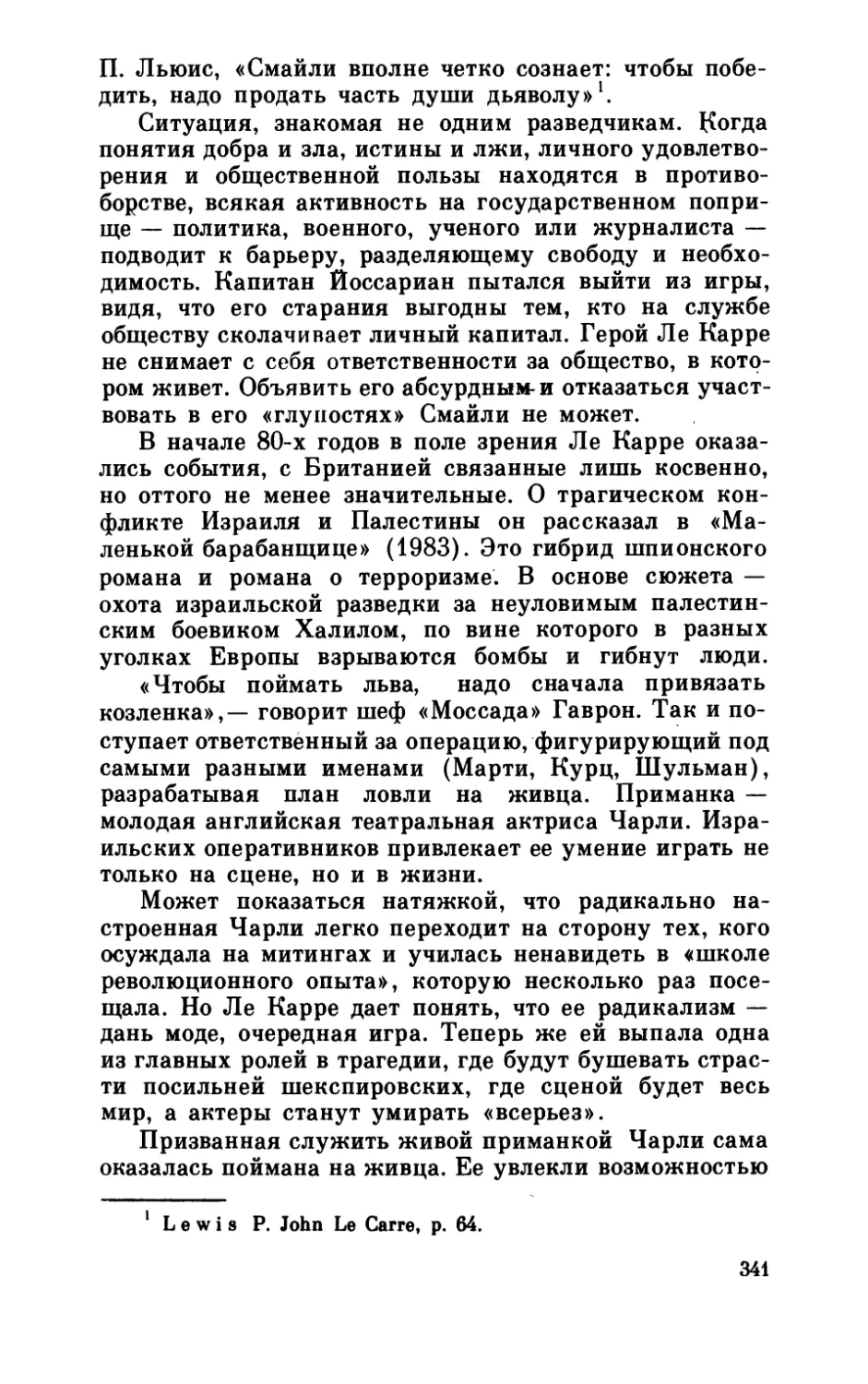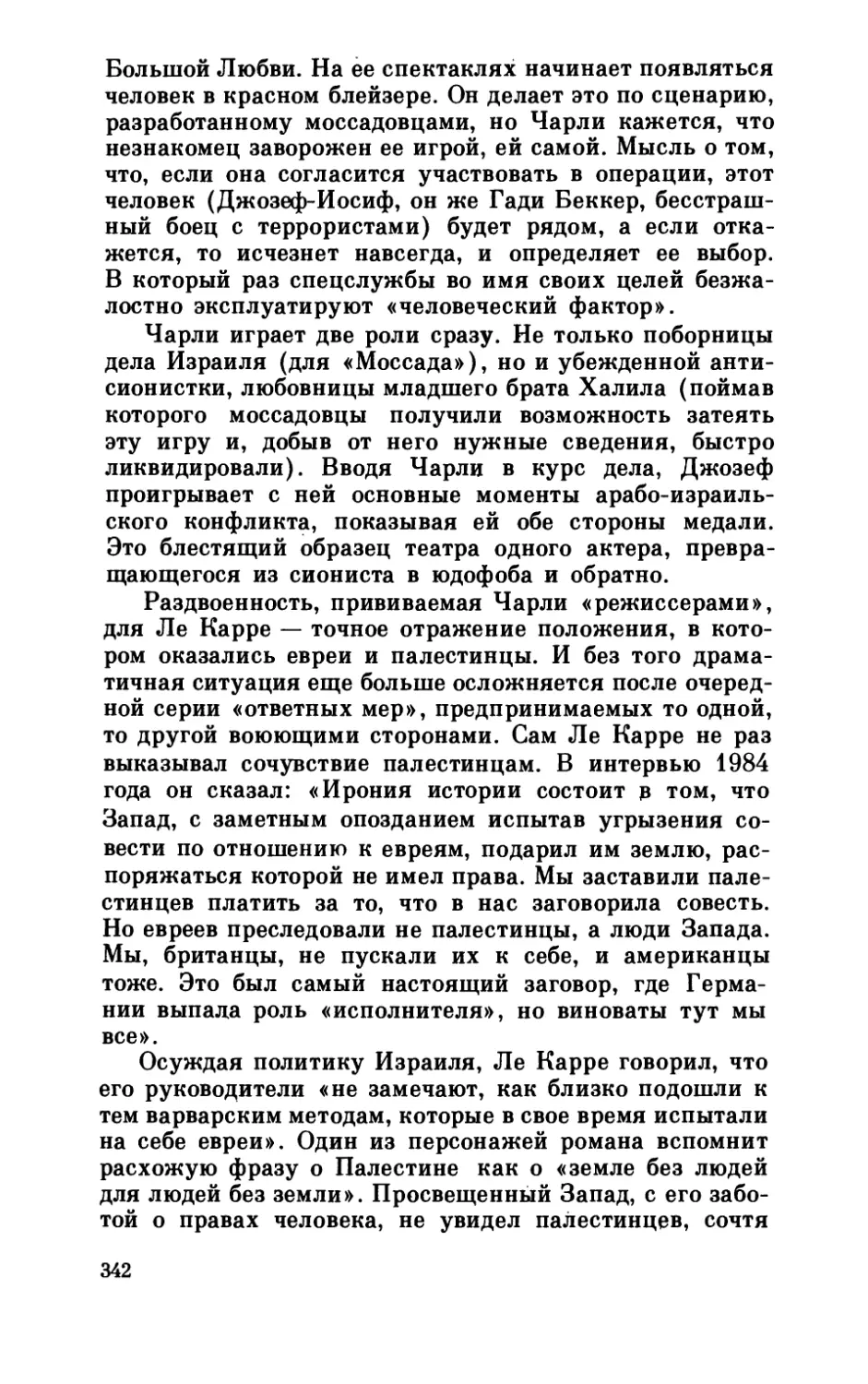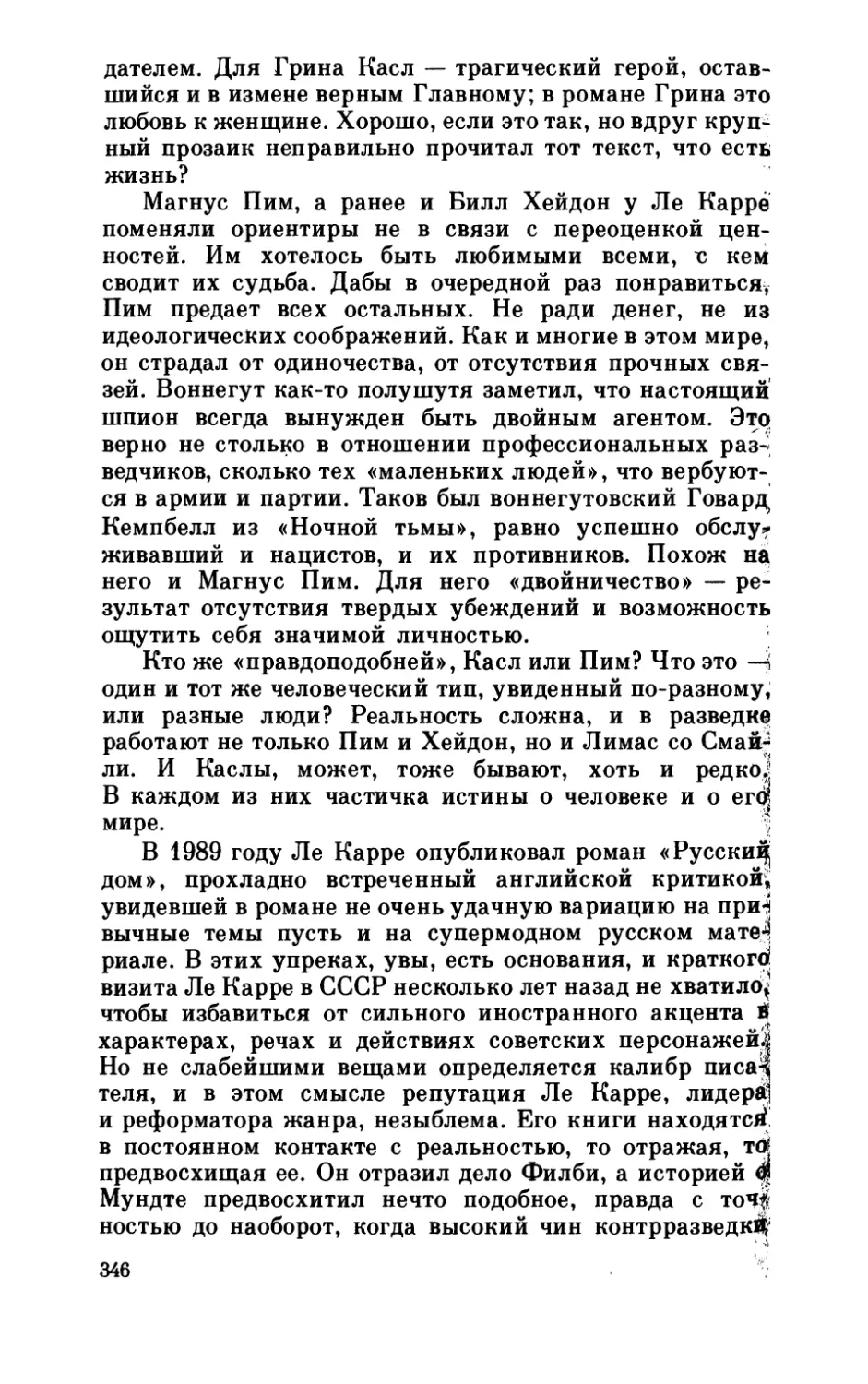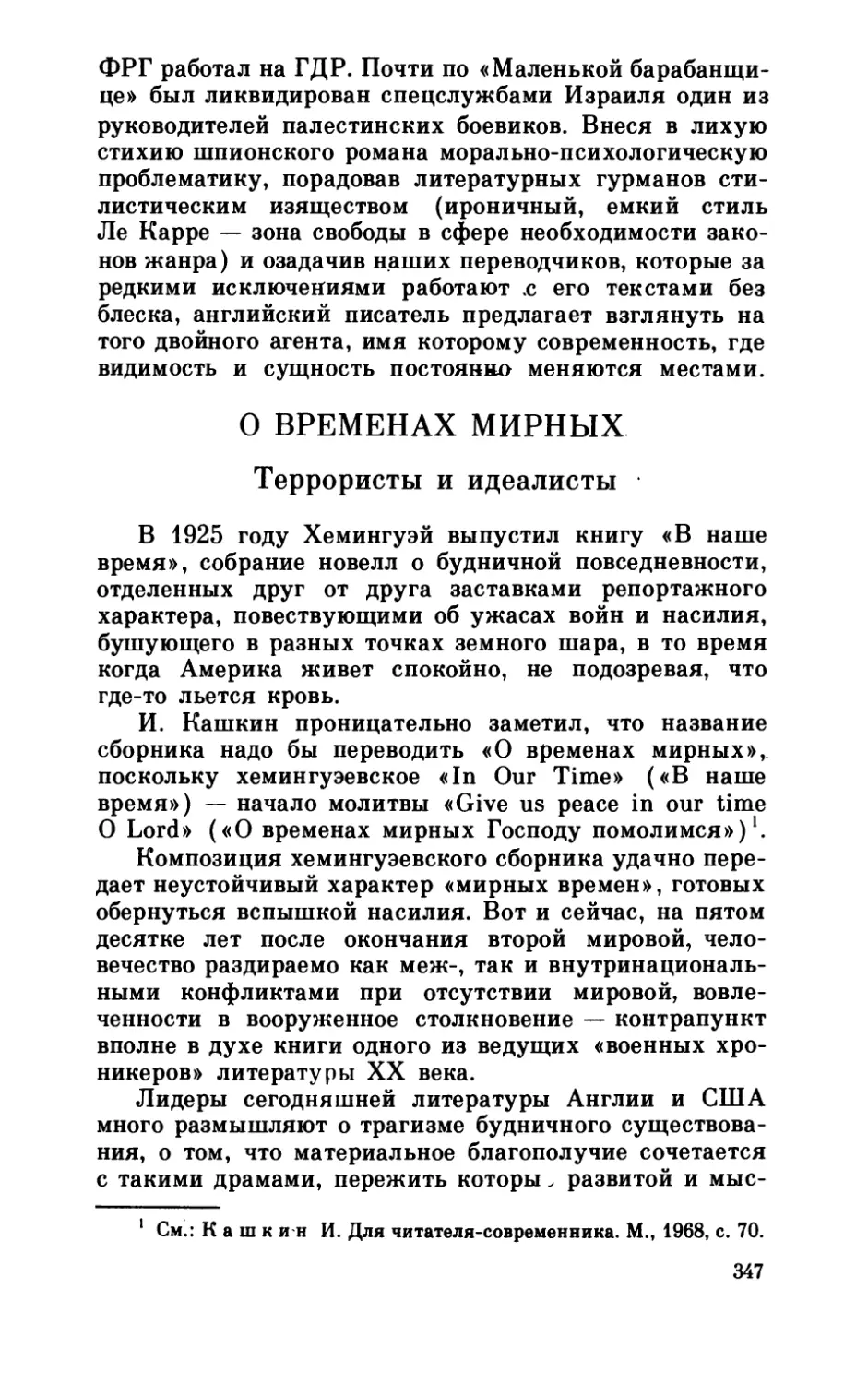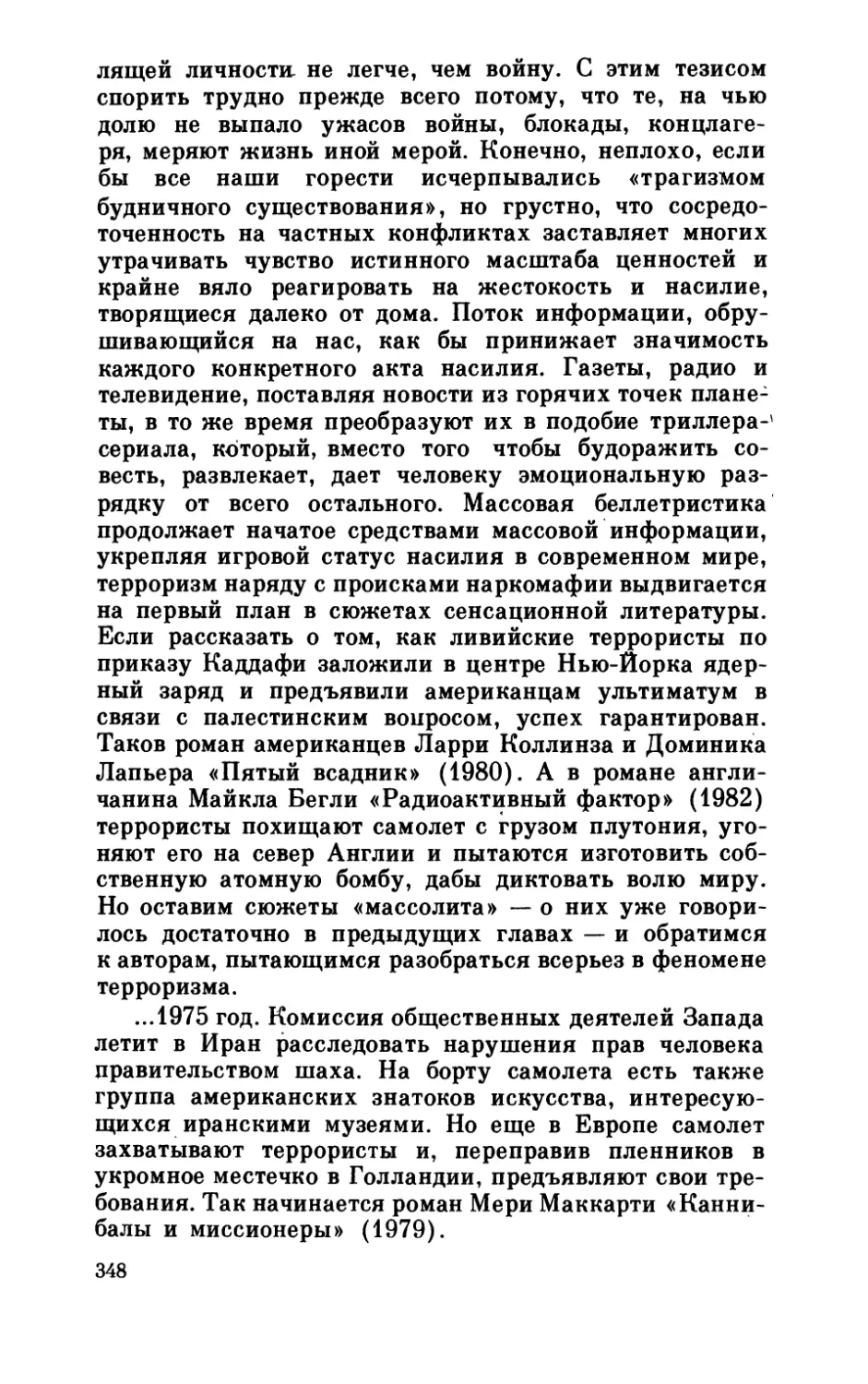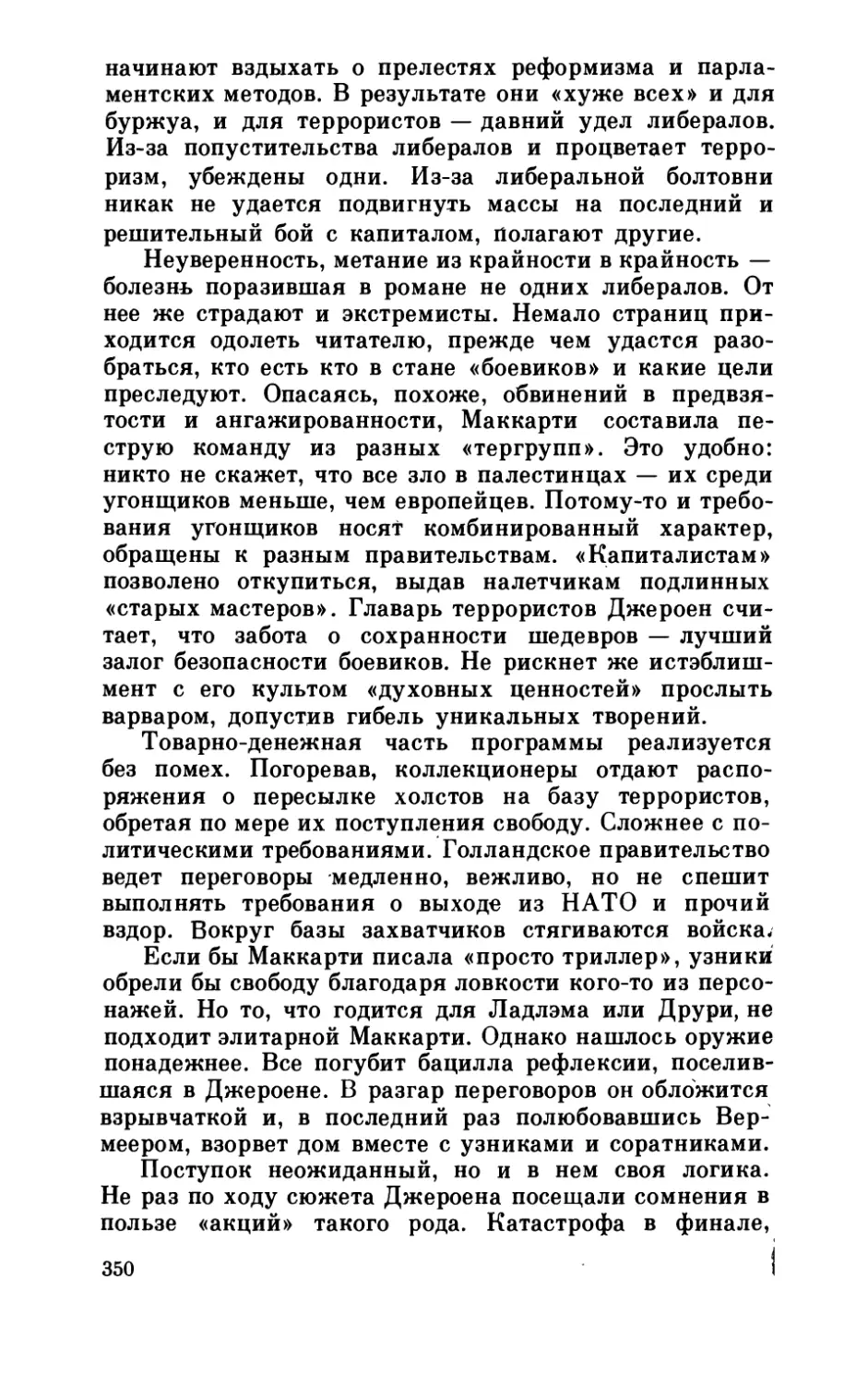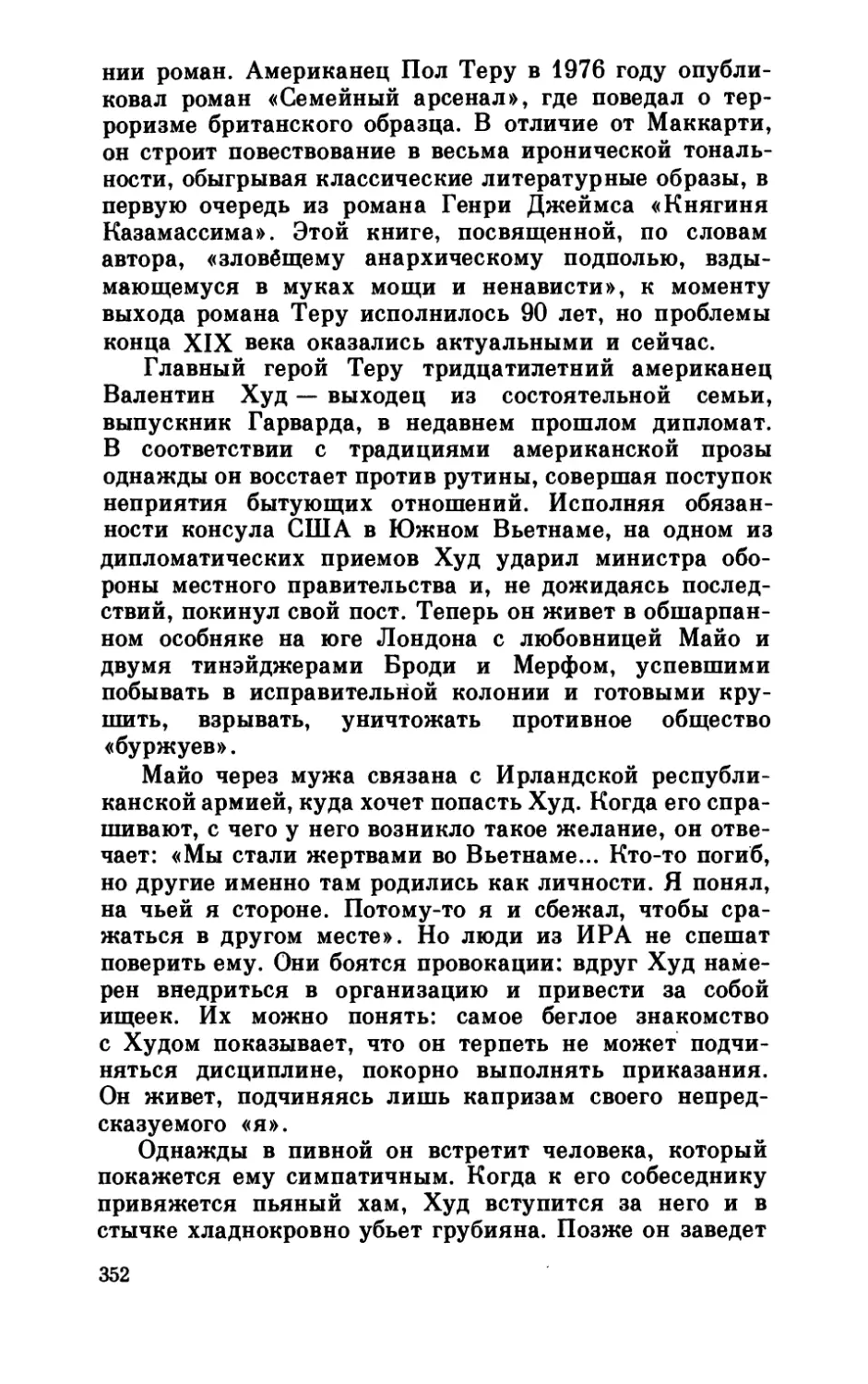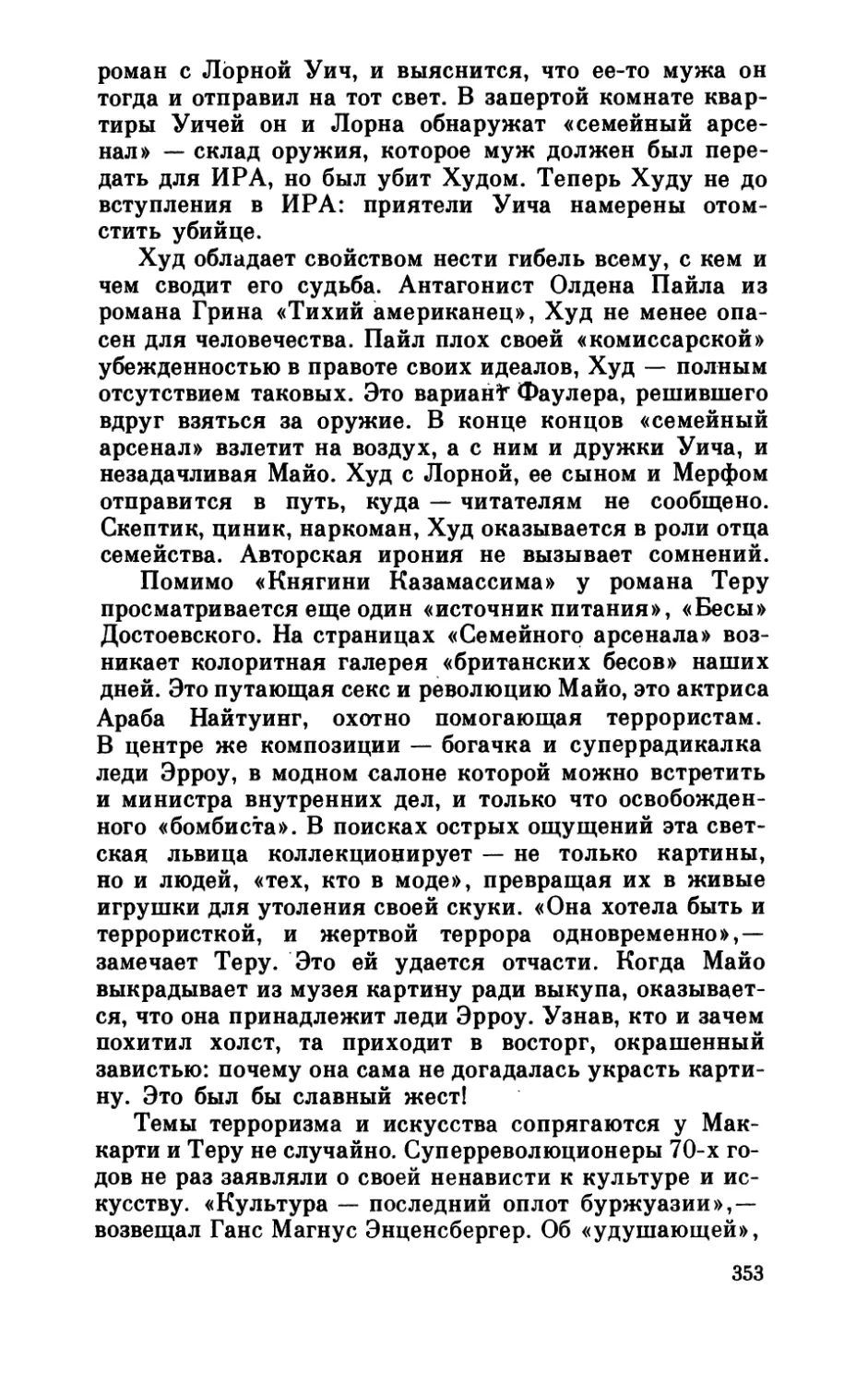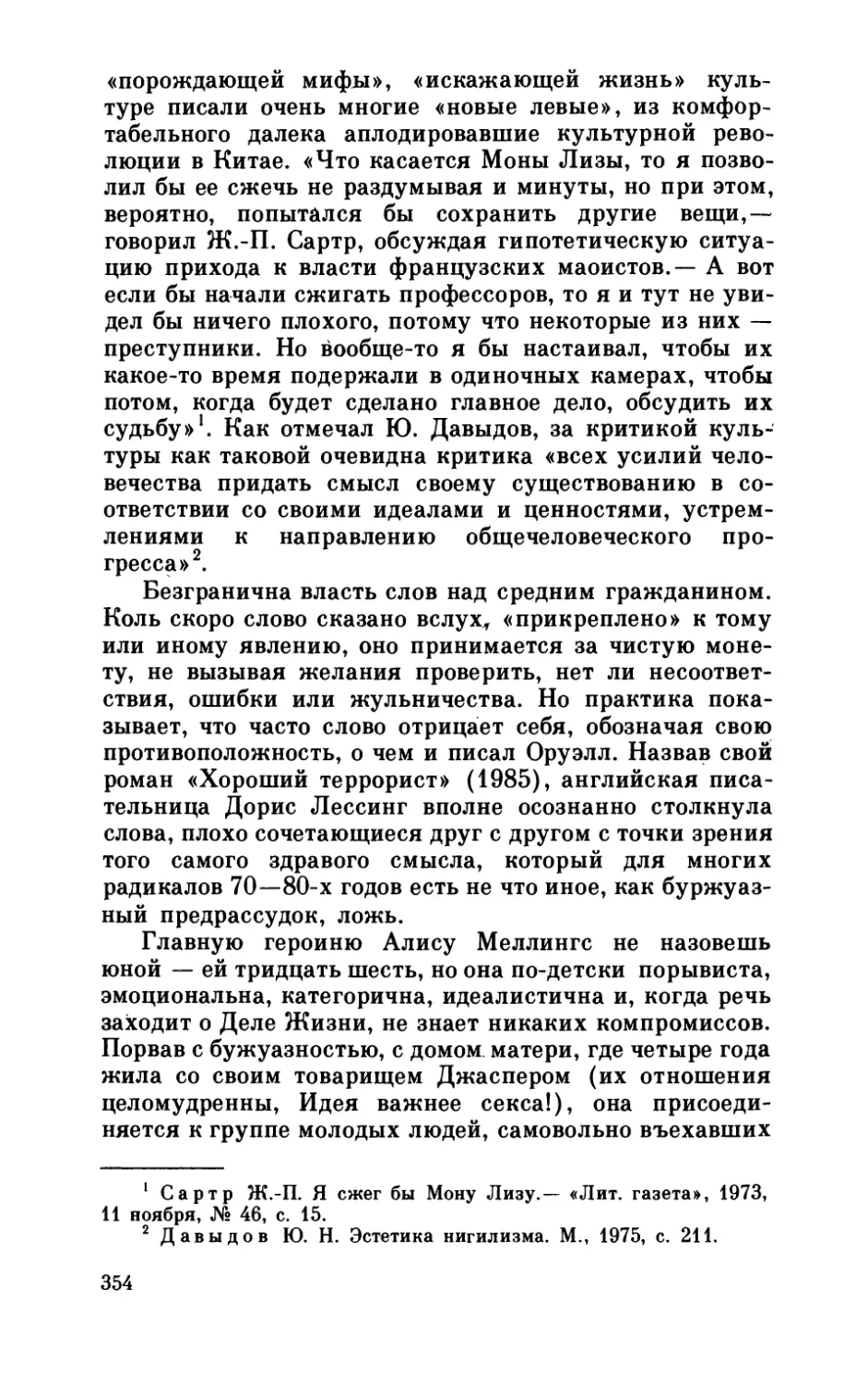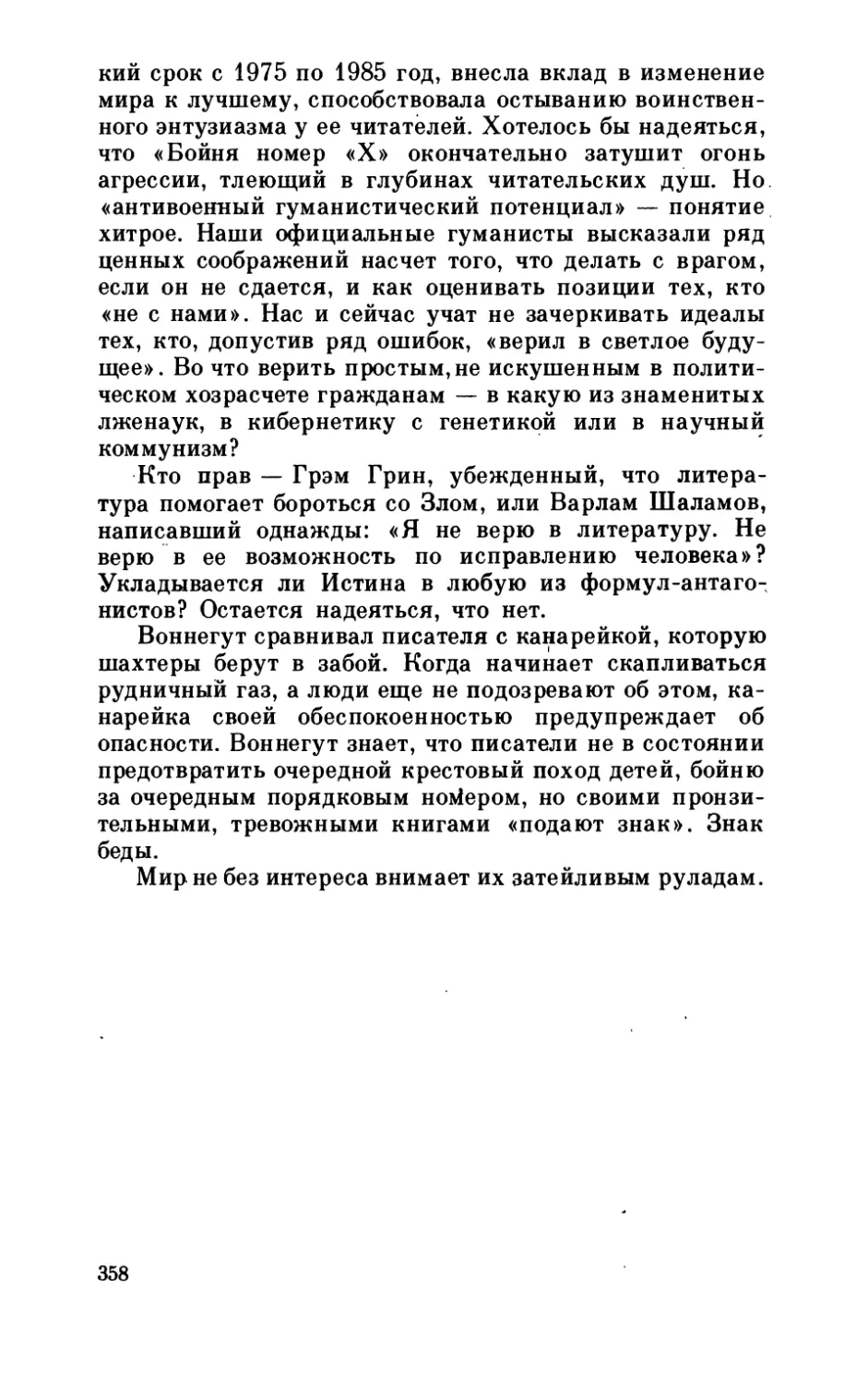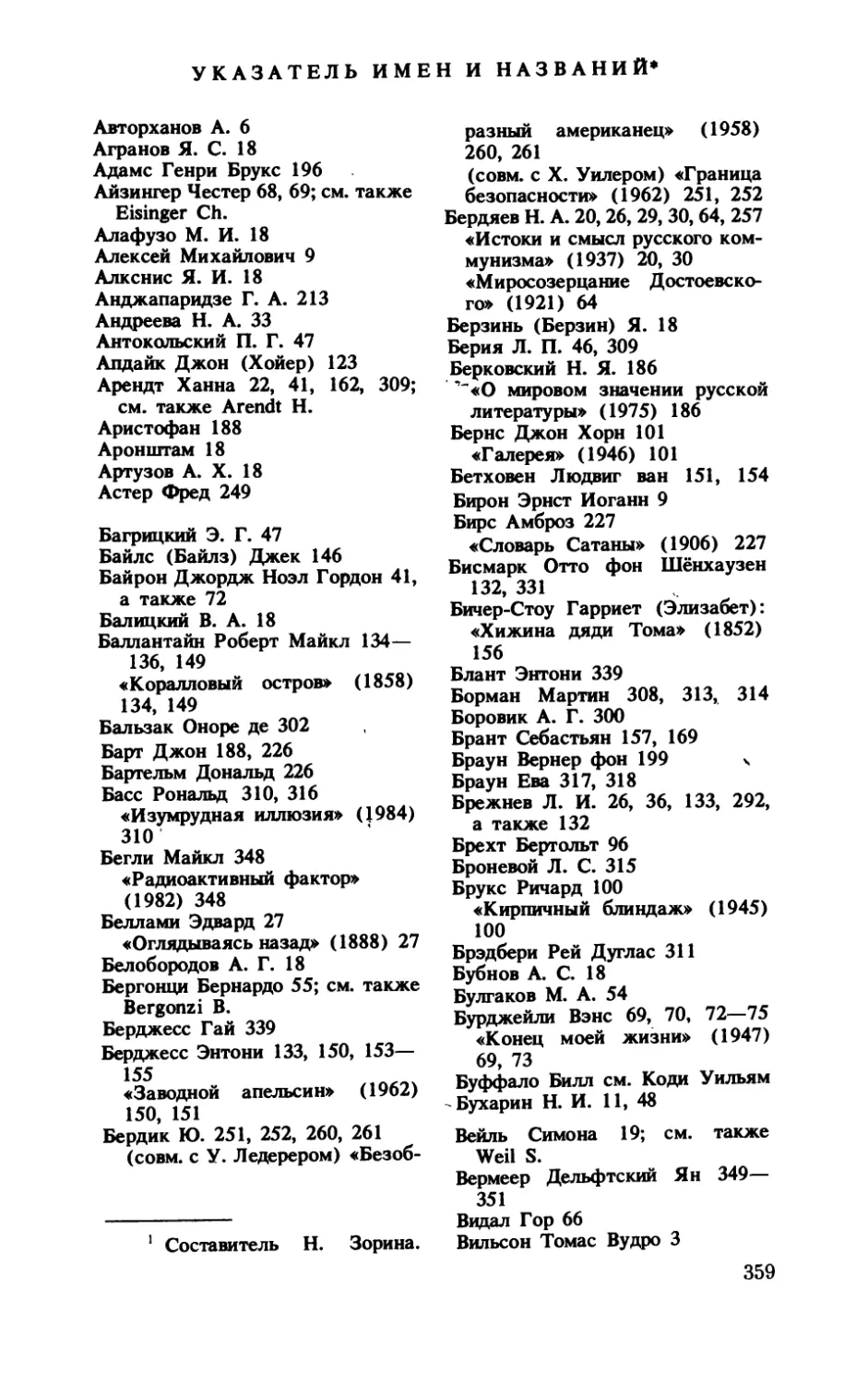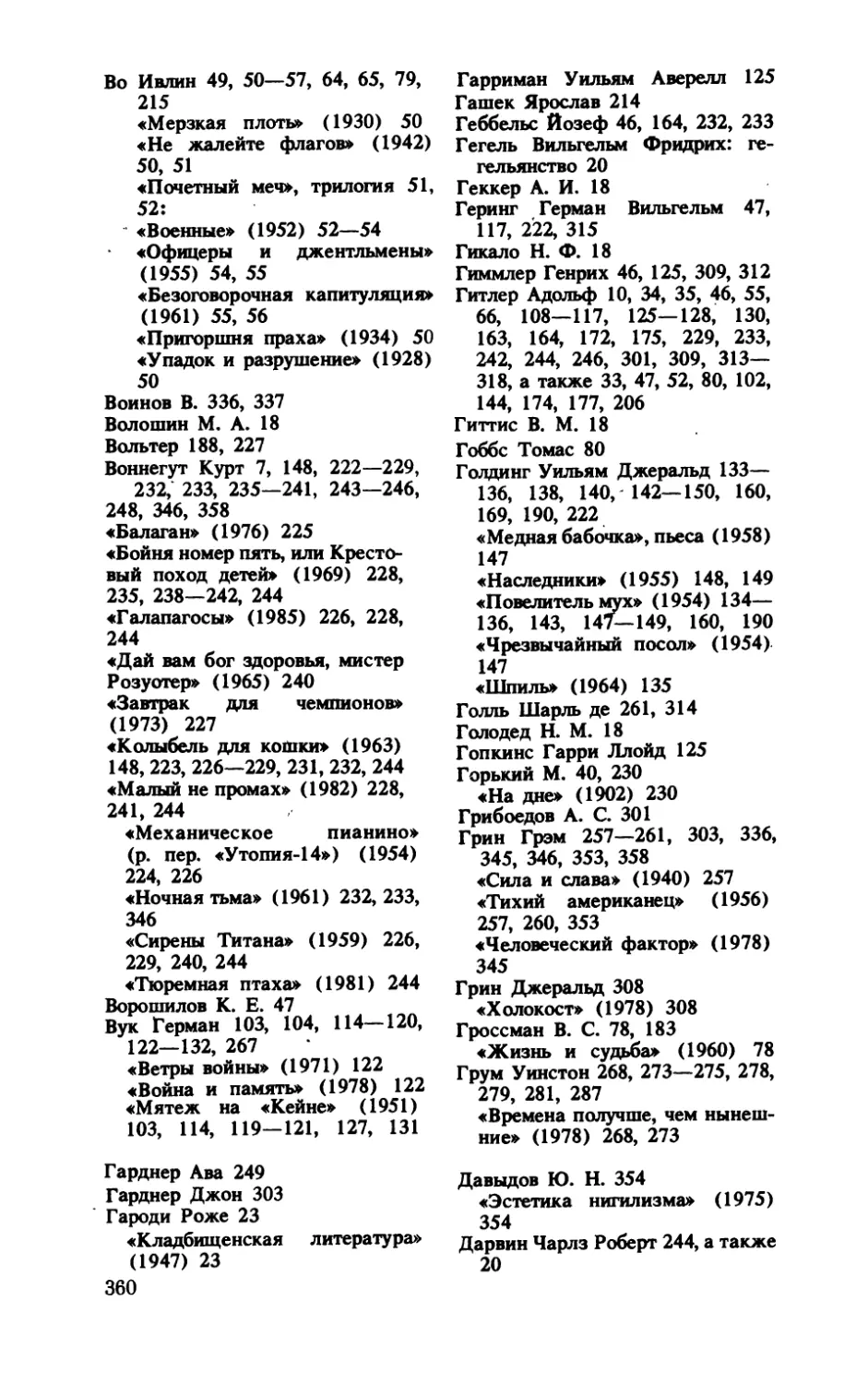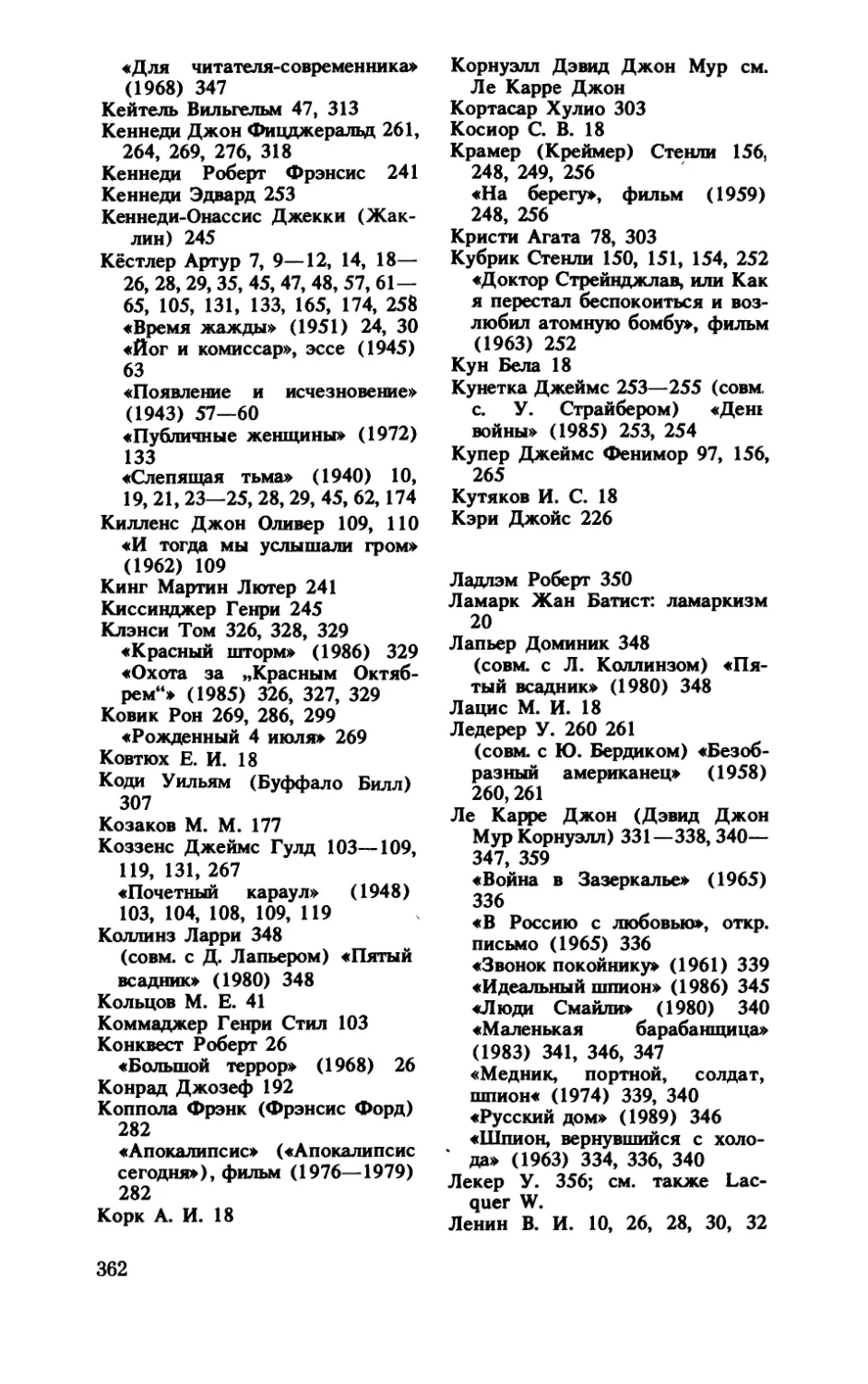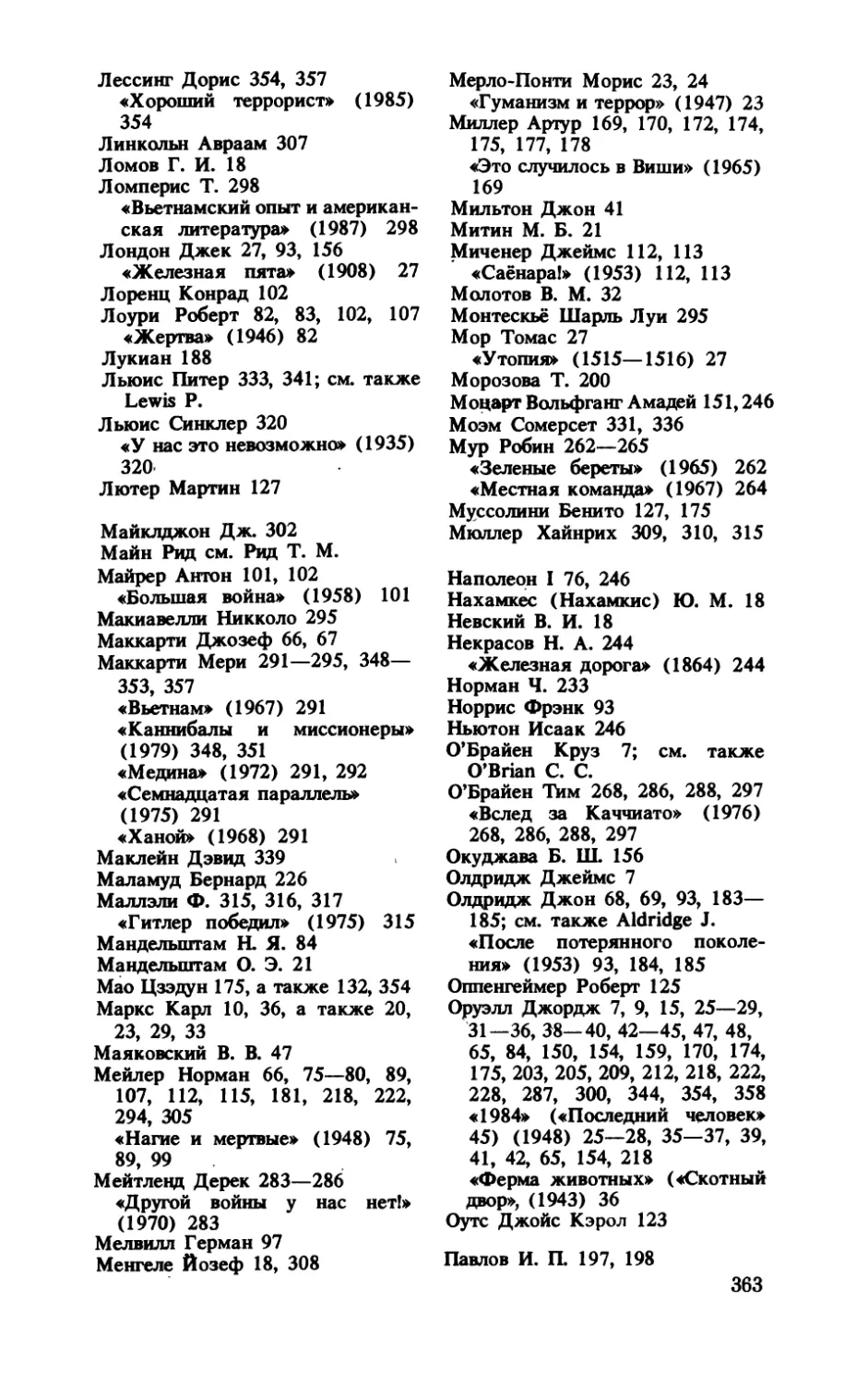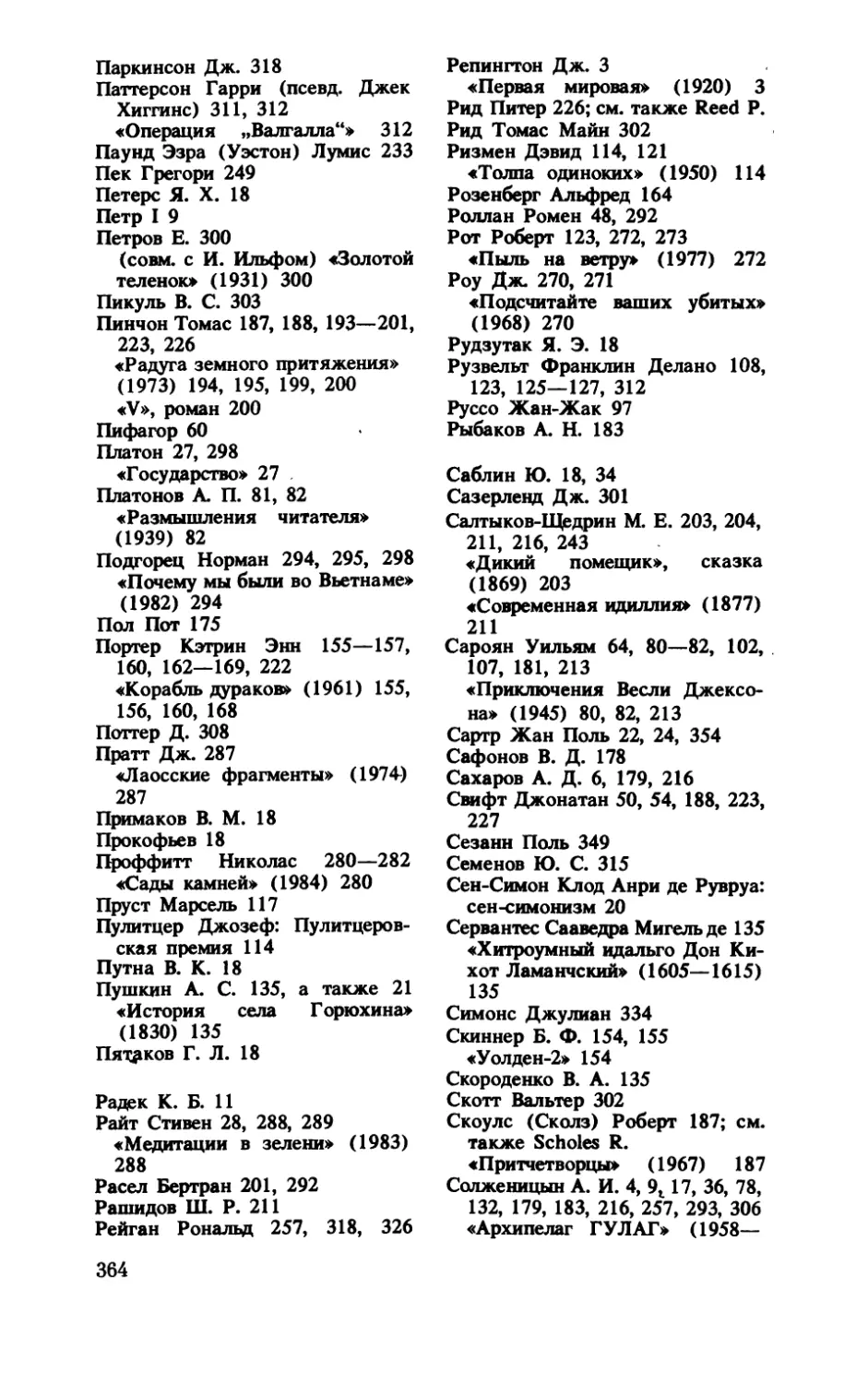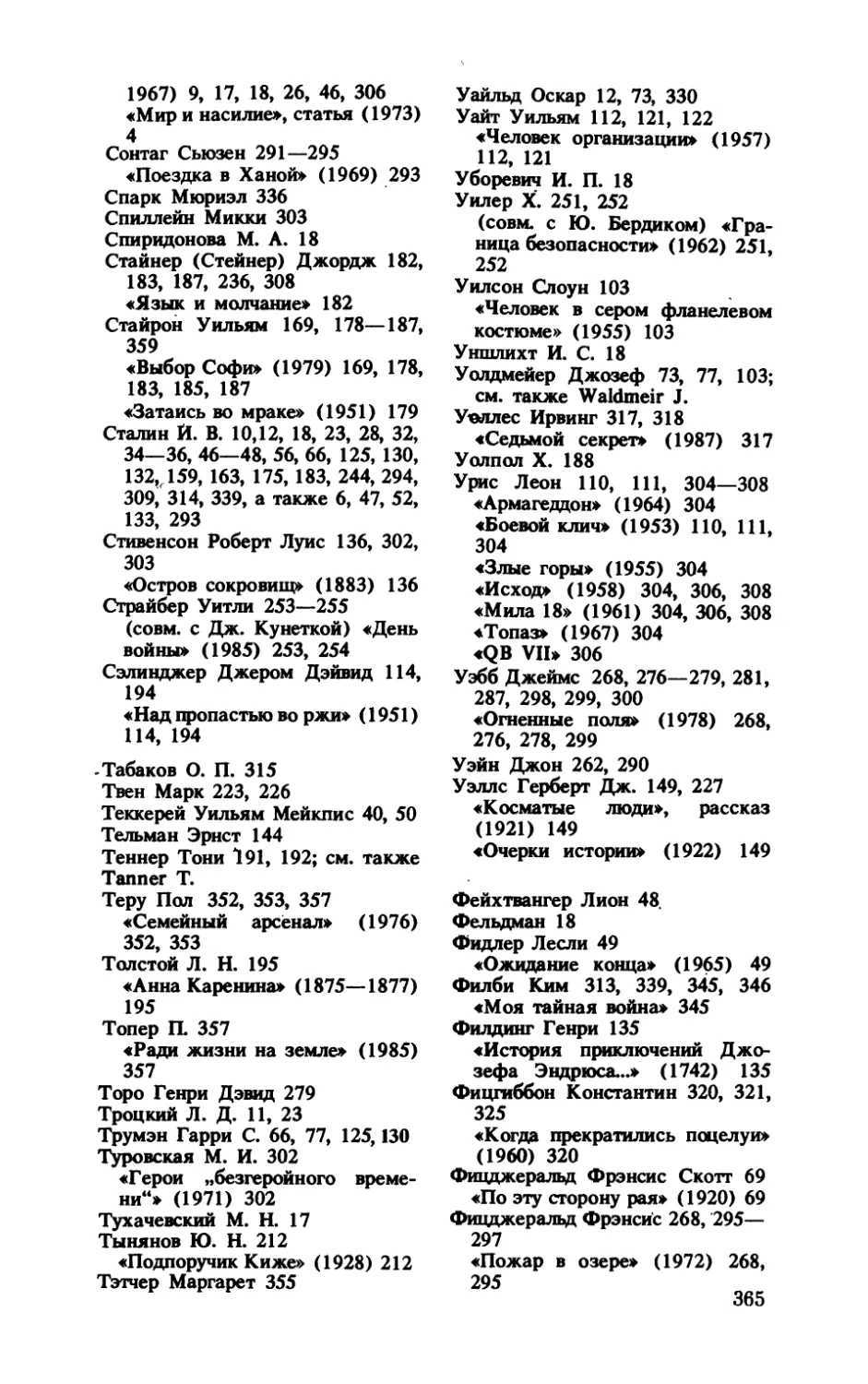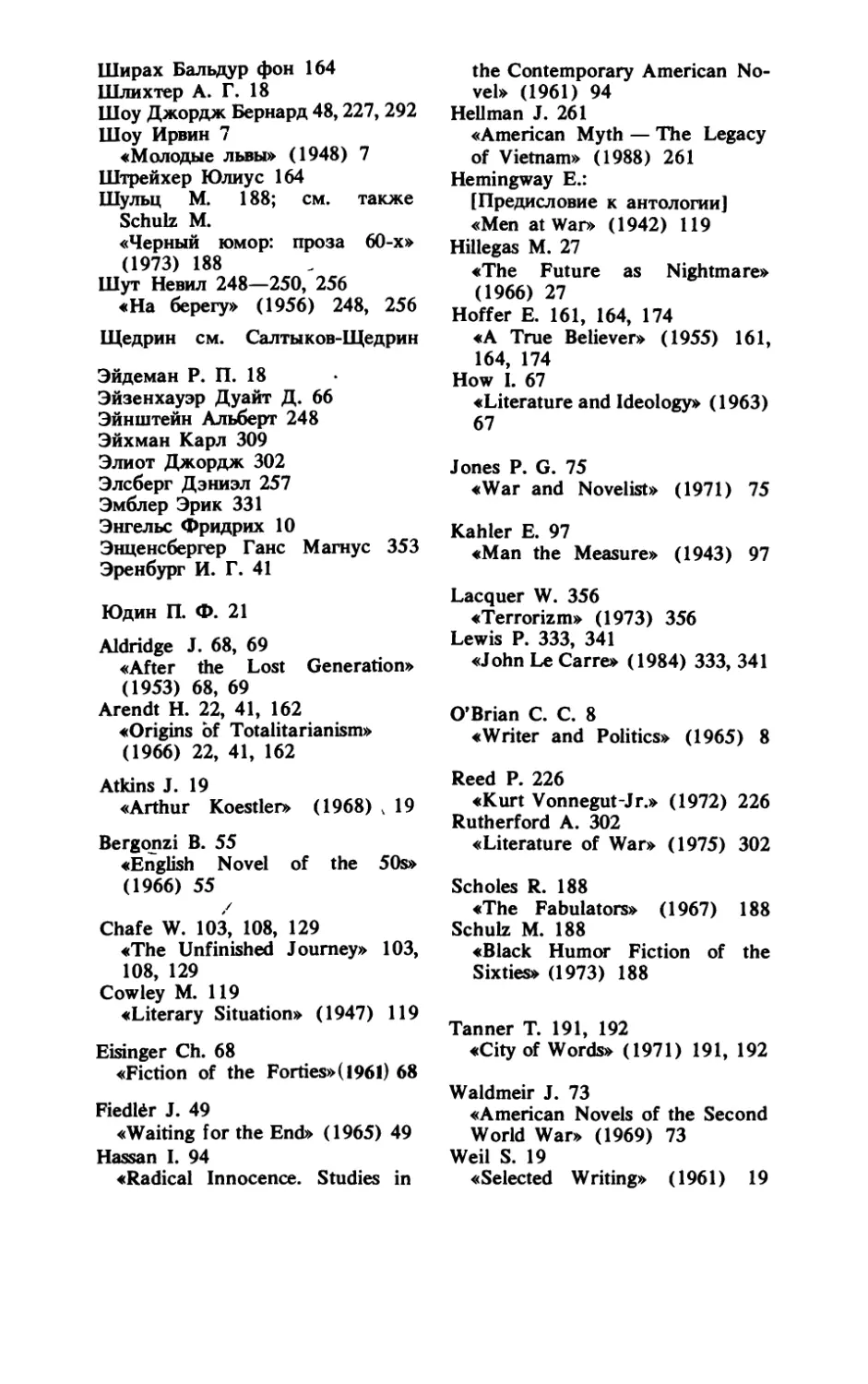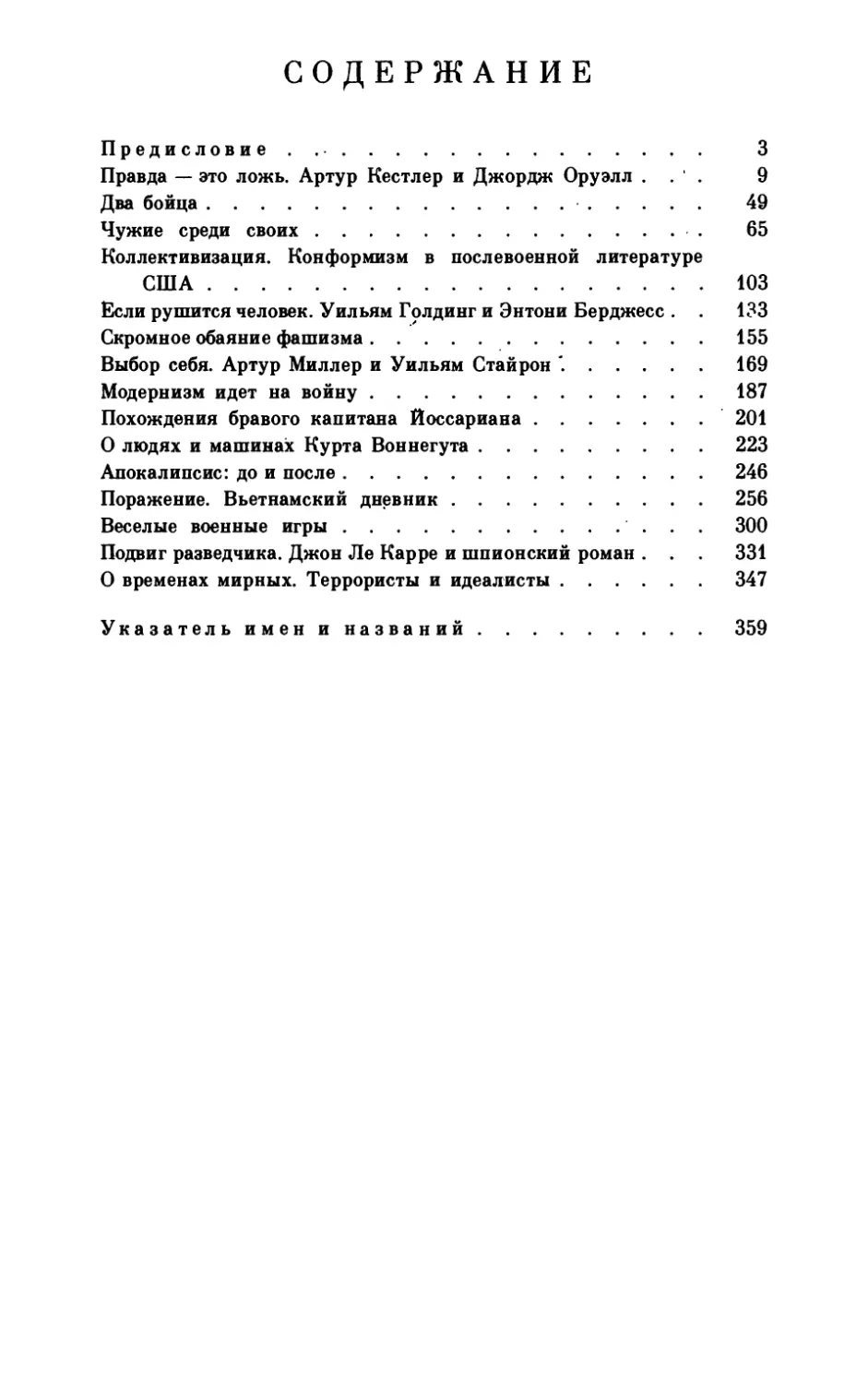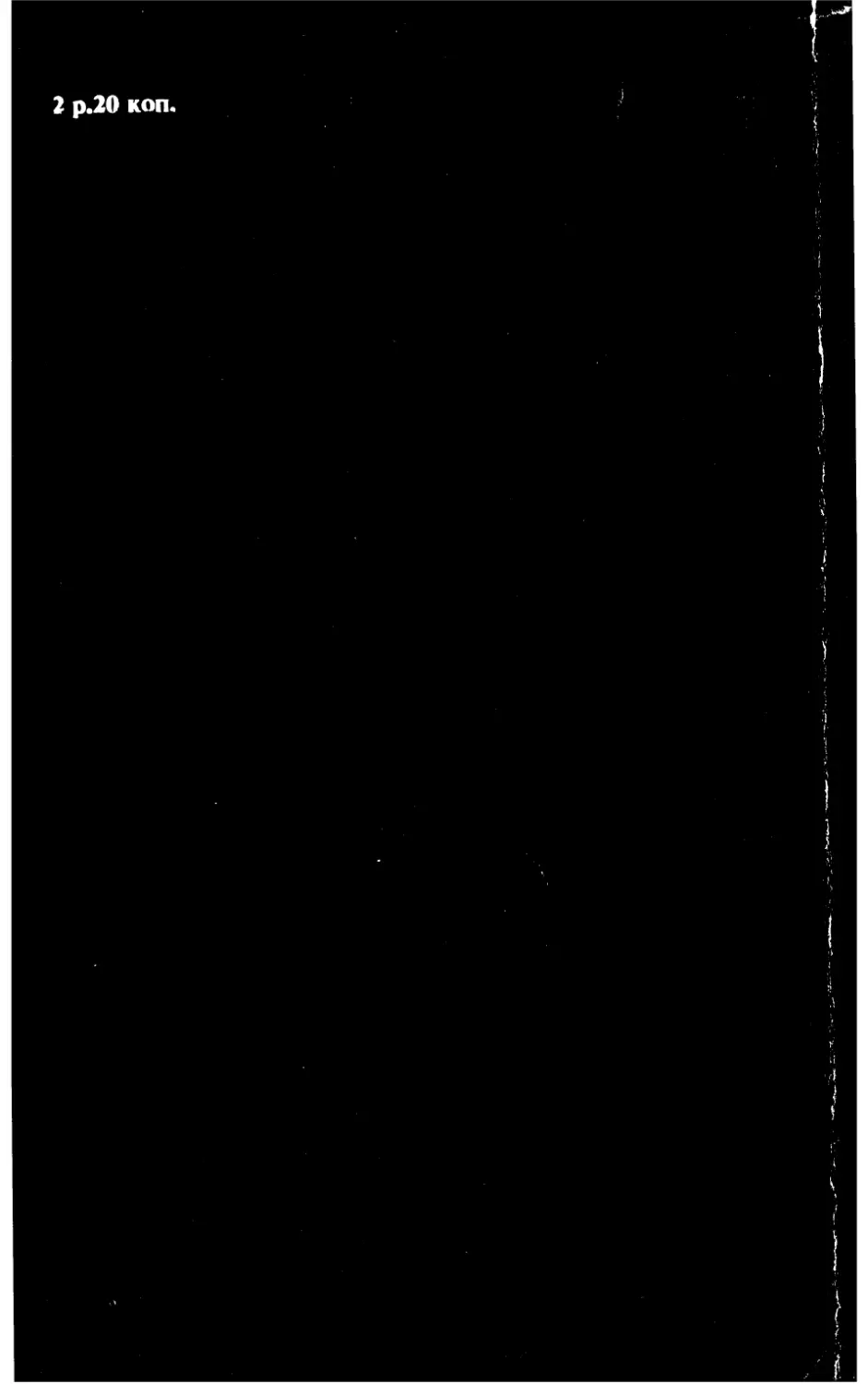Автор: Белов С.Б.
Теги: литературоведение война английская литература американская литература
ISBN: 5-265-02149-3
Год: 1991
Текст
СЕРГЕЙ БЕЛОВ
СЕРГЕЙ БЕЛОВ
БОЙНЯ
НОМЕР
Литература Англии и США
о войне и военной идеологии
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991
Художник Марат 3 AK И РОВ
Белов С. Б.
Б 43 Бойня номер «X»: Литература Англии и США
о войне и военной идеологии.— М.: Советский
писатель, 1991.—368 с.
ISBN 5-265-02149-3
Современная литература о войне — это не просто батальные сцены. Это
острый диспут о трагизме существования человечества, о политическом терроре
и «тотальной войне» против собственного народа, о патриотизме и пацифизме,
об индивидуалистической и коллективной морали.
В своем исследовании С. Бедов опирается на широчайший материал ан-
глийской и американской прозы последних пятидесяти лет — книги А. Кестлера,
Дж. Оруэлла, У. Голдинга, Г. Грина, К. Воннегута, К. Э^ Портер, У. Стайрона,
Дж. Ле Kappe и многих других.
4603020200-294
Б 450—91 ББК 83 ЗР7
083(02)-91
© Издательство «Советский писатель», 1991
ПРЕДИСЛОВИЕ
В финале «Трех сестер» А. П. Чехова полковник
Вершинин произносит: «Прежде человечество было за-
нято войнами, заполняя все свое существование похо-
дами, набегами, победами, теперь же все это отжило,
оставив после себя громадное пустое место, которое по-
ка нечем заполнить; человечество страстно ищет и,
конечно же, найдет. Ах, только бы поскорее!»
Слова чеховского персонажа, прозвучавшие со сцены
Художественного театра 31 января 1901 года, теперь
могут восприниматься как иронический эпиграф к исто-
рии уже завершающего свой бег XX столетия* по коли-
честву и разрушительной мощи военных конфликтов
превзошедшего всех своих предшественников, вместе
взятых. Когда в 1920 году англичанин Дж. Репингтон
опубликовал книгу о недавно закончившейся войне,
озаглавив ее «Первая мировая», очень многие были
шокированы: неужели автор хочет сказать, что чело-
вечеству суждено пережить вторую такую бойню? Это
казалось полным абсурдом. Еще свежа была в памяти
фраза президента США Вудро Вильсона о войне, что
должна положить конец всем войнам. Ее произносили
с надеждой, которая просуществовала, однако, недол-
го — два десятилетия. Ну а после того как атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали парой гроз-
ных восклицательных знаков в конце перечня траге-
дий второй мировой войны, родилась мрачная шутка:
если нельзя предугадать, какое именно оружие будет
использовано в третьей мировой войне, то несомненно
другое: в четвертой в ход пойдут каменные топоры...
Не допустить новой мировой войны! Сохранить нашу
цивилизацию!! Об этом постоянно говорят и государст-
венные люди, и представители общественных групп и
3
движений. Опасность ядерного апокалипсиса очевидна,
но за ней далеко не все замечают иную угрозу. На нее
в свое время прямо и четко указал Александр Солже-
ницын в статье «Мир и насилие» (1973): «Противопо-
ставление «мир — война» содержит логическую ошибку:
целая теза противопоставляется части антитезы. Война
есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не
единственное проявление никогда не прекращенного
многоохватного мирового насилия. Противопоставление
же логически равновесное и нравственно-истинное есть:
МИР - НАСИЛИЕ
Существование человечества разрушается и разъеда-
ется не только бурными нарывами войн, но и постоян-
ными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже
бурными, иногда вялыми и скрытыми»1. Войны быва-
ют не только между отдельными государствами или
политическими группировками внутри одной страны.
В XX веке в самых разных уголках земного шара вспы-
хивают и долго, десятилетиями, тлеют войны, негласно
объявленные правящей верхушкой против своего наро-
да и уносящие миллионы жизней — как в самой на-
стоящей кровопролитной «официальной войне».
«Такое устоявшееся перманентное государственное
насилие, за десятилетия своего господства успевающее
принять все «юридические» формы, кодифицировать
толстые своды своих насильственных «законов» и на-
кинуть мантии на плечи своих «судей», есть грозней-
шая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это
сознается. Такое насилие уже не нуждается ни подкла-
дывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его
процедура свершается в строгом безмолвии, редко на-
рушенном последним криком удушаемого. Такое наси-
лие разрешает себе выглядеть и благообразным, и
дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлю-
щим»2.
Об этих двух формах насилия — горячей, с одной
стороны, и «вялой», «мирной» — с другой, о том, как
увидены и оценены они художественной литературой
Англии и США, и пойдет речь. Разумеется, о многом
1 Солженицын А. Мир и насилие.— «Горизонт», 1989, № 8,
с. 22.
2 Там же.
4
из этого литературного богатства у нас писалось и гово-
рилось. Другое дело — как именно. Долгое время заня-
тие текущей зарубежной прозой давало многим из нас
возможность в условиях идеологической и политичес-
кой несвободы функционировать почти свободно, без
утраты уважения к себе если не как к гражданину, то
к профессионалу. Книги, написанные и изданные на
Западе, мы читали и разбирали в манере не зубодроби-
тельной, принятой в 40—50-е годы, но мягкой, интел-
лигентной, вдумчивой, во многом вторя нашим англий-
ским и американским коллегам. Те находили изъяны
в западной демократии, и мы критиковали ее вполне
аргументированно. Они оплакивали беды Личности в
удушающих объятиях буржуазности, и мы с лёгким
сердцем и свободной совестью (не нами, дескать, при-
думано, читайте западную прессу!) выносили суровый
приговор так называемому свободному миру. Умело,
со знанием материала мы толковали о книгах, которые
на русский язык никто и не думал переводить. Анализ
сам по себе был вполне точен, но в такой деятель-
ности таилось нечто абсурдное.
Впрочем, этот самый абсурд оборачивался расчетом
делового человека. Ведь рассуждать о капреализме
(удивительно, что наши теоретики не обратили внима-
ния на этот творческий метод) было куда легче и бе-
зопаснее, чем о «соцреализме». Можно было хвалить
то, что нравилось, и ругать, что не нравилось,— рос-
кошь, о которой только вздыхали наши собратья по
критическому цеху, специалисты по литературе народов
СССР. Можно было анализировать текст, не боясь под-
вести под монастырь его создателя, выболтав ненароком
всему свету то, что лучше бы обсуждать в тесном кругу.
Впрочем, свободный анализ был позволителен, когда
тексты публиковать в СССР не предполагалось. В тол-
ковании произведений, подготовленных к изданию по-
русски, приходилось проявлять особую бдительность,
не касаясь взрывоопасных проблем. Помогало владение
слогом: границы анализа камуфлировались стилисти-
ческими виньетками, словесный грим скрывал колючую
проволоку «запретных зон». Профессионалы-интеллек-
туалы — редактор, переводчик и автор «пояснительной
статьи» — составляли ту самую тройку, тот идеологи-
ческий конвой, который вел заморского писателя, по-
тенциального литдиверсанта, к советскому читателю, в
5
сознании которого никак нельзя было будить «нежела-
тельных ассоциаций», то есть самостоятельной работы
мысли. «Шаг вправо, шаг влево» зарубежных прозаи-
ков контролировались системой «спецсредств» — это и
купюры, и замазывание переводом (в оригинале одно,
а в русском тексте как раз другое), и «идеоза-
глушка» в виде статей, что предваряли или замыкали
переводную книгу. Оттого-то на радость литературове-
дам и критикам в нашей книгоиздательской практике
так процветал институт предисловий и послесловий.
Утешительное самооправдание авторов (это повышает
уровень издания, несет читателю драгоценную инфор-
мацию и пр.) не могло, однако, затушевать главное:
культура культурой, но в основе своей это предисло-
вие — сочетание «глушилки» и директивного указания,
как читать. Внутренний рецензент, рекомендующий
книгу к печати, и редактор, ее готовящий к изданию,—
люди высокообразованные и в высшей степени либе-
ральные, на досуге читающие Авторханова и искрен-
не сочувствующие Сахарову,— в часы службы превра-
щались в подобие функционеров гестапо, отмечая в
рапорте, устном или письменном, наличие неуважи-
тельного упоминания вождей в третьей главе, а в седь-
мой еврейскую тему... Но оставим в стороне тему «аме-
риканистика (англистика и пр.) как способ выживания
с комфортом в эпоху сталинизма с человеческим ли-
цом». Она нуждается в отдельном исследовании.
Что же касается английских и американских писа-
телей, то они посвятили феномену войны и военной иде-
ологии немало ярких страниц. Не понукаемые никем
к единомыслию, они представили богатый спектр суж-
дений о том, что такое война и насилие, как соотносят-
ся «военные задачи» общества в целом и его отдель-
ных представителей, почему передовая теория действен-
ного гуманизма оборачивается человеконенавистничес-
кой практикой. Это диспут не только о войне, но и о
состоянии и перспективах развития мирового сообщест-
ва как в целом, так и в отдельных его частях. Дело не
в том, правильно или нет отражена в этих книгах война
(сколько лет мы занимались именно этим — следили,
насколько «правильно» отражает искусство жизнь, ис-
пытывая почти мистическое уважение к печатному сло-
ву, способному, по нашим верованиям, выправить ре-
альность по своему подобию). В совокупности своей
6
они не только создают запоминающийся образ времени,
но и сообщают кое-что весьма существенное как о пред-
мете изображения, так и о самих «изображающих».
Военная литература на английском языке обширна,
и библиотека эта постоянно пополняется. Даже библио-
графический указатель книг о второй мировой, войне
во Вьетнаме, холодной войне и пр. мог бы составить
внушительный том. Разумеется, нельзя объять необъят-
ное, и потому вряд ли следует сетовать на отсутствие
в этой книге разборов таких произведений, как «Моло-
дые львы» Ирвина Шоу, «Острова в океане» Хемингуэя,
«Притча» Фолкнера или военная трилогия Джеймса
Олдриджа. В основном речь пойдет о жанре романа,
хотя не обойтись и без экскурсов в смежные области.
Современная художественная проза существует в тесном
контакте-соперничестве с публицистикой и эссеисти-
кой. Вымысел и документ словно соревнуются, кто из
них лучше видит и запечатлевает суть явлений.
С другой стороны, у многих публицистов и мемуа-
ристов есть порой желание сооружать на основе «толь-
ко фактов» «полезные миражи», искажая и подправляя
реальность в угоду определенному соцзаказу.
Хемингуэй любил повторять, что задача писателя —
говорить правду. С этим трудно спорить, хотя, если вду-
маться, границы этого непростого понятия весьма рас-
плывчаты. Один из персонажей-пророков Воннегута вов-
се не шутил, когда предупреждал свою аудиторию: «Все
истины, которые я хочу вам изложить,— гнусная ложь».
Еще раньше на удивительную способность светлой прав-
ды превращаться в черный обман указали Артур Кест-
лер и Джордж Оруэлл. И не всегда подмена эта — проис-
ки корыстолюбивых мошенников. Аскетичные спасите-
ли человечества, как показывает история, сами не чура-
ются «лжи во спасение», чтобы Истина поскорее вос-
сияла.
«Мы живем в Век пропаганды,— писал ирландский
историк и публицист Круз О'Брайен.— Те, кто связан
с литературой, погрязли в пропаганде, явной и тайной,
нашей собственной и исходящей от наших оппонентов.
Людям, переживающим за судьбы человечества, трудно
избежать воздействия того, что Йейтс назвал «пропа-
гандистской дьявольщиной». Но мы явственно ощущаем
необходимость очищения от лжи — не только той, что
изрекают наши политические противники, но и от лжи
7
наших соратников, а главное — и самое трудное — от
неправды, изрекаемой нами. Необходимо понять, что
стремление к интеллектуальному самоочищению —
лишь частица общего стремления человечества выжить,
а духовная целостность каждого из нас — обязательное
условие этого выживания»1.
Между полюсами мифотворчества (утверждение Ис-
тины) и мифоборчества (дискредитация Абсолютов) и
располагается территория, где разворачивается битва
идей, с отдельными моментами которой и старается
познакомить читателей «Бойня номер «X».
1 O'Brian С. С. Writer and Politics. N. Y., 1965, XIX.
ПРАВДА - ЭТО ЛОЖЬ
Артур Кестлер и Джордж Оруэлл
Коль скоро раньше упоминались слова чеховского
полковника Вершинина, то кстати придется и «чехов-
ский пассаж» из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицы-
на: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим,
что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, от-
ветили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное
следствие, будут сжимать череп железным кольцом,
опускать человека в ванну с кислотами, голого и при-
вязанного пытать муравьями и клопами, загонять рас-
каленный на примусе шомпол в анальное отверстие
(«секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом
половые части, а в виде самого легкого — пытать по не-
деле бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо,—
ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои
бы пошли в сумасшедший дом.
Да не только чеховские герои, но какой нормальный
русский человек в начале века, в том числе любой
член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую
гнусную клевету на светлое будущее. То, что еще вя-
залось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже
казалось варварством, что при Бироне могло быть при-
менено к 10—12 человекам, что совершенно невозмож-
но стало с Екатерины,— то в расцвете великого XX века,
в обществе, задуманном по социалистическому принци-
пу, в годы, когда уже летали самолеты, появились зву-
ковое кино и радио,— было совершено не одним
злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками ты-
сяч специально обученных людей-зверей над беззащит-
ными миллионами жертв».
Среди тех, кто всей душой верил в успех великого
9
эксперимента на руинах Российской империи, был Ар-
тур Кестлер. Он родился и вырос в Будапеште, окончил
Венский университет, затем жил в Германии и долгое
время кочевал по всему свету в качестве корреспон-
дента левых газет. Вступив в компартию в 1932 году,
он вскоре посетил Советский Союз, готовый восхитить-
ся великими победами социализма. Но «объективная
правота» Великой Доктрины вступала в противоречие
с субъективными сомнениями Кестлера, имевшего нема-
ло возможностей убедиться, что благородная цель реа-
лизуется сомнительными — по крайней мере с точки
зрения общечеловеческих норм — средствами/Тогда он,
впрочем, не поверил глазам своим — не позволил сом-
нениям превратиться в убеждения: в Европе поднимал-
ся фашизм, и Кестлер, как и многие западные левые
либералы, был уверен, что дело Сталина станет прегра-
дой делу Гитлера. Но после поражения республикан-
ской Испании, когда сталинские эмиссары уничтожили
больше союзников, чем врагов-фашистов, после москов-
ских процессов и чисток в «братских компартиях»,
проведенных по воле Главного Коммуниста Планеты,
Кестлер пришел к окончательному выводу о порочнос-
ти сталинского социализма и о самоликвидации рево-
люционной идеи. Результатом этого стал разрыв с ком-
партией и публикация романа «Слепящая тьма» (1940).
Как и предыдущие его вещи, этот роман был написан
по-немецки. Затем, став гражданином Великобритании,
Кестлер будет писать по-английски. Он стал одним из
первых писателей, давших художественный анализ цен-
трального мифа XX столетия — доктрины революцион-
ной ломки буржуазно-капиталистического уклада и пос-
троения на его руинах самого справедливого общества
на земле, рожденной мессианским воображением Марк-
са и Энгельса и «приведенной в исполнение» партией
Ленина — Сталина.
Печально знаменитые московские процессы 30-х го-
дов (в основе романа подготовка к очередному такому
судилищу) для Кестлера — лишь одна сторона чудовищ-
ного исторического парадокса, в котором писатель и
пытается разобраться. Ему важно понять, результат
ли это происков негодяев, примазавшихся к хрустально
чистой и святой идее, или закономерное следствие реа-
лизации теории, ложной изначально-
Главный герой революционер Рубашов (как отмечал
10
сам Кестлер, по складу ума напоминавший Бухарина,
по внешности и характеру Троцкого и Радека) внезап-
но арестован и брошен в камеру. Вынужденное без-
действие, с одной стороны, и шок от случившегося —
с другой, заставляют его взглянуть на ситуацию —
свою и своего Дела — со стороны, обращают его к тем
идеям, что в виде смутных догадок давно уже копо-
шились по углам сознания, каковое палкой партийной
дисциплины снова и снова загоняло их подальше, отме-
тало как сор, мешающий четко и ясно видеть Конечную
Цель.
Парадокс — непознанная диалектика. Парадокс —
испорченная диалектика. Но поскольку слишком многие
затвердили однажды, что диалектика — безотказное
орудие самой истинной философии — всегда права, они
будут заставлять свой несчастный здравый смысл напря-
женно искать смысл в том, что вроде бы совершенно
лишено логики, создавать рациональное обоснование
тому, что чувства отказываются оправдывать.
Размышления Рубашова — поиски утраченной диа-
лектической взаимосвязи. Он мыслит антиномиями, но
примирить противоположности не удается, вопросы не
получают ответов.
«Наши принципы безусловно верны,— рассуждает
Рубашов,— почему же партия зашла в глубочайший ту-
пик? Общество поразил жестокий недуг. Применяя точ-
нейшие научные методы, мы установили сущность
недуга и способ лечения: хирургическое вмешательство.
И, однако, наш целительный скальпель постоянно вы-
зывает новые и новые язвы. Наши побуждения чис-
ты — нас должны любить. Но нас ненавидят. Почему
к нам относятся со злобой и страхом? Почему, когда мы
говорим правду, она звучит как ложь? Почему возве-
щаемую нами свободу заглушают немые проклятья
заключенных? Почему, провозгласив новую жизнь, мы
усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом
будущем мы всегда перемежаем угрозами?»1
Услужливый рассудок всегда готов предложить ло-
гическое оправдание любого абсурда, произвола, изде-
вательства над здравым смыслом. Рубашов, а с ним и
иные перестройщики 1917 года, так и поступали, веря в
1 Произведения, опубликованные в СССР, цитируются по рус-
ским изданиям, кроме тех случаев, когда автор настоящей книги и
переводчик расходятся в интерпретации текста.
11
Диалектику. Если твои соратники творят насилие, за
ним должны открыться любовь и братство, если они
допускают несправедливость, то это повивальная бабка
Справедливости и пр. Но на сей раз ему уже не нуж-
но обманывать себя, ему хочется увидеть, как обстоят
дела на самом деле. Задача сверхтрудная, ибо, чтобы
нечто увидеть, приходится выбирать определенный ра-
курс зрения, и тогда одна сторона явления предстает
воочию, но другие остаются «за кадром». Но одной,
пусть существеннейшей стороны недостаточно, чтобы
понять, почему же внешний вред оборачивается поль-
зой, но напротив, почему декларированная польза
превращается во вред, добро в зло, рай в тюрьму, а
любовь к человечеству в ненависть к его конкретным
представителям.
Похожие противоречия весьма тревожили в свое вре-
мя того самого лопоухого Шигалева из «Бесов» Дос-
тоевского, который «бесконечно запутался в собст-
венных данных». Этот философ-самоучка, идиот и гений
одновременно, признавался: «Выходя из безграничной
свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. При-
бавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общест-
венной формулы не может быть никакого».
Над Шигалевым и Достоевским вволю посмеялись
заядлые человеколюбцы. Но, отсмеявшись и отбранив-
шись, утописты засучили рукава и сделали по-шига-
левски. Жизнь скопировала произведение искусства,
подтвердив справедливость известного афоризма Уайль-
да.
Ну а московские процессы 30-х годов за образец
для подражания взяли «Процесс», рожденный проро-
ческим воображением Кафки. Описывая затянувшийся
суд, что затеяла революция сначала над старым ми-
ром, а потом над собой, Кестлер создал тем самым
отражение отражения. Кафка — сталинская утопия —
Кестлер — полное и окончательное построение социа-
лизма. Заколдованный круг. Тесный союз фантазии и
яви.
Рубашов упоминал «точнейшие научные методы» и
выстраивал цепочку антиномий. Но методы-то, претен-
довавшие на научность, были в лучшем случае абстракт-
но-логическими, почти научными. «Почти» было доста-
точно, чтобы система понятий, выросшая на этом фун-
даменте, оказалась лишенной конкретного содержания.
12
Она .содержала, однако, полезнейший вакуум, помо-
гавший творить чудеса. Соединение абстрактных и бла-
городных понятий с методами конкретной политики
создавало мощнейшее оружие наподобие термоядерно-
го. Оно обладало идеологической радиоактивностью,
убивавшей свободную работу сознания и порождавшей
причудливых мутантов.
Целостность, видевшаяся в теории, исчезала на прак-
тике, появлялись «кентавры».
Шигалев — глупец и великий мыслитель.
Рубашов — освободитель человечества и губитель
свободы.
Он — жертва «объективности». Раб понятий, в силу
своей звонкой абстрактности наполняемых тем содер-
жанием, которое в данный конкретный момент выгод-
но профессиональным гуманистам. Слишком многих
абстракции держат мертвой хваткой, мешая взглянуть
на мир самостоятельно, окружая себя ореолом святос-
ти. В конце концов кто будет возражать против того,
что «объективность», знание общих законов развития
лучше капризной субъективности? А равенство —
разве не благородней оно неравенства? Неимущие за-
служивают сострадания, имущие ненависти (нажитое
ими отобрать и поделить). Пролетарий (любой) заве-
домо лучше и ценней интеллигента (гнилого). Рево-
люционер — великомученик, а тот, кто святое насилие,
жертвы на алтарь свободы (воинствующие атеисты
обожают религиозную лексику) норовит подменить ре-
формами,— жалкий прислужник правящих классов и
враг трудового народа. Абстрактные идеалы тем лучше
воздействуют на воображение масс и тем быстрей воз-
жигают их энтузиазм, чем элементарнее сформулиро-
ваны и чем труднее поддаются проверке. Рай земной
может осуществиться в будущем, даже не очень от-
даленном, но назначать ему точную дату недопустимо.
В этом смысле Хрущев, дав стране двадцать лет на
построение коммунизма, проявил непонимание пробле-
мы.
Вообще набор постулатов новой коммунистической
религии строится, как и подобает религии, на утверж-
дениях, истинность которых кажется уверовавшим не-
зыблемой. Партия всегда права, ибо опирается на «точ-
нейшие научные методы». Коль скоро она ясно видит
конечную цель, то все сомнения отдельных лиц в ее
13
правоте и верности избранного курса — это типичное
проявление субъективности. Тогда и совесть, питаю-
щаяся не логикой, но чувствами,— вредный предрас-
судок. Коль скоро массы не прониклись научным
пониманием истории, не видят хрустдворов (хрусталь-
ных дворцов будущего), они должны слушаться тех,
кто ведет их к счастью. Нужно беспрекословно вы-
полнять указания Вождя, ибо он знает то, чего не по-
нимают простые смертные,— направление хода исто-
рии (новейший вариант Божьего промысла). Коль ско-
ро вождь обладает таким волшебным свойством, вся-
кий, оказавшийся на этом посту, будет корифеем на-
ук и отцом народов по должности, а его субъективные
действия окажутся венцом объективности.
Дальше и вовсе просто. Любой шаг Страны Побе-
дившей Революции, гражданином которой является Ру-
башов, можно истолковать как объективную необхо-
димость. То, что выгодно этой стране, способствует
приближению мировой революции, а стало быть, вы-
годно в конечном счете трудящимся всего земного ша-
ра. Славные революционные подвиги Рубашова — же-
лезно-непреклонное выполнение заданий Партии, борь-
ба с сомневающимися и колеблющимися, уничтоже-
ние ереси, сомнений в правоте великого руководите-
ля, именуемого у Кестлера Первым. Внушал не только
себе — учил этому и других, карая" ослушников. Тра-
гедия Рубашова не в том, что его ошибочно поса-
дили, незаслуженно подвергли репрессиям. Его траги-
ческая вина в том, что на протяжении многих лет
наперекор здравому смыслу он внушал себе, что все пра-
вильно, что курс остается верным, хотя дорога тяжела
и трудна, а стало быть, не надо пугаться неизбежных
потерь.
Лозунги Партии примитивно однобоки? Но «упро-
щенная и бесконечно повторяемая мысль легче уклады-
вается в народном сознании, то, что сегодня объявлено
правильным, должно сиять ослепительной белизной,
то, что признано неправильным, должно быть тускло-
черным, как сажа». Вроде бы простительные малень-
кие хитрости, призванные чуть облегчить крутой подъем
к сияющим высотам. Но за ними тихое убеждение
в том, что истина пластична и нет иных законов, кроме
того, что цель оправдывает средства, а массы надо дер-
жать в узде любыми способами, в том чяйле и системой
14
частных неправд, складывающихся в Объективную Ис-
тину где-то в далеком будущем.
«Сейчас народу нужен лубок»,— твердят Рубашову
его тюремщики. И он согласен с ними, ибо сам всегда
действовал точно так же, сводя многообразие фактов к
упрощенной схеме. Война становится морально оправ-
данной, когда насилие соединяется с театральностью.
«Лубок» — разновидность моралите, необходимого
не столько для того, чтобы сделать истину понят-
ней, сколько для того, чтобы выдать за истину и
добро сомнительные, а то и преступные идеи и дей-
ствия.
В этом смысле московские процессы — необходи-
мое единство военного и театрального начал, театр
жестокости эпохи построения социализма. Действую-
щих лиц выпускали на сцену, когда было ясно, что они
не перепутают роли, скажут, то, что положено по сце-
нарию. Пытки и угрозы новых пыток — для себя и
близких,— разумеется, сыграли свою страшную роль.
Но было еще и кое-что другое, порой действующее
сильнее физического принуждения,— слишком легко
усваиваемый комплекс неполноценности личности,
чувство возможной собственной неправоты, близору-
кости, неспособности за «трудностями роста», сложнос-
тями «небывалого эксперимента» распознать близяще-
еся Светлое Будущее. Это чувство возникало и у тех,
кого судили открыто-показательно, и у тех, кого без
лишних разговоров отправляли в концлагеря (отсидев
там полжизни, иные и потом молились на Отца Наро-
дов, славя его мудрость, благодаря за то, что дал их
жизни цель и смысл), и, наконец, у тех западных ин-
теллектуалов, кто, люто ненавидя родную капиталис-
тическую повседневность, обожествлял далекую страну,
выступавшую для них территорией, на которой осу-
ществляется Утопия. Не понимая толком, что там про-
исходит, легко прощая строителям коммунистического
рая такое, что немыслимо было бы стерпеть дома, в
«буржуазном аду», тысячная доля чего смела бы лю-
бое правительство в США или Англии с Францией,
они внутренне гордились своей тонкостью, умением
различать «сущности», иначе говоря, видели только то,
что хотели увидеть. Как писал Джордж Оруэлл, «в мос-
ковских процессах ужасало не то, что они вообще
имели место,— в тоталитарном строе они неизбежны,—
15
но то, что западные интеллигенты их с готовно-
стью оправдывали».
Насилие и пытки могут превратить человека в чело-
векообразное существо, лишенное сознания и воли.
Судьба Рубашова ужасна по-иному. Он сам себе тю-
ремщик, сам себе истязатель; Он пленник той светлой
мечты, что, вдохновляя миллионы, превратилась в кро-
вавую догму, в которой, однако, однажды уверовав-
шие видят лишь райские очертания. Рубашову и рань-
ше случалось бывать под следствием, в заключении.
Но то было за рубежом, где он выполнял задания
партии и держался спокойно, отказываясь сотрудни-
чать с презренными палачами.
Ныне все изменилось. «Презренные палачи» уступи-
ли место твоим соратникам, с которыми вы — несмот-
ря на частности — делаете сообща одно большое дело.
На объяснения Рубашова его следователи отвечают
контрдоводами, являющими собой цитаты из его же
дневника. Впрочем, в «театре жестокости» и ситуация
«подследственный — следователь» тоже достаточно ус-
ловна. Следователь Иванов, воевавший в гражданскую
под началом Рубашова, а ныне разбирающий степень
вины своего бывшего начальника, так и не доведет дело
до конца. Он будет смещен с должности, судим и
расстрелян, а Рубашов будет давать все новые и новые
показания, «разоружаться перед Партией».
Коль скоро он признает и «незрелость масс», и
необходимость «лубка», то почему бы ему, раз надо,
не сыграть лубочного дьявола? Очень вовремя прозву-
чит чеканная формулировка нового следователя Глет-
кина: «Добровольно выступив на процессе, вы выпол-
няете последнее задание Партии». И, забивая послед-
ний гвоздь, он добавит: «Товарищ Рубашов, надеюсь,
вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия?»
Давно бы так. Назвали товарищем! Стало быть, все
по-прежнему. Курс правильный. Тогда что какая-то од-
на человеческая жизнь, пускай даже собственная! Ру-
башов готов признать себя виновным, если есть на-
дежда, что это послужит общей победе. Он готов на что
угодно, лишь бы остаться в «рядах».
Так виновен ли Рубашов?
Проще простого увидеть в нем лишь несчастную
жертву рвущихся к власти интриганов. Но этот слав-
ный представитель старой гвардии — сам строитель той
16
тюрьмы, в которую угодил. Кто, как не он, обрек на
смерть немецкого коммуниста Рихарда, осмелившегося
заявить о своем несогласии с линией Центра? Кто,
как не он, кристально чистый рыцарь революции, по-
винен в самоубийстве бельгийского коммуниста Ма-
лютки Леви, тоже имевшего неосторожность ослушать-
ся ценных указаний ответственного работника Центра
Рубашова? Кто предал свою любовницу Арлову, отрек-
шись от нее, как только она оказалась под следствием?
Приговор Трибунала — не только коварная распра-
ва «плохих» гуманистов над «хорошим», краткий эпи-
зод борьбы за власть, но в то же время и возмездие
свыше тем романтикам, кто оказался неумолимой ло-
гикой истории зачислен в палачи. Это промелькнет
в измученном сознании все подписавшего Рубашова:
«...даже у лучших — у каждого — была своя Ар лова на
совести. Они погрязли в собственном прошлом, запу-
тались в сетях, сплетенных ими же по законам партий-
ной морали и логики,— короче, все они были виновны,
хотя и приписывали себе преступления, которые на са-
мом деле и не совершали. Они не могли возвратить-
ся назад. И вот уходили за пределы жизни, разыгры-
вая ими же начатый спектакль. От них не ждали прав-
дивых слов. Они сами вырастили Главного режиссе-
ра и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зу-
бами и плевались серой».
Потому-то не восстает Рубашов против своих мучи-
телей, что он и впрямь враг народа, хотя и не в том смыс-
ле, в каком трактует это понятие Глеткин.
Несколько десятилетий спустя об этом же, в упор,
с поименным перечислением, скажет в «Архипелаге
ГУЛАГ» Солженицын:
«Взывая о пощаде и освобождении невинных, пре-
дупредил их (большевистское руководство.— С. Б.)
твердый патриарх: «взыщется от вас всякая кровь
праведная, вами проливаемая» (Луки, 11, 57) и «от ме-
ча погибнете сами вы, взявшие меч» (Матфея, 52, 26).
Но тогда это казалось смешно, невозможно! Где было
им тогда представить, что История все-таки знает иног-
да возмездие, какую-то сладострастную позднюю спра-
ведливость, но странные выбирает для них формы и
неожиданных исполнителей.
И если на молодого Тухачевского, когда он победно
возвращался с подавления разоренных тамбовских кре-
17
стьян, не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спи-
ридоновой, чтоб уложить его пулей в лоб,— это сде-
лал недоучившийся грузинский семинарист через 16
лет.
И если проклятья женщин и детей, расстрелянных
крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин,
не могли прорезать грудь Бела Куна — это сделал его
товарищ по III Интернационалу.
И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева,
Балицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Убореви-
ча, Бубнова, Алафузо, Алксниса, Аронштама, Геккера,
Гиттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова,
Примакова, Путну, Ю. Саблина, Фельдмана, Р. Эйдема-
на; и Уншлихта, Енукидзе, Невского, Нахамкеса, Ло-
мова, Кактыня, Косиора, Рудзутака, Гикало, Голодеда,
Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева — всех
их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось
бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили
они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед
тем...
Сами благомыслы, вспоминая теперь 1937-й год,
стонут о несправедливости, об ужасах — никто не упо-
минает о возможностях борьбы, которые физически
были у них — и не использованы никем».
Страшная истина состоит в том, что кое-кто из
тех, кого Сталин назвал убийцами, и в самом деле
ими были, ибо вместе со Сталиным планомерно истреб-
ляли свой народ.
Те, против кого неожиданно — и, по их мнению,
«несправедливо» — повернула в 1937 году сталинская
гильотина, вдохновенно — прямо-таки весело — рубили
по живому в 1918-м и 1921-м, в 1927-м и 1930-м, в
1934-м и 1936-м — до самого появления в их кабинетах
людей с наганами. Шел эксперимент? Но ведь и печаль-
но знаменитый врач из Освенцима Йозеф Менгеле экс-
периментировал. На живых людях — погубил несколь-
ко сотен, а то и тысячу, так ведь его предали на века
анафеме, а организация, в которой он состоял, на Нюрн-
бергском процессе была признана преступной...
Преступление Рубашовых — в романе Кестлера и в
реальной жизни — из тягчайших. Преступление против
врагов и единомышленников, против миллионов людей.
Геноцид во имя человечества. Реальные зверства во имя
тех абстракций, страшную власть которых над умами
18
точно описала Симона Вейль: «Когда пустые слова начи-
нают писаться с большой буквы, то при первом удобном
случае во имя этих слов люди начинают убивать, раз-
рушать, и не пытаясь отдавать себе отчета, что означа-
ют эти слова. Впрочем, сделать это и впрямь нелегко —
по той простой причине, что за словами этими не сущест-
вует конкретной реальности. В подобных обстоятельст-
вах единственным выходом остается стремление сокру-
шить оппонентов, начертавших на своих знаменах нечто
противоположное, ибо типичной особенностью «пустого
слова» является возникновение его антонима (слова-
врага.— СБ.)- Разумеется, не все такие слова бессмыс-
ленны окончательно, и если проанализировать их всерь-
ез, то окажется, что иные из них и впрямь кое-что зна-
чат. Но когда их смысл установлен, слова неизбежно
утрачивают заглавные буквы и теряют способность быть
лозунгом, вызывающим энтузиазм одних и ненависть
других. Теперь такое слово оказывается в роли простого
знака, отражающего некий небольшой кусочек реальнос-
ти... следует признать, что попытки внесения ясности
в наш способ мышления, то есть признание одних слов
лишенными смысла и установление истинного содержа-
ния других путем точного анализа — носят далеко не
умозрительный характер: это может спасти немало че-
ловеческих жизней»1.
Об этом гибельном пустословии сказал в одной из ра-
бот 1946 года и Артур Кестлер: «В Европе установил-
ся политический климат, когда слова перестали вообще
что-либо значить. Идеологическая путаница приводит к
смысловой инфляции, к идеологическому черному рын-
ку, где слова продаются и приобретаются по ценам, не
имеющим никакого отношения к официальным номина-
лам. На пикнике, что разыгрался на этой ничейной
земле, петиции за мир во всем мире готовят новую
войну, полицейские режимы объявляются демократия-
ми, а левизна на Западе — это доброжелательный
нейтралитет по отношению к деспотиям»2.
Террор, разлитый по страницам «Слепящей тьмы»,—
это всевластье Догмы, поддерживаемой с помощью пус-
тых слов и лихих силлогизмов. Догмы, проводимой
в жизнь. военными методами с фарсовыми интерме-
1 Weil S. Selected Writings. L., 1961, p. 71.
2 Цит. no: Atkins J. Arthur Koestler. L., 1968, p. 19.
19
днями. Героя гражданской войны Богрова расстреляют
у Кестлера «за неправильный взгляд на подводные лод-
ки» : Богров был убежден, что необходимо строить суб-
марины с брльшим радиусом действия, партия же склон-
на была поддерживать малые. Собственно, в Стране По-
бедившей Революции все споры и дискуссии так или
иначе превращаюся в политическое событие, в сраже-
ние, где проигравшему нет пощады: «Поэты завершают
дискуссии о стиле прямыми доносами... потому что то-:
го, кто окажется побежденным, непременно объявят
врагом народа». Это не плод фантазии писателя. Это
реальность построения социализма. Причем то, что в
20—80-е годы XX века творили осатаневшие партфунк-
ционеры, в конце прошлого столетия начинали прекрас-
нодушные интеллигенты. В книге «Истоки и смысл
русского коммунизма» Н. Бердяев отмечал крайнюю
нетерпимость, раскольничий дух русской интеллиген-
ции, когда она обращалась к вопросам философским:
«То, что на Западе было научной теорией, подлежащей
критике гипотезой, или, во всяком случае, истиной от-
носительной, частичной, не претендующей на всеобщ-
ность, у русских интеллигентов превратилось в догмати-
ку, во что-то вроде религиозного откровения. Русские
все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд скеп-
тический критицизм западных людей... Когда русский
интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был
для него не биологической теорией, подлежащей спо-
ру, а догматом, и ко всякому, не принимающему этого
догмата, например к стороннику ламаркизма, возникало]
подозрительное отношение... Тоталитарно и догматичес-j
ки были восприняты и пережиты русской интеллиген-1
цией сен-симонизм, фурьеризм, гегельянство, материа-
лизм, марксизм в особенности...»1 1
Замечено точно, объяснено очень многое, и в то же]
время из этого непонятно, отчего в скептической Фран-а
ции конца XVIII века, эпохи Просвещения и критичес-]
кого разума, произошло именно то (в меньшем масшта-]
бе и вскоре рухнуло), что стало на долгие десятилетия!
судьбой России? Почему в Европе, где бы ни побеждав
ла Гуманная Идея, тотчас начинались процессы наш
инакомыслящими, устанавливалось военное положение?!
1 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж,
1955, с. 18.
20 1
Что ТУТ важнее, национальные особенности русских,
французов, немцев — или железная логика насильст-
венного преображения мира, объективные законы рево-
люции, совершаемой на неправильных предпосылках
переустройства всего многообразия жизненных явлений
по приказу и в сжатые сроки?
Кестлер, судя по всему, считает, что националь-
ное здесь на втором месте. Любопытно, что в «Слепя-
щей тьме» место действия обозначено достаточно аб-
страктно: Страна Победившей Революции — соединение
революционно-религиозного энтузиазма с канцелярской
мертвечиной. Да и Рубашов в общем-то вполне ин-
тернационален, без корней, без родины, без почвы.
Кестлера интересовал не национальный вариант
Революционной Идеи, но основные законы ее вопло-
щения в реальность, и в первую очередь неизбежная
деградация в силу внутренней порочности. Это особен-
но заметно на примере трех центральных персонажей-
партийцев. Революцию начинали Рубашовы, люди фа-
натично преданные идеалам Добра для Всех1. Затем
на смену им пришли Ивановы, ими же взращенные,
еще более рациональные, еще более жестокие. Но и они
не устояли перед Глеткиными, лишенными даже того
остаточного чувства человечности, что теплилось в пред-
ставителях «старой гвардии». Глеткины — соединение
вполне первобытного сознания и машины. Они могут
быть исполнителями и охранниками. В лагерях или
Академии наук. Когда Великая Доктрина уже созда-
на, им в обязанность вменяется ее охрана от «реви-
зии». На смену мыслителям прошлого приходят Мити-
ны и Юдины — Глеткины от философии. Это то самое
«в шинелях с наганами племя пушкиноведов», о кото-
ром предупреждал Мандельштам. Они пишут романы и
надзирают за литературой в «творческом союзе», свято
берегут Соцреализм. В силу нашей увлеченности види-
мостями, мы воспринимаем их как вполне людей, если
не замечаем у них в руках оружия или резиновой
палки. Они и впрямь иногда почти как люди («Ну и
погодка!» или «Эх, «Спартачок»-то ваш вчера...»), но
людского в них мало, и они делают все, чтобы и в тех,
кого курируют по долгу службы, человеческое умень-
шалось бы неуклонно.
1 Кроме, разумеется, тех, кого надлежало ликвидировать для
торжества справедливости, то есть потенциально всех.
21
Рубашов не строит иллюзий насчет Глеткина, но да-
же на пороге небытия старается оправдать его. Он пи-
шет в дневнике, лояльный революционер-диалектик:
«По какому праву мы, уходящие, смотрим на Глетки-
ных свысока? Не напоминаем ли мы обезьян, которые
потешались над первым неандертальцем? Высокоциви-
лизованные обезьяны, изящно прыгая с ветки на ветку,
поражались уродству и приземленности неандерталь-
ца. Утонченные и грациозно-веселые, предавались они
возвышенным размышлениям, а он угрюмо расхаживал
по земле, сокрушая своих врагов суковатой дубиной,
вызывая у обезьян насмешливое удивление, и тогда они
забрасывали его гнилыми орехами. Но иногда ужас ох-
ватывал обезьян: они чуждались насилия, а этот монстр
жрал сырое мясо и убивал даже своих соплеменников.
Он валил деревья и сдвигал нерушимые скалы, восста-
вал против древних традиций и посягал на вековечные
законы джунглей. Да, он был грубым, хищным и ковар-
ным — с точки зрения обезьян. И мартышки до сих пор
смотрят на человека с боязливым отвращением...»
Апология «нового человека» звучит настолько дву-
смысленно, что можно заподозрить Рубашова в неис-
кренности, но, если разобраться, он и Глеткин и впрямь
составляют «союз нерушимый». Они необходимы друг
другу, идеолог насилия и его неразмышляющий «ин-
струмент». Глеткины отменно исполняют черную рабо-
ту, от которой идеалисты Рубашовы быстро выдохлись
бы и, чего доброго, «усомнились» в Высшей Цели.
Рубашовы, в свою очередь, дают палачеству Глетки-
ных идеологическое обоснование. Как писала X. Арендт,
«для безжалостной машины притеснения и уничтоже-
ния организованная обывательская масса являет собой
несравненно лучший материал, чем так называемые
профессиональные преступники. Обыватели способны
на куда большие злодейства, если, конечно, последние
будут хорошо организованы и им будет придана форма
чего-то буднично-рутинного»1.
Споры вокруг романа Кестлера в основном разгоре-
лись после второй мировой войны. Когда в 1946 году
роман был опубликован во Франции, его выход в свет
стал причиной разрыва Камю и Сартра. Сартр был рез-
1 Arendt Н. Origins of Totalitarianism. N. Y., 1966, p. 337.
22
ко против издания «Слепящей тьмы», ибо роман гово-
рил вещи, опасные для хорошей Идеи. Камю был «за» —
по тем же причинам. Роже Гароди, тогда ортодоксаль-
ный марксист, обрушился на «ренегата» в книге «Клад-
бищенская литература», где утверждал, что принять
картину революции, поКестлеру, означает «лишить себя
мужественной и жизнеутверждающей радости созида-
тельного творчества», которое предполагает сталинский
план построения коммунизма.
Не состоявший в рядах французской компартии,
но бывший в те годы «активно сочувствующим», М. Мер-
ло-Понти в работе «Гуманизм и террор» использовал
аргументы, высказанные ранее Троцким. То, что не-
дальновидным кажется «преступлениями» строя, на де-
ле олицетворяющего собой исторический прогресс, над-
лежит рассматривать в исторической же перспективе.
А потому единственным верным критерием оценки дея-
тельности Глеткина является вопрос: способствуют ли
его акции скорейшему построению того государства
будущего, что задумал Сталин. У Мерло-Понти Глет-
кин — выражение социалистического гуманизма. Он
кажется бесчеловечным только тем, кто не умеет
смотреть на происходящее в перспективе грядущего
и т. д., прямо по рубашовской теории мартышек и
неандертальца. Кестлер же «пишет с точки зрения
прошлого и в слепоте своей не видит диалектики целей
и средств». Смысл процессов понятен лишь тем, кто ви-
дит контуры великолепного будущего. Чтобы постичь
суть процессов, надо смотреть на них с точки зрения
диктатуры пролетариата. Революция, даже если основа-
на на понимании законов истории, всегда будет наси-
лием, и все то, что противостоит ей — якобы во имя гу-
манизма,— будет контрреволюцией.
Трудно сейчас с определенностью сказать, что имен-
но руководило каждым из ниспровергателей Кестлера
во Франции тех лет — обида за Великую Идею (в кото-
рую было тем более легко и приятно веровать, что это
создавало ореол борца с прогнившим капитализмом —
и не влекло репрессий со стороны последнего) или
простой житейский расчет отличиться перед Партией,
если она возьмет верх и Франция, вступив в союз свобо-
долюбивых республик, начнет казнить «врагов народа»
миллионами. Так или иначе, Кестлер считал, что публи-
кация «Слепящей тьмы» помешала французским ком-
23
мунистам победить на всеобщих выборах. Что же каса-
' ется его хулителей, то им суждено было стать персона-
жами романа «Время жажды» (1951). Его действие
разворачивается во Франции, которой угрожает опас-
ность (улыбается счастье) встать на рельсы, ведущие
в светлое будущее. Роман окутан пеленой безнадежнос-
ти. Кестлер опасается, что у Запада нет сил сопро-
тивляться тоталитаризму, нет идеалов, которые можно
было бы противопоставить коварно-циничному Верному
Учению. Последнее же заручилось поддержкой ряда
западных интеллектуалов, не желающих видеть гибель-
ных последствий своих экзерсисов.
Кестлеровский профессор философии Мерье (нечто
среднее между Сартром и Мерло-Понти) «может дока-
зать все, во что верит, а верит во все, что может дока-
зать». Он готов признать, что Содружество Свободолю-
бивых Республик (вариант Страны Победившей Рево-
люции из «Слепящей тьмы») хотя не стало пока земным
раем, но выражает собой исторически детерминирован-
ное движение к новой, высшей форме общественного
устройства. Тот, кто против Содружества, заодно и про-
тив Прогресса. Тот, кто против Прогресса, льет воду на
мельницу реакции. Тот, кто льет воду на мельницу реак-
ции, готовит войну, самое гнусное преступление против
человечества.
Гуманист Мерье осуждает аресты и внесудебные
приговоры, практикуемые в Содружестве, но признает
право Прогресса устранять со своего пути враждебные
реакционные элементы. Он — сторонник всеобщего ра-
зоружения, но сурово осуждает попытки реакции поме-
шать прогрессивным режимам стать «арсеналами ми-
ра». Он клеймит позором наглую Республику Кроликов,
отказавшуюся снести оборонительные сооружения на
своих границах, как просило Содружество, и тем самым
доказавшую свою реакционную суть.
Старые идеалы нежизнеспособны. Новые — неандер-
тальские — несут гибель всему, что дорого демократи-
ческому сознанию Запада. Гибель автономии личнос-
ти, свободе мнений и совести, равенству перед зако-
ном. Символически этот кризис идей, утрата веры полу-
чает выражение в «истории любви» американки Хай-
ди, разочаровавшейся в догматах католицизма, к чело-
веку будущего (снова у Кестлера всплывет слово «неан-
дерталец») Федору Никитину, сотруднику посольства
24
Содружества Свободолюбивых Республик в Париже. Са-
мое невыносимое для Хайди — жизнь без идеалов, в без-
верии. Побывав на митинге «в защиту мира» (глава
«Шабаш ведьм»), она грустно заметит своему спутнику,
бывшему коммунисту и бывшему поэту Жюлю: «У каж-
дого из них было какое-то очень искреннее устремление
к истине. У них есть вера. Может быть, они заблуж-
даются, может быть, они верят в миражи, но, кто знает,
вдруг верить в миражи — лучше, чем не верить ни во
что».
Увлечение утратившей веру американки не ведаю-
щим сомнений неандертальцем окажется кратким и за-
кончится мелодраматически — выстрелом Хайди в не-
верного любовника. Неверного в двух планах — ив ин-
тимном, и в «идеологическом». Хайди узнает, что этот
советник по культуре занимался сбором секретной ин-
формации и готовил списки опасных интеллектуалов,
подлежащих немедленному аресту в случае присоедине-
ния Франции к Содружеству Свободолюбивых Респуб-
лик. Покушение удается замять. Хайди, как и боль-
шинство американцев в обреченном Париже, будет
спешно собираться назад, за океан. Никитин, как не оп-
равдавший надежд, отправлен назад в Содружество ра-
ботать охранником в концлагере. В Париже толпы вы-
шли на улицу выразить поддержку Содружеству Сво-
бодолюбивых Республик. Сценой всеобщего смятения —
то ли началась высадка десанта, то ли идет учебная
тревога — и заканчивается этот роман, грустный эпилог
к и без того мрачной «Слепящей тьме».
Артур Кестлер в «Слепящей тьме» показал, что по-
пытка насильно «содрать с человечества старую шкуру
и дать ему новую» приводит к гибели подопытного, что,
когда «цель оправдывает все», она уничтожает самое
себя. Он изобразил процесс созидания «тюремного рая»
и рождение нового человека — угрюмого партнеандер-
тальца. Джордж Оруэлл в романе «1984» предъявляет
окончательный продукт — Ангсоц (английский социа-
лизм), который торжествует в супердержаве Океании.
Написанный в 1948 году (перестановка двух пос-
ледних цифр и родила название), роман стал теперь той
самой классикой, без которой, кажется, невозможно
осмыслить тяжкий опыт по внедрению Светлых Идей
25
в жизнь XX века. Когда в 1987 году прошел слух о гото-
вящейся публикации романа в СССР, это казалось почти
фантастикой. Ведь сравнительно недавно за чтение и1
распространение (передачу книги приятелю) этой гнус-j
ной клеветы на социализм на нашем Архипелаге Сво-
боды давали срок. «1984» держали в спецхране, но не;
всякий спецхран мог вместить такую пакость. К прич
меру, заурядного спецхрана Библиотеки иностранной;
литературы не хватало, требовался спецхран двойной,
ленинский (то есть в библиотеке Ленина), чтобы уменИ
шить опасность облучения идеологической ересью сов-j
верующих. '■
Выход на свободу романов Кестлера и Оруэлла стал
событием на пути раскрепощения нашей общественной
мысли, хотя тоталитаризм от их появления не растаял
как нечистая сила от крестного знамения.
Впрочем, запрещались эти и другие книги за дело.
И во благо наших граждан. Как, спрашивается, было
сосуществовать бюрократической олигархии, десятиЛе-;
тиями измывавшейся над страной, и роману Оруэлла,
чеканно-афористически создававшего свою версию науч-
ного коммунизма (само словосочетание по-оруэлловски
парадоксально) ? Как можно было спокойно жить совет-
ским людям, если бы одновременно публиковались
«Архипелаг ГУЛАГ» или «Большой террор» Р. Конк-
веста и тогдашние, брежневских времен, псевдомемуа-
ры и антимонографии историко-политического плана?
Или, может, попытались бы их «обезвредить» — писа-
лись бы привычным слогом рецензии («отдельные вер-
ные наблюдения сочетаются с ошибочными обобщения-
ми» и пр.)? Да нет, такое писать можно, только когда,
оригинал надежно спрятан...
«Сейчас утопии гораздо осуществимее, чем думали]
прежде. Сейчас мы оказываемся перед печальной проб4
лемой, как избежать утопии. Утопия стала реальное-]
тью. Жизнь движется к утопии. Мы вступаем в новую
эпоху, когда люди будут мечтать избежать утопии и вер-1
нуться к неутопическому обществу, может, менее со-]
вершенному, но зато более свободному». j
Эти слова Н. Бердяева О. Хаксли взял эпиграфом]
к своему роману «О дивный новый мир» (1932), где изо-]
бразил счастливое общество будущего, не знающее кон-1
фликтов и потрясений. Человекообразные существа,!
взращиваемые в пробирках, лишены и намека на ин-
26
дивидуальность и исправно выполняют положенные
функции.
«О дивный новый мир» Хаксли, «1984» Оруэлла,
как и весьма ценимый Оруэллом роман Е. Замятина
«Мы», принадлежали к тому литературно-философско-
му направлению, что получило название антиутопии,
представлявшей, по словам одного из исследователей,
«грустное и окончательное прощание человека со своей
давней мечтой об организованном идеальном обществе,
с той самой мечтой, что так благородно заявила о себе
в «Государстве» Платона, «Утопии» Томаса Мора, «Ог-
лядываясь назад» Э. Беллами»1. Разумеется, антиуто-
пические тенденции в литературно-философской мысли
не рождены XX веком — этот скептический коммента-
рий неизменно сопровождал выкладки утопистов,— но
именно наше столетие, богатое «сугубо научными»
экспериментами, призванными быстро и надежно созда-
вать идеальный социальный строй, создало благопри-
ятные возможности для процветания этого анти-
жанра.
Надо сказать, что роман Хаксли был оценен Оруэл-
лом весьма критически: «Там не объясняется, почему
общество разделено на столь затейливую систему клас-
сов. Нет давления экономических факторов, да и жела-
ние властвовать и угнетать не выступает в романе сколь-
ко-нибудь серьезным мотивом. Там нет ни жажды
власти, ни садизма, ни жестокости. У правящей верхуш-
ки нет достаточных оснований держаться за власть, и хо-
тя там все стерильно счастливы, жизнь течет столь
бессмысленно, что не верится, как такое общество
вообще может существовать».
Автор романа «1984» весьма ценил «Железную пя-
ту» того самого Джека Лондона, которого в СССР теперь
склонны считать сугубо детским беллетристом, возмож-
но, потому, что были им обкормлены многие поколения.
Оруэлл видел в этой книге верное предсказание тота-
литарных тенденций, зреющих в недрах индустриаль-
ного общества. Замятин же, по его мнению, тонко про-
чувствовал иррациональное начало тоталитаризма —
жестокость как самоцель, культ вождя, наделенного
божественными свойствами, страсть деспотии к челове-
ческим жертвоприношениям. Высоко отзывался Оруэлл
1 Hi Не gas М. The Future as Nightmare. L., 1966, p. 1.
27
и о «Слепящей тьме» Кестлера, хотя обычно «1984»,
во многом развивающий кестлеровские идеи, рассматри-
вается критиками по ведомству антиутопии, а «Слепя-
щая тьма» — как роман-документ. Это, конечно, весь-
ма условно. Для граждан созданного Лениным —
Сталиным государства «1984» не столько гротеск, фан-
тазия, образ будущего, сколько копия с того, что было
и не исчезло в 1991 году. Для тех же, кто достаточно уда-
лен от нашей истории, и «Слепящая тьма» Кестлера
вполне может показаться антиутопией и даже сюрреали-
стическим кошмаром. Так что «реализм» и фантастика
понятия достаточно условные.
Оруэлл вполне отдавал себе отчет в опасностях,
что может нести человечеству надвигающаяся тотальная
индустриализация. Но он видел беды пострашнее экс-
цессов научно-технического прогресса. Деспотия ма-
шин, по его мнению, не шла ни в какое сравнение с
деспотией людей, приобретавшей, впрочем, еще боль-
шую силу, когда в крестовом походе против человечес-
кого, отказывающегося слепо подчиняться начальникам-
благодетелям, она опиралась на новейшие достижения
науки и техники.
«В прошлом тирании рано или поздно оказывались
свергнутыми или по крайней мере встречали отчаян-
ное сопротивление того, что именуется «человеческой
натурой»,— писал Оруэлл в 1935 году,— той самой на-
туры, что неосознанно стремилась к свободе. Но «чело-
веческая натура» — понятие отнюдь не вечно-неизмен-
ное. Не исключено, что удастся вывести породу людей,
которым свобода совершенно не нужна,— научились же
выводить безрогих коров. Инквизиция тут потерпела
неудачу, но у нее не было тех возможностей, которы-
ми располагает современное государство. Цензура на
радио и в печати, стандартизация образования, нали-
чие тайной полиции — все это в корне изменило поло-
жение вещей. Манипуляция сознанием в последние
двадцать лет превратилась в самую настоящую науку,
возможности которой поистине безграничны».
Что касается породы людей, которым ни к чему сво-
бода, то ее вывели сталинские мастера селекции — че-
ловек «новейшей формации» процветал и радовал сво-
им послушанием мудрых руководителей, но в один пре-
красный день выяснилось, что услужливая покорность,
безразличие ко всему происходящему и неспособность
28
действовать по собственной инициативе настолько внут-
ренне разложили его и разлагают все вокруг, что об-
щество начинает рушиться. Потому-то и возникла необ-
ходимость в перестройке — не случайно тревогу забило
именно начальство, увидев, что руководит обществом
сверхинертным, а потому и недееспособным.
Господь Бог создал человека по образу и подобию
своему. Похожим ремеслом занимались и профессио-
нальные гуманисты в течение долгих десятилетий, прев-
ращая всех тех, кто должен, по идее, выполнять твор-
ческие, созидательные функции, в чиновника, бюрокра-
та, отводя остальным роль дешевой рабочей скотины,
пушечного мяса.
Структура оруэлловского государства отличается ци-
ничной простотой. Есть пролы, рабочая сила. Есть чле-
ны внешней Партии — клерки, бюрократы малого и
среднего калибра. Есть, наконец, внутренняя Партия,
определяющая политику державы, умещающуюся в три
основных лозунга: «Война — это мир», «Свобода —
это рабство» и «Незнание — сила».
Партийные лозунги — сочетание слов, противопо-
ложных по значению, но превращенных в тождества.
Об этой загадочной синонимии антонимов размышлял
(мы его цитировали выше) и герой кестлеровской
«Слепящей тьмы». Это важнейший узел тоталитарной
философии. С одной стороны, это результат абсолю-
тизации диалектики — в первую очередь диалектики
марксистской,— превращающейся, при невозможности
критики ее выводов, в софистику. Не только мораль-
но все, что служит делу революции, но и также истин-
но то, что помогает приблизить святую цель. Сама ре-
волюция несла в себе зловещий парадокс этой «синони-
мии». «В революции,—читаем у Бердяева, — проис-
ходит суд над злыми силами, творящими неправ-
ду» но судящие сами творят зло в революции и до-
бро осуществляется силами зла, так как добрые
силы были бессильны реализовать свое добро в исто-
рии».
Реальная сложность взаимоотношения полярных по-
нятий и представлений, вызванная революцией, допол-
няется борьбой за монополию не только политическую,
но и вообще мировоззренческую, в свою очередь связан-
ную с вполне прагматическими задачами приведения
общества в «порядок». Выступая за сознательность ре-
29
волюционного меньшинства, призванного господством
вать над историческим процессом, Ленин создавал пред^
посылки «господства над истиной» определенной rpynl
пы лиц. «Будучи материалистом, Ленин совсем не был
релятивистом и ненавидел релятивизм и скептицизм!
как порождение буржуазного духа. Ленин — абсолкЯ
тист, он верит в абсолютную истину. Материализму
очень трудно построить теорию познания, допускающую
абсолютную истину, но Ленина это не беспокоит!
Его невероятная наивность в философии определяется
его целостной революционной волей. Абсолютную исти!
ну утверждает не познание, не мышление, а напря-1
женная революционная воля. И он хочет подобрать лкн
дей этой напряженной революционной воли. Тоталитарна
ный марксизм, диалектический марксизм есть абсолют-!
ная истина. Эта абсолютная истина есть орудие рево-
люции и организации диктатуры. Но учение, обосно-j
вывающее тоталитарную доктрину, охватывающую всю]
полноту жизни — не только политику, экономику, но а
мысль и сознание, и все творчество культуры,— може'Я
быть лишь предметом веры»1. , 1
Если истина — орудие борьбы, то, стало быть, ут|
верждаются те истины, которые годятся для проведе-1
ния в жизнь конкретных политических преобразований!
и ниспровергаются истины, тому препятствующие. Ис-]
тина не добывается путем напряженных интеллектуаль!
ных исканий, но декретируется постановлением тех!
кто обладает реальной властью. 1
Истина — это ложь. у
Ложь — это истина. 1
В романе Кестлера «Время жажды» есть эпизод]
иллюстрирующий процесс изготовления «пластичной
истины». Поборник «всего прогрессивного» лорд Эд|
вардс — известный физик. «В молодости лорд Эдвард!
внес немалый вклад в теорию расширяющейся веет
ленной. Но после того как Центральный Комите]
Содружества Свободолюбивых Республик постановил!
что вселенная вовсе не расширяется и вся теория рас!
ширяющейся вселенной сфабрикована буржуазным]!
учеными как отражение империалистического захват!
новых рынков, поборники космической экспансии был£|
должным образом наказаны, и лорд Эдварде, хоть и жив-j
Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 100.]
30
ший в Англии и не имевший оснований бояться за
свою жизнь, опубликовал книгу, где черным по белому
растолковал, что вселенная находится в полном равно-
весии и не выказывает никаких намерений расширять-
ся. После второй мировой войны, когда Содружество
Свободолюбивых Республик начало включать в свой
состав прилегающие страны и заметно расширять свои
территории на Востоке и на Западе, Центральный Ко-
митет пришел к выводу, что вселенная все-таки расши-
ряется, а статическая теорийка сфабрикована буржуаз-
ными учеными как отражение застоя и загнивания ка-
питалистической экономики. После того как двадцать
миллионов рабочих и колхозников направили в Цент-
ральный Комитет резолюции, требуя смертной казни
мерзавцам-застойщикам, лорд Эдварде опубликовал еще
одну книгу, где убедительно доказал, что вселенная
расширялась, расширяется и будет расширяться».
Лорд-попутчик хочет идти в ногу со временем, быть
носителем научнейшего мировоззрения. У тех, кто жи-
вет по другую сторону железного занавеса, задача по-
проще — выжить. В конце концов не все ли равно,
расширяется, сужается или пребывает в равновесии
вселенная, если на чашу весов брошена твоя собственная
драгоценная жизнь? Истину в мире абсолютов не добы-
вают. Ей присягают. А если истина меняется, надо во-
время изменить свое отношение к истине-ренегатке и
успеть восславить «истинную истину». Писатель Лев
Леонтьев из того же романа выходит выступать на соб-
рании сторонников мира, имея два варианта речи —
в зависимости от того, какое направление примет стре-
мительно развивающийся конфликт между миролюби-
вым Содружеством Свободолюбивых Республик и гнус-
ной и злобной Республикой Кроликов. В романе Оруэл-
ла оратор на собрании будет клеймить заклятого врага
Океании Евразию и славить союзника Остазию, но в этот
момент ему сунут бумажку, и он легко, плавно, на полу-
фразе изменит линию и обрушится на отвратительную
Остазию. Задача Уинстона Смита, сотрудника минис-
терства Правды,— приведение в порядок прошлых номе-
ров газет и журналов, чтобы прошлое не вздумало
противоречить настоящему. Остазия всегда будет вое-
вать с Океанией — до того момента, когда в политике
произойдет очередной сдвиг, и тогда уже с Океанией
будет всегда воевать Евразия.
31
Непредсказуемость прошлого — важный идеологи-
ческий инструмент партии Ленина — Сталина, и Оруэлл
первым дал его исчерпывающее описание. Переписыва-
ние истории — необходимость, продиктованная общей
установкой: истина не ищется, но декретируется. «Кто
управляет прошлым, тот управляет будущим,— гласит
ангсоцовская премудрость.— Кто управляет настоящим,
тот управляет прошлым».
Деятельность Уинстона Смита — утрированное отра-
жение функций интеллигенции в эпоху построения со-
циализма. Это контроль над информацией — охрана
одних мифов и распространение других. Одной из луч-
ших работ Смита становится воссоздание образа велико-
го героя товарища Огилви, чуть не с пеленок проник-
нувшегося идеями Старшего Брата. Ему должны подра-
жать грядущие поколения. Нет нужды, что этот рожден-
ный воображением спеца-интеллектуала персонаж —
фикция с начала до конца, он все равно живее всех
живых. По крайней мере, реальнее «распыленных» ре-
ликтов старой гвардии, Аронсона, Резерфорда и Джон-
са, Рубашовых Ангсоца, от которых стараниями Смита
в анналах истории не останется и следов. Товарищ Огил-
ви же будет жить в веках, ибо это Нуль, который не
изменит, не подкачает, на него удобно умножать лич-
ности, обращая их в такие же нули.
Оруэлловский герой производит вклейки и подчист-
ки в газетах, после чего они выглядят, словно их никто
не обрабатывал. Наша техника, конечно, не достигла
таких высот, но этого и не требовалось. Книги, газеты,
журналы, содержащие информацию, не соответствую-
щую генеральной линии, содержались в спецхранах.
Впервые оказавшись в таком спецхране и обнаружив
в английской газете вырезанный кусок, я поспешил к
дежурной по залу доложить о читательском вандализ-
ме. Но она лишь усмехнулась: то было изъятие того,
что мне и прочим в этом простом спехране читать не по-
лагалось. Это хранилось лишь в спецспецхране, куда и
вовсе пускали считанные единицы.
Сейчас многие хотели бы по-оруэлловски переписать
историю так, чтобы СССР находился на ножах с гитле-
ровской Германией еще в 1939 году. Но, увы... Как
заявил В. Молотов на сессии Верховного Совета 31 ок-
тября 1939 года по случаю ратификации договора о
дружбе с кромсавшим Польшу великим рейхом: «Идео-
32
логию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую
систему, можно признавать или отрицать, это дело поли-
тических взглядов. Но любой человек поймет, что идео-
логию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней
войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступ-
но вести такую войну, как война за уничтожение гитле-
ризма». Вот так загодя Великая Отечественная была
названа «преступной войной». Можно ли после этого
обойтись без спецхрана? Впрочем, существовал у нас
и внутренний спецхран, где мы берегли информацию,
которую не имели возможности использовать в своей
профессиональной и творческой деятельности, выпуская
пар в кулуарах.
Если истина держится на воле одних и вере других,
приходится всемерно оберегать эту веру, избавляя ве-
рующих от искусов и строго карая богохульников.
В стране воинствующего атеизма, кстати, слова «вера»
и «веровать» по частотности употребления превосхо-
дили слова «думать» и «размышлять». Марксизм из
научной гипотезы перегонялся в опиум для народа.
Братство, свобода, восход, светлый путь — все эти
славные понятия просятся начертаться на кумаче или
высечься на мраморе, стать названиями колхоза или
завода. Но по закону антонимии синонимов за красав-
цем понятием неизменно крадется его гнусный двойник-
антипод. Потому не удивляет, что министерство Правды
у Оруэлла производит ложь, министерство Мира ведет
войну, в министерстве Любви пытают мыслепреступни-
ков, и если их не распыляют, то бросают в страшные
лагеря радости, радлаги.
Теперь можно говорить открыто, что в газете «Прав-
да» печатают неправду (что признано нашим же судом),
что не пустуют тюрьмы на острове Свободы (то бишь на
той самой Кубе, что упорно не желает поступаться прин-
ципами, выступая в роли Нины Андреевой Карибского
бассейна). Можно еще вспомнить, что «Светлый путь»
(не колхоз, а террористическая группировка) заливает
кровью Перу во имя торжества «истинного марксизма»,
но главное состоит в том, что понятия-самозванцы от-
менно делают свое дело. Это пропагандистский десант,
который тайно внедряется в подсознание масс и нала-
живает там аппаратуру для принятия и одобрения лжи-
2 С. Белов
33
вых истин1. Тут не должна уже удивлять машина-фуд
гон с надписью «Хлеб» или «Мясо» снаружи и арестом
ванными внутри. Это наглядное представление о един!
стве сущности и видимости в деспотии. 1
Вполне понимая деятельность и программу внут!
ренней Партии Оруэлла (ум, честь и совесть эпохи Анг1
соца), не могу, однако понять, почему эта достойна]
организация заявляет о своих целях столь откровенна
Ее учение, конечно, всесильно, оттого что верно, и наобо!
рот, но где необходимое лицемерие? Зачем вывешиват!
для всеобщего обозрения то, что говорится в кулуарах!
Похоже, Оруэлл немного недоучел специфику риторики
коммунизма. Тут налицо изъян конструкции. Для гитле!
ровской Германии такая циничная откровенность ещ!
куда бы ни шла, но для Сталина подобный подход недос!
таточно тонок. Лозунг Ангсоца «только пролы и живот!
ные свободны» у Сталина выглядел как «труд есть дел!
чести, доблести и славы». В такой «наоборотности» бы!
залог долголетия режима. Гитлер возмущал и пугал веся
мир своими каннибальскими призывами и добился тогЛ
что его режим, просуществовав всего лишь двенадцати
лет, рухнул, сделавшись устойчивым символом алД
Сталин, напротив, утверждая одно, а делая как pal
совсем другое, создал могучую Систему. Она сильна н!
только армией и тайной полицией, но и способность»
прекрасно адаптироваться в меняющейся обстановке
Сталинист Хрущев, развенчав Сталина, сохранил стЛ
линизм. И в эпоху так называемой перестройки стали!
низм продолжает существовать, принимая внешним
формы борьбы с «перегибами» и отдельными ошибкам Л
прошлого. Живучесть Системы напрямую связана 1
умением производителей истин постоянно менять места]
ми правду и ложь, факты и фикцию, создавая в конце
концов такую систему координат, где просто невозможн]
определить, где право, где лево, где верх и низ. ВместД
этого налицо конгломерат полудостоверностей, где по!
1 Одной из таких «истин» является высказывание члена-коррес!
пондента АН СССР Г. Шахназарова в его книге «Куда идет человечесД
во» (1985) о том, что оруэлловское министерство Любви «объединяв!
функции ФБР и ЦРУ». Автор явно лукавит, ну да то ложь во спасение
таких святынь как НКВД и Политбюро с Генсеком, несмотря на от!
дельные ошибки, ведшие страну по правильному пути. Возможно!
сейчас автор писал бы несколько иначе. Сейчас и наши политология
и журналисты-международники пишут несколько иначе и, как даю!
понять иные из них, загодя «готовили перестройку». I
34
нятие может наполняться любым содержанием. Где
исключается возможность проверки на подлинность,
где само по себе стремление проверять (а не дове-
рять) — знак неблагонадежности.
Потребителям истин, готовым всей душой поверить
в любую чушь, если она подана в виде Абсолютной
Истины, волей-неволей приходится жить и работать
в повседневности. А это требует доверия к чувствам,
здравому смыслу и даже нравственности. В будничной
рутине ревзак (революционная законность), ревмор
(революционная мораль) и ревсоз (революционное соз-
нание) не всегда уместны (представьте семейную жизнь
или отношения на производстве, строящиеся исключи-
тельно по законам Революции!). Тогда на помощь при-
ходит двоемыслие, способность держаться двух противо-
положных убеждений одновременно. Оруэлл как-то
чересчур долго и торжественно разъясняет читателям
это словечко (по-английски оно и впрямь звучит необыч-
но — doublethink), хотя по содержанию тут все тради-
ционно, и у нас двоемыслие усваивается еще с пеленок1.
Двоемыслие — единомыслие в действии. Бесприн-
ципность — как основной принцип. Житейская хит-
рость, позволяющая ощутить себя умным и свободным
от догматизма,— и служить этим догмам. Власть покупа-
ла и унижала этой возможностью существовать, рассчи-
тывая наперед: как начнет все это шататься и примутся
обличать нас умники, мы им живо напомним, что вы
р нами сотрудничали, были коллаборационистами,—
к ну, признавайтесь, что писали в 1949, 1953, 1969,
»975 -м и т. д.?!! Двоемыслие — познание конъюнктуры,
приводящее к тому самому Незнанию, что, по Оруэллу,
кть сила. Сила тоталитаризма.
I Кестлер видел историческую заслугу Гитлера в том,
рто тот сделал миру прививку против утопизма,— так
Ррививают холеру. Сталин по праву должен разделить
Р ним такую честь. Один из самых горьких итогов второй
Мировой войны, по Оруэллу, состоит в том, что тотали-
таризм пережил гитлеризм. И, добавим, еще присвоил
N6e звание победителя тоталитаризма. Мир в «1984» по-
рлен между тремя супердержавами, которые отменно
I Разумеется, лицемерие и ханжество — вариант двоемыслия —
|вление общечеловеческое. Но, вводя свой броский термин, Оруэлл
Подчеркивает его, так сказать, государственную необходимость в
ГРУктуре Ангсоца.
приручили такое, казалось бы, неконтролируемое явле-
ние, как война, заставив его лить воду на свою мельницу.
Война, если к ней отнестись «по-научному», может быть
полезным перпетуум-мобиле. Она помогает самоутвер-
диться на мировой арене и прекрасно держит в струне
собственных подданных. Кому война, кому мать родна,
как горько шутили в России.
У Оруэлла война — это мир.
Можно и наоборот: мир — это война.
Случайно ли, в самом деле, Сталин, Хрущев и Бреж-
нев, представлявшие собой деспотию в разных модифи-
кациях, столь настойчиво «боролись за мир во веема
мире»? Нет, конечно же. Они боролись за мир особого}
свойства, в котором процветает насилие и принуждение,
где личность держат на строгом режиме1. И не надо об-j
манываться борьбой против ядерной угрозы. Она никак!
не мешала гонке вооружений, ибо велась исключительно
на словах. Собственно, это предсказал Оруэлл в «1984».I
Его супердержавы успели переболеть ядерной лихорад-1
кой и вовремя поняли, что ядерные конфронтации]
опасны, ибо способны отобрать власть у олигархий.]
Оруэлл напоминает, что тоталитаризм придает войне!
важнейшие социальные, политические, идеологические]
функции. Тоталитаризм, собственно, и есть война. Вне!
военного положения он бессмыслен, ибо все его струк-1
туры и институты носят активно наступательный харак-1
тер. Вовне — на другие страны, у себя дома — на свой!
народ, а также внутрь человека, на его личностное!
начало. Самое трагичное состоит в том, что народ не!
замечает войны, если она носит постоянный и доста-1
точно «холодный» характер. Его приучили бояться вой4
ны горячей, с окопами, снарядами и бомбежками. Егя
приучили твердить: «Лишь бы не было войны»,—!
и, шантажируя этой реальной возможностью, принуж-1
дают терпеть и слушаться, слушаться и терпеть... I
«1984» поражает мрачнейшим, без тени юмора коло-1
ритом, но вместе с тем это произведение не столькЛ
футурологического, сколько сатирического плана. ЭтЛ
своеобразное продолжение откровенно бурлескном
«Фермы животных» (1943), истории возникновения ш
развития Передовой Теории от Маркса до Сталина!
Только там была использована форма басни, сказки!
1 Именно хрущевско-брежневский вариант войны имел в виду!
Солженицын, говоря о насилии, которое «разрешает себе выглядетЛ
и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным». I
36 I
а тут антиутопии. Конечно, в «1984» есть немало удач-
ных предвидений (возникновение супердержав, переход
от политики ядерной конфронтации к холодной войне),
но в основе своей это остраненное отражение реальных
процессов и явлений, правда, происходящих не в
Англии, но вполне способных перенестись на британ-
скую почву.
Это трагикомедия, в которой Догма задумала сожрать
и здравый смысл и вообще, похоже, все живое, в которой
Партия — то бишь часть — есть целое, а целое, то есть
страна,— лишь придаток партии.
«Главная цель современной войны (в соответствии
с принципами двоемыслия эта цель одновременно при-
знается и не признается руководящей головкой внут-
ренней Партии) — израсходовать продукцию машины,
не повышая общий уровень жизни...» — сказано врагом
народа Океании Эммануилом Голдстейном в его запре-
щенной книге «Теория и практика олигархического
коллективизма».
Чем так нел нравится тоталитаризму общий высокий
уровень жизни?
Тем, что ставит под удар самые основы общества
насилия.
Централизованное распределение продуктов питания
и товаров первой необходимости — отменный способ
держать в повиновении народ. Тот, кто одет, обут, сыт,
имеет профессию и «перспективы» и добился этого всего
сам, вряд ли будет кланяться и благодарить «родное
правительство» за заботу. Тот же, кто во всем зависит
от прихотей начальства, кто, даже заработав деньги,
не уверен, сможет ли обменять их на то, что ему надо,
связан по рукам и ногам. Дали возможность отоварить
талоны на мыло, чай, мясо, маргарин и пр.— спасибо
Партии. Лишь бы не было войны.
А война-то идет.
Низкий уровень жизни — сущий рай для тоталитар-
ной системы, ибо гарантирует ее власть. Когда нет
самого необходимого — в Океании 1984-го, как и в
-ССР 1991 года, вечный дефицит то бритвенных лезвий,
то шнурков, то чего-то еще — резко вырастает значение
Мелких привилегий. «Человек, наевшийся мяса, брезг-
ливо отворачивается от сухих костей партийной доктри-
ны...» __ сказано в Книге.
Потому-то идеи «обогащения частных лиц» вызыва-
*°т такой отпор в СССР эпохи перестройки. Это уничто-
37
жит власть Аппарата, каковая будет сведена до прямо-
таки унизительной для советского чиновника необходи-
мости «служить закону». Не случайно столько стрел
было выпущено в адрес «частной собственности».
Надрывно кричалось про забвение «наших идеалов». Но
что такое «наши идеалы» в понимании тех секретарей
райкомо-обкомов, что возвещали: «Нам не нужна много-
партийность»? Им, конечно, не нужна...
Чем прогрессивнее строй, чем человеколюбивей его
«пустые слова», тем длиннее очереди в магазины, слабее
соцзащищенность и ниже качество товаров. Курильщик
в Океании не поставит сигарету стоймя: мигом табак
высыплется. Еда — гадость, товары — дрянь. Это не
изъян. Это как раз правильное положение дел. Если
строй прогрессивен, то он устремлен в будущее, где]
воздвигнется хрустальный дворец. Если ты веруешь в
будущее и в Грядущую Победу, ты должен не замечать^
настоящего, ибо оно неистинно: видимость, скрывающая]
сущности. Сытная еда и мягкая постель убаюкивают]
задерживают в пути. ]
«Товары надо производить, но не надо распреде-]
лять,— глумится далее Голдстейн.— На практике
единственный путь к этому непрерывная война». j
То, что недогадливым и легковерным кажется сти-;
хийным бедствием, происками «вредителей», у Оруэлла|
есть тщательно спланированная программа, обеспечи-
вающая мир для деспотов разного калибра. Угроза^
поражения в войне, страх перед иноземной оккупацией]
творят чудеса — все забывают о распрях и бытовых!
тяготах, готовы, засучив рукава, подтянув пояса, стис-|
нув зубы, терпеть. А если надо, то и отдавать жизнь]
«во имя». 1
«Война не только осуществляет нужные разруше-1
ния, но и делает их психологически приемлемым]
способом». i
Военное положение — рай для деспотического режи-1
ма. Угрозой извне объясняется «временное» ограни-j
чение свободы. Сколько раз нам внушали, что все!
теперешние трудности — результат происков между-!
народного империализма. Холодная война, если взгля-1
нуть на нее в таком ракурсе,— не печальное стечение]
обстоятельств, но сущая находка. Это не провал попыток]
договориться враждующим сторонам, но результат!
удачного «соглашения» правящих олигархий, эксплуа-1
тирующих военную ситуацию для манипуляции своими
подданными. Немалую пользу могут принести и «ма-
ленькие грязные войны», отвлекающие внимание масс
от внутренних неурядиц, направляющие недовольство
в «милитаризованные каналы». Эти войны можно вести
достаточно долго, но только нельзя в них проигрывать,
как это случилось во Вьетнаме и Афганистане.
Созданные фантазией Оруэлла «двухминутки нена-
висти», возможно, в Англии конца 40-х могли казаться
абсурдом, но истинный строитель коммунизма воспи-
тывается на двухминутках, декадах, месячниках и пяти-
летках ненависти. С детского сада начинается полит-
просвещение, важный элемент которого — усвоение
образа врага. Иначе говоря, народ и армия едины.
Расставание с врагом болезненно — это все равно
что разлука с любимым. Вырвать образ врага — то же,
что удалить коренной зуб. Рана кровоточит и может
дать нагноение. Кроме того, это ставит вопрос о внутрен-
ней демобилизации, ибо народ в тоталитарном госу-
дарстве представляет собой армию, в любой момент
готовую обрасти погонами, вооружиться и двинуться
в поход.
Беда деспотии не только в жестоких правителях.
Тоталитаризируется и сам народ, теряя способность
к демократическому общежитию. Процесс демонтажа
тоталитаризма связан не только с ликвидацией механиз-
мов принуждения, но и с освобождением человека, томя-
щегося в своей собственной тюрьме — каземате страхов,
предрассудков, догм.
В «1984» агрессия против личности на уровне
мышления заключается в прививке двоемыслия, на
Уровне эмоций — в виде ненависти, на уровне выраже-
ния чувств и мыслей — посредством обучения «но-
иоязу». Один из коллег Смита лингвист Сайм трудится
пад очередным изданием толкового словаря «новояза».
«Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа —
пРидумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы унич-
ижаем слова — десятками, сотнями ежедневно. Если
>годно, оставляем от языка скелет...»
Каков смысл усилий этого антилингвиста и почему
|0гУдарство всячески поощряет такую деятельность?
)твет таков: «Задача новояза — сузить горизонты мыш-
л°иия. В конце концов мы сделаем мыслепреступление
!°просту невозможным — для него не останется слов.
39
Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-|
единственным словом, значение слова будет строг«
определено, а побочные значения упразднены и забыты..!
Революция завершится только тогда, когда язык станет]
совершенным. Новояз — это ангсоц. Ангсоц — этв
новояз». I
Оруэлл нашел афористическое выражение неви!
димому и крайне опасному процессу уничтожения ин|
дивидуальности через умерщвление живого слова и
внедрение псевдослов — шумовые помехи в канал!
связи, претендующие на то, чтобы исполнять обязан]
ности информации, адекватно передавать квазимысли!
Дабы не ходить далеко за примером, процитируем
написанный на новоязе абзац, посвященный самом]
Оруэллу в академической Истории английской лите!
ратуры 1958 года. Поскольку другой, поавторитетней]
истории британской словесности в СССР пока не сущест!
вует, это и есть действующая инструкция для литера!
туроведов: «Человек в книгах Оруэлла сознательна
унижен; автор с особым удовольствием рисует картина
величайшей деморализации, подлости и грязи, до коте«
рых только могут докатиться существа, именующие себ!
людьми, но по сути дела лишенные и разума, и воли!
и человеческого достоинства. Распад личности, столы
типичный, как показал Горький, и для буржуазного!
общества, и для буржуазной литературы в эпоху импе!
риализма, Оруэлл возводит в абсолют. Вопреки неопро!
вержимым свидетельствам современной истории, на!
глядно доказавшей всему миру величие, мужество я
стойкость духа борцов за правое дело, Оруэлл силится
внушить читателям упадочную трусливую мысль М
внутренней неспособности человека к последователь!
ному сопротивлению обстоятельствам, о мнимой неиз!
бежности его морального краха»1. !
Строки идут за подписью видного литературоведа!
автора штудий о Диккенсе и Теккерее. Впрочем, это нЛ
столько плод личных размышлений, сколько присяг!
на лояльность, выполнение ответственного партийного
задания. В условиях той войны, что есть мир, и литера!
турное творчество, и литературоведение становятся
«ареной борьбы», где агрессивность — это вид само!
защиты. Возможно, в те годы об Оруэлле ничего иногя
История английской литературы. М., 1958, т. 3, с. 693—694J
40
оГ1убликовано быть не могло, но ужас и заключается в
том, что вроде бы вполне разбирающиеся в истинном
положении вещей люди торопились подписаться под
вердиктом трибунала ИМЛИ. В 40—50-е можно было
^хлопотать срок за ВАД (восхваление американской
демократии) и ВАТ (восхваление американской
техники). Так и напрашивалась аббревиатура ВАЛ
(восхваление американской или английской литера-
туры).
Можно назвать это образцом соцреализма в литера-
туроведении. Но соцреализм — понятие куда более
широкое, чем литературный или литературоведческий
метод. Это метод государства, построенного на неуваже-
нии к законам, с одной стороны, и личности — с другой.
Исходя из установки придавать фантастически-наду-
манному статус реального, он руководит экономикой,
политикой, идеологией. И в этом смысле «1984» — одно
из самых подробных исследований соцреализма в его
расширенном значении.
Соцреалист от лингвистики Сайм продолжает: «Чо-
t ер, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском
варианте, превращенные не в нечто новое, но в собст-
венную противоположность. Даже партийная литера-
тура станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда
ваяться лозунгу «Свобода — это рабство», если упразд-
нено самое понятие свободы? Атмосфера мышления
станет иной. Мышления в современном значении вооб-
ще не будет. Правоверный не мыслит, не нуждается в
мышлении. Правоверность — понятие бессознатель-
ное».
Образец такой правоверности — коллега Смита Пар-
(,'>нс, идиот-оптимист, обремененный общественными
нагрузками, гулкое эхо партлозунгов. Как отмечает
\ Арендт, «тоталитаризм, придя к власти, непременно
упирает первоклассные таланты, независимо от их сим-
|,атий режиму, заменяя их идиотами и болванами, без-
Д|Фность и глупость которых — лучшая гарантия лояль-
ности»1. Интеллектуала Сайма «распылят» именно по
п°й причине (точно так же «не поверили» в свое время
Умному и циничному М. Кольцову, да и И. Эренбург,
взывавший режиму чрезвычайные услуги, тоже жил,
И) называется, в камере смертников — хотя и не без
Arendt Н. Origins of Totalitarianism, p. 337.
41
известного комфорта). Но и болвайу Парсонсу не поздо-
ровится. Его семилетняя дочь, услышав, как папа во сне|
пробормотал «Долой Старшего Брата!» — выдаст из-
менника «органам». Страх за себя сочетается у Пар-|
сонса с гордостью за выращенную им достойную!
смену. |
Но за что Парсонса-то? ]
А просто так. ]
Тоталитарная система нуждается в постоянных кро-]
вопусканиях, словно пародируя старую фразу насчет!
дерева свободы, которое нужно время от времени opoj
шать кровью тиранов. Для тоталитарного «древа сво|
боды» нужны миллионы доноров. Нет виновных и не!
виновных. Обречены все... 1
Что же может сделать одна-единственная человечея
екая личность, вдруг ощутившая, что дальше так житш
нельзя? Как ей вести ебя в мире, где любой контак!
опасен, где все от мала до велика охвачены виру]
сом шпиономании, где идет отчаянная борьба за выжи!
вание? я
Знаменательно, что мятеж Уинстона Смита происхЛ
дит на двух фронтах одновременно. Это измена Ангсоця
(завел дневник, куда заносит собственные мысли, читая
ет запрещенную литературу) и незаконная интимная
связь с Джулией. Секс — Оруэлл тут «типичнейший
представитель» западной традиции — кажется после™
ним бастионом, где личность чувствует себя свободном
Именно с программой революции сексуальной выстуя
пали в 60-е годы те представители западной молодежия
кто в родном демократическом обществе видел «новый
фашизм», гнетущую отчуждающую силу. Я
Но связь между государственной изменой и незаконя
ной любовью в романе Оруэлла представляется вполня
органичной и даже закономерной. ■
«1984» — роман о любви, ибо проблема любви в тотЯ
литарном обществе стоит остро. Я
Тоталитарное государство зиждется не на законе, нЯ
на принуждении. С другой стороны, одним принуждЯ
нием не удержаться даже самому лютому режиму. Тя
не обойтись без любви. Любви граждан к Системе, котЛ
рая, в свою очередь, испытывает любовь к насиликЯ
Тратить любовь — государственное, политическсЯ
чувство — на кого-то другого недопустимо. ТайньЯ
союз Джулии и Уинстона был бы уже преступен, если бЯ
42
они ограничились «прелюбодеянием». Правовое госу-
дарство — сообщество лиц, находящихся в юридических
отношениях. Деспотия юридические отношения заме-
няет «семейными узами» (отсюда штампы «семья
народов», «братский союз» и пр.). Не случайно и дикта-
тор Океании именуется Старшим Братом. Он отечески
заботится о «малых детях», карает ослушников, награж-
дает паинек, те должны отвечать ему любовью. Кстати,
и министерство Любви названо вполне в соответствии
с его функциями. Там учат любить вождя — не только
тех, кто угодил в застенки, но и тех, кто остался «по
ту сторону решетки»,— на отрицательных приме-
рах ослушников и положительных «товарищей
Огилви».
В этой школе любви познает тоталитарную систему
Смит.
В романе Замятина «Мы» герой восставал против
формулы «дважды два — четыре», ставшей для него
символом бездушного угнетающего рационализма. Он
боролся за право время от времени утверждать, что
«дважды два — пять», словно повторяя за персонажем
«Записок из подполья» Достоевского «дважды два и без
моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает?».
У Оруэлла все наоборот. «Дважды два пять» — символ
Ангсоца, закон того, что получило в романе название
«коллективного солипсизма», а еще зовется «управляе-
мым безумием». Согласно этому подходу реально лишь
то, что существует в сознании — коллективном, партий-
ном, а затем уже и внедренном в индивидуальные
сознания. Не случайно одной из первых записей в днев-
нике Смита будет апология «математике» наперекор
колдовским формулам Ангсоца: «Свобода — это воз-
можность сказать, что дважды два — четыре. Если
Дозволено это, все остальное отсюда следует».
Верноподданные в Океании не просто лишены этой
Роскоши, но они всей душой верят, что дважды два —
Пе только пять, но вообще ровно столько, сколько ска-
^но. Уже оказавшись в камере пыток министерства
'^юбви, доведенный до получеловеческого состояния
Мит реально начинает видеть пять пальцев, когда его
мУчитель О'Брайен говорит, что пальцев пять, но под-
ымает руку с четырьмя пальцами.
Смита, увидевшего пять пальцев вместо реальных
°тырех, нетрудно понять. Можно ли впрямь верить
43
глазам и ушам своим, собственному внутреннему толо4
су, когда все вокруг являет собой гигантскую мистик
фикацию. О'Брайен, якобы принадлежавший к под|
польному Братству, ведущему борьбу против Ангсоца$
оказался Великим Инквизитором Партии. Мудрая Кни-j
га, которую штудировал Смит, написана самим же!
О'Брайеном, а не предателем Голдстейном. Воп-|
рос, есть ли Братство или нет, покрыт мраком неизвест-1
ности, и сомнительна даже реальность Старшего!
Брата. I
Реальна лишь Партия и ее мифотворчество. Джулия
очень верно заметит однажды, что, может, и вовсе Hei
войны Океании с Евразией — Остазией, а бомбы сбра |
сываются на Лондон по приказу Партии, чтобы держат!
всех в страхе и послушании. 1
Мы диалектику учили не по Оруэллу, но мне!
признаться, временами как-то плохо верилось в сущее«
вование Запада, Америки в частности. Невозможност]
самому поехать туда и убедиться, что все это есть, неош
ходимость верить на слово хитрецам-«международни!
кам» рождали ощущение великого обмана. Ну а что ка|
сается англоязычной литературы, то ее вполне могли из!
готовлять, к примеру, в английской редакции издатель!
ства «Радуга». Зловредные «Голос Америки» и «Свобо!
да» — продукт особого отдела Гостелерадио, создающего
вымышленный, но впечатляющий образ врага, которого
на самом деле не было и нет. 1
Почему Уинстону Смиту в министерстве Любви
оказана столь великая честь — почему его перевоспи!
тывают, вместо того чтобы тихо прикончить? История
его «процесса» — символическое отражение укроще!
ния строптивых. Переделка личностей в безличности -Ш
важная сфера деятельности уверенно победившего
«воинствующего гуманизма». С другой стороны, тут, тан
сказать, затронута проблема чести. Система должна
время от времени доказывать себе, а также всему свет«
что свободная личность — мираж, чувство собствен
ного достоинства — иллюзия, собственное мнение
не совпадающее с государственным,— бред. Я
Вообще деспотизм, имея в своем распоряжения
гигантскую военную силу, обладая монополией на ерем
ства массовой дезинформации, насадив всюду стукачеЛ
и шпионов, прямо-таки мистически боится свободной
мнения частного человека, видя в его живом слове угроД
44
своему благополучию, «Кощееву смерть». Когда в ответ
на рассуждения О'Брайена о власти Смит говорит, что
деспотизм не победит, потому что ему всегда будет про-
тивостоять человек, сила его духа, его мучитель отвеча-
ет: «В таком случае вы последний человек на земле».
Тут есть над чем поработать. Тем почетнее будет победа.
Кстати, так, «Последний человек», и назывался перво-
начально этот роман.
В одной из английских экранизаций романа Оруэлла
Уинстон Смит и Джулия выходили на расстрел вместе,
и последними их словами было гордое: «Долой Старшего
Врата». Звучало красиво, но совсем не по Оруэллу.
Смерть с проклятьем на устах палачам — не поражение.
У Оруэлла же Система одерживает полную и оконча-
тельную победу, как это было и в «Слепящей тьме»
Кестлера. Рубашов как бы расстреливал сам себя во имя
торжества Партии. Смит и Джулия, погибнув нравствен-
но (Оруэллу важен момент их предательства друг дру-
га как показатель «клинической смерти» личности),
останутся доживать. Как-то раз встретившись, они
обменяются ничего не значащими репликами и пой-
дут своей дорогой, бывшие возлюбленные, бывшие
.поди.
Единственной наградой Смита за мучения в минис-
терстве Любви будет ответ на вопрос, не дававший ему
долго покоя: «Зачем?» Зачем надувательство, насилие,
террор? О'Брайен сформулирует это кратко и понятно,
как в учебнике: «Власть не средство, она цель. Дикта-
ГУРУ учреждают не для того, чтобы охранять революцию,
революцию совершают для того, чтобы установить
диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки —
[ь1тка. Цель власти — власть». Тут Оруэлл решительно
расходится с Замятиным и Хаксли, понимающими
'Усилие как своеобразную «компенсацию за счастье»,
[лату за безмятежную жизнь масс. У Оруэлла тотали-
таризм решительно порывает с рациональностью, лишен
г,рагматизма. Насилие существует у него само по себе,
!>°з причин и целей. Оно живет вне времени и простран-
на и материализуется там, где для того возникают
благоприятные обстоятельства. Проводник такого наси-
лия — Партия, являющая собой организацию не просто
•ового — беспрецедентного типа. У этой партии одна
"Рограмма — борьба за власть, и власть эта выступает
единственной реальной ценностью. Все прочее — каму-
45
фляж, риторика, «лубок». Внутренняя Партия блестяще
адаптируется к обстоятельствам, ибо имеет возмож-
ность контролировать средства информации и перепи-
сывать историю. Такая стратегия позволяет ей уходить
от ответственности за прошлые преступления, каковые
даже не считаются «отдельными ошибками». Ошибок
не было никогда, всегда были удачи и победы. Два
процесса существуют параллельно — «огилвизация» —
превращение реальных людей с их недостатками и ошиб-
ками в бронзовых кумиров (Старший Брат, кстати,—
сам вариант товарища Огилви) и «деогилвизация» —
преображение и людей и сделанных из них «статуй» в
лагерную пыль. Эта технология срабатывает безотказно,
обеспечивая внутренней Партии подлинное бессмертие,
позволяя ей в нужный момент начать любую пере-
стройку. По сравнению с внутренней Партией гитлеров-
ская НСДАП выглядит организацией политических
младенцев. Когда нацизм потерпел военное поражение,
партия была распущена и запрещена. Гитлер, Гиммлер,
Геббельс и другие не могли надеяться на прощение, на]
то, что их «за ошибки» отправят на пенсию по состоянию
здоровья или понизят в должности, а тем, кто в 1933—^
1945 годах занимал не самые высокие места в партийной
иерархии, не суждено было заняться исправлением]
партлинии. Им и в голову не пришло принять деклара|
цию, где большинство членов партии отмежевалось бь|
от того, что творил фюрер. |
Первым читателям романа 1984 год казался доста-|
точно далеким будущим. Для нас, напротив, это, скорее j
символ отходящего в прошлое тоталитаризма. 1
Отходящего крайне медленно. Сейчас, в начале]
1991 года, Сталин покоится еще на Красной площади в]
тени мавзолея, а его верные соратники по-прежнему!
напоминают о себе в названиях городов, районов, улиц J
Следователи и исполнители приговоров НКВД спокойней
живут на пенсиях... «Никто из них не был судим и на
будет,— читаем в «Архипелаге ГУЛАГ».— А за что ия
судить? Ведь они же просто выполняли приказ. Нельзя
же их сравнивать с нацистами, которые просто выпол!
няли приказ. А если они делали что сверх приказа — тЛ
ведь от чистоты идеалов, с полной искренностью, проста
по неведению, что Берия, «верный соратник ВеликогД
Сталина»,— также и «агент мирового империализма»!
Просто страшно подумать, что бы ожидало не то чтЯ
46
Сталина, но Всесоюзного старосту Калинина и «леген-
дарного наркома» Ворошилова, предстань они перед
судом, который взял бы на вооружение принципы Нюрн-
бергского трибунала. Но велика власть клише над людь-
ми, и, даже зная страшные факты, твердят они, что
нельзя же сравнивать Ворошилова с Герингом и Кейте-
лем. Наш ведь как лучше хотел, да что он мог сделать,
когда все решал Сталин. Ну а тот, в свою очередь, слепо
доверял недостойным вассалам.
В министерствах Любви отменно учат обожанию.
Гитлеросталинизм — или сталиногитлеризм — для
многих остается самым главным, самым дорогим в
жизни. «А я-то верил, осел, что в газовых камерах уби-
вали евреев!» —читаем на плакатах одних. «Без Ста-
лина мы не построили бы социализм,— вторят им
духовные родственники.— Без генералиссимуса мы не
победили бы в войне».
Художественная проза наг3ападе редко подменяет
собой публицистику — разные у* них задачи1. Но вот
с литературой о деспотизме, о людоедах, прикидываю-
щихся спасителями человечества, вышло иначе. Ста-
линизм, оказавшись ловчей гитлеризма, умело заметал
следы, обращая факты в фикцию, а миражи в реаль-
ность. Архивы и по сей день доступны немногим, и целе-
направленной публикации документов той поры нет.
А потому романы Кестлера и Оруэлла вынужденно
исполняют обязанности документа, воссоздают истин-
ный лик злодейства.
Перед лицом аргументов Оруэлла и Кестлера замол-
кают наиболее речистые поборники ревмора и ревзака
и нечего сказать тоталитарным музам. Кстати, любо-
пытно, что при всей готовности рядовых армии искусств
отличиться и совершить литподвиг, воспев прелести
лагерного социализма, проза безнадежно отстала от
поэзии. «Если он скажет «Солги!» — солги. Если он
скажет: «Убей!» — убей»,— читаем у Багрицкого.
Маякойский воспевал «товарища Маузера», Антоколь-
ский — Ненависть, которой посвятил проникновенное
стихотворение.
Отчасти потому, что на Западе всегда была возможность от-
крыто высказывать свою точку зрения по вопросам права и рели-
гии, философии и экономики, политики и образования. В России
Все вбирала в себя художественная литература, впитывала в свою
0бРазную ткань и оттого удивляла полнокровием и мощью.
47
Поэзия с ее романтической приподнятостью и не-
определенностью делала то, на что цроза то ли не осмели-
валась, то ли не умела. В общем-то ничего запоминаю-
щегося о годах войны с народом в те годы не появилось
у советских романистов. Так и не была всесторонне
раскрыта гнусная сущность бухаринских выродков.
Не прослежены связи мерзких отщепенцев с мировым
империализмом. Не воспеты храбрые следователи, денно
и нощно выколачивавшие признания из лживых него-
дяев, не прославлены доблестные рыцари ГУЛАГа,
в немыслимых условиях несшие свою трудную, но нуж-
ную вахту. Создана, правда, была книга о Беломор-
канале, но то лишь однажды, да и в жанре документа,
со временем превратившегося в фарс. \
В чем тут дело? Почему поэту легко воспеть Великую?
Антинародную Войну, а прозаику нет? Слишком взрыво-
опасная тема для прозы с ее неизбежной конкретностью!
с ее «мимесисом»? Непроизвольное самозарождение
фарсово-трагикомического? Воспел, к примеру, следов
вателя, его расстреляли как врага народа, воспел того]
кто его расстрелял, а его тоже шлепнули и т. д. Описал
все как есть — расстрелы по списку, процессы над деся|
тилетними детьми, пытки, умерщвление работой —]
нехорошо получится, неуважительно в отношении
Славного Строя. Наврешь с три короба — даже полу-1
художественного текста не выйдет. Словом, есть тут над
чем поразмыслить теоретикам соцреализма. |
Двоемыслы-новоязовцы славно потрудились, чтобь]
превратить Кестлера и Оруэлла, а с ними и многим
других писателей, философов в «собственную противо!
положность». Но теперь начался процесс расколдовы!
вания словесной черной магии литературоведов и обще!
ствоведов в штатском. Книги живут, помогая наш
выдавливать из самих себя рубащовых, парсонсов щ
саймов, расставаться с удобными иллюзиями. 1
Оруэлловские и кестлеровские кошмары еще н!
развеяны ветрами истории. В отличие от рафинирован]
ных западных интеллектуалов, все понимавших, бичЛ
вавших псевдодемократии Запада и аплодировавши!
истинной демократии Сталина (Б. Шоу, Р. Роллам
Л. Фейхтвангер), Кестлер и Оруэлл бросили вызов
мерзкой деспотии в период ее расцвета, предложив Я
гордым экспериментаторам, и их потомкам на се«
оборотиться в зеркало их горькой прозы. Щ
ДВА БОЙЦА
С темой войны в искусстве всегда было связано
понятие героя, человека чести, мужества и стойкости,
гордо бросавшего вызов обстоятельствам и либо одер-
живавшего славную победу, либо погибавшего смертью,
вызывавшей уважение даже у врагов. Как уже не раз
отмечалось критиками, западная литература XX века,
решительно пересматривая очень многое из идеологиче-
ского наследия предшествующей эпохи, подвергла
суровому разбору и понятие героического. Герой ока-
зался под подозрением.
В книге «Ожидание конца» американский литерату-
ровед Лесли Фидлер писал: «Понятия славы, чести и
отваги теряют всякий смысл, когда западный человек,
номинально оставаясь христианином, приходит к твер-
дому убеждению: самое худшее, что только может с ним
случиться,— это умереть, когда впервые за последнее
тысячелетие стало возможным заявлять во всеуслыша-
ние, что нет такой святыни, ради которой стоило бы идти
на смерть. Новое умонастроение, отрицающее наличие
идеалов, во имя которых возможно ставить на карту
жизнь — человечества, нации или просто многих лю-
дей,— принимает разные обличья, но в конечном счете
сводится к формуле: «Нет ничего, за что стоило бы
людям жертвовать собой, нет ничего, за что стоило бы
умереть мне!»1
Велик был тот урон, что нанесла первая мировая
война доктринам социального оптимизма. Традицион-
ный Герой пал на полях ее сражений, а на смену ему
пришел «антигерой» — точка приложения мощных со-
циальных сил, ходячий страдательный залог, человек,
с которым обстоятельства вытворяют что хотят. Одним
из первых засвидетельствовал рождение — точнее, вы-
движение на первый план — этого социального типа
Ивлин Во. У «антигероев» его романов 20—30-х годов
существуют вполне четкие представления о том, «что
такое хорошо и что такое плохо», но мир устроен так,
что личные убеждения «частных лиц» не могут ничего
изменить. Социальный механизм запущен на полные
обороты, и все человековинтики выполняют положен-
ные им функции.
Fiedler L. Waiting for the End. N. Y., 1965, p. 11.
49
Сатирическая проза Во, усвоившего уроки Свифта
и Теккерея, позаимствовавшего кое-что у авантюрного
романа, представляет собой «злой пасквиль» на британ-
ское общество, теряющее прочные этические ценности,
а с ним и признаки даже внешней респектабельности.
«Упадок и разрушение» (1928), «Мерзкая плоть»
(1930), «Пригоршня праха» (1934) — названия книг Во
говорят сами за себя.
В этих романах проигрывается в разных вариантах
примерно один сюжет. Молодой герой, внутренне чис-
тый, порядочный, неискушенный, сталкивается с
социальной реальностью, которая оборачивается бала-
ганом, злой насмешкой над здравым смыслом. Эти
романы объединены общими персонажами, которые,
кочуя из сюжета в сюжет, создают особую страну Во,
сатирико-урбанистический аналог (и в то же время
антоним) Йокнапатофы Фолкнера. Чем меньше в людях
человеческого, тем легче сносят они пинки фортуны,
им не больно, не стыдно, не страшно, они в огне не
горят и в воде не тонут. С другими же, в ком еще
живут честь, совесть и «старые идеалы», судьба обхо-
дится без жалости.
Финал «Мерзкой плоти» застает главного «анти-
героя», Адама Фенвик-Саймза, «посреди самого боль-
шого в истории человечества поля сражения»: «Мест-
ность вокруг была удручающе безотрадна: огромное
пространство развороченной мокрой земли, и все, что на
ней можно было разглядеть, сожжено или разбито.
Где-то за горизонтом гремела стрельба, над серыми
тучами кружили аэропланы. Смеркалось».
Новая мировая война, бушующая на последних стра-
ницах романа, опубликованного в 1930 году, не «виньет-
ка», не прихоть автора, но неизбежное для него след-
ствие социального недуга, охватившего Британскую
империю. Через двенадцать лет Во опубликует роман
«Не жалейте флагов», где речь пойдет уже о взаправ-
дашней, второй мировой войне, точнее, о том, как встре-
тили ее «лучшие люди Англии», излюбленная мишень
сатирических инвектив Во.
У некоторых критиков сложилось впечатление, что
беспощадный насмешник в этом романе смягчился и
расчувствовался, изменив своему принципу смотреть на
жизнь без иллюзий. Виной тому финал романа, где
представители золотой молодежи патриотически запи-
50
сываются в действующую армию, собираясь (по крайней
мере Во дает это понять) воевать всерьез. Возможно,
писатель планировал продолжить цикл, где расставил
бы все по своим местам. Но продолжения не после-
довало. Опыт участия в войне многое изменил в миро-
созерцании Во. Роман «Не жалейте флагов» подвел
итоги целого творческого этапа. В 40—50-е годы этот
мастер гротеска и трагикомического фарса двинулся
«в сторону реализма». Сохранив очень многое из своего
боезапаса 20—30-х годов, Во сделался серьезным, заин-
тересовался тем, как ведут себя люди в сложных,
рожденных конфликтами большой истории ситуациях.
Так возникла трилогия Ивлина Во «Почетный меч»,
которую многие британские критики называют лучшим
творением английской прозы о второй мировой войне.
В военной трилогии Во поднял — впервые для себя
и неожиданно для многих своих почитателей — проб-
лему деятельного положительного героя, попытался
найти «точки соприкосновения» между личностью и
обществом, когда личность могла бы реально служить
всеобщему благу, не поступаясь своими принципами,
не оказываясь инструментом в руках деловых людей.
В английской литературе XX века Ивлин Во был
одним из самых непримиримых и последовательных
критиков буржуазности. Но в поисках защиты от «века
торгашей» он обращал свой взор в далекое прошлое.
В противовес «плебейскому» нуворишеству выдвигал
старинный идеал земельной аристократии, когда земле-
дельцы и землевладельцы составляли одну большую
семью, где не было ужасной «эгалитарности», но зато
существовало понятие ответственности «старших» перед
«младшими», где строгая социальная иерархия, по
убеждению писателя, должна была стать единством, не
знающим тех гибельных антагонизмов, что разъедали
британское общество середины XX века.
В 1930 году Во принял католичество. Смысл этого
поступка станет ясен, если иметь в виду, что в Англии
с давних пор это была религия меньшинства, вера тех,
кто находился в оппозиции к господствующим установ-
лениям, строил жизнь в согласии с заповедями истины
и Добра, а не на соображениях пользы и выгоды. Судя по
романам 20— 30-х годов, Во не назовешь «автобиогра-
фическим писателем», хотя при желании за шутовскими
Проводами ловкачей, богатых бездельников и недотеп,
51
за остраненной иронией повествователя можно увидеть
потаенную исповедь страдающего человека. В трилогии
«Почетный меч» это начало возрастает, дистанция
между автором и главным героем сокращается. Ирония
и гротеск, отнюдь не покидая художественного мира
Во, жестко контролируются писателем.
Действие первого романа «Военные» (1952) начина-
ется в Италии, где живет уже восьмой год отшельником
Гай Краучбек, сын и последняя надежда Джервеза
Краучбека, хранителя старинных аристократических
традиций некогда славного рода. Старшие сыновья
Джервеза погибли совсем молодыми — один в первые же
дни первой мировой войны, другой от психического
заболевания. Гай разошелся с женой Виргинией. Като-
лическая церковь не разрешает разводов, Гай не может
жениться вторично, а коль скоро брак его был бездетным,
род Краучбеков обречен...
Из затянувшейся апатии Гая выводит заключение
советско-германского пакта и последовавшее за ним
вторжение Германии в Польшу. Жизнь Гая обретает
ясность и цель, тот внутренний смысл, которого все
это время так не хватало. Враг очевиден — Современный
век в лице гитлеросталинизма. С ним нужно бороться,
забыв обо всех разногласиях с британской реальнос-
тью.
Воспрянувший к активной жизни, Гай собирается
в Англию. Перед отъездом он посещает местную цер-
ковь, где находится гробница Роджера Уэйбрука,
английского рыцаря, что много столетий назад покинул
берега Альбиона, дабы принять участие в крестовом
походе. Случилось так, что он сложил свою голову
на этой земле в междоусобной стычке. Гробница рыцаря-
неудачника стала для местных жителей святыней. К ней
приходили они пожаловаться на жизнь и попросить
заступничества. Все то время, что Гай прожил в этих
местах, он ощущал внутреннее родство с этим чело-
веком, не сумевшим исполнить свое предначертание.
Отправляясь в свой крестовый поход, Гай навестил
гробницу и, дотронувшись до меча рыцаря, прошептал:
«Святой Роджер, молись за меня и наше королевство...»
Сложности, выпадающие на долю современного крес-
тоносца, многочисленны. Не последнюю роль здесь
играет и то, что общество, которому готов служить
верой и правдой Гай, даже в час испытаний пребывает
52
в моральном хаосе, погрязло в интригах, лишено веет
того, что ассоциируется с героикой.
Симпатии Во на стороне Гая, что не мешает ему
выставлять своего персонажа в весьма ироническом
виде. Гай мечтает о подвигах на поле брани, но полк
Королевских Алебардщиков (с давними традициями и
весьма унылым настоящим), куда не без труда удалось
ему устроиться, на фронт не посылают, и уделом Крауч-
бека становится рутина казармы. Во все времена призна-
ком мужества и отваги считались боевые раны. Гая, как
и многих его товарищей, будут постоянно преследовать
бытовые травмы или самые заурядные болезни. Таковы
недуги рыцарства новейших времен.
Пародией на славного Роджера Уэйбрука станет
фигура командира Алебардщиков Бена Ритчи-Хука. Во
время первой мировой войны этот неустрашимый воин
приносил в качестве трофеев вражеские головы, стал
ходячей легендой, символом безудержной отваги. В ожи-
дании новых подвигов одноглазый, со сломанным носом
и без многих пальцев на руках ветеран будет маяться
от безделья и носиться взад-вперед на своем мотоцикле.
Когда же наконец Алебардщики получат приказ плыть
в Дакар, с тем чтобы тотчас же вернуться обратно,
Ритчи-Хук на свой страх и риск затеет бессмысленную
вылазку на берег и добудет очередную голову. И потом
этот забияка будет время от времени предпринимать
дерзкие — и совершенно ненужные — набеги, обретая
полупризрачные очертания того самого неуловимого
мстителя, которого никто и не думает ловить.
Но чтобы стать героем в современной войне, не
нужно храбрости. Главное — угодить в правильный
миф. Если раньше героев рождали обстоятельства, то
ныне это прекрасно делают журналисты. Отряд десант-
ников, возглавляемый отчисленным из Алебардщиков за
«профнепригодность» экс-парикмахером Триммером,
получает задание взорвать неприятельский маяк на
одном из островов в Северном море. Сбившись с курса
в тумане, они высаживаются в оккупированной Норман-
дии, где, впрочем, немцев нет и в помине. Встретив отпор
местных жителей (женщина выстрелила в воздух из
Ружья), горе-диверсанты дают стрекача, наугад побро-
сав гранаты. Под пером штабного борзописца комедия
ошибок превратится в славную победу, а ничтожнейший
Триммер — в народного героя. Гаю же выпадает не-
53
счастье угодить под надзор контрразведки. Глава секрет-
ного отдела Грейс-Граундлинг-Марчпол, углядевший в
Гае «важный след», «связника», агента иностранной
разведки, гордится своим умением «видеть смысл там,
где менее проницательным умам открывается хаос».
Между тем у Триммера, ставшего знаменитостью,
возникает роман с легкомысленной Виргинией, после
разрыва с Гаем живущей от романа к роману. В оче-
редной раз проигрывается традиционный для сюжетов
Во вариант любовной интриги: дама из большого света
охотно принимает ухаживания ловкача из низов. Ивлин
Во, как и булгаковский профессор Преображенский,
очень не жаловал «пролетариата». Для обманутых
мужей из предыдущих романов Во измена жены была
началом конца, первым актом трагедии. Гаю везет боль-
ше, хотя разочарованиям его нет числа.
Второй роман «Офицеры и джентльмены» (1955)
окончательно разрушает надежды Гая послужить оте-
честву, ставшие меркнуть уже в конце первой части
трилогии. После неудачной экспедиции в Дакар Крауч-
бек не без скандала покидает Алебардщиков (он стано-
вится косвенным виновником гибели одного из своих
сослуживцев), поступает в части особого назначения
и после подготовки в Шотландии оказывается на Крите.
Он долго мечтал об участии в настоящем сражении,
и его желаниям суждено сбыться, с тем чтобы оказаться
еще одной иллюзией. История поражения англичан
на Крите рассказана в романе так, словно над ней
сообща потрудились Хемингуэй и Свифт. Короткие,
фрагментарные зарисовки отступления и эвакуации
остатков английских соединений передают ощущение
трагедии, вырастающей из сумятицы и неразберихи.
Один из персонажей романа запишет в своем днев-
нике: «Капитану Краучбеку нравится, что генерал
Мильтиадес — джентльмен. Он готов поверить, что
такие люди выигрывают войны. Но все джентльмены
сильно одряхлели». Этот афоризм словно подводит итоги
воспитания Гая в «школе мужества». Перед лицом
опасности «офицеры и джентльмены» снова и снова
демонстрируют свою несостоятельность. Бравый началь-
ник Томми Блекхауз из-за травмы (не исключено,
что и мнимой) не может принять участие в критской
баталии. Бросит оружие и сбежит с поля боя майор
Хаунд. Опозорит себя аристократ Иво Клер. Если преж-
54
де Гаю казалось, что все зло исходит от Современного
века, этого ненасытного хищника-дельца, то военный
опыт открывает ему убожество «столбового дворянства».
Одно время цвет нации воплощал для него Иво Клер,
«человек, которого Гитлер напрасно не принял во
внимание». Но поистине «не сотвори себе кумира».
Кодекс чести Иво Клера при первом же испытании
оказывается набором пустых слов. Он удерет с Крита,
бросив на произвол судьбы товарищей и подчинен-
ных.
Предательство Иво Клера ставит точку в перечне
разочарований Гая. Возвращаясь с Крита, он завер-
шает «двухлетнее паломничество в той Святой земле,
что зовется Иллюзией, и вновь оказывается в старом
мире двусмысленностей, где священники — шпионы,
верные друзья — предатели, а родина все глубже и
глубже погружается в пучину». По словам англий-
ского критика Б. Бергонци, в финале «Офицеров и
джентльменов» «процесс воспитания чувств Гая Крауч-
бека можно считать законченным: реальность слишком
мрачна и сложна, чтобы ее можно было уложить в тот
или иной героический миф при всем его внешнем блес-
ке»1. Аристократы подводят, как и представители про-
чих классов британского общества. Недовольный колле-
гами, начальством, внешней политикой Великобритании
вообще, Гай приходит к выводу, что «остается только
личная честь».
Роман «Безоговорочная капитуляция» (1961) — за-
вершение исканий Гая. Он возвращается к Королевским
Алебардщикам довоевывать войну, которая уже не
кажется ему битвой во имя Добра и Справедливости.
Он верен присяге. Он делает, что ему велят,— не более
того.
Главный подвиг Гая — на личной почве. Он восста-
навливает отношения с заблудшей Виргинией, готов
признать своим ребенка, что должна родить она от
Триммера. Впрочем, вполне понимая сложности, что
возникнут между Гаем и Виргинией, когда Гай окон-
чательно вернется с фронта, Во решил «умертвить»
Виргинию во время авианалета. Ребенок же останется
жить. Свершилась мечта отца Гая. Род Краучбеков
будет продолжен. Формально.
Bergonzi В. English Novel of the 50 s. L., 1966, p. 102.
55
Как и в прежних романах Во, последние страницы
«Безоговорочной капитуляции» проникнуты грустью.
Вернувшись домой разочарованным победителем, Гай
женится вторично. Подругой жизни станет «грубоватая
фермерская дочка», которая родит ему еще двоих сыно-
вей и будет вести все дела на их маленькой ферме:
пародия на гармоническое единство аристократии и
«почвы». Ну а Современный век одерживает полную
победу, окончательно нарушив границы между добром
и злом, истиной и ложью. Поражение нацизма не
внушает Во радости: один супостат повержен, но другие
целы и невредимы и ходят в героях. С большим неудо-
вольствием его персонаж Гай будет взирать на «почет-
ный меч Сталинграда», что перед вручением Сталину
выставлен на всеобщее обозрение в Лондоне. Этот меч
представляется Гаю карикатурой на благородное ору-
жие сэра Роджера Уэйбрука, на котором он поклялся
исполнить обет служения родине. Гай и сам себе кажет-
ся карикатурой.
В России Во видит жестокого и коварного врага,
заключение каких-либо союзов с которым недопустимо.
Коммунизм, как и нацизм, для него — часть всеобщего
зла, которым наводнен мир. Размышляя о войне, венгер-
ская еврейка г-жа Каньи из «Безоговорочной капиту-
ляции» скажет: «Есть ли на нашей земле сегодня уго-
лок, свободный от зла? Было бы слишком просто сказать,
что только нацистам хотелось воевать. Коммунистам
война тоже была нужна... Да и многие из нас видели
в ней способ рассчитаться с немцами и ускорить созда-
ние нашего национального государства. Мне кажется,
что окружающий мир был просто пропитан тягой к
войне, жаждой смерти. Даже самые достойные верили,
что война нужна им лично. Убивая и рискуя быть
убитыми, они надеялись самоутвердиться. Они были
готовы терпеть лишения и трудности как наказание
за прежние апатию и эгоизм... Я знала итальянцев,
которые так думали. А среди англичан такие встреча-
лись?
— Да простит меня Господь,— ответил Гай.— Я был
в их числе».
Тупик, в котором оказался Гай, не в последнюю
очередь объясняется этим стремлением использовать
войну в целях личного самоутверждения, хотя внешне
оно принимает облик желания принести пользу общест-
56
ву. Гай Краучбек изображен с сочувствием и доста-
точно объемно, чтобы восприниматься как живой, стра-
дающий человек, но в то же время его наивность, некри-
тическое принятие некоторых обветшалых догм делают
его очень похожим на «благородных простаков» ранних
романов Во, с которыми жизнь обходится без снисхож-
дения. Поражение Гая — не только свидетельство мощи
безобразного Современного века, но и напоминание, что
жизнь — а значит, и сам этот Современный век — не
сводится к простым формулам. Ивлин Во, прекрасно это
понимая, сумел талантливо передать трагизм ситуации
тех, кто, расставшись с одними мифами, не смог, однако,
найти достойной замены утраченным иллюзиям, остался
с «пригоршней праха» когда-то незыблемых абсолютов.
Петер Славек, главный персонаж романа Артура
Кестлера «Появление и исчезновение» (1943),—бук-
вально во всем антипод Гаю Краучбеку. Славек из
мелкобуржуазной восточноевропейской семьи, Гай —
потомок английских аристократов. Славек еще в недав-
нем прошлом — коммунист, убежденный борец за свет-
лое будущее пролетариата, Гай — ревнитель «славного
прошлого», а об отношении его создателя Во к низшим
сословиям уже говорилось. Пожалуй, единственное, что
сближает персонажей-антиподов,— это чувство глубо-
кой неудовлетворенности творящимся вокруг и попытки
не просто наладить контакты с реальной жизнью, но
и изменить ее.
В начале кестлеровского романа его главный персо-
наж появляется в некоей европейской стране, прозрачно
названной Нейтралией (в ней угадывается Португа-
лия), за пределами которой бушует вторая мировая
война. Петер только-только освобожден из тюрьмы
восточноевропейской страны, где у власти оказались
фашисты. Еще сравнительно недавно Петер был убеж-
денным коммунистом, но конкретные методы построе-
ния царства разума и справедливости внушали ему
°твращение, разъедая его юношеский идеализм. Однако
в мире идет борьба демократий против фашизма, и он
считает своим долгом быть в антифашистских шеренгах.
^н пытается поступить добровольцем в британскую
аРмию, но из-за его «красного прошлого» его досье
Долго блуждает по бюрократическим каналам.
Петер — аутсайдер, чужой среди своих. Для право-
йеРных коммунистов он безнадежный романтик, взыс-
57
кующий невозможного, для скептиков — прирожден-
ный неудачник, обреченный всю жизнь оставаться на
стороне страдающего меньшинства. В отличие от Руба-
шова Петер Славек вовремя отошел в сторону от партий-
ной деятельности, но вне партии он чувствует себя
рыбой, выброшенной на сушу. Он своего рода пленник
благородной идеи, но не может найти ей разумного
применения. В прошлом было действие, а стало быть,
и смысл. Увидев опасные последствия слишком после-
довательного применения догм, ранее казавшихся ему
чудесными откровениями, он отринул померкнувшие
идеалы, но вместе с ними отринул и то, ради чего стоило
жить. Отринул надежду.
К моральным терзаниям Петера добавляется и физи-
ческий недуг: у него отнимается нога. Его соотечест-
венница врач-психотерапевт Соня Болгар проводит курс
психоанализа, где его героизм, преданность идеалам,
стойкость и пр. интерпретируются как неосознанная
попытка искупить трагический случай в детстве (буду-
щий герой умышленно нанес увечье младшему брату,
на котором, как казалось Петеру, родители сосредо-
точили всю свою любовь). Соня Болгар исходит из
«объективно-научного» подхода, согласно которому
Петера интересовали не высокие принципы, но — под-
сознательно — возможность претерпеть страдания и
муки за детское преступление. Дабы познать себя,
человек, по ее мнению, должен отбросить в сторону
«вторичное», то есть убеждения, принципы, веру, как
фантомы, рождаемые подсознанием, «усыновляемые»
сознанием и заслоняющие истинное положение вещей.
Все то, что человечество привыкло описывать краси-
выми фразами,— «дело желез, нервной системы, реф-
лексов, определяемых наследственностью. Каплей йода
меньше в щитовидке, властная гувернантка, любящая
тетка, легкое изменение в деятельности нервных узлов
мозга — и герой становится трусом, а патриот преда-
телем».
Процесс «разрушения мифов», начатый аполитич-
ным врачом, подхватывает активный нацист Бернард,
который видит истинную причину «революционизма»
в неосознанном стремлении компенсировать тот или
иной недуг или физический недостаток: «Большинство
ваших девиц были уродками, отряд Золушек-психопа-
ток, решивших подорвать устои общества, в котором
58
никто не приглашал их на танцы. А ваши мужчины —
вечные подростки, страдающие от комплекса неполно-
ценности, старые девы мужского пола, которым Власть
и не подумала предложить руку и сердце».
Дело, впрочем, не в том, что говорит нацист Бернард.
В какой-то степени это безжалостно сформулированные
с мутные сомнения и опасения самого Петера. Левый
интеллигент, он постоянно ощущал, сколь многое
отделяет его и таких, как он, «попутчиков», от рабочих,
делу которых он решил посвятить всего себя. Раздавая
листовки и убегая от полиции, он испытывал смутное
чувство, что, если его поймают и арестуют, «это будет
несправедливо». В конце концов, он человек со стороны,
а «они», рабочие, тут главные действующие лица. Для
них и из-за них затеяна вся эта цепь массовых выступ-
лений.
Бернард же продолжает: «В революционном движе-
нии рабочие и впрямь авангард своего класса, а вы от-
ряд самоубийц, беглецов из стана буржуазии. В отличие
от ваших золушек, синих чулков, в шеренгах фабричных
шли симпатичные девушки и крепкие парни. Они
очень похожи на нас, и они первыми переходили на
нашу сторону. Они никогда до конца не верили вам,
чуяли неладное в вашем желании во что бы то ни стало
присоединиться к пролетариям, тогда как сами они
только и мечтали порвать со своим настоящим. Для вас
баррикады — возможность выпустить истерический
пар, для них -гг естественный способ осуществить впол-
не конкретные цели. Отсюда сентиментальный культ
рабочего в ваших кругах. Вы восхищались и завидо-
вали рабочим и работницам, потому что они протесто-
вали по естественным причинам, а вы — из истерики.
Какими бы личными мотивами вы ни руководствова-
лись, вы всегда оставались Кориоланами классовой
борьбы».
То, что прежде казалось незыблемыми истинами,
не нуждающимися в доказательстве, аксиомами, начи-
нает выказывать в глазах Петера свой сомнительный,
а то и вовсе призрачный характер. Он действительно
героически вел себя в фашистском застенке, выдержи-
вая самые изощренные пытки. Он никого не выдал,
он ничего не рассказал. Но сейчас Петер не видит в этом
личной заслуги. Он с недоверием выслушивает разго-
воры о Мужестве, Вере, Стойкости, ибо — сеансы врача-
59
психотерапевта не прошли даром — опасается, что вс«
это результат не духовной стойкости, но физической,]
животной выносливости: «Люди обожествляли абст-1
рактного Героя, который презрел и пытки, и смерть,|
но не понимали, что главная борьба шла с самим собой —|
нужно было сохранять контроль над своими мускулами J
нервами, кишечником. Те, кто поставил террор на!
научную основу, прекрасно это усвоили. Они знали, что!
на определенной стадии пытки отдельные части тела]
переставали слушаться мозг: желудок исторгал содер-|
жимое, слезные железы разбухали, голосовые связки]
начинали вибрировать сами собой, прямая кишка не-|
произвольно сокращалась. Они знали обо всем этом,;]
рассчитывали на это, чтобы морально раздавить чело-|
века, превратить его в беспомощного младенца, растоп-j
тать его гордость, уничтожить волю к сопротивлению».!
Петер приходит к выводу, что героизм коренится не]
в прочности убеждений, но в особенностях психофизи-J
ческой конституции человека. Материальное берет ре-|
ванш лад абстрактным. |
Лечение, предложенное Соней Болгар, приносит свои|
плоды: нога Петера снова начинает действовать. Фор-i
мально способен к активности и сам Петер, но терапия,]
вернувшая ему возможность совершать поступки, в то|
же время отняла цели, во имя которых можно было бы]
действовать. Уже после выздоровления Петер ведет?
воображаемые диалоги с Соней, признавая, что его^
былые идеалы — фантомы, а политические акции строив
лись на иррациональных предпосылках: «Ты все еще!
веришь в большие слова и маленькие флажки?» — I
«Нет».— «Ты рад, что я открыла тебе глаза на это?» — |
«Да».— «Что представляли собой твои убеждения?» —J
«Иллюзии».— «Поиски братства?» — «Погоня за химе-j
рами».— «Верность идее?» — «Искупление детской|
вины». Но и это послушание — отчасти подготовка к|
бунту против новой — научной — догмы. Петер пишет]
рассказ, в котором толкователь оракулов объясняет]
Пифагору, что его интерес к треугольникам — объек-j
тивация подспудной боязни, что жена изменяет ему!
с его приятелем. Петер вроде бы готов признать, что!
в Пифагоровой геометрии академической отстраненное-]
ти не многим больше, чем «чистой этики» в его собст-1
венных политических воззрениях. Но есть тут и нарас-|
тающее убеждение, что самым научным гипотезам надо
\
60 4
верить с оговорками, ибо научное сознание склонно
сводить многообразие жизненных проявлений к схеме,
отбрасывая детали, в которых, может быть, вся суть.
Психолог, не раз подчеркивал Кестлер, рассматри-
вает жажду Утопии и бунт против сложившегося поряд-
ка вещей как симптомы социальной неадаптирован-
ное™1. Социальный реформист, напротив, видит здесь
проявление нормального, рационального отношения
к жизни.
Но реформист, отмечает Кестлер, забывает, что нена-
висть — даже в отношении того, что объективно заслу-
живает критики,— не может породить милосердие и
справедливость, на которых должно основываться
идеальное государство. Психолог же склонен упускать
из вида, что слишком легкая адаптация к деформиро-
ванному обществу приводит к деформации личности.
Тем самым «нормальность» оказывается одной из пер-
вых жертв в период крушения абсолютов.
В то время как массовый человек XX века старается
любой ценой адаптироваться во имя самосохранения,
интеллигент-радикал, находящийся в серьезном разладе
с реальностью, заражен особым видом невроза.
«В искаженной вселенной невротика,— писал Кест-
лер в одном из своих эссе,— все те факты, что могут
поколебать ее внутреннее равновесие, беспощадно изго-
няются. Никакие доводы и аргументы не в состоянии
преодолеть заслоны казуистики, семантические аморти-
заторы, эмоциональные барьеры. Внутренний цензор,
защищающий иллюзии больного, несравненно более
эффективен, чем официальный представитель цензуры
тоталитарного государства. Политический невротик
установил у себя в голове свой личный железный зана-
вес». Этот политически активный невротик и есть Герой
Эпохи.
Носители «политического научного сознания» реду-
цируют понятия морали, личной ответственности, со-
вести и пр. до рациональной формулы, где «историче-
ская необходимость» и «объективность» занимают глав-
ное положение. Поборники естественнонаучного под-
хода (в данном случае врач-психотерапевт) тоже из
1 Научный тезис, ставший обоснованием медрепрессий в 60—70-е
годы у нас в стране, когда на защиту Святых Устоев поднялась
психиатрия, решившая помочь государству в трудную минуту.
61
«редукционистов», с той лишь разницей, что историче-^
ское у них заменено биологическим. Кестлер готов
признать Петера Славека невротиком, нуждающимся
в медицинском лечении, но парадоксальным образом
лечение это не может восстановить его как целостную
личность. Разрушив систему ценностей Петера, Соня
Болгар уничтожила то самое единство теории и прак-
тики, без которого человек не может нормально жить
и действовать. Наука — в данном случае медицина —
в очередной раз создала вакуум, который нечем запол-
нить. Рационализм приносит свои плоды, только когда
корректируется тем, что Кестлер в «Слепящей тьме»
назвал «океаническим чувством». Человек, им охвачен-
ный, «отрешался от своего индивидуального бытия и,
растворяясь в общечеловеческом сознании, как кристал-
лик соли в мировом океане, одновременно вмещал в
себя весь мир, подобно тому, как в кристаллике соли
воплощен весь мировой океан... «Океаническое чувство»
разрушало привычные логические связи, и мысль блуж-
дала в потемках психики, словно луч света, летящий
через ночь, так что все ощущения и чувства — бла-
женство, радость, боль, страдания — оказывались
составляющими этого луча, расщепленного призмой
свободного сознания». Рациональное и иррациональ-
ное должны существовать в союзе, снимая крайности
друг друга, находясь в этом споре-диалоге, в котором
рождается если не истина, то взаимоприемлемый
компромисс. Рациональное начало однажды вмешалось,
заставив Петера прервать движение в заданном направ-
лении (разрыв с Партией), но Петер не может суще-
ствовать в подвешенном состоянии «беспартийности».
Иррациональное начало побуждает его снова двинуться
в путь.
У Петера есть несколько вариантов выхода из миро-
воззренческого тупика, в котором он оказался в Нейтра-
лии, своеобразном полигоне враждующих идеологий.
Можно уехать в Америку — там ему гарантировано
безопасное, хотя и весьма унылое существование, вне
политической борьбы, но и без иллюзий. Зачисление
же в британские вооруженные силы дает возможность
снова действовать, бороться с тем, что олицетворяет
для него безусловное зло, хотя и Британия отнюдь не
выступает воплощенным Добром. Британия — это то
самое «статус-кво», что ранее вызывало осуждение
62
Петера, казалось ему тормозом на пути движения исто-
рии вперед. Однако, размышляет персонаж Кестлера,
«в нынешние времена, когда локомотив прогресса несет-
ся слишком опрометчиво, тормоза тоже нужны».
Подвергнувшись курсу облучения «объективными
истинами», Петер утратил и былую наивность, и безог-
лядную веру в идеалы, сохранив, однако, способность
действовать. Уже приняв решение уехать в Америку
вслед за девушкой, с которой у него возник роман (до-
статочно бесцветная Одетта как бы предупреждает героя
о той бесцветной жизни, что ожидает его в Новом свете),
Петер узнает, что его просьба о зачислении в армию
наконец удовлетворена. Петер отвергает покой и выби-
рает борьбу. Это может быть истолковано как очередной
приступ невроза, очередная подсознательная попытка
искупить давний грех, но для него это уже не важно.
Альбер Камю проводил различие между бунтарем
и революционером. Революционер служит Идеологии,
где цель всегда оправдывает средства. Бунтарь, напро-
тив, действует во имя надыдеологических понятий и в
процессе восстания против того, что его стесняет и угне-
тает, добивается самореализации. Петер Славек, таким
образом, Скорее бунтарь, чем герой.
Проблема бунта, героики, целей и средств получила
у Кестлера детальное рассмотрение в эссе «Йог и комис-
сар» (1945). «Йог» отстранений взирает на окружаю-
щий мир, с которым ничего поделать нельзя. Все изме-
нения к лучшему могут быть осуществлены лишь в
душе и сознании индивида. Он исходит из убеждения,
что будущее непредсказуемо и любые попытки постро-
ить рациональную теорию общества обречены на провал.
Главное для «йога» — устремление к абсолютной исти-
не, с которой у человека существует мистическая связь.
Политическая деятельность угрожает уничтожить эту
невидимую, но необходимую связь и тем самым рассмат-
ривается как главное зло.
«Комиссар», напротив, видит только будущее, кото-
рое необходимо «создать» на основе некоей научной
теории. В человеке и институтах, им порожденных,
нет ничего такого, что нельзя было бы изменить на
основе разумного применения социально-политической
«технологии». Реальность рассматривается «комисса-
ром» исключительно с точки зрения причинно-следст-
венных зависимостей. Все, что способствует реализации
63
поставленной задачи, тем самым получает оправдание!
По мысли Кестлера, человечество находитбя в сос-ч
тоянии постоянного курсирования между вышеозначен^
ными полюсами. В 30-е годы, полагает Кестлер, намеЧ
тился крен в ультрафиолетовую сторону (ментальность
«йога») как компенсация за крен «инфракрасного»
(«комиссарского») свойства, создавшийся с конца
XIX столетия. Каждая из крайностей, подчеркивает
Кестлер, плоха. «Комиссары» проводят обширнейшие
«чистки», во имя Светлых Целей творят зло и безза-
коние, а «йоги» взирают на беды современности под
знаком вечности, не желая вмешиваться в суету сует.
Западная художественная мысль XX века, с удиви-
тельным единодушием ополчившись на Героя, преда-
вала анафеме «комиссаров» из любого лагеря, симпа-
тизируя «йогу». Об этом идет речь у Хемингуэя и
Дос Пассоса, позже у Сарояна, Джонса.
Любопытно, что воплощением «комиссарского» на-
чала выступает не только Петер Славек у Кестлера,
но и Гай Краучбек у Ивлина Во.
Оба боролись — один за светлое будущее, другой за
славное прошлое.
Оба верили. Первый — в идеалы социализма, вто-
рой — в ценности католицизма. Это сходство между
антагонистами будет отчетливее, если вспомнить неко-
торые идеи Н. Бердяева, видевшего связь, родственность
устремлений между социализмом, с одной стороны,
и религией, прежде всего католицизмом,— с другой.
«Социализм не есть та или иная экономически-хозяйст-
венная организация. Социализм идет на смену совсем
не капитализму. Наоборот, он стоит на одной и той же
почве с капитализмом, он плоть от плоти и кровь от
крови капитализма. Социализм идет на смену христиан-
ству, он хочет заменить собой христианство»1.
Русский философ особо подчеркивает сходство прак-
тики социализма именно с католицизмом, отмечая среди
общих черт «принудительное всемирное единение
людей», а также единую религиозную основу: «Социа-
листическое государство — не секулярное, а вероиспо-
ведное государство, в нем есть господствующее веро-
исповедание и полнотой прав пользуются те, которые
1 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1936,
с. 38
64
принадлежат к этому господствующему вероисповеда-
нию. Социалистическое государство знает единую
истину, к которой принудительно приводит людей».
Есть «святое писание» и ересь, есть святые и грешники,
заслужившие анафему»1.
Но и начиная «по-комиссарски», персонажи Во и
Кестлера не остаются навсегда в однажды выбранной
(полученной) роли: Петер приближается то к инфра-
красному, то к ультрафиолетовому полюсам спектра.
Гай, испытав цепь неудач и поражений, заканчивает
свой крестовый поход «йогом».
Те, кто пытался жить в соответствии с высокими
принципами и сражался геройски, сумели вволю испить
из чаши поражений. Выйдя на поединок с силами
могучими, до конца не понятными, навоевавшись с
мельницами — и победив, Герои оказывались ни с чем,
испытывали горькое разочарование. Истинными победи-
телями в войне XX века, похоже, стали товарищ Огилви
из «1984» Оруэлла и офицер-парикмахер Триммер.
Они просто не могли проиграть, ибо не существовали:
один вовсе, другой как личность. Прочим выпал удел
антигероя, а иногда невротика-бунтаря, который, впро-
чем, понадеявшись ощутить себя в процессе бунта Лич-
ностью, в конце концов тоже оказывался у разбитого
корыта.
Об этом наиподробнейшим образом рассказали авто-
ры, о которых речь пойдет в следующей главе.
ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ
Для литературы США вторая половина 40-х —
начало 50-х годов стали временем расцвета военного
романа2. О войне писали и давно сложившиеся мастера
прозы, и те, кто впервые взялся за перо, чтобы поде-
литься увиденным, дать выход мыслям и чувствам, не
дававшим покоя. Многие из дебютантов так и остались
авторами одного-двух военных романов, для других же
1 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского, с. 38.
2 Вроде бы иначе и быть не может. Но в Англии военный
роман так и не составил столь мощного потока. О войне писали,
но в ряду общих проблем, тем и конфликтов. Почему так разни-
лись английское и американское литературные сознания — пробле-
ма любопытная, но несводимая к краткой формуле и требующая
специального исследования.
3 С. Белов
65
(Мей л ер, Джонс, Гор Видал) это стало началом весьмЦ
успешной писательской карьеры. Ц
Мир, открывавшийся взорам вчерашних фронтовш
ков, не отличался стабильностью, и прогнозы на будм
щее не обнадеживали. Победители не испытывали рЦ
дости от победы. Вторая мировая, разгромив нацизм
не уничтожила тоталитаризма. Наблюдая стремительЗ
ную экспансию сталинского социализма в Европе и
Азии, очень многие предрекали неизбежность военной
конфронтации между недавними союзниками по антва
гитлеровской коалиции. Пока антагонисты отлаживал!
и доводили до кондиции оружие массового уничтожё!
ния, в мире устанавливался климат холодной войны)
Сталинизм пугал не на шутку, но и то, что происхо«!
дило в самих Соединенных Штатах, настораживало]
американцев. Под предлогом сдерживания большевизма!
и предотвращения подрывной деятельности агентов
Кремля как во внешней, так и во внутренней политике
взяли верх сторонники «жесткой линии». В стране, иа'-i
давна и по праву гордившейся своими демократичен
скими традициями, в 40—50-е годы стало небезопасна
высказывать взгляды, не совпадавшие с официальными.!
Вовсю трудилась комиссия по расследованию анти-
американской деятельности, блистал красноречием]
сенатор Джозеф Маккарти, критиковавший за «левиз-j
ну» даже Трумэна с Эйзенхауэром. Для Америки эти
годы остались символом несвободы, временем облавы на|
Личность со стороны Системы. Но великая вещь пропащ
ганда! Читая о том, как несладко приходилось в США]
того времени носителям убеждений, не совпадавших
с официальной линией, в СССР забывали, что их «ад»
для нас был бы раем, милостью божией. Комиссия по
расследованию антиамериканской деятельности заклей^
мена на века, но по ее вердиктам никого, заметим, не!
расстреляли, да и тюремные сроки насмешили бы наших!
прокуроров. Борцы с красной опасностью не вызывали^
у мирового общественного мнения тех симпатий, какими,
пользовались отважные интернационалисты-коминтер-
новцы. А представим себе на минуту, что был бы создан
не мифический, в воображении энкаведешников сущест-
вовавший, но реальный Капинтерн. То-то тогда ему
досталось бы от властителей дум тогдашнего Запада.
Ибо Капинтерн — мерзость, а Коминтерн, как ни
верти,— провозвестник Грядущего. В СССР 40—50-х
66
>калели бедных простых американцев, хиревших в
удушливой атмосфере, но нам ли судить их гонителей?
В каком-то смысле период маккартизма сыграл в исто-
рии Америки положительную роль. Это была своеоб-
разная вакцина против тоталитаризма. Тот же Мак-
карти уже в 50-х годах стал получать все более резкий
отпор в сенате и конгрессе. Когда он поднимался на
трибуну, большинство парламентариев демонстративно
покидали зал. Он спился и умер в 48 лет.
В этом сложном общественном климате тема войны
в литературе нередко принимала вид метафоры реаль-
ности, где внешне бессмысленное насилие на самом деле
означало наступление Государства на Личность. Аме-
риканцы, писавшие о второй мировой, оказались в не-
простой ситуации. Им мешали не цензоры и редакторы,
не политуправление армии, точно знающее, «какая
война нужна американскому народу», но те коллеги
по перу, кто с таким блеском рассказал о первой ми-
ровой.
Хемингуэй, Каммингс, Дос Пассос отвергали идею
Служения личности обществу, развязавшему ;бойню,
напоминали, что социальный процесс не находится под
контролем разума, как полагали в рациональнейшем
XIX веке, а является результатом столкновения без-
ликих, но могущественных сил хаоса и абсурда. Как
отмечал герой романа Дос Пассоса «Три солдата» Джон
Эндрюз, «цивилизация была не чем иным, как огромным
сооружением из фальшивых материалов, и война была
ее самым ярким выражением». Американский литера-
туровед И. Хау писал: «Первая мировая война про-
демонстрировала не только лицемерие европейских
государств, но и неспособность социал-демократов
предотвратить гигантскую бойню, она также нанесла
страшный удар унаследованным идеям прогресса. Если
XIX век обещал неуклонное движение к демократи-
ческому и либеральному строю, XX век, эксплуатируя
подобные лозунги и настроения, неизбежно скатывался
к различным формам авторитарности»1.
Военная проза 20—30-х годов — свидетельство разо-
чарования в жизнеспособности традиционных ценностей
и ориентиров западного общества. «Объективная исти-
на» погибла на полях сражений первой мировой, раз-
1 Howe I. Literature and Ideology. N. Y., 1963, p. 16.
3*
67
летелась на множество осколочков, «частных истин».
Единственной пока что не дискредитированной цен-
ностью оставалась индивидуальность, «государство из
одного человека». «Идеи» снова и снова демонстри-
ровали свою ложность — или лживость, персонажи
книг о первой мировой отучались верить «идеям».
Недаром герой хемингуэевского романа «Прощай, ору-
жие!» Фредерик Генри произносит теперь уже хресто-
матийный монолог о том, что «абстрактные слова,
такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святы-
ня», были непристойны рядом с конкретными назва-
ниями деревень, номерами дорог, названиями рек,
номерами полков и датами». Еще одна анафема «пустым
словам» возникает в рассуждениях Джона Эндрюза
из «Трех солдат» («Эти длинные латинские слова —
самые настоящие жернова у нас на шеях...»).
Думать для героев этих книг — означало все больше
и больше запутываться в хаосе парадоксов и логических
тупиков. «Если война причиняла им страдания, как,
например, лейтенанту Генри,— писал американский
литературовед Джон Олдридж,— они немели душой,
прекращали думать и верить. Это уже была не их война.
Коль скоро любовь была обречена на гибель, они начи-
нали верить в секс. Если рушилось все вокруг и они
оказывались один на один с пустотой, тем лучше —
они начинали верить в пустоту»1.
С этими же идеями и установками входили в лите-
ратуру те, кто получил крещение огнем на фронтах
второй мировой войны,— «потерянное поколение второ-
го призыва». Американская критика 40—50-х годов в це-
лом отнеслась достаточно прохладно к произведениям
этих «призывников». «Хемингуэй redivivus (возрожден-
ный.— СБ.) в этих книгах оказался Хемингуэем недо-
печенным, полумертвым Хемингуэем»2,— иронизировал
Честер Айзингер. Джон Олдридж не сомневался, что
новые романисты во многих отношениях пишут лучше,
«изящней», чем их предшественники, рассказавшие о
трагедии первой мировой. «И тем не менее,— продолжал
критик,— создавалось впечатление, что эти книги напи-
саны слишком уж гладко, а их авторы не изведали
мук укрощения материала. В их гладкости есть нечто
1 Aldridge J. After the Lost Generation. N. Y., 1953, p. 60.
2 Eisinger Ch. Fiction of the Forties.N. Y.» 1961, p. 16.
68
от фабричного конвейера, а не от мастера, своими рука-
ми создающего вещь от начала до конца. Эти книги
свидетельствовали о том, что их авторами обойдено
проблем куда больше, чем исследовано...»1
Олдридж и Айзингер точно указали на слабое место
американского романа о второй мировой. Первооткры-
ватели военной темы принадлежали к поколению,
испытавшему шок разочарования, на их глазах руши-
лись социальные и нравственные устои. Вдохновляющие
понятия оказывались девальвированными, не обеспечен-
ными реальным содержанием. Поколение 40—50-х,
напротив, было неплохо информировано насчет траги-
ческих несоответствий. Зная из книг о коллизиях первой
мировой, помня по собственному детству Великую де-
прессию, наблюдая, как строительство светлого обще-
ства на обломках «старого мира» приводит к появле-
нию концлагеря, убеждаясь, что человечество не в сос-
тоянии извлекать уроков из мировых катастроф, снова
оказываясь втянутым в очередную бойню, они если чему
и удивлялись, так разве что наивности тех, кто сохранял
еще веру в положительные ценности. Снова и снова
в американских романах о войне возникал «безжиз-
ненный лик нигилизма», как выразился тот же Олд-
ридж. Гордость за нацию развеялась как дым, уступив
место страху за свою судьбу.
Любопытно, что самый яркий и талантливый пред-
ставитель американской прозы 20—30-х годов, отец
военного романа США, Э. Хемингуэй, в сущности,
так ничего и не написал о второй мировой; откровенно
слабый, на грани пародии находящийся роман «За рекой
в тени деревьев» и посмертно опубликованные «Острова
в океане» не в счет — тут Хемингуэй и впрямь куда
слабее собственных же подражателей. Пожалуй, ярче
других от имени нового потерянного поколения высту-
пил Вэнс Бурджейли в романе «Конец моей жизни»
(1947), названном Олдриджем современным вариан-
том-гибридом романов «Прощай, оружие!» и фицдже-
ральдовского «По эту сторону рая».
Главный герой Бурджейли Скиннер Голт — помесь
более умудренного и циничного фицджеральдовского
Эмори Блейна и лейтенанта Генри. Со своими друзьями
Бенни, Родом и Фриком он принимает решение всту-
А1 d г i d g е J. After the Lost Generation, p. 60.
69
пить добровольцем в британскую армию (США пока
что сохраняют нейтралитет). Повторяя путь такт!
кумиров интеллектуальной Америки 20-х и 30-х годощ
как Дос Пассос и Каммингс, они записываются в «меди-
цинский корпус», собираются работать водителями«
санитарных машин. Юные герои Бурджейли прежде!
всего жаждут новых ощущений, перемены обстановки!
они не собираются брать на себя бремя сознательны]!
и последовательных борцов с фашизмом. Собственно!
фашизм для них — очередная абстракция, которую*
окружающие произвольно наполняют тем смыслом!
который их по тем или иным соображениям устраивает.;
«Я хочу посмотреть на эту войну из любопытства,]
а потом сказать: я тоже был там»,— иронически роняет
Скиннер Голт в разговоре с приятелем. Обведя рукой^
свою комнату, он добавляет: «Я хочу выбросить и4
жизни всю вот эту чепуху». «Скиннер Голт в поисках
реальности?» — улыбаясь, спрашивает собеседник!
«Скиннер Голт в поисках хорошего, основательного
побега»,— поправляет его главный герой романа Бурд^
жейли. Побег от надоевшей обыденщины, возможность!
скинуть с плеч груз повседневных забот и проблем
и начать еще раз, на новом месте,—давняя американ-
ская идея. Но если в эпоху формирования нации в ней;
был вполне реальный смысл, то в XX веке, снова и
снова возникая на страницах американских романов,
она приобретает характер еще одной иллюзии, мечты,?
лишенной возможности осуществления.
Поначалу все идет, как и было задумано Голтом и его
друзьями. Но постепенно суровые обстоятельства войнц
расставляют все по своим местам. «Что бы ни случилось,'
я не буду относиться к этой войне всерьез,— обещал
в начале повествования Скиннер Голт.— Это все одна
большая шутка». Дальнейшее показывает, насколько
ошибался герой Бурджейли, надеясь сохранить свобода
действий и контроль над обстоятельствами, выступая
в роли комментатора и наблюдателя.
Первым понимает, что происходящее — не увесели-
тельная прогулка, Фрик. Знакомство с буднями войны
заставляет его серьезно изменить свое отношение к ней
и к жизни вообще. Он постепенно проникается созна-
нием своей ответственности перед товарищами по
оружию — и перед своей совестью. То, что было ранее
лишь предлогом для присутствия на «занятном спек-
70
такле», становится для него делом жизни. Видит шат-
кость позиции «военного туриста» и Бенни, который
принимает решение перейти в пехоту, чтобы воевать
по-настоящему, а не играть в войну. «Наша затея
с санитарным батальоном, Скиннер,— говорит он своему
другу,— это просто попытка сделать реальностью сочи-
ненный нами миф о «неучастии». О том, что мы участ-
вуем в войне скуки ради и, когда нам заблагорассу-
дится, можем послать все куда подальше. Мне такое
отношение надоело. Может быть, служба в пехоте
выбьет из меня эту дурь».
Непривычные обстоятельства одним помогают найти
себя, избавиться от наносного и случайного, наладить
разумные отношения с окружающей действительностью.
Другие же ломаются окончательно, как это происходит
с Родом. Несостоявшийся композитор, одаренный
музыкант, вынужденный подрабатывать в шикарных
барах Нью-Йорка игрой на пианино, платный любовник
уродливых богачек не первой молодости, он и в армии
оказывается не у дел. Вовлеченный в мучительные для
него гомосексуальные отношения одним из офицеров,
находящийся на грани срыва, он дезертирует, надеясь
обрести гармонию в естественном существовании среди
кочевников-арабов (дело происходит в Северной Аф-
рике).
Еще более сложной оказывается ситуация идеолога
этой четверки Скиннера Голта. Стараясь порвать все
связи с наскучившей нью-йоркской жизнью, казав-
шейся ему фальшивой, лишенной какого-либо серьез-
ного смысла, он не может найти ничего взамен. Более
того, он теряет одного за другим своих товарищей.
Оказавшись в полку, где солдатами-африканцами
командуют офицеры-англичане, наблюдая изо дня в день
жестокое, порой издевательски-садистское отношение
белых к бесправным и забитым неграм, он пытается
заступиться за солдат, протестует, но из этого не выхо-
дит ровным счетом ничего. Он только восстанавливает
против себя английских офицеров, ведет жизнь аутсай-
дера, изгоя. Былая тотальная ирония и отстраненность
уступают место глухой ярости против обстоятельств,
которые, вместо того чтобы быть послушным объектом
для его убийственных вердиктов, самого его превра-
тили в объект, в точку приложения таинственных и
недоброжелательных сил.
71
Для лейтенанта Генри из романа «Прощай, оружие! »|
любовь была последним оплотом во враждебном мире.|
Скиннер Голт еще до отъезда на войну осудил любовь,]
а с ней и дружбу, религию, политическую ангажирован-
ность как ловушки, в которые попадается человек,]
утрачивая свободу мысли, чувств, поступков. Он убеж-j
ден, что люди сооружают по неразумию эти непрочные,]
но громоздкие постройки, которые рано или поздно
рухнут, погребя под собой наивных «строителей». Он
отказывается жениться на умной, обаятельной, глубоко
преданной ему Синди, ибо опасается, что эта любовь
может оказаться очередной фикцией. Это решение не
просто ошибочно. Оно, при всей своей внешней нравст-
венности, в основе своей безнравственно и безответст-
венно. Продиктованное ложным взглядом на жизнь, оно
лишь усугубит драматизм положения Скиннера, когда
он окажется один на один с военной реальностью,
которую можно, конечно, не принимать всерьез и вы-
смеивать как «абсурдную», но от которой все равно
никуда не деться. Проповедующему отказ от любви
герою жизнь преподаст жестокий урок.
Позже у Скиннера возникнет роман с одной из
английских медсестер. Возникнет, по сути дела, ситуа-
ция из хемингуэевского романа «Прощай, оружие!»,
получающая у Бурджейли трагико-ироническое разви-
тие. Юной Джонни нравится «байронический» амери-
канец, научившийся смотреть на мир без иллюзий.
Как-то раз, оккупировав оставленный без присмотра
джип, они отправляются кататься. Не очень заботясь
о выборе маршрута, Скиннер гонит во весь опор по
опасной территории. Неприятельский джип привлекает
внимание немецкого летчика: истребитель атакует
мащину, в результате чего спутница Скиннера погибает,
а сам он попадает под трибунал.
Год тюремного заключения и предстоящее затем
увольнение из армии «по дисциплинарным мотивам»
(своего рода волчий билет, весьма осложняющий воз-
можность получить приличную работу и считаться пол-
ноценным членом общества) — ничто по сравнению
с теми терзаниями, которым подвергает себя Скиннер.
Он завел роман без любви. Не любил — следовательно,
не берег. Не берег — и потому погубил. Привыкший
строго спрашивать с окружающей действительности,
Скиннер Голт внезапно поменялся с ней ролями —
72
фальшь и неподлинность, которые он приписывал
исключительно ей, оказались печальными свойствами
его самого.
Джозеф Уолдмейер, автор исследования «Американ-
ский роман о второй мировой войне», отмечал, что,
несмотря на мрачность, в романе Бурджейли живет
надежда: «Война не столько сделала нечто со Скинне-
ром, сколько сделала кое-что для него. Наконец-то он
сумел понять свое «я». Война заставила его взглянуть
самому себе в лицо, и теперь он уже не сможет оста-
ваться таким, как прежде»1. Уолдмейер видит в травма-
тическом опыте войны благотворное явление. Война
сделала то, чего не смогла сделать мирная американская
повседневность,— ее «шокотерапия» заставляет героя
измениться, стать потенциально лучше.
Увы, это скорее благое пожелание, нежели реальное
положение дел. Вряд ли дает основания для таких
выводов роман, названный Бурджейли «Конец моей
жизни». «Я превращаюсь в живого мертвеца»,— гово-
рит Скиннер Синди, приехавшей навестить его в Ита-
лии, где он отбывает срок в военной тюрьме. Он говорит
это без былой рисовки, так что трудно прочитать
в тексте указания на потенциальное обновление, очи-
щение героя.
Бурджейли написал своеобразный эпилог истории
потерянного поколения, отходную по его жизненной
философии. Он рассказал о том, как игра в нигилизм
может оборачиваться трагедией,— жизнь знает способы
отомстить тем, кто склонен относиться к ней слишком
легкомысленно и слишком серьезно к себе. Довоенные
эпизоды романа Бурджейли — «философические диа-
логи», в которых Скиннер проявляет остроумие и
парадоксализм в духе Оскара Уайльда. Снова и снова
он берет над «глупой» действительностью верх в слове,
и не подозревая, что она готовит реванш в сфере поступ-
ков, событий.
«Кто мы, актеры или зрители?» — спрашивает его
Синди.— «Пьеса»,— звучит ответ. «Комедия или траге-
дия?» — «И то, и другое».— «Как это?» — «А вот как:
комедия, если слушать реплики персонажей, трагедия,
если надеяться, что эта пьеса в состоянии что-то дока-
1 Waldmeir J. American Novels of the Second World War
Paris - The Hague, 1969, p. 71.
73
зать».— «А почему она не может что-то доказать?» —
«Потому что доказывать нечего!» — «Совсем нече-
го?» — «Совсем. Нет ни вечных истин, ни этических
правил, ни стандартов поведения...» — «Что же
есть?» — «Ничего. Только люди — те, что нам нравятся,
и те, что нам не нравятся, люди, которых мы любим,
и люди, которых мы ненавидим».— «Это философия
Скиннера Голта?» — «Нет, дорогая, это отсутствие
философии».
Когда Скиннер говорит, что у него нет веры, идеа-
лов, которыми он мог бы всерьез увлечься, вдохновиться,
Синди иронически спрашивает, не огорчает ли его
такая ситуация. На это он вполне искренне отвечает:
«Иногда да. Иногда очень огорчает. Иногда мне
кажется, что со мной что-то не в порядке, но чаще все-
таки мне кажется, что плох не я, а те системы и доктри-
ны, что нам предлагаются, и это огорчает меня еще
сильнее».
Судьба Скиннера Голта изображена в духе той дав-
ней традиции американской военной прозы, что достой-
но представляли лейтенант Генри Хемингуэя и Джон
Эндрюз из «Трех солдат» Дос Пассоса. Там была реаль-
ная трагедия, невыдуманная горечь разочарования. Тра-
гедия, повторяющаяся по тем же правилам и канонам,
однако, может оказаться фарсом. Герои романов
20—30-х годов открывали для себя глубинную неправду,
прячущуюся за фасадом благопристойности. Их потом-
ки, взращенные на скепсисе и неверии, разучились
искать, они знают все заранее — из книжек, а то и по-
наслышке. Они впадают в особого рода зависимость
от столь презираемых ими клише и стереотипов
массового сознания. Ниспровергая их, они ощущают
себя личностями, но не дай бог под рукой не окажется
удобных мишеней для иронических залпов. Не дай бог
окружающая действительность утратит миролюбиво-
снисходительное отношение к своим ниспровергателям
и начнет ставить перед ними не полупроблемы «тра-
гизма обыденного существования», а те действительно
трагические проблемы, что возникли в странах, где
о «трагизме обыденного существования» приходилось
лишь мечтать как о манне небесной. Бурджейли весьма
симпатизирует Скиннеру Голту, но тем взыскательнее
спрашивает с него, с человека, который походя разру-
шил сам себя.
74
У Бурджейли личность терпит крах, потому что
не принимает реальность всерьез. У Мейлера, потому
что так устроен мир: личность в нем проигрывает
всегда.
«Нагие и мертвые» (1948) — крупногабаритная
литературная конструкция, в которую двадцатипяти-
летний автор вложил немало выдумки, изобретатель-
ности и литературных амбиций.
На первом, событийном, уровне — это история опе-
рации по захвату американцами вымышленного острова
Анапопей в Тихом океане, оккупированного японцами.
Психология человека на войне, осваивающего ремесло
солдата, воссоздана писателем со знанием дела. Мейлер
воевал на Тихом океане, участвовал в боях на Филип-
пинах, был в Японии.
Впрочем, в «Нагих и мертвых» он менее всего соби-
рался быть прилежным и смиренным хроникером.
Ему хотелось создать коллективный портрет Соеди-
ненных Штатов, воссоздать сложную динамику амери-
канского социума. Для этого он вводит раздел «Машина
времени», где дает свод биографий основных действую-
щих лиц, представляющих разные слои и регионы
Америки, раздираемых внутренними конфликтами и
противоречиями, подозрительно посматривающих на
товарищей по оружию, в которых они видят соперников,
конкурентов, врагов.
Третий пласт романа связан с философией власти
и насилия, с темой деспотизма в его специфически
американском варианте. «Главная тема «Нагих и
мертвых»,— отмечал П. Г. Джонс, исследователь амери-
канского военного романа,— это Власть. Власть чело-
века над человеком, власть военной силы, политических
доктрин, неодолимая власть обстоятельств, бесцере-
монно вторгающихся в жизнь людей»1. Взаимодействие
нескольких планов, взаимопроникновение психологиче-
ских, социальных, философских тем и сообщает книге
ту многомерность, что сделала роман событием в после-
военной прозе США.
Многоплановость романа определяет и разнонаправ-
ленность боевых действий. Американцы сражаются
с японцами за остров Анапопей. И еще они сражаются
1 Jones P. G. War and Novelist. N. Y., 1971, p. 76.
75
друг с другом. В первую очередь это война лейтенанта
Хирна с генералом Каммингсом, адъютантом которого
он является.
История полуудач и неудач Хирна — символическое
отражение мучений либеральной мысли, как представ-
ляет ее Мейлер. Попытки Хирна самоутвердиться в
роли общественного деятеля (до войны он был близок
к коммунистам и к профсоюзным активистам) не
приносят успеха, вызывая в нем нарастающее убежде-
ние, что все это суета сует и единственное, что остается
тонко чувствующей личности,— жить,не теряя «стиля».
«Стиль» в данном случае — вариант хемингуэевского
кодекса «настоящего мужчины», пытающегося в об-
становке нарастающей несвободы сохранить личное
достоинство и хотя бы видимость самостоятель-
ности.
В романе на свободу Хирна посягает его начальник,
глядящий в Наполеоны генерал Каммингс. Если Хирн
блуждает от одной смутной догадки к другой, видя
недостаточность очередной полуистины, то генерал Кам-
мингс не ведает сомнений и, на свой лад переиначи-
вая мыслителей прошлого, чеканит афоризм за афориз-
мом:
«Тот факт, что у вас есть пистолет, а у другого нет,
не случайность. Это результат всего того, чего вы
достигли».
«Предстоящее столетие — это столетие реакционе-
ров, которые будут, может быть, царствовать тысяче-
летие» .
«Мы живем в средние века новой эры, находимся
на пороге возрождения безграничной власти».
«Армия действует намного лучше, если вы боитесь
человека, стоящего над вами, и относитесь презрительно
и высокомерно к подчиненным».
«Машинная техника нашего века требует консолида-
ции, а это невозможно, если не будет страха, потому что
большинство людей должно быть рабами машин, а
ведь это не такое дело, на какое они пойдут с ра-
достью».
Генерал Каммингс открыл в американской прозе
портретную галерею «доморощенных фашистов». Вот
как видит он смысл и содержание второй мировой:
«Исторически цель этой войны заключается в превра-
щении потенциальной энергии Америки в кинетиче-
76
скую. Если хорошенько вдуматься, то концепция фашиз-
ма — это весьма жизнеспособная концепция, потому что
опирается на реальные инстинкты людей, жаль только,
что фашизм зародился не в той стране, стране, которой
недостает внутренней, потенциальной энергии... Сама
же идея была вполне здравой... У нас есть мощь, мате-
риальные средства, вооруженные силы. Вакуум нашей
жизни в целом заполнен высвобожденной энергией,
и нет сомнений, что мы вышли с задворок истории».
Нацистская концепция национальной исключительнос-
ти вполне созвучна теории «особой миссии США»,
взятой на вооружение лидерами супердержавы. Если
ранее изоляционизм, сосредоточенность на домашних
проблемах рассматривались в высших эшелонах власти
как наиболее выгодная стратегия, то вторая мировая
война внесла существенные коррективы в практическую
философию американизма. 19 декабря 1949 года прези-
дент США Трумэн заявил в послании конгрессу: «Нра-
вится нам или нет, но мы должны признать, что одер-
жанная нами победа возложила на американский народ
бремя постоянной ответственности за судьбы всего
мира». В свете такой установки вполне государствен-
ную окраску принимают слова Каммингса: «После вой-
ны наша внешняя политика будет более откровенной и
менее лицемерной, чем прежде. Мы больше не будем
стыдливо прикрываться левой рукой, когда правая за-
гребает». /
Дж. Уолдмейер отмечал, что для большинства пред-
ставителей американского военного романа было харак-
терно умение держать в поле зрения «два лика зла».
Повествуя о военных баталиях, о сражениях с нацис-
тами и их союзниками, эти авторы снова и снова предла-
гали подумать, так ли уж свободна от бацилл тотали-
таризма американская социально-политическая систе-
ма. Одним из первых обратил внимание на двойной лик
победы над нацизмом Норман Мейлер.
У нас неоднократно писалось о том, что в американ-
ской прозе о второй мировой войне порой слишком
сужен горизонт видения, что авторы слишком уж сосре-
доточивались на «втором лике», то есть на «отечествен-
ных негодяях», в то время как советская проза, счита-
лось, «смотрела шире» и видела, стало быть, «больше»,
не предаваясь мелочному сведению счетов между «свои-
ми». Что и говорить, США вели несколько иную войну,
77
и упрекать их за это абсурдно1. Но вот догм у американ-
ских писателей насчет того, что «идейно порочно»,
а что нет, было, мягко говоря, поменьше, чем у их
советских коллег. Много усилий потребовалось, чтобы те
смогли во всеуслышание заявить: зло — тотальное,
беспощадное — может носить погоны страны^ воюющей
«за правое дело». Об этом предупреждал А. Солжени-
цын. Об этом роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Фашизм в романе Мейлера существует как бы на
двух уровнях — идеологическом и биологическом. Бели
генерал Каммингс — идеолог (а еще и поэт) фашизма,
то сержант Крофт из разведвзвода, куда сошлет неужив-
чивого и строптивого Хирна его начальник,— фашист
стихийный, получающий наслаждение от возможности
убивать. Впервые Крофт убил человека еще до войны:
находясь в национальной гвардии, он умышленно
выстрелил в забастовщика, хотя команда была стрелять
в воздух. На войне он убивает и по необходимости,
и развлечения ради. Он будет угощать пленного японца
шоколадом, разглядывать фотографии его жены и ребен-
ка, а когда между ними возникнет что-то человеческое,
в упор расстреляет свою жертву.
Агрессивность, самоутверждение через насилие —
обязательная составляющая вселенной, по Мейлеру, и в
этом смысле Хирн не столько антагонист Крофта и
Каммингса, сколько несостоявшийся их конкурент. Он
недостаточно жесток и тем самым не выдерживает в
борьбе за существование.
Хирн погибнет от пули японца-пулеметчика, но, по
сути дела, его палачами станут Каммингс и Крофт. Пер-
вый сместит Хирна за строптивость с относительно
безопасной должности адъютанта и отправит его на
передовую. Крофт, успев привыкнуть к командирской
должности, которую он временно занимает, рассматри-
вает появление лейтенанта как удар по его честолюби-
вым замыслам и при первом удобном случае восстанав-
ливает статус-кво. Скрыв данные о японской засаде,
он хладнокровно наблюдает, как Хирн идет на неприя-
тельский пулемет.
1 Любопытно, например, что в 1941 — 1945 гг. в США и в Англии
процветает детективный роман — свои лучшие вещи создают классики
. жанра Реймонд Чандлер и Агата Кристи. В этих вещах все как и преж-
де: кипит бурная жизнь развеселого Лос-Анджелеса, в уютных
английских загородных особняках совершаются уютные убийства.
78
На первый взгляд в романе торжествуют «сильные
личности». «Либерал» Хирн погиб. Остров захвачен
людьми генерала Каммингса. Но Мейлер дает понять,
что все произошло вопреки намерениям Каммингса
и победа эта — дело слепого случая.
Тщательно разработанная Каммингсом операция
требует основательной поддержки с моря. Генерал от-
правляется в штаб, дабы убедить свое начальство в необ-
ходимости привлечения боевых кораблей. Но пока он
объясняет нюансы, а взвод разведчиков во главе с Кроф-
том карабкается на гору Анака (восхождение явно
символического плана, если принять во внимание
философическую подкладку романа), бездарнейший
майор Даллесон предпринимает явно ошибочную атаку.
И, как и горе-десант Триммера у Ивлина Во, промах
американского штабиста имеет свои положительные
стороны. Вместо того чтобы потерпеть сокрушительное
поражение, американцы одерживают блистательную
победу. Случайный снаряд убивает японского главно-
командующего, гибнут и его помощники. Начинается
паника. Склады с продовольствием и боеприпасами
попадают к американцам, которые с удивительной
легкостью овладевают островом.
И Каммингс, и Крофт остаются не у дел. Победа
пришла вопреки их усилиям (восхождение на гору
разведчиков не состоялось). Торжествует его величество
Случай. Словно потешаясь над всеми потугами челове-
ческой воли и разума направить жизнь в русло причин-
но-следственных зависимостей, он обращает в ничто уси-
лия мейлеровских агрессивных прагматиков. Человек
остается один на один с загадочной, непроницаемой
действительностью, где куда больше врагов, чем друзей,
где бушуют могучие силы, против которых сопротив-
ление бесполезно. Мораль-назидание произнесет сти-
хийный абсурдист Ред Вол сен из взвода Крофта: «Чело-
век несет свое бремя, пока может его нести, а потом
выбивается из сил. Он один воюет против всех и вся,
и это ломает его. В конце он оказывается лишь малень-
ким винтиком, который скрипит и стонет, если машина
начинает работать слишком быстро».
Рациональное начало терпит поражение в сражении
с генералом Абсурдом.
Таков главный урок романа. При всей рельефности
изображаемого вторая мировая война выступает у Мей-
79
лера символом абсурдно-трагического положения
человека в мире. Эта личность ввергнута в грандиозную
войну «всех против всех», являющуюся вполне естест-
венным состоянием для обитателей того государства-
левиафана, которое описал еще в XVII веке Томас
Гоббс. Вторая мировая — лишь частный случай, одно из
проявлений такой войны. Снова «война — это мир».
Снова кандидат в герои оказывается пародией на героя,
антигероем. «Комиссары» (Каммингс, Крофт, Хирн)
посрамлены, но «йог» (Волсен) пока неуязвим, ибо
не пытается самостоятельно действовать, идти напе-
рекор.
В мейлеровском варианте войны всех со все-
ми побеждает тот, кто, вовремя поняв, что главный
враг отнюдь не там, где окопы и укрепления гит-
леровцев или японцев, держит круговую оборону.
Враг — все, что не ты сам, и мир заслуживает нена-
висти.
Девятнадцатилетний рядовой № 39339993, главный
герой романа Уильяма Сарояна «Приключения Весли
Джексона» (1945), убежден, что «люди слишком тро-
гательны, чтобы их ненавидеть». Он ненавидит войну,
которая для него ужасна и преступна в своей основе.
Ненавидит он и казарму с ее бесконечной муштрой,
вечным осаживанием и одергиванием тех, кто еще не
превратился в винтик военной машины.
Настроения Весли точно выражает его приятель Джо
Фоксхолл: «Несомненно, всякий человек, попавший
в армию, становится бойцом. Но это совсем не тот боец,
которого имеют в виду офицеры. Он вступает в борьбу
против скуки, безнадежности и целой армии мелких
притеснений, которые как будто специально придуманы
для того, чтобы низвести человека на уровень обезья-
ны...»
Писательские симпатии целиком и полностью на
стороне этих «войноненавистников», и читателям очень
трудно устоять перед обаянием Весли и его друзей. Но
в этих приятных молодых людях нет-нет да проглянет
кое-что не столь приятное. Весь мир сражается с нациз-
мом — Весли воюет за самого себя. Он напишет отцу:
«Пускай, как говорится, погибнет цивилизация, лишь
бы я сам жив остался. Какого черта беспокоиться, что
что-то там рушится, если я сам останусь целехонек».
Всеми мыслимыми и немыслимыми способами он отлы-
80
нивает от передовой, а когда все же оказывается на
фронте, быстро попадает в плен. Условия существова-
ния в лагере вполне сносные, охрана докучает куда
меньше, чем родное начальство. А потом немцы начнут
отступать, охрана сбежит, оставив кучу жратвы. Не
жизнь, а малина...
Весли юн и, естественно, многого не понимает.
Странно, однако, что такую же наивность выказывает
и персонаж, именуемый у Сарояна Писателем. Работая
над сценарием учебного фильма о дезертире, которого
надлежало изобразить самыми черными красками,
Писатель и помогающий ему Весли целиком и пол-
ностью на стороне дезертира. Писатель торжественно
обещает: «Если я когда-нибудь напишу о дезерти-
ре, я буду писать о себе самом и приложу все свое искус-
ство, чтобы помочь ему в бегстве и доказать, что он
прав, что он выше миллионов других, которые не бе-
гут» .
Писатель не оригинален: апология дезертира —
давняя традиция американской военной прозы, отмечен-
ная именами Хемингуэя и Дос Пассоса и уже на новом
материале возродившаяся в книгах о второй мировой.
Да и сам Весли Джексон, один из первых антигероев
в литературе США о второй мировой, являет собой
вариацию на тему Джона Эндрюза из «Трех солдат» и
лейтенанта Фредерика Генри из «Прощай, оружие!»,
только трагическое у Сарояна вытеснено авантюрно-
комическим и сентиментальным. Кроме того, Весли
Джексон ухитряется заключить «сепаратный мир», не
покидая действующей армии. Он находит себе «девушку
по душе», как давно мечтал, и под вой сирен и рев немец-
ких бомбардировщиков над Лондоном держит ее в
объятьях, полагая, что это и есть «самая надежная
защита».
Итак, занимайтесь любовью, а не войной. Но так ли
спасителен этот путь?
Размышляя по поводу романа «Прощай, оружие!»,
Андрей Платонов писал: «Любовь быстро проедает
самое себя и превращается в свою противоположность,
если любящие люди избегают включать в свое чувство
некоторые нелюбовные, прозаические факты из действи-
тельности, если невозможно или нежелательно совме-
стить свою страсть с участием в каком-то деле, выпол-
няемом большинством людей. Любовь в идеальной,
81
чистой форме, замкнутая сама в себе, равна само-
убийству»1.
Не означает ли это, что Сароян написал глубоко
ошибочную книгу, не понял характер войны и очернил
доблестную армию США?
Что и говорить, позиция Сарояна далеко не всем
приходится по душе. Мало что может прояснить форму-
лировка: «Война — это несчастье, которое' почему-то
допустили люди и... когда-нибудь она выдохнется или
умрет». Как заклинание, глас вопиющего в пустыне,
звучит призыв к тому, что человечность и сострадание
должны стать законом; тогда «смерть получит коленкой
под зад» и настанет земной рай. Но, как справедливо
заметил А. Зверев в своей книге о Сарояне, «есть и
другой счет вещам. Есть особая значимость в этих
напоминаниях q том, что вроде бы должно разуметься
само собой, однако не становится непреложным зако-
ном... Они приобретают повышенную весомость, когда
войнами охвачен весь мир,— эти напоминания о проти-
воестественности войны и ненависти, злобы, эта азбуч-
ная и все же так трудно пробивающая себе дорогу
мысль, что человек должен, наконец, научиться доро-
жить своей и чужой жизнью, не уродуя ее безумием»2.
Вот потому-то «ошибочную книгу» читали по всему
свету. Даже в нашей стране, где издавна сурово отно-
сились к попыткам бросить тень на «священную войну»,
«Приключения Весли Джексона» были изданы в
1958 году, когда американских авторов, между прочим,
издавали со скрипом. При всех «сомнительных» выска-
зываниях героя и его антигероических поступках
роман делал то, что не удавалось произведениям, вроде
бы совершенно правильно трактующим столь важную
тему. Плохой солдат и неважный патриот Весли Джек-
сон символически выражал ту надежду, что живет в че-
ловечестве,— выстоять и восторжествовать.
Этого жизнелюбия, сочетания озорства, теплоты и
задушевности сарояновской прозы не хватало слишком
многим книгам о второй мировой, в центре которых —
личность, не ткелающая принимать участие в бойне.
Повесть Роберта Лоури недвусмысленно называется
«Жертва» (1946). Ее действие происходит в Италии,
1 Платонов А. Размышления читателя. М., 1989, с. 101.
2 Зверев А. Грустный солнечный мир Сарояна. Ереван. 1982,
с. 188.
82
в самом начале 1945 года. Основные боевые действия
развертываются между рядовым авиаразведки Джо Хем-
мондом и его начальством. Изнывая от бессмыслен-
ности армейской жизни, от чувства, что его безжалостно
эксплуатируют, герой убежден, что в этой войне у него
нет ни врагов, ни союзников. «Это чужая война. Как
мог он столь старательно делать вещи, помогавшие
ничтожествам вроде лейтенанта Пинкмана или полков-
ника Полански делать карьеру, приобретать славу...
Враг, что находился там, вдали, за линией фронта, был
величиной неизвестной. Джо и в глаза его не видел. Зато
он изо дня в день лицезрел этих остолопов, великих
воинов американской армии. Он ненавидел их, презирал
все, что они олицетворяли».
Здесь выражено кредо героев многих американских
книг о второй мировой. Армия в них предстает истинно
фашистской организацией, выявляющей в людях самое
худшее. Преуспеть в ней могут лишь те, кто не умеет и
не желает мыслить самостоятельно, те, кто добровольно
превращается в инструмент или умеет пользоваться
людьми как инструментами.
У Лоури армия и — шире — американская социаль-
ная система крепко виноваты перед личностью. Но
как бы личность ни сердилась, ее положение незавидно.
Ей нужно либо смириться, либо избрать путь изгоя
и аутсайдера. Для Джо Хеммонда «адаптация» невоз-
можна, что приводит к катастрофе. Пустяковое наруше-
ние им буквы закона и тупоумие полковника Полан-
ски, не пожелавшего внять здравому смыслу, приво-
дит к тому, что Джо Хеммонд, угодив на гауптвахту,
бежит с нее, напивается, оказывается в обществе прости-
тутки, а потом, спасаясь от военного патруля, попадает
под колеса грузовика и погибает. Джо Хеммонд пал
жертвой на той войне, что военно-бюрократическая
машина развязала против тех, кто пытается сохранить
в себе человека. На войне, похоже, более важной для
автора, нежели вторая мировая, ибо последняя высту-
пает лишь фоном, символом процессов пострашней, чем
глобальный военный конфликт.
Современность с ее процессами дегуманизации и от-
чуждения — враг пострашней нацизма для очень мно-
гих американских прозаиков. Армия же предстает наи-
более ярким и наглядным выражением наступления на
личность со стороны Системы. Впрочем, личность от-
83
нюдь не равна индивидуалисту, о чем нередко забывали
писатели, предававшие анафеме все связанное с попыт-
ками дисциплинировать вольного стрелка-индивидуа-
листа. «Личность связана с миром, с людьми,— писала
Н. Я. Мандельштам,— Она находит себя среди себе по-
добных и, сознавая свою неповторимость, видит эту не-
повторимость в каждом. Индивидуалист, подчеркивая в
себе особенное, выделяет себя из всего окружения и
борется за особое место в обществе или просто за свое
индивидуальное право на паек, куда входит все, даже
часы и дни жизни».
В призывах уберечь частное от коллективного, что
усилилось в американской прозе 40-х годов, слишком
часто происходит такая подмена: выступая вроде бы за
личность, многие писатели на деле ратуют за индивиду-
алиста, а точнее — за эгоцентрика, который, если выра-
жаться в манере героя Достоевского, вознамерился «чай
пить», даже если из-за этого «свету провалиться в тар-
тарары».
Как писал не без иронии Дж. Оруэлл, «что-то в
нас мечтает быть героем или святым, но есть и другое
начало — маленький толстячок, который видит смысл
жизни в том, чтобы уцелеть любой ценой. Это наше
«неофициальное я», протест шкуры против порывов
души. Этот толстячок предпочитает безопасность, мяг-
кую постель, безделье, пиво и женщин «с формами».
Это он подрывает наши моральные устои и твердит нам,
что надо как зеницу ока беречь Главную Ценность, то
есть себя самого, изменять жене и не возвращать долги.
Позволим мы ему взять верх или нет — другой вопрос,
но было бы ложью утверждать, что в нас отсутствует
этот толстячок...»
Чеканное воплощение тема эгоцентрика, «внутрен-
него толстячка», брошенного в пекло войны, получила в
повести Джеймса Джонса «Пистолет» (1958).
«Седьмого декабря 1941 года, когда на аэродром
Уилер упали первые бомбы, рядовой первого класса
Ричард Мает завтракал» — такой фразой открывается
повесть. Собственно, это едва ли не цитата из Достоев-
ского (свету провалиться — мне чай пить). Событие ис-
торического значения — нападение японцев на базу
ВМС США на Гавайях, приведшее к гибели значи-
тельной части американского тихоокеанского флота и
заставившее Америку вступить во вторую мировую
84
войну,— уравнено с подробностью частной жизни ма-
ленького человека («завтракал»), которому нет дела до
конфликтов Большой Истории.
Эта самая История имела наглость потревожить Лич-
ность в тот самый момент, когда она заботится о себе,
выполняя важнейшую процедуру питания. Неустанной
заботой о себе проникнуты все помыслы и действия
девятнадцатилетнего героя повести, отнюдь не мечтаю-
щего о лаврах героя, гордости нации.
Волей случая Мает стал обладателем пистолета, на
ношение которого по уставу не имел права. Пистолет —
личное оружие ближнего боя — становится для него
волшебным талисманом, призванным уберечь хозяина
не только от мечей японских самураев, что мерещатся
Маету и его товарищам, но и вообще от всех мысли-
мых и немыслимых опасностей, что угрожают личности
со стороны коварного и жестокого «мира других».
Этот мир выступает в повести Джонса в качестве
силы могучей и неуловимо вездесущей, причем
«свои» — солдаты и офицеры вооруженных сил Соеди-
ненных Штатов — воспринимаются Мастом в качестве
противника не менее опасного, нежели японцы. Все
действия Маета продиктованы стремлением «не упус-
тить своего». Недаром, собираясь по сигналу боевой
тревоги, он не забудет, что особо подчеркнуто автором,
захватить с собой положенную по воскресеньям буты-
лочку молока, «чтобы не украли другие». Главные
боевые действия разворачиваются в повести не между
американцами и японцами, но между Мастом и его соо-
течественниками, которые хотят заполучить пистолет,
вызывающий у них те же мистические чувства, что у
самого Маета. Они уверены, что обладание этим оружи-
ем спасительно, убережет их от всех напастей.
Сохранить чудом доставшийся пистолет — дело весь-
ма нелегкое. Одни предлагают Маету деньги, причем
сумма неуклонно возрастает. Другие — льготы и при-
вилегии, которые они могут предоставить благодаря их
служебному положению. Третьи пытаются завладеть
оружием, используя силу или обман. Каждый из соиска-
телей в душе переживает примерно то,^ что и Мает:
«...у него был пистолет. Залог спасения. Однажды он
спасет его. Мает даже представлял себе эту сцену: лежит
один, раненый, винтовка потеряна, идти не может, и с
занесенной саблей надвигается японский майор, чтобы
85
развалить его надвое — вот тут-то пистолет и спасет
его. Весь мир летел вверх тормашками, но если бы толь-
ко сохранить пистолет, удержать при себе этот прекрас-
ный вороненый, беременный огнем инструмент спасе-
ния, тогда, может быть, он сумеет остаться в живых».
Мает сражается до конца. Когда рядовой О'Брайен
выкрадывает пистолет, Мает предпринимает ответную
операцию и вновь обретает свою драгоценность. На него
доносят сержанту Пендеру, тот уже готов поступить
по инструкции и отобрать неположенный рядовому
пистолет, но отступает перед обезоруживающей искрен-
ностью Маета, объясняющего, для чего он ему: «Для то-
го, чтобы уцелеть. Я хочу спастись. Если он будет со
мной, я буду себя чувствовать спокойнее». На вопрос
сержанта, не хочет ли он устроиться лучше других, Мает
отвечает: «Да, наверное, хочу устроиться лучше других.
Или, вернее, так... скажем, я хочу устроиться как можно
лучше. А уж другие — это их дело. Но я же не хочу
устроиться за их счет».
Сержант удовлетворен логикой своего подчиненного.
Тем более что и сам с первой мировой войны носит
пистолет, который забрал на поле боя у убитого товари-
ща,— пистолет этот пару раз спасал ему жизнь.
И все же усилия Маета идут прахом. В один прекрас-
ный день в роту приезжает оружейник Муссо, обна-
руживший в бумагах расписку Маета в получении
пистолета, когда он был назначен в караул,— и отбирает
у него драгоценный предмет. Выстояв в «ближнем бою»
с такими, как он сам, Мает безнадежно проигрывает
в поединке с Системой. Характерно, что именно в этот
момент между бывшими конкурентами в войне за писто-
лет возникает кратковременное чувство солидарности.
О'Брайен, один из самых активных противников Маета,
вместо того чтобы злорадствовать, вдруг в приступе
бешеной злобы начинает грозить кулаком вслед машине
каптенармуса с криком: «Это нечестно! Не имеешь
права поступать так с нами!» Это «мы» рождается
чувством общего бессилия маленьких людей перед об-
стоятельствами, в которые их поставила судьба. Потер-
пев поражение в «главной» войне за свои индивидуаль-
ные права, Мает и такие, как Мает, обречены довоевы-
вать вторую мировую, смысл и цели которой им непо-
нятны и безразличны.
Если Ричард Мает всеми силами стремился приспо-
86
собиться к неблагоприятным обстоятельствам, то Роберт
Ли Пруит, главный герой романа Джонса «Отныне и
вовек» (1952), действие которого разворачивается не-
посредственно перед вступлением США в войну, встре-
чает в штыки все посягательства общества на его бес-
смертную душу и свободу воли. Он упрямо
отстаивает право жить «как хочется» и снова и снова
бросает вызов обстоятельствам, идет наперекор пожела-
ниям тех, кто обладает властью, отчаянно пытаясь
отвоевать себе хоть немного из той свободы, которой —
теоретически — обладает гражданин демократической
страны.
Его борьба с волей других принимает характер упря-
мого негативизма. Одаренный музыкант-горнист, он ре-
шил больше не брать в руки горн, не желая унижаться,
чтобы получить теплое местечко полкового горниста.
Способный боксер, он отказывается выступать на ринге,
ибо во время тренировочного боя нанес своему другу
неосторожный удар, лишивший того зрения. Помешан-
ное на спорте начальство возлагает большие надежды на
розыгрыш кубка дивизии по боксу — мастерство Пруита
тут могло бы сыграть решающую роль. Но Пруит стоит
на своем: раз он решил бросить бокс, никакие уговоры,
посулы и угрозы не заставят его изменить решение.
«У каждого человека есть определенные права,—
рассуждает он,— и он должен их сам защищать, никто
другой за него это не сделает. Ни в конституции, ни в ус-
таве не сказано, что в этой роте я должен заниматься бок-
сом. Понимаешь? Так что если я не хочу быть боксером,
то это мое право. Я же отказываюсь не назло кому-то, у
меня есть серьезные причины. И если я так поступаю,
как считаю нужным, и никто от этого не страдает, зна-
чит, я еще могу сам собой распоряжаться и жить, как
хочу, чтобы никто мной не помыкал. Я человек, и это мое
право. Не хочу, чтобы мною помыкали».
Именно в стремлении избежать «помыкания» Роберт
Ли Пруит в свое время завербовался в солдаты. «По-
чему я подался в армию? — объясняет он своей подру-
ге.— Потому что не хотел как каторжный рубить уголь
в шахте и плодить сопливых ублюдков, они от тамошней
пыли все равно что черномазые. Потому что не хотел
жить, как жил мой отец, и мой дед, и все остальные».
Пруит родом из того самого шахтерского городка Гар-
лана, который в 30-е годы прогремел на всю Америку
87
благодаря знаменитой стачке горняков. В этой стачке
был ранен и брошен в тюрьму отец Пруита, а дядя —
застрелен полицейскими как «оказавший сопротивле-
ние». Вскоре умерла от туберкулеза и мать. Вступление
Пруита в армию было вызовом обществу, формой непри-
ятия той «мирной Америки», которая время от времени
пользовалась «военными методами» для вразумления
своих не очень послушных граждан.
В Америке 30-х годов профессия военного не относи-
лась к числу престижных или выгодных в материальном
отношении. В США издавна ценилось умение «делать
дело», добиваться осязаемых результатов, и потому на
военных смотрели весьма косо. К ним относились как к
нахлебникам, которых общество вынуждено содержать
из милости,— традиционный изоляционизм во внешней
политике и особенности географического положения
страны делали необязательной большую армию. Амери-
ка жила в убеждении, что промышленно-технологичес-
кое превосходство и правильная экономическая полити-
ка — вот самое верное оружие в борьбе с соперниками
на мировых рынках.
Военные платили «гражданским» той же монетой
презрения. Они ощущали себя пасынками сытого и само-
довольного общества, погрязшего в делячестве и торга-
шестве, членами рыцарского ордена, отвергавшего деше-
вые мещанские блага.
Главный герой романа Джонса отнюдь не случайно
носит имя прославленного полководца Гражданской
войны, главнокомандующего армией южан Роберта Ли,
овеянного славой «офицера и джентльмена», сочетавше-
го в себе личную отвагу, стратегический талант и безза-
ветную приверженность идеалам Юга — при всей их ис-
торической обреченности. Роберт Ли Пруит тоже стоек,
мужества ему не занимать, и он так же верен идее долга,
служения стране, как и его знаменитый тезка. И так же,
дает понять Джонс, исторически обречен. Этот «послед-
ний романтик», гордый индивидуалист и нонконфор-
мист, не желающий угождать обстоятельствам, оказыва-
ется аутсайдером, на обочине «организованного общест-
ва», и ему нет спасения в армии, давно утратившей свой
«рыцарский характер».
Печальная истина, по Джонсу, состоит в том, что ар-
мия, в которой решил спастись от антигуманного об-
щества Пруит, мало чем отличается от «гражданки». Это
88
фрагмент американской повседневности, только с огра-
ничениями армейской дисциплины и параграфами уста-
ва. Офицеры, какими они предстают в изображении
Джонса, менее всего похожи на романтических героев
прошлого. Они принимают под его пером карикатурные,
откровенно фарсовые очертания. Жалкие интриганы,
одержимые разнообразными комплексами, ничего не
смыслящие в профессии военного, они выглядят ничто-
жествами, способными только притеснять подчиненных
и пресмыкаться перед вышестоящими в надежде по-
скорее получить очередной чин. Как и водится в амери-
канском военном романе конца 40-х — начала 50-х, есть
среди них и потенциальные «фашисты».
В романе Мейлера «Нагие и мертвые» апостолом то-
талитаризма выступал генерал Каммингс. Гавайский
гарнизон в романе Джонса посещает бригадный генерал
Сэм Слейтер, близкий по духу мейлеровскому фюреру
местного масштаба. Перед собравшимися послушать сто-
личного гостя офицерами Слейтер развивает свою тео-
рию страха как ведущей и организующей социальной
силы. «В прошлом,— говорит он,— страх перед влас-
тью был всего лишь оборотной отрицательной стороной
положительного морального кодекса «Честь, Патрио-
тизм, Служба»... Но вот восторжествовал практицизм,
наступила эра машин, и все изменилось... Машина ли-
шила смысла старый положительный кодекс. Ведь по-
нятно, что невозможно заставить человека добровольно
приковать себя к машине, утверждая, что это дело его
чести. Человек не дурак. Таким образом, от этого кодекса
сохранилась теперь только отрицательная сторона, кото-
рая приобрела силу закона. Страх перед властью, быв-
ший некогда лишь побочным элементом, теперь превра-
тился в основу, потому что ничего другого не осталось».
По убеждению Слейтера, «современную армию, как и лю-
бую другую составную часть современного общества,
следует держать в повиновении с помощью страха». Сек-
рет управления прост: надо «заставить каждую касту
бояться стоящих на ступеньку выше и презирать стоя-
щих на ступеньку ниже». Это сможет обеспечить нуж-
ный порядок, поддержать «боевой дух» в утрачиваю-
щей необходимую жесткость Америке. «Только военные
могут сплотить страну под единым контролем»,— вну-
шает своим слушателям философствующий генерал.
В Слейтере Джонса и Каммингсе Мейлера отражено
89
с достаточной ясностью военно-милитаристское мышле-
ние, которое, будучи в известной степени вызвано к жиз-
ни второй мировой войной, не отомрет с ее окончанием,
но станет важной — «идеологической» — частью воен-
но-промышленного комплекса.
Роберт Ли Пруит своим своеволием и желанием оста-
ваться вольной личностью не укладывается в узкие рам-
ки картины мира по Слейтеру. Для военно-бюрократи-
ческой системы Пруит помеха, грозящая нарушить чет-
кое функционирование машины. Слейтер и Пруит — ан-
тагонисты. Если у Слейтера продуманная теория, «докт-
рина страха», то у Пруита есть лишь смутное убеждение,
что следует всегда быть на стороне слабых против силь-
ных. Вроде бы тут нет никакой политики, никакого по-
трясения основ. Но, размышляя о том, как будет воспри-
нята эта позиция начальством, Пруит приходит к выво-
ду, что его сочтут опасным, преступным типом, «револю-
ционером-максималистом ».
Герой явно льстит себе. Опасного тут куда меньше,
чем ему кажется. Тип этот стар, как Америка, и вполне
укладывается в рамки американской концепции индиви-
дуализма. Аутсайдер, бунтарь, не признающий никаких
авторитетов и законов, кроме тех, что создал для себя
сам, высоко котировался в американской культурной
традиции. Искусство США вообще предпочитало такого
героя респектабельному представителю организованного
общества — бизнесмену, чиновнику, да и рабочим с фер-
мерами тоже, если они работали, а не бастовали. Читате-
ли в большинстве своем были всей душой на стороне пер-
сонажа-аутсайдера, радовались его удачам, огорчались
его поражениям, при том, что сами в своей будничной
деятельности руководствовались совсем иными прави-
лами.
Посчитав себя опасным для общества конформистов
и приспособленцев, Пруит на самом деле как раз в своей
«неординарности» выглядел очередным вариантом
бунтаря, вызывая вполне стандартную реакцию читате-
лей, с удовольствием вспоминающих героические добро-
детели века минувшего, эпохи первопроходцев, «воль-
ных стрелков» только лишь формирующегося общества,
ностальгически вздыхающих по утерянному раю свобо-
ды, сетующих на необходимость ходить в офис каждый
день «от и до», приспособляться, лавировать, совершать
компромиссы. Роберт Ли Пруит, объявивший конфор-
мизму и приспособленчеству войну, приносит своего ро-
90
да искупительную жертву во имя всех присмиревших
потомков вольных американцев тех времен, когда по-
коряли Дикий Запад и сколачивали гигантские состоя-
ния чуть ли не за один день.
Как это не раз происходило в американской литера-
туре, герой Джонса, типичнейший американец, воспи-
танный на штампах официальной идеологии, комиксах и
голливудских фильмах, вдруг выпадает из колеи повсе-
дневного существования. Он не желает больше «ла-
дить». Он готов соблюдать устав и прочие правила во-
енного распорядка, но вместе с тем надеется сохра-
нить в полном объеме свое «я», свое достоинство и
честь.
Не получается.
Его будут считать либо глупцом, либо действительно
бунтовщиком, которого надо поставить на место в нази-
дание другим. Он пройдет через цепь придирок и униже-
ний в своей роте, через тяготы военной тюрьмы, а затем,
собственноручно расправившись с садистом-тюремщи-
ком, окажется вне закона, не вернется в казарму, ока-
жется на положении дезертира.
Во время налета японской авиации на Перл-Харбор,
скрываясь у своей подружки, местной проститутки Аль-
мы, он в буквальном смысле слова проспит налет, а по-
том будет тщетно пытаться вернуться назад, в роту, к то-
варищам, проходящим крещение огнем.
Назад пути не будет. Роберт Ли Пруит, обладающий
всеми задатками Героя, но не умевший найти примене-
ния своим силам в мирное время, в решающий момент, в
момент военной опасности, окажется не у дел. Он будет
метаться по острову в поисках своей части и погибнет,
спасаясь от военного патруля.
В мирное время персонаж стремится в армию. Во
время войны оказывается в самоволке. Что хотел сказать
Джонс, «санкционировав» гибель Пруита от пули своих
же,— что «свои» куда опаснее врага официального, что
романтик-бунтарь обречен в современной цивилизации
или же он просто не нашел иного способа поставить сю-
жетную точку?
Советские американисты были склонны в первую го-
лову винить американскую военную и — шире — соци-
альную систему. Наши специалисты по США вообще
всегда были на стороне Личности, угнетаемой дурным
Обществом. Они были за индивидуальность (американ-
91
скую) против коллектива (капиталистического). Их не
смущало, что герой Джонса и сам ведет себя далеко не
самым безупречным образом. Это легко списывалось на
то, что само общество «еще хуже». Зато специалисты по
советской литературе не давали капризной, своенравной
личности никаких поблажек, пели дифирамбы Коллек-
тиву, способному перевоспитать любую не очень достой-
ную человеко-единицу. Носи Пруит фамилию Сидоров и
служи не на Гавайях, а под Владивостоком, те же са-
мые импульсы, те же самые устремления встретили бы
суровый отпор у читателей страны тотальной коллекти-
визации. В загулах и драках персонажа не обнаружи-
лось бы никакого «символического» начала, отобража-
ющего куда более сложные отношения. Это было бы
лишь вопиющим нарушением армейского устава и мо-
рального кодекса строителя коммунизма.
Но при всех, пусть весьма значительных, раз-
личиях в структуре и стиле жизни нашего и американ-
ского общества существуют, пора признать, некоторые
основные правила взаимоотношения частного и общего,
индивидуального и социального, забывать о которых не
следует, дабы не утерять истинную перспективу поло-
жения дел.
Современное общество — весьма сложная социаль-
ная система, и даже самые яркие аналогии из былых
веков, при всей их эмоциональной убедительности, по-
рой мало что проясняют. Личности хочется быть само-
стоятельной, не поступаться своими капризами и хоте-
ниями, но действительность снова и снова демонстриру-
ет невозможность «самостийности». Возникают кон-
фликты, порой драматично разрешающиеся, но одно-
значно осуждать на этом основании общество — не
значит искать истину.
Джонс не приемлет всех этих сложностей, считая
требования общества нагромождением фальши, иска-
жением того, что должно быть «по всей справедли-
вости». Бели у личности, наделенной хорошими задат-
ками, что-то не получается — стало быть, виновато об-
щество, не дающее ей того, что индивидууму полагается
по праву. Если относиться к книге Джонса как к попыт-
ке серьезного разговора (а многие весьма вдумчивые
критики отказывали ей в этом), то главная ее беда в том,
что Джонс не способен встать выше своего персонажа.
Пруит запутался в проблемах, поставленных перед ним
92
жизнью, Джонс не в силах его поправить. Он затронул
и впрямь трагичную проблему взаимоотношения лич-,
ности и общества, личности и армии слишком прямо-
линейно, увидя в ней конфронтацию истинного (лич-
ность) и ложного (общество) начал. Но такой
авторитетный литературовед, как Джон Олдридж, упре-
кая героев Джонса в одномерности, заметил не без раз-
дражения, что «они лишь рассуждают о цельности, а
цельным человеком у них считается тот, кто не допустит,
чтобы те или иные жизненные перипетии подорвали их
веру в принципы, утвердившиеся в их сознании в две-
надцатилетнем возрасте. Вот почему столь плохи любые
учреждения, системы правления и в особенности ар-
мия...»1. На примере Джонса Олдридж напоминает о
старой беде американского литературного сознания,
когда дурной сложности буржуазного уклада противо-
поставляется благодатная наивность, инфантилизм, ко-
торые выше, лучше именно своей неиспорченностью, от-
сутствием прагматизма. Но противопоставление это
чересчур прямолинейно.
Джонса много критиковали за излишний натура-
лизм, за копирование (пусть на свой лад) Золя,Ф. Нор-
риса, Драйзера и Дж. Лондона, за приверженность к
живописанию низменных страстей и инстинктов. В ро-
мане и впрямь хватает кулачных поединков, лихих пья-
нок и постельных сцен. Но все это, как ни странно, не
выглядит органической частью того жизненного потока,
который прорвался бы в «литературу», принеся впере-
мешку высокое ц низкое, плохое и хорошее. Скорее это
декорации, специально построенные автором, дабы пора-
зить и даже эпатировать «мещан», подчеркнуть траги-
ческую общезначимость романа, который в известном
смысле можно назвать военно-социальным моралите. Не
устранение из произведения художника, но, напротив,
его чрезмерное присутствие, склонность к несколько не-
уклюжему дидактизму и нравоучительству (ниспровер-
жению «обывательских» представлений о добре и
зле) — вот что характерно для романа-дебюта Джонса.
«Отныне и вовек» псевдодобродетелям буржуазности на-
до что-то противопоставить — автор прославляет на
все лады «настоящие мужские добродетели», умение
1 Олдридж Джон. После потерянного поколения. М., 1981,
с. 215.
93
утверждать себя кулаком, за бутылкой, карточным сто- '
лом и в постели, но получается сплошь и рядом по- \
детски, словно размечтался обиженный школьник,'
желающий стать сильным, безжалостным, непреклон-
ным, жестоким, а на самом деле нуждающийся в том,
чтобы его пожалели. «Очень легко осмеять у Джонса
неуклюжесть стиля, которой автор прямо-таки гордит-
ся,— писал еще один авторитетный специалист по лите-
ратуре США Ихаб Хассан,— поиздеваться над «долите-
ратурной психологией», которая дает о себе знать в
отношениях полов, и над прославлением мужской по-
тенции или опять же поднять на смех наивное воспева-
ние бродяги или забияки как... настоящего бунтаря...
Но остается роман, гнев и сострадание в котором не
заслонить всеми промахами автора; разоблачая армей-
ский быт накануне войны, роман напоминает о другой
войне, которая незаметно опустошает (незаметно, пото-
му что войну ту старательно пытаются замолчать) аме-
риканскую душу»1.
«Тонкая красная черта», увидевшая свет через де-
сять лет после громкого дебюта Джонса (1962), не вы-
звала того ажиотажа, что роман «Отныне и вовек».
Литературные эксперты не нашли в ней «вечных амери-
канских архетипов», игры образов, заслуживающей
внимания (с любым знаком) «писательской техники».
Рядовые читатели напрасно ожидали мелодрамы и
эротики, коими был богат первый роман. «Тонкая крас-
ная черта» между тем — серьезно и ответственно напи-
санная книга о психологии рядового солдата, оказав-
шегося в пекле войны.
Войне и посвятил свой роман Джонс — «этому вели-
чайшему и героичнейшему из всех человеческих деяний,
в надежде, что войны не прекратятся никогда и не лишат
нас того удовольствия, тех впечатлений и стимулов, что
так нам необходимы, а также героев, президентов, лиде-
ров, музеев и памятников, что воздвигаем мы во имя
мира».
Роман «Тонкая красная черта» — это хроника су-
ществования человека на войне, оказавшегося в чрезвы-
чайных обстоятельствах. В своем репортаже с тихооке-
анского театра военных действий Джонс расскажет, что
Hasan I. Radical Innocence. Studies in the Contemporary
American Novel. Princeton, 1961, p. 109.
94
такое ожидание атаки противника, как происходит
штурм укреплений, каково солдатам под минометным
обстрелом и насколько ужасна смертельная агония.
Джонс описывает зеленоватые конечности убитых япон-
цев и американцев, вонь, тошноту, которую вызывает
«пейзаж после битвы». Он подробно рассказывает о
чувствах персонажей после первой бомбежки, когда они
открывают в себе новые свойства: «Файф, например,
понял, что он трус. Он всегда считал, что будет таким
же храбрым, как и любой другой солдат, а может быть,
чуть храбрее. После двух налетов он с удивлением
и тревогой понял, что он не только не храбрее, но, на-
против, трусливее. Это была страшная истина,
от которой никуда не уйти. Очевидно, остальные
только боялись, а он был охвачен ужасом, отдал бы
все на свете, что имел и чего не имел, чтобы не быть
здесь, защищая свою страну. К черту страну! Пусть дру-
гие ее защищают. Вот что, честно говоря, он чувство-
вал!»
«Разум отделяет от безумия лишь тонкая красная
черта» — гласит старинная восточная мудрость, взятая
Джонсом в качестве одного из эпиграфов к роману. Пи-
сатель показывает, как переходят эту грань вроде бы
вполне нормальные люди, как просыпается в них жесто-
кость и даже садизм. Он изображает зверское избиение
американцами тяжело раненного японца, расстрел
японских пленных, торговлю «сувенирами», в числе ко-
торых ценятся не только самурайские мечи, но и золотые
зубы. Тот же Файф, наблюдая разгул дикости, приходит
в ужас: «Ему стало страшно, что существа, владеющие
речью, освоившие прямую походку на двух ногах, стро-
ящие города и претендующие на то, чтобы называться
людьми, могут на деле относиться к себе подобным с
такой звериной жестокостью. Неужели единственный
способ выжить в этом мире так называемой человеческой
культуры, которую мы создали и которой так гордимся,
это быть еще более злобными и жестокими, чем те, с кем
мы сталкиваемся?»
Персонажи «Тонкой красной черты» выглядят
сверхзаземленными. Порой кажется, что это не столько
даже люди, сколько инстинкты, на время превративши-
еся в людей. Это не просчет писателя, но, напротив,
вполне осознанная позиция. С недоверием относясь к
95
высоким понятием и красивым фразам, Джонс видел J
себя защитником и полноправным представителем «кос-
ноязычных»1, тех, кто, не получив образования, оказав-
шись в самом низу социальной лестницы, снова и снова
вынужден испытывать в чужом пиру похмелье. Впослед-
ствии, в сопроводительной статье к альбому «Изобрази-
тельное искусство второй мировой войны» (1975),
Джонс скажет, что военная история пишется представи-
телями высших классов для читателей из той же соци-
альной среды, что во время второй мировой все ключе-
вые посты в армии США занимали представители
социальной элиты, посылавшие в пекло сражения пред-
ставителей «низов». Отмечая, что представители выс-
ших классов обладают «повышенной сознательностью»,
чувством долга, моральной целостностью, он продолжа-
ет: «Эти качества, безусловно, заслуживают восхище-
ния. Но они не имеют отношения к пехотинцам-про-
летариям. К старости я пришел к выводу, что наша
история получила искаженное толкование именно бла-
годаря существованию двух систем ценностей: каким мы
желали бы видеть человечество и каким оно является на
самом деле — хотя никто из нас не желает откровенно
признать эту двойственность».
Джонс не стремится изобразить «правильно мысля-
щего героя», он вообще, вслед за Митей Карамазовым,
подозревает, что «разум — подлец». Его герои могли бы,
по его указке, думать о благе человечества, но, как выра-
жался Брехт, «обстоятельства не таковы». Как Ричард
Мает из «Пистолета», они приучились в первую очередь
думать о себе, искать талисман личного спасения (не
случайно эпизод с пистолетом и борьбой за право им
обладать мелькнет и в «Тонкой красной черте»). На
последних страницах книги после кровопролитного сра-
жения шагает отряд уцелевших, один из них благодуше-
ствует: «У него были две заветные фляги, полные джи-
на, и это сейчас было его главным имуществом, которым
он всего более дорожил, его собственностью. В голове в
ритме припева или как счет при маршировке пели и
постукивали в такт вечные и незабываемые слова: Соб-
ственность, Собственность, все ради Собственности».
Как и в «Пистолете», авторская ирония ненавязчиво от-
1 В этом романе все персонажи сплошь носят односложные фа-
милии — своеобрааяое внешнее оформление их внутренней «одно-
сложности».
96
теняет «легкую ненормальность» этой типичнейшей
военно-житейской ситуации.
В прозе Джонса, со всеми ее стилистическими огре-
хами, пылает пожар, какой не всегда удавалось разжечь
его коллегам, умеющим «хорошо писать». Собственно,
военная проза Джонса — попытка исповеди, стремле-
ние разобраться в клубке противоречивых проблем, не
дающих покоя автору, ставшему профессиональным пи-
сателем, но не утратившему очень многие черты «про-
стого человека».
И еще в одном аспекте творчество Джонса заслужи-
вает внимания. Его проза — яркий пример остаточного
романтического мироощущения, продолжающего заяв-
лять о себе и в середине XX века. Как отмечал Эрих Ка-
лер в своем труде «Мера всего — человек», «романтизм
рождается как протест против рационального, буржуаз-
ного, против того, что несет с собой цивилизация,
против ее технологии и экономики, против всякого прак-
тицизма и упорядоченности. Романтизм, собственно,
являет собой противовес этой цивилизации... Он возник
из французского, испанского, немецкого романа эпохи
Возрождения, прославлявшего доблести запоздалых ры-
царей, вытесненных цивилизацией развивающегося го-
рода. Потом романтическое мироощущение получи-
ло поддержку и развитие у Ж.-Ж. Руссо с его призы-
вом к бегству от пагубной утонченности общества к
первозданному человеку, от рассудка к безбрежности
чувств»1.
Джеймс Джонс с его упором на грубое, земное, бру-
тальное, недоверием к «дурной сложности» современно-
го общества — продолжатель давней традиции амери-
канского культурного сознания. В литературе США
тема побега от несовершенных, затронутых опухолью
коррупции социальных институтов на новые территории
известна еще со времен Купера и Мелвилла. Неприятие
окружающей реальности соединялось у романтиков с на-
деждой найти новые пути построения «града Человека»,
еще раз попробовать начать сначала. В этом вечное обая-
ние романтического сознания Нового света. С другой
стороны, опасно принимать такие «моменты истины» за
всю истину, высвеченные факелом художника фрагмен-
ты реальности за всю реальность. Социальная дей-
1 Kahler Е. Man the Measure. N. Y., 1943, p. 485.
4 С Бедов 97
ствительность XX века трудна, трагична, порой
опасна для человека, но как бы ни хотелось построить
ее новый улучшенный вариант на новом месте, при-
ходится жить и трудиться в условиях, которые есть,
а не должны быть. Слишком уж удалиться в себя, заня-
ться созиданием своего «государства» опасно, мож-
но проспать главное, как проспал налет на Перл-Харбор
Роберт Ли Пруит.
В одной из заметок с фронта будущий маститый про-
заик, а пока способный военный журналист Джон Херси
писал: «Наши летчики не жестоки и не бесчувственны.
Скорее наоборот. Большинство из них вполне симпатич-
ные и добрые люди. Если они склонны помалкивать об
уроне, который наносят противнику, то это прежде всего
потому, что такая уж у них «работа». Она по необходи-
мости исключает «эмоции». Если летчики будут преж-
де всего думать о том, как точнее и крепче ударить по
врагу, их война быстрее закончится и раны скорее
заживут».
Роман Херси «Возлюбивший войну» ^1958) созда-
вался уже в иные времена — после того как мир узнал
о бомбардировках Дрездена и Токио, после атомных
ударов по Хиросиме и Нагасаки, в разгар холодной вой-
ны и гонки вооружений. Особый характер «работы»
военных летчиков, где велика дистанция между атаку-
ющим и его потенциальными жертвами, создает не
только атмосферу деловитости, но и равнодушное отно-
шение человека к итогам своей разрушительной деятель-
ности.
Социологи не раз отмечали, что отсутствие прямых
контактов между производителем и потребителем при-
водит к росту безответственности у первого. Похожим
образом дело обстоит в военном искусстве. Одно дело
личное единоборство, выстрел в упор, удар штыком,
когда страдания жертвы наглядны и реально ощутимы.
Военный летчик или тот, кто нажимает на кнопки пуль-
та управления ракетными установками, совершает лишь
предусмотренные инструкцией манипуляции и лишен
возможности убедиться в страшных последствиях своей
работы. Воин XX столетия постепенно из солдата прев-
ращается в «техника», выполняющего предписания чи-
новника-бюрократа.
Само понятие воинского героизма, славного подвига
подвергается у Херси серьезной ревизии.
98
Летчик-ас Базз Мерроу обожает свою разрушитель-
ную работу. Как и сержант Крофт из «Нагих и мерт-
вых», он испытывает сладострастное чувство, убивая
на законном основании. Он лихо воюет — но ничего
другого делать не умеет и не желает. Только в бою он
ощущает себя полноценным человеком. Считая свою
профессию лучшей из возможных, он с куда большей
симпатией относится к немецким летчикам, чем к пехо-
тинцам-американцам. Что же касается мирных жителей,
погибающих при массированных налетах ВВС, то для
Мерроу это пыль и грязь. «Я бы поубивал их всех»,—
бормочет он, узнав о том, что при налете американцев
на французский город Ренн погибло триста гражданских
лиц.
Антагонист «возлюбившего войну» Мерроу — его
второй пилот лейтенант Боумен, мучительно пытающий-
ся понять, во имя чего он воюет и сбрасывает бомбы на
французские и немецкие города. Он никак не может
забыть налет на Гамбург, когда погибло более 60 000 жи-
телей. Эти атаки для Боумена — квинтэссенция войны.
Разрушение ради разрушения. Под впечатлением этих
бомбежек, доставляющих упоение его командиру, он
начинает подумывать, «не заключить ли добрый старый
сепаратный мир». Стихийный пацифизм Боумена —
реакция на повышенную агрессивность Мерроу.
«Я злился,— размышляет герой.— Это и есть та самая
война, на алтарь которой я должен положить свою нику-
дышную жизнь, никудышную для всех, кроме меня».
В отличие от многих пацифистски настроенных пер-
сонажей американского военного романа, лейтенант Бо-
умен не даст взять верх идее «неучастия» («чумы на
оба ваши дома»). Видя в Мерроу «такого же врага,
как нацисты», сознавая разъединенность и социальную
апатию своих товарищей, Боумен в итоге приходит к
убеждению, что не воевать, заключить «сепаратный
мир» — значит играть на руку таким, как Базз Мерроу.
Война — зло, но война с нацизмом — необходимость,
ибо нацизм — еще большее зло. То, что среди антифа-
шистов не все рыцари без страха и упрека, дела не
меняет. Сложившаяся ситуация требует войны на два
фронта — и с нацизмом, и с доморощенными «псами
войны», такими, как Базз Мерроу, Крофт, генерал Кам-
мингс. Смутные догадки Боумена находят чеканное вы-
ражение в словах его товарища Кида Линча и становят-
4*
99
ся для главного героя нравственным императивом:
«В нашем столетии было что-то выпущено на волю среди
цивилизованных народов, что-то примитивное и вар-
варское. Я не хочу сказать, что немцы здесь монопо-
листы. Могу сказать лишь одно: я здесь, чтобы победить
нацистов, ибо они сейчас наиболее явно воплощают
угрозу возврата к варварству. Если я смогу выполнить
задуманное, то буду счастлив, что бы со мной ни случи-
лось».
Название романа Херси сделалось понятием нарица-
тельным. Стремление возлюбившего войну Базза Мер-
роу слиться с самолетом-бомбардировщиком, с бомбами,
что исторгаются из его чрева, при всех фрейдистских
подтекстах, указывает на распространенное социальное
явление. Когда человек становится частью военного
механизма, самоотождествляется с военно-деструктив-
ной функцией, он перестает быть человеком. Таким
механизированным придатком оказывается Базз Мер-
роу, и не случайно, что гибель его самолета означает
и его собственную гибель (оказавшись в экстремаль-
ной ситуации, он не станет искать спасения, как осталь-
ные члены экипажа). И наоборот, когда не выдержат
вдруг нервы у этого аса, станет ясно, что самолет обре-
чен. Гибель Мерроу на последних страницах печальна
и закономерна. Возлюбив войну, он, по сути дела, сам
вынес себе приговор.
Зло, открывшееся взору американских прозаиков, о
которых шла речь, было двуликим. Уничтожение «пер-
вого лика» — нацизма — парадоксальным образом
укрепляло и облагораживало «второй лик», людей тота-
литарной складки, оправдывало их агрессивные, импер-
ские устремления.
В «Кирпичном блиндаже» (1945) Ричарда Брукса
армия США изображена плотью от плоти прагмати-
ческой Америки, где действует закон джунглей: «Уби-
вай или сам погибнешь». Прямо отождествляя «стопро-
центный американизм» с «коричневой болезнью», Брукс
сурово критикует самодовольных победителей.
В похожем ключе написаны и два романа А. Хейеса
«Все твои победы» (1946) и «Девушки с улицы Флами-
на» (1951), действие которых происходит в послевоен-
ной Италии. Американцы пришли в Италию победителя-
ми, но принесли с собой коррупцию, новую несвободу.
Новоявленные «благодетели» выступают у Хейеса, по
100
сути дела, такими же оккупантами, разрушая и осквер-
няя все, что попадает в сферу их воздействия, они лишь
усугубляют тот упадок, в котором находится Италия.
Те же интонации дают о себе знать в романе Дж. Берн-
са «Галерея» (1946): «Наша пропаганда говорила о чем
угодно, только не о том, что мы завладели большей
частью материальных богатств современной цивилиза-
ции, оставшись нищими в духовном смысле. Мы вели
себя вполне пристойно у себя дома, но, оказавшись за
океаном, не смогли удержаться от соблазна кое-что зара-
ботать за счет тех, у кого дела шли не так гладко... С на-
шей голливудской моралью и логикой, напоминающей
рекламу товаров на радио, мы не удосужились обратить
внимание на тот факт, что война велась против фашизма,
а вовсе не против всех подряд итальянцев — стариков,
детей и женщин».
Очень многие американские литераторы не испыты-
вали чрезмерных восторгов по поводу победы сбоей на-
ции и ее союзников во второй мировой войне. Дело не в
их «несознательности», антипатриотизме и прочих дур-
ных свойствах, коими отличается буржуазный Запад в
отличие от соцлагеря, где идейно-воспитательная работа
всегда была на высоте, укрепляя сознательность граж-
дан1. Они видели, чем опасна упоенность собственной
правотой, от которой рукой подать до «все позволено»,
до убеждения, что самый факт принадлежности к вели-
кой державе, победившей дракона гитлеризма, уже де-
лает высоконравственной любую жестокую акцию. Не
случайно эти авторы с подозрением присматривались к
философии «стопроцентного американизма», где осново-
полагающими понятиями являются материальный ус-
пех, стремление обладать как можно большим коли-
чеством вещей. «А может, вся беда, что их (американ-
цев.— С. Б,) неправильно воспитывали и учили,— раз-
мышляет персонаж романа Антона Майрера «Большая
война» (1958),— и они выросли в убеждении, что жизнь
прекрасна, что деньги и витамины — самая надежная
броня, способная защитить от любых бед и несчастий...
1 Словечко «сознательный» в его советском значении трудно
отыскать в английском речевом обиходе. Сознательность там воспри-
нимается носителями языка как чувство личной ответственности,
умение принимать самостоятельные решения. У нас — нежелание
ничего решать самому, готовность повторять сказанное другими. Ко-
роче: сознательность — это бессознательность.
101
что все они, будучи американцами, представляют собой
особую привилегированную, стоящую выше других кас-
ту людей, обеспеченных хорошей одеждой и хорошими
зубами, надежным будущим, ясным, как лунная ор-
бита».
Гитлеровский нацизм и японский милитаризм для
Майрера — зло явное, против которого обращены и воен-
ная мощь союзников, и мировое общественное мнение.
Философия «американизма» опасна по-своему: она мо-
жет порождать в массах ту нравственную и социальную
апатию, тот национальный эгоизм, что становится источ-
ником войн, малых и больших.
Книги американских писателей, о которых речь шла
выше, с «советской» точки зрения идейно порочны.
В них не раскрыт антифашистский пафос действий
союзников, литературно-художественная артиллерия
антипатриотически лупит по своим, заставляя заподоз-
рить авторов в мелочности, эгоцентризме, исторической
и политической близорукости.
В упреках этих есть, наверное, свои резоны, но край-
не важно знать, что Сароян и Джонс, Херси и Лоури
стремятся дискредитировать того не очень заметного, но
крайне опасного врага, что биолог и антрополог Конрад
Лоренц назвал «воинствующим энтузиазмом». Этот са-
мый воинственный энтузиазм унаследован современным
человеком от далеких предков. Некогда он выполнял
полезные биологические функции (защиты рода), но в
условиях сегодняшних стал оружием самоуничтожения.
Лоренц отмечал, что не только в древности и средневе-
ковье, но и в нынешние времена люди искусства и исто-
рики, касаясь феномена войны, по-прежнему делают
упор на ее героические и романтические стороны. Имен-
но с войной ассоциируются у масс такие похвальные
качества, как героизм, мужество, патриотизм. Горе,
страдания, разрушения уходят на задний план, заслоня-
ются легендами о тех, кто славно потрудился на полях
брани. Воздвигая монументы гениям войны, люди забы-
вают горькие слова такого мастера ратных дел, как
американский полководец времен Гражданской войны
бесстрашный генерал Шерман: «Война — это ад, и ее
слава — мираж».
Что и говорить, апологеты индивидуализма в амери-
канской военной прозе многого «недоучли» и кое-что
«проглядели». Но в эпоху распространения опасных
102
тоталитарно-утопических доктрин они как умели преду-
преждали мир о фатальных последствиях обучения
личности в школе общих и светлых целей. Они напо-
минали, что священная ненависть к врагу — надежное
оружие Деспотии. В том, что на американской земле
так и не возник архипелаг ГУЛАГ, есть заслуга тех,
кто в меру сил и способностей гасил пламя воинствую-
щего энтузиазма.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Конформизм в послевоенной литературе США
Как не раз отмечалось исследователями, конец
40-х — начало 50-х годов стали для США периодом по-
дозрительности ко всему, что не укладывалось в про-
крустово ложе «стопроцентного американизма». «Что
такое «новая лояльность»? — спрашивал историк и пуб-
лицист Генри Стил Коммаджер и отвечал: — Это кон-
формизм. Полное, лишенное и тени критицизма приятие
Америки, как она есть»1. Подлинным героем этого «мол-
чаливого десятилетия» стал «человек в сером фланеле-
вом костюме». Так назывался роман Слоуна Уилсона,
воспевшего среднего американца, который хоть и пороха
выдумать не в силах, зато не умничает, а делает то, что
принято делать респектабельному члену общества.
В жизни человек в сером костюме жил припеваючи, но
в литературе его судьба складывалась куда сложнее. Там
по-прежнему преобладали ценности индивидуализма,
недоверие к официозу. Вполне преуспевая в реальной
жизни, консерватизм отнюдь не располагал большин-
ством в литературном парламенте, и Дж. Уолдмейер
менее всего был склонен шутить, когда называл консер-
вативные романы «Почетный караул» (1948) Джеймса
Гулда Коззенса и «Мятеж на«Кейне» (1951) Германа
Вука «двумя одинокими голосами протеста» в военной
прозе того времени. Не то чтобы произведений аполо-
гетического свойства было раз-два — и обчелся, но в по-
давляющем большинстве своем они существовали на
сублитературном уровне. По сравнению с этими литпо-
1 Цит. по: С h a f е W. The Unfinished Journey. N. Y., 1986, p. 12.
103
денщиками Вук и Коззенс выглядели большими масте-
рами.
Действие «Почетного караула», удостоившегося,
кстати, одобрения патриарха американской критики
Малькольма Каули, происходит в 1943 году на базе
ВВС США во Флориде. Во избежание нежелательной
реакции местных жителей на базе введены те же сегре-
гационные правила, что и на всем Юге, хотя это и
противоречит общему курсу американской политики.
Центральный конфликт романа имеет черно-белую под-
кладку и возникает на первых же страницах, когда ли-
хой пилот Бен Каррикер избивает летчика-негра Уилли-
са, из-за ошибки которого чуть не разбился самолет с
начальством на борту. Жертва гнева Каррикера попада-
ет в госпиталь. О случившемся узнает корреспондент
негритянской газеты и пытается подготовить разоблачи-
тельный очерк, но на базу его не пускают. Журналист
обращается с жалобой в Вашингтон. Масла в огонь под-
ливает недовольство негров-офицеров, которым не раз-
решено пользоваться клубом для белых летчиков. Попа-
хивает грандиозным скандалом, особенно недопустимым
в свете предстоящего визита крупного чина из минис-
терства обороны, предпринятого с целью пропаганды
антисегрегалистской политики Вашингтона в армии.
Негры, подзуживаемые белым офицером Эдселлом, гото-
вятся устроить бунт. Начальник базы генерал Бил —
неплохой военный, но неважный администратор, безна-
дежно запутавшийся в паутине «согласований», и на
помощь ему отряжен представитель, военной инспекции
полковник Росс (судья Росс, как называют его в романе,
имея в виду довоенную деятельность полковника).
Перед Россом ситуация, требующая немедленных
действий, и он отважно берется распутывать то, что
весьма напоминает гордиев узел.
Деятельность Росса — вереница умело достигнутых
компромиссов. Негров он убеждает не поднимать скан-
дала из-за сегрегации — ибо это мера временная и вы-
нужденная. Росс внушает им, что сейчас «восстание»
нанесло бы непоправимый вред «духу единства», не-
обходимого для успешной войны с врагом номер один —
гитлеризмом. Каррикера он отправляет на гауптвахту,
приказав ему принести извинения Уиллису. Тому, в
свою очередь, будет вручена медаль генералом из Ва-
шингтона. Келейно, без лишней помпы. Волки сыты, ов-
104
цы целы. Бунт предотвращен, репутация базы и ее руко-
водства спасена.
Росс — прагматик, давно пришедший к выводу,
что эмоции, даже самые благородные, плохо помогают
в решении тех сложных проблем, что выдвигает повсе-
дневность. Идеалы идеалами, но если они осложняют
обстановку, их надо уметь скорректировать. Коль скоро
военная база расположена в регионе, где идеи полного
равенства белых и негров поддержкой большинства не
пользуются, надо строить политику так, чтобы уважать
мнения (или, если угодно, предрассудки) большинства.
Надо исходить из реального соотношения сил, а не из
абстрактной модели мира. Лозунг Росса — стабильность
превыше всего.
Главному оппоненту Росса лейтенанту Эдселлу, на-
против, нет дела до «стабильности». Его вовсе не радует
тот факт, что общественный механизм функционирует
гладко, без помех. Для Коззенса этот офицер-либерал
олицетворяет эгоцентрическую безответственность ин-
теллектуалов, которые, быть может, правы «в высшем
смысле», но в реальности лишь мешают своими неумест-
ными действиями, обостряют и без того сложную обста-
новку и сколачивают себе своим фрондерством полити-
ческий капитал.
Коззенс не преминет подчеркнуть, что Эдселл —
законченный неудачник, его бурная общественная дея-
тельность — компенсация за неспособность жить и мыс-
лить конструктивно. Он самоутверждается «раскачива-
нием лодки». Ему скучно созидать, куда проще и инте-
реснее расшатывать, разрушать, сталкивать противопо-
ложные группировки. Собственно, таковы, по Коззенсу,
вообще все слишком рьяные поборники решительных
реформ. В его глазах это прежде всего «люди со сторо-
ны», которым главное — себя показать, заявить о себе
любой ценой, даже путем разжигания всеобщей склоки,
провоцирования «заварушки». Эдселл печатался в ради-
кальных изданиях, «потому что больше никто его не
печатал»,— еще одий вариант рассуждений кестлеров-
ского Бернарда насчет «страдающих от комплекса не-
полноценности старых дев мужского пола, которым
Власть не подумала предложить руку и сердце».
Коззенс и его герой Росс ценят не «йога», не «комис-
сара», но Администратора. Человек несовершенен, а
стало быть, несовершенны и социальные институты, им
105
созданные. Но это не значит, что надо умывать руки,
предоставляя действовать другим, или рушить старый
мир до основания. Строить нужно из того, что есть в
наличии. Тот, кто жаждет журавля в небе, презрительно
морщась при виде синицы, останется у разбитого ко-
рыта.
Ради того чтобы база функционировала, Росс готов
закрывать глаза на неэффективность отдельных офице-
ров. Полковник Моубри, например, оставляет желать
лучшего как администратор. Из-за его оплошности про-
исходит инцидент с человеческими жертвами. Но и
здесь полковник Росс не торопится с «оргвыводами».
Тот, кто будет ломать сложившуюся структуру в поис-
ках идеального исполнителя на каждом посту, рискует
вообще все испортить и превратить работающую систе-
му, какая она ни есть, в хаос. Позиция Росса сводится
к формуле: чтобы добиться цели, надо изыскивать
Способы, и не всегда прямая линия — кратчайшее рас-
стояние до Цели.
Коззенс и Росс не питают иллюзий насчет «идейной
закалки» американцев, сражающихся с нацизмом.
«Средний человек знает твердо об одной военной задаче,
которая имеет для него реальное значение: как можно
скорее сделать свое дело и вернуться домой. Это не зна-
чит, что ему не хочется сражаться,— напротив. Столк-
нувшись с неприятелем, он начинает понимать, что пока
враг не уничтожен или не обращен в бегство, лично он
не сможет вернуться домой. Ему ни к чему информация
о дурных принципах и скверных деяниях противника.
По сравнению с преступлением, которое они совершили,
просто оказавшись по ту сторону окопов, стреляя в него
и мешая ему снова оказаться дома, все их так называе-
мые «зверства», «адские замыслы», вынашиваемые их
лидерами,— сущие пустяки. И хотя общий интеллекту-
альный уровень среднего человека справедливо считает-
ся невысоким, на самом деле лишь в немногих он невы-
сок настолько, что они готовы всерьез принять идею
борьбы за «благородные принципы». Они бы расхохота-
лись, если бы кто-то упомянул эти принципы».
Дабы окончательно развенчать таких, как Эдселл,
Коззенс делает его посмешищем в глазах боевых офице-
ров — например, капитана Уайли. В отличие от тыло-
вика Эдселл а, который воюет языком, Уайли побывал
на фронте и награжден орденом. Правда, Уайли не
106
скрывает своего пренебрежительного отношения к чер-
ным, но ведь это мнение большинства южан. Глас наро-
да, как говорится, глас божий...
Мнение большинства для Росса — если не святыня,
то реальность, с которой нужно считаться. Коль скоро
большинство офицеров-белых придерживается форму-
лы «ниггер есть ниггер», значит, это серьезный аргу-
мент, который надлежит принимать во внимание всяко-
му, кто руководит — ротой, авиабазой, страной... Точно
так же коль скоро большинство считает, что негры еще
не созрели для того, чтобы выполнять ответственные
поручения и заниматься цивилизованным трудом («дай
им грузовик — и через неделю он развалится, дай им
пулемет, и через десять минут из него не выстрелишь,
замени белых офицеров черными, и через неделю сам
черт не разберется в ротной бухгалтерии»), стало быть,
так оно и есть. Вот и судите сами, кто определяет
исход войны,— отличные пилоты-белые или «второсорт-
ники»-негры. Последние, безусловно, «имеют кое-какие
права, но ъедь и белые их имеют тоже». Впрочем,
дело не столько в исходе мировой войны, сколько в судь-
бе Америки, и если абстрактная справедливость вос-
торжествует, то с трудом созидаемый американский мо-
нолит может дать трещину — намек слишком ясный,
чтобы не принять его во внимание.
В известном смысле Коззенс пошел по пути, кото-
рый выбрали и писатели либерального крыла. У него, в
сущности, те же приемы, но с обратным знаком. Внут-
ренний враг — в данном случае «смутьяны», безответ-
ственные критиканы, «гнилые интеллигенты» — реаль-
ней внешнего врага. Другое дело, что этот самый внеш-
ний враг официально признается авторами-коллективи-
заторами Главной Опасностью. Если у Сарояна, Лоури,
Джонса, Мейлера и многих других в конечном счете враг
внешний исчезал, растворялся в туманной дымке
«пустых слов» и пропагандистских лозунгов, то Коззенс
подчеркивает необходимость сплочения нации для того,
чтобы дать отпор самому настоящему внешнему врагу.
Есть что-то родное в такой точке зрения для советского
человека, долгое время выслушивавшего лекции от на-
ших официальных патриотов насчет того, что между-
народная обстановка сложна, враг не дремлет и надо
сплотиться, забыв о временных трудностях и отдель-
ных ограничениях. Надо терпеть и работать еще лучше,
107
а не талдычить о каких-то своих сомнительных пра-
вах.
Между тем черно-белые отношения в Америке тех
лет отличались немалой напряженностью. Так, в расо-
вых беспорядках в Детройте 1943 года погибло более
семидесяти человек. Вопреки бытующим мнениям, нег-
ры отнюдь не относились ко второй мировой как к чу-
жой войне. Но, по свидетельству американского исто-
рика У. Чейфа, «лагеря подготовки, особенно на Юге,
получили печальную известность жестоким обращением
с черными новобранцами»1. Чейф приводит много-
численные примеры дискриминации негритянских во-
еннослужащих — линчевание черного рядового в Форт-
Беннинге, избиение медсестры-негритянки, осмелив-
шейся занять не свое место в автобусе в Монтгомери,
штат Алабама, и отказ ее начальства принять меры к
задержанию и наказанию виновных, оправдание при-
сяжными белого полицейского, застрелившего черного
представителя военной полиции при исполнении послед-
ним служебных обязанностей. В одном из кафе Салинаса
(Канзас) его владелец отказался обслуживать черноко-
жих, в то время как там преспокойно обедали немцы-
военнопленные. Высокие слова официальной пропаган-
ды, призывавшей сражаться с нацизмом во имя демо-
кратии, оказывались в вопиющем противоречии с анти-
демократической политикой в отношении чернокожих
дома, что высекало искры недовольства, грозящие когда-
нибудь привести к грандиозному пожару. Как писала од-
на негритянская газета в те годы, «наш главный враг
не Гитлер в Германии, но наши местные американские
Гитлеры». В письме президенту Рузвельту чернокожий
корреспондент выражал убеждение, что «если Господь
Бог действительно существует, он вне всякого сомне-
ния белый, судя по тому, в каких условиях живут негры
в США. Гитлер не сделал черным ничего плохого, зато
белые американцы держат нас в бесправии и не дают
работы». Вместе с тем негритянская Америка в целом
охотно отзывалась на призыв в армию — доля негров в
вооруженных силах США в полтора раза превышала
их процент в населении США. Среди негров-военных
было весьма распространено движение за «двойную по-
беду» — над нацизмом в Германии и расизмом в Аме-
рике.
1 Chafe W. The Unfinished Journey, p. 45.
108
Своеобразным ответом «Почетному караулу» Коззен-
са читается роман Джона Оливера Килленса «И тогда
мы услышали гром» (1962), вобравший в себя надежды
и отчаяние черной Америки 40-х годов и изображающий
взаимоотношения негров и белых в американской армии
глазами черных солдат и офицеров.
В основе романа — история негритянской роты пе-
хотинцев — от ее создания и прохождения начальной
военной подготовки на базе в штате Джорджия до
крещения огнем в боевых действиях и «последнего
сражения» в разразившемся расовом конфликте на ав-
стралийской военной базе в Бейнсбридже. Главный ге-
рой романа — молодой негр-интеллигент Солли Сондерс,
до поступления в армию проучившийся два года на юри-
дическом факультете университета и всерьез думающий
о писательской карьере. Идеалист и романтик, он убеж-
ден, что армия — особое объединение людей, где товари-
щеская спайка и единство берут верх над социальны-
ми и расовыми различиями. Он верит, что нынешняя
война в корне отличается от войны 1914 года, ибо сейчас
на карту поставлена судьба Демократии. По его мнению,
сражаться с нацизмом — святой долг каждого американ-
ца. «Если Гитлер завоюет Америку, неграм станет во
сто крат хуже»,— убеждает он своих более скептически
настроенных товарищей, считающих, что «это вой-
на белых» и ни к чему чернокожим .вмешиваться в
нее.
Вскоре, однако, герою приходится на себе почувство-
вать, насколько «ближе к дому» позиции врага. Оказав-
шись в увольнительной без пропуска, Солли попадает в
полицейский участок города Эбенсвилл, близ которого
расположена база. Он подвергается унижениям и оскор-
блениям, а когда, не выдержав, дает волю чувствам, его
избивает до полусмерти полковник-северянин, с наслаж-
дением преподавший урок послушания зарвавшемуся
«ниггеру».
На сторону Солли встает либерально настроенный
лейтенант Самюэле, во многом напоминающий Эдселла
из «Почетного караула» Коззенса (и также изобража-
емого с немалой иронией, только с противоположных
позиций). Ему удается установить личность садиста-
полковника, но, вознамерившись добиться привлечения
его к ответственности, этот Великий Белый Друг Негров,
как насмешливо аттестуют его Солли и его друзья, быст-
109
ро идет на попятный, когда ему начальство дает по-
нять, что подобная активность может повредить его
карьере.
Случай в Эбенсвилле стал поворотным в жизни героя,
все больше укрепляющегося в мысли, что он, негр, и ар-
мия — две вещи несовместные. Оказавшись на Филип-
пинах, он больше не верит, что сражается за Демокра-
тию. «Нас призывают воевать с Гитлером и его ра-
систскими теориями,— рассуждает Солли,— но те же
самые идеи в ходу в нашей так называемой демокра-
тической армии. Странно, что солдаты-негры это тер-
пят» .
Но терпению чернокожих солдат приходит конец.
Оказавшись на отдыхе близ австралийского города
Бейнсбридж, они вступают в конфликт с ротой белых
американцев. Мелкие стычки и ссоры быстро перераста-
ют в вооруженное столкновение, «самую серьезную бит-
ву за демократию, в какой участвовали американцы во
второй мировой войне», как заметит автор, и в словах его
трудно уловить иронию.
Полыхает настоящая война: стрекочут автоматы,
рвутся гранаты. Лужи крови, убитые и раненые —
свидетельство глубокого разлада между черной и белой
Америкой. «Не может быть мира,— мрачно размышляет
герой в финале,— и не может быть разговоров о мире,
пока мы не обретем свободы. Нельзя превратить чело-
века в раба и требовать от него миролюбия». Обращен-
ный к событиям недавнего прошлого, роман Килленса
увидел свет в период очередного обострения отношений
между черными и белыми американцами, превратив-
шего Америку 60-х в арену действий, весьма напоми-
нающих гражданскую войну.
Роман Леона У риса «Боевой клич» (1953) посвя-
щен подвигам морских пехотинцев во время второй ми-
ровой войны. Несмотря на то что это книга о войне и
смерти, ее в какой-то степени можно счесть идиллией.
Все те проблемы и конфликты, что возникают на ее
страницах между личностью и армией, между предста-
вителями разных социальных и этнических групп, всег-
да получают слащаво-оптимистическое разрешение.
«Настоящие мужчины», по Урису, всегда найдут общий
язык. Возникают трогательные союзы — начинающий
НО
писатель Мэрион Ходжкисс дружит с мексиканцем Джо
Гомесом, хотя общего у них маловато: один все свое
свободное время читает или обдумывает будущий Ве-
ликий Роман, другой повесничает, готов в любой момент
подраться и мечтает, как бы поубивать побольше япон-
цев. Ну а Мэрион влюбился в девицу легкого поведения
Рэй, по его настоянию она бросает свое сомнительное
ремесло, отъезжает к нему на родину, поселяется у
его родителей и ждет не дождется своего суженого с
победой, чтобы стать ему верной женой.
Между «интеллектуалами» и «простыми ребятами»
у Уриса нет взаимонеприязни. «Наше отделение,—
сообщает повествователь,— гордилось Мэрионом. Не
многие могли бы похвастаться тем, что у них есть буду-
щий писатель». Интеллектуалы, со своей стороны, с
лихвой отрабатывают кредит доверия. Милт Норман,
до войны преподававший в университете, доброволь-
но записывается в солдаты, хотя мог бы добиться офи-
церских погон. Он терпеливо сносит грубость и хамство
сержантов в лагере начальной подготовки. Его товарищи
удивлены такой покладистостью:
«— Ты же знаешь в сто раз больше, чем эти хамы.
— Это не совсем так. Здесь я кое-чему научился.
— Но зачем тебе вся эта шагистика и муштра?
— Так нас отучают от гражданской жизни. Мы
должны понять, что теперь живем не сами по себе, но
как члены некоего единого целого. Дисциплина, уме-
ние мгновенно выполнить приказ. Придумано не-
глупо».
Да и зверюги сержанты, подготовив очередную пар-
тию новобранцев к отправке на фронт, окажутся в об-
щем-то неплохими парнями. Они, конечно, не слишком
церемонились с подопечными и не давали им поблажки,
но ведь их задача готовить настоящих бойцов, а неприя-
тель тоже не будет церемониться. Все, что делается в
армии США, делается прежде всего во благо самих же
новобранцев. И роман «Боевой клич» можно рассматри-
вать как беллетристическое приложение к уставу мор-
ских пехотинцев, его литературный аналог.
Превратившись за считанные недели из мягкотелых
«шпаков» в «псов войны», солдаты урисовского взво-
да попадут в роту сорвиголовы капитана Хаксли и под
его руководством будут совершать чудеса доблести и
стойкости. Когда же падет смертью храбрых их люби-
111
мый командир, его осиротевшие птенцы ринутся в по-
следнюю атаку с таким бешенством и остервенением,
что превосходящие силы врага дрогнут и будут обраще-
ны в паническое бегство.
В финале книги немногие уцелевшие бойцы пройдут
через военное кладбище, где похоронены их товарищи,
своеобразным траурным маршем, исполненные чувства
фронтового братства, избавившиеся от былых социаль-
ных и расовых предрассудков. В отличие от солдат
Мейлера или Джонса, они не питают никаких горьких
чувств по отношению к обществу или к своим команди-
рам. Впрочем, они вообще лишены возможности испы-
тывать реальные человеческие эмоции, ибо слишком уж
отчетливо проступает в них «картонное начало», это
не солдаты, а игрушечные солдатики, наделенные, прав-
да, умением двигаться и разговаривать.
Американский социолог Уильям Уайт в своей книге
«Человек организации» (1957) цитирует президента
одной из фирм, заявившего: «Наш идеал — индивиду-
алист в частной жизни и конформист в социальной».
Что и говорить, лояльная и законопослушная «еди-
ница» не должна существовать в унылом убеждении, что
всякое свободное волеизъявление — непростительный
грех. Напротив, в определенных случаях даже полезно
выпускать пар, накопившийся за часы, недели, меся-
цы «организованного существования», провозглашая
свою «автономность». В 1953 году Джеймс Миче-
нер, впоследствии весьма популярный автор истори-
ческих романов-хроник, опубликовал роман «Саёна-
ра!», прекрасно иллюстрирующий вышеозначенный те-
зис.
Время действия романа — 1952 год, война в Корее.
Но о самой войне в книге упомянуто лишь мимоходом,
для колорита. Главное же — «личная война» летчика-
аса майора Ллойда Грувера. Всласть навоевавшись, со-
вершив множество подвигов, он получает новое назначе-
ние — в Японию, под крыло к своему «без пяти минут
тестю», генералу Уэбстеру. Но внезапно вспыхнувшая
любовь к японке ставит под угрозу и его будущий брак,
и его военную, столь блистательно складывающуюся
карьеру. Его увещевает генерал Уэбстер, его отговарива-
ет отец, тоже генерал, его стращают, его улещивают,
апеллируют к его рассудку, взывают к его честолюбию.
Все напрасно. Упрямый Грувер готов на все во имя
112
Любви. Пусть окружающие в один голос твердят, что на
иностранках, да еще цветных, женятся либо неудачники,
либо представители низших социальных слоев — Гру-
вер стоит на своем. Ради любимой он готов пожертво-
вать всем, как решилась пожертвовать своим положени-
ем в обществе она.
Но тем и отличается дидактическая литература от
жизни и от серьезной литературы, что все проблемы по
мере продвижения к финалу разрешаются именно так,
как надо автору для доказательства того или иного тези-
са. Роковому решению бросить службу, махнуть рукой
на славу и успех не суждено осуществиться. На помощь
генералу-папе и генералу-тестю приходит сама Хана-
оги, возлюбленная майора Грувера. В самый крити-
ческий момент, когда тот готов уже послать все к чер-
ту—и армию, и карьеру, она вдруг бесследно исчезает,
оставляя письмо без обратного адреса, в котором гово-
рит, что у смешанного брака нет будущего ни в США, ни
в Японии, что дети, рождающиеся от таких браков, глу-
боко несчастны и что лучше расстаться сейчас, пока
еще не погибла их любовь.
Все устраивается наилучшим образом. Во имя Любви
и Высокой Ответственности (за судьбу неродившихся
детей) Грувер готов капитулировать. Это даже не капи-
туляция, а почетный мир, он не уронил чести истинного
американца, ибо отстаивал то, что считал для себя
главным, не смущаясь неудовольствием начальства и
материальными потерями. Ну а теперь, когда больше до-
казывать некому и нечего, можно из мира романтики
вернуться в повседневность. Он вполне готов жениться
на дочке генерала Уэбстера, потому что тоже любит ее —
может, не так, как любил Хана-оги, но все равно любит, о
чем не устает повторять обеспокоенным читателям ав-
тор. Что же касается своей бывшей возлюбленной,
то Грувер грустно-элегически говорит ей: «Саёнара!» —
«Прощай!»
Пощекотав читательские нервы антибуржуазными
эскападами своего героя, позволив ему немножко — в
свободное от исполнения служебных обязанностей
время — побыть бунтарем, Миченер быстро наводит по-
рядок. Не успел еще истечь положенный Груверу от-
пуск, как он уже снова готов встать в строй — и в бук-
вальном и в переносном смысле. За вполне респекта-
бельными поступками персонажей «Саёнары!», однако,
ИЗ
проглядывает начало циническое, разрешающее, по сути
дела, настоящему мужчине «погулять на стороне» (как-
никак большая любовь!), а потом как ни в чем не бывало
возвращаться к своим прямым обязанностям воина,
патриота, отца семейства. Короче: делай в свободное
время что хочется, но уважай правила общества в часы
службы на благо последнего.
«Мятеж на «Кейне» Г. Вука сразу по выходе в свет
в 1951 году вызвал огромный читательский интерес,
получив престижную Пулитцеровскую премию. Но
прежде чем подробнее говорить об этом бестселлере,
есть смысл обратить внимание и на другой бестселлер
того же года — повесть Дж. Д. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи», написанную с диаметрально противо-
положных позиций.
В глазах сэлинджеровского Холдена Колфилда иде-
алы, цели и ориентиры, которыми руководствуются
окружающие, их образ жизни и мышления — липа.
Не имея четких представлений о том, как надо жить,
Холден знает лишь одно — чего он не хочет. А не хочет-
ся ему бездумно плыть по течению, принимать как ис-
тинное то, что всего-навсего привычно.
И поклонники повести, и ее противники объявили
Холдена бунтарем, хотя фабула повести не давала осно-
ваний для столь категоричного обобщения. Не считать
же бунтом его уход из школы, из которой и так его
исключили! Однако героизация образа «бездельника и
неудачника» станет более понятной, если вспомнить
некоторые тезисы книги американского социолога Дэви-
да Ризмена «Толпа одиноких» (1950), вызвавшей за-
метный общественный резонанс.
Ризмен указал на серьезные различия между типом
личности, сформировавшимся и доминировавшим в пе-
риод развития капитализма, и человеком современного
«общества потребления». В «героический период» фор-
мирования капиталистических отношений высоко коти-
ровался тот, кто ставил перед собой честолюбивые цели
и добивался их реализации вопреки всем внешним пре-.
градам. Чтобы преуспеть, этот, по Ризмену, «управляе-
мый изнутри» человек должен был обладать волей, энер-
гией, мужеством и главное — самостоятельностью.
В «массовом», «постиндустриальном» обществе куда
114
большую популярность приобретает иной тип, «управ-
ляемый другими». В числе его добродетелей — умение
ладить, подчинять свои вкусы, желания, стремления
интересам организации или социальной группы, к кото-
рой принадлежит. Таким образом, наибольшие шансы
преуспеть получает конформист, а слишком уж рьяная
приверженность тому или иному набору ценностей
(нравственных, религиозных, деловых) выглядит ана-
хронизмом. Чтобы успешно функционировать, винтик
новейшей конструкции, умелый исполнитель чужой во-
ли и потребитель материальной и идеологической про-
дукции должен оперативно развивать в себе качества,
которые диктует сложившаяся ситуация. Так рождается
человек с «полезным вакуумом», который то вырабаты-
вает, то уничтожает качества, запросы, убеждения, при-
чем чем легче он перестраивается, тем больше у него
шансов на успех.
Холден Колфилд был безошибочно воспринят чита-
телями как индивидуалист старой закалки (то есть
«управляемый изнутри»), страдающий в новом бес-
принципном и сверхпрагматичном мире, где торжест-
вуют «управляемые другими». Герман Вук, со своей
стороны, не пожалел усилий, чтобы доказать пагубность
самостийности, социальную опасность действий по соб-
ственному хотению.
В центре этого романа — конфликт экипажа траль-
щика «Кейн» с новым командиром. Прежний никогда
не придирался к мелочам. Опытный моряк, он сквозь
пальцы смотрел на мелкие нарушения дисциплины, если
был уверен, что команда находится в хорошей боевой
форме. Сменивший его капитан Квиг сразу же восста-
навливает против себя моряков. Он придирчив, мелочен,
злопамятен. Не обладая большим морским опытом, он
совершает ошибку за ошибкой, возлагая вину на подчи-
ненных.
Не блещет он и храбростью, в первую очередь по-
мышляя о своей безопасности. Постепенно на судне
возникает оппозиция, возглавляемая лейтенантом То-
мом Кифером. Интеллектуал, в свободное время пишу-
щий роман о войне в духе весьма не любимых Вуком
Хемингуэя и Мейлера, Кифер утверждает, что Квиг —
безумец, и его доводы кажутся убедительными офице-
рам, в том числе и старшему помощнику Стиву Марику.
Подготовив рапорт о возможной невменяемости Квига,
115
Марик призывает Кифера вместе посетить командующе-
го флотом и доложить о своих наблюдениях. Кифер
тянет время, отказывается, и дело кончается тем, что
удобный момент упущен.
Вскоре корабль попадает в ураган. Снова Квиг расте-
рян и напуган, снова отдает противоречивые указания.
Марик решается на чрезвычайную меру: дабы не дать
кораблю погибнуть, он отстраняет Квига от командова-
ния и занимает его место на капитанском мостике...
Дело получает огласку. Марику предстоит объяснять
свой поступок военному трибуналу. Его положение угро-
жающе. Но тут за дело берется Барни Гринвальд, блес-
тящий адвокат и к тому же храбрый летчик. Ему уда-
ется убедить трибунал в психической неполноценности
Квига (в принципе он следует логике Кифера) и доби-
ться оправдания Марика.
Квиг смещен, а на его место назначен Том Кифер.
Казалось бы, справедливость торжествует. Но Вук дает
понять, что это лишь присказка, сказка же впереди.
В честь победы над злодеем-командиром, а также
ввиду окончания Великого Романа Кифер устраивает
банкет. В разгар веселья появляется подвыпивший адво-
кат и делает сенсационное заявление.
Он признается, что умышленно ввел трибунал в за-
блуждение, выставив неповинную жертву Квига глав-
ным виновником. На самом деле Марик крепко виноват,
но он, Барри Гринвальд, взялся его защищать, ибо
убедился, что на скамье подсудимых нет истинного
виновника мятежа, Тома Кифера. Он называет Квига
«подлинным героем», ибо тот в одиночку нес бремя
руководителя, вынужденного изо дня в день принимать
решения, воевать со стихией, с противником и еще со
своей командой...
Достается от адвоката и роману Кифера, которого
он, впрочем, не читал, по собственному признанию:
«Я уверен, что роман этот бичует войну за ее абсурд-
ность, изображает военных тупыми садистами, фашиста-
ми, которые проигрывают баталии и посылают на гибель
обаятельных и жизнелюбивых новобранцев. Хватает
там, конечно, и эротических сцен: когда с девицы стас-
кивают трусики, проза становится завораживающе рит-
мичной. Я знаю, о чем этот роман... Одни воюют, другие
сочиняют романы. Я читал их все. Я обожаю романы,
где доказывается, что военные остолопы и умеющие
116
тонко чувствовать штатские выше их в сто раз... А я
скажу так: главный злодей тут Кифер, ибо он ненавидит
армию и военных. Сейчас на суше, и на море, и в воздухе
воюют лучшие из нас, уж это точно, хотя многие из них
понятия не имеют о Прусте или «Поминках по Финнега-
ну». Что же касается Кифера, то ему Гринвальд вы-
паливает следующее: «Ты задумал уничтожить Квига и
добился своего, не запачкав белоснежных одежд. Карь-
ера Стива теперь все равно кончена, а ты станешь ко-
мандиром «Кейна». Состарившись, ты уйдешь в отстав-
ку с почетом. Ты опубликуешь свой роман, где дока-
жешь, что флот — дерьмо, получишь свой миллион.
Никаких неприятностей, только гонорар. Я защищал
Стива, ибо понял, что судят не того, кого следовало бы.
Единственный способ спасти его — потопить Квига.
Квиг заслуживал лучшей участи. Я перед ним виноват.
Он не давал Герингу пустить мою мать на мыло, чтобы
отмывать свою жирную задницу». Гринвальд поднимает
иронический тост за «автора мятежа» и плещет шам-
панское в лицо Киферу.
Можно, конечно, подумать, что адвокат перепил и
несколько зарапортовался. Но Вук не дает читателям
усомниться в справедливости вердикта, что вынес его
персонаж. Вот и Вилли Кейт, один из главных героев
романа, в письме своей возлюбленной признает, что мя-
теж и в самом деле имел место и, хотя главным вдохно-
вителем его был Кифер, все они, офицеры «Кейна», не
без греха: «Мы перенесли на Квига всю ту ненависть,
которую должны были испытывать к Гитлеру и япон-
цам: ведь по их милости мы оказались надолго оторван-
ными от родных очагов, запертыми на этой шаткой
посудине. Наше упрямство только мешало — и нам са-
мим, и Квигу, оно-то и довело его до ручки. А ведь он,
шутка сказать, командовал «Кейном» пятнадцать меся-
цев, делал все, что мог, и в конечном счете сделал
больше каждого из нас. Марику не следовало смещать
капитана. И вообще, если тебе попался неприятный или
не очень приятный командир — а на войне такое случа-
ется сплошь и рядом,— твое дело слушаться его так,
словно он само совершенство, исправлять его оплошно-
сти, держать корабль на плаву и не терять присутствия
духа».
Здесь Вук самым недвусмысленным образом излага-
ет свое кредо, правила поведения не только на войне, но
117
и в условиях американской повседневности. Пусть без-
ответственные либералы несут свой вздор. Истинный
американец знает цену красивым словам. Он не умеет,
может быть, красиво говорить, зато умеет дело делать.
Умеет «позитивно мыслить».
Что же касается интеллектуала Кифера, то, не успев
взять в руки бразды правления, он совершит поступок,
который все окончательно расставит по местам. Когда
японские самолеты устроят налет и на палубу «Кейна»
спикирует камикадзе, новый командир с перепугу от-
даст приказ всем покинуть корабль и первым сиганет
за борт. Довольно быстро, однако, выяснится, что у
страха глаза велики и опасность не столь серьезна.
Усилиями членов экипажа, и в первую очередь Вилли
Кейта, пожар будет ликвидирован и корабль спасен.
Том Кифер наказан автором весьма основательно. Он
еще долго будет мучиться своим опрометчивым поступ-
ком. Теперь этот критиканствующий умник окончатель-
но обезврежен. Но Вуку мало позора Кифера. Он еще
добывает от него «чистосердечное признание»: «Теперь,
став командиром, я хорошо понял Квига. Пока сам не
начинаешь командовать, не отдаешь себе отчета, что это
такое. Это самое одинокое, самое гнетущее занятие в
мире... Ты обречен постоянно брести по узкой извилис-
той тропке верных решений через чащобу ошибок и не-
удач». Эта мысль получит в романе почти буквальное
воплощение. У Тома Кифера есть брат, тоже морской
офицер, но полная противоположность ему. Он прост,
прям, открыт. Ему-то и «поручит» By к совершить под-
виг в обстоятельствах, очень похожих на те, в которых
его брат-писатель отпраздновал труса. Когда на корабле
Роланда Кифера вспыхнет пожар, тот не станет думать о
личной безопасности, он вступит в бой с огнем и ценой
своей жизни спасет товарищей и корабль.
Гневно осуждающий либералов-интеллектуалов за
их краснобайство и софистику, благодаря чему они лов-
ко зарабатывают «свой миллион», а также всеобщее
уважение, Вук мог бы сам дать своим противникам
солидную фору в умении облекать спорные тезисы в
убедительные доводы. Причем «совершенно случайно»
его частное, свободное, незаинтересованное мнение
совпадает с официальной точкой зрения. Тут расчет осо-
бый. С давних пор американцы испытывают некоторое
недоверие к информации, исходящей из государствен-
118
ных источников, более дорожат точкой-зрения сторонних
наблюдателей и формируют свои убеждения на основе
мнения «независимых авторитетов». Поэтому услуги,
оказываемые истэблишменту «свободными художника-
ми» вроде Вука и Коззенса, трудно переоценить. Коль
скоро «большие писатели» развенчивают гнилой интел-
лектуализм как чуждое национальному духу явление —
так, значит, оно и есть. Разумеется, «Мятеж на «Кейне»
и «Почетный караул» с их упором на трагическое одино-
чество начальства, которое никто не любит и все ругают,
идеальное чтение для руководителей разных рангов в
армии и вне ее.
Что же касается того, как соотносятся понятия «хо-
роший солдат» и «хороший писатель», зависимость тут
отнюдь не прямолинейная. Малькольм Каули, к приме-
ру, писал: «Военные романисты — не социологи и не
историки, но и не просто солдаты. Талант и особая под-
готовка наделяют их способностью точно передавать
атмосферу и характеры тех, кто их окружает. Обычно
они настроены не только критично, но и самокритич-
но—и несут на себе бремя Вины. Они чувствительны
и ранимы, но если наделены воображением (что для
писателя необходимо), то способны ощущать боль
других. На военной службе многие будущие прозаики
были людьми, о которых говорили, что они «раки от-
шельники». Вынужденная фамильярность и вульгар-
ность армейского быта причиняла им немалые страда-
ния. Большинство из них выступало против муштры,
когда они считали ее бессмысленной, а так, собственно,
происходило почти всегда, и против Порядка, что отде-
ляло солдат от офицеров. Но при всей непохожести на
других, военные романисты стремились воспроизвести
все, как было, говорить правду»1.
В том же духе рассуждал и Хемингуэй: «Так как
главные качества солдата — умение отключать вообра-
жение и жить только настоящим, забывая обо всем, что
было до этого и будет после,— вступают в противоречие
с тем, что должен представлять собой писатель, практи-
чески невозможно ожидать хорошей литературы от хо-
роших солдат»2.
Разумеется, армия не должна состоять из одних лишь
1 Cowley М. Literary Situation. N. Y, 1947, p. 25-26.
2 См.: Men at War. N. Y., 1943, p. IV.
119
«тонких натур», мечтающих о творческой карьере, но,
с другой стороны, недопустимо во имя воспитания бое-
вых качеств вытравливать из человека все, кроме услов-
ных рефлексов хорошего автоматчика или летчика, сбра-
сывающего фугаски на «военные объекты», которые на
поверку оказываются городами и селами. Кстати, Вук
устами Стива Марика признает, что роман Кифера был в
общем-то неплох, хотя и не гениален.
«Мятеж на «Кейне» — вариант романа воспитания.
От юношеского индивидуализма и своеволия Вилли
Кейт приходит к осознанию высокой доблести Служе-
ния. Выпускник Принстона, филолог (а в свободное
время пианист, исполняющий бойкие песенки), в начале
войны он поступает в военно-морское училище, чтобы
проверить себя на прочность в новых, грозных для Де-
мократии обстоятельствах. Характерно, что поступать в
училище он приезжает на «кадиллаке» в сопровожде-
нии мамаши — символ изнеженной, инфантильной Аме-
рики, впрочем, способной еще себя показать. Окончив
школу (что оказалось не так-то просто для этого индиви-
дуалиста), он, как положено в дидактической прозе
всех времен и народов, отклоняет предложение выгодной
и безопасной работы — он не намерен развлекать игрой
на пианино проникнувшегося к нему симпатией ад-
мирала, просится на боевой корабль. С честью выдер-
живая все тяготы морской службы, наступая на горло
собственной эгоцентрической песне, он превраща-
ется в настоящего моряка и стопроцентного амери-
канца.
Характерно, что в эпизоде со смещением Квига Вил-
ли Кейт сыграл двоякую роль. С одной стороны, он
оказался в лагере противника Квига, осуществив старое
право американца на бунт против дурной авторитар-
ности. С другой стороны, он действовал вполне в духе
эпохи конформизма — вся ответственность за мятеж
легла на плечи Марика, Кейт же, если разобраться,
лишь выполнял приказы старшего по званию. Бунтарь
оказался в то же время и лояльным подчиненным.
Управляемый изнутри «перевоспитывается» в управля-
емого другими.
В финале романа, после того как опозорился Том
Кифер, командиром «Кейна» становится Вилли Кейт.
Если на капитанском мостике такие, как он, американ-
ский корабль будет всегда на плаву; мораль выражена с
120
недвусмысленной четкостью, хотя и не без иронии: дни
«Кейна» сочтены, но это не последний корабль амери-
канского военно-морского флота.
«Мятеж на «Кейне» не только имел успех у широко-
го читателя, но был примечен социологами как важный
документ, фиксирующий существенные сдвиги в об-
щественном сознании.
В США 50-х немалый резонанс получила работа У.
Уайта «Человек организации». Развивая идеи Д. Ри-
змена, Уайт констатировал возникновение в США
новой системы ценностей, где ведущая роль отводится
не исконно американским понятиям индивидуализма, но
«корпоративной этике», своего рода «коллективному ин-
дивидуализму». Личность, согласно новейшему кодексу,
стремится стать частью Большой Организации, служить
ей верой и правдой, ставить корпоративное (общее)
гораздо выше личного, точнее, соединять воедино общее
и индивидуальное.
Позднекапиталистическое общество на очередном
витке своего развития выдвигало в «герои времени»
менеджера, координатора, того, кто лично сам ничего
не создает, но выступает умелым посредником между
созидателями идей и вещей. Он потихоньку оттесняет на
задний план традиционно популярный в американском
сознании образ индивидуалиста. Уайт подробно исследо-
вал этот феномен.
«Здесь нет гениев. Здесь есть всего лишь горстка
самых обыкновенных американцев, которые работают
сообща» — такой лозунг можно было увидеть в 50-е и
60-е годы во многих больших корпорациях, всячески
подчеркивающих важность совместных усилий, объеди-
няющий характер труда во имя общих целей. Акцент на
надежного исполнителя, посредника, «специалиста по
связям», в свою очередь, способствовал повышению пре-
стижа корпорации — будь то частная организация или
компонент государственного объединения. Точно так же
повышался престиж всего того, что связывалось с идеей
государственной власти, аппарата, короче — истэблиш-
мента. Назвав «Мятеж на «Кейне» «вехой в развитии
американского общественного сознания», Уайт прочи-
тал в нем ясный урок: в наше время личная ответствен-
ность за происходящее — иллюзия, личность не вправе
судить и поправлять Систему, а те интеллектуалы,
что критикуют все напропалую, только вносят разброд
121
и ослабляют Державу, за которую патриотам обидно
до слез. Любопытно, что разбор коллизий романа Вука
стал важным моментом в программах обучения в школах
менеджеров. Уайт отмечает, что на центральный вопрос
разработки по роману: «Что делать — то, что кажется
правильным тебе, или то, что считает правильным
Система»,— в 50-е годы более 90 процентов тестируемых
выступали в поддержку Системы. Для Уайта это важный
показатель «нового сознания». В 30-е годы, по его мне-
нию, результаты были бы иными.
Снова к военной теме Вук вернулся уже в 70-е годы,
когда предложил читающей Америке ни много ни мало
беллетризованную историю второй мировой войны в
двух книгах, по тысяче страниц каждая. Первый том,
«Ветры войны» (1971), начинался с событий середины
1939 года. В нем Вук прослеживал сложные полити-
ческие игры между великими державами, описывал
вторжение Германии в Польшу и завершал рассказ
Перл-Харбором. Вторая часть — «Война и память»
(1978) — доводила повествование до капитуляции
Японии и первых месяцев послевоенной жизни. Эту эпо-
пею Вук готовил долго, он много работал в архивах,
проштудировал гору документальной и мемуарной лите-
ратуры. Но, воссоздавая историю второй мировой войны
с беспрецедентной для прозы США подробностью и
обстоятельностью, Вук построил сюжет так, что большая
история сочетается с мелодрамой. История второй миро-
вой войны переплетается в дилогии с историей одной
семьи, члены которой влюбляются, женятся, разводят-
ся, сражаются с фашизмом, становятся жертвами в
этой борьбе. «Брак по расчету» эпоса и мелодрамы
дал неплохие результаты. Дилогия Вука вызвала
огромный интерес в Америке и за ее пределами, бы-
ла переведена на многие языки мира, в том числе
на китайский, а у нас, естественно, послана в спец-
хран1.
Большой знаток запросов массовой аудитории, Вук
выпустил свою дилогию очень вовремя. В Америке,
1 Больше по привычке, чем за дело. Смущала, впрочем, с одной
стороны, документальность (кто знает, что из этого можно, а что нельзя
знать советскому читателю), а с другой — упор на американский
вклад в победу,— известно же, что воевали по-настоящему мы, а Аме-
рика отсиживалась за нашей широкой спиной. Зачем же рушить по-
лезный миф? Ну и опять же пресловутая «еврейская тема».
122
пережившей тяжелый мировоззренческий кризис после
провала вьетнамской политики, напоминание о славном
прошлом страны, о трудной, но благородной борьбе с
нацизмом явно льстило национальному самолюбию. Во
времена, отмеченные серьезнейшим дефицитом положи-
тельных идеалов — и в первую очередь нехваткой
«героического», By к напомнил о неистребимости таких
начал, как чувство долга, патриотизма, верность общим
целям, тем самым привлекая к своей дилогии новые и
новые слои читателей, уставших и от теряющей поло-
жительные ориентиры современности, и от сюжетов но-
вейшей прозы, в центре которых неврозы, беспорядоч-
ные эротические связи, психопатология, где трагиче-
ским объявляется по всем внешним меркам вполне бла-
гоустроенное повседневное существование. Последова-
тельно полемизируя с этим весьма активным направ-
лением литературной жизни США, с такими авторами,
как Апдайк и Оутс, Чивер и Рот, в центр своего по-
вествования Вук выдвигает «неиспорченных» предста-
вителей американского общества, таких, как- главный
герой дилогии Виктор Генри, «анти-йог», «контркомис-
сар», «управляемый другими» патриот.
Виктор Генри — типичный «человек, сделавший се-
бя сам». Поступив в свое время в военно-морское
училище, не имея никаких связей, он сумел не затерять-
ся среди детей генералов и адмиралов и теперь медлен-
но, но верно поднимается по ступеням военно-морской
служебной лестницы. Слегка старомодный в привычках,
вкусах, взглядах на жизнь, он задуман Вуком, с одной
стороны, как воплощение «настоящего американского
духа», а с другой — как противовес слишком много о
себе возомнившему, вечно недовольному обществом ин-
дивидуалисту, что приобрел в американской прозе не-
малую популярность. Такому «бунтарю», не желающе-
му ничем поступиться во имя общего блага, Вук проти-
вопоставляет героического «обывателя», честно и добро-
совестно служащего своей стране.
Виктор Генри — бесценный двигатель сюжета. В ка-
честве доверенного лица президента Рузвельта он оказы-
вается то в Берлине, то в Лондоне, то в Москве. Он
посещает блокадный Ленинград и выстоявший Сталин-
град, сопровождает президента на переговорах в Тегера-
не. Сто^ь же ценные сюжетные функции выполняют и
его дети. Старший сын Уоррен — морской летчик, ока-
123
завшийся в Перл-Харборе во время атаки японских
ВВС, он сражается на Тихом океане и погибает как
герой в битве при Мидуэе. Дочь Виктора Мадлен
бросает школу и поступает работать в радиокомпанию
Си-би-эс, что дает Вуку возможность держать читателей
в курсе важнейших событий в американском «тылу».
Другой сын Байрон в начале романа «ищет себя», изуча-
ет историю искусств в Европе, где знакомится со знаме-
нитым историком и философом Ароном Ястровом и его
племянницей Натали. Увлеченный Натали, он попадает
вместе с ней в осажденную гитлеровцами Варшаву, а по
возвращении на родину записывается в школу подвод-
ников и, как и его старший брат, воюет на Тихом
океане.
Но прежде чем отправиться воевать, он женится
на Натали. Сделав Натали членом семьи Генри, Вук
получает возможность подробного освещения «ев-
рейского вопроса» — темы концлагерей, геноцида и
весьма двусмысленного отношения к «еврейскому во-
просу» в политических кругах США и Великобрита-
нии.
Вьетнамская война заметно повысила интерес амери-
канцев ко второй мировой войне, о которой, как показы-
вали опросы социологов, Америка конца 60-х — начала
70-х имела весьма туманные представления. Потому-то
Вук отводит немало места «фактографии»; воскрешая в
сознании соотечественников и перипетии дипломати-
ческих баталий, и крупнейшие сражения на театре во-
енных действий, Вук открывает своего рода военно-
исторический «ликбез». Разумеется, он излагает исто-
рию второй мировой войны с американской точки зре-
ния, о чем честно предупреждает в предисловии. Но,
делая основной упор на те битвы, в которых участво-
вали американцы, Вук достаточно объективно рассмат-
ривает вклад в победу всех членов антигитлеровской
коалиции, включая СССР.
Так, посещая сражающуюся Россию, Виктор Генри
отдает должное стойкости и мужеству Красной Армии.
Впервые оказавшись в Москве в конце 1941 года, он от-
мечает в рапорте президенту, что Советский Союз не
только можно, но и нужно поддерживать. Он видит в
России ту силу, что при помощи Запада сможет сыграть
решающую роль в разгроме нацизма. В этом мнении он
еще более укрепляется, посетив Ленинград. Он заметит,
124
что если боевые действия на Тихом океане — война
профессионалов, то в России она стала «народной».
Виктору Генри есть все основания доверять. Лишен-
ный предвзятости и корыстных интересов, свойствен-
ных, по Вуку, дипломатам и военным лидерам, он взира-
ет на происходящее непредубежденным взглядом «сред-
него американца», опирающегося исключительно на
здравый смысл. Еще в 1939 году он заслужил похвалу
Рузвельта, верно оценив неготовность Германии к боль-
шой войне и предсказав заключение пакта с СССР.
Он не ошибся в надежности восточного партнера
США.
Учитывая читательскую любовь к изображению ве-
ликих мира сего, Вук привлекает к участию в эпопее
внушительный контингент: Рузвельт и Сталин, Чер-
чилль и Гитлер, Гиммлер, Трумэн, Гопкинс, Гарриман,
Оппенгеймер и многие другие произносят исторические
фразы и самые обычные реплики, создавая нужный
колорит и настрой. В отличие от мастеров военно-аван-
тюрной прозы, заставляющих исторических деятелей
выкидывать лихие коленца, Вук тщательно следит, что-
бы расхождение между исторической правдой и правом
беллетриста на вымысел оставалось минимальным.
В примечаниях он подробно разъясняет, из каких ис-
точников взяты те или иные высказывания, гипотезы,
факты.
Дилогия Вука исполняет обязанности почти акаде-
мической истории второй мировой войны. Это делает
двухтомник особенно ценным в глазах тех, кому скучно
читать научно-исторические исследования, лишенные
«человеческого» (любовного) интереса.
У Вука же есть все, что надо. Любовь, разлуки,
измены, зарисовки Берлина 1939 года и осажденной
Варшавы, изображение «нейтрального» Лиссабона, на-
водненного нацистами, и муссолиниевского Рима. Нет
недостатка и в батальных эпизодах — трагедия Перл-
Харбора, падение Сингапура и победоносные операции
американцев на Тихом океане. Будет рассказано и о
лагерях смерти. Опять же не на сухом языке статисти-
ков, а взволнованно, глазами тех, кого успел полюбить
читатель.
Американцы не любят обходиться одной-единствен-
ной точкой зрения на ту или иную актуальную пробле-
му, особенно если это официальная точка зрения. Учи-
125
тывая желание читателя видеть «обе стороны медали»,
Вук позволяет высказываться представителям самых
разнообразных общественно-политических группировок
США — изоляционистам, исповедующим принцип не-
вмешательства, левым, видящим во второй мировой
лишь признаки, окончательного загнивания капитализ-
ма, а также тем, кто убежден, что главный враг — на-
цизм и с ним надо бороться сообща, до полного его
уничтожения. Даст Вук трибуну и противнику. Значи-
тельное место в дилогии занимают выдержки из вымыш-
ленной книги вымышленного же немецкого генерала
Армина фон Роона (написавшего книгу воспоминаний в
тюрьме, куда попал по приговору Нюрнбергского трибу-
нала).
Введя в повествование этот персонаж, Вук сразу
решает несколько стратегических задач. С одной сторо-
ны, фон Роон излагает точку зрения врага, высокопос-
тавленного чина вермахта,— удобный объект для поле-
мики, каковая содержится в примечаниях переводчика
(им является все тот же Виктор Генри). С другой,
в устах врага выглядят особенно ценными похвалы про-
тивнику, а фон Роон не скупится на похвалы Америке
(с оговорками, не без клише нацистской пропаганды,
но все же это похвалы). Наконец, устами фон Роона
Вук высказывает некоторые соображения о войне и чле-
нах антигитлеровской коалиции, которые лично от себя
писатель по тем или иным соображениям высказать
не берется. Прежде всего это роль Рузвельта в разгроме
тысячелетнего рейха.
По фон Роону, эту роль невозможно переоценить.
Через все его мемуары проходит мысль о том, что роко-
вой просчет фюрера — в недооценке силы США. В от-
личие от многих своих коллег, видевших начало конца
Гитлера в его решении напасть на СССР, фон Роон убеж-
ден, что черный день для Германии — 7 декабря 1941 го-
да, когда японская атака Перл-Харбора буквально сил-
ком втянула Америку в войну.
Рузвельт для фон Роона — хитрый политик, сумев-
ший совладать с «изнеженным, не умеющим и не жела-
ющим воевать американским народом» (старый-преста-
рый тезис Вука!). Когда же Америка сгорала желанием
«отомстить за Перл-Харбор», Рузвельт гнул свою линию:
главный враг гитлеризм, который должен быть сокру-
шен с минимальными людскими потерями для США.
126
Именно этим фон Роон объясняет щедрость Рузвельта
при снабжении материальными ресурсами Англии, а за-
тем и СССР. Стратегия Рузвельта заключалась в том,
чтобы «любой ценой держать русских в боевой форме».
Сам президент признается в этом Виктору Генри на
одной из их встреч: «Русские — трудные союзники, по-
рой с ними очень тяжело иметь дело, но они связали по
рукам и ногам три миллиона немецких солдат. Если они
будут продолжать в том же духе, мы победим. Если нет,
то проиграем». Для фон Роона Рузвельт — злой гений,
для Вука — гений без оговорок.
В «Мятеже на «Кейне» Вук в пух и прах разносил
безответственных либералов-интеллектуалов, недоволь-
ных системой, что не только вспоила и вскормила их, но
еще и позволяет им фрондировать, вместо того чтобы
поступить, как это принято в странах, сбросивших ярмо
проклятого капитализма, а именно — пустить в расход.
В дилогии Вук возвращается к этой любимой теме. Вик-
тора Генри и его старшего сына Уоррена никак не
заподозришь в интеллектуализме. Зато Байрон вначале
предстает «способным, но ленивым» молодым челове-
ком, который не выносит дисциплины и никак не может
найти себя. Уоррен Генри спит и видит себя военным
летчиком. Байрон Генри и не помышляет о военной
карьере, изучает историю искусства и попадает под опас-
ное влияние Арона Ястрова. Интеллектуал и космопо-
лит, Ястров только посмеивается над советами друзей
поскорее уехать из муссолиниевской Италии. У него
прекрасная вилла в старом итальянском городке, где
так хорошо работается над очередной книгой, посвя-
щенной истории Византии. Взирая на современность
под знаком вечности, он не видит в нацизме ничего прин-
ципиально нового и опасного. «Как еврей,— читаем у
Вука,— Ястров не жаловал Гитлера, но как философ и
историк ставил ему хорошие отметки — за политиче-
скую ловкость и волю к власти». Даже после того как
началась война, он не изменил своей позиции. Он отма-
хивается от рассказов о зверствах нацистов, полагая это
новыми баснями английской пропаганды, как это уже
было в первую мировую. Его не удивляет антисемитизм
нацистов: для него это не наступление варварства, но
лишь «возврат к норме» после небольшой либеральной
оттепели. В Гитлере ему видится новый Мартин Лютер,
который сломает хребет дряхлеющей Европе с ее нацио-
127
нальными распрями, а потом эксцессы «нового порядка»
будут сняты, и Европа станет общим домом для всех
народов. Кроме того, в Гитлере Ястров усматривает
надежную гарантию того, что Европу не приберут к ру-
кам большевики. «За что ведется эта война? — спраши-
вает он племянницу.— Думаешь, за свободу? За демо-
кратию? Ничего подобного. За то, кто следующим придет
к власти, кто будет определять валютный курс, господ-
ствовать на мировом рынке и эксплуатировать дешевую
рабочую силу отсталых стран».
Арон Ястров воплощает для Вука слепоту и безот-
ветственность интеллектуалов. Увлеченный внешне
эффектными историческими аналогиями, сочиняю-
щий стройные, но не имеющие ничего общего с реаль-
ностью теории, Ястров лишен возможности видеть вещи
как они есть — в отличие от трезвого реалиста Виктора
Генри. Упрямство Арона Ястрова, не желающего по-
нять, что такое нацизм, обернется бедой для него и его
племянницы. Не желая оставить одного Арона, Натали
тщетно пытается вывезти его в Америку. Положение
осложняется тем, что Натали ждет ребенка. Вскоре
рождается сын, увидеть которого отцу Байрону придется
еще не скоро. Натали, Луис и Арон скитаются по окку-
пированной Европе. Их жизнь под угрозой. Но Арон по-
прежнему не верит в необходимость борьбы с гитлериз-
мом до победы. Он считает, что западным державам ра-
зумнее было бы поскорее заключить с Германией мир.
Это, убежден он, принесло бы пользу всем, в том числе и
евреям. Чем дольше протянется война, тем сложнее им
выжить в условиях «нового порядка».
Только перед самой смертью в газовой камере конц-
лагеря осознает Ястров ложность своих убеждений, не-
простительную слепоту. Натали же выживет чудом и,
перенеся бесчисленные унижения, в финале воссоеди-
нится с мужем.
Вук строго судит Ястрова, а с ним и тех глубоких
мыслителей, что, отменно разбираясь в проблемах древ-
ности, плутают в трех соснах современности. Положи-
тельным контрастом Арону выступает его польский
родственник Берель. Война швыряет его как щепку, но
он не стал безгласной жертвой. Он бежал от гитле-
ровской оккупации, сражался в Красной Армии, попал
в плен, бежал к партизанам. Сражаясь в рядах праж-
ского Сопротивления, он погибает как герой.
128
Не отличается поначалу храбростью американский
дипломат Лесли Слот. Но трудности войны закаляют
этого изнеженного интеллектуала, с отличием окончив-
шего Гарвард и успешно шагающего по ступеням
дипломатической лестницы. Его разочарование в дипло-
матии наступает в основном из-за явного нежелания
Америки и Великобритании пойти на решительные
меры для облегчения участи евреев в Европе. Как
отмечает историк У. Чейф, «если бы Америка смягчи-
ла свою иммиграционную политику, помогла бы орга-
низовать лагеря еврейских беженцев в Южной Аме-
рике и странах Британского Содружества, а также
предоставила бы транспорт для перемещения евреев в
нейтральные страны, тысячи жизней были бы спасены...
Летом 1943 года Румыния была готова разрешить
эвакуацию 70 000 евреев за «заем» в 170 000 долла-
ров. Но и через полгода другая сторона не сделала
ничего, чтобы осуществить этот план»1.
Лесли Слот будет рваться на фронт. Наконец в
составе группы особого назначения он будет заброшен
в Нормандию для установления связей с партизанами
и погибнет в бою с гитлеровцами.
Доблестно сражаются и мужчины из клана Генри.
Крещение огнем излечит Байрона от лени, недисци-
плинированности, «самостийности» и прочих недугов
молодости. Как и Вилли Кейту, военное воспитание
Байрону пойдет только на пользу. Кстати, Вук не
упускает случая разыграть вариацию на «кейновскую»
тему. Капитан подлодки Байрона во время первой же
боевой операции запаникует, окажется не в состоянии
управлять кораблем и людьми. Но инцидент будет
спущен на тормозах. Офицеры дадут своему горе-ко-
мандиру возможность без позора перейти на другую
работу, не связанную с участием в боевых действиях.
Успеет вволю навоеваться и Виктор Генри. Вы-
полняя всевозможные дипломатические поручения,
пользуясь благорасположением президента, он мечтает
об одном — вернуться на флот и воевать, воевать. На-
чальство, устав от уговоров, пойдет навстречу чудаку,
которому счастье само плыло в руки. Впрочем, карьеру
он все равно сделает — об этом позаботится автор.
Побывав в пекле боев на Тихом океане, он закончит
1 Chafe W. The Unfinished Journey, p. 109.
5 С Белов
129
войну адмиралом, а на последних страницах дилогии
примет предложение нового президента Трумэна стать
его военно-морским советником (урок молодежи отчет-
лив — не отсиживайтесь по штабам, когда весь мир в
огне, проявляйте мужество, и будет вам все — и
карьера, и всеобщее уважение). Приходит к герою побе-
да и на личном фронте. Как уже отмечалось, Вук
искусно сочетает эпическое и мелодраматическое. Тема
трудностей воссоединения Байрона и Натали (для
этого, собственно, пришлось разгромить нацизм) соче-
тается с темой разъединения Виктора Генри и его жены
Роды. Их брак, длившийся два с половиной десяти-
летия, начинает непоправимо распадаться в дни
войны. Пока Виктор Генри общается с Гитлером,
Сталиным, Черчиллем, пока он воюет на Тихом океане,
Рода мается от одиночества, а затем заводит роман с
атомщиком Палмером Кирби (что дает Вуку повод
подробнее рассказать о «борьбе за бомбу»), за кото-
рого впоследствии выходит замуж. Но и Виктору
Генри улыбается удача. Мимолетное увлечение мо-
лоденькой английской журналисткой Памелой Тадсбе-
ри вырастает в Большую Любовь и заканчивается
бракосочетанием.
Дилогия Вука являет собой продуманный и обстоя-
тельный образец консервативного подхода ко второй
мировой войне и истории США «отчетного периода».
Этот подход оказался вполне созвучен настроениям
Америки конца 70-х — начала 80-х годов, когда нео-
консервативные тенденции в обществе получили не-
малый размах, окончательно погасив радикальные на-
строения 60-х. Впрочем, консерватизм не синоним
ретроградству. Вук выступает именно как «просве-
щенный консерватор», видящий сложности и противо-
речия реальности. Он не пытается сгладить зигзаги
исторического процесса, выкинуть из песни те слова, что
кажутся ему «лишними». Он рассказывает о хладно-
кровном уничтожении японских моряков с транспорта,
подбитого подлодкой Байрона, упоминает о налетах
ВВС США на Токио и Дрезден, приведших к неоправ-
данной гибели многих десятков тысяч мирных жителей.
Рассказывая о страданиях еврейского народа, Вук выво-
дит сиониста Вуртвайлера, убежденного, что и в геноци-
де есть свои плюсы: происходящее должно убедить,
по его мнению, всех евреев, что у них нет будущего
130
без создания самостоятельного мощного государства.
Герман Вук — последовательный защитник аме-
риканской государственности. Просчеты военных, по-
литиков, дипломатов он, как и Коззенс, объясняет
(извиняет) не только несовершенством отдельных
представителей человечества, но и сверхнапряженной
международной обстановкой. Жизнь требует лавиро-
вания и компромиссов во имя достижения Главной
Цели, что, по Вуку, состоит в укреплении Америки
как оплота прогрессивного человечества.
Такая позиция вызывала у нас постоянные залпы
критики, хотя и Вук и наш Чаковский — родствен-
ные души, братья по идеологии, только с обратными
знаками, убежденные, что задача писателя — служить
Государству. Они и пишут, кстати, в сходной манере,
хотя Вук все же помастеровитее и работал в условиях
рыночной, Ъ не административно-командной системы.
Интересно, однако, другое. В полемике левого и право-
го крыла американской военной прозы выявлялись
как слабые, так и сильные стороны обоих лагерей.
Справедливо восставая против порабощения Личности
Системой, левые проявляли порой равнодушие к
общим целям на том основании, что это уловка и
обман для доверчивых, прием, призванный заставить
личность поработать задарма на Аппарат. Правые же
порой весьма убедительно доказывали, что нельзя
называть фашистами тех, кто выступает за ограниче-
ние самостийности «я» и напоминает о пользе общих
усилий, подчас и о том, что забота о Личности — уловка
и обман для доверчивых, красивое объяснение для
заботы о себе завзятого эгоиста.
Что же касается достаточно стойкой неприязни
лидеров консервативного крыла американского военно-
го романа к интеллектуалам, то, при недопустимости
огульных коллективных приговоров, в ней есть и свои
резоны. В эпоху, когда игра ума, эксперименты с
идеями могут оборачиваться непредсказуемыми послед-
ствиями в социальной жизни, а интеллектуальная
стройность доктрины рискует отозваться уродливым
насилием, на «книжных людей» возлагается особая
ответственность. Не всегда она принимается во внима-
ние современными мыслителями, властителями умов.
Кестлеровский профессор Мерье, верящий в то, что мо-
жет доказать, и способный аргументированно обосно-
5*
131
вать практически все, что угодно,— родственная душа
Арону Ястрову из дилогии Вука. Западные интеллек-
туалы видели «рациональное зерно» в московских
процессах, аплодировали маоизму и верили в комму-
нистическую перспективу из капиталистического дале-
ка. Тем увлекательней конструировать социальные
утопии, если можно для их апробирования подыскать,
по знаменитому выражению Бисмарка, «страну, кото-
рой не жалко».
В двенадцатом номере журнала «Горизонт» за
1989 год известный философ-логик и писатель А. Зи-
новьев, отправленный брежневским режимом в изгна-
ние, дал после долгих лет запретов первое интервью
советскому печатному органу. Если то, что сказал
этот в недавнем прошлом один из наиболее одиозных
для нашего начальства диссидентов,— не мистифика-
ция, не «художественный образ», то тогда это
пример диалектики без берегов, позволяющей бесконеч-
но менять местами истину и ложь. «С точки зрения
проблемы выживания страны в тех исторических усло-
виях сталинская политика заслуживает не только
порицания, но временами даже восхищения. Я не одо-
бряю Сталина, но воздаю ему должное. Я не защищаю
Сталина, но защищаю правду об эпохе. Правду о ста-
линизме». И далее: «Все-таки перед миллионами
людей открывались (тогда, при Сталине.— С. Б.) ко-
лоссальные перспективы. Появились инженеры, учите-
ля, профессора, артисты и т. п. А откуда пришли эти
люди? Все они приходили из народа... Мы шли в школу.
На фоне неграмотной России получение образования
уже было благом. Перед нами открывались институ-
ты, училища, академии. Все казалось доступным. Мил-
лионы людей страдали, попадали в лагеря, уничто-
жались. Но гораздо большее число людей выходило
из ужасов прошлой жизни, поднималась жизнь
нового рода».
«Гораздо большее число людей выходило из ужасов
прошлой жизни...» Гораздо большее число людей не бы-
ло уничтожено. Многие получили образование — то
есть научились грамоте (в широком смысле слова) —
чтобы затем не думать, не читать, не писать, не делать
того, что обязан честный и образованный человек.
А. Солженицын придумал меткое обозначение для
питомцев нашей системы просвещения — образован-
132
щина. Куда легче обучить неграмотного грамоте, чем
из образованщины сделать образованных людей. Так
или иначе, что бы ни имел в виду в этом интервью
А. Зиновьев, для образованщины оно оказывается тем,
что нужно,— оправданием собственного уважительно-
го отношения к сталинизму, коль скоро такое говорят
о нем не официальные представители, но, напротив,
люди, пострадавшие при Брежневе. Эти читатели не уви-
дят в интервью двусмысленные логические построе-
ния и непростую систему отрицания отрицания,
они заметят там отражение собственных (точнее, в
свое время выученных) идей — и на том остановятся,
лишний раз удовлетворенно отметив, что их образ ми-
ра—в полном соответствии с воззрениями маститого
интеллектуала, и невдомек им, что интеллектуал за-
бавляется, потешаясь над легковерными.
Кстати, Кестлер в 1972 году опубликовал роман
«Публичные женщины», в центре которого попытки
мировой интеллектуальной элиты вывести циви-
лизацию из тотального кризиса. За броскими теориями
и лихими гипотезами высокообразованных персонажей
писатель в первую очередь видит стремление само-
утвердиться, нажить интеллектуальный и политический
капитал через утверждение тех истин, что в конечном
счете — ложь.
ЕСЛИ РУШИТСЯ ЧЕЛОВЕК
Уильям Голдинг и Энтони Берджесс
«На протяжении моей жизни я не раз бывал потрясен
и оглушен, узнавая, что мы, люди, можем проделывать
друг с другом... И раз я убеждаюсь, что человечеству
больно, это и занимает все мои мысли. Я ищу эту
болезнь и нахожу ее в самом доступном для меня
месте — в себе самом. Я узнаю в этом часть нашей
общей человеческой натуры, какую мы должны понять,
иначе ее невозможно будет держать под контролем.
Вот почему я и пишу со всей страстностью, на какую
способен, и говорю людям: смотрите, смотрите: вот
какова она, вот какой я ее вижу, природа самого опас-
133
ного из всех животных,— человека»1. Так понимает
свою миссию писатель Уильям Голдинг, снова и снова
всматривающийся в ту «зримую тьму», что являет
собой внутренний мир человека, ставящий своих персо-
нажей в особые обстоятельства, вынуждающие их
раскрыться полностью, без остатка. Голдинг — фило-
соф-эксцериментатор, в художестве!», юм пространстве
романа проверяющий истинную ценность умозритель-
ных выкладок о свойствах человека — этого вен-
ца творения, царя природы и неутомимого тру-
женика на ниве прогресса, а также воина и разруши-
теля.
«Повелитель мух», прежде чем сделать имя своего
автора известным всему миру, был отвергнут очень
многими английскими издательствами. Имя автора
ничего не говорило, а без предварительного знания о
том, кто именно создатель художественного текста,
очень немногие редакторы, как известно, в состоянии
отличить шедевр от экзерсисов графомана. Но так или
иначе в 1954 году, через два десятилетия после остав-
шегося никем не замеченным дебюта (слабый сборник
стихов), состоялось второе рождение Голдинга, из
полной безвестности сразу выдвинувшегося в центр
литературной жизни Англии.
Серьезный, мрачный, трагический «Повелитель
мух» был задуман и писался как пародия.
В далеком 1858 году английский автор книг для
детей и юношества Роберт Майкл Баллантайн пора-
довал своих читателей книжкой «Коралловый остров»,
в которой рассказывалось о том, как группа англий-
ских мальчиков в результате кораблекрушения оказа-
лась на необитаемом острове. Но чрезвычайные
обстоятельства не в силах нарушить прочность устоев
цивилизации в этих достойных представителях бри-
танского общества. Они с честью выходят из сложных
ситуаций, действуют заодно, уверенно противостоят и
коварствам стихии, и проискам недостойных при-
шельцев вроде пиратов или дикарей. Главным героям
«Повелителя мух» Голдинг дал имена персонажей
Баллантайна — Ральф и Джек, но повели они себя
в его книге совершенно по-иному.
«Он гротескно выворачивает наизнанку все сюжет-
«Иностранная литература», 1963, № 11, с. 205.
134
ные ходы Баллантайна,— писал В. Скороденко в преди-
словии к первому сборнику прозы Голдинга на рус-
ском языке,— Ральф и Джек становятся у него не
друзьями, а хуже врагов — преследуемым и преследо-
вателем. Костер не объединяет, а постоянно служит
яблоком раздора. Экзотические фрукты не столько
услаждают, сколько вызывают понос. Охота на дикую
свинью выливается в охоту на человека... Персонажи
Голдинга не только не укрепляются в джентльменстве
и цивилизованности, но вырождаются в племя, стоя-
щее на весьма низкой ступени развития и возглав-
ляемое Вождем — Джеком. История цивилизации как
бы прокручивается писателем в обратном направлении,
от современности к далеким истокам. Повесть пере-
ходит на уровень полемики с «романом воспита-
ния»1.
В классическом своем варианте роман воспитания
изображал процесс социализации индивидуума, его
вхождение во «взрослую жизнь», адаптацию к сложно
организованному общественно-государственному ор-
ганизму. Голдинг поступает наоборот. Он помещает
в социальный вакуум юных героев, которые уже ус-
пели вкусить в достаточном количестве плодов про-
свещения, но не прошли курс обучения до конца.
Писатель предлагает понаблюдать за столкновением
социального и биологического (того, что идет и
от разума и от инстинкта) и установить истинную
ценность и значимость противоборствующих на-
чал.
Как не раз происходило с пародиями в истории миро-
вой литературы, «Повелитель мух» обрел самостоя-
тельное существование. Роман Голдинга с интересом
читается теми, кто и не подозревает о наличии в нем
пародийного плана, кто и не слышал о романе Бал-
лантайна. Как «Дон Кихот» Сервантеса, «История
села Горюхина» Пушкина, «Джозеф Эндрюс» Фил-
динга, «Повелитель мух» живет настолько сам по себе,
что указание на наличие «передразниваемого» перво-
источника в конечном счете уже мало что прибавляет к
пониманию замысла автора. Тем более что весьма отчет-
ливо проступает и вторая полемически-пародийная сто-
1 Голдинг Уильям. «Шпиль» и другие повести. М.,
1981, с. 9.
135
рона романа. Голдинг умело компрометирует концепцию
благотворности социально-технического прогресса, под
знаком которой воспитывалось не одно поколение людей
Запада. XX век с двумя мировыми войнами, атомной
бомбой, лагерями смерти, вспышками геноцида плохо
увязывался с доктринами социального оптимизма, в ко-
торых никогда не было недостатка.
Резонанс, который приобрела в послевоенном мире
книга Голдинга, объясняется, наверное, не только тем,
что в ней автор затронул болевые точки западного
сознания XX века, но и тем, что нашел для своих тезисов
блестящее художественное воплощение. Фамильный
недуг литературных аллегорий заключается в том, что
«идеология» стремится подчинить себе собственно
искусство, превратить последнее в инструмент, пере-
датчик-усилитель тех или иных идей, которые для
вящей наглядности оказываются наряжены в платья,
заимствованные из литературно-художественного рек-
визита.
В «Повелителе мух» Голдингу удалось избежать
«волчьей ямы» сверхрассудочности^ «наследственной
болезни» жанра притчи. История коллективной робин-
зонады поведана Голдингом с вниманием к нюансам
в описании окружающего мира и поведения героев.
Потому-то мир приобретает многомерность очертаний,
а персонажи живут полнокровной жизнью. Разумеется,
многие из них, как и полагается в литературной
аллегории, олицетворяют собой определенные установ-
ки, мировоззренческие позиции, точки зрения, но в то
же время ведут себя, как и должны вести себя маль-
чишки, попавшие в не совсем обычные, но правдоподоб-
ные обстоятельства.
На первых порах на острове торжествуют мир и
согласие. Есть радость новизны, заманчивая перспек-
тива пожить «как в книжке» — остров, куда волей
обстоятельств попали герои, вызывает у них ассо-
циации и с упоминавшимся романом Баллантайна,
и с «Островом сокровищ» Стивенсона. Им пока уда-
ется сочетать игру с выполнением необходимых обя-
занностей. Старшие заботятся о младших, те, в свою
очередь, слушаются своих наставников. Аккуратно
поддерживается огонь в костре, разведенном на вершине
горы: надо дать знать проходящим кораблям, что на
136
острове люди, которые хотят, чтобы их вызволили из
этого пока очень приятного плена.
Подражая миру взрослых, голдинговские мальчишки
пытаются учредить демократическое правление. Они
проводят выборы, открытым голосованием избирают
старшего — Ральфа и на своих ассамблеях решают все
насущные вопросы. Весьма стремившийся к власти, но
«забаллотированный» Джек, староста юных церковных
певчих, становится во главе отряда охотников — надо
добывать мясо.
Постепенно возникают трения. Без привычной опеки
взрослых трудно поддерживать самодисциплину. Хо-
чется поиграть в охотников, а заставляют сторожить
костер или строить шалаши. Назревает раскол. К тому
же малыши начинают бояться. Постепенно и тех, кто
постарше, начинает охватывать необъяснимый страх.
Одним из средств самоутверждения и самозащиты ста-
новится жестокость. Нелегко первый раз в жизни убить
свинью. Даже властолюбивый и не ведающий жалости
к окружающим Джек в первом столкновении с дикой
свиньей не может заставить себя нанести смертельный
удар ножом. Но затем это переходит в привычку.
Разукрашенное разноцветной глиной лицо из детской
шалости, из подражания героям приключенческих
книг становится внутренней потребностью, внешним
воплощением внутренних перемен под воздействи-
ем новых обстоятельств. Чтобы заглушить в себе
сомнения, жалость, страх, охотники складывают
боевую песню: «Бей свинью! Глотку режь! Выпу-
сти кровь!» Она придает силы, заставляет забыть
самих себя. Поистине, «народу сейчас нужен лу-
бок».
Старшие, сначала посмеивавшиеся над глупостью и
трусостью малышей, повсюду видевших Зверя, теперь
и сами подчиняются каким-то неизъяснимым импуль-
сам, начинают приносить ему жертвы. Первым сделал
этот шаг Роджер — заострив палку с двух концов,
он один конец воткнул в землю, а на другой насадил
голову заколотой свиньи.
Исподволь идет духовное и психологическое пере-
рождение юных британцев. Культ жестокости и силы
становится чем-то вроде местной религии. Примитивная,
«самодельная» демократия трещит по всем швам, ока-
зывается не в состоянии взять под контроль темные
137
силы, разбуженные.в результате прекращения действия
прежних законов социального тяготения.
Рациональное, рассудочное начало олицетворяет
у Голдинга Хрюша. Он уверен, что никакого Зверя нет
и быть не может. Если бы он был, «тогда бы все ни
к чему. Дома, улицы. И телевизор не работал бы.
И всё бы тогда зазря. Без смысла». Хрюша безудержно
доверяет взрослым, ведь они все знают, будь они рядом,
они бы решили все проблемы. Они непременно спасут
их, детей, надо только неукоснительно выполнять
правила и поддерживать огонь в костре. По убеждению
Хрюши, «в жизни все научно... Года через два, как
кончится война, можно будет летать на Марс, туда и
сюда. Я знаю, нету тут никакого зверя с когтями
и вообще, но я знаю тоже и про страх, что его
нет».
Когда кончится война...
Горькая ирония обстоятельств, как подчеркивает
Голдинг, как раз и заключается в том, что взрослый мир
с его понятиями справедливости, разумности, науч-
ности на самом деле не более разумен, нежели раз-
дираемый конфликтами и страстями затерянный в
океане остров. Ведь и попали-то на него ребята в
результате аварии самолета, который вез их, надо
полагать, подальше от ввергнутой в войну Англии.
Недаром на самых первых страницах прозвучит реп-
лика того же Хрюши про атомйую бомбу и что
«все погибли». Кто же эти «все», юные персонажи
Голдинга не уточняют, да и не стремятся понять —
с присущим детям оптимизмом они верят, что все
поправимо и что взрослые рано или поздно наведут
порядок.
Увы, взрослые напомнят о своем существовании
весьма неожиданным способом. На вершину горы, где
разожжен сигнальный костер, опустится мертвый пара-
шютист с очередного подбитого самолета. Этот
ниспосланный свыше мертвец — горький дар небес и
обезумевшей взрослой цивилизации: Застрявший в де-
ревьях и раскачивающийся на парашютных стропах
труп будет принят впопыхах перепуганными развед-
чиками за страшного Зверя, который правит миром и
которого надо как-то ублаготворять.
Рационалист Хрюша убежден, что нет и быть не мо-
жет никакого Зверя, что это «предрассудки».
138
Несколько по-иному мыслит стихийный философ
Саймон. Отправляясь в одиночку на вершину горы
(восхождение на гору — давний символ познания и
самопознания), он не только убеждается, что на горе
не мистическое чудовище, а мертвый летчик, но и пони-
мает, что такое Зверь. Вглядываясь в свиную голову,
насаженную на кол и облепленную мухами, он видит в
ней Повелителя мух, материальное воплощение страхов,
темных импульсов, коренящихся в них самих жесто-
кости и необузданности. В его воспаленном вообра-
жении разыгрывается такой диалог:
«Голова у Саймона чуть запрокинулась. Глаза не
могли оторваться от Повелителя мух, а тот висел прямо
перед ним.
— И что тебе одному тут делать? Неужели ты
меня не боишься?
Саймон вздрогнул.
— Никто тебе не поможет. Только я. А я Зверь.
Губы Саймона с трудом вытолкнули воздух.
— Свиная голова на палке.
— И вы вообразили, будто меня можно выследить,
убить? — сказала голова. Несколько мгновений лес и все
другие смутно угадываемые места в ответ сотрясались
от мерзкого хохота.— Но ты же знал, правда? Что я
часть тебя самого. Неотделимая часть. Что из-за меня
у вас ничего не вышло. Что все получилось не так,
а?
И снова забился хохот.
— А теперь,— сказал Повелитель мух,— иди-ка ты
к своим, и мы про все забудем.
Голова у Саймона качалась. Глаза прикрылись,
словно в подражание этой пакости на палке. Он уже
знал, что сейчас на него найдет. Повелитель мух
набухал как воздушный шар.
— Просто смешно. Сам же прекрасно знаешь, что
там внизу ты со мной встретишься, так чего же ты?
Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух
заговорил, как учитель в школе.
— Все это слишком далеко зашло. Бедное, заблуд-
шее дитя, неужели ты считаешь, что ты умнее меня?
Молчание.
— Я тебя предупреждаю. Ты доведешь меня до
безумия. Ясно? Ты нам не нужен. Ты лишний. Понял?
Мы хотим позабавиться здесь на острове. Понял? Мы
139
хотим здесь на острове позабавиться. Так что не упрямь-
ся, бедное, заблудшее дитя, а то...
. Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасти была
темнота, и чернота расширялась.
— А не то,— говорил Повелитель мух,— мы тебя
прикончим. Ясно? Джек, и Роджер, и Морис, и Билл,
и Хрюша, и Ральф. Прикончим тебя, ясно?
Пасть поглотила Саймона. Он упал и потерял
сознание».
Голдингу очень дорог этот персонаж, который не
совсем в ладах с миром обыденности — недаром его
считают «чокнутым». Но зато Саймон обладает даром
прозрения: через оболочку видимостей он зрит сущ-
ности, прячущиеся за разнообразными клише и сте-
реотипами мышления. Ему открываются горькие
истины о мире и человеке. Но ситуация провидца
двусмысленна, если не трагична. Истине, открывшейся
Саймону в горячечном бреду, так и суждено остаться
с ним, ей не суждено быть «возглашенной с горы».
Зверь как бы отомстит тому, кто разгадал его страшный
секрет.
Когда Саймон направится назад, в лагерь, чтобы
поскорее рассказать всем, что на вершине нет Зверя,
что вообще зло не там и не в том, в чем его привыкли
видеть, готовы видеть, разыграется гроза. Перепуган-
ные зверопоклонники будут искать спасения в ритуаль-
ном танце, изображающем охоту на свинью и ее
заклание.
«Мутное небо вспорол бело-голубой шрам. И тут же
хлестнул грохот, как гигантским бичом. Пенье исхо-
дило предсмертным ужасом.
— Зверя — бей! Глотку — режь! Выпусти — кровь!
Из ужаса рождалось желание — жадное, липкое,
слепое.
Снова вызмеился наверху бело-голубой шрам и
грянул желтый взрыв. Малыши визжа неслись с опуш-
ки, один, не помня себя, проломил кольцо стар-
ших:
— Это он! Он!
Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то. Неясное,
темное. Впереди зверя катился надсадный вопль.
Зверь ввалился, почти упал в центр подковы.
— Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!
Голубой шрам уже не сходил с неба, грохот был
140
непереносим. Саймон кричал что-то про мертвое тело на
горе.
— Зверя — бей! Глотку — режь! Выпусти — кровь!
Зверя — прикончь!
Палки стукнули, подкова, хрустнув, снова сомкну-
лась вопящим кругом. Зверь стоял на коленях в
центре круга: зверь закрывал лицо руками. Пытаясь
перекричать дерущихся, омерзительный шум, зверь
кричал что-то про мертвеца на горе. Вот зверь про-
бился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы
на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со
скалы, на зверя налетели, его били, кусали, рвали.
Слов не было и не было других движений, только
рвущие когти и зубы.
Потом тучи разверзлись и водопадом обрушился
дождь. Вода неслась с вершин, срывала листья и
ветки с деревьев, холодным душем стегала бьющуюся
в песке груду. Потом груда распалась, а от нее отде-
лились ковыляющие фигурки. Только зверь остался
лежать в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь
стену дождя стало видно, какой же он маленький,
этот зверь, а на песке уже расплывались кровавые
пятна...»
Кажется, что отрывок этот не из философской
притчи, не из романа-параболы, а из репортажа, из
дневниковой записи ошеломленного очевидца, который,
однако, берет себя в руки, чтобы запечатлеть на бумаге,
для вечности эту страшную картину. Есть от чего
ужаснуться: на наших глазах рушится цивилизация,
заключенная в человеке. Под напором диких животных
сил рушится человек. Или рождается человек нового
типа.
Расправа со «зверем» — последняя преграда на пути
к полной свободе от каких-либо запретов. Сравни-
тельно недавно охотники, преодолевая себя, убили
первое живое существо — дикую свинью. Теперь насту-
пил черед человека. Пройдет еще немного времени,
и камень, сброшенный подручным Джека Роджером,
убьет Хрюшу. И тогда разобьется, разлетится на тысячу
мелких кусочков раковина, символизировавшая собой
взаимоуважение, право на свободный обмен мне-
ниями,—тот, кто брал ее в руки на «ассамблеях»,
имел право свободно высказать свое мнение по всем
насущным вопросам жизни на острове, и никто не мог
141
перебить или заставить замолчать оратора. Гибель
раковины означает конец демократии. Остался лишь
торчать обсаженный мухами кабаний череп на палке —
Повелитель мух, символ иного уклада, темного вар-
варства и деспотизма. Теперь «все позволено»: еще
немного — и начнется страшная охота на Ральфа,
последнего уцелевшего поборника демократии, послед-
него чужака. Упоенный силой и властью, Роджер
снова заострит палку с двух концов, дабы порадовать
Зверя невиданным доселе жертвоприношением. Новой
ступени «прогресса наоборот» должен соответствовать
новый символ. Не исключено, что рождается и новый
лидер, еще более властолюбивый и беспощадный, чем
бывший староста певчих Джек.
Пылает остров, подожженный со всех сторон охот-
никами. Конец Ральфа неотвратим. Но в самый
последний момент, как божество в античной тра-
гедии, возникает откуда ни возьмись английский офи-
цер в белоснежной фуражке с золотыми пуговицами
на мундире, мужественный и прекрасный избавитель,
каким не раз рисовался он в мальчишеских мечтах.
Концовка вызвала читательские споры. Кто-то увидел
в ней «хеппи-энд», вступающий в противоречие с
идеей книги, кто-то упрекнул Голдинга за то, что у
него «не хватило смелости» пройти до конца по дороге в
ад, измерить всю глубину падения героев. Сам Голдинг
назвал эту концовку «трюком». Резко переключая
повествование в иную тональность, он предложил
взглянуть на изображаемые события в двойной иро-
нической перспективе. Ральф спасен от дикарей, но в
мире-то бушует война, и разбушевавшиеся силы тьмы
в одночасье можно укротить разве что автору в худо-
жественном пространстве, где он полный властелин,
а в жизни все гораздо труднее. Собственно, морской
офицер, чудодейственно избавляющий Ральфа,— это
и есть сам Голдинг, властной рукой наводящий поря-
док в своем художественном царстве,— ведь во время
войны он служил во флоте.
Можно оценить горькую иронию. Можно приветство-
вать и не менее ироничный упрек неразумию взрос-
лых — офицер на какое-то мгновение оказывается су-
щим ребенком, столкнувшимся с кровавой, трагической
реальностью, которая кажется ему в общем-то обычной
детской игрой, только несколько перешагнувшей до-
142
пустимые границы. Можно, напротив, еще раз вспом-
нить о том, что взрослый мир настолько погряз в злобе,
нетерпимости, страсти к взаимоистреблению, и счесть
закономерным, что дети, обожающие в своих играх
копировать взрослых, оказались прилежными ученика-
ми и способными имитаторами. Можно, наконец,
предположить, что финальные эпизоды «Повелителя
мух» — это уже не реальность, но лишь мираж, гал-
люцинация, последний всплеск надежды в воспален-
ном сознании обреченного на гибель Ральфа. Голдинг
не стремится расставить все акценты и однозначно
объяснить, что к чему и кто есть кто. Притча обретает
подлинную власть над чувствами и мыслями чита-
телей именно тогда, когда не сводится к одной какой-то
трактовке, но позволяет видеть разные возможности —
и в этом смысле Голдинг решает поставленную задачу с
блеском. В стране, созданной его воображением, есть
указатели и ориентиры, но последнюю часть пути
читатель должен проделать самостоятельно.
Впрочем, кое-что Голдинг счел необходимым про-
яснить — правда, не в тексте романа, а в последующих
интервью. «Повелитель мух» — это просто-напросто
книга, которую я счел разумным написать после
войны, когда все благодарили бога за то, что они не
нацисты. А я достаточно к тому времени повидал и
достаточно передумал, чтобы понимать: буквально
каждый мог бы стать нацистом, посмотрите, какие
страсти разгорелись в Англии в связи с цветными...
И вот я изобразил английских мальчиков и сказал:
«Смотрите! Все это могло бы случиться и с вами». В
сущности говоря — в этом весь смысл книги»1.
Победителям над таким отвратительным врагом,
как нацизм, было свойственно льстить себе, объясняя
свое место в борьбе собственными замечательными
свойствами (любовь к свободе, ненависть к тирании и
пр.), а не случайностью, подарком судьбы.
В этой связи возникает вопрос: почему человек
обыкновенно-нормальный, в меру разумный и не злой —
в одних случаях выступает за свободу, равенство,
братство, в других обстоятельствах сидит дома и
помалкивает, а в третьих — марширует с бравой сол-
датской песней по чужим полям. Неужели в Германии
«Иностранная литература», 1973, № 10, с. 207.
143
«хороших людей» оказалось гораздо меньше, чем в
странах антигитлеровской коалиции? Или вообще по-
нятие «хороший человек» тут абсурдно? Почему те, кто
в Германии 20-х аплодировал Тельману или социа-
листам, потом не только не противодействовали
нацистам, но вполне добросовестно трудились на благо
идей фюрера? Куда девались люди достойных убеж-
дений? Куда девались достойные убеждения?
Что же главное — социальные обстоятельства или
некий таинственный «внутренний стержень» человека?
Если все решают социальные обстоятельства, то поче-
му они не в состоянии подчинить всех господствующей
идее? Почему в условиях политического террора одни
послушно выполняют приказания начальства, но дру-
гие — пусть меньшинство — идут наперекор, не забо-
тясь о своем благополучии? Почему одни вдруг
проникаются идеями, ранее вызывавшими -у них
неодобрение, гРдругие оказывают им сопротивление
и даже гибнут, потому что не мыслят себе существо-
вания по законам людоедства?
А с другой стороны, если в конце концов берет
верх «человеческий фактор», то что в нем главнее:
биологически-брутально-агрессивное или, напротив,
гуманное? Если человек по природе своей порочен,
то почему на острове Голдинга, где все позволено,
не всех охватило озверение? Почему нашлись такие,
кто наперекор дикарству упрямо отстаивал право
быть человеком? Тут ведь не в убеждениях дело. Ни у
Ральфа, ни у Саймона не было «идеологической под-
готовки», да и Хрюшины «идеи» демонстрируют у
Голдинга свою нелепость. Он человек не благодаря,
но вопреки своей «идеологии».
Голдинг смело берется за эту проблему. Человек
может наломать дров, если даст волю дремлющим
в нем темным силам, если само общество тем или иным
способом потворствует «зверению». Повествуя о том, как
возобладали в английских мальчишках варварские
инстинкты, Голдинг проводит параллель с идеологией
нацизма, насаждавшей культ белокурой бестии, идеа-
лизируя дикую древность как эпоху мужества и
героизма, несшую великое обновление миру и сметав-
шую остатки упадочнической цивилизации Рима.
Но дело не в специфике германского характера. Всюду,
где возникает идея национальной исключительности,
144
жди беды. Недаром на первых страницах романа
прозвучит знаменательная фраза Джека: «Мы англича-
не. А англичане всегда и везде лучше всех».
Голдинг не преминет подчеркнуть, что в прежнем
своем естестве свирепые «охотники» — церковные
певчие, а Джек Меридью староста хора. Надо ли это
понимать кар намек на то, что религия в XX веке явно
утратила свое былое облагораживающее и сдерживаю-
щее значение и превратилась в формальность? Может
быть. Но ведь и времена, когда религия была, что на-
зывается, «на коне», не отличались миролюбием и
сверхгуманностью.
Голдинг внимательно прослеживает путь «назад»,
к стихии первобытных инстинктов и чувств. Некоторое
время в романе действуют не только остаточные
«социальные институты» в виде демократии наподобие
британской. Внутри каждого живы еще моральные
табу. Даже наиболее предрасположенный к злу и
насилию ради насилия Роджер не в одночасье пере-
рождается. Демонические устремления в нем получают
отпор от заложенного нормами общественной жизни.
Вот эпизод первых дней «робинзонады»:
«Роджер нагнулся, поднял камешек и запустил в
Генри, но так, чтобы промахнуться. Камень символом
сместившегося времени просвистел в пяти ярдах от
Генри и бухнул в воду. Роджер набрал горстку
камешков и стал швырять. Но вокруг Генри еще
оставалось пространство ярдов в десять диаметром,
куда Роджер не дерзал метить. Здесь, невидимый, но
строгий, витал запрет прежней жизни. Ребенка на
корточках осеняла защита родителей, школы, поли-
цейских, законов. Роджера удерживала за руку циви-
лизация, которая знать о нем не знала и рушилась».
Через сто с небольшим страниц эта сцена повто-
рится во время последнего в краткой истории «остров-
ной республики» всеобщего собрания. Повторится с
новым финалом. Когда Хрюша возьмет раковину и
обратится с речью к собравшимся, призывая их взять-
ся за ум, вести себя как подобает людям, раздадутся
странные звуки: «Кто-то бросал камушки. Это Роджер
их бросал, не снимая руки с рычага...»
Еще несколько мгновений — и в припадке ярости он
нажмет на рычаг, и огромный валун полетит в оратора...
Но если «отмена» правил и условностей цивилиза-
145
ции будит зверя, то за счет чего же в таких обстоя-
тельствах сопротивляются дикарству Хрюша, Саймон,
Ральф? Означает ли это, что человек в той же мере
открыт силам добра, сострадания, что и темным импуль-
сам варварства? Или просто упомянутые трое недо-
статочно «биологичны», их доброта и порядочность —
недуг организма?
«В человеке больше зла, чем это можно было бы
объяснить одним только давлением социальных меха-
низмов,— вот главный урок, что преподала война
моему поколению»,—заметил Голдинг в беседе с
американским литературоведом Дж. Байлсом. Но, сле-
дуя логике собственной же книги, он, наверное, мог бы
добавить: и добра гораздо больше, чем «предписано»
моральными нормами общежития.
Итак, лагерь «антидикарства» образуют Хрюша,
Саймон и Ральф. Что касается Хрюши, то по отноше-
нию к нему автор испытывает смешанные чувства.
Страдающий астмой толстяк-очкарик изображен с
большой долей иронии. Его вера в рациональное, в
то, что все можно уладить, если действовать по прави-
лам, и что «для всего есть доктора, даже для мозгов»,
по меньшей мере наивна. Любопытно, кстати, что при
всей своей вере в науку и разум этот персонаж изъяс-
няется самым нелитературным способом, в его речи,
как ни у кого из юных героев Голдинга, много просто-
народных интонаций, неправильностей. Его очки —
символ слепоты рационализма, признак затрудненности
контакта с живой реальностью. Но в то же время это
и ценный инструмент, средство добывания огня, кото-
рый, в свою очередь, может не только служить на
благо людям, но и причинять вред. Именно с помощью
очков чуть было не спалили остров и самих себя
разбушевавшиеся « дикари ».
Но смешной и нелепый толстяк с его упрямой
верой в то, что когда-то затвердил наизусть, посте-
пенно выходит из рамок отведенного ему амплуа,
становится фигурой поистине трагической. Не случайно
он оказывается главным объектом ненависти Джека
и компании, не случайно с его смертью окончательно
гибнут остатки разумного порядка на острове, не слу-
чайно на последних страницах Ральф будет оплаки-
вать его как «верного и мудрого друга».
Рационализм сам по себе не глуп и не мудр. Это
146
один из методов ориентации и деятельности в мире, где
слишком много запутанных проблем. Бели он соче-
тается с человечностью, добротой, он может прино-
сить пользу — или, во всяком случае, не причинять
вреда. Главное достоинство Хрюши — не его вера в
науку, а доброе сердце — это поймет в самом конце
Ральф. Но Хрюша нуждается в защите и заботе, в
опеке со стороны тех, кто прочно связан с повседнев-
ностью. Ральф же, чувствующий себя в нормальных
условиях вроде бы вполне приспособленным к буднич-
ной жизни, теряется, оказавшись в роли руководителя.
«Когда ты главный, тебе приходится думать и надо быть
мудрым, в этом-то вся беда,— печально размышляет
он,— То и дело надо принимать быстрые решения....
Только вот думать-то я не умею. Не то что Хрюша».
Что же касается Саймона, наделенного даром
проникать в суть вещей, его беда — неспособность
связно, понятно выразить свои мысли, передать их
окружающим и убедить в своей правоте. Саймон,
Хрюша и Ральф трагическим образом разобщены, не
могут объединить усилия, поддержать друг друга,
компенсировать взаимные слабости и ошибки.
Действуя заодно, рационализм технократа, мудрость
философа и здравый смысл нормального среднего чело-
века составляют ту силу, которая в состоянии побороть-
ся со злом. К несчастью, в современном обществе,
словно напоминает Голдинг, «мыслящая элита» (те,
кто провидит сущности) и «обыкновенные люди»
(те, что создают материальные ценности) разъедине-
ны, между ними перегородки узкой профессионали-
зации, рождающие взаимоотчужденность.
Мрачная аллегоричность «Повелителя мух» не была
единственным откликом Голдинга-писателя на события
второй мировой войны. В 1954 году он опубликовал
повесть «Чрезвычайный посол». Откликом на ужасы,
порожденные войной, оказалась... комедия. Комедия
идей, где одним из «персонажей» выступает научно-
технический прогресс.
Грек-изобретатель Фанокл приносит римскому импе-
ратору свои новинки: порох, пушку, модель военного
катера, а также кастрюлю-скороварку. Только послед-
нее изобретение вызывает одобрение старика императо-
ра. Все прочее подтверждает его самые мрачные догадки
о природе человека. В пьесе «Медная бабочка» (1958),
147
сделанной Голдингом по мотивам этой повести, импе-
ратор произносит такие слова: «Паровое судно, Фанокл,
или что-нибудь разрушительное в руках человека,—
это то же, что острый нож в руках ребенка. Нет, в
самом ноже нет ничего страшного. Нет ничего страш-
ного ни в паре, ни в человеческом разуме вообще. Опас-
ность таится в человеческой природе».
Незадачливого гения император пошлет от греха
подальше послом в Китай, дабы хоть на какое-то время
избавить человечество от его сомнительных подарков.
Но человеку свойственна любовь к экспериментам и
изобретениям, и на место одного Фанокла придут
многие другие, и среди них физик Хониккер из романа
Воннегута «Колыбель для кошки», смастеривший
игрушку, от которой погибнет все живое,— страшный
«лед-девять».
В повести «Наследники» (1955) Голдинг про-
должил тему, затронутую в «Повелителе мух», хотя
и предложил взглянуть на нее под несколько иным
углом. На сей раз в фокусе его внимания оказалось
понятие «социально-исторический прогресс».
Голдинг расскажет историю трагического столкно-
вения остатков неандертальского племени с представи-
телями более развитой разновидности homo sapiens-
В отличие от неандертальцев, которые думают «кар-
тинками», люди умеют мыслить логически и владеют
членораздельной речью. Они, однако, отличаются
повышенной агрессивностью и истребляют пришельцев
с помощью новейших достижений первобытной тех-
ники — у них есть лук, стрелы, лодки. Голдинг
обращает внимание на старое, как мир, свойство людей:
рационализировать самые темные свои устремления и
импульсы, объяснять их жизненной необходимостью.
В «Повелителе мух» гибель Саймона от рук своих же,
сгоряча принявших его за страшного Зверя, заставит
одного из его невольных убийц произнести такие
слова: «Зверь принимает личины». Вывод удобный,
снимающий ответственность за человекоубийство,
развязывающий руки для новых актов «самоза-
щиты». Похожим образом «новые люди» видят в не-
счастных неандертальцах «рыжих демонов», злых
духов, которых необходимо поскорее уничтожить.
Во имя, так сказать, благополучия человечества. Снова
злое, темное начало, живущее в человеке, переносится
148
вовне, на объекты и явления объективной реаль-
ности.
Если в «Повелителе мух» Голдинг пародировал
«Коралловый остров» Баллантайна, то в «Наслед-
никах» мишенью его критики стал Герберт Уэллс.
В 1921 году Уэллс опубликовал рассказ «Косматые
люди», где изображается конфликт, похожий на тот,
что лег в основу «Наследников». Симпатии Уэллса
на стороне «новых людей», олицетворяющих человеч-
ность, созидание, прогресс. Его неандертальцы — жес-
токие и тупые монстры. Один из них похищает у
людей ребенка, и завязавшаяся погоня приводит
к гибели злодеев. У Голдинга, напротив, похитителями
ребенка оказываются люди, а жертвами — неандерталь-
цы, которые, в противовес концепции Уэллса, вовсе
не жестокие чудовища, но существа, умеющие по-
своему любить и заботиться друг о друге. Эпиграф из
«Очерков истории» Уэллса стоит на титульном листе
«Наследников», сразу задавая полемический контекст.
Сам Голдинг впоследствии писал: «Очерки Уэллса
сыграли в моей жизни большую роль, так как мой отец
был рационалист, принимавший их очень близко к
сердцу, для него это было евангелие рационализма.
Но постепенно мне стало казаться, что «Очерки» слиш-
ком уж легко сводят концы с концами. Когда же
во взрослом возрасте я взялся их перечитывать и
наткнулся на картинку, где неандертальцы, наши
непосредственные предшественники, изображались ди-
кими звероподобными чудищами... я окончательно
понял, что все это самый настоящий абсурд». Потери
при горделиво-поступательном движении человечества
оказываются очень значительны. Темное начало не
изживается, но лишь загоняется внутрь, дурные импуль-
сы камуфлируются убедительными доводами рассудка.
Мрачен мир «Наследников», но и тут теплится надежда.
Среди «новых людей» находятся и такие, кто инстинк-
тивно чувствует ложность мифа о «рыжих демонах».
В финале один из таких людей «нетерпеливо вертел
в руках слоновую кость. Какой смысл точить ее против
человека? Кто наточит клинок против тьмы мира?».
Голдинг не питает надежд насчет скорейшего и пол-
нейшего перевоспитания «трудного подростка» —
современного человека. Впрочем, он не впадает и в
отчаяние, не торопится предать анафеме человеческое
149
общество, как поступали слишком многие приверженцы
апокалипсического взгляда на наш мир. Он напря-
женно ищет ответов на вопросы, что ставит перед ним
наша жизнь. «Ни одно произведение искусства не
рождается из безнадежности,— говорит он.— Самый
факт, что люди задают вопросы насчет безнадеж-
ности, уже указывает на существование надежды»1.
В полемике, кто прежде всего — человек, общество,
среда, идеология — виноват в разгуле насилия, захлест-
нувшего XX век, английский писатель Энтони Берд-
жесс, вслед за Голдингом, видит опасность человечеству
в самом человеке, одержимом разрушительными им-
пульсами. Этому посвящена его повесть «Заводной
апельсин» (1962), получившая подлинное признание
уже после ее нашумевшей экранизации американским
режиссером Стенли Кубриком в 1971 году.
Действие повести происходит в Англии «недале-
кого будущего» — вариация на тему оруэлловского
1984 года с той существенной разницей, что источни-
ком бед и несчастий у Берджесса выступает не тота-
литарная государственность, не Система, но сверх-
раскрепощенная личность. «Заводной апельсин» — в
известном смысле полемика с Оруэллом, который, по
мнению Берджесса, был склонен идеализировать лич-
ность, упуская из виду очень многие ее изъяны, слиш-
ком во многом обвиняя Систему.
Герой-повествователь «Заводного апельсина» —
пятнадцатилетний Алекс, главарь шайки хулиганов,
терроризирующих своими бесчинствами всех и вся.
Они ежевечерне накачиваются наркотиками в баре
и затем выходят на тропу войны. Четверка одета в чер-
ные облегающие костюмы и в маски — сочетание
клоунады с готикой. Им попадается старик прохо-
жий — они весело, со смаком избивают его, разры-
вают на нем одежду, обращают в клочья захваченные
у «неприятеля» книги. Они вступают в лихую схватку
с вечными противниками — юнцами из шайки Билли.
Апофеозом «вечера отдыха» становится налет на дом
писателя. Хозяина избивают, затем связывают, уничто-
жают рукопись его романа «Заводной апельсин».
Затем у него на глазах насилуют его жену.
«Иностранная литература», 1973, № 10, с. 208.
150
В фильме эта сцена — как и другие эпизоды наси-
лия — идет под музыку, что не случайно. Алекс
большой любитель музыки, причем не вульгарного
рока, а высокой классики. Среди его любимых авто-
ров — Моцарт и Бетховен. Алекс — не вульгарно-при-
митивный хулиган «из подворотни», это тонкий це-
нитель искусства —- и эстет насилия. Тут совершенно
отчетлива параллель с «Братьями Карамазовыми».
Не случайно Ю. Ханютин, анализировавший кубри-
ковскую киноверсию романа1, вспоминает знаменитый
монолог Мити: «Перенести я притом не могу, что иной,
высший даже сердцем человек с умом высоким начи-
нает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским.
Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским не отри-
цает идеала Мадонны... Нет, широк человек, слишком
широк, я бы сузил. Черт знает что такое, вот что!
Что уму представляется позором, то сердцу сплошь
красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то
она и сидит для большинства людей... Ужасно то, что
красота есть не только страшная, но и таинственная
вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца
людей».
Насилие — красота — секс — насилие. Таков замк-
нутый круг, в котором существует юный герой «Завод-
ного апельсина». Он никак не может пожаловаться
ни на тяжелое детство, ни на пагубное воздействие
среды. Злое, разрушительное начало, находящее свое
воплощение в пятнадцатилетнем персонаже (в фильме
он несколько повзрослел), принимает недетермини-
рованный, автономный характер. Алекс — человек-за-
гадка, объективация того зла, что с избытком напол-
няет мирную повседневность и, несмотря на все стара-
ния экспертов определить его природу и границы,
постоянно ускользает от рационального анализа, остав-
ляя исследователей с набором пустых, мало что прояс-
няющих фраз.
Очередное похождение веселых ребят кончается
трагически, гибелью старухи, над которой решили
подшутить забавники. Алекс признан единственным
виновником случившегося и попадает за решетку.
Казалось бы, справедливость торжествует и порок
1 См.: Ханютин Ю. Неизбежность странного мира. М., 1977,
с. 151.
151
наказан. Но «воплощенное зло» само оказывается
жалкой и беспомощной жертвой в крепких руках тех,
кто имеет право карать — мучить и унижать на
законном основании.
Сначала над Алексом глумятся задержавшие его'
блюстители порядка. Инспектор по делам несовершен-
нолетних, официальный «пастырь» этой заблудшей
овцы, будет с наслаждением снова и снова плевать Алек-
су в лицо. В тюрьме он становится объектом внима-
ния заключенного-садиста. Пытаясь защититься от
посягательства маньяка, Алекс убивает своего мучите-
ля. Возникает угроза надолго задержаться в тюрьме —
или дать согласие на курс экспериментальной тера-
пии, чтобы по оканчании лечения выйти на свободу
заново родившимся человеком.
Поразмыслив, Алекс соглашается на лечение. Оно
не отличается особой сложностью. У пациента должен
выработаться условный рефлекс физического отвра-
щения к насилию, ко всему тому, что прежде достав-
ляло ему наслаждение. Ему вводят препарат, вызы-
вающий рвоту, а затем снова и снова демонстрируют
на экране кадры пыток, избиений, мучительных каз-
ней. Алекс не может отвернуться, не может закрыть
глаза — веки фиксированы зажимами. Участник и
главный герой жутковатых хепенингов, Алекс оказался
в роли перепуганного зрителя в театре жестокости,
лишенного возможности выбрать себе более приятное
зрелище.
Прежде чем отпустить Алекса на все четыре стороны,
его подвергают проверке, каковая подтверждает успех
«терапии». По распоряжению медиков их ассистент
начинает задирать героя, говорить ему грубости, угро-
жать расправой. Тот всеми способами пытается задо-
брить обидчика; нащупав в кармане бритву, он смирен-
но предлагает ее в дар грубияну, хотя совсем еще
недавно он недолго думая пустил бы ее в ход. Но теперь
он поистине новый человек. Вместо того чтобы дать
сдачи, постоять за себя, он униженно опускается на
колени, начинает лизать ботинки своего мучителя.
Затем появляется другая ассистентка, хорошенькая и
молоденькая. Бе вид вызывает у Алекса желание
«повалить ее на пол и поступить с ней по старому
обычаю», но этот остаточный импульс отзывается
таким страшным приступом тошноты, что все фриволь-
152
ные желания мигом улетучиваются. Вместо этого он
произносит комичную тираду: объясняется девице в
платонической любви и просит позволения быть ее
верным рыцарем и защитником.
То, что случилось с Алексом, радует врачей и при-
водит в ужас тюремного священника: Алекс лишен
возможности морального выбора. Он не может провести
различие между добром и злом. Он машина, способ-
ная лишь на добро. И, как очень скоро оказывается,
обреченная быть жертвой зараженного жестокостью
общества.
Вторая часть построена так, что Алекс проходит
по второму кругу путь, проделанный им вначале, до
того как он попал в руки правосудия. Новому Алексу,
которому поневоле приходится быть добрым, выпадает
жалкая участь. Родители выбрасывают его из дома,
где поселился квартирант, заменивший им непутевого
сына. Старичок, пострадавший от шалостей Алексо-
вой банды, узнав своего давнишнего обидчика, набра-
сывается на него вместе с такими же стариками, по-
одиночке хилыми и слабыми, но скопом представляю-
щими серьезную угрозу для юного «непротивленца».
Алекса вызволяет полицейский патруль — с тем чтобы
подвергнуть его новым издевательствам. Среди поли-
цейских-мучителей его прежний приятель Дим и
старый антагонист Билли. Они вывозят Алекса за город,
где дают волю своей сладострастной жестокости.
И снова судьба приводит героя Берджесса в дом
писателя. Если прошлый раз он просил о помощи
притворно, чтобы проникнуть в помещение и учинить
там погром, то теперь он реально нуждается в такой
помощи. Писатель и его интеллектуальные друзья
окружают героя вниманием, правда, отнюдь не беско-
рыстного толка. Они видят в случае с Алексом повод
для резкой критики не устраивающего их правитель-
ства, которое позволяет ставить на людях такие
чудовищные эксперименты. Алекс недоволен создав-
шейся вокруг него шумихой. Он требует, чтобы его
«перестали использовать как инструмент». Но уже
поздно. О нем вовсю трубят прогрессивные газеты.
Правительство на грани краха. Либералы уже торжест-
вуют победу. Теперь можно и свести личные счеты.
Писатель распознает в Алексе человека, разрушив-
шего его семейное счастье. Бывшего любителя музыки
153
подвергают пытке музыкой. Мучения от симфонии Бет-
ховена столь невыносимы, что Алекс в приступе отчая-
ния выпрыгивает в окно. Опять-таки вроде бы очко в
пользу либералов и прогрессистов. Если Алекс погиб-
нет, то в его смерти будет целиком и полностью ви-
новато «фашистское» правительство.
Алекс попадает в больницу, и теперь за него прини-
мается уже правящая партия. Сам министр внутренних
дел посещает его, обещает ликвидировать последствия
терапии, превратившей его в формально свободного, но
на деле жутко запрограммированного человека, объект
манипуляции со стороны респектабельных негодяев.
Процесс «исцеления от исцеления» идет успешно.
Алекс в состоянии уже слушать музыку, еще немного —
и он получает от нее прежнее удовольствие. Он снова
может наслаждаться ею. Удержавшийся в своем кресле
министр на радостях дарит ему проигрыватель.
В фильме все завершалось на выходе Алекса из
клиники. Репортеры щелкали фотокамерами, запечатле-
вали Алекса, ухмыляющегося рядом с министром.
У Кубрика «заново собранный» персонаж делался
послушным союзником государства, возможно, он при-
соединится к Диму и Билли в полиции: люди, спо-
собные проявлять жестокость, оказываются вполне
полезными цивилизованному обществу, если их энер-
гию, их садизм направлять в нужное русло.
В повести финал куда неопределеннее. Поначалу
Алекс упоенно принимался за старое: он оказывался
во главе новой шайки со старыми повадками. Но на
последних страницах его охватывало сомнение: так ли
он живет? Он смутно желал иного существования.
Ему хотелось завести семью, ребенка. Хотя зло еще не
лишилось для него своей притягательности, он уже
ощущает его отличие от добра. И, стало быть, способен
на выбор. А это значит, для него еще не все потеряно.
У него есть шанс стать настоящим человеком.
Резонанс, вызванный романом Берджесса и в еще
большей степени экранизацией Кубрика, заставил
вспомнить о забытой к тому времени книге американско-
го психолога Б. Ф. Скиннера «Уолден-2». Опубликован-
ный на год раньше «1984» Дж. Оруэлла, этот социально-
утопический трактат в прозе утверждал возможность
создания гармоничного общества при одном условии:
поведение человека необходимо программировать,
154
поощряя действия и реакции, нужные обществу, созда-
вая рефлекторное отвращение к социально дурному.
По Скиннеру, такое программирование было единст-
венным способом преодолеть серьезный кризис, в кото-
ром оказалась мировая цивилизация, только что пере-
жившая еще одну мировую войну и изготовившая
атомное оружие для новых битв. Во имя обществен-
ной гармонии Скиннер полагал недопустимой роскошью
свободу действий личности, отсутствие жесткого конт-
роля над «внутренним человеком». Казалось бы, «Мы»
Замятина и «О дивный новый мир» Хаксли достаточно
убедительно показали, во что может превратиться
общество, безусловно доверяющее диктаторам-благо-
детелям и тем самым превращающее своих членов
просто в роботов. Берджесс решительно высказался
против идеи выращивания «заводных апельсинов».
Но человечество, отдавая дань идеям Свободы (в том
числе и свободы личности), в очередной раз пострадав
от чрезмерной широты человеческой натуры, начи-
нает думать, вслед за героем Достоевского, как бы
сузить эту необузданную широту. Разражаются миро-
вые катастрофы, их причины детально исследуются,
общественное мнение единодушно в своем выводе:
«Это не должно повториться». Но проходит совсем
немного, и снова во имя Благородной Идеи льется
кровь...
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ФАШИЗМА
Кэтрин Энн Портер, впервые заявившая о себе в
начале 30-х годов, довольно быстро завоевала репу-
тацию художника значительного, не ищущего легких
путей в искусстве. Работая в сфере малой прозы, она
создавала вещи из затейливой ткани с изощренным
рисунком, исследуя изменчивый, напряженный мир
человеческой души. «Корабль дураков», единствен-
ный роман американской писательницы, был опубли-
кован в 1962 году, но сведения о том, что он вот-вот
увидит свет, проникали на страницы прессы еще в
40-е годы. «Корабль дураков» долго писался и дол-
го шел к нашему читателю. И вовсе не потому, что
его в свое время «прозевали». Советские американисты
155
заметили книгу сразу по выходе и неоднократно
предлагали ее издать, но попытки эти наталкивались
на хорошо организованный отпор литературных чи-
новников, убежденных, что американскую литературу
вообще печатать следует в исключительных случаях
(«Хижину дяди Тома», Джека Лондона, ну и Фе-
нимора Купера), а уж тем более такую «крамолу».
Почему же так долго и упорно старались утопить
«Корабль дураков»?
Прежде всего подозрительно выглядело само на-
звание.
Достаточно вспомнить, как огорчила наше чинов-
ничество песенка Булата Окуджавы про дураков. В ней
имели место «серьезные ошибки», свидетельствующие
о запущенности воспитательной работы среди писате-
лей, коварный намек на тех, кто, получив за заслуги
перед отечеством звание мудрецов, сильно волновался,
что у кого-то на этот счет может быть иное мнение.
Так что бог ведает, на кого замахнулся в своем романе
чужеземный автор.
Не помог, а даже помешал продвижению «Кораб-
ля...» и фильм, снятый по роману Стенли Крамером и
показанный на одном из московских кинофестивалей.
Американский режиссер, имевший у нас репутацию
прогрессиста и друга СССР, явно не потрафил. Фильм
не понравился начальству. И хотя действие его
происходило не у нас, а там, где, твердили наши про-
пагандисты, ничего хорошего никогда не было и быть
не могло, все равно огорчал мрачный колорит, отсут-
ствие положительных примеров. Подозрительно часто в
кадре мелькал и персонаж-еврей. Вроде бы ничего
крамольного, арабов он не обижал, но по тогдашним
меркам и того хватило, чтобы на фильм, роман и их
слишком рьяных поклонников пало подозрение в не-
благонадежности.
Но позиция начальства, загодя, по сути дела заочно,
невзлюбившего роман Портер, только на первый взгляд
может показаться очередным приношением на алтарь
глупости. В романе, известном пусть по фильму или по
справке референта, настораживало пристальное внима-
ние автора к Обывателю. К тому самому агрессивно-
молчаливому большинству, что становится опорой
различных министерств Любви. Да и феномен фашизма,
к которому вроде бы официальное отношение было
156
однозначно отрицательным, по сути дела, запрещалось
исследовать всерьез. Любой разговор о тоталитаризме
спешным образом пресекался: общество наше было
увенчано легковоспламеняющейся шапкой, каковая не
выносила антидеспотического пыла-жара.
Впрочем, в романе Портер и впрямь были аллюзии,
о которых знали те, кто изучал историю немецкой
литературы. Путешествие немецкого корабля «Вера»,
совершенное в августе—сентябре 1931 года из Мексики
в Германию, вызывало в памяти аллегорическое пла-
вание, в которое много веков назад отправил своих
персонажей Себастьян Брант.
Написанная в 1494 году книга базельского гума-
ниста имела большой успех у немецкоязычных читате-
лей, а после того как в 1498 году была переведена на
латынь, она стала достоянием всей просвещенной Евро-
пы. Собрав на своем символическом корабле скопище
глупцов всех мастей, Брант отправил их в Нарранию,
страну глупости. В его плавучей кунсткамере есть
лжеученые и скупцы, взяточники и шарлатаны, распут-
ники и обжоры. Но главной глупостью Брант полагал
себялюбие, разъединяющее людей, губящее и их самих,
и общество в целом. Современная Бранту Европа
находилась в преддверии тяжких потрясений. В ат-
мосфере близящегося социального шторма выходит в
океан и корабль Портер. Из неспокойной, раздираемой
политическими страстями Мексики он направляется
в Германию, где поднимает голову национал-социа-
лизм*.
Поначалу жизнь на корабле идет самым обычным
порядком: пассажиры знакомятся, обмениваются
традиционными ритуальными репликами. Но постепен-
но в речах некоторых из них начинают проскальзы-
вать красноречивые фразы, за которыми — пока еще
не оформленная «официально», существующая на бы-
товом уровне идеология тоталитаризма, пытающаяся
заявить о себе во всеуслышание, начертаться на зна-
менах и вести уверовавших в последний и решитель-
ный бой с врагами нации.
Лиззи Шпекенкикер, торгующая дамской одеждой,
1 Океан выступает как бы нейтральной территорией «между
двух огней» — социал-анархизмом, бушующим в Мексике, и разго-
рающимся пламенем немецкого национал-социализма.
157
будет твердить, что на истинном немецком языке гово-
рят только в родном Ганновере, фрау Риттерсдорф,
отставная гувернантка, запишет в дневнике, что верит во
всепобеждающую волю расы. А пассажир-горбун герр
Глокен своим жалким видом наведет ее на размышле-
ние, что детей, рождающихся с физическими недостат-
ками, надлежит умерщвлять в интересах всего полно-
ценного человечества.
Похожим образом мыслит и герр Рибер, издатель
дамского журнала. Он намерен просвещать умы, толкуя
о важнейших проблемах современности. Он хвастливо
сообщает, что уже договорился «с одним доктором
насчет первой из серии высоконаучных, весьма дока-
зательных статей в пользу уничтожения калек и вообще
неполноценных». На вопрос Лиззи, как помочь не-
счастным обитателям нижней палубы, где везут, как
скот, испанских поденщиков, он отвечает, что выход
один: загнать в большую печку и пустить газ. Ответ,
повергающий его спутницу в пароксизмы хохота. Коме-
дия, как говорил Олдос Хаксли,— это трагедия, про-
исходящая не с нами...
Тихий, занимающийся мирным ремеслом обыватель
в идеях своих бывает непостижимо кровожаден. Это
подметил еще чеховский Ионыч: «Опыт научил его
мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты
или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный
и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с
ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике
или науке, как он становится в тупик и заводит такую
философию, тупую и злую, что остается только рукой
махнуть и отойти». Обыватели — тот материал, из
которого удобнее всего кроить «тоталитарных людей» —
и верноподданных и наделенных властью. У них есть
ценное свойство: их не волнует ничего из того, что не
связано с мотивом личной выгоды. А потому они
отменные исполнители. Они готовы послать все в
тартарары, лишь бы уцелеть самим. Их не мучат сом-
нения, соображения морали, чести, личного достоин-
ства — для них фикция, мираж. Они не имеют соб-
ственных соображений о том, как должен быть устроен
мир, или же имеют об этом весьма примитивные
представления. С ними легко и удобно «работать».
В случае надобности их можно истреблять миллио-
нами — таких, как они, всегда можно сыскать в
158
достаточном количестве (вспомним печальную судьбу
оруэлловского Парсонса). Но есть у подобной чело-
веческой категории один существенный недостаток:
если дать этим людям «зеленую улицу», сгноив в
лагерях тех, кто по своим интеллектуальным, нравст-
венным, творческим задаткам посмел выделяться из
общей массы, Система рано или поздно с треском
рухнет, как рухнул в одночасье соцлагерь в Европе.
Великие злодеи, которые войдут в учебники как
символы зла, появляются позже. Но начинается все
с праздника обывателей. В условиях демократическо-
го общества они скорее смехотворны, нежели опасны.
Они несут свою чушь («навести железный порядок»,
«пересажать», «поставить к стенке») на лавочках
или в приятельском кругу и обитают на периферии
общественной жизни, занимая более чем скромные
должности. Но когда демократический порядок начи-
нает трещать по швам, такие шуты гороховые обре-
тают силу. Их начинают слушать, они делают карьеру,
их до поры до времени неизвестное миру злодейство
оказывается необходимым.
Многие склонйы объяснять ужасы деспотических
режимов исключительно тем, что к власти в недобрый
час пришел «не тот человек». Но, может, как раз все
наоборот? Может, временами создается такая ситуа-
ция, когда сложившейся деспотии прямо-таки до заре-
зу нужны подлецы, а те, кто лучше, честней, мораль-
ней, отвергаются. Мог ли быть «хороший» национал-
социализм — без «переборов» с лагерями смерти и
геноцидом? Мог ли быть «гуманный» сталинизм? Нас
и по сей день уверяют, что, конечно, мог. Были,
дескать, славные победы — в Германии ликвидация
безработицы, рост дисциплины, повальная вера в свя-
тые идеалы, у нас — Турксиб, Магнитка, опять же
повальная вера в святые идеалы. Подумать только —
«простому рабочему /крестьянину» не заказано было
стать генералом и академиком. И лишь затем уже
сгинуть в сталинской мясорубке. Впрочем, об этом и
без того написано много. Но, похоже, существуют
вопросы, на которые нет четких ответов при всей ка-
жущейся простоте проблемы. Как, из каких кирпичиков
возникают дурные социальные структуры, когда на
ключевых постах неизбежно оказываются худшие и
ничтожнейшие? Откуда берется фашизм (под этим
159
словом подразумеваются современные тоталитарные
режимы вообще): от несовершенства социальных ме-
ханизмов или от изначальной порочности человека?
Плохие социальные условия безусловно помогают взять
верх худшим сторонам человеческой натуры. Но и тем-
ные силы, таящиеся в нас, играют не последнюю роль.
Об этом размышлял Уильям Голдинг, когда ставил
философский эксперимент на идиллическом острове в
«Повелителе мух». Эта же проблема волнует и Портер,
отправившую в плавание «Корабль дураков». Она под-
вергает проверке почтеннейших бюргеров, предлагая им
свободно выразить личное отношение к проблемам,
которые через несколько лет в национал-социалисти-
ческой Германии окажутся центральными.
Без указок сверху, без принуждения нордический
клан выдерживает экзамен на «отлично».
Когда выясняется, что у немца Фрейтага жена
еврейка, пароходный бомонд единодушно изгоняет из
своих рядов осквернителя расы. Его сажают за один
столик с коммерсантом Левенталем, поставляющим —
бизнес есть бизнес! — в католические церкви соответ-
ствующую утварь. Левенталь, в свою очередь, обли-
вает презрением Фрейтага и особенно его жену —
вышла замуж за «гоя», опозорив свой народ. Нацио-
нальная нетерпимость — источник многих трагедий
истории —- знакома не одним большим нациям. Ока-
жись Левенталь у власти, Фрейтагу досталось бы
так же, как от «арийцев».
Исподволь на корабле «Вера», которым командует
капитан Тиле, устанавливается прообраз великого
рейха. Пока что тут нет открытого террора, но просве-
щенное большинство, включая глубокомысленного
профессора Гуттена, корабельного идеолога, психоло-
гически уже приняло «новый порядок». Нужен только
фюрер. В таковые жаждет попасть сам страдающий
от несварения желудка и ощущения нереализован-
ных возможностей капитан. Вот он смотрит аме-
риканский гангстерский фильм и мечтает о власти:
«Он втайне упивался этой картиной: беззаконие,
кровожадное безумие вспыхивает опять и опять, в
любой час, в любом неизвестном месте,— его и на
карте не сыщешь,— но всегда среди людей, которых
по закону можно и нужно убивать, и всегда он,
капитан Тиле, в центре событий, всем командует и
160
управляет». Яркий пример невостребованного зло-
действа.
Скромное обаяние фашизма пленяет не одних
несостоявшихся героев вроде капитана Тиле и герра
Рибера. Тихие, кроткие, всего боящиеся существа
находят в сильной власти, идее избранничества —
расового или классового — немалое утешение. Вполне
симпатичная фрау Шмитт, сочувствовавшая Фрейтагу
и страдавшая от пошлых речей герра Рибера, после
изгнания Фрейтага из «чистого» общества вдруг
испытывает ощущение собственной силы, решимости
отныне и впредь отстаивать свои права в борьбе с
обстоятельствами: «Душа фрау Шмитт возликовала,
теплой волной омыло ее радостное ощущение кровно-
го родства с великой и славной расой: пусть сама
она лишь мельчайшая, ничтожнейшая из всех,—
но сколько у нее преимуществ!»
Американский исследователь Эрик Хоффер в своей
работе «Истинно верующий» (1951), посвященной
анализу массовых движений и притягательности
тоталитарных структур для масс, отмечал, что подоб-
ные движения находят столь большое количество
горячих приверженцев отнюдь не потому, что спо-
собствуют самоосуществлению человека, но, напротив,
потому, что удовлетворяют желанию самоотречения,
предоставляют возможность раствориться без остатка
в некоем могучем целом. «Вера в святое дело,— отме-
чал он,— есть в известной степени невозможность
сколько-нибудь осмысленного диалога с самим собой и
заставляет «маленьких людей» отрекаться от своего
«я» в обмен на членство в коллективе, направляемом
железной рукой»1.
Собственное «я» ничтожно, бесплодно, беззащитно,
вызывает у самого хозяина подсознательную неприязнь,
прикрытую, однако, преувеличенной заботой о себе.
Бытовой эгоцентризм, стремление не упустить своего —
обратная сторона того метафизического вакуума, в
котором пребывает «безличная личность».
Человеку внутренне богатому, творчески одаренно-
му, способному ставить себе цели и добиваться их
реализации, нет необходимости искать «покупателя»
на его свободу, его энергию, голос на выборах и т. д.
Он находится в прочном контакте с реальностью как
1 Н offer Е. A True Beüever. N. Y., 1955, p. 161.
в С. Белов
161
повседневного, так и высшего порядка. Безличности,
не способной ни на что, кроме выполнения внешних
правил и указов, не терпится поскорее воссоединиться
с чем-то могучим, огромным, сулящим спокойствие
и безопасность при условии послушания. Гнетущее
чувство одиночества и жажда слияния с чем угодно,
лишь бы не оставаться наедине с собой,— важная
характеристика массового человека, постоянно страдаю-
щего от недостаточной прочности своих связей с внеш-
ними структурами.
Не случайно, кстати, на корабле Портер чрезвы-
чайно много людей, вырванных из привычной осед-
лости. Фрау Шмитт везет тело умершего мужа на
родину, где она давным-давно не была. Директор
немецкой школы в Мексике Гуттен хоть и возвра-
щается к себе в Германию, но там его ожидает полная
неизвестность. Меняют Мексику на Швейцарию Лутцы.
Многие не знают, что такое тепло домашнего очага,
другие, напротив, задыхаются в его удушливой
атмосфере (чета Баумгартнеров, где муж — неудачник
и алкоголик, а жена обозлена на всех и все). Эти
блуждающие атомы, по законам социальной химии,
вполне способны слиться в тоталитарную массу. Как
писала X. Арендт, «тоталитарные движения — это
массовые объединения разобщенных, одиноких инди-
видуумов»1. Тех, кто, пылая неприязнью ко всему
(в себе и других), что связано с понятием личного
самоутверждения, готов примкнуть к любому массовому
походу в Коллективный Рай.
Массовые тоталитарные движения обретают направ-
ление и силу, когда инертная середина проходит обра-
ботку сверху и снизу — проникается идеями, что вы-
рабатывает интеллектуальная элита движения, и за-
ражается агрессивной энергией деклассированных
элементов. Когда интеллектуальное и криминально-
деклассированное работают в унисон, рождается единый
порыв. Респектабельные буржуа Портер шокированы
низменными инстинктами испанских танцоров, они
возмущены, когда те проходят ураганом по магазинчи-
кам острова Тенерифе, «экспроприируя» все, что плохо
лежит, а затем вовлекают пассажиров в жульническую
лотерею, где разыгрывают краденое. Но моралисты из
1 Arendt Н. Origins of Totalitarianism, p. 5.
162
кают первого и второго класса (в том числе и главный
корабельный интеллектуал Гуттен) и не подозревают,
что между ними и «плясунами» существуют куда более
прочные связи, чем кажется на первый взгляд. Крича-
щая аморальность танцоров лишь оттеняет потаенную
бессовестность риберов и тиле. До поры их крими-
нальные импульсы будут тормозиться за фасадами
условностей и приличий, но когда выясняется, что ты
принадлежишь к счастливой нации, которой все позво-
лено, законопослушные обыватели если не начнут
громить еврейские лавки, то станут покупать их за
бесценок (аризация!), упоенно желать смерти всем
врагам рейха, получать «посылочки» от мужей и сы-
новей с восточного фронта, украшать семейные
гнездышки ширпотребом, что делается из сырья,
поставляемого фабриками смерти. Когда же тысяче-
летний рейх рухнет в одночасье, они сделаются
послушными и услужливыми, будут в пояс кланяться
вчерашним «недочеловекам», а ныне победителям, уве-
ряя их, что они, мол, люди маленькие, сами мухи не
обидели (разве что по приказу свыше), и вообще
«Сталин гут, Гитлер капут».
Тоталитарная закваска выдыхается не сразу. Люди,
возненавидевшие демократические свободы и институ-
ты, отвергнувшие права личности во имя прав кол-
лектива, оказавшихся на поверку правами диктатора,
без особого труда уложились в тоталитарную структу-
ру сталинского образца и по догматизму в чем-то даже
превосходили учителей. Берлинская стена, что выросла
как в сказке чуть не за одну ночь, была лишь наглядным
отражением внутреннего железного занавеса, что надле-
жало держать опущенным в головах жителей «подлин-
но свободной» Германии.
Выписывая мрачный коллективный портрет буду-
щих верноподданных фюрера, Портер не щадит и
представителей прочих наций, в том числе и тех, кто
воевал против нацизма. Главная причина бед XX сто-
летия, по Портер, состоит не в особой генетической
предрасположенности ко злу тех или иных этнических
групп, но в том опасном личностном вакууме, в котором
так вольно дышится эгоцентризму, ненависти ко всему,
что есть «не-я», и ко всякому проявлению подлинно
личностного начала и где взращивается монстр тота-
литаризма.
6*
163
Угасает любовь между американцами Дженни
Браун и Дэвидом Скоттом, гибнет в борьбе самолюбий1.
Дженни — пожалуй, единственный персонаж в книге,
к которому Портер испытывает симпатию, хотя юной
американке и достается от автора за слишком рьяное
участие в общественных движениях, в том числе и в
стачечной деятельности рабочих. Портер подчеркивает,
что для Дженни цели в конечном счете значения не
имели, но сам факт участия в борьбе за что-то (будь
то повышение зарплаты или сокращение рабочего дня
тех, кого она знала лишь со стороны) вносил гармо-
нию в хаотическое существование. Этот путь опасен.
Тут недолго полностью утратить себя, раствориться
в потоке, который может занести туда, где оказаться
не так уж и радостно. Впрочем, иллюстрации тому
имеются более красочные в нашей истории, нежели в
американской.
Что касается Дэвида, то его постоянное раздра-
жение и озлобленность органично сочетаются с его
явной творческой ущербностью. Последнее обстоятель-
ство имеет для процесса тоталитаризации особое
значение. Э. Хоффер подчеркивал, что из армии не-
состоявшихся или обанкротившихся творческих лич-
ностей и вербуются наиболее убежденные штурмови-
ки всех мастей. «Испытавший кризис писатель, худож-
ник, ученый и т. д., — писал он,— в первую очередь
потому, что в нем вдруг иссяк поток творческой энер-
гии, рано или поздно оказывается в лагере ура-
патриотов, разжигателей расовой вражды и поборников
Священных войн»2. Если присмотреться к нашей ны-
нешней политической ситуации, мы увидим, что в суж-
дении этом немалая доля правды. Хоффер для иллю-
страции напоминает о творческих амбициях вождей
рейха. Так, Гитлер и Штрейхер пробовали свои силы
в живописи, Функ занимался музыкой, фон Ширах
поэзией, Розенберг — архитектурой и философией,
Геббельс — прозой, поэзией, драматургией. Коллектив,
способный составить неплохую конкуренцию в борьбе
1 Самолюбие вообще мощный и до конца не познанный фактор
социально-исторического развития. Наполеон, сказав: «Самолюбие
совершило революцию. Свобода была лишь предлогом»,—выра-
зил весьма тонкую мысль.
2 Н о f f е г Е. A True Believer, p. 38.
164
за звание самого интеллигентного правительства
XX века.
У Портер нет персонажей, которые могли бы рас-
считывать на ведущие роли в нацистском трагифарсе.
У нее нет идеологов и вдохновителей. Даже «интел-
лектуал» Гуттен выгодно смотрится разве что на фоне
дубиноголовых риберов и лутцев. Основной акцент
писательница делает не на фанатической преданности
Идее, а на безыдейности, на эгоцентрическом равно-
душии ко всему, что выходит за пределы «я». Но
хотя и говорят, что ненависть и жестокость, порождае-
мые обывательским желанием не упустить своего,
не идут ни в какое сравнение с беспощадностью тех,
кто никогда ничего не хотел для себя лично, порте-
ровские персонажи, в совокупности своей и в соедине-
нии с миллионами себе подобных, тоже кое на что
способны. Они чувствуют себя несправедливо обде-
ленными судьбой — и если не в состоянии возглавить
крестовый поход во имя зла, прикидывающегося
добром (как это делал кестлеровский Рубашов), то
всегда готовы отправиться на этот фронт добровольца-
ми. Из них получаются отменные Глеткины, прекрас-
ные исполнители приговоров, вынесенных в верхах.
Герои Портер прекрасно овладели наукой нена-
висти. Арийцы ненавидят евреев, евреи — в лице
Левенталя — арийцев. Инженер Дэнни из Техаса
убежден, что негры — существа низшего порядка,
а его помыслы сосредоточены на женщинах, деньгах,
гигиене, а главное, на том, чтобы его не облапо-
шили. Вполне неглупая и вроде бы порядочная миссис
Тредуэлл мечтает об одном — чтобы ее оставили в
покое, не посвящали в свои глупые и бессмыслен-
ные проблемы окружающие. Ей ничего не стоит рас-
сказать Лиззи Шпекенкикер (которая вызывает у нее
отвращение) о семейной тайне Фрейтага, которую он
поведал ей в минуту откровенности. А во время про-
щального вечера с лотереей и танцами она, напившись
в одиночку, зверски избила незадачливого Дэнни,
преследовавшего танцовщицу-испанку и ошибшегося
каютой. Она лупила его каблуком туфли по лицу, словно
вымещая на этом глупце все свои накопившиеся за
Долгие годы обиды и разочарования.
Швед Хансен вроде бы радикал. «Убивайте врагов,
а не друзей!» — кричит он подравшимся обитателям
165
нижней палубы. Он постоянно отпускает гневные
реплики насчет современной цивилизации. Получается
вполне убедительно, но устами Фрейтага Портер вносит
существенный корректив. Фрейтаг подметил в ради-
кально настроенном торговце маслом «свойство, при-
сущее... почти всем людям: их отвлеченные рассужде-
ния и обобщения, жажда Справедливости, ненависть
к тирании и многое другое слишком часто лишь маска,
ширма, а за нею скрывается какая-нибудь личная
обида, весьма далекая от философских абстракций,
которые их будто бы волнуют».
Но, не давая читателям возможности восхититься
проницательностью Фрейтага, Портер иронически ком-
ментирует: «Это простейшее свойство человеческой
натуры Фрейтаг открыл как слабость, присущую дру-
гим, но и не думал примерить эту истину на себя. Ко-
нечно же, трудное положение, в котором он очу-
тился,— совершенно исключительное, не подходит ни
под какие правила, так ни с кем больше не бывало и
не будет. Все, что по этому поводу он чувствует, без-
условно, справедливо, никто, кроме него, разобраться в
его чувствах и судить о них не может, и просто было
бы смешно сравнивать все это с жалкими переживаньи-
цами какого-то Хансена».
Слишком часто себя мы судим по одним законам,
прочих же — по другим, куда более строгим. В своих
проблемах мы легко видим «особый случай», исключе-
ние из правил, позволяющее сделать себе снисхожде-
ние, ну а с посторонними хочется поступать по всей
строгости...
Бели же эти самые посторонние приходят нам на
помощь, не выказывая никаких корыстных убеждений,
не требуя ничего взамен, мы оказываемся в немалом
замешательстве, даем ход самым разным подозрениям.
Когда шестилетние дьяволята Рик и Рэк, дети
испанских танцоров, в очередном приступе озорства
выбрасывают за борт Детку — бульдога Гуттенов, на
помощь псу бросается пассажир нижней палубы
баск Эчегерай. Собака спасена, но спасти самого
храбреца не удается: он умирает, вызывая в «чистом»
обществе недоуменные пересуды насчет истинных мо-
тивов его поступка. Недоумевает священник: с какой
стати жертвовать жизнью ради четвероногой твари?
Удивлен и профессор Гуттен. Его жена высказывает
166
предположение, что бедняга надеялся на вознагражде-
ние, но ученый муж глубокомысленно изрекает: «На-
деялся на вознаграждение... да, конечно, но это уже
слишком просто. Может быть, он хотел привлечь к
себе внимание, чтобы его сочли героем? Или, может
быть,— разумеется, неосознанно,— искал смерти и
выбрал вроде бы такой невинный способ самоубийства?»
В подвиге Эчегерая некоторые критики увидели тра-
гифарсовую вариацию на тему евангельского мифа о
распятии Христа. С этим можно соглашаться или спо-
рить. Но так или иначе еще один бескорыстный поступок
пропал втуне, еще одна жертва вызвала у окружающих
непонимание или даже плохо скрытую злость.
Чтобы люди действовали заодно и с огоньком,
требуются связующие нити. Одним из таких высоко-
эффективных объединителей является ненависть. Хоф-
фер приводит эпизод, имевший место в Германии
1932 года. Группа японцев приехала изучать национал-
социалистическую доктрину. Когда их спросили, как
они относятся к этому славному учению, гости выра-
зили свое полное одобрение и надежду, что нечто
подобное появится и в Японии. «Только,— с сожале-
нием добавил один из них,— у нас нет своих евреев!»
Ярая ненависть, подчеркивает Хоффер, может придать
смысл и цель пустой жизни.
Пожар взаимной ненависти полыхает на корабле
Портер, скрываясь за необходимостью соблюдать при-
личия и подчиняться инструкциям. Вежлив и предупре-
дителен судовой казначей, хотя много лет испытывает
желание поубивать всех, кому вынужден кланяться и
улыбаться. Негодует горничная, которой велено при-
нести чудесно спасенному псу чашку бульона («В этом
мире надо быть собакой. Собаку богача поят мясным
бульоном, а бульон варят из костей бедняков...»).
Ее гневный монолог вызывает ответный — вроде бы
беспричинный — взрыв негодования мальчишки-ко-
ридорного: «По мне, пускай бы они оба (пес и его
спаситель.— С. Б.) потонули, и ты тоже, старая дура,
ослица бешеная!» Ну, а прощальная вечеринка стано-
вится настоящей баталией, когда под влиянием алко-
голя обыватели превращаются в варваров. Миссис
Тредуэлл расправляется с Дэнни. Хансен разбивает
бутылку о голову всегда не нравившегося ему Рибера.
Идет война. Война всех со всеми...
167
Фашизм не доктрина, созданная кабинетными
учеными, одобренная в верхах и спущенная вниз рядо-
вым гражданам для исполнения. Фашизм — демокра-
тичен, рождается из недовольства обычных граждан,
когда это самое недовольство, сталкиваясь с корруп-
цией и бессилием социальных институтов и подогре-
ваемое желанием скорее обменять свое ничтожное
пустенькое «я» на стальное и победительное «мы»,
высекает искры, способные раздуть мировой пожар.
Кэтрин Энн Портер говорит о ненависти, нетерпи-
мости, эгоистической сосредоточенности на личных
проблемах, о безликости и бездарности жаждущих
шанса удивить мир, обо всем том, что создает пита-
тельную среду для возникновения и торжества фашист-
ского мироощущения. Иные читатели «Корабля дура-
ков» упрекали писательницу за мизантропичность ее
взгляда на мир, человечество, за отсутствие луча
надежды в книге, все или почти все персонажи которой
либо безлики и апатичны, либо подчеркнуто агрессивны.
Да, оптимизмом роман не отличается, но разве лучше
было бы, если бы Портер населила корабль, медленно,
но верно вплывающий в фашизм, светлыми личностя-
ми, борцами за светлое будущее и пр.? Не получился
бы пасквиль?
Портер умышленно ограничила поле зрения, чтобы
детально увидеть кое-что очень для нее важное. Ей
нужно было показать, как зреют в людях ядовитые
гроздья ненависти, превращая их в нелюдей. Напом-
нить, что существует общая ответственность за происхо-
дящее в мире, которую мы не вправе отринуть, даже
если сами ни в чем дурном не замешаны. «Я тоже
странствую на этом корабле»,— писала она в кратком
предисловии к роману.
«Корабль дураков» долго не пускали к нашему
читателю. Но все же приплыл он к нам вовремя. Нас
захватил шторм социальных перемен. Годами, десяти-
летиями копившиеся проблемы порождают массовое
недовольство, которое прорывается наружу, принимая
формы уродливые и социально опасные. Кому-то эти
выбросы эмоций кажутся не заслуживающими сколь-
ко-нибудь серьезного внимания, кто-то готов узреть в
них прямое следствие губительной гласности. Но не
гласность виной тому, что в нашей стране, как с удив-
лением увидели многие, свил гнездо «обыкновенный
168
фашизм», и не только свил, но нашел понимание и
сочувствие у людей, еще вчера казавшихся просве-
щенными, наделенными творческой искрой. Теряющий
монополию на истину аппарат не без злорадства ком-
ментирует их погромные теории как плюрализм в
действии. Отчасти это так. Но в странах с давними
демократическими традициями, где сосуществуют
самые разные мнения, точки зрения, доктрины, имеются
мощные регуляторы, и закон является лишь одним из
них. Не менее действенным «корректором» выступает
общественное мнение, когда боязнь осуждения не
уголовного, но морального удерживает многих от ис-
куса связать себя с той или иной экстремистской тео-
рией.
Судно Себастьяна Бранта на всех парусах неслось
в Нарранию, страну Глупости. Пароход «Вера» у
Портер двигался в отнюдь не придуманные края то-
тальной ненависти и геноцида. Где бросит якорь наш
корабль, зависит от самих пассажиров.
Корабль плывет.
ВЫБОР СЕБЯ
Артур Миллер и Уильям Стайрон
Уильям Голдинг и Кэтрин Энн Портер сосредото-
чили внимание на том, как возникает и укореняется
в душах злое, темное начало, превращающее вполне
мирных, нормальных и законопослушных людей в дика-
рей. Из многочисленных произведений о героях и жерт-
вах войны против человека и человеческого, развязан-
ной дикарями XX века под знаменем национал-социа-
лизма, остановимся на двух — короткой пьесе амери-
канца Артура Миллера «Это случилось в Виши» (1965)
и объемном романе его соотечественника Уильяма Стай-
рона «Выбор Софи» (1979).
Время действия пьесы Миллера — 1942 год. Место
действия — Франция, Виши, камера предварительного
заключения.
Персонажи — люди самых разных профессий, вне-
запно схваченные на улице и брошенные в камеру по-
лицейского участка. Вскоре выясняется, что задержаны
469
они по подозрению в принадлежности к «неарийской
расе». Каждый должен пройти «собеседование» с нем-
цами, майором вермахта и штатским профессором
антропологии. Последний на основе «научных методов»
и определяет, кто из подозреваемых задержан ошибочно
и может идти на все четыре стороны, а кто и впрямь
заслуживает «изоляции», а по слухам — отправки в ла-
геря смерти.
Все под подозрением. Каждый потенциально вино-
ват. Без вины. Камера предварительного заключения
обретает у Миллера символический смысл.
Кого признают «виновным окончательно», зависит от
игры случайностей, на которых зиждется наука про-
фессора Гофмана. Это станет очевидно после того, как
весьма смахивающий на еврея коммерсант Маршан по-
лучит пропуск и обретет желанную свободу.
Может, он не еврей?
А может, еврей, но сумел доказать свою невинов-
ность?
Или ухитрился откупиться?
Никто не хочет терять свободу, а может, и жизнь.
Никто не знает, как доказать свою невиновность,
когда критерии виновности не подлежат обжалованию со
стороны «виноватых».
Тот самый «толстячок», о котором писал Оруэлл, не-
истовствует в душе очень многих персонажей Миллера.
Доказав самому себе как дважды два, что он лучше
всех, бедняга терзается мыслью, что его доводы не
слышны никому, кроме него самого. Инстинкт само-
сохранения накаляет обстановку в камере, заставляет
художника Лебо пробормотать князю фон Бергу: «По
правде сказать, ваш нос длиннее моего», а рассержен-
ного эгоизмом сокамерников электрика Байяра крик-
нуть ему: «Ты хоть раз в жизни думал о ком-то,
кроме самого себя? Мало ли что ты художник! Ваш брат
только всех разлагает!»
Актер Монсо попытается обхитрить тюремщиков,
призывая товарищей по несчастью, а в первую очередь
самого себя, выглядеть чуточку самоувереннее; не чув-
ствовать себя жертвой. «Надо создать для них образ че-
ловека, который прав, а не такого, кто в чем-то про-
винился и внушает подозрения. Они сразу чуют раз-
ницу».
Постепенно вырисовываются два идеологических
170
полюса. На одном «гегемон-пролетарий» Байяр, воору-
женный Передовой Теорией. На другом аполитичный
аристократ австриец князь фон Берг.
Байяр твердо знает истину в последней инстанции.
«Монополии захватили власть в Германии,— объясняет
он идеологически неразвитым сокамерникам.— Они хо-
тят поработить весь мир. Потому-то мы здесь». Ему
смешны наивные разглагольствования фон Берга о
том, что фашизм, кроме всего прочего, «еще и вели-
чайший взрыв хамства». Поклонник изящных искусств,
фон Берг видит корень многих нынешних бед в забве-
нии эстетических идеалов, в торжестве дурного вкуса:
«Как могут люди, уважающие искусство, преследовать
евреев? Превращать Европу в тюрьму? Навязывать
всему человечеству эту расу жандармов и насильников?
Разве люди, которые любят прекрасное, на это спо-
собны?»
Но, в отличие от Байяра, фон Берг не глух к доводам
оппонентов. Он не склонен отстаивать свою точку зре-
ния только потому, что это его «собственность». Когда
актер Монсо скажет, что немецкая публика прекрасна,
ибо никто в мире не умеет так чувствовать нюансы
спектакля, так понимать музыку, фон Берг, страдая и
мучаясь, признает, что любовь к искусству, увы, не слу-
жит защитой от коричневой чумы. Точно так же при-
надлежность к самому прогрессивному в мире классу —
пролетариату — не спасает от фашистской заразы. Бай-
яр будет повторять, что «рабочий класс уничтожит фа-
шизм, потому что фашизм ему враждебен», но ничего
не сможет возразить на очередную антинаучную репли-
ку фон Берга, что «трудящиеся боготворят Гитлера».
По Байяру, этого просто не может быть, «ведь Гит-
лер — порождение капитализма». На это фон Бергу
остается лишь повторить: «Но они его боготворят! Мой
повар, мой садовник, мои лесничие, шофер, егерь —
все они фашисты!»
Действительность оказывается сложнее и противо-
речивее схем, вычерченных кабинетными мудрецами, и
чем больше в человеке истинно человеческого, тем с
большим скептицизмом должен относиться он к Абсо-
лютной Истине, высказанной несравненным имяреком
или его референтами. Впрочем, для Байяра повторение
лозунгов-клише обладает целительной силой, ибо вера
в чужую премудрость помогает ему хотя бы на время за-
171
глушить тот жуткий страх перед неумолимостью судь-
бы, что поднимается из глубин естества.
Разумеется, в соответствующих обстоятельствах фон
Берга за вредные речи и сомнительное происхождение
следовало бы отправить «куда надо». Так, собственно,
и случалось, когда Байяры брали верх и начинали
силком тащить массы к Добру. Тогда диспуты велись
в уюте и комфорте ревтрибунала, где чеканная непре-
клонность формулировок обвинителя так выгодно смот-
рится на фоне смутных догадок и жалкого лепета под-
судимого. Но в том-то и заключается великая ирония
обстоятельств, что порой антагонисты, потенциальные
жертва и палач, оба оказываются помещены неумоли-
мым роком «куда надо» со всеми вытекающими по-
следствиями.
Красноречивый и бескомпромиссный на трибуне, в
камере Байяр окажется бессловесным перед своими тю-
ремщиками — по крайней мере, кажется отнюдь не слу-
чайным, что Миллер не дает нам возможность увидеть
его в прямой конфронтации с ними. Напустив на себя
«бравый до нелепости вид», он войдет в страшную
дверь, по сути дела, с той же обреченностью, что и не-
развитый политически цыган-лудильщик, на которого
носитель передового мировоззрения смотрел свысока. Не
исключено, что Миллер так напоминает о немоте догм,
когда за ними не стоит сила оружия и неистовствую-
щие массы. Как личности, как «частному лицу» Байяру
нечего сказать. Обменяв ранее свое «я» на коллектив-
ное «мы», собственное мнение на чужую премудрость,
он лишь пустая оболочка, из которой вынуто содер-
жимое.
Когда со сцены сходит Догма в образе Байяра, слово
возьмет Здравый Смысл в лице Монсо. Отметая пред-
положение врача Ледюка об ожидающих евреев печах и
лагерях смерти, он будет убеждать сам себя: «На коп
черт им мертвые евреи! Это же бессмыслица. Как хо-
тите, у немцев есть своя логика. То, о чем вы говорите^
не может быть им выгодно».
Но здравый смысл, годящийся в буржуазной повсед-
невности, где слишком многое подчинено расчету, прин
былям и пр., не срабатывает в условиях фашизма.
Фашизм романтичен, он отрицает обыденность. Это;
праздник разрушения, чем и привлекает массы. Путь
созидания долог и труден, требует упорства, умения, та-
172
ланта, выдержки. Дорога уничтожения легка и прият-
на. Разрушая, не совершишь ошибки, не спасуешь
перед сопротивляющимся материалом. В созидании вели-
ко различие между шедевром и поделкой ремесленника.
В разрушении все осколки — шедевры. Романтическая
удаль национал- и интернационал-социализма получает
осмысление в монологе фон Берга: «Такова примета
нашего века: чем призрачней твое существование, тем
больше ты должен впечатлять. Я так и вижу, как они
обсуждают это друг с другом, как они себя хвалят за
прямодушие. В конце концов, говорят они, что такое
самообуздание, как не лицемерие? Если ты презираешь
евреев, самое честное — их сжечь. А если это стоит де-
нег, требует железнодорожных составов, охраны — тем
лучше, это только подчеркивает твою верность долгу,
твое бескорыстие, искренность. Они еще скажут, что
только еврей станет высчитывать, во что это обойдется.
У них поэтическая натура, они стремятся создать
новую аристократию, аристократию тоталитарного хам-
ства. Я верю в эти печи, огонь докажет раз и навсегда,
что эти люди — не фикция, что они были людьми идей-
ными. Нельзя подходить к ним со старомодными мер-
ками выгоды и убытков. Их цель — высокая гармония,
а люди — только звуки, которые они извлекают из ин-
струментов. И мне кажется, все равно, выиграют они
эту войну или проиграют: они открыли новые горизон-
ты. То, что раньше считали человеком, исчезнет с лица
земли».
Тема искусства — театра в частности — находится в
сложных отношениях притяжения/отталкивания с то-
талитаризмом. Последний высоко ценит эту сферу дея-
тельности человека: и поэзия, и театр помогают «опро-
вергать» законы повседневности с их здравым смыслом
и создавать тот романтический контекст, который мо-
жет быть с пользой применен деспотией. Эрик Хоффер
видел в театральности, лицедействе мощное оружие
идеологической перековки масс. Маленький человек
стремится думать только о себе и беззаветно отстаивать
свой крошечный мирок. Но если его вовлечь в массовое
театрализованное политдейство, предложить роль Героя,
он будет сражаться и отдавать жизнь по приказу.
«Необходимость лицедейства в мрачном деле убивания
и умирания подчеркивается феноменом армии. Военная
форма, флаги, парады, марши, детально разработан-
173
ный этикет и ритуал армейской жизни отделяют воина
от его телесного физиологического начала и гримируют
печальную реальность насилия и смерти... Слава тоже
предмет театрального реквизита. Она не привлекала бы
так маленького человека, если бы он не знал, что на него
взирает огромная аудитория и что его подвиги оста-
нутся в памяти современников и потомков» . Человек,
превратившийся в актера, который играет великую роль
перед вечностью, способен на то, чего никогда не совер-
шил бы, оставаясь самим собой, увязшим в повседнев-
ности. Правы идеологи-палачи из «Слепящей тьмы»
Кестлера: «Народу нужен лубок». И еще конечно же
лубку нужен народ. Театру необходимы исполнители, а
также энтузиасты-зрители.
Артур Миллер продолжает идею Оруэлла: тотали-
таризм не умрет с гибелью гитлеризма. Его анти-
рассудочный, антиобыденный, антисозидательный па-
фос вдыхает жизнь в разнообразные по форме доктрины
и теории, но в основе каждой — обещание светлой,
счастливой жизни в том самом будущем, что по мере
приближения к нему начинает отдаляться. В настоящем
же для масс — лубок в свободное время, рабский труд
в будни, а для элиты поэзия власти и гармония унич-
тожения.
Последняя попытка Здравого Смысла не поддаться
Абсурду связана с промелькнувшей у оставшихся
«временно задержанных» мыслью организовать побег.
Идут споры о его целесообразности, затем о том, как
его осуществить. Но все дискуссии заканчиваются, когда
появляется майор и легко доказывает бессмысленность
подобных прожектов: участок отлично охраняется. Май-
ор ненадолго отлучался и за это время где-то успел силь-
но напиться: зашалили нервы, боевому офицеру оказа-
лось невмоготу воевать с безоружными.
С появлением пьяного майора слово берет Совесть —
и пока терпит поражение.
Войну, насилие, геноцид принято связывать с обра-
зом военных людей, стреляющих в людей. Но XX век
совершенно отчетливо показал, что люди с оружием
сами по себе представляют разновидность оружия в
руках тех, кто властвует. XX век познакомил челове-
чество с любопытным типом тоталитариста в штатском.
1 Hoffer Е. A True Believer, p. 76.
174
Муссолини, Хомейни, Пол Пот, Чаушеску и Мао
Цзэдун не являлись кадровыми военными. Сталин «по-
лучил» генералиссимуса, не послужив и ефрейтором,
да и армейский послужной список Гитлера не так уж
впечатляет. Разумеется, войну ведут солдаты и офице-
ры, но руководят ими те, кто порой в жизни не держал
в руках винтовки. Впрочем, обыкновенная авторучка
или карандаш, выводящие роковой приговор, обладают
куда более разрушительной силой, чем гаубица.
У Миллера попытавшегося было «уклониться» май-
ора быстро поставит на место «шпак», профессор антро-
пологии. Он неплохо разбирается в психологии среднего
гражданина, не собирающегося в великомученики. Не
майор, но профессор, убежденный, что «армия не впра-
ве уклоняться от операций по обеспечению чистоты
расы», представляет в пьесе «военную идеологию». Май-
ор, конечно, храбро воевал, но там, на поле боя, под
артобстрелом, ему было куда легче. Угроза профессора
позвонить генералу действует моментально. Майору
остается, по давнему обычаю, напиться, чтобы утопить в
алкоголе угрызения совести, а потом обругать профессо-
ра «штатским дерьмом», выстрелить в потолок из пис-
толета — выстрел в пустоту, подтверждающий бессмыс-
ленность его бунта,— и вступить в спор с Ледюком,
дабы доказать ему (а главное — себе), что человек
вовсе не обязан жертвовать собой ради других, ибо они,
может быть, еще хуже, чем он. А потом, выпустив
пар, приступить к исполнению своих обязаннос-
тей.
Выкрикивая: «Личности больше не существует...
Личности больше не будет никогда!» — пьяный майор
на свой лад повторяет слова оруэлловского О'Брайена,
назвавшего Уинстона Смита «последним человеком на
земле». Ангсоц Оруэлла и нацизм в пьесе Миллера
заботливо выращивают новую человеческую породу —
человекообразной безличности, всегда готовой прис-
пособиться к обстоятельствам, не постояв при этом за
ценой, которой приобретается мир со Злом.
В жестоком поединке с обстоятельствами, которые
явно сильнее отдельно взятого человека, не теряют себя
в пьесе Миллера только двое. Это еврейский мальчик,
который в страшные для него минуты думает не о себе,
как большинство взрослых вокруг него, но о матери, что
осталась одна. Все его помыслы направлены не на лич-
175
ное спасение, а на то, чтобы вернуть ей кольцо, которое
он нес в ломбард, когда угодил в облаву.
Второй победитель — князь фон Берг. В ситуации,
когда вряд ли кто осудил бы его за заботу о себе
(ведь он это делает не за счет других!), он не может
воспользоваться привилегией спокойно выйти на сво-
боду. Он отдаст свой пропуск другому — Ледюку.
Фон Берг совершает свой маленький подвиг не из
верности благородным абстракциям, но во искупление
вины. В последнем диалоге с Ледюком (в камере
больше никого не осталось, все вошли в страшную дверь,
и, кроме коммерсанта, обратно не вышел ни один),
обнаруживается, что он совершенно выбросил из головы
«небольшой эпизод» своей семьи: по инициативе его
двоюродного брата барона Кесслера, ярого антисемита,
из Венского медицинского института в свое время из-
гнали всех врачей-евреев, о чем и напомнит князю
Ледюк, ставший жертвой инициативы барона. Такая за-
бывчивость воспринимается Ледюком как естественная,
коренящаяся в самой человеческой натуре. Да, фон
Берг брезгливо отворачивается от фашистов вообще
(вульгарные хамы!), но брат-фашист, знающий толк в
тонких материях, ему дорог и близок, а то, что он вроде
бы, по слухам, что-то сделал с евреями,— это, конечно
же, нехорошо, но сущая мелочь...
Для фон Берга, напротив, этот провал памяти — по-
трясение, катастрофа. Если после этого с легкой душой
вернуться в повседневность, то грош цена его Филиппи-
нам против «аристократии хамства» и теряет всякий
смысл его «бытовой антифашизм», связанный, как ока-
зывается, кровными братскими узами с антисемитиз-
мом. Если жить с этим новым знанием о человеке
вообще и о себе в частности, то лучше вообще замолчать
навсегда, поняв, что ты, тонкий, умный, проницатель-
ный, ничем не отличаешься от пьяного майора, и то,
что он творит зло вынужденно, по приказу, дела не ме-
няет. По тому же приказу ты молчишь. Вы — одного
поля ягоды. По одному счету — жертвы. По другому —
соучастники злодейства.
Единственный выход из тупика — через поступок.
Возможно, с точки зрения Здравого Смысла поступок
фон Берга наивен и бесполезен. Но фон Бергу не до
расчетов. Он отдаст свой пропуск Ледюку, убедив себя,
что тому он нужнее. Где-то на заброшенной мельнице
176
Ледюка ждут жена и дети, и без него им не уцелеть.
В финале разъяренный профессор будет требовать,
чтобы полиция немедленно нашла и вернула беглеца.
Потом появится майор и уставится на князя. Немая
сцена с участием двух «немецкоязычных граждан», из
которых один сломлен обстоятельствами, а другой бро-
сил им вызов. Тем временем камера наполняется новыми
задержанными. Все начинается сначала.
Пьеса Миллера была оперативно переведена на рус-
ский язык и опубликована в «Иностранной литературе».
Однако официальные отклики оказались сдержанными.
Антифашистский пафос пьесы, разумеется, оберегал ее
от прямого разноса, но государственно мыслящая кри-
тика почуяла опасность. Высказывались упреки насчет
абстрактного гуманизма, недооценки Миллером роли Со-
противления и рабочего класса. Но то были лишь кос-
венные признаки неудовольствия Главным, каковое за-
ключалось в том, что пьеса говорила о внутренней
свободе. А это в условиях СССР, миновавшего оттепель
и возвращавшегося к новой зиме, выглядело подрывной
пропагандой. Шутка сказать — в истинных героях, ари-
стократах духа оказались те, кто по своим классовым и
национальным параметрам не соответствовали совре-
менным коммунистическим представлениям о положи-
тельном герое,— австрийский князь и еврейский маль-
чик. Ну а дальше — больше. Поскольку в стране побе-
дившего социализма вообще не жаловали произведения
о фашизме, хоть на йоту отступавшие от утвержден-
ного однажды Канона, то в пьесе Миллера кое-ко-
му померещилось осуждение социализма под маской
критики гитлеризма. Короче, идеологическая дивер-
сия.
Впрочем, вскоре после публикации пьесы ее против-
ники довольно потирали руки. Когда Пражская весна
в августе 1968 года была раздавлена «братскими танка-
ми», Миллер не стал аплодировать очередной победе
социдеалов. Он осудил вторжение в Чехословакию, на-
писал об этом пьесу и почти на два десятилетия стал
персоной нон грата в самой свободной стране мира. Его
пьесы, до того шедшие по всему Советскому Союзу, были
сняты со сцены.
В 1989 году Центральное телевидение показало ин-
сценировку, сделанную Михаилом Козаковым, отказав-
шимся от внешних эффектов, но сохранившим глубину
177
нравственной проблематики и психологическое напря-
жение. Казалось, пьеса написана только вчера — на-
столько созвучными нашей реальности оказались подня-
тые американским драматургом проблемы. В период,
когда в нашем доме стал заявлять о себе фашизм, умест-
но задуматься над словами фон Берга, прекрасно
сыгранного В. Сафоновым: «Я много раз спрашивал
своих друзей, почему, если вы любите свою родину, надо
непременно ненавидеть другие страны? Разве для того,
чтобы быть хорошим немцем, надо презирать все не
немецкое?»
То, о чем рассказал Миллер, случилось в Виши —
и происходит в самых разных точках земного шара,
когда разгорается очередной конфликт между государ-
ствами или между отдельными группировками внутри
того, что некогда казалось незыблемым монолитом. Идет
конфликт и внутри человека, война между инстинктив-
ным стремлением задобрить внешнее зло, как-то приспо-
собиться к бесчеловечным условиям,— и голосом чело-
веческого достоинства, твердо усвоившего, что без чести
нет жизни, не желающего пользоваться свободой по
особым пропускам.
Человеку приходится делать выбор. Ежедневно и
ежечасно. Еврейский мальчик и австрийский князь вы-
брали не житейское благополучие, не абстрактные прин-
ципы. Инстинкт человечности, не погибший в них,
помог им оставаться внутренне свободными и в условиях
несвободы. Ледюку, оказавшемуся на воле с чужим про-
пуском, еще предстоит такой выбор. Он верно мыслит,
хорошо говорит, но насколько способен правильно по-
ступать, покажет жизнь. Он оказался в положении чело-
вечества, во имя которого принял гибель на кресте
Иисус Христос. Ему предоставлена возможность оста-
ваться достойным искупительной жертвы. Как распоря-
дится он ею — дело его чести и совести.
Проблеме противостояния злу нацизма посвящен и
роман американского писателя Уильяма Стайрона «Вы-
бор Софи». Роман имел немалый успех — как
среди критиков, так и у массового читателя. Долгое
время он не сходил с первой строки в списке бестселле-
ров и после длительного карантина был пропущен и к
советскому читателю.
Спору нет, роман, безусловно, многопланов. Различ-
ные повествовательные образования сплетаются в весь-
178
la затейливый художественный узор. Это автобиогра-
фия начинающего писателя по прозвищу Стинго, от
[ица которого и строится повествование. Это история
1олодой польки Зофьи (Софи) Завистовской, про-
ведшей через ад Освенцима. Это растянувшийся на
Гного страниц «жестокий романс» — описание роковой
[юбви Софи и Натана Ландау, соседей Стинго по панси-
ону в Бруклине. Это роман о фашизме. Это философ-
ами трактат о мировом зле.
I Стинго вовсю трудится над своим первым романом
|з жизни родного Юга, в котором знатоки творчества
|тайрона легко опознают его собственный роман-
|ебют «Затаись во мраке», заставивший критику обра-
тить внимание на многообещающего новичка. В мрач-
|ый готический мир гибельных страстей, что стремится
Ьссоздать Стинго, врывается иной материал. История
|изни Софи, которую та, фрагмент за фрагментом,
■ассказывает симпатичному соседу в минуты страха и
|гчаяния, вызванные очередной размолвкой с неуживчи-
вом Натаном, заставляет Стинго всерьез задуматься о
Ьм, что такое фашизм.
I Одним из наиболее интересных его наблюдений ста-
|овится вывод о «мирном сосуществовании» двух жиз-
ненных пластов-антагонистов. Так, в тот день, когда в
ксвенциме была произведена «ликвидация» очередной
■артии евреев, новобранец Стинго писал веселое письмо
|тцу из лагеря военной подготовки в Северной Кароли-
|е. Геноцид и «почти комфорт» выступают в виде
рраллелей, которые если и пересекаются, то в какой-то
■уманной бесконечности. Но иногда миры-антиподы
■далены друг от друга отнюдь не так сильно, как
рверная Каролина и Освенцим. Порой они существуют
I пределах одной страны, одного города. Мы близко зна-
|омы с этим чудом и время от времени оказываемся в
|илах задать себе вопрос — а что делали порядочные,
1рогрессивные, все понимающие советские интеллиген-
Р^ когда высылали Солженицына, когда «избавляли от
|°лодовки» Сахарова, и не уподобились ли они жителям
■ессмертного города Глупова, ободрявшим своего един-
ственного правдолюбца, когда того за «возмутительные
|ечи» везут в места не столь отдаленные: «Небось,
Исеич, небось!.. С правдой тебе везде будет жить хо-
puio».
I Судьба Софи убеждает Стинго, что он, как и боль-
179
шинство его соотечественников, мало что понимал в воя
не, разыгрывавшейся вдалеке от американских берего!
Личный вклад Стинго в победу союзников — прибытш
на театр военных действий, когда война, по сути дел]
окончена,— обретает в контексте романа иронически
символическое звучание. |
...Польша, 30-е годы. Зофья — дочь профессора KpJ
ковского университета Беганьского. Там же преподал
математику ее муж Казимир Завистовский. Где-то вд|
леке поднимает голову нацизм, томятся в лагерях и п|
гибают люди, но стены уютной профессорской квартир»
наглухо отгораживают Зофью от печальных факто!
Однажды она по просьбе отца перепечатывает его траи
тат «Еврейская проблема в Польше: может ли рЛ
шить ее национал-социализм?». Ученый правовед, ш
сути дела, призывает к ликвидации польских еврв
ев. Зофью охватывают ужас и отвращение, но потря
сение быстро проходит, заслоняется семейными забо|
тами. J
1939 год. Польша оккупирована национал-социали«
тами. Профессор Беганьский надеется быть полезны!
рейху как эксперт по национальному вопросу, но истин
но арийскими специалистами его участь предрешен!
Как представитель неполноценной славянской расы, J
не нужен новому порядку: вместе с зятем, мужем Зофь!
он попадет в концлагерь, где и погибнет. I
Перед Зофьей встает проблема: принять участие!
движении Сопротивления или остаться в сторош
Зофья выбирает последнее: у нее дети, она не имев
права напрасно рисковать. 1
Стайрон не преминет подчеркнуть, что надежды щ
«нормальное существование» в явно ненормальном миЯ
иллюзорны. Жизнь в условиях тотальной несвобод
всегда сопряжена с риском, и каждый существует!
условиях презумпции собственной, виновности пещ
Системой. Символично, что, отказавшись вступить в (Я
противление, Зофья окажется задержанной во вреЯ
облавы на подпольщиков, а коль скоро при ней обнаД
жится запрещенная ветчина (все мясо — собственно Л
рейха), ее отправят в тот самый концлагерь, страшаЯ
которого она не захотела принять участие в организовав
ной борьбе с оккупантами. щ
Ценой сепаратного мира со злом Зофья пытает!
сохранить своих близких — и теряет их одного за дря
180
гим. Умирает, оказавшись без поддержки, мать Зофьи,
а по прибытии в Освенцим судьба в образе пьяного
врача-эсэсовца, ведающего селекцией, предлагает ей
самой решить, кому из ее двоих детей остаться жить, а
кому отправиться в газовую камеру. Если она откажется
решать, в цечь отправятся оба...
И в лагере Зофья выберет путь приспособления.
Став ненадолго секретаршей-машинисткой самого Хёс-
са, коменданта Освенцима, она будет прилагать отчаян-
ные усилия, дабы вызволить единственного оставшегося
ребенка. Пригодится и случайно уцелевший папин трак-
тат. Она объявит себя убежденной сторонницей нацио-
нал-социализма, попавшей в лагерь случайно. Она будет
готова стать любовницей Хёсса, но все усилия пойдут
прахом. Начавшего было проявлять к ней интерес глав-
ного тюремщика переведут в Берлин, а ее — в общий
барак.
Упреки Стйнго и самого Стайрона в адрес Зофьи
достаточно аргументированны и в принципе обоснован-
ны, но исподволь у читателя возникает иной вопрос:
допустимо ли осуждать человека за то, что, оказавшись
в чудовищных обстоятельствах, он не нашел в себе сил
совершить подвиг? Кто, кроме него самого, имеет мо-
ральное право выносить приговор?
Стйнго, правда, не избавляет от критики и себя.
Оставаясь истинно американским писателем, Стайрон,
как и Сароян, Мейлер, Джонс, не теряет из виду и
«второй лик зла». Размышляя о нацизме, он обраща-
ется мыслями к феномену рабовладения. Юный Стйнго
ощущает на своих плечах бремя вины предков. Так,
сумма, позволяющая ему оставить работу в издатель-
стве и вместо того, чтобы читать чужие рукописи,
заняться собственной,— часть тех денег, что в давние
времена его прадед выручил от продажи молодого не-
вольника по имени Артист. Грустная участь Артиста,
попавшего на хлопковые плантации, становится тем
фундаментом, на котором строит свою блестящую
будущность современный Художник, тяготеющий к
мрачным проблемам действительности.
Освенцим, по Стайрону, возник из института рабства
в том его виде, как культивировалось оно великими
нациями Запада. Концлагерь, где личность абсолютно
бесправна, а к живым людям относятся как к инстру-
ментам, в случае поломки или износа подлежащим
181
замене, для Стайрона — и символ «дивного нового
мира», и эпитафия Индивидуализму.
Так ли это на самом деле?
Разве что в общих чертах.
Вряд ли нужно доказывать, что у американского
рабовладения иная основа и иные законы, нежели, до-
пустим, У русского крепостного права. Да и при всей
близости Освенцима ГУЛАГу различия остаются
слишком значительными, чтобы ими было можно пре-
небречь. Можно, конечно, счесть и то, и другое эмана-
цией Мирового Зла, но многое ли будет тем самым
прояснено? Как схема смотрится неплохо, но с точки
зрения живой жизни выглядит слишком упрощенно.
Впрочем, нацизм и рассматривается Стайроном не
только в контексте Мирового Зла, но и в теснейшей
связи с Мировым Эросом.
«Ад американский» — роковая любовь Натана и Со-
фи — получился у него убедительней и рельефней ада
освенцимского. Драма превращается в философическую
мелодраму, подтверждением чему — развитие сюжета,
когда Натан, давший вторую жизнь еле волочившей но-
ги иммигрантке Зофье, в то же время становится
виновником гибели своей возлюбленной сногсшибатель-
ной красавицы Софи.
Трагическая действительность середины XX века
словно недостаточно драматична и мало живописна —
в поисках истинно впечатляющего писатель соединяет
Мировое Зло с Эросом и Безумием. Натан, человек
блестящих творческих потенций, в то же время страдает
острой формой шизофрении, и болезнь его прогресси-
рует. Отсюда постоянные скандалы с Софи, жуткие
сцены ревности и т. д. Натан не просто тяжело болен,
но и создает вокруг себя «опасную зону», пребывание
в которой гибельно. Последний выбор, что предлагает
судьба (или Стайрон) Софи,— уйти со Стинго или
остаться с Натаном и разделить его судьбу. Отвергая
возможность новой жизни, Софи сохраняет верность то-
му, кто однажды спас ее, и выбирает смерть вместе с
ним. Как персонажи старинной трагедии, они принима-
ют яд и умирают одновременно.
Английский эссеист Джордж Стайнер в книге «Язык
и молчание» весьма скептически высказывался о тяготе-
нии художественной литературы к теме нацизма, лаге-
рей смерти, геноцида. Он предлагал прозаикам отозвать-
182
сн на эти темы молчанием, «не примешивая к тому,
что нельзя выразить словом, литературных и социологи-
ческих банальностей». Как говаривал персонаж Досто-
евского, «благороднее будет-с!».
Стайрону хорошо известна позиция Стайнера. Он сам
упоминал о ней в романе, надеясь своим романом дока-
зать ошибочность тезиса своего почти однофамильца.
Стайнеру вообще не раз доставалось и от прозаиков, и
от литературоведов, видевших в его тезисах посягатель-
ство на свободу творчества художника, для которого,
как известно, нет и не может быть запретных тем.
Но не так уж наивен и опрометчив был Стайнер, ибо
литература вымысла, отважно берясь за трагичнейшие
темы, может ненароком превратить трагедию в ее про-
тивоположность. Разве не возможно появление скверно-
го романа на благородную тему? Разве разумная идея
не может получить маловразумительное воплощение?
И одного пересказа критиком содержания (с описью
всех возникающих аллюзий и мифологем) бывает не-
достаточно, чтобы по достоинству оценить тот или иной
плод художественной фантазии, если не применяется
критерий качества.
Дело не в личном опыте, не в том, сидел или не
сидел, воевал или не воевал писатель. Шаламов *и Сол-
женицын много лет провели в сталинских лагерях, Грос-
сман — ни дня, но каждый из них совершил не
только гражданский, но и литературный подвиг. По-
иному получилось в прозе А. Рыбакова, «благородство
интенций» которой не мешает ей двигаться в сторону
массолита. Ориентация на эротический эстетизм «сно-
сит», как мне кажется, «Выбор Софи» по направлению
к философическому китчу.
Предполагается, что есть литература массовая, есть
элитарная, и между ними дистанция огромного разме-
ра. Но «Выбор Софи» Стайрона тем и интересен,
что представляет собой достойнейший образец массово-
элитарного литературного мышления. Материал, связан-
ный с проблемой нацизма, подвергнут Стайроном об-
работке по той же старой готической технологии, что и
в его «сугубо американских» романах. Еще в 1966 году
Джон Олдридж писал о нем: «Основные ситуации и
эмоциональный настрой романов Стайрона как бы при-
ближают его к современной серьезной литературе. Сов-
ременные писатели передают свое представление о фор-
183
мах и условиях жизни в нынешнем мире в обще-
принятых выражениях — тревожный, одержимый,
алогичный, безумный и жестокий, к тому же грубый и
мелодраматичный. Все дело в том, что такой взгляд
общепринят. В нынешний исторический период этими
понятиями принято характеризовать положение вещей в
мире. Эти понятия представляются реальными и убеди-
тельными не потому, что подтверждаются современной
жизнью и повседневным опытом, а благодаря своей
связи с литературой прошлого, приучившей нас счи-
тать, что понятия эти реальны и достоверны...»1
Благодаря своей связи с литературой прошлого...
Устанавливается некий канон, штамп — причем
штамп серьезной литературы (каковая ошибочно пола-
гается нами в принципе свободной от штампов). Сооб-
разно с этим каноном и судят каждое конкретное
произведение знатоки, полагая в наивности своей, что
соответствие условностям и конвенциям есть на самом-
то деле соответствие «сущностям», «глубинной правде»
жизни. В каноне этом (во всяком случае, применитель-
но к американской «серьезной прозе») почетное место
занимает образ мира как одержимого абсурдом, про-
никнутого процессами распада/Словно артикли в ряде
европейских языков, в произведениях представителей
литературной элиты США по неизбежности присутству-
ет это болезненное, патологическое начало. В свое
время в таком подходе была дерзость художника,
осмелившегося бросить вызов общепринятому, готового
исследовать области жизни, полагавшиеся запретными.
Но откровение имеет тенденцию превращаться со време-
нем в общее место, в штамп. Экскурсы в патологию и
приграничные области постепенно утратили исследова-
тельское значение, превратившись в развлечение для
просвещенных и утонченных читателей. Стайрон весьма
связан условностями такого рода. Продолжает Джон
Олдридж: «Беда стайроновских романов кроется в том,
что хотя стиль, метафоры и болезненный душевный
склад героев — все говорит о присутствии мирового
зла, этой плоти и крови фолкнеровских романов, о не-
изреченном проклятии, готовом поглотить все и вся,—
эти компоненты существуют сами по себе, без какого-
либо соотношения £ тем, что им, по-видимому, надлежит
1 Олдридж Джон. После потерянного поколения, с. 173.
184
выражать. Изображаемая агония не оправдывается
реальной или прочувствованной агонией, а величие не
имеет под собой большой нравственной основы. В рома-
нах Стайрона эти компоненты подобны толстому слою
сахарной глазури на пироге, которого йет, потому что его
давно съели» .
Сказано жестоко, но так ли уж это неоправдан-
но?
Не столько сама реальность занимает писателя, стре-
мящегося разглядеть в ней некоторые обобщенные обра-
зы, сколько абстракции притягивают его воображение,
принимая облик живых людей и перипетий. «Рок» де-
журит в книгах Стайрона постоянно, и «Выбор Софи»
не исключение. Сексуальное, психологическое, на грани
патологического, растворяют глыбы повседневности,
создавая ту зыбкую субстанцию, из которой удобно ле-
пить готические изваяния. Задуманное единство разных
планов — польского и американского, конкретного и от-
влеченно-философского — оказывается неосуществлен-
ным. Зато интимно-эротический план получился на сла-
ву—с той долей художественной изобретательности
и эпатажа, что должна произвести неизгладимое впечат-
ление на добропорядочного читателя. Последний, впро-
чем, давно отучился краснеть и негодовать и с любопыт-
ством осваивает новые вариации на вечную, как мир,
тему. Прямо-таки впечатывается в память история о том,
как бедняга Стинго долго и безуспешно пытался изба-
виться от девственности, никак не украшающей «готи-
ческого» художника. Но, увы, в Америке конца 40-х
годов идеи свободной любви не пользовались популяр-
ностью, какую приобрели в 60-е, и наскоки Стинго на
соблазнительных американочек получали у последних
решительный отпор. Сексуальное самоутверждение
Стинго стало возможным лишь благодаря все той же
Софи. Начинающему американскому прозаику доста-
лось то, чего обстоятельства лишили всесильного
коменданта Освенцима. Страдалица и жертва тоталь-
ного насилия, героиня в то же время выступает вопло-
щенной Эротикой.
Интимные подробности переполняют роман, напи-
санный в опровержение стайнеровской теории молча-
ния. Эрос — из тех китов, на которых стоит художест-
Олдридж Джон. После потерянного поколения, с. 173.
185
венный мир Стайрона. О чем бы ни говорили, что бы ни
совершали его герои, на них пишется обстоятельная
сексуальная характеристика. Например, Ванда, подруга
Зофьи, погибшая мученической смертью,— не только
участница Сопротивления, но и лесбиянка. Зачем нужно
уведомлять об этом читателя, добавляя, что и Зофья пару
раз принимала с ней грех? Зачем подчеркивать супер-
С/вксуальность главной героини — не для того ли, чтобы
доказать, что Эрос является единственным надежным
оружием против Мирового Зла? Или подчеркнуть пи-
кантность Эроса, когда в нем присутствует доля садиз-
ма (образ красавицы, истязаемой жизнью вообще и
отдельными лицами в частности, приятно щекочет чита-
тельские эмоции)?
Стайрон, конечно, не поставщик бульварной эротики.
Он — творец высшей реальности из реальных фак-
тов. Но порой факты эти в их сыром, не облагорожен-
ном взором художника виде оказываются эстетичнее тех
готико-философско-эротических декораций, что воздвиг-
нуты вокруг них или на их основе. Готика, безуслов-
но, вещь похвальная, но не все, что готика,— высокое
искусство.
Стайрон не одинок. Он лишь один из представителей
мощной традиции западного внимания к «особой красо-
те», которая всегда была чужда русскому литератур-
ному сознанию. Размышляя о различиях между русской
и западной литературно-эстетической традицией,
Н. Берковский указывал на постоянное размывание в
русской прозе специального эстетического начала обыч-
ным течением жизни: «В нашем искусстве соотношение
и размещение общих сил жизни и ее поэтических сил
соответствует тому, как они даны в самой действитель-
ности, и как в действительности поэзия не составляет
преднамеренной цели, так и поэтичность нашей поэзии
в том, что возникает она ненароком»1.
«Ненароком» — это как раз и не устраивает Стай-
рона. Недосказанность, непроясненность, «свободные
пространства» для читательской мысли и воображе-
ния — все это чуждо его установкам. Он ищет особую
Красоту и находит ее в стихии Войны и насилия.
Возможно, американцам, не знавшим всего того,
1 Берковский Н. Я. О мировом значении русской литерату-
ры. Л., 1975, с. 102.
186
что довелось испытать жителям Европы — прежде всего
Восточной Европы,— «Выбор Софи» и впрямь представ-
ляется подлинным художественным свершением. Одна-
ко представители Старого света с их богатым опытом
по части войн и режимов, опирающихся на военную
идеологию, с немалой придирчивостью относятся к ли-
тературно-художественным «аналогам» военно-тотали-
тарного начала. Так или иначе, «выбор» Уильяма Стай-
рона — поиски красоты там, где пересекаются линии
Эроса, Рока и Насилия,—при разнообразии внешних
эффектов, при изощренности «приёмов» и богатстве
«метафор», лишний раз подтверждает, для меня по
крайней мере, справедливость тезиса Джорджа Стайне-
ра о том, что порой молчание художника — золото.
МОДЕРНИЗМ ИДЕТ НА ВОЙНУ
Англоязычная литература модернизма в общем-то
мало уделяла внимания войне. Модернистское миро-
ощущение издавна обладало Способностью увидеть в са-
мой, казалось бы, мирной повседневности кошмары хао-
са и распада. Война словно выступала для модернизма
назойливым конкурентом, мешавшим красиво и эсте-
тично взрывать будничность и любоваться результатами
своей акции. И все же тема войны не была отдана
представителями англоязычного авангарда на откуп
литераторам «ортодоксальной» складки. Среди тех, кто
разрушительной силе войны решил противопоставить
разрушительную же мощь модернистской эстетики, в
первую очередь следует назвать американцев Джона
Хоукса и Томаса Пинчона, творчество которых рассмат-
ривается обычно в русле традиции так называемого
«черного юмора».
О смысле и содержании понятия «черный юмор»
много спорили американские критики и в 60-х, и в 70-х
годах — явление это и впрямь существовало, хотя грани-
цы его, как обычно бывает в подобных случаях, не
отличались четкостью и проводились экспертами по соб-
ственному произволу, то обнимая весьма широкий круг
авторов, то оставляя в сфере внимания лишь избран-
ных. Так, Р. Скоулс в книге «Притчетворцы» возводил
эту традицию тотальной, интеллектуальной иронии к
187
Лукиану, Аристофану и через Вольтера и Свифта про-
черчивал линию непосредственно к своим соотечествен-
никам и современникам — Дж. Барту, Дж. Хоуксу,
Дж. П. Донливи, Т. Пинчону. М. Шульц, автор иссле-
дования «Черный юмор: проза 60-х», отмечал, что тер-
мином этим описывается «школа, объединяющая пи-
сателей, которых роднят мировосприятие и эстетика,
подчиненные задаче осмысления и изображения изнут-
ри, без заранее определенной тематики и принципов
воплощения, атомно-технологического века в его харак-
терных особенностях»1. «Черный юмор» и в самом деле
тесно связан с «атомно-технологическим веком», являет
собой своеобразный отклик на проблемы цивилизации,
прошедшей через две мировые войны и усиленно
создающей еще более мощные виды оружия, чтобы рано
или поздно пустить его в ход, несмотря на энергичные
уверения в обратном. «Черный юмор» процветает в
культуре, где старые ценности изжили себя, а замены им
не предвидится. «Жизнь трагична для тех, кто привык
жить эмоциями,— писал английский романист X. Уол-
пол.— Жизнь комична для тех, кто живет разумом».
«Черный юмор» учит тех, кто к нему прислушивается,
не отчаиваться при виде очередных несуразностей ци-
вилизации, а воспринимать это как шутку. Как сквер-
ный анекдот, как пародию или фарс.
Свою писательскую задачу один из мэтров черной
юмористики Джон Хоукс видел в «способности видеть
мир в холодном, остраненном свете, в непоколебимой
решимости дойти до самого дна той бездны порочного
и обрекающего нашу жизнь на неудачу, что заключено
в нас самих и в окружающем нас мире, в умении писать
об этом в духе не знающего пределов спасительного ко-
мизма»2. Хоукс начал первым. В романе «Каннибал»
(1949) возникает сюрреалистический образ послевоен-
ной Германии, где вместо живой природы — безжиз-
ненные лунные ландшафты, а вместо людей уродливые
марионетки. Повествование лишено привычных логи-
ческих связей и последовательности, эпизоды сменяют
друг друга как фрагменты дурного сна, Хоукс объявил
1 Schulz М. Black Humor Fiction of the Sixties. N. Y., 1973,
p.5.
2 Цит. no: Scholes R. The Fabulators.N. Y., 1967, p. 59.
188
бой таким китам традиционного литературного изложе-
ния, как фабула, композиция, характеры. Для него это
условности, а точнее сказать, инструменты, которые
сильно притупились и не годятся для художника, пы-
тающегося создать портрет реальности в ее основных
чертах. Отсутствие традиционных причинно-следствен-
ных связей в «Каннибале» — это не столько способ
«повысить творческую активность читателей», «при-
влечь их к процессу созидания повествования», как
писали некоторые критики, сколько напоминание, что
окружающая действительность давно уже не подчиня-
ется законам логики. Причинно-следственные связи
при всей.их «доступности» и «понятности» обычному
читателю, обычному гражданину современного общест-
ва, убежден Хоукс, не отражают мир как он есть, но
лишь затемняют его, создают преграду на пути к его
познанию.
Линейному, поступательному движению сюжета в
традиционной прозе Хоукс противопоставляет сложную
кривую. Из Германии 1945 года действие переносится в
Германию 1914-го, а затем — вновь в 1945 год, потом
устремляется вперед, к картинам будущего, где у власти
снова оказываются маньяки нацистского толка, и опять
возвращается к 1914 году. Прошли десятилетия, но
ровным счетом ничего не изменилось, уроки истории
не пошли впрок, из «сумасшедшего дома нацистской
идеологии» нация ненадолго оказалась выпущенной на
свободу — среди руин, калек, уродов — и затем загоня-
ется обратно в сумасшедший дом, где правит бал деспо-
тия.
Искусство, как известно, с давних пор любило изоб-
ражать войну, пленяясь богатыми художественными по-
тенциями материала. Но изображались войны как бы
«в натуральную величину», где были кровопролитные
сражения, герои, где вдовы оплакивали убитых, а лику-
ющий народ осыпал цветами освободителей. Разумеется,
достоверность изображения корректировалась законами
и правилами художественного языка соответствующей
эпохи, но в целом было налицо стремление подражать
жизни, копировать ее. Хоукс представляет направле-
ние, резко отрицательно относящееся к искусству
мимесиса, отвергая принцип изображения жизни в фор-
мах самой жизни как капитулирующий перед види-
мостями. Раз уж подражать — то сущностям, прячу-
189
щимся за «фактурой». В присущей ему алогичной то!
нальности Хоукс рассказывает о войне без войны, выно-j
ся за скобки наступления и отступления, планы штаб-;
ных стратегов и их реализацию на практике. Это ем>|
неинтересно — в конце концов столетиями искусство]
только этим и занималось. Он хочет увидеть внутрен^
ний лик войны, ее «душу», прячущуюся за внешними
аксессуарами. К таковым он относит и социальные
мотивировки, ибо, по Хоуксу, главная опасность чело!
вечеству содержится в нем самом, в тех разрушитель]
ных импульсах, что до поры до времени дремлют я
темных глубинах его натуры, а потом вдруг восстают во
всем своем кошмаре. В подчеркнуло сюрреалистической
манере Хоукс развивает тему, которая станет сюжетной
основой «Повелителя мух» Голдинга. «Социальность» в
«Каннибале» не то чтобы отсутствует совсем. Она пред-1
стает в откровенно фарсовом образе американского
сержанта, разъезжающего на мотоцикле с рюкзаком за
спиной, в котором «важнейшие» военные документы]
Сержант «курирует» две трети территории рейха, ш
кучка заговорщиков, возглавляемая нацистом Цицен-j
дорфом, задумала убить этого «типичного представите-]
ля» американской механизированной цивилизации]
Многочисленные акты насилия, жестокости, разно-]
образные издевательства и надругательства описывают!
ся Хоуксом с обстоятельной неторопливостью естество!
испытателя. В совокупности своей эти кошмары уже н<|
пугают, ибо из мира Хоукса удалено все, что относится
к «живой жизни». Причины и следствия тоже изъ!
яты описывающим. О них можно только догадывать!
ся. Создавая эти свои «натюрморты», Хоукс показывает]
как легко люди привыкают к противоестественным уело!
виям, как быстро выветриваются все те добрые чувств!
и гуманные импульсы, что, по идее, должна внедрять я
человека цивилизация. Символом прогрессирующего
расчеловечения человечества становится проходящая
через все повествование тема погони персонажа, назван!
ного Герцогом, за мальчиком, которого он в конц!
концов настигает в полуразрушенном кинотеатре, где я
пустом зале калека киномеханик крутит неизвестно для
кого и зачем фильмы. Зрелище умерщвления Герцогом
своей жертвы и последовавшей затем каннибальской
трапезы производит странное воздействие на ее свидете|
ля. Киномеханик возвращается в свою постель в состоя-!
j
190 1
нии сексуального возбуждения — печальное свидетель-
ство победы биологического над человеческим. Что же
касается загадочно пассивного поведения жертвы, то, по
убеждению крупного знатока американского литератур-
ного авангарда Тони Теннера, «безмолвие ребенка от-
ражает не только его бессилие перед брутальностью
своего одержимого преследователя, но и в более общем
плане свидетельствует о неспособности человека сопро-
тивляться все более усиливающемуся давлению со сто-
роны окружающей действительности»1.
0 возможных прочтениях тех или иных эпизодов
переполненной символами книги Хоукса можно, разуме-
ется, спорить, что самым успешным образом и делают
специалисты по литературе модернизма (впрочем, про-
за Хоукса сама по себе — вариант литературоведения,
исследует не столько мир и человека, сколько отража-
тельные и мифотворческие возможности литературы).
Очевидно лишь то, что «Каннибал» создает картину пол-
ного и окончательного поражения человека в войне,
развязанной им против себя самого. Вторая мировая
война с ее жертвами, разрушениями, трагедиями —
лишь «частный случай» этой непрекращающейся битвы.
Собственно, человек своим абсурдным поведением,
страстью убивать себе подобных явно утрачивает право
именоваться человеком. Куда вернее ему называть себя
словом, вынесенным Хоуксом в заглавие романа. Финал
«Каннибала» — полный триумф Цицендорфа и его кли-
ки. Это наглядно выражено в заключительном эпизоде.
Девочка Селвагия стоит у окна и невинным детским
взором вглядывается туда, где в сумерках творятся чудо-
вищные кошмары, вызывая в ней чувство безумного
страха. В этот момент в комнате появляется Цицен-
дорф, который приказывает ей закрыть ставни и ло-
житься спать. «Она сделала, как ей было велено» —
гласит последняя: фраза повествования. Цицендорф лег-
ко справился с попыткой нового поколения взглянуть
на мир, как он есть, и разобраться в происходящем.
Нация снова повергнута в сон. В сон разума.
В 1961 году Хоукс опубликовал еще один «военный
натюрморт». Действие 'его романа «Мода на темно-
зеленое» разворачивается в Лондоне в самом конце вто-
рой мировой войны. Как и в «Каннибале», эта война —
1 Tanner Т. City of Words. N. Y., 1971, p. 243.
191
лишь символ общего непорядка в человеческом сообще-
стве, воплощение страсти к разрушению и саморазру-
шению, приобретающей вселенские масштабы. «Мода на
темно-зеленое» строится как пародия на детектив-
триллер. Некто Майкл Бенкс решает выкрасть знамени-
того скакуна, а затем заявить его в призовую скачку
под другим именем как явного аутсайдера и заработать
игрой в тотализатор кучу денег. В этом плане один-
единственный изъян. Для его реализации Бенкс вынуж-
ден обратиться к людям, готовым преступить закон. Как
оказывается, они вообще живут вне каких-либо законов
и правил, подчиняясь лишь собственным неистовым им-
пульсам. И сам Бенкс, и его жена Маргарет, и другие
персонажи, вовлеченные в эту операцию, становятся
объектом диких страстей членов шайки, подвергающих
своих узников самым изощренным мучениям. Комната,
где избивают, насилуют, а затем и умерщвляют Марга-
рет,— многократно уменьшенная современность, где
разыгрывается мировая бойня. Воюющие государства,
сражающиеся армии для Хоукса — вторичные наслое-
ния, социализация первичных деструктивных импуль-
сов человека.
Для Хоукса весьма условны такие понятия, как «зло-
дей» и «жертва». Майкл Бенкс, к примеру, отнюдь не
исчадье ада. Правда, он хочет обогатиться незаконным
путем, но ничего инфернально-чудовищного в этом нет.
Дело житейское... Однако опыт недолгого пребывания в
плену у вышедших из-под контроля сообщников прямо-
таки перевоспитывает его. Зрелище пыток и насилия за-
вораживает. Так, глядя на истерзанную, а затем и уби-
тую жену, он не испытывает ничего, кроме любования
плодами насилия. Воздастся ему той же мерой, что и
большинству участников аферы: он погибнет. Его раз-
давит своими копытами тот самый жеребец, что должен
был сделать его богачом. Это дает основание Т. Теннеру
философически заметить: «Лошади, что проносятся га-
лопом через повествование,— скакуны неосознанных
импульсов и желаний»1, желаний разрушать и унич-
тожать. Выпустивший на волю своего чудо-скакуна
Бенкс оказывается его последней жертвой.
По убеждению Дж. Конрада, если человек не суме-
ет распознать в себе темное начало, с тем чтобы всту-
1 Tanner Т. City of Words, p. 102.
192
пить с ним в противоборство, он может оказаться
его жертвой. Дж. Хоукс снова и снова обращает внима-
ние читателей на всеобъемлющую власть тьмы, опус-
кающейся на наш «крещеный мир» и сулящей нам но-
вые катаклизмы, по сравнению с которыми описанные
им могут показаться детской забавой. Можно традици-
онно пожурить модерниста за то, что этой негативности
он противопоставляет негативность своей писательской
позиции. Последовательно развенчивая утешительные
мифы, что создает в изобилии человек, модернист
остается один на один с руинами некогда целостной,
вселявшей силы жить и творить идеологии. Это так.
Но, с другой стороны, «модернистская оптика» Хо-
укса — еще одна попытка присмотреться к действитель-
ности, на которую прямо, без «диоптрий» смотреть
мучительно больно. Есть вещи и явления, прямой
взгляд на которые ослепляет или убивает, превращает
в камень, как взгляд мифологического чудища. Что
бы мы сказали с вами, дорогой читатель, доведись нам
читать документы, мерным канцелярским слогом опи-
сывающие, как людей разрывали на части и сжигали
живьем не в средние века, а в Баку 1990 года? Такое
трудно вместить сознанием и продолжать спокойно
жить дальше. Принято говорить, что художественная
литература отражает реальность — и чем точнее, тем
лучше эта литература. Но, как известно, чтобы быть
собой, то есть литературой, она должна эту самую
реальность и деформировать. Деформации, что предла-
гает Хоукс, как ни крамольно это может прозвучать,
в иных ситуациях меньше, чем «необходимые искаже-
ния» литературы мимесиса, которая подчас «искажает»
больше, чем «отражает».
Между картинами действительности, что предлагает
читателям западный модернист второй половины XX
столетия, распадом всех связей, близящимся апокалип-
сисом,— и образом жизни, что он ведет лично (вполне
комфортабельным, связанным с чтением лекций в уни-
верситете и писанием в тиши кабинета), существует
разрыв, не беспокоящий, похоже, ни самих художни-
ков, ни их интерпретаторов (в таких же уютных каби-
нетах анализирующих литкошмары). Исключением из
правила «демонизм на бумаге, буржуазность в жизни»
можно счесть ситуацию Томаса Пинчона. Его существо-
вание (по крайней мере в 70—80-е годы) отличается
7 С. Белов
193
той же таинственной, интригующей неопределенностью,
что и мир его прозы. Пинчон не появляется ни в каких
общественных местах, его адрес и телефон строго за-
секречены, известные факты биографии немногочислен-
ны, фотографий практически не существует. В одном из
американских журналов было высказано предположе-
ние, что Пинчон — не что иное, как псевдоним Сэлин-
джера, поскольку первое произведение этого загадочно-
го автора увидело свет именно в тот год, когда в послед-
ний раз напечатался автор знаменитой повести «Над
пропастью во ржи». В ответ на это в редакцию поступи-
ла краткая телеграмма за подписью Пинчона: «Не-
плохо придумано. Продолжайте в том же духе».
Этот автор-фантом с 1965 по 1973 год выпустил не-
сколько весьма загадочных произведений, а потом — как
и Сэлинджер — впал в молчание, продолжающееся й по
сей день. Но и того, что им создано, вполне хватает,
чтобы задать работу армии литературных интерпретато-
ров. Проза Пинчона с ее многочисленными и прихотли-
выми аллюзиями, реминисценциями, символами, слож-
ной игрой теориями и идеями — благодатный материал
для литературоведческих штудий.
«Радуга земного притяжения» (1973) — централь-
ное произведение Пинчона, да и, пожалуй, американ-
ского модернизма послевоенного периода. В этой вось-
мисотстраничной книге, где действует несколько сотен
персонажей, где в сфере авторского внимания оказыва-
ются проблемы американской истории и физико-мате-
матические теории, где философский роман сочетает-
ся с детективом, с фарсом, с научным трактатом, с пор-
ночтивом, возникают контуры западной цивилизации
XX века и ее ближайшего будущего, каким видит его
Пинчон. Широта охвата, панорамность, стремление вос-
создать в словесном пространстве аналог не какого-то
отдельного фрагмента реальности, но современности в ее
многоликой хаотичности, за которой, однако, прогляды-
вает особого рода целостность, на всех уровнях суще-
ствования — от природного (в сочетании органического
и неорганического) до социально-политического (при
всей фантасмагоричности последнего в трактовке ав-
тора), позволили многочисленным критикам, не сгова-
риваясь, назвать «Радугу земного притяжения» совре-
менным вариантом «Улисса» Дж. Джойса.
Сюжет романа являет собой столь затейливую и
194
хитроумную конструкцию, что попытка сколько-нибудь
приблизительно пересказать его «своими словами», не
впав при этом в грубое упрощение, вульгаризацию
авторского замысла, ставит задачу невероятной труд-
ности. Пинчон вполне мог бы повторить на свой лад
знаменитые слова Л. Н. Толстого, сказанные об «Анне
Карениной»: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною
руководила потребность собрания мыслей, сцепленных
между собой для выражения себя, но каждая мысль,
выраженная словами особо, теряет свой смысл, страш-
но понижается, когда берется одна, и без того сцепле-
ния, в котором находится». Буквально за каждым
образом, за каждым движением сюжета можно разгля-
деть особым способом сконденсированную реальность
(а можно увидеть лишь авторский каприз, всплеск
его прихотливой фантазии). В совокупности своей эти
образы образуют композицию, напоминающую систему
обращенных друг на друга зеркал, создающую беско-
нечную — и оттого жутковатую — перспективу. Нам
придется ограничиться лишь краткой экскурсией по
заколдованному царству пинчоновской книги, по тем
ее местам, где она представляет собой «военный ро-
ман».
Действие «Радуги...» начинается в Лондоне 1945 го-
да, в самом конце второй мировой войны. Время, как и
все остальное, выбрано Пинчоном «со значением»:
окончательно сокрушив старый добрый буржуазный
уклад, вторая мировая война, по мысли Пинчона,
стала повивальной бабкой нового геополитического по-
рядка, который, впитав в себя все достижения научно-
технического прогресса, становится Провозвестником
(и причиной) гибели западной цивилизации.
Вторая мировая война (как и вообще история XX ве-
ка) трактуется Пинчоном поверх категорий социальных
и политических, в которых он видит чистейшую услов-
ность, не объясняющую, но затемняющую суть дела.
«Война не имела никакого отношения к политике,—
читаем на страницах «Радуги...».— Политика — это ба-
лаган, задача которого отвлекать публику от главного,
от^ понимания того, что война — результат заговора,
тайного союза между людьми и техникой».
Как уже говорилось, в книге Пинчона великое
множество персонажей, которые, внезапно появляясь, в
какой-то момент бесследно исчезают. И все же можно
7*
195
выделить двух главных героев. Во-первых, это Ракета.
В начале повествования она выступает в обличье той
самой «Фау-2», что немцы использовали при обстреле
Британских островов. Затем этот персонаж трансфор-
мируется в смертоносную баллистическую ракету, кото-
рая на последних страницах обрушится на ничего не
подозревающих жителей Лос-Анджелеса.
Американский писатель рубежа веков Генри Адаме
видел в образе богоматери символ XIII века с его ду-
ховно-религиозным единством. Символом «плюралисти-
ческого» XIX столетия для него стала «динамо-маши-
на» — техника, вытесняющая духовность. Пинчон иро-
нически развивает мысль своего предшественника. Раке-
та с номером 00000 — символ технологического XX сто-
летия, венец научно-технической мысли, плод усилий
лучших умов — и дьявольская машина, орудие все-
общей аннигиляции. Траектория полета ракеты и обра-
зует «радугу земного притяжения».
В Ветхом завете радуга, возникшая в небе после
великого потопа, символизировала собой единство чело-
века и высшего начала, союз между земным и небес-
ным. В нынешние безрелигиозные времена, напоминает
Пинчон, единство это явно утратило свою силу, а на
место «договора» между богом и людьми встал закон
природы, действующий вне нравственных и духовных
категорий. Если раньше человек мечтал о космических
полетах, о стремлении ввысь, в небесную беспредель-
ность, то теперь, по Пинчону, эти мечтания и устрем-
ления воплотились в ракете, полет которой — парабола
смерти, символ договора человека с силами разрушения,
союза со Смертью. То, что мечталось запустить ввысь,
вернется на землю губительным снарядом. Процесс со-
зидания (Пинчон подробно описывает, как из «разбро-
санных по всей планете атомов» возникает новая целост-
ность — ракета), словно в насмешку над человеческим
разумом, оказывается лишь подготовительной стадией
реализации главной цели — уничтожения, вновь обра-
щающего в первозданный прах плоды человеческого
гения. Не случайно в ракету, устремившуюся к Лос-
Анджелесу, Пинчон в качестве «пассажира» помещает
юношу Готфрида, одержимого верой в науку и прогресс.
Автор недвусмысленно дает понять, сколь гибельным
может быть союз техники и человека: сама по себе тех-
ника (ракета) «работает», только когда «внутри» есть
196
человек или знак его присутствия — программа, состав-
ленная и пущенная в ход людьми.
Второй главный герой книги — американский лейте-
нант Тайрон Слотроп, работающий в годы войны в Лон-
доне. Обнаружилось, что у него имеется карта города,
где герой звездочками отмечал места встреч с девицами,
капитулировавшими перед обаянием американца. Рас-
положение этих звездочек целиком и полностью соот-
ветствовало схеме, на которую наносились очаги попада-
ния ракет «Фау-2». Дар «ракетного предвидения», от-
крывшийся у Слотропа, привлечет к нему внимание
различных разведывательных служб, которыми кишмя
кишит Лондон. По поводу этого загадочного феномена
развернутся жаркие научные споры, постепенно перехо-
дящие в диспут по поводу общих проблем цивилизации.
Так, для «последователя Павлова» Пойнтсмана все в
этом мире взаимосвязано самым жестким образом, и
потому все явления физического и психологического
порядка абсолютно предсказуемы. Его главный оппо-
нент Роджер Мексико — сторонник противоположного
подхода. Если для Пойнтсмана не существует следствий
без причин, то для Мексико реальность носит слу-
чайностный характер, и между событиями социальной,
политической (или, наоборот, эротической) жизни связь
примерно такая же, как между выпадениями чисел в
рулетке. Эти две теории определяют соответственно два
полярных подхода к жизни, два взаимоисключающих
мироощущения. Первый Пинчон именует «паранойей».
Ее смысл состоит в убеждении, что «все взаимосвяза-
но», весь мир, собственно,— единая система, где каждый
отдельный компонент выполняет определенную роль,
выступает крошечным, но необходимым винтиком ги-
гантского устройства. Происходит это от естественной
ограниченности человеческого восприятия. Если пред-
ставить себе целостное явление в виде радуги земного
притяжения—траектории баллистической ракеты, то
большинство наблюдателей видит лишь часть карти-
ны — только взлет или только падение. Отсюда возни-
кают попытки заполнить лакуны, домыслить осталь-
ное. Если есть ощущение частичного контроля над жиз-
недеятельностью людей, организаций, наций и пр., то
естественно, возникает соблазн вообразить полный конт-
роль. Подобно тому как взлет уравновешивается па-
дением, «паранойя» уравновешивается «антипараной-
197
ей», отношением к миру как к хаосу, где все случайно,
все возможно и не существует никаких законов и пра-
вил. Между двумя этими полюсами, по Пинчону, и
мечется современное западное сознание, то находящее
стройное и последовательное объяснение всему происхо-
дящему, то вдруг убеждающееся в недостаточности или
в неистинности выстроенной концепции и возвращаю-
щееся к убеждению, что все сущее абсурдно.
Участь Слотропа, оказавшегося под контролем раз-
личных наблюдателей, не теряющих из поля зрения и
друг друга, поучительна. За ней образ мира, где лич-
ность подвергнута жесткой эксплуатации, подчинена
неким загадочным целям. «Ракеты — не собаки Пав-
лова,— запальчиво утверждает Роджер Мексико.— Ни
каких связей между ними и любовными похождения-
ми Слотропа!» Возможно, это так. Но не исключено, что
и Пойнтсман не так уж заблуждается. Ведь в детстве
Слотроп «работал подопытным кроликом» в лаборато-
рии доктора Ямпфа, экспериментировавшего с условны-
ми рефлексами, когда не видимые обычным глазом, не
различимые нормальным слухом раздражители вызы-
вали у него эротическую реакцию. Отец отдал ребенка
на заклание жрецам от науки, ибо за опыты хорошо
платили. На эти деньги он смог дать сыну приличное
образование.
Эротика — последняя область свободы в дегумани-
зированной среде обитания человека — оборачивается у
Пинчона новым закабалением. Девица, доставляющая
Слотропу эротическое блаженство, занимается с ним
любовью по приказу начальства, осуществляя слежку.
За превратностями судьбы этого потомка пуритан,
наделенного даром военно-эротического предвидения
(пародия на провидческие амбиции многих идеологов
пуританства XVII —XVIII веков), проглядывает совре-
менность с ее умением производить не только синтети-
ческие материалы, но и искусственных людей, живу-
щих рефлексами, мыслящих стереотипами.
Дабы избавиться от постоянного контроля и слежки,
Слотроп предпринимает на свой страх и риск путе-
шествие по послевоенной Европе, именуемой в романе
«Зоной». В Зоне все перемешано, находится во взвешен-
ном состоянии, там происходят бурные, противоречи-
вые процессы, смысл которых, однако, сводится к од-
ному: на всех уровнях бытия идет распад и разложение.
198
Природный мир изувечен войной — возникает нечто по-
хожее на «лунные ландшафты» Хоукса. Государствен-
ные границы отсутствуют: национальные и политиче-
ские различия для Пинчона столь незначительны, что
ими он спокойно пренебрегает. Куда важнее моменты
сходства между разными сторонами — и прежде всего
лихорадочная деятельность, сводящаяся в конечном сче-
те к подготовке апокалипсиса. По сути дела все, кто
встречается на причудливом пути Слотропа, так или
иначе связаны с Ракетой, пытаются использовать ее для
собственных целей. После долгих и живописных стран-
ствий (Пинчон развернет широчайшую панораму чело-
веческой глупости, совершив с читателями увеселитель-
ную прогулку на «Анубисе», этом «модернистском
корабле дураков»), Слотроп попадаете Пенемюнде, где
в годы второй мировой под руководством Вернера
фон Брауна разрабатывалось германское «оружие воз-
мездия». Выясняется, что версия о гибели этого военно-
научного комплекса под бомбами союзников несостоя-
тельна. Секретный завод-лаборатория в полном порядке.
Именно оттуда и будет запущен на Лос-Анджелес
смертоносный снаряд с пятью нулями.
По чьему же приказу? Если послушать сторонников
«параноического подхода», по которому абсолютно все
в нашей жизни «засистематизировано», то почему не
поверить, что и впрямь в мире правит бал таинственная
Фирма, которой руководят загадочные Они. Задача
этой инфернальной организации — свести к Нулю все
многообразие жизни. Они создают пластиковый мир
технологической цивилизации, используют все матери-
альные и интеллектуальные ресурсы для своих деструк-
тивных целей.
Пинчон словно поддразнивает читателей—любите-
лей ясности, предлагая им угадать, кто же этот враг.
Г. Злобин, комментируя «Радугу...», предположил, что
«Они — это могущественные военно-промышленные
мегакартели, наживающиеся на производстве оружия и
боеприпасов, не знающие ни национальных границ, ни
политических разногласий»1. Это правдоподобно, но для
Пинчона, похоже, составляет лишь малую, видимую
'Злобин Г. По ту сторону мечты. Страницы американ-
ской литературы XX века. М., 1985, с. 296.
199
часть айсберга. Еще в раннем романе «V» герой пытался
понять, какие же пружины приводят в действие циви-
лизацию Запада, и, окончательно запутавшись, при-
ходил к туманному выводу: все войны и потрясения
нашего столетия — результат Заговора Без Названия.
Ничего более точного он не сумел придумать. Похожим
образом рассуждают и персонажи «Радуги,..». Согласно
адептам «параноической теории», которые в отличие от
поклонников доктрины «чистых случайностей» стремят-
ся преобразовать обилие информации в подобие цельно-
го узора, за Фирмой может стоять другая, более могу-
щественная Фирма, которая, в свою очередь, может ока-
заться филиалом еще более влиятельной Организации, и
так до бесконечности. Читателю предложено выбирать
между подобной нескончаемой системой систем — или
причудливой игрой «псевдознаков» и «квазисимволов»,
когда фантазия разгадчика вглядывается в собственные
же миражи.
Опубликовав «Радугу земного притяжения», Пинчон
с той поры не издал ни строчки. Это молчание можно
толковать по-разному, в том числе объясняя его житей-
скими обстоятельствами. Но если принять во внимание,
что «Радуга...» задумана как возможно более полный
словесный аналог Современности, на всех парах несу-
щейся к Великому Нулю, то последовавшее безмолвие,
пожалуй, содержательней еще одного романа на ту же
тему. Пинчона у нас упрекали за мрачность и безнадеж-
ность, за универсализацию некоторых частных момен-
тов бытия. «Временное торжество нацизма и мили-
таризма воспринимается писателем как неизбежная за-
кономерность, в которой отразился весь XX век,—
писала Т. Морозова.— Победа демократических сил над
фашизмом дда писателя-модерниста вроде бы ничего не
меняет в судьбах человечества»1. Упрек легковесен —
или по крайней мере вынужден нашей доктриной
Безудержного Оптимизма. Пинчон предложил свою вер-
сию происходящего, как и все вообще версии, стра-
дающую неполнотой. Он показал меру истинности всех
интеллектуальных экзерсисов такого рода. Он предло-
жил задуматься, почему при наличии правильных ре-
цептов, доброй воли, ненависти к войне, любви к миру
1 Морозова Т. Литература модернизма.— В кн.: Литература
США в 70-е годы XX века. М., 1983, с. 255.
200
и пр. не желающее себе худа человечество все дальше
углубляется в зону, где находиться смертельно опасно.
Пинчон напомнил, сколь многое в современности высту-
пает синонимом слова «смерть», подкрепив свою (лич-
ную — не всей американской общественности!) точку
зрения достаточно весомыми аргументами, и если далеко
не все «люди доброй воли» с ним согласны, это, увы,
все равно ни о чем не говорит. Пинчон неплохо дал
понять, что любую рожденную нашим сознанием версию
происходящего опровергнуть на словах легче, чем из-
менить к лучшему взрывоопасную действительность.
Эта действительность, хоть и изобилует «прогрессивны-
ми» партиями, всемирными советами мира и пр., сама
не прочь превратиться в модерниста-нигилиста с его
тотальной иронией, повергая в замешательство тех, кто,
поднабрав штампов, вознамерился с их помощью «прав-
диво отражать» жизнь.
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО КАПИТАНА
ЙОССАРИАНА
В истории западного военного (а также антивоенно-
го) романа «Поправка-22» (1961) Джозефа Хеллера за-
нимает особое место, ибо, нередко отмечали критики,
как ни один другой американский роман XX столетия
содержит в себе поистине неисчерпаемое множество
важнейших этических и философских проблем. «Важ-
ной книгой» назвал роман Хеллера Бертран Рассел.
В основе этой дерзкой, озорной, мрачной, смешной,
непочтительной, фантасмагорической сатиры — воен-
ные впечатления самого Хеллера — военного летчика,
фронтовика, участника боевых операций на Средиземно-
морье. Остров Пьяноса, где разместил он свое военно-
сатирическое хозяйство, реально существует неподалеку
от знаменитой Эльбы, и хотя, по словам автора, он
«чересчур мал, чтобы вместить описанные события»,
ему суждено было стать надежным плацдармом для
хеллеровских наступательных операций.
Противник у него был весьма и весьма серьезным.
Не только война как средоточие зла и абсурда, но и со-
временная цивилизация в ее специфически американ-
ском варианте, как полагали читатели в США. Совет-
201
ской же аудитории, об Америке имевшей всегда самые
смутные представления (в конце концов есть она или
«придумана» для отвода глаз нашим начальством, это
еще вопрос!), вполне могло показаться, что этот самый
Хеллер имел в виду нашу родную советскую повседнев-
ность, каковую и высмеял самым беспощадным обра-
зом.
За трагикомическими перипетиями романа (ост-
ров — отменное место не только для Утопии, но и для са-
тирической фантасмагории) отчетливо вырастают очер-
тания Главного Зла, выступающего у Хеллера в двух
ипостасях — бюрократия и война. И то, и другое тесно
связаны, усиленно поддерживают друг друга, сообща
воюют против человека, угрожая ему гибелью если не
физической, то духовной.
Эту грустную перспективу остро ощущает главный
герой капитан Йоссариан: «...за пределами госпиталя
продолжалась война. Люди обезумели и получали за
это награды. По обе стороны линии фронта, рассекав-
шей мир, молодые парни шли на смерть — за родину,
как им говорили,— и всем, похоже, казалось, что так и
надо, особенно молодым парням, которые шли на смерть,
не успев пожить. И не было, не предвиделось этому
конца. Йоссариан, впрочем, предвидел конец — свой
собственный».
Ужаснувшись разгулу безумия, всеобщему упоению
войной, Кандид из ВВС США решил заняться проблемой
собственного спасения. «Жить или не жить — вот был
вопрос...» — сказано в романе, и Йоссариан решительно
выбирает жизнь. Он мечется между военной базой, где
полковник Кошкарт все время повышает норму выле-
тов1, и госпиталем, где гарантирована безопасность. Сю-
жет движется кругами, снова и снова возвращая героя
к событию, определившему окончательно его «войну
войне»,— к мучительной гибели его товарища Снегги^
при очередном боевом вылете. Этот эпизод будет снова1
и снова повторяться, наделяясь дополнительными штри-
хами. Такая композиция как бы подчеркивает, что no-j
ступательное движение, развитие в этом мире невозмож-j
1 В ВВС США того времени существовала норма в 25 боевых
вылетов, выполнив которую летчик имел право получить работу в
тылу.
202
но, человека крутит в водовороте «обстоятельств», и
лишь смерть может остановить это коловращение.
Хеллера тревожит наша способность адаптироваться
к абсурду, отождествлять привычное с разумным. Ему
необходимо заставить читателей взглянуть на србя и
мир со стороны и призадуматься.
Особое место романа Хеллера в американской прозе
не в последнюю очередь состоит в стремлении автора
воссоздать механизм тоталитарно-бюрократического
мышления, неутомимо перерабатывающего наглую ложь
в святую истину. Отсюда повышенное внимание писате-
ля к стереотипам и клише массового сознания. Вполне
естественные с точки зрения повседневности, эти «бес-
спорности» водят у Хеллера шутовской хоровод, превра-
щаясь в глупость и фарс.
Имеется в романе эпизод вроде бы проходной и не
связанный с основной темой, но имеющий для Хеллера
«методологическое» значение. Честный, простодушный
полковой капеллан солгал плохим людям — и увидел
мир по-новому. «Капеллан согрешил, и грех обернулся
для него истинным добром. Здравый смысл подсказы-
вал ему, что лгать и уклоняться от выполнения долга
грешно. С другой стороны, всем было известно, что
грех — зло, а от зла нелепо ждать добра. И, однако,
именно оно обернулось добром — он чувствовал себя
прекрасно. Следовательно, исходя из элементарной ло-
гики, ложь и уклонение от велений долга нельзя было
называть грехами. Чудесное прозрение... вооружило ка-
пеллана богатейшим арсеналом безукоризненных за-
щитных силлогизмов. Ему теперь ничего не стоило пре-
образить бессилие в смирение, алчность в бережливость,
леность в умеренность, грубость в прямоту, богохульство
в мудрость, неправду в истину, порок в добродетель,
жестокость в патриотизм, а садизм в правосудие. Для та-
ких преобразований не требовалось ума, их мог совер-
шить кто угодно. Тут нужна была лишь строго безнрав-
ственная последовательность».
Внезапно открытый персонажем закон единства про-
тивоположностей, зависящий от произвола тех, кто обла-
дает либо властью, либо смелостью, занимает важное
место в хеллеровском государстве. Тут американский
писатель принимает эстафету не только от Джорджа
Оруэлла, но и от Салтыкова-Щедрина.
У Салтыкова-Щедрина в сказке «Дикий помещик»
203
читаем: «Врдят мужики: хоть и глупый у них по-
мещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так,
что некуда носу высунуть; куда ни глянут, все нельзя,
да не позволено, да не ваше!» Русский сатирик под-
стерег и уличил сущность (глупость) в жульничестве,
когда она выставляет себя в виде «большого разума»,
хотя налицо лишь большая власть болвана, которого
нельзя призвать к порядку. Антонимы — глупость и ра-
зум — стали синонимами, а это верный признак того,
что в обществе что-то не в порядке.
Старик итальянец из римского борделя вдруг напом-
нит пилоту Нетли его респектабельного отца «по их
абсолютному несходству». «Его отец в отличие от этого
распатланного, распущенного скользкого циника был
благообразно седым, всегда безупречно одетым джентль-
меном с твердыми принципами и здравыми суждения-
ми, его образованность и сдержанность казались осо-
бенно благородными по сравнению с грубой неотесан-
ностью старого похабника. Отец Нетли свято верил, что
честь превыше всего, и мог ответить на Любой вопрос,
а у гнусного старикашки не было ничего святого, зато
имелась уйма безответственных вопросов».
Почему же юному американцу мерещится сходство?
А потому, что «гнусный старикашка», циник и эго-
ист,— родственник по духу лощеному американскому
бизнесмену, только у последнего волчья хватка прикры-
та бархатными манерами и высокими словами. У Хелле-
ра этот тип раздваивается на сущность и видимость,
и половинки (итальянец — сущность и американец —
видимость) соединяются в сознании Нетли. Анто-
нимы снова становятся синонимами. Логическими
аномалиями подчеркиваются аномалии социального
плана.
Хеллер по-щедрински держит в поле зрения две
системы ценностей одновременно, с точки зрения здра-
вого смысла и с точки зрения господствующих воззре-
ний, и их совмещение дает отменный эффект.
Синонимия антонимов правит бал в мире Хеллера.
Курсант Клевинджер, оказывается, «был широко обра-
зованным и глубоко безмозглым», у Нетли «плохая
наследственность, он из хорошей семьи». Дельца Мило
Миндербиндера «все считали тупицей, кроме Йоссариа-
на, который тоже не сомневался в его тупости, но знал,
кроме того, что он гений». В обществе, где принято
204
восхищаться новым платьем голого короля, такие логи-
ческие чудеса — норма. Угодившему под суд Клевинд-
жеру председатель трибунала с удовольствием растол-
ковывает, что такое справедливость: «Это молча коле-
ном в пах, под покровом ночи с финкой на склад, где
хранятся боеприпасы, снизу в челюсть и по башке не-
жданно втихую. Удавить, чтобы победить». Одним сло-
вом, справедливость — это несправедливость. Отсюда
рукой подать до оруэлловских «трех составных частей
Ангсоца»: «война —- это мир», «свобода — это рабство»
и «незнание — сила». В «Поправке-22» Хеллер проиг-
рывает ситуацию «война — это мир»: в его микрокосме
война слишком для многих естественна и даже необхо-
дима. Для одних это непреложная данность (сказали:
война, будем воевать), для других выгодный заказ, шанс
сделать карьеру, разбогатеть. Война и впрямь «мир» для
тех, кто обделывает свои делишки, не рискуя жизнью.
Умирать — это святой долг других.
После гибели Снегги Йоссариан снимет военную
форму (на ней кровь друга, которую уже не отмыть, не
стереть из памяти), исполненный решимости никогда
больше не надевать ее. Он будет расхаживать в чем
мать родила по военной базе и в таком виде получит из
рук невозмутимого начальства медаль за отвагу. Он
будет передвигаться задом наперед с револьвером в
руке и твердить, что все происходящее — дьявольский
заговор, цель которого — уничтожить именно его. Его
сочтут психом, и он но станет возражать. Так даже
лучше. Коль скоро он не в своем уме, его обязаны спи-
сать. Тут-то узнает он о Поправке-22, учитывающей его
случай. Если верить доктору Дейники, Поправка-22
гласит: «Всякий, кто хочет уклониться от выполнения
боевого задания,— нормален, а стало быть, «годен к
строевой».
Не раз на протяжении романа возникает в разных
формулировках эта загадочная Поправка. Суть, однако,
неизменна. Согласно Поправке-22, те, в чьих руках
власть, могут делать все, что им заблагорассудится,
остальным же во избежание неприятностей остается
повиноваться. Поправка-22 не существует на бумаге —
и тем более действенна. Это Конституция общества, где
неписаные законы куда реальнее писаных (ну как не
про нас сочинен роман?!), это палочка-выручалочка
бюрократов и респектабельных жуликов. Ставить под
205
сомнение реальность Поправки — навлекать на себя по-
дозрения в неблагонадежности. В нее надо верить,
как в авангардную роль Партии и коммунистическую
перспективу.
Йоссариан, этот «невзлюбивший войну» антагонист
Базза Мерроу из романа Херси, воюет прескверно.
Поднимаясь в воздух, он преследует одну цель —
вернуться живым и потому совсем не заботится о том,
куда упадут его бомбы. Зато отменно сражаются его
начальники. Они готовы выполнять самые рискованные
задания, коль скоро летать будут их подчиненные. Они
проявляют героическое пренебрежение к опасностям,
выпадающим на долю других. Им ничего не стоит велеть
разбомбить итальянскую деревушку, даже не предупре-
див жителей об опасности,— нужно создать завал на до-
роге, блокирующий движение неприятеля. Пусть гибнут
мирные жители, зато дело сделано! Они не на жизнь, а
на смерть сражаются друг с другом за место под солн-
цем. Генерал Долбинг вынашивает планы окончательно-
го разгрома коварного врага, то бишь генерала Дридла.
Нещадно эксплуатирует своих летчиков полковник Кош-
карт, мечтающий прославиться и получить генеральские
погоны. Хочет стать генералом и рядовой «экс-первого
класса» писарь Уинтергрин, один из влиятельнейших
людей на Пьяносе, ибо он работает в канцелярии.
Но подлинным вершителем судеб, богом той самой
войны, которая в то же время «мир», оказывается лей-
тенант Мило Миндербиндер. Этот снабженец сколачива-
ет синдикат, членами которого объявляет всех летчиков
Пьяносы. Получив в безраздельное пользование боевые
самолеты, он покупает и перепродает телятину, фи-
ники, хлопок, баранину, пробковое дерево и т. д. и т. п.
В орбиту своей деятельности он втягивает и против-
ника: самолеты люфтваффе перевозят его товары.
Вознамерившись «поставить войну на деловую осно-
ву», Мило получает от американского командования
солидный куш, подрядившись разбомбить охраняемый
гитлеровцами мост, а от гитлеровцев не менее внуши-
тельную сумму, подрядившись охранять мост от амери-
канской авиации. «Синдикат не истратил на это пред-
приятие ни гроша,— читаем в романе,— а заработал
кучу денег — всего лишь двойным росчерком пера ге-
ниального Мило при подписании контракта — потому
что воюющие клиенты обладали достаточными ресурса-
206
ми и нетерпением, чтобы броситься в бой, не дожидаясь
вмешательства подрядчика».
Вскоре неугомонный Мило берется собственными
силами разбомбить американский аэродром на Пьяносе
и слово держит. Американцы бомбят и убивают амери-
канцев.
Поборник свободного предпринимательства Мило
может показаться плодом разгулявшейся фантазии Хел-
лера,чно и самое богатое воображение порой не в силах
обскакать «унылую повседневность», которая в смысле
фантастики способна дать сто очков вперед любому со-
чинителю.
Американцы храбро сражались на фронтах второй
мировой войны и потеряли убитыми более 300 000 че-
ловек, но в целом война оказалась для США выгодной
деловой операцией. Из всех воевавших стран только
США вышли из войны экономически более сильными,
чем были до нее. «Частный интерес» оказывал истэб-
лишменту немалые услуги и внакладе не оставался.
Тогда-то и создавались основы того, что впоследствии
было названо «военно-промышленным комплексом»,
тогда-то и возникла идея прибыльности военной ин-
дустрии, а значит, полезности военной напряженности в
мирное время.
В подвигах Мило Миндербиндера многие видели
иллюстрацию к курсу политэкономии капитализма.
Начав с удачной операции по обмену половинки прос-
тыни, Мило берет одну высоту за другой. Он не только
лейтенант армии США, которого слушаются полковни-
ки и генералы. Он по совместительству мэр Палермо,
вице-шах Орана, калиф Багдадский, имам Дамаскский,
шейх Аравийский, заместитель генерал-губернатора
Мальты. Он повсюду и нигде, призрак, облеченный
отнюдь не призрачной властью.
Но монополист из монополистов Мило у меня лично
вызывает ассоциации с нашими «слугами народа», ко-
торые в борьбе за всеобщее процветание прекрасно
обеспечивали свое собственное благополучие, и в стране,
гордо провозгласившей верность социалистическим иде-
алам, потихоньку сколотили суперкапиталистический
синдикат. Не зная, куда девать лишний хлопок, Мило
придумывает «хлопок в шоколаде», каковым пытается
накормить летчиков. Нам этот продукт отменно зна-
ком, у нас он появляется в облике псевдоколбасы, ко-
207
торую впору продавать в канцелярских магазинах, за-
нитраченных овощей и прочей снеди, которую есть
опасно, но друго не припасено.
Синдикат Мило, в который включены все летчики,
словно наши крестьяне в колхозы, приглашает задумать-
ся, что все-таки скрывается за понятием «мы», которым
так любят оперировать совпартократы.
Это «мы», которое в зависимости от ситуации может
означать то «вы», то «я», подвергается у Хеллера мощ-
ному сатирическому обстрелу. «Мы» синдиката — это,
безусловно, «я» Мило. Когда же Хеллер жалуется Мило
на полковника Кошкарта, мухлюющего с вылетами,
Мило отвечает: «Что поделаешь, война... У нас нет пра-
ва жаловаться на тяготы войны. Если полковник счита-
ет, что пятьдесят пять вылетов — наш долг, мы должны
его выполнять».
Тут уж «наш» и «мы» — синонимы местоимений
«ваш» и «вы».
Когда же Йоссариан в разговоре с Уинтергрином
поинтересуется, что с ним могут сделать, если он все же
откажется подчиняться полковнику, то в ответ слышит:
«Возможно, мы тебя расстреляем».
«— Мы? — удивленно воскликнул Йоссариан.—
С каких это пор ты вдруг на их стороне?
— А на чьей же стороне мне прикажешь быть, если
тебя будут расстреливать? — возразил Уинтергрин».
«Мы» — игрушка в руках фокусника-бюрократа,
способная превратиться во что угодно. Это такой же
фантом, что и Поправка-22, приносящий такую же
пользу тем, кто умеет правильно произносить маги-
ческое слово.
В отличие от великого комбинатора Мило лейтенант
Шайскопф не умеет ничего, кроме проведения смотров и
парадов. Попав на передовую, он с огорчением узнает,
что на войне парады проводить ему не придется, их мож-
но разве что... отменять. Удивленные летчики читают
объявление: назначенный на такое-то число парад от-
меняется. Рад Шайскопф, довольны и его начальники.
Ведь в случае чего такой парад можно провести, пусть
летчики скажут спасибо, что пока их бог миловал.
Здесь дает о себе знать старая бюрократическая
хитрость, тактика «негативных благ». Чтобы народ не
роптал, не обязательно даже делать им подачки. Доста-
точно пригрозить отобрать у них то, что имеется, к чему
208
они привыкли,— и милостиво не отбирать. Впрочем,
Шайскопф свое возьмет. За считанные недели превра-
тившись из лейтенанта в генерала, он отыграется на
всех, в том числе и на бывших начальниках. Он потре-
бует, чтобы маршировали все без исключения, даже пол-
ковники с генералами. Маршировать полезно. Как за-
метил Эрик Хоффер, маршировка изгоняет мысли,
убивает индивидуальное начало. Так что Шайскопф
делает полезное дело, работает над созданием нового
человека. Человека Поправки-22.
Стремительное восхождение Шайскопфа совершенно
закономерно. В бюрократическом мире действует прави-
ло: чем меньше ты смыслишь в конкретном деле, тем
легче будешь продвигаться по службе. Тот, кто «звезд не
хватает», всегда послушен и чувствует свою зависи-
мость от других, в первую очередь от вышестоящих. Ни-
чего не понимая в деле и ничего не производя, нельзя
совершить ошибку — все неудачи будут отнесены на
счет недоглядевших экспертов. В тяжелые минуты
Руководящий Аппарат умеет направить Законный Гнев
Масс на ученых мужей, якобы водивших за нос и прос-
той народ и любимых вождей. Аппарат хорошо знает
психологию масс, всегда готовых «простить» генсе-
ка или персека и призвать к ответственности
«спеца».
Что же касается неспособности вождей руководить
спецами, то не по Хеллеру, а по советской повседнев-
ности знаем мы, как кочуют аппаратчики из одной сфе-
ры в другую, то сельским хозяйством распоряжаясь,
то идеологией, демонстрируя свою полную никчемность
и неистребимость. Буржуазная реальность, затвердили
мы с пеленок, всецело подчинена погоне за прибыля-
ми. Наша же оказалась в прибылях совершенно не
заинтересована, умело добиваясь во всех начинаниях
грандиозных убытков1. Хеллеровский полковник Каргил
был энергичным и бездарным администратором. На-
столько бездарным, что фирмы, которым нужно было
потерпеть временные убытки, чтобы платить меньше на-
1 Как убедительно показано Оруэллом, убытки — не результат
ошибок в экономической стратегии, но верность вполне осознанно-
му курсу, цель которого держать народ в нищете и, значит, в послу-
шании. Наши убытки — прибыли лукавого руководства. Подход
этот всем хорош, если б не вел в пропасть, делая на каком-то этапе
даже самую послушную страну неуправляемой.
209
логов, заручались его помощью: «Ему платили огром-
ные гонорары, потому что существенные убытки не всег-
да легко достижимы. Но полковник Карги л легко справ-
лялся с трудностями и мог довести до краха любую
фирму». И у нас Каргилы добились славных неудач. Они
упорно выискивали худших работников, сколачивали из
них колхозы и совхозы, а прочих уничтожали как
класс. Они проявляли бдительность, громили врагов
народа, записывая в них (что только справедливо) и
друг друга. Они поворачивали реки вспять, портили,
пачкали, рушили, а потом чуть не добились главного —
ядерного апокалипсиса в Чернобыле. Если б не их пол-
ная бездарность и неумение хоть что-то сделать пра-
вильно, по задуманному, они бы всем нам давно поло-
жили конец, ибо ненавидят лютой ненавистью все, что не
входит в их синдикат.
Хеллер выводит еще одну любопытную формулу
благоденствия Системы, знакомя нас с фермером, на-
деленным чутьем бюрократа: «Все поля у него на ферме
были отведены под люцерну, и он прекрасно кормил-
ся тем, что не засевал их. Правительство щедро пла-
тило ему за каждый бушель невыращенной люцерны.
Чем больше люцерны он не сеял, тем больше денег по-
лучал и бережно вкладывал каждый незаработанный
цент в покупку новых земель, чтобы не выращивать
еще больше люцерны».
Комически обыгрывая реальную политику в ряде вы-
сокоразвитых стран, направленную на предотвращение
затоваривания и перепроизводства, Хеллер, однако,
заставляет увидеть в этом подходе иные перспективы —
ситуацию, когда недеятельность воспринимается как
нужная и поощряемая деятельность, когда писателям,
мыслителям, общественным деятелям платили (платят)
именно за то, чтобы они не писали, не думали, не делали
того, на что способны, а занимались бы полезным
Подлинному Социализму толчением воды в ступе. Это
ведет к превращению людей творчески и социально ак-
тивных в придаток чиновничьего аппарата. Рождаются
писатель-чиновник, философ-чиновник, чиновник-гума-
нист. В литературе это дало нам соцреализм, псевдо-
книги, создаваемые полуписателями. В моральном ко-
дексе строителя коммунизма «невыращивание люцер-
ны» — дело чести, доблести и славы. Так воспитывается
поколение, свято убежденное, что делать дело, сози-
210
дать — это «буржуазно», а выполнять инструкции от и
до, не проявляя никакой заинтересованности в резуль-
татах,—славный признак нового отношения к
труду.
В финале романа Хеллера происходит трогательное
объединение деловых людей и руксостава базы. Возни-
кает военно-коммерческий союз чиновников. Полков-
ник Кошкарт, поторговывавший помидорами, выращен-
ными на секретных плантациях в горах Пьяносы (кто
увидел в этом намек на т. Рашидова?), писарь Уин-
тергрин, торговавший крадеными зажигалками, и вели-
кий Мило отныне — партнеры. Одно лишь тревожит
Мило и Кошкарта. Война на исходе, а с боевыми подви-
гами у них из рук вон плохо. Что скажут люди? При-
думывается выход. Отныне боевые вылеты летчиков
пойдут в зачет верхушке синдиката. Одним «раны и
смерть», другим «слава и честь». Хеллеровские деловые
люди действуют по принципам, изложенным Щедри-
ным в «Современной идиллии». Когда очередной градо-
начальник вознамерился «великий вред учинить», со-
звал он «мерзавцев» спросить, что делать.
«И ответили ему «мерзавцы» единогласно:
— Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не
получится, доколе наша программа вся, во всех частях,
выполнена не будет. А программа наша вот какова. Что-
бы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали.
Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения прини-
мались немедленно, а прочих желания чтобы оставля-
лись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить бы-
ло повадно, а прочим чтобы ни дна ни покрышки не
было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и не-
женье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзав-
цами, сделанный вред за пользу считался, а прочими
всеми если бы и польза была принесена, то таковая за
вред бы считалась. Чтобы о нас, мерзавцах, никто
слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздума-
ем, что хотим, то и лаем! Вот когда все это неукосни-
тельно выполнится, тогда и вред настоящий получит-
ся».
Программа, судя по всему, «неукоснительно выпол-
нилась», и вред получился преогромный.
У хеллеровских «мерзавцев» всегда на руках все
козыри. От них зависит, «быть или не быть» тому или
иному событию, получит оно статус «непреложного
211
факта» или уступит это почетное звание небылице,
сочиненной чиновниками, а само будет объявлено
ложью. Отказавшегося летать Йоссариана начальство
будет уговаривать пойти на мировую. За это его готовы
отправить домой как героя, защитившего командира от
«нацистского убийцы». Если он заартачится, в ход
пойдет иная версия. Будет составлен официальный ра-
порт, где говорится, что его «пырнула ножом невинная
девушка, которую вы пытались вовлечь в незаконные
махинации на черном рынке, включающие саботаж и
продажу немцам наших военных тайн». Ни одна из
версий не имеет ничего общего с реальностью, ибо
Йоссариана ударила ножом девица его погибшего друга
Нетли, для которой этот пацифист оказался воплоще-
нием войны, погубившей ее возлюбленного. Сюжетный
ход, напоминающий, чего стоят «самые достоверные»
версии происходящего.
Испокон веков смех считался привилегией личности,
ее последним оружием в борьбе с противником, против
которого иные средства не помогают, будь то Система
в целом или конкретный важный барин (он же слуга
народа). Но в «Поправке-22» командно-административ-
ная система выказывает неплохие юмористические спо-
собности. Не важно, что поодиночке ее функционеры
унылые бездари. Шайскопф, например, не улыбался ни-
когда, кроме тех редких случаев, когда узнавал, что его
коллега-офицер опасно болен. В целом же она злой и
изобретательный насмешник. Если человек значится в
списках экипажа разбившегося самолета, то он без-
условно мертв. Напрасно доктор Дейника будет доказы-
вать, что вот он живой и невредимый. Бедняге уготована
судьба тыняновского персонажа поручика Синюхаева
из повести Тынянова «Подпоручик Киже». У Оруэлла,
тоже «строго по Тынянову», возникал героический това-
рищ Огилви, плод воображения чиновника из Министер-
ства Правды, бывший «живее всех живых». Вряд ли
Хеллер и Оруэлл читали Тынянова — у бюрократии
всех времен схожие повадки.
Чиновник машиноподобен, его деятельность носит
механический характер в соответствии с заданной
программой1. Того же он требует и от тех, кого опекает.
Специалисты-кибернетики вполне могли бы изготовить элект-
ронного главного редактора или секретаря райкома, действовавших
бы по специальной программе. Путем внесения корректив в
212
Любое проявление самостоятельности вызывает у на-
чальства Пьяносы подозрения, испуг, как бы чего
не вышло. Недаром на «политзанятиях», что проводи-
лись для повышения боевой и идейной подготовки лет-
состава, задавать вопросы лекторам разрешалось только
тем, кто этого никогда не делал.
Живое человеческое начало для военно-бюрократи-
ческой хунты Хеллера — потенциальный «преступник».
Не случайно на страницах «Поправки-22» возникает, и
не раз, кафкианская тема процесса. Если уже упоминав-
шегося капеллана в конце концов отпустят восвояси,
припугнув, что отныне он будет находиться под неусып-
ным надзором «органов» (достоверно известно, что он
виноват, остается лишь выяснить, в чем именно), то
Клевинджеру в вину вменяется нарушение всех армей-
ских законов сразу плюс пропаганда классической му-
зыки. Он выслушает приговор суда, где адвокатом,
прокурором и одним из судей будет лейтенант Шайс-
копф.
Если военный абсурд — норма, которую принимают
все или почти все, что делать тому, кто не может за-
ставить себя воспылать воинственным энтузиазмом?
Как выжить в условиях, когда все живое обречено?
У Хеллера один за другим погибают те, кто сохранил
в себе человеческое, но автоматы-бюрократы и омаши-
нившиеся летчики в огне не горят и в воде не тонут.
Йоссариану, не желающему воевать,— это, по его мне-
нию, только помогает возвышению пройдох-начальни-
ков,— остается выход, воспетый еще литературой о
первой мировой. Заключить «сепаратный мир». Хеллер
словно вознамерился осуществить мечту Писателя из
«Приключений Весли Джексона» Сарояна — аргу-
ментированно доказать, что человек, решившийся де-
зертировать, прав и выше тех, кто, остается1. Йоссариан
так оправдывает свое решение выйти из игры: «Через
несколько месяцев будет разбита Германия, а потом и
последнюю можно было бы регулировать идеологический настрой
машины. Был бы такой «аппарат» свободен и от коррупции, если
бы создатели для «жизнеподобия» не вложили в робота любовь к
«сувенирам».
1 Первым обратил внимание на эту тематическую переклич-
ку Г. Анджапаридзе в предисловии к кн.: Сароян У. Человечес-
кая комедия. Избранные рассказы. Хеллер Дж. Поправка-22.
М, 1988, с. 5.
213
Япония. Если я погибну сейчас, это будет смерть не за
мою страну. Это будет смерть за полковника Кошкарта...
Отныне я думаю только о себе».
Порядочный человек и хороший офицер майор Дэн-
би, правда, напомнит Йоссариану, что идет война с
нацизмом, а бегство от проблем — не способ их решать.
Что надо помнить об идеалах. Но Йоссариан непре-
клонен: «Стоит мне увидеть, что к идеалу присосались
типы вроде Долбинга с Шайскопфом... он сразу для
меня тускнеет». Йоссариан убежден, что любой, самый
искренний порыв, любая человеческая трагедия исполь-
зуются проходимцами как повод набить карман, что
настоящий враг — не тот, на кого указывает началь-
ство, а «тот, кто хочет твоей погибели, независимо от
того, на чьей стороне он воюет».
Кто же тут прав?
Нелегко вторгаться в комическую стихию романа
Хеллера с серьезными критериями повседневной логи-
ки, ибо они не очень уместны в фантасмагорическом
мире «Поправки-22». Но тут на помощь чуть расте-
рявшимся читателям приходит сам автор, в какой-то
момент утрачивающий иронические интонации и на-
чинающий доказывать свои тезисы способами, которые
раньше сам же осмеивал.
Позиции Йоссариана выглядели убедительно, когда
он жил-был Кандидом или солдатом Швейком. У «По-
правки-22» вообще немало общего с бессмертной книгой
Гашека. Взять тему безумия. «Официальный идиот»
Швейк, охотно твердя во всеуслышание государствен-
но-патриотическую чушь, тем самым лишь подчеркивал
идиотизм казенной пропаганды. И у Гашека, и у Хелле-
ра высоким словам, за которыми таятся низменные
интересы, противостоит Смех, не знающий границ в
своей непочтительности. Продолжая давние традиции
народной смеховой культуры, возрождая принципы
карнавала, книги Гашека и Хеллера утверждают плот-
ское, вульгарное начало как область, не подвластную
фикциям изолгавшегося верха. Швейк с его талан-
том выживать вопреки всем усилиям его командиров
вошел в мировую литературу напоминанием о том,
что самые жуткие бойни не в силах истребить чело-
века.
Швейк словно соревновался с Системой в абсурд-
ности и, вроде бы во всем ей поддакивая, лишь под-
214
черкивал ее античеловеческую суть. Хотя насчет его
«искренности» и могли возникать сомнения, формально
придраться было не к чему (начальники, слушая, как
подчиненные слово в слово пересказывают ими же
выдвинутые лозунги, порой теряются в догадках, иск-
ренне ли те уверовали или валяют дурака). Хеллер же
в какой-то момент вдруг переключает повествование
в серьезно-неулыбчивый регистр. Йоссариан без тени
юмора принимается доказывать моральность своей пози-
ции: мол, заботясь о себе, он отстаивает право Личности
не поддаваться напору со стороны Системы, где запра-
вляют «мерзавцы».
Легко ли в это поверить?
Йоссариан явно опоздал родиться. Если бы речь шла
о первой мировой, его было бы опровергнуть не так-то
просто. Когда же идет война с нацизмом, сетования
на нечестность начальства, заставляющего летать сверх
нормы, может не вызвать сочувствия у тех, кто до
знакомства с прозой Хеллера и не знал, что на такой
войне можно бомбить, стрелять, рисковать жизнью «по
норме». Внимая некстати посерьезневшему Йоссариану,
начинаешь думать, так ли он отличается от своих
заклятых врагов Мило Миндербиндера и полковника
Кошкарта. Не выходит ли, что Йоссариан, как и они,
печется о личном интересе, хотя несколько иной ориен-
тации? Тем подавай прибыль, чины, материальный
успех. Ко всему этому Йоссариан равнодушен, однако
он, похоже, не прочь «сделать карьеру» гедониста.
Не случайно Ивлин Во, ироническое мировидение ко-
торого порой выказывает близость хеллеровскому, реши-
тельно не принял «Поправки-22», в первую очередь
из-за асоциальности главного героя (Во покоробило
отсутствие положительных ориентиров если не у героя,
то у его создателя).
Подлинным героем, предметом восхищения всех
симпатичных Хеллеру персонажей оказывается пилот
Орр, который, в отличие от речистого, но неспособного
на решительный поступок Йоссариана (точь-в-точь Хол-
ден Колфилд, но с погонами офицера), спокойно,
методично~отрабатывает план дезертирства. Его самолет
постоянно терпит аварии — не от неумения Орра, но
потому что он ищет оптимальный вариант побега.
В очередной раз потерпев аварию, Орр пропадает без
вести, с тем чтобы потом объявиться в нейтральной
215
Швеции, куда, оказывается, доплыл на надувной ло-
дочке аж из Средиземного моря. Назвав поступок Орра
«чудом человеческой сообразительности и человеческо-
го упорства», капеллан заявляет, что отныне он утра-
тил страх перед начальством и сумеет постоять за
себя.
Снова место Героя на пьедестале занимает Антиге-
рой. Недаром отказавшемуся летать Йоссариану один
из летчиков сообщает, что теперь он стал «настоящим
героем», едва ли не кумиром всей авиабазы. Все это
лишний раз напоминает о том, что разрыв между лич-
ным, индивидуальным и общегосударственным в со-
временном мире имеет тенденцию к нарастанию. Что
и говорить, не раз необходимость «выручать державу»
оборачивалась военными экспедициями за тридевять
земель, а потом их необходимость ставиласьпод сомне-
ние. За метаниями Йоссариана мне видится нечто со-
звучное рефлексиям нашей интеллигенции 60—80-х
годов. Если начальство весьма смахивает на щедринских
«мерзавцев», если на словах провозглашается одно,
а делается совсем другое, если наиболее мыслящая
часть общества либо запугана, либо подкуплена, а на-
род подвергается массированной обработке водкой и
ложью, то не означает ли это, что разговоры о «слу-
жении обществу» — ловушка для простаков? И если
это так, то как бороться против жульнического «мы»,
силком навязанного некогда гордому «я»?
Социальная демагогия, неподотчетность, преступная
безответственность, некомпетентность и злобная агрес-
сивность тех, кто долго правил страной, вызывали у
многих чувство протеста, которое некуда было напра-
вить. Написать гневную статью? В стол — пожалуйста.
А вот напечатать — не взыщите-с! Редактор, в нерабо-
чее время твой друг, а по «убеждениям» даже куда
более радикальный, чем ты, прочитав тобой сочинен-
ное, будет смеяться над твоей наивностью или сердить-
ся, что твой эгоизм смешон, что ты, неразумный, ста-
вишь под удар коллег, да и вообще Либеральную Идею.
Примеры Сахарова и Солженицына вдохновляли немно-
гих. Голос благоразумия шептал, что плетью обуха
не перешибешь и лучше не высовываться (сгинешь
в одночасье), а лелеять Высшую Ценность (себя само-
го) , относясь к происходящему вокруг как к скверному
анекдоту. Кто хотел приспособиться — приспособились,
216
полагая, что если не сделано больших подлостей, то
можно гордиться своей незапятнанностью (даже в
КПСС, мол, не вступил!). Только вот отвыкать тяжело
во времена, когда выясняется, что грош цена твоему
«неучастию» и умению остроумно ругать на кухне
липу коммунистического образа жизни, грош цена
растительному существованию.
О растительном существовании заходит речь и у Хел-
лера.
«—А чудесная это, наверно, штука растительная
жизнь,— сказал майор Дэнби.
— Особенно если в перегное из дерьма,— добавил
Йоссариан.
— Нет, я серьезно,— сказал майор Дэнби.— До
чего же хорошо, живи себе и живи как огурчик,— без
всяких сомнений и стрессов.
— Как горький огурчик или нормальный?
— Нет уж, лучше, пожалуй, как нормальный.
— Чтобы вас изрезали на салат?
Лицо майора Дэнби омрачилось.
— Ну, тогда как горький.
— А горький бы сорвали и сгноили, чтобы сделать
из него перегной для нормальных.
— Что ж, придется, видно, отказаться от расти-
тельной жизни,— печально смирился майор Дэн-
би».
Наша домашняя проблема сформулирована зарубеж-
ным автором четко и с полным отсутствием полезных
советов, как выжить, во-первых, преуспеть, во-вторых,
и сохранить достоинство, в-третьих. Ведь это лишь
недавно выяснилось, что находиться на ножах с преж-
ним режимом выгодно, но инакомыслие плохо сочета-
лось с дипломом доктора наук, званием народного
писателя и значком лауреата всех премий Ленинского
комсомола, вместе взятых.
Кто-то из критиков заметил, что чем комичнее де-
лается роман Хеллера, тем серьезнее анализируются
в нем проблемы. Но когда «серьезнеет» сам герой, то
в вольной стихии хеллеровской фантазии обнаружива-
ются «дыры», общество далеко от совершенства, война
ужасна, печально, что кое-кто ухитряется на ней на-
житься, но идея «сепаратного мира» сочувствия не
вызывает, кажется плагиатом. Сам Хеллер, похоже,
почувствовал ее уязвимость, ибо затем не раз под-
217
черкивал, что, работая над «Поправкой-22», думал
прежде всего не о второй мировой, но о временах мир-
ных. «По сути дела «Поправка-22» не связана напря-
мую с войной,— сказал он в одном из интервью.—
Это книга об американском обществе времен холодной
войны, о возможности начала новой войны, вроде той,
что разразилась потом во Вьетнаме». С этим нельзя
не согласиться, как трудно оспорить суждение кри-
тиков, что «Поправка-22» сделала для уничтожения
милитаристского вируса в молодежи куда больше, чем
все движение новых левых.
Написав роман о войне, которая в то же время есть
мир, Хеллер не только, продолжил по-своему идеи Ору-
элла. Он еще и подвел черту в развитии американского
военного романа от Хемингуэя и Дос Пассоса до Мейле-
ра и Джонса, создав немалые сложности для тех, кто
вознамерился бы попробовать свои силы в этом жанре.
После Хеллера неулыбчивый психологизм и фактогра-
фия (с философской подкладкой или без оной) могут
оказаться воспринятыми как пародия. Коль скоро хел-
леровский гротеск пародирует и компрометирует быто-
писательство, то реализм имеет шанс стать пародией на
гротеск, пародией невольной, неосознанной и потому
тем более забавной.
Оруэлловское начало в прозе Хеллера дает о себе
знать в повышенном внимании к риторике, взятой на
вооружение Системой. В «1984» Оруэлл предложил мо-
дель тоталитарного «новояза». Хеллер изображает
конфликт пустых слов (объективных истин) военно-
бюрократической системы с «антиистинами» (субъек-
тивными умозаключениями) частных лиц, смертельно
уставших от «идеологии». Традиционные ориентиры,
под знаком которых росли поколения, в «Поправке-
22» смехотворны. Новых же нет и не предвидится.
Этот идеологический негативизм Хеллер изображает в
сцене «теологического диспута» между Йоссарианом и
женой лейтенанта Шайскопфа, с которой у него роман.
Йоссариан ругает бога. Его подружка (сцена происходит
в постели) требует, чтобы он немедленно прекратил.
Удивленный Йоссариан спрашивает:
«— Да какого черта ты так взъерепенилась?.. Я ведь
думал, что ты правда неверующая.
— Неверующая,— всхлипнула она и злобно раз-
рыдалась.— Так ведь тот бог, в которого я не верю, он же
218
хороший бог, милосердный бог, а не глупый и жестокий,
как у тебя.
Йоссариан расхохотался и отпустил ее.
— Давай-ка, милая, введем у нас свободу совести,—
предложил он.— Пусть каждый не верит в такого бога,
какой ему больше нравится, ладно?»
Дружное неверие в «собственных» богов, как и упор-
ное невыращивание люцерны,— символы отнюдь не
фантастических ситуаций.
В соответствии с традициями смеховой культуры
Хеллер настойчиво компрометирует официальные цен-
ности, меняя местами «низ» и «верх». Местом оче-
редной идеологической дискуссии окажется римский
бордель. Спорят юный Нетли и старик-итальянец. Нетли
убежден, что Америка непременно победит.
«Дались вам эти военные победы,— издевательски
хмыкнул расхристанный старый гнуснец.— Вся штука
в том, чтобы уметь войны проигрывать, чтобы чувство-
вать, какую войну можно проиграть. Италия проигрыва-
ла войны много веков подряд и всегда жила припе-
ваючи. Франция выигрывала — и все время барахталась
в кризисах. Зато Германия проигрывала и процветала.
А теперь гляньте на нашу новейшую историю. Италия
выиграла войну в Эфиопии и сразу наткнулась на беды.
Нас охватила такая сумасшедшая мания величия, что
мы ввязались в мировую бойню без всякой надежды
на победу. Но теперь, когда мы проигрываем, положе-
ние понемногу исправляется, и если нам опять удастся
потерпеть полное поражение, мы снова заживем пре-
красно».
За шуточками персонажа — твердое убеждение авто-
ра: упоение военными победами рождает милитарист-
ское сознание, ощущение своей безнаказанности и утра-
ту интереса к «мирному строительству», что рано или
поздно приводит к беде.
Нетли скажет, что человек просто обязан умереть за
родину, если того потребуют обстоятельства.
«— Вы думаете? А что такое родина? Участок земли,
окруженный со всех сторон границами, причем, как
правило, неестественными. Англичане умирают за Анг-
лию, американцы за Америку, немцы за Германию,
русские за Россию. В этой войне дерутся пятьдесят
или шестьдесят стран. Так неужто все они стоят, чтобы
за них умереть?
219
— Ради продолжения жизни иногда приходится
идти на смерть,— сказал Нетли.
— Ради продолжения жизни надо жить,— возразил
старый, святотатец».
Хеллер и его недостойный пожилой персонаж на-
столько пресытились высокими словами, что не видят
разницы между защитой отечества и защитой интересов
отдельных его представителей. В условиях постоянной
обработки личности со стороны мира других писатель
объявляет вотум недоверия всему, что выходит за рамки
индивидуального: оградить личность от посягательств
Системы необходимо, иначе она превратится в «солдата
в белом», в обрубок без рук, без ног, утыканный труб-
ками и катетерами, что дважды мелькнет в госпитале,
где спасается Йоссариан. Это хеллеровский вариант
памятника Неизвестному Солдату, безымянная жертва
войны, что развернута против личности.
Нарисовав злую карикатуру на современность, в
которой одни увидели родную капиталистическую, а
другие знакомую социалистическую реальность, Хел-
лер, однако, уберег от огня сатиры личность, увидев в
ней единственную положительную антитезу Системе.
Трудно сказать, почувствовал ли писатель, что в этом
плане несколько увлекся, но его второй роман «Что-то
случилось» (1974) стал не только развитием, но и
пересмотром некоторых положений романа-дебюта. Бе-
ли в «Поправке-22» он анализировал ситуацию «вой-
на — это мир», то теперь предложил поразмыслить
над девизом «Мир — это война».
Если Йоссариан мечтал уцелеть на фронте, то у
главного героя «Что-то случилось» Боба Слокума зада-
ча выжить во времена мирные. Это не так-то просто,
и Боб Слокум отнюдь не склонен шутить, когда ска-
жет: «После второй мировой и началась главная война».
У Слокума есть все, о чем мечтают средние аме-
риканцы,— хорошая работа с перспективой роста, дом
в престижном районе, два цветных телевизора и пр.
И все же и он, и члены его семьи живут в постоян-
ных страхах. Боязнь друг друга, неврозы, депрессии
определяют атмосферу Фирмы, где трудится герой.
Все там улыбаются — и боятся друг друга.
Йоссариан пытался бунтовать против Системы. Сло-
кум же, наблюдая отлаженное ее функционирование,
с грустью замечает, что, даже если бы и захотел на-
220
рушить это однообразие отчаянным поступком, из этого
не вышло бы ничего. «Бунт мой канет, словно дождь
в океан, не оставив и следа. Не будет даже мелкой
ряби».
Пагубным обстоятельствам Йоссариан мог противо-
поставить отказ от сотрудничества с «истэблишментом »t
углубившись в поиски чувственных удовольствий —
последний бастион личности, мнящей себя свободной.
Но если в «Поправке-22» развеселые загулы Йосса-
риана, его лихие эскапады и многочисленные эроти-
ческие победы казались вызовом войне и бюрократии,
то в романе «Что-то случилось» Хеллер показывает
ущербность такого отношения к жизни.
Секс здесь уже выглядит привычкой, автомату
ческим рефлексом, он не раскрепощает личность, а
напоминает ей, что она — особым образом устроенная
машина. В начале 60-х годов, когда увидела свет «По-
правка-22» многим казалось, что культ чувств, свобод-
ная любовь спасительны, предохраняют человека от
полного опредмечивания, но в 70-е годы это оборачи-
вается еще одной утраченной иллюзией.
«Что-то случилось» — гигантский монолог главного
героя. Слокум ерничает, хихикает, выворачивает душу
наизнанку, но за его откровениями —- мучительная не-
способность понять, что же все-таки случилось с миром
и людьми и почему выжить в мирное время потруднее,
чем на фронте. Как и Йоссариан, Слокум воевал и
с удовольствием вспоминает те денечки, когда все было
просто и ясно. Ныне же самые простые вещи при бли-
жайшем рассмотрении демонстрируют свою противоре-
чивую сложность. Слокум — это Йоссариан мирного
времени, лишенный ореола борца со злом, ибо бороться-
то вроде и не с кем. Окружающие не строят насчет
Слокума никаких коварных планов, если не считать
желания начальства продвинуть его по служебной лест-
нице по трупам коллег, но он все равно чувствует себя
жертвой. Так и не известно, чем занимается Слокум
в своей Фирме. Это ничего не производящий орган,
занимающийся бесконечным «управлением согласова-
нием». В «Поправке-22» бюрократы-полуавтоматы угне-
тали живых, неомашинившихся людей. В «Что-то слу-
чилось» показано, что и сами эти бюрократы очень
и очень несчастливы.
Когда Клевинджера отдают ни за что ни про что
221
под трибунал, Йоссариан предостерегает прия-
теля:
«— Ты обречен, парень,—сказал он.—Они нена-
видят евреев.
— Так я-то не еврей,— удостоверил Клевинджер.
— Это не поможет,— предрек Йоссариан и оказался
прав.— Они ненавидят всех подряд».
Формула, точно отражающая почти мистический
характер ненависти бюро- и партократии, к простым
смертным. На суде Клевинджеру доведется испытать
эту жгучую и незаслуженную ненависть судей: «Им
хотелось его растерзать. Трое вполне взрослых людей
так ненавидели молодого парня, что желали ему смерти.
Их ненависть воспламенилась еще до его появления
в училище, полыхала, пока он учился, и не угасла с его
отъездом — они люто лелеяли ее, будто заветную драго-
ценность, сообща и поодиночке... Эти трое носили ту
же форму, что и Клевинджер, говорили на его языке,
жили там же, где он, однако, вглядевшись в их безжа-
лостные лица, сведенные судорогой непреложной враж-
дебности, он внезапно понял, что нигде на свете —
ни во вражеских танках, подлодках и самолетах, ни
в укрытиях за пулеметными щитками или у артил-
лерийских орудий, ни среди знаменитых зенитчиков
из дивизии Германа Геринга, ни в мюнхенских пивных,
где собираются за кружкой пива поганые потатчики
фашизма,— словом, нигде в мире не найдутся люди,
которые будут его ненавидеть сильнее, чем эти».
Знакомо ли это чувство нам?
Откуда эта всепоглощающая ненависть?
Все ли самые наши лютые враги живут за кордо-
ном?
Неустанно сражаясь за мир во всем мире, гаранти-
рованы ли мы от возможности той страшной домашней
войны, что десятилетиями тихо бушевала посреди по-
вседневности с ее будничными заботами и веселыми
праздничными демонстрациями?
Вслед за Уильямом Голдингом и Кэтрин Энн Пор-
тер, Норманом Мейлером и Джоном Херси, Джорджем
Оруэллом и Куртом Воннегутом Джозеф Хеллер
предупреждает: главная опасность приходит не извне.
Угроза нашему благополучию в нас самих, когда мы
сколачиваем капиталы на невыращенной люцерне и
щеголяем знанием Поправки-22.
222
Тотальная комическая стихия прозы Хеллера дава-
ла основания иным литературоведам причислить его
к школе «черного юмора». Дело не в титулах и ярлы-
ках. Дело не в том, «модернист» Хеллер или
«реалист», хотя, думается, он ближе к Марку Твену
или Свифту, чем к Пинчону и Хоуксу. Дело в редкой
изобретательности его юмора, который не только «обли-
чает» (это всегда ценилось у нас высоко), но и «по-
знает», открывая новые смыслы. «Сам по себе юмор —
способность интеллекта. Интеллект познает нечто, а по-
том уже оценивает познанное, смотрит, чего оно стоит
и чего заслуживает,— писал исследователь.— Эвристи-
ческое острие юмора направлено на поиски отклонений
от привычного, странностей, неожиданностей, ало-
гизмов, совмещенных несовместимостей — всего того,
с чем интеллект строгий, не склонный.к игре, справляет-
ся с*трудом и даже предпочитает не замечать, делать
вид, что ничего такого нет вовсе»1.
Враг шаблона, юмор реализует себя в борьбе с разно-
образными стереотипами — в поведении, мышлении,
искусстве* указывает на сложный, противоречивый,
но в противоречивости своей целостный характер мира.
В этом смысле юмор может гораздо больше, чем гневно-
прямолинейная сатира, почти всегда, однако, пользую-
щаяся помощью юмора. В этом и неповторимое обаяние
хеллеровского романа.
О ЛЮДЯХ И МАШИНАХ
КУРТА ВОННЕГУТА
В романе Курта Воннегута «Колыбель для кошки»
(1963) герой-повествователь, получив приглашение
поддержать всеобщую забастовку писателей, «пока че-
ловечество не одумается», отвечает решительным отка-
зом. Для него молчание художников слова в мире, изо-
билующем взрывоопасными конфликтами, столь же
противоестественно и чревато печальными последствия-
ми, что и забастовка пожарников. «Если уж человек
стал писателем,— размышляет он,— значит, он взял на
1 Дмитриева Н. Эвристическая роль юмора.— «Театр»,
1977, № 1, с. 118.
223
себя священную обязанность что есть силы творить
красоту, нести свет и утешение людям». В этих словах
персонажа — вполне серьезное отношение самого Вон-
негута к своему насмешливому искусству, которому
он служит верой и правдой почти четыре десятилетия.
Он опубликовал свой первый роман «Механическое
пианино» (в русском переводе «Утопия-14») в 1954 го-
ду. Роман отнесли к научной фантастике, что вызывало
улыбку тридцатидвухлетнего дебютанта, который, по
его словам, «писал только о том, что видел и слышал
у себя в Шенектеди, вполне реальном городке, уныло
существующем в нашей унылой повседневности». Уны-
лую повседневность Воннегут «скопировал» с помощью
гротеска, полагая, что фантастическое преувеличение .—
лучший способ описать реальность, которая — если
только повнимательней к ней присмотреться — при-
чудливей любого вымысла.
Под будничными видимостями, отринутыми автором
за ненадобностью, обнаружились весьма тревожные
сущности. Созданный его фантазией город Илиум —
царство хитроумных ЭВМ, осыпающих обитателей все-
возможными благами и удобствами, в том числе и при-
нимающих за них решения, всегда рациональные и
эффективные, а взамен требующих лояльности к себе
и тем избранным, кому посчастливилось обслуживать
электронных благодетелей. «Механическое пианино»
прозвучало злым пасквилем в адрес машинного уто-
пизма, ставшего следствием научно-технической рево-
люции, с одной стороны, и разочарования в традицион-
ных ценностях — с другой. В 50-е годы в Америке,
да и вообще на Западе, казалось, что кризис либе-
ральных идей, остро заявивший о себе после второй
мировой, преодолим с помощью перестройки сущест-
вующих отношений на основе точного знания. Вон-
негут, однако, видел в фетишизации «умных машин»
опасное проявление технократической глупости, пре-
небрегающей категориями нравственности как безна-
дежно устаревшими и направляющей общество по удоб-
ной, отлично обкатанной дороге, которая ведет к
катастрофе.
Бывший фронтовик, бывший «технократ» (инженер-
химик), бывший сотрудник знаменитой корпорации
«Дженерал электрик», Воннегут снова и снова возвра-
щается в своих книгах к двусмысленной ценности
224
точного знания, к иллюзорности упований на то, что
союз ученых и политиков ведет к осуществлению рая
на земле. Как сотрудник отдела внешних связей «Дже-
нерал электрик» Воннегут должен был рекламировать
деятельность корпорации, содействовать не только
сбыту Продукции, но и повышению престижа этой
организации, избравшей для себя девиз: «Наша основ-
ная продукция — прогресс».
Воннегут оказался нелояльным сотрудником: в сво-
бодное от работы время он сочинял иронические похва-
лы машинной глупости. Гораздо позже, в 1970 году,
выступая перед студентами, он так сформулирует свою
позицию: «Нам постоянно твердили, что наука сделает
нашу жизнь чрезвычайно счастливой. Но вышло так,
что венец научной мысли мы сбросили над Хиросимой...
Тогда я решил быть с собой откровенным. «Слушай-ка,
капрал Воннегут,— сказал я себе,— с чего это ты такой
оптимист?» В общем, с той поры я сделался вполне
последовательным пессимистом, позволяя себе отступле-
ния лишь в самых редких случаях».
Воннегут в своих книгах затрагивает самые разные
проблемы, волнующие мир сегодня, но тема войны, угро-
за тотальной катастрофы и удивительное равнодушие
человечества к своему будущему определяют основную
тональность его прозы.
Серьезность, которую напускает на себя повседнев-
ность, смехотворна. Смех, напротив, серьезен, анали-
тичен, целителен. Он позволяет человеку выдержать
натиск дурной действительности, хотя бы ненадолго
ощутить себя хозяином положения. Воннегут не без
удовольствия повторяет формулу одного из своих кри-
тиков, убежденного, что в книгах этого писателя
«смех — средство временного утоления экзистенциальт
ной боли». Его проза, где смешаны гротеск и фантасти-
ка, сатирическое и документально-автобиографиче-
ское,— не только и не столько отражение реальности,
сколько защита от нее, попытка воздвигнуть оборо-
нительные редуты, позволяющие уберечься от ее раз-
лагающего воздействия. Это приглашение перестать
быть послушными актерами, действующими лицами
жестокого балагана, что разыгрывает с нами современ-
ность, и немного побыть потешающимися над ее глу-
постью зрителями. Не случайно именно так, «Балаган»,
назван один из романов Воннегута.
8 С Белов
225
Его, как и Хеллера, пытались записать в «черные
юмористы». Это вряд ли что-либо проясняет. Возможно,
ближе к истине исследователь его творчества Питер
Рид, убежденный, что «юмор Воннегута твердо укоренен
в американской комической традиции... От Твена до
Фолкнера и Маламуда комическое отношение к миру
заключалось в способности наблюдать разгул стихии
человеческого безрассудства не с тем жизнерадостным
наслаждением, что отличало английскую комедию от
Чосера до Джойса Кэри, но с отстраненно-ироническим
удивлением»1. Американская комическая традиция, по
Риду, лишена веры в то, что «с ужасами нашего
существования можно справиться», и взирает на мир
«если не с полной безнадежностью, то с изрядной
долей пессимизма»2. Подобно романам Хеллера и в от-
личие от «комического модернизма» Пинчона, Хоукса,
Дж. Барта, Бартельма, проза Воннегута обращена к
рядовому читателю, не боится показаться недостаточно
утонченной или попросту вульгарной.
Во многих романах Воннегуту активно помогает
рожденный его воображением писатель-фантаст Килгор
Траут, а в «Колыбели для кошки» его функции испол-
няет мыслитель-парадоксалист Боконон. В опусах Тра-..
ута описываются далекие планеты, где творятся разные
странности, при ближайшем рассмотрении оказываю-
щиеся пародией на родную нашу современность. Возни-
кает иронически-фантастический контекст, важная
пружина воннегутовского механизма отчуждения. Вон-
негут расширяет будничную повседневность до размеров
целой галактики, рассматривает «мелочи жизни» как
бы в телескоп. Он постоянно играет с хронологией.
В «Механическом пианино» действие происходит в
недалеком будущем, в романах «Сирены Титана» и «Га-
лалагосы» сегодняшняя реальность объявляется седой
древностью, рассматривается из далекого-предалекого
будущего.
Воннегут. делает это не забавы ради. Он всеми
способами старается разрушить стереотипы обыденного
мировосприятия. Особенность такого подхода заклю-
чается в том, что нам свойственно очень многое вос-
принимать автоматически, не подвергая сомнению пра-
'*Reed Р. Kurt Vonnegut-Jr. N. Y., 1972, p. 216.
2 Ibid.
226
вомерность или разумность того или иного явления.
Привычно, повторяется изо дня в день — стало быть,
нормально, справедливо, истинно. Но время от времени
человек испытывает настоятельную потребность взгля-
нуть на мир свежим взглядом ^ как бы заново, как бы
со стороны. Тут немалую помощь оказывает искусство,
в том числе и искусство слова. Ироническое искус-
ство Воннегута — постоянная проверка окружающего
мира на прочность, истинность, пригодность для чело-
века.
При всей понятности, общедоступности, заниматель-
ности, переходящей, как может показаться, в самоцель,
романы Воннегута очень сложны и емки по мысли) и
заставляют вспомнить традиции Свифта и Вольтера,
Уэллса и Бернарда Шоу ./Впрочем, принципы высокой
сатиры Воннегут легко сочетает с сатирой площадей,
карнавала, народной сказки^ А в «Завтраке для чем-
пионов» он берет на себя функции лексикографа, и
давно знакомые реалии и понятия переосмысляются
автором в духе «Словаря Сатаны» Бирса и флоберовско-
го «Лексикона прописных истин».
Такое пособие способно сослужить свою службу.
Людям, огорченно полагает Воннегут, свойственно за-
бывать истинный смысл слишком многих важных по-
нятий и явлений. В «Колйбёли для кошки» на испы-
таниях атомной бомбы кто-то замечает: «Теперь наука
познала грех». На что великий ученый Феликс Хоник-
кер, создавший у Воннегута эту бомбу, спрашивает:
«Что такое грех?» Не знает великий ученый и что
такое любовь. «Человеческий элемент» мало волнует
гения науки. Главная ценность для него — научная
истина. Ей он служит верой и правдой. Вопросы мо-
рали, гуманности, милосердия для него нечто ирреаль-
ное, не заслуживающее внимания. «Иногда я думаю,
уж не был ли он мертвецом? — размышляет о нем
один из персонажей.— Никогда не встречал человека,
который настолько не интересовался бы жизнью. И мне
кажется, вот в чем наша беда — слишком много людей
занимают высокие места, а сами трупы трупами».
Хеллер писал о машиноподобных бюрократах, интел-
лектуальных ничтожествах. Воннегут пишет о техно-
кратах, интеллектуальных гигантах, но нравственных
пигмеях. И те, и другие несут ответственность за^ то,
что естественным состоянием для нас стала война.
8*
227
Любопытно, что в многочисленных интервью и выступ-
лениях Воннегут неизменно называет среди писателей,
оказавших на него наибольшее воздействие, Джорджа
Оруэлла, который создал впечатляющий образ чело-
веческой глупости, ведущей мир к гибели. У Вонне-
гута, однако, оруэлловская формула «незнание — сила»
видоизменяется в «знание — слабость». Всякое специ-
альное знание, научное, техническое и т. д., не будучи
«разбавлено» нравственным началом, делает челове-
чество все более беспомощным перед лицом Судьбы.
Одна из главных тем прозы Воннегута — тема
Катастрофы, от «рукотворного апокалипсиса» Дрездена
в «Бойне номер пять» (1969) и гибели одного города
в романе «Малый не промах» (1982) до конца света
в «Колыбели для кошки» и вырождения человечества
в человекообразных водоплавающих в книге «Галапа-
госы» (1985). Эти катастрофы, большие и малые,
предопределены в немалой степени фетишизацией
научного знания, превращающего людей в придаток
технологии, создающего машинообразных индиви-
дуумов.
...Жили-были на планете Тральфамадор существа
очень похожие на людей. Непрочные и недолговечные.
Непредсказуемые и малоэффективные. Одержимые иде-
ей высшего смысла, якобы присущего их жизни. Они
строили машины, которые делали все, что им поруча-
лось, да так успешно, что им были поручены и поиски
высшего смысла. Машины взялись за работу и наконец
со всей машинной прямотой доложили: жизнь существ
лишена высшего смысла. Это сообщение так огорчило
«похожих на людей» существ, что они с горя принялись
убивать друг друга. Но так неумело, что и тут цришлось
звать на помощь машины. Те снова проявили порази-
тельную оперативность, и все кончилось тем, что челове-
кообразных не стало, и с тех пор на Тральфамадоре
живут одни лишь машины.
Сказка ложь, но в ней намек...
Машины — это мы с вами, хоть и полагаем себя
людьми со свободной волей.
Беда современности, по Воннегуту, не столько в том,
что возникают новые и новые хитроумные машины,
способные, помогая человеку, в конечном счете его
«отменить», сделать излишним, скодько в том, что сами
люди — в том числе и в домашинных обществах —
228
слишком охотно отказываются от права и долга быть
личностями. Они живут и мыслят стереотипами, де-
лают послушно то, что им прикажут. В «Сиренах
Титана» Воннегут опишет марсианскую колонию, где
выходцев с Земли программируют таким образом, что
любое отклонение от официальной линии немедленно
отзывается адской головной болью у ослушников. На-
сколько это тонко подмечено, можно судить по нашей
собственной истории. В стране Победившего Едино-
мыслия десятки лет было принято думать одинаково,
любить и ненавидеть то, что любила и ненавидела
горстка правителей, обладавших достаточными и разно-
образными способами причинять «головную боль» тем,
кто совершал «мыслепреступления».
Манипуляция людьми, использование их в качестве
орудий для достижения тех или иных «высших целей»,
по Воннегуту,— тяжкий грех. Его-то и совершает в ро-
мане великий манипулятор Уинстон Найлс Румфорд,
задумавший устроить войну между Землей и Марсом.
Эта война необходима для того, чтобы сплотить землян
воедино и выработать у них отвращение к насилию,
после славной победы объединить их в нерушимый
союз. Баталия, оборачивающаяся безжалостным истреб-
лением бедняг марсиан,— злая пародия на священные
войны, якобы способные открыть человечеству дорогу
в рай. Кстати, великий вред нацизма, о чем говорили
многие военные прозаики США, состоял и в том, что
Гитлер позволил своим противникам возродить идею
благородной войны, насилия во имя добра...
В «Колыбели для кошки» острову Сан-Лоренцо
суждено погибнуть от дьявольской игрушки, изобре-
тенной великим ученым Феликсом Хониккером,—
«льда-девять», способного заморозить все живое. Роман
являет собой своеобразный сатирический диспут между
представителями наиболее влиятельных мировоззрен-
ческих течений.
Во-первых, это клан ученых-технократов, вдохновен-
но удовлетворяющих собственное любопытство, рас-
колдовывая загадки Вселенной, пополняя кладовую
человеческого Знания. «Новые знания — самое ценное
на свете. Чем больше научных истин мы открываем,
тем богаче становимся!» — гордо возвестит один из
рыцарей науки. Есть и заказчики-потребители — воен-
ные и политики, но они остаются у Воннегута на
229
втором плане, не играя сколько-нибудь существенной
роли в «обмене мнениями». Зато важное место зани-
мает философ Боконон, парадоксальные афоризмы кото-
рого обильно уснащают текст романа. Четырнадцатый
том работ Боконона содержит лишь одно произве-
дение, состоящее из единственного слова «Нет!». Так
коротко ответил мыслитель на вопрос, вынесенный им
в заглавие трактата: «Может ли разумный человек,
учитывая опыт прошлых веков, питать хотя бы малей-
шую надежду на светлое будущее человечества?»
По теории «динамического равновесия», предложен-
ной Бокононом, мирового зла не искоренить, но ему
можно противопоставлять добро. Помогать человеку
всеми силами, в том числе и «сцасительной ложью».
В свое время Боконон пытался действовать. Он по-
пробовал учредить на острове Сан-Лоренцо утопию и,
как все практикующие утописты, с треском провалился.
Теперь же этот дальний родственник Луки из «На дне»
Горького в качестве спасения обитателей острова от
всех бед избрал оригинальный путь: «Давать им ложь,
приукрашивая ее все больше и больше».
В системе романа Боконон с его лозунгом — лю-
быми способами облегчать жизнь человека в очень
недобром мире — воспринимается как оппонент бездуш-
ного технократа Хониккера с его апологией научной
истины. Этот своеобразный диспут «гуманитария» и
«сциентиста» весьма показателен для культурной си-
туации Запада, где он с различной силой вспыхивал
не раз за последние десятилетия. Безличному знанию
Хониккера о вещах противостоят иронические раз-
мышления Боконона о человеке с его капризами, чу-
дачествами, изъянами и полной неспособностью укла-
дываться в прокрустово ложе доктрин об обществе
и личности. Посмеиваясь над различными теориями
такого рода, Боконон строит свою собственную, умыш-
ленно противоречивую философию боконизма с ее шу-
товской терминологией — карассами, гранфаллонами и
вампитерами.
Было бы, однако, неверно противопоставлять Бо-
конона Хониккеру как «положительного» персонажа
«отрицательному». Смущает в учении Боконона то,
что всем оно по душе на Сан-Лоренцо, всем оно выгодно.
Простой люд утешается мыслью о народном заступни-
ке, учение которого запрещено властями предержащими
230
(им и невдомек, что это сделал сам Боконон). Прави-
тели острова (очень похожего на Гаити) объясняют
развал экономики происками международного боко-
низма. Сам же Боконон от души потешается разыграв-
шейся по его воле комедией веры. По мере развития
сюжета шутник-парадоксалист в нем вытесняет уте-
шителя. Афоризмы складываются в философию весе-
лого нигилизма, издевающегося и над абсурдной
реальностью, и над наивностью тех, кто, принимая
ее всерьез, намерен изменить и улучшить мир.
Хониккер «расколдовывает» окружающую действи-
тельность, но примерно тем же занимается и Боконон.
Он разоблачает иллюзии и разрушает мифы. И в то же
время сооружает новые. Одни для толпы, другие для
тех, кто поискушеннее. Народу он «сбывает» религию,
элите — «эстетическое мировоззрение», прежде всего
иронию как оружие ото всех напастей. В конечном
счете оппоненты стоят друг друга. Они оба, каждый
в своем роде, забавники. Игры экспериментатора Хо-
никкера и комментатора Боконона чреваты вполне
практическими последствиями. Хониккер не вынаши-
вает маниакальных планов покончить с цивилизацией,
но вдохновенно мастерит оружие для ее уничтожения.
Не менее взрывоопасна ироническая продукция Боко-
нона. Тотальная ирония в каком-то смысле даже
заинтересована в неблагополучии мира. Черпая в его
невзгодах материал для своих убийственно остроумных
вердиктов, она — чем не хониккеровский лед-девять! —
замораживает всякое положительное устремление,
ничего не предлагая взамен.
У Роберта Фроста есть небольшое, но ставшее зна-
менитым стихотворение «Огонь и лед»:
Кто говорит, мир от огня
Погибнет, кто от льда.
А что касается меня,
Я за огонь стою всегда.
Но если дважды гибель ждет
Наш шар земной,— ну что ж,
Тогда для разрушенья лед
Хорош
И тоже подойдет.
Перевод М. Зенкевича
Это стихотворение, перекликаясь с реалиями «Ко-
лыбели для кошки», является своеобразным эпиграфом
231
к творчеству Воннегута в целом, предупреждающему
об опасности и огненной стихии войны, и ледяного
царства нравственной глухоты ко всему, что выходит
за рамки эгоцентрических устремлений человека.
У Воннегута две излюбленные мишени. Это идея
благодатности научно-технического прогресса и миф о
свободной воле, которой якобы наделен современный
человек. Бели в «Колыбели для кошки» Воннегут при-
звал к ответу научное сознание, сосредоточенное на
улучшении качества не жизни, но смерти, а заодно
и указал на те трудности, что испытывает «гумани-
тарная оппозиция» к технократическому бездушию, то
в романе «Ночная тьма» (1961) он продемонстрировал
границы автономии якобы свободной личности.
«Это единственное мое произведение, мораль кото-
рого легко сформулировать, и она не так уж обна-
деживает,— писал Воннегут в предисловии.— Мы суть
то, чем прикидываемся, и потому должны тщательней
выбирать роль, какую хотим сыграть».
Главный герой, американский писатель Говард
Кемпбелл, такой осторожности не проявил. Оказавшись
в нацистской Германии, он стал во время войны одной
из самых ярких и одиозных фигур геббельсовской
пропаганды. Его зажигательные речи по немецкому
радио, полные нацистских лозунгов и антисемитского
бреда, привели к тому, что после разгрома Германии
он оказался в числе военных преступников. Угодив
в плен к своим бывшим соотечественникам, он должен
предстать перед трибуналом.
Но возмездию не дано свершиться. Дело Кемпбелла
потихоньку сворачивают. Выясняется, что во время вой-
ны этот рьяный поборник «нового порядка» оказывал
чрезвычайные услуги американцам. Его речи по радио,
оголтело нацистские по форме, были в то же время
сцособом передачи секретных сведений американскому
военному командованию. Кодом служила особая система
пауз, покашливаний, ключевых слов. Причем Кемпбелл
понятия не имел, что именно передает он за океан
своим шефам.
В столь рискованное предприятие он пустился не из
ненависти к нацизму. Ему были глубоко безразличны
и политика, и принципы демократии. По-настоящему
он любил только свою жену, актрису, которая тоже,
не испытывая особой любви к идеям фюрера, постоянно
232
выступала перед солдатами и офицерами победоносного
вермахта. Кемпбеллы были лояльными гражданами
Государства из Двоих, служили ему верой и правдой.
Но жена пропадет без вести (потом выяснится, что
она погибла во время гастролей на фронте), и Госу-
дарство распадется. Кемпбеллу суждено будет стать
«человеком без родины». Тайным агентом же он сде-
лался из желания сыграть главную, эффектную роль,
почувствовать себя важной персоной — страсть, снедаю-
щая многих героев Воннегута.
Существует гипотеза, что, работая над «Ночной
тьмой», Воннегут имел в виду судьбу Эзры Паунда,
американского поэта, славившего фашизм как противо-
вес «загнивающей плутократии» Запада. Как и вонне-
гутовский герой, Паунд выступал с профашистскими
речами (правда, по римскому радио), а после войны
предстал перед трибуналом как военный преступник.
Биограф Паунда Ч. Норман писал, что итальянцы не
до конца доверяли поэту, опасаясь, что в его речах
есть некий тайный смысл. Вряд ли, однако, Воннегут
собирался давать свое толкование феномену Паунда.
Что же касается двуликого Кемпбелла, работавшего
на американцев тайно, а на нацистов явно,— то не-
известно, что еще перевесит. «Ложь для прикрытия»,
по Воннегуту, может оказаться главней потаенной
«правды». Кемпбелл приносил нацистам пользу,
облекая их бредовые идеи в эмоционально убедительные
формы. Недаром тесть Кемпбелла, начальник полиции
в одном из немецких городов, скажет, что если бы не
радиовыступления зятя, он бы давно решил, что Герма-
ния сошла с ума. Его вера в нацизм поддерживалась
не идеями Гитлера или Геббельса, а талантом Кемп-
белла, умело их пропагандировавшего.
За раздвоенностью Кемпбелла, одинаково удачно
работающего на два лагеря, вырастает важная для Вон-
негута тема социальной инертности «маленького че-
ловека», старательно выполняющего любые задания, ис-
ходящие сверху, независимо от того, что за ними
кроется. Зло творят не одни лишь отпетые негодяи.
Его проводят в жизнь простые смертные, которые в иных
обстоятельствах столь же старательно служили бы
добру. Особенностью массового сознания, подчеркнутой
Воннегутом, является нравственный вакуум, позво-
ляющий примирять в себе любые, в том числе вроде бы
233
несовместимые идеи и принципы. Как правило, потом
эти люди уходят от ответственности за содеянное —
всегда оказываются люди куда более виноватые. На
этих людей не хватит никаких Нюрнбергских процес-
сов, ведь они только делали, что им было велено. Но
всякий приказывающий в то же самое время был испол-
нителем воли кого-то, стоящего на ступеньку выше.
Если следовать этой логике, то виноватым и вовсе ока-
жется один-единственный человек, находящийся на са-
мом верху социальной пирамиды. Но и у него найдутся
защитники, которые будут утверждать, что он хотел
как лучше, просто от вождя скрывали истинное поло-
жение дел нечестные или плохие помощники, пользо-
вались его доверчивостью в корыстных целях. Ма-
ленький же человек покладист: если надо, то будет
писать доносы или пытать подследственных, а изме-
нятся времена — сделается обходительным, будет пре-
зирать анонимщиков, гневно клеймить «тридцать
седьмой год». Любопытно, что самое тяжкое для Кемп-
белла — не быть слугой двух господ, но остаться вовсе
без «ангажемента». Самым тяжелым испытанием для
него окажется послевоенная жизнь. В конце концов он
объявит себя военным преступником и отдастся в руки
израильтянам. Но во время процесса по его делу суд
получит объяснения от того самого загадочного полков-
ника спецслужб США, что когда-то завербовал его.
Приговор не будет вынесен, Кемпбелла снова соби-
раются отпустить на все четыре стороны. Но свобода
для него хуже неволи. Он сам выносит себе смертный
приговор. «Сегодня ночью,— размышляет он,— я пове-
шу Говарда Кемпбелла в его камере за преступление
против самого себя. Прощай, жестокий мир!»
Мир романа жесток, идет ли речь о годах нацизма
или о послевоенной поре. Жестокость эта, подчерки-
вает писатель, не завезена с другой планеты, не выра-
батывается одиозными партиями вроде национал-со-
циалистической и пр. Слишком многие представители
человечества ищут благородных оснований для своих
жестоких устремлений. Таков бывший офицер Бернард
О'Хейр, в свое время бравший в плен Кемпбелла в
Германии. Узнав, что этому преступнику удалось уйти
от правосудия, он пытается сам учинить над ним рас-
праву, но терпит поражение и вынужден выслушать
лекцию легко справившегося с ним Кемпбелла: «Есть
234
много причин воевать, но нет причин ненавидеть бес-
предельно, воображая, что с тобой вместе ненавидит
господь бог. Что такое зло? Это весьма значительная
часть каждого из нас, которая жаждет ненавидеть без
оглядки, заручившись поддержкой всевышнего. Это
идиот, сидящий в нас, который с удовольствием карает
и сладострастно мстит».
Как и многие его коллеги, писавшие о войне, на-
цизме, деспотизме, Воннегут не склонен все прощать
личности лишь потому, что ей случилось воевать «на
правильной стороне». Маленький человек, даже если он
и обладает формальной свободой, остается предметом
борьбы различных группировок. Кемпбеллом будут
интересоваться и американские нацисты, и израиль-
ские спецслужбы, и советская разведка — каждая из
этих сторон видит в нем совсем не то, что он есть на
самом деле (хотя и сам он порой в растерянности
останавливается перед вопросом, в чем его истинная
сущностей возникает опасение, что ее вообще нет).
Более того, всякое нормальное проявление человечно-
сти, любовь или дружба,— в конечном счете оказывается
очередным способом контролировать и программиро-
вать человека. Мир окончательно рухнет для Кемпбелла,
когда он узнает, что и его близкий друг-художник,
и его возлюбленная агенты иностранной разведки,
выполняющие спецзадание, где фигура Кемпбелла
играет центральную роль. Этого самого художника
Крафта (он же майор КГБ Иона Потапов) наши цензо-
ры «переварить» не смогли, и роман надолго угодил в
спецхран.
Военная тема находится в центре одного из самых,
пожалуй, известных романов Воннегута «Бойня номер
пять, или Крестовый поход детей» (1969), в основе
которого личный опыт автора как фронтовика, военно-
пленного, свидетеля бомбардировки Дрездена англо-
американскими ВВС, когда было убито и ранено более
130 000 жителей. Эти воспоминания, эта неутихающая
боль долго не позволяли Воннегуту обрести необходимое
для писателя равновесие, отстраненность, чтобы можно
было взяться за перо и сочинить роман. Традиционные
формы художественного отражения реальности каза-
лись чем-то глубоко искусственным и фальшивым по
сравнению с реальностью. Чтобы сказать, как это сделал
Воннегут, на первой же странице: «почти все это
235
произошло на самом деле»,— опять приходилось звать
на помощь гротеск и фантазию. Воннегут по-своему
бросил вызов теории молчания Джорджа Стайнера, но,
похоже, согласен с ним в том, что «реализм» в изобра-
жении тех давних событий если не кощунствен, то
фальшив.
Обитатели планеты Тральфамадор, куда Воннегут за-
брасывает своего героя Билли Пилигрима, убеждены,
что все живые существа и все растения во вселенной —
машины. Они не понимают, почему земляне обижаются,
когда их называют машинами. Для тральфамадорцев
в этом нет ничего зазорного. Машинный статус сулит
удобства — ни страданий, ни потрясений. Согласно
научной точке зрения, принятой на Тральфамадоре,
мир надлежит принимать таким, как он есть, не пытаясь
ничего изменить. «Такова структура данного мо-
мента» — стандартный ответ на все «почему».
Тральфамадорцы разгадали все загадки вселенной;
они знают, что однажды сами взорвут ее — не со зла,
не в ходе «священной войны», а испытывая новое
горючее для своих летающих блюдец. Но грядущие
катаклизмы не портят настроения жителям этой ра-
циональнейшей из планет, научившимся «не обращать
внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших
моментах».
Билли Пилигрим — типичнейший воннегутовский
человек-автомат, в один прекрасный день «выпавший
из времени», когда попал в авиакатастрофу. Теперь
он начинает свободно путешествовать по времени и
пространству. Он курсирует между Землей и Тральфа-
мадором, из Германии 1945 года он попадает в Америку
1967-го: он едет в «кадиллаке» через негритянское
гетто, ставшее ареной расовых побоищ, в Клуб Львов,
где некий майор будет требовать разбомбить Северный
Вьетнам до основания: «Пускай у них настанет камен-
ный век, если они не хотят внять голосу разума».
В скитаниях Пилигрима хаотичность только кажу-
щаяся. Его маршрут выверен четкой логикой мысли
автора. Дрезден 1945-го, США 1967 года и Тральфа-
мадор — три планеты воннегутовской галактики — вра-
щаются по схожим орбитам и подчиняются законам
«целесообразности», где цели всегда оправдывают сред-
ства, а чем больше человек напоминает машину, тем
лучше для него и для машинно-человеческого социума.
236
В «дрезденском» фрагменте романа Воннегут стал-
кивает две гибели — огромного немецкого города и одно-
го американца-военнопленного. Дрезден погибнет в
результате тщательно спланированной и четко вы-
полненной операции, где «техника решает все». Аме-
риканец Эдгар Дарби, до войны читавший в универси-
тете курс по проблемам современной цивилизации,
тоже будет убит по инструкции. Его обвинят в маро-
дерстве — он взял чайник, хозяева которого погибли.
Дважды восторжествует инструкция. Дважды совершит-
ся преступление. Можно говорить о разномасштабности
этих двух событий, но для Воннегута они взаимо-
связаны, ибо порождены логикой бездушия и прагма-
тизма, когда в расчет принимаются не люди, а безли-
кие человеко-единицы.
О войне машин, битве технологий, где люди играют
подчиненную роль, идет речь в романе англичанина
Лена Дейтона «Бомбардировщик» (1970). Это написан-
ная с документальной точностью и скрупулезностью
история одного вылета подразделения британских ВВС.
В результате нелепой ошибки смертоносный шквал
обрушится не на военный объект, а на маленький не-
мецкий городок, в течение нескольких минут ставший
гигантской братской могилой. Британские летчики
проявляют чудеса мужества, отваги, профессионального
мастерства, чтобы убивать женщин и детей. Немецкие
зенитчики и пилоты истребителей с не меньшим му-
жеством сражаются во имя фюрера и величия рейха.
И те, и другие оказываются в роли винтиков в огром-
ном перпетуум-мобиле войны. Тем, кому удается выйти
живым из боя, логикой идеологии милитаризма уго-
тованы новые . неприятности — уже не на поле боя.
Английский летчик Ламберт будет отстранен от полетов,
а затем уволен из ВВС — в первую очередь из-за не-
желания угождать начальству и скрывать свое отрица-
тельное отношение к войне вообще и этой в частности.
Его немецкий коллега Химмель, доблестно сражавший-
ся с англичанами в ночь рокового налета, затем будет
отдан под трибунал, осужден и расстрелян: его вина
состоит в том, что он завладел секретным отчетом о
бесчеловечных экспериментах по «выживанию», прово-
димых над заключенными в Дахау. Химмель не соби-
рается передавать документы врагу. Он лишь хочет,
чтобы о них узнали его товарищи — военные летчики,
237
ведь якобы ради них затеяны опыты. Они должны за-
явить протест, если хотят сохранить уважение к себе.
Но из затеи Химмеля ничего не выходит... «Все мы —
жертвы обстоятельств,— скажет один из персонажей-
немцев.— Нам приказывают, и мы с готовностью стре-
ляем. Один человек — ничто по сравнению с Системой.
Что толку сопротивляться... И вообще, командует ли
человек германской подлодкой или ведет британский
бомбардировщик, результат случая...» А англичанин
Ламберт выразится так: «У меня порой возникает впе-
чатление, что немецкие военные машины сражаются
с машинами английскими...» Здесь очевидна пере-
кличка с автоматизированными людьми Воннегута.
В одной из книг его персонажа-писателя Килгора Тра-
ута речь идет о роботах, «бросавших с самолетов сгу-
щенный желеобразный газолин для сжигания чело-
веческих существ. Совесть у них отсутствовала,
и они были запрограммированы так, чтобы не пред-
ставлять себе, что от этого делается с людьми на
земле».
«Отключившись от времени», Билли Пилигрим впер-
вые обретает дар памяти. Памяти исторической, удер-
живающей в сознании пересечения частного существо-
вания с судьбой других людей, с судьбой цивилизации.
Куцая память — печальное свойство человекообразных
автоматов, ошибочно полагающих себя полноценными
людьми.
Забвение прошлого, как известно, ^чревато опас-
ностью повторения пройденного. Помнить о трагическом
прошлом, не закрывать глаза на трагедии настоящего,
думать самостоятельно и пытаться что-то противопоста-
вить автоматическому бездушию — таков урок «Бойни
номер пять». Узнав о намерении героя-повествователя
написать антивоенную книгу, один из персонажей
восклицает: «А почему бы вам не написать антиледни-
ковую книжку?» Тот не спорит: остановить войны «так
же легко, как остановить ледники», но он выполняет
свой писательский долг. «Я сказал своим сыновьям,—
продолжает он,— чтобы они ни в коем случае не при-
нимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении
врагов, они не испытывали бы ни^радости, ни удовлет-
ворения. И еще я им сказал, чтобы они не работали
на те компании, которые производят механизмы для
массовых убийств, с презрением относились бы к людям,
238
считающим, что такие механизмы необходимы». По-
добные напоминания нужны, чтобы всех землян не
охватило благодушное всеведение жителей Тральфа-
мадора, которые, зная «структуры» всех без исклю-
чения моментов, веселятся напропалую в ожидании
конца вселенной.
Вторая часть названия «Бойни номер пять» —
«...или Крестовый поход детей» — передает воннегутов-
ское понимание феномена войны в целом и солдатской
доблести в частности. Повествователь вспоминает, как
в далеком 1213 году двое жуликов-монахов задумали
лихую аферу — продажу детей в рабство. Для этого
они объявили о крестовом походе детей в Палестину,
заслужив похвалу папы Иннокентия III. Из тридцати
тысяч «добровольцев» почти половина погибла в кораб-
лекрушениях, примерно столько же было продано в
рабство, и лишь малая часть малюток-энтузиастов по
ошибке попала в Геную, где их не ждали рабовла-
дельческие корабли. Местные жители накормили и
приютили их, а затем отправили обратно.
Слишком часто, по Воннегуту, «священные войны»
оборачивались похожим мошенничеством, и солдаты,
погибающие во имя Общего Блага, подозрительно на-
поминают незадачливых маленьких крестоносцев сред-
невековья — только-только вступающие в жизнь, довер-
чивые, не понимающие толком, что творится вокруг
них, и уже обреченные. Таким крестовым походом стали
уже после второй мировой Вьетнам для американцев,
Афганистан для нас.
Вспоминать прошлое больно, мучительно оборачи-
ваться назад, но порой это очень нужно. Жене Лота
было приказано не оглядываться, когда она покидала
с мужем обреченный город. «Но она оглянулась, за
что я ее люблю, потому что это было так по-челове-
чески»,— скажет повествователь.
Как отмечали критики, в воннегутовской книге есть
что-то от этого «взгляда назад». Автор не может вы-
черкнуть из памяти тех, кто погиб, оказавшись по иную
сторону «баррикад», не снискав героического ореола.
Забыть об этих людях — значит не понять в войне
самого главного. Огромный успех «Бойни...» не в по-
следнюю очередь определяется ее редкой задушев-
ностью, прорывающейся через все уловки иронического
разрушителя стереотипов, через сатиру и гротеск, через
239
наигранный цинизм. Повествователь обладает способ-
ностью искренне сочувствовать своим персонажам,
преодолевая в себе профессиональную отстраненность
«нормального художника».
Парадокс ситуации Билли Пилигрима заключается
в том, что нормальный человек пробуждается в нем
именно тогда, когда окружающие приходят к выводу,
что он повредился в уме. Рехнулся, по мнению близких,
и Элиот Розуотер, мелькнувший в «Бойне номер пять»,
а подробно описанный в более раннем романе «Дай
вам бог здоровья, мистер Розуотер» (1965). Бывший
капитан пехоты, а в мирное время миллионер, он вдруг
возлюбил человечество, решив окружить теплотой, по-
ниманием и заботой выкинутых на обочину современ-
ности американцев. Он возится с нищими, неудачни-
ками, теми, кого «организованное общество» отринуло
за ненадобностью.
Возлюбил человечество — стало быть, не в себе.
Никому, однако, не пришло в голову счесть рехнувшим-
ся того же Элиота, когда во время войны, в Германии,
он убил троих пожарников, сгоряча приняв их за эсэ-
совцев. Никто не ужаснулся, не увидел в этом ничего
из ряда вон выходящего — лес, дескать, рубят... Ужас-
нулся сам Элиот, попавший, как и Билли Пилигрим,
в госпиталь с психическим расстройством. Для Вонне-
гута «психи» Розуотер и Билли Пилигрим — как раз
нормальные, настоящие люди, а вот их психически
полноценные, с точки зрения медицины, родственни-
ки — душевнобольные в том смысле, что у них серьезно
повреждено душевное начало, хотя в избытке деловой
хватки и «здравого смысла».
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Этот
давний завет выступает в роли главного воннегутов-
ского этического императива. Появившись впервые в
«Сиренах Титана», он в той или иной форме возникает
и в других романах Воннегута. Истоки социального зла
и несправедливости писатель ищет в обществе — и
в человеке, в том числе и в «маленьком человеке», ко-
торого слишком часто выставляют сплошным страдаль-
цем, жертвой дурных общественных укладов. Отец
Роланда Вири из «Бойни номер пять» вдохновенно
собирает коллекцию орудий пытки. Другой персонаж
«Бойни...» Поль Лаззаро убежден, что слаще мести
ничего на свете нет. Кстати, от его пули и должен по-
240
гибнуть 13 февраля 1976 года прошедший через дрезден-
скую бойню и уцелевший в авиакатастрофе Билли
Пилигрим. Кто же больше виноват в нарастающей
волне насилия, терроризма, нетерпимости — далекие от
совершенства социальные структуры или неважный
человеческий материал? Предлагая читателю самому
поразмыслить над этим, Воннегут в 10-й главе «Бойни
номер пять» приводит «только факты»:
«Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях
от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня
назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.
Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад.
Он тоже умер. Такие дела.
И ежедневно правительство США дает мне отчет,
сколько трупов создано при помощи военной науки
во Вьетнаме. Такие дела.
Мой отец умер несколько лет назад естественной
смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И по-
мешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они
ржавеют».
Последний абзац получил развитие в романе «Малый
не промах» (1982), став важнейшей частью сюжета.
Отец главного героя Руди Вальса был страстным соби-
рателем оружия и стремился передать своим детям
любовь к стреляющим игрушкам. Взял винтовку и
двенадцатилетний Руди. И в один прекрасный день
застрелил случайно женщину из дома напротив, что,
распахнув окно, убирала свою квартиру.
Потом, много лет спустя, умрет мать Руди. От лу-
чевой болезни. Каминная доска из бетона была приобре-
тена Вальсом-старшим при распродаже материальных
ценностей проекта «Манхэттен» по созданию атомной
бомбы. Мать любила сидеть у камина. Камин оказался
радиоактивным. Такие дела, так сказал бы повествова-
тель «Бойни номер пять». Кстати сказать, и в других
романах Воннегута возникает тема постепенного втор-
жения «военного имущества» в быт мирных граждан.
Прельстившиеся большой скидкой на распродаже, они
окружают себя вещами с клеймом: «Собственность
армии США». Иронический символ милитаризации по-
вседневности.
Еще через несколько лет умрет целый город Мид-
ленд-Сити, в окрестностях которого по нелепой слу-
чайности взорвалась нейтронная бомба. Сто тысяч по-
241
гибших, но зато никаких печальных последствий для
окружающей среды. Не бомба, а загляденье: убивая
все живое, она оставляет целыми и невредимыми дома,
коммуникации и прочую недвижимость, хоть заселяй
город заново.
Снова, как и в «Бойне номер пять», в один ряд
выстраиваются, казалось бы, несоизмеримые события —
смерть частного лица и гибель города. Связь между
этими событиями существует, хотя ее упорно не видят
недогадливые «очевидцы», персонажи романа.
И еще одна «случайная» деталь. В молодые годы
отец Руди поступал в Художественную школу Вены,
где свел знакомство с другим художником-неудачником,
будущим фюрером Адольфом Гитлером. Позже, по
личному приглашению Гитлера, Вальс посетил нацист-
скую Германию, восторженно принял «новый порядок»
и, вернувшись в США, стал активным пропагандистом
национал-социализма. Он вывешивал на своем доме
нацистский флаг и заставлял детей ходить в форме
гитлерюгенда. Этого типичнейшего «маленького челове-
ка» опьяняло чувство причастности к Большой Истории.
Что было бы с Германией, упоенно размышлял он,
если в далеком 1912 году ему не случилось бы спасти
от голодной смерти будущего вождя национал-социа-
лизма? Отто Вальс осуществил заветную мечту всех
бобчинских и добчинских — на мгновение, но оказался
рядом с Великим Человеком, нет нужды, что то был
Великий Злодей,— и теперь он увлеченно играет в
нацизм, не отдавая себе отчета, что это такое.
Билли Пилигриму катастрофа с самолетом помогла
«выпасть из времени» — взглянуть на повседневность
со стороны, увидеть то, чего ранее не замечал. Случай
с роковым выстрелом запомнится Руди Вальсу на всю
жизнь, но он все равно не увидит тут ни капли своей
вины — он же не хотел убивать, все получилось слу-
чайно... Похожим образом и в катастрофе с Мидленд-
Сити соотечественники Руди не найдут никаких пе-
чальных закономерностей. Они спишут ее как досадную
нелепость. Снова вспоминается золотое правило траль-
фамадорцев — не думать о плохом, сосредоточивать
внимание лишь на приятном; снова всплывает история
о том, как «кончится» Тральфамадор — не по чьей-то
злой воле, а в результате ошибки при испытании но-
вого вида горючего. Написано задолго до Чернобыля...
242
Главное для Руди — вычеркнуть из памяти неприят-
ный эпизод своего детства. В конце концов душевный
покой и равновесие он обретет на Гаити, где устроится
шеф-поваром в фешенебельном отеле. Ему нравится, что
у жителей острова есть диалект, где имеется лишь одно
время — настоящее. Таков идеал маленького челове-
ка — не тяготиться «проклятыми вопросами», не рас-
страиваться, думая о будущем или переживая трагедии
прошлого, но жить в свое удовольствие.
Обыватель терпеть не может расстраиваться. Он
хочет быть постоянно счастливым. Неважно, что на
Гаити — голод, нищета, коррупция, несправедливость.
В отеле для интуристов тишь и гладь, а это предел
мечтаний героя. То, что ему уютно и покойно на кухне,—
не случайно, ведь она с давних пор являлась устойчи-
вым символом мещанства. Кулинарные рецепты, что
органично вписываются в текст романа, заставляют
вдруг вспомнить напуганных прогрессистов Щедрина,
спасавшихся в гастрономии от политики. Поистине,
«гусь с яблоками — вот мои убеждения!». Под этим вы-
сказыванием щедринского экс-либерала мог бы вполне
подписаться Руди Вальс.
В своем отношении к персонажам Воннегут обманчи-
во «амбивалентен». С одной стороны, он вроде бы
симпатизирует очередному главному герою, будь то
Руди Вальс, Билли Пилигрим или Говард Кемпбелл,
представляет их читателям так, что они вызывают к
себе сострадание, жалость. Но, пробудив читательские
эмоции, писатель не закрывает глаза и на машино-
подобное, безличностное начало в своих героях. Чи-
тателям в конце концов предоставляется решать самим,
кто перед ними: тупые мещане, на некоторое время
утратившие свое сытое благополучие, или достойные
в основе своей люди, оказавшиеся игрушкой мощных
социальных сил? Тех, кто ценит ясность авторской
позиции, это может раздражать. Но, увы, именно таким
видит Воннегут нашего современника, запутавшегося
в сиюминутности, вроде бы вполне заслуживающего
сочувствия, но не очень выигрышно смотрящегося под
знаком вечности.
У Воннегута нет отпетых злодеев, но и Героев нет
тоже. Есть средний человек, слишком легко приспо-
сабливающийся к обстоятельствам, есть и «психи»,
выпавшие из повседневности и вызывающие неприязнь
243
у нормальных окружающих. Миру у Воннегута угрожа-
ют не столько злодеи, сколько само человеческое со-
общество, делающее все, чтобы наступил конец света.
В финале «Тюремной птахи» (1981) повествователя
спрашивают, что погубит нашу планету, и он отвечает:
«Наша полная несерьезность... Никому нет дела до того,
что происходит сейчас, что произойдет в ближайшем
будущем, и, главное, никто не хочет понять, почему
мы оказались в беде».
Не Гитлер и Сталин, но технократы, с одной стороны,
гуманитарии — с другой, а между ними — «широкие
массы» — вот что самое опасное. Сталиногитлеры по-
явятся сами собой, когда усилиями хонеккеров, опи-
рающихся на говардов кемпбеллов и руди вальсов,
под шуточки Боконона создастся подходящая «структу-
ра момента» для соло Подлеца-Благодетеля. Румфорд
из «Сирен Титана», в результате космической катастро-
фы ведущий «волновое существование», то появляется,
то исчезает в разных точках вселенной. Эта способ-
ность Румфорда — не столько научно-фантастический
курьез, сколько горькая правда истории. Так появляют-
ся диктаторы, чтобы, исчезнув в одной стране, возро-
диться в новом обличье в другой. Стоит ли удивляться,
что этот кукловод и сам оказывается марионеткой
тральфамадорцев. Тираны и самодержцы, мнящие себя
богами, на самом деле — слепое и опасное оружие
социальных процессов, созидателями которых являемся
все мы...
«Вы бы ребенку теперь показали светлую сторо-
ну» — эту формулу некрасовского персонажа из «Же-
лезной дороги» как бы «учитывает» Воннегут в романе
«Галапагосы». Показав читателю самые разные виды
апокалипсиса в «Колыбели для кошки», «Бойне номер
пять», «Малом не промах», он теперь «рад показать»
счастливую утопию, безмятежный рай, где нет больше
кровопролитий и неравенства.
Действие романа начинается «миллион лет назад»,
в 1986 году. Роскошный лайнер готовится совершить
«круиз века» к островам архипелага Галапагос, где
в XIX веке побывал с экспедицией Чарлз Дарвин.
Наблюдая животных, сохранившихся только на этих
уединенных островах, английский ученый сделал вы-
воды, легшие в основу его основополагающего труда
«Происхождение видов».
244
Увеселительная прогулка, в которой должны при-
нять участие такие знаменитости, как Генри Киссин-
джер, Джекки Кеннеди-Онассис, Мик Джеггер и другие,
отменяется из-за взрывоопасной ситуации в регионе:
Перу и Эквадор вступают в войну за «спорные тер-
ритории». Приехавшие в порт отправления гости рангом
поплоше с трудом спасаются от разъяренной толпы
на корабле, который выходит в море и садится на мель
неподалеку от острова Санта-Розалия Галапагосского
архипелага.
В отличие от Робинзона Крузо, пассажиры вонне-
гутовского корабля оказались на острове без запаса
продовольствия и инструментов. Единственным сувени-
ром от электронной цивилизации остался компьютер
«Мандараке», способный выполнять миллионы опера-
ций, бессмысленных в новых условиях. Мало-помалу
на острове возникает престранная популяция. Люди
нового типа снабжены меховым покровом, кисти рук
атрофировались, превратившись в плавники. Они отмен-
но плавают, чуют добычу в воде издалека, могут сколько
угодно находиться под водой. Им не грозит «перена-
селение»: акулы поддерживают баланс, подъедая из-
лишки.
По убеждению повествователя, все это исключитель-
но на благо человека. Люди прошлого были наделены
слишком большим мозгом, который доставлял ненужные
хлопоты. Люди мучились сомнениями, искали Высший
Смысл Жизни, изобретали технические новинки, чем
и довели мир до ручки (как выясняется, колония на
Галапагосах — единственный уцелевший очаг челове-
чества, ибо в «большом мире» войны, кризисы, эко-
логические беДы сделали свое черное дело). Теперь же,
когда мозг уменьшился во много раз, наступила бла-
годать. Люди новой формации едят, охотятся, размно-
жаются, спят, не испытывая потребности в умствен-
ной деятельности. Человек, почти по Фолкнеру, вы-
стоял и восторжествовал, если, конечно, его по-прежне-
му можно считать человеком...
Тех, кто ждет от литературы полной серьезности,
четких и ясных указаний (литература — учебник жиз-
ни), книги Воннегута могут оставить неудовлетворен-
ными. Выдвинув тот или иной тезис, писатель предла-
гает оценить и антитезис, ставя под сомнение то, что
раньше горячо отстаивал. Это не отсутствие твердых
245
убеждений, это убежденность, что любая теория, если
ее догматически придерживаться, быстро превращается
в «фому», что у боконистов означает ложь.
Как-то Воннегута спросили, почему он пишет ко-
роткие романы, разбивая их на короткие главы, состоя-
щие из коротких фраз. Он отвечал, что это исклю-
чительно для того, чтобы их могли прочитать занятые
люди, генералы, сенаторы, президенты.
В другой раз он выразился так: коль скоро у людей,
принимающих важнейшие военные и политические ре-
шения, выработался прочный иммунитет против книг,
нужно заставать людей врасплох. Еще до того как они
сделаются военными и политиками, необходимо отра-
вить им мозги гуманизмом, чтобы у них возникло
желание сделать гораздо лучше.
Его спросили, получал ли он когда-нибудь письма
читателей, которые бы профессионально разбирались
в военных проблемах,— ведь в его книгах столько го-
ворится о войне. Подумав, Воннегут сказал, что действи-
тельно однажды он получил письмо от такого эксперта.
На вопрос, кто же это был, писатель ответил: «Джозеф
Хеллер».
АПОКАЛИПСИС:
ДО И ПОСЛЕ
Сразу после второй мировой войны Олдос Хаксли
опубликовал антиутопию «Обезьяна и сущность»
(1946), действие которой разыгрывается в далеком
2108 году.
XXII век. Новая Зеландия — один из немногих
уголков земного шара, не затронутых тотальным раз-
рушением третьей мировой, страна, живущая слегка
унылой, но вполне благополучной жизнью: «Никаких
Парфенонов, Сикстинских капелл, Ньютонов, Моцартов
и Шекспиров, но зато и нет Наполеонов и Гитлеров...
нет Инквизиции и НКВД, чисток, погромов, линче-
ваний. Ни вершин, ни бездн, зато достаточно молока
для детей и неплохой коэффициент умственного раз-
вития населения. Все тихо, провинциально, но разумно,
удобно и человечно». Из этого скучноватого рая и от-
правляется научная экспедиция заново открывать Аме-
246
рику, особенно сильно пострадавшую в результате руко-
творного катаклизма.
Вскоре после высадки ученый-ботаник Альфред Пул
попадает в плен к «туземцам», населяющим те места,
где некогда стоял славный город Лос-Анджелес. Это
потомки тех, кому посчастливилось уцелеть в Великой
Катастрофе.
Аборигены влачат самое жалкое существование:
искалеченная радиацией земля почти утратила способ-
ность давать жизнь растениям. Плохо дело и с до-
машним скотом. Бедолаги постоянно ведут археологи-
ческие раскопки, потроша могилы тех, кто жил и умер
в XX веке, дабы разжиться одеждой и прочими полезны-
ми в быту предметами. Чтобы разжечь огонь и испечь
хлеб, они пускают на топливо книги, что находят в
«античных библиотеках». Раз в году наступает брачный
период, когда на несколько недель позволяется мас-
совое совокупление, своеобразный свальный грех. Дети
рождаются с разнообразными физическими недостатка-
ми. Когда аномалии слишком уж велики (к примеру,
больше семи пальцев на руках и ногах), уродца торжест-
венно приносят в жертву верховному божеству Белиалу,
иначе говоря Дьяволу, заменившему потомкам христиан
Бога. Как объясняет гостю-пленнику Вождь, Белиал
«победил, когда люди устроили Это», то есть термо-
ядерную катастрофу. Этот самый Белиал «создал новую
породу людей с гнилью в крови и грязью вокруг, не
обещая им в будущем ничего, кроме новой гнили и
новой грязи, а затем полное вымирание». Его почи-
тают, и ему приносят жертвы, как бросают тигру
кусок мяса, чтобы хотя бы на время задобрить страшного
и безжалостного хищника.
Кто виноват в таком печальном положении дел? Во-
первых, давний недруг Хаксли — безудержный техни-
ческий прогресс, не подкрепленный нравственным со-
вершенствованием человечества и контролем морали
за научной и социальной мыслью. К ложно понятому
Прогрессу после второй мировой войны английский
писатель добавил и другого «антихриста» — Национа-
лизм. Слепое обожествление технической мощи с убеж-
дением, что только твоя страна — средоточие добра и
истины, создает ту взрывоопасную смесь, что рано или
поздно приведет к всемирному пожару.
Символически это воплощается в тексте (построен-
247
ном, кстати, как пародия на голливудский киносце-
нарий) в виде двух сошедшихся на смертный поединок
вражеских армий, впереди которых лают и заливаются
два цепных пса по имени Альберт Эйнштейн. Знание
на службе человекообразных — опаснейшая форма
Антизнания. «То, что мы именуем знанием, есть лишь
инобытие Невежества,— писал Хаксли в «Обезьяне и
сущности».— Невежество высокоорганизованное, в выс-
шей степени научное и именно потому наиболее спо-
собствующее появлению злобных обезьян. Когда не-
вежество было невежеством и только, мы напоминали
лемуров или мартышек. Нынче же, благодаря Высшему
Невежеству, чем является на деле наше знание, человек
развился до такой степени, что самый маломощный
из нас — бабуин, а самый сильный — орангутанг, ну а
тот, кто объявит себя спасителем человечества, должен
быть Гориллой.
Цели выбирает обезьяна, средства — человек».
Последняя фраза лейтмотивом проходит через всю
книгу, эпатируя и тех, кто слишком доверяет Науке,
и тех, кто всегда готов применить на практике открытия
непрактичных, оторванных от повседневности мудрецов.
Позже эта тема получит развитие у Воннегута в его
похвалах «научной глупости», но у истоков был Олдос
Хаксли.
Ядерная катастрофа в наши дни стала расхожей
темой у писателей, публицистов, кинематографистов.
В этом плане у кино и телевидения есть немало преиму-
ществ перед прозой. Визуальные образы легче про-
буждают зрительские эмоции, завораживая и ужасая.
В Англии и США за десятилетия ядерной эпохи вышло
немало кино- и телепостановок, повествующих о пре-
лестях оружия нового типа, способного на поистине
революционные преобразования органической и неорга-
нической природы. Но в прогремевшем на всю планету
(кроме той страны, что издавна именовала себя бастио-
ном мира) фильме Стенли Крамера «На берегу» (1959)
нет кошмарных сцен разрушений, нет адского пламени
суперпожаров, нет живописных гор трупов, нет очень
многого из того, что следъвало бы ожидать от сюжета
о гибели нашей цивилизации.
В основе фильма — одноименный роман Невила Шу-
та, родившегося в Англии, жившего в Австралии, изда-
вавшегося в США. По сравнению с нашумевшим
248
фильмом сам роман (издан в 1956 г.) находится в
тени, возможно, отчасти и потому, что Крамер пригласил
для съемок блестящую плеяду голливудских звезд —
Грегори Пека, Фреда Астера, Аву Гарднер и других.
Но в основе своей, в отношении к материалу, в трактов-
ке проблем фильм и роман — единомышленники. Они
показывают жизнь в ее будничном течении, куда испод-
воль, но неумолимо проникает небытие.
С чего все это началось, кто в первую голову виноват
в термоядерном конфликте, никто из героев сказать
не может. Судя по всему, забияками оказались «малые
страны», третий мир, а сверхдержавы, вместо того
чтобы поставить под жесткий контроль их действия,
сами с упоенным ожесточением ввязались в обмен ядер-
ными тумаками.
К началу повествования больше не осталось ни Рос-
сии, ни Соединенных Штатов, ни Европы с Африкой.
Погибла Азия. Лишь Австралия и Новая Зеландия не
затронуты ядерной заразой. Но только пока. Если Хакс-
ли в «Обезьяне и сущности» давал человечеству шанс,
избавив от катастрофы Новую Зеландию, то Шут не
оставляет и этой надежды. По расчетам специалистов,
течения и ветры, несущие радиоактивную пыль и
грязь, быстро сделают свое. Земной цивилизации оста-
лось жить от силы полгода.
Персонажи романа знают о суровом приговоре, вы-
несенном всесильными обстоятельствами, но не теряют
стойкости, мужества, остаются людьми в полном смысле
слова. Продолжают выполнять свой профессиональный
долг главные герои — морские офицеры — австралиец
Питер Холмс и американец Дуайт Тауэре. Амери-
канская подлодка «Скорпион» отправляется в долгое
плавание от берегов Австралии с исследовательской
миссией. Вдруг, вопреки всем прогнозам, есть мизерный
шанс на спасение? Вдруг радиоактивные осадки чудом
минуют Австралию и Новую Зеландию, вдруг дожди
и снега прибили смертоносную пыль? К тому же на
тихоокеанском побережье Америки работает радио-
передатчик. Что, если там еще остались люди, ведущие
поединок со смертью?
Надежда умирает последней. Дуайт Тауэре знает,
что его семья, оставшаяся в США, не могла избежать
всеобщей печальной участи, однако, собираясь в поход,
он запасается подарками жене, сыну, дочери, тщатель-
249
но обдумывая, что доставит им самую большую ра-
дость. Нет, он вовсе не тронулся умом, просто, как и
многие из тех, кто его окружает, вери,т в чудо, ибо боль-
ше верить не во что.
Но чудес не бывает. Десант в Сиэтл обнаружит абсо-
лютно пустой город. Никого не осталось — даьи не могло
остаться — в живых. Что касается сигналов, то их по-
давала пустая бутылка из-под кока-колы, которую
прижимало оконной ставней к ключу радиопередатчи-
ка. Пора возвращаться домой в Австралию, хотя и этот
дом скоро станет общей могилой.
На лодке оказывается дезертир. Матрос Суэйн родом
из Сиэтла. Он решает встретить смерть в местах, где
провел детство и юность, где жили и умерли его отец
и мать. «Скорпион» начинает погружение, чтобы
пуститься в обратный путь, а на поверхности пока-
чивается лодочка, в ней человек с удочкой. Он спо-
коен. Он сделал выбор. Он у себя дома. Командир и
товарищи его не осуждают.
В романе Шута нет практически ничего, что выхо-
дило бы за рамки бытовой прозы. По своей «фактуре»
это своеобразный «антипод» фантастического гротеска
Хаксли. Даже перед лицом неотвратимой гибели люди
живут, как жили, и лишь когда симптомы смертельного
недуга заявят о себе со всей очевидностью, герои романа
начнут!-» сходить со сцены с достоинством персонажей
античной трагедии.
Кто же виноват в случившемся,-если вокруг нет
злодеев, нет маньяков, но есть лишь честные, поря-
дочные мужчины и женщины, способные на сострадание
и любовь? Можно ли было предотвратить такой конец?
«Если двести миллионов людей пришли к выводу, что
в интересах национального достоинства необходимо
сбросить кобальтовые бомбы на соседей, тогда им вряд
ли можно помешать,— размышляет незадолго до кончи-
ны Питер Холмс— Впрочем, наверное, чуть раньше на
них было можно и нужно воздействовать, убедить.
Но как? Через газеты? Но газетам было не до таких
пустяков. Их волновали сенсации, их занимала рекла-
ма...»
Герои Шута достойно умирают. Собственно, все, кто
попадает в поле зрения Шута, ведут себя выше всех
похвал. Но в то же самое время они — неотъемлемая
часть человечества, совершившего акт самоубийства.
250
Люди, наделенные разумом, умеющие выполнять свой
патриотический и нравственный долг, владеющие со-
вершенной технологией, ничтоже сумняшеся уничто-
жили все, что им было дорого. Можно назвать происхо-
дящее роком, фатумом, слепой игрой Случая. Но почему
у людей хватает сил лишь достойно умирать? Неужели
достойно жить — задача Куда более трудная, непосиль-
ная для цивилизации, обладавшей мощнейшим техно-
логическим и интеллектуальным потенциалом?
Такие тревожные вопросы нес в себе роман, а затем
и фильм, который посмотрели миллионы зрителей,
ужаснулись, погрустили, а потом вернулись к буднич-
ным заботам, к работе, что утомляет и удручает, создает
желание отдохнуть и развлечься, в чем помогают ли-
тература и искусство, особенно сенсационные сюжеты
на апокалипсические темы.
Роман американцев Ю. Бердика и X. Уилера «Гра-
ница безопасности» (1962) увидел свет вскоре после
Карибского кризиса, еще раз напомнившего мировому
сообществу, насколько реальна угроза ядерного кон-
фликта между сверхдержавами.
Бердик и Уилер подчеркивают опасность ядерного
противостояния, даже когда не существует стремления
у той или иной стороны нанести первой смертоносный
удар. В «Границе безопасности» мир поставлен на
грань уничтожения не безумцами политиками, не воен-
ными-ястребами, а пустяковой поломкой в системе
контроля, в результате чего шестерка американских
бомбардировщиков с ядерным оружием летит на СССР.
Беда заключается в том, что, пройдя определенное
расстояние, летчики не имеют права повернуть, не
имеют права подчиняться никаким устным распоря-
жениям начальства, будь то сам президент США.
Пока бомбардировщики приближаются со стреми-
тельной скоростью к стратегическим целям, в Белом
доме проходит экстренное совещание. Принято решение
спешно связаться с Москвой и, объяснив ситуацию,
совместными усилиями попытаться уничтожить самоле-
ты. Правда, есть и другие точки зрения. Один из
экспертов по ядерному оружию и тотальной войне,
например, убежден, что коль скоро ядерная бомбарди-
ровка Советского Союза практически неотвратима, то
имеет смысл извлечь из этого максимум пользы и
вступить в полномасштабный военный конфликт. По
251
имеющимся расчетам, даже в случае ответного удара
США выстоят и уничтожат своего самого опасного
и коварного врага.
Здравый смысл, однако, берет верх. В экстремаль-
ной ситуации и американцы, и русские находят силы
поверить друг другу и вступить в сотрудничество.
Пять из шести самолетов уничтожены, но шестой не-
умолимо рвется к Москве, на которую он должен сбро-
сить ядерный заряд. Это означает, что Советский Союз
будет вынужден открыть ответные военные действия.
И тогда американский президент выступает с предло-
жением, которое дается ему и его советникам с огром-
ным трудом. Он предлагает во искупление содеян-
ного сбросить аналогичный заряд на Нью-Йорк и на
этом считать инцидент исчерпанным, хотя, разумеется,
трудно будет вычеркнуть из памяти гибель нескольких
миллионов человек в двух странах. Советская сторона
дает свое согласие. После того как американский бом-
бардировщик сбросит бомбу на Москву, другой амери-
канский военный самолет, во исполнение договора,
осуществит акт самовозмездия.
Роман-предупреждение Бердика и Уилера строится
в подчеркнуто документальной тональности. Фильм
Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я пере-
стал беспокоиться и возлюбил атомную бомбу», вышед-
ший на экраны в 1963 году, выдержан в духе фарсово-
трагикомическом, хотя исходная ситуация весьма похо-
дит на ту, что лежала в основе сюжета «Границы без-
опасности». Точно так же эскадрилья бомбардировщи-
ков летит бомбить Советский Союз. Точно так же всех,
кроме одного, удается вернуть на базу. Только в фильме
«ядерная ситуация» возникает не из-за поломки систе-
мы контроля, а по приказу рехнувшегося пентагонов-
ского генерала, приписавшего свои немощи козняу
русских и вознамерившегося их за это примерно на-
казать. Контакта между Белым домом и Москвой, воз-
никшего в романе Бердика и Уилера у Кубрика не
получается: слишком велика неразбериха и взаимное
недоверие в обоих лагерях.
В фильме, как и в романе, фигурирует ученый спец,
хладнокровно вычисляющий, кому в конце концов уда-
стся уцелеть в предстоящем мировом пожаре. Доктор
Стрейнджлав, разъезжающий в инвалидной коляске
и состоящий из сплошных протезов получеловек, по-
252
лагает, что раз самолет не вернуть, то надо, пока не
поздно, позаботиться об эвакуации начальства, а также
лучших «производителей», мужчин и женщин, послед-
них желательно побольше, чтобы когда-нибудь во всем
блеске возродить великую нацию. Время от времени
его рука дергается в нацистском салюте, и наконец
он обращается к президенту: «Мой фюрер!» Намек
вполне очевиден.
Безумие, легкомыслие, высокомерие и сверхпрагма-
тизм политиков, военных и ученых в совокупности
своей приводят к тому, что в финале земля покрывается
шапками ядерных грибов. Человечество гибнет под раз-
веселую и глуповатую песенку «Мы встретимся вновь,
только где и когда?».
Из многочисленных повестей и романов на ядерные
темы 80-х годов следует отметить «День войны» Уитли
Страйбера и Джеймса Кунетки, появившийся в США в
1985 году и вызвавший огромный резонанс. Рецензируя
книгу, сенатор Эдвард Кеннеди писал: «Те, кто все еще
убежден, что ядерную войну можно выиграть, должны
прочитать «День войны». Там возникает пугающее
изображение тех страданий, что испытывает мир, пере-
живший ядерную войну. Это леденящее кровь пре-
дупреждение, что, если Америке и удастся физически
уцелеть в катастрофе, она не выживет в духовном и
политическом смысле».
Книга построена как документ, лишенный и намека
на беллетристичность, снабжена огромным количеством
«статистических выкладок», «социологических опро-
сов», «мнений экспертов», «свидетельств очевидцев»
и «посвящена 27 октября 1988 года, последнему дню
старого мира».
В результате бездумного и яростного обмена ядер-
ными ударами Америка и Советский Союз потерпели
сообща сокрушительное поражение. Потеряв убитыми
деоятки миллионов жителей, понеся чудовищный мате-
риальный и моральный ущерб, эти страны оказались
на второстепенных ролях в мировом сообществе.
Авторы не пытаются поразить читательское вообра-
жение картинами ядерного апокалипсиса, разыгравше-
гося одним осенним днем. Они не хотят отбивать хлеб
у набивших йа этом руку массовых беллетристов и
постановщиков фильмов-катастроф. Они поступают ина-
че. Основная часть их достовернейшего квазидокумента
253
посвящена тому, что ожидает Америку, если она вообще
сумеет как-то оправиться от ядерного нокаута. Именно
с этой целью авторы, выступающие в повествовании
под собственными же именами, отправляются заново
открывать Америку.
В результате массированного ядерного удара по
нескольким районам погибло около восьми миллионов
американцев, но радиация, разруха, голод, эпидемии
приводят к тому, что общее число жертв за три года
достигает цифры 75 000 000 человек.
Еще совсем недавно обладавшая прочностью и един-
ством нация распадается теперь на отдельные регионы,
уровень благосостояния которых будет определяться
степенью удаленности от очагов поражения. Мало или
вовсе не пострадавшие области делают все, чтобы огра-
дить себя от перенаселения, и к тем, кто нелегально
проникает на их территорию, применяются самые суро-
вые меры. Это в первую очередь относится к Лос-
Анджелесу, куда будет перенесена столица США.
Экономическая и политическая нестабильность даст
рост националистическим и сепаратистским настрое-
ниям. Так, часть Техаса и Нью-Мексико, не постра-
давшая от катастрофы, объявит себя независимой рес-
публикой Ацтлан, где собираются люди латиноамери-
канского происхождения, а чужаки-гринго изгоняются.
Такое разделение былой сверхдержавы на отдельные
штаты-республики будет всемерно поощряться госу-
дарствами, избежавшими печальных последствий ядер-
ной конфронтации США и СССР и начинающими дикто-
вать моду в международной экономике и политике.
Теперь на роль сверхдержавы претендует вечный конку-
рент США Япония, да и европейские страны не отста-
ют...
В книге Кунетки и Страйбера выбрана дорога, не
заезженная мастерами апокалипсической прозы. Они
показывают не столько процесс распада, сколько мучи-
тельные попытки его преодоления. Оказавшись в экстре-
мальных условиях, американцы — персонажи книги
«День войны» — стараются изо всех сил. Они не соби-
раются капитулировать — даже жители тех мест, где
дает о себе знать страшное дыхание «мертвых зон».
В многочисленных интервью с рядовыми гражданами,
что берут «авторы-повествователи» в разных концах
страны, живут надежда, оптимизм, воля к преодолению
254
сверхнеблагоприятных обстоятельств. Так вели себя в
былые времена те, кто приехал в Новый свет, чтобы
на новом месте воздвигнуть Град человека. Тогда шла
борьба с природой, покоряя которую человек строил
цивилизацию. Теперь сражаться приходится с эксцес-
сами сверхсовременной цивилизации, с собственным
неразумием.
День войны отбросил страну на многие десятилетия
назад. Современная цивилизация, основанная на изо-
щренной технологии, в то же время удивительно
хрупка и даже беззащитна, если выходят из-под контро-
ля разума силы, ею же накопленные. Так, мощная
электромагнитная волна, сопутствовавшая ядерной
бомбардировке Америки, вывела из строя всю систему
компьютеров в стране, а это привело к параличу фи-
нансовой, экономической, научной жизни, создало
огромные препятствия в работе транспорта (авиации
прежде всего) и в передаче и получении информа-
ции. Приходится начинать чуть не заново.
Есть у этой поучительной книги измерение, о кото-
ром вряд ли догадываются сами авторы. Описывая
страну, оказавшуюся в тяжелом нокдауне, повергну-
тую в политический и экономический ступор, распав-
шуюся на отдельные, не очень ладящие между собой
«штаты-республики», страну, которой остается уповать
лишь на мужество граждан, Кунетка и Страйбер создали
картину, вызывающую странное чувство, что мы уже
видели это — и не в кино или литературе. Нам самим
ведома нарастающая обособленность регионов, замы-
кающихся в чувстве национальной ущемленности, нам
знакомы последствия тяжелейшего политического и
экономического кризиса. Война против самих себя,
что велась десятилетиями, создавала руины. Мы их
отказывались замечать за потемкинскими фасадами,
но вот бутафория рухнула, и реальность предстала
в виде рукотворного хаоса.
Пока наши чиновники имитировали борьбу за мир,
их и наше неразумие создало рукотворный ядерный
апокалипсис. И хуже того, масштабы катастрофы уси-
ленно скрывались. Пока общество получало уверения
в совершенном благополучии обстановки за пределами
тридцатикилометровой зоны, радиоактивная зараза де-
лала свое дело, а начальство, как писалось в наших
газетах, раскатывало по заграницам на ту самую ва-
255
люту, что поступала из-за рубежа на помощь постра-
давшим. Почин хеллеровских начальников, по которому
летают одни, а боевые вылеты засчитываются другим,
нашел своих последователей.
Классикой антивоенного искусства стал финальный
эпизод фильма Крамера по роману Шута «На берегу»:
пустые улицы Мельбурна, где не осталось людей, а
ветер полощет плакат: «Пока еще есть время, друг!»
Увы, «пока еще есть время», человечество, желая
мира, оказывается втянуто в многочисленные кон-
фликты местного значения вроде тех, что вспыхнули
во Вьетнаме 60—70-х годов и Афганистане 70—80-х.
Безъядерный моцион великих держав.
ПОРАЖЕНИЕ
Вьетнамский дневник
В США говорят, что война во Вьетнаме оставила
в национальной памяти след куда более глубокий, чем
вторая мировая. Она нанесла национальному сознанию
мучительную рану, что продолжает кровоточить и деся-
тилетия спустя.
Когда американцы увидели на экранах своих теле-
визоров, как вертолеты ВВС США 30 апреля 1973 года
спешно взлетали с крыши американского посольства,
забирая тех, кто не успел эвакуироваться, а в ворота
бывшего президентского дворца входили танки про-
тивника, стало ясно не одним американцам — это потом
показывали по программам новостей телекомпании
всего мира — Соединенные Штаты потерпели сокруши-
тельное поражение. Это было первое военное поражение
за два с лишним столетия существования Америки.
Война была не просто проиграна, она была проиграна
с треском отсталой, крестьянской стране, по всем пока-
зателям уступавшей процветающей, самоуверенной,
обладающей гигантским научным, технологическим,
экономическим потенциалом «державе XXI века». Это
поражение принесло Америке потери политического,
нравственного, материального плана, подорвало ее пози-
ции в юго-восточном азиатском регионе и нанесло ущерб
ее международному авторитету. То был урок, не усвоен-
ный, однако, другой ядерной сверхдержавой.
256
Драматический опыт Вьетнама породил обширней-
шую литературу. На страницах статей, трактатов, ро-
манов, выходивших в США (да и не только в США),
разворачивался напряженный, порой ожесточенный
спор не только о характере этой войны, но и качестве
и перспективах американской цивилизации. Рональд
Рейган охарактеризовал вьетнамскую кампанию как
«благороднейшую», публицист и политический деятель
Дэниэл Элсберг — как «чудовищное преступление».
Между этими полярными оценками разместился широ-
чайший спектр суждений и концепций.
Прологом к спору стал роман Грэма Грина «Тихий
американец», опубликованный еще в 1956 году, вскоре
после Женевских соглашений по Вьетнаму. Точно пред-
сказав развитие американо-вьетнамских отношений,
роман в кратком виде содержал в себе набор конфлик-
тов и проблем, что впоследствии займут центральное
место в художественной и публицистической прозе о
Вьетнаме.
«Меня всегда тянуло в те страны, где сама полити-
ческая ситуация как бы разыгрывала карту между
жизнью и смертью человека,— писал впоследствии
Грин.— Меня привлекали переломные моменты. Я на-
ходил их в Азии, Африке, Центральной и Южной Аме-
рике. Литература ведь помогает бороться с диктатор-
скими режимами. И я, думается, вносил посильный
вклад в борьбу»1.
50-е годы стали для Вьетнама временем потрясений.
Колониальный французский режим, сдавая позицию за
позицией, отчаянно пытался сохранить свое господство
на юге страны. Предвидя его близкий конец, мозговой
1 Цит. по: Грин Г. Тихий американец. М., 1986, с. 7. Любо-
пытно, однако, что в своем стремлении быть в самом пекле борьбы
Деспотии с человеком Грин вполне избирателен. Он был против
режимов ЮАР и Гаити, военных хунт Латинской Америки, будучи
католиком, не испугался неудовольствия Ватикана его романом
«Сил* и слава», но «тихое насилие» в странах Восточной Европы
не нашло отражения в его творчестве. В чем тут дело? Или и впрямь
прав Н. Бердяев, находя родственные начала в католицизме и
коммунизме (коммунисты у Грина всегда прекрасно говорят и во-
обще оказываются людьми достойнейшими)? А может, верно мыслил
А. Солженицын, отмечая непримиримость западных либералов в
отношении того, что бичевать безопасно и даже похвально в глазах
Просвещенного Общественного Мнения? Обиды западного истэблиш-
мента не в счет, ибо последний и в гневе своем связан по рукам и
ногам Законом.
9 С Белов
257
центр американской внешней политики искал пути по-
строения нового и прочного антикоммунистического ба-
стиона под эгидой США. Еще сражались с «коммунисти-
ческой агрессией» регулярные французские части, еще
бомбила вьетнамские деревни французская авиация, но
уже вовсю работали «тихие американцы», закладывая
основы свободного от коммунизма общества.
Один из таких рыцарей крестового похода за Демо-
кратию в Азии — гриновский Олден Пайл, выходец из
старинной бостонской семьи, выпускник Гарварда, сот-
рудник экономической миссии США во Вьетнаме. По
словам главного героя, английского журналиста Фауле-
ра, Пайл был «поглощен насущными проблемами демо-
кратии и ответственностью Запада за устройство мира...
он твердо решил делать добро, и не какому-то отдельно-
му лицу, а целой стране, части света. Что ж, тут он был
в своей стихии. У его ног лежала вселенная, в которой
требовалось навести порядок».
В англоязычной прозе не раз возникал образ равно-
душного, циничного, опустившегося агента спецслужб,
которому нет дела до высоких принципов: он профес-
сионал и получает за это деньги. Пайл не из их числа.
Он идеалист, патриот, почти что подвижник.
Тут Грин точен, как социолог. Никакое сомнительное
предприятие невозможно без идеалистов, фанатиков, не
требующих для себя привилегий, не ищущих личной вы-
годы, но целиком отдающихся деятельности во имя Ве-
ликой Цели. Дельцы и плуты приходят потом, они будут
делать черную работу, от которой идеалист пришел бы в
ужас, а то и, чего доброго, усомнился в правильности
выбранного пути.
Пайл — типичный «комиссар» в терминологии Кест-
лера. Он родственная душа Рубашову. Он Рубашов им-
периализма, рыцарь «маленькой грязной войны». Пайл
обладает свойством рубашовых всех времен и народов не
замечать, как не совпадают теория и практика. Он уве-
рен, что во имя Общего Блага отдельных простаков
надо тащить силком к добру. Потом сами скажут спаси-
бо. Закованный, по словам Фаулера, в «непроницаемую
броню благих намерений и невежества», Пайл энергич-
но «творит добро»: по заданию шефов из спецслужб он
налаживает связи с генералом Тхе, готовым сражаться
на два фронта — против французов-империалистов и
против коммунистов. Пайл снабжает людей генерала
258
взрывчаткой для террористических акций. Когда будут
гибнуть мирные жители Сайгона, Пайл будет упрямо
твердить, что произошла ошибка, что генерала обману-
ли и вообще это все происки врага.
Впрочем, по старой-престарой логике политиков-реа-
листов, «чем хуже, тем лучше». Если ответственность
за взрывы ляжет на коммунистов, это лишь будет лить
воду на генеральскую мельницу. Морально то, что слу-
жит делу империализма.
Памфлетность у Грина сочетается с мелодраматич-
ностью, каковая, однако, не «портит песни»: в жизни с
избытком хватает и мелодрамы, и фарса. Любовная ли-
ния романа выступает ироническим отражением общес-
твенной деятельности Пайла, дополнением к его обще-
ственно-политической характеристике. В личную жизнь
окружающих он вторгается с той же наивно-бесцере-
монной уверенностью, что действует ради их блага. Он
старательно отбивает у Фаулера его любовницу Фуонг,
ибо убежден, что только с ним, с Пайлом, она познает
счастье. «Я не рассчитываю, что она сразу меня полю-
бит. Это придет потом. Но я предлагаю ей прочное по-
ложение в обществе. Романтики тут мало, но, пожалуй,
это куда лучше страсти»,— без тени иронии выклады-
вает он Фаулеру. Он намерен отослать Фуонг к своим
родителям в США, чтобы те ее немножко «цивилизо-
вали». Любовная политика Пайла в известной мере па-
родирует вьетнамскую стратегию Вашингтона.
В отличие от Пайла, Фаулер давно уже ни во что не
верит, ничего не принимает за чистую монету — его
журналистский опыт слишком обширен и горек. Пайл не
курит и не пьет, ведет гигиенически-рациональный об-
раз жизни. Фаулер «уважает» виски и опиум. Но без-
нравственный по всем привычным буржуазным меркам
Фаулер для Грина куда моральней своего респектабель-
ного соперника, ибо в отличие от служителя абстракт-
ного Добра наделен способностью переживать боль дру-
гих, сомневаться в своей правоте, страдать. Под впе-
чатлением увиденного во Вьетнаме, где изо дня в день
погибают мирные жители, заложники рвущихся к влас-
ти благодетелей человечества, Фаулер изменяет своему
давнему правилу — оставаться сторонним наблюдате-
лем человеческого неразумия. После взрыва на сайгон-
ской площади Фаулер решает положить конец подвигам
«тихого американца». Он выдает его вьетнамским ком-
9*
259
мунистам, становясь прямым виновником гибели «ко-
миссара из Нового света».
«Рано или поздно человеку приходится встать на
чью-либо сторону. Если он хочет оставаться челове-
ком»,— красиво скажет один из героев,вьетнамский ком-
мунист. Было бы, впрочем, наивно полагать, что Фауле-
ром сделан выбор. Упрямо не дающая себя вербовать
индивидуальность время от времени способна на всплес-
ки активности, но затем наступает апатия. В конце кон-
цов, сюжет «Тихого американца» построен так, что мож-
но предположить: Фаулером двигала не столько «ярость
благородная», сколько ревность, жаждущая мести похи-
тителю Фуонг.
Роман Грина вызвал немалый резонанс, а сочетание
«тихий американец» стало крылатым. Были предприня-
ты ответные пропагандистские шаги. Одним из наиболее
нашумевших опровержений стала книга У. Ледерера и
Ю. Бердика «Безобразный американец» (1958), являв-
шая собой собрание полубеллетристических-полудоку-
ментальных очерков о деятельности американских ди-
пломатов, миссионеров и других спецов, работающих в
Юго-Восточной Азии — в вымышленной стране Сархон,
«расположенной где-то между Бирмой и Таиландом».
Ледерер и Бердик подвергли деятельность соотечест-
венников взыскательной ревизии. В авторском преди-
словии говорилось: «Ситуации и характеры этой кни-
ги — квинтэссенция того, что происходило и происхо-
дит в 59 странах «третьего мира», где работает около
двух миллионов американцев». Вывод был неутешите-
лен: Америка теряет позицию за позицией не только в
Азии, но и вообще в мире. «Полпреды Америки» сплошь
и рядом дискредитируют облик ведущей державы. Они
слишком изнежены, ищут комфорта, тратят время в бес-
смысленных бюрократических переливаниях из пустого
в порожнее и если где и проявляют активность, то на
приемах с коктейлями. Они утратили «дух фронтира»,
отличавший покорителей Запада, «строителей империи»
в XIX столетии.
Пока сыны и дочери Нового света предаются неге и
излишествам в крупнейших городах стран, вверенных
их попечению, коммунисты не дремлют и трудятся в по-
те лица в деревнях, всеми правдами и неправдами доби-
ваясь расположения простого народа. «Нам ни к чему
два миллиона американцев за границей, большинство из
260
котарых — дилетанты. Нам необходим небольшой отряд
профессионалов, прошедших суровый отбор и хорошую
выучку. Они должны быть готовы жертвовать своим ком-
фортом, а в некоторых странах даже здоровьем».
Для Америки книга Ледерера и Бердика стала еще
одним (после запуска Советским Союзом искусственно-
го спутника) свидетельством потери Соединенными
Штатами мирового лидерства. Грэм Грин указывал на
опасность пайлов (если не для Америки, то для «раз-
вивающихся стран»). Ледерер и Бердик, напротив, пре-
дупреждали: чем меньше пайлов, тем реальнее угроза
утраты Америкой контроля над мировым процессом.
«Безобразный американец» был основательно про-
штудирован теми, кто вырабатывает политический курс
страны. Именно после выхода этой книги и порожден-
ных ею бурных дискуссий об Америке и «американском
духе» была разработана национальная программа физи-
ческого воспитания и основан Корпус мира. Особое вни-
мание было уделено развитию «специальных сил», при-
званных бороться против роста антиамериканских и —
шире — антизападных настроений в горячих точках
планеты.
Как свидетельствует Дж. Хеллман, «американские
лидеры восприняли конфликт во Вьетнаме как проверку
американского характера, символическую войну, где ис-
тинное поле боя — общественное сознание, а высшая
ставка — возможность определять ход мировой исто-
рии...»1.
На встрече с Джоном Кеннеди в Париже в 1961 году
Шарль де Голль советовал ему избегать вмешательства
во внутренние дела Вьетнама. Де Голль вспоминал:
«Я сказал Кеннеди, что для Америки интервенция в
этом регионе может обернуться непредсказуемыми пос-
ледствиями. Когда нация пробуждается от спячки, ника-
кая иностранная сила, какими бы благими намерения-
ми она ни руководствовалась, не имеет возможности ди-
ктовать свою волю. Вы в этом сможете убедиться»2.
Как оказалось, буквально за неделю до этого по
приказу Кеннеди несколько сот «зеленых беретов» было
отправлено во Вьетнам на тайную войну.
1 Hellman J. American Myth — The Legacy of Vietnam. N. Y.,
1988, p. 4.
2 Jbid, p. 38.
261
Этих людей воспел Робин Мур в своем полудокумен-
тальном романе «Зеленые береты» (1965), долго фигу-
рировавшем в списках бестселлеров (его тираж быстро
перевалил за 4 миллиона), а затем экранизированном с
Джоном Уэйном в главной роли.
Уже отмечалось, что американцы не любят прямой,
на наш манер, пропаганды, когда есть одна — святая —
точка зрения, а все прочие — крамола и происки ино-
странных спецслужб. Американцы вообще с подозре-
нием относятся к «истинам», исходящим сверху. Не слу-
чайно потому в издательской аннотации на обложке «Зе-
леных беретов» гордо возвещалось, что эта книга, по-
священная «войне нового типа», вызвала якобы «са-
мый настоящий переполох в Вашингтоне», ибо со-
держала факты, «редко попадающие в «Нью-Йорк
тайме».
Популярности книги способствовало и то, что Пента-
гон уличил Мура в шестнадцати разглашениях госу-
дарственной тайны и обязал издательство снабдить кни-
гу ярлычком «выдумка удивительнее фактов». Злые
языки, впрочем, утверждали, что это лишь рекламный
ход, призванный обеспечить книге еще больший успех.
Хорошим дополнением служило и авторское призна-
ние, что он, перед тем как взяться за перо, сначала
прошел полный курс подготовки «зеленого берета». Та-
ким было условие, выдвинутое руководством войск осо-
бого назначения. В этом были свои резоны. Литератор,
в совершенстве овладевший хитростями рукопашного
, боя, изучивший все виды оружия, в том числе и такой
экзотический, как гаррота, освоивший технику дивер-
санта-подрывника и множество столь же полезных навы-
ков, не подкачает и в литературе: это будет человек
правильных взглядов, который не станет разводить либе-
ральной чепухи. Хорошо еще, не было такого условия
для всех вообще военных прозаиков: подход к военной
теме не обладал бы богатством оттенков.
«Беллетрист быстрого реагирования», Мур, возмож-
но, сделал бы хорошую карьеру диверсанта. Не без гор-
дости сообщал он читателям о том, как прыгал с па-
рашютом, стрелял в «яблочко» и разил кулаком напо-
вал. Признав его своим в доску, «зеленые береты» не
раз включали его в состав того американского дуэта, что
обычно сопровождали южновьетнамские соединения
при ведении боевых действий.
262
В то время как наша пропаганда в силу обычной на-
шей секретности даже косвенно не могла намекнуть о
бравых ребятах, выполняющих свой долг в далеких угол-
ках планеты (только теперь, после Афганистана, нача-
лись разговоры о таких операциях), официальный Ва-
шингтон через неофициальные, даже им покритикован-
ные каналы проводил свою воспитательную политику.
Учитывая дефицит на героя, на военно-патриотическую
романтику в эпоху скепсиса, нигилизма, утраты нацией
«мужественности», Мур предложил книгу, которую чи-
тали все от мала до велика. Его персонажи — своего ро-
да «интербригада», отражение того «плавильного тиг-
ля», что издавна являла собой Америка. Они действуют в
обстановке глубокой конспирации и вседозволенности,
что придает им романтически-героический ореол. Чи-
тая об Индокитае, американцы видели в нем «новый
фронтир», ту самую дикую глушь, которую нужно
превратить в цивилизованный рай, каким уже стала
Америка, победив не краснокожих, но красных.
Герои Мура самодостаточны. Они не только умеют
разрушать и убивать. Они и созидают. «Зеленый берет»
должен знать несколько ремесел -— не только отравлять
колодцы, но и бурить новые. Не только взрывать мос-
ты, но и возводить переправы там, где того требуют ин-
тересы дела. Он умеет построить дом, оказать медицин-
скую помощь раненому и даже принять роды. Он владеет
несколькими языками, знает местные обычаи и основы
психологии: умение вступать в контакт с населением
и проводить психологическую обработку — важный
момент в войне, которую он ведет.
Книга Мура написана так, что нелегко понять, где
кончается документ и начинается вымысел. Факты и
фикция так плотно пригнаны друг к другу, что не видно
швов. Это заставляет читателя верить во все то, что вы-
глядит правдоподобно. Тут-то и начинает функциониро-
вать «воспитательное начало». Разворачивая панораму
событий, от, которых захватывает дух, Мур рассуждает
о том, что такое добро и зло, истина и ложь в современ-
ном мире, и на подобном фоне опровергнуть его версию
непросто.
Не последнюю роль в успехе книги сыграл и синдром
аутсайдера. Уже говорилось, каким почетом в литерату-
ре и искусстве Америки окружен человек, существую-
щий на обочине цивилизованного общества, предпочи-
263
тающий конформизму жизнь по собственным принци-
пам. Управляемый изнутри Индивидуалист, утвержда-
ющий себя наперекор чужой воле и могучим обстоятель-
ствам.
В такие аутсайдеры Мур записывает и своих голо-
ворезов-освободителей. Как и положено персонажам на-
родно-фольклорным, они в огне не горят и в воде не
тонут, выходя с честью из сложнейших ситуаций, что
возникают по вине не только коварных коммунистов,
но и родного неповоротливого Пентагона. Мур не раз
дает понять, что его хлопцы принесли бы отечеству сто-
крат больше пользы, если бы не были связаны по рукам
и ногам инструкциями и правилами, исходящими из Ва-
шингтона.
Это тем более огорчительно, что для Мура «зеленые
береты» — последняя надежда свободного мира. Лишь
они в состоянии реально контролировать ситуацию в
странах, где ведутся так называемые национально-
освободительные войны и «борцы за свободу» нахально
пренебрегают международными конвенциями. После ги-
бели Джона Кеннеди и прихода в Белый дом Линдона
Джонсона роль «зеленых беретов» во вьетнамских опе-
рациях заметно уменьшилась. Джонсон был сторонни-
ком эскалации войны, ведения ее традиционными ме-
тодами. Исходя из тезиса: «Техника решает все», он
предполагал быстро поставить на колени вьетнамских
диверсантов и мятежников. Его прогнозы не оправда-
лись. Неудачи вьетнамской стратегии нового президента
не замедлили найти свое отражение в массовом созна-
нии. Если Джон Кеннеди, всемерно поощрявший «ком-
манд ос» и бывший; их почетным главнокомандующим,
воплощал для очень-мнргих американцев дух пионеров,
покорявших Дикий Запад, то Джонсон после первых же
неудач стал олицетворением государства-левиафана, не
умеющего толком распорядиться суперсовременной тех-
нологией, погрязшего в коррупции, охваченного апа-
тией, бессильного в поединке с азиатскими «крестьяна-
ми», наделенными, однако, силой духа и общими це-
лями.
Мур постарался отомстить истэблишменту за недо-
оценку «зеленого спецназа». В 1967 году он опубликовал
уже лишенный малейших признаков документальности
роман «Местная команда»v действие которого происхо-
дит в вымышленной стране Митьюан (среднее между
264
Вьетнамом и Камбоджей). Правительство Митьюана на-
сквозь коррумпировано, держится у власти исключите-
льно методом тотального террора. Но самое печальное —
полная неспособность «местной команды» американцев
(посол, военный атташе, экономический советник и пр.)
контролировать ситуацию. Вернуть страну на путь демо-
кратии удается лишь благодаря деятельности спец-
служб, сражающихся на два фронта: и с прогнившей ти-
ранией, и с ее коммунистическими оппонентами. Впро-
чем, и установленный с их помощью режим не вызывает
у Мура восторга, но это все равно лучше, чем капиту-
ляция перед Деспотией, иначе говоря, мировым комму-
низмом, неизбежная из-за стремления официальных по-
сланцев США во всем соблюдать правила «честной
игры».
Своеобразным антиподом героико-романтическо-
дидактической прозы Мура выступила повесть Дэвида
Халберстэма «Один очень жаркий день», опубликован-
ная в 1968 году. Халберстэм побывал во Вьетнаме еще
в начале 60-х, когда американцы принимали лишь ко-
свенное участие в боевых действиях — в отрядах особо-
го назначения, воспетых Муром, или в качестве совет-
ников и инструкторов правительственной армии Южно-
го Вьетнама. Версия Халберстэма настолько отличается
от муровской, что возникает подозрение, не идет ли речь
о разных странах и разных войнах.
Мур не закрывает глаза на трудности и неудачи, но
прежде всего повествует о победах — лихих, невероят-
ных, очень напоминающих подвиги героев Купера, сра-
жающихся вместе с хорошими «дикарями» против
плохих. В основе повести Халберстэма — история одной
неудачной операции. Поскольку же художественное
произведение по природе своей обобщает и укрупняет, то
вряд ли будет большой натяжкой предположить, что эта
частная неудача символизирует собой у Халберстэма
провал американской стратегии во Вьетнаме в целом.
Подразделение южновьетнамской армии, опекаемое
двумя «спецами»-американцами, получает задание ра-
зыскать и уничтожить базу вьетконговцев. Долгий марш
по удручающей жаре, по сути дела наобум, не только не
приносит успеха, но заводит отряд в неприятельскую
ловушку.
Халберстэм пишет по-репортерски сжато, представ-
ляя читателю «только факты» и избегая прямых оценок
265
происходящего, но подбор персонажей, сочетание «мело-
чей» в совокупности своей создают печальную картину.
Американские советники — люди разные, среди них нет
маньяков-садистов, закоренелых убийц, но сложности
участия в войне, смысл и цели которой остаются за пре-
делами их понимания, не могут не дать о себе знать.
Идеалисты теряют иллюзии, равнодушные ожесточают-
ся.
Лейтенант Андерсон, выпускник Вест-Пойнта, об-
разцовый офицер, поехал во Вьетнам добровольцем.
Сначала он верит, что все тяготы нового назначения не
напрасны и дело, которое он делает,— нужное и благо-
родное. Он даже изучает вьетнамский язык, чтобы луч-
ше понимать жителей этой нуждающейся в помощи
«старшего брата» страны. Но постепенно Андерсон при-
ходит к выводу, что для тех, кого он приехал спасать,
он явно лишний, чужой.
Нет ничего абсурднее фигуры доброжелательного ок-
купанта. В этом не раз убеждались вполне симпатичные
отдельные представители несимпатичного целого. Не-
званый гость, да к тому же с оружием в руках,— враг,
даже если он готов раздавать сласти детям и улыбаться
их родителям.
Гибель Андерсона на последних страницах романа —
символическое напоминание о безжизненности, обречен-
ности, иллюзорности идеи «реальной помощи», которую
может оказать заморская супердержава азиатской
стране.
В отличие от Андерсона капитан Бопре уже не раз
нюхал пороху. Ветеран второй мировой войны и войны в
Корее, он спокойно дослуживал положенный офицеру
двадцатилетний срок, когда вдруг в 1961 году его выз-
вали в военное ведомство и, сообщив, что считают его
экспертом по партизанской войне, направили военным
советником во Вьетнам. «Вьетнамская кампания» Боп-
ре — сплошная цепь разочарований и неудач. «Во время
второй мировой войны,— читаем у Халберстэма,— Боп-
ре не испытывал такого недоверия к людям... Тогда было
проще, даже когда они воевали в Германии, где ненави-
дели всех американцев,— во всяком случае там, когда
они вступали в деревню, их не обнимали и не целова-
ли, чтобы заманить в засаду, обмануть или предать.
Недоверие родилось в Корее, когда война перестала
быть просто сражениями и смертью и превратилась в по-
266
стоянную неизвестность: куда ты идешь, чья разведка
это устроила, кто платит агенту и на кого еще он рабо-
тает... Но по сравнению с Вьетнамом Корея казалась
очень простой. Во Вьетнаме все начиналось с недове-
рия и все уже казалось сомнительным, даже то, что ты
знал твердо. Даже американцы представлялись Бопре не
такими, как раньше, он и им перестал вполне доверять:
чтобы уцелеть в этом новом мире и в этой новой армии,
они должны были измениться. «Да» было уже не совсем
«да», «нет» было уже не совсем «нет», а «может быть»
стало вдвойне «может быть». Эта мысль на все лады
будет повторена в романах о Вьетнаме.
Профессионализм и опыт Бопре помогают ему сохра-
нять хладнокровие и ясность мысли, когда отряд попада-
ет в засаду. Ему удается правильно организовать оборо-
ну и на сей раз не проиграть. На последних страницах
романа он взваливает на себя тело погибшего лейтенан-
та Андерсона, бредет, пошатываясь, по дороге, с раздра-
жением слышит беззаботный смех и болтовню своих
вьетнамских подопечных, а в голове одна-единственная
мысль: «Как это все бессмысленно... Ни преследования,
ни погони! В эту ночь вьетконговцы перегруппируются
и опять будут делать все, что им заблагорассудится.
Да и вообще, он устал и был рад, что остался в жи-
вых».
Упомянутые книги были своеобразной прелюдией к
разговору о долгой и кровопролитной войне, что всерьез
начала разворачиваться с 1965 года, когда Соединенные
Штаты приступили к самым настоящим боевым дейст-
виям, с каждым месяцем все более наращивая свое воен-
ное присутствие во Вьетнаме.
«Вьетнамский роман» внес новые (или сильно поза-
бытые) интонации в американскую прозу 60—80-х го-
дов. Он стал ареной ожесточенной полемики не только о
правомерности военного вмешательства во внутренние
дела далекой, для многих почти мифической страны, но
и о том, как жить Америке. Отсюда, с одной стороны,
обжигающая злободневность тематики, с другой — опре-
деленный схематизм характеров и положений, едва при-
крытая «художественностью» агитация и пропаганда,
чего в изящной словесности США не было давно. Даже
романы о второй мировой при всей их полемичности и
социальном критицизме (или антикритицизме, критике
критиков Америки, как это было у Вука или Коззенса)
267
были лишены такого пропагандистского запала. Воз-
можность свободно высказываться по вопросам полити-
ческим, правовым, экономическим й т. д., высокий уро-
вень гласности — все это «разгружало» американскую
художественную прозу, ставило перед ней иные задачи,
в чем-то освобождало творческую энергию художника, а
в чем-то, напротив, и обедняло рождавшийся в его вооб-
ражении мир. Литература вымысла теряла контакт с ре-
альностью, удалялась в камерность или в излишнюю ли-
тературность с многочисленными реминисценциями из
давно прочитанного. Документальная проза оперативно
заполняла лакуны, оставленные прозой художествен-
ной, создавая емкие образы эпохи, обладающие порой
той универсальной значимостью, к которой стремится
художественное мышление.
Возвращаясь к конкретной культурной ситуации в
Америке, к размышлениям о том, что американцы де-
лают во Вьетнаме, отмечаешь отсутствие четких граней
между собственно художественной литературой об этой
войне и такими неканоническими жанрами, как воспо-
минания, свидетельства очевидца или комментарий-
эссе. Так или иначе разговор ведется вокруг нескольких
узловых проблем, и фигуры, оживающие, к примеру, в
памяти лейтенанта Филипа Капуто, автора докумен-
тально-мемуарных «Слухов о войне» (1977),— в общем-
то двойники солдат и офицеров также воевавшего во
Вьетнаме Дж. Уэбба, автора романа «Огненные поля»
(1978), или бывшего солдата, затем ставшего беллетри-
стом Уинстона Грума («Времена получше, чем нынеш-
ние», 1978). Выводы обстоятельнейшего исследования
Фрэнсис Фицджеральд «Пожар в озере» (1972) о Вьет-
наме и американской помощи этой стране порой совпа-
дают с идеями романа-фантасмагории Тима О'Брайена
«Вслед за Каччиато» (1976). Апологеты, отстраненные
ироничные наблюдатели, суровые критики ведут тот
самый спор, в котором если и не рождается Абсолютная
Истина, то по крайней мере кое-что проясняется.
Самое, пожалуй, горькое в истории вьетнамской кам-
пании — то, что подавляющему большинству тех, кто
высадился на вьетнамской земле, хотелось воевать. По
разным причинам. Кто-то надеялся улучшить свое мате-
риальное положение: армия не сулила златых гор, но га-
рантировала твердую зарплату, ряд льгот и обеспечен-
ную старость. Это кое-что да значило для солдат, из ко-
268
торых большинство было из шахтерских городков и за-
водских поселков. Неблагополучные семьи, безотцовщи-
на, нарастающая близость колонии или тюрьмы...
Другим, лишенным необходимости думать о куске
хлеба, «тур во Вьетнаме» давал отличный шанс отри-
нуть засасывающий быт комфортабельного, но чересчур
уж унылого существования, доказать буржуазным от-
цам, отсиживающим часы в офисах и сосредоточенно
зарабатывающим тысячи долларов, что не в деньгах сча-
стье и в мире есть еще место романтике. Не послед-
нюю роль в разжигании в юношах воинственного энту-
зиазма сыграл образ молодого президента Джона Кенне-
ди, речи и действия которого напоминали молодой Аме-
рике, что Держава нуждается в патриотах.
Рон Ковик, отправившийся во Вьетнам доброволь-
цем, где получил тяжелое ранение, превратившее его в
полупарализованного инвалида, вспоминает, как 20 ян-
варя 1961 года сидел у телевизора и слушал речь нового
президента. Услышав призыв Кеннеди: «Не спрашивай-
те, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что
вы сами можете сделать для страны!» — он не смог сдер-
жать слез, ибо впервые в жизни воочию представил себе
ценности, ради которых стоит жить. Отрезвление при-
шло позже. Став последовательным пацифистом, Ковик
рассказал о трагедии тех, кто доверился лидерам
нации, в документальной книге «Рожденный 4
июля».
Филип Капуто, который пошел в армию, так как по-
верил Кеннеди и очень хотел избавиться от однообраз-
ной повседневности, был в числе первых морских пехо-
тинцев, высадившихся в марте 1965 года на вьетнамской
земле. В своих «Слухах о войне» он говорит о пьянящей
атмосфере начала 60-х, о том миссионерском идеализме,
что сумел зажечь в американской молодежи Кеннеди.
«Тогда Америка казалась нам всемогущей,— пишет Ка-
путо,— и мы верили, что, сыграв в полицейские и воры с
коммунистами, сумеем победить и распространим нашу
идеологию по всему земному шару».
Иллюзии начали рассеиваться очень скоро. Те, кого
американцы высокомерно считали горсткой наспех обу-
ченных воевать крестьян, оказались серьезным против-
ником, умеющим прекрасно сражаться и готовым стоять
насмерть. Как пишет Капуто, «уже к осени веселое при-
ключение стало превращаться в изнурительную, таинст-
269
венную войну, где нам приходилось сражаться исклю-
чительно за то, чтобы уцелеть».
Те, кто мечтал о подвигах вроде тех, что совершали
их отцы во вторую мировую войну, жаждал участия в ве-
ликих баталиях, что непременно войдут в историю и
учебники военного искусства,— вместо этого столкну-
лись с войной нового типа, где приходилось проводить
дни и недели в томительном ожидании противника, а
потом, отразив внезапный и молниеносный наскок, нуж-
но было пускаться в преследование по болотам и непро-
ходимым джунглям, где в любой момент можно угодить
в яму-ловушку, подорваться на мине или получить пулю
невидимого снайпера. Если же получалась «традицион-
ная» атака, это уже казалось блаженством— «рожда-
лась какая-то маниакальная радость от одного лишь фи-
зического контакта с неприятелем» (Капуто).
Вот такая «неправильная» война, ничего общего не
имеющая с традиционными войнами, отложившимися в
западном сознании, предстает на страницах романа
«Подсчитайте ваших убитых» (1968) Дж. Роу. Кадро-
вый офицер, майор, он провоевал во Вьетнаме год в сос-
таве австралийского контингента и рассказал об этом
без беллетристических красивостей и идеологической
тенденциозности. В основе романа — события, изо дня в
день происходившие в течение всей вьетнамской кампа-
нии. Как известно, американцы сбросили на Вьетнам
гораздо больше бомб, чем за всю вторую мировую вой-
ну, однако желаемого эффекта бомбардировки не при-
несли. Эти удары сравнивали с попыткой потопить пла-
вающую пробку с помощью парового молота. Пробка
по-прежнему плавала на поверхности, вызывая бессиль-
ную ярость механического чудовища.
Похожим образом никакого эффекта не давали и ме-
ры по. «умиротворению» провинций. Определение эф-
фективности действий американских войск по количест-
ву понесенных противником потерь приводила к тому,
что военные стремились предъявить «учетчикам» как
можно большее количество трупов. Так рождалась мрач-
ная шутка: вьетконговец — любой убитый вьетнамец.
Все это есть в романе Роу. Есть вьетнамская дерев-
ня, которую нужно «умиротворить» — то есть изгнать
вьетконговцев, оставить крестьян и взять под охрану их
плантации. Но то, что гладко выглядит на бумаге, по-
стоянно подвергается печальной корректировке жизнью.
270
Очередная карательная антипартизанская акция при-
водит к массовой гибели мирного населения. Антимос-
китовый аэрозоль на поверку оказывается дефолиантом.
Артиллерия, вместо того чтобы громить врага, начнет
бить по своим.
Главный герой американский капитан Билл Мор-
ган — как и сам Роу, профессиональный военный, при-
ехавший выполнять свой долг,— довольно быстро убеж-
дается, что «честная война» — это миф. Поначалу его
выводит из себя неджентльменское поведение против-
ника, отказывающегося воевать по правилам. Он вне се-
бя, когда во время рождественского затишья военная ба-
за американцев подвергается минометному обстрелу, что
приводит к гибели нескольких американок, приехавших
развлекать солдат в составе вспомогательного корпуса.
На это французский предприниматель Жюно, не первый
год наблюдающий отчаянные, но тщетные попытки за-
падных цивилизаторов научить вьетнамцев уму-разуму,
замечает: «Не надо забывать, что стократ больше
вьетнамок погибает из-за ваших ошибочных бомбарди-
ровок с земли и воздуха». Впрочем, и американцы в ро-
мане Роу не остаются в долгу. Возмездие за минометный
обстрел следует мгновенно: ответная канонада обруши-
вается на деревню, и снова гибнут мирные жители.
Оказавшись свидетелем и непосредственным участ-
ником событий, не укладывающихся в рамки здравого
смысла и военной необходимости, Морган задается во-
просом: что же это за война, если постоянно прихо-
дится разрушать то, что ты призван защищать? Ведь
во имя наведения порядка его бригада губит не столько
регулярные соединения Вьетконга, сколько вьетнам-
скую землю, разрушая основу основ сельского уклада.
Оппонентом Моргана выступает его начальник полков-
ник Джефферсон, внушающий своему усомнившемуся
подчиненному, что «печальный закон человеческого
сообщества гласит: нередко приходится совершать зло,
чтобы не дать свершиться злу еще большему». Пытает-
ся убедить Моргана, что разрушения, смерти, ущерб мо-
ральный и материальный — трагическая неизбежность.
Но Морган отказывается внять «здравому смыслу», он
стремится предотвратить бессмысленные жертвы и в
конце концов оказывается отстранен от дел. Его перево-
дят в «тыл», чтобы он не мешал товарищам «выжи-
вать».
271
Сознание капитана Моргана — поле боя, столкнове-
ния противоположных начал. Убежденный в изначаль-
ной правоте своей страны, в том, что «мы совершаем
ошибки, но действуем из лучших побуждений», Морган
не в силах закрывать глаза на то, как гибнет Вьетнам. Но
он и сам сознает, что при всем сочувствии к вьетнамцам
настолько усвоил официальные ценности, что не может и
помыслить о «сепаратном мире», хотя война и видится
ему большой ошибкой. Он вынужден продолжать — в\
том качестве, в котором сочтут возможным использо-
вать его командиры.
В давние времена тема войны была естественно свя-
зана с темой Героя. Американская военная проза 40—
50-х годов продолжила начатый Хемингуэем и Дос Пас-
сосом процесс развенчивания героики войны. «Вьетнам-
ский период» в развитии литературы о войне снова выз-
вал к жизни тему героического. На первый план стал
выдвигаться гибридный типаж, имя которому было «ге-
рой-жертва». В странной войне, которую, как любили го-
ворить солдаты армии США, недовольные и недооценен-
ные вели во имя недостойных и неблагодарных, у первых
было слишком много врагов. Это враг официаль-
ный — вьетконговцы, это — по традиции — начальство,
в первую очередь из Белого дома и Пентагона, ввергнув-
шее страну в войну, где победить невозможно. Это и юж-
новьетнамские «товарищи по оружию», плохо делавшие
свое дело. Это соотечественники, оставшиеся дома и
клеймящие «убийц». Это коварный климат, чужая при-
рода. В таких обстоятельствах главная задача — не толь-
ко уцелеть, но уцелеть с честью, доказав миру и себе,
что ты достойно выполнял свой долг, проявил себя
профессионалом. Но ощущение, что «все это»: мужест-
во, верность присяге и товарищам, идеализм, патрио-
тизм — оказалось зря, создавало вокруг молодых аме-
риканцев, брошенных во Вьетнам решением высшего
руководства страны, ореол трагической жертвен-
ности.
Роберт Рот вовсе не стремился к дидактике и нраво-
учениям, когда, отвоевав свое, сел за роман о Вьетнаме.
Роман был опубликован в 1977 году под названием
«Пыль на ветру». Роту хотелось одного: рассказать, как
это было на самом деле. В таком желании он, разумеет-
ся, был не одинок, но именно ему удалось найти и не-
обходимое равновесие между богатством фактов и конт-
272
ролем художника над своим материалом. Рот воссоз-
дает реальность военных будней через восприятие двух
добровольцев — лейтенанта Дэвида Крамера и капрала
Марка Чэлиса. Жестокая муштра в лагере военной под-
готовки в Америке, бесконечное ожидание неприятеля
на «вьетнамской передовой», одновременно оказываю-
щейся и фронтом и тылом, атаки и контратаки — и
смерть, смерть, смерть,— описаны с бесстрастностью ре-
портера, но в этих эпизодах есть и «шум и ярость» быв-
шего рядового участника кровавых событий, которые
разные люди оценивают по-разному. Участника войны,
пытающегося докричаться до тех, кто привык получать
«донесения» с театра военных действий по телевизо-
ру — между бейсболом и рок-концертом.
Герои Рота сражаются отважно, не думают о себе —
и постоянно несут потери. Дэвид Крамер потеряет воз-
любленную-вьетнамку, товарищей по оружию, веру в
свою страну, которая, оказывается, далеко не всегда и не
во всем права. Марк Чэлис потеряет жизнь. В какой-то
момент он откажется продолжать участие в том, что те-
перь кажется ему бессмысленной бойней, но под напо-
ром доводов чести и профессионализма, выдвинутых ко-
мандиром полка, снова возьмется за оружие, чтобы вско-
ре сложить голову в битве за город Гуэ, захваченный
вьетконговцами во время их знаменитого тотального на-
ступления весной 1968 года. Захват Гуэ, ознаменовав-
шийся жестокой расправой с мирным населением, стал
одной из самых мрачных страниц в истории вьетнам-
ской войны. Финал — панорама разрушенного древней-
шего города, горы трупов, множество раненых и остав-
шихся без крова — символ преступного кровопролития,
разрушения ради разрушения, где обе воюющие сторо-
ны, по Роту, равно неправы.
Роман Уинстона Грума «Времена получше, чем ны-
нешние» также вроде бы строится на принципах до-
кументального повествования о «передовой», но в отли-
чие от романа Рота дидактика здесь присутствует доста-
точно ощутимо, если не сказать назойливо. Как и у Ро-
та, в центре повествования «два бойца», отправившихся
во Вьетнам выполнять свой долг. Это лейтенанты Билл
Кан и Фрэнк Холден. Как и у Рота, одному из них, Фрэн-
ку Холдену, будет суждено погибнуть (из-за оплошнос-
ти штабистов, плохо спланировавших операцию). Дру-
гой, Билл Кан, вступит в конфликт с дивизионным на-
273
чальством и «от греха подальше» будет отправлен в Аме-
рику.
Разрабатывая тему «героя-жертвы», Грум видит ко-
рень всех бед, выпавших на долю вьетнамских «окопни-
ков», в дурном руководстве на разных уровнях амери-
канской военно-политической системы, а также в черной
неблагодарности «тыловиков» — американцев, ком-
фортно живущих у себя на родине и обливающих грязью
тех, кем, по убеждению автора, должны горди-
ться.
Одним из главных эпизодов романа Грума становит-
ся убийство солдатами роты Кана вьетнамского партиза-
на и двух его юных соратниц, предварительно подвер-
гнутых пыткам и надругательствам. Кан пытается за-
мять инцидент, но о нем узнает начальство. Ханжи и ли-
цемеры, находящиеся далеко от боевых зон, пекутся
лишь о том, чтобы война шла «по правилам». Начинает-
ся расследование. Гнев Кана вызывает не сам факт пре-
ступления, не садизм его подчиненных, но формализм
начальства, не желающего подойти к этому «по-
человечески». На суде лейтенант разражается бурным
монологом в защиту «без вины виноватых» солдат. Он
говорит о трудностях, обрушивающихся на американ-
цев, оказавшихся на войне, где нет ни фронта, ни про-
тивника в форме, как положено по Брюссельской кон-
венции 1875 года.
Процесс над солдатами, «хватившими через край»,
видится Кану как часть общего Заговора против просто-
го американца, который, поверив призыву родины, по-
шел сражаться за ее интересы, но вместо моральной
поддержки получает лишь оскорбления, живет в невыно-
симой атмосфере придирок со стороны армейских чи-
стоплюев, которым нет дела до проблем тех, кто постоян-
но находится на передовой. Как и у Джонса, война
идет на два фронта, и «свои» — начальство — на повер-
ку выходят еще хуже, чем «чужие».
Сходную ситуацию описывает и Капуто, причем
главным действующим лицом оказывается он сам. От-
правив своих подчиненных на захват, по слухам, про-
никших в деревню агентов Вьетконга и приказав в
случае чего уничтожить вражеских лазутчиков на месте,
он развязал руки солдатам, а те дали волю своим жесто-
ким инстинктам. Как выяснилось позже, убитые вьет-
намцы никакого отношения к Вьетконгу не имели. Сол-
274
датам и командиру предстоит предстать перед судом, им
грозит надолго угодить в военную тюрьму.
В отличие от беллетриста Грума, документалист Ка-
путо проявляет куда больше тонкости в анализе про-
блемы. По истечении десяти с лишним лет сЪ дня «инци-
дента» он находит силы восстановить объективную кар-
тину — не обелять себя и своих солдат, но постараться
понять, почему все произошло. Почему не так уж и за-
блуждался сержант, как-то сказавший ему: «Прежде
чем вы уедете отсюда, то поймете, что нет в мире суще-
ства более жестокого, чем девятнадцатилетний солдат-
американец». ,
Первая причина жестокости, как понимает ее Капу-
то, связана с мощной идеологической обработкой буду-
щих защитников отечества. «Будучи американцами, мы
чувствовали себя вправе совершать все что угодно — и
именно поэтому все, что мы совершали, было оправдан-
но».
Война была запрограммирована как сверхжестокая.
Американские солдаты, напоминает Капуто, довольно
быстро поняли, что, попав в плен, они вряд ли смогут
рассчитывать на милосердие. А человек, который знает,
что с ним никто не станет церемониться, и сам вряд ли
склонен проявлять гуманность.
Отсутствие настоящих, благородных целей, как уже
говорилось, ставило главной задачей солдата — сохра-
нить самого себя. «Самосохранение,— пишет Капуто,—
этот самый мощный из человеческих инстинктов, спо-
собно превратить человека в труса или, как это часто
случалось во Вьетнаме, заставить без малейших коле-
баний и угрызений совести уничтожить все, что, по его
мнению, хоть как-то ему угрожает.
Оказавшись в незнакомой стране, не зная ее языка
и обычаев, не понимая, откуда может появиться враг,
получив приказ стрелять по всему, что может оказаться
врагом, страдая от жары, промокая под тропическими
ливнями, рискуя получить малярию, дизентерию, тропи-
ческую лихорадку, ежеминутно ожидая атаки неприяте-
ля, солдаты постепенно превращались в нелюдей. Как
отмечает Капуто, большинство из тех, кто воевал во
Вьетнаме, нельзя было разделить на плохих и хороших.
В каждом присутствовало и то, и другое: «Я встречал
людей, которые проявляли дружелюбие к вьетнамцам,
но на следующий день могли, и глазом не моргнув, спа-
275
лить деревню. Быть может, американцы на родине пото-
му так болезненно реагировали на сообщения о бесчин-
ствах «военщины», что не допускали в свое сознание
очевидное: американские солдаты, воевавшие во Вьетна-
ме, были их собственным отражением».
Лейтенант Кан, несмотря на обиду, остается лояль-
ным гражданином и патриотом. Лейтенант Капуто при-
знается откровенно, что судебное разбирательство окон-
чательно уничтожило в нем остатки государственного
человека: «Я уже рассматривал себя как жертву вой7
ны, моральную жертву и, как все тяжело раненные, не
чувствовал себя в контакте с остальным миром. Я был
похож на человека, которому оторвало руку или ногу и
который, зная, что больше никогда не станет в строй, по-
терял к войне всякий интерес, так как она оказалась
виновницей его увечья... Я объявил о перемирии между
мной и Вьетконгом, подписал мирное соглашение и хо-
тел одного — возможности жить, как мне хочется. Мне
было нечего делить с Вьетконгом. Не Вьетконг, а США
пытались лишить меня свободы, те самые США, на
службу к которым я пошел добровольно... Отлично, со
всем этим покончено. Я покончил с правительствами и
их крестовыми походами во имя абстракций, я больше не
позволю себе попасть под влияние таких политических
шаманов, как Джон Кеннеди...» Еще один крестовый по-
ход детей, быстро превратившихся в стариков — если не
в покойников.
«Слухи о войне» Капуто — история разочарования
среднего американца в доблестях служения отечеству.
По-иному смотрит на ситуацию Джеймс Уэбб, как и Ка-
путо воевавший во Вьетнаме, а затем написавший роман
«Огненные поля» (1978), который он посвятил «ста ты-
сячам морских пехотинцев, что погибли или получили
ранения во Вьетнаме, а также тем их товарищам, что ста-
ли жертвами по возвращении на родину».
Коллективный герой книги — взвод морских пехо-
тинцев под командованием лейтенанта Ходжеса, «почти
идеальное объединение в отнюдь не идеальных усло-
виях». Это еще одна интербригада (белые из разных
уголков Америки, негр, мексиканец и др.), где нет ни
социальных, ни классовых, ни расовых предрассудков,
но есть чувство единства перед лицом общей угрозы.
«Во Вьетнаме, на переднем краю, не важно, кто ты,
негр или белый,— размышляет чернокожий персо-
276
наж,— но в тылу против собственной воли ты ввергнут в
войну внутри войны». Стоит чуть отойти от вьетнамских
«огненных полей», как возникают те самые взаимоот-
чуждение и рознь, что определяют климат «мирной Аме-
рики».
Получив ранение, Ходжес проходит курс лечения на
Окинаве. Позади месяцы чудовищного напряжения,
смертельной опасности, но Ходжес не радуется безмя-
тежной жизни. Ему не хватает Взвода, образовалась пу-
стота, которую нечем заполнить. «Я ненавижу эту вой-
ну, но без нее не могу»,— признается он себе. Ему пред-
ложат легкую работу на Окинаве, но он откажется
наотрез: «Я ехал за много тысяч Ъшль от дома не для
того, чтобы судить баскетбол!» Он вернется во Вьетнам
и погибнет в очередном бою, как и многие его това-
рищи.
Можно было бы усомниться в искренности чувств
персонажа, заподозрив пропагандистское начало, произ-
вол автора, но те, кто побывал во Вьетнаме, говорили
примерно о том же. Желание вернуться туда, где стре-
ляют, где льется крорь, не было результатом «агитации и
пропаганды». «Я ненавижу эту войну, но без нее не мо-
гу...» Необычные, даже противоестественные условия
создавали особое братство, где, по словам Капуто, «меж-
ду мужчинами возникает близость, столь же тесная, что
между возлюбленными, но в отличие от брачных отно-
шений, которые гибнут от скуки, неосторожных слов,
измен, только смерть могла бы разрубить эти связи».
И потом, возненавидев войну, очень многие ветераны
Вьетнама в то же самое время ловили себя на том, что
им ее не хватает. Они с нежностью вспоминали и това-
рищей по оружию, и месяцы, проведенные в нечелове-
ческих условиях.
Эта нежность была бы вряд ли возможна, не будь
война столь жестокой. Она выступала последней попыт-
кой утвердить свою человечность наперекор невидимому
врагу и тем соотечественникам, кто преспокойно жил-
поживал дома. Уэбб стал одним из самых последова-
тельных защитников фронтового братства, в полемиче-
ском задоре закрывая глаза на преступления и жесто-
кости, виновниками которых были не одни вьетконгов-
цы. То, что для Капуто — одна из сторон сложного фе-
номена войны, для Уэбба — основа основ, подчиняющая
себе все остальное.
277
Рядовой по кличке Змей храбр и безжалостен. Од-
нажды он убивает двух мирных вьетнамских жителей.
Солдат из того же взвода Уилл Гудрич, недоучившийся
студент Гарварда, сообщит об этом начальству. Обстоя-
тельства сложатся так, что вскоре Змей спасет доносчи-
ка ценой собственной жизни. Командир роты представит
его посмертно к Медали конгресса*, но всплывет история
с убийствами, и в награде будет отказано. Снова, по Уэб-
бу, торжествует сухой бездушный Закон. Америка хан-
жески отворачивается от тех, кто сражается за ее идеа-
лы, спасает ее, как Змей Гудрича.
Гудричу, впрочем, будет дан шанс осознать свои
ошибки и исправиться. Если поначалу Гудрич с его ин-
теллигентскими представлениями о добре и зле выгля-
дит «белой вороной» среди лихих головорезов вроде
Змея, то постепенно он начинает кое-что понимать:
«В Гарварде ему внушали, что действительность логич-
на, рациональна и осмысленна. Его ошибка в том, что по
этим правилам он пытался жить и во Вьетнаме».
Свой подвиг Гудрич совершает не во Вьетнаме, а до-
ма, куда он вернулся, потеряв ногу в одном из боев. Ока-
завшись на антивоенном митинге (как и лейтенанта Ка-
на из романа Грума, его настойчиво пытаются вербо-
вать пацифисты), Гудрич с нарастающим отвращением
слушает речи тех, кто всю жизнь прожил за родитель-
ской спиной, а о войне знает лишь из книг и фильмов.
Перед его внутренним взором проходят товарищи по
оружию, погибшие во Вьетнаме. И тогда, потеряв над
собой контроль, Гудрич идет один против всех, вы-
крикивает оскорбления в адрес пацифистов, вьетконгов-
цев и самого Хо Ши Мина. Гудрич вернулся домой,
но, похоже, война продолжается. Война между сооте-
чественниками...
«Огненные поля» собрали одну из самых внуши-
тельных читательских аудиторий, став рекордсменом во
«вьетнамской библиотеке». И успех этот объясняется не
только тем, что автор умело воссоздает не только ба-
тальные, но и мелодраматические ситуации. На страни-
цах «Огненных полей» разворачивается ожесточенный
идеологический диспут, причем Уэбб, давая высказаться
представителям самых разных точек зрения, отвергает
либерально-пацифистскую риторику, оставаясь на по-
зициях государственного патриотизма (все то же «за
державу обидно»).
278
Вот университетский приятель Гудрича Марк, скры-
вающийся от призыва в Канаде, тайком приезжает в
США и навещает однокашника. Отец Гудрича мигом со-
общает «куда следует», и Марка арестовывают, как толь-
ко он покидает дом приятеля. Сын возмущен поступком
отца, обвиняет его в нечестности. Тот отвечает, что не-
честен сам Марк. «Он совершил самое тяжкое-преступ-
ление: он отверг общество, что вскормило и вспоило его.
Он причинил ущерб всей нации. У таких, как он, нет
чувства патриотизма. Если они пользуются благами, ко-
торые предоставляет им общество, вроде обучения в Гар-
варде, они должны брать на себя и бремя обязательств...
Знаешь, что мы утратили? Мы утратили чувство ответ-
ственности, по крайней мере на уровне индивидуальном.
У нас слишком много развелось таких, как Марк, убеж-
денных, что общество прямо-таки обязано предоставить
им полнейшую свободу. Но если все начнут так рас-
суждать, у нас не будет общества. Мы очень большая на-
ция и потому как-то позабыли, что наша сила зависит
от готовности каждого жертвовать частью личного во
имя общих целей...» Когда же сын говорит, что Марк
действует в исконно американской традиции граждан-
ского неповиновения, когда он вспоминает Торо, отец
решительно возражает: «Торо пошел в тюрьму за свои
убеждения, а не сбежал в Канаду, Торо действительно
оказал гражданское неповиновение, а здесь одна забота о
личном благополучии, закамуфлированная под мораль-
ное негодование».
Логика Гудрича-старшего почти безупречна. Упоми-
нание о студентах элитарных университетов США, все-
ми правдами и неправдами увиливавших от призыва
(прежде всего потому, что у родителей были деньги и
связи), рассчитано на однозначную реакцию у массового
читателя. С другой стороны, один, может, и не самый до-
стойный пацифист выступает у Дж. Уэбба олицетворе-
нием пацифизма в целом. Этим же приемом пользовался
У. Грум, создавший образ ловкого краснобая профес-
сора Уайденфелда, отбившего невесту у храброго Фрэн-
ка Холдена, пока тот сражался во Вьетнаме.
Престиж армии и всего, что с ней было связано, рез-
ко упал после того, как с вьетнамского театра военных
действий стали одна за другой поступать неутешитель-
ные новости. Возможно, одержи Америка быструю и ли-
хую победу, как это было затем на Гренаде и в Панаме,
279
взрыв национализма утопил бы доводы либералов о не-
справедливом характере войны во Вьетнаме вообще и о
безобразиях, творимых отдельными представителями;
американского воинства в частности.
Но Америка явно проигрывала, а этого не прощают
никогда.
Одним из эффективных средств реабилитации людей
в военной форме, как это нередко бывало и ранее, ста-
ла мелодрама, апеллирующая не к сухому здравому
смыслу, но к непоследовательному, непредсказуемому
сердцу.
В центре повествования романа Николаса Проффит-
та «Сады камней» (1984) две незаурядные личности, свя-
завшие свою судьбу с армией. Клелл Хазард — ветеран
второй мировой войны и войны в Корее. Успел побывать
он и во Вьетнаме, а теперь служит в роте почетного кара-
ула на Арлингтонском кладбище. Туда же попадает
юный Джек Уиллоу, с отцом которого воевал Хазард.
Джек тяготится ролью оловянного солдатика на арлинг-
тонских траурных церемониях и рвется во Вьетнам. Сын
человека, храбро воевавшего на фронтах второй мировой,
преданного армии всей душой, он убежден: «Если ты вы-
брал военную карьеру, твой долг сражаться там, где ты
нужнее всего. Я добьюсь перевода во Вьетнам... Армия
США не проиграла ни одной войны. И уж во всяком слу-
чае не потерпит поражение от горстки крестьян-азиа-
тов».
Роман строится в двух планах — это мирная повсед-
невность, труды и дни роты почетного караула — и
вставки-фрагменты, в которых раскрывается драмати-
ческая история Джека, в конце концов попавшего во
Вьетнам и с горечью осознавшего, что в этой войне нет
ни доблести, ни смысла.
Наблюдая загнивание и коррупцию южновьетнам-
ской социально-политической системы, некомпетент-
ность и корыстолюбие американского и южновьетнам-
ского генералитета, страдания юных американских сол-
дат, оказавшихся не подготовленными к «войне без пра-
вил», Джек Уиллоу быстро утрачивает былой идеализм.
Он начинает подумывать, не сбежать ли ему во время от-
пуска в Швецию или Канаду, но чувство долга берет
верх. За месяц до окончания «вьетнамского срока» он
размышляет так: «Я знал, что будут жертвы и кровь.
Но не глупость, не трусость, не наркотики!» С детства
280
мечтая стать командиром, он с отвращением смотрит на
многих своих коллег, приехавших во Вьетнам зарабаты-
вать стаж и льготы и равнодушных ко всему осталь-
ному.
В отличие от Грума н Уэбба, Проффитт стремится
показать драматическую неоднозначность вьетнамского
опыта, но в конечном счете мыслит достаточно пози-
тивно. Государственно. Его Клелл Хазард не одобряет
войну во Вьетнаме не потому, что сомневается в праве
Америки наводить порядок в других странах. Его раз-
дражает то, что «вьетнамская кампания» плохо орга-
низована, наспех продумана и во многом отдана на откуп
политическим жуликам и тем, кто наживается на воен-
ных заказах. Надо либо воевать как следует, либо тог-
да уж поскорей уходить.
В конце концов Хазард вступает в серьезный конф-
ликт со своим начальством. Он требует коренного пе-
ресмотра принципов подготовки новобранцев, которых
надо учить не по устаревшим, дедовским разработ-
кам, а в соответствии со спецификой Вьетнама. Сра-
жаться ему приходится не только с косностью и неком-
петентностью начальства и коллег, но и с безответствен-
ными либералами, норовящими очернить родную страну
в глазах мирового общественного мнения. Надо ска-
зать, что при всех различиях в подходе, в стилистике
создается впечатление, что Проффитт, Грум, Уэбб «спи-
сывали» с одного образца. Все пацифисты у них на одно
лицо и действуют схожими методами. У Грума фигу-
рирует краснобай-профессор Уайденфелд, у Проф-
фитта — двойник Уайденфелда Ларри Брубейкер, пы-
тающийся завладеть симпатиями журналистки Саман-
ты Хафф, которую любит Хазард. Попав под колдовское
обаяние этого пустозвона, Саманта принимает участие в
антивоенном марше на Вашингтон (действие романа
происходит в 1967 году). Вскоре она ставит перед Ха-
зардом ультиматум: армия или я.
Ультиматум поставлен вовремя. Оказавшись в кон-
фликте с армейской бюрократией, Хазард и сам поду-
мывает, не пора ли «завязать», подать в отставку в знак
протеста против засилья равнодушных бездарностей.
Известие о смерти во Вьетнаме «идеального военного»
Джека Уиллоу становится последней каплей.
Но, как и полагается в мелодраме, автор вовремя
вмешивается в жизненную стихию, ставя все по местам в
281
соответствии с той моралью, которую должен усвоить '
читатель. Переломный момент — эпизод похорон Джека -
на Арлингтонском кладбища. Его мать демонстративно j
отказывается присутствовать на похоронах: для нее сын \
«погиб» в тот день, когда записался в армию. Там, на
кладбище, железный Клелл не выдерживает и, разра-
зившись рыданиями, обвиняет себя в преступном без-
действии, в том, что не учил молодежь науке выживать
во Вьетнаме. И тут благородная Саманта берет назад
свой ультиматум: она «осознала», что долг Клелла ехать
туда, где он сможет принести наибольшую пользу на-
ции, то есть во Вьетнам, «хотя ей и противно выгова-
ривать это слово». На вопрос, не уйдет ли она к Ларри
Брубейкеру, она отвечает отрицательно: она готова
ждать Клелла столько, сколько понадобится. И все же
любовь любовью, а убеждения убеждениями. Пока
Клелл будет выполнять свой долг, она в Америке бу- '
дет делать то, что подсказывает ей совесть, то есть бо-
роться против войны, а если Клелл сочтет,« что это «нож |
в спину» армии, то это его дело. Каждый должен посту- !
пать в соответствии со своими убеждениями, как поло-
жено гражданам демократического сообщества. На роб- j
кий вопрос Клелла, согласна ли она обвенчаться с ним 1
сейчас, до его отъезда во Вьетнам, она отвечает: |
«Да!»
Роман Проффитта был экранизирован не кем иным,
как Фрэнком Копполой, прославившимся своим страш-
ным и горьким «Апокалипсисом», где продемонстри-
ровано без каких-либо оговорок и умолчаний, к каким
ужасным последствиям приводит «воинственный энту-1
зиазм». Новая работа Копполы была довольно прохлад- j
но оценена специалистами, не увидевшими в картине ]
особых художественных достоинств и достаточно друж-
но выразивших удивление, что после трагического
фильма-исследования режиссер взялся за заурядную ме-
лодраму с конформистским оттенком. Так или иначе
удачей этот фильм не стал.
Полноводная река военной прозы о Вьетнаме питает-
ся как бы тремя «притоками». Это роман-документ. Это
роман-проповедь, где описываемые события становятся
материалом для дидактических рассуждений, как жить
и во что верить, а промахи и ошибки начальства
разных уровней либо списываются на сложность обста-
новки, либо предстают в качестве собственной противо-
282
положности — единственно верных решений и коллек-
тивной мудрости. Наконец, это роман-гротеск, самым не-
почтительным образом обращающийся с темой войны и
смерти, а главное, с Идеалами Служения Нации.
Источники эти, разумеется, отнюдь не равноценны
по своей интенсивности и далеко не всегда представ-
лены в «химически чистом» виде. Так, первые два не-
редко сливаются в единый поток. Что же касается са-
тирического романа о Вьетнаме, то, уступая в количест-
венном отношении романам документального, автобио-
графического и нравоучительного свойства, он обладает
способностью хорошо запоминаться,читателями и кри-
тиками, вызывая восторг одних и бурное негодование
других.
Наивное сознание полагает, что образы комические,
трагические и повседневно-психологические — резуль-
тат внимания к разным жизненным пластам, а не раз-
ные способы восприятия и отражения одного и того же
фрагмента реальности. Там, где один автор видит сюжет
для психологической зарисовки, а другой — высокий
урок, третьему открывается торжество глупости и аб-
сурда. Наивному сознанию любопытно знать, кто же из
этих авторов прав, а кто глубоко заблуждается, но лег-
ких ответов тут не существует.
Иронически-сатирическая интонация во вьетнамской
прозе стала заявлять о себе примерно с 1968 года, когда
положение американской армии сделалось особенно
серьезным. Первой ласточкой явилась тут «Бамбуко-
вая кровать» (1968) Уильяма Истлейка, за которой по-
следовал роман «Другой войны у нас нет!» (1970) англи-
чанина Дерека Мейтленда.
«Без войны современный человек обречен. Ему про-
сто нечего делать! Война — отменная возможность для
сукиных сынов стать героями. Она последняя надеж-
да бездарей, заставляющих ленивых совершать никому
не нужное...» — читаем у Истлейка.
Война необходима и всем героям Мейтленда, научив-
шимся извлекать из нее личную пользу. Полковнику
Мейеру, например, если она вдруг, не дай бог, кончится,
«придется возвращаться домой, в Форт Брегг, к толстой
и похотливой жене, бессмысленной апатичной дочери и
тощему сыну, который бледнел от папиных рассказов о
военных подвигах и бегал в сортир блевать».
Рядовому Аткинсону тоже не хочется, чтобы война
283
прекратилась: он еще не успел покрыть себя славой, хо-
тя и пишет домой письма о том, как врукопашную
расправляется с вьетконговцами.
Бармен-вьетнамец и мысли не допускает, что амери-
канцы уйдут: «Кто же будет бить Вьетконг? Как я буду
зарабатывать на жизнь?»
Военный строитель: «Как иначе я заработаю кучу
денег? В Америке я водил грузовик. А теперь закола-
чиваю 1800 в месяц, у меня вилла, слуга, машина, жен-
щины. В Америке у меня ничего этого не будет».
Ему вторит морской пехотинец — где еще будет та-
кая возможность отличиться, где еще можно стрелять и
убивать. «Другой войны у нас нет!» — в один голос твер-
дят персонажи Мейтленда.
Дистанция между бытом и фантасмагорией оказы-
вается слишком короткой, и достаточно легкого сдвига,
переноса смысла или внимания, чтобы примелькавшая-
ся будничность вдруг превратилась в царство абсурда.
Пацифисты Олли и Элли из «Бамбуковой кровати»
оказались в числе призванных во Вьетнам. Как пишет
Истлейк, «они были совершенно нецивилизованными.
Они не могли убивать себе подобных»:
«Господи,— заявил Олли,— если кто-то пронюхает,
что мы не желаем убивать, у нас будут крупные неприят-
ности».
На вопрос своего напарника, что же их ожидает в та-
ком случае, Олли отвечает:
«Они рассердятся. Они посадят нас с тобой в клетку
в бруклинском зоопарке. А на клетке повесят табличку:
«Гомо-сапиенс, который не убивает себе подобных. Неиз-
вестный род».
Абсурд, как убеждены многие, не столько генериру-
ется воображением недостаточно уважительно относя-
щегося к реальности художника, сколько порождается
самой этой реальностью. Люди старательно закрывают
глаза на выверты логики, ибо приучены во всем отыски-
вать здравый смысл и благие цели. Трудно, однако, рас-
г сматривать вьетнамскую ситуацию как естественную
или разумную, если правая рука Спасителя от Коммуниз-
ма не ведает, что творит левая. Американцы щедро оказы-
вают экономическую помощь, и специальные группы по
аграрному развитию следят за тем, чтобы в деревнях
строились мосты, больницы и школы, но затем военные
в неустанной борьбе с коммунистической агрессией вы-
284
селяют жителей из деревни, на которую было затрачено
столько денег американских налогоплательщиков, и
превращают местность в зону свободного огня, где все
живое — военная цель. Как оценить ситуацию, когда от-
дел культуры и пропаганды устанавливает телевизоры в
«лояльных деревнях», а вьетконговцы приходят вечера-
ми на свои любимые телепередачи? Тогда вряд ли сверх-
преувеличением будет предположение кого-то из персо-
нажей Истлейка, что «в свободное время все южновьет-
намцы — вьетконговцы, так как на этой стадии войны
неизвестно, какая сторона победит, а потому все сра-
жаются сразу на оба фронта. Большинство южновьет-
намских генералов носят партбилеты, премьер-министр
Южного Вьетнама тоже член компартии. Не из коварст-
ва, а потому что верит в победу Вьетконга. Впрочем, он
готов верить во что угодно».
В романе Мейтленда главнокомандующий американ-
ского континента не может как следует громить врага,
так как посол ставит ему палки в колеса своей мирной
программой, раздает лекарства, которые перепродаются
местными жителями Вьетконгу, устанавливает телеви-
зоры, чтобы Вьетконг~мог с пользой коротать вечера.
Впрочем, стоп. Это уже было. И не в фантазии писа-
теля, а в унылой повседневности. Уже была карусель
президентов Южного Вьетнама, дворцовые интриги и
упорное стремление Вашингтона ставить на сайгонскую
диктатуру как на форпост демократии в Юго-Восточной
Азии.
У Мейтленда президент и вице-президент Вьетнама
ведут сложную борьбу за власть (как, впрочем, и главно-
командующий американскими войсками со своим пер-
вым заместителем), тратя на это все силы и энергию.
Но и это было. И в жизни, и в «Поправке-22» Дж. Хел-
лера.
«Если поделить все. деньги, что тратят США на ве-
дение войны,— предлагает послу США вице-президент
Южного Вьетнама,— поделить поровну между теми, ко-
го Америка так хочет уберечь от коммунизма, каждый
китель получил бы по 25 тысяч долларов и, умело вло-
жив их в акции на нью-йоркской бирже, заработал бы
миллион. А миллионеру уже не до коммунизма».
Мирное решение «вьетнамского вопроса» не по душе
американским военным. «Единственный способ выиг-
}ать эту войну,— говорит один,— всех согнать в резер-
285
вации возле Сайгона, а остальную территорию превра
тить в зону свободного огня».
Его собеседник предлагает другое решение: «Един
ственный способ выиграть войну — отбуксировать эт]
проклятую страну в открытое море и бомбить ее до те:
пор, пока она не пойдет ко дну».
Будущий писатель Тим О'Брайен был убежден, чт<
война порочна в своей основе, лишена какого-либ«
оправдания, и все же, получив повестку, отправился вое
вать во Вьетнам. Задавая себе вопрос, почему он не вое
противился, он отвечал сам себе так: «Из-за семьи, из-з;
родного городка, друзей, американской истории, тради
ций. Из страха оказаться чужаком. Я не мог сбежать»
Увиденное вызвало к жизни один из самых ориги
нальных романов о Вьетнаме, «Вслед за Каччиато»
Рядовой Каччиато вдруг покинул свой пост и из Вьетнам
ских джунглей отправился пешим ходом в Париж. 3
ним — в погоню или составить беглецу компанию, так i
не ясно,— двинулся и весь его взвод. Через Бирму, Иран
Турцию. Через разрушенные войной вьетнамские дерев
ни. Через голод, жару, грязь, бомбежки.
«Вслед за Каччиато» — тот самый иронический га
лос меньшинства, который решительно отказываете!
всерьез относиться к тезису о государственных интера
сах, требующих возведения преграды против kommJ
нистической экспансии. Как и Истлейк с Мейтлендом
О'Брайен развивает традицию Хеллера, автора «Поправ
ки-22», взирая на вьетнамскую войну с искренним не
доумением единственного здравомыслящего человека 1
стране безумцев; и создает с помощью гротеска причуд
ливо-фантасмагорический и в то же время удивительш
достоверный образ войны, вполне соотносимый с тем, чт|
писали о ней в своих воспоминаниях Рон Ковик и Фи
лип Капуто. Хаос, что разлит по страницам романа,-!
отражение неразберихи в умах солдат, силящихся nJ
нять что к чему в объективной реальности, но снова ]
снова натыкающихся на неразрешимые противоречил
довольствующихся фрагментами, которые никак щ
складываются в целое. I
Основное состояние персонажей романа О'Брайв
на — это незнание: «Они не знали простейших вещей -J
чувства победы, удовлетворения, убеждения, что жертв!
были не напрасны. Они не знали, что значит занять xd
рошую позицию, выбить врага из деревни, поднять аме
286 3
риканский флаг и сказать: «Сегодня мы победили!» Не
было ощущения порядка, чувства продвижения к цели.
Не было фронта, не было флангов, не было аккуратно
вырытых окопов... Не было целей. И не было Высшей
Цели. Никто не знал, что вызвало эту войну: экономи-
ка, идеология, стремление к мировой гегемонии или про-
сто злоба. Им сообщали, что они заняли Кванг-Най, но
они не знали, как это повлияет на ход войны. Они не
знали стратегии, не представляли особенностей войны,
того, что она собой являет в целом. Когда они брали
пленных, что случалось крайне редко, они не знали, ка-
кие вопросы им задавать и спрашивать ли что-то вообще
или нет, отпустить их на все четыре стороны или пытать.
Увидев мертвого вьетнамца, они не знали, радоваться
или огорчаться. Когда наступало затишье, они не знали,
хорошо это или плохо, можно надеяться на облегчение
или ждать самого худшего. Они не знали, что означает
горящая деревня — победу или поражение... Они не зна-
ли, что такое добро и что такое зло».
Персонажи романов Грума и Уэбба не задумывались
о смысле войны, о праве Америки присутствовать во
Вьетнаме, и в глазах их создателей это помогало четче
видеть мир и эффективнее действовать. Незнание — си-
ла, учила внутренняя Партия у Оруэлла. Но, с другой
стороны, не оказывается ли оборотной стороной медали
нерассуждающего бойца зыбкий мир полудостовернос-
ти, когда теория (детище агитации и пропаганды) всту-
пает в конфликт с практикой?
Безупречная целостность превращается во фрагмен-
ты, в осколки, как только человек оказывается один на
один с реальностью страданий и смерти. Не как коррес-
пондент или турист-писатель, но как непосредственный
участник войны, как солдат, вынужденный исполнять
приказы, справедливость которых не положено ставить
под сомнение.
Не случайно слова «осколки» и «фрагменты» снова и
снова возникают на страницах военной прозы 60—80-х
годов, попадают и в названия романов. Так, «Лаосские
фрагменты» (1974) Дж. Пратта повествуют о сопровож-
давшей вьетнамскую войну «тихой кампании» в Лаосе.
«Осколки» (1984) Дж. Фуллера — история без вины ви-
новатого юного солдата, по роковому стечению обстоя-
тельств убившего свою возлюбленную-вьетнамку. «Ос-
колки,— размышляет один из героев книги,— кусочки
287
металла, покореженные и бесформенные, осколки вре-
мени... Момент здесь, мгновение там... А ты пытаешься
сложить все воедино, но без толку. Ты помнишь дета-
ли, моменты ужаса и еще моменты близости, помнишь
тех, без кого не смог бы выжить. Но сколько ни ста-
раешься сложить осколки воедино, целого не получает-
ся». Драма полузнания, оборачивающаяся полной утра-
той ориентиров.
Соглашаясь, что «Великий роман о Вьетнаме» еще не
написан, придирчивые литературные критики кроме
«Вслед за Каччиато» выделяли и «Медитации в зеле-
ни» (1983) Стивена Райта как образцы удач. Как и в
книге О'Брайена, Райт отказался от «окопного правдо-
подобия» фронтовой прозы, дав волю своей богатой фан-
тазии. Главный герой романа Джеймс Гриффин работал
оператором в группе воздушной разведки, расшифровы-
вал данные аэрофотосъемки, цель которой — установле-
ние вьетконговских баз. Повествование строится на двух
уровнях, которые постоянно соприкасаются. Воспомина-
ния о вьетнамском прошлом сочетаются у Гриффина с
«медитациями», навеянными курением марихуаны.
Одним коллегам Гриффина военные будни кажутся;
заурядными, других, напротив, травмируют своими же-j
стокостями. Рядовой Клейпол, например, прибывший во!
Вьетнам в качестве переводчика, присутствует на допро-j
се с пристрастием пленного вьетнамца. В результате!
испытанного шока он наглухо замыкается в себе, обры-^
вая все связи с кошмарным, чудовищным, жестоким
миром.
Новый командир разведчиков Холли (его предшест-
венник погиб в весьма загадочной авиакатастрофе, напо-
минавшей диверсию) начинает с наведения порядка —
подчиненным велено подстричься, все покрасить, раз-,
бить клумбы и т. д.,— но и он кончает «замыканием».]
Подозревая разведчиков в желании устранить его, как
был устранен прежний командир, он, подобно одному из]
персонажей «Поправки-22» Хеллера, перестает появ-
ляться на людях: он приказывает прорыть подземный
ход, чтобы незаметно переходить из офиса в свою палат-
ку и обратно.
Гриффин тоже оказывается контужен вьетнамским
опытом. Во время атаки партизан на лагерь он теряет
ногу, возвращается в США инвалидом. Адаптация к
«мирной повседневности» идет мучительно, контакты с
288
миром причиняют боль, ему хочется, чтобы его оставили
в покое.
Не случайно в своих «медитациях» он воображает се-
бя растением — колючим, опасным для мелких живот-
ных, детей и насекомых: «Я вырасту в парке, причи-
няя неприятности глупым туристам и собакам, остано-
вившимся помочиться возле меня. Мое поведение будет
вызывающим. Я буду стрелять иголками, издавать дур-
ной запах. Мерзким своим видом портить чудесный
ландшафт... Меня нельзя будет вырвать из земли. Креп-
кими щупальцами длиной в 25 футов я уцеплюсь за на-
шу планету. Химические дожди мне нипочем — все рав-
но что родниковая вода. Я буду восседать в центре все-
ленной, упрямое растение, лишенное экономической или
декоративной ценности, требующее минимального пита-
ния...» Позже герой Райта вообразит себя растением из
пластика, не зависящим от внешних условий вообще.
Искусственному растению ни к чему свет, тепло, корни,
хорошая почва. Ему не нужно ничего. Это крайняя сте-
пень отчуждения, знак полного и окончательного разры-
ва с обществом. Если людей живых, непохожих, способ-
ных на сострадание, доброту, испытывавших радость и
боль, ужас и смех, бросили во Вьетнам, использовали
как предметы, инструменты для выполнения задач, ис-
тинный смысл которых погребен под лозунгами и клише,
то вряд ли таким уж фантастичным покажется желание
«бывшего человека» Гриффина стать самодостаточным,
неистребимым пластико'вым растением, которое никому
не нужно и которое, в свою очередь, не требует от мира
ничего...
Тема войны неразрывно связана с проблемой возвра-
щения, врастания в жизнь, из которой призывные по-
вестки безжалостно вырывали миллионы молодых аме-
риканцев. О горьком возвращении юного солдата рас-
сказал воевавший во Вьетнаме Э. Додж в романе «Дау»
(1985). «Дау» означает по-вьетнамски «боль». Эта боль
не дает покоя Моргану Прескотту, который в 17 лет от-
правился на войну, как твердили на всех углах, «защи-
щать Свободу и Демократию». Он честно исполнял свой
Долг, не отсиживался за чужими спинами, узнал, что
такое неприятельские засады и смерть товарищей, что
такое «умиротворение» деревень и провинций, наводнен-
ных партизанами. Получив тяжелое ранение, он попа-
дает в госпиталь. Но сильнее, чем боль от ран, его му-
Ю С. Белов
289
чают душевные терзания, впечатления от увиденного и]
пережитого возвращаются жуткими кошмарами. Док-j
тор-психиатр успокаивает его: «Ничего страшного. Ть|
просто адаптируешься к взрослой жизни... Тебе надо HeJ
много возмужать. Через какое-то время все наладится»;
Но проходит время, и возникают новые потрясения;
Как и герой романа Дж. Фуллера, персонаж книге
Э. Доджа влюблен во вьетнамку. Как и в «Осколках»J
она погибает — от пули американца. Но не своего воз-^
любленного, а одного из солдат взвода лейтенанта Кол-
ли, печально прославившегося уничтожением деревни
Сонгми. Эта новость приводит к новому нервному срыву
Прескотта, который оказывается в психбольнице. Воз-
вращение на родину не приносит радости. Его сторонят-
ся сверстники. Его не берут на работу — мешает не толь-
ко его медицинское досье, но и вообще тот факт, что он
воевал. По городку ползет слушок, что он вернулся мань-
яком, одержимым страстью убивать, убивать...
Оказавшись у самого края пропасти, Прескотт все же|
не делает последнего, рокового шага. Ему удается ветрев
тить женщину, которая своей любовью спасает его от от-
чаяния и краха. «Мы отдали Вьетнаму все, что у нас бы-
ло,—делится своими размышлениями с женой Прес-
котт, повторяя почти дословно то, что говорят в разных'
концах Америки тысячи и тысячи его сверстников.—
Мы верили в то, что делали, не задумываясь, правиль-
но ли нам приказывали или нет. Я пошел во Вьетнам до-
бровольцем, вернулся домой искалеченным и был встре-
чен как прокаженный. Мне пришлось уехать из родного
города, подальше от разных пересудов и оттого еще, что
никто не хотел иметь со мной дело. То же самое про-
исходит с такими, как я. Мы воображали себя Джонами
Уэйнами, но на самом деле были толпой перепуган-
ных 18-ти и 19-летних юнцов, которые боялись, но учи-
лись заботиться друг о друге и выживать в нечелове-
ческих условиях». Морган Прескотт с трудом, с потеря-
ми и разочарованиями, но отыскал дорогу к дому, к теп-
лу очага, нормальных человеческих отношений. Далеко
не всем так повезло.
Публицистическая, документальная проза, рожден-
ная Вьетнамом, настолько обширна и взаимополемична,
что сама по себе требует отдельного изучения. Тем не
менее кое о чем из этого многообразия сказать необхо-
димо. «Левый фланг» здесь представлен такими доста-
290
I но авторитетными в США именами, как Мери Мак-
[°пти и Сьюзен Сонтаг. Маккарти выпустила четыре
книги о Вьетнаме — «Вьетнам» (1967), «Ханой» (1968),
ЬМедина» (1972), «Семнадцатая параллель» (1975).
Побывав не только в Южном, но и в Северном Вьетна-
ме она однозначно осудила роль, сыгранную США в Ин-
докитае. «Худшее, что может случиться с нашей стра-
ной,— победить в этой войне»,— писала она в книге
LВьетнам». Образ Америки как технологического гиган-
L разыгрывающего в далекой азиатской стране важную
Политическую карту, глухого к доводам разума, совести,
[ерпимости и прислушивающегося исключительно к со-
ображениям политической целесообразности, опреде-
ляет вьетнамскую публицистику писательницы. «Поли-
вка,— отмечала она,— это замена внутреннего голоса
овести, которому внемлют лишь немногие, те, кто укло-
няется от призыва в армию». Отмечая полное равно-
душие американцев к тому, что происходит во Вьетна-
ме, Маккарти констатирует: «Неспособность наших сво-
бодных институтов (вполне симпатичных в основе сво-
й) хоть как-то помешать войне такого рода, вызываю-
щей оппозицию лишь у незначительного количества так
Называемых думающих личностей, указывает на то, что
вобода в США уже не является политической цен-
ностью, но рассматривается просто как право на само-
выражение — как в танцах, театральных постановках,
ексуальной жизни или увлечении керамикой. Истина
остоит в том, что лишь меньшинство из нас волнует эта
Ыша, и полемика вокруг нее оказывается чем-то вро-
k причуды немногих, к которой подавляющее большин-
ство относится с известной долей иронии».
I Маккарти не так уж и ошибалась, хотя право мень-
шинства на выражение своей точки зрения — само по
?ебе завоевание демократии, и, возможно, наша страна
№ оказалась бы к концу 80-х годов в столь плачевном со-
стоянии, если бы голоса, предупреждающие об опаснос-
% не воспринимались бы десятилетиями как ложь и
левета. Впрочем, сама Маккарти в стремлении поболь-
ше уязвить домашних ретроградов проявляет невоспри-
имчивость ко всему, что не укладывается в нужную ей
Хему. Она воюет против истэблишмента, не рискуя в
РЩем-то ничем, набирая либеральный политкапитал.
■ В ответ на часто раздававшиеся в США голоса, что в
дверном Вьетнаме процветает тоталитарный режим,
>
291
нарушаются права человека и подавляются мнения, hi
совпадающие с официальным, американская писатель]
ница утверждала: это говорят люди, не учитывающие
местную специфику. «Право критиковать» она называл!
чисто буржуазной роскошью, непозволительной в уела
виях борьбы народа за свою независимость. Она гов<я
рила, что пока американцы не уберутся восвояси, «не|
возможна отмена карточной системы в сфере идей», nqj
зволявшая северовьетнамцам думать лишь в рамкам
очерченных партийными идеологами. Что же касаетс!
права граждан ставить под сомнение действия властей
«американцы своими поступками сделали это невозмож]
ным для вьетнамской молодежи, да и не только молем
дежи». I
Перед нами любопытный портрет либерала, в по л та
одобряющего тоталитаризм в тех странах, что выступаю!
оппонентами своей родины, с которой иной спрос. MaiJ
карти продолжает славную традицию Ромена Роллана!
Бернарда Шоу, Бертрана Рассела и других совестли!
вых интеллектуалов, априорно знающих, в каких стра]
нах могут нарушаться права человека, а в каких нет!
В книге «Медина», посвященной нашумевшему про!
цессу по делу непосредственного начальника того сам (Л
го лейтенанта Колли, взвод которого устроил резню 1
Сонгми, Маккарти предупреждала: в преступления!
против мирных жителей Вьетнама повинны не отделы
ные дурные исполнители, но характер вьетнамской пс|
литики Вашингтона в целом, способствующий росту ж Д
стокости у тех, кто оказался в джунглях с оружием в pjl
ках. Любопытно, что примерно на этой же логике строя
ли защиту адвокаты солдат и офицеров армии США, за
мешанных в истории о насилии против мирных жита
лей. 1
В разоблачении резни в Сонгми не последнюю рол!
сыграла та самая свободная пресса, которую Маккартя
трактует весьма иронически. Газетчики подчас и впрям]
злоупотребляют погоней за сверхсенсациями, но если <я
этого выигрывает читатель, если общество получает рД
альную и достоверную информацию, то вряд ли это тя
кая уж безделка или «роскошь». Правящим кругам Вя
шингтона, наверное, оставалось лишь сетовать, что у ни]
нет «подлинно правдивой прессы», какой распоряжя
лись Брежнев, Живков или Хонеккер. Тогда не то что 1
Сонгми — о конце света не узнал бы никто. 1
292 I
Односторонность освещения вьетнамской войны в
советской прессе — не диковина. Огорчительно, что уси-
лиями либерального лобби (Маккарти и др.) и северо-
вьетнамский вариант Сонгми — кошмары Гуэ остались,
по сути дела, замолченными, и не только «в странах
социализма». Как комментировал это А. Солженицын,
«достоверно доказанные зверские убийства в Гуэ были
замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо в
ту сторону лилась симпатия общества и не хотелось
нарушать этой инерции»1.
В Северном Вьетнаме Маккарти увидела лишь то, что
хотела увидеть, а именно героическую борьбу северо-
вьетнамцев против варварства американской военщины.
На проблемах Индокитая, похоже, писательница решала
внутренние американские проблемы и сводила давние
счеты либералов с ретроградами. Конечно, похвально
видеть в неудачах и кризисах прежде всего собственную
вину, а не происки закордонных сил. С другой стороны,
тут очевидна и тенденция настолько обособлять враж-
дебно-пагубное в своем обществе, что оно само по себе
превращается в начало чужеродное, по отношению к ко-
торому автор не ощущает никаких обязательств, не вос-
принимает его своим. Это слишком типичное явление
для демократических стран, чтобы на него можно бы-
ло не обращать внимания.
Сьюзен Сонтаг, автор «Поездки в Ханой» (1969),
вслед за Маккарти сочинила панегирик Северному Вьет-
наму — словно назло патриотически настроенным обы-
вателям, ждущим от вьетнамской кампании очередного
торжества американского оружия: «Личный опыт убе-
дил меня в том, что Северный Вьетнам — страна, кото-
рая во многих отношениях заслуживает, чтобы мы ее
идеализировали». В обществе, именуемом консервато-
рами «сталинистским», она видела прочную этическую
основу. По ее наблюдениям, «правительство Северного
Вьетнама любило народ, и народ отвечал взаимно-
стью». Снова возникает тема «любви», непременно при-
сутствующей во взаимоотношениях Государства и граж-
дан, в то время как в иных странах вместо «любви» су-
ществует куда более прозаичный, но зато гарантирую-
щий кое-какйе права и государству, и гражданам закон.
1 «Горизонт», № 8, 1989, с. 23.
293
Собственно, слишком большой акцент на «любовь» и|
«веру» означает во всяком случае слабость закона!
Сонтаг, правда, обратила внимание на обилие портре!
тов Сталина — на фабриках, в школах и учреждениях!
но объясняла это «нелюбовью вьетнамцев расставаться
даже с теми предметами, что отслужили свой век »я
Как и Маккарти, Сонтаг если в чем и упрекала севе«
ровьетнамцев, так в неумении по-настоящему ненави!
деть. Американских военнопленных, по ее данным, кор!
мили лучше, чем самих северовьетнамцев. Как поясняя
ее гид-офицер, «они ведь крупнее, чем мы, и у себя дома!
привыкли есть больше мяса». 1
Вьетнамцы, подчеркивала Сонтаг, «и впрямь верят Л
доброе начало в человеке», в возможность возрождение
тех, кто «морально пал», то есть самых заклятых врагов
общества, в том числе и американцев. И не пытаясь про«
верить, что таится за подобными декларациями, Сонта!
и Маккарти принимали такие фразы за чистую монету!
повторяли их с серьезным выражением лица. 1
На противоположном идеологическом полюсе нахо-1
дится книга Нормана Подгореца «Почему мы были в<!
Вьетнаме» (1982). Один из лидеров неоконсерватизма!
Подгорец, обыгрывая название нашумевшего романЯ
Мейлера, подробно изложил свою версию участия США
во вьетнамской войне. Признавая многочисленные
ошибки и упущения в ее ведении, он в целом, однако!
считал, что это была «благородная война», задача ко!
торой — «предотвратить наступление тоталитаризма Я
важнейшем политическом регионе». Он упрекал многих
своих соотечественников, что своим пацифизмом, без!
думной критикой правительства они только поощряли
«агрессора», повторяя ошибки западных держав 30-и
годов, приведшие к позору Мюнхена. Он напомнил, чтЯ
в Ханое говорили не раз: именно общественное мнения
в США должно помочь Северному Вьетнаму в конце кон!
цов победить. Я
Подгорец пишет, что молодая Америка знала «слип»
ком много об ужасах американского общества (безрабоЯ
тица, рост преступности, наркомания и пр.) и слишком
мало об ужасах коммунистического общества, не отдавая
ла себе отчета, почему коммунизм плох в своей основе щ
представляет реальную угрозу для США». Вспоминая
многочисленные упреки в адрес вашингтонской ад ми!
нистрации, выбиравшей в решении вьетнамского вопроЯ
294
са далеко не самые удачные варианты, Подгорец если в
чем и склонен упрекать руководство, то в малой осве-
домленности насчет реального положения дел во Вьет-
наме, в отсутствии последовательной программы, учиты-
вающей местную специфику. В основе книги одна, четко,
проведенная мысль: попытка спасти Вьетнам от комму-
низма — «задача благородная, но оказавшаяся выше на-
ших сил».
В отличие от преследовавших цели «идеологической
борьбы» Сонтаг, Маккарти и Подгореца, Фрэнсис Фиц-
джеральд — специалист по истории и культуре Востока,
в том числе и Вьетнама,— стремилась воссоздать объ-
ективную картину американо-вьетнамских взаимоотно-
шений. Не вдаваясь в обсуждение того, насколько бла-
готворны или губительны американские и — шире —
западные ценности, Фицджеральд обращала внимание
на их несовместимость с тем, что столетиями выраба-
тывалось культурной традицией Вьетнама. Одна из
главных, роковых ошибок американской политики —
игнорирование стратегами Вашингтона местной специ-
фики, попытка привить стране чуждые для нее прин-
ципы существования.
Американские идеалы прогресса и индивидуального
благополучия, напоминал автор «Пожара в озере», не
находили живого отклика у вьетнамцев, высоко ценив-
ших, напротив, уважение к прошлому и стремивших-
ся копировать из поколения в поколение то, что уже се-
бя оправдало. Идея индивидуального процветания, весь-
ма почитаемая на Западе, в глазах большинства вьет-
намцев выглядела аморальной, так как означала пося-
гательство на благополучие общины, стремление утвер-
диться за счет соседей. «Для вьетнамцев XX столетия,—
подчеркивала Фицджеральд,— понятие «мир» означало
не компромисс между отдельными группировками, но
наличие единого, для всех обязательного образа жиз-
ни. Вьетнамцев не прельщал плюрализм. Куда больше
Ценили они единство». Фицджеральд приводит рассказ
американского профессора, читавшего вьетнамским сту-
дентам курс сравнительной политологии. Он обратил
внимание, что, изучая государственную теорию Макиа-
велли, вьетнамцы заучивали наизусть большие куски.
Когда же, довольный своими учениками, но слегка сби-
тый с толку их старательностью, наставник предложил
перейти от Макиавелли к Монтескье, студенты взбунто-
295
вались. Для чего сегодня вы учите нас одному, а завтра
совсем другому? — вопрошали они. Они исходили из
предпосылки, к которой их учитель оказался не готов.
Либо метод правления «работает», либо нет, и если нет,
то тогда надо разбираться, в чем дело. Если же все в по-
рядке, то такую систему надо выучить и взять на воору-
жение, отринув все остальные.
В отличие от Запада, продолжала Фицджеральд, ре-
бенок во Вьетнаме учится не следовать определенным
принципам, но признавать авторитет определенных лиц
(лояльность сына отцу, жены мужу, мандарина импера-
тору и т. д.). Жизнь традиционного вьетнамского обще-
ства основывалась не на понятии индивидуальных прав,
но на идее обязанностей (долг суверена перед наро-
дом, отца перед сыном и наоборот). «Социальная спра-
ведливость» была чем-то вторичным по отношению к
«социальной гармонии». Любопытно, что во вьетнам-
ском языке нет слова, которое точно соответствовало бы
понятию «я». Говоря о себе, вьетнамец назовет себя
«ваш брат», «ваш племянник» и пр. Слово «той», сейчас
вышедшее из употребления, ранее обозначало «поддан-
ный императора». Для человека Запада «искренность»
означает соответствие слов и поступков внутренним убе-
ждениям. Для вьетнамцев, рассматривающих человека
не как нечто независимое, но как средоточие очень мно-
гих связей и отношений, искренность — это соответст-
вие между поведением человека и тем, что от него ожи-
дается в данной социальной ситуации. Это лояльность
не по отношению к своему внутреннему «я», но к своей
социальной роли. Социальная роль как бы выступает от
имени «всего человека».
Этот экскурс в область национальной истории и пси-
хологии Фицджеральд делает для того, чтобы стало ясно,
сколь ошибочной и близорукой была политика США по
отношению к Вьетнаму: «Мало кто отдавал себе отчет,
что вьетнамцы были не учениками американцев, но на-
цией с весьма своеобразным взглядом на то, как устроен
мир, и с интересами, которые лишь изредка совпадали
с интересами американцев». Такое непонимание яви-
лось источником трагедий и для Вьетнама, и для тех
американцев, что были посланы оказывать «дружескую
помощь».
Эти американцы оказались за тридевять земель от
дома, среди людей, с которыми они не имели возмож-
296
ности вступить в человеческий контакт. Они знали мно-
гое в области военной тактики, но понятия не имели,
где, собственно, они находились и кто был их враг. К не-
счастью, большинство американских авторов романов о
вьетнамской войне не обратили внимания на этот, ка-
залось бы, вполне очевидный факт. Исключение состав-
ляет, пожалуй, «Вслед за Каччиато» О'Брайена, многие
пассажи которого вступают в перекличку с книгой-ис-
следованием Фицджеральд. Например: «Они не атакова-
ли заранее намеченные позиции, но брели через джунг-
ли, через маленькие деревеньки, где жили странные
желтокожие люди, по сравнению с которыми они вы-
глядели так странно и загадочно, словно были не аме-
риканцами, а марсианами. Их друзья погибали, подры-
ваясь на минах, от пуль снайперов или под миномет-
ным обстрелом, но враг оставался невидим — не только
в джунглях, но и в населенных пунктах, среди крестьян,
почти что мистический враг, который повергал их в уны-
ние, ужас, страх, смерть».
Борьба за спасение Вьетнама от коммунизма, пишет
Фицджеральд, постепенно стала для американцев борь-
бой за спасение собственного престижа. Это приводило к
тактике террора, неограниченного насилия и жестокос-
ти, к разрушению природных ресурсов страны, уничто-
жению выработанных веками экономических структур,
которые нечем было заменить. Америка поддерживала
правительство, отличавшееся беспомощностью и без-
ответственностью. Фицджеральд говорит о чудовищной
коррупции (обильные поступления из США для эконо-
мического развития страны практически полностью осе-
дали в карманах чиновников всех уровней), о бесконеч-
ных внутриправительственных интригах, об отчаянной
борьбе «за кусок пирога». Если к этому добавить со-
циальную апатию интеллигенции, то картина получает-
ся удручающая.
Мыслящая часть южновьетнамского общества, отме-
чает Фицджеральд, не могла сделать окончательный вы-
бор. Поддержка Фронта национального освобождения
означала бы отказ от ставших привычными комфорта и
Удобств. Предложения реформ не находили отклика у
правительства, погряз1пего во взяточничестве, фавори-
тизме, кумовстве. Кроме того, многие понимали, что ак-
тивная поддержка режима может обернуться печальны-
ми последствиями, когда американцы уйдут, а в начале
297
70-х годов в этом уже мало кто сомневался. Оставался
самый бесплодный путь — позиция «над схваткой»!
осознание бессмысленности реформ в прогнившем госу|
дарстве и боязнь революции. Анализ ситуации приводи!
Фицджеральд к выводу: вьетнамская война была делом
безнадежным, проигранным задолго до того, как США
окончательно покинули э*у страну.
С 7 по 9 мая 1985 года в Дерхаме состоялась
конференция «Вьетнамский опыт и американская лите-1
ратура». Материалы этого симпозиума были собраны]
Т. Ломперисом в книге с тем же названием, увидевшей
свет в 1987 году. Одним из главных докладчиков стая
известный нам Джеймс Уэбб. Напомнив известную со|
времен Платона истину, что «искусство это тоже поли-]
тика», он предъявил счет своим коллегам по перу, слипН
ком часто, по его мнению, оказывавшимся во власти эмо-]
ций и оттого не замечавшим самоочевидных вещей. Со-]
гласно Уэббу, «будущее Америки в немалой степени за*
висит от ситуации в Азии», но многие из писавших d
Вьетнаме «испытывали романтическое чувство по отно!
шению к вьетконговцам и совершенно не отдавали себе]
отчета в последствиях победы Северного Вьетнама». Bd
многом развивая тезисы, выдвинутые в 1982 годя
Н. Подгорецем, он подчеркивал правильность американ!
ской политики по отношению к Вьетнаму в целому
хотя были допущены просчеты и ошибки, которые в ко-]
нечном счете привели к тому, что войну не удалось выиг
рать. Обилие протестов американцев против Вьетнам
ской войны Уэбб расценивает среди всего прочего ка
свидетельство того, что CJIIA — «самая самокритичная]
нация в мире и сила Америки состоит в том, что она поз-j
воляет себе эту недоступную для очень многих других|
•государств роскошь». К сожалению, представители худо-|
жественной интеллигенции не смогли, по мнению Дж.'
Уэбба, правильно воспользоваться этой привилегией. По
своему внутреннему устройству художник всегда на сто--
роне страдающих, обиженных, слабых, что порой зату-
манивает для него реальную перспективу романтичен
ской дымкой. Опасности, что несет в себе военно-про-
мышленный комплекс, уже давно доведены до всеобщего;
сведения (даже в преувеличенном, искаженном виде),1
но мало кто обращает внимание на «академико-интел-
лектуальный» комплекс, который, по Уэббу, способен
наломать немало дров. С легкой руки интеллектуалов;
298 '!
устанавливается климат, где поддержка правительства
воспринимается как продажность и предательство, где
«расточаются щедрые награды тем, кто находит новые,
оригинальные способы сомневаться в верности офици-
ального курса и сообщает всему свету, когда и каким об-
разом правительство проявляет несостоятельность». По
мнению Уэбба, в Америке требуется гораздо больше му-
жества противостоять мнению тех, кто тебя окружает,
нежели биться с тем «аморфным чудовищем», что име-
нуется государственной политикой.
Позиция Уэбба, как в свое время и его роман-мани-
фест «Огненные поля», вызвала яростные споры, причем
одним из наиболее страстных его оппонентов был Рон
Ковик. В отличие от Уэбба, считавшего, что война, не-
смотря на все беды и трудности, оказалась полезной
встряской для американского общества, Ковик полагал,
что в процессе эскалации войны во Вьетнаме происхо-
дила «нацификация Америки»1.
Вьетнамская библиотека по-прежнему пополняется
романами и мемуарами. Законы искусства жестоки.
Искренности, богатого личного опыта, разнообразия впе-
чатлений порой оказывается мало, чтобы произвести
впечатление на читателей, прорваться к их умам и серд-
цам. Те, кто храбро воевал, а потом брался за перо,
случалось, создавали вещи слабые, изобилующие штам-
пами, рождающие впечатление вторичности, чуть ли не
плагиата, в то время как люди, не покрывшие себя воен-
ными подвигами и оказавшиеся сторонними свидетеля-
ми боевых операций, предлагали образы, надолго запо-
минавшиеся соотечественникам. Так было с первой и
второй мировой, так вышло и с войной во Вьетнаме.
Книги, рожденные «искренним желанней выговорить-
ся», подчас оказывались куда недолговечнее опытов иг-
ры с реальностью, где условное, аллегорическое, ирони-
ческое преобладало над «реализмом». Но в этом раз-
бираться теоретикам литературы...
Чему же учит война современников и потомков? По-
хоже, очень немногому и очень немногих. Словно в по-
пытке облегчить Америке бремя ответственности перед
мировым сообществом за вмешательство во внутренние
1 Интересно, что в леворадикальных кругах, резко осудивших и
саму войну во Вьетнаме, и конкретные методы ее ведения, было приня-
то написание «Amerika», где замена обычного «с» на «к» должна
была вызвать «нацистские» ассоциации.
299
дела других стран, СССР в 1979 году двинул «ограничен-
ный контингент» приводить в «социалистический»поря-
док Афганистан, о котором мало кто что знал всерьез.
Специалисты, разбиравшиеся в афганском вопросе, бы-
ли резко против. Их не услышали. Тех, кто попы-
тался заявить протест, шельмовали на все лады тогда, да
и по окончании войны, в нынешние перестроечные вре-
мена тоже, устами тех, кто, по Уэббу, «рад был послу-
жить родине». Крестовый поход американских детей
сменился крестовым походом детей советских. Совет-
ский Союз терял людей убитыми и тяжело раненными,
получал назад юношей, которые, как писал Капуто, «ни-
чего не зная о взрослой жизни, прекрасно владели все-
ми способами разрушения». Говорят нынче, что «мы все
в долгу перед афганцами». Что на сей раз скрывается
за этим загадочно-многоликим «мы»?..
«Идиоты называли Афганистан школой мужества.
Идиоты были мудрецами: сами они предпочитали в эту
школу не ходить»,— вполне по-оруэлловски размышлял
Артем Боровик, впервые рассказавший о том, как все
было на самом деле. Но это — особая тема...
ВЕСЕЛЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ
В романе «Золотой теленок» авторы Ильф и Петров
писали: «Параллельно большому миру, в котором живут
большие люди и большие вещи, существует и малень-
кий мир с маленькими людьми и маленькими веща-
ми». В сегодняшней реальности с ее многочисленны-
ми меж- и внутринациональными конфликтами, способ-
ными спровоцировать бои отнюдь не местного значе-
ния, «большие люди» — общественные деятели, полити-
ки, писатели — напряженно ищут способы предотвра-
щения той самой третьей мировой, что может оказать-
ся последней войной в истории человечества. Ну а «ма-
ленькие люди» — литературные бизнесмены >— не ве-
дают сомнений и терзаний. «Маленькие люди,— про-
должают Ильф и Петров,— торопятся за большими.
Они понимают, что должны быть созвучны эпохе, и то-
лько тогда их товарец может найти сбыт...» Старый ре-
бусник Синицкий не поспевал в ногу со стремительной
эпохой, у него не получалась шарада с новомодным сло-
вечком «индустриализация». Мастера нынешнего мас-
300
сового искусства умело адаптируются к меняющимся
обстоятельствам, выдают на-гора то, что в ходу, имеет
спрос у миллионов читателей.
Примерно с конца 60-х — начала 70-х годов в цехе
англоязычного литширпотреба стала действовать новая
конвейерная линия: на книжный рынок в больших ко-
личествах стали выбрасываться авантюрные романы про
нацизм, про вторую, а также и третью мировую, про
международный терроризм й шпионаж. Разумеется, и до
этого сочинялись книги «про войну» и «про шпионов»,
но именно в эти годы возник настоящий военно-бел-
летристический бум, и по сей день не выказывающий
признаков затухания, что дало основания английскому
исследователю массовой беллетристики Дж. Сазерленду
говорить о формировании особого поджанра — военно-
приключенческого романа.
Впрочем, образы и темы, связанные со второй миро-
вой войной и нацизмом, дают о себе знать не только в ли-
тературе. В последние годы в поп-культуре возникло на-
правление, ловко эксплуатирующее нацистскую симво-
лику. Панки успешно пропагандировали «нацистский
стиль» в одежде. Свастика, эсэсовские знаки, мундиры и
прочая атрибутика такого рода, с одной стороны, исполь-
зуются «потехи ради», как вызов обывательской благо-
намеренности, а с другой — приятно щекочут нервы ас-
социациями с темой страданий, мучений, смерти. То же
самое и в рок-музыке. Группа «Пинк Флойд», например,
сочинила шлягер о Гитлере, на лондонской эстраде с
аншлагом шла рок-опера «Фюрер». На Западе входят в
моду игры для взрослых военно-исторического плана:
так, желающие за определенную плату могут провести
уик-энд в концлагере, где есть колючая проволока, про-
жектора, овчарки, охранники в мундирах. Рассказывают
о создании и такой занятной игры, как «Гестапо», в ко-
торую могут поиграть и взрослые, и дети.
Можно, конечно, охарактеризовать это строкой из
Грибоедова: «и точно — начал мир глупеть». Но за всем
этим вырисовывается нечто большее, нежели очередное
свидетельство «торжества глупости». Важно разо-
браться, почему же трагедии начинают перерождаться в
комедии, а печальное прошлое неблагодарные и бесчув-
ственные потомки воспринимают не как урок-назида-
ние, а как забаву.
«Мы охотно делим искусство на «высокое» и «низ-
301
кое»: литературу на «прозу» и «беллетристику», кине-
матограф —- на «проблемный» и «коммерческий», забы-
вая, что «низкое искусство» не просто «опиум для наро-
да». Оно выражает распространенные воззрения, пред-
рассудки и самый дух своего времени в наиболее упро-
щенном, но зато и в наиболее обобщенном виде»1,— от-
мечала М. Туровская в одном из первых серьезных ис-
следований несерьезных жанров, появившихся в нашей
стране.
Почему же так популярно популярное искусство?
Казалось бы, ответ самоочевиден. Однако литерату-
роведение крайне редко обращает внимание на эту не
столь уж простую проблему, уступая инициативу соци-
ологам и социальным психологам. Как бы ни относиться
к развлекательной функции искусства, она реально су-
ществует, выполняя вполне определенный социальный
заказ. Роберт Луис Стивенсон в письме к Дж. Майкл-
джону сделал любопытное признание: «Когда у меня
скверно на душе, я нахожу спасение в чтении. Книги —
вот мой опиум, и их сочинители представляются мне
истинными врачевателями душ. Но честно говоря, доро-
гой Майклджон, в тяжелые минуты я берусь не за Баль-
зака, не за Шекспира и не за Джордж Элиот. Мне на
помощь приходят Майн Рид, Дюма, «Тысяча и одна
ночь», лучшие вещи Вальтера Скотта. Нам нужны исто-
рии, а не высокая поэзия, нам подавай интригу, убийст-
ва, подвиги. К черту философию. Когда мы снова прихо-
дим в себя и ничто нас не тревожит, мы снова оказы-
ваемся в состоянии читать «настоящую литературу», но
это все потом, а сейчас нам необходимо лекарство»2.
Ирония в словах Стивенсона не заслоняет серьезнос-
ти выводов: развлекательность обладает терапевтиче-
ским свойством, и способность искусства Помогать от-
влечься от проблем окружающего мира не менее ценна,
чем умение выявлять эти проблемы. Кроме того, массо-
вая проза с ее лихо закрученными сюжетами, бурными
страстями и картонными персонажами и т. д. составляет
необходимый элемент литературного процесса. Она дает
вторую жизнь повествовательным моделям, прежде на-
1 Туровская М. Герои «безгеройного времени». М., 1971,
с. 69.
2 Цит. по: Rutherford A. Literature of War. Five Studies in
Heroic Virtue. L., 1975, p. 136.
302
х0дившимся в почете у законодателей литературной мо-
ы Нередко, просуществовав в изгнании в стране «мас-
солита», модели эти снова возвращаются в «серьезную
литературу» —игра с «низкими жанрами» характерна
для произведений Грэма Грина и Джона Гарднера,
Фридриха Дюрренматта и Хулио Кортасара. «Массо-
лит» также выступает в роли «критика снизу» элитарно-
го искусства. Когда «серьезная проза» начинает отвора-
чиваться от «просто читателя», обращаясь к «читателю-
профессионалу», откликающемуся на прочитанное ста-
тьей или главой книги, спрос на массовую беллетрис-
тику возрастает. «Просто читателю» хочется побольше
узнать о злободневных событиях — «массолит» момен-
тально реагирует на сенсации (ядерный терроризм, про-
иски наркомафии), пока «серьезная проза» существует
под знаком вечности. «Просто читателю» хочется «ото-
ждествиться» с Героем, носителем идеала (где, спраши-
вается, идеалы у кумиров академической литературной
критики, где рыцари без страха и упрека, где подвиги,
где счастливые концовки?).
Справедливости ради, однако, заметим, что при всех
издержках «серьезной литературы» многие читатели —
в отличие от Стивенсона — вообще никогда не могут
прийти в себя настолько, чтобы ощутить готовность взя-
ться за нечто сложнее Агаты Кристи или, хуже, Микки
Сииллейна. Одни виновато отговариваются замотанно-
стью, «откупаются» приобретением элитарных книг,
другие же презрительно фыркают, дескать, читал вашего
хваленого «Улисса» в «Иностранной литературе», ерун-
да, только зря на подписку истратился! Действительно,
живой отклик вызывают у них только боевики, мелодра-
мы, детективы, скандальные биографии. Они не просто
развлекают, но и выступают еще и учебником жизни
(все четко, ясно, понятно, вместо необходимости до все-
го докапываться самостоятельно — готовая мудрость в
виде набора реприз-афоризмов), а также источником ин-
формации. Слишком многие о русской истории знают
"о Пикулю, а германский нацизм изучали «по Штир-
лицу».
Учебник учебником, но главное в массовой военной
литературе — все-таки праздничность, молодецкая не-
Г10Дчиненность обыденщине с ее скукой, однообразием,
гУпиками. Тут не действуют законы повседневного су-
ществования, тут хотя и бушуют бури, нависают ката-
303
строфы, но рано или поздно все становится на свои мес4
та. Видя в главном герое себя (настоящего, еще не раЫ
крывшегося в реальности), читатель сокрушает все преЛ
грады на пути к успеху, одерживает ту крайне важную
для самоуважения Победу, которой слишком долго
ждать во взаправдашней жизни. Он получает возмож|
ность, не нарушая закона, через персонажей боевика
предаваться опасным забавам — пострелять и поуби^
вать, не страшась ответственности за содеянное и не|
рискуя самому погибнуть. Это не просто отдых, это вос-1
становление той нервной энергии, что так много pacxo-j
дуется в условиях мирной повседневности. От тягот «ми4
ра» приходится лечиться насилием, правда, литературно!
обработанным.
Поток военно-авантюрной прозы бурлит между дву-
мя берегами-полюсами — между фактами документов и
фикциями авторского воображения. Уже упоминавший-
ся Урис строит свои книги на документальной основе,
украшая документ мелодраматическими виньетками.
Ни один сколько-нибудь серьезный военный конфликт;
второй половины XX века не был обойден его вниманием
(исключая, пожалуй, Вьетнам). «Боевой клич» (1953),
«Злые горы» (1955) и «Мила 18» (1961) посвящены вто-|
рой мировой, «Армагеддон» (1964) — страстям вокруг
Берлина сразу по окончании второй мировой, «Топаз»
(1967) арабо-израильской войне 1967 года, «Исход»
(1958) — о том, как создавалось в муках и крови госу-!
дарство Израиль. Одна из глав «Исхода», повествую-*
щая о восстании в варшавском гетто 1943 года, впоследН
ствии стала основой для «полнометражного» романа;
«Мила 18». В 1951 году Джон Херси опубликовав
роман-документ «Стена», посвященный тому же собы-j
тию. Даже беглое сопоставление двух текстов способно
продемонстрировать различие в подходе к материалу
представителей противоположных краев литературного
спектра. Разумеется, путем вычитания «Херси из У ри-
са» или наоборот не добыть эссенции массового
или «серьезного», но кое-что видно достаточно отчет-
ливо.
Прежде всего это тяготение массовой литературы к
Перипетии. Урис постоянно очищает свой материал от
того, что не связано с действием, поступком. Очищает
от «человеческого фактора», сохраняя лишь внешнюю,
узнаваемую оболочку. Символично, что открывается ро-
304
маН о восстании в гетто постельной сценой: любовные
грасти будут вспыхивать на страницах книги с машино-
подобной регулярностью. Любовь — насилие —
смерть — страсть —- насилие. По такому кругу и дви-
жется сюжет.
У Херси на первом плане люди. У него нет деления
яа главных и второстепенных персонажей, в его книге
и персонажей-то нет в привычном смысле слова. Он как
можно дальше отходит не только от канонов сенсацион-
ной литературы, но от конвенций «литературы вообще».
Он особо отмечал в предисловии, что «Стена» — отнюдь
не «роман», это книга. Реальность войны сама по себе
настолько масштабна и трагична, что любое вмешатель-
ство художника может создать антихудожественный эф-
фект. Художник в Херси проявляет то самое смире-
ние перед материалом, которого не выказывали не то
что У рис. и его единомышленники, но и такие антиподы
Уриса, как Мейлер и Джонс. Самая идея использовать
судьбу обитателей гетто в качестве «материала» для ро-
мана выглядит для Херси чем-то едва ли не безнравст-
венным. Его интересуют люди, оказавшиеся в нечелове-
ческих обстоятельствах, и даже те, кто не способны на
героический поступок, заслуживают его сострадания.
Тем выше подвиг тех, кто еще вчера жил размеренно-
будничной жизнью, а перед лицом страшных испытаний
не внял призывам благоразумия типа «моя хата с
краю». Собственно, «края» не стало. Стена трагедии
окружила кольцом, прорвать которое было сверх-
сложно.
Херси создал книгу-документ и в то же время гимн
человеческому достоинству. Урис тоже всячески привет-
ствует человеческое достоинство, но оно у него — фон,
задник, на котором красиво смотрится единоборство
страстей. Для массовой литературы «единоборство» —
святая святых, но оно требует морального оправдания,
«неизъяснимого благородства», если воспользоваться
ехидной формулой Достоевского, размышлявшего о сте-
реотипах в жизни и искусстве в «Зимних заметках о
летних впечатлениях».
Массовое искусство по своей природе бесчеловечно в
том смысле, что прекрасно обходится без человека (ре-
ального, сложного, из плоти и крови, а не папье-маше).
Человеческий фактор мешает стремительному бегу инт-
риги. Насилие и кровь изображены Урисом так, что
И С. Белов
305
расстраивают того, кто хочет отдохнуть с книжкой в py-i
ках. Говорят, что «массолит» развращает аудиторию,
прививая ей бездумно-развлекательное отношение ко
всему, что ее прямо не касается. Очень может быть. Но
есть и обратная связь. Установка поразвлечься пагубна
для литературы не только тем, что, поощряя боевики]
способствует росту литширпотреба, загоняя в угол «xo-j
рошую прозу». Мы привыкли оценивать качество про^
изведения с точки зрения авторских намерений. Это pai
зумно, но порой имеет смысл обратить внимание на то
что происходит с текстом в читательском сознании]
Определенные читатели даже вполне серьезные книгц
воспринимают сенсационно, выискивая в них лишь пи-j
кантные подробности и головокружительные подвиги^
пусть и на трагическом материале. Но трагичность^
проходя через систему фильтров в читательском созна-
нии, трансформируется в нечто, способное ужаснутв;
автора, и не подозревавшего, что написал-то он, оказы-j
вается, не роман-трагедию, а дурно сляпанный боевик]
где «здорово» занимаются любовью.
В этом смысле и «Стена» Херси вполне может boc-j
приниматься в виде «Милы 18», и «Архипелаг ГУЛАГ»
поставлять развлечение. Приходилось, и не раз, слышать]
такие оценки книги Солженицына: «В общем, неплохо»
или «Прочитал с удовольствием!» С удовольствием!
Отдыхая то есть от настоящих трагедий на службе и в
семье?..
Но вернемся к Урису. В его романе «Исход» упоми-
нался некто Дерринг, врач-заключенный из Освенцима,
принимавший участие в преступных медицинских экс-
периментах (в том числе и проводивший операции без
наркоза). «Персонаж» подал в суд, утверждая, что его
оклеветали. Было установлено, что Дерринг действи-^
тельно делал такие операции, хотя их было меньше, чем
предполагалось. Уриса обязали выплатить истцу пол-
пенни — давний способ выразить отношение к претен-
зиям «оскорбленной стороны», обладающей, однако,
формальными основаниями жаловаться.
Урис увидел здесь хорошую тему, которая и легла в
основу его романа «QB VII» (сокращенное наименова-
ние судебной палаты, где слушалось дело, похожее на то,
где ответчиком был Урис).
Бывший врач-заключенный поляк Адам Келно обви-
няет в клевете американского писателя Абрахама Коди,
306
который в своем документальном романе «Холокост»1
,,риписал ему криминальные операции. Продержав чи-
тателей в жутком напряжении, развернув перед ним
кошмары концлагеря и спецмедблока, Урис не оставляет
камня на камне от мифа о заступнике заключенных,
обнажив его истинную сущность садиста. И здесь истец
удостоен символической компенсации — и всеобщего
презрения.
Урис с лихвой отплатил своему обидчику, причем не
опасаясь ответных мер: когда роман был опубликован,
бывший врач-палач успел скончаться. На романе Уриса
можно было бы не останавливаться подробно, его лите-
ратурные достоинства невелики, если бьг не четко отра-
зившаяся в нем родовая черта военного «массолита».
Его мастера умело обыгрывают естественный интерес
многомиллионной аудитории к трагедии недавнего про-
шлого, эксплуатируя боль, ужасы, страдания во имя Ти-
ража, украшая Сенсацию Неизъяснимым Благородст-
вом.
Любопытен образ писателя Абрахама Коди, в кото-
ром, надеется Урис, читатели разглядят его, урисовские,
черты. Коди не из числа умников-краснобаев, при пер-
вых признаках опасности прячущихся в кусты. Он сам
воевал (служил в авиации). Потом, правда, увлекся
писанием вещиц поверхностных, хоть и очень нравя-
щихся публике (легкая самокритика самого Уриса). Но
однажды Коди испытал нечто вроде видения, когда по-
нял, что просто обязан написать книгу, которая потря-
сет мыслящее человечество. Так рождается замысел
«Холокоста», бестселлера «благородного свойства».
Урис, как он сам отмечает, сионист, но к тому же он
<'Ще и деловой человек, не желающий отпугивать тех,
кому сионизм не по нраву. Вот и рождается гибридный
образ Абрахама Коди. В его жилах течет «древнейшая
кровь», но он и «стопроцентный американец». Самое его
имя Абрахам Коди призвано рождать ассоциации не то-
лько с библейским Авраамом, но и с Линкольном, а так-
*'Ке с Уильямом Коди, знаменитым Буффало Биллом,
Первооткрывателем золотой жилы в эстрадном жанре,
создателем шоу из жизни Дикого Запада, где благород-
У слова «холокост» нет точного русского эквивалента, но оно
означает «геноцид», «массовое уничтожение людей», обычно приме-
"яется к судьбе еврейского народа в годы нацизма.
И*
307
ные ковбои храбро противостоят кровожадным красноШ
кожим. 1
Продолжая тему, заявленную Урисом в романам
«Исход» и «Мила 18» американский писатель Джо!
ральд Грин опубликовал в 1978 году еще один «роман!
документ», названный прямо-таки по Урису — «Холо!
кост», в центре которого история двух германских се|
мей — еврейской Вайсов и арийской Дорфов. Изобра]
жение варшавского гетто, лагерей смерти, пыток, побе!
гов, расстрелов сочетается с мелодрамой самого сенти!
ментального свойства. По роману был сделан телесери!
ал, успех которого был достаточно громким. Но апла|
дировали фильму далеко не все. Как отмечал англий!
ский критик Д. Поттер, «беда фильма не в том, что полу!
чилась плохая мыльная опера, а напротив, в том, что эти
как раз очень хорошая мыльная опера». Рецензента по|
рядком раздражало, что моральное негодование («не!
изъяснимое благородство») здесь служит в конечном
счете прикрытием сенсационной занимательности. Это и
имел в виду уже упоминавшийся Джордж Стайнер, ког|
да призывал художников в иных случаях и помолчать!
Но банальность не выносит молчания, предпочитая ем«
шум. I
Книги У риса — при всей своей «мыльноопернос!
ти» — все же основаны на документе, на реальных исто!
рических событиях. Но в военном массолите 70—80-х го|
дов развивается и противоположное направление —1
фантастическое, ставящее под сомнение истинность об!
щепринятых версий. Любопытно, что военная фантасти!
ка получает распространение именно на Западе, где де|
ла с гласностью обстояли не так худо, как у нас. Но 1
ситуации информационного перенасыщения, когда н|
рядового члена общества обрушивается предостаточна
точек зрения, концепций, гипотез, фактов, в том числе ш
взаимоисключающих, самый дерзкий вымысел воспри-1
нимается как вполне вероятное предположение. Когда!
несмотря на усилия и академических исследований, щ
журналистов, слишком многое в новейшей истории так щ
остается неразгаданным — будь то судьба Бормана т
Менгеле, загадка «янтарной комнаты», деятельность!
союза бывших эсэсовцев «ОДЕССА» — беллетрист на
останется без почтительно внимающей ему аудитории!
Истечение срока секретности и публикация на Западе]
рювых материалов о второй мировой, в том числе и свя-1
308
занных с деятельностью разведки, только подстегнули
воображение мастеров военной фантастики.
Ханна Арендт, присутствовавшая на процессе Эйх-
мана в Тель-Авиве в 1962 году, отмечала удивительную
заурядность крупнейшего нацистского преступника. Ее
тогда поразило, как банально может выглядеть Зло. Без-
ликость, заурядность, посредственность — типичный
признак нацистской элиты (не говоря уже о середке и
низах). Но для «массолита» с его опереточными эффек-
тами и цирковыми трюками такой подход исключен.
Массовая беллетристика укрупняет, возвышает «героев-
негодяев», превращая бюрократические ничтожества, не
состоявшихся художников и писателей, дорвавшихся до
власти, в исполинов зла, не лишенных специфического
(демонического) обаяния. Из романа в роман кочуют не
исполнительные канцеляристы, туповатые служаки,
имеющие вместо извилин «идеалы» и «принципы», но
мыслители-парадоксалисты, новоявленные Заратустры
(псевдофилософский афоризм — важный атрибут про-
зы быстрого усвоения). Ну а если уж они интеллек-
том не вышли, то такие из них садисты-маньяки по-
лучаются, что сам Сатана им в подметки не годится.
Функционеры РСХА (Главное управление импер-
ской безопасности) в особой чести у мастеров военно-
развлекательной прозы. Гиммлер и Кальтенбруннер,
Шелленберг и Мюллер кочуют из сюжета в сюжет, вы-
зывая у читателей неоднозначные чувства. Они далеко
не всегда решаются признаться себе, что им приятно бы-
вать не только в обществе великих людей, но и великих
злодеев. Им интересно в компании Гитлера, Стали-
на, Гиммлера, Берии. Явление, однозначного объясне-
ния вроде бы и не имеющее. В качестве рабочей гипо-
тезы, однако, предположим, что в основе этой тяги —
уважение, которое массовое сознание испытывает перед
«силой и славой», в том числе и силой явно зловещей.
Поскольку маленький человек, как уже не раз отмеча-
лось исследователями, тяготится своим немощным, ник-
чемным «я», норовит при первом удобном случае отри-
нуть его, встав в строй и двинувшись маршем, то есте-
ственно предполагать в нем желание — бессознательное
или вполне осознанное — заручиться благорасположе-
нием тех, в чьих руках судьбы миллионов. Отсюда стре-
мление отыскивать в великих злодеях положительные,
Даже святые черты.
309
Чем длинней список злодеяний очередного сталино-!
гитлера, тем сильней оказывается желание реабилитиро-j
вать его, оградить от хулителей, присягнуть на верность)
(«стоял за порядок», «любил простой народ», «боролся с
коррупцией»). Тогда не покажется противоестествен-
ным пиетет, существующий в отношении злодеев круп-
ного калибра,—его не испортить доводами здравого
смысла, а также выкладками статистиков. Любовь эта,
по видимости бескорыстно-идеалистичная, вполне ко-
рыстна на уровне подсознания (поиски сурового, но
справедливого Отца-Защитника, дабы выжить в небла-i
гоприятных условиях). И пусть читателей не мучит сон
весть: автор сделает так, чтобы очередной штандартен-1
фюрер в красивой форме оказался не так уж плох, чтобы^
он был на стороне Добра. Кстати, напрашивается кра-j
мольная мысль, что львиная доля обаяния Штирлица^
заключается именно в его принадлежности к РСХА.
Борьба с нацизмом — уже формальное оправдание чи-
тательских симпатий, на самом деле вызванных слож-
ным сочетанием мотивов, где главное — его близость к
Злу. Вряд ли тогда удивит обаяние и МюллераГ с Шел-
ленбергом, не являющихся союзниками Штирлица. Не-
удивительно, что такое нетипичное изображение врагов
вызвало протесты ортодоксов, прежде всего в ГДР Хо-
неккера, но массовая — не очень «сознательная» — пуб-
лика приветствовала отход от осточертевших кано-j
нов.
По в общем-то сходной модели строится и роман
американца Рональда Басса «Изумрудная иллюзия»
(1984), в основе которого дуэль между британской раз-
ведкой и германской СД. Гус Ланг, капитан американ-
ской службы стратегических операций, прикомандиро-
ванный к англичанам, известен немцам под кличкой
«Изумруд». Те весьма гордятся этим ценным кадром, но
он умело водит их за нос, разрушая многие коварные
ловушки.нацистов. Ланг и его начальство должны внед-
рить агента, который, попав в гестапо, сообщил бы
фальшивые сведения о предполагаемой высадке союз-
ных войск в Нормандии. Однако из-за накладки в лапы
СД попадает человек, знающий о реальном месте и вре-
мени вторжения. Если он не выдержит пыток и раско-
лется, это будет серьезным ударом по операции, при-
званной сыграть решающую роль в разгроме нацистов.
Это излюбленная ситуация военной фантастики: на кар-
310
ге судьба миллионов, и все зависит от отдельных лич-
ностей. В рассказе Рея Брэдбери бабочка, раздавленная
на экскурсии в далекое прошлое, меняла историю. В сю-
жетах «фантастических хроникеров» второй мировой
эту хрупкую бабочку приходится оберегать от нацист-
ского сапога.
С помощью истинного патриота Германии полковни-
ка Брауха Лангу удается обхитрить доверенное лицо
Шелленберга — нет, не Штирлица, а Хоффмана, пере-
дав пленному Энди Уилеру ложные данные, каковые бу-
дут приняты немцами как настоящие. Но усилий Ланга
и Брауха оказалось бы недостаточно, если бы не все то
же «неизъяснимое благородство» Хоффмана, который,
послушавшись сердца, а не долга, позволяет Лангу мо-
рочить нацистское начальство. Давая Лангу увести
Уилера и уйти самому, Хоффман выставляет виновни-
ком всех неудач убежденного нациста Риттера. Послед-
ний получает вполне заслуженную пулю. Операция те-
перь может идти в соответствии с разработанным пла-
ном.
Считается, что американский «массолит» заметно
обогнал своих конкурентов, отведя им роль вечно дого-
няющих. Что касается военной фантастики, то тут Ста-
рый свет успешно сопротивляется, прежде всего благо-
даря умелым действиям «британского легиона». Фреде-
рик Форсайт, Кен Фоллетт, Гарри Паттерсон (пишущий
как под своим именем, так и под псевдонимом Джек Хиг-
гинс), а также в основном работающий в жанре «шпион-
ского романа» Лен Дейтон постоянно оказываются в
списках «самых, самых читаемых».
Из обширного запаса продукции со свастикой на су-
перобложке (своего рода фирменный знак серии) сле-
дует обратить внимание на «Счастье Лучано» (1981)
Дж. Хиггинса, «проливающее свет» на «истинную подо-
плеку» успешной высадки американцев в Сицилии в
1943 году. Незадолго до этого из американской тюрьмы
был выпущен известный мафиозо Лаки (Счастливчик)
Лучано, осужденный на срок от 30 до 50 лет. По заданию
американского командования он вступил в контакт с си-
цилийской мафией. В результате американский десант
получил поддержку местного населения и за недели бы-
ло сделано то, что могло занять месяцы. В награду си-
цилийские «крестные отцы» получили статус наиболь-
шего благоприятствования в «экономической деятельно-
сти» — торговле продовольствием и медикаментами с
311
американских складов и др. По освобождении Италии
от фашизма сам Лучано переехал в Неаполь и вовсю за]
нялся контрабандой наркотиками. 1
В романе Хиггинса Лучано и его партнер неустра|
шимый майор Картер должны склонить на сторону аме|
риканцев главу сицилийских мафиози дона Луку. Зада!
ча осложняется тем, что последний люто ненавидит аме|
риканцев, не желая им простить смерть брата (казнещ
за гангстеризм). Тогда к операции решено подключит!
внучку дона Луки Марию. Та, со своей стороны, не жа|
лует деда — из-за его темных дел погибла ее мать (про!
тивники дона Луки постарались), а сама Мария, поки!
нув родину, оказалась в Англии, в католическом мона-1
стыре. I
Итак, итало-американская «спецгруппа» высажи!
вается на Сицилии. За непрошеными гостями охотится
благородный эсэсовец Кениг, воюющий согласно кодекЛ
су чести. По распоряжению Гиммлера ему в подмогу!
прислан садист и убийца Мейер, возглавляющий отряд!
сплошь состоящий из русских. Подобный расклад имел
место и в романе «Операция «Валгалла», опублико-1
ванном под фамилией Паттерсон. И там имелся благо-1
родный нацист, которого опекал эсэсовец-негодяй,была ш
бригада головорезов, состоявшая из украинцев. Хиг|
гинс-Паттерсон строит сюжеты так, чтобы у читателя на
возникало никаких теплых чувств по отношению к вос-|
точным союзникам Англии и США, что же касается]
«нордических рыцарей», то были среди них и негодяи,]
но были и молодцы. ]
Несмотря на все старания Лучано—Картера, дон Лу-|
ка неумолим. Не помогают и внучкины уговоры. Однако!
не было бы счастья, да несчастье помогло. Подлец Мейер!
захватывает в плен Марию и расстреливает ее, а заоднсЯ
и благородного Кенига (мешал «работать»). Тут-то все т
объединяются против этого мерзавца. В доне Луке заго-1
ворила родная кровь: он поднимает местных жителей!
против Мейера и его славянских бандитов. К итальян-1
цам присоединяются и солдаты Кенига, жаждущие!
отомстить за командира. Мейер ликвидирован. Дон Лука!
обещает американцам полную поддержку. Лучано благое
родно возвращается в Америку, ибо был отпущен под!
честное слово самим президентом Рузвельтом. 1
Но и Хиггинс может показаться «слишком докумен-1
тальным» по сравнению с его соотечественником Коли-1
312
ном Форбсом. В романе «Вождь и проклятые» (1983)
фюреру суждено скончаться не в апреле 1945-го, а в
марте 1943-го. В его самолет, на котором он возвращал-
ся с восточного фронта, была подложена бомба замед-
ленного действия. Усилиями его окружения (прежде
всего Бормана) страшную правду удается скрыть от на-
ции. Сообщено, что погиб двойник фюрера, очевидцы
катастрофы ликвидированы. Двойник же, актер Хайнц
Куби, только теперь должен приступить к делу вопло-
щения вождя. Под опекой Бормана. К огорчению послед-
него, исполнитель слишком увлекся. Он и впрямь вооб-
разил себя вождем Германии, что создает Борману не-
малые трудности.
Тем временем в «Волчье логово», ставку Гитлера в
Восточной Пруссии, прибывает английский разведчик
Линдсей, формально для зондирования почвы о мир-
ных переговорах, на самом же деле для того, чтобы точно
выяснить местонахождение «логова» (для его последую-
щего уничтожения) и понять, кто, кроме фюрера, опре-
деляет военную и политическую стратегию. После пер-
вой же встречи Линдсей начинает подозревать, что с ним
общается двойник — он встречал Гитлера до войны.
Борман же, опасаясь, что Линдсей может расстроить
его планы, пытается натравить на него гестапо. Но и ге-
стапо, и абвер обеспокоены другим: по их сведениям, в
«Волчьем логове» работает советский шпион. Это кто-то
из ближайшего окружения фюрера — Кейтель, Йодль
или же сам Борман.
Есть советский агент и в британской разведке. Это
Тим Уэлби (читай, Ким Филби), пытающийся извести
опасного для его планов Линдсея. Он же блокирует по-
пытки «хороших нацистов» — Канариса и иже с ним —
«келейно» договориться с Западом, уничтожить Гитлера
(точнее, его и. о.), установить новое правительство и
стать стеной против русских варваров. В результате
головокружительных погонь, перестрелок, хитрых ма-
невров все достойные люди погибают, Тим Уэлби же
идет на повышение. Несмотря на все усилия разведки
Шелленберга, русского агента в «Волчьем логове» разо-
блачить не удается. Целым и невредимым он прибывает
R Москву. Кто же «шпион века»? Борман. Читателям
°стается лишь посетовать на собственную недогадли-
вость — не зря же в начале романа было упомянуто о
Широком славянском лице рейхслейтера...
313
Борман удостоен приема у Иосифа Виссарионовича,
который, поздравив его с победой, лукаво замечает, что
вообще-то никакого второго Гитлера не существовало
(«это не наша версия истории!»). Бормана хвалят на-,
перебой, а потом пускают в расход. Сталину ни к чему,
чтобы мир узнал о существовании советского агента,
внедренного в высшие эшелоны гитлеровского руководи
ства. Пусть лучше победа будет приписана его, сталин-j
ской, гениальности. Дискредитировав таким ловким ма-;
нером вклад в победу над нацизмом СССР, Форбс (впол-j
не в духе Хиггинса) не только чуть обеляет «норддИ
ческую идею», но и записывает в «большевики» одно-j
го из главарей нацизма. i
К Советскому Союзу у Форбса давняя и стойкая не-1
приязнь. Так, в 1975 году он выпустил роман-фантазию
«Каменный леопард», действие которого происходит ö
наши дни. Американские войска ушли из Европы^
Португалия, Греция, Италия в руках у коммунистов!
Есть опасения, что русские вторгнутся и во Францию^
Вся надежда на французского президента Флориана]
жесткого и решительного, «второго де Голля». Но ca^j
мое неприятное в том, что кто-то из правящей вер-1
хушки (как это будет и в романе «Вождь и прокля|
тые») —советский шпион. После набора необходимым
трюков, подвигов, злодейств и моря крови удается
выявить зловещую руку Москвы. Ею оказывается сам]
Президент. |
На русских он работал еще со времен СопротивлеЗ
ния, в рядах которого сражался, покрыв себя славой..1
жестокого убийцы. Не только гитлеровцев, но и своих ж J
соратников. В 1944 году он был среди тех, кто пытался
установить на юге Франции прокоммунистический pel
жим, а когда план провалился, ликвидировал всех, кт<|
имел отношение к операции. 1
Президент Франции — слишком крупная фигура!
чтобы его можно было взять и арестовать. Поэтому бла|
городный шеф полиции Грель устраивает уничтожения
президентского самолета, в котором Флориан летит я
Москву, сдавать Францию Советам. Совершив этот под-!
виг, Грель кончает жизнь самоубийством — у него ня
имеется документально подтвержденных доказательств!
вины Президента, ибо все свидетели погибли, да и самЛ
по себе разбирательство покрыло бы Францию клеймом!
позора. 1
314
Действие романа англичанина Ф. Маллэли «Гитлер
победил» (1975) происходит в 1942 году. Рейх одержи-
вает победу за победой. Русские отброшены за Урал.
Японцы не совершили роковой ошибки Перл-Харбора, а
вместо этого благоразумно высадили десант во Владиво-
стоке. Америка так и не вступила в войну. Фюрер-
победитель споро работает над новой книгой «Майн
зиг» (то бишь «Моя победа»). В свободное от полити-
ческих и литературных забот время он уединяется с ди-
пломатом из Ватикана отцом Донати и о чем-то подолгу
с ним беседует.
Хитроумный католический священник сумел сделать
то, что не удавалось армиям антигитлеровской коали-
ции. Словно бес-искуситель, он соблазнял фюрера пер-
спективами новой власти. Под влиянием этих бесед
фюрер начинает воображать себя новоявленным мес-
сией, Иисусом Христом XX века. Действуя по разрабо-
танному отцом Донати плану, он смещает римского папу
и сам занимает святейший престол. Пока фюрер-папа
пытается прибрать к рукам несговорчивых кардиналов,
адмирал Канарис, работающий в контакте с Донати,
ведет подрывную антигитлеровскую пропаганду в ар-
мии. Им помогает Курт Армбрехт, очередной благород-
ный эсэсовец, ведущий переговоры с генералами-като-
ликами и доносящий шефам о настроениях в вермахте.
Генералы недовольны фюрером, и склонить их к участию
в заговоре не так уж сложно.
Читатель имеет очередную возможность пообщаться
с Шелленбергом и Мюллером, которые здесь не так обая-
тельны, как в сериале Семенова, что оставляет весь-
ма неприятный осадок у тех, кто успел привыкнуть к
образам, созданным Табаковым и Броневым. Они жесто-
ко расправляются с близкими Армбрехта, прямо-таки
толкая его на бунт. Армбрехт приходит к выводу, что
«Германию захлестнула волна безумия» и сам он часть
этого безумия. Впрочем, эсэсовцы эсэсовцам рознь. Как
и у Хиггинса, здесь имеется эсэсовец-негодяй Феллер,
отправляющий отца Армбрехта в концлагерь и принуж-
дающий к сожительству его сестру.
Между тем Гитлер спятил окончательно. Он плани-
рует перенесение собора святого Петра в Берлин, тре-
бует, чтобы Геринг исповедовался ему в грехах и т. д. Но
Дни папы-самозванца сочтены. По канонам массовой
беллетристики, один человек может одной пулей изме-
315
нить курс истории, ибо последняя подчиняется не объ-
ективным законам, но воле беллетриста. Таким спасите-
лем человечества у Маллэли становится Армбрехт, вдо-
хновленный на подвиг отцом Донати. На торжественной
церемонии в Ватикане он расстреливает в упор зар^
вавшегося фюрера. Поднимается вся католическая Ита-
лия, земля горит под ногами у нацистов. На европей-
ских фронтах генералы-католики успешно довершают
начатое Армбрехтом. «Весной 1945 года,— сказано в
эпилоге,— германское верховное командование принял^
условия капитуляции, предложенные союзными дер-
жавами». Концы сведены с концами, история может
развиваться нормально.
За картонными персонажами и балаганными перипе-1
тиями романов Басса, Хиггинса, Маллэли проглядывают
вполне серьезные «уроки». Почему, спрашивается, рух-^
нул великий рейх? Да потому, дает понять Маллэли, чтсЦ
во главе его оказался маньяк, покусившийся на святые!
ценности Запада, символом которых в романе стал като-
лицизм. Поделом вору и мука, не резон Гитлеру былс^
вступать в конфликт с просвещенным Западом. Воевал
бы на востоке, никто и слова худого не сказал бы.
И еще один тонкий намек. Восток, по Маллэли, нф
имеет никакого отношения к разгрому гитлеровской-
Германии. Истинный «победитель дракона» — белоку-1
рый германец Курт Армбрехт. Снова, как и у Басса;
с Хиггинсом, все лавры достаются тому, у кого в жилах!
«нордическая кровь». }
Тайная история германского нацизма и истинная ис-]
тория второй мировой жестоко эксплуатируются в «мас-|
солите». Не менее плодотворной оказалась тема «Ha^j
цизм сегодня». Один из первооткрывателей здесь —']
Фредерик Форсайт, роман которого «Досье ОДЕССА»]
(1972) посвящен деятельности могущественной органи-^j
зации бывших эсэсовцев, выведенной на чистую воду]
западногерманским журналистом. Гоняясь за бывшим;
начальником рижского концлагеря, герой находит убий-^
цу своего отца, «честного офицера вермахта» (нацисты?
никак не могли взять в толк, с какой стати белокурый!
супермен травит своих же братьев по крови) и заодно!
отводит дьявольскую угрозу от Израиля, на который]
вот-вот обрушатся разработанные экс-нацистами раке-|
ты с ядерно-биологическими боеголовками, размещен-]
ные на арабских территориях. Избежав вражеских ло-|
316
пушек, герой на последних страницах попадает в сети
матримониальные, предлагая руку и сердце своей подру-
ге и соратнице Зиги. Счастливый финал омрачен толь-
ко тем, что нацистское гнездо не раздавлено до конца.
Кое-кому удалось бежать, а значит, «люди, будьте бди-
тельны».
Если у Форбса Гитлер погиб в 1943 году, то в романе
американца Ирвинга Уоллеса «Седьмой секрет»
(1987) — ситуация обратного рода. Гитлер и Ева Браун
не погибли. По следам ушедших от возмездия негодяев
(действие происходит в наши дни) отправляется интер-
национальный отряд из дочери английского историка,
американского архитектора, израильской журналистки
(она же агент «Моссада») и смотрителя ленинградско-
го Эрмитажа Николая Кирвова. По сравнению с Хиггин-
сом, Форбсом и Маллэли, Уоллес — апологет сотрудни-
чества людей доброй воли независимо от их граждан-
ства.
В начале романа английский историк Эшкрофт, ра-
ботающий над биографией Гитлера, получает письмо от
бывшего дантиста фюрера, сообщающего, что, по его све-
дениям, Гитлер и Ева Браун не погибли в далеком
1945-м. Доктор Эшкрофт имеет неосторожность обнаро-
довать эту информацию на пресс-конференции. Вскоре
на него наезжает грузовик.
Его дочь Эмили решает докончить начатое отцом.
Случай сводит ее с американцем Фостером, готовя-
щим альбом «Архитектура тысячелетнего рейха». Кста-
ти возникает и Кирвов, коллекционирующий полотна
фюрера и только что приобретший очередной шедевр.
Архитектор Фостер, глядя на картину, приходит к нео-
жиданному выводу: если ее автор и впрямь Гитлер, то
он создал ее в 50-е годы. Это видно по облику здания,
запечатленного на холсте: перестраивалось оно уже пос-
ле войны, и в этом перестроенном виде изобразил его
художник.
Страсть, возникающая между Эмили и Фостером, ни-
чуть не мешает им искать загадочный «седьмой бункер»,
где может скрываться Гитлер. Первой попадает туда
Эмили — правда, не по своей воле, а в качестве плен-
ницы испуганных ее деятельностью нацистов. На вы-
ручку возлюбленной спешит Фостер. Проникая в хитрый
тайник, он не только вызволяет Эмили, которую отправ-
ляет искать помощи у «Моссада», но и берет в плен Еву
317
Браун. Она крепкий орешек, но и воевавший во Вьетна-
ме Фостер не лыком шит. Он заставляет ее признаться,
что произошло с ней и ее супругом на самом деле.
Выясняется, что в 1945-м Гитлер и Ева Браун спас-
лись бегством, а вместо них были умерщвлены их двой-
ники. Они жили в «седьмом бункере», в Берлине, ро-
дили ребенка (несчастная Клара покончит с собой, уз-
нав, кто были ее родители). Гитлер скончался от болезни
Паркинсона в 1963 году в дни, когда Америка оплаки-
вала Джона Кеннеди. По словам Евы Браун, она и ее
муж не любили ни СССР, ни США, «хотя однажды в
Америке появился лидер, достойный уважения, тот са-
мый президент-ковбой, почтивший память 49 эсэсов-
цев на кладбище в Битсбурге. Муж очень это оценил
бы».
Если не считать иронической шпильки в адрес Рейга-
на, роман никак не связан с повседневностью. Уоллес
подчеркивает загадочность того, что несведущим мнится
заурядной повседневностью. Ева Браун может бродить
где-то рядом: ей удалось перехитрить Фостера и скрыть-
ся. Прежде чем исчезнуть окончательно, она приведет в
действие взрывное устройство, и бункер взлетит на воз^
дух, а с ним и трупы эсэсовцев (незадолго до этого лю-
ди из «Моссада» пустили по вентиляционным трубам тот
самый газ «Циклон-Б», которым уничтожали людей в
лагерях смерти нацисты). Усилиями «интернациональ-
ной бригады» нацистское логово разгромлено, но Эми-
ли Эшкрофт отказывается от намерения закончить от-
цовскую монографию. Все доказательства уничтожены,
кто же поверит ей на слово? Но, потеряв уже ухвачен-
ную за хвост сенсацию, она нашла кое-что взамен —
любовь неотразимого Фостера.
Специалисты по массовой культуре Запада отмечают
преобладание в ней развлекательных элементов над ди-
дактическими. Творчество Аллена Друри, однако, сви-
детельствует, что массовое искусство неплохой агитатор
и пропагандист. Возможно, сам он воспринял бы за-i
числение себя в разряд массовых беллетристов как оби-
ду — какое тут легкое чтиво, когда в его книгах затра-
гиваются вопросы злободневные, связанные с судьбами,
не только американской демократии, но и всего свобода
ного мира. ]
Появившиеся с интервалом в два года романы Друри]
«Помни о Ниневии, помни о Тире» (1973) и «Обещание,
318 j
радости» (1975) стали завершением многотомной поли-
тической эпопеи, начатой в 1957 году романом «Совет и
согласие». В этом цикле шла упорная борьба тех, кто,
по словам Друри, «готов проявлять разумную твер-
дость, чтобы поддерживать социальный прогресс и про-
тивостоять попыткам коммунистического империализма
добиться мирового господства», с безответственными
лицами, убежденными, что «нежелание быть твердыми и
непреклонными и расшатывание устоев закона — вер-
ный путь к миру и социальной стабильности». В романе
«Помни о Ниневии, помни о Тире» Друри показывает,
что может произойти с Америкой, если представители
последней точки зрения возьмут верх. Проводя парал-
лель между США 70-х и трагической участью двух
древних городов, очагов культуры, Друри недвусмыс-
ленно указывает на нового варвара — Союз Советских
Социалистических Республик.
В этом романе-предостережении США наводнены
пособниками Москвы, прямыми и косвенными. Ну а все
беды Америки начинаются, когда в Белый дом приходит
новый президент, либеральнейший Эдвард Джейсон
(его соперник, сторонник «твердой линии» Оррин Нокс,
погибает при загадочных обстоятельствах).
В своей безграничной наивности Джейсон верит
в возможность добрососедских отношений с русскими.
Попавшись на удочку их большой лжи (стремление к
разрядке, обуздание гонки вооружений и т. д.), пре-
зидент США, ни с кем толком не посоветовавшись,
отдает приказ об одностороннем разоружении, выводит
войска США из всех горячих точек планеты, отменяет
полеты спутников-шпионов над СССР. Реакция рус-
ских мгновенна: они тут же вводят свои войска в страны,
откуда ушли американцы, устанавливают там просовет-
ские режимы, русские подлодки курсируют вдоль по-
бережья Америки, а на Аляске уже высаживается рус-
ский десант.
Не дремлет и враг внутренний — интеллектуалы-
либералы. Вместо того чтобы дать решительный отпор
проискам красных, президент идет у них на поводу,
ограничивается полумерами, все надеется на «здравый
смысл» и «добрую волю» восточного блока. Похвалы
либералов, захвативших «свободную прессу», еще боль-
ше укрепляют его в чувстве правильно выбранного
пути. Негодяи-интеллектуалы клеймят позором тех, кто
319
призывает, пока не поздно, сплотиться для спасения
Демократии, расшатывают социально-политическую
систему США.
По мнению Друри, главная беда Америки в ее снис-
ходительности к тем «подрывным элементам», которые,
злоупотребляя демократическими свободами, выпол-
няют роль «пятой колонны», изменников родины. Виной
тому вся система либерального образования, внедряю-
щего в юношеские умы такие «аксиомы», как несостоя-
тельность «американского пути», ибо «идеалы Америки
смехотворны, «ее история — сплошное мошенничество,
цели корыстны, достижения сомнительны, надежды
призрачны, мечты несбыточны».
Стоит ли после этого удивляться, что в Америке раз-
велось столько глупцов вроде конгрессмена Бернарда
Бронсона, убежденного, что вся эта антиамериканская
чушь — святая истина, или проходимцев с фюрерскими
замашками вроде сенатора Ван Аккермана, способного
на любую подлость, в том числе и на убийства.
Развернув перед читателями жуткую картину круше-
ния Америки, превратившейся в жалкий сателлит Рос-
сии, Друри обыгрывает мотивы романа-памфлета Син-
клера Льюиса «У нас это невозможно» (1935), повест-
вующего об установлении в США фашистской дикта-
туры. У Друри, правда, несколько иная система ко-
ординат. Те, кто у Льюиса — «истинные демократы»,
у него либо глупцы, либо мерзавцы, а те, кого Льюис
бы счел консерваторами, для Друри — стопроцентные
демократы. Вообще, определения «правых» и «левых»
сил достаточно условны и не в последнюю очередь опре-
деляются тем, «где расположен» наблюдатель. Так, для
Друри коммунизм — опасность не левого, а правого
толка. Но трагедия президента и всей Америки сформу-
лирована незадачливым Джейсоном вполне однознач-
но: «Я поверил коммунисту».
Романы, предупреждавшие об опасных последствиях
такой доверчивости, постоянно появлялись на Западе.
Когда в конце 50-х — начале 60-х Хрущев призвал к
всеобщему и полному разоружению, англичанин Кон-
стантин Фицгиббон показал, чем на деле может обер-
нуться такое миролюбие Москвы, в романе «Когда
прекратились поцелуи» (1960).
Место действия — Великобритания 50-х. Поборнин
ки пацифизма, возглавляемые либералом Брейтуэй-;
320
том, прибирают власть к рукам. Страна берет курс на
полное разоружение. Американцам предложено ликви-
дировать свои военные базы на территории Соединенно-
го Королевства. Когда наивный, но в общем-то честный
Брейтуэйт скоропостижно скончается во время нелегких
переговоров в Кремле, на его место сажают полнейшее
ничтожество и приспособленца Пейдж-Гормана, кото-
рый под диктовку русских начинает демонтаж британ-
ских демократических структур. Британское прави-
тельство* обращается к СССР с «просьбой о цомощи»,
каковая незамедлительно оказывается: на остров
высаживается внушительный советский десант. Пейдж-
Горман сделал свое дело и может уйти — его отправ-
ляют в концлагерь в Сибири. Прогрессивная писатель-
ница Антония Мэй, много сделавшая для «борьбы за
мир во всем мире», едет на корабле «Красная заря»
на Колыму. Бывший Букингемский, а ныне Брейтуэй-
товский дворец становится местом гигантского митинга
«противатомной войны». Британия — жалкий придаток
Москвы. Так будет со всеми, кто всерьез откликнется
на призывы о разоружении, исходящие из коммунисти-
ческого лагеря.
Фицгиббон пугает. Аллен Друри в соответствии с
канонами американского «позитивного мышления»
предлагает и альтернативный вариант. В романе «Обе-
щание радости» он показывает, что произошло бы с
Америкой, если бы к власти пришел не лопоухий про-
стак Джейсон, а несгибаемый Оррин Нокс (на сей раз
в результате террористического акта погибнут кандидат
в президенты Джейсон и жена Нокса, сам же Нокс ста-
нет главой Белого дома, и вдова Джейсона будет всеми
силами поддерживать недавнего оппонента ее мужа).
В отличие от своего соперника в борьбе за кресло
президента Оррин Нокс не склонен верить заявлениям
советских руководителей о стремлении к миру, не под-
дается давлению конгресса, сената, свободной прессы,
охаивающих его курс или толкающих его на уступки.
Он не дрогнет, когда либералы, возглавляемые подле-
цом Ван Аккерманом, похитят его сына и невестку и,
превратив их в заложников, будут требовать, чтобы
президент «слушался» русских. Но президент будет
словно каменная стена: никаких отходов от намечен-
ной линии, и его твердость в конечном счете спасет
страну. Впрочем, очень вовремя грянет «ядерный гром».
321
Сверхагрессивные СССР и Китай, не успев загнать в
угол империалистического хищника, страшно поссорят-
ся и начнут обмениваться атомными ударами. Несдобро-
вать бы всему свету, если бы не разняла драчунов
Америка...
Завершив свою огромную фантастико-политическую
сагу, Друри не перестал наставлять на путь истинный
неразумных соотечественников. В 1983 году он опубли-
ковал роман «Решение», где, описав американское судо-
производство, пришел к неутешительному выводу:
слишком много «миндальничанья», слишком мало сво-
боды действий, чтобы раз и навсегда искоренить измену
в американском доме (среди ренегатов, естественно,
выделяются злобные и хищные сторонники мира, аген-
ты Москвы). В 1986 году Друри выпустил объемистый
роман, кратко названный «Пентагон». Перед авто-
ром стояла трудная задача: в век критики и отрица-
ния воспеть военное ведомство США, причем не для
галочки, не для отчета о проделанной работе и не для
того, чтобы, присягнув на лояльность Системе, начать
кататься в загранкомандировки (для американских
писателей это небольшой соблазн). Друри писал так,
чтобы его прочитали читательские массы — и всей
душой поверили книге. Пропаганда действенна лишь
тогда, когда усваивается миллионами, и, надо сказать,
Друри работает профессионально: его творческий метод
заслуживает внимания.
Воспевать — не значит рекламировать достоинства,
затушевывая недостатки. Старое правило беллетристики
гласит: если хочешь, чтобы твоему герою сочувствовали,
поставь его в трудное, почти безысходное положение,
окружи противниками и равнодушными, окутай завесой
непонимания, подвергни неправедным гонениям. Так и
поступает Друри. Его коллективный герой. Пентагон
изображен невинным страдальцем. Его честят в прессе,
ему достается в конгрессе. Военные сметы постоянно
урезают, заставляют пентагоновское начальство отчи-
тываться в каждом центе, и самое обидное — постоянно
сковывают инициативу. Друри предупреждает: такая
дискриминация до добра не доведет.
Сюжет «Пентагона», как это всегда бывает у Друри,
«почти апокалипсичен». Русские тихой сапой занимают
островок в южной части Тихого океана, безжалостно
уничтожают беззащитных туземцев (на остров сброшено
322
нечто вроде микроатомной бомбы) и начинают преспо-
койно сооружать там ракетную базу. Истинные патрио-
ты (Пентагон) поднимают тревогу, бьют во все колоко-
ла, предлагают крутые меры, призванные показать
супостату, где раки зимуют.
Увы, вздыхает автор, все не просто в нынешней
Америке. Нелегко дать отпор русским, даже если те
кругом виноваты. Во-первых, и внутри Пентагона нет
гармонии — слишком много интриг, склок, борьбы само-
любий и узковедомственных интересов. «Обиженные»
таят злобу, становясь легкой добычей иностранных
разведок, которые не зевают и сидели свою зловещую
паутину в укромных углах военного ведомства. Во-вто-
рых, слишком велики трения между военными и Белым
домом. Политики чрезмерно осторожничают, боятся рас-
поясавшейся прессы, которая ради красного словца
готова осрамить кого угодно. Вместо того чтобы отве-
тить по принципу «око за око», руководители нации
норовят задобрить противника и успокоить обществен-
ность, утаив от нее истинное положение дел.
Попадает от Друри и союзникам. Западные державы
никак не могут договориться и, увязнув в разногласиях,
пасуют перед монолитным коммунистическим блоком.
Не свободен от критики автора и президент. Он вроде
бы хочет как лучше, но проявляет мягкотелость, наив-
ность и политическую близорукость. Как и Джейсон из
«Помни о Ниневии...», он верит, что с русскими можно
договориться, положиться на их порядочность. Бедняга
постоянно пытается поговорить по душам с советским
премьером, названивает ему по прямому проводу, но тот
(родовая черта всех советских лидеров у Друри) ведет
себя по-хамски, обращается с ним как самодур-старшина
с новобранцем.
Главная же — трагическая — вина президента в его
недоверии к военным. Из-за этого Америка и вынужде-
на постоянно уступать Советскому Союзу, где военные и
правительство работают в едином порыве. Она проигры-
вает и в борьбе вокруг базы — будь Друри не столь
искушен в литпропаганде, он бы, пожалуй, в конце
концов отвоевал эту базу, но, заставив Америку в оче-
редной раз отступить, он тем вернее разжигает правед-
ный- гнев и воинственный энтузиазм в читателях. Из-за
этого недоверия уходят в отставку лучшие люди Пен-
тагона, подлинные патриоты. Отсутствие взаимопонима-
323
ния между президентом и министром обороны приводит
к тому, что последний, сторонник «жесткой линии»,
уходит в отставку. Вместо него шефом Пентагона на-
значен соглашатель. )
Поистине, «помни о Ниневии...».
«Мы вечно проигрываем,— сетует один из положи-
тельных героев романа,— потому что всегда обороняем-
ся, а не наступаем. Там, где требуется акция, у нас
лишь реакция...»
Критика бывает разная. На одну смертельно оби-
жаются, в другой различают своеобразную похвалу..
Смелость Друри, замахнувшегося на Белый дом, на
поверку оборачивается точным расчетом, если принять
во внимание достаточно жесткий курс администрации
Рейгана в отношении «империи зла» в начале 80-х.
В быту многие охотно признают за собой такие
изъяны, как «доброту без меры», неумение никому
отказать в помощи, излишнюю доверчивость и т. д.
Похоже, официальная Америка примерно так и отнес-
лась к упрекам Друри в сверхтерпимости к тем, с кем
надо бы «по-комиссарски», без суда и следствия. Но
что поделаешь: таковы, мол, издержки демократии: там,
где тирания истребила бы на корню всех недовольных
и их родственников, мы вынуждены всем давать трибуну
и от всех терпеть. Нет ничего особенного и в критике
в адрес лиц от госаппарата, сената, того же Пентагона.-
Их и так постоянно критикуют в американских сред-
ствах массовой информации, и они держатся, не говорят
плачущим голосом, что так невозможно работать.
С другой стороны, роман без сенсаций, без разобла-
чений имеет немного шансов пробиться в бестселлеры.
В предисловии к «Пентагону» Друри писал о неудо-
вольствии, которое вызвала в этом учреждении его
деятельность по сбору материалов для романа. Думает-
ся, это скорее прием, рассчитанный на подогрев чита-
тельского интереса. Для стабильной, уверенной в себе,
опирающейся на законы и общественное согласие Систе-
мы критика — в том числе и критика отдельных^ лиц —
не только не опасна, но и полезна. В цивилизованном
мире это поняли давно. Допуская инвективы в свой
адрес, государственность лишний раз напоминает о
своей прочности, а также подтверждает собственную
демократичность.
Жалея бедный несчастный Пентагон, которого
324
«никто-то не любит», очень многие читатели подивятся
авторской смелости, во-первых, информированности,
во-вторых, и не обратят внимания на «в-третьих». При
документально точном описании пентагоновских ин-
терьеров (столько-то квадратных футов полезной
площади, такая-то общая протяженность всех коридо-
ров, столько-то фонтанчиков с питьевой водой), удачных
портретах героев (краткие биографии начальников шта-
бов, например, получились хоть куда) роман становится
туманно-невнятным, когда дело доходит до разъясне-
ния истинной структуры «коридоров власти», хотя
автор вот уже четвертый десяток лет там свой человек.
У Друри днем с огнем не сыскать таких «персо-
нажей», как ВПК (военно-промышленный комплекс)
и ЦРУ, а каждый газетчик сенатор, военный либо пред-
ставляют самих себя (если это настоящие американцы),
либо стараются потрафить Москве — за зарплату, за
милости в будущем или просто так, по глупости.
В нашем литературном обиходе есть понятие «секре-
тарская проза», а вот «генеральской беллетристики»,
кажется, нет. Не то на Западе. Семь пентагоновских
генералов в отставке сочинили, например, совместными
усилиями роман, который озаглавили по-военному
кратко: «Третья мировая война, 1985» (1979), где
начертан очередной вариант глобального конфликта,
разыгравшегося исключительно по вине СССР. Другой,
английский, генерал Д. Фрейзер в 1985 году выпустил
роман-памфлет «Август 1984-го». В основе мотив,
использованный ранее Друри и Фицгиббоном. Британия
решилась на разоружение в одностороннем порядке,
практически вышла из НАТО и добилась вывода аме-
риканских войск со своей территории. Она же подпи-
сывает договор о сотрудничестве с Румынией, к неудо-
вольствию СССР, который требует, чтобы договор был
аннулирован. Это, впрочем, лишь предлог для эскала-
ции напряженности. На Шетландских островах уже
высаживается десант. По просьбе народа СССР готов
оказать Соединенному Королевству «братскую по-
мощь» .
Это событие обсуждается на заседании совета НАТО
в Брюсселе. США призывают к решительным мерам,
прочие страны-участницы решают, что Британия сама
должна выпутываться из создавшейся по ее вине
кризисной ситуации.
325
Только когда оккупация острова грозит перейти,
в оккупацию всей страны, США высаживают и свой;
десант. Советские части отступают, но конфликт не
исчерпан. СССР предъявляет ультиматум: либо Брита-
ния аннулирует договор с Румынией, выплачивает СССР"
компенсацию за ущерб в результате американского
вмешательства, а также разрывает отношения с Амери-
кой, либо по одному из английских городов будет нане-
сен ядерный удар. Времени на размышление у британ-
ских лидеров считанные минуты...
Чуда, которое всегда выручает положительных ге-
роев и их страны в подобных романах, у Фрейзера не
происходит (в конце концов он пишет не легковес-
ную прозу, а политический роман). Через месяц Вели-
кобритания окончательно покидает НАТО, появляется
новый премьер, марионетка Москвы, обширная совет-
ская «торгово-промышленная миссия» прибыла для
налаживания «плодотворногосотрудничества». Мировое
общественное мнение вознегодовало — и быстро забыло
об инциденте. Все те, кто, не жалея сил, отстаивал
интересы британской демократии, остались без работы,
а могут лишиться и свободы. Жуткие образы, созданные
фантазией Фрейзера, призваны встряхнуть самых
заядлых скептиков. Никаких счастливых концовок,
предупреждает генерал Фрейзер, не может быть там,
где процветают сверхдоверчивость, наивная вера в
«слова, слова, слова», на которые так щедры ком-
мунисты.
Еще совсем недавно нынешний мэтр военно-при-
ключенческой беллетристики Том Клэнси был без-
вестным страховым агентом, в свободное от работы
время сочинявшим роман. В отличие от большинства
литераторов-любителей, мечтающих о признании и
славе, но так и не сумевших возвестить о своем сущест-
вовании читательским массам, Клэнси не просто увидел
свое детище в печати. Книгу читали наперебой, многие
месяцы она лидировала в списке бестселлеров 1985 года.
Автор удостоился беседы с президентом Рейганом, ко-
торый сказал, что прочитал «Охоту за «Красным Октяб-
рем» залпом. Правда, шеф ВМС США усмотрел в романе
ряд нарушений государственной тайны и сказал триум-
фатору, что, будь тот морским офицером, его непремен-
но привлекли бы к ответственности за разглашение
секретных сведений, прежде всего о том, как действуют
326
американские атомные подлодки в боевых ситуациях.
Однако все это выглядело дополнительной рекламой
книги, которая вроде бы и в рекламе уже не нуждалась.
«Охота за «Красным Октябрем» била все рекорды по-
пулярности. Ведь в основу книги, как явствовало из
авторского предуведомления, был положен реальный
случай: попытка (правда, в отличие от романа неудач-
ная) советского военного корабля уйти в Швецию и
его перехват в Балтийском море.
...Командир советской атомной подлодки «Красный
Октябрь» Марко Рамиус принял решение уйти на Запад,
преподнеся в подарок «бывшим врагам» корабль но-
вейшей конструкции, начиненный электроникой и с
ядерными ракетами на борту.
Восемнадцать дней отчаянной борьбы «Красного
Октября» с бросившимися вдогонку за беглецами совет-
скими кораблями изображены так, что до последних
страниц многостраничного повествования держат чита-
телей в напряженном ожидании — ускользнет ли
«Красный Октябрь» от погони, справится ли лучшая
часть команды с супостатами-ортодоксами, в том числе
и с внедренными в экипаж гебистами, а также примут
ли подлодку американцы, опасающиеся, что это ловкая
провокация и под видом «побега» затеяна прямая
атака на США.
Все кончится благополучно, хотя испытаний на тер-
нистом пути к успеху тех, кто вызывает авторские сим-
патии, будет предостаточно. Счастливый финал вряд
ли, однако, состоялся бы, если бы не своевременная
помощь американского десанта во главе с восходящей
звездой ЦРУ Джеком Райаном, в котором интеллектуал
прекрасно уживается с сорвиголовой.
«Охота за «Красным Октябрем» так полюбилась
президенту США и его ближайшему окружению не в
последнюю очередь потому, что там просто и наглядно
была показана высокая гуманистическая суть Америки,
оплота всего прогрессивного человечества, изрядно по-
баивающегося коммунистической интервенции (хотя
издавна говорили мудрые люди, что Восток никогда
не посягнет на «страны империализма», ибо тогда не у
кого будет хорошие товары покупать).
Марко Рамиус — сын советского партократа, канди-
дата в члены Политбюро,— с детских лет испытывал
неприязнь к папиной идеологии. Он делал карьеру,
327
поднимался по ступеням служебной лестницы (прежде
всего благодаря собственным талантам, а не отцовским
связям), но разочарование сменялось разочарованием:
коррупция, безответственность, склоки, засилье парт-
ничтожеств. Когда же под ножом пьяного хирурга погиб-
ла любимая жена Рамиуса, его долготерпению наступил
конец. Он решил бежать на Запад, и не с пустыми
руками.
Дабы осуществить свой план, ему пришлось взять
смертный грех на душу. Клэнси напоминает, что в Рос-
сии каждый мало-мальски ответственный руководитель
находится под присмотром комиссара. Приставлен
гебист-стукач и к Рамиусу, и, только устранив его,
командир корабля обретает желанную свободу дей-
ствий.
Общение русских подводников и пришедших к ним
на помощь американских десантников — триумф на-
глядной агитации, пропаганды американского образа
жизни. Один из моряков-дезертиров мечтает изучать
электронику. К его великому изумлению, оказывается,
что каждый в США имеет право приобрести персональ-
ный компьютер, а если «незваный гость» захочет посту-
пить в колледж, ему будут только рады.
Клэнси на все лады расписывает безграничные воз-
можности рядового американца: хочешь купить дом,
машину — пожалуйста. Расчет не столько на соотечест-
венников, которые давно уже перестали ценить эти
тихие радости, сколько на читателей стран социалисти-
ческого лагеря. «В Америке,— говорит один из десант-
ников,— те, у кого есть мозги и желание работать,
живут припеваючи, а у ребят с вашей подлодки, похоже,
того и другого хватает».
Моряки-дезертиры, наслушавшись всяких ужасов
на политзанятиях и знающие порядки своей державы,
обеспокоены, как-то примут их в Америке, не пошлют ли
на «перевоспитание» в лагеря. На это Джек Райан со
смехом скажет: «Может быть, у кого-то из наших воз-
никнет желание рассказать вам, как работает наша
система. На это уйдет час-другой, после чего вы смо-
жете уже объяснять нам, в чем мы не правы. Весь мир
только и знает, что учит нас уму-разуму,— не вижу
причин, почему бы и вам этим не заняться». Клэнси
и его герои-американцы безудержно гордятся американ-
ской цивилизацией перед симпатичными, хотя и отста-
328
лыми, советскими моряками. Впрочем, для последних
ничего не потеряно: Америка — страна открытых воз-
можностей. -
Успех «Охоты...» подвигнул автора на дальнейшую
разработку золотой жилы. В 1986 году увидел свет роман
«Красный шторм», где разрабатывается тема «советской
военной угрозы». В результате диверсии, устроенной
азербайджанскими экстремистами, СССР лишился
крупнейшего нефтедобывающего участка. Для пополне-
ния дефицита руководство страны планирует захва-
тить нефтепромыслы в районе Персидского залива. Но
для этого надо вывести из игры страны НАТО, что
достигается при помощи провокации. В Кремле, неза-
долго до очередного заседания Политбюро, раздается
взрыв. Убиты восемь пионеров, прибывших для привет-
ствия вождей. Гебисты оперативно ловят «террориста»,
моментально признающегося, что все это — дело его рук
и действовал он по поручению правительства ФРГ. Ста-
ло быть, есть повод для атаки на ФРГ и ее союзников. Но
война, спланированная как молниеносная, затягивается.
Солдаты и с той и с другой стороны сражаются храбро,
но ни одной из них не удается взять верх. Отсутствие
горючего ставит советскую армию в труднейшее поло-
жение. Среди военных зреет недовольство авантюриста-
ми из Политбюро. В конечном счете они совершают госу-
дарственный переворот и предлагают противникам из
НАТО прекратить бессмысленное кровопролитие и
заключить мир. Рукопожатием русского и американс-
кого генералов завершается конфликт, едва не привед-
ший к термоядерной войне.
При всем своем воинственном задоре и ура-патрио-
тизме Клэнси не выглядит убежденным антикоммунис-
том, как Друри. Просто он изобрел военно-литератур-
ную игру, поиграть в которую оказалось много же-
лающих. Его не столько интересуют хитросплетения
большой политики, сколько перипетии военно-аван-
тюрного толка. Хотя, с другой стороны, его романы
вполне могут функционировать в виде многостранич-
ных листовок. Если в «Красном Октябре» основной
призыв: «Сдавайтесь, пока не поздно!» — то в «Красном
шторме» — «Поступайте в армию», ибо ремесло воен-
ного расписано самыми радужными красками.
О пагубности дешевого чтива с его удаленными от
реальной жизни героями и невероятными сюжетами
329
говорилось не раз. Но «массолит» — лишь отражение
общей культурной и социальной ситуации. Г. К. Честер-
тон был куда проницательней суровых гонителей
«литмакулатуры», когда в эссе «В защиту дешевого
чтива» (1906) писал: «В наши дни именно «высокая
литература», а никак не развлекательная, откровенно
преступна и нагло развязна. В самом деле, на наших
солидных письменных столах лежат солидные издания,
пропагандирующие распутство и пессимизм, от которых
содрогнулся бы всякий неискушенный читатель...
С невиданным доселе лицемерием мы честим уличных
мальчишек за безнравственность, а сами в важной бесе-
де (с каким-нибудь сомнительным немецким профессо-
ром) ставим под сомнение само понятие нравствен-
ности. Мы поносим дешевое чтиво за то, что оно взывает
к преступным инстинктам, а сами выдвигаем концепции
инстинктивной преступности. Мы обвиняем (и совер-
шенно напрасно) развлекательную литературу в не-
чистоплотности и беспринципности, а сами штудируем
философов, возводящих беспринципность в жизненный
принцип. Мы сетуем на то, что комиксы учат молодежь
хладнокровно убивать, а сами прекраснодушно рассуж-
даем о бессмысленности бытия... Главная угроза общест-
ву кроется не в читателях комиксов, а в нас. Больны
не они, а мы...»1
Увы, объективная реальность нередко развивается
именно по законам триллера, успешно конкурируя с ли-
тературным ремесленником в искусстве фальсифика-
ции процессов и явлений. Порой наши современники
действуют на манер злодеев из авантюрного, детектив-
ного, шпионского романа. Только потом выясняется,
что гуманист-коммунист Хонеккер поторговывал «жи-
вым товаром», выручив более 75 миллионов западно-
германских марок за продажу в ФРГ диссидентов и
членов их семей, а родственники другого пламенного
марксиста Чаушеску выгодно сбывали советские
военные секреты империалистам. Остается вспомнить
еще одну формулу Оскара Уайльда: не искусство от-
ражает жизнь, но жизнь подражает искусству. Печаль-
но только, что подражает она далеко не самым достой-
ным художественным образцам.
1 Честертон Г. К. Писатель в газете. Художественная публи-
цистика. М., 1984, с. 39.
330
О том, как сотрудничают объективная реальность и
искусство в столь важных сферах, как шпионаж и тер-
роризм, пойдет речь дальше.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
Джон Ле Kappe и шпионский роман
Еще Бисмарк сравнивал великие державы с незна-
комцами, волей обстоятельств путешествующими в
одной карете и с крайней настороженностью относящи-
мися друг к другу. Стоит одному из них опустить руку
в карман за носовым платком, как другой начинает
опасаться, не за револьвером ли подез его визави и не
выстрелить ли, пока не поздно, первым.
Считается, что на то и существует разведка, чтобы
вовремя успокоить «путешественников» насчет «плат-
ка» или, предупредить о «пистолете».
Шпионаж, одна из древнейших профессий, в XX веке
испытал явный подъем, а после второй мировой войны
приобрел поистине вселенский размах. Прежде человек
шпионил «собственноручно», ныне в помощь ему прида-
ны космические спутники, электронная подслушиваю-
щая и подглядывающая аппаратура, компьютеры, разга-
дывающие тайны шифров и просчитывающие контакты
тех или иных лиц. Данные, поставляемые «электрон-
ными шпионами», сплошь и рядом оказываются пред-
почтительней, достоверней информации, добытой чело-
веком, которому свойственно не только ошибаться, но и
перевербовываться, выступая в роли двойного и даже
тройного агента. Тем не менее и в этой области человек
как умеет противостоит конкуренции со стороны маши-
ны, пробиваясь в герои очередного международного
скандала — на страницы газет и в шпионские романы.
Невидимые, но вездесущие разведчики, во имя безо-
пасности своей державы подрывающие благополучие
другой страны (или, напротив, во имя чужой предающие
свою), проникающие в совершенно секретные сферы,
постоянно пренебрегающие параграфами уголовного
кодекса и предписаниями морали, делают те,му шпиона-
жа поистине бесценной для литературы, ищущей ярких
личностей и острых коллизий. Шпионский роман заро-
дился еще в XIX веке, как жанр сформировался в пер-
вой половине XX столетия (прежде всего усилиями
С. Моэма, затем Э. Эмблера), но подлинного расцвета
(как и сам шпионаж) достиг в 50—60-е годы, когда
331
отчаянная борьба за мир «капиталистов» и «коммунист
тов» поставила человечество на край пропасти. d
Шпионский роман упрекают в сверхсенсационности,^
а также в сверхизощренности действий его персонажей^
В жизни якобы все проще и будничней. Подобно тому*
как герой-расследователь в детективе не имеет права!
так и не разгадать тайны или пасть жертвой происков
злодея на первых же страницах, герои-агенты в «шпион-'
ском романе» не могут сгореть так глупо, как это случи-
лось во время второй мировой войны с немецким шпио-
ном, высадившимся в Шотландии. Придя на полустанок,
он спросил, сколько стоит билет до Абердина, и, услы-
шав: «Два десять», выложил не два шиллинга десять
пенсов, а два фунта десять шиллингов — и был за-
держан. ;
В одном из интервью 1974 года Джон Ле Kappe гово-
рил: «Мало кто из нас равнодушен к таким темам, как
шпионаж, разведка, обман. В этих декорациях разыгры-
вается спектакль холодной войны. Людей всегда интег-
ресовала анатомия предательства. Иуда в высшей степе-;
ни интригующий персонаж». Несколько лет спустя,!
в другом интервью, размышляя о том, почему «шпион-
ский роман» постепенно оттесняет детектив и просто
триллер, он сказал: «В последние годы мы научились,
рассматривать политическую жизнь как своеобразный'
заговор, и поэтому шпионский роман приобретает осо-
бую актуальность. К традиционным политическим фор-;
мам, как преподносит их официальная пропаганда, мыл
относимся с таким цинизмом и скепсисом, что нас уже^
ни в чем нельзя убедить. Как бы политики ни старались,
доказать, что наши опасенья неосновательны, мы твердо;
знаем: это не так. Поэтому, как мне кажется, шпионский^
роман точно передает общее недоверие к политическим!
фасадам, выступает притчей о силах, которые, как ка-
жется нам на Западе, направлены против каждого из
нас».
В 50 — 60-е годы королем литературных шпионов |
был Джеймс Бонд. Рожденный фантазией англичанина
Яна Флеминга, он стал кумиром миллионов, ибо отвечал
их тайным надеждам и развеивал подспудные страхи.,;
Расстановка сил у Флеминга была проста: хорошему
Западу (Англия, Франция, США) противостоит плохой
Восток (Россия в лице коварного СМЕРШа), и от того, \
кто победит, зависит судьба человечества.
332
Интеллектом Джеймс Бонд не блистал, зато был
беззаветно предан идеалам свободного мира. Этот стран-
ствующий рыцарь холодной войны шел напролом и уго-
ждал в лапы врага. Редкие выносливость и живучесть
помогали ему выдержать изощренные пытки и обмануть
смерть, а потом нанести страшный ответный удар. Гла-
вари злокозненных синдикатов и их приспешники гиб-
ли смертью не менее лютой, чем сами готовили Бонду,
но читателю было их не жалко: на войне как на войне.
Как отмечал автор книги о Ле Kappe Питер Льюис,
«в основе бондовских историй лежит легенда о Георгии
Победоносце и драконе, переведенная на язык холод-
ной войны, с приправой из эротики и "жестокости. У тех,
кто боялся третьей мировой, Джеймс Бонд, при всем его
неправдоподобии, вызывал убеждение, что дракон совет-
ского империализма может быть укрощен. В эпоху,
когда стала рушиться Британская империя, когда буду-
щее страны казалось весьма и весьма неопределенным,
подриги Бонда вселяли уверенность, что Британия еще
может снова стать великой»1.
В романах Флеминга за фабульными перипетиями
вырисовывался «литературно-художественный» эквива-
лент холодной войны. Бесстрашные агенты западной
демократии храбро сражались с дьяволами коммунисти-
ческой тирании. Но времена меняются. Когда в сере-
дине 60-х Флеминг уже заканчивал, его соотечествен-
ник Дэвид Джон Мур Корнуэлл, писавший под псевдо-
нимом Ле Kappe, пошел по другому маршруту. В шпион-
ском романе, как и в искусстве вообще, развитие идет
не по прямой линии преемственности и подражания,
а по крутой спирали взаимоотталкивания и полемики.
Для шпионского романа Ле Kappe сделал примерно то,
что в 30-е годы американец Дэшил Хемметт — с клас-
сическим детективом. Вместо роботов и марионеток,
выделывавших по воле автора лихие коленца, Ле Kappe
представляет на читательский суд характеры живые,
противоречивые, указывает на проблемы злободнев-
ные, не получающие окончательного разрешения в его
романах, ибо они и в жизни трудноразрешимы. Не
случайно в числе поклонников Ле Kappe оказываются
и те, кто вообще-то не жалует сенсационную литера-
туру.
1 Lewis P. John Le Carre. L., 1984, p. 7.
333
Историк детективного жанра Джулиан Симоне отме-
чал в шпионском романе две линии. Первая, консерва-
тивная, поддерживала Систему, утверждала, что «аген-
ты» делают нечто ценное для всех членов общества.
Вторая, критическая, давала понять, что разведслужбы
не только не гасят международной напряженности, но
усиливают ее, создавая дополнительные барьеры между
«нами» и «ими». Ле Kappe представлял именно это
второе направление. Если флеминговский канон исхо-
дил из четкости границ между Добром и Злом, совпадав-
ших с линией фронта холодной войны, то Ле Kappe
обращал внимание на пагубность абсолютов как восточ-
ного, так и западного образца, их способность приносить
в жертву человека. У Флеминга полная ясность, у Ле
Kappe — нравственные и идеологические парадоксы,
игра противоречий.
О Ле Kappe заговорили, когда увидел свет его роман
«Шпион, вернувшийся с холода» (1963), бесспорно,
веха в развитии жанра.
Алек, Лимас, сотрудник британской разведки, «ку-
рирующий» ГДР, теряет агента за агентом. Тщательно
сплетенная сеть рвется как легкая паутинка. Тогда
Лимасу поручают скомпрометировать шефа разведки
ГДР Мундта, прикинувшись перебежчиком. Только в
самом конце операции Лимас понимает, что стал пешкой
в игре, истинные задачи и цели которой были скрыты
от него шефами в Лондоне. Мундт, воплощенная жесто-
кость и беспринципность, оказывается ценнейшим
агентом англичан, и операция по его «ликвидации» на
деле оказалась операцией по ликвидации сомнений,
возникающих насчет Мундта у его начальства в ГДР.
Лимас должен был провалиться, чтобы самые недовер-
чивые поверили бы в честность Мундта и в измену его
заместителя Фидлера, первым заподозрившего Мундта
в двойной игре.
Чтобы план Лондона сработал, используется все,
даже любовь, вспыхнувшая между Лимасом и англий-
ской коммунисткой Лиз. Ей суждено дать решающие
показания по делу Лимаса на закрытом процессе в Бер-
лине. Немецкие товарищи вытянут из нее ту правду, что,
губя Лимаса, окончательно обелит Мундта.
Мундт победит, а с ним и Лондон. Фидлер будет
расстрелян. Лиз недоумевает:
«— Фидлер был честным и порядочным человеком,
334
он честно работал и делал свое дело. А Мундт был шпио-
ном и предателем — а ты спас его. Мундт — нацист,
ты это знаешь? Он ненавидит евреев. А на чьей сторо-
не ты?
— В этой игре действует только один закон,— воз-
разил Лимас— Мундт — агент Лондона, он поставляет
Лондону то, что нужно. Это ведь нетрудно понять, прав-
да? Ленинизм говорит о необходимости прибегать к
помощи временных союзников. Да и кто такие, по-тво-
ему, шпионы: священники, святые, мученики? Это неис-
числимое множество тщеславных болванов/ преда-
телей — да, и предателей тоже — развратников, садис-
тов и пьяниц, людей, играющих в индейцев и ковбоев,
чтобы хоть как-то расцветить свою тусклую жизнь. Или
ты думаешь, что в Лондоне сидят как монахи и держат
на весах добро и зло? Если бы я мог, я бы убил Мундта.
Я ненавижу его, но сейчас не стал бы убивать его. Слу-
чилось так, что он нужен Лондону. Нужен для того,
чтобы огромные массы трудящихся, которых ты так
обожаешь, могли спать спокойно. Нужен для того, чтобы
и простые никчемные людишки вроде нас с тобой чув-
ствовали себя в безопасности.
— А как насчет Фидлера? Тебе совсем не жаль его?
— Идет война,— ответил Лимас— Жестокая и не-
приятная, потому что ведется на крошечной территории.
И пока она ведется, гибнут и ни в чем не повинные
люди».
Это хрестоматийный кусок, четко высвечивающий
драматический узел проблем. Циничный убийца с на-
цистским прошлым Мундт необходим Лондону. От его
работы зависит безопасность свободного мира. Такой
двойной стандарт постоянно дает о себе знать в книгах
Ле Kappe. Словно Поправка-22, этот двойной стандарт
нагло бросает вызов и здравому смыслу и высокой
морали, при всей своей вопиющей несуразности неплохо
работая на благо общества, гордящегося своей гуман-
ностью.
Мундт даст возможность сыгравшим свои роли, как
положено, Лиз и Лимасу бежать. Но попытка перебрать-
ся через Берлинскую стену окажется роковой. Лиз
упадет, сраженная пулей часового. Лимас вернется к
своей подруге, чтобы умереть вместе с ней, хотя мог бы
спастись. Но он выбирает смерть, предпочитая ее жизни
с сознанием того, в каком фарсе ему пришлось играть.
335
Лиз и Лимас, коммунистка и антикоммунист, останутся
лежать по одну сторону баррикад. Они в одном лагере
жертв большой политики. По обе стороны линии фронта
дровосеки упоенно рубят лес, и летят человеко-щепки!
Джеймс Бонд был героем. Ле Kappe с подозрением
относится к понятию героического. Есть манипуляторы
и манипулируемые. Личные драмы последних способ-
ствуют возвышению их командиров, умеющих доказать,
что все это — в том числе и вынужденные жертвы —
во имя общественного блага. Но у Ле Kappe пораженья
от победы отличить нелегко.
Если в «Шпионе...» операция, закончившаяся ги-
белью главного героя, все же принесла победу Лондону,
то в романе «Война в Зазеркалье» (1965) воссоздается
история операции, обреченной на провал с самого
начала.
Находящаяся в упадке служба военной разведки, да-
бы восстановить былой престиж, предпринимает рассле-
дование сенсации: на территории ГДР якобы разме-
щаются советские ракеты, убранные с Кубы. Некомпе-
тентность одних, бюрократические интриги других, зло-
радство третьих и наивность четвертых, уверенных,
что выполняют героическую миссию, придают сюжету
трагикомическую тональность. Система в очередной раз
легко жертвует личностью: агент, увязнувший в трясине:
неурядиц и провалов, брошен начальством на произвол
судьбы. Во избежание международного скандала от него'
отрекаются.
После этого романа на Ле Kappe обратила свое не-
благосклонное внимание наша пресса. 17 октября1
1965 года «Литературная газета» опубликовала заметку
за подписью некоего В. Воинова, где Ле Kappe вменя-
лись в вину связь с Интеллидженс сервис, во-первых,*
и апология холодной войны, во-вторых. Ле Kappe и
впрямь работал в разведке (как и Г. Грин, С. Моэм,
М. Спарк и другие английские писатели). Насчет любви
к холодной войне журналист явно дал маху, и вскоре в
«Энкаунтере» появилось открытое письмо Ле Kappe. Па-
родируя роман Флеминга, Ле Kappe назвал свой ответа
«В Россию с любовью». Он писал, что книги Флеминга
с их ярым шовинизмом и моральной ущербностью впол-
не могли бы послужить оружием советских пропаган-
дистов, имей они возможность поменять знаки на проти-
воположные. О своих романах Ле Kappe сказал так:.
336
«В них высказываются некоторые идеи, явно неприем-
лемые для советской идеологии. Мистер Воинов почуял
в моих книгах крамолу, смысл которой в том, что в хо-
лодной войне нет и не может быть победителей, а есть
лишь признаки всеобщей политической нестабильности
и социального нездоровья. За это он назвал меня апо-
логетом холодной войны. С тем же успехом можно было
бы назвать Фрейда душевнобольным».
В ответе Ле Kappe было рациональное зерно. Фле-
минговская модель и впрямь была зеркальным отраже-
нием редких проб пера советских «остросюжетников»
в области шпионского романа. Почему редких? Потому
что они касались материй, о которых принято было по-
малкивать. Да и слово «шпион» вызывало в советском
сознании ассоциации с временами, когда, если верить
приговорам двоек и троек, шпионили все от мала до
велика. Свобода, с которой Ле Kappe касался священных
институтов госбезопасности, неприятно поражала кое-
кого из наших литературных и не литературных началь-
ников: не ровен час, и наши писатели начнут делиться
своими соображениями насчет целей и средств и выве-
дут не очень обаятельного генерала КГБ, любуйтесь,
мол, люди добрые. Конечно, проза Ле Kappe не радовала
многих важных чинов в спецслужбах США и Брита-
нии, но никаких оргвыводов не делалось. Если бы перед
каждой публикацией ему нужно было испрашивать
добро у «заинтересованных ведомств», вряд ли о нем бы
узнал весь мир.
Впрочем, Ле Kappe отнюдь не диссидент. Просто он
пользуется правом высказывать свою точку зрения о
вещах, имеющих важное общественное значение. Он
не раз говорил, что при всех изъянах британских спец-
служб «лучше иметь плохую разведку, чем не иметь
никакой: нечестность политиков очень повышает цен-
ность разведданных» (интервью 1982 года). Но его
очень тревожит вопрос: как, оберегая устои свободного
общества, своими действиями не поставить под угрозу
эти свободы? Как быть свободным и в то же время
умеющим себя защитить государством?
У Хемметта и Чандлера действовали сыщики-анти-
герои, подверженные многим человеческим слабостям
и, в отличие от суперменов классической традиции,
эмоционально вовлеченные в распутываемые ими дела.
Преступники уже не выглядели здесь отщепенцами.
12 С. Бедов
337
Скорее, честные судьи и полицейские казались белыми
воронами. Расследователи Хемметта и Чандлера всту-
пали в битву с исходом сомнительным. Но рук они не
опускали. По разным причинам. Отчасти потому, что
верили в старые американские идеалы. Отчасти потому,
что рядом были люди, которых приходилось защищать'
не только от нарушителей закона, но порой и от его
блюстителей. И еще, наверное, потому, что в эпоху
«пустых слов» и двоемыслия оставался как последняя
надежда профессионализм, умение делать дело в со-
ответствии с кодексом личной чести и требованиями
Организации, в которой ты служишь. Эта служба —
результат добровольного выбора, но, сделав его, бывшая
«свободная личность» обязана подчиняться системе
правил, порой вступающих в противоречие с ее собствен-
ными представлениями о том, что есть правда и что —
ложь.
Криминальный роман притягателен не только острой
интригой. У него есть и символическое начало, вос-
производящее в категориях героического и низкого
основные социальные коллизии. Как и Хемметту,
Ле Kappe удалось создать емкую модель современно-
сти и положения Личности в сложном, двуличном-
мире.
Ярким символом Одного из Нас стал образ развед-
чика Джорджа Смайли, появляющегося во многих рома-
нах Ле Kappe. С самого начала автор подчеркивает в
нем отсутствие стандартных признаков победительного
героя. Он мешковат, неуклюж, не первой молодости,
не пользуется успехом у красоток. Вскоре после войны
(он работал в Швейцарии, внося свой вклад в борьбу с
нацизмом) начинается полоса его личных неудач —
трудности на службе, развод с женой, элегантной
аристократкой, ищущей новых ярких впечатлений.'
Филолог по образованию, специалист по второстепен-
ным немецким поэтам XVII века, Смайли являет собой
развенчание бондовской модели. Две его профессии —
филолог и разведчик — вступают в конфликт. Разрыв
между миром гуманитарных ценностей и социально-
политической реальностью, между вечным и сиюминут-
ным, между законами морали и требованием обстоя-
тельств создает атмосферу и проблематику, прекрасно
знакомые интеллигенту. Жанр шпионского романа
диктует свои правила, но в мире Ле Kappe действуют
338
не куклы, а точно очерченные характеры, сделавшие бы
честь и тем авторам, кто считается серьезными.
Джеймс Бонд — персонаж из сказки. Джордж Смай-
ли действует в знакомой обстановке Европы времен
холодной войны. Так, в «Звонке покойнику» (1961) он
иступит в противоборство с человеком, с которым еще
овеем недавно бок о бок сражался с гитлеризмом. Но
теперь иные времена, и Западная Европа противостоит
i лфопе Иосифа Виссарионовича.
В основе романа «Медник, портной, солдат, шпион»
(1974) — знаменитое дело Филби. Этот человек, долгое
время руководивший русским отделом британской раз-
ведки, реально претендовавший на роль руководителя
Интеллидженс сервис, оказался «рукой Москвы», не
выдуманной, а вполне реальной и проворной. Филби
был не одинок. В 1979 году в британском парламенте
было обнародовано сообщение: Энтони Блант, извест-
ный искусствовед, хранитель картинной галереи Ее
Величества, был в 1964 году изобличен как советский
шпион, но после чистосердечного признания и во
избежание скандала был освобожден от наказания.
В 50-е годы были разоблачены Гай Берджесс из бри-
танской разведки и Дэвид Маклейн, занимавший круп-
ный пост в бри/ганском МИДе. Им удалось бежать, и до-
живали они свой век в СССР.
Эти люди не были аутсайдерами, решившими отом-
стить обществу, не обращавшему на них внимания. Это
были представители британской элиты. Попытка понять,
что толкнуло их на измену, и становится лейтмотивом
«Медника, портного...». Джордж Смай л и возвращается
из очередной отставки (на протяжении цикла он трижды
покидает службу и возвращается обратно — отношения
(' руководством отнюдь не идилличны), чтобы выяснить,
кто же из его коллег, занимающих ключевые посты в
разведке,— «крот», агент Москвы. Им окажется близ-
кий друг Смайли, ярко талантливый Билл Хейдон.
Сам он так объяснит «смену веры»: трагически пере-
кивая утрату Британией ведущих позиций, угрозу
превращения ее в сателлита США, он решил связать
°вою судьбу с коммунистической идеологией, обещав-
шей построение нового, свободного и справедливого
мира.
Смайли, разоблачивший Хейдона, испытывает пре-
зрение к человеку, предавшему их дружбу, их профес-
339
сию, родину, идеалы. Но в то же время он не чувствуе^
себя вправе быть судьей тому, с кем долгие годы рабф*
тал вместе. Отвращение к измене друга сочетается у нег|
с неприязнью к тем британским структурам и их чинов-*
ным представителям, что берут на себя роль защитников
Демократии. |
Билл Хейдон совершил преступление. Но Смайли щ
может не думать о двуличии, лживости, некомпетент!
ности, самовлюбленности людей из коридоров власти|
«Все это обесценивало любой социальный договор^
С какой стати кто-то обязан сохранять лояльность этиЩ
людям?» Не с червоточиной ли патриотизм Смайли^
Для тоталитарного общества шаг вправо, шаг влево -i
безусловно, побег. Для демократического возможности
подвергать все сомнению — еще не измена. Как замети^
о своем герое Ле Kappe, «Смайли посвятил себя дел^
Запада, хотя, по-моему, для него это еще не все. У негс|
есть чувство порядочности, но он не знает, как приме*
нять его в работе». Смайли болезненно переживаем
изъяны родной демократии, но дело свое делает. Дуэл|
между британской и советской разведкой, начатая
«Меднике...», получит завершение в романе «Люд]
Смайли» (1980), где он возглавит операцию по обез^|
вреживанию давнего врага, шефа московского развед-|
центра, известного под кличкой Карла. j
Смайли в конце концов победит, но удача придет i^
нему лишь потому, что в броне фанатика Карлы найдет!
ся брешь — любовь к психически больной дочери, кото^
рую он тайком вывез на Запад для лечения. Когда людн|
Смайли ставят перед ним ультиматум: или он переходи"
на Запад, или теряет дочь навсегда, тот выбирает перво
Он был бы непобедим, если б до конца убил в себе чело^
веческое.
Финал «Людей Смайли» во многом напоминаете
конец «Шпиона...», с той разницей, что тот, кого ждут с
Востока, переходит целым и невредимым, правда H6J
соратником, а «военнопленным». «Ты победил!
Джордж!» — скажет один из разведчиков. «Победил?—^
чуть растерянно переспрашивает Смайли,— Да, да^
похоже, победил». <j
Герой Ле Kappe отдает себе отчет в двусмысленности
победы. Выиграв как профессионал, он проиграл как
человек. Одержать двойную победу — и по службе и i\
свете высокой морали — слишком сложно. Как замечает!
340
П. Льюис, «Смайли вполне четко сознает: чтобы побе-
дить, надо продать часть души дьяволу»1.
Ситуация, знакомая не одним разведчикам. Когда
понятия добра и зла, истины и лжи, личного удовлетво-
рения и общественной пользы находятся в противо-
борстве, всякая активность на государственном попри-
ще — политика, военного, ученого или журналиста —
подводит к барьеру, разделяющему свободу и необхо-
димость. Капитан Йоссариан пытался выйти из игры,
видя, что его старания выгодны тем, кто на службе
обществу сколачивает личный капитал. Герой Ле Kappe
не снимает с себя ответственности за общество, в кото-
ром живет. Объявить его абсурдным-и отказаться участ-
вовать в его «глупостях» Смайли не может.
В начале 80-х годов в поле зрения Ле Kappe оказа-
лись события, с Британией связанные лишь косвенно,
но оттого не менее значительные. О трагическом кон-
фликте Израиля и Палестины он рассказал в «Ма-
ленькой барабанщице» (1983). Это гибрид шпионского
романа и романа о терроризме. В основе сюжета —
охота израильской разведки за неуловимым палестин-
ским боевиком Халилом, по вине которого в разных
уголках Европы взрываются бомбы и гибнут люди.
«Чтобы поймать льва, надо сначала привязать
козленка»,— говорит шеф «Моссада» Гаврон. Так и по-
ступает ответственный за операцию, фигурирующий под
самыми разными именами (Марти, Курц, Шульман),
разрабатывая план ловли на живца. Приманка —
молодая английская театральная актриса Чарли. Изра-
ильских оперативников привлекает ее умение играть не
только на сцене, но и в жизни.
Может показаться натяжкой, что радикально на-
строенная Чарли легко переходит на сторону тех, кого
осуждала на митингах и училась ненавидеть в «школе
революционного опыта», которую несколько раз посе-
щала. Но Ле Kappe дает понять, что ее радикализм —
дань моде, очередная игра. Теперь же ей выпала одна
из главных ролей в трагедии, где будут бушевать страс-
ти посильней шекспировских, где сценой будет весь
мир, а актеры станут умирать «всерьез».
Призванная служить живой приманкой Чарли сама
оказалась поймана на живца. Бе увлекли возможностью
Lewis P. John Le Carre, p. 64.
341
Большой Любви. На ее спектаклях начинает появляться
человек в красном блейзере. Он делает это по сценарию,
разработанному моссадовцами, но Чарли кажется, что
незнакомец заворожен ее игрой, ей самой. Мысль о том,
что, если она согласится участвовать в операции, этот
человек (Джозеф-Иосиф, он же Гади Беккер, бесстраш-
ный боец с террористами) будет рядом, а если отка-
жется, то исчезнет навсегда, и определяет ее выбор.
В который раз спецслужбы во имя своих целей безжа-
лостно эксплуатируют «человеческий фактор».
Чарли играет две роли сразу. Не только поборницы
дела Израиля (для «Моссада»), но и убежденной анти-
сионистки, любовницы младшего брата Халила (поймав
которого моссадовцы получили возможность затеять
эту игру и, добыв от него нужные сведения, быстро
ликвидировали). Вводя Чарли в курс дела, Джозеф
проигрывает с ней основные моменты арабо-израиль-
ского конфликта, показывая ей обе стороны медали.
Это блестящий образец театра одного актера, превра-
щающегося из сиониста в юдофоба и обратно.
Раздвоенность, прививаемая Чарли «режиссерами»,
для Ле Kappe — точное отражение положения, в кото-
ром оказались евреи и палестинцы. И без того драма-
тичная ситуация еще больше осложняется после очеред-
ной серии «ответных мер», предпринимаемых то одной,
то другой воюющими сторонами. Сам Ле Kappe не раз
выказывал сочувствие палестинцам. В интервью 1984
года он сказал: «Ирония истории состоит э том, что
Запад, с заметным опозданием испытав угрызения со-
вести по отношению к евреям, подарил им землю, рас-
поряжаться которой не имел права. Мы заставили пале-
стинцев платить за то, что в нас заговорила совесть.
Но евреев преследовали не палестинцы, а люди Запада.
Мы, британцы, не пускали их к себе, и американцы
тоже. Это был самый настоящий заговор, где Герма-
нии выпала роль «исполнителя», но виноваты тут мы
все».
Осуждая политику Израиля, Ле Kappe говорил, что
его руководители «не замечают, как близко подошли к
тем варварским методам, которые в свое время испытали
на себе евреи». Один из персонажей романа вспомнит
расхожую фразу о Палестине как о «земле без людей
для людей без земли». Просвещенный Запад, с его забо-
той о правах человека, не увидел палестинцев, сочтя
342
их тем меньшинством, которым в игре больших чисел
можно пренебречь.
Ле Kappe видит сложность ситуации, но его героине
не до рефлексий. Ей надо действовать. Моральное оправ-
дание ее участия, и деятельности группы Шульмана
вообще,— путем малого кровопролития избежать боль-
шого. Если Халил не будет обезврежен, за дело возьмут-
ся военные и устроят бойню.
Итак, почти гуманная задача. Но в основе своей она
аморальна, ибо Чарли заставляют стать проституткой.
С той лишь разницей, что в постели Халила она окажет-
ся не за деньги, а по любви к актерской профессии и еще
к человеку, который, в свою очередь^ынужден убивать
из любви к Израилю. Еще одна разновидность романа о
любви.
У Ле Kappe проигрывает тот, кто позволяет чело-
веческому взять верх над профессиональным. Так погиб
Лимас, капитулировал Карла. Так погибнет Халил.
Этот фанатик проиграет потому, что чуть не впервые в
жизни поверит. Поверит в искренность псевдолюбовни-
цы своего младшего брата, поверит в ее преклонение
перед собой.
Впрочем, ее симпатии к Халилу и тем палестинцам,
с которыми она успела познакомиться, вполне искренни.
Она сочувствует им. Но Чарли не частное лицо, а персо-
наж в спектакле, где искренность переживаний — сви-
детельство профессионализма актера.
В конце концов разгадав ее обман, Халил увидит в
нем очередную иронию истории. «Ты из тех англичан,
что однажды предали мой народ!» — скажет он за
мгновения до гибели. Как и положено в триллере,
Джозеф и его команда ворвутся в самый последний
момент...
Победитель не получает ничего. Героическое в «па-
лестинской трагедии» вытесняется злым фарсом. Бле-
стяще спланированная и проведенная операция прине-
сет ненужную победу. Ястребы все равно настоят на
своем. Свинцово-стальным утюгом пройдутся они по
маршруту, пройденному Чарли, уничтожая и террорис-
тов, и их западных пособников, и мирных жителей в
лагерях беженцев.
Чарли сделала все как надо. Профессионал в ней не
подкачал. Но последствия оказались слишком тяжкими.
Человек, ставший инструментом для реализации чуж-
343
дых ему целей, теряет в себе человеческое, да и как инст^|
румент может не выдержать. Чарли не нужно ничего -4
ни денег, ни голливудской карьеры, обещаемой ее]
шефами. Придя в себя после долгого нервного срыва;]
она возвращается в Англию, где не столько играет,*
сколько доигрывает в том же театре. Она не может
играть в трагедиях, только комедии...
Там ее и застанет неожиданно появившийся Джо-
зеф. Зачем он вернулся? Победила любовь? Не может без
нее? Или планируется новая операция? Читателям са-.
мим решать, хотя многое ясно, коль скоро она встре-j
чает его словами: «Разве ты не видишь, что я умерла?»i
Она будет повторять эту фразу, когда они зашагают''
под дождем по улицам городка куда глаза глядят. «Ей|
показалось, что она нужна ему, живая или мертвая», — ;
мелькнет у Чарли. Так ли это? Или это очередная иллю-
зия, которая рано или поздно будет развеяна жизнью?
Ле Kappe взглянул на трагедию Палестины и Изра-
иля, как это может сделать человек, не прячущийся
от реальности за догмы, с горечью наблюдающий, как
Абсолюты убивают людей. Терроризм, убежден он,
ведет в тупик. Люди страдают, теряют близких и гибнут^
сами, обеспечивая победы гроссмейстеров политической;
игры, отправляя тех, кто поверил им, на смерть, которая
есть жизнь для вождей.
Как отмечали критики, в совокупности своей романы!
Ле Kappe складываются в летопись предательства. В ге-;
роическом шпионском романе так вопрос не ставился.
Он был неуместен, ибо грозил обрушить декорации,
Там действовал «наш человек» на чужой территории,"
и если обстоятельства вынуждали его пить за победу с
неприятелем, то, выдержав паузу, произносил: «За нашу■■:
победу!» — оставляя с носом врага. Он рисковал"
жизнью, чтобы спасти радистку, но простая мысль о ее^
устранении казалась ужасной, крамольной.
Но то в заповедных краях Искусства, которое пра-
вильней Жизни. ;
В реальности ценные данные добывают не столько
наши, перебравшиеся к «ним», сколько «местные», пе-
ревербованные «нами». А также наоборот. Схватка геро-
ев оборачивается борьбой негодяев, предателей. Алек^
Лимас в своем гневном монологе, о котором шла речь
выше, может, чуть сгущал краски, но в романах Ле
Kappe проступают вполне «оруэлловские» контуры
344
«героя-подлеца», живущего по лозунгу: «Нравствен-
ность — это аморальность».
Стремление разобраться в том, что такое разведчик,
почему человек становится им, лежит в основе романа
Ле Kappe «Идеальный шпион» (1986). Сенсационно-
авантюрное начало здесь сильно приглушено. Настоль-
ко, что возникает вопрос, можно ли считать эту книгу
шпионским романом. Ле Kappe работает в доброй старой
манере английского психологического романа XIX века
с тяготением к теккереевской сатире.
Главный персонаж Магнус Пим — руководитель
венского центра британской разведки и ценнейший
агент чехословацкой разведки. К изумлению шефов и с
той и с другой стороны, он исчезает, заставляя обе раз-
ведки предполагать, что Пим переметнулся к врагу. Но
он на сей раз решил вернуться к самому себе. Обосно-
вавшись в маленьком английском городке, он пишет
пространное письмо сыну. Прежде чем покончить с
собой, он хочет объяснить ему — и себе самому — вещи
сложные, но необходимые для понимания, что же такое
«идеальный шпион» Магнус Пим.
Размышляя о Филби, Ле Kappe весьма скептично
отнесся к версии, что измена последнего была вызвана
его «убеждениями». Грэм Грин, знавший Филби по сов-
местной работе в разведке, в предисловии к книге
Филби «Моя тайная война» утверждал, что тот действо-
вал из верности «высшим целям». Ле Kappe полагал,
что «высшие цели» были ширмой. Комментируя широ-
ко известную фразу Филби, произнесенную по приезде
в Москву: «Я вернулся домой», Ле Kappe писал: «У него
не было ничего — ни дома, ни любимой женщины. За
набором политических клише, за аристократическим
высокомерием и жаждой авантюр таилась ненависть к
себе тщеславной безличности, для которой ничто не
заслуживало безграничной преданности. Он был одер-
жим идеей обмана ради обмана» (предисловие к книге
«Шпион, который предал поколение»).
Полемика предисловий переросла в полемику рома-
нов. «Человеческий фактор» Грина — апология развед-
чика, перешедшего на сторону противника. Отрицатель-
ным персонажем у Грина оказывается не двойной
агент Касл, но британская контрразведка, не брезгую-
щая ничем, вплоть до тайного убийства подозреваемого.
Глуповато выглядит и мать Касла, считающая его пре-
345
дателем. Для Грина Касл — трагический герой, остав-
шийся и в измене верным Главному; в романе Грина это
любовь к женщине. Хорошо, если это так, но вдруг круп-
ный прозаик неправильно прочитал тот текст, что есть
жизнь?
Магнус Пим, а ранее и Билл Хейдон у Ле Kappe
поменяли ориентиры не в связи с переоценкой цен-
ностей. Им хотелось быть любимыми всеми, ъ кем
сводит их судьба. Дабы в очередной раз понравитьсяу
Пим предает всех остальных. Не ради денег, не из
идеологических соображений. Как и многие в этом мире,
он страдал от одиночества, от отсутствия прочных свя-
зей. Воннегут как-то полушутя заметил, что настоящий
шпион всегда вынужден быть двойным агентом. Этр
верно не столько в отношении профессиональных раз4
ведчиков, сколько тех «маленьких людей», что вербуют-
ся в армии и партии. Таков был воннегутовский Говард^
Кемпбелл из «Ночной тьмы», равно успешно обслу^
живавший и нацистов, и их противников. Похож щ
него и Магнус Пим. Для него «двойничество» — ре^
зультат отсутствия твердых убеждений и возможность
ощутить себя значимой личностью.
Кто же «правдоподобней», Касл или Пим? Что это -4
один и тот же человеческий тип, увиденный по-разному,
или разные люди? Реальность сложна, и в разведке
работают не только Пим и Хейдон, но и Лимас со Смай^
ли. И Каслы, может, тоже бывают, хоть и редкое
В каждом из них частичка истины о человеке и о ещ
мире. |
В 1989 году Ле Kappe опубликовал роман «Русски^
дом», прохладно встреченный английской критикой,
увидевшей в романе не очень удачную вариацию на при|
вычные темы пусть и на супермодном русском мате|
риале. В этих упреках, увы, есть основания, и краткого!
визита Ле Kappe в СССР несколько лет назад не хватило^
чтобы избавиться от сильного иностранного акцента t
характерах, речах и действиях советских персонажей|
Но не слабейшими вещами определяется калибр писа|
теля, и в этом смысле репутация Ле Kappe, лидеру
и реформатора жанра, незыблема. Его книги находятся;
в постоянном контакте с реальностью, то отражая, то!
предвосхищая ее. Он отразил дело Филби, а историей щ
Мундте предвосхитил нечто подобное, правда с точ|
ностью до наоборот, когда высокий чин контрразведку
346
ФРГ работал на ГДР. Почти по «Маленькой барабанщи-
це» был ликвидирован спецслужбами Израиля один из
руководителей палестинских боевиков. Внеся в лихую
стихию шпионского романа морально-психологическую
проблематику, порадовав литературных гурманов сти-
листическим изяществом (ироничный, емкий стиль
Ле Kappe — зона свободы в сфере необходимости зако-
нов жанра) и озадачив наших переводчиков, которые за
редкими исключениями работают .с его текстами без
блеска, английский писатель предлагает взглянуть на
того двойного агента, имя которому современность, где
видимость и сущность постоянно меняются местами.
О ВРЕМЕНАХ МИРНЫХ
Террористы и идеалисты
В 1925 году Хемингуэй выпустил книгу «В наше
время», собрание новелл о будничной повседневности,
отделенных друг от друга заставками репортажного
характера, повествующими об ужасах войн и насилия,
бушующего в разных точках земного шара, в то время
когда Америка живет спокойно, не подозревая, что
где-то льется кровь.
И. Кашкин проницательно заметил, что название
сборника надо бы переводить «О временах мирных»,
поскольку хемингуэевское «In Our Time» («В наше
время») — начало молитвы «Give us peace in our time
О Lord» («О временах мирных Господу помолимся»)1.
Композиция хемингуэевского сборника удачно пере-
дает неустойчивый характер «мирных времен», готовых
обернуться вспышкой насилия. Вот и сейчас, на пятом
десятке лет после окончания второй мировой, чело-
вечество раздираемо как меж-, так и внутринациональ-
ными конфликтами при отсутствии мировой, вовле-
ченности в вооруженное столкновение — контрапункт
вполне в духе книги одного из ведущих «военных хро-
никеров» литературы XX века.
Лидеры сегодняшней литературы Англии и США
много размышляют о трагизме будничного существова-
ния, о том, что материальное благополучие сочетается
с такими драмами, пережить которы, развитой и мыс-
1 См.: Кашкин И. Для читателя-современника. М., 1968, с. 70.
347
лящей личности, не легче, чем войну. С этим тезисом
спорить трудно прежде всего потому, что те, на чью
долю не выпало ужасов войны, блокады, концлаге-
ря, меряют жизнь иной мерой. Конечно, неплохо, если
бы все наши горести исчерпывались «трагизмом
будничного существования», но грустно, что сосредо-
точенность на частных конфликтах заставляет многих
утрачивать чувство истинного масштаба ценностей и
крайне вяло реагировать на жестокость и насилие,
творящиеся далеко от дома. Поток информации, обру-
шивающийся на нас, как бы принижает значимость
каждого конкретного акта насилия. Газеты, радио и
телевидение, поставляя новости из горячих точек плане-
ты, в то же время преобразуют их в подобие триллера-^
сериала, который, вместо того чтобы будоражить со-
весть, развлекает, дает человеку эмоциональную раз-
рядку от всего остального. Массовая беллетристика
продолжает начатое средствами массовой информации,
укрепляя игровой статус насилия в современном мире,
терроризм наряду с происками наркомафии выдвигается
на первый план в сюжетах сенсационной литературы.
Если рассказать о том, как ливийские террористы по
приказу Каддафи заложили в центре Нью-Йорка ядер-
ный заряд и предъявили американцам ультиматум в
связи с палестинским вопросом, успех гарантирован.
Таков роман американцев Ларри Коллинза и Доминика
Лапьера «Пятый всадник» (1980). А в романе англи-
чанина Майкла Бегли «Радиоактивный фактор» (1982)
террористы похищают самолет с грузом плутония, уго-
няют его на север Англии и пытаются изготовить соб-
ственную атомную бомбу, дабы диктовать волю миру.
Но оставим сюжеты «массолита» — о них уже говори-
лось достаточно в предыдущих главах — и обратимся
к авторам, пытающимся разобраться всерьез в феномене
терроризма.
...1975 год. Комиссия общественных деятелей Запада
летит в Иран расследовать нарушения прав человека
правительством шаха. На борту самолета есть также
группа американских знатоков искусства, интересую-
щихся иранскими музеями. Но еще в Европе самолет
захватывают террористы и, переправив пленников в
укромное местечко в Голландии, предъявляют свои тре-
бования. Так начинается роман Мери Маккарти «Канни-
балы и миссионеры» (1979).
348
Триллер читателей завлекает. Антитриллер Мак-
карти рассчитан на своих — либералов различных
оттенков — и в угоду массам менять тональность не
намерен. Не нравится — отложи в сторону, возьми что-
то полегче. Таков совет романа поклонникам авантюр-
ной остросюжетности.
В романе налицо все признаки боевика, но фабула
выполняет второстепенные функции. Дело не в том, кто
возьмет верх, террористы или их антагонисты. Маккарти
приглашает читателей к разговору о западных ценнос-
тях, в основе романа — борьба идей, стремление рас-
путать тот клубок, каким выглядит общественно-поли-
тическая ситуация Запада 70-х годов.
Либералы Маккарти — и англичанин-востоковед, и
голландец-парламентарий, и американцы: священник,
президент колледжа, журналистка — охвачены чув-
ством гнетущей неясности ещё до того, как появятся
террористы/Их слегка беспокоит, как отнесется к их
приезду САВАК, тайная полиция шаха, но еще больше
снедают их сомнения насчет бескорыстности мотивов
поездки. Не примешивается ли к альтруизму желание
утвердиться в глазах общества в качестве правдолюбцев,
осудив мало популярное на Западе правительство?
В Западной Европе и Израиле, думают они, тоже кое-что
не грех расследовать, но такая активность не у всех
встретит понимание... Эти мысли не дают покоя гол-
ландцу Ван Флиту, но примерно то же думают и его
спутники.
Проблема № 1 для них не в том, что именно делать
в Тегеране. Сначала им надо обрести внутреннюю убеж-
денность в правильности выбранного пути, а затем уж
действовать. Они не жалуют сытых буржуа-коллекцио-
неров, которые едут в Иран «приобретать». Ну а мы-то
разве не приобретать задумали — репутацию, пре-
стиж?— вот-вот сфрвется у кого-то из странствующих
прогрессистов. С террористами они не собираются
брататься, но вполне готовы, как люди широких взгля-
дов, взглянуть на мир их глазами.
Главная беда «миссионеров» Маккарти в том, что
они сами по себе вроде бы и не существуют, опреде-
ляясь через тех, с кем сталкиваются. Глядят на обла-
дателей Сезанна и Вермеера — и в них закипает нена-
висть к «собственникам». Испытывая на себе неудоб-
ства,^ порожденные акцией террористов, потихоньку
349
начинают вздыхать о прелестях реформизма и парла-
ментских методов. В результате они «хуже всех» и для
буржуа, и для террористов — давний удел либералов.
Из-за попустительства либералов и процветает терро-
ризм, убеждены одни. Из-за либеральной болтовни
никак не удается подвигнуть массы на последний и
решительный бой с капиталом, Полагают другие.
Неуверенность, метание из крайности в крайность —
болезнь поразившая в романе не одних либералов. От
нее же страдают и экстремисты. Немало страниц при-
ходится одолеть читателю, прежде чем удастся разо-
браться, кто есть кто в стане «боевиков» и какие цели
преследуют. Опасаясь, похоже, обвинений в предвзя-
тости и ангажированности, Маккарти составила пе-
струю команду из разных «тергрупп». Это удобно:
никто не скажет, что все зло в палестинцах — их среди
угонщиков меньше, чем европейцев. Потому-то и требо-
вания угонщиков носят комбинированный характер,
обращены к разным правительствам. «Капиталистам»
позволено откупиться, выдав налетчикам подлинных
«старых мастеров». Главарь террористов Джероен счи-
тает, что забота о сохранности шедевров — лучший
залог безопасности боевиков. Не рискнет же истэблиш-
мент с его культом «духовных ценностей» прослыть
варваром, допустив гибель уникальных творений.
Товарно-денежная часть программы реализуется
без помех. Погоревав, коллекционеры отдают распо-
ряжения о пересылке холстов на базу террористов,
обретая по мере их поступления свободу. Сложнее с по-
литическими требованиями. Голландское правительство
ведет переговоры медленно, вежливо, но не спешит
выполнять требования о выходе из НАТО и прочий
вздор. Вокруг базы захватчиков стягиваются войска;
Если бы Маккарти писала «просто триллер», узники
обрели бы свободу благодаря ловкости кого-то из персо-
нажей. Но то, что годится для Ладлэма или Друри, не
подходит элитарной Маккарти. Однако нашлось оружие
понадежнее. Все погубит бацилла рефлексии, поселив-^
шаяся в Джероене. В разгар переговоров он обложится
взрывчаткой и, в последний раз полюбовавшись Вер-
меером, взорвет дом вместе с узниками и соратниками.
Поступок неожиданный, но и в нем своя логика.
Не раз по ходу сюжета Джероена посещали сомнения в
пользе «акций» такого рода. Катастрофа в финале,
350 I
когда одни погибают, а другие получают увечья, точно
отражает разорванное ощущение автора. Из этой ситуа-
ции, убеждена Маккарти, нет выхода: и либералам,
и буржуа, и радикалам — всем несдобровать. Если не
в смысле физической гибели, то в ощущении бессилия
перед реальностью, которую не описать с помощью са-
мых модных теорий и не взорвать бомбами. Беспомощны
герои. Да и автор не чувствует себя уверенно. В былые
времена интеллектуальная элита Запада обладала ре-
зервом ценностных ориентиров. Ныне осталось, похоже,
лишь знание того, что плохо. А плохо для Маккарти
очень многое: власть всякая, интеллектуалы, ее пре-
зирающие, а также экстремизм при всех симпатиях
писательницы к отдельным его представителям. Разве
что Вермеер — безусловно хорош, только не ясно, под-
линником ли любовался Джероен. Эксперт-искусство-
вед ограничится уклончивым «скорее всего, да». Даже
на бесспорное — высокое искусство прошлого — броше-
на тень. Мол, поклоняемся, а чему, сами не знаем, вдруг
и это, как идеалы и абсолюты, тоже подделка, фальси-
фикация высокого класса.
Все относительно на белом свете, все условно. Худо-
жественная ткань книги окроплена мертвой водой
рефлексии, но вот живой не оказалось. Затронув тему
терроризма, войны, объявленной группой лиц всему
обществу, Маккарти не обратила внимания на вторую
сторону проблемы, на то зло, что несет в себе терроризм,
независимо от мотивов, ведущих в бой его адептов.
Невозможность сочетать свободный, не скованный пред-
рассудками комментарий и логику партийного (либе-
рального) мышления определила серьезные противо-
речия «Каннибалов и миссионеров». Ею обусловлена
раздвоенность авторской позиции, неспособность четко
и до конца все додумывать, а также неожиданная на
первый взгляд неприязнь Маккарти чуть не ко всем
героям, даже тем, кто близок ей по духу. Впрочем, по-
настоящему она знает жизнь лишь той группы, к кото-
рой принадлежит сама, а потому и либералы, и экстре-
мисты получились у нее на одно лицо, а само повество-
вание стало набором вариаций на тему усталого, готового
на все махнуть рукой интеллектуала, в чьей душе пре-
зрение к жизни задавило любовь к жизни — ту самую
живую воду, без которой нет ни жизни, ни искусства.
Маккарти написала сугубо серьезный, без тени иро-
351
нии роман. Американец Пол Теру в 1976 году опубли-
ковал роман «Семейный арсенал», где поведал о тер-
роризме британского образца. В отличие от Маккарти,
он строит повествование в весьма иронической тональ-
ности, обыгрывая классические литературные образы, в
первую очередь из романа Генри Джеймса «Княгиня
Казамассима». Этой книге, посвященной, по словам
автора, «зловещему анархическому подполью, взды-
мающемуся в муках мощи и ненависти», к моменту
выхода романа Теру исполнилось 90 лет, но проблемы
конца XIX века оказались актуальными и сейчас.
Главный герой Теру тридцатилетний американец
Валентин Худ — выходец из состоятельной семьи,
выпускник Гарварда, в недавнем прошлом дипломат.
В соответствии с традициями американской прозы
однажды он восстает против рутины, совершая поступок
неприятия бытующих отношений. Исполняя обязан-
ности консула США в Южном Вьетнаме, на одном из
дипломатических приемов Худ ударил министра обо-
роны местного правительства и, не дожидаясь послед-
ствий, покинул свой пост. Теперь он живет в обшарпан-
ном особняке на юге Лондона с любовницей Майо и
двумя тинэйджерами Броди и Мерфом, успевшими
побывать в исправительной колонии и готовыми кру-
шить, взрывать, уничтожать противное общество
«буржуев».
Майо через мужа связана с Ирландской республи-
канской армией, куда хочет попасть Худ. Когда его спра-
шивают, с чего у него возникло такое желание, он отве-
чает: «Мы стали жертвами во Вьетнаме... Кто-то погиб,
но другие именно там родились как личности. Я понял,
на чьей я стороне. Потому-то я и сбежал, чтобы сра-
жаться в другом месте». Но люди из ИРА не спешат
поверить ему. Они боятся провокации: вдруг Худ наме-
рен внедриться в организацию и привести за собой
ищеек. Их можно понять: самое беглое знакомство
с Худом показывает, что он терпеть не может подчи-
няться дисциплине, покорно выполнять приказания.
Он живет, подчиняясь лишь капризам своего непред-
сказуемого «я».
Однажды в пивной он встретит человека, который
покажется ему симпатичным. Когда к его собеседнику
привяжется пьяный хам, Худ вступится за него и в
стычке хладнокровно убьет грубияна. Позже он заведет
352
роман с Лорной Уич, и выяснится, что ее-то мужа он
тогда и отправил на тот свет. В запертой комнате квар-
тиры Уичей он и Лорна обнаружат «семейный арсе-
нал» — склад оружия, которое муж должен был пере-
дать для ИРА, но был убит Худом. Теперь Худу не до
вступления в ИРА: приятели Уича намерены отом-
стить убийце.
Худ обладает свойством нести гибель всему, с кем и
чем сводит его судьба. Антагонист Олдена Пайла из
романа Грина «Тихий американец», Худ не менее опа-
сен для человечества. Пайл плох своей «комиссарской»
убежденностью в правоте своих идеалов, Худ — полным
отсутствием таковых. Это вариант Фаулера, решившего
вдруг взяться за оружие. В конце концов «семейный
арсенал» взлетит на воздух, а с ним и дружки Уича, и
незадачливая Майо. Худ с Лорной, ее сыном и Мерфом
отправится в путь, куда — читателям не сообщено.
Скептик, циник, наркоман, Худ оказывается в роли отца
семейства. Авторская ирония не вызывает сомнений.
Помимо «Княгини Казамассима» у романа Теру
просматривается еще один «источник питания», «Бесы»
Достоевского. На страницах «Семейного арсенала» воз-
никает колоритная галерея «британских бесов» наших
дней. Это путающая секс и революцию Майо, это актриса
Араба Найтуинг, охотно помогающая террористам.
В центре же композиции — богачка и суперрадикалка
леди Эрроу, в модном салоне которой можно встретить
и министра внутренних дел, и только что освобожден-
ного «бомбиста». В поисках острых ощущений эта свет-
ская львица коллекционирует — не только картины,
но и людей, «тех, кто в моде», превращая их в живые
игрушки для утоления своей скуки. «Она хотела быть и
террористкой, и жертвой террора одновременно»,—
замечает Теру. Это ей удается отчасти. Когда Майо
выкрадывает из музея картину ради выкупа, оказывает-
ся, что она принадлежит леди Эрроу. Узнав, кто и зачем
похитил холст, та приходит в восторг, окрашенный
завистью: почему она сама не догадалась украсть карти-
ну. Это был бы славный жест!
Темы терроризма и искусства сопрягаются у Мак-
карти и Теру не случайно. Суперреволюционеры 70-х го-
дов не раз заявляли о своей ненависти к культуре и ис-
кусству. «Культура — последний оплот буржуазии»,—
возвещал Ганс Магнус Энценсбергер. Об «удушающей»,
353
«порождающей мифы», «искажающей жизнь» куль-
туре писали очень многие «новые левые», из комфор-
табельного далека аплодировавшие культурной рево-
люции в Китае. «Что касается Моны Лизы, то я позво-
лил бы ее сжечь не раздумывая и минуты, но при этом,
вероятно, попытался бы сохранить другие вещи,—
говорил Ж.-П. Сартр, обсуждая гипотетическую ситуа-
цию прихода к власти французских маоистов.— А вот
если бы начали сжигать профессоров, то я и тут не уви-
дел бы ничего плохого, потому что некоторые из них —
преступники. Но вообще-то я бы настаивал, чтобы их
какое-то время подержали в одиночных камерах, чтобы
потом, когда будет сделано главное дело, обсудить их
судьбу»1. Как отмечал Ю. Давыдов, за критикой куль-
туры как таковой очевидна критика «всех усилий чело-
вечества придать смысл своему существованию в со-
ответствии со своими идеалами и ценностями, устрем-
лениями к направлению общечеловеческого про-
гресса»2.
Безгранична власть слов над средним гражданином.
Коль скоро слово сказано вслух^ «прикреплено» к тому
или иному явлению, оно принимается за чистую моне-
ту, не вызывая желания проверить, нет ли несоответ-
ствия, ошибки или жульничества. Но практика пока-
зывает, что часто слово отрицает себя, обозначая свою
противоположность, о чем и писал Оруэлл. Назвав свой
роман «Хороший террорист» (1985), английская писа-
тельница Дорис Лессинг вполне осознанно столкнула
слова, плохо сочетающиеся друг с другом с точки зрения
того самого здравого смысла, который для многих
радикалов 70—80-х годов есть не что иное, как буржуаз-
ный предрассудок, ложь.
Главную героиню Алису Меллингс не назовешь
юной — ей тридцать шесть, но она по-детски порывиста,
эмоциональна, категорична, идеалистична и, когда речь
заходит о Деле Жизни, не знает никаких компромиссов.
Порвав с бужуазностью, с домом матери, где четыре года
жила со своим товарищем Джаспером (их отношения
целомудренны, Идея важнее секса!), она присоеди-
няется к группе молодых людей, самовольно въехавших
1 Сартр Ж.-П. Я сжег бы Мону Лизу.— «Лит. газета», 1973,
И ноября, № 46, с. 15.
2 Давыдов Ю. Н. Эстетика нигилизма. М., 1975, с. 211.
354
в пустой дом на окраине Лондона. Они решили образо-
вать «Коммунистический центр». Название подчерки-
вает самостоятельность их союза, его отличие от британ-
ской компартии, слишком уж, по их мненинЬ, зависящей
от СССР, который «пошел не туда», утратил былую
революционность.
Эти люди хотят действовать, плохо понимая, что
предпринять. Они пытаются предложить свои услуги
ИРА, но те не принимают их всерьез, предлагая занять-
ся распространением агитлитературы. Но юные акти-
висты жаждут большого дела, боевых действий, пусть
даже связанных с кровопролитием. Современность им
ненавистна. «Я хочу положить конец нашей дерьмовой,
грязной, ханжеской фальшивой системе!» — говорит
решительная Фей. «Британия уже готова для бульдо-
зеров истории!» — вторит ей Алиса.
«Рабочий день» членов «коммунистического цент-
ра» — посещение митингов протеста, а также освисты-
вание выступлений членов правительства, забрасыва-
ние их гнилыми фруктами и скандирование уничижи-
тельных лозунгов. Но, возвращаясь с очередной «акции»
(выступление Маргарет Тэтчер), они не могут изба-
виться от ощущения, что «потратили на поездку слиш-
ком много денег, слишком мало получив взамен».
Алиса — душа коммуны. Благодаря ее упорству и на-
ходчивости удается отвоевать дом у муниципальных вла-
стей, обрекших его на снос. Всеми правдами и неправда-
ми находит она деньги для уплаты за свет, воду, газ.
Вместе с Филипом, мастером на все руки, оказавшимся
без работы, она приводит дом в порядок. Ее деятель-
ность, однако, вызывает иронические замечания «рево-
люционеров», видящих в этом рецидив буржуазности.
При готовности протестовать и разрушать эти люди
не прочь побаловать себя. Пособие по безработице от
фашистского правительства они тратят исключительно
на себя. Они привыкли думать о себе — и еще об Идее.
Они знают: всегда найдется кто-то, способный решить
все проблемы, как решает их Алиса. Но ее альтруизм
непоследователен. Ради единомышленников, пламенных
борцов она готова трудиться с утра до ночи, добывать
деньги, вступать в переговоры с полицией, драить полы.
Но в отношениях с родителями, «буржуа и реакционе-
рами», Алиса превращается в такого же нахального
нахлебника, что и ее соратники. Она не просит денег у
355
родителей. Она требует. А если получает отказ, берет
самовольно. Экспроприирует экспроприаторов. Не по
испорченности натуры. По святому убеждению, что она
и ее друзья имеют право на «излишки». Ей и в голову
не приходит, что для матери, оставленной отцом, это
вовсе не излишки.
Алисе не до этих мелочей. Надо проводить конгресс
«Коммунистического центра». Разослать приглашения
в другие города. Принять гостей. Накормить, уложить
спать. Вымыть посуду. Убрать.
Шестьдесят человек приедут, поговорят всласть и
разъедутся. Мероприятие проведено, наполняя гор-
достью сердца Алисы и ее друзей.
Эта кипучая, преданная делу борьбы с буржуаз-
ностью женщина привлечет внимание таинственного
товарища «Эндрю, пытающегося уговорить ее «бросить
этих подонков» и устроиться на хорошую работу, где
она могла бы приносить настоящую пользу грядущей
революции. Товарищ Эндрю внезапно исчезнет, но по-
явится товарищ О'Лири, который продолжит вербовку,
намекая на свои контакты с высшими ревсферами. Но
он получит отпор. «Мы, английские революционеры,
строим нашу деятельность в соответствии с английской
традицией»,— скажет ему Алиса. Традиция эта связана
со святой для каждого британца идеей независимости.
Алиса не намерена быть марионеткой в чужом спек-
такле. Она хочет бороться сама.
Но, отвергая подчинение «людям со стороны», Алиса
и ее друзья оказываются игрушками тех идей, которые
берут на вооружение. Раздобыв взрывчатку, они заду-
мывают Акцию. Сначала — пробный взрыв на пустын-
ной ночной улице, остающийся незамеченным. Разго-
раются споры, где и как произвести Главный Взрыв.
Ночью будет меньше жертв, но и резонанс меньше.
Революционерам же нужно, чтобы о них заговорили.
Как отмечал исследователь терроризма У. Лекер, «глав-
ная опасность для террориста — неизвестность, отсут-
ствие рекламы, утрата образа отважного борца за сво-
боду»1. Террорист зависит от средств массовой инфор-
мации, а поскольку последние привередливы в смысле
новизны, террористу приходится быть сверхизобрета-
тельным.
1 Lacquer W. Terrorism. L., 1973, p. 27.
356
Машина со врывчаткой взлетит на воздух в самом
центре Лондона. Будут убитые и раненые. Погибнет
пламенная Фей. «Бомбисты» щедро подарят взрыв ИРА,
надеясь лишний раз напомнить миру об ирландском
вопросе. Но ИРА в ярости. Их представители делают
заявление: они не убивают мирных жителей, это прово-
кация и самозванцы ответят за это.
Первый блин революции вышел комом. Погибли
люди, союз с ИРА невозможен. Кроме товарища О'Лири
к Алисе присматривается сотрудник британских спец-
служб. Она на подозрении, под прицелом враждующих
сторон, любой опрометчивый шаг губителен. Самостоя-
тельность оборачивается иллюзией.
Мери Маккарти, Пол Теру и Дорис Лессинг по-
разному видят революционную борьбу на современном
этапе. Маккарти — не без симпатий, Теру — с немалой
иронией, Лессинг — с решительным осуждением.
В СССР ни одна из этих книг не была опубликована,
ибо проблема терроризма, как и разведдеятельности,
относилась к числу сверхсекретных, и только сейчас
начинают в нашей периодике появляться данные о
контактах между западными террористами и, например,
правительственными кругами ГДР. Если «шпионаж»
получал название «аналитической деятельности» —
когда «анализировали» мы, то и «терроризм» означал
подъем национально-освободительного движения.
А массовые жертвы — при всех необходимых охах и
ахах — трактовались нашими международниками как
результат провокации империалистических кругов,
которым так и надо, завтра еще не то будет.
Что же будет завтра?
Раньше в работах на военную тему финал напоми-
нал концовки бестселлеров: оптимизм торжествовал,
выражалась твердая надежда, что разум возьмет верх
над безумием, а мир победит войну. «Конечно, бумага
сама по себе не может остановить войну, но она может
укрепить в своей правоте тех, кто борется против войны,
умножить их ряды, придать им силы. Мир был бы иным,
не будь у искусства наших дней мощного гуманисти-
ческого потенциала»1,— писал в финале своей книги о
войне в художественной литературе П. Топер. Готов ве-
рить, что эта книга, выдержавшая три издания за корот-
1 Топер П. Ради жизни на земле. Мм 1985, с. 634.
357
кий срок с 1975 по 1985 год, внесла вклад в изменение
мира к лучшему, способствовала остыванию воинствен-
ного энтузиазма у ее читателей. Хотелось бы надеяться,
что «Бойня номер «X» окончательно затушит огонь
агрессии, тлеющий в глубинах читательских душ. Но
«антивоенный гуманистический потенциал» — понятие
хитрое. Наши официальные гуманисты высказали ряд
ценных соображений насчет того, что делать с врагом,
если он не сдается, и как оценивать позиции тех, кто
«не с нами». Нас и сейчас учат не зачеркивать идеалы
тех, кто, допустив ряд ошибок, «верил в светлое буду-
щее». Во что верить простым, не искушенным в полити-
ческом хозрасчете гражданам — в какую из знаменитых
лженаук, в кибернетику с генетикой или в научный
коммунизм?
Кто прав — Грэм Грин, убежденный, что литера-
тура помогает бороться со Злом, или Варлам Шаламов,
написавший однажды: «Я не верю в литературу. Не
верю в ее возможность по исправлению человека»?
Укладывается ли Истина в любую из формул-антаго-
нистов? Остается надеяться, что нет.
Воннегут сравнивал писателя с канарейкой, которую
шахтеры берут в забой. Когда начинает скапливаться
рудничный газ, а люди еще не подозревают об этом, ка-
нарейка своей обеспокоенностью предупреждает об
опасности. Воннегут знает, что писатели не в состоянии
предотвратить очередной крестовый поход детей, бойню
за очередным порядковым номером, но своими пронзи-
тельными, тревожными книгами «подают знак». Знак
беды.
Мир не без интереса внимает их затейливым руладам.
358
указатель имен и названий*
Авторханов А. 6
Агранов Я. С. 18
Адаме Генри Брукс 196
Айзингер Честер 68, 69; см. также
Eisinger Ch.
Алафузо М. И. 18
Алексей Михайлович 9
Алкснис Я. И. 18
Анджапаридзе Г. А. 213
Андреева Н. А. 33
Антокольский П. Г. 47
Апдайк Джон (Хойер) 123
Арендт Ханна 22, 41, 162, 309;
см. также Arendt Н.
Аристофан 188
Аронштам 18
Артузов А. X. 18
Астер Фред 249
Багрицкий Э. Г. 47
Байлс (Байлз) Джек 146
Байрон Джордж Ноэл Гордон 41,
а также 72
Балицкий В. А. 18
Баллантайн Роберт Майкл 134—
136, 149
«Коралловый остров» (1858)
134, 149
Бальзак Оноре де 302
Барт Джон 188, 226
Бартельм Дональд 226
Басе Рональд 310, 316
«Изумрудная иллюзия» (1984)
310
Бегли Майкл 348
«Радиоактивный фактор»
(1982) 348
Беллами Эдвард 27
«Оглядываясь назад» (1888) 27
Белобородое А. Г. 18
Бергонци Бернардо 55; см. также
Bergonzi В.
Берджесс Гай 339
Берджесс Энтони 133, 150, 153—
155
«Заводной апельсин» (1962)
150, 151
Бердик Ю. 251, 252, 260, 261
(совм. с У. Ледерером) «Безоб-
Составитель Н. Зорина.
разный американец» (1958)
260, 261
(совм. с X. Уилером) «Граница
безопасности» (1962) 251, 252
Бердяев Н. А. 20,26, 29, 30, 64, 257
«Истоки и смысл русского ком-
мунизма» (1937) 20, 30
«Миросозерцание Достоевско-
го» (1921) 64
Берзинь (Берзин) Я. 18
Берия Л. П. 46, 309
Берковский Н. Я. 186
*"«0 мировом значении русской
литературы» (1975) 186
Берне Джон Хорн 101
«Галерея» (1946) 101
Бетховен Людвиг ван 151, 154
Бирон Эрнст Иоганн 9
Бирс Амброз 227
«Словарь Сатаны» (1906) 227
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен
132, 331
Бичер-Стоу Гарриет (Элизабет):
«Хижина дяди Тома» (1852)
156
Блант Энтони 339
Борман Мартин 308, 313, 314
Боровик А. Г. 300
Брант Себастьян 157, 169
Браун Вернер фон 199 v
Браун Ева 317, 318
Брежнев Л. И. 26, 36, 133, 292,
а также 132
Брехт Бертольт 96
Броневой Л. С. 315
Брукс Ричард 100
«Кирпичный блиндаж» (1945)
100
Брэдбери Рей Дуглас 311
Бубнов А. С. 18
Булгаков М. А. 54
Бурджейли Вэнс 69, 70, 72—75
«Конец моей жизни» (1947)
69, 73
Буффало Билл см. Коди Уильям
Бухарин Н. И. 11, 48
Вейль Симона 19; см. также
Weil S.
Вермеер Дельфтский Ян 349—
351
Видал Гор 66
Вильсон Томас Вудро 3
359
Во Ивлин 49, 50—57, 64, 65, 79,
215
«Мерзкая плоть» (1930) 50
«Не жалейте флагов» (1942)
50, 51
«Почетный меч», трилогия 51,
52:
«Военные» (1952) 52—54
«Офицеры и джентльмены»
(1955) 54, 55
«Безоговорочная капитуляция»
(1961) 55, 56
«Пригоршня праха» (1934) 50
«Упадок и разрушение» (1928)
50
Воинов В. 336, 337
Волошин М. А. 18
Вольтер 188, 227
Воннегут Курт 7, 148, 222—229,
232, 233, 235—241, 243—246,
248, 346, 358
«Балаган» (1976) 225
«Бойня номер пять, или Кресто-
вый поход детей» (1969) 228,
235, 238—242, 244
«Галапагосы» (1985) 226, 228,
244
«Дай вам бог здоровья, мистер
Розуотер» (1965) 240
«Завтрак для чемпионов»
(1973) 227
«Колыбель для копией» (1963)
148, 223, 226—229, 231, 232, 244
«Малый не промах» (1982) 228,
241, 244
«Механическое пианино»
(р. пер. «Утопия-14») (1954)
224, 226
«Ночная тьма» (1961) 232, 233,
346
«Сирены Титана» (1959) 226,
229, 240, 244
«Тюремная птаха» (1981) 244
Ворошилов К. Е. 47
Вук Герман 103, 104, 114—120,
122—132, 267
«Ветры войны» (1971) 122
«Война и память» (1978) 122
«Мятеж на «Кейне» (1951)
103, 114, 119—121, 127, 131
Гарднер Ава 249
Гарднер Джон 303
Гароди Роже 23
«Кладбищенская литература»
(1947) 23
360
Гарриман Уильям Аверелл 125
Гашек Ярослав 214
Геббельс Йозеф 46, 164, 232, 233
Гегель Вильгельм Фридрих: ге-
гельянство 20
Геккер А. И. 18
Геринг Герман Вильгельм 47,
117, 222, 315
Гикало Н. Ф. 18
Гиммлер Генрих 46, 125, 309, 312
Гитлер Адольф 10, 34, 35, 46, 55,
66, 108—117, 125—128, 130,
163, 164, 172, 175, 229, 233,
242, 244, 246, 301, 309, SU-
SI 8, а также 33, 47, 52, 80, 102,
144, 174, 177, 206
Гиттис В. М. 18
Гоббс Томас 80
Голдинг Уильям Джеральд 133—
136, 138, 140, 142—150, 160,
169, 190, 222
«Медная бабочка», пьеса (1958)
147
«Наследники» (1955) 148, 149
«Повелитель мух» (1954) 134—
136, 143, 147—149, 160, 190
«Чрезвычайный посол» (1954)
147
«Шпиль» (1964) 135
Голль Шарль де 261, 314
Голодед Н. М. 18
Гопкинс Гарри Ллойд 125
Горький М. 40, 230
«На дне» (1902) 230
Грибоедов А. С. 301
Грин Грэм 257—261, 303, 336,
345, 346, 353, 358
«Сила и слава» (1940) 257
«Тихий американец» (1956)
257, 260, 353
«Человеческий фактор» (1978)
345
Грин Джеральд 308
«Холокост» (1978) 308
Гроссман В. С. 78, 183
«Жизнь и судьба» (1960) 78
Грум Уинстон 268, 273—275, 278,
279, 281, 287
«Времена получше, чем нынеш-
ние» (1978) 268, 273
Давыдов Ю. Н. 354
«Эстетика нигилизма» (1975)
354
Дарвин Чарлз Роберт 244, а также
20
«Происхождение видов» (1859)
244
Дейтон Лен 237, 311
«Бомбардировщик» (1970) 237
Дерринг 306
Джеггер Мик 245
Джеймс Генри 352
«Княгиня Казамассима» (1886)
352, 353
Джойс Джеймс 194
«Поминки по Финнегану»
(1939) 117
«Улисс» (1922) 194, 303
Джонс Джеймс 64, 66, 84, 85, 87—
89, 91—97, 102, 107, 112, 181,
218, 274, 305
«Изобразительное искусство
второй мировой войны», статья
(1975) 96
«Отныне и вовек» (1952) 87, 94
«Пистолет» (1958) 84, 96
«Тонкая красная черта» (1962)
94—96
Джонс П. Г. 75; см. также
Jones P. G.
Джонсон Линдон 264
Диккенс Чарлз 40
Дмитриева Н. 223
Додж Э. 289, 290
«Дау» (1985) 289
Донливи Дж. П. 188
Дос Пассос Джон (Родериго) 64,
67, 70, 74, 81, 218, 272
«Три солдата» (1921) 67, 68,
74, 81
Достоевский Ф. М. 12, 43, 84, 155,
183, 305, 353
«Бесы» (1871 — 1872) 12, 13,
353
«Братья Карамазовы» (1879—
1880) 151
«Записки из подполья» (1864)
43
«Зимние заметки о летних впе-
чатлениях» (1863) 305
Драйзер Теодор Герман Альберт
93
Друри Аллен 318—325, 329, 350
«Обещание радости» (1975)
318, 319, 321
«Пентагон» (1986) 322, 324
«Помни о Ниневии, помни о Ти-
ре» (1973) 318, 319, 323
«Решение» (1983) 322
«Совет и согласие» (1957) 319
Дыбенко П. Е. 18
Дюма-отец Александр 302
Дюрренматт Фридрих 303
Егоров А. И. 18
Екатерина II 9
Енукидзе А. С. 18
Живков Тодор 292
Жлоба Д. П. 18
Замятин Е. И. 27, 43, 45, 155
«Мы» (1921) 27, 43, 155
Зверев А. М. 82
«Грустный солнечный ми$ Са-
рояна» (1982) 82
Зенкевич М. А. 231
Зиновьев А. 132, 133
Зиновьев Г. Е. 18
Злобин Г. П. 199
«По ту сторону мечты» (1985)
199
Золя Эмиль 93
Ильф И. 300
(совм. с Е. Петровым) «Золо-
той теленок» (1931) 300
Иннокентий III 239
Истлейк Уильям 283—286
«Бамбуковая кровать» (1968)
283, 284
Йейтс Уильям Батлер 7
Йодль Альфред 313
Каддафи Муамар 348
Кактынь А. М. 18
Калер Эрих 97; см. также Kah-
ler Е.
«Мера всего — человек» (1943)
97
Калинин М. И. 46
Кальтенбруннер Эрнст 309
Каммингс Эдвард Эстлин 67, 70
Камю Альбер 22, 23, 30, 63
Канарис Фридрих Вильгельм 313,
315
Капуто Филип 268—270, 274—
277, 286, 300
«Слухи о войне» (1977) 268,
269, 276
Каули Малькольм 104, 119; см.
также Cowley М.
Кафка Франц 12
«Процесс» (1915) 12
Кашкин И. А. 347
361
«Для читателя-современника»
(1968) 347
Кейтель Вильгельм 47, 313
Кеннеди Джон Фицджеральд 261,
264, 269, 276, 318
Кеннеди Роберт Фрэнсис 241
Кеннеди Эдвард 253
Кеннеди-Онассис Джекки (Жак-
лин) 245
Кёстлер Артур 7, 9—12, 14, 18—
26, 28, 29, 35, 45, 47, 48, 57, 61—
65, 105, 131, 133, 165, 174, 258
«Время жажды» (1951) 24, 30
«Йог и комиссар», эссе (1945)
63
«Появление и исчезновение»
(1943) 57—60
«Публичные женщины» (1972)
133
«Слепящая тьма» (1940) 10,
19, 21, 23—25, 28, 29, 45, 62,174
Килленс Джон Оливер 109, ПО
«И тогда мы услышали гром»
(1962) 109
Кинг Мартин Лютер 241
Киссинджер Генри 245
Клэнси Том 326, 328, 329
«Красный шторм» (1986) 329
«Охота за „Красным Октяб-
рем"» (1985) 326, 327, 329
Ковик Рон 269, 286, 299
«Рожденный 4 июля» 269
Ковтюх Е. И. 18
Коди Уильям (Буффало Билл)
307
Козаков М. М. 177
Коззенс Джеймс Гулд 103—109,
119, 131, 267
«Почетный караул» (194 8)
103, 104, 108, 109, 119
Коллинз Ларри 348
(совм. с Д. Лапьером) «Пятый
всадник» (1980) 348
Кольцов М. Е. 41
Коммаджер Генри Стал 103
Конквест Роберт 26
«Большой террор» (1968) 26
Конрад Джозеф 192
Коппола Фрэнк (Фрэнсис Форд)
282
«Апокалипсис» («Апокалипсис
сегодня»), фильм (1976—1979)
282
Корк А. И. 18
Корнуэлл Дэвид Джон Мур см.
Ле Kappe Джон
Кортасар Хулио 303
Косиор С. В. 18
Крамер (Креймер) Стенли 156,
248, 249, 256
«На берегу», фильм (1959)
248, 256
Кристи Агата 78, 303
Кубрик Стенли 150, 151, 154, 252
«Доктор Стрейнджлав, или Как
я перестал беспокоиться и воз-
любил атомную бомбу», фильм
(1963) 252
Кун Бела 18
Кунетка Джеймс 253—255 (совм.
с. У. Страйбером) «День
войны» (1985) 253, 254
Купер Джеймс Фенимор 97, 156,
265
Кутяков И. С. 18
Кэри Джойс 226
Ладлэм Роберт 350
Ламарк Жан Батист: ламаркизм
20
Лапьер Доминик 348
(совм. с Л. Коллинзом) «Пя-
тый всадник» (1980) 348
Лацис М. И. 18
Ледерер У. 260 261
(совм. с Ю. Бердиком) «Безоб-
разный американец» (1958)
260,261
Ле Kappe Джон (Дэвид Джон
Мур Корнуэлл) 331—338,340—
347, 359
«Война в Зазеркалье» (1965)
336
«В Россию с любовью», откр.
письмо (1965) 336
«Звонок покойнику» (1961) 339
«Идеальный шпион» (1986) 345
«Люди Смайли» (1980) 340
«Маленькая барабанщица»
(1983) 341, 346, 347
«Медник, портной, солдат,
шпион« (1974) 339, 340
«Русский дом» (1989) 346
«Шпион, вернувшийся с холо-
* да» (1963) 334, 336, 340
Лекер У. 356; см. также Lac-
quer W.
Ленин В. И. 10, 26, 28, 30, 32
362
Лессинг Дорис 354, 357
«Хороший террорист» (1985)
354
Линкольн Авраам 307
Ломов Г. И. 18
Ломперис Т. 298
«Вьетнамский опыт и американ-
ская литература» (1987) 298
Лондон Джек 27, 93, 156
«Железная пята» (1908) 27
Лоренц Конрад 102
Лоури Роберт 82, 83, 102, 107
«Жертва» (1946) 82
Лукиан 188
Льюис Питер 333, 341; см. также
Lewis Р.
Льюис Синклер 320
«У нас это невозможно» (1935)
320
Лютер Мартин 127
Майклджон Дж. 302
Майн Рид см. Рид Т. М.
Майрер Антон 101, 102
«Большая война» (1958) 101
Макиавелли Никколо 295
Маккарти Джозеф 66, 67
Маккарти Мери 291—295, 348—
353, 357
«Вьетнам» (1967) 291
«Каннибалы и миссионеры»
(1979) 348, 351
«Медина» (1972) 291, 292
«Семнадцатая параллель»
(1975) 291
«Ханой» (1968) 291
Маклейн Дэвид 339
Маламуд Бернард 226
Маллэли Ф. 315, 316, 317
«Гитлер победил» (1975) 315
Мандельштам Н. Я. 84
Мандельштам О. Э. 21
Мао Цзэдун 175, а также 132, 354
Маркс Карл 10, 36, а также 20,
23, 29, 33
Маяковский В. В. 47
Мейлер Норман 66, 75—80, 89,
107, 112, 115, 181, 218, 222,
294, 305
«Нагие и мертвые» (1948) 75,
89, 99
Мейтленд Дерек 283—286
«Другой войны у нас нет!»
(1970) 283
Мелвилл Герман 97
Менгеле Йозеф 18, 308
Мерло-Понти Морис 23, 24
«Гуманизм и террор» (1947) 23
Миллер Артур 169, 170, 172, 174,
175, 177, 178
«Это случилось в Виши» (1965)
169
Мильтон Джон 41
Митин М. Б. 21
Миченер Джеймс 112, 113
«Саёнара!» (1953) 112, ИЗ
Молотов В. М. 32
Монтескье Шарль Луи 295
Мор Томас 27
«Утопия» (1515—1516) 27
Морозова Т. 200
Моцарт Вольфганг Амадей 151,246
Моэм Сомерсет 331, 336
Мур Робин 262—265
«Зеленые береты» (1965) 262
«Местная команда» (1967) 264
Муссолини Бенито 127, 175
Мюллер Хайнрих 309, 310, 315
Наполеон I 76, 246
Нахамкес (Нахамкис) Ю. М. 18
Невский В. И. 18
Некрасов Н. А. 244
«Железная дорога» (1864) 244
Норман Ч. 233
Норрис Фрэнк 93
Ньютон Исаак 246
О'Брайен Круз 7; см. также
O'Brian С. С.
О'Брайен Ълм 268, 286, 288, 297
«Вслед за Каччиато» (1976)
268, 286, 288, 297
Окуджава Б. Ш. 156
Олдридж Джеймс 7
Олдридж Джон 68, 69, 93, 183—
185; см. также Aldridge J.
«После потерянного поколе-
ния» (1953) 93, 184, 185
Оппенгеймер Роберт 125
Оруэлл Джордж 7, 9, 15, 25—29,
31—36, 38—40, 42—45, 47, 48,
65, 84, 150, 154, 159, 170, 174,
175, 203, 205, 209, 212, 218, 222,
228, 287, 300, 344, 354, 358
«1984» («Последний человек»
45) (1948) 25—28, 35—37, 39,
41, 42, 65, 154, 218
«Ферма животных» («Скотный
двор», (1943) 36
Оутс Джойс Кэрол 123
Павлов И. П. 197, 198
363
Паркинсон Дж. 318
Паттерсон Гарри (псевд. Джек
Хиггинс) 311, 312
«Операция „Валгалла"» 312
Паунд Эзра (Уэстон) Лумис 233
Пек Грегори 249
Петере Я. X. 18
Петр I 9
Петров Е. 300
(совм. с И. Ильфом) «Золотой
теленок» (1931) 300
Пикуль В. С. 303
Пинчон Томас 187, 188, 193—201,
223, 226
«Радуга земного притяжения»
(1973) 194, 195, 199, 200
«V», роман 200
Пифагор 60
Платон 27, 298
«Государство» 27
Платонов А. П. 81, 82
«Размышления читателя»
(1939) 82
Подгорец Норман 294, 295, 298
«Почему мы были во Вьетнаме»
(1982) 294
Пол Пот 175
Портер Кэтрин Энн 155—157,
160, 162—169, 222
«Корабль дураков» (1961) 155,
156, 160, 168
Поттер Д. 308
Пратт Дж. 287
«Лаосские фрагменты» (1974)
287
Примаков В. М. 18
Прокофьев 18
Проффитт Николас 280—282
«Сады камней» (1984) 280
Пруст Марсель 117
Пулитцер Джозеф: Пулитцеров-
ская премия 114
Путна В. К. 18
Пушкин А. С. 135, а также 21
«История села Горюхина»
(1830) 135
Пятаков Г. Л. 18
Радек К. Б. 11
Райт Стивен 28, 288, 289
«Медитации в зелени» (1983)
288
Расел Бертран 201, 292
Рашидов Ш. Р. 211
Рейган Рональд 257, 318, 326
Репингтон Дж. 3
«Первая мировая» (1920) 3
Рид Питер 226; см. также Reed Р.
Рид Томас Майн 302
Ризмен Дэвид 114, 121
«Толпа одиноких» (1950) 114
Розенберг Альфред 164
Роллан Ромен 48, 292
Рот Роберт 123, 272, 273
«Пыль на ветру» (1977) 272
Роу Дж. 270, 271
«Подсчитайте ваших убитых»
(1968) 270
Рудзутак Я. Э. 18
Рузвельт Франклин Делано 108,
123, 125—127, 312
Руссо Жан-Жак 97
Рыбаков А. Н. 183
Саблин Ю. 18, 34
Сазерленд Дж. 301
Салтыков-Щедрин М. Е. 203, 204,
211, 216, 243
«Дикий помещик», сказка
(1869) 203
«Современная идиллия» (1877)
211
Сароян Уильям 64, 80—82, 102,
107, 181, 213
«Приключения Весли Джексо-
на» (1945) 80, 82, 213
Сартр Жан Поль 22, 24, 354
Сафонов В. Д. 178
Сахаров А. Д. 6, 179, 216
Свифт Джонатан 50, 54, 188, 223,
227
Сезанн Поль 349
Семенов Ю. С. 315
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа:
сенсимонизм 20
Сервантес Сааведра Мигель де 135
«Хитроумный идальго Дон Ки-
хот Ламанчский» (1605—1615)
135
Симоне Джулиан 334
Скиннер Б. Ф. 154, 155
«Уолден-2» 154
Скороденко В. А. 135
Скотт Вальтер 302
Скоулс (Сколз) Роберт 187; см.
также Scholes R.
«Притчетворцы» (1967) 187
Солженицын А. И. 4, 9t 17, 36, 78,
132, 179, 183, 216, 257, 293, 306
«Архипелаг ГУЛАГ» (1958—
364
1967) 9, 17, 18, 26, 46, 306
«Мир и насилие», статья (1973)
4
Сонтаг Сьюзен 291—295
«Поездка в Ханой» (1969) 293
Спарк Мюриэл 336
Спиллейн Микки 303
Спиридонова М. А. 18
Стайнер (Стейнер) Джордж 182,
183, 187, 236, 308
«Язык и молчание» 182
Стайрон Уильям 169, 178—187,
359
«Выбор Софи» (1979) 169, 178,
183, 185, 187
«Затаись во мраке» (1951) 179
Сталин Й. В. 10,12, 18, 23, 28, 32,
34—36, 46—48, 56, 66, 125, 130,
132v159, 163, 175, 183, 244, 294,
309, 314, 339, а также 6, 47, 52,
133, 293
Стивенсон Роберт Луис 136, 302,
303
«Остров сокровищ» (1883) 136
Страйбер Уитли 253—255
(совм. с Дж. Кунеткой) «День
войны» (1985) 253, 254
Сэлинджер Джером Дэйвид 114,
194
«Над пропастью во ржи» (1951)
114, 194
.Табаков О. П. 315
Твен Марк 223, 226
Теккерей Уильям Мейкпис 40, 50
Тельман Эрнст 144
Теннер Тони 191, 192; см. также
Tanner Т.
Теру Пол 352, 353, 357
«Семейный арсенал» (1976)
352, 353
Толстой Л. Н. 195
«Анна Каренина» (1875—1877)
195
Топер П. 357
«Ради жизни на земле» (1985)
357
Торо Генри Дэвид 279
Троцкий Л. Д. 11, 23
Трумэн Гарри С. 66, 77, 125,130
Туровская М. И. 302
«Герои „безгеройного време-
ни"» (1971) 302
Тухачевский М. Н. 17
Тынянов Ю. Н. 212
«Подпоручик Киже» (1928) 212
Тэтчер Маргарет 355
Уайльд Оскар 12, 73, 330
Уайт Уильям 112, 121, 122
«Человек организации» (1957)
112, 121
Уборевич И. П. 18
Уилер X. 251, 252
(совм. с Ю. Бердиком) «Гра-
ница безопасности» (1962) 251,
252
Уилсон Слоун 103
«Человек в сером фланелевом
костюме» (1955) 103
Уншлихт И. С. 18
Уолдмейер Джозеф 73, 77, 103;
см. также Waldmeir J.
Уеллес Ирвинг 317, 318
«Седьмой секрет» (1987) 317
Уолпол X. 188
Урис Леон ПО, 111, 304—308
«Армагеддон» (1964) 304
«Боевой клич» (1953) 110, 111,
304
«Злые горы» (1955) 304
«Исход» (1958) 304, 306, 308
«Мила 18» (1961) 304, 306, 308
«Топаз» (1967) 304
«QB VII» 306
Уэбб Джеймс 268, 276—279, 281,
287, 298, 299, 300
«Огненные поля» (1978) 268,
276, 278, 299
Уэйн Джон 262, 290
Уэллс Герберт Дж. 149, 227
«Косматые люди», рассказ
(1921) 149
«Очерки истории» (1922) 149
Фейхтвангер Лион 48.
Фельдман 18
Фидлер Лесли 49
«Ожидание конца» (1965) 49
Филби Ким 313, 339, 345, 346
«Моя тайная война» 345
Филдинг Генри 135
«История приключений Джо-
зефа Эндрюса...» (1742) 135
Фицгиббон Константин 320, 321,
325
«Когда прекратились поцелуи»
(1960) 320
Фицджеральд Фрэнсис Скотт 69
«По эту сторону рая» (1920) 69
Фицджеральд Фрэнсис 268, 295—
297
«Пожар в озере» (1972) 268,
Флеминг Ян 332—334, 336, 337
Флобер Гюстав 227
«Лексикон прописных истин»
(1874—1880) 227
Фолкнер Уильям 7, 50, 184, 226,
245
«Притча» (1954) 7
Фоллетт Кен 311
Форбс Колин 312—314, 317
«Вождь и проклятые» (1983)
313, 314
«Каменный леопард» (1975)
314
Форсайт Фредерик 311, 316
«Досье ОДЕССА» (1972) 316
Фрейд Зигмунд 337
Фрейзер Д. 325, 326
«Август 1984-го» 325
Фрост Роберт 231
Фуллер Дж. 287, 290
«Осколки» (1984) 287, 290
Функ Вальтер 164
Фурье Шарль: фурьеризм 20
Хаксли Олдос 26, 27, 45, 155, 158,
246—250
«Обезьяна и сущность» (1946)
246—249
«О дивный новый мир» (1932)
26, 27, 155
Халберстэм Дэвид 265, 266
«Один очень жаркий день»
(1968) 265
Ханютин Ю. М. 151
«Неизбежность странного ми-
ра» (1977) 151
Хассан Ихаб 94; см. также Has-
san I.
Хау И. 67; см. также Howe I.
Хейес А. 100
«Все твои победы» (1946) 100
«Девушки с улицы Фламина»
(1951) 100
Хеллер Джозеф 201—205, 207—
215, 217—223, 226, 227, 246,
256, 285, 2§6, 288
«Поправка-22» (1961) 201,
205, 212—215, 217, 218, 220,
221, 285, 286, 288
«Что-то случилось» (1974) 220,
221
Хеллман Дж. 261; см. также
Hellman J.
Хемингуэй Эрнест Миллер 7, 54,
64, 67—69, 72, 74, 76, 81, 115,
119, 218, 271, 347; см. также
366
Hemingway Е.
«В наше время» (1925) 347
«За рекой в тени деревьев»
(1950) 69
«Острова в океане» 7, 69
«Прощай, оружие!» (1929) 68,
69, 72, 74, 81
Хемметт Дэшил 333, 337, 338
Херси Джон 98, 100,102, 206, 222,
304, 305—358
«Возлюбивший войну» (1958)
98, 100, 358
«Стена» (1951) 304—306
Хиггинс Джек (см. также Пат-
терсон Гарри) 311,312,314—317
«Счастье Лучано» (1981) 311
Хомейни Рухолла Мусави 175
Хонеккер Эрих 292, 310, 330
Хоукс Джон 187—193, 199, 223,
226
«Каннибал» (1949) 188—191
«Мода на темно-зеленое»
(1961) 191, 192
Хоффер Эрик 161, 164, 167, 173,
209; см. также Hoffer Е.
«Истинно верующий» (1951)
161, 164, 174
Хо Ши Мин 278
Хрущев Н. С. 13, 34, 36, 320
Чаковский А. Б. 131
Чандлер Реймонд 78, 337, 338
Чаушеску Николае 175, 330
Чейф У. 103, 108, 129; см. также
Chafe W.
Черчилль Уильям Леонард Спен-
сер 125, 130
Честертон Гилберт Кейт 330
«В защиту дешевого чтива»
(1906) 330
Чехов А. П. 3, 9, 158
«Три сестры» (1901) 3, 9
Чивер Джон 123
Чосер Джефри 41, 226
Чудновский 18
Шаламов В. Т. 183, 358
Шахназаров Г. X. 34
«Куда идет человечество»
(1985) 34
Шекспир Уильям 246, 302
Шелленберг Вальтер 309—311,
313, 315
Шерман Уильям Текумсе 102
Ширах Бальдур фон 164
Шлихтер А. Г. 18
Шоу Джордж Бернард 48,227, 292
Шоу Ирвин 7
«Молодые львы» (1948) 7
Штрейхер Юлиус 164
Шульц М. 188; см. также
Schulz М.
«Черный юмор: проза 60-х»
(1973) 188
Шут Невил 248—250, 256
«На берегу» (1956) 248, 256
Щедрин см. Салтыков-Щедрин
Эйдеман Р. П. 18
Эйзенхауэр Дуайт Д. 66
Эйнштейн Альберт 248
Эйхман Карл 309
Элиот Джордж 302
Элсберг Дэниэл 257
Эмблер Эрик 331
Энгельс Фридрих 10
Энценсбергер Ганс Магнус 353
Эренбург И. Г. 41
Юдин П. Ф. 21
Aldridge J. 68, 69
«After the Lost Generation»
(1953) 68, 69
Arendt H. 22, 41, 162
«Origins of Totalitarianism»
(1966) 22, 41, 162
Atkins J. 19
«Arthur Koestlen> (1968) v 19
Bergonzi B. 55
«English Novel of the 50s»
(1966) 55
/
Chafe W. 103, 108, 129
«The Unfinished Journey» 103,
108, 129
Cowley M. 119
«Literary Situation» (1947) 119
Eisinger Ch. 68
«Fiction of the Forties» (1961) 68
Fiedler J. 49
«Waiting for the End» (1965) 49
Hassan I. 94
«Radical Innocence. Studies in
the Contemporary American No-
vel» (1961) 94
HeUman J. 261
«American Myth — The Legacy
of Vietnam» (1988) 261
Hemingway E.:
[Предисловие к антологии]
«Men at War» (1942) 119
Hillegas M. 27
«The Future as Nightmare»
(1966) 27
Hoffer E. 161, 164, 174
«A True Believer» (1955) 161,
164, 174
How I. 67
«Literature and Ideology» (1963)
67
Jones P. G. 75
«War and Novelist» (1971) 75
Kahler E. 97
«Man the Measure» (1943) 97
Lacquer W. 356
«Terrorizm» (1973) 356
Lewis P. 333, 341
«John Le Carre» (1984) 333, 341
O'Brian С. С. 8
«Writer and Politics» (1965) 8
Reed P. 226
«Kurt Vonnegut-Jr.» (1972) 226
Rutherford A. 302
«Literature of War» (1975) 302
Scholes R. 188
«The Fabulators» (1967) 188
Schulz M. 188
«Black Humor Fiction of the
Sixties» (1973) 188
Tanner T. 191, 192
«City of Words» (1971) 191, 192
Waldmeir J. 73
«American Novels of the Second
World War» (1969) 73
Weil S. 19
«Selected Writing» (1961) 19
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 3
Правда — это ложь. Артур Кестлер и Джордж Оруэлл . . . 9
Два бойца 49
Чужие среди своих 65
Коллективизация. Конформизм в послевоенной литературе
США 103
Если рупштся человек. Уильям Голдинг и Энтони Берджесс . . 133
Скромное обаяние фашизма 155
Выбор себя. Артур Миллер и Уильям Стайрон '. 169
Модернизм идет на войну 187
Похождения бравого капитана Йоссариана 201
О людях и машинах Курта Воннегута 223
Апокалипсис: до и после 246
Поражение. Вьетнамский дневник 256
Веселые военные игры 300
Подвиг разведчика. Джон Ле Kappe и шпионский роман . . . 331
О временах мирных. Террористы и идеалисты . . . 347
Указатель имен и названий 359
Сергей Борисович Белов
БОЙНЯ НОМЕР «X»
Редактор С. Н. 3 е и к и н
Художественный редактор Ф. С. Меркуров
Технические редакторы И. М. Минская, Т. В. Тужилкина
Корректор Т. В. Малышева
ИБ № 7861
Сдано в набор 07.12.90. Подписано к печати
14.08.91. Формат 84Х Ю8'/з2. Бумага офс. № 1.
Обыкновенная гарнитура. Офсетная печать. Усл.
печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 21,08. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 836. Цена 2 р. 20 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский
писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Государственного комитета
СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект
Ленина, 109