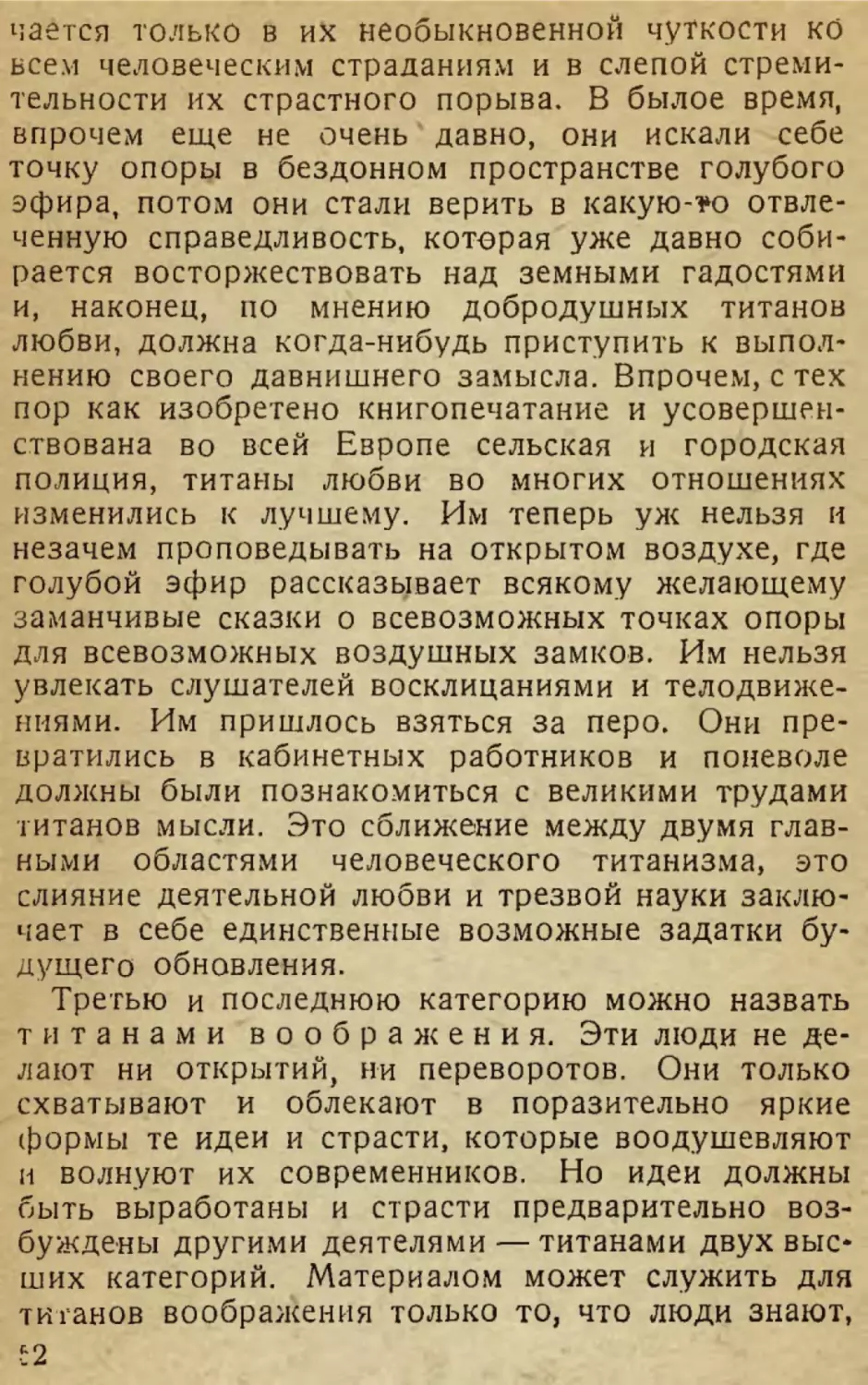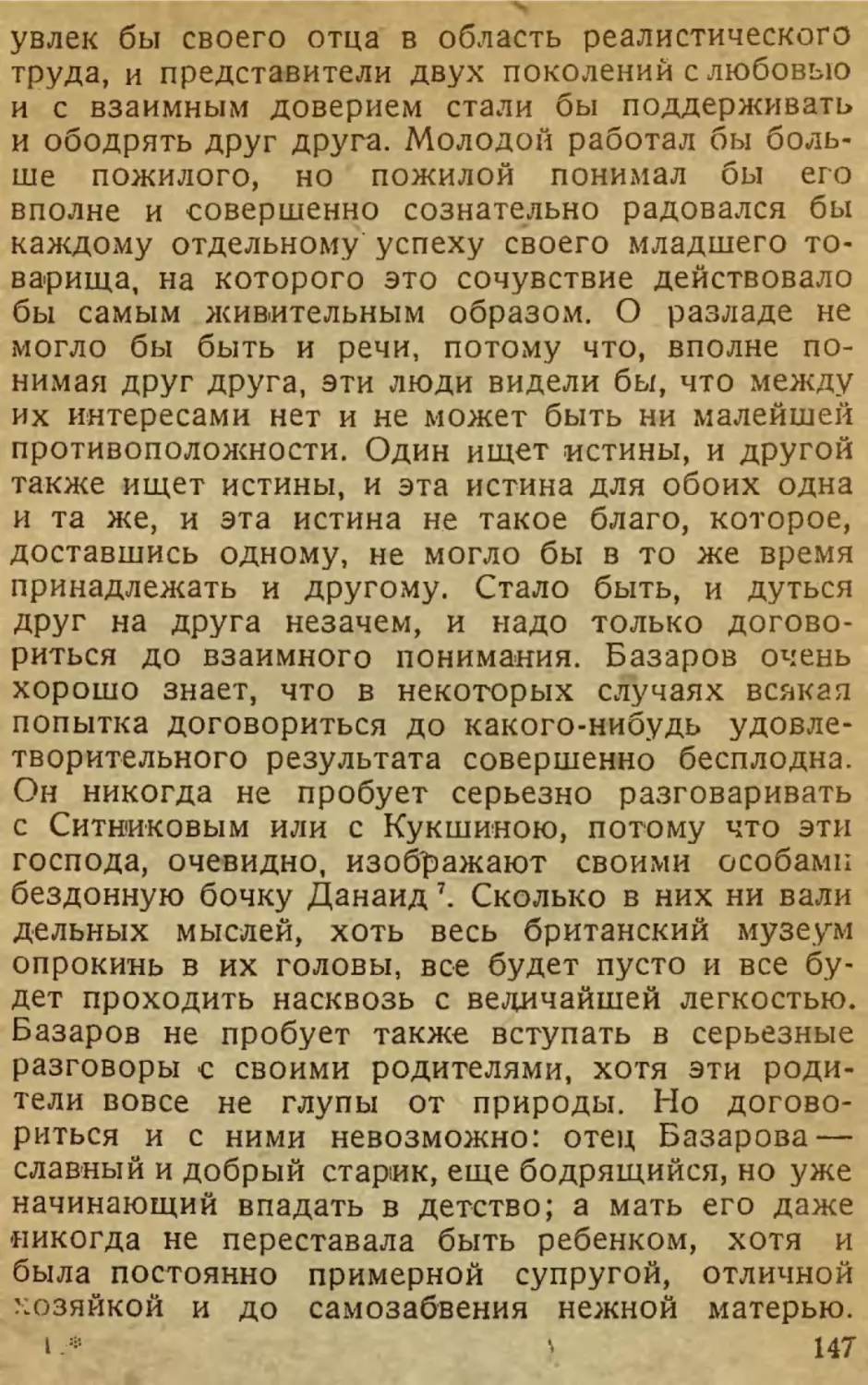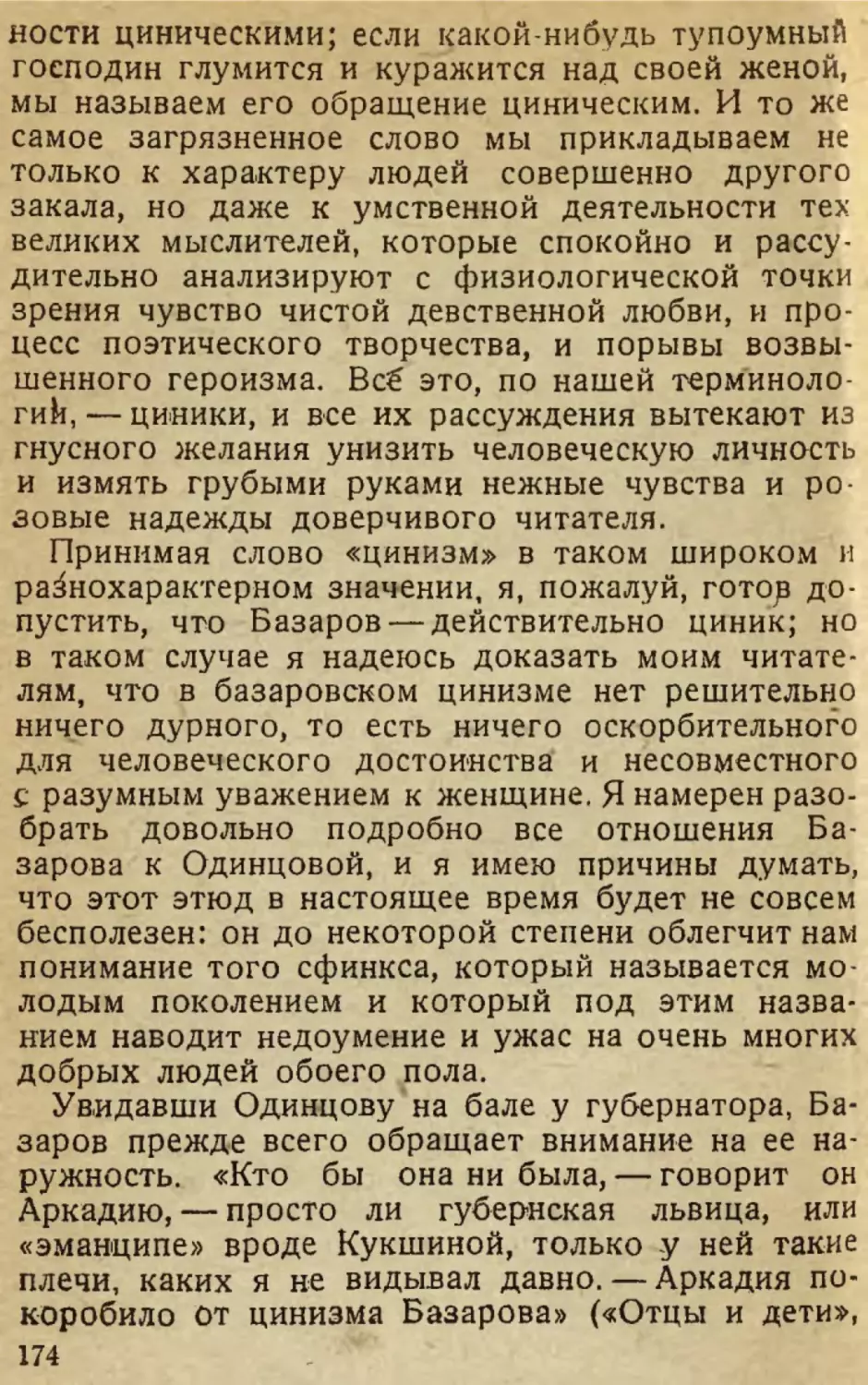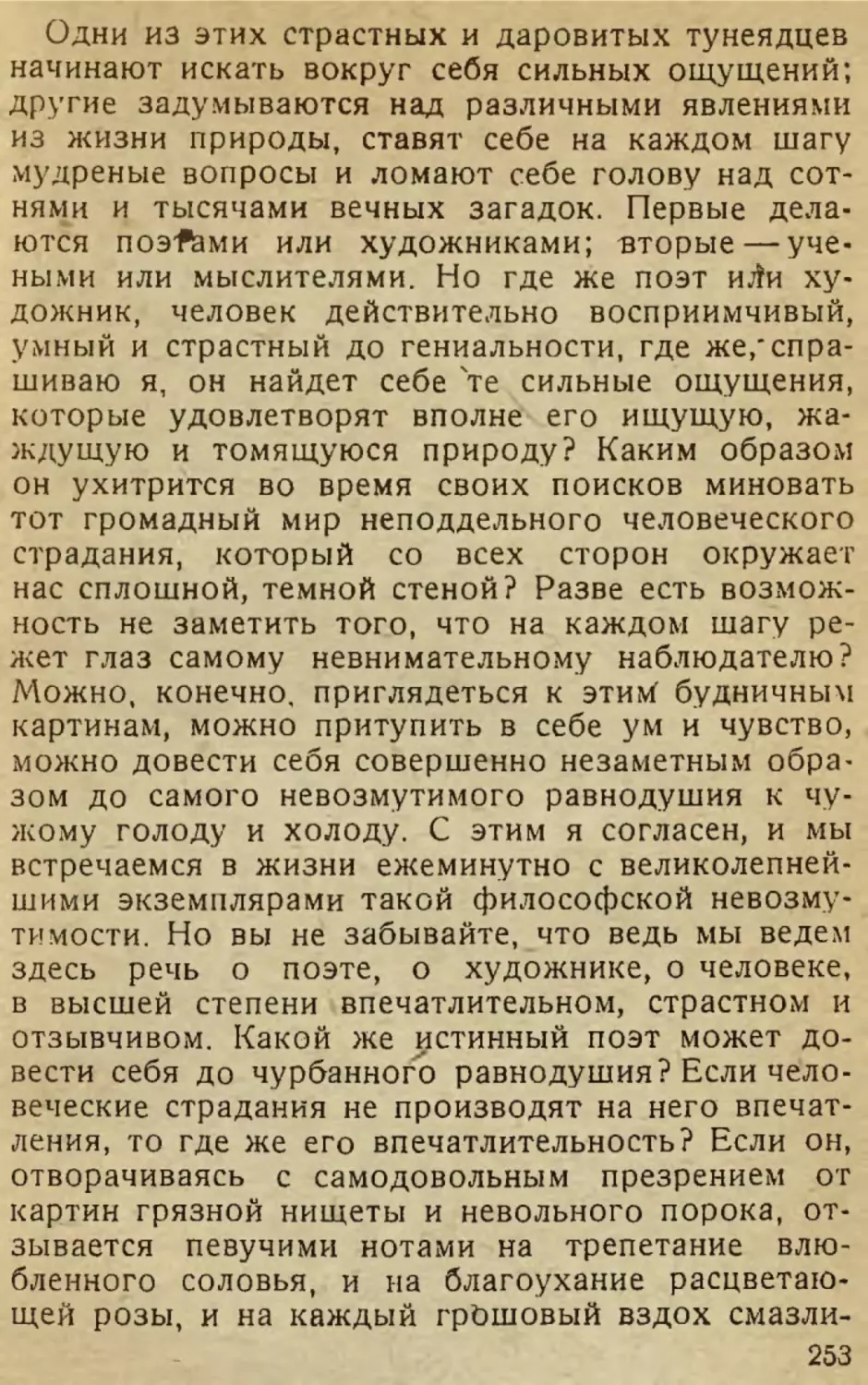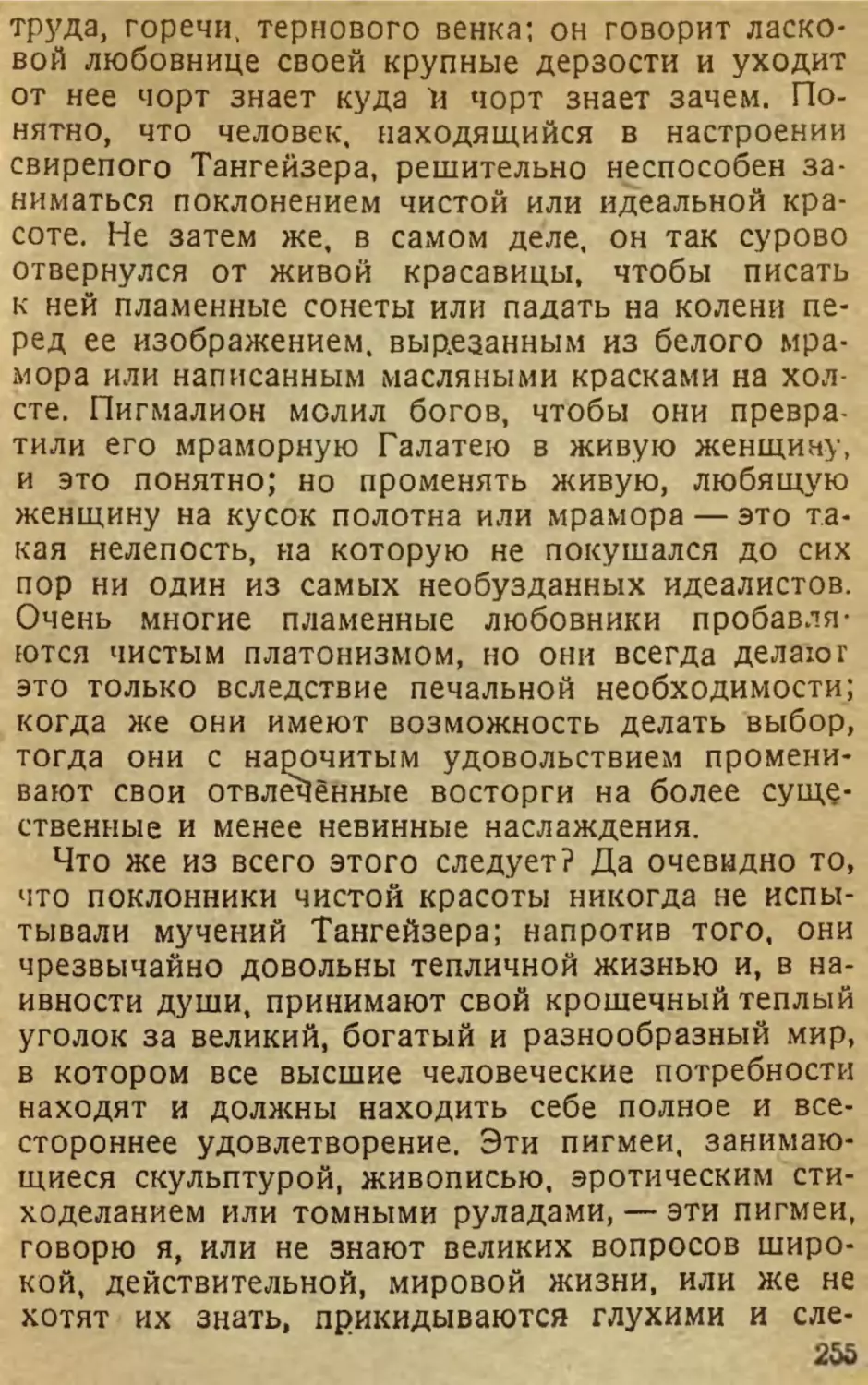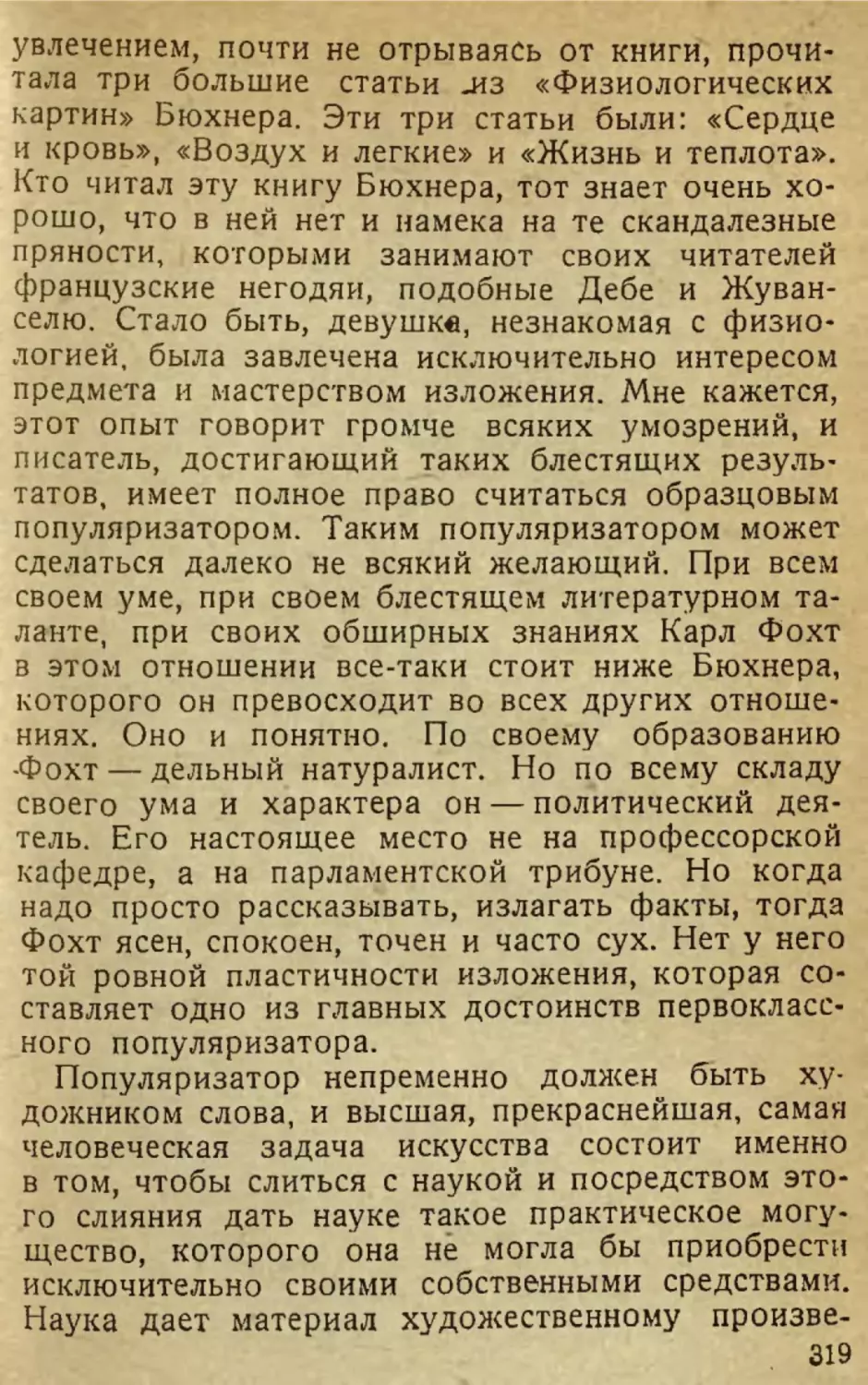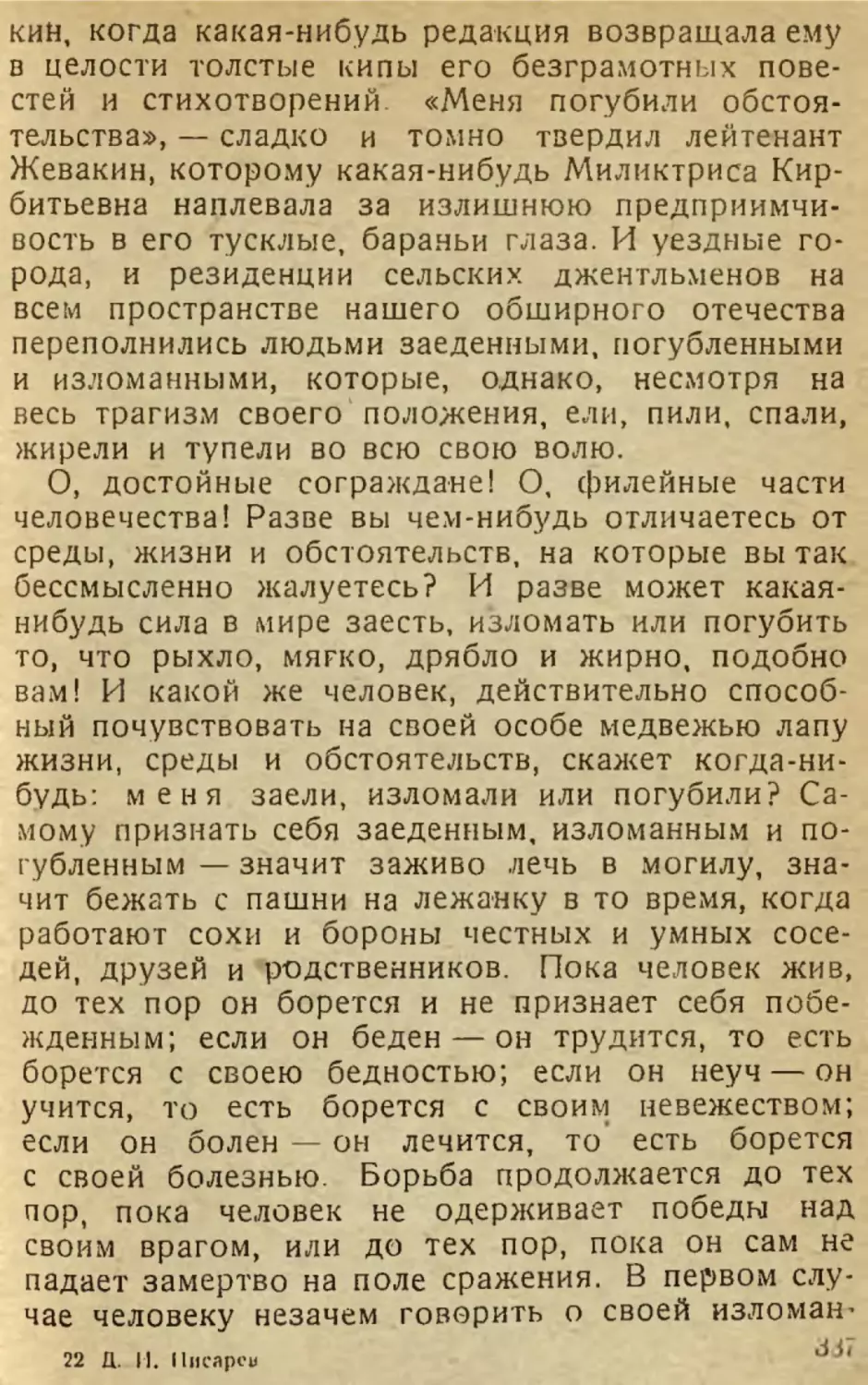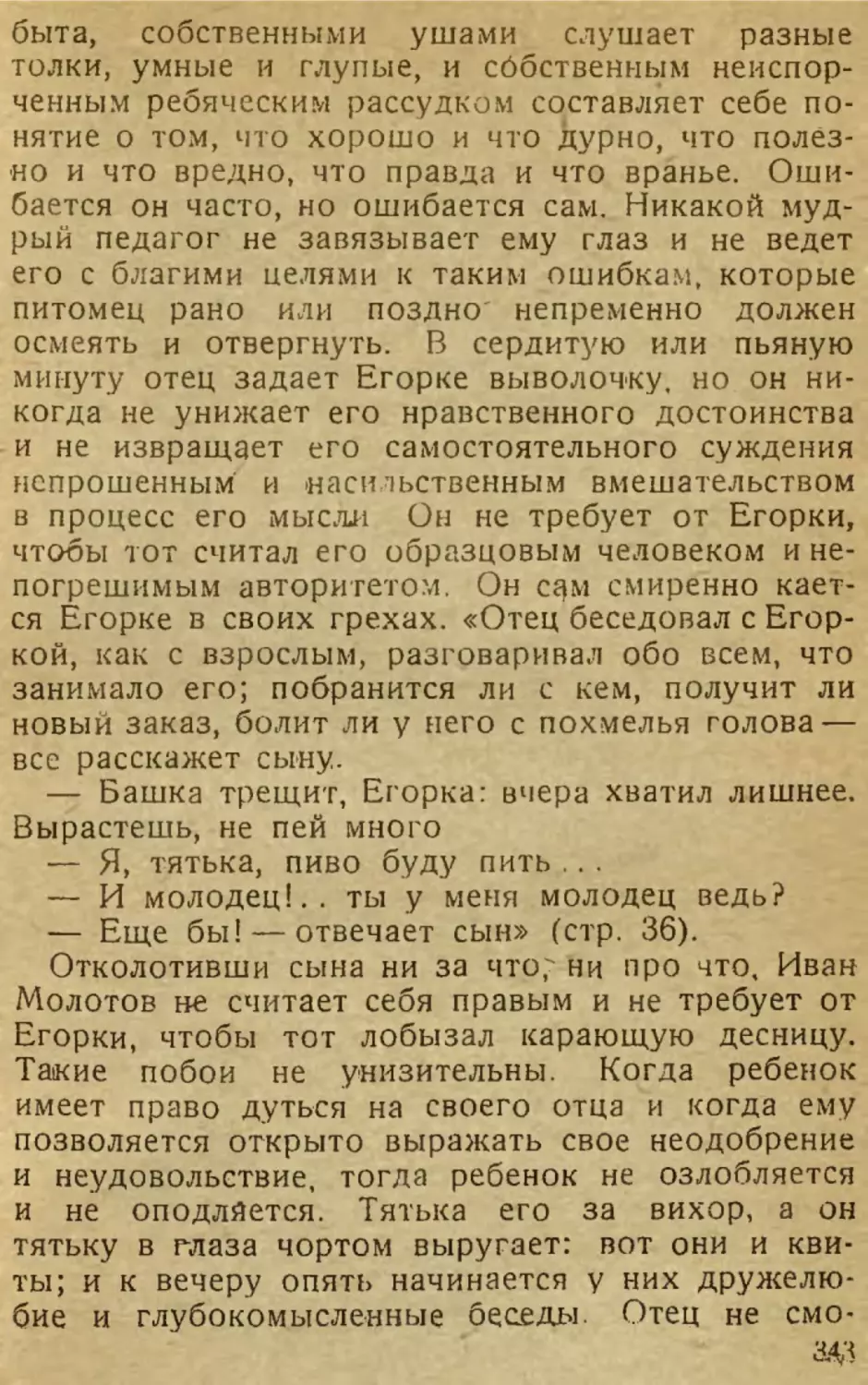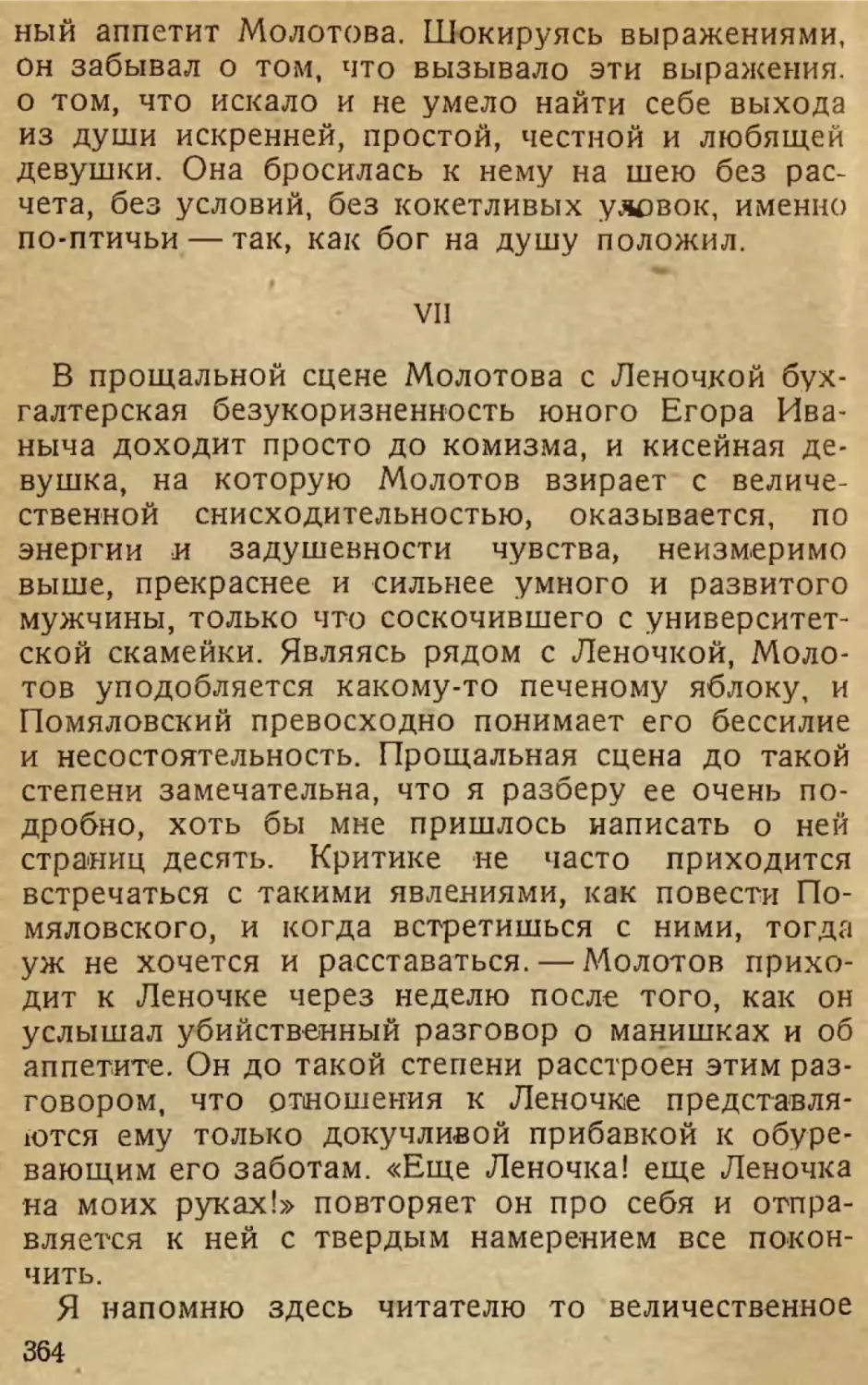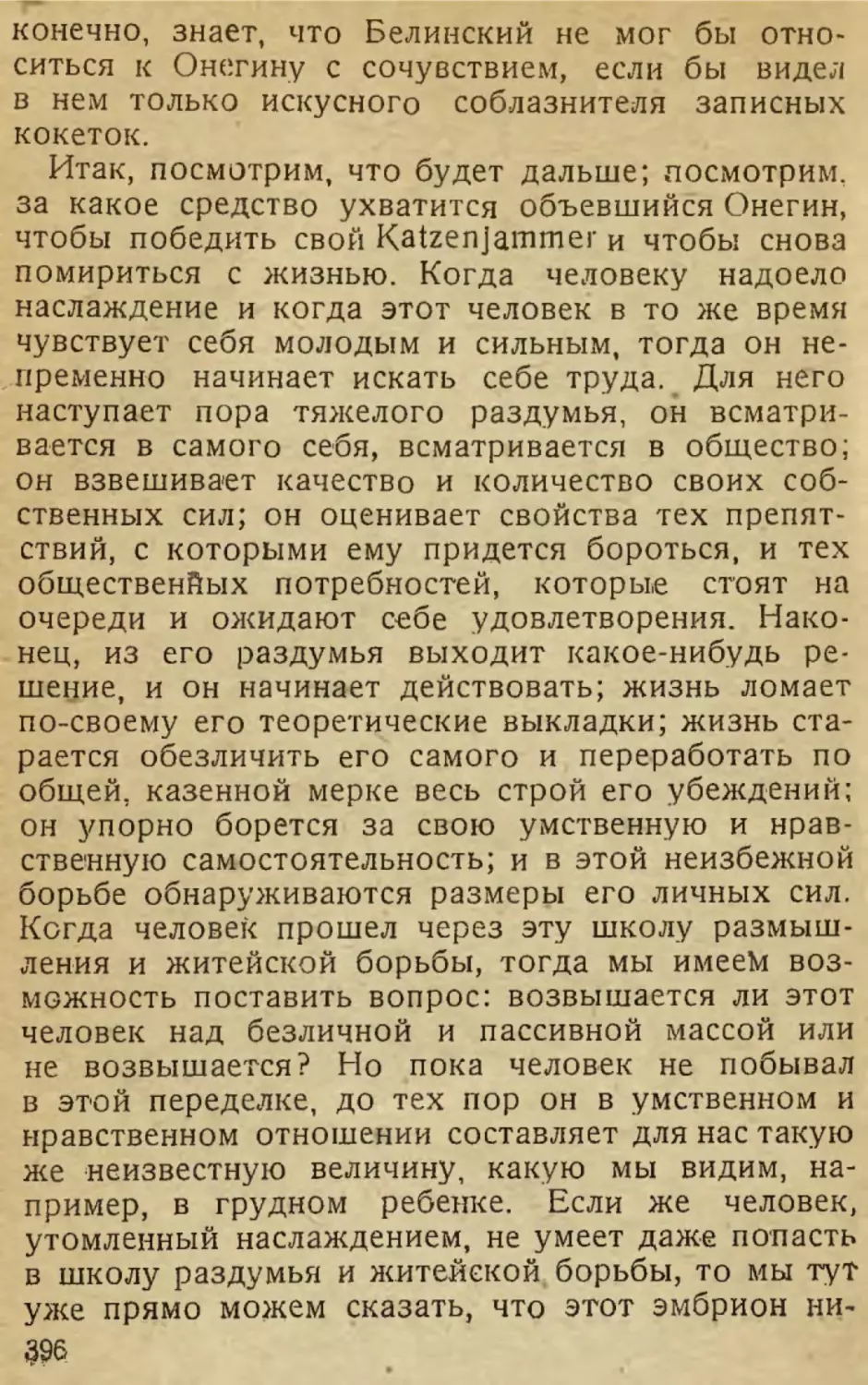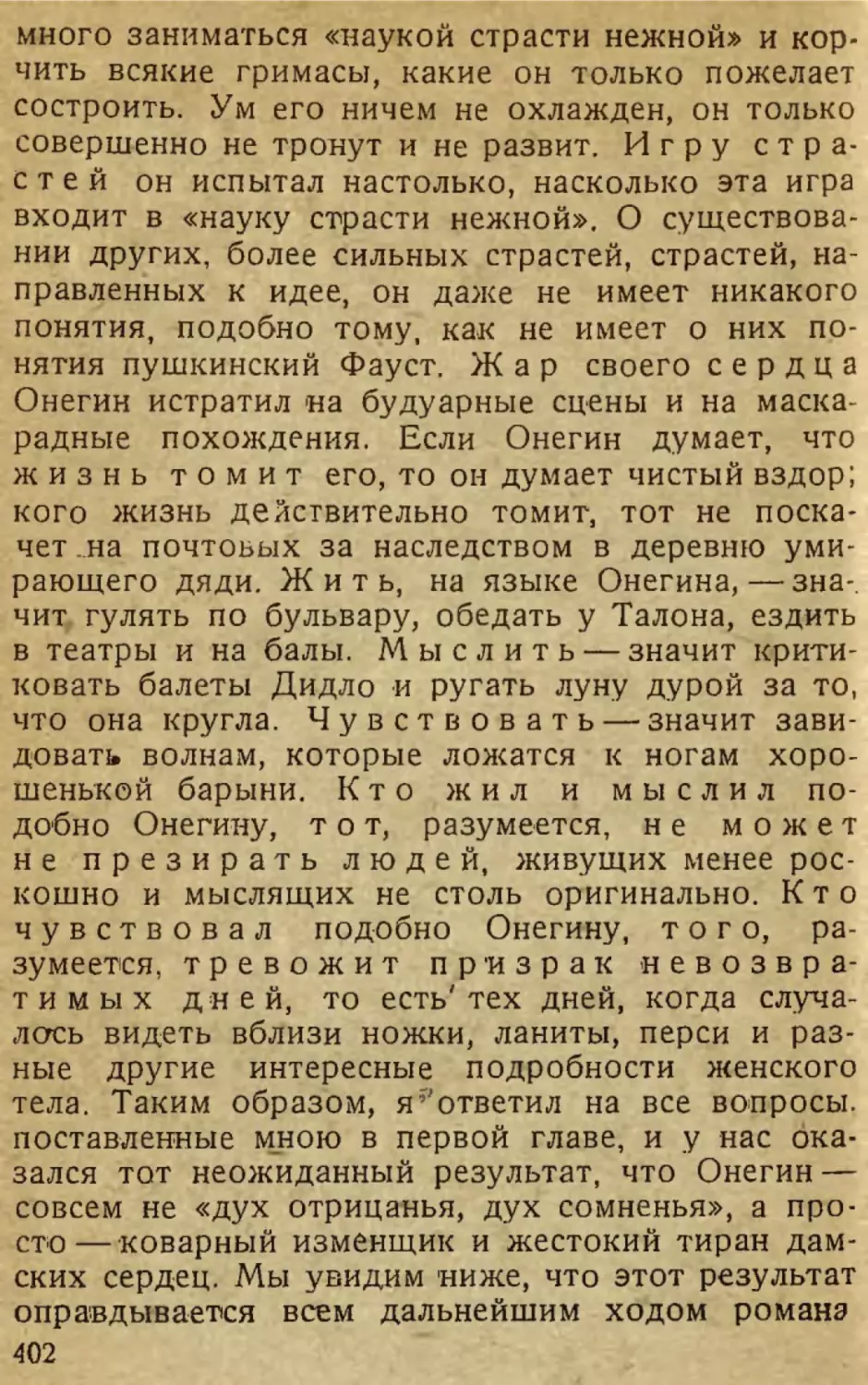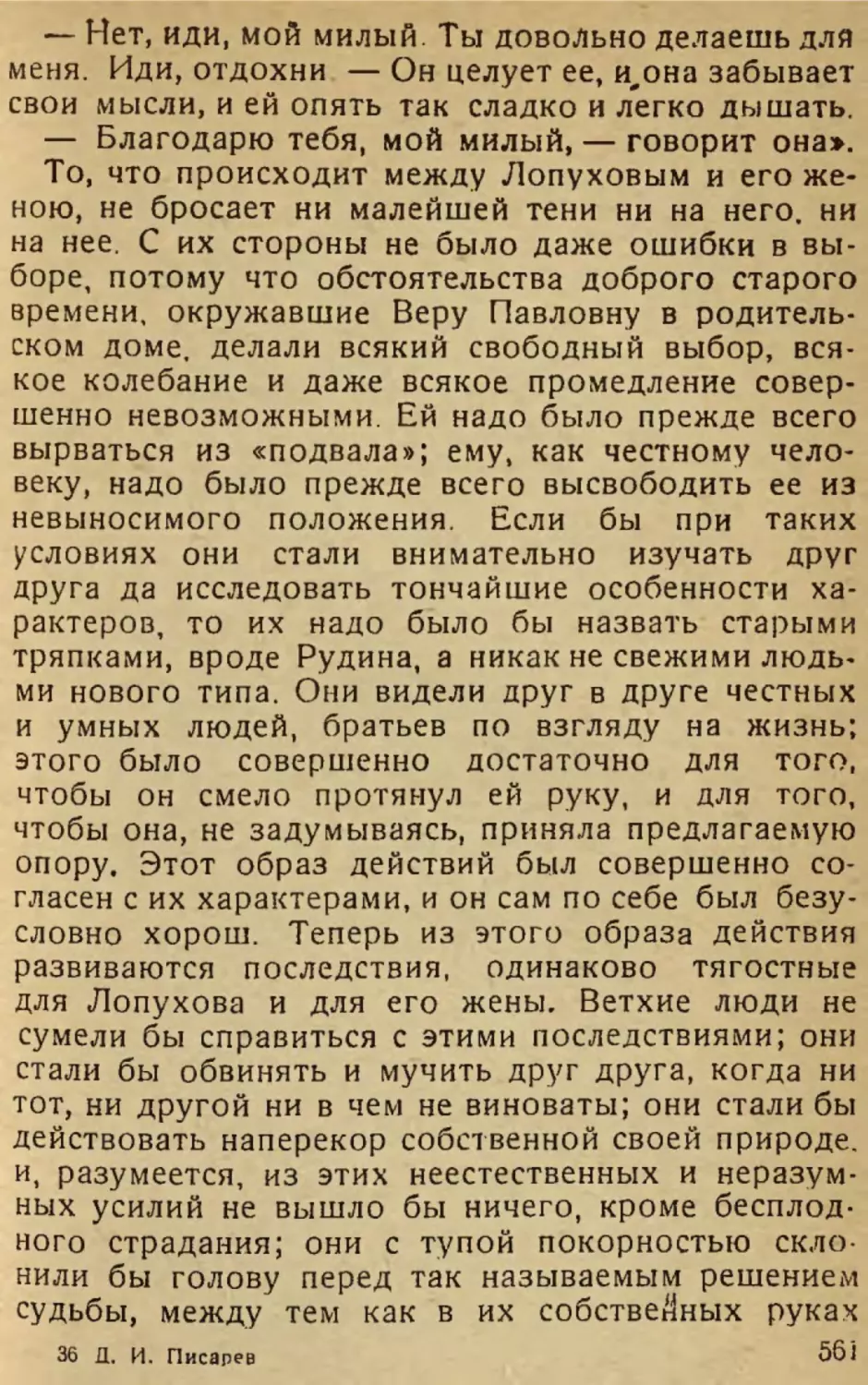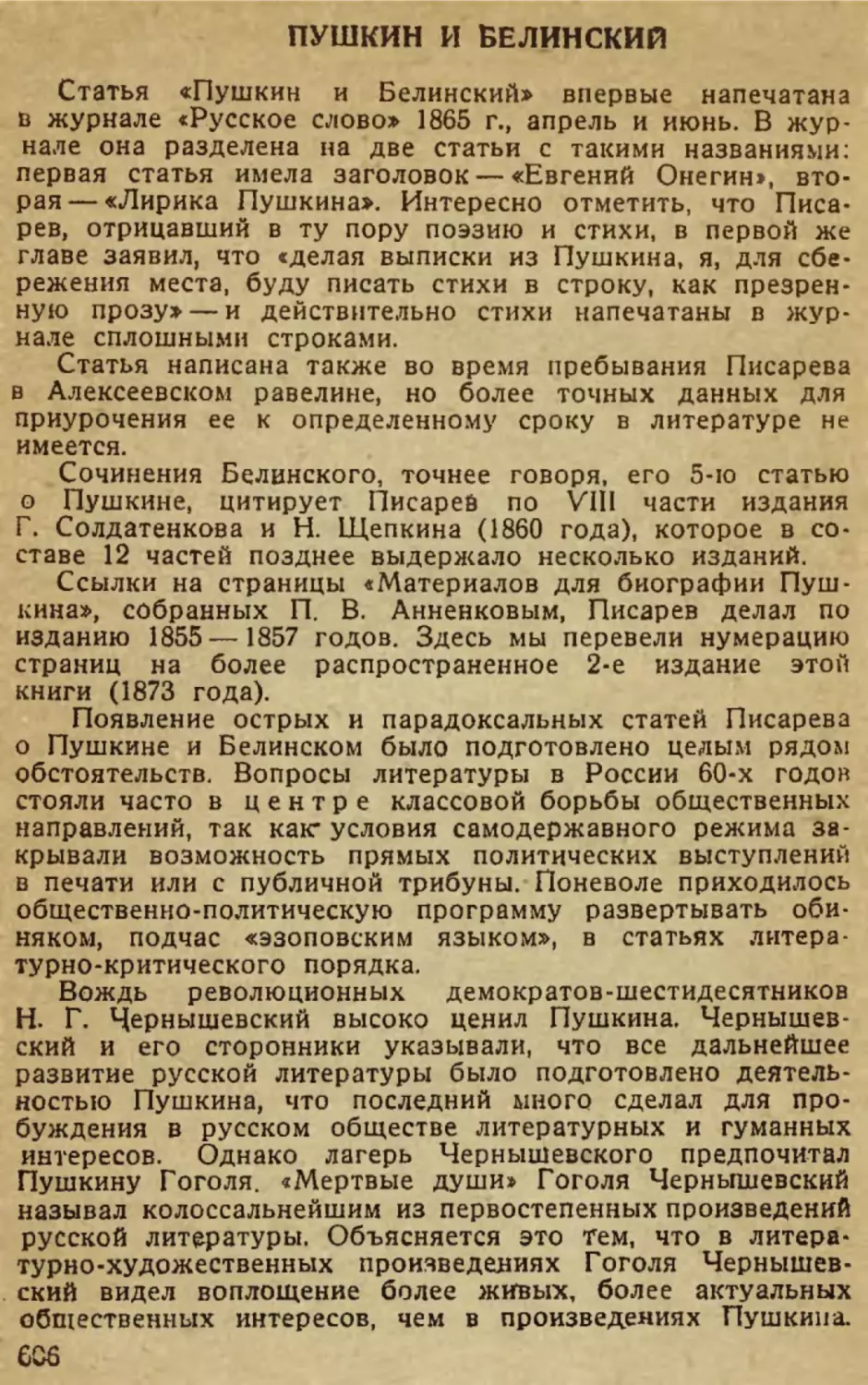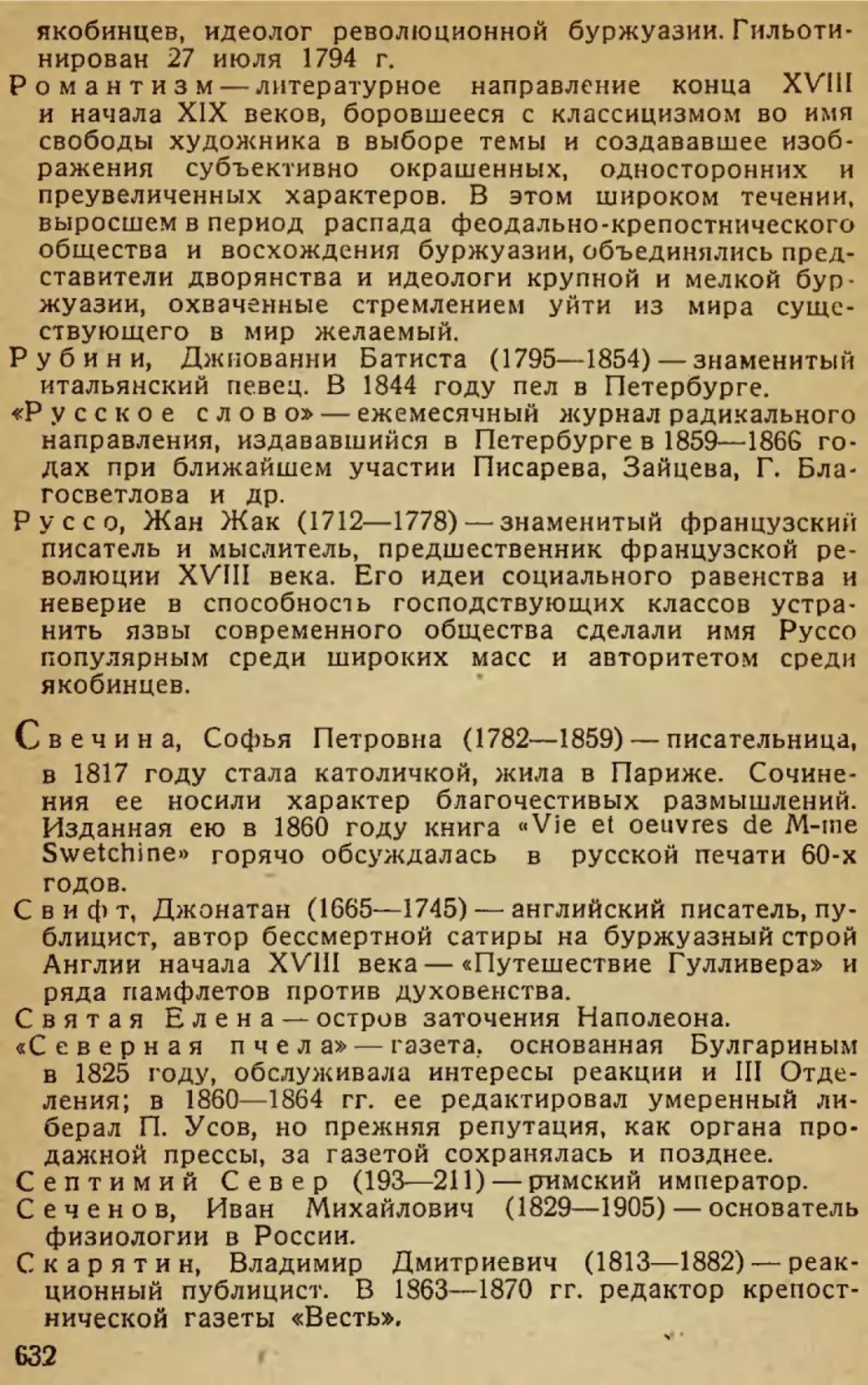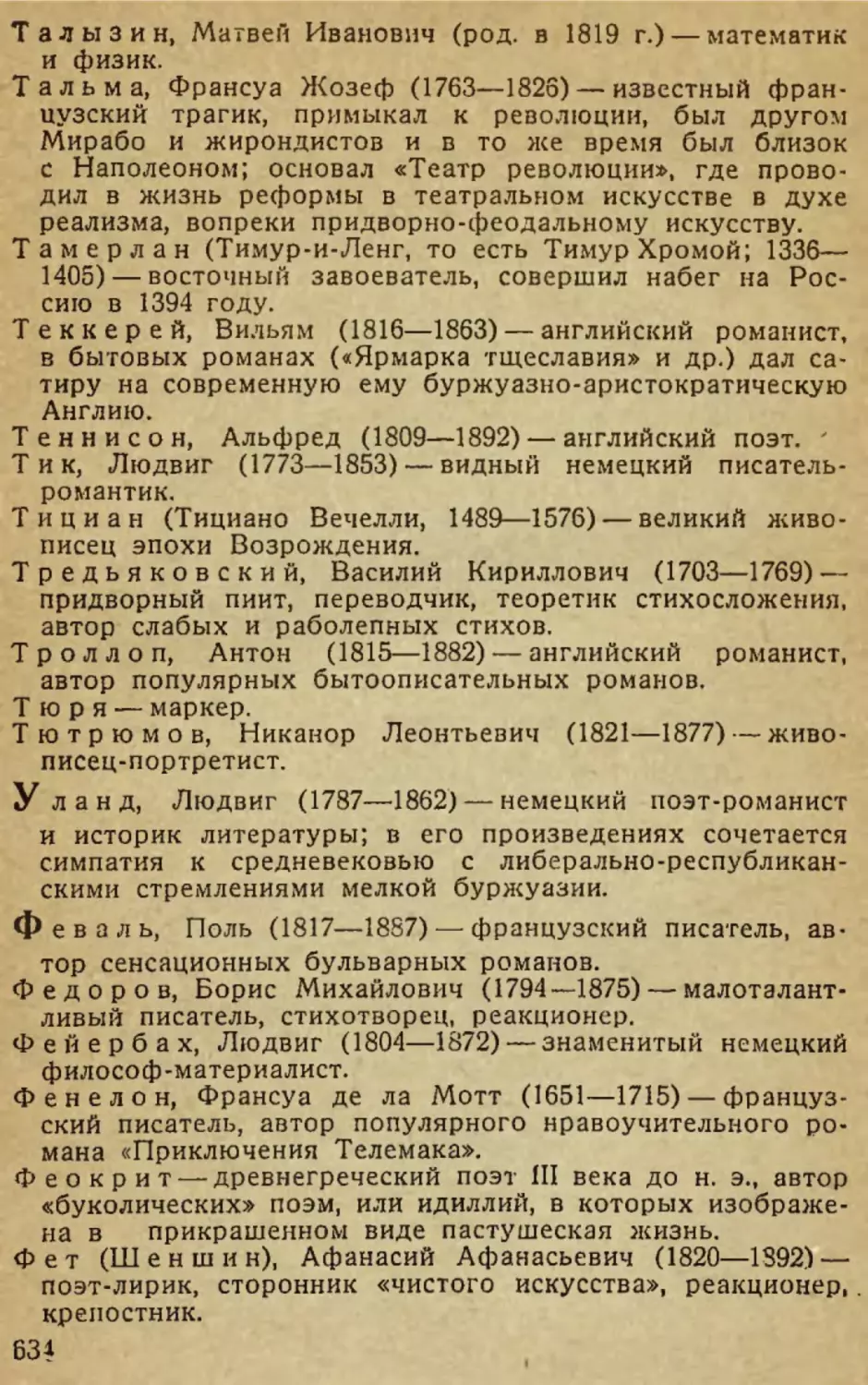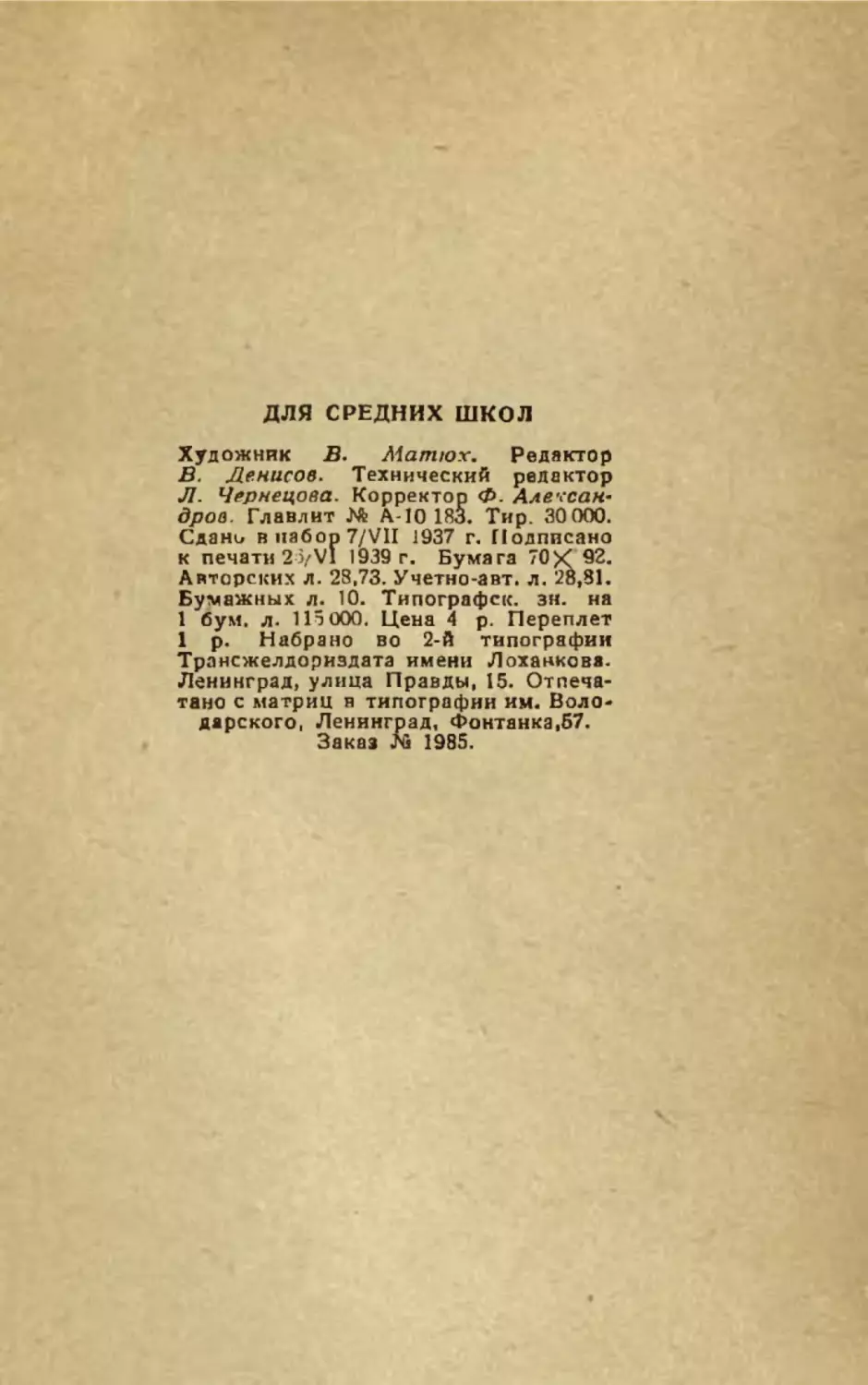Текст
vy
%
J
I ll к о л ь н а я
б и б л и о т е к а
Д. И. П И С А Р Е I)
V\
\ с.
ЛИТЕРАТУРНО»
КРИТИЧЕСКИЕ
С ТАТЬИ
(И ЗБ РА Н II ы е )
/
.
Вступительная статья
.В Я. К И РП О ТЗН !.
Редакция
Н.
БЕЛЬЧИКОВА
и В. Я. КПРПОТПН4.
ГОС.У Д А Р С Т В Е Н Н О Е
.х
ИЗД АТЕЛ ЬСТВО
;!
л
Й1 о о к к u IS39
у д о ж е с т в е н н а
а
Г
е р а т у
р
а ->
V
П —3 )
-
J
.N
2010515556
Д. И. ПИСАРЕВ
Дмитрий Иванович Писарев родился в 1840 году, в Ор
ловской губернии, в помещичьей семье. Учился Писарев
в Петербурге, сначала в гимназии, а с 1856 года в уни
верситете. В 1858 году Писарев начат сотрудничать в жур
нале «Рассвет)'. Из «Рассвета» он перешел в «Русское
слово», которое превратил своим сотрудничеством в один
из влиятельнейших журналов 60-х годов. В 1862 году
Писарев написал для нелегальной типографии Баллода
статью против Шедо-Ферроти, наемного правительствен
ного писаки, в которой призывал к революции и низвер
жению Романовых. За статью эту он поплатился четырьмя
. с половиной годами заключения в Петропавловской кре
пости. В крепости Писарев получил разрешение на про
должение своей литературной деятельности. Расцвет ее и
относится ко времени его заключения в крепости. В конце
1865 года Писарев был выпущен на свободу. Не поладив
с редактором и издателем «Русского слова» Г. Благосветловьгм, Писарев перешел, по приглашению Некрасова,
в редактируемые последним «Отечественные записки».
В 1868 году Писарев утонул в Дуббельне, курорте на
Балтийском побережье.
Писарев — шестидесятник. 60-е годы — одно из самых
важных десятилетий в истории России X IX века. П ора
жение России в Крымской войне сделало очевидной для
всех неудовлетворительность старого крепостнического
режима. Крепостнический режим и самодержавие вступили
в полосу кризиса. Само правительство вынуждено было
признать это, начав так называемые реформы 60-х годов,
весь смысл которых, однако, сводился к тому, чтобы не
большими подачками, по возможности чисто-внешними из
менениями в старых отношениях успокоить крестьянство и
пришедшее в движение общественное мнение, откупиться
от грозящей революции, сохранив и в новых условиях неI*
'
3
тронутыми самодержавие и привилегированное положение
дворянства.
60-е годы не разрешили вопроса о ликвидации крепост
ничества в России. Но они наметили два пути, два спо
соба ликвидации крепостного режима: «прусский» и «аме
риканский». Шестидесятники-либералы стояли за «прус
ский» путь развития. Они были за соглашение с монар
хией и дворянством, за медленное, постепенное приспо
собление старого порядка к нуждам развивающегося ка
питализма в интересах крупной буржуазии. Партия Чер
нышевского боролась за «американский» путь развития
российского народного хозяйства. Она была за револю
ционное уничтожение крепостного строя в интересах кре^
сгьянства.
Оценивая позиции, занимаемые в 60-е годы либералами,
с одной стороны, и Чернышевским — с другой, Ленин
в статье, посвященной 50-летию реформы 19 февраля
1861 года («Крестьянская реформа» и пролетарско-кре
стьянская революция»), писал:
«Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь
раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либе
рально-народническими историками, была борьбой внутри
господствующих классов, большей частью внутри помещи
ков, борьбой исключительно из-за меры и формы уст упок.
Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве
признания собственности и власти помещиков, осуждая
с негодованием всякие революционные мысли об уничт о
жении этой собственности, о полном свержении этой власти.
«Эти революционные мысли не могли не бродить в го
ловах крепостных крестьян. И если века рабства на
столько забили и притупили крестьянские массы, что они
были неспособны во время реформы ни на что, кроме
раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бун
тов», не освещенных никаким политическим сознанием, то
были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на
стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убо
жество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее кре
постнический характер. Во главе этих, крайне немногочис
ленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский.. .
«В революции 1905 года те две тенденции, которые
в 61-м году только наметились в жизни, только-только
обрисовались в литературе раззились, выросли, __ нашли
себе выражение в движении масс, в борьбе партии на са
мых различных поприщах, в печати, на митингах, в со
юзах, в стачках в восстании, в I осударственных Думах».
i Ленин,
4
Сочинения, т. X V , изд. 3-е, стр. 143, 145.
В дальнейшем изложении нам и предстоит спре*
делить место Писарева в борьбе классов и партий
в 60-е годы.
Одной из самых центральных, одной из самых распро
страненных идей 60-х годов была идея личности. И Пи
сарев считал лучшим средством освобождения от нико
лаевской рутины, от крепостнических традиций пробужде
ние личности, осознание человеком своей индивидуально
сти, развитие в нем чувства личной независимости, одним
словом — стремление к эмансипации личности. Поэтому-то
он неустанно проповедывал:
«Литература во всех своих видоизменениях должна
бить в одну точку: она должна всеми силами эмансипи
ровать человеческую личность от тех разнообразных стес
нений, которые налагают на нее робость собственной
мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремле
ние к общему идеалу и весь тот отживший хлам, кото
рый мешает живому человеку свободно дышать и разви
ваться во все стороньр».
Писарев находился под воздействием возникавшего
в России капитализма, он наблюдал первые его шаги. Он
видел, как «открылись поезды по Московской железной
дороге, как открылось пароходство на Волге, как воз
никло множество акционерных компаний», он видел оску
дение старых дворянских родов, он наблюдал первую за
вязь новой экономической структуры. Возникновение же
капитализма всегда сопровождается пробуждением само
сознания личности, ростом индивидуализма. В феодальном,
в крепостническом обществе жизнь складывается на иерар
хии, на традиции, на беспрекословном подчинении автори
тету. Развитие капитализма приводит к приобретению
фактической — экономической — независимости для лиц но
вого буржуазного класса, первоначально еще подчиненных
высшим и знатным из феодальной иерархии. Потребности
технического прогресса призывают к жизни науку, опятьтаки приходящую в столкновение с традиционным преда
нием, с церковной ортодоксией. Новый буржуазный че
ловек, в своем прогрессивном развитии, видит себя в та
ком положении, что и право и Библия направлены про
тив него. Ни на традицию ни на авторитет он не может
опереться. Он может утвердить свое право на существова
ние, лишь ломая традицию и авторитет и все путы, свя
зывающие его достоинство, низводящие его до положе
ния покорного и бессловесного животного. Он взывает,
В противовес богу и церкви, к своему собственному ра-
зуму, апеллирует к своим естественным правам, высту
пает как индивидуальность.
Правда, капитализм не в силах разрешить проблему
личности. Он предоставляет свободу личности лишь капиталисту-эксплоататору, освобождая его От политиче
ского, экономического и идеологического порабощения со
стороны феодалов. Пролетарий же для капиталиста не
является самострятельной личностью, он для него лишь
средство к обогащению.
Лишь социалистическое общество в состоянии удовле
творительно разрешить проблему личности.
Несмотря на то, что процесс эмансипации буржуазной
личности в самом начале таит в себе реакционный и эксплоататорский элемент, он является прогрессивным и ре
волюционным, когда он направлен против социально-поли
тических и бытовых скреп феодального общества. Эта
сторона, прогрессивная и революционная, была очень ярко
выражена в писаревской проповеди эмансипации личности.
Конечно, и у Писарева мы найдем достаточно ясно выра
женный зародыш последующей отрицательной стороны
буржуазного индивидуализма. Задачу эмансипации лич
ности Писарев ставил лишь применительно к «среднему
кругу». Но центр тяжести в писаревской эмансипации лич
ности лежал вовсе не в этом. Свободная личность для
него — таран, направленный против крепостнических тра
диций, порядков, устоев. Он хочет сделать освобождение
личности рычагом общественного освобождения.
Писарев, согласно своим общефилософским воззрениям,
основывал требования эмансипации личности на утилитар
ном принципе эгоизма.
«Эгоизм, — писал Писарев, — система умственных убе
ждений, ведущая к полной эмансипации личности и уси
ливающая в человеке сам оуваж ение... Эгоист — человек
свободный в самом широком смысле этого слова».
{
Смысл проповеди безудержного эгоизма Писаревым и
состоял в том, чтобы, махнув рукой на всякие крепостни
ческие давления, воздействия, традиции, нравоучения, все
дело построить на себе самом, на своей воле, на своем
разуме, овладевшем последним словом науки.
Культ личности, возвеличение базаровского типа, про
поведь разумного эгоизма были одним из самых ярких
проявлений писаревской борьбы со старым порядком. Писаревский индивидуализм имел глубокий общественный
смысл. В нем сказывался голос нашего третьего сословия,
поднимавшегося на борьбу с крепостничеством и самодер
жавием,
б
*
¥
*
Первой статьей, обратившей внимание на Писарева,
была «Схоластика X IX века», напечатанная в «Русском
слове» в 1861 году. Несмотря на свой резкий тон, она
в политическом отношении была еще сравнительно безо
бидна. Оценивая в ней различные направления русской
публицистики, расколотые непримиримыми классовыми
противоречиями, Писарев считает их искусственными и
думает, что между всеми этими различными направлениями
возможно примирение на некоей общей платформе.
В «Схоластике X IX века», появившейся в печати уже после
акта 19 февраля, Писарев пытается убедить русскую пу
блицистику уйти от обсуждения политических вопросов и
заняться делом преобразования семейно-бытовых условий
жизни, также находившейся под гнетом крепостнических,
домостроевских начал.
В своих критических статьях, посвященных разбору про
изведений Писемского, Тургенева и Гончарова («Стоячая
вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров», «Женские
типы»), Писарев пытается приложить на практике те прин
ципы, которые он провозгласил в «Схоластике X IX века».
Однако обострение классовой борьбы, переход прави
тельства в наступление против передового лагеря, возник
новение революционного подполья и появление первых
прокламаций быстро вносят новые ноты в публицистику
Писарева Писарев зреет политически не по дням, а по
часам. «Схоластика X IX века» состояла из двух частей.
Первая из них была напечатана в мае 1861 года, а вторая—
в сентябре того же года. Уже во второй статье «Схола
стики» Писарев довольно правильно улавливает политиче
скую природу разногласий, разделявших русскую публи
цистику.
А в 1862 году Писарев уже не ведет пропаганды мораль
ного самоусовершенствования в целях реформы семейных
и вообще бытовых начал. Он пропагандирует революцию и
требует к ней серьезного отношения. Своего любимого
поэта, Гейне, он упрекает именно за несерьезное отноше
ние к революции.
«Кто смотрит на события с эстетической точки зре
ния,— пишет он в статье «Генрих Гейне», — тот не может
быть двигателем событий, так точно, как не может быть
хирургом тот ребенок, который смотрит на ланцеты как
на блестящие игрушки».
Правда, в революционности Писарева и в этот период
его деятельности замечаются следы незрелости и непосле-
7
довагельности. Но все же в 1862 году, когда политические
противоречия в России 60-х годов достигли высшей точки
обострения, Писарев в политике становится сторонником
революционных методов и пропагандирует их в своих кри
тических и публицистических статьях. С наибольшей ясно
стью это видно из статьи, предназначенной им для неле
гальной типографии Баллода.
Статья Писарева против Шедо-Ферроти была по сути
дела революционной прокламацией.
Статью эту не успели размножить и распространить.
Типография Баллода провалилась, Писарев был арестован.
Прочных связей с только что возникавшими тогда в Рос
сии революционными кругами у Писарева не могло обра
зоваться. Не успел он также пройти длительной школы ре
волюционно-политической борьбы с правительством. Рево
люция в России не произошла. Мало того, среди довольно
широких кругов раньше радикально настроенных элемен
тов общества начался весьма заметный отлив вправо, осо
бенно усилившийся после польского восстания. Начался
упадок революционных настроений и у Писарева.
'
Писарев стал искать таких средств и приемов деятель
ности, которые привели бы к осуществлению его про
граммы п о м и м о р е в о л ю ц и и . Согласно воззрениям
Писарева, исторический процесс двигают вперед мыслящие
реалисты, интеллигенция, обладающая естественнонаучным
образованием.
«Размножать мыслящих людей, — писал он, — вот альфа
и омега всякого разумного общественного развития. Стало
быть, естествознание составляет в настоящее время са
мую животрепещущую потребность нашего общества. Кто
отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит обществен
ному развитию».
Ту же мысль повторяет Писарев в самой известной
своей статье — в «Реалистах». В ней он снова объясняет,
что общественное мнение может действовать на историю
механическим путем или химическим. Механическое воз
действие есть лойяльное по отношению к цензуре наиме
нование революционного воздействия. Все свои надежды,
все свои планы на лучшее будущее Писарев связывает те
перь с химическим способом воздействия на общественное
мнение, то есть с мирной и медленной пропагандой есте
ственных наук и мирной культурной работой, не прихо
дящей в столкновение с существующими законами, ибо
« . . . весь ход исторических событий всегда и везде опре
делялся до сих пор количеством и качеством умственных
сил, заключающихся в t e x классах общества, которые не
задавлены нищетой и физическим трудом».
Отказ от революционной тактики, чем бы он ни объ
яснялся, неизбежно толкал Писарева к оппортунистической
тактике малых дел. В «Схоластике» Писарев звал от по
литики к культурничеству, к малым делам, к реформиро
ванию семейно-бытовых отношений. Теперь Писарев снова
зовет к малым делам, к тактике, не приходящей в столкно
вение с кодексом царских законов. Отказ от революции,
уход на путь малых дел ведет Писарева вновь к пропо
веди культурничества, правда, уже не в рамках семейно
бытовых, а на хозяйственном поприще.
«В наше время, — пишет он, — когда промышленная
деятельность стоит на первом плане и пользуется всеоб
щим уважением, мысль всегда может найти себе полезное
приложение, и нация, при самых невыгодных условиях, во
всяком случае может сосредоточивать свое внимание на
сельском хозяйстве, на механике, на технологии, может
развивать свои фабрики, совершенствовать породы рога
того скота, придумывать новые земледельческие орудия,
акклиматизировать новые виды животных и растений, изоб
ретать новые краски, новые ткани, новые химические
процессы».
.
Тактическая линия Писарева, как она вырисовывается
из его публицистических работ, представляет собой дуго
образную кривую. Ее низшая точка в «нигилистическом»
периоде деятельности Писарева лежит в первой статье
«Схоластики», вершины своей она достигает в статье
о. Шедо-Ферроти, откуда она вновь идет вниз, спускаясь
к статье «Борьба за жизнь», представляющей собой раз
бор романа Достоевского «Преступление и наказание»,
к сомнению даже, в самой возможности морального оправ
дания насильственных революционных средств борьбы.
В своих тактических колебаниях Писарев отражал мас
совые политические процессы, совершавшиеся, в среде раз
ночинной интеллигенции, в радикальном крыле мелкой бур
жуазии России 60-х годов. Пока общественное движение
шло на подъем, пока прогрессивный лагерь ширился
в своем количестве, пока в его левом крыле крепла уве
ренность в возможности революционного переворота, Пи
сарев, чрезвычайно восприимчивый по отношению к окру
жающим общественным настроениям, шел влево. Когда
в 1862 году вопрос был поставлен: или — или, или злая
реакция — или попытка переворота, с помощью массового
восстания крестьянства, руководимого «молодым поколе
нием», Писарев и идейно и организационно стал на сто
рону революционной партии. После же 1862 года начался
обратный процесс, начался отлив общественной волны
вправо. Многие прогрессисты и радикаты, даже из вожа-
а
ков, или ушли вправо, или трусливо погрузились в обыва
тельщину. «Чем сильнее радикальничали они десять лет
тому назад, тем сильнее трепетали они теперь», — пишет
наблюдавший эту перемену Петр Кропоткин.
Писарев не видел сил, с которыми мог бы связать идеи
революции. Не желая вовсе отказаться от радикальных
освободительных идей, он попытался связать их судьбу
с судьбой естествознания в России. Писарев тем более
оказался чрезвычайно восприимчивым к колебаниям своей
социальной среды, что он действовал одиночкой, не имея
политической группы вокруг себя и прочных политических
связей и традиций. «Я стою один», — писал он в одном
письме к Тургеневу.
Такая позиция очень невыгодна, она дает наименьшую
гарантию прочности и выработанности убеждений. Связь
с традициями революционной борьбы, долгая совместная
работа с партией, — оформленной до конца или нет,—
дает, при прочих равных условиях, наибольшую гарантию
последовательности убеждений, их прочности, их прин
ципиальной незыблемости при всех изменениях историче
ской обстановки. Писарев не имел этой связи. Вполне
естественно, что на него обстановка спада общественной
волны оказывала почти непреоборимое психологическое и
идейное влияние.
*
*
*
Отношение Писарева к социализму находилось в тес
ной зависимости от его политических симпатий. Как по
отношению к революции, так и по отношению к социа
лизму Писарев прошел целый ряд колебаний, причем ве
дущая роль в этих колебаниях принадлежала его такти
ческим воззрениям, а кривая его колебаний по отношению
к социализму описывала линию, почти параллельную его
колебаниям в области политики.
В начальный период публицистической деятельности Пи
сареву не приходят в голову никакие сомнения насчет
священности прав частной собственности. В своей диссер
тации об Аполлонии Тианском он называет «утопии ком
мунизма» несбыточными и оскорбительными дтя личности.
Однако по мере общего полевения Писарева видоизме
няется постепенно и его отношение к социализму. Он за
думывается над идеями великих утопистов. Он берет их
под защиту от нападок со стороны либералов. Правда,
пока он еще не разделяет учений утопистов в полном
объеме.
.
Но изучение систем утопического социализма при все
нарастающем радикализме всех остальных воззрений ве10
дет Писарева к тому, что он уже не выпускает из поля
своего -внимания вопросов социального порядка. Постояи
ное фиксирование внимания на вопросе о положении низ
ших и обездоленных слоев общества заставляет наконец
Писарева безоговорочно признать социалистические уче
ния не только со стороны их критического содержания,
но и со стороны их положительных доктрин. Писарев
в своих критических и публицистических статьях провоз
глашает борьбу с капитализмом как с несовершенным и
несправедливым общественным порядком. Любимый %оэт
Писарева, Гейне, окрестил социалистов кличкой «новых
пуритан». Гейне боялся, что эти новые пуритане во имя
«пепельно-серого костюма равенства» пойдут походом
на таланты, искусство и вообще на все достижения чело
веческой культуры, выходящие за пределы грубо-мате
риальных интересов. Писарев берет социализм под свою
защиту; полемизируя с Гейне, он объясняет возможность
и выгоды социалистического равенства, которое надо по
нимать не в физиологическом, не в абсолютном смысле, а
в смысле экономическом.
Разочарование в революции на первых порах укрепило
и усилило социалистические черты миросозерцания Писа
рева, но придало им особый оттенок. Разуверившись в ре
волюции и отказавшись от революционной борьбы как
непосредственной перспективы, построив план переустрой
ства общества путем пропаганды естествознания и куль
турнической работой, Писарев в этот период своего разви
т и я стал вообще считать, что политика не имеет суще
ственного значения в жизни народов. «Политические права
существуют и имеют значение только для людей состоя
тельных». Народ интересуется лишь вопросами мате
риального благополучия. Труд является источником бо
гатства. Богатство, созданное трудом, является единствен
ным средством против бедности, страданий и пороков.
«Не богадельня, а мастерская может и должна обновить
человечество . . . Целесообразная организация труда может
и должна привести за собой счастье человечества». А раз
так, — стал рассуждать Писарев, — то политическая борьба,
1собственно говоря, становится излишней, не достигающей
цели. Мыслящему реалисту остается лишь как можно силь
нее стремиться к правильной организации труда, к пропа
ганде социалистических идей, к работе для претворения
их в жизнь. Именно в этот период своей деятельности Пи
сарев пишет свою единственную политико-экономическую
статью — «Очерки по истории труда» («Зарождение куль
туры»). Социалистическая окраска этой статьи настолько
сильна, что r последующих изданиях пришлось из цензур
>
И
ных соображений переменить в ней заглавие и сделать
в ней большое количество купюр. В «Очерках» Писарев
на время сходит даже с позиции безоговорочного призна
ния благодетельности прикладного естествознания. При
несправедливом общественном строе и приложение есте
ствознания к технике идет на пользу лишь господствую
щим классам. При капитализме естествознание служит ка
питалистам.
<£!ыход из этого ненормального положения состоит
лишь в свержении господства капитала. Писарев и делает
этот вывод: «...теперь всеми сделанными открытиями
пользуется ничтожное меньшинство, но только очень бли
зорукие мыслители могут воображать себе, что так будет
всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал;
упадет когда-нибудь и тираническое гос
п о д с т в о капитала».
Социалистический характер приведенных нами выска
зываний Писарева не вызывает никаких сомнений. Правда,
социализм Писарева был даже в этом периоде его разви
тия социализмом незрелым, незрелым не только по срав
нению с марксизмом, но даже по сравнению с социализмом
его старшего современника, Чернышевского. Но нас сей
час интересуют воззрения Писарева не с этой стороны.
Для нас важно, что в 1862 году Писарев выступает со
статьями явно социалистического характера.
Писарев, однако, на этой своей позиции не удержался.
У него возникают раздумье и колебание по отношению
к социализму. В статье, посвященной разбору романа Чер
нышевского «Что делать?», произведения ярко соцалистического, Писарев избегает затрагивать эту сторону ро
мана. Это не случайно. Писарев к тому времени (1863 год)
переставал уже быть социалистом. Отрицательные стороны
капитализма кажутся теперь Писареву не связанными с са
мим существом капитализма, а результатом неведения, не
знания. Если дать классу капиталистов' правильное есте
ственнонаучное образование, то тогда все его действия
пойдут на благо не только капиталистам, но и всему на
роду:
« .. .тогда, — дишет Писарев, — молодой землевладелец
поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда мо
лодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необ
ходимы, и устроит их так, как того требуют общие ин
тересы хозяина и работников, и этого довольно: хорошая
ферма и хорошая фабрика при рациональной организации
труда составляют лучшую и единственную возможную
школу для народа, во-первых, потому, что эта школа кор.
мит своих учеников и учителей, а во-вторых, потому, что
она сообщает знание не по книге, а по явлениям живо?
действительности. Книга дридст в свое время, устроить
школы при фабриках и при" фермах будет так легко, что
это уже сделается само собой».
Перестав быть социалистом, Писарев начинает считать
социальное неравенство таким же прирожденным состоя
нием, как и неравенство физиологическое. Будучи социа
листом, Писарев верил, что господство капитала так же
осуждено на гибель, как господство феодальной знати.
Перестав быть социалистом, он считает господство капи
тала над трудом вечным и неизменным состоянием чело
веческой истории. Коррективы в капиталистический строй
могут быть внесены только знанием, — полагает теперь
Писарев. На новом этапе своего развития он становится на
точку зрения гармонии классовых интересов образованных
капиталистов и рабочих. Вот почему Писарев и смог напи
сать в своих знаменитых «Реалистах»:
«Переворотов в истории было очень Много; падали и
политические и религиозные формы; но господство капи
тала над трудом вышло из всех переворотов в полнейшей
неприкосновенности.. . Поэтому возмущаться против того
факта, что образованные и достаточные классы преобла
дают над трудящейся массой, значило бы стучаться голо
вой в несокрушимую и непоколебимую стену естествен
ного закона.. . Значит, при встрече с таким неотразимым
проявлением естественного закон,а надо не возмущаться
против него, а, напротив того, действовать так, чтобы этот
неизбежный факт обратился на пользу самого народа.
У капиталиста есть ум и богатство. Эти два преимуще
ства упрочивают за ним господство над трудом. Но гос
подство это, смотря по обстоятельствам, может быть
вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому
капиталисту кое-какое смутное полуобразование, он сде
лается пиявкой. А дайте ему полное, прочное, чисто-чело
веческое образование, — и тот же самый капиталист сде
лается не благодетельным филантропом, а мыслящим и
расчетливым руководителем народного труда, то есть та
ким человеком, который во сто раз полезнее всякого фи
лантропа».
Правда, и теперь Писарев критикует практикующуюся
в России систему наемного труда. Но ближайшее рассмо
трение этой критики показывает, что Писарев критикует
не капиталистическую систему наемного труда, а те азиат
ские, крепостнические условия, при которых она приме
нялась у нас в России.
Он чрезвычайно четко подчеркивал ведущее начало
промышленного труда в народном хозяйстве. .Само земле-
13
Чйлйе Может вестись успешно, по мнению Писарева, только
тш да, когда оно сопровождается цветущей промышленной
деятельностью. Занятие населения одним только земледе
лием ведет ко все прогрессирующей бедности и упадку.
Критика Писаревым стран исключительного земледелия
была выражением насущных задач, стоявших перед х о
зяйственной жизнью России. Она била по крепостничеству,
истощавшему Россию и русский народ, по жалкому раб
скому труду, по азиатскому способу обработки полей, она
звала к преодолению крепостничества, к развитию промыс
лов и промышленности, к постройке сети железных дорог
и каналов, она сулила пышный подъем производительных
сил его отсталой, но обширной и великой по своим воз
можностям родины.
Фактически Писарев звал к реорганизации русского на
родного хозяйства на капиталистических началах. Пропа
ганда эта для 60-х годов носила прогрессивный характер,
ибо капитализм и хозяйственно, и политически является
более передовым строем, чем феодализм, крепостниче
ство.
Социализму Писарев учился не только из иностранных
книжек. Идейная атмосфера деятельности действовала на
него, как и на его современников, чрезвычайно сильно;
социалистические идеи кругов, отображавших крестьян
скую линию в русской демократической революции,, зара
жали и его, делали и его восприимчивым
социализму.
Подвергаясь же воздействию социалистических идей, иду
щих со стороны идеологов русской крестьянской револю
ции— Чернышевского, Добролюбова и их друзей, Писа
рев оказался окольным путем под воздействием интере
сов и требований русского крестьянства. Крестьянский во
прос острей становился в порядок дня, настойчивей де
лалось его давление, вероятней крестьянская революция,—
Писарев левел, социалистические ноты в его публицистике
становились явственней и напряженней, его политическая
позиция радикальней, решительней, революционней. Н аобо
рот, давление закрепощенных масс на политическую ситуа
цию ослабевало, шансы революции уменьшались, реакция
торжествовала,— Писарев становился умеренней, правей,
либеральней и в свосм социализме и в своей тактике. Пи
сарев был горожанином, однако напор демократическикрестьянской революции не отталкивал его вправо, а, на
оборот, привлекал его более решительно влево.
Писарев был представителем тех слоев городской мел
кой буржуазии (разночинной демократии), которые пони
мали, что в борьбе, с самодержавием необходимо итти вме
сте с крестьянской революцией.
14
Эстетические воззрения Писарева получили наиболее
широкую известность по сравнению с остальными сторо
нами его миросозерцания. Имя Писарева в обычном пред
ставлении ассоциируется прежде всего с его попытками
^разрушения эстетики и развенчания поэтического автори
тета Пушкина. В литературно-критической позиции Писа
рева видят наиболее яркое проявление его «нигилизма?/,
его безудержно разрушительной проповеди, в ней нахо
дят черты, наиболее специфические для его духовного
облика. Эстетическим воззрениям Писарева в самом деле
нельзя отказать в известной оригинальности, но их нельзя
уже потому считать наиболее характерными для него, что
они являются производными от остальных сторон его ми
ровоззрения. В сочетании с последними эстетическая тео
рия Писарева теряет свой характер безграничного отри
цания, не сопровождаемого никаким положительным идеа
лом. Наоборот, безоглядный радикализм Писарева в обла
сти искусства является обратной стороной его умеренных
социально-политических воззрений.
Как эстетик Писарев вполне естественно исходил из
материалистических предпосылок. Опровергая идеалисти
ческую эстетику, он доказывал, что вечных и неизменных
законов прекрасного не существует, что вечные и неиз
менные законы в эстетике суть лишь синонимы мертвой
рутины да залежалых академических преданий. Однако
историческая точка зрения на прекрасное, требование исто
рического подхода к вопросам искусства и литературы не
редко превращались у Писарева в отрицание объективно
значимой сущности эстетических явлений. Историзм под
менялся у него субъективизмом, в котором пропадала уже
всякая возможность теоретического осмысливания явлений
литературы и искусства.
Писарев в первый период своей деятельности вовсе не
выступает в качестве врага искусства и художественной
литературы. Наоборот, он высоко ценит и искусство и ли
тературу, русскую в частности, он требует лишь от них
служения общественным идеалам, борьбы со стариной,
мобилизации общественных сил вокруг освободительных
знамен.
При оценке значения литературы в истории русского
общества Писарев проявляет достаточное понимание основ
ной разницы, существующей между логическими рассу
ждениями и художественным творчеством. Первое есть
мышление в понятиях, второе — мышление в образах.
[
Правда, он понимает эту разницу несколько упрощенно!
д л я л еге художественное произведение есть простой пере
вод идеи на образный язык, что является неверным.
Но все же Писарев добивается от литературы обществен
ной целеустремленности. Он пока еще не посоветует Щ ед
рину, как впоследствии, бросить свои литературные заня
тия и приняться за писание популярных естественнонауч
ных книжек. Он донимает, что способность творить худ о
жественно есть особое и редкое дарование. Из оценки ли
тературы как силы, долженствующей служить обществен
ному прогрессу, совершенно естественно вытекает при
знание содержания художественного произведения более
существенным по сравнению с его формой. Содержание
выше формы, форма получает свое значение лишь как вы
ражение содержания. Виртуозность формы, игра в рифмы
и в образы сами по себе еще ничего не значат. Точку
зрения первенства содержания перед формой Писарев про
водит очень последовательно; однако в первой половине
своей литературной деятельности Писарев в своих эстети
ческих воззрениях не впадает ни в преувеличения ни
в утрировку. Он требует от литературы направления и по
мощи 'в разрешении тех задач, над которыми бились луч
шие люди его поколения, он смотрит на форму лишь как
на специфическое средство для обнаружения содержания,
он выступает в качестве противника чистого искусства и
сторонника, искусства утилитарного. Но от борьбы с искус
ством для искусства до позиции разрушения искусства —
расстояние очень и очень большое. В общем, в области
теоретических предпосылок своей критики Писарев стоит
примерно еще на той же позиции, что и Чернышевский и
Добролюбов. Это с несомненностью вырисовывается из
его статьи о Гейне, в которой его эстетические воззре
ния периода нарастания в нем революционных и социали
стических настроений приведены в наиболее систематиче
ский вид.
В дальнейшем характер изменений эстетических воззре
ний Писарева был предопределен изменением его отноше. ния К революции и социализму. На первый взгляд это мо
жет показаться мало вероятным: ведь в политике и в со
циальном вопросе Писарев стал более умеренным, в то же
время как критик, как писатель по вопросам эстетики он
стал радикальнее, левее. Противоречие это,
однако,
является лишь кажущимся, на деле же, как мы уже указы
вали, радикализм Писарева в области литературы и искус
ства является оборотной стороной занятой им, начиная
с 1862 года, у м е р е н н о й общественно-социальной по
зиции.
16
,
.
Отказавшись в своей тактике от революционных средств
борьбы, Писарев субъективно остался верен первоначаль
ным целям своей деятельности. Он попрежнему ненави
дел старый режим, он попрежнему страстно хотел корен
ного переустройства общественных отношений в России.
Но теперь он думал, что его программа будет осуществлена
Уже не революцией, а распространением в России естество*
Ьнания и культурнической работой, опирающейся на есте
ствознание. Пропаганда естествознания превратилась в его
глазах в единственный рычаг общественного преобразова
ния. Естествознание стало альфой и омегой политической
и социальной программы Писарева. Огромную историче
скую задачу Писарев хотел разрешить малыми и мирными
усилиями, направленными по одному только каналу — по
каналу естественнонаучного образования и естественнонауч
ного культурничества. Несоизмеримость между задачей и
предлагаемым средством ее разрешения бросалась в глаза
даже самому Писареву.
Несоответствие это Писарев думал обойти при по
мощи принципа экономии умственных сил. Если общество
станет последовательно и планомерно отвергать все те
затраты сил, которые не приносят непосредственной поль
зы, то есть не идут на изучение и распространение
естествознания, то результат его деятельности резко из
менится: общее количество мирных условий, не могущих
вызвать никакого противодействия со стороны властей пре
держащих, окажется
настолько
великим и настолько
целесообразно направленным, что преобразование общест
в нно-политических условий в России дастся в руки само
собою, без всяких рискованных и маловероятных резолюций.
Искусство и литература оказываются, по мнению Писа
рева, в числе предметов, отвлекающих от изучения есте
ственных наук. Ослабление влияния искусства должно было,
наоборот, усилить поток людей, превращающихся в реали
стов, и тем самым вызвать ускорение общественного
прогресса.
Беда русского народа заключалась не только в том,
что в его среде было мало образованных и мыслящих
людей, но и в том, что хозяйство его было нище и бедно
капиталами. Нищенская скудость русского народного хо
зяйства обязывает не только к экономии умственных сил,
но и к экономии материальных средств. Искусство же,
но мнению Писарева, несовместимо с производительной
затратой народных средств, Оио расширяет пределы не
производительного потребления, усиливает экепдоатацню,
отвлекает средства от приложения их к промышленному
ФУду и к рациональному земледелию. Вопрос об искус2. Д . И . Писарев-
yj
Стве стал для Ппсаргвг вопросом о том, « . . . должен или не
должен человек своим образом жизни поощрять в обществе
развитие непроизводительных отраслей труда? Вопр:с в том,
какой человек полезнее: тот ли, который покупает у худож
ников картины и статуи, или тот, который на свои деньги
заводит фермы и фабрики, а полученные барыши употребляет
на заведение новых ферм и фабрик?»
В самом вопросе Писарева уже дан ответ на него. Для
Писарева искусство есть одно из проявлений тунеядства.
Для хозяйственного преобразования нужны капиталы; их
мало, а тут еще русский человек способен и последний
двугривенный поставить ребром, выкинуть его на ветер,
истратить на сивуху или на искусство, в зависимости от
индивидуальных вкусов и привычек.
Таковы причины борьбы Писарева с искусством. Во
имя мобилизации людей и средств для переустройства
русской хозяйственной жизни на западноевропейских на
чалах он идет походом на него. Чтобы восторжествгвал
реализм, должна погибнуть эстетика. Чтобы помочь обра
зованному молодому человеку освободиться от влияния
семьи, класса, рутины, от либерализма, чтобы превра
тить его в прогрессивного деятеля, в реалиста, в есте
ствоиспытателя и капиталистического культуртрегера, для
этого нужно освободить его от обаяния эстетических
суждений:
«Эстетика и реализм, — писал Писарев, — действительно
находятся в непримиримой вражде между собой, а реа
лизм должен радикально истребить эстетику, которая в на
стоящее время отравляет и обессмысливает все отрасли
нашей деятельности, начиная от высших сфер научного
труда и кончая самыми обыкновенными отношениями между
мужчиной и женщиной».
Писарев и пытался подорвать значение эстетики в наи
более сильных ее позициях. Пушкин был самым влиятель
ным русским художником,
Белинский — самым великим
русским критиком, Чернышевский — властителем дум пе
редовой молодежи. Если сбросить Пушкина с пьедестала,
если пересмотреть традиции в области искусства, восхо
дящие к Белинскому, если доказать, что и Чернышевский
был, по сути дела, против искусства, тогда — дело разрушения
эстетики было бы выиграно.
Исходя из своей общей отрицательной оценки искус
ства, Писарев стал доказывать, что высокая оценка Пуш
кина неизбежно влечет за собой реакционную позицию
в общественной борьбе. Пушкин, совершеннейший русский
поэт, был для Писарева совершеннейшим примером вреда,
который может быть причинен искусством.
18
беда Белинского, По мнению Писарева, заключалась
в том, что он явился слишком рано. Он еще не понимал
значения естествознания. Белинский-естественник принес
бы значительно больше пользы обществу, чем Белинскийкритик и гегельянец.
Что же касается Чернышевского, то, по мнению Пи
сарева, он уже дошел до сознания необходимости разру
шения эстетики. В этих целях и были написаны им его
«Эстетические отношения искусства к действительности».
Он потому лишь не выразил открыто своей затаенной
мысли в этом сочинении, что боялся напугать неподго
товленную публику слишком резкими суждениями. Только
для того, чтобы не слишком озадачить еще не созревшие
умы, он выступил с quasi-эстетическим исследованием.
Чернышевский вовсе не стремился разрушить всякую
эстетику; он пытался создать материалистическую эсте
тику и поставить ее на службу жизни. Но Писарев, исходя
из своих предпосылок, не понял Чернышевского и припи
сал ему мысль о разрушении эстетики, характерную для
его собственных взглядов.
Писарев выдвигает позитивистское положение о лич
ном вкусе как о критерии прекрасного. Он стремится на
нести последний удар эстетике, оспаривая общеобязатель
ность ее суждений, ставя их в зависимость от произвола
личного вкуса.
«Эстетика, или наука о прекрасном, — пишет Писарев,—
имеет разумное право существовать только в том случае,
если прекрасное имеет какое-нибудь самостоятельное зна
чение, независимое от бесконечного разнообразия вкусов.
Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если
вследствие этого все разнообразнейшие понятия о кра
соте оказываются одинаково законными, тогда эстетика
рассыпается в прах. У каждого отдельного человека обра
зуется своя собственная эстетика, и следовательно, общая
эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному един
ству, становится невозможной».
Эстетика, осужденная с точки зрения общественной
пользы, не имеет, по мнению Писарева, и внутреннего
основания для своего существования. Она падает, лишен
ная внутренних и внешних опор. Таков итог писаревского
.разрушения эстетики. '
Итог этот не оказался прочным. Писарев искусства не
разрушил, а сам он впал в утрировку, временами перехо
дящую в карикатуру, в ультралевую ноту, как мы ска
зали бы теперь. И, как это бывает очень часто, формально
ультралевые высказывания Писарева прикрывали собою
очень большую его правизну.
2*
10
Разрушение искусства вовсе не открывало тропы в об
ход самодержавия и крспостника-помещика. Оно свиде
тельствовало лишь о мелкобуржуазной природе Писарева,
ибо радикальный и решительный тон, взятый им по адресу
искусства, был признаком его поворота вправо в основ
ной области — в области политики. Вместе с тем соци
альный идеал Писарева второй половины его деятельности
лишний раз обнаруживал свой буржуазный характер.
В разрушении искусства сказался тот самый пуританский
дух, который на Западе, проповедуя умеренность в потре
блении, ополчаясь против излишеств и украшений в быту
и в общественной жизни, создал наиболее благоприятные
психологические условия для капиталистического накопле
ния. А ведь и цель писаревского наступления на эсте
тику сводилась к стремлению изъять средства из чисто
потребительской сферы приложения и бросить их на капи
талистическое грюндерство.
По своему объективному содержанию и смыслу про
грамма Писарева была программой культурного капита
лизма. Но Писарев звал к капитализму не как непосред
ственный представитель заводчиков и купечества (купца
и его профессию Писарев весьма и весьма презирал), а как
представитель тех профессий, существование и умножение
которых связано с ростом промышленного капитализма.
Созданная капитализмом интеллигенция, естественно, в
массе своей является костью- от кости буржуазного об
щества, и ее программа, естественно, является програм
мой капиталистического
грюндерства и процветания.
Писарев был «реалистом», то есть интеллигентом с есте
ственнонаучным образованием. Самое возникновение реа
листов было связано с начатками капиталистического про
цесса в России. Совершенно естественно, что Писарев,
столкнувшись с противоречиями потребностей капитали
стического развития и крепостнических традиций, повел
отчаянную борьбу с последними, добиваясь простора для
первых. Но Писарев был разорившийся, «раздворянившийся» дворянин, он был литератор по, профессии, он стал
разночинцем, мелким буржуа, мелкобуржуазным демокра
том. Радикальная,
революционная мелкая буржуазия
в своих требованиях преобразования феодально-кре
постнического общества всегда идет дальше крупной бур
жуазии, даже относительно революционной. Революцион
ность позиции Писарева, его способность пойти на союз
с тем течением русской политической мысли, которое пред
ставляло интересы крестьянства, делали его восприимчи
вым к социалистическим идеям, главным провозвестником
которых в России был Н. Г. Чернышевский. Восприимчи
20
вость Писарева к социализму усиливалась еще оттого, что,
как всякий революционно настроенный мелкий буржуа, он
чувствовал себя представителем интересов всего общества,
всех обездоленных, всех голодных и всех раздетых. Идеоло
гическая жизнь второй половины X IX века была уже
такова, что всякое сочувствие эксплоатируемым низам
окрашивалось в той или иной мере в социалистические
цвета. Писарев был, однако, мелким буржуа. Последова
тельная же революционность возможна только для рабо
чего класса, если речь идет даже и о буржуазно-демокра
тической революции. Классовой природой Писарева и объ
ясняются его колебания в области тактики, в его отноше
нии к социализму и линия развития его эстетических
взглядов. Выцветание революционных и социалистических
воззрений Писарева было эпизодом не только его личной
биографии. Здесь мы имеем дело с переходом от идей
60-х годов к идеям русской легальной публицистики по
следующих десятилетий.
В мировоззрении Писарева были элементы, которые
позже обусловили переход от мировоззрения Чернышев
ского к мировоззрению народников. Родоначальниками на
родничества в России были Герцен и Бакунин. Они раз
вивали свои взгляды по направлению от Гегеля к П ру
дону. Другое направление русской общественной мысли —
направление Белинского, Чернышевского и Добролюбова —
было подготовительным по отношению к марксизму. Оно
шло от Гегеля к Фейербаху. Но русские общественные
условия не дали возможности русскому фейербахианству
непосредственно переродиться в марксизм. Для осуще
ствления этого процесса в России нехватало достаточно
развитого рабочего движения. В итоге материалистиче
ское и социалистическое течение общественной мысли
в России после расправы самодержавия с Чернышевским
и крушения движения 60-х годов стало подвергаться раз
ложению и порче. В процессе этого разложения известную
роль сыграл Писарев.
По философским своим убеждениям Писарев был еще
материалистом. Однако материализм Писарева был мате
риализмом менее совершенным, чем материализм Н. Г. Чер
нышевского. Чернышевский был последователем Фейер
баха, самого зрелого из материалистов домарксистского
периода. Писарев же был последователем механического
материализма Бюхнера, Фохта и Молешотта. Материализм
Фейербаха — Чернышевского считает
мышление
лишь
атрибутом материи. По Писареву, такого объяснения
взаимоотношений мышления и бытия было мало. Он, вслед
за своими учителями, просто о т о ж д е с т в л я л психи
21
ческое и материальное. Механические материалисты, уни
чтожая самостоятельность мышления, в то же время отка
зывают ему в особом качественном существовании, разла
гая его, сводя его до степени простого движения материи.
Эта же ошибка характерна и для Писарева.
Материализм Чернышевского содержал в себе много
жизнеспособных элементов диалектики. Писарев был,
правда, эволюционистом; он был поклонником и популя
ризатором Ч. Дарвина. Но Писарев не понимал диалек
тики. Как все механисты, он не понимал, что и в природе
и в обществе наряду с количественными изменениями су
ществуют еще и качественные, что количественные из
менения, процесс эволюции, приводят к качественным из
менениям, к революции, к перерыву постепенности,
к скачкам.
Механистический характер материализма Писарева, его
увлечение естественными науками, не руководимое пра
вильным философским методом, привели его к увлечению
системой Огюста Конта, французского философа-позитивиста. Эмпиризм и агностицизм Конта проникли в материа
листическое мировоззрение Писарева и еще более понизили
его теоретический уровень. Но ведь именно у народников
второй формации, самым характерным представителем ко
торых был Михайловский, материализм Чернышевского
окончательно сменился позитивизмом. Писарев и является
в этом пункте связующим звеном между процессом р а с
пада,
разложения
воззрений Чернышевского
и
народнической струей в русской общественной мысли.
В эволюции Писарева мы наблюдаем воочию, как мате
риализм сменялся позитивизмом.
Учителями Писарева в обществознании были уже упо
мянутый нами Конт и английский историк Бокль, попу
лярность которых у нас в России во вторую половину
60-х годов была чрезвычайно велика. История человече
ства двигается прогрессом наук, — полагали и Бокль,
и Конт, и Писарев. Всякое нарастание положительных
знаний ведет к улучшению общественных отношений, как
наоборот — все зло, все несправедливости в истории объ
ясняются, по мнению Писарева, недостаточностью уровня
человеческого знания, его ошибками. «Знание, — полагал
Писарев, — всемогуще». «Знание составляет ключ к реше
нию общественной задачи не только в России, а во всем
мире» — писал Писарев.
И Чернышевский считал знание движущей силой исто
рии, и он придавал огромное значение образованному
меньшинству. Но Чернышевский никогда не забывал про
значение масс в историческом действовании. Он понимал,
что знание становится силой лишь тогда, когда им овла
22
девают массы. Он понимал, что образованное меньшинство
лишь тогда является движущей силой прогресса, когда
его инициатива поддержана напором масс. У Писарева же
значение масс сведено к нулю. Движущей силой развития
у него является получающая естественнонаучное образова
ние интеллигенция — «реалисты». Достаточно было заме
нить естественнонаучное образование интеллигенции мо
ральным сознанием, чтобы вместо «реалистов» Писарева
получить «критически мыслящие личности» народников.
Это сделал Лавров в своих «Исторических письмах», вы
шедших в 1869 году.
Таким образом не только в области философских воз| зрений, но и в исторической теории взгляды Писарева
являются переходными от учения шестидесятников периода
’ их расцвета к взглядам народников 70-х и 80-х годов.
Однако было бы исторической несправедливостью
только с этой стороны оценивать значение деятельности
Писарева. Деятельность Писарева развернулась тогда,
когда Чернышевский уже сошел со сцены. Борьба с раз
вивавшейся реакцией первое время пала главным обра
зом на его плечи. Современная Писареву обстановка со
поставила воззрения Писарева не с воззрениями его стар
шего современника Чернышевского, а с нарастающей вол
ной политической и идеологической реакции. При всех
своих, исторически определенных, недостатках публици
стические и критические статьи Писарева сыграли боль
шую роль в борьбе с реакционными силами.
Писарев, в обстановке спада движения шестидесятых
годов, громил идеализм и поповщину, утверждал веру
в будущее, просвещая широкие кадры передовой моло
дежи. Писарев, сквозь мрак реакции, вглядывался в бу
дущее, он искал реальных связей между мечтой и жизнью,
именно по этому поводу вспомнил Ленин Писарева, когда
он, работая над «Что делать?», м е ч т а л о расправе над
«позором и проклятием» старой России (Ленин, т. IV,
стр. 492).
а . Кирпотин.
Много есть на свете хороших книг, но эти кни
ги хороши только для тех людей, которые умеют
их читать. Уменье читать хорошие книги вовсе
не равносильно знанию грамоты. Я оставляю
в стороне тех отличных и усердных грамотеев,
к разряду которых принадлежит чичиковский Пе
трушка. Я сосредоточиваю все свое внимание на
тех счастливцах, которые понимают смысл читае
мых слов, предложений и периодов. Рассматри
вая только этот избранный кружок, я все-таки
прихожу к тому заключению, что очень немногие
члены этой умственной аристократии обладают
уменьем читать хорошие книги.
Если вам, читатель мой, удалось завоевать себе
это драгоценное уменье, то вы, конечно, помни
те, каким продолжительным и упорным трудом
было куплено это завоевание. Во времена вашего
студенчества вы начали замечать, что жизнь со
всем не такая простая и легкая штука, которую
можно было бы изучить и постигнуть вполне по
наставлениям родителей и по казенным учебни
кам, растворившим перед вами двери университе
та. Наставления родителей могли дать вам не
сколько хороших привычек. Казенные учебники
могли сообщить вам сотни основных научных
истин. Но вопрос: «как жить?» остался нетрону24
тым. Над решением этого вопроса каждый здо
ровый человек должен трудиться сам, точно так,
как женщина должна непременно сама выстрадать
рождение своих детей. Для решения этого основ
ного вопроса вам понадобилось перебрать, пере
смотреть, проверить все ваши понятия о мире, о
человеке, об обществе, о нравственности, о науке
и об искусстве, о связи между поколениями, об
отношениях между сословиями, о великих задачах
вашего века и вашего народа. Занимаясь этим
пересмотром, вы замечали у себя ошибки, кото
рых до поры до времени нечем было поправить,
и огромные пробелы, которых нечем было попол
нить. Вы волновались, ваше бессилие приводило
вас в ужас, вы тревожно искали ответов на такие
вопросы, которых сами не умели еще поставить
и сформулировать, вы чувствовали, что вам необ
ходимы какие-то материалы, какие-то знания, ка
кое-то положительное содержание для мысли;
весь ваш организм томился умственными потреб
ностями, но вы сами решительно не могли опре
делить, в чем именно вы нуждались. Вообще вы
были очень похожи на того древнего царя, кото
рый видел страшный сон и потом, утром, не мог
не только понять, но даже и припомнить его. От
придворных гадателей требовалось, чтобы они
сначала рассказали, а потом объяснили царю его
таинственное и ужасное сновидение. Во время ва
ших умственных тревог вы также были окружены
гадателями, хотя и не придворными. Наставники
и товарищи, пережившие прежде вас умственный
кризис, смотрели с кротким и разумным участием
на ваши необходимые мучения. Значительно пре
увеличивая силу и мудрость этих гадателей, вы
требовали от них, чтобы они разъяснили вам ва
ше состояние и потребности вашей собственной
измученной души, изнемогающей под гнетом не
привычных сомнений и неразрешимых вопросов.
25
Гадатели указывали вам на хорошие книги. Вы
хватались за них с зверскою жадностью, но так
как вы не умели их читать, то они усиливали ва
ше беспокойство, погружали вас в отчаяние, или
увлекали вас на такую дорогу, которая не соот
ветствовала ни вашим естественным наклонностям,
ни окружающим вас обстоятельствам места и вре
мени.
По вашим пробудившимся умственным потреб
ностям вы уже были мужчиною. По вашим при
вычкам вы остались еще ребенком. Каждого ум
ного человека вы принимали за учителя, каждую
хорошую книгу за учебник. Вас не пугали труд
ности; вы готовы были, вы даже пламенно жела
ли окунуться с головой в самую утомительную,
самую скучную, самую добросовестную работу.
Но вы, по старой привычке, хотели работать пас
сивно, не так, как трудится исследователь, а так,
как занимается ученик. Вы готовы были одоле
вать груды книг и просиживать целые месяцы
в библиотеке, но только с тем, чтобы знающий
человек управлял вашими занятиями и ручался
вам за их успех. В кругу ваших знакомых вы
постоянно искали себе р а з в и в а т е л я ; на пол
ках библиотек вы старались найти себе книгу
« р а з в и т и е » . Вы хотели, чтобы какой-нибудь
человек или какая-нибудь книга влила в вас, как
в бутылку, те знания, идеи и стремления, которые
необходимы честному и дельному работнику на
шего времени; вы доверились безусловно и людям
и книгам; вы не умели выбирать; если вам нра
вилась в человеке или в книге одна какая-нибудь
сторона, то вы, увлекаясь одной этой стороной,
принимали вместе с ней и весь остальной запас
мыслей, в котором, наверное, было много непри
годного и несостоятельного; если вас поражала
в человеке или в книге какая-нибудь одна оче
видная нелепость, то вы точно так лее из-за одной
26
этой нелепости браковали весь груз, в котором
наверное можно было найти много интересных
фактов и даже, быть может, несколько верных и
глубоких идей. Само собою разумеется, что ни
книги, ни люди не удовлетворяли вас вполне, по
тому что вы требовали от них невозможного: ни
;один человек не может быть р а з в и в а т е л е м ,
и ни одна книга не может быть р а з в и т и е м .
И люди и книги могут быть только материалами,
над которыми упражняется ваша пробудившаяся
мысль. Эти материалы необходимы, потому что
без впечатлений невозможна умственная работа.
! Но все-таки это — материалы, а не готовые убе
ждения. Готовых убеждений нельзя ни выпросить
у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке.
Их надо выработать процессом собственного мы
: шления, которое непременно должно совершаться
[самостоятельно, в вашей собственной голове, так
|точно, как процесс пищеварения совершается
|гполне самостоятельно, в вашем собственном же|лудке.
Сталкиваясь с различными людьми, читая различные книги, гоняясь за призраком р а з в и т и я
и г о т о в ы х у б е ж д е н и й , точно так, как алI химики гонялись за призраком философского
| камня, вы невольно сравнивали получаемые впе
чатления, становились втупик над противоречия
ми, подмечали нелогичности, обобщали вычитанI ные факты и таким образом укрепляли понемногу
~ашу мысль, закладывая фундамент собственных
беждений, и становились в критические отношеия к тем людям и к тем книгам, от которых вы
жидали себе сначала чудесной благодати немеденного умственного просветления.
I
!
Наконец, ваши наклонности и способности раз-
бой, вы в то же время поняли общее направление
окружающей жизни; вы отличили передовых лю
дей и честных деятелей от шарлатанов, софистов и
попугаев; вы сообразили, куда передовые люди
стараются вести общество; все эти сведения вы
получили не за раз, не от одного человека и не
из какой-нибудь одной книги; все эти сведения
собраны вами по кусочкам, извлечены из множе
ства различных впечатлений, заронены в ваш ум
всякими крупными и мелкими событиями частной
и общественной жизни. Незаметно проникая в ва
шу голову, все эти основные сведения срастались
с вашим умом так крепко и превращались в та
кое неотъемлемое достояние вашей личности, что
вы скоро потеряли всякую возможность опреде
лить — где, когда и каким образом приобретены
составные части самых дорогих и непоколебимых
ваших убеждений.
Когда убеждения выработаны, когда цель жизни
отыскана, тогда начинается сознательное, разум
ное и плодотворное чтение хороших книг. До
этого времени вы читали ощупью. Книги нрави
лись или не нравились вам так, как может нра
виться или не нравиться шелковая материя, кусок
обоев, фарфоровая чашка, соус или пирожное;
когда автор шутил, вы смеялись; когда он впадал
в элегический тон, вы умилялись; когда он аргу
ментировал горячо и красноречиво, вы соглаша
лись; когда он излагал свои мысли вяло и скучно,
вы зевали. Из совокупности этих ощущений, вос
принятых совершенно пассивно, составлялся ваш
общий взгляд на книгу. Автор не мог быть ни ва
шим союзником, ни вашим противником, серьез
ная цель книги оставалась вам непонятною, вы не
могли судить ни о достоинстве этой цели, ни, о
том, насколько эта цель достигается и насколько
автор остается верен самому себе. Вы не могли
и не умели уловить связь, существующую между
данною книгою и всеми явлениями окружающей
жизни; книга казалась вам отрывочным явлением,
без корней в прошедшем, без влияния на буду
щее; поэтому вы и не могли сказать, что это за
явление — дурное или хорошее, и почему онс
'дурно или почему хорошо. Когда же знания ва
ши увеличились настолько, что дали вам возмож
ность примкнуть сознательно к тому или к друго
му знамени, тогда вы начинали пылать тем фана
тическим жаром, который составляет неотъемле
мую принадлежность всевозможных неофитов. Дух
вашей фанатической исключительности вы, разу
меется, применили- также и к чтению книг. Вы
считали достойными внимания только те книги,
которые написаны людьми вашего лагеря. Все
остальные книги следовало, по вашему мнению,
если не сжечь, то, по меньшей мере, осмеять и
забыть. Читая книгу, вы производили над авто
ром строжайшее следствие, и чуть только заме
чали, что автор в чем-нибудь погрешил против
вашего корана, вы немедленно причисляли этого
автора к огромной толпе пишущих идиотов и не
годяев. Но чем больше вы читали, тем яснее ста
новилась для вас та истина, что цельные приго
воры, вроде восклицаний: «лоб! » и « з а т ы
лок! », неуместны и в отношении к людям, и
в отношении к книгам. Под влиянием жизни и
чтения ваши собственные убеждения очистились,
выяснились и окрепли; вы пристрастились к ним
еще сильнее прежнего, вы сделались еще непоко
лебимее, но вы в то же время поняли, что для
торжества вашей же собственной любимой идеи
вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами
и мыслями таких людей, которые во многих отно
шениях уклоняются от вашего корана. Положим,
например, что вы материалист. Краеугольными
камнями вашего миросозерцания оказываются
труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые
[
29
постоянно были деистами й веровали даже в от
кровение; не станете же вы из-за этого обстоя
тельства отвергать их астрономические открытия?
А если не станете, то вы не должны также отно
ситься с пренебрежением ни к химическим рабо
там Либиха, ни к физиологическим исследованиям
Рудольфа Вагнера, ни даже к добросовестным
компилятивным трудам Теодора Вайца, несмотря
на то, что все они спиритуалисты, а Рудольф
Вагнер даже пиетист1.
Положим далее, что вы фурьерист или прудо
нист. Спрашивается, каким образом отнесетесь вы
к общественной физике О. Конта или к историко
философской теории Боклй? Причислите ли вы
эти книги к вредным или к полезным явлениям?
Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи?
С одной стороны, вы не можете не сочувствовать
основной мысли Конта и Бокля, — той мысли, что
вся история есть борьба рассудка с воображением
и что сильнейшим двигателем прогресса оказы
вается накопление и распространение знаний.
Успеху этой мысли вы должны содействовать все
ми вашими силами; с другой стороны, вы никак
не можете сочувствовать ни контовской апологии
нищенства, ни боклевскому мальтузианству. Но
если бы вы вздумали, возмутившись этими неле
постями, забраковать целиком Конта или Бокля,
то вы бы значительно ослабили ваши собственные
идеи, отнявши у них ту подпору, которую они
могут найти себе в исследованиях и размышле
ниях этих двух первоклассных умов. Значит, вы
должны отделить светлые идеи от ошибочных
суждений; вы должны пользоваться первыми и
опровергать вторые. Пользуясь светлыми идеями
Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя
обязанности соглашаться с этими писателями во
всем и превозносить каждое слово их сочинений.
Опровергая то, что кажется вам ошибочным, вы
30
'Нисколько не отступаете от того уважения, к о т о
рое должны, внушать вам великие мыслители. Ска
зать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не зна
ч и т разбить авторитет Бокля и не значит также
|поставить самого себя выше этого замечательного
■ мыслителя. С другой стороны, сказать и дока
рать, что у Гизо или у Маколея встречаются ино[гда светлые мысли, вовсе не значит превратиться
|в единомышленника этих узких доктринеров.
IB том и в другом случае, то есть опровергая
I Бокля и соглашаясь с Гизо, вы все-таки остаетесь
I верны вашим собственным убеждениям и вы псль[зуетесь той необходимой самостоятельностью, без
I которой невозможно сильное и плодотворное
! мышление и которая не должна стесняться ни ра
болепным благоговением перед великими имена
ми, ни фанатической исключительностью партий.
Так как критика должна состоять именно в том,
чтобы в каждом отдельном явлении отличать по
лезные и вредные стороны, то понятно, что огра
ничиваться цельными приговорами значит уничто
жать критику, или, по крайней мере, превращать
ее в бесплодное наклеивание таких ярлыков, ко
торые никогда не могут исчерпать значение рас
сматриваемых предметов. В теории эта мысль не
может вызвать против себя никаких возражений.
Всякий скажет, что это очень старая истина и что
несостоятельность цельных приговоров давнымдавно засвидетельствована общеизвестными изре
чениями о пятнах на солнце и о золоте в грязи.
|Но в практической жизни цельные приговоры
[продолжают господствовать, и особенно сильно
[проявляется это господство у нас в России, где
партии только что обозначились и почувствовали
свою непримиримость. У каждой из наших пар
тий есть свои кумиры, которые для противопо
ложной партии оказываются чучелами и страши
лищами. Каждое знаменитое имя европейской
31
Науки Или литературы вызывает, с одной стороны,
восторженное поклонение, а с другой — беспре
дельное и страстное порицание. Разногласие пар
тий очень естественно, необходимо и безысходно,
потому что настоящие причины противоположных
суждений заключаются в противоположности ин
тересов. Всякая попытка примирить партии была
бы бесполезна и бессмысленна. Вместо примире
ния партий, надо желать, напротив того, чтобы
каждая партия обозначилась яснее и договори
лась до последнего слова. Только тогда общество
может узнать своих настоящих друзей и дать
окончательную победу тому направлению мысли,
которое всего более соответствует действитель
ным потребностям большинства. Но именно для
того, чтобы договориться до последнего слова,
партии должны отказаться от цельных пригово
ров и подвергнуть одинаково тщательному анали
зу как своих кумиров, так и злейших своих про
тивников. Вследствие такой операции многие
кумиры утратят значительную долю своего ска
зочного великолепия, многие чучела и страшили
ща превратятся в довольно обыкновенных и без
обидных людей, но основные идеи партий обо
значатся яснее именно потому, что эти идеи упра
вляли всем ходом анализа, проникшего в самую
глубину предмета и оценившего все его подроб
ности.
II
Читатель простит мне мое длинное и утомитель
ное введение, когда узнает, что я намерен гово
рить о Гейне, обращая при этом особенное вни
мание на слабые стороны его поэзии. Гейне —
один из наших кумиров, и, конечно, в мире не
было до сих пор ни одного поэта, который в бо
лее значительной степени заслуживал бы уваже32
ния и признательности мыслящих реалистов. Но
чем важнее и колоссальнее какое-нибудь явление,
тем необходимее знать ему настоящую цену. Чем
больше пользы может принести нашему умствен
ному развитию чтение Гейне, тем сильнее надо
стараться о том, чтобы к массе этой пользы не
примешивалась ни одна частица вреда. Чем не
отразимее действует поэзия Гейне на умы читате
лей, тем тщательнее эти читатели должны обере
гать себя от умственного раболепства перед Гей
не, потому что из этого раболепства может раз
виться вредное обожание тех недостатков и пятен,
которые наложены на поэзию Гейне обстоятель
ствами времени и места. Приступая к разбору
этих недостатков и пятен, я непременно должен
был напомнить читателю, что критика не имеет
ничего общего с враждою, что без постоянной,
строгой и тщательной критики невозможно ника
кое разумное и плодотворное чтение и что вся
кое умственное идолопоклонство вредит той са
мой идее, во имя которой оно производится.
Принявши в соображение эти простые истины,
читатель, конечно, поймет, что, критикуя Гейне, я
нисколько не желаю ослабить его влияние на рус
ское общество, а напротив того, стараюсь напра
вить, сосредоточить, . усилить это влияние, так
чтобы ни одна его частица не пропадала даром
и не вырождалась в нелепые и вредные уклонения,
к которым сам Гейне очень часто подает повод
своими эксцентричностями и внутренними проти
воречиями.
В настоящее время Вейнберг издает С о ч и н е
ния Г е н р и х а Г е й н е в п е р е в о д е р у с
с к и х п и с а т е л е й 2. Одиннадцать томов уже
находятся в руках читающей публики, а все изда
ние будет состоять из 15 томов. Можно надеяться,
что это издание найдет себе многих читателей, но
в то же время надо желать, чтобы эти читатели
3 Д . И. Писарев
33
сумели усвоить себе такую точку зрения, с кото
рой были бы ясно видны как достоинства, так и
недостатки Гейне. Эту точку зрения я постараюсь
указать читателю в моей теперешней статье.
Как понимает сам Гейне себя и свою литератур
ную деятельность? На этот вопрос Гейне отвечает
не раз стихами и прозою. Один из этих ответов
особенно замечателен. «Я право не знаю, — гово
рит Гейне, — стою ли я, чтобы мне когда-нибудь
украсили гроб лавровым венком. Поэзия, как ни
любил я ее, была для меня всегда лишь священ
ной игрушкой, или священным средством для
небесных целей. Я никогда не придавал большой
цены славе поэта, и хвалить ли или бранить будут
■ мои песни, меня мало беспокоит. Но я желаю,
чтобы на гроб мой положили меч, потому что я
был храбрым солдатом в войне за благо челове
чества» (том II, стр. 120).
В этих словах заключается двойное противоре
чие. Ведя войну за благо человечества и считая
себя х р а б р ы м с о л д а т о м , Гейне хочет в то
же время служить чистому искусству. Два совер
шенно враждебных взгляда на искусство — утили
тарный и художнический — укладываются рядом,
один возле другого, в приведенных словах Гейне.
П о э з и я б ы л а д л я м е ь»я л и ш ь с в я щ е н
ной
и г р у ш к о й , — говорит Гейне. В этих
словах художнический взгляд на искусство выра
зился во всей своей наивности-, и в этих словах
заключается второе внутреннее противоречие, до
веденное до самой поразительной- рельефности.
В самом деле, что такое с в я щ е н н а я и г р у ш
ка ? Есть ли какая-нибудь психическая возмож
ность играть тем, что вы действительно считаете
святыней, или считать священным то, что служит
вашей игрушкой? Противоречия очевидны, а ме
жду тем все приведенные мною слова Гейне выра
жают чистейшую истину и дают превосходнейший
34
ключ к пониманию всего Гейне, его миросозерца
ния, его стремлений, его поэзии. Когда есть вну
тренние противоречия в самом предмете, тогда
они неизбежны и в его определении, и чем пол
нее и вернее определение, тем ярче должны в нем
выступать внутренние противоречия. Да, Гейне
был действительно и храбрым солдатом, и чистым
художником, и поэзия была для него действи
тельно с в я щ е н н о й и г р у ш к о й , хотя такое
сочетание понятий дико и неестественно до по
следней степени.
Боевая храбрость Гейне достаточно известна.
Его сарказмы, направленные против традицион
ных доктрин, против политического шарлатанства,
против национальных предрассудков, против уче
ного педантизма, против всех бесчисленных про
явлений общеевропейской и специально немецкой
глупости, — его сарказмы составляют, без сомне
ния, самую яркую и единственную бессмертную
сторону его поэзии. Не'будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов,
писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нем
столько же, сколько знаем, например, о какомнибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере,
или Эммануэле Гейбеле. Если мы в продолжение
целого десятилетия переводим по частям прозу и
стихи Гейне, если мы теперь издаем собрание его
сочинений, если мы раскупим и прочитаем эти со
чинения не только с удовольствием, но даже с не
которым благоговением, то, разумеется, все это
делалось, делается и будет делаться лишь из
любви к сарказмам, или, другими словами, из не
нависти к тем общеевропейским подлостям и глу
постям, которыми эти сарказмы были вызваны.
Когда вы читаете Гейне, то самое течение мыслей
почти никогда не занимает и не может занимать
вас; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки;
вы даже редко можете найти что-нибудь похожее
3*
35
на развитие мыслей; чаще всего вы имеете перед
собою легкую и кокетливую болтовню о легких
пустяках; но вы читаете терпеливо, внимательно,
потому что вы постоянно находитесь в напряжен
ном ожидании, вы знаете, что вдруг блеснет такая
молния, которая с избытком вознаградит вас за
незначительность всей прочитанной вами болтов
ни. Несмотря на ваше постоянное ожидание, мол
ния все-таки застает вас врасплох и поражает вас
своей неожиданностью. Она явилась без всяких
приготовлений, совсем не с той стороны, откуда
вы ее ожидали; она изумила, очаровала вас и
исчезла; начинается опять веселая болтовня; и вы
опять с радостью готовы читать десятки страниц
этой болтовни, лишь бы только добраться до но
вой молнии, такой же неожиданной и такой же
очаровательной, как первая. Надежда на новую
молнию и воспоминание о прежней помогают вам
перебираться через те пустынные поляны, над ко
торыми господствует бессмыслица романтически
чистого искусства.
Но как ни великолепны молнии боевой храбро
сти и ядовитого сарказма, однако нельзя не заме
тить, что пустынные поляны очень обширны и
чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по
этим полянам, читатель начинает понимать, что
такое с в я щ е н н а я и г р у ш к а . Смысл этих
загадочных слов очень печален. Когда Гейне тво
рит образы, не имеющие никакого, даже самого
отдаленного отношения к борьбе за благо челове
чества, тогда он благоговеет перед своею соб
ственною виртуозностью и играет теми чувствами
и мыслями, на которые нанизываются яркие и
роскошные картины. Соедините это благоговение
с этим играньем, и в общем результате вы полу
чите с в я щ е н н у ю и г р у ш к у .
Но эти два потока — благоговение к игранье —
не могут итти постоянно рядом, не действуя друг
56
на друга и не смешиваясь между собою. С одной
стороны, благоговение не может оставаться глу
боким и совершенно искренним, потому что пред
мет этого благоговения — художническая виртуоз
ность— растрачивается на' мелочи, которые сам
художник признает мелочами, годными только для
забавы. Следовательно, сама виртуозность — уни
жается и становится до некоторой степени смеш
ною в глазах художника. С другой стороны, игра
чувствами и мыслями становится почти серьезным
и торжественным делом, когда художник увле
кается процессом творчества и одушевляется си
лою благоговения перед собственным волшебным
могуществом. Словом, ни читатель, ни художник
не знают наверное, какие чувства и мысли им
приходится переживать вместе; ни читатель не ве
рит художнику, ни художник не доверяется чита
телю; читатель боится принять слова художника
за выражение искреннего чувства, боится увлечься
этим чувством, потому что художник тотчас нач
нет смеяться над тем, что могло показаться
искренним порывом, и тогда читатель, распустив
ший нюни, попадет в число сентиментальных ду
раков, неспособных понимать тонкую иронию;
художник, с своей стороны, знает, что читатель
остерегается и предвидит ироническую улыбку
или циническую выходку; художник боится ока
заться сентиментальнее читателя. Поэтому каждое
чувство умышленно выражается так, что нет ни
какой возможности ни поверить его искренности,
ни сказать наверное, что тут кроется ирония.
«Еще рано, — говорит Гейне в конце своего «Пу
тешествия на Гарц»,— солнце совершило только
половину своего пути, и мое сердце благоухает
так сильно, что пары его бьют мне в голову, и
в этом опьянении я не могу понять, где оканчи
вается ирония и начинается небо» (т. I, стр. 91).
Эти последние слова прилагаются ко всей поэзии
Гейне, и в этом постоянном отсутствии границы
между иронией и небом, в этой невозможности
отличить иронию от неба и положиться на искрен
ность чувства заключается типический характер
гейневской поэзии.
Благодаря этой особенности большая часть про
изведений Гейне, в целом, оказываются совершен
но непонятными, или еще вернее, в них нет ни
какой целости. Каждое произведение Гейне не
что иное, как цепь причудливых арабесков или
гирлянда фантастических цветов, очень ярких,
очень пестрых, очень разнообразных, но набро
санных-неизвестно для чего, рассыпанных без вся
кого Общего плана и не имеющих между собою
никакой связи. В предисловии к первому тому
русского перевода Вейнберг высказывает следую
щие мысли: «Нам до сих пор случается встречать
людей очень умных, развитых, но которые, бу
дучи знакомы с Гейне только по тем переводам
из него, которые существуют на русском языке,
с каким-то странным изумлением смотрят на него
и сами сознаются, что не понимают его, не пони
мают прелести, заключающейся в некоторых его
произведениях. Это непонимание., как мы только
что заметили, происходит от неполного знаком
ства с поэтом, с его своеобразною манерою, с егс
прихотливыми прыжками от одного предмета
к другому, с его роскошною фантазией; не гово
рим уже здесь о жгучем остроумии, которое и
каждому непосвященному бросается в глаза» (т. I,
стр. VII]. Мне кажется, что с этим мнением не
возможно согласиться. Если н е п о с в я щ е н
н ы е выучат наизусть все произведения Геййе,
с первого до последнего, — они все-таки оста
нутся н е п о с в я щ е н н ы м и , то есть не до
роются ни до какого осязательного смысла, не
вынесут никакого определенного впечатления и*
наконец, убедятся только в том, что тут решитель38
но нечего искать и что под этими цветочными
иероглифами нет ничего похожего на скрытую
мудрость или на таинственную глубину. Свое
образность манеры, прихотливость прыжков и
роскошь фантазии — все это заметно с первого
взгляда, все это бросается в глаза каждому н еп о с в я щ е н н о м у наравне с ж г у ч и м о с т р о
у м и е м. Но все это — и фантазия, и прыжки, и
манера — относится только к ф о р м е, а не к с о
д е р ж а н и ю поэтического произведения. Непо
священный видит очень хорошо, не хуже Вейнберга, к а к выражает Гейне; но ч т о именно
он выражает, ч т о он хочет выразить и передать
читателям, к а к и е чувства и мысли рвутся на
ружу из его души, к а к и е внутренние убежде
ния управляют его пером и заставляют его ри
совать бессмысленно блестящие арабески — это
остается тайною для непосвященного, это останет
ся вечною тайною не только для непосвященного,
но даже и для самого Вейнберга, и я осмеливаюсь
думать, что ключа к этой тайне не было даже и
у Гейне. Мне кажется, Гейне ясен для себя и для
других только тогда, когда он обнаруживает свое
ж г у ч е е о с т р о у м и е , то есть когда он в ка
честве х р а б р о г о с о л д а т а истребляет прон
зительным смехом окружающие глупости и под
лости. Когда же он обращается к более мирным
занятиям, тогда он начинает небрежно и презри
тельно выкидывать из себя на бумагу какие-то
клочки мыслей и чувств, которых он сам не по
нимает и которые, следовательно, навсегда оста
нутся непонятными и для его читателей. Я очень
желал бы подтвердить мои слова наглядными и
убедительными примерами, но сделать это очень
трудно. Примеров существует очень много, и да
же выбор не представляет никаких затруднений.
Но в вот в чем беда: чтобы доказать бессвязность
и бесцельность произведений Гейне, надо расска
39
зать их сюжеты; но бессвязность и бесцельность
колоссальны до такой степени, что невозможно
уловить никакого сюжета. Образы, восклицания,
слезливые шутки, насмешливые вздохи, притвор
ные слезы, эротические порывы мелькают и кру
жатся перед глазами, как снежинки во время ме
тели. Разнообразие картин удивительное! Быстро
та в смене впечатлений непостижима! Вы подав
лены и ошеломлены пестротою красок. Вы
принуждены сознаться, что автор обладает неве
роятной силой и подвижностью фантазии. Но за
чем поднят весь этот ураган маленьких,пестрень
ких, недочувствованных чувств и недодуманных
мыслей, к чему он клонится, что он хочет опро
кинуть или построить — этого вы не будете пони
мать до тех пор, пока не преподаст вам своей
таинственной мудрости какой-нибудь п о с в я
щ е н н ы й , в существовании и возможности ко
торого я решительно сомневаюсь. Если такие по
священные действительно существуют и если до
них дойдут когда-нибудь эти страницы, то я убе
дительно прошу их объяснить мне и другим не
доумевающим профанам, каким образом возмож
но и следует понимать, например, известное про
изведение Гейне «Идеи. Книга Легран». Желая
показать читателю, что без помощи мистагогов и
иерофантов нет возможности проникнуть в таин
ства этого произведения, которым всякий развитой
человек восхищается по заказу, — я постараюсь
перечислить хоть малую долю тех странных кар
тин, которые мелькают одна за другой в «Книге
Легран».
В первой главе — комическая картина ада, в ви
де огромной мещанской кухни. В аду слышится
роковой напев песни о невыплаканной слезе, о
той слезе, которой не выронила она, женщина,
любимая поэтом, но не отвечающая ему взаим
ностью.
40
Во второй главе поэт, он же и граф Гангесский,
хочет застрелиться, покупает себе пистолет, от
правляется с ним завтракать в трактир и видит
в стакане рейнвейна остиндские пейзажи. Потом,
выйдя на улицу, он встречается с хорошенькой
женщиной, которая своим взглядом заставляет
его остаться в живых.
В третьей главе поэт выражает свою радость и
свою любовь к жизни.
В четвертой главе поэт представляет себе, как
он на старости лет схватит арфу и споет молодым
людям песню п р о ц в е т ы Б р е н т ы .
В пятой главе: «Сударыня, я обманул вас! Я не
граф Гангесский!» Оказывается, что поэт родился
на берегах Рейна. Потом являются три девушки:
Гертруда, Катарина и Гедвига и тетка их Иоганна.
Все они только являются и ровно ничего не де
лают. В этой же главе Вейнберг показывает ясно,
что он не принадлежит к числу п о с в я щ е н
н ы х и вряд ли может исправлять должность ми
стагога. «При прощании, — говорит Гейне, — она
(Иоганна) подала мне . обе руки — белые, милые
руки — и сказала: ты очень добр, а когда ты сде
лаешься злым, то думай снова о маленькой умер
шей Веронике» (т. I, стр. 165). К этим словам
Вейнберг присоединяет следующее подстрочное
замечание: «Вероника — какое-то загадочное су
щество, о котором Гейне упоминает несколько
раз с какой-то особенной грустью. Надо предпо
ложить, что это была женщина, которую он силь
нее всех любил». Такое примечание мог бы, по
жалуй, сделать и всякий н е п о с в я щ е н н ы й .
Предположение совершенно произвольное, и неиз
вестно почему оно прицеплено к имени Вероники,
а не к какому-нибудь из многих других женских
имен, которые Гейне поминает также со вздохами
и причитаньями такой же точно сентиментальной
искренности. Вейнберг мог бы, например, с брль®
41
шим удобством сказать то же самое о Марии, ко
торую Гейне во второй части «Путевых картин»
вспоминает очень часто, постоянно называя ее
у м е р ш е ю или м е р т в о й , постоянно окру
жая ее имя ореолом загадочности, постоянно на
пуская на себя по этому случаю колорит интерес
ной элегической томности, сквозь которую про
свечивает вечная насмешливая улыбка, и ежеми
нутно намекая читателю на какие-то очень таин
ственные, никому не известные и нисколько не
замечательные события, которых он все-таки не
рассказывает и которые, по всей вероятности, ни
когда ни с кем не случались. Вообще, надо обла
дать огромным запасом доверчивости и доброду
шия, чтобы принимать женские имена, рассыпан
ные по книгам Гейне, за имена действительно су
ществовавших женщин или чтобы видеть в тех
любовных руладах и фиоритурах, которыми за
бавляется Гейне, намеки на радости и огорчения,
действительно пережитые самим поэтом. Мне ка
жется, что fece это — чистейшая фантасмагория,
вызванная великим виртуозом единственно для
того, чтобы насладиться собственным волшебным
могуществом, собственной необыкновенною спо
собностью творить из ничего и разрушать в одну
секунду самые яркие образы.
В шестой главе — воспоминания детства и пре
восходный рассказ о том, как курфирст выехал
из Дюссельдорфа и как вошли в город француз
ские войска.
В седьмой главе юмористические подробности
о школьном учении. Тут появляется барабанщик
Легран, и Гейне рассказывает очень остроумно,
каким образом этот Легран объяснял ему посред
ством барабанного боя смысл новейшей истории.
Тут Гейне выходит на политическую тропинку и
поэтому становится, разумеется, великолепен. Но
уже в конце этой главы Гейне, как достойный
42
ученик наполеоновского барабанщика, падает на
колени перед великим императором.
Этими коленопреклонениями наполнены восьмая
и девятая главы. «И Святая Елена, — говорит
Гейне в IX главе, — сделается священным местом,
куда народы Запада и Востока будут стекаться на
поклонение, на судах, изукрашенных флагами, —
и сердца их окрепнут великим воспоминанием о
деяниях великого человека, пострадавшего при
Гудсон-Ло, как сказано в писании Лас-Каза, Омеара и Антомарки» (т. I, стр. 192). Как вам нравится
это пророчество новой религии — наполеонианства? Впрочем, благоговение Гейне перед в е л и
к и м и м п е р а т о р о м составляет такой интерес
ный патологический феномен, что я буду гово
рить о нем ниже очень подробно.
В десятой главе барабанщик Легран, воплощен
ная скорбь великой армии о великом императоре,
умирает, и Гейне, угадавши его последнее желание,
прокалывает его барабан, чтобы он не был «р а бск им инструментом в руках врагов
с в о б о д ы». — Из этих последних глав читатель
узнает, что великий император был другом свобо
ды и что барабаны его армии спасали Европу от
рабства.
XI глава начинается словами: «Du sublime au
ridicule il n’y a qu’un pas, madame!» (От великого
до смешного — один шаг, сударыня!) Эта истина
доказывается тем, что когда Гейне оканчивает
главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и
попросила Гейне, как доктора, вырезать ее мужу
мозоли. С м е ш н о е состоит в том, что старуха
приняла доктора прав за медика. Что же касается
до в е л и к о г о , то его надо искать в рассказе
о смерти Леграна; чтобы найти это в е л и к о е ,
надо непременно обратиться к помощи иерофантов и мистагогов.
В XII главе написаны слова «немецкие цензоры»
43
и затем десять строк точек. Переход от смешного
и от глупой старухи к немецким цензорам не мо
жет никому показаться удивительным и резким.
В XIII главе — очень остроумные насмешки над
немецким педантизмом и над ученой страстью
к бестолковым цитатам.
Главы XIV и X V рассуждают о дураках и отли
чаются неподражаемым остроумием. «Я живу
в том же городе, — говорит Гейне, — и могу ска
зать, что ощущаю истинное удовольствие, когда
подумаю,' что всех дураков, которых я вижу, я
могу употребить для своих сочинений: это чистые
наличные деньги. Теперь у меня обильная жатва;
бог благословил меня: дураки отлично уродились
в этом году, и я, как хороший хозяин, употребляю
их в небольшом числе, отбираю самых лучших и
откладываю на будущее время. Меня очень часто
можно встретить теперь на гулянье радостного и
веселого. Как богатый купец, потирая от удоволь
ствия руки, ходит между ящиками, бочками и тю
ками своих товаров, так и я прохаживаюсь по
среди моего народа. Все вы мне принадлежите,
все вы мне одинаково дороги, и я люблю вас, как
вы сами любите свои деньги — а это много зна
чит» (т, I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы
можете судить об оригинальности и дерзкой ве
селости этих двух глав.
В XVI главе появляется милая подруга с корич
невой собакой. Гейне вместе с коричневой соба
кой сидит у ног милой подруги, смотрит ей в гла
за, целует ее руки и рассказывает ей о маленькой
Веронике; что он рассказывает ей — неизвестно.
В XVII главе продолжаются, сладостные подроб
ности о милой подруге.
В XVIII главе мы узнаем, что «грудь рыцаря
.была полна тьмою и скорбью». У рыцаря про
исходит свидание с синьорой Лаурою на берегах
Бренты, и таинственно-темный покров лежит над
44
.
этим часом». — При этом читателю, по обыкнове
нию, предоставляется понимать как угодно или
даже совсем не понимать эту таинственную тем
ную главу, заключающую в себе всего полторы
странички.
В XIX главе опять подруга с коричневой соба
кой, опять Вероника, растрогавшая Вейнберга,
опять остиндские пейзажи, хотя уже было объ
яснено, что Гейне — не граф Гангесский, и, нако
нец, желтые пеньковые панталоны, повредившие
молодому человеку во время любовного объясне
ния. Словом, ряд иероглифов-ребусов.
В XX главе что-то такое о страдании и о том,
что молодой человек хотел застрелиться. Этою
главою оканчивается «Книга Легран».
Ш
Подведем итоги. Из 20 глав только пять — VI.
VII, XIII, XIV и X V — удобопонятны и замеча
тельны по своему остроумию. Затем три главы —
VIII, IX и X — славословят Наполеона; одна
глава — XI — повествует о глупой старухе; одна
глава — XII — состоит из точек и, наконец, десять
глав не заключают в себе ничего, кроме неясных
намеков на какие-то чувства, которые испытал
или о которых фантазировал поэт. Конечно, ни
кто не запрещает поэту делиться с публикой сво
ими чувствами или фантазиями: это даже_щрямая
обязанность поэта; но во всяком случае публика
имеет право желать, чтобы с нею говорили удо
бопонятным языком, чтобы все слова и образы,
употребленные поэтом, имели какой-нибудь ясный
и определенный смысл, чтобы поэт не задавал ей
неразрешимых загадок и не превращал своих
произведений в длинную и утомительную мисти
фикацию. Что такое ц в е т ы Б р е н т ы , что такое
В е р о н и к а , что такое н е в ы п л а к а н н а я
45
ф
с л е з а , что такое г р а ф Г а н г е с с к и й, и
какой общий смысл выходит из всех-этих таин
ственных незнакомцев — все это такие вопросы,
на которые читатель имеет полное право требо
вать себе ответа, и если он этого ответа не полу
чает, то имеет полное право подумать и сказать,
что поэт шутит с ним очень плоские шутки.
Было бы очень наивно думать, что в «Книге
Легран» есть и общий смысл, и великая цель, но
что эта цель и этот смысл запрятаны в ней черес
чур глубоко и вследствие этого могут быть оты
сканы и постигнуты только особенно развитыми
и сведущими читателями. Ни цели, ни смысла
в ней нет. Такою же точно бесцельностью, бес
связностью отличаются и все прочие сочинения
Гейне, если брать и рассматривать каждое произ
ведение в целом, а не по частям. Рассмотрите каж
дое произведение Гейне, так, как я рассмотрел
«Книгу Легран», и вы поневоле признаете вер
ность моего непочтительного приговора.
Было бы также в высшей степени наивно ду
мать, что бессвязность, бесцельность и бессмы
сленность могут когда-нибудь и при каких бы то
ни было условиях превратиться в достоинства.
Есть, конечно, любители, способные восхищаться
этими уродливыми особенностями гейневской поэ
зии; есть даже простофили, желающие прививать
эти уродливые особенности к ничтожным выки
дышам своей собственной музы. Но те люди, ко
торых ум не поврежден раболепными отношения
ми к авторитетам и не вертится, как флюгер, со
образно со всеми капризами эстетической моды,
будут говорить постоянно, что стройность, цель
ность и целесообразность составляют необходи
мые качества каждого замечательного произведе
ния, к какой бы отрасли науки и литературы оно
ни принадлежало. Безалаберность всегда и везде
останется крупным недостатком.
46
Но, с другой стороны, для человека, скольконибудь способного понимать и чувствовать, нет
ни малейшей возможности отрицать чарующую
прелесть гейневской поэзии. Прелесть эта состоит,
конечно, не в безалаберности, не в своеобразной
манере, не в прихотливых прыжках, словом — со
всем не в том блистательном юродстве, которое,
по мнению поверхностных ценителей, образует
всю настоящую сущность и весь букет этого не
бывалого и Увиданного литературного явления.
Прелесть эта освещает и согревает туманы безала
берности, она заставляет нас забывать и прощать
все: и нелепость манеры, и безобразия обезьянь
их прыжков; она заставляет нас читать с удоволь
ствием то, в чем нет никакого человеческого смы
сла; но она сама, эта загадочная прелесть, выхо
дит из гораздо более глубоких источников, не
имеющих ничего общего с достоинствами или не
достатками отдельных поэтических произведений,
Прелесть эта заключается в неотразимом обаянии
той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной,
кипучей и пылающей личности, которая смотрит
на вас во все глаза из-за каждой строки, как бы
ни была эта строка ничтожна или безумна. Чтото дышит, что-то волнуется, что-то смеется и пла
чет, что-то томится и кипит во всех этих хаоти
ческих образах, во всей этой дикой гармонии
шальных и разбросанных слов.
Перед вами стоит живописец. На палитре его
горят краски невиданной яркости. Он взмахнул
кистью, и через две минуты вам улыбается с по
лотна или даже просто со стены прелестная жен
ская физиономия. Еще две минуты, и вместо этой
физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; еще несколько
ударов кисти, и сатир превратился в развесистое
дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфо
ровая башня, а под ней китаец на каком-то фан
47
тастическом драконе; потом все замазано черной
краской, и сам художник оглядывается и смотрит
на вас с презрительно-грустной улыбкой. Вы глу
боко поражены этой волшебно-быстрой сменой
прелестнейших картин, которые взаимно истреби
ли друг друга, и от которых не осталось ничего,
кроме безобразного черного пятна. Вы спраши
ваете -у художника с почтительным недоумением,
зачем он губит свои собственные великолепные
создания и' зачем он, при своем невероятном та
ланте, играет и шалит красками, вместо того
чтобы приняться за большую и прочную ра
боту.
— Нечего работать, — отвечает вам художник.
Вы этого ответа не понимаете и просите даль
нейших объяснений.
— Нет сюжетов, — поясняет художник.
Изумление ваше увеличивается, и вы скромно
возражаете, что сюжетов везде и всегда можно
найти бесчисленное множество.
Улыбка художника становится еще презритель
нее и еще грустнее.
— Сюжетом, — говорит он. язвительно отчека
нивая каждое слово, — я называю такую мысль,
которая овладевает всем моим существом и не
дает мне покоя ни днем, ни ночью, до тех пор,
пока я не вырву ее из себя и не прикую ее к по
лотну. Таких сюжетов я не вижу и не чувствую
в окружающей меня атмосфере.
— Но ведь были же у вас мысли, — говорите
вы, — когда вы сейчас набрасывали одну картину
за другой или, вернее,, одну картину на другую.
— Это не мысли, — отвечает художник: — это
мимолетные настроения. Вы сами видели, как они
рождались и как исчезали. Такими мыльными пу
зырями, как эти настроения, можно только уди
влять и забавлять глупых ребятишек, вроде ва
шей милости.
'
■
48
Вы обижены й прекращаете этот щекотливый
разговор.
Я взял тут живописца единственно для того,
чтобы мысль моя выразилась как можно нагляд
нее. Действуя в области такого искусства, кото
рое по своим средствам неизмеримо богаче и по
своему влиянию на общество неизмеримо сильнее
живописи, Гейне, подобно моему фантастическо
му живописцу, не находит себе сюжетов и вслед
ствие этого постоянно шалит и играет, вместо
того чтобы творить. Играми и шалостями напол
нена вся его жизнь, но можно сказать наверное,
что он с радостью отдал бы половину этой жизни,
лишь бы только какая-нибудь высшая сила дала
ему возможность бросить поэтические шалости и
посвятить остальную половину жизни серьезным
и великим подвигам творчества. Грациозное без
дельничанье мучительно и невыносимо для такого
титана, который чувствует себя способным взбро
сить Пелион на Оссу и вступить в крупный раз
говор со всеми обитателями Олимпа. Во время
своих хронических шалостей Гейне небрежно ро
няет на пол свои жгучие сарказмы, которые воз
буждают в окружающих людях чувства ужаса или
восторга; но эти сарказмы могут только служить
образчиками титанической силы и не дают ника
кого приблизительного понятия о тех колоссаль
ных подвигах, которые совершил бы этот титан,
если бы ему удалось найти сюжет и взяться за
работу, способную овладеть всем его существом.
Но сюжет не нашелся, и титан умер, не совершив
ши ничего такого, что было бы вполне достойно
его собственных сия. Титан не виноват. Если он
не нашел сюжета, то значит сюжета действитель
но -и не было, по крайней мере для него, для ти
тана. Лень было искать, скажете вы, оттого и не
нашел. Ошибаетесь, отвечу я. Титану нужен ве
ликий сюжет, а такой сюжет — не иголка. Он не
4 Д.
(V\.
Писарев
49
прячется от людей щ не заставляет себя искать
днем с огнем; такой сюжет сам дерзко и нахально
лезет людям в глаза, поражает их воображение,
разнуздывает их страсти и возбуждает вокруг се
бя ожесточенную борьбу, которая, начавшись
в области мысли, быстро захватывает и напол
няет сферу реальной жизни. Только такой миро
вой сюжет способен зажечь в груди титана тот
великий пожар, от которого тйэлетят во все сто
роны, как блестящие искры, гениальные произве
дения. У Гейне такого сюжета не было и не могло
быть.
1 ,
Чтобы подкрепить это мнение прочными дока
зательствами, надо сначала окинуть общим взгля
дом главные отрасли титанической деятельности,
а потом объяснить смысл той исторической эпохи,
которая произвела и воспитала поэзию Гейне.
IV
Титаны бывают разных сортов.
Одни из них живут и творят в высших обла
стях чистого и бесстрастного мышления. Они под
мечают связь между явлениями, из множества от
дельных наблюдений они выводят общие законы;
они вырывают у природы одну тайну за другой;
они прокладывают человеческой мысли новые до
роги; они делают те открытия, от которых пере
вертывается вверх дном все наше миросозерцание,
а вслед затем и вся наша общественная жизнь.
Их открытия дают оружие для борьбы с приро
дой сотням крупных и мелких изобретателей, ко
торым наша промышленность обязана всем своим
могуществом. Это — Атласы, на плечах которых
лежит все небо нашей цивилизации (премилое не
б о ? — не правда ли?). Но, подобно Атласу, эти
т и т а н ы м ы с л и покрыты вечным снегом. Они
ищут только истины. Им некогда и некого любить;
50
они живут в вечном одиночестве. Их мысли хва*
тают так высоко и так далеко, их труды так
сложны и так громадны, что они во время своей
многолетней работы ни в ком не могут встретить
себе сочувствия и понимания и ни с кем не могут
поделиться своими надеждами, радостями, трево
гами или опасениями. Их начинают понимать и
боготворить тогда, когда цель достигнута и ре
зультат получен. Но и тогда между ними и мас
сою остается длинный ряд посредников и толко
вателей. Только при содействии этих второстепен
ных и третьестепенных деятелей масса получает
кое-какое слабое и смутное понятие о том, что
выработалось в громадных черепах этих Давалагири и Гумалари нашей породы. Чистейшим
представителем этого типа может служить Нью
тон.
Другой тип можно назвать т и т а н а м и л юб 13и 3. Эти люди живут и действуют в самом бе
шеном водовороте человеческих страстей. Они
стоят во главе всех великих народных движений,
религиозных и социальных. Несмотря ни на какие
зловещие уроки прошедшего, несмотря на кро
вавые поражения и мучительную расплату, люди
такого закала из века в век благословляют своих
ближних бороться, страдать и умирать за право
жить на белом свете, сохраняя в полной непри
косновенности святыню собственного убеждения и
величия человеческого достоинства. Гальванизи
руя и увлекая массу, титан идет впереди всех и
с вдохновенною улыбкою на устах первый кладет
голову за то великое дело, которого до сих пор
еще не выиграло человечество. Титаны этого раз
бора почти никогда не опираются ни на обшир
ные фактические знания, ни на ясность и твер
дость логического мышления, ни на житейскую
опытность и сообразительность. Их сила заклю4*
.
51
чается только в их необыкновенной чуткости ко
всем человеческим страданиям и в слепой стреми
тельности их страстного порыва. В былое время,
впрочем еще не очень давно, они искали себе
точку опоры в бездонном пространстве голубого
эфира, потом они стали верить в какую-то отвле
ченную справедливость, которая уже давно соби
рается восторжествовать над земными гадостями
и, наконец, по мнению добродушных титанов
любви, должна когда-нибудь приступить к выпол
нению своего давнишнего замысла. Впрочем, с тех
пор как изобретено книгопечатание и усовершен
ствована во всей Европе сельская и городская
полиция, титаны любви во многих отношениях
изменились к лучшему. Им теперь уж нельзя и
незачем проповедывать на открытом воздухе, где
голубой эфир рассказывает всякому желающему
заманчивые сказки о всевозможных точках опоры
для всевозможных воздушных замков. Им нельзя
увлекать слушателей восклицаниями и телодвиже
ниями. Им пришлось взяться за перо. Они пре
вратились в кабинетных работников и поневоле
должны были познакомиться с великими трудами
титанов мысли. Это сближение между двумя глав
ными областями человеческого титанизма, это
слияние деятельной любви и трезвой науки заклю
чает в себе единственные возможные задатки бу
дущего обновления.
Третью и последнюю категорию можно назвать
т и т а н а м и в о о б р а ж е н и я . Эти люди не де
лают ни открытий, ни переворотов. Они только
схватывают и облекают в поразительно яркие
формы те идеи и страсти, которые воодушевляют
и волнуют их современников. Но идеи должны
быть выработаны и страсти предварительно воз
буждены другими деятелями — титанами двух выс
ших категорий. Материалом может служить для
титанов воображения только то, что люди знают,
£2
и то, чего они хотят. Само собою разумеется,
что не все человеческие знания с одинаковым
удобством облекаются в яркие и блестящие фор
мы; никакому титану не придет в голову дикая и
смешная мысль писать поэму о спутниках Юпи
тера, или о скрытом теплороде, или о произволь
ном зарождении. Для поэмы годится только та
часть человеческих знаний, которая глубоко за
трагивает человеческие страсти, и притом не толь
ко страсти одних специалистов, способных даже
горячиться и ссориться из-за спутников Юпитера,
но страсти всех людей, имеющих возможность по
знакомиться с данным вопросом. Такими вечно
жгучими знаниями могут быть только знания че
ловека о междучеловеческих отношениях. В этой
же области междучеловеческих отношений разы
грываются также и все серьезные и упорные че
ловеческие желания, все те желания, которыми
характеризуются и отличаются друг от друга раз
личные исторические эпохи. Значит, титаны во
ображения располагают богатым запасом материа
ла тогда, когда социальные знания и понятия
людей отличаются большою определенностью и
когда желания или стремления очень ясно обозна
чены, очень сильны, настойчивы и решительны.
Напротив того, когда люди сомневаются в состоя
тельности своих знаний и в то же время не умеют
отдать себе ясный отчет в своих собственных же
ланиях, когда им противно прошедшее и когда
они плохо верят в лучшее будущее, тогда титаны
воображения сидят без сюжетов и от нечего де
лать шалят и играют красками, звуками, словами
и образами.
Великое несчастие титана Гейне состоит вовсе
не в том, что какой-нибудь Меттерних или какойнибудь союзный сейм мешали ему откровенно
объясняться с немецкой публикой. Это несчастие
состоит даже и не в том, что сама немецкая пуб
53
лика отличалась поразительным тупоумием и во
всякую данную минуту была готова и способна
облизать ноги своим злейшим врагам, разорвать
на части своих лучших и бескорыстнейших дру
зей и подарить миру из своих собственных недр
тысячу новых Меттернихов и тысячи новых союз
ных сеймов. Когда человеку мешает работать
грубая'материальная сила, это, конечно, очень не
приятно. Когда человека не понимает то обще
ство, которому он отдает кровь своего сердца и
сок своих нервов, это еще более неприятно, это
даже очень больно, обидно и досадно.
Но все это — такие препятствия, которые могут
и должны быть побеждены сильным напряжением
ума и воли. При всех этих препятствиях настоя
щий источник мужественной энергии и боевого
задора остается нетронутым и незасоренным. Про
тив материальной силы можно действовать хит
ростью. Инквизиторскую проницательность меттерниховских ищеек можно всегда обманывать не
истощимым запасом тех уловок, изворотов, цве
тистых образов и иронических двусмысленностей,
которые постоянно находятся под руками каждо
го даровитого писателя и которые придают искус
но затаенной мысли особенную шаловливую пре
лесть и раздражающую пикантность. Нет той
гремучей змеи, которую нельзя было бы опрятно
и грациозно уложить в невиннейшую и грациоз
нейшую корзину, наполненную самыми великолеп
ными и душистыми цветами. И в этой борьбе
между меттерниховской ищейкой и даровитым
писателем победа непременно должна склоняться
на сторону последнего, потому что ищейка дей
ствует по обязанности службы, а писатель пови
нуется повелительному голосу всепоглощающей
страсти.
1
Равнодушие и непонимание публики — это так
же не бог знаер какое неодолимое препятствие,
54
Если бы это равнодушие и непонимание прости
ралось на всю литературу, без малейшего исклю
чения, то есть если бы публика не обнаруживала
никакой охоты к чтению и не имела бы никакого
понятия об умственных наслаждениях, — тогда
препятствие было бы действительно очень серьез
но и далеко превышало бы силы не только
одного даровитого писателя, но даже и целого
поколения даровитых писателей. Но когда заня
тия текущей литературой сделались насущной
потребностью для того общества, которое считает
и называет себя образованным, тогда даровитому
писателю уже вовсе не трудно сформировать себе
в самое короткое время понимающих и страстно_
внимательных читателей.' Если общество равно
душно к политике и не понимает современной
истории, то, по всей вероятности, оно не равно
душно к театру и превосходно понимает микро
скопические красоты лирического пустословия и
романического селадонетва. Чем равнодушнее
становится общество к великим жизненным идеям,
тем страстнее оно привязывается к прекрасным
формам, которых понимание, впрочем, также из
вращается и мельчает под влиянием общего ум
ственного оцепенения. В Европе так бывало всегда.
Эпохи политического застоя
отупения были
всегда золотыми годами для 'чистого искусства,
которое быстро овладевало всеми умственными
силами общества и потом немедленно вырожда
лось и доходило до последних пределов вычурно
сти и уродливой аффектации. Если титан вообра
жения хочет при таких условиях овладеть внима
нием общества, то ему стоит только воспользо
ваться теми формами, которые нравятся его со
временникам, отчистить, отполировать эти формы,
навести на них новый, волшебно-ослепительный
блеск и потом влить в них то живое содержание,
которое было вытеснено из жизни и из литера
65
туры тяжелыми годами невольной умственной не
подвижности. Современники^накинутся сначала на
ослепительную форму, сияющую пуще всякого
медного таза, но процесс мышления, направлен
ного на ближайшие и важнейшие интересы и во
просы жизни, обладает всегда и для всех такой
неотразимой, такой раздражительной и затягиваю
щей прелестью, что ядро ореха очень скоро будет
вынуто из шелухи и что шумные споры о красо
тах и недостатках оболочки уступят место гораз
до более ожесточенным прениям о питательности
или ядовитости содержания. Пробуждение при
тупленного и деморализованного общества начи
нается обыкновенно с очищения его эстетических
понятий, совсем не потому, что эти понятия важ
нее всех остальных, а потому, что деморализован
ное и притупленное общество только с этой сто
роны оказывается доступным для вразумлений.
Эсгу сторону слабее караулят официальные аргу
сы, любители тупости и безнравственности; кроме
того, сама публика только с одной этой стороны
сохраняет способность видеть, слышать, чувство
вать, понимать, интересоваться и увлекаться. Ру
ководствуясь тем инстинктом, которым обладают
титаны, Лессинг в Германии и Белинский в Рос
сии начали обновление общества со стороны его
эстетических понятий, которые при дальнейшем
развитии умственного движения должны были
отодвинуться на самый задний план. Гейне также
очень ловко умел бороться с равнодушием пуб
лики и побеждать ее непонимание. Как Лессинг
и Белинский сами делались на всю жизнь эстети
ками для того, чтобы положить конец неограни
ченному господству эстетики, так точно Гейне,
осмеивая и убивая бессодержательный романтизм,
пользовался в течение всей своей жизни романти
ческими формами, которых причудливая и необуз
данная дикость очаровывала его современников.
5S
Стало быть, великое нёсчастйё Гейне заключа
лось не в умственной убогости немецкой публики.
Настоящее, роковое несчастйе, гораздо более
неотразимое, чем Меттерних и филистерство, со
стояло в том, что сама соль земли находилась
в недоумении и не знала наверное, что и как со
лить. Лучшие люди, самые умные, самые честные
и самые страстные, искали вокруг себя и внутри
себя твердую точку опоры и не могли ее найти.
Их мучило безверие в самом обширном и глубо
ком значении этого слова. Они не знали, на что
надеяться и чего желать. В этом отношении луч
шие люди первой половины XIX века были гораз
до несчастнее своих предшественников и своих
преемников 4. Предшественники верили в полити
ческий переворот; преемники верят в экономиче
ское обновление; а посредине лежит темная тру
щоба, наполненная разочарованием, сомнением и
смутно-беспокойными тревогами; и в самом центре
этой темной трущобы сидит самый блестящий и.
самый несчастный ее представитель — Генрих Гей
не, который весь составлен из внутренних разла
дов и непримиримых противоречий.
V
Передовые мыслители XVIII века были глубоко
убеждены в том, что хорошее правительство мо
жет в самое короткое время поставить любой на
род на высшую ступень'ку цивилизации и блажен
ства. Мудрый законодатель и золотой век — это,
по их мнению, были два поцятия, неразрывно
связанные между собою, как причина и следствие.
Задача человечества представлялась в самом про
стом и элементарном виде: обезоружь тиранов,
посади мудрецов в государственный совет и по
том блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое
блаженство на вечные времена, то наблюдай толь57
ко за тем, чтобы мудрецы не глупели и не лука
вили. Чуть заметил недосмотр или фальшь, сейчас
отставляй мудреца от должности, замещай его но
вым благодетелем и будь уверен, что блаженству
твоему не предвидится конца. Те люди, которые
веруют в конституцию, как в универсальное ле
карство, рассуждают именно таким образом, по
тому что всевозможные конституционные гаран
тии и уравновешивания клонятся исключительно
к тому, чтобы урегулировать смещение мудрецов,
пришедших в негодность, и выбор новых мудре
цов, долженствующих занять их место. Откуда
взялось это заблуждение, обольстившее XVIII век
и не совсем утратившее свою силу до настоящего
времени, — понять не трудно. Дело в том, что
дурное правительство действительно может при
чинить народу необъятнуго массу разнообразного
зла. Если бы дурному правительству, вроде ту
рецкого или персидского, удалось при помощи
вооруженной силы утвердиться в роскошной стра
не, населенной деятельным и даровитым народом,
и если бы это дурное правительство успело заду
шить все взрывы народного негодования, то через
несколько десятилетий страна превратилась бы
в пустыню, и остатки народа сделались бы толпою
нищих, идиотов и негодяев. Такое разрушение
народного богатства, народных сил и народного
ума производилось перед глазами тех мыслителей,
которых работы положили свою печать на все
умственное движение прошлого столетия. Дур
ное правительство Людовика XIV, Филиппа Ор
леанского и Людовика X V превращало Францию
в пустыню, а французов — в нищих, которым бы
ли одинаково сподручны идиотизм, негодяйство
и голодная смерть. Мыслители могли проследить
шаг за шагом все развитие зла; они могли дока
зать самым осязательным образом, что все эго
зло сделано дурным правительство^. Они видели
58
.
собственными глазами, как колоссально может
быть влияние правительства, в дурную сторону;
они умозаключили совершенно справедливо, что
народ испытал бы значительное облегчение, если
бы правительство на будущее время просто и
скромно стало воздерживаться от грубых ошибок
и от слишком скандалезного озорства. Но тут
уже трудно было остановиться во-время на пути
умозаключений. Тут сейчас подвертывалась та,
повидимому, несомненно истинная мысль, что если
правительство может все погубить, то оно может
также все спасти, воссоздать, исправить, обновить
и довести до высшей степени совершенства.
Итак, в XVIII веке дело шло о том, чтобы вру
чить правление искренним друзьям и достойным
представителям народа. Такой опыт был произ^веден во Франции и окончился неудачею. Неуда
чею— не в том смысле, что революция не при
несла Франции никакой пользы, а только в том
смысле, что результат не соответствовал наивно
преувеличенным ожиданиям народа и его вождей.
Феодализм был вырван с корнем; поземельная
собственность распределилась равномернее. Вме
сто тысячи местных обычаев выработан один об
щий кодекс гражданских и уголовных законов,
одинаково обязательных для герцога и для му
жика; наследственное чиновничество уничтожено;
старое, дорогое и запутанное судопроизводство
заменено новым, гораздо более рациональным,
быстрым и дешевым. Словом, великое множество
авгиевых стойл, не чищенных со времени Гуго
Капета, снесено прочь до основания. В числе
этих стойл цехи заслуживают самого почетного
упоминания. Вообще в одно десятилетие был сде
лан невероятно громадный и - совершенно беспо
воротный шаг вперед, которого потом не могла
затушевать самая бешеная реакция. Восстановить
цехи, внутренние таможни, местные обычаи, цер
59
ковную десятину, помещичьи права — шалишь!
Об этом не осмеливалась заикнуться даже С ha en
ti re i n t г о u v a b 1e * того толстого Людовика,
который наперекор всем историческим фактам
упорно называл себя XVIII-м. Э то значило бы
буквально искать вчерашнего дня или прошлогод
него снега. Но золотой век все-таки не наступил,
а надежды были так неудержимо размашисты и
так сильно возбуждены, что уже одно это обстоя
тельство, одно это ненаступление золотого века
повело за собою великое, долговременное и му
чительное разочарование.
f
В это время, под влиянием разочарования и
реакции, в Европе распустился чахлый и бледный
цветок либерализма. — Надежды наши разбиты,
думали искренние либералы, потому что эти на
дежды вообще были Неосуществимы. Золотой век
всеобщего довольства и ненарушимого братолю
бия не наступит никогда. Мечтать нам бесполез
но. Стремиться к нему безумно и преступно.
Земля их слишком мала и бедна. Люди слишком
многочисленны. Страсти их слишком пылки и
разнообразны. Вечная борьба между людьми не
избежна. Поэтому надо заботиться только о том,
чтобы борьба всегда и везде решалась личными
достоинствами, а не прерогативами рождения.
Надо твердо стоять на той почве, которую рас
чистили для нас великие принципы 1789 года.
С одной стороны, надо отстаивать приобретения
великого переворота против отвратительных за
мыслов реакционеров, мечтающих о восстановле
нии феодализма; с другой — надо держать в ежо
вых рукавицах тех сумасбродов, которые, считая
себя законными преемниками великих деятелей,
стараются увлечь общество в бездну анархии, ра
зорения и варварства. — Так рассуждали либера§0
* П е р е в о д : Незаменимая палата. Лес*.
.
лы, и по этой программе располагались все йК
действия.
Искренние либералы, желавшие доставить наро
ду счастье, но считавшие это счастье недостижи
мым для масс, составляли незначительное мень
шинство. Настоящая боевая армия либерализма
состояла из таких людей, которые жадно соби
рали плоды великого переворота и нисколько не
желали, чтобы число счастливых собирателей уве
личилось. На развалинах старого феодализма
утвердилась новая плутократия, и бароны финан
сового мира, банкиры, негоцианты, коммерсанты*
фабриканты и всякие н а д у в а н т ы вовсе не бы
ли расположены делиться ' с народом выгодами
своего положения. Слово п л у т о к р а т и я про
исходит от греческого слова п л у т о с, которое
значит б о г а т с т в о . Плутократией называется
господство капитала. Но если читатель, увлекаясь
обольстительным созвучием, захочет производить
п л у т о к р а т и ю от русского слова п л у т , то
смелая догадка будет неверна только а этимоло
гическом отношении.
Бароны финансового мира образовали новый
класс привилегированных особ и, прикрываясь ве
ликими принципами 1789 года, стали защищать
только свои собственные привилегий'. Те искрен
ние друзья народа, которым пришлось житй и
действовать в первой половине текущего столе
тия, очутились таким образом в'компании самого
сомнительного достоинства. ■
Рыхлая и бессвязная политическая партия, со
ставленная из близоруких лавочников, честолюби
вых шарлатанов, уклончивых юристов и немногих
искренних, но. глубоко разочарованных друзей на
рода, могла иметь некоторый смысл и кое-какую
энергию только тогда, когда надо было осажи
вать и обуздывать шальных реакционеров, поте
рявших на старости лет последние остатки здра61
вого человеческого рассудка. Император Франц,
князь Меттерних, союзный сейм, герцог Веллинг
тон, маркиз Лондондерри, С h a m b г е i n t г о иv a b l e , Карл. X, иезуиты и пиетисты — были на
стоящим и неоцененным сокровищем для комиче
ски несчастной партии либералов. В самом деле,
чем бы эти несчастные либералы стали наполнять
свои досуги, чем могли бы они заработать себе
европейскую знаменитость, какими терновыми
венцами могли бы они избороздить свои инте
ресно-бледные лбы, — если бы великодушные ре
акционеры не доставляли им обильных случаев
оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать,
горячиться и доказывать торжественно, что' два
жды два — четыре и что мужик не любит платить
десятину? Как только пылкие обожатели средне
векового порядка вымерли или перестали быть
опасными, как только либеральная партия одер
жала победу над своими благодетелями, так тот
час же либеральная партия расползлась на свои
составные части. Честные и умные люди отшат
нулись от нее прочь, а легион пройдох и торга
шей, осененный знаменем в е л и к и х п р и н ц и
п о в , стал представлять такое уморительное зре
лище, что обнаружилась настоятельная необходи
мость свернуть и спрятать тихим манером ком
прометирующее знамя и выставить новый штан
дартик, на котором вместо крикливых слов:
« б р а т с т в о , р а в е н с т в о , с в о б о д а ! » было
написано приглашение не воровать носовых плат
ков и не ломать мостовую. Либералы очень го
рячо и настойчиво добивались свободы печати,
но свобода печати был-а им необходима только
для того, чтобы доказывать ежедневно, что два
жды два — четыре, что бережливость есть мать
всех миллионов и всех добродетелей, что силою
ума и характера поденщик может сделаться бан
киром и пэром Франции, что евреи имеют осно*
62
вательные причины считать себя людьми и что
папе было бы очень полезно познакомиться с си
стемою Коперника, открыть свои объятия всему
человечеству и записаться в -ряды просвещенных
и умеренных либералов. Когда же свободная пе
чать начала знакомить мир с новыми истинами,
опасными для финансового феодализма, тогда ли
бералы первые закричали «караул!» и выдумали
новое слово l i c e n c e * для обозначения печат
ных ужасов, от которых надо укрываться под
защиту городского сержанта.
Барышники знали, чего хотели. Они были очень
довольны собой и всею политикою. Внутренние
противоречия их не смущали. Они говорили, что
жизнь не математика, и что непоколебимая вер
ность основной идее так же невозможна в жизни,
как невозможен в природе математический маят
ник. Этим людям было хорошо, тепло и весело.
Смотря по требованиям данной минуты, они то
отвергали принцип, допуская в то же время его
последствия, то отвергали последствия, допуская
принцип.
Так, например, в первой четверти нашего столе
тия многие английские лорды пожелали увели
чить доходность своих владений и с этой целью
нашли удобным превратить пахотные земли
в пастбища, на которых должны воспитываться
феноменально жирные и прекрасные быки и ба
раны. Когда окончился срок заключенным кон
трактам, тогда владельцы предложили фермерам
уходить на все четыре стороны и вслед за тем
немедленно приказали разрушить те усадебные
строения, в которых эти люди родились, вы
росли, быть может, даже состарелись и надея
лись умереть. Тысячи семейств оказались без
приюта, старики и дети умирали от истощения
* Перевод:
Позволение, разрешение, патент. Ред.
63.
сил, женщины разрешались от бремени в откры
том поле; словом, происходили такие странные
сцены, которые, повидимому, были уместны и по
зволительны только во время нашествия непри
ятеля. Либеральная европейская пресса ударила
в набат. Вот, мол, они каковы А- эти олигархи,
эти феодалы, эти варвары и кровопийцы!
Все эти либеральные завывания можно было
приостановить одним простым вопросом: земля
чья?
— Земля господская.
— Так чего же вы беснуетесь?
— Но эти несчастные фермеры! Куда же они
пойдут?
— Куда угодно. В рабочий дом, в тюрьму,
в Ирландский канал, в Немецкое море, в ближай
ший пруд, на виселицу, к чорту на кулички, или
в какое-нибудь другое злачное и приятное место.
Лорды не имеют права и, как добрые граждане,
уважающие законы своего отечества, даже не же
лают стеснять своих бывших фермеров в выборе
новой резиденции.
— Это ужас, это убийство!
— Неправда! Это логика!
Вы, господа либералы, учились римскому нра
ву. Вы называете его п и с а н н ы м р а з у м о м
(la raison ecrite).
Вам должно быть известно,
что право собственности есть j u s u t e n d i et
a b u t е n d i (право пользоваться и злоупо
треблять). Желая получать с своей земли возмож
но большие доходы, лорд только пользуется этой
землей, а не злоупотребляет. Значит, он не 'только
не выступает из должных границ своего неотъем
лемого и священного права, но даже далеко не
доходит до тех границ, которые очерчены вокруг
него нашим п и с а н н ы м р а з у м о м . Из-за че
го же вы лезете на стену, когда все в обществе
обстоит благополучно и когда спокойно и тор64
жественно развертываются прямые и законные
последствия той идеи, перед которой вы стоите
на коленях? Если же римское определение ка
жется вам неудобным, попробуйте сочинить но
вое. Но при этом будьте осторожны. Вы рискуе
те поднять из свежей могилы труп обезглавленно
го Бабефа. Вы рискуете вызвать из глубины дале
кого прошедшего великие тени Кая и Тиверия
Гракхов. Вы рискуете потревожить грозный при
зрак аграрных законов.
Много таких потоков красноречия можно было
бы направить против европейских либералов, осу
ждавших энергические хозяйственные распоряже
ния английских землевладельцев. Но все эти по
токи пропали бы даром, потому что либералы ре
шительно ничем не рисковали. Опасность угро
жал^ бы им только в том случае, если бы они
хоть сколько-нибудь уважали логику. Для чело
века последовательного изменить римское опре
деление собственности значит перестроить сверху
все здание междучеловеческих отношений. Для
просвещенного либерала это значит внести в кни
гу законов лишнюю ограничительную закорючку,
способную порождать ежегодно две-три сотни
лишних процессов.
Когда благоухания какого-нибудь авгиасова
стойла доводят просвещенного и чувствительного
либерала до тошноты или до обморока, тогда ли
берал, очнувшись и собравшись с силами, брыз
гает в убийственное стойло одеколоном, или ста
вит в него курительную свечку, или- выливает
в него банку ждановской жидкости.
И к этой либеральной партии, к этому разла
гающемуся трупу Жиронды, был привязан в тече
ние всей своей жизни гениальный поэт Генрих
Гейне.
1
-■ ' . .
6 Д. И, Писарев
65
VI
Сарказмы Гейне злы, метки и картйнны. Но те
политические убеждения, из которых они выте
кают, очень неглубоки, неясны и нетверды. Гей
не — х р а б р ы й с о л д а т ; он превосходно вла
деет оружием, но в его нападениях нет общего
плана и руководящей идеи.
Гейне — либерал, но, как человек очень умный,
очень страстный, переполненный горячею любовью
к людям, он никогда не мог застыть и одеревянеть в близорукой и самодовольной рутине либе
рализма. Он оставался вечно неудовлетворенным '
не только в действительной жизни, но даже в об
ласти мыслей и желаний. Вокруг себя он не на
ходил ни одного явления, к которому можно было
бы привязаться горячей и безраздельной любовью.
Внутри себя он не находил ни одной идеи, на
которую можно было бы опереться, ни одного
желания, ради которого стоило бы, очертя голо
ву, броситься в пропасть, ни одной мечты, кото
рой умный человек мог бы отдаться без оглядки
всеми силами своего существа.
Находясь в таком положении, спокойные и хо
лодные натуры, подобные Гете и Горацию, ми
рятся с тем убеждением, что ж и з н ь — п у с т а я
и г л у п а я ш т у к а , принимают за правило,
что надо ж и т ь , п о к а ж и в е т с я , устраивают
свое существование по рецепту умеренной и
светлой эпикурейской мудрости, пишут грациоз
ные оды к Лигурину и к Делии или делают свой
кейф на пестрых и мягких подушках западно
восточного дивана \
Но для настоящих титанов, для бурных и вул
канических натур, подобных Гейне и Байрону,
такое сахарное блаженство остается навсегда не
понятным и недоступным. Эти люди могут быть
до некоторой степени счастливы только тогда,
66
когда они окунаются с головой в омут страстной
и ожесточенной борьбы за идею. Этим людям не
обходимы цельные и громадные чувства, сильные
и мучительные потрясения нервной системы. Им
необходимо любить, ненавидеть, желать, стре
миться и бороться так, чтобы при этом совер
шенно забывать о мелких будничных интересах
собственной личности. Все это не всегда оказы
вается возможным, потому что в истории слу
чаются длинные и томительные, скучные ан
тракты, когда старые идеи блекнут и линяют,
а новые только что начинают зарождаться в ра
бочих кабинетах немногих титанов, еще неизвест
ных своим современникам. Во время таких ан
трактов цельным и громадным чувствам не к чему
привязаться; а между тем эти чувства все-таки
ищут себе выхода и все-таки никак не могут раз
меняться на мелкую монету усладительных вздо
хов, грациозных симпатий, миловидных волнений,
покорных улыбок и официальных восторгов. Зная
пустоту и бесцветность своего времени, несчаст
ные титаны воображения, удрученные потреб
ностью любить, ищут себе предмета любви до
конца своей жизни, мечутся, как угорелые, из
угла в угол, перерывают весь мир существующих
идей, стараются влюбить себя насильно и при
этом смеются над своими бесплодными усилиями
таким демоническим смехом, от которого у слу
шателей мороз пробегает по коже. Наконец длин
ный ряд бесплодных усилий доводит титана до
такой лихорадочной раздражительности и награ
ждает его на всю жизнь такой болезненной недо
верчивостью, что ему случается брать в руки,
осматривать со всех сторон и потом бросать
с презрительным смехом в общую кучу забрако
ванных нелепостей ту самую идею, в которой за
ключается заря лучшей исторической будущности
и которая могла бы доставить ему, несчастному
Ь7
Титану, самые высокие из всех доступных чело
веку наслаждений.
Сам Гейне превосходно понимал или, по край
ней мере, очень верно угадывал настоящую при
чину своего рокового несчастия, не имевшего, ко
нечно, ничего общего с какой-нибудь личной
утратой или со старой историей о том, что он
е е любил, а она е г о не любила.
«Любезный читатель, — говорит Гейне во вто
рой части «Путевых картин», — может быть, и ты
из числа тех благочестивых птичек, что согласно
вторят песне о байроновской разорванности, песне,
которую мне уже лет десять насвистывают и напе
вают на все лады и которая даже в черепе марки
за, как ты видишь, нашла отголосок? Ах, любез
ный читатель, если ты вздумаешь горевать об
этой разорванности, пожалей лучше, что самый
мир разорван из конца в конец. Ведь сердце
поэта — центр мира; как же не быть ему в настоя
щее время разорванным? Кто хвалится своим
сердцем, что оно осталось у него цело, тот толь
ко доказывает, что у него прозаическое, оторван
ное от всего мира сердце. По моему же сердцу
прошел большой мировой разрыв, и в этом я ви
жу доказательство, что судьба почтила меня вы
сокой милостью в сравнении с другими и сочла
достойным поэтического мученичества. Прежде,
в древние и средние века, мир был цел; несмотря
на внешние борьбы, было единство в мире; были
и цельные поэты. Станем чтить этих поэтов и
радоваться ими; но всякое подражание их целост
ности будет ложью, которая не обманет ничьего
здорового глаза и не избегнет тогда насмешки.
Недавно с большим трудом добыл я в Берлине
стихотворения одного из таких цельных поэтов,
очень жаловавшегося на мою байроническую ра
зорванность, и от фальшивых красок его нежных
сочувствий к природе, которыми веяло на меня от
68
■
книги, как от свежего сена, бедное сердце мое,
и без того надорванное, чуть было не лопнуло
от смеха, и я невольно вскричал: «Любезный мой
интендант-советник Вильгельм Нейман! Что вам
за дело до зеленых деревьев?» (т. II, стр. 154).
Большой мировой разрыв, проходящий по серд
цу поэта и отражающийся в разорванности его
произведений, — это, конечно, очень смелый поэ
тический образ, но в этом образе нисколько не
искажена и даже не преувеличена самая чистая
истина. Читателя могут ввести в заблуждение
только слова Гейне о цельности мира в древние
и средние века. Основываясь на этих словах, чи
татель может подумать, что сердце поэта могло
быть цело только тогда и что поэтическая разо
рванность родилась на свет вместе с началом вели
кой борьбы против средневековых идей и учре
ждений. Такое мнение читателя было бы совершен
но ошибочно. Разорванность лежит в гораздо бо
лее тесных и ясно обозначенных границах. Ни
каких признаков разорванности нельзя найти не
только в поэтах времен Людовика X IV , не только
в Мильтоне и Клопштоке, но даже в Шиллере и
во всех передовых мыслителях, господствовавших
над умами французов во второй половине про
шлого столетия. При Людовике X IV мир был еще
цел, хотя средневецрвый порядок был уже нару
шен в самых существенных
своих чертах.
В XVIII веке мир был уже разорван диаметрально
противоположными стремлениями двух неприми
римых партий, из которых одна тянулась к бу
дущему, веровала в разум, а другая ухватывалась
за прошедшее и не веровала ни во что, кроме
штыков и картечи. Мир был разорван, но сердца
поэтов и друзей человечества были в высшей сте
пени цельны, здоровы и свежи. Эти сердца очу
тились целиком по одну сторону разрыва. В мыс
лях, в чувствах, в желаниях Вольтера, Дидро,
.
69
Гольбаха не было ничего похожего на раздвоен
ность или нерешительность. Эти люди не знали
никаких колебаний и не чувствовали никогда ни
малейшей жалости или нежности к тому, что они
отрицали и разрушали. По силе своего воодуше
вления, по резкой определенности своих поня
тий, по своей невозмутимой самоуверенности эти
люди''могут выдержать сравнение с любым сред
невековым фанатиком. А фанатизм и разорван
ность — два понятия, взаимно исключающие друг
друга. Та разорванность, которую Гейне видит
в самом себе и в Байроне, составляет прямой ре
зультат громадного разочарования, овладевшего
лучшими людьми образованного мира после не
удачного финала французской революции. Тут
лучшие люди стали сомневаться в верности своих
идей, тут они бросили грустный и тревожный
взгляд назад, на оторванное прошедшее, и тут
их сердца попали под черту мирового разрыва,
потому что им показалось, что вместе с прошед
шим они оторвали от себя часть своей собствен
ной души. Это был оптический обман. Эти ужасы
привиделись им только потому, что будущее
было заслонено серыми и грязными тучами, сквозь
которые еще не пробивался луч новой руко
водящей идеи, способной заменить собой поте
рянную веру в чудотворную силу голых полити
ческих переворотов. Когда появилась эта идея,
тогда исчезла разорванность лучших людей, ис
чезла впредь до ближайшего общеевропейского
разочарования, — если только такое разочарова
ние действительно возможно. На наших глазах
живут и действуют снова цельные люди, идущие
вперед очень твердыми шагами к очень определен
ной цели. В Прудоне, в Луи Блане, в Лассале нет
уже никаких следов байроновской или гейневской
разорванности. Если бы в наше время сформиро
вался великий поэт, то его сердце, наверное, было
70
бы также перекинуто целиком за черту мирового
разрыва, и эта цельность не имела бы ничего об
щего с интендант-советником Вильгельмом Нейма
ном и с запахом свежего сена.
Замечу между прочим, что стрела, пущенная ми
моходом в какого-то неизвестного или, может
быть, даже не существующего интендант-советни
ка Вильгельма Неймана, попадает прямо в грудь
тайного советника Вольфганга фон Гете. Трудно
предположить, чтобы это косвенное- нападение бы
ло сделано нечаянно. «Путевые картины» /были
изданы в 1826 году — тогда, когда Гете был еще
жив, и когда все немцы, считавшие себя скольконибудь компетентными судьями в деле поэзии и
возвышенных ощущений, буквально лежали у ног
этого человека, торжественно возведенного в сан
величайшего из европейских поэтов. Поэтому нет
почти ни малейшей возможности допустить то
предположение, что Гейне, размышляя о характе
ристических особенностях истинного поэта, упу
стил из виду ту крупную личность, которая счи
талась в то время настоящим воплощением поэ
зии. Если же Гейне, рассуждая о мировом раз
рыве, хорошо помнил поэтическую физиономию
Гете, то Гейне должен был также видеть и пони
мать очень ясно, что сердце Гете осталось совер
шенно нетронутым, что в этой цельности нет ни
чего похожего на страстную цельность Вольтера
и Дидро, что, следовательно, сердце Гете о т о
р в а н о от в с е г о м и р а и что с у д ь б а не
с очла его д о с т о й н ы м п о э т и ч е с к о г о
м у ч е н и ч е с т в а . Эти заключения совершенно
неотразимы. — Никто, конечно, не скажет о про
изведениях Гете, что они распространяют з а п а х
с в е ж е г о с е н а и возбуждают в читателях го
мерический хохот, но зато можно сказать навер
ное, что бесчисленное стадо подражателей вели
кого индиферентиста наградило Германию целыми
71
стогами с в е ж е г о с е н а и что л ю б е з н ы й
интендант-советник Вильгельм Ней
ма н , от которого едва не лопнуло сердце Гейне,
наверное, падал ниц перед Гете и со всей добро
совестной аккуратностью прусского чиновника
старался итти по его следам. Quod licet Jovi, non
licet bovi (что позволено Юпитеру, то не позво
лено быку); но тот Юпитер, который увлекает
многие тысячи быков на ложную дорогу, быкам
вовсе не свойственную, никак не может считаться
просветителем скотного двора. Гете, конечно,
очень умен, очень объективен, очень пластичен, и
так далее; все это при нем и остается на вечные
времена. Но своему отечеству Гете сделал чрез
вычайно много зла. Он вместе с Шиллером укра
сил, тоже на вечные времена, свиную голову не
мецкого филистерства лавровыми листьями бес
смертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам
немецкий филистер имеет возможность мирить
высшие эстетические наслаждения с самой бес
цветной пошлостью бюргерского прозябания. Он
читает своих великих поэтов и вздыхает над ни
ми, и умиляется, и заводит глаза, как откормлен
ный кот, и остается безнадежным пошляком, и
твердо уверен при этом, что он человек и что ни
что человеческое ему не чуждо. И все это про
исходит оттого, что в великих поэтах немецкого
филистерства нет живой струи отрицания. Имен
но по этой причине их любят и читают немецкие
филистеры,/и по этой же самой причине, любя и
'■tmm ВД,гонце рцтаются филистерами. Где нет
жедчигРчте)ме^д1Н!гам1гН%т; надежды на обновление.
Где [-нет теарквРШВ,,от#Мн®$т,сИ „настоящей любви
к Д1елр©еде1едак|тэ&?яивс^(йтй)те)туб,©диться в этой
иот!Инет.‘ЛЙ»ИО»!РИШЛЗЙ1|©®0№П1 а&дцкрлелцые сар
казм» цршшо вдийШ0к§)й5£Иофадаййй?. (пТетаикры
увнмтй;.дайШ1фЙЬйтед^ад ЩВДЩШНаэФ вдтиншй
любовью:•нена«истцгир|;рдйвадад1тй‘ьфр1?)Вррдар)-1о л
п
.
•
V II
Не удовлетворяясь либерализмом и в то же
время не имея возможности выработать себе соб
ственными силами другой, более широкий и
разумный взгляд на явления общественной жизни,
Гейне в Деле политики поневоле остался навсегда
блестящим дилетантом. Лучший из немецких ли
бералов, Людвиг Берне,' стоявший уже на пороге
новых экономических теорий, не раз пе'чатно
упрекал и уличал Гейне в легкомыслии, в бесха
рактерности и даже в совершенном отсутствии
серьезных политических убеждений. «Я, говорит
Берне в своих «Парижских письмах», могу снисхо
дительно смотреть на детские игры, на страсти
юноши. Но когда, в минуту самой кровавой бит
вы, мальчишка, гоняющийся на поле сражения за
бабочками, попадет мне под ноги; когда в минуту
большого бедствия, когда мы горячо молимся бо
гу, молодой фат становится подле нас в церкви
и только глазеет на молодых девушек да переми
гивается и перешептывается с ними, — тогда, не
будь сказано в обиду нашей философии и гуман
ности, мы не можем не сердиться.. . Кто признает
искусство своим божеством и тут же, смотря по
расположению духа, обращается с молитвами
к природе, тот в одно и то же время "является
. преступником против искусства и против приро
ды. Гейне выпрашивает у природы ее нектар и
цветочную пыль и строит ее улей из воска искус
ства, но он не строит улей для того, чтобы хра
нить в нем мед, а собирает мед для того, чтобы
наполнить улей. Оттого-то он не трогает, когда
плачет, потому что вы знаете, что слезами он
только поливает свои цветочные гряды. Оттогото он не убеждает тогда, когда говорит правду,
потому что в правде он любит только прекрасное.
Но правда не всегда прекрасна, она не всегда
'
'
73
остается прекрасною. Проходит много времени,
пока она зацветет, а отцветает она прежде, чем
принесет плоды. Гейне поклонялся бы немецкой
свободе, если бы она была в полном цвету; но так
как по причине холодной зимы она закрыта на
возом, то он не признает и презирает ее. С ка
ким прекрасным одушевлением он говорит о рес
публиканцах в церкви св. Марии, о их геройской
смерти! То была счастливая битва, в которой бой
цы могли выказать прекрасное сопротивление
своим врагам и умереть прекрасною смертью за
свободу! Но если б в этой битве не было столько
прекрасного, Гейне посмеялся бы над нею. Если
бы в ту приснопамятную минуту, когда Франция
очнулась от своего тысячелетнего сна и покля
лась, что не будет больше спать, Гейне посадили
в залу Мяча (jeu de Раите), он сделался бы самым
отчаянным якобинцем. Но заметь он в кармане
Мирабо трубку с краено-черно-золотрй кисточ
кой — к чорту свободу! И он ушел бы оттуда и
стал бы писать прекрасные стихи в честь прекрас
ных глаз Марии-Антуанетты».
Политический дилетантизм Гейне охарактери
зован здесь великолепно. Но Берне очень сильно
ошибается в одном пункте. Он отрицает у Гейне
способность глубоко любить и ненавидеть. Он го
ворит, что Гейне плачет для того, чтобы слезами
поливать свои цветочные грядки. Он думает, что
великому разорванному поэту легко, приятно и
весело быть дилетантом. Он не видит трагиче
ской, роковой и мучительной стороны этого ди
летантизма. Это грубая ошибка, впрочем совер
шенно естественная со стороны раздражительного
и страстного политического бойца. Что Гейне не
был на самом деле счастливым и легкомысленным
мотыльком, что его слезы и его смех стоили ему
недешево, чтскему были коротко знакомы жесто
кие внутренние бури и разрушительные умствен74
ные тревоги, — это доказывается всего убедитель
нее тем страшным расстройством нервной систе
мы, которое под конец его жизни буквально нало
жило на него венец п о э т и ч е с к о г о м у ч е
н и ч е с т в а . Если бы Берне мог предвидеть та
кой исход, он, по всей вероятности, не решился
бы упрекнуть в поливании цветочных грядок ве
ликого и несчастного поэта, изнемогавшего под
блестящим, но тяжелым крестом вынужденного
дилетантизма. Далее, очень странен упрек в том,
что Гейне презирает немецкую свободу, закрытую
навозом по причине холодной зимы. Тут Берне,
повидимому, зарапортовался. По крайней мере,
трудно понять, какой осязательный смысл вложен
в эту хитрую метафору. Х о л о д н а я з и м а —
торжество феодалов и ретроградов. Н а в о з —
система Меттерниха и союзного сейма. Прекрасно!
Но во время такой х о л о д н о й з и м ы нечего
и говорить о немецкой свободе как о реальном
факте. Немецкая свобода как реальный факт по
ложительно не существует, если она боится про
студы и благоразумно почивает под навозом.
А что не существует, того нельзя ни презирать,
ни уважать. Если же Берне толкует тут об и д е е
немецкой свободы, то, во-первых, идея не знает
никаких времен года, всегда находится в полном
цвету, никогда не лежит под навозом и вообще
повинуется только законам своего собственного
внутреннего развития. А во-вторых, — Гейне, при
всей- своей необузданной страсти персифлировать
врагов и друзей, никогда не отзывался насмешли
во или презрительно об идее немецкой свободы.
Как бы то ни было, главный факт
действитель
ное существование гейневского дилетантизма —
все-таки не подлежит ни малейшему сомнению.
В книге своей «О.^Людвиге Берне» Гейне выпи
сывает выше отрывок из «Парижских писем» для
того, чтобы показать, какие на него взводились
75
неосновательные обвинения. «Не определенными
словами, но всевозможными намеками меня обви
няют там, — говорит Гейне, — в самом двусмы
сленном образе мыслей, если уже не в совершен
ном отсутствии его. Точно таким же образом
дается там заметить, что я отличаюсь не только
индиферентизмом, но противоречием с самим
собою» (т. VI, стр. 316).
Гейне совершенно напрасно говорит о каких-то
в с е в о з м о ж н ы х н а м е к а х . Берне, напротив
того, выражает свои обвинения самыми о п р е
д е л е н н ы м и с л о в а м и . Читатель уже видел
образчик этих обвинений и, по всей вероятности,
согласится, что в резких сравнениях и антитезах
Берне нет ничего похожего на косвенный намек.
Кажется, нет возможности выражаться яснее, пря
мее и нагляднее. Гейне думает и утверждает, что
он стоит выше подобных обвинений, и не хочет
оправдываться. Но именно в той самой книге, где
он цитирует «Парижские письма», он чуть не на
каждой странице дает внимательному читателю
самые поразительные доказательства своего поли
тического безверия и дилетантизма. Он как будто
нарочно старается подтвердить все те обвинения,
к которым он относится с такой великолепной са
монадеянностью.
#
Гейне не хочет, чтобы его считали союзником
Берне. Книга «О Людвиге Берне» была написана
именно для того, чтобы провести между обоими
писателями ясную пограничную черту. Стараясь
отделить себя от Берне, Гейне в то же время не
может не уважать его. Этим искренним и глубо
ким уважением проникнута вся книга, в которой
автор, тем не менее, сурово осуждает Берне и не
редко персифлирует его. Отклоняя от себя вся
кую умственную солидарность с таким писателем,
которому он сам не может отказать в глубоком
уважении, с таким писателем, который все:таки до
76
конца жизни боролся и Страдал за великую и свя
тую идею, — Гейне, очевидно, должен был собрать
все свои силы, пересмотреть все свои убеждения
и представить самую полную и отчетливую кар
тину своего собственного образа мыслей, такую
картину, которая доказала бы неопровержимо ему
самому и всем его читателям неизбежность, необ
ходимость и глубокую законность его разрыва
с величайшим предводителем немецких либералов.
Гейне сам понимает главную задачу своей книги
именно таким образом: «Я считаю себя обязан
ным,— говорит он, — изобразить в этом сочине
нии и мою собственную личность, так как, вслед
ствие сплетения самых разнородных обстоя
тельств, как друзья, так и враги Берне, говоря о
нем, непременно заводили с большим или мень
шим доброжелательством или зложелательством
речь о моей литературной и общественной дея
тельности» (т. VI, стр. 311).
Какими же чертами изображает Гейне свою соб
ственную личность? Такими чертами, которые при
водят читателя в изумление, но вместе с тем отни
мают у него всякое право пожаловаться на недо
статок откровенности. Дилетант нисколько не
драпируется в мантию глубокомысленных сообра
жений. Художник сам себя выдает с головою.
«Надо, — говорит Генне, — собственными глаза
ми видеть народ во время действительной рево-люции, надо нюхать его собственным носом, надо
слышать его собственными ушами, чтобы понять,
что хотел сказать Мирабо словами: «Нельзя сде
лать революцию лавандным маслом». Пока мы
читаем о революциях в книгах, все выходит очень
красиво, и с ними повторяется та же история, что
с пейзажами, отлично вырезанными на меди и
превосходно отпечатанными на дорогой веленевой
бумаге; в этом виде они чаруют ваш взор, а по
смотришь на них в натуре, то убедишься совсем
77
в противном: вырезанный на меди навоз не во
няет, а через вырезанное на меди болото легко
перейти глазами в брод» (т. VI, стр. 240).
В той же самой книге Гейне пускает следую
щую тираду по поводу Июльской революции: '
«Лафайет, трехцветное знамя, «Марсельеза».. .
Кончилась моя жажда спокойствия. Теперь я сно
ва знаю, чего я хочу, что должен, что обязан
делать. . . Я — сын революции,- и снова берусь за
оружие, над которым моя мать произнесла свое
полное чар благословение.. . Цветов, цветов!
Я увенчаю ими свою голову для смертельной бит
вы! И лиру, дайте мне лиру, чтобы я спел боевую
песню. Из нее вылетят слова, подобные пламен
ным звездам, которые стреляют вниз с небесной
высоты и сожигают чертоги, и освещают хижи
ны. . . Слова, подобные метательным копьям,, ко
торые взлетают на седьмое небо и поражают на
божных лицемеров, которые пробрались там
в святую святых.. . Я весь — радо'сть и песнопе
ние, весь — меч и огонь» (т. V I, стр. 208).
Теперь читатель, сравнивая оба приведенные
отрывка, начинает понимать сурово-печальные
слова Берне о мальчишке, преследующем пеструю
бабочку на поле кровопролитного сражения. В оп е р в ы х , весь лирический восторг Гейне про
исходит — если верить его собственному объясне
нию — оттого, что он созерцает революцию на
столбцах газеты, где напечатанный навоз не во
няет и где можно легко перейти в брод глазами
через напечатанное болото. Гейне называет себя
сыном революции, но его сыновняя любовь кон
чается там, где она становится несовместной с ла
вандным маслом. Все эти ужасные минуты борь
бы между матерью и лавандным маслом несчаст
ный поэт остается неизменно верен портрету
матери, отлично вырезанному на меди и превос
ходно отпечатанному на дорогой веленевой бу78
'
................
ч-
маге. Благоговение перед портретом тем более
прочно, что оно никогда не может помешать обо
жанию лавандного масла. В о - в т о р ы х , любуясь
портретом своей матери, Гейне, как настоящий ре
бенок, сосредоточивает свое внимание не на вы
ражении ее лица, а на ярких лентах ее чепчика,
на тонком узоре ее шитого воротничка и на бле
стящих камушках ее дорогого ожерелья. Знако
мясь с революцией по газетам, он не задумывает
ся над ее результатами, а только восхищается ее
шумом, блеском и эффектностью самой борьбы.
Лафайет, т р е х ц в е т н о е знамя, «Мар
с е л ь е з а » ! Экая, подумаешь, благодать! Дрях
лый старик, которого водит за нос первый иска
тель приключений! Пестрый лоскут, напоминаю
щий миру о колоссальных разбоях Наполеона!
И плохие стишонки, положенные на бравурную
музыку! Гейне забавляется сувенирчиками в то
время, когда решается участь даровитого и энер
гического народа, которому до сих пор постоянно
подсовывали пестрые лоскутья и эффектные пе
сенки вместо здоровой пищи, разумного труда,
свободных учреждений и общедоступного образо
вания. Смотреть на революцию с эстетической
точки зрения значит оскорблять величие народа
и профанировать ту идею, во имя которой совер
шается переворот.
В жизни народов революции занимают то место,
которое занимает в жизни отдельного человека
вынужденное убийство. Если вам придется защи
щать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь
вашей матери, сестры или жены, то может слу
читься, что вы убьете нападающего на вас него
дяя. Впоследствии вы будете вспоминать об этом
убийстве безо всякого особенного смущения, по
тому что, рассматривая ваш поступок со всех
сторон и обсуживая его строжайшим образом, вы
постоянно будете получать тот результат, что
79
убийство было неизбежно и что всякое другое
поведение было бы с вашей стороны ’низкою тру
состью и подлою изменою в отношении к тем
лицам, которые имели полное право рассчитывать
на вашу защиту. Но, совершенно оправдывая
свой насильственный поступок, вы все-таки ни
когда не будете считать особенно счастливым тот
день, в который вы были принуждены зарезать
или застрелить человека. Вы не будете желать,
чтобы такие эффектные случаи повторялись в ва
шей жизни почаще. Печальная необходимость,
в которую вы были поставлены, никогда не пере
станет казаться вам очень печальною. Если же
вы, паче чаяния, начнете гордиться, хвастаться и
восхищаться тем мужеством, которое вы обнару
жили во время схватки, то благоразумные люди
подумают о вас совершенно справедливо, что
вы — человек пустой и трусливый, которому както раз удалось не струсить и который потом но
сится с своим неожиданным припадком храбро
сти, как с каким-нибудь восьмым чудом света.
То же самое можно сказать и о насильственных
переворотах. Каждый переворот и каждая война,
сами по себе, всегда наносят народу вред как ма
териальный, так и нравственный. Но если война
или переворот вызваны настоятельною необходи
мостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сра
внении с тем вредом, от которого они спасают,
так точно, как вред, наносимый меркуриальным
лекарством, ничтожен в сравнении с тем вредом,
который причинило бы развитие сифилитической
болезни. Тот народ, который готов переносить
всевозможные унижения и терять все свои чело
веческие права, лишь бы только не браться за ору
жие и не рисковать жизнью, — находится при по
следнем издыхании. Его непременно поработят
соседи, или уморят голодною смертью домашние
благодетели. Но, с другой стороны, такой народ,
80
который тешится переворотами, как привычною
забавою, всегда оказывается пустым, ничтожным,
жалким, больным и глубоко развращенным наро
дом. Для примера достаточно сослаться на ис
пано-американские республики, в которых прави
тельства сменяются чуть ли не ежемесячно; при
этом не мешает сравнить их с Соединенными шта
тами, в которых со времени войны за независи
мость был всего только один переворот.
Чтобы судить о каком-нибудь перевороте, надо
всегда сравнивать то, что было накануне борьбы,
с тем, что получилось на -другой день после по
беды. Тогда можно будет решить, законен ли дан
ный переворот в своей исходной точке и плодо
творен ли он в своих результатах. Переворот,
вырванный из своей естественной связи с ближай
шим прошедшим и с ближайшим будущим, ока
зывается просто грязною свалкой, которою мо
жет восхищаться только пустоголовый батальный
живописец. Относясь с почтительным сочувствием
к какому-нибудь перевороту, мыслящие защитни
ки народных интересов поступают таким образом
вовсе не из любви к шумным демонстрациям и
занимательным потасовкам, а только из любви
к тем бедным людям, которым после переворота
сделалось немного легче жить на свете. Если бы
это облегчение могло быть достигнуто путем мир
ного преобразования, то мыслящие защитники
народных интересов первые осудили бы перево
рот, как ненужную трату физических и нравствен
ных сил.
Если бы Гейне, понимая ясно цель и смысл ве
ликих переворотов, видел возможность их полно
го успеха, если бы он держал в руках ариаднину
нить, способную вывести массу из лабиринта ли
шений и страданий, то, разумеется, созерцание
великой идеи, заключающей в себе спасение че
ловечества и пробивающей себе дорогу в дей6 Д. И. Писарев
81
ствительную Жизнь, доставило бы нашему поэту
такое высокое умственное наслаждение, которое
совершенно отбило бы у него охоту развлекаться
мелкими сувенирчиками, вроде трехцветной тряп
ки, или справляться о том, употребляется ли ла
вандное масло во время народных движений. Но
так как Гейне был заранее убежден в том, что
народ и после переворота останется при своей
прежней грязной нищете, то эстетический взгляд
батального живописца и одерживал решительную
победу над смутными и безнадежными стремле
ниями разочарованного прогрессиста. Не имея
возможности интересоваться серьезным смыслом
переворота, потому что такого смысла он в нем
не предполагал, — Гейне любовался и восхищался
позами, костюмами, смелостью и стойкостью пат
риотических бойцов. Восхищение это производи
лось издали. Когда же Гейне подошел поближе
и заметил отсутствие лавандного масла, тогда он
спокойно зажал себе нос и просвистал свою на
смешливую песенку. Все это со стороны Гейне
очень понятно, но все это вместе составляет пол
ное и отчетливое отречение от серьезной полити
ческой деятельности. Кто смотрит на события
с эстетической точки зрения, тот не может быть
двигателем событий, так точно, как не может
быть хирургом тот ребенок, который смотрит на
ланцеты, как на блестящие игрушки.
Далее Гейне характеризует свой политический
образ мыслей той любопытной подробностью, что
ему в молодости очень хотелось сделаться народ
ным оратором, но что, к сожалению, он не может
привыкнуть к табачному дыму, жестоко свиреп
ствующему в собраниях немецких республиканцев.
Затем он объявляет, что если народ пожмет ему
руку, то он, Гейне, немедленно вымоет ее. Пода
ривши миру такие великие политические истины,
Гейне считает себя вправе третировать Берне с вы82
Соты своего величия, потому что Берне перено
сит табачный дым и не таскает с собою рукомой
ника в народные собрания, где производятся креп
кие и многочисленные рукопожатия.
Гейне заподозревает Берне в личной зависти.
«И именно в отношении ко мне, — говорит Гей
не, — покойный (Берне) предавался таким личным
чувствам, и все его нападения на меня были не
что иное, как мелкая зависть, которую маленький
барабанщик чувствует к большому тамбур-мажо
ру. Он завидовал моему высокому плюмажу, ко
торый так смело развевался по воздуху, моему
богато вышитому мундиру, на котором было
столько серебра, сколько он, маленький барабан
щик, не мог бы купить за все свои деньги, зави
довал ловкости, с которой я махал тамбур-мажорским жезлом, любовным взглядам, которые броса
ли на меня молодые девочки и на которые я, мо
жет быть, отвечал с некоторым кокетством» (т. VI,
стр. 261).
1
Гейне влюблен в самого себя, потому что ему
не удалось влюбиться в идею. Это очевидно и ни
сколько не удивительно. Но мы имеем полное
право не считать Берне мелким завистником, тем
более, что сам Гейне дает нам материалы для его
оправдания.
«Страстные речи, — говорит Гейне, — в духе
рейнско-баварских ораторов доводили до фана
тизма многие умы, и так как республиканизм та
кое дело, которое понять гораздо легче, чем,
например, конституционную форму правления, для
уяснения которой необходимы многие другие све
дения, то прошло немного вр^гени, как тысячи
немецких ремесленников сделались уже республи
канцами и проповедывали новые убеждения. Эта
пропаганда была гораздо опаснее всех тех выду
манных пугал, которыми вышеупомянутые донос
чики пугали немецкие правительства, и писаное
6*
83
слово Берне может быть много уступало в могу
ществе его устному слову, с которым он обращал
ся к людям, принимавшим эти слова с немецкой
верой и распространявшим их у себя в отечестве
с изумительным рвением» (т. VI, стр. 237).
Итак, Гейне хотел и не мор сделаться народным
оратором по неспособности переносить табачный
дым. А Берне хотел и мог, и переносив дым, и
действовал, и фанатизировал тысячи немецких ре
месленников, которые оставались для Гейне з е
л е н ы м в и н о г р а д о м . Кто же из двух, Гей
не или Берне, обладал богато вышитым мундиром
и махал тамбур-мажорским жезлом? Кто из двух
имел более основательные причины завидовать
.другому?
VIII
Политический дилетантизм отравляет всю лите
ратурную деятельность Гейне и постоянно мешает
ему сосредоточить свои силы на каком бы то ни
было предмете. Гейне не может ни подчиниться
политической 'тенденции ни отделаться от нее.
Гейне решительно не знает, в каких отношениях
находятся к политике все другие отрасли челове
ческой деятельности — наука, искусство, промыш
ленность, религия, семейная жизнь, умозрительная
философия и т. д. Но Гейне понимает что какиенибудь отношения должны существовать между
всеми этими отраслями и что так или иначе все
эти отрасли могут ускорять или замедлять движение_ ■ человечества к лучшему будущему. Пред
чувствуя существование какой-то общей связи
между различными отраслями человеческой дея
тельности, сознавая необходимость общего взгля
да на всю совокупность этих различных отраслей и
в то же время не у!Йея отыскать тот высший прин
цип, во имя которого можно было бы обсуживать
84
и сортировать эти отрасли по их действительно
му внутреннему достоинству, — Гейне находится
в хроническом недоумении и постоянно колеблет
ся между тенденциозными суждениями недоразвив
шегося прогрессиста и непосредственными ощу
щениями простодушного эстетика. Эти колебания
замаскированы от глаз легкомысленных читателей
удивительным блеском внешней формы, неисто
щимым богатством картин, прелестью тонкого
юмора и неожиданной силой отдельных сарказмов. Но если вы, закрывши книгу, попробуете
отдать себе отчет в содержании прочитанных
страниц, если вы захотите узнать, в чем убедил
и в чем хотел убедить вас автор, то на все эти
вопросы вы не найдете у себя в голове ни одного
определенного ответа, ничего, кроме какого-то
приятного хаоса удачных шуток и грациозных
сравнений, под которыми скрываются неясные мы
сли, общие места или внутренние противоречия.
Так, например, если вы захотите узнать от Гейне,
как он понимает отношения искусства к жизни,
то вы не узнаете ровно ничего, или, вернее, вы
узнаете сегодня одно, завтра совсем другое, после
завтра ни то, ни се. Может случиться и так. что
вы в один день получите три разнохарактерные
ответа, которых несовместность поэт не заметил
или не хочет заметить, считая ее, по всей вероят
ности, неизбежным атрибутом поэтической разо
рванности. В одной из предыдущих глав мы ви
дели, что Гейне понимает поэзию как с в я щ е н
н у ю и г р у ш к у или как с в я щ е н н о е с р е д
с т в о д л я н е о б х о д и м ы х ц е л е й . Как ни
сбивчиво это определение, однакоже, из него
все-таки можно заключить, что поэзия, по мне
нию Гейне, должна подчиняться каким-то высшим
соображениям. Цель важнее средства, и средство
всегда должно приноровляться к цели; в против
ном случае средство перестает быть средством и
85
превращается в самостоятельную цель. Стало
быть, если Гейне признает-существование н е б е с
н ы х ц е л е й , предписанных для поэзии и лежа
щих за ее собственными пределами, то он обязы
вает поэзию видоизменяться сообразно с теми
условиями, при которых н е б е с н ы е ц е л и мо
гут быть достигнуты. При таком взгляде самою
лучшею оказывается та поэзия, которая всего
больше облегчает достижение н е б е с н ы х ц е
л е й. Если н е б е с н ы е ц е л и могут быть до
стигнуты без содействия поэзии, то поэзия долж
на скромно и покорно согласиться „ на самоуни
чтожение. Иначе получится вопиющая нелепость:
свя'щенная игрушка заставит людей забыть о н ебесных целях, и х ра брые солдаты
превратятся в легкомысленных школьников. При
знавая существование н е б е с н ы х ц е л е й и
называя себя храбрым солдатом, Гейне, повидимому, никак не может желать подобного резуль
тата. А между тем он его желает. По крайней
мере, он горько плачется на тех людей, для кото
рых поэзия не щмеет самостоятельного значения
и которые, стремясь к н е б е с н ы м ц е л я м , не
хотят развлекаться с в я щ е н н ы м и и г р у ш
ками.
.
„
«Ах, — говорит Гейне в своей книжке «О Л ю д
в и г е Б е р н е » , — пройдет много времени пре
жде, чем мы отыщем великое целебное средство;
до тех пор придется нам сильно хворать и упо
треблять всевозможные мази и домашние сред
ства," которые будут только усиливать болезнь.
Тут прежде всего приходят радикалы, прописы
вающие радикальное лечение, которое, однако,
действует только наружным образом, потому что
разве только уничтожает общественную коросту,
но не внутреннюю гнилость. А если им и удастся
на короткое время избавить человечество от
страшнейших мук, то это делается в ущерб поSG
***
.
следним следам красоты, до тех пору остававшим
ся у больного; гадкий, как вылечившийся фили
стер, встанет он с постели и в отвратительном
госпитальном платье, в пепельно-сером костюме
равенства станет жить со дня на день. Вся без
мятежность, вся сладость, все благоухание, вся
поэзия будут вычеркнуты из жизни, и от всего
этого останется только румфордов суп полезно
сти 8. Красота и гений не находят себе никакого
места в общественной жизни наших новых пури
тан и подвергаются таким оскорблениям и угне
тениям, каких они не испытывали даже при суще
ствовании старого порядка.. . Потому что красота
и гений не могут жить в обществе, где каждый,
с неудовольствием сознавая свою посредствен
ность, старается унизить всякое высшее дарование
и свести его к самому пошлому уровню. Сухое,
будничное настроение новых пуритан распростра
няется уже по всей Европе, точно серые сумерки,
предшествующие суровому зимнему времени»
(т. VI, стр. 328).
Читателю русских журналов достаточно знако
мы эти старушечьи вопли против сухости новых
пуритан и против румфордова супа полезности.
Гейне, к стыду своему, подает здесь руку Нико
лаю Соловьеву и т. п. Гейне унижается даже до
того бессмысленного предположения, что новые
пуритане говорят и действуют под влиянием лич
ной зависти. Все они, изволите видеть, маленькие
барабанщики, желающие ободрать и испортить
галуны с блестящих мундиров больших тамбур
мажоров. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюед в голове какой-нибудь старой сплет
ницы и повторявшуюся всеми врагами народа и
здравого смысла, ^можно опрокинуть простым
указанием на тот факт, что новые пуритане глу
боко уважают тех людей, которые лучше других
варят румфордов суп полезности или выдумы
87
вают для этого супа усовершенствованный способ
приготовления.
Новые пуритане охотно признают превосход
ство этих людей, сознательно подчиняются их
влиянию и, предоставляя им видные роли вождей
и распорядителей, добровольно берут себе скром
ные обязанности учеников, последователей, испол
нителей, переводчиков или компиляторов и ком
ментаторов. Новые пуритане, без сомнения, очень
уважают науку. У новых пуритан, конечно, есть
также свои социальные понятия, которыми они
дорожат очень, сильно. Но как в реальной науке,
так и в области социальных понятий работали и
работают до сих пор гении первой величины и
множество атлантов крупных и мелких. И новые
пуритане вовсе не отрицают гениальности перво
классных деятелей и даровитости второстепенных
работников. Значит, пуритане восстают вовсе не
против в с я к о г о в ы с ш е г о д а р о в а н и я
вообще, а только против непроизводительной за
траты всяких дарований, высших, средних и низ
ших. П е п е л ь н о - с е р ы й к о с т ю м р а в е н
с т в а , на который так умилительно жалуется лю
битель трехцветного знамени — Гейне, надевается
на людей совсем не для того, чтобы умные и глу
пые люди пользовались одинаковым влиянием на
общественные дела. Это вещь невозможная. И об
этом могли мечтать люди XVIII века только по
тому, что они придерживались той теории, кото
рая признавала все интеллектуальные различия
между людьми —продуктами различных впечатле
ний, воспринятых после рождения. Но так как
в наше время уже достаточно известна та физио
логическая истина, что люди приносят с собой на
свет, вместе с особенным телосложением, особую
организацию мозга и нервной системы, получен
ную по наследству от родителей и не изменяю
щуюся в своих существенных чертах ни от каких
88
позднейших впечатлений, то новые пуритане на
шего времени вовсе и не мечтают об абсолютном
равенстве. Смысл того стремления, которое Гейне
называет п е п е л ь н о - с е р ы м
костюмом,
состоит только в том, что тысячи не должны хо
дить босиком и питаться отрубями для того, чтобы
единицы смотрели на хорошие картины, слушали
хорошую музыку и декламировали хорошие стихи.
Кто находит подобное стремление предосудитель
ным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для
пропитания голодных людей, превращался еже
годно в изящные предметы, доставляющие немно
гим избранным и посвященным тонкие и высокие
наслаждения. Здесь Гейне стоит, очевидно, на
стороне эксплоататоров и филистеров, но он не
всегда рассуждает таким образом.
«Это свойство, — говорит Гейне в «Романтиче
ской школе», — эту целостность мы встречаем и у
писателей нынешней «Молодой Германии», кото
рые также не допускают различия между жизнью
и литературною деятельностью, не отделяют по
литики от науки, искусства от религии, и в одно
и то же время являются художниками, трибунами
и проповедниками правды. Да, я повторяю слово
п р о п о в е д н и к и , потому что не могу найти
более характеристического слова. Новые убежде
ния наполняют душу этих людей такою страст
ностью, о какой писатели прежнего периода не
имели и понятия. Это — убеждения в силе про
гресса, убеждения, вышедшие из науки. Мы де
лали измерение земель, исследовали силы приро
ды, высчитывали средства промышленности — и
вот наконец нашли, что эта земля достаточно ве
лика, что она дает каждому достаточно места для
того, чтобы построить себе начнем хижину своего
счастья', что эта земля может прилично питать
всех нас, если мы все хотим работать и не жить
на счет другого, что, наконец, нам нет никакой
89
надобности отсылать более многочисленный и бо
лее бедный класс к небу. Число этих знающих и
верующих, конечно, еще весьма невелико» (т. V,
стр. 339).
Здесь п е п е л ь н о - с е р ы й к о с т ю м р а
в е н с т в а представляется в самом привлека
тельном виде, а н о в ы е п у р и т а н е , которые
выше были заподозрены в мелкой зависти, оказы
ваются художниками, трибунами и проповедника
ми правды, людьми страстно убежденными, людь
ми целостными, людьми знающими и верующими.
Нет ни малейшей возможности провести какуюнибудь границу между писателями «Молодой Гер
мании», к которым Гейне относится с величайшим
сочувствием, и теми радикалами, которых тот же
Гейне с комическим негодованием обвиняет
в исключительном пристрастии к румфордову
супу полезности. Гейне называет писателей «Мо
лодой Германии» художниками, но ведь это ху
дожество
проникнуто
насквозь трибунскими
стремлениями и проповедыванием правды. Это
художество стремится доказать образами, что
каждый при соблюдении известных условий мо
жет построить себе на земле хижину своего
счастья. Это художество выводит на свежую воду
те глупости и подлости, вследствие которых
земля кажется тесною и люди принуждены
строить себе хижины горя и бедности или жить
в качестве батраков в чужих чуланах, конюшнях
или закутках. Стало быть, это художество при
урочено к румфордову супу полезности и соста
вляет одну из самых важных и питательных его
приправ. Стало быть, между румфордовым супом
и художеством вовсе не существует радикального
и необходимого антагонизма, хотя, с другой сто
роны, не подлежит сомнению, что в жизни людей,
построивших себе собственным трудом хижины
своего счастья., художество не м о ж е т иметь того
90
/
преобладающего значения, которое принадлежит
ему теперь в жизни людей, построивших себе чу
жим трудом великолепные замки или виллы.
Наука, конечно, доказывает, что все мы можем
построить себе теплые и сухие хижины, вмещаю
щие в себе достаточное количество чистого воз
духа, но наука до сих пор не думала доказывать,
что все мы можем увешать стены "наших хижин
превосходными картинами, поставить в каждой
хижине по одному великолепному роялю, дер
жать при каждой сотне хижин труппу хороших
актеров и тратить каждый день по нескольку ча
сов на сочинение и чтение звучных лирических
стихов. Счастье, доступное для всех, должно
быть, по крайней мере на первых порах, гораздо
проще и скромнее того счастья, которое в на-,
стоящее время доступно немногим. Величайшая
прелесть общедоступного счастья состоит не
в разнообразии и яркости наслаждений,,а преиму
щественно в тОм, что у этих наслаждений нет об
ратной стороны, то есть что эти наслаждения не
покупаются ценою чужих страданий.
Внутреннее противоречие, в которое впадает
Гейне, очевидно и безвыходно. Он восхищается
в одном месте теми идеями и стремлениями, про
тив которых вооружается в другом. Он бросается
с одной точки зрения на другую и ни на одной
из них не может остановиться. Когда художник
.поет, как соловей, безо всякой тенденции, тогда
Гейне находит в его произведениях запах свежего
сена. Когда художник становится на всю жизнь
под знамя одной, строго определенной идеи, тогда
Гейне кричит, что мир затоплен волнами румфордова супа. И в то же время тот же Гейне, смотря
по минутному настроению, хвалит соловьев, по
добных Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистов,
подобных Лаубе и Гуцкову. Словом, перед гла-'
эамц читателя проходит целая радуга всех возУ1
можных мнений об искусстве, и читатель, к ужасу
своему, замечает, что вся эта радуга выходит из
головы одного человека.
В выписанном мною отрывке о писателях «Мо
лодой Германии» я должен обратить внимание чи
тателя на то место, где Гейне говорит о ц е
л о с т н о с т и новых людей, этими словами сам
Гейне подтверждает мое мнение о том, что и
в настоящее время, при совершенной разорван
ности окружающего мира, возможна в писателе
внутренняя целостность, выходящая не из тупого
равнодушия, а из страстного воодушевления. Эта
страстная целостность, характеризующая предста
вителей «Молодой Германии», проводит резкую
границу между этими писателями, выступившими
на литературное поприще в начале 30-х годов, и
самим Гейне, у которого никогда и ни в чем не
было никакой целостности.
При своем неизлечимом политическом дилетан
тизме, которого не искоренило даже умственное
движение «Молодой Германии», Гейне никогда
не мог подвергать правильной и точной оценке
ни события современной истории, ни явления со
временной литературы. У Гейне не было никакого
твердого принципа, на котором бы он мог по
строить свою критику. А между тем он любил
прогуливаться с критическими намерениями и
ухватками по различным областям настоящего
и ближайшего прошедшего. Он любил рассуждать
глубокомысленно и проницательно о политике и
литературе. Он написал целую, довольно боль
шую книгу «О Германии», и написал по-француз
ски — собственно для того, чтобы познакомить
французов с великими и плодотворными тайнами
немецкой философии и немецкой поэзии. Не знаю,
92
насколько эта книга просветила французских чи
тателей; но знаю очень хорошо, по собственному
горькому опыту, что русскому читателю эта кни
га не дает ровно ничего, кроме того неопределен
но приятного ощущения, которое возбуждается
каждой страницей Гейне, написанной очарователь
ным языком и всегда переполненной самыми яр
кими и прелестными образами. Общей мысли
в этой книге нет ровно никакой, а есть в ней
только хорошо рассказанные анекдотцы, забавные
параллели между французами и немцами, да по
падаются иногда такие дикие историко-философ
ские соображения и пророчества, что читатель не
может разобрать — шутит ли автор, или говорит
серьезно; и если автор шутит, то читателю стано
вится досадно, с какой стати шутка тянется так
долго и до такой степени лишена игривости, за
бавности и язвительности;а если автор мудрствует
серьезно, то читателю становится положительно
совестно за автора.
По глубокомысленным сорбражениям Гейне ока
зывается, например, что различные фазы немец
кой философии в точности соответствуют различ
ным фазам французской революции. Умеренный
и аккуратный Кант изображает собою террор Кон
вента и, по мнению Гейне, оказывается гораздо
смелее и неумолимее Робеспьера” Фихте испра
вляет должность Наполеона, а Шеллинг играет
роль Реставрации. Эти ребяческие сближения до
такой степени забавляют Гейне и наполняют его
сердце такой святой патриотической гордостью,
что он несколько раз с видимым удовольствием
возвращается к этой приятной и затейливой вы
думке. В конце своего сочинения о немецкой фи
лософии он до такой степени воодушевляется, что
пророчествует миру о великих и ужасных собы
тиях, которые вырастут со временем из философ
ских сочинений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля,
V
93
благополучно похороненных и забытых ближай
шим потомством. «Если, — говорит Гейне, рас
суждая об ужасах будущей немецкой революции,
имеющей вырасти из умозрительной филосо
фии, — рука кантиста бьет сильно и метко, пото
му что сердце его не волнуется никаким перехо
дящим по преданию уважением, если фихтеанец
смело презирает всякие опасности, потому что
они в действительности для него не существуют,
то натурфилософ ужасен, потому что вступает
в союз с первородными силами природы, может
вызвать все силы древнегерманского пантеизма,
и тогда получает ту жажду борьбы, которую мы
встречаем у древних германцев, сражающихся не
для разрушения, не ддя победы, но только для
того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165). Немец
кая гроза, воспитанная Кантом, Фихте и Шеллин
гом, будет, по соображениям Гейне, необыкновен
но ужасна, «При этом грохоте, — говорит он, —
орлы падут мертвые с воздушных высот и львы,
в самых далеких пустынях Африки, опустят хво
сты и спрячутся в свои вертепы» (т. V , стр. 167).
Вся эта невинная игра яркими красками и гром
кими словами была бы смешна до последней сте
пени, если бы тут не видно было, что несчастному
поэту больно и стыдно смотреть на тупое усыпле
ние отечества и что он старается оглушить и оту
манить себя громом несбыточных и неправдопо
добных предсказаний. Хотя читатель й понимает
до некоторой степени то настроение, которое по
родило эти хвастливые рулады, однако, во всяком
случае, восторженные фразы Гейне о мировом
значении немецкой философии оказываются для
нашего времени неудачной шуткой или бессмы
сленным набором слов. Так же ничтожны и бес
полезны для читателей разные отрывочные замет
ки и рассуждения о Тике, Шлегелях, Новалисе,
Арниме и других забытых писателях, о которых
94 ^
'
распространяется Гейне в своей «Романтической
школе». Но здесь, как и везде, Гейне роняет по
временам превосходные сарказмы, которые почти
достаточно вознаграждают читателя за отсутствие
общей мысли и за совершенную мертвенность са
мого сюжета.
О политических деятелях, как и обо всех
остальных предметах, Гейне судит с плеча, по сво
бодному вдохновению, рассыпая совершенно про
извольно в разные стороны лавровые венки и ду
рацкие колпаки. Так как в новейшей истории
очень много мизерного, то дурацкие колпаки по
чти всегда попадают без промаха туда, где им
следует находиться. Зато лавровые венки, по тем
же самым причинам, почти всегда залетают туда,
где присутствие их решительно ничем не может
быть оправдано.
Особенно замечательно то несчастное упорство,
с которым Гейне увенчивал Наполеона, одного из
самых вредных людей во всей истории человече
ства. Обожание Наполеона было для Гейне люби
мым коньком, с которого он не слезал до конца
своей жизни. Этот конек был отчасти боевой ло
шадью, при содействии которой Гейне дразнил и
огорчал, с одной стороны, немецких радикалов,
последователей Берне, с другой — юродствующих
патриотов, подобных Менцелю и Масману. Пер
вые ненавидели Наполеона, как представителя дес
потизма и солдатчины. Вторые не могли простить
Наполеону того, что он осмелился многократно
разбивать немецкие армии, вступать с войском
в немецкие столицы и держать у себя в передней
немецких отцов отечества, которых предшествен
ник, Арминий, одержал такую блистательную по
беду над римским полководцем Варом. Гейне,
с своей стороны, не любил радикалов ва их серь
езность и презирал тевтоманов за их действитель
ную и поразительную тупость. В пику обеим парr
as
тиям он падал на колени перед- великим и боже
ственным императором при каждом удобном и
неудобном случае. Эти коленопреклонения были
также направлены в очень значительной степени
против тех официальных политиков, которые, по
бедивши Наполеона, распоряжались судьбою Ев
ропы в первой четверти нынешнего столетия.
Нерасположение Гейне к этим политикам:
к Меттерниху, к Веллингтону, к Кестльри, очець
понятно и совершенно основательно. Но как бы
ни были вредны и отвратительны эти победители
Наполеона, из этого, однако, нисколько не сле
дует, чтобы сам Наполеон был очень полезен и
прекрасен. Если благоговение Гейне перед Напо
леоном имело исключительное значение протеста,
то нельзя не заметить, что для протеста выбрана
очень неудобная форма, по милости которой Гей
не принужден был' написать десятки страниц во
пиющей бессмыслицы. Если же это благоговение
было чистосердечно, то я должен признаться, что
процесс мышления, совершающийся в голове ве
ликих художников, заключает в себе тайны, непо
стижимые для простых людей. Всего мудренее и
любопытнее та штука, что Гейне, пророчествуя
людям о том, что Наполеон сделается божеством
новой религии, в то же время видит очень ясно
и показывает своим читателям с полной откровен
ностью пятна «обожаемого кумира». «Пожалуй
ста, — говорит Гейне во второй части «Путевых
картин», — не считай меня безусловным бонапар
тистом, любезный читатель. Я благоговею не пе
ред действиями, а перед гением этого человека.
Безусловно люблю я его только до 18 брюмера.
Тут изменил он свободе. И не по Необходимости
сделал он это, а из тайной склонности к аристо
кратизму. Наполеон Бонапарт был аристократом,
аристократическим врагом гражданского равен
ства, и jviHe кажется колоссальным недоразуме96
нием, что европейская аристократия, в лице Ан
глии, с таким ожесточением боролась с ним.. . •
Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда:
я никогда не превозношу дел и хвалю лишь гений
человека; дело — только его одежда, и история —
не что иное, как старый гардероб человеческого
гения» (т. II, стр. 111).
Решительное объяснение с любезным читателем
ни к чему не ведет и заключает в себе очень мало
осязательного смысла. Стараясь отделить гений
человека от его д^л, Гейне желает открыть самый
широкий простор эстетическому произволу. По
лезны ли, вредны ли дела человека, это, по мне
нию Гейне, все равно: это — мелкие подробности
старого гардероба; надо только, чтобы в испол
нении этих вредных или полезных дел проявля
лась некоторая виртуозность, некоторая фешене
бельная грация и развязность. Эти качества, от
которых окружающим людям ни тепло, ни холод
но, составляют, по мнению Гейне, насто'ящую
.квинт-эссенцию человека и требуют себе нашего
благоговения. Политическому деятелю предписы
вается таким образом быть эффектным, интерес
ным и привлекательным. При соблюдении этих
условий ему отпускаются все его глупости и ни
зости, промахи и преступления. И чем громаднее
его ошибки, тем лучше для него, потому что тем
поразительнее становится его эффектность. С эсте
тической точки зрения огромная гадость заслужи
вает гораздо большего увЪкения, чем маленькое
доброе дело. Но при таком отделении г е н и я
от д е л совершенно искажается настоящее зна
чение слова г е н и й. Этим словом перестает обо
значаться то умственное превосходство, перед ко
торым преклоняются с восторженной любовью все
мыслящие люди. И после такого превращения
[ г е н и й сохраняет свою обаятельность только
для слабоумных любителей театральной грандиоз1 Л. И Писарев
97
ности. Гейне об этом не подумал. Иначе он понял
бы, что с гения нет возможности снимать ответ
ственность за направление и результаты дел. Ге
ний сам задает себе работу. Следовательно, мЫ
имеем полное право требовать от него отчета не
только в тому искусно ли и удачно ли выполнена
работа, но еще и в том, почему и зачем, с какою
целью и на основании каких предварительных со
ображений он, гений, принялся именно за эту ра
боту, а не за другую. Данный исторический дея
тель только тогда и может быж, признан гением,
когда его дела и вся его жизнь дают совершенно
удовлетворительные ответы на все вопросы, ко
торые могут быть поставлены мыслящим истори
ком. Выступая на арену борьбы и серьезной дея
тельности, человек бросает общий взгляд на по
ложение партий, вдумывается в потребности и
в понятия своих современников, задает себе во
прос о том, куда идет главный поток идей и со
бытий, словом — ориентируется в лесу быстро
сменяющихся явлений и затем, вооружившись
своими наблюдениями, присоединяется более или
менее сознательно к какой-нибудь одной группе
бойцов или работников. Если собранные наблюде
ния неточны и сделанный выбор неудовлетворите
лен, молодой деятель переходит к другой партии
или старается сообщить новое направление мыелям и работам своих союзников. Становясь под
то или другое знамя, изменяя своим влиянием так
или иначе характер своей партии, человек набра
сывает в общих чертах весь план своей будущей
деятельности. Достоинства или недостатки этого
плана дадут себя знать впоследствии и во всяком
случае одержат перевес над достоинствами или
недостатками выполнения. Если план был состав
лен разумно, если при его составлении настоящие
потребности времени были поняты верно, то вся
деятельность будет плодотворна и благодетельна,
98
хоть бы даже в выполнении было много отдель
ных ошибок и шероховатостей. Если же при со
ставлении плана потребности времени были поня
ты навыворот то вся деятельность будет тем бо
лее бессмысленна и вредна, чем больше остроумия
будет потрачено на потребности выполнения. Но
если план составлен неверно, если всей деятель
ности дано ложное направление, что же это зна
чит? Значит, очевидно, что у составителя недо
стало проницательности, сообразительности и глу
бокомыслия. Значит, в гениальности составителя
имеется такой крупный изъян, который портит все
дело и превращает неудавшегося гения в опасно
го и вредного сумасброда.
—
Гейне говорит, что Наполеон изменил свободе
и был аристократическим врагом гражданского
равенства. Говоря это, Гейне думает, что это
обстоятельство не наносит никакого ущерба ге
ниальности Наполеона, точно будто это обстоя
тельство нисколько не зависело от процесса его
мышления, точно будто измена и аристократизм
составляют прирожденные качества Наполеона,
подобные цвету его глаз и волос. Изменил сво
боде и сделался аристократом.. Где ж у него бы
ло соображение, куда девалась его прославленная
гениальность в то время, когда он решился итти
наперекор таким стремлениям, которые, выходя
из самых глубоких потребностей человеческой
природы, доросли уже до своей окончательной
зрелости? Если он решился на борьбу с этими
стремлениями, значит, он надеялся победить.
А если он надеялся победить и упрочить резуль
таты своей победы, значит, он не знал людей, не
понимал ни прошедшего, ни настоящего и не со
ставлял себе никакого приблизительно верного
понятия о ближайшем будущем. Если же, с дру
гой стороны, он говорил: ар r e s m o i —l e d еV
9У
l u g e * и хотел победить только для того, чтобы
весело прожить на свете, то, стало быть, у него
не было даже того величественного размаха мы
сли, который побуждает всех истинных гениев
строить для далекого будущего. При всем том
он, конечно, был, если хотите, гениальным полко
водцем, и за это может быть поставлен наряду
с каким-нибудь Мальборо, перед которым Гейне
ни за что не согласился бы падать на колени. Эта
частичная гениальность, или, вернее, эта виртуоз
ность в каком-нибудь одном деле, это уменье
быть превосходным орудием какой угодно партии
не имеет ничего общего с тем светлым умствен
ным величием, которое характеризует настоящих
благодетелей нашей породы, людей, способных
угадывать наши потребности и создавать средства
для их удовлетворения. Не всякий способен сде
латься отличным полководцем, т.ак точно, как не
всякий способен сделаться отличным танцором
или отличным знатоком красных вин; но из этого
еще не следует, чтобы каждый отличный полко
водец имел право на то благоговение, с которым
мы относились к гению, согревшему и украсив
шему нашу жизнь своими трудами.
Гейне сам знает очень хорошо настоящую цену
всякой славы.
«Смешно было бы, — говорит он, — поставить
статую Лафайету на Вандомскую колонну, выли
тую из пушек, отбитых в стольких сражениях, —
на эту колонну, вида которой не может вынести
ни одна французская мать, как поет Барбье. На
этой железной колонне поставьте Наполеона, же
лезного человека. Пусть ему и здесь, как в жизни,
служит подножием его пушечная слава; пусть он
в ужасающем одиночестве касается челом обла
ков, чтобы каждый честолюбивый солдат, увида:
* П е р е в о д : После меня хоть потоп. Ред
100
его там, вверху, недостижимо, мог исцелиться от
суетной жажды славы и чтобы эта колоссальная
металлическая статуя служила для Европы громо
отводом против завоевательного героизма, ору
дием мира. Лафайет воздвиг себе колонну лучше
Вандомской, статую лучше металлической илр
мраморной» (т. VII, стр. 46).
Итак, Лафайет выше Наполеона; военная слава
объявлена суетною, и Вандомская колонна долж
на служить честолюбивым солдатам тем нагляд
ным предостережением, которым, по отображе
ниям мудрых криминалистов, виселица служит по
хитителям собственности. Стало быть, памятник,
поставленный Наполеону, изображает собою не
уважение потомков к его гениальности, а только
го чувство ужаса, вследствие которого люди ста
раются увековечить воспоминание о каком-нибудь
громадном национальном бедствии, вроде навод
нения, пожара, землетрясения или чумы.
Гейне понимает также, каким образом наполео
новская система подействовала на французское
общество.
«Люди среднего возраста, — говорит он, — уто
млены раздражающей оппозицией, выпавшей на
их долю в период Реставрации, или развращены
Империей, которая своей блестящей солдатчиной
и своей шумной славой умерщвляла всякую лю
бовь к свободе» (т. VII, стр. 60).
Наконец Гейне договаривается до самого наив
ного и неожиданного признания.
«Правда, — говорит он, — что умерший Напо
леон больше люфим французами, чем живущий
Лафайет, может быть, именно потому, что он умер.
Мне, по крайней мере, это всего больше нравится
в Наполеоне, потому что, будь он в живых, мне
пришлось бы итти воевать против него» (т. VII,
стр. 47).
Это признание нисколько не мешает Гейне обо101
жать Наполеона попрежнему. Пользуясь правами
поэта, Гейне презирает последовательность и пере
летает с удивительною развязностью от самой
злой насмешки к самому восторженному панеги
рику. Тот человек, который развратил Францию
б л е с т я щ е й с о л д а т ч и н о й и систематиче
ски старался умертвить в своих современниках
в с я к у ю г р а ж д а н с к у ю д о б л е с т ь , тот
человек, которого лучший подвиг состоит в том,
что он умер, тот человек, которого надо поста
вить на колонну для вечного устрашения често
любивых' солдат, — оказывается вдруг б о ж е
с т в о м о т г о л о в ы д о н о г (т. III, стр. 99),
божеством, которого имя сделалось л о з у н г о м
д л я н а р о д о в (т III, стр. 100), так что « В о с
т о к и З а п а д , встречаясь между собою, п о
н и мают друг друга т о ль к о п о с р е д
с т в о м э т о г о и м е н и » (там же). В подтвер
ждение той мысли, что имя Наполеона действи
тельно может служить умственной связью между
Востоком и Западом, Гейне рассказывает следую
щий случай, В лондонскую гавань вошел корабль,
прибывший из Бенгалии; Гейне посетил этот ко
рабль, почувствовал -особенное влечение к его
пассажирам и захотел сказать им какое-нибудь
приветствие. Не зная их языка, Гейне, чтобы вы
разить им свое сочувствие, произнес очень почти
тельно имя «Магомет». Индийцы, желая ответить
на его любезность произнесли имя «Бонапарте».
На этом и остановился разговор, так что обмен
мыслей между Востоком и Западом оказался не
очень значительным, несмотря на существование
чудотворного имени, « с д е л а в ш е г о с я л о
з у н г о м для народов».
Довольно трудно сообразить, для какой цели
рассказан этот случай и какое из него можно вы
вести заключение. Что индийцы знают о суще
ствовании Наполеона? Прекрасно. Но что же из
102
,
этого следует? Этою честью пользовались в свое
время Аттила, Чингисхан, Тамерлан, Надир-шах,
словом, все разбойники, занимавшиеся своим ре
меслом в обширных размерах. Имена этих людей
всегда были гораздо более известны, чем имена
великих исследователей и изобретателей. Эти име
на поражали народное воображение и делались
лозунгом для народов, но эти имена всегда облег
чали международные сношения точно настолько
же, насколько имя Наполеона помогло индийцам
разговаривать с Гейне. Все это очень хорошо из
вестно и самому Гейне, но ему, как разорванному
поэту, нет никакого дела до самых элементарных
требований здравого смысла, если'только эти тре
бования мешают ему в данную минуту уронить
с пера эффектный эпитет, блестящую метафору
или грациозную картинку.
Гейне излагает очень обстоятельно те причины,
которые побуждают его считать Наполеона богом.
Причины эти заключаются в том, что у Наполео
на не шевелились глаза. «Вообщ е,—.говорит Гей
не,— твердый, смелый взгляд есть отличительный
признак богов. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма
и Индра приняли образ Н аляна свадьбе Дамаянти, последняя узнала своего возлюбленного по
движению его зрачков; ибо, как сказано, глаза
у богов всегда неподвижны. У Наполеона также
глаза имели это свойство, а потому я и убежден,
что он тоже был из богов» (т. V , стр. 243).
Что вы скажете об этом пассаже? Вы скажете,
по всей вероятности, что это шутка. Но я с вами
не соглашусь, и скажу вам, что это просто бес
смыслица, которую сам поэт тоже считает за бес
смыслицу и которую он, тем не менее, выбрасы
вает из себя на бумагу, потому что находит ее
оригинальною и грациозною. И это самодоволь
ное выбрасывание бессмыслиц совершается у Гей
не до такой степени часто, что читатель наконец
103
теряет возможность определить, где кончается
серьезное размышление и где начинается созна
тельное и умышленное юродство, желающее изоб
ражать собою грацию. Гейне положительно ду
мает, что поэт имеет право производить на свет
такие сочетания понятий, которые никогда и ни
при каких- условиях не могут залезть ни в какую
человеческую голову. Он часто пишет то, чего
он никогда не мог думать и чего вообще не мо
жет подумать ни одно мыслящее существо.
«РУССК О Е ПРАВИ ТЕЛЬСТВО
П О Д П ОКРОВИТЕЛЬСТВОМ Ш ЕДО-Ф ЕРРОТИ»
Глупая книжонка Шедо-Ферроти сама по себе
вовсе не заслуживает внимания, но из-за ШедоФерроти видна та рука, которая щедрою платою
поддерживает в нем и патриотический жар, и ли
тературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти лю
бопытна, как маневр нашего правительства. Ко
нечно, члены нашего правительства не умнее са
мого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от
них зависим, мы с ними боремся, стало быть,
надо же взглянуть в глаза нашим естественным
притеснителям и врагам.
Обскурантов -теперь, как известно, не суще
ствует. Нет того квартального надзирателя, нет
того цензора, нет того академика, нет даже того
великого князя, который не считал бы себя уме
ренным либералом и сторонником мирного про
гресса. Считая себя либералом, как-то неловко
сажать людей под арест или высылать их в даль
ние губернии за печатно выраженное мнение или
за произнесенное слово. Правительство наше, ко
торое все наголо состоит из либералов, начинает
это чувствовать. Александру Николаевичу со
вестно ссылать Михайлова и Павлова) сослать-то
он их сослал, но. боже мой, что это стоило чув
ствительному сердцу! Студенту Лебедеву проло105
мили голову, но правительству тут же сделалось
так прискорбно, что оно напечатало в газетах
объяснения: так и так, дескать, это случилось' по
нечаянности, ножнами жандармской сабли. Сло
вом, наше либеральное правительство уважает об
щественное мнение и для своих мирно прогрессив
ных целей пускает в ход благородные средства,
как то: печатную гласность. Валуев и Никитенко
сооружают газету с либеральным направлением,
а при этом и продолжают все-таки преследовать
честную журналистику доносами и цензурными
тисками. Публицист HI Отделения, барон Фиркс,
Шедо-Ферроти тож, по поручению русского пра
вительства, пишет и печатает в Берлине брошюры
без цензуры; великодушное правительство смот
рит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но
официально запрещенного товара; его продают
открыто в книжных лавках; не давая своего офи
циального разрешения, правительство упрочивает
за книжкою заманчивость запретного плода; до
пуская и поощряя из-под руки продажу книжки,
правительство обнаруживает свое великодушие.
О, как все это тонко, остроумно и политично!
А между тем журналам не позволялось разбирать
книжонку; Шедо-Ферроти, как прошлую осень
Борис Чичерин, объявляются личностями священ
ными и неприкосновенными1. Горбатого одна мо
гила исправит; наши умеренные либералы ни при
каких условиях не сумеют быть честными людьми,
наше правительство никогда не отучится от ни
колаевских замашек. У него есть особенный та
лант оподлять всякую идею, как бы ни была эта
идея сама по себе благородна и чиста. Например,
все порядочные люди имеют привычку на печат
ное обвинение отвечать также печатно и защи
щаться, таким образом, тем же оружием, каким
вооружен противник. Наше правительство захо
тело доказать, что оно тоже порядочный человек.
106
Находя, что Герцен несправедливо обвинил его,
наше правительство высылает своего рыцаря. Ка
жется, очень хорошо и благородно. Но посмотри
те поближе. Произведение Шедо-Ферроти впу
щено в Россию, а сочинения Герцена остаются
запрещенными. Публика видит, что Герцена отде
лывают, а того она не видит, за что его отделы
вают. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол»,
и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» из
вестны нашей публике, но ведь все эти вещи про
возятся и читаются вопреки воле правительства;
стало быть, если оценивать только намерения пра
вительства, то надо будет убедиться в том, что
оно хочет чернить Герцена, не давая ему возмож
ности оправдываться и обвинять, в свою очередь.
Чернить человека, которого сочинения строжайше
запрещены! Подло, глупо и бесполезно! Заказы
вая своему наемному памфлетисту брошюру о Гер
цене, правительство, очевидно, хочет продикто
вать обществу мнения на будущее время. Это
видно по тому, что мнения, противоположные
мысленкам Шедо-Ферроти, не допускаются, в пе
чати. Правительство сражается двумя оружиями:
печатною пропагандою и грубым насилием, а у
общества отнимается и то единственное средство,
которым оно могло и хотело бы воспользовать
ся. . . Обществу остается или либеральничать
с разрешения цензуры, или итти путем тайной
пропаганды, тем путем, который повел на каторгу
Михайлова и Обручева. Хорошо, мы и на это
согласны; это все отзовется в день суда, того
суда, который, вероятно, случится гораздо порань
ше второго пришествия Христова.
Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли
самое отрадное впечатление. Нас порадовало то,
что при всей своей щедрости правительство наше
принуждено пробавляться такими плоскими по
средственностями. Приятно видеть, что прави
107
тельство не умеет выбирать себе умных палачей,
сыщиков, доносчиков и клеветников; еще прият
нее думать, что правительству не из чего выби
рать, потому что в рядах его приверженцев оста
лись только подонки общества, то, что пошло и
подло, то, что неспособно по-человечески мыс
лить и чувствовать.
Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) до
казать, что петербургское правительство не имеет
ни надобности, ни желания убить Герцена,
2) осмеять и обругать при сем удобном случае
Герцена, как пустого самохвала- и как загордив
шегося выскочку.
Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для
русского правительства и что, следовательно, да
же III Отделение не решится убить его. Процесс
доказательств идет так: убивают только таких
людей, от смерти которых может перемениться
весь существующий порядок вещей в одном или
в нескольких государствах; если Герцен, получая
подметные письма о намерениях русского прави
тельства, верит этим письмам, тогда он считает
себя особою европейской важности и, следова
тельно, обнаруживает глупое тщеславие; если же
он, не веря этим письмам, поднимает гвалт, тогда
он пустой и вздорный крикун. Весь этот процесс
доказательств рассыпается, как карточный домик.
Во-первых, правительства ежегодно убивают не
сколько таких людей, которые могли бы оставать
ся в живых, вовсе не нарушая существующего по
рядка. Дезертир, которого запарывают шпицру
тенами, вовсе не особа европейской важности.
Бакунин, которого захватили обманом2, Михай
лов, Обручев, поручик* Александров3 вовсе не
* Писарев ошибся: должно сказать капитан (см. далее
в. примем.). Ред.
108
особы европейской важности, а между тем пра
вительство заживо хоронит их в рудниках и в кре
постях. Правительство вовсе не так дорожит
жизнью отдельного человека, чтобы казнить и
миловать со строгим разбором. Ведь турецкий
султан и персидский шах вешают зря, как взду
мается, а, кажется, в наше время только учебники
географии проводят различие между деспотиче
ским правлением и правлением монархическим,
неограниченным. На основании какого закона по
вешено пять декабристов? А если правительство
казнит по своему произволу, то отчего же оно не
может, по тому же произволу, подослать убийц?
Где разница между казнью без суда и убийством
из-за угла? В наше время каждый неограничен
ный монарх поставлен в такое положение, что он
может держаться только непрерывным рядом пре
ступлений. Чтобы подданные его не знали о сво
их естественных правах, надо держать их в не
вежестве — вот вам преступление против чело
веческой мысли; чтобы случайно просветившиеся
подданные не нарушали субординации, надо дей
ствовать насилием — вот еще преступление; чтоб
иметь в руках орудие власти — войско, надо си
стематически уродовать и“ забивать несколько
тысяч молодых, сильных, способных людей —•
опять преступление. Идя по этой дороге престу
плений, нельзя отступать от' убийства. Посмо
трите на Александра II: в его личном характере
нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей
и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь
поляков, кровь мученика Антона Петрова, загуб
ленная жизнь Михайлова, Обручева и других,
нелепое решение крестьянского вопроса, история
со студентами — на что ни погляди, везде или
грубое преступление или жалкая трусость. Слабые
люди, поставленные высоко, лерко делаются
злодеями. Преступление, на которое никогда не
109
решился бы Александр II, как частный человек,
будет непременно совершено им, как самодерж
цем всея России. Тут место портит человека, а не
человек место. Если бы наше правительство по
тихоньку отправило Герцена на тот свет, то, ве
роятно, в этом не нашли бы ничего удивитель
ного те люди, которые знают, что делалось
в Варшаве4 и Казанской губернии5. Но допу
стим даже, что наше правительство не намере
валось убить Герцена; из этого еще вовсе не сле
дует, чтобы III Отделение не могло написать
к нему несколько писем, наполненных глупыми
угрозами и площадной бранью; судя по себе,
Бруты и Кассии нашей тайной полиции могли на
деяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом
покончить все эти
нелепые проделки, Герцен
написал и напечатал письмо к представителю
русского правительства. Этим письмом он заявил
публично, что если бы за угрозами последовали
действия, то вся тяжесть подозрения упала бы
на Александра И. Агенты, посылавшие к Герцену
письма, должны были увидеть, что Герцен их
угроз не боится. Следовательно, им осталось или
действовать, или замолчать. Действовать они не
решились — духу нехватило; замолчать тоже не
хотелось: ведь они думают, что прав тот, кто
сказал последнее слово; вот они - и выдумали
пустить против Герцена книжонку Шедо-Ферроти:
родственное сходство между Шедо-Ферроти и
сочинителями подметных писем не подлежит со
мнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух язы
ках отстаивает перед Россией и перед Европою
нравственную чистоту III Отделения. Свой своему
поневоле друг.
1
Шедо-Ферроти плохо защитил правительство:
он ничем не доказал, что оно не могло иметь на
мерения извести Герцена, или, по крайней мере,
запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и
ПО
оплевать Герцена еще более неудачны. ШедоФерроти, этот умственный пигмей, этот продаж
ный памфлетист, силится доказать, что Герцен
сам деспот, что он равняет себя с коронованными
особами, что он только из личного властолюбия
враждует с теперешним русским правительством.
Доказательства очень забавны. Герцен деспот
потому, что не согласился напечатать в «Коло
коле» ответ Шедо-Ферроти на письма Герцена
к русскому послу в Лондоне. Да какой же поря
дочный редактор журнала пустит к себе ШедоФерроти с его остроумием, с его казенным либе
рализмом и его пристрастием к III Отделению?
Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни
было, но и не думает также открывать в «Коло
коле» богадельню для нравственных уродов и
умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферро
ти. Панегирист III Отделения требует, чтобы его
статьям было отведено место в «Колоколе»;
в случае отказа он грозит Герцену, что будет
издавать свои произведения отдельно с надписью:
«запрещено цензурою «Колокола». Вот испугалто! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Ра
фаила Зотова, Скарятина, Модеста Корфа и
многих других достойных представителей русской
вицмундирной мысли запрещены цензурою здра
вого смысла. Приступая к изданию своего журнаш, Герцен вовсе не хотел сделать из него
клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом
к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «да
здравствует разум!» Этот эпиграф прямо и реши
тельно отвергает всякое ханжество, всякое рабо
лепство мысли, всякое преклонение перед грубым
насилием и перед нелепым фактом, «Да здрав
ствует разум», и да падут во имя разума дряхлый
деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила
современной официальной нравственности! Всякие
попытки мирить разум с нелепостью, всякое треШ
бование уступок со стороны нравственности про
тиворечит основной идее деятельности Герцена.
Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный
простачок, верующий в возможность помирить
стремления к лучшему с существованием нашего
средневекового правительства, то и тогда Герцен,
как человек, искренно и честно служащий своей
идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его ста
рушечью болтовню. Но теперь, когда все знают,
что он наемный агент III Отделения, теперь его
претензии печатать свои литературные доносы
в «Колоколе» кажутся нам в то же время смеш
ными и возмутительными по своей беспримерной
наглости.
Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот
будто бы сравнивает себя с коронованными осо
бами. В этом упреке выражается как нравственная
низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти.
Какая же разница между простым человеком и
помазанником божиим? И какая же охота чест
ному деятелю мысли сравнивать себя с царствен
ными лежебоками, которые, пользуясь доверчи
востью простого народа, поедают вместе со сво
ими придворными деньги, благосостояние и рабо
чие силы этого народа? Если бы кто-нибудь
вздумал провести параллель между Александром
Ивановичем Герценом и Александром Николаеви
чем Романовым, то, вероятно, первый серьезно
обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим,
на чем же Шедо-Ферроти основывает свое обви
нение? «Вы убеждены, — пишет он Герцену,—
что вы не только либерал, но и социалист-респу
бликанец, враг монархическому началу, а поми
нутно у вас выскакивают выражения, обнару
живающие несчастное расположение сравнивать
себя с царствующими особами. В письме к барону
Бруннову, сказав, что вы не допускаете мысли,
что император Александр II вооружил вас против
112
спадасинов, вы присовокупляете: «я бы не сделал
этого ни в каком случае». В том же письме, го
воря об убийцах, разосланных за моря и горы
den Dolch im Gewande *, и цитируя стихи Шил
лера, вы опять сравниваете себя с царствующим
лицом, с Дионисием Саракузским. Наконец, самое
оглавление (заглавие) статей «Колокола», изве
щающих всю Европу о грозящей вам опасности:
«Бруты и Кассии III Отделения» содержит сравне
ние с одним из колоссальнейших исторических
лиц, Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».
Шедо-Ферроти, как умственный пигмей и как
сыщик III Отделения, вполне выражается в этой
тираде. Он не может, не умеет опровергать Гер
цена в его идеях; поэтому он придирается к слу
чайным выражениям и выводит из них невероят
ные по своей нелепости заключения; эта придир
чивость к словам составляет постоянное свойство
мелких умов; кроме того, она замечается особенно
часто в полицейских чиновниках, допрашивающих
подозрительные личности и желающих из усердия
к начальству сбить допрашиваемую особу с толку
и запутать ее в мелких недоговорках и противо
речиях. Вступая в полемику с Герценом, ШедоФерроти не мог и не умел отстать от своих поли
цейских замашек. Адвокат III Отделения остался
верен как интересам, так и преданиям своего
клиента.
Вся остальная часть брошюры состоит из голо
словных сравнений между Шедо-Ферроти и Гер
ценом. Шедо-Ферроти считает себя истинным
либералом, разумным прогрессистом, а Герцена
признает вредным демагогом?" сбивающим с толку
русское юношество и желающим возбудить в Рос
сии восстание для того, чтобы возвратиться
самому в Россию и сделаться диктатором. Шедо* П е р е в о д : С кинжалом под плащом. Ред.
8 Д. И. Писарев
из
Ферроти, как адвокат III Отделения, старается
уверить почтенную публику, что наше правитель
ство исполнено благими намерениями и что от
него должны исходить для Великой, Малой и Бе
лой России всевозможные блага, материальные
и духовные, вещественные и невещественные.
Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возмож
ности переворота или, по крайней мере, старается
уверить всех, что, во-первых, такой переворот
невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае
повергнет Россию в бездну несчастия. Одной этой
мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить
всем порядочным людям отвращение и презрение
к его личности и деятельности. Низвержение бла
гополучно царствующей династии Романовых и
изменение политического и общественного строя
составляют единственную цель и надежду всех
честных граждан. Чтобы при теперешнем поло
жении дел не желать революции, надо быть или
совершенно ограниченным, или совершенно под
купленным в пользу царствующего зла.
Посмотрите, русские люди, что делается вокруг
нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть
насилие, прикрывающееся устарелою формою бо
жественного права. Посмотрите, где наша литера
тура, где народное образование, где все добрые
начинания общества и молодежи. Придравшись
к двум-трем случайным пожарам6, правительство
все проглотило; оно будет глотать все: деньги,
идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока
масса проглоченного не разорвет это безобразное
чудовище. Воскресное школы закрыты, народные
читальни закрыты, два журнала закрыты 7, тюрьмы
набиты честными юношами, любящими народ и
идею. Петербург поставлен на военное положение,
правительство намерено действовать с нами, как
с непримиримыми врагами. Оно не ошибается:
примирения нет. На стороне правительства стоят
Ш
только негодяи, подкупленные теми деньгами, ко
торые обманом и насилием выжимаются из бед
ного народа. На стороне народа стоит все, что
молодо и свежо, все, что способно мыслить и
действовать.
.
Династия Романовых и петербургская бюрокра
тия должны погибнуть. Их не спасут ни министры,
подобные Валуеву, ни литераторы, подобные
Шедо-Ферроти.
То, что мертво и гнило, должно само собой сва
литься в могилу. Нам остается только дать им
последний толчок и забросать грязью их смер
дящие трупы.
/
РЕАЛИСТЫ *
(Посвящается моему лучшему другу —
моей матери В. Д . Писаревой)
I
Мне кажется, что в русском обществе начинает
вырабатываться в настоящее время совершенно
самостоятельное направление мысли. Я не думаю,
чтобы это направление было совершенно ново и
вполне оригинально; оно непременно обусловли
вается тем, что было до него, и тем, что его окру
жает; оно непременно заимствует с различных сто
рон то, что соответствует его потребностям;
в этом отношении оно, разумеется, подходит
вполне под тот общий естественный закон, что
в природе ничто не возникает из ничего. Но само
стоятельность этого возникающего направления
* Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревым
в конце 1864 года, носила заглавие «Реалисты»; но одна
из рук, оберегающих отечественную печать, вымарала это
жгучее тавро ненавистного для нее направления и заме
нила его канцелярским вензелем «нерешенного ^вопроса»,
желая, вероятно, такой заменой выразить, что по этому
делу еще не последовало от кого следует разрешающей
резолюции. Любопытно, что, вымарывая скромное загла
вие и производя ряд кавалерийских маневрирований на
.нолях авторских мыслей, заботливый пестун уничтожил
116
»
заключается в том, что оно находится в самой не
разрывной связи с действительными потребностя
ми нашего общества. Это направление создано
этими потребностями и только благодаря им су
ществует и понемногу развивается. Когда наши
дедушки забавлялись мартинизмом, масонством
или вольтерьянством, когда наши папеньки утеша
лись романтизмом, байронизмом или гегелизмом,
тогда они были похожи на очень юных гимнази
стов, которые, во что бы то ни стало, стараются
себя уверить, что чувствуют неодолимую потреб
ность затянуться после обеда крепкой папирос
кой. У юных гимназистов существует на самом
деле потребность казаться взрослыми людьми, и
эта потребность вполне естественна и законна, но
все-таки самый процесс курения не имеет ни ма
лейшей связи с действительными требованиями их
организма. Так было и с нашими ближайшими
предками. Им было очень скучно, и у них суще
ствовала потребность занять мозги какими-нибудь
размышлениями, но почему выписывался из-за
границы мартинизм, или байронизм, или гегелизм — на этот вопрос не ищите ответа в органи
ческих потребностях русских людей. Все эти
и з м ы выписывались единственно потому, что
они были в ходу у европейцев, и все они не'имели
ни милейшего отношения к тому, что происходило
в нашем обществе. Теперь, повидимому, дело по
шло иначе. Мы теперь выписываем больше, чем
когда бы то ни было; мы переводим столько книг,
сколько не переводили никогда; но мы теперь зна
ем, что делаем, и можем дать себе отчет, почему
мы берем именно это, а не другое.
-также посвящение сына матери. Почему так нужно было
поступить, — неизвестно. Это, поистине, единственный со
ставляет нерешенный вопрос «Реалистов». Произвольные
изменения, насколько было можно, восстановлены самим
автором. — Прим, издателя к изданию 1866 г.
U7
После окончания Крымской войны родилась и
быстро выросла наша обличительная литература.
Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень
близорука, но ее рождение было явлением совер
шенно естественным и вполне органическим. Удар
вызвал ощущение боли, и вслед за тем явилось
желание отделаться от этой боли. Обличение на
правилось, конечно, на те стороны нашей жизни,
которые всем мозолили глаза, и между прочим
наше негодование обрушилось на мелкое чинов
ничество; но такие обличительные подвиги, ко
нечно, не могли нас удовлетворить, и мы скоро
поняли, что они, во-первых, бесплодны, а во-вто
рых, несправедливы и даже бессмысленны.
Прежде всего явилось в отпор обличительному
бешенству то простое соображение, что мелкому
чиновнику хочется есть и что за это естествен
ное желание не совсем основательно считать его
извергом рода человеческого. «Это точно. Пускай
едят мелкие чиновники. Значит, надо увеличить
оклады жалованья», — заговорили те мыслители,
которые любят находить в одну минуту универ
сальное лекарство для всяких неудобств частной
и общественной жизни. «Это само собою, — от:
вечали другие, — но этого мало. Когда чиновник
будет обеспечен, тогда он потянется за роскошью.
Надо сделать так, ^чтобы он не тянулся». — «Ну да,
конечно, — заговорили опять любители универ
сальных лекарств. — Дать чиновнику твердые
нравственные убеждения. Дать ему солидное обра
зование. Пускай кандидаты университета идут
в квартальные и в становые»1. — «И это хоро
ш о ,— заметили
другие. — Образование — дело
превосходное, но у каждого чиновника есть се
мейство или кружок близких знакомых. Каждый
чиновник, получивший солидное образование,
прямо с университетской скамейки входит в один
из таких кружков и проводит всю свою жизнь
118
'
в одном кружке или в нескольких кружках, кото
рые, впрочем, все похожи друг на друга. Преда
ния университетской скамейки говорят ему одно,
а влияние жены, сестер, матери, отца и тот беско
нечный гул и говор, который все-таки, как ни
вертись, составляет общественное мнение, — го
ворят ему совершенно другое. Предания и вос
поминания всегда бывают слабее живых впечат
лений, повторяющихся каждый день, и выходит
из этого тот результат, что чиновник начинает
тянуться за роскошью, хотя и знает, что тянуться
за нею дозволенными средствами невозможно, а
недозволенными — не годится.
Значит,
как
же?» — «Ах, чорт побери, — думают любители
универсальных лекарств, подобных гг. Каткову,
Павлову, Громеке и К0. — В самом деле, как же?
Шутка сказать. Ведь это надо реформировать
среду». — Впрочем, раздумье этих мыслителей
продолжается недолго, и они непременно чтонибудь придумывают или, по крайней мере,
о чем-нибудь начинают говорить: ну да, рефор
мировать; ну да, обновить; ну да, распростра
нить грамотность, устроить сельские школы, за
вести женские гимназии, проложить железные
дороги, открыть земские банки и т. д. Но мы
видели и до сих пор видим перед собою два гро
мадные факта, из которых вытекают все наши от
дельные неприятности и огорчения. Во-первых, мы
бедны, а во-вторых глупы. Эти слова нуждаются,
конечно, в дальнейших пояснениях. М ы б е дн ы, — это значит, что у нас сравнительно с об
щим числом жителей мало хлеба, мало мяса, мало
сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья,
человеческих жилищ, удобной мебели, хороших
земледельческих и ремесленных орудий, словом —
всех продуктов труда, необходимых для поддер
жания жизни и для продолжения производитель
ной деятельности. М ы г л у п ы , — это значит,
И?
что огромйое большинство наших мозгов нахо
дится почти в полном бездействии и что, может
быть, одна десятитысячная часть наличных моз
гов работает кое-как и вырабатывает в двадцать
раз меньше дельных мыслей, чем сколько она
могла бы выработать при нормальной и нисколько
не изнурительной деятельности. Обижаться тут,
конечно, нечем: когда человек спит, он не может
работать умом; когда Иван Сидорович ремизит
Степана Парамоновича за зеленым сукном, он не
может работать умом. Словом, только те и не ра
ботают, кто, по своему теперешнему положению,
не в состоянии работать. Кто может — тот рабо
тает, но кое-как, потому что потребность на эту
работу слаба, и потому самый страстный актер
будет холоден и вял, когда ему придется играть
перед пустым партером. Само собою разумеется,
что наша умственная бедность не составляет не
излечимой болезни. Мы — не идиоты и не обезья
ны по телосложению, но мы — люди кавказской
расы, сидевшие сиднем, подобно нашему милому
Илье Муромцу, и наконец ослабившие свой мозг
этим продолжительным и вредным бездействием.
Надо его зашевелить, и он очень быстро войдет
в свою настоящую силу. Оно, конечно, надо, но
ведь вот в чем беда: мы бедны, потому что глупы,
и мы глупы, потому что бедны. Змея кусает свой
хвост и изображает собой эмблему вечности, из
которой нет выхода. Шарль Фурье говорит со
вершенно справедливо, что главная сила всех бед
ствий современной цивилизации заключается в
этом проклятом cercle vicieux*. Чтобы разбога
теть, надо хоть немного улучшить допотопные
способы нашего земледельческого, фабричного и
ремесленного производства, надо поумнеть; а по
умнеть некогда, потому что окружающая бедность
* Перевод:
120
Заколдованный круг.
Ред.
не дает вздохнуть. Вот тут и вертись, как знаешь.
Есть, однако, возможность пробить этот заколдо
ванный круг в двух местах. В о - п е р в ы х , из
вестно, что значительная часть продуктов труда
переходит из рук рабочего населения в руки не
производящих потребителей. Увеличить количе
ство продуктов, остающихся в руках производи
теля, — значит уменьшить его нищету и дать ему
средства к дальнейшему развитию. К этой цели
были направлены законодательные распоряжения
правительства по крестьянскому вопросу. В этом
месте заколдованный круг может быть пробит
только действием законодательной власти, и по
этому мы об этой стороне дела распространяться
не будем. — В о - в т о р ы х , можно действовать
на непроизводящих потребителей, но, конечно,надо действовать на них не моральной болтовней,
а живыми идеями, и поэтому надо обращаться
только к тем потребителям, которые, желают
взяться за полезный и увлекательный труд, но не
знают, как приступить к делу ^ к чему приспосо
бить свои силы. Те люди, которые, по своему по
ложению,,-могут и, по своему личному характеру,
желают работать умом, должны расходовать свои
силы с крайней осмотрительностью и расчетли
востью; то есть, они должны браться только за
те работы, которые могут принести обществу
действительную пользу. Такая экономия ум
ственных сил необходима
везде и всегда,
потому что человечество еще нигде и никогда
не было настолько богато деятельными ум
ственными силами, чтобы позволять себе в расхо
довании этих сил малейшую расточительность.
Между тем расточительность всегда и везде была
страшная, и оттого результаты до сих пор полу
чались самые жалкие. У нас расточительность так
же очень велика, хотя и расточать-то нам нечего.
У нас до сих пор всего какой-йибудь двугривен
,
121
ный умственного капитала, но мы, по нашему из
вестному молодечеству, и этот несчастный дву
гривенный ставим ребром и расходуем безобраз
но. Нам строгая экономия еще необходимее, чем
другим, действительно образованным народам,
потому что мы в сравнении с ними — нищие. Но,
чтобы соблюдать такую экономию, надо, прежде
всего, уяснить себе до последней степени ясности,
что полезно обществу и что бесполезно. Вот тутто, над этим уяснением, и должна работать лите
ратура. Мне кажется, что мы начинаем чувство
вать необходимость умственной экономии и стре
мимся уяснить себе понятие настоящей выгоды
или пользы. В этом и заключается то самостоя
тельное направление мысли, которое, по моему
мнению, вырабатывается в современном русском
обществе.,, Если это направление разовьется, то
заколдованный круг будет пробит. Экономия ум
ственных сил увеличит наш умственный капитал,
а этот увеличенный капитал, приложенный к по
лезному производству, увеличит количество хлеба,
мяса, одежды, обуви, орудий и всех остальных
вещественных продуктов труда. Обязанность раз
вивать это направление и пробивать с этой сто
роны заколдованный круг лежит целиком на на
шей литературе^потому что в этой сфере лите
ратура может действовать самостоятельно.
Экономия умственных сил есть не что иное, как
строгий и последовательный реализм. «Природа —
не храм, а мастерская, — говорит Базаров, — и че
ловек в ней работник». Рахметов видится только
с теми людьми, с которыми ему «нужно» видеть
ся; он читает только те книги, которые ему «нуж
но» прочесть;.он даже ест только ту пищу, кото
рую ему «нужно» есть для того, чтобы поддержи-
вать в себе физическую силу; а поддерживает он
эту силу также потому, что это кажется ему «нуж
ным», то есть потому, что это находится в связи
с общей целью его жизни. Особенность Рахметова
состоит исключительно в том, что он менее дру
гих честных и умных людей нуждается в отдыхе;
можно сказать, что он отдыхает только тогда,
когда спит. Вся остальная часть его жизни про
ходит за работой, и вся эта работа клонится толь
ко к одной цели: уменьшить массу человеческих
страданий и увеличить массу человеческих насла
ждений. К этой цели клонились всегда, созна
тельно и бессознательно, прямо или косвенно, все
усилия всех умных и честных людей, всех мысли
телей и изобретателей. Чем сознательнее и прямее
деятельность человека направлялась к этой цели,
тем значительнее была масса принесенной им
пользы; но, к сожалению, нервная система чело
века так устроена, что она не может долго со
средоточивать свои силы на одной точке. Если мы
захотим долго держать руку или ногу в одном и
том же положении, то мы почувствуем в этой ноге
или руке утомление и, наконец, настоящую боль.
Если мы будем долго смотреть на один предмет,
то у нас зарябит в глазах. Если мы будем долго
вдумываться в одну и ту же мысль, то ум наш на
несколько времени откажется работать. Если мы
будем проводить эту мысль во все наши поступки,
то, наконец, эта мысль начнет нас тяготить, и мы
почувствуем непреодолимую потребность отло
жить ее на время в сторону и пожить хоть не
сколько часов бесцельной жизнью. У Рахметова
эта потребность возникает очень редко, и поэтому
он стоит выш£ обыкновенных людей, то есть мо
жет в течение своей жизни сделать больше ра
боты; а всякий согласится, что мы можем мерить
умственные силы людей только количеством сде
ланной ими полезной работы. Рахметов может
г
123
обходиться без того, что называется личным сча
стьем; ему нет надобности освежать свои силы лю
бовью женщины, или хорошей музыкой, или смо
трением шекспировской драмы, или просто весе
лым обедом с добрыми друзьями. У него есть
только одна слабость: хорошая сигара, без кото
рой он не может успешно размышлять 2. Но и это
наслаждение служит ему только средством: он ку
рит не потому, что это доставляет ему удоволь
ствие, а потому, что курение возбуждает его
мозговую деятельность. Если бы он не замечал
в этом курении осязательной пользы, он бы от
него отказался, не ради идеального совершенства,
а ради того, что не следует ничем отвлекаться от
настоящей цели. Ставить такого титана в пример
читателю совершенно бесполезно. Это все равно,
что советовать читателю связать железную кочер
гу в узел или открыть какой-нибудь мировой за
кон, вроде ньютоновского тяготения или дарвин
ской теории естественного выбора. Мы — люди
обыкновенные, и если бы мы захотели выбросить из
нашей жизни отдых и чисто-личное наслаждение,
то мы сделали бы себя мучениками и, кроме того,
повредили бы даже общему делу: мы бы надорва
лись, мы бы отняли у себя возможность принести
ту малую долю пользы, которая соответствует
размерам наших сил; поэтому нам не следует на
дуваться, потому что до вола мы все-таки не до
растем, а если лопнем, то вместо экономии ока
жется чистый убыток. Когда вы отдыхаете и на
слаждаетесь, тогда никто не имеет права посы
лать вас на работу; общее дело человечества по
двигается вперед не барщинной работой, и сго
нять на этот труд ленивых или утомленных лю
дей— значит изображать суетливую муху, помо
гавшую лошадям вытаскивать в гору тяжелый
рыдван. Но когда выД отдохнувши и насладив124
шись вдоволь, сами, по собственной охоте, при
нимаетесь за работу, тогда общество, в лице каж
дого из своих членов, тотчас получает над вами
право контроля и критики; оно произносит свой
приговор над вашей деятельностью и оно имеет
полное право выражать свое желание, чтобы те
силы, которые добровольно отдаются на общепо
лезное дело, действительно тратились там, где они
необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадле
жите самому себе; когда вы работаете, вы
принадлежите обществу. Если же вы никогда не
хотите принадлежать обществу, если ваша ра
бота не имеет никакого значения для него, тогда
вы можете быть вполне уверены, что вы совсем
никогда не работаете и что вьь- проводите всю
вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему
с цветка на цветок. ]Мартышкин труд не есть ра
бот^. Если такой мартышкин труд производится
вполне сознательно, то ест^ если трудящаяся
личность сама понимает свою бесполезность и
сама говорит себе и другим: я трутень и хочу
быть трутнем, потому что это мне приятно,
тогда, разумеется, не о чем и толковать, потому
что неизлечимые больные не нуждаются ни
в дружеских советах, ни в медицинской помо
щи. Но можно сказать наверное, что большая
часть мартышкина труда производится в каждом
человеческом обществе по чистому недоразуме
нию. Трудящаяся личность- в большей части слу
чаев добросовестно и искренно убеждена в том,
что она трудится для человечества и для обще
ства; это обаятельное убеждение придает ей бод
рость и вдохновляет ее.во время труда; если вы
поколеблете в ней это убеждение, у нее опустятся
руки, и для нее настанет очень тяжелая минута
разочарования и уныния; но за этой минутой
явится сильное стремление к настоящей пользе
125
и крутой поворот к какой-нибудь другой деятель
ности, достойной мыслящего человека и добросо
вестного гражданина. В результате получится та
ким образом экономия умственных сил, и эта эко
номия будет гораздо более значительна, чем это
может показаться читателю с первого взгляда.
Каждая личность действует более или менее на
все, что ее окружает; поворот к реализму, проис
шедший в одной личности, дает себя чувствовать
многим другим, и та же самая особа, которая до
своего обращения могла своим примером и свои
ми советами сбить с толку двух или трех молодых
людей, будет после своего обращения действо
вать на этих же молодых людей самым благотвор
ным образом, как покаявшийся грешник может
действовать на человека, порывающегося согре
шить и, главное, убежденного в похвальности
греха. Поэтому я думаю, что наша литература
могла бы принести очень много пользы, если бы
она тщательно подметила и основательно разобла
чила различные проявления мартышкина труда,
свирепствующего в нашем обществе и отравляю
щего нашу умственную жизнь. Кое-что в этом на
правлении уже сделано; но вся задача, во всей
своей целости, чрезвычайно обширна, многие" ее
стороны совсем не затронуты, и вероятно пройдет
еще много лет и потратится много усиленного
труда, прежде чем общество начнет ясно созна
вать свою собственную пользу. Пока не наступит
это блаженное время русского благоразумия, ли
тература должна постоянно ‘держать ухо востро
и выводить на свежую воду мартышкин труд, на
девающий на себя самые разнообразные личины
и ежедневно сбивающий с толку самых добросо
вестных людей, очень неглупых и вполне способ
ных горячо полюбить полезную работу,
126
Ill
Наших реалистов упрекают давно, и часто и
сильно, в том, что они не понимают и не уважают
искусства. Упрек в непонимании несправедлив;
а что они не -уважают искусства — это верно.
Наши реалисты, как люди молодые и не вполне
установившиеся, до сих пор еще не определили
с достаточной ясностью свои отношения к искус
ству. Реальное направление нашей литературы
вообще находится теперь в переходной поре: оно
перестало быть смутным инстинктом, но не сде
лалось еще строгим и отчетливо сознательным
убеждением. Многие упреки противной стороны
застают наших реалистов врасплох. Когда против
ники представляют им крайние выводы, соста
вляющие естественный и логический результат их
собственных положений, тогда наши реалисты
часто конфузятся, делают шаг назад и стараются
оправдаться. Само собою разумеется, что такие
колебания вредят реальному направлению лите
ратуры, ободряют его противников и дают им
повод говорить поучительным и покровитель
ственным тоном разные «жалкие слова» на ту
печальную тему, что «молодо-зелено» и что все
нападки мальчишек на искусство и на науку про
исходят только от нежелания учиться и от ребяче
ской наклонности ко всякому озорству. Все
уступки реалистов обращаются таким образом не
только против их общего дела, но даже против
их отдельных личностей. Эти уступки и колебания
безусловно вредны; но они в то же время могут
служить нам превосходным доказательством той
истины, что наш теперешний литературный реа
лизм не выписан из-за границы в готовом виде,
а формируется у нас дома. У нас нет готовой си
стемы, из которой мы могли бы брать для нашей
защиты сильные аргументы, придуманные каким
Ш
нибудь заграничным учителем; мы в этом отноше
нии не похожи на гегелистов прошлого поколе
ния;, нам приходится приготовлять каждый аргу
мент своими домашними средствами; оттого дело
идет у нас не очень прытко, оттого мы иногда
пятимся и провираемся, но это еще ничего не
значит. Но конфузиться все-таки не годится,
а уже сделанные ошибки в подобном роде сле
дует исправлять для того, чтобы на будущее
время обнаруживать, при столкновении с литера
турными противниками, больше до<#Ьинства,
стойкости и сознательности. Года два тому назад
наши литературные реалисты сильно опростоволо
сились, и этот случай так интересен и поучителен,
что о нем стоит поговорить подробно, для того,
чтобы определить разумные отношения настоя
щего литературного реализма к вопросу об
искусстве.
Действие происходит в 1862 году. В февраль
ской книжке «Русского вестника» появляется ро
ман Тургенева «Отцы и дети». Роман этот, оче
видно, составляет вопрос и вызов, обращенный
к молодому поколению старшей частью общества.
Один из лучших людей старшего поколения, Тур
генев, писатель честный, написавший и напеча
тавший «Записки охотника» задолго до уничто
жения крепостного права, Тургенев, говорю я,
обращается к молодому поколению и громко
предлагает ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас
не понимаю, я вам не могу и не умею сочувство
вать. Вот что я успел подметить. Объясните мне
это явление». Таков настоящий смысл романа.
Этот откровенный и честный вопрос пришелся
как нельзя более во-время. Его предлагала вместе
с Тургеневым вся старшая половина читающей
России. Этот вызов на объяснение невозможно
было отвергнуть. Отвечать на него литературе
было необходимо. — Это было бы превосходно,
128
если бы каждая идея, проводимая мыслящими
людьми, проникала в общество, перерабатывалась
в нем и потом возвращалась бы назад к литера
торам в отраженном виде для поверки и по
правки. Тогда умственная работа закипела бы
очень быстро, и всякие недоразумения между
литературой и обществом оканчивались бы вполне
удовлетворительными объяснениями. Дурна или
хороша была тенденция тургеневского романа —
это все равно: для литературных реалистов этот
роман был во всяком случае драгоценным изве
стием о судьбе их идеи и еще более драгоценным
поводом к обстоятельному объяснению с читаю
щей публикой. Но надо было именно говорить со
всем русским обществом, а не с личностью Тур
генева и уж во всяком случае не с литературной
партией «Русского вестника». Н а д о было совер
шенно отодвинуть в сторону оценку романа и со
средоточиться на разборе базаровских идей даже
в том случае, если бы сам Базаров был карика
турой. Но «Современник» поступил как раз наобо
рот. Совершенно изменяя добролюбовским преда
ниям, он дал своим читателям чисто эстетическую
рецензию. Г-н Антонович3 употребил все сйлы
своей диалектики на то, чтобы доказать, что
роман Тургенева плох, хотя публике не было ни
какого дела «и до Тургенева, ни до его романа.
Она хотела знать, что такое Базаров, и этот
вопрос имел для нее самое жизненное значение,
потому что большая часть матерей, отцов и сестер
видели в своих детях и братьях частицы или за
родыши тех типических особенностей, которые
сосредоточились и воплотились с полной силой
в фигуре тургеневского нигилиста. «Если Ба
заров — карикатура, — рассуждала публика, — то
объясните и представьте нам в настоящем свете
то явление жизни, которое вызвало эту карика
ТУРУ, и покажите нам еще раз ту идею, которая
3 Дг И. Пи:арев
129
породила это явление. Если Базаров —-живой
человек, то растолкуйте нам его, мы не понимаем,
он нас пугает, и пугает именно потому, что мы
видим что-то непонятное и базаровское в чертах
характера многих из тех людей, которых мы лю
бим, от которых нам больно отрываться и с кото
рыми мы не умеем свыкнуться». Но этот животре
пещущий вопрос, поставленный жизнью, не дошел
до Слуха критика, углубившегося в проведение
остроумной параллели между г. Тургеневым и
Виктором Ипатьевичем Аскоченским. Критик
«Современника» не захотел объяснить публике и
даже самому молодому поколению, какой смысл
заключается для него в Базарове, из какой общей
идеи выходят тенденции его. Задача действи
тельно была очень обширная, и для удовлетвори
тельного ее разрешения требовалось очень много
осторожности, хладнокровия и технической лов
кости; надо было отказаться от всяких стремлений
к пафосу и к полемической’ декламации. Надо
было уяснить себе свою собственную мысль во
всех ее мельчайших подробностях и затем изло
жить ее в полной ясности самыми холодными,
бесстрастными и пожалуй даже бесцветными сло
вами. Но критик написал статью чрезвычайно рез
кую, напал на Тургенева с неслыханным ожесто
чением, уличил его в таких мыслях и стремлениях,
о которых Тургенев никогда и не думал, выдержал
самую упорную борьбу с несуществующими заблу»
ждениями автора и затем, наполнив этим воин
ственным шумом пятьдесят страниц, оставил
существенный вопрос совершенно нетронутым.
С Тургеневым критик расправляется очень бойко,
но при встрече с теми людьми, которые считают
Базарова уродом и злодеем, он совершенно умол
кает. Эти люди говорят, что Базаров действи
тельно существует, и что он — лютое животное,
подобное тем эгоистам, для которых г. Станицкий
130
рекомендует железные кольца \ продетые в ноз
дри. А критик Тургенева говорит, что Базаров —
карикатура, что Базаров не существует, но что,
если бы он существовал, то, конечно, его надо
было бы признать лютым животным. Это значит,
что дама просто приятная говорит о лапках да о
глазках: «ах, пестро!», а дама приятная во всех
отношениях возражает: «ах, не пестро!», но
в сущности обе дамы вполне согласны между
собою в том, что пестрое платье унижает до
стоинство благовоспитанной губернской аристо
кратки. Они спорят о факте, и только об одном
факте, и при этом критик тщательно скрывает то
обстоятельство, что он совершенно расходится
с гг. Дудышкиным, Зариным и Катковым в самом
принципе, на основании которого произносится
суждение о достоинстве факта. И он даже не
останавливается на одном молчании; он робко и
неясно произносит- такие слова, которые совер
шенно не вяжутся с основными идеями «Современ
ника»; словом, он конфузится, теряется и доходит
в своей скромности или в тонкости своей литера
турной дипломатии до очевидного молчалинства,
но все это благополучно сходит с рук по мило
сти воинственного экстаза, который составляет
декорацию и направляется против личности Тур
генева как мыслителя, художника и гражданина.
Базарова критик выдает головой, и при этом он
даже не осмеливается отстаивать то живое явле
ние, по поводу которого был создан Базаров.
Причина, которой он оправдывает свою робость,
в высшей степени любопытна: «пожалуй, — гово
рит он, — обличат в пристрастии к молодому
поколению, а что еще хуже — станут укорять
в недостатке самообличения. Поэтому пускай кто
хочет защищает молодое поколение, только не
мы» (стр. 93). Вот это очаровательно! Ведь защи
щать молодое поколение — значит по-настоящему
9*
131
защищать те идеи, которые составляют содер
жание его умственной жизни и которые упра
вляют его поступками. Одно из двух: или критик
сам проникнут этими идеями, или он их отрицает.
В первом случае защищать молодое поколение —
значит защищать свои собственные убеждения. Во
втором случае защищать его невозможно, потому
что человек не может поддерживать ту идею, ко
торую он отрицает. Но критик, видите ли, и рад бы
защитить, да боится, что «его обличат в пристра
стии»,— К чему? — К собственным убеждениям.
Удивительное обличение! Умен должен быть тот
господин, который выступит с подобным обличе
нием, да и тот тоже недурен, кто боится таких
обличителей. И зачем приводить такие неесте
ственные резоны? Просто нехватило уменья, и ни
чего тут нет постыдного в этом недостатке налич
ных сил. Мы люди молодые: поживем» поучимся,
подумаем и через несколько лет решим те во
просы, которые теперь, быть может, заставляют
нас становиться втупик. Но валить с больной го
ловы на здоровую все-таки не годится: Тургенев
и Базаров во всяком случае не виноваты в том,
что критик не умеет защищать молодое поколение
и что роль первого критика в «Современнике» не
соответствует теперешним размерам его сил. А
между тем за все, про все отдуваются именно Тур
генев да Базаров. Чтобы доказать, что Базаров —
гнусная карикатура и что Тургенев написал пре
зренный пасквиль, критик «Современника» рассу
ждает так неестественно и пускает в ход такие
удивительные натяжки, что читателю, знакомому
с романом «Отцы и дети», приходится на каждом
шагу обвинять и уличать критика или в непонят
ливости или в нежелании понимать. Как объяснить
себе, например, такой пассаж: «Главный герой
романа с гордостью и заносчивостью говорит
о своем искусстве в картежной игре» (стр. 68). Это
132
Базаров-то! С гордостью и заносчивостью! О пре
ферансе и ералаше! Мне даже совестно становится
за критика. «Потом г. Тургенев старается выста
вить главного героя обжорой, который только и
думает о том, как бы поесть и попить» (стр. 69).
Подумаешь, право, что этот г. Тургенев есть нечто
вроде г. Бориса Федорова, пишущего для какихто воображаемых детей поучительные рассказы
о жадном Васиньке и о воздержной Параше.
«Даже смотреть глупо», как говорит г. Щедрин
в своем рассказе «Развеселое житье». Но еще глу
пее смотреть на то, как критик «Современника»,
умышленно или нечаянно, уродует сцену, проис
ходящую перед смертью Базарова. Вот это изу
мительное место: «Герой, как медик, очень хо
рошо знает, что ему остается до смерти несколько
часов; он призывает к себе женщину, к которой
он питал не любовь, а что-то другое, непохожее
на настоящую возвышенную любовь. Она при
шла, герой и говорит ей: «Старая шутка смерть, а
каждому внове. До сих пор не трушу. . . а там
придет беспамятство, и фюить! Ну, что ж мне ска
зать вам? Что я любил 'вас? Это и прежде не
имело никакого смысла, а теперь и подавно. Лю
бовь — форма, а моя собственная форма уже раз
лагается. Скажу я лучше, что какая вы славная!
И теперь вот вы стоите, такая красивая»,. . (Чи
татель дальше яснее увидит, какой гадкий смысл
заключается в этих словах). Она подошла к нему
поближе, и он опять заговорил: «Ах, как близко,
и какая молодая, свежая, чистая.. . в этой гадкой
комнате!».. . (стр. 67). От этого резкого и дикого
диссонанса теряет всякое поэтическое значение
эффектно написанная картина смерти героя». Чи
татель, конечно, недоумевает и начинает думать,
что критик «Современника» — прекраснейший кри
тик, но только «уж очень строг насчет манер»,
подобно Матрене Марковне, супруге Егора Капи133
тоныча из повести Тургенева «Затишье». Чита
тель никак не может понять, где же тут «гадкий
смысл» и в чем именно чуткое ухо эстетика уло
вило «резкий и дикий диссонанс»? Оказывается
дальше, что критик оскорблен не как эстетик, а как
моралист. «И у автора, — восклицает он на стр.
73, — поворачивается язык говорить о всепримиряющей любви, о бесконечной жизни после того,
как его самого эта любовь и мысль о бесконеч
ной жизни не могли удержать -от бесчеловечного
обращения со своим умирающим героем, который,
лежа на смертном одре, призывает свою возлю
бленную для того, чтобы видом ее прелестей в по
следний раз пощекотать свою потухающую
страсть. Очень мило!» Да, уж так мило, что ми
лее этого местё не выдумал бы ни г. Зарин, ни
г. Щеглов. Всякий обыкновенный читатель видит
ясно, что Базаров хочет в последний раз взгля
нуть на любимую женщину и в последний раз ска
зать ей какое-нибудь ласковое слово. Может быть,
со стороны Базарова очень непохвально занимать
свои мысли перед самою смертью такими сует
ными привязанностями. Что ж, думает он, пускай
посмотрит. Пусть она улыбнется, пусть он увидит
в этой улыбке тень тихой грусти, пусть он вы
скажет ей словами или взглядами хоть что-нибудь
из той горячей любви, которою переполнена была
его молодая душа.
Так подумает самый обыкновенный и самый бес
хитростный читатель, тот самый читатель, кото
рый, быть может, на здорового Базарова смотрел
как на злобного и опасного разрушителя. Так по
думали, наверное, даже многие из мудреных рус
ских писателей, подобных гг. Каткову, Павлову,
Скарятину и другим блюстителям литературного
благочиния. Но критик «Современника» так пере
полнен воинственным жаром, что он ни на одну
минуту не желает сделаться обыкновенным и бес134
хитростным читателем. Он надевает на себя не
естественную маску; он старается быть неумолимо
строгим. Он проникает в мысли Базарова и усма
тривает в них греховную нечистоту. Прежде всего
он впускает в свой рассказ некоторые неверности,
которые я, из вежливости, назову ошибками. Вопервых, Базаров не призывает Одинцову, а только
посылает ей сказать, что он умирает. Одинцова
приезжает к нему без всякого зова. Базаров не
ожидал ее, он едва мог надеяться на то, что она
приедет, и вследствие этого он, увидя ее пред со
бою, чувствует такой избыток радости и благо
дарности, что не находит даже, как и о чем гово
рить с нею. Сверх того, он уже так плох, что
в присутствии Одинцовой начинает бредить и
вообще с трудом может связывать мысли. Он, как
больной ребенок, смотрит на нее и видит, что она
хорошая, и бормочет: «Славная, красивая, моло
дая, свежая, чистая, в гадкой комнате». При этом
он только с мучительной ясностью чувствует по
разительный контраст между ее цветущей жизнью
и своим собственным разложением. И тут, при
всей его слабости, в нем не видно ни зависти, ни
боязни. Как только Одинцова переступает через
порог его комнаты, он говорит ей: «Не подхо
дите; моя болезнь может быть заразительна», но
Одинцова тотчас, по естественному движению
нежности и неустрашимости, подходит к самой
его постели. Тогда он и говорит: «Ах, как близ
ко!» Этими словами он хочет сказать: я — кусок
гнилого мяса. Мне больно за вас. Зачем вы, мо
лодая, свежая, чистая, дышите зараженным воз
духом этой гадкой комнаты. И в то же время ему,
конечно, в высшей степени приятно, что она его
не боится, что она смотрит на него ласково и без
отвращения, что она не бежит вон из гадкой ком
наты, а особенно приятно для него то, что она
в самом деле хорошая и милая женщина, а не
~
'
135
только «вдова души возвышенной, благородной
и аристократической», как называет ее критик.
Базаров мучительно счастлив ее присутствием и
с грустным удовольствием наслаждается ее про
стой и естественной гуманностью, потому что
в нем шевелятся до самой последней минуты вы
сокочеловечные и строго разумные мысли. И по
поводу этого-то человека критик говорит о ка
ком-то щекотании. Я даже не понимаю хоро
шенько, что именно он называет этим каратель
ным термином. Во всяком случае я нахожу, что
мне давно пора прекратить разговор об этом
предмете. Да, опростоволосились наши реалисты,
опростоволосились до такой степени, что сочли
нуждам поддерживать свое дело крючкотворной
аргументацией.
..
IV
Наши умственные силы расходуются нерасчет
ливо— это не подлежит сомнению, и в, призна
нии этого факта сходятся между собою все наши
литературные органы самых разнообразных оттен
ков. Где причина нерасчетливости? Когда прихо
дится отвечать на этот вопрос, тогда все органы
бросаются врассыпную и друг друга побивают ве
личием своей ерунды. Все это очевидно доказы
вает, что ясных и неопровержимых аргументов не
представляет никто, что в корень дела не загля
дывает ни один писатель и что настоящая при
чина нашей умственной суеты остается неизвест
ной всем ее искателям и обличителям. Если бы
кто-нибудь растолковал публике, как дважды
два
четыре, в чем состоят важные интересы ее
умственной жизни, то противники этого «кто-ни
будь» были бы радикально побеждены, потому
что публика себе не враг и, стало быть, не будет
обольщаться тем, что она раз, навсегда признала
136
для себя вредным и невыгодным. Поэтому ука
зать на эти интересы и доказать, что они действи
тельно существенные, — это, разумеется, важная
задача современной литературы. Пока эта задача
не будет решена вполне, до тех пор и писателям
придется работать ощупью, и публике выбирать
себе кусочки из груды их произведений— также
ощупью. Ни один писатель не решится сказать,
что он работает для нанесения вреда читающему
обществу; ни один не решится также сказать, что
он своей работой не приносит обществу ни малей
шей пользы; стало быть, все стремятся принести
своим читателям пользу; между тем одни из них
действуют прямо наперекор другим. Если бы чи
татели «одних» были моллюсками, а читатели
«других»— тараканами, то, разумеется, можно
было бы думать, что и «одни» и «другие» говорят
дело, потому что организация таракана не по
хожа на организацию моллюска и, следователь
но, умственные интересы этих двух пород могут
быть диаметрально противоположными. Но, к со
жалению, и одних, и других читают все-таки не
счастные люди, стало быть, очевидно, или одни,
или другие врут и вредят, а легко может быть и
то, что врут и вредят как одни, так и другие, по
тому что способы вранья неисчислимы, между тем
как истина двоиться не может. Стало быть, есть
писатели, приносящие чистый вред или по мед
вежьей услужливости, или по узкой корыстности
(в конце концов и то и другое сводится к тупо
умию); первые ошибаются, вторые лицемерят.
Первых надо урезонить, вторых надо разоблачить
для того, чтобы они сделались безвредными и не
опасными. Чтобы произвести эти две операции,
то есть, чтобы радикально вычистить литературу,
надо именно указать существенную пользу. Вполне
последовательное стремление к пользе называется
реализмом и непременно обусловливает собою
1ST
строгую экономию умственных сил. то есть по
стоянное отрицание всех умственных занятий, не
приносящих никому пользы. Реалист постоянно
стремится к пользе и постоянно отрицает в себе и
других такую деятельность, которая не дает по
лезных результатов. Стало быть, строгий реалист
соблюдает в самом себе и уважает в других лю
дях строгую экономию умственных сил. Стало
быть, разъяснить вполне значение реализма в ли
тературе — значит решить самую важную задачу
современной идеи и радикально очистить эту идею
от ненужного сора и от бесплодных полемических
волнений. Но различные .недоразумения могут
укрыться в самом слове «польза», и поэтому
прежде всего необходимо разъяснить эти недо
разумения. Человек одарен чувством самосохра
нения. Он невольно и бессознательно любит свою
жизнь и старается сохранить ее в себе как можно
дольше. Такие крайности, как мотовство и скряж
ничество, одинаково нерасчетливы, потому что
при обоих способах действия жизнь дает меньше
наслаждений, чем сколько она могла бы дать при
рациональном пользовании. Дети так радикально
предпочитают приятное полезному, то есть непо
средственное наслаждение отсроченному, что, если
посыпать сахаром "их молочную кашу и не разме
шать ее начальственной рукой, они непременно
истребят сначала элемент п р и я т н о г о , то есть
чистый сахар, а потом уже, по необходимости и
с тяжелым вздохом, примутся за голую п о л ь з у ,
то есть за кашу, которая, однако, была бы го
раздо вкуснее в соединении с п р и я т н о с т ь ю .
Взрослые называют этих юных эпикурейцев глу
пыми ребятами и сами делают глупости гораздо
более крупные. Например, далеко не всякий чи
новник умеет так распорядиться со своим трет
ным жалованьем, чтобы в начале трети не зада
вать неестественного форсу и в конце трети не
138
созерцать свои зубы, положенные на полку. Это
значит — сначала облизал весь сахар, а потом ли
шил себя даже молочной каши. У кого хватает
предусмотрительности на четыре месяца, у того
может нехватить ее на два года. Сколько бывало
примеров, что на литературное поприще выступает
вдруг блестящее молодое дарование; два-три
успеха быстро следуют один за другим; опытные
люди смотрят на него и радуются; но в то же
время советуют ему потихоньку: почитайте книж
ку, поучитесь, голубчик. Ей-богу, лучше будет. —
Еще успею, говорит он, еще успею. — Успею, да
успею, как вдруг неожиданное фиаско постигает
юное дарование, которое, как падающая звезда,
мгновенно скатывается с неба и скрывается на
заднем дворе какого-нибудь «Сына отечества» 0
или «Развлечения», куда, впрочем, настоящие па
дающие звезды, сколько мне известно, не загля
дывают.. .
V
Базаров с первой минуты своего появления при
ковал к себе все мои симпатии, и он продолжает
быть моим любимцем даже теперь. Я долго не
мог себе объяснить причину этой исключительной
привязанности, но теперь я ее вполне понимаю.
Ни один из подобных ему героев не находится
в таком трагическом положении, в каком мы ви
дим Базарова.
Трагизм базаровского положения заключается
в его полном уединении среди всех живых людей,
которые его окружают. Он везде производит
своей особой резкий диссонанс, он всех заста
вляет страдать своим присутствием и существова
нием, он сам это видит и понимает, и понимает,
кроме, того, с мучительной ясностью роковые при
чины и абсолютную неизбежность этих страданий.
'
139
Люди, окружающие Базарова, страдают не оттого,
что он поступает с ними дурно, и не оттого, что
они сами дурные люди; напротив того, он не де
лает в отношении к ним ни одного дурного по
ступка, и они, с своей стороны, также очень до
бродушные и честные люди. И тем хуже, тем му
чительнее и безвыходнее их положение. Нет при
чин для разрыва и нет возможности сблизиться.
Нет возможности потому, что нет ни одного об
щего интереса, ни одного такого предмета, кото
рый с одинаковой силой затронул бы умственные
способности Базарова и его собеседников. Ему
приходится слушать их, как пятилетних детей,
рассказывающих, что вот они гулять ходили и
вдруг видят большую такую корову, и вдруг эта
корова подошла туда, знаете, к реке, и вдруг на- чала пить. «Ну, так что же?» — спрашиваете вы.
«Ну, вот напилась и пошла». — «А потом?» —
«Потом мы домой вернулись». — Вот вам и весь
анекдот. И, выслушивая его, вы из чувства есте
ственной гуманности должны тщательно наблю
дать за вашей физиономией, чтобы на ней не вы
разилось изумление, чтобы ваши губы не сложи
лись невольно в улыбку сострадательного недо
умения, и чтобы кроме того черты вашего лица
изображали хоть малейшее участие к тому, что
вам рассказывается с чисто детским увлечением.
Чуть только какой-нибудь мускул вашей физио
номии утомился от этого неестественного напря
жения и подернулся не в такт этой усыпительной
музыке, и вся гармония нарушена, и весь плод
ваших долговременных усилий пропал безвоз
вратно, и рассказчик, человек добрый и честный,
искренно желающий вас утешить и развлечь, ока
зывается глубоко и смиренно опечаленным своей
немощностью и своей неспособностью дать вам
то, чего бы вы желали. Если бы он вас обругал
в эту минуту, вы бы этому обрадовались; но он
140
тихо опечалится и замолчит; в его душе будет
только грусть, без малейшей горечи, но эту грусть
вы в нем видите совершенно ясно, и совершенно
независимо от его воли и его усилия скрыть от
вас эту грусть, то есть не огорчить вас, человека,
огорчившего его, — эти усилия, говорю я, делают
его еще более трогательным в ваших глазах; и
вам больно было, и ему больно, и обоим грустно,
что разбередили друг друга и все-таки ничем, да,
ведь решительно ничем, нельзя этому делу помочь.
Вот оно, дьявольское-то положение; вот что мо
жет душу вытянуть из каждого человека, способ
ного мыслить и чувствовать. Я советую читате
лям, получавшим «Русское слово», 1863 год, Пере
читать в нем повесть «Женитьба от скуки»5.
Там именно такой разлад между мужем и женой
приводит к сумасшествию и к самоубийству.
Результат вовсе не преувеличен, и развитие тра
гической дисгармонии прослежено там очень
удовлетворительно. Но молодой муж и молодая
жена, по крайней мере, имеют хоть какую-нибудь
возможность разойтись; конечно, этот образ дей
ствий тягостен и сопряжен со многими неудоб
ствами; конечно, трудно предположить, чтобы
обоим разошедшимся супругам удалось устроить
себе новое счастье; но все-таки есть выход, и во
всяком случае лучше одинокое и бесцветное су
ществование, чем мучительное сожитие. Но когда
между родителями и детьми появился такой
разлад, какой мы видим между старыми Базаро
выми и их сыном, тогда и выхода-то никакого
нельзя придумать. Евгений Базаров, разумеется,
может отшатнуться от своих родителей, и его
жизнь все-таки будет полна, потому что ее на
полняет умственный труд. Но их жизнь? И ка
кой же настоящий Базаров, какой мыслящий че
ловек решится оттолкнуть от себя своих стариков,
которые только им живут и дышат и которые
141
сделали все, что могли, для его образования? Эти
старики буквально подсадили его на своих пле
чах, чтобы он мог ухватиться своими отрочески
ми руками за нижнюю ветку древа познания; он
ухватился и полез, и залез высоко, и ходу нет
назад, и спуститься невозможно, а им также не
возможно подняться кверху, потому что они
слабы и дряхлы, и приходится им аукаться изда
ли, и приходится им страдать оттого, что нет воз
можности расслышать и понять друг друга; а
между тем старики и тому рады, что слышат по
крайней мере неясные звуки родного голоса. Ска
жите, бога ради, кто же решится, находясь в по
ложении Базарова, замолчать совеошенно и не
отвечать ни одним-звуком на кроткие и ласковые
речи, поднимающиеся к нему из-под дерева?
И Базаров откликается. — И странно и мучитель
но волнуются и борются в широкой груди База
рова ненависть и любовь, беспощадный, стальной
и холодный, судорожно улыбающийся демониче
ский скептицизм и горячее, тоскливое, порою ра
достное и ликующее романтическое стремление
в даль, в даль, но не прочь от земли, а вперед,
в манящую, ласкающую, глубокую синеву необо
зримого лучезарного будущего.
Почитайте Гейне, и вы поймете, вы увидите
в образах эту ужасную смесь мучительных ощу
щений, которыми наградило всех мыслящих лю
дей Европы наше общее историческое прошед
шее. А покуда прочтите этот небольшой разговор
Базарова с Аркадием.
«— Нет, — говорил он на следующий день Ар
кадию,— уеду отсюда завтра. Скучно, работать
хочется, а здесь нельзя. Отправляюсь опять к вам
в деревню; я же там все свои препараты оставил.
У вас по крайней мере запереться можно. А здесь
отец мне все твердит: «Мой кабинет к твоим услу
гам, никто тебе мешать не будет», а сам от меня
142
ни на шаг. Да и совестно как-то от него запи
раться. Ну, и мать тоже. Я слышу, как она взды
хает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей
нечего.
— Очень она огорчится, — промолвил Арка
дий, — да и он тоже.
— Я к ним еще вернусь.
,
— Когда?
— Да вот как в Петербург поеду.
— Мне твою мать особенно жалко.
~ Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?
Аркадий опустил глаза».
Так тебе и надо поступать, Аркашенька. Больше
ты. друг мой разлюбезный, ничего и делать не
умеешь, как только глазки опускать. Заговорилбыло с тобою Базаров сначала как с путным че
ловеком, а ты только, как старушка божия, оха
ми да вздохами отвечать ухитрился. В самом
деле, вглядитесь в этот разговор. Базарову тя
жело и душно; он видит, что и работать нельзя,
Да и для стариков-то удовольствия мало, потому
что «выйдешь к ней — и сказать ей нечего». Так
ему приходится скверно, что он чувствует потреб
ность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младенчествующему кандидату Аркадию. И начинает
он высказываться отрывочными предложениями,
так, как всегда высказываются люди сильные и
сильно измученные: «Совестно как-то», «ну, и
мать тоже», «вздыхает за стеной», «сказать ей
нечего». Кажется, не хитро понять из этих слов,
что не гаерствует он над своими стариками, что
не весело ему смотреть на них сверху вниз и что
сам он видит с поразительной ясностью, как мало
дает им его присутствие и как мучительна будет
для них необходимая разлука. Я думаю, умный
человек, будучи на месте Аркадия, понял бы, что
Базаров особенно заслуживает в эту минуту со
чувствия, потому что быть мучителем, и мучите
I
143
лем роковым, для каждого разумного существа
гораздо тяжелее, чем быть жертвой. Умный че
ловек хоть одним добрым словом дал бы заме
тить огорченному другу, что он понимает его по
ложение, и что в самом деле ничем нельзя по
мочь беде, и что, стало быть, действительно сле
дует залить тяжелое впечатление свежими волна
ми живительного труда. А Аркадий? Он ничего
не нашел лучшего, как ухватить Базарова за са
мое больное место: «Очень она огорчится». Точно
будто Базаров этого не знает. И точно будто
эта мысль дает какое-нибудь средство поправить
дело. На это старушечье размышление Базаров
мог отвечать сокрушительным вопросом: «Ну,
а что же мне делать, чтобы она не огорчалась?»
И тут Аркадий, как настоящая старуха, повторил
бы опять ту же минорную гамму с легкой пере
становкой нот: «Она очень огорчится». И так как
из трех слов можно сделать шесть перестановок,
то юный мудрец, повторив ту же фразу шесть
раз, замолчал бы, находя, что он подал своему
другу шесть практических советов, или шесть це
лительных бальзамов. К счастью, Базарову было
не до диспутов с этим пискливым цыпленком. Он
тотчас спохватился, вспомнил, что юный друг его
не создан для понимания трагических положений,
и стал продолжать разговор без всяких излияний,
в самом лаконическом тоне. Но это плоское жи
вотное, Аркадий, не утерпел и произвел новое
визжание, и опять, еще грубее ухватил Базарова
за больное место: «Мне твою мать особенно жал
ко». В сущности, это изречение есть не что иное,
как одна из шести возможных перестановок. Но
так как Аркадий взялся за перестановки очень
хитро, то есть стал выражать ту же мысль д р у
г и м и словами, то надо было опасаться, что пере
становок будет не шесть, а даже гораздо больше.
Базарову предстояло утонуть в волнах цели144
тельного бальзама, и, очевидно, было необходимо
сразу заморозить потоки кандидатского сердобо
лия. Ну, а Базаров на эти дела мастер. Как ска
зал об ягодах, так и закрылись хляби сердечные.
Аркадий опустил глаза, что ему необходимо было
сделать в самом начале разговора. — А наша кри
тика? А наша глубокая, проницательная критика?!
Она сумела только за этот разговор укорить Ба
зарова в жестокости характера и в непочтитель
ности к родителям.— Ах ты, Коробочка доброже
лательная!— Ах ты, обличительница копеечная!
■ Ах ты, лукошко0 российского глубокомыслия!
VI
Взгляд Базарова на отца Аркадия, Николая Пе
тровича, доказывает самым неопровержимым об
разом, что Базаров желает и старается сблизиться
с теми людьми старшего поколения, которые еще
'способны подвинуться вперед. Но как сблизиться?
Так ли, чтобы Базаров сделал несколько шагов
в их сторону, или так, чтобы люди старшего по
коления сами подошли к Базарову и к его идеям?
То есть, другими словами, готов ли Базаров сде
лать ряд уступок, или, напротив того, он желает
переубедить других? Я думаю, достаточно поста
вить этот вопрос для того, чтобы считать его ре
шенным. Человек, действительно имеющий какиенибудь убеждения, только оттого и держится
этих убеждений, что считает их истинными. Он,
быть может, ошибается; быть может, он заметит
со временем свою ошибку, и тогда, разумеется,
тотчас переменит в своих убеждениях то, что
окажется несогласным с истиной; но покуда он
не увидит ясно несостоятельности своих мнений,
пока эти мнения не разбиты ни фактами действи
тельной жизни, ни очевидными доказательствами
противников, до тех пор он думает по-своему, счиЮ Д, И. Писарев
145
тает свои идеи верными, держится за них твердо
и из чистой любви к своим ближним чувствует
желание избавить их от того, что он, справедливо
или несправедливо, считает заблуждением. Когда
сходятся между собою два человека различных
убеждений, оба искренно преданные своим идеям,
оба добросовестно стремящиеся к истине и оба
настолько просвещенные, чтобы понимать возму
тительную пошлость нетерпимости, тогда каждый
из них, видя в своем собеседнике честного чело
века и не имея причины ненавидеть его, желает
открыть своему ближнему ту истину, которою он
сам обладает. Одна из этих истин непременно
оказывается заблуждением; но тот, кто обладал
этим заблуждением, старался доставить ему по
беду, потому что видел в нем несомненную исти
ну. Может бЬиъ — мало ли что бывает на- све
т е ? — может быть, говорю я, Базарову и при
шлось бы в чем-нибудь сделать искреннюю уступ
ку идеям старшего поколения, но все-таки База
ров не мог подходить к старшему поколению
с желанием сделать ему эту уступку и с той
мыслью, что такая уступка возможна. Подобная
мысль и подобное желание составляют уже дей
ствительную уступку и могут возникнуть в че
ловеке искренно убежденном только вследствие
фактических доказательств, а никак не вследствие
мягкости характера. Когда у человека есть дей
ствительно какие-нибудь убеждения, тогда ни со
страдание,'Ч1 И уважение, ни дружба, ни любовь,
ничто, кроме обязательных доказательств, не мо
жет поколебать или изменить в этих убеждениях
ни одной мельчайшей-подробности.
' VII
Бели бы отцом Базарова был Николай Петро
вич, крепкий и довольно образованный сорока
четырехлетний мужчина, то Базаров, может быть,
146
увлек бы своего отца в область реалистического
труда, и представители двух поколений с любовью
и с взаимным доверием стали бы поддерживать
и ободрять друг друга. Молодой работал бы боль
ше пожилого, но пожилой понимал бы его
вполне и совершенно сознательно радовался бы
каждому отдельному' успеху своего младшего то
варища, на которого это сочувствие действовало
бы самым живительным образом. О разладе не
могло бы быть и речи, потому что, вполне по
нимая друг друга, эти люди видели бы, что между
их интересами нет и не может быть ни малейшей
противоположности. Один ищет истины, и другой
также ищет истины, и эта истина для обоих одна
и та же, и эта истина не такое благо, которое,
доставшись одному, не могло бы в то же время
принадлежать и другому. Стало быть, и дуться
друг на друга незачем, и надо только догово
риться до взаимного понимания. Базаров очень
хорошо знает, что в некоторых случаях всякая
попытка договориться до какого-нибудь удовле
творительного результата совершенно бесплодна.
Он никогда не пробует серьезно разговаривать
с Ситниковым или с Кукшиною, потому что эти
господа, очевидно, изображают своими особами
бездонную бочку Данаид7. Сколько в них ни вали
дельных мыслей, хоть весь британский музеум
опрокинь в их головы, все будет пусто и все бу
дет проходить насквозь с величайшей легкостью.
Базаров не пробует также вступать в серьезные
разговоры с своими родителями, хотя эти роди
тели вовсе не глупы от природы. Но догово
риться и с ними невозможно: отец Базарова —
славный и добрый старик, еще бодрящийся, но уже
начинающий впадать в детство; а мать его даже
никогда не переставала быть ребенком, хотя и
была постоянно примерной супругой, отличной
хозяйкой и до самозабвения нежной матерью.
ь
1
'
147
Такие личности, обладающие здоровым и нор
мальным мозгом, но живущие и умирающие без
пособия этого органа, встречаются у нас на каж
дом шагу и доказывают своим существованием ту
несомненную истину, что время полного господ
ства головного мозга над явлениями человече
ской жизни наступит еще очень не щкоро.
Такие личности живут так называемым чув
ством, то есть каждое впечатление, не задержи
ваясь и не перерабатываясь в их мозгу ни одной
минуты, немедленно пёреходит в какой-нибудь по
ступок, в котором эта поступающая личность ни
когда не спрашивает у себя и никогда не может
дать себе ни малейшего отчета. Такие личности
приходятся по душе нашему обществу и нашим
художникам, которые действительно имеют с ними
довольно много точек соприкосновения; но я
сильно сомневаюсь в том, чтобы такие личности
могли иметь особенно живительное влияние на ме
дленное, страшно медленное, движение человече
ства к светлому будущему. Личности, подобные
старушке Базаровой, — это ходячие пуховики, ча
сто очень привлекательные и всегда приглашаю
щие своей симпатичностью полезных работников
опочить до конца жизни от несоделанных подви
гов и разумного труда. С этим милым, добродуш
ным, трогательно любящим и уже состарившимся
пуховиком Базаров, конечно, ни о чем не рассу
ждает, потому что «и сказать ей нечего».
Таким образом Базаров разговаривает только
с Аркадием, с Николаем и Павлом Петровичами
и с Одинцовой. Самое серьезное значение для
Базарова и самый серьезный результат во всех
отношениях могли иметь разговоры с Одинцовой;
они могли доставить Базарову счастье взаимной
любви и они же могли дать обществу мыслящую
женщину. Наслаждаясь разумным счастьем, База
ров удесятерил бы свои рабочие силы, и,это при148
ращение пошло бы целиком на пользу общему
умственному капиталу всего человечества. Один
цова, с своей стороны, развернула бы все силы
своего здорового ума. Но такие счастливые ре
зультаты получаются очень редко. Почти всегда
какая-нибудь ничтожная оплошность нарушает
процесс развития в самом его начале, подобно
тому, как самое легкое движение воздуха рас
страивает все расчеты химика и искажает весь
процесс медленной и нормальной кристаллизации.
Так случилось и в истории Одинцовой. Ее испу
гала страстность Базарова, но если бы та же
страстность проявилась с такой же силой двумя
или тремя месяцами позднее, то Одинцова увлек
лась бы ею сама до полнейшего самозабвения.
Впрочем, об отношениях реалистов к женщинам
я буду говорить впоследствии очень подробно.
Аркадий, мне кажется, во всех отношениях по
хож на кусок очень чистого и очень мягкого
воска. Вы можете сделать из него все, что хо
тите;- но зато после вас всякий другой точно так
же может сделать с ним все, что этому другому
будет угодно. Вы можете натереть им мебель и
паркетный пол: Аркадий исполнит это назначе
ние в совершенстве. Вы можете превратить его
в свечку: Аркадий будет таять и уничтожаться
в порывах самопожертвования, и может уничто
житься без остатка, если никто не догадается ду
нуть на светильню; но этот процесс самоистребле
ния будет постоянно совершаться только в непо
средственной близости самого огня, и во время
этого процесса вся свеча будет совершенно холод
на и равнодушна. Как только погаснет светильня,
не имеющая по своему составу ничего общего
с воском, так в ту же минуту прекратится всякое
таяние и изнывание. Если вы — искусный скульп
тор, вы можете сделать из этого воскового Ар
кадия изящнейшую статуэтку и даже можете вло149
жить в складки его чела выражение глубокой за
думчивости и мировой печали; но эту художе
ственную безделку вы непременно должны дер
жать под стеклянным колпаком, чтобы ее не за
сидели мухи; кроме того, вы должны тщательно
наблюдать, чтобы она не подвергалась влияниям
изменчивой температуры; попробуйте оставить ее
на полчаса под лучами летнего солнца, и она рас
плывется так удивительно, что ее творец, искус
ный скульптор, не будет в состоянии узнать свое
любимое произведение. Не только глубокая за
думчивость, не только мировая печаль изгладятся
без следа, но даже обыкновенные черты челове
ческого образа стушуются до полного безличия.
Но это ничего не значит. Если скульптор терпе
лив, он может немедленно взять свою отекшую
креатуру в свои искусные руки и снова может
восстановить утраченное достоинство ее выраже
ния. Впрочем, надо сказать правду, что такой
терпеливый скульптор окажется чистым художни
ком, то есть человеком, работающим из любви
к искусству, без малейшего стремления к практи
ческой пользе, потому что такая восковая ста
туэтка может быть только очень бесполезным и
очень непрочным украшением дамского будуара.
В конце концов, мухи засидят ее непременно до
полного помрачения, и воск утратит всю свою
первобытную чистоту, так что статуэтку все-таки
придется отдать в распоряжение полотеров для
украшения паркета. Говоря проще, под старость
Аркадий все-таки сделается бесполезнейшим, а мо
жет быть, и дряннейшим тунеядцем. А старость,
то есть житье в брюхо, для этих восковых господ
начинается ровно через год после выхода из уни
верситета. Базаров разговаривает с Аркадием
именно в то время, когда последний находится
в переходном состоянии из отрочества в старость.
Базаров видит своего так называемого друга на150
сквозь и нисколько его не уважает. Но иногда,
как мыслящий человек и как страстный скульп
тор, он увлекается тем разумным выражением, ко
торое его же собственное влияние накладывает
порою на мягкие черты его воскового друга.
Если бы вы спросили у Базарова: «Выйдет ли чтонибудь путное из вашего друга?» — Базаров от
вечал бы вам с полным убеждением: «Ничего пут
ного не выйдет; будет рафинированным Манило
вым и больше ничего». Но на практике Базаров
не всегда последовательно выдерживает эту идею;
он иногда обращается к Аркадию так, как будто
бы он видел в нем какие-нибудь задатки сильного
ума и твердого характера.
Это понятно и извинительно. Базаров так оди
нок, все окружающие его люди смотрят на него
такими изумленными глазами, что поневоле одо
левает его иногда потребность хоть кому-нибудь
сказать человеческое слово, хоть кому-нибудь по
мочь добрым советом. Николай Петрович поло
жительно умнее своего сына, и с ним Базаров мог
бы сблизиться, если бы была какая-нибудь воз
можность завязать это сближение, то есть сделать
первый шаг. Но ведь 'неловко же, неудобно по
дойти к постороннему человеку пожилых лет и,
без малейшего вызова с его стороны, подарить
ему несколько непрошенных советов касательно
направления его умственной деятельности. Арка
дий мог бы явиться посредником между отцом и
Базаровым. Но Аркадий не умеет сделать ни одного
активного шага, а, как неоперившийся птенец,
производит ежеминутно разные плоскости и бес
тактности. Брат Николая Петровича Павел поло
жительно мешает всякому сближению, постоянно
вызывает Базарова на бесплоднейшие диалектиче
ские поединки, жестоко надоедает ему и, наконец,
завершает все свои подвиги глупейшей дуэлью
уже не на словах, а на пистолетах.
151
Павел Петрович — человек очень неглупый, и
его фигура чрезвычайно любопытна и поучи
тельна, как отживающая тень печоринского типа.
Эта тень не хочет и не может признать себя'
тенью, и, встречаясь с тем типом, который живетв настоящем, она, эта представительница прошедгшего, отрицает его всеми силами своего ума №
ненавидит его так, как скупой рыцарь ненавидитсвоих наследников. Печоринский и базаровский
типы ненавидят и отталкивают друг друга. Пе
чорины и Базаровы решительно не могут суще
ствовать вместе в одном обществе, потому что и
Печорины и Базаровы выделываются из одного
материала: стало быть, чем больше Печориных,
тем меньше Базаровых, и наоборот. Вторая чет
верть XIX столетия особенно благоприятствовала
производству Печориных; новых Печориных
жизнь уже не отчеканивает, а старые, потускне
лые и поблекшие, никак не желают понять, что
их время прошло. Прошло ли оно невозвратно,
этого никто не решится сказать, но что Печо
рины в настоящую минуту не стоят на первом
плане — это несомненно. Печорины и Базаровы
совершенно не похожи друг на друга по харак
теру своей деятельности; но они совершенно
сходны между собой по типическим особенностям
натуры: и те, и другие — очень умные и вполне
последовательные эгоисты; и те, и другие выби
рают себе из жизни все, что в данную минуту
можно выбрать самого лучшего, и, набравши себе
столько наслаждений, сколько возможно добыть
и сколько способен вместить человеческий орга
низм, оба остаются неудовлетворенными потому,
что жадность их непомерна, а также и потому,
что современная жизнь вообще не очень богата
наслаждениями.
Очень умный человек может наслаждаться
мыслью только тогда, когда деятельность мысли
152
клонится к какой-нибудь великой и немечтатель
ной цели. Великие цели бывают бесконечно раз
нообразны в своих внешних проявлениях; но все
они, в сущности, могут заключаться только в том,
чтобы улучшить, так или иначе, положение той
или другой группы человеческих существ. Пере
берите все сферы человеческой деятельности, и
вы увидите, что все они порождены и поддержи
ваются исключительно стремлением людей к нрав
ственному или материальному благосостоянию. Не
все эти сферы, далеко не все, удовлетворяют сво
ему назначению; многие, очень многие из них бес
полезны для людей и, следовательно, вредят уже
тем, что поглощают силы; многие вредят даже
положительно, не только отвлекая силы, но и па
рализуя или извращая другие полезные проявле
ния человеческой деятельности; но все-таки все
эти сферы существуют для блага человечества.
Таким образом можно сказать решительно, что
для человеческой мысли главная цель есть стре
мление к человеческому благополучию. Но в исто
рии бывают такие эпохи, когда враждебные об
стоятельства мешают людям стремиться к благо
получию й решать задачи, вытекающие из этого
стремления.
Мысль, работающая для блага человечества,
действует обыкновенно по одному из двух глав
ных путей: или она прилагает к современной
жизни людей те результаты, которые уже добыты
передовыми деятелями посредством теоретических
исследований и научных наблюдений, или же она
добывает для будущего времени новые результа
ты, то есть производит исследования, наблюдения
и опыты. Те науки, которые, подобно истории и
политической экономии, живут только беспри
страстным анализом междучеловеческих отноше
ний, в эпохи застоя теряют значительную долга
своей занимательности. Этим наукам предаются
.
... IjJs
в такое время люди двух сортов: одни пишут ка
зенные учебники, другие честно и добросовестно
убеждены в том, что людям следует вечно спать,
но спать облагороженным сном, то есть — видеть
во сне великие идеи. Они восхищают своих слу
шателей одушевленными беседами, от которых,
однако, никогда, ни при каких условиях, ничего,
кроме испаряющегося восхищения, не может про
изойти.
' В эту категорию я включаю всех честных и ум
ных людей, подобных Грановскому и Кудрявцеву.
Эти имена пользуются у нас уважением, и я назы
ваю их для того, чтобы не оставить в моей мысли
ни малейшей-неясности. Эти два профессора жили
и умерли вполне честными людьми, но надо ска
зать правду, что им в этом отношении сильно
посчастливилось: их выручила своевременная
смерть, которую их почитатели совершенно не
основательно называют преждевременной. Между
таким историком, как Грановский, и таким, как
г. Костомаров, лежит дистанция огромного раз
мера, а известно, что даже г. Костомарова за
стают иногда врасплох и ставят втупик запросы
пробуждающейся жизни. Любопытно заметить,
как тонко и верно Тургенев выразил свое мнение
о деятельности Грановского. Пусть читатели при
помнят личность Берсенева в романе «Накануне»
и пусть подумают, мог ли Грановский сформиро
вать что-нибудь выше и лучше Берсенева. Если
бы семя всех сеятелей всегда падало на такую
добрую почву, как душа Берсенева, то и желать
ничего более не оставалось бы. Берсенев в высо
кой степени честен и настолько умен, чтобы быть
очень полезным работником. Если же общий ре
зультат берсеневской деятельности оказывается
совершенно ничтожным, то виновато исключи
тельно плохое качество того семени, которое
было принято, и взлелеяно этим честным и искрен154
ним человеком, с ' полнейшим благоговением и
с бескорыстнейшей любовью. А, кажется, Турге
неву в этом отношении можно поверить, во-пер
вых, потому, что он знал вполне все задушевные
стремления московских кружков8, а во-вторых,
потому, что его можно заподозрить скорее в при
страстии к симпатичному Грановскому, чем в пре
увеличенной нежности к угловатым реалистам на
шего времени.
Мне возразят, что на поприще Грановского ни
кто бы не мог действовать лучше и плодотворнее.
Я знаю, что не мог. Но это доказывает только,
что не надо ему было становиться на такое по
прище.
1
На это скажут, что лучше что-нибудь, чем со
всем ничего. С этим я опять-таки совершенно со
гласен, но только надо условиться в понимании
термина — «что-нибудь». Если мне очень хочется
есть, то я прошу: дайте мне, ради бога, хоть чтонибудь! То есть, дайте мне хоть сухую корку
хлеба. Но-если мне дадут палисандровую дощечку
или атласный лоскуток, то я никак не скажу, что
это — «что-нибудь», а скажу, что это — «совсем
ничего». При совершенно рациональном препода
вании история есть «что-нибудь» и может слу
жить обществу очень питательной пищей. Но при
художественной манере преподавания история
превращается в галлерею рембрандтовских пор
третов. И хорошо,' и весело, и глаза разбегаются,
а в результате выходит все-таки совсем ничего.
Ведь как хотите толкуйте: Грановскому до М а
колея очень далеко, а между тем я бы покорней
ше попросил кого-нибудь из многочисленных обо
жателей великого Маколея доказать мне ясно и
вразумительно, что вся деятельность этого вели
кого человека принесла Англии или человечеству
хоть одну крупинку действительной пользы. А что
деятельность всех ученых и писателей, подобных
-
155'
Маколею, принесла чрезвычайно много вреда, это
вовсе нетрудно доказать. Все эти господа, созна
тельно или бессознательно, постоянно морочили
грациозностью.
Молодые люди, подобные Берсеневу, входят
в храм науки и прежде всего попадают в преддве
рие, из которого расходятся в две противополож
ные стороны — в два коридора. Пойдешь налево—
тебе покажут тысячи палисандровых дощечек и
атласных лоскутков, которые тебе придется же
вать для утоления умственного голода. А пой
дешь направо — тебя накормят, оденут, обуют, об
моют и покажут, кроме того, как кормить, оде
вать, обувать и обмывать других людей. В левом,
атласно-палисандровом отделении храма наук гос
подствуют: историография Маколея и его бес
численных, даровитых и бездарных, последовате
лей, политическая экономия не менее бесчислен
ных учеников Л^альтуса и Рикардо и сверх того
пестрейшая толпа различных «прав»: римское,
гражданское, государственное, уголовное и мно
жество других. И все атласно-палисандровые по
добия наук тщательно приведены, посредством
усечений и пришиваний, в строгую гармонию как
между собою, так в особенности и с общими со
временными требованиями. В правом отделении,
напротив того, помещается изучение природы.
Если бы молодым людям, вступающим в храм
науки, ставили вопрос о двух коридорах так от
кровенно, как он поставлен здесь, то, разумеется,
кому же была бы охота идти налево и жевать
атлас? Но, к несчастью, к большому несчастью
для молодых людей и для всего человечества —
все левое отделение битком набито сладкоглас
ными сиренами, вроде Маколея и Грановского, ко
торые только тем и занимаются, что очаровывают
и завлекают своим мелодическим пением неопыт
ных посетителей великого храма. В правом отде156 .
Ленин совсем нет сирен: во-первых, потому, что
там вообще до сих пор мало обитателей, а вовторых, и потому, что наличным обитателям ре
шительно некогда заниматься песнопениями: один
добывает какую-нибудь кислоту, другой анатоми
рует пузырчатую глисту, третий исследует хими
ческие свойства гуано, четвертый возится с ко
ренным зубом какого-нибудь Elephas meridionalis,
пятый прилаживает отрезанную лапку лягушки
к гальванической батарее, шестой анализирует
мочу помешанных людей, и так далее, и так да
лее, все в том же прозаическом направлении. Ну,
скажите, бога ради, такие ли это занятия, чтобы
можно было запеть по поводу их мелодическую'
серенаду, способную очаровать и привлечь мо
лодых посетителей, только что поступивших
в храм науки и не умеющих ясно отличать область
чистой фантазии от области строгого знания?
Неудивительно, что почти вся масса свежих ум
ственных "сил, не находивших себе никакого при
ложения к жизни, тратилась прежде или на стро
го научное ведение правильных атак против жен
ских сердец, или на писание и чтение сочинений и
статей в маколеевском роде, только гораздо по
жиже. Грановские и их ученики Берсеневы почти
совершенно удовлетворялись этой последней дея
тельностью и были глубоко убеждены в том, что
они делают дело и что Россия только по своей
крайней неразвитости не считает их великими
гражданами; но люди более умные, люди, подоб
ные Лермонтову и его герою Печорину, реши
тельно отвертывались от русского маколейства и
искали себе наслаждений в любви, страдали ис
ключительно от любовных неудач, порхали с цвет§ка на цветок, довели русское донжуанство до за
мечательной виртуозности и все-таки скучали, как
ни были разнообразны и очаровательны отдель
ные эпизоды этой многотрудной деятельности.
“
1ST
Выбрать себе донжуанство, когда общество жи
вет или начинает жить полной жизнью, значит,
во-первых, — обнаружить замечательное скудо
умие, а во-вторых, — обнять мечту вместо дей
ствительности, потому что в живущем или про
буждающемся обществе субъект, не имеющий за
собою никаких достоинств, кроме стремления
к любви, одержит весьма слабое количество очень
неблестящих побед. В таком обществе женщины
всегда требуют от своих поклонников хотя какихнибудь внешних признаков дельности и умствен
ной энергии; тут уже невозможно колотить себя
в грудь и божиться, что в этой груди заключены
исполинские силы, которые тщетно стремятся
найти себе исход; тут самая простодушная жен
щина скажет этому колотителю: «Что ж вы не
проявляете ваших сил? Ведь вот М и N про
являют. И вы проявите». И останется на это ска
зать только: «Слушаюсь, сударыня; завтра же
проявлять начну». Но в цветущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучание
и полный разгул страстей действительно соста
вляют неизбежную и естественную принадлежность
самых умных людей. Конечно, маску вечной
скуки надевали на себя такие люди, которые про
сто были глупы, которые во всякое время были
бы праздными и которые старались только про
стрелить женское сердце разочарованными взо
рами. Грушницкие носили тогда рбнОски Печо
риных так точно, как теперь Ситниковы носят об
носки Базаровых. Конечно, и настоящие Печо
рины часто интересничали своим скучанием, когда
это интересничание могло остаться незамеченным,
сойти за чистую монету и ускорить желанную
развязку любовной интриги. Но, несмотря на то,
скука настоящих Печориных вовсе не была мас
кой; она их действительно тяготила, и если бы
какой-нибудь благодетельный гений предложил им
Т58
'
снять с них эту проклятую обузу, то они с боль
шим удовольствием дали бы клятвенное обяза
тельство никогда не надевать на себя личину этой
скуки «для пущего трагизма», как выражается
г. Зайцев. Печорины были во всех отношениях
умнее Берсеневых, и поэтому-то именно им и не
оставалось никакого выхода из скуки и из мира
любовных похождений. Конечно, их силы могли
бы найти себе удовлетворение в глубоком изуче
нии природы, Но ведь надо же помнить, что в на
шем любезном отечестве только что на этих днях
сделано то великое открытие, что естественные
науки действительно существуют, что они спо
собны принести людям некоторую пользу и что
не мешало бы, вместо «роз Феокрита» °, возрастить
на российских снегах нечто вроде химии, физио
логии и анатомии. Для Печориных естествозна
ние было тем, чем будет вероятно во всякое время
интегральное исчисление для огромного большин
ства людей. Стало быть, Печориным не было ни
какого выбора, и постоянная их праздность ни
сколько не может служить доказательством их
умственной хилости. Даже напротив того.
VIII
Германия, классическая страна «здорового рас
тительного сна», настоящая родина чистейшего
филистерства, совершенно недоступного в своей
полной чистоте для всех остальных частей нашей
планеты, — Германия, говорю я, сумела, однако,
устроить так, что ее многолетний сон не пропал
даром ни для нее самой, ни для человечества.
Первые шестьдесят четыре года XIX столетия
останутся Навсегда незабвенной эпохой, как колы
бель новейшего естествознания. Либих, Леман,
Мульдар, Молешот, Дюбуа-Реймон, Пфлюгер,
Вирхов, Ф-ирорд, Валентин, Гельмгольц, братья
159
Веберы, Карл Фохт, Гиртль, Брони, Келликер,
Фульрот, Шахт, Александр Гумбольдт, Шванн,
Функе, Эренберг, Зибольд и другие более или ме
нее замечательные натуралисты сделали из этой
эпохи незыблемый фундамент для будущего раз
вития естествознания. «Химические письма» Ли
биха, «Круговорот жизни» Молешота, «Исследо
вания о животном электричестве» Дюбуа-Реймона,
«Целлюлярная патология» Вирхова, «Анатомия»
Гиртля, «Гистология» Келликера, «Дерево» Шахта,
«Космос» Гумбольдта навсегда останутся драго
ценнейшим достоянием всех веков и всех наро
дов. Эти труды не только кладут фундамент бу
дущего благосостояния, но, кроме того, даже
в настоящем увеличивают богатство масс; подоб*
ные люди счастливы, глубоко и бесконечно счаст
ливы в двух отношениях: во-первых, они прежде
других созерцают те великие тайны природы,
с которых они срывают завесу; и во-вторых, они
видят счастье тех людей, которые им одним обя
заны своим благосостоянием. Конечно, многие
тайны остаются для них недоступными; но я и не
говорю, что истинные ученые естествоиспытатели
наслаждаются безоблачным блаженством. Они
часто и страдают, и волнуются, но они не отдадут
этих великих минут страдания и волнения за мил
лионы невозмутимых филистерских благополучий.
Вы любите женщину, вас волнует и терзает и ее
присутствие, и ее отсутствие, и ее слова, и ее
взгляды, и ее холодность, и ее страстность; в са' мые счастливые минуты вы не знаете сами, весело
ли вам, или больно; а между тем все эти мучи
тельные ощущения бесконечно дороги для вас, и
дороги даже тогда, когда весь ваш роман цели
ком ушел в прошедшее и когда у вас не осталось
для настоящего ровно ничего, кроме грустно-ра
дужных воспоминаний; как только прошедшее вы
ступает ярко перед вашей памятью, так вам ста160
новктся положительно больно, и никакого из этой
боли не может выйти толку; а между тем вы лю
бите даже эти томительные минуты, и вы ни за
что не согласились бы взять себе забвение, если
бы даже оно было возможно.
'/
Если вы когда-нибудь любили, то вы найдете
эти замечания верными, и вы получите тогда лег
кое понятие о том, каким образом знающие
естествоиспытатели относятся ко всем трудам, не
приятностям и страданиям той деятельности, ко
торая наполняет всю их жизнь. Когда тип ску
чающих Печориных процветал в нашем отечестве,
тогда все-таки никакие обстоятельства не меша
ли и не хотели мешать развитию физических, хи
мических и физиологических исследований. Ко
нечно, идеи Фейербаха и Бюхнера считались и
тогдц очень предосудительными. Но совсем не
в этих идеях заключается сила современного
естествознания.
Если до сих пор мы относимся к этим идеям
с особенной нежностью и накидываемся на них
с особенной жадностью, то это доказывает толь
ко, что мы стоим еще на самом пороге настоящей
науки и что мы до сих пор никак не можем от
казаться от ребяческой замашки строить системы
мира из двух десятков собранных кирпичей.
Кроме того, запрещенный плод всегда привлека
телен. Но настоящие натуралисты, те, которым
нет причины нежничать с запрещенными плодами,
и те, которые находят скучным полемизировать
с подобными созданиями человеческой глупости,
те, говорю я, относятся с глубочайшим равноду
шием к таким системам, начиная с необузданного
идеализма Платона и кончая простым материализ
мом Бюхнера. Они даже перестали удивляться
тому, что люди спорят о таких предметах. Мы
желаем работать, говорят естествоиспытатели,
а не фантазировать. Работа же наша состоит
Ч Д. И. Писарев
161
в изучении тех сторон природы, которые можно
видеть, измерять и вычислять. Так рассуждают
величайшие из современных натуралистов,' и про
стота и разумность таких рассуждений так оче
видны, так неотразимо действуют на все челове
ческие умы, даже на самые неразвитые, что перед
трудами натуралиста преклоняются с невольным
уважением люди всех политических партий 10.
На основании всех предыдущих соображений,
я решаюсь высказать ту мысль, что наши Печо
рины могли проникнуть в область труда, недо
ступную атмосферическим влияниям, и проникли
бы в нее непременно, если бы они только имели
ясное понятие о ее существовании. ~Мне кажется,
Что им всего более мешали открыть эту область
три вещи: во-первых, — наше общее невежество,
во-вторых, — поэзия и эстетика, и в-третьих, —
ученое фразерство наших добродетельных и не
добродетельных Маколеев. Последние две при
чины мешали преимущественно тем, что возбу
ждали в сильных и естественно-скептических умах
наших Печориных презрение к умственной дея
тельности вообще. Они думали, по своей необра
зованности, что видят перед собой образчики
всей Человеческой науки, и, замечая тотчас дря
блость и практическое убожество тех занятий, ко
торым с коленопреклонениями и со священным
ужасом предавались наши Берсеневы, они, Печо
рины, решили сразу, что все это чепуха, и что
надо житр, пока живется, и что скука составляет
неизбежную Неприятность в жизни каждого умно
го человека. Я уверен, что, читая даже статьи Бе
линского, многие Печорины рассуждали про себя:
«Да. Славно пишет. И умно, и честно. Но к чему
все этот» И если они рассуждали таким образом,
то нельзя сказать, чтобы они были совершенно
неправы..
Если бы Белинский и Добролюбов поговорили
162
между собою с-глазу-на-глаз, с полной откровен
ностью, то они разошлись бы между собою на
очень многих пунктах. А если бы мы поговорили
таким же образом с Добролюбовым, то мы не со
шлись бы с ним почти ни на одном пункте. Чита
тели «Русского слова» знают уже, как радикально
мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Ка
терину»11, то есть — в таком основном вопросе,
как оценка светлых явлений в нашей народной
жизни. Следовательно, самые идеи Белинского
уже не годятся для нашего времени. В свое время
они были очень полезны, но неосновательно было
бы утверждать, что в его время невозможны были
такие другие идеи, которые принесли бы вдеся
теро больше пользы. Мне кажется, что такие
идеи были возможны даже тогда. Белинский,
усвоивший себе полулитературное, полуфилософ
ское образование, не мог сделаться проводником
этих других идей; но тот же Белинский, получив
ший математическое и строго реальное образова
ние, тот же Белинский, с тем же сильным умом,
с тем же блестящим талантом, с теми же честны
ми убеждениями, но только Белинский натура
лист, а не эстетик и не гегельянец,г, принес бы
в десять раз больше пользы, и после деятельности
такого атлета мне, конечно, не было бы ни надоб
ности, ни"даже возможности писать в 1864 году
настоящие строки.
Но немногие уцелевшие и состарившиеся Печо
рины никак не хотят и не могут поверить тому,
что они при всем своем уме были круглыми не
веждами и в течение всей своей жизни скучали не
по возвышенности своей натуры, а только потому,
что не знали, как взяться за дело. Поэтому при
встрече с молодыми Печориными они стараются
их разразить аргументами, как разражали в былые
годы гегелистов и Маколеев российской фабрика
ции. Но тут коса находит на камень, и старые
И*
'
163
Печорины замечают в молодых ту же холодную
ясность взгляда, ту же умственную требователь
ность, ту же беспощадность иронии, словом, все
те же свойства, которыми они сами наводили тре
пет на Максима- Максимовича и благоговейную
любовь на княжну Мери. И ко всему этому при
соединяется знание, которого у пятигорского де
мона не было. Да еще вдобавок не скучают, ка
нальи, и даже отрицают скуку, то есть ухитря
ются таким образом перещеголять демона даже
в отрицании, которое, как известно, составляет
его нарочитую специальность. Разумеется, все это
неимоверно бесит поседевших Печориных^ и им,
чтобы не видеть молодых чертенят, которые ока
зываются шустрее старых, остается только взять
пример с Павла Петровича Кирсанова, то есть
уехать в Дрезден и показывать себя публике на
Брюлевской террасе.
IX
Базаров говорит Аркадию: «Твой отец — доб
рый малый; но он человек отставной, его песенка
спета. Он читает Пушкина. Растолкуй ему, что
это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора
бросить эту ерунду. Дай ему что-нибудь дельное,
хоть бюхнерово «Kraft und Stoff» * на первый
случай».
Выписав эти слова, г. Антонович прибавляет от
себя замечание: «Сын вполне согласился со сло
вами друга и почувствовал к отцу сожаление и
презрение».
v
Но, во-первых, это неправда; ни сожаления, ни
презрения Аркадий не чувствовал к своему отцу
ни д о этого разговора, ни п о с л е . А во-вто
рых, если бы цаже глупость Аркадия дошла до
* «Сила и материя». Ред.
164
таких колоссальных размеров, то, разумеется, с ож а л е н и е и п р е з р е н и е родились бы в нем
не оттого, что он с о г л а с и л с я с о с л о в а м и
д р у г а , а оттого, что он понял эти слова совсем
навыворот.
Базаров нисколько не желает разъединять сына
с отцом; напротив того, Базаров своим советом
указывает на тот единственный путь, по которому
Аркадий может приблизиться к Николаю Петро
вичу, не изменяя идеям своего поколения. Но
прежде всего необходимо правильно- понимать
Базарова; он выражается всегда очень сильно и
довольно небрежно; поэтому, если мы захотим
придраться к отдельным словам, нам будет вовсе
не трудно извратить их смысл, обвинить База
рова в различных намерениях и даже отыскать
в каждой его фразе по нескольку противоречий.
Например, он говорит, что Николай Петрович —
человек отставной, и в то же время советует дать
ему что-нибудь дельное. Явное противоречие!
Если отставной, так и пускай читает Пушкина;
незачем его и отрывать от этого безвредного за
нятия. Далее: против чтения Пушкина приводится
тот аргумент, что «ведь он (то есть Николай
Петрович) не мальчик». Это опять похоже на бес
смыслицу. Значит, если бы Базаров увидал со
чинения Пушкина в руках семнадцатилетнего
мальчика, то он этого мальчика похвалил бы за
прилежание и нашел бы, что этому мальчику дей
ствительно следует тратить время на чтение «Кав
казского пленника» и «Бахчисарайского фонтана».
Уличивши таким образом Базарова в противоре
чиях, доказавши ему, что он сам не понимает
своих собственных слов, мы, конечно, без малей
шего труда придем к тому заключению, что Ба
зарову, как самолюбивому мальчишке, хочется
только поумничать над почтенным отцом семей
ства и
чтовся тирада против Пушкина должна
.
.
165
'
быть приписана этому мелкому предосудительно
му побуждению. Это заключение чрезвычайно
печально, потому что оно доказывает нам уди
вительную непрочность той гармонии, которая
господствует в самых лучших и просвещенных
русских семействах.
Когда Базаров говорит с Аркадием о Николае
Петровиче, то его слова могут подать повод
к ложным истолкованиям: в этих словах можно
отыскать бессвязность и нелепость; но стоит
только тззглянуть на эти слова без предубеждения,
чтобы увидать и понять немедленно честные, чи
стые и вполне сознательные стремления Базарова.
Зачем он говорит Аркадию, что его отец — чело
век отставной? — Очень понятно зачем. Арка
дий — юноша впечатлительный. Приехав в де
ревню, он подчиняется влиянию разнеживающей
обстановки и увлекается симпатичной личностью
своего доброго отца. Любить отца очень по
хвально, но всякий читатель, вероятно, согласится
со мною в том, что двадцатилетнему юноше не
следует относиться к требованиям современной
действительности так, как относится к ним сорока
четырехлетний мужчина. Если пожилой человек
отдыхает и благодушествует, если он занимается
полезным трудом от нечего делать, если этот труд
составляет для него не цель и смысл всего суще
ствования, а только приятное развлечение вроде
прогулки для моциона, если, говорю я, все это
делается пожилым человеком, то мы от всей
души говорим ему спасибо за то, что он не ме
шает работе других людей, и еще за то, что он
способен находить удовольствие в таких занятиях,
которые не могут быть названы совершенно бес
полезными. Мы всегда должны помнить, что че
ловек зрелых лет провел всю свою молодость
в печоринском периоде и что вынужденная не
подвижность действует на человеческие силы го
166
,
•
раздо разрушительнее, чем самый тяжелый и из
нурительный труд. Поэтому реалисты никогда не
потребуют от Николая Петровича, чтобы он с юно
шеской энергией и с горячим усердием принялся
за работу нашего времени. Но по этой же самой
причине реалисты отнесутся с полным и совер
шенно справедливым презрением к тому двадцати
летнему празднолюбцу, который вздумает отды
хать, благодушествовать и дилетантствовать по
добно Николаю Петровичу. Или работай серьезно,
Али совсем не принимайся за работу, — они ска
жут каждому из своих сверстников, потому что от
них, от наших сверстников, мы имеем полное
право настоятельно требовать непреклонной энер
гии, железного терпения и неутомимого трудо
любия. У кого нет этих свойств и кто, будучи
двадцатилетним здоровым парнем, не в состоянии
выработать в себе эти свойства, тот не может
пользоваться уважением нашим, того ошикают и
осмеют, если он осмелится пуститься в доброде
тельные фразы о своем пламенном сочувствии об
щему делу отечественного прогресса. Нам нужна
полезная работа и нет никакого дела до пламен
ных сочувствий. Сочувствие же мы с полной
признательностью принимаем только от тех лю
дей, которые уже не в силах быть деятельными
работниками.
,
•
ЧГ
-Теперь понятно, что значат слова Базарова:
«твой отец — человек отставной». Это значит:
помни, о друг мой, Аркадий Николаевич, что
с твоей стороны будет совершенно неприлично ве
сти тот образ жизни, который делает твоему по
жилому отцу большую честь. Он поступает хо
рошо, потому что он отставной, но тебе рано вы
ходить в отставку. Смотри же, держи ухо востро,
если не желаешь к двадцати пяти годам сделаться
Афанасием Ивановичем. Когда Аркадий женился
на Катерине Сергеевне, он действительно превра167
тился в Афанасия Ивановича, и можно было ска
зать заранее, что все предостережения Базарова
пропадут даром, потому что воск ни при- каких
условиях не перестанет быть воском и не сделается
ни сталью, ни алмазом. Но ведь Базаров не ви
новат в том, что его разумные слова попадали
в ослиное ухо. Слова все-таки разумны, намере
ние все-таки честно, а если успех невелик, так
что же с этим делать? Нам пришлось бы нало
жить на себя пифагорийской обет молчания, еслц,
бы мы стали высказывать наши мысли только
в тех случаях, когда они наверное должны по
пасть в цель и произвести осязательный практи
ческий результат.
Это напоминает мне, что фельетонист «Совре
менника» называет Базарова бодтуном. О, го
споди! Уж не нашим бы литераторам высказывать
этот упрек. Нам, пишущим людям, приходится
болтать десятки лет, прежде чем наша болтовня
дойдет по назначению. Или, может быть, г. Щ е
дрин думает, что каждое его слово творит чудеса
и извлекает из камня нашей закоснелости живую
воду плодотворных идей и высоких стремлений?
Ну, и пускай думает! Блажен, кто верует, тепло
тому на свете! Но Базаров даже и говорит-то со
всем немного, и выражает свои мысли так коротко
и отрывисто, что почти каждое его слово требует
дополнительных и пояснительных комментариев.
Так не говорят болтуны, то есть люди, наслаждаю
щиеся звуком собственных речей. Так говорят
только деловые люди, чувствующие непримири
мую ненависть ко всякому риторству. Сказавши
Аркадию, что его отец — отставной человек, Ба
заров на этом не останавливается. Он не хочет
махнуть рукой на отставного человека и отвер
нуться от него. Он говорит Аркадию: «Растолкуй
ему, что это никуда не годится . . . Дай ему чтонибудь дельное». Зачем он это говорит? Конечно,
Ш
не затем, чтобы сделать Николая Петровича ве
ликим естествоиспытателем. И, конечно, не затем,
чтобы покуражиться над этим добродушным и
смирным человеком. Если бы он хотел кура
житься, то он сам полез бы с советами к Николаю
Петровичу, вместо того чтобы разговаривать
с его сыном. Базаров просто желает поделиться
тем, что он считает высшими человеческими на
слаждениями, со всяким, кто только способен вос
принять и почувствовать эти наслаждения. Если
вы любите есть устрицы, то очень естественно,
что вы при случае будете угощать устрицами
каждого из ваших знакомых; и вы даже с особен
ным удовольствием будете вовлекать в любовь
к устрицам тех людей, которые никогда не брали
их в рот и смотрят на них с непозволительным
ужасом. Ваше удовольствие будет совершенно
бескорыстно, и оно будет вытекать из самого чи
стого источника. Вам хочется, чтобы вместе
с вами наслаждались и другие. На этом желании
основано убийственное хлебосольство гоголевско
го Петуха, и хлебосольство это, проявляющееся
в самых скотских размерах, все-таки остается
очень симпатичным, именно потому, что в нем
нет ни малейшего тщеславия, а только одно до
бродушие: пользуйся, мол, всякая душа челове
ческая! Петух кормит своих гостей на убой, а Ба
заров ,хочет усадить Николая Петровича за книгу,
которую он считает дельной; оба действуют по
одинаковому побуждению. «Мне хорошо; хочу,
чтоб и другому было хорошо», — это размышле
ние так просто, так естественно, так неистребимо
в каждом здоровом человеческом организме, что
и Петух способен размышлять таким образом.
А между тем все величайшие подвиги чистейшего
человеческого героизма совершались и будут со
вершаться всегда именно на основании этого про
стого размышления. — А критика наша по обык16Э
новению смотрит в книгу и видит фигу, и на осно
вании этой фиги изобличает Базарова в непочти
тельности, в жестокости и во всяком озорстве.
Долго придется г. Антоновичу раскаиваться в его
статье об «Асмодее нашего времени». Много вреда
наделала эта статья. Сильно перепутала она поня
тия нашего общества о молодом поколении. Так на
пакостить мог именно только один «Современник».
А что же значат слова Базарова: «Ведь он не
мальчик»? Это значит: «Когда твой отец был
-мальчиком, тогда позволительно было читать
Пушкина, потому что лучше наслаждаться
четырехстопными ямбами, чем «ромом й араком»
или вороными рысаками. Теперь он не мальчик, и
теперь настали другие времена, и теперь люди вы
учились создавать себе более прочные, более ра
зумные и более сильные наслаждения. Пусть твой
отец отведает этих наслаждений; и он, как чело
век неглупый, наверное полюбит их и бросит ямбы
и хореи. Помоги твоему отцу; тебе самому будет
чрезвычайно приятно сознавать, что ты принес
ему пользу и что ты открыл ему доступ к вели
ким наслаждениям мысли. И еще приятнее будет
для тебя то обстоятельство, что отец сделается
твоим другом и помощником во всех твоих даль
нейших работах». Вот мысль Базарова, развитая
во всех подробностях. Если смотреть на его слова
без предвзятой идеи, без недоброжелательного
предубеждения, то невозможно даже предполо
жить, чтобы эти слова были произнесены вслед
ствие какого-нибудь другого процесса мысли.
Я обращаюсь теперь к каждому беспристраст
ному читателю с вопросом: есть ли малейшая воз
можность заподозрить Базарова в желании по
глумиться над Николаем Петровичем и унизить
в его лице лучшую часть старшего поколения?
Я убежден в том, что каждый беспристрастныйчитатель, вглядевшись в мои доводы, совершенно
170
очистит Базарова от тех нелепых обвинений, ко
торые взведены на него близорукой критикой.
Слова Базарова, вместо большой пользы, при
несли крошечный вред, то есть огорчили на не
сколько дней Николая Петровича и поселили
между отцом и сыном легкое неудовольствие, ко
торое, однако, скоро исчезло. Случилось же это,
во-первых, потому, что Николай Петрович не
чаянно подслушал эти слова, которых ему вовсе
не следовало слышать; а во-вторых, потому, что
Аркадий оказался набитым дураком и превзошел
в этом отношении все ожидания или опасения
Базарова. Однажды, когда Николай Петрович чи
тал Пушкина (а читал он его, повидимому, часто
и усердно), Аркадий подошел к нему, с ласковой
улыбкой взял у него из рук книгу и вместо Пуш
кина положил перед ним «Kraft und Stoff». Ну,
и оправдалась пословица: услужливый дурак
и т. д. Базаров сказал: «дай ему на первый слу
чай хоть бюхнерова «Kraft und Stoff». — Аркадий
буквально исполнил этот совет. Но Базаров ска
зал кроме того: « р а с т о л к у й ему, что это (то
есть Пушкин) никуда не годится», а сообразитель
ный Аркадий пропустил эти слова мимо ушей и
не понгр, что в них заключается весь смысл дела.
Само собою разумеется, что школьническая, не
лепая и дерзкая выходка Аркадия, смягченная й
украшенная ласковой улыбкой, не могла разъяс
нить Николаю Петровичу, значение естествознания
для исторической жизни масс и для миросозерца
ния отдельного человека. Читатель имеет полное
право назвать Аркадия самонадеянным пошляком,
и Николаю Петровичу остается только вздохнуть,
пожать плечами и пожалеть о том, что сын его
так плох в умственном отношении. Но зачем же
валить с больной головы на здоровую? В чем тут
виноват Базаров? И что общего имеет глупость
Аркадия с идеями, которыми проникнуты наши
.
-
171
реалисты? Шекспир — очень замечательный пи
сатель, но и шекспировскую драму можно так
искусно перевести и так восхитительно разыграть
на сцене, что она покажется гораздо хуже драмы
Нестора Кукольника или Николая Полевого. Если
бы Аркадий был действительно проникнут созна
тельной любовью к науке, если бы он разумно и
убедительно заговорил с своим отцом об умствен
ных интересах естествоиспытателей нашего вре
мени, если бы он возбудил и направил любозна
тельность Николая Петровича, если бы он таким
образом доставил ему много чистых наслажде
ний и если бы он посредством этих наслаждений
сблизился с своим отцом теснее, чем когда-либо,—
то наверное никому из читателей не пришло бы
в голову обвинять Аркадия в непочтительности
к родителям или в недостатке- сыновней любви.
А поступая таким образом, Аркадий исполнил бы
с самой добросовестной точностью дружеский со
вет Базарова, — тот самый совет, который он, по
своей глупости, совершенно изуродовал. Из всего,
что было говорено выше, я вывожу то заключе
ние, что взаимному пониманию этих двух поколе
ний, старшего и молодого, мешают, с одной сто
роны, старые Печорины, подобные Павлу Петро
вичу, а с другой стороны — глупые юноши, по
добные Ситникову и Аркадию, то есть, другими
словами, мешают непонимание и тупоумие.
X
■
«Базаров — циник; взгляд Базарова на женщину
проникнут самым грубым цинизмом». Такое су
ждение вы услышите от каждого русского чело
века, прочитавшего роман Тургенева и умеющего
произнести слова «циник» и «цинизм». В устах
русского человека эти слова имеют, конечно, ру
гательное значение; так как мы сами до сих пор
172
не были причастны ни к одной философской
школе, то мы ухитрились все дошедшие до нас
философские термины осмыслить по-своему, со
образно с уровнем наших умственных отправле
ний. Вследствие этого получились самые неожи
данные результаты: кто ел, пил и спал за четырех,
тот был произведен в материалисты, а набитые ду
раки, не умеющие приняться ни за одно практи
ческое дело, получили титул романтиков или
идеалистов. В этом всеобщем маскараде, в кото
ром наши пошлости прикрылись иностранными
словами, циническая хламида старика Диогена до
сталась тем людям, которые в дамском обществе
произносят непечатные слова и украшают свою
вседневную жизнь разными неприличными поступ
ками. Таких людей у нас немало; понятия о том,
что прилично и что неприлично, очень изменчивы
и растяжимы; вследствие этого и слово «цинизм»
■ стало прикладываться, без дальнейшего разбора,
к таким вещам, которые сами по себе очень хо
роши, и к таким, которые во всех отношениях от
вратительны. Циником называют у нас, с одной
стороны, человека прямодушного и откровенного,
презирающего всякое фразерство и беспощадно
разоблачающего гадости, которые мы любим об
лекать в грациозные формы и смягчать благозвуч
ными словами; с другой стороны, я напомню чи
тателю Иону-циника, выведенного в последнем ро
мане Писемского 13. Кто говорит резкую правду,
тот, по-нашему, циник; и кто оскорбляет или ти
ранит беззащитного человека, тот, по-нашему,
также циник. Понятно, что последние черты ци
нического образа бросают грязную тень на пер
вые и получается в общей сумме неопределенное
представление о,чем-то диком, неумолимом и зве
роподобном. Если какой-нибудь ловелас стремится
насильно поцеловать женщину, путешествую
щую с ним в мальпосте, мы называем его любез
ности циническими; если какой-нибудь тупоумный
господин глумится и куражится над своей женой,
мы называем его обращение циническим. И то же
самое загрязненное слово мы прикладываем не
только к характеру людей совершенно другого
закала, но даже к умственной деятельности тех
великих мыслителей, которые спокойно и рассу
дительно анализируют с физиологической точки
зрения чувство чистой девственной любви, и про
цесс поэтического творчества, и порывы возвы
шенного героизма. Веб это, по нашей терминоло
гий, — циники, и все их рассуждения вытекают из
гнусного желания унизить человеческую личность
и измять грубыми руками нежные чувства и ро
зовые надежды доверчивого читателя.
Принимая слово «цинизм» в таком широком и
разнохарактерном значении, я, пожалуй, готор до
пустить, что Базаров — действительно циник; но
в таком случае я надеюсь доказать моим читате
лям, что в базаровском цинизме нет решительно
ничего дурного, то есть ничего оскорбительного
для человеческого достоинства и несовместного
с разумным уважением к женщине. Я намерен разо
брать довольно подробно все отношения Ба
зарова к Одинцовой, и я имею причины думать,
что этот этюд в настоящее время будет не совсем
бесполезен: он до некоторой степени облегчит нам
понимание того сфинкса, который называется мо
лодым поколением и который под этим назва
нием наводит недоумение и ужас на очень многих
добрых людей обоего пола.
Увидавши Одинцову на бале у губернатора, Ба
заров прежде всего обращает внимание на ее на
ружность. «Кто бы она ни была, — говорит он
Аркадию, — просто ли губернская львица, или
«эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие
плечи, каких я не видывал давно. — Аркадия по
коробило от цинизма Базарова» («Отцы и дети»,
174
,
стр. 112). — Вот и чудесно! Слово «цинизм» сразу
вырвалось у самого Тургенева. Это дает самый
удобный случай проанализировать, какого рода
штука этот цинизм. Что молодой ^шловек нерав
нодушен к красоте молодой женщины, — в этом,
кажется, самый строгий моралист и самый востор
женный поэт, каждый с своей точки зрения, не
найдут ровно ничего предосудительного. Уж на
том свет стоит, что молодые люди нравятся друг
другу и что любовь начинается преимущественно
с того приятного впечатления, которое произво
дит привлекательная наружность. Когда человек
почувствовал это приятное впечатление, то по
чему же его и не высказать третьему лицу, кото
рому это сообщение нисколько не может быть
оскорбительно? — Да, — конечно, сдджет мой
изящный читатель, — но к а к высказать? О, я
знаю; в этом к а к и заключается настоящая за
гвоздка. Молодому человеку позволяется говорить
о красоте женщины, даже о ее бюсте, даже о ее
роскошных формах, но при этом он, во-первых,
должен выражаться отборными словами, специаль
но обточенными для подобных живописаний, а вовторых, — он должен во время такого разговора
млеть и благоговеть, прищуривать глаза и изобра
жать на своих губах блаженную улыбку небесного
созерцания. Тогда никому в голову не придет
произнести слово «цинизм»; тогда скажут, напро
тив того, что молодой человек — художник, спо
собный увлекаться высшими идеалами, и что он
в конечной форме усматривает бесконечную идею
прекрасного. — Но так как Базаров говорит спо
койно и называет плечи — плечами, а не формами,
и о бесконечной идее прекрасного не заикается,
то сейчас является на сцену «цинизм» и начинает
коробить благонравного Аркадия, который, одна
ко, способен, подобно большей части юных птен
цов, выслушивать с величайшим наслаждением са.
1?5
мые нескромные описания, если только эти опи
сания производятся по всем правилам эстетики.
Куда ни кинь, везде на эстетику натыкаешься.
Любопытно заметить, что сам Добролюбов
с этой стороны заплатил дань эстетике. Защищая
какой-то характер, кажется, характер Катерины,
он говорит, что его могут извратить и опошлить
в своем понимании только те грязные люди, кото
рые все марают своим прикосновением, которые
даже на какую-нибудь Венеру Милосскую смотрят
с приапической улыбкой и с низкими чувствен
ными помышлениямии. Я совершенно согласен
с Добролюбовым, что скалить зубы перед мра
морной статуей — занятие очень глупое, бесплод
ное и неблагодарное; но, наперекор всем худож
никам и эстетикам в мире, я осмелюсь утверждать,
что все экстазы самых просвещенных и рафи
нированных поклонников древней скульптуры
в сущности ничем не отличаются от приапических
улыбок и чувственных поползновений. Последние
только проще, непосредственнее и откровеннее,
вследствие чего и нелепость последних обрисовы
вается гораздо резче. Именно эта очевидная неле
пость делает их менее вредными сравнительно с
утонченными восторгами. Человек нехитрый взгля
нет на статую, осклабится своей неизящной улыб:
кой, постоит минуты две-три перед чудом искус
ства, да и пройдет мимо. А люди, посвященные в
таинства экстазов, поступают совершенно иначе:
они часто все свои силы и всю свою жизнь ухлопы
вают на то, чтобы доставлять эти экстрзы себе
и другим; два класса людей— эстетики и худож
ники— только этим и занимаются, и при этом
они находят, что делают дело. Такую трату све
жих умственных сил и драгоценного времени сле
дует назвать по меньшей мере непроизводитель
ной и убыточной. Смотреть с приапической улыб
кой на живую женщину не только глупо, но даже
176
дерзко и совершенно непозволительно по той про
стой причине, что такая улыбка может оскорбить
или по крайней мере привести в замешательство
ту личность, к котор<?!и она адресуется. Но База
ров говорит с посторонним лицом, так что об
оскорблении тут не может быть и речи. Стало
быть, остается только разрешить вопрос, каким
языком лучше говорить о красоте женщины: вы
соким и восторженным, или простым, естествен
ным. Можно было бы сказать, что уж это дело
личного вкуса, но я намерен пойти далее, и осме
люсь выразить то мнение, что говорить в этих
случаях простым базаровским языком гораздо
благоразумнее и достойнее мыслящего человека.
В другом месте того же романа Базаров умо
ляет своего друга, Аркадия Николаевича, «не го
ворить красиво», но по своему обыкновению Ба
заров не пускается в дальнейшие диалектические
тонкости и не объясняет причины, почему краси
вые речи возбуждают в нем непобедимое отвра
щение. Между тем такая причина действительно
существует, и ее никак нельзя назвать неоснова
тельной. Люди, пробудившие в себе способность
размышлять, ежедневно и ежечасно играют сами
с собой в очень странную и смешную игру. При
дет ли ему в голову какая-нибудь мысль, шевель
нется ли в его нервной системе какое-нибудь ощу
щение, — человек тотчас ухватывается за это ду
шевное движение и начинает его осматривать
с различных сторон. Что, мол, это за штука?
И как ее сформулировать? И под какую катего
рию подвести? Й из каких основных свойств моей
личности она вытекает? Конечно, процесс анализа
никогда не поднимается до настоящих физиоло
гических причин данного явления; останавливаясь
на половине или, еще чаще, в самом начале пути,
этот процесс обыкновенно заканчивается тем, что
данная мысль или данное ощущение получает себе
12 Д, И. Писарев
177
то или другое название. Если нашему аналитику
удастся подобрать название красивое, то он не
медленно почувствует удовольствие и даже про
никнется некоторым уважением к своей особе:
однако, подумает, я — молодец, вот какие тонкие
мысли и высокие ощущения я способен в себе
вынашивать. Но ведь приискивать красивые назва
ния и пригонять к этим названиям психические
анализы — дело совсем не мудреное; если только
приобрести в этом занятии некоторый навык, то
можно действовать без промаха, и в каждой пло
ской выдумке своего я, в каждом естественном от
правлении своего организма усматривать бездну
грации, изящества, мягкости, великодушия и вся
ких других благоухающих атрибутов. Тут, ко
нечно, удовольствию и самоуважению не будет
конца. Когда человек покупает себе самоуважение
дорогой ценой полезного и неустрашимого труда,
когда он поддерживает в себе это чувство еже
дневными усилиями ума и воли, направленными
к великим общечеловеческим целям, — тогда са
моуважение облагораживает его, то есть постоянно
укрепляет его на новые подвиги труда и борьбы.
Но когда человек платит себе за самоуважение
фальшивой монетой красивых выражений и пло
ских софизмов, когда он таким образом бессо
знательно выучивается шулерничать с самим со
б ой ,— тогда он быстро пошлеет и опускается,
продолжая попрежнему воскуривать себе свой
затхлый фимиам. Чем мельче становятся мысли
и чувства, тем вычурнее и красивее подбираются
для них названия, потому что навык с каждым
днем усиливается в этом ремесле, как и во всех
остальных. Таким-то именно путем и вырабаты
ваются отъявленные тунеядцы, считающие себя
русскими лириками. Таким же точно путем многие
великие ум'ы парализировали и оскопили свою дея
тельность. Гете, а вместе, с н#м и добряк Шиллер
178
совершенно чистосердечно убедили сами себя и
друг друга, что им стоит только потоньше ощу
щать, да повозвышеннее мыслить, да помудренее
выражаться, — и что они тогда окажут всему че
ловечеству неизмеримые благодеяния. Утвердив
шись на этой позиции, великие светила немецкой
поэзии вскоре сделали открытие, что ощущения
их достаточно тонки, мысли достаточно возвы
шенны и выражения достаточно замысловаты. То
гда осталось только любоваться своими совер
шенствами и продовольствовать простое человече
ство не грубыми плодами полезного умственного
труда, а тонким изяществом просветленных лич
ностей. Восхищайтесь, мол, нами и благодарите
бога за то, что мы живем среди вас и что вы мо
жете созерцать такую невиданную красоту души
и ума. А уверив себя в этом, Гете сам себя считал
великим. Как мог он, при своем громадном уме,
предпочитать узкий мир своих личных ощущений
широкому миру волнующейся жизни человече
ства? Как мог он ставить субъективную мечту,
отправление единичного организма, выше той дей
ствительной драмы, которая ежеминутно, на каж
дом шагу, с учреждения первых человеческих
обществ, разыгрывается перед глазами каждого
мыслящего наблюдателя? Филистерская трусость
Гете не разъяснит наир-этой загадки. Если бы тут
была одна трусость, Гете не мог бы так чистосер
дечно уважать и обожать себя. Нет, мир личных
ощущений был для него не убежищем, а храмом,
в котором он поселился с полным убеждением, что
прекраснее и священнее этого места нет ничего на
свете. Чтобы увидать в самом себе светлый храм,
а в окружающей жизни грязную базарную пло
щадь, чтобы забыть таким образом естественную
солидарность своего я с окружающими глупостя
ми и страданиями остальных людей, надо было
систематически подкупить и усыпить свой крити
1 2 *
179
ческий смысл красотой отборных выражений.
Мелкие мысли и мелкие чувства' надо было воз
вести в перл создания: Гете выполнил этот фокус,
и подобные фокусы считаются до сих пор вели
чайшим торжеством искусства; но производятся
такие штуки не только в сфере искусства, а также
и во всех остальных сферах человеческой жизни.
Маленький, но поучительный пример такого
фокуса представляется нам в романе Тургенева
в лице Павла Петровича. — «Я очень хорошо
знаю, — например, говорит этот perfect gentleman*,
что вы изволите находить смешными мои при
вычки, мой туалет, мою опрятность, наконец,
но это все проистекает из чувства самоуважения,
из чувства долга, да-с, да с, долга. Я живу в де
ревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю
в себе человека» (стр. 74).
Я сомневаюсь в том, чтобы магическая сила
красивых слов могла обрисовываться когда-нибудь
и где-нибудь ярче и нагляднее, чем она обрисо
вана в этом месте. Циник, подобный Базарову,
скажет: я умываю лицо и руки, стригу ногти, при
чесываю волосы, хожу, в баню, меняю белье —
и только. И эти простые слова не возбудят в го
ворящей личности никакого приятного чувства
удовлетворенной гордости. А эстетик, подобный
Павлу Петровичу, скажет: я повинуюсь чувству
долга и поддерживаю свое достоинство, я уважаю
в себе человека, значит, я — развитая личность,
значит я себя по голове поглажу, значит, я дело
делаю, значит, я могу со спокойной совестью по
чивать на лаврах; и мужик ходит в баню, но он
ходит по грубой животной потребности, а я хожу
с размышлением, я одухотворяю процесс физи
ческого омовенья высшим процессом мыслитель
ной деятельности. Таким образом будет постоян
* П е р е в о д : Совершенный джентльмен (англ.), Ред.
180
но возрастать душевное самоуважение, и с каж
дым днем неизлечимее и безнадежнее будут ста
новиться пустота, пошлость и праздность фразер
ствующей личности. Если человек не сумасшед
ший может ставить себе в заслугу то, что он умы
вается душистым мылом и носит туго накрахма
ленные воротнички, и если даже эта незамыслова
тая вещь может уложиться в опрятную и краси
вую фразу, то понятно, какой неистощимый ма
териал самовосхваления могут доставить такому
человеку самые простые отношения к женщине.
Полюбоваться красотой женщины, кажется, не ве
лика мудрость и не важный подвиг; но эстетик
сам себе представит свои ощущения в таком
эфирно-облагороженном виде, что при сем удоб
ном случае непременно умилится над нежностью,
чуткостью, восприимчивостью и утонченной страст
ностью своей натуры. Результат известен: ци
ники, подобные Базарову, уважают себя только
за то, что крепко трудятся, а эстетики уважают
себя за то, что красиво едят, красиво пьют, кра
сиво умываются и красиво глядят на красивых
женщин. Вследствие этого реалисты, чтобы сохра
нить себе свое собственное уважение, продолжа
ют крепко трудиться; а эстетики, для достижения
той же самой цели, продолжают красиво есть,
красиво пить, красиво умываться и красиво гля
деть на красивых женщин. Что лучше и что обще
полезнее—-об этом я предоставляю судить благо
склонному читателю. Кажется мне только, что пле
чи следует называть плечами и что, любуясь красо
той живой женщины или мраморной Венеры, мы не
оказываем особенно великого одолжения ни отече
ству, ни человечеству. Ощущение очень обыкновен
ное; стало быть, и выражение должно быть просто
и положительно. Энтузиазм не мешает прибере
гать на другие случаи, более торжественные, о ко
торых травоядные эстетики не имеют понятия.
181
XI
В жизни Базарова труд стоит на первом плане,
но Базаров — совсем не ригорист и вовсе непрочь
от того, чтобы доставлять своей особе удоволь
ствия. Одинцова понравилась ему с первого взгля
да, и ему пришло в голову приволокнуться за ней.
Мысль безнравственная, но как вы убережетесь
от подобных мыслей при настоящих условиях
воспитания, жизни и общественных отношений?
Уверять женщину в любви, когда любви этой
в самом деле не имеется, — значит лгать, а лгать
во всяком случае скверно, тем более тогда, когда
ложь так близко затрагивает личные интересы
того человека, с которым мы имеем дело. Если бы
Базаров разыграл с Одинцовой систематическую
и хладнокровно рассчитанную комедию любви, то
поступок этот был бы очень предосудителен, и
вся личность Базарова явилась бы перед нами
в сомнительном свете. Но мне кажется, что Ба
заров ни в каком случае не стал бу актерствовать;
если бы даже он принялся за это утомительное
занятие, то у него нехватило бы терпения дотя
нуть дело до развязки, и он, после первых двух
трех приступов, убедился' бы в том, что игра не
стоит свечей. С молодыми’ людьми случается ча
сто, что они строят в уме своем кацой-нибудь
отчаянно-макиавеллевский план; все так хорошо
обдумано, и ложь, и притворство поставлены на
свое место, расчет произведен блистательно, и тео
ретическая сторона дела оказывается безукориз
ненной; это значит, что мысль работает исправно
и отличается надлежащей смелостью полета; но
так на одном смелом полете мысли дело и оста
навливается, потому что, при первой встрече
с практической стороной задуманной дьявольщи
ны, юный макиавеллист оказывается добродуш
ным и чистосердечным человеком, который немед182
ленно махнет рукой и скажет про-себя: — А ну их
к чорту! С какой стати я их надувать буду! — Так
могло случиться, и до некоторой степени так слу
чилось и с самим Базаровым. Он оказался гораздо
моложе и нежнее, чем он воображает себя. С ка
бинетными работниками, у которых теоретиче
ский ум далеко обгоняет опыт жизни, сплошь и
рядом случаются такие иллюзии. Справляясь
с идеями, мы думаем, что нам так же легко спра
вляться и с живыми явлениями, а вдруг оказы
вается, что живое явление затрагивает нас с такой
стороны, которую мы и не подозревали в своей
особе, когда производили наши теоретические
комбинации.
Я думаю, однако, что Базаров даже в чистой
теории не задавал себе задачи актерствовать и ли
цемерить перед красивой обладательницей «бога
того тела». Он просто думал, что Одинцова — не
что вроде Евдокии Кукшиной, а в таком случае
комедия была бы излишней роскошью. Стоило
только сказать несколько красивых любезностей
насчет наружности, да наговорить побольше вздо
ру о Либихе и Жорж Занд, о Мишле и Прудоне,
о Бунзене и о женском вопросе — и' дело было бы
улажено к обоюдному 'удовольствию. Тут дело
с самого начала велось бы на чистоту, без вся
ких хитростей, и женщина даже не требовала
бы от мужчины серьезного чувства, потому что не
была бы даже способна насладиться таким чув
ством и отплатить за него тою же монетой. Тут
не было бы ничего, кроме болтовни и объятий, и,
разумеется, Базарову очень скоро приелось бы
такое препровождение времени. Но Базаров с пер
вого разговора своего с Одинцовой заметил, что
эта женщина умеет уважать свое достоинство и
смотрит на жизнь серьезными глазами мыслящего
человека. Шутить с такой женщиной было невоз
можно; обманывать ее было трудно .и опасно;
183
можно было попасть впросак и поставить самого)
себя в самое глупое и безвыходно позорное по-,
ложение; наконец, если бы, паче чаяния, обман)
удался, то он оказался бы капитальной подлостью,
потому что возбудить в такой женщине чувство и
потом, \рано или поздно, обнаружить свою пол
ную неискренность, значило бы оскорбить и огор
чить эту женщину самым жестоким, незаслужен
ным и мошенническим образом. Все это Базаров
сообразил или, вернее, почувствовал почти мгно
венно, и все его поведение с Одинцовой проник
нуто с начала до конца самой глубокой, искрен
ней и серьезной почтительностью. «Какой я смир
ненький стал», — думал он про себя в первые ми
нуты своего пребывания в деревне Одинцовой
(стр. 122), и потом он сделался еще более «смир
неньким», потому что он п о л ю б и л Одинцову;
о, когда такой «циник» любит женщину, тогда он
ее уважает действительно, то есть тогда ему ста"Новится невозможно схитрить перед ней словом,
взглядом или движеньем. Искренность Базарова
доходит до крайних пределов, и мне кажется, что
именно эта искренность, эта полнейшая честность,
неподдельность приводит за собой его неудачу и
разрыв только что зарождавшихся1 отношений.
Эта неподдельность показалась некрасивой, и жен
щины наши, повидимому, очень крепко держатся
за эстетику и в смысл психических явлений не за
глядывают почти никогда.
XII
Самые искренние люди бывают часто самыми
сдержанными людьми, и самые сильные чувства
этих людей никогда не выражаются ими, а выры
ваются из них только тогда, когда уже нехватает
сил их задерживать. В строгом смысле, только
такие вырвавшиеся чувства и могут быть названы
184
совершенно неподкрашенными. Когда же человек
сознательно выпускает из себя чувство, то есть
говорит о нем и описывает его, то мы уже тут
имеем дело не с сырым материалом, а с умствен
ным трудом, построенным на основании этого ма
териала. Чем изящнее и грациознее эта построй
ка, тем больше на нее положено искусства, то есть,
другими словами, тем спокойнее и сознательнее
произведена обработка первобытного материала.
Чем красивее выражение, тем слабее чувство, а так
как женщины дорожат преимущественно красо
той, в чем бы она ни проявлялась, то и оказы
вается в результате, что они обыкновенно отвер
тываются от искренних людей и бросаются на шею
фразерам или красивым куклам. Чем сильнее че
ловек любит, тем невыгЪднее его положение и тем
вернее он может рассчитывать на полную неудачу.
Истину этого неутешительного изречения в со
вершенстве испытал на себе Базаров. Он полюбил
Одинцову очень скоро; серьезная любовь нача
лась в нем, вероятно, после первой ботанической
экскурсии, которую они предприняли вдвоем
после завтрака и которая продолжалась до обеда
Это было на другой день после приезда молодых
людей в деревню Одинцовой. Что любовь воз
никла так быстро, этому удивляться нечего. Фи
зическая красота бросается в глаза с первого
взгляда; ум обнаруживается в первом же разго
воре; а когда таким образом вся фигура женщины
и каждое слово производят на человека стройное
и приятное впечатление, то чего же вам больше?
И кровь волнуется, и мозг раздражается, и все это
так обаятельно — ну вот, и любовь готова. Чем
больше таких приятных впечатлений ляжет без
перерыва одно на другое, тем сильнее будет ста
новиться любовь; но фундамент, незаметный заро
дыш этого чувства, заложен уже самым первым
впечатлением.
185
Полюбивши Одинцову, Базаров проводит вместе;
с ней, под одной кровлей и в постоянных друже
ских разговорах, больше двух недель. Во все это
время он говорит с ней, как с умным мужчиной,
о предметах, имеющих действительный интерес:
о химии, о ботанике, о новейших открытиях на
туралистов, о различных взглядах передовых
умов на жизнь природы, на личность человека и
на потребности общества. Если уважать женщи
ну — значит обращаться с ней как с мыслящим
существом, то с этой стороны поведение «циника»
Базарова надо признать совершенно безукориз
ненным: он старался удовлетворять умственным
требованиям своей собеседницы и не проронил ни
одного слова о том, что мучило и волновало его
самого. Ни слова не было сказано о том, что мог
ло возвысить в глазах любимой женщины лич
ность самого Базарова; ни о своем прошедшем,
ни о своих стремлениях и планах в будущем Ба
заров не заикнулся; а между тем, в его прошедщем было много упорного труда и непобедимого
терпения, и в его взгляде на будущее широко
и обаятельно развертывались светлое могущество
его мысли и неудержимая страстность его созна
тельной любви к людям. И он все-таки молчал об
этом, потому что ему было отвратительно поду
мать, что он способен рисоваться, интересничать
и говорить красивые слова перед любимой жен
щиной. Это честное и глубокое отвращение
к ложной эффектности постоянно обливало его
холодной водой, когда он начинал увлекаться и
когда в этом увлечении начинали проблескивать
высшие и симпатичные стороны его ума, его ха
рактера и его деятельности. Он не хотел стано
виться на ходули и поэтому оставался постоянно
ниже своего настоящего роста. Что делать? Чело
век почти всегда пересаливает в ту или другую
сторону; но кто пересолит подобно Базарову, тот
186
по крайней мере не продает гнилого товара за
свежий и не залезет обманом ни в кошелек, ни
в душу своих собеседников.
Дельные разговоры Базарова занимают Одинцо
ву как женщину умную и любознательную; но
именно как умная женщина она понимает, что, го
воря обо всем, Базаров не высказывает бездели
цы — самого себя; а как женщина любознатель
ная и даже любопытная, она желает вырвать у Ба
зарова эту тайну, она хочет объяснить себе на
стоящий смысл этой сильной и замечательной
личности. Она старается перевести разговор с об
щего поля великих умственных интересов на бо
лее интимный тон личных признаний и излияний.
Базарову, как влюбленному человеку, такой пово
рот разговора был бы чрезвычайно выгоден, а
между тем Базаров упирается и выдерживает свое
упорство до самого конца. Одинцова все к чемуто подходит; ей, повидимому, хотелось бы, чтобы
оба они понемногу разнежились и чтобы слово
любви было произнесено как-то незаметно для обо
их, во время нежного и мечтательного разговора;
она бы желала увлечься нечувствительно, без
страстных порывов и без резких ощущений. Ба
зарову все эти тонкости непонятны. Как это, ду
мает он, подготовлять и настраивать себя к люб
ви? Когда человек действительно любит, разве он
может грациозничать и думать о мелочах внеш
него изящества? Разве настоящая любовь коле
блется? Разве она нуждается в каких-нибудь внеш
них пособиях места, времени и минутного распо
ложения, вызванного разговором? Базаров меряет
на свой аршин психические отправления других,
людей, и поэтому он~~относится сурово и враж
дебно ко всем попыткам Одинцовой придать их
отношениям ласкающий и нежный колорит. Ему
все эти попытки кажутся искусственными маневра
ми кокетки или, по меньшей мере, невольными
187
капризами избалованной аристократки. Если бы
она меня любила, думает он, она бы давно поня
ла, как сильно я ее люблю, и тогда все между
нами было бы ясно, просто и разумно, и тогда
к чему все ухищрения? Но ведь она меня не лю
бит, и в таком случае как же она смеет забавлять
ся со мной задушевными разговорами? Дикарь:
этот Базаров! Первобытный челрвек! Он упускаетиз виду то обстоятельство, что ее любовь может
явиться как результат многих мелких причин, мно
гих внешних, случайных и неважных впечатлений.
Он совсем не заботится о том, чтобы доставить
ей эти впечатления и потом эксплоатировать их
в свою пользу. Он хочет, чтобы ее любовь была
сильна, естественна и самородна, чтобы эта лю
бовь свалилась на нее, как снег на голову, так,
как его любовь обрушилась на него, Базарова.
А любовь высиженная, вымученная, тепличная,
воспитанная нежными словами, эффектными взгля
дами, пустотой деревенской жизни, тишиной и по
лумраком летнего вечера, — такая любовь очень
понравйлась бы Базарову, если бы он хотел заве
сти интригу с красивой барыней; но притворной
и отвратительной показалась бы она ему тогда,
когда он сам полюбил серьезно. Дикарь этот Ба
заров! Его уважение к женщине выражается в том,
что он ничем не хочет и по натуре своей ничем
не способен насиловать чувство этой дсенщины.
Выше этого уважения 'ничего нельзя себе пред
ставить, но для наших-дрессированных, обесси
ленных и обесцвеченных женщин такое уважение
оказывается совершенно неуместным и непонят
ным. Женщина сама, всем направлением своих по
ступков и речей, упрашивает, чтобы ее з а с т а в и
л и полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскру
жили» голову, то есть, короче, чтобы ее лишили
воли и сознания и чтобы тогда делали с ней, что
хотят. Тогда, думает она, пожалуй, я полюблю и
188
потцм спасибо скажу тому доброму человеку, ко
торый отнял у меня способность и печальную не
обходимость обдумывать мои поступки. А иначе
сак же? Как же бы я сама, как бы я, находясь
з здравом уме, сама распорядилась своей особой?
Никогда и ни за что бы я сама не распорядилась.
} бы постоянно стремилась и постоянно робела
эы. На то я и женщина! А дикарь стоит себе,
дожа руки, и говорит: решайся сама. Думай за
:ебя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убе
ждать, ни умолять тебя я не намерен, да и не
умею. Я — равный тебе человек. Я — не опекун
тебе. И хоть бы у меня аневризм сделался, и хоть
эы у меня сердце лопнуло от любовного волнения,
все-таки я не сумею и не захочу кружить тебе
голову и опаивать тебя дурманом грациозных
нежностей и эффектной жестикуляции. Я„говорю
: тобой, как с разумным существом, и не умею
говорить иначе ни с кем из тех людей, которые
эаз навсегда заслужили мое уважение. Если бы я
не уважал тебя, то я бы тебя и не любил; а так
как я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не
могу, посягать словами или поступками на твою
умственную самостоятельность. — Какой дикарь!
но какой хороший дикарь! Жаль только, что не
в коня корм.
,
XIII
Читателю может показаться, что я сам сочинил
себе Базарова и Одинцову, вовсе непохожих на
героев тургеневского романа, — до такой степени
мои размышления и заключения резко противоре
чат тому понятию, которое, по милости нашей об
разцовой тупости, установилось в читающем об
ществе насчет базаровского типа и преимуще
ственно насчет его ц и н и ч е с к и х отношений
к женщинам. Мне тепеоь надо доказать, что я не
189
сочиняю и что каждое мое слово основывается
исключительно на правильном понимании всех ма
териалов, которые дает Тургенев и которые, мне
кажется, сам Тургенев не всегда рассматривает
с надлежащей точки зрения, хотя фактические
подробности всегда поразительно верны.
Я приведу длинный ряд доказательств из двух
решительных сцен Базарова с Одинцовой («Отцы
и дети», стр. 241 и 176). Базаров сказал, что он
скоро уезжает к своему отцу; это было сказано
без всякого дипломатического умысла, и Турге
нев при этом замечает, что Базаров «никогда не
сочинял» (стр. 139). Одинцова по поводу этого
близкого отъезда находится в полугрустном, по
лунежном настроении. Сидят они вдвоем, поздно
вечером, в комнате Одинцовой. Одинцова два раза
подряд говорит ему: «Мне будет скучно». На пер
вый раз он отвечает: «Аркадий останется», а на
второй: — «Во всяком случае долго вы скучать не
будете». Вслед за тем он говорит ей, что она непогрешительно правильно устроила свою жизнь,
так что в ней не может быть места никаким тя-желым чувствам. «Через несколько минут, — при
бавляет он, — пробьет десять часов, и я уже на
перед знаю, что вы меня прогоните». — «Нет, не
прогоню, Евгений Васильевич, — отвечает он а.—
вы можете остаться». Он остается. «Расскажите
мне что-нйбудь о самом себе, — говорит она, —
вы никогда о себе не говорите». — «Я с т а р а
юсь б е с е д о в а т ь с в а м и о п р е д м е
т а х п о л е з н ы х , А н н а С е р г е е в н а » . Она
настаивает с особенной ласковостью. Базаров ду
мает про-себя: «Зачем она говорит таки^ слова?»
(стр. 143)’ и отвечает ей: «М ы л ю д и те мн ы е». — «А
я, по-вашему, аристократка?» —
«Да, — промолвил он п р е у в е л и ч е н н о р е з
к о » . — Одинцова защищается: «Я, — говорит
она, — вам когда-нибудь расскажу свою жизнь.. .
190
Но вы мне прежде расскажите свою». Базаров это
третье приглашение пропускает мимо ушей и пере
водит разговор на личность Одинцовой. «Зачем
вы, с вашим умом, с вашей красотой, живете в де
ревне?»— «Как? Как вы это сказали? — с живо
стью подхватила' Одинцова. — С моей. . . красо
той?» Бедная женщина! Как она обрадовалась!
Должно быть, Базаров не избаловал ее компли
ментами. А Базаров-то! О, дикарь! О, бурлак!-Вот
он затушевывает свою нечаянную любезность:
« Б а з а р о в н а х м-у р и л с я , — Э т о в с е р а в
но — пробормотал он. — Я хотел сказать, что не
понимаю хорошенько, зачем вы поселились в де
ревне».— Его, очевидно, покоробило и смутило
то, что он сказал. Говорить с любимой и уважае
мой женщиной о ее крас-оте кажется ему плоско
стью и, следовательно, дерзостью. И это — тот са
мый Базаров, который говорил с Аркадием о пле
чах и о богатом теле этой самой Одинцовой?
И тут нет никакого противоречия. Тогда он ее не
знал, и, стало быть, для него существовали только
линии и краски ее фигуры; по этим известным ему
данным он и высказывал о ней свое суждение.
Кроме того, он говорил с третьим лицом, и тогда
эти слова имели свой смысл, как всякое другое су
ждение о каком нибудь предмете, остановившем
на себе внимание человека. Но говорить самой
женщине, что она хороша собой, — это бессмы
слица, годная только на то, чтобы наскучить ей,
если она умна, или польстить ей, если она глупа.
К сожалению, надо заметить, что очень многим
женщинам такие разговоры не надоедают, и —
увы!—кажется, даже Одинцова непрочь послушать
такие речи йзредка. Что делать? Сильна наша глу
пость и бесчисленны ее убежища; и у самых ум
ных людей еще отведены для нее уютные уголки,
и нет, быть может, того мыслителя, который под
—"
191
час не оказался бы простофилей. Но Базаров, по
своей дикой суровости, не хочет принимать в со
ображение слабости своей собеседницы. Потвор
ствовать этим слабостям и пользоваться ими он,
очевидно, считает не только пошлым, но и бес
честным делом. — Через несколько минут Базаров
встает,—«Куда вы?— медленно проговорила она.—
Он ничего не отвечал и опустился на стул». Раз
говор, несмотря на бесконечную свирепость База
рова, становится конфиденциальным и nonfn неж
ным.— «Кажется, — говорит она, — если б я могла
сильно привязаться к чему-нибудь.. .» — «Вам хо
чется полюбить, — перебил ее Базаров, — а полю
бить вы не можете: вот в чем ваше несчастье».—
«Разве я не могу полюбить?»'— «Едва ли! Только
я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот
скорее достоин сожаленья, с кем эта штука слу
чается». — «Случается что?» — «Полюбить». — «А
вы почем это знаете?» — «П о н а с л ы ш к е , —
с е р д и т о отвечал Базаров. — Ты к о к е т н и
ч а е ш ь , — подумал о н ,— ты
с к у ч а е.ш ь и
д р а з н и ш ь м е н я от н е ч е г о
делать,
а м н е . . . Сердце у него действительно так
и рвалось» (стр. 147). «По-моему, — продолжает
Одинцова, — или все, или ничего. Жизнь за
жизнь. Взял мою — отдай свою, и тогда уже
без сожаления и без возврата. А то лучше и
не надо». — « Ч т о ж, — заметил Базаров, — это
условие справедливое, и я удивляюсь, к а к вы
до с их п о р. . .
не н а ш л и , ч е г о ж е
л а л и » (стр. 147). — «Но вы бы сумели отдать
ся?»— спрашивает она. — «Н е
знаю,
хва
с т а т ь с я не х о ч у » (стр. 148). — Базаров опять
встает. Она еще раз его удерживает: «Погодите,
куда же вы спеш ите?., мне нужно сказать вам
одно слово». — «Какое?» — «Погодите», — шепну
ла Одинцова. Ее глаза остановились на Базарове;
192
казалось, она внимательно его рассматривала. —Он прошел по комнате, потом вдруг приблизился
к ней и торопливо сказал: «Прощайте», стиснул ей
руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел
вон» (стр. 148).
На другой день Одинцова сама зовет его к себе
в кабинет и, проведши туда, прямо говорит ему,
что хочет возобновить вчерашний разговор. Опять
начинаются с ее стороны вызовы на откровен
ность, а со стороны Базарова' упорное отнекиванье. Он говорит: « М е ж д у в а м и и м н о ю
т а к о е р а с с т о я н и е » . Она говорит на это:
«Какое расстояние? Полноте, Евгений Васильевич,
я в а м, к а ж е т с я , д о к а з а л а . Или, может
быть, — продолжает она, — вы меня, как женщину,
не считаете достойной вашего доверия? В е д ь
вы н а с в с е х п р е з и р а е т е ? » — « В а с я
не п р е з и р а ю , А н н а С е р г е е в н а , и вы
это
з н а е т е » . — «Не т,
я
ничего
не
з н а ю», — отвечает она и затем требует, чтобы
Базаров сказал ей, что в нем происходит и какая
причина его сдержанности и напряженности. Что
же остается делать этому несчастному Базарову?
Ведь, наконец, всякие человеческие силы должны
истощиться и всякое ослиное терпение должно
лопнуть, когда любимая женщина два дня подряд
умоляет об одном и том же, когда она вас упре
кает в том, что вы ее презираете, и когда все ее
просьбы, все ее ласковые слова клонятся исклю
чительно к той самой цели, к которой вы сами
стремитесь всеми силами своего существа. Поне
воле надо было высказать самую глубокую тайну,
и Базаров ее высказал, только совершенно по-базаровски. «Так знайте же, — говорит он, — что я
вас люблю глупо, безумно. . . В о т ч е г о вы
д о б и л и с ь » . И эти сердитые слова он произно
сит, не глядя на Одинцову, отошедши от нее
к окну и стоя к ней спиной. Он задыхался; все
13 Д . И . Писарев
193
тело его видимо трепетало. Но это было не тре
петание юношеской робости, не сладкий ужас пер
вого признания овладел им: это страсть в нем би
лась, сильная и тяжелая, — с т р а с т ь , п о х о
ж а я н а з л о б у, и, б ы т ь м о ж е т, с р о д н и
ей... О д и н ц о в о й с т а л о и с т р а шн о , и
ж а л к о е г о . . . «Евгений Васильевич, — прого
ворила она, и н е в о л ь н а я н е ж н о с т ь з а
з в е н е л а в ее г о л о с е » (стр. 154,— 155).
Ну, тут, разумеется, он бросился к ней и обнял
ее. Еще бы он не бросился! Еще бы он не обнял!
Эта н е в о л ь н а я н е ж н о с т ь в г о л о с е бы
ла для него последним и решительным ударом,
перед которым уже не могла устоять никакая
сдержанность, никакая напряженность, никакая
искусственная суровость. Он ее обнял, — где же
тут дерзость, где оскорбление? Разве, обнимая
л ю б я щ у ю женщину, любящий мужчина нано
сит ей оскорбление? И разве Базаров мог, и разве
он смел сомневаться в том, что Одинцова его лю
бит? Все было высказано, высказано просто, гру
бо и угрюмо, высказана с глубоким, тяжело вы
страданным упреком: « В о т ч е г о вы д о б и
л ц с ь», и после этого « н е ж н о с т ь в г о л о
се»! Какое же тут может быть сомнение? И вы
разить подобное сомнение, колебаться после этой
проклятой « н е ж н о с т и » еще одну секунду —
ведь это значило бы глубоко огорчить и оскор
бить любящую женщину, значило бы требовать
от нее, чтобы она вымаливала вашу любовь по
добно тому, как она уже вымолила ваше призна
ние. И-вдруг она от него отскакивает, и вдруг она
говорит ему: «Вы меня не поняли!» А что же де
лает Базаров? Ничего. Он закусывает губы и вы
ходит из комнаты. А потом, вечером, он изви
няется перед Одинцовой: «Я должен извиниться
перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гне
ваться на меня». А она ему отвечает: «Нет, я на
194
вас не сержусь, Евгений Васильевич, но я огор
чена».
О, Анна Сергеевна, замечу я от себя, как вы
безмерно великодушны! Неужели вы можете не
сердиться на этоге''ужасного преступника, кото
рого неслыханное преступление состоит в том.
что вы поджаривали его на медленном огне в про
должение двух дней? Преклоняюсь перед вашей
женственной кротостью и говорю вам без всякой
иронии, что вы в этом отношении стоите выше
многих очаровательных, умных и безукоризнен
ных женщин. Те также терзают людей, мажут их
по губам, разбивают их счастье, говорят им: «вы
меня не поняли» — и сверх всего этого ненавидят
их самой упорной и холодной ненавистью. Бы
вают, конечно, и мужчины в таком же роде, по
тому что, когда дело зайдет о глупостях, тогда
ни один пол не уступит другому. Но история Ба
зарова поучительна: он измучен, он же изви
няется, он же получает великодушное полупро
щенье, он сам во все время своего знакомства
с Одинцовой не говорит ей ни одного неприят
ного или непочтительного слова, он обходится
с ней, как с святыней, и при всем том его же вся
читающая публика обвиняет в нахальстве, в дер
зости, в цинизме, в неуважении к достоинству жен
щины и чорт знает еще в каких неправдоподоб
ных гадостях.
Но вот о чем не мешает подумать нашей до
брейшей и почтеннейшей публике: дали ей в руки
печатную книгу; в этой книге была написана яс
ным русским языком история Базарова и Один
цовой; прочитали эту историю и опытные крити
ки, и простые, непредубежденные читатели; и из
всего этого прилежного чтения, из всех критиче
ских рассуждений произошло, по неисповедимым
законам судеб, самое удивительное понимание на
выворот или, еще вернее, совершенное непонима13*
195
ние. Я спрашиваю у каждого беспристрастного чи
тателя моей статьи, есть ли какая-нибудь возмож
ность понять и объяснить факты, собранные мной
в этой главе, по какому-нибудь другому способу,
несходному с моим объяснением? Я уверен, что
каждый читатель скажет: «нет, невозможно», и
даже назовет мое объяснение ненужной болтов
ней, потЪму что факты ясны, как день, и сами за
себя говорят. Ну да, ясны, как день, а ведь, одна
ко, ухитрились же люди их не понять и исказить,
и для многих легковерных господ судьба База
рова, как литературного типа, решена безапелля
ционно. Их теперь и не вытащить из заколдован
ного круга их затверженных суждений.
И это случилось с печатной книгой, которую
стоит только раскрыть и прочитать внимательно,
для того чтобы уничтожить всякое заблуждение
и восстановить настоящее значение рассказанных
событий. Поставьте же теперь на место книги жи
вое явление, которое никогда не бывает так ясно
и так удобно для изучения, как литературное про
изведение. Подумайте, какая тут произойдет ка
тавасия! Если наша публика ни с того, ни с сего
совершенно несправедливо оплевала тургеневского
Базарова, то каково же поступает она с живыми
Базаровыми, которых понять гораздо труднее и
которым, однако, больно и досадно, когда на них
сыплются незаслуженные оскорбления от отцов,
матерей, сестер и особенно от любимых женщин?
Подумайте, сударыня-публика, не пора ли вам за
подозрить непогрешимость ваших рассуждений
о таких явлениях, которых вы не сумели понять
даже по печатной книге? Я нарочно выбрал для
примера «любовную» историю Базарова, потому
что это именно такой предмет, в котором каждый
человек считает себя компетентным судьей. Ну и
что же, компетентные судьи, много вы рассудили?
196
Нравоученье из этого извлекается только то,
что обругать человека недолго, но что и пользы
из этого выходит немного.
XIV
Вам, может быть, угодно знать тепе-рь, почему
Одинцова не полюбила Базарова или, точнее, по
чему ее зарождавшаяся любовь к этому человеку
не повела за собой никаких счастливых послед
ствий. А по тому же самому, почему король Лир
оттолкнул от себя ту единственную дочь, которая
действительно была к нему привязана; потому что
чувство Базарова, подобно чувству Корделии, вы
разилось некрасиво, то есть несогласно с эстети
ческими требованиями того лица, к которому это
чувство адресовалось. Я говорю это без всяких
предположений, основываясь на словах самого
Тургенева. «Она задумывалась и краснела, в с п о
м и н а я п о ч т и з в е р с к о е л и ц о Базарова,
когда он бросился к ней» (стр. 155). Она даже не
решила хорошенько, как ей поступить, то есть
отдаться ли Базарову или разойтись с ним.
«Или? — произнесла она вдруг и остановилась, и
тряхнула кудрями» (стр. 156).
Неподражаемым комментариев к этому забубен
ному и л и может служить следующая цитата из
того же романа: «Ямщик ему попался лихой, он
останавливался перед каждым кабаком, пригова
ривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но зато,
ч . к н у в ш и , не жалел лошадей» (стр. 211). К со
жалению, Одинцова, в деле лихости, далеко усту
пала ямщику; и на первый раз она решила, что
лучше не надо «или». Но это решение никак нель
зя считать окончательным; нельзя по той простой
причине, что она его несколько раз подтверждала
впоследствии, а это значит, что перед каждым
подтверждением в ее уме шевелился более или
19/
менее явственно обозначенный вопрос: «аль
чкнуть?» И подтверждение являлось постоянно по
случаю неэстетичности. «Одинцова раза два —
прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо,
строгое и желчное, с опущенными глазами, с от
печатками презрительной решимости в каждой
черте, и подумала: «нет.. . нет.. , нет» (стр. 157). —
«Ведь вы, извините мою откровенность, — гово
рил ей Базаров вечером того же дня, — не любите
меня и не полюбите никогда». — Глаза Базарова
сверкнули на мгновенье из-под темных его бро
вей. Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь
этого человека», — мелькнуло у нее в голове»
(стр. 158).
Одинцова приезжает к умирающему Базарову,
и вот первое ее ощущение при взгляде на боль
ного: «Она просто испугалась каким-то холодным
и томительным испугом; мысль, что она не то бы
почувствовала, если бы точно его любила, мгно
венно сверкнула у ней в голове» (стр. 294). Вот
видите: до самой последней минуты вопросы: «лю
била ли она его» и «точно ли любила» оставались
для нее вопросами. А полюбила ли бы она его,
если бы он не умер, и могла ли она вообще полю
бить его — это такие вопросы, которые навсегда
остались для нее.неразрешимыми. Базаров поста
вил вопрос слишком ясно: или отдаться, или равэйтись. Одинцовой еще не хотелось решиться ни
в ту, ни в другую сторону; ей хотелось еще пого
ворить, и она не раз выражала это желание, и
у нее были на то очень законные причины. Для
того чтобы стать в уровень с Базаровым, чтобы
понять его и взглянуть на его личность светлым
взглядом мыслящего
человека,
сбросившего
с своего ума оковы эстетической рутины, для
этого Одинцовой действительно необходимо было
поумнеть, а она, как даровитая женщина, умнела
довольно быстро под живительным влиянием
198
дельных разговоров с Базаровым. Но Базаров,
при всей своей «сатанинской» гордости, не созна
вал, что он в умственном отношении стоит выше
ее; он не замечал, что его влияние производит
в ней перемену; поэтому он и думал, что если она
не любит его теперь, то и не полюбит никогда.
Значит, он уважал ее слишком много, и было бы
гораздо, — о, гораздо! — лучше, если бы он ува
жал ее поменьше. Но замечательно, что ведь Базарова-то принято упрекать как раз в противопо
ложной погрешности. Желание Одинцовой «еще
поговорить» выражается в двух случаях самым
очевидным образом. Во-первых, тотчас после не
удавшегося поцелуя Базаров прислал ей записку
следующего содержания: «Должен ли я сегодня
уехать — или могу остаться до завтра?» Она ему
Отвечает: «Зачем уезжать? Я вас не понимала —
вы меня не поняли». Вывод ясен: «поговорим еще
и, может быть, договоримся до взаимного пони
мания». Во-вторых, когда Базаров, спустя не
сколько недель, заезжает в последний раз на ко
роткое время в деревню Одинцовой, она упра
шивает его остаться и еще наивнее выражает
свое желание «поговорить». — «Разве, — говорит
она, — вы уезжаете? Отчего нее вам теперь не
остаться? Останьтесь. . . с вами говорить весело.. .
точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь*
а потом — откуда смелость возьмется. Остань
тесь» (стр. 271). Тут опять ясно сквозит такая
мысль: «Дайте мне понабраться смелости, и тогда
я, чего доброго, брошусь в самую пропасть, ко
торая перестанет меня пугать».. . Но Базаров не
видит этой сквозящей мысли, или же у него не
хватает сил дожидаться, пока Одинцова поумнеет
и перестанет робеть. «Спасибо за предложенье,
Анна Сергеевна, — отвечает он ей, — и за лестное
мнение о моих разговорных талантах. Но я на
199
хожу, что я и так слишком долго вращался в чу
жой для меня сфере».
Нелюбезно и почти дерзко отвечает он на ее
приглашенье, но ее этот ответ не оскорбляет.
Взглянувши, на его бледное лицо, подернутое
горькой усмешкой, она подумала: «этот меня лю
бит!» и с участием протянула ему руку. Но он не
взял эту руку и оттолкнул прочь ее непрошенное
участие, потому что люди, подобные Базарову,
берут себе любовь женщины или ровно ничего не
берут. — «Нет, — сказал он и отступил на шаг на
зад. — Человек я бедный* но милостыни до сих пор
не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы». —
Она опять рванулась к нему. — «Я убеждена, что
мы не в последний раз видимся, — произнесла
Анна Сергеевна с н е в о л ь н ы м д в и ж е н и е м».
(Это опять то же самое, что «невольная нежность
в голосе» и знаменательный вопрос «или?») Но
Базаров неприступен и опять осаживает ее на
зад.
«Чего на свете не бывает!» — отвечал Ба
заров, поклонился и вышел.
Женщина сама всего лучше может судить о том,
оскорблена ли она, или нет; а Одинцова, тотчас
после базаровского объятия, не чувствовала себя
оскорбленной: «Она скорее чувствовала себя ви
новатой» (стр. 156). Она никогда, ни прежде, ни
после решительной сцены, не смотрела на База
рова как на нахального циника. Ей, в самый день
поцелуя, «хотелось сказать ему какое-нибудь доб
рое слово; но она не знала, как заговорить с ним»
(стр. 158). — «Вы знаете, — говорит она ему во
время их предпоследнего свиданья, — что я вас
бою сь.. . и в то же время я вам доверяю, потому
что в сущности вы очень добры» (стр. 268).
Что за удивительная смесь различных чувств!
И боязнь, и доверие, и уважение, и желание друж
бы, и неудовлетворенное любопытство. Боязнь тут
не что иное, как неполное понимание, потому что
200
мы всегда боимся того, что кажется нам стран
ным, незнакомым или необъяснимым. Но отчего
же из всей этой смеси чувств не составляется та
своеобразная кристаллизация, которая называется
любовью? Все составные элементы любви даны, и
даже нет того ф и з и ч е с к о г о отвращения, ко
торое иногда бывает в таком деле необходимым
препятствием; отчего же не образуется любовь?
Оттого, что эстетика мешает; оттого, что в чув
стве Базарова нет той внешней миловидности, joli
a voir,* которые Одинцова совершенно бессозна
тельно считает необходимыми атрибутами всяко
го любовного пафоса. Читатель подумает, вероят
но, что эстетика — мой кошмар, и читатель в этом
случае не ошибется. Эстетика и реализм действи
тельно находятся в непримиримой вражде между
собой, и реализм должен радикально 'истребить
эстетику, которая в настоящее время отравляет
и обессмысливает все отрасли нашей научной дея
тельности, начиная от высших сфер научного тру
да и кончая самыми обыкновенными отношениями
между мужчиной и женщиной. Я немедленно по
стараюсь доказать читателю, что эстетика есть са
мый прочный элемент умственного застоя и са
мый надежный враг разумного прогресса.
>
. XV
В том-то и состоит пошлость всяких эстетиче
ских приговоров, что они произносятся не вслед
ствие размышления, а по вдохновению, по внуше
нию того, что называется голосом инстинкта или
чувства. Взглянул, понравилось, — ну, значит, хо
рошо, прекрасно, изящно. Взглянул, не понрави
лось— кончено дело: скверно, отвратительно,
безобразно. А почему понравилось или не понрави* Перевод:
Красиво по внешности, миловидно. Ред.
201
лось — этого вам не объяснит ни один эстетик.
Все объяснение ограничится только ссылкой на
внутренний голос непосредственного чувства. Эсте
тик выставит вам, конечно, целую систему второ
степенных правил, но чтобы поставить весь этот
затейливый эшафодаж на какой-нибудь фунда
мент, он вое-таки сошлется подконец на непосред
ственное чувство. Но эти ссылки непременно
должны иметь определенный физиологический
смысл, или же в противном случае они не имеют
ровно никакого смысла. Например, некоторые
люди не могут есть никакой рыбы и занемогают,
как только в их пищеварительный канал попадет
малейший кусочек этого нестерпимого для них
вещества, которое у большей части людей счи
тается, однако, лакомой и здоровой пищей. В этом
случае отвращение совершенно законно. Значит,
в устройстве желудка или кишечного канала есть
какая-нибудь индивидуальная особенность, отри
цающая рыбу. Всякий дельный физиолог скажет,
подобно Льюису, что надо повиноваться голосу
желудка, потому что урезонить его невозможно,
апеллировать на него некуда, а бороться с ним —
значит только вызывать тошноту и разные дру
гие болезненные явления. Другой пример: резкий
свист локомотива абсолютно неприятен, или, вы
ражаясь другими словами, неизящен, отвратите
лен, безобразен, потому что от этого пронзи
тельного звука страдает слуховой нерв. Физиоло
гическая причина существует, и, стало быть, дело
опять-таки решается окончательно. Третий при
мер: женщина А чувствует непобедимое физиче
ское отвращение к мужчине Б. Ей противно при
коснуться к его руке, а поцеловать этого челове
ка было бы для нее настоящей пыткой. Такие
явления действительно существуют в природе и,
разумеется, имеют какое-нибудь физиологическое
основание, хотя, может быть, современная наука
202
й не в состоянии в точности определить их при
чину. И в этом случае не следует насиловать при
роду. И госпожа А поступит очень неблагоразум
но, если вопреки этому физическому отвращению,
рассудочными доводами заставит себя выйти за
муж за господина Б.
Наш организм имеет свои бесспорные права и
предъявляет их, и не терпит их нарушения. Но
скажите, пожалуйста, какие права своего орга
низма заявляла, например, французская публика
времен Вольтера, когда она систематически осви
стывала всякую трагедию, в которой не было и п
a m o u r e u x e t u n e a m o u r e u s e ? * Или какие
права организма выражались в том, что нашим
уездным барышням тридцатых и сороковых годов
нравились почти исключительно блестящие мун
диры и разочарованные герои? Согласитесь, что тут
не может быть допущено даже легкое предположе
ние об особенном устройстве каких-нибудь зри
тельных, слуховых, желудочных шли других нер-,
вов. И барышни, и французская публика очень
горячо ссылались на голос непосредственного чув
ства и были готовы божиться в том, что уж так
устроила их природа, что они иначе не могут чув
ствовать и рассуждать; что у них есть врожденное
стремление к одним предметам и такое же вро
жденное отвращение к другим. Странное дело!
Уездные барышни считаются тысячами, и во фран
цузские театры ходили, при Вольтере, также ты
сячи людей. Эти тысячи отдельных организмов
представляли самое пестрое индивидуальное раз
нообразие; тут были умные и глупые, полнокров
ные и худосочные, раздражительные и апатичные,
и так далее, до бесконечности. И у всех этих раз
личных организмов оказывается вдруг одна об
щая черта, самая тонкая и неуловимая, — та,
* Перевод:
Влюбленный
и влюбленная. Ред.
203
вследствие которой французам нравилась только
любовные трагедии, а барышням — только разоча
рованные воины. Воля ваша, такое предположе
ние еще более неправдоподобно, чем если бы мы
предположили, что все наши барышни родились
с крошечным темным пятном над левым глазом.
Само по себе такое пятно вовсе неудивительно, и
оно так же удобно может поместиться над левым
глазом, как и во всяком другом месте, но чтобы
оно появилось разом у всех новорожденных^ де
вочек целой обширной местности — это невозмож
но. Чтобы такое в р о ж д е н н о е свойство дер
жалось постоянно в течение двух десятилетий и
потом исчезло бы без следа, заменяясь для сле
дующих поколений другим
врожденным
свойством, — это уже ни с чем несообразно.
' Я сн о , стало быть, что природа тут не при чем
и что внутренний голос непосредственного чувства
повторяет только, как попугай, то, что нажужжали
нам в уши в самой ранней молодости. Француз
XVIII века видел постоянно трагедии с любовным
пламенем и слышал постоянно, что такие трагедии
считаются превосходными, — он и требует себе
таких трагедий и действительно чувствует к ним
особенную симпатию. Барышня с трех, лет до пят
надцати видит постоянно, что старшие родствен
ницы ее любезничают с офицерами печоринского
типа, и слышит постоянно, что взрослые девицы
находят таких офицеров очаровательными;--очень
естественно, что, надевши длинное платье, эта ба
рышня сама стремится любезничать с такими же
офицерами и в самом деле чувствует какое-то осо
бенное замирание сердца при одном взгляде на
восхитительный мундир. Пассивная привычка —
считать какой-нибудь предмет хорошим и жела
тельным — становится до такой степени сильной,
что превращается, наконец, в действительное чув
ство и в активное желание.
204
Такие превращения происходят в нашем вну
треннем мире на каждом шагу. В этом последнем
случае, конечно, привычка — дело очень хорошее,
но не потому, что она — привычка, а потому, что
она ведет за собой общеполезные последствия,
необходимые для благосостояния человечества.
Допуская и поощряя результаты привычки, когда
они. приносят нам пользу, мы не имеем в то же
время никакого основания преклоняться перед на
шими привычками вообще и. считать их неприкос
новенными даже в том случае, когда они вредны,
безрассудны, стеснительны или неудобны. Поэто
му, когда внутренний голос непосредственного
чувства начинает нам что-нибудь докладывать, мы
можем его выслушать, но вовсе не обязаны при
нимать его советы на веру, без дальнейших кри
тических исследований. Верить этому чревовеща
нию на слово — значит обрекать себя на вечную
умственную неподвижность.
Наши инстинкты, наши бессознательные влече
ния, наши беспричинные симпатии и антипатии, —
словом, все движения нашего внутреннего мира,
в которых мы не можем дать себе ясного и стро
гого отчета и которые мы не можем свести к на
шим потребностям или к понятиям вреда и поль
зы, — все эти движения, говорю я, захвачены нами
из прошедшего, из той почвы, которая нас выкор
мила, из понятий того общества, среди которого
мы развились и жили. Это наследство и соста
вляет силу и основание всех наших эстетических
понятий. Что нравится нам безотчетно, то нра
вится нам только потому, что мы к нему привык
ли. Если эта безотчетная симпатия не оправды
вается суждением .нашей критической мысли, то,
очевидно, эта симпатия тормозит наше умственное
развитие. Если в этом столкновении победит трез
вый ум, — мы подвинемся вперед, к более здра
вому, то есть к более общеполезному взгляду на
205
вещи; если победит эстетическое чувство, — мы
сделаем шаг назад, к царству рутины, умственного
бессилия, вреда и мрака.
Эстетика, безотчетность, рутина, привычка —
это все совершенно равносильные понятия. Реа
лизм, сознательность, анализ, критика и умствен
ный прогресс — это также равносильные понятия,
диаметрально противоположные первым. Чем
больше мы даем простора нашим безотчетным
влечениям, чем сильнее разыгрывается наше эсте
тическое чувство, тем пассивнее становятся наши
отношения к окружающим условиям жизни, тем
окончательнее и безвозвратнее наша умственная
самостоятельность поглощается и порабощается
бессмысленными влияниями нашей обстановки.
Люди, обожающие красоту и эстетику, рассужда
ют обыкновенно так: мне это нравится, следова
тельно это хорошо. Утвердившись на той пози
ции, что это хорошо, они начинают подбирать
второстепенные условия, при которых может и
должна развиться полная красота данного пред
мета, этим подбираньем ограничивается то скром
ное шевеленье мозгов, которое называется эсте
тическим анализом. Мысль при этом вертится
в пределах того крошечного кружка, который
очерчен вокруг нее заранее. Повертится, передви
нет с места на место кое-какие пылинки, да на
том и успокоится. Современники Вольтера убе
дили себя раз навсегда в том, что прекрасная
трагедия непременно должна заключать в себе
любовную интригу. Такая трагедия прекрасна, по
тому что она нам нравится, это была их основная
аксиома. От этой аксиомы отправлялся их анализ
и клонился к тому, чтобы разъяснить, при каких
условиях такая трагедия может быть особенно
прекрасна. Этот робкий и жалкий анализ, разу
меется, оканчивался шлифованьем мельчайших
подробностей, составлявших бесполезный, хотя и
206
логический вывод из совершенно пустой и ложной
основной идеи. Вольтер осмеивает рутинную узость
этих ходячих эстетических теорий, и при этом
сам также вертится в совершенно замкнутом
кругу, который только чуть-чуть пошире первого.
Вольтер приходит в эстетический ужас, когда
один из его современников, Ламот-Удар (LamotteHoudart), начинает доказывать, что трагедии мо
гут быть прекрасны даже в том случае, если
в них не соблюдены три единства (времени, места
и действия) и если даже они написаны прозой.
Вольтер допускает, что трагедия может быть пре
красна без любви, но ереси Ламота он допустить
не может, и драматические произведения Шекспи
ра все-таки ужасают его своими варварскими не
правильностями. Но и Ламот-Удар, при всей своей
смелости, пришел бы в ужас, если бы Белинский
стал ему доказывать, что трагедии Корнеля и Ра
сина никуда не годятся и что их даже смешно
сравнивать с Шекспиром. Но и Белинский, при
всей своей гениальности, пришел бы в ужас, если
бы Базаров сказал ему, что «Рафаэль гроша мед
ного не стоит» и что, следовательно, люди очень
удобно могут жить на свете даже совсем без тра
гедии.
И французы, обожавшие любовную трагедию, и
Вольтер, и Ламот, и Белинский, при всем разли
чии своих взглядов, были все-таки эстетиками, и
это обстоятельство проводит ясную и неизглади
мую границу между этими людьми и представите
лями чистого реализма. Существенная разница за
ключается не в том, что одни признают, а другие
отрицают искусство; это только второстепенные
выводы. Можно быть эстетиком, не выходя из
сферы чисто практических интересов; и можно
быть реалистом, с любовью изучая Шекспира и
Гейне, как гениальных и великих людей. Суще
ственная разница лежит гораздо глубже; эстетики
207
всегда останавливаются на аргументе: « п о т о м у
ч т о э т о м н е н р а в и т с я», и чаще всего даже
не доходят до этого последнего аргумента. Реа
листы, напротив того, и этот последний аргумент
подвергают анализу. «Это мне нравится, — думает
реалист. — Хорошо. Но, чтобы узнать цену моих
симпатий, не мешает сначала узнать, что за штука
это я, так отважно произносящее свои решитель
ные приговоры. Между м о и м и сверстниками
было много дураков и негодяев; м о и наставни
ки пороли м е н я по вдохновенью и заставляли
м е н я лгать и подличать; м о и родственники
жили и живут безгрешными доходами;, м о и род
ственницы смешивают Гоголя с Поль де Коком и
говорят, что писателя, как вредного сплетника,
опасно пустить на порог порядочного дома. По
среди всех этих и многих других подобных влия
ний слагалась и развивалась м о я личность. Были
конечно, и другие впечатления, совсем другого
сорта, — впечатления, по милости которых мне
удалось бросить критический взгляд на разнооб
разный сор моей родной избы. Были разговоры
немногих умных людей и чтение многих умных
книг. Не дерзко ли и не глупо ли было бы при
нять за непреложную истину, что благотворное
влияние этих людей и книг совершенно очистило
мою личность от всех грязных ингредиентов, во
шедших в нее из почвы?»
Ясно теперь, что именно существование этой
высшей руководящей идеи у последовательного
реалиста и отсутствие такой идеи у эстетика со
ставляет основное различие между этими двумя
группами людей. Какая же это идея? Э т о — идея
общей пользы или общечеловеческой солидарно
сти. Как все люди и даже все животные вообще,
эстетик и реалист — оба вполне эгоисты. Но эго
изм эстетика похож на бессмысленный эгоизм ре
бенка, готового ежеминутно облопаться скверней208
шими леденцами и коврижками. А эгоизм реали
ста есть сознательный и глубокорасчетливый эго
изм зрелого человека, заготовляющего себе на це
лую жизнь неистощимые запасы свежего насла
жденья.
Идея общечеловеческой солидарности известна
очень многим эстетикам, но они относятся к ней,
как, например, к какому-нибудь мексиканскому во
просу. Да, мол, хорошая идея, и интересные вещи
о ней пишутся. Отчего не почитать насчет этой
идеи? Отчего даже, при удобном случае, не за
явить печатно, что homo sum et nihil humani . . ? *
Словом, отчего же нам, эстетикам, не побаловать
себя этой идеей, как мы балуем себя всеми цве
точками этого лучшего из возможных миров? Та
ким образом эстетики, нисколько не содействуя
выяснению и практическому торжеству этой идеи,
овладевают ею, утешаются ею, по своему обыкно
вению весьма миловидно, искусно и тонко вво
дят ее в замкнутый кружок своих неподвижных
симпатий и безусловно подчиняют ее своему выс
шему, хотя и затаенному принципу, великому ар
гументу: п о т о м у ч т о м н е н р а в и т с я . При
такой обстановке великая идея, господствовавшая
деспотически над умами мировых гениев, стано
вится милой безделкой, которую приятно поста
вить на письменный стол, в виде легкого пресспапье, для того чтобы она напоминала пишущему
барину, что и он тоже работает для человека. Да
и как же не для человечества? Какую бы глупость
он ни написал, все-таки его будут читать не лоша
ди, а люди.
Все мои насмешки могут относиться вполне
только к эстетикам н а ш е г о времени. У эсте
тиков п р е ж н и х времен, у людей, подобных
* Перевод:
(лат.). Ред.
14 Д. И. Писарев
Человек есмь, и ничто человеческое...
209
Вольтеру или Белинскому, идея общечеловеческой
солидарности медленно созревала под эстетиче
ской скорлупкой. Теперь эта идея созрела и про
является в самых разнообразных формах, по всем
отраслям человеческой деятельности. Стало быть,
кто теперь отворачивается от этой идеи и само
довольно возится с ее разбитой скорлупой, тот
или слеп, или умышленно зажмуривает глаза.
А смеяться над умственной слепотой людей, счи
тающих себя квинт-эссенцией человечности, это
не только позволительно, но далее необходимо для
выяснения и очищения великой идеи, превращен
ной в будуарное украшение.
XVI
Для реалиста идея общечеловеческой солидар
ности есть просто один из основных законов че
ловеческой природы, — один из тех законов, ко
торые ежеминутно нарушаются нашим неведе
нием и которые своим нарушением порождают
почти все хронические страдания нашей породы.
Человеческий организм, — рассуждает реалист, —
устроен так, что он может развиваться по-челове
чески и удовлетворяет всем своим потребностям
только в том случае, если он находится в посто
янных и разнообразных сношениях с другими по
добными себе организмами. Выражаясь короче и
проще, человеку для его собственного благосо
стояния необходимо общество других людей. На
земном шаре существует множество отдельных
человеческих обществ; между этими обществами
могут существовать или дружеские, или враждеб
ные отношения. Первые несравненно выгоднее по
следних. Чем больше дружеских отношений и чем
меньше вражды, тем лучше для каждого из от
дельных обществ; а чем успешнее развивается об
ществе, тем приятнее живется каждому из его
210
.-
членов, то есть каждому отдельному человеческо
му организму. Таким образом и выходит, что
участь одного зависит от участи всех. И наобо
рот, когда отдельная личность вполне расчетливо
пользуется своими собственными способностями,
тогда она неизбежно, сама того не сознавая, уве
личивает сумму общечеловеческого благосостоя
ния. Если бы эта личность сознавала значение
своей деятельности для общего блага, то ей всетаки не было бы надобности изменять в своей
деятельности какую бы то ни было мелочную по
дробность. Вполне расчетливый эгоизм совершен
но совпадает с результатами самого сознательно
го человеколюбия. Но, сознавая важное и высо
кое значение своего личного труда, видя в этом
труде свою неразрывную связь с миллионами дру
гих мыслящих существ, трудящаяся личность еще
сильнее привязывается к своей деятельности, еще
смелее развертывает свои способности и, ясно по
нимая . законность своих стремлений, становится
более счастливой, то есть более независимой от
тех тяжелых ощущений, которые порождаются
мелкими неудачами. Я не ошибаюсь в общем на
правлении моей жизни, "думает такая личность, я
повинуюсь основному закону природы. Если мне
приходится пережить кое-какие неприятности, то
я все-таки знаю, что я из многих зол выбираю
меньшее. Если я пойду в разрез с естественным
законам, если я уклонюсь от него в сторону, тов общем результате жизнь моя пойдет еще хуже.
Эстетики вообще восторгаются, умиляются и человеколюбствуют гораздо чаще и шумнее, чем
реалисты, которые обыкновенно обнаруживают
упорную антипатию ко всякому порывистому эн
тузиазму. Но эстетики считают совершенно невоз
можным делом провести идею деятельной любви
во все мельчайшие поступки собственной жизни.
Для них эта идея — блестящий мундир, который
14*
-
211
можно и даже Следует надевать по табельным
дням, но который, при всей своей красоте, пре
вратится в орудие пытки, если вы станете таскать
его каждый день, с раннего утра до поздней но
чи. Когда им говорят, что это даже не мундир, а
очень просторное домашнее пальто, то они этому
решительно не верят, а людей, высказывающих
подобные мысли, называют или фантазерами, или
лицемерами. Помилуйте, — вопиют эстетики, — эти
сухие, черствые люди, эти угловатые фигуры, тол
кующие постоянно о выгоде и убытке, хотят уве
рить нас, что им удалось решить такую задачу
общечеловеческой любви, которая оказалась не
по силам даже нам, людям мягким, нежным и вы
соко развитым в деле понимания самых изящных
сторон природы и человеческой души. Не есть ли
это с их стороны дерзкая и возмутительная ложь?
Конечно, если бы реалисты к каждому своему
шагу приплетали высокие рассуждения о челове
колюбии и глубокие вздохи о человеческих стра
даниях, то это было бы и глупо, и скучно, и, на
конец, сделалось бы невыносимым как для самого
реалиста, так и для всех его знакомых. Но идея
любви проводится в жизнь гораздо проще и гооаздо действительнее. К этой высшей идее реа
лист обращается чрезвычайно редко. Обыкновен
но он имеет дело только с ее практическими вы
водами и частными приложениями. Доживши до
тех лет, когда приходится выбирать себе опреде
ленный род занятий, молодо,?! человек, неиспор
ченный богатством и барственной ленью, начинает
всматриваться в свои способности и делает по
пытки по разным направлениям до тех пор, пока
не'отыщет себе такой труд, который ему приятен
и который притом может его прокормить. Рас
сматривая различные сферы занятий, молодой че
ловек, сколько-нибудь способный размышлять, не
пременно ставит себе некоторые вопросы, на ко212
торые ему необходимо получить от себя ответы.
Не бесчестно ли это занятие, то есть не вредит ли
оно естественным интересам большинства? Не по
действует ли оно подавляющим образом на мои
умственные способности? Обеспечит ли оно мою
нравственную самостоятельность, то есть, буду ли
я моим трудом удовлетворять действительным по
требностям общества? Чтобы поставить и решить
в ту или другую сторону несколько подобных во
просов, не надо быть ни гениальным мыслителем,
ни героем или фанатиком человеколюбия. Надо
просто быть неглупым человеком и получить в ка
ком-нибудь университете довольно ясное понятие
о том, что такое общество и что такое умствен
ный труд.
Конечно, выбирая то или другое поприще, надо
взглянуть на дело широко и серьезно, надо обра
титься к высшей руководящей идее, и ей надо без
условно подчинить разные второстепенные со
ображения, которые обыкновенно называются
практическими, а на самом деле всегда оказыва
ются ложными и близорукими. Если, например,
лет пять тому назад молодому человеку, вышед
шему из университета, предложили бы в ы г о д
н о е место по откупам, то, разумеется, он, во имя
идеи, обязан был безусловно отказаться от этого
места, несмотря ни на какие выгоды. Идея тре
бует от него этой жертвы: но нам стоит только
взглянуть внимательно на дело, чтобы немедленно
убедиться в том, что тут жертва чисто внешняя и
что требования высшей идеи здесь, как и везде,
совпадают вполне с внушениями эгоистического
расчета. Молодой человек стоит на распутье: на
право— дорога в откуп; налево — грошовые уро
ки и неизвестное будущее. Если бы какой-нибудь
волшебник мог показать ему его самого, каким он
будет лет через пятнадцать, пошедши направо, и
потом опять-таки его самого, пошедшего налево-.'
С
213
и пережившего Такой же промежуток времени, то,
конечно, молодому человеку захотелось бы вы
брать тот путь, который приводит к наиболее бла
гообразному результату. Я не думаю, чтобы мо
лодому человеку понравилась та личность, кото
рую он увидел бы в первом случае. Жизнь в брю
хо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушие ко
всяким высшим интересам, извращение умствен
ных способностей, тупая и боязливая ненависть
ко всему, что может нарушить выгодное спокой
ствие мутного болота, резкий разрыв с чест
ными университетскими товарищами, — словом,
все признаки безнадежного падения — результат
непривлекательный! К этому результату п р и х о
д я т тем или другим путем многие пламенные
юноши, но и д у т они не к этому результату, и
если бы они могли видеть его заранее, то из этих
многих почти все повернули бы куда-нибудь в дру
гую сторону. Значит, тут происходит ошибка
в расчете, и от таких ошибок, неизбежных при
нашей юношеской неопытности и самонадеянно
сти, нас всего лучше может предохранить та ка
жущаяся жертва, которую мы приносим требова
ниям высшей идеи.
Очень многие отрасли труда находятся в пол
ном согласии с самыми строгими требованиями
идеи. Которую же из этих отраслей должен вы
брать себе молодой человек? И здесь интересы
общества сходятся с интересами личности. Пусть
молодой человек выбирает себе то, что ему всего
приятнее. Тогда, и именно только тогда, он, на
слаждаясь процессом своего труда, принесет об
ществу такое количество пользы, которое вполне
соответствует размерам его личных способностей.
Положим теперь, что требования идеи соблю
дены, деятельность молодого человека вошла
в свою ровную колею и, удовлетворяя его умстге; явным потребностям, с каждым годом становится
214
.
более драгоценной и необходимой частью его су
ществования. Каждый неглупый человек может
найти себе такую деятельность; а как только
жизнь наполнена осмысленным трудом, так за
дача может считаться решенной: идея общечело
веческой любви проведена во все поступки жизни.
Ваш труд полезен, вы его любите, вы посвящаете
ему все ваши силы, вы ни за что не согласитесь
делать его кое-как, вы готовы бороться с затруд
нениями и переносить неприятности, чтобы дове
сти его до возможной степени совершенства, вы
понимаете и стараетесь расширить практическое
значение вашей работы — кажется, этого до
вольно, и, кажется, вы, поступая таким образом,
ни на одну минуту не забываете вашей солидар
ности с остальными людьми и ни одним вашим
движением не уклоняетесь в сторону от самых
неумолимых требований высшей идеи.
Итоги всех этих рассуждений можно подвести
так: эстетик — великодушный барин, способный,
в минуту героического порыва, бросить бедному
человечеству даже трехрублевую бумажку, кото
рая немного позднее, вместе со всеми остальными
деньгами и симпатиями этого Дарина, непременно
полетела бы в руки поющей цыганки; а реалист —
расчетливый акционер, пустивший в оборот все
свое состояние и всеми силами служащий делу
компании, для увеличения собственного дивиден
да. Иной акционер, ради собственной поживы,
вздумает, пожалуй, обокрасть компанию, но ведь
это расчет не столько верный, сколько отважный.
На таких изобретательных акционеров есть уго
ловный суд, а на мошенников в общем деле че
ловечества — презрение честных людей, над кото
рым не во всякое время можно смеяться безнака
занно. Поверхностному наблюдателю эстетик мо
жет показаться симпатичнее реалиста, потому что
реалист понятен только тому, кто разглядит об215
щее направление его поступков и разгадает выс
шее значение идеи, составляющей внутренний
смысл его существования. А эстетик весь как на
ладони, и внутреннего смысла в его жизни вы не
найдете.
-
XVII
Реалист — мыслящий работник, с любовью за
нимающийся трудом. Из этого определения чита
тель видит ясно, что реалистами могут быть в на
стоящее время только представители умственного
труда. Конечно, труд тех людей, которые кормят
и одевают нас, в высшей степени полезен, но эти
люди совсем не реалисты. При теперешнем устрой
стве материального труда, при теперешнем поло
жении чернорабочего класса во всем образован
ном мире, эти люди не что иное, как машины, от
личающиеся от деревянных и железных машин
невыгодными способностями чувствовать утомле
ние, голод и боль. В настоящее время эти люди
совершенно справедливо ненавидят свой труд и
совсем не занимаются размышлениями; Они со
ставляют пассивный материал, над которым дру
зьям человечества приходится много работать, но
который сам помогает им очень мало и не при
нимает до сих пор никакой определенной формы.
Это — туманное пятно, из которого выработаются
новые миры, но о котором до сих пор решитель
но нечего говорить^ Заниматься с любовью мате
риальным трудом — это в настоящее время почти
немыслимо, а в России, при наших допотопных
приемах и орудиях работы,, еще более немыслимо,
чем во всяком другом цивилизованном обществе.
Таким образом, самый реальный труд, принося
щий самую осязательную и неоспоримую пользу,
остается вне области реализма, вне области прак
тического разума, в тех подвалах общественного
216
’
здания, куда не проникает ни один луч общечело
веческой мысли. Что ж нам делать с этими под
валами? Покуда приходится оставить их в покое
и обратиться к явлениям умственного труда, ко
торый только в том случае может считаться поз
волительным и полезным, когда, прямо или кос
венно, клонится к дозиданию новых миров из
первобытного тумана, наполняющего грязные под
валы.
Из всех реалистов только одни естествоиспыта
тели, раздвигающие пределы науки новыми от
крытиями, работают для человечества в о о б щ е ,
без отношения к отдельным национальностям и
к различным условиям места и времени. Осталь
ные реалисты работают также для человечества,
но задачи и приемы их деятельности должны из
меняться сообразно с обстоятельствами и приспо
собляться к потребностям отдельных человече
ских обществ. Местные и временные условия на
шей русской жизни заявляют свои определенные
требования, и русский реалист не может оставлять
их без внимания. Этим требованиям он непремен
но должен '•подчинить свою деятельность, если
только он не посвятил себя исключительно изу
чению природы.
Мне кажется, влияние наших местных обстоя
тельств выражается преимущественно в тОм, что
отдельные направления реалистического труда до
сих пор не выяснились и не определились. Наша
мысль только что пробуждается в немногих голо>вах; в деле умственного труда одному и тому же
человеку приходится сплошь и рядом и землю
пахать, и сапоги шить, и пироги печь^и дрова ко
лоть. Рациональное разделение труда до сих пор
еще невозможно; взяться основательно за специ
альную задачу — значит уйти далеко вперед от
понимания общества, сузить, без малейшей поль
зы, сферу своего влияния и не встретить в сооте^
217
чественниках ничего, кроме равнодушия и недо
умения. За какое бы общеполезное предприятие
вы ни взялись, вам во всяком случае придется
вить веревку из песку, то есть собирать и склеи
вать искусственными средствами такие рассыпаю
щиеся частицы, которые не имеют, не хотят и не
могут иметь ни малейшей связи ни между собой,
ни с вашей идеей. Каждого соотечественника при
дется уговаривать поодиночке и каждого придет
ся при этом удобном случае обучать тем элемен
тарным истинам, которые человек непременно дол
жен знать для того, чтобы иметь какое-нибудь
мнение о вашем предприятии. Это значит, вам ну
жен строевой лес, а под руками у вас мера же
лудей; конечно, если положить эти жолуди в зем
лю, то лес вырастет, но, рассчитывая на этот лес,
подряжать плотников — это было бы с вашей сто
роны опрометчиво. А кстати подряжать-то не
кого, потому что плотники, подобно строевому
лесу, также находятся в зачаточном состоянии.
Как же тут прикажете поступить мыслящему реали
сту? Если он придет в уныние и опустит руки, то
он очень скоро сделается жирным филистером,
и его уныние перейдет в хроническую улыбку ту
пого самел^евольства. Если он будет суетиться и
метаться из угла в угол, не требуя от своих уси
лий осязательного результата и не задавая себе
даже вопроса о том, возможен ли такой резуль
тат, то он окажется Репетиловым или трудящейся
мартышкой. В том и в другом случае он переста
нет быть реалистом; горизонт его мысли быстро
сузится-, и вся личность его завянет и сморщится,
потому что и бездействие, и бессмысленная суетня
действуют на человека самым опошляющим обра
зом.
Чтобы подкреплять и возвышать человеческую
личность, умственный труд непременно должен
быть полезным, то есть он не только должен быть
'218
направлен к известной разумной цели, но он, кро
ме того, должен достигать этой цели. Реалист
не может успокоить себя той отговоркой, что я,
мол, исполнил свой долг, старался, говорил, убе
ждал, а если не послушали, так, стало быть, и не
чего делать. Такие отговорки полезны только для
эстетика, для дилетанта умственной работы, для
человека, которому надо во что бы то ни стало
получить от самого себя квитанцию в исправ
ном платеже какого-то невещественного долга.
А в глазах реалиста такая квитанция не имеет ни
какого смысла; для него труд есть необходимое
орудие самосохранения, необходимое лекарство
против заразительной пошлости; он ищет себе по
лезного труда с тем неутомимым упорством, с ка
ким голодное животное ищет себе добычи; он
ищет и находит, потому что нет таких условий
жизни, при которых полезный умственный труд
был бы решительно невозможным. Реалист убе
ждается в том, что нам прежде всего необходимы
знания. Это — великая истина, превратившаяся
даже в избитую фразу, благодаря тем мудрецам,
которые, произнося всевозможное слова, не по
няли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реа-'
лист не останавливается на голой фразе .а немед
ленно выводит из основной идеи все ее практи
ческие последствия. Общество нуждается в зна
ниях, но оно само почти не сознает и не чув
ствует, до какой степени оно бедно в умственном
отношении и до какой степени эта умственная
бедность мучительно отзывается во всех потреб
ностях его вседневной жизни. Завалите такое
общество превосходнейшими учебниками, пере
ведите для него все лучшие научные сочинения
величайших европейских мыслителей — и все это
принесет ему очень мало пользы. Обставьте боль
ного всевозможными микстурами и декоктами —
и он все-таки не выздоровеет, если не будет прини219
мать ваших лекарств и не захочет исполнять ваши
гигиенические предписания. Когда больной счи
тает себя здоровым, тогда ему прежде всего необ
ходимо доказать, что он жестоко ошибается.
Именно таким образом следует поступить и с на
шим обществом. Оно не только мало размышляет,
но оно даже не имеет никакого понятия о том, что
такое деятельность мысли. Лексикон мудреных
слов, целые сборники готовых изречений, целые
библиотеки игрушечных произведений праздной
фантазии, — вот весь умственный капитал, обра
щающийся в нашем обществе, и обладание та
кими сокровищами во всех отношениях должно
считаться более тягостным бедствием, чем самая
голая умственная нищета. Мы из каждой дельной
мысли выхватываем только ее формальное выра
жение и к обширному сборнику наших затвержен
ных изречений прибавляем таким образом еще но
вую фразу, из которой улетучивается весь ее
жизненный смысл.
Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных
и растениях, о физических и химических законах,
о свойствах воды, воздуха, металлов и различ
ных составных частей почвы? — Ровно никако
го. — Зндем ли мы что-нибудь о жизни европей
ских обществ? — Совсем ничего. — Понимаем ли
мы их историю? — Нисколько. — Известно ли нам
положение России? — Решительно неизвестно.—
И в то же время, при этом круглом невежестве,
мы всё знаем, мы знаем ужасно много, мы всё чи
таем и обо всем пишем. Мы знаем, что есть теле
скоп, микроскоп, химический анализ, жирафа,
Александр Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия,
кокосовые орехи, эмбриология, коралловые рифы
и многие другие естественные произведения, ин
тересные с той или с другой стороны для иссле
дователей природы. Познания наши по части евро
пейской политики еще более обширны и разнооб220
разны. Мы знаем, что в английском парламенте
сидит мистер Геннеси; что Гарибальди сначала
подстрелили при Аспро-Монте, а потом вылечили
и простили; что Виктор Гюго живет в Брюсселе
и написал новый роман «Les Miserables»15; что
черногорцы — наши братья и дерутся с турками;,
что фабриканты, машинисты и работники сово
купными силами создали чудеса новейшей про
мышленности, но что, к сожалению, тут появился
антагонизм сословий, народился пауперизм, а по
том явились коммунисты и социалисты, которые
еще более перепутали дело; всего же основатель
нее мы знаем, по рассказам наших путешество
вавших соотечественников, что поезда и дебарка
деры железных дорог устроены удобно, что ло
ретки— женщины пикантные, и«рулетка— препро
вождение времени очаровательное, но во многих
отношениях изнурительное.
Мы, как видите, знаем чрезвычайно много; вся
кие собственные имена, всякие специальные слова
и технические выражения — все это нам допо
длинно известно. Не знаем мы только безделицы,—
не знаем тех живых явлений, которые обознача
ются этими словами, и не знаем, кроме того, ка
ким образом^эти неизвестные нам явления свя
зываются одно с другим. Мы скажем вам, напри
мер, что пауперизм — значит бедность, но каковы
размеры этого явления, в каких формах оно вы
ражается, откуда оно произошло, почему оно
в одной стране развилось сильнее, чем в дру
гой, — этого мы не знаем, и мы бы даже очень
удивились, если бы кто-нибудь заподозрил нас
в способности когда-нибудь задать себе такие во
просы и узнать такие запутанные истории. — Что
такое Литва? — спрашивает один из обывателей
города Калинрва в драме «Гроза». — А эта Литва
к нам с неба свалилась, — отвечает другой, и лю
бознательность первого гражданина немедленно
221
удовлетворяется этим ответом. — Литва — это на
род такой, — ответит себе образованный человек
и также удовлетворится. А ведь в сущности
узнать, что неизвестный мне народ называется
Литвой, а не Капустой и не Самоваром, — это
значит только прибавить к своему лексикону но
вое двусложное слово.
И точно такое же значение имеет каждый го
лый факт, вырванный из общей картины жизни и
поднесенный невзыскательному читателю затей
ливым составителем журнального или газетного
обозрения. А так как наша публика, кроме таких
голых реляций, не получает от своих обыкновен
ных просветителей решительно ничего и так как
она даже не знает, чего бы она могла от них по
требовать, так как она читает от нечего делать и
даже не обращает внимания на свою полную ум
ственную пассивность, то реалист, пристально
вглядевшись в эти специально российские отноше
ния между писателями и читателями, говорит ре
шительно и просто, что общество не знает ровно
ничего и не умеет даже отличить живую деятель
ность мысли от бессознательной игры слов и обо
ротов. Но реалист должен не толькс^высказать та
кое суждение, а еще, кроме того,' доказать его
строгую верность и сделать так^чтобы общество
увидело и почувствовало справедливость его слов.
На чем же спят наши соотечественники или,
выражаясь яснее, что их утешает и успокаивает,
что маскирует пустоту их жизни и избавляет их
от необходимости умирать со скуки или занимать
ся полезной работой? Водка, табак, карты, ры
саки, донжуанство, гончие собаки — все это пред
меты, играющие самые почетные роли в жизни
нашего общества, и против них, конечно, совре
менный реализм бессилен. Эти тюфяки будут ото
двинуты в сторону только тогда, когда реализм
войдет в действительную жизнь, то есть коУда
,222
.
реалистов будет уже очень много и когда обще
ство, вследствие их влияния, начнет в самом деле
проникаться тем сознанием, что трудиться гораздо
полезнее и приятнее, чем искать сильных ощу
щений в игре, в пьянстве или в псовой охоте. Эти
времена лежат еще далеко впереди, и поэтому
реалист не должен в настоящее время тратить
свою энергию на бесплодные проповеди. Реалист
должен думать только о тех людях, которые могут
проснуться и превратиться в реалистов. Такие
люди в нашем обществе существуют. Чтение со
ставляет для них действительную потребность, и
они читают много и, несмотря на то, все-таки
спят. Эти любители умеют читать даже серьезные
статьи и понимают в них каждое слово (напри
мер: пауперизм— бедность, ботаника — наука о ра
стениях, Либих — немецкий химик). Но так как
настоящие задушевные симпатии этих людей
влекут к беллетристике и к поэзии, то они и серь
езные статьи и книги читают, как повести и как
поэмы. Они говорят для собственного назида
ния, что серьезные вещи читать полезно, и они
даже всякий раз, одолевши что-нибудь серьезное,
утешают себя тем приятным размышлением, что
они исполнили священный долг и что теперь,
успокоив свою требовательную совесть, можно
побаловать свою грешную душу романчиком или
стишками. Но при всем том, далее исполняя свя
щенный долг, они ищут во всяком серьезном чте
нии все той же, любезной им, беллетристической
занимательности. Когда же они этого сладкого ин
гредиента не находят, тогда они стараются толь
ко как молено скорее прожевать и проглотить су
хую материю, для того чтобы умиротворить свою
совесть. Надо отдать им справедливость, что со
весть их очень требовательна: она все шепчет им
самым озлобленным топотом: «Следи же за ве223
ком! Читай же дельные книги! Будь же мыслящим
существом!»
И, повинуясь этому повелительному голосу, спя
щие читатели совершают чудеск храбрости. Чи
тать серьезные сочинения без общего плана, узна
вать отдельные подробности, не видя в них об
щего смысла, проводить через свою голову чужие
мысли, не имея понятия о живых явлениях, по
родивших эти идеи, напрягать свое внимание, не
отыскивая никакого ответа на вопросы и сомнения
своей собственной жизни и мысли, — это занятие
умственно скучное. Это — все равно, что читать
лексикон или приходо-расходную книгу совер
шенно неизвестного вам человека. И что выходит
из этого чтения? Запоминаются слова и факты,
но в тех мыслях, которые управляют жизнью са
мого читателя, не происходит ни малейшего пере
движения. Наши русские читатели даже твердо
убеждены в том, что между книгой и жизнью не
может быть никакого взаимного действия. И все
это оттого, что они выучились читать и полюбили
чтение исключительно по романам и поэмам.
У них установился взгляд на чтение, как на4 пре
провождение времени, то есть как на средство
убить в р е м я , потому что время, это драгоцен
нейшее достояние мыслящего человека, есть
смертный враг наших соотечественников, — враг,
которого следует гнать и истреблять всеми воз
можными орудиями, начиная от желудочной
водки и кончая статьями «Русского вестника».
Чтение наших соотечественников не имеет цели;
русский человек ничего не ищет в книге, ни о чем
не спрашивает, ни к чему не желает притти. Он
просто хочет, чтобы писатель повеселил его душу.
Если писатель веселит его утонченными ощу
щениями и если увеселяемый читатель понимает
все утонченности, то он считает себя развитым
человеком и, любуясь на свою развитость, назы224
вает тонкого увеселителя великим гением, и, вме
няя себе в заслугу то, что он их понимает, рус
ский читатель вносит и во всякое дельное чтение
те приемы мышления, которые он приобрел
в обществе тонких увеселителей. Хоть русский чи
татель и уверяет себя, что чон читает серьезные
книги д л я п о л ь з ы , но ведь это только так
говорится. О наттоящей пользе он и понятия не
имеет. Слово п о л ь з а не вызывает в его уме
никакого определенного представления, и в общем
результате всякое чтение, зсе-таки, приводит за
собой только истребление времени; а запоми
нается из прочитанной книги и нравится в ней
исключительно то, что повеселило душу.
Если бы безобразие и пошлость такого занятия
выступили перед пониманием читателя во всей
своей отвратительной наготе, то ему. сделалось
бы очень совестно. Он встревожился бы и стал бы
искать чего-нибудь менее нелепого. Он именно
попал бы с постели на пол и открыл бы свои отя
желевшие очи. К этой цели и направляются уси
лия наших реалистов; сделать так, чтобы русский
человек, собирающийся вздремнуть или помеч
тать, постоянно слышал в ушах своих звуки рез
кого смеха, сделать так, чтобы русский человек
сам принужден был смеяться над своими возве
личенными пигмеями, — это одна из самых важ
ных задач современного реализма. -— Вам нра
вится Пушкин? — Извольте, полюбуйтесь на ва
шего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демоном»
Лермонтова? — Посмотрите, что это за бессмыс
лица.— Вы благоговеете перед Гегелем?—-Попро
буйте сначала понять его изречения. — Вам хо
чется уснуть под сенью «общих авторитетов поэ
зии и философйи»? — Докажите сначала, что эти
1авторитеты существуют и на что-нибудь годят |ся. — Вот как надо поступать с русским челове
к о м . Не давайте ему уснуть, как бы он ни заку15 Я . И. Пп-ярев
225
тывал себе голову теплыми иллюзиями и темными
фразами.
Реалисты наши так и делают: они смеются, и
их звонкий смех прорезывает такие туманы, ко
торые не поддаются серьезной аргументации. Рус
ские писатели смеются уже давно, но смех сати
риков наших, от Капниста до г. Щедрина, тра
тился постоянно на такие явления, которые на
сатиру не обращают никакого внимания. Искоре
нять сатирой взяточничество — что может быть
невиннее и бесплоднее этого занятия? Реалисты,
конечно, неспособны тратить свой смех на такие
упражнения. Они очень хорошо понимают, что
взятка никогда не будет казаться смешной тому
человеку, которого она кормит и одевает. Если
идеи и чувства лириков, эстетиков, романтиков,
педантов, фразеров сделаются смешными для об
щества, то общество перестанет ими увлекаться
и направит свои симпатии в другую сторону. Ре
зультат получится осязательный, и я смею ду
мать, что таким образом решится очень серьез
ная задача, потому что в настоящее время всего
необходимее превращать чувствительных тунеяд
цев 1з мыслящих работников.
XVIII
Начал я с общечеловеческой солидарности, а
кончил тем практическим заключением, что нам,
русским реалистам, можно только осмеивать по
тихоньку наши мелкие глупости и' медленно учить
ся вместе с нашей ленивой публикой самым эле
ментарным истинам строгой науки. Какое торже
ственное начало и какой мизерный конец! Гора
мышь родила, подумает читатель, и я никак не
осмелюсь ему противоречить. Я уже говорил
в первой части этой статьи, что мы бедны и глу
пы; теперь нам пришлось убедиться в том, что
226
наша бедность и наша глупость доходят действи
тельно до самых почтенных размеров, — до таких
размеров, что глупость мешает нам понимать
пользу необходимого лекарства, а бедность ме
шает нам приобрести зараз достаточную дозу
этого лекарства. Вследствие этого и приходится
употреблять это лекарство самым поверхностным
образом и в самых микроскопических приемах.
Великая и плодотворная идея должна пристроить
ся к самому мелкому практическому применению,
и только при этом условии она может с грехом
пополам проникнуть в сознание лучшего мень
шинства нашей читающей публики.
В этом печальном обстоятельстве не виноваты,
разумеется, ни основные особенности'реалисти
ческой идеи, ни личные свойства наших реали
стов. Представьте себе, что вы превосходно изу
чили рациональную агрономию и что вам прихо
дится прикладывать ваши знания к обыкновен
ному мужицкому хозяйству, и всего оборотного
капитала у вас рублей сорок или пятьдесят. Если
вы не пустой фантазер, то вы, разумеется, оста
вите -покуда в стороне всякие помыслы о паро
вых плугах, о молотилках, об искусственном тра
восеянии и о химическом анализе почвы. Вы огра
ничитесь тем, что на первый год купите, напри
мер, железную борону и для удобрения — корову.
Значит, и здесь гора мышь родила, но ведь это
обстоятельство нисколько не доказывает, что при
ложение химии к земледелию — чепуха или что
вы сами ничему не выучились. Ничуть не бывало.
Если вы одарены ясным практическим умом и
твердым, характером, если вы способны ровным
шагом итти к далекой цели, не спуская с нее глаз
ни на одну минуту и постоянно соразмеряя ваши
собственные силы с тем расстоянием, которое вы
должны пройти, то вы шепременно докажете на
деле вашим деревенским соседям, что рациональ- 15*
227
ная агрономия — не пустяки и что вы сами не
даром потратили время на ее изучение. За боро
ной и коровой будут следовать ежегодно новые
улучшения, которые, постоянно увеличивая ваш
доход, постоянно будут расширять круг вашей
преобразовательной деятельности. Каждое новое'
улучшение будет вытекать из прошлогоднего, и
таким образом корова и борона сделаются фун
даментом всего вашего последующего благосо
стояния. Если бы корова и борона остались без
дальнейших последствий, то, конечно, можно
было бы сказать, что гора родила мышь; но ведь
тут дело идет, как говорят французы, de fil en
aiguille *, стало быть, гора родит целую цепь
явлений, которые могут вылезти из горы не ина
че, как одно за другим.
Я хотел говорить о русском реализме и свел
разговор на отрицательное направление в русской'
литературе. Читатель может подумать, что я де
лал это по цеховому самолюбию, по пристрастию
к моему муравейнику и к моим собственным му
равьиным занятиям. В этом случае читатель' ре
шительно ошибется. Я с самым напряженным вни
манием отыскивал- в общественных явлениях на
шей вседневной жизни каких-нибудь признаков
здорового реализма и не нашел в них ничего по
хожего не только на реализм, но даже на какоенибудь сознательное движение мысли. Ведь в са
мом деле, только в одной литературе и проявля
лось до сих пор хоть что-нибудь самостоятельное
и деятельное. Гоголь, Белинский, Добролюбов —
вот вам в трех именах полный отчет о всей нашей
умственной жизни за целое тридцатилетие; к этим
именам можно было бы прибавить еще два-три
имени,, но и эти последние также принадлежат
к литературе и по направлению своей деятельно
* Перевод:
228
Мало-по-малу. Ред.
сти примыкают или к Белинскому, или к Добро
любову.
А где же наши исследователи, где наши прак
тические работники? Были, есть и будут и те и
другие. Г-н Соловьев, г. Срезневский, г. Бодян
ский, г. Буслаев — вот какие громкие имена мы
можем выдвинуть в параллель немецким именам:
Либих, Дюбуа-Реймон, Фохт, Гельмгольц, или
французским: Клод Бернар, де Кандоль, Эли де
Бомон, Мильн-Здзардс, или английским: Дарвин,
Ляйель, Форбес, Бокль. Что же касается до прак
тических работников, то их незачем и пересчиты
вать.
Некоторые н а с т о я щ и е исследователи, при
носящие д е й с т в и т е л ь н у ю пользу общече
ловеческой науке, живут, правда, в русских горо
дах и даже иногда носят русские фамилии, но их
труды остаются для нашего общества мертвым и
даже неизвестным капиталом. Наш академик Карл
Эрнст фон Бэр считается во всей Европе одним
из величайших эмбриологов нашего времени. Дар
вин, Карл Фохт, Гекели всегда цитируют его мне
ния с особенным уважением. Льюис в своей «Фи
зиологии обыденной жизни» ссылается на иссле
дования Овсянникова о спинном мозге и Якубо
вича — о нервных клеточках. Французский уче
ный Беклар упоминает в своей «Физиологии»
о некоторых экспериментальных работах Боткина
и Сеченова. Ну, а мы? Мы, я чай, и понятия не
имеем о том, что у нас могут существовать такие
люди, которые в самом деле не шутя занимаются
эмбриологией, нервными клеточками и физиоло
гическими опытами. Мы узнаем об этих людях из
иностранных книг и чувствуем себя польщенны
ми, точно будто мы сами не спим, а занимаемся
делом,-И вдруг, узнавши таким случайным обра
зом о подвигах русских людей, какой-нибудь мы
слитель из «Сына отечества» или из «Северной
229'
пчелы» вламывается в амбицию и заявляет жалоб
ным голосом свою патриотическую претензию:
«На что же, мол, это похоже? В России есть умные
люди, а я, русский мыслитель и образованный че
ловек, об этом ничего не знаю. Как же вам не
грех так поступать, родимые специалисты?-Зачем
же вы пишете по-латыни или по-немецки? Вы
должны писать по-русски, тогда бы я вас знал и
мне было бы приятно, а русское общество полу
чило бы от вас назидание и пользу. Смотрите же,
родимые специалисты, непременно пишите порусски».
Такие жалобы и такие увещания слышатся очень
часто, и читатель им обыкновенно сочувствует тем
дряблым и ни на что не годным сочувствием, ко
торым мы вообще чрезвычайно богаты и кото
рое никогда не может повести нас дальше какихнибудь обедов по подписке или спектаклей с бла
готворительными предлогами. Но эти жалобы и
увещания так же пусты и праздны, как и боль
шая часть тех мыслей, с которыми сочувственно
соглашаются русские читатели. Какая бы в самом
деле вышла польза, если бы Овсянников написал
свое исследование по-русски? Пользы — никакой,
а вред очевидный: ведь Льюис не стал бы учиться
русскому языку ради одной диссертации о спин
ном мозге; ну, стало быть, у Льюиса одним по
лезным пособием было бы меньше, а мыслитель
«Сына отечества» или «Северной пчелы» все-таки
не прочел бы диссертации родимого специалиста;
а если бы и прочел, то ничего бы из нее не по
нял и не извлек, потому что выучиться немецкому
или латинскому языку гораздо ^егче, чем понять
специально ученый труд, написанный даже порусски. Если бы мыслитель был способен зани
маться серьезным делом, то немецкий или латип:кий язык не составил бы для него непреодоли
мого препятствия. А если он, от лица публшдй,
230.
-
,
жалуется на трудность иностранного языка, то он
еще пуще того будет жаловаться на непонятность
научного изложения. Ему что надо? Ему надо, что
бы Бэр явился перед русской публикой и сказал
ей с подобающей любезностью: «Честь имею ре
комендоваться: я — Карл Эрнст фон Бэр. Я зани
маюсь эмбриологией. Эмбрйология есть наука
о развитии живых существ. Эта наука составляет
часть естествознания, а естествознание — вещь
очень полезная вот почему, и вот почему. Я сде
лал несколько новых открытий, и объясню вам
значение этих открытий, применяясь-- к вашему
убогому пониманию и стараясь растолковать вам
самые элементарные истины, известные каждому
немецкому школьнику, но совершенно новые для
мыслителей наших газет и журналов».
Ах, как бы это было хорошо и благоразумно!
На это галантерейное расшаркивание Бэра перед
русской публикой ушло бы очень много времени,
а время Бэра очень дорого, потому что великий
натуралист мог бы употребить его на новые ис
следования. Бэр — превосходный специалист, раз
двигающий пределы науки, а мы, по нашей глу
пости, хотим, кроме того, чтобы он сделался для
нас школьным учителем; и если бы наше глупое
желание исполнилось, то одним великим исследо
вателем сделалось бы меньше и одним плохим пи
сателем больше.
И такие же требования, вместе с такими же не
лепыми упреками, сыплются на наших остальных
дельных специалистов. Эти требования и упреки
очень поучительны, потому что в них выражается
самым наивным образом изумительная пассив
ность наших умственных привычек. Чуть только
появится у нас какой-нибудь дельный человек, мы
сейчас норовим пристроиться к нему под кры
лышко.' Мы уже , ждем от него какой-то манны не
бесной, и нам даже в голову не приходит та
231
мысль, что нам следует быть деятельными по
мощниками, а не убогими приживалками этого
полезного человека. Мы говорим дельному чело
веку: благодетель, отец родной! Просвети нас,
научи нас, наставь на путь истины! Мы тебя бу
дем слушать и век за тебя будем бога молить.
Написано, например, дельное научное сочине
ние, открывающее какие-нибудь новые истины.
Значит, нашелся в обществе мыслящий^ человек,
который сделал свое дело как следует."Если об
щество живет полной и здоровой жизнью, то
этот утешительный факт никак не останется оди
ноким и -случайным явлением: немедленно най
дется другой дельный человек, который объяснит
открытие первого, потом какой-нибудь третий че
ловек придумает для этих открытий практиче
ское применение — словом, дело исследователя
будет проведено в сознание и в жизнь общества
разными популяризаторами и техниками. А у нас,
напротив того, десятки людей будут жаловаться
на то, что исследователь пишет неясно, и ни один
из этих ноющих десятков не потрудится разъяс
нить и переработать собственными силами то, что
он находит неудовлетворительным. Да он и не на
ходит ничего неудовлетворительным; он просто
хочет сидеть на одном месте, сибаритствовать, за
ниматься приятным чтением и, отдавшись без
условно в руки, специалиста, приобретать от него
знания без малейшего напряжения мысли.
При такой полной пассивности нашего общества
русские специалисты поставлены в необходимость
писать свои исследования на- иностранных языках,
Это даже выгодно для нашего общества, не го
воря уже об интересах общечеловеческой науки.
Положим, например, что доктор Боткин произвел
какие-нибудь новые исследования над лечением
нервных болезней. Напечатай он эти исследования
на русском языке, они точно в воду канут. Но как
232
только они попадутся в руки европейских ученых,
как тотчас сотни деятельных умов дополнят и пере
работают их своими собственными наблюде
ниями, и открытие нашего доктора вернется к нам
в Россию в усовершенствованном виде, и больные
наши испытают на собственном теле благодетель
ные последствия того факта, что русский ученый
написал свое исследование на немецком языке.
Если бы умственная жизнь нашего общества отли
чалась силой и энергией, тогда специалисты наши
писали бы по-русски, тогда у нас было бы много
специалистов, и тогда европейские ученые нахо
дили бы для себя полезным учиться русскому
языку, подобно тому, как они в настоящее время
учатся английскому, французскому и немецкому.
Специалиста с непобедимой силой притягивает та
сфера, в которой его специальный труд будет все
го лучше понят и оценен и в которой он, следо
вательно, произведет самое плодотворное и жи
вительное впечатление. И специалист поступает
совершенно благоразумно й добросовестно, под
чиняясь безусловно действию этой притягатель
ной силы.
Мы даже не имеем никакого права говорить,
что русские ученые не думают о потребностях рус
ского общества. Какие русские ученые? Русские
ученые не существуют. Разве же те ученые, ко
торых мы называем русскими, порождены ум
ственным движением и умственными потребностя
ми нашего общества? Ничуть не бывало. Мы даже
до сих пор не имеем понятия о том, что такое
умственное движение или умственная потребность.
Все это я говорю не для того, чтобы обидеть та
ких специалистов, как Бэр, Овсянников, Якубович
и другие, а только для того, чтобы доказать, что
специалисты, перевезенные из Европы в Россию
или, точнее, порожденные общеевропейским дви
жением мысли, всегда будут и должны тянуться
к своей умственной родине. Они в нашем обществе
так же одиноки, как если бы они находились в ара
вийской пустыне. Они не могут создать в обществе
умственное движение. Не специалисты создают то
или другое общественное настроение, а наоборот,
общество, настроившись так или иначе действием
общих причин, испытывает те или другие потреб
ности и выдвигает, для удовлетворения этим по
требностям, теоретических исследователей или
практических деятелей. Общество должно само
работать над своим образованием, и только оно
одно, совокупными усилиями всех своих членов,
может выполнить над собой это дело умствен
ного перерождения. А пока оно будет сидеть сло
жа руки и ждать себе манны небесной от отдель
ных личностей, до тех ггор манна к нему не сой
дет, хотя бы эти личности и были европейскими
знаменитостями, подобными Бэру.
Что европейская наука насаждена и поддержи
вается у нас искусственными средствами, это очень
хорошо, потому что"- без искусственных средств
она бы не поддержалась; но если общество ду
мает, что оно имеет какое-нибудь право контроля
над такой наукой, которая возникла и держится
помимо его содействия, то общество сильно оши
бается. Пусть оно сначала поработает, пусть вы
делит из себя научных деятелей, и тогда ему не
на что будет жаловаться: эти новые деятели, обя
занные ему своим происхождением, будут без
условно преданы его умственным интересам. Др
сих пор наше общество создало своими собствен
ными силами только одну журналистику, которая
действительно возникла, развилась и держится не
зависимо от всяких посторонних влияний. И в са
мом деле, журналистика, в лице своих даровитейших представителей, всегда служила самым до
бросовестным образом умственным потребностям
общества. Такая предварительная 4 деятельность
234
совершенно необходима. Базаров замечает совер
шенно справедливо, что все наши акционерные
компании лопаются от недостатка честных и дель
ных людей. Стало быть, надо сначала сформиро
вать честных и дельных людей, а потом уже при
ниматься за составление акционерных компаний
или за какие-нибудь другие столь же обществен
ные предприятия. К этой цели и направляются
наши реалисты, отчасти осмеивая мешающие глу
пости, отчасти распространяя научные сведения.—
Деятельность очень скромная, но мы за блеском
и не гонимся. Нам нужна польза для себя и для
всех.
'
XIX
Труд современных реалистов так лее доступен
самой слабой женщине, как и самому сильному
мужчине. В этом труде нет ничего грубого, рез
кого и воинственного. Надо только понимать и
любить общую пользу, надо распространять пра
вильные понятия об этой пользе, надо уничто
жать смешные и вредные заблуждения, и, вообще,
надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное
благосостояние не было устроено в ущерб есте
ственным интересам большинства. Надо смотреть
на жизнь.серьезно, надо внимательно вглядываться
в физиономию окружающих явлений, надо читать
и размышлять не для того, чтобы убить время,
а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд
на свои отношения к другим людям и на ту не
разрывную связь, которая существует между судь
бой каждой отдельной дичности и общим уров
нем человеческого благосостояния. Словом: н^адо
думать.
В этих двух словах выражается самая насущная,
самая неотразимая потребность нашего времени
и нашего общества. Эти слова могут показаться
фразой, но что же с этим делать? Нет того слова,
2йй
которое мы не сумели бы обессмыслить и превра
тить в пустой звук теми бесцельными и бессозна
тельными повторениями, которые наводняют нашу
литературу. А между тем, действительно, нам
надо думать, и нет другого слова, которое яснее
и проще выражало бы то, в чем мы нуждаемся
в настоящую минуту. Есть такие люди, есть такие
книги, которые выучивают нас думать. Надо, что'б
таких людей у нас было как можно больше; то
гда всякая пробуждающаяся мысль будет нахо
дить себе поддержку и здоровую пищу. Надо ду
мать и надо размножать те предметы, которые
пробуждают человеческую мысль и содействуют
успеху ее работы.
Женщина может думать и может делиться свои
ми мыслями с другими людьми, поэтому я и гово
рю, что труд современных реалистов совершенно
доступен женщине В п р и р о д е женщины нет
ничего такого, что отстраняло бы женщину от
деятельного участия в решении насущных задач
нашего времени; но в воспитании женщины, в ее
общественном положении, словом, в тех усло
виях, которые составляют и с к у с с т в е н н у ю
сторону ее теперешней жизни, в этих условиях,
говорю я, есть очень много препятствий, которые
в настоящее время преодолеваются только самыми
умными женщинами при содействии исключитель
но счастливых обстоятельств. Под именем «сча
стливых обстоятельств» я, разумеется, понимаю
не то, что понимает большинство нашего обще
ства. Счастливой называют у нас обыкновенно ту
женщину, которая богата, хороша собой, выходит
замуж по любви, веселится и блестит в свете, по
том пристраивает благополучно своих детей и,
наконец, умирает, окруженная внучатами, прижи
валками и домашними животными. По моему мне
нию, такая счастливая жизнь, проведенная в пол
ном’ спокойствии, то есть в полном подчинении
236
господствующей рутине, оставляет мысль жен
щины совершенно непробужденной. Может быть,
такая умственная дремота чрезвычайно приятна,
но я знаю наверное, что ни один человек, пробу
дившийся от подобного усыпления, не зёхочет ни
за какие блага в мире возвратиться к этому со
стоянию первобытной невинности. Поэтому я на
зываю счастливыми те обстоятельства, которые,
даже причиняя женщине тяжелые страдания, на
сильно заставляют ее браться за ум и задумываться
над теми нелепостями, которые она видит и слы
шит вокруг себя. За размышлением следует отвра
щение, а так как природа не терпит пустоты, то
женщина старается заменить в своем уме выбро
шенные нелепости каким-нибудь живым и осмыс
ленным содержанием. Если женщина в эту кри
тическую минуту своей жизни встретит умного
человека или умную . книгу, тогда она устроит
у себя в голове порядок и чистоту, и тогда, она
будет совершенно застрахована ,против тех бес
плодных восторгов, которыми увлеклась, напри
мер, госпожа Свечина. Именно такие обстоятель
ства я и называю вполне счастливыми; какой-ни
будь резкий толчок должен пробудить мысль, а
встреча с умным руководителем должна напра
вить эту мысль туда, где она может найти себе
удовлетворение, то есть реальные знания и по
лезный труд. _
Так случилось с Верой Павловной Лопуховой;
но так случается, редко, и огромное большинство
наших и даже европейских женщин проводит
свою жизнь без размышления, без знаний и без
труда. Они живут вне общих интересов человече
ства,- Они задавлены мелочами кухни, спальни и
модного магазина, подобно тому, как масса чер
норабочих задавлена физическим утомлением и
голодной нищетой. Им некогда думать; жизнь
ежеминутно задает им множество мельчайших во237
просов, которые волнуют и раздражают их, но ко
торые все могут быть разрешены без помощи раз
мышления; у них нет ни спокойствия, ни деятель
ности, а есть только бесконечная суета, которая
утомляет человека и мешает его мысли сосредо
точиться на каком-нибудь отдельном и важном
вопросе жизни. Это суетливое движение начи
нается у наших женщин с самого раннего детства.
Ты, друг мой, должна быть образованной деви
цей, говорят опытные воспитательницы маленько
му существу, одетому в короткое платье, и ма
ленькое существо по их команде суетливо ки
дается от географии к фортепьяно, от форте
пьяно — к пуническим войнам, от подвигов Аннибала и Сципиона — к шассе вправо, шассе назад,
потом'к естественной истории Горизонтова, потом
к рисованию цветов и носов, и разные лохмотья
знаний, разные упражнения по части приятных
искусств проходят, как китайские тени, через не
счастный мозг ошеломленного маленького суще
ства. И чуть только в девочке шевельнется лю
бознательность, чуть только она пожелает посмо
треть повнимательнее на одну из промелькнув
ших теней, ее тотчас останавливают, потому что
такое неестественное желание нарушает заведен
ный порядок систематической суеты. В день надо
непременно проделать семь или восемь различных
штук по части наук и искусств, стало быть, если
одна штука разрастется в ущерб остальным, то из
этого произойдет беспорядок,'’ который в благо
устроенном педагогическом хозяйстве не может
быть допущен. Кроме того, известно всем и каж
дому, что девушка прежде всего должна быть
приятной в обществе, а приятность эта заклю
чается, между прочим, в разнообразии ее талан
тов и знаний; поэтому любознательность может
быть терпима в девочке настолько, насколько она
содействует исправному изучению обязательных
238
.
уроков; когда же любознательность стремится
выйти из этих естественных границ, тогда она мо
жет повредить будущей приятности; следователь
но, она идет тогда наперекор основным тенден
циям воспитания, и ее необходимо подавлять и
искоренять мерами кротости и, в случае упорства,
мерами строгости.
Впрочем, любознательность девочки очень ред
ко вызывает против себя отпор со стороны вос
питательниц. Вся система преподавания, все объ
яснения учителей и весь комплект учебников тща
тельно подобраны таким образом, что любозна
тельность решительно не может возникнуть, и
мысли девочки постоянно стремятся вон из класс
ной комнаты, прочь от книг и уроков, к миру дей
ствительной жизни, то есть к балу, к театру,
к модному магазину и к другим очаровательным
предметам, в которых каждая благовоспитанная
девочка видит весь смысл и весь интерес жизни и
действительности. За суетой уроков в жизни де
вушки следует суета светских удовольствий, кото
рая в большей части случаев осложняется кислой
суетой домашней бедности. Поехать на бал необ
ходимо, но и пообедать тоже не мешает; нанять
карету необходимо, но и купить сажень дров сле
дует; надо заказать новое платье — и надо в то
же время заплатить долг в овощную лавку; нельзя
же быть одетой хуже какой-нибудь Сидоровой
или Антоновой, — но как же распорядиться, когда
папенька бранится за излишние расходы «на тряп
ки»? Не поехать на бал,— но на бале будет он.
При таких непримиримых требованиях действи
тельной жизни драма следует за драмой; каждая
грошовая ленточка смачивается горькими слезами;
каждое пошлое слово дурака или негодяя, встре
ченного на бале и поставившего себе задачей
жизни ухаживать за всеми красивыми барышня
ми, — вызывает живые надежды, за которыми сле239
дуют быстро и непременно мучительные пазоча"
рования.
Все^это— бури в стакане воды; все это смешно
и глупо, но ведь тут льются человеческие слезы,
тут проводятся бессонные ночи, и то существо,
которое мечется по постели и обливает слезами
свою подушку, это существо, говорю я, страдает
действительно, страдает так, что как будто бы
причина страдания была велика и серьезна. И это
же самое существо, с тем же телосложением, с тем
же темпераментом и устройством черепа, могло
бы, при других условиях развития и жизни, стать
на ту нормальную высоту человеческого понима
ния, на- которую никогда не забираются грязные
и мучительные волнения о новом платье Сидо
ровой или о пятой кадрили, протанцованной ве
роломным Ивановым с легкомысленной Антоно
вой. Для большинства наших теперешних женщин
эта нормальная высота недостижима, и препят
ствия, отрезывающие им путь к человеческому
благоразумию, вытекают естественным образом из
того основного принципа, которому подчинены
воспитание и вся жизнь женщины. .
\
XX
Реалисты, построившие всю свою жизнь на идее
общей пользы и разумного труда, относятся пре
зрительно и враждебно ко всему, что разъединяет
человеческие интересы, и ко всему, что отвлекает
человека от общеполезной деятельности. Поэтому
они строго осуждают ту мелкость понятий и
узость симпатий, которые прививаются к женщи
нам всем направлением их воспитания. Это враж
дебное отношение реалистов к искусственной
ограниченности женщин послужило поводом к бес
смысленной клевете. Добрые люди пустили слух,
что реалисты отрицают семейство, осмеивают
240
брак и стараются поставить разврат на степень
общественной добродетели.
Эта выдумка столько же остроумна, сколько до
брожелательна. Она могла показаться правдопо
добной толь'ко нашему невинному обществу, со
вершенно не привыкшему контролировать распу
скаемые слухи самостоятельным наблюдением
действительных фактов. Общество знает наших
реалистов по роману «Отцы и дети». Какие же
факты сообщаются в этом романе? — А вот ка
кие. Базаров разговаривает с Одинцовой. Она го
ворит ему: «По моему, или все или ничего. Жизнь
за жизнь. Взяв мою, отдай свою, и тогда уже без
сожаления и без возврата. А то лучше и не надо».
Он отвечает ей: «Что ж? это условие справедли
вое, и я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли,
чего желали». — Эти слова нельзя принять иначе,
как за самое искреннее выражение его взгляда на
отношения между мужчиной и женщиной.. База
рова нельзя заподозрить в желании соблазнить
Одинцову этим косвенным обещанием верности,
потому что, когда она вслед за тем спрашивает
у него прямо: «Но вы бы сумели отдаться?» —
тогда он отвечает ей: «Не знаю, хвастаться не
хочу». Заметьте слово «хвастаться». В этом слове
Базаров опять невольно проговаривается: значит,
он считает способность отдаться на всю жизнь
великим достоинством. И он понимает в то же
время, что не всякий обладает этой способностью,
и не всякому представляется в жизни счастливый
случай приложить эту способность к делу, и не
всякий умеет воспользоваться счастливым слу
чаем, когда он ему представляется.
Где же, в ком же из настоящих реалистов доб-~
рые люди подметили наклонность к разврату? Каж
дый настоящий реалист прежде всего — работ
ник. Хороша ли, дурна ли его работа, об этом он
сам знает, и об этом он не будет давать отчета
! 6 Ц. И, Писарев
241
тем'добрым людям, которые изобретают и рас
пускают ложные слухи. Хороша ли, дурна ли его
работа, но во всяком случае он трудится, как вол,
а кто не трудится, тот и не может называться реа
листом, как бы красноречиво он ни рассуждал
о человечестве и об общей пользе. Кто не тру
дится, а только рассуждает, тот или пустой бол
тун, или вредный шарлатан, но уж ни в коем слу
чае не реалист. Стало быть, настоящим реалистам
нет никакой надобности ратовать против цело
мудрия и против супружеской вернсгети. У реали
ста труд стоит на первом плане. Что помогает
успеху его труда, то он любит. Что мешает его
труду, то он ненавидит. Когда женщина является
мыслящим существом, способным помогать его
работе и ободрять его своим сочувствием, тогда
он любит и уважает женщину. Когда женщина
является капризным ребенком, требующим себе
не участия в полезной работе, а пестрых игрушек,
тогда он отворачивается от нее, чтобы она не
мешала ему трудиться и не надоедала ему бес
смысленной болтовней. Такой брак, который уве
личивает силу и энергию работника, называется
на языке реалиста полезным, благоразумным и
счастливым. Такой брак, который уменьшает или
извращает рабочую силу, называется вредным, без
рассудным и несчастным. Для прочной связи меж
ду мужчиной и женщиной необходим, по мнению
реалиста, общий труд. Мужчина должен трудить
ся, и женщина также должна трудиться. Если они
трудятся в одинаковом направлении, если они оба
любят свою работу, если оба способны понять ее
цель, то они начинают чувствовать друг к другу
симпатию и уважение, и, наконец, мужчина и жен
щина объявляют свое решение перед обществом
и призывают на свой союз благословение любви.
Все это, по мнению реалиста, очень естественно
и благоразумно. Если брак заключен при таких
242
условиях, то, по мнению реалиста, счастье обоих
супругов с каждым годом должно увеличиваться,
и вместе с их счастьем должна постоянно увели
чиваться их взаимная привязанность. Реалист
улыбнется самой презрительной улыбкой, если вы
попробуете сказать ему, что за обладанием долж
но следовать охлаждение.
Да, ответит он вам на это, так всегда бывает
с теми людьми, которые, от нечего делать, раздра
жают свою чувственность и горячат свое вообра
жение в то время, когда они начинают сближаться
с красивой женщиной и обладание представляется
их праздному уму высшей целью жизни. Когда
эта цель достигнута, является разочарование,
является чувство внутренней пустоты; а чтобы на
полнить эту пустоту, они ставят себе новую цель
в таком же роде, то есть они направляют все уси
лия к тому, чтобы соблазнить другую женщину.
И потом опять пустота, и опять стремление к но
вым победам. Все это в порядке вещей, но у меня,
продолжает реалист, такие переходы от безумной
любви к безумному разочарованию совершенно не
возможны. Цель моя в жизни была всегда одна и
та же, и эта цель поставлена лак далеко и так вы
соко, что сотни поколений будут к ней стремить
ся, и сотни поколений умрут прежде, чем она бу
дет достигнута, несмотря на то, что каждое новое
поколение будет стоять к ней ближе всех преды
дущих. С этой настоящей целью моей жизни
обладание любимой женщиной никогда не имело
ничего общего. Я всегда видел в счастливой
любви очень большое наслаждение, помогающее
нам переносить трудности и неприятности утоми
тельной работы и упорной борьбы с человече
скими глупостями. Я всегда смотрел на любовь
не крк на самостоятельную цель, а как на превос
ходное и незаменимое вспомогательное средство
Поэтому я никогда не составлял себе преувели
ченного понятия о наслаждениях любви, и, сле
довательно, я был Совершенно застрахован против
всяких разочарований и охлаждений. .Мне нравит
ся наружность моей жены, но я бы никогда не
решился сделаться ее мужем, если бы я не был
вполне убежден в том, что она во всех отноше
ниях способна быть для меня самым лучшим дру
гом. Я знал всю ее жизнь и все ее наклонности,
прежде чем я решился сделать ей предложение.
Она знала всю мою жизнь и все мои наклонности,
прежде чем она решилась принять мое предложе
ние. С тех пор как мы сошлись, мы ведем труд
наш общими силами. Она понимает, чего я хочу,
и я тоже понимаю, чего она хочет, потому что
■ мы оба хотим одного и того же, хотим того, чего
хотят и будут хотеть все честные люди на свете.
Она знает^каким образом моя работа связывается
с общей целью; она знает, зачем я читаю ту или
другую книгу, зачем я пишу ту или другую ста
тью, зачем я принимаю одно занятие и отказы
ваюсь от другого; и она тоже читает, пишет, за
нимается теми или другими работами; и я также
•знаю, как нельзя лучше, почему она поступает
так, а не иначе. Мы часто читаем вместе, часто
читаем врознь, часто спорим об отдельных по
дробностях и часто изменяем эти подробности,
когда спор кончается' торжеством противополож
ных аргументов. Все силы ее ума и ее начитанности
постоянно находятся в моем распоряжении, когда
я нуждаюсь в ее содействии; все силы моего ума
и моей начитанности постоянно подоспевают
Ж ней на помощь, когда она чем-нибудь затруд
няется. Этот ежеминутный обмен услуг превра
щает самую сухую работу в живое наслаждение и
оставляет за собой неизгладимый ряд самых обая
тельных воспоминаний. Чем больше таких вос
поминаний, чем больше взаимных услуг, чем
больше работ, улаженных общими силами, тем
244
теснее наша дружба, тем полнее наше взаимное
доверие, тем непоколебимее наше взаимное ува
жение. А тут еще присоединяется ощущение
любви, в тесном смысле этого слова, тут еще дети,
как новая живая связь между мною и ею; а тут
еще ее неизбежные страдания, которые делают
женщину священной в глазах каждого мысля
щего человека. Я этих страданий не могу разде
лить с ней, поневоле же я должен вознаградить
ее за них удвоенной нежностью и безграничным
уважением; а тут еще воспитание детей как но
вый вид общей работы, которую мы оба сумеем
вести сообразно с далекой и высокой целью все
го нашего существования. Одна и та же личность
является таким образом для меня товарищем по
работе, другом, женой, страдалицей, матерью и
воспитательницей моих детей, — и вдруг выдумы
вают, что я неспособен любить эту личность!
И вдруг произносят тут слова: охлаждение, разо
чарование, супружеская ревность или супружеская
неверность. Чорт знает, что за чепуха! Охладеть
к другу потому, что он десять лет был другом.
Разочароваться в этом друге потому, что мы вме
сте с ним постарели на десять лет. Подозревать
этого друга в том, что он будет со мной лицеме
рить. Искать себе новой привязанности, когда ста
рый друг живет со мной в одном доме. Скажите,
пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подоб
ных предположениях? А ведь для эстетиков и ро
мантиков эти самые предположения оказываются
непреложными истинами. Почему? Очень просто.
Потому что жена никогда не бывает для них дру
гом. И мужчины, и женщины, одержимые эстети
ческими стремлениями, постоянно, в течение всей
своей жизни играют в игрушки. У них и муж —
игрушка, и жена — игрушка. Пока игрушка бле
стит, пока она имеет прелесть новизны, до тех
пор ею потешаются. А чуть только блеск и но
245
визна пропали, является горькое сожаление о том,
что игрушку нельзя бросить в помойную яму.
Соотечественники! Кто сложил поговорку: «Же
на не башмак, с ноги не сбросишь»? Кажется мне,
что эта поговорка была в полном ходу в то вре
мя, когда еще прадеды современных реалистов не
рождались на белый свет. И кто или что мешает
вам сбросить жену, как башмак, не заботясь
о том, куда она упадет? Неужели вам мешзет
ваша собственная добросовестность? Нет, друзья
мои, вам мешает только закон, а то бы тысячи
утонченных эстетиков, повторяющих наивную по
говорку с тяжелым вздохом, пустили бы на все
четыре стороны своих жен вместе с малолетними
детьми и без копейки денег. И эти же самые рез
вые ребятишки, обожающие всякиёПновые игруш
ки, смеют распускать бессмысленные слухи о раз
вратных стремлениях таких людей, которые всю
свою жизнь проводят в рабочих кабинетах, за
книгами или за письменным столом! Только наша
русская бестолковость и способна переваривать
такие вопиющие нелепости.
XXI
Во всех двадцати главах, которые я до сих пор
написал о наших реалистах, я старался доказать,
что наше общество не поняло и оклеветало этих
людей с чужого голоса. Чтобы сделать доказа
тельства мои как можно более убедительными,
я взял за представителя нашего реализма База
рова, того самого Базарова, которого одна часть
нашей критики считала карикатурой,' а другая —
правдивым, но строжайшим обличением, напра
вленным против тенденций молодого поколе
ния.16
Вы находите, господа, сказал я, что это — ка
рикатура или обличение. Положим, что_это дей
246
ствительно так. Карикатура или обличение, как
вам угодно Во всяком случае, вы согласитесь, что
этот образ написан без малейшего желания по
льстить нашим реалистам. Этот образ написан че
ловеком правдивым, но уже вовсе неспособным
увлекаться юношескими стремлениями к новым
идеям и к новым людям. Хорошо. Я беру именно
этот образ, именно то, что вы считаете карикату'рой или обличением. Я анализирую каждую черту
этого образа, я принимаю каждое слово Турге
нева за наличную монету, я выслушиваю таким
образом сильнейшего и умнейшего врага совре
менного реализма, — такого врага, который «всетаки неспособен лгать», и из всех показаний этого
врага я не могу извлечь ни одной черты, которая
действительно превращала бы реалистов в людей
глупых, бесчестных, безнравственных и вредных
для общества и для благосостояния отдельных
личностей.
Говорят, что реалисты непочтительны к своим
родителям — неправда! Они только разрознены
с ними роковым влиянием общих исторических
причин. Реалисты восстановляют детей против ро
дителей— неправда! Они стараются сблизить стар
шее поколение с младшим. Реалисты не уважают
женщин— неправда! Они уважают их гораздо
сильнее, чем их уважали поэты и эстетики. Реа
листы отрицают брак — и это неправда! Они
хотят только, чтобы благосостояние отдельных
семейств было в строгом согласии с великими
интересами общества.
Откуда же вы, милые русские журналисты, взя
ли все ваши обвинения против реалистов? Из ро
мана Тургенева? Нет, врете, там нет этих обвине
ний. Там даются голые факты, которые надо
только понять. А если вы извратили эти факты,
сообразно с вашими закулисными выгодами, то
вы напрасно прикрываетесь именем честного, хотя
247
и отсталого русского писателя. Имя Тургенева
наделало, быть может, много путаницы, но Тур
генев не виноват в том, что его именем поль
зуются Хлестаковы и Держиморды нашей журна
листики. И все идеи Базарова остаются верными
и честными идеями, несмотря на тот толстый слой
грязи, которым завалили их. Конечно, Тургенев
мог бы быть менее пассивным в то время, когда
его имя марали гг. Катковы и Скарятины, но ведь
известное дело, старость — не радость, и шум
журнальной полемики ему уже не по летам. Отно
шения реалистов к живым людя^1 таким образом
очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мне
остается поговорить об отношениях их к искус
ству и к науке.
-
XXII
Лет двадцать тому назад известный мыслитель
и фантазер Пьер Леру написал одну очень стран
ную книгу «О человечестве» («^е Phumanite»).
В этой странной книге имеется достаточное коли
чество самой вопиющей галиматьи; до того чело
век завирается, что горячо и серьезно доказывает
и объясняет, каким манером человеческие души
переселяются из одного тела в другое. По его ме
тафизическим выкладкам выходит, что у нас нет
предков и что у нас не будет потомков, а что мы
со времен Адама всегда жили и всегда будем жить
постоянно обновляющейся жизнью в том громад
ном организме, который называется на языке Леру
«человек-человечество» («Phomme-humanite»). Чи
таете вы эту книгу и только плечами пожимаете.
«Ах, как врет! — думаете вы. — Боже мой, как не
истово врет!» А между тем — странное дело! — вы
все-таки дочитываете сумасбродную книгу до
конца; и потом, дочитавши ее, вы сохраняете об
ее авторе очень светлое воспоминание, вы не248
,
•
•
вольно относитесь к Пьеру Леру с любовью и даже
с уважением. У Пьера Леру были последователи и
горячие поклонники. Жорж Занд подчинялась ча
рующему влиянию его фантазий и написала два
превосходных романа: «Consuelo» и «La Comtesse
de Rudolfstadt» * под .господством обаятельно-ми
стической идеи о переселении человеческих душ.
И все это очень понятно. Пьер Леру принадле
жит к числу тех страстно честных людей, которые'
много возлюбили и которым за это многое про
щается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица их
беспредельного вранья. Тем это вранье и обая
тельно, что все в нем совершенно искренно: нет
“ в нем ни малейшей декламации. Леру страстно
влюблен в человечество, страстно верит в его бес
конечное совершенствование, страстно стремится
к далекому будущему, и всех этих страстностей
оказывается чересчур достаточно, чтобы совер
шенно заглушить в его уме голос простого здра
вого смысла, который потихоньку нашептывает
ему очень печальные истины. — Ты, брат Л еру,—
говорит ему здравый смысл, — не очень восхи
щайся. Ты все-таки умрешь лет через тридцать
или через сорок, и обо всяких грядущих велико
лепиях человеческого прогресса ты не получишь
никогда ни малейшего понятия. — Вздор! — отве
чает Леру в порыве прогрессивного восторга. —
Я люблю человечество, я живу с ним одною
жизнью и буду, вечно жить, любить и мыслить на
той самой земле, на которой совершается беспре
дельное историческое развитие громадного орга
низма homme-humanite.
Любовь к людям и к жизни доходит, очевидно,
до галлюцинацйи; мы ясно видим все признаки
бреда, но мы понимаем также причины этого явле
* Перевод:
«Графиня Рудольфштадт». Лед.
249
ния и никогда не решимся оскорбить насмешкой
или презрением такую личность, у которой лю
бовь к человечеству развилась до пожирающей
страсти, до фанатизма и, наконец, до сумасше
ствия. Эта любовь, доводящая все умственные
силы Леру до неестественного и, следовательно,
болезненного напряжения, все-таки облагоражи
вает, очищает его личность и возводит ее на та
кую высоту, с которой он окидывает широким и
проницательным взглядом всю историю челове
ческой мысли. Он понимает и эпикуреизм, и сто
ицизм, и Платона, и Аристотеля, и мистиков, и
рационалистов, и скептиков, и аскетов. Отдавая
всем, им должную справедливость, отмечая яркими
и верными чертами их историческое значение, он
понимает и глубоко чувствует, что человечество
вырастает из своих пеленок и что в его сильном
коллективном уме медленно созревает что-то но
вое и громадное, что-то такое, в чем совместятся
все истины отживших и отживающих философ
ских систем, Когда Леру слезает с своего люби
мого конька, то есть когда он перестает городить
чепуху о переселении душ, тогда у него почти на
каждой странице сыпятся, как крупные искры,
светлые и превосходные мысли, выраженные тем
ярким и могучим языком, которым владеют Гюго,
Кине, Мишле, Прудон, Жорж Занд,- Одна из по
добных мыслей особенно сильно пришлась мне по
душе, так что я решился положить ее в основание
моих реалистических размышлений о науке и
искусстве. Чтобы эта мысль сделалась вполне по
нятной моим читателям и чтобы она осветилась
для них со всех сторон, я счел нелишним сказать
несколько слов о том источнике, Фз которого она
заимствована. «А un point de vue eleve,— гово
рит Леру, — les poetes sont ceux, qui, d’epoque en
epoque, signalenl les maux de l’hutnanite, de тёше
que les philosophes sont ceux, qui s’occupent de
250
sa gudrison et de son salut*. Мне кажется, тому
человеку, который так высоко и так просто по
нимает и определяет призвание истинного поэта
и истинного мыслителя, тому человеку, говорю я,
можно простить даже печальную наклонность
к переселению человеческих душ.
•
XXIII
.
Люди издавна стремились создать вокруг себя
искусственную атмосферу тепла, аромата и роско
ши. Они удовлетворяли всем естественным потреб
ностям своего организма, но этого было мало; они
придумывали себе новые потребности, создавали
себе новые, чисто искусственные страсти, нежили,
лелеяли, воспитывали и доводили их до высокой
степени чуткости, впечатлительности и утончен
ности. Человек развивал в своей личности чувства
-и страсти, для того чтобы извлекать себе из жизни
как можно больше разнообразного и безмятеж
ного наслаждения. Но расчет оказался не совсем
верен. Те самые страсти и чувства, которые
должны были служить приправой утонченного
обеда или очаровательного любовного свидания,
сделались, напротив того, злейшими врагами этой
тепличной жизни. Постоянно есть, постоянно
пить, постоянно любезничать, проводить жизнь
между столом и постелью — это показалось не
выносимым наказанием именно для тех тонко
развитых и страстных эпикурейцев, которые
лучше всех других людей умели разнообразить
свои наслаждения. Никакие соусы из соловьиных
язычков, никакие неестественные проявления
------------ -----* П е р е в о д : «С высшей точки зрения, поэтами можно
назвать тех ледей, которые, из эпохи в эпоху, раскры
вают перед - нами страдания человечества, а мыслите
лями — тех людей, которые отыскивают средства облег
чить и исцелить эти болезни». Ред.
_
251
сластолюбия не могли заглушить в них не
укротимого стремления действовать, мыслить,
пожалуй, даже страдать, но только, во что бы то
ни стало, вырваться из одуряющего воздуха
теплицы в суровую, холодную, но естественную
среду действительной жизни. Действовать? — Ка
ким образом? — Мыслить? — О чем и зачем? —
Страдать и бороться? — С чем и за что? — Каким
образом действовать? Ну, конечно, прежде всего
^оевать. Эта отрасль деятельности первая бро
сается в глаза страстному эпикурейцу, воспитан
ному в тепличной атмосфере и утомленному беско
нечными оргиями. Так решается вопрос в дей
ствительности. Алкивиад бросается с войском
в Сицилию, Цезарь — в Галлию, Александр —
в Персию. А потом? Потом и война надоедает.
Сильный ум ищет себе новой пищи. Начинаются
серьезные размышления о сделанных завоеваниях.
Отставной завоеватель становится рачительным
хозяином.
Не все, далеко не все блестящие деятели все
мирной истории прошли через указанные мною
фазы развития^ Очень многие споткнулись и по
гибли в начале или на половине пути, но, несмо
тря на то, можно сказать наверное, что каждый
действительно замечательный ум утомляется рано
или поздно теми наслаждениями, которые доста
ются ему на долю без труда и без борьбы; уто
мившись и пресытившись, он тревожно начинает
искать выхода своим силам и, наконец, или поги
бает во время безуспешных поисков, или успо
каивается на такой деятельности, которая самым
тесньш образом связана с интересами стражду
щего большинства. А между feni ведь и у частных
людей бывают и сильные страсти, и тонкие чув
ства, и светлые умы. Им-то чем же забавляться?
Каким образом они-то могут вырваться из те
плицы?
252
'
Одни из этих страстных и даровитых тунеядцев
начинают искать вокруг себя сильных ощущений;
другие задумываются над различными явлениями
из жизни природы, ставят себе на каждом шагу
мудреные вопросы и ломают себе голову над сот
нями и тысячами вечных загадок. Первые дела
ются поэ^ми или художниками; вторые — уче
ными или мыслителями. Но где же поэт и,т?и ху
дожник, человек действительно восприимчивый,
умный и страстный до гениальности, где же,'спра
шиваю я, он найдет себе 'те сильные ощущения,
которые удовлетворят вполне его ищущую, жа
ждущую и томящуюся природу? Каким образом
он ухитрится во время своих поисков миновать
тот громадный мир неподдельного человеческого
страдания, который со всех сторон окружает
нас сплошной, темной стеной? Разве есть возмож
ность не заметить того, что на каждом шагу ре
жет глаз самому невнимательному наблюдателю?
Можно, конечно, приглядеться к этим' будничным
картинам, можно притупить в себе ум и чувство,
можно довести себя совершенно незаметным обра
зом до самого невозмутимого равнодушия к чу
жому голоду и холоду. С этим я согласен, и мы
встречаемся в жизни ежеминутно с великолепней
шими экземплярами такой философской невозму
тимости. Но вы не забывайте, что ведь мы ведем
здесь речь о поэте, о художнике, о человеке,
в высшей степени впечатлительном, страстном и
отзывчивом. Какой же истинный поэт может до
вести себя до чурбанного равнодушия? Если чело
веческие страдания не производят на него впечат
ления, то где же его впечатлительность? Если он,
отворачиваясь с самодовольным презрением от
картин грязной нищеты и невольного порока, от
зывается певучими нотами на трепетание влю
бленного соловья, и на благоухание расцветаю
щей розы, и на каждый грбшовый вздох смазли-
253
вой барышни, то ведь эта отзывчивость так же
приторна и отвратительна, как нежная привязан
ность старой девки к кошкам, попугаям и мось
кам. В таком человеке нет ни ума, ни впечатли
тельности, ни страсти, ни отзывчивости. Что это
за художник? Это просто мышиный ^жеребчик,
одержимый самым мельчайшим тщеславием, са
мым копеечным желанием порисоваться перед
почтеннейшей публикой и заработать себе'от раз
ных глупых тунеядцев несколько лестных ком
плиментов и несколько еще. более лестных рублей.
Мне возразят, быть может, что художник мо
жет увлечься поклонением чистой красоте и что
в таком случае он посвятит все свои силы на во
площение своего идеала в худолсественном созда
нии, в статуе, в картине, в романе или в какой-ни
будь другой форме творчества. Скульптура цели
ком основана на этом поклонении физической кра
соте. Знаю. Но это возралсение устраняется само
собой. Я предположил выше, что самым умным и
даровитым людям становится непременно душно
в искусственной атмосфере эпикурейской теплицы.
Мне кажется, что предположение верно в психо
логическом отношении и может быть доказано
сотнями примеров из всех эпох всемирной исто
рии. Кому сделалось душно в теплице, тот, разу
меется выходит на открытый воздух, то есть так
или иначе вмешивается в жизнь большинства.
Кому приелись разные сладости, вино и поцелуи,
тот ищет себе труда и борьбы, тот лечится от
пресыщения суровыми столкновениями с непод
крашенной действительностью. Гейне превосходно
выразил это настроение в своей песне о Тангей
зере. Венера угощает Тангейзера сладким вином,
хочет надеть ему на голову венок из свежих роз,
наконец, зовет его к себе в спальню; но Тангейзер
даже смотреть на нее не хочет; его уже просто
тошнит от всех этих ь!индальностей; ему хочется
251
труда, горечи, тернового венка; он говорит ласко
вой любовнице своей крупные дерзости и уходит
от нее чорт знает куда ц чорт знает зачем. По
нятно, что человек, находящийся в настроении
свирепого Тангейзера, решительно неспособен за
ниматься поклонением чистой или идеальной кра
соте. Не затем же, в самом деле, он так сурово
отвернулся от живой красавицы, чтобы писать
к ней пламенные сонеты или падать на колени пе
ред ее изображением, вырезанным из белого мра
мора или написанным масляными красками на хол
сте. Пигмалион молил богов, чтобы они превра
тили его мраморную Галатею в живую женщину,
и это понятно; но променять живую, любящую
женщину на кусок полотна или мрамора — это та
кая нелепость, на которую не покушался до сих
пор ни один из самых необузданных идеалистов.
Очень многие пламенные любовники пробавля
ются чистым платонизмом, но они всегда делают
это только вследствие печальной необходимости;
когда же они имеют возможность делать выбор,
тогда они с нарочитым удовольствием промени
вают свои отвлечённые восторги на более суще
ственные и менее невинные наслаждения.
Что же из всего этого следует? Да очевидно то,
что поклонники чистой красоты никогда не испы
тывали мучений Тангейзера; напротив того, они
чрезвычайно довольны тепличной жизнью и, в на
ивности души, принимают свой крошечный теплый
уголок за великий, богатый и разнообразный мир,
в котором все высшие человеческие потребности
находят и должны находить себе полное и все
стороннее удовлетворение. Эти пигмеи, занимаю
щиеся скульптурой, живописью, эротическим сти
ходеланием или томными руладами, — эти пигмеи,
говорю я, или не знают великих вопросов широ
кой, действительной, мировой жизни, или же не
хотят их знать, прикидываются глухими и еле-
пыми, чтобы оправдывать в своем собственном
мнении свою канареечную жизнь и деятельность.
В первом случае — если не знают — мы имеем не
сомненное право заподозрить их в тупоумии или
в полной неразвитости. Во втором случае — если
напускают на себя поддельную глухоту и сле
поту— мы имеем право назвать их бесчестными и
трусливыми людьми, которые стараются обмануть
даже собственную совесть. В том и в другом слу
чае было бы странно и ше.лепо требовать от нас,
чтобы мы признали в этих мелких сибаритах пере
довых представителей человечества; деятельность
таких людей не дает нам ровно ничего, и, следо
вательно, встречаясь с их произведениями, цам
остается только посмеяться над доверчивостью
того общества, которое видит в'них лучшее свое
украшение.
XXIV
Последовательный реализм безусловно прези
рает все, что не приносит существенной пользы;
но слово «польза» мы принимаем совсем не в том
узком смысле, в каком его навязывают нам наши
литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим
поэту: «шей сапоги» или историку: «пеки куле
бяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт,
как поэт, и историк, как историк, приносили,
каждый в своей специальности, д е й с т в и т е л ь
н у ю пользу. Мы хотим, чтобы .создания поэта
ясно и ярко рисовали перед нами те стороны че
ловеческой жизни, которые нам необходимо знать
для того, чтобы основательно размышлять и дей
ствовать. Мы хотим, чтобы исследование историка
раскрывало нам настоящие причины1 процветания
и упадка отживших цивилизаций. Мы читаем кни
ги единственно для того, чтобы посредством чте
ния расширить пределы нашего личного опыта.
256
Если книга в этом отношении не дает нам ровно
ничего, ни одного нового факта, ни одного ори
гинального взгляда, ни одной самостоятельной
идеи, если она ничем не шевелит и не оживляет
нашей мысли, то мы называем такую книгу пустой
и дрянной книгой, не обращая внимания на то, пи
сана ли она прозой или стихами; и автору такой
книги мы всегда, с искренним доброжелатель
ством, готовы посоветовать, чтобы он принялся
шить сапоги или печь кулебяки.
Постараемся же теперь обсудить вопрос: каким
образом поэт, не переставая быть поэтом, может
принести обществу и человечеству действительную
и несомненную пользу? Само собою разумеется,
что название «поэт» прилагается здесь не к одним
стихотворцам, а вообще ко всем художникам, со
здающим образы посредством слова. Прежде всего
скажу откровенно: я решительно не признаю так
называемого бессознательного и бесцельного
творчества. Я подозреваю, что это — просто миф,
созданный эстетической критикой для пущей та
инственности. В древности, когда поэт был певцом
и импровизатором, тогда, пожалуй, еще можно
было допустить, что его осеняло вдохновение и
что он сам не отдавал себе ясного отчета в том,
как и зачем слагалась его песня. Но теперь, когда
поэт носит не хламиду и лавровый венок, а Сюр
тук и круглую шляпу; теперь, когда он не поет,
а пишет и печатает; теперь, говорю я, уже поздно
видеть в поэте близкого родственника исступлен
ной дельфийской пифии. Поэт прежде всего та
кой же член гражданского общества, как и каж
дый из нас. Встречаясь с поэтом в гостиной, мы
имеем полное право требовать от него, чтобы он
не клал ноги на стол и не плевал в потолок; всту
пая с поэтом в разговор, мы имеем полное право
требовать, чтобы он рассуждал дельно и логично;
если он не исполнит этого требования, мы заметим
17 Д. И. Писаре п
’
257
про себя, что он несет чепуху, быть может, и
вдохновенную, но все-таки невыносимую. Чтобы
пользоваться любовью и уважением своих знако
мых, поэт непременно должен обладать теми же
самыми качествами, которые упрочивают любовь
и уважение окружающих людей за каждым из
простых смертных. Для этого необходима извест
ная доза ума, добродушия,' честности и т. д. Такса,
по которой покупаются в обществе любовь и ува
жение, повышается и понижается вместе с общим
уровнем умственного и нравственного развития.
Кто в Англии считается дураком, тот в Турции мог
бы прослыть за очень порядочного человека. Ко
гда общество доходит до известной высоты раз
вития, тогда оно начинает требовать от своих чле
нов, чтобы у них были определенные и созна
тельные убеждения и чтобы они держались за
свои убеждения.. Кроме обыкновенной честности,
является тогда еще высшая честность, честность
политическая. Воспитавши в самом себе великое
чувство политической честности, общество начи
нает вменять его в обязанность каждому из своих
членов, а тем более таким людям, которые, опи
раясь на свои умственные дарования, присваивают
себе право действовать словом или пером на раз
витие общественных^ убеждений. Но эта спаситель
ная зрелость и строгость требования даются об
ществу не вдруг. Нравственная чуткость выраба
тывается туго и медленно. Байрон прямо называет
Роберта Соути ренегатом, а Роберт Соути в свое
время считался знаменитым поэтом, и англичане
даже до сих пор читают и издают его произведе
ния. Но настоящие поэты не могут быть продаж
ными мазуриками; сам Байрон, заклеймивший Ро
берта Соути, ни разу не покривил душой, именно
потому, что его ум и талант стояли неизмеримо
выше всяких искушений. Такие' умы и таланты
творят чудеса, но творческая сила тотчас изменяет
258
им, как только они осмеливаются пустить ее
в продажу.
Но одной голой честности и великого самород
ного таланта еще недостаточно, чтобы быть миро
вым поэтом. Самородки, подобные Бернсу или
Кольцову, остаются навсегда блестящими, но бес
плодными явлениями. Истинный «полезный» поэт
должен знать и понимать все, что в данную ми
нуту интересует самых лучших, самых умных и са
мых просвещенных представителей его века и его
народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой
пульсации общественной жизни, поэт, как человек
страстный и впечатлительный, непременно должен
всеми силами своего существа любить то, что ка
жется ему добрым, истинным и прекрасным, и не
навидеть святой и великой ненавистью ту огром
ную массу мелких и дрянных глупостей, которая
мешает идеям истины, добра и красоты облечься
в плоть и кровь и превратиться в живую действи
тельность. Эта любовь, неразрывно связанная
с этой ненавистью, составляет и непременно долж
на составлять для истинного поэта душу его ду
ши, единственный и священнейший смысл всего его
существования и всей его деятельности. «Я пишу
не чернилами, как другие, — говорил Берне, —
я пишу кровью моего сердца и соком моих нер
вов». Так, и только так, должен писать каждый
писатель. Кто пишет иначе, тому следует шить са
поги и печь кулебяки.
Поэт, самый страстный и впечатлительный из
всех писателей, конечно, не может составлять
исключение из этого правила. А чтобы действи
тельно писать кровью сердца и соком нервов, не
обходимо беспредельно и глубоко сознательно
любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненави
деть и чтобы эта любовь и эта ненависть были
чисты от всяких примесей личной корысти и мел
кого тщеславия, необходимо много передумать и
17*
259
многое узнать. А когда все это сделано, когда
поэт охватил своим сильным умом весь великий
смысл человеческой жизни, человеческой борьбы
и человеческого горя, когда он вдумался в при
чины, когда он уловил крепкую связь между от
дельными явлениями, когда он понял, что надо и
что можно сделать, в каком направлении и какими
пружинами следует действовать на умы читающих
людей, тогда бессознательное и бесцельное твор
чество делается для него безусловно невозможным.
Общая цель его жизни и деятельности не дает ему
ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его
к себе; он счастлив, когда видит ее перед собой
яснее и как будто ближе; он приходит в восхи
щение, когда видит, что другие люди понимают
его пожирающую страсть и сами с трепетом томи
тельной надежды смотрят в даль, на ту же вели
кую цель; он страдает и злится, когда цель исче
зает в тумане человеческих глупостей и когда
окружающие его люди бродят ощупью, сбивая
друг друга с прямого пути.
И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой че
ловек, принимаясь за перо, превращался в болтли
вого младенца, который сам не ведает, что и за
чем лепечут его розовые губы! Вы хотите, чтобы
он бесцельно тешился пестрыми картинками своей
фантазии именно в те великие и священные ми
нуты, когда его могучий ум, развертываясь в про
цессе творчества, льет в умы простых и темных
людей целые потоки света и теплоты! Никогда
этого не бывает и быть не может. Человек, при
коснувшийся рукою к древу познания добра и зла,
никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не
захочет возвратиться в растительное состояние
первобытной ненависти. Кто понял и прочувство
вал до самой глубины взволнованной души раз
личие между истиной и заблуждением, тот, волей
и неволей, -в каждое из своих созданий будет
260
вкладывать идеи, чувства и стремления вечной
борьбы за правду.
Итак, по моему мнению, истинный поэт, прини
маясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет
в том, к какой общей цели будет направлено его
новое создание, какое впечатление оно должно
будет произвести на умы читателей, какую святую
истину оно докажет своими яркими картинами,
какое вредное заблуждение оно подроет под са
мый корень. Поэт — или великий боец мысли, бес
страшный и безукоризненный «рыцарь духа», как
говорит Генрих Гейне, или же ничтожный пара
зит, потешающий других ничтожных паразитов
мелкими фокусами бесплодного
фиглярства.
Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий
горы векового зла, или же козявка, копающаяся
в цветочной пыли. И это не фраза. Это — стро
гая психологическая истина. Действительно, каж
дый эстетик, конечно, согласится со мною, что
искренность есть необходимейшее качество поэта.
Драма, роман, поэма, лирическое стихотворение,
в которых хоть сколько-нибудь проглядывают на
тянутые и обязательные отношения автора к его
предмету, ни под каким видом не могут быть на
званы поэтическими произведениями. Это — рито
рические упражнения на заданные темы, а ритор и
поэт, разумеется, не имеют между собой ничего
общего. Припомните, например, оды Ломоно
сова,
«Парашу-Сибирячку»
Полевого,
роман
г. Клюшникова «Марево» и тому подобные пре
лести.
Искренность необходима; но поэт может быть
искренним или в полном величии разумного.миро
созерцания, или в полной ограниченности мыслей,
знаний, чувств и стремлений. В первом случае он—
Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором
случае он — г. Фет. В первом случае он носит
в себе думы и печали всего современного мира. Во
.
2oi
втором — он поет тоненькой фистулой о души
стых локонах и еще более трогательным голо
сом жалуется печатно на работника Семена п. Вы
не думайте, господа, что свистящая журналистика
ухватилась так крепко за работника Семена по ре
бяческому пристрастию к бесплодному зубоскаль
ству. Работник Семен — лицо замечательное. Он
непременно войдет в историю русской лите
ратуры, потому что ему назначено было провиде
нием показать нам обратную сторону медали в са
мом яром представителе томной лирики. Благо
даря работнику Семену мы увидели в нежном по
эте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого
хозяина, солидного bourgeois и мелкого человека.
Тогда мы задумались над этим фактом и быстро
убедились в том, что тут нет ничего случайного.
Такова должна быть непременно изнанка каж
дого поэта, воспевающего «шопот, робкое ды
ханье, трели соловья».
Кто способен вполне удовлетворяться микро
скопическими пылинками мысли и чувства, кто
умеет составить себе громкую известность соби
ранием этих пылинок, тот должен быть мелок на
сквозь, в каждой отдельной черте своей частной
и общественной жизни. Заглядывать в область
частной жизни мы не имеем никакого права и
никакой возможности'; но если самому поэту угод
но было прогуляться перед публикой в домашнем
халате, то мы должны сказать за это большое
спасибо, во-первых, разыгравшемуся поэту, а вовторых— великому Семену, ухитрившемуся при
вести своего хозяина в такой пафос лирического
негодования. Мы всматриваемся в интересный ха
лат и выводим то плодотворное заключение, что
подобные халаты носят и должны носить все по
эты, не имеющие понятия о великих, истинных и
серьезных сторонах общечеловеческой жизни. Как
были они детьми, так и останутся навсегда
262
детьми, мелочными, капризными и сварливыми
существами, утратившими только детскую гра
цию и лишившимися уже всякой надежды сделать
ся современем сильными, здоровыми, добродуш
ными и мыслящими людьми. Отвернемся от этих
явлений плюгавой старости и посмотрим в дру
гую сторону, на вечно юных титанов умственного
мира.
В числе титанов я назвал Гете и Гейне. Легко
может случиться, что наши литературные против
ники ухватятся за эти два имени и докажут мне,
как дважды два — четыре, что Гете в течение всей
своей жизни был самым неискренним человеком и
что Гейне очень часто является в своих произве
дениях пустейшим балагуром или беспечнейшим
певцом луны, девы, любви и вздохов.— Вот ви
дите, скажут они мне, значит, вам надо или вы
черкнуть имена Гете и Гейне из списка мировых
поэтов, или же радикально изменить ваш взгляд
на поэзию и вообще на искусство.
А вот посмотрим на дело поближе. Что Гете
обладал в высшей степени способностью изви
ваться и блюдолизничать, это, конечно, не может
подлежать сомнению. Что он стряпал разные сти
хотворные миндальности и салонные оперетки,
это также составляет неопровержимую истину. Ну,
а как вы думаете, стали бы мы теперь рассуждать
с вами о Гете, если бы полное собрание его сочи
нений состояло целиком из сотни чистеньких опе
реток и из нескольких тысяч миндально-лакейственных мадригалов? И как вы думаете, посвя
тил ли бы такому Гете гордый и безукоризненный
Байрон своего «Сарданапала»? Да еще как посвятил-то! С трепетом робости и благоговения. Вот
подлинные слова этого посвящения: «Знаменитому
Гете иностранец осмеливается предложить дань
литературного вассала своему сюзерену, первому
из существующих писателей, создавшему литера
.
263
туру своей родины и прославившему литературу
Европы. Недостойное произведение, которое ав
тор дерзает посвятить ему, носит заглавие: «Сарданапал».
Ясное дело, что в глазах Байрона умственное
величие Гете с избытком заглаживает или выку
пает те низкие слабости его характера, которые,
конечно, были хорошо известны Байрону, как со
временнику Гете, и которым Байрон, как чело
век в высшей степени независимый, разумеется, не
мог сочувствовать. Но когда Гете спускался в мир
живых людей, в мир золоченого немецкого ме
щанства, когда он превращал свой талант в дой
ную корову и начинал гоняться за благосклонны
ми взглядами и покровительственными улыбками,
тогда он сразу делался мельче всякой козявки,
ниже, гаже и бессильнее самого ничтожного из
наших современных лириков, потому что эти
поют от избытка своей ограниченности, а тот дол
жен был насильно ежиться и прикидываться не
винной канарейкой.
Пример Гете доказывает как нельзя очевиднее,
что всякая умственная деятельность велика и пло
дотворна только до тех пор, пока она остается
неразлучной с искренностью и твердостью глубо
кого убеждения. Гете велик именно только в той
сфере, в которой он действовал с полным и есте
ственным воодушевлением, не стесняясь никаки
ми житейскими расчетами, и этот Гете, великий
Гете совершенно подходит под мое определение
поэта и с полной справедливостью может быть
назван «полезным» поэтом, хотя, конечно, не в том
смысле, в каком могут быть названы полезными
поэтами: Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти,
Шелли, Томас Гуд и другие двигатели обществен
ного сознания. Эти люди были поэтами текущей
минуты; они будили в людях ощущение и созна
ние настоятельных потребностей современной гра261
жданской жизни; они любили живых людей и во
зились постоянно с их действительными глупостя
ми и страданиями. А Гете никого не любил, кроме
самого себя и своих собственных идей; он ни
сколько не заботился об интересах человеческих
обществ и, несмотря на то, он все-таки принес и
еще долго будет приносить своими произведениями
много пользы тем самым человеческим обще
ствам, к которым он был совершенно равнодушен.
Только пустые и мелкие люди могут оставаться
бесполезными, а великие умственные силы непре
менно приносят пользу даже своими ошибками
Гете никогда не был и не будет любимым по
этом читающих масс; вследствие этого он никогда
не будет действовать прямо и непосредственно
на умственную жизнь массы, потому что на эту
жизнь действует только тот, кто любит массу.
Но эти наставники и руководители масс, люди
различные между собой по своим дарованиям, но
тесно связанные друг с другом единством святой
любви и честных стремлений, эти люди, питающие
других своими идеями, часто нуждаются сами
в умственном подкреплении и обновлении. Эти
люди — мыслящие и просвещенные работники, но
совсем не мировые гении. Они, по своему уму и
развитию, способны понимать Гете, но у них, разу
. меется, недостало бы сил произвести то, что он
произвел. Для них-то его сочинения составляют
огромную гальваническую батарею, которая по
стоянно снабжает их утомляющиеся мозги новыми
электрическими силами. Они читают Гете и глу
боко задумываются над его страницами, и ум их
растет и крепнет в этой живительной работе.
А приобретенный таким образом запас свежей
энергии и новых умственных сил отправляется
все-таки вниз по течению, в то живое море, кото
рое называется массой и в которое тем или дру
гим путем, рано или поздно, вливаются, подобно
265
скромным ручьям, или бурным потокам, или ве
личественным рекам, все наши мысли, все наши
труды и стремления. И холодный тайный совет
ник и кавалер фон Гете действует таким образом,
и сильно действует, на пользу бедных и простых
ближних посредством тех идей и ощущений, ко
торые он возбуждает своими произведениями в
тесном кругу своих избранных и высокоразвитых
читателей.
•
Приведу один очень любопытный и оригиналь
ный пример. Берне ненавидит Гете отчасти за де
ло, по своему горячему демократическому чувству,
отчасти несправедливо. Эту ненависть Берне
высказывает не раз в своих «Парижских письмах»
и в некоторых критических статьях. Высказывает
он ее всегда с необыкновенным воодушевлением, и
из-под его пера выливаются по этому поводу пре
восходнейшие страницы, сверкающие изумитель
ным остроумием и пылающие самым чистым
огнем любви к людям и уважения к человеческо
му достоинству. И эти страницы прочтет с увле
чением, поймет и запомнит чуть не наизусть ре
шительно каждый человек, стоящий по своему
развитию немного выше чичиковского Петрушки.
Эти страницы, писанные слишком тридцать лет
тому назад, до сих пор так свежи и горячи, как
будто они только сегодня вышли из-под типо
графского станка. А кому же мы обязаны этими
страницами, как не тому самому Гете, который на
них осыпается справедливыми насмешками и гро
мовыми проклятиями критика? Чтобы возбудить
в таком умном человеке, как Берне, такую пыл
кую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю
его желчь, когда он только вспомнит ненавистное
имя или взглянет на проклятые строки, и, нако
нец, чтобы каждый раз заставлять своего разъ
яренного антагониста облекаться во всеоружие
саркастического ума и страстной диалектики, для
266
всего этого, говорю я, необходимо быть таким
титаном умственного мира, каким и был «а са
мом деле тайный советник и кавалер фон Гете.
Да и сам Берне всегда признает его титаном и
за то именно бесится на него, что этот титан
с таким удовольствием зарывал свой талант в зем
лю. С этой стороны Берне, разумеется, прав:
если бы у Гете, кроме колоссальных сил, было
еще стремление прилагать эти силы как следует,
то, без сомнения, он сделал бы в своей жизни не
измеримо больше прочного и существенного
добра. Но дело теперь не в том. Важно и лю
бопытно для всего хода моей аргументации то об
стоятельство, что Гете электризует своей деятель
ностью даже такого человека, который по своему
чисто фанатическому складу ума решительно не
способен отнестись с любовью к тому, что дей
ствительно превосходно в произведениях «вели
кого язычника». Это и значит, что великое явле
ние никогда не может остаться бесплодным; оно
освежает и обновляет жизнь и тем, что в нем
хорошо, и тем, что в нем дурно. Оно приносит
людям пользу и той любовью, и той ненавистью,
которую оно в них возбуждает. Скверно только
бессилие, губительна только апатия; а столкнове
ние и борьба враждебных сил в области мысли
всегда приводят за собой современем плодотвор
ное примирение в высшей сфере более широкого
синтеза. Поэтому давай нам бог побольше вели
ких умов, и пусть они куралесят в области мысли,
как душе их будет угодно. Мы, простые люди,
вследствие этого во всяком случае останемся
в чистых барышах. По геометрии выходит, ко
нечно, что прямая линия есть кратчайшее расстоя
ние между двумя точками. Но многовековой опыт
действительной жизни доказывает неопровержи
мо, что люди в исторической практике не при
знают этой математической истины и умеют по267
двигаться вперед не иначе, как зигзагами, то есть
кидаясь из одной крайности в другую. Н р а в у
всего человечества препятствовать невозможно,
а поэтому приходится махнуть рукой на неизбеж
ные зигзаги и только радоваться тому, когда
крайности начинают быстро и порывисто сме
няться одна другой. Значит, пульс хорош, и че
ловеческая мысль не порастает плесенью.
XXV
.
А теперь потолкуем о Гейне. Мне кажется, это
го писателя каждый истинный сын XIX века дол
жен любить совсем особенной, нежной, исключи
тельной, почти болезненной любовью. Мне ка
жется, все умственное развитие человека можнЪ
сразу измерить и обсудить, смотря по тому, как
и насколько он понимает поэтическую деятель
ность Генриха Гейне. Этот писатель — самый но
вейший из мировых поэтов; он всех ближе к нам
по времени и по всему складу своих чувств и по
нятий. Он целиком принадлежит нашему веку; он
воплотил в себе далее все его слабости и смешные
стороны; даже расстроенные и разбитые нервы
Гейне указывают ясно на его кровное родство
с тем великим и просвещенным веком, в котором
средневековые костры и плахи сменились пенсиль
ванскими общеполезными учреждениями для про
изводства умалишенных и в котором феодальные
права уступили место мануфактурному паупе
ризму. Гейне — поэт капризного, раздражитель
ного, нетерпеливого и непоследовательного века.
Он сам весь состоит из противоречий и сам себя
дразнит этими противоречиями, и даже не про
бует помирить их между собой, и сам то плачет,
то смеется над своими ощущениями, то вд^уг
кидается в борьбу жизни и с полной силой юно
шеской горячности и мужественного убеждения
268
объясняет людям различие между остатками про
шедшего и живыми проблесками будущего. И
этой последней, живительной стороной своей дея
тельности Гейне также целиком принадлежит к на
шему веку, который все-таки лучше всех прошед
ших веков и в котором все-таки, несмотря ни «а
какие глупости и подлости, химия и физиология
подняли человеческий ум на беспримерную и для
наших предшественников непостижимую высоту
самостоятельного знания.
Вот и соображайте, какого рода результат дол
жен получиться, когда человеку приходится жить
при ежеминутном столкновении таких несовмести
мых крайностей. Разумеется, должно получиться
нечто вроде горячего льда и сухой воды; и в че
ловеческом характере, действительно, встречаются
ежеминутно такие вопиющие внутренние противо
речия, которые сильно смахивают на сухую воду
и горячий лед. Нам эти противоречия, порожден
ные всем складом европейской жизни, должны
быть особенно дороги и интересны; нам необхо
димо внимательно изучать эту патологию нашего
ума и характера, потому что только вниматель
ное изучение болезни дает нам возможность
отыскать лекарство. Вот тут-то именно никто не
может заменить обществу великого поэта. Ника
кое научное исследование не определит вам ду
шевную болезнь целой эпохи с такой ясностью,
с какой нарисует ее великий художник. Тут вполне
оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о том,
что поэты из века в век возвещают человечеству
его страдания. Потом, когда поэт собрал в один
фокус, в одну ярко освещенную картину все раз
розненные симптомы господствующей болезни
века, тогда начинается работа мыслителей, кото
рые анализируют вопрос во всех его отдельных
подробностях и выводят явления настоящей ми
нуты из отдаленных и глубоко затаившихся исто269
рических, бытовых и экономических причин. Ли
рика Гейне есть не что иное, как неподражаемо
полная и правдивая картина тех чувств и мыслей,
тех тревог и огорчений, тех чередующихся при
падков энергии и апатии, среди которых тратят
свою жизнь лучшие люди XIX века. Гейне не за
хотел или не мог наблюдать и изображать своих
современников со стороны; с естественной само
надеянностью истинного гения он понял, что носит
в самом себе все заветные чувства и мысли своей
эпохи; он принял самого себя за чистейший тип
современного человека и посвятил всю свою жизнь
на то, чтобы высказаться со всех сторон, со всей
искренностью и непосредственностью, какая толь
ко доступна человеку XIX столетия. Поэтому все
двадцать томов сочинений Гейне составляют одно
неразрывное целое. И проза, и стихи, и любовь,
и политика, и дурачества, и серьезные рассужде
ния— все это только в общей связи получает
свой полный смысл и свое настоящее значение.
Если вы развинтите Гейне на части и будете рас
сматривать каждый кусочек отдельно, то, разу
меется, вы получите много великолепных алмазов
и большую кучу негоднейших черепков, переме
шанных с глиной и грязью. Тогда вы скажете,
что алмазы надо сохранить и оправить в золото,
а всю кучу примеси спустить в помойную яму.
И таким приговором вы докажете несомненно, что,
читая Гейне, вы смотрели в книгу и видели фигу.
Гейне именно тем и неоценим, что он дает мысли
телям нашего времени целые рудники материалов
для самых глубоких психологических наблюдений
и исследований. Читая Гейне, вдумывайтесь имен
но в то, каким образом грязь перемешана в чело
веке с алмазами, старайтесь понять, почему один
и тот же гениальный ум волновался высшими со
мнениями, порывами и страстями, доступными че
ловеческой личности, и в то же время тратился на
270
то, чтобы воспевать с искренним воодушевлением
голубые или черные глазенки вертлявых париж
ских лореток. Посмотрите, например, письма Гей
не с Гельголанда, помещенные в его книге о Берне
и написанные после июльских событий 1830 года,
и потом вдруг прочтите в его же книге «Neue
Gedichte»* стихотворения под рубриками: «Анже
лика», «Серафима», «Катарина». На Гейне очень
часто находит блажь: он вдруг воображает себе,
что он может забыть все, что мешает мыслящему
человеку предаваться телячьим восторгам; начи
нается бегание и прыгание на одной ножке; — ах,
боже мой, какое благополучие! воздух тепел,
птички поют, роза цветет, барышня улыбается; да
вайте бегать, давайте любезничать, давайте делать
венки и букеты из васильков и ландышей! Да
вдруг ему самому сделается уже чересчур смешно,
глядя на собственную прыткость и веселость; а по
том досадно; а потом опять смешно; а потом и
смешно, и досадно в одно и то же время. Оплюет
он вдруг и барышню, и цветы, и природу. Все
скверно, все никуда не годится. И желать нечего,
и плакать не о чем, потому что все это пустяки и
ни на что не следует обращать внимания. К выде
лыванию таких рулад неизбежно должен притти
гениальный ум, не имеющий возможности найти
себе такое дело, которое соответствовало бы его
силам. А что люди, одаренные силами Гейне, оста
ются вне практической деятельности, — это, ко
нечно, составляет одну из самых крупных болячек
нашего времени и одно из самых капитальных
препятствий к выздоровлению. Рисовать картину
страданий — это без сомнения тоже деятельность,
и даже, при данных условиях места и времени,
деятельность очень полезная. Но, вероятно, са
мый заклятый эстетик согласится со мною, что
* Перевод:
«Новые стихотворения». Ред.
271
было бы не в пример лучше, если бы такая дея
тельность была совершенно не нужна и даже не
возможна. Если бы Гейне был вполне удовлетво
рен жизнью, если бы он чувствовал себя счастли
вым, то, по всей вероятности, он не сделался бы
поэтом, потому что его поэзия была бы странной
аномалией в такой среде, в которой люди, подоб
ные ему, могли бы устраивать свою жизнь сооб
разно с требованиями своего чувства и своего рас
судка. Разве может возникнуть и развиться пато
логия там, где не бывает болезней? А вернейшим
симптомом такого отсутствия болезней было бы
то обстоятельство, что умные люди, подобные
Гейне, не стояли бы в разряде людей лишних, не
практичных, беспокойных и вредных.
Если, таким образом, мы примем всю литера
турную деятельность Гейне за цельное выражение
того невольного и неизбежного различия, полу
трагического, полукомического, которое суще
ствует между нашими заветными желаниями и на
шими вседневными поступками, если мы взглянем
на Генриха Гейне как на гениального человека,
который в течение всей своей жизни стучится го
ловой в толстую стену человеческих глупостей и,
наконец, по временам сам глупеет от этого невы
носимого занятия, — то, разумеется, все балагур
ства Гейне, все фривольности и тривиальности
примут в наших глазах значение драгоценнейших
фактов из психологической истории современного
человека.. Да, подумаем мы, вот как круто при
ходится иногда умным людям! Вот какими мину
тами пошлости и пустоты общая бессмысленность
исторической жизни награждает иногда перво
классных гениев! Подобные размышления никак
нельзя назвать бесплодными, и мы должны будем
сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что
он не утаил от нас тех печально комических ми
нут своей жизни, когда он, отчаиваясь в торже272
стве разума, пробовал сделаться шаловливым ре
бенком и начинал то изнывать у ног какой-нибудь'*
Анжелики, то с простодушием пансионерки уми
ляться над зеленой травой и над голубыми фиал
ками.
Гейне вызвал целые легионы подражателей, и
этот факт служит еще новым подтверждением той
ужасно старой и печальной истины, что глупых
людей очень много. Гейне можно и должно изу
чать, но подражать ему нет, во-первых, никакой
надобности, а во-вторых, никакой возможности.
Когда очень замечательный человек рассказывает
нам откровенно о своих заблуждениях, о глупо
стях и проступках своей жизни, о позорных ми
нутах уныния, праздности, апатии и беспечности,
тогда мы слушаем этот рассказ с жадным внима
нием и с глубоким уважением. Ошибки и страда
ния великого ума всегда поучительны, потому что
в них всегда чувствуется влияние общих причин,
повертывающих в ту или в другую сторону
жизнь целой исторической эпохи. На этом осно
вании мы читаем и признаем полезными книгами
и лирику Гейне, и «Confessions»* Жан-Жака
Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушкин или Козявкин начинает повествовать нам стихами или
прозой о том, как он кутил и опять желает ку
тить, как он любил и как ему рога наставили,
как он проигрался в карты и желает получить
реваншик, а подлец Михрюшкин забастовал не
во-время, — тогда мы говорим ему: уймись, лю
безный! помажь свои душевные нарывы деревян
ным маслом и прикрой их тряпочкой! у нас этого
добра и без тебя достаточно.
Любопытно заметить, до какого полного извра
щения естественных понятий дошла эстетика, то
есть та критика, которая предпочитает форму
* П е р е в о д : «Исповедь». Ред.
ivi Д, И. Писарев
27J
содержанию. Эстетик скажет вам, не задумываясь,
что у такого-то поэта хватает сил на лирическое
стихотворение, но что он непременно опросто
волосится, если примется писать роман или драму.
Вы, мой читатель, наверное, так привыкли к та
ким суждениям, что в недоумении спросите у меня:
«А что же в этом мнении эстетика есть такого
уродливого и бессмысленного? Это чистая правда.
Вот, например, — г. Полонский. Кропает он лири
ческие Стишки — и ничего: концы с концами сво
дит. А попробовал написать роман «Свежее пре
дание»— вышло убийственно. Сунулся соорудить
драму «Разлвд» — вышло еще того хуже, так что
Нестор Васильевич Кукольник может сказать, по
тирая руки: «Нашего полку прибыло!» — Справед
ливо изводите рассуждать, господин читатель. Но
вы подумайте все-таки, что такое лирика? Ведь
это просто публичная исповедь человека? Пре
красно. А на что же нам нужна публичная испо
ведь такого человека, который решительно ничем,
кроме своего желания исповедываться, не может
привлечь к себе наше внимание? Чем его огорче
ния или радости интереснее моих или ваших?
Тем, что он умеет укладывать их в рифмованные
ямбы и хореи? Кажется мне, что эта. причина не
удовлетворительна. Лирика, по самой сущности
своей, гораздо искреннее и непосредственнее эпи
ческой и драматической поэзии. Драму или ро
ман надо долго обдумывать; при этом надо изу
чать жизнь; плоды этого изучения могут быть
интересны и поучительны даже в том случае, если
автору не удается придать характерам ту яркость,
которая создается только силой таланта. Лири
ческий поэт, напротив того, только ловит и фикси
рует мимолетные настроения своей собственной
особы, и достоинство лирического произведения
заключается именно в том, чтоб оно было как
можно безыскусственнее, чтобы чувство или мысль
274
поэта были Схвачены и показаны читателю во
всей своей непосредственности и неподкрашенности. Но ведь показываться в такой первобытной
наготе имеет право только то, что замечательно
само по себе и что вследствие этого пробудит
в других людях деятельность чувства и мысли.
Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и
самое трудное проявление искусства. Лириками
имеют право быть только первоклассные гении,
потому что только колоссальная личность может
приносить обществу пользу, обращая его внима
ние на свою собственную частную и психическую
жизнь.
Отчего же у нас лирики плодятся, как дожде
вые грибы? Да просто оттого, что журналисты
привыкли наполнять стишками те белые страницы,
или, выражаясь типографским языком, белые по
лосы, которые случайно остаются между отдель
ными статьями. И до сих пор не могут сообра
зить почтенные журналисты, что белая полоса
гораздо лучше лирического стихотворения, вопервых, потому, что читатель не тратит на белую
полосу ни одной минуты времени, во-вторых, по
тому, что редакция за белую полосу не платит ни
копейки денег, в-третьих, потому, что существо
вание белых полос не поощряет ни одной отрасли
предосудительного тунеядства. К крайнему мое
му огорчению, даже «Русское слово» не возвыси
лось еще до понимания этих высоких и мудрых
истин.
XXVI
Литературные противники нашего реализма
простодушно убеждены в том^ что мы затвердили
несколько филантропических фраз и во имя этих
афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего не
льзя изготовить обед, сшить платье или выстроить
жилище голодным и прозябшим людям. Пони18*
275
мая нас таким образом, они, конечно, должны
были ожидать, что мои размышления о науке и
искусстве будут заключать в себе бесконечные
упреки Шекспиру, Гете, Гейне и другим подобным
негодяям за трату драгоценного времени на не
производительные занятия. Они ожидали, вероят
но, что я так и пойду косить без разбору: Ш е
кспир— не Шекспир, Гете — не Гете, чорт мне не
брат, все дураки и знать никого не хочу. Такому
направлению моих умозрений они были бы не
сказанно рады, потому что, разумеется, подобная
премудрость не поколебала бы в умах читателей
ни одной буквы из старого эстетического коде
кса. Теперь, когда они увидят, что я взялся за дело
совсем не таким косолапым манером, им сделает
ся очень досадно, и они начнут звонить в своих
журналах, что реалисты доврались до чортиков
и теперь поневоле поворачивают оглобли назад.
И все это будет с их стороны голая выдумка.
Все мысли, высказанные мною в этой статье, со
вершенно последовательно вытекают из того, что
я говорил во всех моих предыдущих статьях. Ни
малейшего поворота назад не случилось, и мне
не приходится раскаиваться ни в одном слове, ска
занном мною прежде. Я советовал г. Щедрину за
няться компиляциями по естественным наукам 18 и
говорил по этому поводу, что меня радует увя
дание нашей беллетристики, как симптом возра
стающей зрелости нашего ума. Я и теперь повто
ряю то же самое, и из этого суждения о наших
домашних делах все-таки никак не вытекает для
меня обязанность ругать Шекспира, Гете, Гейне
и других подобных негодяев. Эти негодяи были
прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и те
перь, и прежде, и всегда был глубоко убежден
в Том, что мысль, и только мысль, может переде
лать и обновить весь строй человеческой жизни.
Все то безусловно полезно, что заставляет нас за276
думываться и что помогает нам мыслить. Конеч
ная ^ель всего нашего мышления и всей деятель
ности каждого честного человека все-таки состоит
в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный во
прос о голодных и раздетых людях; вне этого
вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило
заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос
этот и сам по себе так громаден и так сложен,
чтб на его разрешение требуется вся наличная
сила и зрелость человеческой мысли, все напряже
ние человеческой энергии и любви и весь запас
собранных человеческих знаний; излишку ока
заться не может, а напротив, оказывается до сих
пор громадный недочет, который поневоле будут
пополнять рабочие силы следующих столетий.
Стало быть, мы вовсе не расположены откиды
вать годный материал из любви к процессу отки
дывания. Это был бы с нашей стороны нелепей
ший ригоризм и формализм, если бы мы вздума
ли браковать гениальную мысль на том основании,
что она проведена' в поэме илщ в романе, а не
в теоретическом рассуждении. Если бы мы рассу
ждали таким образом, то нам пришлось бы поста
вить критические статьи г. Эдельсона выше ро
мана «Отцы и дети». Но мы рассуждаем совер
шенно иначе. Мы твердо убеждены в том, что
каждому человеку, желающему сделаться полез
ным работником мысли, необходимо широкое и
всестороннее образование, в котором Гейне, Гете,
Шекспир должны занять свое место наряду с Ли
бихом, Дарвином и Ляйеллем. Ничто так сильно
не расширяет весь горизонт наших понятий о при
роде и о человеческой жизни, как близкое зна
комство с величайшими умами человечества, к ка
кой бы отдельной области знания или творчества
ни относилась деятельность этих первоклассных
представителей нашей породы. Но, во-первых, зна
комясь с этими титанами, надо непременно сохра277
нить в отношении к ним полную самостоятель
ность своей собственной мысли, а иначе придется
принимать за чистое золото даже то, что соста
вляет грязное пятно в произведении титана. Вовторых, и это главное, надо знакомиться только
с настоящими титанами и преспокойно проходить,
не кивая головой, мимо многих и премногих ку
миров, выставляемых на поклонение толпы усерд
ными историками различных литератур. Посове
туйтесь, например, с каким-нибудь записным гу
манистом: он вам будет доказывать, что не про
читать Горация, Овидия, Виргилия, Цицерона —
значит остаться круглым невеждой. -Заговорите
с французом: он вам поклянется честью, что вам
совершенно необходимо прочитать все трагедии
Корнеля, все трагедии Расина, все сатиры Буало,
все сладости Фенелона и все проповеди Боссюэта, которого французы до сих пор считают
великим гением и даже глубоким, хотя и одно
сторонним, историком. Обратитесь к г. Лонгинову, и он вам, как русскому человеку, поставит
в непременную обязанность прочитать целиком
Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковско
го. Счастлив ваш бог, если он еще позволит вам
не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумароко
ва, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Ш а
ликова. Да нет! Вряд ли он окажет® вам эту вели
кую милость. Нельзя, скажет. Эти пийтели имеют
историческое значение. А что же вы, в самом
деле, ' будете за человек, если не будете знать
истории нашей великой и прекрасной литературы?
Если вы одарены от природы чувством благо
разумного самосохранения, то вы, разумеется, не
послушаете ни г. Лонгинова, ни гуманиста, ни
француза. Вы прочитаете Шекспира, Байрона,
Гете, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногих
других поэтов, замечательных не тем, что они
когда-то жили и что-то написали, а тем, что они
278.
действительно высказали людям несколько дель
ных и умных мыслей. Из наших же писателей вы
возьмете Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя,
отнесетесь к ним с самой строгой критикой и уви
дите тогда, что ваше чисто литературное образо
вание совершенно окончено. Я не говорю о но
вейших писателях, например, о Жорж Занде, Вик
торе Гюго, Диккенсе, Теккерее и о лучших пред
ставителях нашей собственной беллетристики.
Этих писателей вы уже непременно прочтете, даже
не для литературного образования, а просто для
того, чтобы следить за современным развитием
европейской мысли. Тут, разумеется, вам при
дется прочитать много пустяков, например: «Фан
ни» — Фейдо, «Саламбо» — Флобера и такие по
вести Тургенева, как «Первая любовь» и «Призра
ки». Против этого не поможет уж никакой после
довательный реализм. Чтобы приносить людям
пользу, надо знать, что их интересует и о чем они
в данную минуту толкуют, а для этого приходится
очень часто просматривать ничтожнейшие романы,
пробегать пустейшие нумера журналов и газет и
выслушивать от разных добродушных личностей
еще более пустые рассуждения. Кто хочет зани
маться психиатрией, тот поневоле должен выслу
шивать рассказы всяких Поприщиных о шишке
алжирского бея. Но и психиатру нет особенной
надобности читать в пыльных архивах и библио
теках умозрения всех тех Поприщиных, которые
жили раньше нас и которых бредни, на беду нашу,
не'затерялись.
Из всего, что я говорил с самого начала этой
статьи, читатель видит ясно, что я отношусь с глу
боким и совершенно искренним уважением к пер
воклассным поэтам всех веков и народов. Задача
реалистической критики в отношении ко всей
массе литературных памятников, оставленных нам
отжившими поколениями, состоит именно в том,
*
-279
чтобы выбрать из этой массы то, что может со
действовать нашему умственному развитию, и
объяснить, каким образом мы должны распоря
жаться с этим отборным материалом. Такая об
ширная задача не по силам одному человеку, но я,
с своей стороны, постараюсь, все-таки, со време
нем подвинуть это дело вперед, представляя моим
читателям ряд критических статей о тех писате
лях, которых чтение я считаю необходимым для
общего литературного образования каждого мыс
лящего человека.
В этой статье я, разумеется, могу только ука
зать на эту задачу и ограничиться неопределен
ным обещанием. Но у реалистической критики
есть и другая задача, может быть, еще более
серьезная. Делая строгую оценку литературным
трудам прошедшего, она должна еще вниматель
нее и строже следить за развитием литературы
в настоящем. Здесь на ней лежит обязанность
быть несравненно более разборчивой и требова
тельной. Когда мы говорим, например, о Шекспи
ре, мы просто берем у него то, что находим в на
личности. Что есть — за то спасибо; чего нет —
не взыщите; на нет и суда нет. Наряжать над
Шекспиром следствие по тому вопросу, был ли он
прогрессистом или ретроградом, смешно, нелепо и
несправедливо, по той простой причине, что люди
XV I века еще не имели понятия о таком прогрес
се, который охватывает все отправления обще
ственной жизни и все отрасли человеческого мыш
ления. Но если бы в наше время появился поэт
с громадным ^талантом, и если бы он, подобно
Шекспиру, посвятил лучшие силы своего таланта
на создавание исторических драм, то реалистиче
ская критика имела бы полное право отнестись
очень сурово к тому обстоятельству, что колос
сальный талант отвертывается от интересов жи
вой действительности и уходит в область «беспе;80
, .
чального созерцания», изобретенного «Отече
ственными записками» или «Петербургскими ве
домостями».
__
Я твердо убежден в том, что настоящий поэт,
родившийся в XIX веке и получивший здоровое
человеческое образование, не может быть ни рет
роградом, ни индиферентистом. Стало быть, если
в произведениях даровитого человека будут'про
глядывать допотопные тенденции или холодное
равнодушие к живым потребностям современно
сти, — реалистическая критика обязана вниматель
но разобрать причины такого ненормального и
вредного явления. При ближайшем рассмотрении
дела непременно окажется или полное невежество
данного субъекта, или односторонность развития,
или слабоумие, или молчалинство, или вообще что,нибудь способное испортить и сбить с пути самые
лучшие задатки литературного дарования. Эти ре
зультаты ближайшего исследования реалистиче
ская критика должна выставить напоказ в самых
ярких красках, для того, чтобы публика перестала
обольщаться-таким оракулом, который говорит ей
вредную галиматью или, по крайней мере, отвле
кает ее внимание от полезного дела. В наше вре
мя можно быть реалистом, и следовательно, по
лезным работником, не будучи поэтом, но быть
поэтом и в то же время- не быть глубоким и со
знательным реалистом -4- это совершенно невоз
можно. Кто не реалист, тот не' поэт, а просто да
ровитый неуч, или ловкий шарлатан, или мелкая,
но самолюбивая козявка. От всей этой назойливой
твари реалистическая критика должна тщательно
оберегать умы и карманы читающей публики.
XXVII
Если вы предложите мне вопрос: есть ли у нас
в России замечательные поэты? — то я-вам отве
чу без всяких обиняков, что у нас их нет, никогда
281
не было, никогда не могло быть — и, по всей ве
роятности, очень долго еще не будет. У нас былщ
или зародыши поэтов, или пародии на поэта. За
родышами можно назвать Лермонтова, Гоголя,
Полежаева, Крылова, Грибоедова; а к числу паро
дий я отношу Пушкина и Жуковского. Первые
остались на всю жизнь в положении зародышей,
потому что им нечем было питаться и некуда было
развиться. Силы-то у них были, но не было ни
впечатлений, ни простора. Поэтому ничего и не
вышло, кроме односторонних попыток и недоду
манных зачатков разумного миросозерцания.
В самом деле, что такое «Мертвые души»?
Изображал человек «бедность, да бедность, да
несовершенства нашей жизни», и все шло хорошо
и умно; а потом вдруг, в самом конце, пустил
бессмысленнейшее воззвание к России, которая
будто бы куда-то мчится, как бешеная тройка, да
так шибко мчится-, что остальные народы только
рот разевают и диву даются. И кто тянул из него
эту дифирамбическую тираду? Решительно никто.
Так, сама собой вылилась, от полноты невежества
и от непривычки к широкому обобщению фактов.
И вышла чепуха: с одной стороны — «бедность»,
а с другой — такая быстрота развития, что любодорого. Ничего цельного и не оказалось. И уже
в этом лирическом порыве сидят зачатки второй
части «Мертвых душ» и знаменитой «Переписки
с друзьями».
А что такое басни Крылова? Робкие намеки на
сильный ум, который никогда не может и не осме
лится развернуться во всю свою ширину.
Но эти зародыши все-таки заслуживают нашего
уважения, заслуживают именно тем, что не могли
развернуться. Значит, при благоприятных обстоя
тельствах из этих элементов могло выработаться
что-нибудь порядочное. Но о людях второй ка
тегории, о пародиях на поэта, нам приходится
282
высказать совершенно противоположное мнение.
Эти люди процветали «яко крин», щебетали, как
птицы певчие, и совершили «в пределе земном
все земное», то есть все, что они были способны
совершить. В произведениях этих людей нет ни
каких признаков болезненности или изуродованности. Им было весело, легко и хорошо жить на
свете, и это обстоятельство, конечно, останется
вечным пятном на их прославленных именах.
Впрочем нет, — не в е ч н ы м . Так как эти гос
пода уже теперь ничем не связаны с современным
развитием нашей умственной жизни, то мы можем
надеяться, что их прославленные имена скоро за
будутся или, по крайней мере, превратятся для
русских людей в такие же пустые звукй, в какие
уже давно превратились имена Ломоносова, Су
марокова, Державина и всяких других бардов
прошлого столетия. С именем Жуковского уже
совершилось это превращение, но Пушкина мы
все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боим
ся признаться сами себе, что мы его почти со
всем забыли. О Пушкине до сих пор бродят в об
ществе разные нелепые слухи, пущенные в ход
эстетическими критиками; общество не сличает
этих слухов с существующими фактами, но по
вторяет их с чужого голоса и, по старой при
вычке к этим слухам, считает их за непреложную
истину, не требующую никаких доказательств.
Говорят, например, что Пушкин — великий поэт,
и все этому верят. А на поверку выходит, что
Пушкин просто великий стилист, и больше ни
чего. Говорят далее, что Пушкин основал нашу
новейшую литературу, и этому тоже верят. И это
тоже вздор. Новейшую литературу основал не
Пушкин, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только
нашими милыми лириками; а под влиянием Го
голя сформировались Тургенев, Писемский, Не
красов, Островский, Достоевский; да, кроме того,
283
произведения Гоголя дали решительный толчок
нашей реальной критике.
Многим читателям мои размышления о Пуш
кине покажутся возмутительно дерзкими. Я сам
с своей стороны признаю за читателем полное
право требовать от меня серьезных и подробных
-фактических доказательств, но теперь, в этой
статье, я все-таки не буду распространяться о ли
тературной деятельности великого Пушкина. Об
этом мы поговорим впоследствии. Тогда я пред
ставлю моим читателям ряд статей под заглавием
«Пушкин и Белинский». В этих будущих статьях
я разберу деятельность прославленного поэта и
постараюсь, с точки зрения последовательного
реализма, перерешить те вопросы, которые Бе
линский решал на основании эстетических догма
тов, потерявших для нас всю свою обязательную
силу.
/
В настоящее время у нас также нет поэтов; наше
общество все еще слишком неподвижно, чтобы
содействовать развитию тех высших сил ума и
чувства, которыми должен обладать гениальный
поэт. Но между нашими литераторами есть не
сколько умных и добросовестных работников, по
мещающих в различных журналах романы, пове
сти и драматические произведения. Деятельность
этих людей никак нельзя назвать бесплодной. Они
заставляют своих читателей задумываться над раз
личными вопросами вседневной жизни; они дают
реальной критике удобный случай разъяснить эти
вопросы. Публика прислушивается к этим разъяс
нениям, и смысл понемногу начинает шевелиться,
медленно просачиваясь в такие темные углы, ко
торые спокон веку были совершенно незнакомы
с подобной роскошью. .
При самом беглом взгляде на современные лите
ратуры всех цивилизованных народов вы тотчас
заметите тот. общий факт, что над всеми отрасля284
ми поэтического творчества далеко преобладает
так называемый г р а ж д а н с к и й э п о с , или,
проще, романы, повести и рассказы. Роман втянул
в себя всю область поэзии, а для лирики и для
драмы остались только кое-какие крошечные
уголки. Если, например, в год будет напечатано
с т о листов драматических произведений и лири
ческих стихов, то можно сказать наверное, что
в тот же промежуток времени появится, по край
ней мере, т ы с я ч а листов ройанов, повестей и
рассказов. А если бы мы могли сравнить цифры
читателей, то перевес г р а ж д а н с к о г о э п о с а ,
без сомнения, оказался бы еще поразительнее. Д а
лее не мешает заметить, что романы в стихах или
эпические поэмы в наше время сделались невоз
можными и что эту невозможность признали, на
конец, сами эстетики.
Это решительное преобладание романа, и при
том романа в прозе, показывает очевидно, что
в отношениях читающего общества к поэзии со
вершился глубокий и радикальный переворот.
В былое время на первом плане стояла ф о р м а ;
читатели восхищались совершенством внешней
техники и вследствие этого безусловно предпочи
тали стихи прозе. Еще во второй половине про
шлого столетия Вольтер, превознося фенелонова
«Телемака», говорит в то же время, что все-таки
«Телемака» невозможно сравнить с эпическими
поэмами, потому что самая посредственная поэма,
написанная стихами, стоит неизмеримо выше пре
восходнейшего романа в прозе. Теперь, напротив
того, внимание '’Читателей безраздельно напра
вляется на с о д е р ж а н и е, то есть на мысль.
О т ф о р м ы требуют только, чтобы она не ме
шала содержанию, то есть, чтобы тяжелые и за
путанные обороты речи не затрудняли собой раз
витие мысли. По нашим теперешним понятиям,
красота языка заключается единственно в его
ясности и выразительности, то есть исключительно
в тех качествах, которые ускоряют и облегчают
переход мысли из головы писателя в голову чи
тателя. Достоинство телеграфа заключается в том,
чтобы он передавал известия быстро и верно,
а никак не в том, чтобы телеграфная проволока
изображала собой разные извилины и арабески.
Эту простую истину наш практический век поне
многу, сам того не замечая, приложил к области
поэтического творчества. Язык сделался тем, чем
он должен быть, — именно средством для передачи
мысли. Форма подчинилась содержанию, и с этого
времени укладывание мысли В размеренные и риф
мованные строчки стало казаться веем здравомы
слящим людям ребяческой забавой и напрасной
тратой времени. По привычке к старине, мы еще
не решаемся громко сознаться в том, что мы дей
ствительно так смотрим на это дело, но живые
факты сами говорят за себя. Общее число писате
лей и читателей увеличивается, и в то же время
число стихотворцев и стихолюбителей умень
шается. Стихотворцы отходят на второй план.
Кто, например, стоит во главе современной ан
глийской литературы? Уж, конечно, не Теннисон,
а Диккенс, Теккерей, Троллоп, Эллиот, Бульвер,
то есть все прозаики и все романисты. Какие со
чинения Виктора Гюго известны всей читающей
Европе? Не лирика и не трагедии, a «NotreDame
de Paris»* и «Les Miserables»**— два романа, напи
санные прозой.
Роман настолько же удобнее всех остальных
видов поэтического творчества, насколько совре
менный сюртук и - прическа удобнее костюмов и
париков, бывших в моде при Людовике X IV . Ро
манист распоряжается своим материалом, как ему
* П е р е в о д : «Собор Парижской богоматери». Ред.
** П е р е в о д : «Отверженные». Ред.
286
угодно; описания, размышления, психологические
анализы, исторические, бытовые и экономические
подробности, — все это с величайшим удобством
входит в роман и все это почти совсем не может
войти в драму. О лирике уж vr говорить нечего.
Кроме того, роман оказывается самой п о л е з
н о й формой поэтического творчества. Когда пи
сатель хочет предложить на обсуждение общества
какую-нибудь психологическую задачу, тогда ро
ман оказывается необходимым и незаменимым
средством. В обществе и в семействе ежеминутно
случаются между различными типами и характе
рами более или менее резкиё и болезненные столк
новения. При подобных столкновениях обе сторо
ны очень часто считают себя правыми. Когда дело
идет о денежном интересе, тогда начинается разо
рительный судебный процесс. Когда, же затронут
вопрос, входящий в область чувства или мысли,
тогда свод законов, разумеется, молчит, и дело
может быть решено только приговором или, вер
нее, влиянием общественного мнения. Но в нераз
витом обществе общественное мнение чрезвычайно
слабо; это мнение слагается из толков соседей и
знакомых, которые произносят свои суждения
ощупью, на авось, под влиянием своих мельчай
ших симпатий и антипатий. При каждом огласив
шемся столкновении между отцом и сыном, бра
том и сестрой, мужем и женой обе воюющие
стороны непременно_находят себе между соседями
и знакомыми усердных утешителей и красноречи
вых защитников. Эти господа своим участием
всегда растравляют ссору и увеличивают упорство
враждующих личностей. Иной добродушный че
ловек, обдумавши на досуге свой поступок, мог
бы почувствовать, что он в самом деле ошибся и
обидел ни за грош своего ближнего, но когда этот
человек встречает в своих знакомых полное со
чувствие, когда посторонние люди совершенно
287
искренно доказывают ему, что он-то сам и есть
угнетенная невинность, тогда, очевидно, беспри
страстное обсуждение собственных ошибок стано
вится чрезвычайно затруднительным, и глупейшая
ссора отравляет вследствие этого две человече
ские жизни, которые могли протекать рядом в вож
деленном согласии. Множество неприятностей и
мелких страданий, истощающих человеческие силы
и опошляющих человеческую личность, происхо
дит таким образом от слепоты или неразвитости
■ общественного мнения, от поголовного неумения
(определять те границы, внутри которых отдельная
•личность может развертывать свои силы, не по
сягая на свободу и на человеческое достоинство
других личностей.'
Самым могущественным средством для правиль
ного развития общественного мнения является,
конечно, общественная жизнь. Когда общество
заботится о собственных интересах, тогда оно бы
стро выучивается контролировать поступки и убе
ждения своих отдельных членов. Но так как раз
витие общественной жизни зависит не от лите
ратуры, а от исторических обстоятельств, то мне
незачем и распространяться об этом щекотливом
предмете.
Вторым средством, гораздо менее могуществен
ным, но все-таки не совсем ничтожным, является
влияние литературы. Задавать обществу психоло
гические задачи, доказывать ему столкновения
.между различными страстями, характерами и поло
жениями, наводить его на размышления о при
чинах этих столкновений"!! о средствах устранить
подобные неприятности, заставлять его сочув
ствовать в книге тому лицу или поступку, против
которого оно (общество) вооружилось бы в дей
ствительной жизни вследствие своих закорене
лых предубеждений, — все это значит формиро
вать общественное мнёнйе, значит — говорить об288
ществу: вглядывайся, вдумывайся в свою соб
ственную жизнь, выметай из нее, хотя понемногу,
тот -мусор ложных понятий, на котором живые
люди, твои же собственные члены, спотыкаются и
ломают себе ноги!
В решении чисто психологических вопросов ро
ман незаменим; напротив того, в решении чисто
социальных вопросов роман должен уступить пер
вое место серьезному исследованию. Но так как
чисто социальный интерес почти всегда сплетается
с интересом чисто психологическим, то роман мо
жет принести очень много пользы даже для разъ
яснения социального вопроса. Представьте себе,
например, что вас поразили вседневные явления
вопиющей человеческой бедности. Если вы с своей
стороны хотите сделать вашим умственным тру
дом что-нибудь для облегчения этого зла, то вы,
разумеется, должны изучить причины и видоизме
нения бедности, собрать как можно больше сы
рых фактов и достоверных статистических цифр,
привести все эти материалы в порядок и вывести
ваши посильные практические Заключения. Труд
ваш окажется таким образом серьезным исследо
ванием и деловым проектом. Его прочитают и
обдумают те люди, которые имеют возможность и
желание осуществлять в действительной жизни
общеполезные идеи кабинетных мыслителей. Так,
например, в 1860" году Эмил'ь Лоран издал
очень дельную книгу о французском пауперизме
и об обществах взаимного вспомоществования.
Эту книгу прочитали, наверное, все президенты
подобных обществ, и некоторыми из советов Ло
рана воспользовались, быть может, те префекты и
мэры, которых мысли не сосредоточены были
исключительно на приискивании средств для полу
чения ордена Почетного легиона. Для таких чи
тателей, разумеется, необходимы факты и цифры,
а не картины трудовой жизни и душевной борьбы.
19 Д. И. Писарев
289
Но бедность порождает разврат и преступления,
а общество обрушивается всей тяжестью своего
гнева и презрения на тех людей, которые споткну
лись на трудном пути и которые могли бы снова
подняться на ноги, если бы их не давило в грязь
все, что их окружает, и все, что, благодаря более
благоприятным случайностям, успело сохранить
наружный ви'д чистоты и безукоризненности.
Если вас поразила эта чисто психологическая
сторона бедности, то вы напишете роман, и со
зданные вами картины заставят многих из ваших
читателей задуматься над той кровавой несправед
ливостью или, проще, над той поразительной
тупостью, которую мы, люди добродетельные, об
наруживаем ежедневно в наших отношениях к ум
ственным и- нравственным болезням голодного и
раздетого человека. Романы Диккенса и Виктора
Гюго направляются вовсе не к тому, чтобы раз
жалобить толстых филистеров и выпросить у них
копеечку на пропитание вдов и сирот; эти ро
маны доказывают нам с разных сторон полную
логическую несостоятельность всех наших оби
ходных понятий о# пороке и преступлении. Капля
долбит камень non'vi, sed saepe cadendo (не силой,
но часто повторяющимся падением), и романы не
заметно произведут в нравах общества и в убе
ждениях каждого отдельного лица такой ради
кальный переворот, какого не произвели бы без
их содействия никакие философские трактаты и
никакие ученые исследования. Поэтому каждый
последовательный реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго замечательных
поэтов и чрезвычайно полезных работников на
шего века. Эти писатели составляют своими про
изведениями живую связь между передовыми мы
слителями и полуобразованной толпой всякого
пола, возраста и состояния. Они-— популяриза
торы разумных идей по части психологии и фи290
зиологии общества, а в настоящую минуту добро
совестные и даровитые популяризаторы по край
ней мере так же необходимы, как оригинальные
мыслители и самостоятельные исследователи.
Мы вовсе не требуем от романистов, чтобы все
они непременно описывали страдания бедняков
или показывали нам человека в преступнике. По
нашему мнению, каждый романист, разрешающий
какую-нибудь психологическую задачу, поставлен
ную естественным течением действительной жиз
ни, приносит обществу существенную пользу и по
мере сил своих исполняет обязанность честного
гражданина и развитого человека. Частная жизнь
и семейный быт, наравне с экономическими и об
щественными условиями нашей жизни, должны об
ращать на себя постоянное внимание мыслящих
людей и даровитых писателей. Чтобы упрочить за
собой глубочайшее уважение реалистов, романист
или поэт должен только/постоянно, так или иначе,
служить живому делу действительной, современ
ной жизни. Он не должен только превращать свою
деятельность в бесцельную забаву праздной фан
тазии. Я надеюсь, что даже эстетики не станут за
ступаться за Дюма, за Феваля, за Поль де Кока.
Но очень правдоподобно, что они уважают Валь
тера Скотта и Купера. А мы их нисколько не ува
жаем и вообще считаем , исторический роман за'
одно из самых бесполезных проявлений поэтиче
ского творчества. Вальтер Скотт и Купер-— усыпители человечества. Что они люди очень даро
витые— против этого я не спорю. Но тем хуже.
Тем-то они и йредны, что их произведения чи
таются с удовольствием и создают целые школы
подражателей. А что выносит читатель из этих
романов? Ничего, ни одной новой идеи. Ряд кар
тин и арабесков. То же самое, что ребенок выно
сит из волшебной сказки. В наше время, когда
надо, смотреть в оба глаза и работать обеими ру19*
,
291
ками, стыдно и предосудительно уходить мыслью
в мертвое прошедшее, с которым всем порядоч
ным людям давно пора разорвать всякие связи.
XXVIII
С самого начала этой статьи я все говорил толь
ко о поэзии. Обо всех других искусствах:- пласти
ческих, тонических и мимических, я выскажусь
очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую
к ним глубочайшее равнодушие. Я решительно не
верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни
было образом содействовали умственному или
нравственному совершенствованию человечества.
Вкусы человеческие бесконечно разнообразны:
одному желательно выпить перед обедом рюмку
очищенной водки; другому—выкурить после обеда
трубку махорки; третьему — побаловаться вечером
на скрипке или на флейте; четвертому — притти
в восторг и в ужас от взвизгиваний Ольриджа
в роли Отелло. Ну, и бесподобно. Пускай утеша
ются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что
двум любителям очищенной водки, или Ольриджа,
или виолончели приятно побеседовать между со
бой о совершенствах любимого предмета и о тех
средствах, которые следует употребить для того,
чтобы придать любимому предмету ‘еще более вы
сокие совершенства. Из таких специальных бесед
могут образоваться специальные общества. Напри
мер, «общество любителей водки», «общество лю
бителей псовой охоты», «общество театралов», «об
щество любителей слоеных пирожков», «общество
любителей музыки» и так далее, впредь до беско
нечности. У таких обществ могут быть свои
уставы, свои выборы, свои парламентские дебаты,
свои убеждения, свои журналы. Такие общества
могут раздавать патенты на гениальность. Вслед
ствие этого могут появиться на свете великие
292
люди самых различных сортов: великий Бетховей,
великий Рафаэль, великий Канова, великий шах
матный игрок Морфи, великий повар Дюссо, ве
ликий маркер Тюря. Мы можем только радоваться
этому обилию человеческой гениальности и осто
рожно проходить мимо всех этих «обществ лю
бителей», тщательно скрывая улыбку, которая не
вольно напрашивается на наши губы и которая
может раздразнить очень многих гусей. Впрочем,
отрицать совершенно практическую пользу живо
писи мы, конечно, не решимся. Черчение планов
необходимо для архитектуры. Почти во всех со
чинениях по естественным наукам требуются ри
сунки. В настоящую минуту передо мной лежит
великолепная книга Брема «Iilustrirtes Thierleben»
(«Иллюстрированная жизнь животных»), и эта
книга показывает мне самым наглядным образоМ(
до какой степени даровитый и образованный ху
дожник может своим карандашом помогать на
туралисту в распространении полезных знаний.
Но ведь ни Рембрандт, ни Тициан не стали бы
рисовать картинки для пчиулярного сочинения по
зоологии или по ботанике. А уж каким образом
Моцарт и Фанни Эльслер, Тальма и Рубини ухи
трились бы пристроить свои великие дарования
к какому-нибудь разумному делу, этого я даже и
представить себе не умею. Пусть помогут мне
в этом затруднительном обстоятельстве эстетики
«Эпохи» и «Библиотеки для чтения».
Любители всяческих искусств не должны гне
ваться на меня за легкомысленный тон этой главы.
Свобода и терпимость прежде всего! Им нравится
Дуть в флейту или изображать своей особой Га
млета, принца датского, или пестрить полотно ма
сляными красками, а мне нравится доказывать на
смешливым тоном, что они никому не приносят
пользы и что их не за что ставить на пьедесталы.
?93
А забавам их никто мешать не намерен. За шиво
рот их никто не тянет на полезную работу. Весело
вам — ну и веселитесь, милые дети!
XXIX
Припомните вместе со мной, мой читатель, ка
ким образом вас воспитывали и учили. Предполо
жим на первый случай, что вы — сын богатого по
мещика и живете вместе с вашими родителями
в какой-нибудь Тамбовской или Рязанской де
ревне. Вам лет десять, вы безжалостно рвете и
пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны;
вы лазаете по горам и по деревьям и сокрушаете
каждый день вашу мамашу новыми синяками и
царапинами* которые она постоянно усматривает
на вашем лице и на ваших руках. Наконец мамаша
говорит папаше, что мальчик шибко балуется и
что давно пора выписать для него строгого гувер
нера, который серьезно присадил бы его за умные
книжки. Папаша отвечает: «Хорошо! Вот продам
обоз пшеницы, съезжу недели на три в Москву и
отыщу там подходящего немца или француза».
Как сказано, так и сделано. Получаются деньги за
пшеницу, и часть этих денег употребляется на
приобретение того неизвестного господина, кото
рым уже давно стращала вас ваша мамаша. Неиз
вестный господин объявляет папаше, что надо вы
писать такую-то арифметику, такую-то грамма
тику, такую-то географию и так далее. Папаша от
пирает ту шкатулку, в которой у него ссыпана
пшеница, превращенная в кредитные билеты, и
выдает рублей 20 или 30 на покупку учебных книг.
Каждый'год продаются обозы пшеницы, и каж
дый год часть вырученных денег вручается ва
шему ментору, а другая часть превращается
в книги, глобусы, ландкарты, аспидные доски, пис
чую бумагу, стальные перья. Все это вы, как не?§§
насытная пучина, поглощаете с той же быстротой,
с какой вы в былое время истребляли штаны и
куртки. Положим, что все это идет вам впрок.
Ваша любознательность пробуждается; ваш ум ра
стет и укрепляется; вы всей душой привязывае
тесь к вашему воспитателю; он рассказывает вам
о своем студенчестве, и вас самих начинает тянуть
в университет, в обетованную землю труда-и зна
ния. Родители ваши с удовольствием уступают ва
шему желанию; несмотря на вашу юношескую ро
бость, вы превосходно выдерживаете вступитель
ный экзамен и с замиранием сердца входите
в обетованную землю. С этой минуты часть пше
ницы, превращенная в деньги, поступает в ваше
собственное распоряжение; вы сами заботитесь
о своем костюме, сами покупаете себе книги, сами
дозволяете себе удовольствия. Допустим, что все
это вы делаете вполне благоразумно: в одежде нет
роскоши, в чтении вашем господствует строгая
последовательность, удовольствия выбираются та
кие, которые действительно освежают ваши силы
для нового труда; все это превосходно; но ведь
все это до сих пор бы ло. только поглощением
пшеницы, превращенной в сукно, в голландское по
лотно, в дельные книги, в театральные и концерт
ные билеты, в профессорские лекции, в умные мы
сли и в высокие стремления. Всякий человек, со
бирающийся работать, должен"непременно погло
тить сначала известное количество продукта, уже
выработанного другими людьми; он может по
глотить его глупо, то есть расстроить себе желу
док этим поглощением; может поглотить умно,
то есть действительно подкрепить свои силы, но
за то, что человек подкрепил свои силы, мы еще
ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо
посмотреть, что будет дальше. Дальше вы ока
зываетесь кандидатом, и перед вами раскры
вается жизнь. У вас есть что нужно человеку для
295
счастья: здоровая молодость, развитой ум, при
личная наружность, обеспеченное состояние; вам
хочется жить, любить, мыслить и действовать.
Чем захочу, думаете вы, тем и займусь; куда за
хочу, туда и поеду; что захочу, то и сделаю.
Я сам себе барин и никому не намерен отдавать
отчет в своем образе жизни. Мое образование
изощрило во мне способность наслаждаться всем,
что затрагивает мысль и ласкает чувство; по
этому я намерен извлекать себе наслаждения из
любви, из науки, из искусства, из живой приро
ды; все — мое, а сам я не принадлежу реши
тельно никому.
Такой взрыв юношеской самостоятельности со
ставляет очень обыкновенное, быть может, даже
неизбежное- явление в жизни каждой мыслящей и
развивающейся личности. Но первый трезвый
взгляд на экономическую прозу жизни кладет ко
нец этому взрыву. Вы начинаете соображать, что
вы поглотили целые сотни четвертей видоизменен
ной пшеницы и что каждая четверть соответствует
известному количеству рабочих дней, конных и
пеших, мужских и женских. А я-то, думаете ё ы ,
так радовался обилию моих знаний; а я-то так
гордился силой моего ума и тонкостью моего
эстетического вкуса. Ведь смешно даже подумать,
к чему приводится эта радость и эта гордость.
Какой я в самом деле молодец! Какую гору пше
ницы я съел и переварил! А что же я теперь соби
раюсь делать? Наслаждаться прелестями молодой
жизни, то есть опять есть и опять переваривать?
Ведь надо же и честь знать. А если не честь, то
надо же знать по крайней мере простые правила
арифметики. Если постоянно вычитать из обще
ственного капитала, то, наконец, весь капитал'уни
чтожится, и общество придет к банкротству.
Я взял взаймы чужой труд; теперь надо же упла
чивать этот долг. А чем его уплачивать? Деньга
296
ми, что ли? Очевидная нелепость. Это значит за
нимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За труд
можно платить только трудом. Сначала другие
люди работали для меня, а теперь я должен ра
ботать для других людей. Я весь принадлежу
тому обществу, которое меня сформировало; все
силы моего ума ■ составляют результат чужого
труда, и если я буду разбрасывать эти силы на
разные приятные глупости, то я окажусь несо
стоятельным должником и злостным банкротом,
хотя, может быть, никто не назовет меня этим по
зорным именем и даже не заметит, что я поступаю
бесчестно, то есть становлюсь врагом того самого
общества, которому я обязан решительно всем.
Kofaa вы придете к таким серьезным заключе
ниям, тогда бесцельное наслаждение жизнью, на
укой, искусством окажется для вас невозможным.
Останется только одно наслаждение, — то, кото
рое выходит из ясного сознания, что вы прино
сите людям действительную пользу, что вы упла
чиваете понемногу накопившуюся массу ваших
долгов и что вы твердыми шагами, не сворачи
вая ни вправо, ни влево, идете вперед, к общей
цели всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоян
ный труд, и только тот понимает ее вполне почеловечески, кто смотрит на нее с этой точки зре
ния. И любовь к женщине, и искусство, и наука —
все это или вспомогательные средства в общем
механизме жизненного труда, или минуты отдыха
в антрактах между оконченной работой и началом
нового дела. О любви к женщине и об искусстве
я уже говорил выше. Теперь будем говорить о на
уке. Но сначала надо сделать еще несколько об
щих замечаний.
Для большей простоты анализа я предположил
в первых строках этой главы, что вы, мой чита
тель, — сын богатого помещика и что вы воспи
тывались на деньги ваших родителей. При этом
397
условии отношения вашего воспитания к пше
нице и к рабочим дням обрисовываются так ясно,
что о них больше незачем и распространяться. Но
если бы я предположил, что вы — плебей и про
летарий и что вы сами тяжелым трудом завоевали
себе каждую отдельную частицу вашего широкого
образования, то даже и в этом случае настоящая
сущность дела осталась бы неизменной. Все-таки
окажется при внимательном рассмотрении, что вы
всем обязаны обществу и что все силы вашего
развитого и укрепленного ума должны быть упо
треблены на постоянное служение действительным
интересам этого общества. Природа-дала вам жи
вой ум и сильную любознательной. Но самые
превосходные дары природы остаются мертвым
капиталом, если вы живете в таком обществе,
в котором еще не зародилась умственная деятель
ность. Те вопросы, которые на каждом шагу за
дает себе ваш^пытливый ум, остаются без ответа;
энергия ваша истрачивается на множество мелких
и бесплодных попыток проникнуть в затворен
ную область знания; вы понемногу слабеете, ту
пеете, мельчаете и, наконец, миритесь с вашим не
вежеством, как с неизбежным злом, которое, на
конец, перестает даже тяготить вас. В нашем об
ширном отечестве было очень много гениальных
самородков, проживших жизнь без труда и без
знания по той простой причине, что негде, не
у кого и некогда было выучиться уму-разуму.
Вероятно, такие печальные случаи повторяются
довольно часто и в наше время, потому что Рос
сия велика, а светильников в ней немного. Стало
быть, если вы — пролетарий, и если вам посча
стливилось наткнуться или удалось отыскать та
кой светильник, который уяснил вам смысл и цель
человеческого существования, то вы должны за
дать себе вопрос: какими средствами зажжен этот
спасительный светильник? и какими материалами
2Щ
поддерживается его горение? Каков бы ни был
этот светильник — университет, академия, образо
ванный человек, хороший журнал, умная книга —
все равно: во всяком случае он стоит денег, а мы
уже знаем, что деньги — не что иное, как пше
ница, рожь, овес, лен, пенька, или, еще проще,
рабочие дни, конные и пешие, мужские и женские.
Все богатство общества без исключения заклю
чается в его труде. Часть этого труда, теми или
другими средствами, отделяется на то, чтобы со
здавать в обществе умственный капитал. Ясное
дело, что этот умственный капитал должен при
носить обществу хорошие проценты, иначе обще
ство будет постоянно терпеть убытки и постоянно
приближаться к окончательному разорению. При
меры таких разорений уже бывали в истории. Та
кое разорение называется падением цивилизации,
и каждый ученик уездного училища должен знать,
что уже несколько цивилизаций, повидимому
сильных и цветущих, упало и уничтожилось без
остатка.
XXX
Человеческий труд весь целиком основан на на
уке. Мужик з н а е т , когда надо сеять хлеб, ко
гда жать или косить, на какой земле может ро
диться хлеб и какого снадобья надо подбавить
в землю, чтобы урожай был обильнее. Все это он
знает очень смутно и в самых общих чертах, но
тем не менее это — зародыши науки, первые по
пытки человека уловить тайны живой природы.
3 свое время эти простые наблюдения человека
над особенностями земли, воздуха и растений
были великими и чрезвычайно важными откры
тиями; именно по своей важности они сделались
общим достоянием трудящейся массы, они на
всегда слились с жизнью, и в этом отношении они
оставили далеко за собой все последующие от‘
299
крытия, более замысловатые и до сих пор еще
не успевшие пробить себе дорогу в трудовую
жизнь простого и бедного человека. В настоящее
время физический труд и наука на всем простран
стве земного шара находятся между собой в пол
ном разрыве. Физический труд пробавляется до
сих пор теми жалкими начатками науки, которые
выработаны человеческим умом в доисториче
ские времена; а наука в это время накопляет
груды великих истин, которые остаются почти
бесплодными, потому что масса не умеет ни пони
мать их, ни пользоваться ими.
Читатель мой, вероятно, привык читать и слы
шать, что девятнадцатый век есть век промышлен
ных чудес; вследствие этого читателю покажутся
странными мои слова о разрыве между физиче
ским трудом и наукой. Да, точно. Люди понемно
гу начинают браться за ум, но они берутся за него
так вяло и так плохо, что мои слова о разрыве
никак не могут считаться анахронизмом. Промыш
ленными чудесами решительно не следует обо
льщаться. Паровоз, пароход, телеграф — все это
штуки очень хорошие и очень полезные, но суще
ствование этих штук доказывает только, что есть
на свете правительства и акционерные компании,
которые понимают пользу и важное значение по
добных открытий. Русский мужик едет по желез
ной дороге; купец телеграфирует другому купцу
о какой-нибудь перемене цен. Мужик размышляет,
что славная эта штука чугунка; купец тоже фило
софствует, что оченно хитро устроена эта прово
лока. Но скажите на милость: пробуждают ли эти
промышленные чудеса самодеятельность мысли
в головах мужика и купца? Проехал мужик по
чугунке, воротился в'свою курную избу и попреж
нему ведет дружбу с тараканами, попрежнему ле
чится нашептываниями знахарки и попрежнему
обрабатывает, допотопными орудиями свою зем300
Лю, которая попрежнему остается разделенной на
три клина — озимой, яровой и пар. А купец, от
правив телеграфную депешу, попрежнему отби
рает силой у своих детей всякие книги и попреж
нему твердо убежден в том, что торговать без
обмана — значит быть сумасшедшим человеком
и стремиться к неизбежному разорению. Паровоз
и телеграф пришиты снаружи к жизни мужика и
купца, но они нисколько не срослись с их полу
дикой жизнью.
Когда простой человек, оставаясь простым и
темным человеком, входит в близкие и ежеднев
ные сношения с промышленными чудесами, тогда
его положение становится уже из рук вон плохо.
Посмотрите, в каких отношениях находятся меж
ду собой фабричная машина и фабричный ра
ботник. Чем сложнее и великолепнее машина, тем
тупее и беднее работник. На фабрике являются
два совершенно различные вида человеческой по
роды: один вид господствует над природой и си
лой своего ума подчиняет себе стихии; другой вид
находится в услужении у машины, не умеет по
нять ее сложное устройство и даже не задает
себе никаких вопросов о ее пользе, о ее цели, о ее
влиянии на экономическую жизнь общества. До
вопросов ли тут, когда надо подкладывать уголь
под котел или ежеминутно открывать и закрывать
какой-нибудь клапан? И таким образом машина,
изобретенная знающим человеком, подавляет не
знающего человека, подавляет потому, что между
наукой, с одной стороны, и трудящейся массой,
с другой стороны, лежит широкая бездна, кото
рую долго еще не ухитрятся завалить самые ве
ликие и- самые человеколюбивые мыслители.
Если работник так мало развит, что у него нет
сознательного чувства самосохранения,то машина
закабалит этого работника в самое безвыходное
рабство, — в,, то рабстцо, которое основано на
301
умственной и вещественной бедности порабощае
мой личности. Машины должны составлять для че
ловечества источник довольства и счастья, а на по
верку выходит совсем другая история: машины
родят пауперизм, то есть хроническую и неизле
чимую бедность. А почему это происходит? По
тому что машины, как снег на голову, сваливают
ся из высших сфер умственного труда в такую
темную и жалкую среду, которая решительно ни
чем не приготовлена к их принятию. Простой ра
ботник слишком необразован, чтобы сделаться
сознательным повелителем машины; поэтому он
немедленно становится ее рабом. Видите таким об
разом, что промышленные чудеса превосходно
уживаются с тем печальным и страшным разры
вом, который существует между наукой и физи
ческим трудом.
Век машин требует непременно добровольных
ассоциаций между работниками, а такие разум
ные ассоциации возможны только тогда, когда
работники находятся уже на довольно высокой
степени умственного развития. Если же работни
ки, сталкиваясь с машинами, продолжают дей
ствовать врассыпную, то в рабочем населении
развиваются немедленно с изумительной силой и
быстротой бедность, тупость и деморализация.
Представьте себе, что в каком-нибудь округе пять
сот семейств добывают себе насущный хлеб про
изводством полотен. Заработки их не очень бо
гаты, но все они по крайней мере сыты, одеты и
даже откладывают кое-какие гроши про черный
день. Вдруг какой-нибудь механик придумывает
превосходный ткацкий станок, который приводит
ся в движение силой пара и производит в один
день столько полотна, сколько простой работник
сделает в месяц. Дай бог здоровья механику за
его превосходное изобретение, но для наших пя
тисот семейств новый ткацкий станок равняется
302
'
страшному неурожаю, громадному пожару, на
воднению или вообще какому-нибудь жестокому
естественному бедствию. Новая машина так доро
га, что ни одно семейство не в силах купить ее
на свои собственные сбереженные деньги, а рабо
тать по-старому уже невозможно, потому что изоб
ретение механика произвело очень сильное по
нижение цен на полотно и ручной труд уже не
окупается. Если бы двадцать или тридцать се
мейств сложили вместе свои крошечные капи
талы, то они могли бы купить машину, устроить
небольшую фабрику и потом делить между собой
барыши соразмерно с внесенными суммами. Но
можно сказать наверное, что они этого не сде
лают: во-первых, никому из них эта простая
мысль не придет в голову; во-вторых — если бы
даже она пришла в голову одному из этих работ
ников, то она не нашла бы себе сочувствия в дру
гих работниках; сейчас явилось бы на сцену то
тупое и беспричинное недоверие, которым обык
новенно страдают люди, не привыкшие думать, и
которое так превосходно воплощено Гоголем
в личности помещицы Коробочки; в-третьих —
если бы даже компания действительно встави
лась, то она через два-три месяца расползлась бы
врозь, потому что акционеры, непривычные к кол
лективной деятельности, перессорились бы между
собой, завели бы кляузы и процессы или погу
били бы свое общее дело небрежностью. На осно
вании всех этих и многих других причин компа
ния не составляется, и ткачи, задавленные превос
ходством новой машины, прекращают свое произ
водство, отправляются на соседнюю фабрику и по
ступают туда в поденщики. Таким образом кла
дется краеугольный камень того прочного здания,
которое называется пауперизмом. Как вам это
нравится? Практическое приложение научного от
крытия увеличивает массу человеческих страданий!
303
И такие трагические недоразумения между на
укой и жизнью будут повторяться до тех пор, пока
не прекратится гибельный разрыв между трудом
мозга и трудом мускулов. Пока наука не пере
станет быть барской роскошью, пока она не сде
лается насущным хлебом каждого здорового чело
века, пока она не проникнет в голову ремеслен
ника, фабричного работника и простого мужика,
до тех пор бедность и безнравственность трудя
щейся массы будут постоянно усиливаться, не
смотря ни на проповедь моралистов, ни на подая
ния филантропов, ни на выкладки экономистов,
ни на теории -социалистов. Есть в человечестве
только одно зло — невежество; против этого зла
есть только одно лекарство — наука; но это ле
карство надо принимать не гомеопатическими до
зами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый
прием этого лекарства увеличивает страдания
больного организма. Сильный прием ведет за со
бой радикальное исцеление. Но трусость челове
ческая так велика, что спасительное лекарство счи
тается ядовитым.
XXXI ■
Надо распространять знания — это ясно и не
сомненно. Но к а к распространять? — вот во
прос, который, заключая в себе всю сущность де
ла, никак не может считаться окончательно ре
шённым.. Взять в руку азбуку и пойти учить гра
моте мещан и мужиков — это, конечно, дело доб
рое; но не думаю я, чтобы эта филантропическая
деятельность могла привести за собой то слияние
науки с жизнью, которое может и должно спасти
людей от бедности, от предрассудков и от поро
ков. Во-первых, все труды частных лиц по делу
народного образования до сих пор носят на себе
или чисто филантропический, или нагло спекуля304
тивный характер. Во-вторых, всякая школа, а на
родная тем более, имеет замечательную способ
ность превращать самую живую науку в самый
мертвый учебник или в самую приторную хресто
матию. Чистая филантропия проявлялась у нас
в тех школах, в которых преподаватели занима
лись своим делом бесплатно. Наглая спекуляция
свирепствует до сих пор в тех книжках для на
рода, которые продаются по пятачку и по три ко
пейки. Об этом последнем явлении распростра
няться не стоит, потому что каждая из подобных
книжек собственной наружностью кричит доста
точно громко о своей непозволительной гнусно
сти. Но о филантропии поговорить не мешает,
потому что филантропическая деятельность при
тягивает к себе силы очень хороших людей, ко
торые могли бы принести общему делу гораздо
больше пользы, если бы принимались за работу
иначе.
Нет того доброго дела, за которое, в разных
местах и в разные времена, не ухватывалась бы
филантропия; и нет того предприятия, в котором
филантропия не потерпела бы самого полного по
ражения. Характеристический признак филантро
пии заключается в том, что, встречаясь с какимнибудь видом страдания, она старается поскорей
укротить боль, вместо того чтобы действовать
против причины болезни. Мать слышит, например,
плач своего ребенка, у которого болит живот. На,
батюшка, на, говорит она ему, пососи конфетку.
Приятное ощущение во рту действительно пере
вешивает на минуту боль в желудке, которая еще
не успела развиться до слишком больших разме
ров. Ребенок затихает, но болезнь, не остановлен
ная во-время, усиливается, и тогда уже не помо
гает никакое сосание конфеток. Такая любящая,
но недальновидная мать ^представляет собой чи
стейший тип искреннего филантропа. Что филан20 Д, И, Писарев
305
тропия русского купечества плодит нищих, кото
рых содержание лежит тяжелым бременем на тру
дящейся массе, это всем известно. А что бросить
грош нищему гораздо легче, чем задумываться
над причинами нищенства, это тоже не подлежит
сомнению.
Люди, посвящавшие свои силы и свое время
преподаванию в народных школах, по чистоте
стремлений и по высоте умственного развития
стояли, конечно, неизмеримо выше нищелюбивых
купцов. Но, надо сказать правду, они были так
же недальновидны, как и все остальные филан
тропы. Они видели зло — невежество. Не вгляды
ваясь в глубокие причины этого зла, они сейчас
при первой возможности схватились за лекарство.
Народ ничего не знает; ну, значит, надо учить на
род. Рассуждение, повидимому, так верно и так
просто, что оно должно притти в голову всякому
ребенку и что с ним должен согласиться всякий
мыслитель. А между тем рассуждение это поверх
ностно и ошибочно. Почему народ ничего не
знает.? Во-первых, потому, что ему неудобно было
учиться, мешало крепостное право. Допустим,
что в настоящее время обстоятельства изменились;
явилась в о з м о ж н о с т ь учиться. Но одной
возможности еще недостаточно. Учение есть, всетаки, труд, а человек никогда не принимается за
труд без внешней или внутренней побудительной
причины. Если нет побудительной причины, то и
филантропическое преподавание останется бес
плодным; а если есть побудительная причина, то
народ сам выучится всему, что ему действительно
необходимо знать, то есть всему, что может до
ставить ему в жизни какие-нибудь осязательные
выгоды. Он выучится урывками, самоучкой, по
мимо школ, и такое знание, взлелеянное каждым
отдельным учеником с страстной и сознательной
любовью, будет, разумеется, неизмеримо проч30S
нее, живучее и способнее к дальнейшему разви
тию, чем то знание, которое методически и систе
матически вливается учителем в пассивные го
ловы равнодушных школьников. Как вы думаете:
кто богаче, тот ли человек, который сам выра
ботал тысячу рублей, или тот, которому вы пода
рили две тысячи? Что касается до меня, то я,
в обиду всем правилам арифметики, скажу смело,
что первый гораздо богаче второго. Стало быть,
чтобы дать простым людям те выгоды, которые
доставляются образованием, надо создать ту по
будительную причину, о которой я говорил выше.
То есть надо сделать так, чтобы во всей русской
жизни усилился запрос на умственную деятель
ность. Другими словами, надо увеличить число
мыслящих людей в тех классах общества, которые
называются образованными. В этом вся задача.
В этом альфа и омега общественного прогресса.
Если вы хотите образовать народ, возвышайте
уровень образования в цивилизованном обществе.
Итак, повторяю вопрос, поставленный в начале
этой главы: каким же образом надо распростра
нять знания? А вот ответ на этот вопрос: пусть
каждый человек, способный мыслить и желающий
служить обществу, действует' собственным приме
ром и своим непосредственным влиянием в том
самом кружке, в котором он живет постоянно, и
на тех самых людей, с которыми он находится
в ежедневных сношениях. Учитесь сами и вовле
кайте в сферу ваших умственных занятий ваших
братьев, сестер, родственников, товарищей, всех
тех людей, которых вы знаете лично и которые
питают к вашей особе доверие, сочувствие и
уважение. Если умеете писать, пишите о предмете
ваших занятий; если не чувствуете расположения
к литературной деятельности, говорите о нем
с теми людьми, у которых уже пробудилась лю
бознательность и на которых вы можете иметь
20*
307
прочное влияние. Эта деятельность внутри соб
ственного кружка многим нетерпеливым людям
покажется чрезвычайно скромной и даже мизер
ной; я согласен с тем, что в такой деятельности
нет ничего эффектного и блестящего. Но именно
поэтому-то она и хороша. Всякий рассудительный
читатель, вдумавшись в настоящую сущность дела,
придет к тому заключению, что только деятель
ность, лишенная всякого блеска и эффекта, может
повести за собой ' прочные результаты. Такая
деятельность, по своей наружной мизерности, не
возбуждает против себя филистерских стенаний,
а подконец и окажется, что младшие братья и
дети самых заклятых филистеров сделались реа
листами и прогрессистами.
Весь ход исторических событий всегда и везде
определялся до сих пор количеством и каче
ством умственных сил, заключающихся в тех клас
сах общества, которые не задавлены нищетой и
физическим трудом. Когда общественное мнение
пробудилось, тогда уже очень крупные эксцен
тричности в исторической жизни становятся край
не неудобными и даже невозможными, хотя бы
общественное мнение и не имело еще никакого
определенного органа для заявления своих требо
ваний. Общественное мнение, если оно действи
тельно сильно и разумно, просачивается даже в те
закрытые лаборатории, в которых приготовля
ются исторические события. Искусные химики, ра
ботающие в этих лабораториях, сами живут всетаки в обществе и незаметно для самих себя про
питываются теми идеями, которые носятся в воз
духе. Нет той личности и той замкнутой корпора
ции, которые могли бы считать себя вполне за
страхованными против незаметного и нечувстви
тельного влияния общественного мнения. Иногда
общественное мнение действует на историю от
крыта, механическим путем. Но, кроме того, оно
308
действует еще химическим образом, давая неза
метно то или другое направление мыслям самих
руководителей. Таким образом даже историче
ские события подчиняются до некоторой степени
общественному мнению. А внутренняя сторона
истории, то есть экономическая деятельность, по
чти вся целиком находится в руках общества.
Оживить народный труд, дать ему здоровое и ра
зумное направление, внести в него необходимое
разнообразие, увеличить его производительность
применением дознанных научных истин — все это
дело образованных и достаточных классов обще
ства, и никто, кроме этих классов, не может ни
взяться за это дело, ни привести его в исполне
ние. К какой бы экономической или социальной
доктрине ни примыкал тот или другой писатель,
во всяком случае, осязательные исторические и
бытовые факты для всех писателей остаются не
изменными. И что же говорят нам эти факты? То,
что до сих пор, всегда и везде, в то.й или другой
форме, физический труд был управляем капита
лом. А накопление капитала всегда основано на
физическом или умственном превосходстве того
лица, которое накопляет. Кто сильнее или умнее
других, тот и богаче. Впоследствии, разумеется,
капитал сам получает притягательную силу: «день
га деньгу родит», как говорит русская поговорка.
Но первое начало этой «деньги» заключается
в физическом или умственном неравенстве между
людьми. А это неравенство, как явление живой
природы, не подлежит, конечно, реформирующему
влиянию человека.
Переворотов в истории было очень много; па
дали и политические, и религиозные формы; но
господство капитала над трудом вышло из всех
переворотов в полнейшей неприкосновенности.
Исторический опыт и простая логика говорят нам
с одинаковой убедительностью, что умные и силь309
ные люди всегда будут одерживать перевес над
слабыми и тупыми- или притупленными. Поэтому
возмущаться против того факта, что образован
ные и достаточные классы преобладают над тру
дящейся массой, — значило бы стучаться головой
в несокрушимую и непоколебимую стену есте
ственного закона. Один класс может сменяться
другим классом, как, например, во Франции родо
вая аристократия сменилась богатой буржуазией,
но закон остается ненарушимым. Значит, при
встрече с таким неотразимым проявлением есте
ственного закона, надо не возмущаться против
него, а напротив того, действовать так, чтобы этот
неизбежный факт обратился на пользу самого на
рода. У капиталиста есть ум и богатство. Эти два
преимущества упрочивают за ним господство над
трудом. Но господство это, смотря по обстоятель
ствам, может быть вредно или полезно для на
рода. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое
смутное полуобразование, он сделается пиявкой.
А дайте ему полное, прочное, чисто человеческое
образование — и тот же самый капиталист сде
лается не благодетельным филантропом, а мысля
щим и расчетливым руководителем народного
труда, то есть таким человеком, который во сто
раз полезнее^ всякого филантропа.
Откройте
умному человеку доступ к тем сильнейшим насла
ждениям, которые мы находим в умственном тру
де и в полезной деятельности, и этот человек,
кто бы он ни был, миллионер или пролетарий,
непременно пристрастится к этим наслаждениям и
непременно поймет, что быть превосходным об
щественным деятелем приятнее, чем извлекать из
своего капитала какие бы то ни было жидовские
проценты. Разбудить общественное мнение и
сформировать мыслящих руководителей народ
ного труда — значит открыть трудящемуся боль
шинству дорогу к широкому и плодотворному
310
'
умственному развитию. А чтобы выполнить эти
две задачи, от разрешения которых зависит вся
будущность народа, надо действовать исключи
тельно на образованные классы общества. Судьба
народа решается не в народных школах, а в уни
верситетах. Распространение грамотности, ко
нечно, ничему не мешает, но жаль, если на этот
труд употребляются такие силы, которые могли
бы действовать в высших сферах мысли и в бо
лее обширном кругу. У нас таких сил еще очень
немного, и люди, одаренные ими, должны из
любви к делу своей жизни расходовать их с ве^
дичайшей осмотрительностью. Филантропически
ми вспышками увлекаться не следует. Надо де
лать то, что целесообразно, а не то, что красиво,
трогательно и похвально с точки зрения сердеч
ной мягкости.
Вот меня опять обвинят в пристрастии к пара
доксам за мое откровенное мнение о распростра
нении грамотности. Но я долго и упорно размыш
лял об этом предмете и старался высказать свою
мысль как можно проще, серьезнее и скромнее.
Поэтому я бы желал, чтобы мне возражали на эту
мысль основательными доводами, а не восклица
ниями о моем неисправимом чудачестве. Мне ка
жется, оно и для дела было бы полезнее.
j
XXXII
В науке, и только в ней одной, заключается та
сила, которая, независимо от исторических собы
тий, может разбудить общественное мнение и
сформировать мыслящих руководителей народ
ного труда. Если наука в лице своих лучших пред
ставителей примется за решение этих двух задач
и сосредоточит на них все свои силы, то губи
тельный разрыв между наукой и физическим тру
дом прекратится очень скоро, и наука в течение
311
каких-нибудь десяти или пятнадцати лет подчи
нит все отрасли физического труда своему проч
ному, разумному и благодетельному влиянию. Но
я уже заметил в предыдущей главе, что всякая
школа обыкновенно превращает живую науку
в мертвый учебник. Ученик является в школе пас
сивным лицом. Научные истины лежат в его го
лове без движения, в том самом виде, в котором
они положены туда преподавателем или руковод
ством. Если в голове ученика составилось до на
чала учения какое-нибудь ошибочное понятие, то
это понятие очень часто продолжает жить самым
дружелюбным образом рядом с такой научной
истиной, которая находится с ним в очевидном и
непримиримом противоречии. Урок сам по себе,
а жизнь сама по себе. Может быть, это происхо
дит от молодости лет, а может быть, и от обще
принятой манеры преподавания. Последнее пред
положение кажется мне более правдоподобным.
У детей нет недостатка в живости и. логичности
мышления, но у них нет той умственной настой
чивости, которая необходима для того, чтобы про
цесс мышления дошел до какого-нибудь оконча
тельного результата. Дети по поводу своих уро
ков часто предлагают учителю очень меткие и
остроумные вопросы; иногда эти вопросы приво
дят учителя в немалое смущение своим неожи
данным и непозволительным -радикализмом; но
учитель — человек ловкий и политичный; он бы
стро производит искусную диверсию, принимает
на себя внушительную осанку или произносит
с важным видом глубокомысленную чепуху, и ум
ственная самодеятельность, только что зашевелив
шаяся в живой голове ученика, опять усыпляется
надолго, а может быть, и навсегда.
Был у меня в университете один товарищ, че
ловек неглупый, студент работящий и дельный.
Он ухитрился дойти до третьего курса без вся
312
кого серьезного миросозерцания. Даже вопросов
и сомнений никаких не являлось. Но однажды
ему пришлось переводить по заказу какую-то
астрономическую статью Бабине или Араго, или
какого-то другого французского ученого. Эта
статья поставила в его голове все вверх дном,
и началась та умственная перестройка, которую
непременно приходится переживать каждому че
ловеку, прикоснувшемуся к живому знанию.
этом простом случае любопытно следующее
обстоятельство: статья французского астронома
не заключала в себе никаких полемических тен
денций; она излагала ясным и живым языком те
самые старые научные истины, которые мой това
рищ уже два раза усваивал себе в гимназии, вопервых, по «Введению в географию» Ободовского,
а во-вторых — по «Математической географии»
Талызина. Но таковы уже специальные достоин
ства учебников и школьного преподавания: книга,
нетронутая школьным педантизмом, вызывает жи
вую деятельность мысли и прохватывает насквозь
все убеждения читателя теми самыми истинами,
которые, красуясь на страницах учебника, не воз
буждают в мальчике или в юноше ничего, кроме
истерической зевоты и ленивого отвращения.
Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень
хорошо, что настоящее образование есть только
самообразование и что оно начинается только
с той минуты, когда человек, распростившись на
всегда со всеми школами, делается полным хозяи
ном своего времени и своих занятий. Университет
только в том отношении и лучше других школ,
что он предоставляет учащемуся гораздо больше
самостоятельности. Но если вы, окончивши курс
в университете, отложите всякое попечение о ва
шем дальнейшем образовании, то вы по гроб
жизни останетесь очень необразованным челове
ком. Кто раз полюбил науку, тот любит ее на всю
313
жизнь и никогда не расстанется с ней доброволь
но. А кто знает науку так мало, что еще не успел
привязаться к ней всеми силами своего существа,
тот не имеет ни малейшей причины считать себя
образованным человеком. Надо учиться в школе,
но еще гораздо больше надо учиться по выходе
из школы, и это второе учение, по своим послед
ствиям, по своему влиянию на человека и на об
щество, неизмеримо важнее первого. Стало быть,
кто хочет содействовать-успехам образования, тот
должен прежде всего обращать внимание на то
учение,' которое производится после школы, вне
школы и помимо школы. Что читает общество и
как оно относится к своему чтению, то есть видит
ли оно в нем препровождение времени или жи
вое и серьезное дело, — вот вопросы, которые
прежде всего должен поставить человек, желаю
щий внести науку в жизнь. Господствующий вкус
общества и его взгляд на чтение зависят Отчасти
от общих исторических причин; но отчасти, и при
том в очень значительной степени, они зависят
также от личных свойств тех людей, которые пи
шут для общества. Слабые, дряхлые, бесцветные
и бездарные писатели подчиняют свою деятель
ность прихотям общественного вкуса и капризам
умственной моды. Но писатели, сильные талан
том, знанием и любовью к идее, идут своей доро
гой, не обращая никакого внимания на мимолет
ные фантазии общества. Умственная энергия та
ких писателей сама по себе делается иногда та
ким событием, которое обращает на себя внима
ние общества и даже создает новую моду. Яркость
таланта и сила убеждения могут сделать то. что
в обществе, всегда смотревшем на книгу, как на не
которую игру облагороженного вкуса, зародится
серьезный взгляд на чтение и возникнет законная
потребность прикидывать мерку чистой и светлой
идеи к сделкам и проделкам действительной жиз
514
ни. Общество начнет понемногу понимать, что
умные мысли кладутся на бумагу не для того,
чтобы оставаться в хороших книжках. — Умиля
ешься, друг любезный, над хорошей книжкой, так
не слишком пакости же и в жизни!
Благодаря Гоголю, Белинскому, Некрасову. Тур
геневу, Достоевскому, Добролюбову и немногим
другим, очень замечательным и добросовестным
писателям, наше общество уже додумалось до
этого умозаключения. Стена между книжной
мыслью и действительной жизнью пробита на
всегда. Мысль писателя смотрит на действитель
ную жизнь, а жизнь понемногу всасывает в себя
питательные элементы теоретической мысли. То,
что сделано на этом пути нашими предшественни
ками, значительно облегчает собой задачу совре
менных писателей. Дайте обществу, что хотите —
научный трактат, газетный очерк каких-нибудь но
вейших событий, критическую статью по литера
туре, роман, стихотворение, — все равно: вам уж
не будет надобности пробивать ледяную кору рав
нодушия, невнимания и непонимания; если есть
в вашем труде что-нибудь полезное, общество по
смотрит и поймет, и подумает; и мысль ваша за
падет в ту глубину, в которой вырабатываются и
созревают общественные убеждения. При таких
условиях и жить стоит, и работать можно. Есть
уже точка опоры, с которой можно начать дело
сближения между теоретическим знанием и все
дневной жизнью. Общество уже непрочь от того
чтобы видеть в чтении путь к самообразованию, а
в самообразовании — путь к практическому благо
разумию и совершеннолетию. Давайте обществу
материалы — оно их возьмет и воспользуется ими,
и скажет вам спасибо; но д а в а й т е непременно.
Само собой, без содействия литературных посред
ников, общество не в силах пойти за материалами,
разрыть их громаду, выбрать и усвоить себе именч
315
но то, что ему необходимо. Общество уже любит
и уважает науку; но эту науку все-таки надобно
популяризировать,
и популяризировать
с очень большим умением. Можно сказать без ма
лейшего преувеличения, что популяризирование
науки составляет самую важную всемирную за
дачу нашего века. Хороший популяризатор, осо
бенно у нас в России, может принести обществу
гораздо больше пользы, чем даровитый исследо
ватель. Исследований и открытий в европейской
науке набралось уже очень много. В высших
сферах умственной аристократии лежит огромная
масса идей; надо теперь все эти идеи сдвинуть
с места,( надо разменять их на мелкую монету и
пустить их в общее обращение. Только тогда и
можно" будет оценить в полном объеме, с одной
стороны, глубину, красоту и практическую силу
научных идей, а с другой стороны — гибкость и
плодовитость 'человеческого ума, который тогда
впервые отдаст себе отчет в своих собственных
подвигах. Это сближение мыслителей с обще
ством непременно поведет за собой сближение
общества с народом, — то сближение, которое при
всяком другом образе действия, конечно, оста
нется навсегда маниловской фантазией «Эпохи»
и «Дня».
Необходимость популяризировать науку до та
кой степени очевидна, что, кажется, и распростра
няться об этом не следует. Не значит ли это уни
жать великую истину риторическими деклама
циями? Нет, совсем не значит. У нас и великие
истины еще требуют доказательств. У нас один
писатель, и притом из молодых, и притом быв
ший студент естественного факультета, доказывал
недавно очень горячо и даже с некоторым озло
блением, что науку, незачем популяризировать, и
что таким делом могут заниматься только шарла
таны и верхогляды. Этого писателя зовут г. Авер316
киев, а горячится он в «Эпохе», во второй части
своей статьи: «Университетские отцы и дети»18.
Этот г. Аверкиев, пламенный поклонник и неудав
шийся подражатель покойного Аполлона Гри
горьева, очень сердится за что-то на Карла Фохта,
повидимому, за то, что Фохт непохож на Гри
горьева. Рассердившись на Фохта собственно
с этой специальной стороны, г. Аверкиев утвер
ждает, что популярные сочинения этого ученого
по естественным наукам никуда не годятся; а
вслед за тем, разгуливаясь все шире да шире,
г. Аверкиев возвещает нам, что популяризировать
науку даже очень глупо. А доказательства предла
гаются вот какие: вр-первых, всякая научная исти
на сама по себе совершенно ясна, потому что
она — истина; во-вторых, философские сочинения
Канта гораздо удобопонятнее, чем популярные
статьи о философии г. Лаврова20; в-третьих,
Льюис- написал свою «Физиологию обыденной
жизни» без всяких претензий на популярность, и
книга эта оказалась гораздо лучше популярных
«Физиологических писем» Карла Фохта. — Ах, ка
кие бесподобные доказательства! Во-первых, вся
кая научная истина ясна только тогда, когда она
изложена ясно. Что ясно для ученого, то может
быть совершенно не ясно для образованного че
ловека в общепринятом разговорном значении
этого слова. И всякую научную истину можно
изложить так, что у вас от этой истины затре
щит голова и потемнеет в глазах. Сотруднику
эстетического журнала не мешало бы, кажется,
понимать, что внутреннее достоинство идеи и
внешняя форма изложения — две вещи совер
шенно различные. Во-вторых, пример о Канте и
о г. Лаврове замечателен по своей неудачности.
Что Кант писал ясно, э т о — личное открытие или,
вернее, изобретение г. Аверкиева. Впрочем, по его
мнению, чего доброго, и г. Григорьев, которому
он старается подражать, пишет ясно. Немцы, на
род совершенно привычный к варварской туман
ности изложения, все-таки жалуются на Канта,
что он писал самое капитальное из своих сочи
нений «Критику чистого разума» самым тяжелым,
деревянным, непонятным и даже схоластическим
языком. Лучшее доказательство кантовской не
ясности заключается в том, что немцы раскусили
«Критику чистого разума» через восемь лет после
ее выхода в свет. А своим обширным господ
ством над умами всех образованных людей то
гдашней Германии философия Канта обязана пре
имущественно философским статьям Шиллера,
сочинениям Рейнгольда и усердным трудам мно
гих других более мелких популяризаторов. Если
бы ясно было, так и незачем было бы так много
разъяснять. Что Кант яснее г. Лаврова, об этом1
я не спорю. Но это доказывает только, что
г. Лавров — прекрасный'математик и очень уче
ный человек, но очень плохой популяризатор.
Плохих популяризаторов на свете очень много,
но выводить из этого простого факта заключение
против популяризирования вообще способен толь
ко сотрудник «Эпохи». В-третьих, что Льюис пи
сал свою «Физиологию» без стремлений к попу
лярности,
это опять произвольная выдумка
г. Аверкиева. А что «Физиология» Льюиса напи
сана гораздо понятнее и занимательнее, чем «Фи
зиологические письма» Фохта, это чистая правда.
Но опять-таки что же из этого следует? То, что
Льюис популяризирует лучше Фохта. Это несо
мненно. И Бюхнер также, как популяризатор, стоит
выше Фохта. Я подразумеваю здесь «Физиологи
ческие картины», которые по ясности и увлека
тельности изложения далеко оставляют за собой
«Физиологические письма». Я видел собственными
глазами, что двадцатилетняя девушка, не имевшая
никакого понятия о физиологии, с величайшим
318
увлечением, почти не отрываясь от книги, прочи
тала три большие статьи _из «Физиологических
картин» Бюхнера. Эти три статьи были: «Сердце
и кровь», «Воздух и легкие» и «Жизнь и теплота».
Кто читал эту книгу Бюхнера, тот знает очень хо
рошо, что в ней нет и намека на те скандалезные
пряности, которыми занимают своих читателей
французские негодяи, подобные Дебе и Жуванселю. Стало быть, девушке, незнакомая с физио
логией, была завлечена исключительно интересом
предмета и мастерством изложения. Мне кажется,
этот опыт говорит громче всяких умозрений, и
писатель, достигающий таких блестящих резуль
татов, имеет полное право считаться образцовым
популяризатором. Таким популяризатором может
сделаться далеко не всякий желающий. При всем
своем уме, при своем блестящем литературном та
ланте, при своих обширных знаниях Карл Фохт
в этом отношении все-таки стоит ниже Бюхнера,
которого он превосходит во всех других отноше
ниях. Оно и понятно. По своему образованию
Фохт — дельный натуралист. Но по всему складу
своего ума и характера он — политический дея
тель. Его настоящее место не на профессорской
кафедре, а на парламентской трибуне. Но когда
надо просто рассказывать, излагать факты, тогда
Фохт ясен, спокоен, точен и часто сух. Нет у него
той ровной пластичности изложения, которая со
ставляет одно из главных достоинств первокласс
ного популяризатора.
Популяризатор непременно должен быть ху
дожником слова, и высшая, прекраснейшая, самая
человеческая задача искусства состоит именно
в том, чтобы слиться с наукой и посредством это
го слияния дать науке такое практическое могу
щество, которого она не могла бы приобрести
исключительно своими собственными средствами.
Наука дает материал художественному произве. 319
дению, в котором все' ■— правда, и все — красота;
самая смелая фантазия не "может ничего приду
мать. Такие художественные произведения чело
век создаст еще впоследствии, когда он много по
умнеет и еще очень многому выучится; но робкие
попытку, превосходные для нашего времени, су
ществуют в этом роде и теперь. Я могу указать
на огромную книгу Брема: «Иллюстрированная
жизнь животных», о которой мы, впрочем, будем
говорить с читателями нашего журнала довольно
подробно в течение будущего года. Эта книга за
думана в громадных размерах, написана самым
простым и увлекательным языком, с удивительным
знанием дела, с удивительны^ пониманием харак
тера и ума различных животных и с самой здоро
вой, неподкрашенной любовью к природе и
к жизни во всех ее проявлениях. Весь рассказ
проникнут ровным, спокойно-веселым и постоян
но-естественным юмором. Читаешь и оторваться
не хочется. Так читал я только в детстве романы
Купера и «Трех мушкетеров». И к этому-то изло
жению, представьте себе, почти на каждой стра
нице картины, рисованные с натуры превосход
ными художниками, сделавшими кругосветное пу
тешествие, посетившими несколько зоологических
садов в Европе и пользовавшимися советами пер
воклассных натуралистов. Читаешь характеристи
ку какого-нибудь четвероногого чудака, посмо
тришь на его портрет и действительно видишь и
по роже, и по глазам, и по всей фигуре, что он
способен на все те штуки, которые приписывает
ему Брем. Когда я приобрел себе эту книгу, ко
торая, впрочем, далеко еще не доведена до кон
ца, то я в течение нескольких дней ни о чем не
мог думать, кроме Брема. Просто ошалел от ра
дости. И эту великую, именно великую книгу пере
водят на русский язык. И картины в ней будут
совершенно такие же, как в немецком издании.
320
,
Но — горе переводчикам, если они хоть скольконибудь обесцветят рассказ Брема. Это будет одно
из тех литературных преступлений, которых не
должно прощать общество. Если издатели дога
даются после богатого издания с картинами вы
пустить другое, дешевое издание, на серой бу
маге, без картин, то Брем проникнет в' каждое
грамотное семейство. Такая книга есть историче
ское событие в полном и буквальном смысле это
го слова. Если Брем успеет описать все классы
животного царства так, как он теперь описывает
млекопитающих, то его книга останется на вечные
времена не только в истории науки и литературы
(это уже само собою разумеется), но и в истории
общеевропейской народной жизни. Невозможно
представить себе, какое море живой мысли и све
жего чувства хлынет вместе с этой книгой в умы
всего читающего человечества.
Если неразвитость общества требует, чтобы
наука являлась пред ним в арлекинском костюме,
с погремушками и бубенчиками, — это не беда.
Такой маскарад нисколько не унижает науку.
Дельная и верная мысль все-таки остается дель
ной и верной. А если этой мысли, чтобы проник
нуть в сознание общества, надо украситься при
баутками, подернуться щедринской игривостью, —
пускай украшается и подергивается. Главное де
ло — проникнуть, а через какую дверь и какой
походкой — это решительно все равно. Арлекинствовать можно и должно, если только арлекинство ведет к цели.
Иные читатели скажут, что все это вздор, что
русская публика может читать и серьезные книги
и статьи без малейшей приправы арлекинства. Но
я отвечу на это: господа, говорите за себя! Есть
люди, стоящие ниже вас по развитию, и эти люди
читают только то, что их забавляет, и они соста
вляют в читающей массе большинство. Это видно,
21 Д. И. Писарев
321
например, по тому, что публика выписывает жур
налы чисто ощупью. Лучший журнал, когда-либо
существовавший в России, добролюбовский «Со
временник», имел блестящий успех; прекрасно! Но
вслед за тем один из самых плоских русских жур
налов, «Время», имел также блестящий успех. Что
за притча! Да и притчи никакой нет. Увидало дитя
малое червонец: давай его сюда! Цаца! Увидало
золоченый орех: и к ореху потянулось. Тоже ца
ц а !— Ну вот и надо, чтобы научные идеи всегда
были размалеваны, как цацы. Пускай дитя малое
играет этими цацами. Они помогут ему расти; а
вырастет, так и увидит, что эта цаца — штука са
мая отменная. Но само собой разумеется, что арлекинствовать надо с большим, с очень большим
уменьем. Играй и кувыркайся, как хочешь, в своем
изложении, но держи ухо востро, ни на одну се
кунду не теряй равновесия и ни под каким видом
не допускай ни малейшего посягательства на то,
чтб составляет жизни и смысл твоей идеи. Шути,
но так, чтобы каждая твоя шутка была строго
рассчитана и чтобы совокупность твоих шуток вы
ражала всю научную идею, которую ты хочешь
провести в сознание твоих читателей, всю, как
есть, без искажений и утаек. Если ты соблюдаешь
постоянно это условие, ты честный и полезный
популяризатор. В противном случае, ты поступа
ешь в категорию тех господ, которые, пуская
в свет «Физиологию брака», «Тайные явления при
роды» и разные другие гнусности, прикрывают
себя тем благовидным предлогом, что мы, дескать,
просвещаем общество.
При недостатке осмотрительности, уменья и
серьезности во взгляде на великую цель своей
деятельности, популяризатор очень легко может
превратиться в литературного промышленника и
унизить науку до проституции. Но эта проститу
ция заключается не в смехе, не в игривости, не
322
в юморе, а в бесцельности, в бестактности и в не
разборчивости этого смеха, этой игривости и это
го юмора. Когда смех, игривость и юмор служат
средством, тогда все обстоит благополучно. Ко
гда они делаются целью— тогда начинается ум
ственное распутство. Для художника, для учено
го, для публициста, для фельетониста, для кого
угодно, для всех существует одно великое и
общее правило: и д е я п р е ж д е в с е г о ! Кто
забывает это правило, тот немедленно теряет спо
собность приносить людям пользу и превращает
ся в презренного паразита. Стоит только срав
нить «Свисток» Добролюбова с полемическими
статьями теперешнего «Современника», чтобы
тотчас понять на живом примере, что. значит
« и д е я п р е ж д е в с е г о » и что значит «в с е
п р е ж д е и д е и». Конечно шутливый тон в по
пулярно-научных сочинениях составляет только
временное явление. Когда все читающее обще
ство сделается серьезным в своем взгляде на чте
ние, тогда и тон изменится; но не следует изме
нять его слишком рано. Если две-три шутки на
странице могут дать вашей статье двух-трех лиш
них читателей, то было бы очень негуманно и не
благоразумно с вашей стороны отталкивать от
себя читателей серьезностью изложения, ради
того, чтобы соблюсти в неприкосновенности ка
кое-то отвлеченное и совершенно фантастическое
понятие о величии и достоинстве науки. Величие
и достоинство науки состоит исключительно в той
пользе, которую она приносит людям, увеличивая
производительность их труда и укрепляя природ
ные силы их умов. Значение науки может только
возвыситься, если о ней получат некоторое поня
тие даже те неразвитые два-три читателя, которые
будут привлечены к вашей статье содержащимися
в ней шутками. Но, кроме художественности,
кроме шутливого тона, популярное изложение
от*
323
должно отличаться еще и другими свойствами,
которые останутся необходимыми даже и тогда,
когда смех, игривость и юмор потеряют для об
щества свою теперешнюю обаятельность.
Я укажу здесь на две главные особенности, ко
торыми популярное изложение всегда должно от
личаться от строго научного.
В о - п е р . в ы х , популярное изложение не до
пускает в течении мыслей той быстроты, которая
совершенно уместна в чисто научном труде. За
писные ученые, привыкшие ко всем приемам стро
гого мышления, ко всевозможным упражнениям
умственных сил, могут следить без малейшего на
пряжения за мыслью исследователя, когда она,
как белка, прыгает с одного предмета на другой,
бросая читателям только легкие намеки на то, за
чем и почему производятся эти быстрые пере
ходы. Следя за этими эволюциями, ученый видит
и понимает, что все это одна длинная цепь дока
зательств, связанная единством общей идеи и об
щей цели; он видит, что одна мысль логично раз
вивается из другой, но простой читатель этого не
увидит и станет втупик. Писатель высказал Одно
положение, вывел из него другое, на этих двух
построил третье и пошел шагать, а простой чи
татель только недоумевает: каким же образом
второе вытекает из первого и почему возможен
переход к третьему? Второе действительно не вы
текает н е п о с р е д с т в е н н о из первого; эти
два положения связываются между собой двумя
или тремя промежуточными умозаключениями; но
ученый писатель, уверенный в сообразительности
своих товарищей по науке, выкидывает вон эти
мостики мысли, которые действительно не при
бавляют к ученому труду ничего нового и суще
ственного. Но для читателя, не выучившегося
прыгать, такое отсутствие мостиков составляет не
преодолимое препятствие. На первой же странице
324 .
он спотыкается, а уж.на какрй-нибудь пятой или
шестой он решительно не знает, о чем это тут
идет речь и зачем все это написано. При этих
условиях серьезное чтение ведет за собой только
головную боль и одурение. Популяризатор, разу
меется, обязан избавить мысль своего читателя от
всяких подобных прыжков. В популярном сочи
нении каждая отдельная мысль должна быть раз
вита подробно, так, чтобы ум читателя успел
прочно утвердиться на ней. прежде чем он пу
стится в дальнейший путь, к логическим след
ствиям, вытекающим из этой мысли. Если вы бу
дете утомлять ум вашего читателя слишком бы
стрыми переходами, то получится тот же резуль
тат, который произвело бы отсутствие мостиков:
читатель ошалеет и совершенно потеряет из виду
общую связь ваших мыслей.
В о-в т о р ы х, популярное изложение должно
тщательно избегать всякой отвлеченности. Каждое
общее положение должно быть подтверждено ося
зательными фактами и пояснено частными при
мерами. Вот и я, повинуясь этому правилу, покажу
на отдельном примере, каким образом популяр
ное изложение должно смягчать быстроту и от
влеченность строго научного языка. Представьте
себе, что в научном сочинении находится следую
щая фраза: «Так как все математические сужде
ния отличаются совершенно аналитическим харак
тером, то, р а з у м е е т с я , чистая математика
меньше всех остальных наук упирается на свиде
тельство опыта». И затем автор начинает уже вы
водить дальнейшие заключения из той мысли,
что «математика меньше всех остальных наук опи
рается на свидетельство опыта». Но простой чи
татель стал, втупик. Чорта с два тут «р а з у
м е е т с я»! Почему же а н а л и т и ч е с к и й х а
р а к т е р позволяет чистой математике о п и
раться
на
с в и д е т е л ь с т в о __ о п ы т а
325
м е н ь ш е в с е х о с т а л ь н ы х н а у к ? Ясное
дело, "Что в нашей фразе заключаются два поло
жения, связанные между собой союзами т а к
к а к и то . Между этими двумя положениями
должен существовать мостик, но мостик этот, для
большей быстроты движения, выброшен вон.
а вместо "него вставлено проклятое слово «р а
з у м е е т с я», означающее собой смелый и лов
кий прыжок возмужалой мысли. Популяризатор
должен здесь прежде всего напомнить читателю,
что такое а н а л и з и в чем состоит его суще
ственное отличие от синтеза. Потом он должен
взять два или три математических суждения —
чем проще, тем лучше — и показать на этих
примерах, в чем состоит типическая особенность
всякого математического суждения и чем эти
суждения отличаются, например, от истин хи
мии или физиологии. Таким образом, выяснится
аналитический
характер
математиче
ских суждений. Вместе с тем выяснится и отноше
ние математики к опыту. Читатель поймет, что
при а н а л и з е только исходная точка берется
из опыта, а при с и н т е з е , напротив того, весь
процесс мысли постоянно опирается на опыт.
Ясно, стало быть, что чем исключительнее пре
обладает в какой-нибудь науке элемент анализа,
тем незначительнее становится в ней участие
опыта.
Популяризатор должен постоянно предвидеть
все вопросы, сомнения и возражения своего чита
теля; он сам должен ставить и разрешать их; та
кая тактика - имеет двоякую выгоду: во-первых,
предмет освещается со всех сторон; во-вторых,
вопросы и возражения прерывают собой монотон
ное течение речи, поддерживают и напрягают по
стоянно внимание читателя, который в противном
случае легко может вдаться в полумашинальное
чтение, то есть пропускать через свою голову^от326
■
дельные мысли, не вдумываясь в их отношение
к целому. Не только группировка мыслей и общий
гон изложения, но даже самый язык, выбор слов
и оборотов имеют очень значительное влияние на
успех или неуспех популярно-научного сочинения.
Удачное выражение, меткий эпитет, картинное
сравнение чрезвычайно много прибавляют к тому
удовольствию, которое доставляется читателю са
мым содержанием книги или статьи. А так как
просвещать читателя помимо его собственной
воли нет ни малейшей возможности, то и не сле
дует ни под каким видом пренебрегать теми тех
ническими средствами языка, которые могут уве
личить удовольствие читателя, не вредя основной
идее вашего труда. Бентам доказывает очень по
дробно и чрезвычайно убедительно; что законы
должны быть написаны не только совершенно яс
ным и простым, но еще кроме того изящным язы
ком. С этим мнением трудно не согласиться. В са
мом деле, в настоящее время нет на свете ни од
ной страны, в которой большинство грамотных
людей имело бы совершенно ясное понятие о за
конах своего отечества. От этих законов зависят
жизнь, честь, собственность, гражданское поло
жение и семейное спокойствие, словом — все зем
ное благополучие каждой отдельной личности, а
между тем их все-таки почти никто не знает, кро
ме судей и адвокатов. Можно себе представить,
сколько невольных преступлений, сколько бестол
ковых процессов, какая трата времени, сил, денег
происходит от этого незнания. А чем же объяс
няется самый факт этого удивительного незнания?
Да просто тем, что свод законов совершенно
справедливо считается у всех народов земного
шара, имеющих какой-нибудь свод, самой скуч
ной книгой, какую только можно было выдумать
и написать. А происходит ли эта невыносимая
скучность свода законов от самого содержания
327
этой книги? Составляет ли она необходимую при
надлежность самого предмета? Ничуть не бывало.
Закон определяет отношения между людьми, установляет их права и обязанности. Трудно даже
придумать что-нибудь интереснее этого предмета.
Но этот предмет превращен в сухой скелет пе
дантизмом средневековых юристов и остался
в своем засушенном положении по милости совре
менных законоведов, робеющих до сих пор перед
призраками старых авторитетов. Бентам доказал
теоретически и, что еще.- гораздо важнее, показал
на практике своим собственным примером, что
можно писать живо и увлекательно не только ис
следования по философии права, но даже текст
кодекса, статьи свода законов. По мнению Бентама, самый текст закона должен быть написан
коротко и ясно; закон приказывает или запре
щает, но не рассуждает. Но вслед за этой канони
ческой частью каждой отдельной статьи должен
следовать комментарий, в котором объясняется
значение, необходимость, целесообразность и при
чина данного закона. Совокупность этих коммен
тариев составит, по мнению Бентама, полный и
чрезвычайно интересный кодекс нравственной фи
лософии. И книга, вмещающая в себе такой ко
декс, сделается настольной книгой в каждом гра
мотном семействе: по этой книге отеЦ'сам будет
объяснять своим детям законы той страны, в ко
торой им суждено жить и действовать; благодаря
таким комментариям, закон ляжет в основание са
мого обыкновенного воспитания. Вследствие этого
большая часть непроизводительных юристов при
нуждена будет заняться полезным трудом. Но все
это возможно только в том случае, если законы
будут изложены легким, простым и изящным язы
ком. Иначе никакая философская глубина коммен
тариев не принудит общество читать и изучать
свод законов. В общей массе люди чрезвычайно
328
легкомысленны; они всегда делают то, что им при
ятно, и очень редко делают то, что им полезно.
Все понимают как нельзя лучше, что знание зако
нов необходимо; все знают, что незнанием зако
нов никто отговариваться не может, и однако
почти никому в голову не приходит почитать
в часы досуга и отдохновения свод законов. После
этого есть ли хоть малейшая возможность ожи
дать, что люди примутся читать популярно-науч
ные сочинения, если эти сочинения не будут до
ставлять им приятного препровождения времени?
Ведь как ни велика польза научных знаний, а всетаки эта польза далеко не так очевидна, как польза
законоведения. Против науки вы услышите много
голосов даже в печати, а уж против изучения за
конов не возразят ни слова ни купчиха Каба
нова, ни Виктор Ипатьевич, ни даже г. Катков.
Ясно, стало быть, что внешняя форма популяр
ного изложения имеет громадную важность.
XXXIII
После всего, что я говорил о популяризировании науки, у читателя по всей вероятности заро
дился в уме естественный вопрос: какие же именно
науки необходимо популяризировать? В общих
чертах читатель, разумеется, уже знает мой образ
мыслей; он знает, что я не укажу ни на санскрит
скую грамматику, ни на египетскую археологию,
ни на теорию музыки, ни на историю живописи.
Но если читатель полагает, что я буду рекомен
довать ему преимущественно технологию, практи
ческую механику, геогнозию или медицину, то он
ошибается. Наука, слившаяся уже с ремеслом,
наука прикладная, конечно, приносит обществу
громадную и1 неоспоримую пользу, но популяризи
ровать ее нет ни надобности, ни возможности. Тех
нологи. геогносты, механики необходимы для об329
щества, но люди, имеющие общие понятия о тех
нологии, геогнозии и механике, никому и ни на
что не нужны. Словом, прикладные науки должен
изучать совершенно основательно каждый чело
век, желающий обратить их в свое хлебное реме
сло. Кто изучает науку основательно, тот, конеч
но, обращается к самим источникам науки, а не
к популярным сочинениям. Стало быть, нуждаются
в популярной обработке только те отрасли зна
ний, которые, не слившись с специальным реме
слом, дают каждому человеку вообще, без отно
шения его к частным- занятиям, верный, разумный
и широкий взгляд на природу, на человека и на
общество. Разумеется, здесь, как и везде, на пер
вом плане стоят те науки, которые занимаются
изучением всех видимых явлений: астрономия,
физика, химия, физиология, ботаника, зоология,
география и геология.
Превосходство естественных наук над всеми
остальными накоплениями знаний, присваиваю
щими себе также титул науки, до такой степени
очевидно, и мы уже так часто и с таким горячим
убеждением говорили о значении этих наук, что
теперь мне незачем о них распространяться. З а
мечу только, что под именем г е о г р а ф и и я
понимаю, разумеется, не перечисление государств,
а общую картину земного шара и определение той
связи, которая существует между землей и ее оби
тателями. Но естественные науки при всем своем
великом значении не исчерпывают собой всего кру
га предметов, о которых человеку необходимо со
ставить себе понятие. Человек должен знать чело
века и общество. Физиология показывает нам раз
личные отправления человеческого организма;
сравнительная анатомия показывает нам различия
между человеческими рас&ми; но обе эти науки не
дают нам никакого понятия о том, как человек
устраивает свою жизнь и как он постепенно под330
чцняет себе силы природы силой своего ума. Оба
эти вопроса имеют для нас капитальную важ
ность; но те отрасли знания, от которых мы
должны ожидать себе на них ответа, — история и
статистика, — до сих пор еще не достигли науч
ной твердости и определенности. История до сих
пор не что иное, как огромный арсенал, из кото
рого каждая литературная партия выбирает себе
годные аргументы для поражения своих против
ников. Превратится ли история когда-нибудь
в настоящую науку — это неизвестно и даже со
мнительно. Научная история была бы возможна
только в том случае, если бы сохранились все
материалы для составления подробных статисти
ческих таблиц за все прошедшие столетия. Но
о таком богатом материале нечего и думать. По
этому для изучения человека в обществе остается
только внимательно вглядываться в современную
жизнь и обмениваться с другими людьми за
пасом собранных опытов и наблюдений. Стати
стика уже дала нам множество драгоценных фак
тов; она подрывает веру в пригодность пенитен
циарной системы; она цифрами доказывает связь
между бедностью и преступлением; но статистика
только что начинает развиваться, и мы имеем
полное основание ожидать от нее в ближайшем
будущем в тысячу раз больше самых7' важных
практических услуг, чем сколько она оказала их
нам до сих пор.
Статья моя кончена. Читатель видит из нее, что
все стремления наших реалистов, все их радости и
надежды, весь смысл и все содержание их жизни
пока исчерпывается тремя словами: « л ю б о в ь ,
з н а н и е и т р у д » . После всего, что я говорил
выше, эти слова не нуждаются в комментариях.
РОМАН КИСЕЙНОЙ ДЕВУШКИ
(Повести, рассказы и очерки Я. Г. Помяловского.
Д в а тома. С П Б . 1865 г.)
I
Две главные повести Помяловского: «Мещан
ское счастье» и «Молотов», связаны между собой
личностью героя, Егора Ивановича Молотова.
В первой повести Молотов является 22-летним
юношей, только что окончившим курс в универ
ситете. Во второй — 33-летним мужчиной, доста
точно ознакомившимся с практической жизнью.
По своему характеру и по общему складу своей
деятельности, Молотов очень похож на Штольца.
Существенная разница между ними заключается
в том, что их авторы смотрят на них с разных то
чек зрения. Г-н Гончаров смотрит на Штольца
снизу вверх, а Помяловский на Молотова — свер
ху вниз. Г-н Гончаров относится к Штольцу
с восторженным благоговением, а Помяловский
к Молотову— с дружелюбным и неоскорбитель
ным состраданием. Г-н Гончаров говорит: «да
вай нам бог таких людей, как Штольц», а Помя
ловский говорит: «как жаль, что большинство хо
роших людей принуждено оставаться в положе
нии Молотова!» Для г. Гончарова Штольц есть
идеал, о котором едва позволительно мечтать.
Для Помяловского Молотов есть minimum, на ко
тором едва ли позволительно останавливаться.
Сами герои смотрят на себя так, как смотрят, на
них их творцы. Штольц сияет самодовольством:
332
«Я ли, дескать, не умен, я ли не велик, я ли не
полезен. Я — соль земли и спаситель отечества».
Молотов, окончательно сформировавшийся, на
против того, тих, скромен, утомлен и грустен. Он
сам говорит, что его жизнь — честная чичиков
щина. О солении земли и о спасении отечества
он, конечно, и не заикается. Именно поэтому
Штольц — деревянная кукла, а Молотов — живой
человек.
Деревянность
Штольца
происходит
именно оттого, что г. Гончаров нечаянно вложил
в него внутреннее противоречие. Штольц в одно
и то же время и умен и глуп. Умен, потому что
лихо устраивает свои дела и пикантно рассуждает
о разных психологических тонкостях. Глуп, по
тому что усматривает в себе героя и лезет на
пьедестал. И получается поэтому в общем ре
зультате глупо-умная, то есть невозможная и де
ревянная фигура. А Молотов постоянно умен, и
в практических делах, и в теоретических рассу
ждениях, и во взгляде на свою собственную лич
ность. «Подлости я никакой не сделал, — думает
он, — но мне все-таки грустно и совестно быть
только не мошенником. Упрекать я себя ни в чем
не могу, но и радоваться и гордиться мне нечем.
Молодым деятелям, которым, быть может, удастся
совершить подвиги п о л о ж и т е л ь н о й чест
ности и активной любвФ, я скажу только: друзья
мои, не судите меня строго. Не считайте меня ту
неядцем и рабом ленивым, зарывшим свой талант
в землю. Рассмотрите внимательно мою жизнь,
поставьте себя на мое место, взвесьте все — и раз
меры моих сил, и обстоятельства, и понятия моих
современников, — и тогда вы чего доброго скаже
те, что я сделал все, что мог сделать. И тогда вы,
может быть, с дружеским чувством пожмете мою
руку за то, что я всегда ел хлеб, заработанный
собственным трудом. Труд мой редко приносил
_
333
пользу обществу, да ведь что же с этим делать?
Откуда взять такой труд, который был бы дей
ствительно полезен? Стоит, например, на улице
извозчик. Каждая копейка достается ему тяже
лым и честным трудом. Чтобы привезти вечером
домой каких-нибудь два целковых, сколько он
в день натерпится и от снега, и от пыли, и от
дождя, и от ветра, и от мороза! А разве труд
его действительно полезен для общества? Разве
все концы, сделанные извозчиком, действительно
были необходимы? Разве силы лошади и человека
не тратились большей частью на то, чтобы возить
праздношатающихся шалопаев к другим праздно
шатающимся шалопаям, которые вовсе не желают
их видеть и которые тем не менее считают своей
обязанностью выражать в подобных случаях при
творную радость, неспособную обмануть даже ма
леньких детей? — А ведь извозчик тут все-таки
ничем не виноват». — «Вот и я, — продолжает М о
лотов,— был постоянно точно таким же извозчи
ком. Титан, гений, сильный талант пробили бы
себе дорогу к общеполезному труду. Но я — не
гений, не титан, даже не сильный талант. Я не
могу и никогда не мог сказать людям такое сло
во, которое заставило бы их глубоко задуматься
или очнуться от глубокого сна. Я просто не глу
пый и вследствие этого не*Ьодлый человек. И про
шу я вас, молодые деятели, только об одном: по
ставьте меня в вашем мнении не выше и не ниже
того извозчика, который возит шалопаев, но, не
смотря на то, обращается совершенно честно и
с хозяином, и с седоками, и с лошадьк?. Героем
я себя не считаю, на пьедестал не лезу, но уваже
нием умных и честных людей дорожу».
И действительно, никакие молодые деятели бу
дущего времени, никакие титаны в мире не имеют
возможности смотреть с презрением на того обык334
новенного человека, который, подобно Молотову,
скромно сознавая свою обыкновенность и понимая
невозможность переделать обстоятельства обык
новенными и изолированными силами, сосредото
чил все свое внимание на той простой задаче, чтобы
совершенно честно прокормить свою собственную
личность. Если бы Штольц был возможен, то он
был бы смешон и гадок. Ему надо было бы дать
щелчок в нос, чтоб он слетел с пьедестала, на ко
торый ejo суконное рыло не дает ему ни малей
шего права. Молотов, напротив того, совершенно
возможен и очень симпатичен своей светлой и ти
хой грустью. Причина его грусти очень понятна.
Он сознает, что труд его бесполезен для обще
ства. Он чувствует, что при других условиях он
мог бы приносить людям действительную пользу.
Но создать эти условия он не в состоянии. Для
этого нужно, чтобы общество, глубоко проникну
тое инстинктивным стремлением к новой жизни,
воплотило эти стремления в гениальной личности;
чтобы эта личность своей деятельностью сгруппи
ровала и осмыслила разрозненные силы многих
честных и неглупых людей, подобных Молотову;
чтобы эти соединенные силы дружно взялись за
работу и превратили инстинктивное стремление
общества в разумный план и в живое дело. Тогда
Молотов был бы весел и счастлив. Он быть может
все-таки остался бы чернорабочим; но какое сча
стье быть чернорабочим в том деле, которое лю
бишь, уважаешь и понимаешь во всех его подроб
ностях и последствиях! Кто читал превосходный
роман Шпильгагена «Два поколения», тот, разу
меется, помнит чернорабочего Каиуса, который,
сломавши себе правую руку, продержал левой ру
кой корректуру длинной передовой статьи «in
piaeHUciitem».B каждом деле такие чернорабочие
действительно возможны. И каждому делу такие
чернорабочие безусловно необходимы
335
1!
Помяловский в своих двух повестях хотел по
казать, каким образом жизнь полегоньку щупает
ребра умному и развитому пролетарию 1 и каким
образом пролетарий, опираясь исключительно на
силы своего развития ума, может, несмотря на
все медвежьи ласки жизни, остаться свежим, не
искалеченным и неразвращенным человеком. «Сре
да заела», «жизнь изломала», «обстоятельства по
губили» — все это мы слышали много раз, все это
повторялось и кстати, и некстати так часто, что
все это превратилось, наконец, в совершенно вы
ветрившуюся и очень вредную фразу. Сначала
эти слова произносились умными людьми, раз
мышлявшими об участи других умных людей, по
трудившихся на своем веку и сошедших в прежде
временную могилу, не сделав в жизни того, что
они хотели и могли бы сделать при более благо
приятных условиях. Тогда эти слова имели смысл.
Тогда человек, произносивший эти слова, знал
очень досконально, путем наблюдения и даже лич
ного опыта, что это за штука с р е д а , и ж и з н ь ,
и о б с т о я т е л ь с т в а , и по каким причинам, и
какими средствами, и для какой цели произво
дятся разные з а е д а н и я и л о м а н и я и пог у б л е н и я людей умных и много потрудивших
ся на своем веку. Умные люди,- произносившие
[эти] слова, всегда прилагали их к какому-нибудь
третьему лицу, сошедшему со сцены. Но слова
эти спустились в низшие слои умственного мира,
и тогда — «пошла писать губерния». Определен
ный смысл слов выдохся,
дряблые людишки
стали этими словами заживо читать себе отход
ную. «Меня заела среда», — говорил какой-нибудь
Ноздрев, воротившись с ярмарки с опустошенным
карманом и с ощипанными бакенбардами. «Меня
изломала жизнь», — тоскливо произносил Тряпич336
кий, когда какая-нибудь редакция возвращала ему
в целости толстые кипы его безграмотных пове
стей и стихотворений. «Меня погубили обстоя
тельства», — сладко и томно твердил лейтенант
Жевакин, которому какая-нибудь Миликтриса Кирбитьевна наплевала за излишнюю предприимчи
вость в его тусклые, бараньи глаза. И уездные го
рода, и резиденции сельских джентльменов на
всем пространстве нашего обширного отечества
переполнились людьми заеденными, погубленными
и изломанными, которые, однако, несмотря на
весь трагизм своего'положения, ели, пили, спали,
жирели и тупели во всю свою волю.
О, достойные сограждане! О, филейные части
человечества! Разве вы чем-нибудь отличаетесь от
среды, жизни и обстоятельств, на которые вы так
бессмысленно жалуетесь? И разве может какаянибудь сила в мире заесть, изломать или погубить
то, что рыхло, мяп<о, дрябло и жирно, подобно
вам! И какой же человек, действительно способ
ный почувствовать на своей особе медвежью лапу
жизни, среды и обстоятельств, скажет когда-ни
будь: ме н я заели, изломали или погубили? Са
мому признать себя заеденным, изломанным и по
губленным — значит заживо лечь в могилу, зна
чит бежать с пашни на лежанку в то время, когда
работают сохи и бороны честных и умных сосе
дей, друзей и родственников. Пока человек жив,
до тех пор он борется и не признает себя побе
жденным; если он беден — он трудится, то есть
борется с своею бедностью; если он неуч — он
учится, то есть борется с своим невежеством;
если он болен — он лечится, то есть борется
с своей болезнью. Борьба продолжается до тех
пор, пока человек не одерживает победы над
своим врагом, или до тех пор, пока он сам не
падает замертво на поле сражения. В первом слу
чае человеку незачем говорить о своей изломан22 а. и. Писарев
ности или заеденности; тут он сам, напротив того,
погубил, заел и изломал то, что мешало ему
быть счастливым. А во втором случае человеку,
упавшему замертво, уже некогда осыпать свою
могилу цветами сочувственного красноречия; над
гробное слово произнесут над ним другие люди.
Таким образом, люди умные и энергические бо
рются до конца, а люди пустые и никуда негод
ные подчиняются без малейшей борьбы всем мел
ким случайностям своего бессмысленного суще
ствования.
Надо сказать правду: люди вполне умные и лю
ди безнадежно пустые во всех человеческих об
ществах почти одинаково редки. Огромное боль
шинство состоит, везде из людей посредственных,
которые, с одной стороны, пороху не выдумают,
но с другой стороны, по выражению г. Щедрина,
сальных свеч не едят, стеклом не утираются. Эти
люди могут быть деятельными или праздными, гу
манными или жестокими, полезными или вред
ными, смотря по тому, в какую сторону направ
ляется в данную эпоху господствующее течение
идей. Ходячие фразы имеют значительное влия
ние на это человеческое стадо, и важнейшая за
дача здоровой и честной литературы заключается
именно в том, чтобы всегда пускать в обращение
такие фразы, которые в данную минуту могут
действовать благотворно на ум и на волю бес
цветных и. несамостоятельных людей, составляю
щих большинство. При этом надо уметь во-время
менять эти фразы, чтобы они не затаскивались и
не покрывались плесенью. Это производство и перёдвигание общеполезных фраз составляет пря
мую ' обязанность беллетристики и часто литера
турной 'Критики, то есть тех отраслей словесности,
•которые всего ближе прикасаются к чувствам, ин
тересам шусловиям частной нравственности и буд
ничной жизни.
335
Читатель не должен смущаться словом ф р а з а ;
Каждая фраза появляется на свет,, как формула
или вывеска какой-нибудь идеи, и м е ю щ е й более или;
менее серьезное значение; только впоследствии,
под руками бесцветных личностей, фраза опо
шляется и превращается в грязную и вредную'
тряпку, под которой скрывается пустота или не
лепость. Даровитые писатели чувствуют тотчас,
что формула выдохлась и что пора выдвинуть на:
ее место новый пароль.
Я показал в начале этой главы, каким образом1
фразы о среде, о жизни и об обстоятельствах,,
имевшие сначала глубокий смысл, превратились
понемногу в нелепость, прикрывающую собой
лень и негодность дряблых тунеядцев. Помялов
ский своим здоровым чувством и светлым умом
понял, как нельзя лучше, что пора поворотить
поток фраз в другую сторону. До Помяловского
эта потребность чувствовалась многими из наших
лучших беллетристов. Самая полезная сторона
в деятельности Тургенева клонилась именно
к тому, чтобы изобразить внутреннее ничтожество
наших домашних Гамлетов, праздно тоскующих
о вредном влиянии жизни, среды и обстоятельств.
Большая часть тургеневских повестей говорит
ясно и выразительно; те люди, которые жалуются
на свое бессилие, никуда не годятся. К этому су
ждению Помяловский своими двумя повестями
приделал естественное продолжение: а те люди,
которые на что-нибудь годятся, борются с небла
гоприятными обстоятельствами и по меньшей
мере умеют отстоять против них свое собствен
ное нравственное достоинство. И каждый здоро
вый и неглупый человек скажет на это с полным
|Убеждением; правда твоя, честный и даровитый
труженик; правда твоя, бедный и забитый бурсак,
умевший счистить с своего ума и с своего чувства
всю грязь, наложенную на них бурсацкими роз22*
V
339
гами! И спасибо тебе, Помяловский, за то, что ты
сильным и убедительным своим словом заступился
решительно за святыню человеческой личности,
в силе которой усомнились слабодушные охотни
ки оплакивать несовершенства жизни, среды и об
стоятельств!
Человек.— продукт среды и жизни, но жизнь
в то же время вкладывает в него активную силу,
которая не может быть мертвым капиталом для су
щества деятельного. Жизнь — дело в высшей сте
пени прогрессивное, и главные двигательные пру
жины ее прогресса сосредоточиваются в мыслях
и стремлениях лучших, то есть самых здоровых и
нормально организованных, представителей нашей
породы. Поэтому, склоняясь перед незыблемыми
законами вечной природы, современный мысли
тель продолжает сознательно веровать в преобра
зующие и обновляющие силй человеческого ума.
Все должно быть так, как оно есть в действитель
ности. Согласен. Но если я недоволен тем, что
я вижу вокруг себя, то и недовольство мое также
д о л ж н о быть и не может не существовать.
Если мое недовольство наводит меня на ряд раз
мышлений и поступков, то и размышления, и по
ступки входят также в общий план природы.
Стало быть, сознавать необходимость всех явле
ний, совершающихся в природе, совсем не значит
складывать руки и погружаться в факирское со
зерцание. «Я» — также явление: и если «я» чегонибудь хочет, ищет, домогается, то зачем же стес
нять его естественные стремления?
III
Помяловский хотел представить в Молотове
умного и развитого пролетария без всякой при
меси сословных элементов или предрассудков. Мо
лотов — человек, совершенно оторванный от вся
кой почвы, у него— ни кола, ни двора, ни рол340
ных, ни покровителей, совсем ничего нет, кроме
умной головы и двух здоровых рук. «А где же те
липы, — спрашивает у себя Молотов, — под ко
торыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и
не было никогда». Молотов — сын бедного ме
щанина, слесаря, "одного из тех одиноких бобы
лей, которые очень нередки в сословии ремеслен
ников. Жизнь его с отцом шла не очень дурно.
Отец был малый добрый, и маленький Егорка не
чувствовал перед ним никакого раболепного
страха. «Мальчик свободно относился к отцу,
точно взрослый, да,и живет он дома не без поль
зы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, су
меет и кашу сварить, и инструмент отточить, и
пьяного отца разденет, спать уложит, да еще при
говаривает:
— Ну, л о ж и сь!., ишь ты нарезался!..
— Молчи, Егорка!
— Ладно, не разговаривай, лежи себе.
Вот в подобных случаях выпадали тяжелые ми
нуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно
пьяный, злой, непокладный, и ни с того, ни
с другого поколотит сына.
— Не озорничай, т я т ь к а ... чорт этакой!., пра
во, чорт! — отвечает ему сын.
— Врешь, каналья, врешь! Я тебе овчину-то на
треплю . . .
А—
При этом отец ловит Егорку за вихор и оби
жает его. На другой день отец все припомнит:
ему совестно, он не знает, как и -взглянуть на
Егорку, как приступиться к нему. -Отец молчит;
у обоих лица пасмурные. Под вечер, взглянув
исподлобья, отец сказал:
•— Полно, Егорка; ну тебя . . .
— А! теперь и рожу в сторону!,, стыдно, не
бось, стал о ?., а ты не дерись!..
--- Да ну тебя . . ,
341
— Ишь нарезался, «а стены лезет!
Отец замолчал. Прошло несколько мучительных
минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату.
:Егорка взглянул сердито и сказал:
— В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молччишь-то? тут нечего молчать!
Такая уступка со стороны Егорки служила ша-гом к примирению, и у отца отлегло от сердца»
(стр. 37—38). «Детская жизнь Егора Ивановича, —
говорит Помяловский в другом месте, — соверша
лась в грязи, в бедности, а вот и теперь он вспо
минает ее с добрым чувством» (стр. 36). И не
мудрено: каждый читатель, непритупленный фра
зами грошевого либерализма, согласится, что от
ношения между Егоркой и его отцом были так
просты, естественны и здоровы, .что они должны
были действовать самым живительным образом на
первоначальное развитие физических и даже ум
ственных сил детского организма. Трепание овчи
ны, разумеется, не заключает в себе ничего пре
лестного и душеспасительного, но ведь это нечто
вроде летнего дождя, совершенно неспособного
превратить ясную погоду в пасмурную. А общий
колорит отношений совершенно ясен и светел.
Хорошо в них именно отсутствие педагогических
тенденций. Отец совсем не воспитывает своего
Егорку, не муштрует его, ничего ему не внушает;
он просто живет с ним, кормит, одевает и защи
щает его; а затем молодому организму, укрытому
от слишком тяжелых столкновений с голодом,
с холодом, с грубостью посторонних людей, —
предоставляется полная свобода жить действи
тельной жизнью, воспринимая «все впечатления
бытия», доступные людям его социального- поло
жения. Между жизнью и ребенком нет той -неле
пой стены, которой тщательно обносятся со всех
сторон благовоспитываемые дети. Егорка соб
ственными глазами смотрит на подробности своего
342
•
быта, собственными ушами слушает разные
толки, умные и глупые, и сббственным неиспор
ченным ребяческим рассудком составляет себе по
нятие о том, что хорошо и что дурно, что полез
но и что вредно, что правда и что вранье. Оши
бается он часто, но ошибается сам. Никакой муд
рый педагог не завязывает ему глаз и не ведет
его с благими целями к таким ошибкам, которые
питомец рано или поздно' непременно должен
осмеять и отвергнуть. В сердитую или пьяную
минуту отец задает Егорке выволочку, но.он ни
когда не унижает его нравственного достоинства
и не извращает его самостоятельного суждения
непрошенным' и насильственным вмешательством
в процесс его мысли Он не требует от Егорки,
чтобы тот считал его образцовым человеком и не
погрешимым авторитетом. Он сам смиренно кает
ся Егорке в своих грехах. «Отец беседовал с Егор
кой, как с взрослым, разговаривал обо всем, что
занимало его; побранится ли с кем, получит ли
новый заказ, болит ли у него с похмелья голова —
все расскажет сыну.
— Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее.
Вырастешь, не пей много
— Я, тятька, пиво буду пить .. .
— И молодец!., ты у меня молодец ведь?
— Еще бы! — отвечает сын» (стр. 36).
Отколотивши сына ни за что? ни про что, Иван
Молотов не считает себя правым и не требует от
Егорки, чтобы тот лобызал карающую десницу.
Такие побои не унизительны. Когда ребенок
имеет право дуться на своего отца и когда ему
позволяется открыто выражать свое неодобрение
и неудовольствие, тогда ребенок не озлобляется
и не оподлйется. Тятька его за вихор, а он
тятьку в глаза чортом выругает: вот они и кви
ты; и к вечеру опять начинается у них дружелю
бие и глубокомысленные беседы. Отец не смо3,4,3
трит на себя, как на деспота de Jure. Сын не смо
трит на себя, как на существо бесправное и без
гласное. Да и вообще ни отец, ни сын никак не
смотрят на себя. У них нет никакой теории взаим
ных прав, обязанностей и отношений. Они живут
в первобытном состоянии, без кодекса, и прекрас
но делают, потому что кодекс они при своей не
развитости составили бы прескверный, а по натуре
оба они — ребята'добродушные и, стало быть, не
способные постоянно пилить и обижать друг
друга. Хорошую теорию прав, обязанностей и от
ношений составить очень трудно, а плохая теория
гораздо хуже, чем полное отсутствие всякой тео
рии. А сын совершенного неуча Ивана Молотова
несравненно свежее и счастливее, чем семейства
богатых и полуграмотных купцов, куралесящих
в драматических произведениях Островского. Все
нищие духом, все алчущие и жаждущие грязи, из
вестной под названием почвы, возрадуются и нач
нут уличать- нас, озорников и отрицателей, в не
последовательности. «Вот видите, — скажут они, —
вот и вы же признаете в русской жизни светлые
явления. Вот и вы же находите, что воспитание
Егорки, совершавшееся в русской бедности и
в русской грязи, было здорово и полезно для
мальчика».
Торжество наших близоруких противников бу
дет очень непродолжительно и повернется тотчас
против их же собственных идей. Я нахожу воспи
тание Егорки здоровым и полезным именно пото
му, что в нем нет никаких специально-почвенных
элементов. Что такое отец Егорки? Это — чело
век, который трудится целый день, чтобы под ве
чер съесть горшок гречневой каши, и ест он гор
шок гречневой каши, чтобы потом опять, про
спавши на голых досках несколько часов, тру?
диться целый день. Если заменить горшок каши
блюдом вареного картофеля, да если кроме того
Щ
'
дать в руки Ивану Молотову менее допотопные
инструменты, то жизнь Молотова окажется похо
жей, как две капли воды, на жизнь бедного
ирландца или бедного немца. Трудиться — чтобы
есть, есть — чтобы трудиться, та же история и
завтра, и послезавтра, и десятки лет подряд —
с этим, воля ваша, не разгуляешься, и о создавании каких-нибудь чисто национальных теорий
и бытовых форм не станешь задумываться по той
простой причине, что некогда и что национальные
теории нисколько не помогают человеку ни во
время труда, ни во время пищеварения. Человек
начинает систематизировать свои отношения к дру
гим людям только тогда, когда у него является
досуг и когда его умственные силы не погло
щаются безраздельно заботами о куске хлеба.
Первые попытки систематизирования бывают
обыкновенно так же уродливы, как вообще всякие
первые попытки. Голый факт, сам по себе очень
безобразный, возводится без дальнейшего ана
лиза в теоретически,й принцип и через это стано
вится еще безобразнее. Взрослый мужчина силь
нее всех других членов своего семейства и вслед
ствие этого тузит их кулаком или плетью. Когда
начинается систематизирование отношений, тогда
мужчина говорит: я имею право, и на мне лежит
даже священная обязанность учить вас. дураков.
Когда побои перестают таким образом быть де
лом свободной фантазии и принимают на себя
догматически обязательный характер, тогда поло
жение подначальных членов семейства становится
гораздо хуже прежнего, потому что малейшее
возражение с их стороны и малейшая попытка за
щищаться вменяется им по теории в преступле
ние, заслуживающее усугубленного наказания.
Я не такой знаток русского быта, чтобы я мог
выдавать мои соображения за достоверные факты,
но мне кажется, что систематическое порабощение
женщин и детей гораздо значительнее в семейной
жизни достаточного купечества, чем в семейной
жизни бедных крестьян и мещан, принужденных
постоянно работать из-за куска насущного хлеба.
В бедном семействе главная задача состоит по
стоянно в том, чтобы общими силами бороться
против голода и холода; жизнью бедного семей
ства управляют не принципы, а ежедневные толч
ки суровой необходимости. И муж, и жена, и
дети — все должны работать и работать часто
врознь; каждый член семейства является, таким
образом, до некоторой степени самостоятельным
производителем; он сам высматривает свои вы
годы, сам приноровляется к обстоятельствам, сам
отвечает за свои поступки. Труд иногда изнуряет
его силы, но тот же труд обеспечивает за ним не
которую долю неотъемлемой самостоятельности.
В семействе русского капиталиста, крупного или
мелкого, еще нетронутого общечеловеческим об
разованием, жизнь складывается иначе. Отец се
мейства кормит всех своих домочадцев процен
тами с своего капитала и держит их в самой пол
ной экономической зависимости. Т(роме того, ку
сок хлеба всегда обеспечен, и потому живут эти
люди не так, как велят жить обстоятельства, а так,
как сами они считают должным и приличным, то
есть — так, как жили отцы и деды. Поэтому
жизнь достаточного русского человека, не увлек
шегося греховными прелестями лукавого Запада,
представляет собой самый дрязный и самый мрач
ный угол нашего отечественного быта. Тут нет
ни физического труда, ни знания, то есть нет
именно тех двух элементов, которые одни только
и могут сохранить человеческую природу от пол
нейшей деморализации.
Тот слой нашего общества, который выведен
на свежую воду комедиями Островского, соста
вляет действительно самое темное пятно среди
3.46
множества темных явлений нашей народной
жизни. Это — темное пятно именно потому, что
в нем могли сохраниться в полнейшей неприкос
новенности принципы, выработанные русской
жизнью и нашедшие себе превосходное выраже
ние в известном Домострое попа Сильвестра.
С этим темным пятном целуются и обнимаются
славянофилы и почвенники8; но, увы и ах! Это
темное пятно с каждым десятилетием становится
меньше. Сверху на него давит европейская или
общечеловеческ&я наука; снизу его тормошат и
подтачивают запросы физического труда, то есть,
говоря проще, очень богатые капиталисты по
сылают своих детей в университеты, а очень бед
ные поневоле берутся за ремесло и начинают жить
со дня на день, заботясь не столько о неприкос
новенности дедовских нравов, сколько о насыще
нии вопиющих желудков. С этим темным пятном
русской жизни и со всеми специально скверными
особенностями почвы воспитание Егора Молотова
не имело ничего общего. По смерти его отца
маленького Егорку взял к себе на воспитание ста
рый холостяк, отставной профессор. Молотов
прошел через гимназию и через университет и та
ким образом присоединился к той небольшой
горсти мыслящих йролетариев, которые ничем не
связаны с почвой и которые по своему положе
нию и образованию могут относиться совершенно
беспристрастно ко всему в нашей общественной
жизни.
'
IV
Слишком двадцать лет жизнь обращалась с М о
лотовым довольно милостиво. Она не баловала
его излишней роскошью, но и не томила его су
ровой нуждой. Помяловскому было необходимо
обставить первую молодость своего героя такими
благоприятными условиями. По размерам своих
347
умственных сил, Молотов — человек обыкновен
ный. Если бы такой человек с детства был по
ставлен в необходимость страдать и бороться за
свою нравственную самостоятельность, то он не
выдержал бы такой ранней и тяжелой форьбы; он
превратился бы в человека забитого, притуплен
ного и развращенного. Сам Помяловский вышел
победителем из своей четырнадцатилетней борь
бы с бурсой, но для этого надо быть Помялов
ским, да и Помяловский, несмотря на атлетичегкое сложение своего тела и своего ума, вынес
с собойу из бурсы роковое наследство — едкую и
неизлечимую печаль о потерянном времени и, что
еще того хуже, несчастную привычку топить эти
невыносимо тяжелые ощущения в простом вине.
Но Помяловский не хотел и не мог мерить людей
и жизнь на свой аршин. Что мог сделать Помя
ловский, то оказалось бы по силам только немно
гим избранным личностям. Если бы Помяловский
в лице Молотова вздумал изобразить самого себя,
то его произведение не имело бы того практиче-*
екого смысла, который оно имеет теперь. Тогда
обыкновенные люди имели бы право сказать, что
жизнь Молотова ни в каком отношении не может
служить им уроком и примером. Мы — люди ма
ленькие, сказали бы они, а Молотов — вон какой
большой. Надо было непременно, чтобы Молотов
был человеком обыкновенного роста. Надо было,
чтобы борьба с жизнью началась для него только
тогда, когда физические и нравственные его силы
были уже совершенно сформированы.
Повесть «Мещанское счастье» представляет
именно первое суровое столкновение юного Мо
лотова с шероховатостями вседневной действи
тельности. В «Мещанском счастье» он узнает на
практике две житейские истины: во-первых, ято
поступками людей управляют в общей сложности
не чувства, а интересы. и,_во-вторых, что очень
343
.
мягкий и любящий человек может иногда грубо и
безжалостно наступить ногой на живое человече
ское тело, способное чувствовать самую жгучую
боль. — Первую истину выясняют ему помещик
Обросимов и его супруга; вторую — почерпает он
из своих отношений к к и с е й н о й девушке
Леночке. Дело Молотова с семейством Обросимовых чрезвычайно просто, и только на мягкого
дваддатилетнего юношу, совершенно непотертого
жизнью, оно могло произвести прочное впечатле
ние. Молотов поступил к Обросимову домашним
секретарем^ его хозяева, люди вовсе не грубые и
не злые, обращались с ним вежливо и ласково;
Молотов с искренностью, свойственной его летам,
привязался к ним очень скоро и вообразил себе,
что они тоже ужасно как любят его и видят в нем
задушевного друга и почти близкого' родствен
ника. На поверку же выходит то, чего всегда сле
довало ожидать. Обросимовы смотрят на него,
как на наемника, изучают внимательно и хладно
кровно выгодные и невыгодные стороны его ха
рактера, критикуют в своем кругу его привычки,
держат с ним ухо востро и тщательно наблюдают
за тем, чтобы он исполнял за свое ничтожное жа
лованье как можно больше разнообразнейших по
ручений, за которые Молотов, по своей юноше
ской наивности, берется далее с особенным удо
вольствием, усматривая в этих поручениях дока
зательства дружеской бесцеремонности и' откро
венности. — Один простой разговор между поме
щиком и помещицей, нечаянно услышанный М о
лотовым, разрушил совершенно в его глазах фан
тастическую идиллию обросимовского дружелю:
бия. Выписываем отрывок из этого очень безобид
ного диалога.
«— Они, я говорю, — образованный народ, —
продолжала жена: — но все-таки народ чернора
бочий и все как будто подачки ждут. . .
'
34Э
— Что же, можно сделать ему подарок какойнибудь. Он стоит того.
— Я думаю, часы подарить. . .
— Эго привяжет его. . . А что «и говори, же
на, — эти плебеи, так или иначе пробивающие себе
дорогу, вот сколько я ни встречал их, удивитель
но дельный и умный народ . . . Семинаристы, ме
щане, весь этот мелкий люд — всегда спое-обные,
ловкие господа.
— Ах, душенька, все голодные люди умные. . .
Ты — дворянин, тебе не нужно было правдой и
неправдой насущный хлеб добывать; а этот наро
дец из всего должен выжимать копейку. И по
смотри, как он ест много. Нам, разумеется, не
жаль этого добра; но . . . постоянный его аппетит
обнаруживает в нем плебея, человека, воспитан
ного в черном теле и не видавшего порядочного
блюда. . . Не худо бы подарить ему, душенька,
голландского полотна, а то, представь себе, по
будням манишки носит, — ведь неприлично!..
— Я не замечал этого . . .
— Где ж вам, мужчинам, заметить.
— О бедность, бедность! — сказал со вздохом
Обросимов» (стр. 125—126).
Разговор этот замечателен во многих отноше
ниях. Но прежде чем я буду рассматривать его
в подробностях, я замечу мимоходом, что не
только Молотов, но даже сам Помяловский смо
трит на этот разговор не совсем верно. Юный
Молотов обиделся, захандрил, укротил свой демо
кратический аппетит и даже вскоре после того
уехал от Обросимовых. Это все понятно. Моло
тов пылал любовью и уважением к Обросимову
и вдруг вместо взаимности увидел в перспективе
кусок голландского полотна и часы. И пришлось
юноше, влюбленному в добродетельного помещи
ка, сказать вместе с Шиллером:
350
Er 1st dahtn, der sQsse Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar,
Der rauhen Wirkllchkeit zum Raube,
Was elnst so schdn. so gdttllch war *.
Все это понятно. Но странно то, что слишком
десять лет спустя опытный и рассудительный муж
чина Молотов, припоминая этот случай, говорит:
«Помещик оскорбил меня, приходилось оставить
место» (стр. 267), В сущности оскорбления не про
изошло ни малейшего; помещик оказался только
не «прекрасным» и не «божественным», и добро
детели этого помещика, сочиненные самим Моло
товым, сделались, подобно щиллеровским иде
алам, «добычей суровой действительности». А ведь
разочарование и оскорбление — две вещи \совершенно различные. Из некоторых очень умных рас
суждений Помяловского видно, что он выводит
слова Обросимовых из аристократизма, барствен
ной спеси, неразвитости и слабоумия. Но мне ка
жется, что причины их странного взгляда на Мо
лотова лежат глубже. Такой взгляд неизбежен
везде, где один человек нанимает или, другими
словами, п о к у п а е т на в р е м я другого чело
века.
Весь разговор между Обросимовым и его женой
вытекает естественно и неизбежно из того обстоя
тельства, что Обросимбв — наниматель, а Моло
тов — наемник. И будь Обросимов умнее первого
финансиста в мире, мистера Гладстона, все-таки он
мог бы говорить с своей женой о Молотове так,
как он говорит в повести Помяловского. Оброси
мов должен непременно думать о Молотове так:
«Я тебя, друг любезный, купил и в известные
сроки аккуратно плачу тебе деньги за твою же
* «Она погибла, сладкая вера в существа, порожденные
моей мечтой, и добычей суровой действительности сдела
лось то, что было так прекрасно, так божественно».
351
собственную особу. Ты — малый ловкий: с одной
стороны это хорошо, но с другой стороны это
опасно. Хорошо потому, что купленный мною то
вар вследствие этого оказывается годным на вся
кую поделку. Опасно потому, что этот ловкий и
юркий товар может ежеминутно выскользнуть
у меня из рук. Ты, о товар, можешь надуть меня,
ты можешь слишком много отдыхать, отлынивать
от работы и в то же время отводнть мне глаза
твоей зловредной ловкостью. Ты, о товар, поиидимому, чувствуешь ко мне симпатию. Но я — не
дурак. Я знаю, зачем ты обнаруживаешь это чув
ство. Ты собираешься ускользнуть у меня из рук,
ты начинаешь отводить мне глаза, ты хочешь под
вести подкопы под мое чувствительное сердце,
чтобы я, распустивши нюни, не мешал тебе бить
баклуши и произвел тебя из купленных товаров
в полноправные человеки. О шельма ты, шельма!
Ловкость твоя мне нравится. На тебе гривенник па
водку и ступай, бестия, работать-!»
Мы знаем уже, что в истории Молотова г р и
в е н н и к на водку принял на себя облагорожен
ный вид голландского полотна и часов. \Л всетаки я утверждаю, что во всех размышлениях
Обросимова нет ничего оскорбительного для М о
лотова. Тут нет столкновения личностей; тут стал
киваются только две отвлеченные величины — на
ниматель и наемник Имеет ли Молотов какое-ни
будь разумное основание чувствовать себя, именно
с е б я обиженным, когда с ним обращаются не
хуже, чем со всеми остальными честными и умны
ми людьми, поставленными- в его положение? По
моему мнению, — не имеет. Он обиделся потому,
что был юн; доживши же до зрелого возраста, он
бы должен был осудить безусловно строй отноше
ний и оправдать так же безусловно личность
Обросимова.
В разговоре Обросимова с женой любопытны
352
Две следующие черты: во-первых, замечание Поме
щицы о сильном аппетите плебея; во-вторых,
восклицание помещика: «о бедность, бедность!»,
вырвавшееся у него по поводу молотовских ма
нишек. Есть на свете люди, для которых неимение
цельных голландских рубашек составляет симптом
вопиющей бедности. Каково, думают такие люди,
этот господин ест со мной за одним столом, раз
говаривает со мной, как с равным, и вдруг —
у него нет голландского белья! О бедный, о не
счастный человек! И как близко мы, баловни
судьбы, сталкиваемся в жизни с непокрытой ни
щетой!
Эта "трогательная филантропия по поводу ма
нишки показывает очень наглядно, до какой сте
пени праздный богач может одуреть и избало
ваться и до какой замечательной искусственности
он может довести весь свой образ жизни. Но за
коны природы никогда не нарушаются безнака
занно. Замечание помещицы о плебейском аппе
тите дает нам понятие о неизбежном наказании.
Аппетит убавляется, силы убывают, здоровье сла
беет, порода мельчает и тупеет в тех людях, ко
торые постоянно потребляют, не произведя ровно
ничего и не освежаясь никодда живительными
волнами физического и умственного труда’. Это —
явление повсеместное^
1
V
”•
У одной небогатой соседки Обросимовых есть
дочь, молодая девушка Леночка. Эта барышня
простодушно заигрывает с Молотовым и без вся
кой задней мысли пишет к нему нежное письмо,
в котором ни с того, ни с сего назначает ему лю
бовное свидание. Письмо написано так: «Егор
Иваныч! У вас есть чувство, и вы завтра в 6 ча
сов придете на реку к мельнице вечером и здесь
23 Д . И. Писарев
353
встретите даму и, если любите, узнаете ее; а если
нет, я останусь по гроб верная вам и любящая»
(стр. 82). Подписи нет. Молотов, юный и застен
чивый, повергается'этим письмом в величайшее
недоумение. Молодое воображение разыгрывается,
хотя милая бестолковость письма и фатальные
слова: «по гроб верная и любящая» значительно
умеряют его порывы. Он приходит к назначен
ному месту очень сконфуженный и конфузится
еще сильнее, увидев Леночку, которая с своей сто
роны уже и сама не рада собственной смелости.
Выходит уморительная сцена. Невинные любов
ники ведут между собой солидный разговор о до
стоинствах погоды и затем расходятся по домам,
не сказавши друг другу ни слова о письме и о том,
зачем они встретились.
«Странно было смотреть на молодых людей.
Леночка не менее Молотова боялась разговора
о письме. Она лишь только увидела Егора Ива
ныча, ей страшно стало за свой легкомысленный
поступок, который она, кажется, сделала так,
спроста, по-птичьи»;. . «Леночка теперь сама по
няла, что следовало бы надрать ей хорошенькое
ее ушко». . . «Она чуть не плакала и в первую ми
нуту едва не сказала:
— Егор Иваныч, не говорите мамаше. . . я боль
ше не буду». Но увидев, что Молотов едва ли не
больше ее струсил, она сказала себе: «он не
страшный, он такой добрый», и рада была, что
Молотов не говорит ничего о письме. Теперь она.
была спокойна.
Егор Иваныч наклонился и сорвал цветок.
—• Дайте мне цветок, — сказала Леночка.
— Извольте.
— Это мне на память.
— Разве нельзя помнить без цветка?
Молотов сорвал другой цветок. Леночка опять:
— Дайте мне цветок.
354
— И этот на память?
— Дайте же, — сказала Леночка строго, вырвала
неожиданно цветок и ударила им по руке Моло
това. Все это сделалось как-то уж очень наивно.
Оба засмеялись» (стр. 93).
Славная девчонка эта Леночка! Она не ловит
себе жениха, она не кокетничает с Молотовым.
Она именно заигрывает с ним, как здоровая де
вушка, в которой близость здорового и красивого
мужчины возбуждает радостное волнение. Совер
шенная непосредственность и неподкрашенность
простого физиологического влечения составляет
весь секрет ее грации. В изображении этой жен
ской фигуры Помяловский является чистым нату
ралистом. Базаров говорит о Феничке: «Чего ей
стыдиться? Она — мать, стало быть, и права». По
мяловский смотрит на Леночку совершенно так,
как Базаров на Феничку. Леночка и не развита,
и не умна, и не сияет никакими особенными до
бродетелями. Это просто живой и здоровый ор
ганизм, и Помяловский откровенно любуется этим
превосходным произведением природы; и нельзя
не любоваться. Здоровому человеку свойственно
любить жизнь во всех ее неизуродованных про
явлениях. А когда здоровый человек становится
мыслящим человеком, тогда любовь к мировой
жизни делается еще сильнее, потому что он полу
чает возможность изучать то, чем он прежде бес
сознательно любовался. Тургенев любит свою Асю.
Помяловский любит свою Леночку. Но Тургеневу,
чтобы полюбить Асю, было необходимо сделать
из нее какое-то особенное, странное, оригинальное
и, мне кажется, полуфантастическое существо. Ему
необходимо было окружить ее развалинами прирейнских замков, сделать из нее эффектную ди
карку и показать читателю, что в ее нетронутом
уме таятся богатые задатки будущего развития.
Словом, мы имеем тут дело «с высшей натурой»
23*
.
355
(une
nature
d’elite), и Тургенев ни под каким
видом не позволил бы своей Асе написать без
грамотное billet doux * с подписью «по гроб
верная и любящая». Его покоробило бы от этой
тривиальности, похожей на поэзию конфектных
билетиков. .Помяловский, напротив того, как ре
алист по складу своих убеждений и как совер
шенно последовательный плебей, не делит людей
на высшие и низшие натуры, на дюжинные и не
дюжинные, на пошлые и изящные. Он совершенно
бесстрашно подходит к самой мелкой, самой буд
ничной прозе жизни, даже не к сермяжным ее
явлениям, — сермяга имеет в себе своего рода эф>фектность, — а к ситцевым и к кисейным; и даже
тут его неисчерпаемая любовь к жизни вообще и
к человеку в особенности не изменяет себе ни на
минуту. Леночка вовсе не дикарка. Онашисто оде
тая и гладко причесанная барышня. Она нисколько
не похожа на пушкинскую Татьяну. Это не тихий
омут, в котором черти водятся. Она совсем не от
личается тишиной, и нет ни малейшего основания
подозревать в ней присутствие каких-нибудь чер
тей. Она вся как на ладони, и ее чрезвычайно
легко понять с первого взгляда. Такие характеры
обыкновенно рисуются художниками на втором
плане только для того, чтобы оттенить контра
стом натуру высокую, изящную, глубокую, ргхую
и наполненную скрытыми чертями. Леночка по
хожа на сестру Татьяны, Ольгу, о которой гово
рит Онегин:
Бела, кругла лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
Похожа она также на ту Агафью Матвеевну, ко
торая прельщала Обломова толстыми" локтями.
И кажется мне еще, что мать Базарова, Арина
* Перевод:
856
любовное послание. Ред.
Власьевна, в молодости своей сильно смахивала
на к и с е й н у ю д е в у ш к у , Леночку. Но пуш
кинская Ольга поставлена на втором плане, и ав
тор относится к ней так же насмешливо, как сам
Онегин. Агафья Матвеевна выведена на сцену
единственно для того, чтобы сделаться живой
эмблемой того падения, которое постигло Обло
мова за его предосудительную леность. Если она,
таким образом, представляет собой воплощенное
пугало, то, разумеется, об искреннем и непокрови
тельственном сочувствии автора к ней не может
быть и речи. Об Арине Власьевне нечего и гово
рить; мы видим ее в той поре жизни, когда она
уже давно перестала бцть женщиной. Сына лю
бит, пороху не выдумает, вот и все, что можно
о ней сказать.
Поэтому надо согласиться, что Помяловский вы
брал себе и разрешил совершенно новую задачу,
нетронутую до него ни одним из замечательных
русских писателей. Он взял совершенно обыкно
венную девушку, такую, от которой даже и в бу
дущем ничего нельзя ожидать, кроме дюжины
толстомордых ребят, и к этой простейшей из
простых смертных он отнесся с беспримерной
кротостью и нежностью. Он сам знает очень хо
рошо, что вся Леночка не что иное, как здоровое
и красивое тело, но это его нисколько не смущает
и не отталкивает. Он ют нее и не требует ни силь
ного ума, ни глубокого чувства. Он говорит себе:
этот молодой организм ищет и просит себе любви,
счастья, наслажденья, того, что для него необхо
димо, как теплота, свет, воздух и сырость необхо
димы для растения. Что мне за дело до того, что
этот глуповатый организм понимает любовь,
счастье и наслажденье не так, как понимают их
мыслящие люди? Неужели я буду осуждать ки
сейную девушку за тсУ, что она не умеет и не мо
жет быть счастлива п о-м о е м у ? Напротив того,
357
я от души желаю, чтоб она была счастлива п ос в о е м у . Я горячо сочувствую ее радости, ее
горю, ее тревоге и ее томлениям не потому, что
я сам способен таким же образом и по таким же
причинам радоваться, горевать, тревожиться и то
миться, а потому, что в ней-то, именно в ней, все
эти ощущения совершенно естественны, неизбежны
и неподдельны.'— Вы скажете, что ее ощущения
слабы и мелки. Для в а с — да. Но для н е е они
не мелки и не слабы. Они соответствуют размерам
ее сил и широте ее понимания. Для самого себя
каждое живое существо есть центр и смысл всего
мироздания: для самого ничтожного субъекта его
собственные радости, огорчения, усилия и заботы
важнее и крупнее мировых переворотов, соверша
ющихся без его участия и не имеющих влияния
на судьбу его личности.
Я до сих пор ни разу не встречал писателя, у ко
торого было бы так много самородной гуманно
сти, как у Помяловского. Тургенева называют
с и м п а т и ч н ы м художником, и я ничего про
тив этого названия не имею. Но даже Тургенев
улыбнется тонкой саркастической улыбкой при
встрече с такими явлениями, на которых Помя
ловский с неутомимой пантеистической любовью
останавливает свой кроткий, задумчивый, безгра
нично нежный и, несмотря на то, глубоко умный
взор. А между тем Помяловский прослыл и до сих
пор слывет у наших журнальных кликуш грубым
и грязным обличителем, человеком черствым и
бесчувственным. Один из новейших мудрецов
«Эпохи» 3, попавший в эту журнальную богадельню
и з г у б е р н и и , догадывается даже, что Помя
ловского сгубило именно его циническое отвраще
ние ко всему нежному и изящному. Он требует от
Помяловского, чтобы тот выводил на сцену облаго
роженных бурсаков, а не таких, которые говорят:
отчехвостить,
стилибонить,
смазь
358
в с е л е н с к а я и т. д. Кроме того, он в ноябрь
ской книжке той же грязной богадельни выражает,
уморительную надежду, что реалисты, и преиму
щественно автор «Нерешенного вопроса», отка
жутся от солидарности с безнравственными пове
стями Помяловского. Истинно можно сказать: ве
лика и обильна наша матушка Россия. Какие
в ней, подумаешь, бывают удивительные г у б е р
нии, и какие в этих непостижимых губерниях
появляются иногда невиданные светила! И как
в самом деле не употребить выразительное слово
loucocheko. 4 в разговоре о том-источнике, из
которого льются мысли, подобные вышеупомяну
тым хитросплетениям. Помяловский всегда гово
рит резкими и грубыми словами о том, что резко
и грубо в действительности; но под твердой обо
лочкой резких и грубых выражений таится такая
женственная нежность ..чувства, которая ощути
тельна и понятна для всякого мало-мальски неглу
пого и небездушного человека. О Помяловском
можно вполне справедливо сказать то, что Берне
говорит о Байроне: «Его сердце было окружено
сплошной стеной твердых и острых колючек,
damit das Vieh nicht daran nage (чтобы его не глодала
скотина). И действительно, как только к подоб
ному сердцу сунется какая-нибудь тупая скотина,
так она сейчас и отскочит назад с окровавленной
мордой и с выражением комического негодования
в своих оловянных глазах. Dixl etanimam raevavil*
По-русски эти латинские слова можно перевести
так: «выругался во все свое удовольствие!»
.
*\
VI
Помяловский с такой глубокой гуманностью от
носится к своей кисейной Леночке, что он даже
* Перевод:
Я сказал и облегчил свою душу. Ред.
359
не осмеливается решить окончательно вопрос:
действительно ли из нее никогда не может сфор
мироваться мыслящее существо? Да и в самом
деле, какое мы имеем право, глядя на живого и
шаловливого ребенка, произнести над ним реши
тельный приговор вроде некрасовской колыбель
ной песни:
Ты чиновник будешь с виду
И подлец душой.
Чтобы произносить такие приговоры, надо чи
тать безошибочно характер и будущее людей по
выпуклостям их черепа и по чертам их лица. Но
подобным умением еще не обладает никто, и сле
довательно, приговор отвержения может иногда
обрушиться на таких людей, которые способны
подняться, окрепнуть и развиться. В самых дю
жинных личностях, поставленных в самую бесцвет
ную среду, бывают иногда такие взрывы мысли и
чувства, которые вдруг какой-то молнией осве
щают перед глазами обыкновенного человека и
безграничное величие всего живого мира, и неиз
веданную глубину собственной потрясенной души.
Есть такие взрывы и у кисейной Леночки, и кто
же осмелится утверждать, что они совершенно
бесплодны, что они исчезнут без всякого следа и
что врожденная пошлость возьмет непременно
верх над Лучшими впечатлениями, если даже эти
лучшие впечатления будут повторяться часто и по
следовательно? Один раз Леночка резвилась и
шалила с -Молотовым и потом вдруг затосковала,
да так, что даже слезы досады и непонятной гру
сти выступили на ее яшвые черные глаза. Объяс
нить, чего ей хотелось, она, разумеется, не умела.
Но понятно, что ее тяготила пустота, отсутствие
любимой мысли, дорогого чувства, отсутствие
всего, что дает цвет и смысл человеческому су
ществованию. Молотов старается ее утешить, но
360
при этом говорит только бесполезные слова; в по
добных
случаях требуется не красноречие,
а серьезная и деятельная помощь, такая помощь,
которая бы перевернула всю жизнь тоскующего
человека. А когда не хочешь или не можешь ока
зать такой помощи, тогда уж просто молчи и
пропускай мимо ушей все жалобы твоего собе
седника.
«— Читайте, учитесь, — продолжал Молотов и
вдруг остановился, вспомнив, что юноши наши
всегда предлагают это универсальное лекарство
от всех дамских болезней» (стр. 107). Эти слова
могут навести читателя на мысль, что сам Помя
ловский сомневается в действительности «универ
сального лекарства». Сомневается ли он или нет,
во всяком случае надо заметить, что лекарство ни
в чем не виновато. Недействительность его про
исходит оттого, что «наши юноши», в том числе и
Молотов, предлагают это лекарство чрезвычайно
бестолково. «Читайте, учитесь!» Легко сказать!
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело де
лается. Эти слова: «читайте, учитесь!» напоминают
мне очаровательный куплет из стихотворений
Гейне:
В морозы,
В постели
И тут же
Здоровою
прибавил он, надо всегда
как можно теплей укрываться,
совет рассудительный дал
пищей питаться.
В жалкой конур? под крышей два человека,
мужчина и женщина, умерли в морозную ночь от
холода и от истощения сил. Пришел доктор осви
детельствовать их трупы, и вот он-то именно и
дает при сём удобном случае рассудительные со
веты насчет здоровой пищи и теплого одеяла.
Еще более рассудительные советы дают «наши
юноши», когда они произносят слова: «читайте,
учитесь!» Бедняку не откуда взять Теплое одеяло
и кусок ростбифа: но если вы ему дадите то и
361
другое, то он управится с этими предметами без
всяких дальнейших разъяснений. Но если вы да
дите десятки умнейших книг такому человеку, ко
торый никогда не читал, не учился и не размы
шлял и который, кроме того, живет в совершенно
неподвижном обществе, то вы не принесете ему
решительно никакой пользы. Надо сделать так.
чтобы он сам потянулся к книге и чтобы он соб
ственной энергией победил скуку и трудности пер
вого начала. Тогда все пойдет хорошо и незачем
будет произносить бесполезные слова: «читайте,
учитесь!» Но для того, чтобы возбудить в чело
веке желание и дать ему возможность читать и
учиться,' надо постоянно действовать на него сло
вом и примером; надо много, долго, откровенно и
задушевно говорить с ним обо всем, что расши
ряет наш умственный горизонт; надо ловить в нем
каждую минуту его раздумья и его одушевления;
надо, одним словом, сделаться его лучшим дру
гом и неутомимым руководителем.
Когда дело происходит между мужчиной и жен
щиной, тогда вопрос ставится еще проще. Если вы
любите или расположены полюбить данную особу,
тогда смело и серьезно принимайтесь за великую
деятельность просветителя; если же нет, — тогда
оставьте в покое тоскующую женщину и уходите
от нее подальше, потому что ваши бессильные
утешения и неприменимые советы не дадут ей
ровно ничего, кроме лишнргб горя. Брошенные на
ветер слова: «читайте, учитесь!» составляют двой
ное кощунство: во-первых, — над беспомощным
положением огорченной женщины, живущей в та
ком обществе, где все'мешает читать и учиться;
а во-вторых, — над святыней «универсального ле
карства», которое действительно оказывается бес
сильным тодько тогда и тай, когда и где его бес
толково сыплют на пол, вместо того чтобы по
давать его в руки пациенту. Поэтому «нашим юно362
шам» действительно не помешает намотать себе
на ус, что проповедывать о величии науки в пу
стыне или в конюшне — значит превращать свя
тую и великую, истину в бессмысленную фразу,
над которой с особенным наслаждением станут
хохотать все многочисленные подлецы и идиоты.
Возбуждать такой хохот вредно, и, следовательно,
надо говорить о науке и о разумном чтении
только тем лицам, которых вы намерены серьезно
просвещать и руководить. Да и, вообще, г о в о
р и т ь о н а у к е незачем, а надо постоянно упо
треблять науку в дело, как орудие, разбивающее
нелепость и расширяющее умственный горизонт
всякого человека, без различия пола и обще
ственного положения.
Заигрывания Леночки с Молотовым доходят до
того, что она его целует. Он держит себя совер
шенно пассивно, то есть не отталкивает ее прочь
и не говорит ей ни слова о любви. Она ему нра
вится, ее ласки волнуют его, но он постоянно смо
трит на нее сверху вниз, так что ему и в голову
не приходит мысль о возможности посвятить всю
жизнь этой кисейной девушке. Действительно ли
прав Молотов в своем высокомерном взгляде на
Леночку? Дать на этот вопрос прямой ответ очень
трудно. Молотов, как человек обыкновенный по
размерам своего ума, не может смотреть на Ле
ночку иначе. У Молотова нет той сильной и го
рячей веры в человеческую природу, которая
дается только очень даровитым и глубоким нату
рам и которой обладал в такой значительной сте
пени сам Помяловский. Плебей Молотов был бари
ном в отношении к Леночке, барином очень снис
ходительным и милостивым, но тем более не
способным поставить кисейную девушку с собой
на одну доску. Ему бросались в глаза тривиальные
выражения Леночки, как г-же Обросимовой бро
сались в г,каза тривиальные манишки и тривиаль363
ный аппетит Молотова. Шокируясь выражениями,
он забывал о том, что вызывало эти выражения,
о том, что искало и не умело найти себе выхода
из души искренней, простой, честной и любящей
девушки. Она бросилась к нему на шею без рас
чета, без условий, без кокетливых уловок, именно
по-птичьи — так, как бог на душу положил.
VII
В прощальной сцене Молотова с Леночкой бух
галтерская безукоризненность юного Егора Ива
ныча доходит просто до комизма, и кисейная де
вушка, на которую Молотов взирает с величе
ственной снисходительностью, оказывается, по
энергии и задушевности чувства, неизмеримо
выше, прекраснее и сильнее умного и развитого
мужчины, только что соскочившего с университет
ской скамейки. Являясь рядом с Леночкой, Моло
тов уподобляется какому-то печеному яблоку, и
Помяловский превосходно понимает его бессилие
и несостоятельность. Прощальная сцена до такой
степени замечательна, что я разберу ее очень по
дробно, хоть бы мне пришлось написать о ней
страниц десять. Критике не часто приходится
встречаться с такими явлениями, как повести По
мяловского, и когда встретишься с ними, тогда
уж не хочется и расставаться. — Молотов прихо
дит к Леночке через неделю после того, как он
услышал убийственный разговор о манишках и об
аппетите. Он до такой степени расстроен этим раз
говором, что отношения к Леночке представля
ются ему только докучливой прибавкой к обуре
вающим его заботам. «Еще Леночка! еще Леночка
на моих руках!» повторяет он про себя и отпра
вляется к ней с твердым намерением все покон
чить.
Я напомню здесь читателю то величественное
364
равнодушие и невозмутимое хладнокровие, с ко
торым Базаров выслушивает и отражает дерзо
сти Павла Петровича. Будь Базаров на месте М о
лотова, он бы и внимания не обратил на обросимовские рассуждения и не подумал бы из-за та
кой ничтожной причины отказываться от удоб
ного места. Ел бы он попрежнему за четверых,
потому что при заключении условий ему не было
поставлено в обязанность сидеть впроголодь; и ма
нишки носил бы он, нисколько не смущаясь, va ко
гда бы ему поднесли кусок голландского полотна и
часы, тогда бы он спокойно заметил — это лиш
нее, потому что, заключая условия, помещик не
выговорил себе права делать Базарову какие бы
то ни* было подарки. И тогда Обросимовы уразу
мели бы, что Базарова нельзя ласкать по произ-'
волу, а надо сначала приобрести его уважение для
того, чтобы он позволил любить и ласкать себя.
Базаров не стал бы говорить: « Е щ е Леночка!»
Отношения к любящей женщине стояли бы в его
глазах постоянно на первом плане, и для него бы
ло бы даже просто непостижимо, каким образом
можно, хотя на минуту, поставить рядом с этими
серьезными и обаятельными отношениями какуюнибудь дурацкую болтовню о неприличии манишек
и здорового аппетита? Но мелочное самолюбие
Молотова оскорблено так сильно, что под влия
нием оброоимовокого разговора в его уме подни
мается бестолковейшая буря бессвязных размы
шлений о жизни, о призвании, р деятельности,
о назначении человека. Ни к чему эти размышле
ния не приводят, но Молотов до такой степени за
нят ими, что, придя к Леночке с намерением объяс
ниться и проститься навсегда, он, прежде всего,
начинает гамлетствовать, что, очевидно, нисколько
не относится к главному предмету. Леночка по
обыкновению встречает его нежными, веселыми
и доверчивыми ласками. Видя его торжественную
365
мрачность, она тревожно и заботливо расспраши
вает его о здоровье; в голосе ее слышатся слезы,
она старается развеселить его шуткой.
«Ишь какой, — сказала Леночка: — что дутьсято! муху, что ли, проглотил?» (стр. 160). Но луч
веселости не проникает в мрачную душу Моло
това, наполняемую манишками, аппетитом и « е ще
Л е н о ч к о й » . И вдруг Молотов начинает зада
вать своей собеседнице мировые вопросы. — «Что
бы вы сказали, — говорит он, — когда бы привели
к вам кого-нибудь и просили: дайте этому чело
веку дело на всю жизнь, но такое, чтобы он был
счастлив от него? — Зачем это вам? — Н уж но.—
Да этого никогда не бывает. — Бывает» Дстр. 161).
И врет. Действительно, никогда не бывает, чтобы
приводили одного человека к другому и чтобы
этот другой на всю жизнь пристраивал первого и
доставлял ему полное счастье, <*¥а которое первый
решительно ничем не приобрел себе разумного
права. Счастье завоевывается и вырабатывается,
а не получается в готовом виде из рук благоде
теля. И самая трудная часть задачи состоит
именно в том, чтобы составить себе понятие
о счастье и отыскать себе ту дорогу, которая
должна к нему привести. Когда жизненная борьба
уже превратилась в сознательное стремление
к определенной цели, тогда человек может уже
считать себя счастливым, хотя бы ему пришлось
упасть и умереть на дороге, не вступивши в ту
обетованную землю, которую покойный А. Гри
горьев так игриво называет б е л о й А р а п и е й 5.
Но сознательность стремлений~также вырабаты
вается трудом и борьбой, и ни один благодетель
ный мудрец в мире не может переложить эту со
знательность из собственной головы в неокрепшие
головы своих учеников и прозелитов.
«Леночка задумалась, наклонила/голову. и за
тихла. Хорошо выражение лица девушки, когда
366
она занята серьезной мыслью, а Леночка почув
ствовала женским инстинктом, что ей не пустой
вопрос задан. Она, ей-богу, от всей души желала
бы разрешить его. но ничего не смыслила тут. —
Не анаю, — сказала она и посмотрела на Моло
това, — что с ним будет. — Он
усмехнулся»
(стр. 161).
Молотов, доезжающий Леночку глупо возвы
шенными вопросами, чрезвычайно похож на две
надцатилетнего гимназиста, щеголяющего на ка
никулах перед сестрами лонгиметрией, планиме
трией, логарифмами и всякими другими мудре
ными вещами. Молотов, очевидно, спрашивает не
затем, чтобы получить удовлетворительный ответ,
а затем именно, чтобы усмехнуться и чтобы в эту
усмешку влить малую толику своей клокочущей
желчи. Вот, дескать, они мои манишки осмеяли,
и я им за это ничего не могу сделать, а теперь
я твое невежество осмею, и ты со мной тоже ни
чего не сделаешь. Молотов сгорел бы от стыда,
если бы он совершенно ясно отдал себе' отчет
в этом движении мелкой и дрянной злости, и бед,ная, простодушная Леночка, разумеется, не стала
бы так добросовестно ломать свою нехитрую го
лову над неразрешимым вопросом, если бы она
знала, что ее ненаглядный Егорушка ищет только
случая поважничать и поломаться. Но в том-то и
беда Леночкина, что она чересчур благоговеет пе
ред умом и образованностью своего кумирчика;
если б она благоговела поменьше, тогда, может
быть, и кумирчик не оттолкнул бы от себя прочь
ее чистую и нерасчетливую любовь. — После своей
усмешки над незнанием Леночки Молотов про
должает пускать мрачные и глубокомысленные ру
лады. Например, вот этакие:
«Неужели моя жизнь пропадет д а р о м ?.. Где
моя дорога? . . Неужели так я и не нужен никому
на свете? . . Он крепко задумался. Елена все смо267
трела на него, ожидая признаний; но при послед
них словах Молотова она неожиданно обвила его
шею руками и осыпала все лицо поцелуями креп
кими и жаркими, какими еще никогда не целовала
его. — Егор Иванович! . . душка! . . Ты — герой! . .
Молотов пожал плечами и чуть вслух не сказал:
«Душка! . . герой! . . вон куда хватила! ..» Поцелуи
не разогрели его, несмотря на то, что Леночка
первый раз охватила его так страстно. Молотов
ничего не заметил. Он смотрел угрюмо в зе
млю. . .» (стр. 162).
Я заметил в предыдущей главе, что бывают и
у кисейной девушки такие великолепные взрывы
чистого и могучего* чувства, которые хотя на ми
нуту поднимают ее неизмеримо выше мелкой и
копеечной пошлости ее будничной жизни. Чита
тель видит теперь, что замечание мое не было
брошено на ветер. Взрыв описан у Помяловского
так превосходно, что первый художник в мире не
прибавил бы ни одной черточки к выписанным
мною строкам. Но что же значит этот взрыв, ко
торый так‘естественно сделан кисейной девушкой,
«по гроб верной и любящей»? И почему Молотов
.для нее «душка» именно в ту минуту, когда он
хмурится и грубиянит? И почему она видит в нем
«героя» именно тогда, когда он с^дбеет и уны
вает? И то, и другое совершенно понятно. Ты
чувствуешь себя одиноким и Никому не нужным,
думает она. Тем лучше. Я для тебя всё в эту ми
нуту. Никто и ничто не становится между мной и
тобой. Хотя бы ты никому на свете не был ну
жен, ты мне нужен. И жизнь твоя не может про
пасть даром, потому что я возьму ее себе и она
даст мне полное счастье. КЬгда все на свете смо
трят «а тебя холодно и равнодушно, тогда я одна
вырастаю в твоих глазах, ты сильнее обыкновен
ного привязываешься ко мне, и я тоже особенно
сильно люблю тебя, потому что понимаю, как по368
Лезна тебе моя помощь в эти тяжелые минуты.
И, кроме того, ты сам ошибаешься. Человек, кото
рого можно любить так, как я тебя люблю, ни
когда не сделается на свете лишним и ненужным
человеком. Если тебя действительно стоит любить,
то ты непременно найдешь себе в жизни хорошее
дело. Ты унываешь не оттого, что ты слаб и не
годен, а оттого, что ты не удовлетворяешься теми
гнилыми крупицами, которые подбирают с таким
успехом мелкие и дрянные людишки. Твое уны
ние не может быть продолжительным. Явится спо
койное размышление, вспыхнет с новой силой твоя
мужественная энергия, и опять закипит у тебя
под руками честное и полезное дело. И я в то
время буду смотреть на тебя и радоваться, и гор
диться тобой, и гордиться тем, что в твоей бод
рости есть частица моего живительного и уте
шающего влияния. И везде и всегда я буду рядом
с тобой. И труд, и лишения, и опасности, и тре
вогу, и сомнения, и горе — всё пополам. Я на всё
готова, и эта готовность удесятеряет мои силы.
Слившись в неопределенный, но чрезвычайно
сильный порыв страстной любви, весь этот ряд
мыслей промелькнул с неуловимой быстротой в го
лове Леночки, когда она бросилась на шею к М о
лотову и когда вся фигура ее выросла и просияла
под влиянием нахлынувших на нее новых и непо
нятных для нее ощущений. Молотов ничего этого
не понял по той простой причине, что все его
раздумье вытекало из очень мелкого и мутного
источника. Все бессвязные возгласы о дороге,
о жизни, о собственной ненужности выражали со
бой в сущности только плач и скрежет зубов над
посрамленными манишками. Когда его назвали ге
роем, то ему сделалось совестно, что его манишки
залетели в такие высокие хоромы. Но вместо того,
чтобы откровенно назвать самого себя дураком за
мелочность своего огорчения, он в душе обругал
24, Д. И. Писарев
369
Дурой Леночку за наивную преувеличенность вы
ражений, которые, впрочем, вовсе не были бы пре
увеличенными, если бы слова Молотова о разных
высоких материях были действительно глубоко
продуманы и прочувствованы, а не напущены со
стороны глупым разговором Обросимовых.
Значит, Леночка провинилась только тем, что
поверила на слово любимому человеку, то есть,
выражаясь яснее,- тем, что любила глубоко и силь
но. В ту минуту, когда она осыпала своими «го
рячими и бешеными» поцелуями постную фигуру
Молотова, проглотившего муху и не умеющего
с ней справиться, в уме ее возлюбленного шевели
лись, по всёй вероятности, очень мелкие и буржуаз
ные мысленки. «Да, думал он о себе с подавлен
ной злобой, — ест много, неприличные манишки
носит и ко всему бы этому великолепию еще жену
приобрести, «по гроб верную и любящую», кото
рая при всех будет на шею вешаться и ни к селу,
ни к городу визжать: «душка» и «герой». Куда
как интересно!» — Опять тривиальность выраже
ний заслонила собой в глазах честного Чичикова
величие искреннего чувства. Красота Леночки,
просветленной своим порывом, осталась' незаме
ченной для ее собеседника, погруженного в мучи
тельное созерцание манишек и собственной не
нужности.
~
VHI
Молотов пришел к Леночке затем, чтобы сбыть
ее с рук. Но он до такой степени углублен в свое
собственное копеечное раздумье, что, повидимому,
совершенно забывает настоящую цель своего при
хода. Если бы он нарочно хотел причинить Ле
ночке как можно больше страдания, то он не мог
бы придумать нравственную пытку утонченнее
той, которую он заставил ее выдержать по своей
непростительной невнимательности.
370
Нели он пришел с твердым намерением все по
кончить, то с какой стати он задает ей мудреные
вопросы, интересные только для него и не имею
щие для нее ровно никакого значения? Деликатно
ли, позволительно ли искать себе утешения и со
вета у той самой девушки, которую решился и со
бираешься оттолкнуть? Ведь это в сущности
хуже, чем если бы Молотов на прощание выпро
сил у нее денег взаймы. И как он осмелился при
нимать ее поцелуи, с какого права называл ее до
последней минуты Леночкой, когда' в голове его
участь этой Леночки была уже окончательно ре
шена? Значит, он до последней минуты воровал ее
поцелуи и ласки. Он разбудил в ее голове совер
шенно непривычную для нее работу мысли, он
расшатал всю ее нервную систему красивой на
ружностью своего дрянного горя, он дал ей пол
ное право думать, что пришел к ней поделиться
заботами и сомнениями, он раздразнил ее чуть не
до истерики, — и все это для того, чтобы сказать
ей вежливо-бухгалтерским тоном: «сударыня, честь
имею с вами раскланяться!»
Не напоминает ли это вам, господа, гоголев
ского Ивана Иваныча, который беседует с голод
ным нищим о говядине, о галушках, о горелке,
и потом, наболтавшись досыта, говорит с замеча
тельной кротостью: «ну, ступай же, любезный,
ведь я тебя не бью!» — Теперь мне придется сде
лать очень большую выписку.
«— Елена Ильинишна, — сказал он серьезно.
— Что?
— Нам пора объясниться. . .
У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала
какое-то горе; никогда Егор Иваныч не говорил
так с ней.
— Разве мы не объяснились? — спросила она.
(Совершенно справедливое замечание. Какое тут
24*
371
еще требуется объяснение, когда люди давно це
луются ?)
— Нет, не объяснились: все у нас было, кроме
объяснений. (Аккуратному Егору Иванычу жела
тельно, чтобы все делалось по форме, но безала
берная Леночка вряд ли способна понять, чтобы
объяснения были еще необходимы тогда, когда
уже было «все». Впрочем это «все» не должно пу
гать читателя. Это «все» ограничивалось невинным
обменом поцелуев. Собственно поэтому формалист
Молотов и не считает себя связанным.)
— Ну, скажите, — ответила Леночка, боязливо
глядя на собеседника.
— Вы меня любите? (Какой дурацкий вопрос!)
Леночка хотела обнять его. Он уклонился.'(Ле
ночка очевидно предпочитает мимические объяс
нения словесным, но Молотову уже становится со
вестно продолжать кражу поцелуев.)
— Я вас очень люблю. . . (Как много дело по
двинулось вперед от этого ответа!)
— Но, разумеется, можете привыкнуть к той
мысли, что мы не всегда будем поддерживать
наши отношения? (Представьте себе, что в уголов
ную палату призывают преступника и говорят
ему: «вы, разумеется, можете привыкнуть к той
мысли,-что вас будут драть плетьми на площа
ди!»— Преступник на это отвечает: «воля ваша,
а привыкнуть к такой мысли я никак не могу».—
«Что ж делать, mon cher, говорят ему, постарай
тесь привыкнуть». — Что бы вы, читатель мой, по
думали о таких судьях, которые позволили бы
себе подобные шутки? Вы бы вероятно назвали
их большими негодяями? А ведь Молотов, по
своей деревянной неловкости, поступает точно та
ким же образом, только не с преступником,
а с доброй и милой девушкой, которая его лю
бит. К чему клонится его вопрос? Скажет ли она
да, скажет ли нет, не все ли равно? Разве ее от372
вет изменит хоть в чем-нибудь его решение? Она
это предчувствует и уклоняется от ответа.)
— К чему же об этом говорить? (Вот это
правда.)
— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь от
кровенно». (Скажите на милость, чего этот ана
фема от нее добивается? Зачем он из нее душу
тянет?)
Ей никогда не приходил такой вопрос на ум, и
она с замешательством отвечала: — Да, я вас лю
блю. . . (Ничего больше она и сказать не может.
Отвечает она так не потому, что «ей никогда не
приходил такой вопрос на ум», а потому, что во
прос Молотова из рук вон глуп и оскорбителен.
Ей надо было или пропустить этот вопрос без
внимания, или отвечать на него резким упреком.
Если сформулировать вопрос Молотова яснее, то
получится следующий результат: «ведь вам, разу
меется, все равно, кого ни целовать, — меня ли,
другого ли мужчину?» — Бедной, добродушной
Леночке в голову не приходило, чтобы Егорушка
решился нанести ей такое незаслуженное оскор
бление. Потому, если даже она разобрала в вопро
се Молотова этот гнусный смысл, то она неме
дленно отбросила прочь это предположение, уве
рила себя, что она поняла неверно, и вследствие
этого сумела только повторить с замешательством
свою незатейливую песенку: «да, я вас люблю».
Тут Молотов находит, что он уже достаточно
приготовил преступницу к принятию плетей, и на
чинает действовать.)
■
«— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вам
не могу отвечать тем же. . . (Как вам нравится эта
перемена декораций! «Да плюй же, плюй ему
прямо в лохань!» — как выражаются «хорошие
люди» города Глупова.) — Леночка взглянула на
него испуганным взглядом и вскрикнула. (Поду
маешь, как это странно. Преступница кричит,
373
точно будто ее не приготовляли заранее к силь
ному ощущению.) Болезненно отозвался этот
крик в душе Молотова. «Вот она так любила!»
подумал он.
— Елена Ильинишна, кто ж виноват? кто вино
ват? вы должны помнить, что не я п е р в ы й ...—
Молотов оборвался на полуфразе, потому что не
вольно почувствовал угрызение совести. «Что ж
такое, что не я первый?» шевельнулось у него
в душе, и он кончил иначе, нежели начал: — Боже
мой, что же это на меня напало! . .» (Здесь опять
автор с изумительной твердостью выдержал ха
рактер своего героя. Это не мерзавец, хладно
кровно играющий чужим счастьем, это — милая
и добрая размазня, способная только отсижи
ваться от всякой напасти. Для него немыслим
крупный активный поступок: вместо того чтобы
с самого начала, с первого свидания спугнуть глу
пую бабочку, которая летит прямо на свечку, он
умеет только отмалчиваться; вместо того чтобы
теперь, когда бабочка уже обожгла себе крылья,
махнуть на все рукой и смело повести ее под ве
нец, не заботясь о дальнейших последствиях, он
умеет только сидеть и добродушно сокрушаться.
Подлецом его, пожалуй, и нельзя назвать: он не
завлекал, он не обещал, он и теперь страдает
искренно; но ведь вот в чем штука: бывают
в жизни' такие случаи, когда мямля может насо
лить ближнему не хуже отъявленного негодяя.)
« .. . Послышалось всхлипывание и тихое, ровное,
мучительное рыдание; запрется в груди звук, над
треснет, переломится и разрешится долгой нотой
плача; слезы катились градом. . .
— Никому дш не нужны. . . кому любить та
ких?
Она зарыдала сильнее. . .» (стр. 164, 165, 166).
« . . . Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бед
ной девушки. . . глупенькой кцсейной девушки. . .
374
Она так жить хотела, так любить хотела и дожи
вала последнюю лучшую минуту жизни. Впереди
ее пошлость, позади тоже пошлость. Теперь она
могла бы воскреснуть и развиться, но. . . суждено
уже так, что из нее выйдет не человек-женщина,
а баба-женщина. Молотов чувствовал это. Страш
но ему было за Леночку. «Процддет она!» думал
он (стр. J69). И думая таким.образом, он все-таки
отталкивал ее прочь от себя, назад в ту трясину
пошлости, из которой бедная девушка старалась
высвободиться с такими судорожными усилиями,
с такими горькими и мучительными рыданиями.
И все это оттого, что он, изволите видеть, не лю
бил ее. Точно будто нужно любить человека ка
кой-нибудь особенной любовью, для того чтобы
протянуть ему руку, когда он зовет вас к себе на
помощь. Точно будто, доставляя другому чело
веку счастливое и разумное существование, мы не
наслаждаемся вместе с ним, и даже гораздо
больше его самого, той светлой жизнью, которую
мы ему доставили. Осчастливить ту женщину, ко
торую мы сами любим страстно, — это, разу
меется, очень приятно. Но подарить счастье той
женщине, которая любит нас, это также очень не
дурно, тем более, что человеку свойственно при
вязываться очень сильно к тем людям, которым он
сделал добро. Счастье мыслящего человека со
стоит не в том, чтобы играть в жизни милыми
игрушками, а в том, чтобы вносить как можно
больше света и теплоты в существование всех
окружающих людей. Молотов еще плохо понимает
эту простую истину, и это обстоятельство пока
зывает ясно, что он подходит гораздо ближе
к тщедушному идеалу г. Гончарова, чем к силь
ным и мужественным реалистам новейшего вре
мени. Молотов так наивно неделикатен, что он,
измучив уже бедную Леночку, все еще эксплоатирует в свою пользу ее беспредельную доброту.
375
После сцены рыдания, когда ему надо было уйти
прочь без оглядки, чтобы не мозолить ей глаза,
он все сидит, да не только сидит, а открывает ей
свою душу, то есть рассказывает ей, как его оби
дели Обросимовы. «Она слушала его с увлечением,
положив на его плечо свою хорошенькую головку.
Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да
этого не бывает».'..
«— Я их не люблю,—’ Сказала она горячо. . .
Молотов поцеловал ее, но это был не страст
ный, а добрый поцелуй. (И даже глупый.)
— Бог с ними, — сказал он. . . (Какое велико
душие!)
— Никогда их не буду любить.. . Я тебя люблю;
я не сержусь на тебя. . . (Вот тут, действительно,
кротость и доброта доходит до величественных
и, пожалуй, даже до безобразных размеров. Он
ее оскорбил, он оттолкнул прочь ее святую лю
бовь, он осудил ее на безвыходно-пошлое суще
ствование, и она же утешает и успокаивает его,
и она же принимает горячо к сердцу трагиче
скую участь его манишек. Это, наконец, глупо и
отвратительно. Любить и прощать — прекрасное
занятие, но иного осла не мешает и по морде
треснуть, чтобы заставить его одуматься.)
Они расстались добрыми друзьями, но Леночка
всю ночь проплакала и все понять не могла, «от
чего же нас любить нельзя?., отчего?» (стр. 170).
Э! Леночка, Леночка! Охота тебе из-за одного
дурака задавать себе такие радикальные вопро
сы! Вас можно любить, и вас будут любить, и вы
сделаетесь умными, мыслящими и полезными
людьми. Никакого в вас органического порока
не'чжазывается. Но, чтобы увидать и развернуть
те задатки здорового ума, которые в вас таятся,
надо обладать не такими силами, какими распо
лагал твой ненаглядный Егорушка. Дрянной на
род те мужчины, с которыми вам приходится
376
иметь дело. Оттого вы так часто и плачете. — Каж
дая слеза, которую проживает в современных
обществах любящая женщина, есть тяжелое обви
нение против мужчины. Взял женщину под свою
опеку, отнял у нее самостоятельность, ослабил ее
ум и ее физические силы, — так умей же по край
ней мере дать ей за это счастье. А не умеешь,
так на что же годится твоя дурацкая опека?
IX
.
«Нас много таких девушек», — замечает сама
Леночка. «У нас не мало встречается таких жен
щин, как Леночка», — прибавляет от себя Помя
ловский. И это правда. К типу добродушной ки
сейной девушки подходят все женщины, не отли
чающиеся сильным и блестящим умом, не полу
чившие порядочного образования и в то же время
еще не испорченные и не сбитые с толку шумом
и суетой так называемой светской жизни. У этих
женщин развита только одна способность, о ко
торой заботится уже сама природа^'— именно спо
собность любить. Вся судьба такой женщины ре
шается безусловно тем, кого она полюбит. Попа
дется хороший и умный человек, — и она сама
тоже сделается хорошей, даже умной женщиной,
потому, что от природы она не глупа, а только
никогда не имела ни возможности, ни надобности
упражнять и укреплять свой ум. Попадется дурак
и негодяй, тогда в ней замрет даже способность
любить и превратится она в автомата, который
будет рожать, кормить, нянчить и обливать сле
зами детей, не умея ни вразумить, ни защитить
их против самодурства супруга.
Женщина, подобная Леночке, быть может, ни
при каких условиях не сделается совершенно са
мостоятельной и сильной личностью; она всегда,
более или менее, будет искать себе опоры и руJ.T1
ководителя в любимом мужчине; но, несмотря на
это врожденное стремление к некоторой зависи
мости, такая женщина не была бы тягостной и
вредной обузой даже для очень умного и разви
того мужчины. Она была бы способна увлекаться
совершенно искренно широкими планами и тита
ническими стремлениями любимого человека; мо
жет быть, она довольно смутно понимала бы не
обходимую связь между отдельными мыслями; мо
жет быть, строгая теория или деловой проект пред
оставлялись бы ей в неопределенных и расплываю
щихся очертаниях, свойственных воздушным зам
кам. Но зато воодушевление, овладевающее лю
бимым человеком, находило бы во всем ее суще
стве ясный, полный и совершенно безыскусствен
ный отголосок. Она не стала бы пилить люби
мого человека бестолковым ворчанием или мел
кими жалобами в то время, когда он чувствует
потребность поделиться с нею результатами своих
размышлений, набросанными планами и смелыми
надеждами. Этого конечно мало, но ведь где же
и взять теперь много таких женщин, которые были
бы способны серьезно работать вместе £о своими
мужьями? Уж и то было бы хорошо, если бы
женщины не мешали работать. А каким образом
они могут мешать, это всего лучше будет видно
из самого простого и скромного примера. Пред
ставьте себе, что вам предлагают два места. Одно
совершенно' соответствует вашим убеждениям и
наклонностям. Другое — совсем напротив. Первое
дает вам 60 рублей в месяц, второе — 80. Вы при
ходите домой, рассказываете все, как есть, вашей
жене и объявляете ей, что вы хотите взять место
в 60 рублей. Жена таращит на вас глаза и говорит,
что вы с ума сошли, что 20 рублей на улице не
валяются и что такие капризы вам совсем не по
состоянию. «Да пойми же ты, друг мой, — убе
ждаете вы, — что на том месте я буду просто му378
■
чеником. Оно мне противно. Мне гадко будет
смотреть на самого себя». — «Скажите, пожалуй
ста, какие нежности, — отвечает супруга. — А это,
небось, не гадко смотреть, что жена в стоптанных
башмаках ходит!» И много других вариаций ра
зыгрывается на ту же самую, вовсе неинтересную
для вас, тему. Если вы человек твердый, то вы
остаетесь непоколебимым и берете, все-таки,
60-рублевое место; но зато ваша семейная жизнь
в течение нескольких недель скрипит, как нема
заная телега. Если же вы такой размазня, как
огромное большинство русских людей, то вы усту
паете, жена дает вам за вашу рассудительность
несчетное число «безешек», и через несколько
времени ваше отвращение к подлой должности ис
чезает, потому что под влиянием развращающей
обстановки весь строй ваших понятий медленно
понижается. Таким образом общество, по мило
сти вашей супруги, потеряло в вашей особе по
лезного работника и приобрело лишнего эксплоататора. Но такие супруги формируются только из
тех женщин, которые совершенно сбиты с толку
кринолинами, гуляньями, шляпками и тряпками.
Женщины же, подобные Леночке, понимают очень
хорошо, что шелковое платье и счастье жизни —
две вещи разные; и эти последние женщины не
променяют любимого человека не только на шляп
ку, но даже и на целый бурнус. Если вы станете '
объяснять Леночке, почему вы не хотите или
не можете взять место в 80 рублей, она, может
быть, и не совсем успешно поймет ваши доводы,
но она во всяком случае поверит вам. Она увидит,
что вам было бы тяжело на том месте, и этого
будет для нее совершенно достаточно. Словом,
простые женщины, подобные Леночке, умеют, по
крайней мере, любить, а это уменье совсем не та
кая ничтожная вещь, которой при нашей непо
крытой бедности было бы позволительно прене^
379
брегать. Разумеется, змеиная мудрость лучше го
лубиной кротости, но на нет и суда нет. За не
имением лучшего, умейте и голубиную кротость
обращать себе в пользу. А извлекать из нее поль
зу очень возможно, потому что человеку, изму
ченному и утомленному ежедневной борьбой
с глупостью и подлостью, не только приятно, но
даже необходимо иметь возле себя честное, крот
кое и любящее существо, у которого всегда мож
но найти неподдельную ласку и бескорыстное уча
стие.
Теперь читатель понимает, что тип кисейной
девушки имеет очень важное значение, тем более,
что таких женщин много. Надо объяснить обще
ству, что эти силы, хорошие и здоровые, хотя и
не блестящие, не должны пропадать даром. Надо
объяснить преимущественно умным и образован
ным юношам, что на этих простых женщин они
должны смотреть не только без высокомерного
предубеждения, но даже с глубоким сочувствием
и уважением. Путь жизни длинен и труден. Ра
бота утомительна. Отдых для обыкновенных лю
дей необходим. Умных женщин мало. Поэтому,
если вам встретится Леночка и если она с ребя
ческой доверчивостью бросится к вам на шею,
подумайте, серьезно подумайте, существует ли
действительно какая-нибудь необходимость отво
рачиваться от союза с этим милым ребенком. —
Леночка не даст вам того великого, безмерного
счастья, которое дает только мыслящая женщина,
но, по крайней мере, она не превратит вас ни
в подлеца, ни в филистера, ни в закабаленного
батрака. Она не будет вас эксплоатировать; у нее
есть искренность, а это — свойство очень драго
ценное. Но как бы вы ни решили вопрос о ваших
дальнейших отношениях к той или другой Ле
ночке, не смейте ни в каком случае смотреть свы.380
сока на этих женщин и обращаться легкомыслен
но с их чувствами.
Существует на Руси поговорка, что женские
слезы — вода; эта поговорка, подобно многим
другим, доказывает только весьма наглядно, что
на Руси во всякое время было достаточное коли
чество дураков и подлецов. Вы умнее, вы образо
ваннее, вы крепче Леночки; вы не заплачете о том.
о чем она заплачет; все ваши доблести и преиму
щества при вас и остаются; но все это не дает вам
никакого права думать, что вы чувствуете глубже
ее и что все ее маленькие огорчения скользят
с нее, как с гуся вода. Абсолютной мерки для глу
бины чувства не существует. Всякому свои слезы
солоны, и кто своим легкомыслием заставляет
плакать безответное существо, подобное Левочке,
тот поступает глупо и подло, хотя, быть может,
он и не дурак, и не подлец. Важнейшее житейское
искусство состоит именно в том, чтобы проби
раться бережно и осмотрительно в путанице лич
ностей и интересов, не наступая никогда нечаянно
на живое человеческое тело. — Мудреное искус
ство жить и действовать, не обижая безвредных
людей, приобретается не вдруг. Молодым людям
случается часто наступать на живое тело без вся
кого злого или подлого умысла, по неопытности,
по неловкости, по неуменью ясно рассмотреть ту
пограничную черту, где кончаются естественные
права собственной личности и где начинаются
естественные права соседа. Это наступление на
живое тело производит с одной стороны боль,
с другой—-стыд и угрызение совести. Такие уроки
не проходят даром. Кто наступил один раз и кто
пережил все тяжелые ощущения, развивающиеся
из такого события, тот постарается на будущее
время вести свои дела внимательнее и осторож
нее. Опыт здесь, как и везде, действует сильнее
всякого кабинетного размышления.
381
Но подобные опыты обходятся слишком до
рого, и было бы очень полезно заменить их, на
сколько это возможно, плодами теоретических
размышлений. Польза беллетристики и литератур
ной критики состоит преимущественно в том, что
они заставляют читателя размышлять о таких жи
тейских вопросах и'формировать-себе взгляды на
такие стороны и явления вседневной жизни, кото
рые незнакомы читателю по собственному опыту.
Читая, например, простую историю Молотова
с Леночкой, неопытный молодой человек заду
мывается над нею, вглядывается в слова и поступ
ки обеих личностей и произносит над ними свое
суждение; было бы очень неосновательно думать,
что такое упражнение мысли остается совершенно
бесплодным и не имеет никакого влияния, прямо
го или' косвенного, на собственные поступки
юного читателя. Литературная критика должна
поддерживать, усиливать и направлять ту работу
мысли, которую пробуждает в голове читателя
беллетристическое произведение. Разбирая роман
или повесть, я постоянно имею в виду не литера
турное достоинство данного произведения, а ту
пользу, которую из него можно извлечь для ми
росозерцания моих читателей.
Легко может -быть, что читателя утомляют
иногда мои длинные микроскопические исследо
вания над такими мелкими явлениями, как любов
ные радости и огорчения какой-нибудь ничтожной
Леночки. Читателю досадно, зачем я анализирую
каждое слово Молотова и кисейной девушки. Но
мне кажется, что досада читателя неосновательна.
Я глубоко убежден в том, йто эти микроскопи
ческие явления, эти будничные мелочи наполняют
собой целую жизнь целых миллионов людей. Из
необдуманных слов, из мелких непоследовательно
стей, из незаметных оплошностей складывается
мало-по-малу большая часть человеческих стра382
-
Даний и человеческих подлостей. Ведь Молотов
поступил с Леночкой очень подло; он и сам со
знается себе в этом; а между тем, скажите по со
вести, мои двадцатилетние читатели, многие ли
из вас сумели бы или решились бы на месте М о
лотова поступить так, чтобы не вышло подлости?
Вот и надо было показать подробнейшим анали
зом, каким образом отвратительный яд подлости,
слагается из самых. невинных и безвредных эле
ментов. Подлость Молотова именно тем и поучи
тельна, что Молотов сам нисколько не подлец.
Я относился к нему очень жестоко, когда я раз
бирал его отношения к Леночке; там я смотрел
только на одну сторону дела: я констатировал
вред и боль, нанесенные кисейной девушке, суще
ству невинному и беззащитному. Теперь мне надо
восстановить в глазах читателя репутацию Моло
това, на которого мы можем сердиться за его
неуклюжесть, но которого было бы несправедливо
презирать. Собственно, полная реабилитация М о
лотова возможна только тогда, когда мы позна
комимся с дальнейшим ходом его жизни. Моло
тов принадлежит к числу тех людей, которым
все в жизни дается довольно туго. Поэтому три
дцатилетний Молотов гораздо лучше двадцати
летнего. Толчки и удары жизни шлифуют и зака
ляют его. Он превосходно пользуется опытом.
Что пережито им, то уже оставляет неизгладимую
черту в его уме и в его характере. Но у Молотова
нет того, чем обладают очень даровитые лично
сти, подобные Базарову. У него нет уменья уга
дывать жизнь; он не может силой творческой и
анализирующей мысли забегать Вперед и решать
заранее совершенно безошибочно такие задачи,
которых, еще не задавала ему действительная
жизнь. Молотов выходит из университета розо
вым птенцом, простирающим во все стчроны свои
объятия, тоскующим, когда ему приходится обни383
мать пустое пространство, и робеющим, когда
в его объятия попадает живая девушка, приняв
шая его беспредметное доброжелательство за
определившееся чувство. Базаров входит в жизнь
сильным, страстным, смелым и энергичным муж
чиной, уже выработавшим себе в мире книжных
занятий драгоценное умение кое-что ненавидеть,
многое презирать, к очень многому относиться
равнодушно и все на свете подвергать анализу. Ба
заров на вид гораздо страшнее и свирепее Моло
това. Та женщина, которая с радостной доверчи
востью подходит к Молотову, едва осмелилась бы
заговорить с Базаровым или даже при Базарове.
Один взгляд Базарова, быстрый и небрежный, со
вершенно смутил сестру Одинцовой Катю. А между
тем Молотов гораздо опаснее Базарова. Базаров
только смутит или испугает, а Молотов без вся
кого злого умысла истерзает женщину и изуро
дует ее жизнь. Если 'бы Базаров получил письмо
Леночки, «по гроб верной и любящей», то он тот
час решил бы, как ему действовать, вести ли дело
вперед, или оборвать его в самом начале. В пер
вом случае Леночка сделалась бы счастливейшей
женщиной. А во втором случае Базаров сразу так
обжег бы ее насмешливым взглядом и правдивым
словом, что Леночка тотчас убежала бы со свида
ния домой и навсегда заклялась бы писать неж
ные цыдулки к молодым людям. Леночка стала
бы говорить о Базарове, что он и злой, и гор
дый, и страшный, но Леночке не пришлось бы
рыдать на дерновой скамейке, не пришлось бы
плакать напролет целые ночи и не пришлось бы
повторять с безвыходным отчаянием ужасные
слова: «никому мы не нужны! . . Кому любить
таких? . .» И злой, гордый, демонический База
ров оказался бы здесь, как и везде, гораздо
лучше доброго, нежного, ласкового Молотова.
1865 г. Январь.
ПУШКИН И БЕЛИНСКИЙ
ЕВГЕН И Й ОН ЕГИ Н
I
«Онегин, — говорит Белинский, — есть самое за
душевное произведение Пушкина, самое любимое
дитя его фантазии, и можно указать слишком на
немногие творения, в которых личность поэта от
разилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как
отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь
вся жизнь, вся душа, вся'любовь его; здесь его
чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произ
ведение — значит оценить самого поэта во всем
объеме его творческой деятельности» (Соч. Бе
линского, т. VIII, стр. 509). Действительно, «Оне
гин» серьезнее всех произведений Пушкина;
в этом романе поэт становится лицом к лицу с со
временной действительностью, старается вдумать
ся в нее как можно глубже и, по крайней мере,
не истощает своей фацтазии в эффектных, но совершенц^бесплодных изображениях младых чер
кешенок, влюбленных ханов, высоконравствен
ных цыган и неправдоподобно гнусных изменни
ков, которые «не ведают святыни и не помнят
благостыни».
Если творческая деятельность Пушкина дает
какие-нибудь ответы на те вопросы, которые ста
вит действительная жизнь, то, без сомнения, этих
ответов мы должны искать в «Евгении Онегине».
К разбору «Онегина» Белинский приступал с бла25 Д . И . Писарев
383
гоговением и, как он сам сознается, не б е з н е
к о т о р о й р о б о с т и . Об «Онегине» Белинский
написал две большие статьи; он говорит, что «эта
поэма имеет для нас, русских, огромное истори
ческое и общественное значение» и что «в ней
Пушкин является представителем пробудившегося
общественного, самосознания».
Посмотрим, насколько самый роман оправды
вает и объясняет собою все эти восторги нашего
гениального критика. Прежде всего надо решить
вопрос: что за человек сам Евгений Онегин? Бе
линский определяет Онегина так: «Онегин — доб
рый малый, но при этом недюжинный человек.
Он не годится в гении, не лезет в великие люди,
но бездеятельность и пошлость жизни душат его;
он даже не знает, что ему надо, чего ему хочется:
но он знает и очень хорошо знает, что ему не
надо, что ему не хочется того, чем так довольна,
так счастлива самолюбивая посредственность»
(стр. 546, 547). Сам Пушкин относится к своему
герою с уважением и любовью.:
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражатёльная странность,
И резкий охлажденный ум.
Я был озлоблен, он — угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас,
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, ‘того тревожит
Призрак невозвратимых дней.
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний.
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору
Сперва Онегина язык
Меня смущал, но я привык
К его язвительному спору
И к шутке, с желчью пополам!
И к злости мрачных эпиграмм.
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
■ Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
(Глава I. Строфы XLV , XLVI, XLVII.)
" В этом отрывке Пушкин постоянно употребляет
такие эластические слова, которые сами по себе
не имеют никакого определенного смысла и в ко
торые вследствие этого каждый читатель может
втиснуть какой угодно смысл. Человек обладает
резким охлажденным умом, знает игру страстей,
он жил, мыслил и чувствовал; в нем погас жар
сердца; его томит жизнь; его ожидает -злоба лю
дей и слепой Фортуны — все эти слова могут быть
приложены к какому-нибудь очень крупному че
ловеку, к замечательному мыслителю, даже к исто
рическому деятелю, который старался вразумить
людей и которого не поняли, осмеяли или про
кляли тупоумные современники. Обманутый хо
рошими эластическими словами, теми самыми,
в которые он сам, мыслитель и деятель, привык
вкладывать живую душу, — Белинский посмотрел
на Онегина благосклонно и смело выдвинул его
из бесчисленной толпы недюжинных личностей.
Но мне кажется, что Белинский ошибся. Он по25*
387
верил с л о в а м и забыл то обстоятельство, что
люди очень часто произносят хорошие слова, не
отдавая себе ясного отчета в их значении или,
по крайней мере, придавая этим словам узкий,
односторонний и нищенский смысл. В самом деле,
попробуем задать себе вопросы: ч е м же охла
жден ум Онегина? К а к у ю игру страстей он
испытал? Н а ч т о тратил и истратил он жар
своего сердца? Ч т о подразумевает он под сло
вом ж и з н ь , когда он говорит себе и другим,
что жизнь 1*омит его? Ч т о значит, на языке
Пушкина и Онегина, ж и т ь , м ы с л и т ь и чу вствовать?
Ответа на все эти вопросы мы должны искать
в описании тех занятий, которым предавался Оне
гин с самой ранней молодости и которые, нако
нец, вогнали его в хандру. В первой главе, начи
ная с X V до XXXV II строфы, Пушкин описывает
целый день Онегина с той минуты, когда он про
сыпается утром, до той минуты, когда он ло
жится спать, тоже утром. Лежа еще в постели,
Онегин получает три приглашения на вечер; он
одевается и в утреннем уборе едет на бульвар и
гуляет там до тех пор,
Пока не дремлющий брегет
_ Не прозвонит ему обед.
Он едет обедать в ресторан Талона, и так как
’ дело происходит зимой, то, при сем удобном слу
чае, его бобровый воротник серебрится морозной
пылью; и это достопамятное обстоятельство дает
Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает
удивительной способностью «делать поэтическими
самые прозаические предметы» (стр. 387).
Если бы Белинский дожил до наших времен, то
он принужден был бы сознаться, что некоторые
художники далеко превзошли великого Пушкина
даже в этой удивительной и специально художе388
ственной способности. Наши великие живописцы,
господа Зарянко и Тютрюмов воспевают бобро
вые воротники красками и воспевают их так не
подражаемо хорошо, что каждый отдельный во
лосок превращается в поэтическую картину и:
в перл создания. Увидев великие произведения
этих великих живописцев, Белинский был бы по
ставлен в трагическую альтернативу. Ему при
шлось бы или преклониться перед творческим ве
личием господ Зарянки и Тютрюмова, или отречь
ся от тех эстетических понятий, которые видят за
слугу поэта в его удивительной способности вос
певать бобровые воротники.
Воспев бобровый воротник, Пушкин воспевает
все кушанья того обеда, которым занимается Оне
гин у Талона. Обед недурен: тут появляются окро
вавленный ростбиф, трюфели, которые Пушкин
называет почему-то роскошью юных лет, нетлен
ный пирог Страсбурга, живой лимбургский сыр,
золотой ананас и котлеты, очень горячие, очень
жирные и возбуждающие жажду, которая уто
ляется шампанским. В каком порядке эти поэтиче
ские предметы следуют один за другим, этого
Пушкин нам, к сожалению, не объясняет, и пря
мая обязанность наших антиквариев и библио
филов состоит в том, чтобы пополнить этот важ
ный пробел посредством тщательных исследова
ний.
Когда обед еще не докончен, когда горячий'
жир котлет еще недостаточно залит волнами шам-.
панского (какого именно шампанского? — это
тоже весьма интересный вопрос для усердных
комментаторов), звон брегета доносит обедаю-,
щим, что начался новый балет.
Как злой законодатель театра, как непостоян
ный обожатель очаровательных актрис (об актри
сах, разумеется, нечего напоминать комментато389'
рам: они, разумеется, всех их знают по имени, по
отчеству, по фамилии и по самым подробным
формулярным спискам) и как почетный гражда
нин кулис, Онегин летит в балет. (Здесь я с ужа
сом вспоминаю, что мы решительно не знаем, ка
кой масти была лошадь Онегина, и что эту ве
ликую тайну по всей вероятности не раскроют нам
никакие исследования комментаторов.) Войдя
в театральную залу, Онегин начинает обнаружи
вать охлажденность своего ума; окинув взором
' все ярусы, он, по словам Пушкина, все видел и
остался ужасно недоволен лицами и убором; по
том, раскланявшись с мужчинами) взглянул на
сцену в большом рассеянии, потом даже отворо
тился и зевнул, и молвил:
Всех пора на смену,
Балеты долго я терпел
Но и Дидло мне надоел.
Приведя это суровое антибалетное восклицание
разочарованного Онегина, Пушкин сам почувство
вал, что он ставит своего героя в довольно смеш
ное положение, потому что люди, действительно
обладающие резким и охлажденным умом, не ста
нут тратить своей иронии на отрицание балетмей
стера ДйДло и дамских уборов. Почувствовав
смешное положение Онегина, Пушкин приделал
к XXI строфе следующее юмористическое приме
чание: «Черта охлажденного чувства, достойная
Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены жи
вости воображения и прелести необыкновенной.
Один из наших романтических писателей нахо
дил в них гораздо более поэзии, нежели, во всей
французской литературе».. Этим примечанием
Пушкин, очевидно, хотел показать, что он сам
подтрунивает над бутадой Онегина и не прини
мает этой бутады за симптом серьезной разоча
рованности. Но примечание это производит очень
390
слаоое впечатление на внимательного и недовер
чивого читателя; такой читатель видит, что, кроме
забавных бутад, резкий и охлажденный ум Оне
гина не порождает ровно ничего. В XXI строфе
I главы Онегин отрицает балеты Дидло, а в IV и
в V строфах III главы Онегин отрицает бруснич
ную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну
и глупый небосклон. И этими немногими, весьма
невинными выходками и исчерпывается до самого
дна та злость мрачных эпиграмм, которою угро
жал нам Пушкин в X L V I строфе I главы. Злее и
мрачнее этих эпиграмм мы от Онегина ничего и
не услышим до самого конца романа. Если все эпи
граммы Онегина были так же мрачны и так же
злы, то не мудрено, что Пушкин привык к ним
очень скоро.
Продолжая проявлять свою разочарованность,
Онегин уезжает из театра в то время, когда аму
ры, черти и змеи еще скачут и шумят на сцене.
Не интересуясь их скаканием и шумением, он едет
домой, переодевается для бала и отправляется
танцовать до утра. В то время, когда Онегин пере
одевается, Пушкин превращает в поэтические
предметы те гребенки, пилочки, ножницы и щет
ки, которые украшают кабинет «философа в осьм
надцать лет». Философом юный Онегин оказался,
вероятно, именно цотому, что у него очень много
гребенок, пилочек, ’ ножниц и щеток; но и сам
Пушкин по части философии не желает отста
вать от Онегина и вследствие этого высказывает
весьма категорически ту философскую истину, лю
безную Павлу Кирсанову, что можно быть дель
ным человеком и думать о красоте ногтей. Эту ве
ликую истину Пушкин поддерживает другой исти
ной, еще более великой. «К чему, — спрашивает
он, — бесплодно спорить с веком?» Так как
XIX век, очевидно, направляет все-свои усилия
391
к тому, чтобы превратить ногти в поэтические
предметы, то, разумеется, относиться равнодушно
к красоте ногтей — значит быть ретроградом и
обскурантом.. . «Обычай, — продолжает философПушкин, — деспот меж людей». Ну, разумеется, и
притом обычай всегда останется деспотом м е ж
таких философов, как Онегин и Пушкин. К со
жалению, число таких драгоценных мыслителей
понемногу начинает убывать. Пушкин насказал
бы нам еще много философских истин, но Оне
гин уже оделся, уподобился ветреной Венере, на
девшей мужской наряд, и в ямской карете поска
кал с т р е м г л а в (вероятно, вследствие охла
жденное™ ума) на бал. Пушкин, разумеется, спе
шит за ним, и поток философских истин на не
сколько времени иссякает. На бале мы совершенно
теряем из виду Онегина и решительно не знаем,
в чем выразилось его несомненное превосходство
над презренной толпой. Введя своего героя
в бальную залу, Пушкин весь предается воспоми
наниям о ножках и рассказывает с неподражае
мым увлечением, как он однажды завидовал вол
нам, «бегущим бурной чередою с любовью лечь
к ее ногам». Недоверчивый читатель, быть может,
усомнится в том, чтобы волны действительно ло
жились к ее ногам с л ю б о в ь ю , но я отвечу
такому неотесанному читателю, что прозаические
волны превращены здесь в поэтические предметы
и что поэтому со стороны поэта даже очень по
хвально приписать им, для пущей поэтичности,
любовь к женщине вообще или к ее ногам в осо
бенности. Что же касается до завидования неоду
шевленному предмету, прикасающемуся или при
ближающемуся к красивой женщине так или ина
че, то я надеюсь, что против этого даже самый
неотесанный читатель не осмелится представить
никакого скептического возражения, потому что
392
этот мотив выяснен и разработан до последней
тонкости глубокомысленным и изящным роман
сом: «Ах, зачем я не бревно»1, — романсом, до
статочно известным не только грамотной, но даже
и безграмотной России. Объяснив читателям, что
милые ноги привлекали его сильнее и даже не
сравненно сильнее, чем уста, ланиты и перси, Пуш
кин вспоминает о своем Онегине, везет его с бала
домой и укладывает в постель в то время, когда
рабочий Петербург уже начинает просыпаться.
Когда Онегин встает от сна, тогда начинается
опять та же история: гулянье, обед, театр, пере
одеванье, бал .и сон,
И
Итак, Онегин ест, пьет, критикует балеты, тан
цует целые ночи напролет, — словом, ведет очень
веселую жизнь. Преобладающим интересом в этой
веселой жизни является «наука страсти нежной»,
которою Онегин занимается с величайшим усер
дием и с блестящим успехом. «Но был ли счастлив
мой Евгений?» — спрашивает Пушкин. Оказы
вается, что Евгений не был счастлив, и из этого
последнего обстоятельства Пушкин выводит за
ключение, что Евгений стоял выше пошлой, пре
зренной и самодовольной толпы. С этим заклю
чением соглашается, как мы видели выше, Белин
ский; но я, к крайнему моему сожалению, при
нужден здесь противоречить как нашему величай
шему поэту, так и нашему величайшему критику,
Скука Онегина не имеет ничего общего с недо
вольством жизнью; в этой скуке нельзя подметить
даже инстинктивного протеста против тех не
удобных форм и отношений, с которыми мирится
и уживается по привычке и по силе инерции пас
сивное большинство. Эта скука есть не что иное,
.
393
как простое физиологическое последствие очень
беспорядочной жизни. Эта скука есть видоизмене
ние того чувства, .которое немцы называют Katzenjammer и которое обыкновенно посещает каждого
кутилу на другой день после хорошей попойки.
Человек так устроен от природы, что он не может
постоянно обжираться, упиваться и изучать «на
уку страсти нежной». Самый крепкий организм
надламывается или, по крайней мере, истаски
вается и утомляется, когда он чересчур роскошно
пользуется разнообразными дарами природы.
Всякое наслаждение притупляет в большей или
меньшей степени, на более или менее долгое
время, ту способность нашего организма, которая
воспринимает это наслаждение. Если отдельные
приемы наслаждения быстро следуют один за дру
гим и если эти приемы очень сильны, то наша
способность наслаждаться совершенно притупляет
ся, и мы говорим^ что нам надоело или опроти
вело то или другое приятное занятие. Это при
тупление одной из наших способностей совер
шается помимо всяких умственных соображений
и совершенно независимо от каких бы то ни было
критических взглядов на то занятие, которое мы
прежде любили и к которому мы потом охладели.
Представьте себе, что вы очень любите какоенибудь питательное и здоровое кушанье, напри
мер, пудинг; в один прекрасный день это люби
мое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо;
вы объедаетесь им и сильно расстраиваете себf
желудок; после этого легко может случиться, что
вы получите к пудингу непобедимое отвращение,
которое, разумеется, будет совершенно независи
мо от ваших теоретических понятий о пудинге;
вы знаете очень хорошо весь состав пудинга; вы
знаете, что в него не кладут никаких ядовитых
веществ; вы видите, что другие люди при вас едят
его с удовольствием, и при всем том вам, прежзу;
нему любителю пудинга, это кушанье не идет
в горло.
'
Отношения Онегина к различным удовольствиям
светской жизни похожи, как две капли воды, на
ваши отношения к пудингу. Онегин всем объелся
и его от всего тошнит. Если не всех светских лю
дей тошнит так, как Онегина, то это происходит
единственно оттого, что не всем удается объ
есться. Как специалист в «науке страсти нежной»,
Онегин, разумеется, стоит выше многих своих
сверстников. Он красив собою, ловок, il а 1а
langue bien pendue *, как говорят французы, и
в этих особенностях его личности заключается
вся тайна его разочарованности и его мнимого
превосходства над презренной толпой. Другие
светские люди, ведущие вместе с Онегиным пу
стую и веселую жизнц, совсем не одерживают по
бед над светскими женщинами или одерживают
этих побед очень немного, так что не успевают
притупить своего чувства с этой стороны. «На
ука страсти нежной» продолжает быть для них
привлекательной, потому что они встречают в ней
серьезные трудности, которые они желают и на
деются преодолеть. Для Онегина эти трудности
не существуют; он наслаждается тем, к чему дру
гие только стремятся, и вследствие неумеренного
наслаждения он притупляет в себе вкус и влече
ние ко всему, что составляет содержание светской
жизни.
До сих пор превосходство Онегина заклю
чается только в том, что он лучше многих дру
гих умел «тревожить сердца кокеток записных».
Легко может быть, что Пушкин любит и уважает
своего героя именно за эту особенность его лич
ности. Но кто имеет понятие о Белинском, тот,
* П е р е в о д : Он красноречив (буквально: у него хоррщо подвешен язык). Ред.
v
щ>
конечно, знает, что Белинский не мог бы отно
ситься к Онегину с сочувствием, если бы видел
в нем только искусного соблазнителя записных
кокеток.
Итак, посмотрим, что будет дальше; посмотрим,
за какое средство ухватится объевшийся Онегин,
чтобы победить свой Katzenjammer и чтобы снова
помириться с жизнью. Когда человеку надоело
наслаждение и когда этот человек в то же время
чувствует себя молодым и сильным, тогда он не
пременно начинает искать себе труда. Для него
наступает пора тяжелого раздумья, он всматри
вается в самого себя, всматривается в общество;
он взвешивает качество и количество своих соб
ственных сил; он оценивает свойства тех препят
ствий, с которыми ему придется бороться, и тех
общественйых потребностей, которые стоят на
очереди и ожидают себе удовлетворения. Нако
нец, из его раздумья выходит какое-нибудь ре
шение, и он начинает действовать; жизнь ломает
по-своему его теоретические выкладки; жизнь ста
рается обезличить его самого и переработать по
общей, казенной мерке весь строй его убеждений;
он упорно борется за свою умственную и нрав
ственную самостоятельность; и в этой неизбежной
борьбе обнаруживаются размеры его личных сил.
Когда человек прошел через эту школу размыш
ления и житейской борьбы, тогда мы имеем воз
можность поставить вопрос: возвышается ли этот
человек над безличной и пассивной массой или
не возвышается? Но пока человек не побывал
в этой переделке, до тех пор он в умственном и
нравственном отношении составляет для нас такую
же неизвестную величину, какую мы видим, на
пример, в грудном ребенке. Если же человек,
утомленный наслаждением, не умеет даже попасть
в школу раздумья и житейской, борьбы, то мы тут
уже прямо можем сказать, что этот эмбрион ни-
т
когда не сделается мыслящим существом и, следо
вательно, никогда не будет иметь законного осно
вания смотреть с презрением на пассивную массу.
К числу этих вечных и безнадежных эмбрионов
принадлежит и Онегин.
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая за перо взялся,—
Хотел писать, но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.
(Глава I. Строфа ХЫ1Г.)
Шляться в течение нескольких .дет по рестора
нам и по балетам, потом вдруг, ни с того, ни
с сего, усесться за письменный стол и взять перо
в руки, с тем чтобы сделаться писателем, — это
фантазия по меньшей мере очень странная. Брать
ся за перо з е в а я и в то же время ожидать, что
перо напишет что-нибудь мало-мальски сносное, —
это также нисколько не остроумно. Наконец, от
вращение Онегина к упорному труду, — отвраще
ние, которое так откровенно признает сам Пуш
кин, — составляет симптом очень печальный, по
которому мы уже заранее имеем право предуга
дывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом.
Но не будем торопиться в произнесении оконча
тельного приговора. Когда человек входит в но
вую фазу жизни, тогда он поневоле идет ощупью,
берется за непривычное дело очень неискусно,
переходит от одной ошибки к другой, испытывает
множество неудач и только посредством этих оши
бок и неудач выучивается понемногу работать
над теми вопросами, которые настоятельно тре
буют от него разрешения.
Онегин увидал, что он не может быть писате
лем и что сделаться писателем гораздо труднее,
чем пообедать у Талона. Эта крошечная частица
397
житейской опытности, вынесенная им из первого
столкновения с вопросом о труде, повидимому,
не пропала для него даром. По крайней мере, вто
рая попытка его оказывается гораздо благоразум
нее первой.
И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе усвоить ум чужой.
' (Строфа XLIV.)
Значит, начал читать. Это придумано недурно.
Но именно эта удачная, хотя и очень простая вы
думка тотчас раскрывает перед нами ту истину,
что Онегин — человек безнадежно пустой и совер
шенно ничтожный.
Отрядом книг уставил полку;
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман и бред,
В том совести, в том смысла нет;
На .всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку с пыльной их семьей
Задернул траурной тафтой.
(Строфа XLIV.)
Если бы Онегин расправился так бойко с одни
ми русскими книгами, то в словах поэта можно
было бы видеть злую, но справедливую сатиру на
нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литера
туру. Но, к сожалению, мы знаем доподлинно, из
других мест романа, что Онегин умел читать вся
кие книжки, и французские, и немецкие (Гердера),
и английские (Гиббона и Байрона), и даже италь
янские (Манзони). В его распоряжении находи
лась вся европейская литература XVIII века, а он
сумел только задернуть полку с книгами траурной
398
тафтой. Пушкин, невидимому, желал показать,
что проницательный ум и неукротимый дух Оне
гина ничем не могут удовлетвориться и ищут та
кого совершенства, которого даже и на свете не
бывает. Но показал он совсем не то. Он показал
одно из двух: или то, что Онегин не умел себе
выбрать хороших книг, или то, что Онегин не
умел оценить и полюбить тех мыслителей, с ко
торыми он познакомился. По всей вероятности,
Онегина постигли обе эти неудачи, то есть и выбор
книг был неудовлетворителен, и понимание было
из рук вон плохо."Онегин, вероятно, накупил себе
всякой всячины, начал глотать одну книгу за дру
гой без цели, без системы, без руководящей идеи,
почти ничего не понял, почти ничего не запомнил
и бросил, наконец, это бестолковое чтение, убе
дивши себя в том, что он превзошел всю челове
ческую науку, что все мыслители — дурачье и что
всех их надо повесить на одну осину. Это отри
цание, конечно, очень отважно и очень беспо
щадно, но оно, кроме того, чрезвычайно смешно
и для отрицаемых предметов совершенно безвред
но. Когда человек отрицает решительно все, то
это значит, что он не отрицает ровно ничего и
что он даже ничего не знает и не понимает. Если
этим легким делом сплошного отрицания зани
мается не ребенок, а взрослый человек, то можно
даже смело утверждать, что этот бойкий господин
одарен таким неподвижным и ленивым умом, ко
торый никогда не усвоит себе и не поймет ни од
ной дельной мысли. Онегин расправляется с кни
гами так, как он расправился выше с балетами
Дидло и как он в III главе будет расправляться
с глупой луной и с глупым небосклоном. Он про
износит резкую фразу, которую доверчивые люди
принимают за смелую мысль. Враждебное столкно
вение его с книгами составляет в его жизни по
следнюю попытку отыскать себе труд. После этой
399
Попытки Онегин и Пушкин окончательно убежда
ются в том, что для высших натур не существует
в жизни увлекательного труда и что чем человек
умнее, тем больше он должен скучать. Сваливать
таким образом всякую вину на роковые законы
природы, конечно, очень удобно и даже лестно для
тех людей, которые не привыкли и не умеют раз
мышлять и которые посредством этого сваливания
могут без дальнейших хлопот перечислить себя
из тунеядцев в высшие натуры. У Пушкина осо
бенно развита эта замашка выдумывать законы
природы и ставить эти выдуманные законы, как
границу, за которую не может проникнуть ника
кое исследование. Спрашивается, например, отчего
люди скучают. На это можно отвечать^: оттого, что
они ничего не делают. А отчего они ничего не де
лают? Оттого, что за них работают другие люди.
А это отчего происходит? На этот вопрос также
можно отыскать ответ, но только, разумеется, тут
придется въехать и в историю, и в политическую
экономию, и в физиологию, и в опытную психоло
гию. Но у Пушкина дело не доходит даже до вто
рого вопроса. У него сию минуту готов закон при
роды. Пушкинский Фауст говорит, например, Ме
фистофелю: «Мне скучно, бес», а Мефистофель
немедленно объясняет ему, что «таков вам поло
жен предел» и что «вся тварь разумная скучает».
И Фауст доверчиво и даже с некоторым ужасом
выслушивает вздорную болтовню Мефистофеля,
а потом для развлечения приказывает Мефисто
фелю утопить испанский трехмачтовый корабль,
готовый пристать к берегам Голландии. Эта так
•называемая «Сцена из 'Фауста» составляет пре
восходный комментарий к «Евгению Онегину».
В этой сцене демонизм, как понимает его Пушкин,
доведен уже до последних границ нелепого и
смешного. Тут уж для читателя становится ясно,
4С0
что пушкинский Фауст — совсем не Фауст и со
всем не высшая натура, а просто развеселый ку
печеский сынок, которому свойственно не топить
трехмачтовые испанские корабли, а разрушать
большие зеркала в русских увеселительных заве
дениях. На'д Мефистофелем этот резвый юноша
не имеет ни малейшей власти, но должность Ме
фистофеля исправляет при этом российском
Фаусте толстый бумажник, наполненный кредит
ными билетами. Именно этот карманный Мефи
стофель и дает ему возможность бить зеркала,
для того чтобы разнообразить жизнь и прогонять
на несколько минут роковую скуку. Отнимите
у российского Фауста бумажник, и он тотчас сде
лается тише воды, ниже травы, скромнее красной
девушки. Вместе с вспышками демонической на
туры пропадет и роковая скука. Фауст пойдет
в чернорабочие и затеряется в той серой толпе,
которую он отважно давил своими рысаками во
времена своего господства над карманным Мефи
стофелем.
По натуре своей Онегин чрезвычайно похож на
Фауста, который в романе топит испанские ко
рабли, а в жизни крушит русские зеркала. И де
монизм Онегина также целиком сидит в его бу
мажнике. Как только буйажник опустеет, так Оне
гин тотчас пойдет в чиновники и превратится
в Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель
ни за что не отличит его от той толпы, которую
он презирал на том основании, что он будто бы
«жил и мыслил».
,,
Итак, Онегин скучает не оттого, что он не на
ходит себе разумной деятельности, и не оттого,
что он — высшая натура, и не оттого, что «вся
тварь разумная скучает», а просто оттого, что
у него лежат в кармане шальные деньги, кЬторые
дают ему возможность много есть, много пить.
23 Д . И . Писарев
401
много заниматься «наукой страсти нежной» и кор
чить всякие гримасы, какие он только пожелает
состроить. Ум его ничем не охлажден, он только
совершенно не тронут и не развит. И г р у с т р а
с т е й он испытал настолько, насколько эта игра
входит в «науку страсти нежной». О существова
нии других, более сильных страстей, страстей, на
правленных к идее, он даже не имеет никакого
понятия, подобно тому, как не имеет о них по
нятия пушкинский Фауст. Ж а р своего с е р д ц а
Онегин истратил на будуарные сцены и на маска
радные похождения. Если Онегин думает, что
ж и з н ь т о м и т его, то он думает чистый вздор;
кого жизнь действительно томит, тот не поска
чет ..на почтовых за наследством в деревню уми
рающего дяди. Ж и т ь , на языке Онегина, — зна-.
чит гулять по бульвару, обедать у Талона, ездить
в театры и на балы. М ы с л и т ь — значит крити
ковать балеты Дидло и ругать луну дурой за то,
что она кругла. Ч у в с т в о в а т ь — значит зави
довать волнам, которые ложатся к ногам хоро
шенькой барыни. К т о ж и л и м ы с л и л по
добно Онегину, т о т , разумеется, не м о ж е т
не п р е з и р а т ь л ю д е й , живущих менее рос
кошно и мыслящих не столь оригинально. К т о
чувствовал
подобно Онегину, т о г о , ра
зумеется, т р е в о ж и т п р и з р а к н е в о з в р а
т и м ы х д н е й , то есть' тех дней, когда случа
лась видеть вблизи ножки, ланиты, перси и раз
ные другие интересные подробности женского
тела. Таким образом, я ? ответил на все вопросы,
поставленные мною в первой главе, и у нас ока
зался тот неожиданный результат, что Онегин —
совсем не «дух отрицания, дух сомненья», а про
сто— коварный изменщик и жестокий тиран дам
ских сердец. Мы увидим ниже, что этот результат
оправдывается всем дальнейшим ходом романа
402
Ill
Пушкин подружился с Онегиным и признал за
ним гграво презирать людей в то время, когда
Онегин, постигнув суетность науки, задергивал
траурной тафтой полку с книгами. Вслед затем
умер отец Онегина, и Евгений предоставил на
следство кредиторам, —
Большой потери в том не видя,
Иль предузнав издалека
Кончину дяди-старика.
Действительно, дядя вскоре занемогает, и
Прочтя печальное посланье,
Евгений тот.час на свиданье
Стремглав по почте поскакал,
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман.
О предстоящих занятиях с больным дядей Оне
гин размышлял так:
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство —
Полуживого забавлять,
Ему, подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя!
Все это очень естественно и изложено очень хо
рошими стихами, но все это, очевидно, совер
шенно уравнивает Онегина с самыми презренными
людьми презренной толпы. Из-за чего суетятся,
сгибаются в дугу, актерствуют и подличают са
мые презренные люди? Из-за чего Молчалин хо
дит на задних лапках перед Фамусовым и перед
всеми его важными гостями? — Из-за презренного
26*
403
металла, которым поддерживается бренное суще
ствование. А ради чего Онегин скачет с т р е мг л а в п о п о ч т е и приготовляется к хождению
на задних лапках перед умирающим родственни
ком ? — Д е н е г р а д и , отвечает Пушкин со свой
ственной ему откровенностью. Онегин унижается
перед дядей, Молчалин унижается перед началь
ником; побудительная причина у обоих одна и та
же. С какой же стати Пушкин дает Онегину право
презирать толпу, в которой молчалинство соста
вляет самую темную и грязную сторону? Если
Онегину необходимо упражняться в презрении,
то ему следовало бы начать с самого себя и даже
кончить самим собою, то есть, сосредоточить на
всегда все своё презрение на собственной лично
сти и оставить толпу в покое, потому что даже
такой мелкий человек толпы, как Молчалин, всетаки стоит выше блестящего денди Онегина. Мол
чалин подличает потому, что в русской жизни гос
подствует, как остроумно заметил Помяловский,
своеобразный экономический закон, вследствие
которого человек, дающий работу, считает себя
благодетелем человека, получающего и выпол
няющего работу. Очень немногие отрасли труда
освободились от господства этого своеобразного
закона, и, разумеется, то поприще, на котором
подвизается Молчалин, относится к числу неосво
бодившихся отраслей. Подличая перед Фамусо
вым, Молчалин добивается только того, чтобы
у него не отняли работы и чтобы ему платили за
эту работу хорошие деньги. Разумна ли и полезна
ли сама работа — за это Молчалин не отвечает,
потому что не он ее выдумал. Дело Молчалина -
трудиться, и он действительно трудится, и его
начальник, Фамусов, сознается, что Молчалин —
деловой человек. Когда же Онегин подличает пе
ред дядей, тогда он ждет от дяди не работы и не
задельной платы, а даровой подачки, что, ко404
нечно, несравненно унизительнее для человече
ского достоинства. Онегину постыл упорный труд,
и вследствие этого каждый человек, способный
трудиться, имеет полное и разумное право смо
треть на Онегина с презрением, как на вечного
недоросля в умственном и в нравственном отно
шениях. Получив наследство, Онегин улучшает
положение мужиков:
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил:
Мужик судьбу благословил.
■
Это, конечно, недурно со стороны Онегина. Но
это доказывает только, во-первых, что Онегин —
не Плюшкин и не Гарпагон, и не Скупой Рыцарь,
а во-вторых, что полученное наследство было до
статочно велико. Легкий оброк, несмотря на всю
свою легкость, все-таки давал Онегину полную
возможность иметь в деревне «обед довольно при
хотливый», пить с Ленским бордо и шампанское,
а потом, после смерти Ленского, разъезжать в те
чение двух лет по России. Если бы наследство
было менее значительно, то, по всей вероятности,
мужику" не пришлось бы благословлять; судьбу,
потому что Онегин вряд ли отказался бы от
бордо, от странствований по России и от разных
других удобств жизни, которые должны оплачи
ваться «легким оброком» или «старинной барщи
ной». Значит, отношения Онегина . к мужикам
украшают нашего героя только отрицательным
достоинством, то есть спасают его от, упрека в ко
рыстолюбии.
Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья.. .
На третий — роща, холм и поле
Его не занимали боле.
Потом уж наводили сон.
(Глава !. Строфа LIV.)
405
И, разумеется, хандра стала бегать за ним, «как
тень или верная жена». Многим — в том числе и
Пушкину — эта способность скучать всегда и везде
кажется привилегией сильных умов, неспособных
удовлетворяться тем, что составляет счастье обык
новенных людей. Пушкин здесь, как и везде, подме
тил и обрисовал самый факт совершенно верно;
но, чуть только дело доходит до объяснения
представленного факта, Пушкин тотчас впадает
в самые грубые ошибки. Действительно, человек,
подобный Онегину, испорченный до мозга костей
систематической праздностью мысли, должен ску
чать постоянно; действительно, такой человек
должен кидаться с жадностью на всякую новизну
и должен охладевать к ней, как только успеет
в нее вглядеться; все это совершенно верно, но все
это доказывает не то, что он слишком много жил,
мыслил и чувствовал, а совсем напротив — то, что
он вовсе не мыслил, вовсе не умеет мыслить, и
что все его чувства были всегда так ike мелки и
ничтожны, как чувства остроумного джентльмена,
завидующего счастливому бревну, на которое
оперлась чья-то хорошенькая ножка. В области
мысли Онегин остался ребенком, несмотря на то.
что он соблазнил многих женщин и прочитал
много книжек. Онегин, как десятилетний ребенок,
умеет только воспринимать впечатления и совсем
не умеет их перерабатывать. Оттого он и нуж
дается в постоянном притоке свежих- впечатле
ний; пока перед его глазами мелькают новые кар
тинки, невиданные переливы красок, непривычные
комбинации линий и теней, до тех пор он спо
коен, не хмурится и не пищит. Ум его по обыкно
вению находится в бездействии; наш герой ши
роко раскрывает глаза и через эти раскрытые
форточки совершенно пассивно втягивает в себя
впечатления окружающего мира; когда декорации
быстро переменяются, тогда форточки работают
405
-
исправно, и пассивное втягивание впечатлений ме
шает нашему герою оставаться наедине с самим
собою; когда же передвижение декораций пре
кращается и когда вследствие этого бесцельное
глазение становится невозможным, тогда хрони
ческое бездействие ума выдвигается на первый
план, Онегин остается наедине с своей умственной
нищетой, и, разумеется, ощущение этой безна
дежной нищеты погружает его в то психическое
состояние; которое называется скукой, тоской или
хандрой. Все это нисколько не величественно и ни
мало не трогательно. Постоянным собеседником и
приятелем Онегина, скучающего в деревне, стано
вится его молодой сосед,
По имени Владимир Ленский;
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
(Глава II. Строфа VI.)
Плоды учености этого господина были, по всей
вероятности, никуда не годны, потому что этому
господину было «без малого осьмнадцать лет»,
а между тем он считал уже свое образование
■ Оконченным и помышлял только о том, чтобы по
скорее жениться на Ольге Лариной, наплодить по
больше детей и написать побольше стихотворений
о романтических розах и о туманной дали. В чем
заключались геттингенские свойства его души и
в чем проявлялось его уважение к Канту, — это
остается для нас вечной тайной. О его вольно
любивых мечтах мы также ровно ничего не узна
ем, потому что во время своих свиданий с Оне'
'А
407
гиным геттингенская душа только и делает, что
тянет шампанское да врет эротические глупости.
Неотъемлемой собственностью Ленского остаются,
таким образом, длинные черные волосы, всегдаш
няя восторженность речи и пылкость духа с до
статочной примесью странности. Все это вместе
должно было делать его общество совершенно не
выносимым для всякого мало-мальски серьезного
и мыслящего человека; но Онегину этащедоучившаяся пифия, разумеется, очень понравилась по
то^ простой причине, что Онегину прежде всего
было необходимо хоть чем-нибудь занять ту или
другую пару форточек, то есть дать какую-ни
будь работу или глазам, или ушам. А так как
Ленский болтал восторженно и неудержимо, то,
стало быть, участь онегинских ушей была вполне
обеспечена.
Пушкин уверяет нас, что беседы "этих двух мы
слителей были чрезвычайно разнообразны:
Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры.
Плоды наук, добро-и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в своем чреду,
Все подвергалось их суду.
"
(Глава II. Строфа XVI.)
В этих беседах могли бы обнаружиться и ocq,r
бенности геттингенской души и охлажденности оне
гинского ума; в этих беседах могли бы обрисо
ваться со всех сторон политические, нравственные
и всякие другие убеждения Онегина и Ленского;
но, к сожалению, в романе не представлено ни од
ной такой беседы, и вследствие этого мы имеем
полное право крепко сомневаться в том, имелись
ли у -этих двух праздношатающихся джентльме
нов какие-нибудь убеждения.
408
Читатели мои, по всей вероятности, знают и
помнят очень хорошо, что Пушкин в «Евгении
Онегине» рассуждает чрезвычайно пространно,
о всевозможных предметах, очень мало относя
щихся к Делу; тут и дамские ножки, и сравнение
а и с б о р д о , и негодование против альбомов
петербургских дам, и соображения о том, что на
ше северное лето — карикатура южных зим, вос
поминания «о садах лицея и многое множество
других вставок и украшений. А между тем, когда
нужно решить действительно важный вопрос,
когда надо показать, что у главных действующих
лиц были определенные понятия о жизни и
о междучеловеческих отношениях, тогда наш 'ве
ликий поэт отделывается коротким и совершенно
неопределенным намеком на какие-то разнообраз
ные беседы, которые будто бы рождали споры и
влекли- к размышлению. Один такой спор, оче
видно, охарактеризовал бы Онегина несравненно
полнее, чем десятки очень милых, но совершенно
ненужных подробностей о том., как он играл на
биллиарде тупым кием, как он садился в ванну со
льдом, в котором часу он обедал, и так далее. Ни
одного такого спора мы не видим в романе. И это
еще не все. Пушкин упоминает о разнообразных
беседах в строфе XVI II главы,- а в X V строфе он
сообщает нам такие подробности, которые, быть
может, делают величайшую честь нежности оне
гинского сердца, но которые в то же время совер
шенно уничтожают возможность серьезных спо
ров, влекущих к размышлению:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор —■
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
409
Его минутному блаженству —
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству.
Какой же дельный спор, какой же серьезный
обмен мыслей возможен тогда, когда один из со
беседников постоянно старается воздерживаться
от охладительных слов и когда другой собеседник
постоянно пылает, то есть постоянно нуждается
в охлаждении? Если мы пересмотрим те предметы
разговора,
которые перечислены Пушкиным
в X V I строфе, то-мы немедленно убедимся в том,
что споры об этих предметах были совершенно
невозможны без охладительных слов со стороны
Онегина. Если эти споры действительно влекли
к размышлениям, то они должны были состоять
почти исключительно в том, что Ленский фанта
зировал и предавался сладостному оптимизму,
а Онегин произносил разные печальные истины и
охладительные слова. В самом деле, что их зани
мало? Во-первых — п л е м е н м и н у в ш и х д о
г о в о р ы . Хотя это выражение очень неудачно и
неясно, однако, можно понять, что тут дело идет
об исторических вопросах. Ясное дело, что Лен
ский, как идеалист и как поэт, должен был строить
в области истории разные красивые и трогатель
ные теодицеи, а Онегин, как скептик, должен был
разрушать эти построения охладительными аргу
ментами. Если даже мы примем слово д о г о
в о р ы в его точном и буквальном „значении, то и
тогда спор вряд ли обойдется без охладительных
слов. Об Анталкидовом мире2 или о договоре
Олега с греками3 можно, конечно, рассуждать
совершенно безопасно и беспристрастно, но, по
всей вероятности, друзья наши не забирались в та
кую глубокую древность; если же они беседовали
о каком-нибудь договоре поновее, например,
о Священном союзе4, или о Венском конгрессе5,
410
1
'
.
или о карлсбадских конференциях", то Ленский
с большим удобством мог предаваться неоснова
тельным восторгам, против которых необходимо
было действовать охладительными словами. Вовторых — п л о д ы н а у к . Тут все зависит от
того, к а к и е плоды. О математических сочине
ниях Эйлера или Лагранжа можно рассуждать без
охладительных’ слов. Но если только друзья наши
брали что-нибудь поживее, например, систему
мира Лапласа или теорию перерождений Ламарка,
то охладительные слова становились неизбежны
ми, потому что такие ученые, как Лаплас и Ла
марк, разрушают очень многие заблуждения,
весьма драгоценные для юных идеалистов и ро
мантиков. А так как друзья наши вряд ли бесе
довали об аналитической геометрии и так как, по
всей вероятности, они выбирали те п л о д ы
н а у к и , которые, так или иначе, затрагивают об
щие вопросы миросозерцания, ’ то, стало быть, и
о п л о д а х н а у к и нельзя было спорить без
охладительных слов. В-третьих — д о б р о й з л о ,
то есть основания .нравственности. Тут столкно
вение противоположных убеждений совершенно
неизбежно и необходимость юхладительных слов
до такой степени очевидна, что нечего об этом и
распространяться. В-четвертых, п р е д р а с с у д
ки в е к о в ы е . Если происходил спор о веко
вых' предрассудках, то этот спор мог принимать
одну из двух главных форм: или Онегин считал
какое-нибудь мнение за предрассудок, а Ленский
доказывай его разумность, или же, наоборот, Лен
ский нападал на предрассудок, а Онегин его от
стаивал. В первом случае Ленский, как юноша и
поэт, брал под свое покровительство разные кра
сивые иллюзии, которые Онегин, как человек, по
знакомившийся с жизнью, отрицал и осмеивал. Во
втором случае Ленский, как юный и горячий пред
ставитель чистой теории, не склоняющейся ни на
4*1
какие компромиссы, осуждал, с высоты своей
идеи, разные мелкие слабости общества, которые
Онегин, как опытный человек, считал извинитель
ными или даже неизбежными. В том и другом слу
чае Онегину пришлось бы совершенно отказаться
от спораг -если бы он захотел воздерживаться от
-охладительных слов. В-пятых — г р о б а т а й н ы
р о к о в ы е . Час от часу не легче. Если возмо
жен какой-нибудь спор о р о к о в ы х т а й н а х
г р о б а , то этот спор может происходить только
насчет бессмертия души. Между Онегиным и Лен
ским спор, без сомнения, должен был завязаться
так, что Онегин отрицал, а Ленский утверждал.
Начиная такой- спор, Онегин, очевидно, затраги
вал такой предмет, который составлял для юного
идеалиста величайшую и неприкосновеннейшую
драгоценность. Как бы мягко и осторожно Онегин
ни выражался, во всяком случае уже тот факт, что
он ставил знак вопросительный там, где Ленский
ставил точку или знак восклицательный, один этот
факт, говорю я, должен был произвести на не
счастного поэта гораздо более потрясающее впе
чатление, чем всевозможные охладительные слова.
В-шестых — с у д ь б а и ж и з н ь . Ну, это выра
жение так неясно и так растяжимо, что о нем не
чего и говорить.
Подробный анализ тех высоких предметов, о ко
торых разговаривали Онегин и Ленский, приводит
меня к тому заключению, что они ни о каких вы
соких предметах не разговаривали и что Пушкин
не имеет никакого понятия о том, ч*го значит
серьезный спор, влекущцй к размышлению, и ка
кое значение имеет для человека сознанное и глу
боко прочувствованное убеждение. Пушкину хоте
лось, чтобы Онегин в своих отношениях к Лен
скому обнаруживал грациозную мягкость своего
характера, и Пушкин, как человек, хорошо зна
комый с грациозной мягкостью и совершенно не412
" ,
знакомый с убеждениями, не сообразил того, что,
навязывая своему герою это изящное свойство,
он осуждал его на такую жалкую бесцветность,
при которой возможны только прения о погоде,
о достоинствах шампанского да, пожалуй, еще
о договорах Олега с греками. Если бы Онегин
действительно имел какие-нибудь убеждения, то,
подружившись с Ленским, он, именно из привя
занности к нему, старался бы откровенно поде
литься с ним своими взглядами на жизнь и раз
рушить дружескими разговорами те юношеские
заблуждения, которые, рано или поздно, грубо и
безжалостно разрушит презренная житейская
проза. Но Онегин, по своей неразвитости и по
совершенному отсутствию убеждений, соблюдает
в отношении к Ленскому ту знаменитую политику
скрывания и педагогического обмана, которую
постоянно прилагают к своим питомцам все роди
тели и воспитатели, отличающиеся теплотой
чувств и ограниченностью ума. '
Я уже показал, выше, что при этой политике со
вершенно
невозможны
серьезные
разговоры
о предметах, вызывающих на размышление,
И так как Пушкин нам действительно не сооб
щает ни одного подобного разговора, то мы
имеем полное право утверждать, что Онегин и
Ленский были совершенно неспособны к серьез
ным рассуждениям и что Пушкин, желая поставить
их на пьедестал, упомянул мимоходом о разных
высоких предметах, до которых ни ему самому,
ни его героям никогда не было никакого дела.
Договоры племен, вековые предрассудки, роковые
тайны — все это одни слова, к которым критик
должен относиться с крайней недоверчивостью.
Любопытно заметить, что грациозная мягкость
.изменяет Онегину именно тогда, когда она была
необходима и когда охладительное слово было не
только очень невежливо, но еще кроме того оо413
вершенно бесполезно. Вот каким образом Онегин
рассуждает об Ольге, в которую, как ему извест
но, давно уже влюблен Ленский:
В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
(Глава III. Строфт V.)
Эта тирада, очевидно, было сказана только для
того, чтобы полюбоваться насмешливой холодно
стью своего взгляда на природу-и на жизнь. Лен
скому эта грубая и бестолковая выходка против
Ольги показалась очень неприятной, и, кроме
этой, совершенно бесплодной неприятности, ровно
ничего не вышло и не могло выйти из охлади
тельного слова, произнесенного Онегиным
ни
к селу, ни к городу, для услаждения собственного
слуха. Впрочем, надо и то сказать, что Ленский
сам напрашивается на подобные дерзости: он ле
зет к Онегину с такими конфиденциальными раз
говорами об Ольге, которые совершенно несо
вместны с серьезным уважением любящего мужчи
ны к любимой женщине. Он с бокалом шампан
ского анализирует Ольгу с пластической- точки
зрения, и этому занятию он предается уже после
того, как Онегин сравнил эту Ольгу с глупой лу
ной. Вот его подлинные слова:
А х, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!
(Глава IV. Строфа XLVIII.)
Когда Базаров сказал своему другу несколько
слов о плечах женщины, которую он видел в пер
вый раз, тогда наша критика и наша публика по
решили, что Базаров — ужасный циник. Но если
414
бы критика и публика потрудились перечитать
«Евгения Онегина», то они увидели йы, что идеа
лист и романтик Ленский далеко перещеголял ма
териалиста и эмпирика Базарова. Базаров гово
рил о незнакомой женщине, Ленский, напротив
того, — о той девушке, в которую он был влю
блен с детства; Базаров говорил только о плечах,
а Ленский — о плечах и о груди. Стало быть,
упрек в цинизме относится по всем правам к пла
менным идеалистам двадцатых годов, а не к х о
лодным реалистам нашего времени. Впрочем, это
совершенно естественно, потому что, как нам из
вестно даже из прописей, праздность есть мать
всех пороков, а в деле праздности Базарову, ко
нечно, мудрено тягаться d Онегиным и с Ленским.
Праздность Онегина так колоссальна, что он даже
.
дома целый день
'
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
На биллиарде в два шара
Играет с самого утра.
(Глава IV. Строфа X L IV )
При таком бездействии мысли вранье на раз
ные темы составляет, конечно, одно из лучших
украшений жизни.
1
v
Чтобы дорисовать личность Ленского, надо ра
зобрать его дуэль с Онегиным. Тут читатель ре
шительно не знает, кому отдать пальму первен
ства по части тупоумия — Онегину или Ленскому.
Единственное возможное объяснение этого неле
пейшего случая состоит в том, что оба они, Лен
ский и Онегин, совершенно ошалели от безделья
и от мертвящей скуки. Онегину захотелось взбе
сить Ленского и таким образом отмстить ему за
то, что у Лариных на именины Татьяны собралось
много гостей, между тем как Ленский говорил
Онегину, что не будет никого из посторонних,
415
Чтобы исполнить свое намерение, Онегин танцует
с Ольгой сначала вальс, потом мазурку, потом ко
тильон. Во время танцев он,
Наклонясь, ей шепчет нежно.
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче.
■
(Глава V. Строфа XL1V.)
Но, спрашивается, что же он мог видеть? Что
Онегин наклонялся к Ольге и шептал ей что-то,
в этом, кажется, нет ничего преступного. Кава
леры обыкновенно говорят с дамами во время
танцев, и никто не обязывает их говорить так
громко, чтобы каждое слово было слышно во всех
концах залы. Пошлого мадригала Ленский не мог
ни видеть, ни слышать, потому что он был про
изнесен шопотом. Заметить пожатие руки было
также невозможно, потому что. это движение мус
кулов совершенно неуловимо для глаз. Что Ольга
улыбалась и краснела — это Ленский, конечно, мог
видеть; но, во-первых, во время танцев никто не
хмурится; а во-вторых? Ольга могла раскраснеться
именно от движения; наконец, если бы даже Лен
ский мог быть твердо убежден в том, что Онегин
говорит Ольге комплименты .насчет ее наружно
сти и что Ольга улыбается и краснеет от удоволь
ствия, то и тогда он не имел бы никакого основа
ния сердиться ни на Онегина, ни на Ольгу. В два
дцатых годах комплименты были еще в полном
ходу, и дамы были еще так наивны, что находили
их лестными и приятными. Стало быть, ни Оне
гин, ни Ольга не позволяли себе решительно ни
чего такого, что выходило бы из уровня приня
тых обычаев. Но Ленский лезет на стены:
Не в силах Ленский снесть удара;
Проказы женские кляня,
416
Выходит, требует коня
I ! скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
(Глава V . Строфа XLV .)
А .весь удар состоял в том, что Ольга не пошла
танцовать с ним котильон. А не пошла она по
той законной причине, что ее уже заранее пригла
сил Онегин. Легко может быть, что в двадцатых
годах действительно существовали такие чудаки,
которые принимали подобные события за жесто
кие удары. Но в таком случае надо будет сознать
ся, что у романтиков двадцатых годов была в голбве своя оригинальная логика, о которой мы в на
стоящее время не можем составить себе почти ни
какого понятия. Кроме того, не мешает заметить,
что женам этих чувствительных и пламенных ро
мантиков было, по всей вероятности, очень сквер
но жить на свете.
Трагедия по поводу котильона происходит за
неделю с небольшим до срока, назначенного для
свадьбы Ленского, который знал и любил свою
невесту с самого детства. Если Ленский осмели
вается оскорблять бессмысленными подозрениями
ту девушку, которую он знает с малых лет, и если
эти подозрения могут возникнуть от каждого
взгляда, брошенного Ольгою на постороннего
мужчину, то, спрашивается, когда же и при каких
условиях установятся между мужем и женою ра
зумные отношения,'основанные на взаимном до
верии? И если о разумном взгляде на женщину не
имеет никакого понятия геттингенская душа, чи
тающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то,
спрашивается, какая же разница существует между
геттингенской душой и душой вятской или сим
бирской? И что за охота была Пушкину посылать
Ленского в туманную Германию за плодами уче
ности и за какими-то вольнолюбивыми мечтами,
27 Д.
и. Писарев
417
когда этому Ленскому суждено было только ска
зать и сделать в романе несколько плоскостей,
которым он мог бы с величайшим удобством на
учиться не только в своей деревне, но даже и
в какой-нибудь букеевской орде? Что же касается
до длинных волос, которые Ленский, по свиде
тельству Пушкина, также привез с собою из ту
манной Германии, то мне кажется, что они, при
тщательном уходе, могли бы вырасти и в России.
Приехав домой после измены коварной Ольги,
Ленский посылает Онегину:
. . . Приятный, благородный,
Короткий вызов, иль к а р т е л ь .
К сожалению, Пушкин не представляет нам того
письма, которое написал по этому поводу «по
клонник Канта и поэт». У Пушкина сказано толь
ко, что
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Но так как вызов надо же чем-нибудь мотиви
ровать, то было бы очень любопытно посмотреть,
каким образом Ленский вывернулся из этой за
дачи, то есть каким образом он ухитрился пи
сать к Онегину о небывалом оскорблении. Впро
чем, рыбак рыбака видит издалека. Ленский, ве
роятно, предчувствовал, что всякая пошлость непременнО'найдет себе сочувственный отзыв в душе
его бывшего друга и что, следовательно, в сно
шениях с этим бывшим другом можно нарушать
совершенно безбоязненно все правила обыкновен
ной человеческой логики. Ленский, повидимому,
понимал, что Онегин, как светский человек, есть
прежде всего машина, которая при известном при
косновении непременно должна произвести из
вестное движение, хотя бы это движение при дан
ных условиях было совершенно бессмысленно и
418
Даже крайне неуместно. Разумеется, Онегин впол
не оправдывает надежды своего достойного друга.
Получивши «приятный, благородный, короткий
вызов», он, как образованный денди, не требует
никаких дальнейших объяснений и отвечает
приятно, благородно,.коротко, «что он в с е г д а
г о т о в». Секундант Ленского тотчас уезжает,
а Онегин, «наедине с своей душой», начинает со
ображать, что эта душа наделала премного глу
постей. Онегин недоволен сам собой. Пушкин
говорит:
И по делом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых, пускай поэт
Дурачится: в осьмнадцать лет
.
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком-бойцом,
Но мужем с честью и с умом.
Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно, время улетело.. .
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист.. .
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шопот, хохотня глупцов.. .
И вот общественное мненье!..
Пружина чести, наш к ум и р !..
И вот на чем вертится мир!»
~
(Глава VI. Строфы X, XI.)
Евгений, как видите, любит юношу всем серд
цем; кроме того, строгий разбор, произведенный
27*
41S
на тайном суде совести, говорит ему, что муж
с честью и с умом не стал бы щетиниться, как
зверь, и не позволил бы себе стрелять в восемна
дцатилетнего разыгравшегося мальчика. На одну
чашку весов Онегин кладет жизнь юноши, кото
рого он любит всем сердцем, и, кроме того, здра
вые требования ума и чести,— те требования, ко
торые сформулированы строгим разбором тайного
суда. На другую чашку Онегин кладет шопот и
хохотню глупцов, которых натравит старый дуэ
лист и злой сплетник, достойный, по мнению са
мого же Онегина, самого полного презрения.
Вторая чашка тотчас перетягивает, и догадливый
читатель немедленно может составить себе очень
наглядное понятие о том, как сильно -умеет Оне
гин любить и как высоко ценит он свое собствен
ное уважение. -— Я должен убить моего друга, рас
суждает Онегин, я должен оказаться перед тай
ным судом моей совести мужем без чести и без
ума, я должен это сделать непременно, потому
что, в противном случае, дураки, которых я пре
зираю, будут шептать и смеяться.
Из этого процесса' мысли мы видим ясно, что
слова: «друг», «совесть», «честь», «ум», «дураки»,
«презирать» не имеют для Онегина никакого ося
зательного смысла. Как негр, задавленный непо
сильным трудом, тяжелыми лишениями и еже
дневными побоями, теряет способность любить, не
навидеть, презирать и рассуждать, превращается
в тупое вьючное животное, способное только
к пассивному повиновению и к машинальной ра
боте из-под палки, так и Онегин, задавленный
умственною пустотой и гнетом светских предрас
судков, навсегда потерял силу и уменье чувство
вать, мыслить и действовать, не испрашивая на то
соизволения у той толпы, которую он величе
ственно презирает. Личное понятие, личные чув
ства, личные желания Онегина так слабы и вялы,
420
что они не могут иметь никакого ощутительного
влияния на его поступки. Поступит он во всяком
случае так, как того потребует от него светская
толпа; он даже не подождет, чтобы эта толпа вы
разила ясно свое требование; он его угадает зара
нее; он с утонченною угодливостью раба, воспи
танного в рабстве с колыбели, предупредит все
желания этш'^-толпы, которая, как избалованный
властелин, разумеется, даже и внимания не обра
тит на то, какими усилиями и жертвами'ее верный
раб, Онегин, купил себе право оставаться в ее гла
зах джентльменом самой безукоризненной бес
цветности, И толпа поступает совершенно спра
ведливо, когда не обращает внимания на усилия
и жертвы верного раба; верный раб верен только
потому, что не смеет сделаться неверным; он боит
ся своего господина и в то же время вместе с дру
гими столь же трусливыми и верными рабами еже
минутно ругает его за глаза, подобно тому, как
это делают все лакеи, проникнутые духом лакей
ства до мозга костей. Этой лакейской замашкой
ругать за глаза строгого господина объясняется
то презрение к толпе, которым драпируется Оне
гин. Это красивое презрение — чувство совер
шенно платоническое; оно целиком улетучивается
в словах; как только приходится действовать, так
это презрение сменяется тотчас самым плоским и
раболепным благоговением.
Спрашивается теперь, каким образом должен
был отнестись поэт к этой черте в характере Оне
гина? Мне кажется, он должен был понять весь
глубокий комизм этой черты, он должен , был
всеми силами своего таланта подметить и разра
ботать в этой черте все ее смешные стороны, он
должен был осмеять, опошлить и втоптать в грязь
без малейшего сострадания ту низкую трусость,
которая ( заставляет неглупого человека играть
роль вредного идиота, для того чтобы не под421
вергнуться робким и косвенным насмешкам на
стоящих идиотов, достойных полного презрения.
Поступая таким образом, поэт оказал бы действи
тельную и серьезную услугу общественному само
сознанию; он бы заставил толпу смеяться над
те-ми формулами тупоумия и безличности, на ко
торые она, по своей недогадливости и инерции
мысли, привыкла смотреть не' только равнодушно,
но даже благосклонно.
Так ли поступил Пушкин? Нет, он поступил как
рУаз наоборот. В своем взгляде на положение Оне
гина он сам оказался человеком светской толпы
и употребил все силы своего таланта на то, чтобы
из мелкого, трусливого, бесхарактерного и празд
ношатающегося франтика сделать трагическую
личность, изнемогающую в борьбе с непреодоли
мыми требованиями века и народа. Вместо того
чтобы сказать читателю: как пуст, смешон и ни
чтожен мой Онегин, убивающий своего друга
в угоду дуракам и негодяям, Пушкин говорит:
«и вот на чем вертится мир!», точно будто бы
отказаться от бессмысленного Вызова — значит на
рушить мировой закон.
Возвышая таким образом в глазах читающей
массы те типы и те черты характера, которые сами
по себе низки, пошлы и ничтожны, Пушкин всеми
силами своего таланта- усыпляет то общественное
самосознание, которое истинный поэт должен про
буждать и воспитывать своими произведениями.
Сваливая на общие причины, на неумолимую
судьбу и на мировые законы вину позорных оши
бок, .рт которых каждый умный и энергический
человек может-уберечься силами своей собствен
ной личности, Пушкин оправдывает и поддержи
вает своим авторитетом робость, беспечность и
неповоротливость индивидуальной мысли. Он по
давляет личную энергию, обезоруживает личный
протест и укрепляет те общественные предрас422
,
судки, которые каждый мыслящий человек обязан
разрушать всеми силами своего ума и всем запа
сом своих знаний. «И в о т на ч е м в е р т и гся мир! » Как вам нравится это наивное призна
ние Пушкина, что для него весь мир сосредото
чивается в тех малочисленных кружках фешене
бельного общества, в которых люди, обожающие
«пружину чести», из благоговения к этой пружине
стреляются со своими друзьями против собствен
ного желания и против собственного убеждения?
Сделавши замечательное открытие, что мир вер
тится на пружине чести, Пушкин далеко превос
ходит Людовика Филиппа, придумавшего остро
умное выражение «1е pays legal»* для обозначе
ния тех французов, которые пользовались правом
голоса на выборах депутатов. У Людовика Фи
липпа огромное большинство французов остается
за пределами законной Франции, а у Пушкина
огромное большинство людей остается за преде
лами существующего мира, — что, без сомнения,
гораздо более остроумно.
Онегин остается ничтожнейшим пошляком до
самого конца своей истории с Ленским, а Пуш
кин до самого конца продолжает воспевать его
поступки, как грандиозные и трагические собы
тия. Благодаря превосходному рассказу нашего
поэта читатель видит постоянно не внутреннюю
дрянность и мелкость побуждений, а, внешнюю
красоту и величественность хладнокровного му
жества и безукоризненного джентльменства.
. . .Хладнокровно,
Ещ е не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно'
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
* Перевод:
Легальная страна.
Ред.
423
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить, но как раз
Онегин выстрелил.. . Пробили
.
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
На грудь кладет тихонько руку
И падает.
(Глава VI. Строфы X X X , XXXI.)
Господи, как красиво! Люди переходят ""т в е рД о ю п о х о д к о й , т и х о , р о в н о четыре шага,
четыре смертные ступени.
Два чело
века без всякой надобности идут на смерть и смо
трят ей в глаза, не обнаруживая ни малейшего
волнения. Так это красиво и так это старательно
воспето, что читатель, замирая от ужаса и пре
клоняясь перед доблестями храбрых героев, даже
не осмелится и не сумеет подумать о том, до ка
кой степени глупо все это происшествие и до
какой степени похожи величественные герои, со
блюдающие твердость и тишину походки, на жал
ких дрессированных гладиаторов, тративших всю
свою энергию на то, чтобы в предсмертных муках
доставить удовольствие зрителям красивой пози
турой тела. А между тем эти зрители были злей
шими врагами гладиаторов, и если бы гладиаторы
направили свою энергию не на красивые позы,
а на тупоумных любителей этих поз, то легко
могло бы случиться, что они навсегда избавили бы
себя от печальной необходимости тешить празд
ных дураков красивыми позами. Надо полагать,
что гладиаторы были очень глупы и что глупость
их, к сожалению, ее умерла вместе с ними.
Но, кроме общей гладиаторской глупости, по
ведение Онегина в -сцене дуэли заключает в себе
еще свою собственную, совершенно специальную
глупость или дрянность, которая до сих пор,
т
„
сколько мне известно, была упущена из виду са
мыми внимательными критиками. То обстоятель
ство, что он принял вызов Ленского и явился на
поединок, еще может быть до некоторой степени
объяснено, — хотя, конечно, не оправдано, —
влиянием светских предрассудков, сделавшихся
для Онегина второю природой. Но то обстоя
тельство, что он, «всем сердцем юношу любя» и
сознавая себя кругом виноватым, ц е л и л в Лен
ского и убил его, может быть объяснено только
или крайним малодушием, или непостижимым ту"
поумием. Светский предрассудок обязывал Оне
гина итти навстречу опасности, но светский пред
рассудок нисколько не запрещал ему выдержать
выстрел Ленского и потом разрядить пистолет на
воздух. При таком образе действий и волки были
бы сыты, и овцы были бы целы. Репутация хра
брых гладиаторов была бы спасена: Ленский,
вполне удовлетворенный и обезоруженный, при
гласил бы Онегина быть шафером на его свадьбе,
а Онегин, сказавший Ольге пошлый мадригал и
оказавший себя мячиком предрассуждений, за все
эти продерзости был бы наказан тем неприятным
ощущением, которое доставляет каждому поря
дочному человеку созерцание пистолетного дула,
направленного прямо на его собственную особу.
Конечно, Ленский мог убить или тяжело ранить
Онегина, которому в таком случае не прищлось
бы быть шафером на предстоящей свадьбе, но эта
перспектива нисколько не должна была конфу
зить Онегина, если только он действительно был
утомлен жизнью и совершенно искренно тяготил
ся ее пустотой. Онегин не должен был колебаться
ни одной минуты, когда ему надо было решать
на практике вопрос, кому жить, ему или Лен
скому? Он ни на одну минуту не должен был
ставить собственную опротивевшую ему жизнь на
одну доску с св"ежей жизнью влюбленного юноши.
Однако он поступил как раз наоборот. Он пер
вый стал поднимать свой пистолет и выстрелил
именно в то самое время, когда Ленский начал
прицеливаться.
Почему же он это сделал? Или потому, что не
сообразил заранее, к а к ему следовало распоря
диться, или лее потому, что чувство самосохране
ния одержало верх над всеми предварительными
соображениями. Первое предположение очень не
правдоподобно; сообразить было немудрено; если
Онегин не умеет подумать даже тогда, когда от
его размышлений зависит жизнь щноши, которого
он любит всем сердцем, то, значит, он совсем не
способен шевелить мозгами. С этим трудно со
гласиться, хотя, разумеется, умственные способно
сти Онегина очень неблистательны и совершенно
испорчены бездействием. Остается второе предпо
ложение, которое, по моему мнению, совершенно
основательно. Онегин, несмотря на свое хрониче
ское зевание и несмотря на свою замашку ругать
жизнь всякими скверными словами, очень любит
эту самую жизнь и никак не согласится проме
нять ее не только на «покой небытия», но даже
и на какую-нибудь другую жизнь, более разумную
И более деятельную. Умирать ему совсем не хо
чется, потому что, как ни ругай нашу юдоль бед
ствий, а все-таки в этой, юдоли есть для богатого
собственника и устрицы, и омары, и бордо, и
клико, и прекрасный пол. Устроить себе какуюнибудь новую жизнь ему также совсем не хочется,
потому что ни для какой другой жизни он не го
дится. Он е своей вечной скукой может прожить
очень спокойно, приятно и комфортабельно лет
до восьмидесяти, и когда Ленский стал целиться,
тогда Онегин смекнул в одну секунду, что ми
лую скуку позволительно ругать и проклинать, но
что с нею вовсе не следует расставаться прежде
временно,
426
(/
Пушкин так красиво описывает мелкие чувства,
дрянные мысли и пошлые поступки, что ему уда
лось подкупить в пользу ничтожного Онегина не
только простодушную массу читателей, но даже
такого замечательного человека и такого тонкого
критика, как Белинский. «Мы, — говорит Белин
ский,— нисколько не оправдываем Онегина, кото
рый, как говорит поэт, был должен оказать себя
не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом; но ти
рания и деспотизм светских и житейских предрас
судков таковы, что требуют для борьбы с собою
героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским —
верх совершенства в художественном отношении»
(стр. 563).
И это все! Хорош приговор. Он не оправды
вает Онегина, а между тем тут же утверждает,
что только герой на месте Онегина поступил бы
иначе. Значит, вполне оправдывает, потому что
мы не имеем никакого права требовать от обык
новенных людей таких подвигов нравственного
мужества, которые превышают средний уровень
обыкновенных человеческих сил. Но разве ж это
правда? Разве в самом деле надо быть героем,
чтобы уметь любить своего друга и чтобы не уби
вать собственноручно, из низкой трусости, тех лю
дей, которых мы любим всем сердцем? Высказы
вая ту дикую мысль, что. эти отрицательные по
двиги доступны только героям, Целинский унижает
человеческую природу и без всякой надобности
является защитником нравственной гнилости и.
тряпичности. А вводит его в этот тяжелый грех
его крайняя впечатлительность, подкупленная тем
обстоятельством, что «подробности дуэли Онеги
на с Ленским — верх совершенства в художествен
ном отношении». Если бы Белинский потрудился
задать себе вопрос, на что потрачено это худо
жественное совершенство и к чему оно клонится,
.
427
то он немедленно убедился бы в том, что за такие
художественные фокусы надо не превозносить,
а строго порицать . поэта. Фанатические драмы
Кальдерона могли быть превосходны в художе
ственном отношении, но влияние их на испанское
общество было во всяком случае отвратительно.
К Ленскому Белинский относится очень спра
ведливо и без малейшей нежности, вероятно по
тому, что ему самому приходилось встречать ро
мантиков в действительной жизни. «Люди, подоб
ные Ленскому, — говорил Белинский, — при всех
их неоспоримых достоинствах (?), не хороши тем,
что они или перерождаются в совершенных фи
листеров, или, если сохраняют навсегда свой 'пер
воначальный тип, делаются теми устарелыми ми
стиками и мечтателями, которые так же неприят
ны, как и старые идеальные девы, и которые боль
ше враги всякого прогресса, нежели люди просто,
без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих
себе и становя себя центром мира, они спокойно
смотрят на все, что делается в мире,- и твердят
о том, что счастье внутри нас, что должно стре
миться душою в надзвездную сторону мечтаний и
не думать о суетах этой земли, где есть и голод,
и нужда, и. . . Ленские не перевелись и теперь:
они только переродились. В них уже не осталось
ничего, что так обаятельно прекрасно (?) было
в Ленском; в них нет девственной чистоты его
сердца (?), в них только претензии на великость
и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихо
творный балласт в журналах доставляется одними
ими. Словом, это теперь самые несносные, самые
пустые и пошлые люди» (стр. 564 и 565).
С этими словакми Белинского я совершенно со
гласен; не вижу я только никаких н е о с п о р и
м ы х д о с т о и н с т в в Ленском; не нахожу, в нем
ничего о б а я т е л ь н о п р е к р а с н о г о и не
умею восхищаться д е в с т в е н н о й ч и с т о т о й
428
ег о с е р д ц а , потому что решительно не пони
маю, кому нужна эта девственная чистота, какую
она может принести пользу и какими прочными
качествами ума и характера она застрахована от
грязнящих и развращающих прикосновений дей
ствительной жизни. Если из приведенной мною
цитаты выбросить вон н е о с п о р и м ы е д о
стоинства,
обаятельно
прекрасное
и д е в с т в е н н у ю ч и с т о т у , то в остатке по
лучится энергический и строгий приговор после
довательного реалиста не только над одними ро
мантиками, но и над всеми художниками, остав
ляющими без внимания горе и нужду современ
ной действительности. Если, по мнению Белин
ского, несносны, пусты и пошлы те люди, кото
рые стремятся душою в надзвездную сторону меч
таний, то, очевидно, не за что миловать и тех
людей, которые стремятся душою в мертвую ти
шину исторического прошедшего. И те, и другие
одинаково отвертываются от суеты этой земли,
«г де е с т ь
и голод,
и н у ж д а , и. . . »,
а именно в этом презрении к суете земли и заклю
чается их настоящая вина. Раз жак они уже от
вернулись от суеты земли, тогда уже решительно
все равно, в какую бы сторону они ни смотрели.
Тогда они уже отрезанный ломоть, и о них можно
совершенно справедливо сказать вместе с Белин
ским, что « э т о т е п е р ь с а м ы е н е с н о с
ные, с а м ы е п у с т ы е и п о ш л ы е л ю д и».
Не мешает также заметить, что эти слова Бе
линского чрезвычайно сильно задевают самого
Пушкина, который в течение всей свой поэтиче
ской деятельности постоянно и систематически
игнорировал и голод, и нужду, и все остальные
болячки действительной жизни. Когда же он слу
чайно натыкался на какую-нибудь крошечную бо
лячку, тогда он обыкновенно брал ее под свое
покровительство, то есть старался доказать ее ро429
ковую необходимость. Это, пожалуй, будет даже
похуже, чем стремиться душою в надзвездную
сторону мечтаний.
После смерти Ленского Онегин отправляется
странствовать по России, везде хмурится и пищит,
везде смотрит с бессмысленным презрением на за
нятия суетной толпы и, наконец, доходит до та
кой нелепости, что начинает завидовать боль
ным, которых он видит на кавказских минераль
ных водах.
Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? А х, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! Тоска, тоска!
Размышления Белинского по поводу этих бес
смысленных жалоб чрезвычайно любопытны; они
дают нам самое наглядное понятие о глубокой
искренности нашего великого критика, о его не
обыкновенной правдивости и о его изумительной
способности принимать за чистую монету каждое
человеческое слово, даже такое, в котором очень
нетрудно распознать самую грубую ложь и самое
нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! — воскли
цает Белинский.— Вот оно, то страдание, о кото
ром так много пишут и в стихах, и в прозе, на
которое столь многие жалуются, как будто и в
мом деле знают его; вот оно, страдание истинное,
без котурна, без ходуль, без драпировки, без
ф раз— страдание, которое часто не отнимает ни
сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем
430
ужаснее! . . Спать ночью, зевать днем, видеть, что
все из-за чего-то хлопочут, чем-то заняты, один
деньгами,
другой — женитьбой,
третий — бо
лезнью, четвертый — нуждою и кровавым потом
работы,— видеть вокруг себя и веселье, и печаль,
и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя
чуждым всему этому, подобно Вечному Жиду, ко
торый среди волнующейся вокруг него жизни
сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти,
как о величайшем для него блаженстве; это стра
дание не совсем понятное, но оттого не меньше
страшное. Молодость, здоровье, богатство, соеди
ненные с умом, сердцем; чего бы, кажется, боль
ше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь
и называет подобное страдание модной причу
дой» (стр. 554).
1
Я без малейшего колебания записываюсь в ряды
тупой
черни
и вместе с этой т у п о й
ч е р н ь ю радикально отрицаю и беспощадно
осмеиваю то ужасное страдание, над которым так
добродушно сокрушается Белинский. На ЕГечного
Жида российский помещик Онегин не похож ни
сколько, и сравнивать их между собою нет ни ма
лейшей надобности. Вечный Жид, говорят, был
так устроен, что никак не мог умереть; вследствие
этой странной особенности своего организма он
действительно имел полное основание м е ч т а т ь о
смерти, как о в е л и ч а й ш е м б л а ж е н
с т в е . Но Онегин этого основания вовсе не имеет,
и фантастическая фигура Вечного Жида, вопло
тившего в себе такое страдание, которое далеко
превышает размеры человеческих сил и челове
ческого терпения, приплетена тут ни к селу, ни
к городу. Белинркий сам подозревает, что «оне
гинское страдание» н е о т н и м а е т ни с на , ни
а п п е т и т а , ни з д о р о в ь я , но, по своей ве
ликодушной доверчивости, наш критик полагает,
что оно т е м у ж а с н е е .
431
Да, действительно ужасно! Таким страданием
страдают в водевилях неутешные вдовы, которые
во время пьесы плачут о муже и сквозь слезы ко
кетничают с юным офицером, а перед самым па
дением занавеси вытирают глазки платочком и
объявляют растроганным зрителям в заключи
тельном куплете, что спасительное время и новая
любовь исцеляют самые глубокие раны растерзан
ных вдовьих сердец. У этих милых вдов страда
ние тоже сидит в самой глубине души, так глу
боко, что не может иметь никакого влияния на
различные отправления физического организма.
Сердце вдовы разбито, но тело ее жиреет и про
цветает во все свое удовольствие. Простое чело
веческое страдание, не водевильное и не онегин
ское, не забирается в такую недосягаемую глубину
и вследствие этого разъедает и прожигает на
сквозь тот организм, в котором оно гнездится.
Я должен признаться, что, как грубый реалист,
я только это последнее, грубое и не глубокое
страдание считаю истинным. Когда же несчастный
страдалец спит по восьми часов в сутки, ест, как
здоровый бурлак, и толстеет от глубокой печали,
тогда я осмеливаюсь утверждать, что этот цве
тущий мученик — большой шутник, выкидываю
щий самые уморительные коленца. Посудите сами:
не шутник ли этот Онегин? Вздумал нас уверять,
что он завидует больным и раненым! Но он нас
не обманет. Мы знаем очень хорошо, что зависть
возможна только тогда, когда она направлена на
такой предмет, которого завидующий человек не
может себе присвоить собственными силами.
Больной может завидовать здоровому, потому что
больной не в состоянии сделаться здоровым по
собственному желанию. Нищий может завидовать
миллионеру по той же самой причине. Но в об
ратном направлении зависть не имеет никакого
смысла, потому что здоровый человек может,
432
когда ему заблагорассудится, расстроить свое здо
ровье, а .миллионер во всякую данную минуту мо
жет превратиться в нищего. Зачем, говорит Оне
гин, я пулей в грудь не ранен? Ну, не шут ли он
гороховый? Это он говорит на Кавказе и гово
рит в то время, когда Кавказ еще не был покорен
и замирен. Да кто же ему мешает поступить юн
кером в действующую армию и получить в грудь
не только одну пулю, а 'пожалуй даже хоть целую
дюжину? Но ему вовсе не хочется иметь в груди
пулю; ему желательно только рассуждать об удо
вольствии быть раненым, о блаженстве тульского
заседателя, лежащего в параличе, и о великом не
счастье того человека, который молод и чувствует
в себе присутствие крепкой жизни. О всех этих
предметах он рассуждает совершенно беспрепят
ственно; доверчивые люди принимают его слова
за чистую монету; на него смотрят, как на зага
дочную личность; его отделяют от толпы не как
шута горохового, а как высшую натуру; значит-—
он катается, как сыр в масле, и сокрушение Бе
линского над его несуществующими страданиями
не имеет решительно никакого основания. Белин
ский, .очевидно, принял Онегина за другого, хоть
бы, например, за Бельтова, за того чиновника,
который не дослужил до пряжки четырнадцати лет
и шести месяцев. Но ведь Бельтов не истратил
своей молодости на обольщение записных коке
ток; Бельтов не был способен убить друга из низ
кой трусости; Бельтов никогда не мечтал о прият
ности иметь в груди пулю и никогда не завидовал
ни тульскому заседателю, ни бедному откупщику.
Словом, Бельтов так же далек от Онегина, как
творец Бельтова далек от Пушкина.
Я решительно не могу объяснить себе, каким
образом Белинский смешал эти два совершенно
различные типа. Онегин — не что иное, как Ми
трофанушка Простаков, одетый и причесанный по
28 Д . И . Писарев
433
столичной моде двадцатых годов; у них даже и
внешние приемы почти одни и те же. Митрофа
нушка говорит: не хочу учиться, хочу жениться,
а Онегин изучает «науку страсти нежной» и за
дергивает траурной тафтой всех мыслителей
XVIII века. Бельтов, напротив того, вместе с Чац
ким и Рудиным изображает собою мучительное
пробуждение русского самосознания. Это люди
мысли и горячей йюбви. Они тоже скучают, но
не от умственной праздности, а оттого, что во
просы, давно решенные в их уме, еще не могут
быть даже поставлены в действительной жизни.
Время. Бельтовых, Чацких и Рудиных прошло
навсегда с той минуты, как сделалось возможным
появление Базаровых, ^Лопуховых и Рахметовых;
но мы, новейшие реалисты, чувствуем свое кров
ное родство с этим отжившим типом; мы узнаем
в нем наших предшественников, мы уважаем и
любим в нем наших, учителей, мы понимаем, что
б е з н и х не могло бы быть и на с . Но с оне
гинским типом мы не связаны решительно ничем;
мы ничем ему не обязаны; это тип бесплодный,
неспособный ни к развитию, ни к перерождению;
онегинская скука не может . произвести из себя
ничего, крочме нелепостей и гадостей. Онегин ску
чает, как толстая купчиха, которая выпила три
самовара и жалеет о том, что не может выпить
их тридцать три. Если б человеческое брюхо не
имело пределов, то онегинская скука не могла бы
существовать. Белинский любит Онегина по не
доразумению, но со стороны Пушкина тут нет ни
каких недоразумений.
IV
Теперь я начинаю разбирать характер Татьяны
и ее отношение к Онегину. Вводя нас в семейство
Лариных, Пушкин тотчас старается предрасполо434
жить нас в пользу Татьяны; эта, дескать, старшая,
Татьяна, пускай будет интересная личность, выс
шая натура и героиня, а та, младшая, Ольга, пу
скай будет неинтересная личность, простая натура
и пряничная фигурка. Доверчивые читатели, ко
нечно, тотчас предрасполагаются и начинают смо
треть на каждый поступок и на каждое слово Та
тьяны совсем иначе, чем как они стали бы смо
треть на такие лее поступки и на такие же слова,
сделанные и произнесенные Ольгой. Нельзя же
в самом деле. Господин Пушкин изволят быть зна
менитым сочинителем. Стало быть, если господин
Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и
мы, мелкиа читающие люди, обязаны питать к той
же Татьяне нежные и почтительные'чувства. Однакоже я попробую отрешиться от этих предвзятых
чувств любви и уважения. Я взгляну на Татьяну,
как на совершенно незнакомую мне девушку, ко
торой ум и характер должны раскрываться предо
мною не в рекомендательных словах автора, а в ее
собственных поступках и разговорах.
Первый поступок Татьяны — ее письмо к Оне
гину. Поступок очень крупный и до такой степени
выразительный, что в нем сразу раскрывается весь
характер девушки. Надо отдать полную справед
ливость Пушкину: характер выдержан превосход
но до конца романа; но здесь, как и везде, Пуш
кин понимает совершенно превратно те явления,
которые он рисует совершенно верно. Представьте
себе живописца, который, желая нарисовать цве
тущего юношу, взял бы себе в натурщики чахо
точного больного на том основании, что у этого
больного играет на щеках очень яркий румянец.
Точно так поступает и Пушкин. В своей Татьяне
он рисует с восторгом и с сочувствием такое явле
ние русской жизни, которое можно и должно ри
совать только., с глубоким состраданием или с рез
кой иронией.
28*
435
Что я не клевещу на Пушкина, приписывая ему
восторг и сочувствие, зто я могу доказать много
численными цитатами. На первый случай доста
точно будет привести XXXI строфу III главы:
Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вот
^
Неполный, слабый перевод,
4
С живой картины список бледный
Или разыгранный «Фрейшиц»
Перстами робких учениц.
•
Чтобы читатели поняли последнюю фразу, я
должен им напомнить, что, как говорит Пушкин
в X X V I строфе, письмо Татьяны было написано пофранцузски. Посмотрим теперь, что это за письмо
и при каких условиях Татьяна почувствовала не
обходимость писать к Онегину.
'
Онегин, во все продолжение романа, был у Ла
риных три раза. В первый раз тогда, когда Лен
ский его представил и когда их обоих угощали
вареньем и брусничной водой. Во второй раз
тогда, когда он получил письмо Татьяны. И в тре
тий раз на именинах Татьяны. Передавая Онегину
приглашение Лариных на именины, Ленский го
ворит ему:
А то, мой друг, суди ты сам:
Д в а р а з а з а г л я н у л , а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Значит, до именин было действительно т о л ь
к о д в а визита, и мы не имеем никакой воз
можности предполагать, чтобы некоторые визиты
436
«3*
Онегина были пройдены молчанием в романе. Зна
чит, Татьяна влюбилась в Онегина с р а з у и ре
шилась к нему написать письмо, проникнутое са
мой страстной нежностью, видевши его всего толь
ко один раз. Нр что же такое произошло во время
этого первого свиданья? В каких поступках, в ка
ком разговоре обнаружились обаятельные особен
ности онегинского ума и характера?
Если бы «Евгений Онегин» был сочинен мною,
то, может быть, я был бы в состоянии отвечать
на эти вопросы, которые неизбежно должны воз
никнуть в уме каждого внимательного читателя,
неспособного удовлетворяться одной звучностью
и плавностью стиха. Но так как я неповинен в со
чинении «Евгения Онегина», то, в ответ на эти не
избежные вопросы, я могу только выписать рас
сказ об этом первом визите, погубившем прелест
ную Татьяну во цвете юных лет.
—
. . . Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.
(Глава III. Строфа III.)
Затем следует пять строк точек, а потом: «они
дорогой самой краткой домой летят во весь
опор». ЛеФя домой, они разговаривают между со
бой, и из их разговора мы узнаем, что Онегин
выпил некоторое количество брусничной воды и
боится от нее дурных последствий. Пожаловав
шись на брусничную воду, Онегин спрашивает:
«скажи, которая Татьяна?» Ленский отвечает:
Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,,
Вошла и села у окна.
*
43?
Знакомство было, очевидно, самое поверхност
ное, когда Онегин даже не знает, « к о т о р а я
Т а т ь я н а». Легко может быть, что Онегин не
сказал с Татьяной ни одного слова; это обстоя
тельство тем более правдоподобно, что Ленский
называет Татьяну молчаливой; по всей вероятно
сти, разговором „владела постоянно старуха Ла
рина; Онегин на возвратном пути говорит о ней:
-
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка.
Значит, он только об одной старухе и успел со
ставить себе довольно определенное понятие.
А в разговоре с п р о с т о ю старухой он, оче
видно, не мог высказать ничего такого замеча
тельного, что оправдывало бы или объясняло бы
возникновение внезапного и страстного чувства
в душе умной и рассудительной девушки. Как бы
то ни было, результатом первого, совершенно по
верхностного знакомства Татьяны с Онегиным
оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкин
с в я т о б е р е ж е т и ч и т а е т с т а й н о ю тос к о ,ю . Татьяна начинает свое письмо довольно
умеренно; она выражает желание видеть Онегина
хоть раз В! неделю, чтоб только слышать его речи,
чтобы молвить ему слово и чтобы потом день
и ночь думать о нем до новой встречи. Все это
было бы очень'‘хорошо, если ~бы мы знали, какие
это речи так понравились Татьяне и какое слово'
она желает молвить Онегину. Но, к сожалению,
нам достоверно известно, что Онегин не мог го
ворить старухе Лариной никаких замечательных
речей и что Татьяна не вымолвила, ни одного сло
ва. Если же она желает молвить слова подобные
тем, которыми она наполняет свое письмо, то ей
право незачем приглашать Онегина в неделю раз,
потому что в этих словах нет никакого смысла и
от них не может быть никакого облегчения ни
438
тому, кто их произносит, ни тому, кто их выслу
шивает. Татьяна, поводимому, предчувствует, что
Онегин не станет ездить к ним раз в неделю, что
бы говорить ей речи и выслушивать слова; вслед
ствие этого начинаются в письме нежные упреки;
уж если, дескать, не будете вы, коварный тиран,
ездить к нам раз в неделю, так незачем было и
показываться у нас; без вас я бы, может быть,
сделалась верной женой и добродетельной ма
терью, а теперь я, по вашей милости, жестокий
мужчина, пропадать должна. Все это, разумеется,
изложено самым благородным тоном и втиснуто
в самые безукоризненные четырехстопные ямбы.
Ни за кого я не хочу замуж итти, продолжает Та
тьяна, а за тге'бя даже’ очень хочу, потому что «то
в высшем суждено совете. . . то воля неба, я твоя»
и потому что ты мне послан богом и ты мой хра
нитель по гроб моей жизни. Тут Татьяна как буд
то спохватилась и, вероятно, подумала про себя:
что ж это я, однако, за глупости пишу, и с какой
стати я это гак раскутилась? Ведь я его всегонавсего только один раз видела. Так нет же вот.
продолжает она: не один раз; не такая же я,' в са
мом деле, шальная дура, чтобы вешаться на шею
первому встречному: я влюбилась в него потому,
чтр он — мой идеал, а я уж давно мечтаю об
идеале, значит, я видела его много раз; волосы,
усы, глаза, нос — все, как есть, так, как должно
быть у идеала; и, кроме того, в высшем совете
так суждено; и, кроме того, во всех романах г-жи
Коттен и г-жи Жанлис так делается; значит, не
о чем и толковать: влюблена я в него до безумия,
буду ему верна в сей жизни и в будущей, буду
о нем мечтать денно и нощно и напишу к нему
такое пламенное письмо, от которого затрепещет
самое бесчувственное сердце. Затем Татьяна бро
сает в сторону последние остатки своего здравого
смысла и начинает взводить на несчастного Оне439
гина самые неправдоподобные напраслины. «Ты
в сновиденьях мне являлся».
— Да я-то чем же виноват? — подумает Оне
гин.— Мало ли что ей могло присниться? Не от
вечать же мне за всякую глупость, какую она ^о.
сне видела!
В душе твой голос раздавался
Д а в н о ... нет, это был не сон!
Вот тебе раз! Даже не сон. Теперь она еще на
городит, что я к ней наяву приходил. И она дей
ствительно городит это:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души.
-
Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна
Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно
молитесь богу, но только зачем же вы сочиняете
небылицы? Отроду я никогда с вами не говорил
ни в тиши, ни в шуме, и вы сами это очень хо
рошо знаете. — С каждой дальнейшей строчкой
письма Татьяна завирается хуже и хуже, по рус
ской пословице: чем дальше в лес, тем больше
дров:
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое ^иденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Да перестаньте же, наконец, Татьяна Дмитриев
на! Ведь вы уж до галлюцинаций договорились.
Во-первых, я совсем не виденье, а ваш сосед, рус
ский дворянин и помещик Онегин, приехавший
в деревню получить наследство от дяди. Это дело
совершенно практическое, и никакие милые виде
ния подобными делами не занимаются. Во-вторых,
за каким я дьяволом буду мелькать по ночам
440
I
в прозрачной темноте и тихо приникать к вашему
изголовью! Мельканье — дело очень скучное и
бесполезное; а тихое приникание привело бы в не
описанный ужас вашу добрую мамашу, которую
я от души уважаю за ее простоту. И, наконец, могу
вам объявить раз навсегда, что я по ночам не
мелькаю, а сплю, тем более, что и все мое инте
ресное страдание, по справедливому замечанию
Белинского, состоит в том, что я ночью сплю, а
днем зеваю. Значит, мелькать мне некогда, и я
могу вам сказать по совести, что если бы вы по
дражали моему благоразумному примеру, то есть
крепко бы спали по ночам, вместо того чтобы
мечтать о писаных красавчиках и читать раздра
жающие романчики, то вы никогда не стали бы
уверять меня в том, что вы видали меня во сне,
что мой голос раздавался в вашей душе и что я
приникаю к вашему изголовью. Вы бы тогда по
нимали очень хорошо, что все это — пустая, смеш
ная и бестолковая болтовня.
Было бы очень недурно и очень полезно для
Татьяны, если бы Онегин отвечал ей словесно или
письменно в том резко насмешливом и холодно
трезвом тоне, в каком я написал от его лица не
сколько фраз. Такой ответ, конечно, заставил бы
Татьяну прблить несметное количество слез; но
если только мы допустим предположение, что Та
тьяна была неглупа от природы, что ее врожден
ный ум не был еще окончательно истреблен бес
толковыми романами и что ее нервная система не
была вполне расстроена ночными мечтаниями и
сладкими сновидениями, — то мы придем к тому
убеждению, что горькие слезы, пролитые ею над
прозаическим ответом жестокого идеала, должны
были бьг произвести во всей ее умственной жизни
необходимый и чрезвычайно благодетельный пе
реворот. Глубокая рана, нанесенная ее самолюбию,
мгновенно истребила бы ее фантастическую лю-
бовь к очаровательному соседу. Что ж, подумала
бы она, должно быть, это в самом деле не он мель
кал в прозрачной темноте. А если не он, так кто
же? Да, должно быть, никто не мелькал. И зачем
это я ему так много глупостей написала? И за
чем это я сама так много о разных глупостях ду
маю? И зачем это я по ночам мечтаю? И зачем
это я такие книги читаю, в которых пишут только
о мечтаниях, мельканиях и приниканиях?
Татьяна увидела бы ясно, что-ее любовь к Оне
гину, лопнувшая, как мыльный пузырь, была
только подделкой любви, смешной и жалкой па
родией на любовь, бесплодной и мучительной
игрой праздного воображения; она поняла бы
в то, же время, что эта ошибка, стоившая ей мно
гих слез и заставляющая ее краснеть от стыда и
досады, была естественным и необходимым вы
водом из всего строя ее понятий, которые она
черпала с страстной жадностью из своего беспо
рядочного чтения; она сообразила бы, что ей
надо застраховать себя на будущее время от по
вторения подобных ошибок и что для такого застрахования ей необходимо изломать и пере
строить заново весь мир ее идей. Необходимо или
отыскать себе другое, здоровое чтение, или, по
крайней мере, прислониться к действительной
жизни, к какому-нибудь .хорошему и разумному
делу, которое могло, бы постоянно поддерживать
в ней умственную трезвость и отвлекать ее от ту
манной области наркотических мечтаний. Такое
хорошее и разумное дело отыскать нетрудно; на
мек на него существует даже в нелепом письме
Татьяны; она говорит, что помогает бедным, — ну,
и помогай, но только займись этим делом серьез
но и смотри на него, как на постоянный и люби
мый труд, а не как на дешевое средство стереть
с своей совести кое-какие микроскопические греш
ки. Имей в виду при этом помогании действитель
на
ные потребности нуждающихся людей, а не то,
чтобы подать бедному копеечку и потом погла
дить себя за это по головке. Словом, несмотря на
пустоту и бесцветность той жизни, на которую
была осуждена Татьяна с самого детства, наша ге
роиня все-таки имела возможность действовать
в этой жизни с пользой для себя и для других, и
она непременно принялась бы за какую-нибудь
скромную, но полезную деятельность, если бы на
шелся умный человек, который бы энергическим
словом и резкой насмешкой выбросил ее вон из
ядовитой атмосферы фантастических видений и
глупых романов.
Но, разумеется, Онегин, стоящий на одном уров
не умственного развития^ с самим Пушкиным и
с Татьяной, не мог своим влиянием охладить
беспорядочные порывы ее разгоряченного вообра
жения. Онегину очень понравилось сумасбродное
письмо фантазирующей барышни.
...П олучи в посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он. ..
(Глава IV. Строфа XI.)
Онегину представлялась возможность располо
жить свои отношения к Татьяне по одному из че
тырех следующих планов: во-первых, он мог на
ней жениться; во-вторых, он в своем объяснении
с ней мог осмеять ее письмо; в-третьих, он в этом
же объяснении мог деликатно отклонить ее лю
бовь, наговоривши ей при сем удобном случае
множество любезностей насчет ее прекрасных ка
честв; в-четвертых, он мог поиграть с нею, как
Щ
кошка играет с мышкою, то есть мог измучить,
обесчестить и потом бросить ее.
Жениться Онегин не хотел, и он сам очень на
ивно объясняет Татьяне причину своего нежела
ния: «Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув,
разлюблю тотчас». Соблазнять ее он тоже не же
лает, отчасти потому, что он не подлец, а отчасти
и потому, что это дело ведет за собою слезы,
сцены и множество неприятных хлопот, особенно
когда действующим лицом является такая энерги
ческая и восторженная девушка, как Татьяна.
В онегинские времена уровень нравственных тре
бований стоял так низко, что Татьяна, вы шедши
замуж, в конце романа считает своей обязанно
стью благодарить Онегина за то, что он поступил
с ней благородно. А все это благородство, кото
рого Татьяна никак не может забыть, состояло
в том, что Онегин не оказался в отношении к ней
вором. Итак, два плана, первый и четвертый — от
вергнуты. Второй план для Онегина.неосуществим:
осмеять письмо Татьяны он не в состоянии, по
тому что он сам, подобно Пушкину, находил это
письмо не смешным, а трогательным. Насмешка
показалась бы ему профанацией и жестокостью,
потому что ни Онегин, ни Пушкин не имеют по
нятия о той высшей й вполне сознательной гу
манности, которая очень часто заставляет мысля
щего человека произнести горькое и оскорбитель
ное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но
оно было бы для нее несравненно полезнее, чем
все сладости, рассыпанные в речи Онегина. Но
время Онегина не было временем той gottliche
Grobheit*, которую совершенно справедливо пре
возносит Берне. Онегин решился поднести Татьяне
золоченую пилюлю, которая не могла подейство
вать ка нее благотворно именно потому, что она
* Перевод:
444
Божественной грубости. Рео.
\
была позолочена, Речь Онегина, занимающая
в романе пять строф, вся целиком, как будто бы
нарочно, направлена к тому, чтобы еще больше
закружить и отуманить бедную голову Татьяны.
Я, говорит Онегин, —
■
прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила,
(тон довольно султанский!)
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства.
С самого начала Онегин делает грубую и непо
правимую ошибку: он принимает любовь Татьяны
за действительно существующий факт; а ему, на
против того, надо было сказать и доказать ей, что
она его совсем не любит и не может любить, по
тому что с первого взгляда люди влюбляются
только,в глупых романах.
Когда б семейственной картиной
(продолжает Онегин)
"
Пленился я хоть миг единый.
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.
Это все за бестолковое письмо; разумеется,
после этих слов сама Татьяна будет смотреть на
свое послание, как на образцовое произведение,
отразившее в себе самое неподдельное чувство, са
мый замечательный ум. Эти лестные и, к сожале
нию, искренние слова Онегина должны подей
ствовать на бедную^Татьяну так, как .подейство
вала на несчастногоДон Кихота его победа над
цырюльником и завоевание медного таза, кото
рый немедленно был переименован в шлем Мамбрина. Добывши себе трофей, Дон Кихот, оче
видно, должен был утвердиться в/ том печальном
445
заблуждении, что он — действительно странствую
щий рыцарь и что он действительно может и дол
жен совершать великие подвиги. Выслушав ком
плименты Онегина, Татьяна точно так же должна
была утвердиться в том столь же печальном за
блуждении, что она очень влюблена, очень стра
дает и очень похожа на несчастную героиню ка
кого-нибудь раздирательного романа. Каждое
дальнейшее слово Онегина подносит несчастному.
Дон Кихоту новые шлемы Мамбрина. Онегин объ
являет своей собеседнице «без блесток мадригаль
ных», что он нашел в ней свой «прежний
и д е а л», но что, к крайнему своему сожалению,
он, по дряблости своего сердца, никак не может
воспользоваться этой приятной находкой:
Напрасны ваши совершенства:
И х вовсе не достоин я.
. . . И того ль искали
Вы чистой пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким ум,ом ко мне писали?
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней..
Длинный хвалебный гимн Онегина заканчивается
плоским и бесцветным нравоучением, которое на
ходится в непримиримом разладе со всеми преды
дущими комплиментами и которое вследствие
этого, разумеется, будет пропущено Татьяною
мимо ушей:
'
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как< я, поймет.. .
К беде неопытность ведет.
— К какой же беде? должна подумать Татья
н а.— Благодаря моей неопытности я написала
к нему письмо, в котором он нашел очень много
446
у м а и очень много п р о с т о т ы ; благодаря
моей неопытности я раскрыла перед ним м о и
с о в е р ш е н с т в а , я обнаружила перед ним ч и
с т у ю п л а м е н но с т ь м о е й д у ш и , я по
пала в п р е ж н и е и д е а л ы и возбудила в нем
л ю б о в ь б р а г а и, может быть, другую лю
бовь, е щ е б о л е е н е ж н у ю . А не напиши я
этого письма,, так ничего бы этого не случилось.
А если он говорит, что не всякий меня поймет, то
ведь мне до в с я к о г о
нет никакого дела.
Сердце мое наполнено навсегда моей несчастной
любовью, и я до дверей холодной могилы буду
влачить в моем истерзанном сердце эту несчаст
ную любовь по тернистому пути моей мучительной
жизни.
Что Татьяна рассуждает именно таким образом
и что ее мысли облекаются в ее голове именно
в такие напыщенные формы, — это мы видим, ме
жду прочим, из тех размышлений, которыми он.а
занимается ночью после дня своих именин, когда
она сидит
Одна, печально под окном
Озарена лучом Дианы .—
Погибну, Таня говорит:
Но гибель от нег<4 любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать.
Голова несчастной девушки до такой степени за
сорена всякой дрянью и до такой степени разго
рячена глупыми комплиментами Онегина, что не
лепые слова —•«гибель от него любезна» — произ
носятся с глубоким убеждением и очень добро
совестно проводятся в жизнь. Забыть Онегина,
прогнать мысль о нем какими-нибудь дельными
занятиями, подумать о каком-нибудь новом чув
стве и вообще превратиться какими-нибудь сред
ствами из несчастной страдалицы в обыкновенную,
•
447
здоровую и веселую девушку, — все это возвы
шенная Татьяна считает для себя величайшим бес
честьем; это, по ее мнению, значило бы свалиться
с неба на землю, смешаться с пошлой толпой, по
грузиться в грязный омут житейской прозы. Она
говорит, что «гибель от него любезна», и потому
находит, что гораздо величественнее страдать и
чахнуть в мире воображаемой любви, чем жить
и веселиться в сфере презренной действительно
сти. И в самом деле, ей удается довести себя сле
зами, бессонными ночами и печальными размыш
лениями под лучом Дианы до совершенного из
неможения.
,
Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
И все это в значительной степени было резуль
татом ее разговора с Онегиным.
Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.
Читатель видит теперь, что утонченная любез
ность Онегина принесла самые богатые плоды.
V
После отъездй Онегина из деревни, Татьяна,
стараясь поддержать в себе неугасимый огонь
своей вечной любви, посещает неоднократно ка
бинет уехавшего идеала и читает с большим вни
манием его книги. С особенным любопытством
вглядывается и вдумывается она в те страницы,
на которых рукою Онегина сделана какая-нибудь
отметка. Таким образом она прочитала сочинения
Байрона и несколько романов,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно.
«И ей открылся мир иной», объявляет нам Пуш
кин. Слова « ми р и н о й » должны, повидимому,
обозначать собой новый взгляд на человеческую
жизнь вообще и на личность Онегина в особен
ности. Затем Пушкин продолжает;
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной;
Чудак печальный и опасный.
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон? . .
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели с л о в о найдено?
ч
(Глава VII. Строфы XXIV , XXV.)
Невозможно понять, зачем Пушкин навязал Та
тьяне все эти критические размышления и зачем
он хочет нас уверить, что ей открылся мир иной.
Этот «мир иной» и эти размышления о москвиче
в гарольдовом плаще не обнаруживают ни малей
шего влияния ни на фантастическую любовь Та
тьяны, ни на ее поступки. До открытия нового
мира она воображала себе, что влюблена по гроб
жизни; после своего открытия она остается при
том же самом убеждении. До открытия нового
29 Д.. И. Писарев
4 49
мира она беспрекословно повиновалась мамаше;
и после открытия она продолжает повиноваться
также беспрекословно. Это с ее стороны очень
похвально, но для того чтобы повиноваться ма
маше в самых важных случаях жизни, не было
ни малейшей надобности открывать новый мир,
потому что и старый наш мир основан целиком
на смирении и послушании.
Пока Татьяна в кабинете Онегина открывает но
вые миры, один из жителей старого мира сове
тует ее мамаше повезти дочь «в Москву, на яр
марку невест». Ларина соглашается с этой
мыслью, и когда Татьяна узнает об этом решении,
тогда она со своей стороны не представляет ни
каких возражений. Надо полагать^ что «ярмарка
невест» занимает очень почетное место в том но
вом мире, который открыла Татьяна. Но если но
вый мир допускает ярмарку невест, то любопытно
было бы узнать, чем он отличается от старого
мира и какая надобность была его открывать?
В Москве Татьяна ведет себя именно так, как
обязана вести себя благовоспитанная барышня,
привезенная заботливой родительницей на ярмар
ку невест. Разумеется,
Ей душно зд есь .. . она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам,
И в сумрак липовых аллей,—
Туда, где он явился ей.
(Глава VII. Строфа LIII.)
Но ведь это все пустые слова, и наивен был бы
гот читатель, который бы принял их за чистую
монету. Куда бы она ни стремилась мечтой — это
решительно все равно. Тело ее, затянутое в кор
450
сет, во всяком случае находится там, где ему ве
лят находиться, и делает именно те движения,
которые ему прикажут делать. В то время когда
она стремится в сумрак липовых аллей, д в е. те
тушки предписывают ей смотреть налево, на тол
стого генерала, и она смотрит. Потом ей приказы
вают выйти замуж за этого толстого генерала, и
она выходит за него замуж.
Если все эти действия находятся в строгом со
гласии с законами ее нового мира, то я осмели
ваюсь думать, что она с большим удобством могла
бы избавить себя от труда производить свои от
крытия, потому что все эти открытия были давно
уже сделаны самыми отдаленными ее предками.
Я полагаю, что в умственной жизни Татьяны оне
гинские книжки не произвели никакого перево
рота. Татьяна до конца романа остается тем са
мым рыцарем печального' образа, каким мы ви
дели ее в ее письме к Онегину. Ее болезненно раз
витое воображение постоянно создает ей поддель
ные чувства, поддельные потребности, поддель
ные обязанности, целую искусственную программу
жизни, и она выполняет эту искусственную про
грамму с тем поразительным упорством, которых
обыкновенно отличаются люди, одержимые ка
кой-нибудь мономанией. Она вообразила себе, что
влюблена в Онегина, и действительно влюбила
себя в него, начала пылать страстью и делать глу
пости, подобные кувырканьям влюбленного Дон
Кихота в горах Сиерры-Морены: Потом она во
образила себе, что ее жизнь разбита, и вследствие
этого начала"’ худеть и бледнеть. Потом, видя, что
ей не удается умереть, она вообразила себе, что
теперь она ко всему равнодушна; тогда она от
дала себя в полное распоряжение своих родствен
ниц, которые привезли ее на ярмарку невест и
там сбыли ее, как хороший товар, толстому ге
нералу. Очутившись в руках своего нового хо29*
451
зяина, она вообразила себе, что она превращена
в украшение генеральского дома; тогда все силы
ее ума и ее воли направились к той цели, чтобы
на это украшение не попало ни одной пылинки.
Она поставила себя под стеклянный колпак и обя
зала себя простоять под этим колпаком в течение
всей своей жизни. И сама она смотрит на себя
со стороны и любуется своей неприкосновенно
стью и твердостью своего характера. Мне, думает
она, очень скучно под колпаком, а я все-таки изпод него не выйду ни для кого на свете, потому
что я-— украшение генеральского дома; а генерал
приобрел меня не затем, чтобы я жила в свое
удовольствие.
Онегин встречается с нею в Петербурге в то
время, когда она, драпируясь- в свою неприкосно
венность, уже украшает своею добродетельной
особой жилище толстого генерала. Видя, что укра
шение генеральского дома блестит самыми яркими
красками, Онегин проникается предосудительным
желанием вытащить это украшение из-под стек
лянного колпака. Но украшение не трогается с ме
ста и, оставаясь под колпаком, читает оттуда
предприимчивому денди такую проповедь, кото
рая доставляет ему очень мало удовольствия.
Этой проповедью, как известно, заканчивается
весь роман. Знаменитый монолог Татьяны заклю
чает в себе следующий смысл: зачем вы не влю
бились в меня прежде? Теперь вы ухаживаете за
мной потому, что я превратилась в блестящее
украшение богатого дома. Я вас все-таки люблю,
но прошу вас убираться к чорту; свет мне про
тивен, но я намерена безусловно исполнять все
его требования.
•
Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и
Онегин друг друга стоят: оба они до такой сте
пени исковеркали себя, что совершенно потеряли
способность думать, чувствовать и действовать
452
по-человечески. Монолог Татьяны отличается са
мой полной откровенностью, и именно по этой
причине он весь составлен из непримиримых про
тиворечий. Подозревая Онегина в мелком тще
славии, она очевидно отказывает ему в своем
уважении, и в то же время, не уважая его, она
его любит, и в то же время, любя его, она его
отталкивает; отталкивая его из уважения к тре
бованиям света, она презирает «всю эту ветошь
маскарада»; презирая всю эту ветошь, она зани
мается ею с утра до вечера. Все эти противоре
чия доказывают совершенно очевидно, что она
ничего не любит, ничего не уважает, ничего не
презирает, ни о чем не думает, а просто живет
со дня на день, подчиняясь заведенному порядку
и разгоняя свою непроходимую скуку разными
крошечными подобиями чувства и мыслей, таки
ми подобиями, которые могуГ выдавить из пре
красных очей несколько слезинок, но которые ни
когда не создадут ни одного решительного по
ступка. Само по себе чувство Татьяны мелко и
дрябло; но по отношению к своему предмету это
чувство точь-в-точь такое, каким оно должно быть;
Онегин — вполне достойный рыцарь такой дамы,
которая сидит Под стеклянным колпаком и обли
вается горючими слезами; другого, более энерги
ческого чувства Онегин даже не выдержал бы;
такое чувство испугало и обратило бы в бегство
нашего героя; безумная и несчастная была бы
та женщина, которая из любви к Онегину реши
лась бы нарушить величественное благочиние ге
неральского дома. Сам Онегин, вероятно, отшат
нулся бы от нее, как от неистовствующей фурии,
и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею
по той программе, которую он наивно раскрыл
перед Татьяной в липовой аллее, то есть, п р и
в ы к н у в , р а з л ю б и л бы т о т ч а с . Стоит же
в самом деле затевать в генеральском доме скан453
дал для того, чтобы доставить Онегину несколько
приятных минут и попользоваться его благосклон
ностью до тех пор, пока он не привыкнет!
Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня
не полюбили прежде, когда я была лучше и мо
ложе и когда я любила вас? Этот вопрос поста
влен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел
отвечать на него совершенно искренно, то ему
пришлось бы сказать: оттого что люди, подобные
мне, способны только шутить и забавляться с жен
щинами. Когда вы были девушкой, тогда мне
предстояла необходимость принять на себя, в от
ношении к вам, серьезные обязанности; мне надо
было тогда взять на себя заботу о вашем счастье,
то есть об удовлетворении всех ваших материаль
ных и умственных потребностей; раз принявши на
себя эту заботу, я бы уже не имел возможности
сложить ее на кого-нибудь другого'; а такая пер
спектива приводила меня в ужас, потому что я
неспособен ни к какому серьезному делу, неспо
собен даже заботиться о материальном и умствен
ном благосостоянии той женщины, которая до
ставляет мне приятные минуты. Теперь дело со
всем другое. Теперь я могу завести с вами весе
лую интрижку, с таинственными свиданьями,
с пламенными объятиями и без всяких будничных,
то есть серьезных и спокойно дружеских отноше
ний. Эта интрижка будет продолжаться месяцев
пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое
почтение, не обращая никакого внимания на то,
любите ли вы меня, или нет.
Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма
и когда он у нее в доме бросился к ее ногам, то
гда он, разумеется, добивался только интрижки.
Пушкину представлялся очень удобный случай из
мерить глубину и силу онегинской любви, но Пуш
кин, конечно, не воспользовался этим случаем,
потому что 'он не имел ни малейшего желания
454
.
выставлять напоказ самые мелкие и дрянные сто
роны онегинского характера. Это полное разобла
чение ничтожной личности было бы неизбежно,
если бы на месте Татьяны стояла энергическая
женщина, любящая Онегина действительной, а не
придуманной любовью. Если бы эта женщина
бросилась на шею к Онегину и сказала ему: я
твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало,
увези меня прочь от мужа, потому что я не хочу
и не могу играть с ним подлую комедию, — тогдэ
восторги Онегина в одну минуту охладели бы
очень сильно. Может быть, он посовестился бы
обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою
несостоятельность перед серьезной заботой; мо
жет быть, он не осмелился бы отшатнуться тот
час от женщины, перед которой он за минуту пе
ред тем сам стоял на коленях; может быть даже,
чувствуя невозможность отступления, он решился
бы, скрепя сердце, чувезти эту женщину куданибудь за границу, но между невольным похити
телем и несчастной жертвой завязались бы не
медленно такие скрипучие и мучительные отноше
ния, которых бы не выдержала ни одна порядоч
ная женщина. Дело кончилось бы тем, что она
убежала бы от него, выучившись презирать его
до глубины души; и, разумеется, бедной, опозо
ренной женщине пришлось бы или умереть в са
мой ужасной нищете, или втянуться поневоле
в самый жалкий разврат. Если бы Пушкин захо
тел и сумел написать такую главу, то она, мне
кажется, обрисовала бы онегинский тип ярче,
полнее и справедливее, чем обрисовывает его те
перь весь роман. Но для того, чтобы подверг
нуть онегинский тип такому жестокому и вполне
заслуженному унижению, самому Пушкину,, оче
видно, было необходимо стоять выше этого типа
и относиться к нему совершенно отрицательно.
455
VI
Белинский посвятил характеристике Татьяны
целую отдельную статьи?. В этой статье он, по
своему обыкновению, высказал много превосход
ных мыслей, которые далее теперь, по прошествии
двадцати лет, могут еще изумлять и приводить
в ужас неисправимых филистеров. Но, отдавая
полную справедливость превосходным частностям
этой статьи, я должен заметить, что, по своей
основной идее, по своему взгляду на характер
Татьяны, она оказывается совершенно несостоя
тельной. Белинский ставит Татьяну на пьедестал
и приписывает ей такие достоинства, на которые
она не имеет никакого права и которыми сам
Пушкин, при своем поверхностном и ребяческом
взгляде на жизнь вообще и на женщину в осо
бенности, не хотел и не мог наделить любимое
создание своей фантазии.
Главная причина неосновательного пристрастия
Белинского к Татьяне заключается, по моему мне
нию, в том, что Белинскому приходится защищать
как самого Пушкина, так и Татьяну против тупых
и пошлых нападений тогдашнего филистерства.
В увлечении полемики трудно сохранять постоян
но трезвость критического взгляда. Опровергая
глупые замечания филистеров, Белинский вдается
часто в противоположную крайность. Филистеры
говорят, например: такой-то поступок отвратите
лен. Белинский, в пику им, утверждает, что он ве
ликолепен. А при ближайшем рассмотрении ока
зывается, что филистеры, конечно, городят' ужас
ный вздор, но что и Белинский совершенно не
прав, потому что в разбираемом поступке нет
ничего ни отвратительного, ни великолепного.
Это влияние филистерских толков на процесс
мысли, совершавшийся в голове великого бойца
Белинского, выразилось очень ясно во многих ме456
стах его критических статей о Пушкине. Вот, на
пример, как рассуждает Белинский о письме Та
тьяны к Онегину:
«Татьяна вдруг решается писать к Онегину: по
рыв наивный и благородный, но его источник за
ключается не в сознании, а в бессознательности:
бедная девушка не знала, что делала. После, ко
гда она стала знатной барыней, для нее совершен
но исчезла возможность таких наивно великодуш
ных движений сердца». Затем следует несколько
эстетических замечаний о той форме, в какой вы
разилось чувство Татьяны. Потом начинаются сра
жения с филистерством. «Замечательно, — продол
жает Белинский, — с каким усилием старается поэт
оправдать Татьяну за ее решимость написать и
послать это письмо; видно, что поэт слишком х о
рошо знал общество, для которого писал».
Выдержав несколько строф из «Онегина», Бе
линский продолжает: «Нельзя не жалеть о поэте,
который видит себя принужденным таким обра
зом оправдывать свою героиню перед обще
ством— и в чем же? — в том, что составляет сущ
ность женщины, ее лучшее право на существова
ние, — что у нее есть сердце, а не пустая яма, при
крытая корсетом! Но еще более нельзя не ж а
леть об обществе, перед которым поэт видел себя
принужденным оправдывать героиню своего ро
мана в том, что она — женщина, а не деревяшка,
выточенная по подобию женщины» (стр. 591,
593, 595).
Благодаря ослиным воплям филистеров весь во
прос о Татьяне сдвинут в сторону и поставлен со
вершенно неправильно. Белинский доказывает,
что, любя Онегина, Татьяна имела полное право
написать к нему письмо. Это не подлежит сомне
нию, и против этого могут спорить только фили
стеры. Но сущность вопроса состоит совсем не
в этом, а в том: может ли и должна ли умная
457
девушка влюбляться в мужчину с первого взгля
да? Белинский смотрит на Татьяну очень благо
склонно за то, что у нее оказалось в груди серд
це, а не пустая яма, прикрытая корсетом. Это с ее
стороны очень похвально, но, увлекшись этим до
стоинством ее личности, Белинский совершенно
забывает справиться о том, имелось ли в ее кра
сивой голове достаточное количество мозга, и
если имелось, то в каком положении находился
этот мозг. Если бы Белинский задал себе эти
вопросы, то он немедленно сообразил бы, что
количество мозга было весьма незначительное,
что это малое количество находилось в самом
плачевном состоянии и что только это плачевное
состояние мозга, а никак не присутствие сердца,
объясняет собою внезапный взрыв нежности, про
явившийся в сочинении сумасбродного письма.
Белинский благодарит Татьяну за то, что она —
женщина, а не деревяшка; тут наш критик, оче
видно, хватил через край и,,замахнувшись на фи
листеров, сам потерял равновесие. Разве в самом
деле надо непременно быть деревяшкой, для того
чтобы, после первого свиданья с красивым денди,
не упасть к его ногам? И разве быть женщи
ной— значит писать к незнакомым людям разди
рательные письма?
Белинский с замечательной сило ^.анализа очер
чивает тот тип, к которому принадлежит Татьяна;
он называет этот тип— типом и д е а л ь н ы х
д е в ; он подмечает все его смешные стороны и
относится к нему совершенно отрицательно. Чи
тая это описание идеальных дев, вы ожидаете,
что он немедленно подведет Татьяну под эту ка
тегорию и осмеет самым беспощадным образом
все ее глупые вздыхания об Онегине. Не тут-то
было! Белинский напрягает все силы своего ве
ликого таланта, чтобы провести резкую разде
лительную черту между полчищем идеальных дев
458
и личностью пушкинской героини; но эта задача
оказывается неразрешимой, и все аргументы Бе
линского остаются очень неубедительными по той
простой причине, что они не находят себе ника
кой опоры в фактах самого романа. «Татьяна,—
говорит Белинский, — существо исключительное,
натура глубокая, любящая, страстная. Любовь
для нее могла быть или величайшим блаженством,
или величайшим бедствием жизни, без всякой при
мирительной'середины. При счастьи взаимности,
любовь такой ‘женщины — ровное, светлое пламяв противном случае — упорное пламя, которому
сила воли, может быть, не позволит прорваться
наружу, но которое тем разрушительнее и жгу
чее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая
жена, Татьяна спокойно, но т^м не менее страстно
и глубоко любила бы своего мужа, вполне по
жертвовала бы собою детям, вся отдалась бы
своим материнским обязанностям, но не по рассуд-.
ку, а опять по страсти, и в этой жертве, в стро
гом выполнении своих обязанностей, с этим спо
койствием, с этим внешним бесстрастием, с этой
наружной холодностью, которые составляют до
стоинство и величие глубоких и_ сильных натур.
Такова Татьяна» -{стр. 582).
Да, такова Татьяна, сочиненная Белинским, но
совсем не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина
пушкинской Татьяны состоит в том, что она си
дит по ночам под лучом Дианы. Вся ее исключи
тельность— в том, что она бродит по полям
■
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.
Вся ее страстность выкипает без остатка в од
ном восторженном письме. Написавши это письмо,
она находит, что она заплатила достаточную дань
молодости и что ей затем остается только пре
вратиться в неприступную светскую даму. Во всем
459
романе мы видим только два поступка Татьяны:
во-первых, ее письмо, во-вторых, ее заключитель
ный монолог; только по этим двум моментам в ее
жизни мы должны составлять себе понятие о ее
характере; в антракте между двумя решительными
моментами она только мечтает, худеет, грустит,
тоскует и вообще ведет себя, с одной стороны,
как идеальная дева, а с другой стороны, как пас
сивный товар, который можно везти на ярмарку
и продавать лицом. Что же касается до двух
выдающихся точек в ее жизни, то, основываясь
на них, можно только применить к Татьяне из
вестные слова Пушкина:
Блажен, кто с молоду был молод;
Блажен, кто во-время созрел.
В молодости своей Татьяна отличалась эксцен
трическими выходками; а созревши, она превра
тилась в воплощенную солидность. Чрез такие
превращения проходят самые отчаянные фили
стеры, которые во время своего студенчества бы
вают обыкновенно самыми разбитными буршами.
Возможность этого превращения превосходно по
нимает и сам Белинский: «Многие из них, >— го
ворит он об идеальных девах, — непрочь бы от
замужества, и при первой возможности вдруг из
меняют свои убеждения и из идеальных дев де
лаются самыми простыми бабами» (стр. 575). Та
тьяна сделалась не самой простой бабой, а самой
блестящей дамой. Разница, кажется, не очень зна
чительна, и превращение разбитного бурша в со
лидного филистера так же несомненно во втором
случае, как и в первом.
Что случилось бы с Татьяной, если бы она вы
шла замуж по страстной любви, — об этом мы
ровно ничего не знаем, но мы можем заметить,
что у самого Белинского на этот счет встречается
очень любопытное противоречие. Рассматривая
460
характер Татьяны отдельно и переделывая его по
своему произволу, Белинский утверждает, что она
может быть превосходной супругой и образцо
вой матерью. Но, анализируя тот же характер
в связи с характером Онегина, Белинский прихо
дит к тому заключению, что Онегин не должен
был жениться на Татьяне, потому что Татьяна
была бы с ним несчастнейшей женщиной и сдела
лась бы для него невыносимой обузой. «Что бы
нашел он потом в Татьяне? — спрашивает Белин
ский.— Или прихотливое дитя, которое плакало
бы оттого, что он не может, подобно ей, детски
смотреть на жизнь и детски играть в любовь, —
а это, согласитесь, очень скучно; или существо,
которое, увлекшись его превосходством, до того
подчинилось бы ему, не понимая его, что не име
ло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни
своей воли, ни своего характера. Последнее спо
койнее, но зато скучнее» (стр. 553). Вот видите,
как неудобно умному человеку (Белинский счи
тает Онегина за умного человека) жениться на
Татьяне. Куда ни кинь — все клин. А между тем
она полагает, что влюблена в него и притом влю
блена на всю жизнь, и ни о какой другой любви
не хочет слышать. Если, вышедши замуж за этого
любимого человека, она неизбежно должна сде
латься для него невыносимой обузой, то, спраши
вается, какие же условия необходимы для того,
чтобы она могла развернуть свою способность
быть превосходной женой и образцовой матерью?
По какому рецепту должен быть составлен тот
человек, в которого она могла бы влюбиться и ко
торого, кроме того, она могла бы осчастливить
своею любовью? Кажется мне, что Татьяна ни
кого не может осчастливить и что, если бы он *
вышла замуж не за толстого генерала, а за пр ■ >
стого смертного, желавшего найти в ней не укр а_
шение дома, а доброго и умного друга, то ее се461
мейная жизнь расположилась бы по следующей
программе, очень остроумно составленной Белин
ским для некоторых идеальных дев: «Ужаснее всех
других, — говорит Белинский, — те из идеальных
дев, которые не только не чуждаются брака, но
в браке с предметом любви своей видят высшее
земное блаженство: при ограниченности ума, при
отсутствии всякого нравственного развития, при
испорченности фантазии, они создают свой идеал
брачного союза, — и когда увидят невозможность
осуществления их нелепого идеала, то вымещают
на мужьях горечь своего разочарования» (стр. 575).
Именно так; и поэтому идеальной деве Татьяне
Дмитриевне Лариной всего лучше и безопаснее
было отправиться на ярмарку невест, чтобы по
том превратиться в самую простую бабу или в са
мую блестящую светскую даму.
Думать, что Пушкин способен создать тип об
разцовой жены и превосходной матери, значит
положительно взводить напраслину на нашего
резвого любимца муз и граций. В такой серьез
ной идее Пушкин решительно неповинен. На жен
щину он смотрит исключительно с точки зрения
ее миловидности. «Женщины, — говорит он в од
ном письме, — не имеют характера; они имеют
страсти в молодости; оттого нетрудно и выводить
их» («Материалы для биографии и оценки про
изведений А. Пушкина», стр. 135). В браке он
видит только «ряд утомительных картин, роман
во вкусе Лафонтена». К слову «женат» у него есть
непременно две постоянные рифмы: «халат» и
«рогат». За женитьбой, по его мнению, неизбежно
следует опошление; а те люди, которые способны
опошлиться, оказываются самыми скверными
мужьями и живут со своими женами, как кошка
с собакой. Действительно, надо быть высокораз
витым человеком, надо быть фанатиком' великой
идеи и плодотворного труда, чтобы понять и вьь
462
разить всю бесконечную поэзию постоянной люб
ви. У нас все романы обыкновенно оканчиваются
там, где начинается семейная жизнь молодых су
пругов. Доведя своего героя до свадьбы, рома
нист прощается с ним навсегда. Когда выводится
в романе брачная чета, то она выводится или за
тем, чтобы изобразить бури семейной жизни, или
затем, чтобы нарисовать сонное царство, вроде
«Старосветских помещиков».
VII
В начале этой статьи я привел несколько востор
женных отзывов Белинского об огромном исто
рическом и общественном значении «Евгения Оне
гина»'; Теперь, разобрав главные характеры ро
мана, я могу решить, по моему крайнему разу
мению, вопрос о том, оправдываются ли эти вос
торженные отзывы Белинского действительными
достоинствами
«самого
задушевного
п р о и з в е д е н и я » Пушкина? Белинский гово
рит, что «Онегина» можно назвать «энциклопе
дией русской жизни». Эта поэма была, по его мне
нию, «актом сознания для русского общества,
почти первым, но зато каким великим шагом впе
ред для него! Этот шаг был богатырским разма
хом, и после него стояние на одном месте сдела
лось уже невозможным» (стр. 605).
Если сознание общества должно состоять в том,
чтобы общество отдавало себе полный и строгий
отчет в своих собственных потребностях, страда*,
ниях, предрассудках и пороках, то «Евгений Оне
гин» ни в каком случае и ни с какой точки зрения
не может быть назван а к т о м с о з н а н и я .
Если движение общества вперед должно состоять
в том, чтобы общество выясняло себе свои по
требности, изучало и устраняло причины своих
страданий, отрешалось от своих предрассудков
463
и клеймило презрением свои пороки, то «Евгений
Онегин» не может быть назван ни первым, ни ве
ликим, ни вообще каким бы то ни было ш а г о м
в п е р е д в умственной жизни нашего общества.
Что же касается до б о г а т ы р с к о г о р а з м а
х а и д о н е в о з м о ж н о с т и с т о я т ь на
о д н о м м е с т е после «Евгения Онегина», то,
разумеется, читателю при встрече с такими сме
лыми и чисто фантастическими гиперболами
остается только улыбнуться, пожать плечами и
припомнить то недалекое прошедшее, которое
ежеминутно, как упорная и плохо вылеченная бо
лезнь, дает себя чувствовать в настоящем.
Отношения Пушкина к изображаемым явлениям
жизни до такой степени пристрастны, его поня
тия о потребностях и о нравственных обязанно
стях человека и гражданина до такой степени
смутны и неправильны, что « л ю б и м о е д и т я »
пушкинской музы должно было действовать на
читателей, как усыпительное питье, по милости
которого человек забывает о том, что ему необ
ходимо помнить постоянно, и примиряется с тем,
против чего он должен бороться неутомимо. Весь
«Евгений Онегин» — не что иное, как яркая и бле
стящая апофеоза самого безотрадного и самого
бессмысленного status quo. Все картины этого ро
мана нарисованы такими светлыми красками, вся
грязь действительной жизни так старательно ото
двинута в сторону, крупные нелепости наших об
щественных нравов описаны в таком величествен
ном виде, крошечные погрешности осмеяны с та
ким невозмутимым добродушием, самому поэту
живется так весело и дышится так легко, — что
впечатлительный читатель непременно должен во
образить себя счастливым обитателем какой-то
Аркадии, в которой с завтрашнего же дня. непре
менно должен водвориться золотой век.
В самом деле, какие человеческие страдания
464
Пушкин сумел подметить и счел необходимым
воспеть? Во-первых, — скуку или хандру; а во-вто
рых, — несчастную любовь, а в-третьих. . . в-треть
их. . . больше ничего, больше ^.никаких страданий
не оказалось в русском обществе двадцатых го
дов. Сначала Онегин скучает оттого, что он слиш
ком счастлив, слишком безгранично наслаждается
всеми благами жизни; потом Татьяна страдает от
того, что Онегин не хочет на ней жениться; по
том Онегин страдает оттого, что Татьяна не же
лает сделаться его любовницей. Значит, в русском
обществе двадцатых годов были два капитальных
порока, два таких порока, на которые величайший
поэт России непременно должен был обратить
свое просвещенное внимание. Во-первых, в то
гдашней России было слишком много благ жизни,
так что русские юноши могли объедаться ими,
расстраивать себе желудки и вследствие этого впа
дать в хандру. Во-вторых, русские мужчины и
русские женщины были так устроены от природы,
что они не' всегда одновременно влюблялись друг
в друга: случалось, например, так, что женщина
уже пламенеет, а мужчина еще едва начинает ра
зогреваться; потом мужчина пылает, а женщина
уже сгорела до тла и гаснет. Такое неудобное
устройство причиняло много огорчений ‘как про
свещенным россиянам, так и очаровательным рос
сиянкам. Роман Пушкина бросил яркий свет на обе
главные язвы русской жизни; так как этот роман
был б о г а т ы р с к и м р а з м а х о м , то стоять
на одном месте после его появления было уже
невозможно, и русское общество, вникнув в стра
дания Онегина и Татьяны, немедленно сделало не
обходимые распоряжения, во-первых, насчет того,
чтобы количество жизненных благ было приве
дено в строгую соразмерность с объемом юноше
ских желудков, а во-вторых, насчет того, чтобы
просвещенные россияне и очаровательные росси30 Д. И. Писарев
465
янки воспламенялись взаимной любовью одновре
менно. Когда это равновесие вошло в надлежащую
силу, тогда уничтожились хандра и несчастная лю
бовь; в России водворился золотой век; юноши
стали вкушать блйга жизни с благоразумной уме
ренностью, а девы благодаря этим умеренным
юношам стали в надлежащее время превращаться
в счастливых жен и превосходных матерей. Но
золотой век исчез, как легкое сновиденье; и смо
трят юные потомки аркадских жителей на бога
тырский размах «Евгения Онегина», как на совер
шенно несообразную грезу, которую после пробу
ждения трудно не только понять, но даже и при
помнить. И смекают эти развращенные потомки,
что если «Евгений Онегин» есть энциклопедия рус
ской жизни, то, значит, энциклопедия и русская
жизнь нисколько друг на друга не похожи, по
тому что энциклопедия — сама по себе, а русская
жизнь — тоже сама по себе.
По некоторым темным преданиям и по некото
рым глубоким историческим исследованиям по
зволительно, например, думать, что в России
двадцатых годов существовало то явление обще
ственной жизни, которое известно теперь под име
нем крепостного права. Интересно было бы знать,
как отразилось это явление русской жизни в энци
клопедии? Справляемся, и узнаем, что Онегин,
приехав в деревню, заменил ярем старинной бар
щины легким оброком и что мужик благословил
судьбу; что старуха Ларина «служанок била, осер-1
дясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой преж-У
нюю Селину», что служанки, собирая ягоды, пелиа
по барскому приказанию песни, для того «чтоб
барской ягоды тайком уста лукавые не ели»; что
«крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляе!
путь»; что дворовый мальчик бегает по двору
«в салазки жучку посадив, себя в коня преобра
зив»; что на святках
466
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
Вот и все, что мы можем почерпнуть из энци
клопедии касательно крепостного права. Надо
сказать правду, на этих сведениях лежит самый
светло-розовый колорит: помещик облегчает по
ложение мужика, мужик благословляет судьбу,
мужик торжествует при появлении зимы — зна
чит, любит зиму, значит, ему тепло зимой и
хлеба у него вдоволь, а так как русская зима про
должается по крайней мере полгода, то. значит,
мужик проводит в торжестве и благодушестве по
крайней мере половину своей жизни. Сын дворо
вого человека тоже ликует и забавляется; значит,
его никто не бьет, его хорошо кормят, тепло оде
вают и не превращают с малых лет в казачка,
обязанного торчать на конике в лакейской и еже
минутно бегать то за носовым платком, то за ста
каном воды, то за трубкой, то за табакеркой.
Светло-розовый колорит немного помрачается тем
неожиданным известием, что Ларина била служа
нок"; но, во-первых, она их била только «осер
дясь», а сердилась она, вероятно, очень редко и
только за дело, потому что, если бы она была_
способна сердиться часто и неосновательно, то,
разумеется, проницательный Онегин, приятель и
любимец автора энциклопедии, и не сказал бы
о Лариной, что она «очень милая старушка».
Во-вторых, служанок и нельзя было не бить, по
тому что они, щ к мы узнаем из той же энцикло
педии, были очень большие мерзавки; они были
способны похищать барские ягоды, и барыня,
Для ограждения священной собственности и для
предохранения мерзких служанок от гнусного пре
ступления, была принуждена утруждать свою бар
. скую голову и придумывать то замысловатое
ЗС*
467
средство, которое называется в энциклопедии з ат е е й с е л ь с к о й о с т р о т ы и которое при
учало служанок предпочитать высокие эстетиче
ские наслаждения, — как-то пение, — низким ма-'
териальным предметам, именно ягодам. В-третьих
служанок били небольно, потому что ни самы#'
побои, ни воспоминания об оных не мешали ю3
проводить святки в песнопениях, в которых они
имели случай усовершенствоваться во время лета
при своих нередких столкновениях с низкими ма
териальными предметами, то есть с ягодами.
Итак, основываясь на свидетельстве энциклопе
дии, мы имеем полное право умозаключить, что
крепостное право доставляло весьма много пользы
и удовольствия как помещикам, так и мужикам.
Помещики имели возможность обнаруживать свое
великодушие, мужики имели возможность учиться
у них бескорыстию, служанки развивали в себе
эстетическое чувство и способность нравственного
самообладания, —■ словом, все благоденствовали и
взаимно совершенствовали друг друга.
VIII
Если вы пожелаете узнать, чем занималась обра
зованнейшая часть русского общества в двадца
тых годах, то энциклопедия русской жизни отве
тит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила,
плясала, посещала театры, влюблялась и страдала
то от скуки, то от любви. — И только? — спросите
вы. — И только!—-ответит энциклопедия. — Это
очень весело, подумаете вы, но не совсем правдо
подобно. Неужели в тогдашней России не было
ничего другого? Неужели молодые люди не меч
тали о карьерах и не старались проложить себе
так или иначе дорогу к богатству и к почестям?
Неужели каждый отдельный человек был доволен
своим положением и не шевелил ни одним паль468
цем для того, чтбы улучшить это положение? Не
ужели Онегину приходилось презирать людей
только за то, что они очень громко стучали каблу
ками во время мазурки? И неужели не было в то
гдашнем обществе таких людей, которые не задер.
гивали мыслителей XVIII века траурной тафтой и
которые могли смотреть на Онегина с таким же
презрением, с каким сам Онегин смотрел на Буя
нова, Пустякова и разных других представителей
провинциальной фауны? — На последний вопрос
энциклопедия отвечает совершенно отрицательно.
По крайней •мере мы видим, что Онегин на всех
смотрит сверху вниз и что на него самого не смо
трит таким образом никто. Все остальные вопросы
оставлены совершенно без ответа.
Зато энциклопедия сообщает нам очень подроб
ные сведения о столичных ресторанах, о танцов
щице Истоминой, которая летает по сцене, «как
пух от уст Эола», о том, что варенье подается на
блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том,
что дамы говорили по-русски с грамматическими
ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбо
мах уездных барышень; о том, что шампанское
заменяется иногда в деревнях цимлянским; о том,
что котильон танцуется после мазурки, и так да
лее. Словом, вы найдете описание многих мелких
обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных
только для записного антиквария, вы не извлечете
почти ничего для физиологии или для патологии
тогдашнего общества; вы решительно не узнаете,
какими идеями или иллюзиями жило это обще
ство; вы решительно не узнаете, что давало ему
смысл и направление или что поддерживало в нем
бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы
не увидите; вы увидите только коллекцию ста
ринных костюмов и причесок, старинных прейску
рантов и афиш, старинной мебели и старинных
ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и ве469
село, но ведь этого мало; чтобы нарисовать исто
рическую картину, надо быть не только внима
тельным наблюдателем, но еще, кроме того, заме
чательным мыслителем; надо из окружающей вас
пестроты лиц, мыслей, слов, радостей, огорчений,
глупостей и подлостей выбрать именно то, что со
средоточивает в себе весь смысл данной эпохи,
что накладывает свою печать на всю массу второ
степенных явлений, что втискивает в свои рамки и
видоизменяет своим влиянием все остальные от
расли частной и общественной жизни.
Такую громадную задачу действительно выпол
нил для России двадцатых годов Грибоедов; что
же касается Пушкина, то он даже не подошел
близко к этой задаче; даже не составил себе о ней
приблизительно верного понятия. Начать с того,
что выбор героя в высшей степени неудачен. В та
ком романе, который должен изобразить в дан
ный момент жизнь целого общества, героем дол
жен быть непременно или такой человек, который
сосредоточивает в своей личности смысл и типи
ческие особенности statu quo, или такой, который
носит в себе самое сильное стремление к буду
щему и самое ясное понимание настоящих обще
ственных потребностей. Другими словами: героем
должен быть непременно или рыцарь прошедшего,
или рыцарь будущего, но во всяком случае чело
век деятельный, имеющий в жизни какую-нибудь
цель, толкающийся между людьми, суетящийся
вместе с толпой, развертывающий и напрягающий
так или иначе, в честном или бесчестном деле, все
силы своего ума и своей энергии. Только жизнь
такой активной личности может показать нам
в наглядном примере достоинства и недостатки
общественного механизма и общественной нрав
ственности.
За какими благами гонится большинство, какие
средства ведут к желанному успеху, как относится
470
к различным средствам общественное мнение, из
каких составных элементов слагается это обще
ственное мнение, где кончается рутина и где на
чинается протест, каковы сравнительные силы ру
тинеров и протестантов, как велико между ними
взаимное ожесточение, — все эти и многие другие
вопросы, которые необходимо должны быть по
ставлены и решены в энциклопедии общественной
жизни, могут быть затронуты только тогда, когда
средоточием всей картины будет сделан боец и ра
ботник, а не сонная фигура праздношатающегося
шалопая. Чичикова, Молчалина, Калиновича мож
но сделать героями исторического романа, но
Онегина и Обломова — ни под каким видом. Чи
чиков, Молчалин, Калинович, как люди, чего-то
добивающиеся, связаны с обществом самыми креп
кими узам^ потому что они только в обществе и
посредством общества могут осуществлять свои
желания. Заставляя их итти по тому или по дру
гому пути, заставляя их в одном месте солгать,
в другом - сплутовать, в третьем произнести чув
ствительную речь, в четвертом отвесить низкий
поклон, •— общество обтесывает их по своему об
разцу и подобию, изменяет их характеры, опре
деляет их понятия и понемногу приготовляет из
них типических представителей данного времени,
данного народа и данной среды. Напротив того,
Онегин и Обломов, люди обеспеченные в своем
материальном существовании и не одаренные от
природы ни великими умами, ни сильными стра
стями, могут почти совершенно отделиться от об
щества, подчиниться исключительно требованиям
своего темперамента и таким образом не отразить
в своем характере ни дурных, ни хороших сторон
данного общественного устройства. Эти люди, как
отдельные личности, не представляют решительно
никакого интереса для мыслителя, изучающего
физиологию общества. Они приобретают значение
471
только в том случае, когда они, по многочислен
ности, превращаются в заметный статистический
факт. Если в образованнейшей части какого-ни
будь общества встречаются на каждом шагу сотни
или тысячи Онегиных и Обломовых, то есть лю
дей, игнорирующих существование общества и не
имеющих никакого понятия ни о каких обще
ственных интересах, то, разумеется, такой факт
может навести мыслящего наблюдателя на очень
поучительные размышления. Этот наблюдатель бу
дет иметь полное право подумать, что движение
общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо,
потому что это движение не затягивает в себя и
не увлекает за собою тех людей, которые живут
в данном обществе. Но даже и в этом случае мы
слящему писателю незачем приниматься за специ
альное изучение расплодившихся Онегиных и Об
ломовых. Как бы они ни были многочисленны, они
все-таки составляют пассивный продукт, а не де
ятельную причину общественного застоя. Не от
того в погребе сыро, что в нем живут мокрицы,
а оттого в него набрались мокрицы, что в нем
было сыро. А отчего сыро было — это уже другой
вопрос, при исследовании которого мокрицы
должны быть совершенно отодвинуты в сторону. Не
оттого общественная жизнь движется медленно,
что в обществе много Обломовых и Онегиных,
а, напротив того, Обломовы и Онегины расплоди
лись в обществе по той причине, что обществен
ная жизнь движется •медленно. А почему она дви
жется медленно — это уже другой вопрос, при ис
следовании которого надо иметь в виду не Обло
мовых и Онегиных, а Чичиковых, Молчалиных,
Калииовиче'й, с одной стороны, и Чацких, Руди
ных, Базаровых, с другой стороны.
Таким образом, в произведении мыслящего пи
сателя, задумавшего нарисовать картину данного
общества, фигуры, подобные Онегину, могут быть
472
допущены только как вводные лица, стоящие на
втором плане, как стоят, например, Загорецкий и
Репетилов в комедии Грибоедова. Первые места
по всей справедливости принадлежат Фамусову и
Скалозубу, которые дают читателю ключ к пони
манию целого исторического периода и которые,
своими типическими и резко обозначенными фи
зиономиями, объясняют нам и низкопоклонство
Молчалина, и глупую сентиментальность Софьи, и
бесплодное красноречие
Чацкого.
Грибоедов
в своем анализе русской жизни дошел до той
крайней границы, дальше которой поэт не может
итти, не переставая быть поэтом и не превраща
ясь в ученого исследователя. Пушкин же, напро
тив того, даже и не приступал ни к какому ана
лизу; он с полной искренностью и с очень по
хвальной скромностью говорит в VII главе «Оне
гина»: «пою приятеля младова и множество его
причуд». Действительно, в этом и заключается
вся его задача. Почему он обратил свое внимание
именно на этого «приятеля младова», а не на
кого-нибудь другого, — об этом вы его не спра
шивайте. На то он и поэт, чтобы делать в области
своего творчества все, что ему вздумается, не от
давая в том отчета никому н& свете, ни даже
самому себе. Чем объясняются причуды этого
приятеля — этим он также нисколько не интере
суется.
—
Если бы критика и публика поняли роман Пуш
кина так, как он сам его понимал; если бы они
смотрели на него, как на невинную и бесцельную
штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домику
в Коломне»; если бы они не ставили Пушкина на
пьедестал, на который он не имеет ни малейшего
права, и не навязывали ему насильно великих за
дач, которых он вовсе не умеет й не желает ни
решать, ни даже задавать себе, — тогда я и не по
думал бы возмущать чувствительные сердца рус473
ских эстетиков моими непочтительными статьями
о произведениях нашего, так называемого, вели
кого поэта. Но, к сожалению, публика времен
Пушкина была так неразвита, что принимала хоро
шие стихи и яркие описания за великие события
в своей умственной жизни. Эта публика с одина
ковым усердием переписывала и «Горе от ум а»—
одно из величайших произведений нашей лите
ратуры, и «Бахчисарайский фонтан», в котором
нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких
красок.
Спустя 20 лет за вопрос о Пушкине взялся пре
восходный критик, честный гражданин и замеча
тельный мыслитель, Виссарион Белинский. Ка
жется, такой человек мог решить этот вопрос
удовлетворительно и отвести Пушкину то скром
ное место, которое должно принадлежать ему
в истории нашей умственной жизни. Вышло, од
нако, наоборот. Белинский написал о Пушкине
одиннадцать превосходных статей и рассыпал
в этих статьях множество самых светлых мыслей
о правах и обязанностях человека, об отношениях
между мужчинами и женщинами, о любви, о рев
ности, о частной и об общественной жизни, но
вопрос о Пушкине в конце концов оказался совер
шенно затемненным. Читателям, а быть может и
самому Белинскому, показалось, что именно Пуш
кин породил своими произведениями все эти заме
чательные мысли, которые, однако,- целиком при
надлежали критику и которые,_ по всей вероят
ности, вовсе не понравились бы разбираемому
поэту. Белинский преувеличил значение всех глав
ных произведений Пушкина и каждому из этих
произведений приписал такой серьезный и глубо
кий смысл, которого сам автор никак не мог и не
хотел в них вложить.
Статьи Белинского о Пушкине, сами по себе, как
самостоятельные литературные произведения, бы474
*
ли чрезвычайно полезны для умственного разви
тия нашего общества; но как восхваления старого
кумира, как зазывания в старый храм, в котором
было много пищи для воображения и в котором
не было никакой пищи для ума, эти' самые статьи
могли принести и действительно принесли свою
долю вреда. Белинский любил того Пушкина, ко
торого он сам себе создал; но многие из горячих
последователей Белинского стали любить настоя
щего Пушкина, в его натуральном и необлагоро
женном виде. Они стали превозносить в нем имен
но те слабые стороны, которые Белинский зату
шевывал или перетолковывал по-своему. Вслед
ствие этого имя Пушкина сделалось знаменем не
исправимых романтиков и литературных фили
стеров. Вся критика Аполлона Григорьева и его
последователей была основана на превознесении
той всеобъемлющей любви, которой будто бы
проникнуты насквозь все произведения Пушкина.
Превознося кроткого-и любвеобильного Пушкина,
романтики и филистеры почти совершенно игно
рируют Грибоедова и относятся почти враждебно
к Гоголю. В некоторых журналах не раз выска
зывалось забавное мнение, что Гоголь не знал
великорусской жизни._Если прибавить к этому, что
некоторые малороссийские писатели упрекают Го
голя в незнании малорусского быта, то окажется,
что Гоголь совсем ничего не знал и что он произ
вел полный переворот в русской литературе имен
но своим незнанием.
Восхищаясь своим возлюбленным Пушкиным,
как величайшим представителем филистерского
взгляда на жизнь, наши романтики в то же время
прикрываются великим именем Белинского, как
надежным громоотводом, спасающим их от вся
кого подозрения в филистерских вкусах и тенден
циях. Мы — заодно с Белинским, говорят роман
тики, а вы, нигилисты, или реалисты, вы — просто
475
самолюбивые мальчишки, старающиеся обратить
на себя внимание публики вашими дерзкими отно
шениями к незабвенным авторитетам.
Благоговение романтиков перед Пушкиным до
водит их иногда до самых смешных и нелепых
крайностей. Аполлон Григорьев написал однажды,
в одном из своих писем, изданных Страховым,s
что тремя последними великими поэтами он счи
тает Байрона, Мицкевича и Пушкина. Довольно
забавно уже то обстоятельство, что рядом с Бай
роном поставлены Мицкевич и Пушкин. Это со
вершенно все равно, что поставить Кайданова и
Смарагдова рядом с Шлоссером. Но еще гораздо
забавнее то обстоятельство, что Мицкевич и Пуш
кин попали в число великих поэтов, а Гейне не
попал. Оно и понятно. Не заслуживает он этой
чести, потому что был свистуном и отрицателем.
Понятно также, почему панегиристы Пушкина
молчат о Грибоедове и недолюбливают Гоголя.
И Грибоедов, и Гоголь стоят гораздо ближе к
окружающей нас действительности, чем к мирным
и тихим спальням романтиков и филистеров.
Так как борьба литературных партий сделалась
теперь упорной и непримиримой, так как духом
партии обусловливаются теперь взгляды пишущих
людей на прежних писателей даже в тех органах
нашей печати, которые сами вопиют против духа
партии, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, по
ставлены в необходимость посмотреть повнима
тельнее, с своей точки зрения, на те старые лите
ратурные кумиры и на те почтенные имена, за ко
торые прячутся наши очень свирепые, но очень
трусливые гонители. Мы надеемся доказать наше
му обществу, что старые литературные кумиры
разваливаются от своей ветхости при первом при
косновении серьезной критики. Что же касается
до почтенного имени Белинского, то оно повер
нется против наших литературных врагов. Расхо476
..
дясь с Белинским в оценке отдельных фактов, за
мечая в нем излишнюю доверчивость и слишком
сильную впечатлительность, мы в то же время го
раздо ближе наших противников подходим к его
основным убеждениям:
РА ЗРУШ ЕН И Е ЭСТЕТИ КИ
1
Когда какая-нибудь новая мысль только что на
чинает прокладывать себе дорогу в умы людей,
тогда неизбежная борьба старых и новых понятий
начинается обыкновенно с того, что представи
тели новой мысли подводят итоги всему запасу
убеждений, выработанных прежними деятелями,
превратившихся в общее достояние и господствую
щих над умами образованной массы. Это подведе
ние итогов необходимо для того, чтобы строгий
приговор, долженствующий поразить всю отжив
шую систему понятий, не показался обществу го
лословным и бездоказательным набором смелых
парадоксов. Подводя итоги, представитель новой
идеи принужден становиться на точку зрения своих
противников, хотя он знает очень хорошо, что
эта точка зрения никуда не Годится. Он прину
жден поражать своих противников их собствен
ным оружием, хотя он знает очень хорошо, что
тотчас после своей победы он изломает и бросит
навсегда это старое и заржавленное оружие. Если
бы представитель новой идеи поступил иначе,
если бы он, не обращая внимания на старые неле478
пости, прямо начал проповедывать свою теорию,
то защитники нелепости заговорили бы громко и
смело, что он ничего не знает и не понимает. Этот
говор бщл бы очень неоснователен, но так как
численный перевес был бы на стороне защитников
нелепости, то общество поверило бы неоснова
тельному говору, и успех новой мысли был
бы в
значительной степени ослаблен или
замедлен этим обстоятельством. Значит, на
первых порах надо говорить с филистерами на
филистерском языке и надо подходить к ним
с некоторыми предосторожностями, потому что
филистеры— народ пугливый и всегда готовый
поднять бестолковый и оглушительный гвалт,
очень вредный для общества и для всяких новых
идей. Но когда филистеры поражены и доведены
до молчания, когда новая идея уже пустила ко
рень в обществе и начала развиваться, тогда все
предварительные работы, произведенные для по
срамления филистеров, уходят в тихую область
истории вместе с той старой системой, которую
эти работы подкопали и разрушили. Случается
иногда, что на эти предварительные и неизбежно
эфемерные работы уходит целая жизнь очень заме
чательных деятелей. Книга «Эстетические отноше
ния искусства к действительности», написанная
десять лет J тому назад, совершенно устарела не
потому, что ее автор был в то время неспособен
написать что-нибудь более долговечное, а именно
потому, что автору надо было вначале опровер
гать филистеров доводами, заимствованными из
филистерских арсеналов. Автор видел, что эсте
тика, порожденная умственной неподвижностью
нашего общества, в свою очередь поддерживала
эту неподвижность. Чтобы двинуться с места,
чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы
пробудить в расслабленной литературе сознание
ее высоких и серьезных гражданских обязанно479
стей, надо было совершенно уничтожить эстетику,
надо было отправить ее туда, куда отправлены
алхимия и астрология. Но чтобы действительно
опрокинуть вредную систему старых заблуждений,
надо приниматься за дело осторожно и расчет
ливо. Если сказать обществу прямо: «Бросьте вы
эти глупости; у вас есть дела гораздо поважнее и
поинтереснее», — то общество изумится, испу
гается вашей дерзости, не поверит вам, и примет
ваш разумный совет за гаерскую выходку. П о
этому надо говорить с обществом в том тоне,
к которому оно привыкло. Надо говорить так:
«Вы, господа, уважаете эстетику. Ах, и я тоже
уважаю эстетику. Займемтесь же вместе с вами
эстетическими исследованиями». Привлекши к себе
таким образом сердце доверчивого читателя, лу
кавый последователь новой идеи, конечно, зай
мется своими эстетическими исследованиями так
успешно, что разобьет всю эстетику на ..мелкие ку
сочки, потом все эти мелкие кусочки превратит
поодиночке в мельчайший порошок и, наконец,
развеет этот порошок на все четыре стороны.
«Куда ж ты, озорник, девал мою эстетику, кото
рую ты уважаешь?» — спросит огорченный чита
тель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела
твоя эстетика, — ответит писатель, — и давно пора
тебе забыть о ней, потому что немало у тебя вся
ких других забот». И вздохнет читатель, и поне
воле примется за социальную^ экономию, потому
что эстетика действительно разлетелась на все
четыре стороны благодаря эстетическим исследо
ваниям коварного писателя. Когда читатель будет
таким образом обуздан и посажен за работу, то
гда, разумеется, эстетические исследования, погу
бившие эстетику, потеряют всякий современный
интерес и останутся только любопытным истори
ческим памятником авторского коварства.
11
Автор «Эстетических отношений» уже на
III странице своего введения показывает издали
догадливому читателю тот результат, к которому
он желает притти. «Уважение к действительной
жизни, — говорит он, — недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, ги
потезам— вот характер направления, господ
ствующего ныне в науке. Автору кажется, что не
обходимо привести к этому знаменателю и наши
эстетические убеждения, если еще стоит говорить
об эстетике». Е с л и е щ е с т о и т г о в о р и т ь
о б э с т е т и к е — оговорка очень замечательная!
Всякий немедленно поймет из этой оговорки, что
вопрос об эстетике был уже давно решен в уме
этого писателя, когда он принимался за свою ма
гистерскую диссертацию. Автор давно понимает,
что говорить об эстетике стоит только для того,
чтобы радикально уничтожить ее и навсегда
отрезвить тех людей, которых морочит философ
ствующее и тунеядствующее филистерство. П о
этому автор, разумеется, имел в виду не основа
ние новой, а только истребление старой и вообще
всякой эстетической теории.
.
Эстетика, или наука о прекрасном, имеет ра
зумное право существовать только в том случае,
если п р е к р а с н о е имеет какое-нибудь само
стоятельное значение, независимое от бесконеч
ного разнообразия личных вкусов. Если же пре
красно только то, что нравится нам, и если вслед
ствие этого все разнообразнейшие понятия о кра
соте оказываются одинаково законными, тогда
эстетика рассыпается в прах. У каждого отдель
ного человека образуется своя собственная эсте
тика, и следовательно, общая эстетика, приводя
щая личные вкусы к обязательному единству, ста
новится невозможной, Автор «Эстетических отно31 Д. И. Писарев
481
шений» ведет своих читателей именно к тому вы
воду, хотя и не высказывает его совершенно от
крыто. «Здоровый человек, — говорит автор, —
встречает в действительности очень много» таких
предметов и явлений, смотря на которые не при
ходит ему в голову желать, чтобы 'они были не
так, как есть, или были лучше. Мнение, будто чело
веку непременно нужно «совершенство», — мнение
фантастическое, если под «совершенством» пони
мать такой вид предмета, который бы совмещал
все возможные достоинства и был чужд всех недо~статков, какие от нечего делать может отыскать
в предмете фантазия человека с холодным или
пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня
то, что для меня вполне удовлетворительно в сво
ем роде» (стр. 52). Таким образом «совершенство»
для меня одно, для вас — другое, для Ивана —
третье, для Марьи — четвертое и так далее до бес
конечности, потому что каждая отдельная лич
ность является единственным и верховным судьей
в вопрйсе о Том, что для нее удовлетворительно.
Развивать свой вкус для того, чтобы сделать себя
взыскательным и разборчивым, автор считает'де
лом совершенно излишним. Он называет «здоро
вым» того человека, который удовлетворяется
легко; в прихотливой строгости требований он
видит только вредные последствия праздности, хо
лодности и пресыщенности.
Само собой разумеется, что все эти мнения ав
тора относятся к области прекрасного — к той
области, в которой недовольство действительно
стью не может повести за с^бой ничего, кроме
бесплодного страдания. В самом деле, представьте
себе, что созерцание рафаэлевских картин и древ
них статуй до такой степени воспламенило ваше
воображение, что все живые женщины, с кото
рыми вы встречаетесь, кажутся вам некрасивыми.
Какая же польза получится из. вашего недоволь482
ства для вас самих или для других людей? Рус
ские женщины действительно не так красивы, как
те итальянки, которых видел Рафаэль, или. как те
гречанки, которых знали древние скульпторы; но
как бы ни было велико ваше недовольство, рус
ские женщины от него нисколько не похорошеют,
и вы со всем вашим недовольством все-таки до
скончания века йе придумаете ничего такого, что
могло бы увеличить их красоту. Значит, вы же
сами останетесь в чистом проигрыше, потому что
будете-совершенно бесполезно хмуриться и то
сковать там, где другие будут любоваться, влю
бляться и наслаждаться. Недовольство действи
тельностью, совершенно бесплодное и нелепое,
когда оно обращено на красоту, становится, на
против того, очень полезным и уважительным
чувством, когда оно направлено против житейских
неудобств, устроенных руками и умами людей. Туг
недовольство ведет за собой преобразовательную
деятельность и, следовательно, приносит очень
реальные и осязательные результаты. Всякая эсте
тика, старая или новая, или новейшая, строится
непременно на том основном предположении, что
люди должны усиливать, очищать и совершен
ствовать в себе свое врожденное стремление
к красоте. Кто отвергает это основное пред
положение, тот отвергает не какие-нибудь част
ные ошибки той или другой эстетики, а самый
принцип, самый фундамент всякой эстетики
вообще. Автор «Эстетических отношений» по
ступает именно таким образом. Видя, что здо
ровый человек удовлетворяется .. такими п р ед -.
метами и явлениями, в которых можно заметить
и неправильности очертаний, и недостаточное бо
гатство красок, и разные другие шероховатости,
автор становится безусловно на сторону этого
здорового человека и вовсе не требует, чтобы
этот здоровый человек отвернулся, во имя выс31*
483
шей красоты, от того, что доставляет ему без
вредное и освежительное наслаждение. Этот здо
ровый человек доволен тем, что он видит перед
собой; и прекрасно, больше ничего не нужно; не
зачем мудрить над этим человеком;’ незачем отра
влять ему его естественное и законное наслажде
ние; чем скромнее его требования, тем лучше дл.я
него и для всех, потому что тем больше у него
будет шансов наслаждаться часто, не причиняя ни
кому ни хлопот, ни неприятностей.
Вот процесс мысли, скрытый в тех словах ав
тора, которые я выписал выше; так как, по есте
ственному развитию этих мыслей, каждый здоро
вый человек признается высшим^авторитетом в де
ле эстетики, то, очевидно, эхтетика, как наука, ста
новится такой же нелепостью, какой была бы,
например, наука о любви. Каждый любит по-сво
ему, не справляясь ни с какими---учеными книж
ками. И каждый наслаждается всеми впечатле
ниями жизни также по-своему, также не спра
вляясь ни с какими учеными книжками. Следова
тельно, наука о том, как и чем должно насла
ждаться, превращается в бессмыслицу.•
•
Ill
«Прекрасное, — говорит автор, — есть жизнь;
прекрасно то существо, в котором видим мы
жизнь такую, какова должна быть она по нашим
понятиям; прекрасен тот предмет, который выка
зывает в себе жизнь или напоминает, нам о жиз
ни» (стр. 7).
•
Это определение до такой степени широко, что
в нем совершенно тонет и исчезает то, что назы
вается красотой в обыкновенном разговорном
языке. Это определение показывает ясно, что ав
тор, как мыслящий человек, относится совершенно
равнодушно к прекрасному в узком и общеприня484
4
том смысле этого слова. По этому определению
всякий вполне здоровый и нормально развив
шийся человек прекрасен; все, что не изуродовано
в большей или в меньшей степени, то прекрасно.
Это может показаться парадоксом, а между тем
-это совершенно верно. Когда дело идет, например,
о человеческой физиономии, то, разумеется, во
просы о том, велик или мал рот, толст или тонок
нос, густы или жидки волосы, — словом, все во
просы, касающиеся собственно так называемой
«писаной» красоты, могут быть интересны только
для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей
обоего пола, стоящих на одном уровне развития
с этой прекрасной девицей. С тех пор как солнце
светит и весь мир стоит, ни толстый нос, ни боль
шой рот, ни жидкие или рыжие волосы не поме
шали никому, сделаться полезным и великим чело
веком; кроме того, они даже никому не помеша
ли пользоваться всеми наслаждениями взаимной
любви. Чем дольше человечество живет на свете и
чем умнее оно становится, тем равнодушнее оно
относится к чистой красоте, и тем сильнее оно
дорожит теми атрибутами человеческой личности,
которые сами по себе составляют деятельную силу
и реальное благо. Цветущее здоровье и сильный
ум кладут свою печать на человеческую физионо
мию; жизнь мысли, чувства и страстей оставляет
на ней свои следы; эта печать и эти следы заста
вляют каждого умного человека совершенно за
быть о том, велик ли род, толст ли нос и жидки
ли волосы. Но здоровье и ум существуют не для
того, чтобы класть свою печать на физиономию;
человек живет, мыслит, чувствует и волнуется
также не для того, чтобы приобретать себе то или
другое выражение лица: печать здоровья и ума и
следы пережитых впечатлений ложатся на лицо
без нашего ведома и помимо нашего желания;
здоровье, ум и впечатления жизни имеют для нас
1
485
свое самостоятельное значение, совершенно неза
висимое от того выражения, которое они при
дают нашим физиономиям, и гораздо более важ
ное, чем это выражение. . . Когда мы видим по
лицу человека, что он здоров, умен и много пе
режил нз своем веку, то его лицо нравится нам не
как красивая картинка, а как программа наших
будущих отношений к этому человеку. Мы, судя
по лицу, расположены сблизиться с этим челове
ком, потому что его лицо говорит нам то, чего не
мог бы нам сказать самый безукоризненный гре
ческий профиль. Глядя на это лицо, мы невольно
угадываем, и предчувствуем в его обладателе энер
гического, твердого, верного, умного и полезного
друга. Когда лицо нравится нам таким образом,
как намек на ум, характер и биографию данного
субъекта, тогда, очевидно, эстетика остается ни
при чем. Мы смотрим на лицо человека так, как
при пропуске серебряной или золотой вещи мы
смотрим на пробу. Проба не придает вещи ника
кой красоты; она только ручается за ее ценность.
При том определении прекрасного, которое дает
нам автор, эстетика, к нашему величайшему удо
вольствию, исчезает в физиологии и в гигиене.
Я не буду'следить за борьбой нашего автора
с немецким эстетиком Фишером по вопросу о пре
красном в действительности. Нам нет дела до
этой борьбы, потому что'для нас в настоящую ми
нуту не имеют решительно никакого значения все
глубокомысленные умозрения Фишера и других
немецких идеалистов. Результат борьбы состоит
в том, что, по мнению нашего автора, «прекрасное
в объективной действительности вполне прекрасно
и совершенно удовлетворяет человека». А если это
так, то, разумеется, «искусство рождается вовсе не
от потребности человека восполнить недостатки
прекрасного в действительности». Выражаясь дру
гими словами, цель искусства состоит не в том,
486
'
.
чтобы создать такое чудо красоты, которого нет
и не может быть в природе. В чем лее состоит
цель искусства? Чтобы отвечать на этот вопрос,
автор перебирает все различные отрасли искус
ства, и на эгбм анализе я считаю нелишним оста
новиться, /Потому что вопрос об искусстве по
нимается-' до сих пор совершенно превратно не
только нашими филистерами, но даже и теми
самолюбивыми посредственностями, которые счи
тают себя учениками автора и преемниками
Добролюбова.
IV
-
Автор начинает свой анализ с архитектуры и
с первого же шага ставит господам эстетикам
убийственную дилемму. По его мнению, надо или
выключить архитектуру из- числа искусств, или
причислить к искусствам садоводство, мебельное,
модное, ювелирное, лепное мастерство и вообще
«все отрасли промышленности, все ремесла, имею
щие целью удовлетворять вкусу или эстетическому
чувству». Если какой-нибудь портик или палаццо
есть произведение искусства на том основании, что
он построен красиво и радует глаз правильностью
своих форм, то на таком же точно основании надо
будет назвать произведениями искусства — аллею
с подстриженными деревьями и кресло с резной
или точеной спинкой, и фарфоровый чайник с закорюченной ручкой, и штуку обоев, расписанных
яркими красками, и дамскую шляпку „украшенную
цветами, перьями и блондой, и дамскую прическу,
придуманную и исполненную каким-нибудь зна
менитым artiste encheveux*. Мало того, даже клюк
венный кисель, вылитый в кухонную форму, ока* П е р е в о д : Художник в парикмахерском деле (ср.
у Лескова «тупейный художник»). Рсд.
487
зывается также произведением искусства. В са
мом деле, кисель можно было бы подать на стол
в виде сплошной бесформенной массы, лежащей
на блюде; он был бы точно так же вкусен и удобо
варим; но его подают в виде башни с зубчиками
и фестончиками, и это делается именно потому,
что человек не есть грубый скот: ему мало того,
чтобы отправить кисель в желудок, ему хочется,
кроме того, погрузиться в созерцание зубчиков и
фестончиков и, уничтожая эти фестончики и зуб
чики, умиляться душой над непрочностью земной
красоты. Таким образом кисель, вылитый в форму,
не только удовлетворяет эстетическому чувству
обедающего человека, но даже пробуждает в его
отзывчивой душе высокие размышления, точно
такие же размышления, какие обыкновенно обу
ревают впечатлительного путешественника, созер
цающего какой-нибудь, обвалившийся портик вре
мен Септимия Севера или какой-нибудь опустелый
палаццо венецианского патриция. Значит, ясно, что
архитектура не имеет ни малейшего права обитать
в таких хоромах, в которые, по распоряжению
непоследовательных эстетиков, не допускаются ее
родные сестры и ближайшие родственницы. Фран
цузы давно это поняли, и поэтому парикмахеры
называются у них artistes en cheveux, и наш знаме
нитый мебельный мастер г. Тур, наверное, посмот
рел бы на вас с глубоким презрением, если бы вы
вздумали оспаривать у него право на титул ху
дожника. Так оно действительно и должно быть,
если сущность, цель и оправдание искусства за
ключаются в его стремлении к красоте. Тогда и
старуха, которая белится и румянится перед зер
калом, окажется художником, превращающим
свою собственную особу в художественное про
изведение. Все отрасли промышленности, — го
ворит наш автор, — все ремесла, имеющие целью
удовлетворять вкусу или эстетическому чувству,
488
мы признаем искусствами в такой же степени, как
архитектуру, когда их произведения замышля
ются под преобладающим влиянием стремления
к прекрасному и когда другие цели (которые
всегда имеет архитектура) подчиняются этой
главной цели.
.
’'Совершенно другой вопрос о том, до какой
степени достойны уважения произведения практи
ческой деятельности, задуманные и исполненные
под преобладающим стремлением произвести не
столько что-нибудь действительно нужное или по
лезное, сколько произвести что-нибудь прекрас
ное. Как решить этот вопрос — не входит в сферу
нашего рассуждения, но как решен будет он,
точно так же должен быть решен вопрос и о сте
пени уважения, которого заслуживают созданияархитектуры в значении чистого искусства, а не
практической деятельности. Какими глазами смо
трит мыслитель на кашемировую шаль, стоящую
10 000 франков, на столовые часы, стоящие
10 000 франков, такими же глазами должен смо
треть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 фран
ков. Быть может, он скажет, что все .эти вещи —
произведения не столько искусства, сколько рос
коши, быть может, он скажет, что истинное искус
ство чуждается роскоши, потому что существен
ный характер прекрасного — простота (стр. 85).
Мыслитель будет совершенно прав, если посмо
трит с презрением на шаль, на часы и на киоск,
но он будет совершенно неправ, когда начнет
утверждать, что и с т и н н о е и с к у с с т в о ч у ж
д а е т с я р о с к о ш и . Истинному искусству нет
решительно никакого дела до экономических со
ображений. Истинное искусство есть чужеядное
растение, которое постоянно питается соками
человеческой роскоши. Являясь всегда и везде не
разлучным спутником роскоши, оно никак не мо
жет ее чуждаться. И Микель-Анджело и Рафаэль
. 489
расписывали своими фресками потолки и про
стенки папского дворца, подобно тому, как раз
личные московские художники украшают «буке
тами и амурами» стены тех апартаментов, в ко
торых Лазарь Елизарыч Подхалюзин наслаждается
радостями семейной жизни с своей супругой
Олимпиадой Самсоновной, урожденной Большо
вой. Фрески Рафаэля, по мнению такого чисто
кровного и даровитого эстетика, как: Анри Тэн, не
имеют почти никакого самостоятельного значения.
Они составляют просто дополнение архитектуры.
«В самом деле, — рассуждает Тэн;— отчего же
фрескам и не быть дополнением архитектуры? Не
ошибочно ли рассматривать их отдельно? Чтобы
понимать идеи живописца, надо становиться на
его точку зрения. А Рафаэль, разумеется, смотрел
на всю задачу именно таким образом. П о ж а р
в Б о р г о составляет украшение арки, которую
ему поручено было чем-нибудь наполнить. П а р
н а с и О с в о б о ж д е н и е с в. П е т р а укра
шают простенки над дверью и над окном, и их
место обязывает их принять известную форму.
Эти картины не приставлены к стенам здания; они
сами составляют часть здания; они облекают зда
ние так, как кожа облекает -тело. Если они при
надлежат к архитектуре, то как же им не под
чиняться архитектурным требованиям? . .» «В от,—
объясняет он далее, — арка окна выгибается вели
чественно и просто; линия этой арки благородна
(noble!), и бордюра из лепных украшений со
провождает ее прекрасную округлость, но места
по бокам и наверху остаются пустыми; надо их
наполнить, а для этого годятся только фигуры,
не уступающие архитектуре в полноте и серьезно
сти; лица, предающиеся увлечению страсти, со
ставили бы диссонанс; зд^сь не может быть места
беспорядку'"естественных групп. Надо, чтобы дей
ствующие лица выравнивались сообразно с высо
490
'
той простенка; наверху арки должны стоять ма
ленькие дети или согнувшиеся фигуры, а по бо
кам — большие, вытянутые во весь рост» -*.
А ведь мы, право, не умеем ценить достоинств
нашей отечественной литературы; ведь у нас даже
в эстетической «Эпохе» или в столь же эстетиче
ском «Атенее» были немыслимы словоиз_вержения
о том, что «1а ligne est noble»** и что «les personnages s’etagent selon la hauteur du panneau» ***.
А у французов это — сплошь и рядом, так что
даже самый ревностный реалист начинает кон
фузиться за автора только тогда, когда ему по
какому-нибудь ^странному случаю приводится пе
реводить эти деликатесы на русский язык.
Как бы то ни было, а из слов Тэна все-таки вид
но очень ясно, что истинное искусство с величай
шей готовностью превращало себя в лакея, рос
коши. Художник подчинялся всем требованиям
роскоши так раболепно, что соглашался уродо
вать в угоду им свои картины, соглашался рас
ставлять группы по ранжиру, — словом, весьма
охотно проституировал свою творческую мысль.
Может ли мыслитель сказать после aforo, что
и с т и н н о е и с к у с с т в о ч у ж д а е т с я рос
к о ш и ? Если же мыслитель решится выгнать из
храма и с т и н н о г о и с к у с с т в а Рафаэля Санцио, то спрашивается, кто же останется в этом
храме после изгнания главного жреца? И спра
шивается еще, не превратится ли тогда этот храм
и с т и н н о г о и с к у с с т в а в мастерскую чело
веческой мысли, в которой исследователи, писа
тели и рисовальщики, каждый по-своему, будут
* «L’ltalie et la vie italiennes — «Revue de deux Mondes»,
1865, 1 Janvier («Италия и жизнь итальянцев»). Ред.
* * П е р е в о д : Линия благородна. Ред.
* * * П е р е в о д : Фигуры громоздятся в зависимости от
высоты плоскости. Ред.
.
491
стремиться к одной великой цели — к искоренению
бедности и невежества?
В уме автора «Эстетических отношений» это
превращение
совершилось давным-давно; но
в 1855 году наше общество было еще совершенно
не приготовлено к пониманию таких плодотвор
ных идей; поэтому автору и приходится до поры
до времени оставлять в неприкосновенности ка
кой-то призрак и с т и н н о г о и с к у с с т в а , в су
ществование которого он, человек, осмелившийся
заговорить в эстетическом трактате о 10 000 фран
ков, уже нисколько не верит.
V
Выбрасывая архитектуру из храма и с т и н
н о г о и с к у с с т в а , автор «Эстетических отно
шений» не считает нужным даже упомянуть мимо
ходом о том безбрежном море фраз, которое из,ливают насчет архитектурных памятников разные
туристы и дилетанты, считающие себя любителями
и ценителями изящного во всех его проявлениях.
Автор совершенно прав в своем спокойном пре
зрении к этим фразам; возражать против них
серьезно нет никакой возможности, а смеяться над
ними очень неудобно вчтаком труде, который дол
жен был подвергнуться суду черного ареопага2,
Но fa !K как литературные враги автора могут при
кинуться, будто они принимают его презрительное
молчание за доказательство его неведения или его
неумения опровергнуть фразерство дилетантов, то
я брошу здесь беглый взгляд на несостоятельность
этого фразерства.
Каждому читателю случалось, конечно, не раз
слышать и читать возгласы о том, что архитектура
такого-то века и такого-то народа воплотила
в себе всю жизнь, все миросозерцание, все духов
ны#* стремления этого века и этого народа. Фран492
'
'
цузские историки и туристы особенно бойко и
самоуверенно умеют читать историю й'7:%шсли от
живших народов в каменных сводах, колоннах,
портиках, капителях, фронтонах и разных других
архитектурных украшениях. У этих господ на каж
дом шагу встречаются выражения: «гранитная
поэма», «эпопея из мрамора», эти выражения при
кладываются ими к очень большим зданиям, вроде
Колизея, Ватикана или собора св. Петра; если, бы
они были последовательны, то маленькие строения
с претензиями на элегантность должны были бы
называться на их фигурном языке мадригалами
из кирпича или сонетами из дуба.
Если поверить этим господам на слово, то ока
жется, что им для основательного изучения про
шедшего совсем не нужны письменные документы;
они берутся угадать и рассказать вам всю под
ноготную на основании мраморных поэм и гра
нитных эпопей. Приведите такого господина
в древний греческий храм и предупредите его за
ранее, что это точно греческий храм, ваш госпо
дин сию минуту начнет вам объяснять, что во всем
характере и во всех отдельных подробностях
архитектуры отразилась светлая и гармоническая
полноту греческого духа. И столь усладительно
качнет он вам повествовать о греческом духе, и
такую элегическую грусть он на себя напустит
по тому случаю, что древние греки все померли,
и такую он перед вами развернет картину олим
пийских игр или элевзинских таинств, что
вы совсем растаете и припишете все его красно
речие чудотворному влиянию греческого духа,
замурованного в стены, в колонны и в своды древ
него храма. Приведите этого господина в Алгамбру и скажите ему, что она была построена
в таком-то веке таким-то калифом, — сию минуту
польются увлекательные речи о пылкости араб
ской фантазии. А в готический собор лучше уж
493
совсем не водите вашего словоохотливого тури
ста, тут уж конца не будет чтению гранитных
поэм; в каждом стрельчатом окошке он будет
усматривать выражение средневекового идеализ
ма^ стремившегося оторваться от земли и уле'теть
в пространство эфира. Словом, турист всегда бу
дет угадывать верно по той простой причине,
что он, как человек довольно начитанный, будет
всегда знать заранее, ч т о и м е н н о в данном
случае должно быть угадано. Если мы знаем за
ранее, что такое-то здание было построено тогдато таким-то человеком, для такого-то употребле
ния, то, разумеется, входя в это здание, мы не
вольно вспоминаем о том, как жил этот человек,
что он делал, что он думал. А так как большин
ство людей не умеет анализировать свои собствен
ные впечатления, то этим людям и кажется, что
их воспоминания расшевеливаются в них именно
самой ф о р м о й здания и что,, следовательно,
эта форма находится в необходимой внутренней
связи с жизнью, с деятельностью и с образом
мыслей того человека, о котором приходится
вспоминать.
Несостоятельность этого мнения может быть
доказана совершенно очевидно и осязательно по
средством анализа некоторых других, совершенно
аналогических процессов нашей мысли. Показы
вают вам, например, картину, на которой на
рисовано несколько мужчин и несколько жен
щин; физиономии у них очень молодые, но 'во
лосы— белые, как снег; вы, конечно, тотчас со
ображаете, что они напудрены, и мысль ваша не
медленно переносится в XVIII столетие. Пудра и
XVIII столетие — два представления, неразрывно
связанные между собой в нашем уме; мы знаем,
что мода эта существовала именно тогда, мы
знаем, что она не существовала ни в какое другое
время; мы видели множество картин и портретов,
494
на которых люди XVIII века представлены с на
пудренными головами, и таким образом мы совер
шенно незаметно и нечувствительно привыкли
к той мысли, что пудра действительно характе
ризует собой XVIII столетие. Но кто же в самом
деле решится утверждать, что эта странная мода
находится в необходимой внутренней связи
с жизнью, с деятельностью и с образом мыслей
тогдашних людей? В этой моде есть, конечно, одна
черта, характеризующая собой тогдашнее обще
ство; но эту черту мы находим во многих дру
гих-модах; эта черта заключается в искусствен
ности и вычурности этой моды; эта искусствен
ность и вычурность показывают нам, чтопреобладающим значением пользовалось в тогдашней
Европе сословие совершенно праздное, которое
от нечего делать принимало с восторгом самые
нелепые выдумки парикмахеров и других законо
дателей моды. Но почему искусственность и вы
чурность проявились при Людовике X V в посы
пании головы белым порошком, а при Людовике
X IV — в ношении огромных париков, — этого ни
один мыслитель в мире не объяснит нам общими
причинами, заключавшимися в духе времени и на
рода. Конечно, и пудра и парики имеют свою при
чину, но причину такую мелкую, частную и слу
чайную, которая может быть интересной только
для собирателя исторических анекдотов.
То же самое можно сказать и об архитектур
ных памятниках. То обстоятельство, что в данное
время строилось в данной стране значительное
количество бесполезных и великолепных зданий,
доказывает, конечно, что в данной стране были
в данное время такие люди, которые сосредото
чивали в своих руках огромные капиталы или по
каким-нибудь другим причинам могли распола
гать по своему благоусмотрению громадными мас
сами дешевого человеческого труда. А по этой
'
495
Канве политической и социальной безалаберщины
пылкая фантазия архитекторов и декораторов, по
догреваемая хорошим жалованьем или страхом
наказания, конечно, должна была вышивать са
мые величественные и самые пестрые узоры; но
видеть в-этих узорах проявление народного ми
росозерцания, а не индивидуальной фантазии —
позволительно только тем туристам, которые серь
езно рассуждают о благородстве круглой арки
или о возвышенности стрельчатого окна.
В мартовской книжке «Современника» г. Анто
нович 3 излагает и комментирует по-своему идеи
той книги, которую я разбираю в настоящую ми
нуту. Любопытно заметить, что г-н Антонович не
говорит ни слова о взгляде автора на архитек
туру. Приводя из «Эстетических отношений» очень
большие выписки, г. Антонович не приводит,
однако, того замечательного места, в котором
автор ставит архитектуру рядом с ювелирным ма
стерством и упоминает о 10 000 франков. Это ме
сто, проникнутое весьма грубым и непозволитель
ным реализмом, очевидно, возмутило изящные
чувства г. Антоновича, который в настоящее
время старается потихоньку поворотить «Совре
менник» назад, в тихую область сладких звуков и
приятных очертаний. Сознавая недостаточность
своих собственных сил для произведения такой
реакции, г. Антонович желает прикрываться во
время своего отступления «Эстетическими отно
шениями». Он желает доказать, что мысли автора
«Эстетических отношений» в настоящее время
утрируются « с л и ш к о м р ь я н ы м и , но не
слишком рациональными
последо
в а т е л я м и » . Чтобы образумить этих с л и ш
к о м р ь я н ы х последователей, он хочет затор
мозить их порывы словами самого автора. Он хо
чет, чтобы книга «Эстетические отношения» за
легла навсегда поперек той дороги, по которой
496
'
4
Движется русская мысль; он хочет, чтобы эта
книга образовала собой ту крайнюю границу,
дальше которой не было бы ни проходу, ни про
езду. Связать таким образом мысль общества, ко
торое только что начинает пробуждаться, это, ко
нечно, намерение очень похвальное; но г. Анто
нович этим намерением не удовлетворяется. Ему
хочется непременно, чтобы «Эстетические отно
шения» сами разрушили то дело, которое они по
строили. Чтобы исполнить свое желание, г. Анто
нович берет из этой книги только то, что соот
ветствует изящности его чувств, и оставляет без
внимания все то, что подходит близко к р ь я н о
с т и и н е р а ц и о н а л ь н о с т и таких негод
ных людей, как, например, автор «Нерешенного
вопроса»\ На основании таких соображений
г. Антонович игнорирует сопоставление архитек
туры с ювелирным или с модным мастерством, по
тому что это сопоставление чересчур похоже на
ту параллель, которая была проведена в третьей
части «Нерешенного вопроса» между великим М о
цартом и великим поваром Дюссо, между великим
Рафаэлем и великим маркером Тюрею, между
скульптурою и слоеными пирожками и так далее.
Эти очистительные операции, искажающие смысл
всего сочинения, г. Антонович может произво
дить над «Эстетическими отношениями» совер
шенно безнаказанно, потому что книга — не живой
человек. Г. Антонович, как джентльмен ловкий и
сообразительный, понимает все выгоды своего
положения и эксплоатирует их с величайшей раз
вязностью.
VI
■
Бросив беглый взгляд на скульптуру и на живо
пись, автор «Эстетических отношений» приходит
к тому выводу, что «произведения того и другого
32 Д. И. Писарев
“197
искусства по многим и существеннейшим элемен
там (по красоте очертаний, по абсолютному со
вершенству исполнения, по
выразительности
и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни». Д о
казательства в пользу этого положения автор бе
рет отчасти из 'личных впечатлений, отчасти из
анализа тех необходимых отношений, которые
существуют между идеалом художника и живой
действительностью. «Мы должны сказать, — гово
рит автор, — что в Петербурге нет ни одной ста
туи, которая по красоте очертаний лица не была
бы гораздо ниже бесчисленного множества живых
людей, и что надобно только пройти по какойнибудь многолюдной улице, чтобы встретить не
сколько таких лиц. В этом согласится большая
часть тех, которые привыкли думать самостоя
тельно» (стр. 87).
Так как автор сказал уже в самом начале свое
го рассуждения, что «прекрасное есть жизнь», и
так как красота статуй заключается не в жизни,
то есть не в выражении лица, а в строгой пра
вильности очертаний и в совершенной соразмер
ности частей, то, разумеется, каждое неизуродо
ванное и умное лицо живого человека оказы
вается гораздо красивее всевозможных мрамор
ных или медных лиц. Только в этом случае и мо
гут быть поняты слова автора, потому что иначе
трудно было бы себе представить, каким обра
зом в Петербурге, который, как известно, вовсе
не славится красотой своих обитателей, могут
встречаться на каждой многолюдной улице по не
скольку лиц, более прекрасных, чем лица статуй
Кановы. Мое предположение подтверждается тем
обстоятельством, что автор говорит о «к р а с о т е о ч е р т а н и й » , а не о «п р а в и л ьн о ст и».
Очевидно, что п р а в и л ь н о с т ь не имеет в его
глазах почти никакого значения. Об идеале
скульптора автор говорит, что он «никак не может
498
быть по красоте выше тех живых людей, которых
имел случай видеть художник. Силы творческой
фантазии очень ограничены; она может . только
комбинировать впечатления, полученные из опы
та» (стр. 87).
Против этой очевидной истины могут спорить
только неисправимые идеалисты, способные до
сих пор принимать за чистую монету рассказы
о том, что «художники, как боги, входят в Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видят в вечных
идеалах то, что смертным в долях малых откры
вает божество». Кто не верит в прогулки худож
ников по чертогам Зевса и кто не признает су
ществования врожденных идей, тот, конечно, дол
жен согласиться, что художник, подобно всем
остальным смертным, почерпает из опыта все
свое внутреннее содержание и, следовательно, все
мотивы своих художественных произведений.
Говоря о живописи, автор обращает внимание
на несовершенство
ее технических средств.
«Краски ее, — говорит он, — в сравнении с цветом
тела и лица — грубое, жалкое подражание; вместо
нежного тела она рисует что-то зеленоватое или
красноватое» (стр. 90). «Руки человеческие гру
бы,-— говорит он далее, — и в состоянии удовле
творительно сделать только то, для чего не тре
буется слишком удовлетворительной отделки; «то
порная работа» — вот настоящее имя всех пла
стических искусств, как скоро сравним их с при
родой» (стр. 92). К ландшафтной живописи автор
также относится без малейшего благоговения. Он
сомневается в том, чтобы живопись могла лучше
самой природы сгруппировать пейзаж, и говорит,
что «человек с неиспорченным эстетическим чув
ством наслаждается природой вполне, не находит
недостатков дз ее красоте» (стр. 94).
Говоря о музыке, автор прежде всего отделяет
вокальную музыку от инструментальной. Потом,
32*
49Э
рассматривая вокальную музыку, или пение, он
отделяет естественное пение от искусственного.
Естественным он называет то пение, которое воз
никает у человека само собой, в минуту радости
или грусти, из потребности излить накопившееся
чувство, а вовсе не из стремления к прекрасному.
Это естественное пение автор считает произведе
нием практической жизни, а не произведением
искусства. Искусственное пение, по мнению авто
ра, прекрасно в той мере, в какой оно прибли
жается к естественному. А инструментальная му
зыка в свою очередь прекрасна настолько, на
сколько она приближается к вокальной. «После
того, — говорит автор, — мы имеем право сказать,
что в музыке искусство есть только слабое вос
произведение явлений жизни, независимых от
стремления нашего к искусству» (стр. 101).
В поэзии автор находит тот неизбежный недо
статок, что ее образы всегда оказываются блед
ными и неопределенными, когда мы начинаем их
сравнивать с живыми явлениями. «Образ в поэти
ческом произведении, — говорит автор, — точно
так же относится к действительному, живому об
разу, как слово относится к действительному
предмету, им обозначаемому, — это не более, как
бледный и общий неопределенный намек на дей
ствительность» (стр. 102).
• Кто усомнится в верности этой мысли, тому я
могу предложить следующее доказательство. Из
вестно, что высший род поэзии — драма; извест
но, что лучшие драмы в мире написаны Шекспи
ром; выше шекспировских драм в поэзии нет ни
чего; стало быть, если образы шекспировских
драм окажутся бледными и неопределенными на
меками на действительность, то о всех остальных
поэтических произведениях нечего будет и гово
рить. Но всякий знает, что все драмы, в том числе
и драмы Шекспира, достигают некоторой опре500
деленности, приближающей их к действительно
сти, только тогда, когда они играются на сцене;
всякий знает далее, что играть удовлетворитель
ным образом шекспировские роли могут только
замечательные актеры, значит, необходима целая
новая отрасль искусства для того, чтобы придать
поэтическим образам некоторую определенность;
значит, необходимы ум, талант и образование для
того, чтобы понимать, комментировать б л е д
ные и н е о п р е д е л е н н ы е
намеки
на
д е й с т в и т е л ь н о с т ь . Это понимание и ком
ментирование составляют всю задачу талантливого
актера, и удовлетворительным решением этой за
дачи актер приобретает себе всемирную извест
ность. Стало быть, задача действительно очень
трудна, и н а м е к и действительно б л е д н ы й н е
о п р е д е л е н н ы . Но это еще не все. Всякому
известно, что одна и та же роль играется различ
ными актерами совершенно различно и между тем
одинаково удовлетворительно. Один понимает ха
рактер действующего лица так, другой — иначе,
третий — опять по-своему, и если все они одина
ково талантливы, то самый внимательный и тре
бовательный зритель останется совершенно дово
лен; значит, все понимают верно, и значит, поэти
ческий образ уподобляется неопределенному урав
нению, которое, как известно, допускает множе
ство различных решений. После этого, мне ка
жется, трудно сомневаться в том, что поэзия по
самой сущности своей может давать только блед
ные и неопределенные намеки на действитель
ность.
Перебрав таким образом все искусства, автор
приходит к тому общему заключению, что пре
красное в живой действительности всегда стоит
выше прекрасного в искусстве. Если, следователь
но, искусство не может создавать таких чудес кра
соты, каких не бывает в действительности, то,
501
спрашивается, что же оно должно делать? Оно
должно по мере своих сил воспроизводить дей
ствительность.
Что именно оно должно воспроизводить? Все,
что есть и н т е р е с н о г о для человека в жизни.
Для чего нужно это воспроизведение? На этот по
следний вопрос автор отвечает так: «Потребность,
рождающая искусство, в эстетическом смысле
слова (изящные искусства), есть та же самая, ко
торая очень ясно выказывается в портретной жи
вописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты
живого человека не удовлетворяли нас, а для того,
чтобы помочь нашему воспоминанию о живом че
ловеке, когда его нет перед нашими глазами, и
дать о нем некоторое понятие тем людям, кото
рые не имели случая его видеть. Искусство только
напоминает нам своими воспроизведениями о том.
что интересно для нас в жизни, и старается до
некоторой степени познакомить нас с теми инте
ресными сторонами жизни, которых не имели мы
случая испытать или наблюдать в действительно
сти» (стр. 151).
Если художник должен знакомить нас с и н т е
р е с н ы м и сторонами жизни, то очевидно, он
сам должен быть настолько мыслящим и разви
тым человеком, чтобы уметь отделить интересное
от неинтересного. В противном случае он потра
тит весь свой талант на рисование таких мелочей,
в которых нет никакого живого смысла, и все
мыслящие люди отнесутся к его произведению
с улыбкой сострадания, хотя бы даже мелочи, вы
бранные художником, были воспроизведены пре
восходно. «Содержание, — говорит автор, — до
стойное внимания мыслящего человека, одно толь
ко в состоянии избавить искусство от упрека, буд
то оно —- пустая забава, чем оно и действительно
бывает чрезвычайно часто; художественная фор
ма не спасет от презрения или сострадательной
£02
улыбки произведение искусства, если оно важно
стью своей идеи не в состоянии дать ответа на
вопрос: да стоило ли трудиться над подобными
пустяками? Бесполезное не имеет права на ува
жение. Человек — сам себе цель; но дела челове
ка должны иметь цель в потребностях человека,
а не в самих себе» (стр. 129). Напирая на ту
мысль, что искусство воспроизводит и должно
воспроизводить не только прекрасное, но вообще
интересное, автор с справедливым негодованием
отзывается о том ложном розовом освещении,'
в котором является действительная жизнь у поэ
тов, подчиняющихся предписаниям старой эсте
тики и усердно наполняющих свои произведения
разными п р е к р а с н ы м и картинами, то есть
описаниями природы и сценами любви. «При
вычка изображать любовь, любовь и вечно лю
бовь, — говорит автор, — заставляет поэтов за
бывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо
более интересующие человека; вообще, вся поэ
зия и вся изображаемая в ней жизнь принимают
какой-то сентиментальный розовый колорит; вме
сто серьезного изображения человеческой жизни,
произведения искусства "представляют какой-то
слишком юный (чтобы удержаться от более точ
ных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является
обыкновенно молодым, очень молодым юношей,
которого рассказы интересны только для людей
того же нравственного или физиологического
возраста» (стр. 137).
Весь смысл и' вся тенденция «Эстетических от
ношений» концентрируются в следующих превос
ходных словах автора: «Наука не думает быть
выше действительности; это не стыд для нее.
Искусство также не должно думать быть выше
действительности; это не унизительно для него.
Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять
и объяснить действительность, потом применить
503
к пользе человека свои объяснения; пусть и искус
ство не стыдится признаться, что цель его: для
вознаграждения человека, в. случае отсутствия
полнейшего эстетического наслаждения, доста
вляемого действительностью, — воспроизвести, по
мере сил, эту драгоценную действительность и ко
благу человека объяснить ее. Пусть искусство до
вольствуется своим высоким, прекрасным назначе
нием: в случае отсутствия действительности быть
некоторой заменой ее и быть для человека учеб
ником жизни».
VII
Познакомившись с содержанием «Эстетических
отношений», мы посмотрим теперь, какое напра
вление должна была принять критика, построен
ная на тех теоретических основаниях, которые за
ключает в себе эта книга. «Эстетические отноше
ния» говорят, что искусство ни в коем случае не
может создавать свой собственный мир и что оно
всегда принуждено ограничиваться воспроизведе
нием того мира, которой существует в действи
тельности. Это основное положение обязывает
критика рассматривать каждое художественное
произведение непременно в связи с той жизнью,
среди которой и для которой оно возникло. На
лагая на критика эту обязанность, «Эстетические
отношения» ограждают его от опасности забре
сти в пустыню старинного идеализма. Затем,
«Эстетические отношения» предоставляют критику
полнейшую свободу. Роль критика, проникнутого
мыслями «Эстетических отношений», состоит со
всем не в том, чтобы прикладывать к художе
ственным произведениям различные статьи гото
вого эстетического кодекса. Вместо того чтобы
исправлять должность безличного и беспристраст
ного блюстителя неподвижного закона, критик
504
превращается в живого человека, который вно
сит и обязан вносить в свою деятельность все
свое личное миросозерцание, весь свой индиви
дуальный характер, весь свой образ мыслей, всю
совокупность своих человеческих и гражданских
убеждений, надежд и желаний. « И с к у с с т в о , —
говорит автор, — в о с п р о и з в о д и т в с е , ч т о
есть и н т е р е с н о г о для ч е л о в е к а
в
ж и з н и». Но что именно интересно и что неин
тересно? Этот вопрос не решен в «Эстетических
отношениях», и он ни под каким видом не может
быть решен раз навсегда; каждый критик должен
решать его по-своему и будет решать его так или
иначе, смотря по тому, чего он требует от жизни
и каким образом он понимает характер и потреб
ности своего времени. «С о д е р ж а н и е, — гово
рит автор, — д о с т о й н о е в н и м а н и я м ы с
лящего человека, одно только в со
стоянии избавить искусство отупрека, б у д т о
бы о н о — п у с т а я з а б а в а » .
Что такое м ы с л я щ и й ч е л о в е к ? Что имен
но д о с т о й н о
внимания
мыслящего
ч е л о в е к а ? Эти вопросы опять-таки должны
решаться каждым отдельным критиком. А между
тем от решения этих вопросов зависит в каждом
отдельном случае приговор критика над художе
ственным произведением. Решивши, что содержа
ние н е и н т е р е с н о или, другими словами, и ед о с т о й н о в н и м а н и я м ы с л я щ е г о че
л о в е к а , критик, основываясь на подлинных
словах автора «Эстетических отношений», имеет
полное право посмотреть на данное произведение
искусства с п р е з р е н и е м или с с о с т р а д а т е л ь н о й у л ы б к о й . Положим теперь, что один
критик посмотрит на художественное произведе
ние с презрением, а другой — с восхищением.
Столкнувшись таким образом в своих суждениях,
они затевают между собой спор. Один говорит:
■
50о
содержание неинтересно и недостойно внимания
мыслящего человека. Другой говорит: интересно
и достойно. Само собой разумеется, что спор ме
жду этими двумя критиками с самого начала бу
дет происходить совсем не на эстетической почве.
Они будут спорить между собой о том, что та
кое— мыслящий человек, что должен этот чело
век находить достойным своего внимания,' как
должен он смотреть на природу и на обществен
ную жизнь, как должен он думать и действовать.
В этом споре они принуждены будут развернуть
все свое миросозерцание; им придется заглянуть
и в естествознание, и в историю, и в социальную
науку, и в политику, и в нравственную филосо
фию; но об искусстве между ними не будет ска
зано ни одного слова, потому что смысл всего
спора будет заключаться в с о д е р ж а н и и , а
не в ф о р м е художественного произведения.
Именно потому, что оба критика будут спорить
между собой не о форме, а о содержании, именно
потому, что они таким образом будут оба призна
вать, что содержание важнее формы, — именно
поэтому они оба окажутся адептами того учения,
которое изложено в «Эстетических отношениях».
И ни один из обоих критиков не будет иметь пра
ва упрекать своего противника в отступничестве
от основных истин этого учения: оба они будут
стоять одинаково твердо на почве общей доктри
ны и будут расходиться между собой в тех именно
вопросах, которые эта доктрина сознательно и си
стематически предоставляет в полное распоряже
ние каждой отдельной личности.
Доктрина «Эстетических отношений» именно
тем и замечательна, что, разбивая оковы старых
эстетических теорий, она совсем не заменяет их
новыми оковами. Эта доктрина говорит прямо и
решительно, что право произносить окончатель
ный приговор над художественными произведем
£06
,
ниями принадлежит не эстетику, который может
судить только о форме, а мыслящему человеку,
который судит о содержании, то есть о явлениях
жизни. О том, каков должен быть мыслящий чело
век, «Эстетические отношения», разумеется, не го
ворят и не могут сказать ни одного слова, потому
что этот вопрос совершенно выходит из пределов
той задачи, которую они решают. Стало быть,
расходясь между собой в вопросе о мыслящем
человеке, критики не имеют ни малейшего осно
вания ссылаться на «Эстетические отношения».
Это было бы так же остроумно, как если бы
кто-нибудь в споре о косвенных налогах стал
ссылаться на учебник математической географии.
Математическая география —•наука очень почтен
ная, но в решении социальных вопросов она со
вершенно не компетентна.
Все это я говорю в назидание г. Антоновичу,
который, понявши «Эстетические отношения» из
пятого в десятое, усмотрел в них какую-то энци
клопедию науки и жизни, порешившую на вечные
времена все вопросы прошедшего, настоящего и
будущего. Он старается обуздать «Эстетическими
отношениями» р ь я н ы х , но не р а ц и о н а л ь
н ы х п о с л е д о в а т е л е й , совершенно не по
нимая того, что его разногласие с этими р ь я
ными, но н е р а ц и о н а л ь н ы м и п о с л е
д о в а т е л я м и принадлежит к такой сфере по
нятий, в которой «Эстетические отношения» не
имеют права голоса. Причина разногласия заклю
чается именно в том, что р ь я н ы е , но н е р а
циональные
последователи
решают
вопрос о мыслящем человеке совсем не так, как
силится решить его г. Антонович. Причина разно
гласия таится не в эстетических понятиях, а в
основных взглядах на жизнь общества и на задачу
современного писателя. Хотя это и очень скучно,
однако я принужден сделать из статьи г. Анто
507
новича: «Современная эстетическая теория» не
сколько больших выписок, для того чтобы пока
зать читателям, как плохо понимает и как не
удачно прикладывает он к делу идеи автора, ко
торого он считает своим учителем. «Мы рассмо
трели, таким образом, — говорит г. Антонович, —
первую задачу искусства — воспроизведение пре
красного, существующего в природе и в жизни.
Это воспроизведение делается для наслаждения
человека, для того, чтобы ему удобнее было лю
боваться прекрасным, которое в действительности
может быть для него или вовсе недоступно, или не
всегда доступно и сподручно. Мы с намерением
ударяем на этом значении искусства, потому что
в последнее время некоторые, восставая против
ложных направлений искусства, в горячности и не
рассудительности дошли до того, что стали вос
ставать вообще против искусства и против эсте
тического наслаждения им. Говорят, будто бы че
ловек не должен предаваться никаким удоволь
ствиям, даже эстетическим; будто бы дельный и
рациональный человек никогда не позволит себе
наслаждаться каким-нибудь художественным про
изведением, хотя бы то было произведение выс
шего искусства поэзии; будто бы такое наслажде
ние только расслабляет человека и есть напрасная
трата времени, которое гораздо лучше было бы
употребить на полезные дела, и так далее. Такой
сухой, аскетический взгляд на искусство понятен
и возможен только у людей, которые придумы
вают кодекс человеческих обязанностей не на
основании реальных свойств и потребностей чело
веческой натуры, а на основании произвольных,
фантастических воззрений, выработанных мечта
тельным идеализмом и прилагаемых к человеку.
Кто не держится этих воззрений, тому решительно
не пристало вооружаться против искусства и эсте
тического наслаждения, а потому мы и думаем,
508
что приведенные аскетические воззрения на искус
ство скорее бессознательные и необдуманные вы
ходки, чем сознательные, отчетливые суждения»
(«Современник», март 1865 г., стр. 61). О, г. Анто
нович! О, гениальный г. Антонович! Вы себе даже
и представить не можете, какую пропасть умствен
ной нищеты и нравственной мелкости вы обнару
живаете в этой самодовольной тираде против го
рячности и нерассудительности каких-то н е к о
т о р ы х. Вы говорите откровенно всем вашим
читателям, что вы никогда неспособны возвы
ситься до понимания той нравственной филосо
фии, которую два-три года тому назад поддер
живал «Современник» и которую в настоящее вре
мя должно защищать от вашей жалкой близору
кости одно «Русское слово». Ваша умственная
слабость и ваша нравственная приземистость вы
ражаются особенно ярко в тех рассуждениях, ко
торые вертятся г-округ слова « а с к е т и ч е с к и й».
Вы рассуждаете так: уж не аскеты ли эти н е к о
т о р ы е ? А впрочем, нет, вряд ли они аскеты.
Ну, так, стало быть, они не могут «в о о р у
жаться против искусства и эстети
ч е с к о г о н а с л а ж д е н и я » и, стало быть, все
их разговоры на эту тему не что иное, как б е с
с о з н а т е л ь н ы е и н е о б д у м а н н ы е вы
х о д к и . По-вашему, выходит непременно одно
из двух: или аскетизм, или бессмысленная болтов
ня. Никакого третьего решения вы не видите и
далее не можете себе представить. Так как я сам
принадлежу к числу н е к о т о р ы х, то, снисходя
к вашей слабости и непонятливости, я объясню
вам с достаточною вразумительностью, чем обу
словливаются наши понятия об искусстве и какая
громадная разница существует между этими по
нятиями, с одной стороны, и « с у х и м, а с к е т ич е с к и м в з г л я д о м » — с другой стороны.
509
V III
Аскетом, если не ошибаюсь, Называется такой
человек, который, по той или по другой причине,
борется с своими страстями и переделывает свою
природу по заранее задуманному плану. Из ваших
слов, г. Антонович, видно, что вы понимаете слово
а с к е т в том же самом смысле. Стало быть, аске
том ни в каком случае нельзя назвать такого чело
века, который весь поглощен одною преобладаю
щей страстью и который, нисколько не думая
о борьбе с самим собою, Носвящает удовлетворе
нию этой страсти все свои силы и всю свою
жизнь. Конечно, вы не назовете аскетом горького
пьяницу, который пропивает все свои деньги и
все свое здоровье; конечно, вы не назовете также
аскетом отчаянного игрока, который нарушает
все свои человеческие обязанности, чтобы доста
вить себе сильные ощущения азартной игры, и
точно так же вы не имеете ни малейшего основа
ния назвать аскетом Архимеда или Ньютона, кото
рые, забывая о всех человеческих наслаждениях,
проводили дни и ночи над математическими вы
числениями. Архимед и Ньютон, и все другие ве
ликие ученые исследователи, наверно, никогда не
говорили себе, что они о б я з а н ы посвящать
все свои силы науке и человечеству; если бы они
приневоливали себя, если бы они действовали по
о б я з а н н о с т и , а не по страсти, то они нико
гда не сделались бы великими деятелями; потра
тив большую часть своей энергии на борьбу с ин
стинктами и страстями собственной природы, они
взялись бы за умственную работу слабо и вяло и
повели бы эту работу так, как ведут вообще вся
кую работу люди утомленные. Тайна их величия
заключается именно в том, что они работали по
той же самой причине, по которой пьяница пьет,
а игрок играет. И в Архимеде, и в игроке, и в пья510
нице одна страсть развилась в ущерб всем осталь
ным страстям и положила свою печать на все по
ступки, на весь образ мыслей и на всю жизнь дан
ной личности. Нарушение равновесия, которое
происходит в Архимедах, ставит их выше уровня
обыкновенных людей; а нарушение равновесия,
которое происходит в пьяницах и в игроках, ста
вит их ниже уровня обыкновенных людей; поэтому
читателю может показаться очень странным сопо
ставление Архимеда с игроком и с пьяницею. Но
в этом сопоставлении нет ничего ни странного, ни
обидного для Архимеда. Это сопоставление кло
нится к реабилитации человеческой природы. Оно
доказывает, что человек становится полезным и
великим тогда, когда он, при благоприятных усло
виях, усиливает и развивает в себе высшие стре
мления своей личности, которые, усилившись и
развившись сами собою, без ломки и борьбы,
одерживают победу и упрочивают за собою пе
ревес над низшими и вредными инстинктами на
шей природы. Сопоставление Архимеда с игроком
и с пьяницею доказывает, что величайшие подви
ги полезного труда так же свойственны челове
ческой природе, как свойственны ей самые гряз
ные проявления нравственной распущенности.
Если вы, г. Антонович, понимаете теперь, что нет
надобности быть аскетом для того, чтобы прово
дить дни и ночи над математическими вычисле
ниями, то вы, может быть, ухитритесь также по
нять, что нет надобности быть аскетом для того,
чтобы относиться равнодушно к искусству, как
к источнику эстетического наслаждения. Те н ек о т о р ы е , которых вы упрекаете в горячности
и нерассудительности, просто принадлежат к тому
разряду явлений, к которому я отнес горьких
пьяниц, отчаянных игроков и Архимедов, и к ко
торому никак нельзя отнести аскетов. У этих н ек о т о р ы х , которые действительно очень горячи
■
.
511
и нерассудительны, вся жизнь наполнена стремле
нием к одной цели, все действия, слова и мысли
окрашены одною преобладающей и безотвязной
страстью, перед которою бледнеют и исчезают
всякие посторонние соображения и всякие побоч
ные интересы. Этим н е к о т о р ы м хочется не
пременно возбудить в людях желание серьезно
задуматься над своим настоящим положением.
Для чего им этого хочется и какой им от этого
будет барыш, — этого я решительно не знаю; что
же касается до вас, г. Антонович, то вы, без со
мнения, знаете об этом еще меньше моего. Как
бы то ни было, однако, им этого очень хочется.
Они думают, читают, пишут, принимают на себя
различные хлопоты и неприятности, и все только
для того, чтобы как-нибудь расшевелить умствен
ные способности окружающих людей, направить
их внимание на вопросы действительной жизни и
указать им на те пути, на которых эта жизнь ста
новится легче и лучше. Какие странные субъекты,
какие, можно даже сказать, глупые субъекты! Не
правда ли, г. Антонович? Во-первых, кого расше
велить? А во-вторых, им-то что за дело?! Не
правда ли, г. Антонович? Предаваясь безраздель
но своей глупой страсти, эти глупые н е к о т о
р ы е ищут и находят в ней одной главные источ
ники своих страданий и своих наслаждений, своих
сомнений и своих надежд, своих иллюзий и своих
разочарований. Они чувствуют себя счастливыми,
когда они видят, что сколько-нибудь подвинулись
вперед к своей цели; они злятся и волнуются, ко
гда обстоятельства отбрасывают их назад или за
ставляют топтаться на одном месте. Они не гово
рят себе, что они, как добродетельные граждане,
о б я з а н ы чувствовать себя счастливыми в од
ном случае и страдать разлитием желчи в другом.
Нет, они действительно, без всякой команды, чув
ствуют себя счастливыми, когда их работа подви512
гается вперед; и желчь их разливается также дей
ствительно и также без всякой команды, когда
умственная спячка окружающих людей заявляет
свое существование посредством какого-нибудь
неожиданно громкого взрыва храпений. Вам,
г. Антонович, как и всякому другому р а с с у д и
т е л ь н о м у и н е г о р я ч е м у человеку, мои
слова покажутся, вероятно, неправдоподобными
выдумками, но некоторым из ваших предшествен
ников, хоть бы, например, Добролюбову, эти са
мые слова показались бы такими известным#
истинами, о которых не стоит даже и распростра
няться. Из этого обстоятельства я могу вывести
то заключение, что «Современник» за последние
два-три года сделал очень значительные успехи
в р а с с у д и т е л ь н о с т и и что эти драгоцен
ные качества, особенно при вашем содействии,
могут развернуться в роскошный цветок умерен
ности и аккуратности. Впрочем, если мои пове
ствования о н е к о т о р ы х покажутся вам че
ресчур невероятными, то вы можете обратиться
за справками и пояснениями к кому-нибудь из
оставшихся вокруг вас сотрудников добролюбов
ского «Современника», хоть бы, например, к г-ну
составителю «Внутреннего обозрения» 5, и эти вете
раны наверное объяснят вам, что хотя то явле
ние, которое я описываю, очень неправдоподобно,
однако оно действительно встречается в жизни.
Итак, я буду продолжать, не смущаясь вашим,
весьма естественным недоверием. Как человек
р а с с у д и т е л ь н ы й и н е г о р я ч и й, как че
ловек, имеющий сделаться умеренным и аккурат
ным, как человек, имеющий пойти во всех отно
шениях по следам того достойного писателя, ко
торый говорил о прогрессистах, засиживающих
идеи и испрашивающих благословения у Молешота, — вы, достойнейший г. Антонович, имеете
полное и неоспоримое право называть н е к о т о33 Д. И. Писарев
5 Id
р ы х людьми помешанными или одержимыми.
Но, если вы только не желаете ратовать против
очевидности, вы непременно должны признать су
ществование двух фактов: во-первых, того, что
эти помешанные люди очень последовательны
в своем помешательстве, а во-вторых, того, что
эти люди совершенно искренни в своем помеша
тельстве, то есть что они действительно, без вся
кой искусственной натяжки, любят свою idee fixe
больше всего на свете. Последовательность этих
людей достаточно ограждает их от вашего упрека,
будто бы их слова не что иное,как б е с с о з н а
тельные и необдуманные
выходки.
А искренность этих людей должна убедить вас
в том, что название аскетов может быть прило
жено к этим людям так же справедливо, как, на
пример, к горьким пьяницам, к отчаянным игро
кам или к Архимедам. Но вы все-таки не пове
рите ни мне, ни даже вашим сотрудникам. Вы
сами совершенно неспособны подвергнуться тому
помешательству, о котором я вам рассказываю;
вы неспособны работать по страсти, — и в этом
заключается ваша нравственная мелкость; кроме
того, вы неспособны понимать эту страсть и
в других людях, — и в этом заключается ваша
умственная дряхлость. Нельзя же, размышляете
вы, целый день все учиться; надо же когда-нибудь
и в игрушечки поиграть. И вслед затем вы начи
наете распространяться о том, в какие имение
игрушечки должны играть благовоспитанные де
точки. И этот школьнический взгляд на долг и на
труд вы проводите в том самом журнале, в ко
тором Добролюбов доказывал неутомимо, что для
нормального, здорового и развитого человека
долг и труд совершенно сливаются с личной вы
годою и с личным наслаждением. Ваши рассужде
ния об аскетическом взгляде и о бессознательных
выходках ручаются читающей публике за то, что
514
вы чрезвычайно хорошо поняли идеи ваших учи
телей и чрезвычайно способны сделаться их пре
емником. Есть надежда, что вы в скором времени
заподозрите в аскетизме того ригориста, которого
бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым G. Разви
вайтесь дальше, и вы пойдете очень далеко.. .
IX
На 68-й странице р а с с у д и т е л ь н ы й и н е
г о р я ч и й г. Антонович предается следующим
трогательным размышлениям об искусстве: «Из
всего этого видно, — говорит он, — что эстетиче
ское наслаждение есть нормальная потребность
человеческой природы, удовлетворяемая прекрас
ными предметами; и невозможно придумать ника
кого основания, которое бы могло дать право
воспрещать или даже порицать удовлетворение
этой потребности». Так вы находите, что невоз
можно придумать никакого основания? Не го
разды же вы придумывать. Послушайте же вы
следующее рассуждение и уразумейте из него, что
основание придумать даже совсем нетрудно. Уто
ление голода есть нормальная потребность челове
ческой природы, удовлетворяемая питательными
предметами; и действительно, невозможно приду
мать никакого основания, которое бы могло дать
•право воспрещать или даже порицать удовлетво
рение этой потребности. Однако, хотя никто не
воспрещает и не порицает, эта потребность удо
влетворяется у огромного большинства людей
чрезвычайно плохо, по той простой причине, что
не все могут есть то, что им хочётся, и- что пи
тательных предметов производится не столько,
сколько следовало бы их производить. А произ
водятся питательные предметы в недостаточном
количестве потому, что много, слишком много ра
бочих рук отвлекается на производство тех изящ£ 3*
515
пых предметов, которыми удовлетворяются раз
ные эстетические пожелания, которые вы, критик
«Современника» преемник Добролюбова и ученик
автора «Эстетических отношений*, считаете ва
шею обязанностью принять под свое просвещен
ное покровительство.
Так как вы сами знаете эту азбучную истину и
оставляете ее под спудом именно тогда, когда
вы обязаны были ею воспользоваться, то я на
чинаю догадываться, что ваша голова устроена
по общему филистерскому плану, с крепкими и
прочными перегородками, которые дают вам пол
ную возможность, подобно господину Incognito7,
предаваться эстетическим веселостям, забывая
о существовании этой истины. «Значит, — продол
жаете вы, — искусство, как удовлетворение этой
потребности, полезно, если бы оно даже больше
ничего и не давало человеку, кроме эстетического
наслаждения, если бы оно было просто искус
ством для искусства, без стремления к другим, выс
шим целям». Значит, Добролюбов, сражавшийся
в течение в-сей своей жизни против искусства для
искусства, сражался против полезного явления и,
следовательно, принес русскому обществу очень
много вреда. Это говорит критик «Современника»,
и, что Ьсего любопытнее, он говорит это, прикры
ваясь «Эстетическими отношениями». Знаете ли
вы, г. Антонович, какое существенное различие
сохранилось до сих пор между вами и г. Николаем
Соловьевым? Только то, милостивый государь,
что вы пишете в таком журнале, из которого не
сравненно сильнее г. Николая Соловьева можете,
извращать понятия читающей публики; да еще
то, что ваша литературная неопрятность дружески
пачкает идеи, которые г. Николай Соловьев мог
только осыпать издали своею бессмысленною и
вследствие этого совершенно невинною бранью.
И здесь, г. Антонович, я во второй раз должен
516
отдать вам справедливость, что вы с большим
уменьем, с замечательною тонкостью выбираете
цитаты из «Эстетических отношений». Являясь
панегиристом искусства для искусства, вы весьма
тщательно предали забвению то место, в котором
автор говорит о «содержании, достойном внима
ния мыслящего человека». В этом месте, которое
я выписал в VI главе этой статьи, автор отрицает
наповал искусство для искусства, и вы, находя,
конечно, что автор — «ужасный моветон» *, по
чтительно игнорируете его г о р я ч е е , и н е р а с
с у д и т е л ь н о е мнение о том, что искусство
чрезвычайно часто бывает пустою забавою. Таким
образом, ужасный моветон является у вас в весь
ма облагороженном виде. «Кроме того, — гово
рите вы далее, — эстетическое наслаждение по
лезно и тем, что оно значительно содействует раз
витию человека, уменьшает его грубость, делает
его мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее,
сдерживает его дикие инстинкты, неестественные
порывы,
разгоняет
мрачные,
своекорыстные
мысли, ослабляет преступные намерения и восста
навливает в человеке тихую гармонию, устраняя
диссонансы, производимые всем, что есть дурного
в людях и их отношениях; и это очень понятно,
потому что искусство удовлетворяет естественной,
нормальной потребности, а человек всегда бывает
лучше и добрее, когда его натура удовлетворяется
во всех ее нормальных потребностях». О, г. Анто
нович, вы просто превзошли самого себя. Г-н Дудышкин и г. Incognito, г. Страхов и г. Косица,
г. Аверкиев и г. Николай Соловьев стремятся
в ваши объятия. «Хочу целовать, хочу цело
вать!»— поют они хором, и непременно поцелуют
вас, тем более, что вы, смягченные и разнеженные
* Дурной тон, то есть поведение невоспитанного че
ловека. Ред,
517
искусством, то есть пением, ■ с д е р ж и т е
ваши
н еестественные порывы, р азгоните
ваши м р а ч н ы е м ы с л и ,
о с л а б и т е ваши
преступные
намерения,
восстано
в и т е в себе т и х у ю г а р м о н и ю , у с т р а н и т е
д и с с о н а н с ы , п р о и з в о д и м ы е всем, чт о
е с т ь д у р н о г о в л ю д я х , и следовательно,
не станете отвертываться от филистерских безешек этих людей, в которых, конечно, есть очень
много ингредиентов, весьма способных произво
дить диссонансы. По красоте языка и по яркости
красок ваша реклама в пользу искусства может
найти себе опасного соперника только в объявле
нии парфюмера Л. Леграна о достоинствах т о н и
ч е с к о й в о д ы из х и н и н ы Л е г р а н . Читай
те и сравнивайте. «Составленная из крепительных
веществ, — говорит парфюмер Л. Легран, — эта
вода уничтожает болезни головной кожи, остана
вливает падение волос, даже самое сильное, пре
пятствует седине и, с помощью помады тонинного
бальзама, возобновляет растение волос на голо
вах, уже давно плешивых». Что касается до меня,
то я решительно предпочитаю красноречие пар
фюмера Леграна, потрму что в нем гораздо мень
ше пустословия и гораздо больше конкретности.
Сначала я хотел привести в параллель к вашему
панегирику объявление о «превосходной Revalescifere доктора Du Barry», но потом я за
метил, что это было бы, с моей стороны, невелико
душно, ибо это объявление совершенно подавило
бы вас своими достоинствами. В этом объявлении
сказано, что п р е в о с х о д н а я Revalesciere п р о
и з в е л а до 60 000 в ы з д о р о в л е н и й . Значит,
приведен факт, на котором и построена теория
о великих достоинствах
превосходной
Revalesciere. А вы, мой р а с с у д и т е л ь н ы й
и н е г о р я ч и й мыслитель, — вы какой факт мо
жете привести в подкрепление вашей уморитель518
ной импровизации? Не вздумаете ли вы заглянуть
в историю? Ах, сделайте одолжение, загляните
хоть в историю Нерона, который сам был и музы
кантом, и певцом, и актером, и обожателем Го
мера. Вторая великая эпоха процветания для
искусства наступила в Италии в X V столетии. Ну,
и что же? Вероятно, в тогдашней Италии возвра
тились чистота нравов, поголовная кротость и все
общее братолюбие? Да, похоже на то! Все эти к
многие другие добродетели воплотились, напри
мер, в семействе Борджиа. Это имя, как известно,
в своем роде так же выразительно, как имя Не
рона. Вот что говорит'о всей этой эпохе эстетик
Тэн, который обожает искусство, но обожает про
сто и откровенно, не приписывая ему никаких
чудодейственных качеств ц не желая состязаться
с парфюмером Леграном в сочинении красноречи
вых реклам. «Стоит только прочитать Челлини,
письма Аретино, историков того времени, чтобы
увидеть, до какой степени телесна и опасна была
тогдашняя жизнь, каким образом человек сам
должен был творить себе суд и расправу, каким
образом на него нападали на прогулке и в до
роге, каким образом он был принужден постоянно
иметь под рукою шпагу и аркебузу и никуда не
отлучаться из дому без giacco * и кинжала.
Знатные особы режут друг друга без затруднений
и даже в своих дворцах удерживают грубые
нравы простолюдинов. Папа Юлий, рассердив
шись на Микель-Анджело, однажды отколотил
палкой одного прелата, который старался смяг
чить его гнев». Видите, г. Антонович, как опасно
бывает сдерживать д и к и е и н с т и н к т ы и как
плохо досталось бы представителю искусства, если
бы он взял на себя ту роль, которую вы ему навя
зываете. «Всегда, — продолжает Тэн, — когда гос* Кольчуга.
Ред.
519
подствует какое-нибудь искусство, тогда дух со
временников вмещает в себя его элементы, то есть
идеи и чувства, если преобладают поэзия и му
зыка, или же формы и краски, если царствуют
скульптура и живопись. Везде искусство и дух со
ответствуют друг другу, так что искусство выра
жает дух, и так что дух порождает искусство. Та
ким образом, в тогдашней Италии совершается
возрождение языческих искусств именно потому,
что в ней возрождаются языческие нравы. Цезарь
Борджиа, взявши какой-то город в Неаполитан
ском королевстве, оставил себе сорок самых кра
сивых женщин. Приапеи, которые описывает Бур
кард, камергер папы, чрезвычайно сходны с теми
празднествами, которые во времена Катона разы
грывались на римских театрах. Вместе с чувством
наготы, вместе с упражнением мускулов, вместе
с развитием телесной жизни появляются во вто
рой раз чувство и обожание человеческого обра
за» («L’ltalie et la vie italienne» — «Revue de deux
Mondes», Janvier 1865, p. 197). Вот это, по
крайней мере, смело и откровенно. Эстетик не пря
чется в лицемерную мораль. Он любуется красо
тою, он радуется процветанию искусства и вовсе
не думает скрывать от читателя, что это процве
тание было вызвано грубостью нравов и, в свою
очередь, поддерживало и поощряло эту грубость,
возводя ее в перл создания. А у вас, г. Антонович,
нехватало храбрости сделаться чистокровным
эстетиком, и вы робко и нелрвко пробуете соста
рить какую-то невозможную амальгаму искусства
с утилитарностью и эстетики с примерным благо
нравием. Точь-в-точь г. Incognito и г. Николай
Соловьев! В заключение я вас порадую тем не
ожиданным для вас известием, что вы с г. соста
вителем «Внутреннего обозрения» взаимно истре
бляете друг друга. Вы уличаете в г о р я ч н о
сти
и нерассудительности
каких-то
520
н е к о т о р ы х , и вдруг оказывается, что один из
н е к о т о р ы х горячится и безрассудствует ря
дом с вами, в той самой книжке, в ко
торой вы рекомендуете чистое искусство. Комизм
выходит поразительный. Ваш сотрудник с лишком
на с е м и страницах (164— 171) осмеивает в ы с о
к и е н а с л а ж д е н и я д у ш и . «Только люди
с неразвитым эстетическим вкусом, — говорит он,
например, на стр. 166, — огрубевшие для в ы с о
к и х н а с л а ж д е н и й д у ш и , не понимают
этих возвышенных потребностей и потому грубо
спрашивают: «Куда же деваются деньги», если не
видят их употребленными на покупку плугов и
молотилок, на постройку хлевов, на перевозку на
воза и т. п. Они не знают, что и в тех городах,
где нет оперы, ни даже музыкального общества,
возможны высшие наслаждения души, которым
занятие плугами, молотилками, хлевами и тому
подобною грязью может предпочесть только че
ловек с неразвитым вкусом». Ваш сотрудник гово
рит с ирониею то самое, что вы совершенно
серьезно выдаете нашему обществу за «современ
ную эстетическую теорию». Обратите же внима
ние на вашего сотрудника, наставьте его на путь
истины, уличите его в г о р я ч н о с т и и н е р а с
с у д и т е л ь н о с т и и внушцте ему раз навсегда,
что « н е в о з м о ж н о п р и д у м а т ь н и к а к о г о
о с н о в а н и я , к о т о р о е бы м о г л о д а т ь
п р а в о в о с п р е щ а т ь или д а ж е п о р и
цать
высокие наслаждения
души;
объясните ему, что все, упивающиеся концертами
и итальянскою оперою, поступают превосходно,
потому что они, таким образом, у м е н ь ш а ю т
свою г р у б о с т ь , д е л а ю т себя м я г ч е , в п е
чатлительнее,
вообще
гуманнее,
с д е р ж и в а ю т свои д и к и е и н с т и н к т ы ,
н е е с т е с т в е н н ы е порывы, р а з г о н я ю т
мрачные,
своекорыстные
м ыс л и ,
:V
521
ослабляют преступные намерения и
в о с с т а н а в л и в а ю т в себе т и х у ю г а р м о
н и ю, у с т р а н я я . . , » и так далее, и так далее,
и так далее. Но при этом подумайте, куда вы та
щите «Современник»?
МЫСЛЯЩИЙ ПРО ЛЕТАРИ АТ
I
В нашей умственной жизни резко выделяется от
остальной массы то направление, в котором за
ключается наша действительная сила и на кото
рое со всех сторон сыпятся самые ожесточенные и
самые смешные нападения. Это направление под
держивается очень малочисленною группою лю
дей, на которую, однако, несмотря на ее мало
численность, все молодое смотрит с полным со
чувствием, а все дряхлеющее с самым комическим
недоверием. Эта группа понемногу расширяется,
обогащаясь молодыми деятелями; влияние этой
группы на свежую часть общества уже теперь пе
ревешивает собою все усилия публицистов, уче
ных и других литераторов, подверженных в боль
шей или меньшей степени острым или хрониче
ским страданиям светобоязни; в очень близком
будущем общественное мнение будет совершенно
на стороне этих людей, которых остальные дви
гатели русского прогресса постоянно стараются
очернить разными обвинениями и заклеймить раз
ными ругательными именами. Их обвиняли в не
вежестве, в деспотизме мысли, в глумлении над
523
наукою, в желании взорвать на воздух все рус
ское общество вместе с русскою почвою; их на
зывали свистунами, нигилистами, мальчишками;
для них придумано слово «свистопляска», они при
числены к «литературному казачеству», и им же
приписаны сооружение «бомбы отрицания» и
«калмыцкие набеги на науку». Об них постоянно
болеют душою все медоточивые деятели петер
бургской и московской прессы; их то распекают,
то упрашивают, то подымают насмех, то отре
каются от них, то увещевают; но ко всем этим
изъявлениям участия они остаются глубоко.равно
душны. Худы ли, хороши ли их убеждения, но
они у них есть, и они ими дорожат; когда можно,
они проводят их в общество; когда нельзя — они
молчат; но лавировать и менять флаги они не хо
тят, да и не умеют. Доля их кажется большинству
незавидной, но они не могли бы по натуре своей
переменить ее. Из них вышли люди, которым до
сталась слава геройских страданий, неутомимой,
ненасытной ненависти. Другим встречались лишь
тысячи мелких врагов, и в борьбе с препятствия
ми недостойными, презираемыми проходила их
деятельность, которая видела вдали для себя бо
лее широкое поприще и была достойна его. Это
тяжело, но им много помотает переносить все не
взгоды то обстоятельство, что они уверены в себе
и любят живою, сознательною любовью свои
идеалы. Их не удивляют и тем более не раздра,жают комедии с переодеваниями, разыгрываемые
нашими публицистами; в глубину отечественной
учености они не верят; красотою отечественной
.беллетристики не восхищаются; к одним проявле
ниям нашей умственной жизни они равнодушны;
к другим относятся с самым спокойным, глубоко
сознательным и совершенно беспощадным 'Презре
нием. Да ;и может ли быть иначе, когда в лите
ратуре, как и в обществе, целая пропасть отде524
-
ляет их от официозных и патентованных настав
ников массы? В литературе они стоят совершенно
в стороне от остальной толпы и не чувствуют ни
надобности, ни желания приблизиться к ней или
сойтись с ее искусственными представителями на
чем бы то ни было. В обществе они не боятся
своего нынешнего одиночества. Они знают, что
истина с ними, они знают, что им следует покой
ною и твердою поступью итти вперед по избран
ному пути и что рано или поздно за ними пойдут
все. Эти люди —- фанатики, но их фанатизирует
трезвая мысль, и их увлекает в неизвестную даль
будущего очень определенное и земное стремле
ние— доставить всем людям вообще возможно
большую долю простого житейского счастья.
По мнению Молчалиных и Полониев журнали
стики и общества, это очень глупые и дурные
люди, и к наиболее глупым и дурным из этих от
верженных людей давно уже единогласно причис
лен ими автор романа «Что делать?». Но из всего,
написанного им, всего хуже и всего глупее объяв
лен именно этот роман.
Дружный ропот негодования пронесся во всей
нашей журналистике, когда роман этот увидел
свет. Заговорило все, что могло говорить, а на
противоположной стороне господствовало полное
и глубокое молчание. Когда, наконец, через год
молчание это нарушилось, «вольные» критики и
публицисты могли сказать, что полку их прибыло.
Целый год истощалось их остроумие по поводу
алюминиевых колонн, нейтральной комнаты, веч
ных песен Белой Арапии и проч. Наконец, исто
щившись в последнем усилии главы российских
казеннокоштных сатириков, оно смолкло оконча
тельно, как будто роман погребен навеки соеди
ненными усилиями вольных писателей.
И действительно немудрено, что таков был об
щий голос всех критиков от «Развлечения» до
525
«Современника». Никогда еще то направление,
о котором я упомянул вначале, не заявляло себя
на русской почве так решительно и прямо, ни
когда еще не представлялось оно взорам всех не
навидящих и клянущих его так рельефно, так на
глядно и ясно. Поэтому всех, кого кормит и греет
рутина, роман г. Чернышевского приводит в не
описанную ярость. Они видят в нем и глумление
над искусством, и неуважение к публике, и без
нравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже за
родыши всяких преступлений. И, конечно, они
правы: роман глумится,над их эстетикой, разру
шает их нравственность, показывает лживость их
целомудрия,
не скрывает своего презрения
к своим судьям. Но все это не составляет и сотой
доли прегрешений романа; главное в том, что он
мог сделаться знаменем ненавистного им напра
вления, указать ему ближайшие цели и вокруг них
и для них собрать все живое и молодое.
С своей точки зрения наставники наши были
правы; но я слишком уважаю своих читателей и
слишком уважаю самого себя, чтобы доказывать
им, как бесконечно позорно для них это обстоя
тельство и как глубоко уронил их роман «Что
делать?» тою ненавистью и яростью, которые под
нялись против него. Читатели мои, разумеется,
очень хорошо понимают, что в романе этом нет
ничего ужасного. В нем, напротив того, чувствует
ся везде присутствие самой горячей любви к че
ловеку; в нем собраны и подвергнуты анализу
пробивающиеся проблески новых и лучших стре
млений; в нем автор смотрит вдаль с тою созна
тельною полнотою страстной надежды, которой
нет у наших публицистов, романистов и всех про
чих, как они еще там называются, наставников об
щества. Оставаясь верным всем особенностям сво
его критического таланта и проводя в -свой ро
ман все свои .теоретические убеждения, г. Черны526
шевский создал произведение в высшей степени
оригинальное и чрезвычайно замечательное. Д о
стоинства и недостатки этого романа принадле
жат ему одному: на остальные русские романы он
похож только внешнею своею формою: он похож
на них тем, что сюжет его очень прост и что в нем
мало действующих лиц. На этом и оканчивается
всякое сходство. Роман «Что делать?» не при
надлежит к числу сырых продуктов нашей ум
ственной жизни. Он создан работою сильного
ума; на нем лежит печать глубокой мысли. Умея
вглядываться в явления жизни, автор умеет обоб
щать и осмысливать их. Его неотразимая логика
прямым путем ведет его от отдельных явлений
к высшим теоретическим комбинациям, которые
приводят в отчаяние жалких рутинеров, не имею
щих другого возражения, кроме бессмысленного
слова « у т о п и я».
1
.
Все симпатии автора лежат безусловно на сто
роне будущего; симпатии эти отдаются безраз
дельно тем задаткам будущего, которые замеча
ются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до
сих пор под грудою общественных обломков про
шедшего, а к прошедшему автор, конечно, отно
сится совершенно отрицательно. Как мыслитель,
он понимает и, следовательно, прощает все его
уклонения от разумности, но, как деятель, как за
щитник идеи, Стремящейся войти в жизнь, он бо
рется со всяким безобразием и преследует ирониею и сарказмом все, что бременит землю и коп
тит небо.
п
В начале пятидесятых годов живет в Петербурге
мелкий чиновник Розальский. Жена этого чинов
ника, Марья Алексеевна, хочет выдать свою дочь,
Веру Павловну, за богатого и глупого жениха,
527
а Вера Павловна, напротив того, тайком от ро
дителей выходит замуж за медицинского студента
Лопухова, который, чтобы жениться, оставляет
академию за несколько недель до окончания кур
са. Живут Лопуховы четыре года мирно и счаст
ливо, но Вера Павловна влюбляется в друга своего
мужа, медика Кирсанова, который также чувствует
к ней сильную любовь. Чтобы не мешать их
счастью, Лопухов официально застреливается, а на
самом деле уезжает из России и проводит не
сколько лет в Америке. Потом он возвращается
в Петербург под именем американского гражда
нина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хоро
шей молодой девушке и сходится самым друже
ским образом с Кирсановым и его женою, Верою
Павловною, которые, конечно, давно знали настоя
щее назначение его самоубийства. Вот весь сюжет
романа «Что делать?» и ничего не было бы в нем
особенного, если бы не действовали в нем новые
люди, те самые люди, которые кажутся проница
тельному читателю очень страшными, очень гнус
ными и очень безнравственными. «Проницатель
ный читатель», над которым очень часто и очень
сурово потешается г. Чернышевский, не имеет ни
чего общего с тем простым и бесхитростным чи
тателем, которого любит и уважает каждый пишу
щий человек. Простой читатель берет книгу в руки
для того, чтобы приятно провести время, или для
. того, чтобы чему-нибудь научиться, а проница
тельный — для того, чтобы покуражиться над ав
тором и произвести его идеям инспекторский
смотр. Простой читатель, встретивший новую
мысль, может не согласиться с нею, но может и
согласиться. Проницательный читатель всякую
новую идею считает за дерзость, потому что эта
идея не принадлежит ему и не входит в тот за
мкнутый круг воззрений, который, по его мнению,
составляет единственное вместилище всякой исти528
ны. У простого читателя есть предрассудки самого
скромного свойства, вроде того, например, что
понедельник — тяжелый день или что не следует
тринадцати человекам садиться за стол. Эти пред
рассудки происходят от умственного неряшества;
они не могут считаться неизлечимыми и большею
частью не мешают простому читателю выслуши
вать без злобы мнения умных и развитых людей.
Предрассудки проницательного читателя отлича
ются, напротив того, книжным характером и
теоретическим направлением. Он все знает, все
предугадывает, обо всем судит готовыми афориз
мами и всех остальных людей считает глупее
себя. Мысль его протоптала себе известные
дорожки и только по этим дорожкам и дви
гается. Паншин (в «Дворянском гнезде») и Курнатовский (в «Накануне») могут считаться пре
восходными представителями этого типа. В. жиз
ни действительной проницательные читатели
всего чаще попадаются между теми людьми, для
которых умственный труд составляет профессию.
Всякая посредственность, пошедшая по этому
пути, неминуемо превращается в проницательного
читателя. Весь запас мыслей, сидевших в голове
посредственности, очень быстро вытряхивается на
ружу, и тогда приходится повторяться, фразер
ствовать, переливать из пустого в порожнее, глу
петь от этого приятного занятия и вследствие
всего этого проникаться глубочайшею ненавистью
ко всему, что размышляет самостоятельно. Боль
шинство профессоров и журналистов всех наций
принадлежат к скучнейшему разряду проницатель
ных читателей. Все эти господа могли бы быть
очень милыми, простыми и неглупыми людьми, но
их изуродовало ремесло, точно так же, как ре
месло уродует портных, сапожников, гранильщи
ков. Они натерли себе на мозгу мозоли, и мо
золи эти дают себя знать во всех суждениях и по34 Д. и. Писарев
529
ступках проницательных читателей. Проницатель
ный читатель скрежещет зубами, когда говорят
о новых людях, а простому читателю скрежетать
по этому случаю нет никакой надобности. Про
стой читатель улыбается добродушною улыбкой и
говорит преспокойно: «Ну, посмотрим, посмотрим,
какие это новые люди?» А вот и посмотри.
Над существованием новых людей прежде всех
задумался в нашей беллетристике Тургенев. Инса
ров был неудачною попыткою в этом направле
нии; Базаров явился очень ярким представителем
нового типа; но у Тургенева, очевидно, нехватило
материалов для того, чтобы полнее обрисовать
своего героя с разных сторон. Кроме того, Турге
нев, по своим летам и по некоторым свойствам
своего личного характера, не мог вполне сочув
ствовать новому типу; в его последний роман
вкрались фальшивые ноты, которые вызвали со
стороны «Современника» строгую и несправедли
вую рецензию г. Антоновича. Эта рецензия была
ошибкою, и лучшим ее опровержением является
ро^ан г. Чернышевского, в котором все новые
люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все
они обрисованы гораздо отчетливее и объяснены
гораздо подробнее, чем обрисован и объяснен ге
рой последнего тургеневского романа. Тургенев —
чужой в отношении к людям нового типа; он мог
наблюдать их только издали и отмечать только
те стороны, которые обнаруживают эти люди,
приходя в столкновение с людьми совершенно
другого закала. Базаров является один в таком
кругу, который вовсе не соответствует его ум
ственным потребностям; Базарову некого любить
и уважать, и потому всякому читателю, а «прони
цательному» в особенности, может показаться, что
Базаров неспособен любить и уважать. Это по
следнее мнение составляет совершенную неле
пость; нет того человека, у которого не было бы
530
способности и потребности любить и уважать по
добных себе людей: ничто не дает нам права ду
мать, чтобы Тургенев захотел взвести на своего
героя такую пустую небылицу; он просто не знал,
как держат себя Базаровы с другими Базаровыми;
не знал, как проявляются у таких людей чувства
серьезной любви и сознательного уважения; он
чувствует небывалость этого типа и недоумевает
перед ним, да так и останавливается на этом не
доумении, все-таки потому, что нехватает мате
риалов. Если бы г. Чернышевскому пришлось
изображать новых людей, поставленных в поло
жение Базарова, то есть окруженных всяким
старьем и тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов,
Рахметов стали бы держать себя почти совершен
но так, как держит себя Базаров. Но г. Черны
шевскому нет никакой надобности поступать та
ким образом. Он знает не только то, как думают
и рассуждают новые люди (это знает и Тургенев
по журнальным статьям, писанным новыми людь
ми), но и то, как они чувствуют, как любят и ува
жают друг друга, как устраивают свою семейную
и вседневную жизнь и как горячо стремятся
к тому времени и к тому порядку вещей, при
которых можно .было бы любить всех людей и
доверчиво протягивать руку каждому. После
этого нетрудно понять, почему Тургенев прину
жден был в своем Базарове остановиться на одной
суровой стороне отрицания и почему, напротив
того, под рукою г. Чернышевского новый тип
вырос и выяснился до той определенности и кра
соты, до которой он возвышается в великолепных
фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова.
Новые люди считают труд абсолютно необхо
димым условием человеческой жизни, и этот
взгляд на труд составляет чуть ли не самое су
щественное различие между старыми и новыми
людьми. 'Повидимому, тут нет ничего особенного.
34*
531
Кто же отказывает труду в уважении? Кто же не
признает его важности и необходимости? Лордканцлер Великобритании, сидящий на шерстяном
мешке и получающий за это сидение по нескольку
десятков тысяч фунтов стерлингов в год, твердо
убежден в том, что он берет плату за труд и что
он с полным основанием может сказать фабрично
му работнику: «Му dear *, мы с тобою трудимся
на пользу общества, а труд — святое дело».
И лорд-канцлер это скажет, и граф Дерби это
скажет, потому что он тоже доставляет себе труд
класть в карман поземельную ренту, а между тем,
какие же они новые люди? Они джентльмены
очень старые и очень почтенные. Новые люди от
дают полную справедливость тому и другому ка
честву, но сами никогда не согласятся уважать
труд так, как уважают его лорд-канцлер и граф
Дерби; сами они никогда не согласятся зараба
тывать так много, сидя на шерстяном мешке или
на бархатной скамейке палаты перов. Сами они
не хотят питать издали платоническую нежность
к труду. Для них труд действительно необходим,
более необходим, чем наслаждение; для них труд
и наслаждение сливаются в одно общее понятие,
называющееся удовлетворением потребности орга
низма. Им необходима пища для утоления- голода,
им необходим сон для восстановления сил, и им
точно так же необходим труд для сохранения, под
крепления и развивания этих сил, заключающихся
в мускулах и нервах. Без наслаждения они могут
обходиться очень долго; без труда для них немыс
лима жизнь. Отказаться от труда они могут только
в том случае, когда их разобьет паралич, или
когда их посадят в клетку, или вообще когда они
тем или другим путем потеряют возможность рас
поряжаться своими силами. Размышляя часто и
* Перевод:
5з:
Мой дорогой. Ред.
серьезно о том, что делается кругом, новые люди
с разных сторон и разными путями приходят
к тому капитальному заключению, что все зло,
существующее в человеческих обществах, проис
ходит от двух причин: от бедности и от праздно
сти; а эти две причины берут свое начало из
одного общего источника, который может быть
назван хаотическим состоянием труда. Труд и
вознаграждение находятся теперь между собою
в обратном отношении: чем больше труда, тем
меньше вознаграждения; чем меньше труда, тем
больше вознаграждения. От этого на одном
конце лестницы сидит праздность, а на другом
бедность. И та, и другая порождает свой ряд об
щественных зол. От праздности происходит ум
ственная и физическая дряблость, стремление со
здавать себе искусственные интересы и увлекаться
ими, потребность сильных ощущений, преувели
ченная раздражительность воображения, разврат
от нечего делать, поползновение помыкать другими
людьми, мелкие и крупные столкновения в семей
ной и общественной жизни, бесконечные раздоры
равных с равными, старших с младшими, млад
ших со старшими, словом— весь бесконечный рой
огорчений и страданий, которыми люди угощают
др'уг друга без малейшей надобности и которых
существование может быть объяснено только вы
разительною поговоркою: «с жиру собаки бесятся».
От бедности идут страдания материальные, и ум
ственные, и нравственные, и какие угодно: тут и
голод, и холод, и невежество, из которого хо
чется вырваться, и вынужденный разврат, против
которого возмущается природа самых загрубелых
созданий, и горькое пьянство, которого стыдится
сам пьяница, и вся ватага уголовных преступле
ний, которых нельзя было не совершить преступ
нику. На середине лестницы произведения бедно
сти встречаются с произведениями праздности;
-
«
533
тут меньше дикости, чем внизу, и меньше дрябло
сти, чем вверху, но больше грязи, чем где бы то
ни было; тут приходится ежиться, потому что хо
чется барствовать; приходится жилить пятачок
у кухарки или дворника, потому что надо ехать
на гулянье; держать детей в холодной детской,
потому что надо меблировать гостиную; есть
испорченную говядину, потому что надо сшить
шелковую мантилью. По всей лестнице сверху до
низу господствует ненависть к труду и вечный
антагонизм частных интересов. Немудрено, что
труд производит при таких условиях мало про
дуктов; немудрено и то, что любовь к ближнему
встречается только в назидательных книгах.
Каждый рассуждает так или почти так: если, го
ворит, я прямо потяну с своего ближнего шубу,
то меня за это не похвалят и посадят в полицию;
но если я подведу под шубу кляузы и оттягаю ее
тихим манером, то мне будет двойная выгода: вопервых, не надо будет вырабатывать себе шубу,
во-вторых, всякий будет считать меня за умного
и обходительного человека. Не всем, однако, та
кое положение дел нравится: находятся отдельные
личности, которые говорят праздным людям:
«Вам скучно потому, что вы ничего не делаете;
а есть другие люди, которые страдают, потому
что бедны. Подите разыскивайте этих людей, по
могайте им, облегчайте их страдания, входите
в их нужды, и вам будет не так скучно, и им не
так тяжело жить на свете». Это говорят хорошие
люди, но новые люди этим не удовлетворяются.
«Филантропия, — говорят новые люди, — такая же
прекрасная вещь, как тюрьма и всякие уголовные
и исправительные наказания. В настоящее время
мудрено обойтись без того и другого, но настоя
щее время, подобно всем прошедшим временам,
занимается только вечным заметанием и подчищанием тех гадостей, которые оно само вечно
534
производит на свет. Когда гадость произведена,
ее, конечно, следует замести и подчистить, но не
мешает подумать и о том, как бы на будущее
время прекратить такое невыгодное производство
гадостей. Филантропия сама по себе оскорби
тельна для человеческого достоинства и заклю
чает в себе глубокую несправедливость; она при
нуждает одного человека зависеть в своем суще
ствовании и благосостоянии от произвольного
добродушия другого такого же человека; она со
здает нищего и благотворителя и развращает и
того, и другого. Она не уничтожает ни бедности,
ни праздности; она не увеличивает ни на одну
копейку продукты производительного труда.
В древнем Риме, под видом раздач дарового хле
ба, а в новейших католических государствах
южной Европы под видом раздач даровых пор
ций супа у монастырских ворот эта милая филан
тропия развратила вконец массы здоровой черни.
Не богадельня, а мастерская может и должна об
новить человечество. Здоровый человек, поса
женный на необитаемый остров, может прокор
мить самого себя; силы человека увеличиваются
в сотни и тысячи раз, когда он вступает в про
мышленную ассоциацию с другими людьми. По
этому здоровый человек, живущий в цивилизо
ванном обществе, может и должен собственным
трудом прокормиться и одеться, приобрести себе
образование и воспитать своих детей. Тут соб
ственный труд не может быть заменен никаким
другим ингредиентом. Труду нет простора, труд
плохо оплачивается, труд порабощается, и от
этих причин происходит все существующее зло.
Кто хочет бороться против зла, не для препро
вождения времени, а для того, чтобы когда-ни
будь действительно победить и искоренить его,
тот должен работать над решением вопроса: как
сделать труд производительным для работника и
535
как уничтожить все неприятные и тяжелые сто
роны современного труда? Труд есть единствен
ный источник богатства; богатство, добываемое
трудом, есть единственное лекарство против стра
даний бедности и против пороков праздности.
Стало быть, целесообразная организация труда
может и должна привести за собою счастье чело
вечества. Говорить, что такая организация невоз
можна, значит подражать тем дряблым старикам,
которые считают невозможным все, до чего не
додумались их предшественники и современники.
Складывать руки и вздыхать о несовершенствах
всего земного, когда люди страдают от собствен
ных глупостей, значит возводить эти глупости
в законы природы и обнаруживать леность и ро
бость мысли, недостойные человека свежего, чест
ного и одаренного живым умом. 1
Так или почти так рассуждают о высоких мате*риях новые люди: вглядевшись в эти рассужде
ния, каждый читатель, кроме «проницательного»,
увидит, что в них нет ничего ужасного и что
в них, напротив того, много дельного. Искать об
новления в труде во всяком случае гораздо ра
циональнее, чем видеть альфу и омегу человече
ского благополучия в учреждении палаты депута
тов или палаты перов. Самая лучшая палата мо
жет только сберечь доходы страны, а хорошие
мастерские могут удесятерить этот доход, удеся
теряя, кроме того, сумму физических, умственных
и нравственных сил работников и приготовляя, та
ким образом, с каждым годом большее увеличе
ние богатства, образованности и всеобщего благо
денствия. Неглупо рассуждают новые люди, а все
го лучше то, что не в рассуждениях о высоких
материях проходит их время. Постоянно имея
в виду общую задачу всего человечества, они
между тем уже разрешили ее в приложении
к своей частной жизни. Им труд приятен, и для
536
них он производителен; нет ни одного нового че
ловека, у которого не было бы его любимого
труда, и этот труд для него не забава, а действи
тельно цель и смысл всей жизни. Новый человек
без своего любимого труда так же немыслим, как
немыслим труд без него. Прежние люди заботи
лись о своем положении в обществе и прежде
всего старались составить себе карьеру и состоя
ние, хотя бы пути, ведущие к тому и другому,
внушали им глубочайшее отвращение. Для нового
человека необходимо прежде всего, чтобы труд
был ему по душе и по силам. До тех пор пока
он не найдет такого труда, он ищет его: нашел —
и кончено дело: тогда он влюбляется в него, ра
ботает с увлечением страсти, наслаждается всеми
радостями творчества и чувствует, что он на бе
лом свете не лишний. И нет такого нового чело
века, который не нашел бы себе любимого дела,
потому что вообще нет того здорового человека,
который не был бы на что-нибудь способен.
И когда все работники на земном шаре будут лю
бить свое дело, тогда все будут новыми людьми,
тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни фи
лантропов, — тогда действительно потекут те «мо
лочные реки в кисельных берегах», которыми
«проницательные читатели» так победоносно по
ражают негодных мальчишек. — Это невозможно,
рычит один из проницательных. — Конечно не
возможно, но было время, когда и паровые ма
шины были совершенно невозможны. Что было,
то прошло, а чему быть, тому не миновать,
III
Опираясь
них самих
устраивают
ресы ни в
на свой любимый труд, выгодный для
и полезный для других, новые люди
свою жизнь так, что их личные инте
чем не противоречат действительным
§3?
интересам общества. Это вовсе не трудно устро
ить. Стоит только полюбить полезный труд, и
тогда все, что отвлекает от этого труда, будет
казаться неприятною помехою: чем больше вы
будете предаваться вашему любимому полезному
труду, тем лучше это будет для вас, и тем лучше
это будет для других. Если ваш труд обеспечи
вает вас и доставляет вам высокие наслаждения,
то вам нет надобности обирать других людей ш
прямо, ни косвенно, ни посредством воровства
мошенничества, ни посредством такой эксплоата
ции, которая не признана уголовным преступле
нием. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпа
дают с интересами всех остальных трудящихся
людей, вы сами — работник, и все работники —
ваши естественные друзья, а все эксплоататоры —
ваши естественные враги, потому что они в то же
время враги всему человечеству, в том числе и
себе самим. Если бы все люди трудились, то все
были бы богаты и счастливы; но если бы все
люди эксплоатировали своих ближних, не трудясь
совсем, тогда эксплоататоры поели бы друг друга
в одну неделю, и род человеческий исчез бы с лица
земли. Поэтому, кто любит труд, тот, действуя
в свою пользу, действует в пользу всего чело
вечества; кто любит труд, тот сознательно любит
самого себя, тот в самом себе любил бы всех
остальных людей, если бы только не было на
свете таких господ, которые невольно или умыш
ленно мешают всякому полезному труду. Новые
люди трудятся и желают своему труду простора
и развития; в этом желании, составляющем глу
бочайшую потребность их организма, новые люди
сходятся со всеми миллионами всех трудящихся
людей земного шара, всех, кто сознательно или
бессознательно молит бога и просит ближнего,
чтобы не мешали ему трудиться и пользоваться
плодами труда. Единство интересов порождает со538
чувствие, и новые люди горячо и сознательно со
чувствуют всем действительным потребностям всех
людей. Каждая человеческая страсть есть признак
силы, ищущей себе приложения; смотря по тому,
как эта сила будет приложена к делу, данная
страсть будет называться добродетелью или поро
ком и будет приносить людям пользу или вред,
выгоду или убыток. Силы и страсти, приложенные
к эксплоатации ближнего, должны умеряться ка
кими-нибудь нравственными мотивами, потому что
иначе они подведут человека, путем порока, под
уголовный суд; но силы и страсти, направленные
на производительный труд, могут безвредно расти
и развиваться до каких угодно размеров. Люди,
живущие эксплоатацией, должны остерегаться
исключительного эгоизма, потому что такой эго
изм лишает их всякого человеческого образа и
превращает их в цивилизованных людоедов, ко
торые гораздо отвратительнее людоедов-дикарей.
Но люди новые, живущие трудом и чувствующие
физиологическое отвращение к самой Гуманной и
добродушной эксплоатации, могут без малейшей
опасности быть эгоистами до последней степени.
Эгоизм эксплоататора идет в разрез с интересами
всех остальных людей; обогатить себя — для экс
плоататора значит отнять у другого: эксплоататор принужден любить себя в ущерб всему осталь
ному миру; поэтому, если он добродушен и бого
боязлив, он старается любить себя умеренно, так
чтобы и себе не было обидно и другим не с л и ш
к о м б о л ь н о , но такую умеренность выдер
жать очень трудно, и потому эксплоататор всегда
пускает или слишком много эгоизма, так что на
чинает пожирать других, или слишком мало, так
что сам становится жертвою чужого эгоистиче
ского аппетита. Так как на нашей прекрасной пла
нете господствует повальная эксплоатации и в се
мействе, и в обществе, и в международных отно539
шениях, то у нас принято испускать вопли против
эгоизма, называть эгоистами отъявленных него
дяев, и, наоборот, обвинять в безнравственности
таких людей, которые находятся только не на
своем месте. Новые люди держатся вдали от вся
кой эксплоатации, без малейшего трепета и без
всякого вреда для себя и для других погружаются
в глубочайшую пучину эгоизма и не принимают
на себя ни одного пятна несправедливости, исклю
чительно потому, что умеют найти свое место и
пристраститься к своему делу.
'
Если человек старого закала занимается меди
цинской практикой, то его эгоизм выражается
в том, что он старается сделать в день как можно
больше визитов и приобрести как можно больше
зелененьких и синеньких бумажек; он эксплоатирует своих пациентов, выслушивает их невнима
тельно, прописывает рецепты наудачу, бывает
у таких больных, которые вовсе не больны, и де
лает все это исключительно по привязанности
своей к синеньким и зелененьким. Такой человек,
конечно, должен иногда укрощать свой эгоизм и
от времени до времени читать самому себе до
вольно убедительные нравоучения. Новый человек
занимается медициной не иначе, как по страст
ному влечению; для него дорог каждый час, по
тому что каждый час посвящается любимому изу
чению; для него деньги составляют только сред
ства, которыми он поддерживает свою жизнь,
чтобы иметь возможность отдавать эту жизнь
труду. Перед постелью больного он является мы
слителем, разрешающим научный вопрос. Ему хо
чется не обобрать пациента, а вылечить его, по
тому что вылечить — значит разрешить задачу;
пациенту также хочется, чтобы его не обобрали,
а вылечили; таким образом интересы медика и ин
тересы больного сливаются между собою, и экс
плоатации не существует; доктор нового закала
540
может самым бессовестным образом предаваться
своему эгоистическому влечению, и ему за это
скажут спасибо и пациенты, и их родственники, и
общественное мнение всех сограждан. И этому
доктору незачем пугать себя идеею долга, потому
что между долгом и свободным влечением для
него не существует различия. А все отчего? Все
оттого, что найден любимый труд, оттого, что
человек попал на свое место. Это условие необхо
димо. Без него очень трудно, а может быть, и со
всем невозможно быть честным человеком во
обще.
Мы видим, таким образом, что в жизни новых
людей не существует разногласия между влече
нием и нравственным долгом, между эгоизмом и
человеколюбием; это очень важная особенность;
это такая черта, которая позволяет им быть чело
веколюбивыми и честными по тому непосред
ственно сильному влечению природы, которое за
ставляет каждого человека заботиться о своем
самосохранении и об удовлетворении физических
потребностей своего организма. В их человеко
любии нет вынужденной искусственности; в их
честности нет щепетильной мелочности: их хоро
шие влечения просты и здоровы, сильны и пре
красны, как непосредственные произведения бо
гатой природы; да и сами они, эти новые люди,
не что иное, как первые проявления богатой чело
веческой природы, отмывшей от себя часть той
грязи, которая накопилась на ней во время веко
вых исторических страданий. Если общественное
мнение не признает в этих людях простых, но
честных представителей своей породы, если оно
видит в них что-то особенное, что-то страшное и
зловещее, то это значит только, что это, так на
зываемое, общественное мнение потеряло всякое
понятие о человеческом образе, забыло все его
приметы, пугается при встрече с ним, как с чем-то
511
незнакомым, и принимает за настоящих людей
ту странную породу двуногих, которую Джонатан
Свифт выводит в путешествии Гулливера под име
нем иагу (jahou) и которой глупость и злость
так рельефно противополагаются уму и велико
душию мыслящих и говорящих лошадей. Трудясь
для самих себя, увлекаясь и наслаждаясь про
цессом труда, новые люди трудятся на пользу
человечества, потому что каждый производитель
ный труд полезен для людей. Сначала новые люди
приносят пользу и делают добро бессознательно,
но потом самый процесс приношения пользы и
делания добра кладет начало нравственной связи
между тем, кто приносит и делает, и теми, кому
приносится и для кого делается. Эта связь креп
нет по мере того, как работник нового закала при
носит больше пользы и делает больше добра. Это
уже старая истина, что нам свойственно любить
тех, кому мы сделали или делаем добро, и эта
старая истина на каждом шагу находит себе под
тверждение. Гарибальди любит Италию сильнее,
чем какой-нибудь другой итальянец, и наверное,
теперь старик Гарибальди, износивший свою жизнь
в трудах и в изгнании, раненный при Аспромонте
итальянскою пулею \ любит свою Италию еще
сильнее, чем мог любить ее лет тридцать тому на
зад пламенный юноша Гарибальди: тогда он лю
бил в ней только родину; теперь он, кроме ро
дины, любит в ней все свои подвиги, все свои
страдания, всю блестящую вереницу своих чистых
воспоминаний. Роберт Оуэн, «святой старик», как
называет его Лопухов у г. Чернышевского, всю
свою жизнь трудился для людей, и, конечно, под
старость любовь его к людям была еще шире,
еще теплее и, во всяком случае, гораздо более
обильна сознательным прощением, чем была та же
любовь в первые дни его молодости. Для таких
людей, как Оуэн и Гарибальди, не существует
542
старческой дряхлости; такие люди будут новыми
людьми для всех веков и народов. Но явление, ко
торое. мы замечаем в их жизни, составляет общую
принадлежность всех деятелей или мыслителей, от
давших свои силы любимому и полезному труду.
В этих деятелях и мыслителях растет и крепнет
любовь к людям, по мере того как они втягива
ются в свой труд и проникаются сознанием его
полезности; они становятся постепенно лучше и
чище; они постоянно молодеют, вместо того чтобы
дряхлеть и пошлеть; они процессом своего жи
вого и разумного труда смывают с себя ту грязь,
которою облепили их родители, которою обрыз
гала их школа, которую постоянно брызжет на
них «тьма кромешная» окружающей жизни.
Люди прежнего времени были красивы и свежи
в умственном отношении только тогда, когда были
молоды; прюходило лет десять, и вся эта красота
и свежесть пропадала вместе с румянцем щек;являлась кропотливость и мелочность, копеечная
расчетливость и куриная трусливость; петушок
превращался в каплуна, блестящий студент делал
ся отъявленнейшим филистером и «проницатель
нейшим» читателем. Все это было совершенно
естественно, потому что прежние молодые люди
только ярились и горячились, только красноре
чиво болтали и красиво разнеживались; забава мо
лодости должна была пройти вместе с молодо
стью, потому что она была забавою. Кто в моло
дости не связал себя прочными связями с вели
ким и прекрасным делом, или, по крайней мере,
с простым, -но честным и полезным трудом, тот
может считать свою молодость бесследно потерян
ною, как бы весело ока ни прошла и сколько бы
приятных воспоминаний она ни оставила. Заби
райте с собою чувства молодости, после не поды
мете, говорит Гоголь, и правду он говорит. А как
их заберешь с собою, если не вложишь их целиком
543
в такое дело, на которое до последней минуты тво
ей жизни будет откликаться каждая фибра твоего
существа. Кому удалось это сделать, о том нечего
жалеть, если даже молодость его прошла в суровом
труде, вдали от дорогих и близких людей, без на
слаждений, без объятий любимой женщины. И до
рогие люди, и наслаждения, и любимая женщина,
все это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам
человек для самого себя дороже всего на свете.
Если ценою труда и лишений, ценою потраченной
молодости, ценою потерянной любви он купил себе
право глубоко и сознательно уважать самого себя,
право унести с собою на край света и удержать за
собою во всех испытаниях неизменную молодость
и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что
он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок
жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь,
он лишился двух, трех радостей, но взамен их по
лучил высшее наслаждение, которое служит укра
шением для жизни и поддержкою в минуту аго
нии; он получил право знать себе настоящую цену
и видеть, что цена эта не мала.
Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет
границ; ему они действительно приносят в жертву
всех и все. Любят они себя до страсти, уважают
до благоговения; но так как они даже в отноше
нии к самим себе не могут быть слепыми и снис
ходительными, то им приходится держать ухо
востро, чтобы удерживать за собою во всякую
данную минуту свою любовь и свое уважение. Еще
больше, чем своею любовью и своим уважением,
они дорожат прямыми и откровенными отноше
ниями своего анализирующего и контролирую
щего «я» к тому «я», которое действует и распо
ряжается внешними, условиями жизни. Если бы
одно «я» не могло смотреть смело и решительно
в глаза другому «я», если бы одно «я» вздумало
отвечать увертками и софизмами на запросы дру&44
того «я», а другое «я» в это время осмелилось бы
смотреть сквозь пальцы и удовлетворяться пу
стыми отговорками первого, то вслед за этим по
зорным сумбуром в душе нового человека забу
шевало бы такое отчаяние и родилось бы такое
конвульсивное отвращение к своей опоганенной
особишке, что он наверное наплевал бы себе
в глаза и потом, исказивши себя таким образом,
кинулся бы головою вперед в самый глубокий
омут. Новый человек знает очень хорошо, как он
неумолим и безжалостен к самому себе; новый че
ловек боится самого себя больше, чем кого бы то
ни было; он — сила, и горе ему, если когда-ни
будь его сила обратится против него самого. Если
он сделает такую гадость, которая произведет
в нем внутренний разлад, то он знает, что от этого
разлада не будет другого лекарства, кроме само
убийства или сумасшествия. Мне кажется, что та
кая потребность самоуважения и такая боязнь
собственного суда будет покрепче тех нравствен
ных перил, которые отделяют людей старого за
кала от разных мерзостей, тех перил, через ко
торые разные неделимые обоего пола так сво
бодно и изящно порхают туда и обратно,—
тех перил, за неимением которых новым людям
приходится выслушивать такие утомительные на
ставления со стороны «проницательных читате
лей», владеющих пером или одержимых слабо
стью к назидательному красноречию. Новые люди
всеми преимуществами своего типа обязаны жи
вительному влиянию любимого труда. Благодаря
ему они могут быть полнейшими эгоистами; чем
глубже становится их эгоизм, тем сильнее делается
их любовь к человечеству, тем неизменнее и проч
нее держится в новых людях их молодость и све
жесть, тем шире раскрываются ум и чувство, тем
более они дорожат своим собственным уважением,
тем строже становится их верность самим себе,
35 Д. И. Писарев
545
й, вследствие всего этого, тем ближе подходят онй
к всестороннему развитию своих сил и к безбреж
ной полноте своего счастья.
IV
Люди, живущие экСплоатациею ближних или
присвоением чужого труда, находятся в постоян
ной наступательной войне со всем окружающим
их миром. Для войны необходимо оружие, и та
ким оружием оказываются умственные способно
сти. Ум эксплоататоров почти исключительно
прилагается к тому, чтобы перехитрить соседа или
распутать его интриги. Нанести поражение ближ
нему или отпарировать его ловкий удар — значит
обнаружить силу своего оружия и свое умение
распоряжаться им, или, говоря языком менее воин
ственным и более употребительным, значит выка
зать тонкий ум и обширную житейскую О П Ы Т
Н О С Т Ь . Ум заостряется и закаляется для борьбы,
но всем известно по опыту, что чем лучше оружие
приспособлено к военному делу, тем менее оно
пригодно для мирных занятий. Студенты, при
всем своем остроумии, могли приурочить свои
шпаги только к мешанию в печке, да еще к варе
нию жженки, но и эти две должности оружие
войны и символ чести исполняет довольно плохо.
То же самое можно сказать и об уме, воспитанном
для междуусобных распрей. В нем развиваются
очень сильно некоторые качества, совершенно не
нужные и даже положительно вредные для успеш
ного хода мирного мышления. Мелкая проница
тельность, мелкая подозрительность, умение и
охота всматриваться очень внимательно в такие
крошечные случаи вседневной жизни, которые во
все не заслуживают изучения, уменье и охота мо
рочить себя и других софизмами, сшитыми на
живую нитку, — вот те свойства, которыми обыкно546
венно отличается ум практического человека на
шего времени. Ум этот непременно делается
близоруким, потому что практический человек по
стоянно смотрит себе под ноги, чтобы не попасть
в какую-нибудь западню. Мелких неудач он осте
регается очень тщательно, и ему действительно
часто случается избавляться от них, благодаря
своей мелочной осмотрительности, но зато над
общим направлением своей жизни практический
человек теряет всякий контроль: он бредет по
тихоньку и все смотрит себе под ноги, а потом
вдруг оглядывается кругом, и сам не знает, куда
это его занесло. Обобщать факты он, благодаря
типическим свойствам своего ума, решительно не
умеет; отдавать себе отчет в общем положении
вещей и придавать своим поступкам какой-нибудь
общий смысл он также не в состоянии; события
уносят его с собою, и величайшая мудрость его
состоит в том, чтобы не противиться их течению,
которого он все-таки не понимает. Величайшими
представителями этого типа практических людей
и эксплоататоров можно назвать Меттерниха и
Талейрана: никто не скажет, чтобы у этих господ
не было природного ума, но всякий поймет также,
что этот ум долговременною дрессировкою, на
чавшеюся с колыбели, был заострен и закален
для самого одностороннего употребления, именно
для того, чтобы морочить людей софизмами, не
поддаваясь софизмам противоположного лагеря.
Вся тайна призрачного могущества Меттерниха и
Талейрана заключается в их гибкости и бесцвет
ности, в их полном равнодушии к своим собствен
ным софизмам и в их всегдашней готовности пере
ходить от одного софизма к другому, совершенно
противоположному. Они не имели над событиями
никакой власти и не оказывали на них ни малей
шего влияния, точно так же как флюгер только
указывает на перемену ветра, а не производит ее.
35*
547'
Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому
что в нем нечего было разбивать, — не было ни
какого твердого содержания. Если же Меттерниха
разбила революция 1848 года, то это обстоятель
ство следует приписать исключительно наивности
добрых немцев: они приняли вывеску принципа за
самый принцип; вывеску сняли — они прокричали
«виват» и, конечно, остались в дураках. Ум Мет
терниха, Талейрана и всяких других эксплоататоров, мелких и крупных, отличается крайнею одно
сторонностью; он только на то и годится, чтобы
поражать других людей в сражении, то есть чтобы
водить их за нос. Когда такие господа руковод
ствуются расчетами своего ума, то можно сказать
заранее, что эти расчеты заставят их сделать ка
кую-нибудь гадость, потому что эти расчеты
близоруки, а внушения узкого и близорукого
эгоизма всегда подают повод к самым возмути
тельным несправедливостям.
Люди старого закала знают это очень хорошо,
и потому они говорят, что ум должен управлять
нашими поступками, когда мы сталкиваемся с по
сторонними людьми; когда же мы входим в свое
семейство или вступаем в сношения со своими
друзьями, то должны класть свое боевое оружие
в ножны и действовать по внушению чувства,
чтобы не изранить и не надуть по неосторожности
людей, которых мы действительно и бескорыстно
любим. У людей старого закала голос чувства и
голос рассудка находится в постоянном разладе, и
потому они, во избежание дисгармонии, всегда за
ставляют молчать один из этих голосов, когда го
ворит другой. А из этого выходит, естественно,
следствие, что в своих деловых сношениях они
почти всегда бывают жестоки и несправедливы,
а в своей домашней жизни—шелепы и бестол
ковы. Здоровые люди не должны раздваивать сво
его существа; каждый предмет, обращающий на
54S
себя их внимание, должен рассматриваться с раз
ных сторон; впечатление, которое этот предмет
производит на непосредственное чувство, так же
важно, как то официальное впечатление, которое
он оставляет по себе в нашем анализирующем
уме. Если существует разноголосица между требо
ваниями нашего чувства и суждением нашего ума,
то эту разноголосицу надобно устранить, ум и
чувство надо примирить; но примиряются они не
тем, что мы скажем тому или другому — «мол
чать!»— а тем, что мы тщательно и спокойно сли
чим требование чувства с суждением ума, доищем
ся скрытых причин того и другого, и наконец, пу
тем беспристрастного размышления, дойдем до
такого решения, которым одинаково удовлетво
ряется и ум, и чувство. У людей, живущих при
своением, соглашение между умом и чувством не
возможно; их чувство проявляется беспорядоч
ными вспышками, которые имеют чисто физиоло
гическое основание, а ум их не признает самых
элементарных начал справедливости, потому что
справедливость, то есть общая польза, находится
в вечном разладе с мелкою, житейскою личною
выгодою. Спрашивается: есть ли какая-нибудь воз
можность помирить чувство, вытекающее из
слабонервности и прекращающееся от приема
вишневых капель, с расчетом, основанным на ру
блях и копейках и неспособным видеть за ру
блями и копейками ни законов природы, ни стра
даний живого человека? — Конечно, на это нет
никакой возможности и ни малейшей необходи
мости. По-настоящему, надо было бы уничтожить
и то и другое, то есть и бестолковую чувствитель
ность, и бестолковую скаредность; надо было бы
возвратить изуродованному уму его первобытную
способность к широкому мышлению, обобщаю
щему разрозненные факты и постигающему связь
между причинами и следствиями; надо было бы
549
превратить людей старого закала в людей новых;
но так как подобное превращение совершенно не
возможно, то надо махнуть на них рукою; пускай
их переходят от конторских книг к лавро-вишне
вым каплям, от страстных объятий к биржевой
игре и от благонамеренного надувательства
к добродетельному умилению перед закатом
солнца,
Если я так долго останавливался на их уме и
чувстве, то это дает мне возможность очень ко
ротко охарактеризовать соответствующие особен
ности ума и чувства новых людей: у них ум и
чувство находятся в постоянной гармонии, потому
что их ум не превращен в орудие наступательной
борьбы; их ум не употребляется на то, чтобы на
дувать других людей, и поэтому они сами могут
всегда и во всем доверяться его приговорам; не
привыкши мошенничать с соседями, их ум не мо
шенничает и с самим хозяином. Зато новые люди
действительно питают к уму своему самое безгра
ничное доверие. Это надо понимать не в том
смысле, будто каждый из них считает себя умней
шим человеком на свете. Совсем нет. Каждый из
них думает только, что каждый взрослый человек,
одаренный самыми обыкновенными умственными
способностями, может обсудить свое положение и
свои поступки гораздо лучше и отчетливее, чем
обсудил бы их за него со стороны величайший из
гениальных мыслителей. Как бы ни было красиво
и утешительно какое-нибудь миросозерцание,
сколько бы веков и народов ни считали его за не
преложную истину, какие бы мировые гении ни
преклонялись перед его убедительностью, — самый
скромный из новых людей примет его только
в том случае, когда оно соответствует потребно
стям и складу его личного ума. У каждого нового
человека есть свой внутренний мир, в котором
личный ум господствует с неограниченным само
го
'
властней; в этот мир проникает только то, что
пропускает личный ум, и только то, что по самой
природе своей может признать над собою полное
господство личного ума. Что не покоряется лич
ному уму, о том новый человек говорит очень
скромно: «Этого я не понимаю», а что остается
непонятным, того новый человек не пускает во
внутренний мир и тому он свидетельствует издали
свое глубочайшее почтение, если того требуют
внешние обстоятельства.
Когда ветхому человеку приходится вести с соб
ственным умом откровенные беседы, то при этом
высказываются довольно щекотливые истины:
«Ведь я тебя, приятель, знаю, — говорит ветхий
человек своему уму, — ведь ты подлец, каких
мало. Ведь, если дать тебе волю, ты придумаешь
такую кучу гадостей, что мне самому противно
сделается, хоть я человек не брезгливый. Постой
же, голубчик, я тебя вышколю». И затем начи
нается усовещевание ума и запугивание его по-,
средством разных крайне почтенных понятий, ко
торыми должны сдерживаться слишком художе
ственные его стремления. Для нового человека
так же невозможно производить над своим умом
такие проделки, как невозможно для всякого че
ловека вообще укусить свой собственный локоть.
Во-первых, чем ты его запугаешь? А во-вторых,
зачем запугивать? Нечем и незачем. Новый чело
век верит своему уму и верит только ему одному;
он вводит свой ум во все обстоятельства своей
жизни, во все заветные уголки своего чувства,
потому что нет той вещи и нет того чувства, ко
торое его ум мог бы замарать или опошлить сво
им прикосновением. Когда ветхие люди влюбля
ются, они выдают своему уму бессрочный отпуск
и, благодаря его отсутствию, делают разные глу
пости, которые очень часто превращаются в гадо
сти вовсе не шуточного размера. Девушку или
55$
женщину заставляют сделать решительный шаг,
а к этому времени возвращается из своей отлучки
рассудок — и ветхий человек, испугавшись послед
ствий своей невинной шутки, обращается в рас
четливое бегство и потом оправдывается тем, что
он сам себя не помнил, что был, как сумасшед
ший. Ветхие люди толЬко и делают, что грешат и
каются, и неизвестно, когда они бывают подлее:
когда грешат или когда каются.
Новые люди не грешат и не каются; они всегда
размышляют и потому делают только ошибки
в расчете, а потом исправляют эти ошибки и из
бегают их в последующих выкладках. У новых
людей добро и истина, честность и знание, харак
тер и ум оказываются тождественными понятиями;
чем умнее новый человек, тем он честнее, потому
что тем меньше ошибок вкрадывается в расчеты.
У нового человека нет причин для разлада между
умом и чувством, потому что ум,' направленный
на любимый и полезный труд, всегда советует
только то, что согласно с личною выгодою, совпа
дающею с истинными интересами человечества, и,
следовательно, с требованиями самой строгой
справедливости и самого щекотливого нравствен
ного чувства.
Основные особенности нового типа, о которых
я говорил до сих пор, могут быть сформулиро
ваны в трех главных положениях, находящихся
в самой тесной связи между собою.
I. Новые люди пристрастились к общеполез
ному труду.
И. Личная польза новых людей совпадает с об
щею пользою, и эгоизм их вмещает в себе самую
широкую любовь к человечеству.
III. Ум новых людей находится в самой полной
гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни
чувство их не искажены хроническою враждою
против остальных людей.
5&2
,
А все это вместе может быть выражено еще ко
роче: новыми людьми называются мыслящие ра
ботники, любящие свою работу. Значит, и злиться
на них незачем.
V
Обозначенные мною особенности нового типа
представляют только самые общие контуры, вну
три которых открывается самый широкий простор
всему бесконечному разнообразию индивидуаль
ных стремлений, сил и темпераментов человече
ской природы. Эти контуры тем и хороши, что
они не урезывают ни одной оригинальной черты
и не навязывают человеку ни одного обязатель
ного свойства. В этих контурах уживется и насла
дится полным счастием каждый человек, если
только он не испорчен до мозга костей произ
вольно придуманными аномалиями нашей не
естественной жизни. Но так как эти контуры не
могут дать читателю полного понятия о живых
человеческих личностях, принадлежащих к новому
типу, то я обращаюсь теперь к роману г. Черны
шевского и возьму из него тот эпизод, в котором
сосредоточивается главный его интерес. Я поста
раюсь проследить, как развивается в Вере Па
вловне любовь к другу ее мужа, Кирсанову, и как
ведут себя в этом случае Лопухов, Кирсанов и
Вера Павловна.
Когда Вера Павловна тайком от родителей вы
шла замуж за Лопухова, то и муж и жена силою
обстоятельств были принуждены работать при
стально и усердно. Надо было спасаться от ну
жды; он занимался переводами и уроками, она
также давала уроки; оба трудились добросовестно
и мало-по-малу ввели в свою жизнь комфорт и изя
щество. Когда им перестала угрожать нужда, Вера
Павловна задумалась над устройством такой швей553
ной мастерской, в которой был бы совершенно
устранен элемент эксплоатирования работниц. За
думалась и устроила. Много времени потребова
лось на то, чтобы ознакомить работниц с новым
порядком, много нужно было осторожности и
искусства, чтобы не озадачить их новизною
устройства и не оттолкнуть их от небывалого
предприятия; однако Вере Павловне удалось побе
дить все эти трудности, и года через два после
своего основания мастерская доставляла всем
швеям возможность иметь просторную и здоро
вую общую квартиру, сытный и вкусный стол, не
которые развлечения и частицу свободного вре
мени для умственных занятий. Развитие и оконча
тельное усовершенствование мастерской описаны
г. Чернышевским очень ясно, подробно и с тою
сознательною любовью, которую подобные учре-’
ждения естественным образом внушают ему как
специалисту по части социальной науки.
В практическом отношении это описание мастер
ской, действительно существующей или идеаль
ной— все равно, составляет, может быть, самое
замечательное место во всем романе. Тут уже са
мые лютые ретрограды не сумеют найти ничего
мечтательного и утопического, а между тем этою
стороною своею роман «Что делать?» может про
извести столько деятельного добра, сколько не
производили до сих пор все усилия наших худож
ников и обличителей. Ввести плодотворную идею
в роман и применить ее именно к такому делу, кото
рое доступно силам женщины, — мысль, как
нельзя более счастливая. Если бы эта мысль за
глохла без следа, то пришлось бы изумиться ум
ственной вялости нашего общества — с одной сто
роны, и силе обстоятельств, задерживающих его
развитие — с другой. Но, отдавая должную спра
ведливость этим свойствам нащей жизни, нельзя
$54
•
-
не сказать, однако, что совершенно бесследно
мысль эта могла пройти только разве между кре
тинами. Поэтому не одно честное сердце отозва
лось на нее, не один свежий голос откликнулся на
этот призыв к деятельности, обращенный к нашим
женщинам. В этом отношении г. Чернышевский,
разрушитель эстетики, оказался единственным на
шим беллетристом, художественное произведение
которого имело непосредственное влияние на
наше общество, правда, на небольшую часть его,
но зато на лучшую.
Главнейшие основания в устройстве мастерской
Веры Павловны заключались в том, что прибыль
делилась поровну между всеми работницами и по
том расходовалась самым экономическим и рас
четливым образом; вместо нескольких маленьких
квартир, нанималась одна большая; вместо того
чтобы покупать съестные припасы по мелочам, их
покупали оптом. Для личной жизни Веры Павлов
ны устройство мастерской и прежние труды по
урокам важны в том отношении, что они огра
ждают ее в глазах читателя от подозрения в ум
ственной пустоте. Вера Павловна — женщина но
вого типа; время ее наполнено полезным и увле
кательным трудом; стало быть, если в ней родится
новое чувство, вытесняющее ее привязанность
к Лопухову, то это чувство выражает собою дей
ствительную потребность ее природы, а не слу
чайную прихоть праздного ума и блуждающего
воображения. Возможность этого нового чувства
обусловливается очень тонким различием, суще
ствующим между характерами Лопухова и его
жены. Это различие, разумеется, не производит ме
жду ними взаимного неудовольствия, но мешает
им доставить друг другу полное семейное счастье,
которого оба они имеют право требовать от
жизни.
Гейне в своей книге о Берне различает два глав555
ные типа людей: одни, страстно и упорно сосредо
точивающие свои силы на одной обожаемой идее,
причисляются к иудейскому типу; другие, раски
дывающие свои силы во все стороны и везде оты
скивающие себе наслаждения, составляют тип эл
линский. Гейне замечает, что эти типы находят
себе блестящее воплощение в тех двух народах,
которым они обязаны своими названиями, но что,
несмотря на это, они часто перекрещиваются ме
жду собою, так что коренной иудей оказывается
эллином по характеру, а чистейший эллин — иуде
ем. Гейне самого себя причисляет к эллинскому
типу, а своего строгого критика Берне считает чи
стым представителем типа иудейского. Оба типа
встречаются всего чаще в смягченном и ослаблен
ном виде и очень редко доходят до своего пол
ного развития.
Разбирая характер Лопухова и его жены, я могу
сказать, что он был преимущественно иудей, а она
склонялась к эллинскому типу. Она любит цветы
и картины, любит покушать сливок, понежиться
в теплой и мягкой постели, развлечься оперной
музыкой; у него в кабинете нет ни цветов, ни кар
тин; на стене висят только ее портрет и портрет
«святого старика», Роберта Оуэна; он много рабо
тает, а веселится редко и воодушевляется только
тогда, когда заходит речь о его обожаемой идее,
о той идее, с которою связаны имена Оуэна, Фурье
и немногих других истинных друзей человечества.
Эти внешние различия служат признаками более
глубоких внутренних различий. Ей необходимо
постоянное присутствие любимого человека, по
стоянно согревающее влияние его ласки и неж
ности, постоянное участие его в ее работах и в ее
забавах, в ее серьезных размышлениях и в ее
полуребяческих шалостях. В нем, напротив того,
нет потребности в каждую данную минуту жить
с нею одною жизнью, участвовать в каждой $е
т
радости, делить поровну каждое впечатление. Он
всегда поможет ей в минуту раздумья или огор
чения; он подойдет к ней, если она позовет его
в минуту веселья, но подойдет или по ее призыву,
или потому, что без ее слов угадает ее желание;
в нем самом нет внутреннего влечения к тем удо
вольствиям, которые любит она. Ему необходимо
иногда уединяться и сосредоточиваться; он сам
говорит себе, что отдыхает только тогда, когда
остается совершенно один. Стало быть, в семейной
жизни Лопуховых непременно один из супругов
должен был в угоду другому подавлять личную
особенность своего характера. При таких условиях
полное счастье любви совершенно невозможно,
тем более, что такие люди, как Лопуховы, превос
ходно понимают условия настоящего счастья и по
высоте своей умственной организации и своего
развития неизбежно оказываются очень требо
вательными в отношении всех процессов психиче
ской жизни. Когда к аккорду любви примеши
вается малейший фальшивый звук, соответствую
щий едва заметному стеснению одной из любящих
личностей, тогда весь аккорд оказывается диссо
нансом, и диссонанс этот делается тем томитель
нее и тяжелее, чем выше и тоньше организация
заинтересованных лиц. Когда умный и честный
мужчина и умная и честная женщина стараются
осчастливить друг друга и не могут достигнуть
этого, и видят бесплодность своих усилий, то оба
становятся мучениками: чтобы выйти из этого
страшно драматического положения, им необхо
димо расстаться, как бы ни было велико их вза
имное уважение и как бы ни была сильна связы
вающая их дружба.
Только на четвертый год своего замужества
Вера Павловна начинает чувствовать, что какие-то
потребности ее душевной жизни остаются неудо'
ялетворенными; это смутное чувство неудовлетво557
рения долго остается несознанным. потому что
жизнь Веры Павловны в родительском доме была
очень тяжела; вырвавшись, как она говорит, «из
подвала», она рада была воздуху свободы, она
была полна признательностью к своему освобо
дителю, несмотря на то, что и она, и освободитель
ее совершенно справедливо считают признатель
ность унизительным чувством, которое порабо
щает одного человека и оскорбляет другого. Че
тыре года разумной и свободной жизни развер
нули богатые способности Веры Павловны, изгла
дили тяжелые воспоминания о подвале и дали на
шей героине возможность относиться совершенно
непринужденно, без всякой примеси признатель
ности к личности освободителя, который, конечно,
сам был особенно рад тому, что пропала низкая
признательность и явилось совершенно свобод
ное уважение. Но уважение и признательность
Веры Павловны к своему доброму и умному мужу
так сильны, что она приходит в совершенный
ужас, когда в голову ее закрадывается сомнение
в том, действительно ли она его любит и действи
тельно ли она с ним счастлива.
«Вера Павловна просыпается с этим воскли
цанием, и быстрее, чем сознала она, что видела
только сон и что она проснулась, она уже вско
чила, она бежит.
— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне
снился страшный сон! — Она жмется к мужу. —
Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, за
щити меня!
— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает ее. —
Ты вся дрожишь. — Муж целует ее. — У тебя на
щеках слезы, у тебя холодный пот на лбу. Ты бо
сая бежала по холодному полу, моя милая; я це
лую твои ножки, чтобы согреть их.
— Да, ласкай меня, спаси меня! Мне снился
гадккй сон, мне снилось, что я не люблю тебя.
55S
.
<— Милая мой, кого же ты любишь, как не
меня? Нет, это пустой, смешной сон!
— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, це
луй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.
Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему
и успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя
его.
.
В это утро Дмитрий Сергеич (Лопухов) не идет
звать жену пить чай: она здесь, прижавшись
к нему; она еще спит; он смотрит на нее и думает:
«Что это такое с ней, чем она была испугана, от
куда этот сон?»
Новые люди никогда ничего не требуют от дру
гих, им самим необходима полная свобода чувств,
мыслей и поступков, и потому они глубоко ува
жают эту свободу в других. Они принимают друг
от друга только та, что дается, — не говорю до
бровольно, — этого мало, но с радостью, с пол
ным и живым наслаждением. Понятие жертвы и
стеснения совершенно не имеет места в их миро
созерцании. Они знают, что человек счастлив
только тогда, когда его природа развивается
в полной своей оригинальности и неприкосновен
ности; поэтому они никогда не позволяют себе
вторгаться в чужую жизнь с личными требова
ниями или с навязчивым участием. Вера Павловна
в приведенной сцене требует от мужа ласки и
нежности, и он, разумеется, с радостью исполняет
ее желание; но т р е б у е т или просит она только
потому, что не помнит себя от испуга; в нормаль
ном положении она ничего не станет требовать;
ей будет казаться, что муж ласкает ее не по соб
ственному влечению, не для себя, а для нее, и
когда появится эта мысль, тогда ей будет тяжело,
и, наконец, невозможно принимать те ласки, ко
торые составляют однако потребность ее любящей
природы. Лопухов понимает это и потому заду
мывается над ее сном и над происшедшею между
ними сценою. Через месяц после страшного сна
происходит следующая сцена, находящаяся в пря
мой связи с предыдущею:
«— Верочка, милая моя, что ты задумчива?
Вера Павловна плачет и молчит.
— Нет, — она утерла слезы, — нет, не ласкай,
мой милый! Довольно! Благодарю тебя! — И она
так кротко и искренно смотрит на него. — Благо
дарю тебя, ты так добр ко мне.
— Добр, Верочка? Что это, как это?
— Добр, мой милый; ты добрый». ,
Теперь уже никакие силы, никакие"старания не
могут восстановить нарушенной гармонии любви.
Когда женщина думает, что мужчина ласкает ее по
своей доброте, вся ее законная гордость возму
щается против этой обидной доброты, вся ее де
ликатность стремится оттолкнуть прочь эту
жертву. Кто любит, тот непременно хочет, чтобы
любовь доставляла равные наслаждения ему и
другому. Где это условие не соблюдено, там муж
чина и женщина могут быть друзьями, могут ува
жать друг друга, но любви между ними не может
и не должно существовать, потому что любовь
была бы порабощением для одного из них и не
счастней для обоих. Через два дня натянутость
положения еще заметнее.
1
«Муж сидит подле нее, обнял ее. . . «Да это не то, во мне нет того», думает Лопухов.
«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» ду
мает Вера Павловна.
Вот что они думают.
.
Она говорит:
— Мой милый, иди к себе, занимайся или от
дохни, — и хочет сказать, и умеет сказать эти
слова простым, неунылым тоном.
— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и
здесь хорошо, — и хочет, и умеет сказать эти
слова простым, веселым тоном.
560
— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для
меня. Иди, отдохни — Он целует ее, и,она забывает
свои мысли, и ей опять так сладко и легко дышать.
— Благодарю тебя, мой милый, — говорит она».
То, что происходит между Лопуховым и его же
ною, не бросает ни малейшей тени ни на него, ни
на нее. С их стороны не было даже ошибки в вы
боре, потому что обстоятельства доброго старого
времени, окружавшие Веру Павловну в родитель
ском доме, делали всякий свободный выбор, вся
кое колебание и даже всякое промедление совер
шенно невозможными. Ей надо было прежде всего
вырваться из «подвала»; ему, как честному чело
веку, надо было прежде всего высвободить ее из
невыносимого положения. Если бы при таких
условиях они стали внимательно изучать друг
друга да исследовать тончайшие особенности ха
рактеров, то их надо было бы назвать старыми
тряпками, вроде Рудина, а никак не свежими людь
ми нового типа. Они видели друг в друге честных
и умных людей, братьев по взгляду на жизнь;
этого было совершенно достаточно для того,
чтобы он смело протянул ей руку, и для того,
чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую
опору. Этот образ действий был совершенно со
гласен с их характерами, и он сам по себе был безу
словно хорош. Теперь из этого образа действия
развиваются последствия, одинаково тягостные
для Лопухова и для его жены. Ветхие люди не
сумели бы справиться с этими последствиями; они
стали бы обвинять и мучить друг друга, когда ни
тот, ни другой ни в чем не виноваты; они стали бы
действовать наперекор собственной своей природе,
и, разумеется, из этих неестественных и неразум
ных усилий не вышло бы ничего, кроме бесплод
ного страдания; они с тупой покорностью скло
нили бы голову перед так называемым решением
судьбы, между тем как в их собственных руках
36 Д. И. Писарев
56i
находились бы все средства завоевать себе полное
и прочное счастье. Новые люди в подобных слу
чаях поступают совершенно иначе; они спокойно
и внимательно осматривают свое положение, убе
ждаются, что оно действительно тяжело, стара
ются переделать не природу, а обстоятельства и,
благодаря своим разумным усилиям, всегда на
ходят себе счастливый выход из самых серьезных
затруднений. Цельность природы, гармония между
умом и чувством и постоянное присутствие духа
должны непременно преодолевать такие препят
ствия, перед которыми ветхие люди останавлива
ются в недоумении и приходят в безвыходное от
чаяние.
VI
Вера Павловна надеется снова найти себе сча
стье и спокойствие в серьезной и заботливой
любви своего мужа, но Лопухов, как человек бо
лее опытный, понимает, что надеяться поздно.
Ему тяжело отказываться от того, что он считал
своим счастьем, но он не ребенок и не старается
поймать луну руками. Он видит, что причины раз
лада лежат очень глубоко, в самых основах обоих
характеров, и потому он старается не о том,
чтобы кое-как заглушить разлад, а напротив,
о -том, чтобы радикально исправить беду, хотя
бы е!рлу пришлось совершенно отказаться от
своих о-'.тношений к любимой женщине. Тут нет
никакого1, сверхъестественного
героизма. Тут
только я,сный и верный расчет. Когда благоразум
ный человек ранен и когда пуля засела в его ране,
он не говорит доктору: «Залечите мне рану», а го
ворит, н/апротив того: «Углубите и расширьте
рану, .чтобы можно было вынуть пулю». Когда
рану ' исследуют зондом, пациенту очень больно,
но ему гораздо выгоднее перенести эту сильную
боль, чем оставить в своем теле пулю и иметь
562
в перспективе антонов огонь или что-нибудь
в этом роде. Лопухов ясно понимает свое поло
жение и потому постоянно действует так, как
люди, не .умеющие мыслить, действуют только во
время редких и случайных припадков слепого ге
роизма. Ему очень тяжело, но даже в это тяжелое
время ему приходится испытать минуты такого
глубокого наслаждения, о каком иной «проница
тельный читатель» во всю свою жизнь не составит
себе даже приблизительного понятия.
«— Позволишь ли ты мне, — говорит он Вере
Павловне, — просить тебя, чтобы ты побольше
рассказала мне об этом сне, который так напугал
тебя?
— Мой милый, теперь я не думала о нем. И мне
так тяжело вспоминать его.
— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет
знать его.
— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я ску
чаю оттого, что не поехала в оперу, что я думаю
о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщина,
которую я сначала приняла за Бозио и которая
все пряталась от меня; она заставила меня читать
мой дневник; там было написано все только о том,
как мы с тобой любим друг друга, а когда она дотрогивалась рукой до страниц, на них показыва
лись новые слова, говорившие, что я не люблю
тебя.
— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу
тебя: ты только видела во сне?
— Милый мой, если бы не только, разве я не
сказала бы тебе? Ведь я это тогда же тебе ска
зала.
Это было сказано так нежно, так искренно, так
просто, что Лопухов почувствовал в груди волне
ние теплоты и сладости, которого всю жизнь не
забудет тот, кому счастье дало испытать его.
О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья
3S*
563
могут знать это чувство! Все радости счастливой
любви ничто пред ним, оно навсегда наполняет
чистейшим довольством, самою святою гордостью
сердце человека.
В словах Веры Павловны, сказанных с некото
рою грустью, слышался упрек; но ведь смысл
этого упрека был: «друг ты мой, неужели ты не
знаешь, что ты заслужил полное доверие мое?
Жена должна скрывать от мужа тайные движе
ния своего сердца, таковы уже те отношения, в ко
торых они стоят друг к другу. Но ты, милый мой,
держал себя так, что от тебя не нужно утаивать
ничего, что мое сердце открыто перед тобою, как
передо мною самою». Это великая заслуга в муже;
эта великая награда покупается только высоким
нравственным достоинством; и кто заслужил ее,
тот вправе счцтать себя человеком безукоризнен
ного благородства, тот смело может надеяться,
что совесть его чиста и всегда будет чиста, что
мужество никогда ни в чем не изменит ему, что
во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было,
он останется спокоен и тверд, что судьба почти
не властна над миром его души, что с той поры,
как он заслужил эту великую честь, до последней
минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался
он, он будет счастлив сознанием своего челове
ческого достоинства. Мы теперь довольно знаем,
Лопухова, чтобы видеть, что он был человек не
сентиментальный; но он был так' тронут этими
словами жены, что лицо его вспыхнуло.
— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня, — его
голос дрожал во второй раз в жизни и в послед
ний раз; в первый раз голос его дрожал от со
мнения в своем предположении, что он отгадал, те
перь дрожал от радости;— ты упрекнула меня, но
этот упрек мне дороже всех слов любви. Я оскор
бил тебя своим вопросом: но как я счастлив, что
мой дурной вопрос дал мне такой упрек. Посмо
564
три, слезы на моих глазах, с детства первые слезы
в моей жизни!
Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни
разу не подумалось в этот вечер, что он делает
над собою усилие, чтобы быть нежным, и этот
вечер был одним из самых радостных в ее жизни,
по крайней мере до сих пор».
Да, надо быть недюжинным человеком, чтобы
приобрести полную доверенность другого чело
века, и надо быть еще более недюжинным чело
веком, чтобы, убедившись в существовании этой
доверенности, так глубоко почувствовать ту свя
тую радость, которую испытал Лопухов. В этой
радости нет ничего своекорыстного. На ней Ло
пухов не основывает никакой практической на
дежды; после разговора с женою он серьезнее
прежнего задумывается над их общим положением
и задает себе не тот вопрос: «любит ли она его
или нет?» а тот: «из какого отношения явилось
в ней предчувствие, что она не любит его?» Психо
логическая задача, требующая от него разреше
ния нисколько не изменяется в его глазах вслед
ствие того упрека Веры Павловны, который воз
будил в нем чувство гордой и мужественной ра
дости; стало быть, радость его основана исклю
чительно на том обстоятельстве, что ему всего
дороже достоинство собственной личности; а кому
это достоинство так дорого, кто способен так
сильно радоваться, когда это достоинство встре
чает себе справедливую оценку со стороны люби
мых и уважаемых личностей, тот, разумеется,
пройдет спокойно и твердо через всякие испы
тания, потому что никакие испытания не могут от
нять или испортить у него то, чем он действи
тельно дорожит больше всего на свете. Когда пу
стой слабый человек слышит лестный отзыв на
счет своих сомнительных достоинств, он упивается
своим тщеславием, зазнается и совсем теряет свою
566
крошечную способность относиться критически
к своим поступкам и к своей особе. Напротив
того, человек с сильным умом и с твердою волею,
получая себе заслуженную дань уважения, испы
тывает глубокую и вместе спокойную радость, ко
торая удваивает его бдительность над собою, его
внимательность к чистоте своей личности и его
непоколебимую решимость итти вперед по тому
же неизменному пути правильного расчета.
В психологическом отношении чрезвычайно
верно то обстоятельство, что Лопухов после раз
говора с Верою Павловною еще раз вдумывается
в ее положение и, наконец, отыскивает из него
выход. Радость освежила весь его организм и уси
лила деятельность его мысли; испытав эту ра
дость, он и себя, и жену, и весь мир любит силь
нее, чем за минуту перед тем; а когда вся душа
человека потрясена приливом всеобъемлющей
любви и переполнена чистейшим счастьем само
уважения, в его мыслях нет места узкому свое
корыстию; он разрешает затруднения быстро и
бесстрашно,- потому что в такие минуты он готов
итти навстречу всяким страданиям, лишь бы
только эти страдания навсегда упрочили за ним
право считать себя честным человеком. Продумав
часов до трех ночи, Лопухов убеждается, что
у жены его возникает любовь к Кирсанову; анали
зируя характер Кирсанова, Лопухов замечает, что
в этом характере есть свойства, которые необхо
димы для Веры Павловны и которых нет у него,
Лопухова. Всматриваясь в поведение Кирсанова,
Лопухов находит в нем такие факты, которые за
ставляют его думать, что Кирсанов давно уже лю
бит Веру Павловну. Года три тому назад Кирса
нов, постоянно бывавший в доме Лопуховых,
вдруг отдалился от них, прикрывая свое отсту
пление какими-то несостоятельными предлогами.
Приглашенный недавно к Лопухову по случаю бо56S
лезни последнего, он снова сблизился с ним и
с его женою, но потом опять отшатнулся от их
дома. Сближая все эти обстоятельства, Лопухов
решает, что Кирсанов любит его жену и держится
вдали от нее, чтобы каким-нибудь не осторожным .
словом или взглядом не нарушить спокойствие
женщины, пользующейся, по его мнению, пол
ным семейным счастьем. Перед Лопуховым лежат
теперь две дороги. Во-первых, он может оста
ваться в положении строгого нейтралитета. Кирса
нов не будет их посещать; зарождающееся чув
ство Веры Павловны заглохнет во время его от
сутствия, и семейная жизнь Лопуховых пойдет
своим обычным порядком. Во-вторых, он может
своим вмешательством изменить ход событий. Он
скажет Кирсанову, чтобы тот бывал у них попрежнему, чувство Веры Павловны разовьется, и жизнь
ее наполнится радостями взаимной любви.
Проницательный читатель скажет, что пойти по
второй дороге может только сумасброд, что это
и глупо, и безнравственно, и чорт знает на что по
хоже. Посудите сами, муж приглашает к себе
в дом человека, которого прочит в любовники
к своей жене. Хорош муж, и хороша жена, и хо
рошо третье лицо!— Ну, когда ветхий человек
или проницательный читатель облегчит свою пере
полненную грудь громкими возгласами и нагово
рит нам значительное количество жалких слов,
я возьму на себя смелость заметить, что прямая
обязанность Лопухова состояла в том, чтобы пой
ти по этой дороге, и что, кроме того, на ту же
самую дорогу указывал ему прямой и ясный рас
чет. По расчету выходит так: Лопухов знает, что
сам не может составить счастье своей жены, стало
быть, их семейная жизнь будет тягостна для обо
их и, кроме того, рано или поздно может слу
читься, что Вера Павловна с горя влюбится в та
кого человека, который будет во всех отношениях
567
хуже Кирсанова. Если же она полюбит Кирсанова,
то тягостное положение будет разрушено к обо
юдной выгоде Лопуховых, которые оба должны
желать его прекращения. Конечно, было бы лучше,
если бы Вера Павловна могла вполне удовлетво
риться любовью своего мужа; но так как это, судя
по данным характера, невозможно, то об этом не
чего и толковать. Требования честности в этом
случае формируются так: человек не имеет права
отнимать счастье у другого человека ни своими
поступками, ни словами, ни даже молчанием.
Если от нескольких слов одного зависит счастье
другого и если первый не произносит этих слов,
то он крадет чужое счастье и этим поступком ма
рает свою личность. Если он станет говорить
в свое оправдание, что он ничего не сделал, что
он умывал руки и оставался нейтральным, то за
марает себя еще сильнее, потому что такие жалкие
софизмы каждому честному человеку покажутся
достойными презрения Лопухов мог бы пойти по
первой дороге только в том случае, если бы на
деялся удержать за собою нежность своей жены;
есть действительно такие люди, которые надеются
до последней минуты и поддерживают в себе эту
надежду всякими правдами и неправдами, потому
что у них недостает мужества взглянуть в лицо
неприятной действительности; вследствие этого
действительность всегда захватывает их врасплох,
и события играют ими, как пешками; если Лопу
хов не принадлежал к породе этих слабодушных
оптимистов, то. мне кажется, это делает честь тон
кости его ума и силе его характера. А если он не
был оптимистом, то ему оставалось только ехать
к Кирсанову Он едет к нему на другой день после
приведенной мною последней сцены с женою.
Чтобы сделать такой решительный шаг, даже
очень крепкому человеку необходимо собрать всю
свою энергию; энергия Лопухова была возбуждена
£68
до крайних пределов тою радостью, которую при
чинил ему ласковый упрек Веры Павловны; про
цесс мысли был у него таков: когда мне так безу
словно доверяют, надо действительно вполне
оправдать это доверие, и вот, находясь под све
жим впечатлением обаятельного упрека. Лопухов
начинает действовать. Кирсанов при первых, со
вершенно невинных словах своего друга вспыхи
вает и обнаруживает самое лютое негодование; но
Лопухов не только не унимается, а напротив того,
укрощает яростного Кирсанова и заставляет его
поступать так, как он, Лопухов; того хочет. Эта
цель достигается, конечно, не посредством аргу
ментации, а посредством следующего простого и
невинного предположения: положим, говорит Ло
пухов, что существует три человека, — предполо
жение, не заключающее в себе ничего невозмож
ного;— предположим, что у одного из них есть
тайна, которую он желал бы скрыть и от второго,
и в особенности от третьего; предположим, что
второй угадывает эту тайну первого и говорит
ему: «Делай то, о чем я прошу тебя, или я открою
твою тайну третьему. Как ты думаешь об этом
случае?» На аргументы Кирсанов не сдавался, но
при этом предположении он кладет оружие. — «Ты
дурно поступаешь со мною, Дмитрий, — говорит
он. — Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но,
в свою очередь, я налагаю на тебя одно условие.
Я буду бывать у вас; но если я отправлюсь из
твоего дома не один, то ты обязан сопровождать
меня повсюду; и чтоб я не имел надобности звать
тебя, слышишь? сам ты без моего зова. Без тебя
я никуда ни шагу — ни в оперу, ни к кому из
знакомых, никуда». Лопухов понимает, что Кир
санов хочет непременно сблизить его с женою, и
свидание невольных соперников по любви кон
чается тем, что они в первый раз в жизни обнима
ются и целуются.
569
V II
Длинна моя статья, и много в ней цитат, и со
вестно мне утомлять читателя, а все-таки я не ре
шаюсь рассказать конец взятого мною эпизода
в коротких словах и не могу отказать себе в удо
вольствии привести еще несколько выписок. Такой
роман,''как «Что делать?», составляет небывалое
явление в нашей литературе; поневоле приходится
писать о нем и критическую статью небывалых раз
меров. Как, например, пересказать читателю ту
сцену, в которой .Вера Павловна объявляет Ло
пухову, что любит Кирсанова? Как передать ту
удивительную теплоту и нежность чувства, кото
рую обнаруживает при этом случае суровый чело
век нового типа, человек, закиданный со всех сто
рон бессмысленными обвинениями в черствости
сердца и в узкой рассудочности? Тут дело идет
не о романе, даже не о г. Чернышевском; тут надо
отстоять от тупой или злонамеренной клеветы тот
тип людей, который один может освежить жалкую
рутину нашей бессмысленной жизни.
« . . . проговорила: «Милый мой, я люблю его!»
и зарыдала.
— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огор
чаться тебе?
— Я не хочу обижать тебя, "мой милый, я хочу
любить тебя.
— Постарайся, посмотри. Если можешь, пре
красно. Успокойся, дай итти времени, и увидишь,
что можешь и чего не можешь. Ведь, ты ко мне
очень сильно расположена, как же ты можешь
обидеть меня? — Он гладил ее волосы, целовал ее
голову, пожимал ее руку. Она долго не могла оста
новиться от судорожных рыданий, но постепенно
успокоилась. А он уже давно был приготовлен
к этому признанию, потому и принял его хладно
кровно, а впрочем, ведь ей не видно было его лица.
570
— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы
он перестал бывать у нас, — говорила Вера Пав
ловна.
— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше
для тебя, так и сделаешь. А когда ты успоко
ишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы
ни случилось, не можем не быть друзьями? Дай
руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь.. . —
Каждое из этих слов говорилось после долгого
промежутка; а промежутки были наполнены тем,
что он гладил ее волосы, ласкал ее, как брат огор
ченную сестру. — Помнишь, мой друг, что ты мне
сказала, когда мы стали жених и невеста? «Ты
выпускаешь меня на волю». — Опять молчание и
ласки. — Помнипкь, как мы с тобой говорили
в первый раз, что значит любить человека? Это
значит радоваться тому, что хорошо для него,
иметь удовольствие в том, чтобы делать все, что
нужно, чтобы ему было лучше, так! — Опять мол
чание и ласки. — Что тебе лучше, то и меня ра
дует. Но ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем
же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда
может быть со мною?»
,
Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу дока
зывать ему, что выписанная мною сцена дышит
жизнью и правдою и что каждый умный и чест
ный человек, поставленный в положение Лопу
хова, будет держать себя точно таким же обра
зом; я не хочу доказывать ему, что в этой сцене
нет ни капли идеализации и что нежность и мяг
кость чувства составляют естественную принад
лежность неиспорченной человеческой природы.
Все это читатель должен сам передумать и пере
чувствовать при чтении превосходных строк ро
мана. А кто до этого не додумается и не дочув
ствуется, тому я объяснять не намерен. С таким
читателем рассуждать серьезно не следует. На 'гой
дороге, по которой идет Лопухов, нет возможно
. .
57Г
сти остановиться или поворотить назад. Когда, при
его содействии, развилось и созрело чувство Веры
Павловны к Кирсанову, ему, конечно, оставалось
только содействовать этому чувству и до конца
устранять все встречающиеся препятствия. Этого
требовала от него самая простая логика, выразив
шаяся в известной пословице: «взявшись за гуж,
не говори, что не дюж». Пока он не брался за гуж,
пока он не вмешивался в поступки Кирсанова, до
тех пор он мог выбирать тот или другой образ
действий, и если бы он решился оставаться ней
тральным, вместо того чтобы поступать активно,
то мы могли бы только порицать его за ошибоч
ность расчета, но не имели бы права относиться
с презрением к его личности. Мы переменили бы
к худшему наше мнение об уме Лопухова, но все
нравственные достоинства, способные ужиться
с дюжинным умом, остались бы при нем в пол
ной неприкосновенности. После разговора своего
с Кирсановым Лопухов перешел через Рубикон; он
взял в свои руки счастье двух людей, и если бы
после этого он оплошал в каком-нибудь отноше
нии, то эта оплошность была бы грязною изме
ною, позорным банкротством в нравственном от
ношении. Может быть, это банкротство было бы
не злостное, а только неосторожное, но это не
оправдывало бы Лопухова. Кто позволяет себе
быть неосторожным на чужой счет, тот не может
считать себя честным человеком. Кто не испыты
вал своих сил, кто не может на себя положиться,
тот не имеет никакого права вмешиваться в судь
бу другого лица.
Все это я говорю, чтобы доказать читателю, что
в образе действий Лопухова не было таких про
явлений героизма, которые возвышались бы над
уровнем простой честности, обязательной для
каждого порядочного человека. Лопухов только
развил в своих поступках тот ряд последствий,
572
.
.
который совершенно логично и неизбежно выте
кает из его первого решения, а логичность и по
следовательность поступков составляет, конечно,
прямую и неотразимую обязанность каждого че
ловека, способного распоряжаться своим голов
ным мозгом. Я очень хорошо знаю, что большин
ство современных людей, считающих себя вполне
порядочными, противоречат себе на каждом шагу
в словах и в поступках. Человек, избегающий
слишком явных противоречий самому себе, про
возглашается в настоящее время чуть-чуть не ге
нием по уму и уж во всяком случае героем по ха
рактеру. Но это доказывает только, что у совре
менных людей способность размышлять находится
почти в совершенном бездействии. Головной мозг
считается бесполезнейшею частью человеческого
тела. Он растет и развивается по неизменным зако
нам природы точно так, как растет и развивается
на меже полынь и чернобыльник; на него льют и
кидают всякие нечистоты; никто не обращает вни
мания на то, что ему вредно или полезно, и по
тому, конечно, он чахнет и искажается, так что —
здоровый и сильный мозг считается редким
исключением и внушает к себе глубочайшее ува
жение. Хороша последовательность! Сначала дело
ведется так, как будто бы надо было нарочно из
вратить все человеческие умы, а потом начинается
благоговение перед теми немногими умами, кото
рые по какому-нибудь случаю не успели извра
титься. До сих пор люди всегда относились к мас
се своей породы с глубоким презрением и всегда
были расположены ползать на коленях перед сча
стливыми исключениями, которые только потому
были и остаются редкими исключениями, что масса
не знала и не знает себе цены и безрассудно пре
небрегает своими естественными богатствами. Та
кие люди, как Лопухрв, в настоящее время редки,
но такие люди нисколько не выше обыкновенного
573
человеческого роста. Каждый человек, не родив
шийся идиотом, может развить в себе мыслитель
ную способность, может укрепить ее - полезным
трудом, может возвыситься до правильного и яс
ного понимания своих отношений к людям, и
когда это будет исполнено, поступки Лопухова бу
дут казаться ему совершенно простыми и есте
ственными, и он будет спрашивать с искренним
недоумением: да разве же можно было поступить
иначе? Действительно, иначе поступить нельзя;
кто в положении Лопухова сделает меньше, чем
сделал Лопухов, тот перестанет быть честным че
ловеком, а удержать за собою достоинство чест
ного человека не значит еще совершить герой
ский подвиг.
Когда Лопухов заметил, что Вера Павловна ху
деет и бледнеет от напрасных усилий преодолеть
свое чувство, он мягко и осторожно предложил ей
.отказаться от тяжелой борьбы; Вера Павловна
разгневалась на него за это предложение, но по
том через несколько времени объявила ему, что
борьба становится для нее действительно невыно
симою; Лопухов почувствовал, что его присут
ствие может сделаться мучительным для Веры
Павловны; он уехал на несколько недель; на его
месте всякий порядочный человек поступил бы
точно так же, потому что порядочному человеку
чрезвычайно неприятно мучить своим присут
ствием кого бы то ни было. Возвратившись из
своей непродолжительной отлучки, Лопухов уви
дел, что ему лучше было бы совсем не возвра
щаться; он понял — и понять было вовсе не труд
но, — что его присутствие и даже его существо
вание ставят между Кирсановым и Верою Павлов
ною такую преграду, через которую, конечно,
перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо
приятнее было бы совершенно устранить. Пока Ло
пухов перед обществом и перед законом сохра574
няет в отношении Веры Павловны права мужа,
до тех пор Кирсанов и Вера Павловна принуждены
даже перед ближайшими знакомыми играть неле
пейшую комедию, которая только утомляет ак
теров, не обманывая решительно никого. Самому
Лопухову также предстоит мало удовольствия.
В этой нелепейшей комедии ему приходится
играть неблагодарную роль щита, подставного
мужа и подставного отца. Самый узкий эгоист,
в том смысле, как это слово понимается самыми
отсталыми рутинерами, — самый узкий эгоист, го
ворю я, поставленный на место Лопухова, пожелал
бы ради своего личного комфорта развязаться
с супружескими правами, потерявшими всякое
фактическое значение. А развязаться можно или
разводом, или смертью; но развод невозможен, по
тому что дело это затруднительно и хлопотливо,
и сопряжено с неприятною огласкою; стало быть,
остается смерть, но, во-первых, всякому порядоч
ному человеку жизнь так дорога, что он решится
разбить ее только в случае самой крайней необхо
димости; во-вторых, самоубийство Лопухова было
бы жестоким поступком в отношении к Кирсанову
и к Вере Павловне; эта смерть отравила бы все их
счастье и оставалась бы для них на всю жизнь
кровавым упреком. Конечно, они тут ни в чем не
были бы виноваты; но бывают такие происше
ствия, которые, поразив воображение людей, на
всегда оставляют по себе болезненное воспомина
ние, похожее на упрек, и этого воспоминания не
вытравит потом самый острый анализ. Очевидно,
следовательно, что Лопухову всего расчетливее
было бы поступить как-нибудь так, чтобы без
ущерба для себя устранить препятствие, которое
личность его представляла счастью других, и он
решился умереть в глазах закона, ожить за грани
цею под другим именем и объяснить потом Кир575
санову и Вере Павловне, в каком смысле следует
понимать его самоубийство.
Затруднительная задача разрешена, но разрешил
ее не один Лопухов; ему принадлежала главная
роль, но эту роль было бы невозможно выдержать
до конца, если бы Вера Павловна и Кирсанов не
были людьми нового типа. Чувства, мысли и, сле
довательно, поступки Лопухова были бы далеко
не так просты, спокойны, последовательны и чело
вечны, если бы он не имел возможности во всякую
данную минуту уважать свою жену и своего друга.
Если бы Вера Павловна не была безукоризненно
честна в отношении к своему мужу, то у Лопухова
не было бы постоянного и горячего желания ку
пить для нее счастье, какою бы то ни было це
ною. Если бы Лопухов не был уверен, что его
жена полюбила Кирсанова серьезною и прочною
любовью, то ему было бы невозможно и с его сто
роны было бы нерассудительно действовать с та
кою энергией. Стоит ли в самом деле поднимать
тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому
капризу взбалмошной женщины, у которой через
неделю может явиться новый каприз? Если бы
Кирсанов не заслуживал полного доверия, то со
стороны Лопухова было бы нелепо и бессовестно
бросить к нему на шею свою жену. Если бы во
обще эти три человека не были в состоянии во
всякую минуту смело глядеть друг другу в глаза,
доверчиво советоваться между собою о своем об
щем деле и полюбовно разрешать это дело об
щими силами, то между ними непременно появи
лись бы те недоброжелательные чувства, которые
называются в общежитии антипатиею, боязнью,
подозрением, ревностью, и которые все вытекают
из недостатка доверия и уважения. Поэтому пере
ложить историю Лопухова на те нравы, которыми
удовлетворяется почти все наше современное об
щество, нет никакой возможности. Тот ряд поступ576
ков, который был со стороны Лопухова совер
шенно логичен и необходим в отношении к таким
людям, как Вера Павловна и Кирсанов, становится
нелепым и смешным, если мы на место Веры Пав
ловны поставим пустую барыню с чувствительным
сердцем, а на место Кирсанова столь же пустого
вздыхателя с пламенными страстями. Лопухов не
стал бы поступать нелепо и смешно. Он вовсе не
похож на Дон Кихота и всегда сумеет понять, что
ветряная мельница — не исполин и что бараны —
не рыцари. Новые люди только в отношениях ме
жду собою развертывают все силы своего харак
тера и все способности своего ума; с людьми ста
рого типа они держатся постоянно в оборонитель
ном положении, потому что знают, как всякий
честный поступок в испорченном обществе пере
толковывается, искажается и превращается в по
шлость, ведущую за собою вредные последствия.
Только в чистой среде развертываются чистые чув
ства и живые идеи; давно уже было сказано, что
не следует вливать вино новое в мехи старые, и
эта мысль так же верна теперь, как была верна
две тысячи лет тому назад. Весь образ действий
Лопухова, начиная с его поездки к Кирсанову и
кончая его подложным самоубийством, находит
себе блестящее оправдание в том полном и ра
зумном счастии, которое он создал для Веры Пав
ловны и для Кирсанова. Любовь, как понимают ее
люди нового типа, стоит того, чтобы для ее удо,влетворения опрокинулись всякие препятствия.
«— Верочка, — говорит Кирсанов своей жене
через несколько лет после свадьбы: — что? хва
литься или не хвалиться мне перед тобою? М ы —
один человек; но это должно в самом деле отра
жаться и в глазах. Моя мысль стала много силь
нее. Когда я делаю выводы из наблюдений — об
щий обзор фактов, то я теперь в час кончаю то,
над чем прежде должен был думать несколько ча37 Д, И. Писарев
577
сов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо
больше фактов, чем прежде, и выводы у меня вы
ходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, во мне
был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим
чувством стал бы великим гением. Если бы от при
роды была во мне сила создать что-нибудь ма
ленькое новое в науке, я от этого чувства при
обрел бы силу пересоздать науку. Но я родился
быть только чернорабочим, темным, мелким тру
жеником, который разрабатывает мелкие, частные
вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь, ты зна
ешь, я уже не то: от меня начинают ждать больше,
думают, что я переработаю целую большую от
расль науки, все учение об отправлениях нервной
системы. И я чувствую, что исполню это ожида
ние. В 24 года у человека шире и смелей новизна
взглядов, чем в 29 лет (потом говорится: в 30 лет,
32 года и так далее); но тогда у меня не было это
го в таком размере, как теперь. И я чувствую, что
я все еще расту, когда без тебя я давно бы уже
перестал расти. Да я уж и не рос последние дватри года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты
возвратила мне свежесть первой молодости, силу
итти гораздо дальше того, на чем я остановился
бы, на чем я уже и остановился было без тебя.
А энергия работы, Верочка, разве мало значит?
Страстное возбуждение- сил вносится в труд, когда
вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как дей
ствует на энергию умственного труда кофе, стакан
вина: то, что дают они другим на час, за которым
следует расслабление, соразмерное этому внеш
нему и мимолетному возбуждению, то имею я те
перь постоянно в себе, — мои нервы сами так на
строены постоянно, сильно, живо».
Надо стоять на довольно высокой степени раз
вития не только для того, чтобы испытывать по
добное чувство, а даже для того, чтобы понимать
его возможность и верить в его действительное су
578
ществование. Наша рутинная критика, конечно, не
возвысится до этого понимания. Обвиняя г. Чер
нышевского в цинизме, она, кроме того, обвиняет
его в идеализации и, таким образом, по свойствен
ному ей остроумию, впадает в неразрешимое про
тиворечие. Если г. Чернышевский — циник и если
цинизм ставится ему в порок, то это значит, что
он слишком мрачно смотрит на жизнь и оскор
бляет таким взглядом человеческое достоинство.
Если же он повинен в идеализации, значит, он
слишком светло смотрит на жизнь и не замечает
недостатков человека. Но нельзя же приписывать
одному предмету два противоположные свойства.
Нельзя же обвинять писателя в двух пороках, ко
торые взаимно исключают друг друга. Что-ни
будь одно: или циник, или идеализатор. А если он
и циник, и идеализатор, то это значит, что он ни
циник, ни идеализатор, а просто человек, глубоко
уважающий человеческую природу и превосходно
понимающий неисчерпаемое богатство ее физи
ческих и умственных сил. Когда этот человек го
ворит о том, что унижает и искажает человече
скую природу, он приходит в негодование, и то
гда его обвиняют в цинизме те люди, которые
слишком близоруки и испорчены, чтобы замечать
унижение и искажение. Когда этот человек гово
рит о тех редких явлениях, в которых выра
жается чистота и сила человеческой природы,
в его голосе слышится радость и надежда, и то
гда его обвиняют в идеализации те люди, кото
рые, считая грязь за норму, видят в нормальных
явлениях создание праздной фантазии. Что можно
сказать этим обвинителям? Им можно сказать
только, что они слепы и потому не понимают ни
того, что стоит в уровень с ними, ни того, что
стоит выше их.
В подтверждение моих слов о так называемом
цинизме г. Чернышевского, я приведу здесь самое
37*
5?9
резкое место его романа. «Сторонников (первый
жених Веры Павловны) уже несколько недель за
нимался тем, что воображал себе Верочку в раз
ных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины
осуществились. Оказалось, что она не осуществит
их в звании любовницы, — ну, пусть осуществляет
в звании жены; это все равно, главное дело не
звание, а позы, то есть обладание. О грязь,
о грязь! «обладать» — кто смеет обладать челове
ком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки:
почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-ни
будь из вас, наши сестры; опять пустяки, какие
вы нам сестры? — вы наши лакейки! Иные из
вас — многие — господствуют над нами, — это ни
чего: ведь и многие лакеи властвуют над своими
барами». Очень резко, не правда ли? Но разве мо
жет быть иначе? Человек, понимающий любовь
Кирсанова, может относиться мягко и снисходи
тельно к любовным грезам Сторешникова только
в том случае, если он допустит предположение
что Кирсанов и Сторешников — животные различ
ных пород. А если он этого предположения не до
пустит, то ему, разумеется, будет обидно и до
садно видеть поругание человеческой святыни, ко
торая точно так же заключается в Сторешникове
как и в Кирсанове. А если обличители г. Черны
шевского скажут, что Кирсановых совсем не бы
вает, то мы скажем на это: поживем, увидим. Бу
дущее покажет нам, действительно ли существует
новый тип, или его выдумали только в пику со
лидным людям негодные нигилисты.
VIII
Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, являю;
щиеся в романе «Что делать?» главными предста
вителями нового типа, не делают ничего такого,
что превышало бы обыкновенные человечески!
580
силы. Они люди обыкновенные, и такими людьми
признает их сам автор; это обстоятельство чрез
вычайно важно, и оно придает всему роману осо
бенно глубокое значение. Если бы автор показал
нам героев, одаренных от природы колоссальны
ми силами, и если бы даже повествовательный
талант его заставил нас поверить в существование
таких героев, то все-таки их мысли, чувства и по
ступки не имели бы общечеловеческого интереса,
и каждый читатель имел бы право сказать, что он
не герой и что ему за редкими исключениями не
чего и гоняться. Человеческая природа вообще
осталась бы попрежнему под гнетом тех неспра
ведливых и нелепых обвинений, которые набро
сала на нее вековая рутина прошедшего, победо
носно отстаивающая свое существование и доказы
вающая свою законность в настоящем. Конечно,
этот гнет обвинений и предрассудков не снят с че
ловеческой природы романом г. Чернышевского;
никакое литературное произведение, как бы оно
ни было глубоко задумано, не может выполнить
такую задачу, которой разрешение связано с ра
дикальным изменением всех основных условии
жизни; но чрезвычайно важно уже то, что роман
«Что делать?» является в этом отношении бле
стящею попыткою; этим романом г. Чернышев
ский говорит всем самодовольным филистерам,
что они клевещут на человеческую природу, что
они свою искусственную забитость и ограничен
ность принимают за нормальное явление, освящен
ное естественными законами, что они ставят чрез
вычайно низко уровень своих умственных и нрав
ственных требований, что они своим тупым или
корыстным самодовольством наносят всему чело
вечеству значительный вред и тяжелое оскорбле
ние.
'
Указывая на Лопухова, Кирсанова и Веру Пав
ловну, Чернышевский говорит всем своим читате581
лям: вот какими могут быть обыкновенные люди,
и такими они должны быть, если хотят найти
в жизни много счастья и наслаждения. Этим
смыслом проникнут весь его роман, и доказатель
ства, которыми он подкрепляет эту главную
мысль, так неотразимо убедительны, что непре
менно должны подействовать на ту часть публики,
которая вообще способна выслушивать и пони
мать какие-нибудь доказательства. «Будущее, —
говорит г. Чернышевский, — светло и прекрасно.
Любите его, стремитесь к нему, работайте для
него, приближайте его, переносите из него в на
стоящее, сколько можете перенести: настолько бу
дет светла и добра, богата радостью и наслажде
нием ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести
в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте
для него, приближайте его, переносите из него
в настоящее все, что можете перенести». Это
светлое будущее, в которое так горячо верят луч
шие люди, придет не для одних героев, не для
тех только исключительных натур, которые ода
рены колоссальными силами; это будущее сде
лается настоящим именно тогда, когда все обык
новенные люди действительно почувствуют себя
людьми и действительно начнут уважать свое че
ловеческое достоинство. Кто старает:я пробудить
уважение обыкновенных людей к их природе, воз
высить уровень их требований, возбудить в «их
доверие к собственным силам и внушить им на
дежду на успех, тот посвящает с в о р ; силы вели
кому и прекрасному делу разумной любви; в та
кой деятельности выражается живое стремление
к будущему, потому что светлое будущее может
быть достигнуто только тогда, когда много еди
ничных сил будет -потрачено на такую деятель
ность. Роман г. Чернышевского- действует именно
в этом направлении, между тем как вся остальная
582
масса нашей беллетристики сама ходит ощупью и
не действует ни в каком направлении.
Желая убедительнее доказать своим читателям,
что Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна действи
тельно люди обыкновенные, г. Чернышевский вы
водит на сцену титаническую фигуру Рахметова,
которого он сам признает необыкновенным и на
зывает «особенным человеком». Рахметов в дей
ствии романа не участвует, да ему в нем нечего и
делать; такие люди, как Рахметов, только тогда
и там бывают в своей сфере и на своем месте,
когда и где они могут быть историческими деяте
лями; для них тесна и мелка самая богатая инди
видуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука,
ни семейное счастье; они любят всех людей, стра
дают от каждой совершающейся несправедливо
сти, переживают в собственной душе великое
горе миллионов и отдают на исцеление этого горя
все, что могут отдать. При известных условиях
развития эти люди обращаются в миссионеров и
отправляются проповедывать евангелие дикарям
различных частей света. При других условиях они
успевают убедиться, что в образованнейших стра
нах Европы есть такие дикари, которые глубиною
своего невежества и тягостью своих страданий
далеко превосходят готтентотов или папуасов.
Тогда они остаются на родине и работают над
тем, что их окружает. Как они работают и что
выходит из их работ — это объяснить довольно
трудно, потому что работы их начались очень
недавно, всего лет пятьдесят или семьдесят тому
назад, и потому что окончательный результат
этих работ, передающихся от одного поколения
деятелей к другому, лежит еще далеко впереди.
Видят они, что настоящее дурно, стараются, что-'
бы будущее было лучше, и прилагают к делу те
средства, которые находятся под руками. Их не
понимают, им мешают делать добро, и от этого
583
их мирная работа принимает совершенно несвой
ственный ей характер ожесточения и борьбы. Им
чаще всего приходится брать в руки школьную
указку и объяснять взрослым детям и цивилизо
ванным дикарям азбуку правильного понимания
самых простых вещей. Эти люди, способные по
уму и характеру обдумывать и разрешать на прак
тике самые сложные задачи современной истории,
обыкновенно бывают принуждены возиться с са
мою мелкою черною работою в течение всей своей
жизни, и они не отворачиваются от черной рабо
ты, потому что главная потребность всего их су
щества состоит в том, чтобы делать что-нибудь
для облегчения человеческого горя. Нельзя сде
лать все, так они будут делать, что можно. На
свое место, на котором они могли бы развернуть
все свои способности, эти люди попадают чрез
вычайно редко и всегда какими-нибудь эксцентри
ческими путями. Правильной карьеры эти люди
не сделали себе с самого сотворения мира. При
рода всегда отказывает им в канцелярской смет
ливости и во всяких других служебных дарова
ниях. Поэтому какой-нибудь Роберт Пиль мог
быть первым министром Англии и прослыть бла
годетелем своего народа, а другой Роберт, только
не Пиль, а Оуэн, должен был непременно во вре
мя всей своей жизни терпеть притеснения от ту
пых мещан, а под старость прослыть помешан
ным. Поэтому граф Кавур мог считаться ангеломхранителем Италии и возбудить своей смертью
нескончаемые вопли в европейских журналах,
поющих в голос Times’a, а Иосиф Гарибальди
непременно должен был получить сначала рану
при Аспромонте, а потом, вслед за раною, амни
стию, которая была бы обиднее всякой раны, если
бы прежде всего не была бы смешна до последней
степени. Гарибальди и Оуэн все-таки выдвинулись
из неизвестности, и деятельность их получила себе
584
широкий простор; но первый из них мог выдви
нуться потому, что для Италии наступило время
политического обновления, а второй — потому,
что Англия при всех недостатках своего обще
ственного устройства обеспечивает за своими гра
жданами значительную свободу действий. На
одного выдвинувшегося Оуэна или Гарибальди
приходится, наверное, по нескольку необыкновен
ных людей, которым на всю жизнь суждено оста
ваться полезными чернорабочими в деле служения
человечеству.
К числу этих необыкновенных людей, обречен
ных на неизвестность, относится Рахметов. В то
время, когда г. Чернышевский вводит его на ко
роткое время в свой роман, ему 22 года. Он —
потомок старинного рода и сын богатого поме
щика. Рахметов с 16 лет был студентом и на по
ловине 17-го года проникнулся теми идеями, кото
рые дали определенное направление всем богатым
силам его молодой и любящей природы. Кирса
нов, познакомившись с ним, отвечал на его тре-вожные вопросы и указал ему на некоторые кни
ги. «Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер,
плакал, прерывал его слова восклицаниями про
клятий тому, что должно погибнуть, благослове
ний тому, что должно жить. Потом начал читать
и читал, не отрываясь от книги, с 11 часов утра
четверга до 9 часов вечера воскресенья; первые
две ночи не спал так, на третью выпил восемь
стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи
нехватило сил ни с каким кофе, он повалился и
проспал на полу часов 15». Через год после этого
он оставил университет, «поехал в поместье, рас
порядился, победив сопротивление опекуна, за
служив анафему от братьев и достигнув того, что
мужья запретили его сестрам произносить его
имя, потом скитался по России разными манера
ми, и сухим путем, и водою, и пешком, и на рас4
585
шивах, и на косных лодках». С земли, оставшейся
у него после распоряжения по имению, он полу
чал 3000 руб. дохода, но себе из этих денег брал
только 400 рублей, а на остальные содержал семь
человек стипендиатов, двоих в Казанском универ
ситете и пятерых в Московском. На половине
17-го года Рахметов начал развивать в себе фи
зическую силу, занимался гимнастикой, возил
воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал
камни, копал землю, ковал железо и при этом
кормил себя почти исключительно полусырою го
вядиною. Наконец, во время странствий своих по
России, он прошел бурлаком всю Волгу, от Ду
бровки до Рыбинска, и за свою непомерную силу
получил от своих товарищей по лямке прозвище
Никитушки Ломова, по имени одного силача, хо
дившего по Волге лет 20 тому назад и пользо
вавшегося между народом значительной извест
ностью. Свою приобретенную силу Рахметов под
держивал, не щадя ни труда, ни времени; «так
нужно, говорил: это дает уважение и любовь про
стых людей, это полезно, может пригодиться».
Во всем своем образе жизни Рахметов соблюдал
крайнюю умеренность. «По целым неделям у него
не бывало во рту куска сахару, по'целым месяцам
никакого фрукта, ни куска телятины, ни пулярки».
Обедая в гостях, он с удовольствием ел некото
рые блюда, которых не позволял себе есть дома,
но были такие кушанья, от которых он навсегда
отказался. «Причина различения была основа
тельна: «то, что ест, хотя по временам, простой
народ, и я могу есть при случае. Того, что ни
когда не доступно простым людям, и я не должен
есть. Это нужно мне для того, чтобы хотя не
сколько чувствовать, насколько стеснена их
жизнь сравнительно с моею». Он сказал себе: «я
не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к жен
щине», и объяснял следующим образом причину
586
этого отречения: «так нужно». «Мы требуем для
людей полного наслаждения жизнью, мы должны
своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем
этого не для удовлетворения своим личным стра
стям, не для себя лично, а для человека вообще,
что мы говорим только по принципу, а не по при
страстию, по убеждению, а'не по личной надоб
ности».
■
Это рассуждение Рахметова в логическом отно
шении никуда не годится. Если я доказываю, что
людям необходимо полное наслаждение жизнью,
то мне нет никакой надобности подрывать свои
доказательства примером собственной жизни. При
нимать самого себя за исключение и ставить себя
выше человеческих потребностей и вне общих фи
зиологических законов, во всяком случае, нера
ционально. Проповедуя против монашества, мо
нах Лютер сам женился на монашенке, и его при
мер был самым убедительным подкреплением его
проповеди. Вообще жизнь и учение человека
должны всегда находиться в возможно полном
согласии: аскет, проповедующий наслаждение
жизнью, в своем роде явление такое же нелепое
и безобразное, каким были средневековые папы,
которые, пьянствуя, роскошничая и развратничая,
проповедывали пост, нищету и истязание. Людям
мешают наслаждаться или собственные их пред
рассудки, или внешние обстоятельства. Чтобы по
беждать предрассудки, надо действовать убежде
нием и примером, стало быть, для борьбы с пред
рассудками личный аскетизм Рахметова может
быть только вредным. Внешним же обстоятель
ствам, очевидно, нет никакого дела до личных
страстей и до принципов Рахметова; было бы на
ивно думать, что внешние обстоятельства проник
нутся уважением к личному бескорыстию пропо
ведника и, убедившись в собственной непригод
ности, стыдливо отойдут в сторону. Внешние об587
стоятельства, как слепые, стихийные силы, не под
даются ни на какие убеждения, как бы ни была
высока и чиста личность убеждающего мысли
теля. Впрочем, самый факт рахметовского аске
тизма нисколько не представляется мне невозмож
ным или сомнительным. Бывают натуры, в ко
торых любовь к людям, сохраняя всю пылкость
чувства, принимает непреклонность догмата, упра
вляющего всеми мыслями и поступками человека.
Чем меньше силы такого человека могут быть
приложены к внешней плодотворной деятельности,
тем больше эти силы обращаются внутрь, на са
мого деятеля, которого они тиранят без малейшей
пощады и без всякой пользы. У деятеля сердце
обливается кровью оттого, что он почти ничего
не может сделать для облегчения общих страда
ний, и он на самого себя изливает свою закон
ную досаду. «А, — говорит он себе, — ты не мо
жешь им помочь, не можешь? так вот же тебе! не
помогаешь другим, так страдай же сам вместе
с ними, страдай больше их!» И, действительно,
наваливает он'на себя груду ненужных тягостей
и стеснений. Рахметов отказывается от какогонибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько
жизнь простых людей стеснена сравнительно с его
жизнью. Но кто ж этому поверит? Какой чело
век, знающий Рахметова, может подумать, что
Рахметов когда-нибудь, во сне или наяву, забывает
о нуждах и стеснениях простых людей? А если
он никогда не забывает, то зачем же ему напо
минать себе о них ненужными лишениями? При
чина одна — общая таким натурам потребность
взимать на себя грехи мира, бичевать и распи
нать себя за все людские глупости и подлости.
Объяснить эту потребность я не умею, потому
что ее испытывают и понимают только исключи
тельные натуры; но сомневаться в действительном
существовании этой потребности значило бы от588
'
ркцать множество достовернейших исторических
явлений. В общем движении событий бывают та
кие минуты, когда люди, подобные Рахметову, не
обходимы и незаменимы; минуты эти случаются
редко и проходят быстро, так что их надо ловить
на лету и ими надо пользоваться как можно пол
нее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв
или, по крайней мере, полюбив какую-нибудь
идею, воодушевляются ею до самозабвения и за
нее бывают готовы итти в огонь и в воду; эти
минуты редки, потому что массы вообще пони
мают туго и самыми ясными идеями проникаются
чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, по
тому что энтузиазм вообще испаряется скоро, как
у отдельных людей, так и у целых народов; толь
ко в эти минуты массы способны сделать чтонибудь умное и хорошее; поэтому такими мину
тами надо пользоваться. Те Рахметовы, которым
удается увидать в своем веку такую минуту, раз
вертывают при этом случае всю сумму своих ко
лоссальных сил; они несут вперед знамя своей
эпохи и уже, конечно, никто не может поднять
это знамя так высоко, и нести его так долго и
так мужественно, так смело и так неутомимо, как
те люди, для которых девиз этого знамени давно
заменил собою родных и друзей, и все личные
привязанности, и все личные радости человеческой
жизни. В эти минуты Рахметовы выпрямляются во
весь рост, и этот колоссальный рост как раз со
ответствует величию событий; если бы в эти ми
нуты могли выступить из толпы десятки новых
Рахметовых, то все они нашли бы себе работу по
силам; но их вообще мало, и, по недостатку в та
ких людях, все великие минуты в истории чело
вечества до сих пор обманывали общие ожидания,
приводили за- собою горькое разочарование и сме
нялись вековою апатиею. В обыкновенное время,
когда господствует невозмутимая рутина, когда
589
тянутся скучные и томительные длинные истори
ческие антракты, силам Рахметова нет приложе
ния; эти силы давят и гнетут своих обладателей,
и те мелкие дела, к которым они прикладываются,
только разжигают в этих людях стремление к по
лезной деятельности, не доставляя этому страст
ному стремлению ни малейшего удовлетворения.
Вот чем занимается наш Рахметов: «гимнастика,
работа для упражнения силы, чтение — были лич
ными занятиями Рахметова; но по его возвраще
нии в Петербург они брали у него только четвер
тую долю его времени; остальное время он зани
мался чужими делами, или ничьими в особенности.
Постоянно соблюдая то же правило, как и в чте
нии: не тратить времени над второстепенными
людьми, заниматься только капитальными, от ко
торых уже и без него изменяются второстепен
ные дела и руководимые люди». Эта деятельность
была, может быть, очень обширна и важна по
своим результатам, но что она не удовлетворяла
Рахметова, это всего убедительнее доказывается
всей его системой ригоризма, которая придумана
без малейшей необходимости. Отдельные случаи,
в которых проявляется его ригоризм, могли бы
быть устранены без малейшего ущерба для его
любимого дела. Он встречается с молодою вдо
вою, которая влюбляется в него; он также чув
ствует к ней симпатию; между ними происходит
объяснение, вызванное ею, в котором он говорит:
«Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы ви
дите, что такие люди, как я, не имеют права свя
зывать чью-нибудь судьбу с своею». «Да, это
правда, — сказала она, — вы не можете жениться.
Но пока вам придется бросить меня, до тех пор
любите меня». «Нет, этого я не могу принять, —
сказал он: — я должен подавить в себе любовь;
любовь к вам свйзала бы мтте руки, они и так не
5SG
скоро развяжутся у меня, уж связаны. Но развя
жу. Я не должен любить».
Это уже ни с чем не сообразно или, вернее, со
образно только с непреодолимою потребностью
самобичевания; такие исторические деятели, кото
рые каждый день рисковали головою, не отказы
вали себе в любви и не находили, чтобы любовь
в каком-нибудь отношении связывала им руки.
Даже те люди, которых наш русский Тацит, Сма
рагдов, давно заклеймил заслуженным названием
чудовищ и злодеев, даже они (по свойственному
мне целомудрию я не называю их по имени), даже
они были люди женатые, или, еще того лучше,
имели невест и мечтали об идиллиях, которым,
конечно, никогда не суждено было осуществиться.
И руки у них — ничего, не были связаны.
Потребность обижать себя доходит у Рахметова
до того, что он буквально тиранит свое тело под
тем предлогом, что ему надо испытать, как велика
его способность переносить физическую боль.
«Спина и бока всего белья Рахметова (он был
в одном белье) были облиты кровью. Под кро
ватью была кровь; войлок, на котором он спал,
также в крови; в войлоке были натыканы сотни
мелких гвоздей шляпками с исподи, остриями
вверх, они высовывались из войлока чуть не на
полвершка; Рахметов лежал на них всю ночь. —
Что это такое, помилуйте, Рахметов? — с ужасом
проговорил Кирсанов. — «Проба. Нужно, неправ
доподобно, конечно; однакоже на всякий случай
нужно. Вижу, могу». Ну, а если бы он увидел, Что
не может, разве он переменил бы что-нибудь
в своем образе жизни, в своей деятельности?
Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил.
Стало быть, какая же это проба? Очевидно, что
все подобные выдумки происходят от избытка
сил, не находящих себе достаточно широкого и
полезного приложения.
591
Попытку г. Чернышевского представить чита
телям «особенного человека» можно назвать очень,
удачной. До него брался за это дело один Тур
генев, но и то совершенно безуспешно. Тургенев
хотел из Инсарова сделать человека, страстно пре
данного великой идее; но Инсаров, как известно,
остался какою-то бледной выдумкою. Инсаров
является героем романа; Рахметов даже не может
быть назван действующим лицом, и, несмотря на
то, Инсаров остается для нас совершенно неося
зательным, между тем как Рахметов совершенно
понятен, даже по тем немногим выпискам, кото
рые приведены в моей статье. Правда, мы не ви
дим, что именно делает Рахметов, как не видели
того, что делает Инсаров, но зато мы вполне по
нимаем, что за человек Рахметов, а, рассматривая
Инсарова, мы только до некоторой степени мо
жем догадаться о том, каковы были намерения и
желания автора. Я говорю это совсем не с той
целью, чтобы сравнивать Тургенева с г. Черны
шевским и отдавать преимущество тому или дру
гому из них. Я хочу только выразить ту мысль,
что никакой художественный талант не может по
полнить недостатка материалов; г. Тургенев не ви
дал в нашей жизни ни одного живого явления,
соответствующего тем идеям, из которых по
строена фигура Инсарова; г. Чернышевский видел,
напротив того, много таких явлений, которые
очень вразумительно говорят о существовании но
вого типа и о деятельности особенных людей, по
добных Рахметову. Если бы таких явлений не
было, то фигура Рахметова была бы очень бледна,
как фигура Инсарова. А если эти явления действи
тельно существуют, то, может быть, светлое бу
дущее совсем не так неизмеримо, далеко от нас,
как мы привыкли думать. Где появляются Рах
метовы, там они разливают вокруг себя светлые
идеи и пробуждают живые надежды.
КОММЕНТАРИИ
И ПРИМЕЧАНИЯ
ГЕН РИ Х ГЕЙН Е
Статья «Генрих Гейне» впервые напечатана в IV части
прижизненного издания сочинений Писарева, вышедшей
в свет в 1867 году. В этом 1-м издании статья не дати
рована. В издании 1897 года эта статья помещена изда
телем Ф. Ф. Павленковым в числе статей 1862 года. Дати
ровка эта оправдывается кругом идей, развиваемых П и
саревым в статье, и характером трактовки их (например,
идеи равенства). Но Писарев упоминает в статье X I том
«Сочинений Генриха Гейне в переводе русских писателей»
под редакцией П. Вейнберга, выходивших
в свет
с 1864 года, и потому надо думать, что эта статья для
1-го издания (1867 года) подвергалась редакционной
правке.
Генрих Гейне был любимым поэтом Писарева. Писа
рев выступал не только в качестве критика Гейне, но и
в качестве переводчика некоторых его сочинений.
С именем Гейне Писарев отчасти связывал свой пере
ход к реализму, как он сам называл свое мировоззрение,
или к «нигилизму», как предпочитали называть взгляды
Писарева его враги. «В 1860 году, — писал он в статье
«Промахи незрелой мысли», — в моем развитии произо
шел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим лю
бимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше
стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне
понятен переход к Молешоту и вообще к естествозна
нию, а далее идет уже прямая дорога к последователь
ному реализму и к строжайшей утилитарности».
Несмотря на то, что Гейне был любимым поэтом на
шего критика, несмотря на то, что он считал себя многим
обязанным немецкому поэту, Писарев подвергает произ«8 Д. И. Писарев
693
ведения Гейне очень строгой оценке. Он осуждает (и объ
ясняет) противоречивость его взглядов. Творчество Гейне
было в самом деле противоречивым. Писарев сумел уло
вить переходный характер поэзии Гейне. Гейне отразил
в своем творчестве переход от социальных конфликтов,
связанных с низвержением феодализма и торжеством ка
питализма, к социальным конфликтам, развертывающимся
уже в недрах самого капитализма, — между пролетариа
том и буржуазией, между коммунизмом и капитализмом.
Оттого-то и была противоречивой поэзия Гейне. Писарев
останавливается на противоречивом отношении Гейне
к проблемам революции, социализма и искусства. Он би
чует Гейне за то, .что тот двойственно относится к рево
люционной борьбе. В полемике Берне с Гейне Писарев
становится на сторону Берне, за более последовательную
демократическую и революционную позицию последнего.
Писарев высмеивает опасения Гейне перед мнимыми отри
цательными сторонами коммунистического общественного
порядка, он решительно защищает преимущества социали
стического уклада. Суровая критика Писарева обязана
была своим происхождением относительной последователь
ности социально-политической позиции самого Писарева
в этот период (1862 г.). Когда Писарев писал эту ста
тью, он был убежден, что свергнуть старый режим в Р ос
сии можно лишь в открытом революционном бою. «Тот
народ, — писал он, — который готов переносить всевоз
можные унижения и терять все свои человеческие права,
лишь бы только не браться за оружие и не рисковать
жизнью, находится при последнем издыхании. Его непре
менно поработят соседи или уморят голодной смертью
домашние благодетели». К этому времени относится и вы
ступление Писарева в нелегальной печати с призывом
к низвержению Романовых. Точно так же в статье о Гейне
Писарев убежденно ратует за преимущества социалисти
ческого строя, доказывая и его возможность, и его пра
вомочность, и его совместимость с индивидуальными осо
бенностями отдельных людей.
Писарев критикует Гейне за его противоречия в воз
зрениях на искусство, за сочетание общественно-утилитар
ной точки зрения на искусство с точкой зрения чистого
искусства. Сам Писарев занимает последовательно утили
тарную позицию в вопросах искусства. В статье о Гейне
мы видим дальнейшее развитие того взгляда, который
выражен в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров». Точ
ка зрения осталась у него та же, но суждения его стали
строже и решительнее. Теперь Писарев уже не причисляет
Майкова к полезным поэтам. Но в то же время Писарев
ь статье о Гейне еще не становится на точку зрения раз
594
рушения эстетики. «Стало быть, — пишет он, — это (ути
литарное) художество приурочено к румфбрдову супу по
лезности и составляет о д и н
из с а м ы х
важных
и питательных
его
принципов;
стало быть,
между румфордовым супом и художеством вовсе не су
ществует радикального и необходимого антагонизма». Но
в то же время в статье Писарева о Гейне уже заложена
возможность столь характерного для Писарева стремления
к разрушению эстетики: «Цель важнее средства, и сред
ство всегда должно приноравливаться к цели.. . При таком
взгляде самой лучшей оказывается та поэзия, которая
всего больше облегчает достижение н е б е с н ы х ц е л е й .
Если н е б е с н ы е ц е л и могут быть достигнуты без
содействия поэзии, то поэзия должна скромно и покорно
согласиться на самоуничтожение». В дальнейшем Писарев
и пришел к выводу, что, выражаясь гейневским языком,
небесные цели, то есть задачи социально-политического
освобождения человечества, могут быть достигнуты одной
пропагандой естествознания. Тогда он провозгласил ло
зунг разрушения эстетики.
1
П и е т и с т о м Писарев называет Р. Вагнера за е
выступления против материалистов К. Фохта и Молешота,
в которых он выявил себя как ханжа, как сторонник от
сталых взглядов.
- 2 Первые одиннадцать томов сочинений Гейне в издании
Вейнберга вышли в свет в 1864—1865 годах.
3 Под « т и т а н а м и л ю б в и » Писарев разумеет вождей
социальных и политических движений. Писарев указы
вает, что социально-политические реформаторы высту
пали первоначально в качестве вожаков религиозных дви
жений или же в качестве людей, обосновывавших свои
программы теологически, что затем, во время француз
ской революции, они стали обосновывать свои требова
ния метафизически, исходя из принципов отвлеченной
справедливости, и лишь на последней стадии человеческой
истории начали опираться в своей деятельности на науку.
В статье «Генрих Гейне» Писарев подразумевает под тита
нами любви социалистов последней стадии истории.
В дальнейшем изложении он приводит имена Прудойа,
Луи Блана и Лассаля.
4 П р е д ш е с т в е н н и к и » — деятели
и
сторонники
французской революции X V III века; « п р е е м н и к и » —
утопические социалисты различных направлений.
6
Н е з а м е н и м а я п а л а т а — т. е. палата, какой дру
гой Не сыщешь. Такое прозвище дал в 1815 г. Людовик
X V III необыкновенно услужливой и верноподданной вто
рой палате парламента.
38*
595
6 О д ы к Л и г у р и н у и Д е л и и — произведения Г о
рация.
*
7 « З а п а д и о-в о с т о ч н ы й
д и в а н » — произведение
Г ете.
8 Р у м ф о р д о в с у п п о л е з н о с т и — суп для бед
ных, приготовлявшийся из костей, крови и различных от
бросов животных продуктов по рецепту английского фи
зика и филантропа Румфорда.
Р У С С К О Е П РА В И ТЕ Л Ь СТВ О
П О Д П О К Р О В И Т Е Л Ь СТ В О М Ш Е Д О -Ф Е Р Р О Т И
Статья Писарева о брошюре Шедо-Ферроти предна
значалась для нелегальной печати. История ее такова.
Брошюра Шедо-Ферроти была направлена против Гер
цена. Имя Герцена, со времени его эмиграции, было за
прещено даже к упоминанию в легальной русской печати.
Однако цензурные рогатки, как известно, не смогли при
остановить ни огромного влияния Герцена, ни широкого
проникновения в Россию издававшегося им за границей
«Колокола». В 60-х годах правительственные круги, бо
рясь с оппозиционными и революционными влияниями,
решили противопоставить влиянию Герцена не только ре
прессивные мероприятия, но и мероприятия идеологиче
ского порядка. Путь для этого был избран следующий.
Агенту русского министерства финансов барону Ф. П.
Фирксу было поручено написать ряд брошюр против Гер
цена. Чтобы придать этим писаниям вид голоса независи
мого общественного мнения, они были изданы за грани
цей на французском языке; но в то же время они были
разрешены к свободной продаже в России. Фиркс же, что
бы скрыть свое авторство, подписал брошюры псевдонимом
Шедо-Ферроти. Брошюрки Шедо-Ферроти вызвали всеоб
щее возмущение в левом лагере русской публицистики.
У Писарева, развивавшегося под сильным влиянием работ
Герцена, естественно, брошюрки эти вызвали также силь
нейшее негодование. Против одной из н и х— «Lettre de m-г
Herzen 4 l’ambassadeur de Russie 4 Londres avec une r£plique et quelques observations de D. K. Schedo-Ferroti»
(«Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с от
ветом и некоторыми примечаниями»), напечатанной в от
вет на открытое письмо Герцена к русскому послу в Лон
доне Бруннову «Бруты и Кассии III отделения», — Писа
рев и написаЛ эту статью.
Статья эта, написанная в разгар наиболее революцион
ных настроений Писарева, предназначенная для нелегаль
ной, так называемой «карманной» типографии, организо
596
..
ванной Баллодом, содержит в себе открытый призыв
к низвержению самодержавия.
По признанию самого Писарева в показании 11 авгу
ста 1862 года статья о Шедо-Ферроти была написана при
следующих обстоятельствах: «Впечатления эти были: за
крытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного'
клуба (последний был больще литературным клубом, где
собирались оппозиционно настроенные деятели литературы
и журналистики), приостановление журналов «Современ
ник» и «Русское слово», упразднение II отделения Лите
ратурного фонда. Все это волновало меня и отражалось
на моей статье. Поэтому она написана резко, заносчиво
и доходит до таких крайностей, которые в спокойном
расположении не одобряю» (взято из книги М. К. Л е м к е
«Политические процессы в России 1860-х годов». Гнз,
изд. 2-е, 1923, стр. 562). Статью эту Писарев, однако, нс
успел напечатать. Типография Баллода провалилась, а
Баллод и Писарев были арестованы. Писарев поплатился
за нее заточением в Петропавловскую крепость. Напеча
тана была эта статья впервые в 1-м издании книги
М. К. Л е м к е «Политические процессы 60-х годов»
(1907 г.) с цензурными сокращениями, которые были вос
становлены во 2-м издании книги (1923 г.).
Для данного издания берем текст из 2-го издания книги
М. К. Лемке. Несмотря на поиски подлинника статьи
в деле о Писареве в архиве III Отделения, нам не уд а
лось найти подлинник и сверить с ним имеющийся печат
ный текст. В деле Правительственного сената (5 департа
мент, 1 отделение) «о студенте Баллоде, Рымаренко и др.»
1863 года, № 7, т. IV (л.л. 275—296), хранящемся в «А р
хиве революции и внешней политики» в Москве, имеется
канцелярской рукой снятая копия с текста этой статьи
Писарева, включенная в обвинительный акт, — с этой ко
пией мы и сверили печатный текст. Существенных разно
гласий между текстами не оказалось.
1 Писарев здесь намекает на то, что 1 января 1862 года
министром народного просвещения предписано было цен
зуре не допускать никаких резкостей и оскорблений по
адресу Чичерина, в то время публициста «Нашего вре
мени».
2 « З а х в а т и л и о б м а н о м » Бакунина в 1851 году
в Саксонии за революционную деятельность на Западе и
выдали русскому самодержавию.
“ Подвиг
капитана Александрова
состоял
в том, как сообщается в прокламации, что Александров,
получив приказ царя но телеграфу по поводу предпола
гавшейся демонстрации в Варшаве — «разгонять холодным
397
оружием, а если нужно, то употреблять картечь», передал
губернатору Лидерсу иначе: что приказано действовать
увещаниями. За это Александров был приговорен к рас
стрелу, но вместо этого сослан на вечную каторгу. (Подр.
см. у М. К. Л е м к е — «Политические процессы в России
1860-х годов», изд. 2-е, 1923, стр. 550—551.)
4 В Варшаве в 1861— 1862 годах происходили волнения,
которые правительство ликвидировало военной силой.
5 В Казанской губ. в связи с объявлением манифеста
об освобождении крестьян произошли волнения в ряде
сел, вылившиеся в восстание и закончившиеся расстрелом
крестьян.
в П о ж а р ы в П е т е р б у р г е в мае— июне 1862 года
были провокационно устроены правительством для борьбы
с революцией.
7 « Д в а ж у р н а л а з а к р ы т ы » : это «Современник»
Некрасова и «Русское слово», где работали Писарев, Зай
цев и д р.; оба журнала были приостановлены на 8 меся
цев в июне 1862 года.
РЕА Л И С Т Ы
Статья «Реалисты» впервые напечатана в журнале
«Русское елово» 1864 г., сентябрь, октябрь и ноябрь, под
названием «Нерешенный вопрос» (в сентябрьской книге
главы I— IX, в октябрьской — X —X X I и в ноябрьской —
X X II—X X X IV ).
Статья была написана Писаревым во время пребывания
в Алексеевской равелине; время написания можно уста
новить лишь приблизительно. Начало этой статьи петер
бургский генерал-губернатор князь Суворов послал в С е
нат вместе со статьей «Кукольная трагедия с букетом
гражданской скорби» и окончанием статьи «Прогресс
в мире животных и растений» 20 июня 1864 года, а окон
чание— 8 августа; следовательно, нужно думать, статья
написана
в пределах
июня—июля 1864 года
Сем.
М. К. Л е м к е «Политические процессы в России 1860-х
годов», изд. 2-е, 1923, стр. 577).
«Реалисты» являются самой знаменитой статьей Писа
рева. Написанная со всем блеском его литературного та
ланта, с огромным публицистическим задором, она зани
мает центральное место в выступлениях Писарева второй
половины его деятельности, после поражения револю
ционно-освободительного движения 60-х годов.
Статья эта написана в 1864 году, когда прошел уже
значительный срок после разгрома партии Чернышевского
и после ареста самого Писарева. Изменившаяся политиче598
ская ситуация обусловила существенную перемену во
взглядах Писарева. Писарев очень остро воспринял сла
бость революционно настроенных передовых людей в Р ос
сии его времени, их малочисленность, их изолированность,
отсутствие прочной поддержки для них как со стороны
массового движения, так и со стороны так называемого
образованного общества. Как известно, Писарев любил
отождествлять передового человека 60-х годов с тургенев
ским Базаровым. О положении же Базарова в окружаю
щем его обществе Писарев в «Реалистах» писал следую
щее:
«Трагизм
базаровского
положения
заключается
в
его
полном
уединении
среди
всех
живых
людей,
которые
его
о к р у ж а ю т . Он везде производит своей особой резкий
диссонанс, он всех заставляет страдать своим присутствием
и существованием, он сам это видит и понимает, и пони
мает, кроме того, с мучительной ясностью роковые при
чины и абсолютную неизбежность этих страданий. Люди,
окружающие Базарова, страдают не оттого, что он посту
пает с ними дурно, и не оттого, что они сами дурные
люди, напротив того, он не делает в отношении к ним ни
одного дурного поступка, и они с своей стороны также
очень добродушные люди. И т е м х у ж е , т е м м у ч и
тельнее
и безвыходнее
его
положение.
Нет
причин для
разрыва
и нет в о з м о ж
ности
сблизиться.
Нет
возможности
по
тому,
что
нет
ни
одного
общего
инте
реса,
ни о д н о г о
такого
предмета,
кото
рый с о д и н а к о в о й с и л о й з а т р о н у л бы у м
ственные
способности
Базарова
и
его
собеседников».
Дело людей 60-х годов вовсе не пропало даром. Именно
с 60-х годов начинается в довольно широком масштабе
формирование кадров, сознательно враждебных самодер
жавно-крепостническому режиму и политически активных.
Публицистическая деятельность Писарева сыграла нема
лую роль в этом процессе. Но сам Писарев, не имевший
прочной связи с революционными кружками, опыт поли
тической деятельности которого был недостаточно обши
рен, не замечал этого процесса. Чувство горечи, политиче
ского бессилия, одиночества в качестве человека передо
вого лагеря, усугубленное сиденьем в тюремной одиночке,
в нем возобладало.
Но в то же время Писарев не хотел отказываться от
своих идеалов. «Для реалиста идея общечелове'кской со
лидарности есть просто один из основных законов чело
веческой природы», — писал он об этом языком публициста-просветителя. Вот из сочетания этих двух моментов:
593
разочарования в эффективности революционных усилий
передового меньшинства и стремления к преобразованию
России на основе западноевропейских демократических на
чал— и происходила эволюция Писарева вправо, эволю
ция, типичная для мелкобуржуазной, разночинной ради
кальной интеллигенции.
Обострение социальных отношений в России 60-х го
дов, достигшее в 1862 году своей высшей точки, переход
правительства в крутое наступление против освободитель
ного движения заставили Писарева отбросить в сторону
всякие сомнения и открыто призвать к революции. Однако
поражение движения 60-х годов и волна реакции, захва
тившая значительную часть общества, вызвали спад рево
люционных настроений и у Писарева, он стал искать спо
собов разрешения проблемы переустройства социально
политического строя России иными, не революционными
средствами. В то же время он иначе стал ставить вопрос
о социализме; он выступает уже не как социалист, а как
реформатор, ищущий таких мероприятий, при помощи ко
торых можно было бы уничтожить язвы капитализма
в пределах самого капитализма. Эта позиция и развита
Писаревым в «Реалистах».
Распространение в среде передовой молодежи есте
ствознания, полезный труд каждого «реалиста» на его по
прище, где он будет применять добытые знания на прак
тике, пересоздадут, по мнению Писарева, социально-поли
тические условия России «химическим», то есть мирным,
реформистским, нереволюционным путем. Что же касается
неравенства капитала и труда, то оно, «как явление жи
вой природы, не подлежит, конечно, реформирующему
влиянию человека».
Все это свидетельствует о том, что Писарев и в так
тике и в социальных воззрениях отступал назад от тех
позиций, которых он было достиг в своей статье «Генрих
Г ейне».
Писарев отразил в своем умственном развитии колеба
ния мелкобуржуазной демократии в России 60-х годов.
Перестройка воззрений Писарева не могла не отра
зиться на его литературных и вообще эстетических взгля
дах. Все явления умственной и общественной жизни он
стал располагать по двум рубрикам: в одной он помещал
те явления, которые способствуют усвоению научного,
или, вернее, естественнонаучного мировоззрения, а в дру
го й — все, что мешает этому усвоению. Все, помещенное
в первой рубрике, он считал полезным, способствующим
обновлению человечества; все, помещенное во второй, —
вредным тормозом прогресса. Искусство как специфический
объект исследования потеряло для него окончательно вся600
кий интерес. Он перестал различать качественную особен
ность литературы и искусства. «Существенная разница. —
писал Писарев,— заключается не в том, что одни призна
ют, а другие отрицают искусство — это только второсте
пенные выводы; можно быть эстетиком, не выходя из
сферы чисто практических интересов, и можно быть реа
листом, с любовью изучая Шекспира и Гейне, как гениаль
ных и великих людей». Писарев чрезвычайно расширил
пределы понятия «эстетика». Оно стало обозначать у него
рутину, всякую бесцельную растрату сил и средств, всякое
отклонение от утилитарных целей «реализма», прикрытое
пустыми, но звучными словами. Считая искусство в соб
ственном смысле этого слова одним из проявлений этой
«эстетики», одним из главных, если не главным препят
ствием, стоящим поперек дороги распространения есте
ствознания, Писарев ополчился и на искусство и на х у
дожественную литературу. За литературой и искусством
он признал право только как за одной из форм популя
ризации естественнонаучных знаний. Наука дает материал
художественному произведению, задача которого — позна
комить мало подготовленного читателя в доступной фор
ме с этим материалом. Как на образец такого утилитар
ного искусства Писарев указывал на «Иллюстрированную
жизнь животных» Брема. Писарев пришел уже к разру
шению эстетики.
Справедливость заставляет, однако, отметить, что но
вая точка зрения Писарева на искусство не лишила его
способности понимать и ценить художественные произве
дения: тому доказательством может служить очень тонкий
и очень тщательный разбор «Отцов и детей» в «Реалистах».
1 Писарев здесь высмеивает проводимую малодарови
тым, умеренно-либеральным драматургом Вл. Вл, Л ьво
вым (1804—1856) идею в комедиях «Свет не без добрых
людей» («Отечественные записки» 1857 г.) и «Предубежде
ние или не место красит человека, а человек место» («Оте
чественные записки» 1858 г.) о том, что лица с универси
тетским дипломом должны итти служить в полицию.
* «Сигара» Р а х м е т о в а
была предметом широ
кого обсуждения в литературе 60-х годов; о ней писали
Н. И. Соловьев («Эпоха», 1864, № 12, статья «Женщинам»);
Ф. М. Достоевский (в журнале «Эпоха»); Писарев в статье
«Посмотрим» и М. Антонович в статье «Лже-реалисты»
(«Современник», 1865, июль).
3
О романе Тургенева «Отцы и дети» Антонович нап
сал статью «Асмодей нашего времени» («Современник»,
1862, март), в которой резко_ отзывался о романе, видя
в нем пасквиль на молодое поколение.
601
4
О
«железных кольцах, продетых
в н
здри»
говорится в романе Станицкого (псевдоним
А. Я. Панаевой) «Женская доля», напечатанном в III—V кн.
«Современника» за 1862 год и вышедшем отдельным изда
нием в 1864 году. О нем Писарев написал статью «Куколь
ная трагедия с букетом гражданской скорби» (напечатана
в августовской книге «Русского слова» за 1864 г.).
6 Автором повести «Женитьба от скуки», напечатанной
в журнале «Русское слово», 1863, кн. VII—VIII. был Г. Е.
Благосветлов.
“ «Лукошко
российского
глубокомыс
л и я » — обидное выражение, направленное Писаревым по
адресу М. А . Антоновича.
7 « Б е з д о н н а я б о ч к а Д а н а и д » — в переносном
смысле непроизводительный труд. По греческому преда
нию 49 дочерей Даная (Данаиды) за убийство своих ж е
нихов были наказаны тем, что они должны были в аду
наливать воду в бездонную бочку.
“ М о с к о в с к и е к р у ж к и — славянофилов и запад
ников; кружок последних и его участников: Н. Станкеви
ча, Н. Кетчера, В. И. Красова Тургенев изобразил в ро
мане «Отцы и дети» в виде кружка Покорского и его
членов (Покорений — Станкевич; Субботин — К р асо в н д р ),
увлекавшихся философией Шеллинга и Гегеля.
“ « Р о з ы Ф е о к р и т а » — символ неприемлемой для
утилитариста Писарева изнеженной поэзии.
10 Писарев, начав свое философское развитие с меха
нистического материализма, развивался в сторону позити
визма. Писарев никогда не делал из позитивизма идеали
стических и религиозных выводов; его позитивизм был
окрашен в материалистические тона, но тем не менее при
знание позитивистических теорий свидетельствовало о сни
жении философского уровня в его развитии; отрицание
даже философской системы Бюхнера, ссылка на изучение
лишь того, что можно «видеть, измерять и вычислять», и
свидетельствовали о развитии Писарева в сторону пози
тивизма.
11 Писарев имеет в виду свою статью о «Грозе»
Островского под заглавием «Мотивы русской драмы».
Основное расхождение между Писаревым и Добролю бо
вым в оценке характера Катерины сводилось к следую
щему; Добролюбов видел в характере Катерины признаки
пробуждения народной революции, Писарев же увидел
в Катерине доказательство своей основной мысли, что все
беды русского народа коренятся в недостатке естественно
научного образования.
12 Писарев, как механист, не понимал диалектики, по
этому он относился отрицательно не только к идеализму
602
Гегеля, но и к его методу, к диалектике. Отрицательное
отношение к Гегелю Писарев переносил и на гегельянство
Белинского.
13 И о н а-ц и н и к — герой одноименного романа А. Ф.
Писемского, напечатанного впервые в «Библиотеке для
чтения» (1863 г., январь).
14 Писарев не совсем точно пересказывает рассужде
ния Добролюбова о педантах в статье «Луч света в тем
ном царстве» (см. Поли. собр. соч., т. II, Гослитиздат.
1936, стр. 320 и др.).
15 Виктор Гюго жил в Брюсселе в эмиграции два
дцать лет в продолжение существования Второй империи,
после того как выступил в печати (в 1850—1851 годах)
против Людовика Наполеона Роман «Les Miserables» («От
верженные») вышел в свет в 1861 году.
16 К а р и к а т у р о й называл роман «Отцы и дети»
в «Современнике» М. А. Антонович; как правдивое обли
чение роман трактовали критики «Отечественных записок»,
«Библиотеки для чтения», «Русского вестника».
17 В реакционно-публицистической статье «Из деревни»
(«Русский вестник», 1863, январь и март) А. А. Фет жало
вался на нерадивость работника Семена, на то, что он об
крадывал доброго помещика Шеншина и т. п. Это высту
пление Фета широко обсуждалось в печати того времени.
,3 Совет Щедрину заняться компиляциями по есте
ственным наукам Писарев высказал в своей статье «Цветы
невинного юмора» (1864 г.) (см. в т. I «Избр. соч. Писа
рева», ГИ Х Л , 1934, стр. 499—527).
10 Статья Д. В. Аверкиева (1836— 1905), в которой он
полемизировал с Д. Писаревым по поводу его статьи
«Наша университетская наука», напечатана в журнале
«Эпоха», 1864, кн. I—III.
20 Статьи П. Л. Лаврова по философии в то время
вышли отдельным сборником под названием «Очерки во
просов практической философии» (СПБ. 1860), о котором
писал Н. Г. Чернышевский в известной работе «Антропо
логический принцип в философии» («Современник», 1860,
№ 4 и 5, и «Поли. собр. соч.», т. V I, СП Б. 1906).
Р О М А Н К И С Е Й Н О Й Д ЕВ УШ К И
Статья «Роман кисейной девушки» впервые напечатана
в журнале «Русское слово», 1865 г., январь, под другим
названием: «Мыслящий пролетариат». Статья была на
писана во время пребывания в Алексеевской равелине, но
более точных сведений о времени ее написания нет. Д а
тирована статья в 1-м издании (1866 г., часть 3) январем
1865 года.
603
Текстуальные отличия журнального текста от 1-го из
дания (1866 г.) и последующих значительные; здесь пе
чатаем текст «Сочинений».
Статья Писарева, посвященная разбору произведений
Помяловского, свидетельствует о росте его демократиче
ских симпатий, шедшем непрерывно при всех изменениях
в его умственном развитии. Помяловский, выходец из низ
шего духовенства, прошедший суровую школу бурсы,
в своих произведениях рисовал низы разночинной демо
кратии, сознательно противопоставляя эти низы барству.
Писарев, сам выходец из дворян, превратившись в идео
лога разночинной мелкой буржуазии, пропитывается сим
патиями к трудовым элементам мелкой буржуазии. Для
деятелей исторического прогресса он считает чрезвычайно
важным соединение ума и труда, образованности и ре
месла, профессии инженера, врача, агронома и т. д. Герой
Помяловского, Молотов, сын мещанина-слесаря, получив
ший высшее образование, не мог не заинтересовать Пи
сарева.
В отношении Писарева к Молотову в то же время рас
крывается и другая чрезвычайно характерная для него
черта: в дворянско-либеральной литературе того времени
широко была распространена тема: человек и среда, тема
бессилия передового человека перед косной и засасываю
щей его средой. Писарев же протестует против превраще
ния героя, разночинца-демократа, в обывателя, даже под
влиянием среды. Писарев и после неудачи движения 60-х
годов сохранил бодрость, но не отчаялся, по-своему не
примирился с самодержавием и крепостничеством. Его
тактика стала развиваться вправо, но он вовсе не думал
окончательно отказаться от борьбы. Поэтому он с неодо
брением относится к толкам о среде, которая заедает че
ловека, не дает ему возможности бороться и т. д.
«Борьба, — писал Писарев в разбираемой статье,—
продолжается до тех пор, пока человек не одерживает по
беды над своим врагом, или до тех пор, пока он сам не
падает замертво на поле сражения». Обосновывая необхо
димость борьбы, Писарев начинает, однако, рассуждать
как субъективист, тем самым подготовляя торжество субъ
ективному методу в социологии после Чернышевского. М и
хайловский в полемике с марксизмом обосновывал права
субъективного метода аргументами, сходными с аргумен
тами Писарева: «Все должно быть так, как есть в действи
тельности, — писал Писарев. — Согласен. Но если я недо
волен тем, что я вижу вокруг себя, то и недовольство мое
также должно быть и не может не сущ ествовать... «я» —
также явление: и если «я» чего-нибудь хочет, ищет, домо
гается, то зачем же стеснять его естественные стремле-
604
ния?» «Человек со всеми своими помыслами, чувствами и
действиями составляет одно из звеньев причин и след
ствий. Но он участвует в этой цепи и как активный фак
тор: он сознательно . . . становится сам причиной извест
ного рода явлений, для чего ставит себе известные
цели!» — писал Михайловский. Причинный ряд объясняет
только прошлое, по мнению субъективистов. Направление
будущего развития зависит от сознания и усилий истори
ческих деятелей. Ход истории в дальнейшем определится
уровнем теоретического развития интеллигенции, по Писа
реву, или же уровнем нравственного ее развития, по Лав
рову и Михайловскому. Ход мыслей здесь одинаков и
у Писарева и у Михайловского: все они ход историче
ского развития ставят в зависимость от произвола интел
лигенции; все они не могли понять, что борьба всякой
общественной группы может быть успешной лишь тогда,
когда опирается на законы развития самой деятельности.
Все это свидетельствует о том, что деятельность Писарева
была этапом, подготовлявшим смену господства идей Чер
нышевского— Добролюбова господством идей Лаврова —
Михайловского.
1 П р о л е т а р и е м Писарев называл всякого трудя
щегося, в том числе ремесленников и людей умственного
труда. Для обозначения людей последней категории Пи
сарев употреблял еще термин «мыслящий пролетарий».
г « П о ч в е н н и к и » — литературно-политическая груп
па в 60-е годы, представлявшая разновидность славяно
фильства, более демократическая по социальному составу,
но не менее реакционная политически. Она объединяла
братьев Достоевских, Страхова, Ап. Григорьева и др.
3 Писарев здесь намекает на статьи реакционного и
малодаровитого критика «Эпохи» Н. И. Соловьева — «Тео
рия безобразия» («Эпоха», кн. VII, 1864 г.) и «Теория поль
зы и выгоды («Эпоха», кн. II, 1864 fl).
* Loucocheco (лукошко) — иронически-обидное выражение,
которое в статье «Реалисты» Писарев применял к М., А . Анто
новичу, желая самым резким образом дискредитировать этого
критика за выступление против романа Тургенева «Отцы
й дети». (Ср. о «лукошке» в статье Г. Е. Благосзетлоза в жур
нале «Русское слово», 1864, декабрь.)
6 Ап. А. Григорьев б е л о й А р а л и е й называл ро
ман Чернышевского «Что делать?» в статье «Отживающие
в литературе явления», посвященной разбору творчества
Л. Толстого («Эпоха», 1864, кн. VII, стр. 51). По мнению
Ап. Григорьева, осуществление идей Чернышевского, вы
сказанных им в романе, так же невозможно, как существо
вание белой Арапии (арап — негр, чернокожий).
605
ПУШКИН И БЕЛИНСКИЙ
Статья «Пушкин и Белинский» впервые напечатана
в журнале «Русское слово» 1865 г., апрель и июнь. В ж ур
нале она разделена на две статьи с такими названиями:
первая статья имела заголовок — «Евгений Онегин», вто
рая — «Лирика Пушкина». Интересно отметить, что Писа
рев, отрицавший в ту пору поэзию и стихи, в первой же
главе заявил, что «делая выписки из Пушкина, я, для сбе
режения места, буду писать стихи в строку, как презрен
ную прозу» — и действительно стихи напечатаны в жур
нале сплошными строками.
Статья написана также во время пребывания Писарева
в Алексеевском равелине, но более точных данных для
приурочения ее к определенному сроку в литературе не
имеется.
Сочинения Белинского, точнее говоря, его 5-ю статью
о Пушкине, цитирует Писарей по VIII части издания
Г. Солдатенкова и Н. Щепкина (1860 года), которое в со
ставе 12 частей позднее выдержало несколько изданий.
Ссылки на страницы «Материалов для биографии П уш
кина», собранных П. В. Анненковым, Писарев делал по
изданию 1855 — 1857 годов. Здесь мы перевели нумерацию
страниц на более распространенное 2-е издание этой
книги (1873 года).
Появление острых и парадоксальных статей Писарева
о Пушкине и Белинском было подготовлено целым рядом
обстоятельств. Вопросы литературы в России 60-х годов
стояли часто в ц е н т р е классовой борьбы общественных
направлений, так каю условия самодержавного реяшма за
крывали возможность прямых политических выступлений
в печати или с публичной трибуны. Поневоле приходилось
общественно-политическую программу развертывать оби
няком, подчас «эзоповским языком», в статьях литера
турно-критического порядка.
Вождь
революционных демократов-шестидесятников
Н. Г. Чернышевский высоко ценил Пушкина. Чернышев
ский и его сторонники указывали, что все дальнейшее
развитие русской литературы было подготовлено деятель
ностью Пушкина, что последний много сделал для про
буждения в русском обществе литературных и гуманных
интересов. Однако лагерь Чернышевского предпочитал
Пушкину Гоголя. «Мертвые души» Гоголя Чернышевский
называл колоссальнейшим из первостепенных произведений
русской литературы. Объясняется это тем, что в литера
турно-художественных произведениях Гоголя Чернышев
. ский видел воплощение более живых, более актуальных
общественных интересов, чем в произведениях Пушкина.
ССб
Для лагеря Чернышевского Пушкин был слишком дво
рянский поэт, в произведениях же Гоголя революционные
демократы-шестидесятники находили богатый материал
для острой критики самодержавно-дворянского строя.
Наоборот, все группы консервативно-либерального ла
геря, прикрываясь теорией «чистого искусства», пытались
превратить имя Пушкина в знамя реакции, пытались под
видом защиты поэтического авторитета Пушкина поме
шать художественной литературе и литературной критике
служить политическим целям освободительного и револю
ционного движения.
Статьи Писарева о Пушкине и о Белинском явились
следствием его понимания расстановки общественных сил
и тактических задач «мыслящих реалистов» в России вто
рой половины 60-х годов, после неудачи коренного пре
образования общественно-политического строя в России
«снизу».
Разочаровавшись в революционных способах политиче
ской перестройки России, продумывая тактику решения
задачи своего поколения мирным, не революционным пу
тем, Писарев остался в то же время резким противником
реакционного лагеря, представители которого фальсифи
цировали Пушкина, делая его своим знаменем в борьбе
с публицистической критикой 60-х годов. Писарев и попы
тался своими статьями выбить оружие из рук своих про
тивников, доказывая, что Пушкин — лишь умелый версифи
катор, но что поэзия его ничтожна и вредна и что Белин
ский жестоко ошибся в своей оценке Пушкина.
Писарев стал считать, что общественно-политические
задачи его времени можно решить только распростране
нием естествознания., Все, что мешает прямой пропаганде
естествознания, Писарев стал рассматривать как препят
ствие к общественно-политическому преобразованию Р ос
сии. В этой связи он стал рассматривать эстетику как не
что вроде опиума для интеллигенции, который своей дур
манящей силой отвлекал и людей и средства от насущ
ной задачи изучения и распространения естествознания.
Эстетику необходимо разрушить, как препятствие к пре
образованию российской действительности, — вот вывод,
к которому пришел Писарев на основании своей тактики
во вторую половину 60-х годов. Разделавшись, как пола
гал Писарев, с общетеоретическими основами существова
ния эстетики, он попытался приложить свою теорию раз
рушения эстетики к творчеству самого великого русского
поэта, славу которого пытались использовать в свою поль
зу политические противники Писарева. Писареву, с его
точки зрения, это тем более было необходимо сделать, что
величайший русский критик Белинский, взгляды которого
607
оказывали огромное влияние на все левое крыло обще
ственной мысли в России, очень и очень высоко ценил
творчество Пушкина. Чтобы убедить передовую молодежь
своего времени в правоте своих взглядов, Писареву не
обходимо было доказать, что Белинский ошибался. П о
этому статьи Писарева посвящены не просто творчеству
Пушкина, но и опровержению взглядов на него Белин
ского. Со ссылки на взгляды Белинского и начинаются эти
знаменитые статьи Писарева.
Таким образом необычайно радикальные по своему
внешнему впечатлению статьи Писарева явились следствием
его осужденной на неудачу попытки разрешить задачу
революционного преобразования России без применения
революционных средств борьбы.
Сейчас не представляет уже никакого труда указать на
грубейшие ошибки в статьях Писарева, развенчивающих
Пушкина. Писарев отождествляет творение с творцом, тип,
созданный Пушкиным, с самим Пушкиным. Писарев не по
нимал, что задача критики — в с к р ы т ь идейный смысл
целостного художественного произведения или даже все
го художественного творчества писателя, вскрыть смысл,
заключенный в движении образов, типов, сюжета и лири
ческих выражений чувств в искусстве. Писарев просто
отождествляет Евгения Онегина с Пушкиным и свою
оценку Онегина прямо и непосредственно переносит на
самого Пушкина. «Обычай — деспот меж людей», — цити
рует Писарев Пушкина и добавляет: «Ну, разумеется, и
притом обычай всегда останется деспотом меж таких фи
лософов, как Онегин и Пушкин». Для нас теперь азбука,
что нельзя отождествлять автора с его типом. Да это
просто невозможно, когда имеешь дело с таким писателем,
как Пушкин, давшим целую галлерею образов — великих и
малых, добрых и злых, исторических деятелей и частных
людей.
Отождествление писателя с его типом опиралось у Пи
сарева на упрощенно нетерпимую оценку Писаревым идео
логического лица писателя. Писарев мерил писателя, как
аршином, масштабом своей программы деятельности. Если
взгляды писателя совпадали с этим аршином, он его при
нимал; если же писатель хоть частично не умещался в писаревскую мерку, он его целиком и полностью отвергал,
причем эту операцию Писарев применял не только к со
временникам, но и к тем писателям, деятельность кото
рых протекала в иной исторической обстановке, как к тому
же Пушкину,, например. Писарев и не пытался, и не мог
оценить смысл творчества писателя в его конкретно-исто
рическом значении; в этом был основной недостаток его
критики и корень всех его ошибок. Писарев — просвети6 08
тель, в его взглядах элементов диалектики было неизме
римо меньше, чем во взглядах Белинского, Чернышевского
и Добролюбова. Писарев рассматривает творчество П уш
кина с абстрактной, отвлеченной точки зрения, а не с исто
рической, классовой. Поэтому Писарев не может объяс
нить творчество Пушкина, он лишь морально осуждает
Пушкина, как и крепостнический строй, в условиях кото
рого творил великий русский поэт. Что же касается ука
зания на дворянский характер творчества Пушкина, то
это не было собственным открытием Писарева. Оценку
эту он мог позаимствовать у критикуемого им Белинского,
впервые указавшего на сословную идеологическую окрас
ку творчества Пушкина. Конечно, Белинский не был и не
мог быть марксистом. Природы классов и значения классо
вой борьбы в истории он не понимал г л у б о к о . Но все
же Белинский оценивал значение Пушкина с историческлконкретной и исторически-относительной точки зрения.
Будучи
мысл ите лем- мета физиком,
пря
молинейно,
а не д и а л е к т и ч е с к и п о с л е д о
в а т е л ь н ы м , Писарев доводил до абсурда точку зре
ния его великих предшественников — Белинского, Черны шевского и Добролюбова и в вопросе о служебной роли
искусства в общественной жизни, и в оценке отдельных
корифеев русской литературы, в данном случае — П уш
кина.
Сбрасывая Пушкина за борт искусства, Писарев моти
вировал это не только общественно-политически, но и
эстетически, нарочито отрицая пластическую художествен
ную силу пушкинского творчества. Мы говорили•— «наро
чито», потому что у Писарева был очень хороший вкус.
Что же касается взглядов и приемов критики Белинского,
то Писарев испытал на себе сильное влияние с их сто
роны. Так, оправдание и защита тургеневского Базарова
ведется Писаревым во многом теми же приемами, что за
щита Белинским О н е г и н а от обвинений в безнравствен
ности.
Основной прием, который применяет Писарев для выне
сения отрицательной оценки пластической художественной
силы пушкинского творчества, состоит в противопоставле
нии поэтическим понятиям соотносительных им прозаиче
ских или далее иронических терминов. Прием этот выте
кает из писаревского понимания эстетики, согласно кото
рому поэзия и искусство есть лишь нарядная словесная
мишура, прикрывающая рутину и пошлость. Разоблаче
ние того или иного художника и состоит поэтому, со
гласно Писареву, во вскрытии пошлого или даже реак
ционного содержания, таящегося под поэтической заве
сой. Одна из самых основных ошибок Белинского и за3» Д . И . Писарев
609
ключается, по мнению Писарева, в том, что Он поверил
лживым словам Пушкина, не разглядев за ними мизерного
содержания.
Восставая против эстетики и Пушкина как одного из
самых ярких ее представителей, Писарев подчеркивает
приемлемость искусства лишь как технического приема для
популяризации полезных истин. Для людей, имеющих ми
росозерцание и желающих выразить его в художественной
форме, последняя является только ремесленным приемом.
«Художественная
виртуозность, — пишет Писарев, — для
каждого из них является только средством выразить в об
щепонятных и привлекательных формах то, что составляет
внутреннее содержание, внутренний смысл, жизнь и силу
их энергических и резко очерченных личностей. Худож е
ственная виртуозность для них то же самое, что прилич
ное платье для каждого из нас. Когда вы отправляетесь
в общество, вы, конечно, заботитесь о том, чтобы ваше
платье было опрятно и не изорвано, но, разумеется, вы
отправляетесь в общество не затем, чтобы показать людям
ваше новое платье».
Писарев не сумел, конечно, сбросить Пушкина с пьеде
стала, как не сумел и разрушить эстетику. Но статьи Пи
сарева о Пушкине остаются одним из интереснейших па
мятников классовой борьбы в общественной мысли Р ос
сии второй половины 60-х годов.
« Р о м а н с о б р е в н е » был очень распространен
в 60-х годах, — на такие стихи романса Писарев намекает
и далее в этой статье:
■
Вдруг я вижу, чья-то ножка
Оперлася на бревно.
Я влюблен был в эту ножку, —
Но вам это все р авн о.. .
И сказал я чрез окошко:
«Ах! зачем я не бревно!»
! А н т а л к и д о в м и р (387 до н. э.) —■ мир между
Персией и Спартой, по условиям которого греческие го
рода в Малой Азии перешли под власть Персии.
3 Д о г о в о р О л е г а (первого киевского князя из
рода Рюрика) с греками состоялся после удачного похода
Олега в 907 году на Царьград (Константинополь), когда
Олег повесил свой щит «на вратах Цареграда».
“ Священный
с о ю з — был заключен Германией,
Австрией и Россией в сентябре 1815 года для объединения
сил монархической и феодальной реакции.
610
* В е н с к и й к о н г р е с с (1814— 1815) — съезд пред
ставителей европейских государств после победы над Н а
полеоном; деятельность съезда носила реакционный х а
рактер.
6Карлсбадские
конференции
(1819), со
званные по инициативе Меттерниха, одного из организа
торов «Священного союза», для борьбы с революционными
и оппозиционными настроениями в Европе. Эти конферен
ции закрепили торжество реакции во внешней и внутрен
ней политике Германии.
7 Б у к е е в с к а я о р д а — степная область Астрахан
ского края по левому берегу Волги. В конце X V III в. один
из киргизских ханов Букей, с разрешения русского пра
вительства, привел сюда и поселил более тридцати тысяч
киргизов.
8 Письма Ап. Григорьева к Страхову были напечатаны
в журнале «Эпоха», 1864, кн. IX.
Р А З Р У Ш Е Н И Е ЭСТ ЕТИ К И
Статья «Разрушение эстетики» впервые напечатана
в журнале «Русское слово», 1865 г., май. Статья написана
также в Алексеевской равелине; более точными сведе
ниями о времени написания этой статьи мы не распола
гаем. Отличия журнального текста от текста 1-го издания
(1866 года) и последующих, вплоть до 5-го издания, су
щественны. В журнале статья имеет 9 глав; а во всех
существующих изданиях Писарева, начиная с 1-го, она пе
чаталась в сокращенном виде, в составе первых 7 глав;
последние же VIII и IX опускались. Кроме того, в ж ур
нальном тексте имеются дополнения: небольшое в конце
III главы [начиная со слов: «потому что вопрос об искус
стве понимается до сих пор совершенно превратно»
(стр. 486) и до конца главы] и более значительное в са
мом конце V главы [начиная со слов: «В мартовской
книжке «Современника» г. Антонович излагает и комменти
рует по-своему идеи» (стр. 495) и до конца главы].
Здесь мы печатаем полный текст, в составе всех 9 глав
и со вставками пропущенных мест в III и V главах.
«Эстетические отношения искусства к действительно
сти» написаны были Чернышевским в 1855 году. В назван
ном сочинении Чернышевский, преодолевая идеологиче
скую гегельянскую эстетику, обосновывал материалисти
ческое учение об искусстве на основе философского ми
ровоззрения Фейербаха. Чернышевский смотрел на искус
ство с утилитарной точки зрения. Он считал, что искус
ство должно помогать науке распространять правильные
представления о том, что полезно человечеству, и о том,
39*
61!
что ему вредно: «Чрезвычайное могущественное пособие
в этом, — писал он, — оказывает науке искусство, необык
новенно способное распространять в огромной массе лю
дей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться
с произведениями искусства гораздо легче и привлекатель
нее для человека, нежели с формулами и суровым ана
лизом науки». Но Чернышевский не забывал, что искус
ство кроме пользы приносит человеку еще и эстетиче
ское наслаждение. Он прекрасно понимал качественную
специфичность искусства. Поэтому он никогда не выбра
сывал лозунга: «искусство за борт». Он никогда не при
зывал к разрушению эстетики. Писарев не понял произве
дения Чернышевского. Ему показалось, что Чернышевский
лишь потому прямо не говорил о разрушении эстетики,
что он приноравливался к отсталому уровню своих чита
телей. Это было неверно. В то же время Писареву было
чрезвычайно важно опереться на авторитет Чернышев
ского, самого популярного и самого великого деятеля
60-х годов, в его полемике с преемниками Чернышевского
по руководству «Современником».
‘ Д и с с е р т а ц и я Н. Г. Чернышевского «Эстетиче
ские отношения искусства к действительности» написана
была в августе — сентябре 1854 года.
2 Писарев говорит здесь о том, что защита диссерта
ции Н. Чернышевским должна была происходить в заседа
нии совета университета 10 мая 1855 г., на котором при
сутствовали профессора: Н. Г. Устрялов, И. И. Срезнев
ский, А. В. Никитенко и др. во главе с министром народ
ного просвещения А. С. Норовым.
3 Речь идет о статье М. А. Антоновича «Современная
эстетическая теория», посвященной рассмотрению «Эсте
тических отношений» Чернышевского (напечатана в «С о
временнике», 1865, март, стр. 37—82).
4 Автор «Нерешенного вопроса»— Д. И. Писарев; «Не
решенный вопрос» — так называлась его статья, печатае
мая здесь под названием «Реалисты».
6Составителем
«Внутреннего обозрения» Писа
рев, возможно, называл Елисеева, Григория Захаровича
(1821— 1891) — публициста «Современника».
0 Писарев иносказательно здесь говорит о Рахметове,
герое-революционере романа Чернышевского, который, как
известно из романа, был прозван волжскими бурлаками по
имени одного силача — Никитушкой Ломовым.
7 «Incognito» — Зарин, Ефим Федорович (1829— 1892) —
критик реакционного лагеря; под этим псевдонимом он
вел полемику с Чернышевским, Добролюбовым и Писаре
вым,
612
МЫСЛЯЩ ИЙ ПРОЛЕТАРИАТ
Статья «Мыслящий пролетариат» впервые напечатана
в журнале «Русское слово», 1865 г., октябрь, под другим
названием: «Новый тип». В 1-м издании (часть 4-я, 1867 г.)
ей было дано название «Мыслящий пролетариат», под ко.
торым она здесь печатается.
Статья появилась в свет в конце 1865 года, но есть дан
ные, свидетельствующие, что она написана была Писаре
вым приблизительно в сентябре 1863 года, то есть за два
с небольшим года до напечатания, и названа была иначе:
«Мысли о русских романах». В деле Правительствующего
сената (5-й департамент, 1-е отделение, 1863 г., том III,
№ 7) есть указание, что 8 октября 1863 года петербург
ский генерал-губернатор князь Суворов прислал в Сенат
вместе со второй частью «Очерков по истории труда» (на
печатанных в IX и XII книгах «Русского слова» 1863 г.) и
данную статью, названную «Мысли о русских романах».
В ответе Сената Суворову расшифрована тематика статьи
«Мысли о русских романах», и тематика этой статьи со
впадает с содержанием статьи «Мыслящий пролетариат».
Ввиду этого возможно предполагать, что «Мысли о рус
ских романах» и есть та статья, или ее ранняя редакция,
которая была напечатана первоначально под названием
«Новый тип» и — позднее — «Мыслящий пролетариат».
Ни одна из литературно-критических статей Писарева
не вызвала столь усиленного и пристального внимания
к себе со стороны цензуры, как данная статья.
Как только статья была напечатана в журнале, она по
служила поводом к предостережению, 20 декабря 1865 го
да, по адресу редакции журнала. В этой статье, по мнению
цензуры, «отвергается понятие о браке и проводятся тео
рии
социализма
и
коммунизма»
(см.
в
статье
В. Е в г е н ь е в а - М а к с и м о в а «Д. И. Писарев и охра
нители»— «Голос минувшего», 1919 г., № 1—4, стр. 138).
Даже когда появилась 4-я часть 2-го издания сочинений
Писарева, в 1871 году, цензор де Роберти, рассматривав
ший том, подробно остановился опять-таки на этой статье
Писарева. (См. подробнее в статье В. Е в г е н ь е в а - М а
к с и м о в а «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос ми
нувшего», 1919 г., № 1—4, стр. 156.)
Статья «Мыслящий пролетариат» посвящена разбору
романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Роман этот
был написан Чернышевским в крепости, и к печатанию
он был пропущен лишь вследствие оплошности царского
цензора. Сюжет романа вращается вокруг истории любви
Веры Павловны вначале к Лопухову, а потом к Кирсанову.
Но главная цель его автора заключалась в пропаганде
613
идей социализма и революции. Само название романа не
было случайно. Впервые вопрос «Что делать?» (подразу
мевалось: что делать передовым русским людям для осу
ществления своих идеалов, своей программы в действи
тельности?) был поставлен Добролюбовым в его статье
«Когда же придет настоящий день?». Добролюбов тут же
и давал ответ на поставленный им вопро.с. Надо не болтать,
а делать; не только говорить о своей ненависти к гнету
и любви к народу, но и действовать революционными
средствами, чтобы реализовать свои слова. Ответ этот не
мог разделять в полной мере Писарев, несравненно более
скептически относившийся к возможности и желательно
сти революции в России, чем Добролюбов и Чернышев
ский. «А что же делать? — спрашивал Писарев, заканчивая
свою статью о Базарове. — Что делать? Жить, пока жи
вется; есть сухой хлеб, когда нет ростбифу; быть с жен
щинами, когда нельзя любить женщину, и вообще не меч
тать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда под но
гами снеговые сугробы и холодные тундры».
Весьма вероятно, что Чернышевский писал свой роман,
свой ответ на вопрос «Что делать?», отталкиваясь от
писаревского ответа. Во всяком случае следы полемики
Чернышевского с тургеневским изображением молодого
поколения в лице Базарова, любимого героя Писарева, яв
ственно видны в романе. Любопытно поэтому проследить
отличие позиции Писарева от позиции Чернышевского
именно по статье «Мыслящий пролетариат», так как Пи
сарев встретил роман Чернышевского с искреннейшим вос
торгом и одобрением, субъективно, повидимому, считая
себя полным сторонником выраженных в нем идей.
Писарев не понял значения фигуры Рахметова в «Что
делать?». У Чернышевского Рахметов является типом ре
волюционера. Он выведен для того, чтобы показать, что
революция является и неизбежной и необходимой и что
нужно к ней готовиться. В образе Рахметова предвосхи
щены типические черты будущих, революционеров-нэродников: опрощение, обучение физическому труду, чтобы
сблизиться с народом. Зная качества своего врага (рус
ского царизма), Рахметов подготовляет себя на всякий
случай для перенесения пыток. Все эти черты, которые
делали фигуру Рахметова пророческой, Писарев не понял.
Он разглядел, конечно, что речь идет у Чернышевского
о деятеле революционного подполья, но он не придал
этому большого значения, ибо он рассматривал револю
цию как нечто абсолютно стихийное, на что ориентиро
ваться, что сознательно готовить нельзя. Да и в случае
прихода такой, революции он не очень рассчитывал на
прочность ее результатов. «Все великие минуты в истории
614
человечества до сих пор обманывали общие ожидания,
приводили за собою горькое разочарование и сменялись
вековой апатией», — писал он в разбираемой статье. Д ей
ствительный выход из положения Писарев видел в том,
чтобы все трудились, чтобы каждый занимался общепо
лезным трудом. Когда каждый в своей частной жизни най
дет свой любимый труд, тогда все будут трудиться, тогда
не будет праздных, а раз не будет праздных, то не будет
эксплоататоров, будет социализм. Экономической природы
эксплоатации Писарев не понимал. Неизбежности револю
ционного восстания против эксплоататоров рабочего класса
и трудящихся он также не понимал. Он полагал, что от
правильного индивидуального поведения каждого отдель
ного человека зависит преобразование социального строя.
М ежду тем Чернышевский понимал необходимость рево
люции и благодетельность ее последствий. Он значительно
точней представлял себе и экономические основы социа
лизма. Поэтому мы и должны признать, что даже тогда,
когда Писарев и солидаризировался субъективно с Чер
нышевским, он выступал все же как представитель дру
гого социального и идеологического направления.
1 Гарибальди был действительно ранен 20 августа
1862 года кем-то из сторонников короля Виктора Эмма
нуила, когда двинулся со своими волонтерами на Рим.
С Л О В А Р Ь И М ЕН ,
В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я В С Т А Т Ь Я Х П И СА РЕВ А
А б л е с и м о в , Александр Анисимович (1742— 1783) — с а
тирик и драматург.
А г н и (санскритск. — огонь) — бог огня у индусов.
А л е к с а н д р — Александр Македонский (356—323 до н. э.),
создатель обширной монархии на основе завоеванных
Греции, Персии и др.
А л к и в и а д (451—404 до н. э.) — афинский политик и
полководец, сторонник завоевательной политики.
А н н и б а л (или Ганнибал) (247— 183 до н. э.) — знамени
тый карфагенский полководец.
А н т о м а р к н , Франческо (1780— 1833) — врач при Напо
леоне на острове Св. Елены.
А н т о н о в и ч , Максим Алексеевич (1835—1918) — ради
кальный публицист и критик 60-х годов.
А р а г о , Доминик Франсуа
(1786—1855) — французский
астроном и физик.
А р е т и н о, Пьетро (1492— 1557) — итальянский поэт, про
славившийся эротическими сочинениями и едкими сати
рами.
А р м и н и й (16 до н. э. — 19 н. э.)-— вождь германского
племени херусков, разбил римлян в битве при Тевтобургском лесу.
А р н и м, Людвиг Иоаким (1781— 1832) — немецкий поэтромантик.
А р х и м е д (214—187 до н. э.) — великий греческий ма
тематик, механик и изобретатель.
А с к о ч е н с к и й , Виктор Ипатьевич (1830— 1879) — писа
тель, ярый реакционер, с 1858 года издатель известной
доносами и мракобесием газеты «Домашняя беседа».
616
А т и л л а (по прозванию «Бич божий») — вождь гуннов
в средине V века; набегами опустошал Европу, доходил
до Рима; брал дань с Константинополя.
А т л а с — по греческому преданию, один из титанов, ко
торого Юпитер (Зевс) за участие в войне против олим
пийских богов заставил держать на плечах небесный
свод.
Б
а б е ф, Франсуа Ноэль (1760— 1797) — вождь революци
онных коммунистов во время Французской революции,
возглавлял тайную организацию «Заговор равных»,
с программой коммунистической революции и диктатуры
трудовых масс. Казнен после раскрытия заговора 26 мая
1797 года.
Б а б и н е , Жак (1794—1872) — выдающийся французский
физик.
Б а й р о н , Джордж Гордон (1788—1824) — великий англий
ский поэт.
Б а к у н и н , Михаил Александрович (1814— 1876) — рево
люционер-народник, анархист.
Барбье,
Огюст (1805—1882) — французский сатирик,
прославившийся своими «Ямбами» (1830 г.), в которых
бичевал умеренно-либеральную буржуазию, взявшую
власть после революции 1830 года.
Б е к л а р , Жюль Огюст (1817— 1887) — французский фи
зиолог.
Б е н т а м, Иеремия (1748—1832) — английский юрист и
философ, которого Маркс называл «гением буржуазной
тупости».
Б е р а н ж е , Пьер Жан (1780— 1857) — известный фран
цузский сатирический поэт-революционер.
Б е р н а р , Клод (1813— 1878) — выдающийся французский
физиолог, материалист, врач, сделал много открытий
в области физиологии и медицины.
Б е р н е , Людвиг (1786— 1837) — немецкий публицист и кри
тик, б ы л вместе с Гейне вождем «Молодой Германии» (см.).
Б е т х о в е н , Людвиг ван (1770—1827) — гениальный не
мецкий композитор, республиканец по убеждениям, вы
разил
в
музыке
пафос
Французской
революции
X V III века.
« Б и б л и о т е к а д л я ч т е н и я » — журнал, редактируе
мый с 1856 года А. В. Дружининым, защитником либе
рально-эстетских взглядов, боровшимся с Чернышевским
и Добролюбовым.
Б л а н , Жан Ж озеф Луи (1811— 1882) — французский мелко
буржуазный социалист, политический деятель и историк.
Бодянский,
Осип Максимович (1808—1877) — славист,
профессор Московского университета, консерватор.
617
Б о к л ь, Генри Томас (1821—1863) — английский историк,
буржуазный радикал, позитивист.
Б о р д ж и а, Цезарь (1475— 1507) — сын римского папы
Александра V I, прославившийся кроме разврата еще ве
роломством, жестокостью и убийствами своих полити
ческих противников.
Б о с с ю э т, Жан Бенинь (1627— 1704) — французский пи
сатель, богослов и проповедник, противник папских при
тязаний в области церковного авторитета.
Б о т к и н , Сергей Петрович (1832—1889) — врач по вну
тренним болезням, профессор Военно-медицинской ака
демии в Петербурге.
Б р е м,
Альфред Эдмунд (1829— 1884) — зоолог-путеше
ственник, изучавший жизнь животных.
Б р о н и , Генрих Георг (1800—1862) — зоолог и палеон
толог.
Б р у н н о в, Филипп Иванович (1797—1875) — русский ди
пломат. С 1858 по 1874 г. — представитель русского
правительства в Лондоне, усердно осведомлял III Отде
ление о Герцене.
Брут
и
К а с с и й — римские политические деятели
I века до н. э. Первый — глава, а второй — участник ари
стократического заговора против Юлия Цезаря.
Б у а л о, Николя (1636—1711)— французский поэт, высту
павший против феодально-аристократической литерату
ры как представитель «третьего сословия», смыкавше
гося еще с «абсолютизмом». Теоретик французского
классицизма X V II века.
Б у л г а р и н , Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журна
лист, критик, беллетрист, до 1825 года либерал, позд
нее— агент III Отделения, автор доносов на писателей
и журналы. Его им я— синоним политического донос
чика и продажного писаки.
Б у л ь в е р, Эдуард Джордж Чарльз (1803— 1873) — англий
ский писатель, зачинатель реализма; много потрудился
над созданием национального эпоса.
Б у н з е н , Роберт Вильгельмович (1811—1899) — немецкий
химик, открыл спектральный анализ.
Б у р к а р д т , Яков (1818—1897)-— немецкий историк, идеа
лист, гегельянец, автор трудов по истории культуры.
Б у с л а е в , Федор Иванович (1818— 1897) — филолог, искус
ствовед и историк литературы, профессор Московского
университета,
сторонник
идеалистических
взглядов
в искусстве.
Б э р , Карл Эрнст (1792— 1876) — выдающийся естествоис
пытатель, академик, профессор Петербургского универ
ситета, основатель научной эмбриологии.
Б ю х н е р , Фридрих Карл (1824—1899) — немецкий медик,
618
представитель вульгарного
«Сила и материя».
материализма,
автор труда
Вагнер,
Рудольф (1805—1864) — немецкий физиолог,
идеалист.
В а й ц, Теодор (1821— 1861) — немецкий психолог и антро
полог, идеалист.
Валентин,
Габриэль Густав (1810— 1883) — физиолог,
профессор Берлинского университета.
Валуев,
Петр Александрович (1814— 1890) — граф, в
1861 го д у —-министр внутренних дел. Вместе с А. В. Н и
китенко организовал с 1862 года газету «Северная поч
та»; вышел в отставку из-за расхищения казенных денег.
В а н д о м е к а я к о л о н н а в Париже сооружена Напо
леоном I в 1806— 1810 гг. в память о войне 1805 года;
наверху колонны поставлена бронзовая статуя Н апо
леона в римской тоге и лавровом венке.
В а р , Публий Квинтилий — римский полководец I века
(при императоре Августе), потерпевший поражение
в битве с Арминием (см.).
В а р у н а (инд.) — бог океана.
В е б е р ы братья: Эрнст Генрих (1795—1878)— немецкий
физиолог и анатом; Вильгельм (1804— 1891) — физик, со
здатель новейшей электронной теории.
В е й н б е р г, Петр Исаевич (1830— 1908) — поэт, перевод
чик, журналист умеренно-либерального направления.
В е л л и н г т о н , Артур Уэльси (1769—1852) — герцог, ан
глийский полководец и политический деятель, защитник
интересов консервативной земельной аристократии, раз
бил Наполеона при Ватерлоо в 1815 году.
В и р г и л и й, Публий (70— 19 до н. э.).— римский поэт,
воспевал в своих идиллиях поэзию сельского труда и
хозяйства.
Вирхов,
Рудольф (1821-—1902) — физиолог, основатель
целлюлярной патологии, объясняющей болезни измене
ниями в жизнедеятельности клеток.
В о л ь т е р (псевдоним) — Аруэ, Франсуа Мария (1694—
1778), знаменитый французский просветитель, писатель
и философ.
В о л ь т е р ь я н с т в о — политическое и религиозное воль
нодумство второй половины X V III и начала X IX века;
было распространено в России, мирно уживаясь с кре
постничеством и православием. Название получило от
имени Вольтера, который в своих сочинениях подвергал
разрушительной критике феодальные и церковные пред
рассудки.
18 б р ю м е р а — дата государственного переворота, со
вершенного Наполеоном 8 ноября 1799 г., низвергшим
619
революционный порядок и ставшим первым консулом
с диктаторской властью.
1 а л и л е й, Галилео (1564— 1642) — знаменитый итальян
ский физик и астроном.
Гарибальди,
Джузеппе (1807— 1882) — вождь
бур
жуазного национального освободительного движения
I в Италии, сторонник монархии боролся за освобожде
ние Италии от австрийского и папского владыче
ства.
Г е г е л и з м или гегельянство — философское течение 30—
40-х годов X IX столетия, сложившееся после смерти Ге
геля. Было два направления в гегельянстве: правое, реак
ционно-консервативное, проповедывавшее личного бога и
личное бессмертие, и левое, революционно-критическое,
выражавшее настроения мелкой буржуазии накануне ре
волюции 1848 года.
Г е г е л ь , Георг Вильгельм Фридрих (1770— 1831) — великий
немецкий философ-идеалист.
Г ей б е л ь ,
Эммануил (1815—1884) — немецкий поэт-ро
мантик, сторонник теории «искусства для искусства».
Г е й н е, Генрих (1797—1856) — знаменитый немецкий поэт.
Г е к е л и , Томас Генри (1825—1895) — английский есте
ствоиспытатель, единомышленник Дарвина.
Г е л ь м г о л ь ц , Герман (1821—1894)— один из крупней
ших естествоиспытателей X IX века, медик по образованию.
Г е н н е с и — депутат в английском- парламенте от граф
ства Бенге. В 1864 году выступал в Палате общин с за
просом правительству по поводу поддержки польского
восстания.
Г е р д е р, Иоганн Готфрид (1744—1803) — знаменитый не
мецкий философ, историк культуры, критик, поэт и со
биратель народных песен.
Г е р ц е н , Александр Иванович (1812—1870) — знаменитый
публицист, основоположник русского народничества, дея
тель освободительного движения в России, основал
в Лондоне «Вольную русскую печать» и ряд нелегаль
ных изданий — «Колокол» (еженедельная газета 1857—
1867 гг.), «Полярная звезда» (литературные сборники).
«Голоса из России» (непериодические сборники статей),
«Под суд» (прибавление к «Колоколу» в виде листка,
где Герцен требовал суда над бюрократией за беззако
ния и т. п.).
Г е т е , Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт.
Г и б б о н , Эдуард (1737—1794) — английский историк и
политический деятель, сторонник прогрессивно-антифео
дальных взглядов.
Г и з о , Франсуа Гильом (1787— 1874) — французский исто
620
рик и политический деятель, — вначале роялист, позднее,
в 20-е годы, примыкал к умеренно-либеральным кругам
буржуазии. После революции 1830 года — вождь бур
жуазной олигархии; в годы своего министерства (1840—
1848 гг.) проводил политику реакции. Во время револю
ции 1848 года бежал в Англию и отошел от политики.
Гизо признавал в известном смысле значение классовой
борьбы.
Г и р т л ь , Иосиф (1811— 1894) — знаменитый анатом.
Г л а д с т о н , Вильям Эдвард (1809—1896) — вождь англий
ской либеральной буржуазии, блестящий оратор.
Г о л ь б а х , Поль Генрих Дитрих (1723—1789)— француз
ский философ-материалист, автор обширного философ
ского труда «Система природы».
Г о р а ц и й, Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт; в своей
поэзии выразил етоико-эпикурейскую философию.
Г о р и з о н т о в , А. — составитель учебников естественной
истории для женских учебных заведений, не отличав
шихся достаточной научной содержательностью.
Г р а к х и, Кай и Тиверий — знаменитые римские трибуны.
Кай (153— 121 до н. э .) — трибун в 123—122 гг., провел
несколько законов, ограничивавших власть сената и рас
ширивших права демократических слоев, и др. Тиверии
(163—133 до н. э.) — трибун в 133 году, провел аграр
ный закон, по которому государственная земля должна
быть роздана малоземельным. При вторичных выборах
Тиверий был убит противниками.
Грановский,
Тимофей
Николаевич
(1813 — 1855) —
профессор всеобщей истории Московского универси
тета с 1839 года, западник. Имел большой авторитет
среди либеральных кругов и особенно среди моло
дежи.
Григорьев,
Аполлон Александрович (1822—1864) —критик, публицист, член молодой редакции «Москвитя
нина», позднее примыкал к консервативному лагерю
почвенников, группировавшихся около Достоевских и их
журналов..
Г р о м е к а, Степан Степанович (1823—1877) — умеренно
либеральный публицист 60-х годов.
Г у д , Томас (1799—1845) — английский поэт-лирик, созда
тель социальной лирики («Песнь о рубашке»), в которой
отразил страдания трудящихся.
Г у д с о н - Л о (1770—1844) — губернатор острова Св. Елены
во время пребывания на нем Наполеона. За суровость
мер по охране пленника прослыл палачом.
Г у м б о л ь д т , Александр (1769—1859)— немецкий натура
лист и путешественник, основатель современной физи.
621
Ческой географии. Его «Космос» (1845— 1858) предста
вляет попытку научного объяснения мироздания.
Г у д к о в , Карл (1811— 1878) — немецкий романист, драма
тург и сатирик, видный деятель «Молодой Германии».
Г ю г о , Виктор (1802—1885) — французский писатель-ро
мантик.
Д а р в и н , Чарльз Роберт (1809— 1882) — знаменитый ан
глийский естествоиспытатель, он «. . . впервые поставил
биологию на вполне научную почву, установив изме
няемость видов и преемственность между ними...» (Л е
н и н, Сочинения, т. I, стр. 62, изд. 3-е).
Д е б е, Огюст (род. в 1802 г.) — военный врач, автор та
ких сенсационных книг, как «Физиология брака» (перев.
на русский язык в 1862 году).
Д е и с т ы — общественно-философское движение XV III сто
летия, провозгласившее авторитет разума в противовес
церкви; выражало буржуазные тенденции борьбы с идео
логией феодализма.
Дельфийская
п и ф и я — прорицательница, сидевшая
в Дельфийском храме на треножнике; исходившие из
расселины пары одуряли ее и приводили в экстаз.
« Д е н ь » — еженедельная реакционно-славянофильская га
зета (1861—1865 гг.), под редакцией И. С. Аксакова.
Д е р б и , Эдуард Джерри, граф (1799— 1869) — англий
ский политический деятель, вождь консервативной пар
тии.
Державин,
Гавриил
Романович (1743—1816) — поэт
X V III века.
Д ж у с т и , Джузеппе (1809—1850) — итальянский поэт на
ционально-освободительного движения, выразитель на
строений радикальной мелкой буржуазии.
Д и д л о , Карл Людовик (1767— 1837) — известный балет
мейстер; в 1801 году был приглашен на русскую сцену,
создал хорошую школу балета, подняв это искусство на
большую высоту.
Дидро,
Дени (1713—1789) — знаменитый французский
ученый и философ-материалист, идеолог революцион
ной буржуазии, организатор «Энциклопедии».
Д и к к е н с , Чарльз (1802— 1870) — английский романист.
Д и о г е н (404—323 до н. э.) — греческий философ из
школы стоиков, утверждавший, что высшее благо за
ключается в неимении потребностей.
Д и о н и с и й Сиракузский Старший — тиран (род. около
432 г. до н. э.).
Ц у д ы ш к и н , Степан Семенович (1820—1866) — умеренно
либерального направления критик «Отечественных за622
Иисбк», сторонник «чистого искусства», примыкал к ла
герю дворянских писателей (Тургенев, Л. Толстой).
Д ю б у а - Р е й м о н , Эмиль (1818—1896)— немецкий фи
зиолог, представитель так называемого физического на.
правления в физиологии.
Д ю м а - о т е ц (1803— 1870) — французский драматург и
романист, автор популярных «Трех мушкетеров» и др.
Д ю с с о — владелец в 60-х годах первоклассного ресто
рана в Петербурге.
Жанлис,
Стефания (1746— 1830) — французская писа
тельница, автор беллетристических произведений, напол
ненных ханжеством, слезливостью и дидактизмом.
Ж и р о н д а — партия крупной буржуазии в эпоху Фран
цузской революции XV III века.
Жорж
З а н д — псевдоним
Авроры
Дюпен-Дюдеван
(1804— 1876), французской писательницы, выступавшей
в своих произведениях против предрассудков мещан
ства и требовавшей раскрепощения женщины в духе
того неопределенного «социализма чувств», который Л е
нин назвал буржуазными иллюзиями в социализме. Она
оказала влияние на Тургенева, Достоевского, Григоро
вича, Щедрина и др.
Ж у в а н с е л ь — французский писатель. Книгу Жуванселя
«Начало мира» (русский перев. 1864 г.) Писарев отнес
«к разряду тех шарлатанских изделий, которые рассчи
тывают на глупость и неосторожность большинства не
опытной публики» («Русское слово», 1864, ноябрь).
Ж у к о в с к и й , Василий Андреевич (1783—1852) — поэт и
переводчик.
З а й ц е в , Варфоломей Александрович (1842—1882) — кри
тик и публицист радикального направления, соратник
Писарева по «Русскому слову»; последователь Фохта,
Бюхнера.
З а р и н , Ефим Федорович (1829—1892) — критик реакци
онного
направления.
В
«Отечественных- записках»
1860-х годов вел полемику с Чернышевским, Добролю
бовым и Писаревым.
З а р я н к о , Сергей Константинович (1818— 1870) — живо
писец-портретист.; учитель художников: Перова, Пряниш
никова и др.
З и б о л ь т , Филипп Франц (1796— 1866) — голландский ис
следователь Японии; собиратель громадных коллекций
по зоологии, ботанике, минералогии и этнографии Японии.
З о т о в , Рафаил Николаевич (1795—1871)-— беллетрист и
драматург, сторонник правительства, автор популярных,
но малосодержательных пьес.
623
И е р о ф а н т ы (греч.) — жрецы, объяснявшие посвящен
ным смысл и значение священных предметов.
И н д р а — одно из главных божеств индусской мифоло
гии, олицетворение небесного свода и облаков.
И с т о м и н а , Евдокия Ильинична (1799— 1848) — ученица
Дидло, знаменитая балерина в Петербурге в 20—30-е
годы.
К
а в у р, Камилло, граф (1810—1861) — итальянский поли
тический деятель, представитель буржуазного либера
лизма, вел борьбу с демократизмом и республиканцами;
организовал буржуазную монархию в Италии.
К а й д а н 6 в, И: К. (ум. в 1843 г.) — составитель реакци
онных и ничтожных по содержанию учебников по исто
рии для средних учебных заведений.
К а л и н о в и ч — герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча
душ».
К а л ь д е р о н , Педро де ла Барка (1600—1681) — крупный
испанский драматург, отразивший политическую и рели
гиозную реакцию.
К а н д о л и , де — род, давший в трех поколениях извест
ных ботаников. Из них наиболее видный Огюстен Пирамо де Кандоль (1778— 1841).
К а н о в а, Антонио (1757— 1822) — итальянский скульптор,
представитель классического стиля.
К а н т , Иммануил (1724— 1804) — основатель критического
идеализма и немецкой классической философии.
К а н т е м и р , Антиох Дмитриевич (1708—1744) — сатирик,
защитник петровских реформ и обличитель отсталости
и невежества дворянства.
К а п е т, Гуго — родоначальник французской королевской
династии
Капетингов,
правившей
с
987-го
по
1328 год.
К а п н и с т , Василий Васильевич (1757—1823) — драматург,
автор известной комедии «Ябеда», в которой заклеймены
взяточничество судей, беспорядки в судах.
Карамзин,
Николай Михайлович (1766— 1826) — писа
тель и историк, глава сентиментального направления
в русской литературе.
К а р л X (1757—1836) — французский король, брат каз
ненного революцией Людовика X V I; после Лю до
вика X V III занял престол, проводил политику крайней
реакции и был свергнут с престола революцией 1830
К а т к о в , Михаил Никифорович (1818—1887) — известный
публицист, редактор «Московских ведомостей», с 1856 го
да редактор журнала «Русский вестник». В молодости —
624
.
либерал, с 1862 года правее? и превращается в усерд
ного защитника царизма и дворянско-монархической ре
акции.
К а т о н , Марк Порций Старший (234— 149 до н. э.) — рим
ский политический деятель и писатель.
К е л л и к е р,
Альберт (1817—1905) — немецкий анатом,
зоолог и гистолог.
К е с т л ь р и — см. Лондондерри.
К и н е , Эдгар (1803—1875) — французский историк, респу
бликанец; при Наполеоне III был изгнан из Фран
ции.
К л о п ш т о к, Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий
поэт, один из зачинателей новой буржуазной литера
туры.
К л ю ш н и к о в , Виктор Петрович (1841—1892) — белле
трист, автор реакционного романа «Марево» (напечатан
в «Русском вестнике», 1864 г.).
К о л ь ц о в , Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт.
К о н т , Огюст (1798—1857) — французский математик, осно
ватель позитивизма.
К о н в е н т — представительное собрание в годы фран
цузской революции XV III века, избранное после казни
короля на основе всеобщего избирательного права 10 ав
густа 1792 года. В 1795 году Конвент был распущен и
заменен директорией.
К о п е р н и к , Николай (1473—1543) — гениальный астро
ном, доказал вращение земли и планет вокруг солнца.
К о р н е л ь , Пьер (1606—1684) — французский драматург,
глава ложноклассицизма.
К о р ф, Модест Андреевич (1800—1872) — русский поли
тический деятель, монархист. В 1848 году — член неглас
ного комитета для надзора за книгопечатанием.
К о с т о м а р о в , Николай Иванович (1817—1875) — историк,
профессор Киевского, а затем Петербургского универ
ситета; за участие в тайном обществе «Кирилло-Мефодиевское братство» (1847 г.) был арестован, заключен
в Петропавловскую крепость и сослан в Саратов. Его
книгой «Бунт Стеньки Разина», вышедшей в 1859 г.,
долгое время пользовались в целях революционной про
паганды.
К о т т е н , Мария (1776—1807) — французская писатель
ница, совершенно забытая.
К у д р я в ц е в , Петр Николаевич (1816— 1858)—-либераль
ный историк Московского университета, ученик и пре
емник по кафедре Грановского; автор повестей.
Кукольник,
Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт,
беллетрист и драматург, автор реакционных патриотически-националистических пьес.
625
40 Д. И- Писареи
К у п е р , Фенимор (1789—1851) — американский романист,
автор произведений о жизни индейцев и первых коло
низаторов Америки.
Л а в р о в , Петр Лаврович (1823—1900) — один из идеоло
гов народничества, представитель субъективного метода
в социологии.
Л а г р а н ж , Жозеф Луи (1736—1813) — знаменитый фран
цузский математик, автор «Аналитической механики».
Л а м а р к , Жан Батист (1744— 1829) — знаменитый фран
цузский натуралист, предшественник Дарвина.
Л а м о п т - У д ар, Антуан (1672—1731) — французский пи
сатель, член Французской академии, звал к упрощению
литературного стиля; пользовалась известностью его тра
гедия «Инеса де Кастро».
Л а п л а с , Пьер Симон (1749— 1827) — знаменитый фран
цузский математик и физик, создатель гипотезы об об
разовании планетных систем из туманностей.
Л а с - К а з а, Эммануэль Огюст (1796—1842) — друг Н а
полеона, за которым отправился на остров Св. Елены,
написал после смерти Наполеона «Воспоминания об
острове Св. Елены».
Л а с с а л ь, Фердинанд (1825— 1864) — известный немецкий
социалист.
Л а у б е , Генрих (1S07—1884) — немецкий писатель-рома
нист, поэт и драматург, один из деятелей «Молодой Гер
мании».
Л а ф а й е т , Мари Жозеф (1757—1834) — французский ге
нерал и политический деятель. Автор первого проекта
«Декларации прав человека и гражданина», участник ре
волюций 1789 и 1830 годов, противник Бурбонов. Позд
нее перешел в ряды сторонников консервативной круп
ной буржуазии.
Л а ф о н т е н , Август (1758—1831) — немецкий писатель,
автор фальшиво-чувствительных романов; зачинатель
буржуазного «семейного» романа, очень распространен
ного в России в 20—30-е годы.
Л е б е д е в , Влад. Ал. — учился вместе с Писаревым.
12 октября 1861 г., во время столкновения студентов
с войсками, Лебедеву разбили голову. Был арестован и
пробыл в заточении до 6 декабря 1861 года. В 1866 году
привлекался по каракозовскому делу.
■
Л е м а н , Иоганн (1792—1860) — немецкий ботаник.
Л е о п а р д и , Джакомо (1798— 1837) — итальянский поэт
и мыслитель, представитель литературы «мировой скор
би» в Италии в эпоху подавления и разгрома нацио
нально-освободительного движения.
626
Г'
Л е р у , Пьер (1797— 1871) — французский социалист, пу
блицист, республиканец и демократ, участник револю
ции 1848 года. Вначале разделял взгляды Сен-Симона,
а затем создал собственную систему утопического со
циализма. В 40-е годы оказал влияние на Белинского,
Герцена и др.
Л е с с и н г , Готгольд Эфраим (1729— 1781) — немецкий дра
матург, поэт, ученый, публицист, литературный критик,
баснописец, . представитель немецкого «просветительства»
X V III века.
Л и б и х , Ю стус (1803—1873) — знаменитый немецкий хи
мик, основоположник агрономической химии.
Л о м о н о с о в , Михаил Васильевич (1711— 1765) — знаме
нитый поэт и первый русский ученый.
Л о н г и н о в , Михаил Николаевич (1823— 1875) — библио
граф и историк литературы; в 40-е годы член кружка
«Современника», в 60-е годы поправел и перешел в ла
герь «Русского вестника». В 70-е годы начальник глав
. ного управления по делам печати, жестоко преследовал
прогрессивную печать.
Л о н д о н д е р р и , Роберт Стюарт (он же Кестльри, Р о
берт) (1779— 1822) — лорд, консерватор, инициатор жесто
ких репрессий в борьбе с рабочими.
Л ь ю и с , Дж ордж Генри (1817—1878) — английский нату
ралист и философ-позитивист, популяризатор Конта и
Дарвина.
Л ю д о в и к X IV (1638— 1715) — французский король. Его
правление (1661—1715) — время расцвета абсолютизма.
Людовик
XV
(1710—1774)-— французский король с
1715 по 1774 год.
Л ю д о в и к X V III — фактически Людовик X V II, так как
сын казненного революцией Людовика X V I умер мало
летним и королем не был.
Л ю т е р , Мартин (1483—1546) — вдохновитель церковно
реформационного движения в Германии, направленного
против папства; основатель протестантства.
Л я й е л ь , Чарльз (1797— 1875) — знаменитый английский
геолог, основатель современной геологии и доисториче
ской археологии.
М а к о л ей, Томас Бобингтон (1800— 1859) — английский
историк, идеолог промышленной буржуазии, противник
всеобщего избирательного права.
^
М а л ь б о р о (Мельборо), Джон Черчиль (1650—1722) —
английский полководец и государственный деятель, за
щитник монархии и беспринципный интриган.
Мальтус,
Роберт (1766— 1834) — английский бурж уаз
ный экономист, доказывавший, что нищрта народных
627
масс происходит от перенаселения, а не в силу со
циально-экономического устройства капиталистического
строя.
М а н ц о н и (Манзони), Алеандро, граф (1785— 1873) —
итальянский поэт, глава школы романтиков.
М а р и я А н т у а н е т т а (1755— 1793) — французская ко
ролева, жена Людовика X V I;
казнена 16 апреля
1793 года.
М а р т и н и з м — секта мистиков, основанная в XVIII веке
Мартинесом Паскалисом; в России мартинизм был рас
пространен при Екатерине II.
М а с м а н, Ганс Фердинанд (1797—1874) — немецкий фи
лолог, реакционер.
Масонство
(франк-масонство) — религиозно-философ
ское общество, созданное в начале X V III века в Англии
как тайная организация мистического характера.-В сре
дине X V III века масонство проникло в Россию, приняв
оппозиционно-политический характер.
М е н д е л ь , Вольфганг (1798— 1873) — либерал, позднее —
реакционер, вел борьбу с «Молодой Германией» при по
мощи цензуры и полиции.
М е т т е р н и х , Клеменс (1773— 1859) — видный австрий
ский дипломат и политический деятель с 1809 по 1848 год,
вдохновитель реакции в Австрии, организатор «Священ
ного союза монархов» (1815 г.); позднее вместе с Нико
лаем I руководил европейской реакцией.
М и к е л ь - А н д ж е л о Буонаротти (1475—1564) — знаме
нитый итальянский скульптор, живописец и архитектор.
Мильн-Эдвардс,
Г енри
(1800—1885) — французский
естествоиспытатель, зоолог и палеонтолог.
М и л ь т о н , Джон (1608— 1674) — английский поэт и пу
блицист, участник революции 1648 года, противник роя
листов, защитник свободы личности и свободы печати.
Написал несколько памфлетов в оправдание казни ко
роля и против приверженцев короля. Автор поэм «По
терянный рай» и «Возвращенный рай».
М и р а б о, Оноре Габриэль Рикетти (1749— 1791) — актив
ный деятель в первые годы Французской революции,
аристократ, примкнувший к третьему сословию и с успе
хом выступавший в борьбе с королем; позднее выступил
в защиту короля и пытался склонить Национальное со
брание на его сторону.
М и с т а г о г и — учителя таинственного; у греков в древ
ности особые наставники в таинствах.
Михайлов,
Михаил Ларионович (1829—1865) — поэтпереводчик, беллетрист и публицист, революционер,
друг Чернышевского; по доносу Вс. Костомарова был
сослан на каторгу; умер в Кадае 3 августа 1865 г.
628
-
М и ш л е , Жюль (1799—1874) — французский историк, бур
жуазный республиканец, деист и антиклерикал, автор
«Истории Французской революции» и др.
М о л е ш о т , Яков (1822— 1893) — физиолог, представитель
вульгарного материализма, много сделал в области экс
периментальной физиологии.
Молодая
Г е р м а н и я — литературно-критическое на
правление в Германии 1830—40 гг., объединявшее в себе
прогрессивных буржуазных и мелкобуржуазных' деяте
лей литературы, враждебно настроенных по отношению
к феодально-юнкерскому порядку.
М о р ф и — шахматист.
М о ц а р т , Вольфганг Амедей (1756—1791) — известный
немецкий композитор.
М у л ь д е р, Герардус Иоганнес (ум. в 1880 г.) — голланд
ский химик.
Н а д и р - ш а х (1688—1747) — персидский завоеватель и
правитель; необычайной жестокостью вызвал недоволь
ство и был убит.
Н а ль
и Д а м а я н т и — герои
индийских
сказаний.
История их любви и страданий вошла в качестве эпи
зода в санскритскую эпическую поэму «Магабгарата»
(перев. Жуковским в 1837— 1841 гг.).
Н е р о н , Люций Домиций (37—68) — римский император;,
его имя — символ неограниченного деспотизма, разврата
и самомнения.
Н и к и т 4 и к о, Александр Васильевич (1805—1877), уме
ренный прогрессист, историк литературы; с 60-х годов —
реакционер, цензор, редактор полуправительственного
органа «Северная почта».
Новалис
(псевдоним) — Фридрих
фон
Гарденберг
(1772— 1801), немецкий реакционно-дворянский поэт-ро
мантик.
Н ь ю т о н , Исаак (1643—17271 — великий английский мате
матик и физик, основоположник механики, оптики и
астрономии.
О б о д о в с к и й , Александр Григорьевич (1796— 1852) —
педагог.
О б р у ч е в , Владимир Александрович (1836—1912) — член
тайного общества «Великорусе»; друг Чернышевского.
За распространение воззвания «Великорусса» в 1861 году
арестован и после заключения в Петропавловской кре
пости сослан на каторгу.
О в и д и й Н а з о н (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт,
был сослан императором Августом в Томы (при устье
62S
Дуная). Его политическая судьба привлекла внимание
многих (в том числе и Пушкина).
О в с я н н и к о в , Филипп Васильевич (1827— 1906) — физио
лог и гистолог, профессор Казанского, затем Петербург
ского университета.
О з е р о в , Владислав Александрович (1769—1816) — автор
трагедий в духе ложноклассицизма.
О л ь р и д ж , Айра (1810—1867) — известный трагик, негр
по происхождению.
О м е а р — Барри Эдвард О ’Меара (1780—1836),-в р ач Н а
полеона на острове Св. Елены. Он был выслан с острова
из-за неладов с Гудсоном-Ло (см.) и лишен звания мор
ского врача за разоблачения Гудсона-Ло в своем днев
нике.
«Отечественные
з а п и с к и » — в 1850—1860 годах
орган умеренного либерализма, антагонист «Современ
ника» и «Русского слова»; редактировал А. А. Краевский.
О у з н , Роберт (1771— 1858) — английский социалист-уто
пист. В 1819 году благодаря его усилиям был проведен
закон, охранявший труд женщин и детей на фабриках.
Н а своей фабрике в Ныо-Ланарке (Шотландия) провел
ряд мероприятий, улучшающих быт рабочих.
П а в л о в , Платон Васильевич (1825—1895) — профессор
истории Казанского, а затем Петербургского универ
ситета, умеренный либерал. За речь о тысячелетии Р ос
сии 2 марта 1862 года, в которой он призывал власть
к единению с народом, был сослан в Ветлугу.
« П е т е р б у р г с к и е в е д о м о с т и » — газета; в 60-х го
дах (ред. А. А. Краевский и А. Н. Очкин) умеренно-ли
берального характера.
П е т р о в , Антон — крестьянин села Бездны, Казанской
губ., руководитель крестьянского восстания в Бездне,
расстрелян 17 апреля 1861 г.
П и г м а л и о н и Г а л а т е я. — По мифологическим ска
заниям царь Пигмалион упросил богиню Афродиту ожи
вить сделанную им мраморную статую Галатеи, которая
затем стала его женой.
Пиль,
Роберт (1780—1850) — английский политический
деятель, член Палаты общин, премьер, проводил политику
либеральной промышленной буржуазии.
П о з и т и в и з м — реакционная буржуазная философская
школа, отказывающаяся от теоретического осмысливания
действительности, считающая, что познание может огра
ничиться лишь описанием внешней поверхностной сто
роны действительности. Отрицая возможность познания
сущности изучаемых явлений, позитивизм открывал две630
,
ри для прямого идеализма, для веры в бога: познать
можно лишь поверхность явлений, что за ними, того
нельзя знать, в то можно лишь верить. Поэтому, с точки
зрения позитивизма, вера в загробный мир и бога вполне
закономерна.
П о л е в о й , Николай Алексеевич (1796— 1846) — журналист,
критик, беллетрист и историк. Его журнал «Московский
телеграф» (1825—1834 гг.) был закрыт по приказу Нико
лая I за резкий отзыв о патриотической драме Куколь
ника. В противовес «Истории государства Российского»
Карамзина написал «Историю русского народа». Во вто
рую половину деятельности стал писать в реакционно
патриотическом духе.
П о л о н с к и й , Яков Петрович (1819— 1881.) — поэт, пред
ставитель так называемой «чистой лирики», относивший
ся враждебно к революционному движению 60-х го
дов.
П о л ь д е К о к (1794— 1871) — французский романист, ав
тор многочисленных романов бульварного характера.
П р н а п е й — празднества в честь Приапа (греч. миф.), по
кровителя сладострастия и чувственных наслаждений.
П р у д о н , Пьер Жозеф (1809—1865) — французский со
циал-утопист, идеолог мелкой буржуазии.
П у н и ч е с к и е в о й н ы — войны Рима с Карфагеном:
первая — 264—241 гг. до н. э.; вторая—-219—201 гг. до
н. э.; третья — 149— 146 гг. до н. э.
П ф л ю г е р, Эдуард Фридрих Вильгельм (1829—1910) -—
немецкий физиолог, основатель современной физиоло
гии дыхания и обмена веществ.
«Р а з в л е ч е н и е» — еженедельный
литературно-юмори
стический журнал, издавался в Москве- с 1859 по
1917 год.
Р а с и н , Жан Батист (1639—1699) — французский писатель,
видный представитель классицизма.
Р а ф а э л ь С а н ц и о (1483—1520) — великий итальянский
художник.
Р е й н г о л ь д , Христиан Эрнст (1793—1855) — немецкий
философ, последователь Канта, давший систематическое
изложение его системы.
Р е м б р а н д т ван Рейн (1606—1669) — знаменитый гол
ландский живописец.
Р и к а р д о , Давид ( 1772 — 1823) — видный представитель
классической политэкономии; консерватор в области по
литики, считал капиталистический строй вечной формой
человеческого общежития.
Р о б е с п ь е р , Максимилиан Мари (1758—1794) — знамени
тый деятель французской революции X V III века, вождь
631
якобинцев, идеолог революционной буржуазии. Гильоти
нирован 27 июля 1794 г.
Р о м а н т и з м — литературное направление конца XVIII
и начала X IX веков, боровшееся с классицизмом во имя
свободы художника в выборе темы и создававшее изоб
ражения субъективно окрашенных, односторонних и
преувеличенных характеров. В этом широком течении,
выросшем в период распада феодально-крепостнического
общества и восхождения буржуазии, объединялись пред
ставители дворянства и идеологи крупной и мелкой бур
жуазии, охваченные стремлением уйти из мира суще
ствующего в мир желаемый.
Р у б и н и, Джиованни Батиста (1795— 1854) — знаменитый
итальянский певец. В 1844 году пел в Петербурге.
« Р у с с к о е с л о в о » — ежемесячный журнал радикального
направления, издававшийся в Петербурге в 1859— 186G го
дах при ближайшем участии Писарева, Зайцева, Г. Благосветлова и др.
Р у с с о , Жан Жак (1712— 1778) — знаменитый французский
писатель и мыслитель, предшественник французской ре
волюции X V III века. Его идеи социального равенства и
неверие в способность господствующих классов устра
нить язвы современного общества сделали имя Руссо
популярным среди широких масс и авторитетом среди
якобинцев.
С
в е ч и н а, Софья Петровна (1782— 1859) — писательница,
в 1817 году стала католичкой, жила в Париже. Сочине
ния ее носили характер благочестивых размышлений.
Изданная ею в 1860 году книга «Vie et oeuvres de M-me
Swetchine» горячо обсуждалась в русской печати 60-х
годов.
С в и ф т , Джонатан (1665— 1745) — английский писатель, пу
блицист, автор бессмертной сатиры на буржуазный строй
Англии начала X V III века — «Путешествие Гулливера» и
ряда памфлетов против духовенства.
С в я т а я Е л е н а — остров заточения Наполеона.
« С е в е р н а я п ч е л а » — газета, основанная Булгариным
в 1825 году, обслуживала интересы реакции и III Отде
ления; в 1860—1864 гг. ее редактировал умеренный ли
берал П. Усов, но прежняя репутация, как органа про
дажной прессы, за газетой сохранялась и позднее.
С е п т и м и й С е в е р (193—211) — римский император.
С е ч е н о в , Иван Михайлович (1829—1905) — основатель
физиологии в России.
С к а р я т и н , Владимир Дмитриевич (1813—1882) — реак
ционный публицист. В 1863— 1870 гг. редактор крепост
нической газеты «Весть».
632
'
С к о т т , Вальтер (1771— 1831) — английский писатель, один
из зачинателей исторического романа.
С м а р а г д о в , С. Н. (ум. в 1871 г.) — составитель реак
ционных учебников, принятых в учебных заведениях
того времени.
С о л о в ь е в , Николай (1831— 1874) — врач и реакционный
критик, бездарный противник Чернышевского, Добролю
бова и Писарева.
С о л о в ь е в , Сергей Михайлович (1820—1879) — один из
крупных русских историков, профессор Московского
университета.
С о у т и, Роберт (1774— 1843) — известный английский поэт.
С о ф и с т ы . — В древней Греции (V —IV века до н. э.) со
фистами называли людей, обучавших юношество разным
знаниям, в том числе философии и красноречию —
искусству доказывать свои положения. Позднее софизм
стал течением, защищавшим субъективизм ложными до
водами, основывающимися на относительности наших
познаний.
С п и р и т у а л и с т ы — сторонники идеалистических систем
в философии, разделяют убеждение, что духовное на
чало, «дух», «бог» — высшее начало, источник жизни.
С р е з н е в с к и й , Измаил Иванович (1812— 1880) — фило
лог-славист, консерватор; в 1861 году был ректором
Петербургского университета.
С т а н и ц к и й — псевдоним Авдотьи Яковлевны Панаевой,
писательницы, игравшей большую роль в жизни' Некра
сова.
С т р а х о в , Николай Николаевич (1828—1896) — философидеалист, критик, писатель, один из представителей поч
венничества, печатался в журналах: «Время», «Эпоха»
и др. под псевдонимом Н. Косица.
С у м а р о к о в , Александр Петрович (1718— 1777) — драма
тург, баснописец, издатель первого русского журнала.
Сципион,
Публий Корнелий Старший (235— 183 до
н. э.) — римский полководец, консул, глава аристократи
ческой партии; возглавлял культурное движение, воз
рождавшее греческую культуру. За победы над Ганни
балом в войне за колонии и торговое преобладание
Рима прозван был «Африканским».
« С ы н о т е ч е с т в а » — журнал истории, политики, сло
весности, наук и художеств. С. С. Уваров, министр на
родного просвещения, возложил на этот журнал защиту
устоев государственности. Первым редактором его был
известный реакционер Н. И. Греч.
Талейран,
Шарль
Морис
(1754— 1838) — известный
французский дипломат, беспринципный карьерист.
633
Т а л ы з и н , Матвей Иванович (род. в 1819 г.) — математик
и физик.
Т а л ь м а , Франсуа Жозеф (1763—1826) — известный фран
цузский трагик, примыкал к революции, был другом
Мирабо и жирондистов и в то же время был близок
с Наполеоном; основал «Театр революции», где прово
дил в жизнь реформы в театральном искусстве в духе
реализма, вопреки придворно-феодальному искусству.
Т а м е р л а н (Тимур-и-Ленг, то есть Тимур Хромой; 1336-—
1405) — восточный завоеватель, совершил набег на Рос
сию в 1394 году.
Т е к к е р е й , Вильям (1816— 1863) — английский романист,
в бытовых романах («Ярмарка тщеславия» и др.) дал са
тиру на современную ему буржуазно-аристократическую
Англию.
Т е н н и с о н , Альфред (1809—1892) — английский поэт. '
Т и к , Людвиг (1773—1853) — видный немецкий писательромантик.
Т и ц и а н (Тициано Вечелли, 1489— 1576) — великий живо
писец эпохи Возрождения.
Т р е д ь я к о в с к и й , Василий Кириллович (1703—1769) —
придворный пиит, переводчик, теоретик стихосложения,
автор слабых и раболепных стихов.
Троллоп,
Антон (1815—1882)-— английский романист,
автор популярных бытоописательных романов.
Т ю р я — маркер.
Т ю т р ю м о в , Никанор Леонтьевич (1821— 1877) — живо
писец-портретист.
У л а н д, Людвиг (1787—-1862) — немецкий поэт-романист
и историк литературы; в его произведениях сочетается
симпатия к средневековью с либерально-республикан
скими стремлениями мелкой буржуазии.
Ф е в а л ь, Поль (1817— 1887) — французский писатель, ав
тор сенсационных бульварных романов.
Ф е д о р о в , Борис Михайлович (1794—1875) — малоталант
ливый писатель, стихотворец, реакционер.
Ф е й е р б а х , Людвиг (1804— 1872) — знаменитый немецкий
философ-материалист.
Ф е н е л о н, Франсуа де ла Мотт (1651—1715) — француз
ский писатель, автор популярного нравоучительного ро
мана «Приключения Телемака».
Ф е о к р и т — древнегреческий поэт III века до н. э., автор
«буколических» поэм, или идиллий, в которых изображе
на в
прикрашенном виде пастушеская жизнь.
Ф е т ( Ш е н ш и н ) , Афанасий Афанасьевич (1820— 1892) —
поэт-лирик, сторонник «чистого искусства», реакционер,.
крепостник.
634
Ф и л и п п О р л е а н с к и й (1674— 1723) — герцог, прави
тель Франции во время малолетства Людовика X V .
Расточительностью и авантюрами довел Францию до тя
желого кризиса.
Ф и р о р д — естествоиспытатель.
Ф и х т е , Иоганн Готлиб Старший (1762— 1814) — крупней
ший немецкий философ, представитель классической
философии, субъективный идеалист, разделял радикаль
ные политические взгляды.
Ф и ш е р , Фридрих Теодор (1807— 1887) — профессор ф и
лологии, эстетики и немецкой литературы, гегельянец,
автор многотомного труда по эстетике.
Ф л о б е р , Густав (1821'—1880) — выдающийся французский
писатель-романист.
Ф о р б е с, Эдуард (1815— 1854) — английский естествоиспы
татель и медик, усовершенствовал приборы для изуче
ния глубокодонной фауны.
Ф о х т, Карл (1817— 1895) — немецкий ученый натуралист;
представитель вульгарного материализма.
Ф р а н ц I — император австрийский с 1804 по 1825 год.
«Ф р е й ш и ц» (Фрейшюц) — романтическая опера Карла
Марии Вебера (1786—1826); была очень популярна в 20-х
годах и в России.
Ф у л ь р о т — естествоиспытатель.
Ф у н к е , Отто (1828—1879) — немецкий физиолог.
Ф у р ь е , Франсуа Мари Шарль (1772—1837) — французский
социалист-утопист.
Х е р а с к о в , Михаил Матвеевич (1733— 1807) — поэт, пред
ставитель русского ложноклассицизма.
Ц е з а р ь , Юлий (102—44 до н. э.) — римский полководец,
политический деятель, писатель, глава оппозиции про
тив аристократического сената, затем — диктатор Рима.
Убит в 44 году республиканцами-аристократами Брутом
и Кассием.
Ц и ц е р о н , Марк Туллий (106—43 до н. э .) —’ Выдающий
ся римский оратор, деятель и писатель, противник Ц е
заря, враг демократии, сторонник аристократической рес
публики.
Ч е л л и н и , Бенвенуто (1500—1571) — итальянский худож
ник, ювелир, литейщик, ваятель.
Ч и н г и с х а н (1155—1227) — монгольский завоеватель и
основатель огромной империи.
Ч и ч е р и н , Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, исто
рик, общественный деятель, профессор Московского ука635
перситета, либерал-монархист, защитник дворянских при
вилегий.
Ш а л и к о в , Петр Иванович, князь (1768— 1852) — журна
лист и бездарный писатель; этот злой реакционер и его
слезливая поэзия были предметом насмешек в литера
туре 30—40-х годов.
Ш а х т , Герман (1814— 1864) — ботаник.
Ш в а н н, Теодор (1810—1882) — немецкий анатом, гистолог
и физиолог; основатель учения о клетке.
Ш е д о - Ф е р р о т и — литературный
псевдоним
барона
Фед. Ив. Фиркса (1812— 1872), публициста, русского
агента III Отделения в Брюсселе, наемного защитники
монархии.
Ш е л л и , Перси (1792-—1822) — известный английский поэт.
Ш е ф е р , Леопольд (1784— 1862)— немецкий поэт и бел
летрист.
Ш и л л е р , Иоган Христофор Фридрих (1759— 1805) — зна
менитый немецкий поэт.
Ш л е г е л и, Август Вильгельм (1767— 1849) и его брат
Фридрих (1772— 1829) — немецкие философы и поэтыромантики.
Ш л о с с е р, Фридрих (1776— 1861) — знаменитый немец
кий историк, буржуазный либерал; в противовес реак
ционерам дал либеральную трактовку французской ре
волюции X V III столетия.
Ш п и л ь г а г е н , Фридрих (1829—1911) — немецкий рома
нист, был близок по своим политическим идеалам
к «Молодой Германии» и революции 1848 года. Его ро
ман «Два поколения» вышел в свет в 1863 году.
Э д е л ь с о н , Евгений Николаевич (1824— 1868) — критик,
близкий к славянофилам, защищал теорию искусства
для искусства.
Эйлер,
Леонард (1707— 1783) — крупнейший немецкий
математик и физик, автор трудов по интегральному
исчислению, механике и т. п. Работал в 1727 году в Р ос
сии в Академии Наук.
Э л и д е Б о н о й , Жан Батист Арман (1798— 1874) —
французский геолог составитель геологической карты
Франции.
Э л л и о т , Джордж (1819—1880) — литературный псевдо
ним Мери Анны Эванс, выступавшей в защиту раскре
пощения женщины и против мещанства.
Э л ь с л е р , Фанни (1810—1878) — известная танцовщица
30—40-х годов, в 40-х годах дебютировала с большим
успехом в России.
С36
-
Э о л (миф.) — бог ветров.
« • Э п о х а » — журнал, издававшийся в 1864—1865 годах
братьями Достоевскими.
Э р е н б е р г , Христиан Готфрид (1795— 1876) — немецкий
естествоиспытатель и путешественник; дал объяснение
свечения моря.
Я к у б о в и ч , .Николай Мартынович (1817—1879) — гисто
лог и физиолог; изучал центральную нервную систему.
Я м а (инд.) — божественный правитель умерших душ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Стр.
В. Я Кирпотин. «Писарев». (Вступительная статья) .
3
Г. Гейне (1862 г . ) ........................................................................................
24
Русское правительство под покровительством ШедоФерроти (1862 г . ) ........................................................................................
10
Реалисты (1864 г.) ...................................................................................
116
Роман кисейной девушки (1855 г . ) ...............................................
33
Пушкин и Белинский (1 гл.) (1865 г . ) ....................................
385
Разрушение эстетики (1865 г . ) .........................................................
47
Мыслящий пролетариат (1865 г . ) .........................................................523
Комментарии и примечания . .
..........................
593
Словарь имен, встречающихся в статьях Писарева . .
. . •
616
ДЛЯ СРЕДНИХ ШКОЛ
Художник
В.
М ат ю х.
Редактор
В . Д ен и со в . Технический редактор
Л . Ч ернецова. Корректор Ф . А л ек са н
дров. Главлит № А -10 183. Тир. 30 000.
Сдано Biia6op7/VII 1937 г. Подписано
к печати 23/VI 1939 г. Бумага 70X 92.
Авторских л. 28,73. Учетно-авт. л. 28,81.
Бумажных л. 10. Типографск. зн. на
1 бум. л. 115 000. Цена 4 р. Переплет
1 р. Набрано во 2-й типографии
Трансжелдориздата имени Лоханкова.
Ленинград, улица Правды, 15. Отпеча
тано с матриц в типографии им. Воло
дарского, Ленинград, Фонтанка,67.
Заказ № 1985.