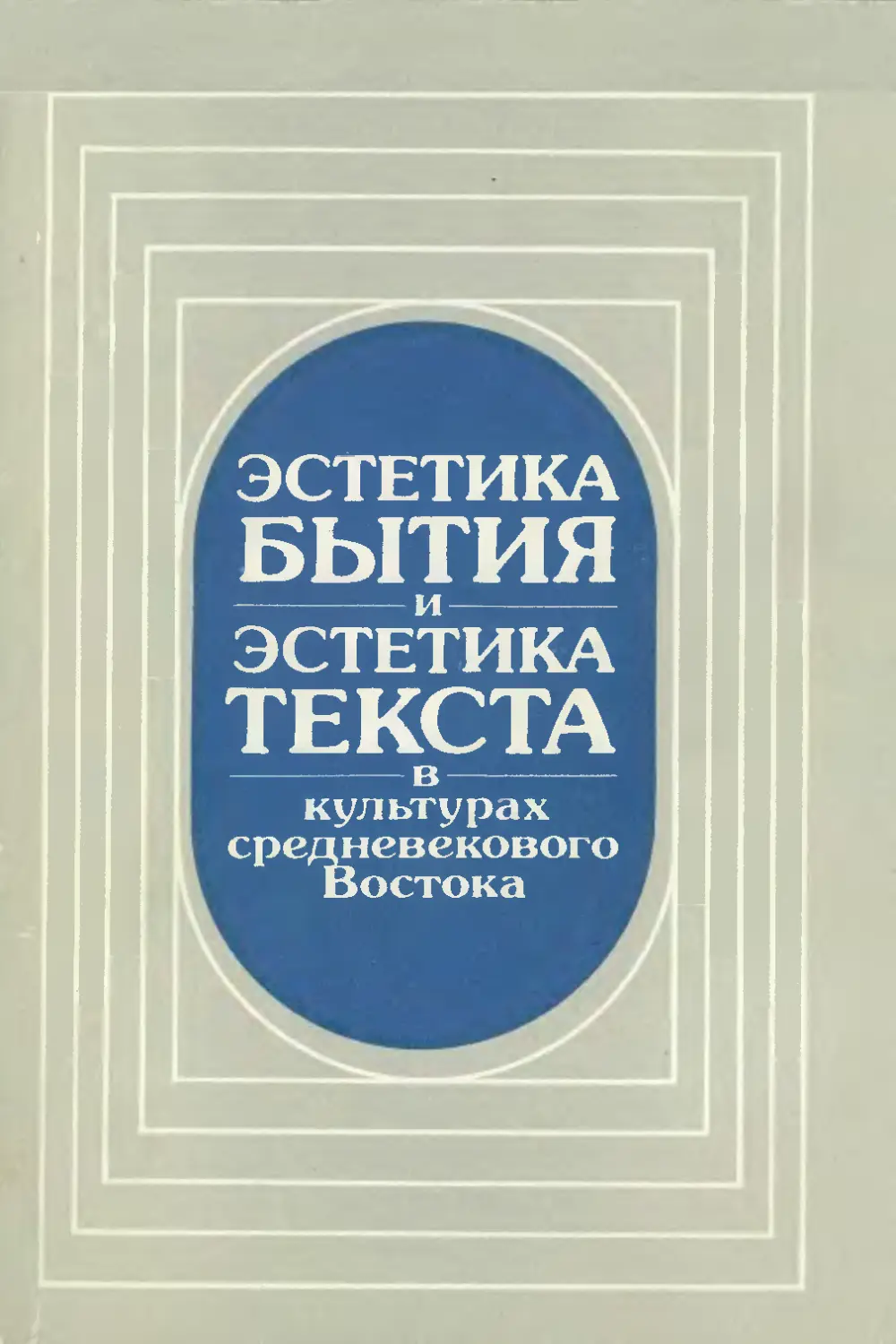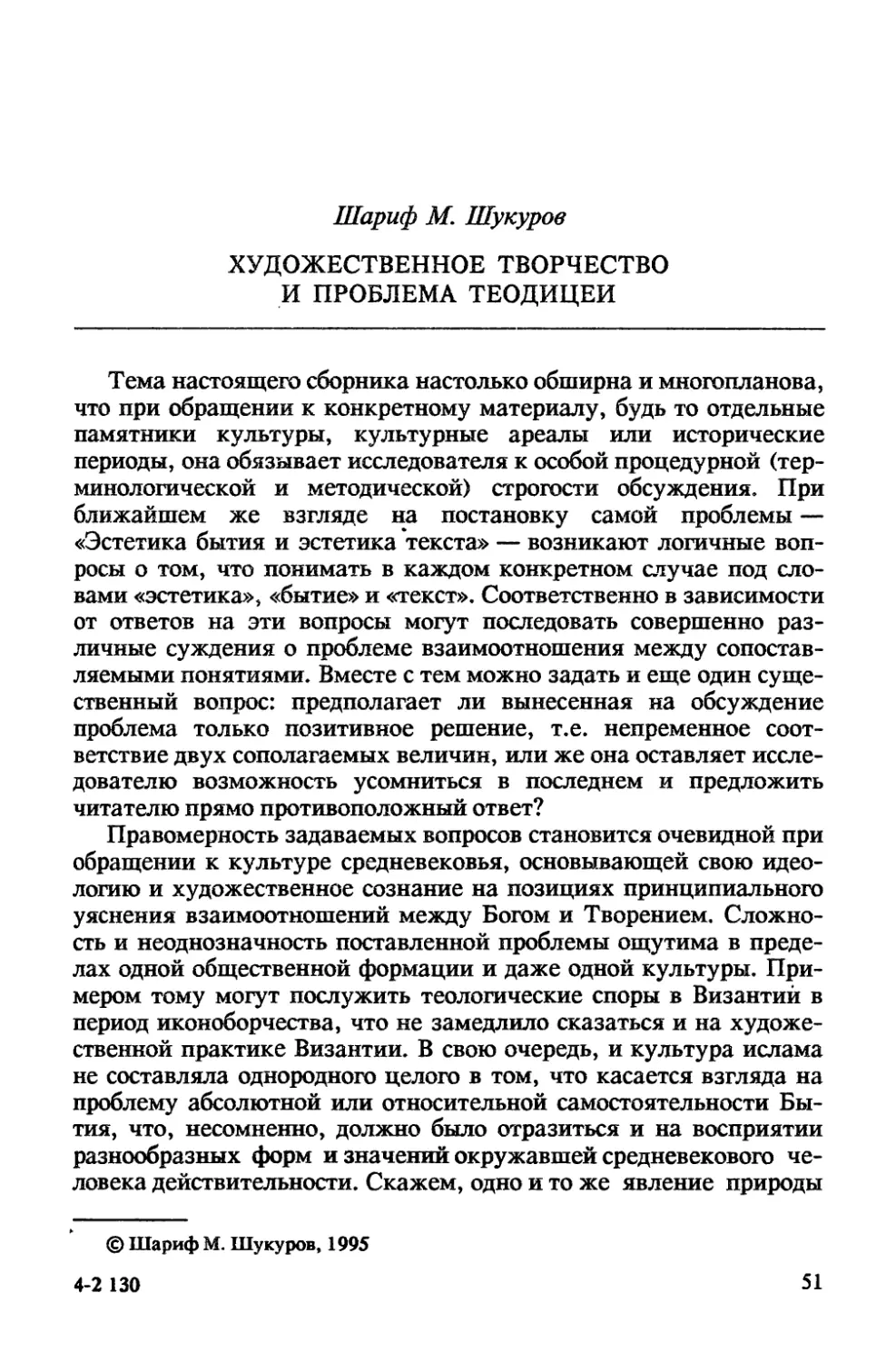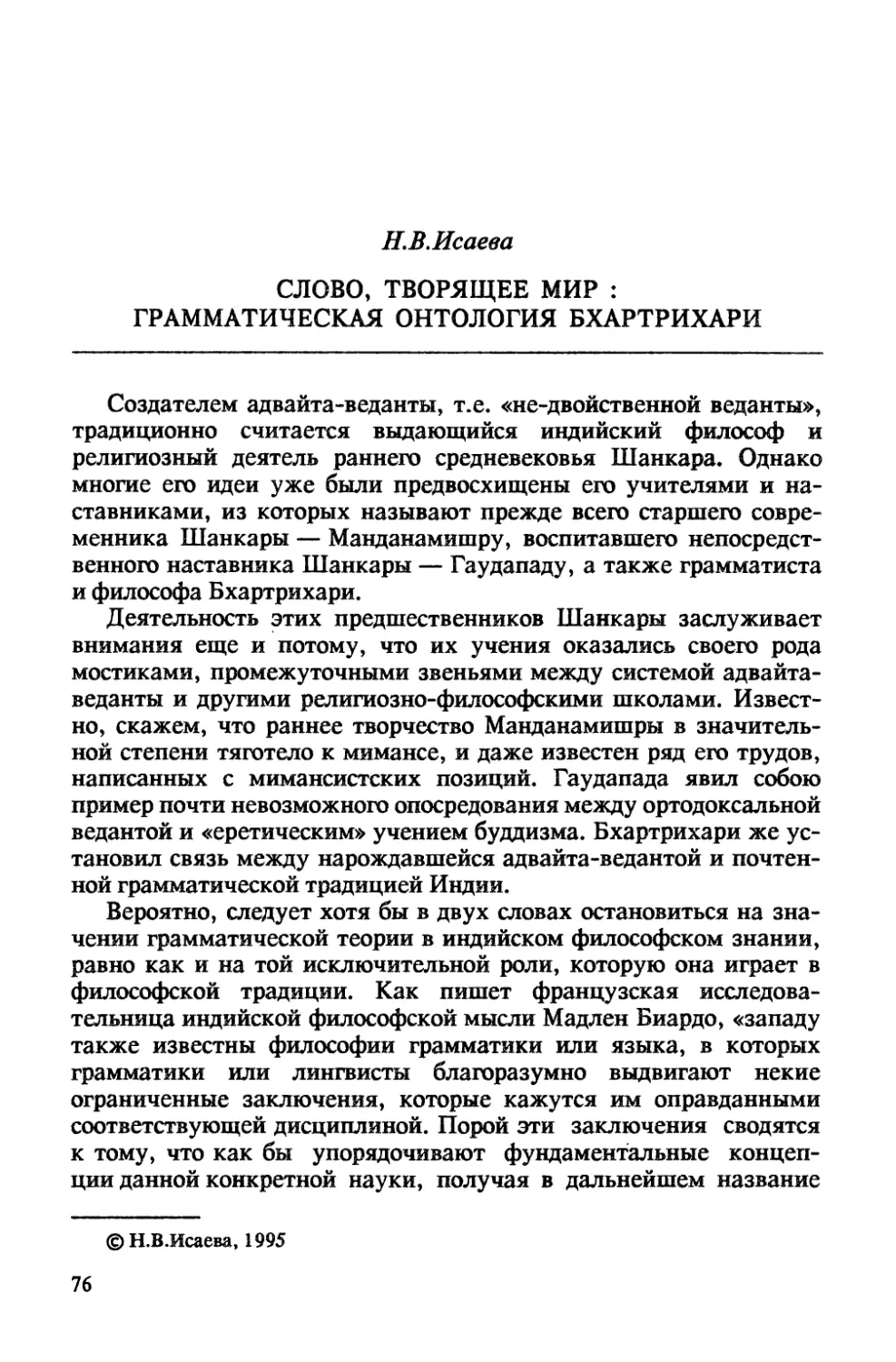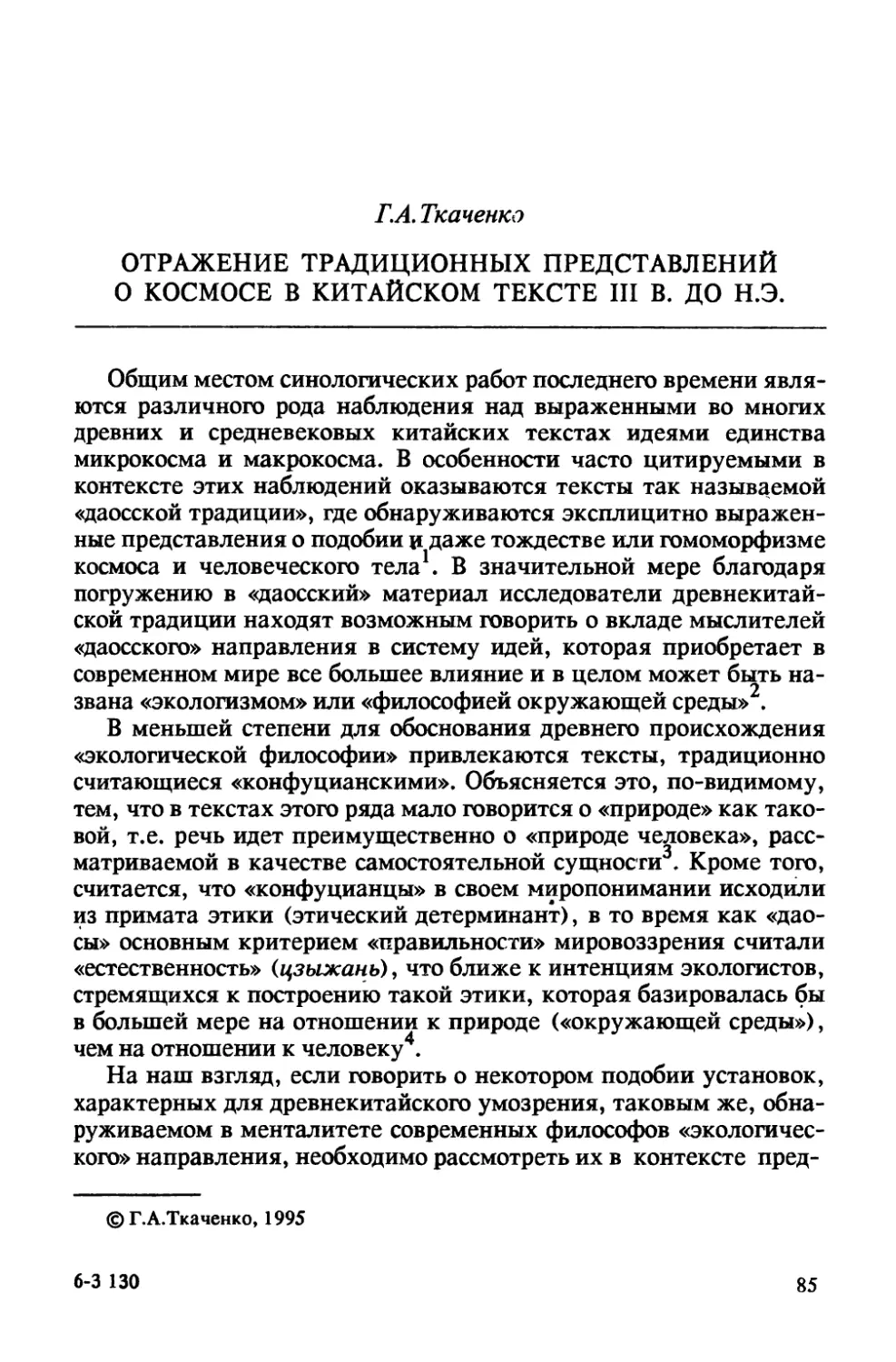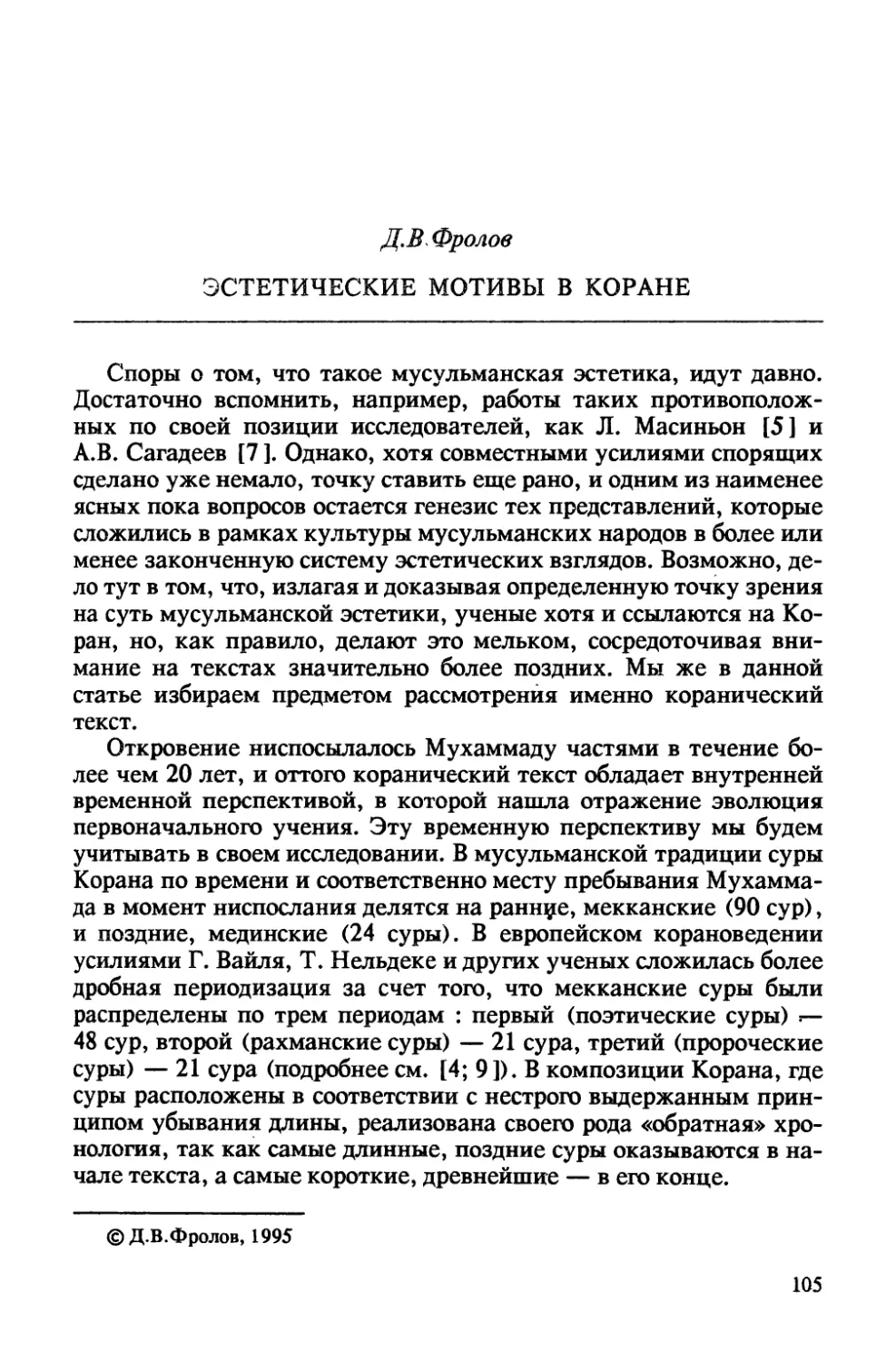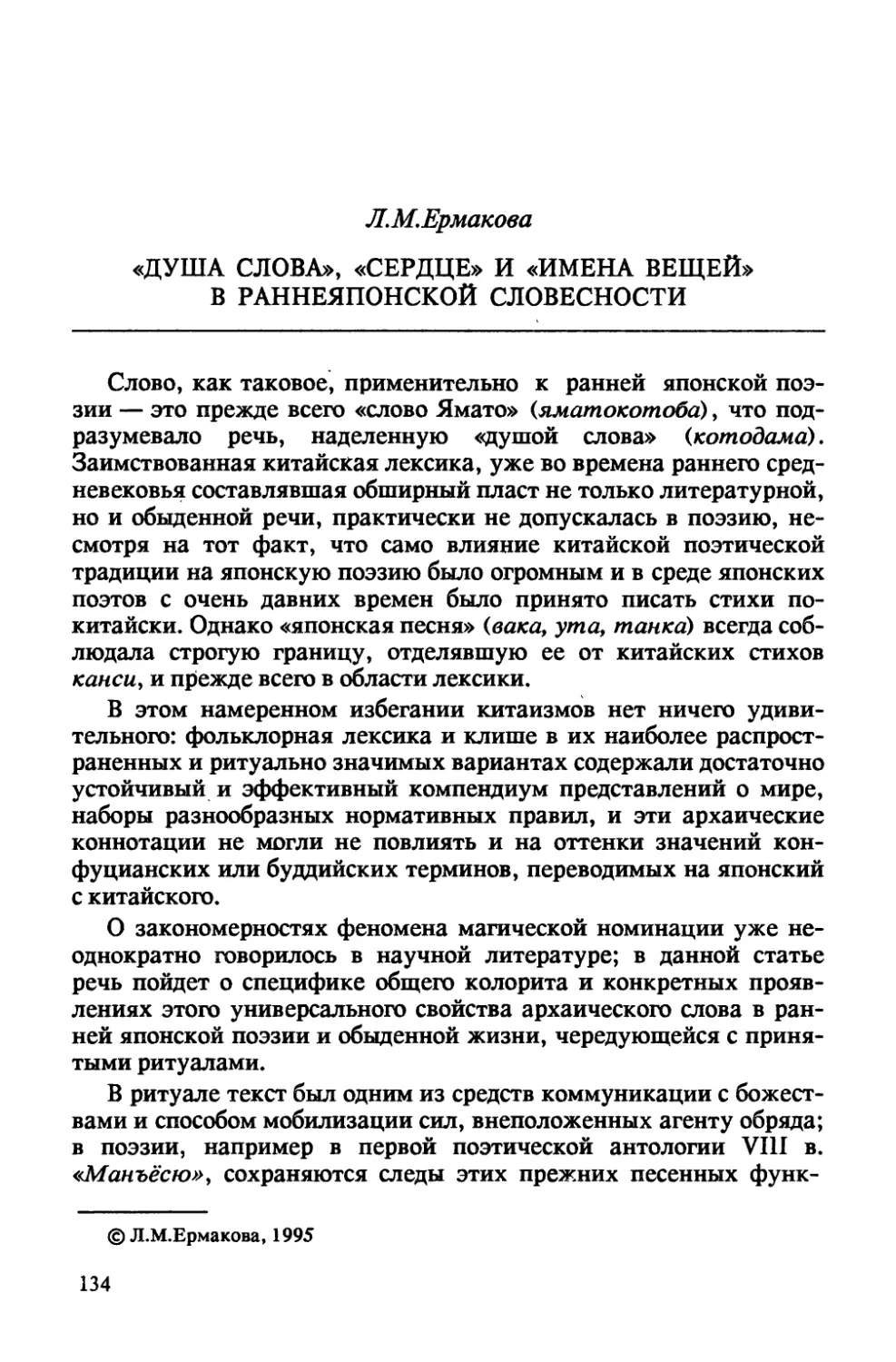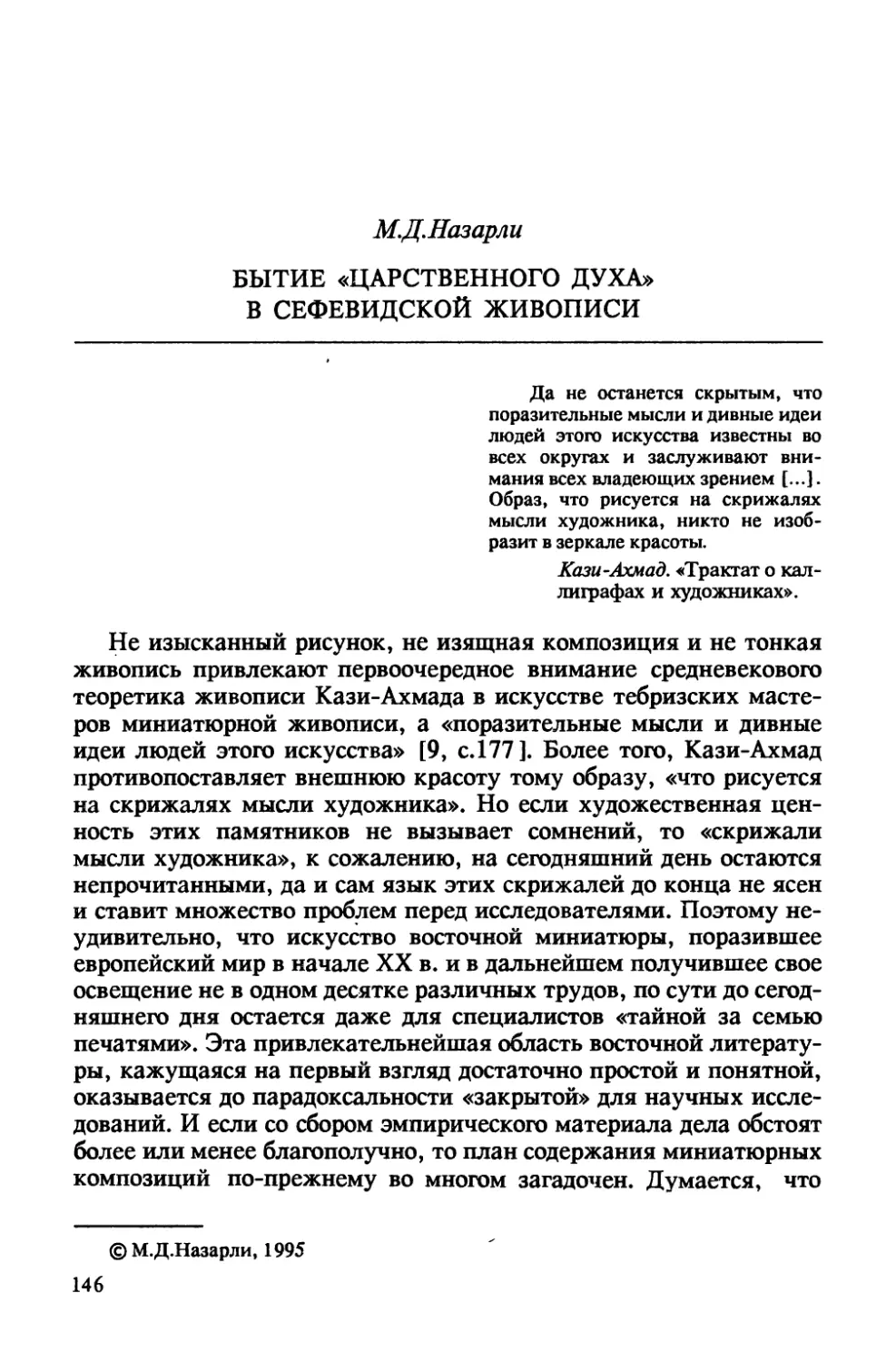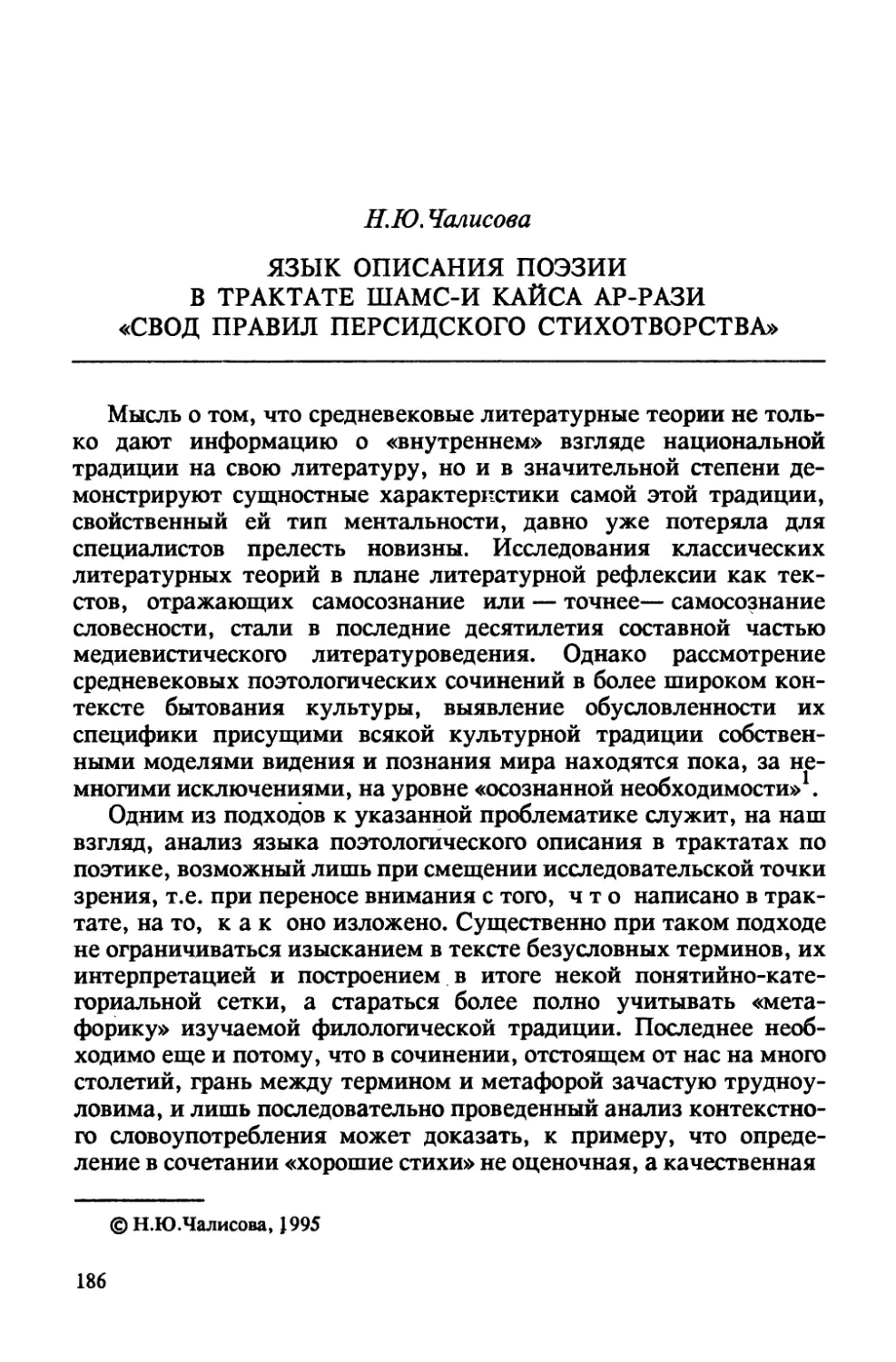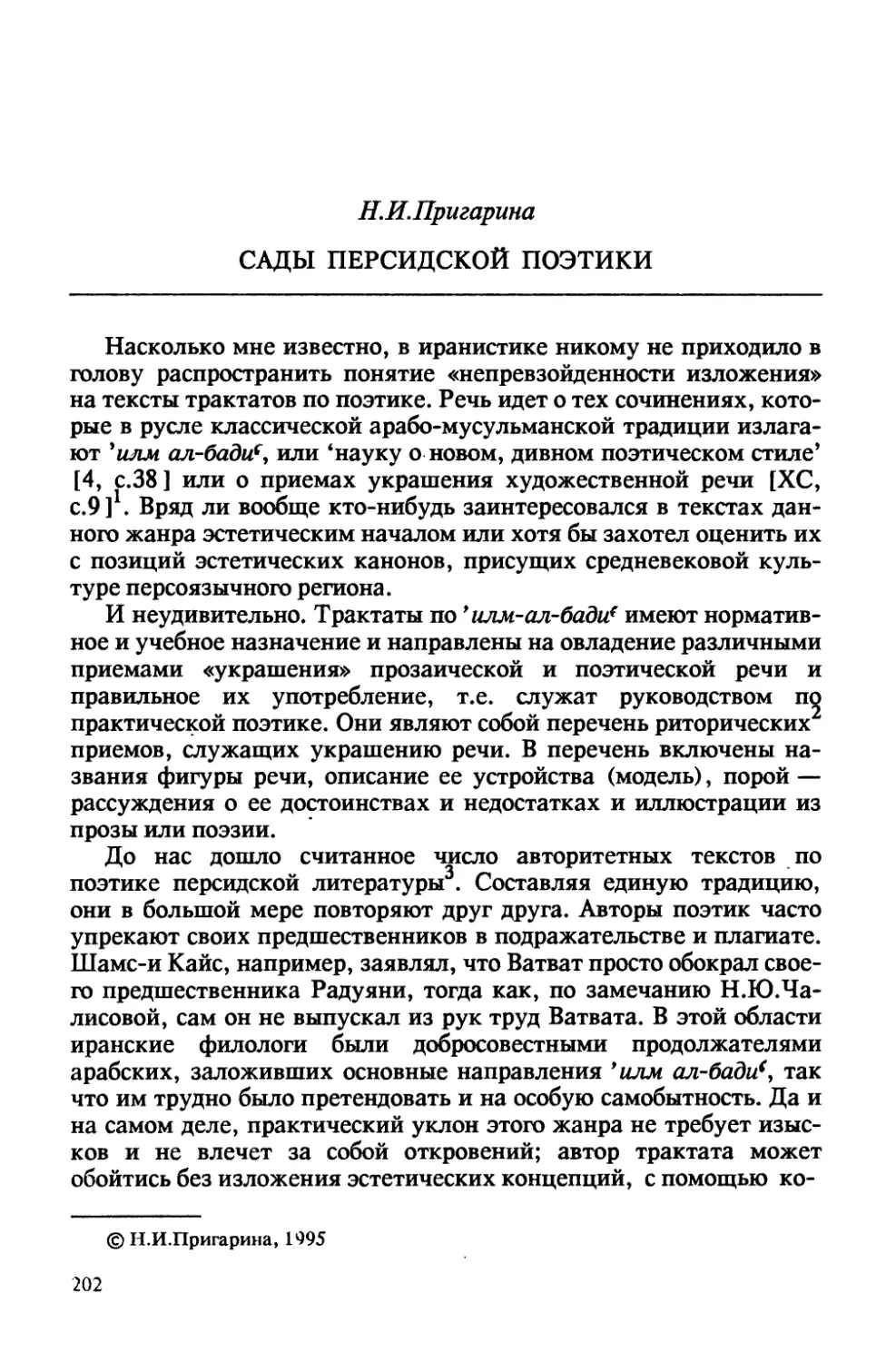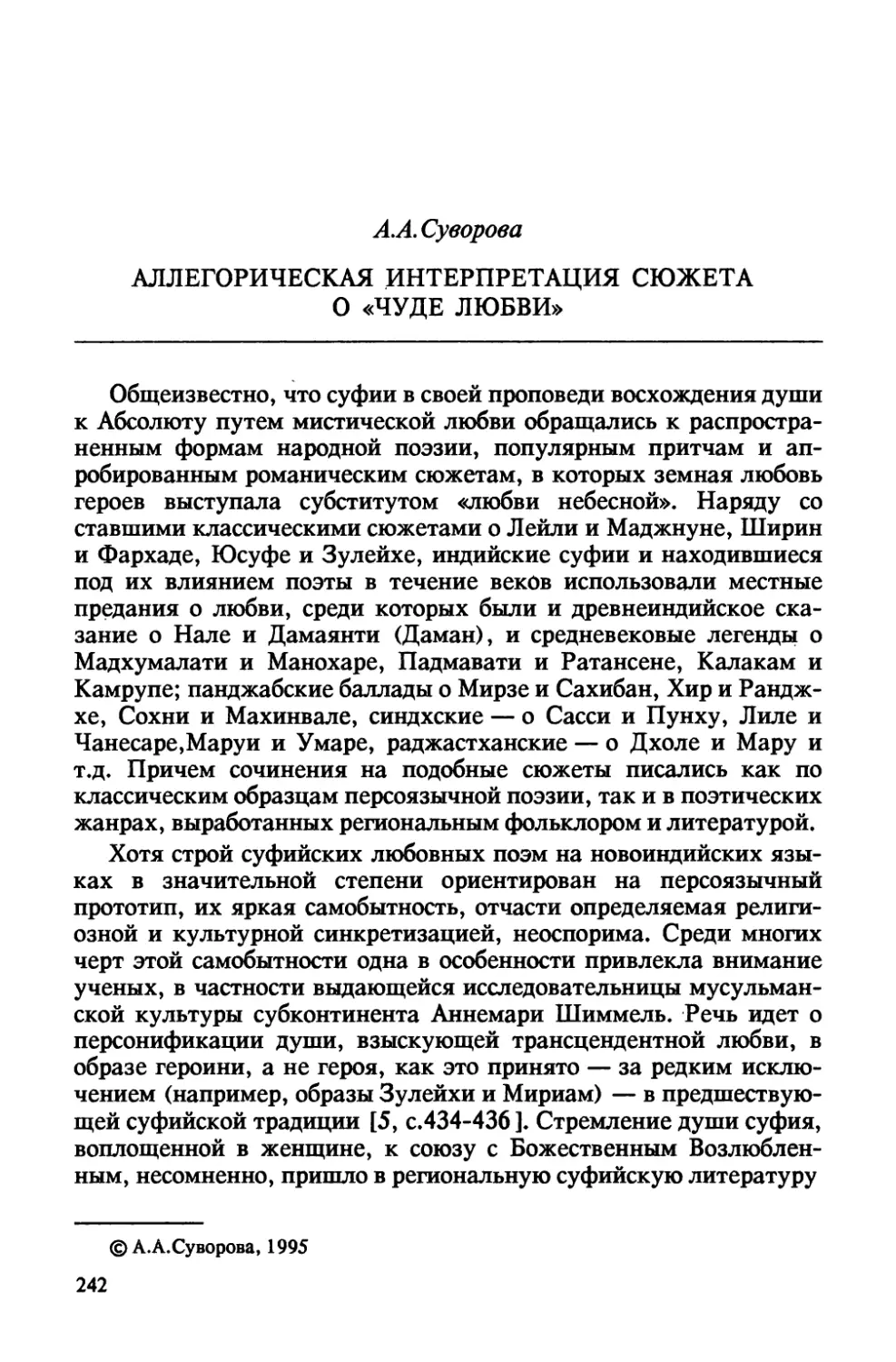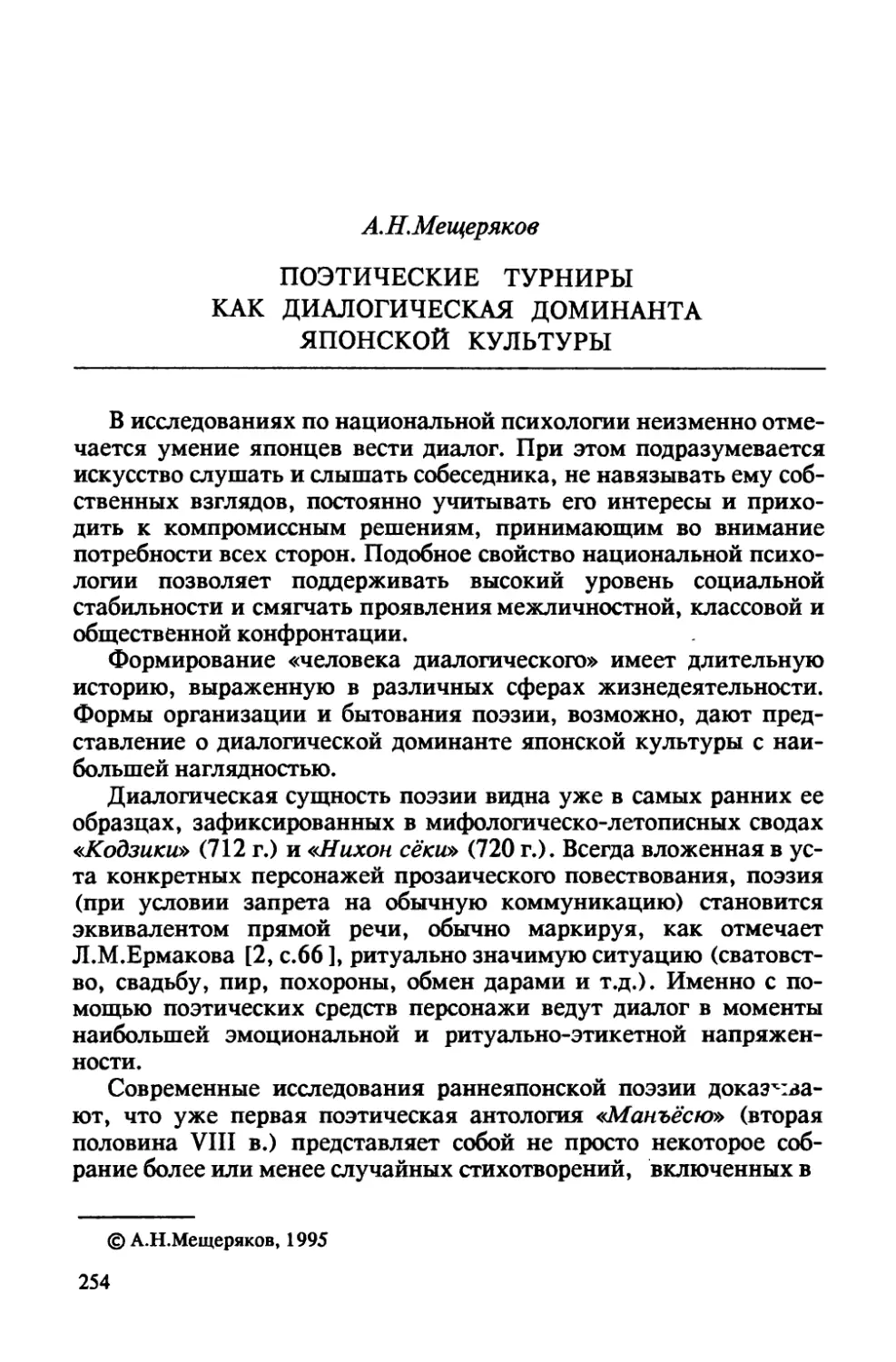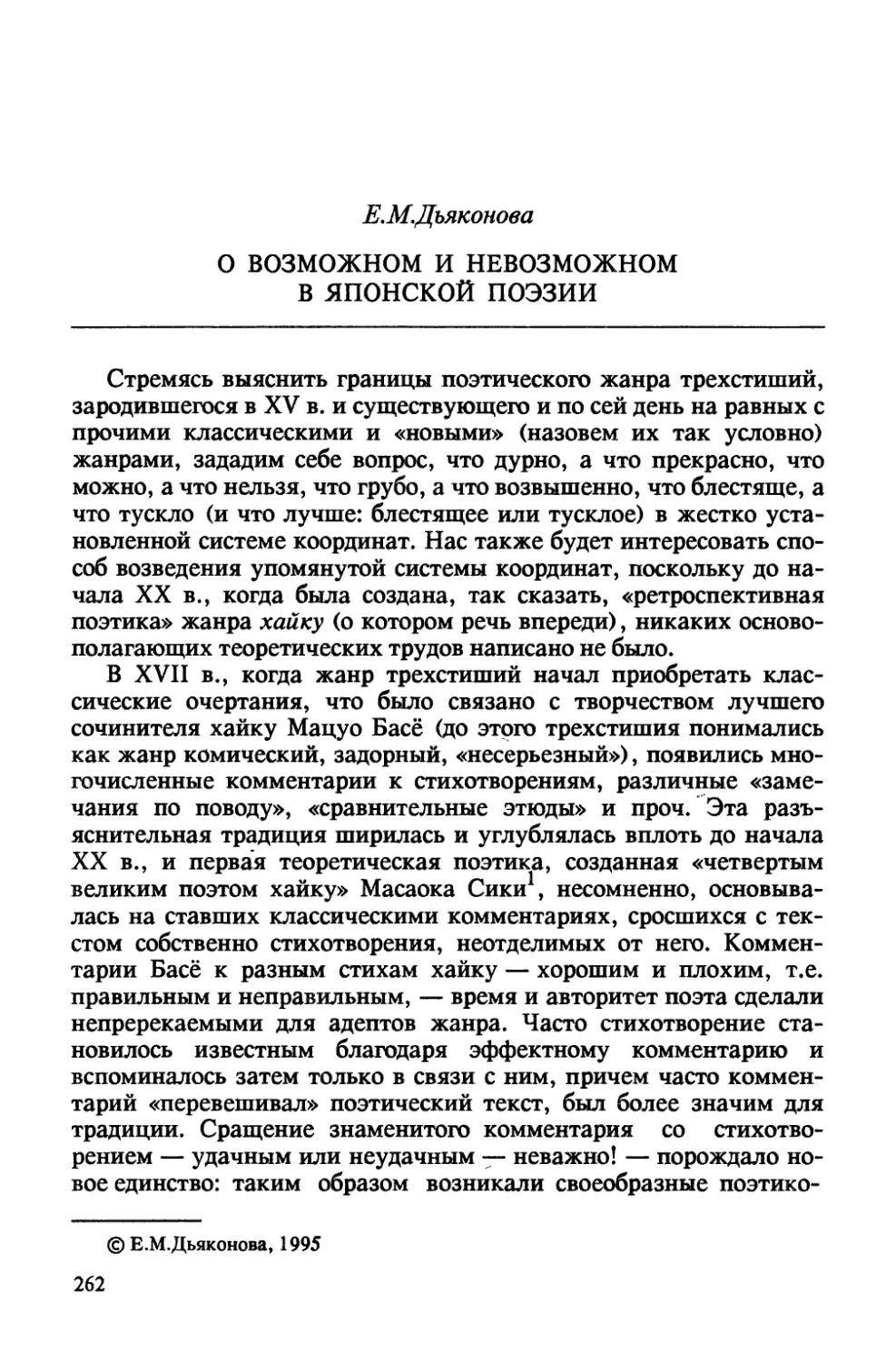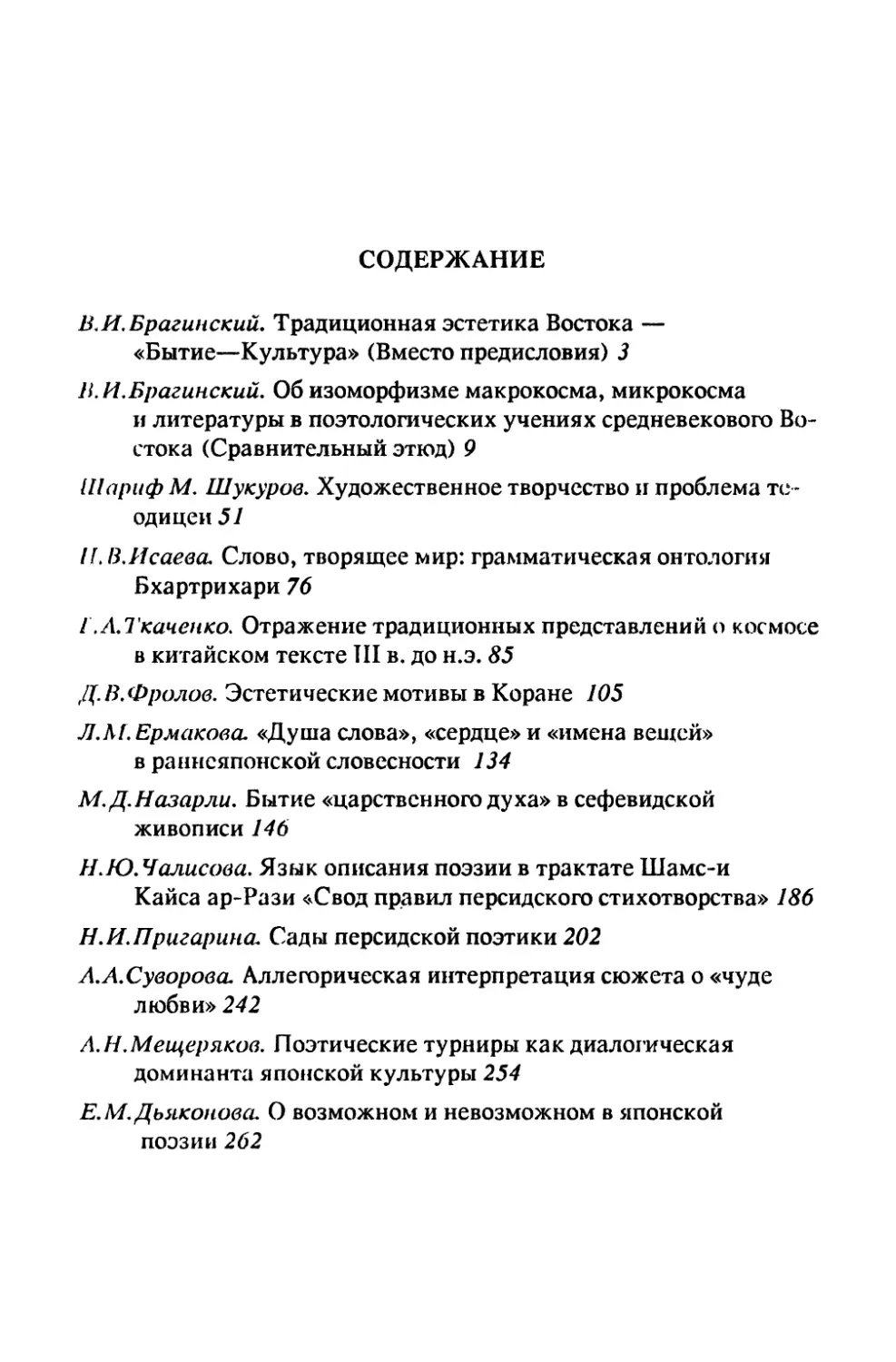Автор: Брагинский В.И.
Теги: литературоведение эстетика культура востока востоковедение средневековье
ISBN: 5-02-017561-9
Год: 1995
Текст
Российская академия наук
Институт востоковедения
ЭСТЕТИКА
БЫТИЯ
ЭСТЕТИКА
ТЕКСТА
В —
культурах
средневекового
Востока
Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
1995
ББК83
Э87
Ответственный редактор
В.И.БРАГИНСКИЙ
Редакторы издательства
Е.К.БОРИСОВА, М.И.КАРПОВА
46030000000.028 Без обьявления ББК 83
013(02)-95
ISBN 5-02-017561-9 © Составление, вступительная статья:
В.И.Брагинский, 1995
© Оформление: Издательская фирма
«Восточная литература* РАН, 1995
ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТЕТИКА ВОСТОКА -
«БЫТИЕ-КУЛЬТУРА»
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
Значение эстетики в системе культуры — одна из центральных
проблем в изучении традиционных цивилизаций Востока, как,
разумеется, и Запада. Это утверждение может показаться не-
сколько парадоксальным, учитывая, что, несмотря на множество
различных представлений, концепций, учений явно эстетического
характера, нигде в рамках традиционных культур эстетика не
сложилась в отдельную самостоятельную и самодостаточную
дисциплину. И тем не менее дело обстоит именно так. Ибо, по
справедливому замечанию С.САверинцева: «Отсутствие науки
эстетики предполагает в качестве своей предпосылки и компен-
сации сильнейшую эстетическую окрашенность всех прочих форм
осмысления бытия... Пока эстетики как таковой нет, нет и того,
что не было бы эстетикой» . Проникая в комплекс традиционных
эстетических представлений Востока, присущих прежде всего
классическим культурам арабо-мусульманского, индийско-юго-
восточного, китайско-дальневосточного «кругов», исследователь
открывает для себя то, что может быть названо эстетическим
«полем» культуры.
Являвшее собой особый аспект, особое «измерение» Универсу-
ма в его взаимоподобных макрокосмической (мироздание) и
микрокосмической (человек) ипостасях эстетическое «поле» куль-
туры представало всеохватной целостностью Сущего, исполнен-
ной красоты и совершенства. Этому «полю» и этой целостности со-
ответствовала и особая столь же всеохватная познавательная
позиция культуры по отношению к Сущему как к красоте. В
стремлении постичь красоту Сущего традиционная культура, в
отличие от западной постсредневековой, исходила не из разде-
ления — противопоставления субъекта-созерцателя объекту-со-
зерцаемому, а, напротив, из их единения — полного снятия про-
тивоположности субъекта и объекта в созерцательном, меди-
тативном акте, безостаточного «таяния» одного в другом. Тем
самым в эстетическом «поле» культур Востока эстетическое, онто-
^Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с.ЗЗ.
1-2 130 3
логическое и гносеологическое начала оказывались нерасторжимо
связанными. Это и определяло две основополагающие черты
традиционной восточной эстетики: ее объективность (если это сло-
во вообще применимо к медитативному способу познания) и онто-
логичность.
Целостность Универсума — а обостренное переживание этой
целостности как красоты и составляло самый «нерв» традиционной
эстетики — порождалась все созидающим, все проникающим со-
бой и все собой осмысляющим бытийным Первоначалом, будь то
личный Бог в исламе или безличное Единое — Дао, Брахман — в
религиях Китая и Индии. Единое Бытие, пронизывавшее все и
вся, было подобно световому лучу, исходящему из неразличимо-
бесформенного мрака. Этот мрак — исток луча — являл собой
Бытие в его предельно сконцентрированной полноте и плотности,
сосредоточенной бытийности, но пока неявленной вовне. Луч, на-
чавший свой путь из средоточия бытийного мрака, был тем же
Бытием, но явленным, созидающим прекрасные формы, освещая
их, а вернее, наполняя светом изнутри, заставляя светиться в
своей раздельной самозамкнутой цельности и одновременно в
цельности всеобщей взаимосвязи сущего.
Хотя в традиционных учениях Востока эстетическое «изме-
рение» было присуще любому феномену — от культурно осознан-
ного и освоенного космоса до простейшего ремесленного изде-
лия, — эстетическое «поле» восточных культур отличалось нео-
днородностью. Своего рода «разряжения» перемежались в нем
эстетическими «сгущениями» — средоточиями явлений особенно
высокой эстетической «энергийности». Этими «сгущениями» были
произведения разнообразных искусств, образовывавшие видовые и
жанровые сообщества. Световой луч, устремленный из неявленно-
го Бытия в явленное, был, разумеется, и лучом Творения: божест-
венного Творения совершенного космоса и подражавшего ему сог
вершенного творения рук мастера — ремесленника, поэта, ху-
дожника. Первое было прообразом второго, но не только. Это же
был и луч постижения сотворенного — космоса ли, вещи ли. Толь-
ко движение вдоль луча в таком случае осуществлялось в противо-
положном направлении: от видимой явленности вещи к ее идеаль-
ной форме, дальше — к ее глубинной сущности и, наконец, к
вхождению в само средоточие Бытия. Так, эстетика, начинаясь с
гармонизирующего душу любования вещью, в пределе оказыва-
лась религиозно-мистическим путем познания Первоначала, а
произведение искусства — эстетическими «вратами» Бытия.
В духовном строе человека эстетическому «полю» культуры
отвечал мир эмоций, по закону резонанса двух гармонических
сущностей откликавшийся на проявления Красоты. Это делало эс-
тетическое «поле» культуры ее достаточно полной эмоциональной
4
«проекцией». Однако, как бы ни отличались друг от друга
традиционное китайское учение о чувстве (цин), индийское — об
эстетической эмоции (раса), арабское — о чувстве, или ощу-
щении, их объединяло одно: мир эмоций, пробуждаемых Красотой
и познающих ее, был вовсе не тождествен хаотическому психизму
всякий миг иных эмоциональных реакций. Напротив, он предпо-
лагал упорядоченные, так сказать интеллектуализированные,
эмоции — своего рода синтез чувства и мысли или чувства, мысли
и духовной интуиции, — способные «схватывать» не столько
внешние проявления совершенной вещи, сколько ее глубинную
сущность, истинную природу .
Такого рода эмоции, претворявшие чувственное постижение в
умозрение, были присущи подлинным ценителям красоты, тип ко-
торых специально воспитывался и рафинировался во всех клас-
сических культурах Востока. Вместе с тем, воздействуя благодаря
интеллектуализированной эмоции на весь духовный мир чело-
века — его чувства, ум, интуицию в их нерасторжимости, —
бытийные по своим истокам энергии эстетического «поля», и
прежде всего искусства, выступали мощным средством форми-
рования личности в духе норм той или иной культуры. Отсюда,
например, признание драмы и поэзии «пятой Ведой», т.е.
«знанием для всех», в Индии; роль литературно-эстетического
«вежества» (адаба) — у арабов; требование литературной и вооб-
ще эстетической образованности от китайских чиновников.
В символических системах классического Востока мироздание
и культура представали в разных обличьях. Важнейшим из них
был человеческий образ — повсеместный эталон совершенства.
Поэтому антропоморфизм как космоса, так и культуры равно
обнаруживал себя в цивилизациях китайского, индийского, арабо-
мусульманского «кругов». Но были и иные образы-символы. Пти-
ца, зверь, дерево, корабль и многое другое — в таких обличьях
могли представать макрокосм, культура, а порой и микрокосм —
сам человек — во всех традициях, отправным моментом которых
была идея всеединого Бытия. За этими образами-символами уга-
дывается очевидный инвариант — понятие «структура» — залог
той самой обостренно переживаемой цельности, что противостоя-
ла хаосу, распаду, смерти — противобытийным, антикультурным
и потому безобразным. Причем имелась в виду структура, скорее,
биологического типа — «живая», по меньшей мере движущаяся и
динамичная, а значит, как все живое, имеющая темпоральную
протяженность. Но что может лучше воплотить идею структуры в
ее утонченной звуковой или графической явленности и одновре-
2Брагинский ВМ. Проблемы типологии средневековых литератур Востока.
М., 1991, с.99-104.
1-3 130
5
менно смысловой сокровенности, зовущей к познавательному
действию, чем разворачивающийся во времени словесный текст?!
Поэтому неудивительно, что в китайской, индийской, арабо-му-
сульманской цивилизациях и мироздание, и культура, и человек
представали текстами в прямом значении этого слова, точнее,
«списками» Сакрального Текста, постижение которого выступало
парадигмой для иных видов деятельности.
Отвечая этой парадигме, все плоды деятельности, и прежде
всего произведения искусства — «сгустки» эстетической «энер-
гии», — также представали текстами в структурном и смысловом
аспектах — важнейшим «предметом» чтения для интеллекту-
ализированных эмоций. Надохказать, что темпоральным «изме-
рением» характеризовались не только динамические искусства —
изящная словесность, театр, музыка, в скрытом виде оно присут-
ствовало и в искусствах статических — живописи, архитектуре.
Это сближало последние с собственно словесными текстами и
одновременно приобщало к «токам» всеединой жизни. Достаточно
вспомнить о церемонии прадакшины — ритуального обхода инду-
истского или буддийского храма, когда все в новых ракурсах
открывались взору, «разворачиваясь», его архитектурные формы
и, точно кадры фильма, сменяли друг друга храмовые рельефы;
или об особой, тщательно рассчитанной художником «траектории»
движения зрительского взгляда по персидской миниатюре.
Итак, произведения искусства рассматривались как тексты. А
всякий текст, в том числе и «живые» тексты эстетического «поля»
культуры, предусматривал диалог с воспринимающим, ориен-
тированный на то или иное воздействие на него. В ходе такого
диалога выявлялась еще одна специфическая черта традиционной
эстетики: красота и польза вовсе не были разделены в ней непро-
ходимой границей, но, скорее, являли собой два аспекта единого
целого, по-разному акцентируемые в различных видах и жанрах
искусства. Как отмечал А.Кумарасвами: «Произведение искусства
определяется в ближайшем плане предназначенностью для непос-
редственного использования, а в конечном — для обретения эс-
тетического опыта» . Развитые учения о таком «единстве в двойст-
венности» — синтезе в искусстве пользы и красоты, отвечавшем
целостности интеллектуализированной эмоции, — существовали
также во всех трех культурных «кругах» классического Востока. В
основе этих учений лежала все та же онтологическая перспектива
традиционной эстетики, ибо и польза, прагматическая или этичес-
кая, и красота, гармонизировавшая хаос чувственных восприятий
или увлекавшая на путь медитативного постижения, при полном
3 Coomaraswamy A.C. The Transformation of Nature in Art. New York, 1956,
c.46.
6
самораскрытии сходились в едином фокусе — предельном благе
слияния с Бытием.
Синтез прагматико-этического и эстетического начал в
произведениях — лучше сказать, текстах — искусства и опреде-
лял в конечном счете место эстетики в системе традиционных
культур Востока. . Прагматико-этический эффект эстетики,
воспитывая тип личности, соответствовавший нормам данной
традиции, обеспечивал его включение в систему культуры. Эсте-
тический же эффект, служивший на низшем уровне лишь подго-
товительным средством этико-прагматического воздействия, на
высшем — открывал путь медитативного вхождения в Бытие че-
рез «врата» произведения искусства и тем самым позволял
воспринимающему ощутить себя «всем во всем» — пережить
сопричастность единству культурно-прочувствованного космоса.
Разумеется, в предлагаемой вниманию читателя книге невоз-
можно было с равной степенью полноты рассмотреть все назван-
ные проблемы. Поэтому авторы статей сознательно ограничили
себя преимущественно одной из них. Предмет их исследования —
сложные взаимоотношения Бытия в его онтологическом и космо-
логическом аспектах, с одной стороны, и эстетического текста, по-
нимавшегося в определенном выше расширительном значении, —
с другой. Обращаясь к данной проблеме, невозможно было, одна-
ко, не коснуться и ряда смежных с ней, таких, как генезис эс-
тетических представлений, специфика эстетических текстов, их
связь с религиозным Каноном, эстетическое «измерение» пробле-
мы человека, культурообразующее значение эстетики и т.д. Это
тем не менее лишь своего рода «обертоны» главной темы. При всем
различии конкретных подходов к ее разрешению, всем разнооб-
разии диапазона исследований (от анализа отдельных памятников
той или иной традиции до широких межкультурных штудий),
преимущественном внимании то к проблемам Бытия, то к пробле-
мам эстетических «текстов», методологические принципы, из ко-
торых исходили авторы, и понимание ими традиционной эстетики
во многом близки, а главный предмет изучения, независимо от то-
го, насколько эксплицитно он выражен, неизменно остается в поле
их внимания. Это и придает сборнику определенную цельность.
В целом книга складывается как бы из двух частей, хотя про-
вести между ними резкую грань затруднительно. Первая — иссле-
дование общих проблем Бытия как гармонического, упорядочен-
ного и упорядочивающего начала, а потому и начала эстетическо-
го. Такое его понимание, в свою очередь, предопределяет подход к
эстетическим концепциям в трех исследуемых зонах Востока:
китайско-дальневосточной, индийско-юго-восточной и арабо-му-
сульманской. В этот раздел входят статьи Ш.Шукурова, Г.Тка-
ченко, Д.Фролова, Н.Исаевой. Вторая часть сборника посвящена
1-4 130
7
реализации представлений о Бытии и космосе как красоте в эс-
тетических концепциях, получивших отражение в различного
рода текстах: произведениях литературы, изобразительного искус-
ства, «ученых» трактатах. К этому разделу относятся статьи
М.Назарли, Н.Чалисовой, А.Суворовой, Н.Пригариной, а также
«блок» японоведческих исследований Л.Ермаковой, А.Мещеряко-
ва, Е.Дьяконовой. Две последние статьи перекликаются, как бы
дополняя друг друга.
Разумеется, выделение двух разделов книги достаточно услов-
но, зависит от того или иного акцента, характерного для данной
статьи, и вовсе не исключает обращения к проблемам эстетики
Бытия в статьях об эстетике текстов и наоборот. В наибольшей ме-
ре это относится к работе В.Брагинского, в которой объединены
оба типа исследований и которая служит своего рода введением к
книге, основывающимся на данных всех трех традиций. Заверша-
ет издание перевод небольшого, но весьма интересного персидско-
го трактата Махмуда Шабистари «Мир'am ал-мухаккикин» («Зер-
цало взыскующих истины»), выполненный Р.Шукуровым. Этот
трактат не только имеет большое значение для понимания изучае-
мой проблемы, но и может служить живой иллюстрацией того, как
интерпретировалась она в самих средневековых текстах.
В заключение хотелось бы отметить, что привлечение (хотя и
недостаточно равномерное) и соположение в книге китайских,
японских, санскритских, арабских, персидских, малайских ма-
териалов обусловливает ее определенную сравнительно-культуро-
логическую значимость.
ВМ.Врагинскш
В.И.Брагинский
ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ МАКРОКОСМА, МИКРОКОСМА
И ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЭТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД)*
Если ты себя, как свиток, правильно
прочтешь,
Будешь вечен. В Духе — правда,
остальное ложь.
Низами. «Семь красавиц».
Нам предстоит рассмотреть некоторые поэтологические уче-
ния, характерные для трех культурных и соответственно литера-
турных зон средневекового Востока: китайско-дальневосточной,
индийско-юго-восточной и арабо-мусульманской . Эти учения за-
служивают особого внимания в связи с обсуждением проблемы
взаимоотношения эстетики Бытия и эстетики текста, т.е. пробле-
мы воздействия общей картины мира той или иной традиции,
присущего ей понимания Бытия, а особенно Бытия как Красоты и
источника всех ее проявлений на формирование эстетически отме-
ченных текстов культуры — образцов ее искусства, литературы.
Исходным материалом для исследования нам послужит доволь-
но широкий круг китайских, санскритских, арабских, персидских
и других сочинений — трактатов по поэтике и поэтологических
«включений» в ученые и литературные произведения. Интерп-
ретированные в контексте соответствующих религиозных и фило-
софских представлений, эти сочинения позволят приблизиться к
пониманию литературного самосознания зонообразующих тради-
ций, вокруг которых шел процесс формирования зон, их
кристаллизации. Именно самосознание зонообразующих литера-
Автор этих строк глубоко признателен своим друзьям и коллегам Г.А.Тка-
ченко, Д.В.Фролову, Н.Ю.Чалисовой и Ш.М.Шукурову, предоставившим в его
распоряжение некоторые материалы, необходимые для написания данной
статьи.
© В.И.Брагинский, 1995
9
тур явится основным объектом сравнительного изучения в данной
работе.
Здесь необходима одна существенная оговорка. Если китайская
и санскритская литературы обретают все черты литератур зонооб-
разующих еще в период раннего средневековья (III-VI вв.) и явля-
ются «нормальными» зонообразующими литературами, то арабская
литература, став зонообразующей в VII-IX вв., по ряду причин
довольно долго сохраняла в данном отношении аномальный харак-
тер . Эта аномалия была преодолена лишь после «встраивания»
арабской филологии в систему трансформированной в духе ислама
эллинистической философии, а особенно после сложения на основе
суфийского миросозерцания своего рода арабо-персидского литера-
турного синтеза, который впоследствии воздействовал на другие
литературы зоны (тюркские, литературы мусульманской Индии,
Малайзии, Индонезии и др.). Литературные концепции этого
синтеза мы и будем сопоставлять с их китайскими и санскритскими
аналогами.
При всем своеобразии самосознания сопоставляемых зонообра-
зующих литератур (и не только их) мировоззренческие основы это-
го самосознания, восходящие к картине мира соответствующих
культур, были во многом близки. Последнее как раз и позволяет
говорить о чертах глубинного сходства исследуемых «литературных
самосознаний», делает их сравнимыми и в конечном счете дает
возможность определить сам тип средневековой литературы. Назо-
вем лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее важные из этих
основополагающих концепций:
— концепция Абсолюта одновременно трансцендентного и
имманентного или трансцендентного Абсолюта и его имманентного
проявления (китайские Дао и дэ, индийские Брахман и атман, Бог
как Хува и как Аллах или трансцендентный Бог и Свет Мухам-
мада — Hyp Мухаммад в суфийском исламе);
— концепция первичной субстанции — основы как духовных,
так и материальных явлений (китайское ци> индийское пракрити
или шакти, хайюла в суфийском исламе) и ее градуального «оплот-
нения»;
— концепция макро-/микрокосмического параллелизма;
— концепция воздействия подобного на подобное и постижения
подобного подобным;
— концепция интуитивного постижения Абсолюта, «инстру-
ментом» которого во всех трех традициях выступает сердце;
— концепция медитации как способа постижения Абсолюта.
Система, в которую складываются названные концепции, и
образует мировоззренческий контекст средневековых поэто-
логических учений.
10
В этой статье мы подробно остановимся лишь на одной из на-
званных выше концепций — макро-/микрокосмическом парал-
лелизме — в ее отношении к учению о словесности и литературе —
изящной словесности в традиционной китайской, индийской
(санскритской) и арабо-мусульманской (преимущественно суфий-
ской) культурах. Во всех них макрокосм, микрокосм-человек и
литература предстают как высшие эстетические ценности и, в чем
нам еще предстоит убедиться, — как тексты. Поэтому, думается,
рассмотрение их в рамках изучения проблемы «эстетика Бытия и
эстетика текста» вполне уместно.
В наши задачи, разумеется, не входит всесторонний содержа-
тельный, функциональный или исторический анализ концепции
макро-/микрокосмического параллелизма, основывающейся на
понимании не только человека, но и мироздания как живого те-
лесно-духовного многоуровневого организма, — работ такого
рода в востоковедной науке достаточно. Однако, как станет
очевидным в дальнейшем, хотя бы предварительная, не претенду-
ющая на полноту и строгость классификация многообразных форм
описания макро-/микрокосмического параллелизма и более де-
тальное ознакомление с последними читателя будут в этой работе
отнюдь не лишни.
В основу предлагаемой классификации положены следующие
признаки:
— антропоидность (т.е. иконическое подобие человеку) и ант-
ропоморфность (т.е. структурное соответствие человеку) описа-
ний макрокосма;
— абстрактность описания;
— преобладание в описании космологического или онто-
логического аспектов;
— редукция описания.
Не стремясь исчерпать все возможные сочетания названных
признаков, ограничимся лишь несколькими примерами, позволя-
ющими наглядно представить себе основные формы репрезен-
тации в текстах концепции макро-/микрокосмического парал-
лелизма.
В китайской культуре антропоидный макрокосм представлен в
мифе о космическом гиганте Пань-гу, зародившемся в слитых, на-
подобие желтка и белка в яйце, Небе и Земле и затем раздвинув-
шем их. Хотя сведения об этом мифе восходят лишь к III в. н.э. и
некоторые ученые видят в его появлении результат воздействия
мифологии народов мяо и яо, населявших Южный Китай, есть
основания рассматривать миф о космическом гиганте как транс-
форму исконно китайских представлений, длительное время сох-
ранявшихся на периферии культуры [5, с.379-382; 38, с.ЗЗ; 39,
с.128-130]. В мифе сообщается, что, когда Пань-гу умер, «вздох,
11
вырвавшийся из его уст, сделался ветром и облаками, голос — гро-
мом, левый глаз — солнцем, правый — луной, туловище с руками
и ногами — четырьмя сторонами света и пятью знаменитыми го-
рами, кровь — реками, жилы — дорогами, плоть — почвой, воло-
сы на голове и усы — звездами на небосклоне, кожа и волосы на
теле — травами, цветами и деревьями, зубы, кости, костный мозг
и т.д. — блестящими металлами, крепкими камнями, сверка-
ющим жемчугом и яшмой, пот превратился в капли дождя и росу»
[38,с.34-35].
В индийской мифологии антропоидный космос возникает из те-
ла первочеловека Пуруши, принесенного богами в жертву. Древ-
нейшее описание того, как расчлененный на части Пуруша стал
мирозданием (вселенной, ритуалом, социумом), содержится в зна-
менитой Пуруша-сутре «Ригведы» (Х,90):
Пуруша — это все, что стало и станет...
Огромно его величие, но еще огромнее [сам] Пуруша.
Четвертая часть его — все сущее, три [другие] части —
бессмертное в небе...
От него, принесенного в жертву, возникли ричи и саманы,
Стихотворные размеры возникли от него, яджусы от него
возникли,
От него возникли лошади и [другие животные]...
Брахманом стали его уста, руки — кшатрием,
Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.
Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце.
Из уст — Индра и Агни, из дыхания возник ветер.
Из пупа возникло воздушное пространство, из головы возникло
небо.
Из ног — земля, страны света из слуха [17, с.31-32].
Концепция макро-/микрокосмического параллелизма, в кото-
ром мироздание предстает в виде мифического гиганта Пуруши,
проходит через всю ведийскую литературу от самхит, через брах-
маны и араньяки, например «Айтарея-араньяка» (II.3) [17, с.79-
82 ], и получает полное и всестороннее развитие в упанишадах, где
она выступает «важнейшей предпосылкой» умозрения и «лежит в
основе развитых философских учений» [37, сЛ74 ].
В суфийском варианте арабо-мусульманской культуры среди
прочих видов космо- и антропогенеза обнаруживается и антро-
поидный вариант создания космоса. По сравнению с приведенными
выше китайским и индийскими примерами образ первочеловека
здесь более абстрактен, спиритуализован. Первым, что создает
Аллах, является Свет Мухаммада — НурМухаммад, Дух, согласно
мнению большинства комментаторов, подобный человеку, наде-
ленный головой, руками, ногами, туловищем, глазами, ушами и т.д.
(ср. сотворение Атманом Пуруши в «Айтарея-упанишаде» [34,
12
с.39 ]). Правда, сразу же следует оговорка, что все эти части тела и
органы — «духовные», «световые» {нурани) или «вышние»
Сулувви), равно как и «пища и питье» Духа [42, с.211-212 ]. Затем
Аллах вперяет в Свет Мухаммада «взгляд величия», от которого
Свет покрывается испариной. Из пота, выступающего у него на го-
лове, возникают ангелы, из пота на лице — престол Аллаха
(Универсальное тело, охватывающее космос), Подножие Престола,
Хранимая Скрижаль, Вышнее Перо, солнце, луна, звезды и обита-
тели моря; из пота на груди — пророки, святые, праведники и уле-
мы; из пота на лбу — мусульмане, из пота на ушах — иудеи и
христиане, из пота на ногах — «земля и все, что ее наполняет» [52,
с.66-67].
По мере перехода от мифологических и квазимифологических
(как в случае с «мифом» о Свете Мухаммада) концепций макро-
/микрокосмического параллелизма к концепциям в меньшей или в
большей степени метафизическим можно проследить возникно-
вение множества промежуточных — антропоидно-антропоморф-
ных вариантов описаний. Последние представляют для нас особый
интерес, поскольку наглядно демонстрируют характерный для зо-
нообразующих культур процесс формирования различных виДЬв
умозрения, духовной философии, гносиса. В самых общих чертах
можно сказать, что все эти варианты отличает ослабление внешнего
человекоподобия и одновременно возрастание степени абстракт-
ности в описаниях макрокосма. Йконическое тождество уступает
место «полуиконическому» или даже внеиконическому соот-
ветствию вселенной и человека, нередко основанному на нумеро-
логических параллелях.
В большинстве случаев антропоидно-антропоморфные описания
следуют модели, получившей достаточно типичное выражение в да-
осском сочинении II в. до н.э. «Хуайнаньцзы» («Философы из Хуай-
нани»): «Голова круглая по образу неба, ступня квадратная по обра-
зу земли. Природа обладает четырьмя временами года, пятью пер-
воэлементами, девятью разделениями, тремястами шестьюдесятью
шестью днями. Человек также обладает четырьмя конечностями,
пятью внутренними органами, девятью отверстиями, тремястами
шестьюдесятью шестью сочленениями. В природе есть ветер, дождь,
\ холод, жар. В человеке есть также свойства брать и отдавать, радо-
S ваться и гневаться. Из желчного пузыря образуются облака, из
\ легких — воздух, из печени — ветер, из почек — дождь, из селе-
| зёнки — гром... а сердце — хозяин всем. Поэтому уши и глаза —
I это солнце и луна, кровь и эфир — это ветер и дождь» (цит. по [4,
I с.52 ]). Такого рода описания не являются принадлежностью лишь
I даосских текстов. Они встречаются в конфуцианских сочинениях
| [30, с.20], в эклектической натурфилософии III в., например в
I «Люй-ши чунъцю» («Вёсны и осени Люй Бувэя»), и, таким образом,
присущи китайской традиции в целом (см. статью Г.А.Ткаченко в
настоящем сборнике).
Другой китайский образец довольно полной системы макро-
/микрокосмических соответствий дает трактат по традиционной
медицине «Хуанди нэйцзин» («Трактат о внутреннем [императо-
ра ] Хуан Ди»), относящийся к первым векам н.э.:
дерево
весна
ветер
печень
мышцы
глаза
гнев
душа-хунь
огонь
лето
жар
сердце
кровь
язык
радость
дух-шэнь
макрокосм
земля
конец лета
влага
микрокосм
селезенка
мясо-плоть
рот
думы
намерение
металл
осень
сухость
легкие
кожа
нос
печаль
нрав
вода
зима
холод
почки
кости
уши
страх
воля
В индийской культуре того же типа описания обнаруживаются
во многих упанишадах, например в «Тайтирия-упанишаде»
(1.7.1):
Относительно существ (т.е. в макрокосме. — В.Б.).
Земля, воздушное пространство, небо, стороны света, промежу-
точные стороны.
Огонь, ветер, солнце, луна, звезды.
Воды, травы, деревья, пространство, Атман (материализован-
ный.— В.Б.).
Относительно тела (т.е. в микрокосме. — В.Б.).
Дыхание в легких (прана), дыхание, разлитое по телу (апана),
дыхание, идущее вниз (вьяна), дыхание, идущее вверх (удана),
общее дыхание (самана).
Зрение, слух, разум, речь, осязание.
Кожа, мясо, жилы, кости, мозг (костный) [34, с.80-81 ].
В отличие от предыдущего случая каждый набор из пяти макро-
космических элементов соотносится здесь по вертикали лишь с
одним набором из пяти микрокосмических элементов (земля с пра-
ной, воздушное пространство с апаной и т.д.; огонь — со зрением,
ветер — со слухом и т.д.).
В арабо-мусульманской традиции чрезвычайно разработанные
списки макро-/микрокосмических соответствий появляются по
меньшей мере с X в., начиная с «Посланий братьев чистоты» [43,
с. 105], и впоследствии играют важную роль в философских (фал-
сафа), исмаилитских и суфийских сочинениях. Примечательно,
что предшественники этих списков в культурах Ирана и Средней
14
Азии, которые — преимущественно в суфийской форме — воздей-
ствовали на весь мусульманский мир, содержались как в античных
и эллинистических, так и в зороастрийских сочинениях (напри-
мер, в «Большом Бундахишне», см. [4, с.64-68 ]). Приведем в сок-
ращенном пересказе пример из суфийского сочинения «Мират
ал-мухаккикин» («Зерцало взыскующих истины»), приписываемо-
го Махмуду Шабистари (ум. в 1320 г.): «Горы подобны костям, де-
ревья — волосам на голове, малые растения — пушку на теле, на
земле — семь климатических поясов, а в теле семь частей: голова,
две руки, две ноги, спина и живот, в земле — землетрясение, в
теле — чихание, на земле — ручьи, в теле — кровеносные сосуды.
Сравнение горьких и соленых источников и выделений тела (сле-
зы, слюна и т.д.). Сравнение тела с небом: 12 знаков зодиака и 12
отверстий в теле, 28 стоянок Луны и 28 нервов, 360 градусов и 360
жил, семь планет и семь управляющих органов, множество звезд и
множество "сил" тела, небеса окружают элементы, а тело окружа-
ет 4 сока... Весна подобна крови, лето — желчи и т.п.» [4, с.22-23 ].
Во всех приведенных выше описаниях система макро-/микро-
космических соответствий предстает в относительно грубом,
внешнем космологическо-телесном аспекте. Однако в рамках ант-
ропоморфной модели нередки также описания, в которых акцент
смещается на соответствие тонких, внутренних, онтологически-
психосоматических сущностей. Такого рода описание (наряду с
антропоидно-антропоморфным, процитированным выше) обна-
руживается, например, в «Хуайнаньцзы» с его учением о соот-
ветствии сердца — Дао и об иерархии форм мирового эфира — цй
[28, с.52-53]. Из эфира ци «сгущаются» тела вселенной и челове-
ка; из «квинтэссенции эфира, его мельчайших и чистейших сущ-
ностей» — частиц цзин — наиболее важные и совершенные эле-
менты макрокосма и микрокосма, соответственно: солнце^луна,
звезды, гром, молния, ветер, дождь и легкие, почки, желчный
пузырь, печень, сердце («пять внутренних органов»). Эти органы,
в свою очередь, «господствуют» над органами чувств, снабжая их
частицами цзин: «частицы цзин проникают в глаза, и глаза стано-
вятся зоркими; в уши — и уши становятся чуткими; задержива-
ются во рту — и речи становятся должными, собираются в серд-
це — и мысли становятся проницательными» [28, с.53]. Достигая
последней степени? «малости, тонкости, чистоты», частицы цзин
превращаются в частицы шэнъ, составляющие душу макрокос-
ма — Дао и душу человека — «сокровище сердца» [28^ с.53 ].
Таким образом, выстраиваются взаимосоотнесенные онто-
логическая и психосоматическая иерархии: частицы шэнь ^- Дао
и «сокровище сердца», сфера духовной интуиции; частицы цзин —
наиболее тонкие элементы макрокосма и «пяти внутренних орга-
нов», сфера чувственного восприятия и мышления; частицы ци —
15
тело макро- и микрокосма. Данный тип представления макро-
/микрокосмического параллелизма, разумеется, не имеет ничего
общего с его антропоидными формами, но сохраняет полное струк-
турное подобие соотнесенных сущностей. Это чисто антропоморф-
ный тип описания (к тому же в высшей степени абстрактный и
онтологически ориентированный).
Описания онтологически-психосоматического характера дале-
ко не всегда бывают лишены антропоидных черт. Так, в уже
упоминавшейся «Тайтирия-упанишаде» (11,1-5) излагается уче-
ние о пяти атманах, тождественных в микро- и макрокосме
(«здесь, в человеке... и там, в солнце»), которые состоят соответст-
венно: из «соков пищи» (телесный), из дыхания, из разума (манас;
сфера чувственно-мыслительного восприятия), из распознавания
(более высокая степень дискурсивного мышления) и из блаженст-
ва. Пять атманов образуют параллельные иерархии, сходные с
описанными выше даосскими, но при этом все они имеют облик
человека. У атмана, состоящего из дыхания, голова — прана, пра-
вый бок (или рука) — алана, левый бок (или рука) — вьяна, ту-
ловище — пространство, нижняя часть (ниже пупа) — земля; у
атмана, состоящего из разума, голова — яджус, правый бок —
рич, левый — саман, туловище — брахмана, нижняя часть — am-
харвангирас и т.д. [34, с.84-86, 261-263 ].
Все же для достаточно развитых систем духовной философии и
гносиса более характерны чисто антропоморфные типы репрезен-
тации макро- /микрокосмического параллелизма. В качестве
индийского примера здесь можно упомянуть описание единства
Брахмана (высшей объективной реальности, глубинной сущности
мироздания, которое является его манифестацией) и атмана
(субъективного аспекта этой глубинной сущности) в адвайта-ве-
данте Шанкары (конец VIII — начало IX в.) с теми же соотнесен-
ными иерархиями «великих элементов» (или пищи), образующих
тело космоса и человека, дыханий, сфер чувственно-мыслительно-
го восприятия, распознавания и блаженства (см., в частности,
«Атмабодху», т.е. «Постижение Атмана») [35, с. 159-164 ].
Чисто антропоморфный тип соответствий преобладал и в
суфизме, например у Газали (XI в.) в учении об иерархии трех
миров: мулка, джабарута и малакута в макро- и микрокосме, поз-
воляющей говорить об их подобии. В макрокосме мулк — это сфе-
ра чувственно воспринимаемого, явленного, телесного; малакут,
напротив, сфера не воспринимаемого чувствами, неявленного, ду-
ховного; джабарут — связующая мулк и малакут сфера действия
божественных имен. В микрокосме мулк — это тело человека:
плоть, кости, кровь и т.д.; малакут — разум и атрибуты человече-
ской сущности: жизнь, знание, воля и т.д.; джабарут — внешние
чувства: зрение, слух, осязание и т.д., связующие телесную и ду-
16
ховную сферы [54, с.75-76; 63, с.620 ]. У суфиев школы Ибн Араби
(вахдат ал-вуджуд) второй из миров — малакут, а третий — джа-
барут. К ним добавлен четвертый, высший мир — лахут, сфера бо-
жественной сущности, являющейся одновременно глубочайшей
основой человека.
Наряду с полными антропоидными и антропоморфными
описаниями существовал ряд их редуцированных вариантов. Так,
во всех трех традициях макрокосм мог в «свернутом виде» вме-
щаться в сердце — соответствующий макрокосму субститут мик-
рокосма. Другой вариант редуцированного описания — представ-
ление о глазе. В упанишадах глаз — явленный атман, явленный
микрокосм — соответствовал солнцу — явленному Брахману,
явленному макрокосму, а пуруша в глазу — неявленный атман,
глубинная сущность микрокосма — пуруше в солнце, неявленно-
му Брахману, глубинной сущности макрокосма [11, с.136; 33,
с. 165-166]. Разработанное учение о соответствии различных час-
тей глаза упоминавшимся выше онтологическим мирам и психосо-
матическим уровням встречается в одном из малайских су-
фийских сочинений. В этом сочинении белок глаза соответствует
насуту (концептуальному «синониму» мулка), темный окоем
радужной оболочки глаза — малакуту, сама радужная оболоч-
ка— джабаруту, зрачок — лахуту [60, с. 140]. Наконец, чрезвы-
чайно важную роль в суфийской литературе играло отождеств-
ление элементов человеческого лица и различных онтологических
уровней макрркосма. Родинка выступала символическим соот-
ветствием божественной Сущности в Ее трансцендентном ас-
пекте, само лицо — символом Сущности в имманентном аспекте
(т.е. Сущности с Атрибутами и Именами), глаза и губы соответст-
вовали Атрибутам Величия и Атрибутам Красоты, пушок на
лице — первой из божественных манифестаций, миру духов, ло-
коны — множественности, скрывающей Единство, — чувственно-
му миру [66, с.70-78 ].
Выше мы кратко рассмотрели различные типы антропоидных и
антропоморфных описаний макро-/микрокосмического парал-
лелизма в более грубой — космологически-телесной и более тон-
кой — онтологически-психосоматической формах. Существует,
однако, еще один, особенно интересный для нас, аспект подобия
мироздания и человека: оба они являются текстами в пря-
мом значении этого слова, совокупностями упорядоченных
фонетических или графических знаков.
Совершенно определенно говорится об этом в суфийской
традиции. Так, в трактате «Зубдат ал-хакаик» («Сливки истин»)
его автор Азиз Насафи (XIII — начало XIV в.), сообщив, что чело-
век (дервиш) —это «мир малый (микрокосм.—В.Б.), весь же
2 130
17
мир — мир великий (макрокосм. — В.Б.)» и что человек —
«список и знак обоих миров» [36, с.40], развивает эту мысль сле-
дующим образом: «Знай, что Всевышний Господь* сотворив все су-
щее, дал ему имя мир (алам), ибо мир — есть знак (аламат) Его
Бытия. В бытии мира существуют знание, воля и могущество Его в
виде знака и в виде писания (наме; выделено нами. — В.Б.);
по той же причине, что оно знак, назвал миром, по той причине,
что оно писание, назвал книгой (китаб; выделено нами. —
В.Б.). Затем повелел [Он]: всякий, кто прочтет эту книгу, познает
Меня, и знание, и волю, и могущество Мои. Мы были слишком ма-
лы, книга же слишком велика, и не смог наш взгляд охватить края
книги и все ее страницы. [Всевышний ] Учитель (устад), видя на-
шу слабость, составил список с того мира и переписал ту [книгу ] в
сокращении. Первую назвал он миром великим, вторую же назвал
миром малым; первую назвал большая книга, вторую назвал
меньшая книга. Все, что было в большой книге, начертал Он и в
меньшей книге без прибавлений и пропусков, дабы всякий,
прочитавший книгу меньшую, [тем самым ] прочитал книгу боль-
шую (и таким образом, познал Бога. — В.Б.)» [36, с.70 ].
Творение в мусульманской (суфийской) традиции — это сле-
дующий за божественным Повелением (Словом) «Да будет!» (кун)
процесс письма, осуществляемого Вышним Пером на Хранимой
Скрижали [59, с. 112]. Онтологические соответствия присущи и
самим буквам арабского алфавита. Так, буква «алиф» (а)
символизирует абсолютное трансцендентное божественное Един-
ство, буква «ба» (б) — тварный мир, точнее, начало его создания,
буква «вав» (в) — связь тварного мира с божественным Единством
и т.д. [64, с.417-420]. Процесс эволюции многообразных форм
тварного мира из божественного Единства может изображаться
как возникновение имеющих различную форму букв из «алифа»,
пишущегося как вертикальная черта. У Фаридуддина Аттара мы
находим такое описание их происхождения: когда «алиф» согнул-
ся, обрела бытие буква «дал» (д), когда он склонился по-иному —
буква «ра» (р)> когда загнулись вверх оба его конца — буква «ба»,
когда он изогнулся подковой — буква «нун» (н) и т.д. [64, с.417-
418]. Ибн Араби приводит список всех 28 букв арабского ал-
фавита, каждой из которых соответствует определенное божест-
венное Имя, в свою очередь соотнесенное с теми или иными онто-
логическими или космологическими уровнями (божественная
Сущность, непроявленные этапы Бытия, виды живых существ,
царства природы, четыре элемента, девять небес, Пьедестал,
Престол, Форма, Универсальные Тело, Субстанция и Природа)
[43,с.62].
Из букв «состоит» не только макро-, но и микрокосм. Им подоб-
ны части тела и черты лица, причем на теле человека могут быть
18
прочитаны все буквы. Тело образует слово Мухаммад —имя Про-
рока, прототипа как микро-, так и макрокосма [4, с.34 ]. Мы уже
упоминали о такой редукции микрокосма, как лицо. Все его эле-
менты, соотнесенные с онтологическими сущностями, также соот-
ветствуют определенным буквам. Например, рот — букве «мим»
(м), глаз — букве «сад» (эмфатическое с) или «'айн» (что означа-
ет одновременно глаз и сущность), завитки и локоны — длинным,
«извивающимся» буквам «дал» (д) или «джим» (дж) и т.д. [64,
с.413].
Концепция макро- и микрокосма как текстов (однако не
письменных, а устных) присуща комплексу ведийских сочинений.
В виде Речи мироздание предстает уже в «Гимне Вач» — богине
Речи — из «Ригведы» (ХД25):
Я повелительница, собирательница сокровищ, первая
из достойных жертвоприношения.
Меня распределили боги по многим местам, имеющую много
пристанищ, принимающую много [форм].
Благодаря мне ест пищу'тот, кто смотрит, кто дышит и кто
слышит сказанное.
Не отдавая себе отчета, они живут мной...
... Я заполнила [собою] небо и землю.
Я рождаю отца на вершине этого [мира]. Мое лоно в водах,
в океане;
Оттуда расхожусь я по всем существам. Я касаюсь теменем
того неба.
Я ведь вею, как ветер, охватывая все существа:
По ту сторону неба, [а] здесь, по ту сторону земли — такая
я стала величием (цит. по [19, с.63-64]).
Комментируя этот гимн, Т.Я.Елизаренкова и В.Н.Топоров
отмечают: «Вач (речь) предшествует богам, вызывает их к жизни
в Слове, вводит их в мир, созданный в звуках, служит им основой,
сопровождает их... Вач не только повелительница и первая из тех,
кто достоин жертвоприношения. Она сама образует космос. Она
рождает отца, находится на небесах, на земле, в водах (три кос-
мические зоны), охватывает все существа. Она пища всех, и ею
живут все. Совершенно не случайно Вач приписываются основные
космические действия — 'быть опорой* (нести), 'заполнять прост-
ранство', 'охватывать все сущее' (ср. также варианты—'быть
распределенным повсюду', 'обладать многими формами'), при-
сущее именно демиургу... Вач как "первопоэт" и как "первотекст"
распределена по многим местам...» Одна из ее характеристик «со-
относится с знаменитым местом о расчленении Пуруши, "перво-
жертвы", из тела которого возникла Вселенная» [18, с.64-65 ].
Важную роль концепция соответствия вселенной и человека
тексту играет в упанишадах. Макро- и микрокосм могут отождест-
вляться в них с речью, с ведийским гимном (рич), с тем же гимном
2-2 130
19
в форме мелодического песнопения (саман), с особо значимой час-
тью рича (например, гаятри — формулой, обращенной к богу
солнца Савитару) или самана (удгитха — центральная часть са-
мана) , наконец, со священным слогом Ом — глубинной основой
всего сущего. Так, согласно «Чхандогья-упанишаде» рич и саман
тождественны в макрокосме: земле, огню, воздушному простран-
ству и т.д.; в микрокосме: речи, дыханию, глазу и т.д. Пять компо-
нентов самана соответствуют, с одной стороны, земле, огню, воз-
душному пространству, небу и солнцу; с другой стороны, ды-
ханию, речи, глазу, уху, разуму. Составные части слова удгитха
(уд, ги, тха) тождественны небу, воздушному пространству, зем-
ле; солнцу, ветру, огню и в то же время — дыханию, речи, пище
[33, с.222-224 ]. Наконец, о слоге Ом говорится: «Этот слог должно
почитать как удгитху, ибо поются песни, начинающиеся со (слога)
Ом. Объяснение этого таково: сок этих существ — земля, сок
земли — вода, сок воды — растения, сок растений — человек, сок
человека — речь, сок речи — рич, сок рича — саман, сок сама-
на — удгитха. Сок всех соков, высший, высочайший, восьмой, —
это удгитха... Рич — это поистине речь. Саман — это дыхание.
Удгитха — это слог Ом» [17, с.84-85 ].
В ведийской литературе приводятся макро-/микрокосмические
соответствия не только вербальных текстов, но и отдельных групп
фонем. Например, в «Айтарея-араньяке» «согласные — ночи,
гласные — дни, или: согласные — тело, гласные — душа, фрика-
тивные — дыхание, или: взрывные — земля, фрикативные —
атмосфера, гласные — небосвод, или: фрикативные — дыхание,
взрывные — кости, гласные — мозг (костный), полугласные —
мясо и кровь» (цит. по [19, с.77 ]).
В несколько иной форме представления о макро- и микрокосме
как о текстах обнаруживаются в китайской культуре. Так,
В.В.Малявин, отметив, что «китайская традиция, быть может, с
наибольшей полнотой воплотила в себе свойственную многим
древневосточным цивилизациям мировоззренческую посылку:
мир есть текст», следующим образом характеризует китайское
понимание этого текста: «Древние китайцы верили, что человече-
скому языку слов и понятий предшествует язык самих вещей —
язык осмысленности и сообщительности всего сущего в метамор-
фозах бытия; язык, не выражающий и не обозначающий, а воис-
тину соприкасающийся с реальностью» [26, с. 130 ].
Классическое выражение концепции космического письма, или
текста (изобразительного, как и китайская иероглифическая
система) — вэнь и параллельной ему человеческой вэнь — куль-
туры, письменной словесности (в более узком значении — изящ-
ной литературы) получила в знаменитом поэтологическом тракта-
те Лю Се (VI в.) «Вэньсинъ дяолун» («Дракон, изваянный в сердце
20
словес»): «Велика сила дэ словесности вэнь — вместе с Землею и
Небом рождена она! Как это понимать? А так, что слились воедино
фиолетово-черный цвет (Неба) и желтый цвет (Земли), прямоу-
гольное и круглое (Земля и Небо. — В .Б.) разделились, пара
нефритовых дисков — Солнце и Луна — повисли в небе ради его
украшения; сверкающая парча гор и рек легла на землю ради ее
устроения — это-то и было узором Дао... Глянешь наверх — отту-
да исходит сияние; глянешь вниз — там сокрыты узоры чжан.
Когда же высокое и низменное обрели свое место, тогда родились
два Начала. Лишь человек может с ними стать в один ряд, ибо по
природе своей — он вместилище духа, и вместе их всех именуют
Триадой. Человек — (налитой зерном) колос пяти стихий, он
поистине сердце Земли и Неба. Когда же рождается сердце, появ-
ляется речь, а речь появилась — и вэнь становится ясно видна. В
этом — путь естества! Взгляни вокруг на мириады существ — и
животные, и растения покрыты узором. Дракон и феникс являют
благое знамение своей пышной окраской. Тигра и барса узнают по
их пятнам и полосам. Бывает, что цветная вязь облаков на заре
посрамит мастерство живописца, а изящное цветение деревьев и
трав обходится без выдумок ткачих. Так неужто же это — лишь
наружные украшения — нет, это их естество... Когда появляются
формы — (на них) ложатся узоры чжан, когда исторгаются зву-
ки — рождаются письмена вэнь. Если бессмысленные вещи и су-
щества в такой степени наделены красочностью, неужто могло не
быть письмен вэнь у (человека) — вместилища сердца?!» (цит. по
[25,с.18-19]).
Согласно Лю Се, прообразом как космической, так и человече-
ской вэнь являются графические знаки «Книги перемен» — одного
из важнейших в китайской традиции канонических сочинений, —
«фундамента для всех китайских философских школ» [12, с.161 ]:
«Таинственно помогающие богам образы Перемен — самое раннее
выражение этого узора. Бао Си начал ("Книгу перемен"), начер-
тав (восемь триграмм), а Конфуций завершил ее, написав
"Крылья" (комментарий к этой книге. — В.Б.)... Слова с узором,
поистине, выражают сознание Космоса» [57, с.9-10].
В трактате Лю Се речь идет лишь об обладании человеком
письменностью — вэнь, подобной космическому узору-письму,
однако в даосской традиции, по-видимому, и сам человек мог
представляться своего рода письменным текстом, о чем свидетель-
ствуют, например, даосские изображения антропоморфных су-
ществ, слагающиеся из иероглифов.
Вполне естественно, что макро- и микрокосм с их онтологичес-
кой и психосоматической иерархиями, выступая как тексты,содер-
жат определенное знание, также дифференцированное по уров-
ням, которым соответствуют те или иные ступени его постижения.
2-3 130
21
Так, в китайской даосской традиции («Хуайнаньцзы») с уровнем
частиц ци в их макро- и микрокосмическом аспектах соотносится
низшая форма знания — «природная», — присущая всей Вселен-
ной, всей «тьме вещей» в соответствии с их «природой» (сип); с
уровнем частиц цзин соотносится более высокая форма знания —
«чувственно-умная» (цин чжи), связанная с «пятью внутренними
органами»; с уровнем частиц шэнь — еще более высокая форма —
«разумная» (цзиншэнь), связанная с сердцем [28, с.54-58 ]. Нако-
нец, высшая форма знания — мудрость, присуща тем, кто достиг
единения с Дао, «овладел» им, «воплотил» его в себе. «Мудрость
состоит в том, чтобы возвратить свою изначальную природу, осво-
бодиться от власти вещей, восстановить нарушенную страстями и
знаниями гармонию внутреннего и внешнего (разума и формы),
воссоединиться с природой, следовать Дао, подчиняясь его благу,
его разуму, и в результате достичь высшего знания — знания не
внешней стороны вещей и явлений, а их внутренней сущности»
[28,с.64].
Индийская традиция, в частности упанишады, обнаруживает
значительное сходство с даосской при описании соответствия мак-
ро- и микрокосма как текстов определенным уровням знания и со-
относимым с ними состояниям сознания, постигающего атман
(формам сна). Так, в «Мандукья-упанишаде», где слог Ом (Аум)
предстает в макрокосмическом аспекте как Брахман, а в микро-
космическом — как атман, излагается учение о четырех стопах
этого атмана, первая из которых — вайшванара — отождествля-
ется со звуком а, сферой человеческого тела, познанием «внешне-
го», бодрствованием; вторая — тайджаса — со звуком у, сферой
чувств (тонкое тело), познанием «внутреннего», легким сном;
третья — праджня — со звуком м, сферой разума, чистым поз-
нанием, глубоким сном; четвертая турия — со всем звуковым
комплексом Ауму отсутствием всякой «субстанциональности» (и
самого познания), трансцендентным, «неизреченным» состоянием
сознания, тождественного атману [32, с.201-202, 309-311]. В
«Мандукья-упанишаде» не приведены макрокосмические парал-
лели четырех стоп атмана, однако, согласно Радхакришнану, в
упанишадах макрокосмический аспект вайшванары — Вирадж,
космос как «совокупность вещей, сумма всего существующего»;
тайджасы — Хираньягарбха, душа космоса; праджни — Ишвара,
самосознание космоса; турий — Брахман [28, с.142].
В суфийской традиции макрокосму и микрокосму, представ-
ленным в виде параллельных иерархий четырех миров «во Вселен-
ной и в человеке» — мулка (насута), малакута, джабарута и лаху-
та, — соответствуют четыре этапа мистического постижения: уве-
ренное знание (илм ал-йакин), т.е. знание дискурсивного типа,
обретаемое с помощью доказательств и рассуждений; уверенное
22
видение {айн ал-йакин), истинная уверенность (хакк ал-йакин) и
совершенная уверенность (камал ал-йакин), т.е. прямое опытное
постижение и отождествление соответственно с божественными
Именами, Атрибутами божественной Сущности, самой этой Сущ-
ностью (подробно см. [7, с.122, 130-131, 158]). Последняя из этих
ступеней знания аналогична постижению—единению с Брахма-
ном—атманом и Дао.
Поскольку макро- и микрокосм представляют собой тексты, со-
держащие иерархически упорядоченное знание, проникновение в
это знание, ведущее к трансформации познающего в процессе
движения по онтологически-психосоматическим «ступеням», есте-
ственно понимать как своего рода чтение или проговаривание, со-
относимые с креативным письмом или произнесением.
По-видимому, так оно и происходит в индийской и мусульман-
ской традициях (к сожалению, мы не располагаем данными о том,
существовало ли нечто подобное в китайской культуре). Выше
уже упоминалась имеющая макро-/микрокосмические соот-
ветствия последовательность «речь — гимн (как рич или как са-
ман) — часть гимна (например, удгитха) — слог Ом», представ-
ленная в ведийских сочинениях. Осуществляемая в этой последо-
вательности шаг за шагом редукция текста как раз и может
рассматриваться в качестве аналога его проговаривания, как бы
«свертывающего» текст договаривания его до конца, до последнего
элемента. В то же время данная последовательность есть не что
иное, как иерархия: «... сок человека — речь, сок речи — рич, сок
рича — саман, сок самана — удгитха ... удгитха — это слог Ом»
[17, с.84-85]. Таким образом, по мере проговаривания текста осу-
ществляется движение к все более и более глубоким уровням
Бытия и соответствующим им ступеням знания.
Возможен, по-видимому, и другой, «развертывающий» тип
проговаривания (чтение), представленный, например, в пассаже
«Брихадараньяки-упанишады» (V.14.1-3) о формуле гаятри. В на-
чале пассажа устанавливаются макро-/микрокосмические соот-
ветствия гаятри: «Земля, воздушное пространство, небо (составля-
ют) восемь слогов. Поистине, из восьми слогов (состоит) и одна
строка гаятри. Эта (строка гаятри) и есть эти трое... Ричи, яджу-
сы, саманы (составляют) восемь слогов. Поистине, из восьми сло-
гов (состоит) и одна строка гаятри. Эта (строка гаятри) и есть эти
(трое)... И у этой (гаятри) есть четвертая видимая строка, которая
сияет там, над миром. Турия — это то же, что и "четвертая"» [11,
с.138-139]. После установления этих соответствий сообщается:
«Гаятри — ты из одной строки, из двух строк, из трех строк, из
четырех строк, ты —- без строк...» [11, с. 140]. Здесь как бы «раз-
вертывается» проговаривание текста: первой его строки, второй и
т.д. Наконец, проговорены все строки — текст закончен, он —
2-4 130
23
«без строк». Соответственно завершено и движение к наиболее
глубокому уровню Бытия — постижение—единение с ним.
В мусульманской традиции концепция «свертывающего»
чтения может быть прослежена в учении о «редукции» Корана, со-
относимого как с макро-, так и с микрокосмом [64, с.412-413; 66,
с.21-22 ] в формах человека, сердца, лица, например:
Твое лицо подобно списку Корана без исправлений и ошибок,
Который перо Судьбы начертало чистым мускусом.
Твои глаза и твой рот — стихи (Корана) и сукун, знак остановки;
Твои брови — мадда (знак долготы над алифом. — В.Б.),
Ресницы — огласовки, родинка и пушок — буквы и точки
(цит.по [64, с.423]).
Излагая это учение о «редукции», Ф.Шуон отмечает: «Говорят,
что "Фатиха" (первая сура Корана. — В.Б.) содержит в своей сущ-
ности весь Коран, в свою очередь, вся "Фатиха" содержится в бас-
мале (открывающей "Фатиху" формуле: "Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного".—В.Б.), басмала содержится в ее
первой букве "ба", а та — в диакритической точке (под "ба". —
В.Б.)». Диакритическая же точка «соответствует первой капле бо-
жественных Чернил (мидад), упавшей с вышнего Пера. Это боже-
ственный Дух (ар-Pyx), или прототип всего мироздания» [65, с.61 ].
Пожалуй, еще более наглядный образец «свертывающего» чте-
ния обнаруживается в последовательности суфийских зикров —
«поминаний», аналогичных «умной молитве», — соотносимых с
макро- и микрокосмической реальностью (правда, в негативном
плане, через отрицание той и другой) и ведущих к постижению
все более глубоких онтологических уровней. Первый из зикров
этой последовательности основывается на повторении формулы
шахады: Ла илаха илла ллах («Нет бога, кроме Аллаха»), вто-
рой — на повторении имени Аллах, последнего слова предыдущей
формулы, третий на повторении слова хува (Он), рассматривавше-
гося как тождественное последней букве имени Аллах [52, с. 96-
97; 64, с.420]. Так шахада — «свидетельство (веры)» дочитывает-
ся в точном смысле слова до последней буквы.
Итак, макрокосм понимался как антропоидная, антропоидно-
антропоморфная или чисто антропоморфная реплика микрокосма.
Уподобление макрокосма микрокосму заключалось еще и в том,
что оба они представляли собой письменные либо устные восп-
роизведения одного и того же текста. Иными словами, как
космически «большой» человек, так и обычный, «малый» человек
рассматривались как осмысленная конфигурация букв (иеро-
глифов) или звуков, в силу этого несущая в себе определенное
знание. Знание это было иерархизировано: его уровни соответст-
вовали, с одной стороны, ступеням онтологической иерархии, а с
24
другой — иерархии психосоматической. Средством же обрести это
знание выступало чтение (произнесение), представавшее в «раз-
ворачивающей» или в «сворачивающей» форме, или, скорее,
вчитывание, ведущее по иерархическим ступеням в глубь текста,
вплоть до постижения читающим его последней реальности —
Абсолюта.
Мы не станем здесь останавливаться на медитативном характе-
ре макро- и микрокосмического чтения, в ходе которого приобре-
тается знание путем отождествления познающего с тем или иным
уровнем онтологической и параллельной психосоматической
иерархий. Отметим другое: и мироздание, и человек интерп-
ретируются в рассматриваемых традициях как «списки» сакраль-
ных канонических текстов, будь то комплекс ведийских сочи-
нений, Коран и зикрические формулы (шахада, Имя Божие) или
«Книга перемен». А эти тексты — основа как мироздания, так и
культуры, — в свою очередь, выступают прототипом, парадигмой
и порождающей моделью по отношению ко всем другим образцам
словесности.
Так, согласно китайской традиции, «пять канонов» (цзин) Кон-
фуция — «И цзин» («Книга перемен»), «Шу цзин» («Книга
истории»), «Ши цзин» («Книга песен»), «Ли цзин» («Книга уста-
новлений») , «Чунь-цю» («Весны и осени») — суть запечатления
Дао: «Сочинения, трактующие об универсальных принципах
Великой Триады (Небо, Земля, Человек. — В.Б.), называются
цзин. Под цзин мы разумеем выражение абсолютного, или посто-
янного, Дао, или Принципа, то великое учение, которое неизмен-
но. Таким образом, в цзин достоверно отражаются Небо и Земля,
духи и божества. Цзин помогают установить порядок вещей и
определить правила, управляющие человеческими делами. В цзин
обнаруживают себя как тайны природы и духа, так и сами кости и
костный мозг изящной словесности» [57, с. 17]. Вполне понятно
поэтому, что к «пяти канонам» восходят все жанры литературы:
«"Книга перемен" породила лунь, или рассуждение, шо, или сло-
во, цы, или прорицание, сюй, или предисловие. "Книга истории"
явилась источником чжао, или высочайшего повеления, цэ, или
указа, чжан, или благодарственного доклада на высочайшее имя,
цзоу, или обычного доклада. Фу, или нарративная ода, сун, или
гимн, гэ, или народная песня, цзань, или славословие, имеют
основанием "Книгу песен". Мин, или надпись, лэй, или поминаль-
ное восхваление, чжэнь, или наставление, чжу, или молитва, вос-
ходят к "Книге установлений". Цзи, или записки, чжуань, или
жизнеописание, мэн, или клятва, си, или провозглашение, уходят
корнями в "Весны и осени"... Независимо^от того, сколь высоко
хочет воспарить писатель, он должен постоянно обращаться к ка^
нонам. Он может сформировать свое сочинение, следуя
25
классическим формам, или обогатить свою манеру, изучая "Книгу
песен"» [57, с.20].
В индийской традиции ведийские самхиты выступали
парадигмой для изящной словесности (кавъя) как в аспекте
порождения поэтического сочинения, так и в аспекте его воз-
действия на читателя. Я.Гонда, в частности, отмечает: «Различие
между Ведой... и поэзией... с одной стороны, преувеличено, а с
другой, по крайней мере в том, что касается создания произве-
дений обоих родов, не касается существа дела» [49, с.334]. Еще
определеннее эта же мысль выражена у А.Кумарасвами: «Ведий-
ского кави (гимнотворца. — В.Б.) следует считать прототипом лю-
бого поэта... а ведийские мантры (гимны, изречения. — В.Б.) —
образцом, моделью любого искусства» [44, с.493 ]. Что же касается
воздействия ведийских гимнов и кавьи на воспринимающего их, то
и тот и другой тип сочинений, — хотя каждый своим особым спо-
собом, — давал возможность достичь «четырех жизненных целей»
(чатурварга): добродетели (дхарма), наслаждения (кама), богат-
ства (артха) и освобождения от мира (мокша). Наконец, понятие
«раса» (эстетическая эмоция, эстетический опыт), рассматривав-
шееся индийскими теоретиками по крайней мере с IX-X вв. как
душа (атман) поэзии и потому являвшееся ее основополагающей
категорией, отождествлялось с Брахманом [14, с.142-143; 46, с.26-
27 ], вместилищем которого выступал ведийский канон.
Более сложными были взаимоотношения канона и словесности
в арабо-мусульманской традиции. Строгий монотеизм классичес-
кого ислама, несмотря на концепцию близости Бога к человеку ,
обусловливал непреодолимый разрыв между ними и соответствен-
но между возводимым к истокам Бытия Кораном и рукотворной
человеческой словесностью. Хотя главная и наиболее чтимая фор-
ма последней — поэзия постепенно обрела законное место в систе-
ме мусульманской культуры, Коран, в отличие от священных тек-
стов Китая и Индии, не мог рассматриваться как ее непосредст-
венная парадигма. И все же в сфере поэтологии сближение Корана
и поэзии постепенно намечалось.
С одной стороны, в классической арабской поэтике IX-- XI вв.,
где своего рода абсолютом (по меньшей мере в гносеологическом
аспекте подобном Абсолюту — глубинной основе Бытия: Брахма-
ну, Дао) выступала сама поэтическая традиция, сложилось пред-
ставление о совокупности смысловых элементов поэзии, поэти-
ческих мотивов (маани) как каноне со всеми вытекающими
отсюда мировоззренческими последствиями [24, с. 100]. По осно-
вательному мнению А.Б.Куделина, этот канон, подобно всякому
другому, давал возможность не только для воспроизведения
(«цитирования»), но и для углубления в скрытую в нем «пер-
воистину», «первоидею» мотивов, потенциально существовавшую
26
во всей полноте от века, но лишь постепенно раскрывающуюся,
актуализирующуюся в сумме индивидуально-авторских проник-
новений в нее. Совершенство каждого из таких проникновений
как раз и «определялось мерой приближения к "первоистине",
к "первообразу мотива"» ([23, с.29]; подробно см. [24, с.174-
198]).
С другой стороны, в эстетическом по своему характеру учении о
«неподражаемости Корана» (иджаз ал-Куран) сакральный текст
представал вместилищем наилучших смыслов (ма'ани), выражен-
ных наилучшими словами (алфаз), причем как смысловая, так и
словесная структуры его по отдельности и их взаимное соответствие
также считались наилучшими. К тому же, объединяя в себе (и
превосходя) достоинства всех видов речи (поэзии, прозы, рифмо-
ванной прозы — саджа), хотя и не принадлежа ни к одному из них,
Коран, по мнению толкователей его «неподражаемости», оказывал-
ся с поэтико-риторической точки зрения актуализацией некоей
«сверхлитературы» [16, с. 109-112]. Сравнение Корана с произве-
дениями словесности на основе поэтологических критериев ставило
его в один ряд с ними и одновременно — над этим рядом, делало
воплощением литературы в ее идеальном аспекте — совокупно-
стью недостижимых «первоидей», «первообразов», «первосовер-
шенств».
Арабо-эллинистический синтез открыл культуре ислама доступ
к концепции трансцендентно-имманентного Абсолюта, к возмож-
ности восхождения к Нему, к развитым онтологическим и психо-
логическим теориям; особенно яркое выражение все это получило
в суфизме. Суфийская поэтология, надстроившая над классичес-
кой арабской поэтикой новый, мистический уровень — учение о
божественном Слове, запечатленном как в священном тексте, так
и в символически толкуемой поэзии, — связала Коран и словес-
ность еще более тесными узами. Так, великий суфийский поэт
Джалаладдин Руми (XIII в.) сравнивал Коран с возлюбленной, го-
лова и лицо которой укрыты чадрой; в классической арабской
поэтике красавица — смысл, — скрытая одеждами (словами) —
стандартное уподобление для поэзии. О совершенном мастере
поэтического слова Руми писал, что тот «так должен накрыть стол
славословия, чтобы заполнить его разными блюдами. Ни один из
гостей не должен остаться голодным, каждый за тем столом дол-
жен получить свою пищу. Такой стол подобен Корану
(выделено мной.—В.Б.)...» [15, с.216]. Именно в суфийской
традиции священный текст обретает черты парадигмы по отно-
шению к поэзии — той самой парадигмы, в качестве которой он
выступает в культурах Китая и Индии.
Как бы эманируя из канонического текста, изящная словес-
ность переводила его мировоззренческие структуры, а отчасти
27
поэтику и топику, в иерархически более низкий собственно эс-
тетический план, т.е. — для средневековых восточных тради-
ций — в сферу действия упорядоченных интеллектуализирован-
ных эмоций, которые, «схватывая» и «передавая» сущш сти, а не
внешние проявления вещей, обладали способностью вызывать их
непосредственное переживание [9, с.99-104 ]. При этом в культур-
ной авторефлексии рассматриваемых традиций изящная словес-
ность сохраняла как соотнесенность с макро- и микрокосмом,
присущую каноническому тексту — ее парадигме, так и человеко-
подобие этого текста. Последнее, вероятно, являлось следствием
универсального закона «влияния подобного на подобное». Эсте-
тическая эманация канона, изящная словесность, воздействуя
благодаря выраженной в ней интеллектуализированной эмоции на
разум и чувства одновременно, выступала важным средством
формирования социальной психологии — отсюда признание дра-
мы и поэзии «пятой Ведой», т.е. знанием для всех, в индийской
культурной традиции, роль литературного вежества (адаба) в ара-
бо-мусульманской культуре, требование непременной литератур-
ной образованности от китайских чиновников и т.д. Эффек-
тивность же воздействия изящной словесности, по-видимому,
понималась как результат ее подобия человеку.
Наиболее ярко (в антропоидной форме) подобие литературы че-
ловеку предстает в «мифе о Кавьяпуруше», изложенном в «Кавъ-
ямимансе» («Размышления о поэзии») индийского поэтолога Рад-
жашекхары (X в.). Богиня речи Сарасвати предается аскезе в Гима-
лаях, желая обрести сына. Вишну дарует ей младенца, который,
едва родившись, произносит стих: «Все, что сотворено Речью и что
принимает иллюзорный облик объекта, есмь я — мужской дух
поэзии». Сарасвати, восхищенная стихотворным высказыванием
сына, признает, что он превосходит ее, мать всего, что имеет
источником речь, в поэтическом искусстве, предрекает будущее
процветание стихотворчеству и, восхваляя младенца, так описыва-
ет его: «Слово и смысл (шабдартха) — твое тело, санскрит — твое
лицо, пракрит — твои руки, апабхранша — твой зад, пайшачи —
твои стопы, мишрака (смешанный театральный язык. — В.Б.) —
твоя грудь. Ты уравновешен, изящен, сладостен, благороден, силен
(это перечень достоинств — гун, которыми обладает поэтическая
речь. — В.Б.). Твой язык прекрасен оборотами речи (укти)> твоя
душа — раса, твои волосы — размеры... Твои украшения —
аллитерации и сравнения. Провозвестница будущего, само откро-
вение (т.е. Сарасвати. — В.Б.) слагает тебе хвалу» [55, с.42-43 ].
Таким образом, сын Сарасвати, получающий имя Кавьяпу-
руша — Человек-Поэзия — это как бы весь «мир поэзии». Он
являет собой очевидную аналогию ведийскому Пуруше — перво-
человеку, из членов которого возникает Вселенная, что само по
28
себе указывает на соотнесенность поэзии в санскритской традиции
как с микро-, так и с макрокосмом. В то же время в сочинении
Анандавардханы «Дхваньялока» («Свет дхвани»; конец IX в.)
поэзия непосредственно уподобляется вселенной, а поэт — ее соз-
дателю Праджапати:
Поэзия — бескрайняя вселенная, поэт —
Вселенной той единый Праджапати,
Все изменяющий по прихоти своей.
Когда поэт — влюбленный, мир в его стихах
Весь исполняется сладчайшего нектара,
Когда же он — мудрец, свободный от страстей,
Мир превращается в безвкусный [3, с. 182].
Вселенной, притом идеальной, а потому превосходящей окружа-
ющую человека вселенную предстает поэзия и в сочинениях таких
крупнейших санскритских теоретиков, как Абхинавагупта (конец
X — начало XI в.) и Маммата (XI в.) [49, с.343; 56, с.З, 8-9].
Выше мы уже отмечали соответствие изящной словесности —
вэнь 'слов с узором' — и макрокосма в китайской традиции,
цитируя трактат Лю Се, «возводившего происхождение литерату-
ры к началу космоса и возвышавшего ее до статуса космической
значимости» (цит. по [58, с,22]). У Лю Се обнаруживается и ант-
ропоидно-антропоморфное уподобление словесности человеку:
«Чувства и намерения следует сделать душою (произведения),
факты и замыслы — его остовом и костями, слова и красоты —
мышцами и кожею» (цит. по [57, с.89 ]) .Далее Лю Се дает еще бо-
лее подробный список соответствий: «Оно (произведение. — В„Б.)
состоит из чувств и идей — души, фактов и значений — костяка и
костного мозга, языкового узора — мускулов и кожи, кун и шан,
или резонирование языка, — голоса и дыхания» [57, с.226 ]. Кро-
ме того, как и человек, изящная словесность обладает витально-
стью (ци), способной возрастать и истощаться, ее украшения —
косметика, ее дефекты — «лишние пальцы на руках» и опухоли
[57,с.176, 179] и т.д.
Примечательно, что в качестве тела и костяка рассматривались
внешняя и внутр<енняя стороны китайского иероглифического
письма. Характеризуя же различные почерки, знатоки китайской
каллиграфии «подыскивали аналогии в естественной жестику-
ляции, уподобляя написание знаков тому, как человек, говоря
словами одного средневекового ученого, "сидит, лежит, ходит,
стоит, сгибается в поклоне, бранится, плывет в лодке, едет верхом,
пляшет, хлопает себя по животу, топает ногой..*"» [26, с.141-142 ].
В классической арабской поэтологии встречается несколько
видов уподобления поэзии человеку. Ему, в частности, уподобля-
ется основная жанровая форма арабской поэзии — касыда. Так,
адабный автор XI в. ал-Хусри пишет, что касыду подобает
29
сравнивать с человеком, тело которого обладает гармоническим
единством. Утрата этого единства снижает красоту тела и наруша-
ет его изначальную природу [31, с.480]. То же сопоставление
обнаруживается и у авторитетного поэтолога XI в. Ибн Рашика:
«Насиб (любовный зачин касыды, любовное стихотворение. —
В.Б.), открывающий касыду, не должен отрываться от последу-
ющих хиджа (поношения. — В.Б.) или мадха (восхваления. —
В.Б.), но должен быть связан с ними, поскольку касыда подобна
человеческому телу, где все члены соединены друг с другом. Если
один из них отделится, уродливо исказится строй (касыды) и образ
красоты станет увечным» [20, т.2, с.117 ].
В этом уподоблении касыды человеческому телу названы три
важнейших жанра арабской классической поэзии и одновре-
менно — компонента касыды: насиб и следующие за ним мадх или
хиджа. Сочетание их в рамках произведения делает его как бы
миниатюрной моделью всей арабской поэзии в жанровом аспекте.
Это осознавалось и самими арабскими теоретиками. Как отмечает
Ибн Рашик, «некоторые знатоки считали, что "вся поэзия бывает
двух видов: мадх и хиджа. К мадху восходят риса (плач. — В.Б.),
фахр (самовосхваление. — В.Б.)> ташбиб (аналог насиба. — В.Б.)
и то, что примыкает к этому из васфов (описаний. — В.Б.) — сле-
ды становья, прекрасные сравнения, — а также то, что улучшает
нравы — изречения, проповеди, слова о бренности мира и воздер-
жании. А хиджа — все, что противостоит этому» [20, т.1, с. 121 ].
Таким образом, в сравнении касыды с человеком можно видеть
сравнение с ним поэзии как целого.
В формально-содержательном аспекте моделью арабской
поэзии выступал бейт — стих в единстве его явленного звучания
(лафз; мн.ч. алфаз) и скрытого значения (мсИна^ мн.число
ма'ани), — также соотносимый с человеком по антропоморфному
(лафз — тело, мана — душа,) или антропоидному (лафз — оде-
яния, уборы, мина — девушка) типу. Ибн Табатаба (X в.),
например, писал: «И речь (калам), в которой нет ма'на, подобна
телу, в котором нет души. Как сказал некто из мудрецов: "У речи
имеются тело и душа, ее тело — звуковое облачение, а душа —
ма'на"» (цит. по [24, с.139 ]). У него же мы находим и второе сопо-
ставление: «У ма'ани имеются соответствующие алфаз, в одних
они красивы, в других — безобразны; и алфаз для ма'ани то же,
что убор для красивой девушки, которая в одних уборах ста-
новится красивее, а в других нет; и сколько же красивых ма'ани
было обезображено уборами, в которых они представали, и сколь-
ко же красивых уборов приобрело поношенный вид, когда их на-
дели на себя отвратительные ма'ани» (цит. по [24, с. 139 ]).
Термины «лафз» и «ма'на» могли относиться не только к
отдельному бейту, но и ко всему произведению в целом, не-
30
зависимо от его объема; ср. выше: «Коран как красавица (мс^на)
под чадрой (лафз)». Отсюда развернутое уподобление поэзии кра-
савице, детально разработанное персидским поэтом XV в. Абду-
рахманом Джами:
Нет красавицы, подобной размеренной речи,
Тайна [ее] прелести заключена в ней самой.
Терпеть ее [причуды] тягостно, а [достичь] утешения трудно,
Особенно когда [она] — в погоне за сердцами.
Она облачается в изящное одеяние из размера,
Отделывает его край рифмой.
Украшает ноги браслетами редифа,
Умножает красу чела родинкой воображения.
Благодаря ташбиху (сравнению. — В.Б.) придает лицу сияние
луны,
[И тем] похищает разум сотни сбившихся с пути
(влюбленных — В.Б.).
Волосы разделяет таджнисом (звуковым сроднением. — В.Б.)
на равные части,
Две косы (т.е. два полустишия бейта. — В.Б.) заплетает,
не имеющие различия.
Уста при помощи тарсе (структурного параллелизма. — В.Б.)
делает рассыпающими перлы,
Мускусный завиток делает подвеской для жемчуга.
Глаза, благодаря ихаму (двусмысленному выражению. — В.Б.),
делает кокетливыми —
[Они] смута в собрании тех, кто наделен воображением.
Голову укрывает локоном маджаза (переносного значения. —
В.Б.),
Благодаря завесе приближает истину [2, с.85; 1, с.62-63].
(Пер. Н.Чалисовой)
Идея соответствия изящной словесности макрокосму, по-
видимому, не была характерна для классической арабской поэто-
логии. Такое соответствие, однако, обычно предстающее в онто-
логическом плане, играло важную роль в суфийской концепции
литературы. Оно основывалось либо на непосредственном возве-
дении поэтического слова к его прототипу — божественному Сло-
ву, творящему вселенную, либо на нарочитом, как бы игровом
смещений того и другого, когда слово в одном и том же контексте
могло пониматься и как божественное, и как поэтическое. Так, во
введении к поэме «Иллахи-нама» («Божественная книга»)
Фаридуддин Аттар пишет:
л Не взирай оком презрения на слова,
Ибо два мира наполнены единственным словом «Да будет!»
Основания двух миров — не что иное, как слово,
Ибо они были созданы словом «Да будет!» и могут быть
уничтожены словами «Да не будет!»
Слово было ниспослано всемогущим Господом.
Оно было славой пророков...
31
...Мухаммад, к которому было обращено слово «Да будет»
(т.е. Свет Мухаммада, из которого этим повелением
сотворен мир. — В.Б.),
Стал царем в ночь восхождения благодаря силе слова...
Все ограничено, пока не выражено в словах,
Хранимая Скрижаль (содержащая прототипы всего сущего. —
В.Б.) всеобъемлюща благодаря силе слов...
Поскольку слова — основа всего, делай все словами:
Проси ими милостыню, или вопрошай, или взыскуй
'[53,с.28-29].
Наиболее полное выражение концепция соответствия поэзии
макрокосму (а также и микрокосму) обычно получает во вводных
разделах суфийских поэм — маснави, являющихся, с одной сторо-
ны, своего рода «оправданием» их написания и потому тракту-
ющих о высокой миссии поэзии, а с другой — тем звеном, благода-
ря которому поэтическое сочинение обретает место в стройной
системе мироздания. Хороший пример такого вступления со-
держит поэма Низами «Махзан ал-Асрар» («Сокровищница
тайн», XII в.). В ней слово прежде всего предстает первым, что бы-
ло создано:
Когда Калам впервые пришел в движение,
Он начертал первую букву слова.
Когда была сброшена завеса с тайника [предвечности],
Первое явление предоставили слову.
Далее творящий Логос-Слово наделяет явленным бытием мир-
макрокосм, «открывает ему глаза»:
Когда Калам начал ходить взад-вперед,
Он открыл глаза мира словом.
Без слова о мире не было и слуха...
Оно же выступает творцом микрокосма-человека и его
глубинной сущностью:
Пока слово всем сердцем не обратилось [к душе],
Душа не вручила свое свободное тело глине...
В словаре любви слово — наша душа,
Мы — слово, а эта [телесная] развалина — наше жилище
[27,с.43-44].
В свою очередь, поэты, обретая в медитативном акте доступ к
Вышнему Слову, способны, подобно пророкам, раскрыть в своих
сочинениях Его смысл и веления:
Творцы слова (поэты. — В.Б.) — соловьи божественного
Престола,
Разве могут сравниться с ними другие (смертные) ?
Полыхая в огне размышлений (медитации. — В.Б.),
Они становятся сродни сонму ангелов.
Тайная завеса, за которой [происходит] словотворчество,
Есть тень (отражение) пророческой завесы.
32
когда начали выстраиваться впереди и сзади ряда
(приближенные) Всевеликого,
То сзади встали поэты, а впереди — пророки [27, с.46].
Несколько по-иному тот же комплекс идей представлен во
вводных разделах первой и второй тетрадей «Тухфат ал-Лбрар»
(«Дара праведных») Джами. В обеих тетрадях после воспевания
созидающей природы божественного Слова, в котором Джами идет
дальше своего предшественника, называя Слово, тождественное
Свету Мухаммада, творцом Вышнего Пера-Калама («Хотя Калам
являет совершенство слова, // безусловно, он тоже порожден Сло-
вом» [1, с.47]), следует образ красавицы-поэзии — «невесты Сло-
ва», полной Его звучанием [1, с.48]. Так устанавливается связь
креативного Слова — основы мироздания — и поэзии.
Не менее интересно, однако, другое: можно предположить, что
уже приводившееся подробное описание красавицы-поэзии из вто-
рой тетради «Тухфат ал-Лбрар», помимо явного поэтологического
смысла, несет в себе скрытые мистические аллюзии на онто-
логические соответствия черт человеческого лица, о которых так-
же шла речь выше. Уже первый бейт этого описания дает повод
для такого предположения. Строка: «тайна (ее) прелести заключе-
на в ней самой (букв.: не выходит за пределы ее письменного запе-
чатления или ее текста (хат))» — исходя из другого значения
слова хат ('пушок на лице'), может быть понята и так: «тайна
(ее) прелести не вытекает (не явствует) из ее пушка». Как уже
отмечалось, «пушок на лице» символизирует первую эманацию
божественной Сущности. Таким образом, фраза, возможно, со-
держит намек на то, что «тайна» поэзии скрыта глубже любых
проявлений Бытия. В последнем бейте говорится о способности
поэзии «благодаря завесе приближать истину», что, видимо, сле-
дует понимать как указание на символический характер пути поз-
нания истины посредством поэзии — обычный способ суфийского
постижения.
Однако это лишь рамка предполагаемой развернутой аллюзии.
Более важны характеристики самих черт лица поэзии в расс-
матриваемом пассаже (а в нем содержится полный набор тех из
них, которые имели в суфизме значение символов-терминов).
Глаза, согласно комментарию Лахиджи к «Гулшан-и Раз» («Розо-
вому саду тайн») Шабистари, символизируют Атрибуты Величия,
препятствующие близости «раба» с Господом, поскольку глазам
присуще кокетство, удерживающее раба на расстоянии [66, с.73 ].
В поэме Джами речь как раз и идет о кокетливых благодаря ихаму
глазах. Уста выступают символом Атрибутов Красоты, поскольку
ассоциируются с животворностью, милосердием, добротой. То, что
уста в «Тухфат ал-Лбрар» «рассыпают перлы», также вызывает
ассоциации не только с красноречием, но и с щедростью и мило-
3 130
33
сердием. Локон означает иллюзорную множественность творения,
скрывающую лик истинного Единства [66, с.74]. У Джами локон
отождествляется с маджазом (переносным значением, мета-
форичностью, а отсюда — иллюзорностью, противоположной ис-
тине — хакикат), скрывающим голову красавицы-поэзии. Ро-
динка символизирует сокровенную божественную Сущность,
«уединенную в себе, но охватывающую все явления» [66, с.77 ]. У
Джами же родинка тождественна воображению или вымыслу {ха-
ял), которое можно рассматривать как скрытую словами и
поэтическими фигурами (ташбих, тарсё*, ихам и т.д.) глубинную
сущность поэзии, всецело пронизывающую ее (в этом качестве
вымысел, воображение понимались рядом персидских поэтологов
XV в. [21, с.7; 13, с.33-34 перс, текста ]).
Таким образом, если наше предположение о символическом
подтексте описания красавицы-поэзии верно, Джами в «Тухфат
ал-Абрар» дополнил суфийскую концепцию восхождения
поэтического слова к Слову божественному и тем самым соот-
ветствия поэзии макрокосму, скрытой онтологизацией поэзии, ас-
социативно связав ее с символами различных уровней макро-
космической иерархии (Сущность — Атрибуты — тварный мир).
Человеческий лик в силу этого оказался соотнесен с макрокосмом,
с письмом, с поэзией.
Итак, в трех рассматриваемых традициях литература, подоб-
ная как макро-, так и микрокосму, предстала в антропоидной и
антропоидно-антропоморфной формах. Думается, что на опреде-
ленных ступенях духовного умозрения возникало и чисто антро-
поморфное понимание литературы, которое, как мы постараемся
показать, могло играть чрезвычайно важную роль в модели-
ровании литературных систем средневекового Востока и интерпре-
тации их воздействия на читателя. Однако выявление чисто ант-
ропоморфных концепций литературы требует не только более тон-
кой методики исследования, но и такого объема фактических
знаний о той или иной письменной традиции и о контексте ее бы-
тования, на обладание которым мы никак не можем претендовать.
Поэтому ниже эта концепция будет рассмотрена на примере сло-
весности, известной нам лучше других — малайской классической
литературы XVII в. — времени максимального воздействия су-
фийского миросозерцания на малайский культурный мир. О том, в
какой степени реконструируемая на данном примере чисто антро-
поморфная система литературы, дающая, как нам кажется, ключ
к пониманию ее жанров и поэтологических механизмов, явится
типологически ценной, позволит судить, разумеется, лишь бу-
дущий сравнительный анализ . Все же обратить внимание на эту
систему представляется небесполезным уже сейчас.
34
Начнем с характеристики культурно-идеологического контек-
ста, в котором развивалась малайская литература XVII в. и кото-
рый, обладая всем комплексом представлений, описанных в пре-
дыдущих разделах статьи, на наш взгляд, уже сам по себе способ-
ствовал формированию антропоморфной системы литературы.
Прежде всего в малайской традиции XVII в. основополагаю-
щую роль играла концепция макро-/микрокосмического парал-
лелизма во всех трех ее формах. Об антропоидной форме
(«квазимиф» о Свете Мухаммада) речь уже шла выше. Антро-
поидно-антропоморфная форма получила отражение, например, в
«Хикаят Шах Мардаи» («Повести о Шахе Мардане»), где ступня
человека соотносится с Пьедесталом божественного Престола,
пятка — с Престолом, спинной мозг — с мостом над преисподней
(сират ал-мустаким), живот — с морем, ребра — с миром боже-
ственного Водительства, грудь — с Каабой и т.д. [51, с.39-40].
Однако чаще всего в малайской суфийской традиции мы сталкива-
емся с чисто антропоморфным макро-/микрокосмическим парал-
лелизмом, выступающим в онтологическом аспекте в форме уже
известного нам соответствия мулка (насута), малакута, джабарута
и лахута в человеке и в космосе (см., например, [60, с. 137-140])
или же в форме соответствия в том и другом «семи ступеней
Бытия» {мартабат туджух), по которым осуществляется нисхож-
дение абсолютного божественного Единства к множественности
дольнего мира и возвращение суфия от множественности к изна-
чальному Единству.
Три первые ступени: Ахадийа (абсолютное, непроявленное, не-
постижимое единство), Вахда (синтетическое единство потенций
Бытия), Вахидийа (аналитическое единство потенций Бытия, или
единство во множественности) — суть предшествующее собствен-
но творению Бытие мира в божественном Сознании. Три следу-
ющие ступени: Алам ал-apeax (мир духов [вещей]), алам ал-
мисал (мир идей, эйдосов [вещей]), алам ал-аджсам (мир [физи-
ческих ] тел) — суть сотворенные миры, различные уровни уже не
потенциального, а актуального бытия мироздания. Наконец, пос-
ледняя ступень — самая низкая и одновременно высшая из акту-
ально сущих, ибо содержит все манифестации абсолюта — это
алам ал-инсан (мир [Совершенного] Человека). Именно Совер-
шенный Человек выступает той духовной сущностью, через кото-
рую творение возвращается к Творцу.
Вот как описывает соответствие «семи ступеней Бытия» раз-
личным уровням человеческого самопознания (состояниям соз-
нания) известнейший малайский суфий XVII в. Шамсуддин ас-
Саматрани: «Или еще иными словами, если мы осознаем себя [как
совокупность Дел Аллаха ], то это — [стоянка Дел ], ступени алам
арвах, алам мисал, алам аджсам, алам инсан. Если мы осознаем
3-2 130
35
себя как [совокупность] Имен Аллаха, то это — стоянка Имен,
ступень Вахидийа. Если мы осознаем себя как [совокупность]
Атрибутов [Аллаха ], то это стоянка Атрибутов, ступень Вахда*
Если же мы не осознаем себя как [совокупность ] Атрибутов, Имен
и Дел [Аллаха ], то это — ступень Ахадийа» [60, с. 154 ].
Далее, как и в трех рассмотренных выше традициях, макро- и
микрокосм считались в малайской культуре своего рода текстами.
Малайцам была хорошо знакома концепция творения как писания
Вышним Пером на Хранимой Скрижали [41, с.72]. В сочинениях
Хамзы Фансури [41, с.252-253, 337], Абд ар-Рауфа из Сингкеля
[45], в поэме «Бахр ан-ниса» («Море женщин») [10, с.186]
цитируются и специально комментируются известные стихи Ибн
Араби о прототипах всего сущего — так называемых «непод-
вижных сущностях» (айан ас-сабита), в которых эти прото-
типы — не что иное, как буквы:
Мы были неподвижными Возвышенными Буквами,
не покидавшими своей обители в Горной Вершине. ,
В ней я был тобою, и все мы были тобою, а ты был им [40, с. 19] .
Буквенным текстом предстает в «Китаб ал-харака» («Книге
движения») Шамсуддина ас-Саматрани «мир идей» (алам мисал):
Мир идей уже был запечатлен
В сокровенных объектах знания.
Его шрифт крупный, буквы неподвижные,
Это — формы всего сущего [71, с. 111 ].
Наконец, в ренчонгской «Поэме о лодке» (название условное) в
разделе о совершенном Человеке говорится:
Человек безмерно совершенен,
Он — ствол всех возвращающихся...
Поистине, он — ствол неразрушимый,
В обоих его глазах содержится по свитку [8].
Выше отмечалось, что глаз — это редуцированная форма репре-
зентации микрокосма, а свиток — символ и макро-, и микрокосма
как текстов. Думается, смысл этих строк заключается в том, что в
каждом глазу человека (микрокосма) «записан» макрокосм. Вчиты-
вание же в микрокосмический текст, как мы видели на примере трех
зикров, практиковавшихся, в частности, и малайцами [54, с.96-97 ],
выступало инструментом духовного восхождения личности.
Не менее важно при изучении культурно-идеологического кон-
текста малайской литературы XVII в. рассмотреть вопрос о том, что
представляли собой основные механизмы формирования человека
в малайской суфийской традиции — те, что выступали парадигмой
по отношению к иным видам деятельности.
Важнейшим из таких механизмов был сам суфийский Путь,
слагавшийся из четырех этапов: шариат (закон), тарикат
36
(путь), хакикат (истина) и марифат (постижение). Пройдя пос-
ледний этап, очищенное и преображенное «я» «путника» полно-
стью утрачивало свое самосознание, самоуничтожалось (фана).
Благодаря этому в человеке проявлялось его божественное начало,
что метафорически именовалось «единением с Богом», «возвра-
щением к истоку Бытия».
Подобно космосу, четверичный Путь рассматривался как нечто
антропоморфное. Шамсуддин ас-Саматрани писал об этом: «То,
что именуется шариатом, — это кожа; то, что именуется тарика-
том, — ее содержимое (видимо, мышцы. — В.Б.); то, что именует-
ся хакикатом, — сухожилия; то, что именуется марифатом, —
кости» [60, с. 138].
Путь мог представать как в макро-, так и в микрокосмическом
аспектах. Об этом свидетельствует соотнесение его этапов с че-
тырьмя онтологическими уровнями Вселенной и человека в одном
из стихотворений Хамзы Фансури:
Алам насут сделай своим шариатом,
Поклонение, [присущее] малакуту, возьми в качестве тариката,
Любовь, [присущая] джабаруту, [да будет] твоей встречей с
хакикатом,
Самоуничтожение [фана] в лахуте [пусть станет] твоим
марифатом [48, с.62].
Через соответствие: насут — Дела, малакут — Имена, джаба-
рут — Атрибуты, лахут — божественная Сущность [60, с. 75-
78 ] — четверичный Путь связывался с «семью ступенями Бы-
тия» — системой, которая также имела макро- и микрокосмичес-
кое «измерения».
Ценные данные по интересующему нас вопросу содержатся в
«Хикаят Шах Мардан», в которой учение о Пути излагает герою
мудрец и суфийский наставник Лукман ал-Хаким. Он связывает
четыре этапа Пути с четырьмя элементами — водой, воздухом
(ветром), землей и огнем, — из которых состоит тело человека и
Вселенной. При этом в повести [51, с.21 ] сообщается, что на огне
начертана буква а («алиф»), на ветре — л («лам аввал» — началь-
ный лам), на воде — л («лам ахир» — конечный лам), на земле —
х («ха»). Таким образом, элементы, а с ними и сам четверичный
Путь образуют текст — слово Аллах, тождественное в повести
басмале — первому стиху Корана: «Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного».
Далее рассуждение об элементах и их соответствии этапам
Пути связывается с хадисом: «Тот, кто познал себя, познал и Гос-
пода своего» — призывом человека к суфийскому самопознанию.
Из этого следует, что элементы надо понимать в микрокосмичес-
ком плане как то, что образует человеческое тело. Путь же тем са-
мым обретает внешнюю, физическую антропоморфность. В то же
3-3 130
37
время, подобно человеку, Путь наделен четырьмя душами, точ-
нее, душой, в которой очищение и преображение последовательно
выявляют четыре аспекта: аспект «гневной души» {нафсу амма-
ра), «кающейся души» {нафсу лавамма), «чистой души» {нафсу
сафийа), «умиротворенной души» {нафсу мутмаина). Обладание
«четырехаспектной душой» свидетельствует о внутренней психо-
логической антропоморфности Пути.
Итак, и с внешней и с внутренней стороны Путь антропомор-
фен, причем, как и большинство описаний макро- и микрокос-
мического параллелизма, отличается чистой антропоморфностью.
Это, однако, еще не все. По словам Лукмана ал-Хакима, Путь
«пребывает в теле человека» [51, с.23], где его «дворцами», т.е.
средоточиями, «местами обитания» его этапов, являются соответ-
ственно: язык (компонент тела), душа («телесная душа», ведаю-
щая движениями тела и чувственным восприятием), разум и «тай-
на» («духовное сердце»). Таким образом, Путь не только антропо-
морфен, но и, подобно форме для отливки, объемлет всю
психосоматическую структуру человека. Поэтому Путь, как видно
из рассуждения о «путях» шариата, тариката, хакиката и мари-
фата (т.е. о правильных действиях на этих этапах), предопределя-
ет и формирует все виды человеческой деятельности, речь, пос-
тупки, психологические состояния, постижение Бога [51, с.24 ].
Теми же свойствами обладают два важнейших средства дви-
жения по Пути — мистически интерпретированная молитва и
зикр.
Молитва предстает как антропоидно-антропоморфное сущест-
во. Согласно «Хикаят ШахМардан» [51, с.28-29 ], «я» молитвы —
такбират ал-ихрам (первый такбир молитвы — возглашение:
«Велик Аллах!»), ее голова — ниат (намерение совершить
молитву), ее дух (животворящая сила — ньява) — Коран (в дру-
гом списке повести — Фатиха — первая сура Корана), ее руки —
тахиат (формула благословения, произносимая при коленопрек-
лонении), ее ноги — салом (завершающее молитву возглашение).
Основа (ствол) пяти ежедневных молитв — Фатиха. Молитвы
сотворены из букв ее первого слова: зохор (полуденная молитва)
из буквы а («алиф»), facap (послеполуденная молитва) из буквы л
(«лам»), магриб (вечерняя молитва) из буквы х («ха»), fuca (ноч-
ная молитва) — из буквы л« («мим»), субух (утренняя молитва) из
буквы д («дал»). Весь комплекс молитв представляет собой
текст — слово ал-хамд («хвала [Аллаху ]»), а исполнение мо-
литв — как бы акт его постепенного прочтения.
Пять молитв соотнесены как с макро-, так и с микрокосмом. В
зохоре четыре молитвенных цикла {раката), поскольку первое
проявление Аллаха — начало создания макрокосма — четверично
(Бытие, Знание, Свет, Зрение); в магрибе три раката, поскольку
38
эволюция Бытия от единства к множественности в божественном
Сознании троична (Ахадийа, Вахда, Вахидийа). В то же время в
'асаре четыре раката, поскольку человек (микрокосм) состоит из
четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли, которые соответ-
ствуют: огонь — мышцам, воздух — дыханию, вода — костям,
земля — телу и, как мы помним, образуют слово Аллах. В 'исе
также четыре раката, поскольку эволюция человеческого зароды-
ша из спермы четверична (вади, мади, мани — компоненты спер-
мы; маникам — образующийся из них зародыш).
Каждая из молитв охватывает всю психосоматическую струк-
туру человека. Четыре молитвенные позы соотносятся с четырьмя
элементами, из которых сотворено тело: стояние на молитве
(бердири) — с огнем, глубокий поклон (рукук) — с ветром, про-
стирание ниц (суджуд) — с водой, коленопреклонение (дудук) — с
землей. При этом стояние представляет собой поклонение духом,
глубокий поклон — поклонение душой (нафс), простирание
ниц — поклонение кровью, коленопреклонение — поклонение те-
лом (о молитве см. [51, с. 18-22 ] с добавлениями по [52, с.23 ]).
Если молитва соотносится с макро- и микрокосмом, так ска-
зать, позитивно, то зикр, состоящий из нафи (отрицания; ла илла-
ха 'нетбога') кисбата (утверждения; иллаЛлах 'кроме Аллаха'),
коррелирует с макро- и микрокосмом негативно. Зикром суфий
отрицает, с одной стороны, бытие Вселенной — макрокосма
(«семи земель и их обитателей, семи небес и их обитателей, Пре-
стола, Пьедестала, рая, ада, Хранимой Скрижали, Вышнего Пера,
четырех элементов» [60, с.403 ]), а с другой стороны, бытие своего
«я» — микрокосма («свое индивидуальное бытие, которое иллю-
зорно, и свою ступень определенности, которая тоже иллюзорна»
[54,с.97]).
На начальном этапе зикр, подобно молитве, приобретает фор-
му текста: «Начертай в сердце имя Аллаха мысленным пером зо-
лотыми или серебряными чернилами, и сияние его, подобное
сиянию солнца или луны, сделай кыблой (фокусом внимания. —
В.Б.) для духа, и сосредоточения, и постижения» [60, с.405-406 ].
Однако назначение зикра-текста, как мы уже видели, состоит в
том, чтобы «дочитать» его до последней буквы, до полного исчез-
новения. Благодаря такому «чтению», «дочитыванию», и про-
исходит духовное восхождение суфия, практикующего зикр,
вплоть до полного уничтожения самосознания «я» и единения с
Всевышним. Для успешности этого восхождения необходимо, что-
бы зикр-текст охватывал все существо суфия: «И пусть тот, кто
практикует этот зикр, возведет мысленный образ слов "Нет бога"
от пупа вверх и ударит себя по груди (средоточию духовной и
психической жизни. — В.Б.) мысленным образом слов "кроме
Аллаха", с тем чтобы воздействие этого зикра присоединилось ко
3-4 130
39
всем членам, укрепилось в нем, увековечилось в нем и чтобы, если
это угодно Всевышнему, он увидел Его Бытие» [54, с.97 ].
Итак, рассмотрев культурно-идеологический контекст, в кото-
ром формировалась малайская литература XVII в., можно сделать
следующие выводы:
а) в малайской суфийской традиции преобладал чисто антропо-
морфный тип описания макро- и микрокосмического парал-
лелизма;
б) основные механизмы суфийской трансформации личнос-
ти — Путь, молитва, зикр — рассматривались как антропоморф-
ные (или антропоидно-антропоморфные); соотносились с макро- и
микрокосмом; могли представать в форме текста, «чтение» которо-
го вело к духовному восхождению; охватывали всю психосо-
матическую структуру человека.
Теперь мы можем перейти к рассмотрению системы малайской
литературы XVII в. и тех принципов, на которых основывалось ее
воздействие на читателя.
Основой, на которой сложилась эта система, послужил комп-
лекс представлений о творческом процессе, воспроизводившем
парадигму божественного Творения в его особом аспекте — аспек-
те Творения через человека. Как и везде в позднесредневековой
мусульманской культуре, пронизанной суфийским миросозер-
цанием, в малайской традиции подлинная способность творить
признавалась лишь за Аллахом, чье всеобъемлющее Знание со-
держит общие идеи, или «неизменные сущности» (айан ас-
сабита) всех вещей, а творческая мощь (кудра), обнаруживающая
себя как милость, или творческая энергия (рахма), являет эти
общие идеи как вещи в доступном чувствам «мире свидетельства».
Человек, в той или иной степени наделенный пророческим даром,
на первой — рецептивной — фазе творческого процесса способен
воспринять подобный свету поток творческой энергии, который
через посредство пророка Мухаммада в его ипостаси предвечного
Логоса (Hyp Мухаммад) нисходит от Творца. Изливаясь в духов-
ное сердце, или, что то же самое, в просветленную душу (хати ну-
рани, хати янг сафи) поэта, этот креативный свет вдохновения
(чахайя нурани) освещает, т.е. актуализирует пребывающие там
общие идеи, которые затем в телесной душе — «мире вообра-
жения» трансформируются в совокупность идей-образов (макна,
арти, иси) — ментальную структуру пока еще потенциального
литературного произведения. На второй — агентивной — фазе
творческого процесса поэт устанавливает правильное соответствие
между ментальной структурой сочинения и совокупностью ее ма-
териальных носителей, звучащих или графических слов (лафаз,
бунъи, ката) — вербальной структурой, что приводит к созданию
произведения уже как актуально сущей вещи (каранган, ренча-
40
на). Важнейшими качествами литературного произведения явля-
ются «польза», точнее, ряд «польз» (манфаат, фаедах) —
«учительный» смысл, скрытый в глубинной структуре сочинения и
потому воспринимаемый духовным сердцем или разумом читате-
ля, и «красота» (кеиндахан) — доступное чувствам воплощение
божественной красоты, постигаемое душой (иногда красота также
рассматривается как одна из «польз», но низшего порядка) (под-
робно см. [6, с.164-210]).
Таким образом, в результате правильного осуществления твор-
ческого процесса возникает сложная система соответствий (не-
постижимый Творец : явленный Myхаммад-Логос —> общие идеи :
единичные идеи-образы -* ментальная : вербальная структуры
сочинения -» польза/красота : восприятие духовным сердцем/
разумом/душой) — своего рода «канал», связывающий автора, с
одной стороны, с Богом, подателем творческой энергии, а с дру-
гой — с читателем, на которого эта творческая энергия, «про-
лившись» через произведение, призвана воздействовать, т.е. так
или иначе преобразовывать его психосоматическую структуру.
Как восходящее к Босу, так и нисходящее к читателю
движение по этому «каналу» становится возможным благодаря
молитвенному обращению к Творцу, о чем с очевидностью свиде-
тельствует следующий отрывок из «Хикаят Исма Ятим» («Повести
об Исме Ятиме»): «Через некоторое время по произволению
(такдир) Всевышнего пришла ему на ум мысль, и он сказал себе:
"Хорошо бы мне сочинить повесть, в которой давались бы настав-
ления раджам, дабы снискать милость государя". Подумав так,
Исма Ятим совершил поклонение Преславному Господу, прося у
него даровать ему разум, совершенный в делах управления, для
написания этих наставлений. И по милости Аллаха и заступничес-
кому благословений) (беркат шафа'а) Мухаммада... написал он
совершенную повесть» [50, с.4 ].
В самом кратком виде, — кстати сказать, наиболее распростра-
ненном в малайской литературе, — молитва писателя, готовяще-
гося создать литературное произведение, включала две формулы
на арабском языке. Первая из этих формул Бисмиллах ар-Рахман
ар-Рахим «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Учиты-
вая суфийский контекст малайской литературы XVII в., интерп-
ретировать эту формулу можно на основе такого рассуждения из
«Тайн постигших» Хамзы Фансури: «...Аллах — это имя божест-
венной Сущности, собрание всех Имен, как это говорилось выше;
Рахман же — Имя, впервые даровавшее милость (рахма) Вселен-
ной, т.е. сотворившее Вселенную... Это Рахман — владыка
милости дарует бытие всей Вселенной... благое и дурное получает
бытие по милости Рахмана. А Рахим — Имя специфичное только
для всего благого...» [41, с.255 ]. Писатель, таким образом, взывая
41
к Творцу, последовательно прибегает к Его имени — Аллах, ука-
зывающему на имманентный аспект Единой Сущности, содержа-
щей нерасчлененную потенциальность всего творимого, из кото-
рой даруется бытие вещам, затем к имени Рахман, которое впер-
вые дарует бытие всем единичным вещам, и, наконец, к имени
Рахим, дарующему бытие вещам благим и прекрасным — в дан-
ном случае благому и совершенному произведению.
Интерпретация второй формулы — Ва би-Хи наста ину би-
ллахи уала (или 'алийа) — вызвала значительные расхождения у
исследователей. Думается, понять ее смысл помогает следующий
пассаж, непосредственно примыкающий к этой формуле в «Хика-
ят Исма Ятим»: «Все восхваления Аллаху, Господу Пресвятому,
Всевышнему, неизмеримо превосходящему Величием и Славой
всю Вселенную. И Он — Господь совершенный, искушенный
сверх меры творить многоразличные чудные дела с рабами
своими, и чудные дела Его совершенны. И Он — Господь, проща-
ющий малоумных рабов своих, молящих Его о помощи в
сочинении повести» [50, с.1 ]. Итак, писатель прибегает к Господу,
который создает совершенные творения (совершенные чудные де-
ла) и помогает создать повесть. Приведенный отрывок позволяет,
на наш взгляд, истолковать вторую формулу как «К Нему прибе-
гаем, [ибо все ] возвышеннейшее (в данном случае совершенное
литературное произведение. — В.Б.) — благодаря Аллаху».
Две рассмотренные формулы суть молитва о благополучном
осуществлении всего творческого процесса: о даровании писателю
божественной творческой энергии — вдохновения (рецептивная
фаза) и о правильной фиксации воспринятого вдохновения в со-
вершенном тексте (агентивная фаза). Благодарственный вариант
этой молитвы представлен в заключении зерцала «Тадж ас-Са-
латин» («Корона царей») Бухари ал-Джаухари (1603 г.): «Хвала
Господу, который это благочестивое послание его завершением за-
вершил! Благодарение Господу, который эту благую беседу ее кон-
цом окончил! Всякое благодеяние от Господа, который руководил
моей грудью (здесь символ органа, воспринимающего вдохно-
вение.— В.Б.) у моим сердцем (символ органа, в котором
формируются образы. — В.Б.), моим языком при изъяснении этих
слов и упорядочении их расположения» [72, с.227 ] .
Целью молитвенного обращения к Богу (движения по «каналу»
творческого процесса), как об этом свидетельствуют следующие за
таким обращением фрагменты предисловий к литературным
сочинениям, было создание произведений одного из трех основных
родов.
Сочинения первого рода, благодаря присущей им красоте —
упорядоченной (дикаранг), гармоничной (мерду), родственной по
своей природе душе и потому вызывающей в ней отклик, любовь
42
(брахи), — были призваны гармонизировать душу, пребывающую
в подавленности (охваченную чрезмерным аффектом): утешать ее
(пенглипур хати), развлекать (пенгхибур хати)> возрождать и
т.д. Вот как формулируется эта задача в предисловии к «Хикаят
Чекел Ваненгпати» («Повести о Чекеле Ваненгпати»): «К Нему
прибегаем, [ибо все] возвышеннейшее — благодаря Аллаху! Это
яванская повесть, изложенная по-малайски... и составленная из
историй, строй коих необычайно прекрасен (амат индах-индах)...
дабы могли [они] развлечь (или утешить. — В.Б.) душу, объятую
безмерной любовью» [61, с.35]. В «Хикаят Исма Ятим» после
развернутой «литературной молитвы» и сообщения о том, что «ее
строй безмерно прекрасен», говорится: «... если услышат ее люди,
пребывающие в подавленности (машгул), возрадуются их души
(менджади сука хатинъя), потому и называется она — повесть»
[50, с.1 ]. В этом же сочинении мы находим и рассказ о его героях,
стремящихся утешить душу литературными произведениями: «В
ту пору взошла луна, окруженная бесчисленными звездами... в
ветвях лимонных деревьев подняли гомон всевозможные ночные
твари, чьи голоса звучали, словно мольбы влюбленных, то-
мящихся в разлуке с любимыми... Тогда Тун Мандудари, томясь
от страсти к повелителю, постарались утешиться песней о прек-
расном юноше, тосковавшем, скрывая свою любовь. Тун Юсарат-
на, взволнованная мечтами о государе, тихонько запела и приня-
лась читать главу из "Повести об Индрапутре", в которой расска-
зывалось о том, как Индрапутра предавался любви с царевной
Менгиндрой Сери Булан» [50, с.55-56 ].
Сочинения второго рода предназначались для того, чтобы
«пользами» формировать и совершенствовать разум. Выше мы уже
приводили пример создания повести, воздействующей на разум из
«Хикаят Исма Ятим». Решение тех же задач — воспитание
практического разума путем постижения «нрава раджей, везирей,
военачальников и простолюдинов, а также дел правления и того,
что связано с ними... с тем чтобы от чтения [этого сочинения]
люди получали пользу (манфаат)» — названо причиной создания
и «Тадж ас-Салатин» [72, с.5 ].
Наконец, сочинения третьего рода благодаря пользе высшего
уровня — совершенному богопознанию — предназначались для
подготовки духовного сердца, органа интуитивного постижения, к
созерцанию Высшей Реальности. На такое их предназначение
указывает, например, вводное молитвенное обращение в трактате
Хамзы Фансури «Асрар ал-Арифин» («Тайны постигших»): «Во
имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, который
отверзает грудь постигших ключами своего Бытия, и украшает их
сердца своими тайнами, и просвещает их дух постижением Его
въяве, и очищает их души светом Его любви». Далее Хамза пишет:
43
«Знайте, о сыны Адама, исповедующие ислам, что Аллах... сот-
ворил нас... И нам надлежит стремиться ко взысканию Господа на-
шего и постигать Его нашим постижением или служением
учителю, в совершенстве постигшему Его... А если вы еще не
встретили учителя, искушенного в постижении, то обратитесь к
нижеследующим пятнадцати бейтам. Если же смысл этих пятнад-
цати бейтов окажется недоступным для вас, обратитесь к их
истолкованию, ибо там ясными словами изъяснено постижение
Аллаха... Итак, в этой книге ничто не упущено» [41, с.233-234].
Таким образом, обращаясь с молитвенным восхвалением к Алла-
ху, дарующему постижение духовным сердцам суфиев, Хамза
получает возможность создать книгу, способную передать это
постижение ее читателям.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что, вознося особо-
го рода молитву Аллаху, раскрывающему себя в Мухаммаде-Лого-
се, чтобы создать произведение, которое послужит «утешителем
души», или наделит «совершенным разумом», или «отверзнет
грудь ключами Его бытия и украсит духовные сердца Его тай-
нами», творцы малайской литературы обретали способность под-
няться по «каналу» правильно осуществляемого творческого про-
цесса на уровень того из духовных миров, который соответствовал
их задаче. Благодаря этому, как считалось, в их произведениях
возникали качества, необходимые для соответствующего воз-
действия на читателя.
Самое «низкое» восхождение вело к созданию произведений,
наделенных красотой и потому способных гармонизировать душу,
угнетенную чрезмерным аффектом. К числу этих произведений
принадлежали в первую очередь различные волшебно-авантюр-
ные повести (хикаят) и поэмы (шаир). Более высокое восхож-
дение порождало тексты, которые «пользами» совершенствовали
разум. К ним относился весь круг дидактических сочинений (зер-
цала, обрамленные повести, различного рода учительные анто-
логии) и более историософские, чем историографические, по свое-
му характеру хроники. Наконец, предельно возвышенное восхож-
дение выливалось в сочинения, которые делали богопознание
человека совершенным и подготавливали к озарению духовное
сердце. Они включали так называемую «литературу китабов» —
ученых трактатов по теологии и суфизму, агиографию, суфийские
аллегории и т.д.
Примечательно, что система, включавшая те же, по существу,
уровни, но реализованная в одном произведении, была описана в
предисловии к «Хикаят Шах Мардан»: «Тот, кто станет слушать
или читать эту повесть, получит от нее пользу (фаедах) и настав-
ления, почерпнутые из хадисов и "знамений" (т.е. Корана —■
Б.Б.), и она обладает также четырьмя достоинствами (эмпат пер-
44
кара). Если она будет использована на пути богопознания, то имя
достоинству ее — духовное совершенство (камал); если в связи с
установлениями раджей, то имя ему — совершенство правления
(семпурна кераджаан); если будет использована при истолковании
закона главы нашего пророка Мухаммада — благословение ему и
мир! — то имя ему — шариат; если же — в утехах, коим предают-
ся молодые, то имя ему — совершенство мужей (семпурна лаки-
лаки)» [52, с.1 ]. Первое из достоинств повести, несомненно, соот-
носится с уровнем духовного сердца. Второе и третье — с уровнем
разума, постигающего и регулирующего социальную сферу жизни
на основе «установлений раджей», т.е. адата, обычного права, и
шариата, мусульманского закона (см. выше о «разуме, совершен-
ном в делах управления»). Четвертое достоинство — искушен-
ность в «утехах молодых», т.е. в искусстве любви, — соотносится с
уровнем души (см. выше о «врачевании» страстной любви красо-
той литературного сочинения).
Стремление воздействовать на определенную ступень в психо-
логической иерархии читателя и соответствующий этому стрем-
лению уровень восхождения литературы определяли не только
жанр, но и основной поэтологический механизм создававшегося
произведения. На уровень души была рассчитана «поэтика эмо-
ционально активных описаний», позволявшая «экстрагировать»
необходимый для гармонизации душевной подавленности аффект
из его многообразных проявлений, а затем проецировать этот аф-
фект в душу. Уровню разума отвечала «поэтика интеллектуально
активной композиции», создававшая условия для концентрации
внимания на элементарной единице учительного произведения —
дидактической «новелле», в которой та или иная идея «разыгрыва-
лась в лицах». Для уровня духовного сердца предназначалась
«поэтика медитативного образа-символа», противоречивая конст-
рукция которого в себе самой содержала «семена» разложения и
самоопустошения, осуществлявшегося в ходе интенсивного созер-
цания (подробно об этих трех поэтиках см. [9, с.205-209, 213-215,
226-228]).
Подведем итог. Система малайской литературы понималась ее
создателями как совокупный результат молитвенных восхож-
дений писателей, который был интегрирован благодаря связи каж-
дого из уровней восхождения с Мухаммадом-Логосом — источ-
ником и «опорой» любой из сотворенных вещей, придающим их
сумме упорядоченность, стройность и осмысленную целостность.
Выступая средством правильного формирования (или трансфор-
мации) всей структуры человеческой личности, эта система ока-
зывалась репликой таких парадигматических феноменов малай-
ской суфийской культуры XVII в., как Путь, молитва, зикр, и
обладала их свойствами.
45
Подобно Пути, молитве, зикру, система малайской литературы
имела макро- и микрокосмическую проекции. Если вновь
обратиться к синхронным с нею суфийским текстам — к «Хикаят
Шах Мардан», поэмам Хамзы Фансури [51, с.23; 48, с.62], то
можно увидеть, что четыре этапа Пути (шариат, тарикат, хакикат
и марифат) соотносятся, с одной стороны, с языком (тело), душой,
разумом и духовным сердцем («тайной»), а с другой — с мирами
насут (шахада), малакут, джабарут и лахут. Так устанавливается
соответствие четырех психосоматических уровней микрокосма и
четырех онтологических миров макрокосма. По существу, те же
соответствия — сфера души, сфера разума, сфера духовного серд-
ца — обнаруживаются и в литературной системе. Единственное
отличие последней состоит в том, что тело и душа (телесная душа,
понимавшаяся как «тонкое тело») в ней объединены. В таком
объединении, однако, нет ничего необычного. Такая же тройст-
венная иерархия, в которой телесные элементы как целое —■ джус-
мани (телесность) — противопоставлены духовным элементам —
рухани (духовность), соответствующему разуму, ирух идафи (Свя-
зующий Дух), соответствующему духовному сердцу, встречается
у Шамсуддина ас-Саматрани [57, с.138-139]. Кроме того, пре-
дисловие к «Шаир Даганг» («Поэма о скитальце»), написанной,
правда, уже в XIX в., свидетельствует о том, что чрезмерный аф-
фект воздействовал одновременно на тело и душу и, по-видимому,
то и другое врачевалось литературным произведением также
одновременно:
О все мои друзья и приятели,
Я описал некий путь,
Создал некое произведение
Из-за того, что моя душа пребывала в крайней тоске.
Сменился месяц, прошел год,
Чувства в моей душе сокрушены,
Тело словно бы мертво,
Эта поэма — утешение души (пенгхибур хати) [47, с.28-29].
Продолжая аналогию Пути, молитвы, зикра и литературной
системы, следует отметить, что, подобно им, литературная система
не только демонстрирует чисто антропоморфный тип соответствия
макро- и микрокосму, но и охватывает всю психосоматическую
структуру человека, выступая своеобразной «формой» для его
правильной «отливки». При этом, вполне естественно, литератур-
ная система представляет собой как бы грандиозный текст, вчиты-
вание в который есть не что иное, как движение по иерархическим
ступеням духовного совершенствования.
Итак, в поэтологических учениях средневекового Востока
литература может выступать подобием макро- и микрокосма в лю-
46
бой из его форм: антропоидной, антропоидно-антропоморфной и
чисто антропоморфной, а литературные тексты или их системы —
воспроизводить черты макро- и микрокосмических текстов и в ко-
нечном счете порождающего те и другие Бытия. Этим и обус-
ловливается действенность литературы — особой эстетической
(т.е., по средневековым представлениям, черпающей Красоту из
ее высшего онтологического источника — Абсолюта) проекции
или «списка» мироздания, всеохватное претворяющее влияние
литературы на челорека.
примечания
О понятиях «зональной литературной общности», «литературной зоны», а так-
же об упоминаемых ниже зонообразующих и интегрируемых в зону литературах и
литературном самосознании подробно см. [9, с.24-52].
2
О причинах и характере аномальности средневековой арабской лите-
ратуры как зонообразующей и о последующем преодолении этой аномальности см.
[9,с.168-178].
3
Брахмана — ритуальный комментарий к тому или иному сборнику (самхите)
ведийских гимнов; атхарвангирас — заклинание «Атхарваведы».
4
См., например, Каран 50:1^(16): «И мы ближе к нему (человеку. — В.Б.), чем
шейная артерия» [22, с.425] •
О типологической значимости предлагаемого ниже подхода к описанию систе-
мы малайской классической литературы свидетельствуют применимость его
принципов к описанию системы тибетской литературы [18], а также возможность
соотнесения как канонических, так и неканонических, в частности литературных,
санскритских сочинений с той или иной из иерархизированных «четырех ценно-
стей» (чатурварга) — дхармой, камой, артхой или мокшей, которые, в свою оче-
редь, корреспондируют с концептами как макро-, так и микрокосмического плана
[32].
Вполне естественно поэтому, что все мироздание порой изображалось малай-
цами как совокупность предметов, относящихся к процессу письма. Так, в «Хикаят
СиБурунгПингай» («Повесть о Чистой Птице») вселенная уподоблена дереву, корни
которого — скрижали, ствол — перо, кора — бумага, сок «— чернила, плоды fr-
сочинения, листья — строки, завязь — точка [см.: MS. Fails. Mal.-pol., 245, с.8].
Этот образ, по-видимому, также восходит к сочинениям Ибн ал-Араби, в частности
к его трактату «Щаджарат ал-Каун» {«Древо Сущего»).
7
Две исследованные формулы лишь в самых общих чертах указывают на
молитвенное обращение к Богу с целью создать литературное произведение. Данные,
позволяющие более детально реконструировать этот акт, содержатся в предисловии
к «Поэме о макассарской войне» (1670 г.) [68, с.68-70]. Описания творческого акта
литератора в психологическом аспекте появляются лишь в предисловиях к
сочинениям XIX в. («Шаир Икан Тамбра» — «Поэме о рыбе тамбра» [70, с.277],
мШамр Джохан» — «Поэме о Джохане» [62, с.70-71], «Шаир Mekah dan
Madinah» — «Поэме о Мекке и Медине» [69, с.1], «Шаир Бурунг Пунгчук» — «По-
эме о сове» [67, с.31]), что едва ли свидетельствует о столь позднем возникновении
соответствующих представлений. Обобщая эти описания, мы получаем следующую
47
психологизированную картину творческого процесса. Созданию литературного
произведения предшествует сильный волевой импульс и связанное с ним беспокой-
ство о том, будет ли поэту даровано осуществить свое предприятие. Далее следует
этап медитативного сосредоточения поэта на мысли о творческой энергии Аллаха с
целью проникновения в мир духовных сущностей; полное отключение сознания от
внешней реальности в молитвенно-медитативном акте, интенсивности которого спо-
собствуют ночь и одиночество; восприятие в состоянии самоотречения духовного
света, нисходящего от Творца (— из глубин внутреннего «я»), и после освещения этим
светом образов в душе запечатление их поэтом. Психологизированные описания
творческого акта с особой очевидностью свидетельствуют о парадигматичности по
отношению к нему зикра (см. вышеизложенное о зикре, а также руководства к
зикрам [54, с.97; 60, с.403-406]) и молитвы (см. рассказы о молитвенном сосредото-
чении Шаха Мардана, нисхождении к нему ангела от престола Господня [ср.
нисхождение света] и даровании ему помощи на суфийском Пути [51, с. 18, 30; 52,
с.21]). Как в творческом акте, так и в зикре и молитве сильный волевой импульс
(желание создать поэму, желание лицезреть истинное Бытие Аллаха, желание
обрести Его помощь и водительство) неустанно побуждает память и мыслительную
силу к активности и сосредоточенности. Это ведет к вхождению в глубокую
медитацию, отключению чувств от внешней реальности и возникновению в просвет-
ленной таким образом душе способности воспринимать духовные реальности. Нако-
нец, благодаря божественной Милости творцу (молящемуся, совершающему зикр)
даруется прямое лицезрение (образов поэмы, божественного Бытия или божествен-
ное водительство; подробнее см. [6, с. 174-179]).
ЛИТЕРАТУРА
Х.Абдурахмон ибни Ахмад Црми. Интихоб аз асархо. Сталинобод, 1956.
2. Абдурахмони Црми. Бахористон. Душанбе, 1966.
3. Анандавардхана. Дхваньялока («Свет дхвани»). Пер. с санскр., введение и
коммент. Ю.М.Алихановой. М., 1974.
4. Бертельс А.Е. Пять философских трактатов на тему «Афак ва анфус». М., 1970.
5. БоддеД Мифы-древнего Китая. — Мифологии древнего мира. М., 1977.
6. Брагинский В.И. История малайской литературы VII-XIX веков. М., 1983.
1. Брагинский В.И. Малайские классические повести-аллегории. — Теория жан-
ров литератур Востока. М., 1985.
8. Брагинский В.И. Предварительная реконструкция ренчонгской версии «Поэмы
о лодке». — Памятники Востока (в печати).
9. Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока
(Очерки культурологического изучения литературы). М., 1991.
10. Брагинский В.И. Символизм суфийского пути в «Поэме о Море Женщин» и мотив
свадебного корабля. — Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989.
11. Брихадараньяка-упанишада. Пер., предисл. и коммент. А.Я.Сыркина. М., 1964.
12. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.
13. Вахид Табризи. Джам-и Мухтасар. Трактат о поэтике. Крит, текст, пер. и примеч.
А.Е.Бертельса. М., 1959.
14. Гринцер П.А. Теория эстетического восприятия («раса») в древнеиндийской
поэтике. — Вопросы литературы. 1966, № 2.
15. Джавелидзе Э.Д У истоков турецкой литературы. I. Джелал-ед-дин Руми.
Тбилиси, 1979.
16. Джалал ad-Дин ас-Суйуши. Совершенство в коранических науках. Глава о не-
подражаемости Корана (XV в.). Пер. с араб., вступл. и коммент. Д.В.Фроло-
ва. — Народы Азии и Африки. 1987, № 2.
48
17. Древнеиндийская философия. Начальный период. Изд.2. М., 1972.
18. ДылыковаВ.С, Парфионович Ю.М. Система средневековой буддийской литера-
туры Тибета. — Художественные традиции литератур Востока и современность:
ранние формы традиционализма. М., 1985.
19. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевро-
пейские истоки. — Литература и культура древней и средневековой Индии. М.,
1979.
20. ИбнРаишк. Умда. Т. 1-2. Бейрут, 1972.
21. Камал ад-Дин Хусайн Ва'из Кашифи. Бадаи ал-афкар фи санаи ал-аш'ар («Но-
вые мысли о поэтическом искусстве»). Изд. текста, предисл., примеч. и указатели
Р.Мусульманкулова. М., 1977.
22. Коран. Пер. и коммент. И.Ю.Крачковского. Изд.2-е. М., 1986.
2Ъ.КуделинА.Б. Концепция канона в средневековой арабской поэтике. Автореф.
докт. дис. М., 1984.
24. КуделинА.Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983.
25. Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков.
М., 1979.
26. Малявин В.В. Послесловие переводчика.—РоулиДж. Принципы китайской
живописи. М., 1989.
27. Низами Гянджеви. Сокровищница тайн. Филологич. пер. с фарси и коммент.
Р.Алиева. Баку, 1983.
28. Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве («Хуайнань-
цзы» — II в. до н.э.). М., 1979.
29. Радхакриигнан С. Индийская философия. Т.1. М., 1956.
30. РоулиДж. Принципы китайской живописи. М., 1989.
31. Сагадеев А В. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского
средневековья (по поводу одной типологической концепции). — Эстетика и
жизнь. Вып.З. М., 1974.
32. Сыркин А.Я. К систематизации некоторых понятий в санскрите. — Семиотика и
восточные языки. М., 1967.
33. Сыркин А.Я. Некоторые проблемы изучения упанишад. М., 1971.
34. Упанишады. Пер. с санскрита, предисл. и коммент. А.Я.Сыркина. М., 1967.
ЗЗ.Шанкара. Атмабодха (Постижение Атмана). Перевод и комментарии
А.Я.Сыркина. — Антология мировой философии в четырех томах. Том 1.
Философия древности и средневековья. Часть 1. М., 1969.
36. Шукуров Р. Азиз ад-дин Насафи и его трактат «Зубдат ал-хакаик». — Суфизм в
контексте мусульманской культуры. М., 1989.
37. ЭранВ.Г. Очерк ведийской литературы. М., 1980.
38. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. Изд.2-е. М., 1987. {
39. Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984.
40. Attas S.M.N.al-. Concluding Postscript to the Origin of the Malay Sha'ir. Kuala
Lumpur, 1971.
41. Attas S.M.N. al~. The Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur, 1970.
42. Asrar al-insan fi ma'rifa al-Ruh wa'1-Rahman. Diedit oleh Tujimah. Djakarta, 1961.
43. BakhtiarL. Sufi Expression of the Mystic Quest. London, 1976.
44. Coomaraswamy A.C. The Part of Art in Indian Life. — The Cultural Heritage of India.
Vol.III. Calcutta, [s.a.].
45. Daka'ik al-Huruf by Abdul Ra'uf of Singkel. Ed. by A.Johns. — Journal of the Royal
Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1955, № 1-2.
46. De S.K. Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetics. Berkeley — Los Angeles, 1963.
47. Doorenbos J. De geschriften van Hamza Pansoeri. Leiden, 1933.
4 130
49
48. Drewes G.W.J.f BrakelLF. The Poems of Hamzah Fansuri. Dordrecht, 1986.
49. Gonda J. The Vision of the Vedic Poets. The Hague, 1963.
50. Hikajat Isma Jatim. Uitg. door P.O. Roorda van Eysinga. Batavia, i 237 (A.H.).
51. Hikajat Rad ja Moeda Sjah Merdan. Weltevreden, 1916.
52. Hikayat Syah Mardan. MS. Leiden, Klinkert № 28.
53. The Illahi-nama of Attar. Transl. by J.A.Boyle. Manchester, 1976.
54. Johns A.H. Malay Sufism as Illustrated in Anonymous Collection of 17th Century
Tracts. — Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Vol.30. Pt.2,1957.
55. La Kavyamimamsa d Rajasekhara. Trad, du Sanscrit par N.Stchupak et L.Renou» Paris,
1946.
56. Kavya-prakasa of Mammata-bhatta. Ed. by S.N.Ghoshal Sastri. Vol.1, Varanasi, 1973.
57. Liu Hsieh. The Literary Mind and Carving of Dragons. A study of Thought and Pattern
in Chinese Literature. Transl. with Introduction by Vincent Yuchung Shin. New York,
1959.
58. Liu J. J. Y. Chinese Theories of Literature. Chicago—London, 1975.
59. Nicholson R. Studies in Islamic Mysticism. Cambridge. 1921.
60. Nieuwenhuijze С.Л.О.van. Samsu'1-Din van Pasai. Bijdrage tot der Sumatraansche
Mystiek. Leiden, 1945.
bl.RonkelPfuS.van. Catalogus der Maieische Handschriften in het Museum van het
Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. — Verhandelingen van het
Bataviaasch Genootschap. 1909, deel57.
62. RonkelPh.S.van. Supplement-Catalogus der Maleische en Minangkabausche
handschriften in de Leidsche Universiteits-Bibliotheek. Leiden, 1921.
63. Saeed Sheikh M. Al-Ghazali. — A History of Muslim Philosophy. Ed. and Introduced
by M.M.Sharif. Vol. 1. Wiesbaden, 1963.
64. Schimmel A. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill, 1975.
65. Schuon F. Understanding Islam. London, 1981.
66. Shabistari S'ad ud-Din Mahmud. Gulshan-i Raz. The Mystic Rose Garden. The
Persian Text with an English Translation by E.H.Whinfield. Lahore, 1978 (reprint).
67. Sha'ir Burong Punggok. Diedit oleh Raja Muhammad Zahid R.I. Kuala Lumpur, 1966.
68. Sja'ir Perang Mengkasar (The Rhymed Chronicle of the Makasar War) by Entji* Amin.
Ed. by C.Skinner. 's-Gravenhage, 1963.
69. Syaikh Baud. Sya'ir Makkah dan Madinah. MS. Leiden. Cod, Or. 12161 - Ophuijzen
39.
70. SyaMrlkanTambra. — Spat С Bioemlezing uit Maleische Geschäften. Breda, 1903.
71. Syams ad-Din as-Samatranl [ Sya'ir Martabat Tujuh]. MS. Jakarta. KBG. Mal.83.
72. Tadj as-Salatin. De Kroon aller Koningen. Uitg. door P.P.Roorda van Eysinga.
Batavia, 1827.
Шариф М. Шукуров
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ
Тема настоящего сборника настолько обширна и многопланова,
что при обращении к конкретному материалу, будь то отдельные
памятники культуры, культурные ареалы или исторические
периоды, она обязывает исследователя к особой процедурной (тер-
минологической и методической) строгости обсуждения. При
ближайшем же взгляде на постановку самой проблемы —
«Эстетика бытия и эстетика текста» — возникают логичные воп-
росы о том, что понимать в каждом конкретном случае под сло-
вами «эстетика», «бытие» и «текст». Соответственно в зависимости
от ответов на эти вопросы могут последовать совершенно раз-
личные суждения о проблеме взаимоотношения между сопостав-
ляемыми понятиями. Вместе с тем можно задать и еще один суще-
ственный вопрос: предполагает ли вынесенная на обсуждение
проблема только позитивное решение, т.е. непременное соот-
ветствие двух сополагаемых величин, или же она оставляет иссле-
дователю возможность усомниться в последнем и предложить
читателю прямо противоположный ответ?
Правомерность задаваемых вопросов становится очевидной при
обращении к культуре средневековья, основывающей свою идео-
логию и художественное сознание на позициях принципиального
уяснения взаимоотношений между Богом и Творением. Сложно-
сть и неоднозначность поставленной проблемы ощутима в преде-
лах одной общественной формации и даже одной культуры. При-
мером тому могут послужить теологические споры в Византии в
период иконоборчества, что не замедлило сказаться и на художе-
ственной практике Византии. В свою очередь, и культура ислама
не составляла однородного целого в том, что касается взгляда на
проблему абсолютной или относительной самостоятельности Бы-
тия, что, несомненно, должно было отразиться и на восприятии
разнообразных форм и значений окружавшей средневекового че-
ловека действительности. Скажем, одно и то же явление природы
© Шариф M. Шукуров, 1995
4-2 130
51
или предмет художественного творчества могли оцениваться
мирянином, философом-перипатетиком и суфием с разных, не
совпадающих позиций. Должны мы быть готовы и к тому, что
очевидное расхождение в понимании кардинальной для средневе-
кового человека проблемы «онтологического знания» может
отразиться и на жизни одного человека. Таковой, например, была
судьба известнейшего не только в исламском регионе, но и в Евро-
пе «философа Бытия» Абу Али ибн Сины (Авиценны), в философ-
ском творчестве которого сочетались рассудочное перипатетиче-
ское знание и духовная доктрина суфийского учения «озарения»
(ширак) .
Проблема восприятия Истины и Бытия как сущности или отра-
жения Истины являлась в средневековье прежде всего вопросом
метода постижения собственно Истины и Бытия в Истине . Ярчай-
шим и классическим примером тому может считаться жизненная
драма Хусайна Мансура Халладжа, провозгласившего Ана-л-Хакк
('Я есмь Истинный') и казненного как еретика. Слова Халладжа
есть оправдание Истины, а последующая поэтическая практика
ислама, солидаризируясь с мучеником, внесла дополнительные ас-
пекты, разрабатывающие образную, метафорическую оценку
онтологического значения слов Халладжа. Поэты, в отличие от
Халладжа, не остановились на теофорном имени Сущности, но
предпочли использовать имена метафорические, поясняющие уже
не столько их отношение к Истине, сколько собственно Бытия к
Истине [30]. Слова Ана-ш-шарк ('Я есмь Восток'), Ана-л-Бахр
('Я есмь Море'), Ана-с-Санам ('Я есмь Идол'), утверждая мысль
Халладжа, в то же время расширяли ее онтологические границы,
дополняя личностную и одномерную позицию Халладжа образной
и многомерной ее интерпретацией. Согласно такой постановке
проблемы, Бог есть все и Его присутствие всеохватывающе, Он и
Идол, и Море, и светоносный Восток, т.е. все Бытие и его всевоз-
можные реалии несут ответственность за вездесущность Всевыш-
него. Но не менее важна и личная ответственность Человека пред
Богом и Творением, о чем в первую очередь свидетельствовали
слова Халладжа. Чувство имманентного осмысления Истины ока-
залось противопоставленным убеждению в Ее трансцендентных
основаниях, и соответственно методу экстатического «видения»,
очевидно, противостояло догматическое знание . Именно «виде-
ние» становится для Халладжа основоположением для его мно-
гочисленных умозаключений и разъяснений. Всевышний, любовь
и тасаввуф постигаются только посредством «зрения», которое до-
ступно далеко не каждому .
Средневековый человек постигает Бытие разумением, истина и
красота для него не просто эстетическая данность, но в первую
очередь категория сознания. Такое рассуждение справедливо и
52'"
универсально для всего средневекового мира. Но вместе с тем
истинно и обратное: именно «видение» и степень «зоркости» чело-
века создают тот запас прочности, на основе которого складывает-
ся последующее разумение. Степень проницательности (бинаи)
человека и его возможность понимания предшествует осве-
домленности (шинасаи) и интерпретации [17, с.107]. Слово бинаи
буквально означает 'умозрение', т.е. абстрактное проникновение
в суть «вещи», предполагающее наличие особого, обостренного
чувства видения и предвидения того, с чем человек должен столк-
нуться в будущем. Само же знакомство (шинасаи), непосредст-
венная осведомленность о «вещи» есть следующий, второй этап
проникновения в ее суть — собственно интепретация «вещи».
Итак, проблема Истины и Бытия может быть осмыслена толь-
ко в процессе понимания и последующей интерпретации.
При этом существенно заметить, что интерпретация того или ино-
го явления Бытия полностью зависит от предваряющих собственно
интерпретацию условий понимания этого Бытия . Сам факт
понимания предусматривает не только владение соответству-
ющими приемами освоения предлежащего или внутриположенно-
го явления Бытия, но в первую очередь зависит от правил вхож-
дения в это Бытие. Вопрос о том, что такое Бытие и каковы пред-
варительные условия его понимания, не был праздным в сред-
невековье, но этот же вопрос остается весьма актуальным и сейчас
в глазах современного исследователя. Проблема Бытия, по словам
М.М.Бахтина, может входить в духовный «кругозор» человека,
может оставаться отчетливо осознаваемой его контекстуальным
«окружением», но в любом случае позиции человека прошлых
культур и современного исследователя предельно сходны в одном:
и тому, и другому требуется наличие некоторого предварительного
условия, позволяющего ему приступить к собственно пониманию.
Причем само это условие должно быть настолько адекватным и
непротиворечивым Бытию, чтобы процесс вхождения в Бытие не
смог обратиться в подобие криминального проникновения в запер-
тое хозяевами помещение. Согласно легенде, одно из таких ус-
ловий вхождения в Бытие было преподано Ибн Сине известным
суфийским шейхом Абу Саидом Абу-л-Хайром.
Во время их знаменитой трехдневной беседы, происходившей в
бане, Абу Сайд спросил у Абу Али, правда ли, что все тяжелые те-
ла устремлены к центру земли. Абу Али подтвердил это. Тогда
Абу Сайд подбросил в воздух тяжелую металлическую вазу, кото-
рая вопреки физическому закону тяготения зависла в воздухе. Абу
Сайд осведомился у Абу Али о причине этого явления. Абу Али
ответил, что, согласно природному движению, ваза должна была
упасть, но существенное усилие препятствует действию этого
движения. Когда же Абу Сайд поинтересовался природой силы,
4-3 130
53
препятствующей падению вазы, то Абу Али ответил, что это —
его душа. Абу Сайд посоветовал Абу Али очистить свою душу, да-
бы он смог проделать то же самое [24, с.194 ].
Естественно, рекомендация Абу Сайда не носит абсолютного
характера и даже не разрешает известной научной проблемы о
том, как интерпретировать явления художественного творчества: с
позиций постороннего исследователю сознания средневекового че-
ловека или же при полном доверии методам рационально-научно-
го знания задавать прошлому свои собственные вопросы . Ответ
Абу Сайда свидетельствует о другом: понимание какого-либо
явления в Бытии и Бытия в этом явлении настоятельно требует
соблюдения некоторого условия, которое и позволит интерпрета-
тору задавать корректные вопросы, способствующие возникно-
вению понимания и диалога.
Таким образом, прежде чем говорить о Бытии в его онтологиче-
ском значении, а тем более ставить вопрос об интерпретации
Бытия в художественном творчестве, мы должны уяснить себе по
крайней мере два существенных аспекта проблемы: что такое
Бытие и каковы условия вхождения в него.
Тот же Абу Али ибн Сина на вопрос о том, что такое Бытие
(вуджуд) ответил: «Вещь, исполненная значения, и потому она
реальна (бытийственна), поскольку условием [существования]
значения является Бытие как в скрытом, так и в явном» [9, с.31 ].
Данная философом дефиниция интересна нам тем, что она опре-
деляет Бытие как первичную и абсолютную ценность, наделяе-
мую в процессе творческого акта различными характеристиками
(значениями). В число таких характеристик, или значений,
Бытия в первую очередь входят божественные Имена, отража-
ющие божественную сущность, т.е. проявления Истинного (зухур-
и Хакк), а также те проявления Бытия, которые представляют его
экзистенциальную природу в творческой деятельности поэтов,
архитекторов, художников, ремесленников. Истинная ценность
Бытия осознаваема в двух взаимодополнительных и взаимосвя-
занных аспектах: в его изначальной о-существленности и извеч-
ной о-существляемости. С такой точки зрения о-существляемость
Бытия является полновесным творческим актом оправдания
о-существленного Бытия. Осуществить Бытие невозможно без
соблюдения некоторых условий, характеризующих сущность
Бытия как такового. Но что такое Бытие как таковое? Авторитет-
ное пояснение, думается, окажется исчерпывающим: «Бытие как
таковое, т.е. истинность Бытия и существования пребывает вне
бытия внешнего и мыслимого. То есть оно шире бытия мыслимого
и внешнего» [3, с.111 ]. Другими словами, Бытие осуществленное
и бытие осуществляемое являются различными модусами одного и
того же понятия — Бытия как такового.
54
Творческое оправдание осуществленного Бытия означает
прежде всего поиски и нахождение хайдеггеровского «просвета
Бытия», т.е. того значения Бытия, которое сможет «осветить» сущ-
ность, смысл и формы Бытия в их истинном и непротиворечивом
свете. Поэтому творческое оправдание Бытия не может быть
отражением Бытия, но в первую очередь собственно Бытием в его
разворачиваемом, артикулируемом состоянии. Творческое соз-
нание и плоды его деятельности или о-существляемость Бытия не
есть отражение, но сопоставление, аналогия и актуализация
потенциальных возможностей уже о-существленного в предвеч-
ности. Об этом, в частности, свидетельствует предвечный договор
Бога с будущим Творением: «Аласту би Раббикум? Бала, ша-
хидна» ('Не Я ли Господь ваш? Да, мы свидетельствуем это') (Ко-
ран, 7:171). Но этот же договор есть и важнейшее и основное ус-
ловие существования и значения Бытия как такового, являющего-
ся по своей природе вечно длящимся предвечным диалогом,
условием понимания и своеобразным входом в Бытие и его
же оправданием в глазах вечности. А потому только п о-
н и м а н и е есть глубочайший и безальтернативный процесс в его
истинном, метафизическом значении, ибо только понимание
и взаимопонимание, будучи важнейшим условием предвечного
договора, определяет раз и навсегда онтологическую позицию Че-
ловека, его беспрекословное, безграничное и вневременное прия-
тие божественных Истин. Творческое сознание на этом пути реф-
лексивного осмысления собственной диалогической природы вы-
нуждено продолжить предвечный диалог в бесконечной и
сменяющей друг друга череде интерпретаций (тафсир, met вил,
тадрис, шарх). Целеполагание Бытия и творческого сознания
видится культурой в возвращении ко «дню аласта» (руз-и аласт),
полному оправданию своего существования и осуществлен-
ное™7. И это же обстоятельство поясняет нам, почему нельзя
понять поэзию мусульман (например, Джалаладдина Руми и
Хафиза) без знания Корана. Поэзия требует предварительного
понимания, внетекстовой и субстанциальной подготовки для
полноправного суждения о предлагаемой ею интерпретации боже-
ственных Речений. Истинным процессом остается только
понимание, предваряющее и укрепляющее культуру во мно-
жестве появляющихся, а порою и опровергающих друг друга
интерпретациях. Интерпретация может быть частной и недолго-
вечной, вечным пребывает понимание.
Вместе с тем истинное понимание есть и залог Спасения, т.е.
полное и окончательное оправдание своего существования пред
Ликом Сущности — истинного Бытия Человека. В силу этого
обстоятельства истинное понимание всеща остается неизреченной
(или неизрекаемой) тайной во имя самого же Спасения. Путь к
4-4 130
55
Спасению всегда чреват тайной; в этом состоит одно из условий
его осуществления. Вот что пишет в этой связи Хафиз:
Бапир-и майкада гуфтам, ки чист рах-и наджад,
Бехаст джам-и май у гуфт раз пуишдан.
* Спросил я у старца из питейного дома (метафора Абсолютного
Бытия. — Ш.Ш.): "Как достичь Спасения?",
Возжелал он чашу вина и сказал: "Сокрыть тайну"'.
Понимание, в отличие от интерпретации, есть не восстанов-
ление того или иного текста в его истинном смысле (т.е.
фактически попытка разоблачения тайны), но принципиальный
процесс возвращения смысла текста к его истокам (т.е. утверж-
дение тайны). Наиболее приближен к такому пониманию эзо-
терический метод символической экзегезы мусульман (ис-
маилитов, суфиев) — mdeiuu А. Корбен поясняет, что «любой
осуществленный та'вил, каждый внутренне реализованный
символ есть уже малое Воскресение (кийамат)» . Понимание по
своей сути универсально и космично, ибо объектом его внимания
становится не просто конкретная реальность, рассматриваемая
как «текст», требующий своего прочтения, но сверхреальность,
сам Космос, также прочитываемый как «текст»: «Если та'вил за-
ключается в обращении, в возврате к истоку, в этом смысле весь
космический процесс заключается в единой экзегезе, в экзегезе
космического "текста"» [23, с.67 ]. На этом пути понимание совер-
шает двуединое движение, одновременно восходя и углубляясь в
тайну своих истоков: «Операция та'вил понимается как некое вос-
хождение, которое в то же время является и нисхождением в
"глубины"; вот почему экстатическое восхождение Пророка, ночь
Мираджа является прототипом высшего мистического опыта как
восхождение в крайние "глубины"» [23, с.225-226 ].
Понимание традиционной проблемы «текста» следует отличать
от современных попыток «текстуализировать» сознание древних,
придающих «тексту» справедливую, но чересчур заостренную ма-
неру семиологического прочтения. Слово в своей вербальной или
графической форме было в средневековье не просто знаком, но
знамением, и в этом смысле оно не может быть до конца исчерпа-
но. Проблема текста в культуре ислама основополагается на
различии между Словом (калам) и Книгой (китаб).
Слово как таковое является основой и истоком всего сущего.
Поэтому, если говорят Хува аз-Захир ва-л-Мазхар (Юн — Явный
и Явленный'), поясняя, что 'Он Явный и Явленный в целокупном
Бытии' (ал-вуджуд вахид), то становится понятным и следующее
утверждение: 'Слово — то, что возникает между Явным и Явлен-
ным'.
Проблема понимания Слова может быть сведена к трем
взаимосвязанным аспектам. Во-первых, «текстуализация» Слова
56
и процесс эманации Книги (матери Книг) соответствует букваль-
ному оплотнению Бытия божественными Речениями, зна-
мениями и образами. Памятники культовой архитектуры, при-
кладного искусства, сам факт распространения книги — все это
демонстрирует феномен текстуального оплотнения Бытия ислама
весьма наглядно.
Во-вторых, сам процесс «текстуализации» Слова по существу
своему является актом логодицеи. Текст в его различных
проявлениях призван послужить онтологическим оправданием
Слову, оправдать своей о-существленностью до-онтологическое
существование Слова и Именем явным (Захир) манифестировать
Имя скрытое (Батин).
И наконец, в-третьих, Слово и текст в его различных прояв-
лениях вводят верующего в Бытие ислама и, более того, ведут пра-
воверного по Пути Ислама, знаменуя «победу явную» (фатх му-
байн)\ которая должна привести к «победе абсолютной» (фатх
мутлак).
Онтологическое оправдание Бытия, его понимание и
интерпретация пред светом Бытия и Бытия пред мраком доонто-
логической Сущности довбрено наставникам, тем, кто своей дея-
тельностью призван всемерно укреплять, проговаривать,
прописывать и отстраивать смысл, букву, облик и здание Бытия.
Оправданию культуры всегда сопутствует убежденность в ее онто-
логической правоте и манифестируемая надежда в ее телеологиче-
ской свершенности. Любая «вещь» и Бытие как «вещь» должны
найти оправдание, обнаружить свою соприродность и осуществ-
ленность в «вещности» Бога и мироздания. Истинное Бытие есть
Правда (хакикат) par excellence, а ее оправдание и дословно «о-
существление» является уделом мухаккика — того, кто «ищет и
учит правде, мудреца, философа». В оправдание самой себя, а сле-
довательно, Бытия, Человека и Бога культура зачастую прого-
варивает то, что требует настоятельного прояснения во имя сохра-
нения самой культуры и более глубокого уяснения принципиаль-
ных теологических и онтологических проблем. Именно такая
ситуация сложилась в иконоборческой Византии и именно об этом
говорит виднейший теоретик иконы св.Иоанн Дамаскин: «Не ца-
рям Христос дал власть связывать и разрешать, но апостолам и их
преемникам, и пастырям, и учителям» [7, с.83 ] .
Аналогичная проблема стояла и перед культурой ислама.
Религию ислама оправдывают и укрепляют только Разум и интел-
лектуальное Знание, о чем свидетельствуют хадисы: «Аввалу ма
халака Аллаху ал-Акла» ('Первое, что сотворил Бог, — Разум'),
«Ад-дин хува ал-Акл» ('Религия есть собственно Разум'), «Ва ла
дин ли-ман ла Акл лоху» ('И нет религии у того, кто не владеет
Разумом'). Можно поэтому понять, почему вся интеллектуальная,
57
художественная и ремесленная деятельность находилась в руках
суфийских шейхов-наставников, обладающих не просто преиму-
щественным правом декларации и репрезентации истинного
Знания, но и через посредство этого Знания возможностью
артикулировать Бытие, придавать ему надлежащий смысл и фор-
му. Каждый из них был мухаккиком, т.е. тем, кто призван о-су-
ществить и направить усилия муридов по о-существлению Истины
(хакикат). Но это же обстоятельство свидетельствует и еще об
одном: собственно посредством художественного творчества (лите-
ратура, архитектура, изобразительное искусство) претворяется
связь между нормами осуществленного Бытия и Бытия осуществ-
ляемого или — иначе — между эзотеризмом и экзотеризмом .
Эзотерическое знание не разлито по телу культуры, напротив,
своим монолитным присутствием составляя ядро культуры,^оно
уравновешивает догму, переводя свой тайный язык (например,
«птичий язык» суфиев) на образный язык культуры с помощью
словесности, искусств и архитектуры. И именно эзотерическое
знание, будучи посредником между двумя ипостасями Бытия, вы-
рабатывает наиболее отчетливые формы входа в Бытие, а по суще-
ству — ритуалы инициации. Посредством художественного твор-
чества культура стремится найти и обнаруживает тот единствен-
ный «просвет Бытия», регламентированный вход в который
окончательно связывает Бытие в его осуществленном и осуществ-
ляемом аспектах. Процесс поисков й нахождения Бытия в эзо-
теризме ислама является, разумеется, поэтапным, но, что доста-
точно интересно для нас, на уровне языковых дефиниций ему
свойственно определенное единообразие, отраженное в разных
однокоренных грамматических формах.
Русскому слову Бытие в арабском языке, а следовательно, и во
всей культуре ислама и суфийской теории познания соответствует
слово вуджуд. Обращение к этому слову вызвано в нашем случае
не только его номинативной функцией, обозначающей определен-
ное понятие, распространенное и доступное адекватному вос-
приятию на самых разных уровнях культуры ислама. Значительно
более интересной и поучительной для темы данной статьи являет-
ся проблема «внутренней формы» языка, вырабатываемая в не-
драх традиции гумбольдтовская «синтетичность» грамматических,
фонологических и семантических признаков, формирующих как
собственно слово-понятие, так и создающих вполне определенный
грамматическо-понятийный контекст культуры. Особенное вни-
мание к этой проблеме в современной герменевтической культуро-
логии (см. работы П.Рикера, а в отечественной науке — работы
В.Топорова) не должно затенить актуальности аналогичной
попытки создания грамматическо-семантического обоснования за-
кономерностей мироздания и в средневековье. В арабо-персидской
58
культуре, например, отчетливо усматривается тенденция связать
«значение» и законы возникновения мироздания с грам-
матическими правилами словообразования в арабском языке, с
одной стороны, и очевидное сопряжение ключевых для культуры
слов-понятий с вырабатываемыми нормами изобразительной и
архитектурной практики — с другой (см. об этом [17; 18 ]),
Метафорическая ценность слова отчетливо осознавалась в
изобразительной и архитектурной практике мира ислама, равно
поясняя и углубляя как семантическую перспективу слова-
понятия, так и смысловые глубины художественно выделанной
«вещи». Бытие слова-понятия и бытие художественно выделанной
«вещи» смыкаются, переходят одно в другое, поясняют друг друга,
составляя вместе своеобразное языково-архитектурно-изобрази-
тельное пространство собственно Бытия (о проблеме языково-
архитектурного пространства см. [17; 18 ]). Отсюда — понимание
и интерпретация художественной «вещи» во многом (если не пол-
ностью) зависят от внутренней формы соответствующего ей слова-
понятия, а обращение к проблеме бытия «вещей» во многом прояс-
няется при обращении к понятию «вуджуд».
Арабское слово вуджуд (Бытие) происходит от корня вджд со
значениями 'искать', 'отыскивать', 'ощущать', 'чувствовать'.
Этимологическое зерно корня ваджада, представляющее ярко вы-
раженную диахронно-синхроническую модель для дальнейших
возможностей словообразования, предопределило семантическую
мотивацию разворачиваемых в традиции однокоренных слов-
понятий. Глагол ваджада создает грамматически-понятийный пре-
цедент, семантическая ценность которого мотивирует его дальней-
шее развитие в двух взаимодополнительных плоскостях: дина-
мическом процессе «поисков» и статическом состоянии едино-
временного «чувства», «ощущения», «экстатического состояния».
Именно эти семантические мотивировки и грамматические
правила словообразования легли в основу разрабатываемой в
культуре ислама суфийской концепции поисков и нахождения
Бытия.
Понятие «Бытие» (вуджуд) в контексте грамматической и се-
мантической структуры арабского языка и суфийской термино-
логии означает итог поисков и завершение, реализацию предшест-
вующего экстатического состояния мистика (см. об этом [25,
с. 182]). Поэтому, прежде чем судить о Бытии, его необходимо
обнаружить, найти возможность входа в него, буквально «про-
чувствовать» его и в нем же окончательно укрепить свои чувства.
Для этого суфий должен оказаться в состоянии ваджд, т.е. в состо-
янии «поисков» и «экстаза» . В некоторых случаях устойчивому
состоянию ваджд предшествует дополнительное состояние тавад-
жуду о котором шах Не'матулла Вали сказал так: «Таваджуд озна-
59
чает поиски вадж&а» (см. [25, сЛ86], а также см. [30, с.179]>.
Связь же между состоянием ваджд и понятием вуджуд поясняется
им следующим образом: «Сначала ваджд является ярко горящим
огнем, а в конце следует превращение ваджд в вуджуд (Бытие, или
реализованный экстаз)» [25, с.181 ].
Хорошим примером сказанному служит концепция вахдат ал-
вуджуд, разработанная Ибн ал-Араби. На европейские языки зна-
менитую идиому несколько некорректно переводят как 'единство,
целокупность Бытия' (oneness, unity of being, existence), забывая
о том, что понятие «Бытие» {вуджуд) сопряжено в большей мере с
динамическим аспектом поисков Бытия, перманентным чувством
его восприятия и созерцания. Ведь целью и итогом поисков явля-
ется Всевышний, а Бытие на этом пути есть объект пред-вос-
хищения, входа и непрекращающегося созерцания. Вот почему
справедливо переводить выражение вахдат ал-вуджуд как 'цело-
купность Бытия/Созерцания' [21, с,46]. Именно в этом смысле
можно говорить о взаимозаменяемости таких понятий, как вахдат
ал-вуджуд и вахдат аш-шухуд ('единство созерцания'). Все, с чем
сталкивается человек, является результатом его поисков, собст-
венно входа и нахождения, и, что интересно для нас, не может не
касаться теории эстетического созерцания. Любая художественно
выделанная «вещь», будучи интегральной частью Бытия, нос-
тальгически предвкушает в своей созерцательной данности само
Бытие. С этой точки зрения истинное созерцание есть бесконеч-
ный процесс и состояние предвкушения Бытия пред светом Сущ-
ности, что равнозначно другой концепции — оправданию, тео-
дицеи.
Итак, Бытие как с грамматической, так и с понятийной точек
зрения, есть итог поисков. Бытие, как отметил Абу Али ибн Сина,
есть «вещь», но, добавим, «вещь», отвечающая на вопрос «откуда
это?». Задав же вопрос, обращенный к «вещи», «что это?», мы
рискуем не получить достаточно вразумительный ответ.
Здесь необходимо задержаться и пояснить некоторые аспекты
взаимоотношения между понятиями «Бытие» и «вещь». Насир
Хосров, высокопосвященный исмаилит и известный поэт, писал:
«Если спросят, что такое Бытие (вуджуд), ответим: "То, имя чему
есть Существование (хает)"» [23, с.87 ]. Для того чтобы полно-
стью оценить дефиницию Насира Хосрова, следует помнить, что
персидские слова хает и хасти (Бытие) являются эквивалентами
арабского слова вуджуд. В авторитетных персидских словарях сло-
во хасти практически совпадает по значению со словом вуджуд.
Но вместе с тем понятие хасти содержит и очевидный оттенок,
указывающий на необходимость его интериоризации по срав-
нению со словом вуджуд . Если понятие хасти есть «указание на
чистую Сущность»* то понятие «вещь» является ограниченным и
60
доступным простому восприятию. Поэтому Насир Хосров, давая
определение «вещи», пишет: «Если спросят, в чем истинность
вещи, т.е. к чему относится имя вещи, ответим: "Имя вещи
относится к тому смыслу, который доступен разумению, и воз-
можно сообщить о нем"» [23, с.88 ] . Таким образом, если Бытие
безгранично в восприятии и является итогом абстрактного и беско-
нечного процесса понимания, то «вещь» в силу ее качествен-
ных особенностей (материальности, формы, числа, пространства и
времени) подлежит нашему ограниченному разумению, а с этой
точки зрения истинно реально только Бытие, но не «вещь». Поэто-
му, отмечает Ф.Шуон, Бытию противолежит не некая абстракция
«небытия», но ограниченность «вещей» и их несовершенство (о
взаимоотношении Бытия и «вещи» см. подробно [33, с Л10-125]).
Однако нельзя забывать и того, что ограниченная и несовершен-
ная «вещь» тем не менее является необходимым компонентом без-
граничного Бытия, более того, именно «вещь» наделяется художе-
ственным сознанием различных традиций, определенными каче-
ствами (символическими, метафорическими), позволяющими
видеть в них такую степень «вещности» и «бытийственности», ко-
торые относят ее к самым высоким сферам мироздания. С этой
точки зрения «вещь» и «вещность» суть понятия универсальные и
метафизические, ибо «вещью» может быть, как говорил Ибн Сина,
и Бытие, а в некоторых случаях и сам Бог. «Вещь» укоренена в
Бытии и в Боге, в этом ее онтологическое преимущество и именно
поэтому «вещь» в своей богооткровенной сущности достойна пред-
стать вышним указанием — божественным знамением и рукот-
ворным символом. По этой причине художественно выделанная
«вещь» призвана явиться оправданием, как себя самой, в своей
ограниченности и несовершенстве, так и в целом интерп-
ретируемого ею Бытия. Вот почему пространство «вещи» устрем-
лено к бесконечности, время — к вечности, форма — к совершен-
ству, число — к тотальности, материя — к неизменности [33,
с.119].
Согласно риторическим правилам арабской грамматики,
юриспруденции, теории стихосложения и теории искусства,
понимание «вещей» в их бытийственности подчинено непре-
ложному генетическому закону, формулируемому как асл — фар*
('основа — ответвление'). Джалаладдином Руми приводится рас-
сказ о том, как шах, не зная языка, на котором ему прочитали
стихотворение, тем не менее понял его смысл [12, с.22-23 ].
Стихотворение оказалось недоступным его грамматическому и
лексическому истолкованию, т.е. собственно интерпретации, но
вполне доступным абстрактному пониманию, ибо шах знал
универсальный закон формирования и постижения Бытия в лю-
бых его значениях и проявлениях. Понимание Бытия рождается в
61
его же поисках, в движении к пониманию той истины (хакикат),
которая, являясь основой (асл) Бытия, в конечном счете оказыва-
ется и истинным Бытием. Риторический закон культуры ислама
основывал и соответствующую герменевтическую процедуру
понимания. Воспринимаемое человеком Бытие не подлежит рас-
членению, но только пониманию в процессе смысловой акту-
ализации его потенциального ядра.
Так, например, обстоит дело с пониманием и интерпретацией
хадисов — корпуса откровений Пророка, основная цель которых
состоит в оправдании онтологических, этических и космо-
логических представлений ислама. Противоречивость некоторых
хадисов на самом деле кажущаяся, мнимая, ибо при определенном
и правильном взгляде на них оказывается, что смысл и, так ска-
зать, внутренняя форма противоречащих друг другу высказы-
ваний Пророка принципиально сходны. Шейх Азизаддин Насафи
приводит в пример три хадиса: «Первое, что сотворил Бог — Ра-
зум», «Первое, что сотворил Бог — Дух» и «Первое, что сотворил
Бог — Перо». Указывая на их внешнее различие и видимую
противоречивость, Азизаддин Насафи подчеркивает, что в основе
всех этих и подобных им хадисов лежит одна-единственная «сущ-
ность» (джаухар). А поскольку Первосущность (джаухар-и аввал)
Премудра, то названа Она Разумом (акл); поскольку Она Живая в
своей Сущности и Воскрешающая в своей Вечности, то названа
Она Духом (рух); поскольку Она Начертатель всех знаний и ве-
щей на Скрижали Бытия, названа Она Пером (калам). За этим
пояснением следует вывод Насафи, дающий основания для более
широких умозаключений о методе толкования: «Всякий, кто воз-
намерится идти от слова (лафз) к смыслу (ма'ни) и истину вещей
искать в словах, никогда не достигнет смысла и истину не
постигнет ни в одной вещи.., но всякий, кто пройдет от смысла к
слову, слово окажется средством руководства на пути к истине и
приближения [к цели ]» [9, с.48-49 ].
Слово и любая другая творчески осознаваемая форма не может
быть просто знаком своего концепта, в этом случае все они лиша-
ются необходимого и полновесного онтологического статуса «ве-
щей», предусматривающего непременное присутствие процесса в
динамике своего самораскрытия и сохранения тайны и таинства
смысла и рождения «вещи» . Более того, знак и форма, как это
продемонстрировал Насафи, способны ввести в заблуждение о
природе «вещей».
Знак и «вещь» в сознании средневекового человека далеко не
равнозначны, знак конечен и исчерпывающ, «вещь» же устремле-
на в бесконечность и неисчерпаемость своего потаенного смысла.
Особенно явственно это различие усматривается в рекоменда-
циях апофатической теологии, влияние которой легко обна-
62
руживается в поэзии, изобразительном искусстве и архитектуре
ислама. В миниатюрных изображениях существующая вместо изо-
бразительного знака пустота тем не менее значима, ибо она явля-
ется свидетельством незримого присутствия «вещи». Изображения
пророка Мухаммада, т.е. знаки его присутствия, могут отсутство-
вать, но Мухаммад как «вещь» реален и в своей «без-знаковости»
(би-нишани). Важным признаком «вещи» (в отличие от ее знака-
формы) является ее бесконечность во времени и пространстве:
«...ни у одной вещи с точки зрения Бытия нет начала, и ни у одной
вещи с точки зрения Небытия нет конца; то есть вещи приходят и
уходят и освобождаются от сопутствующей им формы, приобретая
другую форму. Некоторые же вещи не приходят и не уходят и от
сопутствующей им формы не освобождаются» [10, с.263 ].
Однако в процессе творческого освоения Бытия как «вещи» и
«вещи» в ее бытийственности, очевидно, недостаточно знания под-
разумеваемого смысла, ведь смысл должен быть надлежащим
образом оформлен, а форма правильно истолкована и введена в со-
ответствии со смыслом. Очевидно и то, что «вещь» как таковая не
может стать произведением искусства, поскольку творчество вы-
являет себя только в форме, и художественно выделанная «вещь»,
основываясь на смысле, на органически присущей ей «внутренней
форме» (сурат-и зат), с необходимостью должна манифести-
ровать и свою «внешнюю форму» (сурат-и ваджх). Подобно тому
как в поисках Бытия (вуджуд) человек обязан оказаться в состо-
янии этих поисков (ваджд), «внешняя форма» вещей есть начало
обнаружения их смысла, их «внутренней формы», и она же
служит руководством для правильной интерпретации заранее уга-
данного Первосмысла. Другими словами, художественный образ,
выражен ли он в слове, архитектурной или изобразительной фор-
ме, способствует возникновению чувства пред-восхищения и пред-
вкушения реальных очертаний потенциального Бытия «вещи», не
окончательного уразумения смысла и «внутренней формы», а
предварительного под-разумевания и пред-видения потенциаль-
ного образа задолго до его конечного самораскрытия. Поэтому
речь должна вестись не о законченном отождествлении двух
явлений (знака-формы и его концепта), но об образной (мета-
форической, символической) и менее уловимой, но тем более
реальной связи между двумя явлениями . Ограниченность и ко-
нечность знака-формы преодолевается уверенностью в бесконеч-
ности «вещи», в буквальном пред-вкушении заповедного смысла.
В культуре ислама экстатическому состоянию ваджд соответствует
еще одно понятие — зауку т.е. предвкушение и наслаждение обре-
таемым смыслом пред-стоящей «вещи» . А этой «вещью» может
оказаться и стихотворение, и музыкальное произведение, и изоб-
разительная или архитектурная форма. При этом экстатическое и
63
предварительное предвкушение «вещи» отчетливо противопостав-
ляется ее рациональному постижению (в нашем случае
семиозису):
'Аишкан-и хастадил ра дар даруна завкха,
'Акилан-и тираджан ра дар дарун ангараха.
*У печальных влюбленных в сердцах предвкушения,
У темносердечных мудрецов внутри расчеты'
Шамси Табрези [15, т.1, с.429].
Чувство предвкушения «вещи», или, иначе, онтологизация ее
природных и выявляемых качеств в сравнении с идеальными пред-
ставлениями о прекрасном и этически должном по своей глубочай-
шей сути есть ощущение ностальгии и припоминания некогда ут-
раченных ценностей, чувство вновь обретаемых истоков и запо-
ведного Дома Бытия. Возвращение к «дню аласта», к дню
предвечного и сакрального для любого мусульманина диалога с
Богом регламентировало и отношение к самой «вещи». «Вещь»
должна быть надлежащим образом убрана, введена в соответствие
с самой собой, а в выделываемой форме должно осуществиться
прежде, до времени осуществленное в «вещи», иначе говоря, фор-
ма (сурапг) должна предвкусить идеальное состояние «вещи». С
этой точки зрения, с точки зрения предвидения и устремления
творческого сознания к бесконечности «вещи», любая форма есть
текст, но текст космический, доступный пониманию и дале-
ко не всегда логическому прочтению и толкованию .
При соприкосновении с мусульманской поэзией, изобразитель-
ным и прикладным искусством, а также архитектурой следует
помнить о том, что их «украшенность» и метафоричность, своеоб-
разная избыточность орнаментальных мотивов и поэтических
фигур призвана не столько украсить форму, но в первую очередь
онтологизировать ее, придать поэтической речи или рукотворной
форме глубинную и — самое главное — новую, еще непознанную
осмысленность .
Вот один из примеров тому.
Одной из наиболее примечательных и запоминающихся черт
архитектуры мечети является покрытие ее внутри и снаружи
бесчисленным количеством арабских надписей. В каждом отдель-
ном случае любая надпись — айят из Корана или изречение Про-
рока — доступна прочтению, но часто прочтению символическо-
му, не предполагающему предварительного вчитывания в бук-;
вальный смысл нанесенной надписи. Этому могут препятствовать ^
и усложненные формы надписи (например, лабиринтообразный j
куфи), и начертания, недосягаемые для глаз наблюдателя или не
поддающиеся прочтению. Существуют примеры, когда надписи
намеренно перевернуты, т.е. могут быть прочтены только сверху,
или, другими словами, они заведомо не рассчитаны на обычную
64
коммуникативную функцию. И все же надпись есть надпись, а
посему она должна содержать некую информацию, непременно
послужить наблюдателю сообщением независимо от сложности
начертания или места своего расположения. В надписи надлежит
понять нечто большее, чем то, что она есть, верующий обязан
твердо знать о цели этих начертаний, а затем догадаться, предв-
кусить истинный смысл (асл), истоки сакральных по смыслу и
форме начертаний, передающих вышние Речения. Графический
стиль мышления мусульман полностью располагает к этому, осно-
вывая свою универсальность и всепроникновенность на вере в мо-
гущество изреченного, начертанного и графически воспроизведен-
ного Слова .
Графический стиль мышления мусульман является основой
умозрения культуры. Ведь сам Бог в суре «Калам» приносит клят-
ву пером: «Нун, клянусь каламом и тем, что пишут» (68:1) . Бук-
ва «нун» в данном случае, как полагают, обозначает чернильницу
или чернила . Более того, исторически чтение Корана открывает-
ся сурой «Сгусток» и призывом «Читай!», именно с этого слова, с
этой суры, согласно традиции, начинал свою службу пророк Му-
хаммад: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил челове-
ка из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил
каламом, научил человека тому, чего он не знал» (96:1-5) [16,
с.41 ]. Калам и вышние письмена стоят у начала мироздания; бо-
жественная клятва Пером и Книгой (43:1, 44:1) есть условие су-
ществования Бытия и Человека; божественный Дар Человеку
основополагает и неминуемый отклик культуры — она с необ-
ходимостью должна быть погружена в письмена, ибо научена
культура ислама Каламом и Книгой.
Божественная клятва Каламом и обучение культуры ислама
письмом хорошо поясняют возникшие расхождения при манифес-
тации божественного Слова в исламе и христианстве. Сравнение с
культурой христианского мира поможет нам с большим осно-
ванием судить об особенностях отношения к Слову в исламе.
Существует апокрифический рассказ о вхождении пророка Му-
хаммада в Каабу, стены которой были украшены росписями
христианских художников. Пророк повелел счистить все изобра-
жения, исключая фигуру Богоматери с младенцем Иисусом,
прикрыв их ладонью. В истории искусства ислама эта легенда свя-
зывается только с проблемой отношения ранних мусульман к
изображению. Но существуют некоторые дополнительные обстоя-
тельства, позволяющие взглянуть на это сообщение несколько
шире, обратившись к символическим функциям центральных пер-
сонажей священной истории христианства и ислама.
С этой точки зрения, согласно христианской и мусульманской
традициям, Богоматерь и Мухаммад, каждый для своей религии,
5 130
65
исполнили одну и ту же функцию хранения и дальнейшего восп-
роизведения божественного Слова. Как в христианской доктрине,
так и в представлениях мусульман Откровение было ниспослано
прежде всего в тела Богоматери и Мухаммада. В первом случае бо-
жественное Слово явилось истоком Непорочного Зачатия и
явления Иисуса, во втором же случае — Слово, низойдя в естество
Мухаммада, воплотилось в слова божественной Книги — Корана.
Мария и Мухаммад, с позиций метакосмической оценки их
функций, буквально породили всю целостность и духовную
интенцию двух культур, послужили культурам истинным родона-
чалием, их материнским лоном. Сказанное влечет за собой еще
одно сравнение, имеющее прямое отношение к отправлению
литургии в христианстве и исламе. Литургическое чтение Корана
как мотив принесения космической жертвы или ответного дара
посредством приятия и выговаривания божественных Слов
сравнимо с таинством христианской Евхаристии. Коран, подобйо
причащению хлебом и вином, которое в христианстве является
образом бесплотной жертвы, наполняет души и тела молящихся.
Но если в таинстве христианского причащения приобщение к есте-
ству Христову символизируется хлебом и вином, то у мусульман
связь абсолютно непосредственна: они наполняют себя Словом и
Словами Откровения на языке Откровения. Непосредственность
вкушения и последующего выговаривания Слова в исламе связана
с пророческой миссией Мухаммада, идентичной роли Иисуса в
христианской традиции. Хотя Мухаммад в отличие от Иисуса не
был Откровением, он, *ак и Иисус, был призвай поведать миру
Слова Откровения (обсуждение этих проблем см. в [32 ]).
Возвращаясь к самой легенде о входе Мухаммада в Каабу, не-
обходимо заметить, что логика жеста мусульманского Пророка
носила имперсональный, космический характер и диктовалась
вовсе не отношением Мухаммада к проблеме изобразительности,
но значительно более существенными обстоятельствами трансцен-
дентного и имманентного понимания природы пророческой
миссии.
Нас же сейчас интересует другой аспект проблемы, возникаю-
щей в процессе сравнения символических функций литургии в
христианстве и исламе. Метафизически родственный и типо-
логически сходный мотив литургической жертвы у христиан и му-
сульман по-раЗному сказался в его дальнейшей разработке в обеих
традициях.
Мотив вкушения Книги, божественного Слова прочно закреп-
ляется в христианском мышлении. Это подтверждают, например,
слова Иоанна Богослова: «И взял я книжку из руки Ангела и съел
ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то
горько стало во чреве моем». Показательна в контексте тех же са-
66
мых представлений и легенда о Романе Сладкопевце, который
обрел свой божественный дар в ночь на рождество Христово (!),
когда ему во сне явилась Богоматерь и предложила съесть лист
хартии. Мистерия вкушения Слова, последующее пророчество и
сладкоголосие или обретение высокого поэтического дара была
основательно усвоена христианским сознанием. Подобно бесплот-
ной жертве причащения, сакральное Слово буквально впитывает-
ся, вкушается христианами. И только Лик Христа, визуально за-
крепленная ипостась божественного Слова знаменует иносказа-
тельный акт приобщения к космической Реальности, Ее
предвидение в отражении собственно Реальности.
В этом случае уже не приходится удивляться тому, что
поэтическая образность христиан использует чернила и письмо в
соотнесении с кровью и рубцами на теле Христа. Для мусульман-
ского сознания такие сравнения были бы по меньшей мере
удивительными. У того же Романа Сладкопевца кровь Христа —
это пурпурные чернила, а его истерзанное бичами и ранами от
гвоздей тело — письмена на .папирусной хартии [1, с.321 ]. Калам,
чернила и письмена у христиан — атрибуты космического акта, в
этом их символическая роль соответствует представлениям исла-
ма, но включены они в драматическую историю сакрального сю-
жета и, подобно всей культуре христианства, предельно антропо-
морфизируются и персонифицируются. Совсем иначе обстоит дело
в исламе. Все атрибуты письма и Книга деперсонифицированы, их
космическая функция безотносительно автономна, ибо даже Бог
клянется каламом, Книгой и тем, что пишут. Ценность письма аб-
солютна по отнощеник) к Творению, но не в отношении Творца. И
этот факт не может не учитываться культурой ислама при выра-
ботке всевозможных изобразительных форм (включая и антропо-
морфные) (подробнее см. [15 ]). Культуру рождает письмо, письмо
возвышается над культурой, стимулирует ее развитие, являясь
своеобразным входом в Бытие ислама и его же оправданием.
Еще несколько замечаний, касающихся сравнения с культурой
христианского мира, поясняют сказанное.
Символическое соответствие пророческих функций Мухамма-
да роли Богоматери и Иисуса Христа позволяет более отчетливо
представить себе и значение каллиграфических литер в духовной
и художественной жизни мусульман. С одной стороны, божествен-
ное Слово, подобно таинству христианского причащения, дей-
ствительно символически вкушается и, как это произошло с Му-
хаммадом, приобщает верующего к самым основам традиции. С
этой точки зрения мусульманская каллиграфия как графическое
воплощение Слова сродни христианской иконе, каллиграфическая
вязь сакральна уже сама по себе и остается таковой даже не бу-
дучи прочитанной или прочитываемой. Важным и насущным
5-2 130
67
является сам факт ее присутствия. С другой стороны, присутствие
каллиграфических надписей необходимо, поскольку именно Сло-
во — истинное родоначалие Бытия, его исток и, как показывает
исторически сложившаяся художественная традиция ислама, его
же эстетическое оправдание. Арабская графика и графический
стиль мышления мусульман всегда были тем стержнем культуры,
в котором (и исключительно в нем) ислам обрел свое полновесное
оправдание в контексте предвечного диалога и космогонического
акта Творения. Поэтому, подобно тому как божественное Слово
снизошло в тела Богоматери и Мухаммада, арабские сакральные
начертания, будучи «вещью» в себе, предвкушают и порождают в
сознании верующих надежду и уверенность в возвращении к тран-
сцендентным истокам Бытия.
Сравнение христианской иконы и мусульманской каллиграфии
раскрывает и еще один аспект символической визуализации пред-
вечного Слова. Как и икона, арабские начертания, появляющиеся
на зданиях мечетей, медресе, при переписке Корана или на пред-
метах высокого художественного достоинства, должны быть
красивыми. Но если икона семантически выделена и представляет
собой наиболее сакрализованный, духовно напряженный, эти-
чески и эстетически насыщенный пласт христианской культуры,
то арабская графика, напротив, всепроникновенна, она с легко-
стью десакрализуется и, в отличие от иконы, буквально растекает-
ся по всему телу культуры, отмечая своим присутствием самые не-
значительные атрибуты бытия. Сравнение христианства с ярко го-
рящим огнем (comme un feu central), а ислама с падающими
снежинками (comme une nappe de neige) хорошо поясняет суть
проблемы [33, с.16-17 ]. Вместе с тем, с одной стороны, рассредото-
ченность арабской графики в культуре, что, по существу, является
следствием доктринальной и общекультурной установки ислама,
позволяет ей, подобно иконе, сохранять свою неизменную, прису-
щую изначально эстетическую и этическую достоверность, а с
другой стороны, отражение арабских начертаний в «вещи» и на
«вещи» является условием понимания достоверности и красоты са-
мой «вещи». Многие арабские каллиграфические надписи услож-
нены по форме, они трудны для прочтения, но не для
понимания, ибо цель их — манифестация Красоты.
Красота есть не просто мера приобщения «вещи» к ее
объективным истокам, но прежде всего и по преимуществу
символическое отражение субстанциального качества Бытия как
такового и сущности Бога . Вступая на путь эстетической оценки
значимой для сознания средневекового человека «вещи», мы не
можем не отдавать себе отчет в том, что такая оценка подразуме-
вает активизацию трех планов осмысления как «вещи», так и
Бытия, составной частью которого является «вещь». Достаточно
68
условные понятия красота «вещи» и красота Бытия могут оказать-
ся соизмеримыми и обретают свою конкретность при учете трех
важнейших аспектов: онтологического, космологического и этиче-
ского . Этому способствуют два существенных метафизических
закона. Во-первых, истинный облик и качества «вещи» познаются
только в процессе сравнения «мира малого» (*алам-и сагир) с
«миром великим» (*алам-и кабир). Истинно только то, что находит
свое подтверждение в «мире великом» [10, с. 158 ]. Во-вторых, ана-
логия между принципиальным и манифестируемым порядками
Мира обратима, т.е. то, что принципиально «велико» и «скрыто» в
«мире великом», оказывается «малым» и «внешним» в «мире ма-
лом», и наоборот. Ф.Шуон полагает, «что в силу действия такой
обратимой аналогии человеческая красота является внешней, а
доброта внутренней, по крайней мере в обычном смысле этих слов,
в противоположность тому, что существует в принципиальном
порядке, где Доброта есть собственно выражение Красоты» [32,
с.85 ] (о связи понятий «красота» и «добро» см. [1, с.32 ]).
Прекрасный пример тому — аллегорический трактат шейха
Шихабуддина Сухраварди «мунис ал-ушшак». Вот как он
начинается: «Знай, что первой вещью, которую сотворил Все-
вышний Господь, была блистающая жемчужина. И назвал Он ее
Разумом (акл)у ибо "первое, что сотворил Всевышний Господь,
был Разум". И даровал Он той жемчужине три качества: познание
Детины, само-познание и познание того, чего не было, но пребу-
дет. Из того качества, что было отнесено к Всевышней Истине,
явилась Красота (хусн), и назвали ее "добром"» [11, с. 121]. А
потому «те, кто возжелают "добра", пребывают они в поисках
"красоты" и в этом усердствуют, дабы достичь "красоты". А Кра-
соту, к которой устремлены помыслы всех, достичь сложно, ибо
достижение Красоты невозможно без посредства Любви» [13,
с.128].
«Аллаху джамилун ва юхибу-л-джамала» ('Бог Красив и Он
любит красоту') —так формулируется в известном хадисе эс-
тетическая позиция ислама. Красота Бога сущностна и бесконечна
в своем постижении, а посему сотворенное Бытие и любая «вещь»
в их оформленности и устремленности к истоку должны быть
красивыми. Красота Бытия и красота «вещи» есть норма их
бытийственности и «вещности», но она же есть и непременное ус-
ловие их существования. Будучи нормой средневековой культуры,
красота Бытия и красота «вещи» в полной мере являются пробле-
мой теодицеи, оправдывая собой сущностную и скрытую Красоту
Бога. Вместе с тем теодицея есть процесс, процессом является, как
это отметил Шихабуддин Сухраварди, и постижение Красоты. По-
этому Красота Бытия и «вещи», будучи непременным условием их
существования, создает зримые предпосылки, пред-видит свое
5-3 130
69
сущностное Отражение. В этом смысле в свете проблемы теодицеи
красота «вещи» пред-вкушает и пред-определяет будущее состо-
яние «вещи» в процессе ее духовного постижения и оправдания.
С этой точки зрения существование всего комплекса средневе-
кового творчества подлежит оценке в-, свете проблемы теодицеи.
Истина и Бытие в их зримом воплощении, в творческом акте осу-
ществления прежде осуществленного есть онтологическое оправ-
дание истинности и Красоты до-онтологической природы Бытия и
«вещи». «Вещь» должна быть непременно красива, в этом состоит
ее теургический замысел, но это же качество является обязатель-
ным условием теодицеи. Сущностное оправдание Бытия и сокры-
той в нем Истины является основной задачей художественного
творчества в средневековом мире. Мир художественно выделан-
ных форм и риторически произнесенных слов есть средоточие
представлений о том, каковым надлежит быть Бытию, и ясным
указанием на пути достижения истоков Бытия, указанием, кото-
рое является равносильным о-правданию.
ПРИМЕЧАНИЯ
Именно учение «озарения» являлось для Абу Али ибн Сины «истинным», до-
ступным только избранным, в то время как его же перипатетические штудии пред-
назначались для «толпы». Об этом он говорит в дошедшем до нас предисловии к
суфийскому трактату «Мантик ал-машрикийин» [24, с. 186-187].
2
«Проблема Истины является, по существу, проблемой метода; это — проблема
манифестации бытия ради бытия, чье существование состоит в понимании бытия»
[28,с.10].
3
6 описании жизни Мансура Халладжа в «Тазкират ал-Авлийа» («Житиях
Святых») Фаридаддина Аттара понятие «видения» (дидан) отчетливо противостоит
ортодоксальному «знанию», представляемому «сторонниками знания» (ахл-и *илм)
[19,с.141].
Мотив «отверзания очей» как одна из центральных проблем эстетики ислама был
подробно рассмотрен нами в другой работе [17, с.94 и ел.]. Концепция «видения»
интересна для темы данной статьи не просто как теоретическая презумпция
формирования определенного пласта культуры и изобразительного искусства, но и
как особая манера отношения к Бытию как таковому, когда, по словам Баязида
Бастами, Бытие усматривается в Истине [17, с. 141].
4
Ср.: «Спросил у него дервиш: "Что.такое Любовь?". Ответил он: "То, что ты
видишь сегодня, увидишь завтра и увидишь послезавтра. В первый день ее убили, во
второй — сожгли, в третий — развеяли по ветру, то есть Любовь есть именно это**»
[19, с. 142]. «"Что такое тасаввуф,Ъ Халладж? ". Ответил он: "Нижайшее это то, что
ты видишь". Вновь спросил: "Что же тогда высочайшее?". Ответил он: "А к тому путь
тебе закрыт"» [19, с Л 43].
Следует делать различие между Богом как Сущностью или Сверхбытием и
Богом как Творцом или Бытием. Как поясняет Ф.Шуон, Сверхбытие есть абсолют-
ная Необходимость в себе самом, а Бытие есть абсолютная Необходимость по отно-
70
шению к Миру [34, с. 157-158]. В настоящей статье учитывается преимущественно
второй аспект, рассматривающий закономерности творческого процесса в его отно-
шении к Бытию и Творцу. В этом смысле имя Аллах есть имя Сущности (исм-и зат),
а все остальные Имена относятся к именам Качеств Сущности (сифат-и зси?г) [9,
с.38].
Эта проблема постоянно присутствует в философских и искусствоведческих
исследованиях. Ср., например: «я попытался реконструировать ситуацию, в которой
художник нашел самого себя и отстоял свою позицию, обнаружив свои цели и
значения, его действие было рациональным, а потому и порождающим смысл. Но
такого рода интерпретация не должна быть смешана с пониманием. Интерпретация
всегда подразумевает целый ряд допущений, которые могут или не могут быть досто-
верными» [20, с. 137].
Ср.также рассуждения Г.Рида о предваряющем интеллектуальном (intellectus) и
последующем рациональном (ratio) восприятии истины в средние века [27, с. 15].
О различии понимания и интерпретации также: «... понимание является проч-
тением того, чем событие дискурса является по отношению к высказыванию дискур-
са, а объяснение является прочтением того, чем вербальная или текстуальная авто-
номность является по отношению к объективному значению дискурса» [29, с.71 и
ел.].
7
Мы не можем недооценивать необходимости соблюдения некоторых, но,
очевидно, весьма важных, предварительных условий при обращении к Ёытию сред-
невекового человека. В прошлом, как мы увидим ниже, такие условия неукоснитель-
но соблюдались. На уровне же современных исследований особенно заметно пренеб-
режение этим обстоятельством, стремление «подобрать свой ключ» к чужому соз-
нанию, оправдывая исследовательские намерения уверенностью в их методической
непогрешимости. Наиболее существенная ошибка на этом пути состоит в том, что
исследователь исходит из убежденности отражения в художественном творчестве
общих закономерностей Бытия, что влечет за собой незамысловатую экстраполяцию
известных ему ценностей на объект его научного исследования. Между тем забыва-
ется, что, во-первых, исходящая система ценностей не обязательно должна была
соответствовать бытию объекта, во-вторых, сам объект исследования есть не пло-
скость отражения, а органичный компонент Бытия как такового и, в-третьих, ока-
заться в бытии объекта исследования невозможно без входа, понимания и интерпре-
тации Бытия как такового. Сказанное подчеркивается со всей возможной серьезно-
стью и настойчивостью средневековой практикой архитектурного и изобра-
зительного творчества: в храм, мечеть и книгу человек непременно «входит»,
соблюдая определенные правила вхождения через тщательно и богато убранные
порталы и фронтисписи.
Ср., например, со словами Джалаладдина Руми:
Амад мавдж-и аласт кшшпи-и калиб шикает,
Баз чу кишти шикает навбат-и васл-и лакает.
'Пришла волна аласта и корабль тела разбит,
Когда же вновь будет разбит корабль, наступит время единения
в свидании*.
Об этом же говорят строки другого персидского поэта — Хафиза:
Кишти нишастаганим эй бад-и шурша бархиз,
Башад ки баз бином дидар-и ашнара.
'Мы находимся в корабле, повей попутный ветер,
Быть может, мы вновь увидим Лик Знакомца'.
5-4 130
71
Суфийские поэты создают образную интерпретацию коранического сюжета о
возникновении Творения, развивают этот сюжет, обращаясь к соответствующим в
Коране реалиям — море, корабль, ветер, ситуациям — будущая встреча со знако-
мым по «дню аласта» Ликом, необходимость возвращения к этому дню. Ср. с некото-
рыми указаниями Корана: «Аллах, который подчинил вам море, чтобы плыл на нем
по Его повелению корабль и чтобы вы искали Его щедрот» (45:11), «Из Его знаме-
ний — плывущие по морю, точно горы. Если Он пожелает, успокаивает ветер, и они
остаются спокойно на em хребте. Поистине в этом — знамение для всякого
терпеливого, благодарного» (42:31).
Многочисленные суфийские и просто образно-поэтические интерпретации зна-
мений Корана становятся возможными только при условии предварительного
понимания (автором и читателем) интерпретируемого сюжета. Сама же интер-
претация предполагает введение более частных реалий и мотивов, представляющих
собой учебко-метсдический план суфийского Пути. Ср. с полезной в этом аспекте
статьей В.И.Брагинского о символике корабля в суфизме [5].
См. предисловие А.Корбена к трактату Насира Хосрова «Джами' ал-Хикма-
тайн» [23, с.68]. Ср. также: «Та'вил стоит у начала и начало вещи возвращает к ее
основе... Поэтому владельцем та*вила, является тот, кто обращает сказанное из его
внешнего состояния и доводит его до Истины» [23, с.65].
Иоанном Дамаекиным з его «защитительных словах* оправдывалась не
просто необходимость иконопочитания, но прежде всего отстаивалась важнейшая
онтологическая позиция православия: «Сам Бог — Первый сделал изображение, Он
и показал изображения. Ибо первого человека Он сотворил по образу Божию, И
Авраам, и Моисей, и Исайя, и все пророки увидели образы Бога, но не самое существо
Божие» [7, с.59-60] или: «Итак, мы поклоняемся иконам, воздавая поклонение не
веществу, но посредством их тем, кто на них изображается. Ибо, как говорит боже-
ственный Василий, "воздаваемая иконе честь переходит на первообраз"» [7,
с.117].
11
Ср.: «Это приводит нас к наиболее важному аспекту вопроса, стоящею перед
нами сейчас, а именно: действие эзотеризма на экзотеризм через посредство чувст-
венных форм, изготовление которых является прерогативой ремесленных
инициации. Через эти формы, действующие как проводник всеобъемлющей
традиционной доктрины и благодаря их символизму переводящие эту доктрину на
язык, который одновременно является непосредственным и универсальным, эзо-
теризм вливает интеллектуальное качество в собственно религиозную часть
традиции, создавая тем самым равновесие, отсутствие которого может в конце
концов привести к растворению целой цивилизации, как это случилось с
христианским миром» [32, с.84].
Ср.: «Ваджд — есть состояние в сердце познающего, посредством этого состо-
яния сердце взыскующего оказывается в мире единства и истинном макаме. Это
состояние приводит его в мир святости, и в этих поисках он вынужден поддаться двум
различным движениям на долгом пути [познания]: если его расположенность по
отношению к единству одержит верх, то он в этом состоянии оказывается лишенным
воли и сознания, а в противном случае — он вечно остается при своей рассудоч-
ности» [8, с. 176], (О состоянии ваджд см. также [14; с. 164-165; 31, с Л 78-
179].)
Ср. также с перипатетическим определением «вещи»: «"Вещь" принадлежит
к числу вторичных умопостигаемых предметов, опирающихся на первичные, и дело
с нею обстоит так же, как с "общим** и "частным**, с "родом** и "видом*'. Ведь среди
существующих предметов нет ничего, что было бы [просто] вещью, а есть нечто,
72
являющееся, [например,] или человеком, или небесной сферой, и только из того, что
оно умопостигаемо, следует то, что это есть некоторая "вещь"» [4, с. 10].
14
О понятии хасти: «В представлениях мухаккиков есть указание на чистую
Сущность, в чем состоит абсолютное Бытие, и это есть некое Бытие, являющееся
сутью Творения, без этого Бытия ни один атом не имеет бытия, а присутствие этого
Бытия делает Творение неизменным» [6, с.1213-1214]; «Реально употребление этого
слова относится к Бытию Истинного, но, согласно иносказанию и метафоре, может
в целом обозначать и Бытие в зависимости от причин и по сходствам употребления
[понятий]» [8,с.177].
Смысл и тайну «вещей» познал только пророк Мухаммад. Вот как истолковы-
вается смысл «предвечного договора» шейхом Азизаддином Насафи: «О дервиш,
земной мир — мир чувственный, а малакут — мир созерцаемый, а джабарут — мир
истинный, а основу некоторые называют "сущностями недвижными" (а'ййан-и
сабита), а некоторые "истиной недвижности" назвали, и эти вещи называют
"недвижными вещами". И каждая из этих недвижных вещей такова, как она есть,
они существуют, никогда не изменяя своего состояния, и не изменят, и по этой
причине эти вещи называют недвижными. А Пророк — мир Ему — захотел знать и
видеть эти вещи "как они есть" (кома хийа): "Боже наш, яви нам вещи, как они
есть", чтобы постичь Истину вещей, и знать, что изменяется и что неизменно. И к
этим вещам снизошли слова: "Не я ли ваш Господь"» [10, с. 161 ].
«Символическое создает возможность "истине" герменевтики стать более
ясной в силу внутреннего единства, онтологической связи между видимым и
невидимым — словом, объектом, мыслью. Онтологическая связь символа и
символизируемого предполагается в понимании герменевтического события. Со-
гласно Гадамеру, символ является более чем просто знаком, символ раскрывает как
существующее нечто реально существующее» [26, с. 146-147].
17
«Заук является начальной степенью обнаружения и раскрытия Истины пред
взыскующим [Истину], пребывающим в состоянии блеска сияния Любви, и это
обнаружение, согласно восприимчивости взыскующего, его природе и характеру,
является предпочтительной степенью» [8, с. 151].
А также:
Ба заух-и джустуджу-и ту асудахатирам,
Асудаги мабад аз ин джустуджу мара
'В предвкушении поисков Тебя спокоен я,
Да не будет мне покоя в этих поисках*
Хилали [15,т.1,с.429]
1Я
О понятии бесконечности в искусстве и искусстве как «маске бесконечного»,
Космоса см. [11].
19
Подробно см. об этом [17, гл. 1]. Теологическая точка зрения на ту же пробле-
му изложена доктором Али Шариати в лекциях, прочитанных им в Мешхедском
духовном университете [16, с.41-43].
Слова ма йястаруна переводятся и истолковываются как 'что пишут' или
'чем пишут', хотя в последнем случае было бы логичнее появление предлога (би-ма).
В некоторых тафсирах появляется и подлежащее, указывающее на то, хто пишет.
Указываются ангелы (малайка).
21
См. [16, с.21]. Символическая роль чернильницы и чернил хорошо подтвер-
ждается и на материале иранского искусства. Чернильницы иногда выделываются в
форме купольных архитектурных сооружений (мавзолея, мечети) с сопутству-
ющими надписями, в которых обыгрываете я сходная графическая форма слов
«чернильница» и «счастье»— ^Jja - cJja [22, илл.118-120].
Известный хадис «Аввалу ма халака Аллаху ал-Акла» следующим образом
связывается с концепцией красоты и прекрасного: 'Адам, являющийся Пророком,
73
есть образ (сурат) первичного Разума, а первичный Разум обнаруживает в Адаме
свою Красоту и раскрывает свои качества и имена. Всевышний Творец сотворил
Адама по образу первичного Разума» [10, с.223].
23
О понятии «средневековая эстетика» и обсуждение проблемы по отношению
к «вещи» и Бытию см. в первую очередь [2, с.ЗЗ и ел.].
ЛИТЕРАТУРА
Х.АвериниевС.С. Символика раннего Средневековья (к постановке вопроса). —
Семиотика и художественное творчество. М., 1977.
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
3. Аштийани С.Дж. Шарх-и мукаддима-и Кайсари дар 'ирфан-и Ислам. Машхад,
1385(1966).
4. Бахманйар ал-Азербайджани. Ат-тахсил (Познание). Т.2. Перевод и коммен-
тарии А.В.Сагадеева. Баку, 1986.
5. Брагинский В.И. Суфийский символизм корабля и его ритуально-мифологичес-
кая архетипика (к историко-поэтологическому изучению топики). — Пробле-
мы исторической поэтики литератур Востока. М., 1988.
6. Бурхан-и кате*. Тегеран, 1341.
7. Дамаскин Иоанн, Три защитительных слова против порицающих иконы или
изображения. С греч. перевел А.Бронзов* СПб., 1893.
8. Мир'ати 'ушшак (Словарь суфийских терминов). — БертельсЕ.Э. Суфизм и
суфийская литература. М., 1965.
9. Насафи Азизаддин. Кашф ал-Хакаик. Тегеран, 1965.
10. Насафи Азизаддин. Китаб ал-Инсан ал-Камил. Тегеран, 1965.
11. Овсянико-Куликовский Д. Идея безконечного* в положительной науке и в реаль-
ном искусстве. — Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. Харьков, 1907.
12. Руми Джалаладдин. Китаб-и Фихи ма Фихи. Тегеран, 1330.
13. Сухраварди Шихабуддин. Му'нис ал-'ушшак. Тегеран, 1970.
14. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989.
15. Фарханги забони тоники (аз асри X то ибтидои асри XX). М., 1969.
16. Шариаши Али. Исламшинаси, Машхад [б.г.].
17. Шукуров Ш. Искусство средневекового Ирана. М., 1989.
18. Шукуров Ш.М. Принципы формирования средневекового искусства Ирана.
АДЦ.М., 1990.
19. 'Atta Faridu'ddin. The Tathkirath 'L-Awüya (Memoirs of the Saints. Ed. in the Original
Persian, with Preface, Indices and Variants by Nicholson). London—Leiden, 1905.
20. Gombrich E.H. Ideals and Idols. Essays on Values in History and in Art. Oxford, 1979.
21. Little G.T. Al-Insan al-Kamil: The Perfect Man. — The Muslim World. Vol.77, № 1,
1987.
22. Melikian-Chirvani A. Islamic Metalwork from the Iranian World. 8-18th Centuries.
London, 1982.
23. Nasir-eKhosraw. Kitab-e Jami'al-Hikmatain. Le livre reunissant des deux sagesses ou
Harmonie de la Philosophie Grecque et de la theosophie ismaielienne. Texte persan
edite avec une double etude preliminaire en francais et en persan par H.Corbin et
M.Mcftn. Teheran — Paris, 1953.
24. Nasr S.H. Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and
Methods Used for its Study by Ikhwan al-Safa, al-Benini and Ibn Sina, 2nd ed.
Cambridge, 1978.
25. Nurbakhsh J. Sufi Symbolism. The Nurbakhsh Encyclopedia of Sufi Terminology
(Farhang-e Nurbakhsh). V.I-II. London — New York, 1987.
Здесь сохранена орфография оригинала.
74
26. Ormiston G.L. Henneneutic: Aquestion of Understanding sign Iteration, et caetera? —
Ars semeiotica. International Journal of American Semiotic. Vol.III. 1980, № 2.
27. Reed H. The Forms of Things Unknown. An Essay on the Impact of Technological
Revolution on the Creative arts.
28. RicoueurP. Tht Conflict of Interpretations. Evanston, 1974.
29. RicoueurP. Interpretation Theory: Discourse and Surplus of Meaning. Texas, 1976.
30. SchimmelЛ. Zur Vermeuding des Hallaj. Motivs in der Indo-Persischen Poesie. —
Melanges Offerts a H.Corbin. Tehran, 1977.
31. Schimmel A. Mystical Dimensions of Islam. The Univ. of North Carolinea Press, 1975.
32. Schuon F. The Transcenden Unity of Religions. New York, 1953.
33. Schuon F. Sentiers de gnose. Paris, 1956.
34. Schuon F. Islam and Perrenial Philosophy. London, 1976.
35. Schuon F. Understanding Islam. London, 1981.
Н.В.Исаева
СЛОВО, ТВОРЯЩЕЕ МИР :
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ БХАРТРИХАРИ
Создателем адвайта-веданты, т.е. «не-двойственной веданты»,
традиционно считается выдающийся индийский философ и
религиозный деятель раннего средневековья Шанкара. Однако
многие его идеи уже были предвосхищены его учителями и на-
ставниками, из которых называют прежде всего старшего совре-
менника Шанкары — Манданамишру, воспитавшего непосредст-
венного наставника Шанкары — Гаудападу, а также грамматиста
и философа Бхартрихари.
Деятельность этих предшественников Шанкары заслуживает
внимания еще и потому, что их учения оказались своего рода
мостиками, промежуточными звеньями между системой адвайта-
веданты и другими религиозно-философскими школами. Извест-
но, скажем, что раннее творчество Манданамишры в значитель-
ной степени тяготело к мимансе, и даже известен ряд его трудов,
написанных с мимансистских позиций. Гаудапада явил собою
пример почти невозможного опосредования между ортодоксальной
ведантой и «еретическим» учением буддизма. Бхартрихари же ус-
тановил связь между нарождавшейся адвайта-ведантой и почтен-
ной грамматической традицией Индии.
Вероятно, следует хотя бы в двух словах остановиться на зна-
чении грамматической теории в индийском философском знании,
равно как и на той исключительной роли, которую она играет в
философской традиции. Как пишет французская исследова-
тельница индийской философской мысли Мадлен Биардо, «западу
также известны философии грамматики или языка, в которых
грамматики или лингвисты благоразумно выдвигают некие
ограниченные заключения, которые кажутся им оправданными
соответствующей дисциплиной. Порой эти заключения сводятся
к тому, что как бы упорядочивают фундаментальные концеп-
ции данной конкретной науки, получая в дальнейшем название
©Н.В.Исаева, 1995
76
"философия". Однако, будучи учеными, данные исследователи ни
в коем случае не претендуют на то, чтобы, исходя из своей науки,
дать цельное видение вселенной, даже если сами они испытывают
потребность поместить собственную дисциплину внутрь своего
представления о мире» . В отличие от этого индийским грам-
матикам всегда было свойственно стремление связать чисто
технические построения и правила с общим устройством мироз-
дания, с представлением об истоках мира и его природе. Разумеет-
ся, это объясняется прежде всего представлением индийских
мыслителей, принадлежавших к ортодоксальной традиции, о роли
священных текстов в создании и поддержании устройства вселен-
ной. В самом общем виде можно представить это внутреннее убеж-
дение следующим образом: Брахман, т.е. высшее первоначало,
творит мир не непосредственно, но как бы создавая предваритель-
ную матрицу, образец, которому и должен следовать всеобщий
порядок мироздания. Как известно, время в индийской традиции
имеет циклический характер, и за циклом созидания следует цикл
разрушения, или вселенского пожара (пралайя). Священным тек-
стам предуготована совершенно уникальная роль: они выступают
своего рода промежуточным звеном между циклами, в конечном
счете обеспечивая стабильность материального устройства, мо-
ральных законов и непреложного пути к Брахману и освобож-
дению. Сами слоги (варна) Вед служат опорой как природным
явлениям, следующим некоторой обязательной упорядоченности,
так и человеческим усилиям, развертывающимся в сфере обыден-
ной жизни, ритуальной практики и даже самого Богопознания.
Одним из выдающихся грамматистов-философов начала нашей
эры был Патанджали, создавший комментарий к «Сутрам» Пани-
ни и толкование трудов Катьяяны. По существу, «Махабхашьи»
Патанджали с их вниманием к проблемам вечности языка и его
способности схватывать реальность, целиком лежат в русле тради-
ционной индийской религиозной философии, где акцент делался
на возможности освобождения, единстве человеческого духа (ат-
ман) и высшего начала (brahman), способах достижения высшей
реальности. Комментарий Бхартрихари на этот текст пока что не
опубликован и потому остается недоступным для исследователей-
индологов. Однако даже самостоятельный трактат Бхартрихари
«Вакьяпадия», послуживший основным источником материала
данной статьи, соответствует общей направленности граммати-
ческих изысканий индийской традиции.
Грамматист Бхартрихари жил, по всей вероятности, примерно
в V-VI вв. (точнее определить время не представляется возмож-
ным— хронологические трудности вовсе не редкость, но скорее
правило для истории философской мысли Индии). Некоторые
исследователи склонны отождествлять этого философа со зна-
77
менитым санскритским поэтом Бхартрихари, автором трехчастно-
го стихотворного цикла «Шатака-траям»у т.е. «Три сотни» (сюда
входят «Нити-шатака», или «Сотня стихов о моральном законе»,
«Шрингара-шатака»у т.е. «Сотня стихов о страстном желании», и
«Вайрагья'Шатака» — «Сотня стихов об отречении [от мира]»).
Трудно с определенностью утверждать, идет ли здесь речь о тезках
или Бхартрихари — мудрец и стихотворец — был только один;
можно лишь отметить, что в целом основные посылки стихов
«Шатака-траям» не противоречат ведантистским идеям филосо-
фа Бхартрихари, хотя и дают скорее обобщенный образ веданты, в
силу жанровых особенностей лишенный черт грамматического
и — шире — лингвистического учения, которое нас здесь интере-
сует.
Согласно сведениям, передаваемым индийской традицией,
Бхартрихари в юности прошел через кратковременное увлечение
буддийскими идеями, однако позднее стал убежденным защит-
ником ортодоксального брахманизма. Правда, подобно многим
другим непосредственным предшественникам Шанкары, его ве-
дантистская позиция порой не вполне свободна от отдельных
вкраплений буддизма. Тем не менее и сам трактат «Вакья-падия»,
и комментарии к нему — «Вритти» — написаны в духе адвайта-
веданты, пусть и не достигшей здесь еще последовательности и
цельности, свойственной системе Шанкары.
Сам трактат состоит из трех разделов (канда). Первый из
них — «Брахма-канда» — посвящен природе Брахмана, второй —
«Вакья-канда» — цельному речению, или высказыванию, а
третий — «Лада-канда» — словам (пада) как смысловым едини-
цам, на которые распадаетсй предложение. Сущность учения
грамматиста очерчена уже в первых двух кариках этого метричес-
кого произведения:
Бесконечный, вечный Брахман — это сущность Слова,
которое неуничтожимо;/
От него проявляется развертывание мира посредством
природы вещей //1//.
Хотя он известен из священной традиции как единый,
он вмещает в себя различные потенции./
И пусть даже потенции не отделены [от него] — ~
они проявляются как бы отдельно I 111 I .
Стихотворная форма трактата помогает философу добиваться
афористически отточенных формулировок и вместе с тем под-
держивает и закрепляет тон торжественной мифологичности, про-
видческого пафоса, свойственный «Вакья-падии». Слово здесь —
не просто произносимое, высказанное слово, — нет, это Речь, пре-
бывающая для мира, Речь, творящая и сам этот мир, и обычный
человеческий язык.
78
В отличие от представителей ортодоксальных школ ньяи и вай-
шешики, полагавших, что словесная оболочка составляет всего
лишь внешний, необязательный придаток, организующий отдель-
ные восприятия в некое целое, Бхартрихари вводит Слово в самую
сердцевину сознания. Найяики, как известно, ссылались на
пример младенцев и немых, которые лишены дара речи, но тем не
менее явно наделены сознанием и способны к образованию пред-
ставлений. По Бхартрихари же, в основе всякого восприятия ле-
жит непроявленное, латентное слово, как бы «семя» (биджа)
мысли и одушевленности вообще. Это слово, молча присутствую-
щее изначально и медленно прорастающее затем в реальное гово-
рение, может выступать в трех ипостасях: как «видящая» (пашь-
янти)> «срединная» (мадхьяма) и «произносимая» (вайкхари)
речь. Иначе говоря, эта речь может выступать как ментальный
образ желанного предмета, внутреннее побуждение к действию,
которое формулируется в команде или в рассуждении «про себя»,
и, наконец, обычное говорение вслух.
Однако учение Бхартрихари и его последователей не представ-
ляло бы для нас такого интереса в качестве предшественника
системы Шанкары и фундамента адвайты, если бы оно сводилось
главным образом к констатации нерасторжимой связи между соз-
нанием и языком. Вероятно, отчасти и юношеские симпатии к
буддизму сыграли свою роль в том, что Бхартрихари попытался
сделать следующий шаг: связать язык с бытием. Вполне в духе
виджняна-вады буддистов сам грамматист (или кто-то из его
ближайших учеников) стремится отождествить воспринимаемый
предмет, воспринимающего субъекта и само состояние вос-
приятия. В комментарии «Вритти» к «Вакья-падии» возникает
образ четвертого, «высшего» вида речи {пара вак). Исследователи
до сих пор спорят о том, можно ли считать, что Бхартрихари и ав-
тор «Вритти» — Харивришабха — это одно и то же лицо (аргу-
ментом «за», по существу, является одно и то же имя, принадле-
жащее и автору базового текста, и создателю толкования: оба
имени значат «великий, могучий Хари»).
Так или иначе, и для Бхартрихари, и для автора комментария к
«Вакья-падии» совершенно ясно, что — в противоположность
буддистам — это высшее единство, высший вид речи есть не что
иное, как сакральное, изначальное Слово Вед. На основе этого
«свернутого», но незримо присутствующего Слова и воссоздается
каждый раз мир после вселенского пожара, завершающего сущест-
вование очередного мирового цикла. Как сказано в «Вакья-падии»,
От слова это развертывание [мира] — так учат знатоки
священной традиции,/
От ведийского стиха все это только и впроворачивается
впервые//120// .
79
Священное Слово, стоящее в начале мира как некое нерасчле-
ненное единство, как неизменная матрица, порождающая все
сущее, — это одновременно высший Брахман упанишад, чьим
символом служит мистический слог (От).
Бхартрихари определяет Брахмана термином sphota-sabda,
т.е. 'распухающее речение', или 'вспыхивающее речение'. Если
учесть, что традиционная индийская этимология возводит само
слово brahman к глагольному корню °brh со значением 'уве-
личиваться в размерах', 'разбухать', 'распространяться во все сто-
роны', такое обозначение выглядит как нельзя более уместным.
Однако глагольный корень °sphut и производные от него имена
sphuta и sphota имеют еще один немаловажный смысловой отте-
нок: глагол означает также 'проявлять [ся ]', 'делать [ся ] видимым,
явным', тогда как sphota — это не только 'проявление', 'раск-
рытие', но и особое состояние, когда в ответ на произнесенное сло-
во в сознании внезапно вспыхивает образ предмета, о котором
идет речь. Развертывание ментального образа, вызванное к жизни
произнесенным речением, сближается здесь с сотворением вселен-
ной по ее правильному называнию. Именно поэтому, с точки
зрения Бхартрихари, к познанию Брахмана ведет прежде всего
«грамматическая наука» (vyäkarana), т.е. учение о словах, их над-
лежащем употреблении и правильной расстановке:
Поскольку единое дробится многажды разделениями
[во время] творения,/
Высший Брахман схватывается посредством постижения
грамматики //22// .
Понятно, что «грамматика» трактуется здесь весьма широко, а
второй и третий разделы «Вакья-падии», где изложены собственно
лингвистические проблемы трактата, служат, по существу, лишь
вспомогательными разъяснениями к положениям «Брахма-
капды».
Шанкара, относившийся к Бхартрихари с величайшим поч-
тением, нигде не вступает с ним в открытую полемику. Тем не ме-
нее некоторое представление о расхождениях Шанкары с учением
знаменитого грамматиста можно составить по критике системы
Бхартрихари у позднейшего адвайтиста Вимуктатмана (при-
близительно начало XIII в.). В трактате «Ишта-сиддхи» («ista-
siddhi», т.е. «Достижение желанного»), Вимуктатман отмечает,
что звучащее речение (sabda) можно рассматривать как объект, и
потому оно никогда не способно быть внутренним «я», или атма-
ном живых существ. Между тем в упанишадах постоянно го-
ворится о тождестве атмана и Брахмана, — стало быть, учение
Бхартрихари не соответствует ортодоксальной традиции. Похоже,
что Шанкара не заходил так далеко в разногласиях со своим пред-
80
шественником, однако и для него Бхартрихари порой явно
чересчур «мифологичен» и одномерен. И, скажем, если Бхар-
трихари, на взгляд позднейшей веданты, недоставало прежде все-
го концепции атмана, умения связать высшую реальность с
психической жизнью личности, то это упущение оказалось в той
или иной степени восполнено другим учителем и предшест-
венником Шанкары — Гаудападой (около V-VI вв.).
Хотя для последующих ведантистов на первый план вышла
именно эта сторона учения Бхартрихари, мне представляется, что
расхождения в основных посылках его «грамматической системы» с
классической адвайтой, известной нам по трудам Шанкары и его
последователей, следует искать в несколько иной плоскости. На эту
мысль отчасти наталкивает уже хотя бы то, как традиция самого
Бхартрихари преломилась в более поздних мистических и эс-
тетических трактатах. Наиболее интересные параллели здесь, на
мой взгляд, можно провести с некоторыми школами кашмирского
шиваизма.
Примерно в конце IX в. эстетик и религиозный философ Сома-
нанда основал школу, получившую название «пратьябхиджня»
(pratyabhijnä, т.е. букв, 'узнавание'). Сомананда был автором зна-
менитого трактата «Шива-дришти» («siva-drsti», т.е. «Видение
Шивы»), а его ученики Утпаладева и Утпалачарья написали в
традиции этого учения трактаты «Ишвара-пратьябхиджня-ка-
рика»у «Шива-стотравали» и др.
Примерно в это же время в Кашмире складывается еще одна
школа, истоки которой исследователи находят в Ассаме: это система
кула (kula букв, 'изначальная, родовая энергия'), в рамках которой
были созданы многие заметные тантристские произведения, в част-
ности «Ратна-мала», «Кула-мулаватара» и др.
Наконец, такой авторитетный текст кашмирского шиваизма,
как «Махартха-манджари» («Maharthamanjan») Махешваранан-
ды, был создан в рамках школы крама (krama букв, 'постепенный
подъем'). Не будем сейчас вдаваться в различия, характерные для
тех или иных школ или сект этого варианта тантристского ши-
ваизма. Отметим лишь, что эта система в целом отличалась безус-
ловным монизмом и, бесспорно, входила в рамки ортодоксии; все
это позволило ряду исследователей, несмотря на различие в
практически-религиозных и культовых вопросах, сближать ме-
тафизику кашмирского шиваизма с адвайта-ведантой Шанкары и
другими ведантистскими системами. На внутреннее единство этих
кашмирских школ указывает также то обстоятельство, что выда-
ющийся эстетик и религиозный философ Абхинавагупта (при-
близительно X-XI вв.), хотя формально и был учеником Шамбху-
натхи, последователя школы кула, написал ряд комментариев к
шиваистским работам разных направлений.
6 130
81
В чем же, на наш взгляд, можно усмотреть схождения грам-
матических построений лингвиста и философа Бхартрихари с
представлениями религиозных мистиков, сосредоточившихся на
поклонении персонифицированному Богу — всемогущему Шиве?
Почему нам представляется правомерным говорить здесь, по край-
ней мере, о типологических соответствиях, оставив пока в стороне
вопрос о прямом влиянии и возможных заимствованиях? Хотя, за-
метим в скобках, на это также можно найти немало указаний. С
трудами грамматиков был достоверно знаком сам Абхинавагупта,
как известно оставивший популярнейший комментарий «Лочана»
(«locana») к трактату кашмирского эстетика Анандавардханы
«Дхваньялока» («dhvanyäloka»), посвященному проблемам се-
мантики поэтического языка. А собственный знаменитый трактат
Абхинавагупты «Тантралока» («Tanträloka») содержит прямые
отсылки к грамматическим теориям Бхартрихари; наряду с адеп-
тами школ кула, трика (тождественная кроме) и других тан-
тристских направлений там упоминаются и последователи «грам-
матиков», считающие высшим началом Брахмана, тождественного
Слову (sabda-brahma) у и одновременно полагающие, что тот сво-
дим к «видящей» (pasyanii) Речи .
Известно, что главной концепцией всех направлений каш-
мирского шиваизма было представление о космическом союзе,
единстве познающего и деятельного начал, персонифицированных
соответственно в образах Шивы и его спутницы — Шакти. Этот
союз, сплетение двух главных мировых сил, заложен в самом
истоке бытия, и задача адепта — подняться к его созерцанию,
ощутить это соединение непосредственно в акте мистического оза-
рения. В терминах школы пратьябхиджня, наиболее философски
разработанной из всех кашмирских сект, речь идет о неразрывном
слиянии пракаши (prakäsa), т.е. сияния, внутреннего света, и
вимарши (vimarsa), представляющей собою энергию, потенцию,
деятельное начало сознания.
В упоминавшемся выше метрическом трактате Утпаладевы
«Ишвара-пратъябхиджня-карика» об этом сказано буквально сле-
дующее:
Поскольку атман не характеризуется как бессознательный,
его провозглашают самим сознанием;/
Оно же, в свою очередь, тождественно деятельности,
благодаря которой мы и отличаем
ее от неодушевленных вещей //12//.
Сущность этого деятельного сознания —
есть сознание себя. Высшая речь
вечно проявляется чрез саму себя./
Это поистине самодостаточность, высшее господство
самого высшего атмана //13//.
82
Это сознание есть напряженная вибрация,
высшая реальность, которая лежит
за пределами пространства и времени./
Будучи.внутренней сущностью, она называется также
Сердцем великого Господа //14// .
Прежде всего, отметим здесь удивительные терминологические
совпадения. Ведь не случайно же в этом контексте, в непосредствен-
ной близости к высшему первоначалу, появляется уже знакомая
нам по учению Бхартрихари 'высшая Речь* — parä väk. На этом же
термине останавливается в своем комментарии Абхинавагупта; по
его словам, «это сознание называют высшей Речью в силу его пол-
ноты... Будучи главной мощью Господа, она также является его сво-
бодой, его властью, его абсолютной независимостью. И такая не-
зависимость поистине высшая радость, высшая мощь, свобода и соз-
нание».
Именно благодаря введению энергии, вибрации сознания и слова
внутрь высшего первоначала последователи кашмирского
шиваизма начали рассматривать и вселенские, космические прояв-
ления Брахмана не как иллюзорную реальность, которая, словно
мираж, «накладывается» (adhyasyate) на него, — и не как творение
посторонней для Брахмана силы, подобной пракрити в системе сан-
кхьяиков. Эти вселенские проявления выступают здесь как латент-
ные возможности, реально свернутые в сердце Брахмана и способ-
ные тотчас же вспыхнуть, мгновенно раздробиться на видимые вещи
реального мира. То же звучание, та же преемственность концепций
явственно слышны и в чисто шиваитском тантристском термине
спхурата (sphurattä), т.е. 'дрожание', 'блеск', 'напряженная
вибрация', весьма близко стоящем к уже знакомой нам спхоте
Бхартрихари : как смысловые, так и чисто этимологические
отзвуки здесь очевидны.
Интересно, что в третьем разделе трактата Абхинавагупты
«Тантралока» речь идет как раз о развертывании божественной си-
лы, «матери-Шакти» в мир через промежуточную ступень — звуки
и буквы санскритского алфавита. Гласные и согласные звуки здесь
оказываются внутренней вибрацией, заложенной внутри высшего
сознания Шивы, его собственной внутренней окрашенностью и
мощью, непосредственно открывающейся в творение — сришти
(srsti) мира вещей (см.: Тантралока, III, 154-166).
Похоже, что все эти возможности уже были заложены и в трак-
тате Бхартрихари, где определение высшего Брахмана звучит сле-
дующим образом:
Тот единый, кто содержит в себе
семя всех вещей и предстает
в многообразных формах//4// .
6-2 130
83
Когда Брахман изначально определяется как Речь, или Слово,
это уже предопределяет внутреннее дробление и бесконечные
потенции, стремящиеся найти себе выход в божественной игре
становления. Напряженная полнота развертывания уже входит в
сияние (pratibhä) Речи, несет в себе энергию дальнейшего станов-
ления.
Здесь и пролегает, по-видимому, граница между «грамматичес-
кой» онтологией Бхартрихари и зрелой адвайтой Шанкары. Ме-
тафизика, создаваемая лингвистом или поэтом, неизбежно оказы-
вается принужденной признать активность и динамику высшего
первоначала, тогда как, с точки зрения философа-адвайтиста, на
долю Брахмана в любом случае может приходиться лишь незамут-
ненное созерцание, для которого всякое развертывание и творя-
щая «игра» (lila) шакти суть порождение иллюзии, ошибочного
видения.
ПРИМЕЧАНИЯ
BiardeauM. Theorie de la connaissance et Philosophie de la parole dans le
brahmanisme classique. Paris, 1964 (c.252).
2 —
Бхартрихари. Вакья-падия. Брахма-канда, 1-2: anadinidhanam brahma
sabdatattvamyadaksaramI vivartate' rthabhavenaprakriyZ 'agatoyatah11\II ekameva
yadamnätam bhinnasaktiv yapasrayat I aprthaktve 'pi saktibhyah prthaktveneva vartate
/1211. ' ' e
Бхартрихари. Вакья-падия, Брахма-канда, 120: sabdasya parinamo 'yami-
tyamnayavido viduh I chandobhya eva prathamametadvisvam vyavartate 11120//.
Напомним, что по индийской традиции «именами» (пата) считаются все обоз-
начения предметов, явлений и понятий, равно как и обозначения любых их свойств;
иначе, говоря, «именами» были — в нашей терминологии — существительные,
прилагательные, причастия и т.п.
Бхартрихари. Вакья-падия, Брахма-канда, 22; yadekam prakriyäbhe-
dairbahudha pravibhajyate I tad vyakaranamagamya param brahmadhigamyate 1122/1.
См.: Абхинавагупта. Тантралока, XXXV, 34.
7 -
Утпаладева. Ишвара-пратьябхиджня-карика, 12-14: atmataiva caitanyam
citkriya citikartrtä I tätparyenoditas ten Jadät sa hi vilaksanah I/1211 citih pra-
tyavamarsätmä para väksvarasodita I svatantryam etanmukhyam tadaisvaryam
paramätmanah 11\ Ъ/1 sä sphurattä mahäsattä desakälävisesini'I saisa saratayä proktä
hrdayamparamestninah/IXAll.
Бхартрихари. Вакья-падия, Брахма-канда, 4: ekasya sarvabTjasya yasya ceyam
anekadha / / A//.
ГА. Ткаченко
ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О КОСМОСЕ В КИТАЙСКОМ ТЕКСТЕ III В. ДО Н.Э.
Общим местом синологических работ последнего времени явля-
ются различного рода наблюдения над выраженными во многих
древних и средневековых китайских текстах идеями единства
микрокосма и макрокосма. В особенности часто цитируемыми в
контексте этих наблюдений оказываются тексты так называемой
«даосской традиции», где обнаруживаются эксплицитно выражен-
ные представления о подобии и даже тождестве или гомоморфизме
космоса и человеческого тела . В значительной мере благодаря
погружению в «даосский» материал исследователи древнекитай-
ской традиции находят возможным говорить о вкладе мыслителей
«даосского» направления в систему идей, которая приобретает в
современном мире все большее влияние и в целом может быть на-
звана «экологизмом» или «философией окружающей среды» .
В меньшей степени для обоснования древнего происхождения
«экологической философии» привлекаются тексты, традиционно
считающиеся «конфуцианскими». Объясняется это, по-видимому,
тем, что в текстах этого ряда мало говорится о «природе» как тако-
вой, т.е. речь идет преимущественно о «природе человека», расс-
матриваемой в качестве самостоятельной сущности . Кроме того,
считается, что «конфуцианцы» в своем миропонимании исходили
из примата этики (этический детерминант), в то время как «дао-
сы» основным критерием «правильности» мировоззрения считали
«естественность» (цзыжань), что ближе к интенциям экологистов,
стремящихся к построению такой этики, которая базировалась бы
в большей мере на отношении к природе («окружающей среды»),
чем на отношении к человеку .
На наш взгляд, если говорить о некотором подобии установок,
характерных для древнекитайского умозрения, таковым же, обна-
руживаемом в менталитете современных философов «экологичес-
кого» направления, необходимо рассмотреть их в контексте пред-
© Г.А.Ткаченко, 1995
6-3 130
85
ставлений о «прекрасном», свойственных тем и другим и утверж-
даемых ими в качестве утопического идеала. При этом в качестве
основного источника, на основании которого может быть реконст-
руирована древнекитайская «картина мира», мы считаем целесо-
образным привлечь «идеологически нейтральный» текст памят-
ника III в. до н.э., который собственно китайская традиция
считала не «конфуцианским» и не «даосским» (цзацзя), а мы —
принадлежащим преимущественно к «натурфилософии», возника-
ющей на рубеже н.э. .
Помимо предполагаемой идеологической нейтральности из-
бранный нами текст («Люйши чунъцю») обладает еще и тем
преимуществом, что традиция (Сыма Цянь) говорит о нем как о
первом «авторском», т.е. составленном по определенному плану,
тексте . Следовательно, в «Люйши чунъцю» (далее — ЛШ) можно
надеяться обнаружить не только отдельные сведения по тем или
иным отраслям знания (например, о музыкальной теории или аст-
рономии) , но и общие космологические и антропологические воз-
зрения его авторов, равно как и сведения о принципах конст-
руирования текстов, призванных эти взгляды отображать в адек-
ватной форме. Косвенным образом мы обнаруживаем в ЛШ также
некий прототип эстетического трактата, предшественника собст-
венно литературоведческих текстов, появившихся в данной
традиции уже в средние века .
Поскольку основной материал ЛШ тесно связан с космологией,
а утверждаемая им утопическая «картина мира» представляет со-
бой, по нашему мнению, реинтерпретацию в терминах возникаю-
щей синхронно со становлением империи (221 г. до н.э. — 3 в.
н.э.) натурфилософии (или «имперской религии») космогоничес-
кого мифа, целесообразно, видимо, привести краткое изложение
основных постулатов натурфилософской теории мироустройства, в
дальнейшем приобретшей статус официально признанной и
институализированной имперской «науки» .
Согласно реконструируемому космогоническому мифу , мир
эволюционирует (изводится) из хаоса в космос усилием пос-
редника (медиатора) или демиурга — дао , основная функция
которого состоит в обеспечении и поддержании «единства» (и, тай
и) у или коммуникации, между явленным и неявленным мирами.
Явленный мир — космос (юйчжоу), неявленный, или непроявлен-
ный, — хаос (хуньдунь), т.е. по многочисленным прямым и кос-
венным описаниям — нечто, не имеющее формы, темное, смут-
ное, нерасчлененное .
Миры явленный и неявленный сосуществуют рядом (во вре-
мени и пространстве), отделенные друг от друга некой воображае-
мой непрозрачной мембраной, проникновение сквозь которую есть
функция (и привилегия) особого типа сознания (интеллекта или
86
интуиции — разница между ними будет видна из дальнейшего),
носителями которого выступают в архаические времена (эпоха
Шань-Инь) дивинаторы-гадатели, в период расцвета «класси-
ки» — историки-астрологи (ша, тай ши) , позднее — вообще
«ученые» (ши), члены сословия «образованных». Становление
последней группы связывается с ростом городского населения и
возникновением того, что В.Н. Романов называет «обществом
теоретического типа» . На возникновение самосознания в среде
«образованных» указывает то, что в данную эпоху они пред-
почитают именовать себя специально изобретенным термином —
«холщовая одежда» (бу и); к этой же категории они причисляют
своих предшественников в «интеллектуальной традиции» вплоть
до мифологических персонажей .
Именно из среды интеллектуалов (бу и) рекрутируются, сог-
ласно натурфилософской доктрине, носители высшего типа соз-
нания — мудрецы (шэньжэнь), приобретающие особый статус в
миропорядке благодаря овладению некой специфической формой
знания, передаваемого в традиции от наставника к ученику, но
при этом, по крайней мере в интерпретации натурфилософов —
авторов ЛШ, доступного не всем, а лишь обладателям индивиду-
альной психосоматической комплекцией определенного типа.
Последняя в традиции именуется словом цай> что в равной сте-
пени может обозначать как 'талант', так и 'материал', поэтому
компромиссным русским эквивалентом мы предлагаем считать
словосочетание «природные задатки» .
При этом без надлежащего образования (учения — у достойно-
го наставника) и самообразования или самодисциплины опреде-
ленного типа природные задатки остаются задатками и не превра-
щают индивида в «законченного» (чэн) мудреца. Талант — цай —
необходимое, но не достаточное условие овладения знанием, явля-
ющимся ключом к постижению мира и овладению им (что позво-
ляет нам рассматривать данный тип «знания» как «гносис» ).
Основной акцент авторы ЛШ переносят на самовоспитание, «са-
моисправление» мудреца, в ходе которого претендент на это зва-
ние должен прежде всего в максимальной степени упорядочить
(букв, 'исправить', или 'настроить-наладить', сю) собственное
тело-персону (шэнъ), осуществив тем самым на индивидуальном
уровне операцию перехода от хаоса к космосу, или, что то же, вос-
произведя изначальный космогонический акт в отношении самого
себя. Возможность такого «перехода» предопределяется тем, что
можно назвать натурфилософской антропологией и психологией,
или, что вернее, — психосоматологией .
В самом общем виде можно говорить о том, что у натурфилосо-
фов индивид как тело-персона представляет собой систему,
взаимодействующую с окружающей средой, элементом которой он
6-4 130
87
выступает и которая может быть названа Системой с большой бук-
вы. Понимаемая как «правильный» космос Система функци-
онирует в соответствии с имманентными ей законами, причем в
ней выделяются три основных уровня, на каждом из которых про-
является в присущем данному уровню виде фундаментальный
принцип функционирования Системы — дао. На уровне «неба»
(или «космоса») он выступает в собственном обличье «небесного
дао» (тяньдао), на уровне «земли» (или социума, называемого
также Поднебесной — Тянься) он проявляется как некая органи-
зация ландшафта, к которой человек вынужден приспосабливать-
ся в своей деятельности {дили), наконец, на уровне социума и его
индивидуальных членов — как некая «дисциплина», определяю-
щая нравы (этос) населения данной местности или всей страны.
Таков «порядок вещей», неизменность и неотменяемость которого
сознается мудрецом и представляется ему (или провозглашается
им) нормой-оптимумом, «естественностью», что и будет соответ-
ствовать природе-натуре в нашем понимании. Поскольку «поря-
док вещей» неотменим, задача мудреца состоит в адаптации к
природе-натуре таким образом, чтобы в идеале все его действия (и
даже помыслы) были столь же «естественными», как и сама
«природа». Эта адаптация, или «подражание», «имитация» {фа)
естественности является залогом психосоматического благососто-
яния индивида, его «гармонического» сосуществования со средой,
что обеспечивает ему максимально продолжительное и полноцен-
ное существование в явленном мире, а в сотериологическом аспек-
те, характеризующем религиозные практики (медитация,
алхимия, магия и т.д.), обеспечивает в теории и индивидуальное
бессмертие . «Материально» такое взаимодействие со средой
обеспечивается в натурфилософской теории общностью универ-
сального субстрата, составляющего основу мироздания — «гар-
монического эфира» {цзинци) .
Следует отметить, что, в понимании натурфилософов ЛШ,
«гармонический эфир» хотя и представляет собой континуальную
среду, содержащую «тонкие» {цзин) и «плотные» {ци) фракции,
все же не является качественно однородным: более «тонкие»
фракции обладают и большей динамичностью, тогда как более
«плотные» отличаются некоторой косностью. Первые связываются
с «мужским», активным энергетическим началом {ян), вторые —
с «женским», или пассивным {инь) . Поэтому в натурфилософ-
ской космогонии яяная ци образует небо, а иньная — землю. Ис-
ходя из принципа «единства» человека и неба, т.е. одинаковости
их «природы», натурфилософская психосоматология и в индивиде
обнаруживает «гармонический эфир» разного качества, причем
его яиные фракции составляют в индивиде наиболее ценную его
часть, называемую в переводной литературе словосочетанием «се-
88
мя-ум» (цзин). Поскольку «семя-ум» субстанционально представ-
ляет собой тот же «тонкий» эфир, разлитый в окружающей среде,
«природе», он обладает и всеми его качествами, в том числе
«разумностью» (мин). Иными словами, сила интеллекта индивида
определяется качеством — «тонкостью» — пребывающего в его
теле-персоне «гармонического эфира». Внешним условием, га-
рантирующим адекватность мышления, выступает «невозмути-
мость» эфира, обеспечиваемая «спокойствием-статикой» (цзин)
индивидуальной психосоматики.
Интересно отметить, что, согласно натурфилософской докт-
рине, «возмущающим» фактором считается та же «окружающая
среда», на этот раз интерпретируемая как «многообразие вещей»
(у). Недисциплинированный ум легко поддается раздражению,
вызываемому многообразными внешними стимуляторами (звуко-
выми, цветовыми, обонятельными, вообще красивыми вещами и
т.д.), воздействующими на относительно «автономные» органы
чувств (гуань). Будучи выведенными из-под контроля управляю-
щего психосоматикой центра — «ума-сердца» (синь), органы
чувств нарушают принцип разумной достаточности (цзё) в удов-
летворении страстей-желаний (юй) и тем самым подвергают тело-
персону индивида серьезной опасности, которая может проявлять-
ся как органическая (по большей части разные виды истощения)
или психическая болезнь (в последнем случае подразумевается
«нервное истощение», но в принципе психосоматология отказыва-
ется рассматривать органику в отрыве от психики) .
Таким образом, стандартную натурфилософскую модель
индивида можно представить в виде психосоматического единства
(«системы»), внутри которого могут доминировать, в зависимости
от состояния системы, рефлективные или аффективные реакции,
что предопределяет стабильность данного тела-персоны. Высокая
степень рефлективности соответствует, по натурфилософской
доктрине, состоянию «космос», и напротив, коррелятом доми-
нирующих аффектов выступает «хаос». Вполне последовательно, с
точки зрения внутренней логики натурфилософии, психические
реакции индивида описываются в терминах все той же космо-
гонической модели, на этот раз «работающей» на уровне отдельно-
го тела-персоны. Самовоспитание мудреца, в свою очередь, оказы-
вается вытеснением, в идеале полном, аффективных, неконт-
ролируемых реакций, что приводит к установлению тотального
контроля над собственным телом-персоной, а в перспективе — над
средой-социумом, в отношении которого мудрец (становясь его
центром в качестве правителя) выполняет ту же функцию, что и
его сердце-ум в отношении его собственного тела-персоны.
Такова, в общих чертах, натурфилософская «картина мира»,
как она представлена в ЛШ. Согласно взглядам его авторов, мир
89
есть самодостаточный организм, гомеостат, способный к саморегу-
ляции, с тенденцией к устойчивости основных состояний, опреде-
ляемых наличной космоэнергетической ситуацией (инь—ян).
Нормальное (оптимальное) положение Системы равновесно, и вы-
ведение ее из баланса влечет за собой включение «обратной
связи», восстанавливающей в конечном счете исходное состояние
на всех уровнях (глобальном, социальном и индивидуальном) в
теории без вмешательства человека. Последний, однако, может и,
поскольку речь идет о сохранении гармонических (хэ) отношений
с окружающей средой, обязан: (а) не выступать в качестве ини-
циатора дестабилизирующих процессов; (б) сознательно стре-
миться к восстановлению в случае возникновения флуктуации
равновесия внутри Системы (что означает прежде всего поддер-
жание стабильности политической системы, проведение соответст-
вующих природоохранных мероприятий и т.д.).
Нетрудно заметить, что представленная выше «картина мира»
натурфилософов в основных своих частях совпадает с установками
«экологистов», особенно если иметь в виду распространение
понятия «экология» на сферы активности, традиционно не ас-
социируемые с природой как таковой («экология культуры» и то-
му подобные концепты). Однако столь же очевидна и утопичность
предлагаемой модели, всецело опирающейся на понятие «естест-
венного» порядка вещей, гарантируемого свойством «гармоничес-
кого эфира» придавать всему эстетически законченный вид. Ясно,
что в построениях «экологистов» должен существовать какой-то
коррелят «гармоническому эфиру» и в поисках такового естест-
венным выглядит обращение сначала к «матери-энергии» (с опо-
рой на парадигмы квантовой физики), а затем и возврат к гило-
зоистически окрашенным натурфилософским взглядам, обна-
руживаемым в собственной традиции и реинтерпретируемым в
терминах современной науки . Неизбежным при этом оказывает-
ся заимствование современным «экологизмом» и ряда основопола-
гающих установок, имплицитно присутствующих в древней на-
турфилософии и необходимо проявляющихся в поведенческих
реакциях разделяющих эти установки индивидов.
Интересно в этом контексте рассмотреть выработанные на-
турфилософами механизмы саморегуляции поведения индивидом
в их декларируемом и реальном вариантах. Иными словами, что в
теории и в действительности являлось той «естественностью», в
согласии с которой предлагалось мудрецу строить свою стратегию
оптимизации жизненного процесса, включающую в качестве
основного элемента психофизическую саморегуляцию (тренинг),
широко известную ныне и на Западе в форме так называемых «бо-
евых искусств» (ушу) и подобных им практик.
90
Согласно общерелигиозным представлениям, совершенным
знанием [для натурфилософии такое знание совпадало со знанием
неких «постоянных чисел» (тянь-ди чжи ту), космических кон-
стант] обладали обитавшие в сфере неявленного божества-предки
(гуйшэнь), и задача познающего-постигающего состояла в макси-
мальном приближении к носителям этого знания, от которых
только и можно было рассчитывать его получить. Такое проникно-
вение в область нуминозного (шэнь) могло быть обеспечено только
созданием в себе мудрецом высокой степени тонкости семени-ума
(цзин), что обеспечивало его «подключение» (тун) к равному по
тонкости субстрату-цзин, носителями которого выступали божест-
ва-предки. При этом сама эта «тонкость» в разные эпохи понима-
лась по-разному, и до выработки натурфилософами этого концеп-
та, в архаике, контакты (коммуникация) с нуминозной сферой
осуществлялись при посредничестве дивинаторов (си, у), обла-
давших всего лишь весьма изощренной интуицией. Последняя не
могла быть отнесена натурфилософами к рефлексивной сфере
психики, поскольку явно приближалась по типу к аффективной
практике шаманов. Видимо, вследствие этой неудовлетворенности
аффективными (т.е. внешне «хаотическими») действиями прори-
цателей процедура гадания на костях и панцирях была достаточно
рано формализована, а затем и математизирована (что отмечено
появлением способа гадания на стеблях тысячелистника).
Иначе говоря, не удовлетворяясь общими представлениями о
мире нуминозного и «гармоническом эфире», управляющем кос-
могоническими процессами, натурфилософы постарались обес-
печить с помощью некоторых квазиматематических процедур
переход от квалитативных, качественных к квантитативным,
количественным принципам оценки нуминозной реальности. При
этом количественной оценке подвергались процессы, заданные все
той же натурфилософской космогонической моделью, в первую
очередь — исхождение «гармонического эфира» из непроявленно-
го в проявленное. [Интересно, что именно в это время фор-
мируется концепция «изначального эфира» (юаньци), пребываю-
щего в предшествующей явленному миру «пустоте» (сюй)> т.е. в
той позиции, которую космогонический миф отводит «хаосу»
(хуньдунь). ] В целом процессы измерения «гармонического эфира»
в его динамике [что в традиции выражалось терминами «нараста-
ние—увядание» (сун ь-и)] > имели целью получить «правильные»
параметры таких континуальных сред, как «гармонический
эфир», а также его «проявлений» в виде конкретных образований
(например, ландшафта) и музыкальных звуков, издаваемых, сог-
ласно натурфилософам, самой «природой», космосом. Более того,
«музыкальным» процессом был сам космогенез, что эксплицитно
выражалось в тексте ЛШ:
91
Когда [состояние] мира характеризуется высокой мудростью и
предельной рациональностью — ли, ци неба и земли, совокупля-
ясь, порождают звучащие ветры. Солнце, двигаясь [в зодиакаль-
ной плоскости] от [одной точки] солнцестояния [к другой],
каждый месяц [луну] образуя с луной [систему, наподобие]
колокола, порождает [один за другим] двенадцать люй. Во вто-
рую луну зимы, в день солнцестояния, рождается хуанчжун; в
последнюю луну зимы — далюйу в первую весеннюю луну —-
тайцоу... (ЛШ, 6, 2).
«Сверхзадачей» натурфилософов было, таким образом, опреде-
ление количественных параметров начального состояния Систе-
мы, а «космические константы» (тянь-ди чжи ту) должны были
выводиться из количественных характеристик музыкального зву-
коряда — системы люй, которая натурфилософской теорией про-
возглашалась замкнутой, т.е. темперированной, в действитель-
ности таковой не являясь . В этом, в частности, проявлялась уто-
пичность натурфилософской картины мира, что, кстати говоря,
самими философами сознавалось (хотя и не декларировалось). В
то же время вполне очевидно, что в сознании натурфилософов эс-
тетические характеристики возникающего из «хаоса» космическо-
го порядка неразрывно связывались с непосредственно воспри-
нимаемой музыкальной гармонией, которая считалась следствием
правильных математических соотношений, используемых при
построении музыкально-теоретической системы люй, двенад-
цатиступенного звукоряда.
Музыкальные звуки обладали, с точки зрения натурфилософов,
и достаточной «объяснительной» силой, подтверждая «пра-
вильность» теории «гармонического эфира» на наглядных (слы-
шимых) образах, в данном случае — звуковых. Будучи следствием
колебаний различных частей музыкальных инструментов (струн,
мембран, столбов воздуха в замкнутых контурах), музыкальные
звуки наглядно демонстрировали механизм воздействия динамиче-
ского центра мира — демиурга-дао — через передаточную среду
(«гармонический эфир») на периферию, образуемую всем многооб-
разием «существующего» (ваньу), «всех вещей», понимаемых в дан-
ном контексте как локальные рецепторы музыкальной гармонии
космоса. Кроме того, музыкальный звук существовал в определен-
ном пространстве (определяемом его высотой и интенсивностью) и
в определенное время, что позволяло считать его моделью космоса
в целом. Ведь, согласно общемировоззренческим установкам на-
турфилософов, космос (юйчжоу) занимает определенное простран-
ство и существует с некоторой длительностью во времени. Если «ха-
ос» не обладает никакими характеристиками, кроме отрицательных
(«смутное», «неясное», «неоформленное»), то «космос» описывается
(по аналогии с построением звукоряда люй) системой некоторых
92
параметров; последние в целом можно считать обозначением пре-
делов, до которых способна распространяться сила демиурга-ояо,
преобразующего «хаос» в «космос». Иными словами, космические
константы в данном контексте задают теоретически возможную
степень преодоления некой общекосмической жизнетворной силой
изначальной энтропии мира. Данная сила в традиции именуется
«доблестью» (дэ), присуща самой «природе» (небу) и является необ-
ходимым свойством мудреца, преобразующим с ее помощью собст-
венный «хаос» в рациональный «космос» ума (интеллекта, чжи) .
Следует отметить, что, хотя натурфилософская теория провоз-
глашала в принципе идеал полной победы «рациональности» над
«эффективностью», «космоса» над «хаосом», для практиков (идео-
логов) была очевидна недостижимость этого идеала, поэтому речь
шла преимущественно о пределах распространения космооб-
разующих процессов на всех уровнях — онтологическом, социаль-
ном, индивидуальном. «Хаос» ограничивался «космосом», но
отнюдь не вытеснялся им окончательно, тем более — не «уничто-
жался», что было бы нарушением основной парадигмы на-
турфилософии — дополнительности по отношению друг к другу в
каждой космоэнергетической ситуации я/шости и г/ньности,
иными словами — «космичности» и «хаотичности» . Более того,
космогонический процесс предполагал чередование ситуаций бо-
лее или менее «хаотичных», и потому «хаос» играл важную роль
(хотя и не до конца проясненную) в самом космоустроении,
ограничивая «экспансию» космоса:
Зима и лето не могут наступить одновременно, сорняк и культур-
ное растение не сосуществуют... У кого рога, у того нет верхних
зубов... Таковы Постоянные Числа неба-природы (ЛШ, 24,5).
Логично предположить, что если на онтологическом, социаль-
ном и индивидуальном уровнях действовал, согласно натурфило-
софской парадигме, один и тот же принцип (который мы назвали
принципом функционирования Системы) ограничения «хаоса»
«космосом», то и текстопорождающая деятельность, как и выяв-
ленные в предыдущем изложении процессы самоорганизации кос-
моса и индивида, должна развиваться, по крайней мере, по ана-
логии с космогоническим процессом. Действительно, само наиме-
нование подобной деятельности внутри рассматриваемой
традиции — вэнь ('культура', 'окультуривание', т.е. 'оформле-
ние') указывает на ту же «космогоническую» парадигму, что и в
остальных случаях придания формы бесформенному. Не совсем
ясно, что в данном случае должно было считаться ограничивае-
мым «письменностью» (также вэнь) «хаосом»: состояние допись-
менной культуры, что наиболее вероятно, или же «стихия» языка,
однако и в том и в другом случае речь шла о создании, во-первых,
93
«литературы» (тоже вэнь), а во-вторых, об упорядочении в перс-
пективе литературного, жанрового «хозяйства» (эту задачу взяли
на себя уже упоминавшиеся выше эстетические трактаты средне-
вековья) .
При этом на ранних этапах развития письменности, а именно
на этапе фиксации предшествующей традиции, пришедшемся в
Китае в основном на III в. до н.э. (ЛШ был создан около 240 г. до
н.э.), когда начиналась кодификация текстов так называемых
«философских школ», необходимо должна была возникнуть идея
порождения некоего «подлинного», «правильного» текста, в кото-
ром с наибольшей полнотой отразился бы действительный мир,
или космогонический процесс. Такой текст должен был обладать
свойством полноты и тем самым претендовать на «единствен-
ность», поскольку совершенно адекватное описание действитель-
ности должно было отменять все предыдущие и даже последу-
ющие. Такой текст и «устроен» должен был бы быть как мир в це-
лом, как Система.
Именно этим «параметрам» отвечает ЛШ, если рассмотреть его
как некую раннелитературную (и, добавим, «авторскую») модель
космоса, Системы. Созданный коллективом авторов (по Сыма Ця-
ню, их было более трех тысяч), работавших при дворе и, возмож-
но, под руководством видного циньского сановника Люй Бувэя,
ЛШ включает в себя чрезвычайно многообразный материал и в до-
шедшем до нас виде представляет собой компендиум, призванный
ответить на все возникающие проблемы бытия и сознания, или, по
словам Сыма Цяня, «изложить по порядку все деда, касающиеся
неба, земли, человека, прошедшего и настоящего» . Нетрудно за-
метить, что в формуле Сыма Цяня, во-первых, указывается на за-
мысел авторов ЛШ изложить все «по порядку» — следует предпо-
ложить, и так оно и есть на самом деле, что под «порядком» авто-
рами понимался в первую очередь «порядок развертки» космоса из
хаоса, парадигмой которому служил способ порождения музы-
кального двенадцатиступенного звукоряда люй (число двенадцать
соответствует числу лун в году, каждой из к угорых приписан
определенный тон, который в данной луне и «задает» необ-
ходимую космоэнергетическую конфигурацию энергии инь—ян).
Во-вторых, совершенно ясно, что текст ЛШ, по замыслу его авто-
ров, должен был систематически описывать все существующее
время и пространство: «небо, земля, человек, прошлое и настоя-
щее...». В этой формуле нет только будущего, но сам ЛШ пред-
ставлял собой не что иное, как его модель — утопический проект
будущей империи .
Согласно общенатурфилософским установкам, космос должен
был иметь определенные (числовые) параметры, и текст, претен-
дующий на его полное отображение, естественно, должен был бы
94
быть построен по определенному плану, в котором структурообра-
зующую роль должны были играть числа. Таковым и является ЛШ
с точки зрения композиции. В нынешнем его виде текст состоит из
некоторых структурных блоков разного уровня. Это прежде всего
три части: «Двенадцать замет» {«Шиэр цзи»), «Восемь обзоров»
(«Ба лань»), «Шесть суждений» («Лю лунь»). Первая часть со-
держит указанное число книг (цзюанъ), каждая из которых
состоит из пяти глав (пянь). При этом первые главы двенадцати
книг в совокупности образуют текст, известный в традиции как
«Полунные указы» («Юэ лин») и входящий практически в
неизменном виде в состав других важных памятников («Ли цзи»,
«Зуайнань-цзы») . Вторая часть состоит из восьми книг по восемь
глав (с некоторой неправильностью: в первой книге семь глав, что,
вероятно, имеет причиной порчу текста), что теоретически состав-
ляет 64 (в действительности — 63) главы. Третья часть состоит из
шести книг по шесть глав (всего — 36). Между первой и второй
частью помещается глава «Сюй и», так называемое «Послесло-
вие», расположение которого в данном месте текста вызывает до
сих пор споры филологов, причем речь идет главным образом о
том, причислять ли его к первой или же ко второй части текста,
насчитывающего в целом 160 глав. Не вдаваясь в данном случае в
подробности, отметим лишь, что именно в «Послесловии» излага-
ется основная концепция ЛШ в целом, позволяющая пролить не-
который свет в том числе и на позицию «Послесловия» в ком-
позиционной схеме текста. Здесь, в частности, говорится от лица
вэньа/ньского хоу> т.е. Люй Бувэя, следующее.
Некогда слышал я поучение, данное [предком]-Хуанди [своему
внуку] Чжуаньсюю, где говорилось: «Есть Великий Квадрат в
глубине; ты, сумевши это взять образцом {фа), станешь матерью
народу и отцом» (ЛШ, «Сюй и»).
Таким образом, в «Послесловии» называются те же три компо-
нента, что ив космогоническом мифе (по крайней мере, в его на-
турфилософской реконструкции), а именно: небо («Великий
Круг»), земля («Великий Квадрат») и человек (в данном случае
«предок» Чжуаньсюй, вообще же говоря — правитель, или импе-
ратор, «сын неба»). Последний, подобно дао-демиургу, выступает
в роли медиатора между нуминозной и земной сферами, т.е. в
принципе между «окружающей средой» и населяющим ее
«социумом», причем с задачей достижения полной гармонии
взаимоотношений между этими двумя сферами («гармонизация»,
как мы помним, есть основная функция «гармонического эфира» в
космогонии), что достигается «имитацией» (фа) способа действо-
вания природы — неба (и дополняющей его, составляющей с ним
пару — земли). Под этим углом зрения помещение «Послесловия»
95
в центр композиции ЛШ представляется вполне оправданным, так
как такое его положение вполне соответствует положению в
социуме (и в мироздании в предельном случае) самого главного
его элемента — правителя.
Далее, числовые комплексы, избранные для композиционной
организации книг и глав каждой из частей, не случайны. Все они,
как принято говорить, нумерологически значимы, т.е. тем или
иным образом связаны с основной схемой корреляций, уста-
навливающей связи между пространственными и временными
параметрами. Здесь невозможно останавливаться на феномене
коррелятивного мышления, описанном в литературе и широко
известном по другим, в том числе европейским, традициям . До-
статочно отметить, что в случае ЛШ основная корреляционная
схема представлена планом так называемого Минтана («Зала
Знания предков»), ритуалистического комплекса, ориентирован-
ного по странам света, каждое из помещений которого соот-
носилось с одним из четырех сезонов и так называемым «центром»
времени, приходившимися на середину года — третью летнюю лу-
ну . В самых общих чертах можно говорить о коррелятивно
значимой связи между первой частью памятника и двенадцатью
лунами и четырьмя сезонами, т.е. временными параметрами,
связи между числовыми комплексами второй части и представ-
лениями об основных космоэнергетических ситуациях (их
насчитывалось 64), обусловливающих хозяйственное и симво-
лическое поведение социума и его индивидов, и, наконец, связи
между третьей частью и административной организацией
территории, занимаемой первой из возникших в данной части
мира империей (36 административных «округов», цзюнь) .
Таким образом, уже в числовых комплексах, избранных авто-
рами в качестве композиционной основы организации материала,
выражены общенатурфилософские представления о структуре
космоса (мироздания), которые впоследствии, в эпоху Хань, были
сформулированы как «триада» (сань цай) по числу участников
космогонического процесса (небо, земля, человек). Однако мо-
делирование космогонического процесса в тексте ЛШ не огра-
ничивается формальной композиционной структурой. Если изна-
чальный, находившийся в распоряжении его авторов, скажем,
раннелитературный материал представить в виде изначального
«хаоса», то оформление его в «космос» совершенного текста (в дан-
ном случае речь идет не о художественных достоинствах — тема,
требующая отдельного разговора) необходимо представлялось ав-
торам как последовательное вытеснение «случайности» материала
(что соответствует вытеснению «аффективности» в процессе само-
воспитания мудреца). Текст ЛШ должен был быть организован не
только на формальном, но и на содержательном уровне, что и про-
96
явилось в тематическом распределении материала. Так, содер-
жание глав первой части сводится преимущественно к описанию
природных, «естественных» процессов и связанной с ними дея-
тельности людей, оформленной в годовой ритуально-админи-
стративный цикл. Основное внимание здесь уделяется разного
рода природоохранным мероприятиям, направленным на поддер-
жание жизненных циклов «всего существующего» (ваньу). В то же
время (и это может быть огорчительным для современных «эко-
логистов») в главах, относящихся к осени, речь идет о военных
действиях, начинающихся преимущественно после уборки урожая
и, как можно понять, направленных в основном на захват
территорий и ресурсов, как продовольственных, так и людских .
Теоретически, следовательно, считалось, что все виды челове-
ческой активности зависят от «постоянных чисел», так или иначе
дедуцируемых из основообразующего тона — Хуанчжунъ, пос-
ледний же предполагался произведенным самой «естественно-
стью»— небом-природой. На практике, однако, натурфилософы
не скрывали, что в оценке «естественной» гармонии важная, если
не решающая роль отводится субъективному восприятию, оценке
на слух. Последним критерием «гармоничности» того или иного
«естественного» звука оказывалось в конечном счете ухо (слух)
мудреца. При этом область «космического» в огромном многооб-
разии звуков ограничивалась возможностями восприятия тона той
или иной высоты и интенсивности человеком, широтой доступного
ему звукового спектра.
Музыкальные звуки должны быть согласованы с возможностями
восприятия человека. При слишком громком звуке воля
приходит в состояние потрясения, а когда в состоянии потря-
сения пытаются слушать громкую мелодию, ухо-слух не в сос-
тоянии ее вместить... Поэтому слишком громкие-интенсивные,
слишком тихие-слабые, слишком высокие и слишком низкие
(по частоте) звуки не согласуются с человеческой природой
(ЛШ,8,4).
В действительности музыкальная система строилась по
принципу соответствия возможностям (порогам) восприятия, и, в
частности, музыкальные инструменты делались не столько по рас-
четам, подобным приведенным в трактате о музыке в «Ис-
торических записках» , сколько по древним образцам и с опорой
на умения конкретных ремесленников, причем известно, что
гибель этих последних, даже при полной сохранности музыкаль-
но-теоретической литературы, могла вести к разрыву в традиции,
когда создать приемлемые инструменты не удавалось, несмотря на
крайнюю важность музыки в основном имперском ритуале .
Таким образом, хотя в теории провозглашалась необходимость
«абстрагирования» от любой субъективности и примат «естествен-
7 130
97
ности» (системности, или включенности в контекст наличной кос-
моэнергетической ситуации), на деле основным источником
космических констант оказывались естественно-телесные пара-
метры человека, включая психический уровень (восприятие).
Чрезвычайно показательна в этом отношении так называемая
«традиционная медицина», теснейшим образом взаимосвязанная с
алхимической практикой. Провозглашаемая в этой сфере необ-
ходимость соблюдения математически обоснованных процедур
приготовления «эликсира бессмертия» при ближайшем рассмот-
рении оказывается эмпирически выведенным набором правил
личной гигиены, причем данное утверждение в принципе остается
верным и для внешне наиболее экзотических практик саморегу-
ляции (типа «внутренней» алхимии, нэйдань). Если к тому же
помнить, что основной характеристикой любой обусловленной в
натурфилософской теории колебаниями «гармонического эфира»
космоэнергетической ситуации является некое «взаимрдействие»
инь- и ян-энергий, а эти последние имеют источником, в част-
ности, представление о разнофункциональности и взаимодо-
полнительности полов, то антропологические корни натурфи-
лософии предстают в еще более обнаженном виде.
Какие последствия имеет все это для регуляции индивидом соб-
ственного поведения, нетрудно себе представить, если рассмат-
ривать индивидуальную жизнь как процесс, являющийся частным
случаем общесистемного жизненного энергетического «потока»
(частные «жизни» в таком случае трактуются теорией как некие
«флуктуации» в общеэнергетическом «поле» Системы). В случае
принятия такой точки зрения индивид оказывается в неком
понятийном пространстве, ориентация в котором осуществляется,
в общем, в рамках следующей простейшей схемы:
невежество— знание
смута— порядок
болезнь— здоровье
смерть— жизнь
Разумеется, список этих бинарных оппозиций открыт и может
быть продолжен и детализирован, однако парадигма останется
неизменной. Навигация индивида меж этих аксиологических мая-
ков осуществляется в соответствии с высшей стратегией выжи-
вания, что диктует индивиду всегда оставаться в ограничиваемых
человеческими параметрами пределах (что мы предлагаем назы-
вать принципом антропомерности), в общем избегая крайностей.
Именно этим последние и оказываются в данной системе ко-
ординат той «чрезмерностью» (го фэнь), которая на всех уровнях
— онтологическом, этическом и эстетическом — представляется
отклонением от нормально-оптимального, сбалансированного сос-
98
тояния Системы (разного рода природные аномалии, стихийные
бедствия, моральное или физическое уродство и т.д.), и притом
отклонением в высшей степени нежелательным, а подчас и пре-
ступным. Взгляд на жизнь и ее сохранение как на высшую цен-
ность разделяется всеми носителями натурфилософских взглядов,
включенными в данную культурную общность, независимо от
этих идеологических позиций (являются ли они приверженцами
«классики» или ее противниками ), по-видимому, опять же в
силу того обстоятельства, что приведенная выше схема представ-
ляет собой не что иное, как наиболее фундаментальное и нагляд-
ное представление космогенеза, понимаемого как ограничение ха-
оса космосом.
В то же время вполне очевидной представляется необходимость
усвоения данной аксиологической схемы через систему текстов,
письменных и устных, так или иначе демонстрирующих необ-
ходимость космологизации, или, что то же, гармонизации хаоса в
интересах максимального продления (оптимизации) жизни самого
«космоса», окружающей среды, социума и индивида. Это искусст-
во выживания, воспитываемое всей системой принятых в данной
культуре ценностей, и есть в конечном счете то, что обозначается
термином дао 'путь*. В самом общем виде этот «путь» прежде всего
«образ жизни», и даже «здоровый образ жизни», что, по всей веро-
ятности, и делает этот концепт неотразимо привлекательным для
философов экологического направления . В этом контексте
понятным становится настойчивый поиск экологистами паралле-
лей собственным установкам на «естественную» жизнь в рамках
различных культурных традиций, обладающих признаками
«системности», и в первую очередь восточных, позволяющих с
опорой на бесконечное количество текстов обосновать взгляд на
собственно «здоровье» (полноту-целостность, гармоничность и
т.д.) как на необходимый и важнейший компонент мироздания.
При этом неизбежен сознательный или бессознательный (послед-
нее было бы верно в отношении большинства практиционеров
йоги, натуральных продуктов, традиционных методов лечения и
т.п., но, разумеется, не относится к ориенталистам, развивающим
«новое» направление философского экологизма) пересмотр основ-
ных ценностных установок собственной культурной традиции,
подаваемый как «расширение» границ европоцентристски ориен-
тированной антропологии. Характерно, что на этом пути —
«космизации» европейского массового, и не только массового, соз-
нания — экологисты, в полном соответствии с общенатурфило-
софской парадигмой, начинают движение к утопическому идеалу
эстетически ценного «священного быта» именно с создания тек-
стов, самым прямым образом связанных с тем, что мы назвали
психосоматологией, и призванных убедить читателя в том, что его
7-2 130
99
собственное душевное и телесное здоровье в его руках, и нужно
лишь небольшое усилие для реализации гарантированного каждо-
му права на стремление к счастью вначале на индивидуальном, а
затем и на социальном уровне . Разумеется, апология «естествен-
ности» в действительности не нуждается ни в каких обращениях к
«Востоку», что прекрасно видно на примере европейского Просве-
щения и наследующих ему «идеологий», однако этот же пример
заставляет задуматься над вопросом, почему всякое обращение к
антропоцентричности и антропомерности почти автоматически
вызывает «восточные» культурно-эстетические ассоциации у
европейского субъекта, воспитанного в рамках отличной от выше-
описанной натурфилософии теоцентричной культурной традиции.
На наш взгляд, рассмотрение этой проблемы может представлять
интерес как для философов «экологического» направления, так и
для исследователей, занимающихся общими культурологи-
ческими темами, однако вполне очевидно, что такой анализ дол-
жен стать предметом обсуждения в рамках более широкого крос-
скультурного диалога .
ПРИМЕЧАНИЯ
Следует иметь в виду, что для древнекитайской традиции в целом не актуально
противопоставление души телу, поэтому во всех случаях постулируемого единства
тела индивида и тела космоса (а также социума) речь идет о психосоматическом
единстве. Соответственно некоторые психические реакции предполагались и у «кос-
моса», или «природы» (тянь) натурфилософской традиции. Эти представления
составляли теоретический фундамент как общерелигиозной «аксиоматики», так и
«специальных» знаний, в частности медицины, также традиционно связываемой с
«даосизмом». См. в связи с этим кругом вопросов работы М.Поркерта [17], К.Скиппе-
ра [18], а также большинство статей в сборнике под редакцией Ливии Кон [19].
2
Об этом, в частности, свидетельствует значительный удельный вес «даосского»
материала в посвященном проблемам и судьбам понятия «природа» в восточных
традициях сборнике, вышедшем под редакцией Дж.Б.Колликота и Р.Эймза [16].
Следует заметить, что редакторы (и авторы) сборника не разделяют экстремизма
«экологистов», связывающих нынешний кризис окружающей среды с «западными»
мировоззренческими установками. (Основателем антизападнического «экологизма»
Дж.Б.Колликот и Р.Эймз считают Л.Уайта-младшего.) Однако несомненным фак-
том представляется наличие устойчивых ассоциаций в массовом сознании между
«восточной философией» и эстетски-незаинтересованным отношением к природным
ресурсам.
Серьезные возражения против взгляда на конфуцианство как на чисто этико-
политическое учение, лишенное интереса к «природе» и «искусству» (последние
соответственно относятся к сфере интересов даосов), были выдвинуты А.М.Карапеть-
янцем [5, с. 192-206]. Тем не менее указанные «философские» топики с большей
легкостью обнаруживаются в «даосской» литературе, и не в последнюю очередь
благодаря тому, что наличие интереса к данной проблематике служило внутри самой
традиции критерием, по которому авторы текстов воспринимались как «даосы». В то
100
же время в таком тонком предмете, как медицина, по верному наблюдению М.Пор-
керта, соотношение «конфуцианскости» и «даосскости» (или «науки» и «искусства»)
всегда оставалось достаточно неопределенным [17, с.244-245].
4
Чрезвычайно характерно в этом отношении обращение экологистов к проблеме
прав животных, постоянные указания на ответственность перед будущими поко-
лениями людей и т.д. (См. [16, с.272-289]. Данная проблема подробно разобрана в
посвященной «Люйши чуньцю» работе Дж.Селлмана, которому мы, пользуясь слу-
чаем, выражаем благодарность за предоставленную рукопись монографии.)
Речь идет о «Люйши чуньцю», относительно которого традиция утверждает,
что он был составлен при дворе видного циньского сановника Люй Бувэя его «гос-
тями» (бинькэ) около 240 г. до н.э. (Подробнее об этом памятнике см. [8, с.36-40].)
«Люйит чуньцю» в целом представляет собой яркую попытку создания утопической
модели мира, что до известной степени сознавалось его предполагаемыми авторами,
о которых Сыма Цянь (ок. 145-86 г. до н.э.) писал, что они задались целью
«изложить по порядку [исчерпывающе] все, касающееся неба—земли, всего суще-
ствующего, событий древности и современности» [22, с. 684].
На наличие композиционного плана указывает, в частности, структура
«Люйши чуньцю»: так, только наличием авторского замысла может быть объяснено
использование при организации материала различных, «нумерологически
значимых» числовых комплексов, единой для всего текста композиционной модели
«главы» (пянь) и т.д. [8, с. 10-11].
В «Люйши. чуньцю» не содержится материалов, которые можно было бы рас-
сматривать в качестве «литературной мысли» — обычно началом такого рода
поэтики считают так называемое «Великое введение» к «Книге перемен» [3, с. 178-
181 и приводимая здесь И.С. Лисевичем библиография]. Датировка «Введения»
проблематична, как и атрибуция одной из самых ранних авторских поэтик Цао Пи
(187-226 гг. н.э.), так что о собственно литературной теории принято говорить в связи
с трактатом Лю Се, завершенном, как считают, около 501 г. В то же время «Вэньсинь
дяолун» Лю Се описывает литературное творчество в терминах, первоначально вы-
работанных натурфилософией для описания космогонии, центральным моментом
которой авторы ЛШ полагали музыку. Отсюда их внимание к музыкально-
теоретической системе (люй), что уже имеет самое непосредственное отношение и к
эстетике [8, с.40-55].
о
Процесс институализации имперской «науки» был длительным, однако важ-
нейшим моментом в нем, по-видимому, справедливо считается трактат, составлен-
ный Вань Гу (32-92 гг. н.э.) по материалам дискуссии, проведенной в 79 г. в «Байху-
гуань» («Зале Белого тигра») под наблюдением императора [6, с.72-75].
о
Космогонический миф древнекитайской традиции известен в основном по ма-
териалам средневековых памятников. Подробнее об этом см. работы Юань Кэ [10,
с.28], В.В. Евсюкова [2, с.34-47], Б.Л. Рифтина [10, с.378], Н. Жирардо [13], а
также монографию Э.М. Яншиной [11, с. 121].
10 „ „
Дао — одна из основных категории древнекитайского умозрения — в самой
традиции относится к числу неопределяемых понятий. В контексте ЛШ — это
демиург, источник «жизненной силы», или «гармонического эфира», а также
принцип-метод, овладение которым делает «мудреца» равным демиургу.
О происхождении космоса из хаоса см. [8, с.40-42]. Приведем также
описание дао в известном фрагменте «Дао дэ цзина»^(§ 25) в экспрессивном переводе
Ян Хиншуна: «Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О
беззвучная! О лишенная формы!» [1, с. 12].
7-3 130
101
Носителями сознания «теоретического типа» были в рассматриваемый период
так называемые «интеллектуалы» (иш), члены «рыцарского сословия», к числу ко-
торых относились и «гости» Люй Бувэя. История этого сословия в ее отношении к
китайской культуре рассмотрена Юй Инши (считающим данную общественную
группу прототипом «интеллигенции») [23, с.31].
13
В частности, авторы ЛШ отмечают, что мифический правитель Яо не смел
называться титулом предка — ди в общении со своим советником, облаченным в
холщовую одежду, Шань Цюанем, поскольку тот был мужем, владеющим дао [21,
т.2,с.879].
14
Проблему индивидуальной одаренности на материале ЛШ рассмотрел, в час-
тности, Лэй Чжэньсяо [20, с.760-791]. Следует иметь в виду, что индивидуальные
задатки в конечном счете предопределяются удачной конфигурацией «гармоничес-
кого эфира», что может объясняться как наследственностью, так и временем рож-
дения (отсюда возможность предсказания «судьбы»).
В данном случае речь идет не о «гносисе гностицизма» как исторически опре-
деленном феномене, а о более широком явлении, связанном с неким особым типом
ментальности. Об этом В.К. Шохин, в частности, пишет, что «гносис можно было бы
определить как универсалию эзотерических сотериологий, адепты которых получа-
ют посвящение в мистерию особого космологическо-антропологического тайного
знания, зашифрованного особым "иератическим" языком и опорного для разработки
индивидуальных духовных практик» [9, с.65].
Идея самовоспитания, «работы над собой» занимает центральное место в
классическом китайском умозрении. В то же время именно эта концепция подверга-
лась аргументированной критике со стороны противников классического идеала
«благородного мужа» (цзюньцзы). Натурфилософы пытались примирить полярные
точки зрения по данной проблеме [8, с.233-235].
17
Авторы ЛШ к идее бессмертия относились отрицательно, что и заставляло их
с особенной силой настаивать на высшей ценности посюстороннего существования
[21,т.1,с.74-76].
В данном случае выбранный нами переводческий эквивалент («гармони-
ческий эфир») призван указывать на два основных свойства универсального субст-
рата натурфилософии — субстанции ци — динамичность и свойство служить пере-
даточной средой для исходящих от дао-демиурга импульсов.
Пара инь—ян представляет собой принципиально открытый оппозиционный
ряд, маркирующий соотношение таких признаков, как «влажный—сухой», «подат-
ливый—твердый», «неподвижный—активный» и т.д.
20
Например, причину всякого рода болезней натурфилософы видели в психо-
логической расположенности индивида к увлечению всякого рода привлекатель-
ными вещами: «От неба-природы воде присуща чистота, но примешивающаяся
грязь-земля не дает ей остаться чистой. От природы человеку свойственно долго-
летие, но вмешивающиеся (привлекательные внешне) вещи не дают ему достичь
долголетия» [21, т. 1, с.20].
21
Наиболее характерными примерами являются, на наш взгляда-работыФ. Кап-
ры [12], а также Дж. Лавлока [15].
22
О музыкально-теоретической системе люй см. работу М.В. Исаевой [4, с.114-
171].
23
Следует оговориться, что рациональность в понимании натурфилософов была
неотделима от «правильности» в отношении к ритуалу как к организующему центру
102
жизни социума: «... обряды — это высшая мера поведения людей» (Сыма Цянь).
Соответственно высшим типом интеллекта признается такой, какой не просто «раз-
мышляет и доискивается до сути обрядов», но «способен размышлять и оставаться
твердым и вдобавок к этому любить обряды и ритуал» [7, т.4, с.68].
Отдельную проблему составляет фиксируемая в традиции амбивалентность
отношения к «хаосу» со стороны интеллектуалов: от увлеченности его стихийной
игрой до опасения и даже неприязни к его деструктивным аспектам [13, с.39-40].
25
Сыма Цянь для описания работы авторов под руководством Люй Бувэя упот-
ребляет глагол бэй — букв. * [все] подготовить*, но в данном контексте скорее 'дать
развернутую [полную] картину* [22, с.634].
Модель, предложенная авторами ЛШ, была принята в империи в качестве
официальной картины мира, что подтверждается описанием «развертывания» кос-
моса в трактатах Сыма Цяня, в первую очередь в «Трактате о л/ой» {«Люй ту»), где,
в частности, говорится: «Все, что приобрело форму, исчисляется и, будучи оформ-
ленным, образует звуки» [7, т.4, с.106; т.22, с.173].
27
Основой композиции «Юэ лин» служит двенадцатиступенный звукоряд, со-
отнесенный с двенадцатью лунами (месяцами) годового цикла и имеющий опреде-
ленные пространственные «привязки» (весна — восток, лето — юг и т.д.).
28
Как указывает специально исследовавший феномен коррелятивизма
Дж.Б. Хендерсон, определенные рецидивы мышления этого типа были характерны
для «научных» теорий, имевших хождения в Европе вплоть до середины прошлого
века [14,с.201-203].
29
Схема Интана реконструировалась на основании различных текстов много-
кратно как китайскими, так и европейскими филологами. Одна из схем, в основе
которой лежит девятичленный магический квадрат, приводится Дж.Б. Хендер-гЩрм
в его монографии, посвященной китайской космографии и космологии [14, с. / 9j.
30
Новое административное деление на округа, или области, преследовало целью
ликвидацию бывших территориальных владений ужа-хоу, местных властителей,
которые были заменены назначаемыми из центра администраторами: «[Ши-хуан]
разделил Поднебесную на тридцать шесть областей, в каждой области поставил
начальника — шоу, воеводу — вэя и инспектора — цзяня» [7, т.2, с.64].
31
Более того, авторы ЛШ без обиняков связывали возникновение государствен-
ной власти с военной деятельностью, подчеркивая, что всякая авторитетная фигура,
включая сына неба, возникает в ходе вооруженной борьбы [8, с. 183-184].
32
«Гусли цинь имеют длину 8 чи и один цунь> и это правильный размер.
Большая струна на них издает тон гу«, и, поскольку она помещается в центре
инструмента, она [подобна] господину [над остальными струнами]» [7, т.4, с.95].
Абсолютные размеры струн оставались неизвестны, так как меры длины в империи
неоднократно пересматривались в основном по идеологическим соображениям, да-
леким от практики.
33
Известно, в частности, что построение больших подборов колоколов типа най-
денных в погребении цзянского хоуИ (числом 65) предполагало наличие музыкаль-
но-теоретических знаний, которые при империи были утрачены.
34^
О «дополнительности» классических и контрклассических воззрении в древ-
некитайской культуре писали многие исследователи традиции. См., в частности,
рассуждения об этом феномене в монографии Н. Жирардо [13, с.39-40].
Некоторые экологисты, прокламирующие переход от исчерпавших себя
«индустриальных» ценностей к культуре сосуществования с «природой», вообще
7-4 130
103
склонны, как это делает У.Томпсон, устанавливать для различных культур взаимос-
вязь понятий «зло» и «загрязнение окружающей среды» [16, с.34].
В этом контексте даже научные по форме (и по содержанию) исследования
приобретают некоторый налет рекламности, поскольку обращаются к читателю с
заверениями в «реальности» результатов, достигаемых с помощью медитационнои
техники и т.п. практик [19, с. 159].
37
Хорошую основу для такого диалога, на наш взгляд, составляет инициатива
Дж.Б. Колликота и Р.Эймза, впервые предпринявших попытку рассмотрения самого
понятия природы (естественности в традициях Востока и Запада [16]).
ЛИТЕРАТУРА
1. Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972.
2. Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосибирск, 1988.
3. Историко-филологические исследования. М., 1974.
4. История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1986.
5. Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.
6. Синицын Е.П. Бань Гу — историк древнего Китая. М., 1975.
7. СымаЦянь. Исторические записки (Ши цзи). Т.1-5. М., 1972.
8. ТкаченкоГ.А. Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в «Люйши чуньцю». М.,
1990.
9. Шохин В.К. Брахманистская философия (рукопись).
10. ЮаньКэ. Мифы Древнего Китая. М., 1988.
11. Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984.
12. Capra F. The Tao of Physics. London, 1986.
13. GirardotNJ. Meth and Meaning in Early Taoism. Berkeley, etc., 1983.
14. Henderson /. B. The Development and Decline of Chinese Cosmology. New York, Д 984.
15. Lovelock /. Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford, 1979.
16. Nature in Asian Traditions and Thought. Essays in Environmental Philisophy. Ed. by
J.Baird Callicott and Roger T.Ames. New York, 1989.
17. PorkertM., Ullman Cfu Chinese Medicine, Its History, Philosophy and Practice, and
Why It May One Day Dominate the Medicine of the West. Tr. M.Howson. New York,
1988.
18. Schipper Kr. Le Corps Taoiste. Paris, 1982.
19. TaoYst Meditation and Longevity Techniques. Ed. by Livia Kohn. Ann Arbor, 1989.
20. Лэй Чжэньсио. Чжунго жэньцай сысяи ши (История китайских идей о человеке).
Пекин, 1986.
21. Люйши чуньцю цзяоши («Люйши чуньцю» с сопоставительным комментарием).
Комментарий Чэнь Цию. Т. 1-4. Шанхай, 1988.
22. СымаЦянь. Ши цзи (Исторические записки). Чанша, 1988.
23. Юй И мши. Ши юй Чжунго вяньхуа (Интеллектуалы ши и культура Китая).
Шанхай, 1988.
Д.В.Фролов
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В КОРАНЕ
Споры о том, что такое мусульманская эстетика, идут давно.
Достаточно вспомнить, например, работы таких противополож-
ных по своей позиции исследователей, как Л. Масиньон [5] и
A.B. Сагадеев [7 ]. Однако, хотя совместными усилиями спорящих
сделано уже немало, точку ставить еще рано, и одним из наименее
ясных пока вопросов остается генезис тех представлений, которые
сложились в рамках культуры мусульманских народов в более или
менее законченную систему эстетических взглядов. Возможно, де-
ло тут в том, что, излагая и доказывая определенную точку зрения
на суть мусульманской эстетики, ученые хотя и ссылаются на Ко-
ран, но, как правило, делают это мельком, сосредоточивая вни-
мание на текстах значительно более поздних. Мы же в данной
статье избираем предметом рассмотрения именно коранический
текст.
Откровение ниспосылалось Мухаммаду частями в течение бо-
лее чем 20 лет, и оттого коранический текст обладает внутренней
временной перспективой, в которой нашла отражение эволюция
первоначального учения. Эту временную перспективу мы будем
учитывать в своем исследовании. В мусульманской традиции суры
Корана по времени и соответственно месту пребывания Мухамма-
да в момент ниспослания делятся на ранние, мекканские (90 сур),
и поздние, мединские (24 суры). В европейском корановедении
усилиями Г. Вайля, Т. Нельдеке и других ученых сложилась более
дробная периодизация за счет того, что мекканские суры были
распределены по трем периодам : первый (поэтические суры) :—
48 сур, второй (рахманские суры) — 21 сура, третий (пророческие
суры) — 21 сура (подробнее см. [4; 9]). В композиции Корана, где
суры расположены в соответствии с нестрого выдержанным прин-
ципом убывания длины, реализована своего рода «обратная» хро-
нология, так как самые длинные, поздние суры оказываются в на-
чале текста, а самые короткие, древнейшее — в его конце.
©Д.В.Фролов, 1995
105
I ПЕРИОД (ПОЭТИЧЕСКИЕ СУРЫ)
Суры этого периода, число которых равно 48, расположены бо-
лее или менее компактно во второй половине текста (№№ 68-114
с единичными вкраплениями сур более позднего периода: № 98,
ПО — IV период, № 71, 72, 76 — II период). Отдельно располо-
женная группа сур (№ 51, 52, 53, 55, 56) довольно сильно отлича-
ется от остальных сур этого периода и по стилю, и по содержанию,
походя более на суры следующих периодов, куда их многие иссле-
дователи и относят, либо полностью, либо частично.
Этот древнейший слой коранического текста прямо продолжает
традицию древнеаравийского кахинского саджа и в наиболее
чистом виде отражает менталитет жителей доисламской Аравии,
который стал отправной точкой для становления мусульманского
сознания и мусульманской идеологии. Суры этого времени не поз-
воляют говорить о близком знакомстве Пророка с библейской
традицией; лишь в конце периода появляются беглые упоминания
ветхозаветных персонажей — Ибрахима (Авраама), Мусы (Мои-
сея), Нуха (Ноя), «спутника кита» Йунуса (Ионы), гонителя
иудеев — фараона (фираун) .
Коран начинается как книга грозного этического императива.
Заклинания уверовать в Единого Бога перемежаются с впечатля-
ющими угрозами неверным и обещаниями воздаяния уверо-
вавшим. Дескриптивный момент, если не считать красочных,
«сюрреалистических» образов, всполохами освещающих страст-
ную проповедь монотеизма, довольно слаб. Сначала может пока-
заться, что в этом раннем пласте текста эстетический (впрочем,
как и космогонический) момент отсутствует вовсе, настолько
мощно этическое учение ислама вбирает в себя все остальное.
Красота, прекрасное, как таковые, ни разу не попадают в центр
внимания, фактически оставаясь вне поля зрения смотрящего.
Тем не менее в распоряжении исследователя оказывается весьма
любопытный материал, крупицами разбросанный по тексту и
зафиксированный в лексике Корана и его образной системе.
Безусловно, мир этих сур, как и всего Корана, — это мир Бо-
жественного провидения, человеческих деяний и воздаяния за
них, разворачивающийся в эсхатологической перспективе, т.е.
прежде всего во времени, а не в пространстве, подобно греческому
космосу. Однако представление о наличии миропорядка и устрой-
ства мироздания в Коране присутствует уже на этой стадии. Воп-
лощением этого представления стал сквозной для Корана образ
здания с колоннами и сводчатой крышей — храма или дворца.
В первый раз этот образ появляется как «огнь Аллаха», кото-
рый «воздвигнут сводом на колоннах, вытянутых» над сердцами
грешников (104:6-9) . Само слово мУсада> которое И.Ю. Крач-
106
ковский правильно перевел как 'свод', хотя лексически оно ближе
к значению 'крыша' вообще, независимо от формы, повторяется в
Коране лишь раз, в точно таком же контексте, как нсир мУсада
'огонь сводчатый* (90:20). Несколько больше повезло лексеме
'амад Симсцд) 'колонны', которая еще трижды встречается в тек-
сте (13:2; 31:103; 89:7).
Упоминание «Ирама многоколонного» (Ирам зсит ал-'имсид)
в связи с уничтожением Аллахом за грехи южноаравийского пле-
мени 'ад (89;7) прорисовывает генезис этого образа в две стороны
[6, с.253 ]. С одной стороны, он проясняет его возможное земное
основание — это либо легендарные древние города Йемена, либо,
согласно современным данным, набатейский храм ар-Рамм в Се-
верной Аравии. С другой стороны, намекает на его небесный
прототип: комментаторы утверждали, что Ирам был построен в
Южной Аравии царем Шаддадом в подражание раю; некоторые
исследователи видели в образе Ирама отзвук древнейших космо-
гонических представлений аравийских племен.
«Примеренный» к аду (104:6-9; 90:20), к раю — косвенно, че-
рез образ Ирама (89:7), образ здания со сводом и колоннами ут-
вердился как модель описания устройства мира посюстороннего,
правда в несколько ином лексическом облачении. На новый
объект были перенесены три основных структурных элемента
образа; свод, колонны-опоры и плоский пол, которые соотносились
с тремя составляющими вселенной в представлении жителя
Аравии: небесным сводом, горами и пустынной равниной земли.
Образ этот с различными вариациями повторяется в сурах раннего
периода многократно, обычно как одно из главных доказательств
совершенства и всемогущества Творца. Вот контекст, где образ
дан в наиболее «концентрированном» виде:
«Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, и на не-
бо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю,
как она распростерта» (88:17-20) .
Вот другой контекст, где ясно просматриваемый «скелет» обра-
за уже начал обрастать «мясом» подробностей:
«Вы ли труднее для создания или небо? Он его построил, воздвиг
свод (самк) его и устроил, омрачил ночь его и вывел зарю, и землю
после этого распростер, вывел из нее ее воду и пастбище, и горы — *
Он утвердил их, на пользу вам и вашим скотам» (79:27-33).
В следующем контексте в образ, также развернутый, добавлен
существенный элемент — иерархическое устройство неба из семи
твердей (образ довольно постоянный в Коране, равно как и число
семь само по себе):
«Разве Мы не сделали землю подстилкой и горы — опорами
(аутсидан); и создали Мы вас парами, и сделали сон ваш отдыхом, и
107
сделали ночь покровом, и сделали день временем жизни, и
построили над вами семь твердей, и сделали пылающий светильник,
и низвели из выжимающих дождь воду обильную, чтобы произвести
ею зерна и растения и сады густые» (78:6-16).
Отметим два принципиальных момента эволюции образа: в
пространственную картину мироздания вплетается второй аспект,
второй план миропорядка — временной; само же мироздание, вер-
нее, его остов путем добавления деталей во все большей мере
превращается в дом, созданный для безбедного житья в нем чело-
века, а Всемогущий Творец предстает также и Всеблагим. Тем са-
мым образ в какой-то степени эстетизируется, представляя
жизненный идеал, соотнесенный с условиями существования ара-
ба, кочевника и земледельца.
В отдельных случаях может выпадать один из трех базисных
элементов образа, как правило горы:
«Клянусь солнцем и его сиянием, и месяцем, когда он за ним сле-
дует, и днем, когда он его обнаруживает, и ночью, когда она его пок-
рывает, и небом, и тем, что его построило, и землей, и тем, что ее
распростерло, и всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей
распущенность ее и богобоязненность!» (91:1-8).
В данном случае место отсутствующего элемента занял объект
другого ряда — душа человеч^'^ая, и целостный образ обрел
этическую грань. Микрокосм оказался включенным в одну модель
с макрокосмом. В двух других коьгекстах, входящих, что приме-
чательно, в суры обособленного блока, более похожего на поздние,
чем на ранние суры, падение третьего элемента происходит без
компенсации и исходная трехчленная модель фактически уступа-
ет место двучленной («небо—земля»):
«И небо Мы воздвигли руками, ведь Мы — расширители. И зем-
лю Мы разостлали. И прекрасные (ни'ма) устроители Мы!»
(51:47-48).
«Милосердный. Он научил Корану, сотворил человека, научил
его изъясняться. Солнце и луна — по сроку, трава и деревья покло-
няются. И небо Он воздвиг и установил весы, чтобы вы не нарушали
весов! И устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов. И
землю Он положил для тварей. На ней — плоды и пальмы с чашеч-
ками, и злаки с травой, и благоуханные травы» (55:1-12).
Отметим два новых момента: в картину мироздания включены
Коран, т.е. знание, и способность человека изъясняться, т.е. язык;
впервые в структуру образа прямо входит оценочный момент, вы-
раженный словесно: «И прекрасные устроители Мы», хотя стан-
дартное клише, употребленное в оригинале, указывает скорее на
совершенство вообще, чем на красоту в собственном смысле.
Подведем.итоги. Развертывание образа мироздания на основе
четко оформленной трехчленной структуры, включение в него все
108
новых и новых граней приводит в конце концов к размыванию,
разложению этой первоначальной структуры. Конечный образ, ни
в одном из контекстов не выраженный полностью, охватывает
помимо статического момента еще и динамический, временной ас-
пект миропорядка. Человек с его душой, этическими нормами,
ниспосланным знанием (Коран) и языком введен в эту картину,
которая рисует мир, как дом, где человеку (скотоводу, земледель-
цу, торговцу) предназначено жить. В образе дома, а также в обра-
зе Творца, этот дом создавшего, непросто, но все-таки можно раз-
глядеть зарождение эстетического восприятия объекта, еще не
только не обособленное, но скорее всего даже и не вполне осознан-
ное.
Второй образ, в котором воплощено представление о прекрас-
ной жизни, это образ рая. Описаний рая уже в текстах первого
периода много, больше десятка, длиной от одного до десяти-две-
надцати аятов. Правда, большая часть этих описаний (7 контек-
стов) приходится на суры № 51, 52, 55, 56, входящие в уже
упоминавшуюся, композиционно обособленную группу, ближе
стоящую к поздним, чем к ранним сурам. Описания эти не имеют
столь жесткой структуры, как картины мироздания, и в них труд-
но усмотреть эволюцию образа, разве что они становятся все более
развернутыми, а образ гурий все заметнее выдвигается на первый
план.
Многое в этом образе определяет менталитет жителя знойной
Аравии. Рай в Коране — это прежде всего сад, оазис, с которым
связано то, о чем бедуин мечтает более всего, — вода, прохлада,
тень, покой и нега, вдоволь пищи. Коротенькая формула, содер-
жащая первое в Коране описание рая — «сады, под которыми те-
кут реки» (85:11), — выделяет главное в образе и оттого ста-
новится в последующие периоды стандартным клише для обозна-
чения этого понятия. А вот другие образцы наиболее лаконичных
описаний рая, варьирующие ту же идею:
«покой, и аромат, и сад благодати» (56:89);
«богобоязненные — среди садов и источников» (51:15);
«Богобоязненные ведь среди тени, и источников, и плодов, каких ни
пожелают. Ешьте и пейте во здравие за то, что творили!» (77:41-43).
Постепенно в описание рая вплетается вторая тема — тема рос-
коши (ложа, подушки, ковры) и наслаждений (вино и гурии):
«Ведь для богобоязненных есть место спасения, сады и виног-
радники, и полногрудые сверстницы, и кубок полный» (78:31-34);
«в саду возвышенном... Там источник проточный, там ложа воз-
двигнуты, и чаши поставлены, и подушки разложены, и ковры разо-
стланы» (88:10,12-16);
«праведники в благоденствии на ложах созерцают!.. Поят их ви-
ном запечатанным, после которого — аромат мускуса... Смесь его
109
из таснима — источника, из которого пьют приближенные»
(83:22-23,25-28);
«богобоязненные — среди садов и источников, забавляясь тем, что
дал им Господь их, и Господь их избавил их от мучений геенны. Ешь-
те и пейте во здравие за то, что совершали, возлежа на ложах, рас-
ставленных рядами. И Мы сочетаем их с черноглазыми, больше-
окими... И снабдим Мы их плодами и мясом из того, что они пожела-
ют. Они передают одни другим кубок, — нет пустословья там и
побуждения к греху. И обходят их юноши, точно они сокровенный
жемчуг» (52:17-20, 22-24).
В заключение приведем два наиболее развернутых описания,
каждое из которых представляет собой соединение двух описаний,
следующих практически одно за другим в одной суре:
«в садах благодати... на ложах расшитых, облокотившись на них
друг против друга. Обходят их мальчики вечно юные с чашами, сосу-
дами и кубками из текучего источника, от которого не страдают го-
ловной болью и ослаблением, и плодами из тех, что выберут, и мясом
птиц из тех* что пожелают. А черноокие, большеглазые, подобные
жемчугу хранимому, — в воздаяние за то, что они делали... среди ло-
тоса, лишенного шипов, и талха , увешанного плодами, и тени про-
тянутой, и воды текучей, и плодов обильных, не истощаемых и не
запретных, и ковров разостланных. Мы ведь создали их творением и
создали их девственницами, мужа любящими, сверстницами»
(56:12,15-23,27-36);
«два сада... обладающие ветвями... В них два источника протека-
ют... В них — из всяких плодов два сорта... Опираясь на ложа, подк-
ладка которых из парчи, а сорвать плоды в обоих садах — близко...
Там скромноокие, которых не коснулся до них ни человек, ни
джинн... Они — точно яхонт и жемчуг... И помимо двух — еще два
сада,... темно-зеленые... В них — два источника, бьющие водой... В
них плоды, и пальмы, и гранаты... В них добротные, прекрасные,...
скрытые в шатрах,... Не коснулся их до них ни человек, ни джинны,
... опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры»
(55:46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76).
Не вдаваясь в детали этих чрезвычайно подробных описаний,
где специально оговаривается даже то, что от райских напитков не
болит голова, укажем, что именно в картинах рая возникают
отчетливо эстетизированные объекты. Прежде всего это райские
девы, в обстоятельной характеристике которых эстетический мо-
мент довольно силен. Гурии в Коране черноокие, большеглазые,
болыпегрудые, подобные жемчугу и яхонту (драгоценные камни
на Востоке издревле были воплощением красоты) и, наконец,
просто прекрасные (хиссин). Затем это юные виночерпии, появля-
ющиеся только в текстах, переходных к следующему периоду, ко-
торые тоже подобны жемчугу и никогда не стареют. Затем это
предметы роскоши : ложа расшитые, с подкладкой из парчи,
подушки зеленые (единственный цвет, упомянутый в этих
описаниях, ставший в конце концов цветом ислама), ковры прек-
110
расные (хиса:н). Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что складывающееся понятие о красоте весьма избирательно, даже
«приземлено». Например, в раю нет ни музыки, ни искусства во-
обще, если не считать прикладного, связанного с предметами рос-
коши. Однако в целом, как и можно было ожидать, описания рая
более эстетизированы, чем картины мироздания.
И мироздание, и рай, и ад, который мы здесь не рассматриваем,
— это все обиталища для человека в его нынешней и грядущей
жизни. А что же сам человек? В ранних сурах есть представление
о человеке как совершеннейшем творении Бога: «Мы сотворили
человека в прекраснейшем облике (ахсан таквшм)» (95:4) . Аят
этот комментаторами толковался по-разному, в том числе и как
относящийся непосредственно к телесной красоте, по мнению Ибн
Касира [3, т.4, с.527 ]. Применительно к акту творения человека
регулярно употребляются близкие по значению глаголы савва:
'выровнял', 'устроил', адала 'соразмерил', 'выпрямил', отража-
ющие идею внесения порядка, гармонии в его природу (75:38;
82:7; 87:2). Точно так же, как вьфовнена, устроена природа (душа
и тело) человека, устроена и его жизнь. Ее порядок *— это кадар
'срок', 'предопределение', 'судьба', 'рок', а установление этой
судьбы в процессе творения выражается однокоренными глаго-
лами каддара и кадара (77:22, 23; 80:19; 87:3). Для ориентации в
этой судьбе Аллах направил (хада:) человека, человеку же по
отношению к року, к божественному предопределению положено
обладать сабр 'терпением', 'стойкостью', 'смирением'. Именно в
сочетании со словом сабр, т.е. в связи с этической категорией,
являющейся одной из главных мусульманских добродетелей,
впервые в Коране появляется прилагательное джамшл 'прекрас-
ный', 'красивый', 'хороший' (70:5).
Обратимся к фигуре Творца, количество эпитетов которого,
как и следовало ожидать, очень велико. Уже в этих ранних сурах
встречается около четверти их, получивших в кораническом тек-
сте, но более позднего периода (7:180; 17:110; 20:8; 59:24), и в му-
сульманском богословии название «прекраснейшие имена» (ал-ас-
ма: ал-хусна:). Среди них: Господь (№ 114 — рабб), Царь
(№114 — малик) , Высший Судия (№95 — ахкам ал-ха:кими:н),
Единый (№ 112 — ахад), Вечный (№ 112 — самад), Высочайший
(№ 87 — а'ла:), Великий (№ 69 —' азшм), Величественный и Все-
славный (№ 55 — зу-л-джала:л ва-л-икршм), Достохвальный
(№85 — хами:д), Могучий (№ 85 — *ази:з), Мощный (№ 53 —
шадшдал-кувва), Могущественный (№53 — зу: мирра), Сильный
(№51 — зу-л-кувва), Крепкий (№ 51—мати:н), Щедрейший
(№ 96 — акрам), Щедрый (№ 82 — каршм), Прощающий
(№ 85 — гафу:р), Любвеобильный (№ 85 — ваду:д), Милосердный
(№ 78 — рахма:н), Милостивый (№ 73 — рахшм), Благодетель
111
(№52 — барр), Кормилец (№ 51—раззсхк). Можно заметить,
что эпитеты эти, подчеркивающие в совокупности величие и бла-
гость Божества, совершенство Его во всех отношениях, в общем-то
эстетизированы крайне незначительно и нового материала к на-
шей теме не дают.
Эстетический момент сильнее в наборе эпитетов, характеризу-
ющих Коран и истину ислама в целом. Так, Коран характеризует-
ся как: «славный» (85:21—маджи:д), «почтенный» (мукаррам),
«возвышенный» (марфу:')> «чистый» (мутаххар) —все в (80:13-
14), «великий» (78:2 — *ази:м), «благородный» (56:76 — каршм).
Укажем также на фрагмент из суры «Ночь»:
«Но тот, кто был щедр и богобоязнен и считал истиной прекрас-
нейшее (ал-хусна:), тому Мы облегчим путь к легчайшему. А кто был
скуп и обогащался и считал ложью прекраснейшее (ал-хусна:), тому
Мы облегчим путь к тягчайшему» (92:5-7),
где слово ал-хусна: толкуется обычно, хотя и с вариациями, как
относящееся либо к Корану непосредственно, либо к какой-то
части откровения.
Эпитеты, связанные с образом Мухаммада, набор которых
весьма невелик и состоит либо из функциональных характеристик
(«напоминатель», «увещатель»), либо «отрицательных» харак-
теристик («не поэт», «не прорицатель», «не одержимый», «не
властитель»), либо, редко, характеристик оценочных, к эстетичес-
кому аспекту в Коране отношения практически не имеют и
специально здесь рассматриваться не будут.
Завершая обзор текстов первого периода, выделим два момен-
та: во-первых, представление о прекрасном, еще не вполне оформ-
ленное, уже расцеплено и существует как бы на двух уровнях —
возвышенном, в отнесении к понятиям, связанным с исламом
(откровение) и мусульманскими добродетелями, и бытовом,
заниженном, связанным с женской красотой и предметами рос-
коши; во-вторых, оба корня, через которые прежде всего выража-
ется в арабском языке идея красоты (хусн или джамал), уже встре-
чаются в соответствующих контекстах, хотя и не часто.
II ПЕРИОД (РАХМАНСКИЕ СУРЫ)
Начиная с этого периода библейские сюжеты и персонажи
встречаются в Коране постоянно и фундаментом откровения исла-
ма становится не только собственная, аравийская традиция, но и
вся древняя ближневосточная традиция монотеизма. Главным
формальным признаком сур II периода, в целом не очень
отчетливо отделенных от сур III периода, является частое повто-
рение эпитета Аллаха — «Милосердный» (рахма:н), который в су-
рах I периода упоминается считанные разы, причем все это «по-
112
граничные» случаи: № 1 — главная мусульманская молитва,
отнесение которой к раннему периоду достаточно условно;
№ 55 — относится, как было сказано выше, к переходной зоне
между двумя периодами; № 78 — где аят с этим эпитетом счита-
ется поздней вставкой; в сурах III периода упоминается редко, а в
сурах IV периода вообще не встречается. Выдвигается на первый
план образ Корана, который пунктиром прочерчен сквозь все суры
периода* Так, в частности, клятвы, которых значительно меньше,
чем ранее, в основном это клятвы Кораном. Объем текстов этого
периода намного больше (хотя число сур меньше), поэтому кон-
тексты, имеющие отношение к нашей теме, мы будем приводить
выборочно.
Образ мироздания продолжает оставаться одним из централь-
ных, но претерпевает существенные изменения. С одной стороны,
третий элемент мироздания, горы — опоры свода, соотносимые с
колоннами — опорами храма, обретает постоянный эпитет-на-
звание равсиси: 'прочно стоящие' (пер. И.Ю. Крачковского), один
раз встречавшийся уже ранее (77:27) (см.: 50:7; 27:61; 21:31). С
другой стороны, сдвиг в семантике образа с формального, струк-
турного момента на момент функциональный, преобразование
образа мироздания-храма в образ обители человека, ограниченной
пространственно тремя координатами: небо, земля, горы, живу-
щей в соответствии с размеренным ходом времени, где все, в том
числе и человек, имеет свое предопределение, свой Богом данный
порядок, свою судьбу (кадар), приводит к тому, что при сохра-
нении трехчленной структуры образа третий член переосмыслива-
ется как весь «этот мир», или то, что «между небом и землей», где
горы — лишь одна из составных частей. Такое понимание состав-
ляет основу распространенного клише «небо и земля и то, что
между ними», по отношению к чему Бог выступает как Творец и
Господин (см. 20:6; 21:16; 25:59; 38:10,27; 44:38)7. Развернутые
картины становятся еще более развернутыми, и хотя во многих из
них все три основных элемента присутствуют, но они едва прогля-
дывают сквозь массу подробностей. Эстетический аспект, аспект
совершенства и красоты творения в них выражен сильнее и откро-
веннее, в нем появляется совершенно новый момент, начисто
отсутствующий в сурах первого периода, — понимание красоты
как украшения (зи:на), не внутренне присущего миру, а придан-
ного ему извне.
Вот образцы таких описаний, где три элемента налицо:
«Разве не смотрели они на небо над ними, как Мы воздвигли
его и разукрасили (заййанна:), и нет в нем расщелин? И землю
Мы распростерли и устроили на ней прочностоящие
{равсисш) и произрастили на ней всякие красивые (бахшдж) пары
для созерцания и напоминания всякому рабу обращающемуся. И
8 130
ИЗ
низвели Мы с неба воду благословенную и произрастили ею сады и
зерна посевов, и пальмы высокие — у них плоды рядами, — в удел
рабам, и оживили ею мертвую страну. Тахов исход» (50:6-11).
«Тот ли, кто создал небеса и землю и низвел вам с неба
воду, и Мы взрастили ею сады великолепные (жт бахджа)... Тот ли,
кто сделал землю твердой, и устроил в расщелинах ее каналы, и
устроил для нее прочно стоящие (раваси), и устроил между
двумя морями преграду?.. Тот ли, кто отвечает утесненному, когда он
взывает к Нему, и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле?..
Тот ли, кто ведет вас во мраке суши и моря и кто посылает ветры
радостной вестью пред Своим милосердием?.. Тот ли, кто впервые
начал творение, а потом возобновляет его, и кто питает вас с неба и
земли?..» (27:60-61).
«Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и
земля были соединены, а Мы разделили их и сделали из воды вся-
кую вещь живую. Неужели они не уверуют? И Мы устроили на земле
прочностоящие (раваси), чтобы она не колебалась с ними. И
устроили там расщелины дорогами, — может быть, они пойдут пра-
вым путем! И Мы устроили небо крышей охраняемой, а они от
знамений его отвращаются. Он — тот, который создал ночь и день, и
солнце и месяц. Все по своду плавают» (21:30-33).
А вот описания, где сохранены лишь два элемента:
«Почему же вы надеетесь на величие Аллаха? Он сотворил вас по
периодам. Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес
рядами? И сделал месяц из них светом, а солнце сделал
светильником. И Аллах взрастил вас из земли растением, потом воз-
вращает вас в нее и выводит из веден и ем. Аллах сделал для вас
землю подстилкой, чтобы вы ходили по ней дорогами широ-
кими» (71:13-20).
«А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю,
они, конечно, скажут: сотворил их Славный, Мудрый, который ус-
троил для вас землю колыбелью и устроил для вас на ней
дороги, — может быть, вы пойдете прямо! — и который низвел с не-
ба воду по мере. И подняли Мы ею страну мертвую... и который сот-
ворил все пары и сделал вам из судна и животных то, на чем вы
ездите, чтобы вы утверждались на их спинах, а потом поминали
милость Господа вашего...» (43:9-13).
Есть один контекст, где остался всего лишь единственный эле-
мент — земля, поскольку акцент смещен на описание того, что
эта земля дает человеку, и на характеристику временного,
динамического порядка мироздания:
«И знамением для вас — земля мертвая; Мы оживили ее и вы-
вели из нее зерно, которое вы едите. Мы устроили на ней сады из
пальм и виноградника и извели в ней источники, чтобы они ели пло-
ды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возблагодарят? Хва-
ла тому, кто создал все пары из тех, что выращивает земля, и из них
самих, и из того, чего они не знают. И знамением для них — ночь.
Мы снимаем с нее день, и вот — они оказываются во мраке. Й солнце
течет к местопребыванию своему. Таково установление Славного,
114
Мудрого! И месяц Мы установили по стоянкам, пока он не делается
точно старая пальмовая ветвь. Солнцу не надлежит догонять месяц,
и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду» (36:33-40).
Легко заметить, что и здесь структура образа фактически все-
таки двучленна, ибо не названное по имени небо незримо присут-
ствует во второй части отрывка, где речь идет о порядке времен.
И наконец, последний контекст, по праву цитируемый в работе
A.B. Сагадеева о мусульманской эстетике как один из ключевых
[7, с.457 ]. Приведем этот отрывок в более полном и законченном
виде, чтобы показать, что это не изолированное утверждение, что
он логично йпиСывается в выстроенный выше ряд однотипных кон-
текстов, представляя собой обобщение сквозной для них идеи
порядка мироздания:
«Благословен тот, в руках которого власть и который властен над
всякой ве*цью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас,
кто из вас лучше (ахсан) по деяниям... который создал семь небес
рядами, Ты не видишь в творении Милосердного никакой несораз-
мерности. Обрати свой взор: увидишь ли ты расстройство? Потом
обрати свой взор дважды: вернется к тебе взор с унижением и утом-
ленный. Мы украсили (заййанна') уже небо ближайшее све-
тильниками и сделали их побиением для дьяволов ...» (67:1 -5).
Образ рая продолжает оставаться в центре внимания, и
описания его в общем не претерпевают значительных качествен-
ных изменений. Появляется ряд новых элементов. Например, на-
ряду'с гуриями, которые будут услаждать праведников, упомина-
ются и их жены, которым также отведено место в раю (43:70;
36:56). Образ сада-оазиса, центральный для идеи рая, осложняет-
ся и дополняется элементами образа дворца. Так, в (25:75-76) рай
отождествляется с горницей (гурфа):
«Они будут вознаграждены горницей за то, что терпели, и встре-
чены будут в ней приветом и миром, — вечно пребывая там. Прек-
расно (хасунат) это пребывание и место».
Еще большую роль в устройстве рая начинает играть роскошь,
которая несколько оттесняет на задний план первоначальные идеи
прохлады, покоя и сытости. Вот некоторые образцы:
«И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. Ле-
жа там на седалищах, не увидят они там солнца и мороза. Близко над
ними тень их, и снижены плоды их низко. И будут обходить их с со-
судами из серебра и кубками хрусталя — хрусталя серебряного, ко-
торый размерили они мерой. Будут поить там чашей, смесь в которой
с имбирем — источником там, который называется салсабилем. И
обходят их отроки вечные — когда увидишь их, сочтешь за рассы-
панный жемчуг. И когда увидишь, там увидишь благодать и великую
власть. На них одеяния зеленые из сундуса и парчи (и украшены они
ожерельями из серебра), и напоил их Господь их напитком чистым»
(76:12-21).
8-2 130
115
«Поистине, богобоязненные —> в месте надежном, среди садов и
источников, облекаются они в атлас и парчу, друг против друга. Так!
И сопрягли Мы их с черноглазыми, большеокими. Требуют они там
всякие плоды в безопасности. Не вкусят они там смерти, кроме пер-
вой смерти, избавил Он их от наказания геенны...» (44:51-56).
«Для них — определенный надел — плоды, и они будут в почете
в садах благоденствия, на ложах друг против друга. Будут обходить
их с чашей из источника прозрачного, услады для пьющих. Нет в нем
буйства, и не будут они им изнурены. У них есть потупившие взоры,
глазастые, точно охраняемые яйца» (37:41-49).
«Эти — для них сады вечности, где внизу текут реки; они укра-
сятся (йухаллауна) там в браслеты из золота и облекутся в одеяния
зеленые из атласа и парчи, возлежа там на седалищах. Прекрасна
(ни'ма) награда и хорошо (хасунат) убежище!» (18:31).
Упоминаются еще «блюда и чаши из золота» (43:71). Осталь-
ные, беглые упоминания ничего существенного к образу рая не до-
бавляют (25:15-16; 20:76; 19:60; 19:63).
Выше мы говорили, что уже в самых ранних сурах представ-
ление о прекрасном существует на двух уровнях: возвышенном,
вероучительном и заниженном, бытовом. В сформулированной во
второй период новой идее красоты как украшения явление рас-
щепленности эстетических концептов развивается до логического
предела — до внутренней полярной амбивалентности понятия. В
Коране сосуществуют понятие об украшении, служащем доказа-
тельством великолепия Творца, обращающем человека к Богу и
являющемся наградой для него, и представление об украшении-
прелести, украшении-соблазне, которое губит человека, отвраща-
ет его взор от Творца и праведной жизни.
Основную нагрузку в выражении идеи украшения, как в
положительном, так и в отрицательном смысле, несет на себе ко-
рень (з-й-н)> дающий слова зи:на 'украшение* и заййана 'укра-
шать'. Кроме того, частотно слово зухруф 'украшение', вынесен-
ное в заглавие одной из сур (№ 43), которое в (10:24) поставлено в
прямую связь с зи:на. Однако слово зухруф имеет специфический
оттенок, обозначая прежде всего украшения из золота, которые в
суре № 43 упоминаются не раз, в том числе и в описании рая, а
также роскошную обстановку дома и т.д. И наконец, третий ко-
рень, выражающий данную идею, — это (х-л-й), дающий слова
хилйа (мн.ч. — хила:) 'украшение из драгоценных камней и ме-
таллов' и холла: 'украшать'.
Вот контексты, реализующие положительный вариант идеи ук-
рашения, творцом которого выступает сам Аллах: «Мы ведь ук-
расили (заййана) небо ближайшее украшениями звезд...» (37:6);
«Уже устроили Мы в небе башни (=созвездия) и разукрасили (зайй-
ана) их для смотрящих. И охранили Мы их от всякого сатаны,
побиваемого камнями» (15:16-17) — как часть описания мироз-
116
дания. Ср. также описание рая (18:31), приведенное выше: «... ук-
расятся (холла:) там в браслеты из золота...».
Контекстов, где смысл идеи украшения прямо или косвенно не-
гативный, больше. В некоторых случаях украшение — это соб-
лазн-испытание, насылаемое Аллахом:
«... Мы бы для тех, кто не верует в Милосердного, устроили из
серебра у домов крыши и лестницы, по которым они поднимаются, и
у домов их двери и ложа, на которых они возлежат, и украшения.
(зухруф=ъолото). Но все это — только блага здешней жизни, а буду-
щая — у твоего Господа для богобоязненных» (43:33-35).
«Тем, которые не веруют в последнюю жизнь, Мы разукрасили
(заййана) их деяния, и они скитаются слепо» (27:4).
«Мы сделали то, что на земле, украшением (зшна) для нее, чтобы
испытать их, кто из них лучше (ахсан) поступками» (18:7).
В других случаях соблазн насылается непосредственно сатаной.
Так, Сулайман говорит о царице Савской:
«Я нашел, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха,
и сатана разукрасил (заййана) им их деяния и отвратил их с пути, и
они не идут прямо...» (27:24).
В другом месте сатана говорит Богу: «... За то, что Ты сбил ме-
ня, я украшу (заййана) им то, что на земле, и собью их всех...»
(15:39). В этот общий идейный фон вписываются контексты, где
просто говорится об украшениях здешней жизни, либо в противо-
поставлении высшему благу:
«Богатство и сыновья — украшение (зшна) здешней жизни, а
пребывающее благое — лучше (хайр) у Господа твоего...» (18:46),
«... пусть твои глаза не отвращаются от них (-праведников) со стрем-
лением к украшениям (зшна) здешней жизни...» (18:28).
Ср. также (17:93; 43:18), либо в более или менее нейтральном
смысле (20:59; 20:87).
Концепция человека, обитателя мироздания, развивается в рам-
ках, определенных текстами предшествующего периода. В основ-
ном эстетически оценивается не облик, а поступки человека (18:3;
18:104; 17:7; 17:23), где ключевое слово — глагол ахсана 'творить
добро', 'делать что-либо хорошо' и его производные. Именно в этой
связи появляется и прилагательное джамшл 'красивый', 'прекрас-
ный', 'хороший' (15:85). Ср. (70:5), о котором речь шла выше.
Внешняя красота упоминается лишь один раз, да и то косвенно:
«А сколько Мы погубили поколений, прекраснее (ахсан) достат-
ком и видом...» (19:74).
Набор эпитетов Аллаха, безусловно, пополняется и рас-
ширяется по сравнению с первым периодом, в пределах списка
99 «прекраснейших имен», причем сам этот термин (ал-асма: ал-
хусна:) впервые появляется в сурах этого периода (17:110; 20:8);
8-3 130
117
ср. позднее (17:180). Развивается и утверждается концепция Бога
как лучшего из лучших в любом деле. Так, Он — «лучший из
творцов» (23:14 — ахсан ал-хшликшн), 'лучший из кормильцев*
(23:72 — хайр ар-ршзикшн), «лучший из милующих» (23:118 —
хайр ар-ршхимшн), «милосерднейший из милосердных» (21:83 —
архам ар-ршхимшн), «лучший из наследующих» (21:89 — хайр
ал-всирисшн).
Как было сказано выше, образ Корана выдвигается в этот
период на первый план. Коран упоминается чуть ли не на каждой
странице, растет число и разнообразие его эпитетов. Некоторые из
них — общие с самим Аллахом: «вознесенный» (43:4 — 'алийй),
«мудрый» (43:4 — хакшм), «истина» (43:29 — хакк). Среди
других эпитетов: «дивный» (72:1 — 'аджаб), «славный» (50:1 —
маджшд), «напоминание» (37:3; 36:69; 15:6,9 — зикр), ср. также
(38:1), «благословенный» (38:29 — мубшрак), «прямой» (18:2 —
каййим), «милость» (27:77 — рахма), «различение» (25:1 — фур-
кшн), «великая весть» (38:67 — наба 'азшм), «откровение»
(36:5 — танзшл), «руководительство» (27:3, 77 — худан), «радо-
стная весть» (27:3 — бушрси). И, конечно, «писание, книга»
(китшб), встречающееся постоянно.
Однако главное новшество сур этого периода — фор-
мулирование понятия «ясности» как одной из главных харак-
теристик Корана. Определение «ясный», ранее не встретившееся
ни разу, в этих сурах прирастает к Корану: «книга ясная» (китшб
мубшн — 44:2; 43:2; 36:69; 27:2, 75; 26:2; китсаб мустабшн —
37:117), «Коран ясный» (мубшн — 15:1), «истина ясная» (хакк
мубшн — 21:19), «аяты ясные» (шйшт баййи-ншт — 19:73), ср.
(17:101), где данное выражение встречается в связи с Мусой, а
также (20:133), где слово баййина «явное доказательство» отнесе-
но к древним свиткам, и (36:17), где речь идет о «ясном сооб-
щении» (балшг мубшн). Именно здесь — фундамент арабского
риторического учения — «науки о ясности» Силм ал-байшн). По-
нятие «ясности» как первостепенного достоинства Корана связано
в тексте с арабским языком, языком ниспослания Корана. Два
раза употреблено выражение «арабский Коран», см. (43:3; 20:113),
а в другом месте говорится, что откровение ниспослано на «языке
арабском, ясном» (26:195 — би-лисшн* арабийй мубшн). Ср.
(19:50), где в связи с Ибрахимом и его потомками говорится: «... и
сделали язык истины для них высоким». Таким образом, в число
эстетизированных объектов, пусть не сразу, вошел язык откро-
вения — арабский, которому суждено было стать одним из основ-
ных символов арабского самосознания, объектом их гордости, вы-
разителем их самобытности.
Образ Мухаммада, который в первый период лепился методом
расподобления, путем указания, чем он не является, во второй
118
период обретает две основные, постоянные характеристики —
«увещатель» (нази:р или мунзир — 67:8,9; 50:2; 38:65, 27:92;
25:56) и «посланник» (расу:л) —25:41; 21:25). Оба слова имеют
один и тот же постоянный эпитет — «ясный» (мубшн), см. (67:26;
38:70; 26:115; 15:84 — «ясный увещатель») и (43:29 — «ясный
посланник»). Правда, «посланник» чаще встречается с другим
эпитетом — «верный» (ами:н — 26:107, 162, 178, 191). Эпитет
«ясный» важен для образа не только Мухаммада, но и пророка во-
обще. Не случайно Фираун, стремясь показать, что Муса — не
пророк, говорит: «Не я ли лучше этого, который ничтожен и едва
объясняется (леи йакеиду йубшн) ?><43:52).
Однако понятие «ясности», как и понятия «красоты» и «укра-
шения», в Коране амбивалентно, имеет и положительный и
отрицательный вариант. Позитив реализуется, помимо вышепе-
речисленных контекстов, где «ясность» сопряжена с такими объек-
тами, как Коран и Мухаммад, а также откровение и пророки в
широком смысле, еще и в (36:12), где речь идет о том, что для
каждой вещи у Аллаха есть «ясный оригинал» (имеим мубшн),
очень напоминающий, судя по всему, эйдос Платона. Негатив
реализуется прежде всего в сочетаниях «явное заблуждение» (да-
леил мубшн— 36:24, 47; 19:38), «явный враг» Садувв муби:н —
17:53). Сюда же примыкают по общему смыслу контекста и
(27:21), где речь идет о «явной власти» (султеин мубшн), противо-
стоящей Богу, и (43:18) — «Разве ж тот, кто взращен в укра-
шениях (хила) и кто препирается, не ясен (гайр муби:н)Ъ> (одни
комментаторы считали, что имеются в виду женщины, другие —
что идолы).
Коран и его язык, который, впрочем, является также языком и
«прекраснейших имен» Аллаха, вошли в систему мироздания в ка-
честве эстетизированных объектов первой величины именно в рас-
сматриваемый период, причем Коран занял в этой системе очень
важное место, закрепленное через связь его с символизмом «семи»
(15:87), который распространяется также на «семь твердей»
(78:12) или «семь небес» (71:14; 67:3; 17:44; 23:86 — «Господь
семи небес и Господь великого трона»), «семь путей выше вас»
(23:17), «семь врат (геенны)» (15:44). Позднее этот символ охва-
тывает и другие объекты, например «семь морей» (31:27), ср. так-
же (12:43-48).
Введение филологических объектов (Корана и арабского язы-
ка) в эстетическую систему, выработка понятия «ясности», став-
шего одним из главных концептов арабской стилистики и
риторики, а также выработка понятия «украшение», многое опре-
делившего в развитии арабских словесных и пластических
искусств, — главные достижения сур второго периода в эстетичес-
кой области. Оставшееся вне нашего поля зрения не представляет-
8-4 130
119
ся существенным и радикально изменить нарисованную картину
не может.
III ПЕРИОД (ПРОРОЧЕСКИЕ СУРЫ)
III период продолжает предыдущий и четко не отделен от него
ни содержанием, ни стилем текстов. Поздние суры (II и III
периодов) могут быть противопоставлены как единое целое
ранним мекканским сурам I периода. Смещаются лишь акценты. В
текстах III периода освоение библейского наследия продолжается
еще более интенсивно. Кораническое откровение отчетливо
ставится в связь с иудаизмом, и формируется представление о
единой абрахамитической религиозной традиции. Одновременно
интенсивно разрабатывается концепция писания ислама, пред-
ставляющая первостепенный интерес в связи с нашей темой. Не
случайно в начале большинства сур периода упоминается Коран,
что является их главным формальным признаком.
Вообще, начала сур II и III периодов демонстрируют высокую
степень однообразия и резко отличаются как от I, мекканского,
так и от IV (мединского) периодов. Мы имеем в виду два момента.
Первый — это упоминание в первом-втором, редко — третьем
аяте в той или иной форме писания. Вот цифры. В I периоде на 48
сур таких упоминаний два, причем одно из них очень косвенное:
«Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что пишут» (68:1), а
второе — в суре, которая может быть поздней, а по стилю и содер-
жанию и выглядит таковой: «Милосердный. Он научил Корану»
(55:102). В IV периоде на двадцать четыре суры три упоминания,
причем одно косвенное, по форме не имеющее аналогов: «Сура —
Мы низвели ее, и поставили законом, и низвели в ней знамения
ясные...» (24:1), а два — в самых длинных сурах, склеенных из
разных кусков, могущих иметь неоднозначную датировку: «Алиф-
лам-мим. Эта книга — нет сомнения в том — руководство для бо-
гобоязненных» (2:1-2); «Алиф-лам-мим... Ниспослал Он тебе
писание в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до
него. И ниспослал Он Тору и Евангелие раньше в руководство для
людей и ниспослал Различение» (3:1, 3-4). А на суры II и III
периодов (по 21 суре) «начальных» упоминаний писания соответ-
ственно 16 и 15 раз (!).
Второй момент — наличие таинственных «букв» в начале ряда
сур, о назначении и смысле которых высказывались разные, но
равно неубедительные гипотезы. Распределение таких «началь-
ных букв» в Коране весьма примечательно. На все суры I периода
есть лишь одно, приведенное выше упоминание этих «букв»
(68:1), на суры IV периода — два, тоже приведенных выше (2:1;
3:1), а во II периоде «буквы» встречаются девять раз, в III — шест-
надцать (!). Даже по приведенным цитатам видно, что появление
120
«букв» связано с упоминанием писания в начале суры, исклю-
чений только два — суры 29, 30.
При переходе от одного периода к другому множество формул и
наборов «букв» сужается и становится более упорядоченным. Со-
здается впечатление, что некий порядок, бывший во II период
предметом поисков, в III — уже найден. Начнем с того, что есть
контексты из этого ряда, относящиеся ко II периоду и не имеющие
параллелей в III, где упоминается не Коран или не собственно Ко-
ран: «Каф-ха-йа-'айн-сад. Воспоминание (зикр) о милости Госпо-
да твоего рабу Его Закарии» (19:1-2), ср. (17:2), а также (37:3,*
21:2). Из оставшихся двенадцати контекстов II периода пять пред-
ставляют собой клятвы, тем самым продолжая в сконцентрирован-
ной на Коране форме традицию I периода: «Клянусь книгой
ясной» (44:2; 43:2), «Клянусь Кораном (славным, мудрым, содер-
жащим напоминание)» (50:1; 36:2; 38:1). Шесть контекстов пред-
ставляют две формулы, которые вытесняют все остальное в III
периоде. Три из них как бы опробывают разные варианты форму-
лы «ниспослания»:
«Благословен Тот, который ниспослал различение (фуркан)
Своему рабу .. > (25:1).
«Та-ха. Не ниспослали Мы тебе Коран, чтобы был несчастен, а
только как напоминание...» (20:1 -3).
«Хвала Аллаху, который ниспослал Своему рабу книгу...» (18:1).
Три другие содержат практически законченный вариант фор-
мулы «знамения»:
«Та-син. Это — знамения Корана и ясной книги» (27:1).
«Та-син-мим. Вот знамения книги ясной» (26:1-2).
«Алиф-лам-ра. Это — знамения книги и ясного Корана» (15:1).
Один контекст дает формулу, более не повторяющуюся: «...
Поистине, слышали мы Коран дивный» (72:1). Разнообразие набо-
ров «букв» тоже сначала очень велико, всего восемь разных
вариантов, из которых только один повторяется дважды: «ха-мим»
(44:1; 43:1). Правда, остальные можно сгруппировать по сходству
состава в группы: первая — «Та-ха» (20:1), «Та-син» (27:1), «Та-
син-мим» (26:1); вторая — «Каф» (50:1), «Каф-ха-йа-'айн-сад»
(19:1), «Йа-син» (36:1); третья — «Алиф-лам-ра» (15:1).
ВIII периоде, как было сказано выше, остаются только формулы
«ниспослания» (9 контекстов: 46:2, 45:2, 42:3, 41:2-4, 40:2, 39:1,
32:2, 14:1, 7:2) и «знамения» (6 контекстов: 31:2, 28:2, 13:1, 12:1,
11:1, 10:1). Практически два набора «букв» с небольшими
вариациями тоже вытесняют остальные. Это — «Ха-мим» [суры 46,
45, 42 (вместе со вторым набором — «4Айн-син-каф»), 41, 40];
«Алиф-лам-мим» (суры 32, 31, 30, 29), а также «Алиф-лам-ра»
(суры 14, 12, 11, 10), «Алиф-лам-мим-ра» (сура 13), «Алиф-лам-
121
мим-сад» (сура 7). Помимо них — только один набор, реликт
группы, начинавшейся с «Та» — «Та-син-мим» (сура 28) •
Вообще говоря, идея Писания, Книги (кита:б), развитая в III
периоде более глубоко и обстоятельно, чем во II, становится сквоз-
ным, организующим мотивом всех «пророческих сур». Ряд контек-
стов вырастает фактически до законченных фрагментов учения о
Коране как писании мусульман. Приведем эти фрагменты.
«Алиф-лам-ра. Это — знамения книги ясной (мубшн). Мы
ниспослали ее в виде арабского Корана ... Мы расскажем тебе луч-
шим повествованием (ахсан ал-касас), открыв тебе этот Коран ...»
(12:1-3).
«Потом Мы даровали Мусе книгу для придания совершенства
творящему благо (ахсана) и для разъяснения (тафсшл) каждой
вещи... И это (Коран) — книга, которую Мы ниспослали, благосло-
венная; следуйте же за ней и будьте богобоязненны, — может быть,
вы будете помилованы! — чтобы вы не говорили: "Книга ниспослана
была только двум народам до нас (иудеям и христианам), а мы были
небрежны к ее изучению", и не говорили бы: "Если бы была ниспос-
лана нам книга, мы были бы на более прямом пути, чем они!"
Пришло уже к вам ясное знамение (баййина) от Господа вашего ...»
(6:154-157).
«Читай им то, что открыто тебе из писания... И не препирайтесь
с обладателями книги (»иудеями и христианами), иначе как с чем-
нибудь лучшим (ахсан), кроме тех из них, которые несправед-
ливы ... И так Мы ниспослали тебе книгу, а те, кому Мы даровали
книгу, веруют в нее... Ты не читал до него никакого писания и не
чертил его своей десницей; иначе пришли бы в сомнение считающие
это пустым. Да, это — знамения ясные (шйшт баййиншт) в груди
тех, которым даровано знание; отрицают Наши знамения только
тираны! Они сказали: "Если бы ниспосланы были ему знамения от
твоего Господа!" Скажи: "Знамение только у Аллаха, а я лишь ясный
(мубшн) увещатель". Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе
писание, которое читается им ...» (29:45-51).
«А те, кому Мы даровали книгу (-иудеи и христиане), радуются
тому, что ниспослано тебе; а среди партий есть такие, что отрицают
часть этого ... И так Мы ниспослали его как арабский судебник
(хукм)... Мы посылали посланников до тебя... Не бывало, чтобы пос-
ланник приводил знамения, иначе, как с дозволения Аллаха. Для
всякого предела — свое писание. Стирает Аллах и утверждает, что
желает; у Него — мать книги (умм ал-китаб)» (13:36-39).
Начать распутывать клубок идей, представленных в этих кон-
текстах, можно с ниточки — темы нескольких писаний, которая в
этот период получает окончательную форму. У истоков единой
пророческой традиции, к которой причисляет себя и Мухаммад, с
полным правом поставлена фигура Ибрахима (Авраама): «И даро-
вали Мы ему (=Ибрахиму) Исхака и Йакуба, и устроили в потом-
стве его пророчество и писа ние...» (29:27). Не случайно ближне-
восточную монотеистическую традицию, объединяющую три
122
религиозных учения, современные ученые тоже часто называют
«абрахамитической».
Писание ниспослано было сначала Мусе (Моисею) и через него
«сынам Исраила», т.е. иудеям, см. (46:12, 41:45, 40:23, 40:53,
32:23, 28:43, 11:110, 6:91). Ср. также: «Мы даровали сынам Ис-
раила книгу, мудрость и пророчество ...» (45:16). Затем писание
было унаследовано христианами, см. (42:14). В (7:157) прямо упо-
мянуты Тора и Евангелие, т.е. писания иудеев и христиан. Объект
ниспослания называется разными, общими для II и III периодов
терминами, которые сведены вместе в контексте: «Если они сочтут
тебя лжецом, то ведь считали лжецами и тех, кто был до них. К
ним приходили их посланники с ясными знамениями
(баййинси'т), с писаниями (зубур) и с книгой просветляющей
(китси'б муншр)» (35:25), ср. аналогичный контекст из следующе-
го, IV периода— (3:184). За оба периода значительно расши-
ряется список пророков из прежних времен. В него входят, в част-
ности, Дауд (Давид), которому был ниспослан забу:р ('книга',
'писание' — И.Ю. Крачковский переводит как 'псалтырь'), см.
(17:55), ср. также (4:163). «Ясное откровение» (в ед.ч. — баййина,
либо во мн.ч. — баййинси'т) ниспосылалось Йусуфу (Иосифу), см.
(40:34), Нуху (Ною), см. (11:28), Худу, см. (11:53), Салиху, см.
(11:63, 7:73), Шуайбу, см. (11:88, 7:83), не говоря уже о Мусе, см.
(29:39, 28:36, 11:17, 7:105). Часто употребляется обобщающая
формула «приходили к ним посланцы с ясными знамениями», см.
(40:22, 40:50, 40:66, 40:83, 30:9, 30:47, 16:43, 14:9, 10:13, 10:74,
7:101). Возникает концепция временной ограниченности всякого
предшествующего писания; «для всякого предела — свое писание»
(14:38), а также наличия у каждой общины своего писания: «Вся-
кая община будет призвана к своей книге» (45:28). В этом контек-
сте Коран выступает как писание, ниспосланное для подтверж-
дения истинности того, что ниспослано до него, см. (35:31, 12:111,
46:30, 6:92). Ср. также: «Мы и до тебя посылали только людей, ко-
торым внушали, — спросите же людей напоминания, если вы
сами не знаете, — с ясными знамениями (баййинси'т) и с
писаниями {зубур). И послали Мы тебе напоминание (зикр), чтобы
ты разъяснил (баййана) людям, что им ниспослано...» (16:43-44).
В ряде контекстов, например (34:31, 28:49), Коран упоминается
вместе с другими писаниями.
В развитие идеи преемственности, глубинной тождественности
всех писаний, определяющей место Корана в религиозной истории
Ближнего Востока, возникает образ «матери книги», единого про-
образа писания, ниспосылаемого людям, см. выше (13:39). С дру-
гой стороны, Коран осмысляется как писание, обращенное именно
к арабам, что определяет одновременно и его специфику, и его не-
обходимость, неизбежность. В данном контексте иудеи и
123
христиане осмысляются как два народа (!), см. выше (6:156). Ср.
также: «И до тебя Мы посылали только людей из обитателей се-
лений, которым ниспосылали откровение» (12:109). В этой связи
особое значение приобретает язык как главный признак
национального характера. Вот один из контекстов:
«Мы отправляли посланников только с языком (лиссин) их наро-
да, чтобы они разъяснили (баййана) им...» (14:4).
В другом контексте различие рас и языков ставится по зна-
чению в один ряд с творением небес и земли среди знамений
Аллаха:
«Из Его знамений — творение небес и земли, различие ваших
языков и цветов...» (30:22).
Арабский язык как язык Корана прямо противопоставлен
другим языкам:
«А если бы Мы сделали его Кораном иноязычным (а'джамийй),
то они сказали бы: "Если бы его знамения были изложены ясно
(фуссилат)\п Разве же иноязычный — арабу...» (41:44).
«Мы знаем, что они говорят: "Учит его всего лишь человек". Язык
того, на которого они указывают, иноземный, а тут — язык арабский
ясный (лиссин 'арабийй мубшн)* (16:103), ср. (46:12).
Несколько раз повторено выражение «арабский Коран», см.
(42:7, 41:3, 39, 28, 12:2), один раз употреблено выражение
«арабский судебник» (хукм *арабийй—13:37). Примечательно,
что Коран дает нам самые ранние из засвидетельствованных упот-
реблений понятия «арабский язык», которые тем самым многое
раскрывают в его генезисе и эволюции (подробнее см. [1 ]).
Внимание к языку проявляется в том, что основные термины,
обозначающие речь, слово (калима — каул — нутк), выдвигаются
на первый план. Речь преимущественно идет о слове Аллаха, не-
зависимо от того, используется ли термин калима 'слово' или каул
'речь', 'речение'. Насколько можно судить, употребляются эти
термины еще недифференцированно. Каковы же характеристики
Божьего Слова? Во-первых, это слово (каул) — твердое, см. (14:27),
никому не дано изменить слово (калима) Аллаха, см. (10:64, 6:34,
6:115). Во-вторых, Его слово (каул) —истина, см. (6:73), своими
словами (калима:т) Аллах утверждает истину, см. (10:82), ср. так-
же (6:115). В-третьих, слово (калима) Аллаха неисчерпаемо: «Будь
все деревья на земле перьями, а морю, кроме него, помогли бы еще
семь морей, не иссякло бы слово Аллаха» (31:27). В-четвертых, сло-
во Божье (каул) творит мир: «Наше слово для чего-нибудь, когда Мы
его пожелаем, — что Мы скажем ему: "Будь!" — и оно бывает»
(16:40). Ср. другой контекст со сходным смыслом, где помимо всего
прочего мы видим пример расщепления понятия на две противопо-
124
ложности: хорошую и плохую, что мы неоднократно отмечали
выше:
«Разве ты не видел, как Аллах приводит притчей (масал) доброе
слово (калима) — оно как дерево доброе: корень (асл) его тверд, а
ветви (фар4) его — в небесах. Оно приносит свои плоды в каждый
миг с соизволения своего Господа. И приводит Аллах притчи (ам-
са:л) людям, — может быть, они опомнятся! А притча (масал) о
скверном слове (калима) — оно как скверное дерево, которое выры-
вается из земли, — нет у него стойкости» (14:24-26).
Данный контекст примечателен еще и тем, что он вводит столь
важную для арабо-мусульманской науки оппозицию «корень —
ветви», которая служила в ней одним из универсальных средств
систематизации и классификации рассматриваемых явлений. Есть
еще несколько контекстов со словом калима (11:110, 10:19, 7:158).
В отличие от двух предыдущих термин нутк 'речь' упомянут
лишь один раз и то косвенно, через глагол антака 'даровать речь',
и относится к дару речи, которым наделены твари божий, а не сам
Господь, см. (41:21).
Во II и особенно III периоды происходит резкое увеличение ча-
стотности и разнообразия слов со значением «рассказ», «повество-
вание», «притча», которые обычно обозначают часть писания и ча-
ще всего соотносятся с библейскими сюжетами, в том числе рас-
сказами о пророках. Наряду со словом хади:с 'рассказ' (мн.ч. —
аха:ди:с)> частотным с первого периода, например «Дошел ли до
тебя рассказ о Мусе» (79:15), в III период появляется ранее не
встречавшееся слово касас 'рассказ', см. (28:25, 12:3, 12:111,
7:176). Особенно стремительно выдвигается на первый план слово
масал в значении 'притча', в I период встретившееся только один
раз (74:31), II период — 12 контекстов, III период — 28 контек-
стов, IV период — 25 контекстов. Примечательно, что и хадис, и
масал дают нам контексты, где и рассказ, и притча понимаются
как нечто отрицательное, сбивающее с пути, т.е. примеры отме-
ченного выше антиномического расщепления понятий.
Во II и III периоды разрабатывается еще одна важная для ут-
верждения статуса Корана как писания мусульман идея — идея
неподражаемости, чудесности (и'джа:з) Корана, см. о ней [2;8 ].
Если не считать одного, еще не вполне оформленного контекста из
I периода (вернее, из промежуточных сур — 52:34), и одного кон-
текста из мединского периода, фактически повторяющего выска-
занную ранее мысль (2:23), основные контексты, раскрывающие
эту идею, приходятся именно на II и III периоды (17:88, 11:13-14,
10:38). Все они предлагают неверным привести что-либо подобное
или лучшее, чем Коран, чтобы доказать, что он не является откро-
вением, и выражают уверенность, что сделать это никому не уда-
стся. Ввиду важности этой концепции для становления мусуль-
125
майского эстетического и риторического учений приведем их, но
не в хронологической, а в логической последовательности, выстро-
енной автором итогового средневекового трактата на тему об
и'джазъ, Абу Бакром ал-Бакиллани (ум. 1013). Вот эти контексты:
«Или они скажут: "Измыслил его он!"... Пусть же они приведут
подобный этому рассказ, если говорят правду!» (52:33-34).
«Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приве-
дите же десять сур, подобных ему, измышленных, и призовите, кого
вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите правду!" Если же они не
ответят вам, то знайте, что ниспослан он по велению Аллаха...»
(11:13-14).
«Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приве-
дите же суру, подобную ему, и призывайте, кого вы можете, помимо
Аллаха, если вы правдивы!"» (10:38); ср. (2:23).
«Скажи: "Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать по-
добное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из
них были другим помощниками"» (17:88).
Концепция «ясности», разработанная во II период, в III ста-
новится еще более объемлющей, но, в сущности, почти не меняет-
ся, как видно уже из приведенных выше цитат, где производные от
корня (б-й-н) встречаются почти постоянно. Отметим, что растет
и разнообразие этих однокоренных слов, как глаголов (баййана
'разъяснять' — 16:39, табаййана 'стать ясным' — 29:38, иста-
ба:на 'стать ясным' — 6:55), так и имен (тибйа:н ' разъясне-
ние' — 16:89). Наряду с субстантивом баййина (мн.ч. баййина:т)
'ясное свидетельство, доказательство' частотен и оборот «ясные
знамения» (а:йа:т баййина:т)у тоже относящийся к писанию,
откровению, как к кораническому, так и более ранним, см. (46:7;
45:17, 25; 34:43; 29:49, 10:15). Чаще же всего употребляется
прилагательное мубшн. Это прилагательное сочетается с писанием
(12:1; 11:6; 10:61), со словом «увещатель», относящимся к Мухам-
маду (46:9; 29:50; 7:184), со словом «передача», определяющим
роль Мухаммада по отношению к божественному откровению
(29:18; 16:35), со словом «власть» (султа:н)у относящимся чаще к
прежним пророкам (40:23; 14:10), со словом «успех, победа»
(фауз)у см. (56:16). Именно в прилагательном, как и в предшест-
вующий период, проявляется антиномическая двузначность
понятия ясности, ибо оно встречается также в сочетаниях «явный
враг» — о сатане, см. (28:15; 12:5; 7:22; 6:143), «явное заблуж-
дение», см. (12:8; 7:60; 6:74), «явно заблудший» — о Мусе, когда
он убил человека, см. (28:18), «явное колдовство (волшебство)» —
неверные о Коране, см. [46:7; 34:43; 11:7; 10:76; 10:2 («явный кол-
дун») 6:7 ].
Пожалуй, самое значительное новшество — это появление но-
вой лексемы, связанной с понятием ясности. Это глагол фассала
126
'разъяснить' (а также 'распределить', 'расчленить'), однокорен-
ные с ним масдар и страдательное причастие. До этого он появля-
ется один раз (17:12) ив мединских сурах лишь однажды (9:11), а
в сурах III периода — двадцать один раз. Соотнесенность двух
рядов терминов отчетливо демонстрируют следующие контексты:
«И так Мы разъяснили (фассала) знамения, чтобы стал ясным
(истабсина) путь грешников» (10:37). Обычно объектом «разъяс-
нения» выступают знамения (а:йа:т) Аллаха, выраженные в
писании, например: «... Писание,' знамения которого утверждены,
потом ясно изложены (фуссилат) ...» (11:1); или: «Писание, зна-
мения которого разъяснены (фуссилат) в виде арабского Кора-
на ...» (41:3), либо само писание, например: «... Ведь Он — тот, ко-
торый ниспослал вам писание, ясно изложенное (муфассал) ...»
(6:114). Однако иногда эти знамения оказываются воплощенными
в явлениях окружающего нас мира: «И Мы наслали на них потоп,
и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь, как знамения ясные (му-
фассалсит) ...» (7:133).
В сурах II и III периодов появляется еще одна лексема, связан-
ная с концепцией ясности, ни до, ни после этих сур нами в тексте
не отмеченная. Это — баса:1 up 'наглядные знамения', 'оче-
видности'. Связь понятий просматривается из первого по времени
контекста (II период): «Мы даровали Мусе девять знамений ясных
(а:йа:т баййиншт) ... Он сказал: "Ты знаешь, что низвел их не
кто иной, как Господь неба и земли в качестве наглядных зна-
мений (баса:9up) ..."» (17:101-102). Здесь эти знамения воплоще-
ны в чудесных явлениях, а в остальных контекстах, уже из III
периода, — в писании (45:20, 28:43, 7:203, 6:104).
Отметим еще один контекст, в Коране единичный, но
значимый тем, что в нем, хотя и в косвенной форме, вводится
понятие фаса:ха 'красноречие', 'чистоязычие', приобретший
большое значение в арабском риторическом учении: «И брат мой,
Харун, красноречивее меня языком (афсах лиса:нан)...» (28:34).
Образ книги доминирует в сурах II (отчасти) и III периодов,
причем книг множество. Наряду с Кораном, как мы видели, есть
предшествующие ему писания. Кроме того, помимо писания, н$-'
ставляющего людей, есть еще и книга судеб, где все предначерта-
но, например:
«У Него — ключи сокрытого; знает их только Он. Знает Он, что
на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во
мраке земли, нет свежего и сухого, чего бы не было в книге ясной
(мубшн)» (6:59).
«... И добавляется жизнь долголетнему, и сокращается его жизнь
только по книге...» (35:11).
Эта книга, которая, по всей видимости, и есть «мать книги»,
небесный прототип писания, из которого Аллах открывает людям
127
то, что пожелает, является также и книгой записи деяний
людских, которая будет предъявлена им в Судный день. Вот соот-
ветствующие контексты:
«... от Него не утаится вес пылинки в небесах и на земле, и мень-
шее этого, и большее этого, если не в книге ясной (мубшн), чтобы
воздать тем, которые уверовали и творили добро...» (34:3-4).
«Эта Наша книга говорит против вас в истине; Мы записывали
то, что вы совершали» (45:29)»
«Этих (-грешников) постигнет их удел из книги» (7:37); ср. так-
же (6:38; 39:69).
Й еще один момент. Писание, как мы помним, было включено
в структуру мироздания как один из его важнейших элементов
почти с самого начала, но в этот, III период уже само мироздание
начинает трактоваться не просто как собрание знамений Господа,
но как книга таких знамений:
«Ниспослание книги от Аллаха Славного, Мудрого. Поистине,
в небесах и земле — знамения для верующих! В творении вас и
рассыпанных Им животных — знамения для людей убежденных.
В чередовании ночи и дня, в ниспосланном Аллахом с неба
пропитании, которым Он оживил землю после ее смерти, в смене
ветров — знамения для людей разумных. Это — знамения Аллаха
и Мы читаем их тебе истинно. В какой же рассказ {хадшс) после
Аллаха и Его знамений они уверуют?» (45:2-6).
Слово Божие творит мир, книга судеб предопределяет все
происходящее в мире, сам мир трактуется как книга знамений
Аллаха, писание, открытое людям, определяет, как им себя вести,
а согласно книге, где записаны все их деяния, с ними произведен
будет расчет в Судный день, единственное чудо, дарованное Му-
хаммаду, — чудо неповторимого и неподражаемого Корана. Не-
удивительно, что при таком переплетении тем писания и мироз-
дания многие термины и понятия функционируют и тут, и там.
Мы имеем в виду, в частности, все три терминологических ряда,
связанные с понятием ясности, очевидности, которая является не-
отъемлемым атрибутом знамений Божиих как в мироздании, так и
в писании, о чем мы упоминали выше неоднократно. Это же
относится и к термину масал, который для писания выступает в
значении притчи, а для мироздания — в значении образца, по ко-
торому творится этот мир. Тема вечного прототипа начата была
еще во II периоде, см. (36:12). Продолжает ее образ «матери
книги» (13:39), предвечного прообраза {асл) Корана, как разъяс-
няют комментарии. Кстати, образ дерева с корнем {асл) и ветвями
{фар*) у которому уподоблено слово Божие, творящее мир,
перекидывает еще один мостик от писания к мирозданию, на-
поминая в то же время известные мифологические мотивы. Так
вот, в развитие данной темы применительно к Аллаху употребля-
128
ется клише «высочайший образец» (ал-масал ал-а'лси), см. (30:27,
16:60), в качестве которого Он выступает для людей, являясь не-
досягаемым пределом и вершиной иерархии, где все они распреде-
лены по степеням (дараджат), см. (46:19; 40:15; 12:76; 6:83; 165).
Образ мироздания по-прежнему в центре внимания, сохраняя
все накопленные в предшествующие периоды детали, изобилие
которых совершенно заслоняет графическую трехчленную струк-
туру образа, например:
«Сотворил Он небеса и землю истиной ... Он сотворил человека
из капли ... И скот Он создал; для вас в нем — согревание и польза, и
от них вы питаетесь. Для вас в них — красота (джама'л), когда вы
гоните их на покой и когда выпускаете. И переносят они ваши грузы
в страну, которой вы бы не достигли без утомления самих себя ... И
коней, и мулов, и ослов, чтобы вы на них ездили и для украшения
(зшна). И творит Он то, чего вы не знаете. На Аллахе лежит направ-
ление к пути; и есть отступающие от него ... Он — тот, который
низводит с небес воду: для вас от нее питье, и от нее деревья, где вы
пасете. Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и
все плоды... И подчинил Он вам ночь и день, солнце и луну; и звезды
подчинены Его повелением ... И то, что рассеял Он для вас по земле
разных цветом... Он подчинил море, чтобы вы питались из него
свежим мясом, и извлекали оттуда украшения (хилйа), которые на-
деваете. Ты видишь корабли, рассекающие его... И бросил Он на зем-
лю прочно стоящие (равсиси), чтобы она не колебалась с вами, и
реки, и пути... и приметы, а по звезде они находят дорогу» (16:3-16).
Отметим два момента: в числе эстетизированных объектов,
обладающих красотой, несколько неожиданно для нас, горожан,
входят скот, животные; мир расцветает разнообразием цветов, ср.
также (35:27-28, где речь идет о плодах, животных, людях, доро-
гах разных цветов) и еще [30:22, где различие цветов и языков
людей (т.е. рас и народов) поставлено в один ряд с творением не-
бес и земли ]. Вспомним в этой связи, что только в одной из ранних
сур I периода в описании рая, процитированном выше, упомянут
один-единственный цвет — зеленый, правда ставший позднее цве-
том ислама.
Пополняется этот образ и новыми гранями и элементами. Так,
в картину мира вводится счет дней творения его, например:
«Скажи: Разве вы не веруете в того, кто сотворил землю в два
дня... И устроил Он на ней прочно стоящие {равсисш) сверху ее; и
благословил ее и распределил на ней ее пропитание в четыре дня...
Потом утвердился Он к небесам — а они были дымом — и сказал им
и земле: "Приходите волей или неволей!". И сказали они: "Мы
приходим добровольно". И установил Он из них семь небес в два дня
и внушил каждому небу его дело и разукрасили (заййана) Мы
ближайшее небо светильниками и защитили их. Таково установ-
о
ление {такдшр) Великого, Мудрого» (41:9-12) .
9 130
129
Получает дальнейшее развитие тема воды — постоянного
атрибута рая и источника живой природы в мироздании. Легко
проследить по цитированным выше отрывкам, как от периода к
периоду эта тема занимает все большее место в описаниях, в кото-
рых в этот период появляются образы рек и морей, намеченные
ранее, морей, которые являются источником пищи, украшений и
местом судоходства. См. кроме (16:3-16) также:
«Аллах — тот, который сотворил небеса и землю, и низвел с не-
бес воду, и вывел ею плоды в ваш удел, и подчинил вам суда, чтобы
они ходили в море по Его повелению, и подчинил вам реки, и
подчинил вам солнце и луну труждающимися, и подчинил вам ночь
и день, и дал вам все, что вы просите ...» (14:32-34).
Предельная размытость трехчленной структуры образа мироз-
дания доходит до того, что третий элемент исчезает совсем и появ-
ляется образ неба «без опор» ('амад), а «прочно стоящие»
(рава:си)у т.е. горы, сохраняются в составе описания, но уже не
как опора неба, а как элемент ландшафта, в некоторых контекстах
держащий уже не небо, а землю, предохраняя ее от колебания
(землетрясения), см.:
«Он сотворил небеса без опоры, которую бы вы видели, и бросил
на землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами, и рассеял
там всяких животных, и низвели Мы с неба воду и взрастили на ней
всякую благородную пару» (31:10).
«Аллах — тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы вы виде-
ли, потом утвердился на троне и подчинил солнце и луну: все течет
до определенного предела. Он управляет своим делом, устанавливает
ясно (йуфассил) знамения ... Он — тот, кто распростер землю и
устроил на ней прочно стоящие и реки и из всяких плодов устроил
там пары по двое. Он закрывает ночью день» (13:2-3) .
В образ Аллаха как совершеннейшего, прекраснейшего Творца
вплетается явно эстетическая идея того, что Он дал всему создан-
ному прекрасный образ — су:ра . Контекстов, правда, немного,
однако уже в мединский период эта идея дала одно из «прекрас-
нейших имен» Аллаха — «устроитель образов» (мусаввир): «Он —
Аллах, творец, создатель, устроитель образов. У Него прекрас-
нейшие имена...» (59:24). Самый ранний из контекстов относится
еще к первому мекканскому периоду: «который сотворил тебя, втт-
ровнял и соразмерил, в таком образе (су:ра) , как пожелал, тебя
устроил» (82:7-8). КIII периоду относятся два контекста:
«Аллах — тот, который дал вам землю пребыванием, а небо —
строением (бина:), и сформировал (саввара) вас, и прекрасно дал
вам формы (ахсанасуваракум), и наделил вас благами...» (40:64),
«Мы создали вас, потом придали вам форму (савваршпсум)...»
(7:11)*
130
Ср. исчерпывающие наличный материал контексты из
мединского периода:
«Он сотворил небеса и землю истиной, дал вам образ (саввара-
кум) и прекрасно устроил ваши образы (ахсана сувара-кум) ...»
(64:3); «Он — тот, кто придает вам форму (йусаввир) в утробах, как
пожелает» (3:6).
Тема украшения остается на первом плане, но трактуется со-
вершенно в духе второго периода, если не считать большего, чем
ранее, крена к негативной трактовке украшения как соблазна,
исходящего от дьявола, по числу крнтекстов явно преобладающей.
Создается впечатление, что потенциал этой идеи уже исчерпан в
сурах II периода.
То же впечатление возникает при взгляде на контексты, вде
появляется образ рая, который в этот период пророческой миссии
Мухаммада уходит на второй план. Упоминаний рая значительно
меньше, а его описания редки, кратки и традиционны, например:
«Сады рая, в которые они войдут, украсившись (халлса) там брас-
летами из золота и жемчугом; одеяния их там — шелк...» (35:33),
ср. также (13:35). Образ горницы, появившийся в предыдущий
период, утверждается как альтернатива образу сада, заменяя его
даже в стандартном клише: «Мы поселим их в раю, в горницах, где
внизу текут реки...» (29:58). В одном из таких контекстов появля-
ется эпитет мабниййа 'сооруженные', воздвигнутые', который
ранее соотносился с образом неба: «Но те, которые убоялись своего
Господа, для них — горницы, выше которых горницы воздвигну-
тые, а внизу их текут реки» (39:20). Ср. (40:64). Примечательно,
что гурии, занимавшие столь видное место в описаниях рая преж-
де, теперь вовсе исчезают из этих описаний.
IV ПЕРИОД (МЕДИНСКИЕ СУРЫ)
При обращении к сурам мединского периода отчетливо видны
изменения тональности и общей атмосферы текста. Взгляд Му-
хаммада сосредоточен на одной сфере — сфере законодательства,
служащего организации жизни общины. Космологические, тео-
логические, эсхатологические, вероучительные задачи в основном
решены в пределах мекканского периода. Во всяком случае в том,
что касается интересующего нас аспекта — эстетического, нам не
удалось найти ни одного контекста, который давал бы что-либо
принципиально новое по сравнению с рассмотренным ранее.
Таким образом, хотя Коран еще не закончен, но рассмотрение на-
шей темы завершено.
Далеко не все наблюдения, составляющие содержание данной
статьи, новы. Мы отказались от конкретных и детальных ссылок,
ибо это очень утяжелило бы текст, а для нас важно было организо-
9-2 130
131
вать коранический материал под некоторым новым углом зрения,
позволяющим увидеть в нем нечто, ускользающее при взгляде с
каких-то иных исследовательских позиций. Прежде всего, мы
ставили своей целью проследить внутреннюю эволюцию представ-
лений в пределах коранического текста, приводящую в конце кон-
цов к тому, что характеризует и всю арабо-мусульманскую куль-
туру, выросшую из этого текста, — к отчетливому филологизму
оснований. Затем мы стремились продемонстрировать, что ко-
раническое откровение содержит довольно большой и многогран-
ный набор идей и образов, имеющих отношение к эстетике и в
значительной степени определивших эстетические представления
многих культур, входящих в мусульманский ареал.
Предложенная картина, напоминающая в некотором смысле
мозаику, не данность текста, а конструкт на его основе, и как пер-
вый опыт, разумеется, далеко не совершенна. Что-то может быть
добавлено, что-то убрано, что-то, из-за не всегда ясной кораничес-
кои хронологии, перенесено из периода в период. Дело коллег
оценить как отдельные фрагменты, так и всю картину в целом.
Если же окажется, что угадано главное, — а мы надеемся, что это
так, — то открываются перспективы дальнейшей работы, по край-
ней мере в двух направлениях. Во-первых, поиск и выявление ге-
нетических параллелей, как в родственных ближневосточных ве-
роучительных традициях, так и в духовном наследии доисламской
Аравии, выраженном полнее всего в поэзии. Во-вторых, сопостав-
ление кораническои эстетической системы с теоретическими и
практическими эстетическими представлениями и системами дея-
телей мусульманских культур последующих веков.
ПРИМЕЧАНИЯ
См. суры № 51,53,68,69,73,79,85,87,89, причем для пяти сур предлагались
датировки, относившие либо всю суру целиком, либо соответствующие аяты в ней к
более поздним периодам.
Отсылки на коранический текст даются по нумерации аятов, принятой в
арабских изданиях. Цитаты приводятся в переводе И.Ю. Крачковского, иногда с не-
которой стилистической правкой. В статье использованы также примечания
И.Ю.Крачковского к русскому переводу Корана.
3
Оба контекста относятся к позднему, третьему мекканскому периоду и выра-
жают одну и ту же идею — «неба без опор».
И.Ю. Крачковский упоминает Саккаки, который объяснял появление верб-
люда в картине мира влиянием бедуинской среды.
Талха — либо акация, либо мимоза, либо банан.
И.Ю. Крачковский переводит ключевые слова «лучшим сложением».
7
Ср. (18:8): «И Мы сделаем то, что на ней, возвышением, лишенным раститель-
ности {сашдан джуразан)».
132
Этот аят многие, правда с колебаниями, признают мединским,
о
Вообще же срок сотворения мира сводится к привычным по библейской
традиции шести дням: «Аллах — тот, который сотворил небеса и землю и то, что
между ними, в шесть дней, потом утвердился на троне» (32:4).
В трактовке образа навеса на опорах получается своего рода круг: от «свода из
огня на колоннах (*амад) вытянутых» (104:6-9) к небесному своду на опорах гор,
затем небо лишается гор и одновременно снова возникает образ «навесов (зулал) из
огня» (39:16).
Это слово в арабских переводах античных философов и в собственных
сочинениях арабских философов употреблялось как эквивалент греческому эйдосу..
12
И.Ю. Крачковский переводит нейтральнее: 'в таком виде'.
ЛИТЕРАТУРА
1. Грязневич П. А. Развитие исторического сознания арабов (VI-VIII вв.). — Очерки
истории арабской культуры V-XV вв. M.t 1982.
2. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Глава о непод-
ражаемости стиля Корана (XV в.). Пер. с араб., вступл. и коммент. Д.В. Фролова.
— Народы Азии и Африки. 1987, № 3.
3. ИбнКасир. Тафсир. Т. 1-4. Бейрут, 1980.
4. Коран. Перевод и коммент. И.Ю. Крачковского. 2-е изд. М., 1966.
5. Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов. —
Арабская средневековая культура и литература. М., 1978.
6. Мифологический словарь. М., 1990.
7. Сагадеев А. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского сред-
невековья (По поводу одной типологической концепции). — Эстетика и жизнь.
Вып.З.М., 1974.
8. Фролов Д.В. К истории классической арабской филологии: о сложении комплекса
«коранических наук». — Вестник Московского университета. Серия «Востокове-
дение». 1987, №3.
9-3 130
Л.М.Ермакова
«ДУША СЛОВА», «СЕРДЦЕ» И «ИМЕНА ВЕЩЕЙ»
В РАННЕЯПОНСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Слово, как таковое, применительно к ранней японской поэ-
зии — это прежде всего «слово Ямато» (яматокотоба), что под-
разумевало речь, наделенную «душой слова» (котодама).
Заимствованная китайская лексика, уже во времена раннего сред-
невековья составлявшая обширный пласт не только литературной,
но и обыденной речи, практически не допускалась в поэзию, не-
смотря на тот факт, что само влияние китайской поэтической
традиции на японскую поэзию было огромным и в среде японских
поэтов с очень давних времен было принято писать стихи по-
китайски. Однако «японская песня» (вака, ута, танка) всегда соб-
людала строгую границу, отделявшую ее от китайских стихов
канси, и пр>ежде всего в области лексики,
В этом намеренном избегании китаизмов нет ничего удиви-
тельного: фольклорная лексика и клише в их наиболее распрост-
раненных и ритуально значимых вариантах содержали достаточно
устойчивый и эффективный компендиум представлений о мире,
наборы разнообразных нормативных правил, и эти архаические
коннотации не могли не повлиять и на оттенки значений кон-
фуцианских или буддийских терминов, переводимых на японский
с китайского.
О закономерностях феномена магической номинации уже не-
однократно говорилось в научной литературе; в данной статье
речь пойдет о специфике общего колорита и конкретных прояв-
лениях этого универсального свойства архаического слова в ран-
ней японской поэзии и обыденной жизни, чередующейся с приня-
тыми ритуалами.
В ритуале текст был одним из средств коммуникации с божест-
вами и способом мобилизации сил, внеположенных агенту обряда;
в поэзии, например в первой поэтической антологии VIII в.
«Манъёсю»у сохраняются следы этих прежних песенных функ-
© Л.М.Ермакова, 1995
134
ций, сверх этого текст также становится способом «подключения»
человека к природному миру, в целом наделенному магическими
и мистериальными потенциями. Древний японец, видимо, всегда
ощущал свою непреложную причастность к этому миру, но для
получения определенных результатов требовалось экстраордина-
рное усиление этих его связей. Далее, текст уже на этапе склады-
вания письменной культуры выступает и как способ подключения
ко всем прочим текстам поэтической системы, сама же система на
раннем этапе своего становления еще сохраняет признаки при-
родоподобия и мифоподобия и также наделена чудесными способ-
ностями, которые могут быть актуализованы при «правильном» с
ней взаимодействии.
Ряд песен, исполняемых с явно сакральными целями, кажутся
по ошибке попавшими в мифологический сюжет, зафиксирован-
ный в мифологическом своде. Обычно комментаторы полагают,
что изначально такие песни принадлежали другим персонажам и
введены в повествование из другого сюжета. Однако уже сама воз-
можность для составителей сводов такого несоответствия ситуации
и содержания песни свидетельствует, быть может, об особом сак-
ральном статусе данной песни или, например, повышенной
значимости ее предыдущего исполнителя, что гарантировало
магическую силу текста независимо от содержания.
Интересно проследить, в каких точках мифологического нар-
ратива в сюжет вводится песня. Например, по материалам мифо-
логического свода «Кодзики», песня оказывается уместна в следу-
ющих ситуациях: знакомство юноши и девушки, сватовство, раз-
ведение огня и приготовление пищи (часто жертвенной), перед
путешествием (при обрядовом поднесении чаши с вином), после
завершения путешествия, в пути (при этом чаще всего испол-
нитель песни забирался на дерево или поднимался на гору), при
похоронном обряде, перед смертью, перед входом в жилище, для
опознания человека или его имени. Иначе говоря, это набор риту-
ально обусловленных ситуаций, в которых песни исполнялись с
явно магическими целями.
Как свидетельствуют тексты, многие из этих ситуаций перехо-
дят mutatis mutandis в литературу. Интересно, что классификация
текстов по такого рода ситуациям не совпадает с предписаниями
китайских поэтик, усвоенных средневековыми японскими
теоретиками стиха и предлагающих иной принцип членения — по
жанрам. Так, антология «Манъёсю» демонстрирует повышенный
интерес к ситуациям и обстоятельствам создания песни, тем са-
мым, с одной стороны, отчасти имитируя мифологические сюжеты
«Кодзики», «Нихонсёки», «Фудоки» о инкорпорированными пес-
нями, а с другой — предвосхищая появление жанра ута-монога-
тари ('повествования о песнях'), яркими образцами которого мо-
9-4 130
135
гут служить «Исэ-моногатари» и «Ямато-моногатари»> прос-
лавленные повести эпохи Хэйан.
И в «Манъёсю», и в ута-моногатари песня или декларируемое
стихотворение выступают чаще всего, как и в сфере обряда, в ка-
честве особой прямой речи, единственно допустимой в условиях
запрета на общение, в частности между мужчиной и женщиной.
Например, в сюжете из «Ямато-моногатари» женщина, ставшая
женой придворного, не может в присутствии челяди заговорить с
рубщиком тростника (в котором она узнала своего бывшего му-
жа) , однако обмен стихотворными экспромтами между ними ока-
зывается дозволенным [4, сЛ68-169].
В мифологических сводах нередки случаи, когда песня высту-
пает чем-то вроде родовой метки, служит для определения соци-
альной и клановой принадлежности человека. В сфере письменной
литературы то же явление принимает вид распознавания конкрет-
ного индивидуума — по манере, почерку и т.п.
Поскольку, как говорится в «Манъёсю», Япония — это «стра-
на, где процветает душа слова», то в ритуальном контексте песня
Ямато так или иначе служит актуализации магических сил; пере-
ходя затем в литературу, она в большинстве случаев меняет конк-
ретно-магические цели на общие задачи подключения к мате-
риальному универсуму посредством специфических средств стиха.
Известно, например, что многие синтоистские молитвословия
норито оформлялись или даже составлялись наново достаточно
поздно — вплоть до X в., однако те, кто их составлял, стремились
создавать их по древним образцам, на языке не новее VII в., пото-
му что самоочевидно: котодама, душа слова, тем сильнее, чем
ближе к веку богов (см. также [5, с.239-247]). С необходимостью
введения в текст котодама Кониси Дзинъити связывает и
функционирование ряда канонических приемов японской поэзии,
в частности макуракотоба.
Макуракотоба ('изголовье-слово'), по-видимому, занимает
важное место в круге магических операций раннего общества Яма-
то. Как писала А.Е.Глускина, макуракотоба «представляет собой
лаконичное отражение истории древней культуры Японии» [2,
с.98 ]. Этот прием в разные периоды и разными авторами класси-
фицировался по-разному; исследователи различали отдельные
этапы его использования и становления, говоря о его функции
окаменевшего зачина, постоянного эпитета, образной структуры,
риторического украшения. В разные периоды он мог строиться и
на фонетических, и на семантических ассоциациях. Существуют и
разные гипотезы возникновения макуракотоба: как пишет
И.А.Боронина, «многие макуракотоба произошли из опреде-
лений и сравнений по мере отхода их от прямого значения» [1,
с. 152 ]. В период Токугава считалось, что они восходят к так назы-
136
ваемым «хвалебным словам»: Цугита связывает их происхождение
с молитвословиями норито, некоторые авторы рассматривали их
как ряд словесных табу или как результат «отдельных фрагмен-
тарных впечатлений и представлений» [12, с.20]. Некоторые
японские ученые полагают, что первоначальные макуракотоба
представляли собой прилагательные и, возможно, ранее носили
характер простонародных выражений типа пословиц, затем ут-
рачивали прямой смысл и превращались в эпитеты [1, с Л 53 ].
С нашей точки зрения, основанной на анализе ряда текстов,
макуракотоба ведут происхождение от сакральных формул, о ха-
рактере которых мы судим по наиболее древним поэтическим и
поэтологическим текстам. С особой очевидностью это явствует из
мифологического свода «Идзумо-фудоки» ('Описания нравов и зе-
мель провинции Идзумо') — единственного произведения жанра
фудоки, написанного не по-китайски, а на языке Ямато методом
иероглифической транскрипции. Этот сюжет повествует об обра-
зовании провинции посредством кунихики ('притягивания зе-
мель'). Бог Яцукамидзу-омицуну провозгласил, что страна Идзу-
мо, где восьмислойные облака встают, слишком мала. « "Ныне
приступаю к ее сотворению", — рек он и, увидев, что мыс Мисаки
в стране Сираги [,что, как] ткань шелковая, —лишний, он взял
заступ [,что, как ] грудь юной девы, и вонзил его в ту землю, [как
в ] жабры большой рыбы, и отделил ее, колебавшуюся, [как ] колос
тростника. Затем, накинув вервие тройное, он подтянул ее, [как ]
плод плюща под инеем, медленно, медленно, [как ] ладью речную,
приговаривая: "Земля, иди сюда". И этот мыс теперь простирается
от Кодзу до Кидзуки, [что из ] красной глины» [10, с.1920 ].
В вышеприведенном фрагменте макуракотоба эпитетальные
клише к разным словам встречаются в концентрированном коли-
честве: ткань шелковая (Сираги), груди юной девы (заступ), жаб-
ры рыбы (вонзил), колос тростника (отделил), плющ под инеем
(подтянул), речная ладья (медленно), красная глина (Кидзуки).
Слова, помещенные в скобки, — определяемые, — как очевидно
из списка, далеко не всегда представляют собой имена су-
ществительные, и многие из этих макуракотоба встречаются и в
других памятниках.
С точки зрения Кониси Дзинъити, макуракотоба вместе с не-
которыми другими приемами вака> которые он совокупно именует
вводными словами, служат для актуализации «души слова» (ко-
тодама). С внедрением китайского понятия га — изящного, т.е., в
сущности говоря, эстетического, в отличие от того ритуально-
прагматического аспекта, в котором раньше функционировала
«душа слова», длинные вводные обороты, по мнению Кониси, сок-
ращаются до размеров пятисложного макуракотоба ('изголовья-
слова'), последние же, в свою очередь, постепенно демантизи-
137
руются. Часть их сохраняется в поэзии рэнга, изначально более
простонародной, чем придворная поэзия, в большой мере ориен-
тированная на теоретические установки китайской эсте-
тики.
Важно подчеркнуть, что термин макуракотоба появился не
раньше X в. Прежде этот прием назывался окосикотоба> т.е.
'начинающее слово', 'слово, вызывающее возникновение* (см.,
например [2, с.83-84 ]), т.е. речь идет не только о клише, но и о
своеобразном зачине. Нам здесь хотелось бы высветить те аспекты
и функции этого приема, которые вырастают из архаического
мировоззрения, проблемы же, связанные с основными харак-
теристиками приема, его синтаксической структурой и фазами
эволюции, подробно рассмотрены в других работах (см., в част-
ности, [12; 1]).
Представляется очевидным, что наиболее древние макурако-
тоба или, по крайней мере, значительную часть их разумно расс-
матривать прежде всего как определенный род паремий, имеющих
космологическое значение.
Важная информация на этот счет содержится в средневековых
трактатах. Один из наиболее ранних, написанных по-китайски и
редко попадающих в поле зрения исследователей, включает
список таких пареъти-макуракотоба. Этот трактат придворного,
монаха-буддиста, прославленного поэта Кисэна; трактат отно-
сится примерно к 830-м гг. и называется «Яматоута сакусики»
('Уложение о сочинении песен Ямато'). Кисэн приводит список,
охватывающий 88 таких паремий, предлагая их как перечень
имен, восходящих ко времени богов; Этот каталог построен по
принципу: «если воспевается х, то говорится у». Кисэн предваряет
свой список следующим утверждением: «Для того, чтобы воспе-
вать вещи, во времена богов были другие имена. Какие — поэты
вака этого не знают. Поэтому их надо назвать прежде всего» [9,
с.21 ]. Именно список Кисэна становится эталонным для поэтоло-
гов более позднего времени; например, Минамото-но Санэёри в
трактате «Санэёри дзуйно» (начало XII в.) приводит тот же список
с небольшими изменениями, комментируя: «У тьмы вещей суще-
ствуют и другие имена [чем известные]. Их надо запомнить и
употреблять, если трудно сложить [песню ]». Иначе говоря, маку-
ракотоба изначально понимались как другие слова, имеющие осо-
бую природу, «слова эпохи богов», составляющие некий отличный
от обыденного язык; со временем же этот метаязык в контексте
уже не фольклорной, а литературной системы оказывается инте-
грирован в сугубо поэтический ряд, где выполняет техническую,
отчасти даже вспомогательную функцию.
Из списка Кисэна явствует, что если речь идет о солнце (хи), то
надо говорить аканэ сасу> т.е. 'вытягивающее красные корни
138
(лучи)', об одежде — сиротаэ-но, т.е. 'из белых тканей', о доро-
ге — тамахоко-HOy т.е. 4с яшмовым копьем', и т.д.
При этом приводимый список сгруппирован по следующим
парам: «небо—земля», «солнце—луна», «море—бухта», «остров —
скалистый берег», «волна — морское дно», «река—гора», «поле—
скала», «высокий пик — пик», «долина—водопад», «бог (ками) —
морское течение», «Ямато—Нара», «подданный—человек», «на-
род—отец», «мать—муж», «жена — муж с женой», «мужчина-
женщина», «кукла—раб (лицо из низшего разряда)», «рыбак
(ама)—зеркало», «волосы—сердце», «думать—изголовье», «одеж-
да—годы (возраст)», «луна—солнце», «время—декада», «весна—
лето», «осень—зима», «утро—вечер», «ночь—сон», «рассвет—
столица», «деревня—дорога», «мост—путешествие», «расста-
вание—постоянство», «плоды—деревья», «трава—бамбук», «соло-
вей (камышовка)—лягушка», «сверчок—олень», «паук—обезья-
на», «цветы—ягоды (плоды)», «влекомые вещи (укимоно) —
ветер», «облако—туман», «дымка—дождь», «роса—иней», «снег—
мелкость», «незабытое—старое», «новое — японское кото».
Этот список примечателен во многих отношениях. Во-первых,
он до тривиальности очевидно представляет собой то, что принято
называть «алфавитом мира», т.е. космологическое описание,
основные понятия, составляющие картину вселенной, при этом,
как и полагается, организованные в пары бинарных оппозиций.
Во-вторых, некоторые из этих пар сами по себе составляют до-
вольно неожиданные сочетания, напрашивающиеся на определен-
ные (хотя и гипотетические) умозаключения: например, о воз-
можной связи приморских племен ама с появлением зеркала в
культуре Ямато, а также о близости самого понятия богов с морем,
а не с небом, как можно было бы ожидать. Боги моря, или боги,
пришедшие из-за моря, оказываются богами по преимуществу
среди всех остальных богов (что, быть может, подкрепляет нашу
гипотезу о связи ритуально-песенной традиции с богами племен
австронезийского типа, а не с пантеоном правящего клана, имею-
щего, по всей видимости, алтайское происхождение).
Можно истолковать и повторяющуюся в инверсированном виде
пару «солнце—луна», «луна—солнце». В первом случае, несом-
ненно, воспроизводится китайский бином «солнце—луна», встре-
чающийся еще в древнекитайских памятниках «Ицзин» и
«Луньюй». Вторая пара, судя по позиции в списке, относится к
времяисчислению и в контексте соседних «время—декада», «вес-
на—лето» и др. должно трактоваться как «месяц—день».
Пары «сверчок—олень» и «паук—обезьяна» связаны, вероятно,
с противопоставлением домашних духов (сверчок и паук) и сак-
ральных животных, посланцев богов (олень — «божественный
посланец» при храме Касуга, часто выступающий в этой роли в
139
ранней поэзии, обезьяна в этой функции встречается в мифо-
логических сводах).
Примечательна также пара «кукла—слуга (раб)». Макурако-
тоба к слову кукла — харэгуса, т.е. 'трава для изгнания скверны'.
Видимо, речь здесь идет о фигурках, используемых, по данным
«Сёкунихонги», в обряде великого изгнания скверны (оохараэ).
Фигуркой терли тело, скверна переходила на куклу, которую за-
тем гадатели урабэ пускали плыть по воде. Из комплекса хараэгу-
са-но нингё следует, быть может, что на определенном этапе эти
фигурки делались из травы (возможно, мелкого тростника, кото-
рым производилось изгнание скверны, как в Японии, так и в
Китае). Любопытен и второй член пары — «слуга» (гэнин), вер-
нее, его атрибутика: макуракотоба к этому слову — ямагацу, т.е.
'обитатель гор'. Возможно, что это определение указывает на
иной, не совпадающий с типом Ямато этнос, который играл некую
особую роль в обряде очищения оохараэ.
И наконец, то, что представляется наиболее существенным в
связи с вышеприведенным списком. И в этом трактате, и в более
поздних, содержащих списки макуракотоба, этот троп предлага-
ется авторами трактатов не как передающий основные признаки
предметов и понятий или описывающий их по косвенным приме-
там, а как набор синонимов, эквивалентов, «имен эпохи богов»
(несмотря на то что макуракотоба, т.е. «слова эпохи богов», доста-
точно редко представляют собой имена как таковые). Если же
читать колонку этих макуракотоба отдельно от определяемых
слов, т.е. прочесть вертикальный столбец, дающий современному
для авторов трактатов понятию х «божественный» эквивалент у,
то получится примерно так: «выдвигающее красные корни»,
«[имеющее признак] новой яшмы», «[имеющее признак] грубого
металла», «[имеющее признак] яшмовой шкатулки», «близко к
горам находящееся», «когда много срезают» и т.п. На наш взгляд,
определяемые слова по отношению к этим загадочным иносказа-
тельным описаниям выступают именно как разгадки. Этим мы
хотим сказать, что предлагаем трактовать макуракотоба как
сросшиеся части архаического ритуала космологической загадки,
т.е. вопросо-ответного диалога между жрецом и посвящаемым по
типу: «Что выдвигает красные корни?» — «Солнце», «Что на-
ходится близко к горам?» — «Деревья», «Какая трава служит
изгнанию скверны?» — «Из которой сделана ритуальная кукла» и
т.д. Как пишут Т.Я.Елизаренкова и В.Н.Топоров, «вопрос загадки
и её ответ суть тавтологии, но построенные таким образом, что обе
тавтологические части разнонаправленны... Разведение этих
структур на максимально возможное расстояние не только "скры-
вает" аспект тождества, но и представляет собой своего рода ана-
лог выведения мира вовне» [3, с.16-17 ]. Как и в ведийской загадке
140
типа brahmodya, о которой пишут названные авторы, перечень ма-
куракотоба последовательно описывает становление космоса из
хаоса и появление неба, земли, солнца, луны, затем моря,
заливов, разных элементов земного ландшафта, потом появляют-
ся боги, вслед за которыми — человек с его семейными и социаль-
ными структурами, способами исчисления времени и пр., потом
растения, животные и т.д.
Космологические загадки такого рода противоположны пони-
манию загадки в логической семантике; во многом они отличают-
ся по структуре и от японской загадки средневекового периода.
Такие загадки не подлежат отгадыванию, ответ на них надо знать
заранее, т.е. они «служат важнейшим участком, на котором
реализуется металингвистическая функция языка... ориен-
тированная на проверку того факта, пользуются ли участники
коммуникации одним и тем же культурно-языковым кодом» [3,
с.40 ]. Переход загадки в поэтический троп — явление, встречаю-
щееся и в других ареалах, да и трансформация одного типа паре-
мии в другой также представляет собой универсальный закон.
Разумеется, наша гипотеза о происхождении макуракотоба из
ритуальной космологической загадки не противоречит существу-
ющим классификациям этого типа словосочетаний по разным
признакам и уж тем более представлениям о макуракотоба как о
магической формуле, активизирующей «душу слова» (котодама).
Наша догадка предполагает уточнение магической функции маку-
ракотоба и в роли зачина, и в качестве эпитетального клише.
Выше мы высказали предположение, в соответствии с которым
макуракотоба может трактоваться как трансформированная раз-
новидность космологической загадки. Однако, как свидетельству-
ют работы ряда исследователей, существует целая область танка
хэйанского периода, связанная с диалогом по типу загадка—
отгадка.
Известный исследователь японских загадок Судзуки Тодзо, по-
видимому, возводит генезис японских загадок разных типов к воп-
росо-ответной системе обучения, принятой в древности, т.е. к
обучающим ритуалам. Как он пишет в труде «Исследование зага-
док», «... сейчас нам трудно себе представить загадку, лишенную
элементов, подлежащих дедуктивному разгадыванию, однако в
прошлом эти элементы были достаточно редкими» [11, с.6]. Не
анализируя отдельных поэтических приемов с этой точки зрения,
но рассматривая проблему в целом, Судзуки утверждает, что
ритуальное заучивание мифов и песен древности происходило
именно путем повторения вопросов-ответов, что само по себе
означало инвокацию, призывание духов.
Можно, видимо, утверждать, что от древности к средневековью
в стихотворной загадке (или в энигматическом пятистиший, как
141
именует это явление Судзуки) происходит трансформация: от
кодирования смысла к кодированию (запрятыванию) слова, т.е.
переход от космологических тавтологий к сложной каламбурной
игре, когда суть высказывания, формулирующего загадку, пере-
стает быть священной формулой, а распадается на лексемы и их
части, составляющие отгадку при определенном способе их
комбинирования.
При этом сохраняется линия пятистиший, воспроизводящая
структуру старинной загадки. Судзуки приводит следующий ха-
рактерный пример, возникший в окружении поэта Фудзивара-но
Варитоки (вторая половинаXв.). Это так называемая танрэн-
га — одиночное, но состоящее из двух сцепленных между собой
частей стихотворение, оснащенное в данном случае богатой ка-
ламбурной игрой, соответствующей технике загадок нового типа.
Один из поэтов предлагает вторую часть танка:
катадзу макэдзу-но Роса на цветах,
хана-но уэ-но цую что не побеждают
и не сдаются.
Второй поэт сочиняет (или, вернее, угадывает) первую часть:
су май хана О, цветы сумаи,
авасуру хито-но ведь нет у вас милого,
накэрэба я с кем можно встречаться...
Название цветов в этом стихотворении означает «борьба», «сос-
тязание» (сумаи — современное сумо> вид борьбы), а также «жить
в супружестве». Однако, несмотря на игру омонимами, пяти-
стишие строится не только как развернутая игра слов, но и по
диалогической вопросо-ответной схеме: что за цветы не побежда-
ют и не сдаются? — цветы сумаи [11, с.39 ].
Единство природы определенной части пятистиший и загадок
можно проиллюстрировать, например, на знаменитой танка из
«Ямато-моногатари» (№ 123): «Император соизволил сказать:
"Какова суть того, что луну называют натянутым луком? Изволь
объяснить". И Мицунэ, стоявший внизу лестницы, сказал:
тэру цуки-о Когда светящий месяц
юми хари то си мо натянутым луком
ифу кото ва называют,
ямабэ-о саситэ значит это, что он стреляет,
ирэба нарикэри в горную гряду прицелившись».
Ключевым здесь является слово ирэба от глагола иру 'стрелять'
(из натянутого лука) и 'заходить' (о луне). Связь танка с загад-
кой здесь явственна и для участников ситуации: император упот-
ребляет слово 'суть* (кокороу букв, 'сердце'), ставшее впос-
ледствии неотъемлемой частью клишированной формулы раз-
гадки: «Суть (сердце) загадки в том, что...».
142
Понятие кокоро в загадке так или иначе предполагает разъяс-
нение омонимического приема, указывает тот звуковой стержень,
на который крепятся оба смысловых плана. В сфере средневековых
загадок этот термин используется исключительно в омони-
мических загадках, однако более раннее его применение было, по-
видимому, иным.
Ведь кокоро прежде всего важнейшая категория средневековой
поэтики, о «сердце» пятистишия толкуют почти все авторы трак-
татов, посвященных искусству вака; не раз оно упоминается и в
других средневековых текстах, при этом, несмотря на его прин-
ципиальность для истории японской поэзии, это понятие допуска-
ет множество разных, не отменяющих друг друга интерпретаций.
Можно предложить еще один взгляд на проблему кокоро, исхо-
дя из его значений, восстанавливающихся из ритуально-мифо-
логических текстов. Задаваясь вопросом о возможных истори-
ческих истоках этого понятия и закономерностях его перехода в
литературную сферу, обратимся к ритуальным контекстам слова
кокоро. В одном из наиболее древних из корпуса молитвословий
норитоу обращенных к синтоистским богам, сказано:
Говорю перед царственными богами,
коим хвалу возносят в Тацута.
Внуку божественному, что в Сикисима
великой страной восьми островов правил,
не посылали боги
долгую трапезу, многую трапезу,
начиная с пяти знаков полевых,
чтоб зарумяниться, как глина красная.
И того, что Сокровище Поднебесной великое возделывает,
вплоть до стебелька травинки малой.
И не год, и не два —
лет множество все только портилось.
Повелел тогда государь:
пусть сто ведунов ворожат на вещах для гадания,
чтобы вышло на явь, какого тут бога сердце.
Ворожили ведуны, ворожили
и сказали, что сердце бога того все не явлено.
Услыхал про то божественный внук и поведал:
«Были хвалы вознесены ко всем божествам,
и в храмах Неба и в храмах Земли,
никого не забывая, никого не опуская,
что же вы за боги такие, что не даруете, а портите
все то, что Сокровище великое Поднебесной,
возделывая, возделывает.
Сердце свое явите!»
Такое заклятие он произнес.
Это — первый фрагмент норито, которое читается перед бо-
гами ветра в храме Тацута, излагающий мифологический преце-
143
дент, в результате которого был воздвигнут храм для приношений
богам ветра в соответствии с их наставлениями.
Из этой цитаты можно сделать заключение, что сердце (воля,
желание) божества составляло тайну, которую пытались узнать с
помощью обрядов, гаданий, ворожбы, или же она (в других случа-
ях) могла раскрыться в сновидении. Притом «сердце» (имя) бога
представляло собой именно то знание, посредством которого вос-
станавливалась распавшаяся связь событий, связь человеческого и
сверхобыденного миров, возрождался нормальный ход ритуальной
и хозяйственной деятельности.
Аналогично этому и в загадке функция кокоро заключалась в
актуализации связи двух сфер развертывания текста, определении
сокровенной или сокрытой сути сопряжения двух разных смысло-
вых образований.
Если же вернуться к песенно-поэтической деятельности, то
здесь понятие кокоро отнюдь не было редуцировано к ключевым
словам, разъясняющим суть омонимической метафоры или со-
единяющим космологическую и личную части в двусоставной
композиции танка. Оно и в условиях развитой поэтики по-преж-
нему отражало некоторую смысловую целостность как таковую,
возможно связанную с принадлежностью к классу песен опреде-
ленного ритуала (или, на более поздних этапах, поэтологической с
ним соотноси мостью).
Исследователи разных направлений толковали кокоро как сер-
дцевину стихотворения, его эмоциональную сущность и даже как
«психологическую и познающую деятельность» и как «динамику
субъекта». Кокоро как понятие в текстах бывает сходно с тома,
тамасии ('душа'). Хотелось бы, однако, подчеркнуть не только
сходство, но и противоположность этих понятий. Тома человека
может отсоединяться и отлетать, для удержания ее в теле требу-
ются специальные обряды, кроме того,*тома — субстанция, име-
ющаяся в каждой вещи: цветке, слове, камне и т.п. Кокоро, в
отличие от тома, — другая душа человека, которая является его
неотъемлемым атрибутом, неутрачиваемым свойством в виде соз-
нания, постижения, опыта. Для раннего этапа поэзии, когда мета-
фора еще не стала органичной, а характерным было отождеств-
ление или соположение явлений, обладание сердцем являлось
отличительным признаком человека или божества.
Применительно к поэзии кокоро, по-видимому, не просто
лирическая эмоция или главная мысль стиха. В трактатах часто
встречаются выражения вроде: «Как же исполнять такую танка!
Ведь ее сердце трудно уловить». Подобные вопросы коррелируют с
указаниями такого типа: «Весна — лето — эти два надлежит
читать грузно-громко (футоку ооки-ни). Осень — зима — эти два
надлежит читать сухо-узко (карабихосоку). Любовь — путе-
7 44
шествия — эти два надлежит читать особо блестяще-прекрасно
(кото-ни цуяяка-ни)» [9, с.269].
Видимо, и кокоро было фактором, определяющим, наряду с те-
матикой, конкретный тип исполнения танка, возможно связан-
ный с выбором лада или же ритма или мелодического типа. Ведь в
вышеприведенных цитатах явственно слышится отзвук музыкаль-
ной истории вака, намек на некий традиционно понимаемый ха-
рактер исполнения. По-видимому, тема стихотворения, прежде
всего понимаемая как четыре сезона года, любовь и путешествия,
постулировала некий общий характер музыкального исполнения
стиха, внутри же этих подгрупп более частное деление управля-
лось понятием кокоро, т.е. индивидуальным устремлением конк-
ретного пятистишия, связанным с конкретной лирической ситу-
ацией. Таким образом, выбор автором или выявление исполните-
лем того или иного кокоро стиха задает и вид музыкального
ореола, последний же, в свою очередь, очевидно, коррелирует со
следами магической ориентированности текста.
Другими словами, нашу мысль можно высказать так: в загадке
кокоро служит посредником между двумя омонимическими
рядами, в поэзии же — полем, где осуществляется взаимодействие
между персоной автора и тематикой стиха, понимаемой в крупном
масштабе — типа «любовь» или «странствия», или между конкрет-
но-лирической эмоцией и космологическим описанием; только это
поле не выражается в конкретных лирических отрезках стиха, как
таковое оно не подлежит вербализации, а составляет своего рода
среду, определяющую музыкальный регистр и семантическую
принадлежность вака, коррелируемые, в свою очередь, с общим
ритуальным классом текста.
ЛИТЕРАТУРА
1. Воронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978.
2. Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре. M., 1979.
3. Паремиологические исследования. M., 1984.
4. Ямато-моногатарй. Серия «Памятники письменности Востока». LXX. Пер. с
японского, йссл. и коммент. Л.М.Ермаковой. M., 1982.
5. Konishi Jinichi. A History of Japanese Literature. Vol.1. Princeton, 1984.
6. Кодай каёсю (Собрание песен древности). — Нихон котэн бунгаку тайкэй
(Основные произведения японской классической литературы). Т.З. Токио,
1968.
7. Кодзики. Норито. — Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т.1. Токио, 1970.
8. Маньёсю. — Нихон котэн бунгаку тайкэй. T.4-7. Токио, 1969.
9. Нихон кагаку тайкэй (Основные труды по японской поэтике). Т.1. Токио, 1973.
10. Синтэн (Собрание текстов о синтоистских божествах). Иокогама, 1936.
11. Судзуки Тодзо. Надзо-но кэнкю (Исследование загадок). Токио, 1963.
12. Фукуи Кюдзо, Макура котоба-но кэнкю то сякуги (Исследование и истолкование
макуракотоба). Токио, 1961.
10 130
М.Д.Назарли
БЫТИЕ «ЦАРСТВЕННОГО ДУХА»
В СЕФЕВИДСКОЙ ЖИВОПИСИ
Да не останется скрытым, что
поразительные мысли и дивные идеи
людей этого искусства известны во
всех округах и заслуживают вни-
мания всех владеющих зрением [...].
Образ, что рисуется на скрижалях
мысли художника, никто не изоб-
разит в зеркале красоты.
Кази-Ахмад. «Трактат о кал-
лиграфах и художниках».
Не изысканный рисунок, не изящная композиция и не тонкая
живопись привлекают первоочередное внимание средневекового
теоретика живописи Кази-Ахмада в искусстве тебризских масте-
ров миниатюрной живописи, а «поразительные мысли и дивные
идеи людей этого искусства» [9, с.177]. Более того, Кази-Ахмад
противопоставляет внешнюю красоту тому образу, «что рисуется
на скрижалях мысли художника». Но если художественная цен-
ность этих памятников не вызывает сомнений, то «скрижали
мысли художника», к сожалению, на сегодняшний день остаются
непрочитанными, да и сам язык этих скрижалей до конца не ясен
и ставит множество проблем перед исследователями. Поэтому не-
удивительно, что искусство восточной миниатюры, поразившее
европейский мир в начале XX в. и в дальнейшем получившее свое
освещение не в одном десятке различных трудов, по сути до сегод-
няшнего дня остается даже для специалистов «тайной за семью
печатями». Эта привлекательнейшая область восточной литерату-
ры, кажущаяся на первый взгляд достаточно простой и понятной,
оказывается до парадоксальности «закрытой» для научных иссле-
дований. И если со сбором эмпирического материала дела обстоят
более или менее благополучно, то план содержания миниатюрных
композиций по-прежнему во многом загадочен. Думается, что
©М.Д.Назарли, 1995
146
это связано отчасти с тем, что, подобно тому, как хороший архи-
тектор просчитывает путь продвижения человека по построенному
им зданию, миниатюристы продумывали довольно сложную для
понимания человека XX в. «траекторию» как визуального, так и
теоретического рассмотрения своих произведений.
В настоящей статье предполагается проанализировать некото-
рые участки этой «траектории» и таким образом в некоторой мере
«дешифровать» «язык» миниатюрных композиций, дабы прочи-
тать хотя бы фрагменты «скрижалей мысли» тебризских мастеров
миниатюрной живописи.
Одним взглядом он диск солнца видел,
Одним волоском [кисти] оба мира изображал.
Садиг-бек Афшар. «Трактат о живописи».
Любой вид искусства предполагает свои, специфические зако-
ны восприятия, но именно живопись, занимавшаяся изображе-
нием людей и животных и подвергавшаяся определенной кри-
тике в различные периоды развития исламской культуры, выра-
ботала наиболее сложную инженерию выражения «скрытого и
явленного».
Как представляется, выражение «скрытого» было одной из пер-
воочередных задач, стоящих перед художниками-миниатю-
ристами, и без анализа того, как это «скрытое» фиксировалось в
изобразительных памятниках, невозможно составить цельную и
непротиворечивую картину функционирования миниатюрной
живописи в восточной культуре. Иными словами, основной проб-
лемой современного исследователя становится выяснение того,
как удавалось Музаффару Али и его «коллегам» одним волоском
кисти изображать «оба мира» [20, с.68 ].
Для того чтобы ответить на этот и некоторые другие вопросы,
необходимо прежде всего обратиться к одному хорошо известному,
но еще до конца не оцененному специалистами документу — ука-
зу шаха Исмаила (от 27 джумада 1, 928/1522) о назначении
прибывшего из Герата художника Камаледдина Бехзада главой
шахской китаб-ханы . Этот указ — своего рода «правительствен-
ная программа» развития изобразительного искусства при се-
февидском дворе. В нем, в частности, говорится:
«Создатель форм в мастерской творения и Писец в рисовальном
цехе неба и земли, Который по слову и суре "сформировал вас и
прекрасно дал вам формы'* (40:66) , нарисовал дивную картину
Бытия, Который завершающим штрихом Калама мощи своей
устроил род человеческий в самой прекрасной из форм на странице
возможности, а окончательной правкой кончиков пальцев своих —
начертал картину превосходства человеческих индивидуумов над
прочими божьими созданиями согласно [аяту] "и оказали им
преимущество перед многими, которых создали" (17:72), своей во-
10-2 130
147
лею и произволением подписал Он указ "мы сделали тебя на-
местником на земле" (38:25) на золоченой странице Солнца пером
Меркурия на наше августейшее имя, и разрисовал и разукрасил
страницы лазурного небосвода серебряной россыпью звезд и алым
потоком зорь для ведения летописи наших побед и триумфов. Потому
достойно всего и подобает, чтобы скрижаль нашей внимающей
откровению души, которая является местом^восприятия лучей боже-
ственного света и местом, где обретают форму знаки [Его] благово-
ления, украсилась нижеследующим образом: пусть все значительное
из благородных свершений повелителя удачи и всякое из великих дел
государственного управления будет вверено и препоручено искусству
обладающего знанием и умению причастного мудрости, который
рисунком проницательного разума и раскраской изящного даро-
вания способен явить на доске Бытия план [рисунка], достигаемый
разными видами умениями картину, измысленную всякого рода
проницательностью, и совлечь покров завесы с лика искомого и же-
лаемого» .
Подробный анализ этого указа требует отдельного исследо-
вания, но уже сейчас в нем можно выделить несколько существен-
ных моментов. Миниатюристам, с одной стороны, надлежало
изображать: «летопись побед и триумфов», «значительные из бла-
городных свершений правителя удачи и всякое из великих дел го-
сударственного управления». Иными словами, мастерам было
предписано отображать жизнь шаха и шахского двора. При этом, с
другой стороны, создавая «летопись», художники обязаны были
проявлять мудрость и проницательность, дабы «совлечь покров за-
весы с лика искомого и желаемого». Таким образом, миниа-
тюристы были призваны передать в своих произведениях не толь-
ко быт — тварный и телесный, но и Бытие — сущностное, универ-
сальное, субстанциальное.
Не приходится сомневаться, что указаниям правителя ху-
дожники должны были подчиняться беспрекословно. Сефевидский
правитель был тенью Бога на земле, мюршид-и камилом (т.е. со-
вершенным духовным наставником) ордена Сефевийя и, наконец,
представителем Скрытого Имама или Махди. Неповиновение ша-
ху в сефевидском государстве рассматривалось как серьезное пре-
ступление, почти равноценное куфр (т.е. неверию), и могло быть
наказуемо даже смертью (подробно об этом см. [37, с. 184 ]). Меж-
ду тем, на первый взгляд, тебризские художники не выполняли
предписаний своего правителя и, кстати, главного заказчика. Ка-
залось бы, указ Исмаила довольно жестко регламентирует работу
художественных мастерских и точно определяет жанр, в котором
должны работать художники.
Во всяком случае, нигде в указе нет речи об иллюстрациях к
литературным произведениям — несомненно основном изоб-
разительном, «продукте», производимом в тебризской мастерской.
И все же именно в этот период в китаб-хане иллюстрируются
148
такие рукописи, как «Хамсе» Низами, «Шах-наме» Фирдоуси,
«Диван» Хафиза, «Хафт Лвранг» Арифи, «Юсуф и Зулейха»
Джами и т.п. При этом следует отметить, что должность главы
шахской китаб-ханы, по всей видимости, была крайне почетной, и
социальный статус К.Бехзада был необычайно высок. Однако, не-
смотря на кажущееся несоответствие между установками прави-
теля и «конечным результатом» труда миниатюристов, К.Бехзад
сохранил за собой эту должность вплоть до своей смерти в 942 году
хиджры. Таким образом, остается предположить, что указ Ис-
маила все-таки выполнялся беспрекословно.
И действительно, при более подробном рассмотрении ста-
новится ясным, что художники лишь пошли по пути, естественно-
му в их положении. Перед ними, по существу, была поставлена за-
дача — развитие нового (историко-«документального») жанра в
миниатюрной живописи, с одной стороны, и «снятие завесы» или,
иными словами, выражение мира скрытого — с другой. Новый
жанр стал, естественно, зарождаться в недрах уже устоявшейся
изобразительной традиции — внутри литературной иллюстрации.
Схема известная и много раз опробованная в самых различных
культурах. И именно выбор этой схемы, как будет показано, спо-
собствовал разрешению и основной задачи — демонстрировать
связь между миром скрытым и миром явленным.
Следует отметить при этом, что само появление вышеизложен-
ной установки шаха Исмаила, безусловно, было закономерным
следствием развития общества; указ о назначении К.Бехзада гла-
вой шахской китаб-ханы лишь фиксирует начало нового этапа в
культуре средневекового мусульманского Востока.
Сефевидская живопись наглядно свидетельствует, что именно в
этот период произошли существенные изменения, во многом ска-
завшиеся на отношении к некоторым значимым для средневековой
мусульманской культуры понятиям, например к таким, как: вре-
мя и пространство, скрытое и явленное, сакральное и профанное
и др.
Как представляется, значительное влияние на сефевидскую
идеологию оказали религиозно-философские установки хуру-
физма — одного из ответвлений суфизма. Это направление было
очень популярно именно в раннесефевидский период. Вся поэзия
самого шаха Исмаила I, известного под поэтическим псевдонимом
Хатаи, проникнута хуруфитскими воззрениями .
В хуруфитской теории сильный акцент ставился на том, что
трансцендентная субстанция в полной мере выражается во всех
формах мира свидетельств, что, в свою очередь, повышало суб-
станциальность мира свидетельств, а следовательно, и его значи-
мость. Как представляется, такое отношение к миру явленному в
этот период и приводило к тому, что именно тебризские ху-
10-3 130
149
дожники XVI в. столь тщательно выписывали каждый цветок,
каждый лист на дереве, каждый камень и т.п.
Но, пожалуй, наиболее важно то, что хуруфизм модифи-
цировал отношение к человеку и человеческой деятельности. В
философии хуруфизма получили свое крайнее выражение идеи
«нового творения» (халк-и джадид), развиваемые многими пред-
шествующими мусульманскими мыслителями (Ибн Араби,
Джами и др.). Согласно концепции «нового творения», акт тво-
рения является имманентным свойством божественной суб-
станции. Это, «с одной стороны, вечное облачение запредельного
единого сущего в формы проявления, и, с другой стороны, это веч-
ное снятие покрывала самостоятельности всех форм бытия (мавд-
жудат), в том числе и индивидуального субъекта...» [24, с. 101 ]. В
результате этого любое происходящее в мире событие, а особенно
связанное с шахом — наместником Бога на земле, уже в силу не-
посредственного участия в этом событии Божества становится зна-
чимее. Повышается и космический статус отдельного человека,
посредством которого мир субстанциальный наиболее полно выра-
жает себя в мире свидетельства. Думается, что, доведенная до
крайности, эта идея позволила хуруфитам (в том числе и Хатаи)
вслед за Халладжем повторить знаменитое заявление: «Я есть
Истина [Бог! ]» («Ана-л-Хакк»).
Идеи «нового творения» и в дальнейшем их несколько транс-
формированный и, если так можно выразиться, хуруфитский
вариант, несмотря на свою очевидную мистичность, обозначили
новое отношение к человеку в мусульманской культуре. Повы-
шение космического статуса человека в результате снижения воз-
можностей проявления индивидуальности в конечном счете сказа-
лось в том, что апофеозом интереса к человеку в мусульманской
культуре стал хуруфизм. В лице каждого конкретного человека
хуруфиты видели отражение божественной субстанции. Характер-
ными являются такие заявления, как:
«Великое имя — наш лик, все предметы — это мы»
[11, с.247]
или:
«Взгляни на текст науки имен на лице человека»
[11, с.247].
Особый же интерес должно было представлять лицо се-
февидского правителя, в котором божественное начало проявля-
лось особенно полно.
Вероятно, именно хуруфизм активизировал интерес ху-
дожников к изображению конкретных людей, к портретности, с
одной стороны, и к конкретным событиям из их жизни — с другой.
Таким образом, историко-«документальный» жанр получал свое
150
идеологическое оправдание в хуруфитской философии, основыва-
ющейся во многом на идеях «нового творения».
Активное проникновение в сефевидскую миниатюру XVI в.
историко-«документального» контекста привело к некоторым
изменениям как содержательной, так и изобразительной структу-
ры произведений. Если ранние миниатюры тебризской (или любой
другой) школы достаточно лаконичны по форме, то композиции
XVI в: буквально перенасыщены деталями. В них активно разви-
ваются «дополнительные» сюжетные сцены, появляется большое
количество «дополнительных» персонажей для раскрытия литера-
турного сюжета, но обогащающих исторический. Лица персона-
жей становятся более индивидуализированными, начинают наде-
ляться физиогномическими характеристиками, что обогащает
образы, делая их более психологичными, эмоциональными и пр.
Вероятно, поэтому если в иллюстрированных списках XIV в.
даже одни и те же литературные персонажи еще меняют свою
внешность в миниатюрах одного изобразительного цикла [27,
с. 133], то уже в сефевидской миниатюре XVI в. наблюдается
обратное: разные литературные персонажи даже в иллюстрациях
из разных списков не меняют своего облика и довольно легко
идентифицируются с конкретными историческими деятелями.
Художники сефевидского двора, таким образом, с одной сторо-
ны, начали разрушение масковости, столь характерной для
миниатюр раннего периода (см. об этом [27, с. 139-141 ]), привнеся
элементы портретное™ в свою живопись, довольно точно восп-
роизводя обстановку при дворе, этнографические детали, иными
словами, «документализировали» изображения, а с другой —
оставались в рамках литературной иллюстрации, не менее подроб-
но отражая необходимые литературные сюжеты. Метод, использу-
емый художниками, заключался в том, что к любому значитель-
ному событию из жизни сефевидского двора подбирался ана-
логичный сюжет из иллюстрируемого литературного произ-
ведения. Этот сюжет иллюстрировался с использованием всевоз-
можных аллегорий, символов, иносказаний и прочих приемов,
указывающих на конкретное событие, происшедшее с сефевид-
ским правителем (это могли быть: коронации, свадьбы, охоты,
меджлисы, приемы, битвы и пр.) .
Аллегорическое истолкование известных сюжетов традиционно
использовалось во многих культурах. На мусульманском Востоке
этот метод интерпретации^ был наиболее полно разработан
суфийскими теоретиками, и, по всей видимости, придворные ху-
дожники «Великого суфия» (как нередко называли шаха Исмаила
Хатаи) воспользовались именно суфийским методом интерпре-
тации текстов с той разницей, что фиксировали свои интерпре-
тации в миниатюрных композициях.
10-4 130
151
По суфийским воззрениям, посредством подобной интерпре-
тации и осуществлялась связь между сущностным событием и поз-
нающим его. Суфии считали, что в тексте (например, Корана)
необходимо находить такие знаки, которые имеют прямое отно-
шение к жизни читающего. «Постижение текста, проникновение в
его смысл и принятие текста в качестве образца собственного су-
ществования является в суфийском понимании преображением его
наружной формы (шариат) в форму внутреннюю и сущностную
(хакикат)» [24, с.100]. В случае же с иллюстрированными тек-
стами в эту схему включался художник и его произведение. Связь
между познающим и познаваемым усложнялась, и восприятие
сущностного события происходило уже не посредством трактовки
литературного текста, а путем рассматривания иллюстраций к не-
му. Первым интерпретатором выступал теперь не читатель
рукописи, а художник, находивший в тексте знаки, обращенные к
заказчику, сопоставляя события из литературного текста с со-
бытиями из жизни заказчика. Таким образом, священное знание,
знак, ниспосланный заказчику, «узнавался» и осмысливался уже
на стадии иллюстрирования художником, который материализо-
вывал это ниспосланное знание в миниатюре. Такая опосредован-
ность связи, при которой знак, указывающий на конкретное лицо,
виделся окружающими, возвеличивала это лицо, подчеркивала
его избранность, указывала на сакральный смысл его деяний.
Тесная, взаимозависимая связь литературного и исторического
повествования в миниатюре создавала определенные условия
функционирования внелитературного историко-«документально-
го» контекста. Любой «дополнительный» элемент иллюстрации, не
связанный непосредственно с иллюстрируемым сюжетом, начинал
функционировать в контексте собственно литературного повество-
вания. Миниатюры, дополненные историко-«документальным»
контекстом, становились своего рода изобразительными интерпо-
ляциями литературного текста. Литературный сюжет, таким обра-
зом, становился парадигматическим, а литературный персонаж
выступал прототипом исторического. Это создавало в миниатюре
по крайней мере две связанные между собой системы координат:
пространственно-временную ось литературного повествования и
пространственно-временную ось повествования историко-«доку-
ментального».
Вопрос о логической связи литературного и живописного пове-
ствования на примере ранних иллюстративных традиций уже рас-
сматривался исследователями [27 ]. В настоящем же случае можно
говорить о логической связи исторического и литературного пове-
ствования, иными словами, о том, что художник обычно связывал
литературный сюжет с историческим, и миниатюра имела по
меньшей мере двойной смысл.
152
В результате наличия такой связи, например, «триумф» или
«победа» рассматривались миниатюристами не как события
изолированные и единственные в своем роде, а как закономерные,
имеющие аналогии в древней истории, соотносящиеся с единым
архетипическим событием, отраженным в иллюстрируемом лите-
ратурном произведении . Это позволяло художникам продемон-
стрировать вневременную сакральную связь между сюжетом,
отображенным в литературном произведении, и событием из
жизни заказчика рукописи. Миниатюрная композиция реально
демонстрировала систему кодов, с помощью которых необходимо
было прочитывать литературный текст, выступая таким образом в
роли необходимого для «перевода» словаря .
Благодаря этому художники сефевидского двора решали однов-
ременно несколько разноплановых творческих задач. Оставаясь в
рамках установившейся традиции, благодаря использованию сю-
жетов-аналогов они насыщали иллюстрации историческим кон-
текстом, выполняя тем самым одну из установок правителя.
Сложная взаимозависимая связь двух контекстов позволяла не
только отразить Бытие и космически возвысить личность за-
казчика (как правило, шаха), но и представить в новом свете сам
процесс творения миниатюры, что, в свою очередь, изменяло
отношение и к художнику — носителю определенного сакрально-
го знания. Используемый тебризскими мастерами миниатюрной
живописи творческий метод поднимал социальный, духовный и
какой-либо другой статус как заказчика, так и художника. Естест-
венно, что и сама миниатюра воспринималась как нечто, имеющее
гораздо большее значение, нежели просто хорошая иллюст-
рация.
Однако для отображения Бытия «царственного духа» ху-
дожники не останавливаются лишь на сюжетной, ситуационной
связи двух событий. Важным для них оказывается и изображае-
мый литературный персонаж. В этой связи существенной пред-
ставляется проблема астральных соответствий между реальным
правителем и его литературным прототипом, объединенными
миниатюрой в единый образ .
Даже поверхностный анализ позволяет выделить в се-
февидских миниатюрах два типа изображаемого правителя. Пер-
вый — среднего возраста, явно идентифицируемый с шахом Ис-
маилом. Излюбленным литературным прообразом для этого типа
композиций является Искандер (Александр Македонский). Второй
тип миниатюр представляет гораздо более молодого героя, без тру-
да соотносимого с Тахмасбом. Наиболее частым прототипом моло-
дого правителя является Хосров Ану-ширван, хотя нередко появ-
ляются Хосров Парвиз и Бахрам Гур. Как представляется, все эти
прототипы выбраны не случайно.
153
Первая аналогия подтверждается следующими совпадениями.
Исмаил родился 25 раджаба 892 года хиджры, или 17 июля 1487
года. Это означает, что он родился под знаком Льва, руководящая
планета которого Солнце. Подсчет показывает, что он родился в
год быка по двенадцатилетнему «животному» циклу. Интересно
отметить, что уже сочетание подобных знаков указывало на рож-
дение правителя и являлось знамением. Не случайно в хронике
XVI в. «Тарихи-и шах-и Исмаил-и Сефеви» имя шаха Исмаила I
заменялось оборотом «Достойный Сулеймана государь — облада-
тель счастливого гороскопа» [28, с. 14]. В настоящем же случае
важно то, что Александр Македонский родился в июле 356 года до
нашей эры, а иными словами, под тем же знаком зодиака. Год две-
надцатилетнего «животного» цикла также совпадает. Таким обра-
зом, их астрологические судьбы связаны между собой , что долж-
но было быть известно самому Исмаилу, который, безусловно, же-
лал подражать своему астральному предшественнику .
Конечно, в представлении человека того времени в образе Ис-
кандера переплетались вымысел и реальность. Отголоски исто-
рических фактов видоизменялись в таких популярных литератур-
ных произведениях, как «Шах-наме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами
и Навои и др. Образ литературного героя, однако, воспринимался
как исторический, и именно такая отдаленность образа Искандера
от реального Александра Македонского позволяла наделять этого
героя необходимыми качествами. Искандер — основатель импе-
рии, мудрый правитель, борец за веру, философ, отважный воин
и, наконец, меценат. Все эти характеристики применимы и к шаху
Исмаилу. Более того, Александр Македонский не только реальное
историческое лицо и один из главных героев популярных литера-
турных произведений, но и персонаж из Корана, известный под
именем Зуль-Карнайн [Двурогий ]. Важно и то, что Александр по
одной из традиционных версий является наследственным правите-
лем Ирана, и, следовательно, сефевиды, связывающие свой род с
сасанидами, считали себя потомками Александра.
Можно было бы привести много интересных аналогий из жизни
двух правителей. Один из эпизодов связан с Чалдыранским сра-
жением. Войско Исмаила при Чалдыране было малочисленней
войск противника и не имело, в отличие от последних, огнестрель-
ного оружия. Кызылбашские полководцы Мухаммад-хан Устадж-
лу и Нурали Румлу предложили Исмаилу план ночного напа-
дения, способного нейтрализовать огнестрельные орудия против-
ника. Один лишь Дурмиш-хан Шамлу высказался против. Исмаил
согласился с Дурмиш-ханом, заявив: «Я не разбойник, напада-
ющий на караваны; пусть будет то, что предначертал Аллах!» [29,
с. 116 ] 1. Подобное же поведение в схожей ситуации приписывает-
154
ся Искандеру. В частности, в «Кабус-наме»в главе «Об обычаях и
условиях царствования» приводится следующий эпизод:
«Искандер шел на войну со сбоим врагом. Ему сказали: "О царь,
этот человек, враг твой, — беспечен, надо неожиданно напасть на
него ночью". Искандер ответил: "Тот не царь, кто ворует победу"»
[8,с.192].
В редакции Низами этот же эпизод выглядит следующим обра-
зом:
«Надвигалось нашествие Дария,
Почернела земля от людей, закованных в булат.
Шпион сказал: "Опьяненный враг
День и ночь вполне беззаботен там, где он находится,
Если царь хоть один раз сделает на него ночной натиск,
Он, несомненно, выгонит врага из царства",
Искандер засмеялся и дал ответ:
"Солнце не тайком завоевывает мир.
Когда царь натягивает поводья,
Ему не годится побеждать с помощью воровских уловок»
[17, с.113-114].
Параллель в поведении очевидная. «Кабус-наме» и «Искандер-
наме» были настолько популярны, что совершенно не приходится
сомневаться в том, что Исмаилу, тац же как и его полководцам,
этот эпизод был хорошо знаком. Если же учесть, что хорошо изве-
стны случаи, когда Исмаил позволял себе тактические ходы, по
сравнению с которыми ночное нападение представляется вполне
допустимым, то можно предположить, что в этом эпизоде Ис-
маилом двигали не столько благородные устремления, сколько же-
лание поступить в сложной для себя ситуации по примеру своего
астрального предшественника.
И, наконец, имеются прямые подтверждения того, что образ
Искандера был действительно значим для Исмаила. В своих
стихах он неоднократно обращается к личности Искандера.
Например:
«Я живущий Хызр и Иисус, сын Марии.
Я Александр для (своих) современников»
[34, с. 1003]
или:
«Я Фаридун, Хосров, Джамшид и Зохак.
Я сын Зал я и Александр»
[34,сЛ004].
Таким образом, наличие астральной, генеалогической и ситу-
ационной связей между Исмаилом и Искандером и распространен-
ность образа Искандера в литературных произведениях создали
условия, при которых изображение Искандера становилось наибо-
лее логичным, а следовательно, и популярным .
155
Наконец, Искандер, как, впрочем, и некоторые другие зна-
менитые правители, собирал вокруг себя ученых, философов, ху-
дожников и поэтов. Исмаил понимал, что подобная же практика
ставит его в один ряд с легендарными правителями Востока (в час-
тности, с Искандером), что, возможно, также подталкивало его к
особо активной меценатской деятельности.
При этом необходимо отметить, что образ Искандера мог быть
наиболее близким самому Исмаилу, но использование только это-
го прототипа крайне ограничило бы возможности миниатюристов.
Поэтому художники в зависимости от обстоятельств использовали
и другие аналогии, и тот же тип правителя встречается и в компо-
зициях с иными главными героями, хотя не исключено, что ху-
дожникам были известны некоторые астрологические обоснования
и этих аналогий; их скорее можно отнести к чисто ситуационным.
Так, в миниатюре «Каюмарс обучает людей» («Шах-наме» Фирдо-
уси из коллекции А.Хаутона; см.рис.1) явственно проявляется
аналогия Каюмарс—Исмаил. Согласно легенде, Каюмарс — пер-
вый шах Ирана; он установил порядок на земле и научил людей
готовить пищу, шить одежды. Исмаил — первый сефевидский
правитель; он также установил новые порядки в государстве.
Можно привести и другие примеры, но важно, что наличие едино-
го типа правителя в миниатюрах 20-х годов позволяет говорить о
том, что в образе «великих царей» изображался шах Исмаил
Хатаи I.
Как уже отмечалось, параллельно с изображением Искандера в
образе литературных правителей в композициях миниатюр с се-
редины 20-х гг. появляется еще один повторяющийся персонаж —
совсем юный принц Тахмасб, прибывший, как известно, к
тебризскому двору из Герата в 1522 г. Сюжеты миниатюр, на ко-
торых присутствует этот персонаж, довольно однообразны. Чаще
всего он играет в чоуган, несколько реже — в тыкву, участвует в
меджлисах на фоне природы (при этом главный персонаж этих
сцен не сидит на троне, а располагается на коврах с подушками).
Иногда изображаются и сцены охоты. Известно, что принц Тах-
масб именно в этот период, помимо живописи, увлекался раз-
личными конными играми, и особенно игрой в чоуган (безусловно,
именно с этим связано его активное участие в создании рукописи
«Гуй ва чоуган» Арифи), много времени проводил в саду, и поэто-
му перечисленные типы композиций, несмотря на свою связь с
иллюстрируемыми литературными произведениями, являлись
прямым отражением жизни принца.
Однако в конце 20-х гг. происходит заметная смена главного
персонажа тронных сцен. «Почтенный муж» уступает место на
троне «безбородому юнцу». Напомним, что после смерти Исмаила
в 1524 г. страной начинает править двенадцатилетний Тахмасб.
156
: мшд£ -J, V/. fr **•
Каюмарс обучает людей
(«Шах-наме» Фирдоуси)
15'
Поэтому столь резкая смена образа правителя в изображениях
тронных сцен представляется закономерной.
Излюбленным персонажем этой группы миниатюр, как уже
отмечалось, был Хосров Ануширван, хотя почти такой же попу-
лярностью пользовались изображения Бахрам Гура и Хосрова
Парвиза. По всей видимости, за Тахмасбом не было закреплено
такого же приоритетного прототипа, как за Исмаилом, и ху-
дожникам была предоставлена большая свобода выбора, но и в
случае с Тахмасбом избираемые миниатюристами литературные
прототипы, как представляется, не были случайными.
Тахмасб родился 26 зу-л-хиджжа 918 г. (3 марта 1513 г.) под
знаком Овна, планета которого Марс, а взошел на престол 19 рад-
жаба 930 г. (1524 г.). Год его рождения и год восшествия на
престол соответствуют году обезьяны по двенадцатилетнему
«животному» циклу (подробно о дате рождения Тахмасба см. [14,
с. 177-178]). Важно отметить, что, например, Хосров Ануширван
родился также в год обезьяны, а Бахрам Гур под знаком Овна. Ин-
тересно также, что в одной из хроник составляется хронограмма
на время его восшествия на престол и используется словосоче-
тание «шах Анушир-ван», что дает цифру 930 [30, с. 13]. Обна-
руживается и множество ситуационных соответствий из жизни
Тахмасба и его литературных прототипов. К сожалению, отсут-
ствие в исторической литературе некоторых точных дат не дает
возможности полностью реконструировать соответствия астро-
логические, но исследования миниатюр и ясные парадигмы обра-
зов Искандера и Исмаила позволяют утверждать, что и в случае с
Тахмасбом ситуационные связи, безусловно, подкреплялись аст-
рологическими.
В подтверждение предложенных теоретических заключений
обратимся к практической реконструкции некоторых памятников
миниатюрной живописи сефевидского периода. Думается, что
приведенные примеры позволят также открыть в широко из-
вестных произведениях некоторые малоисследованные сто-
роны.
При этом, говоря о важности реконструкции историко-«доку-
ментального» контекста сефевидских миниатюр, следует отме-
тить, что подобные исследования позволяют решать не только на-
учно-теоретические, но и практические проблемы, связанные с
атрибуцией памятников. При помощи стилистического анализа
невозможно определить точную дату создания той или иной
миниатюры, а посредством реконструкции историко-«докумен-
тального» контекста, особенно в сочетании ее с другими дати-
рующими признаками, вполне реально определить год создания
композиции или, во всяком случае, время, ранее которого она не
могла быть создана.
158
JEW'-; ,..„
Рис.2
Приношение Хосрову даров из Индии
(«Шах-наме» Фирдоуси)
159
Одним из интересных примеров может служить миниатюра
«Приношение Хосрову даров из Индии» из «Шах-наме» Фирдоуси
(коллекция А.Хаутона; см.рис.2), в которой повествуется о при-
езде к легендарному правителю Хосрову Ану-ширвану индийского
посланника с дарами. Американский исследователь С.К. Уэлч,
опубликовавший эту миниатюру, на базе проведенного стили-
стического анализа считает, что она была выполнена в середине
30-х гг. [39, с.181 ]. Реконструкция же историко-«документально-
го» сюжета этой миниатюры позволила сделать вывод о том, что
данная композиция, помимо литературного сюжета, отражает
исторический приезд в 1544 г. ко двору шаха Тахмасба I моголь-
ского правителя Хумайуна. Это дает основание утверждать, что
миниатюра была создана скорее всего именно в 1544 г. (в период
пребывания Хумайуна при дворе) или, во всяком случае, не ранее
этого времени.
Сравнение многочисленных портретных изображений Хумайу-
на, выполненных различными мастерами индийских школ
живописи (в основном могольской школы), с изображением
индийского посланника на миниатюре «Приношение Хосрову да-
ров из Индии» приводит к выводу об умении тебризских мастеров
передавать портретные черты. Дальнейший анализ миниатюры
дает возможность не только идентифицировать некоторых ее пер-
сонажей (Тахмасба I, «визиря государева дивана» Казн-Джахан
Казвини, а также сестру шаха Тахмасба — Султанум), но и пока-
зать, что почти все основные события, связанные с пребыванием
при сефевидском дворе могольского правителя, нашли опосредо-
ванное, но вполне очевидное отражение в миниатюре.
Можно отметить и тот факт, что помимо чисто «портретных»
характеристик художники пользовались различными «опознава-
тельными знаками». Так, на рассматриваемой миниатюре над
Хосровом Ануширваном на стене художник изобразил двух синих
обезьян. Из хроник известно, что Тахмасб родился и взошел на
престол в год обезьяны (по двенадцатилетнему «животному»
циклу, распространенному на Востоке), при этом родился он в год
Синей Обезьяны. Эти синие обезьяны, таким образом, являлись
одним из «опознавательных» знаков шаха Тахмасба. События же
при дворе шаха, связанные с приездом Хумайуна, по своим сю-
жетным линиям во многом дублируют события при дворе Хосрова
Ануширвана, что свидетельствует о том, что этот (кстати, редко
иллюстрируемый) эпизод был выбран отнюдь не случайно. (Под-
робный анализ этой композиции см. [14, с.177-189 ].)
Крайне важным представляется и тот факт, что на миниатюре,
помимо главного персонажа, изображено всего 32 человека, а Тах-
масбу в момент приезда к нему Хумайуна было 32 года. Предполо-
жение о том, что количество персонажей и их расположение в
160
Рис.3
Коронование Хосрова Парвиза
(«Хамсе» Низами)
11 130
161
миниатюре имело большое значение, подтверждается и некото-
рыми другими композициями. Например, можно выделить в се-
февидской живописи ряд миниатюр, приуроченных к определен-
ным значительным датам. Такие «праздничные» композиции, с
одной стороны, легко датируются, а с другой — позволяют прос-
ледить догику появления в рукописи тех или иных сюже-
тов.
В качестве примера остановимся на двух миниатюрах из
рукописи «Хамсе» Низами 946 (1539)-949(1543) гг., находящейся
в Британском музее (см.рис.З). Одна из них представляет сцену
коронации Хосрова Парвиза и, следовательно, посвящена светско-
му празднику.
Как известно, Хосров Парвиз взошел на перстол сразу же после
смерти своего отца Хормуза. На рассматриваемой миниатюре ясно
прослеживается образ Хосрова-Тахмасба. Аналогия изобразитель-
ная полностью подтверждается ситуационной. В свое время Тах-
масб, так же как и Хосров Парвиз, вступил на престол сразу же
после смерти своего отца — шаха Исмаила. Но вступление Тах-
масба на престол состоялось в 930 г., а миниатюра была выполнена
в промежутке между 946 и 949 гг. хиджры, и, следовательно, вре-
мя исполнения не совпадает со временем изображаемого историче-
ского сюжета. Однако в композиции наличествует значимое чис-
ло — 40 слуг и придворных. Именно это число и дает ключ к
интерпретации изображения. В 907 году хиджры «Исмаил прибыл
в стольный город Тебриз и украсил своим славным именем хутбу и
чекан динаров» [25, с. 146], а иными словами, был коронован и
стал основателем сефевидской династии. Следовательно, в 947 г.
хиджры Сефевиды должны были праздновать 40-летие основания
сефевидской династии. Можно предположить, что именно этой да-
те и была посвящена и к ней же приурочена рассматриваемая ком-
позиция.
Как представляется, 40 лет — это не только «круглая», но и
крайне значительная дата для сефевидского государства. Само
слово «сорок» (чихиль) в персидском языке, как и в некоторых
других, соотносится с понятием «много». Сорок лет у власти мож-
но понимать и как «много лет у власти». Это период окончательно-
го закрепления Сефевидов в качестве правящей династии. К этому
же времени относится и овладение Тахмасбом реальной властью в
государстве. Тахмасб уже полностью освободился от бдительной
опеки кызылбашских племенных вождей и окончательно упрочил
свое единоличное правление. Не случайно на миниатюре рядом с
троном шаха нет ни одного высокопоставленного вельможи.
Крайне интересно рассмотреть способ расположения фигур в
миниатюре. Композиция ее достаточно четко делится на три зоны:
верхняя, нижняя и центр. Первая зона — пространство перед
162
шахским павильоном; в ней изображено 17 человек. Вторая зо-
на — лужайка, находящаяся за павильоном, напоминающим
большую ширму. На лужайке расположен своеобразный коридор,
примыкающий к внутренней стене павильона. В этом коридоре и
находится трон правителя. Во всей центральной части (вместе с
коридором и лужайкой) изображено также 17 человек (исключая
шаха).
Наконец, третья, верхняя зона — это крыша павильона, на ко-
торой размещено 6 человек.
Для того, чтобы найти объяснение именно такого располо-
жения фигур, необходимо вспомнить, что из 40 лет существования
правящей сефевидской династии Исмаил управлял страной 23 го-
да, а последние 17 лет у власти находился Тахмасб. Таким обра-
зом, две нижние зоны указывают на время правления Тахмасба, а
сумма двух верхних или сумма нижней и верхней зон указывают
на время правления Исмаила.
Интересно рассмотреть отдельно сам павильон. Если внутри
него находится соответственно 8 человек и 4 человека (8 человек в
левой части, исключая шаха, и 4 человека в правой), а на крыше 6
человек, то сумма 8 и 4 соотносима с возрастом вступления Тах-
масба на престол (12 лет), а сумма 8 и 6 человек покажет возраст,
в котором на престол вступил шах Исмаил (14 лет).
Наконец, крайне примечательной представляется надпись на
арабском языке на фризе портала павильона, которая гласит: «О
боже! Увековечь царствование великого султана, справедливей-
шего и милостивейшего хагана, султана сына султана, сына султа-
на, победителя султана шаха Тахмасиба ал-Хусейни ас-Сефеви
Бахадур-хана. Увековечь, всевышний бог, его государство и
власть до дня воздаяния» [10, с. 195 ].
Таким образом, миниатюра «Коронование Хосрова» была не
только связана с литературным сюжетом из «Хамсе» Низами, но и
посвящена 40-летию установления сефевидской династии, что и
нашло отражение в композиции миниатюры, которая, как пред-
ставляется, была выполнена в 947 г. хиджры.
Вторая миниатюра из этой же рукописи посвящена празднику
религиозному — «Вознесение Мухаммада» (см. рис.4) и являет со-
бой еще один пример того, как тебризские художники использо-
вали ситуационно-хронологические соответствия, выходящие за
пределы схемы «Исмаил—Искандер».
В миниатюрной живописи встречается не так много откровенно
религиозных сюжетов, и одним из наиболее распространенных
является «Вознесение Мухаммада». При этом в сефевидской
живописи наблюдается явный спад интереса к теме Мираджа, и
миниатюра из лондонского «Хамсе» представляет собой довольно
редкий пример обращения художников к этому традиционному
11-2 130
163
ч/ч
^ШшШ;
ШйШШ
ФШШШШ
N
Щ£?-
д**
■+y\ir*säj/
14^/^^А
^
\V*b
k'>r%"
*fW»1»
WJ
iyjäfjb&b
',^v
'<-**<<!%
4(
Л*. *''*'> ^Ч*?*&' ' '* ' " ^^ г
Вознесение Мухаммада
(«Хамсе» Низами)
4f i
164
сюжету. Однако появление такой композиции представляется не
случайным.
По преданию, Мирадж был совершен 27 раджаба 621 г. Этот
день (27 раджаба) отмечается в большинстве мусульманских стран
как важнейший религиозный праздник. Рукопись «Хамсе», как
уже отмечалось, была создана в период между 946 и 949 гг.
хиджры. Это значит, что на время ее создания приходится празд-
нование 950-летия Мираджа. Как нам представляется, именно к
этому празднику и было приурочено создание рассматриваемой
композиции.
Обращает на себя внимание то, что Мухаммад, в отличие от ан-
гелов и Джабраила, изображен в кызылбашском головном уборе и
с закрытым лицом, что связывает его с шахом Исмаилом. Извест-
но, что Исмаил, объявив себя представителем Скрытого Имама,
нередко закрывал лицо вуалью.
Важно также и то, что в шиитском вероучении особо разработа-
на теория нур-и Мухаммади (света Мухаммада), которая, в част-
ности, предполагает, что душа пророка Мухаммада побывала в
каждом из имамов, а следовательно, и в Исмаиле. Эта теория не
только осознавалась, но и всячески поддерживалась и пропа-
гандировалась самим Исмаилом и его сторонниками. Не случайно
в поэзии Исмаила Хатаи встречаются такие строки, как,
например:
«Он [был] светом Мухаммада
И теперь он явил себя миру,
Увенчанный красной короной.
Его имя — Исмаил ...»
[34, с. 1038а]
или:
«Тот, кто первым в небесные кущи Аллаха
первым поднялся, опять был я»
в [5,с.349].
Следовательно, аналогия Мухаммад—Исмаил представляется
теологически и исторически оправданной и вполне могла
возникнуть в миниатюрной живописи.
В связи с этим представляется интересным и тот факт, что Ис-'
маил родился 25 раджаба 892 г. хиджры, а умер 19 раджаба 930 г.
хиджры. Иными словами, дата его рождения и дата его смерти
близки времени празднования Мираджа. Несложные вычисления
показывают, что к моменту празднования 950-летия Мираджа
исполняется 57 лет со дня рождения основателя сефевидской
династии и 19 лет со времени его смерти. Поэтому кажется вполне
логичным, что на рассматриваемой миниатюре изображено 19 ан-
гелов. Хотелось бы также обратить внимание на то, что 57 — это
11-3 130
165
трижды 19, хотя и не исключено, что данное совпадение следует
отнести к случайным.
В результате, по всей видимости, можно утверждать, что на-
стоящая миниатюра была приурочена к 950-летию Мираджа и 19-
летию смерти шаха Исмаила, возможно и 57-летию его рождения,
а следовательно, и была создана не позднее раджаба 949 г. лунной
хиджры.
Безусловно, не все миниатюры могут быть подвергнуты подоб-
ной интерпретации, но очевидно, что описанные приемы активно
использовались тебризскими миниатюристами.
Существенным в этих примерах является и то, что во всех рас-
смотренных миниатюрах из счета выпадают фигуры главных пер-
сонажей, что, по всей вероятности, манифестирует их вневремен-
ную и внепространственную сущность. Их Бытие шире бытия,
отраженного в миниатюре, даже их изображения не столь тварны,
сколь изображения других персонажей (даже ангелов и Джаб-
раила в сцене Мираджа). Внехронотопологическая сущность глав-
ных персонажей скорее всего обусловлена прежде всего тем, что
именно главный персонаж являет собой необходимое и основное
ядро возникающих парадигм.
Таким образом, появление в миниатюре портретных харак-
теристик, наличие астральных и ситуационных связей между
литературным и историческим повествованием позволяли ху-
дожникам создать довольно сложную пространственно-временную
изобразительную структуру в своих композициях.
В списках XVI в. миниатюра, как правило, обрамлялась с двух
сторон текстом и являлась его естественным продолжением не
только в плане выражения, но и в плане содержания. Миниатюра
имела общий с текстом заголовок, который указывал одновремен-
но на сюжет как литературный, так и изображенный на миниатю-
ре. Оба текста — литературный и изобразительный, таким обра-
зом, отображали единое действие, происходящее в один момент
времени и в одном общем пространстве, и, судя по всему, не имели
дополнительного историко-«документального» контекста.
В списках же XVI в. миниатюра располагается на отдельном
листе и окружена достаточно широким полем. Заглавий, обозна-
чающих сюжет, нет, но небольшие вставки литературного текста,
обрамленного рамкой, помещены внутри пространства мини-
атюры.
Композиция контекстуально связана с литературным сюжетом,
расположена внутри книги, окружена страницами литературного
текста, вследствие чего оказывается связанной со временем
описываемого действия. При этом в ней присутствует набор изоб-
разительных характеристик, указывающих на то, что действие
происходит в настоящее время. Поэтому небольшие цитаты из
166
текста, описывающие действие прошедшее, но расположенные в
изобразительном пространстве настоящего времени, становятся
одновременно и описанием современных художнику событий.
Фрагмент древнего текста оказывается актуальным для современ-
ного события. Отсутствие же на листе каких-либо словесных разъ-
яснений относительно изображаемого сюжета, а иными слова-
ми — названия, которое могло бы ясно указать на время изобра-
женного действия, закрепляет эту двойную структуру времени.
Изображенный на миниатюре персонаж являет собой одновре-
менно два образа — литературный и исторический. Если же рас-
матривать эту ситуацию иначе, то миниатюра изображает не
изображая, что создает некое парадигматическое поле, осознавае
мое, но не визуализированное в изобразительном тексте. Реально
просматриваются две точки времени, но между ними невидимо
присутствует весь тот связывающий эти две точки отрезок, кото-
рый способствует осознанию данного парадигматического прост-
ранства. Прошедшее и будущее время, корреспондируя между со-
бой, позволяют совместить два момента времени в одном. Это, в
свою очередь, позволяет говорить о том, что изображается некое
вечно длящееся действие, повторяющееся некоторое количество
раз, но не изменяющееся. А, как известно, отличие сущностного
Бытия от Бытия акцидентального заключается в том, что сущно-
стное Бытие неизменно в своих проявлениях, и, если первое суще-
ствует и повторяется вечно в различных формах мира свиде-
тельств, то второе «не длится двух единиц времени», или, выража-
ясь иначе, «не живет двух мгновений» (подробно об этом см. [24,
с.103-104]).
Художник же изображает две единицы времени в одном, а это
значит, что он воплощает не только акциденции, но и нечто боль-
шее. Он отображает некое универсальное событие и некий универ-
сальный образ, которые не изменяются, приподнимая тем самым
покрывало акцидентальной сущности с сущности универсальной.
Таким способом он отражал Бытие «царственного духа» в своей
летописи «благородных свершений повелителя удачи», выполняя
поставленную перед ним задачу.
Кроме того, отождествление разных в пространстве и времени
событий подчеркивало их вневременную и внепространственную
сакральную связь. В результате чего историческое событие, изоб-
раженное в миниатюре, приобретало статус бытийного, что косми-
чески возвышало личность изображаемого. Миниатюрные ком-
позиции не только фиксировали события, в настоящем случае свя-
занные с личностью заказчика — шаха Исмаила или шаха Тах-
масба, но и утверждали их бытийный статус. Художник в этой
ситуации выступал в роли посредника между трансцендентной
сущностью и изображаемым, узнающего и фиксирующего знаки
11-4 130
167
Бытия, что повышало не только статус художника, но позволяло
иначе взглянуть на процесс создания миниатюры, который мог в
таком случае рассматриваться как акт мистический, медита-
тивный« Художник являлся объектом божественного откровения, а
изображение — его изобразительным аналогом, манифести-
рующим концепцию единства бытия во времени и пространстве.
Как представляется, отчасти именно описанным способом уда-
валось художникам изображать «одним волоском кисти оба мира».
Они — последователи творчества
чистого бога,
От циркульного круга небес до земной
поверхности.
Они взирают на творение,
Снимают копию с каждой страницы;
Их творчество — путеводитель
к изображению мира...
Кази-Ахмад. «Трактат о каллиграфах
и художниках».
Говоря о проблеме «скрытого» в миниатюрной живописи, труд-
но обойти вопрос о композиционном строении этих памятников.
Интересно отметить и то, что собственно сам способ создания
миниатюрных композиций практически оказался за пределами
«явленного» знания. Дело в том, что никаких конкретных реко-
мендаций по методике создания самих живописных композиций в
специальной средневековой литературе нет. Можно предполо-
жить, что эта область знаний хранилась в тайне и, возможно,
передавалась лишь по наследству. Не исключено также, что каж-
дый художник самостоятельно вырабатывал свои «секреты мастер-
ства», поскольку еще Садиг-бек Лфшар отмечал: «Не жди обу-
чения от мастеров искусства, которые воздерживаются учить [да-
же ] своих детей» [20, с.71 ].
Тем не менее замечание Кази-Ахмада: «Они взирают на тво-
рение, Снимают копию с каждой страницы...» проливает некото-
рый свет на эту проблему. Принцип уподобления любого творче-
ского акта акту первотворения известен во многих культурах. В
мусульманской традиции эта концепция также получила свое вы-
ражение . Аллах — Творец, Художник, начертавший узор все-
ленной, форму Бытия и т.п. Сопоставление описываемых в сред-
невековых источниках стадий божественного творения с основ-
ными принципами построения композиции, используемыми
тебризскими мастерами миниатюрной живописи, обнаруживает
очевидные и крайне интересные параллели.
Безусловно, описания акта первотворения довольно разнооб-
разны, примером чему может служить известный фрагмент поэмы
Низами «Искандер-наме», в котором описывается «Тайное собесе-
168
дование Искандера с семью мудрецами» о первом творении. Сле-
дует при этом обратить внимание на то, что это собеседование —
тайное, как и сам акт первотворения. Возможно, поэтому каждый
из мудрецов предлагает свою концепцию первотворения, но объ-
единяющими эти разные мнения являются заключения Искандера
и автора поэмы. Сначала итог собеседования подводит Искандер:
«Смотрите, какие сказали несогласные речи,
Было бы непохвально сказать больше того,
Что "мира узор не без живописца"» [17, с.444].
Низами несколько развивает тему, и в частности отмечает:
«Узор, который он начертал кистью могущества,
Он нисколько не скрыл от очей разума.
Лишь первичный узор, что рисовал он сначала,
Он завесою скрыл от очей разума» [17, с.445].
Таким образом, можно говорить о наличии двух узоров —
скрытого (первичного) и явленного (вторичного). Не останавлива-
ясь на всех возникающих в этой связи аналогиях, отметим, что
именно принципы создания композиции, систему ее построения
можно отнести к «скрытым узорам».
Интересно и то, что сам шах Исмаил, основатель китаб-ханы,
претендовал на знание того, как совершался акт первотворения.
Например, в его стихах можно обнаружить следующие строки:
«Тот, кто зачал небо и землю,
и моря безбрежную гладь, был я» [5, с.348].
Поэтому естественно, что главный ценитель миниатюр и меце-
нат мог требовать от художников особой проницательности и сле-
дования высшим, космическим образцам. И, как показывает ком-
позиционный анализ сефевидских миниатюр, мастера придворной
школы в Тебризе действительно являлись последователями «твор-
чества чистого Бога» и создавали свои произведения по образу и
подобию того, как творился сам мир.
Поэтому не удивительно, что процесс работы художника над
композицией миниатюры с последовательным описанием этапов
работы обнаруживается не столько в специальных трактатах по
живописи, сколько в космогонических описаниях. Характерный
фрагмент такого описания можно обнаружить, например, у
Ф.Аттара, который, в частности, отмечает:
«...Когда художник настолько циркуль потенций
повернул вокруг точки души.
От поворота циркуля
бытие точки приняло форму круга.
Когда точка утвердилась на линии,
имя точке дали "единая субстанция".
От страха она растворилась и потекла...
169
Рис.5
Схема композиционного построения миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии»
170
Рис.6
Схема композиционного построения миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии»
171
...после животных была придана форма человеку.
На человеке был конец мироздания,
да будет благословение на таком завершении...»
[2,е.364-365].
Для того, чтобы продемонстрировать некоторые параллели ак-
ту первотворения в работе художника-миниатюриста, остано-
вимся на рассмотрении одной уже упоминавшейся миниатюры —
«Приношение Хосрову даров из Индии» [из «Шах-наме» Фирдо-
уси — коллекция А.Хаутона (США) ]. Принцип построения ком-
позиции, характерный для этой миниатюры, прослеживается и в
других памятниках этого периода.
Прежде всего необходимо отметить, что миниатюра эта выстро-
ена самым строгим образом с помощью циркуля и линейки. В
основе ее «скрытой» конструкции лежит равносторонний шести-
угольник, вписанный в круг, который логично развивается до две-
надцати-, двадцатичетырех- и т.д. угольников. Композиция вы-
страивалась посредством соединения различных точек этой фигу-
ры, что позволяло художнику, в свою очередь, создать систему
пропорциональных отношений в этой миниатюре (см. рис.5,6).
Абсолютно все детали миниатюры гармонически связаны между
собой (см.рис.7). Более того, по подобной же схеме выстраивались
фигуры людей и животных. Так, например, фигура шаха тщатель-
но выстроена с использованием системы пропорций, получаемых в
результате вычерчивания равностороннего двенадцатиугольника,
вписанного в круг; его диаметр равен ширине фигуры шаха
(см.рис.8).
Существенно и то, что фигура шаха и отдельные элементы ее
являются модульными для всей остальной композиции. Так, в
композиции миниатюры неоднократно прослеживаются размеры,
совпадающие с шириной, высотой и другими параметрами фигуры
шаха. Кроме того, ширина и высота этой фигуры пропорциональ-
но укладываются в ширине и высоте миниатюры, что позволяет
провести крайне интересную реконструкцию. Если увеличить
фигуру шаха ровно в тридцать шесть раз (шесть раз в высоту и
шесть раз в ширину), то фигура эта точно впишется в основное
поле миниатюрной композиции (см. рис.9). Эта операция де-
монстрирует, что основные композиционные членения миниатю-
ры совпадают с основными конструктивными членениями фигуры
шаха (см. рис.10).
Миниатюра, таким образом, оказывается не просто антропо-
метрична, но и — прежде всего — шахометрична.
В этом случае остается лишь утверждать, что в основу постро-
ения композиции был положен тот же принцип, что был использо-
ван при построении фигуры шаха.
172
Рис.7
Пример гармонической связанности отдельных фигур в миниатюре
«Приношение Хосрову даров из Индии»
Рис.8
Схема выстраивания фигуры шаха в миниатюре
«Приношение Хосрову даров из Индии»
173
Puc.9a
Реконструкция композиционно-пространственной идеи миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии»
174
Риа9б
Реконструкция композиционно-пространственной идеи миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии»
175
Рис JO
Реконструкция композиционно-пространственной идеи миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии»
Важно и то, что практически любая точка композиции может
быть точкой «единой субстанции», а иными словами, независимо
от того, какую точку принимать за центр композиции, а следова-
тельно и за центр круга, сама композиция, построенная по
принципу «орнамента», все равно будет сочетаться с основными
параметрами «скрытого узора».
Наконец, касаясь пространственного построения миниатюры
«Приношение Хосрову даров из Индии», можно отметить, что ху-
дожник предоставляет зрителю возможность наблюдать за
происходящим с нескольких точек зрения одновременно. Так,
можно говорить о трех основных точках зрения: снизу, сбоку и
сверху.
Таким образом, выясняется, что художник, поворачивая «цир-
куль потенций» вокруг «точки души», придавал «бытию точки»
«форму круга». Это был «первичный круг узора», скрытый от
«очей разума». Второй узор, начертанный «кистью могущества»,
появившийся в результате соединения линиями точек этого круга,
уже не скрывался от «очей разума» и собственно являлся «прояв-
ленной» частью изображения. При этом, по всей видимости, пер-
176
воначально художник создавал общую композицию, а затем вво-
дил в композицию изображения животных и птиц (если таковые
присутствовали) и завершал свое произведение созданием (изоб-
ражением) человека — венца творения . Сам способ работы —
выведение явленной композиции из орнаментальной и неявлен-
ной — позволял художникам выстраивать свою композицию по
законам космической гармонии. Подобное соотнесение микро- и
макрогармоний связывало микротворца с макротворцом, а един-
ство микро- и макромиров изобразительно выражало идею един-
ства бытия, столь близкую сефевидским правителям.
Вообще, по суфийским воззрениям, «гармония, симметрия,
порядок, пропорция, свет и цвет и т.д., которые существуют в
реальном мире, являются ничем иным, как отражением совершен-
ства самого бога» [12, с.13 ]. Следовательно, гармония, симметрия,
порядок, пропорции и т.п. в миниатюрной композиции, с одной
стороны, являются лишь естественным отражением реального
мира, гармоничного, пропорционального и т.д., а с другой сторо-
ны, говорят о совершенстве самого художника, продолжая тем са-
мым ряд уже имеющихся аналогий в системе «Бог — Художник, а
художник — Бог».
Далее, пропорциональные размеры фигур шаха повторялись в
размерах всей остальной композиции и при этом полностью соот-
ветствовали гармоническим отношениям микромира. Фигура ша-
ха, таким образом, уже сама по себе являлась микромоделью мак-
ромира, что несомненно позволяло назвать сефевидского шаха че-
ловеком Совершенным (инсан-и камил), поскольку отражение
макрокосма является, по суфийским понятиям, одним из главных
атрибутов Совершенного человека [33, с.57; 35, с.77, 82].
Наличие в композиции бесконечного количества центров, из
которых миниатюра могла быть выстроена, говорило о постоянном
воспроизведении акта творения, а следовательно, демонстрирова-
ло концепцию «нового творения», также имевшую широкое расп-
ространение в сефевидский период. Появление же нескольких то-
чек зрения в композиции подчеркивало «космический взгляд» как
художника, так и зрителя, поскольку с разных позиций на один
объект может смотреть только всемогущий Творец. (Подробно о
композиционно-пространственных построениях в миниатюре см.
[15].)
Наконец, миниатюры, несущие на себе отпечаток космической
гармонии, обладали, по мнению средневековых теоретиков, тера-
певтическим эффектом. Известно, что «...на средневековом Восто-
ке было распространено убеждение, что изящные рисунки, изоб-
ражающие влюбленных,.сады, цветы, мчащихся коней и зверей,
способны вызвать у зрителя приподнятое настроение, разогнать
тоску, укрепить духовные и физические силы. Врач и философ
12 130
177
Мухаммад ибн-Закария ар-Рази, в частности, приписывал подоб-
ное действие изображений сочетанию в них гармонично подобран-
ных цветов с пропорциональными формами» [19, с. 124-125 ].
К тому же, как становится ясным в результате проведенных
исследований, сефевидская миниатюрная живопись содержала не-
сколько смысловых уровней, сложным образом связанных между
собой. На Востоке считалось, что хорошая литература должна
иметь не менее семи толкований. Миниатюрная живопись несом-
ненно могла быть подвергнута самым различным толкованиям.
Она могла рассматриваться как иллюстрация к литературному
памятнику, как сюжет из жизни сефевидских правителей, как
панегирик, как философский трактат и трактат по теологии, как
своего рода «политический плакат», наконец, как произведение
искусства, имеющее определенную художественную ценность, и
т.д. Кроме того, миниатюра могла быть подвергнута анализу на
уровне межконтекстных связей. Сами же межконтекстные трак-
товки, в свою очередь, имели собственные связи, также открыва-
ющие возможности для дальнейших интерпретаций. Таким обра-
зом, даже чисто мыслительные операции с миниатюрными ком-
позициями создавали почти бесчисленное количество возможных
толкований этих композиций. Подобная полиинформационность
не могла не сказываться на способе восприятия этих памятников.
Как известно из психологических исследований, человеческий
мозг не в состоянии рационально и логически осваивать столь
массированный поток дифференцированной информации. По-
пытки восприятия подобных полиинформационных потоков
приводят к состоянию психологического аффекта, связанного с
переключением работы полушарий мозга. Субъект начинает
сливаться с объектом, и поток информации дедифференцируется.
Только в таком состоянии субъект способен определенным обра-
зом усваивать получаемую информацию и оперировать ею.
Принцип такого переключения наглядно продемонстрирован в
известной буддийской притче о сороконожке, которая не в состо-
янии управлять своим телом посредством логических мыслитель-
ных операций.
Помимо же информационных особенностей миниатюры, в ней
присутствуют и некоторые изобразительные элементы, которые
могут способствовать достижению или, во всяком случае, подкреп-
лению определенного психологического аффекта. Зритель, слива-
ясь с объектом восприятия, частично освобождается от собственно-
го «я». Миниатюрные композиции же представляют собой некую
промежуточную, изобразительную стадию этого момента, так как
не дают четко закрепленных портретных изображений. Поскольку
Тахмасб-Хосров — это, с одной стороны, и Тахмасб и Хосров, а с
другой — и не Тахмасб, и не Хосров, то созерцание такого «порт-
178
рета» уже само по себе должно было отторгать собственное «я» со-
зерцающего. Наличие в миниатюре сложной системы истори-
ческих параллелей позволяет зрителю почувствовать себя в прост-
ранственном безвременьи, а это чувство также проявляет себя при
вхождении в описываемое психологическое состояние. Достиже-
нию определенной степени необходимой релаксации может спо-
собствовать и состояние внешней и внутренней гармонии, харак-
терное для миниатюр тебризской школы, их умиротворенность
(даже изображение смерти в них не вызывает физиологического
неприятия, и более того, изображения эти эстетичны). Чуть за-
медленные движения персонажей миниатюр, их спокойные, эс-
тетизированные позы, изображение вечной весны, округлость и
мягкость всех линий в композиции создают ощущение внутренней
комфортности и расслабления. Наконец, сама поверхность мини-
атюры, тонкие переливы серебра и золота, равномерное распреде-
ление ярких цветовых пятен, тончайшая проработка деталей, ара-
бесковость и т.д. способствуют своеобразному мерцанию, усколь-
занию реальных образов, погружению в состояние мистической
полугрезы.
Таким образом, некоторые значимые элементы изобразитель-
ной структуры миниатюрных композиций позволяют говорить о
том, что композиции эти были рассчитаны на медитативный спо-
соб восприятия, а иными словами, являлись своеобразными «ин-
ментами для медитации» . На средневековом мусульманском Во-
стоке были разработаны самые разнообразные медитационные
техники. В основном все они более или менее подробно описаны.
Суфии разработали специальную систему дыхания, были хорошо
знакомы с практикой йоги, знали особые точки на теле, посредст-
вом воздействия на которые можно было легче и быстрее достичь
требуемого состояния. Применялись и другие способы «вхож-
дения» в медитацию. Это могло быть разглядывание цветка, изыс-
канного предмета, красивого человека или человека, «продвину-
того» на пути к Богу. В некоторых случаях не возбранялось и
использование наркотических веществ. (Подробно о способах и
технике суфийских медитаций см., например, [22, с.160-176 ].)
При этом следует иметь в виду, что медитативные состояния
рассматривались на мусульманском Востоке не столько как сред-
ство психической-саморегуляции, сколько (и в первую очередь)
как способ мистического постижения Универсума. Например,
Шихаб ад-Дин Йахйа Сухраварди в своем трактате «Акаид ал-ху-
кама» («Воззрения философов») отмечал: «Знай, что лица,
занимающиеся упражнением [духа], если они приобретают зна-
ния, глубоко размышляют о [существовании] Первопричины и ее
других творениях [... ]. Иногда они используют нежную мелодию,
благоухающий аромат и видение соотносительных
12-2 130
179
в е щ е й (разрядка моя. — М.И.), в результате чего у них появля-
ется духовный свет, что в дальнейшем становится привычкой и ут-
верждается. У них сокрытые дела становятся явными, и душа ду-
ховно соприкасается с ними. [...] Они созерцают духовные
признаки наилучшим образом, который можно [только] вооб-
разить, слышат от [Духа Святого] доброе слово, приобретают
знания и могут увидеть сокрытые вещи» [21, с.28 ]. Думается, что
миниатюрная живопись как никакое другое «вспомогательное
средство» способствовала достижению описываемого блаженства и
наслаждения, поскольку она объединяла в себе сразу несколько
компонентов, каждый из которых мог бы быть использован в каче-
стве «инструмента для медитации».
В результате способ созерцания миниатюр средневековым
зрителем, тесно связанный с измененной деятельностью сознания,
существенно отличался от современного способа постижения
живописных композиций. При этом можно отметить, что то
психологическое состояние, в которое погружался средневековый
зритель во время созерцания миниатюры, уже само по себе обла-
дало психотерапевтическим эффектом. Это свойство миниатюр-
ной живописи, подтверждаемое и некоторыми современными
исследованиями, также должно было цениться главными за-
казчиками иллюстрированных рукописей — сефевидскими мо-
нархами.
Способ лечения больного с помощью изображений довольно
подробно изложен А.Навои в его поэме «Семь планет». Описывая
различные способы лечения Бахрама от любовного недуга, А.На-
вои останавливается, в частности, на «изобразительной терапии»:
«... молвили четыреста врачей,
Премудрости четыреста свечей:
"Еще одно лекарство нам дано:
Искусством называется оно.
Художники, прекрасные творцы,
Пусть разукрасят царские дворцы,
Их живопись волшебна и нежна,
Для шаха стать целебною должна**...»
[13,с.497].
После того как дворцы были украшены, Бахрам приступил к
лечению:
«Искусством увлечен, по всем дворцам
Ходил с утра до вечера Бахрам,
Картины каждый день обозревал,
И в каждой новый мир он открывал.
Он о своей кручине забывал,
Он бытие в картинах познавал!»
[13,с.499].
180
В результате познания Бытия посредством картин Бахрам
действительно поправил свое здоровье:
«Пленила сердце роспись мощных стен,
Забыло сердце свой любовный плен»
[13,с.499].
Важно отметить, что именно познание Бытия посредством рас-
сматривания живописных композиций оказало решающее воз-
действие на самочувствие иранского правителя. Не исключено,
что в случае с рассматриваемой миниатюрой не менее важное те-
рапевтическое воздействие могла иметь модульность фигуры ша-
ха. Так же, как распространенное во многих культурах ритуаль-
ное уничтожение чьего-либо изображения могло отрицательно
воздействовать на реальный прообраз этого изображения, так и
ритуал последовательного включения образа шаха в систему
мировой гармонии должен был способствовать подключению к
космосу и к космической гармонии с различными (в том числе и
терапевтическими) целями реального сефевидского правителя. Не
исключено также, что размеры миниатюры были в какой-либо
пропорциональной зависимости связаны с размерами фигуры
реального шаха, что должно было создавать ему определенный
зрительный комфорт при разглядывании миниатюры. Нельзя не
отметить и того, что модульность фигуры шаха оказывала не толь-
ко терапевтический эффект, но и безусловно имела социальный
смысл (см. об этом [16, с.136-139]), который, однако, не мешал, а
возможно и содействовал психотерапевтическому воздействию
этого памятника. Психотерапевтические свойства миниатюрной
живописи еще предстоит исследовать специально, тем более что
хотелось бы обратить внимание на тот примечательный факт, что
именно при таких известных и долго живших правителях, как
Тахмасб I, Аббас Великий и Акбар I, достигали расцвета восточ-
ные школы миниатюрной живописи.
В заключение можно отметить, что если наличие исторической
парадигмы было в основном связано с выстраиванием временной
оси композиций, то наличие гармоничных пропорциональных
отношений в миниатюрах, выстраивающих некоторую парадигму
микро- и макромиров, в большей степени составляло ось простран-
ственную. Миниатюра, таким образом, фиксировала собой некото-
рую условную точку пересечения пространственной и временной
парадигм. Эта точка и являлась началом траектории движения
средневекового зрителя по «скрижалям мысли художника» (снача-
ла художника как Бога, а потом Богд как Художника).
Интересно, однако, что со временем исторический жанр сфор-
мировался окончательно и отделился от литературной иллюст-
12-3 130
181
рации. И этот распавшийся сплав литературного и исторического
контекстов лишил это искусство той изобразительной структуры,
которая отвечала требованиям, заявленным в указе шаха Ис-
маила. В данном отношении показательно, что именно в конце
40-х гг. XVI в., когда стали появляться отдельные портретные ком-
позиции, изображающие шаха или принцев, иллюстрироваться
современные хроники и т.п., Тахмасб распускает свою придвор-
ную мастерскую, мотивируя это тем, что «мастера перестали
смешивать краски жизни для изображения Бытия...» [1, с. 14 ].
ПРИМЕЧАНИЯ
Персидский текст этого указа см. в [31, с.359-361 ].
2
Здесь и далее перевод цитат из Корана дан по: Коран. Пер. и коммент.
И.Ю.Крачковского. М., 1986.
3
Перевод этого сложного фрагмента осуществлен Н.Ю.Чалисовой. Существует
еще один, более ранний перевод на русский язык этого указа [7, с.83-85].
Это увлечение хуруфизмом представляется не случайным. При шахском дворе
в Тебризе жили два хуруфитских поэта — Туфейли и Сурури, и по тому, что стихи,
например, Туфейли помещались в одной рукописи с «Диваном» Хатаи [11, с.243],
можно судить о том, каким уважением пользовались эти поэты (подробнее о
хуруфизме при сефевидах см. [11, с.237-248]).
Обратившись вкратце к истории вопроса, отметим, что наличие в книжных
иллюстрациях дополнительного контекста, связанного с современным художнику
окружением, никогда не вызывало сомнения у исследователей. Особенно отчетливо
дополнительный исторический сюжет выражен в списках XV и XVI вв. Поэтому
практически все специалисты, занимающиеся этим периодом, обращали внимание
на то, что миниатюры, изначально призванные иллюстрировать литературные
произведения, выполняли дополнительные функции, отражая жизнь тимуридского,
джалаиридского, сефевидского и др. дворов, иными словами, жизнь своих пок-
ровителей и меценатов. Однако по ряду причин проблема эта на сегодняшний день
не получила достаточного освещения в науке. Специальные исследования вообще
практически отсутствуют.
Пожалуй, к редким исключениям можно отнести небольшую статью Присциллы
Сучек [38], в которой довольно определенно формулируется эта проблема, но уже в
силу своего очень малого объема эта статья не способна охватить весь необходимый
комплекс вопросов и, к тому же, посвящена несколько более ранним изобразитель-
ным материалам. Тем не менее в миниатюроведческой науке выработался достаточно
определенный подход к этому феномену, некая устоявшаяся, единая точка зрения,
которая в целом сводится к тому, что литературный сюжет являлся формальным
поводом для изображения некоторых стандартных событий из дворцовой жизни
(Присцилла Сучек, например, считает литературный сюжет мнимым [38, с.75]).
Так, довольно абстрагированная сцена охоты литературного персонажа служит пово-
дом для изображения не менее абстрагированной сцены охоты с участием заказчика
рукописи. То же самое можно отнести к тронным сценам и пр. Таким образом, из
поля зрения исследователей выпадает три существенных момента: 1) неслучайность
выбора художниками определенного литературного сюжета; 2) изображение не аб-
страгированного «сюжетного клише» из дворцовой жизни, а конкретного историче-
182
ского эпизода и, наконец, 3) сложная парадигматическая связь двух сюжетов (лите-
ратурного и исторического), ради которой в значительной мере и создавалось
произведение.
£
В мусульманской суфийской гносеологии понимание повторяемости событий
как проявления вневременной единой сущности тесно связано с разработанной Ибн
Араби концепцией единства бытия (вахдат-и воджуд). Эта концепция получила
большое распространение в суфийской философии и, в частности, проявилась в
трудах некоторых сефевидских философов, например, в трудах Мулла Садра,
синтезировавшего учения Аристотеля и неоплатоников, «иллюминационную»
философию Сухраварди и основные доктрины Ибн Араби [36, с.218]. Но даже без
обращения к позднесуфийским сефевидским теоретикам можно отметить, что к
XVI в. основные идеи Ибн Араби уже составляли «золотой фонд» общемусульманской
гносеологии и имели множество разнообразных проявлений, к которым можно
отнести и рассматриваемые миниатюры сефевидского периода. Важно также и то,
что концепция единства бытия оказала большое влияние на философию хуруфизма.
Интересно, однако, что подобные взгляды характерны не только для восточного
средневековья. Некоторые медиевисты отмечают близкие явления в европейском
средневековье. В частности, А.Я. Гуревич полагает, что «... считалось возможным
помимо буквального, фактического понимания любого явления найти для него и
символическое или мистическое толкование, раскрывающее тайны веры. Система
символических толкований и аллегорических уподоблений служила средством все-
общей классификации разнообразнейших вещей и событий и соотнесения их с
вечностью» [6, с.72-73].
«Поскольку процесс расшифровки языкового сообщения сводится к замене
одних элементов языка другими, которым адресат отдает предпочтение (пере-
кодирование), то практически оно является переводом» [23, с.389]. Там же [23,
с.389-395] см. подробно о проблеме чтения (как перевода) в средневековой мусуль-
манской культуре.
8
Нет нужды останавливаться на том, какую роль играли астрология и астро-
номия на средневековом Востоке. Можно лишь отметить, что эти науки изучались i
придворной школе, в которой учились дети шахов, вельмож и художников. К этигу
наукам, безусловно, серьезно относились и Исмаил и Тахмасб (см., например, [40:
с.588;36,с.224]).
о
Хондемир также при описании рождения Исмаила несколько раз проводи!
аналогию с Искандером, отмечая, что Исмаил, подобно Искандеру, должен будет
расширить границы своей империи [32, с.403-406].
Ситуация вполне традиционная для иранских правителей. Показательные
пример приводит, в частности, Г.Буссе, который отмечает, что буидский монарэ
'Адуд ад-Даула считал себя воскресшим Бахрамом и «его биография была разукра-
шена легендарными рассказами, взятыми из биографии Бахрам Гура в передаче Та
бари и других авторов» [4, с.83]. «В качестве персидского "царя царей" и потомкг
сасанидских правителей Адуд ад-Даула чувствовал себя обязанным подражать те\
высоким добродетелям, которые персидская ui/убийа приписывала доисламски\
иранским царям» [4, с.81].
Интересно отметить, что впоследствии шах Тахмасб всякий раз, когда реш
заходила о Чалдыранском сражении, проклинал Дурмиш-хана [36, с.41].
12
Этот эпизод действительно имел место с реальным Александром Маке
донским в битве под Гавгамелами и описывается, в частности, Плутархом: «Ста-
рейшие из приближенных Александра, и в особенности Парменион, были поражень
многочисленностью врага и говорили друг другу, что одолеть такое войско в откры
12-4 130
18:
том бою было бы слишком трудным делом. Подойдя к царю, только что закончивше-
му жертвоприношения, они посоветовали Александру напасть на врагов ночью, что-
бы темнотою было скрыто то, что в предстоящей битве может внушить наибольший
страх македонянам. Знаменитый ответ Александра: "Я не краду победу" — показал-
ся чересчур легкомысленным перед лицом такой опасности» [18, с.394]. Александр
тем не менее одержал победу в этой битве,и, несомненно, именно этот факт придавал
уверенности Исмаилу. Небезынтересно и то, что Плутарх обвиняет Пармениона в его
нерешительных действиях на левом фланге македонян [18, с.397], в то время как
сефевидские летописцы отмечают неудачную атаку Мухаммед-хана Устаджлу на
правом фланге противника [29, с.117].
13
Единый тип Искандера-Исмаила встречается в миниатюрах различных
списков, например: «Искандер отправляется за живой водой» из «Шах-наме» Фирдо-
уси 1584 г. (ЛО ИВ РАН); «Сражение Искандера против Дария» из «Хамсе» Низами
1525 г. (музей Метрополитен в Нью-Йорке); «Искандер и чабан» из «Хамсе* Низами
XV — начала XVI в. (музей Топкапу в Стамбуле); «Искандер, убивающий утку» из
«Дивана» Навои 1526 г. (Национальная библиотека в Париже) и пр.
14
Ср.: «Теоретики суфизма часто сравнивали бога с великим художником, ко-
торый создал мир подобно огромному произведению искусства с определенной
целью» [12, с. 13].
Крайне интересно сравнить описываемый процесс появления изображений с
четырехэтапным процессом появления изображений в мусульманской культуре,
подробно рассмотренным Ш.М. Шукуровым [26, с.47-62].
Метод этот был достаточно широко распространен в самых различных культу-
рах, в том числе и мусульманской. Причем в мусульманстве подобный способ
медитирования, судя по всему, чаще всего применялся суфиями, которые вообще
были склонны в своей религиозной практике использовать различного рода экс-
татические состояния. Например, В.И.Брагинский не без оснований полагает, что
суфийская поэтика во многом подчинена медитативному способу постижения (под-
робно об этом см. [3, с.226-227]).
ЛИТЕРАТУРА
1. Лкимушкин О. Ф. О придворной китабхане сефевида Тахмасба I. — Средневеко-
вый Восток. М., 1980.
2. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.
3. Брагинский В.И. Хамза Фансури. М., 1988.
А.БуссеГ. Возрождение персидской монархии при Бундах. — Мусульманский
мир. М., 1981.
5. Великое древо. Поэты Востока в переводах С.С. Северцева М., 1984.
6. Гуревич А.Я. Категории среднейековой культуры. М., 1982.
7. ДеникеБ.П. Живопись Ирана. М., 1938.
8. Кабус-наме. М., 1953.
9. Кази-Ахмад. Трактат о каллиграфах и художниках. М.—Л., 1947.
10. Казиев А.Ю. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги
XIII-XVII веков. М., 1977.
11. Кули-Заде 3. Хуруфизм и его представители в Азербайджане. Баку, 1970.
12. Курбанмамадов А. Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе, 1987.
13. Навои А Поэмы. М., 1972.
14. НазарлиМ.Д. Исторический контекст литературной иллюстрации. — Пробле-
мы интерпретации памятников культуры Востока. М., 1991.
184
15. Назарли М.Д. Космогония и Творение в сефевидской живописи XVI в. — Восток.
1993, №1.
16. Назарли М.Д. Фарр и исна-ашари шиитская концепция верховной власти при
Сефевидах. (По материалам изобразительного искусства). — Ислам и проблемы
межцивилизационного взаимодействия. Тезисы докладов и сообщений. М., 1992.
17. Низами Гянджеви. Искандер-наме. Баку, 1983.
18. Плутарх. Избранные жизнеописания. Т.2. М., 1990.
19. Сагадеев A.B. Народы мусульманского Востока. — История эстетической
мысли. Т.2. М., 1985.
20. Садиг-бек Афшар. Ганун ос-совар (Трактат о живописи). Баку, 1963.
21. Сухраварди Шихаб ад-дин Йахйа. Воззрения философов. Баку, 1986.
22. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989.
23. Удам X. К вопросу о взаимоотношениях текста и комментария. — Ученые
записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым систе-
мам. Тарту, 1971.
24. Удам X. «Новое творение» в суфизме. — Ученые записки Тартуского государст-
венного университета. Труды по востоковедению. Тарту, 1981.
25. Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шараф-наме. Т.2. М., 1976.
26. Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана. М., 1989.
27. Шукуров Ш.М. «Шах-наме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция. М.,
1983.
28. Эфендиев O.A. Азербайджанское государство сефевидов в XVI веке. Баку, 1981.
29. Эфендиев О.А< Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале
XVI века. Баку, 1961.
30. Мирза МохаммадМа'сум. Тарих-и салатин-и сафавийе. Тегеран, 1972.
ЪХ.Навайи Абд аль-Хосейн. Шах Исмаил (Исторические и духовные документы и
материалы). Тегеран, 1966.
32. Хондемир Гияс-ад-дин Хусейни. Тарих-и хабиб ас-сияр фи-ахбар афрад-и ба-
шар. Т.4. Тегеран, 1954.
33. Landau R. The Philosophy of Ibn 'Arabi. — Ethical and Religious Classics of East and
West. № 22.
34. Minorsky V. The Poetry of Shah Isma'il1. — Bulletin of the School of Oriental and
African Studies Vol.X, pt. 4,1942.
35. Nicholson R.A. Studies in Islamic Mysticism. Delhi, 1981.
36. Savory R. Iran under the Safavids. Cambridge, 1980.
37. Savory R. The Principal Offices of the Safavid State during the Reign of Tahmasp I
(930—84) (1524—76). — Iranian Studies. Studies on Isfahan. Vol.VII, pt. 1,1974.
38. SoucekP. Comments on Persian Painting. — Iranian Studies. Studies of Isfahan.
Vol.VII, pt. 1,1974.
39. Welch S. C. A King's Book of Kings. New York, 1972.
40. Winter J.J. Persian Science of Safavid Times. — The Cambridge History of Iran. The
Timurid and Safavid Periods. Vol.6. Cambridge, 1986.
Н.Ю. Чалисова
ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ПОЭЗИИ
В ТРАКТАТЕ ШАМС-И КАЙСА АР-РАЗИ
«СВОД ПРАВИЛ ПЕРСИДСКОГО СТИХОТВОРСТВА»
Мысль о том, что средневековые литературные теории не толь-
ко дают информацию о «внутреннем» взгляде национальной
традиции на свою литературу, но и в значительной степени де-
монстрируют сущностные характеристики самой этой традиции,
свойственный ей тип ментальности, давно уже потеряла для
специалистов прелесть новизны. Исследования классических
литературных теорий в плане литературной рефлексии как тек-
стов, отражающих самосознание или — точнее— самосознание
словесности, стали в последние десятилетия составной частью
медиевистического литературоведения. Однако рассмотрение
средневековых поэтологических сочинений в более широком кон-
тексте бытования культуры, выявление обусловленности их
специфики присущими всякой культурной традиции собствен-
ными моделями видения и познания мира находятся пока, за не-
многими исключениями, на уровне «осознанной необходимости» .
Одним из подходов к указанной проблематике служит, на наш
взгляд, анализ языка поэтологического описания в трактатах по
поэтике, возможный лишь при смещении исследовательской точки
зрения, т.е. при переносе внимания с того, что написано в трак-
тате, на то, как оно изложено. Существенно при таком подходе
не ограничиваться изысканием в тексте безусловных терминов, их
интерпретацией и построением в итоге некой понятийно-кате-
гориальной сетки, а стараться более полно учитывать «мета-
форику» изучаемой филологической традиции. Последнее необ-
ходимо еще и потому, что в сочинении, отстоящем от нас на много
столетий, грань между термином и метафорой зачастую трудноу-
ловима, и лишь последовательно проведенный анализ контекстно-
го словоупотребления может доказать, к примеру, что опреде-
ление в сочетании «хорошие стихи» не оценочная, а качественная
© Н.Ю.Чалисова, J 995
186
характеристика, присваиваемая при наличии строго регламен-
тированного набора признаков .
Материалом для данной статьи служит трактат Шамс-и Кайса
ар-Рази (XIII в.) «Ал-Мусджам фи ма*аййир аш*ар ал^аджам»
(«Свод правил стихотворства Аджама») . Под Аджамом со времен
первого Халифата разумелись жители исламизированных земель,
«неарабы», преимущественно иранцы, поэтому буквальный пере-
вод названия памятника — «Свод правил неарабского стихотвор-
ства». Конечно, употребление слова *аджам отчасти объяснимо
потребностями традиционной гармонизации названия, но, наряду
с этим, оно определяет и точку отсчета для автора трактата, и его
исследовательский «угол зрения».
Хорошо известно, что традиционная персидская поэтика явля-
ется дочерней традицией по отношению к арабской, у которой она
почерпнула как все основные разделы литературной теории: про-
содию (аруз), науку о рифме (кафийа), науку о фигурах (бади?),
литературную критику (накд-и адаби), так и сам метод анализа
стихов. Сочинение Шамс-и Кайса — хронологически третий среди
сохранившихся персидских трактатов, написанных в русле араб-
ской традиции. (Существовала и другая система представлений о
поэзии как роде человеческой деятельности, описанная в трудах
философов X-XI вв. и наследовавшая античную традицию, но она
не получила дальнейшего развития.) Статус «Свода...» в
традиции чрезвычайно высок — в предисловии к изданию тракта-
та, предпринятому в начале века, М.Казвини писал: «Можно сме-
ло сказать, что, начиная с появления первых научных трудов на
персидском языке после прихода ислама, со времен Саманидов и
до наших дней вне всякого сомнения нет другой персидской книги
полнее, точнее и изящнее этой, книги более исследовательского
характера» (с. олиф).
Наряду с разделами, посвященными метрике, рифме, изъянам
стиха и поэтическим фигурам, «Свод....» содержит заключитель-
ную главу «Хатима» («Завершение»), где автор излагает свои
взгляды на то, что такое прекрасные стихи, как надлежит их
сочинять и каких именно недостатков следует избегать. Это пер-
вое систематическое изложение эстетики художественного текста
в персидской традиции, определившее на века вперед характер
штудий в этой области. Поэтому разбор языка описания в
«Хатиме» является в некотором смысле и анализом способа реп-
резентации представлений о прекрасном в поэзии, свойственных
персидской классической литературной теории в целом. Хочу сра-
зу оговориться, что в последующем изложении не буду вовсе ка-
саться зависимости Шамс-и Кайса от арабской науки и его лично-
го вклада в разработку отдельных вопросов — это самостоятель-
ная тема. Итак, перед нами глава об устройстве «идеального»
187
поэтического текста из научного сочинения XIII в., характеризуе-
мая автором как «фатиха подлинного знания» и «наставление,
указывающее верный путь».
В задачу настоящей статьи входит анализ основных терминов и
описательных характеристик «Хатимы», касающихся опреде-
ления «хорошей» и «плохой» поэзии, выявление среди последних
наиболее «терминологического» слоя, интерпретация понятия
ма'на, а также попытка спроецировать язык описания поэзии у
Шамс-и Кайса на «общие места» средневековой мусульманской
культуры Ирана.
Основные категории описания Шамс-и Кайс вводит уже в
определение поэзии, помещенное не в «Хатиме», а в главе трак-
тата, именуемой «О науке рифмы и критике поэзии». Однако,
учитывая важность и частоту употребления в «Хатиме» заданных
в нем понятий, привожу это определение полностью.
«Узнай же, что [слово] поэзия (ши*р) имеет по словарю значение
знания и уразумения смыслов с помощью правильного предполо-
жения (хадс-и сайиб), раздумья и приведения прямых доказательств,
а терминологически это речь (сухан) задуманная (андшиидэ), упоря-
доченная (мураттаб), содержательная (маТнави), мерная (мау-
зун), повторяющаяся (мутакаррир), одинаковая (мутасави), и пос-
ледние буквы [равных отрезков] ее совпадают друг с другом.
В этом определении сказано "речь упорядоченная, содержатель-
ная", с тем чтобы установить разницу между поэзией и бес-
смыслицей, речью неупорядоченной и лишенной содержания. И
сказано "мерная**, с тем чтобы установить различие между поэзией
и упорядоченной, исполненной содержания (маРнави) прозой. И
сказано "повторяющаяся**, чтобы установить разницу между бейтом,
заключающим в себе два полустишия (мисрс?), и полубейтом, ибо
наименьшее в поэзии — это полный бейт, о чем мы говорили прежде.
И сказано "одинаковая**, чтобы установить разницу между полным
бейтом и (парой) разных полустиший, каждое — на свой размер. И
сказано "последние буквы [равных отрезков] речи совпадают**, что-
бы установить разницу между зарифмованным (мукаффа) и тем, что
не имеет рифмы, дабы речь без рифмы не сочли стихом, пусть она и
оказалась мерной» (с. 196).
Это определение носит «филологический» характер, т.е. учиты-
вает следующие формальные признаки поэтического текста: сло-
весная форма (здесь перс, сухан синонимично араб, лафз), ее на-
полненность содержанием (ма*на), а также организация метром и
обрамленность рифмой. (Ср. определение арабского филолога Ибн
Рашика: «Поэзия покоится помимо намерения на четырех вещах:
форме слов (лафз) у метре (вазн)> значении (м</на) и рифме
(кафийа)» [2, с.117].) Однако обращает на себя внимание вклю-
ченная в само определение мысль о том, что основной единицей
«измерения» стихов является бейт, а также три его сино-
нимические характеристики: «[речь] упорядоченная, повторяю-
188
щаяся, одинаковая». Первый термин означает грамматическую и
синтаксическую правильность, второй — указывает на двусостав-
ность бейта, третий — на просодическое единство бейта. Но в це-
лом эти «новации» в определении поэзии Шамс-и Кайса сразу на-
водят на мысль, что идея «упорядоченности», симметрии и гар-
монии будет центральной в его «эстетическом фрагменте» (об этом
речь пойдёт ниже).
Главными категориями описания бейта в «Хатиме» являются
лафз и ма?на . Оба взаимосвязанных термина восходят к арабской
грамматике и употребляются с начала сочинения поэтологических
трактатов. Лафз — это, в самом первом приближении, форма,
звуковая сторона речи, «все, что можно выговорить, большое или
малое», т.е. слово, словосочетание, бейт, целое стихотворение,
целое большое произведение (вплоть до «Шах-наме»). Mcfna —
соответственно смысл, значение, то, что проявляется благодаря
лафзу. Резюмируя достаточно пространное изложение Шамс-и
Кайса, приходится признать, что на уровне экспликации теоретик
не идет дальше указания на то, что «хорошие» стихи возникают i
результате соединения приятных лафзов с изящными ма'на, если
поэт при этом не выходит за границы приемлемого, не впадает i
крайности, не урезает необходимого и не раздувает неуместного.
При этом «приятный» характер лафза определяется прежде
всего всеми предыдущими разделами трактата — просодия, рифме
и значительная часть поэтических фигур «обустраивают» имение
форму стиха. С масна вопрос неясен, так как эта категория не
имеет эксплицитного истолкования в рамках трактатов пе
поэтике, и его концептуальная наполненность может быть выведе-
на лишь из суммы контекстов употребления (в нашем случае — i
тексте «Хатимы»).
Сразу следует сказать, что самого Шамс-и Кайса вопрос ot
изреченнекгги понятия красоты стиха волновал мало, конечны\
итогом его эстетических построений явилась мысль о том, что н<
надо требовать от критика по всякому поводу «неопровержимые
аргументов и ясных оснований, ибо многочисленны вещи, невы
разимые словом, но внятные вкусу и проницанию» (с. 461).
Обратимся теперь к описательным характеристикам и метафо
рам, которые сопровождают в тексте такие узловые понятия, Kai
поэзия и стихи (ши*р9 назм, бейт как синоним ши*р), словесна*
форма (лафз) и смысл Ыа'на), не забывая при этом, что , по точ
ному определению Ш.Шукурова, «мы попадаем в мир, где ак'
номинации, названия вещи неотделим от знания сути этой вещи;
[9,с.126].
Глава «Хатима» открывается указанием на то, что у поэзш
имеются орудия, а у поэта — предпосылки, и полнота мастерств;
достигается лишь при совершенстве того и другого.
18!
«Что касается орудий поэзии, то к ним относятся правильные
слова (калимат-и сахих) и приятные словесные формы (алфаз-и
(азб)у красноречивые выражения {'ибарат-и балиг) и изящные
смыслы {ма*ани-йи латиф). Будучи отлиты в форму приемлемых
метров (аузан-и макбул) и нанизаны на нить порожденных талантом
бейтов (абйат-и матб^), они начинают именоваться хорошими
стихами (иш?р-и ник)» (с.445).
Итак, в словосочетание «подлинная поэзия» входит прилага-
тельное ник, означающее по словарю 'хороший', 'добрый', 'бла-
гой'. Оно является первой частью композитов ник-андиш ('благо-
желательный', букв, 'благомыслящий'), ник-гуй (букв, 'благо-
речивый') и ник-кар (букв, 'благотворящий'), напоминающих о
центральной для доисламского Ирана этической формуле «благая
мысль — благое слово — благое дело», многократно встречающей-
ся в «Шах-наме». Существенно здесь, что при почти сплошном
сохранении арабской терминологии для высшей оценки стихов вы-
брано исконное персидское слово с устойчивым кругом конно-
таций, связанных с положительными этическими характери-
стиками человека. (Напомним, что определение поэзии начинает-
ся у Шамс-и Кайса также с персидского слова сухан, которое, к
примеру, в тексте «Шах-наме», носящем в традиции титул
«персидский Коран», многократно встречается в значении «благое
слово».)
Метафоры, отобранные Шамс-и Кайсом для объяснения сути
поэзии, также весьма характерны. Напомню, что, по мусульман-
ской схеме сотворения мира, Аллах «создал в сердце грубого кам-
ня драгоценные каменья и металлы. Вслед за отборной частью
четырех стихий Он сотворил три мира, создав роды и виды живых
существ. Из родов и видов живых существ он выделил человека и
сделал его венцом существ и заглавным листом творений» (6,
с. 115), т.е. сначала были созданы минералы, затем — растения,
животные и Человек. Автор «Катимы» предлагает поэту упо-
добиться мастеру-ювелиру, «который умножает блеск изго-
тавливаемого ожерелья красотою сочетания и подходящим оправ-
лением камней» (с. 450); здесь стихи сопоставлены с миром мине-
ралов.
Поэту следует уподобиться также живописцу, который «всякий
цветок помещает в нужном месте и всякую ветвь обращает в нуж-
ную сторону» (с.450) — стихи сопоставлены с миром растений.
Критик, по Шамс-и Кайсу, оценивая стихи, выбирает лучшие, как
торговец лошадьми — лучшего из коней (сопоставление с миром
животных).
И наконец, несколько антропоморфных метафор: (1) тело в
одежде — «всякое значение надлежит выставлять напоказ в сооб-
разном обличье слова и подходящем платье выражения»
(с.451); «значения, облаченные в одежду слова», «дорогостоя-
190
щая рабыня, которая в некоторых уборах особенно хороша для
продажи» (с.451); (2) душа и тело (примеры см. ниже, при разборе
конкретных эпитетов).
В целом же «стихи — дитя поэта», а виды речи различаются
так же, как люди по характеру и качествам, присущим человече-
ской природе: «...один достойный, а другой — мерзкий, один —
хороший, а другой — скверный, один — изящно обточенный, а
другой — крепко сколоченный» (с. 459). Полнота мастерства в
поэзии достигается «лишь при совершенстве ее инструментов и
орудий, как совершенство человека достигается лишь при здо-
ровье всех его членов и органов» (с.445). Отметим, что
перечисленные метафоры даны в тексте вразброс, тем не менее
указанная иерархия (от минерала к человеку) заслуживает
внимания. (Ср. приведенную в книге Ш.Шукурова аргументацию
по поводу «оживания» графического воспроизведения слова на
предметах прикладного искусства по той же схеме [9, с.551 ].)
В таком контексте* когда антропоморфные метафоры являются
иерархически высшими, естественно, что качественные харак-
теристики лафз и ма'на выбираются из определений, харак-
теризующих человека и его ощущения.
Благими и добрыми стихи становятся, когда словесная форма в
них может быть определена как <азб 'приятная'; в первом зна-
чении это «приятная на вкус, свежая, проточная вода», «еда или
питье, которые легко проходят через горло». Лафз в арабской
филологической традиции мыслится как звуковой, выговаривае-
мый комплекс, поэтому обе характеристики связаны с «ощу-
щениями внутри рта» — при произнесении хороших стихов горло
человека не напрягается, а во рту становится приятно, как от све-
жей воды. Проточная вода (ведь свежая вода — это обязательно
вода из источника) занимает очень важное место в системе ценно-
стей иранской (и шире — ближневосточной) культуры, это одна
из главных радостей, дарованных человеку в его земном бытии.
Для положительной оценки словесной формы в нескольких
случаях употребляется также эпитет пакизэ 'чистый', 'невинный',
'красивый', часто используемый в поэзии для обозначения цело-
мудренной девы.
Антонимической характеристикой лафз служит постоянно
употребляющийся по всему тексту «Хатимы» эпитет ракик
'тонкий', 'слабый', 'субтильный', 'имеющий изъяны и недо-
статки', слово, также часто встречающееся в художественных тек-
стах при описании внешности человека, в особенности — тела
(знаменательно, что в современном языке ракик означает 'грубые,
непристойные слова') ♦
Группа определений к значению ма'на несколько богаче. При
этом, поскольку в оппозиции «душа—тело» значение выступает
191
как душа, а в оппозиции «тело—одежда» — как одушевленное
тело, определения встречаются как «душевного», так и «телесно-
го» ряда. Значение, заключенное в бейте, должно быть хуш> т.е.
'хорошим', 'радующим и веселящим душу', и не должно быть
сард, т.е. 'скучным', 'огорчающим душу' [оба слова в сочетании с
дил 'сердце' обозначают соответственно типы личности — «весе-
лый» и «портящий настроение» (дилсардкар) ]..
Ма'на-душу подстерегают такие опасности, как сихафат 'ску-
доумие', 'бесталанность', а также превращение в вахи 'пустое'
значение. Ma'wa-тело описывается как касир 'немощное' и за'иф
'слабое', 'бессильное', когда оно заслуживает критики, и награж-
дается определением томам 'полное', 'совершенное', 'обладаю-
щее всеми необходимыми частями', а также латиф 'изящное',
когда оно заслуживает похвалы.
На последнем качестве ма'на остановлюсь подробнее. Прежде
всего, это наиболее часто употребляемая характеристика, всегда
связанная с приятным Сазб) лафзом. Латиф имеет очень
широкий спектр значений, от одного из имен Аллаха (Всеблагой)
до 'милая', 'деликатная', 'нежная', 'изящная' — качества кра-
савицы-возлюбленной. Существенно, что латиф в художествен-
ных текстах употребляется не как синоним хасан 'красивый', а
как обозначение совершенно особого качества человека. Это
хорошо видно на примере из такого «прагматического» сочинения,
как «Кабус-наме». В главе «О покупке рабов и ее правилах» го-
ворится: «...Господь великий и всеславный всем людям красоту
вложил в глаза и брови, изящество — в нос, сладость — в губы и
зубы, свежесть — в кожу лица, а волосы сделал украшающими все
это, ибо волосы он сотворил ради украшения... Если оба глаза и
брови хороши, в носу изящество, в губах и зубах сладость, в коже
свежесть, покупай, а об остальном не заботься. Если же этого всего
нет, должен он (раб. — Н. Y.) быть изящным. И, по моему убеж-
дению, изящный без красоты лучше, чем красивый без изящества»
[8,с.53].
Уместно вспомнить и еще об одной коннотации слова латиф —
'остроумный', 'с изюминкой'. От того же корня образовано и на-
звание жанра городского анекдота, шутки — латифэ. Можно
предположить, что под «изяществом» значения разумеется (по
крайней мере в «Хатиме») некий неожиданный и остроумный
поворот известной поэтической идеи или же свежее поэтическое
mot. Ведь в более поздних трактатах и тазкире (XV-XVI вв.) уже
было введено понятие нукта (букв, 'точка'), — точно соответст-
вующее французскому point, — так именовалась 'изюминка',
наличие которрй в бейте давало ему право на то, чтобы «запечат-
леться в памяти» традиции.
192
Уподобление «хороших» стихов, т.е. «хорошего» бейта (именно
на этом уровне работает теория), Совершенному Человеку имеет в
тексте еще одну проекцию. Основное требование к композиции
стихотворения в «Хатиме» — это взаимное согласие между бей-
тами, тавафук — слово, которое означает 'соглашение, согласие в
чем-то между людьми'. Требование к соседним ма'ани — чтобы
они не были отторгнутыми друг от друга, госостэ (частое зна-
чение — 'разлученный с любимой'), а к соседним бейтам — чтобы
не были чужими друг другу (биганэ). Необходимость точного соот-
ветствия лафза и ма*на (татабук) объясняется на примере каче-
ства ткани, которое должно точно соответствовать рангу лица,
облаченного в одежду из этой ткани. Необходимость гар-
монизации ряда значений и ряда слов обозначается словами
такриб и тахзибу соответственно 'близкое знакомство' и 'улуч-
шение' (нравов).
В целом идея правильного и красивого устройства стихов про-
читывается у Шамс-и Кайса как правильное (и потому благое —
ник) устройство человеческого общежития, а работа по совершен-
ствованию поэтического текста реконструируется (при лексичес-
ком анализе соответствующих пассажей), с одной стороны, как
достижение иерархического соответствия типа «каждому по уму»
между ма*на и лафз в рамках бейта и, с другой — как улучшение
взаимоотношений между бейтами в рамках стихотворного целого
(характерно, что конкретный бейт, в котором воплотилось некото-
рое значение, получает статус сурат ал-ма<нау т.е. 'облик, лицо
значения', 'персона').
Среди описательных характеристик, присваиваемых узловым
элементам устройства стиха, выделяются, как с точки зрения час-
тоты употребления, так и в плане однородности контекстов
(примером которых служит приведенное выше определение
«орудий» поэзии), два регулярных эпитета — газб ('приятный')
для словесной формы и латиф ('изящный') для значения бейта.
Это дает основание предположить, что они имеют термино-
логический характер и относятся, по крайней мере в рамках
«Катимы», к разряду истилахат, т.е. терминов, или обозна-
чений, специфических для поэтологии, что необходимо учитывать
при переводе такого рода текстов, не соблазняясь возможностью
использовать разнообразные синонимы для достижения благо-
звучия.
Термин лафз как обозначение звуковой и — расширительно —
графической стороны стиха относительно ясен. С ма(на дело об-
стоит сложнее, и объем этого понятия нуждается, на наш взгляд, в
специальной интерпретации.
Последовательный антропоморфизм метафор описания у
Шамс-и Кайса делает вероятным предположение, что категория
13 130
193
ма'на ('значение', 'душа' или 'одушевленное тело') имеет у него
уровневое членение, соотносимое с присущими мусульманской
традиции представлениями об устройстве макро- и микрокосма
(имеется в виду основная для мусульманской теории творения
триада «общая идея — единичная идея-образ — вещь» и изоморф-
ная ей структура человеческой души: «разумная, или речевая, ду-
ша (разум)—животная душа — растительная, или природная,
душа» [3, С.163 ]). В.Брагинский предлагает следующую трактовку
(оговариваясь, что она отражает лишь первичные моменты):
«Мазани же в поэзии и в поэтике — это те отобранные традицией
правильные образы, в которых эрудированному поэту надлежит
"видеть" единичную идею» [3, с. 190].
Контексты употребления ма?на в «Хатиме» Шамс-и Кайса до-
казывают, что перевод его как 'значение' весьма условен. Прежде
всего, у поэзии (ши'р) есть ма<на «с большой буквы» — это кате-
гория, объемлющая все, что не есть форма, -^ душа или общая
идея поэзии. Содержательно она разделяется на большие м&на,
которые удобно переводить словом 'тема'. Шамс-и Кайс
перечисляет их во введении к трактату:
«Касыда — это... цель устремлений поэта, которой он достигает,
обращаясь к разным темам (мазани)... как-то: восхваление (мадх),
поношение (хиджа), благодарение (шукр), сетование (шикайат) и
прочее» (с.202).
В «Хатиме» (с.450) этот ряд продолжен: в него включены
насиб и ташбиб (т.е. любовная тема), «самообладание и воздер-
жание» (похвала праведности), описание стран и обычаев; небес и
светил; цветов, ручьев, дождей и ветров; оплакивание погибших в
битве. Эти темы, именуемые в сходных контекстах асалиб и
афанин, а также анва? (способы, ветви, разряды), напоминают
отчасти жанрово-тематическое деление поэзии и составляют дено-
тат верхнего яруса термина ма'на, который соотносим с уровнем
общей идеи и разумной души, разума.
Далее, по нисходящей, появляются ма*ани, которые следует
усваивать, читая стихи классиков и заучивая их наизусть. Это —
поэтические мот ив ы или, как предлагают называть их некото-
рые исследователи »семантические инварианты мо-
тивов, воплощенные во множествах конкретных реализаций.
Шамс-и Кайс рекомендует поэту анализировать стихи классиков,
с тем чтобы «мотивы (мазани) стихов утвердились в сердце
(дил), их словесные формы закрепились в сознании, язык усвоил
сии выражения, а их совокупность стала опорой таланта
(таб*) поэта и побудительной причиной его помыслов» (с.446-
447). Мотивы как извлекаемые из совокупности усвоенных стихов
инварианты «правильных» образов, которые поэту предстоит
обращать в авторские «варианты», могут быть сопоставлены со
194
средним уровнем триады — единичной идеей-образом или живот-
ной душой (она иначе называется дил 'сердце', а в «Хатиме» не-
однократно отмечается, что мотивы должны быть начертаны на
странице сердца) и являются денотатом «срединного слоя»
термина мата.
Завершают триаду ма'ани, составляющие конкретные поэти-
ческие значения отдельных бейтов. Понятно, что это уровень
«вещи», которой соответствует природная душа — таб* (на путь
от дил к таб указывает приведенная выше цитата из «Хатимы»),
Этим же словом обозначается талант поэта, а удавшиеся,
«хорошие» бейты именуются матбу* 'порожденные талантом'.
Таким образом, категория ма'на может быть интерпретирована
как триада «тема — мотив — поэтическое значение», при этом
конкретный вариант перевода определяется только контекстом.
Такое иерархическое уровневое устройство маг-на при отсутствии
отдельных терминов для каждого уровня обеспечивает при потреб-
лении в любом контексте сохранение идеи о принадлежности вся-
кого поэтического значения, придуманного поэтом, более общему
мотиву, а того, в свою очередь, — большой теме .
Взаимоотношения между традиционными мотивами и конкрет-
ными значениями регулирует хорошо разработанная в арабской
филологии теория заимствований (сарикат). Шамс-и Кайс в пос-
ледней части «Хатимы» также излагает свою теорию поэтических
заимствований.
Ученый придерживается, естественно, традиционной точки
зрения о взаимосвязанности всех поэтических текстов и необ-
ходимости для каждого пишущего стихи впитать в себя весь опыт
прошлого. Тогда «его поэзия уподобится роднику с прозрачной во-
дой, питающемуся от великих рек и глубоких ручьев, и бальзаму
из пахучих трав, благоухание которого услаждает душу, хотя сос-
тав ароматов остается неизвестным» (с.447). Уже из этой метафо-
ры следует, что накопленная поэтом эрудиция должна проявлять-
ся таким образом, чтобы его нельзя было обвинить в копировании
предшественников. Теория заимствований как раз и проводит
границу между порицаемым копированием и самостоятельным
творчеством в русле традиции.
В персидской поэтике Шамс-и Кайс был в этом смысле пионе-
ром. Он обобщил опыт арабских поэтологов и вместо весьма под-
робных, разнящихся от трактата к трактату многочленных
классификаций, предложил собственную, четырехчленную клас-
сификацию . Основными категориями, в которых описывают-
ся степени заимствования, служат уже знакомые нам лафз и
ма?на, а вопрос, который при этом решается, сформулирован
А.Б.Куделиным как установление «пределов и форм зависимости
автора от традиции на уровне мотива» [4, с.122 ].
13-2 130
195
Первый вид заимствования носит у Шамс-и Кайса название
интихал — присвоение себе чужих слов без изменения лафза и
ма'на, что вполне совпадает с нашим представлением о плагиате и
безусловно порицается. Второй вид, салх 'сдирание кожи, обо-
лочки', заключается в том, что поэт берет ма'на и лафз чужого
бейта, меняет конструкцию (таркиб) лафза и передает мс&на по-
иному. Третий вид, илмам 'намеренное приближение', формули-
руется как употребление некоего ма'на в другом выражении и
ином обличье. Четвертый, накл 'перенос', это перенос чужого
ма^на, употребленного в одном «разряде речи» (скажем, в
хиджа — поношении), в другой разряд (скажем, мадх — восхва-
ление) и выставление его под таким покровом. Разница в опреде-
лении второго и третьего разрядов поначалу трудноуловима
(например, Р.Мусульманкулов в книге «История таджикско-
персидской поэтики» отмечает, что эта разница неясна) [5, с. 129 ].
Но мы имеем дело с традицией, в которой едва ли не основную
роль в теоретических сочинениях гуманитарного цикла имеет под-
бор примеров. Анализ их в «Сдирании кожи» и «Намеренном
приближении» дает неожиданные результаты.
В случае салх все примеры передают такой тип соотношения
между заимствованным и своим:
(1) Всякий, кто не воспринял уроков прошлого, //
не выучится также и у любого другого учителя (Рудаки).
Разве что время научит тебя, //
ведь лучшего ты не сыщешь учителя (Абу Шукур).
(2) И Рудаки сказал:
Ты все красишь усы и бороду, //
ты все подвергаешь себя мучениям.
Абу Тахир Хусравани позаимствовал у него и сказал:
Дивлюсь я старикам, //
которые все красят бороду.
Не избегнуть при помощи краски смертного часа, //
(понапрасну) они подвергают себя мучениям.
(3) Му'иззи сказал:
Моя спина согбенна не оттого, что любовь к тебе //
возложила на нее груз изнуряющих раздумий.
Мое сердце выскользнуло из рук и упало на землю, //
я согнулся вдвое, чтоб отыскать его.
А другой [поэт] позаимствовал у него и сказал:
Ты сказал (а): «Отчего сгибается вдвое стан мужчины?» //
Оттого, что он [мужчина] расстался с жемчугом своей
молодости.
А тому, кто обронил что-то из рук, //
надлежит согнуть спину в поисках [пропавшего].
196
Речь идет о заимствовании ма'на в смысле данного поэтическо-
го образа. Во всех примерах, относящихся к этому виду, в воспри-
нимающем бейте производятся изменения на уровне грамматики и
синтаксиса, иногда добавляются слова, но непременно сохраняют-
ся как участники (в самом широком смысле) «поэтической ситу-
ации» бейта-донора, так и отношения между ними. Здесь термин
ма'на указывает, повторю, на конкретное поэтическое значение
бейта (естественно, не равное лингвистическому). На языке изве-
стной семиотической модели «тема — текст» такое «сдирание
кожи» именовалось бы «лингвистически неэквивалентным, но се-
мантически эквивалентным преобразованием». Заимствование
конкретных поэтических образов Шамс-и Кайс порицает.
«Намеренное приближение» (илмам) предлагает качественно
иной тип примеров. Автор и в объяснительной части намекает на
это, отмечая, что берется «некое», а не «чужое» значение.
(4) Му'иззи сказал:
Едва начертав на дощечке твое имя, //
отступился от письма калам.
Сказал он: «Отныне зачем мне писать*, //
Раз я начертал сразу и частное, и общее».
Анвари позаимствовал у него это значение и сказал с изяществом:
С тех пор, как земля удостоилась чести твоего рождения, //
небо, взимая за это дань, обчистило до нитки
грядущих, тебе подобных.
Существование такого, как ты, в другой раз (стало)
невозможно (из-за этого). //
Все дело в этом! Ведь блага не иссякли, а Податель благ —
не скупец.
(5) Шихаб Муаййад Насфи сказал:
Он выжимал кровь из плотно пригнанных колечек кольчуги, //
так же, как ты выжимаешь сквозь сито сок граната.
Захир позаимствовал у него и сказал лучше: ,
Ты таков, что на теле врага твоего Давидовы доспехи //
от ран, [наносимых] твоим мечом, обращаются в сито, сочащееся
кровью.
Ограничусь этой парой примеров, которая свидетельствует о
том, что речь здесь идет не о заимствовании конкретного образа, а
о новой обработке некоторого поэтического мотива. В примере (4)
он может быть сформулирован как «Ты — вместилище совершен-
ства всего человеческого рода». В стихе-доноре участниками
поэтической ситуации являются калам, дощечка и имя, в
воспринимающем стихе — это земля, небо и т.д. Для того чтобы
заимствовать такое ма'на, поэт должен сначала правильно вы-
членить его из текста, произведя определенную семантическую
процедуру и мысленно «восстановив» мотив. В примере (5) мотив
13-3 130
197
определяется (хотя без полной уверенности) так: «Для доблестно-
го непроницаемая броня врага — сито для процеживания крови».
Четвертый вид — перенос — отличается от третьего переносом
ма'на — мотива при заимствовании в другой жанр. Речь идет вро-
де бы о том же уровне ма<на, но примеры показывают более высо-
кую степень абстрагирования от конкретного образа. Если в
илмам заимствуется «смысл» мотива, то здесь скорее можно го-
ворить о заимствовании модели или структуры поэтического вы-
сказывания.
(6) Мухтари сказал:
Что сталось с тем, кто сшил царский балдахин из лоскутов своего платья? //
Теперь ему приходится рвать балдахин, (чтобы) латать платье.
Рази Нишапури перенес это в разряд восхваления (по-видимо-
му, из разряда жалоб на судьбу или наставлений. — Н.Ч.) и ска-
зал:
Намереваясь служить твоему двору, повсеместно //
о как многие цари пустили венцы на кушаки.
(7) А также, например, сказал некий поэт:
От любви к тебе со мной сталось то же, что с Маджнуном, //
это значит, что я не числюсь среди разумных.
Горюя, что ты не искренна (букв. — пряма) со мной, как алиф,
9
я постоянно в крови, как вав .
Другой (поэт) применил этот способ [выражения ] к слову «ду-
ша» и сказал:
Твой почерк ласкает мне взор, как перлы, //
Произнесение написанного тобою наполняет сладостью уста.
Каждой букве твоего благословенного послания //
я отвожу такое место в душе, какое занимает олиф .
Здесь в примере (6) мотив, вероятно, можно представить как
«изменение статуса вещи в зависимости от статуса ее обладателя»,
а в примере (7) — как «уподобление адресата стихотворения фор-
ме или положению буквы в слове».
В этих примерах заимствуется та самая форма, которая, по
словам Ибн Халду на, «отвлекается разумом от наиболее зна-
менитых словосочетаний и, получившая место в воображении, мо-
жет быть уподоблена деревянной рамке (для изготовления
кирпичей) или ткацкому станку» (цит. по [3, с.222 ]).
Таким образом, можно констатировать, что средний уровень
термина ма'на (мотив) может быть разложен, судя по примерам,
на два компонента — смысл и структуру (модель), причем
заимствование последней наиболее «замаскировано» и установ-
ление преемственности бейтов в трактатах по такому, никогда в
явном виде не объясняемому, принципу зачастую вызывает недоу-
мение «иноязычных» исследователей.
198
Третий и четвертый виды заимствования имеют, повторим, де-
ло с ма*на — мотивом уровня единичной идеи. Такие заимство-
вания, в отличие от первых двух типов, Шамс-и Кайс считает пер-
спективным путем, на котором успех или фиаско поэта зависят от
того, удастся ли ему выразить значение в бейте красноречивее
(балигтар), чем предшественнику. Под более красноречивым вы-
ражением разумеется именно придание мотиву при трансфор-
мации в поэтическое значение качества латиф за счет неожидан-
ного, остроумного поворота смысла, обнаружения новых ас-
социативных валентностей мотива или удачной находки ново»
логической структуры (модели поэтического высказывания), г
также соответствующего качеству находки словесного оформ-
ления .
Итак, анализ функционирования термина ма<на в тексте
«Хатима» показывает, на мой взгляд, что он охватывает иерар-
хически выстроенную систему понятий. С учетом приверженности
мусульманской традиции к моделям типа «ядро—периферия» (на-
помню о знаменитой первой капле божественных чернил, упав-
шей с божественного пера и вмещавшей в себя весь мир. Она стала
тонкой под буквой ба> которая вмещала всю басмаллу, которая
вмещала всю Фатиху, которая вмещала весь Коран) правомерно
представить себе эту систему как некоторый конус, в его осно-
вании располагается конкретный образ бейта (ма'на бейта), воп-
лощенный в слове, над ним помещается слой единичной идеи или
модели образа, мотива, далее — слой общей идеи или темы, г
вершина устремлена к Высшему, неизреченному смыслу, которые
тоже называется Ма'на (границы между слоями, как полагается
размыты). Можно придумывать любые геометрические фигуры, не
не вызывает сомнений общая «вертикальная устремленность*
термина.
В целом получается, что граница между плагиатом и самостоя-
тельным творчеством, по Шамс-и Кайсу, это граница между саю
и илмам, между повторением конкретного поэтического значенш
и новой интерпретацией уже имеющегося мотива или мод ел*
образа. (Трансформация и помещение такого ма'на в новую сло-
весную оболочку, приводящее к появлению более удачного конк-
ретного ма*на — образа бейта, осуществляется, в частности, <
помощью приемов и фигур бади' и носит название ибда*. Рашщ
Ватват писал, что «именно такой должна быть речь мудрецов ъ
образованных людей в поэзии и прозе» [17, с. 166 ].) Наряду с этил
традиция предусматривала и возможность создания новых моде-
лей или идей. Бейты, для значений которых не было коррелято!
на уровне поэтической идеи-мотива, назывались ихтира', т.е
изобретениями, и высоко ценились.
13-4 130
19S
Обязанность настоящего поэта, по Шамс-и Кайсу, продвигать-
ся по торной дороге стихосложения, развивая имеющиеся поэти-
ческие идеи и изобретая новые, а одна из функций критика —
прослеживать пути каждого масна-мотивау т.е. устанавливать ин-
тертекстуальные связи в поэтической традиции на уровне бейта.
Одну из причин устойчивого внимания поэтов и критиков к
проблеме варьирования мотивов в бейте можно усмотреть в такой
доминанте мусульманской культуры, как представление о скры-
той (батин) от человека сути (ма?на) и множественности, неус-
тойчивости, изменчивости явленных ликов (сурат) всего сущего.
«Лики значений разнообразны», — отмечает Шамс-и Кайс
(с.451). Такая установка культуры как бы провоцировала поэтов
на поиски все новых и новых ликов мотива в надежде сделать еще
один шаг в сторону истинной сути .
Если принять семиотическое определение смысла как ин-
варианта семантических преобразований, то можно усмотреть в
персоязычной ( и, уж конечно, в арабской) поэтике развитую
эмпирическую традицию изучения поэтической семантики и
структур-моделей поэтического высказывания, ведь чем больше
собрано вариантов бейтов на один мотив, тем глубже и богаче
эмпирическое представление инварианта.
ПРИМЕЧАНИЯ
В числе таких исключений среди отечественных работ следует упомянуть
ставшую уже классической книгу С.С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской
литературы» (M., 1977), главу «Самосознание малайской литературы в
классический период (реконструкция)» из книги В.И.Брагинского «История малай-
ской литературы» [3] и работы по санскритской классической поэтике Ю.М.Алиха-
новой.
2
Такой подход к анализу языка теоретического сочинения имеет и чисто
практический смысл, так как в результате возрастает степень точности перевода тек-
ста, и приходится всерьез заботиться не только о его «художественности», но и о том,
чтобы не исказить облик «многовнутрисоставозависимой», по выражению
Д.А.Пригова, культуры, запечатлевшей себя в памятнике.
Ал-Мухджам фи ма*аййир аш*ар ал-'аджам (Тегеран, б.г.). Все цитаты в тексте
настоящей статьи приводятся по этому изданию с указанием страницы.
Ср. тезис Ш.Шукурова: «Одной из существенных черт искусства ислама явля-
лось обращение к изобразительному знаку с его богатыми потенциальными возмож-
ностями выражения потаенных смысловых качеств, что отражало доминантное для
художественного восприятия ислама разделение объекта описания на форму и
смысл, явленное и скрытое» [9, с. 194].
В иранистике слово «инвариант» по отношению к мотивам впервые, насколько
мне известно, употребил А.Н. Болдырев в статье «Литературно-критические взгляды
Джами и его современников» («Народы Азии и Африки». 1969, № 2).
200
Так, Э.Нахри проанализировала мотивную структуру касыд дивана Ахталя
(VII в.) и доказала, что каждая «тема» касыды имеет свой определенный круг харак-
терных мотивов Шахри Э. Диван Ахталя как источник изучения арабской поэтиче-
ской традиции VII-VIII вв. Автореф. канд. дис. М., 1990).
A.B. Куделин посвятил специальную главу своей «Арабской классической
поэтики» разбору арабских теорий заимствований в поэзии.
о
Подробнее об этом см.: Чалисова Н.Ю. Теория поэтических заимствований у
Шамс-и Кайса ар-Рази (к вопросу об арабских корнях и специфике персидско-
таджикской классической поэтики). — Взаимодействие культур Востока и Запада.
М., 1991.
Имеется в виду срединное положение буквы вав (к тому же изогнутой, в
отличие от прямого алшра) в слове хун О кровь*).
Имеется в виду центральное место олифа, в слове джан Сдута*), возвышаю-
щегося над буквами джим и нун.
Понять механизм таких заимствовании поможет, по-видимому, довольно не-
ожиданная аналогия — формирование в современной нам отечественной культуре
циклов анекдотов. Собиратели и ценители знают, что в каждом новом цикле, появ-
ляющемся в связи с насущными проблемами общества, прослеживаются как смыс-
ловые, так и структурные типы, известные по предыдущим циклам. В таких случаях
мы говорим: «Ну, это уже было про Штирлица», хотя на самом деле «это» нередко
было еще у Эзопа.
Ш.Шукуров, отмечая «отсутствие канонизированного традицией изоб-
разительного образа даже в пределах одного повествовательного цикла иллюст-
раций», предлагает рассматривать это как типологическую характеристику всего
мусульманского искусства [9, с.113].
ЛИТЕРАТУРА
1. Шамс-и Кайс ар-Рази. Ал-Му'джам фи магаййир аш'ар ал-'аджам. Тегеран, б.г.
2. ИбнРаишк. Ал-'Умда. Т.1. Бейрут, 1972.
3. Брагинский В.Й. История малайской литературы. М., 1983.
4. Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983.
5. Мусульманку лов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика (X—XV вв.).
М.,1989.
б.Мухаммад Захири Самарканда. Синдбад-наме. Пер. М.-Н. Османова. —
Энциклопедия персидско-таджикской прозы. Душанбе, 1986.
l.Pauiud ад-Дин Ватвапи Сады волшебства в тонкостях поэзии. Пер. с перс,
исслед. и коммент. Н.Ю.Чалисовой. М., 1985.
8. Унсуралмаали. Кабус-наме. Пер. Е.Э.Вертельса. — Энциклопедия персидско-
таджикской прозы. Душанбе, 1986.
9. Шукуров Ш. Искусство средневекового Ирана (формирование принципов изоб-
разительности) . М., 1989.
Н.И.Пригарина
САДЫ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭТИКИ
Насколько мне известно, в иранистике никому не приходило в
голову распространить понятие «непревзойденности изложения»
на тексты трактатов по поэтике. Речь идет о тех сочинениях, кото-
рые в русле классической арабо-мусульманской традиции излага-
ют *илм ал-баои?, или 'науку о новом, дивном поэтическом стиле'
[4, с.38] или о приемах украшения художественной речи [ХС,
с.9 ] ♦ Вряд ли вообще кто-нибудь заинтересовался в текстах дан-
ного жанра эстетическим началом или хотя бы захотел оценить их
с позиций эстетических канонов, присущих средневековой куль-
туре персоязычного региона.
И неудивительно. Трактаты по' илм-ал-бади* имеют норматив-
ное и учебное назначение и направлены на овладение различными
приемами «украшения» прозаической и поэтической речи и
правильное их употребление, т.е. служат руководством по
практической поэтике. Они являют собой перечень риторических
приемов, служащих украшению речи. В перечень включены на-
звания фигуры речи, описание ее устройства (модель), порой —
рассуждения о ее достоинствах и недостатках и иллюстрации из
прозы или поэзии.
До нас дошло считанное число авторитетных текстов по
поэтике персидской литературы . Составляя единую традицию,
они в большой мере повторяют друг друга. Авторы поэтик часто
упрекают своих предшественников в подражательстве и плагиате.
Шамс-и Кайс, например, заявлял, что Ватват просто обокрал свое-
го предшественника Радуяни, тогда как, по замечанию Н.Ю.Ча-
лисовой, сам он не выпускал из рук труд Ватвата. В этой области
иранские филологи были добросовестными продолжателями
арабских, заложивших основные направления уилм ал-бади<, так
что им трудно было претендовать и на особую самобытность. Да и
на самом деле, практический уклон этого жанра не требует изыс-
ков и не влечет за собой откровений; автор трактата может
обойтись без изложения эстетических концепций, с помощью ко-
© Н.И.Пригарина, 1995
202
торых духовные поиски эпохи, их создавшей, и нормируемая
поэтиками художественная деятельность оказались бы сопряжены
друг с другом. Такими эти трактаты воспринимаются в контексте
культуры, такова их прагматика, заставляющая признавать пра-
вомерность подобного к ним отношения.
Но если тот или иной текст и не затрагивает высокие области
духовности и не занимается проблемой Бытия, он тем не менее
представляет высокодуховную культуру, служа ее «материаль-
ным» воплощением. И сумей мы взглянуть на него с этих позиций,
он, возможно, раскроет какие-то новые грани традиции, к которой
принадлежит, явит закономерности, прежде считавшиеся ему не-
свойственными.
В данной статье мы хотели бы предложить гипотезу, в свете ко-
торой текст поэтики имеет гораздо более стройную архитек-
тонику, чем это считалось до сих пор, и показать, что глубинным
его структурам не чужды философско-эстетические представ-
ления своей эпохи, а значит, и ощущение Красоты Бытия и его
Тайны. Ради этой цели мы обращаемся к русскому изданию трак-
тата по 9илм ал-бади4' Ватвата — нам оно облегчит задачу изло-
жения, а заинтересованному читателю позволит проверить пра-
вильность изложенных в статье соображений, даже если он не вла-
деет фарси. Цель наших построений состоит в попытке
реконструировать отношение средневекового автора к принципам
классификации поэтических фигур, выявив основы этой клас-
сификации. Однако нас подстерегает опасность двойного рода: как
приписать автору несвойственные ему взгляды, так и наоборот, не
выйти за пределы авторского понимания, а следовательно, не
иметь возможности увидеть предмет со стороны. Избежать ее поз-
волит соединение внешней и внутренней точек зрения на предмет.
Внутренней будем считать точку зрения автора поэтики й шире —
авторефлексию культуры в данной области; внешней — позицию
современных исследователей и современной науки (более подроб-
но о таком подходе см. [ХС, с. 13-14 ]).
Итак, перед нами текст XII в. — трактат по поэтике Рашид ад-
Дина Ватвата «ХадсСик ас-сихр фи ЬаксСик аш-ши'р» («Сады вол-
шебства в тонкостях поэзии»), в переводе Н.Ю.Чалисовой, с ее
комментариями и вступительной статьей (М., 1985). Трактат со-
держит сравнительно небольшое количество поэтических фигур,
что удобно для анализа в избранном нами жанре статьи. Кроме то-
го, это один из самых ранних из дошедших до нас текстов такого
рода. По наблюдению многих исследователей [9; 14], XII в. —
время окончательного формирования основных эстетических и ху-
дожественных принципов иранской культуры, становления ее но-
203
вых жанров и форм, а также упрочения суфизма как основной
религиозно-философской практики в духовной жизни региона.
Правда, по своему содержанию поэтика Ватвата никак не каса-
ется этих процессов: в ней скорее в духе традиции подводятся
итоги предшествующего периода. Более того, Н.Ю.Чалисова отме-
чает «отсутствие у Ватвата интереса к суфийской поэзии, примеры
из которой практически не встречаются в "Хада'ик ас~сихр"» [ХС,
с.26 ]. Тем не менее, как мы увидим далее, будучи представителем
определенного времени, текст этот на свой лад также запечатлева-
ет и черты своей эпохи.
Здесь же отметим только существенную с точки зрения культу-
рософии особенность: цель трактата заключена в объяснении того,
как лучше воплотить в художественном, «украшенном» слове
мысль поэта, следовательно, его характеризует установка н а
принципиальную выразимость смысла в
слове. Таким образом, этот жанр оказывается противопостав-
ленным тем, что имеют другую установку» а именно н а
принципиальную невыразимость смысла в
с л о в е, на семантическую неопределенность текста, в наиболь-
шей степени проявляющуюся в суфийской ли?ературе (более под-
робно см. [9]). Два типа текстов характеризуются разным отно-
шением к основным логико-грамматическим понятиям: лафз
('форма', 'слово') и ма€на ('смысл'), в равной мере существенным
для обоих.
Для первого типа текстов характерно требование правильного
оперирования лафз ради более точной, эффективной передачи
ма*на, для второго — ма'на принципиально невыразимо в лафз.
Эта позиция характеризует, как представляется с внешней точки
зрения, законное основание для размещения данного текста в
общекультурном контексте своего времени. Другая харак-
теристика может быть дана на основании внутренней авторской
точки зрения, выраженной в заголовке трактата — «Сады волшеб-
ства... ». Не останавливаясь на понятии «волшебство» (оно ясно
благодаря традиционному толкованию поэзии как «дозволенного
волшебства»), обратим внимание на слово «сады». Оно чрезвычай-
но многозначно.
Заметим, что в последнее время появилось много работ о роли
садовой символики в классической литературе и культуре иранцев
(см., например, [14; 16] и цитируемую там литературу). Со всей
очевидностью слово «сады» в заголовке не просто кокетливая
виньетка в начале текста, а определенное культурологическое
отождествление, и мы постараемся уловить его суть. «Через созда-
ваемые (в физическом или духовном пространстве) сады, —
пишет Дж.Мейсами, — человек выражает не только свою кон-
цепцию идеального состояния и стремление вновь обрести его, но
204
также и ощущение связи с Природой: модель Космоса и собствен-
ного места в нем. Земной сад... отличается от природного пейзажа
тем, что он — вымысел, созданный в соответствии с планом (факт,
относящийся не только к литературным садам, но и к реальным)...
Сам сад становится идеальным местом, если в нем соблюдаются
принципы соразмерности составляющих его элементов» [16,
с.229-230, пер. Л.Ниязи].
Каковы же эти принципы? По описанию садов, с точки зрения
садово-парковой архитектуры, персидские сады относятся к регу-
лярным и имеют строгий геометрический план. Сад ориентирован
по четырем сторонам света: он рассекается четырьмя каналами, и
поэтому ему присуща строгая четырехчастная структура, симво-
лизирующая Космос и четыре реки жизни. Несмотря на гео-
метрическую планировку, размещение растений в саду про-
изводит впечатление естественности их произрастания. В центре
сада могли быть построены беседка, павильон или даже дворец (в
зависимости от степени открытости архитектурных форм, обес-
печивающих свободную циркуляцию воздуха и внутреннюю связь
между интерьером и окружением). Некоторые растения имели
символическое значение и в этом качестве помещались в сад...
[15,с.27].
На первый взгляд какого-либо отношения к реальному
персидскому саду «Сады волшебства... » Ватвата не имеют. Трак-
тат производит впечатление «неорганизованного»: кроме названий
поэтических фигур и их разновидностей в нем практически отсут-
ствует иная рубрикация. Последовательность изложения ма-
териала автором никак не мотивируется, что отмечают и совре-
менные исследователи текста. С точки зрения (внешней) европей-
ского читателя, чье представление об иерархии поэтических
тропов сложилось на базе аристотелевой поэтики и риторики, как
размещение фигур, так и самый их набор этой иерархии не отра-
жают и кажутся достаточно бессистемными.
Анализируя эти особенности, Н.Ю.Чалисова во вступительной
статье «Рашид ад-Дин Ватват и его трактат "Сады волшебства в
тонкостях поэзии"» отмечает, что «под понятие фигуры бади
(сан9 am) подводятся разнородные с точки зрения европейской
поэтики явления» [ХС, с.36]. Последовательность 55 основных
фигур, по мнению автора статьи, не позволяет хотя бы
имплицитно произвести членение по уровню их описания или вы-
делить вообще какой-либо принцип размещения их друг за другом
так, а не иначе. В связи с этим одну из задач описания текста
Н.Ю.Чалисова справедливо видит в осмыслении принципов внут-
ренней организации текста поэтики. «Вообще, на первый взгляд,
расположение фигур в трактате представляется довольно ха-
отичным,— пишет исследователь. — Однако более детальное рас-
205
смотрение показывает, что определенный композиционный поря-
док можно проследить. Уже тот факт, что каждый автор по-своему
располагает фигуры, свидетельствует о внимании, уделявшемся
теоретиками композиции трактатов» [ХС, с.41 ].
Исходя из того что «порядок расположения глав не случаен» и
одна «глава» соответствует описанию одной фигуры, Н.Ю.Чалисо-
ва делит весь текст на основные однородные группы и выделяет
ядро (асл) в группе однородных фигур, характеризующееся ка-
кой-то упорядоченностью, и отдельные «второстепенные, пери-
ферийные для данной группы» фигуры, которые могут быть «разб-
росаны по трактату» [ХС, с.41 ]. Кроме того, наряду с этим
«рациональным принципом» выделяются: «а) принцип авторитета
предшествующей традиции... более важные и древние приемы
сдвигаются к началу трактата, менее важные, новые отодвигаются
к его концу; б) принцип аналогии, в том числе формальной: рядом
располагаются фигуры, которые каким-то образом связаны ас-
социативно, в частности подобием названий...» [ХС, с.41-42 ].
Помимо этой формы организации автор выделяет пять более
или менее упорядоченных групп приемов, «промежутки между
которыми заполняют расположенные более или менее случайно
периферийные фигуры разных групп или фигуры, которые суще-
ствуют в ХС изолированно» [ХС, с.43 ]. При этом оказывается, что
смысловые тропы, в особенности такие, как антитеза (мутаддад),
метафора (истиара), сравнение (ташбих) и гипербола (играк ас-
сифа), разбросаны максимально (их порядковые номера соответ-
ственно 8, 11, 22, 46). Все эти, а также другие указанные во
вступительной статье случаи говорят довольно определенно о том,
что отыскание мотивированной композиции как некой внешней
формы организации трактата натыкается на самые неожиданные
препятствия, такие, как «случайность» положения, «разбросан-
ность» или «изолированность» фигур. С точки зрения европейско-
го наблюдателя (а она, напоминаем, внешняя), кажется, что было
бы логичнее группировать фигуры в другом порядке.
Более органичной для осмысления композиции текста вы-
глядит попытка Н.Ю.Чалисовой подойти к пониманию орга-
низации материала ХС с точки зрения внутренней, т.е. с позиций
учения арабских грамматиков о единстве «лафз» и «ма'на», фор-
мы и смысла или — в расширительном значении — внешней фор-
мы и семантики части слова, слова или высказывания в речи (ка-
лам) , а также о взгляде на поэзию «как на высшую ступень упоря-
доченности речи» [ХС, с.44.].
В этой связи поэтическая речь рассматривается в двух аспек-
тах: словесно-формальном и образно-смысловом. По мнению авто-
ра исследования, Ватват в своем трактате преимущественно уде-
ляет внимание фигурам словесно-формального плана. «Теоре-
206
тическое описание строится на выделении элементов языковых
форм, в которых может проявиться подобие или же, напротив,
различие». Тексты объяснений фигур позволяют вычленить эти
элементы. Слова могут различаться только по значению, полно-
стью совпадая по форме, т.е. быть омонимами [ХС, с.45 ]. Кроме
того, подобие слов может быть рассмотрено как «полное совпа-
дение двух слов как по форме, так и по значению, т.е. фактически
повтора одного и того же слова... полного несовпадения слов по
форме и по значению» (последнее в трактате, по мнению
Н.Ю.Чалисовой, не рассматривается). Исходя из объяснения мо-
делей поэтических фигур, построенного либо на подобии, либо на
различии слов (фигуры 1—10), Н.Ю.Чалисова выделяет два
ряда фигур [ХС, с.46]: «фигуры первого ряда объясняются через
соотнесение с полюсом тождества за счет перечисления элементов
различия в подобных формах, фигуры второго ряда, наоборот,
строятся на установлении элементов сходства».
Однако, как отмечает автор, выявление рассмотренных струк-
тур 3,4,6,7 и 1,2,5,9,10 «представляет собой в какой-то степени
реконструкцию на базе объяснительных текстов трактата» [ХС,
с.48 ], охватывая лишь часть фигур (сюда не «вписалась» фигура
№ 8), и связи между группами фигур остаются по-прежнему не-
выясненными. Тем не менее рассмотрение двух рядов данных
фигур в предложенном аэтором аспекте позволяет установить как
внутреннюю взаимосвязь двух видов фигур, основанную на трак-
товке совпадений и различий в словах, так и внутреннюю
взаимосвязь внутри каждой группы. Самый путь реконструкции
на базе объяснительных текстов представляется нам весьма
продуктивным, и именно этим путем мы хотели бы проследовать
дальше.
Особенность композиции рассматриваемой поэтики Ватвата,
равно как и других поэтик, созданных до XVI в., заключается в
том, что в них без всякой видимой системы идут подряд
ритмические, графические, смысловые, композиционные и другие
фигуры. Соположить существующую в тексте субординацию,
отмеченную Н.Ю.Чалисовой, с аристотелевской практически не
удается. К тому же принципы образования поэтических фигур в
разных традициях могут не совпасть, да и то, что считается укра-
шением речи в одной традиции, может не быть таковым в другой.
Проблема эта заслуживает отдельного изучения, поскольку уста-
новление генезиса тропов может вызвать дополнительные уточ-
нения в коннотациях [11; 2, с.21; 3, с.26].
Вот почему, как представляется, поиски ответов на поставлен-
ные вопросы следует искать прежде всего во внутренней точке
зрения — в определениях принципов и правил организации
поэтической речи.
207
Коль скоро поэтики рассматриваемого типа имеют собственное
назначение в системе литературных текстов, фиксируя сло-
жившуюся практику и служа определенным эталоном для
правильного построения и украшения художественной речи, есте-
ственно предположить, что сам Ватват в пояснительных текстах
воспроизводит основные традиционные модели этих способов и
принципов организации.
Как представитель средневековой мусульманской учености с ее
страстью к разрядам и градациям, автор просто не может не быть
классификатором, а следовательно, не иметь, хотя бы в подсоз-
нании, строгой, логически непротиворечивой основы для своих
построений!
Да и слово «сады» в заглавии — в «сильном месте» текста
(О.Винокур) наводит на мысль об особой «ухоженности» текста,
сравнимой с любовно распланированными садами мусульманской
парковой архитектуры, нашедшими отражение в миниатюрной
живописи, поэзии, прозе. С точки зрения семантики культуры это
должно подтвердить правомерность предпринимаемых поисков
организации.
Как уже говорилось, 'илм ал-бади€ зиждется на учении о языке,
на логико-грамматических представлениях о соотношении элемен-
тов (лафз и ма(на). Понятия эти в поэтике Ватвата применяются
ограничительно — к элементам речи или отдельного слова; к слову
и — расширительно — к единицам, большим, чем слово [ХС, с.45 ].
Неудивительно было бы, если бы эти логико-грамматические пред-
ставления оказались центральным моделирующим принципом.
Если это допущение верно для текстов данного типа (его обще-
культурологическую значимость мы уже отмечали), то в первую
очередь его следует проверить на самом «посадочном материале»
нашего «сада».
В описаниях фигур имплицитно выделяются четыре уровня
рассмотрения: элементы речи и слова, слово, бейт и произведение
в целом. К каждому из этих уровней также применимы понятия
лафз (Л) и ма'на (М) — форма и содержание. У самих Л и М есть
четыре степени свободы: на всех указанных уровнях теоретически
они могут быть реализованы следующим образом:
1. или элементы Л (Лэ), или элементы М (МЭ);
2. Л и М как единство (ЛМ);
3. Л и М как сочетание (Л+М);
4. Л и М как автономия (Л,М).
Л и М как понятия формы и содержания могут быть де-
тализированы таким образом:
1. план выражения: 1.1. внешняя форма; 1.2. внутренняя форма
(зависит от уровня описания);
2. план содержания.
208
Рассмотрим на материале трактата возможности их
реализации.
Каждая фигура строится на соположении двух или более эле-
ментов Лэ1, Лэ2... слов ЛМс1, ЛМС ... бейтов ЛМб , Л Мб2 и т.д.
I. На уровне элементов речи и слова теоретически
могут быть задействованы: элементы внешней формы слова — Лэ
вш, элементы внутренней формы слова — Лэ вт, элементы зна-
чения слова — Мэ. Практически на основании описаний фигур
выделяются следующие элементы: ритм — Лэ ритм; буква рави —
Лэ букв.(р); графическая форма букв — Лэ граф.; элементы огласов-
ки — Лэ огл.; буквенные — Лэ букв.; фонетические — Лэ фон.; мор-
фологические — Лэ морф. (см. табл.1).
Рассмотрим случай соположения элементов двух слов: Лэ и
Лэ . Может быть установлено полное совпадение элементов: Лэ ^
Лэ , частичное их совпадение: Лэ — Лэ , их противопоставление:
Лэ *-»Л (противопоставление может быть как позиционным —
расположение элементов в конце и начале, так и инверсионным,
например зеркальное расположение элементов в слове); расхож-
дение в части элементов двух слов при совпадении другой части
элементов: Лэ вЛэ (например, Л эграф.-л эграф., тогда как
Л э фон. г Л эфон.).
II. На уровне слова могут быть актуализованы: форма слова
(Лс), референция, семантика слова (Мс); слово как единство фор-
мы и содержания (ЛМС), слово как сочетание формы и содержания
(Лс+Мс); слово как автономия формы и содержания — (Лс, Мс).
На уровне слова возможны логические операции как между Лс и
Лс2, Мс1 и Мс2, так и с ЛМс1 и ЛМС2, Лс1 + Мс1 и Лс2 + Мс2, Лс1 ,
Мс1иЛс2,Мс2.
Рассмотрим более подробно случай, когда два слова выступают
как сочетание Лс + Мс.
Модель Значение
I. Л^-Лс2
М^-Мс2
II. Лс^Лс2
Мс1*Мс2
Ш.Лс^Лс2 { ' Мс1
на уровне слова
1 2
ЛМс = ЛМС повтор слова
ЛМс1 ~ ЛМс2 синонимия
Мс^Мс2 Мс2
2 -*■-
Лс'■' >^ ' ОМОНИМИЯ
IV. Лс^Лс2
McJ^M<
2
антонимия
14 130
209
Как мы увидим, данные четыре модели являются универсаль-
ными и соответствуют четырем логическим операциям, единым
для фигур всех уровней: отождествление, уподобление, расподоб-
ление и противопоставление. (Исключения составляют некоторые
фигуры, в основе которых лежит не оперативный прием, а чисто
эстетические требования, но их место в трактате особое, о чем
речь пойдет ниже.)
III. На уровне бе й т а все те же самые операции применимы к
Л и М бейта — Лб и Мб. Их взаимодействие характеризует бейт
как единство (ЛМб); бейт как сочетание плана содержания и пла-
на выражения (Лб + Мб) и их автономии (Лб, Мб). План выра-
жения имеет внешнюю (Лб вш) и внутреннюю форму (Лб вт); воз-
можно также использование элементов внешней и внутренней
формы бейта (Лбэ вш) и (Лбэ вт) и элементов плана содержания
бейта (Мбэ). К последним могут относиться слова и словосоче-
тания, а также отдельные строки (мисра) бейта. Один бейт может
иметь две формы, допустим фонетические — (1)Лб и (2)Лб, и два
или несколько значений (мотив бейта) — как подряд, так и одно-
временно— (1)Мби (2)Мб.
IV. На уровне произведения действуют те же закономерности,
и теоретически можно ожидать появления фигур речи, отно-
сящихся к произведению как целому (ЛМП), произведению как со-
четанию Л и М (Лп + Мп) и произведению как автономии Л и М
(Лп, Мп). Кроме того, могут быть отдельно рассмотрены план со-
держания произведения (Мп), план выражения (Лп) и их элемен-
ты (Лпэ) и (Мпэ). План выражения имеет внешнюю форму (Лп вш)
и внутреннюю форму (Лп вт).
Теперь попробуем соотнести эту схему с ее реализацией в кон-
кретных фигурах, для того чтобы получить реальное представ-
ление о ранжировании материала в «Саде... »♦ Хотелось бы узнать,
соответствует ли переход от уровня к уровню реальному
движению композиции от фигуры более простой к фигуре более
сложной и, если это так, как происходит наращивание сложности
в понимании автора трактата.
В поисках порядка, а значит, организации (и красоты) за-
дадимся вопросом, совпадают ли наши представления о красоте и
порядке с теми, что существуют в рассматриваемой культуре. И
здесь нам опять поможет аналогия с персидским садом. Ведь он со-
четает четырехчленную структуру с естественным (хотя и тща-
тельно продуманным) размещением растительности. Не может ли
оказаться, что и в тексте «Сада...» не нужно искать тот строгий
порядок размещения фигур, который необходим для учебного тек-
ста, с нашей, т.е. внешней, точки зрения на предмет. Во всяком
случае, мы уже сейчас можем говорить по крайней мере о трех че-
тырехчленных структурах на площади Сада: четыре уровня, на
210
которых «размещены» элементы (речи и слова), слово, бейт и
произведение, четыре горизонтальных членения — выявленные
нами модели фигур, которые организуют горизонтальный план
«Сада..» >>, и четыре класса логико-грамматических структур,
основанных на развитии каждой модели и членящих весь текст
поэтики по вертикали (деревья, которыми засажены террасы сада
на разной высоте).
Теперь же обойдем Сад с начала и до конца. Вслед за
Н.Ю.Чалисовой рассмотрим первую группу фигур — с 1 по 11, со-
держащих различные виды «формального подобия слов и словес-
ного параллелизма» [ХС, с.42]. Напомним, что Н.Ю.Чалисова
исключила из рассмотрения фигуру 8 — мутаддад (антитезу) и не
включила фигуру 11 — истийра (метафору), ибо их нахождение в
группе, трактуемой ею как эвфоническая, действительно объяс-
нить невозможно. Поэтому Н.Ю.Чалисова мотивировала их на-
хождение здесь проявлением «принципа авторитета» [ХС, с.42 ].
Однако если брать эту группу в целом, то можно заметить, что
исходный уровень описания этих фигур — 1) элементы формы
слова и 2) слово (см. таблицы 1,2). Несмотря на то что ряд фигур
имеет позиционный характер, т.е. трактует размещение слов в
бейте (например, фигура 7 — радд ал-аджуз... ) или ритмических
конструкций в произведении, букв в рифме или редифе, описание
фигур и их понимание связаны либо с Лэ, либо с Лс и Мс. В обоб-
щенном виде они распределяются по указанным четырем классам
таким образом (характеристика дана в терминах, соответству-
ющих уровню описания 1,2):
I. полное совпадение элементов формы — 1,3,5, 5.1, 9,2;
II. частичное совпадение элементов формы — 3.6, 4, 7.5,10;
III. расхождение элементов формы — 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.7,
5.2, 5.3, 7.2, 7.4, 7.6;
IV. инверсия, противопоставление элементов формы — 3.3,
6.1, 6.2, 6.3, 8.
Появление элемента смысла (Мс) передвигает фигуру на уро-
вень слова, и на этом уровне терминология изменяется:
I. повтор слова — 7.1, 7.3;
II. однородность, синонимия — 7.5, 10;
III. омонимия — 3.1, 3.4.1, 7.2, 7.4, 7.6;
IV. антонимия — 8,10.
Естественным образом некоторые фигуры оказываются однов-
ременно принадлежащими к обоим уровням — это объясняется
трактовкой их, имеющейся в описании. Но наличие Мс оказывает-
ся бесспорной семантической границей уровня, тем шифтером (по
терминологии Р.Якобсона), который осуществляет в данной груп-
пе сдвиг с уровня на уровень, или же, выражаясь фигурально,
чем-то вроде каналов в садово-архитектурной терминологии,
14-2 130
211
отделяющих область элементов слова от области слова. Самую же
ситуацию переходности фигур можно было бы, следуя садовым
аналогиям, которые, конечно, уводят нас из сферы чистых дефи-
ниций в метафорику, сравнить с деревьями разной высоты. В тек-
сте данного трактата из четырех групп фигур, выделенных по че-
тырем моделям на уровне слова, меньше всего примеров сино-
нимии— только в иллюстрациях к правилу 10. Зато можно
наблюдать случаи ложной и искусственной синонимии (основные
примеры последней в трактате — намного дальше) или омонимии
(7.6), возникающие в фигурах, модель которых построена либо на
«однородности», либо на искусственном «сроднении» слов, либо на
противопоставлении по форме и значению.
В пользу того, что подобная трактовка моделирования фигур не
противоречит и внутренней точке зрения традиции, свидетельст-
вует более поздний, чем Ватват, текст поэтики Шамс-и Кайса, ко-
торый в описании полного таджниса (3.1) подчеркнул наличие
двух слов, «совпадающих по словесной форме (лафз) и различных
по смыслу (ма*на)» [ХС, с Л 76 ] (т.е. приоткрыл тот механизм соз-
дания фигур, который мы здесь последовательно анализируем).
Важно, что при достаточной универсальности выявленной схе-
мы не все ее ячейки у Ватвата заполняются равномерно, тем са-
мым оставляя простор для последующих филологов, класси-
фицирующих поэтические фигуры.
Для понимания порядка фигур (или объяснения их беспоряд-
ка) важно то, что внутренняя субординация между горизонталь-
ными классами отсутствует, таким образом размещение фигур по
горизонтали в порядке моделей (I-IV) может не отражать последо-
вательности их размещения в трактате, тогда как положение в
вертикальных рубриках по классам отражает повышение степени
усложнения моделей (см. табл.2) и их иерархию.
Если продолжить полюбившуюся нам аналогию с садом, кото-
рая решительно овладевает нашим воображением, можно было бы
сравнить четыре класса с четырьмя частями сада, в каждой из ко-
торых размещены растения, согласно их ориентации по странам
света.
Мы видим, что при такой интерпретации порядка фигура 8 —
антитеза (мутаддад) легко и уверенно нашла свое место. Осталось
только «пристроить» метафору (фигура 11). Ее местоположение
будет определено на формальных основаниях согласно описанию
ее структуры: Л1 + Лс2, МСХ -Мс2, поэтому Л^Мс1 - СЛ^Л^Мс .
Такое описание подходит под определение синонимии, поэтому
отнесем метафору в класс IL
Этому способствует то обстоятельство, что у Ватвата в дефи-
ниции и примерах, иллюстрирующих правило, истмара (метафо-
ра) рассматривается в границах слова. (Об этой особенности тек-
212
ста Ватвата см. более подробно [ХС, с.184-185].) Истиара, таким
образом, естественно входит в группу фигур, описанных на уровне
слова, и при этом не менее логично оказывается границей этой
группы, ибо следующая за ней группа фигур относится к уровню
бейта. Метафора же открывает особый по значимости метод
оперирования Л и М, основанный на признании их автономности.
И здесь также следует сослаться т внутреннюю точку зрения
на это явление. Дело в том, что осознание автономии Л и М слова
в метафоре знаменовало разрушение представлений о тождестве
«вещи» и «имени вещи», и учение об использовании «имени одной
вещи для названия другой» было великим открытием арабских
поэтов и филологов VIII-IX вв. [4, с.39 ].
Представляется уместным остановиться на таком понятии, как
ранг фигуры, для разговора о котором истиара дает богатый ма-
териал. Впервые упоминание ранга в трактате появляется в
дефиниции фигуры 2: «Как ни достойна фигура тарси, когда на
помощь ей приходят другие средства, такие, как таджнис и
прочие, она становится еще выше рангом (боландтар)» [ХС, с.87,
229 ]. Это свидетельствует о наличии в сознании классификатора
(в системе его ценностей) представления о цензе фигур. По како-
му принципу образуется ценз, в трактате не объясняется, поэтому
нам предстоит самостоятельно определять меру «высоты» той или
иной фигуры.
До фигуры 11 (истиара) шло как бы плавное повышение уров-
ня от элементов слова к слову как целому. Слово как графическое
и фонетическое целое появляется впервые в фигуре 3.1 (полный
таджнис), одновременно, в силу наличия в описании модели этой
фигуры указания на значение (референцию) слова Мср, появляет-
ся и уровень слова, ибо фигура может рассматриваться как ЛМС.
Однако, это скорее исключение, с первой же разновидности
таджниса (фигура 3.2) вплоть до фигуры 6 (маклубат) описание
моделей дается на уровне Лэ, несмотря на окказиональное
возникновение в поле зрения содержательной стороны слова.
В дальнейшем слово выступает как сочетание Лс и Мс. При
этом вплоть до фигуры 10 включительно результаты всех опе-
раций сохраняют автологический, т.е. необразный, характер.
Лишь истиара знаменует появление образности в языке, несом-
ненно более высокого металогического стиля . Именно разрыв Л и
М, обретение ими автономии в данном случае являются ме-
ханизмом повышения ранга фигуры .
Итак, какие именно изменения происходят в этой пограничной
ситуации? В метафоре Лс и Мс обретают самостоятельную цен-
ность, к тому же их автономия олицетворяет новый принцип акту-
ализации каждого из этих элементов при построении фигур в
дальнейшем. Происходит своего рода семантический сдвиг (от ав-
14-3 130
213
тологического к металогическому стилю), слова семантически уже
не равны сами себе, а приобретают характер тропов. Наконец, ме-
тафорой завершается ряд фигур, трактующих слово как таковое, и
в дальнейшем, как мы увидим, слова в трактате рассматриваются
в контексте бейта, как элементы его лексики, образности, содер-
жания и т.п. Этот переход маркируется группой хуснов — в бук-
вальном смысле «красот». Можно отметить, с внешней точки
зрения, двойное композиционное значение этой группы в тракта-
те. Выступая как целое в отношении Лс и Мб, хусны одновременно
относятся к архитектонике поэтического произведения — в плане
внутренней формы и содержания. Поскольку единственный вид
поэтического произведения, о котором идет речь в трактате,— ка-
сыда, хусны структурируют ее внутреннюю форму: зачин — мат-
ла (фигура 12), переход от описательной к панегирической час-
ти — тахаллус (фигура 13), кода — макта (фигура 14). Хусн ат-
талаб ('красота требования' — фигура 15) сопряжен также в
большей степени с планом содержания произведения.
Случаи двойственности фигуры относительно уровня мы уже
отмечали на примере полного таджниса (3.1). То же можно ска-
зать и о фигуре радд ал-аджуз, которая относится к позиции слова
в бейте (внутренняя форма бейта), но по своей семантике
ориентирована на модель слова.
Группа хуснов не подлежит распределению по классам I-IV. По
аналогии с садом это скорее каналы, отделяющие элементы слова
и слово от бейта и произведения.
Следующую группу фигур — 16—21 объединяет появившееся в
их описании осознание той двуплановости смысла, которую
М.СКиктев возводит к метафоре. Кроме того, вводится условие,
которое мы определяем как суггестию. Так, в фигуре 16 предмет
ты... «напоминают друг о друге», в фигуре 18 поэт строит вос-
хваления так, что слушатель полагает, будто он стремится
упрекнуть, в фигуре 20 поэт завершает мотив, а потом возвраща-
ется к нему, напоминая о нем либо прямо, либо косвенно, и,
наконец, само название фигуры 21 (ихам) означает 'заставить за-
думаться'. Определение этой фигуры следующее: «Он (прием. —
ИМ.) заключается в том, что дабир, или поэт, использует в прозе
или стихах слова, имеющие два значения, одно из которых обыч-
ное, а другое — редкое. Когда эти слова достигают слушающего,
мысли его тотчас обращаются к привычным значениям, тогда как
в виду имеются как раз редкие значения» [ХС, 127 ]. В фигурах 17
и 18 подчеркивается двуплановость восхваления и двойной смысл
восхваления и порицания.
Другими словами, начиная с фигуры 16, требуется определен-
ная встречная деятельность читателя, который должен высказать
некое предположение о характере данного приема. Это, кстати,
214
один из тех моментов, которые крайне затрудняют практическое
освоение поэтики не носителями данной культуры. В большинстве
случаев читатель «со стороны» и не заметит существования фигу-
ры, заключающейся в том, что «поэт объединяет в бейте однород-
ные предметы... такие, как луна и солнце, стрела и лук», или в
том, что в «одном восхвалении раскрывается и другое похвальное
качество», и уж никак не сможет сообразить, что при этом от него
требуется что-то вспомнить, угадать и вообще напрягать мысль !
Я уже не говорю о значительном количестве фигур, построен-
ных на разного рода сроднениях, в частности употреблении одно-
коренных слов, которое вряд ли воспринимается как достоинство в
современном европейском тексте . Конечно, в стилистическом
отношении в средневековых текстах древнерусской литературы
можно найти больше общего с восточными, но ведь эти правила
действуют и в современной персоязычной поэзии (а также в
других основанных на арабо-мусульманской поэтике, например
урду) вплоть до наших дней. Иногда они сохраняются в латентной
форме, — например, в ше'ри ноу — поэзии модернизма получают
своеобразное развитие многие принципы, о которых здесь шла
речь.
Органичность подобного моделирования и осмысления фигур
иранской поэтики несомненна. Это видно как раз на примере
фигуры 16 — мураат ан-назир (букв, 'соблюдение соответствия',
другое название фигуры — танасуб или мутанасиб). У Ватвата
она описана довольно лаконично, хотя он как практикующий поэт
подчеркивает ее эстетическую значимость: «Эти бейты (содер-
жащие данную фигуру. — Я.77.) покинули пределы примечатель-
ного и вступили в область неподражаемого» [ХС, с.123]. Но в
поэтической практике на протяжении следующих веков эта фигу-
ра, вернее, ее модель развивается в важный стилистический
принцип, характеризуемый таким отбором изобразительных
средств, благодаря которому происходит лексическое «вырав-
нивание» текста. В бейте эта модель, как подчеркивают теоретики
«индийского стиля», образует мунасибати лафзи (т.е. формаль-
ное, словесное соответствие), где лексико-семантические ряды
бейта набираются по принципу принадлежности к одному классу
понятий (более подробно см. [9, с.91-92]). Подобный прием
рассчитан на «сбывшееся читательское ожидание» (по опреде-
лению В.Шкловского), т.е. все на тот же процесс высказывания
предположения о значении слова или тропа.
Таким образом, в названной группе фигур мы отмечаем появ-
ление нового свойства — суггестивности (представленного внут-
ренней точкой зрения при описании) и соответственно более высо-
кого ранга этих фигур с точки зрения внешней. Здесь уместно
определить, что же такое ранг с точки зрения внешней.
14-4 130
215
Думается, что это степень сложности тех умственных операций
(указания на них даются с внутренней точки зрения), которые
требуются для реконструкции модели фигуры. В этом смысле иха-
лшые фигуры оказываются сложнее, чем истиара. В самом деле,
для того чтобы родилась истиара, достаточно было позаимство-
вать имя, предназначенное для одной вещи, и передать его другой
[ХС, с Л 84], тогда как для построения фигуры ихам необходимо
сперва как следует «задуматься» и самостоятельно сконст-
руировать ту модель двойственности, двуплановости одного и того
же явления или слова, которая в истиаре возникает как бы сама
собой .
Подчеркнем еще раз, что наши суждения о ранге имеют внеш-
ний характер; это лишь гипотеза, объясняющая последователь-
ность расположения фигур в трактате от более простой модели к
более сложной, причем степень сложности мотивируется тем, как
сам автор трактата интерпретирует данную модель.
В этом же смысле следующая группа фигур — 22.1-7 — таш-
бихат (т.е. сравнения) оказывается более высокой по рангу, чем
предыдущая; модель сравнения требует больше умственных
усилий и логических операций для понимания и построения, чем
предыдущие фигуры 16—21. Это допущение не так-то просто
принять с нашим школьным мышлением, относящим сравнение к
простейшим видам тропов .
Сложность модели сравнения прежде всего отражается в ав-
торских дефинициях, осмысляющих двуплановую структуру срав-
нения: что-либо уподобляется чему-либо по одному из его призна-
ков (предмет сравнения и образ сравнения), причем правильность
модели поверяется «обратной теоремой»: «... лучше и достойнее то
сравнение, которое можно перевернуть, и, уподобив образ срав-
нения (мушаббах-бихи) предмету сравнения (мушаббах), сох-
ранить ясность речи и верность смысла» [ХС, с. 130 ].
В семи разновидностях сравнения выделяются: абсолютное, с
условием, с намеком, уравненное, обратное, скрытое, с предпоч-
тением. Эти градации свидетельствуют об утонченности в разра-
ботке темы, суггестивности моделей (условие, намек, скрытость),
усиленной в определениях и описаниях каждой модели. Так, пос-
ледняя из них описывается следующим образом: «Поэт сравнива-
ет что-то с чем-то, а затем возвращается к этому и предмет срав-
нения ставит выше образа сравнения и отдает ему предпочтение»
[ХС,с.136].
Уровень описания группы ташбихат мы понимаем как авто-
номию плана содержания и плана выражения элементов внутрен-
ней формы бейта. Здесь также выделяются повтор, частичное сов-
падение, омонимия, антонимия модели. Однако понятия Л и М со-
216
относятся в данном случае с предметом сравнения, образом срав-
нения, средствами сравнения и признаком сравнения.
Следующую за сравнением группу фигур 23—31 объединяет
сохранение принципа суггестивности. Фигуры 23, 24 построены на
сроднении некоторых классов лексики. В фигуре 24 впервые в
трактате появляются синонимы естественного языка (ср. фигуру
10, о которой говорилось выше), но в этой и предыдущей фигурах
правила их построения предусматривают возможность искусст-
венной синонимии, а также антонимии (фигура 23, примеч.
340)10.
Группу фигур 25, 27, 28, 31 объединяет также ситуация появ-
ления нескольких М в одном бейте (речь идет уже о М — как о
мотиве бейта см. [5]). Они могут воплощаться и в небольших
отрезках речи, и в законченных синтагмах — пословицах или
прямой речи.
Фигуры 26, 29 — чтение двумя размерами одного бейта (фигу-
ра 26) —относятся и к внешней форме бейта, и к сочетанию
внешней формы бейта и внутренней формы произведения — двой-
ной сквозной рифме.
Таким образом, если фигуры 23, 24 тяготеют к уровню се-
мантики слова, то уровень следующих — автономия Мб Лб,
причем последняя (29) распространяется и на произведение в це-
лом (ЛПр).
В данном случае вопрос о ранге фигур может увязываться с экс-
тенсивностью описания, при котором в действие включаются все
более крупные парадигмы: словосочетание, вводное предложение,
пословица, прямая речь, с одной стороны, и внешняя форма бейта
наряду с внутренней формой произведения — с другой.
Один из наиболее интересных вопросов, которые ставит перед
нами текст Ватвата,— высокое (в нашей градации) положение
фигур, обыгрывающих «особенности арабской графики или отно-
сящихся только к письменной форме текста» [ХС, с.40 ]. Речь идет
о группе фигур 32—4L Сюда же входят фигуры, построенные на
«возможностях графики» [ХС, с.40 ]. С точки зрения уровня их
образования это разные виды автономии формы бейта — авто-
номия графическая (Лб граф.), автономия элементов внутренней
формы бейта Лб э; внешней формы бейта Лб вш и т.д. Так что их
нахождение здесь логично.
Но сохраняют ли эти фигуры уже набранный предыдущими
уровень суггестии, ведь именно это в конечном счете может оправ-
дать их высокое положение! Да и правомерен ли такой вопрос по
отношению к казалось бы чисто формальным фигурам?
Можно положительно ответить на этот вопрос, причем отметив
два следующих аспекта. Прежде всего, в пользу положительного
217
ответа говорит высокая степень энигматичности этих фигур.
Действительно, мувашшах (32), например, реализуется, если вы-
брать из бейта слова, написанные чернилами другого цвета, чем
остальные, изменить в некоторых словах огласовки и точки (т.е.
меняется звучание и значение слов), или в мурабба (фигура 33) на-
до прочесть один столбец сверху вниз, а другой снизу вверх, после
чего возникнет новое значение текста. Новое формальное качест-
во текста появляется, если изменить язык изложения (часть бей-
тов или строк пишется по-персидски, а чд,сть по-арабски и т.д.).
Завершается этот раздел группой загадок, анаграмм и заши-
фровок.
Но есть среди них также и некоторые фигуры чисто буквенные,
весь текст написан буквами без точек, или буквами с точками, или
через одну — с точками и без точек, буквами, соединяющимися
между собой, и буквами, пишущимися раздельно. И, говоря об
этом, втором, плане буквенных фигур, хотелось бы вспомнить об
особой роли арабской графики в мусульманской культуре. О сак-
ральном характере этого явления культур существует большая на-
учная литература (сошлемся здесь на книгу Ш.Шукурова, в кото-
рой рассматривается эта проблема в контексте иранской культу-
ры— см. [14], и указанную там литературу). Нас же сейчас
интересует только проблема суггестии, как одной из существен-
ных характеристик ирано-мусульманской культуры XII в. Мы уже
говорили о значении суфизма в культуре XII в. (см. более подроб-
но [9, с.96]), но также и о том, что текст Ватвата находится за
пределами «моды на суфизм». Вполне естественно, что в культуре
одновременно сосуществуют тексты, не имеющие в своей основе
суфийских моделей, и тексты суфийские.
Если под текстами культуры понимать объекты культуры, сос-
тавляющие контекст ирано-мусульманской культуры, то в первый
разряд попадают алфавит, грамматика, зерцала, поэтики, словари
и другие тексты, особенностью которых является их функциональ-
ность, а определенность их содержания не предполагает иного тол-
кования и применения, чем то, которое вытекает из их функций.
Вторая группа включает все, что так или иначе связано с
учением, обычаями и правилами поведения суфиев: произведения
поэтов-суфиев, язык суфиев, словари истилахат аш-шуара> т.е.
технической терминологии суфиев, трактаты по суфизму, нако-
нец, предметы, с которыми имеет дело суфий и которые приобре-
тают сакральное значение: молитвенный коврик, одеяние из гру-
бой шерсти, войлочный колпак и т.п. Семантика этих текстов
отличается принципиальной неопределенностью, смысл их, как
мы уже отмечали, с трудом выразим в слове, а само их существо-
вание глубоко символично и индуцирует символизм во всем, с чем
они соприкасаются (см., например, [10, с.112]). Так, вещи суфия
218
символизируют состояние его души и степень продвинутости на
Пути, а каждая малость свидетельствует о глубинных Тайнах
Бытия. И конечно, эта символизация не обошла арабский ал-
фавит — одну из наиболее эстетичных и эстетизируемых состав-
ляющих арабо-мусульманских представлений о гармонии и красо-
те Бытия.
Примеров символизации арабского алфавита на протяжении
многих веков развития культуры предостаточно. Трактовки его
могут в корне противоречить друг другу, в частности в этом
процессе обыгрывается такая характерная черта алфавита, как
наличие диакритических точек. Так, в одном из средневековых
трактатов описываются семь сущностных характеристик «божест-
ва или мира, которыми являются жизнь, знание, воля, мощь,
слух, зрение, речь», и семь противоположных качеств, как-то:
«смертность, незнание, отсутствие воли, слабость, глухота, слепо-
та, немота...» Символически эти характеристики связываются с
буквами, отмеченными или не отмеченными диакритическими
точками [13, с.22]. Таких примеров очень много. В.Минорский,
приводя фотографию знамени секты ахли-иллахи в Иране, отме-
чает преувеличенно большую точку под буквой «ба» в басмале и
приводит объяснение, которое сводится к тому, что Коран — это
басмала, а «ба» — начало его и в ней весь Коран, а точка под
«ба» — весь ислам. В газели Джами буква «даль», не имеющая
точки, завидует родинке у ротика возлюбленной, ибо, имей она
эту точку, она стала бы буквой «заль». Абу-л-Файз Файзи Файй-
ази, автор комментария к Корану «Блеск вдохновения» («Савати
аль-илхам»), создал свой труд, не применив ни одной буквы с точ-
ками, а в ответ на упрек в том, что это 6udd am — порицаемое
новшество, возразил, что в формуле ла илаха илла-ллах вообще
нет ни одной точки, тогда как эти слова включают всю мусульман-
скую веру.
Несмотря на то что в тексте поэтики Ватвата отсутствуют
какие-либо намеки на мистическую трактовку буквенных фигур,
не кажется невероятным, что их включенность в трактат и их
весьма высокое положение могут быть связаны с особой позицией
графики в культуре.
Чисто графическая, не отягощенная семантически форма неко-
торых фигур рождает еще одну ассоциацию с образом Сада: с той
архитектурной формой — павильоном, который воздвигается в
центре Сада, на пересечении каналов, доступный для потоков воз-
духа со всех концов сада, объединяющий и внешнее пространство
сада и внутренние объемы помещения.
Замыкающие эту группу фигуры 41—45 относятся к случаям,
касающимся двуплановости смысла бейта (41), дублирования (той
же двуплановости) языка (42), двуплановости авторства одного
219
произведения (45). Фигуры же 43, 44 просто являют собой загад-
ку, т.е. текст, имеющий как бы два значения: внешнее и зашифро-
ванное. Суггестивность этих фигур также отражена в некоторых
случаях в их описании. Например, в фигуре 41 «для т >го, чтобы
произвести изменение точек и огласовок (тасхиф), следует с
помощью старания и размышления найти границы [новых ] слов»
[ХС, с.152 ], или в фигуре 43 «на расшифровке примера проверяет-
ся талант критика и острота его мысли» [ХС, с. 155 ].
Следующая за этой группой фигура 46 — играк ас-сифа
(гипербола) является пограничной. Она предполагает новый уро-
вень суггестии, поскольку в ее образовании участвует подразуме-
ваемая норма, отход от которой в сторону преувеличения состав-
ляет суть мыслительной операции.
Это почти не отражено в объяснении фигуры, однако по модели
эта фигура действительно более сложная, чем истиара и ташбих.
Ведь в образовании их принимают участие конкретные элемен-
ты — Лс и Мс либо JIM образа сравнения и предмета сравнения и
т.п., тогда как один из компонентов модели играк ас-сифа лишь
подразумевается и — более того — требует реконструкции .
Модели следующих фигур 47.1-6 и 48 оперируют лексическим
составом бейта как единства. Эта компактная группа фигур —
«объединение, разъединение и распределение [лексики ]», а также
«разъяснение явного и скрытого» — продолжает линию семанти-
ческой классификации лексики языка художественного произве-
дения. Здесь синонимами, омонимами и антонимами становятся те
слова, которые поэт (или дабир) хочет увидеть сродненными и
противопоставленными, причем его волюнтаризм регулируется
мощным аппаратом традиционных представлений о том, что явля-
ется очевидным или подразумеваемым признаком для этой опе-
рации [ХС, сЛ59]. Так, в «описании объединения с разъ-
единением» приведен пример (47.3), разбор которого может
хорошо проиллюстрировать эту мысль:
Я и ты — мы оба из желтых роз,
Но я — по цвету, а ты по аромату.
Пояснение автора: «В этом бейте он (поэт. — ff.Л.) сопоставил
себя и возлюбленную в сравнении с желтой розой, а потом разъ-
единил по цвету и запаху» [ХС, с.161 ].
Дело в том, что желтое, как роза, лицо само по себе — искусст-
венный синоним (вернее, метоним) страдальца, иссохшего и увяд-
шего от любовных мук. (Данная коннотация во всех подробностях
разбирается И.Стеблевой на примере газели Бабура. Несмотря на
то что газель написана на языке тюрки и в более позднее время,
эта коннотация имеет в мусульманской традиции универсальное
значение .)
220
Вообще же страсть к «объединению, разъединению и распреде-
лению» объектов, можно сказать, в крови у средневекового Восто-
ка, особенно она усиливается в суфизме с его постоянным стрем-
лением выделять атрибуты сущего, исследовать их индивидуаль-
ную и специфическую природу и затем, объявив различия
несущественными, само различение (имтийаз) — ошибкой мудр-
ствующего разума, находить почву для тотального объединения
всего со всем. Интересной особенностью некоторых фигур этой
группы является их принадлежность сразу к двум, а то и к трем
классам — синонимии, омонимии и антонимии, что вносит опре-
деленную усложненность в их модель, впервые отмеченную для
фигуры30 (см. табл.2).
Фигура 48 близка к 47.2 [ХС, с. 198] и также построена на
искусственной синонимии и антонимии.
Заметим, что фигуры этой группы, как и 16 и 3, обеспечивают
стилистическое «выравнивание» текста по типу танасуба, чем
достигается та «гомогенность», которую Мерен отметил в отно-
шении (3) таджниса [ХС, с.175].
Мы приближаемся к воротам «Сада...». До конца трактата оста-
лось всего семь фигур 49—55, хотя еще небольшое число — три
(59, 60, 61) помещено в завершающую главку «Слова, вошедшие в
обиход знатоков этого искусства» [ХС, с. 168 ] (мы только отметим
их в табл. 2).
Но фактически — последней фигурой — границей Сада явля-
ется ибда — фигура 53. До этой фигуры расположено еще четыре.
Три из четырех оперируют семантикой бейта как целого; фигура
49 за счет огласовки одного слова меняет смысл бейта на противо-
положный; 51—сочетает в бейте противоположную семантику
поношения и восхваления; 52 — включает в бейт мудрые мысли и
жалобы на судьбу, что создает многоплановость семантики бейта.
Фигура 50 — редифу т.е. относится к произведению в целом и
характеризует его внешнюю форму, но помимо этого является
элементом лексического состава бейта.
Ибда (фигура 53) служит как бы логическим завершением
трактата, ибо она требует от произведения в целом «новизны
поэтических мотивов, красоты слога, упорядоченности, избегаю-
щей вычурности (такаллуф)» [ХС, с.318 ]. Эти требования, как по
мнению самого автора трактата, так и переводчика и комментато-
ра, относятся к теории украшения речи в целом, выражая «самую
сущность теории украшенной речи» [ХС, с Л 99]. Поэтому, исходя
из «садовой» логики, которой мы так увлеклись, о двух последних
фигурах можно было бы сказать, используя термины персидской
эстетики, как о гули сари сабад (т.е. как о последнем цветке, кото-
рый кладется поверх корзинки с цветами) или сабадчин (о том,
чте умещается в корзинку после сбора урожая). Это риторический
221
вопрос (фигура 54) и «красота мотивации» (фигура 55). Р.Му-
сульманкулов интерпретирует фигуру 55 как двойное описание; у
авторов других поэтик оно встречается четырех видов (см. [8,
с.48]).
Что касается самой фигуры ибда, то интересно, что, по сути де-
ла, она перекликается с эстетическим пафосом хуснов, в которых
высказывается требование, чтобы «первый бейт касыды был есте-
ственным и искусным» и в «изящной форме» выражал «редкие и
свежие значения» [ХС, с. 118], чтобы переход к восхвалению
(фигура 13) происходил «наилучшим образом и приятнейшим спо-
собом, достигая при этом плавности звучания и изысканности зна-
чения» [ХС, с.120], чтобы касыда заканчивалась «красивыми вы-
ражениями и изысканными значениями» [ХС, с.121], а просьба
(фигура 15) выражалась «изящным образом и приятным спосо-
бом», и поэт стремился к «совершенству выражений и значений»
[ХС,с.122].
Другими словами, ибда имеет аналогию в других фигурах трак-
тата, приведенных ранее, как бы оказываясь их репликой, но ус-
ложненной. Это позволяет нам заметить еще одну особенность
текста. Если сейчас посмотреть на текст сверху вниз с позиций
последних фигур, мы увидим как бы вертикальные планы Сада,
своего рода террасную садовую архитектуру, где на более высоких
точках размещены более сложные по модели фигуры, а на следу-
ющих уровнях — близкие им по типу, но с уменьшающейся сте-
пенью сложности модели или с каким-то другим изменением.
Так от фигуры 55 — «красота мотивации» — можно проложить
тропку к фигурам, построенным на вставлении одного 'м<£ на бейта
в другой, и тогда в этот ряд попадают фигуры:
52 — ал-калам ад-джами — вставление мудрых мыслей, жалоб
на жизнь;
45 — тадмин — включение в стихи стихов другого автора;
42 — ат-тарджима — передача персидскими стихами
смысла арабского бейта;
35 — ал-муламма — одна строка или один бейт пишется
по-арабски, другой по-персидски;
31 — ал-суал ва-л-джаваб — вопрос и ответ;
28 — ирсал ал-масалайн — приведение двух пословиц;
27 — ирсал ал-масал — приведение пословицы;
25 — итирад ад-калам — прерывание речи вставкой;
20 — ал-илтифат — завершение мотива и возвращение к
нему пословицей, пожеланием или как-нибудь иначе.
От фигуры 54 — ат-тааджуб — риторический вопрос, — к
фигуре 30 — таджахул ал-ариф — поэт хоть и знает, но притво-
ряется незнающим. О фигуре 53 — ибда мы уже говорили.
222
От фигуры 51 — истидрак (в бейте хула переходит в хвалу) к 19:
таакид ал-мадх би ма-йушбиху-з-замм — подтверждение похва-
лы таким образом, будто поэт стремится отступиться от нее.
17 — ал мадх ал-муваджжах — похвала, в процессе которой
выявляется еще одно достойное качество хвалимого.
От фигуры 50 — мураддаф — целая цепочка фигур, касающихся
рифмы, ее разновидностей и ритма:
34 — мусаммат — саджирование бейта;
29 — зу-л-кафиятайн — две рифмы ставятся рядом;
10 — тадмин ал-муздавидж — употребление сдвоенных слов в
садже;
9 — ал-инат — глубокая рифма или добавочная буква в рифме;
2 и 1 — тарси ма-таджнисат и тарси — деление отрезков
речи по ритмической модели слов.
От фигуры 49 — мутазалзал — изменение смысла бейта от восх-
валения на поношение при изменении огласовки одной буквы сло-
ва в бейте.
41 — мусаххаф — то же самое, если изменить точки и огласовки;
18 — мухтамил ли-диддайн — то же самое — бейт читается и как
хула и как хвала. Во всех трех фигурах основа модели
одинаковая — (1)Мб+*(2)Мб — при изменении условий.
Точно такая же модель, только относящаяся к Лб, встречается в
фигуре 26 — муталаввин, в ней один и тот же бейт можно
прочитать двумя и большим числом размеров (омонимия формы
(1)Лб«-М2)Лб).
Фигура 48 — тафсир ал-джалли — разъяснение неясного кор-
релирует с фигурой 21 — употребление слова с явным и неявным
значением, о котором нужно догадаться.
Группа фигур 47.1-6 — джам ва тафрик ва таксим — объ-
единение, распределение и разделение — коррелирует с фигурой
24 — тансик ас-сифат, в которой перечисляются характеристики
одного слова;
23 — сийакат ал-адад — перечисление как однородных ряда
имен;
16 — мураат ан-назир — установление подобия, или соблю-
дение соответствия, и с фигурой 3.1-7 — сроднений
или формального подобия;
46 — играх ас-сифа —*• гипербола соединяется в этом ряду с
фигурой 22 — ташбихат — сравнения, 11 -*■ истиара —
метафора, 8 — мутаддад — антитеза;
45 — попадает в группу фигуры 55;
44 — лугаз — загадка к 43—• муамма — зашифровка имени
или слова;
41Л — ал-мусахаф ал-музтараб — угадывание границы слова;
223
32 — ал-мувашшах — угадывание бейта или пословицы в
графически зашифрованной форме.
На этом мы останавливаемся, напомнив только, что буквенные
фигуры от 41 и вниз перекликаются с буквенными фигурами пер-
вого десятка.
Подобная группировка фигур не единственно возможная. Так,
Н.Ю.Чалисова приводит несколько подобных рядов, набранных
снизу вверх, и объединяет в них все фигуры трактата на основании
несколько иных принципов (в частности, меняя последователь-
ность их размещения) (см. более подробно [ХС, с.39-41 ]).
Итак, в данной статье предложена гипотеза, касающаяся неко-
торых структурных особенностей текста поэтики «Сады волшебст-
ва в тонкостях поэзии» Рашид-ад-Дина Ватвата.
Как нам представляется, можно говорить о наличии четырех
основных моделей образования фигур в поэтике, создающих четы-
рехчастное горизонтальное членение, позволяющее образовывать
новые фигуры по данным моделям и разрабатывать данные модели
в плане их дальнейшего усложнения. Это хорошо иллюстрируется
дальнейшим развитием традиции [8 ] и подтверждает репутацию
уилм ал-бади* как открытой системы.
Выявлена также скрытая субординация фигур по вертикали.
Здесь имеется в виду:
а) переход от элементов слова к слову, от слова к бейту и от
бейта к произведению в целом;
б) переход от автологического стиля к металогическому (см.
табл.2);
в) последовательное использование антологии, металогии и
суггестии при построении фигур и определении механизма пере-
хода;
г) сравнительно равномерное повышение ранга фигур с точки
зрения сложности структурной и семантической и степени суг-
гестивности, а также в плане их функционирования;
д) укрупнение планов рассмотрения фигуры — от элементов
графической формы слова в начале трактата к планам содержания
и выражения произведения или его частей;
е) отнесение одних и тех же фигур к разным уровням, вернее,
сочетание в одной фигуре соотнесенности с разными уровнями,
что обогащает представление о ранжировании фигур.
При подобной трактовке композиции текста практически отпа-
дает необходимость в перегруппировке фигур для лучшего
понимания их связей, места в трактате и последовательности их
расположения.
224
Соединение внешней точки зрения исследователя с внутренней
на архитектонику рассматриваемого материала заставляет
оценить точность названия, избранного автором для своего трак-
тата — «Сады волшебства в тонкостях поэзии» .
Таблица 1
1. тарси
«оправле-
ление в золо-
те драгоцен-
ных камней»
2. тарси
маа-т-
таджнис
Ъ.таджнисат
«родствен-
ность, бли-
зость» (Крач-
ковский), «го-
могенность»
(Мерен) [ХС,
с. 175]
3.1. полный
(тамм)
3.2. ущерб-
ный (накис)
3.3. с избыт-
ком (зайид),
также «хво-
статый»
дабир, или поэт,
делит речь на
отрезки, распола-
гая каждое слово
против слова,
равного ему по
ритмической мо-
дели (вазн, мор-
фологич. мо-
дель) [ХС,
с. 174] и опор-
ным согласным
[ХС, с.85]
фигура-иллюст-
рация слияния
двух приемов 1 и
3 фигур [ХС,
с.174]
использование в
поэзии и прозе
слов, схожих по
произношению
или написанию и
состоит из 7 раз-
делов [ХС, с.88]
два слова или
больше, одинако-
вые по
написанию и
произношению,
но отличающиеся
значением [ХС,
с.89]
подобен полному,
но слова различа-
ются огласовками
[ХС, с.90]
слова совпадают
по буквам и огла-
совкам, но на
конце одного из
них нарощена
буква
тт1 -тг2
Л э ритм. "Л эритм.
л|э(р)-Л2э(р)
Л эграф."Л эграф.
Л эогл--Л эогл.
Лэ ~~ элемент формы слова
ритм. - ритмический
граф. - графический
(р) - рави
огл. - огласовка
фон. — фонетический
морф. - морфологический
1 2
Л с граф. вЛ с граф-
Л с фон™ Л с фон.
Мс т Мс
1 2
Л эграф.™Л эграф.
Л оглас.^Л оглас-
Л фон f Л фон
(Л^^Л^с + Лэбукв.)
Л эогл."Л эогл.
повтор
омография
омофония
омонимия
омография
несовпаде-
ние I эле-
мента
III
III
IV
15 130
225
3.4. составной
(мураккаб)
3.4.1. [калам-
бур] таджнис
3.4.2. разде-
ленный (маф-
рук) [ХС,
с.91]
3.5. повторен-
ный (мукар-
рар)
3.6. окаймлен-
ный {мутар-
раф)
3.7. графи-
ческий
(хатти)
4. шитикак
«происхож-
дение от чего-
либо» [ХС,
с. 178]
5.асджа
5.1. парал-
лельный садж
(мутавази)
5.2. совпада-
ющий по пос-
ледней букве
(мутарраф)
одно или оба сло-
ва являются сос-
тавными
слова подобны
друг другу в
написании и
произношении,
но отличаются
морфологически
(простое и сос-
тавное)
слова в произно-
шении подобны,
а написанием
отличаются
отрезки садж
или бейты за-
канчиваются сло-
вами, образу-
ющими таджнис
(может быть с на-
ращением)
у двух слов сов-
падают все бук-
вы, кроме пос-
ледней [ХС,
с.94]
два слова произ-
носятся по-разно-
му, но форма
букв у них совпа-
дает
слова, буквы ко-
торых близки и
однородны (в
силу этимологии
слова) [ХС,
с.178]
слова совпадают
по ритмической
модели, количес-
тву букв и букве
рави
буква рави
одинакова, а
ритмическая мо-
дель и количест-
во букв разное
1 2
Л эграф."Л эграф.
Л эфон.-Л эфон.
Л эморф.f Л эморф.
1 2
Л эфон.-Л эфон.
Л граф. f Л граф.
I 1 2
Л ритм. "Л ритм.
Л эграф.-Л эграф.
| (Л э f Л э вариант)
1 1
Л эграф.^Л эграф.
Л эфон.-Л эфон.
Л эбукв.-Л эбукв.
Л граф.^Л граф.
Мс1уМс2
Л ритм. "Л ритм.
Л букв.-Л букв.
Л!э(р) -Л2э(р)
I Л. ритм. Т Л, ритм.
Л. букв, f Л букв.
Л1э(р)-Л^э(р)
омонимия
III
омофония
повтор ритм.
III
частичное
совпадение
омография
однород-
ность
II
Ш
ритм.повтор
расхождение
эле-
ментов
Ш
226
5.3. уравнове-
шенный (му-
тавазинму-
вазина-в
стихах)
6. маклубат
букв, «пере-
вернутый»
[ХС,с.180]
6.1. частич-
ный (ба'д)
6.2. полный
(кулл)
6.3. окрылен-
ный
(муджаннах)
6.4. равный
(мустави)
(палиндром)
7. радд-
ал-аджуз
'ала-с-садр
«возвраще-
ние конца
речи к ее на-
чалу» [ХС,
с.181]
7.1. первый
вид
7.2. второй
вид
слова равны
ритмической мо-
делью, но
отличаются бук-
вой рави
часть букв одно-
го слова повторя-
ется в обратном
порядке в другом
одно слово повто-
ряет в обратном
порядке все бук-
вы другого
то же, что и пол-
ный, но одно сло-
во в начале бей-
та, другое в конце
бейт или по-
лустишие, кото-
рое читается как
справа налево,
так и наоборот
в начале бейта
поэт употребляет
слово, а в конце
бейта приводит
его же
употребленное в
начале слово
приводится в
конце в том же
значении, виде и
форме
слово в конце
повторяется в
той же форме, но
с другим зна-
чением
1 1 2
Л. ритм. — Л ритм.
Л1э(р)^Л2э(р)
1 2
Л эбукв.«-»Л эбукв.
Л1«-^2
л} **л2 2
Л позиц«-*П позиц.
(1)Лэ букв." (2)Лэ букв.
(1)Лб-(2)Лб
(1)Лэфон.-(2)Лэфон.
(1)Мб-(2)Мб
1-первое чтение,
2 - второе чтение .
одного и того же бейта
1 2
Л морф.^Л морф.
ЛАс-Л2с
1 2
М с"М с
Л1с-Л2с
1 '2
Л морф. - Л морф.
M*cfM2c
расхожден
элементов
,
инверсия
частичн.
инверсия
полная
оппозиция
инверсия
повтор
повтор
омонимия
15-2 130
7.3. третий
вид
7.4. четвер-
тый вид
7.5. пятый вид
7.6. шестой
вид
8. мутаддад
«противопо-
ложный»
[ХСс.183]
9. ин'ат
«причинение
неудобства»
[ХС,с.183]
10. тадмин
ал муздавидж
«включение
парного»
[ХС.с.184]
слово, в точности
повторяющее
употребленное в
начале и по фор-
ме и по смыслу,
ставится в се-
редину первого
полустишия
похож на
третий, но слова
отличаются по
значению
в начале и в кон-
це ставятся сло-
ва, производные
от одного слова,
совпадающие в
основе значения,
но разные в
грамм, форме
два слова,
стоящие в нача-
ле и конце бейта,
не являются
производными,
различаются в
основе значения
употребление
противополож-
ных друг другу
слов
добавление бук-
вы ради укра-
шения речи в
рифме или
радифе
помещение
внутри бейтов
двух или более
парных слов
Л^-Л2^
м^-м^
1 2
Л морф.-Л морф.
Л морф."Л морф.
л^-л^
М^М^
Л^^с
М-с~М2с
1 *У
Л морф. ^ Л морф.
Л^-Л^
м^вА
Л морф./Л морф.
м1с+м2с
Л^Л^
Лпвш + Лэбукв.
вш - внешняя форма;
п - произведение
Л с ритм. "Л с ритм.
М^М^ или
м*с^м2с
[позицион-
I ный]
повтор
омонимия
III
однород-
ность
омонимия
(частичная)
Ш
антонимия
IV
повтор
синонимия
или антони-
мия
II
IV
228
11. истиара
«заимство-
вание,
одалжива-
ние» [ХС,
с.184]
12. хусн-
ал-матла
13. хусн-
ат-тахаллус
14. хусн-ал-
макта
15. хусн-аг-
талаб
16. мураат
ан-назир «соб-
людение соот-
ветствия»
[ХСс.187]
17. ал-мадх
ал-муваджжах
«двуликое
восхваление»
[ХСс.187]
18. мухтамил
ли-д-диддайн
«могущий быть]
двумя противо-
положностями»!
[ХС, с. 187]
метафора: слово
имеет свое
истинное зна-
чение, а дабир
или поэт [разде-
ляет] слово с его
истинным зна-
чением и пере-
носит на другое,
как бы
позаимствовав
Л1М1с
Л
с^Л2с
^(Л2-Л1)М2с
МХс^М2с
частичное
совпадение
элементов
1. эстетические требования к жанру касыды
2. архитектонические указания к жанру касыды
поэт объединяет
в бейте однород-
ные предметы,
такие, как луна
и солнце, стрела
и лук, уста и очи
[ХСс.123]
в одном восхва-
лении открывает-
ся другое пох-
вальное качест-
во, чем
достигается восх-
валение с двух
сторон [ХС,с.123]
бейт имеет два
смысла - восхва-
ления и
порицания
П1с + Л7с.
(1)Мб*(2)Мб
(1)Лб*(2)Лб
(1)Мбч^(2)Мб
(1)Лб-(2)Лб
однород-
ность, суггес-
тивная сино-
нимия
однород-
ность, суг-
гестивная
синонимия
суггес-
тивная
омонимия
15-3 130
19. такид ал-
мадх би-ма
йушбиху-з-
замм «подт-
верждение
хвалы тем,
что похоже на
хулу» [ХС,
с.188]
20. илтифат
«поворот»
[ХС, с.188]
21. ихам «воз-
действие на
воображение,
сила догадки»
[ХС,с.189]
22. ташбихат
(сравнения)
22А.ташбихи
мутлак —
абсолютное
сравнение
22.2. ташбихи
машрут —
сравнение с
условием
22.3. ташбиха
кинайа —
сравнение с
намеком
22.4. ташбихи
тасвийа —
уравненное
сравнение
поэт подкрепля-
ет восхваление
так, чтобы слу-
шатель полагал,
что он стремится
упрекнуть
переход от второ-
го лица к третье-
му [ХСс.126];
см. также [ХС,
с.188]
поэт использует
слова, имеющие
два значения,
одно из которых
обычное, а дру-
гое редкое; име-
ется в виду ред-
кое
(без условия
обратного поряд-
ка, предпоч-
тения и пр.)
[ХС, с.130]
говорят: если бы
было так, то бы-
ло бы так [ХС,
с.132]
на предмет срав-
нения намекают
с помощью обра-
за сравнения,
[но] без средств
сравнения [ХС,
с.178]
сравнение двух
качеств, име-
ющих подобие, с
третьим, к кото-
рому оба
приравниваются
[ХСс.134]
(1)Лпв*-»(2)Лпв
(1)Мб^(2)Мб
пв — план выражения
(1)Лпв*(2)Лпв
(1)Мб-(2)Мб
(l)M6i42)M6
Лс
чм2
ЛМпс — ЛМос
ос — образ сравнения
пс — предмет сравнения
ЛМпс —ЛМосПП
[if — суппозиция, пред-
положение]
ЛМ^с-ЛМос
ЛМ2пс-ЛМ0с
ЛМ^с-ЛМ^с
ЛМ^с-ЛМо^
ЛМ2пс-ЛМос^
ЛМ^с-ЛМ^с^
одно if вытекает из другого
ложная ан-
тонимия
IV
синонимия,
однородность
суггес-
тивная
омонимия
Ш
семантич.
общность,
синонимия,
частичн. сов-
падение
синонимия
уравнивание
[повтор]
II
отождест-
вление, урав-
нивание
230
22.5. ташбихи
акс — образное
сравнение.
22.6. ташбихи
идмар —
скрытое
сравнение
ь
22.7. ташбихи
тафдил —
сравнение с
предпочтением
23. сийакат
ал-адад
«перечи-
сление» [ХС,
с. 192]
24. тансик ас-
сифат «согла-
сование опре-
делений»
[ХСс.192]
25. и'тирад
ал-калам
«прерывание
речи до ее
окончания»
[ХСс.192]
также —
хашв — встав-
ка
26. мутал-
лавин
«изменчи-
вый» [ХС,
с.193]
скорее.
«взаимное» срав-
нение [ХС,
с. 19Ц поочеред-
ное сравнение
двух вещей, одно
следует за другим
«поэт сравнивает
что-то с чем-то,
но делает вид,
что цель его
иная» [ХС, с. 135]
«предмет срав-
нения ставится
выше образа
сравнения» [ХС,
с.136]
противопостав-
ление —
перечисляются
как однородные
члены некоторое
количество
имен; с таддадом
какая-то вещь,
называемая не-
сколькими име-
нами или опреде-
лениями подряд
поэт говорит в
бейте какую-то
мысль и, не за-
вершив ее, го-
ворит другую, а
затем возвраща-
ется к первой
3 вида:
1. кабих «безоб-
разная»
2. мутавассит
«средняя»
Ъ.малих «изящ-
ная»
бейт можно про^
честь двумя
метрами
ЛМос-ЛМпс
ЛМпс ™ ЛМос
Лпс —Лос
Мпс = Мое
ЛМпс «-> ЛМос
ЛМс~ЛМсК
N —z ряд однородных слов
Л*МС <-^Л2Мс
ЛМс^ЛМ^
[1]. Мб, Мбэ, где
Мб-Мбэ
[2]. Мб, Мбэ, где Мб -
Мбэ
[3]. Мб, Мбэ, где
Мб + Мбэ
у& бвш
ЛМб
^Л^вш
уравнивание
омонимия
антонимия
сроднение
элементов
плана выра-
жения бейта
антонимия
искусствен-
ная сино-
нимия эле-
ментов плана
выражения
бейта
дивергенция
элементов
плана содер-
жания и пла-
на выра-
жения
омонимия
внешней
формы бейта
15-4 130
231
27. ирсал ал-
масал «приве-
дение изре-
чения» [ХС,
с. 193]
28. ирсал ал-
масалайн
29. зу-л-
кафийатайн
«имеющий
двойную
рифму» [ХС,
с. 193]
30. таджахул
ад-ариф
«притворное
незнание зна-
ющего^ [ХС,
с.193]
31. су'ал ва-л-
джаваб «воп-
рос и ответ»
[ХС.с.194]
32. муваишшх
«подпоясан-
ный кушаком
[ХСс.145]
[«опоясанный»]
[ХС,сЛ94]
33. мурабба
«квадрат»
[ХСс.194]
в бейт включает-
ся пословица
в бейт включают-
ся две пословицы
«поэт сочиняет
кыт'а или касыду
с двумя рифмами,
стоящими рядом»
[ХС,с.142]
поэт... говорит:
«не знаю, так это
или этак» [ХС,
с. 143]
в один или два
бейта включены
вопрос и ответ
поэт употребляет
буквы или слова,
которые, будучи
соединенными с
изменением или
без изменений,
составляют бейт,
или пословицу,
или имя, или
титул
близок к ана-
грамме [ХС,
с. 194] —текст
читается справа
налево, сверху
вниз [и, естест-
венно, слева на-
право]
ЛМб
\лм2б
^ЛМ^э
ЛМб
\Ллм2б
\лм3б
Лбэ» Лбэ вш " Лбэ вт
вт — внутренняя форма
(1) ЛМб-(2) Мб2/
ШЛМб^ЛМб2
/ — либо, либо
<1)ЛМбч-*(2)Мб
^.Л^вт
ЛбС 2
^Л^бвт
^М16
МбС 2
\MZ6
<1)Лп«-*(2,3)Лп
(1)Мп-(2,3)Мп
дивергенция
элементов
внутренней
формы и зна-
чения
повтор эле-
ментов внеш-
ней и внут-
ренней форм
антонимия
или сино-
нимия эле-
ментов плана
содержания
бейта
оппозиция
элементов
плана содер-
жания
дивергенция
плана выра-
жения и со-
держания
бейта
инверсия
внешней
формы
произв., пов-
тор ма'на
232
34. мусаммат
«украшенный
ожерельем»
35. муламма
«пестрый,
окрашенный
в разные цве-
та» [ХС,
с. 195]
36. мукаррар
«разрознен-
ный» [ХС,
с. 149]
37. мувассал
«связанный»
[ХС,сЛ49]
38. хазф
«изъятие,
исключение»
[ХСс.195]
39. ракпга
«черное
в белую
крапинку»
40. хайфа
«конь с раз-
ноцветными
глазами»
41. мусаххаф
«прочитанный
с ошибкой»
[ХС, с. 195]
бейт делится на
четыре части, на
концах трех
[поэт] ставит
садж, а в 4-1
приводит рифму
одно полустишие
сочиняют по-
персидски, дру-
гое по-арабски,
или один бейт по-
персидски, дру-
гой по-арабски
буквы в словах
не соединены
между собой
буквы в словах
соединены в
написании
поэт одну, две
или больше букв
из алфавита
отбрасывает
одна буква имеет
точку, а другая
не имеет
все буквы одного
слова имеют
точки, а друго-
го — не имеют
поэт включает в
стихи такие сло-
ва, что если их
форму сох-
ранить, а расста-
новку точек и
огласовок
изменить, смысл
бейта из хвалы и
одобрения прев-
ратится в хулу и
поношение
ЛбвЛ
— Л бэ вт
— Л бэ вт
—Л бэ вт
I—Л бэ„вт
Л б э вт в Л'
ЛХб/Л2б
МХб^М2б
Лб вт, граф.
Лб вт, граф.
бэвт
Лб э вт, граф +-> Лэ
1 2
Л эграф <->Л эграф.
1 2
Л сэграф.<-*Л сэграф.
Л бэграф. ^Л б вт граф.
М1б + М^б
повтор эле-
ментов внут-
ренней фор-
мы произ-
ведения
противопо-
ставление
внешней
формы плана
выражения
автономия
элементов
внутр. фор-
мы бейта
противопо-
ставление
элементов
внутр. фор-
мы бейта
оппозиция
элементов
внешней
формы слова
как внутр.
формы бейта
антонимия
плана выра-
жения и эле-
ментов внут-
ренней фор-
мы бейта
антонимия
233
42. тарджима
«перевод»
[ХС,с.196]
43. му'амма
«скрытый», а
также «загад-
ка, головолом-
ка» [ХС,
с. 189]
44. лугаз «за-
гадка» [ХС,
с. 196]
45. тадмин
«включение»
[ХСс.196]
46. играк ас-
сифа «преу-
величение в
описании»
[ХСс.197]
47. джамва-
тафрик, ва-
т-таксим
«соеди-
нение,
объединение,
разъединение
и распреде-
ление»
поэт передает
персидскими
стихами смысл
арабского бейта
или наоборот
в тексте
зашифровано
имя или на-
звание, скрытое
при помощи
изменения огла-
совок и т.п.
то же самое, что
43, только сост. в
виде вопроса
[ХСс.130]
поэт включает в
свои стихи по-
лустишие, бейт
или два бейта
другого автора,
которые должны
быть выделены,
чтобы не
возникало подоз-
рения в плагиате
гипербола; в
описании чего-
то делается
сильное преу-
величение
раздел состоит из
6 частей
л^л28"8.,
М п"М п
sug — подразумеваемое
Л^э-Л^э
М!бэ^М2бэ
тт1
'Л ОГЛ.
\Л огл.
\м2п
ЛМп
ЛМ1
\ лм2
ЛМп*ЛМ8и£
норма предпола-
гаемая
синонимия
произ-
ведения при
переводе
двойствен-
ность элемен-
тов внутрен-
ней формы и
значения
расхождение
плана содер-
жания sug и
реального
расхождение
авторства
противопо-
ставление
нормы и
преувели-
чение нормы
III
III
III
IV
234
47.1. простое
объединение
47.2. простое
разъединение
47.3. простое
распреде-
ление
47.4. объеди-
нение с разъ-
единением
47.5. объеди-
нение с расп-
ределением
47.6. объеди-
нение с разде-
лением и рас-
пределением
по одному
признаку
объединяются
две вещи или
больше;признак
может быть
очевидным или
подразумевае-
мым
устанавливается
различие двух ве-
щей
поэт помещает в
бейте две или бо-
лее вещи, а за-
тем перечисляет
их признаки
поэт объединяет
две вещи срав-
нением с
третьей, а затем
устанавливает
разницу по двум
различным
признакам
поэт сначала со-
поставляет вещи
в каком-то одном
смысле, а потом
распределяет их
«поэт сначала со-
поставляет себя
и возлюбленную,
так как они оба в
оковах, потом
это пребывание в
оковах разделяет
на тайное и
явное, а во вто-
ром бейте расп-
ределяет оковы
по тому, каковы
они и на чем»
Л^э^Л^-бэ
М18и*бэ*М28и*бэ
Л1бэ{Л2бэ
М^бэ^М^бэ
<М1бэ
М^бэ
ЛМпс^ЛМос
ЛМ^с+ЛМ^с
У ли1-ли3
^лм2-лм4
лм1-™2
призн. ср
^ЛМ°
призн.ср.С
^ЛМ4
ЛМ3«г-»ЛМ4
искусствен-
ная сино-
нимия эле-
ментов плана
содержания
искусствен-
ная антони-
мия плана со-
держания
бейта или
произв.
искусствен-
ная омони-
мия элемен-
тов плана со-
держания
бейта или
произв.
искусствен-
ная сино-
нимия эле-
ментов бейта
как лексичес-
кого единства
искусствен-
ная омони-
мия элемен-
тов бейта как
лексического
единства
искусствен-
ная сино-
нимия и ан-
тонимия и
омонимия
элементов
бейта как
лексического
единства
235
48. тафсир ал
джалли ва-л-
хаффи «разъ-
яснение явно-
го и скрытого»
49. мутазал-
зал «трясу-
щийся» [ХС,
с. 199]
50. мураддаф
«идущий сле-
дом»
51. истидрак
«поправка,
исправление»
[ХС,с.199]
52. ал-калам
ал-джалил
«объединяю-
щая, включа-
ющая речь»
[ХСс.199]
53. ибдсС
«изобретение
нового» [ХС,
с. 199]
54. таадж-
жуб «изум-
ление,
восхищение»
[ХС, с.200]
поэт употребляет
слова в неявном
смысле... а потом
разъясняет их
если в слове
изменить огла-
совку^ [смысл
бейта] превра-
щается из восхва-
ления в поно-
шение
одно слово или
больше, которое
ставят после
опорных соглас-
ных рифмы в
персидских
стихах
поэт начинает
поношением, за-
тем возвращает-
ся к восхвалению
поэт включает в
свои бейты муд-
рые мысли,
поучения, жало-
бы на судьбу
относится к
теории украшен-
ной речи в целом
поэт в бейте
изумляется и
удивляется
чему-то
[риторический
вопрос]
(1,2,3...)ЛМС
(ПЛМ^ЛМа
(2)ЛМ^ЛМб
(З)ЛМ^ЛМс
а,б,с — разъясняющие
слова или выражения
Л^гл.^Л^гл.
(1)M6*-W2)M6
ЛМбэ1,2..
ЛМвт «-> ЛМпс
(1)Мб*-*(2)Мб
уМ1
ЛМб
ЧМ2сем.
М ^М сем.
сем. — семантика бейта
требование соединения
новых мотивов с
красивыми словами и
искусным их разме-
щением
if Л1-Л*
М
^М2 ?
л.
/
м1
MZ
- вопрос
искусств,
синони-
мия элемен-
тов плана вы-
ражения и
содержания
антонимия
значения
бейта
повтор эле-
мента внеш-
ней формы
бейта
II
IV
антонимия
внутр. фор-
мы и плана
содержания
бейта
двуплано-
вость се-
мантики
бейта
IV
II
омонимия
236
55. хусн ат-
талил «кра-
сота
мотивации»
поэт упоминает
два качества,
одно из которых
является
причиной друго-
го, а на самом де-
ле поэт просто
желает их на-
звать и уста-
новить между
ними такую
связь, чтобы
[стихи] по-
лучились
красивее и нео-
бычнее
(1)М/(2)М
(1)М^(2)М
установ-
ление суг-
гестивного
подобия
П
Таблица 1
Уровень
Отождествление
л1-л2 лм'-л*
М»-М2
Л1!'Л2 ЛМ1 «ям2
м1 ж м2
1л1 -л2 ум1
М1 ф М2 1\{
NM2
III
Расподобление
1л1* л2
м^м2
Ппотипопостяплсннс
Ритмичес-
кая модель
Лэрцтм ПИ^1
ва
Буква рави
Лэ (р)
\LL
Грифичс-
|скис элс-
МС1ГТЫ
Лэ граф. Ul
l3j
PF
pl|3.2l|3.4.iHJ.4.fl
Огласопоч-
ные элемсп-
Jb огл.
ЙО
Буквенные
ЭЛСМСНТЫ
Лэ букв.
13
tty| 6.1 6.2 6J
Фонетиче-
ские элс-
МС1ГГМ
Лэ фон.
р.Ш3.2]Ц.4.21
Морфо-
логические
элементы
Лэ морф.
RFI
\щ
Референция
слова
Мс
U3JL
]щ|
СЛОВО KilK
«лскссмл »
ЛсМс
IJZJJ
Ш
Сло1ю как
<*есмсмп О
Лс+Мс
Слово как
[автономия
Л и М
цфОЕЗ
(Щ
Псйт как
единство Л
и М
15 (хуснм)
План содер-
жания бей-
тл (пс)
16(17] Щ]
ЩЩ
l'Linii выра-
жения бей-
та (ив)
Лбэ
Мбэ
ГП ^
№Ш\
Пнутрснняя
форма бей-
та (вт)
U22.flt22.2J2S.2|
fei)
[22jß7]R]
щ
Мотивы
бейта
(I) Мб...
Ш
№£
2Ш
Элементы
внешней
формы (вш)
бейта(план
выражения)
Лб ваэн.
[Лб рифм,
Лб граф.
Лб огл.
Лб епдж
м_
Ш
РП
a
ЩЩ
\щшшщ
Автономия
не и пв
[Лб, Мб
■Ш ЩЩУ
щ У Ум Ей УI
W
Лексическое
»единство
Лбэ в
Ш.
Ш£
зш
ПО НО
по
—&Г&
147.48
Семантичсс
кос единство |
бейта
Произве-
дение как
[единство
/ИБДЛ/Е1
Внешняя
формп
произве-
дения
Лп ЯЗЫК.
Л» |раф.
[Лц ред.
Эстстич. требования
к произведению: саласат, джахалат, сахдп мумтами'
ПРИМЕЧАНИЯ
В данной статье мы будем ссылаться на «Сады волшебства в тонкостях поэзии»
(«Хада'ик ас-сихр фи дакаик aui-uiu'p») как на ХС, в остальных случаях использует-
ся цифровая кодовая система.
2
Трактаты по поэтике, о которых идет речь в данной статье, сопоставимы не с
произведениями типа «поэтики» Аристотеля, а с теми разделами риторики, которые
посвящены стилю и разработаны вслед за Аристотелем другими античными авто-
рами. Риторические фигуры, «украшающие речь», рассматривались главным обра-
зом применительно к ораторской речи, но традиционно трактовались «как равно
принадлежащие и поэзии, и ораторской речи» [3, с.28-29].
Имеется в виду «чисто стиховедческое» направление иранской поэтики [6,
с.9]. К трактатам этого плана относятся: «Тарджуман ал-балага» Радуйани,
«Муджам» Шамси Кайса, «Джам'и мухтасар» Вахида Табризи, «Бада'и ал-афкар
фи сана ал-аш'ар» Ваиза Кашифи, «Бада'и ac-canäw* Атааллаха Хусайни и ряд
других. Более подробно см. [7, с.5-6; ХС, с. 18-20].
Ср. в санскритской поэтике: «... анализ разного рода тропов в связи с так на-
зываемой индикативной, или "переносной**, функцией языка... занимал много мес-
та в трудах индийских грамматиков» [3, с.30].
Это соображение заставляет нас усомниться в приложимости к поэтологичес-
кой концепции Ватвата трактовки фигур таджнис и радд ал-аджуз как равнополо-
женных в поэтике Ибн Мутазза. Даже если две названные фигуры и зиждутся на
осознании двойственности имени и вещи, то эта двойственность в метафоре иная,
чем в этих фигурах. Суждение о двойственности представляется нам весьма
проницательным в отношении фигур мутабака и особенно ал-мазхаб ал-калам> ко-
торый, по словам М.С.Киктева, «оказывается, по существу, особым частным случаем
метафоры в ее арабском понимании (выделено нами. — Н.П.): проис-
ходит как бы раздвоение смысла привлекаемых поэтом терминов и фразеологизмов,
которые отвлекаются в новом контексте от своих первоначальных значений и
приобретают в стихе значения новые, поэтические» [4, с.40].
В принципе сходные с названными фигуры существуют в античной и
санскритской поэтиках (зевгма и дипака); имеется в виду такой прием, когда «к
одному слову относятся несколько членов предложения» [3, с.48]. Проблема состоит
в том несовпадении фигур в разных традициях, о которых говорилось в начале
статьи.
Эти фигуры перекликаются с парономасией и антанакласой. «Квинтиллиан
относился к обеим фигурам с предубеждением, полагая, что даже в шутках "они
неприятны**, и удивлялся, что для них существуют правила» [3, с.47]. См. также [5,
с.189].
Эта черта характерна также для санскритской поэтики. Так, П.А.Гринцер
отмечает, что в списках аланкар преобладают суггестивные фигуры [3, с.36].
о
Как показывает П.А.Гринцер, «античные риторики основным тропом считали
метафору. Аристотель рассматривал сравнения, пословицы и гиперболы как вид ме-
тафоры» [3, с.37].
Рассматривая фигуру гендиадис, основанную «на употреблении двух имен
или глаголов с почти синонимичным значением и связанными союзом и», М.Леком-
цева отмечает: «Сюда могут быть отнесены и синонимы с точки зрения рассматрива-
емой культуры...» [5, с. 190].
Трактовка гиперболы Бхамахой также подчеркивает наличие нормы при пос-
239
троении фигуры: «... именно в гиперболе наиболее обнажено кардинальное свойство
поэтического языка — уклонение от принятых норм, их "превышение"», или, как
говорит Бхамаха, характеризуя шпишайокти* «выход за границы обыденного» [3,
с.31]. В силу этого Бхамаха считал гиперболу «основой иных фигур», тогда как
другие индийские теоретики (Вамана) «признают исходной фигурой сравнение, а
античные риторики выводят остальные тропы из сравнения или метафоры» [там же].
«Слова пожелтел — ушел становятся художественными синонимами, хотя в
естественном языке они ими не являются. Качественные прилагательные естествен-
ного языка розовое (лицо) — желтое (лицо) в художественной системе газели не
только являются эпитетами, но функционально представляют собой антонимы» [10,
с.85].
13
Ср. с санскритской и античной поэтикой (фигуры самдеха, самчайна и «сом-
нение»), которые трактуются как разновидность сравнения [3, с.54]. В нашей
классификации это скорее вид омонимии, когда Мс / Мс" ,
1 2 / 1
ЛС -Лс>л'
2М2 с высокой степенью суггестии — подразумеваемых логических
процедур: если Лс ~ Лс , то почему Мс ^ Мс ?
14
Я хотела бы выразить искреннюю благодарность Н.Ю.Чалисовой, с которой я
обсуждала различные положения этой статьи на разных стадиях работы.
ЛИТЕРАТУРА
Х.Ватват Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хада'ик ас-сихр
фи дака'ик аш-ши'р). Перевод с персидского, исследование и комментарий
Н.Ю.Чалисовой. М., 1985.
2. Вахид Табризи. Трактат о поэтике (Джам'и мухтасар). Критический текст, пере-
вод, примечания А.Е.Бертельса. М., 1959.
3. Гринцер П.А. Санскритская поэтика и античная риторика: теория «украше-
ний». — Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983.
4. Киктев М.С. Абу-л-Хасан ал-Джурджани (вторая половина X в.) о метафоре
(«арабское» и «греческое» в средневековой арабской филологической тео-
рии). — Проблемы арабской культуры. М., 1987.
5. Куделин А.Б. Мотив в традиционной арабской поэтике VIII-X вв. — Восточная
поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983.
6. Лекомцева М.И. Семантика некоторых риторических фигур, основанных на тав-
тологии (на материале «Похвального слова Кириллу-философу» Климента
Охридского). — Структура текста. М., 1980.
1. Мусульманку лов Р. Атауллах-и Махмуд-и Хусайни и вопросы таджикско-
персидской поэтики. Автореф. докт. дис. Душанбе, 1980.
8. Мусульманку лов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика X-XV вв. М.,
1989.
9. Пригарина Н.И. Образное содержание бейта в поэзии на персидском
языке. — Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983.
10. Пригарина H.H. Хафиз и влияние суфизма на формирование языка персидской
поэзии. — Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989.
И.СадурВ.Г. Восприятие текста в разных культурах. — Структура и
240
функционирование поэтического текста. Очерки лингвистической поэтики. М.,
1985.
12. СтеблеваИ.В. Семантика газелей Бабура. М., 1982.
13. Фролова О.Б. Неизданные рукописные трактаты первой половины XVIII века,
посвященные Ибн Араби и его философии. — Суфизм в контексте мусульман-
ской культуры. М., 1989.
14. Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана. М., 1989.
15. Laurie M. An Introduction to Landscape Architecture. New York, Amsterdam, Oxford,
1986.
16. Meisami /.S. Allegorical Gardens in the Persian Poetic Tradition: Nezami, Rumi,
Hafez. — Journal of Muhyiddin Ibn Arabi Society. 1985, vol. 17, № 2.
16 130
A.A. Суворова
АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЮЖЕТА
О «ЧУДЕ ЛЮБВИ»
Общеизвестно, что суфии в своей проповеди восхождения души
к Абсолюту путем мистической любви обращались к распростра-
ненным формам народной поэзии, популярным притчам и ап-
робированным романическим сюжетам, в которых земная любовь
героев выступала субститутом «любви небесной». Наряду со
ставшими классическими сюжетами о Лейли и Маджнуне, Ширин
и Фархаде, Юсуфе и Зулейхе, индийские суфии и находившиеся
под их влиянием поэты в течение веков использовали местные
предания о любви, среди которых были и древнеиндийское ска-
зание о Нале и Дамаянти (Даман), и средневековые легенды о
Мадхумалати и Манохаре, Падмавати и Ратансене, Калакам и
Камрупе; панджабские баллады о Мирзе и Сахибан, Хир и Рандж-
хе, Сохни и Махинвале, синдхские — о Сасси и Пунху, Лиле и
Чанесаре,Маруи и Умаре, раджастханские — о Дхоле и Мару и
т.д. Причем сочинения на подобные сюжеты писались как по
классическим образцам персоязычной поэзии, так и в поэтических
жанрах, выработанных региональным фольклором и литературой.
Хотя строй суфийских любовных поэм на новоиндийских язы-
ках в значительной степени ориентирован на персоязычныи
прототип, их яркая самобытность, отчасти определяемая религи-
озной и культурной синкретизацией, неоспорима. Среди многих
черт этой самобытности одна в особенности привлекла внимание
ученых, в частности выдающейся исследовательницы мусульман-
ской культуры субконтинента Аннемари Шиммель. Речь идет о
персонификации души, взыскующей трансцендентной любви, в
образе героини, а не героя, как это принято — за редким исклю-
чением (например, образы Зулейхи и Мириам) — в предшествую-
щей суфийской традиции [5, с.434-436 ]. Стремление души суфия,
воплощенной в женщине, к союзу с Божественным Возлюблен-
ным, несомненно, пришло в региональную суфийскую литературу
©А.А.Суворова, 1995
242
под влиянием мистицизма бхакти, в первую очередь его криш-
наитского толка.
Наиболее яркое воплощение этот «женский» тип репрезен-
тации души суфия, проходящего путь мистического познания, по-
лучил в Северо-Западной Индии, в творчестве панджабских и
синдхских поэтов XVII-XVIII вв. Абдул Карима Булри, Булле
Шаха, Шаха Абдула Латифа, Варис Шаха, Хашим Шаха и др. В
их произведениях, лирических и нарративных, образы героинь на-
родных легенд Хир, Сасси, Сохни обрели устойчивую аллегориче-
скую коннотацию.
Еще раньше, чем в Синде и Панджабе, в XIV-XVI вв. жанр
суфийской поэмы, основанной на местных романтических ска-
заниях, возник в ареале бытования диалектов языка хинди.
Наиболее известные из этих поэм, написанных на авадхи, назва-
ны по именам их героинь: «Чандаян» Муллы Дауда, «Мригавати»
Кутбана, «Мадхумалати» Манджхана, «Падмават» Джаяси,
«Читравали» Усмана. «Мадхумалати» и «Падмават» решающим
образом повлияли на становление нарративной традиции в лите-
ратуре урду, которая в более поздний период испытала воз-
действие синдхских и панджабских поэм.
Не меньшее значение для повествовательной традиции урду
имели персоязычные романические поэмы, в которых рассказыва-
лось о событиях, имевших место в действительности или выдавае-
мых за таковые. Зачастую в центре таких поэм стояла трагическая
любовь мусульманина к индуске; такой любви придавалась алле-
горическая трактовка. Практика сочинений подобных поэм в
Индии восходит, по-видимому, к маснави «Дувал-рани и Хизр-
хан» Амира Хосрова Дехлеви и «Поэме о любви» его современника
Амира Хасана Дехлеви. К ним примыкают и более поздние
произведения XVI-XVII вв.: «Горение сердца» Науи и «Нега и
мольба» Мухсина Фани, рассказывающие о якобы исторических
фактах времен правления Акбара. Именно этот тип поэм о несча-
стных влюбленных, которых разделяет вера, может считаться до-
вольно точным образцом для большой группы романических мас-
нави на урду.
Внутри жанра романических поэм урду прослеживается четкая
дифференциация: одни из них явно перекликаются с новелличес-
кой или дастанной традицией (критика урду иногда называет их
«дастаноподобнымй» — дастани андаз), причем имеющей в
основном ближне- и средневосточное происхождение. Для таких
маснави характерны относительно большой объем развитого пове-
ствования с многоступенчатым сюжетом (нередко наличие парал-
лельных сюжетов и вставных новелл), избыточная сказочная фан-
тастика, неконкретизированно-условное место и время действия и
непременно счастливый конец.
16-2 130
243
Другой тип романических маснави представлял собой подчерк-
нуто достоверную, «плазматическую» — в терминах античной
поэтики — историю. Такие поэмы отличались коротким и про-
стым (подчас даже «бедным») сюжетом, лишенным каких-либо
волшебных приключений и заканчивающимся обязательной
гибелью героев. Момент смерти влюбленных всегда ознаменовы-
вался мотивом «чуда», абсолютно отличного от декоративной фан-
тастики «дастаноподобных» поэм. Сюжеты этих маснави имели
выраженную лирическую окрашенность, восходили к местным ле-
гендам и преданиям и зачастую содержали географические и
исторические реалии, целью которых было создание все той же ат-
мосферы псевдодостоверности. Поскольку этот вид романических
поэм обнаруживает известное сходство с любовными балладами,
созданными на многих новоиндийских языках, в частности с жан-
ром синдхских «достоверных поэм» — вакеяти байта и панд-
жабских кисса, мы условно называем его «балладоподобным» (в
отличие от «дастаноподобного» типа).
Наряду с отличиями в происхождении и сюжетосложении два
этих типа маснави имеют дело с разными концепциями любви: в
первом случае преобладает идея куртуазного, светского чувства,
подчиненного определенному этикету социального и личного
поведения; во втором — доминирует доктрина «истинной» любви,
пренебрегающей нормами и ограничениями, установленными
обществом. Неизмеримая мерками бренной человеческой жизни,
такая любовь влечет влюбленных из сей юдоли к вечному со-
единению после смерти.
Наиболее известными образцами поэм «балладоподобного»
типа являются два маснави выдающегося поэта урду Мира Таки
Мира (1724-1810) — «Река любви» («Дария-е шик») и «Пламя
любви» («Шоала-е ишк»), созданные в период 1760-1772 гг. и
обладающие своеобразной «парностью», дополнительностью сю-
жетного аллегорического содержания. Обе поэмы восходят к одно-
му жанрово-сюжетному прототипу, являясь произведениями о
любовном чуде. Исследователи творчества Мира Таки Мира
никогда не подвергали сомнению аллегорический характер его
произведений, однако символический код поэм, в дешифровке ко-
торого не нуждались современники, спустя один-два века стал не-
понятен. Только этим можно объяснить оценку известного писате-
ля урду конца XIX в. Абдула Халима Шарара: «Мир Таки Мир
написал много коротких поэм... но они столь упрощены и баналь-
ны, что кажется неприемлемым относить их к жанру маснави» [6,
с.82 ]. И исследователей более позднего времени смущало то обсто-
ятельство, что благородная естественность газелей Мира, та самая
«недоступная красота» (сахл-е мумтана), которая искони счита-
лась заветной целью всякого поэта, в романических поэмах обо-
244
рачивалась «простоватостью», «риторической бедностью». Тем са-
мым поздние оценки маснави Мира не учитывали богатства их ал-
легорического содержания, исследованию которого и посвящена
настоящая статья.
«Пламя любви» (далее — ПЛ) и «Река любви» (далее — РЛ)
близки по объему: в первой поэме 232 двустишия, во второй —
264. Обе поэмы написаны одиннадцатисложным мутакарибом,
наиболее принятым для формы маснави размером. Есть сходство и
в композиции маснави: они открываются не традиционной много-
членной интродукцией, а коротким прологом во хвалу любви, ее
необычайной силы, созидательной и сокрушительной одновремен-
но. В ПЛ пролог представляет собой анафору: первые двадцать
бейтов начинаются со слова «любовь» (мухаббат), в чем А.Шим-
мель видит реминисценцию «Маснави» Руми, где также существу-
ет подобная анафора [4, с.183 ].
При общем сходстве прологов обеих поэм в ПЛ акцентирован
онтологический аспект любви, ее созидательная роль в творении
мира:
Любовь осветила тьму светом.
Не будь любви, не было бы и явленного.
Любовь — причина, и любовь — следствие.
От любви проистекают удивительные дела.
Без любви никто не появляется на свет,
И нет никого, не задетого любовью.
Именно любовь управляет мастерской мирозданья,
От любви же и все превратности судьбы
[1.С.911, бейты Ь4].
В прологе РЛ представлены психологические аспекты любви,
пагубные для индивидуума:
Любовь — всеобновляющая изобретательница.
Всякий раз у нее новые уловки.
То она становится сердечной болью,
То вырывается холодным вздохом из груди.
Здесь она течет из глаз кровавыми слезами,
Там насылает на головы безумие.
Иногда она в слезах раскаяния,
Иногда — это смеющаяся (т.е. открытая) рана.
Порой она сыплет соль на ссадины,
Порой влечет мотылька к свечке
[1,с.923,1-5].
Здесь и далее перечисляются разные преходящие ощущения и
симптомы, подобные мистическим состояниям (ахвал), испытыва-
емым суфием на его пути к Абсолюту. В РЛ это вторая половина
пути, «дуга восхождения», ведущая к исчезновению, аннигиляции
индивидуального «я» (фана). Пролог ПЛ связан с «дугой нисхож-
дения», развертывания вселенной, т.е. с онтологическим аспек-
16-3 130
245
том, символизируемым именами Аллаха из группы Божественного
величия (джалал). «Дуга восхождения» связана с именами Боже-
ственной красоты (джамал). С первыми ассоциируется мужское
начало, со вторыми — венское [3, с Л 4, 66-67 ].
Мистический союз Возлюбленной и Влюбленного часто пред-
ставлялся как сочетание дополнительных концептов Божествен-
ной Красоты и Божественного Величия, а понятия Джамал и Джа-
лал нередко персонифицировались литературой и в земную лю-
бовную пару. Продолжая наше рассуждение о «парности» двух
маснави Мира Таки Мира, можно добавить, что в РЛ преобладают
образы Красоты, а в ПЛ — образы Величия, что эксплицитно вы-
ражено в прологах к обеим поэмам.
В прологах любовь почитается чудом или творцом чудес. Этот
момент чрезвычайно важен для определения жанра поэм Мира:
Нет в мире равной ей в изобретательности.
Короче, она — чудо вселенной (ПЛ, 29) .
Ее притяжение — настоящее чудо.
Тонет в ней влюбленный, и возлюбленная тонет (РЛ, 28).
В последней строке как бы предвосхищается сюжетная кульми-
нация РЛ — смерть влюбленных в воде. Это предсказание со-
бытий основного повествования также характерно для ПЛ:
Любовь разжигает огонь и в воде.
Любовь примиряет шею с мечом (ПЛ, 13).
Действительно, в ПЛ наиболее «загадочным» элементом
истории является необыкновенный огонь, горящий и в воде.
Как и в других «балладоподобных» маснави, сюжеты РЛ и ПЛ
крайне безыскусны. В первой поэме повествуется о неразделенной
любви с первого взгляда, которую испытывает безымянный юноша
к случайно увиденной им девушке. В том, что любовь героя не
является чисто земным чувством, убеждают его собственные сло-
ва. Обмолвившись, что «сердце поддерживает связь с глазом», он
заявляет:
А иначе как такое могло бы случиться,
Что образ (сурат) стал скрытым смыслом (мани пихан)? (105)
«Образ», «лик» и «смысл», «сущность»—обычная оппозиция
суфизма, связанная с концепцией «явленного» (захир) и «скрыто-
го» (батин). Образы созерцаются глазом: сущности доступны
лишь духовному «сердцу», особому «органу» восприятия, вырабо-
танному в процессе трансформации чувственно-физической души.
Особенность суфийской медитации состоит в том, что, сосредото-
ченный на внешнем образе предмета, адепт способен прозревать и
его внутреннюю сущность, в результате чего оппозиция снимается
и явленное становится тождественным скрытому. Судя по утверж-
246
дению героя РЛ, он уже достиг подобной «аккомодации» зрения:
постоянно держа перед глазами однажды увиденное лицо земной
возлюбленной, он сердцем может созерцать скрытую суть Возлюб-
ленной трансцендентной.
Семья девушки, бессильная отвадить настойчивого влюбленно-
го, решает на время удалить героиню из города. В закрытом
паланкине в сопровождении хитрой няньки ее отсылают за реку, к
родне. Юноша сопровождает паланкин, пытаясь слезами и моль-
бами обратить на себя внимание возлюбленной. Однако его речи
не достигают слуха девушки, зато вызывают притворное со-
чувствие няньки. Она обманными посулами на скорое свидание
юноши с его любимой завоевывает доверие героя и предлагает ему
переплыть вместе с паланкином на другой берег реки. Когда лодка
оказывается на середине реки, нянька, сняв туфлю с ноги де-
вушки, бросает ее в воду. Далее она предлагает юноше достать
туфлю, дабы доказать силу своей любви. Не раздумывая, юноша
бросается в воду и тонет:
Любовь прервала его дыхание
И в конце концов утопила.
Когда утонул в реке этот юноша,
Разрушилась бесценная жемчужина души (194-195).
«Бесценная жемчужина» индивидуальной души уничтожается,
соединяется с морем Истинной Сущности, и достижение героем
состояния небытия в Абсолюте (фана) влечет за собой трансфор-
мацию души героини. Трагический конец юноши убеждает девуш-
ку в истинности «пути любви», чем и объясняются совершающиеся
с ней далее метаморфозы. В начале повествования героиня на-
ходилась в состоянии «неведения» и «беспечности», в котором пре-
бывает душа человека до мистического «призыва». Шах Абдул
Латиф называет это состояние «сном беспечности» (гафлат), и
материал его поэзии (сур «Сасси Абри») показывает, что начало
поиска Возлюбленной совпадает с пробуждением от этого сна.
Смерть юноши в духовном смысле пробуждает героиню:
Если бы несчастный возлюбленный не стал прахом,
Она бы не осознала своей беспечности.
Если соединение недостижимо при жизни,
Возлюбленную отнесут на могилу любящего.
Если влюбленный ушел отсюда несчастным,
Он разрушит в прах и жизнь красавицы (199-201).
Дальнейшие изменения в поведении героини, внешне ка-
жущиеся лишенными логики, аллегорически представляют собой
трансформацию души (нафс)у субстанции, имеющей женскую
природу, на пути мистического познания. Первым этапом
очищения души является осознание того, что она является чувст-
венной, телесной, «эгоистической» (нафс-и аммара). Это проз-
16-4 130
247
рение приходит через неделю после гибели героя и передается сло-
вами самой девушки в следующих стихах:
Душа моя постоянно трепещет.
Что это, недобитая птица или сердце?
Чувство смятения только усиливается,
Состояние души постоянно меняется.
Охватило меня раскаяние,
Страдают и душа, и тело.
Сердце вот-вот истечет кровью,
Не сегодня-завтра я сойду с ума.
Беспокойство охватывает душу,
А сердце вторит этой тревоге (207-211).
Очевидно, что душа, аллегорией которой является сама ге-
роиня, вступила на стадию раскаяния, понимания своего несовер-
шенства, стала «кающейся душой» (нафс-и лаввама), переп-
лавившей чувственные аспекты в психические. На этом, втором,
этапе очищения борьба добра и зла, идущая в душе, усиливается,
чем и объясняется «психическая неустойчивость» состояния ге-
роини (талвин).
Со смертью героя необходимость прятать героиню отпадает, и
она с нянькой возвращается домой. На обратном пути она пускает-
ся на хитрость и, как бы между прочим, выведывает у няньки, где
утонул герой, — ведь сидя в паланкине, она не могла видеть это
сама. Нянька, хотя и «искушена в хитростях», не почуяла подво-
ха, «не обратила внимания на глубины (букв.: дно) речи». И вер-
но, героиня, чья душа достигла высшего этапа очищения, стала
духовной, «умиротворенной» (нафс-и мутмаина), говорит «тем-
но», вопрошая не о речном «пейзаже», а о месте пребывания Воз-
любленного. Нянька простодушно указывает ей, ще погиб юноша.
С криком «Где? Где?» девушка ныряет в том же месте и идет ко
дну.
Достигнув предела спиритуализации, душа-девушка само-
уничтожается в реке-Абсолюте. Символическая коннотация этого
мотива, встречающаяся у многих поэтов-мистиков, была, в част-
ности, открыто сформулирована Шахом Абдул Латифом:
Разбить лодку тела в океане имен и атрибутов —
Значит соединиться с Божественным Возлюбленным [2, с.251].
Испытывая состояние аннигиляции (фана), душа сочетается
браком с духом, имеющим мужскую природу; различие меж ними
исчезает:
Она ушла в объятия мертвого друга.
На дне реки сплелись они воедино.
Очистились они от скверны жизни,
В объятиях друг друга обрели покой (247-248).
248
Здесь, собственно, и происходит демонстрация «чуда любви».
Когда утопленников поднимают со дна, оказывается, что их невоз-
можно разъединить. Сплетясь в объятиях уже после физической
гибели, влюбленные как бы перешли в новое качество существо-
вания «после смерти», т.е. в состояние «бака». В полном смысле
слова «смертью смерть поправ», они стали нераздельны, как «одно
тело», «две страницы одного листа», душа и дух, женский и муж-
ской принцип бытия, Джамал и Джалал, демонстрируя тем самым
истинность суфийской доктрины «единства сущего» (вахдат ал-
вуджуд).
Как видим, в РЛ достижение фана описывается дважды: путь
мистической любви преодолевают и герой, и героиня. Во втором
случае мы сталкиваемся с характерной именно для индийской
суфийской поэзии персонификацией души в женском образе, о
чем уже говорилось выше. Эта персонификация задает доминанту
женского символизма на разных уровнях повествования: стихия
воды, семантика, связанная с аспектом Красоты (джамал);
описание «дуги восхождения» в прологе — словом, все, что имеет
коннотацию «женского начала». Этим же объяснима доктриналь-
но-сюжетная и даже стилевая близость маснави со многими
синдхско-панджабскими суфийскими поэмами. Думается, что в
подобной интерпретации, несущей на себе зримый отпечаток
индийского идеологического воздействия, сказалась не только
инерция старого сюжета, но и сознательная установка Мира на
создание синтетического, в доктринальном плане, произведения.
Как и в первой поэме, в ПЛ важную роль в сюжете играют
мотивы злого умысла и провокационного испытания любви. Герой
поэмы, житель Патны, некий Парасрам счастливо женат. Друг,
ревнующий Парасрама к его жене, предлагает испытать ее вер-
ность. Жене доставляют ложную весть о том, что Парасрам якобы
погиб во время купания, и, не выдержав удара, нанесенного этой
новостью, несчастная женщина умирает на месте. Узнав о
трагическом результате испытания, герой сходит с ума.
В бесцельных блужданиях по округе Парасрам приходит на бе-
рег реки, где случайно подслушивает разговор рыбака с женой.
Рыбак рассказывает, что каждую ночь из воды поднимается столб
огня и слышатся слова:
О Парасрам, где ты?
Как потушить мне огонь моего сердца?
Даже за гробом не нашла я тебя.
Любовь превратила меня в пламя,
Но ты не оросил сей огонь влагой (146-150).
Услышав о существовании таинственного пламени, зовущего
его по имени, Парасрам, несмотря на свое безумие, решается на
хитрость (подобно тому как пустилась на уловку героиня РЛ). Он
249
отправляется домой, собирает друзей, в числе которых и виновный
в смерти жены друг, и сообщает им, что излечился от своей тоски.
В доказательство возрождения интереса к жизни герой предлагает
друзьям вечером совершить прогулку по реке.
Итак, вся компания отправляется на берег и садится в лодку.
Парасрам держит услышанную им историю о пламени в секрете,
но перед тем, как отправиться в путь, предлагает друзьям взять в
проводники живущего на берегу рыбака. Уже сидя в лодке, он
начинает расспрашивать его о том странном, что творится на реке.
Вспомним, что точно так же настойчиво вопрошала няньку о месте
гибели юноши героиня РЛ.
Внезапно над водой появляется пламя и обращается к Парасра-
му голосом его жены, чего никто, кроме него самого, не видит и не
слышит. Голос объясняет герою природу загадочного явления: сго-
ревшая от неутоленной страсти, жена Парасрама стала частицей
пламени Истинной Любви, т.е. того же Абсолюта, но на сей раз, в
отличие от РЛ, символизируемого не водой, а огнем, имеющим
«мужскую природу»:
Все мое тело стало жгучим огнем.
От сердечного жара я сама превратилась в опаляющее пламя.
Когда разгорается огонь в моем сердце,
В тоске по тебе я погружаюсь в пучину вод.
Будь жжение сердца слабее от воды,
Душа моя остудила бы свой пыл.
А так вода выполняет роль масла.
Ах, любовь сделала свое злое дело! (187-190).
Естественно, что пламя Истинной Любви не гаснет в реке: в
нем, как в Абсолюте, уничтожились противоположности двух
стихий — сухого горячего огня и влажной холодной воды. В этом
пламени оказывается снятой и другая суфийская оппозиция: воды
и масла. Один из крупнейших авторитетов суфизма, Шихабуддин
Яхъя Сухраварди, отмечал, что «по отношению к Истине сердце
неведавшего подобно фитилю лампы, наполненной не маслом, но
водой. Сколько ни запаляй его, он все равно не загорится. Но серд-
це друга, как масло в лампе, что притягивает огонь и на рассто-
янии» (цит, по [3, с.49]). Когда же мистик достигает инобытия в
Абсолюте, «вода неведения» становится маслом, поддерживающим
огонь Истины.
Воочию убедившись в существовании пламени, Парасрам вы-
прыгивает из лодки и приближается к нему. Пламя охватывает
его:
Вдруг, вспыхнув, он запылал»
Затем, поворачиваясь туда-сюда, закружился.
Войдя в воду, поднялся в воздух
И стал видом подобен свету (196-200).
250
Сгорев в «пламени любви», Парасрам посмертно соединяется со
своей женой, ранее его ставшей частицей Абсолюта. Огненный
смерч, которому уподобился герой в состоянии фана, охватил и
все другие стихии: землю, где пылало пламя; воду, в которую оно
затем погрузилось, и воздух, куда оно испарилось. В результате
этого огненного круговорота рождается свет (нур) — универсаль-
ный символ истинного знания и просветленного духа, в отличие от
души имеющих «мужскую природу».
Итак, Парасрам сначала узнал о существовании пламени, за-
тем увидел его воочию и, наконец, был поглощен этим пламенем.
Иными словами, здесь аллегорически описываете* процесс про-
хождения суфием трех основных этапов постижения Т-*сгины, со-
относимых со стадиями, которые преодолевает душа мистика: от
«гневной» — к «кающейся», а затем — к «умиротворенной». Опи-
сание совершенствования духа (рух) часто метафорически пред-
ставляется как путь мотылька к пламени свечи, так называемый
путь «уверенного постижения» Абсолюта. Первый этап «уверенно-
го знания» (илм ал-якин) достигается, когда адепт-«мотылек»
слышит описание пламени (вспомним, Парасрам впервые услы-
шал о пламени от рыбака), и означает заочное, теоретическое
освоение доктрины Пути. Второй этап «уверенного видения» (айн
ал-якин) преодолевается, когда адепт видит пламя своими гла-
зами. Этот этап «нарабатывается» в ходе суфийской практики. На
третьем этапе «совершенной уверенности» (хакк ал-якин) «моты-
лек» сгорает в пламени, т.е. путем аннигиляции своего «я»,
приобщается к просветляющей Истине [3, с.7-8 ].
Пути восхождения «женской» души и «мужского» духа взаимо-
дополняют друг друга — каждой стадии трансформации нафс со-
ответствует определенный этап совершенствования рух. У Мира
эти параллельные пути как бы «разведены» по двум маснави , и
доминанта одного или другого объекта просветления задает смыс-
ловые, образные и стилевые акценты в двух абсолютно сим-
метричных сюжетах. В обеих поэмах персонажи группируются по
неким треугольникам: в РЛ это «герой — нянька — девушка»; в
ПЛ — «Парасрам — друг — жена Парасрама». Как видим, в пер-
вом случае даже численно преобладают женщины, во втором —
мужчины. «Путь души» приводит героев к гибели в «женской
стихии» воды; «путь духа» влечет их к смерти в огне, стихии
«мужской». Одинаковы и функции «промежуточных членов» этих
двух треугольников: няньки и друга. Руководствуясь сообра-
жениями «пошлого» здравого смысла и ложной эгоистической лю-
бовью к своим подопечным, они создают ситуацию рокового испы-
тания, которое в конкретном сюжетном плане вызывает смерть
любящей пары.
251
Симметричны и ролевые функции главных героев обеих поэм:
в «женской водной» среде объектом стремления является Возлюб-
ленный, а субъектом поисков — девушка; в «мужской огненной»
среде все наоборот: мужчина ищет Возлюбленную. Вторая ситу-
ация, несмотря на внешнюю «индийскую» окраску, более тра-
диционна для суфийской литературы.
«Водная» или «огненная» парадигма той или иной поэмы задает
не только сюжетно-образную структуру, но и ее лексическое
оформление. Так, в РЛ наиболее общеупотребительные слова как
индийского, так и арабо-персидского происхождения, из «водяно-
го» ряда: «река» (дария, нади)\ «море» (бехр, самундар, сагар),
«вода» (аб, пани, джал), «волна» (маодж, лехр, таранг), «канал»
(нала), «водоем» (талаб), «водопад» (абшар), «водоворот»
(гирдаб), «источник» (чашма), «водяной пузырек» (хабаб), «пена
на воде» (джаг), «ныряние, погружение в воду» (гота), «тонуть»
(дубна, гота марна), «ныряльщик» (гаввас) и т.д. Ключевые слова
и термины ПЛ принадлежат к «огненному» ряду: «огонь, пламя»
(аг, атиш, шоала), «искры» (шарар), «жжение» (созиш, джалан),
«гореть» (джална), «языки пламени» (лапат, джавала), «жар»
(man, тапиш, харарат), «горячий» (гарм), «обожженный» (сох-
та), «горение» (соз-о-гудаз), «молния» (барк), «вспышка» (ле-
хак), «дым» (дхуан), «угли» (ангаре), «пепел» (ракх) и др.
Эти слова, однородно распределяющиеся по тексту, активно
концентрируются в бейтах, имеющих особую, с доктринальной
точки зрения, важность:
Ясно было, что тот жгучий, рассыпающий искры огонь
Сжег дотла этого превращенного жаром любви в окалину
(ПЛ,212).
Здесь он погрузился в бурлящую воду, словно пузырек,
И пошел на дно, как ныряльщик в глубоком водовороте
(РЛ,236).
Иными словами, нарастание «водяной» или «огненной»
лексики в бейтах происходит ближе к концу поэмы, по мере выхо-
да на поверхность ее доктринального «скрытого» смысла, и
достигает апогея при описании гибели влюбленных, пережива-
ющих состояние фана.
Таким образом, непритязательное на первый взгляд сюжетное
содержание двух маснави Мира Таки Мира содержит разветвлен-
ную аллегорию доктринальных идей суфизма. Кажущаяся просто-
та таит символическую сложность, доступную посвященным.
Ставшие жертвами Истинной любви герои поэм Мира обрели веч-
ную жизнь после смерти: поистине, они «в огне не горят и в воде
не тонут». Пройдя все мыслимые испытания, они стяжали вдоба-
вок и вечную славу среди людей, разнесенную по миру «медными
трубами» поэзии. Но эта слава должна была не соблазнять, а
252
служить предупреждением в равной мере мирянам, которых под-
карауливают превратности земной любви, и мистикам, вступа-
ющим на трудный путь Любви Небесной.
ПРИМЕЧАНИЯ
Здесь и далее в скобках указываются номера бейтов поэм по изданию, приве-
денному в Литературе [1].
Строго говоря, этапы совершенствования духа (наряду со стадиями восхож-
дения души) описаны и в РЛ. Вспомним, девушка сначала слышит от няньки о гибели
героя («уверенное знание»), затем видит место его гибели («уверенное видение») и,
наконец, присоединяется к нему («совершенная уверенность»). Однако с учетом
основной «водной» (женской) символики РЛ этот аллегорический ряд не является
для поэмы доминантным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Куллият-е Мир (Собрание сочинений Мира). Изд. Ибадат Барелви. Карачи,
1958.
2. Рисала-е Шах Абдул Латиф (Послание Шаха Абдул Латифа). Хайдарабад
(Синд), 1963.
3. BahtiarJL Sufi. Expressions of the Mystic Quest. London, 1976.
4. Schimmel A, Classical Urdu Literature from the Beginning to Iqbal. — A History of
Indian Literatures. Vol. VIII. Wiesbaden, 1975.
5. Schimmel A. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill, 1975.
6. ShararA.H. Lucknow: the Last Phase of an Oriental Culture. London, 1975.
АН.Мещеряков
ПОЭТИЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ
КАК ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В исследованиях по национальной психологии неизменно отме-
чается умение японцев вести диалог. При этом подразумевается
искусство слушать и слышать собеседника, не навязывать ему соб-
ственных взглядов, постоянно учитывать его интересы и прихо-
дить к компромиссным решениям, принимающим во внимание
потребности всех сторон. Подобное свойство национальной психо-
логии позволяет поддерживать высокий уровень социальной
стабильности и смягчать проявления межличностной, классовой и
общественной конфронтации.
Формирование «человека диалогического» имеет длительную
историю, выраженную в различных сферах жизнедеятельности.
Формы организации и бытования поэзии, возможно, дают пред-
ставление о диалогической доминанте японской культуры с наи-
большей наглядностью.
Диалогическая сущность поэзии видна уже в самых ранних ее
образцах, зафиксированных в мифологическо-летописных сводах
«Кодзики» (712 г.) и «Нихон секи» (720 г.). Всегда вложенная в ус-
та конкретных персонажей прозаического повествования, поэзия
(при условии запрета на обычную коммуникацию) становится
эквивалентом прямой речи, обычно маркируя, как отмечает
Л.М.Ермакова [2, с.66 ], ритуально значимую ситуацию (сватовст-
во, свадьбу, пир, похороны, обмен дарами и т.д.). Именно с по-
мощью поэтических средств персонажи ведут диалог в моменты
наибольшей эмоциональной и ритуально-этикетной напряжен-
ности.
Современные исследования раннеяпонской поэзии доказыва-
ют, что уже первая поэтическая антология «Манъёсю» (вторая
половина VIII в.) представляет собой не просто некоторое соб-
рание более или менее случайных стихотворений, включенных в
©А.Н.Мещеряков, 1995
254
антологию по принципу наивысшего признания произведения сов-
ременниками. Немногочисленные образцы поэзии, сохрани-
вшиеся от этого времени помимо «Манъёсю», также свидетельст-
вуют о том, что отдельное стихотворение не обладало самодоста-
точным смыслом и получало санкцию на существование, лишь
будучи включено в некоторую последовательность, где оно образо-
вывало один из ее элементов [7; 8, с. 138-139 ].
Этот/принцип получил усиленную разработку в позднейших
антологиях, где каждое стихотворение обретает истинный смысл
только в том случае, если оно воспринимается как продолжение
предыдущего, отклик на него, диалог с ним. Данное свойство про-
является как в коллективных сборниках (антологиях), так и в
личных собраниях. Диалогичность, таким образом, может пони-
маться не только как обмен репликами между отдельными
поэтами, но и как обмен смыслом между произведениями, принад-
лежащими одному и тому же лицу.
Диалогичности литературной, т.е. структуре письменного тек-
ста, соответствовала диалогичность на уровне порождения стихот-
ворения: несколько поэтов на пиру поочередно импровизировали
на заданную тему (примером может служить серия «Манъёсю»,
№ 815-846, посвященная цветению сливы, где стихи располагают-
ся в хронологическом порядке — в порядке естественной смены
описываемых явлений природы: от начала цветения до опадания
лепестков). Фольклорная, обрядовая подоснова такого рода сочи-
нительства очевидна: его условием является санкция коллектива,
выносимая при соблюдении определенных ритуальных (этикет-
ных) правил поэтического действа, которое создает общий для его
участников корпус текстов (общая культурная память) и подтвер-
ждает с помощью этикетных и литературных средств единство
группы.
Таким образом, диалогичность японской поэзии (а вместе с ней
и культуры вообще) не имеет ничего общего с тем, что понимается
под диалогичностью культур древней Греции или же Китая (о пос-
ледней см. [3 ]), которые можно было бы определить как «диалог
диспута», основная цель которого — наилучшее обоснование соб-
ственной точки зрения. Диалогичность в ее японском истолко-
вании ставит задачей прежде всего гармонизирование собственно-
го высказывания с высказываниями партнера по диалогу.
После составления «Манъёсю» японоязычная поэзия (вака)
вытесняется китаеязычной поэзией (канси) на периферию офи-
циальной литературной жизни. Это отнюдь не означает, однако,
что японоязычная поэзия прекратила свое существование. Ее
периферийность по отношению к придворной культуре означала,
что степень ее письменной фиксации сильно уступала китаеязыч-
ной поэзии.
255
Вторая половина IX в. отмечена нарастанием активности всех
форм традиционной японской культуры, включая поэзию.
Основной формой возврата вака к публичной жизни стали
поэтические турниры, сыгравшие впоследствии чрезвычайно важ-
ную роль в развитии поэзии, поэтики и литературоведения, а так-
же поставившие в 21 императорскую антологию около 7% корпуса
стихов [12, с.116].
Наиболее ранний известный нам турнир был проведен в доме
министра Аривара во время правления императора Коко (884-887)
или же непосредственно перед его восхождением на престол. За-
тем поэтические турниры стали проводиться достаточно часто.
Сведениями разной полноты мы располагаем о турнирах, про-
водившихся в 887, 888, 893, 896, 898, 901, 904, 905 гг. и позднее.
Всего же за период от первого турнира и до 943 г. состоялось не ме-
нее 40 состязаний [14 ].
Обобщенная модель проведения поэтического турнира, описан-
ная Хагитани Боку, выглядит следующим образом [13, с.13-19 ].
Подготовка к турниру начиналась приблизительно за месяц до
его проведения. Определялась тема турнира, а также состав сорев-
нующихся команд. После этого в некоторых случаях участники
состязания приступали к сочинению стихов или же просили об
этом известных авторов. В некоторых случаях стихи сочинялись
непосредственно во время турнира. (Характерно, что наиболее ча-
сто импровизация практиковалась на так называемы^ сэндзай
утаавасэ, во время которых сочинение стихов сопровождалось
посадкой растений и деревьев, т.е. непосредственно символизи-
ровало трудовой процесс, что свидетельствует об обрядовых исто-
ках турниров.) Одновременно каждая команда приступала к изго-
товлению одежд участников; столиков (фундай), на которые скла-
дывали прочитанные на турнире стихи; объемных макетов
(сухама) с изображениями скал, деревьев, цветов, птиц и т.п., т.е.
предметов, символизирующих тему турнира; светильников
(турниры обычно начинались вечером и проводились в поме-
щении). Для того чтобы достичь большей гармоничности пред-
ставления, команды могли заранее информировать друг друга о
своих оформительских проектах.
Перед началом турнира команды участвовали в синтоистской
церемонии очищения. Ранним утром придворные приводили в
порядок помещение, предназначенное для турнира: в центре уста-
навливался императорский трон, подготавливались места для
женщин, высших сановников и непосредственных участников, ко-
торые входили в залу в строго установленном порядке. После
представления участников устанавливались фундай и сухама ко-
манды «левых», а затем и «правых». Лишь во время турнира 961 г.
«левые» опоздали с приготовлениями, и порядок пришлось
256
изменить. Это создало исторический прецедент, и с тех пор время
от времени первыми свои принадлежности стала вносить команда
«правых». Затем устанавливались светильники и раскладывались
подущечки для юных придворных, в чьи обязанности входило ве-
дение счета в состязании, занимали свои места музыканты,
приглашались чтецы (кодзи), которые декламировали стихотво-
рения, подаваемые командами на столик фундай. В первых
поэтических турнирах в этой роли выступали обычно женщины.
Со временем, однако, вместе с широким проникновением слого-
вых азбук и в мужскую среду, а также с повышением авторитет-
ности сочинения на родном языке в качестве чтецов стали высту-
пать мужчины. Обязательно избирался судья, выносивший
решение о результате состязания по каждой паре представленных
стихотворений.
Турнир всегда начинался со стихов «левых». Стихи оглашались
чтецами. Затем на некоторых турнирах стихотворения декла-
мировались участниками. После определения победителя в первой
паре стихов соревнование продолжалось той командой, которая
была признана побежденной в предыдущем туре. В качестве нака-
зания часто использовалось сак —побежденным наливали
«штрафную чарку». За подведением общих итогов состязания
начинался пир. На следующий день победители устраивали благо-
дарственное моление.
Таковы общие принципы организации поэтических турниров.
Следует, однако, учитывать, что в каждом отдельном случае
могли вноситься определенные изменения, иногда достаточно су-
щественные: турниры были явлением живым, и многие их правила
зависели от воли устроителей [6, с.202 ].
Разумеется, проведение подобных турниров было предпри-
ятием во многом театрально-литературным. При дворе тогда по-
лучили распространение различного рода состязания: цветов, бла-
говоний и т.д. Однако не подлежит сомнению и фольклорная осно-
ва таких соревнований: широко известны состязания команд двух
деревень (по борьбе сумо, бросанию камней, поднятию тяжестей и
т.д.); такие состязания служили для различного рода предска-
заний [10]. Придворные же, усвоив общий принцип проведения
таких состязаний, попытались эстетизировать их. Напомним так-
же, что перекличка (а именно по этому принципу были организо-
ваны поэтические турниры: одна команда должна была развивать
образность, предложенную в стихотворении соперниками) чрез-
вычайно характерна для фольклорного поэтическо-песенного
творчества.
Собственно говоря, любое произведение можно представить
как сочетающее фольклорное и индивидуализирующее начало. Их
вариативность выступает как важной характеристикой данного
17 130
257
произведения, так и культуроразличающим признаком. Плодо-
творность подобного подхода была продемонстрирована Н.В.Бра-
гинской [1 ] на таком непривычном для фольклористики ма-
териале, как эпитафия.
Вообще говоря, поэзия в силу ограничений, накладываемых на
нее формой (являющейся продуктом коллективных представ-
лений), обладает по сравнению с прозой большей «инерцией
покоя» в сохранении фольклорного фонда. Фольклорная по своему
происхождению диалогическая доминанта свойственна японской
поэзии на всем протяжении ее эволюции. В условиях развитого
исторического сознания установка на диалог могла реализовы-
ваться в весьма неожиданных формах. Вплоть до конца XIX в.
пользовались популярностью «турниры», проводившиеся только
на бумаге. (Мы называем эти явления «турнирами» лишь за
неимением более подходящего термина.) В таких турнирах не бы-
ло участников, победителей и побежденных. Скажем, из каждых
ста песен первых трех императорских антологий выбирались по
три песни («команда левых»), а в стихи «правых» включались
произведения трех более поздних антологий (некоторые другие
примеры подобных «турниров» приводятся в [4 ]).
Вряд ли подлежит сомнению, что «ситуация диалога является
исходной предпосылкой коммуникативного процесса и в этом
отношении предшествует не только монологической форме выска-
зывания, но и феномену языка как такового», а скрытый диалог
обнаруживается в монологических по своему построению текстах
[5, с.З ]. Своеобразие литературного процесса в Японии VIII-IX вв.
заключается в чрезвычайно быстром переходе от фольклора к
литературе. Поэтому литература зачастую моделируег диалог как
ситуацию, не подвергая ее коренному переосмыслению.
Рассуждая об общих особенностях японской поэзии, один из
наиболее чутких современных исследователей, Марк Моррис,
отмечал, что «удачным стихотворением можно считать такое, ко-
торое обеспечивает успешный обмен, причем оно не обязательно
принимает внеобщественную форму, но само является зависимой
частью общественной деятельности. Как показывает дальнейшее
развитие вака, этот непосредственно диалогический, межтексту-
альный, трансперсональный характер вака становится второсте-
пенным для поэтов, которые во все большей мере переходят на
диалог с традицией как таковой» [9 ].
Поэтические турниры явились мощным механизмом, ограни-
чивающим центростремительность индивидуального творчества.
На первых турнирах новые стихи могли и не слагаться — зачиты-
вались стихи, сочиненные ранее. Это прежде всего свидетельству-
ет о -прочной связи участников с предыдущей поэтической
традицией. С другой стороны, подобное исполнение само по себе
258
можно считать элементом авторского отношения к тексту как к
коллективной памяти, ибо «исполнители» умели вполне свободно
оперировать отрезками поэтического текста, который хранился
культурой.
На примере бытования стихотворения в рамках «поэтического
турнира» хорошо видна сущность вака как феномена пограничного
между дописьменнои и письменной культурами. Порождение (или
квазипорождение) вака должно быть устным (моделировать уст-
ное) . Но после того как стихотворение обнародовано, оно записы-
вается и становится принадлежностью письменной культуры,
получая право вступать в новые сочетания и комбинации.
Пожалуй, одним из основных требований, предъявляемым к
стихам на турнирах, было элиминирование личности автора. Поэ-
тами заключался общественный договор, согласно которому они
обязывались вносить в стихи минимум инноваций, ограничиваясь
клишированным воспеванием общезначимых эстетических ценно-
стей. «Лицо» турнира определяла его тема, а не личности участво-
вавших в нем поэтов. Стихи турниров — это настоящая «поэма
без героя». Именно поэтому на поэтических состязаниях лучше
всего представлена сезонно-природная тематика, являющаяся,
безусловно, эстетической эманацией пантеизма синто. Стихов же
о любви намного меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из
общих тематических доминант японской поэзии.
На турнире, проведенном в 1120 г., судья, в частности, отме-
чал: «Песня "левых" не хороша. На прошлых турнирах таких
песен нет... Песня "левых" выражает собственные чувства. Такую
песню нельзя исполнять на турнире» (цит. по [11, с.266 ]). Это вы-
сказывание относится к тому времени, когда стихи с выражением
личных эмоций уже стали активно проникать в корпус поэти-
ческих турниров и приверженцы традиционных ценностей были
вынуждены вербализовывать свои поэтологические установки. В
период же зарождения поэтических турниров подобные вопросы
не возникали.
Обычно западные читатели (в том числе и исследователи)
японской поэзии склонны преувеличивать ее индивидуализм*.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что, несмотря
на ее «утонченность»,эта поэзия отнюдь не утеряла своих фольк-
лорных корней. Напомним, что текст «Кодзики» был записан с го-
лоса сказителя Хиэда-но Арэ чиновником Оно Ясумаро. Несмотря
на то что официальные хроники велись на китайском языке,
приводимые ими царские указы записывались на японском с
помощью привлечения иероглифов, употреблявшихся фонети-
чески. Таким образом, наиболее значимые государственные тек-
сты порождались устно. Только так они получали статус обще-
значимых.
17-2 130
259
Тем не менее китайский язык вытеснил японский из сферы
чиновничьей культуры, для которой он служит социально диффе-
ренцирующим фактором. Языковые навыки передаются чинов-
ничеством из поколения в поколение, как это происходит с тайной
передачей ремесла средневековыми мастерами. «Ремеслом» же
чиновников являются навыки обращения с письменной инфор-
мацией.
В сферах же с устной традицией передачи информации текст
может адекватно функционировать, лишь будучи передаваем че-
рез привычный канал трансляции. Придворная поэзия наследует
эту традицию, осмысляя ее, однако, как факт эстетический.
Стихотворение считалось сложенным лишь после его оглашения, а
самого поэта называли ёмибито 'человек декламирующий', 'де-
кламатор'.
Ограниченные в пространстве и социуме хэйанские аристокра-
ты жили во многом как фольклорный коллектив. И поэтический
текст, несмотря на его авторскую атрибуцию, ориентирован на
бесконечное воспроизведение, не выходящее за рамки канона. То
же самое происходит и в «настоящей» фольклорной среде: любой
из участников коллектива способен породить только ка-
нонический текст. Разумеется, аристократию можно квалифи-
цировать лишь как псевдофольклорный коллектив, потому что
безусловно существовавшие потребности
индивидуального творчества должны были найти свое художест-
венное воплощение. Так и произошло. Но не столько в поэзии,
сколько в прозе.
Наш анализ показывает, что диалогическая доминанта япон-
ской культуры-находит выражение как в структуре поэтического
текста (поэтические последовательности самого разного рода), так
и в формах бытования (обмен стихами, поэтические турниры,
этикетное винопитие с сочинением стихов). В ходе поэтической
деятельности такого рода вырабатывался и закреплялся тип
личности, постоянно «подстраивающий» себя к собеседнику, кано-
ну, традиции, что исключает в исторической перспективе появ-
ление такого культурного феномена, свойственного западной
цивилизации, как самообожествление человека, который при-
водит, с одной стороны, к раскрытию творческого потенциала лич-
ности, а с другой — к дестабилизирующим общественным и
экзистенциональным последствиям. Чрезвычайно характерно, что
подобный монологический (романтический) тип личности оказы-
вается, как правило, не в состоянии воспринять диалогичную
доминанту японской поэзии (а значит, и личности), и определен^
ная популярность этой поэзии на Западе имеет основой скорее
превратное, нежели адекватное, восприятие, что, впрочем, лиш-
ний раз доказывает универсальный, поликодовый смысл феномена
260
искусства, которое с успехом может быть использовано не по пред-
назначению.
ПРИМЕЧАНИЕ
Частичное объяснение преувеличения индивидуализма японской поэзии за-
ключается в отсутствии рифмы в японском стихотворении. Обычная для западных
языков передача танка верлибром игнорирует строгий ритмический рисунок япон-
ского стиха. Поскольку верлибр — явление в европейской поэзии позднее, то и
возникает тенденция переоценивать стадиальную зрелость японской поэзии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Брагинская Н.В. Эпитафия как письменный фольклор. — Текст: семантика и
структура. М., 1983.
2. Ермакова Л.М. Ритуальные и космологические значения в ранней японской
поэзии. — Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных
памятниках. М., 1988.
3. Кроль Ю.Л. Спор как явление культуры древнего Китая. —Народы Азии и
Африки. 1987, №2.
4. Мазурик В.П. Пространственно-композиционные приемы в японской средневе-
ковой поэзии как функция художественной целостности. — Язык и культура.
Новое в японской филологии. М., 1987.
5. Структура диалога как принцип работы семиотического механизма. — Труды по
знаковым системам. XVII. Тарту, 1984.
6. Ito Setsuko. The Muse in Competition: Uta-awase through the Ages. — Monumenta
Nipponica. XXXVII. 1982, № 2.
I.MillerR.A. The Footprints of the Buddha. An Eightcentury Old Japanese Poetic
Sequence. — American Oriental Series. Vol.58. New Haven, 1975.
8. Miller R.A. The Lost Poetic Sequence of the Priest Manzei. — Monumenta Nipponica.
XXXVI. 1981, №2.
9. Morris M. Waka and Form, Waka and History. — Harvard Journal of Asiatic Studies.
1986, vol.46, №2.
10. Sakurai Tokutaro. Japanese Festivals. Tokyo, 1970.
11. Вака бунгаку кодза (Лекции по литературе вака). Т.З. Токио, 1984.
12.Минэгиси Ёсиаки. Утаавасэ-но кэнкю (Исследования поэтических турниров).
Токио, 1958.
13. Утаавасэсю (Сборник поэтических турниров). — Серия «Нихон котэн бунгаку
тайкэй». Т.74. Токио, 1969.
14. ХагитаниБоку. Хэйантё утаавасэ (Поэтические турниры периода Хэйан). Т.1.
Токио, 1957.
17-3 130
Е.М.Дъяконова
О ВОЗМОЖНОМ И НЕВОЗМОЖНОМ
В ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ
Стремясь выяснить границы поэтического жанра трехстиший,
зародившегося в XV в. и существующего и по сей день на равных с
прочими классическими и «новыми» (назовем их так условно)
жанрами, зададим себе вопрос, что дурно, а что прекрасно, что
можно, а что нельзя, что грубо, а что возвышенно, что блестяще, а
что тускло (и что лучше: блестящее или тусклое) в жестко уста-
новленной системе координат. Нас также будет интересовать спо-
соб возведения упомянутой системы координат, поскольку до на-
чала XX в., когда была создана, так сказать, «ретроспективная
поэтика» жанра хайку (о котором речь впереди), никаких осново-
полагающих теоретических трудов написано не было.
В XVII в., когда жанр трехстиший начал приобретать клас-
сические очертания, что было связано с творчеством лучшего
сочинителя хайку Мацуо Басе (до этого трехстишия понимались
как жанр комический, задорный, «несерьезный»), появились мно-
гочисленные комментарии к стихотворениям, различные «заме-
чания по поводу», «сравнительные этюды» и проч. Эта разъ-
яснительная традиция ширилась и углублялась вплоть до начала
XX в., и первая теоретическая поэтика, созданная «четвертым
великим поэтом хайку» Масаока Сики , несомненно, основыва-
лась на ставших классическими комментариях, сросшихся с тек-
стом собственно стихотворения, неотделимых от него. Коммен-
тарии Басе к разным стихам хайку — хорошим и плохим, т.е.
правильным и неправильным, — время и авторитет поэта сделали
непререкаемыми для адептов жанра. Часто стихотворение ста-
новилось известным благодаря эффектному комментарию и
вспоминалось затем только в связи с ним, причем часто коммен-
тарий «перевешивал» поэтический текст, был более значим для
традиции. Сращение знаменитого комментария со стихотво-
рением — удачным или неудачным — неважно! — порождало но-
вое единство: таким образом возникали своеобразные поэтико-
© Е.М.Дьяконова, 1995
262
критические антологии, где оппозиция «художественный текст —
комментарий» создавала напряжение, разрешающееся позитивной
либо негативной оценкой стихотворения (типа: «Как удар ме-
чом!», «Как будто разрезали арбуз!», «Как пахнут свежие огур-
цы!» и проч.).
Басе никогда не описывал правила сложения хайку. Один из
исследователей его творчества [2, с.127 ] отмечал, что, создав мно-
жество «суждений о стихах», он «всегда останавливался, когда
приходило время суммировать и делать выводы, опасаясь ограни-
чить поэтическое воображение». Записанное слово учителя как бы
застывает, становится жестким, ригористичным, а смутно-афо-
ристическая устная речь оставляет художнику множество возмож-
ностей для интерпретации. Афоризмы Басе о поэзии, его мнения
более высокого порядка, нежели просто «замечания по поводу»,
фиксировались обычно его учениками (говорят, их было не менее
двух тысяч). Причем записывались такие суждения в жанре
«Учитель сказал... » , освященном тысячелетней традицией
(вспомним Конфуция).
Для наших целей особенный интерес представляют те «разъяс-
няющие трактаты» Басе, которые были написаны по поводу
поэтических состязаний. Турниры поэтов, сочинявших пятисти-
шия, устраивались еще в раннее средневековье; традиция эта была
унаследована и поэтами-хайкуистами. Собственно критика и
теория жанра хайку и рэнга выросла, по мнению некоторых
исследователей (Мидзухара, Уэда), из необходимости оценивать
стихи, выбирать лучшие из двух и более стихотворений. Из ком-
ментариев к паре стихотворений, написанных разными поэтами
на турнире, либо просто по заданию учителя (Басе задает тему
(дай) сидящим вокруг него ученикам), особенно отчетливо
вырисовываются границы возможного в поэзии, а в терминологии
самого Басе нет черного и белого, хотя иногда он может сказать:
«Плохо!» или «Хорошо!». Он не говорит определенно «да» или
«нет». Со свойственной японцам непрямотой он лишь намечает
путь. Его советам нелегко следовать, они неявны, неопределенны,
и уж тем более нельзя воспринимать его суждения как рецепт:
каждое новое стихотворение должно разрешать тему иначе . Ре-
шение должно быть каноническим, но каждый раз свежим и обя-
зательно спонтанным, резким («Как разрезают дыню!»).
Комментарии Басе так же резки, моментальны, афористичны,
как и поэтические тексты, — у них одна природа, что, несомнен-
но, связано с дзэн-буддийским представлением о мгновенном
просветлении (сатори), которое сродни неожиданному удару.
Разъяснения Басе к хайку, рассыпанные по его трактатам, по
записям учеников, производят впечатление мозаики, бесконечно-
го нанизывания на одну нить отдельных фрагментов, которые тем
17-4 130
263
не менее создают в конце концов ощущение цельности. Цепочки
стихотворений хайку (так же мелких фрагментов, складыва-
ющихся в единую большую картину — известны циклы хайку,
поэтические дневники в жанре хайку и проч.) рождают первый
уровень рефлексии — комментарии учителя. Одно или два
стихотворения давали повод высказать суждение, а наращивание
такого рода оппозиций (образец — разъяснение) превращалось в
единое собрание неявных и ненаправленных наставлений о том,
как следует сочинять стихи.
Добавим, что существуют и другие уровни рефлексии. Совре-
менные издания подобных текстов обрастают: (1) мощными пост-
раничными комментариями к текстам и комментариям учителя
(причем именно они располагаются в верхней части страницы и
первыми бросаются в глаза); (2) отсылками и объяснениями уже
третьего порядка, которые располагаются в конце книги (что-то
типа развернутых примечаний). Складывающийся в сознании сов-
ременного читателя (которого мы назовем имплицитным, как бы
единым для всего жанра, так же как и автора, поскольку хайку
лишены индивидуальности) образ поэтического произведения сте-
реоскопичен. Отметим еще раз, что поэтический текст часто лишь
предлог для изложения мысли учителя. Подобное «унижение» ху-
дожественного текста необходимо для проведения совершенно
четких и даже резких границ возможного в поэзии, например в
системе координат «га ('изящное') — дзоку ('грубое')». Перевод
этих понятий весьма условен, но приходится принять эту печаль-
ную дословность за неимением лучшего .
Диалог учителя и ученика понимается как бесконечный ряд
действий и откликов; стихи, если проследить цепочки рэнга и
циклы хайку, возникают по принципу резонанса: отклик рождает
отклик. Вырисовывается бесконечная перспектива неиссякающего
потока трехстиший (так, количество стихотворений хайку,
сочиненных во времена Басе, не поддается никакому учету).
Басе сравнивал неудачное стихотворение с деревянным мечом,
и это еще раз наводит на мысль о творчестве как о мгновенном
ударе. Каждый момент бытия так быстротечен, что исчезает,
почти не обретя облика, стихотворение — это способ снять мгно-
венный слепок с него, задержать мгновение, назвав его. Причем
каждый запечатленный фрагмент бытия самодостаточен, даже
если сцена пуста. В трактате «Восемнадцать раундов поэтического
состязания» Басе писал: «В стихотворении на тему "цветение
вишен" может не быть вишен» [5, с.97 ]. И приводит хайку неизве-
стного автора, где говорится о том, что автор в конце весны
вспоминает об отцветших цветах, вдыхая запах свежей зе-
лени:
264
Уэно ираи И вот в парке Уэно
Л оба дзо каору Аромат источают зеленые листья.
Босюн-но ядо Ночлег поздней весной.
Здесь звучит почти прустовский мотив «послевкусия»: поэт
вспоминает о прошедших стихах, вдыхая запах листвы. Воспоми-
нание ярче и выпуклей, чем настоящий момент, и имеет большую
цену в глазах учителя.
Изображение чего-то через отсутствие — прием, особенно
одобренный Басе. Хорошо известен его комментарий к хайку
анонимного автора на ту же тему «цветение вишен»: все ушли
смотреть на цветение вишен, в городе никого, опустели все ма-
ленькие театрики:
Ханадзакари Цветение вишен.
Ёмо-но сибаи я Повсюду в театрах
Аки-но мурэ Поздняя осень.
Басе комментирует: «Актеры и владельцы театров чувствуют
себя как бы на опустевшей сцене, где нет цветущих вишен» [5,
с.232 ]. В театрах пусто и грустно, там как бы осенний вечер.
С точки зрения сочинителя, хорошо, но поверхностно ус-
воившего канон поэзии хайку, в этом стихотворении есть сущест-
венный изъян — нарушена «связь вещей» (ториавасэ). Вещи, на-
зываемые в трехстишиях, должны резонировать с абсолютной точ-
ностью. Общий тон задает обязательное называние сезона с
помощью «сезонного» слова, которое может быть для европейца
самым неожиданным (например, «зеркало» обозначает осень,
потому что оно связано с луной, а самая яркая луна бывает ранней
осенью и т.д.). Названный сезон как бы «призывает» вполне опре-
деленные, строго канонизированные разряды вещей, цветов, зву-
ков, запахов и т.д. Так, например, в теме осени, по нормативной
классификации тем, различаются «пять ветров и десять дождей»
(гофу дзюю)у входят в эту тему и «семь трав осени», из которых
самая печальная — трава оминаэси (т.е. патриния) 'несущая
печаль'. Известно классическое хайку Кисэя (XVIII в.):
Харанака-ни Не пойти ли
Хитори куруру ка В поля одному?
Оминаэси Трава оминаэси.
Принцип соответствия, в основе которого, по мнению некото-
рых исследователей, лежит известная оппозиция «инь—ян», «за-
ставляет» поэта выбирать слова либо «теневые», либо «светлые»,
причем в поэтике хайку классического периода первые пред-
почтительней. В приведенном же выше стихотворении «поздняя
осень» оказывается, по мнению учителя, уместна в сочетании с
цветением вишен, поскольку великолепно передает атмосферу
пустоты, отсутствия, грусти и одновременно — тоску по цветам,
265
которыми любуются другие. Здесь произошло истинное, а не фор-
мальное «связывание вещей», обнажение картины настоящих
чувств, а заодно и красоты недостижимых цветущих вишен . Как
бы независимо от поэзии до поэзии существует целый мозаичный
мир отдельных слов-образов, рассчитанных до того, как их потре-
бует «воля» художника (по-японски и по-китайски и переводят
еще и как *идея\ 'замысел'). Уже называя тему стихотворения
{дай), художник «понуждает» вещи располагаться определенным
образом, как магнит заставляет железные опилки располагаться
по силовым линиям. Так, тема «песня цикады» непременно вызы-
вает к жизни «осень», «белые скалы», «грусть» и другие «вещи
печального ареала» (по словам Масаока Сики).
Долгие беседы Басе с учениками о том, что допустимо в поэзии
хайку, а что нет, что «изящно», а что «грубо», а значит и невоз-
можно, завершились созданием довольно строгой классификации
названий «вещей». Споры о том, изящна или груба сурепка, лай
или даже вой собаки, стук валька на реке, закончились водво-
рением всех этих «вещей» в сфере поэзии. Но типологически сход-
ные споры не смолкали до XX в., когда обсуждалась возможность
употребления новых слов: «поезд», «телеграмма» и др. Интерес
представляет и то, что в стихотворениях японских модернистов
начала века традиционные образы, от которых они, несмотря на
свой яростный авангардистский вызов, никак не могли
отрешиться, предстают в резком, так сказать, «усиленном» виде.
Так, отдаленный лай собаки в классическом хайку транс-
формируется в «Вою на луну» (название эпатирующей книги
стихов Хагивары Сакутаро).
Еще один пример отсутствия главного героя в стихотворении;
на него обратил внимание Уэда [2, с. 134]. Здесь разоблачение
главной темы стихотворения — сияющей луны — происходит при
помощи весьма почитаемого японцами приема — литературной
реминисценции. В хайку анонимного автора
Имо уэтэ Растет батат.
Амэ-о кику кадзэ-но Слушаю дождь. Ночлег
Ядори кана На ветру.
Басе увидел не названную здесь и невидимую луну, так как в
те годы, как пишет Уэда, в Японии было популярно стихотворение
малоизвестного китайского поэта эпохи Мин Мэн Шуна: «Дожде-
вая вода, текущая с листьев, / сочетается с лунным светом, пада-
ющим на банановые листья».
Басе проповедовал не отстранение от предмета описания, а рас-
творение в нем (вспомним хрестоматийное: «Учись у бамбука, что
такое бамбук»; и более того — требовалось и самому «стать бамбу-
ком»). Поэтому предметы в поэзии хайку как бы излишне
266
приближены к зрителю, пропорции их несколько смещены, они
вырастают в размерах, поэт пристально вглядывается в них, при-
поднимая. Некоторые исследователи [2, с Л 35] считают, что
сродни взгляду Басе на предметы мнение драматурга Тикамацу
Мондзаэмона (XVIII в.) о том, что человек на сцене говорит
правдивее, чем человек в жизни; то, что он «приподнят», делает
его слова истинней.
Японская эстетика всегда отдавала предпочтение правде
поэзии перед правдой жизни. Знаменитая писательница Мурасаки
Сикибу (X в.) ставила литературное произведение выше исто-
рического и видела в нем больше правды. Уэда, например, счита-
ет, что все эстетические теории, созданные в Японии под вли-
янием буддизма, видят в реальности лишь иллюзию, а высшую,
истинную реальность полагают в искусстве [2, с.98 ].
Создатель эстетики театра Но Дзэами сравнивал художника с
сосудом, который вмещает в себя вселенную, он — зеркало, все
отражающее, он, как кристалл или вода, прозрачен и может про-
пускать через себя все цвета. Басе сравнивал поэта и художника с
Бодисатвой с тысячью глаз и тысячью рук: он все видит и все охва-
тывает. Цель поэта (художника) не имитировать объект, а по-
стичь его внутреннюю природу. Поэтому Басе полагал, что поэт —
это еще и образ жизни; сам он в монашеском платье, с котомкой
ходил один по стране, страстно вглядываясь в предметы. Сосредо-
точение на предмете с целью проникнуть в его внутреннюю фор-
му, освободиться от всего, что не имеет к нему отношения, забыть
о еде и питье помогает создать в своей душе состояние, когда оза-
рение само снизойдет на поэта.
Басе советовал ученикам никогда не возвращаться к написан-
ному стихотворению, не переделывать, не улучшать, а писать,
«как рвут ткань». Самое важное — это состояние души, эстетичес-
кое наполнение, а стихи должны сами «расти», «становиться», а не
«делаться». Масаока Сики называл одного из лучших учеников
Басе Кикаку «мгновенным» — он писал стихи, как «единым махом
подрубают лопух или редьку» [9, с.396]. Вместе с тем, по насто-
янию учителя, стихи должны «естественно изливаться из глубины
сердца».
Прямое выражение чувств в стихах неизменно порицалось.
Восклицания типа «О, радость!» портили самые лучшие стихи. Ра-
дость или печаль должны были быть «переплавлены» в ряды ка-
нонизированных образов. «В стихах хайку нет личного чувства :
одиночество и печаль человека, потерявшего близких, лучше все-
го передается изображением дождя, льющегося ночью на большие
листья банана, пением цикады в белых скалах — это' печально»
[2, с. 128]. Слишком явные эмоции, конечно же, «грубы» (дзоку).
Басе писал, что, печалясь, человек делает грусть своим гос-
267
под ином, но «все, что видит обладающий поэтическим духом, ста-
новится цветком, все, что он воображает, становится луной» (цит.
по[2,с.139]).
Известны рассуждения ученика Басе Сико о «холодных» и
«теплых» хайку, имеющие в своей основе ту же оппозицию «инь—
ян». Однако мы увидим, как сложно взаимоотношение «холодно-
го» и «теплого» (либо «тусклого» и «блестящего», «ярко блещуще-
го» и «теневого»). Сико приводит стихотворение Басе:
Кимбё-но На ширмах золотых
Мацу-но фуруса ё О старость сосны!
Фуюгомори Зимой [я] один.
Он замечает, что если бы ширмы были не золотые, а серебря-
ные, то стихотворение не удалось бы. Традиционное сочетание
слов-образов, извлекаемое из контекста жанра темой этого трех-
стишья, — «старость», которая несомненно белого, серебряного
цвета , «зима», «старая сосна», «печаль», «одиночество», «седина»,
«увядание». Однако, разгадывая замысел Басе, его ученик разво-
рачивает другую ассоциацию. Не отрицая, что «серебряное» — это
«холодное», а «золотое» — это «теплое», он пишет, что учитель
изобразил здесь старающегося согреться старого человека, отго-
родившегося от зимнего мира золотой ширмой, на которой изобра-
жена сосна. И ширма, и сосна, и старость их как бы перенесены на
героя стихотворения. «Душа вещей в этом хайку — старая и теп-
лая» [2, с. 132]. Назвав ширмы золотыми, поэт с помощью одного
лишь слова проник «глубже поверхности» вещей; «золотое» навея-
ло представление о внутренней форме вещей.
В стесненном пространстве хайку невозможно никакое
описание вещи, а лишь ее называние, которое сродни внушению.
Истинное содержание (омомуки), т.е. постижение сущности ве-
щей, которому предшествует «воля» автора (и), облекается в сло-
весную оболочку (гэнго) и принимает соответствующий облик (су-
гата) . То, что сосна в этом хайку изображена на ширме, т.е. мы
видим изображение изображения, восходит к китайской традиции
«стихи к картине» (в стихах описывается не реально существу-
ющий пейзаж, а картина) и создает следующий порядок отстра-
нения и позволяет полнее ощутить «старость» как понятие абст-
рактное, не связанное с конкретной сосной, а лишь с ее образом.
Понятие «сочетание вещей», провозглашенное Басе, породило
осознание многими поэтами различных типов связей между ве-
щами. Отношения эти могут строиться по типу «аромата» (ниои),
по типу «отсвета». Пример отражения одного стихотворения в дру-
гом, как в зеркале, отыскивается в сборнике рэнга школы Басе
«Плащ обезьяны», составленном крупным поэтом Кёраем:
268
Юдзуки-но В смутном свете
Оборонно маю-но Вечерней луны прекрасна
Уцукусики [Красавицы] бровь.
Косибагаки ери Из-за ограды
Кагамитоги ёбу Кричит полировщик зеркал.
Напомним, что трехстишие и ответное двустишие сочинялось
разными авторами, но здесь мы видим удивительное единодушие
«воли», «сущности» и «отклика». Стихотворения соотносятся как
зов с откликом, как свет с отсветом. Основная идея этой поэтичес-
кой пары — «смутность». В тусклом свете луны красавица не
видна и даже не упомянута, говорится только о ее брови. Японки
по традиции выщипывали себе брови и гораздо выше, на середине
лба, ставили два расплывчатых, почти круглых пятнышка туши.
Так что в неясном свете луны мы видим только ее слабое подо-
бие — и более ничего. Сцена почти пуста: на небе — вечерняя лу-
на, на земле маячит пятнышко туши в туманном, неясном, зыб-
ком свете (оборо). В двустишии изображена ограда (плетенная из
хвороста — косибагаки), но полировщика зеркал мы не видим,
слышим только его крик. Это хорошо сочетается с отсутствием
красавицы в трехстишии. «Зеркало» — это добротная ассоциация
к луне, тем более смутной. Ведь полировщик пришел, а значит,
зеркало помутнело, и требуется полировка. Но зеркала-то, по сути
дела, тоже нет. Нам дали услышать только крик полировщика:
«Полирую зеркала!». Лейтмотив этих двух стихотворений —
отсутствие, через которое актуализируется идея смутности.
Известнейшее собрание суждений Басе о поэтическом турнире
называется «Соревнование ракушек». Тридцать раундов турнира
хайку открывается, например, в первом раунде стихотворениями
поэта Сико (левая сторона) и поэта Гисэя (правая сторона). Около
иероглифа «левая» стоит пометка «победа» — это значит, что Басе
отдал предпочтение «левому» стихотворению.
Левая сторона. Победа Сико
Ниои ару Ароматом голос напоен.
Коэ я киёра буен [Как] коленце стебля алоэ.
Утаи дзо Первая песня.
Правая сторона Гисэй
Хару-но ута я Весенняя песнь.
Футоку дэси Низкий [голос] доносится.
Утаи дзомэ Первая песня.
Комментарий учителя немногословен: «Левое стихотворение
[победило ]. "Аромат" — слово высокое; необычно и то, что
алоэ — это растение, что цветет раз в тысячу лет.
Правое стихотворение — еще одна весенняя песнь. "Петь
низко и громко"—так уже говорили. Поистине, за "высокий
269
звук" хвалю, в песне красивый голос — главное, а владение голо-
сом — потом. И все же в сердце мне проник голос, напоенный аро-
матом. И потому левая сторона победила» [2, с.253 ].
Современный комментатор Ямамото Сиро пишет о левом
стихотворении, что слово «аромат» для Басе удача в данном слу-
чае, ибо это ассоциативное слово (это), твердо связанное в кано-
не с «алоэ». Поскольку для данного стихотворения самое важное
то, как звучит первая в Новом году песня, то слово «аромат», по
закону «связи вещей», совершенно адекватно ситуации. (Ямамото
буквально пишет: «В данном случае сущностно и изысканно».)
Алоэ — важный компонент в искусстве составления благовоний; в
хвалебных стихах и песнях веселых кварталов алоэ играет роль
золота и серебра, т.е. драгоценностей.
«Первая песня» — это обозначение Нового года, праздника вес-
ны, поскольку в начале нового года принято было сочинять стихи.
Басе говорил ученикам, что главное в творчестве поэта хай-
ку — это создание «истинного пейзажа», т.е. проникновение в
сущность вещей с помощью предметов обыденной, простой и
непритязательной жизни. Провозглашенный некогда основопо-
ложником чайной церемонии Рикю (XVI в.) идеал ваби означал,
по мнению некоторых исследователей, «объективацию естествен-
ности, культивирования опрощения и даже несовершенства в ка-
честве нормы красоты» [11, с.40 ]. На первый план выступают про-
стота, бедность, сдержанность, идея «одной черты», т.е. скупости в
изобразительных средствах, но и глубины, поскольку «одна черта
уходит в бесконечность» [3, с. 139]. Сравнение стихотворения с
«одной чертой», с «единым ударом кистью» не случайно проводил
и Масаока Сики: «Каждый удар кисти заключает в себе полноту
жизни» [8, с.368 ].
В хайку, по наблюдению многих, нет натурализма, достовер-
ности. Провозглашенный Басе принцип фуэки рюко (где фуэки
обозначает 'вечное', 'всеобщее', 'дальнее', а рюко—'близкое',
'сиюминутное', 'текущее') не дает поэтической картине стать
слишком конкретной, в ней всегда будет существовать некая «раз-
мытость», «смутность», приближающая ее к вечному плану . Раз-
деление вещей на «далекие» и «близкие» позволяет выявить красо-
ту скрытую, теневую с помощью слов, называющих повседневные,
«простые» вещи, создать «истинный пейзаж».
Объем настоящей работы не позволяет проследить, как для
поэтов хайку всех поколений важна была преемственность, вне
которой их творчество не могло существовать. Важно было, как
мир был увиден предшественниками; опыт каждого поэта вмещал
и все предыдущее, ценное потому, что это видели другие. Басе с
сожалением говорил о своем любимом ученике Кёрае, что он «не
искал пейзажей прошлых стихов» [9, с.368 ]. А о другом ученике
270
Басе — Рансэцу с похвалой отзываются поэты следующих поко-
лений: «Стиль Рансэцу... — это в конце концов способность под-
ражать другим» [9, с.396 ].
В таком контексте понятно, например, что смерть Басе стала
канонической темой поэзии хайку. Стихи на смерть Басе были
сочинены всеми его учениками, а также многими поэтами после-
дующих эпох.
Лучшее стихотворение на смерть «великого старца» по позд-
нейшей классификации принадлежит кисти Рансэцу:
Когараси-но Бурным ветром
Фуки яри усиро Унесенный его силуэт
Сугата капа [Еще виден] со спины.
Приведем здесь предсмертное стихотворение самого Басе (это
тоже стало традицией, существующей до настоящего времени):
Таби-ни яндэ В пути занемог.
Юмэ ва карэ но-о И сон по высохшим полям
Какэмэгуру Бежит-кружит.
Написанное перед смертью хайку Рансэцу признано класси-
ческим:
Хитоха шири Падает лист.
Тоиу хитоха тиру Еще падает лист.
Кадзэ-ноуэ Поверх ветра ... [летит].
В этих стихотворениях есть все необходимые приметы осени:
высохшие поля, кружащий ветер, опавшие листья, которые
«переплавляются» в «старость», «конец», «смерть». Здесь торжест-
вует провозглашенный Басе принцип «легкости» (каруми),
понимаемый как идея скольжения по поверхности бытия, поддер-
жанная четким выбором «видимых вещей» (миру моно — термин
Масаока Сики). «Видимые вещи», представленные «так, как они
есть» (соно мама-но ари), т.е. в их «таковости», самим своим
обликом навевали вечное, непреходящее [9, с.398 ], то сущност-
ное, что и составляло предмет искусства. Постижение непознавае-
мого происходит в поэзии хайку через осознание красоты (би) про-
стых и не обязательно прекрасных, может быть и несовершенных,
скудных и сдержанных образов, но одновременно «чистых» и
«истинных» (в терминах Басе и его последователей). Открытие
красоты как сути через глубокую, личную заинтересованность в
форме, облике и природе вещи, по мнению некоторых исследова-
телей, означало отход от религиозного в сторону эстетического.
Сочинение стихов хайку означает не имитацию и не подражание
вещам — хотя они и остаются в величавом спокойствии (у Басе:
«Кипарис красив не потому, что обозначает что-то, а потому что
он кипарис»), — но позволяет постичь тождественность внутрен-
ней жизни всех вещей.
271
Созвучие «вещей», как в последнем стихотворении Рансэ-
цу — осень, ветер, лист, — «внушает музыку мироздания» [9,
с.390]. Масаока Сики называл стихи Рансэцу воплощением
«сухости»; «сухие» (карабитару) хайку этого автора теоретик
жанра считал высшей степенью «легкости» (они сами кажутся
«унесенными ветром»), «отсутствия» той творческой «пустоты»,
которая является вместилищем всех форм. Обратим внимание на
то, что во все:: трех приведенных выше хайку на тему смерти во-
обще трудтю что-либо разглядеть: порывы ветра, «унесенный
силуэт», «сон», «лист» — этого, следует согласиться, слишком ма-
ло для создание конкретной картины. Но суть дела (которому, как
мы помним, предшествовала «воля», «замысел») передана с
большим совершенством.
Для некоторых выводов, которые последуют во второй части
статьи, нам потребуется еще одно трехстишие на тему старости,
принадлежащее ученику Басе Сико:
Фуси-буси-но Думаю о [своих] суставах.
Омой я такэ-ни [Сочленения] бамбука,
Цумору юки Отяжелевшие под снегом.
Это стихотворение часто попадало в поле зрения комментато-
ров; Масаока Сики посвятил ему небольшое критическое эссе и
назвал его редким случаем «личного» (в его терминологии «чело-
веческого») хайку. Человек, согбенный под тяжестью лет, и бам-
бук, отяжелевший под снегом, — такое созвучие «вещей» (в осно-
ве которого лежит игра слов: «суставы» и «коленца бамбука» обоз-
начаются одним словом — фуси) представлялось Сики имеющим
большое будущее в современном мире. Масаока Сики предпола-
гал, что «человеческий тип красоты», т.е. преодоление безлично-
стного характера поэзии хайку, поможет вписать классический
жанр в контекст XX века. Это хайку Масаока Сики называл
«странным», «переходным».
Затруднительно очертить границы возможного в классическом
жанре, сосредоточившись только на описании этого жанра. Все,
что «плохо», т.е. «неправильно» для жанра, автоматически оказы-
вается за его пределами, и в нашем контексте именно это «ненуж-
ное» должно нас заинтересовать. Тем более есть для этого редкая
возможность.
Во второй половине XIX в. после реставрации Мэйдзи и особен-
но в начале XX в. в Японию хлынула европейская культура, за-
ставившая японцев иными глазами взглянуть на себя, ставшая
предметом значительного притяжения и не менее значительного
отталкивания, а иногда мерой вещей и себя. Происходило весьма
сложное и глубокое взаимодействие и взаимоотталкивание япон-
ской и европейской культур, которые не место здесь описывать.
272
Мы сосредоточимся на сочинениях, написанных свободным стихом
разными поэтами, яростными авангардистами и не очень ярост-
ными, спокойными традиционалистами, но со склонностью к «но-
вому» и др. В этих сочинителях для нас будет важно одно: все они,
на каком-то этапе своего творчества, намеревались — вольно или
невольно — сбросить с себя традицию, как старую одежду
(отметим, что многие из них в конце пути возвратились к япон-
скому ). Главным для них было справиться с анонимностью,
безличностью классической поэзии, утвердить свое «я». Ого-
воримся, что выборка поэтических текстов происходила почти на-
угад, посредством открывания разных поэтических сборников. И
хотя стихи попадались совершенно разные и написанные в разные
годы XX в. и в разных жанрах, но картина вырисовывалась почти
всегда одинаковая. Традицию невозможно «изъять», «вынуть» из
современной японской культуры, традиция «работает», хотя и в
новом, непривычном окружении.
Вот стихотворение известного Хоригути Дайгаку:
Старый снег
И в северных краях весною
Снег темнеет, тускнеет,
Тает, теряет аромат.
Снег чахнет —
Так и тело мое...
Новые цветы не замечают, как сходит снег.
Здесь явственно ощущается резкая линия. Она проходит точно
после четвертой строки. Четверостишие
И в северных краях весною
Снег темнеет, тускнеет,
Тает, теряет аромат.
Снег чахнет —
хотя музыкально, интонационно и по другим параметрам далеко
от хайку, но полностью укладывается в русло традиции. События
здесь развиваются по принципу резонанса: темнеет, тускнеет, та-
ет... Присутствует слово-образ «аромат» — весьма важное, часто
ключевое для поэзии хайку. Снег, север «называют» собою белцй,
мертвенный цвет, цвет старости. Возникает и «правильное» ощу-
щение «смутности» («тускнеет»). Спотыкаемся мы только на слове
«весною», поскольку старость связана с «теневым» временем года.
Но есть основания утверждать, что в этом пункте произошло нео-
сознанное отталкивание автора от традиции.
Строка же:
Так и тело мое ...
с точки зрения классической традиции, просто лишняя и потому
«безобразная», поскольку предыдущее сообщение совершенно са-
18 130
273
модостаточно, всякому мало-мальски образованному читателю
ясно (вспомним принцип «вечное — сиюминутное»), что речь
идет не о снеге или не только о снеге. «Чахнущий снег» — весьма
«добропорядочный», с точки зрения традиции, образ старости.
«Новый» сочинитель, обратившись к описанию себя, излишне дра-
матизирует ситуацию, нарушая принцип ваби (вспомним коленца
бамбука, просевшие под снегом, — как просто, сдержанно и как
трагично!), а значит, и красоту и гармонию мира. Ему уже мало
«переплавления» конкретных предметов в печаль, он выводит на
сцену самого себя.
Последняя строка, поданная через многозначительный интер-
вал, вводит также невиданные для традиции отношения. В част-
ности, хотя и «я», и другие молодые люди й облечены в природные
формы (снег, цветы), но разоблачение уже произошло, и эти
маски никого обмануть не могут. События развиваются по евро-
пейскому сценарию, по типу сравнения. Можно даже назвать
источник. Некогда (конец XIX в.) японцы были поражены соче-
танием «листья шептались» в обретшем широкую в Японии изве-
стность переводе «Свидания» Тургенева. Очеловечивания приро-
ды классическая японская словесность не знала.
Трудно ответить на вопрос, насколько осознанным для поэта
было нарушение традиции, да и следование ей тоже. Это вопрос из
области психологии творчества. Нам же важнее в данный момент
увидеть, ч т о в тексте «вне традиции» и ч т о «в русле традиции».
Любопытно, что пресловутый «удар», необходимый для хайку,
приходится как раз на строку:
Так и тело мое...
Деликатное, сдержанное, «теневое» стихотворение Хоригути
Дайгаку исследователи считают близким к классическим жанрам,
но при внимательном рассмотрении и оно оказывается размыто
не-традицией.
Знаки на песке
В Мацухара собирают грибы «сосновая роса»,
Слышу: море шумит.
Слезы мои... Это они скользят по песку?
Песчаные катышки -~ один, другой.
Во вторую и третью строки врывается, как это называл Уэда,
«персональное чувство» («слышу», «слезы мои»). На тради-
ционный взгляд «росы» вполне достаточно, «слезы» — лишние, к
тому же и «мои».
Вот еще один выразительный пример «разрыва традиции»
кисти того же автора:
274
Сети
В паутине, раскинутой пауком,
Трепещет бабочка.
Умирающая,
В кольце золотого сияния.
Так и я в сетях твоей любви,
Трепеща, хотел бы умереть,
Трепеща...
Здесь явственная граница проходит после четвертой строки.
[Напомним, что трепетание бабочки и вообще бабочка —
буддийский образ, говорящий посвященным о мимолетности,
иллюзорности бытия. Масаока Сики, например, называл ученика
Басе Дзёсо, дзэн-буддийского монаха, «поэтом мечтаний бабочки»
(тёмунару сидзин).] Во второй части стихотворения происходит
«разоблачение волшебства», все довольно банально распределяют-
ся по своим местам, и, главное, снова возникает «я» и «она».
Смерть бабочки = моей смерти. Но мы еще не забыли о сухом
листке, возвещающем о смерти поэта Рансэцу.
Подобные примеры можно множить и множить. Приведем еще
один, уже без комментария.
Песня
Лепет реки,
Уставшей катить свои воды,
Шепот ветра,
Утомленного дальней дорогой,
И моя песня в ожидании смерти.
Жизнь — опостылевший зал ожидания.
Для подтверждения того, что Хоригути Дайгаку совсем не
одинок в подобном конструировании стихов, приведем четве-
ростишие совершенно иного по природе своей поэта Хагивара Са-
кутаро из книги «Ледяной остров»:
Осенний день приближается к сумеркам.
Ветер яростно дует над опустевшей дорогой.
Но я не могу, подобно птице, 1.
Перелететь бесконечное одиночество .
Читатель сразу оценит «сочетание вещей»: «осенний день»,
«сумерки», «ветер», «опустевшая», «птица». «Я» — это уже дань
«личностному», и «бесконечное одиночество» звучит здесь (с
точки зрения традиции) фальшиво, ведь просто «одиночество»
сильнее «бесконечного». Классическая поэзия избегала опреде-
лений, хайку называли «поэзией существительного».
В творчестве Хоригути Дайгаку разрыв традиции можно изоб-
разить одной чертой, но есть, конечно, и более сложные случаи.
Предлагаю рассмотреть вполне рядового поэта — Рана Сигэюки.
18-2 130
275
Некоторая усредненность, типичность его творчества для се-
редины XX в. в Японии сослужит нам службу. Нам важно прос-
ледить его борьбу с традицией, отходы и возвращения, несмотря
на провозглашенные им модернистские лозунги, а не оценить ка-
чество его стихов:
Силуэт
Твой силуэт
Уносит
порывистый ветер.
Твоя тень
пала на чахлую рощу
За спиною встала луна
Твои щеки
белые в лунном свете
Запылали.
В небесах
Льдисто искрится
Серебряная луна.
В этом стихотворении, выбранном наугад из сборника Рана
1960 г., мы сразу видим, несмотря на его общий «европейский»
облик (описание любовного свидания), определенный набор слов-
образов, полностью укладывающихся в тему «зима»: «порывистый
ветер», «чахлая роща», «белые щеки», «серебряная», «льдисто».
Изображения женщины, собственно, тоже нет: «есть силуэт, уне-
сенный ветром» (это нам знакомо — это прямая цитата из Рансэ-
цу, толькр у него — смерть, а здесь — любовь); «тень», румянец
на белых щеках. Лицо женщины как бы «переплавлено» в изобра-
жение луны. Более того, масштабы вещей здесь те же, что в хайку:
женщина видится автору большей, чем она есть («твоя тень [пала
на чахлую рощу ], за спиною встала луна»), она как бы приподня-
та над миром и оттого лучше и значительней.
В приложении помещены еще три стихотворения Рана, где мы,
несмотря на графику «лесенкой», свободное обращение со словом,
интонацией (т.е. использование преимуществ верлибра), отыщем
и «аромат», и «смутность», и «тень», и «вечерний туман», «снег»,
«сливу», «румянец», и стихи будут развиваться по принципу резо-
нанса, а цвета будут непременно алым, белым, золотым (т.е. обоз-
начающим вполне определенные вещи), а звук обязательно шу-
мом закипающего чайника (хотя он только предвосхищается).
Женщину же мы так и не увидим, мелькнет лишь ее румянец, и
белые зубки, и это отсутствие главной героини снова вернет нас к
трехстишию о брови красавицы и полировщике зеркала.
У нас есть еще одна редкая возможность наблюдать «перевод» с
языка европейской традиции на язык традиции японской. Речь
идет об очень известном стихотворении уже упоминавшегося
276
1 9
Хагивары Сакутаро из сборника 20-х гг. «Голубая кошка» .
Хагивара испытал мучительное увлечение западной культурой,
носившее характер абсцессии. Он писал, что «учился поэзии у
Эдгара По, а чувствам — у Достоевского» [12, с.36], он потратил
несколько десятилетий на создание общемировой западнояпон-
ской поэтики литературы. Сейчас нас будет интересовать одно
примечательное его произведение: переложение «Ворона» Эдгара
По на японский язык и в традиционный контекст:
Петух
Перед рассветом
Петух голосит за воротами дома.
Пронзительно долго кричит —
Печальный зов моей матери из далекой деревни:
То-о-ру-мо! Ку-ка-ре-ку!
На предутреннем холоде постели
Трепещут крылья моей души.
За приотворенной дверью
Светлеет, светает.
Под утро
К изголовью подкрадывается тоска
Над вершинами туманных деревьев.
Звенит петуший голос из далекой деревни:
То-о-ру-мо! Ку-ка-ре-ку!
Моя любовь!
Возле холодной ширмы в рассветном сумраке
Я вдыхаю тонкий аромат хризантем.
Словно дух истерзанной души,
Смутный аромат увядшей белой хризантемы
Моя любовь.
На рассвете
Душа блуждает в кладбищенском сумраке.
Кто-то зовет меня. Как мучительно
Ожидание.
Я не в силах снести бледно-алый снег за окном.
Мама!
Войди скорее и погаси лампу.
Я слышу голос тайфуна, мчащегося из дальних краев
То-о-ру-мо! Ку-ка-ре-ку!
Это стихотворение трудно назвать переложением «Ворона»
Эдгара По, поскольку в нем сохранен японский стиль мыслей и
образов, окрашенный в личные пессимистические цвета Хагива-
ры. Здесь мы столкнулись с семантическим «переводом» с языка
Эдгара По на язык Хагивары, «облучением» поэзии Хагивары
энергией «Ворона». Петух избран поэтом как вещая птица япон-
ской мифологии — именно петух, прокричав с высокого насеста
18-3 130
277
(форму которого повторяют японские ворота-тории), вызвал из
Небесного грота богиню Солнца Аматэрасу и избавил мир от мра-
ка. Действие стихотворения Хагивары происходит перед рассве-
том — по японским представлениям, это время ночи — самое тем-
ное, мрачное, и это перекликается с «полночью» Эдгара По. Соче-
тание цветов «черный—бледно-алый» создает резкий контраст и
заставляет припомнить «углей рдеющих пятно», «алый бархат» и
черноту ночи из «Ворона». Аромат хризантемы означает в япон-
ской поэтике самое печальное время года — позднюю осень, пору
увядания, она сродни «декабрю унылому» Эдгара По. Белый цвет
хризантемы, как мы уже наблюдали, связан с осенью, увяданием,
старостью; здесь белый похоронный цвет играет ту же роль, что
черный у По.
В обоих стихотворениях события происходят на грани сна и
яви, жизни и смерти, дня и ночи; буря из подземных недр «рифму-
ется» с ураганом из дальних краев, холод постели с «ночью ледя-
ной». Потусторонний мир Эдгара По, его Линор сопоставимы с
миром прошлого, воспоминаний Хагивары, покойной матерью
японского поэта. Тема смерти, утраты, скорби и надежда на встре-
чу в Эдеме, драматично звучащая в «Вороне», возникает у Хагива-
ры как тема мучительного ожидания, как мечта о свидании,
отклик на «зов из дальних краев».
Темы и образы, «переведенные» с «чужого» языка, навеянные
поэзией Эдгара По (так рефрен «Ворона» — «Никогда», или — в
другом переводе — «Не вернуть!», невысказанно присутствует в
стихотворении Хагивары), естественно вливаются в японскую
поэтику, собственно являются ее частью и продолжением. «Пол-
ночь» Эдгара По = «мигу перед рассветом» Хагивары, «декабрь»
одной традиции = «поздней осени» в другой. Японская традиция
здесь увидена глазами японца XX в., впитавшего идеи авангарда.
Но очевидно, что классические образы — белая хризантема, осен-
нее увядание, холод, тень, туманные деревья, рассветный сумрак,
петушиный крик — вошли в кровь, стали кожей и плотью поэта, и
отбросить их, как старую одежду, невозможно. С их помощью
Хагивара стремится выразить «новые», по его словам, чувства,
присущие человеку новой эпохи: тоску, ощущение трагичности и
тесноты жизни, ностальгии по прекрасному.
Хагивара для нас интересен еще и потому, что он занимался ус-
тановлением новых и отменой прежних ограничений в поэзии, му-
зыке, этике, религии, прозе. У него грани проходят не между жан-
рами, родами и видами литературы;, различие для него коренится
в двух несхожих способах видения мира: в его терминологии, в
«искусстве субъективного» и «искусстве объективного». С
помощью бинарных формул-оппозиций (диалогичность японской
культуры вновь напоминает нам о себе) он устанавливает,
278
например, границы между «новым» искусством и «старым»;
романтизмом и традиционной поэзией:
страстное письмо — сдержанность в чувствах
упор на субъективное — отрицание субъективного
трансцендентная — укоренение в реальной
реальность жизни
высокие, недостижимые — описание вещей, как они
идеалы есть
Для описания субъективного и объективного искусства Хагива-
ра выстраивает следующие соответствия:
я — не-я
теплота — холод
страстность — спокойствие
сила чувства — интеллект
Стремясь постичь, «что такое поэтическое и что делает вещи
поэтическими» [12, с. 165], Хагивара называет предметы,
явления, людей, чтобы по контрасту не объяснить, а показать суть
поэтического:
поэтическое — прозаическое
Нара, Киото — Токио
Венеция — Нью-Йорк
Руссо — Робеспьер
туманная сцена — залитая солнцем улица
Такое противопоставление имен и вещей, хотя бы и евро-
пейских, естественно укладывается в традиционное (в эстетичес-
ком плане) разделение всего в мире на «теневое» и «светлое», где к
первому относится все, наделенное теневой красотой, мягкое,
податливое, грустное, а ко второму — все блестящее, оживленное,
яркое. Хагивара также «туманную сцену» предпочитает «залитой
солнцем улице».
Расширение границ возможного в классической поэзии хайку
нового времени и особенно XX в. связано с перетеканием «вещей»
из категории дзоку ('грубое') в категорию га ('возвышенно-изящ-
ное'), причем в эпоху Мэйдзи это движение значительно ус-
корилось. Кроме того, усилиями Масаока Сики, с помощью его ме-
тода «ретроспективного чтения», происходило включение в сферу
«красоты» (би) — «всеобъемлющего мерила хайку» Г9,с.34б 1 неко-
торых представлений, лишь подспудно присутствовавших в тра-
диции и находящихся в оппозиции к тому, что прочно в традиции
укоренилось. Так, «теневой», «негативный» идеал красоты призна-
вался как наиболее адекватный самой природе хайку. Масаока
Сики ввел категорию «блестящий», «пышно или очевидно прекрас-
18-4 130
279
ный» (в отличие от «сокровенно прекрасного»), как бы обнимая тем
самым все возможные оттенки красоты, уравнивая их. Он пред-
ложил следующее разделение категории би:
негативное (теневое) — позитивное (блестящее)
обйективное — субъективное
природное — человеческое
простое — сложное
пассивное — активное,
причем, признавая, что классический жанр тяготеет к первому
типу, счел возможным, отыскивая у учителей жанра (Басе и осо-
бенно Бусона) «другие» стихотворения, вовлечь названия «свет-
лых вещей» в сферу поэзии хайку. Это, по признанию многих, да-
ло жанру перспективу, существование хайку в XX в. связано с
равноправным служением двум типам красоты. Внутри каждого
трехстишия, тяготеющего либо к тени, либо к свету, соблюдалась
необходимая — негативная или позитивная — «связь вещей»;
образы нанизывались как бы на один стержень, задавались
принадлежностью к тому или иному типу красоты.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ран Сигэюки
Портрет
Сквозь вечерний туман
Скользит
На-снегу
легкая тень женщины,
Похожей на монахиню.
Она как будто соткалась
Из множества слабых теней.
Крепко
держит меня за руку.
Как прохладна ладонь!
Губы
расцветают, алеют,
Приоткрывая
белеющие зубки.
На них золотой отсвет
И блеск снега...
Чаепитие
Утро
в паутине патины
280
Напоено
ароматом дешевого чая.
Этот утренний час
Так короток,
Грустен,
Печален.
В лучах раннего солнца
На полу
Прекрасная женская тень.
Словно печаль
с печалью
Или грусть
с грустью,
Я и женщина
Об одном только дне
за чашкой дешевого чая
Молим судьбу
в отчаянии.
Ночной снегопад
Тихий ночной снегопад.
Вдвоем с подругой
Растапливаем в чайнике
белый снег.
В теплом воздухе
Легкий цвет
комнатной сливы.
Нежный
женский затылок,
Румянец на припухлой щеке.
И ночь тихого снегопада,
И аромат свежего чая
Сгущаются.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Первым поэтом хайку был признан Басе, затем Бусон, Исса, и замыкал ряд
Масаока Сики.
2
Приведем пример: «Однажды учитель сказал своему ученику Сядо: "Стихот-
ворение — это не соединение двух-трех вещей, а кованое золото"» [2, с.276].
3
По поводу жанра рэнга следует сказать, что он, видимо, был предшественником
трехстиший. Это коллективный жанр: стихотворение (сколь угодно длинное)
состояло из цепочек трехстиший и двустиший (как бы разорванных танка), каждое
из которых сочинялось другим поэтом, но на одну и ту же определенную, заданную
тему. Басе оценивал несколько турниров рэнга, из которых мы выделим некоторые
его комментарии к трехстишиям.
4
Некоторая неявность высказывания такого типа была, по-видимому,
традиционна для культуры Дальнего Востока. «Эстетическая мысль Китая и опреде-
281
ленных государств, входивших в круг дальневосточной цивилизации, изъяснялась
почти исключительно посредством афористических высказываний, часто много-
значительно-смутных, лирически окрашенных, откровенно субъективных, но вместе
с тем имевших характер конкретных практических рекомендаций. Такие изречения
не создают в совокупности теории эстетики, они держатся недосказаны ями и даже
неименуемыми, их призвание — не разъяснять, а давать толчок самостоятельному
размышлению» [1,с.6-7].
В.В.Малявин предложил переводить категорию га (по-китайски 'я') как 'изящ-
но-возвышенное', что кажется нам более точным, поскольку здесь есть намек на
обязательный семантический компонент этого понятия — «благородный».
Такое разделение вещей восходит к древнему разграничению того, что принад-
лежало императорскому двору и простонародной культуре.
Басе называет идеальным в смысле «сочетания вещей», например, стихотво-
рение:
Охаси-но Огромный мост
Карэно-ни ватаси Через увядшее поле.
Ирихикана О заходящее солнце!
Слова 'увядшее поле\ называющее позднюю осень или даже зиму (есть соче-
тание 'зимнее увядание*), идеально соответствуют 'заходящему солнцу* — и все
вместе создает картину заката, природы, перечеркнутую (или подчеркнутую)
огромным мостом.
п
Белый цвет — мертвенный, похоронный; траурные одежды были
традиционно белыми.
Здесь мы ориентируемся на терминологию создателя «ретроспективной
поэтики» жанра хайку Масаока Сики, который опирался на традиционные
китайские и японские категории,
о
Интересно наблюдение Масаока Сики, что стихотворения поэтесс тяготеют к
изображению вещей «близких».
Вспомним хотя бы названия поздних поэтических книг когдатошнего «на-
рушителя спокойствия» Хагивары Сакутаро: «Возвращение к себе», «Возвращение в
родные края».
Заметим, что это стихотворение относится к позднему периоду творчества
Хагивары, но и в ранних его эпатирующих и авангардистски-затемненных стихах
мы непременно отыщем слова, обозначающие хотя бы отдельные, но ключевые
традиционные «вещи»: корни и коленца бамбука, страну корней, трепещущую ба-
бочку, но контекст будет «сминать» их, выворачивая их сущность.
12
Силуэт «голубой кошки» Хагивара Сакутаро увидел в электрических искрах,
выбитых дугами трамвая.
ЛИТЕРАТУРА
1. Малявин В.В. Эстетические учения Дальнего Востока. М., 1987.
2. Makoto Veda. Literary and Art Theories in Japan. Tokyo, 1967.
3. Makoto Veda. Modern Japanese Poets and the Nature of Literature. Stanford, 1983.
4. АидаЮдзи. Нихондзин-но исики кодзо (Структура сознания японцев). Токио,
1970.
282
5. Басе бунсю (Собрание сочинений Басе). Токио, 1959.
6. Курибаяси Нофу. Басе Бусон кара укэцуйда моно (Поэтическое наследие Басе и
Бусона). Бунгаку. 1954, т.22, № 4.
7. Масаока Сики. Гёга манроку (Записки лежащего). Токио, 1928.
8. Масаока Сики. Дассайсёоку хайку (Беседы Дассайсёоку о хайку). Токио, 1893.
9. Масаока Сики. Хайку тайё (Основы хайку). — Гэндай нихон бунгаку дзэнсю.
Т.И,1928.
10. Мидзухара Сюоси. Гэндай хайку кансё дзитэн (Критический справочник по
современной поэзии хайку). Токио, 1974.
11.Мидзухара Сюоси, Гэндай хайку рон (Теория современного жанра хайку).
Токио, 1936.
12. Хагивара Сакутаро. Дзэнсю. Си-но гэнри (поэтический принцип). Т.З. Токио,
1959-1960.
13. Хирано Юкихито. Нихондзин-но сэйё: сёгэки (сёкку) (Шок японцев при
восприятии культуры Запада. Типология восприятия). Токио, 1983.
СОДЕРЖАНИЕ
В.И.Брагинский. Традиционная эстетика Востока —
«Бытие—Культура» (Вместо предисловия) 3
В.И.Брагинский. Об изоморфизме макрокосма, микрокосма
и литературы в поэтологических учениях средневекового Во-
стока (Сравнительный этюд) 9
Шариф М. Шукуров. Художественное творчество и проблема те-
одицеи 5 J
iL В.Исаева. Слово, творящее мир: грамматическая онтология
Бхартрихари 76
Г.АТканенко. Отражение традиционных представлений о космосе
в китайском тексте III в. до н.э. 85
Д.В.Фролов. Эстетические мотивы в Коране J05
Л.М.Ермакова. «Душа слова», «сердце» и «имена вещей»
в раннеяпонской словесности J 34
М.Д.Назарли. Бытие «царственного духа» в сефевидской
живописи J 46
Н.Ю.Чалисова. Язык описания поэзии в трактате Шамс-и
Кайса ар-Рази «Свод правил персидского стихотворства» 186
Н. И. Пригарина. Сады персидской поэтики 202
А.А.Суворова. Аллегорическая интерпретация сюжета о «чуде
любви» 242
А.Н.Мещеряков. Поэтические турниры как диалогическая
доминанта японской культуры 254
Е.М.Дьяконова. О возможном и невозможном в японской
поэзии 262
Эстетика Бытия и эстетика Текста в культурах
Э87 средневекового Востока. — М.: Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1995. — 285 с.
ISBN 5-02-017561-9
В центре внимания авторов — проблема воздействия эсте-
тически понимаемой «картины мира» средневековых культур
Востока, восходящей к корпусу текстов религиозного канона, на
формирование эстетически значимых текстов. Понятие «текст»
трактуется при этом достаточно широко — как определенным
образом организованная, обладающая значением система знаков,
воплощенная в том или ином материале. Тем самым в качестве
текста выступают и архитектурные сооружения (например,
мечеть), и живописное или музыкальное произведение, и лите-
ратурное сочинение или научный трактат.
,.4603000000-028 _ -
Э 013«tt)-ftS Без °*ьявления
ББК83
Научное издание
ЭСТЕТИКА БЫТИЯ
И ЭСТЕТИКА ТЕКСТА
В КУЛЬТУРАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО
ВОСТОКА
Утверждено к печати
Институтом востоковедения РАН
Редактор Е.КБорисова
Младший редактор М.И.Новицкая
Художник Л.Л.Михалевский
Художественный редактор Э.Л.Эрман
Технический редактор М.Г.Гущина
Корректоры И.Г.Ким, Р.Ш.Чемерис
ЛР № 020910 от 02.09.94
ИБ № 17128
Сдано в набор 01.07.93
Подписано к печати 25.05.95
Формат 60х901/15
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. п. л. 18,0. Усл. кр.-отт. 17,7
Уч.-изд. л. 19,3. Тираж 900 экз
Изд. № 7458. Зак. № 130. «O-l
Издательская фирма
«Восточная литература» РАН
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
3-я типография РАН
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
ДЛЯ ЗАМЕТОК