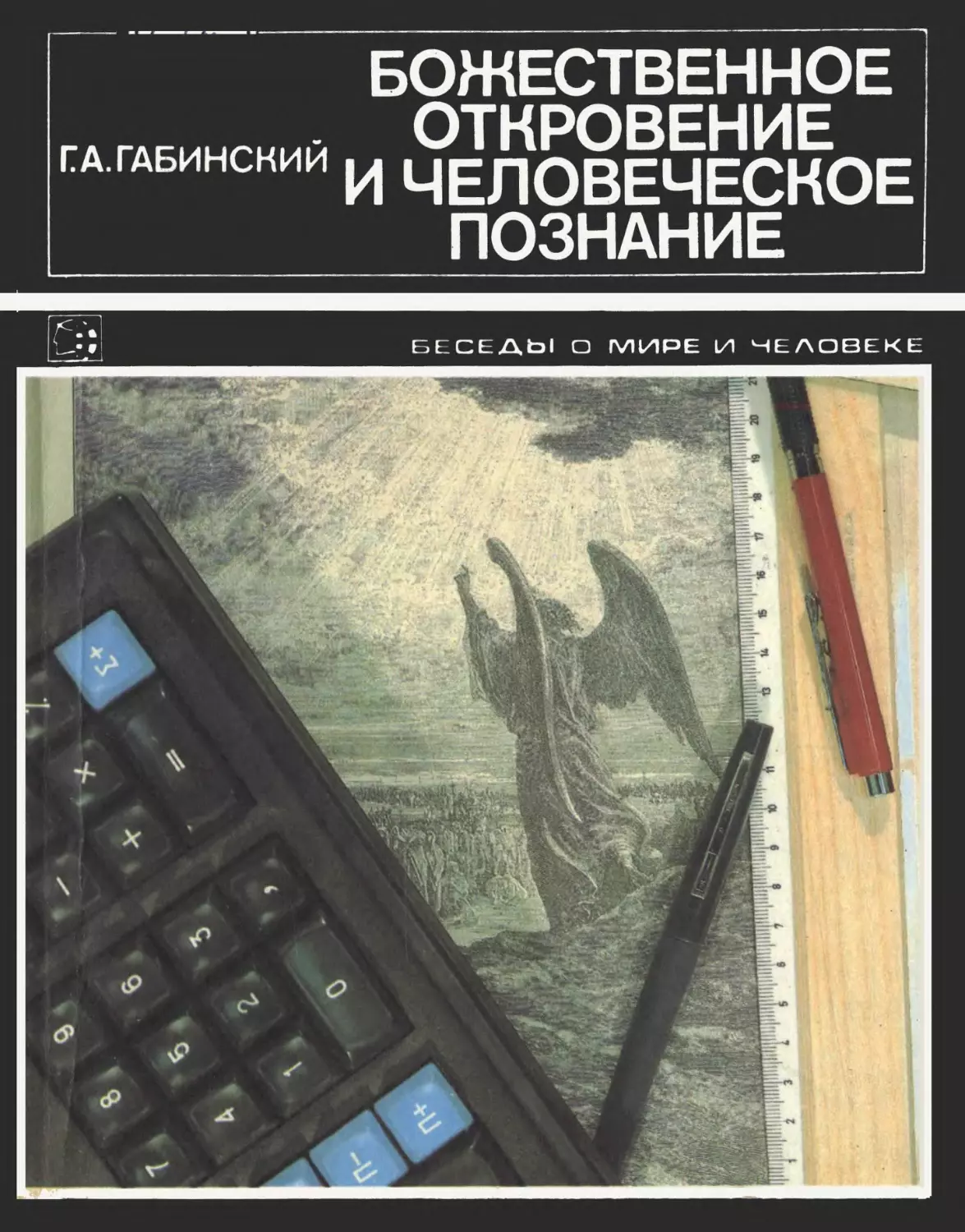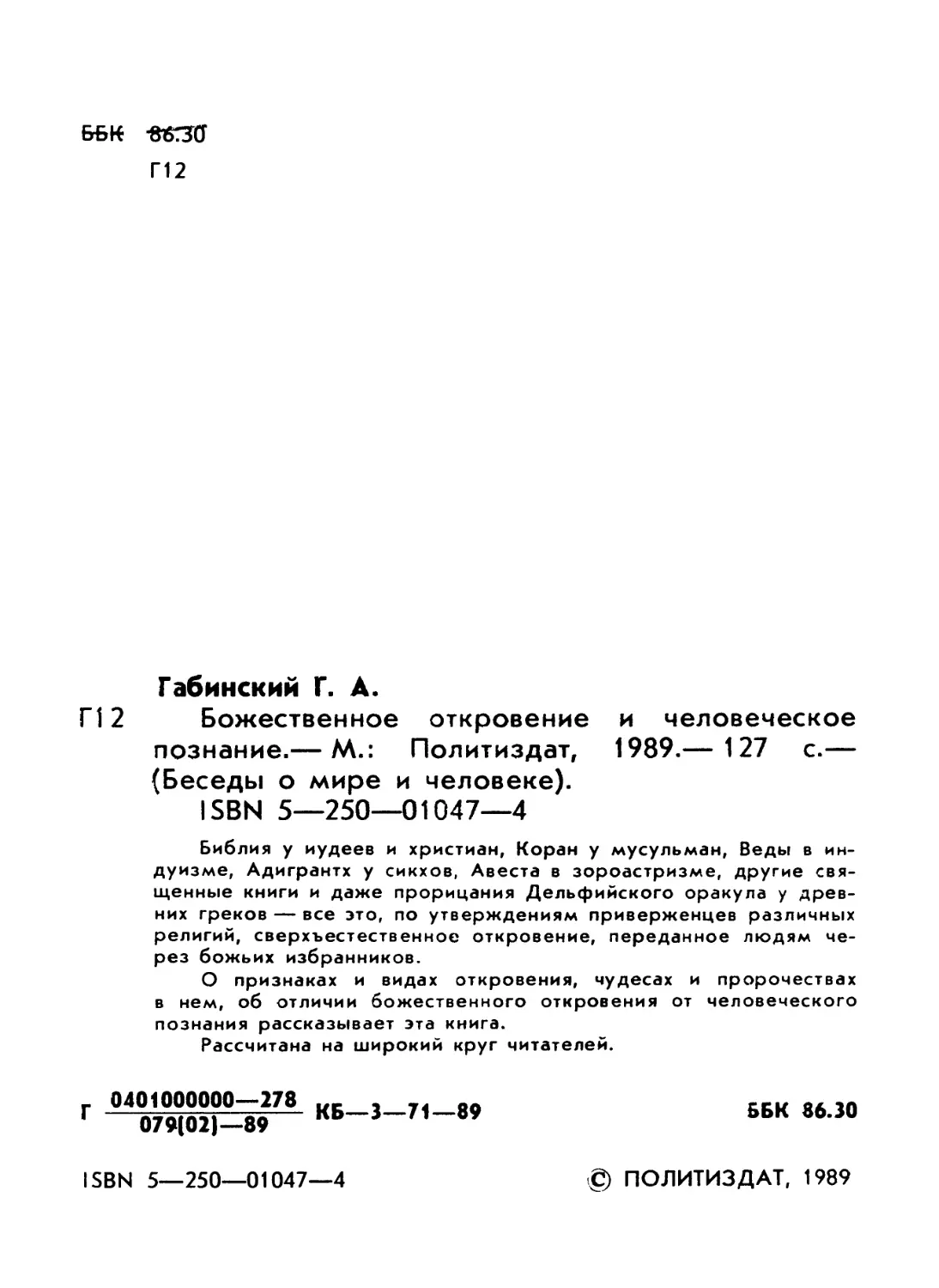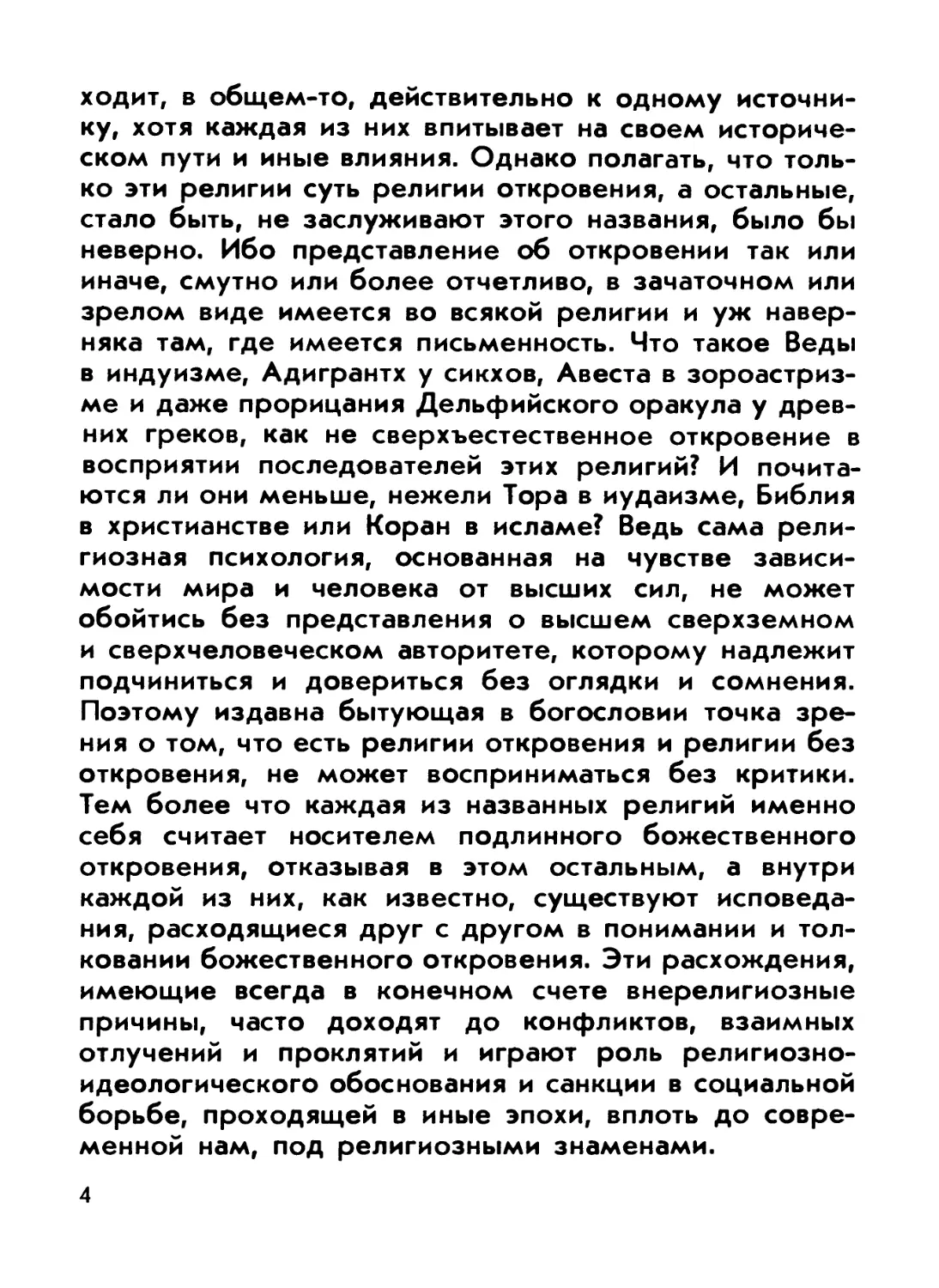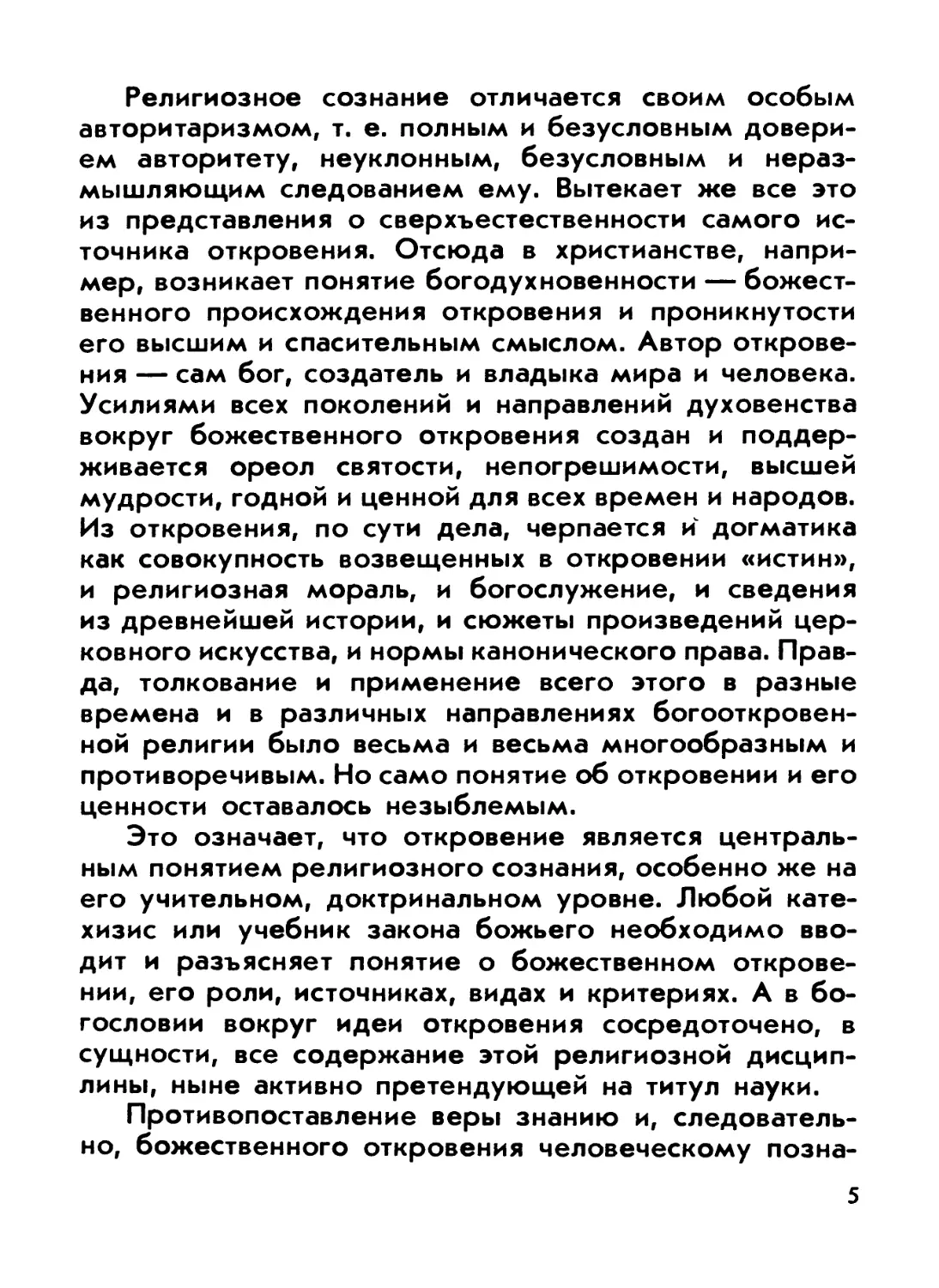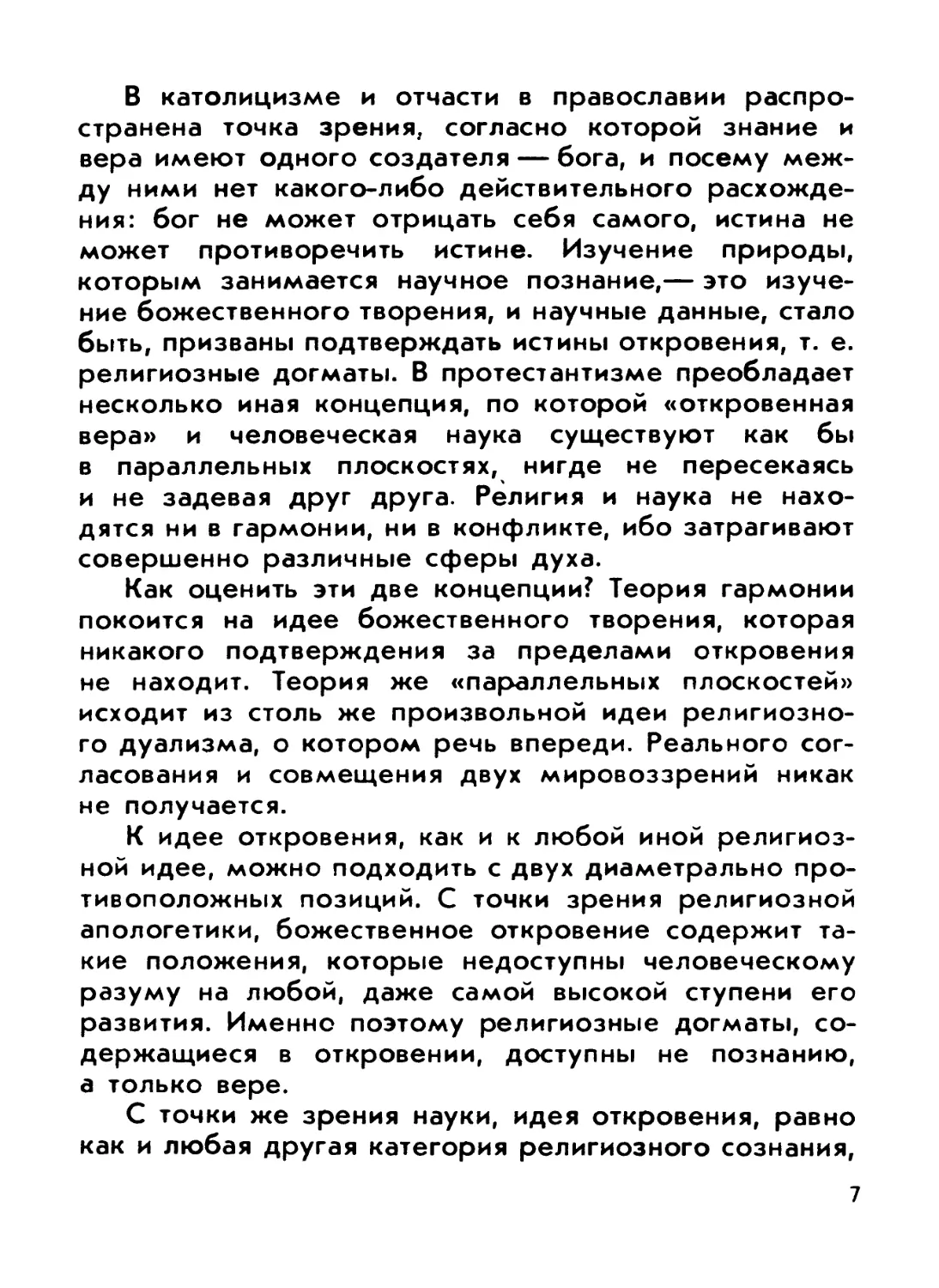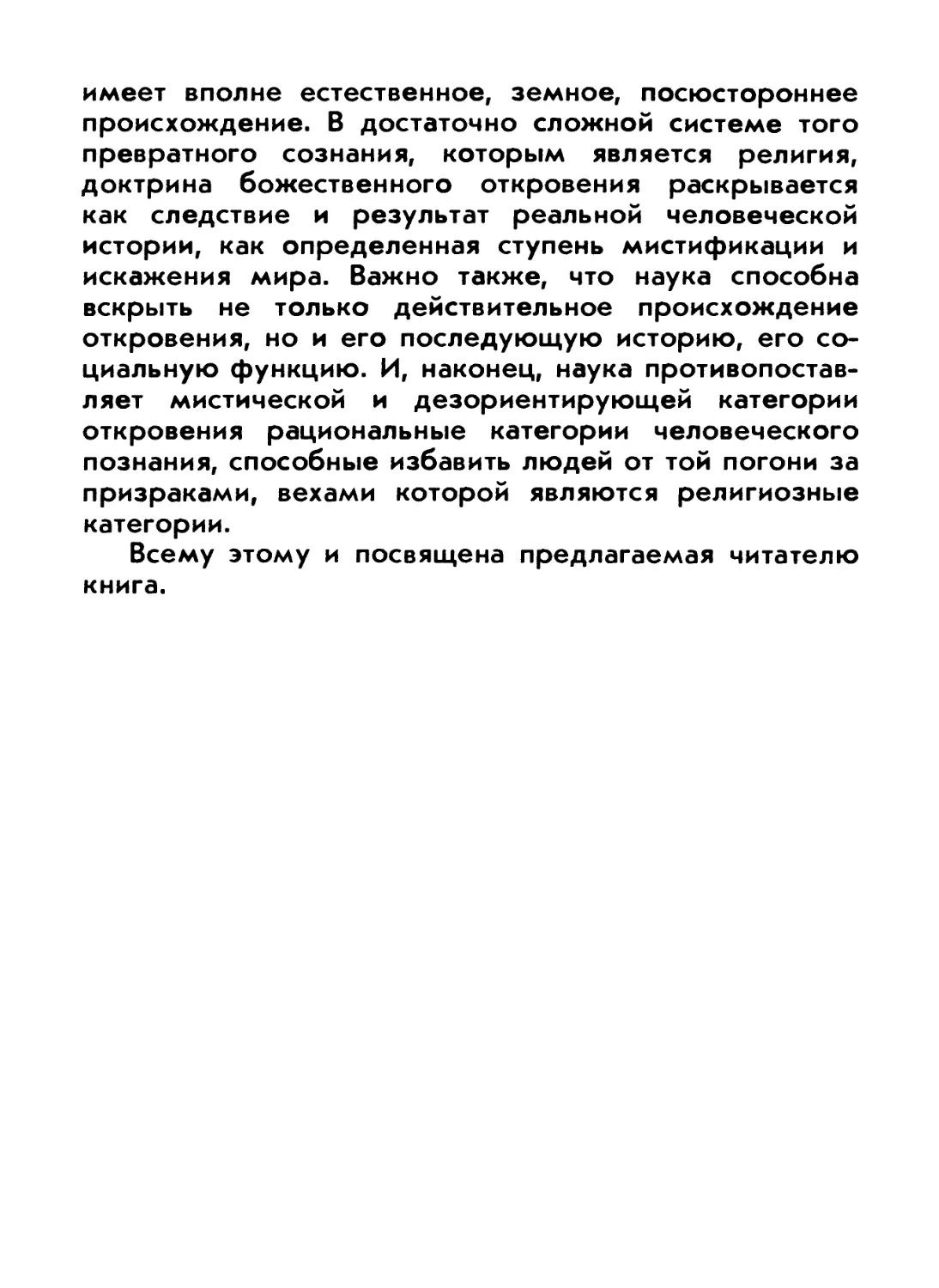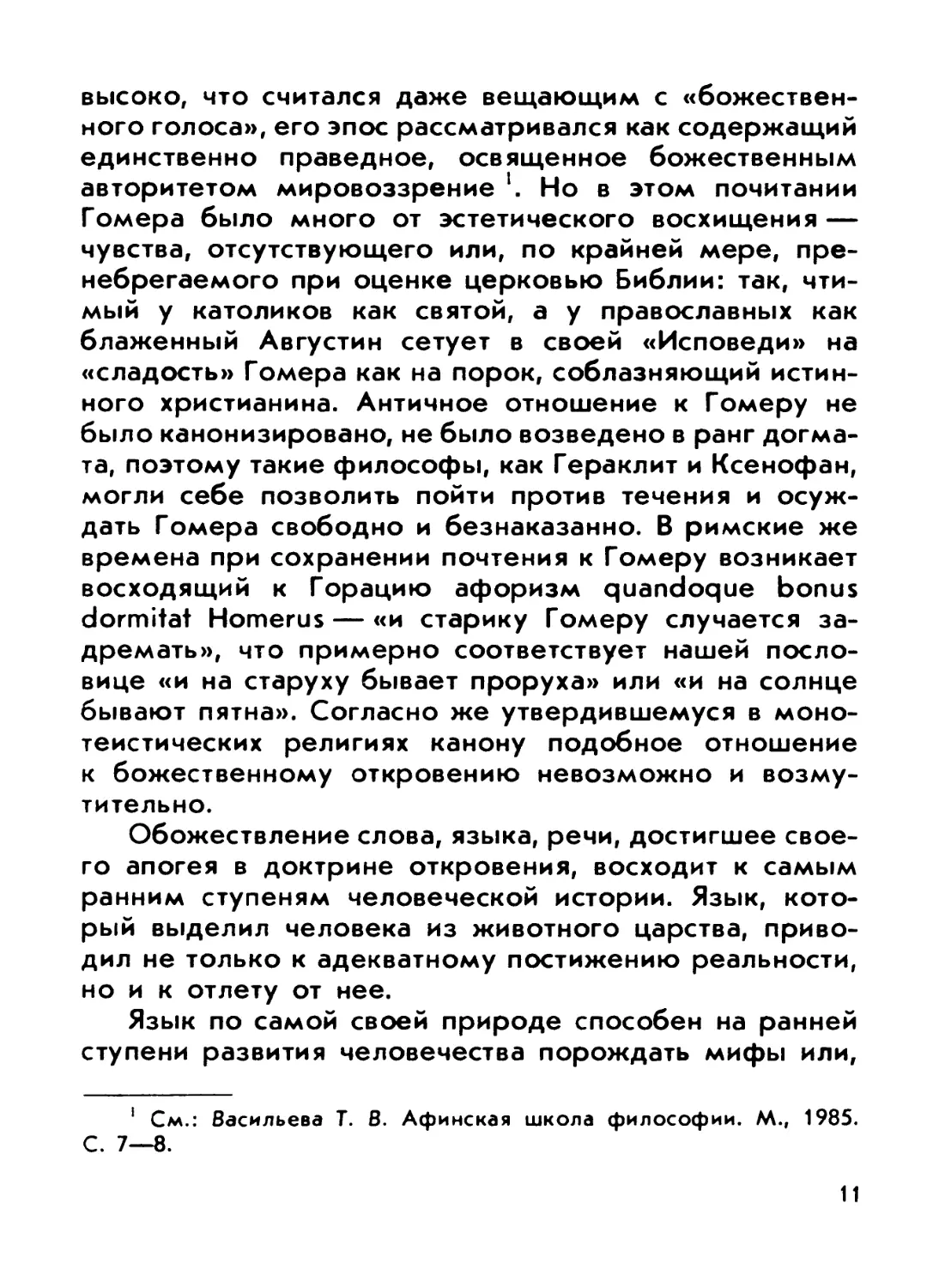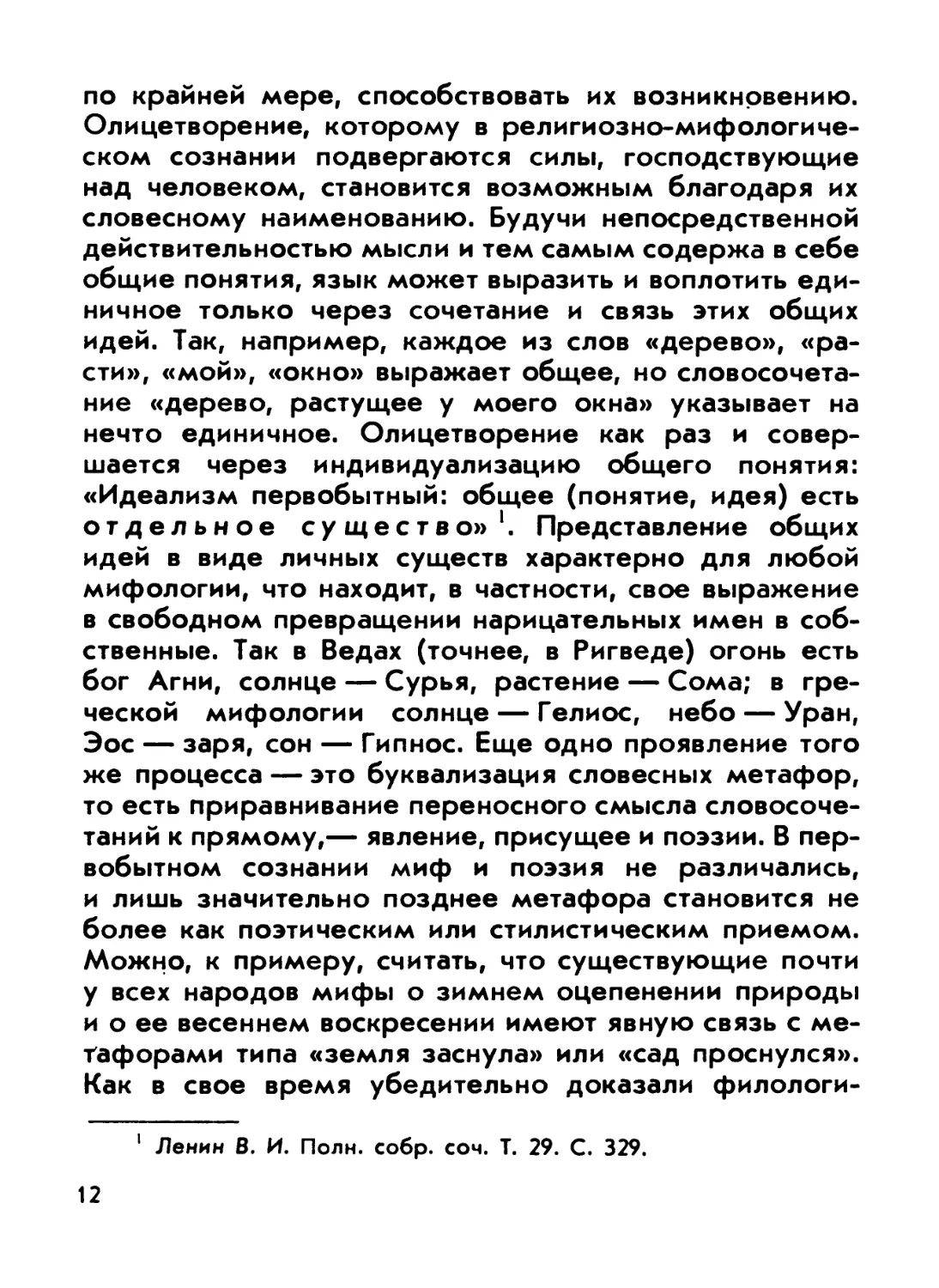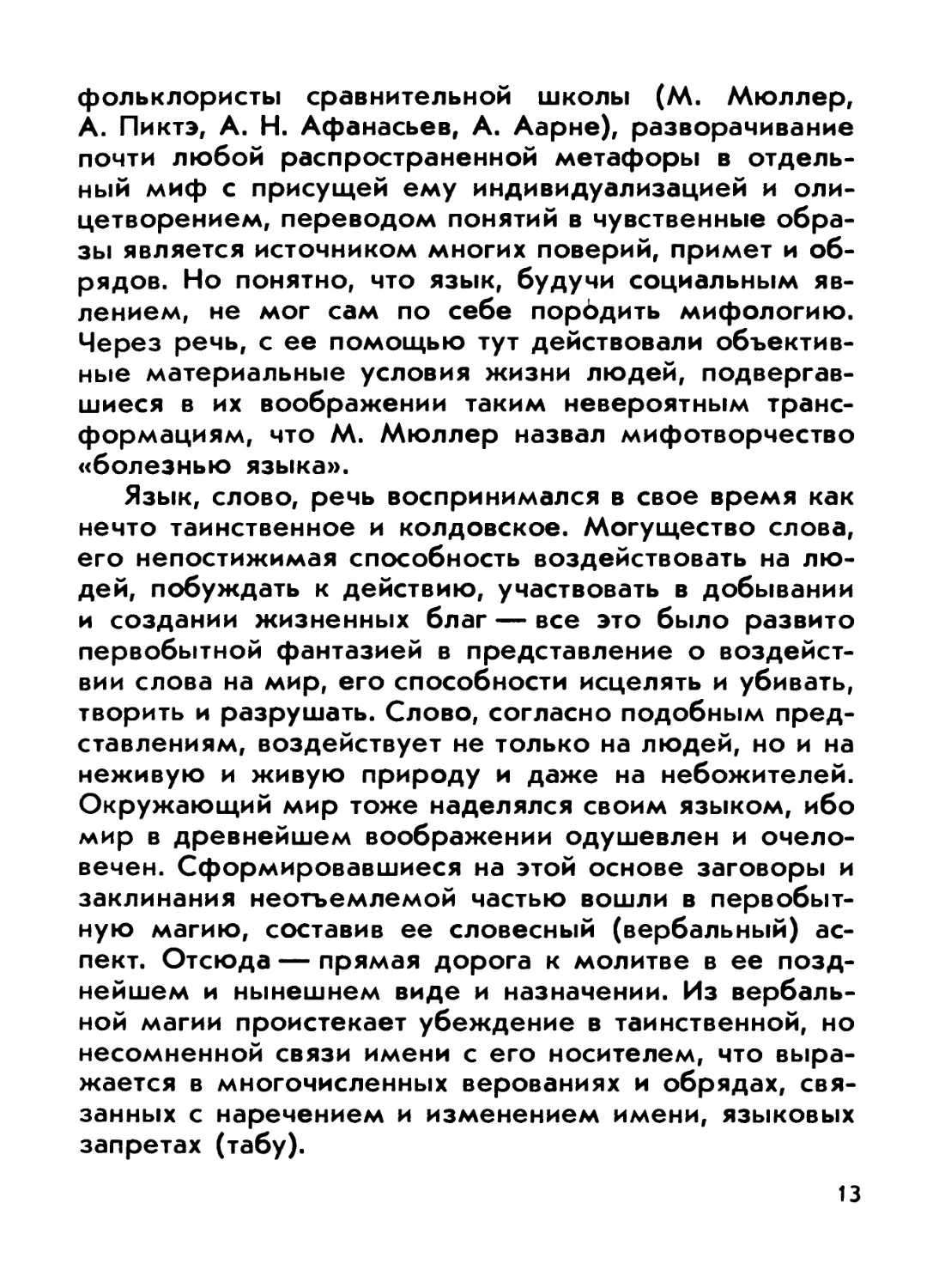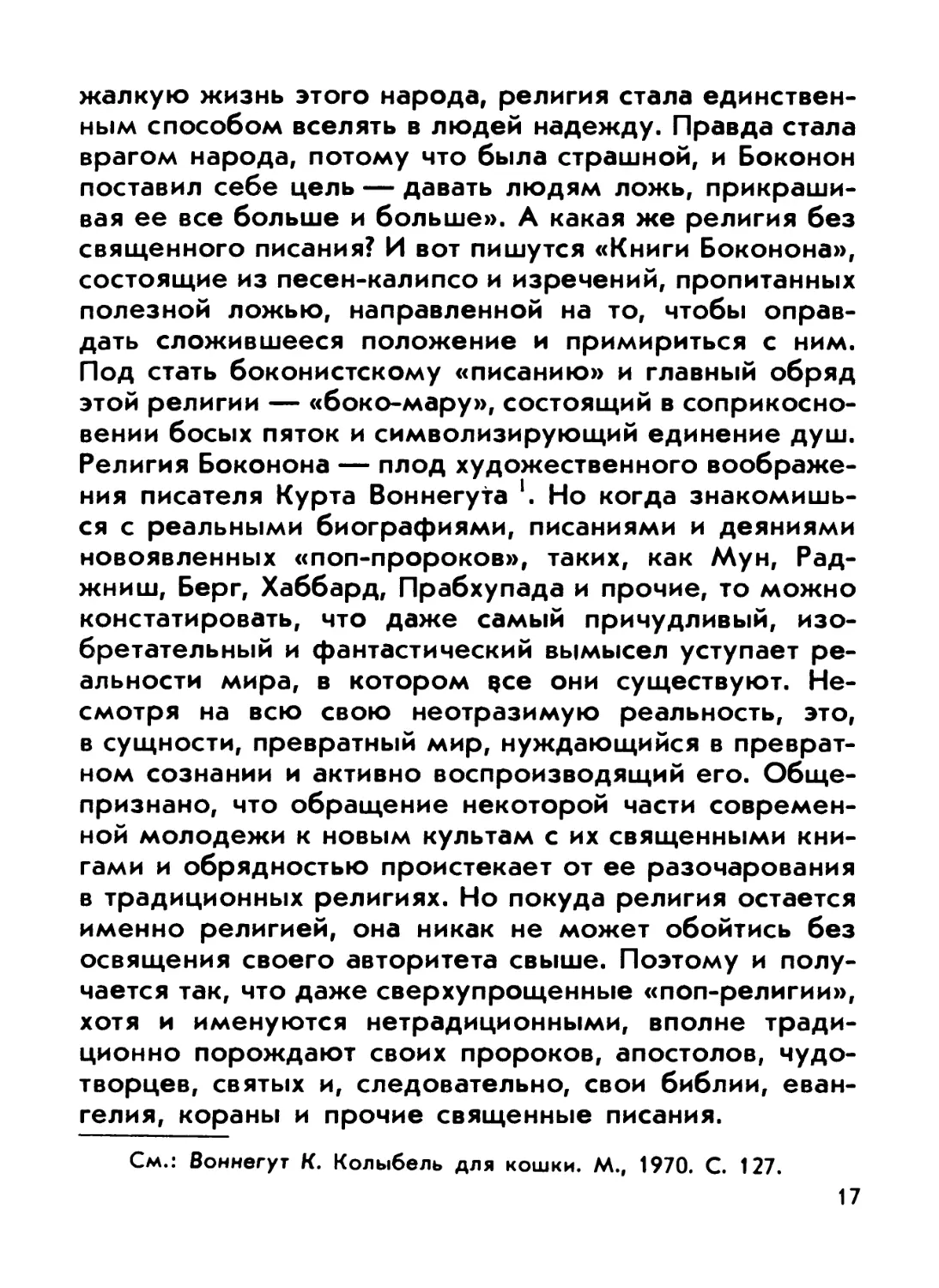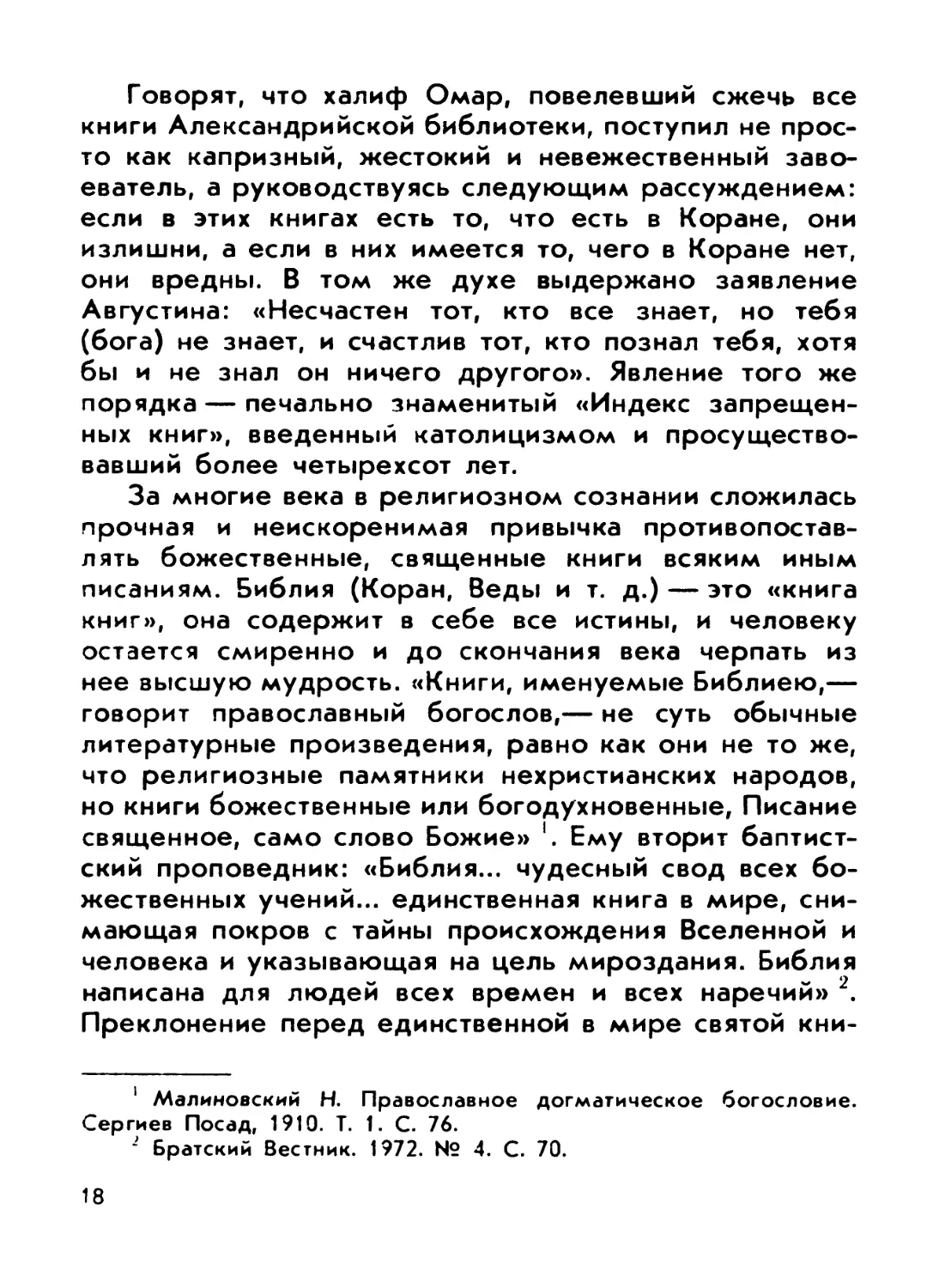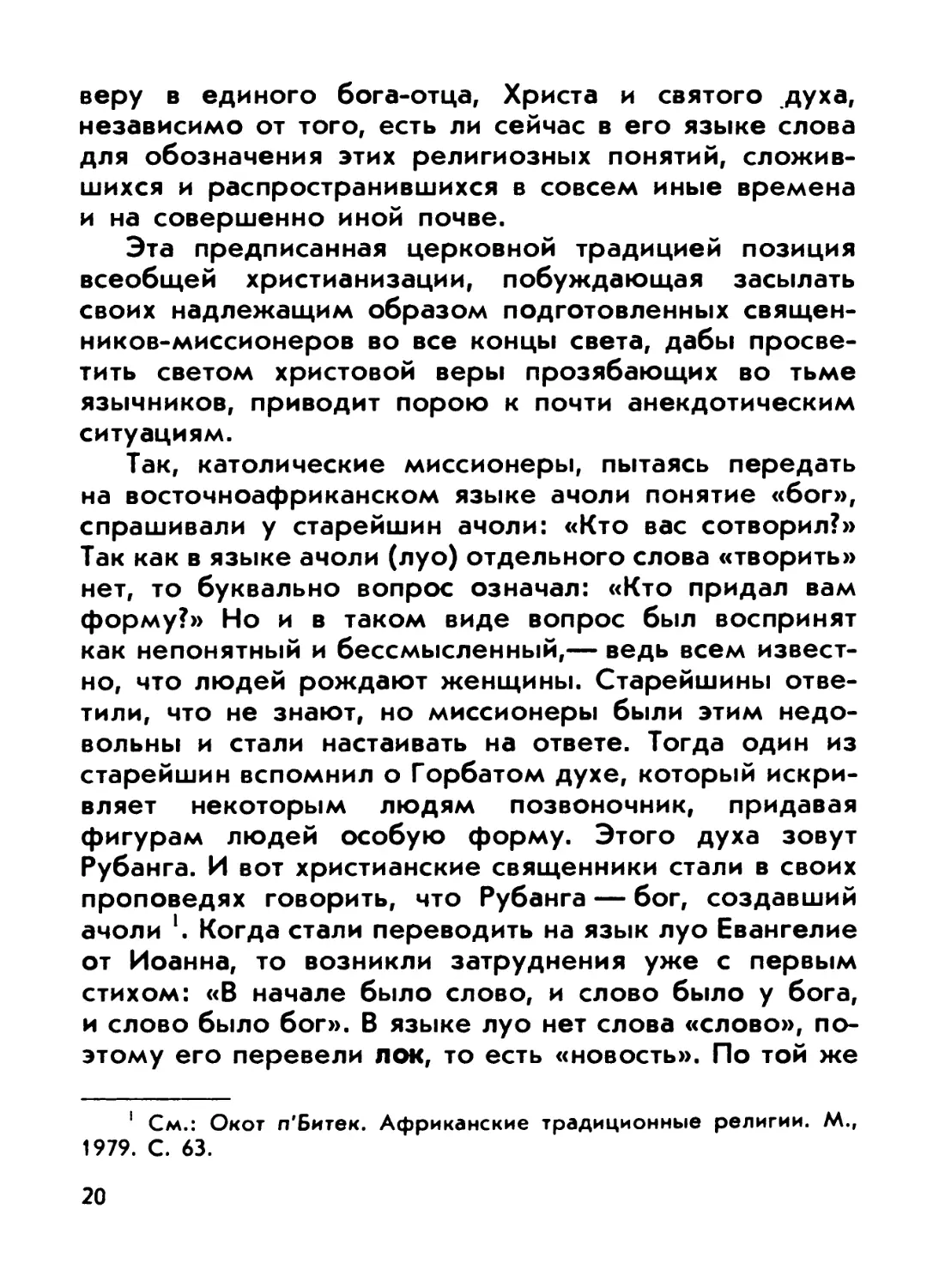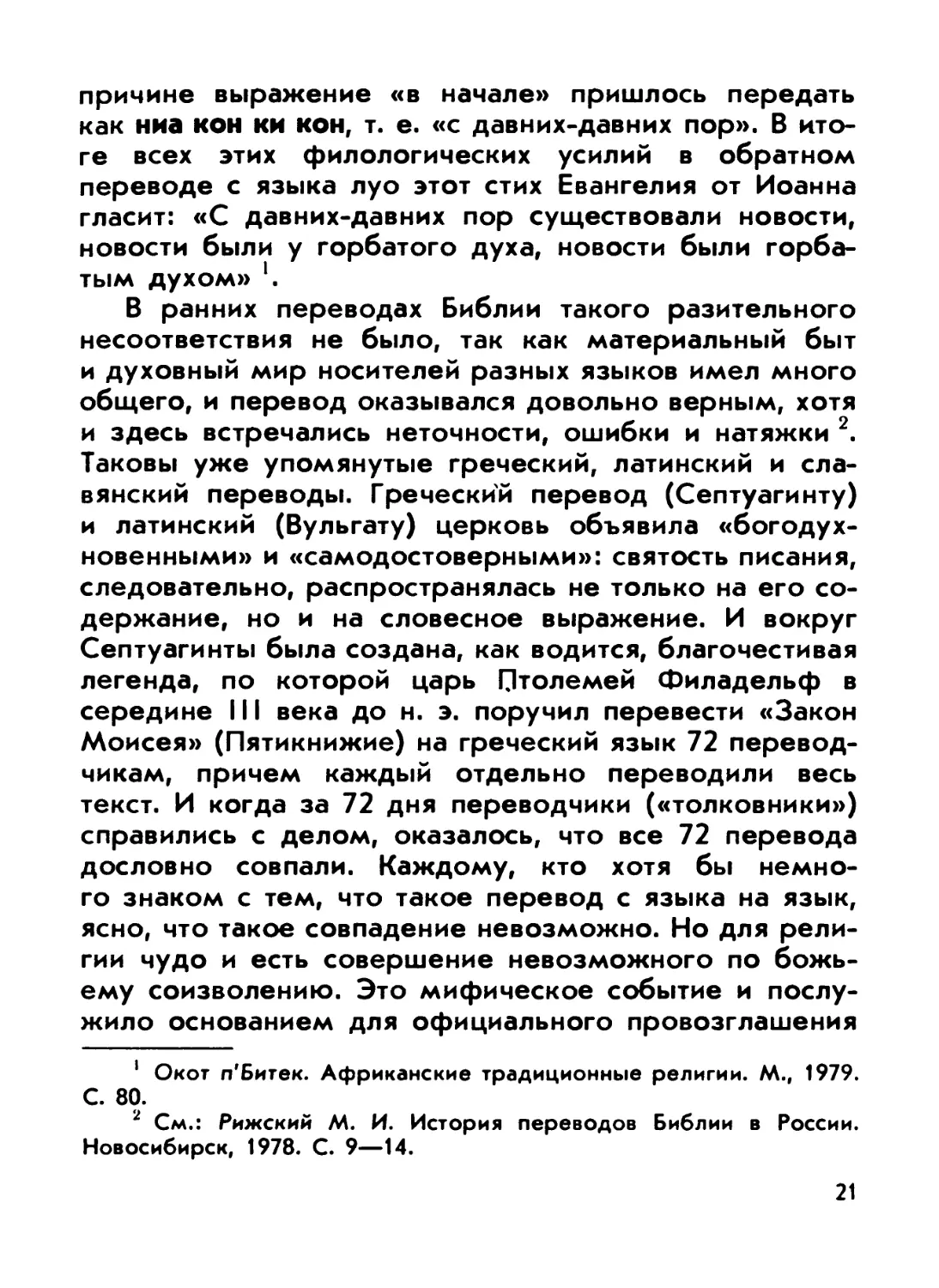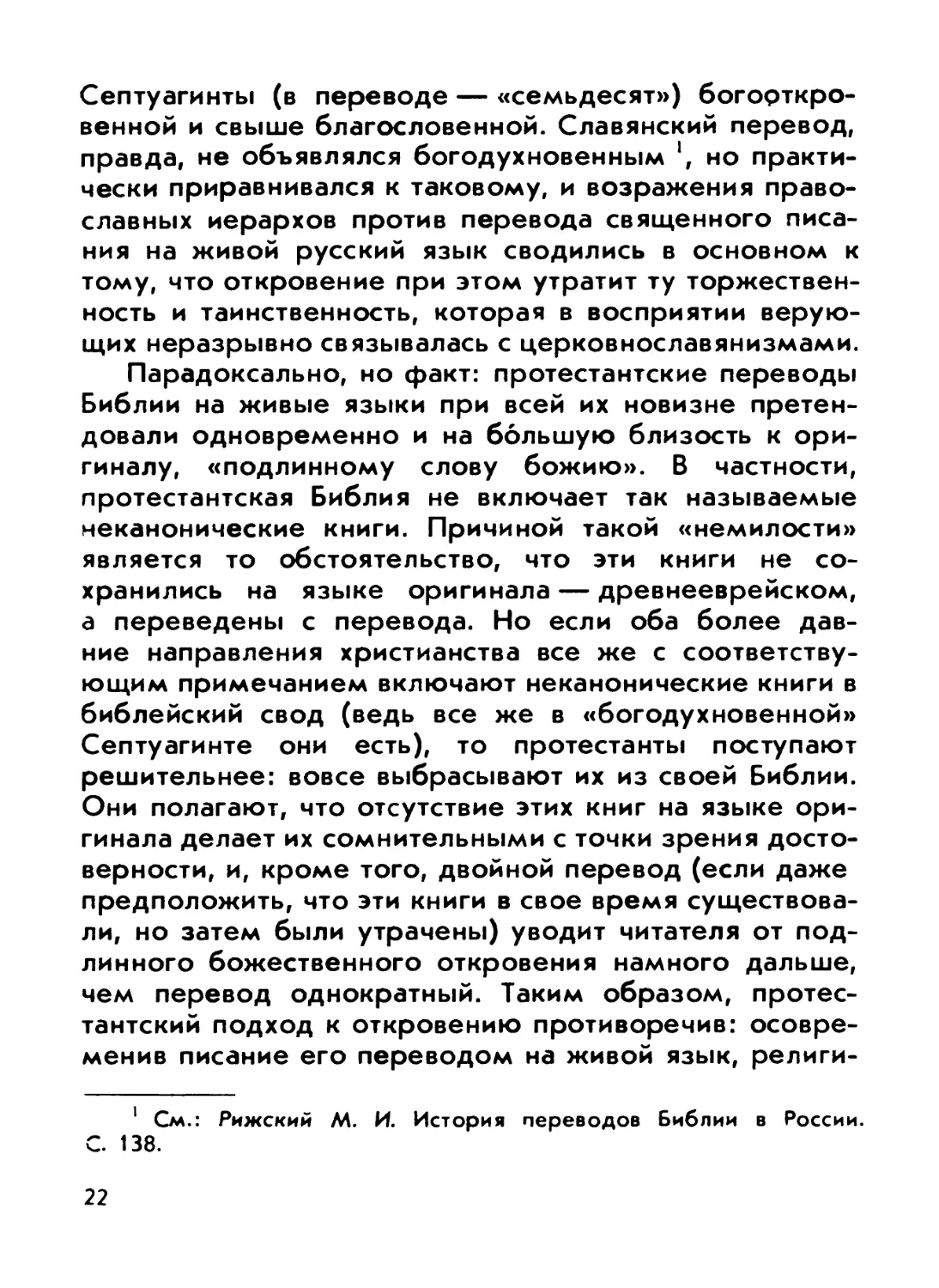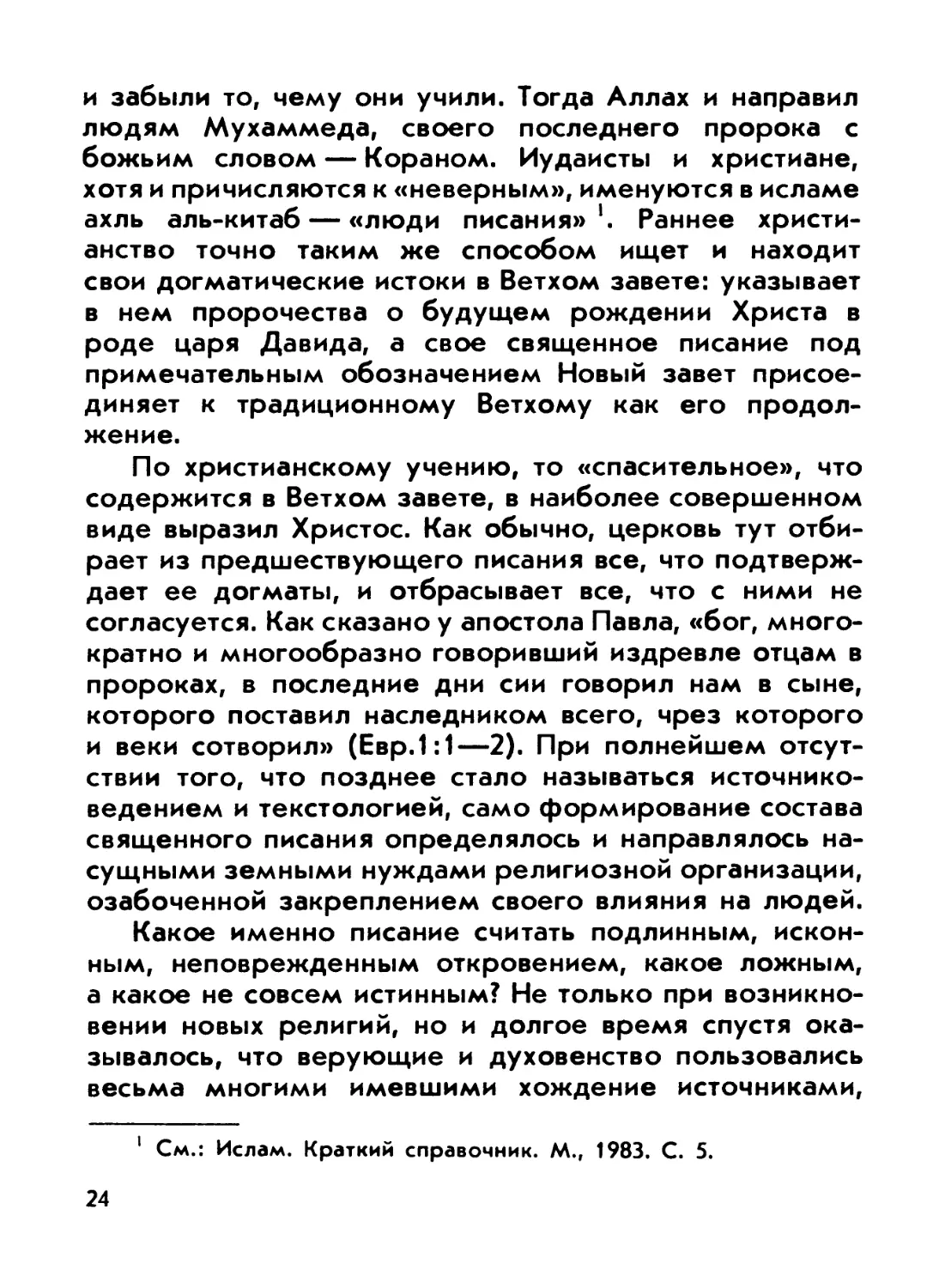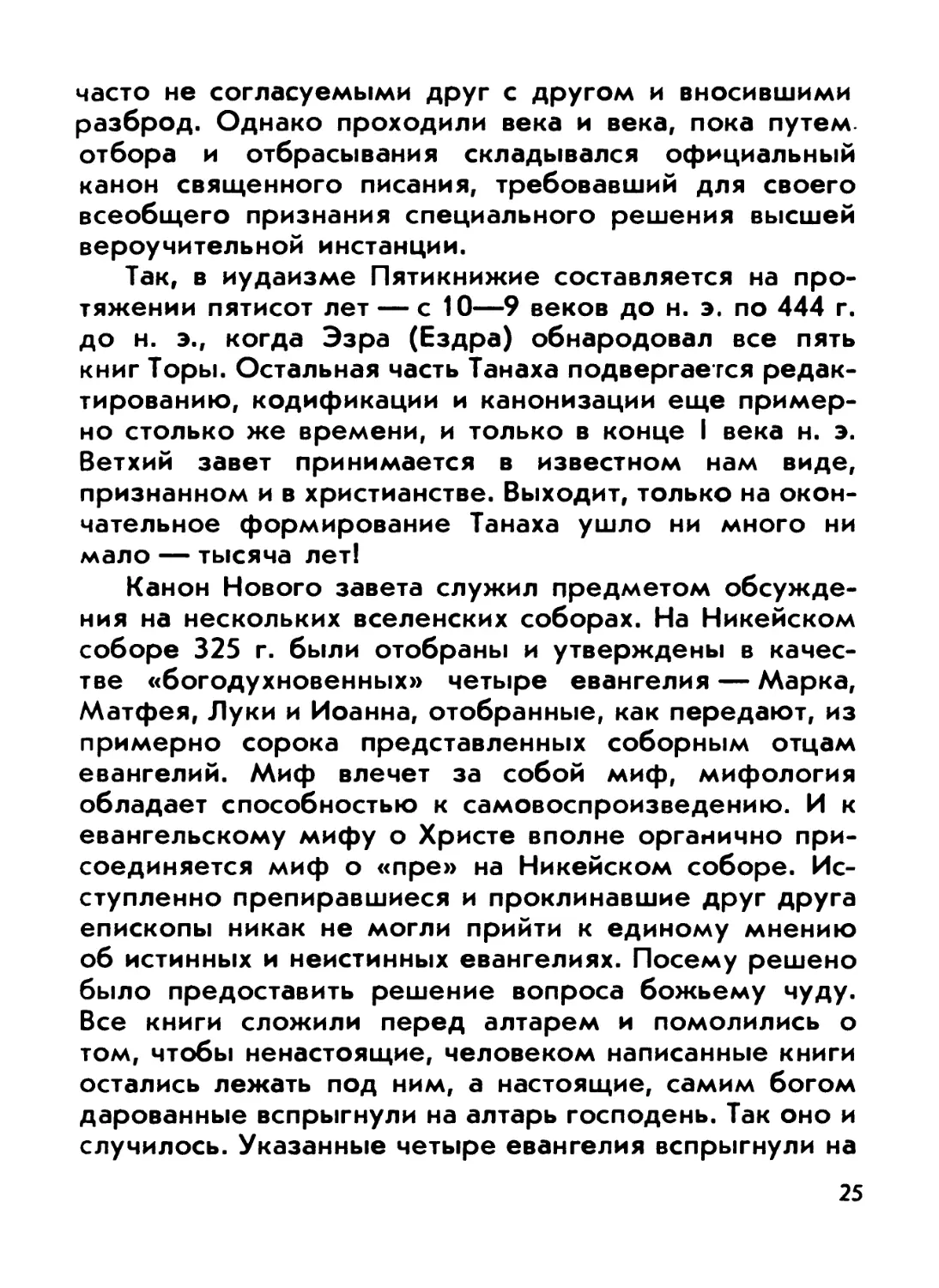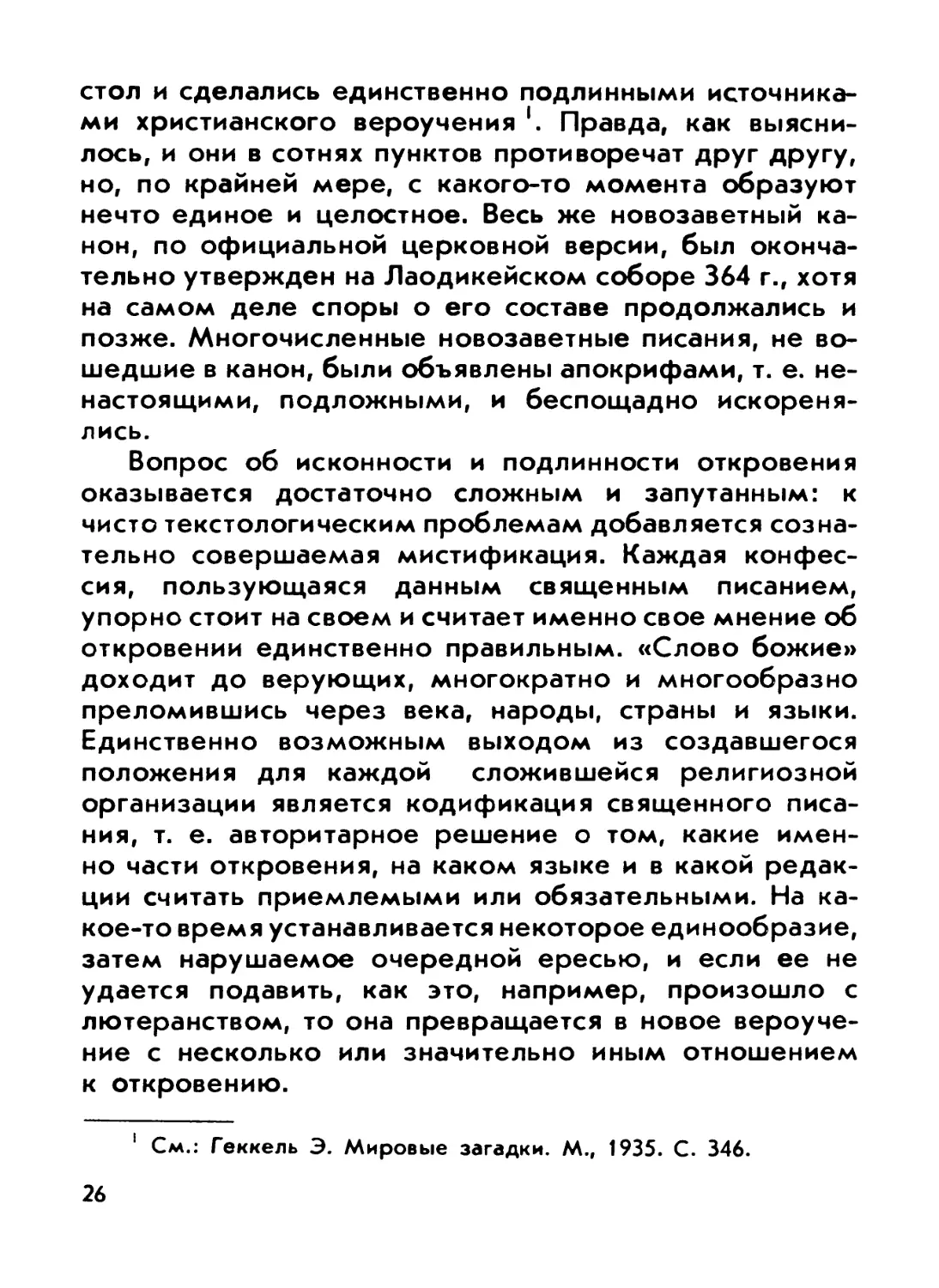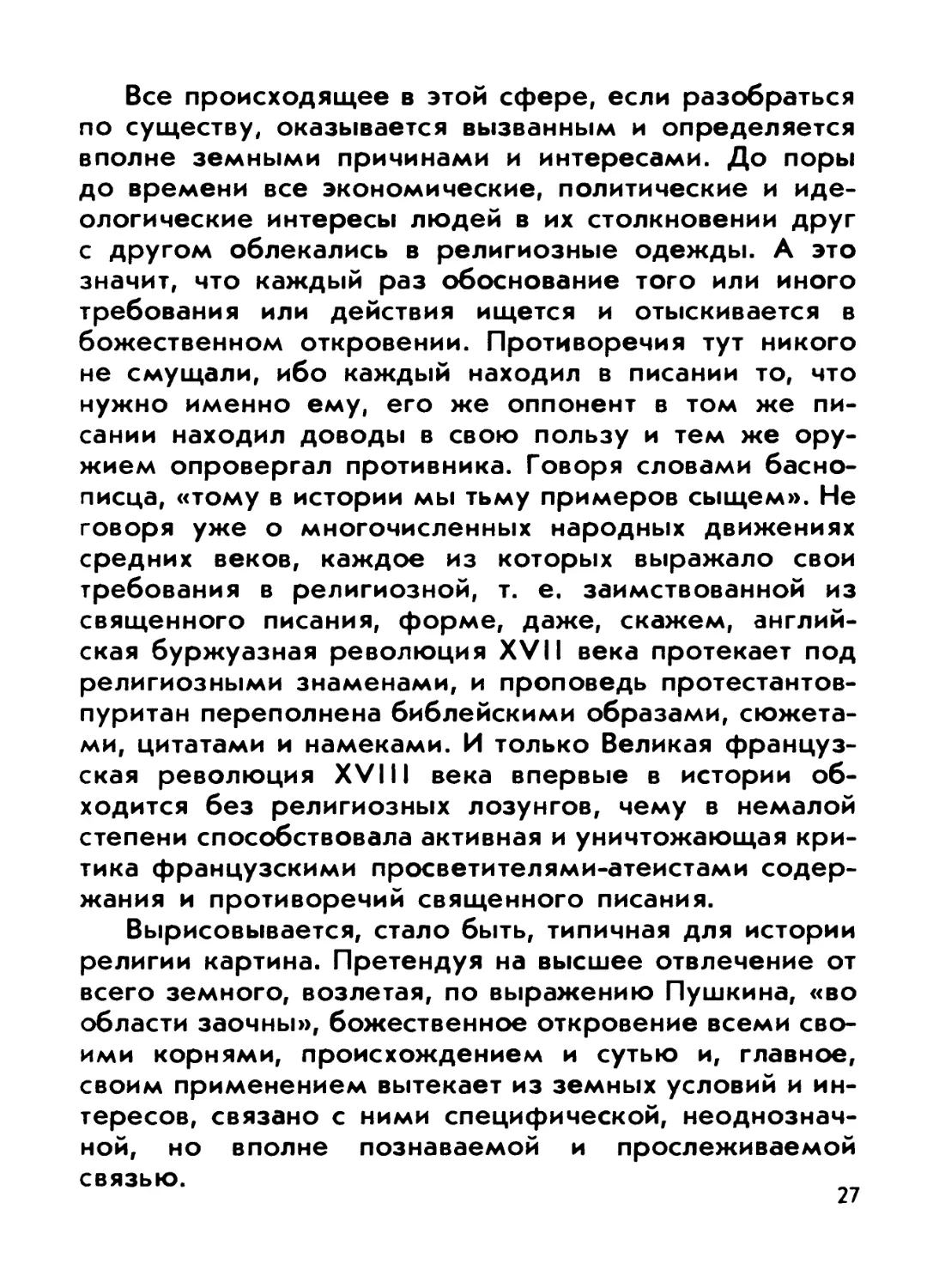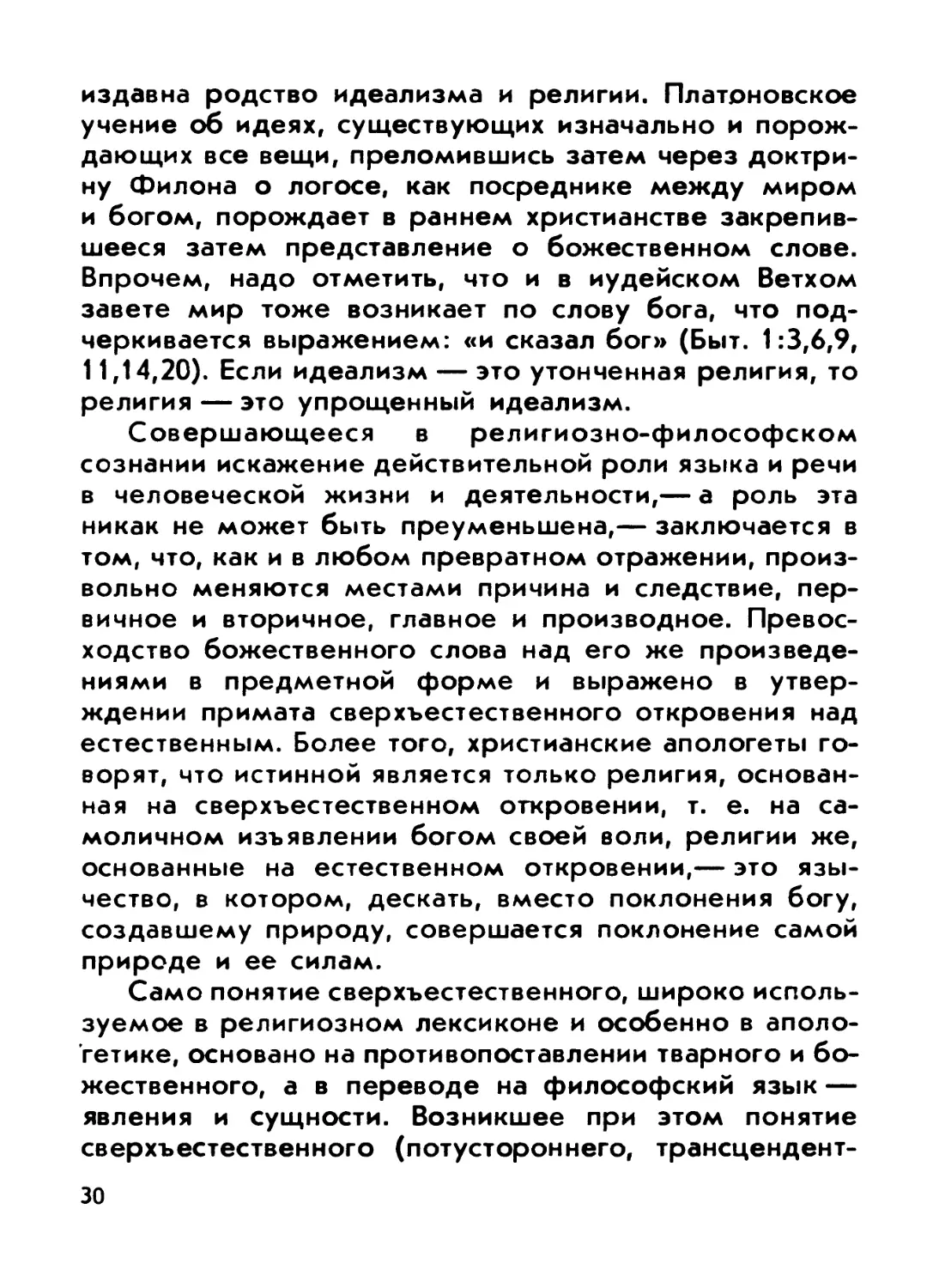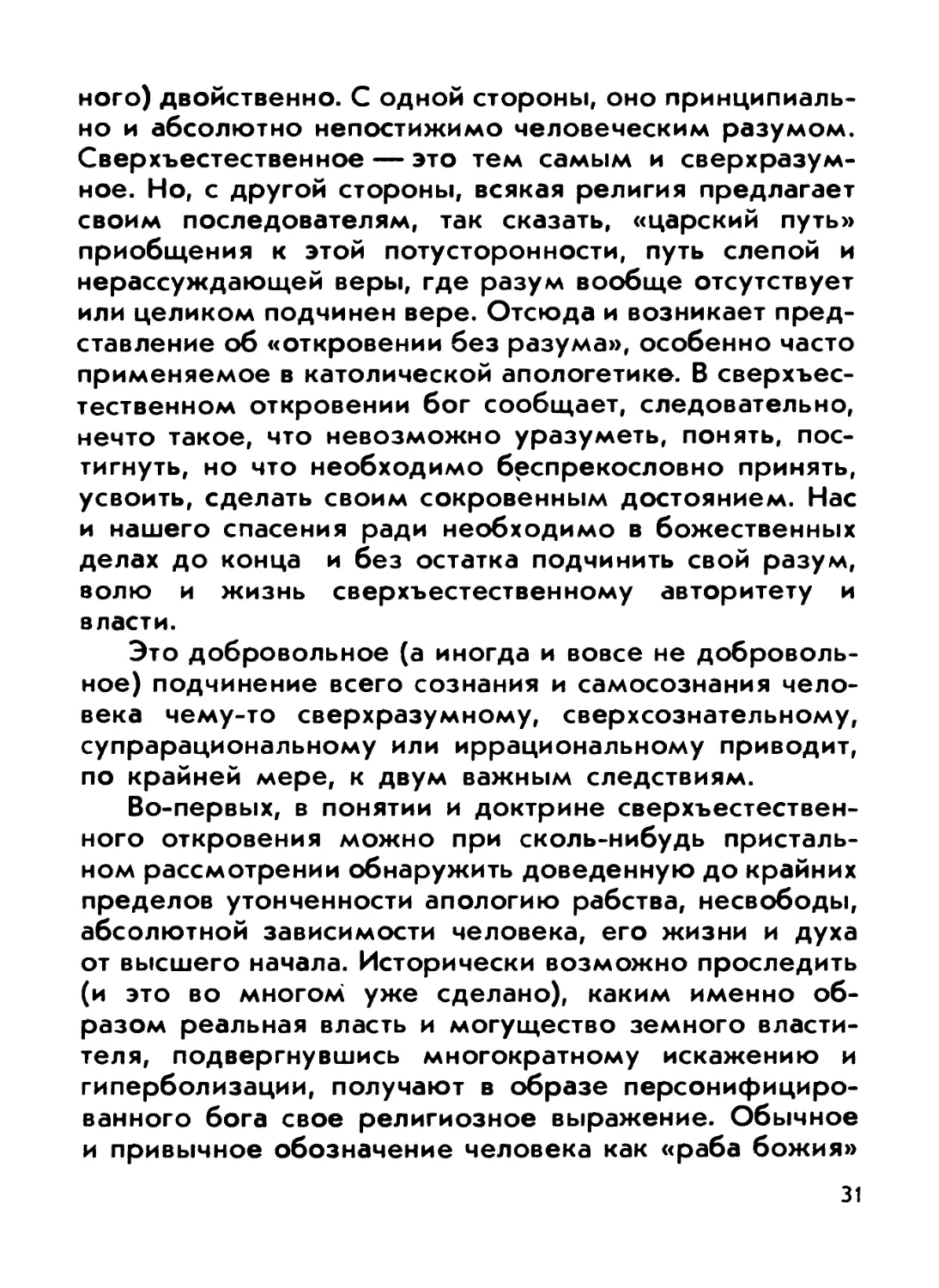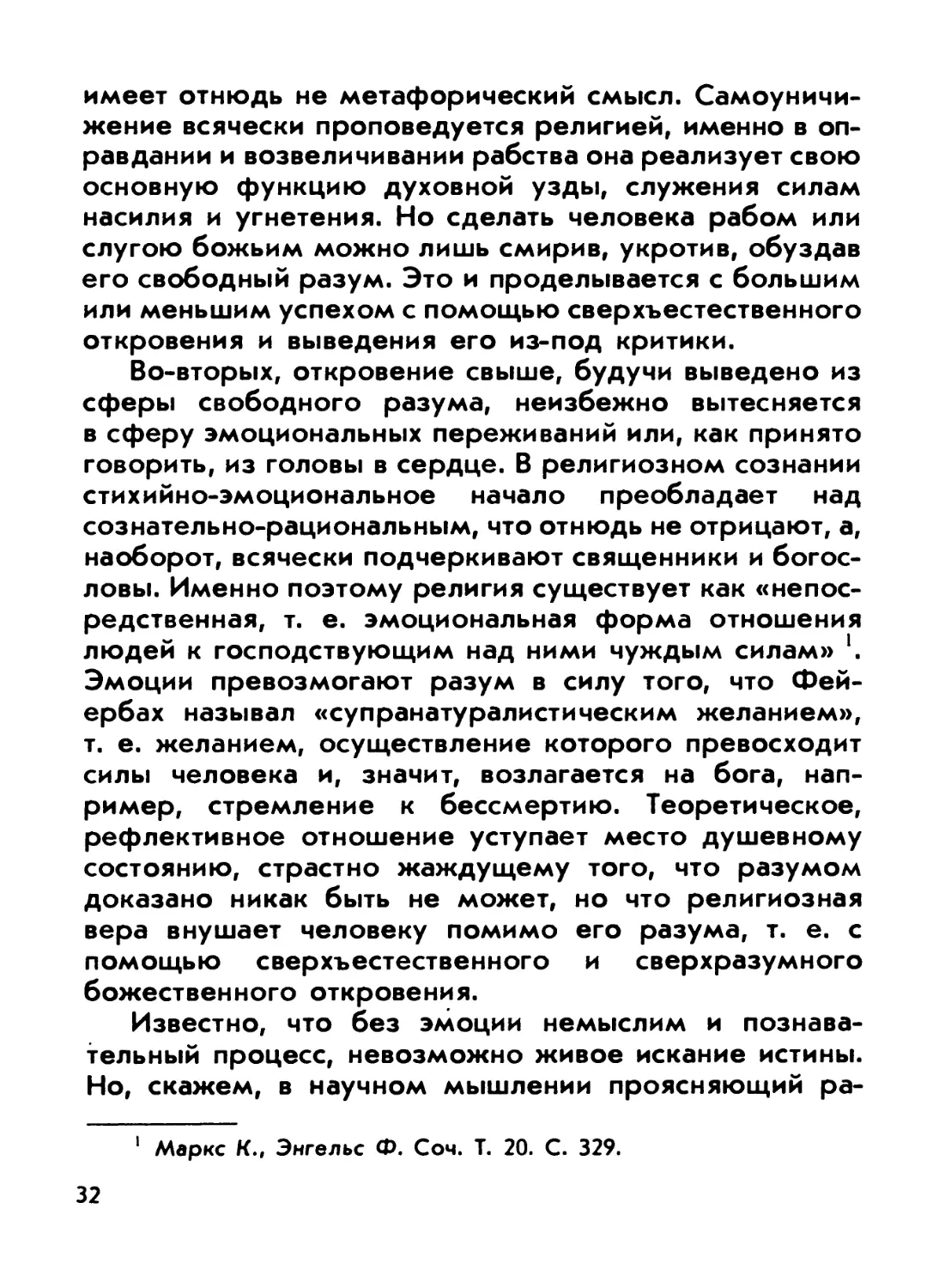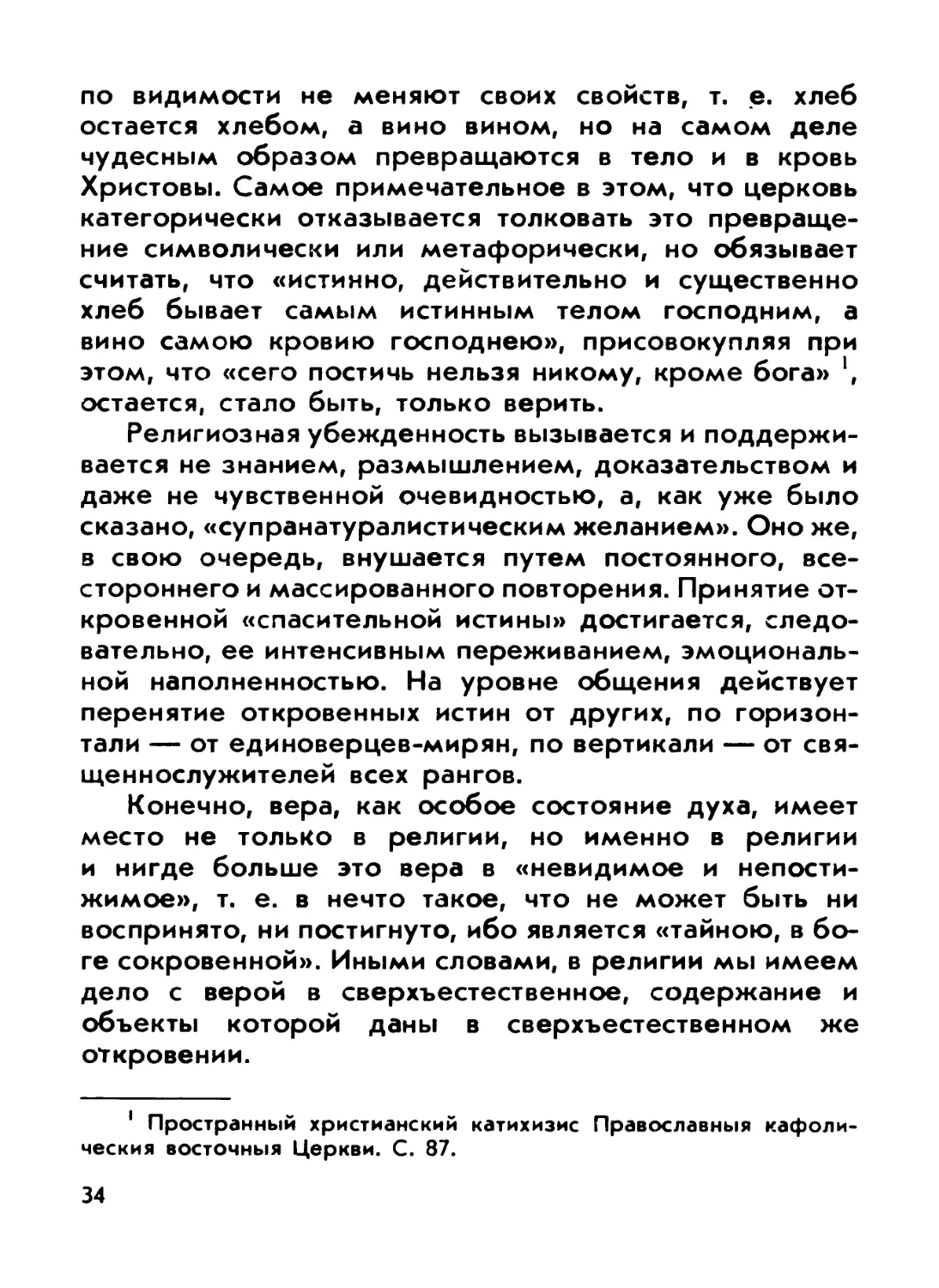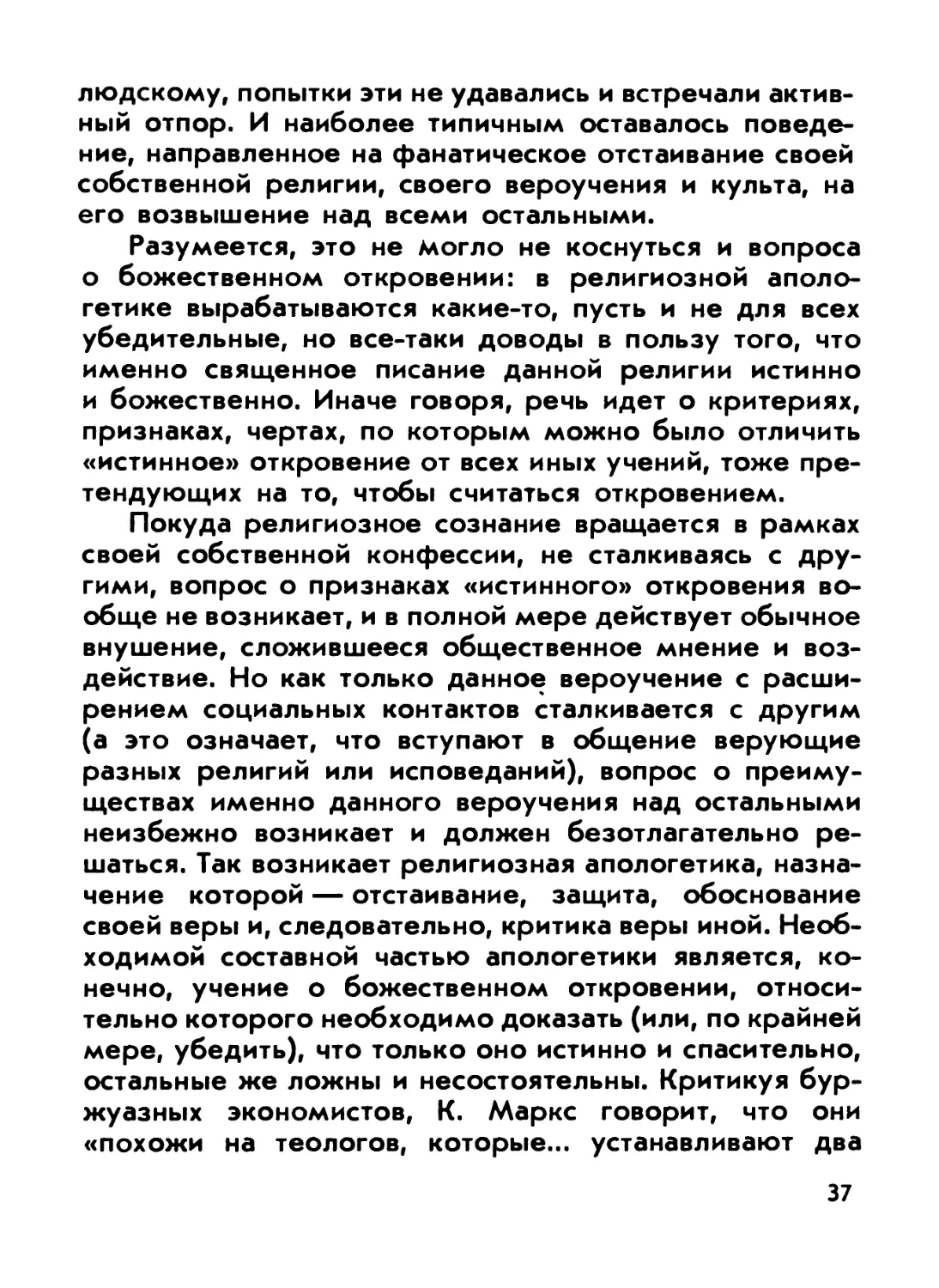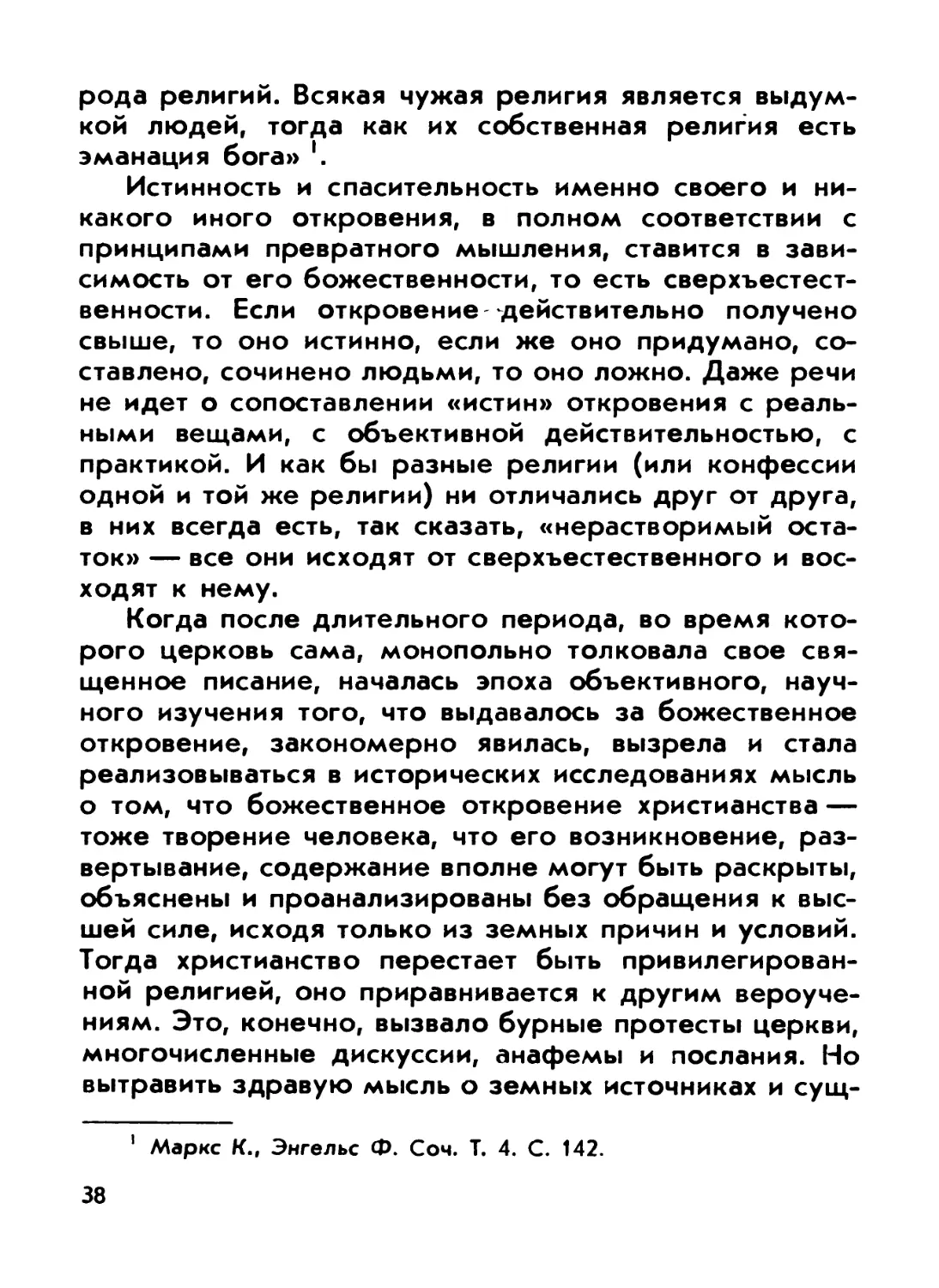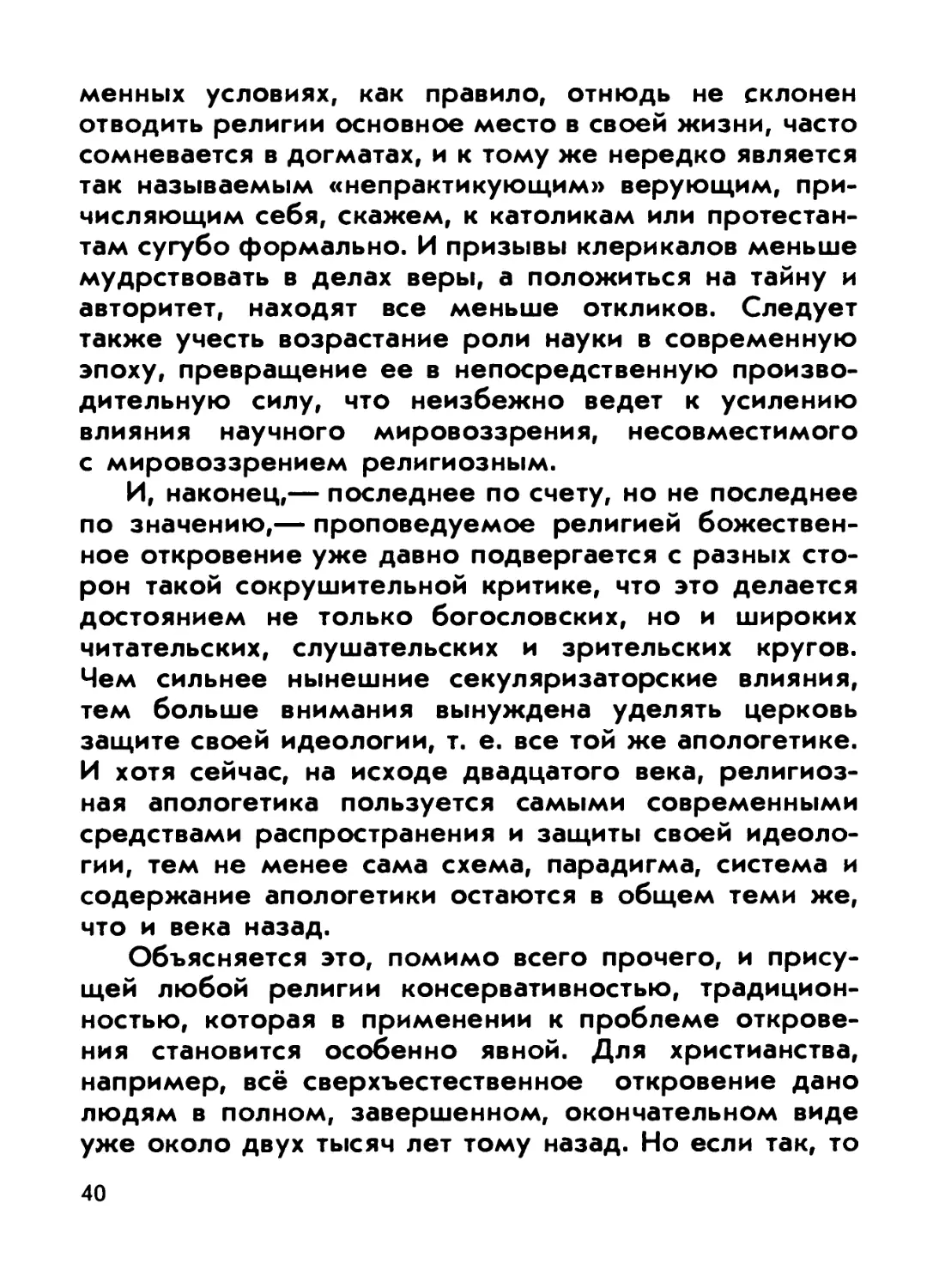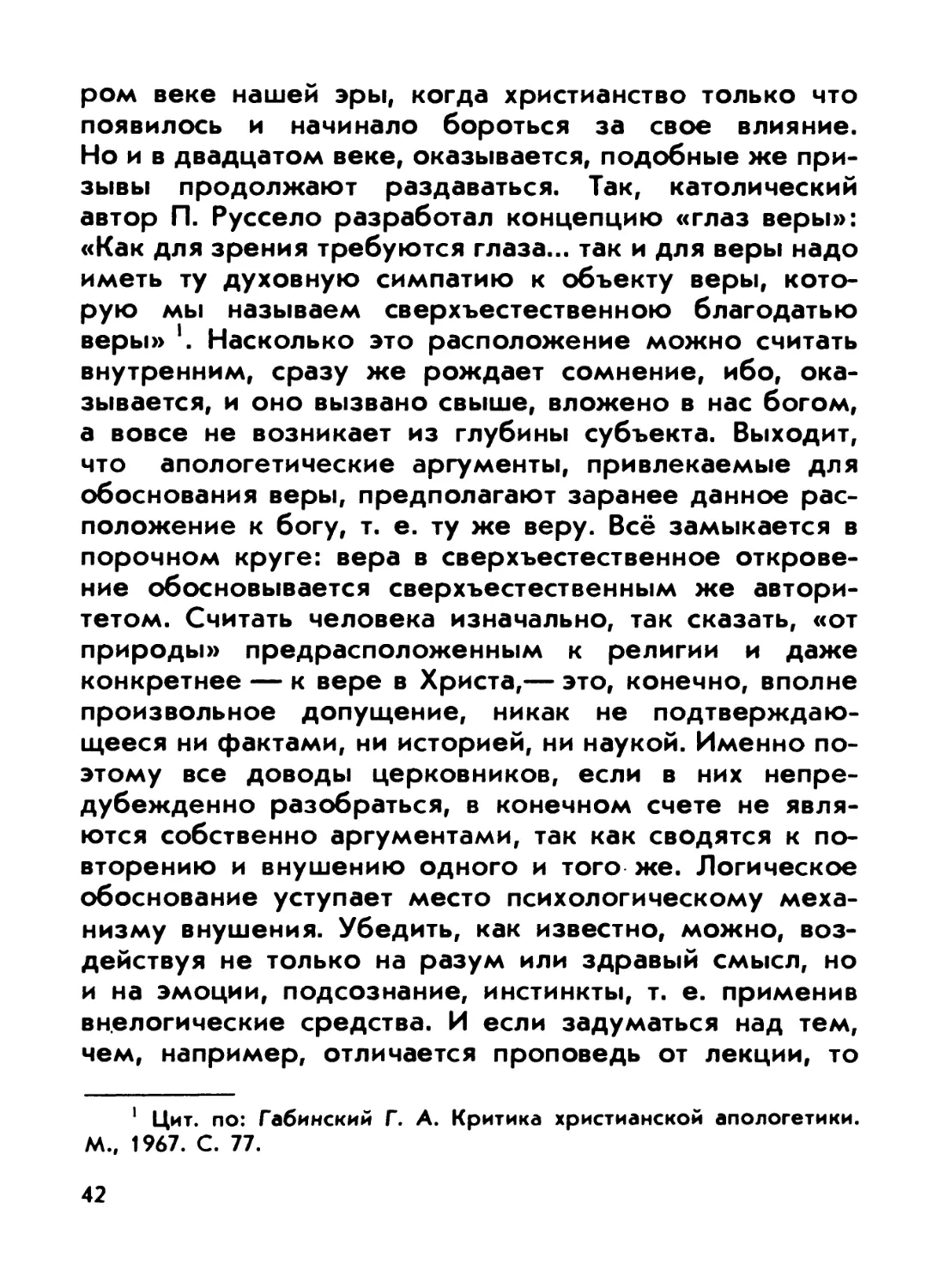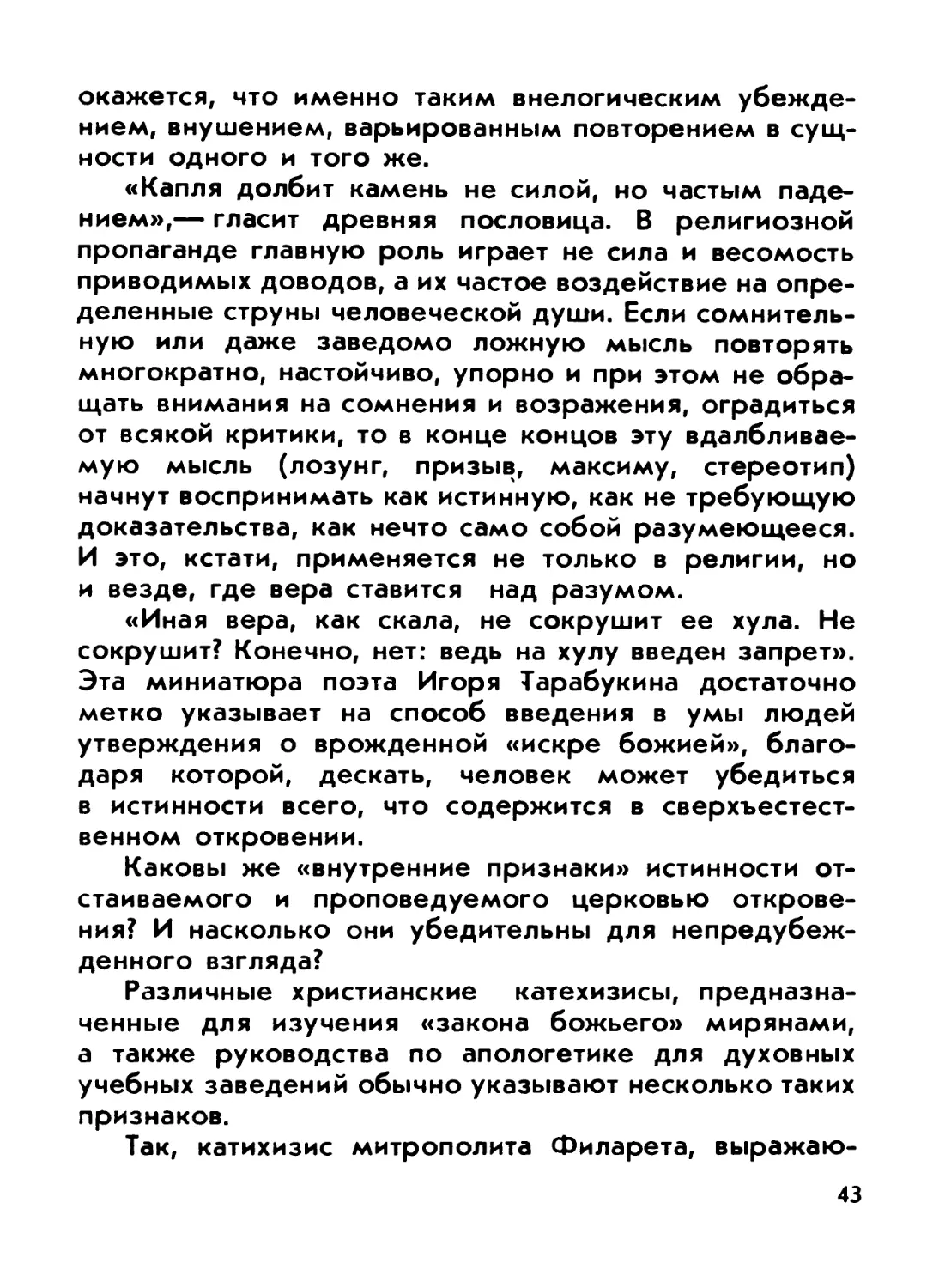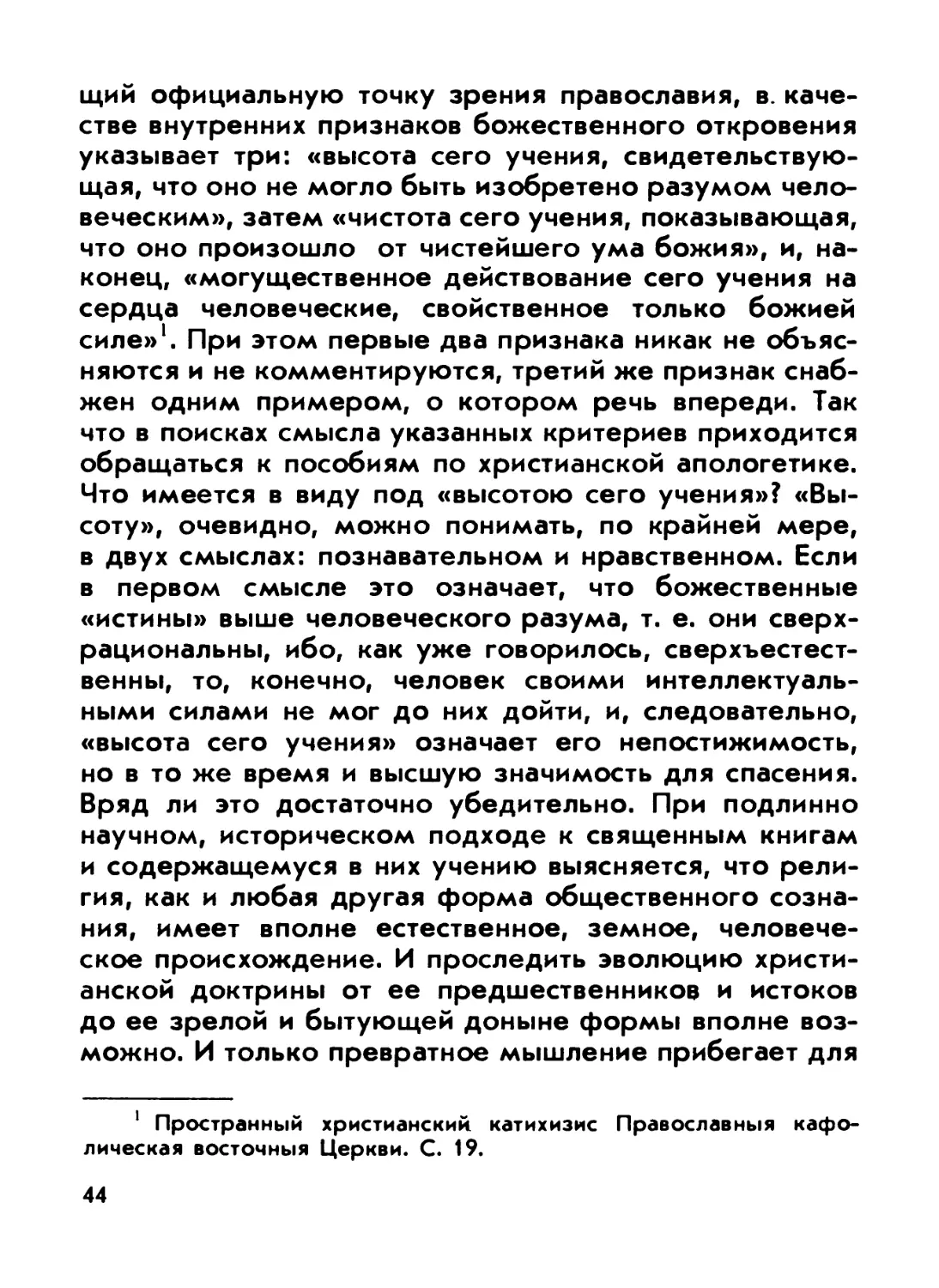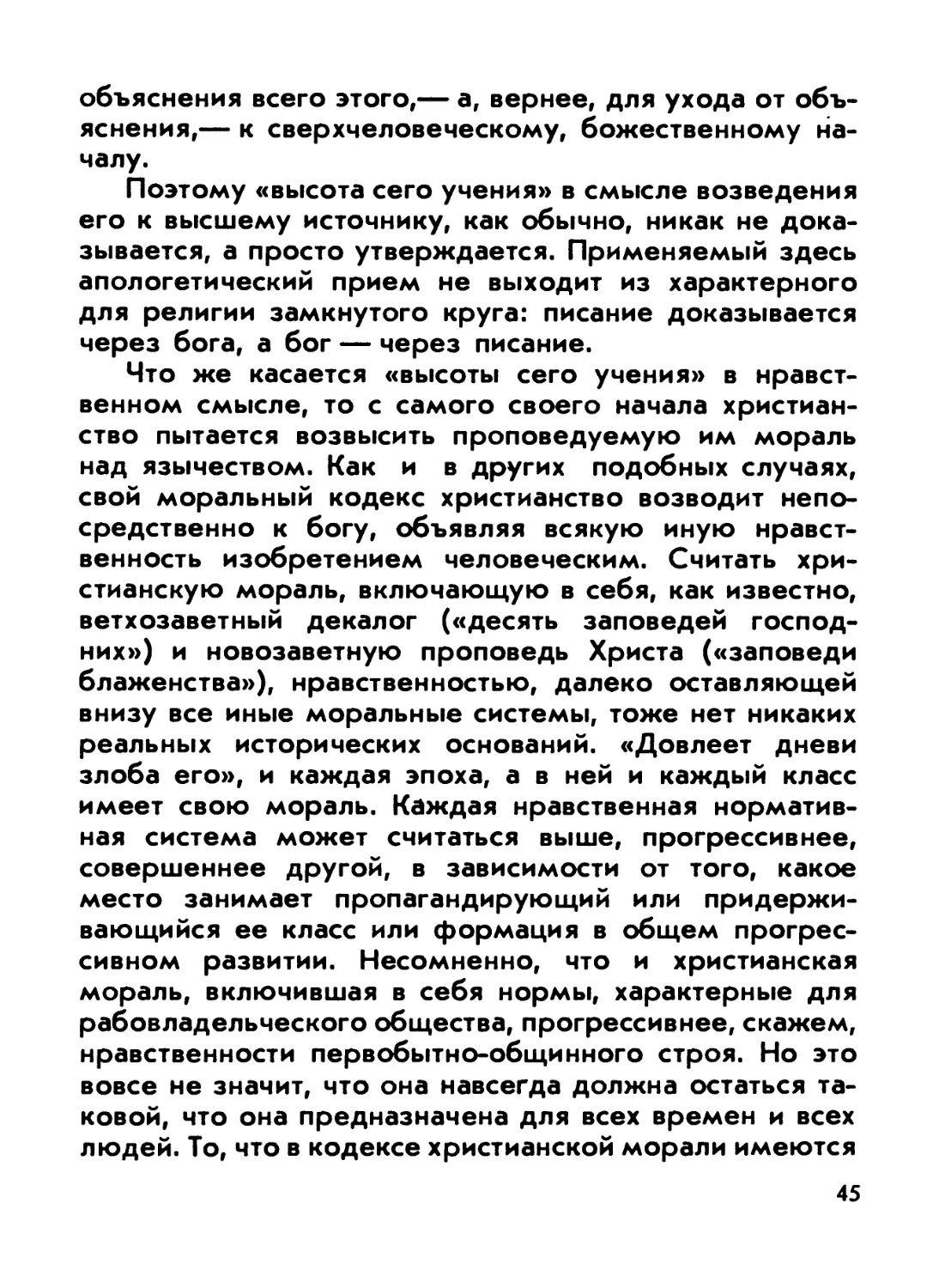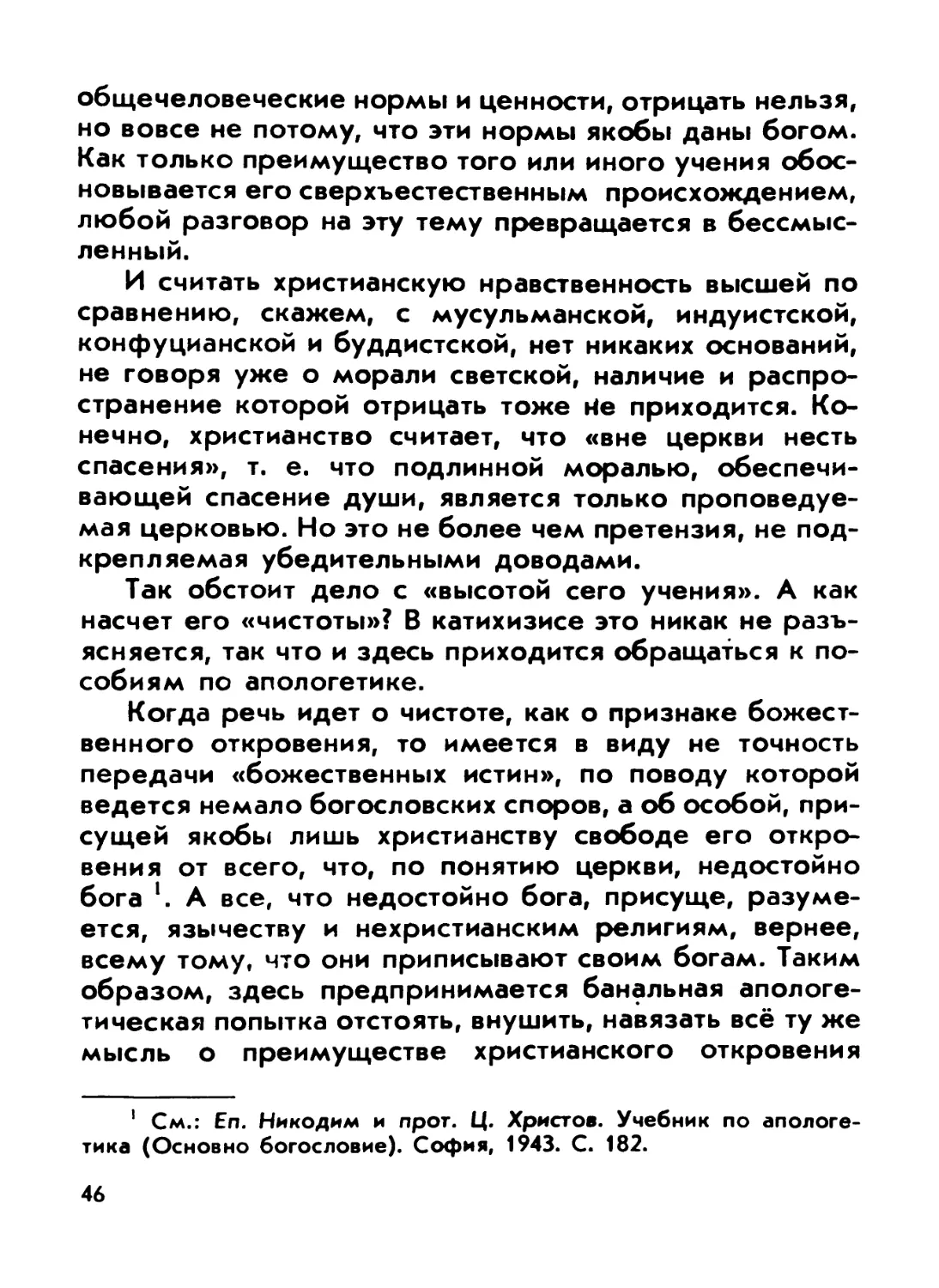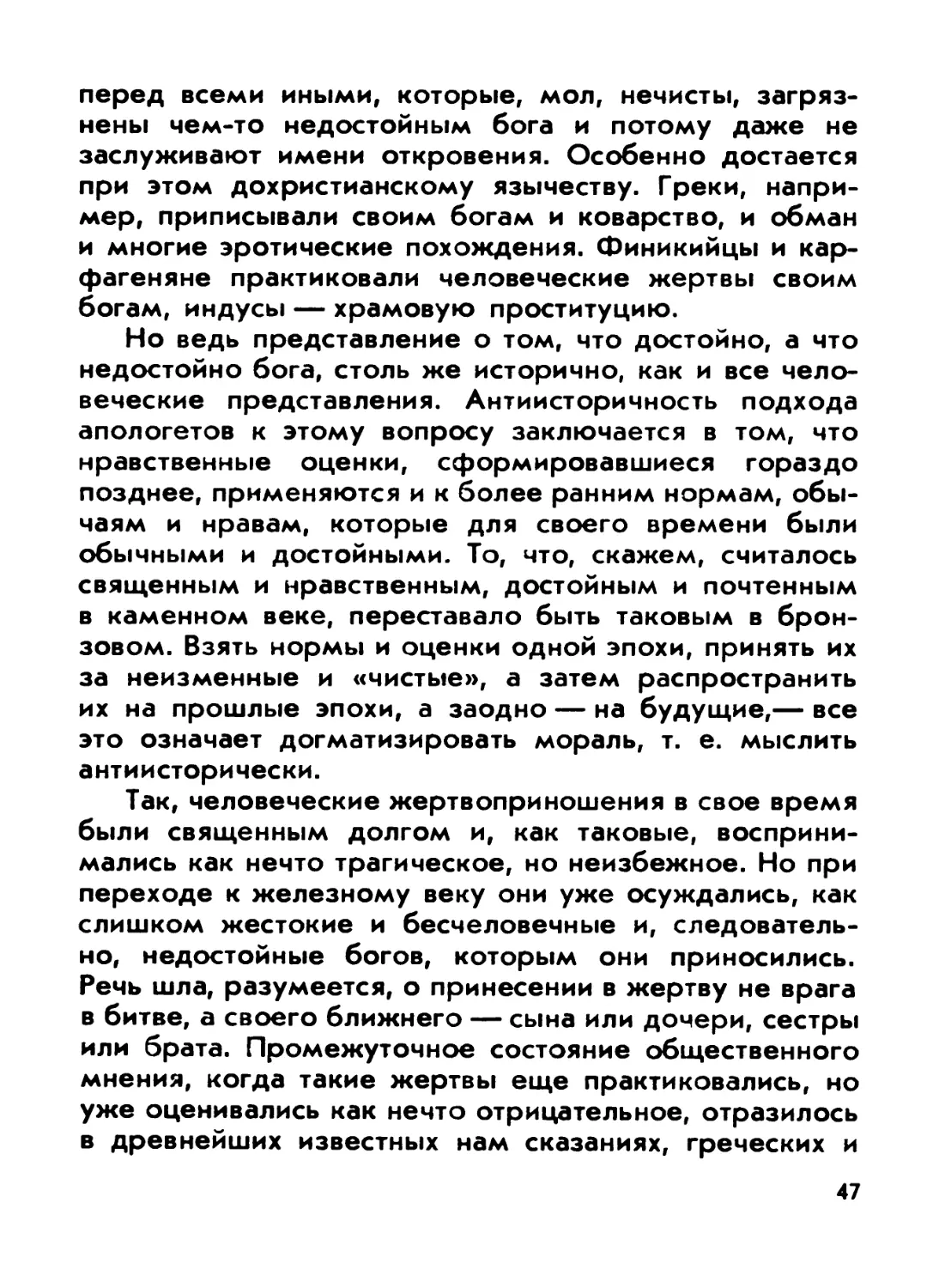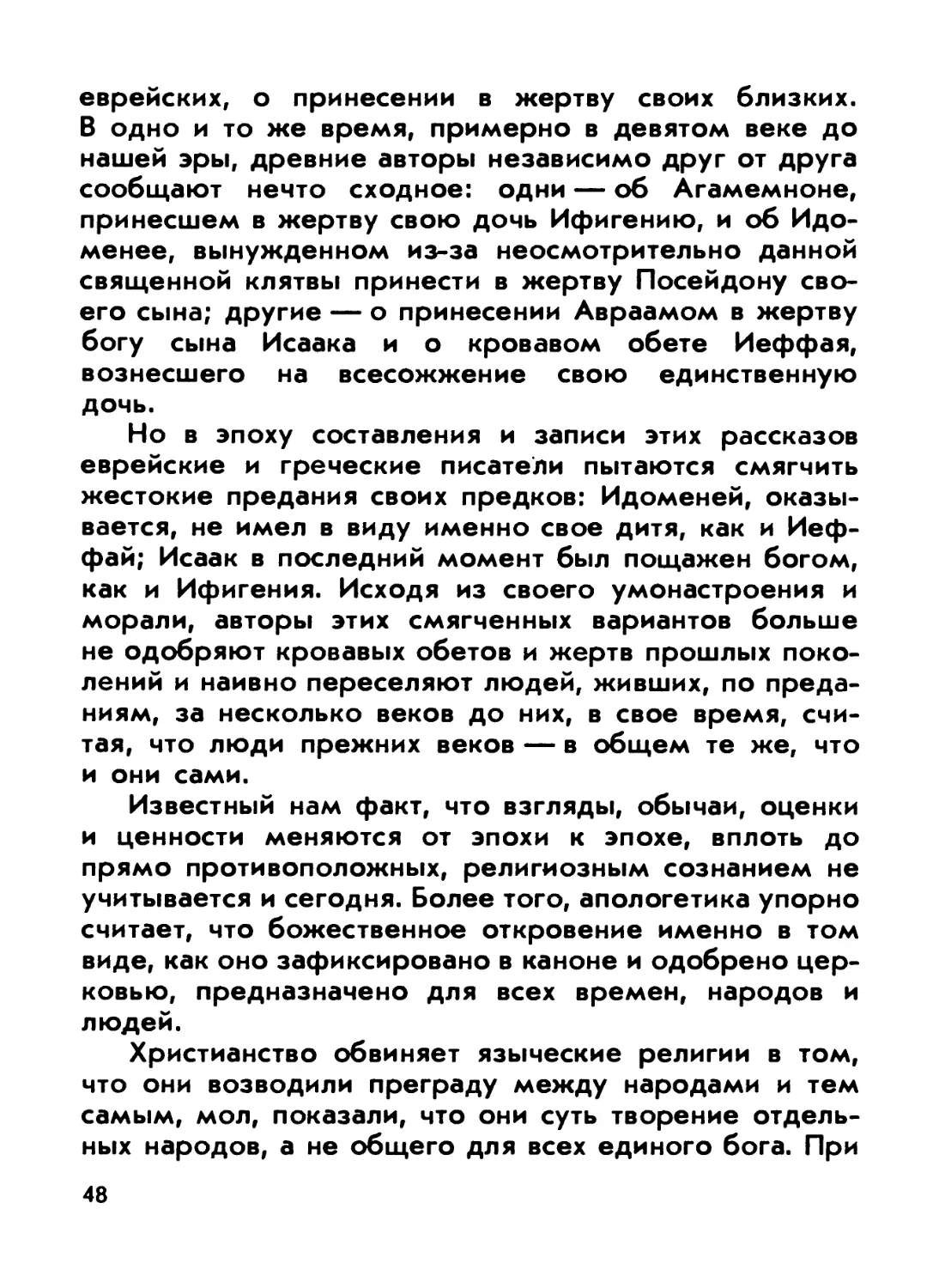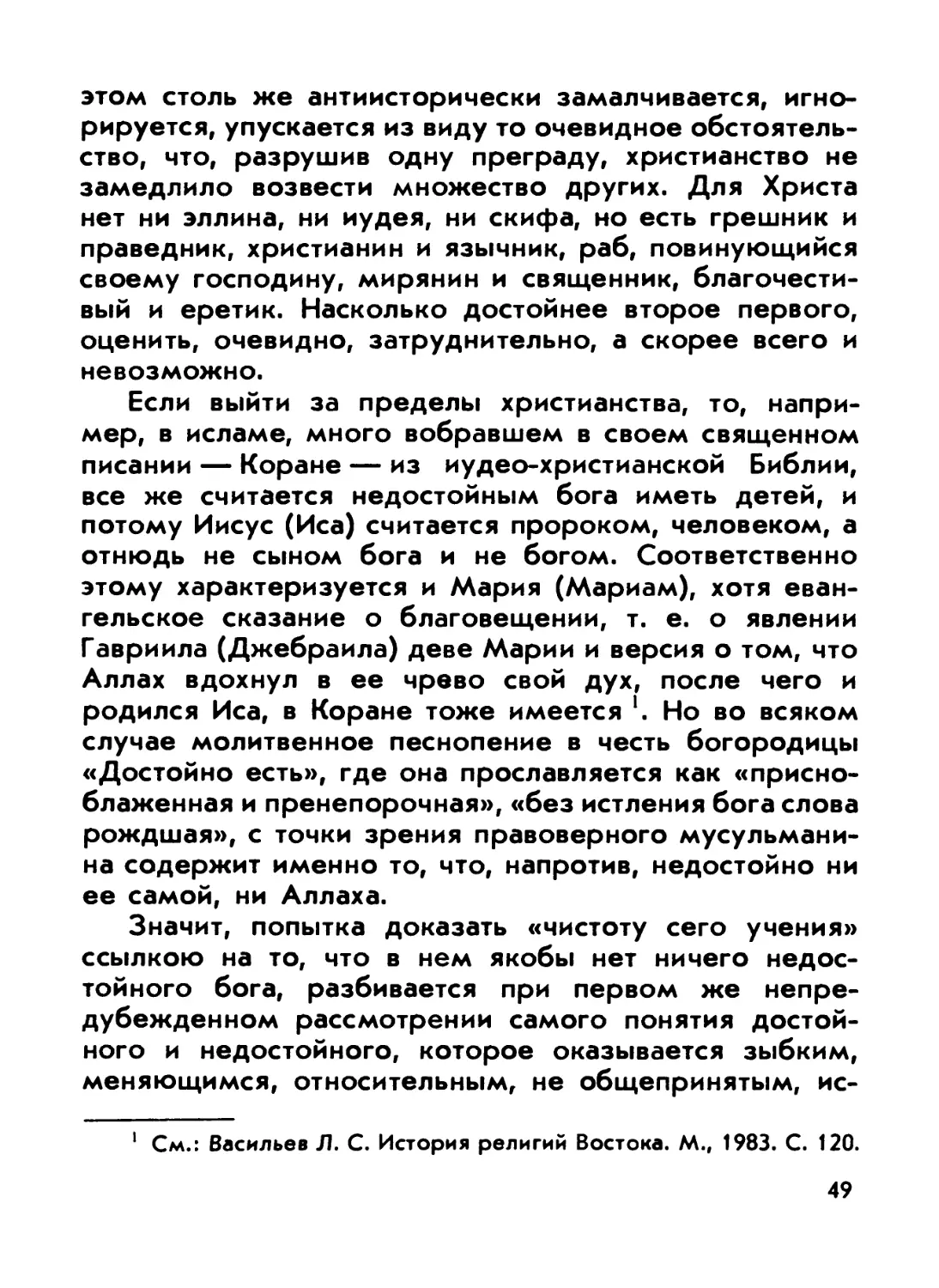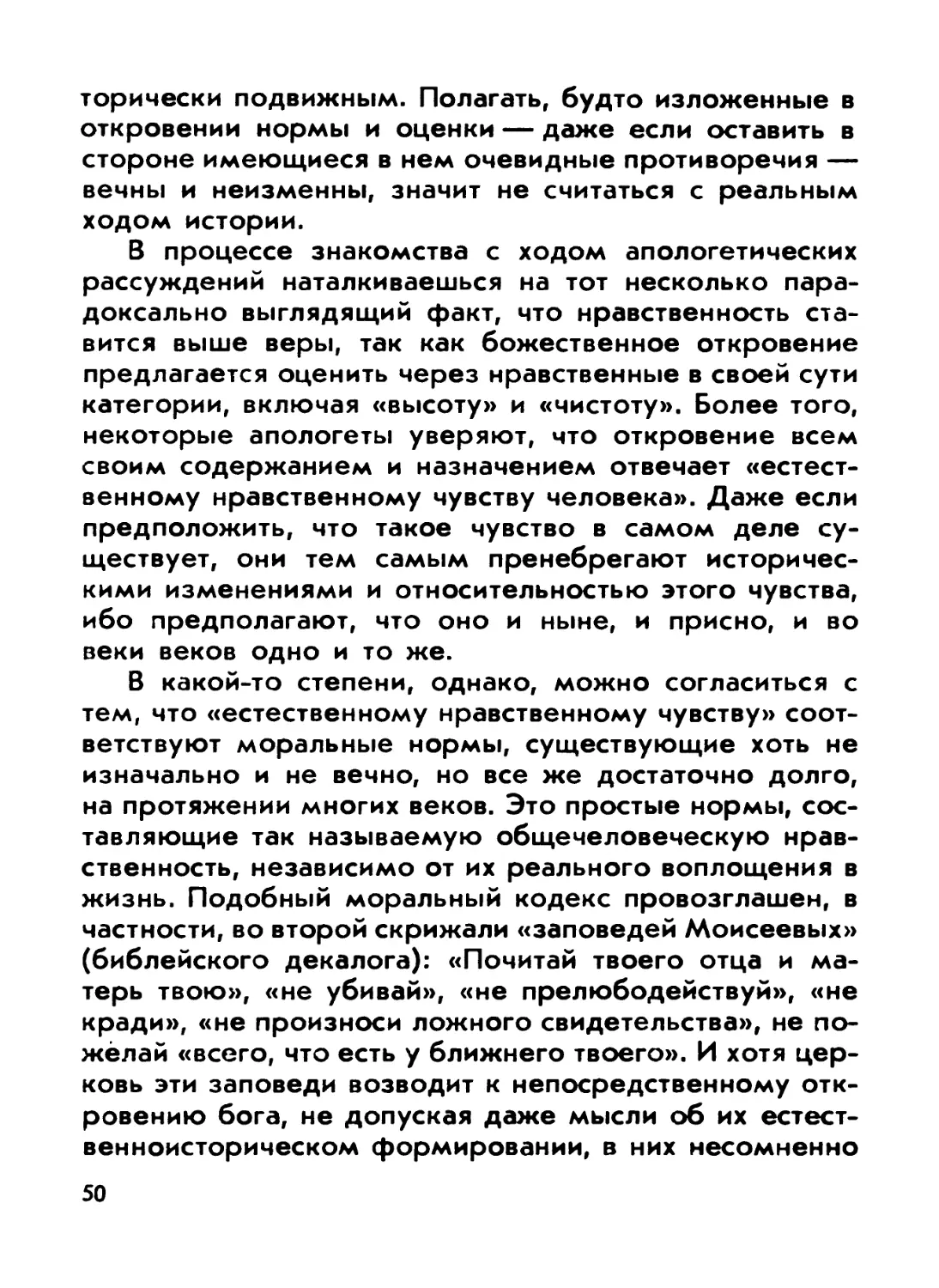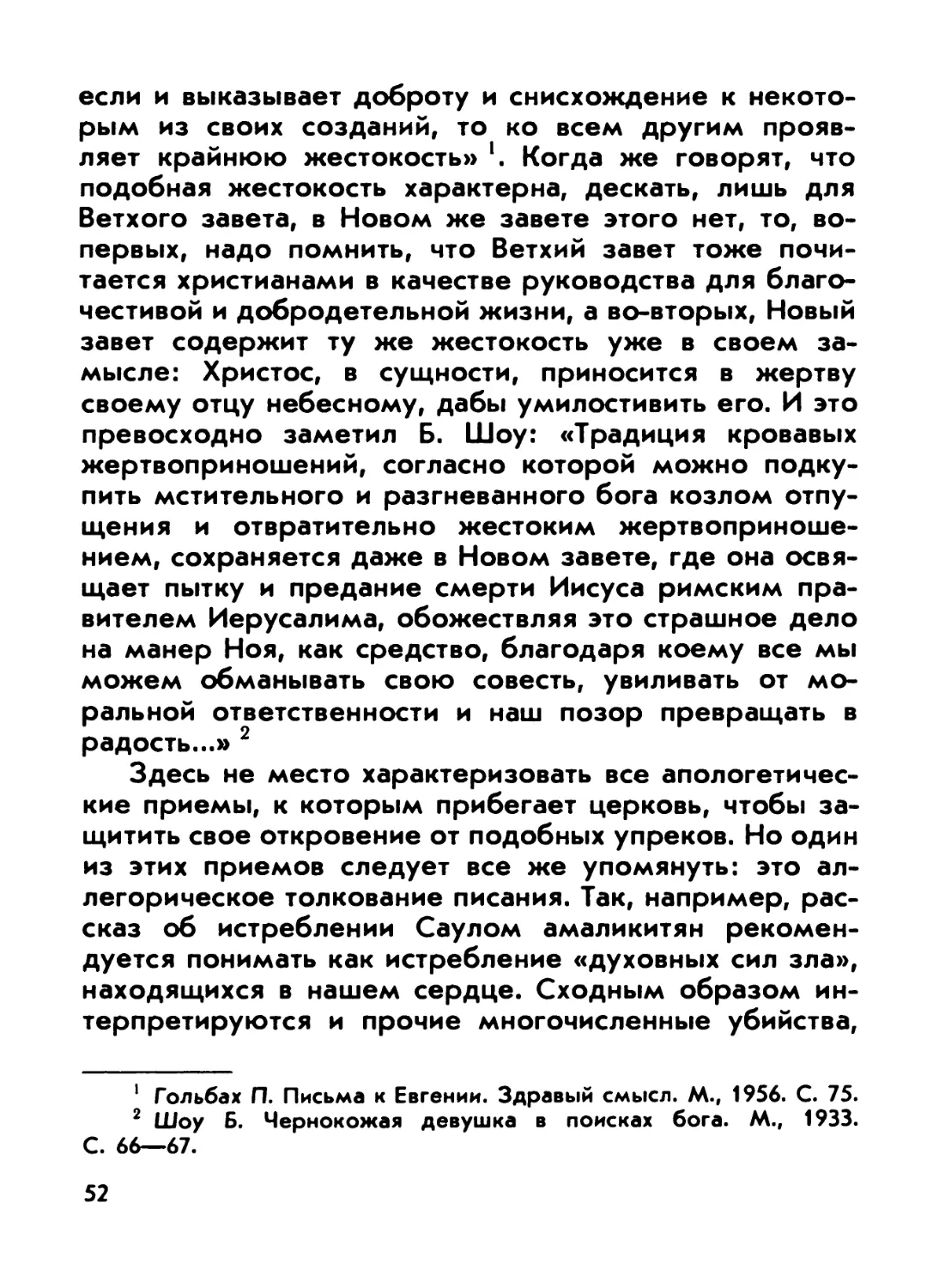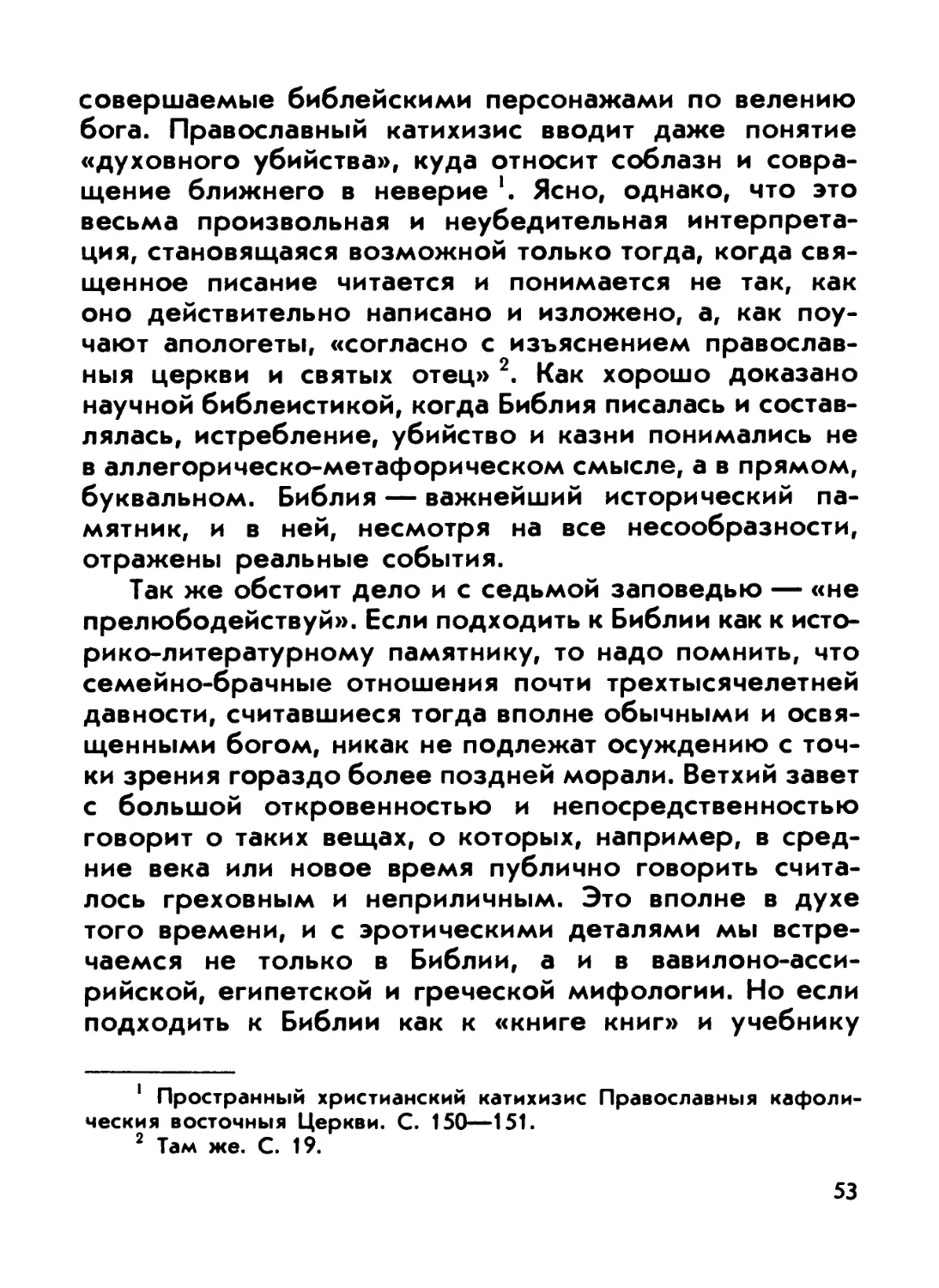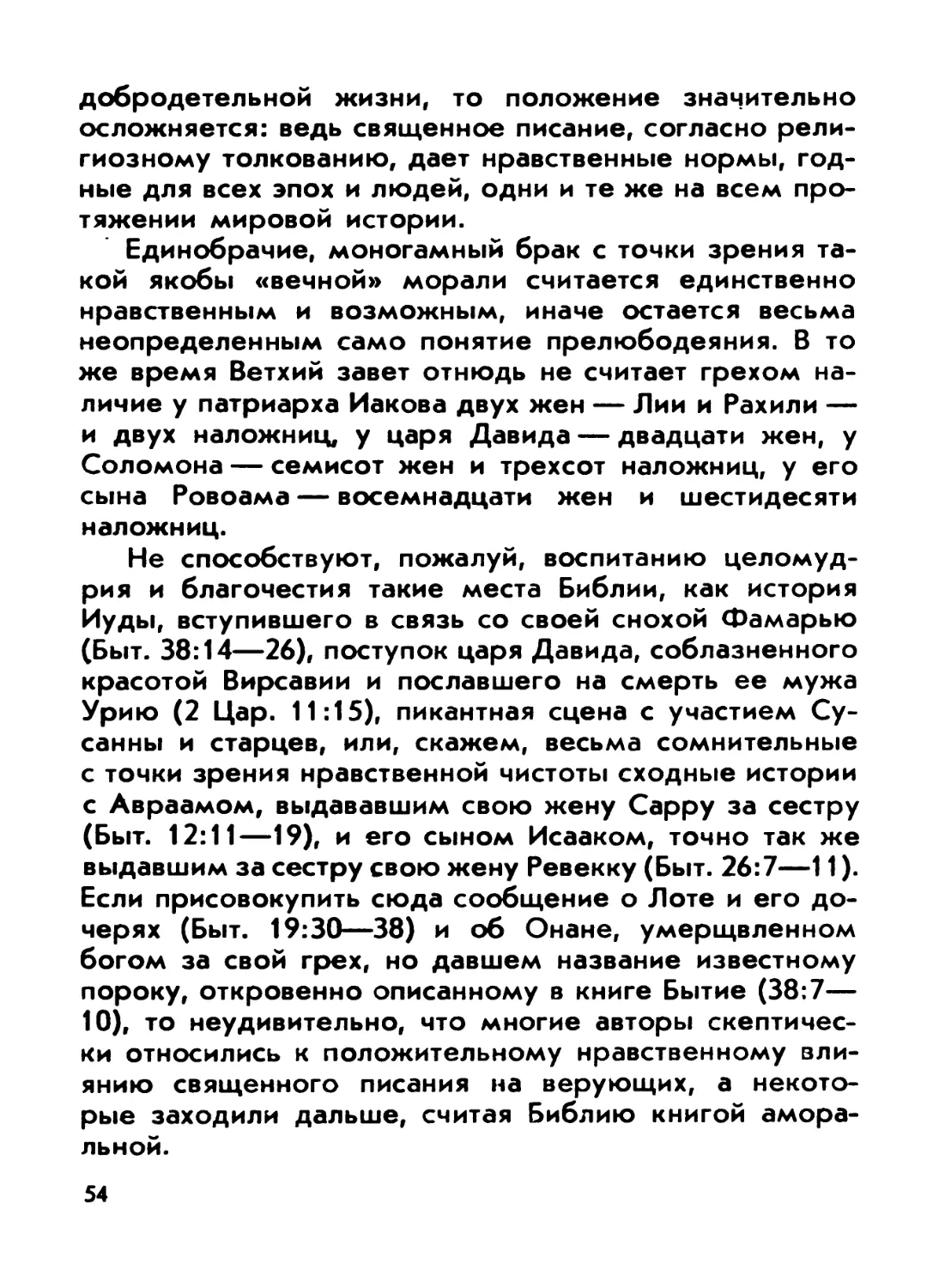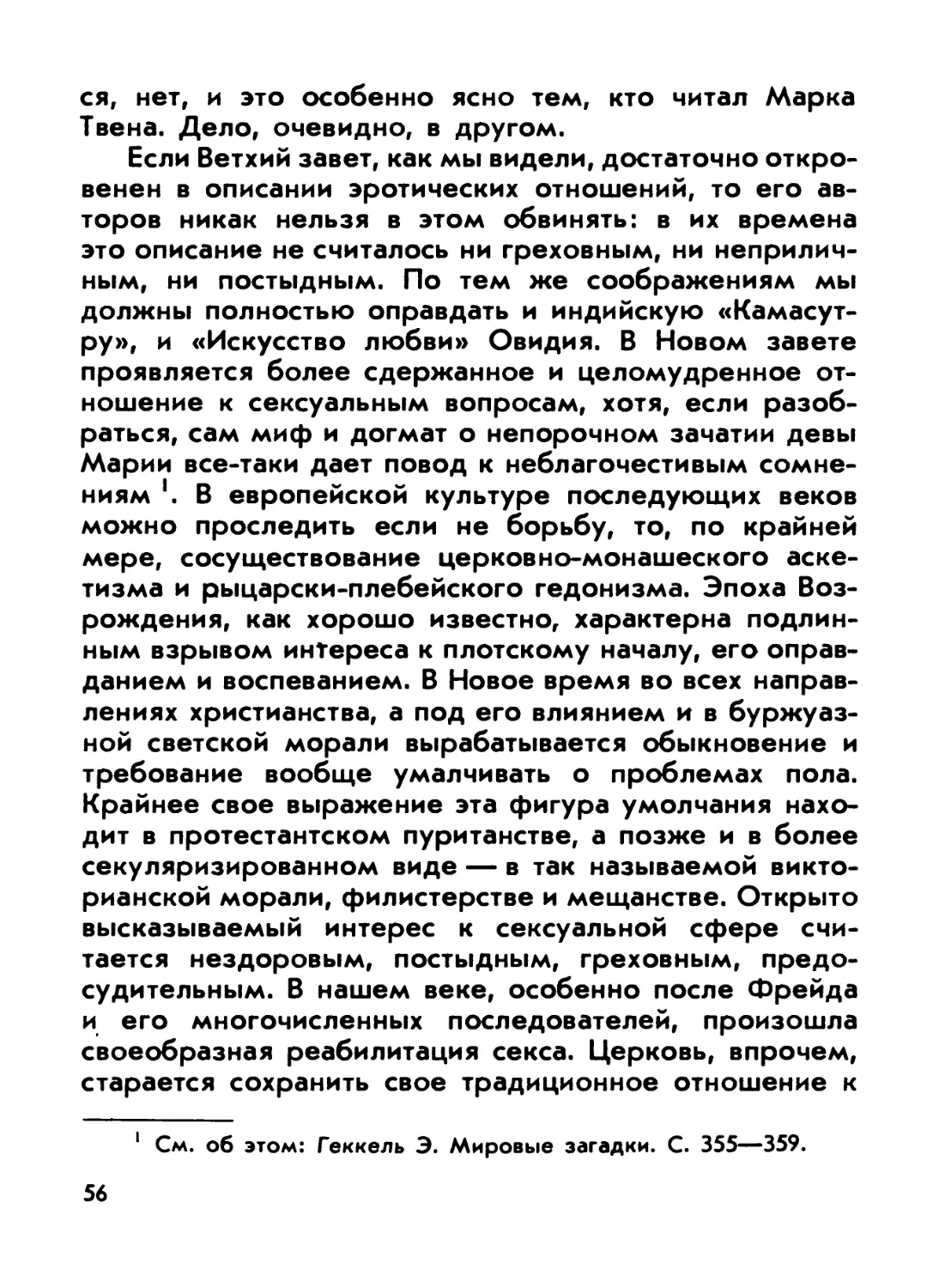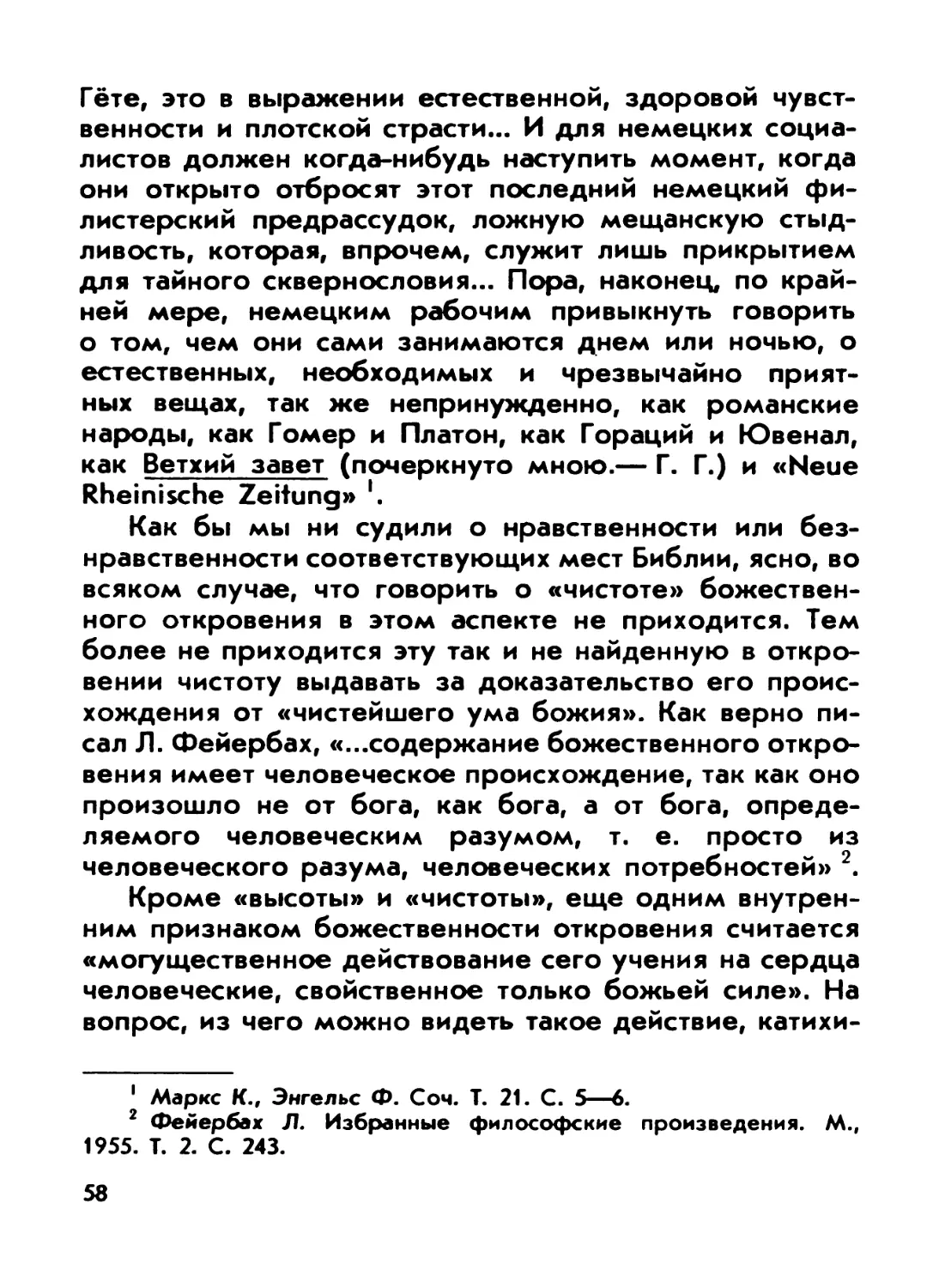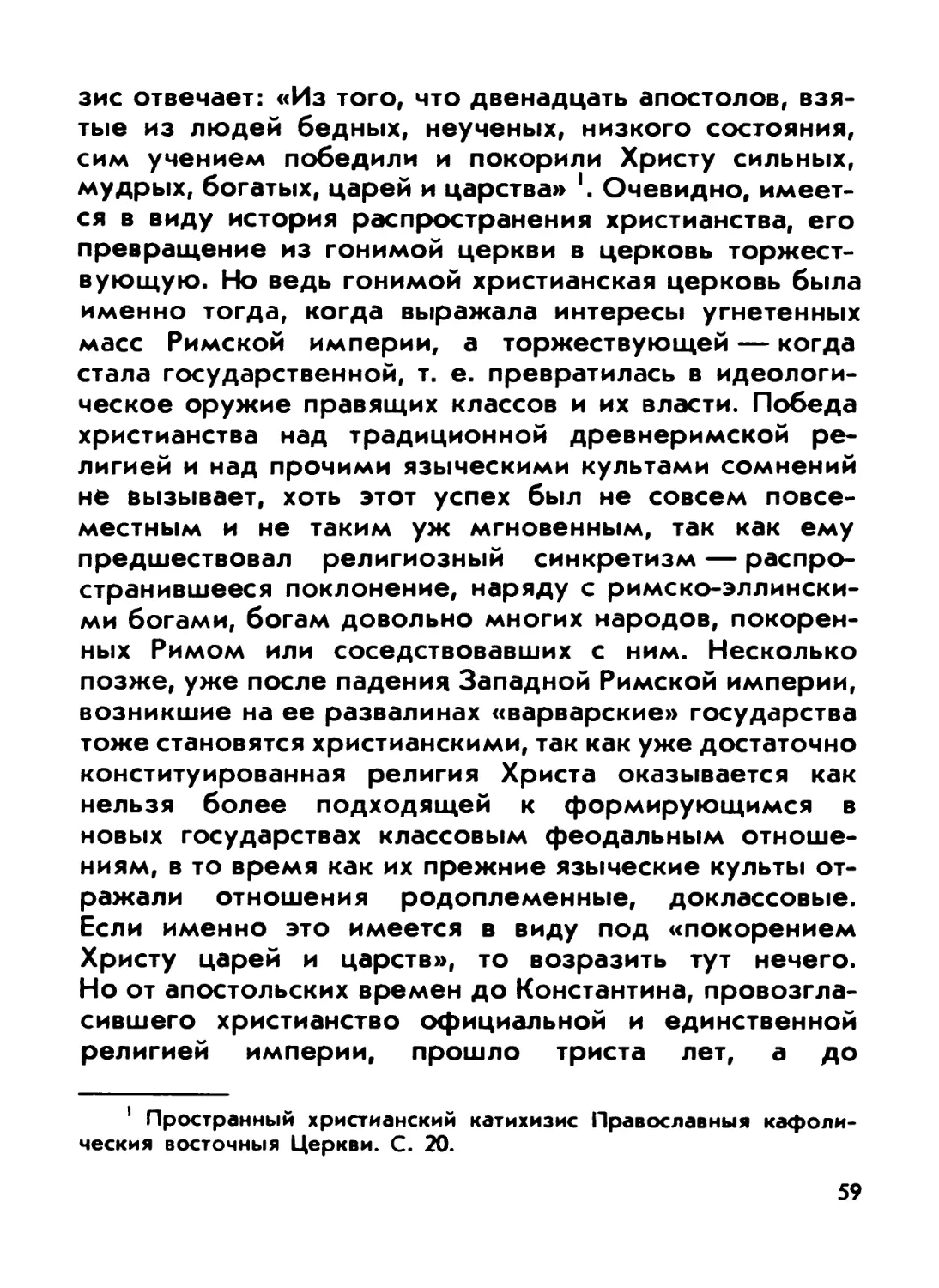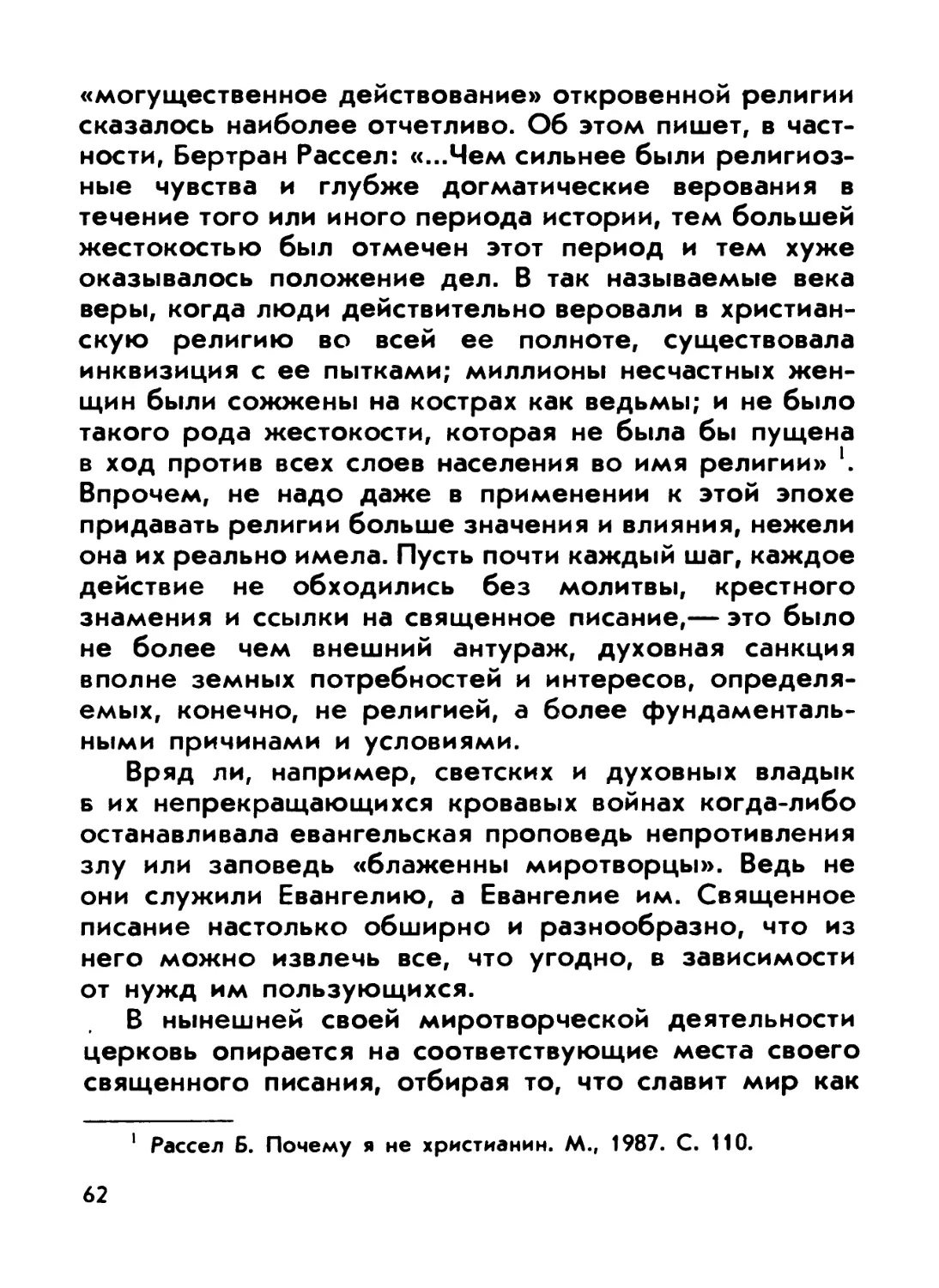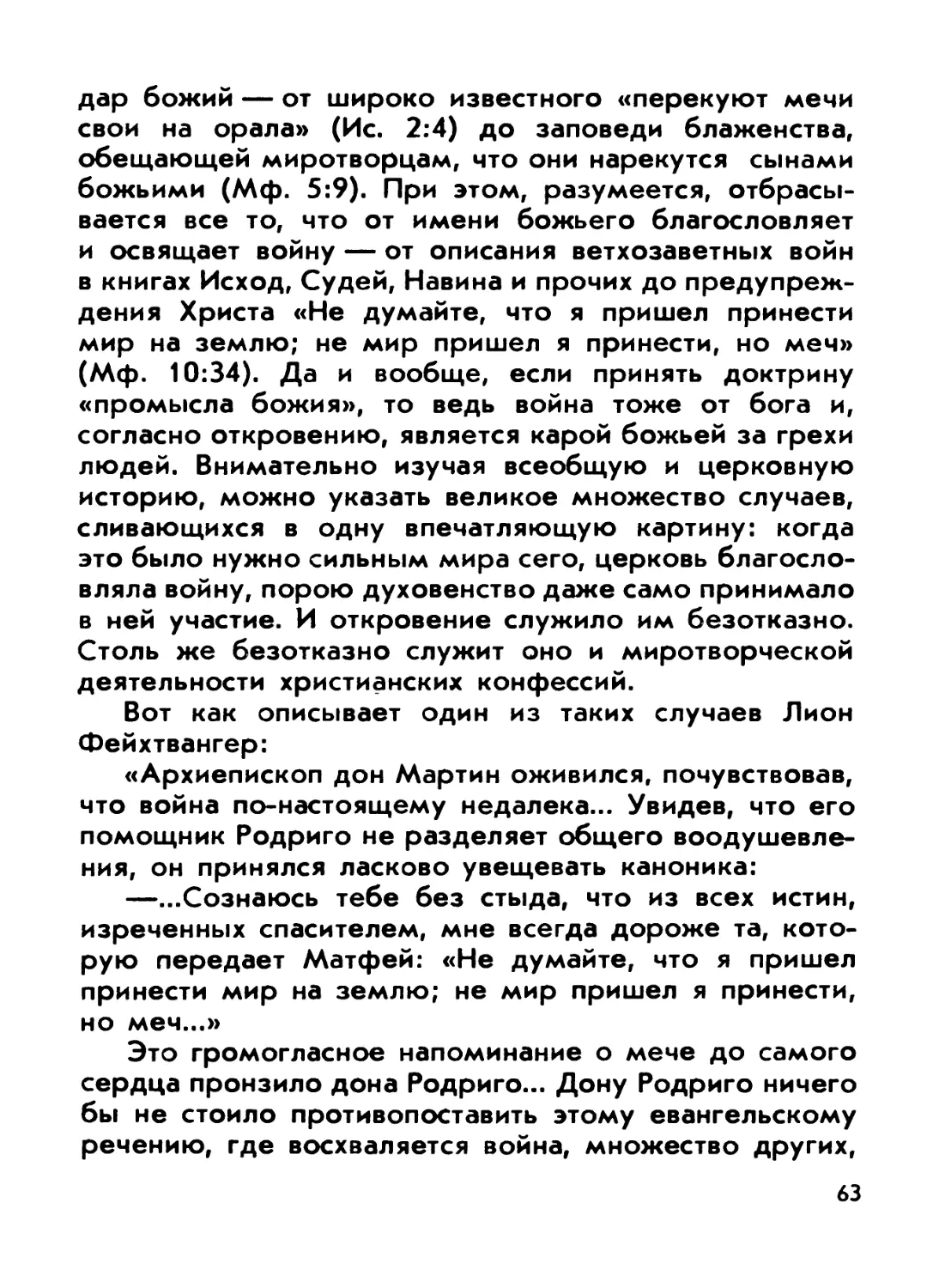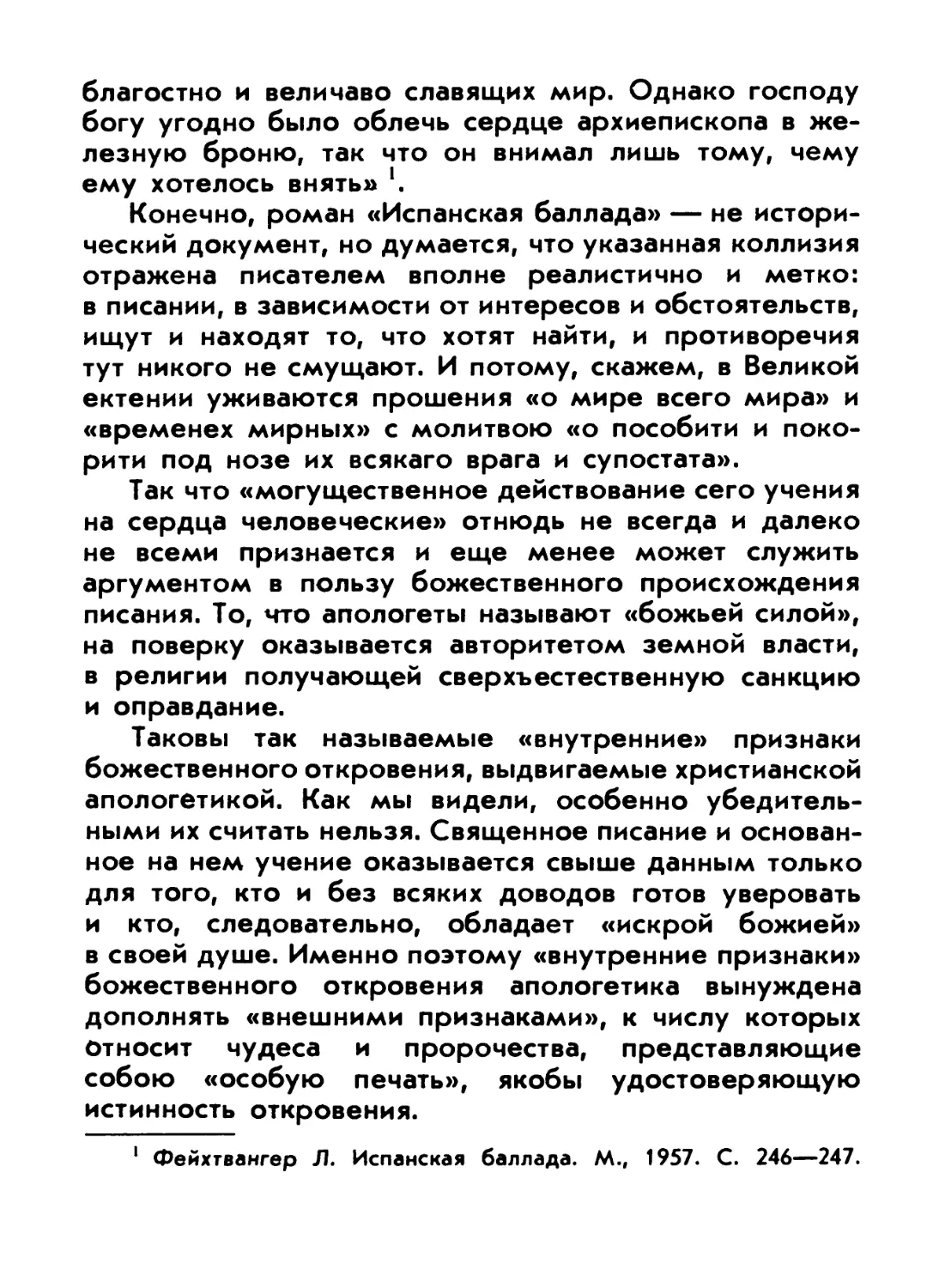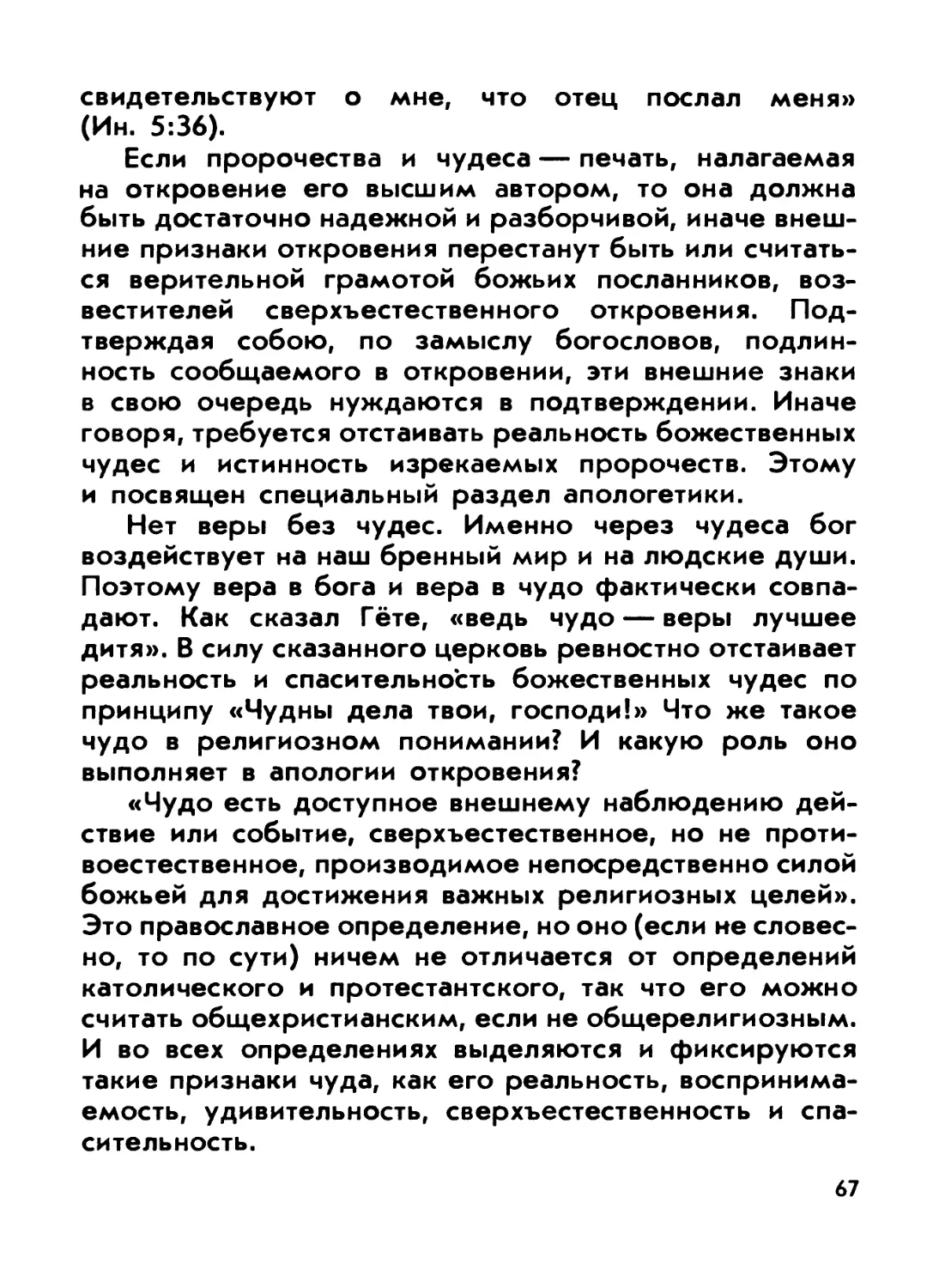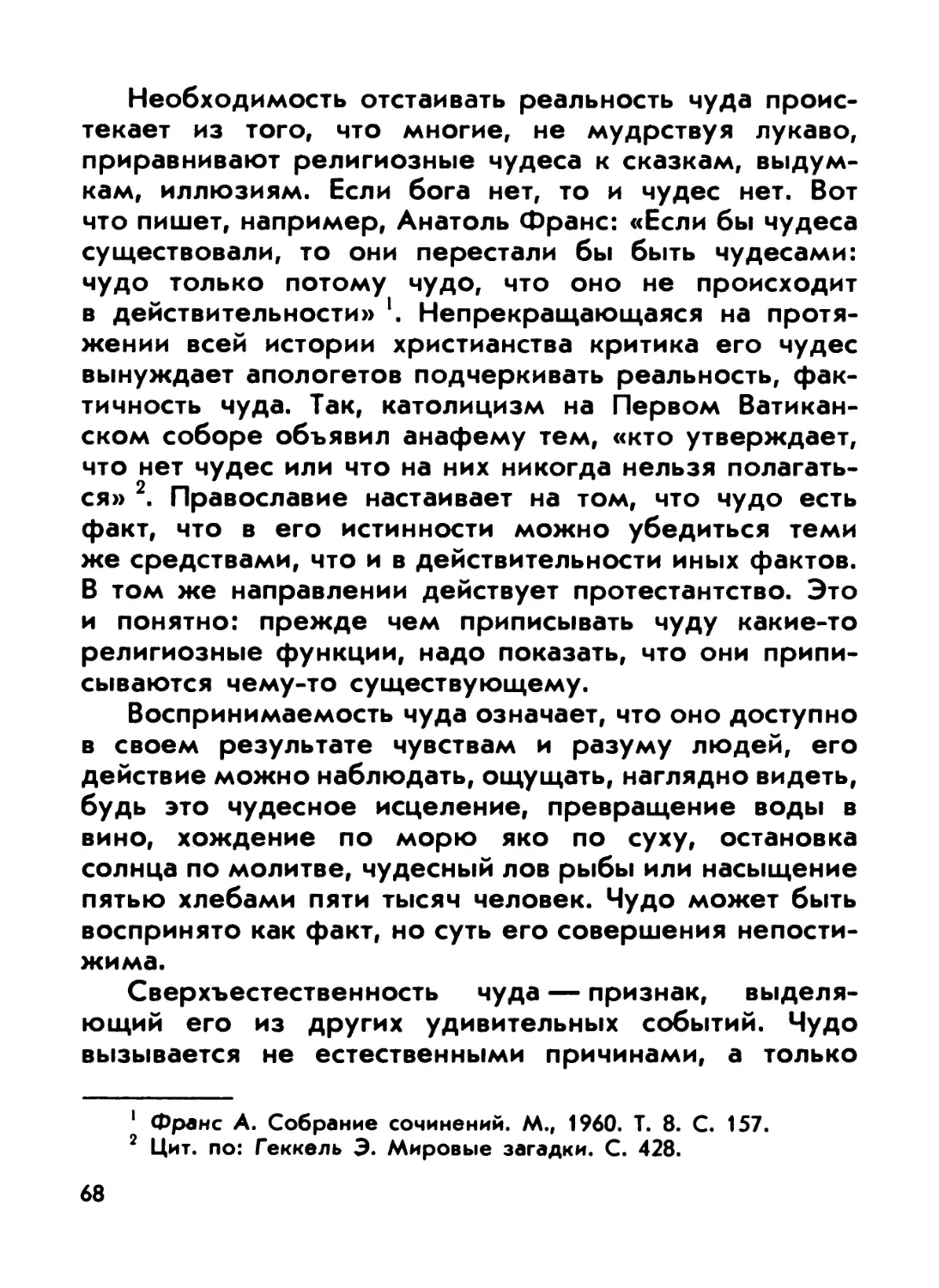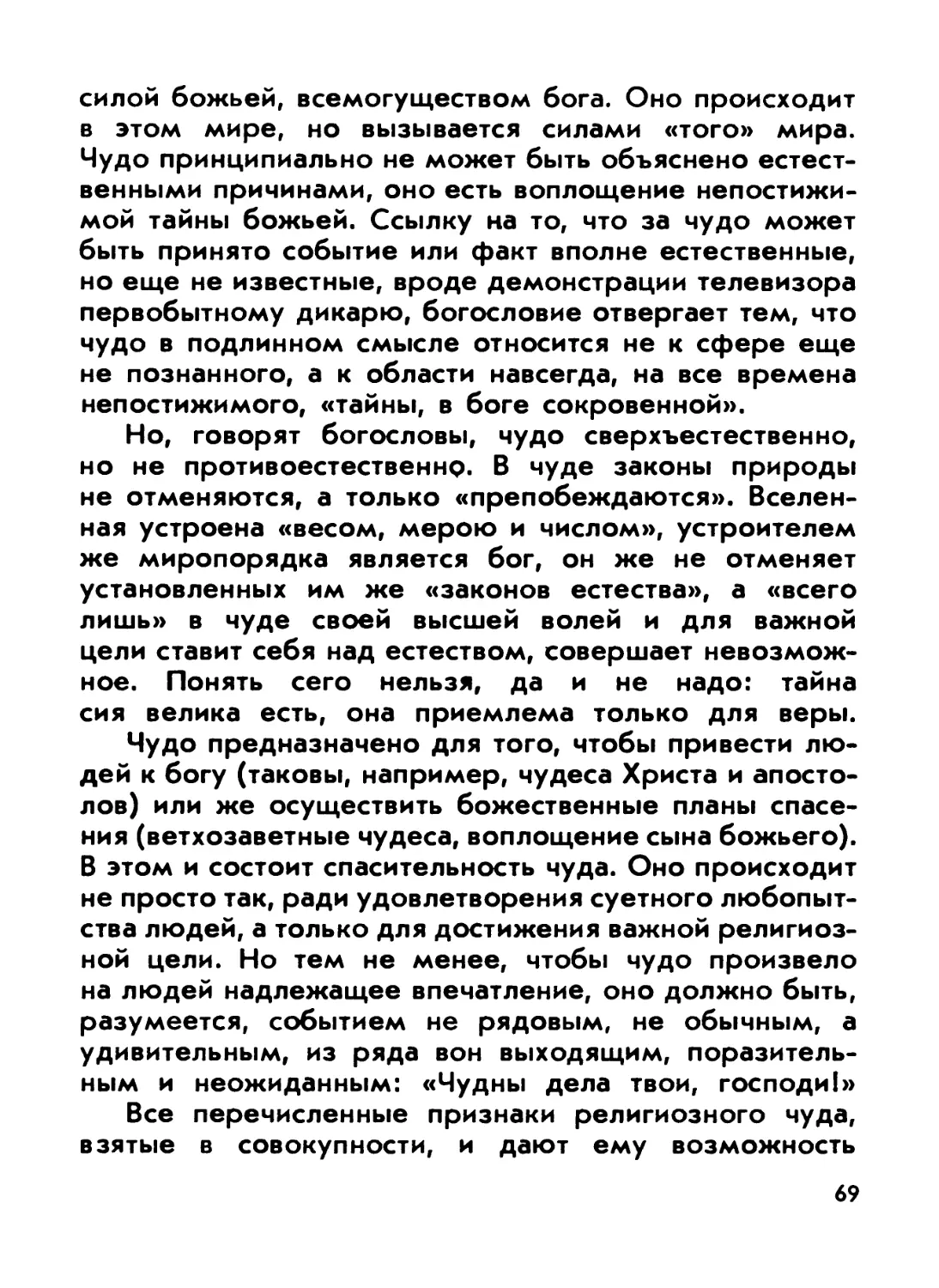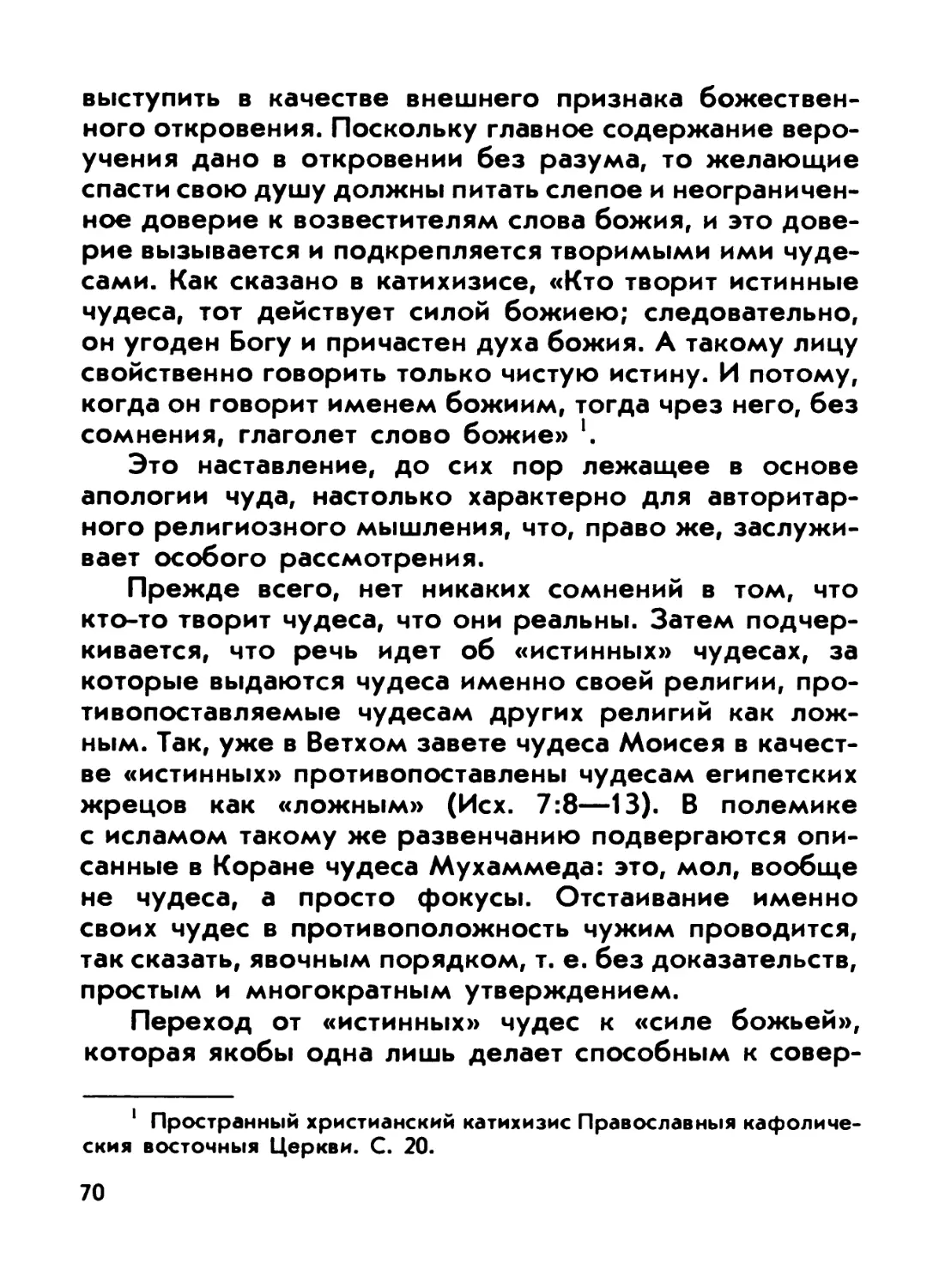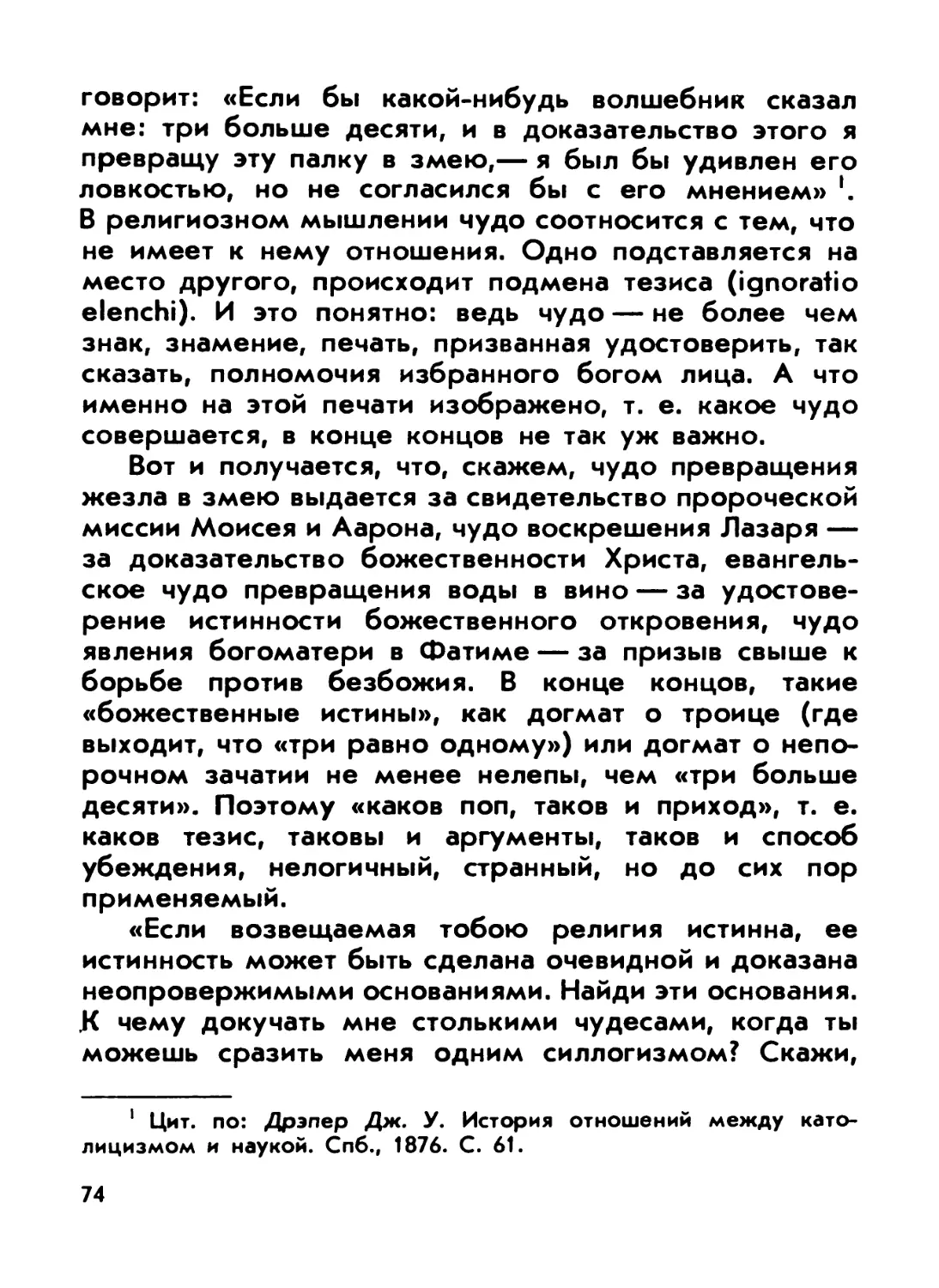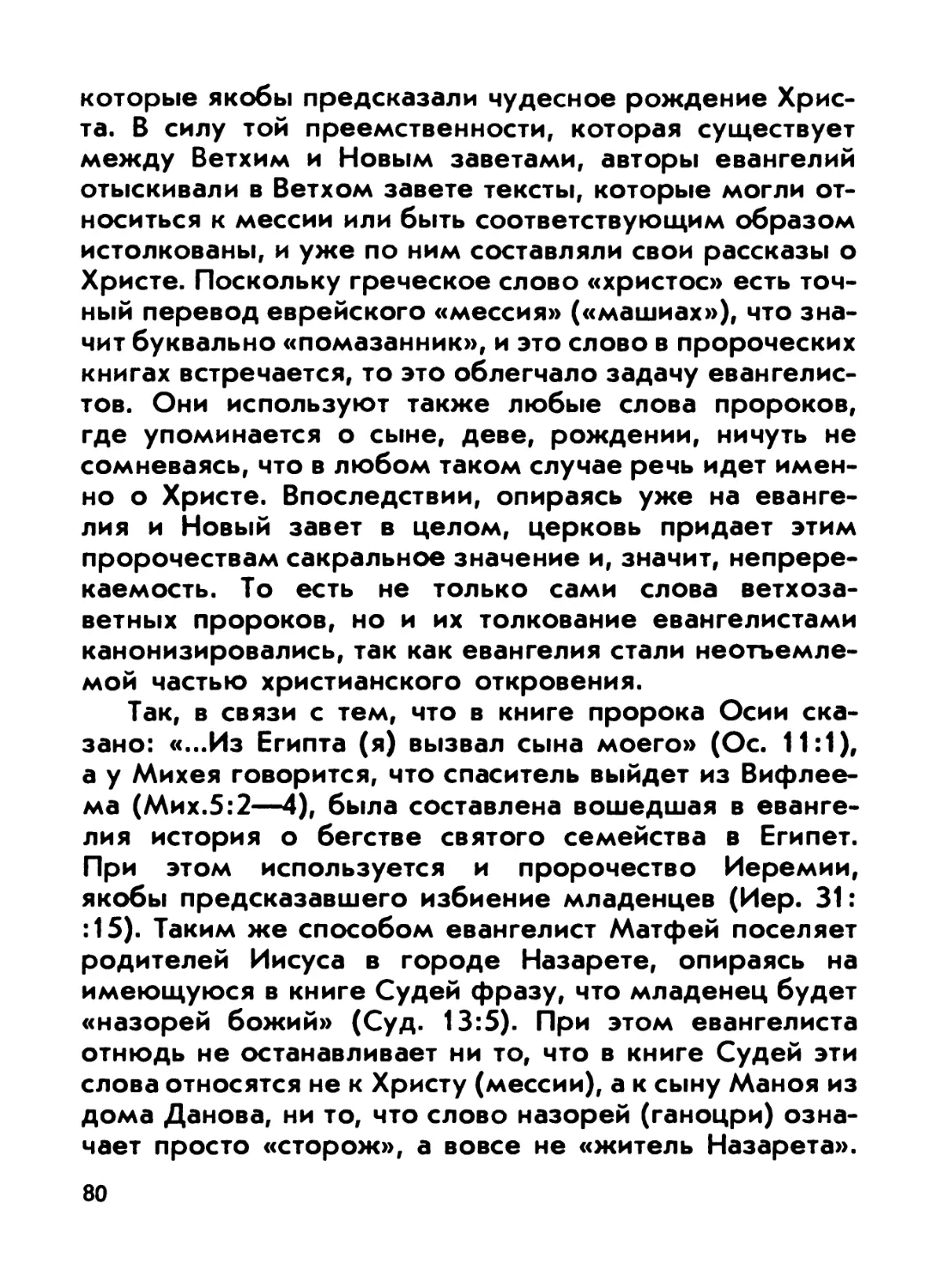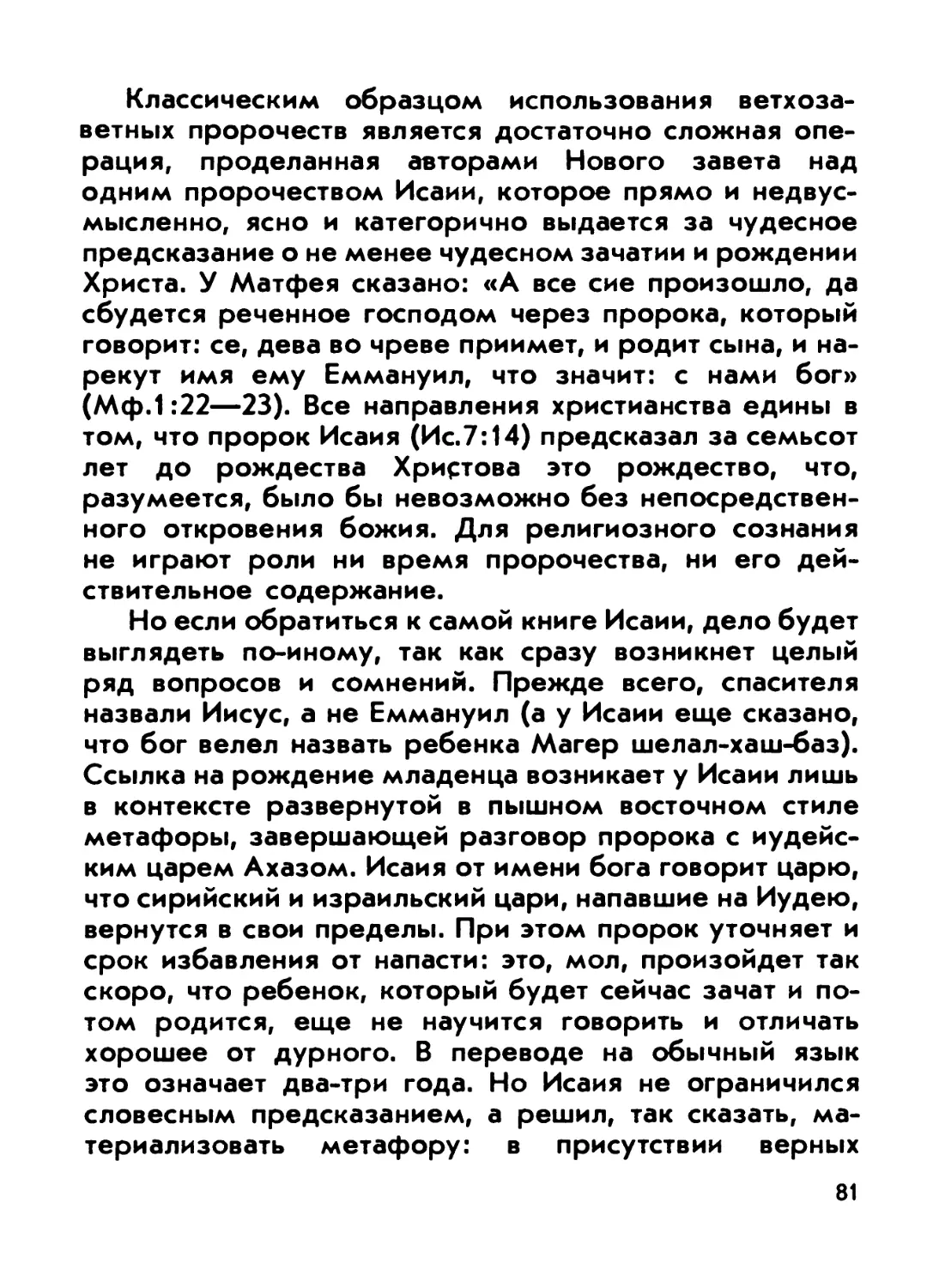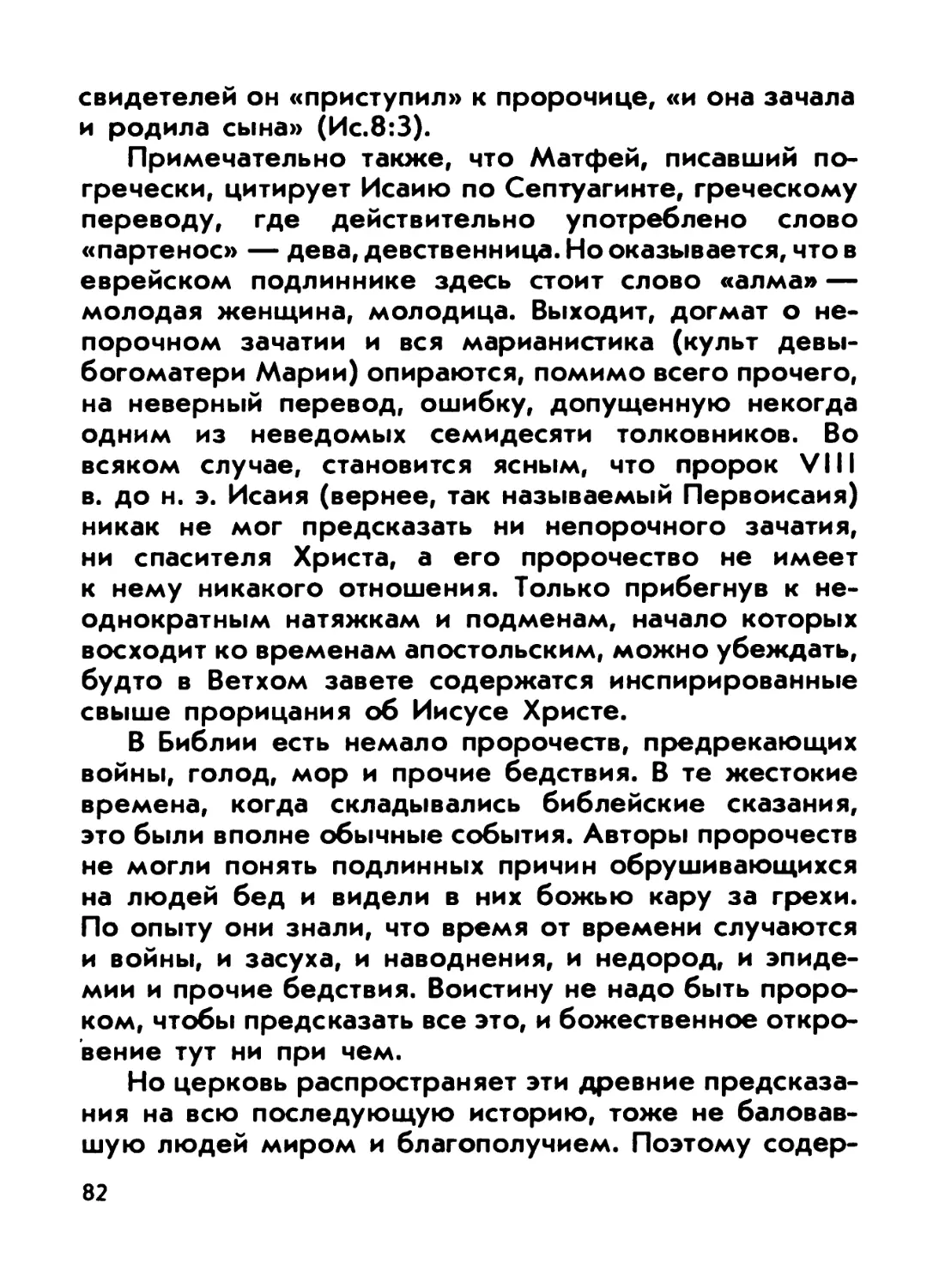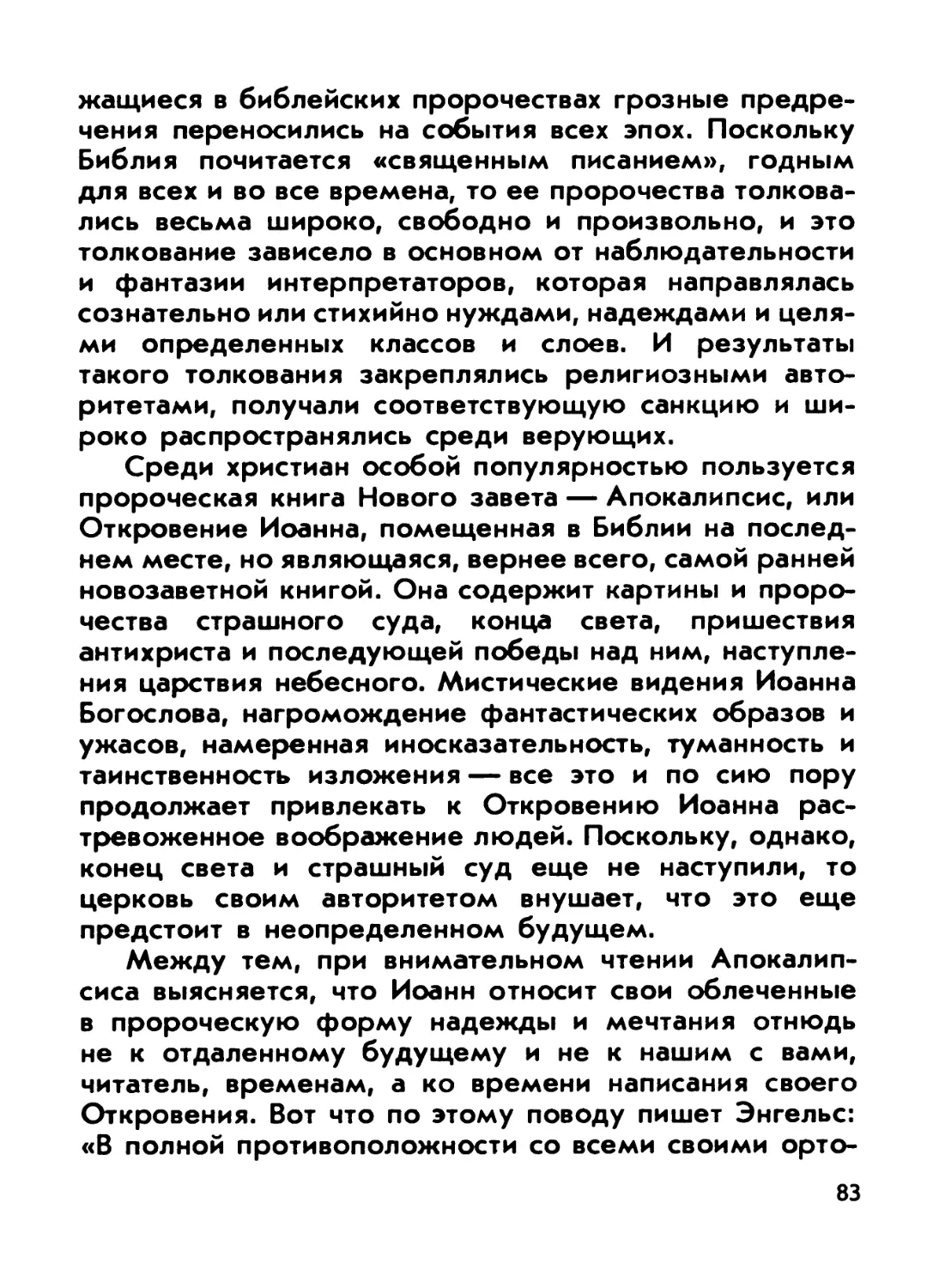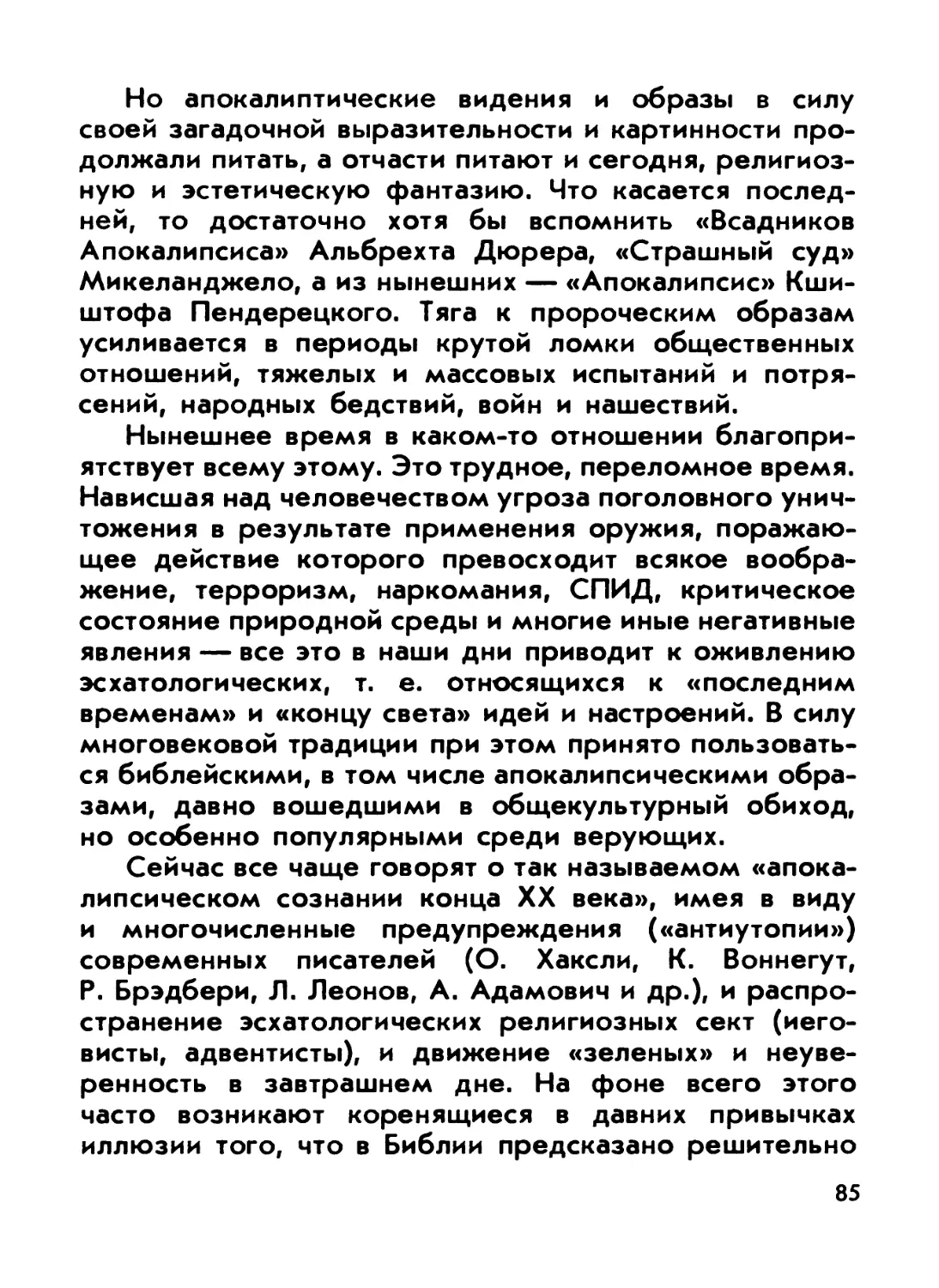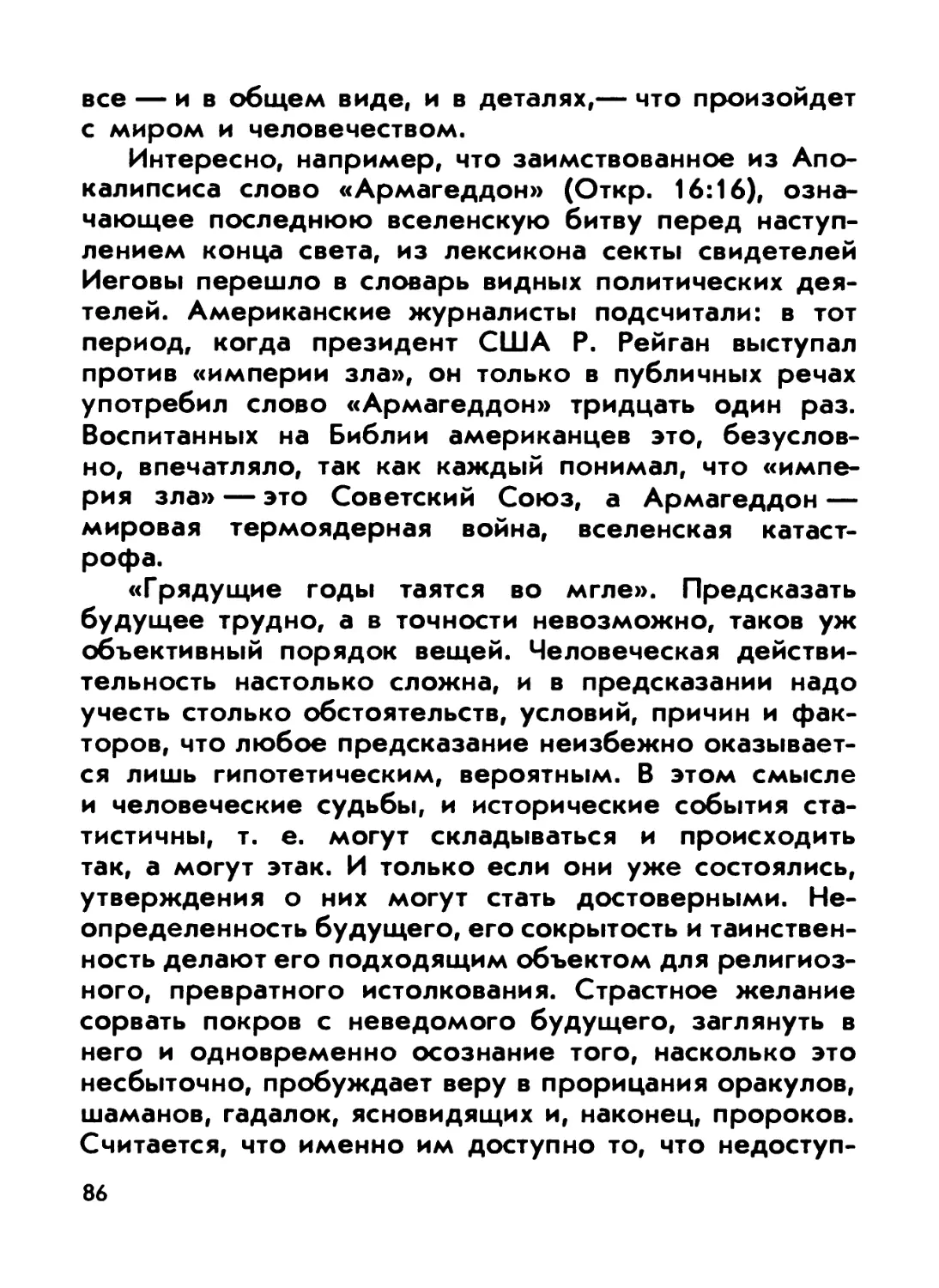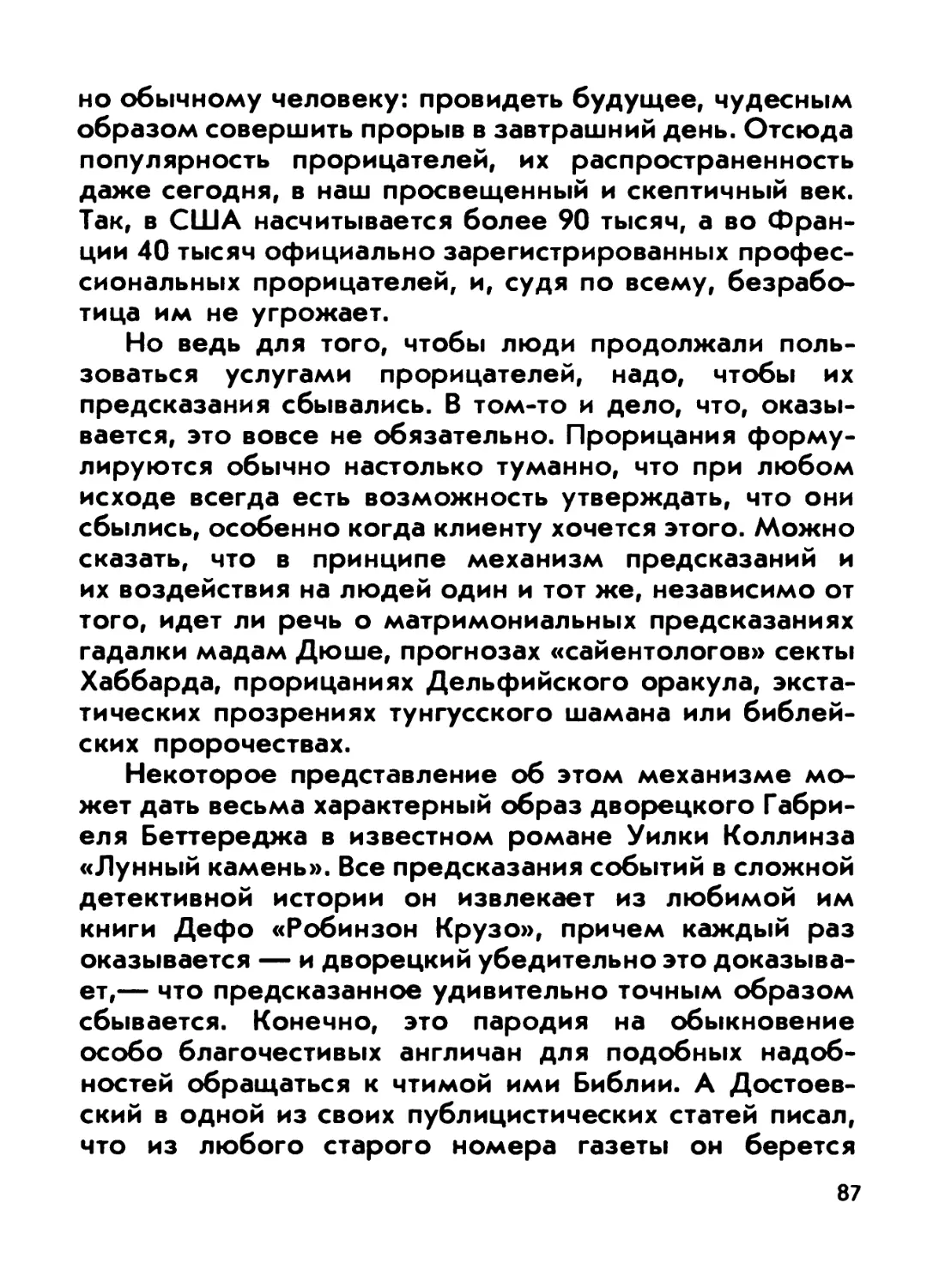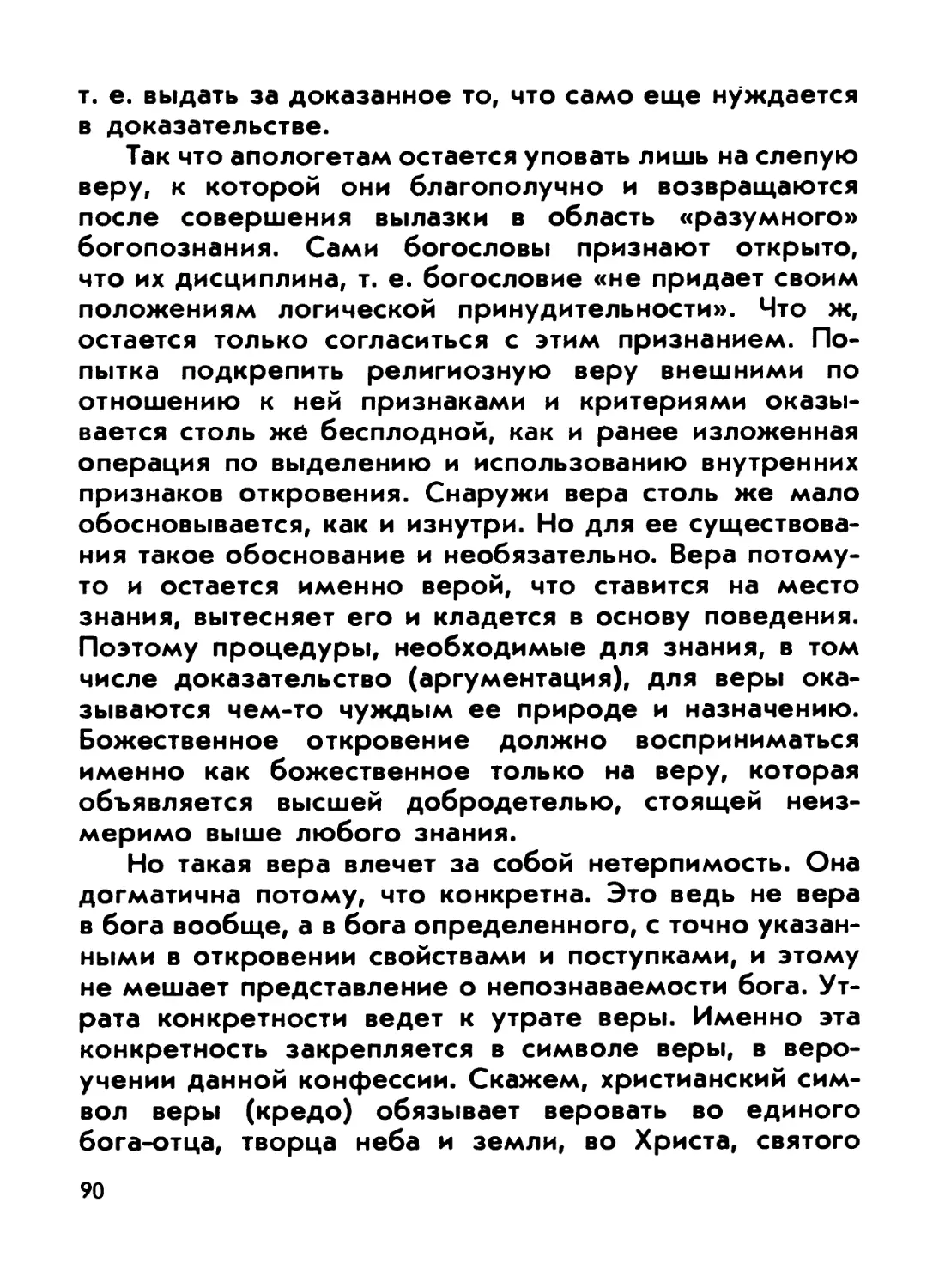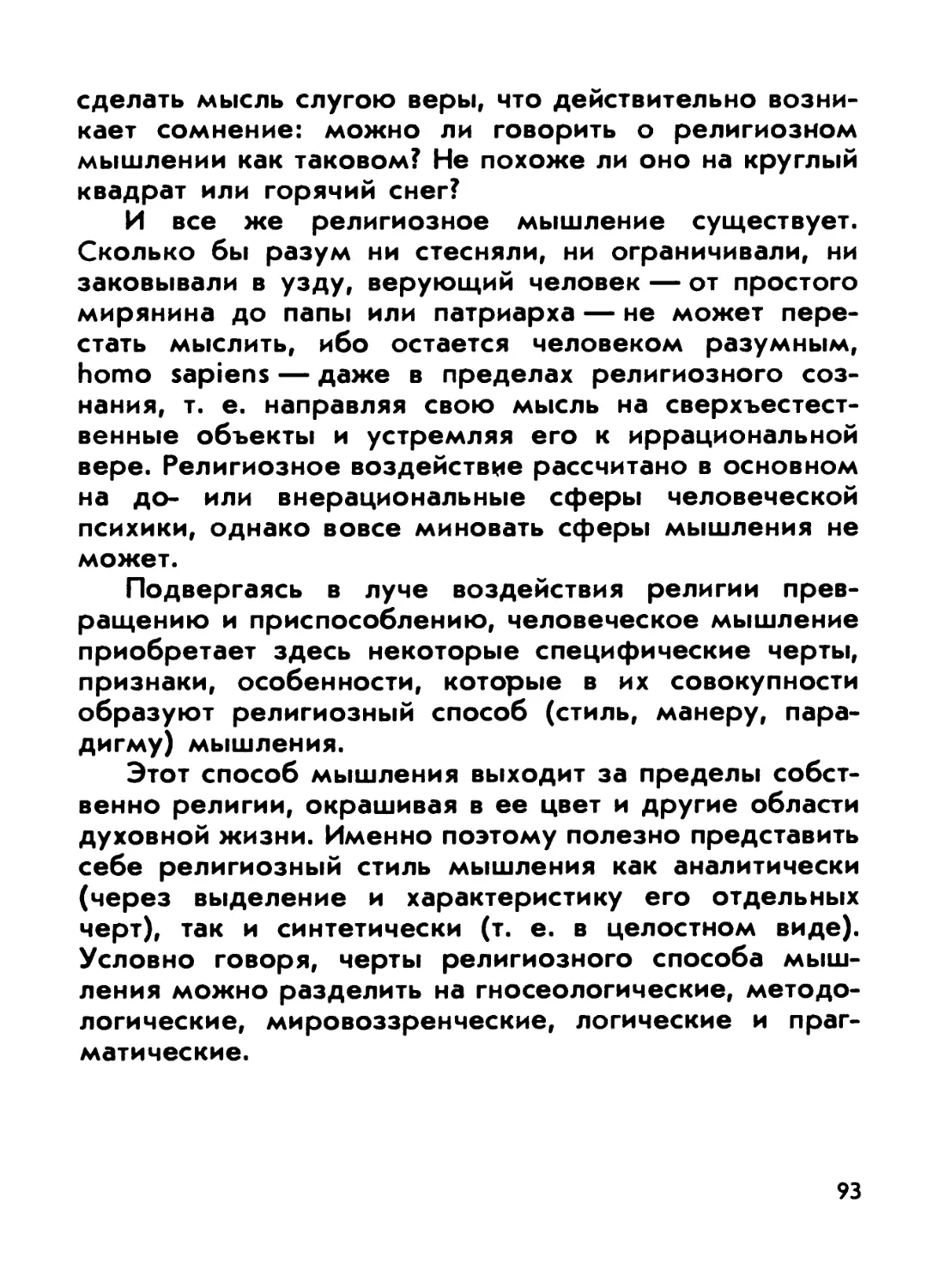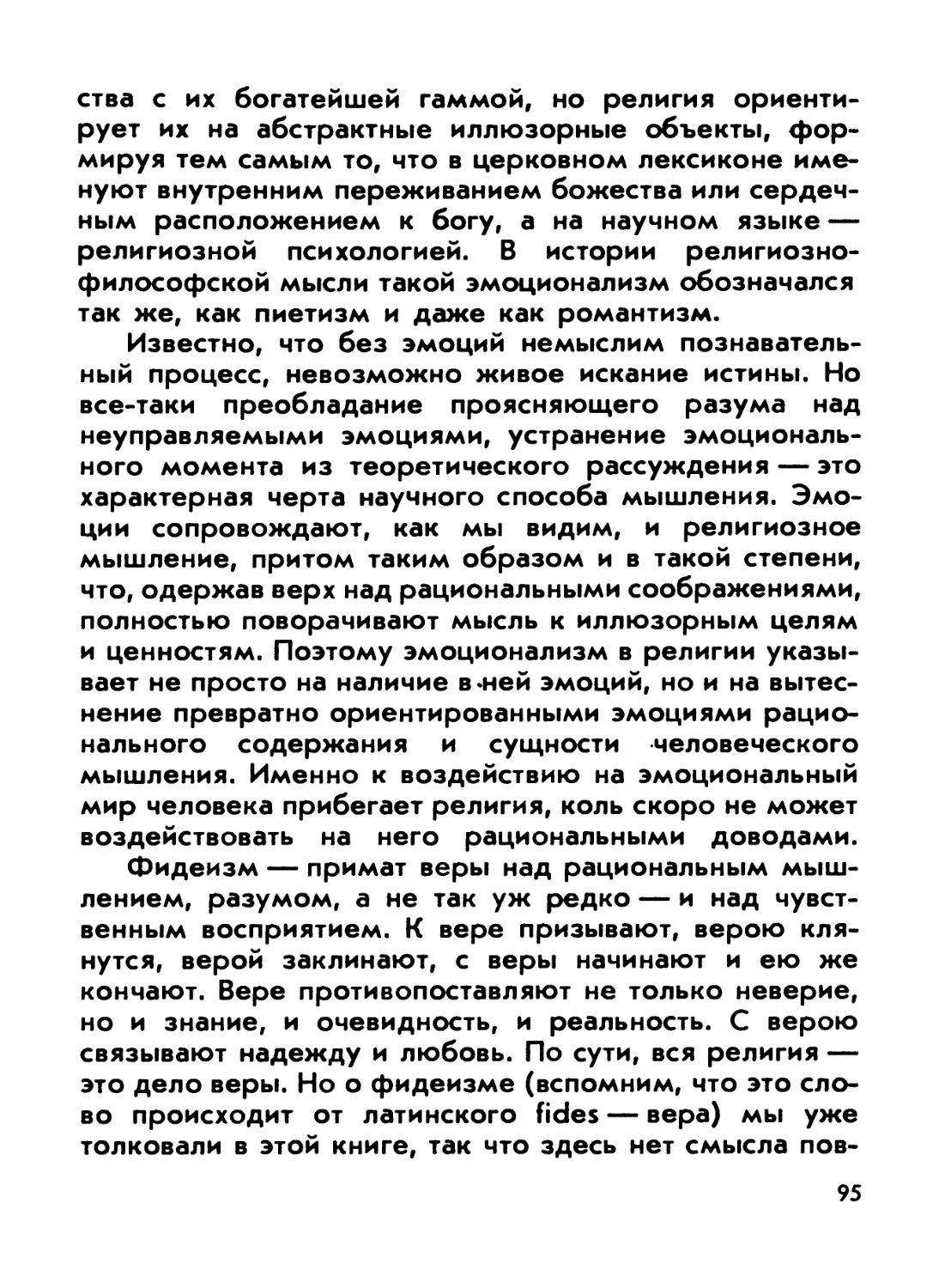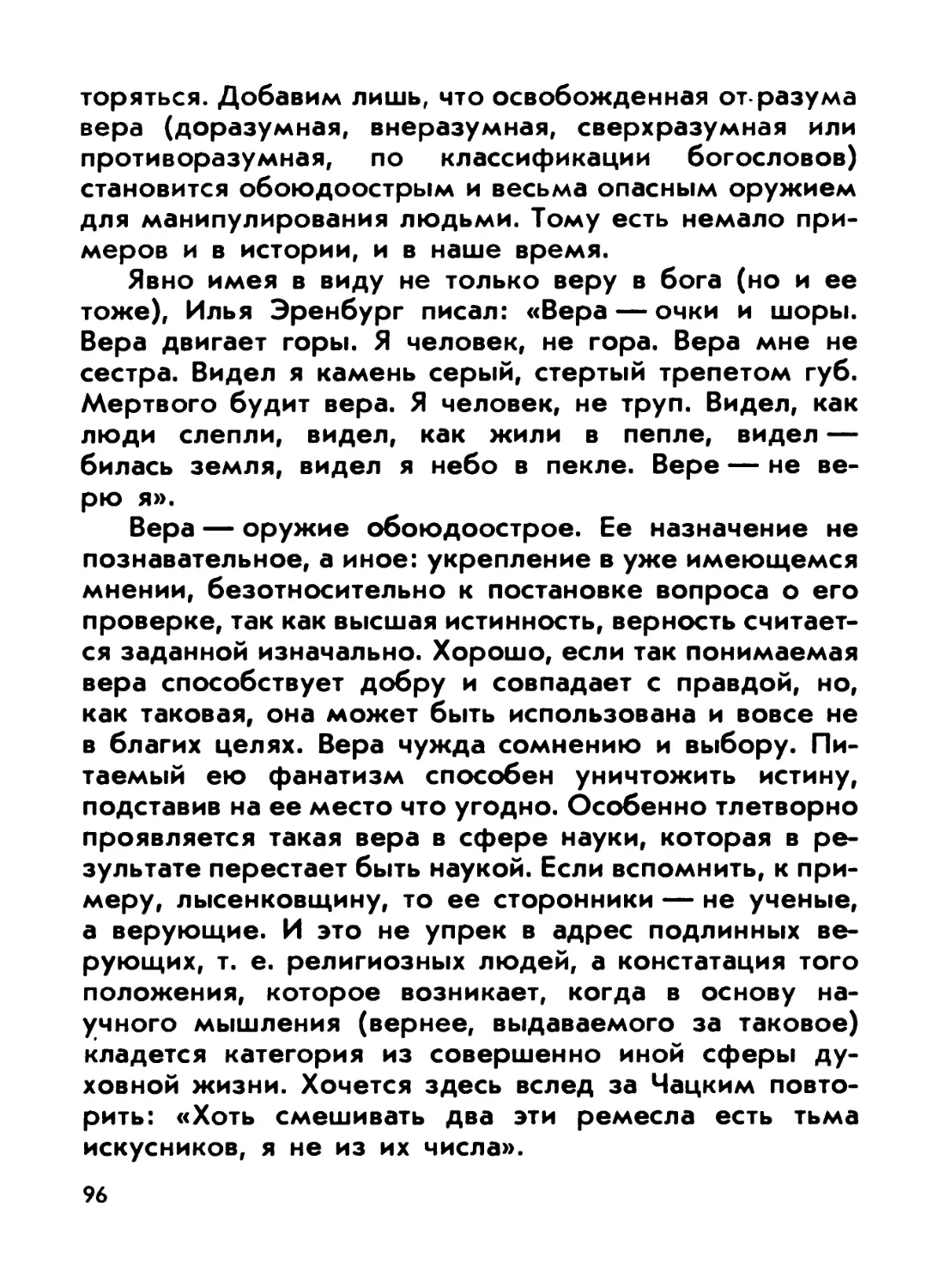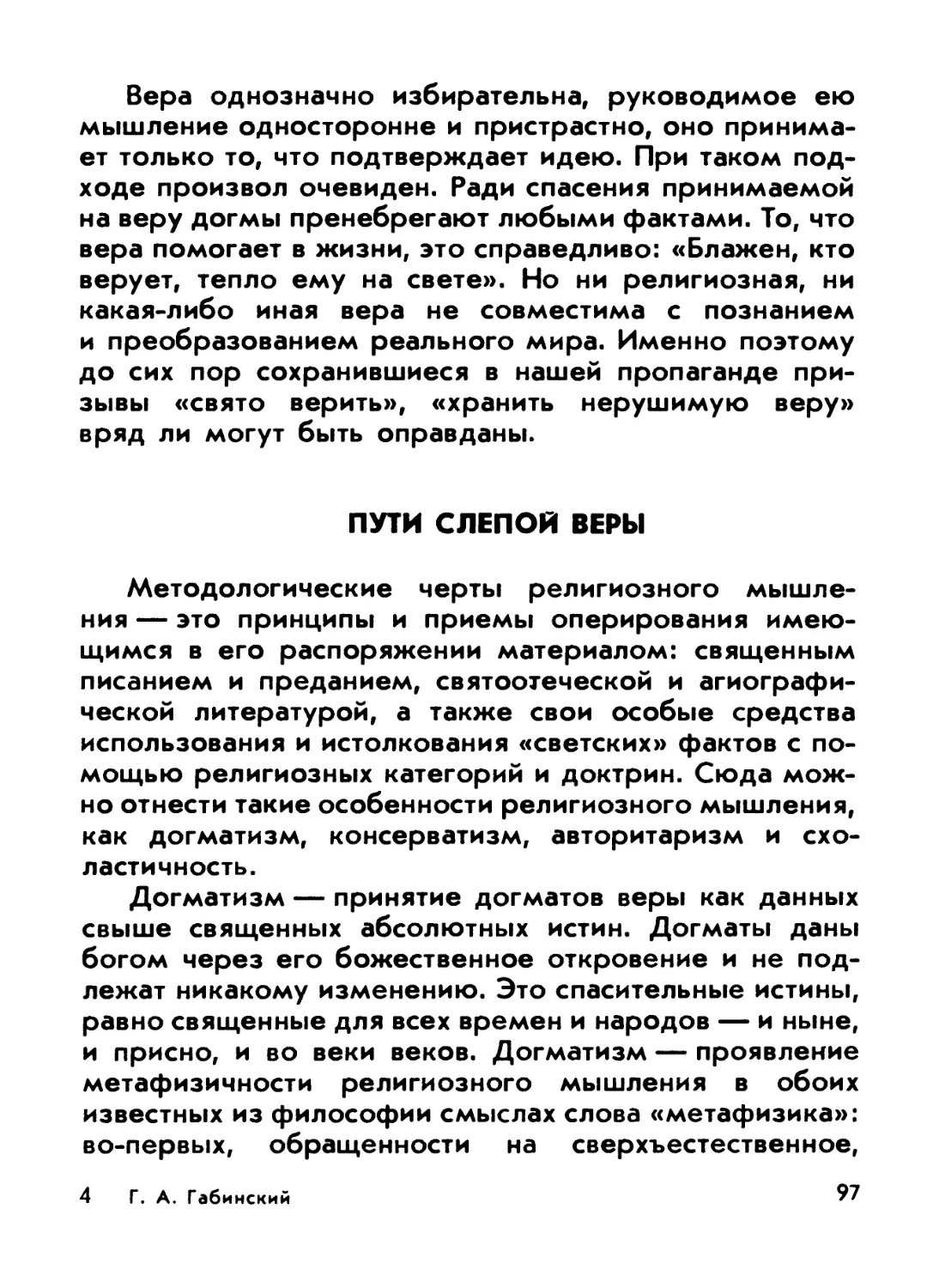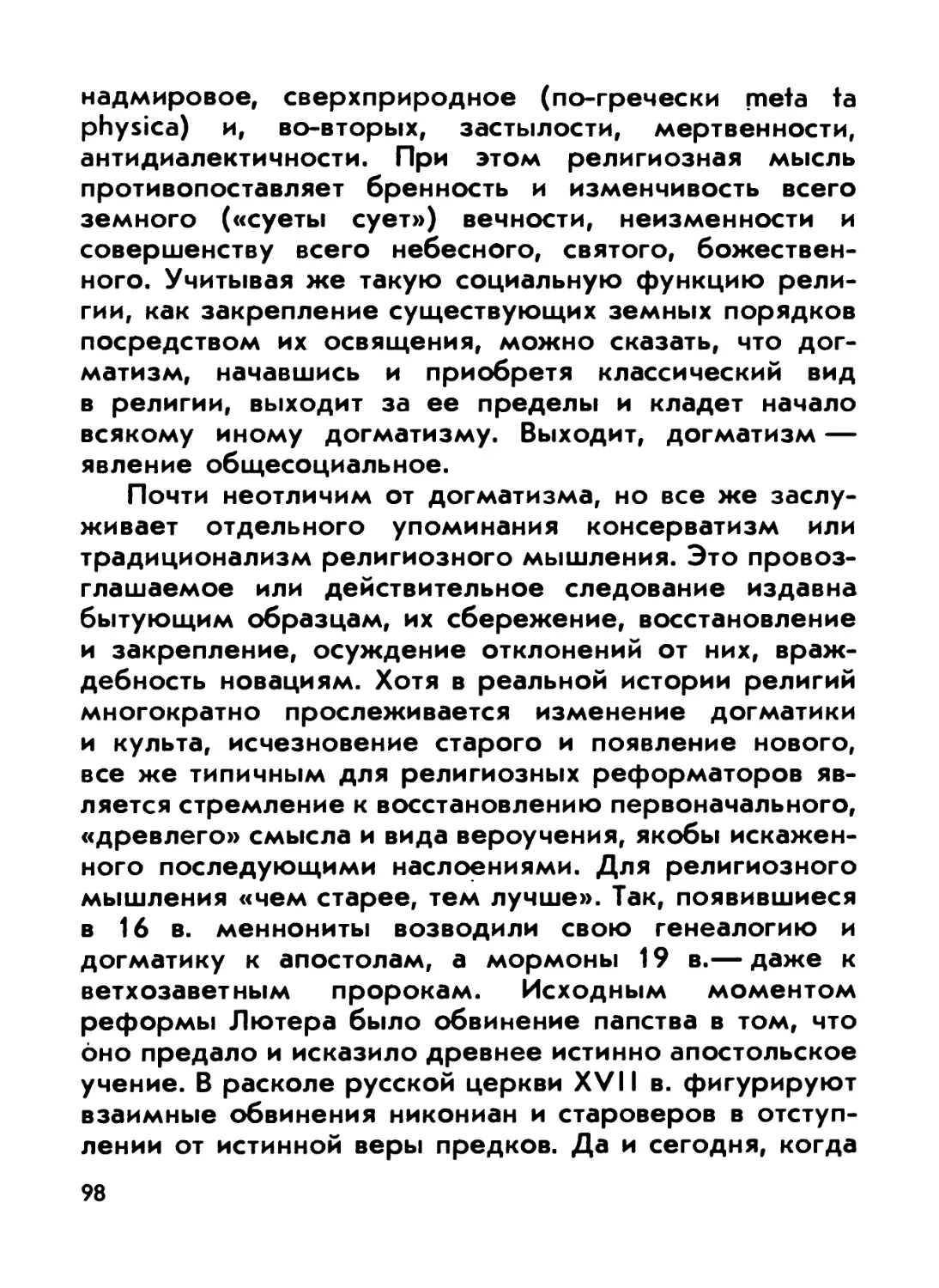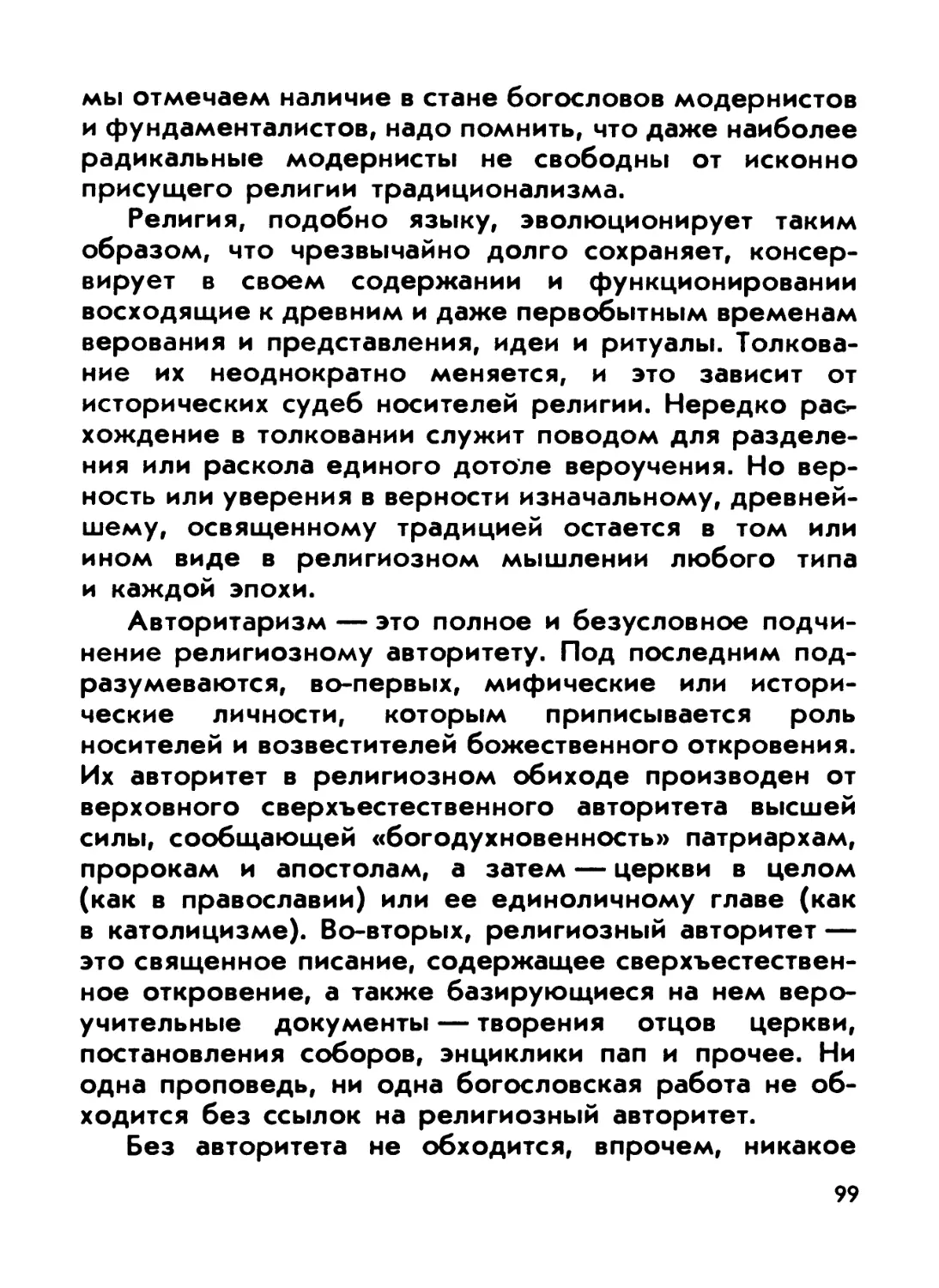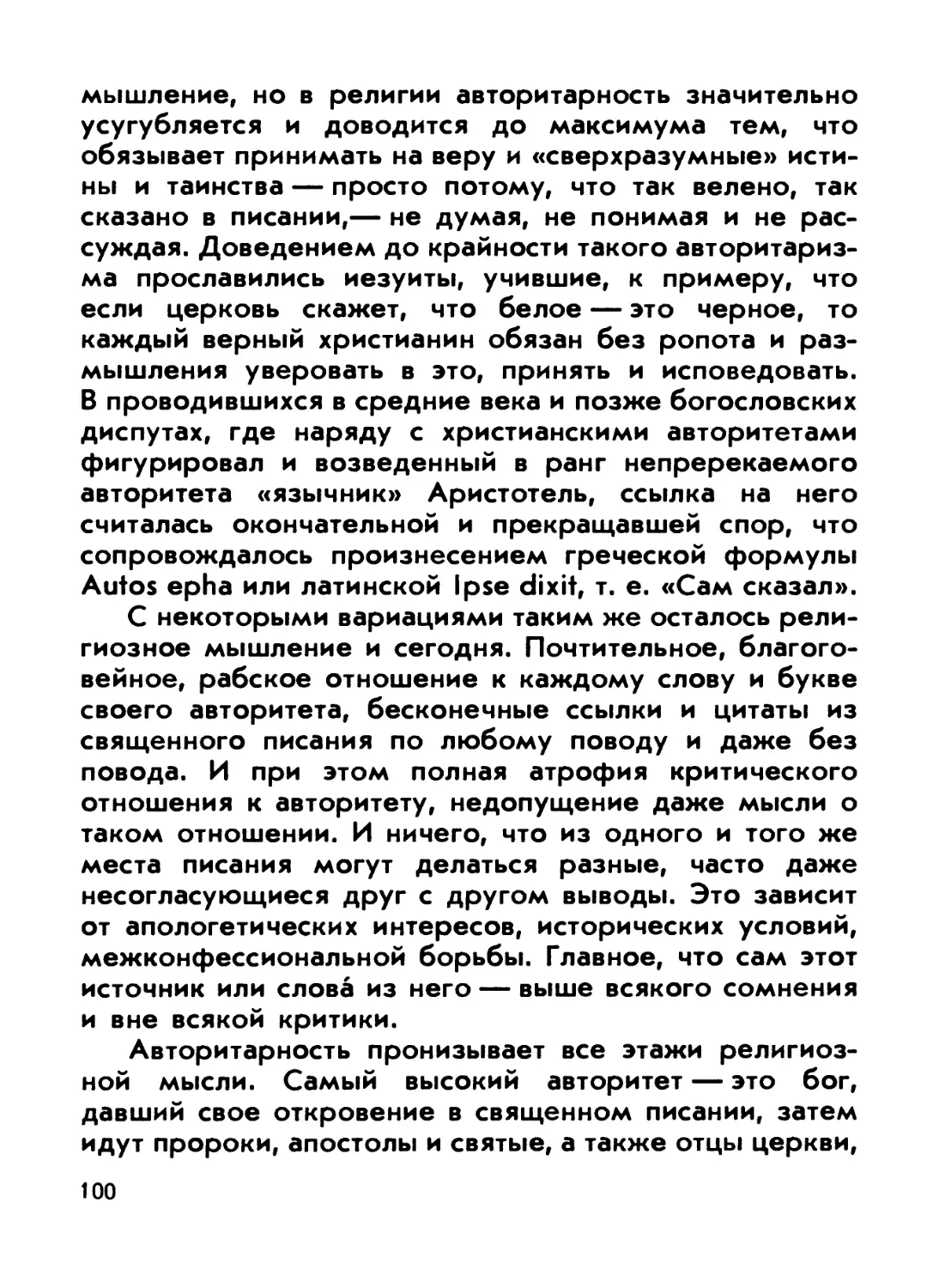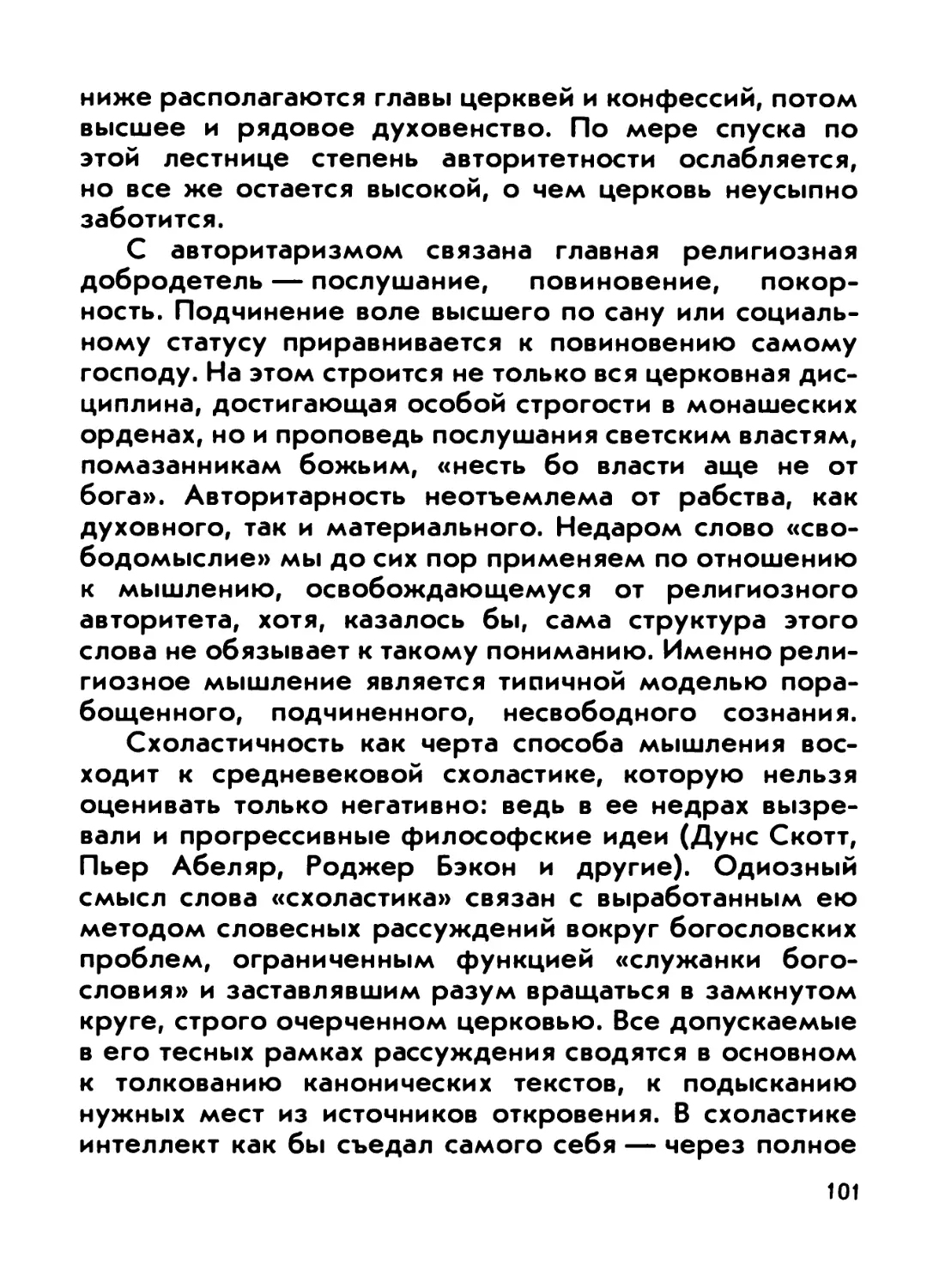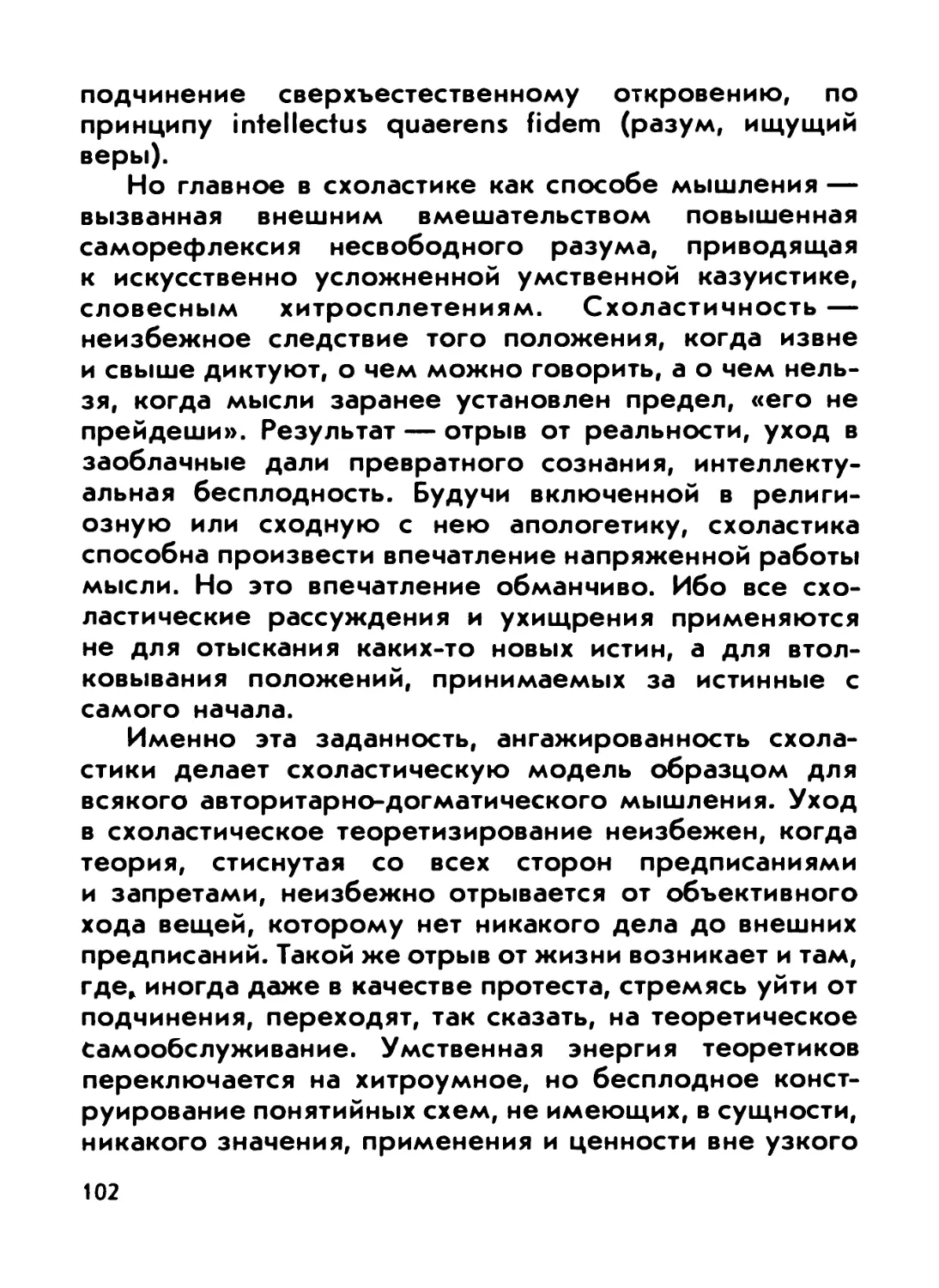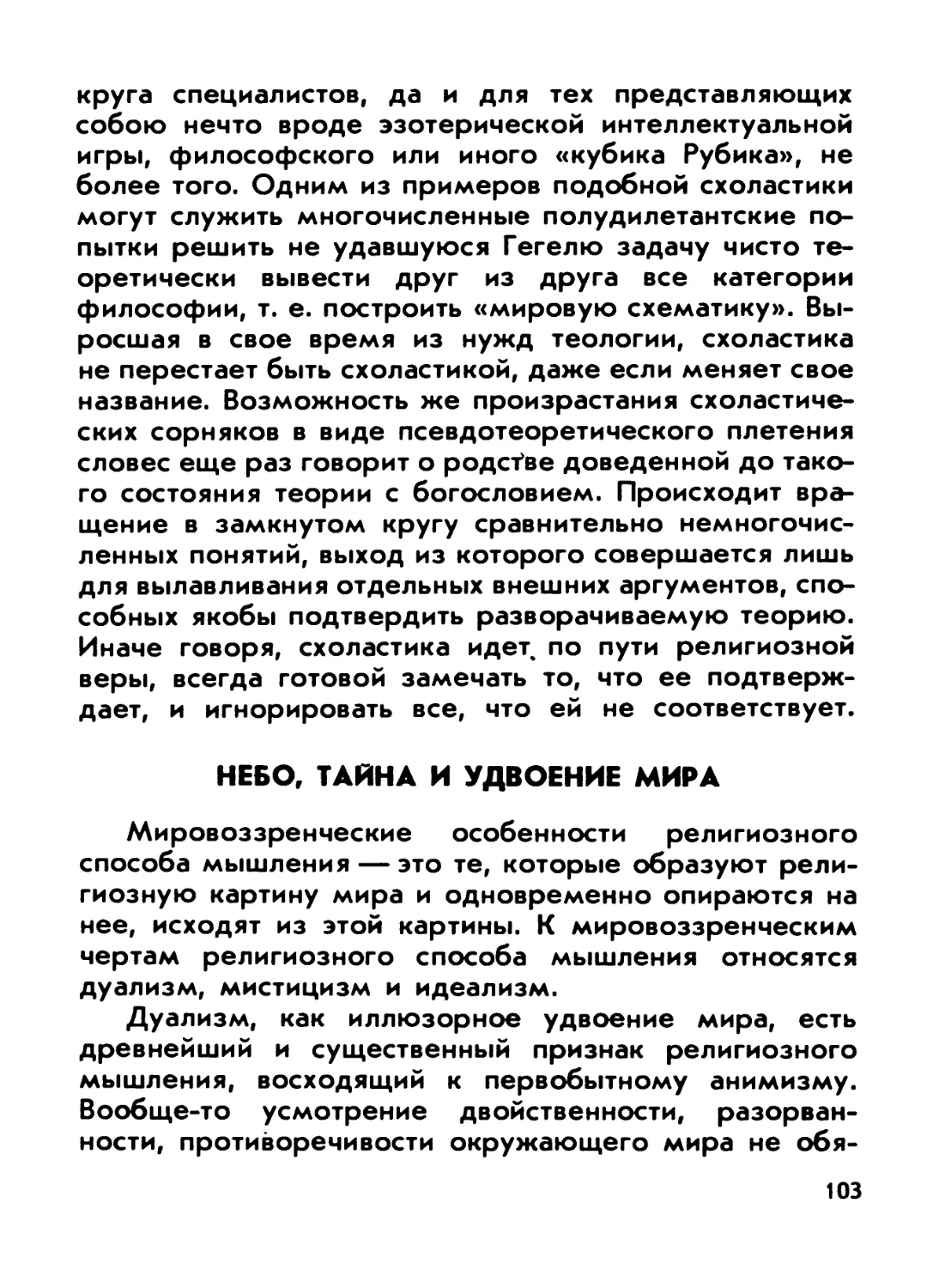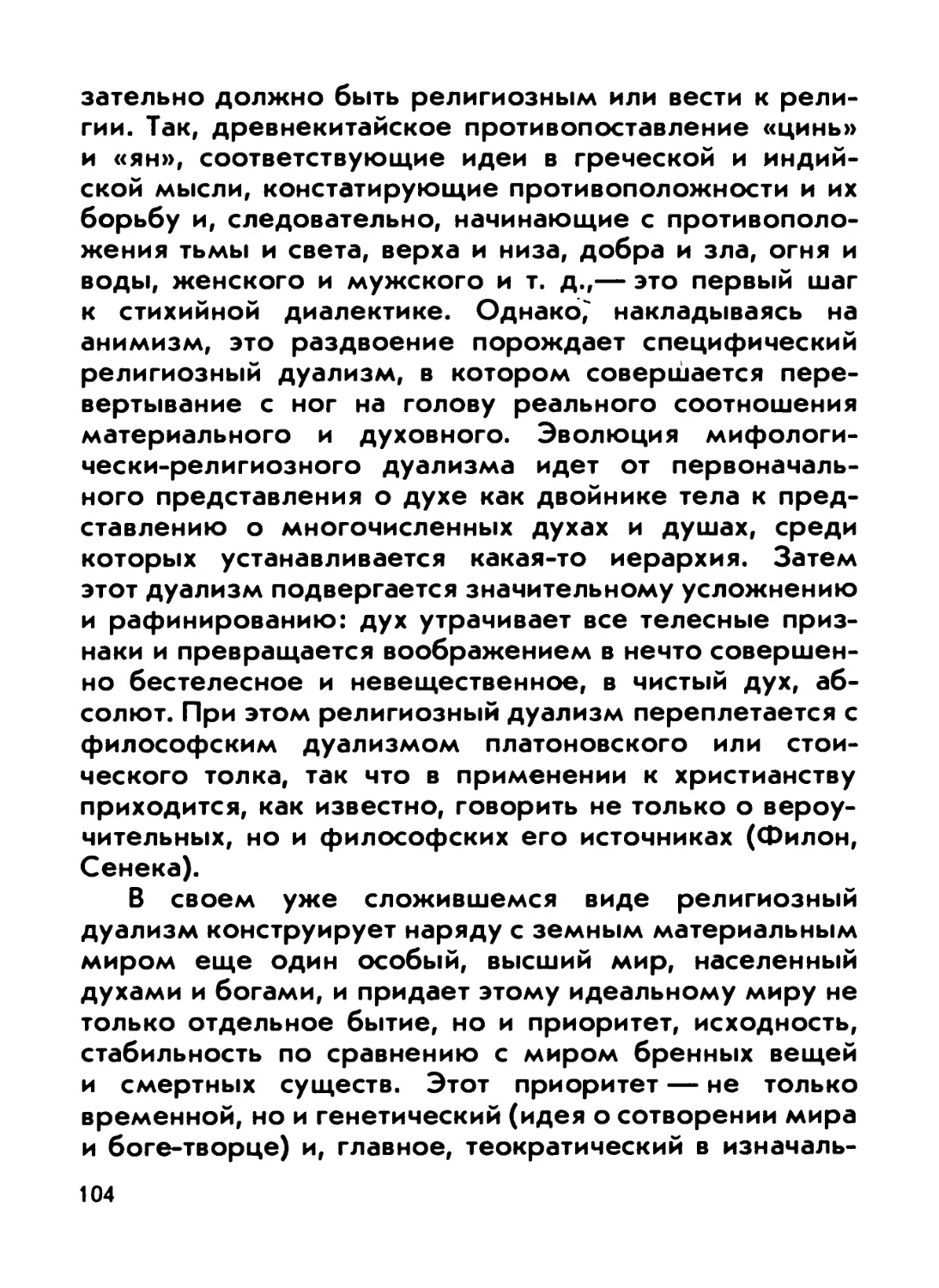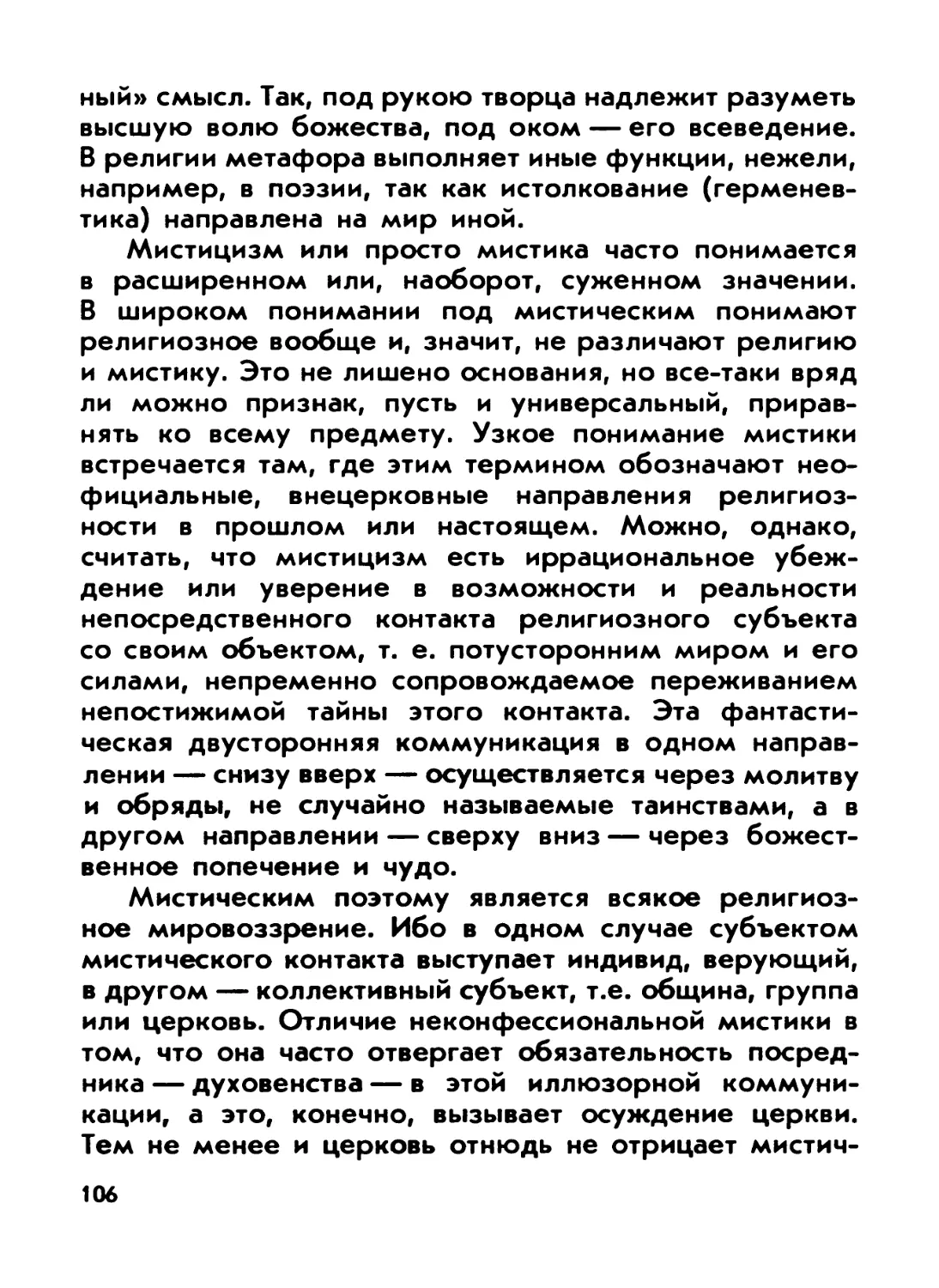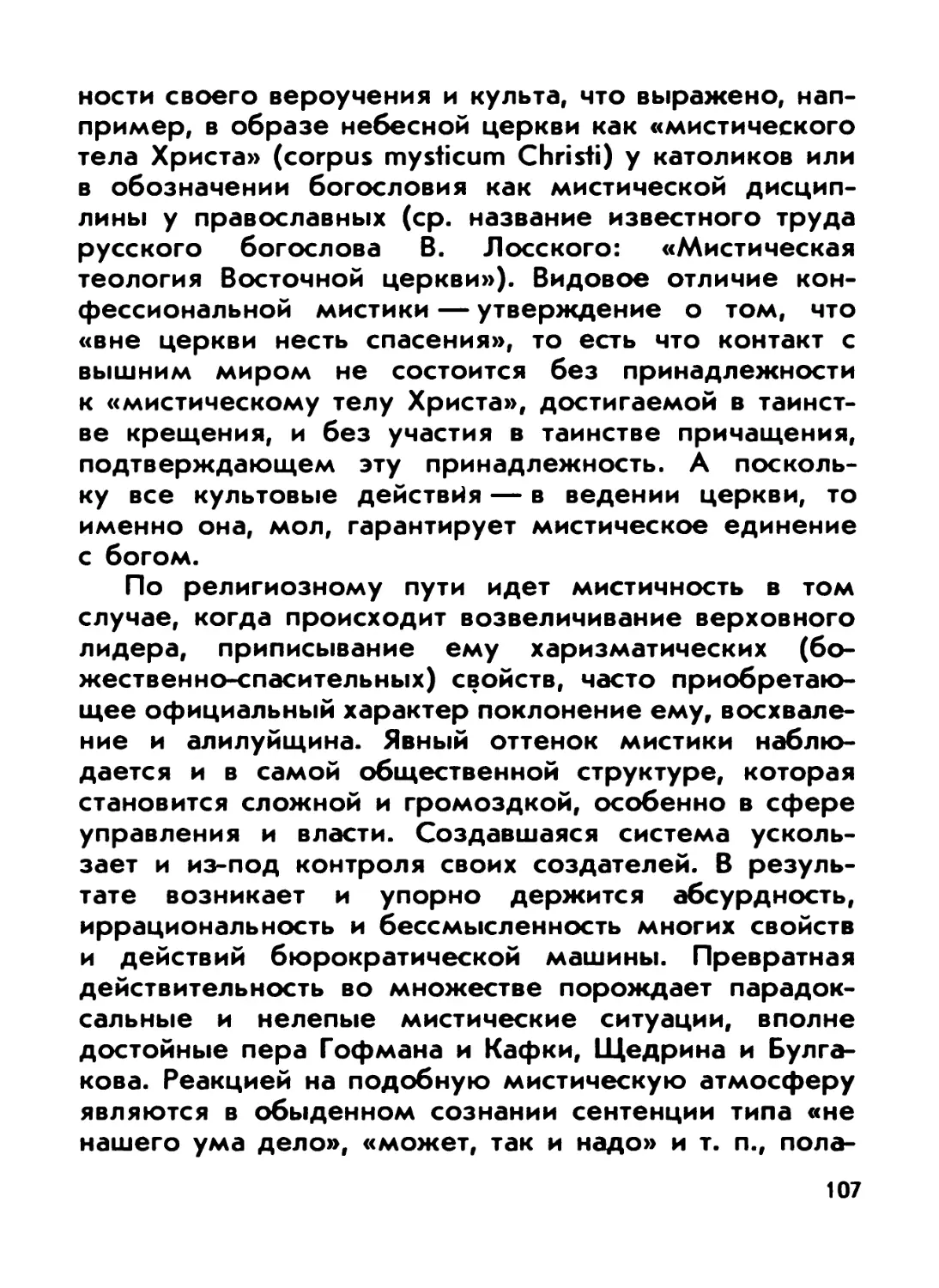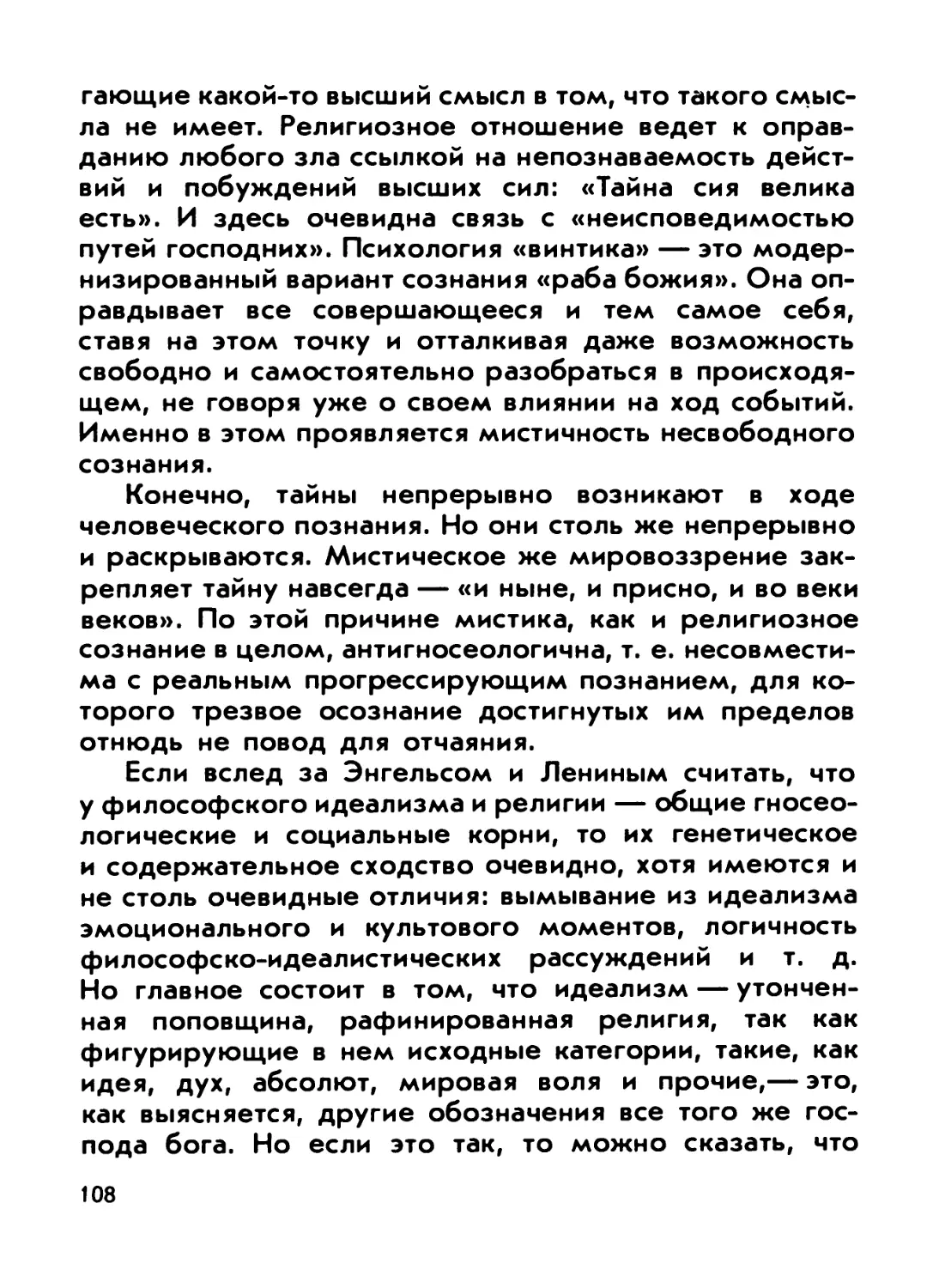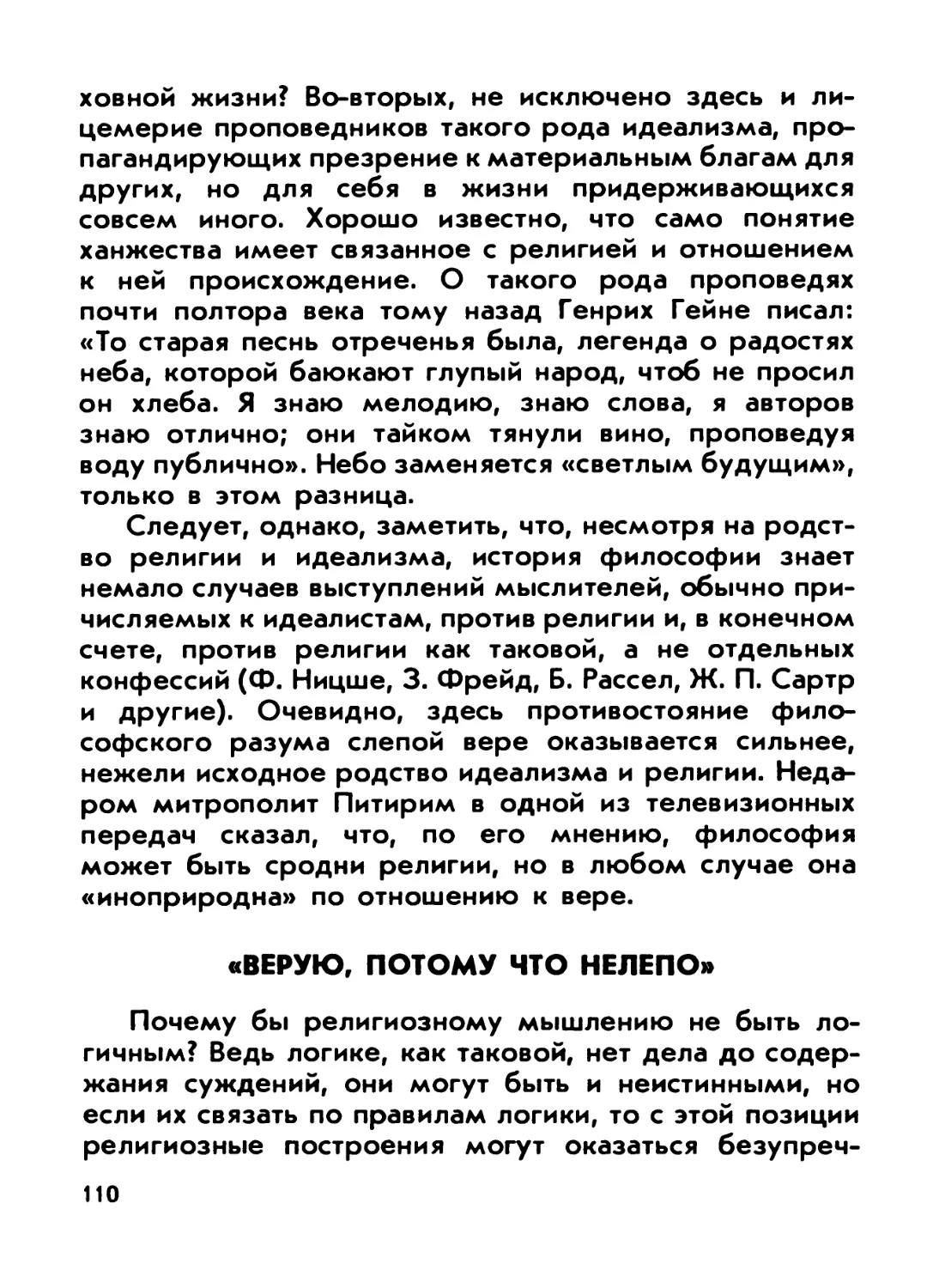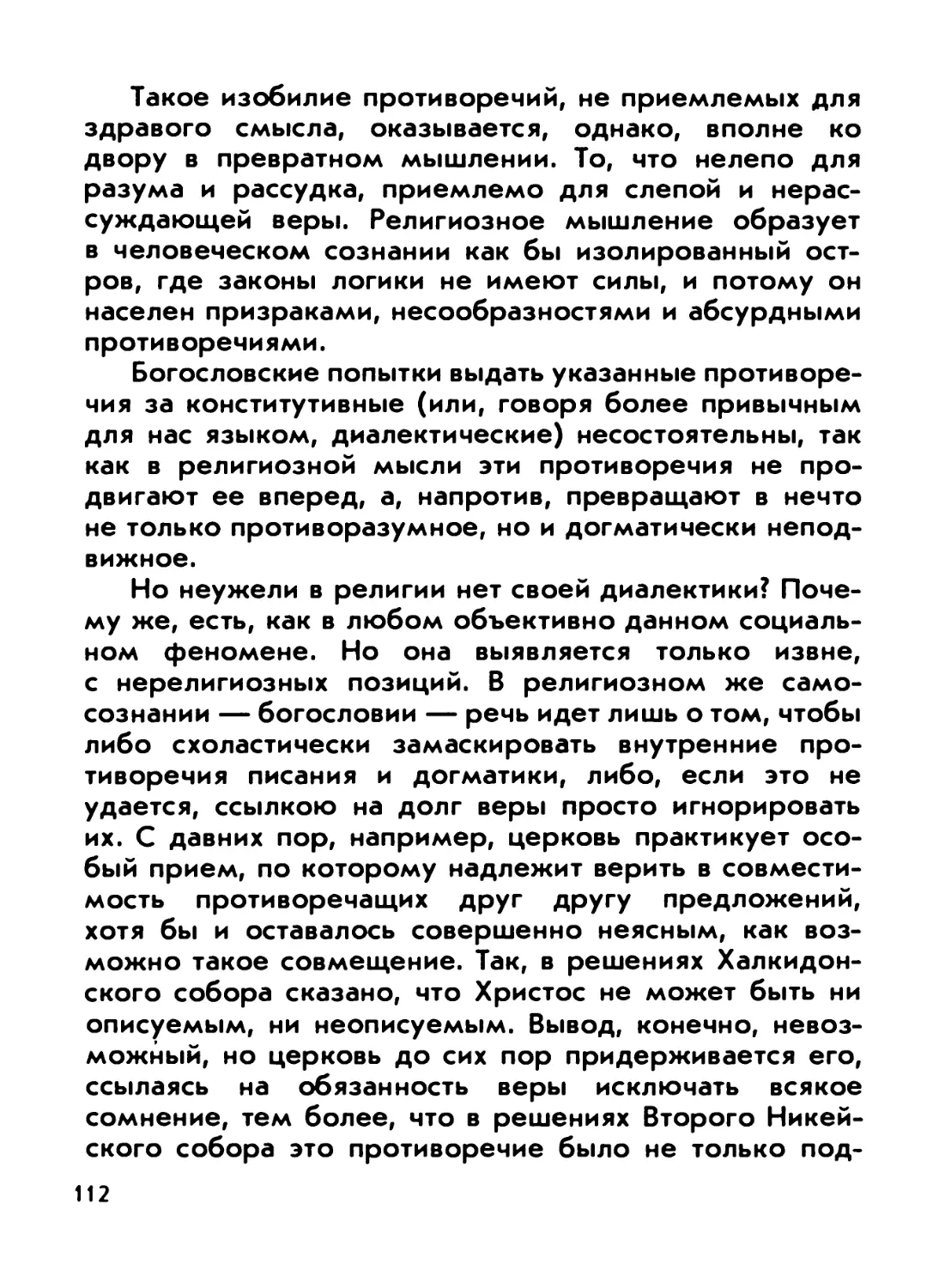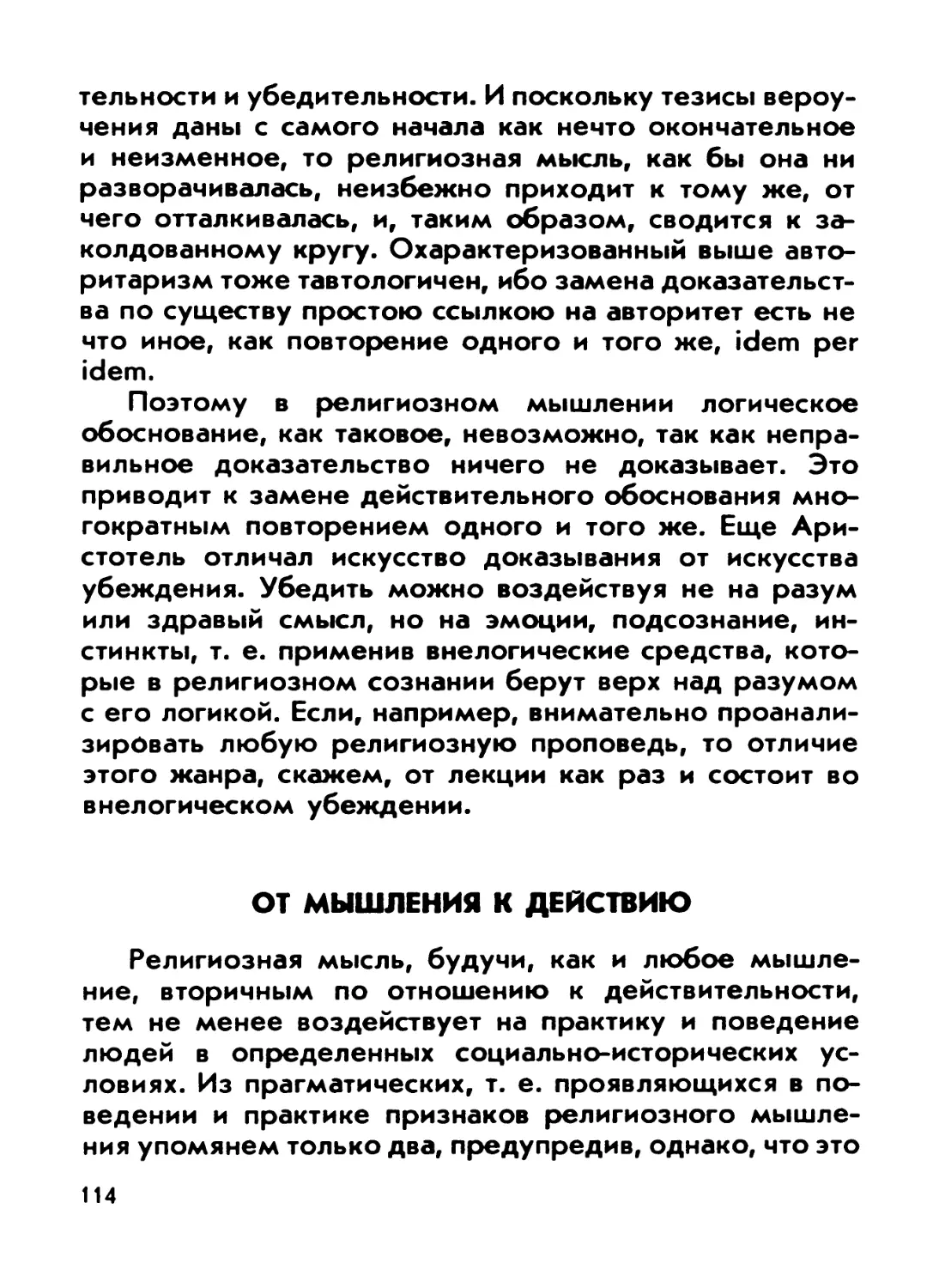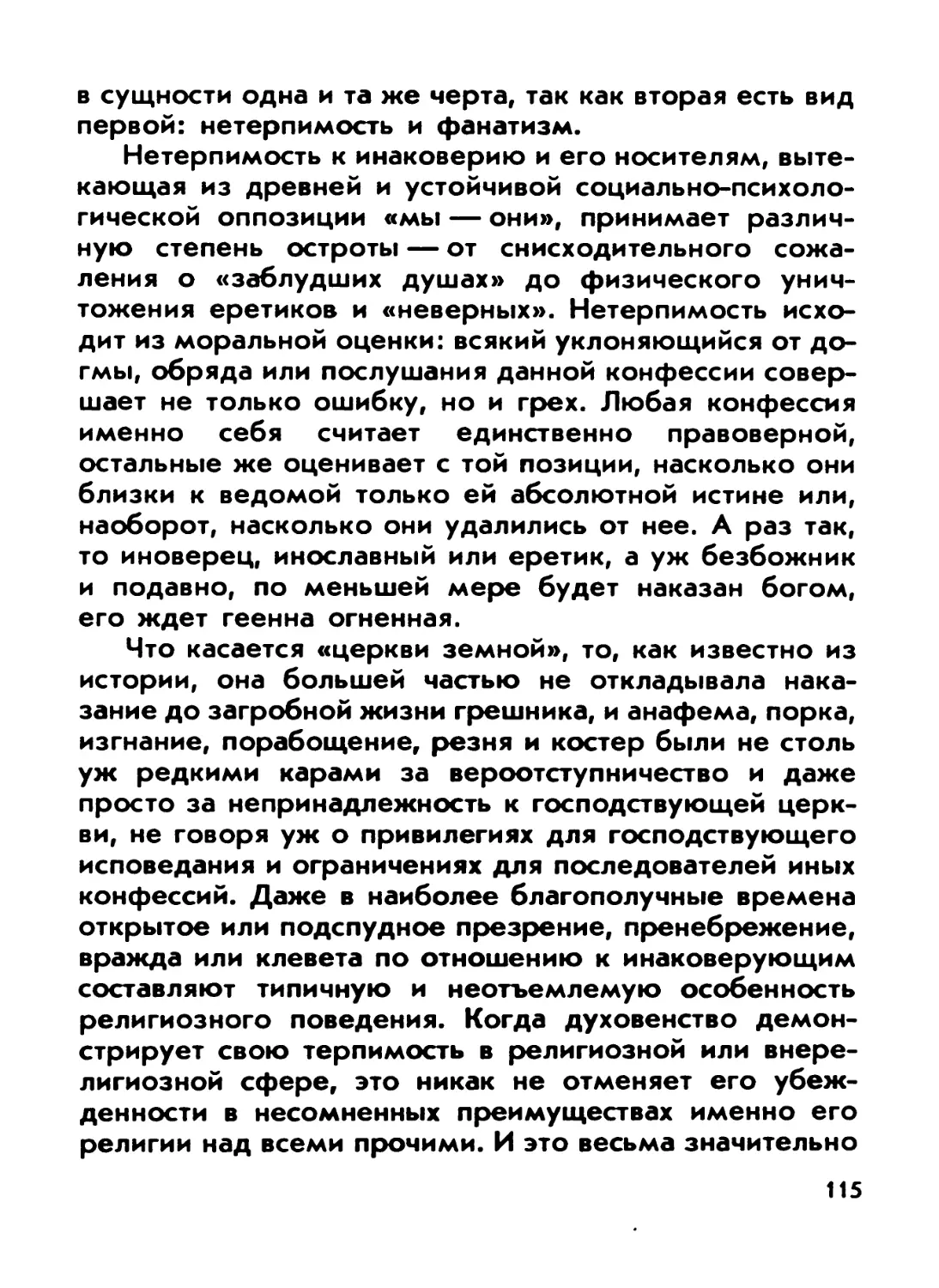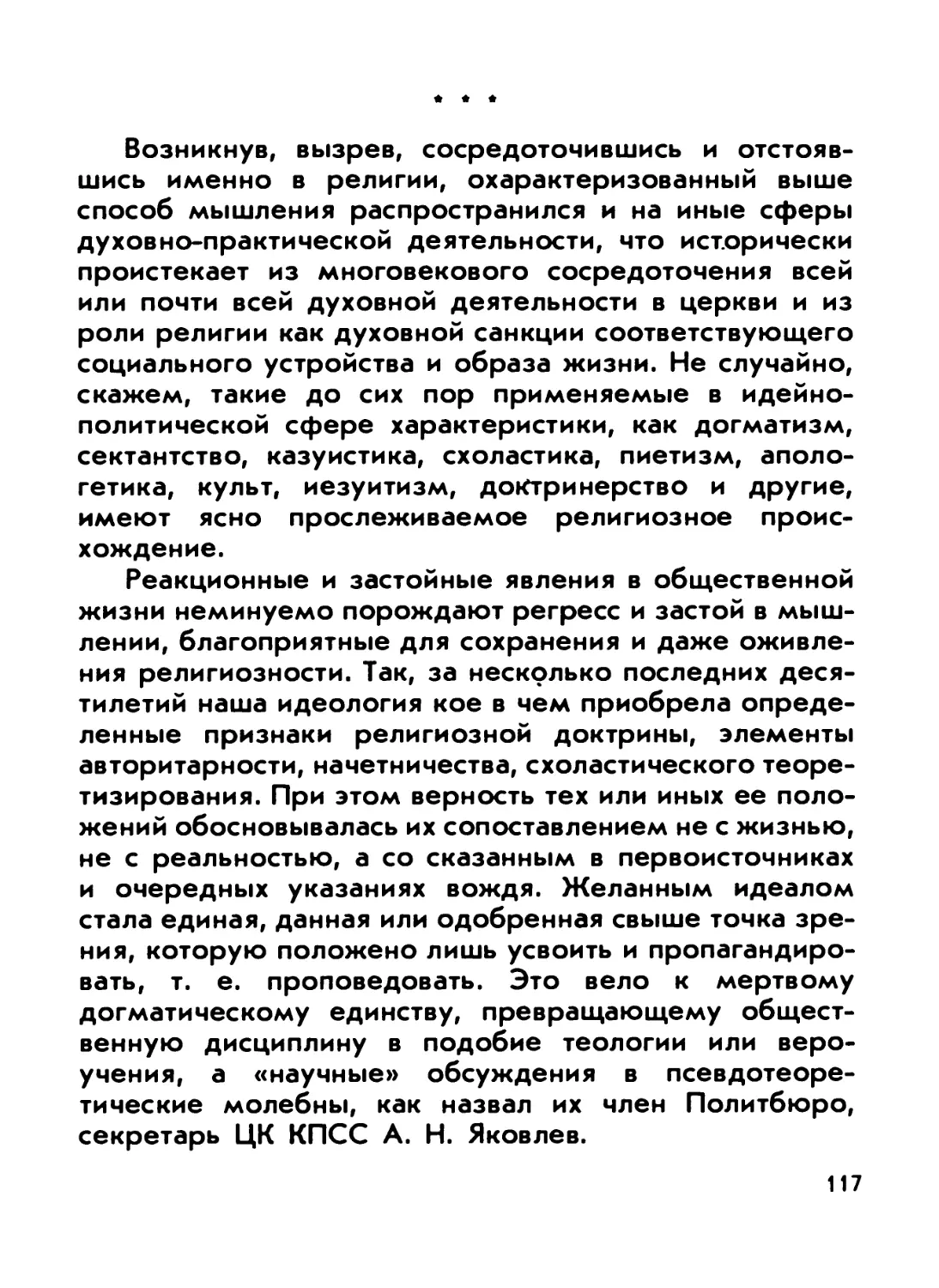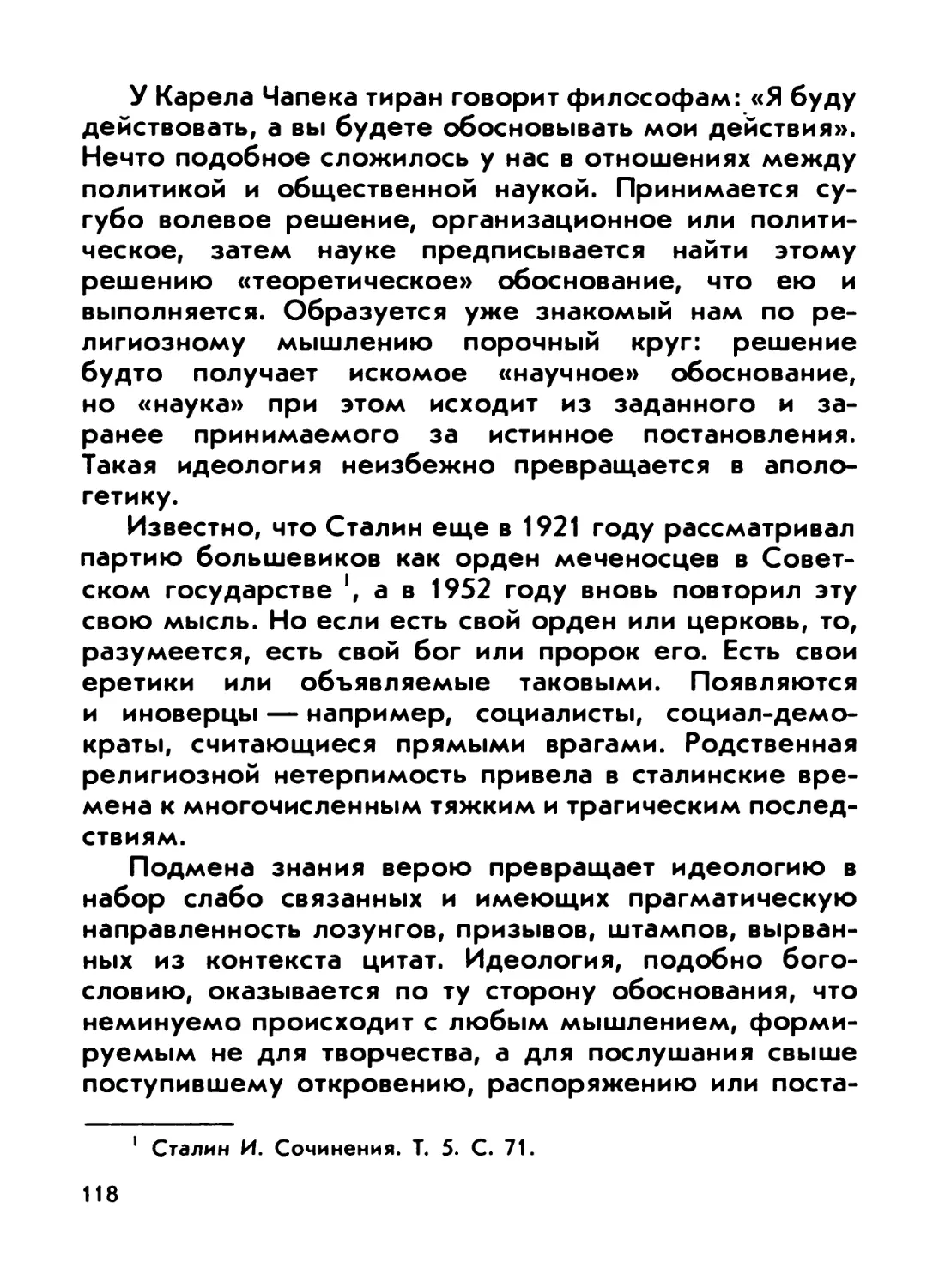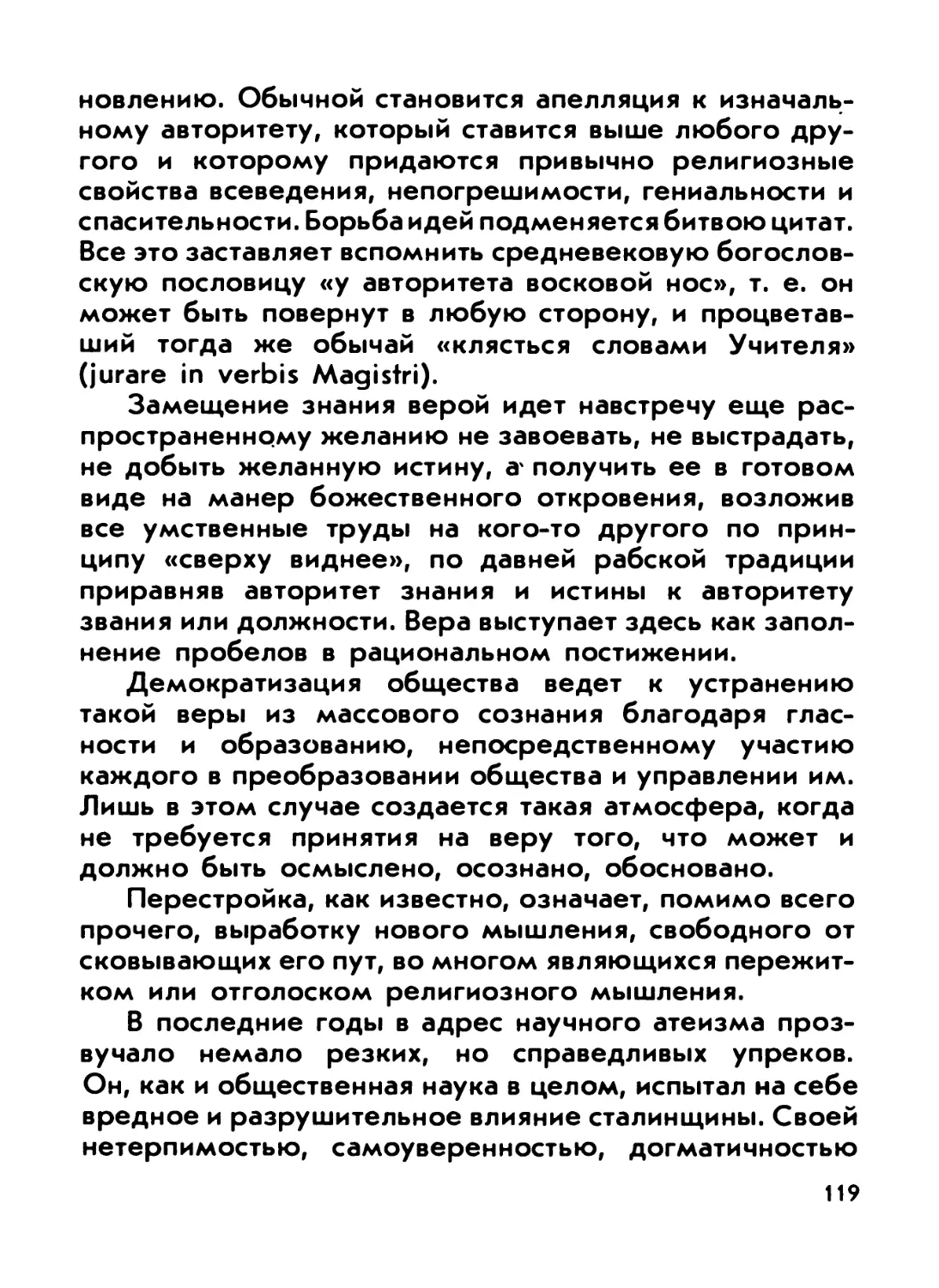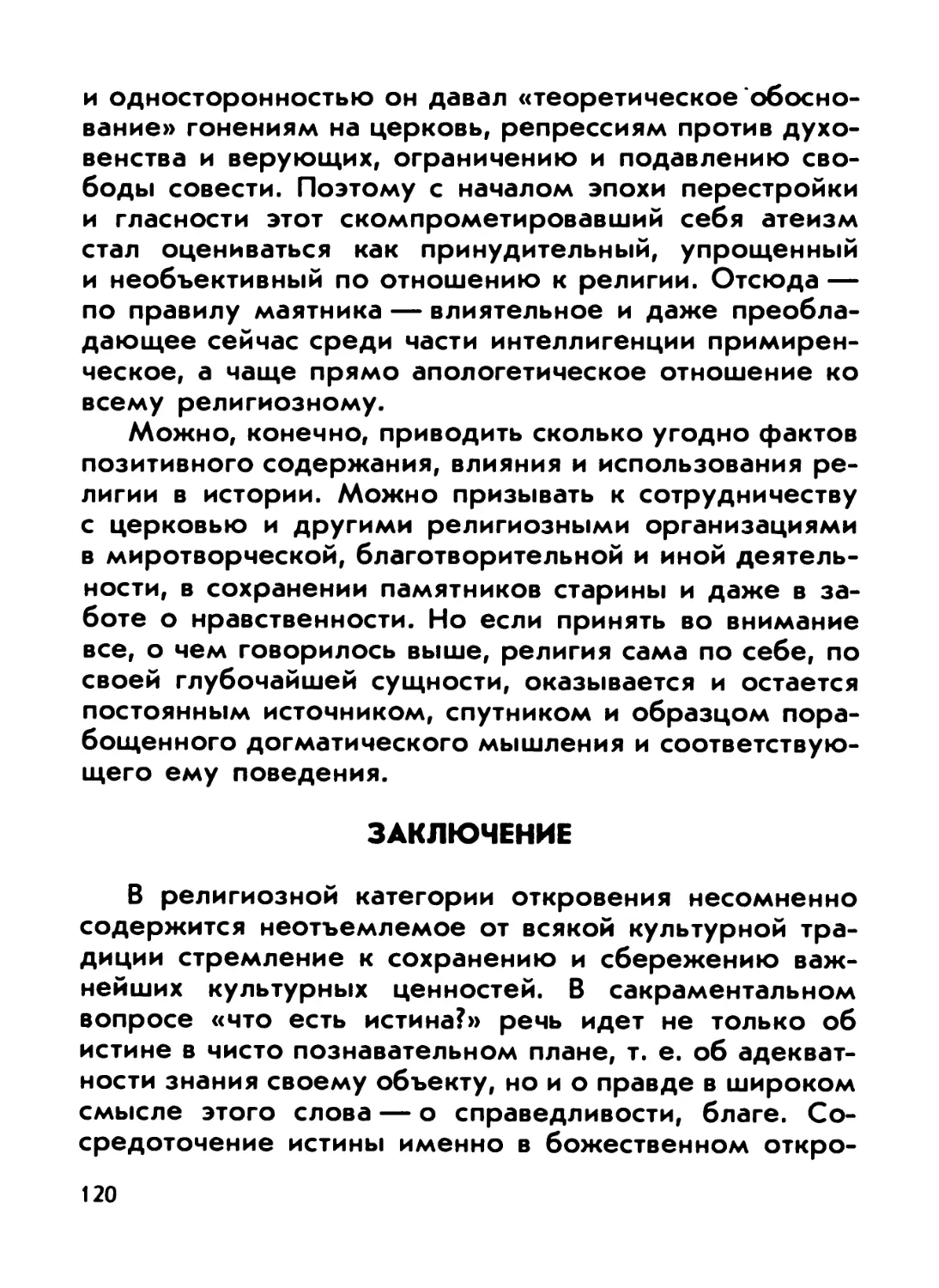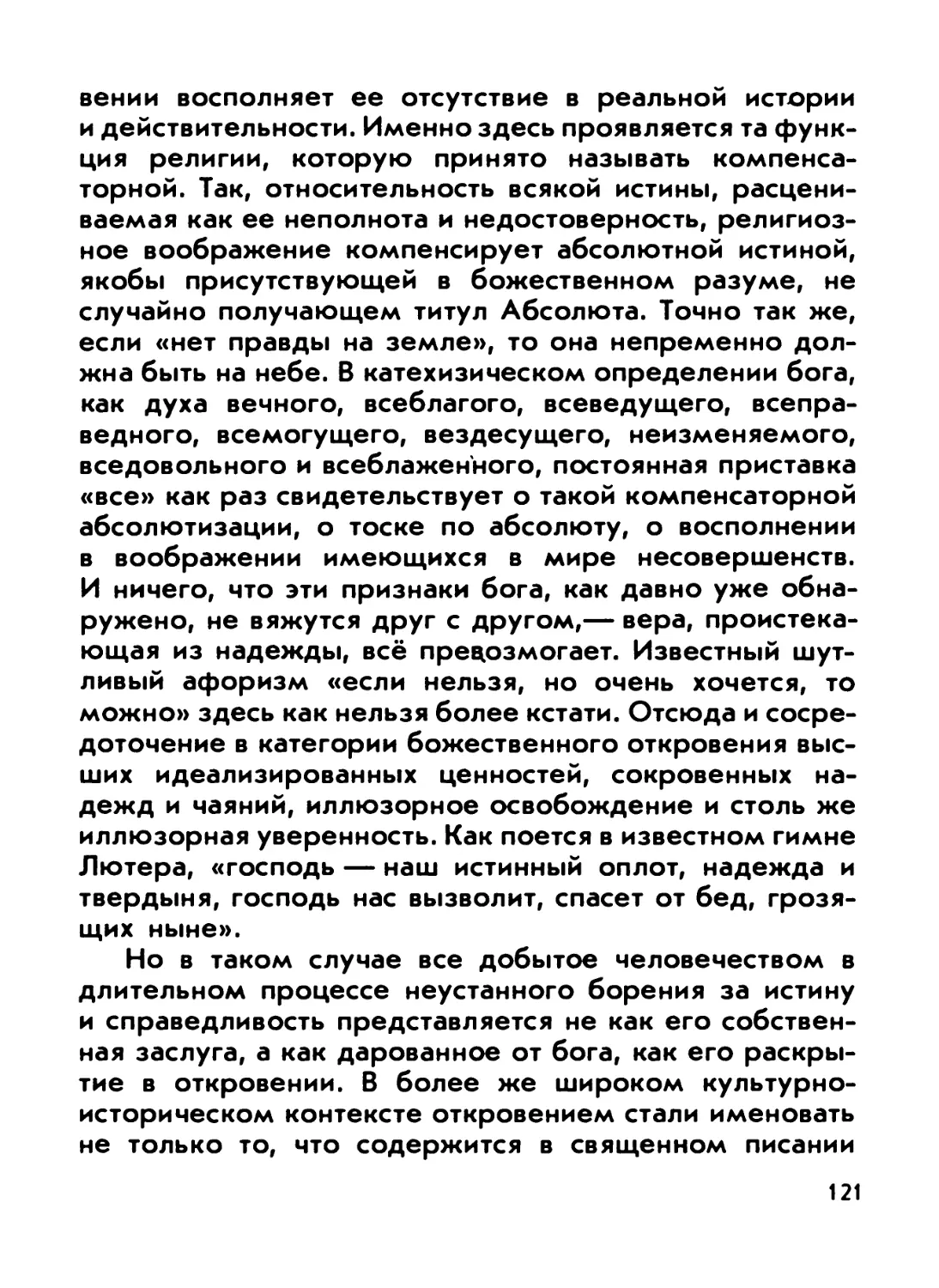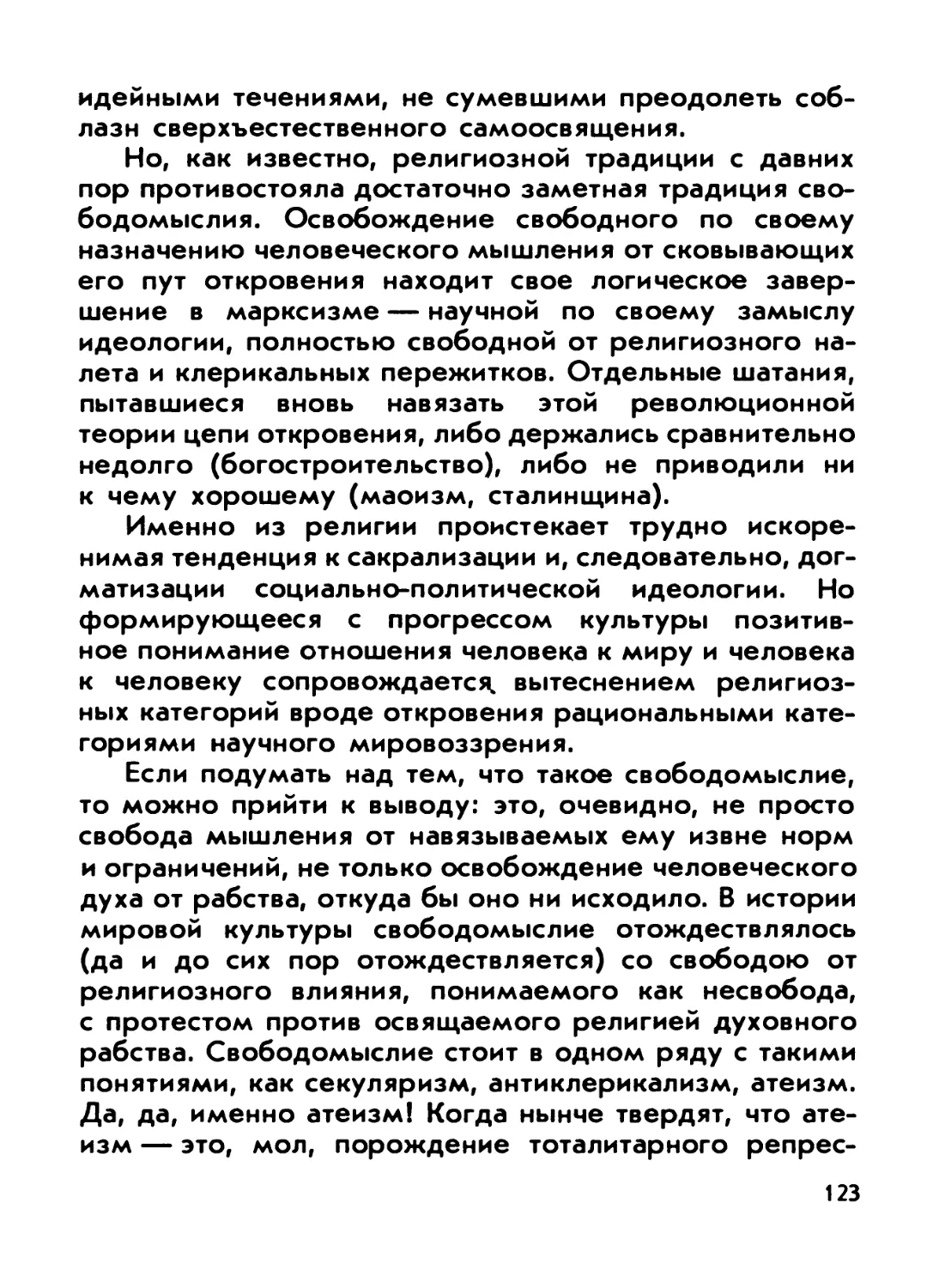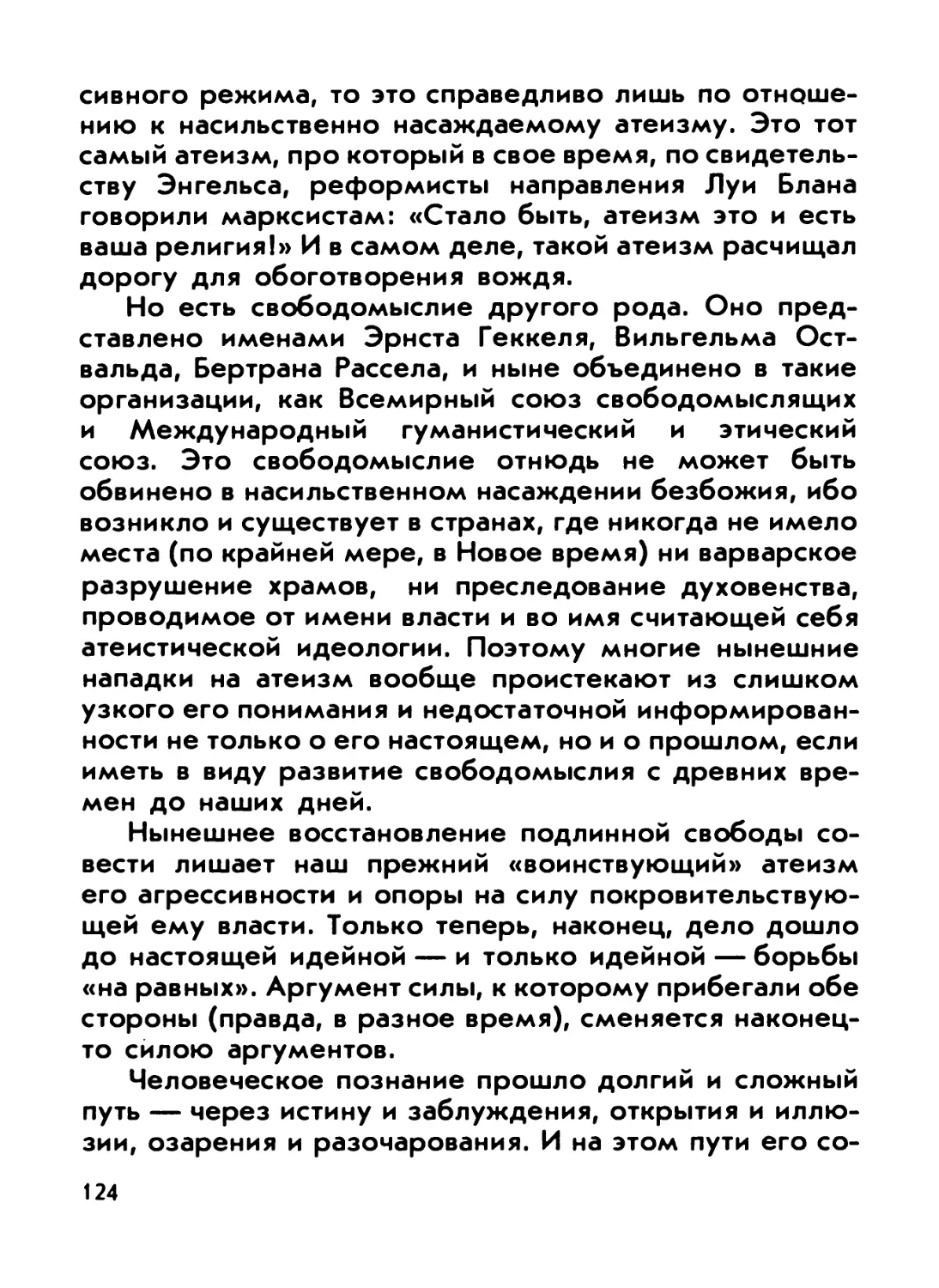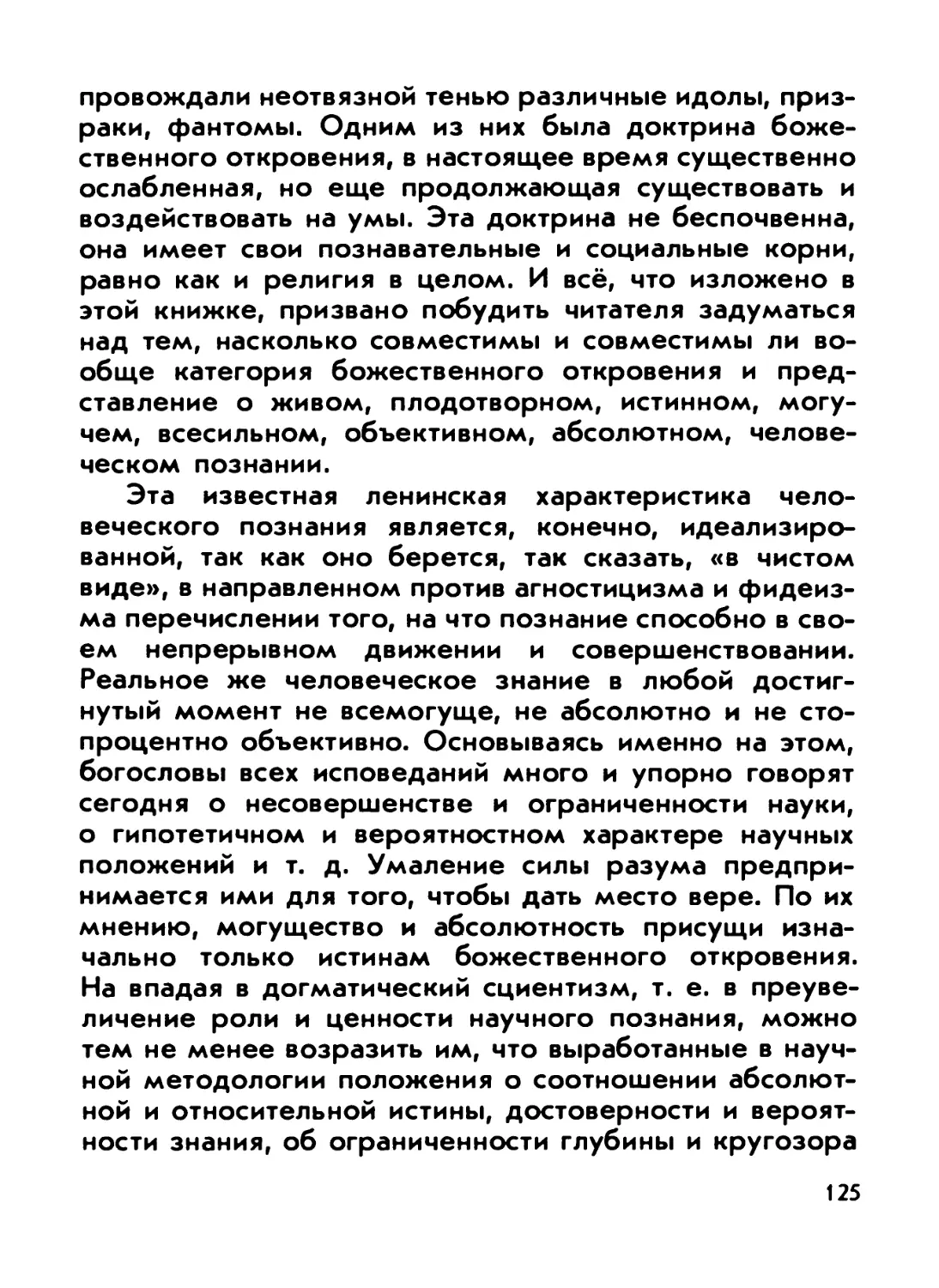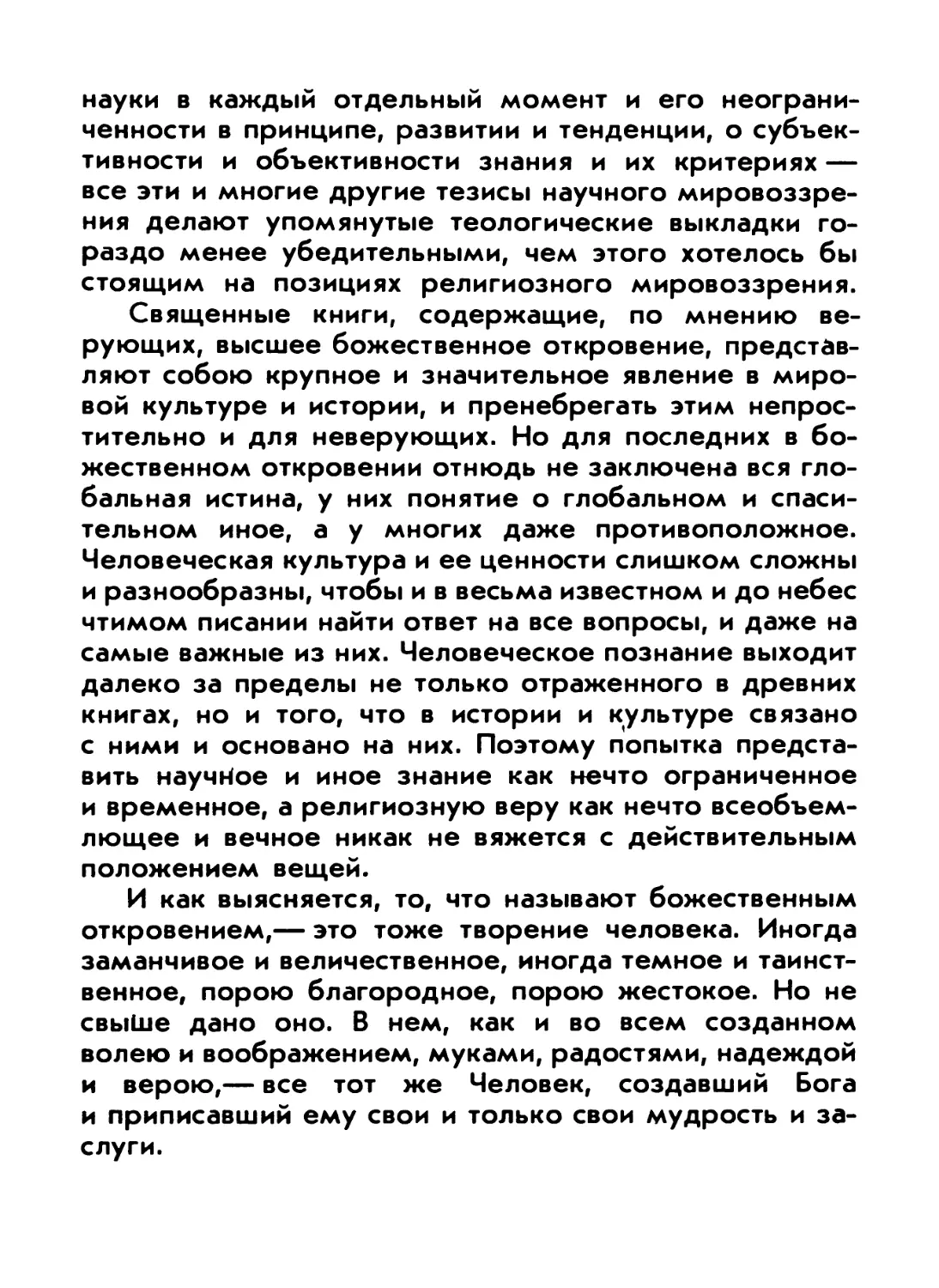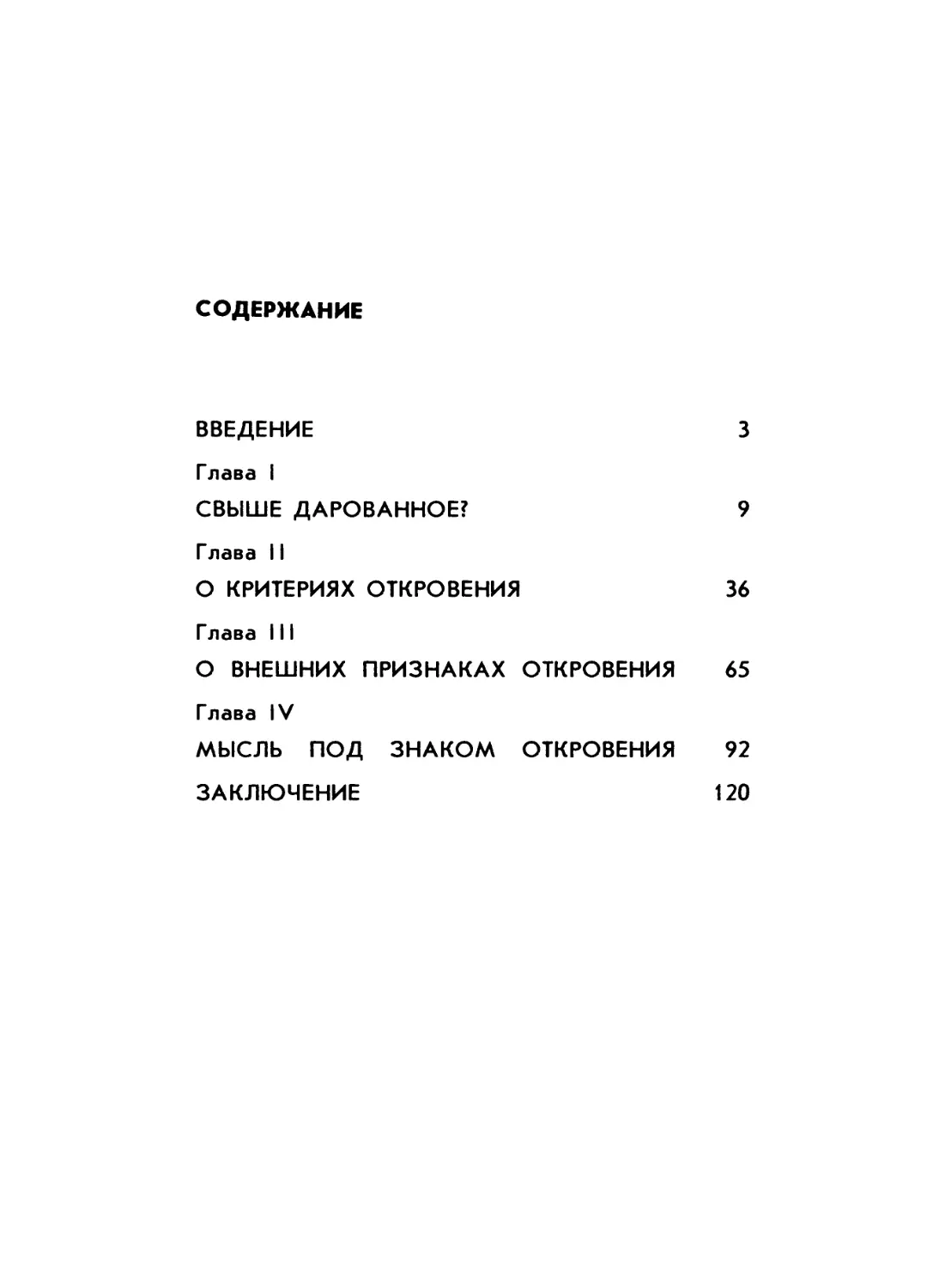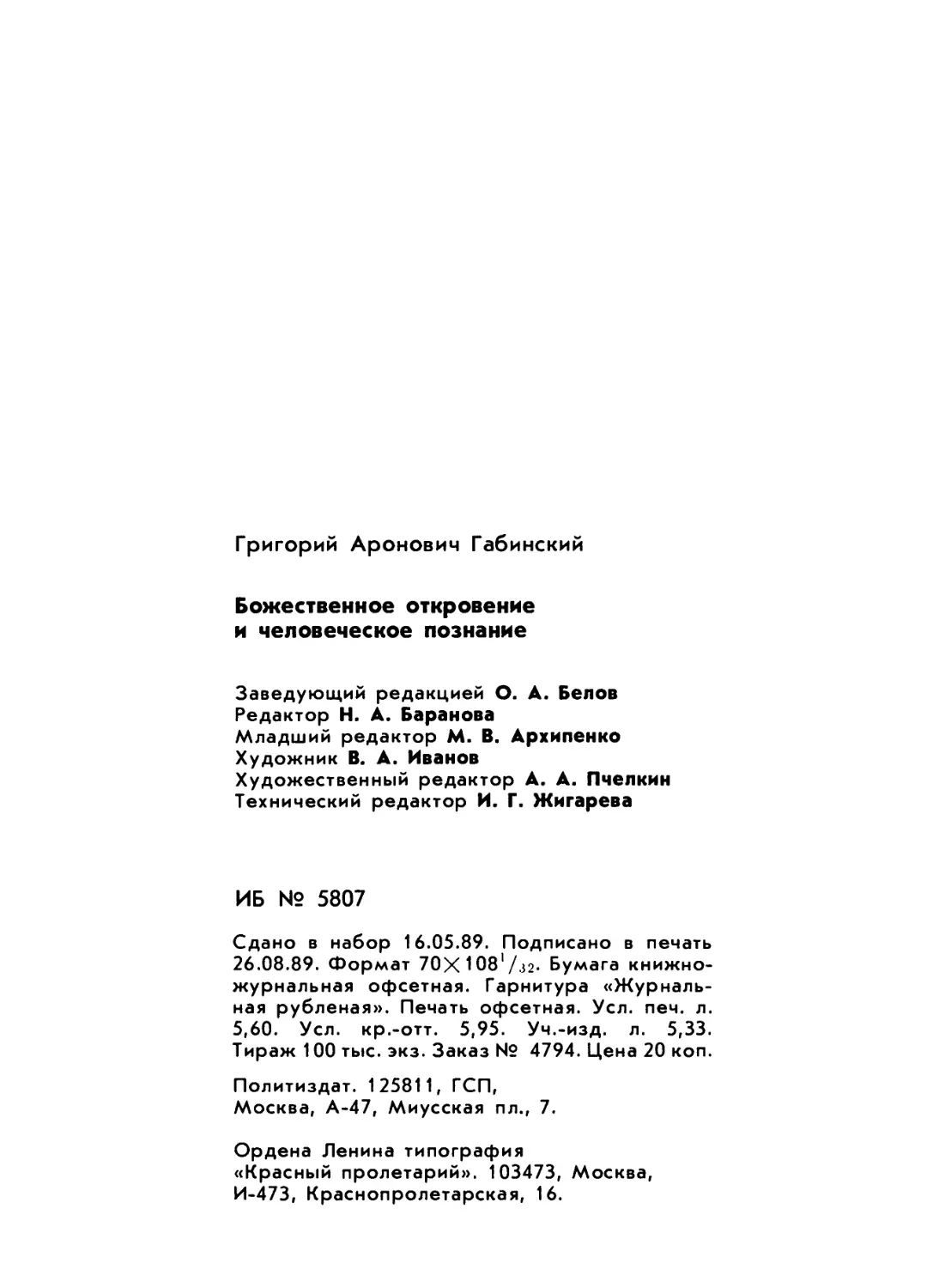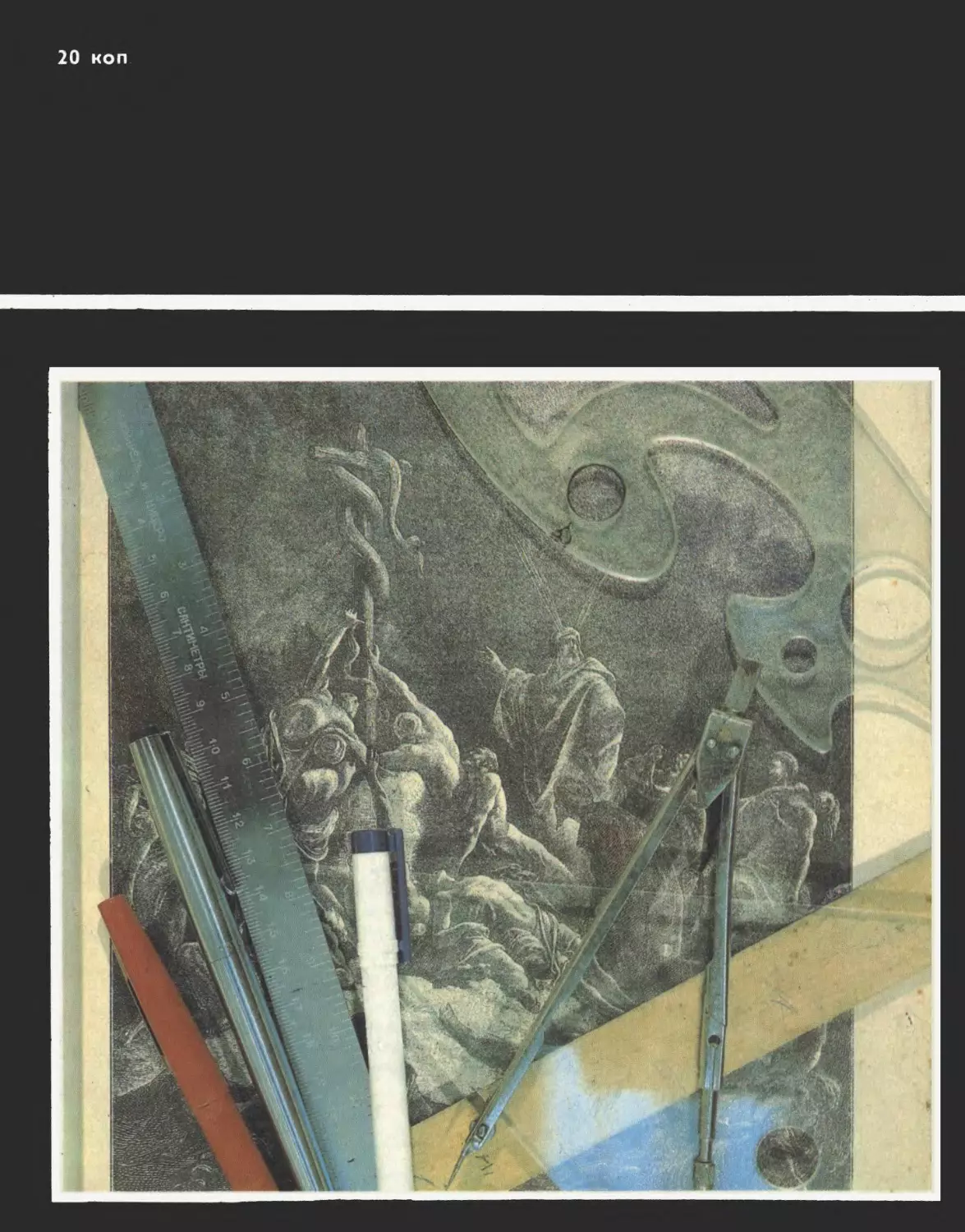Автор: Габинский Г.А.
Теги: философия история науки атеизм научный атеизм политиздат серия беседы о мире и человеке
ISBN: 5—250—01047—4
Год: 1989
Текст
БОЖЕСТВЕННОЕ
гл гдКингМмй ОТКРОВЕНИЕ
ГА ГАБИНСКИИ ц ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ПОЗНАНИЕ
О Г\ЛИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ
БОЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРОВЕНИЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ПОЗНАНИЕ
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1989
ГА.ГАБИНСКИЙ
&БК -8*3(1
Г12
Габинский Г. Л.
П 2 Божественное откровение и человеческое
познание.— М.: Политиздат, 1989.— 127 с.—
(Беседы о мире и человеке).
ISBN 5—250—01047—4
Библия у иудеев и христиан, Коран у мусульман, Веды в
индуизме, Адигрантх у сикхов, Авеста в зороастризме, другие
священные книги и даже прорицания Дельфийского оракула у
древних греков — все это, по утверждениям приверженцев различных
религий, сверхъестественное откровение, переданное людям
через божьих избранников.
О признаках и видах откровения, чудесах и пророчествах
в нем, об отличии божественного откровения от человеческого
познания рассказывает эта книга.
Рассчитана на широкий круг читателей.
г ододооооо-278 КБ_з_71_и 6БК 86.30
ISBN 5—250—01047—4 © ПОЛИТИЗДАТ, 1989
ВВЕДЕНИЕ
Исходя из веры в
сверхъестественное,
религия претендует на то,
что возвещаемые ею
истины и основоположения
не добыты самими
людьми, а даны свыше, люди
же должны
воспринимать эти истины как
нечто несомненное,
непреложное и священное —
откровение. По сути
дела, представление об
откровении свыше,
ниспосылаемом людям
высшей силою через
жрецов, колдунов,
патриархов, пророков или
апостолов и
фиксируемом в священных
скрижалях и книгах,
существует в любой религии.
Особенное развитие
представление о
божественном откровении
получило в поныне
существующих трех
монотеистических
религиях — иудаизме,
христианстве и исламе,
которые традиционно
принято называть религиями
откровения. По своему
происхождению
вероучение этих религий вос-
3
ходит, в общем-то, действительно к одному
источнику, хотя каждая из них впитывает на своем
историческом пути и иные влияния. Однако полагать, что
только эти религии суть религии откровения, а остальные,
стало быть, не заслуживают этого названия, было бы
неверно. Ибо представление об откровении так или
иначе, смутно или более отчетливо, в зачаточном или
зрелом виде имеется во всякой религии и уж
наверняка там, где имеется письменность. Что такое Веды
в индуизме, Адигрантх у сикхов, Авеста в
зороастризме и даже прорицания Дельфийского оракула у
древних греков, как не сверхъестественное откровение в
восприятии последователей этих религий? И
почитаются ли они меньше, нежели Тора в иудаизме, Библия
в христианстве или Коран в исламе? Ведь сама
религиозная психология, основанная на чувстве
зависимости мира и человека от высших сил, не может
обойтись без представления о высшем сверхземном
и сверхчеловеческом авторитете, которому надлежит
подчиниться и довериться без оглядки и сомнения.
Поэтому издавна бытующая в богословии точка
зрения о том, что есть религии откровения и религии без
откровения, не может восприниматься без критики.
Тем более что каждая из названных религий именно
себя считает носителем подлинного божественного
откровения, отказывая в этом остальным, а внутри
каждой из них, как известно, существуют
исповедания, расходящиеся друг с другом в понимании и
толковании божественного откровения. Эти расхождения,
имеющие всегда в конечном счете внерелигиозные
причины, часто доходят до конфликтов, взаимных
отлучений и проклятий и играют роль религиозно-
идеологического обоснования и санкции в социальной
борьбе, проходящей в иные эпохи, вплоть до
современной нам, под религиозными знаменами.
4
Религиозное сознание отличается своим особым
авторитаризмом, т. е. полным и безусловным
доверием авторитету, неуклонным, безусловным и
неразмышляющим следованием ему. Вытекает же все это
из представления о сверхъестественности самого
источника откровения. Отсюда в христианстве,
например, возникает понятие богодухновенности —
божественного происхождения откровения и проникнутости
его высшим и спасительным смыслом. Автор
откровения — сам бог, создатель и владыка мира и человека.
Усилиями всех поколений и направлений духовенства
вокруг божественного откровения создан и
поддерживается ореол святости, непогрешимости, высшей
мудрости, годной и ценной для всех времен и народов.
Из откровения, по сути дела, черпается и догматика
как совокупность возвещенных в откровении «истин»,
и религиозная мораль, и богослужение, и сведения
из древнейшей истории, и сюжеты произведений
церковного искусства, и нормы канонического права.
Правда, толкование и применение всего этого в разные
времена и в различных направлениях богооткровен-
ной религии было весьма и весьма многообразным и
противоречивым. Но само понятие об откровении и его
ценности оставалось незыблемым.
Это означает, что откровение является
центральным понятием религиозного сознания, особенно же на
его учительном, доктринальном уровне. Любой
катехизис или учебник закона божьего необходимо
вводит и разъясняет понятие о божественном
откровении, его роли, источниках, видах и критериях. А в
богословии вокруг идеи откровения сосредоточено, в
сущности, все содержание этой религиозной
дисциплины, ныне активно претендующей на титул науки.
Противопоставление веры знанию и,
следовательно, божественного откровения человеческому позна-
5
нию проходит через всю историю христианства. Уже
в посланиях Павла сказано, что вера должна
утверждаться «не на мудрости человеческой, но на силе бо-
жией» (I Кор. 2:5). Человеческому знанию
противопоставляется «премудрость божия, тайная,
сокровенная», «мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих» (I Кор. 2:6—7). Внушается мысль о
необязательности и даже пагубности рационального
знания для спасения души: «Ибо написано: погублю
мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где
мудрец? где книжник? где совопросник века сего?
Не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие?»
(I Кор. 1:19—20). В то же время указывается на
пользу размышления о боге, познания слова божия:
«Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить;
если же вы о чем иначе мыслите, то и это бог вам
откроет» (Фил. 3:15). Но не надо спешить с
утверждением, будто апостол все-таки признает
рациональное познание, ведь речь идет только о таком
мышлении, которое дано верою, ибо все, что происходит
не от веры, есть грех (Рим. 14:23). Разум признается,
но только тот, что направлен на познание
божественного откровения и полностью готов признать над
собою первенство нерассуждающей веры (Фил. 3:15).
Последующее развитие христианской апологетики,
в сущности, не выходит за пределы апостольского
завета. От ранних апологетов II—III веков до
докторов богословия средневековья и от них до нынешней
теологии всех трех основных направлений
христианства божественное откровение, содержащееся в
священном писании, ставится несравненно выше любого
человеческого знания, каких бы высот оно ни
достигало. Предпринимались, впрочем, и попытки как-то
согласовать, гармонизировать веру и разум,
откровение и познание.
6
В католицизме и отчасти в православии
распространена точка зрения, согласно которой знание и
вера имеют одного создателя — бога, и посему
между ними нет какого-либо действительного
расхождения: бог не может отрицать себя самого, истина не
может противоречить истине. Изучение природы,
которым занимается научное познание,— это
изучение божественного творения, и научные данные, стало
быть, призваны подтверждать истины откровения, т. е.
религиозные догматы. В протестантизме преобладает
несколько иная концепция, по которой «откровенная
вера» и человеческая наука существуют как бы
в параллельных плоскостях, нигде не пересекаясь
и не задевая друг друга. Религия и наука не
находятся ни в гармонии, ни в конфликте, ибо затрагивают
совершенно различные сферы духа.
Как оценить эти две концепции? Теория гармонии
покоится на идее божественного творения, которая
никакого подтверждения за пределами откровения
не находит. Теория же «параллельных плоскостей»
исходит из столь же произвольной идеи
религиозного дуализма, о котором речь впереди. Реального
согласования и совмещения двух мировоззрений никак
не получается.
К идее откровения, как и к любой иной
религиозной идее, можно подходить с двух диаметрально
противоположных позиций. С точки зрения религиозной
апологетики, божественное откровение содержит
такие положения, которые недоступны человеческому
разуму на любой, даже самой высокой ступени его
развития. Именно поэтому религиозные догматы,
содержащиеся в откровении, доступны не познанию,
а только вере.
С точки же зрения науки, идея откровения, равно
как и любая другая категория религиозного сознания,
7
имеет вполне естественное, земное, посюстороннее
происхождение. В достаточно сложной системе того
превратного сознания, которым является религия,
доктрина божественного откровения раскрывается
как следствие и результат реальной человеческой
истории, как определенная ступень мистификации и
искажения мира. Важно также, что наука способна
вскрыть не только действительное происхождение
откровения, но и его последующую историю, его
социальную функцию. И, наконец, наука
противопоставляет мистической и дезориентирующей категории
откровения рациональные категории человеческого
познания, способные избавить людей от той погони за
призраками, вехами которой являются религиозные
категории.
Всему этому и посвящена предлагаемая читателю
книга.
СВЫШЕ
ДАРОВАННОЕ?
Сверхъестественное,
потустороннее
происхождение, дарование
или обретение
откровения — непременное
требование к нему. В эпоху,
когда религиозное
мировоззрение было
господствующим и чуть ли
не единственным,
только эта высшая санкция
могла придать
откровению ту
непререкаемость, которая была
необходима духовенству и
власть имущим.
Соответственно этой
потребности в составе
религиозной идеологии имеются
фиксированные на
уровне догматов предания
о так называемом
откровении-акте, то есть
о легендарных чудесных
событиях,
сопровождающих сообщения высшей
силой откровенных
«истин» людям.
Таково, например,
библейское сказание о
возвещении богом
своего откровения Моисею
на горе Синай. Таково же
мусульманское
предание о передаче богом
9
Корана пророку Мухаммеду через архангела Джебра-
ила (Гавриила). Избранные богом для этой цели люди
были, согласно сохранившейся до сих пор церковной
концепции, всего лишь передатчиками, послами,
вестниками, возвестителями откровения. Как сказано, к
примеру, в православном катихизисе 1, бог «употребил
особенных провозвестников откровения своего,
которые передали бы оное всем человекам» ~. Но таким
образом и так называемое откровение-объект, то есть
его содержание, в которое надлежит веровать,
выступает вовсе не как человеческое произведение, а
обязательно как дело рук божественных, как нечто
предписанное свыше и потому священное. Именно на этом
основывается особое выделение священного писания
из всего написанного и обнародованного.
Культивируемое церковью отношение к своему
священному писанию приобрело значение навязываемой
догматической нормы. Всякий подход к
божественному откровению, приравнивающий или хотя бы
сравнивающий его с другими памятниками письменности,
рассматривается как оскорбительный, еретический и
богохульный и соответственно пресекается, проклинается
и наказывается. Здесь уместно сравнить и сопоставить
то отношение к весьма распространенным и известным
в античном мире литературным произведениям,
которое существовало у греков и римлян, с отношением
христианской церкви к откровению. Известно,
например, что у древних греков Гомер почитался настолько
1 В других христианских церквах — катехизис (греч., букв.—
устное наставление, оглашение)—книга, содержащая краткое
изложение христианского вероучения, обычно в форме вопросов
и ответов, и предназначенная для начального религиозного
обучения верующих.
2 Пространный христианский катихизис Православныя кафоли-
ческия восточныя Церкви. М., 1906. С. 7.
10
высоко, что считался даже вещающим с
«божественного голоса», его эпос рассматривался как содержащий
единственно праведное, освященное божественным
авторитетом мировоззрение 1. Но в этом почитании
Гомера было много от эстетического восхищения —
чувства, отсутствующего или, по крайней мере, пре-
небрегаемого при оценке церковью Библии: так,
чтимый у католиков как святой, а у православных как
блаженный Августин сетует в своей «Исповеди» на
«сладость» Гомера как на порок, соблазняющий
истинного христианина. Античное отношение к Гомеру не
было канонизировано, не было возведено в ранг
догмата, поэтому такие философы, как Гераклит и Ксенофан,
могли себе позволить пойти против течения и
осуждать Гомера свободно и безнаказанно. В римские же
времена при сохранении почтения к Гомеру возникает
восходящий к Горацию афоризм quandoque bonus
dormitat Homerus — «и старику Гомеру случается
задремать», что примерно соответствует нашей
пословице «и на старуху бывает проруха» или «и на солнце
бывают пятна». Согласно же утвердившемуся в
монотеистических религиях канону подобное отношение
к божественному откровению невозможно и
возмутительно.
Обожествление слова, языка, речи, достигшее
своего апогея в доктрине откровения, восходит к самым
ранним ступеням человеческой истории. Язык,
который выделил человека из животного царства,
приводил не только к адекватному постижению реальности,
но и к отлету от нее.
Язык по самой своей природе способен на ранней
ступени развития человечества порождать мифы или,
' См.: Васильева Т. В. Афинская школа философии. АЛ., 1985.
С. 7—8.
11
по крайней мере, способствовать их возникновению.
Олицетворение, которому в
религиозно-мифологическом сознании подвергаются силы, господствующие
над человеком, становится возможным благодаря их
словесному наименованию. Будучи непосредственной
действительностью мысли и тем самым содержа в себе
общие понятия, язык может выразить и воплотить
единичное только через сочетание и связь этих общих
идей. Так, например, каждое из слов «дерево»,
«расти», «мой», «окно» выражает общее, но
словосочетание «дерево, растущее у моего окна» указывает на
нечто единичное. Олицетворение как раз и
совершается через индивидуализацию общего понятия:
«Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть
отдельное существо»1. Представление общих
идей в виде личных существ характерно для любой
мифологии, что находит, в частности, свое выражение
в свободном превращении нарицательных имен в
собственные. Так в Ведах (точнее, в Ригведе) огонь есть
бог Агни, солнце — Сурья, растение — Сома; в
греческой мифологии солнце — Гелиос, небо — Уран,
Эос — заря, сон — Гипнос. Еще одно проявление того
же процесса — это буквализация словесных метафор,
то есть приравнивание переносного смысла
словосочетаний к прямому,— явление, присущее и поэзии. В
первобытном сознании миф и поэзия не различались,
и лишь значительно позднее метафора становится не
более как поэтическим или стилистическим приемом.
Можно, к примеру, считать, что существующие почти
у всех народов мифы о зимнем оцепенении природы
и о ее весеннем воскресении имеют явную связь с
метафорами типа «земля заснула» или «сад проснулся».
Как в свое время убедительно доказали филологи-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 329.
12
фольклористы сравнительной школы (М. Мюллер,
А. Пиктэ, А. Н. Афанасьев, А. Аарне), разворачивание
почти любой распространенной метафоры в
отдельный миф с присущей ему индивидуализацией и
олицетворением, переводом понятий в чувственные
образы является источником многих поверий, примет и
обрядов. Но понятно, что язык, будучи социальным
явлением, не мог сам по себе породить мифологию.
Через речь, с ее помощью тут действовали
объективные материальные условия жизни людей,
подвергавшиеся в их воображении таким невероятным
трансформациям, что М. Мюллер назвал мифотворчество
«болезнью языка».
Язык, слово, речь воспринимался в свое время как
нечто таинственное и колдовское. Могущество слова,
его непостижимая способность воздействовать на
людей, побуждать к действию, участвовать в добывании
и создании жизненных благ — все это было развито
первобытной фантазией в представление о
воздействии слова на мир, его способности исцелять и убивать,
творить и разрушать. Слово, согласно подобным
представлениям, воздействует не только на людей, но и на
неживую и живую природу и даже на небожителей.
Окружающий мир тоже наделялся своим языком, ибо
мир в древнейшем воображении одушевлен и
очеловечен. Сформировавшиеся на этой основе заговоры и
заклинания неотъемлемой частью вошли в
первобытную магию, составив ее словесный (вербальный)
аспект. Отсюда — прямая дорога к молитве в ее
позднейшем и нынешнем виде и назначении. Из
вербальной магии проистекает убеждение в таинственной, но
несомненной связи имени с его носителем, что
выражается в многочисленных верованиях и обрядах,
связанных с наречением и изменением имени, языковых
запретах (табу).
13
Когда появились представления о высших силах,
им тоже была приписана своя речь, могущество и
чудодейственность которой считались максимальными.
Это была уже божественная, священная речь (кстати,
именно так именуются Веды в индуизме). Через нее
боги возвещали людям свою волю. А при переходе к
классовому обществу реальная власть
могущественного владыки, вождя, полководца, царя, по
словесному приказу («единому слову») которого создаются
города, дворцы, храмы, роются каналы, подвергается
всё той же гиперболизирующей мистификации,
преувеличивающему освящению. И в монотеистических
религиях могущество священного слова доведено до
того, что бог, оказывается, своим словом создает мир.
Все сущее, так сказать, изречено, изглаголено,
высказано богом. Слово бога приравнено к творению из
ничего. Отсюда — представление о природе и мире
в целом как о так называемом естественном
откровении.
С изобретением и использованием письма
появляется возможность придать откровению
фиксированную, каноническую форму. Но, разумеется, и здесь не
обошлось без мистификации письменности. Слову
начертанному приписывались еще большие чудесные
свойства, нежели слову произнесенному. Сюда
восходят мифы о божественных письменах, священных
скрижалях, свитках и, наконец, о священных книгах.
А если учесть, что и в древности, и в средние века
письменность имела весьма ограниченное
распространение и большинство людей были неграмотными, то
становится понятно, что долгое время существовало
суеверное отношение ко всему написанному и
напечатанному, что активно использовалось духовенством
для внушения людям благоговейного отношения к
священным книгам.
14
Легенды об откровении-акте, принятые как догмат
в давно сформировавшихся, устоявшихся религиях,
оказывают прямое или опосредствованное влияние
на вновь возникающие религиозные направления и
секты, которые с большим или меньшим успехом
спешат обзавестись своим божественным откровением.
Если, например, выделившееся в XVI веке
лютеранство не создает нового священного писания, а
ограничивается иным истолкованием и переводом уже
существующей Библии, то бывает, однако, что новые
исповедания создают свое собственное откровение,
которое либо чтится наряду с уже имевшимся, либо
ставится выше него, либо даже заменяет его.
Так, раннее христианство создает Новый завет,
освященный и чтимый наряду с Ветхим заветом.
Возникший через несколько веков ислам не отрицает
Библии, но свой Коран ставит гораздо выше. В то же
время языческая мифология полностью отрицается
борющимся с нею христианством. Все эти варианты
сопровождаются соответствующими легендами,
призванными свидетельствовать о подлинности и
божественности каждого из откровений. При этом,
разумеется, обнаруживается несомненное сходство легенд о
даровании, обретении и удостоверении священных
письмен, скрижалей и книг. Вот несколько примеров.
У русских старообрядцев под явным влиянием
Апокалипсиса и греческого апокрифа о нем возникает
предание о Голубиной книге, выпавшей из грозовой
тучи и содержащей все тайны мира: «Приподнять
книгу — не поднять будет, на руках держать — не
сдержать будет, а по книге ходить — всю не выходить,
по строкам глядеть — всю не выглядеть» 1. Такова же
1 Афанасьев А. Н. Народ-художник. Миф. Фольклор.
Литература. M., 1986. С. 253.
15
Мормонова книга — священное писание
американской секты, представляющая собою, по мнению
Марка Твена, бездарное и скучное подражание Библии,
но сопровождаемое, как и она, такими
свидетельствами своей «подлинности», которые не могут
вызвать ничего, кроме недоумения, у любого человека,
исключая самого мормона. Несколько очевидцев
свидетельствуют, «что видели вырезанное на скрижалях
и что они были явлены нам силой божией, а не
человеческой. И мы подтверждаем со всем здравомыслием,
что ангел божий сошел с неба и положил пред наши
очи, дабы мы узрели и видели скрижали и то, что
вырезано на них...» ' Для жаждущего уверовать
подобного весьма слабого свидетельства оказывается вполне
достаточно. Здесь очевидно влияние соответствующих
библейских мифов, с заменой Моисея на Дж. Смита,
а апостолов на «очевидцев». В произрастающих ныне
на Западе многочисленных нетрадиционных
культах распространены самодельные «священные» книги,
которые могут непредубежденному читателю
показаться пародиями на традиционное откровение, но
рассчитаны они на вполне серьезное к ним отношение.
Таков, например, «Святой Коран» Тимоти Дрью,
основателя Американского храма мавританской науки,
ничего общего с подлинным Кораном не имеющий,
но обнаруживающий мусульманское влияние хотя бы
в своем названии 2.
...Бывший матрос Джонсон (Боконон), шутник и
циник, создает для народа Сан-Лоренцо новую религию.
«Когда стало ясно, что никакими государственными
или экономическими реформами нельзя облегчить
1 Твен М. Дневник Адама. М., 1981. С. 206.
2 См.: Григулевич И. Р. Пророки «новой истины». М., 1983.
С. 159—160.
16
жалкую жизнь этого народа, религия стала
единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала
врагом народа, потому что была страшной, и Боконон
поставил себе цель — давать людям ложь,
прикрашивая ее все больше и больше». А какая же религия без
священного писания? И вот пишутся «Книги Боконона»,
состоящие из песен-калипсо и изречений, пропитанных
полезной ложью, направленной на то, чтобы
оправдать сложившееся положение и примириться с ним.
Под стать боконистскому «писанию» и главный обряд
этой религии — «боко-мару», состоящий в
соприкосновении босых пяток и символизирующий единение душ.
Религия Боконона — плод художественного
воображения писателя Курта Воннегута '. Но когда
знакомишься с реальными биографиями, писаниями и деяниями
новоявленных «поп-пророков», таких, как Мун, Рад-
жниш, Берг, Хаббард, Прабхупада и прочие, то можно
констатировать, что даже самый причудливый,
изобретательный и фантастический вымысел уступает
реальности мира, в котором gee они существуют.
Несмотря на всю свою неотразимую реальность, это,
в сущности, превратный мир, нуждающийся в
превратном сознании и активно воспроизводящий его.
Общепризнано, что обращение некоторой части
современной молодежи к новым культам с их священными
книгами и обрядностью проистекает от ее разочарования
в традиционных религиях. Но покуда религия остается
именно религией, она никак не может обойтись без
освящения своего авторитета свыше. Поэтому и
получается так, что даже сверхупрощенные «поп-религии»,
хотя и именуются нетрадиционными, вполне
традиционно порождают своих пророков, апостолов,
чудотворцев, святых и, следовательно, свои библии,
евангелия, кораны и прочие священные писания.
См.: Воннегут К. Колыбель для кошки. M., 1970. С. 127.
17
Говорят, что халиф Омар, повелевший сжечь все
книги Александрийской библиотеки, поступил не
просто как капризный, жестокий и невежественный
завоеватель, а руководствуясь следующим рассуждением:
если в этих книгах есть то, что есть в Коране, они
излишни, а если в них имеется то, чего в Коране нет,
они вредны. В том же духе выдержано заявление
Августина: «Несчастен тот, кто все знает, но тебя
(бога) не знает, и счастлив тот, кто познал тебя, хотя
бы и не знал он ничего другого». Явление того же
порядка — печально знаменитый «Индекс
запрещенных книг», введенный католицизмом и
просуществовавший более четырехсот лет.
За многие века в религиозном сознании сложилась
прочная и неискоренимая привычка
противопоставлять божественные, священные книги всяким иным
писаниям. Библия (Коран, Веды и т. д.) — это «книга
книг», она содержит в себе все истины, и человеку
остается смиренно и до скончания века черпать из
нее высшую мудрость. «Книги, именуемые Библиею,—
говорит православный богослов,— не суть обычные
литературные произведения, равно как они не то же,
что религиозные памятники нехристианских народов,
но книги божественные или богодухновенные, Писание
священное, само слово Божие» '. Ему вторит
баптистский проповедник: «Библия... чудесный свод всех
божественных учений... единственная книга в мире,
снимающая покров с тайны происхождения Вселенной и
человека и указывающая на цель мироздания. Библия
написана для людей всех времен и всех наречий» 2.
Преклонение перед единственной в мире святой кни-
1 Малиновский Н. Православное догматическое богословие.
Сергиев Посад, 1910. Т. 1. С. 76.
- Братский Вестник. 1972. № 4. С. 70.
18
гой, вознесение ее над всеми иными — это все та же
фанатическая нетерпимость, претензия религии на
безраздельную монополию или на господствующее место
в духовной жизни людей.
Что касается «всех наречий», то это тоже
характерно для религиозного мышления и поведения.
Первоначально священным считался только текст на языке
оригинала, например, Ветхий завет — на
древнееврейском, Новый завет — на греческом. Но затем
миссионерские потребности побуждают церковь переводить
Библию и на другие языки. Некоторые из этих
переводов тоже провозглашаются «богодухновениыми» или
«богооткровенными», наравне с оригиналом. Таковы,
например, Септуагинта — греческий перевод Ветхого
завета, или Вульгата — латинский перевод Библии. В
русском православии языком Библии и богослужения
стал церковнославянский, само название которого
говорит о его религиозном происхождении и
назначении. Переводы же священного писания на новые,
живые языки церковь не одобряла и долгое время
даже запрещала и преследовала. Однако происшедшая
в XVI веке Реформация смела преграды к переводу
Библии на живые языки. В настоящее время Библия
переведена, пожалуй, на все известные в мире языки.
По мере того, как колонизация захватывала новые
регионы и народы, христианские миссионеры первыми
начинали изучать языки порабощенных племен и в
случае надобности создавать для них письменность,—
и в этом несомненная заслуга миссионеров. Но их
первейшей задачей было обращение туземных
народов в свою веру. Миссионерская служба всех
христианских исповеданий до сих пор полагает, что Библия,
как и христианство в целом, равно спасительна для
всех решительно людей, «всех времен и наречий»,
и что поэтому любой народ способен воспринять
19
веру в единого бога-отца, Христа и святого духа,
независимо от того, есть ли сейчас в его языке слова
для обозначения этих религиозных понятий,
сложившихся и распространившихся в совсем иные времена
и на совершенно иной почве.
Эта предписанная церковной традицией позиция
всеобщей христианизации, побуждающая засылать
своих надлежащим образом подготовленных
священников-миссионеров во все концы света, дабы
просветить светом христовой веры прозябающих во тьме
язычников, приводит порою к почти анекдотическим
ситуациям.
Так, католические миссионеры, пытаясь передать
на восточноафриканском языке ачоли понятие «бог»,
спрашивали у старейшин ачоли: «Кто вас сотворил?»
Так как в языке ачоли (луо) отдельного слова «творить»
нет, то буквально вопрос означал: «Кто придал вам
форму?» Но и в таком виде вопрос был воспринят
как непонятный и бессмысленный,— ведь всем
известно, что людей рождают женщины. Старейшины
ответили, что не знают, но миссионеры были этим
недовольны и стали настаивать на ответе. Тогда один из
старейшин вспомнил о Горбатом духе, который
искривляет некоторым людям позвоночник, придавая
фигурам людей особую форму. Этого духа зовут
Рубанга. И вот христианские священники стали в своих
проповедях говорить, что Рубанга — бог, создавший
ачоли '. Когда стали переводить на язык луо Евангелие
от Иоанна, то возникли затруднения уже с первым
стихом: «В начале было слово, и слово было у бога,
и слово было бог». В языке луо нет слова «слово»,
поэтому его перевели лок, то есть «новость». По той же
1 См.: Окот п'Битек. Африканские традиционные религии. M.,
1979. С. 63.
20
причине выражение «в начале» пришлось передать
как ниа кон ки кон, т. е. «с давних-давних пор». В
итоге всех этих филологических усилий в обратном
переводе с языка луо этот стих Евангелия от Иоанна
гласит: «С давних-давних пор существовали новости,
новости были у горбатого духа, новости были
горбатым духом» 1.
В ранних переводах Библии такого разительного
несоответствия не было, так как материальный быт
и духовный мир носителей разных языков имел много
общего, и перевод оказывался довольно верным, хотя
и здесь встречались неточности, ошибки и натяжки 2.
Таковы уже упомянутые греческий, латинский и
славянский переводы. Греческий перевод (Септуагинту)
и латинский (Вульгату) церковь объявила «богодух-
новенными» и «самодостоверными»: святость писания,
следовательно, распространялась не только на его
содержание, но и на словесное выражение. И вокруг
Септуагинты была создана, как водится, благочестивая
легенда, по которой царь Птолемей Филадельф в
середине 111 века до н. э. поручил перевести «Закон
Моисея» (Пятикнижие) на греческий язык 72
переводчикам, причем каждый отдельно переводили весь
текст. И когда за 72 дня переводчики («толковники»)
справились с делом, оказалось, что все 72 перевода
дословно совпали. Каждому, кто хотя бы
немного знаком с тем, что такое перевод с языка на язык,
ясно, что такое совпадение невозможно. Но для
религии чудо и есть совершение невозможного по
божьему соизволению. Это мифическое событие и
послужило основанием для официального провозглашения
1 Окот п'Битек. Африканские традиционные религии. М., 1979.
С. 80.
2 См.: Рижский М. И. История переводов Библии в России.
Новосибирск, 1978. С. 9—14.
21
Септуагинты (в переводе — «семьдесят») богорткро-
венной и свыше благословенной. Славянский перевод,
правда, не объявлялся богодухновенным ', но
практически приравнивался к таковому, и возражения
православных иерархов против перевода священного
писания на живой русский язык сводились в основном к
тому, что откровение при этом утратит ту
торжественность и таинственность, которая в восприятии
верующих неразрывно связывалась с церковнославянизмами.
Парадоксально, но факт: протестантские переводы
Библии на живые языки при всей их новизне
претендовали одновременно и на большую близость к
оригиналу, «подлинному слову божию». В частности,
протестантская Библия не включает так называемые
неканонические книги. Причиной такой «немилости»
является то обстоятельство, что эти книги не
сохранились на языке оригинала — древнееврейском,
а переведены с перевода. Но если оба более
давние направления христианства все же с
соответствующим примечанием включают неканонические книги в
библейский свод (ведь все же в «богодухновенной»
Септуагинте они есть), то протестанты поступают
решительнее: вовсе выбрасывают их из своей Библии.
Они полагают, что отсутствие этих книг на языке
оригинала делает их сомнительными с точки зрения
достоверности, и, кроме того, двойной перевод (если даже
предположить, что эти книги в свое время
существовали, но затем были утрачены) уводит читателя от
подлинного божественного откровения намного дальше,
чем перевод однократный. Таким образом,
протестантский подход к откровению противоречив:
осовременив писание его переводом на живой язык, религи-
1 См.: Рижский М. И. История переводов Библии в России.
С. 138.
22
озные реформаторы как бы поворачиваются к
истокам веры. Но ведь и перевод на живой язык не
тождествен оригиналу и никак в этом отношении не
превосходит традиционного перевода на латынь. Суть,
очевидно, не в этом, а в том, что Реформация, стремясь
сделать священное писание доступным всем людям,
приближает его к ним, ликвидирует то препятствие,
которое лежит между верующим и божественным
словом в виде непонятного языка. Заодно
неканонические книги приравниваются к священному преданию,
решительное отрицание которого было одним из
главных пунктов реформационного движения.
В истории религий подобное случалось
неоднократно, если не всегда. При возникновении новых
конфессий прослеживается явное изменение догматики и
культа, но типичным является обоснование этого
восстановлением их первоначального, «древлего» вида,
якобы искаженного последующими наслоениями.
Протестанты обвиняли в подобном искажении римско-
католическую церковь и считали, что они сами гораздо
ближе стоят к первоначальному христианству и даже
к ветхозаветному откровению. Сходные обвинения
выдвигали старообрядцы по отношению к
«никонианам», пуритане в адрес епископальной церкви и так
далее. Вс всех подобных вероисповедных конфликтах
неизменно фигурирует «подлинное», «исконное»
божественное откровение, и каждая конфессия именно
себя объявляет его носителем и хранителем,
претендует на единственно верное его понимание и
истолкование. Такое же отношение у ислама к
«старшим» религиям. Коран вовсе не отрицает Библии.
Согласно Корану, и иудеи, и христиане верят в того
же бога, что и мусульмане. В свое время, дескать,
бог посылал им своих посланников — Моисея (Мусу)
и Иисуса (Ису), несших слово божие. Но люди исказили
23
и забыли то, чему они учили. Тогда Аллах и направил
людям Мухаммеда, своего последнего пророка с
божьим словом — Кораном. Иудаисты и христиане,
хотя и причисляются к «неверным», именуются в исламе
ахль аль-китаб — «люди писания»1. Раннее
христианство точно таким же способом ищет и находит
свои догматические истоки в Ветхом завете: указывает
в нем пророчества о будущем рождении Христа в
роде царя Давида, а свое священное писание под
примечательным обозначением Новый завет
присоединяет к традиционному Ветхому как его
продолжение.
По христианскому учению, то «спасительное», что
содержится в Ветхом завете, в наиболее совершенном
виде выразил Христос. Как обычно, церковь тут
отбирает из предшествующего писания все, что
подтверждает ее догматы, и отбрасывает все, что с ними не
согласуется. Как сказано у апостола Павла, «бог,
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне,
которого поставил наследником всего, чрез которого
и веки сотворил» (Евр.1:1—2). При полнейшем
отсутствии того, что позднее стало называться
источниковедением и текстологией, само формирование состава
священного писания определялось и направлялось
насущными земными нуждами религиозной организации,
озабоченной закреплением своего влияния на людей.
Какое именно писание считать подлинным,
исконным, неповрежденным откровением, какое ложным,
а какое не совсем истинным? Не только при
возникновении новых религий, но и долгое время спустя
оказывалось, что верующие и духовенство пользовались
весьма многими имевшими хождение источниками,
1 См.: Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 5.
24
часто не согласуемыми друг с другом и вносившими
разброд. Однако проходили века и века, пока путем
отбора и отбрасывания складывался официальный
канон священного писания, требовавший для своего
всеобщего признания специального решения высшей
вероучительной инстанции.
Так, в иудаизме Пятикнижие составляется на
протяжении пятисот лет — с 10—9 веков до н. э. по 444 г.
до н. э., когда Эзра (Ездра) обнародовал все пять
книг Торы. Остальная часть Танаха подвергается
редактированию, кодификации и канонизации еще
примерно столько же времени, и только в конце I века н. э.
Ветхий завет принимается в известном нам виде,
признанном и в христианстве. Выходит, только на
окончательное формирование Танаха ушло ни много ни
мало — тысяча лет!
Канон Нового завета служил предметом
обсуждения на нескольких вселенских соборах. На Никейском
соборе 325 г. были отобраны и утверждены в
качестве «богодухновенных» четыре евангелия — Марка,
Матфея, Луки и Иоанна, отобранные, как передают, из
примерно сорока представленных соборным отцам
евангелий. Миф влечет за собой миф, мифология
обладает способностью к самовоспроизведению. И к
евангельскому мифу о Христе вполне органично
присоединяется миф о «пре» на Никейском соборе.
Исступленно препиравшиеся и проклинавшие друг друга
епископы никак не могли прийти к единому мнению
об истинных и неистинных евангелиях. Посему решено
было предоставить решение вопроса божьему чуду.
Все книги сложили перед алтарем и помолились о
том, чтобы ненастоящие, человеком написанные книги
остались лежать под ним, а настоящие, самим богом
дарованные вспрыгнули на алтарь господень. Так оно и
случилось. Указанные четыре евангелия вспрыгнули на
25
стол и сделались единственно подлинными
источниками христианского вероучения '. Правда, как
выяснилось, и они в сотнях пунктов противоречат друг другу,
но, по крайней мере, с какого-то момента образуют
нечто единое и целостное. Весь же новозаветный
канон, по официальной церковной версии, был
окончательно утвержден на Лаодикейском соборе 364 г., хотя
на самом деле споры о его составе продолжались и
позже. Многочисленные новозаветные писания, не
вошедшие в канон, были объявлены апокрифами, т. е.
ненастоящими, подложными, и беспощадно
искоренялись.
Вопрос об исконности и подлинности откровения
оказывается достаточно сложным и запутанным: к
чисто текстологическим проблемам добавляется
сознательно совершаемая мистификация. Каждая
конфессия, пользующаяся данным священным писанием,
упорно стоит на своем и считает именно свое мнение об
откровении единственно правильным. «Слово божие»
доходит до верующих, многократно и многообразно
преломившись через века, народы, страны и языки.
Единственно возможным выходом из создавшегося
положения для каждой сложившейся религиозной
организации является кодификация священного
писания, т. е. авторитарное решение о том, какие
именно части откровения, на каком языке и в какой
редакции считать приемлемыми или обязательными. На
какое-то время устанавливается некоторое единообразие,
затем нарушаемое очередной ересью, и если ее не
удается подавить, как это, например, произошло с
лютеранством, то она превращается в новое
вероучение с несколько или значительно иным отношением
к откровению.
См.: Геккель Э. Мировые загадки. M., 1935. С. 346.
26
Все происходящее в этой сфере, если разобраться
по существу, оказывается вызванным и определяется
вполне земными причинами и интересами. До поры
до времени все экономические, политические и
идеологические интересы людей в их столкновении друг
с другом облекались в религиозные одежды. А это
значит, что каждый раз обоснование того или иного
требования или действия ищется и отыскивается в
божественном откровении. Противоречия тут никого
не смущали, ибо каждый находил в писании то, что
нужно именно ему, его же оппонент в том же
писании находил доводы в свою пользу и тем же
оружием опровергал противника. Говоря словами
баснописца, «тому в истории мы тьму примеров сыщем». Не
говоря уже о многочисленных народных движениях
средних веков, каждое из которых выражало свои
требования в религиозной, т. е. заимствованной из
священного писания, форме, даже, скажем,
английская буржуазная революция XVII века протекает под
религиозными знаменами, и проповедь протестантов-
пуритан переполнена библейскими образами,
сюжетами, цитатами и намеками. И только Великая
французская революция XVIII века впервые в истории
обходится без религиозных лозунгов, чему в немалой
степени способствовала активная и уничтожающая
критика французскими просветителями-атеистами
содержания и противоречий священного писания.
Вырисовывается, стало быть, типичная для истории
религии картина. Претендуя на высшее отвлечение от
всего земного, возлетая, по выражению Пушкина, «во
области заочны», божественное откровение всеми
своими корнями, происхождением и сутью и, главное,
своим применением вытекает из земных условий и
интересов, связано с ними специфической,
неоднозначной, но вполне познаваемой и прослеживаемой
связью.
Эта связь уже давно привлекала внимание
мыслящих людей. Совсем не просто было преодолеть
веками воспитанное отношение к откровению, как к
чему-то сверхъестественному и сверхчеловеческому,
несомненному и неприкосновенному. Но сначала робко
и с оглядкой, а затем все смелее и решительнее,
несмотря на яростное сопротивление церкви,
разворачивается неотъемлемая от истории свободомыслия и
атеизма критика священного писания — Библии,
Корана и других священных книг. Тайна откровения в конце
концов перестает быть тайной. Исследовательский,
аналитический подход к откровению, выдаваемому за
божественное, отличает скептиков, вольнодумцев,
свободомыслящих и прокладывает путь к атеизму.
Богословы различают два вида божественного
откровения — естественное и сверхъестественное.
Естественное откровение, как следует из самого его
названия, содержится в самом естестве, т. е. природе,
которая сотворена и руководима богом и, стало быть,
свидетельствует о своем творце и владыке. Однако при
рассмотрении естественного откровения человек
предоставлен своему естественному разуму, тоже
исходящему от бога, но отягощенному грехом и
ограниченному. Поэтому, хотя на представлении о
естественном откровении базируются ныне многочисленные
попытки церковных авторитетов привлечь данные
современных естественных наук для апологетических
целей, естественному откровению противопоставляется
откровение сверхъестественное. Именно в нем бог
самолично изъявляет свою волю и высшие истины,
не нуждаясь для этого ни в каких посредниках в виде
сотворенных вещей. Сверхъестественное откровение,
выраженное в священном писании — а для православия
и католицизма и в священном предании,—
неизмеримо выше откровения естественного^ котором чело-
28
век может, самое большее, нащупывать, искать свой
путь к богу, без всякой гарантии его действительно
найти. Эту гарантию дает только слово божие.
Таким образом, и здесь решающую роль играет
слово. Уже цитировавшееся начало Евангелия от
Иоанна, соединившее в себе неоплатоническое
представление о Логосе с религиозным мифом о Христе,
вполне может быть поставлено в начале любого
разговора о божественном откровении: «В начале было
слово, и слово было у бога, и слово было бог. Оно
было в начале у бога. Все через него начало быть, и
без него ничто не начало быть, что начало быть»
(Ин.1:1— 3).
Это место из Евангелия от Иоанна, породившее
многочисленные толкования и исследования, имеет
прямое отношение к соотношению двух видов
откровения. Гиперболизация и мистификация слова
достигает здесь своей крайней степени. Слово было,
оказывается, у бога, оно само есть бог, без него ничто не
могло возникнуть. Надо, впрочем, подчеркнуть, что
греческий Логос — это не только слово, но и мысль,
смысл, понятие и тому подобное. Но при всем при
том божественное слово ставится раньше и выше всего
того, что словом обозначается. Оно само обладает
высшей силой и могуществом. Даже божественное
творение означает, что мир был изглаголен, изречен
богом. Но раз так, то, конечно, божественное
слово, выраженное в откровении, по своей значимости
и ценности неизмеримо превосходит все тварное,
сотворенное, природное, естественное. И поэтому
сверхъестественное откровение религиозной апологетикой
ставится во главу угла, естественное же откровение
оттесняется на второй план.
Таким образом, в богословском учении об
откровении как нельзя более ярко проявляется известное
29
издавна родство идеализма и религии. Платоновское
учение об идеях, существующих изначально и
порождающих все вещи, преломившись затем через
доктрину Филона о логосе, как посреднике между миром
и богом, порождает в раннем христианстве
закрепившееся затем представление о божественном слове.
Впрочем, надо отметить, что и в иудейском Ветхом
завете мир тоже возникает по слову бога, что
подчеркивается выражением: «и сказал бог» (Быт. 1:3,6,9,
11,14,20). Если идеализм — это утонченная религия, то
религия — это упрощенный идеализм.
Совершающееся в религиозно-философском
сознании искажение действительной роли языка и речи
в человеческой жизни и деятельности,— а роль эта
никак не может быть преуменьшена,— заключается в
том, что, как и в любом превратном отражении,
произвольно меняются местами причина и следствие,
первичное и вторичное, главное и производное.
Превосходство божественного слова над его же
произведениями в предметной форме и выражено в
утверждении примата сверхъестественного откровения над
естественным. Более того, христианские апологеты
говорят, что истинной является только религия,
основанная на сверхъестественном откровении, т. е. на
самоличном изъявлении богом своей воли, религии же,
основанные на естественном откровении,— это
язычество, в котором, дескать, вместо поклонения богу,
создавшему природу, совершается поклонение самой
природе и ее силам.
Само понятие сверхъестественного, широко
используемое в религиозном лексиконе и особенно в
апологетике, основано на противопоставлении тварного и
божественного, а в переводе на философский язык —
явления и сущности. Возникшее при этом понятие
сверхъестественного (потустороннего, трансцендент-
30
ного) двойственно. С одной стороны, оно
принципиально и абсолютно непостижимо человеческим разумом.
Сверхъестественное — это тем самым и
сверхразумное. Но, с другой стороны, всякая религия предлагает
своим последователям, так сказать, «царский путь»
приобщения к этой потусторонности, путь слепой и
нерассуждающей веры, где разум вообще отсутствует
или целиком подчинен вере. Отсюда и возникает
представление об «откровении без разума», особенно часто
применяемое в католической апологетике. В
сверхъестественном откровении бог сообщает, следовательно,
нечто такое, что невозможно уразуметь, понять,
постигнуть, но что необходимо беспрекословно принять,
усвоить, сделать своим сокровенным достоянием. Нас
и нашего спасения ради необходимо в божественных
делах до конца и без остатка подчинить свой разум,
волю и жизнь сверхъестественному авторитету и
власти.
Это добровольное (а иногда и вовсе не
добровольное) подчинение всего сознания и самосознания
человека чему-то сверхразумному, сверхсознательному,
супрарациональному или иррациональному приводит,
по крайней мере, к двум важным следствиям.
Во-первых, в понятии и доктрине
сверхъестественного откровения можно при сколь-нибудь
пристальном рассмотрении обнаружить доведенную до крайних
пределов утонченности апологию рабства, несвободы,
абсолютной зависимости человека, его жизни и духа
от высшего начала. Исторически возможно проследить
(и это во многом уже сделано), каким именно
образом реальная власть и могущество земного
властителя, подвергнувшись многократному искажению и
гиперболизации, получают в образе
персонифицированного бога свое религиозное выражение. Обычное
и привычное обозначение человека как «раба божия»
31
имеет отнюдь не метафорический смысл.
Самоуничижение всячески проповедуется религией, именно в
оправдании и возвеличивании рабства она реализует свою
основную функцию духовной узды, служения силам
насилия и угнетения. Но сделать человека рабом или
слугою божьим можно лишь смирив, укротив, обуздав
его свободный разум. Это и проделывается с большим
или меньшим успехом с помощью сверхъестественного
откровения и выведения его из-под критики.
Во-вторых, откровение свыше, будучи выведено из
сферы свободного разума, неизбежно вытесняется
в сферу эмоциональных переживаний или, как принято
говорить, из головы в сердце. В религиозном сознании
стихийно-эмоциональное начало преобладает над
сознательно-рациональным, что отнюдь не отрицают, а,
наоборот, всячески подчеркивают священники и
богословы. Именно поэтому религия существует как
«непосредственная, т. е. эмоциональная форма отношения
людей к господствующим над ними чуждым силам» '.
Эмоции превозмогают разум в силу того, что
Фейербах называл «супранатуралистическим желанием»,
т. е. желанием, осуществление которого превосходит
силы человека и, значит, возлагается на бога,
например, стремление к бессмертию. Теоретическое,
рефлективное отношение уступает место душевному
состоянию, страстно жаждущему того, что разумом
доказано никак быть не может, но что религиозная
вера внушает человеку помимо его разума, т. е. с
помощью сверхъестественного и сверхразумного
божественного откровения.
Известно, что без эмоции немыслим и
познавательный процесс, невозможно живое искание истины.
Но, скажем, в научном мышлении проясняющий ра-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 329.
32
зум все же в конечном счете доминирует над часто
сбивающими с правильного пути эмоциями. Однако
эмоции сопровождают и искаженное, превратное
сознание, притом в религии в такой степени, что, одержав
верх над рациональными соображениями, они
полностью поворачивают духовный мир человека к
иллюзорным, ложным целям и ценностям. Отсюда и
воздействие религии на эмоциональный мир
человека разными сильнодействующими средствами,
включая иллюзорную компенсацию страха смерти.
«Отнимите у людей страх перед смертью, и я гроша не
дам за вашего бога»,— восклицал основатель
протестантизма М. Лютер. Где же почерпнуть надежду
на бессмертие и спасение души? А все там же —
в сверхъестественном откровении. «Если нельзя, но
очень хочется, то можно»,— гласит шутливая максима.
Но и в шутке есть большая доля истины. Нельзя жить
вечно, но очень хочется. А религия тут как тут, она
идет навстречу этому желанию. Уверуй, раб божий, без
всяких доказательств, превозмоги свой жалкий и
ограниченный разум, доверься божественному
откровению, имей веру — и душа твоя станет бессмертной.
Сверхъестественное откровение, его содержание
и проповедь вполне вписываются в ту специфическую
особенность религиозного сознания, которую можно
обозначить как фидеизм. Само слово «фидеизм»
происходит от латинского fides, что означает «вера». Это
не что иное, как примат веры над рациональным
мышлением, а иногда — даже над чувственным
восприятием. То, что «истины веры» недоступны разуму, мы
уже видели. Интересно, кроме того, что во имя слепой
веры религия не только призывает, но просто-таки
обязывает не верить своим глазам, да и прочим
органам чувств. Так, церковь настаивает на том, что в
обряде причащения святые дары — хлеб и вино,— хотя
2 Г. А. Габинский
33
по видимости не меняют своих свойств, т. е. хлеб
остается хлебом, а вино вином, но на самом деле
чудесным образом превращаются в тело и в кровь
Христовы. Самое примечательное в этом, что церковь
категорически отказывается толковать это
превращение символически или метафорически, но обязывает
считать, что «истинно, действительно и существенно
хлеб бывает самым истинным телом господним, а
вино самою кровию господнею», присовокупляя при
этом, что «сего постичь нельзя никому, кроме бога» \
остается, стало быть, только верить.
Религиозная убежденность вызывается и
поддерживается не знанием, размышлением, доказательством и
даже не чувственной очевидностью, а, как уже было
сказано, «супранатуралистическим желанием». Оно же,
в свою очередь, внушается путем постоянного,
всестороннего и массированного повторения. Принятие
откровенной «спасительной истины» достигается,
следовательно, ее интенсивным переживанием,
эмоциональной наполненностью. На уровне общения действует
перенятие откровенных истин от других, по
горизонтали — от единоверцев-мирян, по вертикали — от
священнослужителей всех рангов.
Конечно, вера, как особое состояние духа, имеет
место не только в религии, но именно в религии
и нигде больше это вера в «невидимое и
непостижимое», т. е. в нечто такое, что не может быть ни
воспринято, ни постигнуто, ибо является «тайною, в
боге сокровенной». Иными словами, в религии мы имеем
дело с верой в сверхъестественное, содержание и
объекты которой даны в сверхъестественном же
откровении.
1 Пространный христианский катихизис Православныя кафоли-
ческия восточныя Церкви. С. 87.
34
Известно определение, данное фидеизму В. И.
Лениным: «Фидеизм есть учение, ставящее веру на место
знания или вообще отводящее известное значение
вере» 1. В этом определении отсутствует эпитет
«религиозная» к слову «вера», но история работы Ленина над
книгой «Материализм и эмпириокритицизм»
свидетельствует, что он употреблял слова «фидеизм» и
«поповщина» как синонимы. Тем не менее
получается, что фидеист — не только тот, кто ставит веру на
место знания, но и тот, кто вообще отводит известное
значение или место вере. И за пределами собственно
религии может сложиться и на самом деле
складывается ситуация, когда верою злоупотребляют. Вера
представляет собою весьма подходящее поле для
подобного злоупотребления, так как включает
принятие за истину того, что не очевидно или не доказано.
Превращение научной по своему замыслу идеологии
в подобие вероучения неизбежно влечет за собой
катехизическое ее восприятие, мертвое
догматическое единство навязываемых сверху мнений. И, как
неизбежное следствие или аспект всего этого,—
отношение к первоисточникам этой идеологии, как к
священному писанию, как к откровению. При таком
отношении мы, в сущности, не выходим за пределы
религиозного способа мышления.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 10.
О КРИТЕРИЯХ
ОТКРОВЕНИЯ
ш
Каждая религия
претендует на то, что
именно она есть единственно
правильная и
спасительная, есть
божественное откровение,
всякая же иная —
изобретение человеческое. В
свое время, например,
христианские богословы
всех исповеданий
дружно обрушились на Г. Э.
Лессинга за изложенную
в его драме «Натан
мудрый» притчу о трех
перстнях, согласно
которой одинаково ценны
и истинны и
христианство, и ислам, и
иудаизм. А если этот
перечень, предположим,
распространить на буддизм,
индуизм, даосизм,
синтоизм и так далее?
Несмотря на
встречавшееся неоднократно
стремление отдельных
людей синтезировать все
известные им религии,
создать какое-то единое
и единственное
вероучение, которое было
бы приемлемо в равной
степени для всех
принадлежащих к роду
людскому, попытки эти не удавались и встречали
активный отпор. И наиболее типичным оставалось
поведение, направленное на фанатическое отстаивание своей
собственной религии, своего вероучения и культа, на
его возвышение над всеми остальными.
Разумеется, это не могло не коснуться и вопроса
о божественном откровении: в религиозной
апологетике вырабатываются какие-то, пусть и не для всех
убедительные, но все-таки доводы в пользу того, что
именно священное писание данной религии истинно
и божественно. Иначе говоря, речь идет о критериях,
признаках, чертах, по которым можно было отличить
«истинное» откровение от всех иных учений, тоже
претендующих на то, чтобы считаться откровением.
Покуда религиозное сознание вращается в рамках
своей собственной конфессии, не сталкиваясь с
другими, вопрос о признаках «истинного» откровения
вообще не возникает, и в полной мере действует обычное
внушение, сложившееся общественное мнение и
воздействие. Но как только данное вероучение с
расширением социальных контактов сталкивается с другим
(а это означает, что вступают в общение верующие
разных религий или исповеданий), вопрос о
преимуществах именно данного вероучения над остальными
неизбежно возникает и должен безотлагательно
решаться. Так возникает религиозная апологетика,
назначение которой — отстаивание, защита, обоснование
своей веры и, следовательно, критика веры иной.
Необходимой составной частью апологетики является,
конечно, учение о божественном откровении,
относительно которого необходимо доказать (или, по крайней
мере, убедить), что только оно истинно и спасительно,
остальные же ложны и несостоятельны. Критикуя
буржуазных экономистов, К. Маркс говорит, что они
«похожи на теологов, которые... устанавливают два
37
рода религий. Всякая чужая религия является
выдумкой людей, тогда как их собственная религия есть
эманация бога» '.
Истинность и спасительность именно своего и
никакого иного откровения, в полном соответствии с
принципами превратного мышления, ставится в
зависимость от его божественности, то есть
сверхъестественности. Если откровение -действительно получено
свыше, то оно истинно, если же оно придумано,
составлено, сочинено людьми, то оно ложно. Даже речи
не идет о сопоставлении «истин» откровения с
реальными вещами, с объективной действительностью, с
практикой. И как бы разные религии (или конфессии
одной и той же религии) ни отличались друг от друга,
в них всегда есть, так сказать, «нерастворимый
остаток» — все они исходят от сверхъестественного и
восходят к нему.
Когда после длительного периода, во время
которого церковь сама, монопольно толковала свое
священное писание, началась эпоха объективного,
научного изучения того, что выдавалось за божественное
откровение, закономерно явилась, вызрела и стала
реализовываться в исторических исследованиях мысль
о том, что божественное откровение христианства —
тоже творение человека, что его возникновение,
развертывание, содержание вполне могут быть раскрыты,
объяснены и проанализированы без обращения к
высшей силе, исходя только из земных причин и условий.
Тогда христианство перестает быть
привилегированной религией, оно приравнивается к другим
вероучениям. Это, конечно, вызвало бурные протесты церкви,
многочисленные дискуссии, анафемы и послания. Но
вытравить здравую мысль о земных источниках и сущ-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 142.
38
ности откровения, выдаваемого за божественное, было
уже нельзя. Справедливости ради стоит, впрочем,
отметить, что христианство взято здесь лишь в качестве
примера, и, скажем, по отношению к исламу
происходили сходные процессы, пусть и в несколько иной
форме.
Таким образом, если у Лессинга все три «религии
откровения» равноценны в том смысле, что каждая из
них может претендовать на владение божественной
истиной, то позднее в общем та же мысль о равенстве
всех религий обосновывается противоположным по
смыслу аргументом, а именно — об их земном
происхождении, смысле и назначении. Веротерпимость,
стало быть, может исходить из того, что все религии
истинны, но и из того, что все они ложны. Можно в связи
с этим вспомнить знаменитый атеистический трактат
«О трех обманщиках», где выражена вторая точка
зрения '.
Тем не менее в религиозной апологетике, несмотря
ни на что, до сих пор используются в общем те же
приемы, что и века тому назад.
Церковь и богословы исходят из того, что для
верующего нет никакой нужды убеждаться в истинности
своего откровения: он уже заранее относится к нему
с благоговением и понимает его в соответствии с
наставлениями церкви. Апологетические аргументы в
пользу откровения нужны только «людям, не знавшим
оного», т. е. новообращаемым, переходящим в
христианство из других конфессий, да и то отнюдь не всем,
ибо большинству достаточно одного лишь обряда
крещения. Значение религиозной апологетики
выросло в последние десятилетия еще и потому, что
изменился облик самого верующего, который в совре-
1 См.: Анонимные атеистические трактаты. М., 1969.
39
менных условиях, как правило, отнюдь не склонен
отводить религии основное место в своей жизни, часто
сомневается в догматах, и к тому же нередко является
так называемым «непрактикующим» верующим,
причисляющим себя, скажем, к католикам или
протестантам сугубо формально. И призывы клерикалов меньше
мудрствовать в делах веры, а положиться на тайну и
авторитет, находят все меньше откликов. Следует
также учесть возрастание роли науки в современную
эпоху, превращение ее в непосредственную
производительную силу, что неизбежно ведет к усилению
влияния научного мировоззрения, несовместимого
с мировоззрением религиозным.
И, наконец,— последнее по счету, но не последнее
по значению,— проповедуемое религией
божественное откровение уже давно подвергается с разных
сторон такой сокрушительной критике, что это делается
достоянием не только богословских, но и широких
читательских, слушательских и зрительских кругов.
Чем сильнее нынешние секуляризаторские влияния,
тем больше внимания вынуждена уделять церковь
защите своей идеологии, т. е. все той же апологетике.
И хотя сейчас, на исходе двадцатого века,
религиозная апологетика пользуется самыми современными
средствами распространения и защиты своей
идеологии, тем не менее сама схема, парадигма, система и
содержание апологетики остаются в общем теми же,
что и века назад.
Объясняется это, помимо всего прочего, и
присущей любой религии консервативностью,
традиционностью, которая в применении к проблеме
откровения становится особенно явной. Для христианства,
например, всё сверхъестественное откровение дано
людям в полном, завершенном, окончательном виде
уже около двух тысяч лет тому назад. Но если так, то
40
и выработанные церковью методы и средства защиты
своего учения тоже должны в своей сути сохраняться
достаточно долго. И если ретроспективно идти от
нынешних христианских апологетов до апологетов
первых веков христианства — Юстина, Татиана, Тертул-
лиана, Климента, Оригена, Августина и прочих,— то
можно вполне выявить упомянутую модель,
парадигму, инвариант религиозной апологетики и прежде
всего — в той части ее, которая содержит
рассчитанные на разумное понимание доводы в пользу
истинности и спасительности признаваемого и
авторизованного церковью божественного сверхъестественного
и сверхразумного откровения*
Эти апологетические доводы в богословии
принято называть признаками сверхъестественного
откровения. По этим признакам,— учит церковь,— можно
отличить истинное слово божие от людских
измышлений, истинное, настоящее, действительное
откровение от всех других учений, лишь выдаваемых за
откровение, но не являющихся* оным.
Признаки сверхъестественного откровения
традиционно разделяются на внутренние и внешние.
К внутренним признакам божественного
откровения богословы относят те его черты, которые
представляют якобы человеческому уму и сердцу без
всякого внешнего побуждения или руководства, в
результате, так сказать, неодолимого внутреннего влечения
и склонности человека к спасению души. При этом
церковь исходит из произвольного допущения о наличии
в душе человека «божественной искры». Еще ранний
христианский апологет Тертуллиан в сочинении под
характерным названием «О свидетельстве души»
советует язычникам вслушаться в голос своего сердца,
которое им покажет, что язычество ложно, а истинное
откровение божие дано через Христа. Это было во вто-
41
ром веке нашей эры, когда христианство только что
появилось и начинало бороться за свое влияние.
Но и в двадцатом веке, оказывается, подобные же
призывы продолжают раздаваться. Так, католический
автор П. Руссело разработал концепцию «глаз веры»:
«Как для зрения требуются глаза... так и для веры надо
иметь ту духовную симпатию к объекту веры,
которую мы называем сверхъестественною благодатью
веры» '. Насколько это расположение можно считать
внутренним, сразу же рождает сомнение, ибо,
оказывается, и оно вызвано свыше, вложено в нас богом,
а вовсе не возникает из глубины субъекта. Выходит,
что апологетические аргументы, привлекаемые для
обоснования веры, предполагают заранее данное
расположение к богу, т. е. ту же веру. Всё замыкается в
порочном круге: вера в сверхъестественное
откровение обосновывается сверхъестественным же
авторитетом. Считать человека изначально, так сказать, «от
природы» предрасположенным к религии и даже
конкретнее — к вере в Христа,— это, конечно, вполне
произвольное допущение, никак не
подтверждающееся ни фактами, ни историей, ни наукой. Именно
поэтому все доводы церковников, если в них
непредубежденно разобраться, в конечном счете не
являются собственно аргументами, так как сводятся к
повторению и внушению одного и того же. Логическое
обоснование уступает место психологическому
механизму внушения. Убедить, как известно, можно,
воздействуя не только на разум или здравый смысл, но
и на эмоции, подсознание, инстинкты, т. е. применив
внелогические средства. И если задуматься над тем,
чем, например, отличается проповедь от лекции, то
1 Цит. по: Габинский Г. А. Критика христианской апологетики.
М., 1967. С. 77.
42
окажется, что именно таким внелогическим
убеждением, внушением, варьированным повторением в
сущности одного и того же.
«Капля долбит камень не силой, но частым
падением»,— гласит древняя пословица. В религиозной
пропаганде главную роль играет не сила и весомость
приводимых доводов, а их частое воздействие на
определенные струны человеческой души. Если
сомнительную или даже заведомо ложную мысль повторять
многократно, настойчиво, упорно и при этом не
обращать внимания на сомнения и возражения, оградиться
от всякой критики, то в конце концов эту
вдалбливаемую мысль (лозунг, призыв, максиму, стереотип)
начнут воспринимать как истинную, как не требующую
доказательства, как нечто само собой разумеющееся.
И это, кстати, применяется не только в религии, но
и везде, где вера ставится над разумом.
«Иная вера, как скала, не сокрушит ее хула. Не
сокрушит? Конечно, нет: ведь на хулу введен запрет».
Эта миниатюра поэта Игоря Тарабукина достаточно
метко указывает на способ введения в умы людей
утверждения о врожденной «искре божией»,
благодаря которой, дескать, человек может убедиться
в истинности всего, что содержится в
сверхъестественном откровении.
Каковы же «внутренние признаки» истинности
отстаиваемого и проповедуемого церковью
откровения? И насколько они убедительны для
непредубежденного взгляда?
Различные христианские катехизисы,
предназначенные для изучения «закона божьего» мирянами,
а также руководства по апологетике для духовных
учебных заведений обычно указывают несколько таких
признаков.
Так, катихизис митрополита Филарета, выражаю-
43
щий официальную точку зрения православия, в.
качестве внутренних признаков божественного откровения
указывает три: «высота сего учения,
свидетельствующая, что оно не могло быть изобретено разумом
человеческим», затем «чистота сего учения, показывающая,
что оно произошло от чистейшего ума божия», и,
наконец, «могущественное действование сего учения на
сердца человеческие, свойственное только божией
силе»1. При этом первые два признака никак не
объясняются и не комментируются, третий же признак
снабжен одним примером, о котором речь впереди. Так
что в поисках смысла указанных критериев приходится
обращаться к пособиям по христианской апологетике.
Что имеется в виду под «высотою сего учения»?
«Высоту», очевидно, можно понимать, по крайней мере,
в двух смыслах: познавательном и нравственном. Если
в первом смысле это означает, что божественные
«истины» выше человеческого разума, т. е. они
сверхрациональны, ибо, как уже говорилось,
сверхъестественны, то, конечно, человек своими
интеллектуальными силами не мог до них дойти, и, следовательно,
«высота сего учения» означает его непостижимость,
но в то же время и высшую значимость для спасения.
Вряд ли это достаточно убедительно. При подлинно
научном, историческом подходе к священным книгам
и содержащемуся в них учению выясняется, что
религия, как и любая другая форма общественного
сознания, имеет вполне естественное, земное,
человеческое происхождение. И проследить эволюцию
христианской доктрины от ее предшественников и истоков
до ее зрелой и бытующей доныне формы вполне
возможно. И только превратное мышление прибегает для
1 Пространный христианский катихизис Православныя
кафолическая восточныя Церкви. С. 19.
44
объяснения всего этого,— а, вернее, для ухода от
объяснения,— к сверхчеловеческому, божественному
началу.
Поэтому «высота сего учения» в смысле возведения
его к высшему источнику, как обычно, никак не
доказывается, а просто утверждается. Применяемый здесь
апологетический прием не выходит из характерного
для религии замкнутого круга: писание доказывается
через бога, а бог — через писание.
Что же касается «высоты сего учения» в
нравственном смысле, то с самого своего начала
христианство пытается возвысить проповедуемую им мораль
над язычеством. Как и в других подобных случаях,
свой моральный кодекс христианство возводит
непосредственно к богу, объявляя всякую иную
нравственность изобретением человеческим. Считать
христианскую мораль, включающую в себя, как известно,
ветхозаветный декалог («десять заповедей
господних») и новозаветную проповедь Христа («заповеди
блаженства»), нравственностью, далеко оставляющей
внизу все иные моральные системы, тоже нет никаких
реальных исторических оснований. «Довлеет дневи
злоба его», и каждая эпоха, а в ней и каждый класс
имеет свою мораль. Каждая нравственная
нормативная система может считаться выше, прогрессивнее,
совершеннее другой, в зависимости от того, какое
место занимает пропагандирующий или
придерживающийся ее класс или формация в общем
прогрессивном развитии. Несомненно, что и христианская
мораль, включившая в себя нормы, характерные для
рабовладельческого общества, прогрессивнее, скажем,
нравственности первобытно-общинного строя. Но это
вовсе не значит, что она навсегда должна остаться
таковой, что она предназначена для всех времен и всех
людей. То, что в кодексе христианской морали имеются
45
общечеловеческие нормы и ценности, отрицать нельзя,
но вовсе не потому, что эти нормы якобы даны богом.
Как только преимущество того или иного учения
обосновывается его сверхъестественным происхождением,
любой разговор на эту тему превращается в
бессмысленный.
И считать христианскую нравственность высшей по
сравнению, скажем, с мусульманской, индуистской,
конфуцианской и буддистской, нет никаких оснований,
не говоря уже о морали светской, наличие и
распространение которой отрицать тоже Ие приходится.
Конечно, христианство считает, что «вне церкви несть
спасения», т. е. что подлинной моралью,
обеспечивающей спасение души, является только
проповедуемая церковью. Но это не более чем претензия, не
подкрепляемая убедительными доводами.
Так обстоит дело с «высотой сего учения». А как
насчет его «чистоты»? В катихизисе это никак не
разъясняется, так что и здесь приходится обращаться к
пособиям по апологетике.
Когда речь идет о чистоте, как о признаке
божественного откровения, то имеется в виду не точность
передачи «божественных истин», по поводу которой
ведется немало богословских споров, а об особой,
присущей якобы лишь христианству свободе его
откровения от всего, что, по понятию церкви, недостойно
бога '. А все, что недостойно бога, присуще,
разумеется, язычеству и нехристианским религиям, вернее,
всему тому, что они приписывают своим богам. Таким
образом, здесь предпринимается банальная
апологетическая попытка отстоять, внушить, навязать всё ту же
мысль о преимуществе христианского откровения
1 См.: Еп. Никодим и прот. Ц. Христов. Учебник по
апологетика (Основно богословие). София, 1943. С. 182.
46
перед всеми иными, которые, мол, нечисты,
загрязнены чем-то недостойным бога и потому даже не
заслуживают имени откровения. Особенно достается
при этом дохристианскому язычеству. Греки,
например, приписывали своим богам и коварство, и обман
и многие эротические похождения. Финикийцы и
карфагеняне практиковали человеческие жертвы своим
богам, индусы — храмовую проституцию.
Но ведь представление о том, что достойно, а что
недостойно бога, столь же исторично, как и все
человеческие представления. Антиисторичность подхода
апологетов к этому вопросу заключается в том, что
нравственные оценки, сформировавшиеся гораздо
позднее, применяются и к более ранним нормам,
обычаям и нравам, которые для своего времени были
обычными и достойными. То, что, скажем, считалось
священным и нравственным, достойным и почтенным
в каменном веке, переставало быть таковым в
бронзовом. Взять нормы и оценки одной эпохи, принять их
за неизменные и «чистые», а затем распространить
их на прошлые эпохи, а заодно — на будущие,— все
это означает догматизировать мораль, т. е. мыслить
антиисторически.
Так, человеческие жертвоприношения в свое время
были священным долгом и, как таковые,
воспринимались как нечто трагическое, но неизбежное. Но при
переходе к железному веку они уже осуждались, как
слишком жестокие и бесчеловечные и,
следовательно, недостойные богов, которым они приносились.
Речь шла, разумеется, о принесении в жертву не врага
в битве, а своего ближнего — сына или дочери, сестры
или брата. Промежуточное состояние общественного
мнения, когда такие жертвы еще практиковались, но
уже оценивались как нечто отрицательное, отразилось
в древнейших известных нам сказаниях, греческих и
47
еврейских, о принесении в жертву своих близких.
В одно и то же время, примерно в девятом веке до
нашей эры, древние авторы независимо друг от друга
сообщают нечто сходное: одни — об Агамемноне,
принесшем в жертву свою дочь Ифигению, и об Идо-
менее, вынужденном из-за неосмотрительно данной
священной клятвы принести в жертву Посейдону
своего сына; другие — о принесении Авраамом в жертву
богу сына Исаака и о кровавом обете Иеффая,
вознесшего на всесожжение свою единственную
дочь.
Но в эпоху составления и записи этих рассказов
еврейские и греческие писатели пытаются смягчить
жестокие предания своих предков: Идоменей,
оказывается, не имел в виду именно свое дитя, как и Иеф-
фай; Исаак в последний момент был пощажен богом,
как и Ифигения. Исходя из своего умонастроения и
морали, авторы этих смягченных вариантов больше
не одобряют кровавых обетов и жертв прошлых
поколений и наивно переселяют людей, живших, по
преданиям, за несколько веков до них, в свое время,
считая, что люди прежних веков — в общем те же, что
и они сами.
Известный нам факт, что взгляды, обычаи, оценки
и ценности меняются от эпохи к эпохе, вплоть до
прямо противоположных, религиозным сознанием не
учитывается и сегодня. Более того, апологетика упорно
считает, что божественное откровение именно в том
виде, как оно зафиксировано в каноне и одобрено
церковью, предназначено для всех времен, народов и
людей.
Христианство обвиняет языческие религии в том,
что они возводили преграду между народами и тем
самым, мол, показали, что они суть творение
отдельных народов, а не общего для всех единого бога. При
48
этом столь же антиисторически замалчивается,
игнорируется, упускается из виду то очевидное
обстоятельство, что, разрушив одну преграду, христианство не
замедлило возвести множество других. Для Христа
нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, но есть грешник и
праведник, христианин и язычник, раб, повинующийся
своему господину, мирянин и священник,
благочестивый и еретик. Насколько достойнее второе первого,
оценить, очевидно, затруднительно, а скорее всего и
невозможно.
Если выйти за пределы христианства, то,
например, в исламе, много вобравшем в своем священном
писании — Коране — из иудео-христианской Библии,
все же считается недостойным бога иметь детей, и
потому Иисус (Иса) считается пророком, человеком, а
отнюдь не сыном бога и не богом. Соответственно
этому характеризуется и Мария (Мариам), хотя
евангельское сказание о благовещении, т. е. о явлении
Гавриила (Джебраила) деве Марии и версия о том, что
Аллах вдохнул в ее чрево свой дух, после чего и
родился Иса, в Коране тоже имеется '. Но во всяком
случае молитвенное песнопение в честь богородицы
«Достойно есть», где она прославляется как «присно-
блаженная и пренепорочная», «без нетления бога слова
рождшая», с точки зрения правоверного
мусульманина содержит именно то, что, напротив, недостойно ни
ее самой, ни Аллаха.
Значит, попытка доказать «чистоту сего учения»
ссылкою на то, что в нем якобы нет ничего
недостойного бога, разбивается при первом же
непредубежденном рассмотрении самого понятия
достойного и недостойного, которое оказывается зыбким,
меняющимся, относительным, не общепринятым, ис-
1 См.: Васильев Л. С. История религий Востока. M., 1983. С. 120.
49
торически подвижным. Полагать, будто изложенные в
откровении нормы и оценки — даже если оставить в
стороне имеющиеся в нем очевидные противоречия —
вечны и неизменны, значит не считаться с реальным
ходом истории.
В процессе знакомства с ходом апологетических
рассуждений наталкиваешься на тот несколько
парадоксально выглядящий факт, что нравственность
ставится выше веры, так как божественное откровение
предлагается оценить через нравственные в своей сути
категории, включая «высоту» и «чистоту». Более того,
некоторые апологеты уверяют, что откровение всем
своим содержанием и назначением отвечает
«естественному нравственному чувству человека». Даже если
предположить, что такое чувство в самом деле
существует, они тем самым пренебрегают
историческими изменениями и относительностью этого чувства,
ибо предполагают, что оно и ныне, и присно, и во
веки веков одно и то же.
В какой-то степени, однако, можно согласиться с
тем, что «естественному нравственному чувству»
соответствуют моральные нормы, существующие хоть не
изначально и не вечно, но все же достаточно долго,
на протяжении многих веков. Это простые нормы,
составляющие так называемую общечеловеческую
нравственность, независимо от их реального воплощения в
жизнь. Подобный моральный кодекс провозглашен, в
частности, во второй скрижали «заповедей Моисеевых»
(библейского декалога): «Почитай твоего отца и
матерь твою», «не убивай», «не прелюбодействуй», «не
кради», «не произноси ложного свидетельства», не
пожелай «всего, что есть у ближнего твоего». И хотя
церковь эти заповеди возводит к непосредственному
откровению бога, не допуская даже мысли об их естест-
венноисторическом формировании, в них несомненно
50
содержится общечеловеческий, рациональный,
позитивный смысл.
Но можно ли, применив эти заповеди, считать,
пусть и с какими-то оговорками, что в священном
писании действительно нет ничего недостойного бога?
И что откровению, следовательно, присуща высшая
«чистота»? На этот счет уже с давних пор
высказывались вполне обоснованные сомнения, и нельзя
сказать, чтобы апологетика их развеяла.
Дело в том, что в Библии есть много мест, в
которых можно усмотреть очевидное нарушение
провозглашенных в ней же моральных заповедей, причем
совершается это нарушение по повелению и
позволению свыше. Таково, например, убийство трех тысяч
израильтян за поклонение золотому тельцу (Исх. 32:
27—28), а также многочисленные случаи поголовного
или частичного истребления завоевываемых народов:
васанцев (Чис. 30) и мадианитян Моисеем (Чис. 30),
жителей Иерихона и Гая Иисусом Навином (Нав. 6; 8),
амаликитян царем Саулом (1 Цар. 15), гессурян и
гирзеян «кротким» царем Давидом (1 Цар. 27; 2 Цар.
12) и т. д. Конечно, таковы были жестокие нравы и
законы тогдашней войны, но ведь в откровении все
это делается по повелению бона всемилостивого. Бог
повелевает казнить по принципу «глаз за глаз, зуб за
зуб» (Исх. 21:24), за намеренное умерщвление
ближнего (21:12, 14), за похищение и продажу
человека (16), за побои, нанесенные родителям, и даже
за злословие в их адрес (15, 17). Смерть полагается
также за нарушение субботнего отдыха, за
обнаруженную недевственность новобрачной, за поклонение
кумирам. Так обстоит дело с заповедью «не убивайг. Как
писал П. Гольбах, «откровение избранным
предполагает не благого, беспристрастного, справедливого
бога, а своенравного, капризного тирана, который
51
если и выказывает доброту и снисхождение к
некоторым из своих созданий, то ко всем другим
проявляет крайнюю жестокость» 1. Когда же говорят, что
подобная жестокость характерна, дескать, лишь для
Ветхого завета, в Новом же завете этого нет, то, во-
первых, надо помнить, что Ветхий завет тоже
почитается христианами в качестве руководства для
благочестивой и добродетельной жизни, а во-вторых, Новый
завет содержит ту же жестокость уже в своем
замысле: Христос, в сущности, приносится в жертву
своему отцу небесному, дабы умилостивить его. И это
превосходно заметил Б. Шоу: «Традиция кровавых
жертвоприношений, согласно которой можно
подкупить мстительного и разгневанного бога козлом
отпущения и отвратительно жестоким
жертвоприношением, сохраняется даже в Новом завете, где она
освящает пытку и предание смерти Иисуса римским
правителем Иерусалима, обожествляя это страшное дело
на манер Ноя, как средство, благодаря коему все мы
можем обманывать свою совесть, увиливать от
моральной ответственности и наш позор превращать в
радость...» 2
Здесь не место характеризовать все
апологетические приемы, к которым прибегает церковь, чтобы
защитить свое откровение от подобных упреков. Но один
из этих приемов следует все же упомянуть: это
аллегорическое толкование писания. Так, например,
рассказ об истреблении Саулом амаликитян
рекомендуется понимать как истребление «духовных сил зла»,
находящихся в нашем сердце. Сходным образом
интерпретируются и прочие многочисленные убийства,
1 Гольбах П. Письма к Евгении. Здравый смысл. М., 1956. С. 75.
2 Шоу Б. Чернокожая девушка в поисках бога. М., 1933.
С. 66—67.
52
совершаемые библейскими персонажами по велению
бога. Православный катихизис вводит даже понятие
«духовного убийства», куда относит соблазн и
совращение ближнего в неверие '. Ясно, однако, что это
весьма произвольная и неубедительная
интерпретация, становящаяся возможной только тогда, когда
священное писание читается и понимается не так, как
оно действительно написано и изложено, а, как
поучают апологеты, «согласно с изъяснением православ-
ныя церкви и святых отец» 2. Как хорошо доказано
научной библеистикой, когда Библия писалась и
составлялась, истребление, убийство и казни понимались не
в аллегорическо-метафорическом смысле, а в прямом,
буквальном. Библия — важнейший исторический
памятник, и в ней, несмотря на все несообразности,
отражены реальные события.
Так же обстоит дело и с седьмой заповедью — «не
прелюбодействуй». Если подходить к Библии как к
историко-литературному памятнику, то надо помнить, что
семейно-брачные отношения почти трехтысячелетней
давности, считавшиеся тогда вполне обычными и
освященными богом, никак не подлежат осуждению с
точки зрения гораздо более поздней морали. Ветхий завет
с большой откровенностью и непосредственностью
говорит о таких вещах, о которых, например, в
средние века или новое время публично говорить
считалось греховным и неприличным. Это вполне в духе
того времени, и с эротическими деталями мы
встречаемся не только в Библии, айв вавилоно-асси-
рийской, египетской и греческой мифологии. Но если
подходить к Библии как к «книге книг» и учебнику
1 Пространный христианский катихизис Православныя кафоли-
ческия восточныя Церкви. С. 150—151.
2 Там же. С. 19.
53
добродетельной жизни, то положение значительно
осложняется: ведь священное писание, согласно
религиозному толкованию, дает нравственные нормы,
годные для всех эпох и людей, одни и те же на всем
протяжении мировой истории.
Единобрачие, моногамный брак с точки зрения
такой якобы «вечной» морали считается единственно
нравственным и возможным, иначе остается весьма
неопределенным само понятие прелюбодеяния. В то
же время Ветхий завет отнюдь не считает грехом
наличие у патриарха Иакова двух жен — Лии и Рахили —
и двух наложниц, у царя Давида — двадцати жен, у
Соломона — семисот жен и трехсот наложниц, у его
сына Ровоама — восемнадцати жен и шестидесяти
наложниц.
Не способствуют, пожалуй, воспитанию
целомудрия и благочестия такие места Библии, как история
Иуды, вступившего в связь со своей снохой Фамарью
(Быт. 38:14—26), поступок царя Давида, соблазненного
красотой Вирсавии и пославшего на смерть ее мужа
Урию (2 Цар. 11:15), пикантная сцена с участием
Сусанны и старцев, или, скажем, весьма сомнительные
с точки зрения нравственной чистоты сходные истории
с Авраамом, выдававшим свою жену Сарру за сестру
(Быт. 12:11—19), и его сыном Исааком, точно так же
выдавшим за сестру свою жену Ревекку (Быт. 26:7—11).
Если присовокупить сюда сообщение о Лоте и его
дочерях (Быт. 19:30—38) и об Онане, умерщвленном
богом за свой грех, но давшем название известному
пороку, откровенно описанному в книге Бытие (38:7—
10), то неудивительно, что многие авторы
скептически относились к положительному нравственному
влиянию священного писания на верующих, а
некоторые заходили дальше, считая Библию книгой
аморальной.
54
Так, например, полагает Марк Твен: «Не было еще
протестантского мальчика или протестантской
девочки, чей ум Библия не загрязнила бы. Ни один
протестантский ребенок не останется чистым после
знакомства с Библией. А воспрепятствовать этому
знакомству нельзя... Во всех протестантских семьях
ежедневно и ежечасно Библия творит свое черное дело
распространения порока и грязных порочных мыслей
среди детей. Она совершает этой пагубной работы
больше, чем все другие грязные книги христианского
мира, вместе взятые,— и не просто больше, а в тысячу
раз больше... Библия оскверняет души всех
протестантских детей — всех, без единого исключения» '.
Писатель говорит о протестантизме, где Библия
является книгой для ежедневного чтения, но ведь
священным писанием она является для всех направлений
христианства, а в части Ветхого завета — и для
иудаизма. А за сто лет до М. Твена его
соотечественник Томас Пейн писал не менее резко: «Когда мы
читаем непристойные историйки, описания
сладострастных похождений, жестоких и мучительных
наказаний, неутолимой мстительности, которыми заполнено
более половины Библии, нам скорее следовало бы
назвать ее словом демона, а не словом божьим. Это
история безнравственности и злобы, послужившая
развращению и озверению человечества» 2.
Право же, если бы мы сейчас употребили такие
выражения, как Пейн и Твен (не говоря уже о Мелье,
Дидро, Гольбахе и Вольтере), нас немедленно и не
без оснований обвинили бы в оскорблении
религиозных чувств верующих. Может быть, эти писатели
слишком строги к Библии, чересчур ригористичны? Думает-
1 Твен М. Дневник Адама. С. 272.
2 Американские просветители. М., 1969. Т. 2. С. 163.
55
ся, нет, и это особенно ясно тем, кто читал Марка
Твена. Дело, очевидно, в другом.
Если Ветхий завет, как мы видели, достаточно
откровенен в описании эротических отношений, то его
авторов никак нельзя в этом обвинять: в их времена
это описание не считалось ни греховным, ни
неприличным, ни постыдным. По тем же соображениям мы
должны полностью оправдать и индийскую «Камасут-
ру», и «Искусство любви» Овидия. В Новом завете
проявляется более сдержанное и целомудренное
отношение к сексуальным вопросам, хотя, если
разобраться, сам миф и догмат о непорочном зачатии девы
Марии все-таки дает повод к неблагочестивым
сомнениям '. В европейской культуре последующих веков
можно проследить если не борьбу, то, по крайней
мере, сосуществование церковно-монашеского
аскетизма и рыцарски-плебейского гедонизма. Эпоха
Возрождения, как хорошо известно, характерна
подлинным взрывом интереса к плотскому началу, его
оправданием и воспеванием. В Новое время во всех
направлениях христианства, а под его влиянием и в
буржуазной светской морали вырабатывается обыкновение и
требование вообще умалчивать о проблемах пола.
Крайнее свое выражение эта фигура умолчания
находит в протестантском пуританстве, а позже и в более
секуляризированном виде — в так называемой
викторианской морали, филистерстве и мещанстве. Открыто
высказываемый интерес к сексуальной сфере
считается нездоровым, постыдным, греховным,
предосудительным. В нашем веке, особенно после Фрейда
и его многочисленных последователей, произошла
своеобразная реабилитация секса. Церковь, впрочем,
старается сохранить свое традиционное отношение к
См. об этом: Геикель Э. Мировые загадки. С. 355—359.
56
указанной сфере, лишь в силу необходимости вступая
в дискуссии и вынося свои вердикты по таким
вопросам, как применение противозачаточных средств,
разрешение абортов и т. д.
Неоднократно писалось, особенно в последние
годы, о том, что в нашей стране еще очень сильны
пережитки буржуазного пуританизма, выражающиеся в
фактической запретности сексуальной тематики для
нашей молодежи, что приводит к опасной
безграмотности молодых людей в этой сфере и наносит
существенный ущерб семейно-брачным отношениям.
Религиозный генезис и окрашенность подобного рода
предрассудков очевидны, равно как их мещанский
характер.
Все сказанное никак нельзя считать оправданием
библейских легенд и наставлений в этой интимной
области. Ведь получается, что в древнейшей части
иудео-христианского откровения эти вопросы
изложены вполне открыто, в христанском разделе —
приглушенно и боязливо, последующая же история
полового вопроса, хотя, как правило, связана с религией,
но протекает в сущности независимо от нее, так как
здесь действуют не надстроечно-моральные, а больше
базисно-социальные факторы.
Но это справедливо только в том случае, когда
Библия рассматривается в одном ряду с прочими
литературными произведениями, как творение
человеческого ума, а не как «глагол, исходящий из уст
господних». Именно так оценивает Ветхий завет в
интересующем нас плане Фридрих Энгельс. В своей
работе, посвященной первому поэту немецкого
пролетариата Георгу Веерту, он пишет:
«В чем Веерт был мастер, в чем он превосходил
Гейне (потому что был здоровее и искреннее) и в
немецкой литературе был превзойден только одним
57
Гёте, это в выражении естественной, здоровой
чувственности и плотской страсти... И для немецких
социалистов должен когда-нибудь наступить момент, когда
они открыто отбросят этот последний немецкий
филистерский предрассудок, ложную мещанскую
стыдливость, которая, впрочем, служит лишь прикрытием
для тайного сквернословия... Пора, наконец, по
крайней мере, немецким рабочим привыкнуть говорить
о том, чем они сами занимаются днем или ночью, о
естественных, необходимых и чрезвычайно
приятных вещах, так же непринужденно, как романские
народы, как Гомер и Платон, как Гораций и Ювенал,
как Ветхий завет (почеркнуто мною.— Г. Г.) и «Neue
Rheinische Zeitung» '.
Как бы ^лы ни судили о нравственности или
безнравственности соответствующих мест Библии, ясно, во
всяком случае, что говорить о «чистоте»
божественного откровения в этом аспекте не приходится. Тем
более не приходится эту так и не найденную в
откровении чистоту выдавать за доказательство его
происхождения от «чистейшего ума божия». Как верно
писал Л. Фейербах, «...содержание божественного
откровения имеет человеческое происхождение, так как оно
произошло не от бога, как бога, а от бога,
определяемого человеческим разумом, т. е. просто из
человеческого разума, человеческих потребностей» 2.
Кроме «высоты» и «чистоты», еще одним
внутренним признаком божественности откровения считается
«могущественное действование сего учения на сердца
человеческие, свойственное только божьей силе». На
вопрос, из чего можно видеть такое действие, катихи-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 5—6.
2 Фейербах Л. Избранные философские произведения. М.,
1955. Т. 2. С. 243.
58
зис отвечает: «Из того, что двенадцать апостолов,
взятые из людей бедных, неученых, низкого состояния,
сим учением победили и покорили Христу сильных,
мудрых, богатых, царей и царства» '. Очевидно,
имеется в виду история распространения христианства, его
превращение из гонимой церкви в церковь
торжествующую. Но ведь гонимой христианская церковь была
именно тогда, когда выражала интересы угнетенных
масс Римской империи, а торжествующей — когда
стала государственной, т. е. превратилась в
идеологическое оружие правящих классов и их власти. Победа
христианства над традиционной древнеримской
религией и над прочими языческими культами сомнений
не вызывает, хоть этот успех был не совсем
повсеместным и не таким уж мгновенным, так как ему
предшествовал религиозный синкретизм —
распространившееся поклонение, наряду с римско-эллински-
ми богами, богам довольно многих народов,
покоренных Римом или соседствовавших с ним. Несколько
позже, уже после падения Западной Римской империи,
возникшие на ее развалинах «варварские» государства
тоже становятся христианскими, так как уже достаточно
конституированная религия Христа оказывается как
нельзя более подходящей к формирующимся в
новых государствах классовым феодальным
отношениям, в то время как их прежние языческие культы
отражали отношения родоплеменные, доклассовые.
Если именно это имеется в виду под «покорением
Христу царей и царств», то возразить тут нечего.
Но от апостольских времен до Константина,
провозгласившего христианство официальной и единственной
религией империи, прошло триста лет, а до
1 Пространный христианский катихизис Православный
кафолически я восточныя Церкви. С. 20.
59
начала христианизации варваров — вдвое и втрое
больше. Поэтому приписать именно двенадцати
апостолам, современникам и ученикам Христа, подобные
«победу и покорение» можно только в
аллегорическом смысле, имея в виду распространение и
влияние того учения, которое они начали проповедовать.
Церковная традиция приписывает апостолам
распространение Христова учения по всему известному
тогда «кругу земному», при этом она не смущается
и не такими временными, а заодно и
пространственными промежутками. Достаточно вспомнить
содержащуюся в «Повести временных лет» и активно
пропагандировавшуюся легенду об «Андреевом
стоянии», т. е. о посещении апостолом Андреем
днепровских круч и даже новгородских мест — за девятьсот
лет до крещения Руси, которое он будто бы
предсказал, причем совершил это путешествие, так сказать,
мимоходом, по пути из Синопа в Рим, т. е.
проделав путь в пятьдесят раз длинее, чем расстояние от
Синопа до Рима. И хотя историки, в том числе
церковные, почти единогласно считали этот рассказ
чистейшей легендой, он тем не менее неоднократно
использовался русской церковью и самодержавием как
истинный. Как метко сказано в итальянской пословице, «Если
это и неправда, то придумано хорошо».
Так что если придерживаться исторической правды
и даже если принять аллегорический способ
выражения митрополита Филарета, то правильнее сказать,
что не «сие учение» покорило сильных, а, наоборот,
«сильные, мудрые и богатые» поставили это учение
себе на службу, обратили его себе на пользу. Так
что кто кого победил и покорил, это еще вопрос.
Пример есть не более, чем пример, пусть и
характерный. Главное же намерение апологетов — как
церковных, так и светских, как давнишних, так и ны-
60
нешних — заключается в том, чтобы убедить в
решающем и благотворном влиянии религии откровения на
людей, на общественную жизнь и человеческие нравы.
При этом, разумеется, роль религии
преувеличивается и приукрашивается. Ведь обычно приводимой
обойме заслуг церкви — письменность, архитектура,
проповедь богоподобия человека, миролюбия и любви к
ближнему — можно противопоставить такие не менее
известные факты «могущественного действования сего
учения», как крестовые походы, религиозные войны,
инквизиция, охота на ведьм, обскурантизм,
освящение рабства и угнетения. Воздействие? Да, несомненно.
Но какое именно воздействие? Вот здесь мнения давно
расходятся. Думается, было бы недиалектично
отделять «козлищ от агнцев», приписывать религиозному
влиянию однозначно негативный или позитивный,
прогрессивный или реакционный характер. Но хотя бы одно
видно даже невооруженным глазом: цель писания не
в том, чтобы учить людей мудрости, а в том, чтобы
внушить им повиновение. Это знал еще Спиноза
больше трехсот лет тому назад. Весь могучий арсенал
божественного откровения и построенного на нем
вероучения именно к этому, по сути, и сводится:
возвести реальное господство и власть обслуживаемого
церковью господствующего класса к
сверхъестественному источнику и авторитету и тем самым добиться
повиновения и послушания — не только за страх, но
и за совесть. Не говоря уже о том, что религия
оказывает свое воздействие на дела человеческие в
достаточно сложном комплексе экономических,
политических и прочих общественных факторов.
Именно в те времена, когда религия
монополизировала всю духовную жизнь, когда все движения
и веяния в этой области были окрашены в цвет
божественного откровения,— а это длилось многие века,—
61
«могущественное действование» откровенной религии
сказалось наиболее отчетливо. Об этом пишет, в
частности, Бертран Рассел: «...Чем сильнее были
религиозные чувства и глубже догматические верования в
течение того или иного периода истории, тем большей
жестокостью был отмечен этот период и тем хуже
оказывалось положение дел. В так называемые века
веры, когда люди действительно веровали в
христианскую религию во всей ее полноте, существовала
инквизиция с ее пытками; миллионы несчастных
женщин были сожжены на кострах как ведьмы; и не было
такого рода жестокости, которая не была бы пущена
в ход против всех слоев населения во имя религии» '.
Впрочем, не надо даже в применении к этой эпохе
придавать религии больше значения и влияния, нежели
она их реально имела. Пусть почти каждый шаг, каждое
действие не обходились без молитвы, крестного
знамения и ссылки на священное писание,— это было
не более чем внешний антураж, духовная санкция
вполне земных потребностей и интересов,
определяемых, конечно, не религией, а более
фундаментальными причинами и условиями.
Вряд ли, например, светских и духовных владык
б их непрекращающихся кровавых войнах когда-либо
останавливала евангельская проповедь непротивления
злу или заповедь «блаженны миротворцы». Ведь не
они служили Евангелию, а Евангелие им. Священное
писание настолько обширно и разнообразно, что из
него можно извлечь все, что угодно, в зависимости
от нужд им пользующихся.
В нынешней своей миротворческой деятельности
церковь опирается на соответствующие места своего
священного писания, отбирая то, что славит мир как
1 Рассел Б. Почему я не христианин. M., 1987. С. 110.
62
дар божий — от широко известного «перекуют мечи
свои на орала» (Ис. 2:4) до заповеди блаженства,
обещающей миротворцам, что они нарекутся сынами
божьими (Мф. 5:9). При этом, разумеется,
отбрасывается все то, что от имени божьего благословляет
и освящает войну — от описания ветхозаветных войн
в книгах Исход, Судей, Навина и прочих до
предупреждения Христа «Не думайте, что я пришел принести
мир на землю; не мир пришел я принести, но меч»
(Мф. 10:34). Да и вообще, если принять доктрину
«промысла божия», то ведь война тоже от бога и,
согласно откровению, является карой божьей за грехи
людей. Внимательно изучая всеобщую и церковную
историю, можно указать великое множество случаев,
сливающихся в одну впечатляющую картину: когда
это было нужно сильным мира сего, церковь
благословляла войну, порою духовенство даже само принимало
в ней участие. И откровение служило им безотказно.
Столь же безотказно служит оно и миротворческой
деятельности христианских конфессий.
Вот как описывает один из таких случаев Лион
Фейхтвангер:
«Архиепископ дон Мартин оживился, почувствовав,
что война по-настоящему недалека... Увидев, что его
помощник Родриго не разделяет общего
воодушевления, он принялся ласково увещевать каноника:
—...Сознаюсь тебе без стыда, что из всех истин,
изреченных спасителем, мне всегда дороже та,
которую передает Матфей: «Не думайте, что я пришел
принести мир на землю; не мир пришел я принести,
но меч...»
Это громогласное напоминание о мече до самого
сердца пронзило дона Родриго... Дону Родриго ничего
бы не стоило противопоставить этому евангельскому
речению, где восхваляется война, множество других,
63
благостно и величаво славящих мир. Однако господу
богу угодно было облечь сердце архиепископа в
железную броню, так что он внимал лишь тому, чему
ему хотелось внять» 1.
Конечно, роман «Испанская баллада» — не
исторический документ, но думается, что указанная коллизия
отражена писателем вполне реалистично и метко:
в писании, в зависимости от интересов и обстоятельств,
ищут и находят то, что хотят найти, и противоречия
тут никого не смущают. И потому, скажем, в Великой
ектений уживаются прошения «о мире всего мира» и
«временех мирных» с молитвою «о пособити и поко-
рити под нозе их всякаго врага и супостата».
Так что «могущественное действование сего учения
на сердца человеческие» отнюдь не всегда и далеко
не всеми признается и еще менее может служить
аргументом в пользу божественного происхождения
писания. То, что апологеты называют «божьей силой»,
на поверку оказывается авторитетом земной власти,
в религии получающей сверхъестественную санкцию
и оправдание.
Таковы так называемые «внутренние» признаки
божественного откровения, выдвигаемые христианской
апологетикой. Как мы видели, особенно
убедительными их считать нельзя. Священное писание и
основанное на нем учение оказывается свыше данным только
для того, кто и без всяких доводов готов уверовать
и кто, следовательно, обладает «искрой божией»
в своей душе. Именно поэтому «внутренние признаки»
божественного откровения апологетика вынуждена
дополнять «внешними признаками», к числу которых
относит чудеса и пророчества, представляющие
собою «особую печать», якобы удостоверяющую
истинность откровения.
1 Фейхтвангер Л. Испанская баллада. М., 1957. С. 246—247.
О ВНЕШНИХ
ПРИЗНАКАХ
ОТКРОВЕНИЯ
3 ГА. Габинский
Чудеса и пророчества
богословие относит не
к внутренним, а к
внешним признакам своего
откровения потому, что
сами по себе они не
содержат высших истин, а
лишь указывают на них,
т. е. служат исходящим
от бога знаком
достоверности учения,
возвещенного через
избранных лиц — патриархов,
пророков, евангелистов,
апостолов. Предъявляя,
демонстрируя,
используя эти внешние знаки,
избранные богом люди,
по уверению апологетов,
с высшей
несомненностью вещают
священную истину, ибо чудеса
и пророчества как раз
и предназначены для
того, чтобы привлечь
внимание к проповеди
откровения, повысить
доверие к нему.
Поскольку внутренние
признаки откровения далеко
не всегда достаточны,
то к ним
присовокупляются внешние
признаки. Апологеты заявляют:
«Бог, однако, благоволил
65
поставить на свое истинное откровение такие личные
внешние знаки, что оно не может быть смешано ни с
каким человеческим заблуждением. Такими знаками
являются чудеса и пророчества, которые служат
печатью, поставленной богом на свое откровение, дабы
каждый мог познать его аутентичность» 1. Вспомним,
что «человеческим заблуждением» (или
«изобретением») теология называет любое откровение, кроме
своего собственного, выдаваемого за божественное.
Весьма характерно, что внешние признаки или знаки
откровения переносят внимание с содержания
вероучения («откровения-объекта») на способы его
провозглашения через чтимых лиц («откровение-акт»).
Возникает ситуация, получившая в логике название
«аргумент к человеку» (argumentum ad hominem).
Как утверждает богословие, нельзя не верить тому,
кто творит настоящие чудеса, или тому, кто изрекает
сбывающиеся пророчества. Поскольку для
религиозного сознания рациональные доводы значат очень
мало, то божественное откровение должно
восприниматься не разумом, а верой. И веру как раз и должны
питать рассказы о чудесах и пророчествах,
совершаемых провозвестниками слова божия. Свойственная
религии авторитарность получает во «внешних признаках
откровения» самое четкое и яркое выражение.
Авторитет, завоеванный чудотворцем совершением чуда или
пророком исполнением его прорицания, должен
распространиться на само содержание его проповеди. Так,
например, евангелист вкладывает в уста Иисуса ссылку
на творимые им чудеса как на доказательство его
божественной миссии: «...Дела, которые отец дал
мне совершить, самые дела сии, мною творимые,
1 Еп. Никодим и прот. Ц. Христов. Учебник по апологетика
(Основно богословие). С. 184.
66
свидетельствуют о мне, что отец послал меня»
(Ин. 5:36).
Если пророчества и чудеса — печать, налагаемая
на откровение его высшим автором, то она должна
быть достаточно надежной и разборчивой, иначе
внешние признаки откровения перестанут быть или
считаться верительной грамотой божьих посланников, воз-
вестителей сверхъестественного откровения.
Подтверждая собою, по замыслу богословов,
подлинность сообщаемого в откровении, эти внешние знаки
в свою очередь нуждаются в подтверждении. Иначе
говоря, требуется отстаивать реальность божественных
чудес и истинность изрекаемых пророчеств. Этому
и посвящен специальный раздел апологетики.
Нет веры без чудес. Именно через чудеса бог
воздействует на наш бренный мир и на людские души.
Поэтому вера в бога и вера в чудо фактически
совпадают. Как сказал Гёте, «ведь чудо — веры лучшее
дитя». В силу сказанного церковь ревностно отстаивает
реальность и спасительность божественных чудес по
принципу «Чудны дела твои, господи!» Что же такое
чудо в религиозном понимании? И какую роль оно
выполняет в апологии откровения?
«Чудо есть доступное внешнему наблюдению
действие или событие, сверхъестественное, но не
противоестественное, производимое непосредственно силой
божьей для достижения важных религиозных целей».
Это православное определение, но оно (если не
словесно, то по сути) ничем не отличается от определений
католического и протестантского, так что его можно
считать общехристианским, если не общерелигиозным.
И во всех определениях выделяются и фиксируются
такие признаки чуда, как его реальность,
воспринимаемость, удивительность, сверхъестественность и
спасительность.
67
Необходимость отстаивать реальность чуда
проистекает из того, что многие, не мудрствуя лукаво,
приравнивают религиозные чудеса к сказкам,
выдумкам, иллюзиям. Если бога нет, то и чудес нет. Вот
что пишет, например, Анатоль Франс: «Если бы чудеса
существовали, то они перестали бы быть чудесами:
чудо только потому чудо, что оно не происходит
в действительности» '. Непрекращающаяся на
протяжении всей истории христианства критика его чудес
вынуждает апологетов подчеркивать реальность,
фактичность чуда. Так, католицизм на Первом
Ватиканском соборе объявил анафему тем, «кто утверждает,
что нет чудес или что на них никогда нельзя
полагаться» 2. Православие настаивает на том, что чудо есть
факт, что в его истинности можно убедиться теми
же средствами, что и в действительности иных фактов.
В том же направлении действует протестантство. Это
и понятно: прежде чем приписывать чуду какие-то
религиозные функции, надо показать, что они
приписываются чему-то существующему.
Воспринимаемость чуда означает, что оно доступно
в своем результате чувствам и разуму людей, его
действие можно наблюдать, ощущать, наглядно видеть,
будь это чудесное исцеление, превращение воды в
вино, хождение по морю яко по суху, остановка
солнца по молитве, чудесный лов рыбы или насыщение
пятью хлебами пяти тысяч человек. Чудо может быть
воспринято как факт, но суть его совершения
непостижима.
Сверхъестественность чуда — признак,
выделяющий его из других удивительных событий. Чудо
вызывается не естественными причинами, а только
1 Франс А. Собрание сочинений. М., 1960. Т. 8. С. 157.
2 Цит. по: Геккель Э. Мировые загадки. С. 428.
68
силой божьей, всемогуществом бога. Оно происходит
в этом мире, но вызывается силами «того» мира.
Чудо принципиально не может быть объяснено
естественными причинами, оно есть воплощение
непостижимой тайны божьей. Ссылку на то, что за чудо может
быть принято событие или факт вполне естественные,
но еще не известные, вроде демонстрации телевизора
первобытному дикарю, богословие отвергает тем, что
чудо в подлинном смысле относится не к сфере еще
не познанного, а к области навсегда, на все времена
непостижимого, «тайны, в боге сокровенной».
Но, говорят богословы, чудо сверхъестественно,
но не противоестественно. В чуде законы природы
не отменяются, а только «препобеждаются».
Вселенная устроена «весом, мерою и числом», устроителем
же миропорядка является бог, он же не отменяет
установленных им же «законов естества», а «всего
лишь» в чуде своей высшей волей и для важной
цели ставит себя над естеством, совершает
невозможное. Понять сего нельзя, да и не надо: тайна
сия велика есть, она приемлема только для веры.
Чудо предназначено для того, чтобы привести
людей к богу (таковы, например, чудеса Христа и
апостолов) или же осуществить божественные планы
спасения (ветхозаветные чудеса, воплощение сына божьего).
В этом и состоит спасительность чуда. Оно происходит
не просто так, ради удовлетворения суетного
любопытства людей, а только для достижения важной
религиозной цели. Но тем не менее, чтобы чудо произвело
на людей надлежащее впечатление, оно должно быть,
разумеется, событием не рядовым, не обычным, а
удивительным, из ряда вон выходящим,
поразительным и неожиданным: «Чудны дела твои, господи!»
Все перечисленные признаки религиозного чуда,
взятые в совокупности, и дают ему возможность
69
выступить в качестве внешнего признака
божественного откровения. Поскольку главное содержание
вероучения дано в откровении без разума, то желающие
спасти свою душу должны питать слепое и
неограниченное доверие к возвестителям слова божия, и это
доверие вызывается и подкрепляется творимыми ими
чудесами. Как сказано в катихизисе, «Кто творит истинные
чудеса, тот действует силой божиею; следовательно,
он угоден Богу и причастен духа божия. А такому лицу
свойственно говорить только чистую истину. И потому,
когда он говорит именем божиим, тогда чрез него, без
сомнения, глаголет слово божие» '.
Это наставление, до сих пор лежащее в основе
апологии чуда, настолько характерно для
авторитарного религиозного мышления, что, право же,
заслуживает особого рассмотрения.
Прежде всего, нет никаких сомнений в том, что
кто-то творит чудеса, что они реальны. Затем
подчеркивается, что речь идет об «истинных» чудесах, за
которые выдаются чудеса именно своей религии,
противопоставляемые чудесам других религий как
ложным. Так, уже в Ветхом завете чудеса Моисея в
качестве «истинных» противопоставлены чудесам египетских
жрецов как «ложным» (Исх. 7:8—13). В полемике
с исламом такому же развенчанию подвергаются
описанные в Коране чудеса Мухаммеда: это, мол, вообще
не чудеса, а просто фокусы. Отстаивание именно
своих чудес в противоположность чужим проводится,
так сказать, явочным порядком, т. е. без доказательств,
простым и многократным утверждением.
Переход от «истинных» чудес к «силе божьей»,
которая якобы одна лишь делает способным к совер-
1 Пространный христианский катихизис Православныя кафоличе-
ския восточныя Церкви. С. 20.
70
шению чуда, столь же произволен, ибо совершается
не логически, а психологически, основываясь на том
восхищении, которое должно вызвать чудо у видящих
его. Если чудо поражает и удивляет, то эту эмоцию
вполне можно раздуть до признания божьей силы,
его вызвавшей.
Зафиксируем и следующий шаг в этой апологии:
свою силу для чуда бог передает только тому, кто
ему угоден; именно божий угодник, и только он,
становится причастным духа божьего. И совершенно
последовательно с религиозной точки зрения, но не
с позиции здравого смысла, утверждается, что такому
лицу — чудотворцу — свойственно говорить только
чистую истину. Каким образом совершение чуда
должно свидетельствовать в пользу истинности всего, что
изрекает чудотворец, в общем-то остается неясным,
но, согласно церковной точке зрения, устами
чудотворца несомненно глаголет слово божье, т. е. его
сверхъестественное откровение. И, значит, откровение
якобы получает, наконец, свою явственную и
надежную печать — чудо.
В этой апологетической цепочке — от чуда к
чудотворцу, от него — к божьей силе и духу, от них — к
истине, от нее же — к откровению-объекту (т. е. к
содержанию истин, изрекаемых от имени бога) —
каждое звено неминуемо обнаруживает свою слабость,
если, конечно, не быть заранее настроенным на
некритическое их восприятие.
Если не может быть принято на веру самое первое
звено — сам факт чуда,— то не имеют смысла и все
следующие звенья. Там, где нет соответствующей
религиозной атмосферы, чудес не происходит или,
точнее говоря, во всем происходящем не
усматривается ничего сверхъестественного. Для того, чтобы
увидеть в чем-то чудо, требуется соответствующая настро-
71
енность — вера и жажда спасения, а в таких условиях
желаемое вполне может быть принято за
действительное. Это прекрасно выразил Ф. М. Достоевский:
«Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный
реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе
силу и способность не поверить и чуду, а если чудо
станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее
не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если
же и допустит его, то допустит как факт естественный,
но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте
вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если
реалист раз поверит, то он именно по реализму своему
должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома
объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда
увидел, сказал: «Господь мой и бог мой!» Чудо ли
заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет,
а уверовал он лишь единственно потому, что желал
уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в
тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил:
«Не поверю, пока не увижу» *.
Таким образом, речь должна, собственно, идти
не о чуде, как таковом, а о сообщении о чуде,
рассказе о нем, хотя, разумеется, есть и «очевидцы»
чудес, правда, не библейских, а нынешних — Лурда,
Фатимы и прочих.
Последующие звенья использования аргумента к
чуду идут через чисто психологические переходы
авторитарного порядка. Заключить от реальности чуда
к богоугодности чудотворца, а от нее — к истинности
провозглашаемого его устами божественного слова
можно, только заранее обладая религиозной верой,
успешно преодолевающей и не такие затруднения.
1 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. М., 1958. Т. 9.
С. 35—36.
72
Еще Дидро указал на очевидную слабость
аргумента к чуду в христианской апологетике: «События,
которые кладутся в основу религий, древни и чудесны,
то есть самое сомнительное, что только может быть,
приводится в доказательство самого невероятного...
Доказывать Евангелие с помощью чуда значит
доказывать нелепость с помощью противоестественного
явления» 1. Чудеса выходят за пределы рационального
постижения в область чистой веры, т. е. не могут
быть найдены с несомненностью в реальной жизни —
ни прошлой, ни настоящей. Для религии предания
о чудесах постулативны, вводятся как догма, а догма,
как известно, не обосновывается ничем. Для веры
все содержащиеся в ее учении недоказуемые начала
несомненно истинны потому, что даны богом в его
откровении. Чудеса же таинственны и в своей сути
непостижимы, а раз так, то они могут приводиться
в подтверждение столь же непостижимого
содержания откровения. И даже сами теОлоги вынуждены
признать неубедительность аргумента к чуду. Ведь за
несомненное выдается то, что само нуждается в
подтверждении, а это неминуемо приводит к возвращению
в исходный пункт, к первому звену апологетической
цепочки — реальности чуда, убедить в которой так
и не удается.
Использование чуда как аргумента в пользу
откровения имеет еще один аспект, который давно был
подмечен исламским мыслителем аль-Газали. Считая,
что рациональное познание бога невозможно, он
выступил против всякой религиозной апологетики, суть
которой, как известно,— в использовании каких-то
рациональных аргументов в защите веры. Аль-Газали
1 Л*<дро Д. Избранные атеистические произведения. M., 1956.
С. 48.
73
говорит: «Если бы какой-нибудь волшебник сказал
мне: три больше десяти, и в доказательство этого я
превращу эту палку в змею,— я был бы удивлен его
ловкостью, но не согласился бы с его мнением» '.
В религиозном мышлении чудо соотносится с тем, что
не имеет к нему отношения. Одно подставляется на
место другого, происходит подмена тезиса (ignoratio
elenchi). И это понятно: ведь чудо — не более чем
знак, знамение, печать, призванная удостоверить, так
сказать, полномочия избранного богом лица. А что
именно на этой печати изображено, т. е. какое чудо
совершается, в конце концов не так уж важно.
Вот и получается, что, скажем, чудо превращения
жезла в змею выдается за свидетельство пророческой
миссии Моисея и Аарона, чудо воскрешения Лазаря —
за доказательство божественности Христа,
евангельское чудо превращения воды в вино — за
удостоверение истинности божественного откровения, чудо
явления богоматери в Фатиме — за призыв свыше к
борьбе против безбожия. В конце концов, такие
«божественные истины», как догмат о троице (где
выходит, что «три равно одному») или догмат о
непорочном зачатии не менее нелепы, чем «три больше
десяти». Поэтому «каков поп, таков и приход», т. е.
каков тезис, таковы и аргументы, таков и способ
убеждения, нелогичный, странный, но до сих пор
применяемый.
«Если возвещаемая тобою религия истинна, ее
истинность может быть сделана очевидной и доказана
неопровержимыми основаниями. Найди эти основания.
К чему докучать мне столькими чудесами, когда ты
можешь сразить меня одним силлогизмом? Скажи,
1 Цит. по: Дрэпер Дж. У. История отношений между
католицизмом и наукой. Спб., 1876. С. 61.
74
неужели тебе легче исцелить расслабленного, чем
просветить мой ум?» ' — обращается Дидро к
священнику. В том-то и дело, что для признания истинности
религии просвещать ум не только необязательно, но
и просто-таки опасно. Ведь убедить силлогизмом
значит пойти по пути логики, апологетика же
выбирает другие, окольные пути, уводящие во тьму
абсурда. Вот и приходится «докучать чудесами». Рассказы
о чудесах — отнюдь не свидетельства в пользу
истинности откровения, а, наоборот, симптомы его
мифологичное™. Та поддержка, которую религия ищет в
легендах о чудесах, совершенно излишня для
адекватного познания мира.
Хотя богословие отличает пророчества от чудес,
оно не отрицает того, что пророчества суть
разновидность чудесных явлений. Пророчества совершаются
по божественному вдохновению, в результате данной
свыше способности к сверхъестественному
провидению и тем самым отличаются от обычных прогнозов
на основе анализа реальных условий. К тому же
пророки могут, опять же по специальному наитию от бога,
предсказать не только реальное будущее, скрытое от
самых проницательных людей, но и будущие чудеса.
По богословскому определению, пророчество есть
ясно и категорично изложенное предсказание события,
которое еще наступит в будущем и которое никак
не может быть предвидено обычным естественным
образом. Признаки «истинных» пророчеств
(отличаемых, конечно, от ложных оракульских предсказаний),
выработанные апологетами, таковы. Прежде всего,
пророчество высказывается ясно и категорично, а не
в виде какого-то смутного предчувствия. Затем, про-
1 Дидро Д. Избранные атеистические произведения. С. 281 —
282.
75
рочество касается таких событий, которые
человеческими знаниями ни при каких условиях предсказаны
быть не могут. Кроме того, в отличие от иных чудес,
свидетельства о которых могут показаться
сомнительными, пророчества суть наилучшим образом
зарегистрированные чудеса, так как их всегда можно
прочесть в писании. Главный признак пророчества в том,
что оно действительно и в точности исполняется
именно так, как было предсказано. И, наконец,
пророчество имеет целью доказать людям, что лица, его
высказывающие — пророки,— действительно божьи
праведники, «освященные от бога люди». Это
последнее — всё тот же «аргумент к человеку».
Пророчество, как и чудо,— внешний признак
откровения, но и оно само, как видим, имеет свои признаки.
А как известно, «признак признака есть признак самой
вещи» (nota notae est nota rei ipsius), т. е. все признаки
«истинного» пророчества и оно само в качестве
внешнего признака направлены на обоснование истинности
и спасительности всего содержащегося в священном
писании и основанного на нем вероучения.
Библейские пророчества в основном сосредоточены
в ветхозаветных книгах пророков Исайи, Иеремии,
Иезикииля, Даниила и других, а также в новозаветном
Апокалипсисе, но как сами пророчества, так и особенно
ссылки на них имеются и в других местах писания.
Пророчества изрекает и сам Христос, прямо указывая
на их авторитарную функцию: «Теперь сказываю вам,
прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы
поверили, что это я» (Ин. 13:19). И еще: «И вот, я сказал
вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили,
когда сбудется» (Ин. 14:29).
Библейские пророчества, утверждает церковь, не
только исходят от всеведущего бога, но по его воле
и предначертанию всегда сбываются и, главное, отно-
76
сятся ко всей истории, вплоть до страшного суда и
конца света. И теперь, в наше время, происходящие
в мире события толкуются религиозным сознанием как
осуществление ветхо- и новозаветных пророчеств.
Правда, для этого апологетам приходится
прикладывать немало трудов, но опыт у них колоссальный.
Существует специальная богословская дисциплина —
герменевтика,— назначение которой состоит в
истолковании божественного откровения таким образом,
чтобы, в частности, имеющиеся в нем пророчества
представить истинными, т. е. сбывшимися — как в
прошлом, так и в настоящем. Потребность в такой
интерпретации неизбежно возникает и
удовлетворяется потому, что содержащиеся в Библии прорицания
в своем исконном виде далеко не всегда и не всеми
воспринимаются как сбывшиеся через сотни и тысячи
лет после того, как они были сделаны.
Крайне произвольное обращение с историческими
фактами, превращение на основе религиозного
провиденциализма (учения о божественном промысле)
действительной человеческой истории в «историю
спасения» церковь распространяет и на реальную историю
древних пророков.
Прорицатели и гадатели, якобы получающие из
будущего истинные сведения сверхъестественным
путем от высших сил, известны с давних пор
практически во всех религиях. Не составляет тут исключения
и христианство, возводящее используемые им
пророчества к древнееврейским пророкам («набиим»).
Некоторые из записанных пророческих проповедей
вошли в состав Ветхого завета: книги четырех
«великих» пророков (Исайя, Иеремия, Иезикииль, Даниил),
двенадцати «малых» (Оси я, Иоиль, Амос, Авдий,
Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария,
Малахия). Кроме того, в Библии упоминаются еще
77
пророки Самуил, Гад, Нафан, Илья, Елисей. Если
оставить в стороне вопрос об историчности
библейских пророков (есть основания полагать, что некоторые
из них мифичны) и о точности передачи их слов в
Библии \ то само пророческое движение, как иногда
принято его именовать, достаточно характерно для
своей эпохи. Пророки обличали, клеймили,
благословляли, предостерегали и самые известные из них
пользовались авторитетом большим, нежели жрецы и
первосвященники. Их ораторский дар,
проповедническое рвение и фанатизм, знание людей и
проницательность делали их слова меткими и запоминающимися.
Пророки часто выражали в созвучной времени
религиозной форме протест и возмущение народных масс,
их опасения и надежды. Власть имущие то
возвеличивают пророков, пользуются их советами, то,
наоборот, преследуют, изгоняют и даже казнят. Все беды,
обрушивавшиеся на протяжении веков на древних
евреев, объяснялись пророками примерно по одной
и той же схеме: бог карает за неверность ему и его
закону (завету), а поскольку эти наказания не
исправляют богоизбранный народ, то надлежит ожидать
еще больших несчастий, которые пророки
предсказывали и живописали. И тем не менее Яхве в своем
бесконечном милосердии когда-нибудь дарует своему
народу прощение и пришлет ему спасителя — мессию.
Книги пророков усердно изучались и
комментировались, иногда самым причудливым образом, их
предсказания прилагались ко всем значительным событиям.
Впоследствии, когда Ветхий завет был усвоен и признан
христианством, «глаголы пророков» подвергаются
дальнейшей интерпретации, в основном направленной
1 См.: Рижский М. И. Библейские пророки и библейские
пророчества. М., 1987.
78
на связывание Нового и Ветхого заветов, на
отыскивание в пророческих книгах прорицаний о Христе.
Под влиянием Библии и церковной герменевтики
складывается образ боговдохновенного пророка в
массовом сознании и в искусстве. Это обычно
величественный старец, провидящий неведомое будущее,
клеймящий пороки, внимающий гласу свыше и несущий
его людям. Достаточно вспомнить галерею пророков
на фресках Микеланджело или гениальное
стихотворение Пушкина «Пророк».
Подход к Библии не как к божественному
откровению, а как к историческому памятнику позволил
выделить в ней пророчества нескольких видов, в
зависимости от их содержания и проделанной над ними
составителями священного писания редакторской
работы.
В Библии есть пророчества, сделанные, так сказать,
задним числом. Так, пророку Даниилу, жившему
якобы в VI веке до н. э., приписываются предсказания,
относящиеся к более поздним векам. Однако
тщательные исследования привели историков к выводу, что
книга Даниила сочинена на четыреста лет позже, во
II в. до н. э. Редакторы Библии выдают за
сверхъестественное провидение будущих времен описание уже
происшедшего.
Нельзя считать чудесным пророчеством и такое
предсказание, которое делается на основе
взвешенного анализа причин и факторов, приводящих к какому-
то будущему событию. Воистину не требовалось
божественного наития, чтобы предсказать, как это сделал
пророк Иеремия, завоевание слабой и маленькой
Иудеи могущественным и огромным Вавилоном
(Иер. 27:4—6, 8, 11).
Но главное внимание в христианской герменевтике
и проповеди уделяется тем «глаголам пророков»,
79
которые якобы предсказали чудесное рождение
Христа. В силу той преемственности, которая существует
между Ветхим и Новым заветами, авторы евангелий
отыскивали в Ветхом завете тексты, которые могли
относиться к мессии или быть соответствующим образом
истолкованы, и уже по ним составляли свои рассказы о
Христе. Поскольку греческое слово «христос» есть
точный перевод еврейского «мессия» («машиах»), что
значит буквально «помазанник», и это слово в пророческих
книгах встречается, то это облегчало задачу
евангелистов. Они используют также любые слова пророков,
где упоминается о сыне, деве, рождении, ничуть не
сомневаясь, что в любом таком случае речь идет
именно о Христе. Впоследствии, опираясь уже на
евангелия и Новый завет в целом, церковь придает этим
пророчествам сакральное значение и, значит,
непререкаемость. То есть не только сами слова
ветхозаветных пророков, но и их толкование евангелистами
канонизировались, так как евангелия стали
неотъемлемой частью христианского откровения.
Так, в связи с тем, что в книге пророка Осии
сказано: «...Из Египта (я) вызвал сына моего» (Ос. 11:1),
а у Михея говорится, что спаситель выйдет из
Вифлеема (Мих.5:2—4), была составлена вошедшая в
евангелия история о бегстве святого семейства в Египет.
При этом используется и пророчество Иеремии,
якобы предсказавшего избиение младенцев (Иер. 31:
:15). Таким же способом евангелист Матфей поселяет
родителей Иисуса в городе Назарете, опираясь на
имеющуюся в книге Судей фразу, что младенец будет
«назорей божий» (Суд. 13:5). При этом евангелиста
отнюдь не останавливает ни то, что в книге Судей эти
слова относятся не к Христу (мессии), а к сыну Маноя из
дома Данова, ни то, что слово назорей (ганоцри)
означает просто «сторож», а вовсе не «житель Назарета».
80
Классическим образцом использования
ветхозаветных пророчеств является достаточно сложная
операция, проделанная авторами Нового завета над
одним пророчеством Исайи, которое прямо и
недвусмысленно, ясно и категорично выдается за чудесное
предсказание о не менее чудесном зачатии и рождении
Христа. У Матфея сказано: «А все сие произошло, да
сбудется реченное господом через пророка, который
говорит: се, дева во чреве приимет, и родит сына, и
нарекут имя ему Еммануил, что значит: с нами бог»
(Мф.1:22—23). Все направления христианства едины в
том, что пророк Исайя (Ис.7:14) предсказал за семьсот
лет до рождества Христова это рождество, что,
разумеется, было бы невозможно без
непосредственного откровения божия. Для религиозного сознания
не играют роли ни время пророчества, ни его
действительное содержание.
Но если обратиться к самой книге Исайи, дело будет
выглядеть по-иному, так как сразу возникнет целый
ряд вопросов и сомнений. Прежде всего, спасителя
назвали Иисус, а не Еммануил (а у Исайи еще сказано,
что бог велел назвать ребенка Магер шелал-хаш-баз).
Ссылка на рождение младенца возникает у Исайи лишь
в контексте развернутой в пышном восточном стиле
метафоры, завершающей разговор пророка с
иудейским царем Ахазом. Исайя от имени бога говорит царю,
что сирийский и израильский цари, напавшие на Иудею,
вернутся в свои пределы. При этом пророк уточняет и
срок избавления от напасти: это, мол, произойдет так
скоро, что ребенок, который будет сейчас зачат и
потом родится, еще не научится говорить и отличать
хорошее от дурного. В переводе на обычный язык
это означает два-три года. Но Исайя не ограничился
словесным предсказанием, а решил, так сказать,
материализовать метафору: в присутствии верных
81
свидетелей он «приступил» к пророчице, «и она зачала
и родила сына» (Ис.8:3).
Примечательно также, что Матфей, писавший по-
гречески, цитирует Исайю по Септуагинте, греческому
переводу, где действительно употреблено слово
«партенос» — дева, девственница. Но оказывается, что в
еврейском подлиннике здесь стоит слово «алма» —
молодая женщина, молодица. Выходит, догмат о
непорочном зачатии и вся марианистика (культ девы-
богоматери Марии) опираются, помимо всего прочего,
на неверный перевод, ошибку, допущенную некогда
одним из неведомых семидесяти толковников. Во
всяком случае, становится ясным, что пророк VIII
в. до н. э. Исайя (вернее, так называемый Первоисаия)
никак не мог предсказать ни непорочного зачатия,
ни спасителя Христа, а его пророчество не имеет
к нему никакого отношения. Только прибегнув к
неоднократным натяжкам и подменам, начало которых
восходит ко временам апостольским, можно убеждать,
будто в Ветхом завете содержатся инспирированные
свыше прорицания об Иисусе Христе.
В Библии есть немало пророчеств, предрекающих
войны, голод, мор и прочие бедствия. В те жестокие
времена, когда складывались библейские сказания,
это были вполне обычные события. Авторы пророчеств
не могли понять подлинных причин обрушивающихся
на людей бед и видели в них божью кару за грехи.
По опыту они знали, что время от времени случаются
и войны, и засуха, и наводнения, и недород, и
эпидемии и прочие бедствия. Воистину не надо быть
пророком, чтобы предсказать все это, и божественное
откровение тут ни при чем.
Но церковь распространяет эти древние
предсказания на всю последующую историю, тоже не
баловавшую людей миром и благополучием. Поэтому содер-
82
жащиеся в библейских пророчествах грозные предре-
чения переносились на события всех эпох. Поскольку
Библия почитается «священным писанием», годным
для всех и во все времена, то ее пророчества
толковались весьма широко, свободно и произвольно, и это
толкование зависело в основном от наблюдательности
и фантазии интерпретаторов, которая направлялась
сознательно или стихийно нуждами, надеждами и
целями определенных классов и слоев. И результаты
такого толкования закреплялись религиозными
авторитетами, получали соответствующую санкцию и
широко распространялись среди верующих.
Среди христиан особой популярностью пользуется
пророческая книга Нового завета — Апокалипсис, или
Откровение Иоанна, помещенная в Библии на
последнем месте, но являющаяся, вернее всего, самой ранней
новозаветной книгой. Она содержит картины и
пророчества страшного суда, конца света, пришествия
антихриста и последующей победы над ним,
наступления царствия небесного. Мистические видения Иоанна
Богослова, нагромождение фантастических образов и
ужасов, намеренная иносказательность, туманность и
таинственность изложения — все это и по сию пору
продолжает привлекать к Откровению Иоанна
растревоженное воображение людей. Поскольку, однако,
конец света и страшный суд еще не наступили, то
церковь своим авторитетом внушает, что это еще
предстоит в неопределенном будущем.
Между тем, при внимательном чтении
Апокалипсиса выясняется, что Иоанн относит свои облеченные
в пророческую форму надежды и мечтания отнюдь
не к отдаленному будущему и не к нашим с вами,
читатель, временам, а ко времени написания своего
Откровения. Вот что по этому поводу пишет Энгельс:
«В полной противоположности со всеми своими орто-
83
доксальными комментаторами, которые по прошествии
1800 лет все еще ожидают, что его пророчества
должны исполниться, «Иоанн» постоянно повторяет: «Время
близко, сему надлежит быть вскоре» '.
Апокалипсис содержит картины и символы, которые
современники автора расшифровывали довольно легко
и однозначно. Например, вавилонская блудница,
сидящая на звере с семью головами (Откр. 17:7) — это
Рим («Рома» — женского рода), расположенный на
семи холмах. Точно так же намек на «семь царей, из
которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел,
и когда придет, не долго ему быть» (Откр. 17:10),
имеет в виду пятерых римских императоров —
Августа, Тиберия, Калигулу, Клавдия и Нерона; «один
есть» — это шестой император Гальба, правивший
всего полгода, а седьмой — Отон, продержавшийся на
престоле действительно недолго — три месяца.
В своем Откровении Иоанн выражает чаяния
народа, который включал в себя и первых христиан, о
наказании свыше его врагов, сегодняшних для него и
вполне реальных. Но так как предсказанный страшный
суд не наступил ни при жизни Иоанна, ни потом, то
для последующих поколений имевшиеся в виду
автором реалии стерлись в памяти, забылись. Когда же
Апокалипсис был включен в канон священного писания,
то ему были приписаны особый пророческий авторитет
и таинственность. Энгельс в своей работе «Книга
откровения» подытоживает: «Все это теперь утратило всякий
интерес для всех, кроме разве только невежественных
людей, которые еще, может быть, пытаются вычислять
день последнего суда» 2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 10.
2 Там же. С. 13.
84
Но апокалиптические видения и образы в силу
своей загадочной выразительности и картинности
продолжали питать, а отчасти питают и сегодня,
религиозную и эстетическую фантазию. Что касается
последней, то достаточно хотя бы вспомнить «Всадников
Апокалипсиса» Альбрехта Дюрера, «Страшный суд»
Микеланджело, а из нынешних — «Апокалипсис» Кши-
штофа Пендерецкого. Тяга к пророческим образам
усиливается в периоды крутой ломки общественных
отношений, тяжелых и массовых испытаний и
потрясений, народных бедствий, войн и нашествий.
Нынешнее время в каком-то отношении
благоприятствует всему этому. Это трудное, переломное время.
Нависшая над человечеством угроза поголовного
уничтожения в результате применения оружия,
поражающее действие которого превосходит всякое
воображение, терроризм, наркомания, СПИД, критическое
состояние природной среды и многие иные негативные
явления — все это в наши дни приводит к оживлению
эсхатологических, т. е. относящихся к «последним
временам» и «концу света» идей и настроений. В силу
многовековой традиции при этом принято
пользоваться библейскими, в том числе апокалипсическими
образами, давно вошедшими в общекультурный обиход,
но особенно популярными среди верующих.
Сейчас все чаще говорят о так называемом
«апокалипсическом сознании конца XX века», имея в виду
и многочисленные предупреждения («антиутопии»)
современных писателей (О. Хаксли, К. Воннегут,
Р. Брэдбери, Л. Леонов, А. Адамович и др.), и
распространение эсхатологических религиозных сект
(иеговисты, адвентисты), и движение «зеленых» и
неуверенность в завтрашнем дне. На фоне всего этого
часто возникают коренящиеся в давних привычках
иллюзии того, что в Библии предсказано решительно
85
все — ив общем виде, и в деталях,— что произойдет
с миром и человечеством.
Интересно, например, что заимствованное из
Апокалипсиса слово «Армагеддон» (Откр. 16:16),
означающее последнюю вселенскую битву перед
наступлением конца света, из лексикона секты свидетелей
Иеговы перешло в словарь видных политических
деятелей. Американские журналисты подсчитали: в тот
период, когда президент США Р. Рейган выступал
против «империи зла», он только в публичных речах
употребил слово «Армагеддон» тридцать один раз.
Воспитанных на Библии американцев это,
безусловно, впечатляло, так как каждый понимал, что
«империя зла» — это Советский Союз, а Армагеддон —
мировая термоядерная война, вселенская
катастрофа.
«Грядущие годы таятся во мгле». Предсказать
будущее трудно, а в точности невозможно, таков уж
объективный порядок вещей. Человеческая
действительность настолько сложна, и в предсказании надо
учесть столько обстоятельств, условий, причин и
факторов, что любое предсказание неизбежно
оказывается лишь гипотетическим, вероятным. В этом смысле
и человеческие судьбы, и исторические события ста-
тистичны, т. е. могут складываться и происходить
так, а могут этак. И только если они уже состоялись,
утверждения о них могут стать достоверными.
Неопределенность будущего, его сокрытость и
таинственность делают его подходящим объектом для
религиозного, превратного истолкования. Страстное желание
сорвать покров с неведомого будущего, заглянуть в
него и одновременно осознание того, насколько это
несбыточно, пробуждает веру в прорицания оракулов,
шаманов, гадалок, ясновидящих и, наконец, пророков.
Считается, что именно им доступно то, что недоступ-
86
но обычному человеку: провидеть будущее, чудесным
образом совершить прорыв в завтрашний день. Отсюда
популярность прорицателей, их распространенность
даже сегодня, в наш просвещенный и скептичный век.
Так, в США насчитывается более 90 тысяч, а во
Франции 40 тысяч официально зарегистрированных
профессиональных прорицателей, и, судя по всему,
безработица им не угрожает.
Но ведь для того, чтобы люди продолжали
пользоваться услугами прорицателей, надо, чтобы их
предсказания сбывались. В том-то и дело, что,
оказывается, это вовсе не обязательно. Прорицания
формулируются обычно настолько туманно, что при любом
исходе всегда есть возможность утверждать, что они
сбылись, особенно когда клиенту хочется этого. Можно
сказать, что в принципе механизм предсказаний и
их воздействия на людей один и тот же, независимо от
того, идет ли речь о матримониальных предсказаниях
гадалки мадам Дюше, прогнозах «сайентологов» секты
Хаббарда, прорицаниях Дельфийского оракула,
экстатических прозрениях тунгусского шамана или
библейских пророчествах.
Некоторое представление об этом механизме
может дать весьма характерный образ дворецкого
Габриеля Беттереджа в известном романе Уилки Коллинза
«Лунный камень». Все предсказания событий в сложной
детективной истории он извлекает из любимой им
книги Дефо «Робинзон Крузо», причем каждый раз
оказывается — и дворецкий убедительно это
доказывает,— что предсказанное удивительно точным образом
сбывается. Конечно, это пародия на обыкновение
особо благочестивых англичан для подобных
надобностей обращаться к чтимой ими Библии. А
Достоевский в одной из своих публицистических статей писал,
что из любого старого номера газеты он берется
87
извлечь убедительные и впечатляющие предсказания
для сегодняшних событий. Нечто подобное
совершают и с Библией, представляющей для этого гораздо
большие возможности — хотя бы в силу своего
размера и разнообразия содержания. Единственная, хотя и
важная разница состоит здесь в том, что само
направление истолкования церковь не доверяет воображению
самих верующих, а определяет сама, своим
авторитетом.
Для всякого ума, не обремененного застарелыми
предрассудками, ясно, что библейские пророчества,
высказанные тысячелетия тому назад, относились к
своему времени или к ближайшему предвидимому
будущему. И пророки отнюдь не претендовали даже
на то, чтобы их пророчества распространяли свое
действие на много веков вперед. Это уже значительно
позже над книгами пророков были проделаны сложные
герменевтические манипуляции, исходящие из
совершенно произвольного допущения о том, что
изложенные там прорицания обладают особой
сверхъестественной прогностической силой.
При надлежащей пастырской опытности можно,
стало быть, извлечь из Библии любое пророчество
и подогнать его к любому современному событию,
что и проделывается по мере надобности.
В Евангелии от Матфея справедливо сказано:
«Довлеет дневи злоба его», а в переводе на современный
язык — «довольно для каждого дня своей заботы»
(Мф. 6:34). К нынешним нашим заботам, к сегодняшней
злобе дня библейские пророчества не имеют никакого
отношения, как бы ни старались нынешние апологеты
убедить в том, что эти пророчества, в силу своей
«богодухновенности», сбываются и сейчас. Решение
многочисленных актуальных проблем, стоящих перед
обществом и человечеством, надо искать не в древних
88
«глаголах пророков», а в реальной и естественной
сегодняшней действительности.
Тем не менее в нашем общественном сознании
происходит и своего рода реабилитация Библии с ее
пророчествами. Попытка игнорировать этот великий
памятник древней литературы, исключить его из
культурного обихода вряд ли состоятельна и оправданна,
так как за многие века ее образы, афоризмы,
персонажи и сюжеты стали неотъемлемыми элементами
мировой культуры. В библейских книгах пророков ярко
и выразительно воплощены не только суеверия и
нетерпимость, но и мечты народа о лучшем будущем,
его надежды и чаяния. И, подобно тому как в кодексе
религиозной морали отразились и некоторые простые
общечеловеческие нормы нравственности, в
библейских пророчествах можно увидеть присущие всем
народам во все времена упования. Придание же им
сверхъестественного авторитета и значения
эмоционально усиливает их воздействие, но, разумеется, лишь
для искренне верующих. Стоящая перед зданием
ООН в Нью-Йорке скульптура Е. Вучетича «Перекуем
мечи на орала» может служить убедительным
примером общечеловеческого значения и звучания
некоторых библейских пророчеств.
Однако пророчества, как и чудеса, выполняя свою
функцию внешних признаков божественного
откровения, способны лишь разочаровать всякого, кто
надеется в них почерпнуть доказательство
истинности возвещенного в писании. Слишком слабыми
оказываются доводы в пользу реальности чудес
и осуществления пророчеств. А раз так, то ссылаться
на них как на аргументы, якобы подтверждающие
истинность и святость откровения, значит совершить
давно известную логическую ошибку под названием
petitio principii, «предвосхищение основания»,
89
т. е. выдать за доказанное то, что само еще нуждается
в доказательстве.
Так что апологетам остается уповать лишь на слепую
веру, к которой они благополучно и возвращаются
после совершения вылазки в область «разумного»
богопознания. Сами богословы признают открыто,
что их дисциплина, т. е. богословие «не придает своим
положениям логической принудительности». Что ж,
остается только согласиться с этим признанием.
Попытка подкрепить религиозную веру внешними по
отношению к ней признаками и критериями
оказывается столь же бесплодной, как и ранее изложенная
операция по выделению и использованию внутренних
признаков откровения. Снаружи вера столь же мало
обосновывается, как и изнутри. Но для ее
существования такое обоснование и необязательно. Вера потому-
то и остается именно верой, что ставится на место
знания, вытесняет его и кладется в основу поведения.
Поэтому процедуры, необходимые для знания, в том
числе доказательство (аргументация), для веры
оказываются чем-то чуждым ее природе и назначению.
Божественное откровение должно восприниматься
именно как божественное только на веру, которая
объявляется высшей добродетелью, стоящей
неизмеримо выше любого знания.
Но такая вера влечет за собой нетерпимость. Она
догматична потому, что конкретна. Это ведь не вера
в бога вообще, а в бога определенного, с точно
указанными в откровении свойствами и поступками, и этому
не мешает представление о непознаваемости бога.
Утрата конкретности ведет к утрате веры. Именно эта
конкретность закрепляется в символе веры, в
вероучении данной конфессии. Скажем, христианский
символ веры (кредо) обязывает веровать во единого
бога-отца, творца неба и земли, во Христа, святого
90
духа, жизнь будущего века и т. д. Внутри же
христианства конкретизация доходит до «филиокве» ',
разделяющего православие и католицизм, или
троеперстия, отличающего православие от старообрядчества.
Однажды принятая и догматически фиксированная,
эта конкретная вера проводится с неумолимой
последовательностью, не допускающей никакой
терпимости к инакомыслию. Любое ослабление
нетерпимости в этих вопросах означает ущерб для веры, ибо
выходит, что спасение души больше не связано жестко
именно с данным кредо. Вот что пишет по этому поводу
венгерский философ Д. Лукач: «...Пока верят живо и
страстно, не может быть никакого соглашения,
никакого компромисса в вопросе «так, а не иначе»,
касающемся религии» 2. От конкретности веры к
догматизму, а от него к нетерпимости, фанатизму и вражде —
таков неизбежный путь религиозного сознания, что
бы ни говорили сейчас, как и раньше, об особой
гуманистической миссии христианства.
И на фоне этой нетерпимости возникает и
существует особое религиозное мышление, проявляющееся
до сих пор не только в собственно религии. Можно
считать себя неверующим, но мыслить и поступать по-
религиозному.
1 Филиокве (лат. filioque — и от сына) — сформулированное
впервые на Толедском церковном соборе в 589 г. добавление к
христианскому символу веры. Согласно утвержденному на I и
II вселенских соборах (325 и 381 гг.) символу веры святой дух
исходит от бога-отца. Добавление же заключалось в утверждении,
что святой дух исходит и от бога-отца и от бога-сына.
Греко-византийская (православная) церковь не приняла добавление, что
явилось одним из формальных предлогов к разделению в 1054 г.
христианской церкви на западную и восточную ветви.
* Лукач Д. Своеобразие эстетического. M., 1985. Т. 1. С. 100.
мысль
ПОД ЗНАКОМ
ОТКРОВЕНИЯ
Мысль,
протекающая под знаком
откровения и все время
ориентирующаяся на него, и
есть религиозное
мышление. Но если можно
говорить о религиозном
сознании, можно ли
утверждать, что
существует религиозное
мышление? Дело в том, что
мышление — это
сознание на рациональном
уровне, а религия,
основываясь на слепой вере,
подавляет разум, а
значит, мышление. В
истории христианства
прослеживаются две
основные линии отношения к
разуму. Одна из них
может быть обозначена
как иррационалистиче-
ская, другая — как
рационалистическая
(точнее, спекулятивная). Но
даже последняя,
наиболее полно
представленная в томизме и
допускающая использование
рационального
мышления в обосновании
вероучения, обставляет это
столь многими
ограничениями, призванными
сделать мысль слугою веры, что действительно
возникает сомнение: можно ли говорить о религиозном
мышлении как таковом? Не похоже ли оно на круглый
квадрат или горячий снег?
И все же религиозное мышление существует.
Сколько бы разум ни стесняли, ни ограничивали, ни
заковывали в узду, верующий человек — от простого
мирянина до папы или патриарха — не может
перестать мыслить, ибо остается человеком разумным,
homo sapiens — даже в пределах религиозного
сознания, т. е. направляя свою мысль на
сверхъестественные объекты и устремляя его к иррациональной
вере. Религиозное воздействие рассчитано в основном
на до- или внерациональные сферы человеческой
психики, однако вовсе миновать сферы мышления не
может.
Подвергаясь в луче воздействия религии
превращению и приспособлению, человеческое мышление
приобретает здесь некоторые специфические черты,
признаки, особенности, которые в их совокупности
образуют религиозный способ (стиль, манеру,
парадигму) мышления.
Этот способ мышления выходит за пределы
собственно религии, окрашивая в ее цвет и другие области
духовной жизни. Именно поэтому полезно представить
себе религиозный стиль мышления как аналитически
(через выделение и характеристику его отдельных
черт), так и синтетически (т. е. в целостном виде).
Условно говоря, черты религиозного способа
мышления можно разделить на гносеологические,
методологические, мировоззренческие, логические и
прагматические.
93
«ВЕЩЕЙ ОБЛИЧЕНИЕ НЕВИДИМЫХ»
Исходной гносеологической характеристикой
религиозного мышления является его превратность,
понимаемая как искажение действительности,
неадекватное ее отражение: Это не означает, что
религиозное отражение безусловно ложно во всех своих
элементах, оно может содержать и момент истины.
С другой стороны, искажение реальности происходит
не только в религии, но и во всех без исключения
сферах духовной деятельности. Но в религии
искажающие потенции реализуются таким образом, что
образуют особую форму общественного сознания,
вбирающую в себя все аберрации духа. Отличие религии
от иных областей духовной жизни — именно в той ее
функции, которую принято называть иллюзорной.
Превратность религиозного мышления порождает
по крайней мере две его особенности — эмоциона-
лизм и фидеизм.
Эмоционализм религиозного мышления означает
преобладание в нем стихийно-эмоционального начала
и ориентации над сознательно-рациональным.
Теоретическое, рефлективное отношение уступает место
душевному состоянию, требующему того, что
рационально обосновано быть не может. Именно поэтому
религия существует как «непосредственная, т. е.
эмоциональная форма отношения людей к
господствующим над ними чуждым силам...» 1.
В религиозном мышлении действуют в сущности
те же механизмы, что в религиозных эмоциях. Ведь
чисто религиозных эмоций не существует. Ничто
сугубо и чисто потустороннее не способно вызвать живых
человеческих чувств. Есть обычные человеческие чув-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 329.
94
ства с их богатейшей гаммой, но религия
ориентирует их на абстрактные иллюзорные объекты,
формируя тем самым то, что в церковном лексиконе
именуют внутренним переживанием божества или
сердечным расположением к богу, а на научном языке —
религиозной психологией. В истории религиозно-
философской мысли такой эмоционализм обозначался
так же, как пиетизм и даже как романтизм.
Известно, что без эмоций немыслим
познавательный процесс, невозможно живое искание истины. Но
все-таки преобладание проясняющего разума над
неуправляемыми эмоциями, устранение
эмоционального момента из теоретического рассуждения — это
характерная черта научного способа мышления.
Эмоции сопровождают, как мы видим, и религиозное
мышление, притом таким образом и в такой степени,
что, одержав верх над рациональными соображениями,
полностью поворачивают мысль к иллюзорным целям
и ценностям. Поэтому эмоционализм в религии
указывает не просто на наличие в ней эмоций, но и на
вытеснение превратно ориентированными эмоциями
рационального содержания и сущности человеческого
мышления. Именно к воздействию на эмоциональный
мир человека прибегает религия, коль скоро не может
воздействовать на него рациональными доводами.
Фидеизм — примат веры над рациональным
мышлением, разумом, а не так уж редко — и над
чувственным восприятием. К вере призывают, верою
клянутся, верой заклинают, с веры начинают и ею же
кончают. Вере противопоставляют не только неверие,
но и знание, и очевидность, и реальность. С верою
связывают надежду и любовь. По сути, вся религия —
это дело веры. Но о фидеизме (вспомним, что это
слово происходит от латинского fides — вера) мы уже
толковали в этой книге, так что здесь нет смысла пов-
95
торяться. Добавим лишь, что освобожденная от разума
вера (доразумная, внеразумная, сверхразумная или
противоразумная, по классификации богословов)
становится обоюдоострым и весьма опасным оружием
для манипулирования людьми. Тому есть немало
примеров и в истории, и в наше время.
Явно имея в виду не только веру в бога (но и ее
тоже), Илья Эренбург писал: «Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы. Я человек, не гора. Вера мне не
сестра. Видел я камень серый, стертый трепетом губ.
Мертвого будит вера. Я человек, не труп. Видел, как
люди слепли, видел, как жили в пепле, видел —
билась земля, видел я небо в пекле. Вере — не
верю я».
Вера — оружие обоюдоострое. Ее назначение не
познавательное, а иное: укрепление в уже имеющемся
мнении, безотносительно к постановке вопроса о его
проверке, так как высшая истинность, верность
считается заданной изначально. Хорошо, если так понимаемая
вера способствует добру и совпадает с правдой, но,
как таковая, она может быть использована и вовсе не
в благих целях. Вера чужда сомнению и выбору.
Питаемый ею фанатизм способен уничтожить истину,
подставив на ее место что угодно. Особенно тлетворно
проявляется такая вера в сфере науки, которая в
результате перестает быть наукой. Если вспомнить, к
примеру, лысенковщину, то ее сторонники — не ученые,
а верующие. И это не упрек в адрес подлинных
верующих, т. е. религиозных людей, а констатация того
положения, которое возникает, когда в основу
научного мышления (вернее, выдаваемого за таковое)
кладется категория из совершенно иной сферы
духовной жизни. Хочется здесь вслед за Чацким
повторить: «Хоть смешивать два эти ремесла есть тьма
искусников, я не из их числа».
96
Вера однозначно избирательна, руководимое ею
мышление односторонне и пристрастно, оно
принимает только то, что подтверждает идею. При таком
подходе произвол очевиден. Ради спасения принимаемой
на веру догмы пренебрегают любыми фактами. То, что
вера помогает в жизни, это справедливо: «Блажен, кто
верует, тепло ему на свете». Но ни религиозная, ни
какая-либо иная вера не совместима с познанием
и преобразованием реального мира. Именно поэтому
до сих пор сохранившиеся в нашей пропаганде
призывы «свято верить», «хранить нерушимую веру»
вряд ли могут быть оправданы.
ПУТИ СЛЕПОЙ ВЕРЫ
Методологические черты религиозного
мышления — это принципы и приемы оперирования
имеющимся в его распоряжении материалом: священным
писанием и преданием, святоотеческой и
агиографической литературой, а также свои особые средства
использования и истолкования «светских» фактов с
помощью религиозных категорий и доктрин. Сюда
можно отнести такие особенности религиозного мышления,
как догматизм, консерватизм, авторитаризм и
схоластичность.
Догматизм — принятие догматов веры как данных
свыше священных абсолютных истин. Догматы даны
богом через его божественное откровение и не
подлежат никакому изменению. Это спасительные истины,
равно священные для всех времен и народов — и ныне,
и присно, и во веки веков. Догматизм — проявление
метафизичности религиозного мышления в обоих
известных из философии смыслах слова «метафизика»:
во-первых, обращенности на сверхъестественное,
4 Г. А. Габинский
97
надмировое, сверхприродное (по-гречески meta ta
physica) и, во-вторых, застылости, мертвенности,
антидиалектичности. При этом религиозная мысль
противопоставляет бренность и изменчивость всего
земного («суеты сует») вечности, неизменности и
совершенству всего небесного, святого,
божественного. Учитывая же такую социальную функцию
религии, как закрепление существующих земных порядков
посредством их освящения, можно сказать, что
догматизм, начавшись и приобретя классический вид
в религии, выходит за ее пределы и кладет начало
всякому иному догматизму. Выходит, догматизм —
явление общесоциальное.
Почти неотличим от догматизма, но все же
заслуживает отдельного упоминания консерватизм или
традиционализм религиозного мышления. Это
провозглашаемое или действительное следование издавна
бытующим образцам, их сбережение, восстановление
и закрепление, осуждение отклонений от них,
враждебность новациям. Хотя в реальной истории религий
многократно прослеживается изменение догматики
и культа, исчезновение старого и появление нового,
все же типичным для религиозных реформаторов
является стремление к восстановлению первоначального,
«древлего» смысла и вида вероучения, якобы
искаженного последующими наслоениями. Для религиозного
мышления «чем старее, тем лучше». Так, появившиеся
в 16 в. меннониты возводили свою генеалогию и
догматику к апостолам, а мормоны 19 в.— даже к
ветхозаветным пророкам. Исходным моментом
реформы Лютера было обвинение папства в том, что
оно предало и исказило древнее истинно апостольское
учение. В расколе русской церкви XVII в. фигурируют
взаимные обвинения никониан и староверов в
отступлении от истинной веры предков. Да и сегодня, когда
98
мы отмечаем наличие в стане богословов модернистов
и фундаменталистов, надо помнить, что даже наиболее
радикальные модернисты не свободны от исконно
присущего религии традиционализма.
Религия, подобно языку, эволюционирует таким
образом, что чрезвычайно долго сохраняет,
консервирует в своем содержании и функционировании
восходящие к древним и даже первобытным временам
верования и представления, идеи и ритуалы.
Толкование их неоднократно меняется, и это зависит от
исторических судеб носителей религии. Нередко
расхождение в толковании служит поводом для
разделения или раскола единого дотоле вероучения. Но
верность или уверения в верности изначальному,
древнейшему, освященному традицией остается в том или
ином виде в религиозном мышлении любого типа
и каждой эпохи.
Авторитаризм — это полное и безусловное
подчинение религиозному авторитету. Под последним
подразумеваются, во-первых, мифические или
исторические личности, которым приписывается роль
носителей и возвестителей божественного откровения.
Их авторитет в религиозном обиходе производен от
верховного сверхъестественного авторитета высшей
силы, сообщающей «богодухновенность» патриархам,
пророкам и апостолам, а затем — церкви в целом
(как в православии) или ее единоличному главе (как
в католицизме). Во-вторых, религиозный авторитет —
это священное писание, содержащее
сверхъестественное откровение, а также базирующиеся на нем веро-
учительные документы — творения отцов церкви,
постановления соборов, энциклики пап и прочее. Ни
одна проповедь, ни одна богословская работа не
обходится без ссылок на религиозный авторитет.
Без авторитета не обходится, впрочем, никакое
99
мышление, но в религии авторитарность значительно
усугубляется и доводится до максимума тем, что
обязывает принимать на веру и «сверхразумные»
истины и таинства — просто потому, что так велено, так
сказано в писании,— не думая, не понимая и не
рассуждая. Доведением до крайности такого
авторитаризма прославились иезуиты, учившие, к примеру, что
если церковь скажет, что белое — это черное, то
каждый верный христианин обязан без ропота и
размышления уверовать в это, принять и исповедовать.
В проводившихся в средние века и позже богословских
диспутах, где наряду с христианскими авторитетами
фигурировал и возведенный в ранг непререкаемого
авторитета «язычник» Аристотель, ссылка на него
считалась окончательной и прекращавшей спор, что
сопровождалось произнесением греческой формулы
Autos epha или латинской Ipse dixit, т. е. «Сам сказал».
С некоторыми вариациями таким же осталось
религиозное мышление и сегодня. Почтительное,
благоговейное, рабское отношение к каждому слову и букве
своего авторитета, бесконечные ссылки и цитаты из
священного писания по любому поводу и даже без
повода. И при этом полная атрофия критического
отношения к авторитету, недопущение даже мысли о
таком отношении. И ничего, что из одного и того же
места писания могут делаться разные, часто даже
несогласующиеся друг с другом выводы. Это зависит
от апологетических интересов, исторических условий,
межконфессиональной борьбы. Главное, что сам этот
источник или слова из него — выше всякого сомнения
и вне всякой критики.
Авторитарность пронизывает все этажи
религиозной мысли. Самый высокий авторитет — это бог,
давший свое откровение в священном писании, затем
идут пророки, апостолы и святые, а также отцы церкви,
100
ниже располагаются главы церквей и конфессий, потом
высшее и рядовое духовенство. По мере спуска по
этой лестнице степень авторитетности ослабляется,
но все же остается высокой, о чем церковь неусыпно
заботится.
С авторитаризмом связана главная религиозная
добродетель — послушание, повиновение,
покорность. Подчинение воле высшего по сану или
социальному статусу приравнивается к повиновению самому
господу. На этом строится не только вся церковная
дисциплина, достигающая особой строгости в монашеских
орденах, но и проповедь послушания светским властям,
помазанникам божьим, «несть бо власти аще не от
бога». Авторитарность неотъемлема от рабства, как
духовного, так и материального. Недаром слово
«свободомыслие» мы до сих пор применяем по отношению
к мышлению, освобождающемуся от религиозного
авторитета, хотя, казалось бы, сама структура этого
слова не обязывает к такому пониманию. Именно
религиозное мышление является типичной моделью
порабощенного, подчиненного, несвободного сознания.
Схоластичность как черта способа мышления
восходит к средневековой схоластике, которую нельзя
оценивать только негативно: ведь в ее недрах
вызревали и прогрессивные философские идеи (Дуне Скотт,
Пьер Абеляр, Роджер Бэкон и другие). Одиозный
смысл слова «схоластика» связан с выработанным ею
методом словесных рассуждений вокруг богословских
проблем, ограниченным функцией «служанки
богословия» и заставлявшим разум вращаться в замкнутом
круге, строго очерченном церковью. Все допускаемые
в его тесных рамках рассуждения сводятся в основном
к толкованию канонических текстов, к подысканию
нужных мест из источников откровения. В схоластике
интеллект как бы съедал самого себя — через полное
101
подчинение сверхъестественному откровению, по
принципу intellectus quaerens fidem (разум, ищущий
веры).
Но главное в схоластике как способе мышления —
вызванная внешним вмешательством повышенная
саморефлексия несвободного разума, приводящая
к искусственно усложненной умственной казуистике,
словесным хитросплетениям. Схоластичность —
неизбежное следствие того положения, когда извне
и свыше диктуют, о чем можно говорить, а о чем
нельзя, когда мысли заранее установлен предел, «его не
прейдеши». Результат — отрыв от реальности, уход в
заоблачные дали превратного сознания,
интеллектуальная бесплодность. Будучи включенной в
религиозную или сходную с нею апологетику, схоластика
способна произвести впечатление напряженной работы
мысли. Но это впечатление обманчиво. Ибо все
схоластические рассуждения и ухищрения применяются
не для отыскания каких-то новых истин, а для
втолковывания положений, принимаемых за истинные с
самого начала.
Именно эта заданность, ангажированность
схоластики делает схоластическую модель образцом для
всякого авторитарно-догматического мышления. Уход
в схоластическое теоретизирование неизбежен, когда
теория, стиснутая со всех сторон предписаниями
и запретами, неизбежно отрывается от объективного
хода вещей, которому нет никакого дела до внешних
предписаний. Такой же отрыв от жизни возникает и там,
где» иногда даже в качестве протеста, стремясь уйти от
подчинения, переходят, так сказать, на теоретическое
самообслуживание. Умственная энергия теоретиков
переключается на хитроумное, но бесплодное
конструирование понятийных схем, не имеющих, в сущности,
никакого значения, применения и ценности вне узкого
102
круга специалистов, да и для тех представляющих
собою нечто вроде эзотерической интеллектуальной
игры, философского или иного «кубика Рубика», не
более того. Одним из примеров подобной схоластики
могут служить многочисленные полудилетантские
попытки решить не удавшуюся Гегелю задачу чисто
теоретически вывести друг из друга все категории
философии, т. е. построить «мировую схематику».
Выросшая в свое время из нужд теологии, схоластика
не перестает быть схоластикой, даже если меняет свое
название. Возможность же произрастания
схоластических сорняков в виде псевдотеоретического плетения
словес еще раз говорит о родсУве доведенной до
такого состояния теории с богословием. Происходит
вращение в замкнутом кругу сравнительно
немногочисленных понятий, выход из которого совершается лишь
для вылавливания отдельных внешних аргументов,
способных якобы подтвердить разворачиваемую теорию.
Иначе говоря, схоластика идет% по пути религиозной
веры, всегда готовой замечать то, что ее
подтверждает, и игнорировать все, что ей не соответствует.
НЕБО, ТАЙНА И УДВОЕНИЕ МИРА
Мировоззренческие особенности религиозного
способа мышления — это те, которые образуют
религиозную картину мира и одновременно опираются на
нее, исходят из этой картины. К мировоззренческим
чертам религиозного способа мышления относятся
дуализм, мистицизм и идеализм.
Дуализм, как иллюзорное удвоение мира, есть
древнейший и существенный признак религиозного
мышления, восходящий к первобытному анимизму.
Вообще-то усмотрение двойственности,
разорванности, противоречивости окружающего мира не обя-
103
зательно должно быть религиозным или вести к
религии. Так, древнекитайское противопоставление «цинь»
и «ян», соответствующие идеи в греческой и
индийской мысли, констатирующие противоположности и их
борьбу и, следовательно, начинающие с
противоположения тьмы и света, верха и низа, добра и зла, огня и
воды, женского и мужского и т. д.,— это первый шаг
к стихийной диалектике. Однако,^ накладываясь на
анимизм, это раздвоение порождает специфический
религиозный дуализм, в котором совершается
перевертывание с ног на голову реального соотношения
материального и духовного. Эволюция
мифологически-религиозного дуализма идет от
первоначального представления о духе как двойнике тела к
представлению о многочисленных духах и душах, среди
которых устанавливается какая-то иерархия. Затем
этот дуализм подвергается значительному усложнению
и рафинированию: дух утрачивает все телесные
признаки и превращается воображением в нечто
совершенно бестелесное и невещественное, в чистый дух,
абсолют. При этом религиозный дуализм переплетается с
философским дуализмом платоновского или
стоического толка, так что в применении к христианству
приходится, как известно, говорить не только о вероу-
чительных, но и философских его источниках (Филон,
Сенека).
В своем уже сложившемся виде религиозный
дуализм конструирует наряду с земным материальным
миром еще один особый, высший мир, населенный
духами и богами, и придает этому идеальному миру не
только отдельное бытие, но и приоритет, исходность,
стабильность по сравнению с миром бренных вещей
и смертных существ. Этот приоритет — не только
временной, но и генетический (идея о сотворении мира
и боге-творце) и, главное, теократический в изначаль-
104
ном, буквальном смысле этого слова (идея о верховном
божественном правителе). В этом дуализме можно
найти и восстановить отражение земных социальных
порядков, саморазорванности и противоречивости
земной основы религиозного сознания.
Для обозначения двух противопоставляемых миров
в религиозном языке всех уровней, от благочестивого
просторечия до теологического лексикона,
применяются многочисленные оппозиции: земля (земное) —
небо (небесное), этот свет — тот свет,
посюстороннее — потустороннее, имманентное —
трансцендентное, телесное (плотское) — бестелесное (духовное),
дольний мир — горний мир, видимое — невидимое
(в символе веры), постижимое — непостижимое (в
катехизисе), физическое — метафизическое (в
религиозной философии) и так далее. И поскольку «всё
в руце божией», то второй член приведенных
оппозиций, разумеется,— основной, главный, исходный,
решающий, доминирующий.
Если «ни один волос не упадет с головы без воли
божией», т. е. решительно все в этом мире подчинено
высшему миру, то в любом факте, событии, явлении
религиозный ум усматривает высший смысл —
знамение, пророчество или просто волю высшей силы. Это
и есть клерикализация мышления, в жизни приводящая
к фатализму мусульманского или кальвинистского
толка, а в теологии и философии — к такому, скажем,
феномену, как окказионализм Н. Мальбранша,
опирающийся на декартовский дуализм и состоящий в том,
что любой случай причинно-следственной связи в
природе вызывается богом.
Этот дуализм придает мышлению неизбежную
амбивалентность, раздвоенность. Мышление
становится символическим и метафорическим. В слова
общечеловеческого языка вкладывается высший, «духов-
105
ный» смысл. Так, под рукою творца надлежит разуметь
высшую волю божества, под оком — его всеведение.
В религии метафора выполняет иные функции, нежели,
например, в поэзии, так как истолкование
(герменевтика) направлена на мир иной.
Мистицизм или просто мистика часто понимается
в расширенном или, наоборот, суженном значении.
В широком понимании под мистическим понимают
религиозное вообще и, значит, не различают религию
и мистику. Это не лишено основания, но все-таки вряд
ли можно признак, пусть и универсальный,
приравнять ко всему предмету. Узкое понимание мистики
встречается там, где этим термином обозначают
неофициальные, внецерковные направления
религиозности в прошлом или настоящем. Можно, однако,
считать, что мистицизм есть иррациональное
убеждение или уверение в возможности и реальности
непосредственного контакта религиозного субъекта
со своим объектом, т. е. потусторонним миром и его
силами, непременно сопровождаемое переживанием
непостижимой тайны этого контакта. Эта
фантастическая двусторонняя коммуникация в одном
направлении — снизу вверх — осуществляется через молитву
и обряды, не случайно называемые таинствами, а в
другом направлении — сверху вниз — через
божественное попечение и чудо.
Мистическим поэтому является всякое
религиозное мировоззрение. Ибо в одном случае субъектом
мистического контакта выступает индивид, верующий,
в другом — коллективный субъект, т.е. община, группа
или церковь. Отличие неконфессиональной мистики в
том, что она часто отвергает обязательность
посредника — духовенства — в этой иллюзорной
коммуникации, а это, конечно, вызывает осуждение церкви.
Тем не менее и церковь отнюдь не отрицает мистич-
106
ности своего вероучения и культа, что выражено, нап-
пример, в образе небесной церкви как «мистического
тела Христа» (corpus mysticum Christi) у католиков или
в обозначении богословия как мистической
дисциплины у православных (ср. название известного труда
русского богослова В. Л осе кого: «Мистическая
теология Восточной церкви»). Видовое отличие
конфессиональной мистики — утверждение о том, что
«вне церкви несть спасения», то есть что контакт с
вышним миром не состоится без принадлежности
к «мистическому телу Христа», достигаемой в
таинстве крещения, и без участия в таинстве причащения,
подтверждающем эту принадлежность. А
поскольку все культовые действия — в ведении церкви, то
именно она, мол, гарантирует мистическое единение
с богом.
По религиозному пути идет мистичность в том
случае, когда происходит возвеличивание верховного
лидера, приписывание ему харизматических
(божественно-спасительных) свойств, часто
приобретающее официальный характер поклонение ему,
восхваление и алилуйщина. Явный оттенок мистики
наблюдается и в самой общественной структуре, которая
становится сложной и громоздкой, особенно в сфере
управления и власти. Создавшаяся система
ускользает и из-под контроля своих создателей. В
результате возникает и упорно держится абсурдность,
иррациональность и бессмысленность многих свойств
и действий бюрократической машины. Превратная
действительность во множестве порождает
парадоксальные и нелепые мистические ситуации, вполне
достойные пера Гофмана и Кафки, Щедрина и
Булгакова. Реакцией на подобную мистическую атмосферу
являются в обыденном сознании сентенции типа «не
нашего ума дело», «может, так и надо» и т. п., пола-
107
гающие какой-то высший смысл в том, что такого
смысла не имеет. Религиозное отношение ведет к
оправданию любого зла ссылкой на непознаваемость
действий и побуждений высших сил: «Тайна сия велика
есть». И здесь очевидна связь с «неисповедимостью
путей господних». Психология «винтика» — это
модернизированный вариант сознания «раба божия». Она
оправдывает все совершающееся и тем самое себя,
ставя на этом точку и отталкивая даже возможность
свободно и самостоятельно разобраться в
происходящем, не говоря уже о своем влиянии на ход событий.
Именно в этом проявляется мистичность несвободного
сознания.
Конечно, тайны непрерывно возникают в ходе
человеческого познания. Но они столь же непрерывно
и раскрываются. Мистическое же мировоззрение
закрепляет тайну навсегда — «и ныне, и присно, и во веки
веков». По этой причине мистика, как и религиозное
сознание в целом, антигносеологична, т. е.
несовместима с реальным прогрессирующим познанием, для
которого трезвое осознание достигнутых им пределов
отнюдь не повод для отчаяния.
Если вслед за Энгельсом и Лениным считать, что
у философского идеализма и религии — общие
гносеологические и социальные корни, то их генетическое
и содержательное сходство очевидно, хотя имеются и
не столь очевидные отличия: вымывание из идеализма
эмоционального и культового моментов, логичность
философско-идеалистических рассуждений и т. д.
Но главное состоит в том, что идеализм —
утонченная поповщина, рафинированная религия, так как
фигурирующие в нем исходные категории, такие, как
идея, дух, абсолют, мировая воля и прочие,— это,
как выясняется, другие обозначения все того же
господа бога. Но если это так, то можно сказать, что
108
религия — это упрощенный, огрубленный, массовый
идеализм.
При этом стоит вспомнить такую в общем-то
известную вещь, как большую согласованность
религиозной идеологии с объективным идеализмом, который
настаивает на онтологичности духовного начала.
Впрочем, и с субъективным идеализмом она после
некоторых схоластических усилий тоже согласуется:
достаточно вспомнить епископа Беркли, преблагопо-
лучно выводившего бога из ощущений, или
субъективно-идеалистический в своей сущности августинизм,
сосуществующий с объективно-идеалистическим
томизмом, не говоря уж о христианском
экзистенциализме Г. Марселя или Н. Бердяева. И поскольку речь
идет именно о мировоззренческих чертах
религиозного мышления, то идеализм несомненно к ним
относится.
Идеализм рассматриваемого типа может
проявляться по-разному, каждый раз меняя свой облик
и выступая то как волюнтаристская догма о
развитии общества по предначертаниям вождя или
начальства, то как стремление заставить всех воспринимать
действительность через призму выгодной кому-то
интерпретации, то, наконец, в виде рассуждений
о примате духовных потребностей по сравнению с
материальными. Последний мотив, как нетрудно
заметить, восходит к евангельской проповеди о
ничтожности земных благ по сравнению со спасением души.
Конечно, духовность противостоит «вещизму». Но, во-
первых, духовные потребности, устремления и
интересы могут быть самыми разными, и само обозначение
их как духовных еще ни о чем не говорит: они могут
оказаться и со знаком минус. Разве проповедь лидеров
пресловутой «Памяти» и единомысленных с нею
органов печати, например, не относится к сфере ду-
109
ховной жизни? Во-вторых, не исключено здесь и
лицемерие проповедников такого рода идеализма,
пропагандирующих презрение к материальным благам для
других, но для себя в жизни придерживающихся
совсем иного. Хорошо известно, что само понятие
ханжества имеет связанное с религией и отношением
к ней происхождение. О такого рода проповедях
почти полтора века тому назад Генрих Гейне писал:
«То старая песнь отреченья была, легенда о радостях
неба, которой баюкают глупый народ, чтоб не просил
он хлеба. Я знаю мелодию, знаю слова, я авторов
знаю отлично; они тайком тянули вино, проповедуя
воду публично». Небо заменяется «светлым будущим»,
только в этом разница.
Следует, однако, заметить, что, несмотря на
родство религии и идеализма, история философии знает
немало случаев выступлений мыслителей, обычно
причисляемых к идеалистам, против религии и, в конечном
счете, против религии как таковой, а не отдельных
конфессий (Ф. Ницше, 3. Фрейд, Б. Рассел, Ж. П. Сартр
и другие). Очевидно, здесь противостояние
философского разума слепой вере оказывается сильнее,
нежели исходное родство идеализма и религии.
Недаром митрополит Питирим в одной из телевизионных
передач сказал, что, по его мнению, философия
может быть сродни религии, но в любом случае она
«иноприродна» по отношению к вере.
«ВЕРУЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЕПО»
Почему бы религиозному мышлению не быть
логичным? Ведь логике, как таковой, нет дела до
содержания суждений, они могут быть и неистинными, но
если их связать по правилам логики, то с этой позиции
религиозные построения могут оказаться
безупречно
ными. На этом, собственно, и строилась средневековая
аристотелева логика. Вот лишь один пример
«богословского силлогизма», заимствованный из учебника по
логике для Московской славяно-греко-латинской
академии: «Мзда без делания и трудов не бывает.
Живот вечный есть мзда. Убо без делания и трудов живот
вечный не дается». Всё в полном порядке, коли
допустить, что существует вечная жизнь («живот») за
гробом, но это уже к логике не относится.
И тем не менее превратное мышление не может
остаться логичным. В нем есть своя логика, но весьма
узкая, стиснутая, подавленная. Вполне органично она
превращается в свою противоположность — алогизм.
Превратное содержание религиозного мышления столь
сильно влияет на его форму — логику, что происходит
ее полная деформация. Так, дуализм, придающий
двойной смысл словам, создает почву для нарушения
закона тождества. Мистичность и таинственность
догматов приводит к несоблюдению логического
закона исключенного третьего. Их полнейшая
бездоказательность — грех против закона достаточного
основания. Но наиболее очевидной становится
алогичность религиозного мышления в несоблюдении
логического закона непротиворечия.
Логическая противоречивость, как утверждение и
отрицание одного и того же в одном и том же смысле,
пронизывает религию насквозь. Единый бог и троица,
предопределение и свобода воли, рождество и пред-
вечность Христа, всеблагость бога и мировое зло
(диавол), всеведение бога и грехопадение человека,
нераздельность и неслиянность двух начал в
богочеловеке — вот лишь малая толика противоречий в
христианском вероучении. ^Лы уж не говорим о столь
впечатляющем средоточии противоречий, как
священное писание.
111
Такое изобилие противоречий, не приемлемых для
здравого смысла, оказывается, однако, вполне ко
двору в превратном мышлении. То, что нелепо для
разума и рассудка, приемлемо для слепой и нерас-
суждающей веры. Религиозное мышление образует
в человеческом сознании как бы изолированный
остров, где законы логики не имеют силы, и потому он
населен призраками, несообразностями и абсурдными
противоречиями.
Богословские попытки выдать указанные
противоречия за конститутивные (или, говоря более привычным
для нас языком, диалектические) несостоятельны, так
как в религиозной мысли эти противоречия не
продвигают ее вперед, а, напротив, превращают в нечто
не только противоразумное, но и догматически
неподвижное.
Но неужели в религии нет своей диалектики?
Почему же, есть, как в любом объективно данном
социальном феномене. Но она выявляется только извне,
с нерелигиозных позиций. В религиозном же
самосознании — богословии — речь идет лишь о том, чтобы
либо схоластически замаскировать внутренние
противоречия писания и догматики, либо, если это не
удается, ссылкою на долг веры просто игнорировать
их. С давних пор, например, церковь практикует
особый прием, по которому надлежит верить в
совместимость противоречащих друг другу предложений,
хотя бы и оставалось совершенно неясным, как
возможно такое совмещение. Так, в решениях Халкидон-
ского собора сказано, что Христос не может быть ни
описуемым, ни неописуемым. Вывод, конечно,
невозможный, но церковь до сих пор придерживается его,
ссылаясь на обязанность веры исключать всякое
сомнение, тем более, что в решениях Второго Никей-
ского собора это противоречие было не только под-
112
тверждено, но и признано единственно допустимым и
истинно ортодоксальным. Противоречие, стало быть,
не решается и не устраняется, а попросту
канонически фиксируется.
Религиозное мышление оказывается, так сказать,
по ту сторону основания и противоречия. Поскольку
для общечеловеческого мышления логические
противоречия нетерпимы и абсурдны, религия
руководствуется известным тертуллиановским девизом credo
quia absurdum («верую, потому что нелепо») или его
же verum est quia impossibile est («это верно, потому
что невозможно»). Для успокоения же возмущенного
разума иезуиты рекомендуют прием sacrificium
intellects — «жертвование разума», принесение его в
жертву вере.
Тавтологичность, или порочный круг религиозного
мышления, как раз и очерчивает вышеупомянутый
остров веры. Оно замкнуто в недоказуемых догмах, что
в переводе на язык логики означает тождество тезиса
и аргументов. Все апологетические методы строятся по
одной схеме — petitio principii — «предвосхищение
основания», суть коей в том, что за доказанное
выдается то, что само нуждается в доказательстве. А это
приводит к возвращению к исходному тезису,
остающемуся тем же, каким он был, т. е. недоказанным.
Вот лишь один пример. Чудеса по давней
апологетической традиции считаются внешним признаком
божественного откровения, призванным убедить в
истинности последнего и, следовательно, в реальном
бытии высшей силы. Но в то же время возможность
чудес сама выводится из принимаемого за данное
наличия этой силы. Порочный круг религиозного
мышления становится здесь очевидным. Отсюда признание
богословами того факта, что дозволенное церковью
мышление не придает догматам логической принуди-
113
те ль ноет и и убедительности. И поскольку тезисы
вероучения даны с самого начала как нечто окончательное
и неизменное, то религиозная мысль, как бы она ни
разворачивалась, неизбежно приходит к тому же, от
чего отталкивалась, и, таким образом, сводится к
заколдованному кругу. Охарактеризованный выше
авторитаризм тоже тавтологичен, ибо замена
доказательства по существу простою ссылкою на авторитет есть не
что иное, как повторение одного и того же, idem per
idem.
Поэтому в религиозном мышлении логическое
обоснование, как таковое, невозможно, так как
неправильное доказательство ничего не доказывает. Это
приводит к замене действительного обоснования
многократным повторением одного и того же. Еще
Аристотель отличал искусство доказывания от искусства
убеждения. Убедить можно воздействуя не на разум
или здравый смысл, но на эмоции, подсознание,
инстинкты, т. е. применив внелогические средства,
которые в религиозном сознании берут верх над разумом
с его логикой. Если, например, внимательно
проанализировать любую религиозную проповедь, то отличие
этого жанра, скажем, от лекции как раз и состоит во
внелогическом убеждении.
ОТ МЫШЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ
Религиозная мысль, будучи, как и любое
мышление, вторичным по отношению к действительности,
тем не менее воздействует на практику и поведение
людей в определенных социально-исторических
условиях. Из прагматических, т. е. проявляющихся в
поведении и практике признаков религиозного
мышления упомянем только два, предупредив, однако, что это
114
в сущности одна и та же черта, так как вторая есть вид
первой: нетерпимость и фанатизм.
Нетерпимость к инаковерию и его носителям,
вытекающая из древней и устойчивой
социально-психологической оппозиции ичлы — они», принимает
различную степень остроты — от снисходительного
сожаления о «заблудших душах» до физического
уничтожения еретиков и «неверных». Нетерпимость
исходит из моральной оценки: всякий уклоняющийся от
догмы, обряда или послушания данной конфессии
совершает не только ошибку, но и грех. Любая конфессия
именно себя считает единственно правоверной,
остальные же оценивает с той позиции, насколько они
близки к ведомой только ей абсолютной истине или,
наоборот, насколько они удалились от нее. А раз так,
то иноверец, инославный или еретик, а уж безбожник
и подавно, по меньшей мере будет наказан богом,
его ждет геенна огненная.
Что касается «церкви земной», то, как известно из
истории, она большей частью не откладывала
наказание до загробной жизни грешника, и анафема, порка,
изгнание, порабощение, резня и костер были не столь
уж редкими карами за вероотступничество и даже
просто за непринадлежность к господствующей
церкви, не говоря уж о привилегиях для господствующего
исповедания и ограничениях для последователей иных
конфессий. Даже в наиболее благополучные времена
открытое или подспудное презрение, пренебрежение,
вражда или клевета по отношению к инаковерующим
составляют типичную и неотъемлемую особенность
религиозного поведения. Когда духовенство
демонстрирует свою терпимость в религиозной или внере-
лигиозной сфере, это никак не отменяет его
убежденности в несомненных преимуществах именно его
религии над всеми прочими. И это весьма значительно
115
ослабляет убедительность участившихся в последнее
время утверждений о гуманистическом содержании
религии и ее нравственного учения.
Фанатизм — крайняя степень религиозной
нетерпимости, сильно эмоционально окрашенная
религиозная одержимость, граничащая с тем, что называют
девиативным (отклоняющимся) поведением. Фанатизм
наиболее ярко выражен в религиозном экстремизме,
но, в сущности, глубоко заложен в любом мышлении
религиозного типа. Религиозная мания неизбежно
имеется и проявляется там, где отношение к богу и
высшим силам с убеждением в своем
привилегированном к ним отношении ставится на первое место в
жизни. Ненависть к тому, что не соответствует
исповедуемой вере, и к тем, кто к ней не принадлежит или от
нее отклоняется, жестокость к инаковерующим со
стороны господствующего или конкурирующего
религиозного направления или же упрямое отстаивание своих
верований со стороны гонимых, охотно
превращающихся в гонителей, преобладание враждебных эмоций
и инстинктов над доводами разума,— таковы некоторые
общие и типичные признаки религиозного фанатизма.
Фанатизм — непременный элемент религиозного
экстремизма, который может быть свойствен как
отдельным личностям и группам, так и целым
религиозным направлениям. Много примеров этому есть
и в истории, и в современном нам мире. Религиозный
фанатизм значительно усиливается и раздувается,
если сочетается с националистическим экстремизмом,
если используется в политической борьбе. Фанатизм,
конечно, встречается и вне религии, но перечисленные
здесь его признаки роднят всякий иной фанатизм с
религиозным. Восходящие ко временам Реформации
призывы к веротерпимости, к сожалению, услышаны не
были ни тогда, ни позже.
116
Возникнув, вызрев, сосредоточившись и
отстоявшись именно в религии, охарактеризованный выше
способ мышления распространился и на иные сферы
духовно-практической деятельности, что исторически
проистекает из многовекового сосредоточения всей
или почти всей духовной деятельности в церкви и из
роли религии как духовной санкции соответствующего
социального устройства и образа жизни. Не случайно,
скажем, такие до сих пор применяемые в идейно-
политической сфере характеристики, как догматизм,
сектантство, казуистика, схоластика, пиетизм,
апологетика, культ, иезуитизм, доктринерство и другие,
имеют ясно прослеживаемое религиозное
происхождение.
Реакционные и застойные явления в общественной
жизни неминуемо порождают регресс и застой в
мышлении, благоприятные для сохранения и даже
оживления религиозности. Так, за несколько последних
десятилетий наша идеология кое в чем приобрела
определенные признаки религиозной доктрины, элементы
авторитарности, начетничества, схоластического
теоретизирования. При этом верность тех или иных ее
положений обосновывалась их сопоставлением не с жизнью,
не с реальностью, а со сказанным в первоисточниках
и очередных указаниях вождя. Желанным идеалом
стала единая, данная или одобренная свыше точка
зрения, которую положено лишь усвоить и
пропагандировать, т. е. проповедовать. Это вело к мертвому
догматическому единству, превращающему
общественную дисциплину в подобие теологии или
вероучения, а «научные» обсуждения в
псевдотеоретические молебны, как назвал их член Политбюро,
секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев.
117
У Карела Чапека тиран говорит философам: «Я буду
действовать, а вы будете обосновывать мои действия».
Нечто подобное сложилось у нас в отношениях между
политикой и общественной наукой. Принимается
сугубо волевое решение, организационное или
политическое, затем науке предписывается найти этому
решению «теоретическое» обоснование, что ею и
выполняется. Образуется уже знакомый нам по
религиозному мышлению порочный круг: решение
будто получает искомое «научное» обоснование,
но «наука» при этом исходит из заданного и
заранее принимаемого за истинное постановления.
Такая идеология неизбежно превращается в
апологетику.
Известно, что Сталин еще в 1921 году рассматривал
партию большевиков как орден меченосцев в
Советском государстве ', а в 1952 году вновь повторил эту
свою мысль. Но если есть свой орден или церковь, то,
разумеется, есть свой бог или пророк его. Есть свои
еретики или объявляемые таковыми. Появляются
и иноверцы — например, социалисты,
социал-демократы, считающиеся прямыми врагами. Родственная
религиозной нетерпимость привела в сталинские
времена к многочисленным тяжким и трагическим
последствиям.
Подмена знания верою превращает идеологию в
набор слабо связанных и имеющих прагматическую
направленность лозунгов, призывов, штампов,
вырванных из контекста цитат. Идеология, подобно
богословию, оказывается по ту сторону обоснования, что
неминуемо происходит с любым мышлением,
формируемым не для творчества, а для послушания свыше
поступившему откровению, распоряжению или поста-
1 Сталин И. Сочинения. Т. 5. С. 71.
118
новлению. Обычной становится апелляция к
изначальному авторитету, который ставится выше любого
другого и которому придаются привычно религиозные
свойства всеведения, непогрешимости, гениальности и
спасительности. Борьба идей подменяется битвою цитат.
Все это заставляет вспомнить средневековую
богословскую пословицу «у авторитета восковой нос», т. е. он
может быть повернут в любую сторону, и
процветавший тогда же обычай «клясться словами Учителя»
(jurare in verbis Magistri).
Замещение знания верой идет навстречу еще
распространенному желанию не завоевать, не выстрадать,
не добыть желанную истину, а получить ее в готовом
виде на манер божественного откровения, возложив
все умственные труды на кого-то другого по
принципу «сверху виднее», по давней рабской традиции
приравняв авторитет знания и истины к авторитету
звания или должности. Вера выступает здесь как
заполнение пробелов в рациональном постижении.
Демократизация общества ведет к устранению
такой веры из массового сознания благодаря
гласности и образованию, непосредственному участию
каждого в преобразовании общества и управлении им.
Лишь в этом случае создается такая атмосфера, когда
не требуется принятия на веру того, что может и
должно быть осмыслено, осознано, обосновано.
Перестройка, как известно, означает, помимо всего
прочего, выработку нового мышления, свободного от
сковывающих его пут, во многом являющихся
пережитком или отголоском религиозного мышления.
В последние годы в адрес научного атеизма
прозвучало немало резких, но справедливых упреков.
Он, как и общественная наука в целом, испытал на себе
вредное и разрушительное влияние сталинщины. Своей
нетерпимостью, самоуверенностью, догматичностью
119
и односторонностью он давал «теоретическое
обоснование» гонениям на церковь, репрессиям против
духовенства и верующих, ограничению и подавлению
свободы совести. Поэтому с началом эпохи перестройки
и гласности этот скомпрометировавший себя атеизм
стал оцениваться как принудительный, упрощенный
и необъективный по отношению к религии. Отсюда —
по правилу маятника — влиятельное и даже
преобладающее сейчас среди части интеллигенции
примиренческое, а чаще прямо апологетическое отношение ко
всему религиозному.
Можно, конечно, приводить сколько угодно фактов
позитивного содержания, влияния и использования
религии в истории. Можно призывать к сотрудничеству
с церковью и другими религиозными организациями
в миротворческой, благотворительной и иной
деятельности, в сохранении памятников старины и даже в
заботе о нравственности. Но если принять во внимание
все, о чем говорилось выше, религия сама по себе, по
своей глубочайшей сущности, оказывается и остается
постоянным источником, спутником и образцом
порабощенного догматического мышления и
соответствующего ему поведения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В религиозной категории откровения несомненно
содержится неотъемлемое от всякой культурной
традиции стремление к сохранению и сбережению
важнейших культурных ценностей. В сакраментальном
вопросе «что есть истина?» речь идет не только об
истине в чисто познавательном плане, т. е. об
адекватности знания своему объекту, но и о правде в широком
смысле этого слова — о справедливости, благе.
Сосредоточение истины именно в божественном откро-
120
вении восполняет ее отсутствие в реальной истории
и действительности. Именно здесь проявляется та
функция религии, которую принято называть
компенсаторной. Так, относительность всякой истины,
расцениваемая как ее неполнота и недостоверность,
религиозное воображение компенсирует абсолютной истиной,
якобы присутствующей в божественном разуме, не
случайно получающем титул Абсолюта. Точно так же,
если «нет правды на земле», то она непременно
должна быть на небе. В катехизическом определении бога,
как духа вечного, всеблагого, всеведущего, всепра-
ведного, всемогущего, вездесущего, неизменяемого,
вседовольного и всеблаженного, постоянная приставка
«все» как раз свидетельствует о такой компенсаторной
абсолютизации, о тоске по абсолюту, о восполнении
в воображении имеющихся в мире несовершенств.
И ничего, что эти признаки бога, как давно уже
обнаружено, не вяжутся друг с другом,— вера,
проистекающая из надежды, всё превозмогает. Известный
шутливый афоризм «если нельзя, но очень хочется, то
можно» здесь как нельзя более кстати. Отсюда и
сосредоточение в категории божественного откровения
высших идеализированных ценностей, сокровенных
надежд и чаяний, иллюзорное освобождение и столь же
иллюзорная уверенность. Как поется в известном гимне
Лютера, «господь — наш истинный оплот, надежда и
твердыня, господь нас вызволит, спасет от бед,
грозящих ныне».
Но в таком случае все добытое человечеством в
длительном процессе неустанного борения за истину
и справедливость представляется не как его
собственная заслуга, а как дарованное от бога, как его
раскрытие в откровении. В более же широком культурно-
историческом контексте откровением стали именовать
не только то, что содержится в священном писании
121
распространенных религий, но и всякое достигнутое
в процессе познания и творчества переживание
внезапно открывшейся истины, бывшей до этого момента
сокрытой или смутной. Откровение в этом смысле
равнозначно озарению, наступающему как результат
предшествующих ему интеллектуальных творческих
усилий, как скачок, прерывающий постепенность.
Откровение-озарение может наступить не только в
процессе собственного творчества, но и быть воспринято
от других — в том случае, если твои собственные
размышления неожиданно и адекватно находят ответ и
решение в прочитанном, услышанном или воспринятом
тобою. Неизбежно сопровождаемое эмоциональным
переживанием, это откровение, очевидно, родственно
откровению религиозному, так как проистекает из
сходных гносеологических и психологических
механизмов. Именно здесь следует искать источник столь
многочисленных в мировой культуре, особенно
художественной, сравнений поэта с пророком или апостолом,
приписывания человеческому свободному творчеству
божественного достоинства. Это нередкое и обычное
для подлинного художника, но несомненно связанное
хотя бы в своих эстетических моментах с давней
религиозной традицией переворачивание реального
соотношения творящего человека и бога-творца.
Иное дело, когда откровением начинают считать
какую-то совокупность или систему
социально-политических идей. Здесь сходство названий отражает
сходство сущности: происходит превращение идеологии
в откровение, знания в веру со всеми присущими этой
трансформации особенностями, указанными Марксом.
Та просвещенно-философская форма, которую принял
«истинный социализм», была не более чем формой.
И то, что с ним произошло, неоднократно повторялось
со многими иными, включая и социалистические,
122
идейными течениями, не сумевшими преодолеть
соблазн сверхъестественного самоосвящения.
Но, как известно, религиозной традиции с давних
пор противостояла достаточно заметная традиция
свободомыслия. Освобождение свободного по своему
назначению человеческого мышления от сковывающих
его пут откровения находит свое логическое
завершение в марксизме — научной по своему замыслу
идеологии, полностью свободной от религиозного
налета и клерикальных пережитков. Отдельные шатания,
пытавшиеся вновь навязать этой революционной
теории цепи откровения, либо держались сравнительно
недолго (богостроительство), либо не приводили ни
к чему хорошему (маоизм, сталинщина).
Именно из религии проистекает трудно искоре-
нимая тенденция к сакрализации и, следовательно, дог-
матизации социально-политической идеологии. Но
формирующееся с прогрессом культуры
позитивное понимание отношения человека к миру и человека
к человеку сопровождается вытеснением
религиозных категорий вроде откровения рациональными
категориями научного мировоззрения.
Если подумать над тем, что такое свободомыслие,
то можно прийти к выводу: это, очевидно, не просто
свобода мышления от навязываемых ему извне норм
и ограничений, не только освобождение человеческого
духа от рабства, откуда бы оно ни исходило. В истории
мировой культуры свободомыслие отождествлялось
(да и до сих пор отождествляется) со свободою от
религиозного влияния, понимаемого как несвобода,
с протестом против освящаемого религией духовного
рабства. Свободомыслие стоит в одном ряду с такими
понятиями, как секуляризм, антиклерикализм, атеизм.
Да, да, именно атеизм! Когда нынче твердят, что
атеизм — это, мол, порождение тоталитарного репрес-
123
сивного режима, то это справедливо лишь по
отношению к насильственно насаждаемому атеизму. Это тот
самый атеизм, про который в свое время, по
свидетельству Энгельса, реформисты направления Луи Блана
говорили марксистам: «Стало быть, атеизм это и есть
ваша религия!» И в самом деле, такой атеизм расчищал
дорогу для обоготворения вождя.
Но есть свободомыслие другого рода. Оно
представлено именами Эрнста Геккеля, Вильгельма
Оствальда, Бертрана Рассела, и ныне объединено в такие
организации, как Всемирный союз свободомыслящих
и Международный гуманистический и этический
союз. Это свободомыслие отнюдь не может быть
обвинено в насильственном насаждении безбожия, ибо
возникло и существует в странах, где никогда не имело
места (по крайней мере, в Новое время) ни варварское
разрушение храмов, ни преследование духовенства,
проводимое от имени власти и во имя считающей себя
атеистической идеологии. Поэтому многие нынешние
нападки на атеизм вообще проистекают из слишком
узкого его понимания и недостаточной
информированности не только о его настоящем, но и о прошлом, если
иметь в виду развитие свободомыслия с древних
времен до наших дней.
Нынешнее восстановление подлинной свободы
совести лишает наш прежний «воинствующий» атеизм
его агрессивности и опоры на силу
покровительствующей ему власти. Только теперь, наконец, дело дошло
до настоящей идейной — и только идейной — борьбы
«на равных». Аргумент силы, к которому прибегали обе
стороны (правда, в разное время), сменяется наконец-
то силою аргументов.
Человеческое познание прошло долгий и сложный
путь — через истину и заблуждения, открытия и
иллюзии, озарения и разочарования. И на этом пути его со-
124
провождали неотвязной тенью различные идолы,
призраки, фантомы. Одним из них была доктрина
божественного откровения, в настоящее время существенно
ослабленная, но еще продолжающая существовать и
воздействовать на умы. Эта доктрина не беспочвенна,
она имеет свои познавательные и социальные корни,
равно как и религия в целом. И всё, что изложено в
этой книжке, призвано побудить читателя задуматься
над тем, насколько совместимы и совместимы ли
вообще категория божественного откровения и
представление о живом, плодотворном, истинном,
могучем, всесильном, объективном, абсолютном,
человеческом познании.
Эта известная ленинская характеристика
человеческого познания является, конечно,
идеализированной, так как оно берется, так сказать, «в чистом
виде», в направленном против агностицизма и
фидеизма перечислении того, на что познание способно в
своем непрерывном движении и совершенствовании.
Реальное же человеческое знание в любой
достигнутый момент не всемогуще, не абсолютно и не
стопроцентно объективно. Основываясь именно на этом,
богословы всех исповеданий много и упорно говорят
сегодня о несовершенстве и ограниченности науки,
о гипотетичном и вероятностном характере научных
положений и т. д. Умаление силы разума
предпринимается ими для того, чтобы дать место вере. По их
мнению, могущество и абсолютность присущи
изначально только истинам божественного откровения.
На впадая в догматический сциентизм, т. е. в
преувеличение роли и ценности научного познания, можно
тем не менее возразить им, что выработанные в
научной методологии положения о соотношении
абсолютной и относительной истины, достоверности и
вероятности знания, об ограниченности глубины и кругозора
125
науки в каждый отдельный момент и его
неограниченности в принципе, развитии и тенденции, о
субъективности и объективности знания и их критериях —
все эти и многие другие тезисы научного
мировоззрения делают упомянутые теологические выкладки
гораздо менее убедительными, чем этого хотелось бы
стоящим на позициях религиозного мировоззрения.
Священные книги, содержащие, по мнению
верующих, высшее божественное откровение,
представляют собою крупное и значительное явление в
мировой культуре и истории, и пренебрегать этим
непростительно и для неверующих. Но для последних в
божественном откровении отнюдь не заключена вся
глобальная истина, у них понятие о глобальном и
спасительном иное, а у многих даже противоположное.
Человеческая культура и ее ценности слишком сложны
и разнообразны, чтобы и в весьма известном и до небес
чтимом писании найти ответ на все вопросы, и даже на
самые важные из них. Человеческое познание выходит
далеко за пределы не только отраженного в древних
книгах, но и того, что в истории и культуре связано
с ними и основано на них. Поэтому попытка
представить научйое и иное знание как нечто ограниченное
и временное, а религиозную веру как нечто
всеобъемлющее и вечное никак не вяжется с действительным
положением вещей.
И как выясняется, то, что называют божественным
откровением,— это тоже творение человека. Иногда
заманчивое и величественное, иногда темное и
таинственное, порою благородное, порою жестокое. Но не
свыше дано оно. В нем, как и во всем созданном
волею и воображением, муками, радостями, надеждой
и верою,— все тот же Человек, создавший Бога
и приписавший ему свои и только свои мудрость и
заслуги.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава I
СВЫШЕ ДАРОВАННОЕ? 9
Глава II
О КРИТЕРИЯХ ОТКРОВЕНИЯ 36
Глава III
О ВНЕШНИХ ПРИЗНАКАХ ОТКРОВЕНИЯ 65
Глава IV
МЫСЛЬ ПОД ЗНАКОМ ОТКРОВЕНИЯ 92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 120
Григорий Аронович Габинский
Божественное откровение
и человеческое познание
Заведующий редакцией О. А. Белов
Редактор Н. А. Баранова
Младший редактор М. В. Архипенко
Художник В. А. Иванов
Художественный редактор А. А. Пчелкин
Технический редактор И. Г. Жигарева
ИБ № 5807
Сдано в набор 16.05.89. Подписано в печать
26.08.89. Формат 70ХЮ8'/з2. Бумага книжно-
журнальная офсетная. Гарнитура
«Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл. печ. л.
5,60. Усл. кр.-отт. 5,95. Уч.-изд. л. 5,33.
Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 4794. Цена 20 коп.
Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий». 103473, Москва,
И-473, Краснопролетарская, 16.