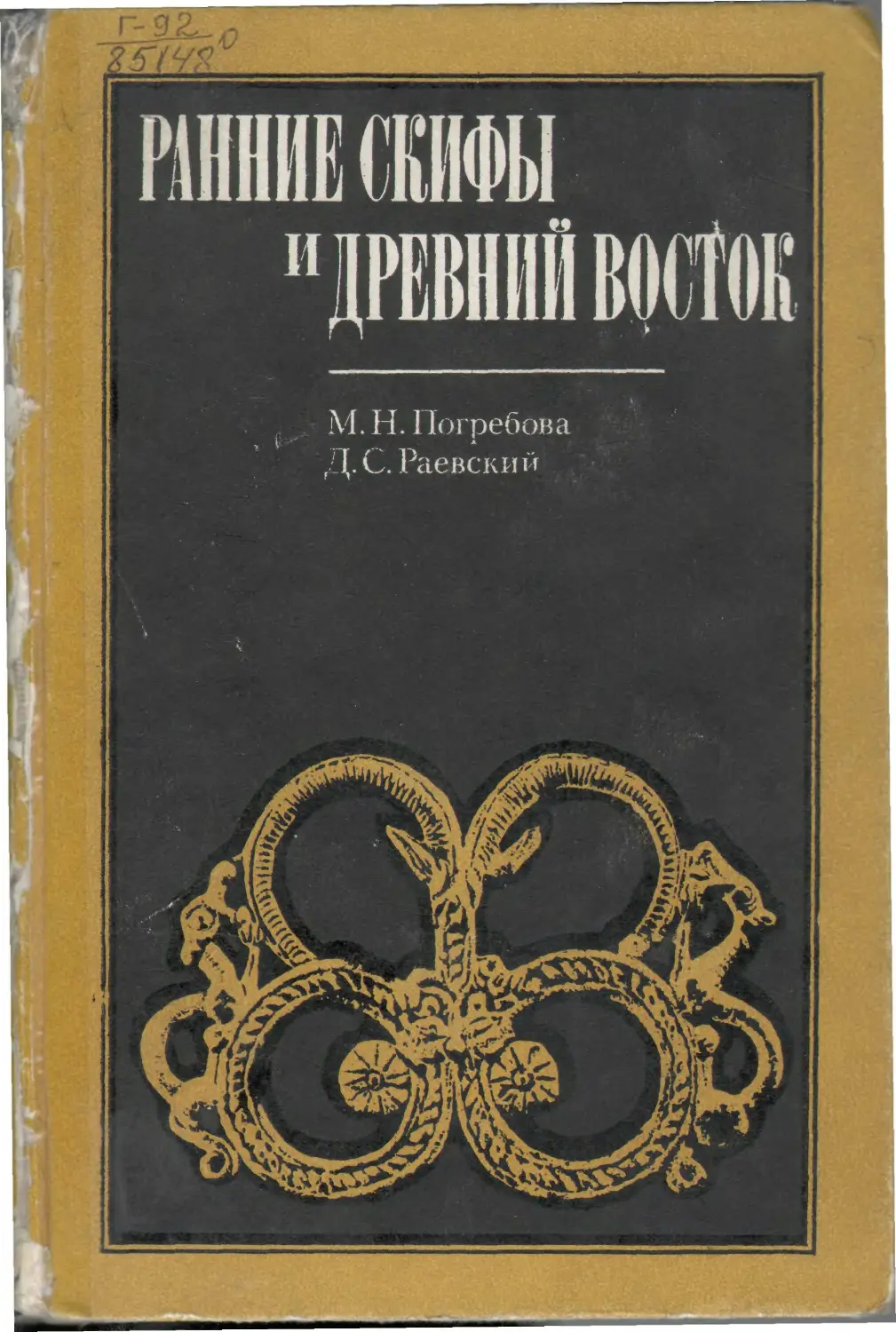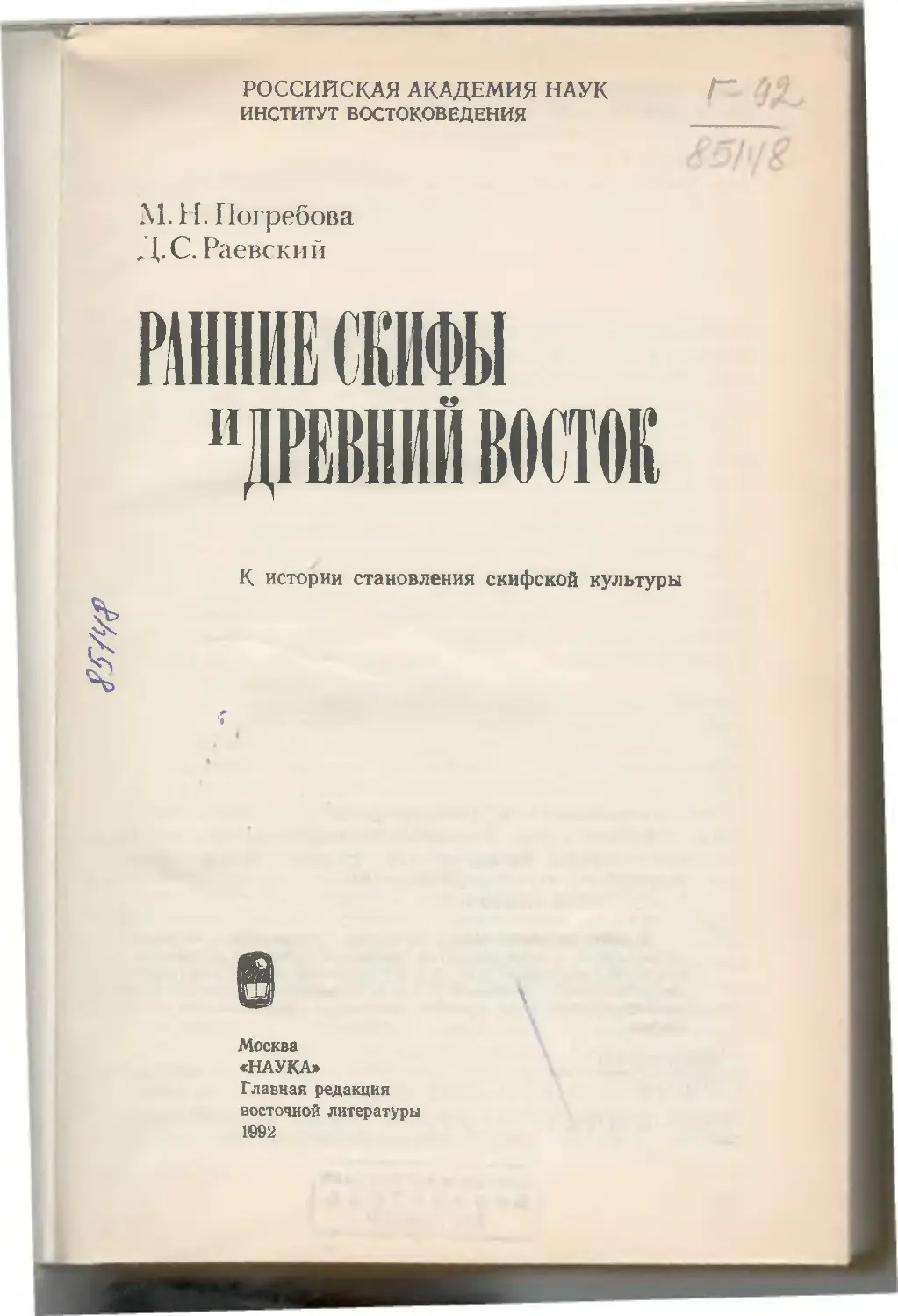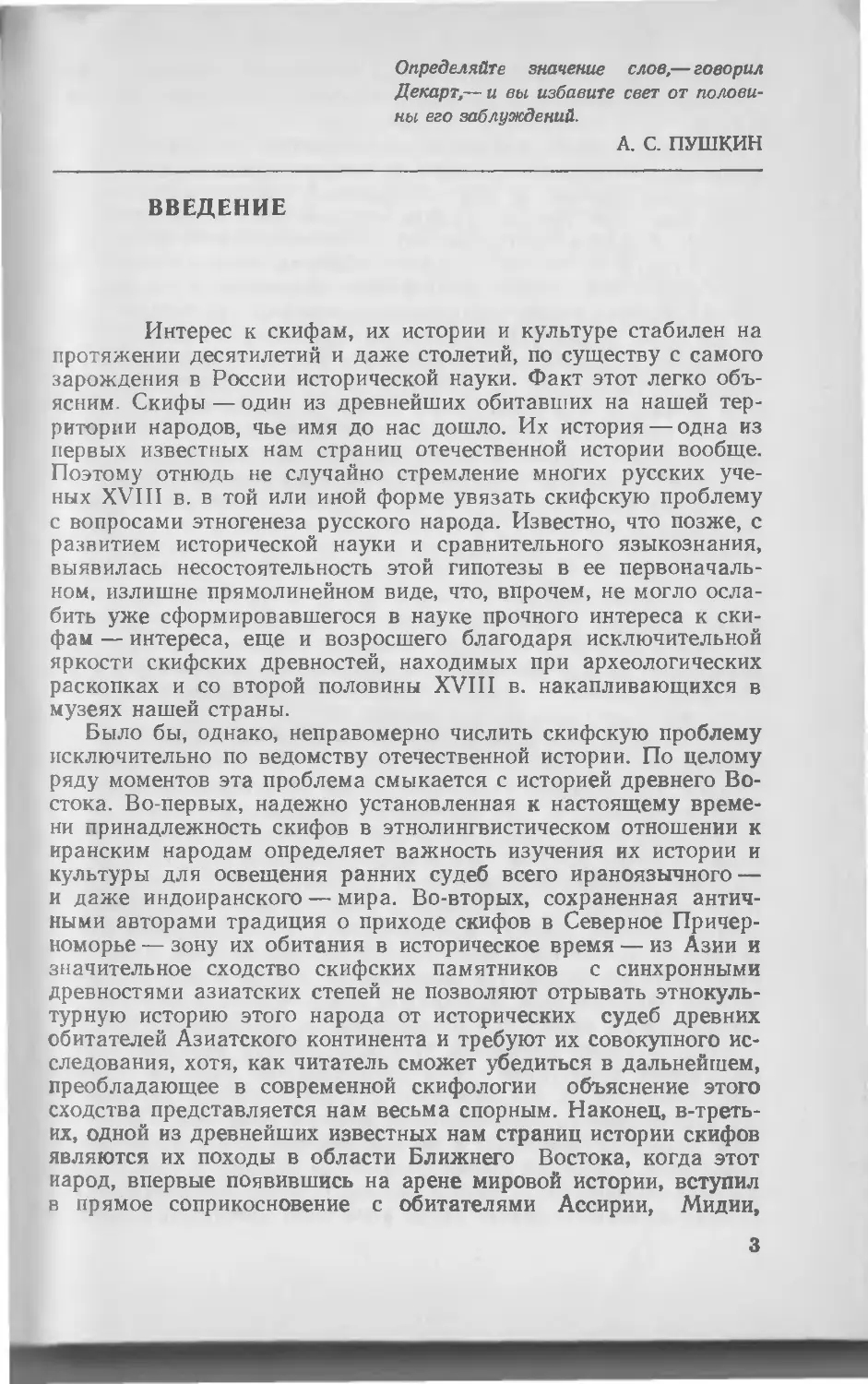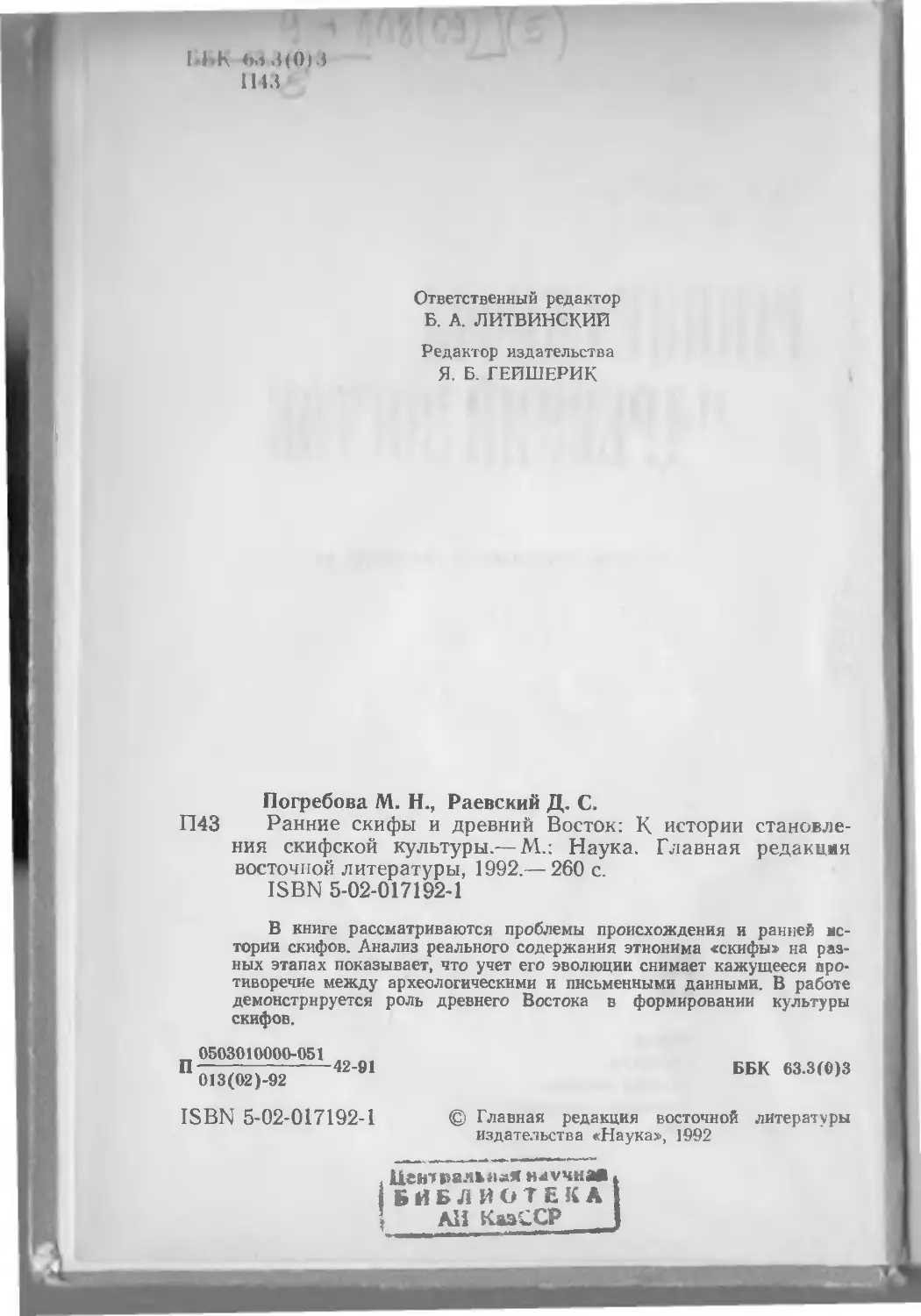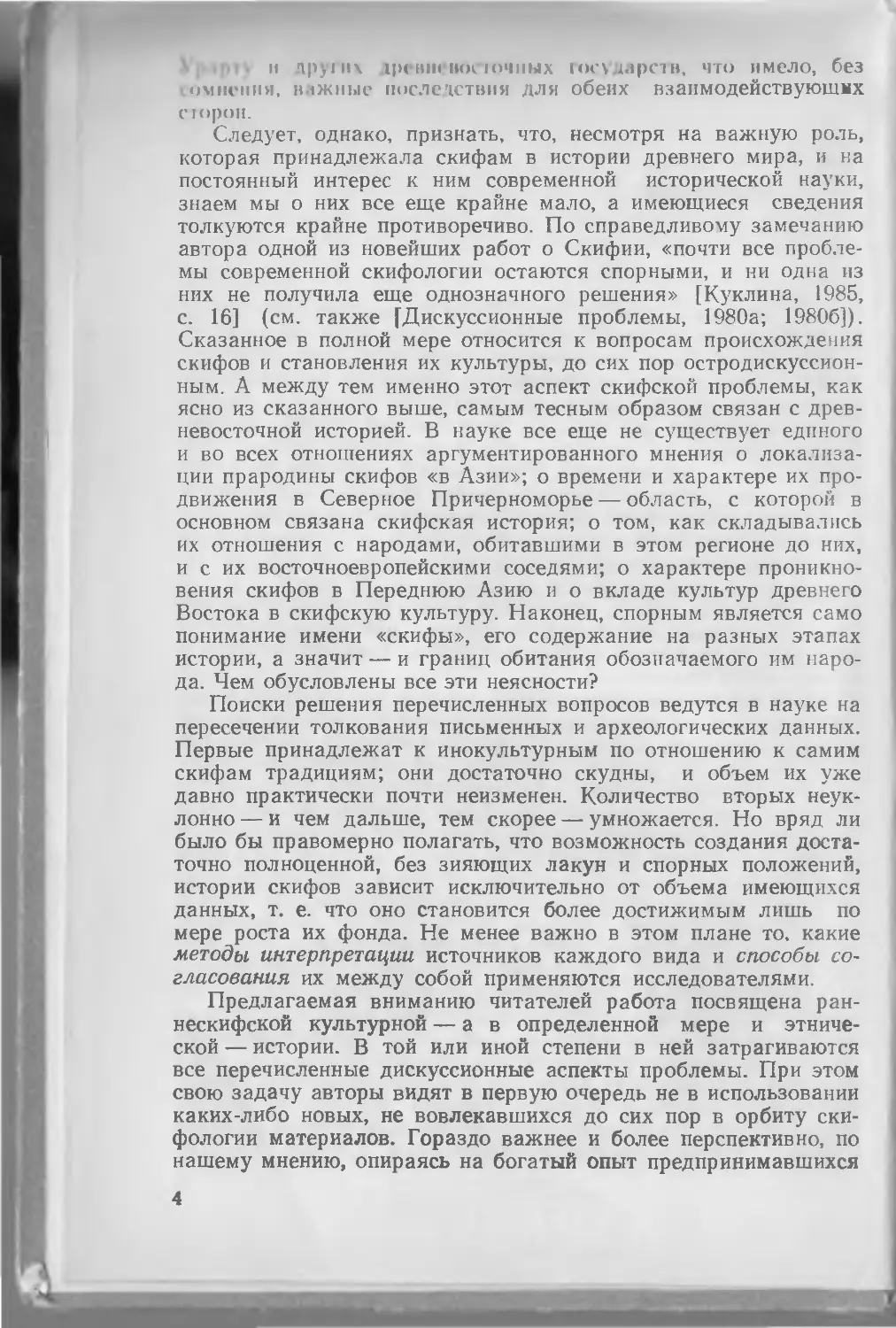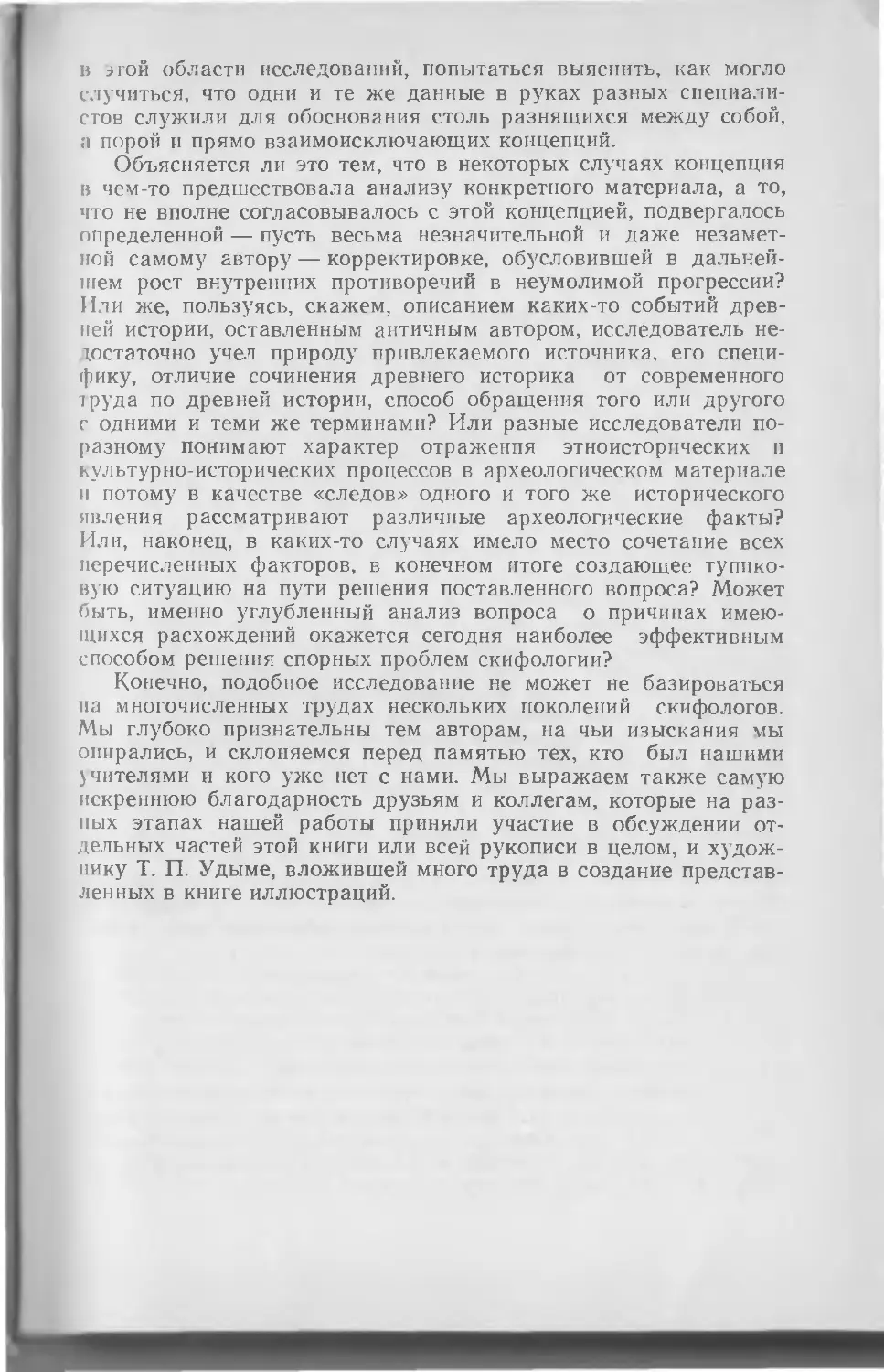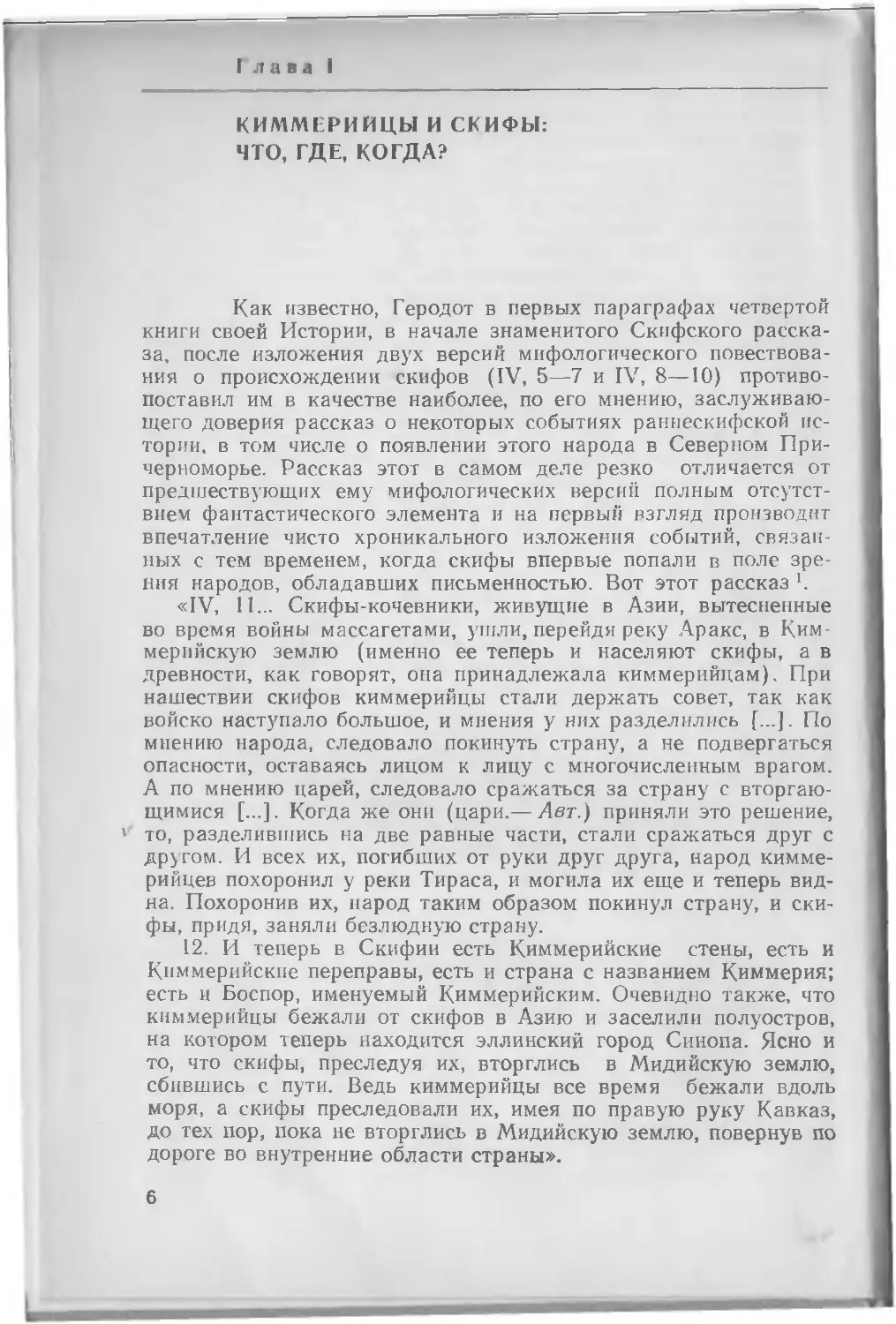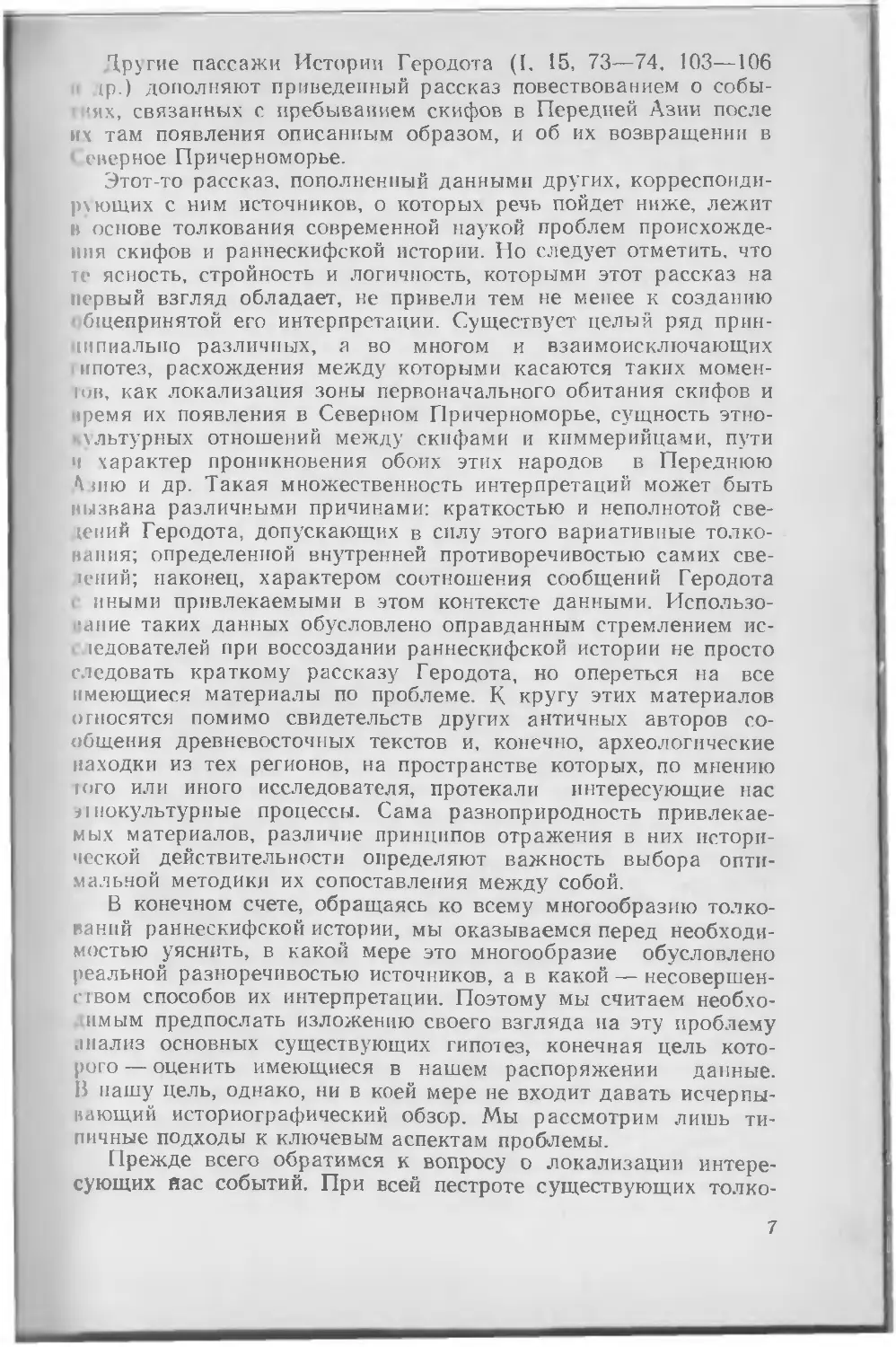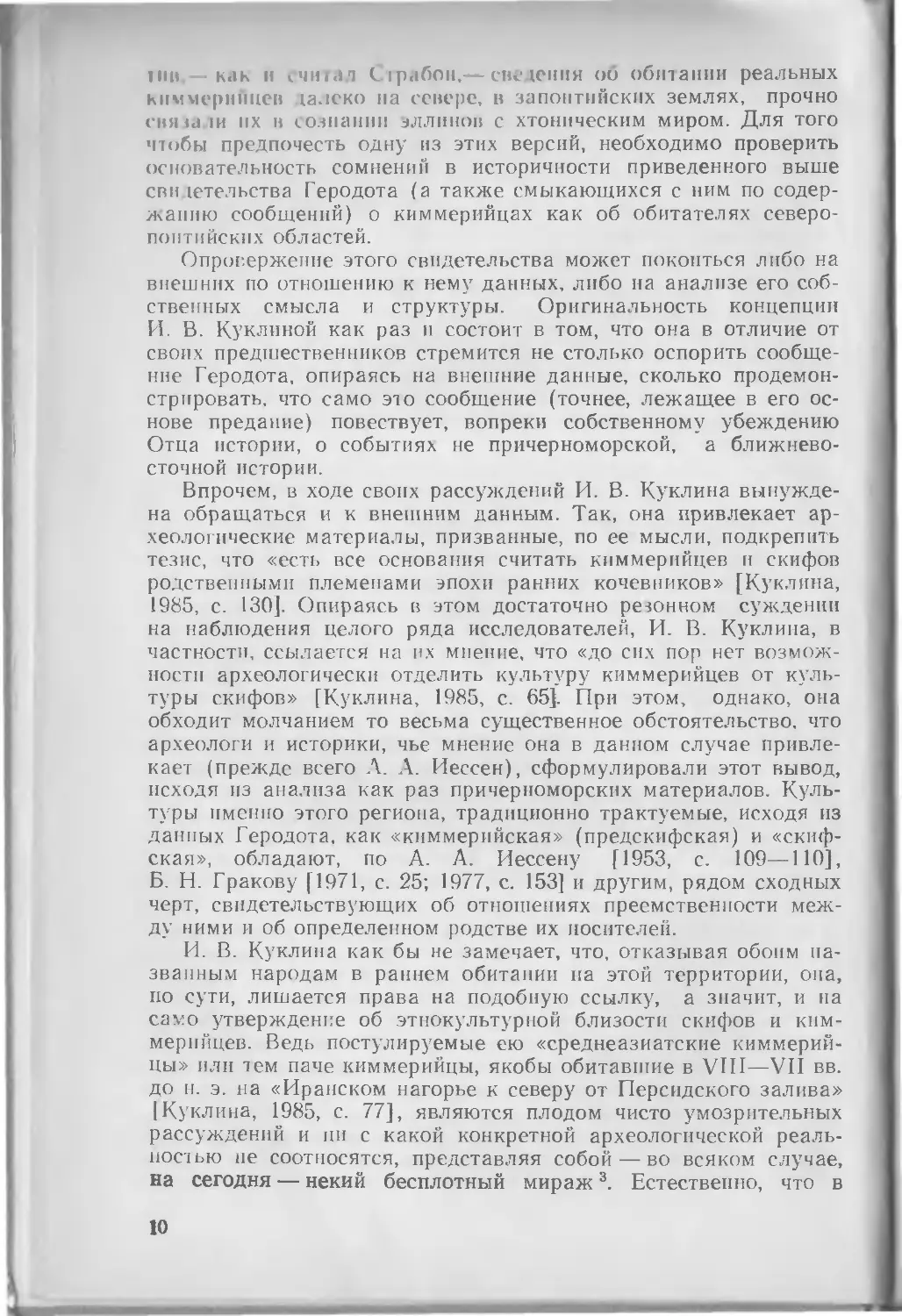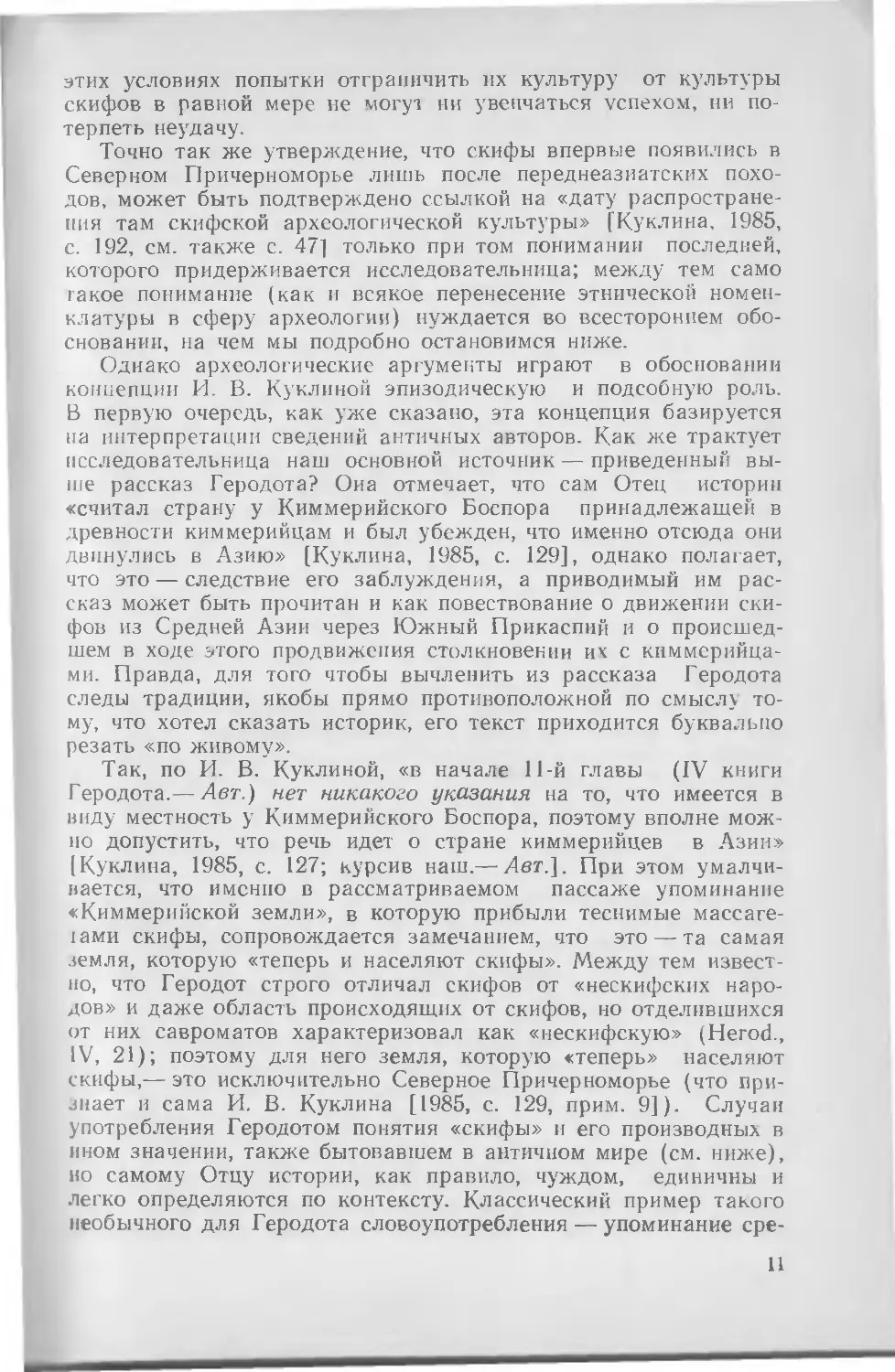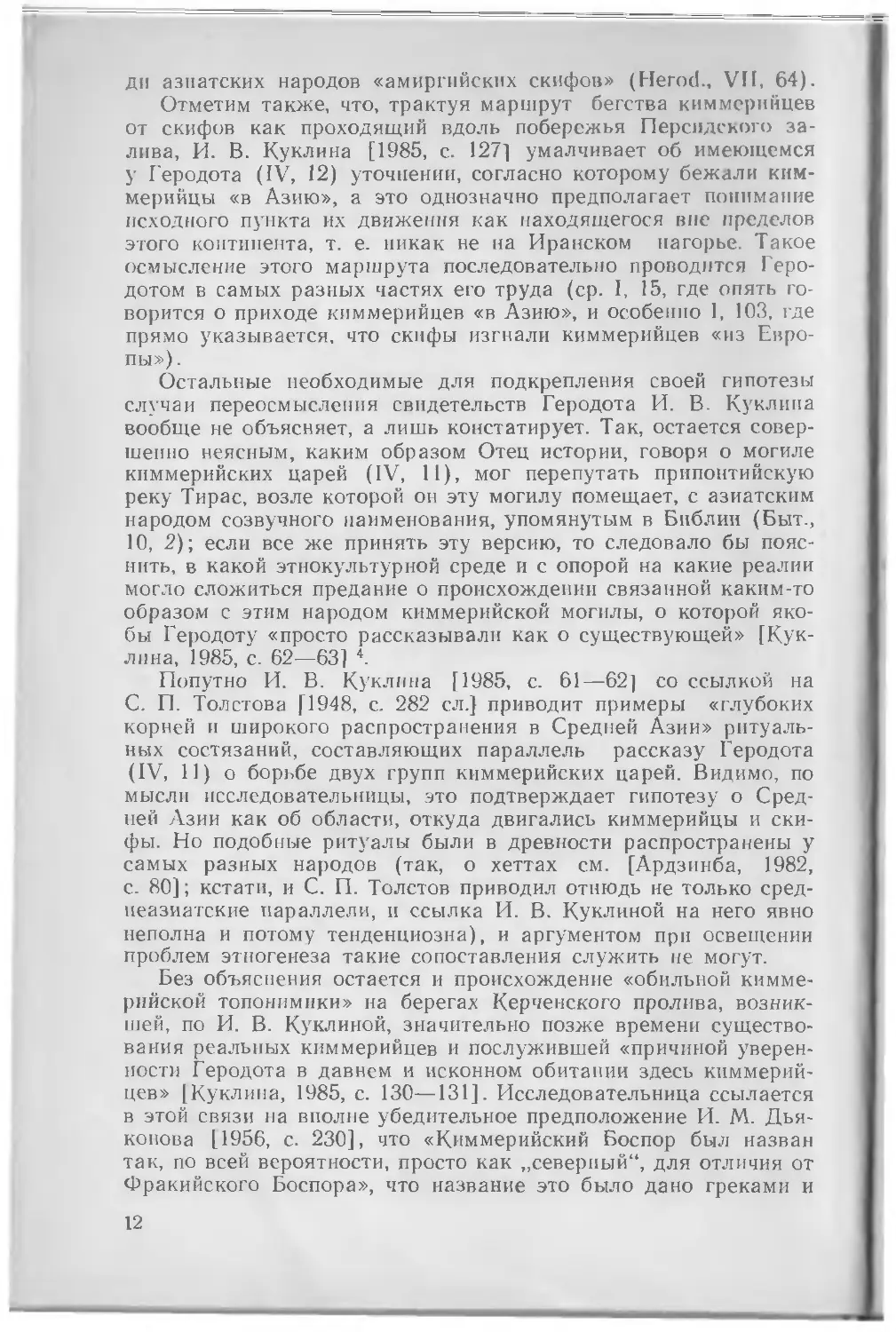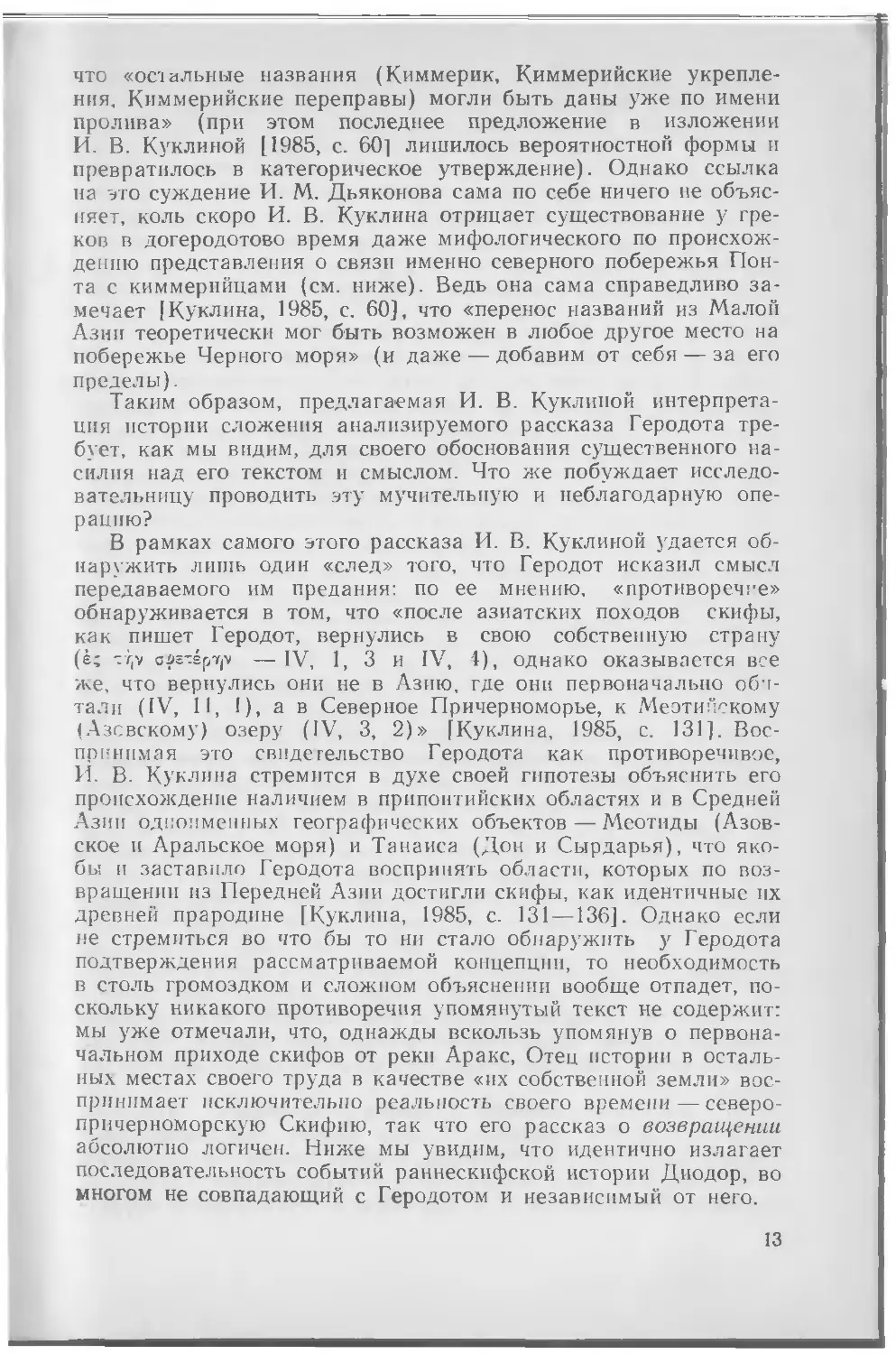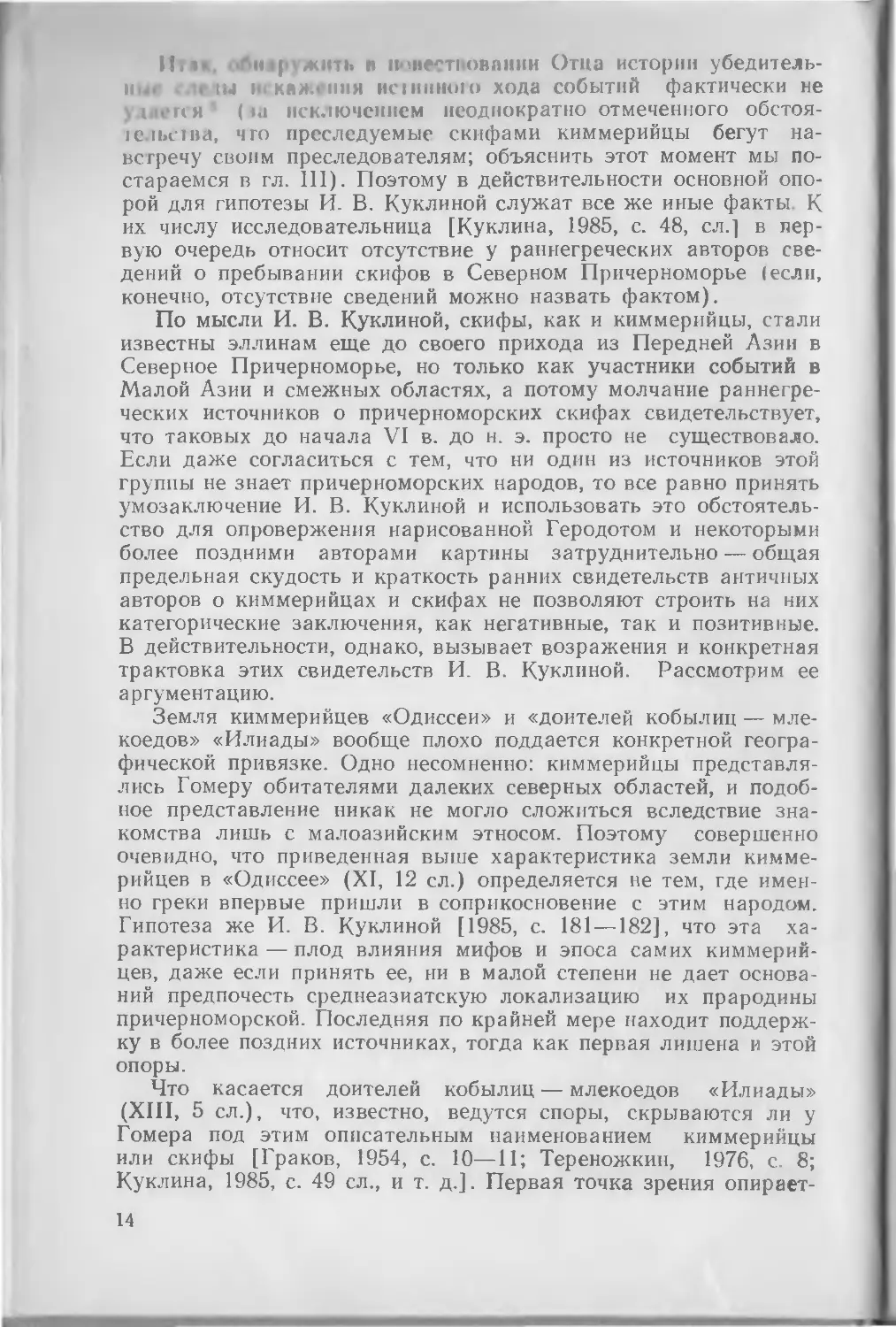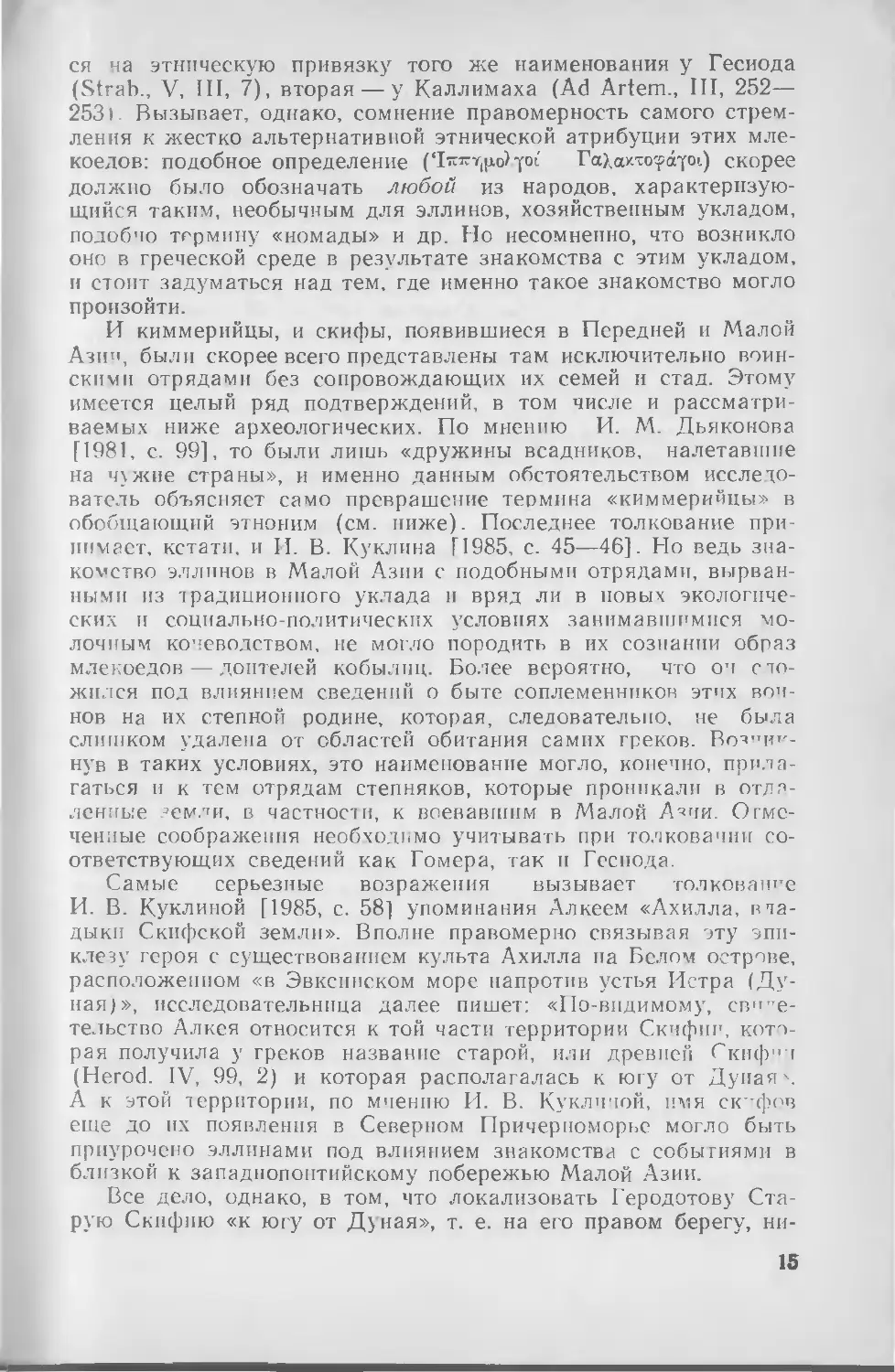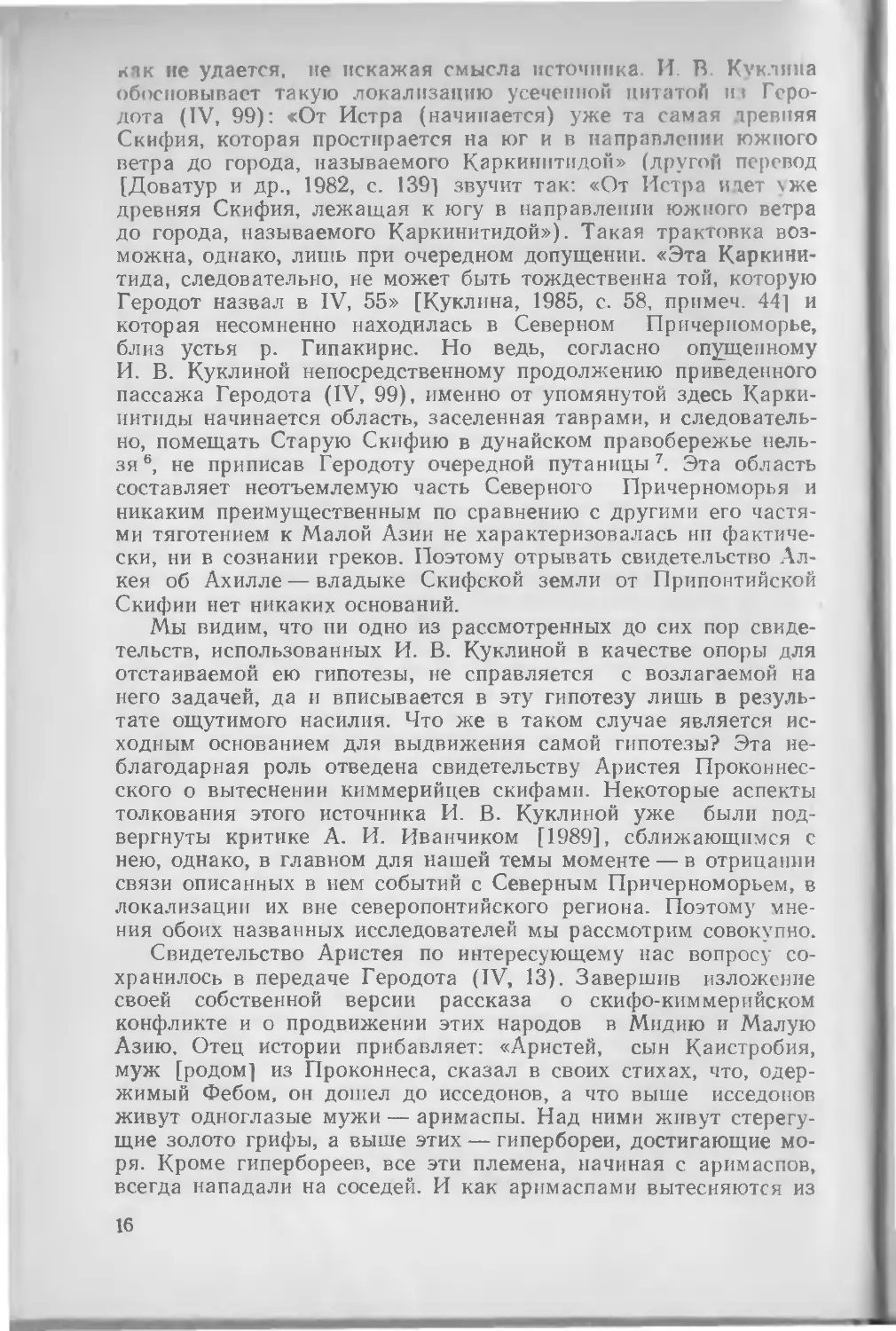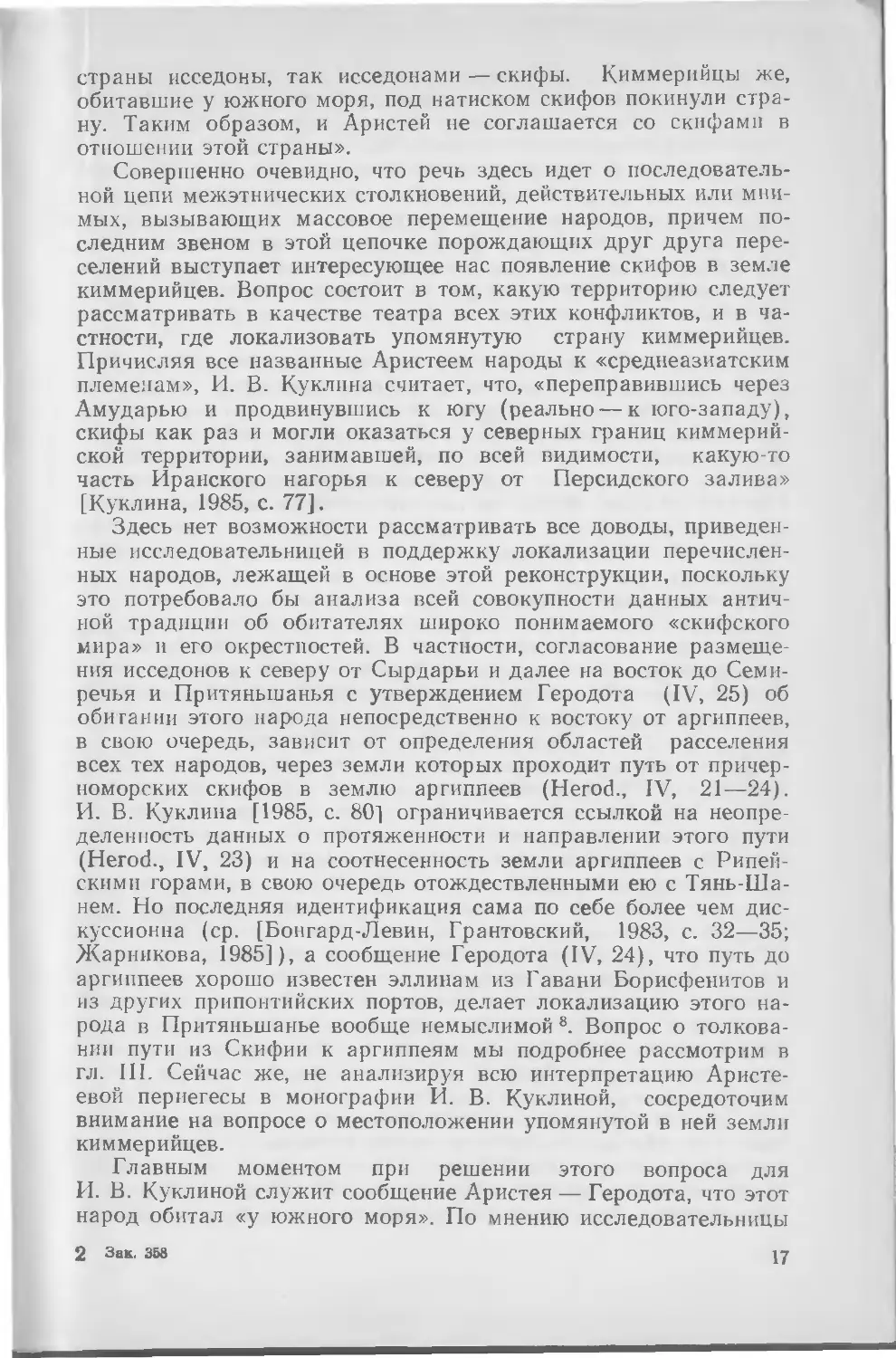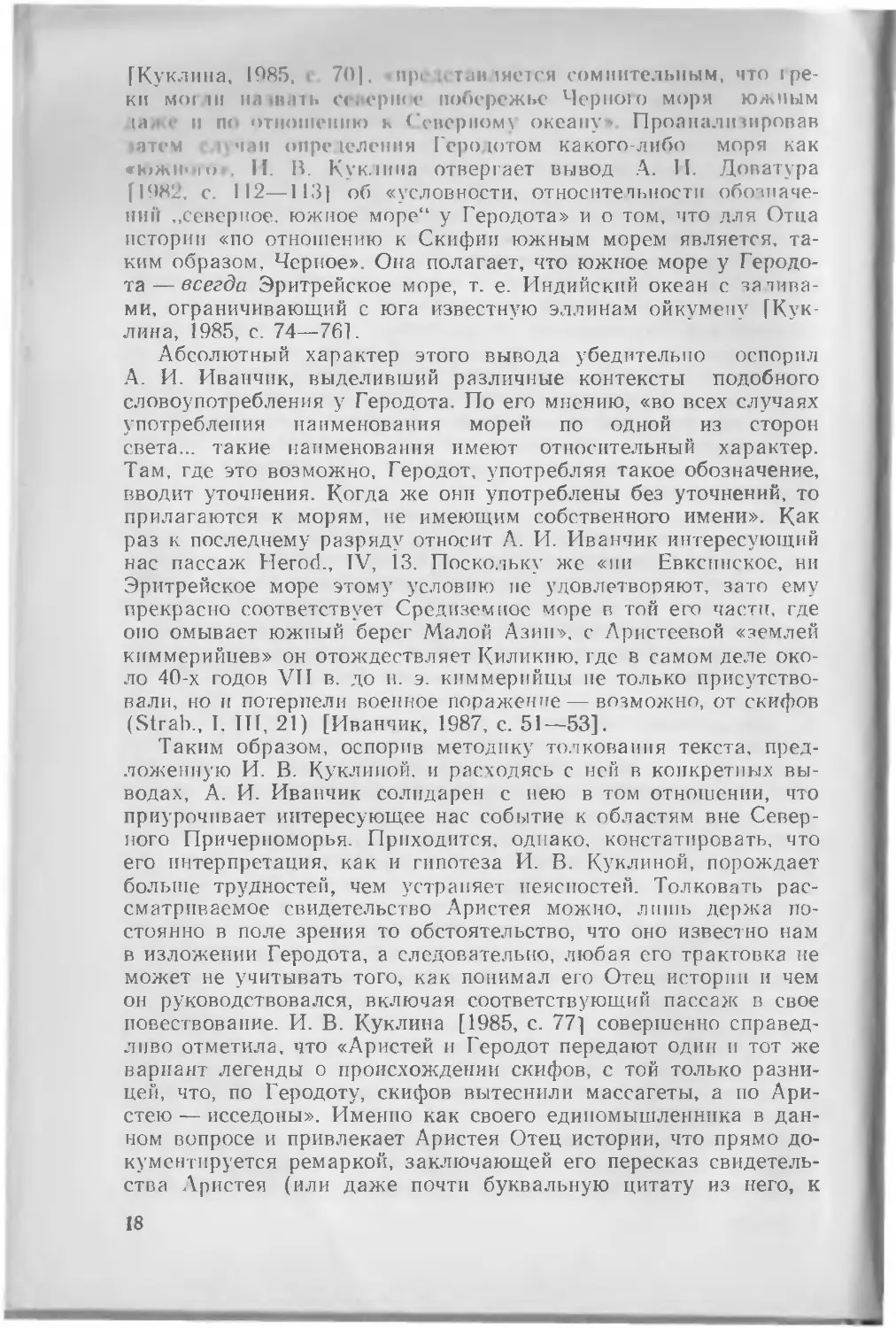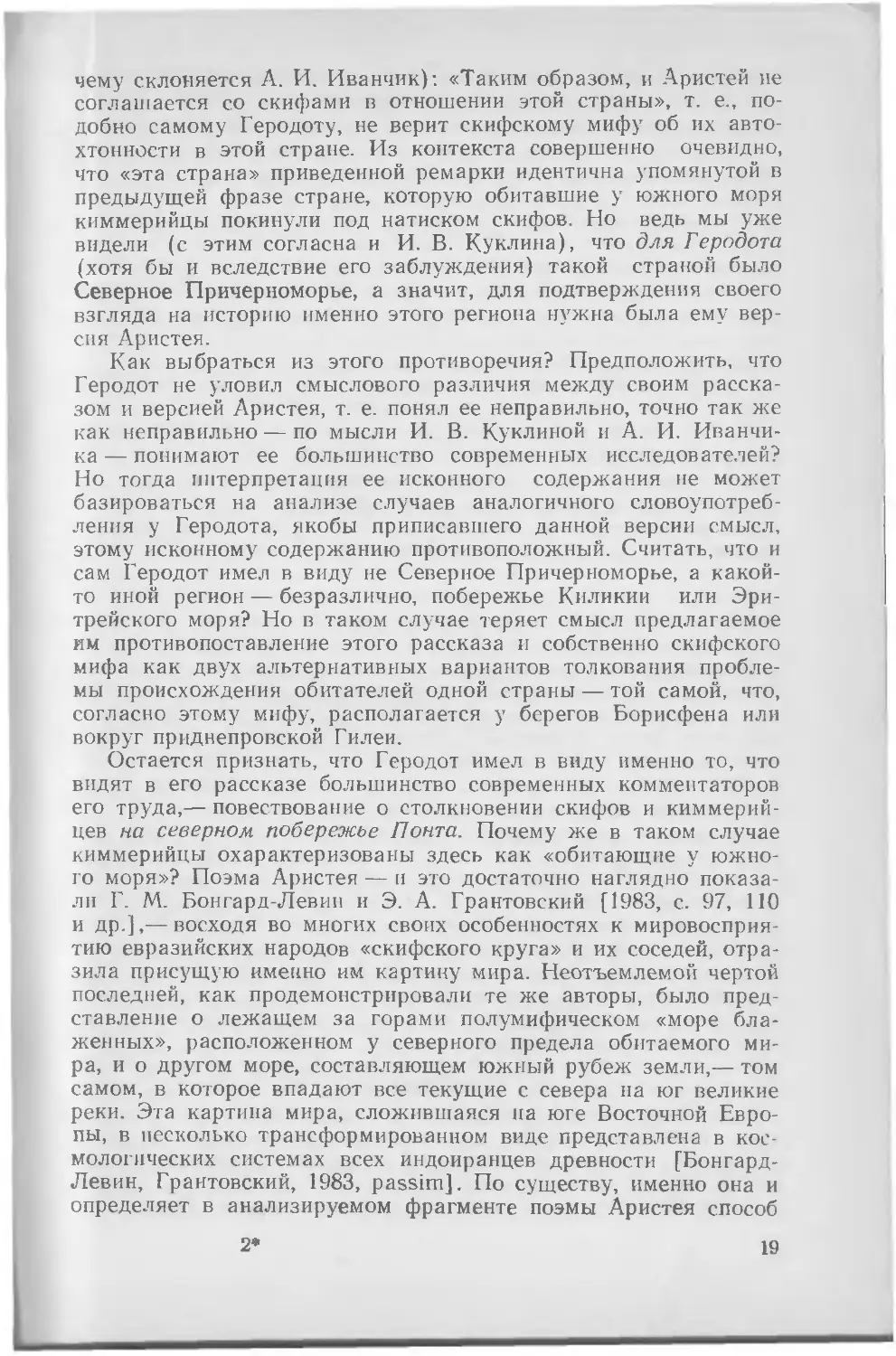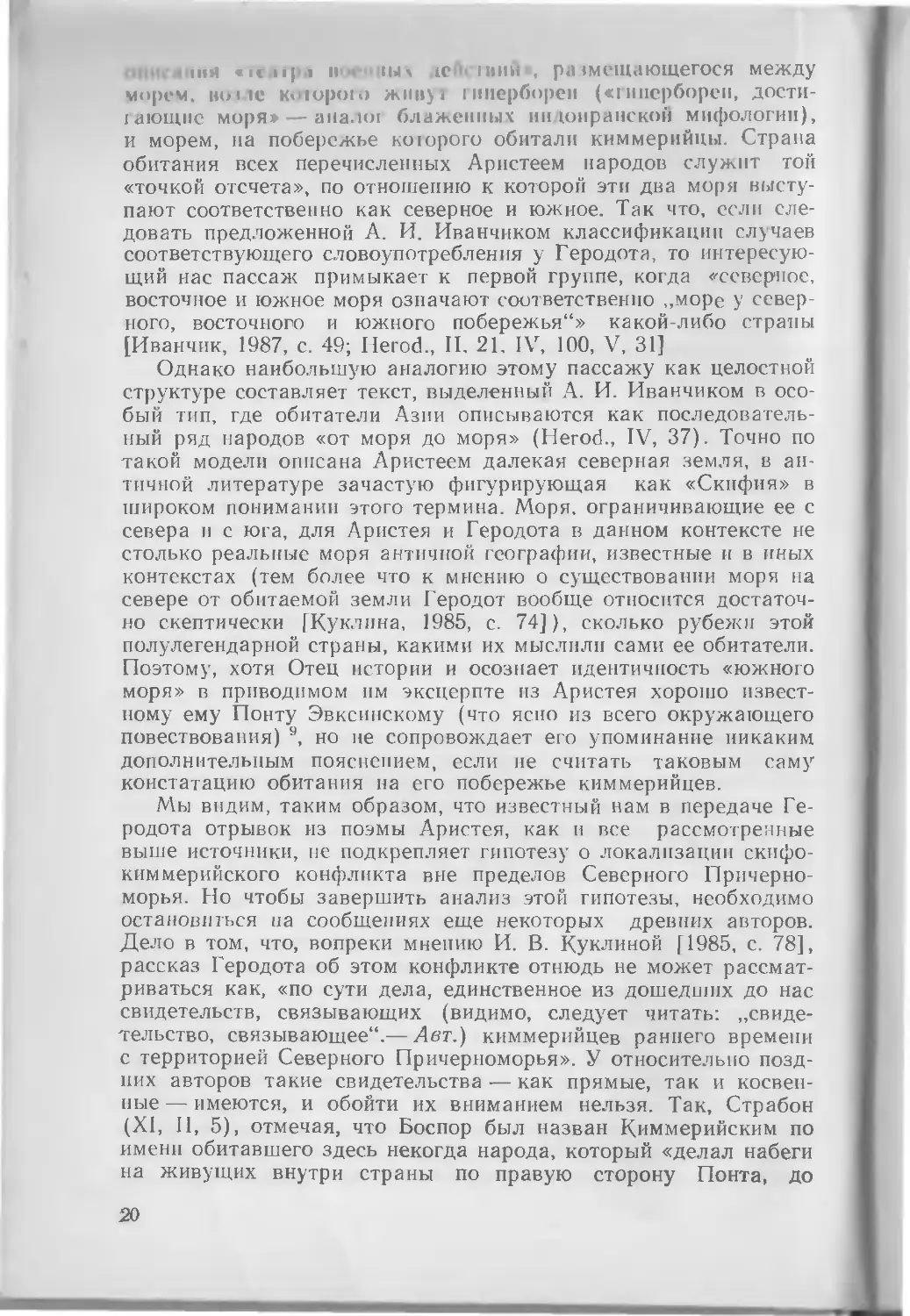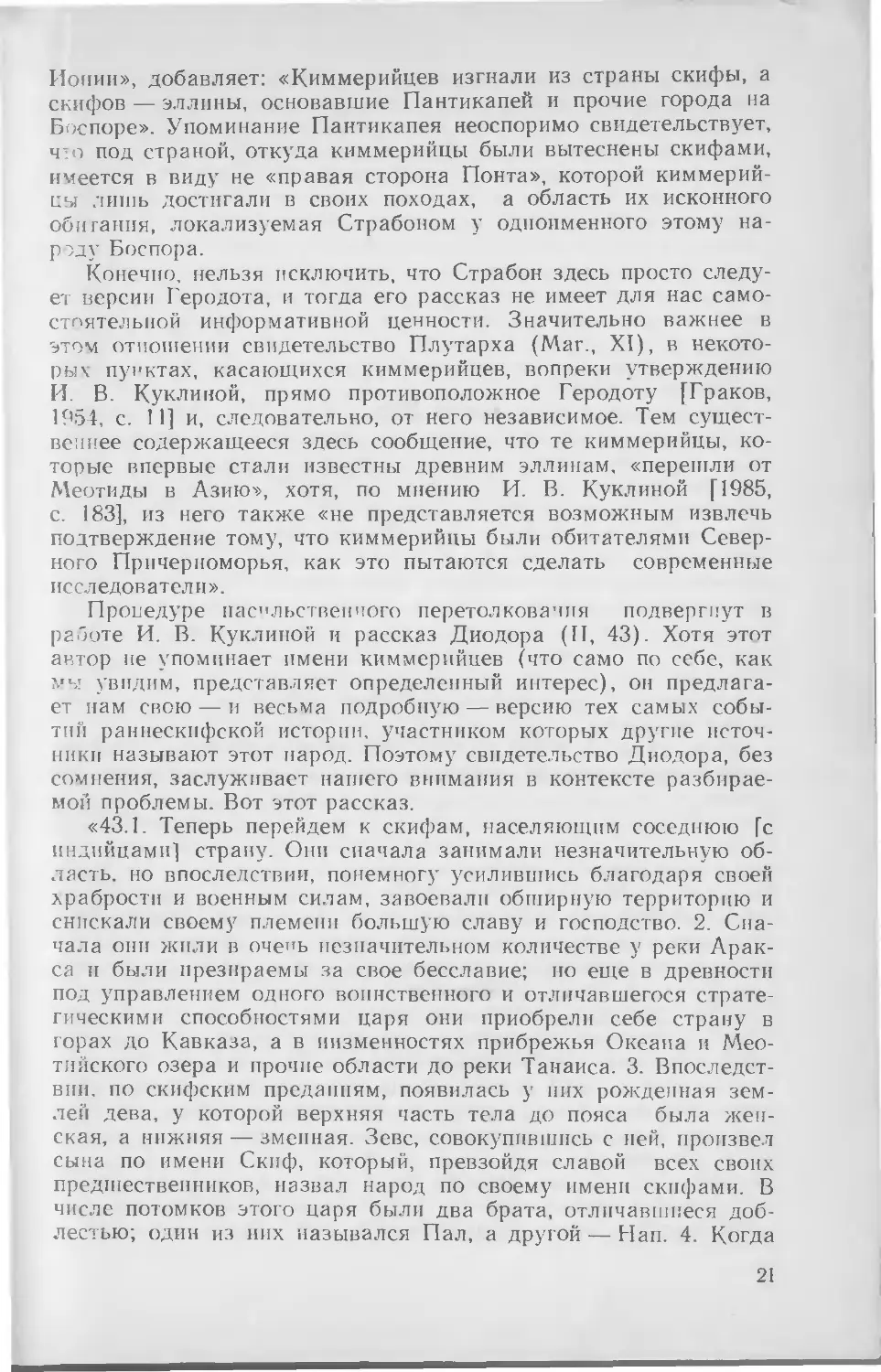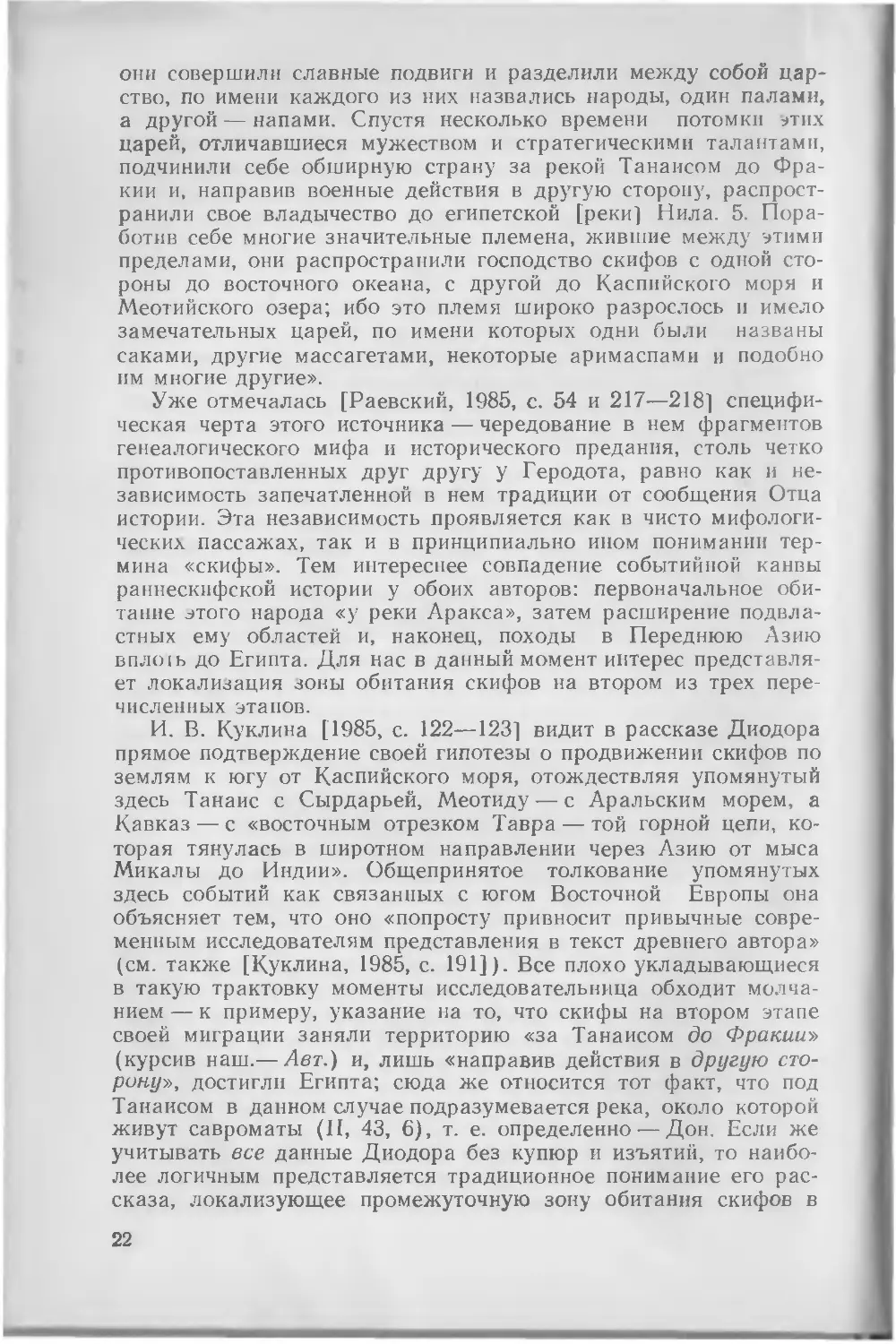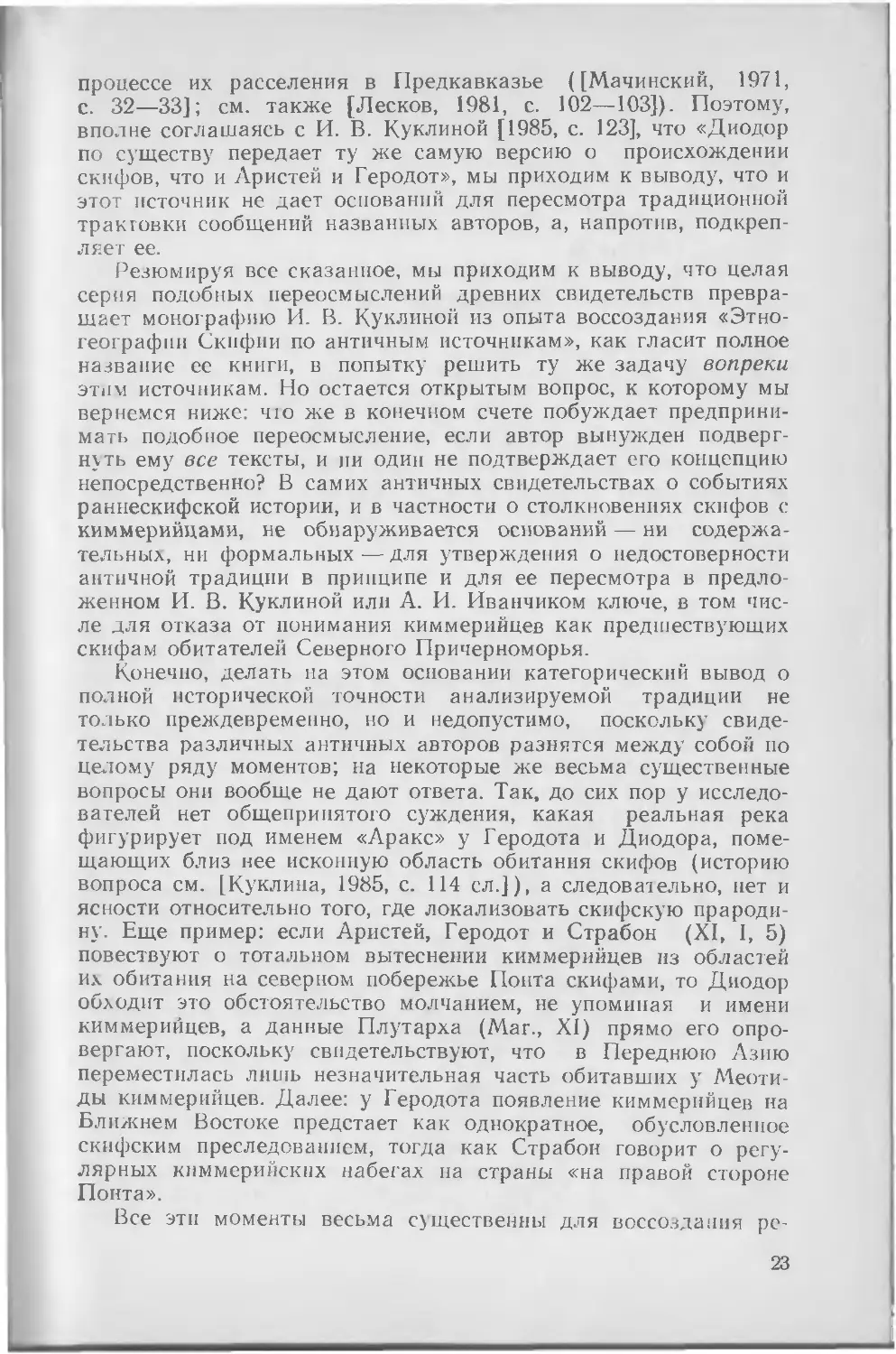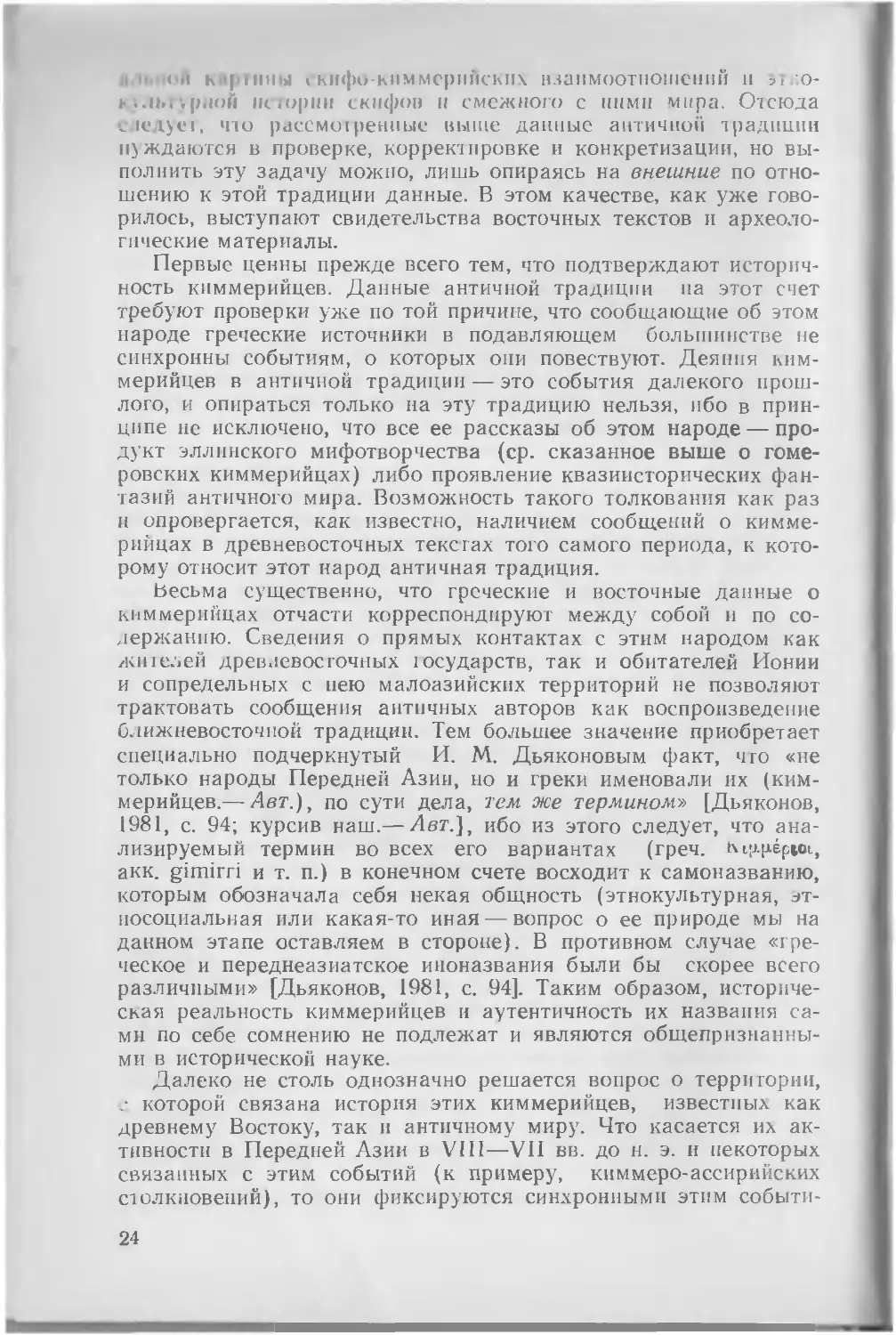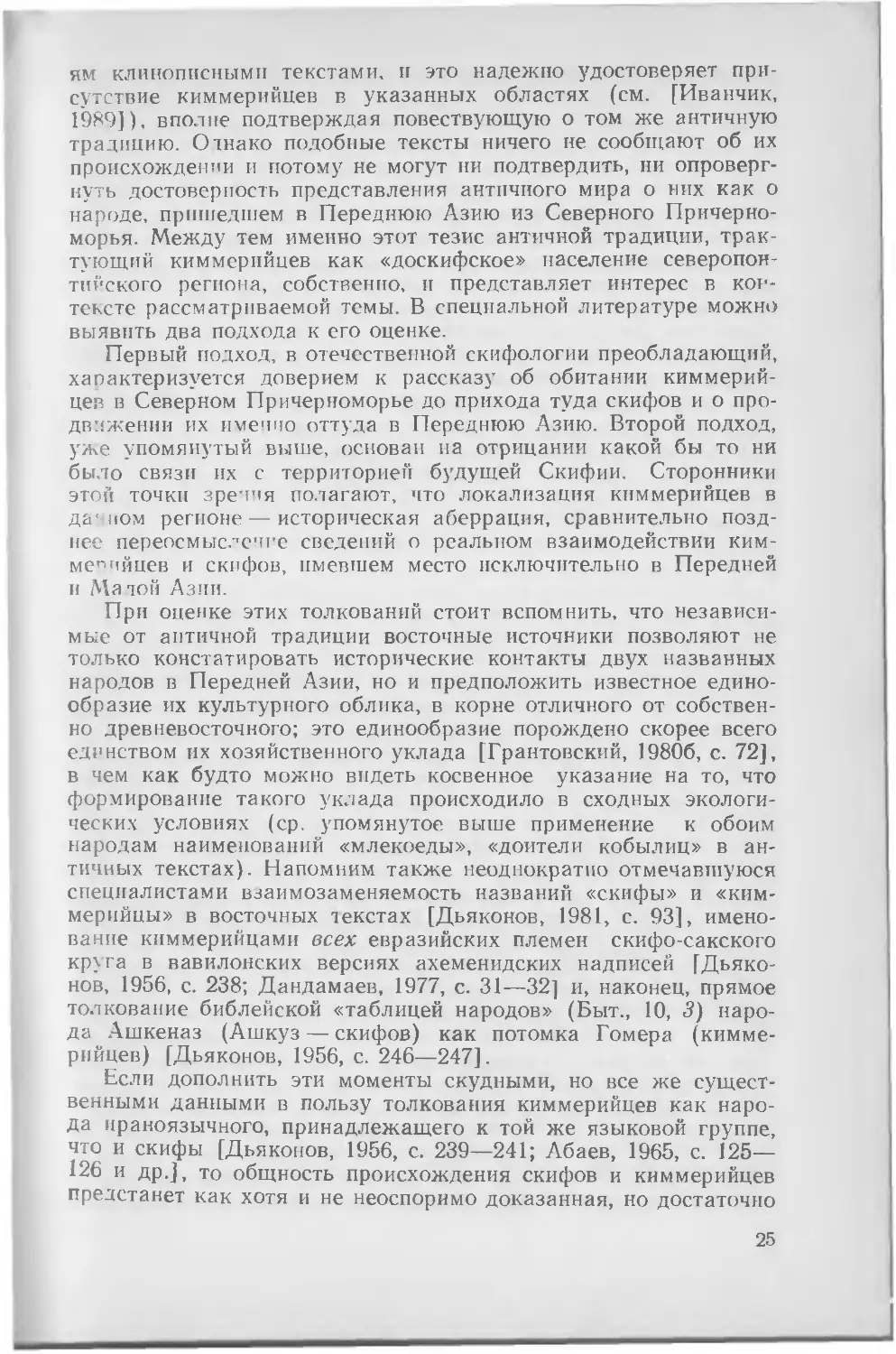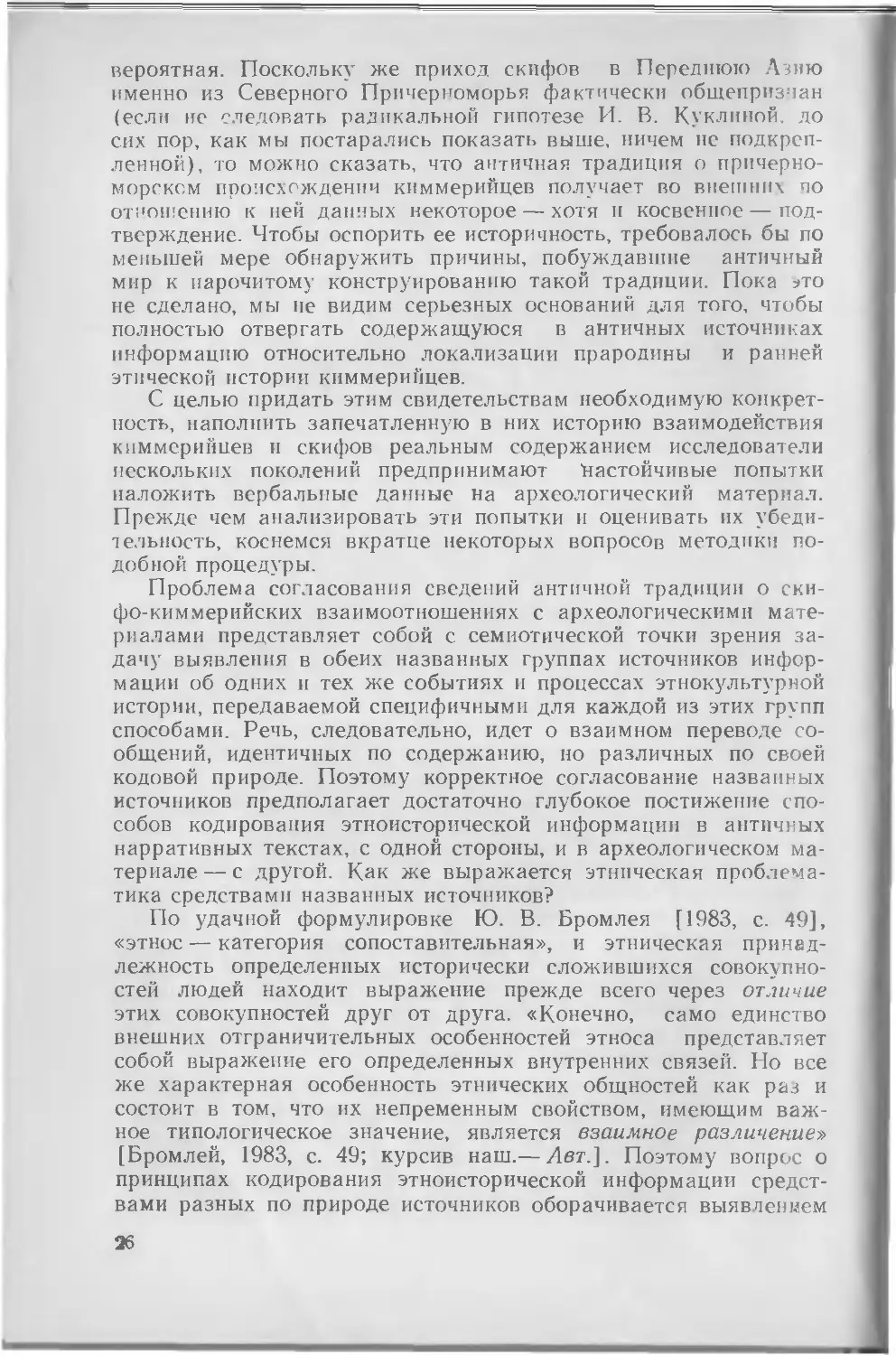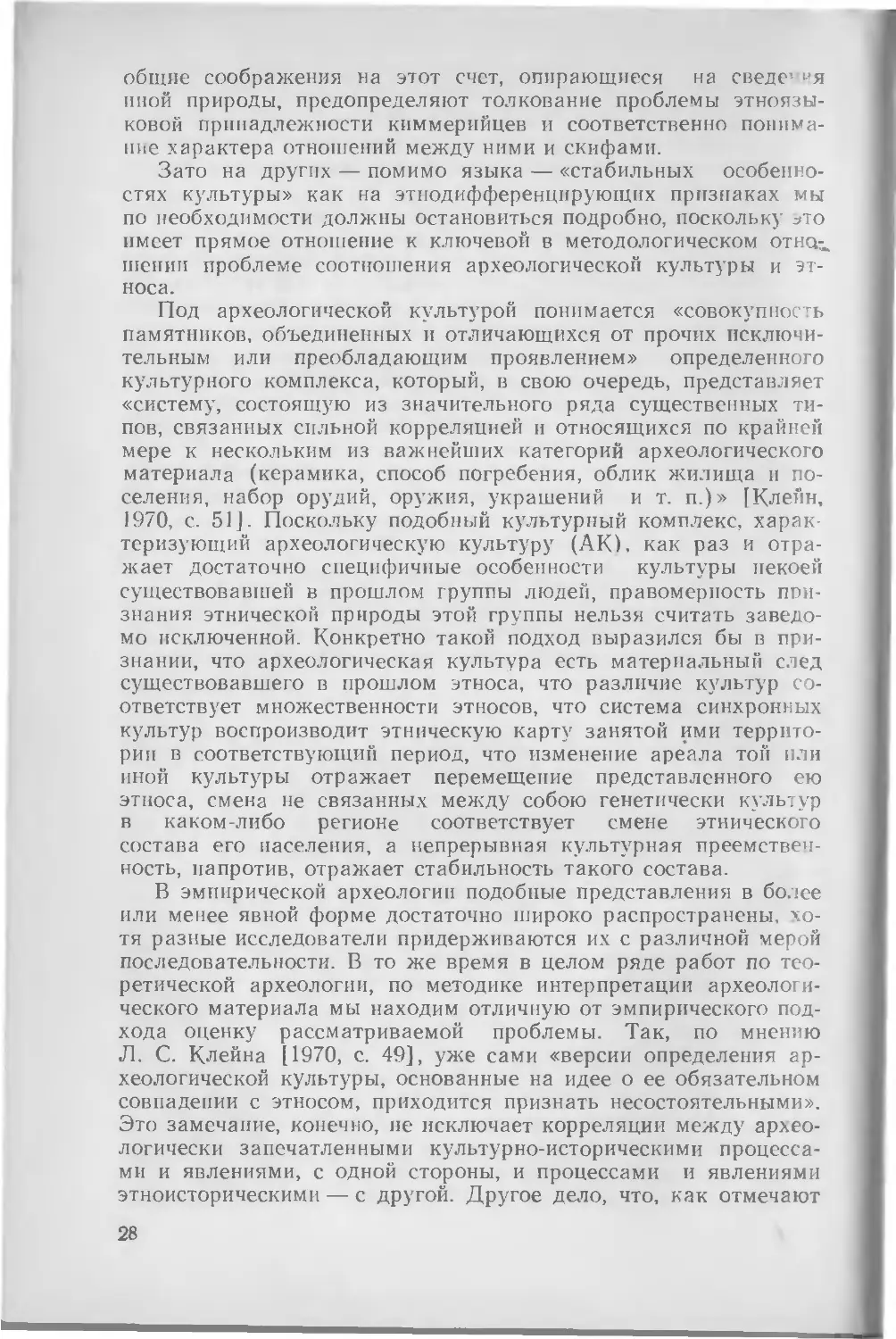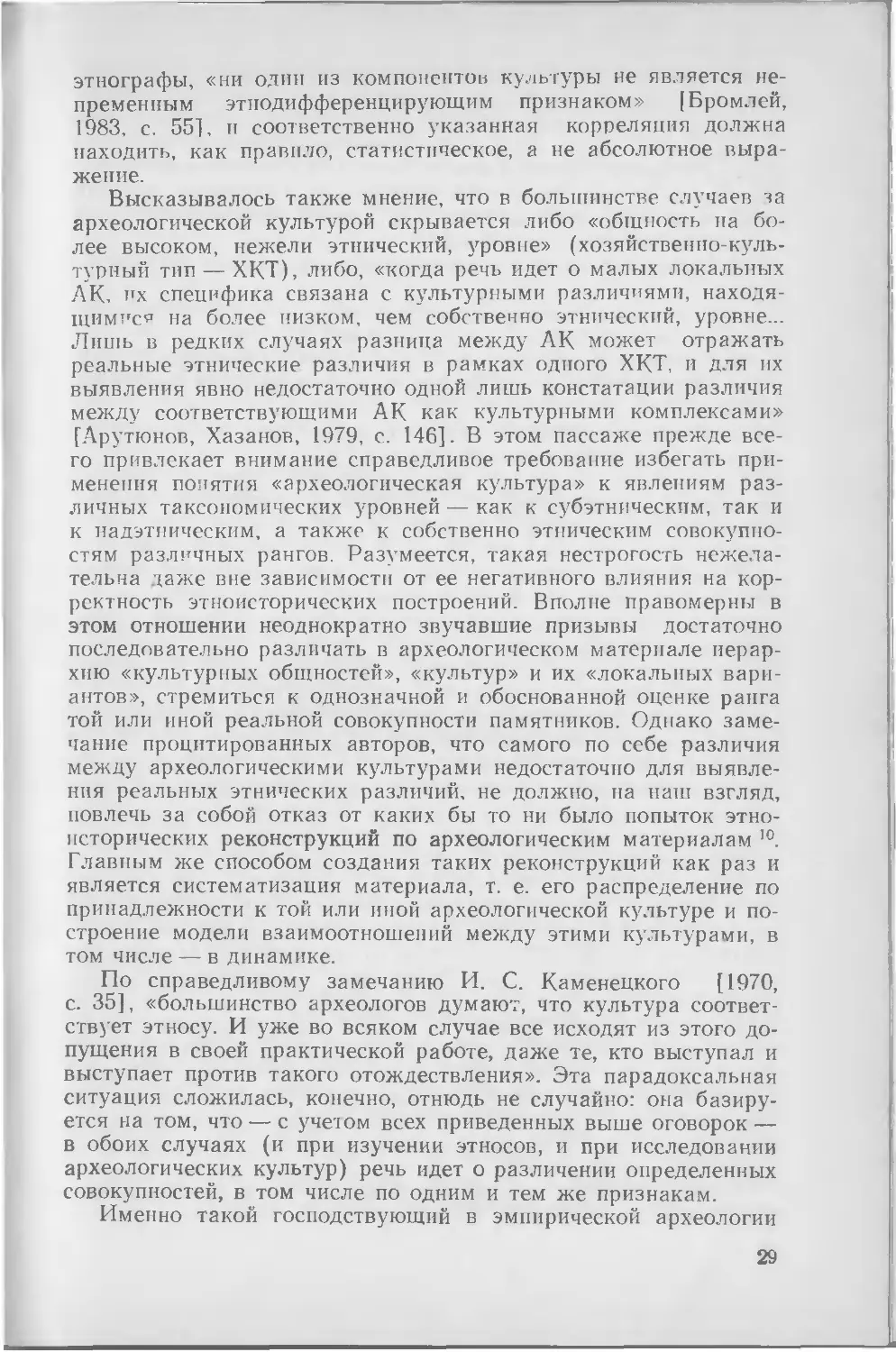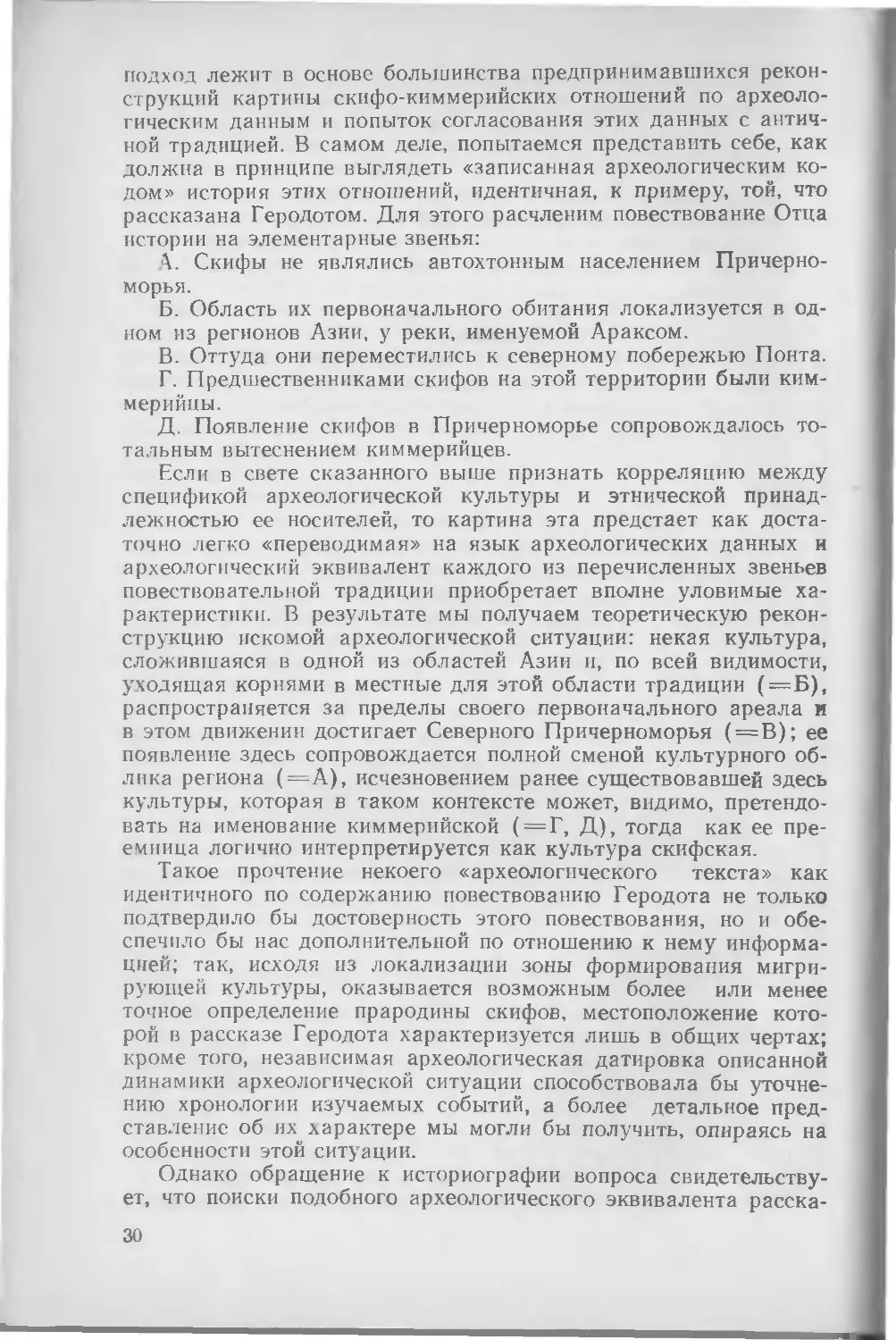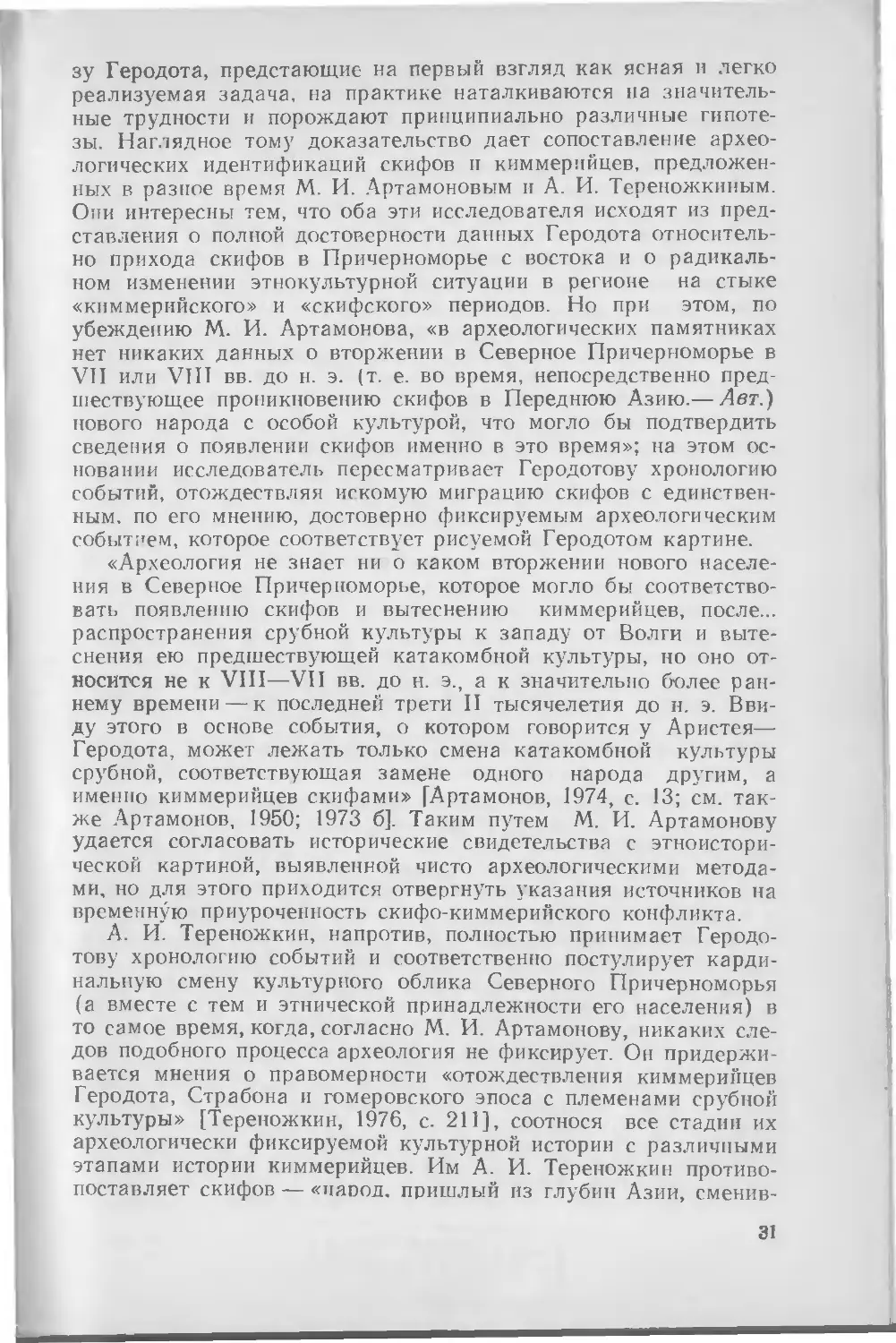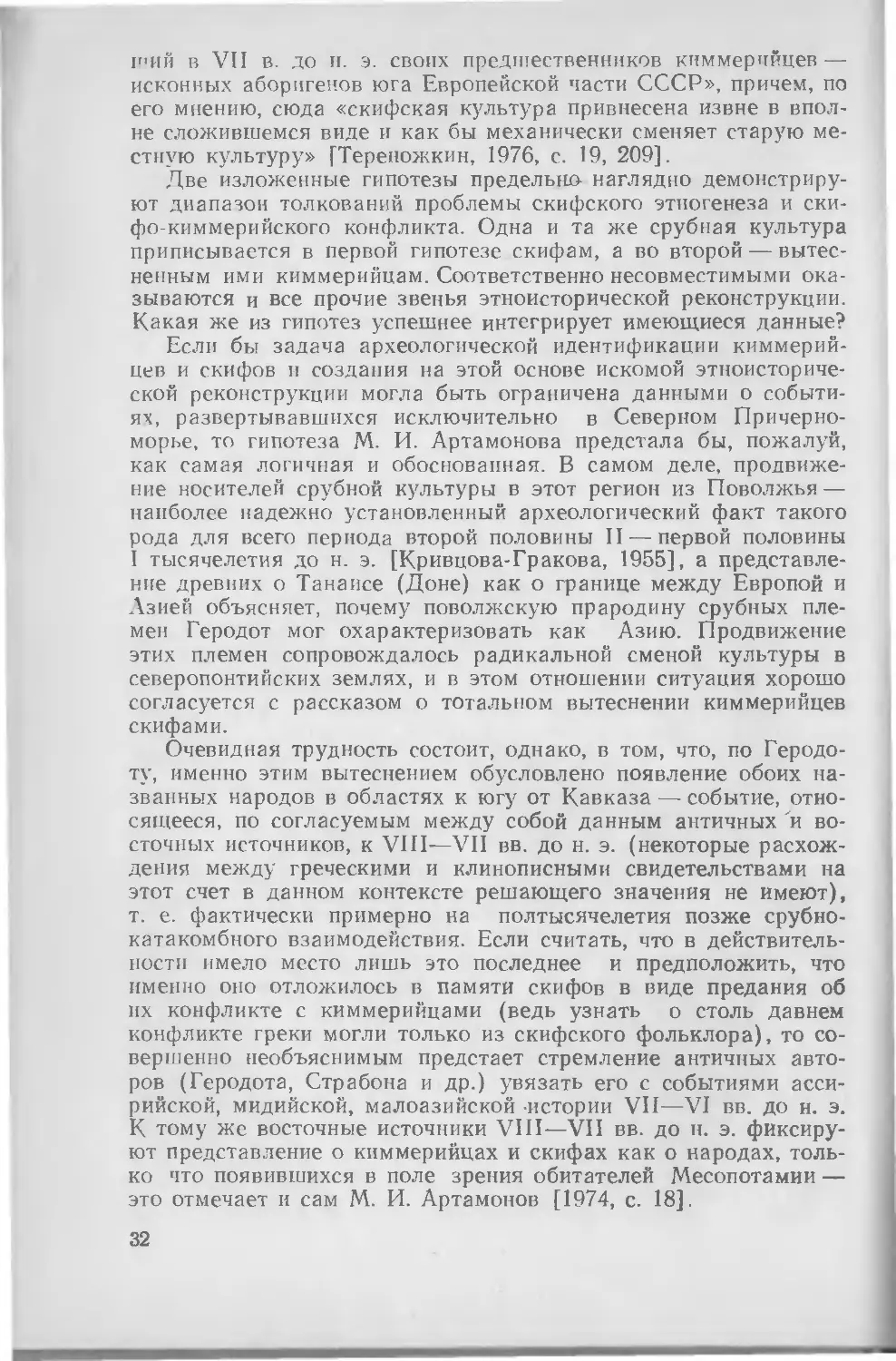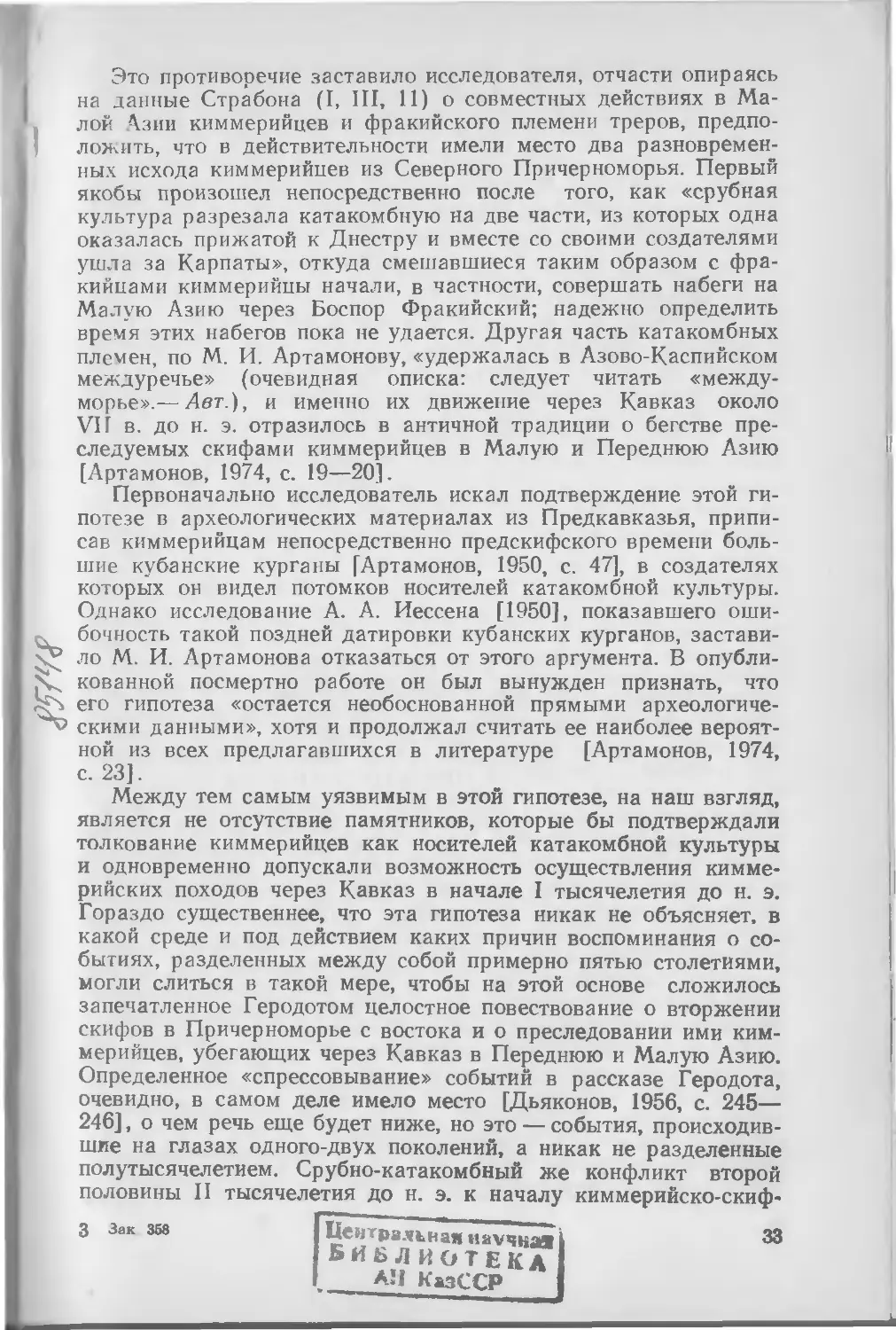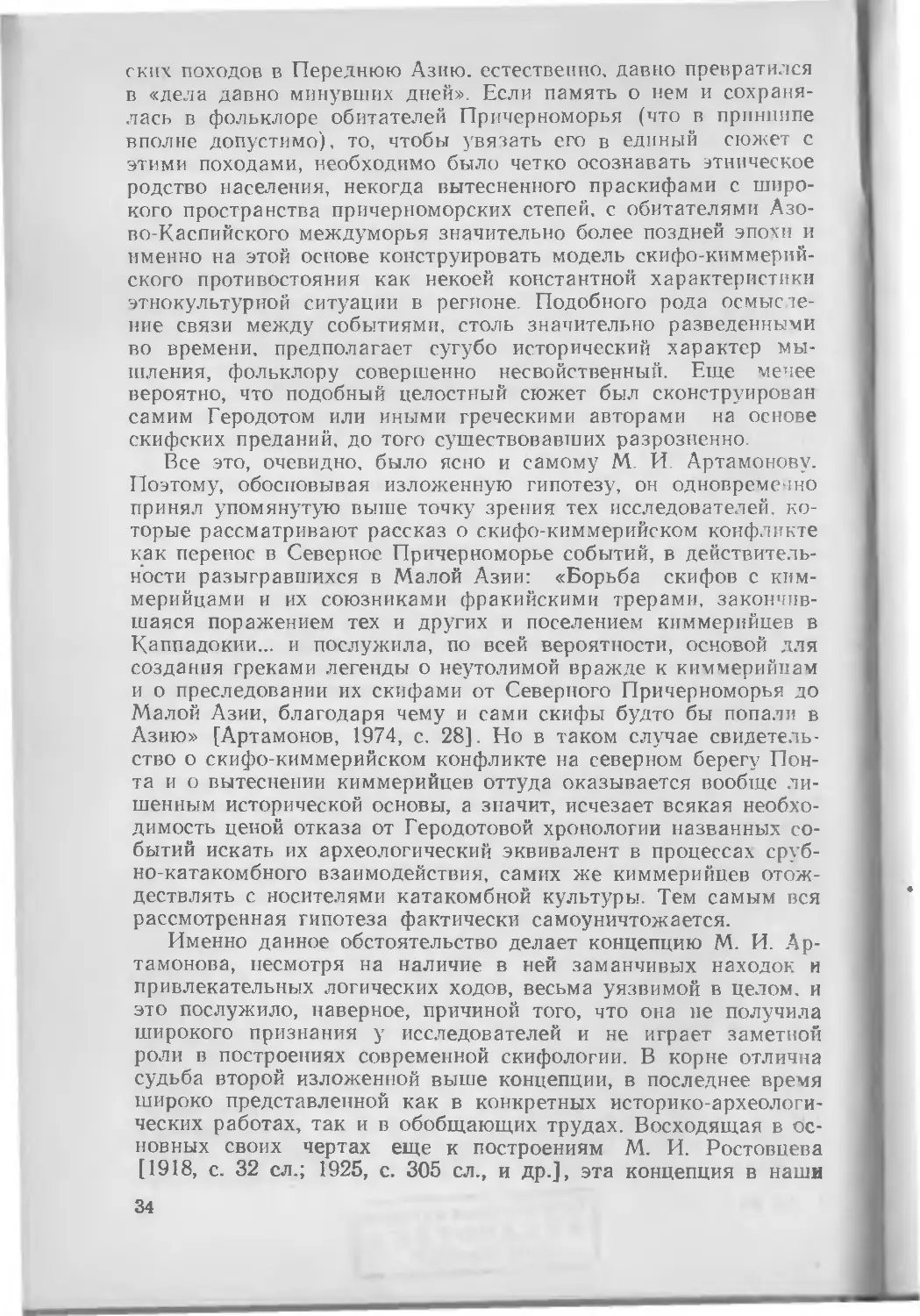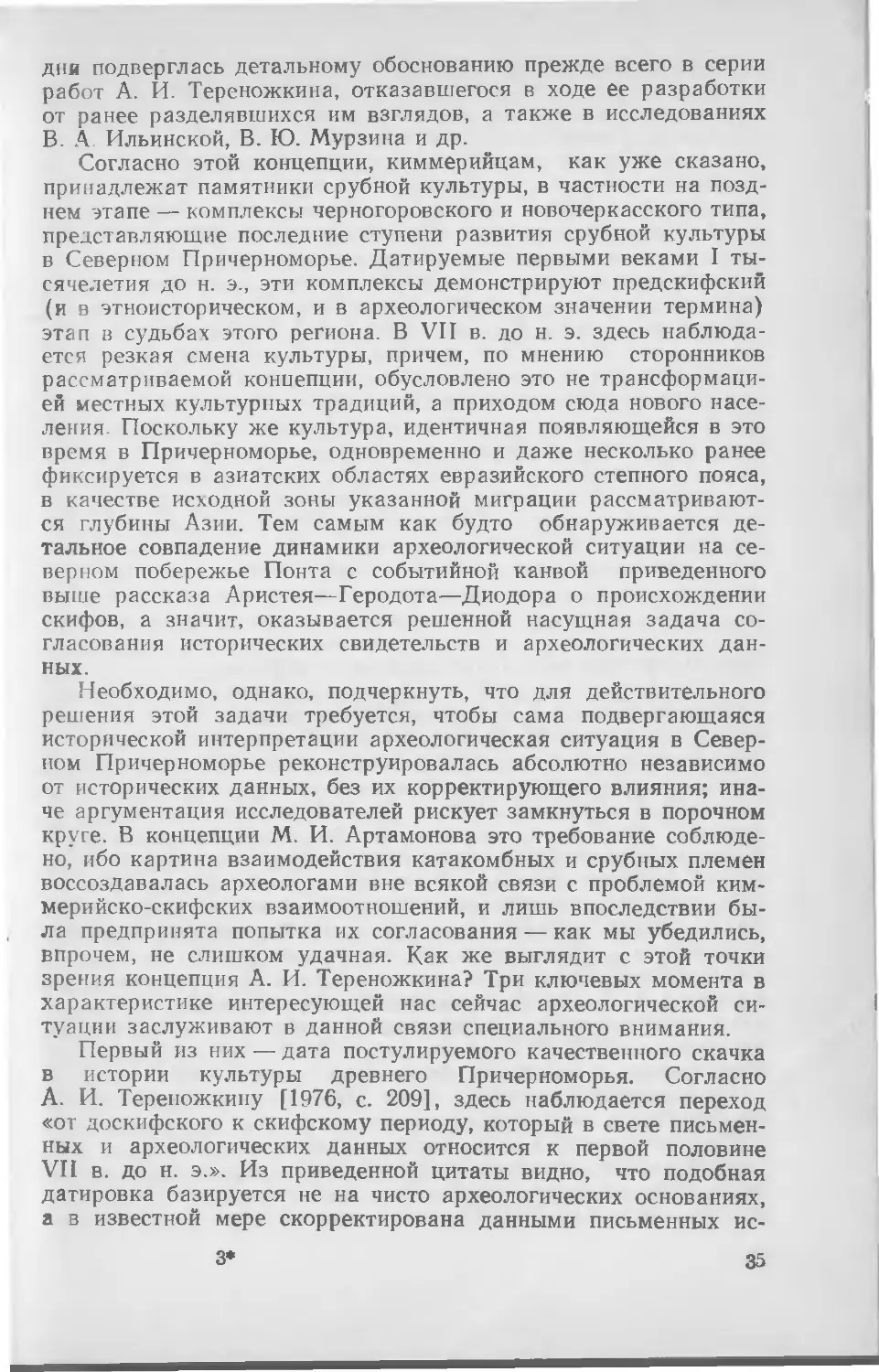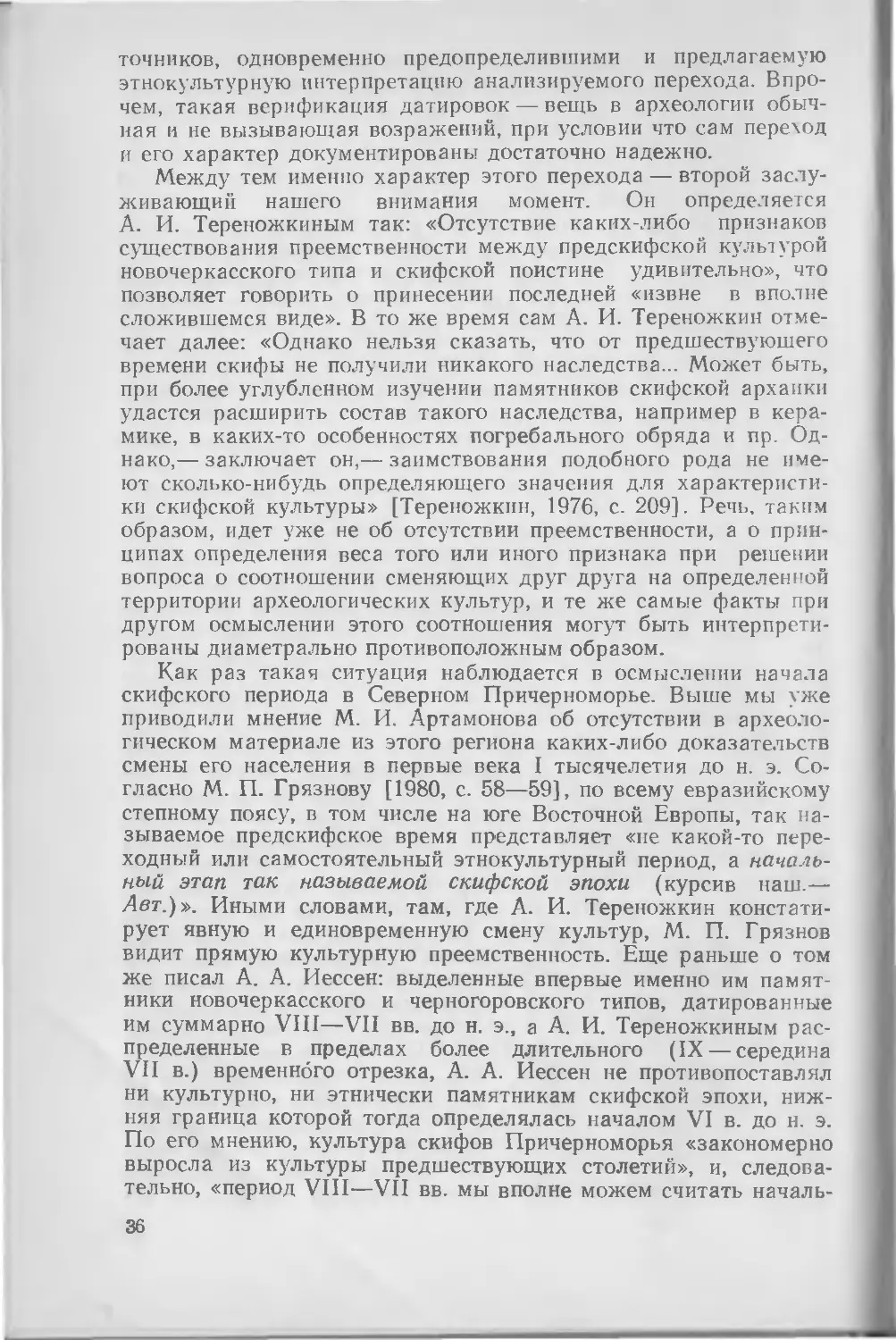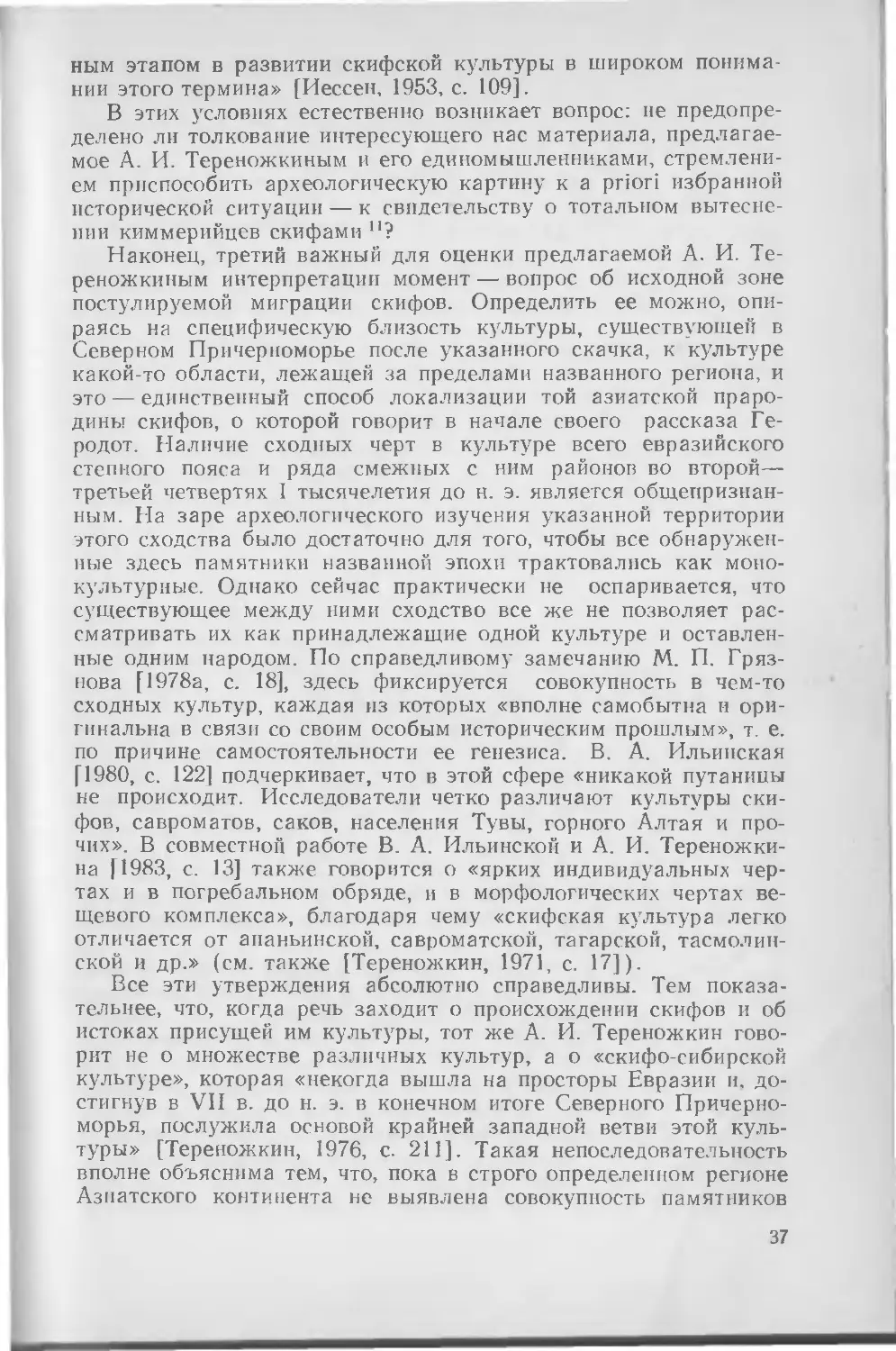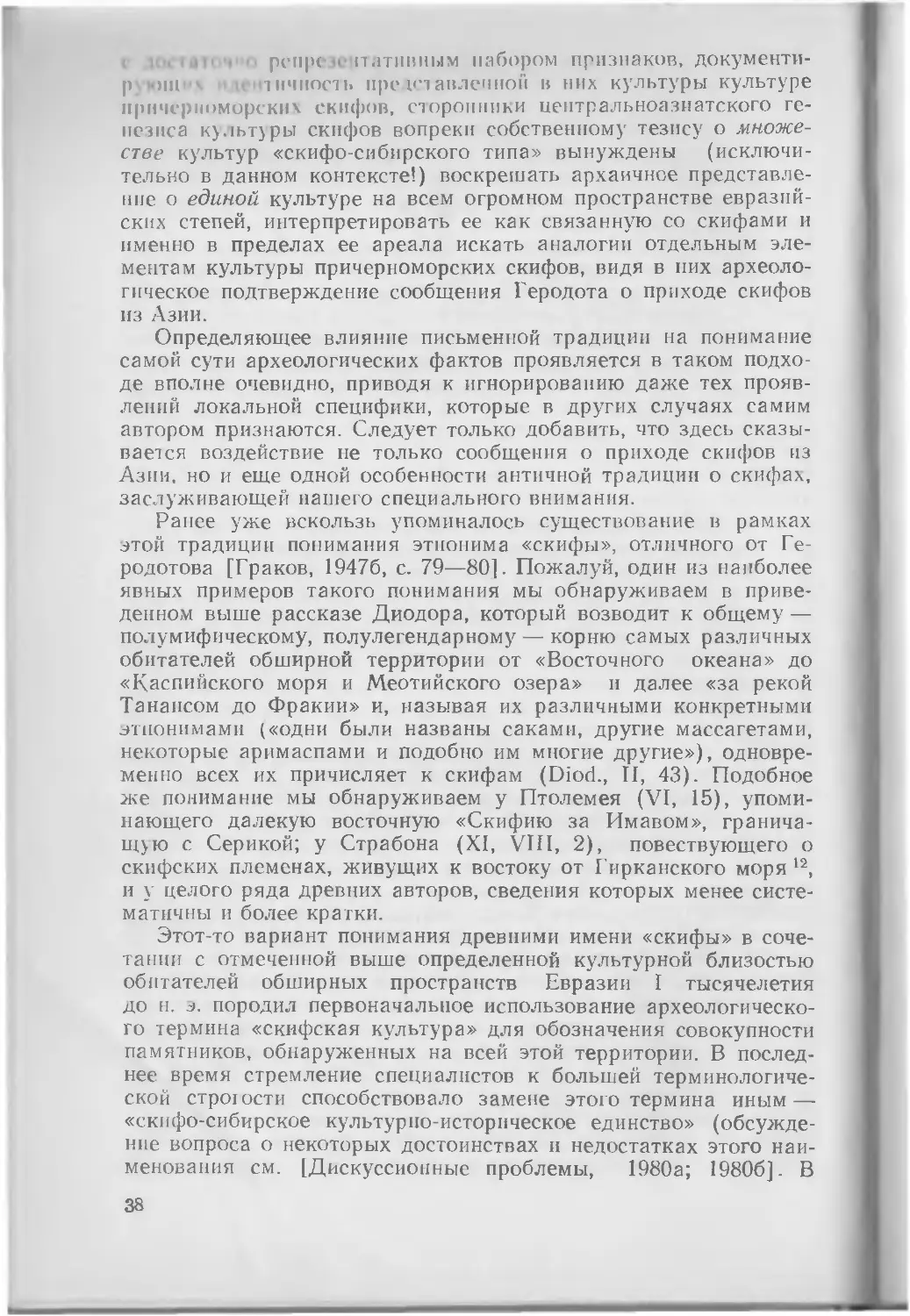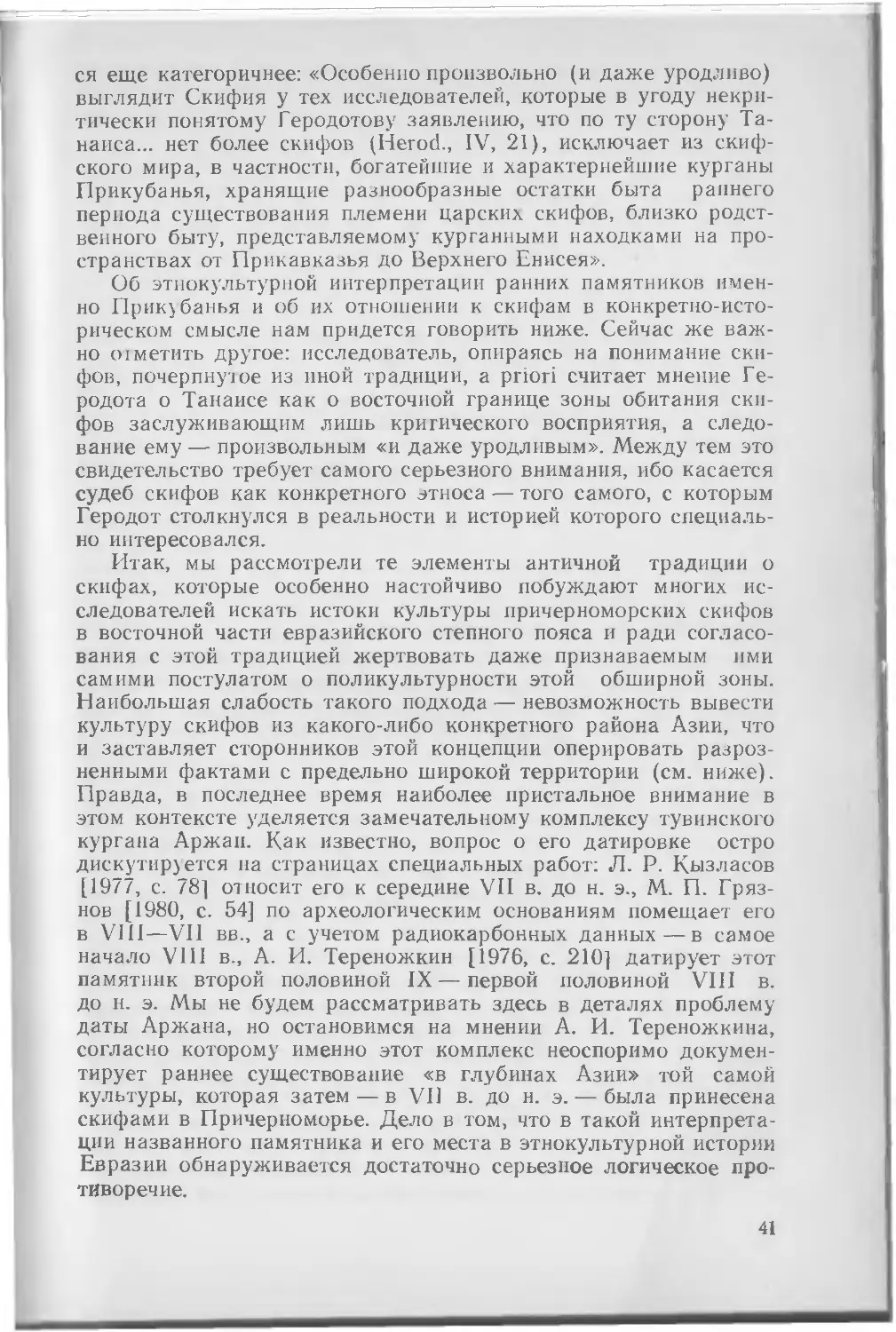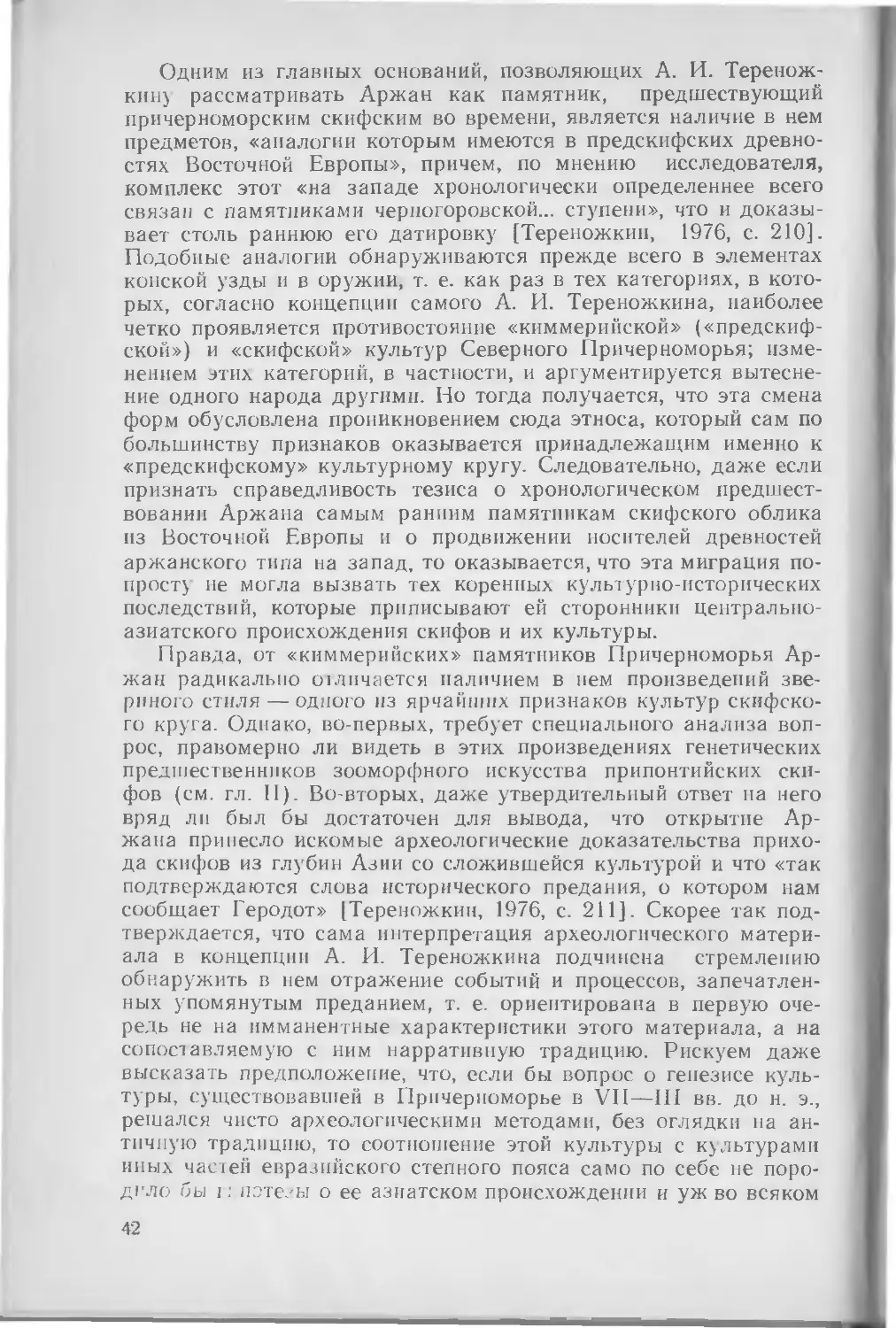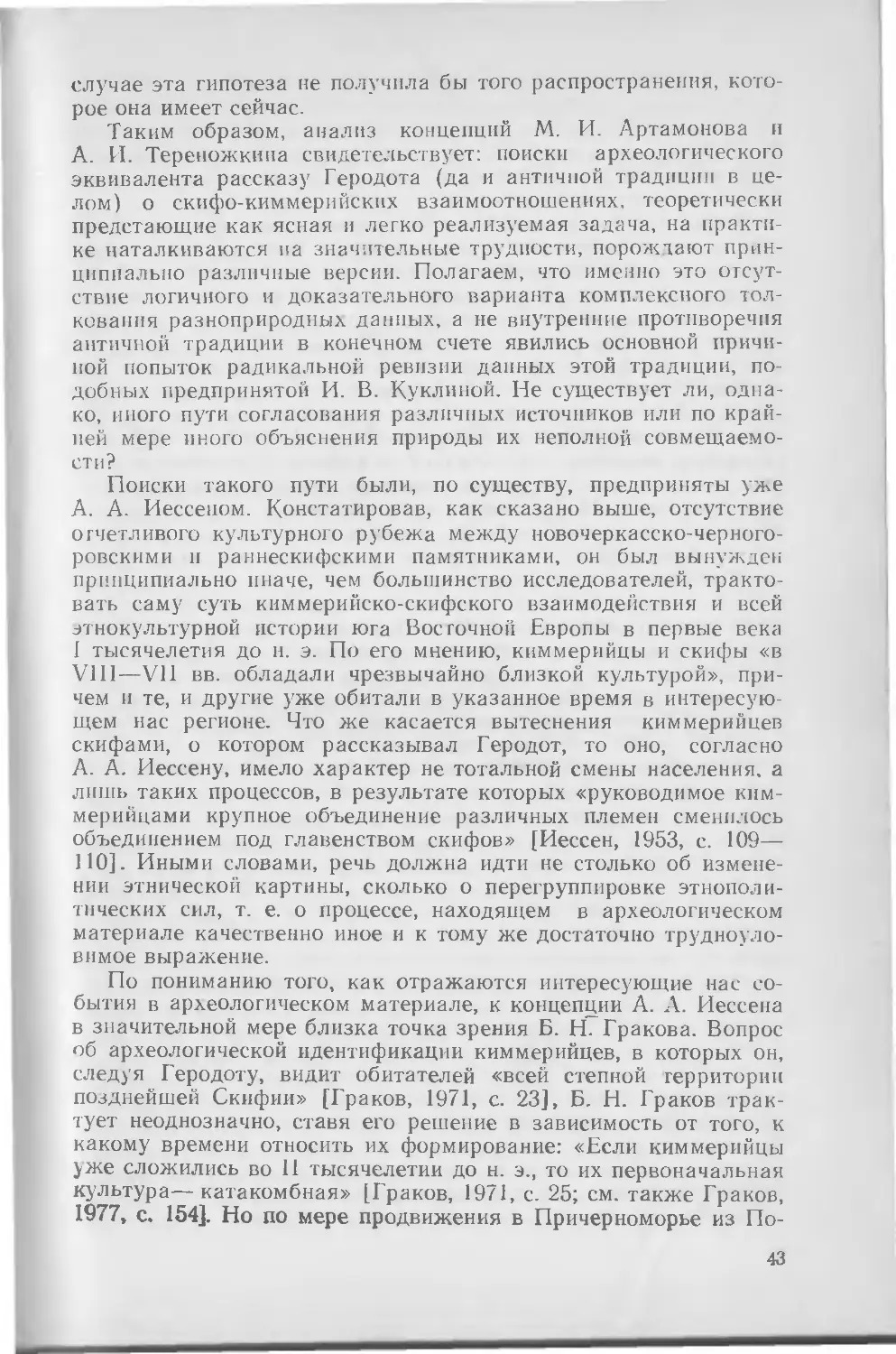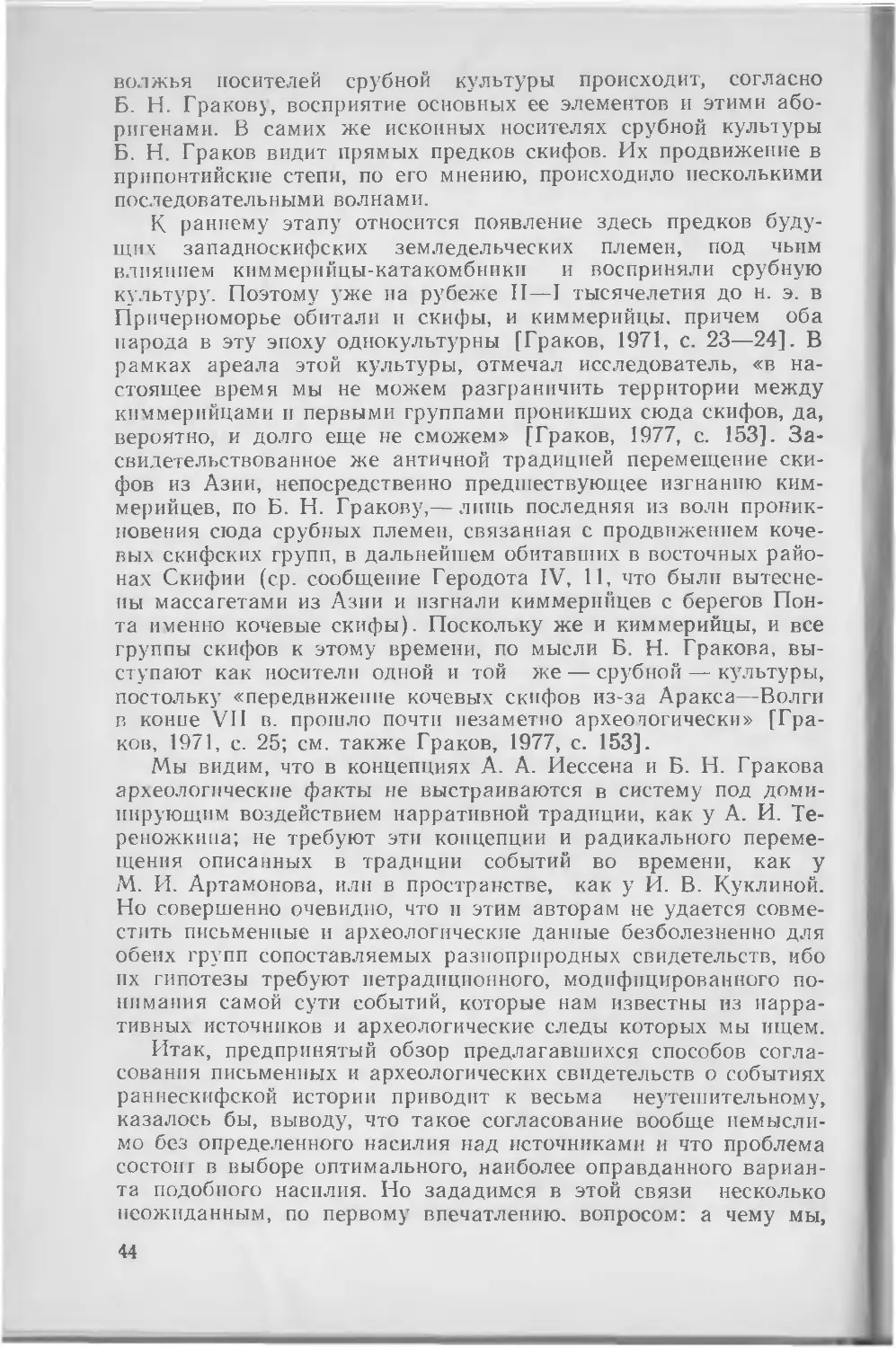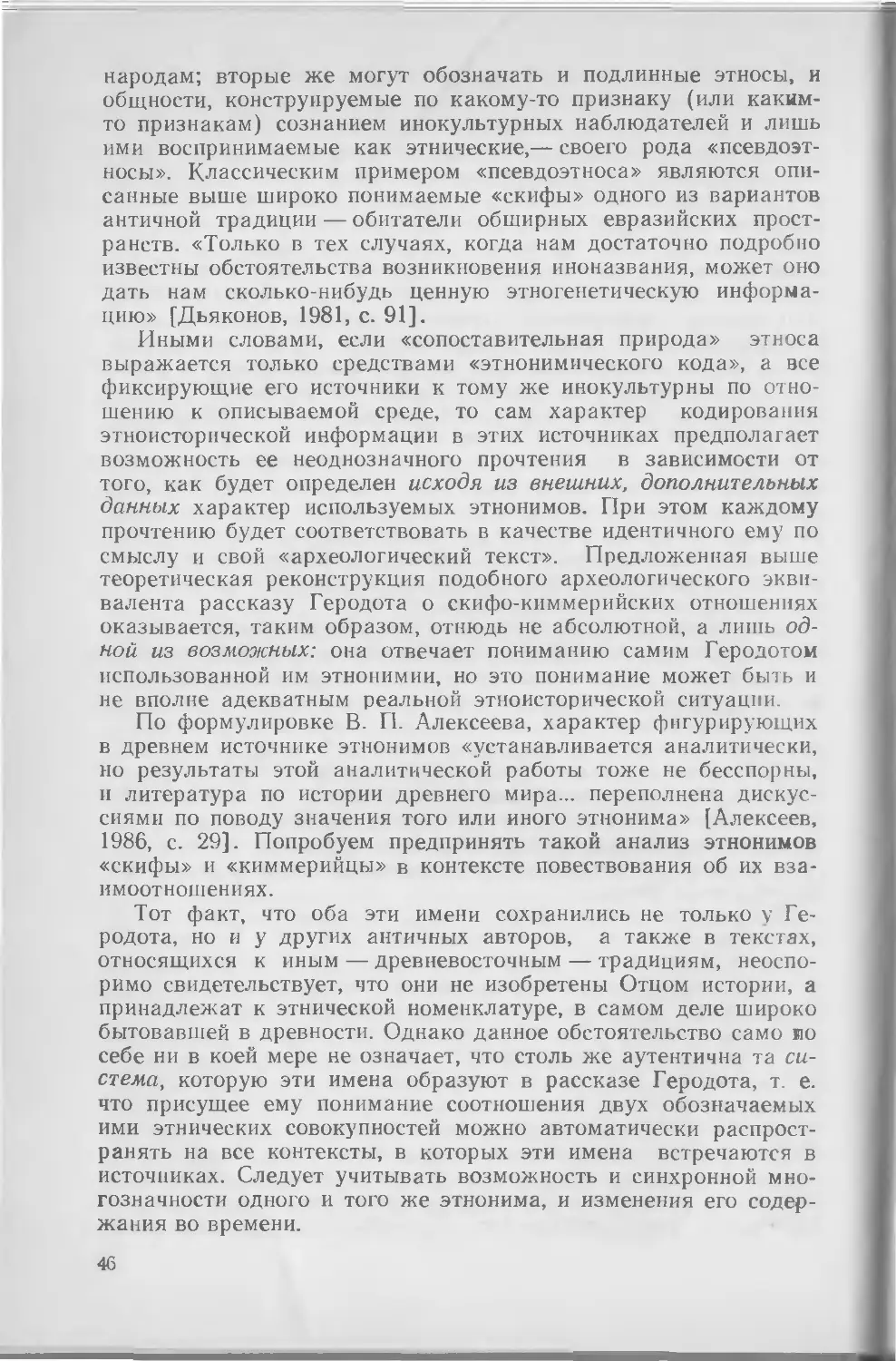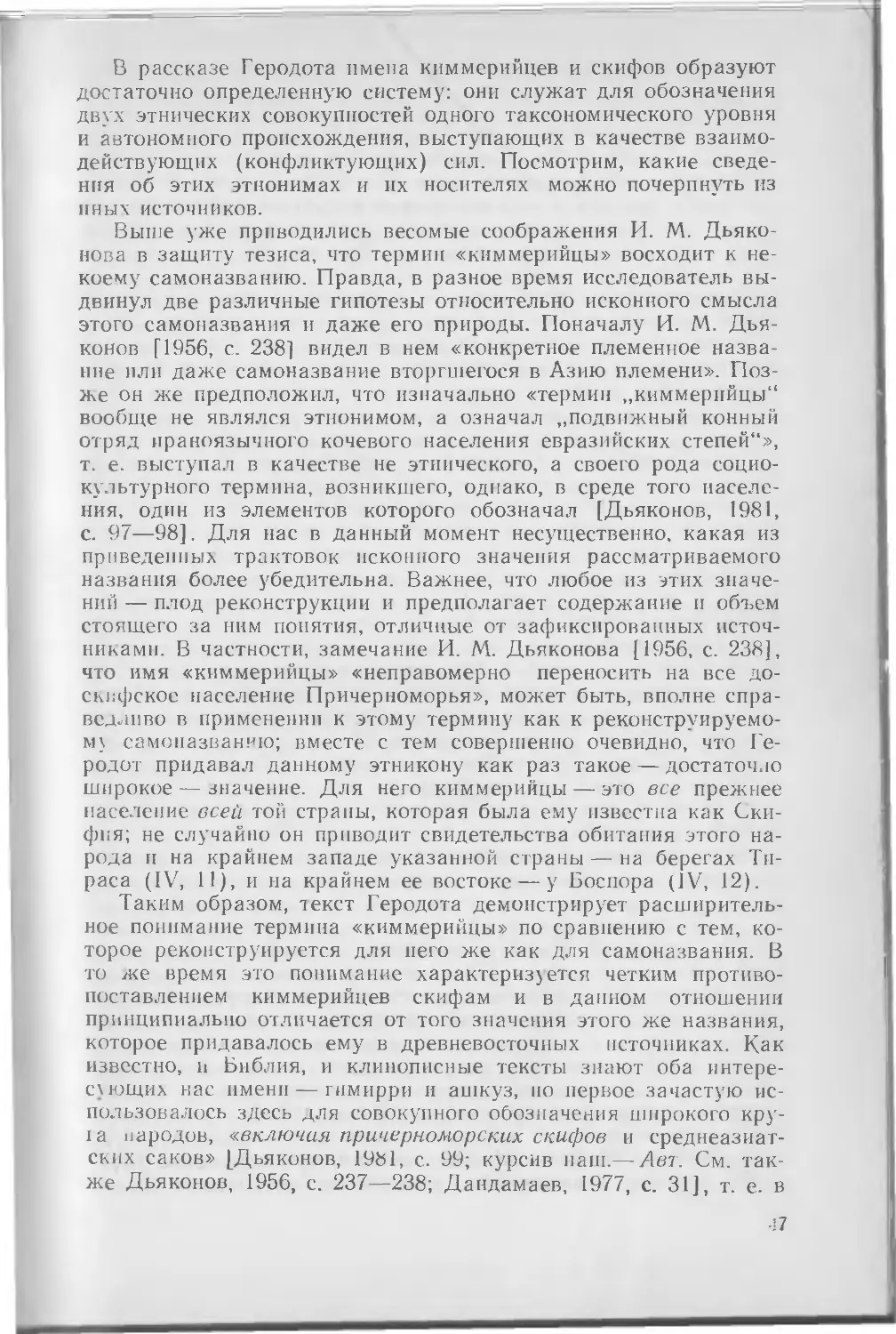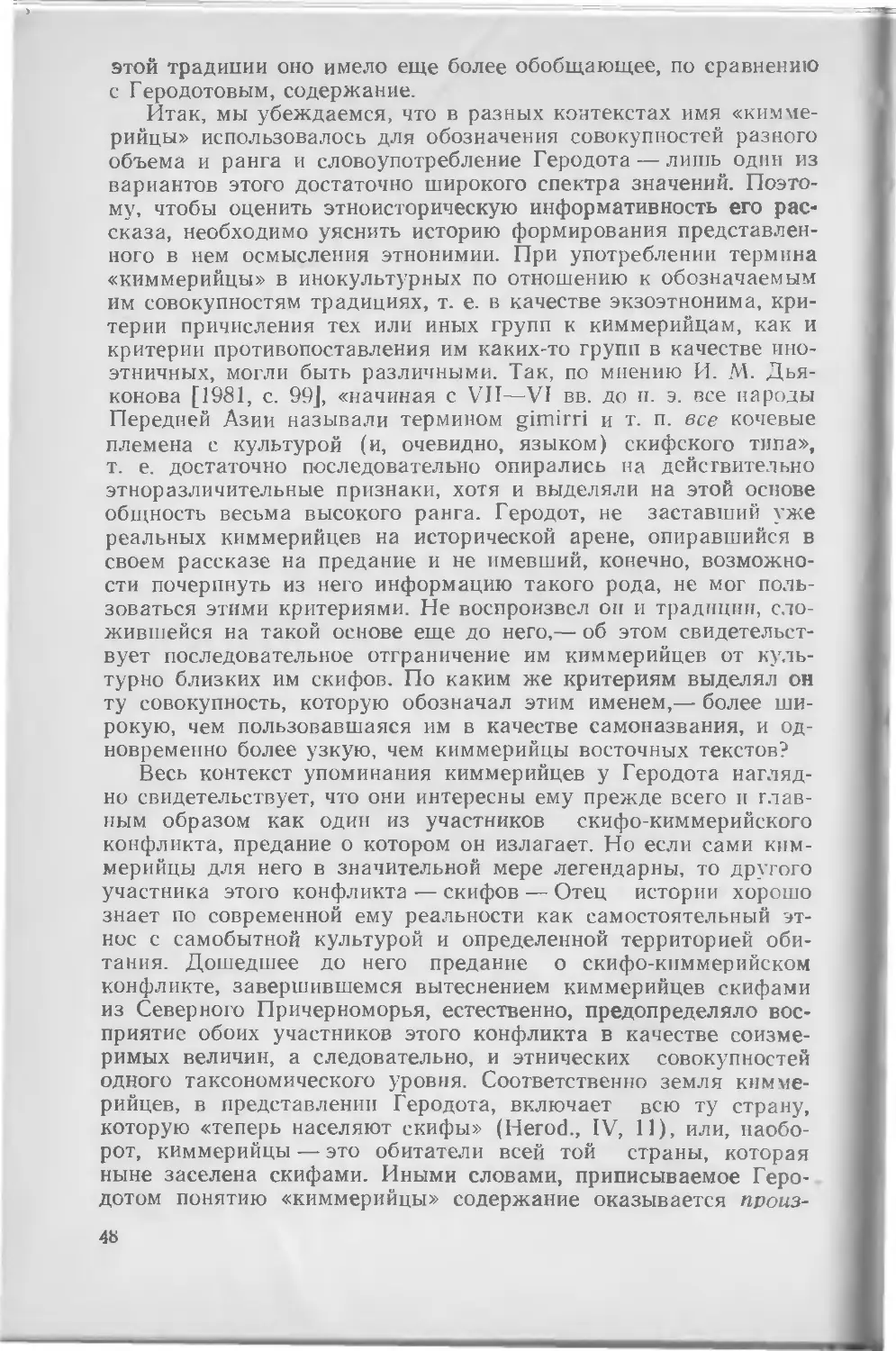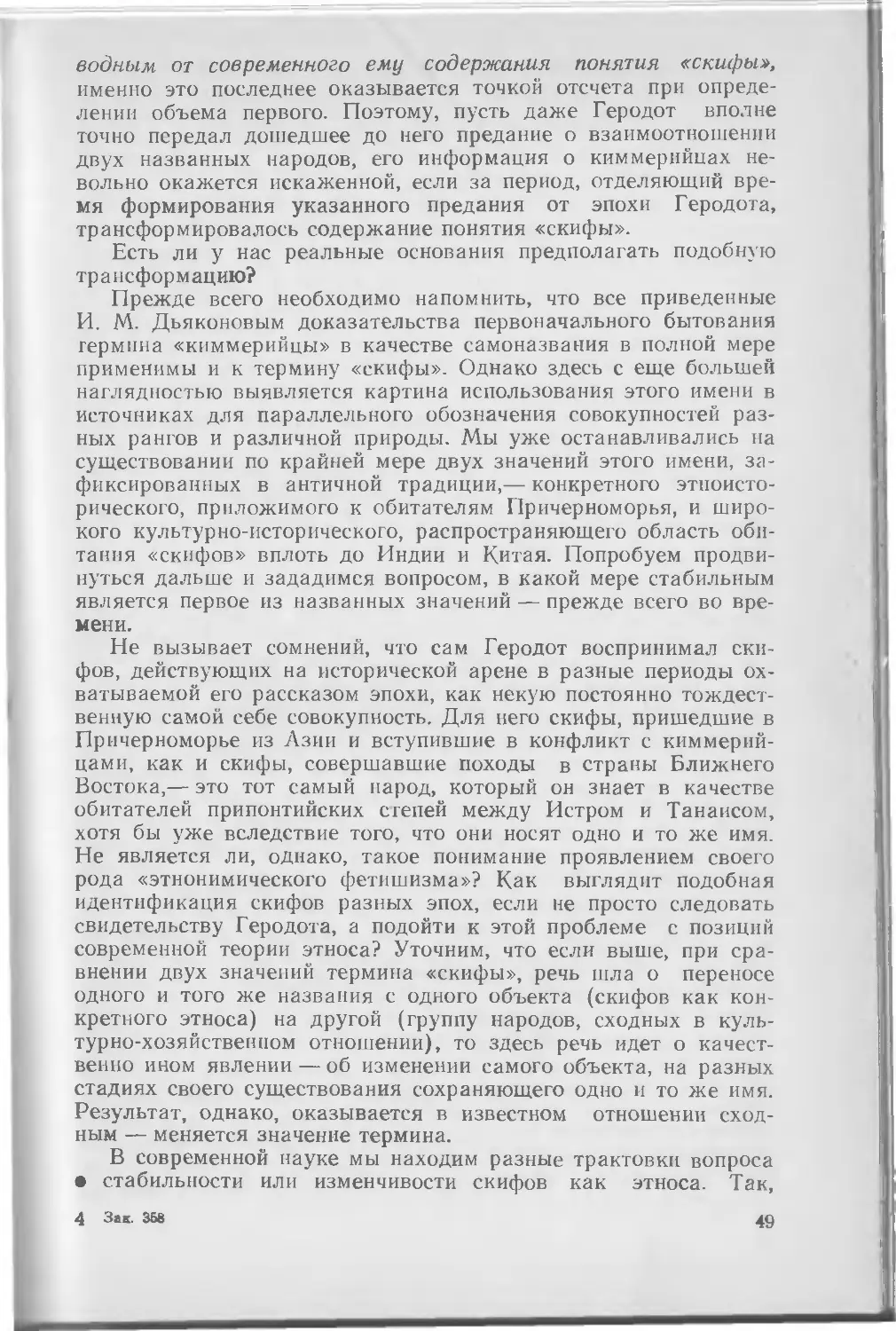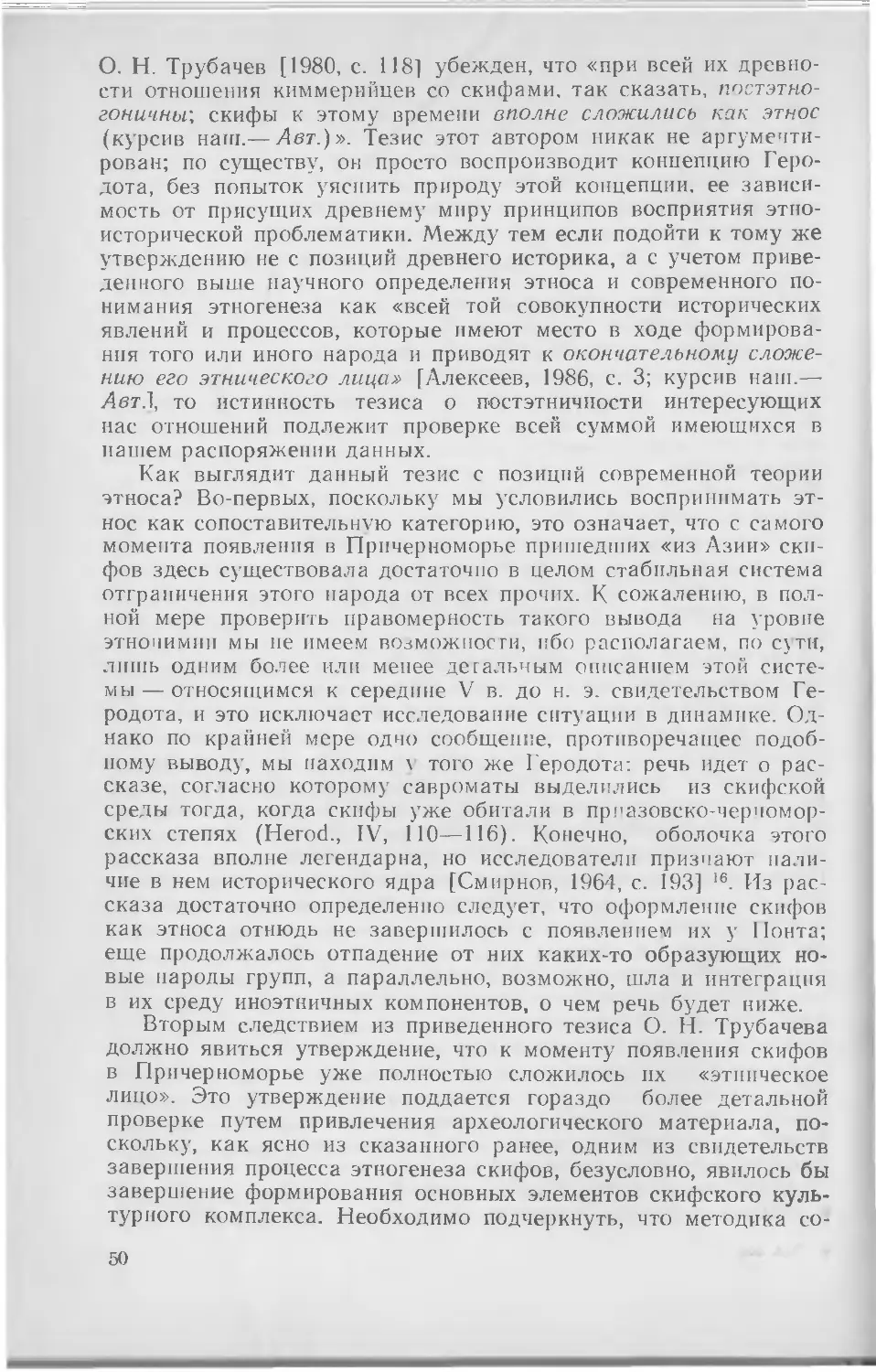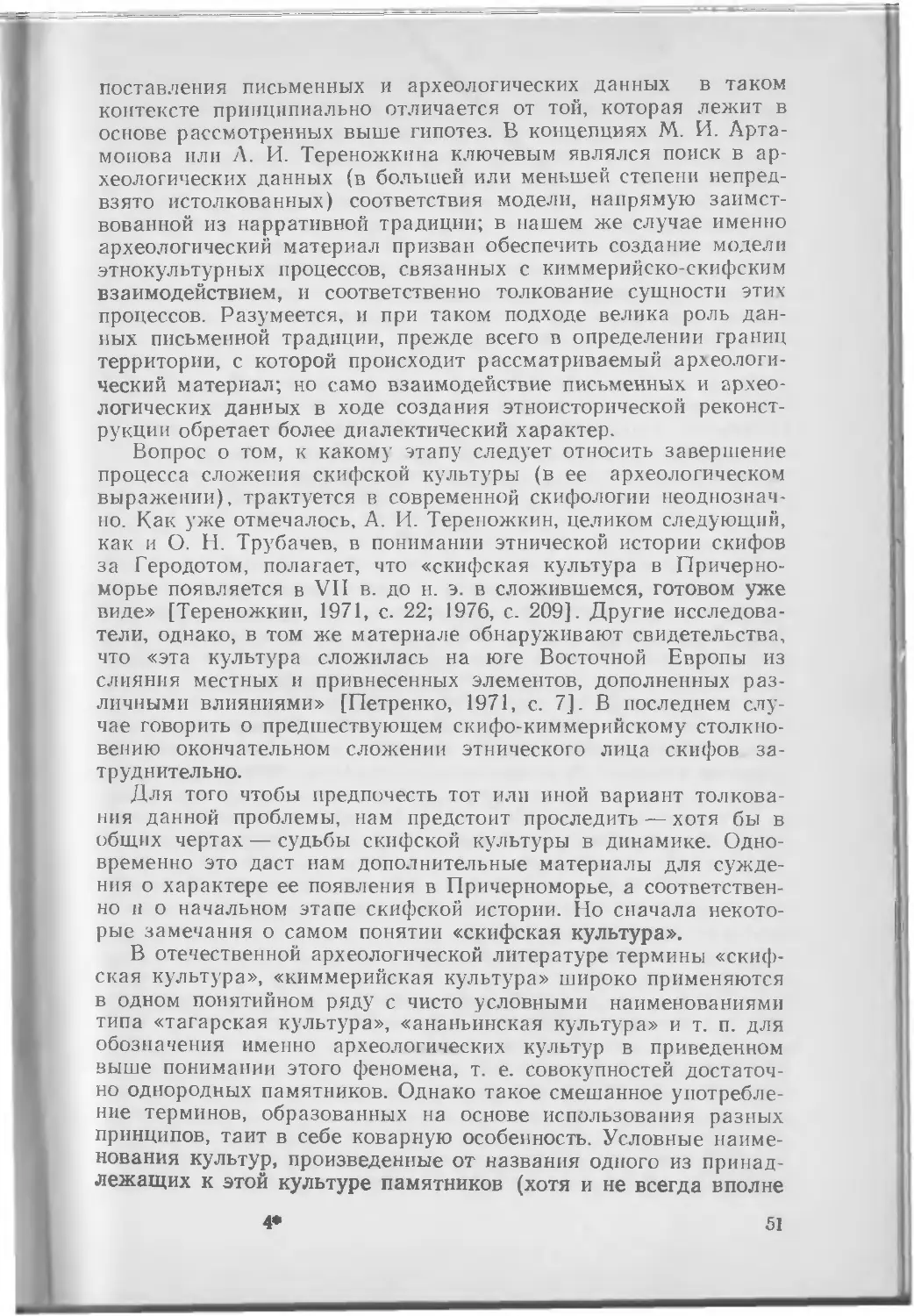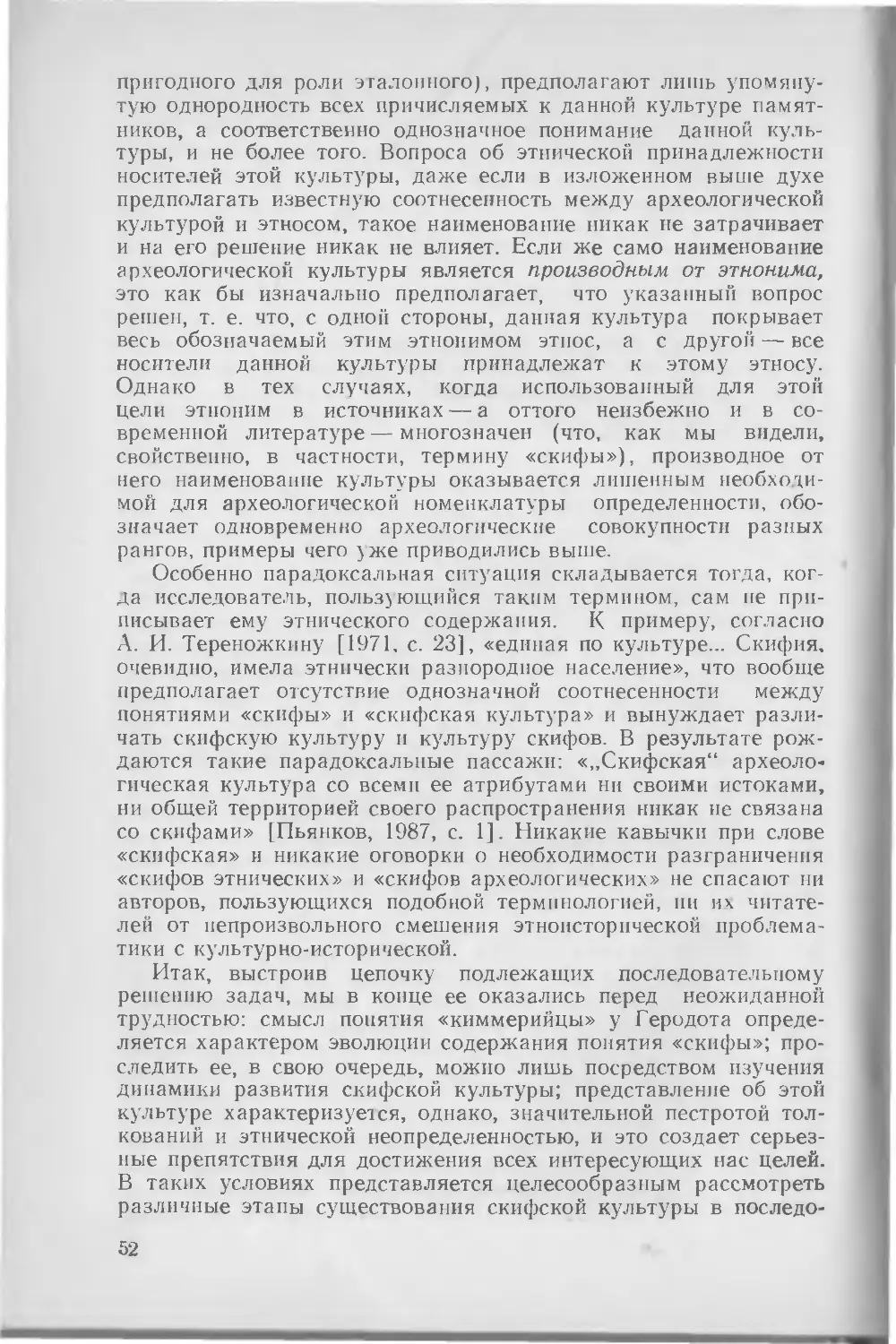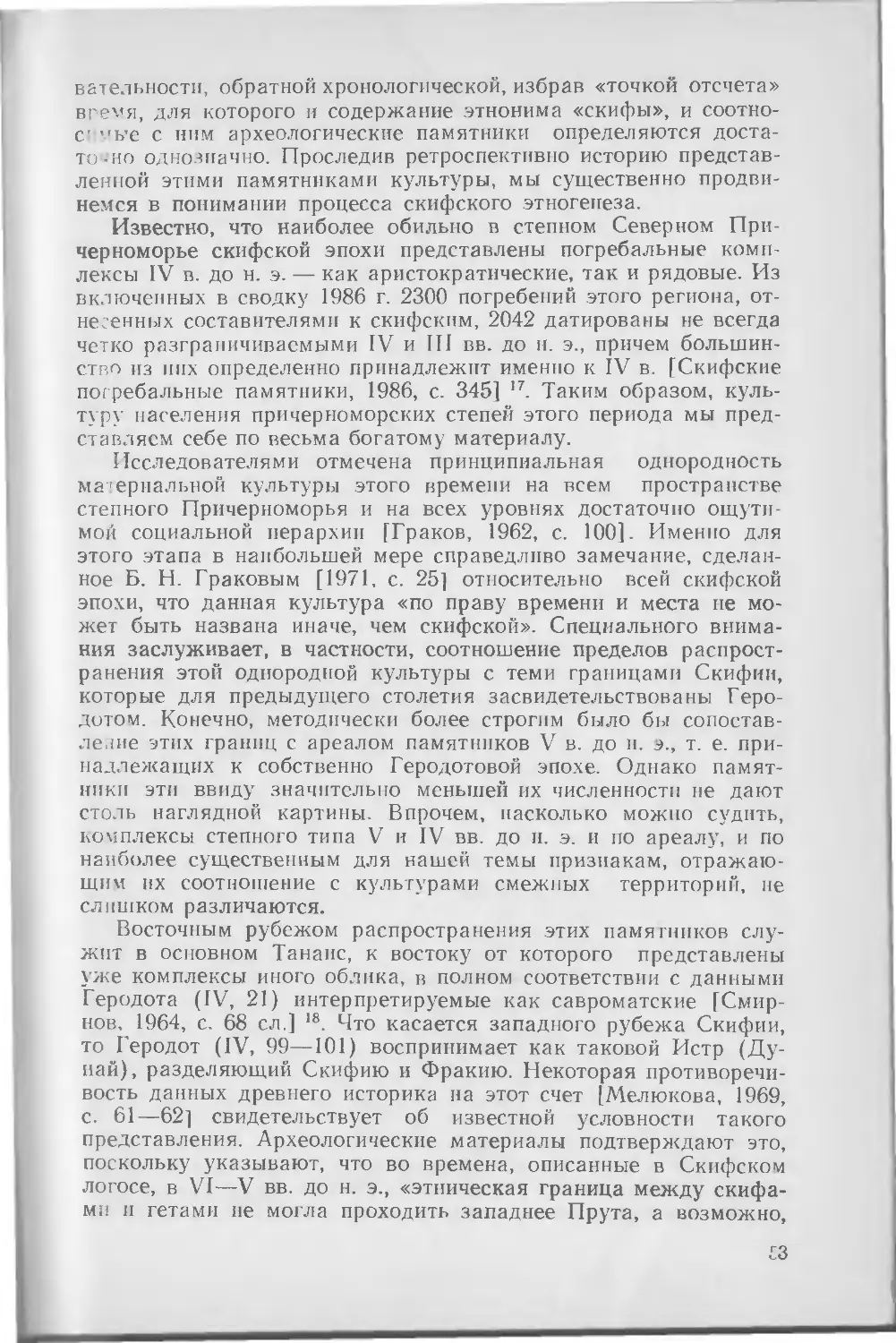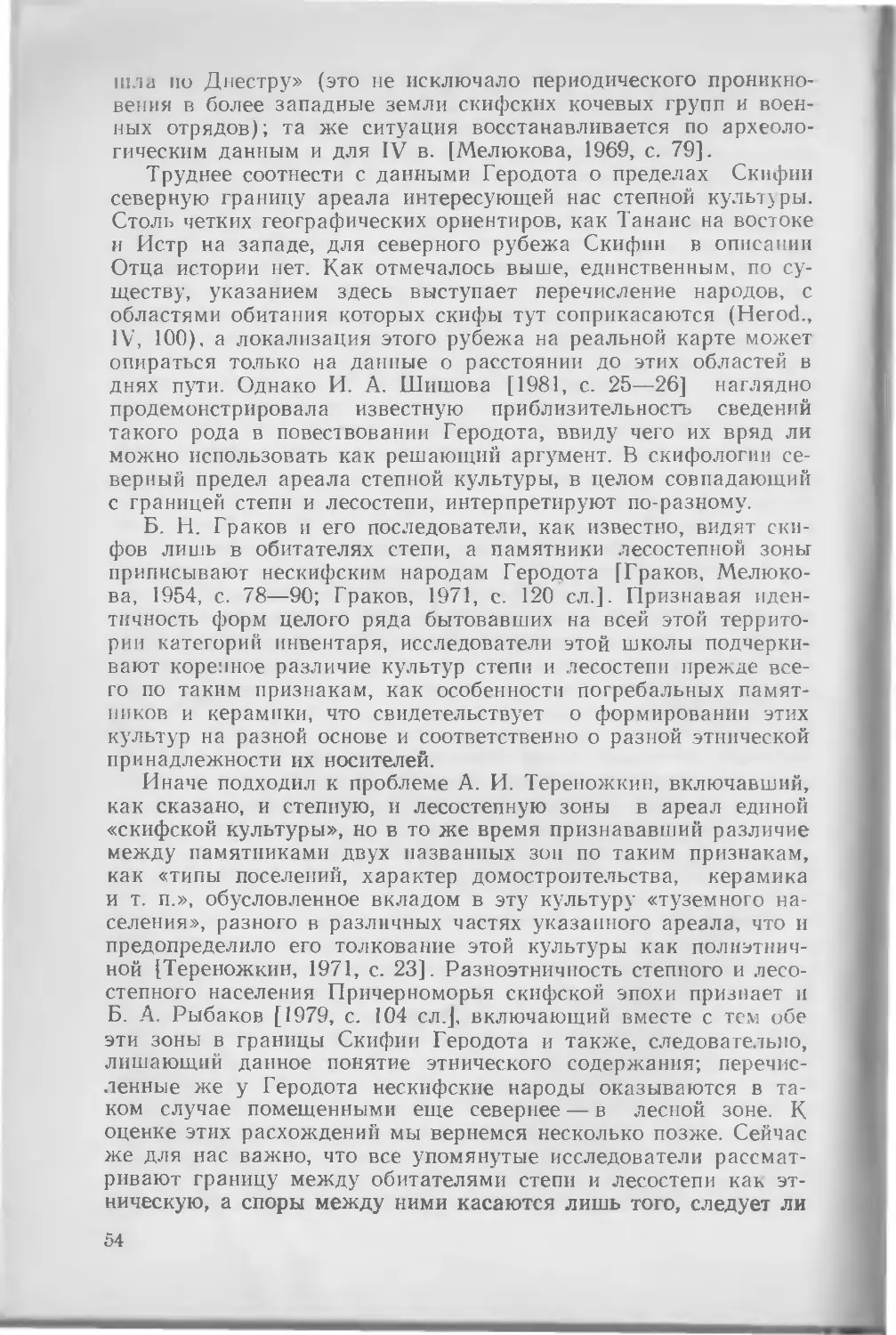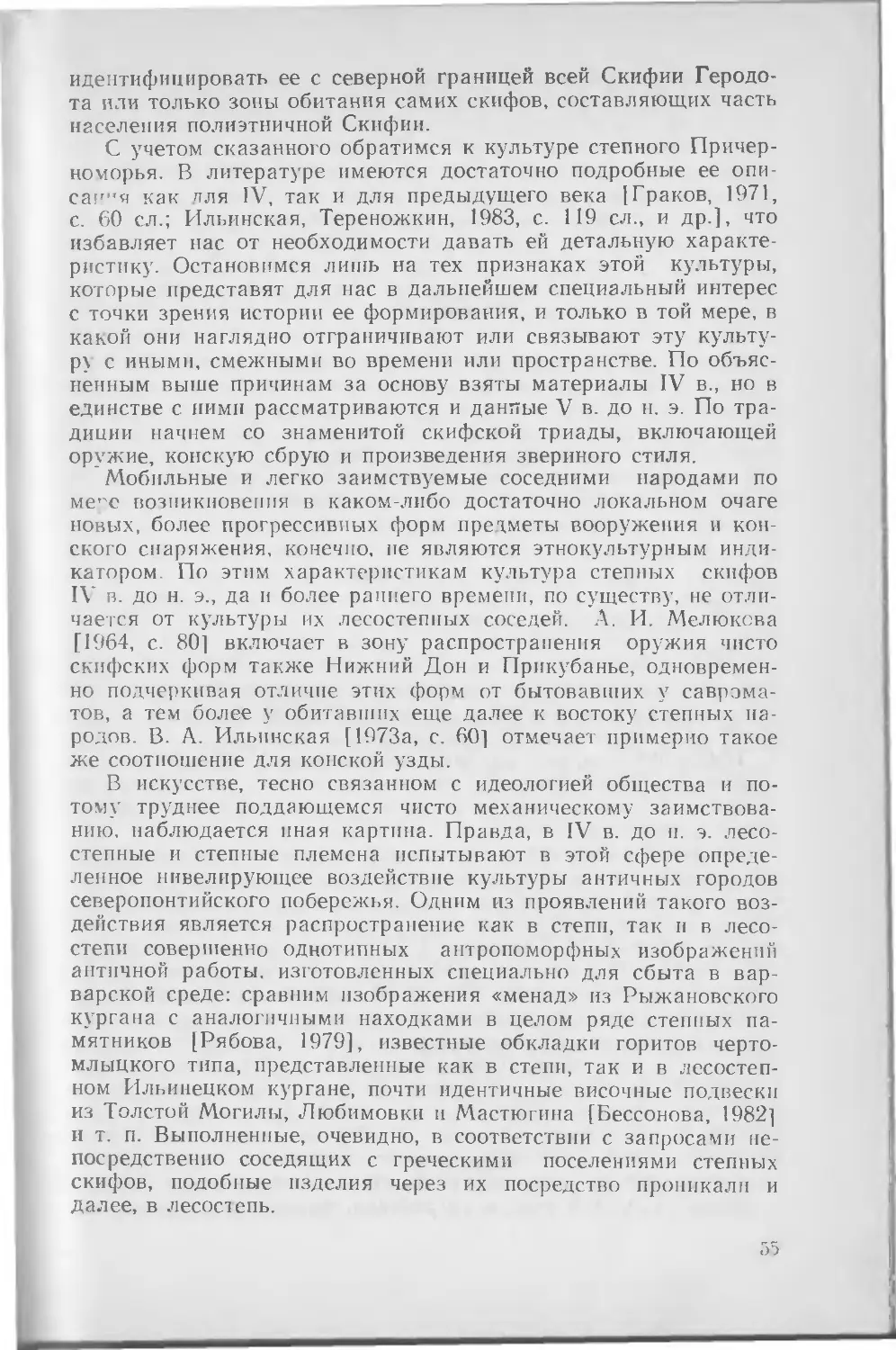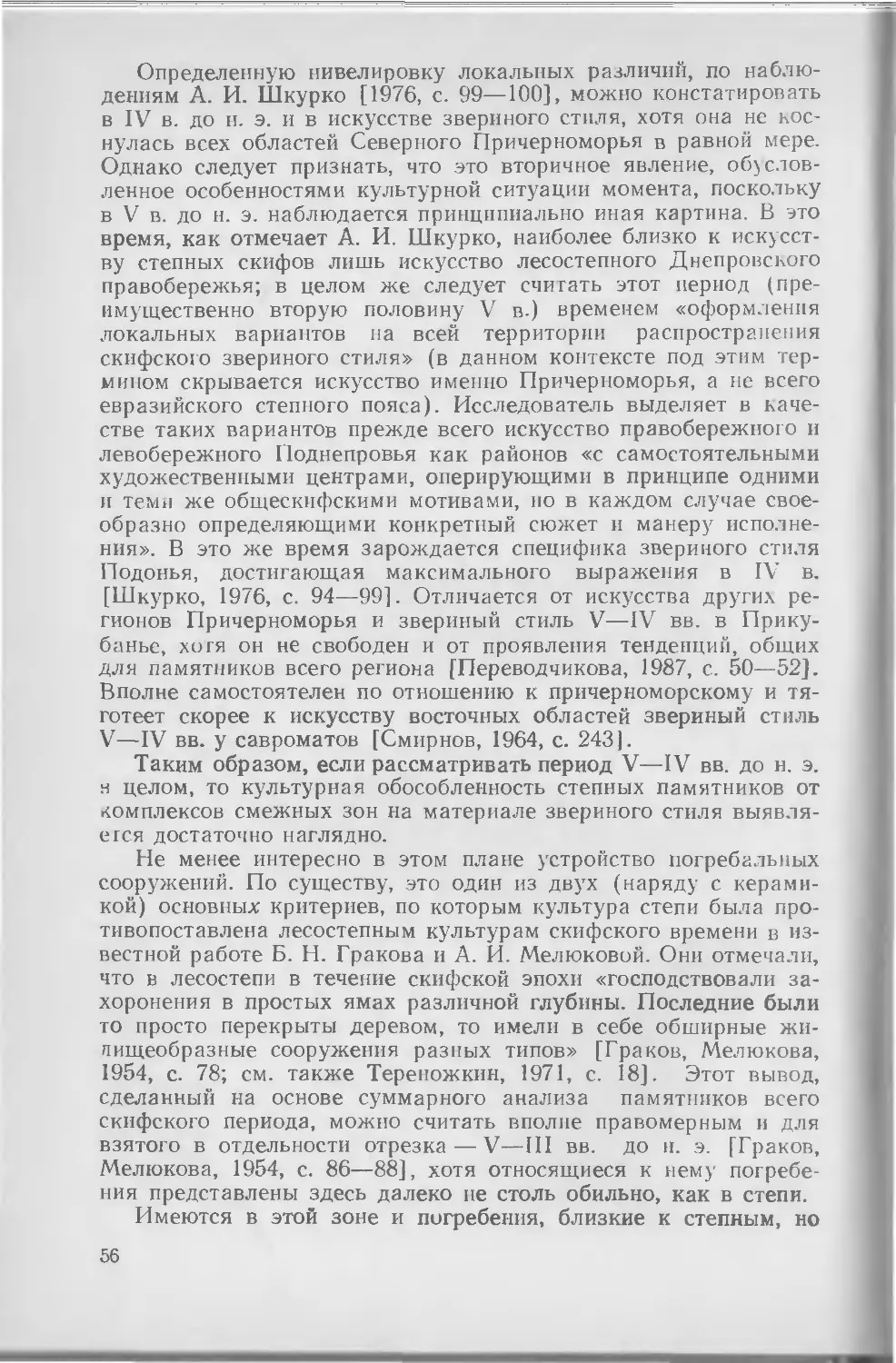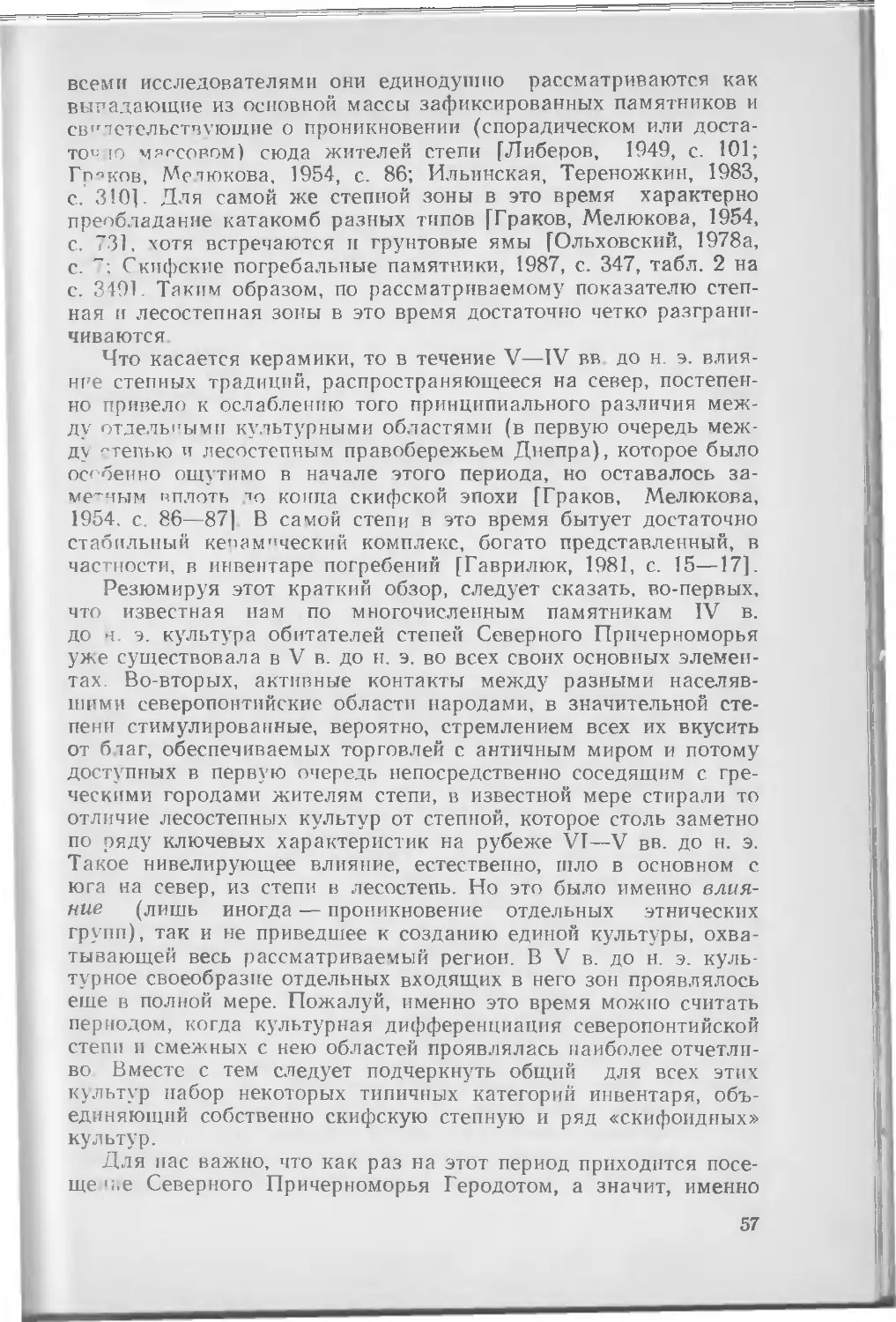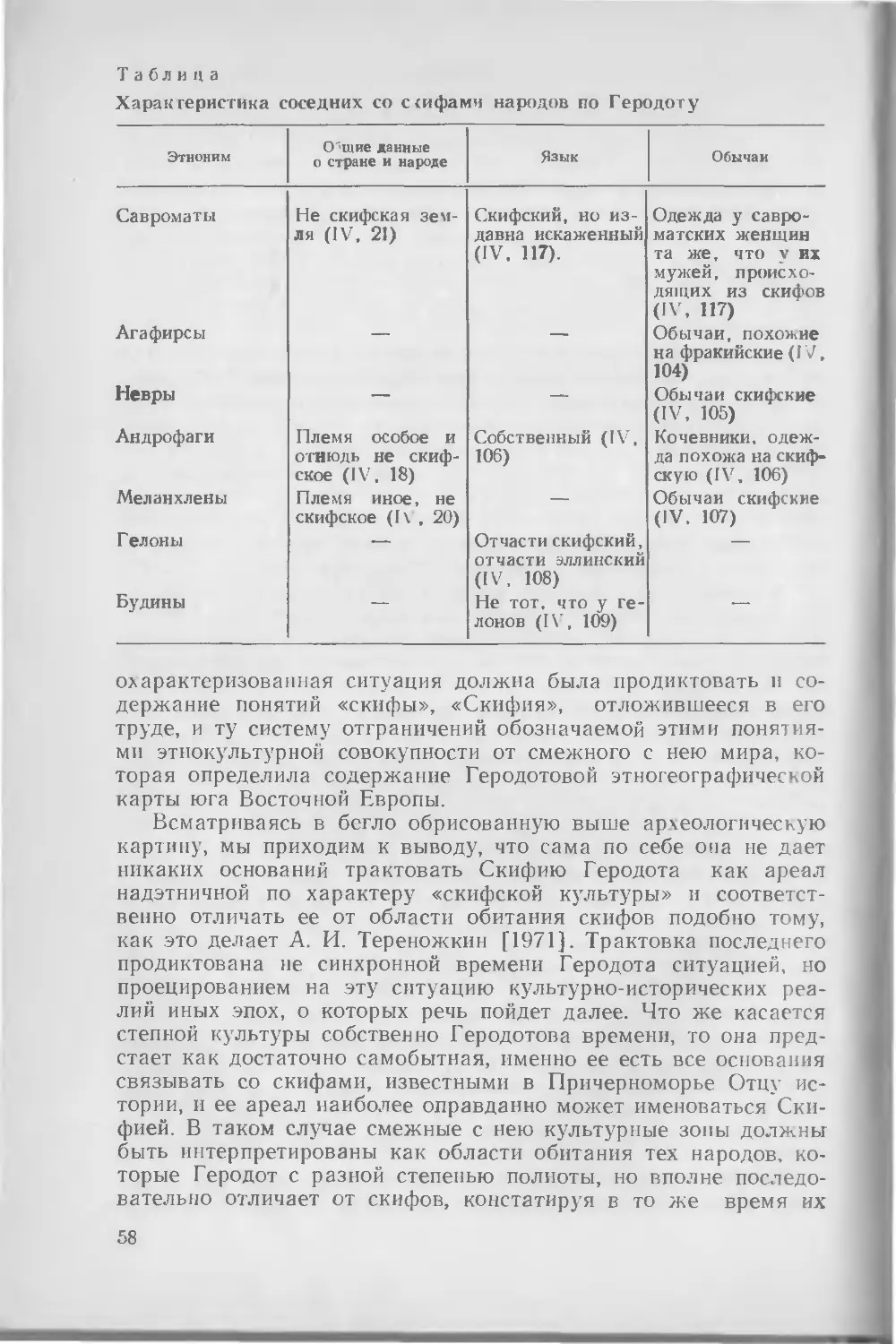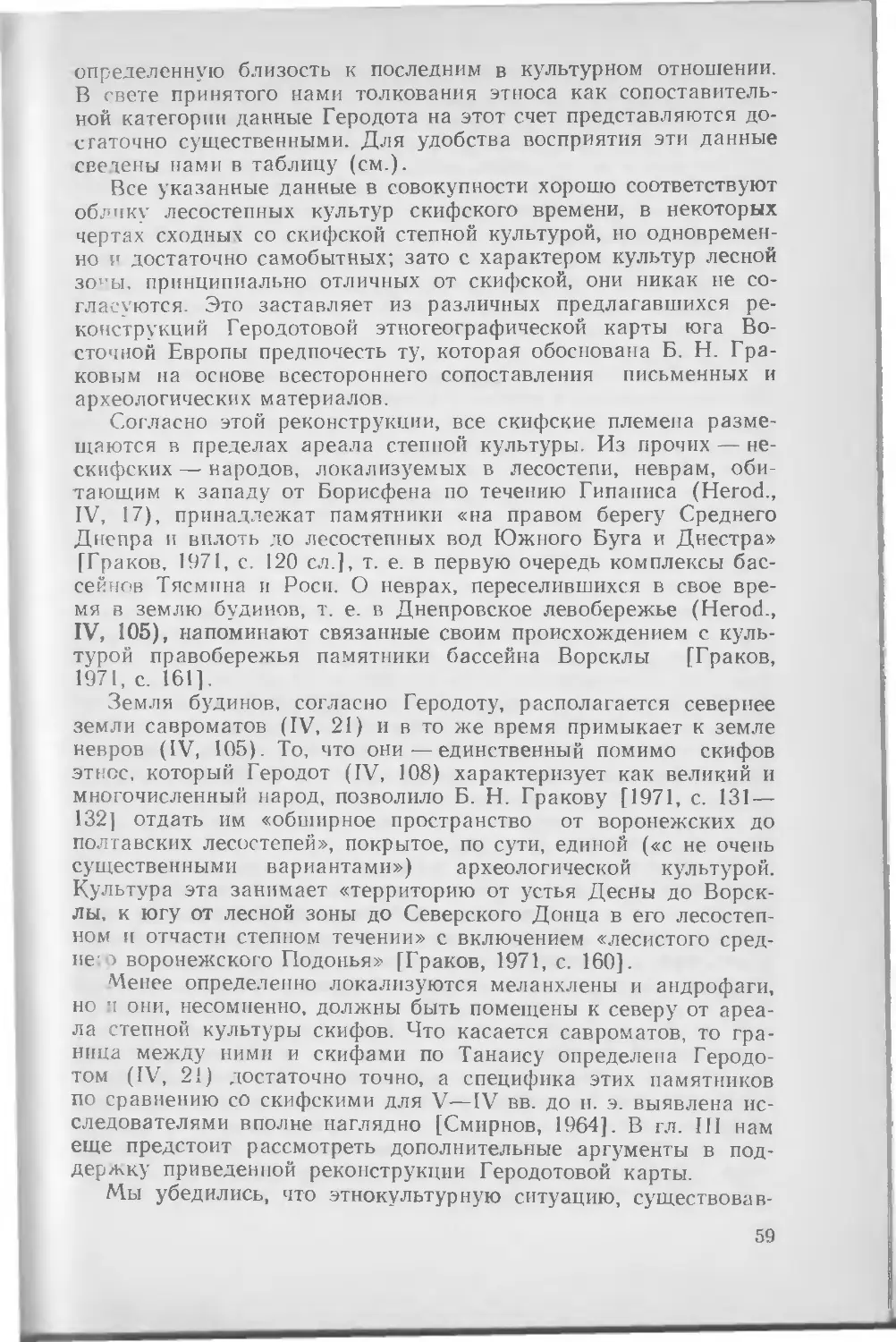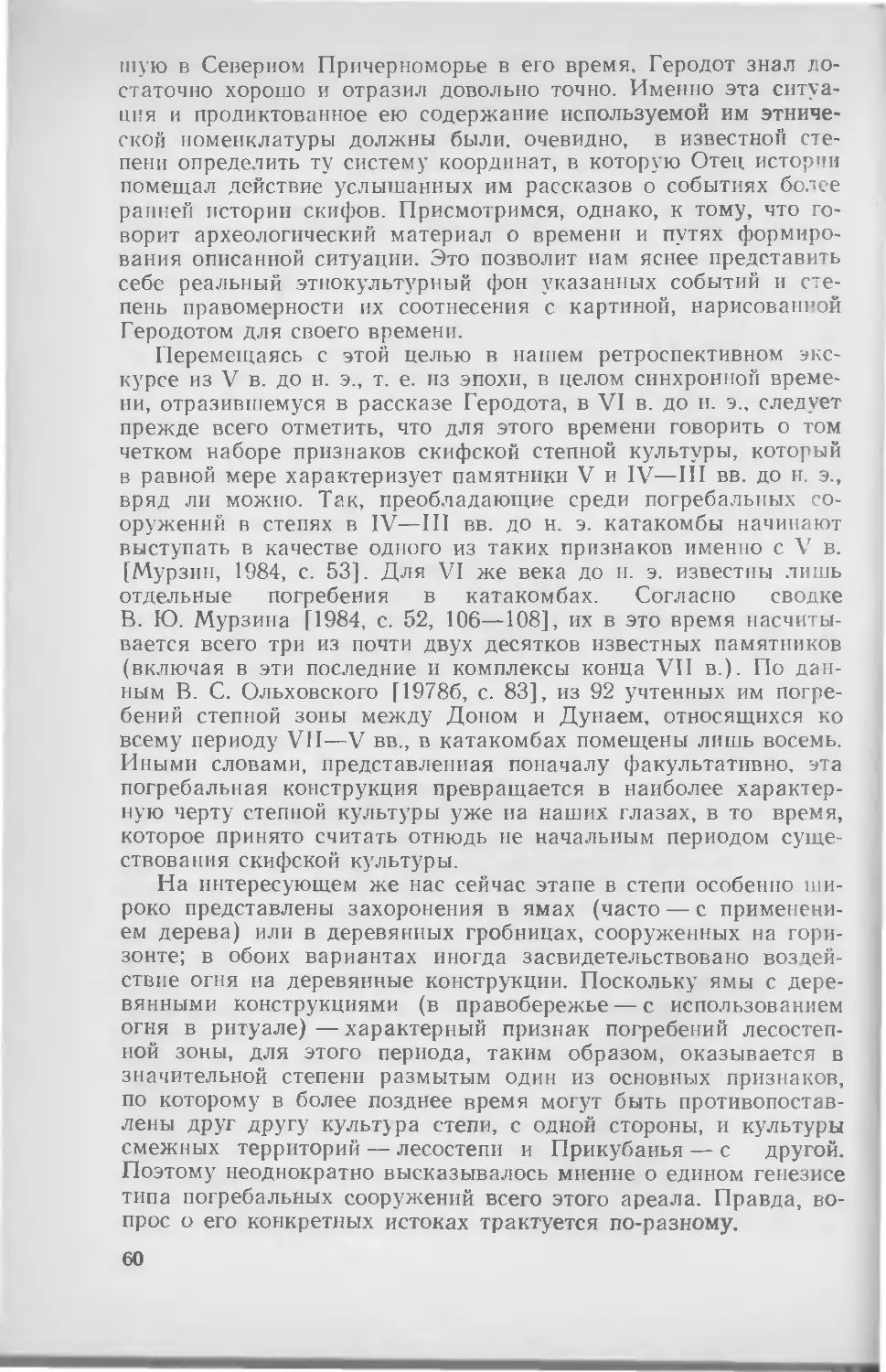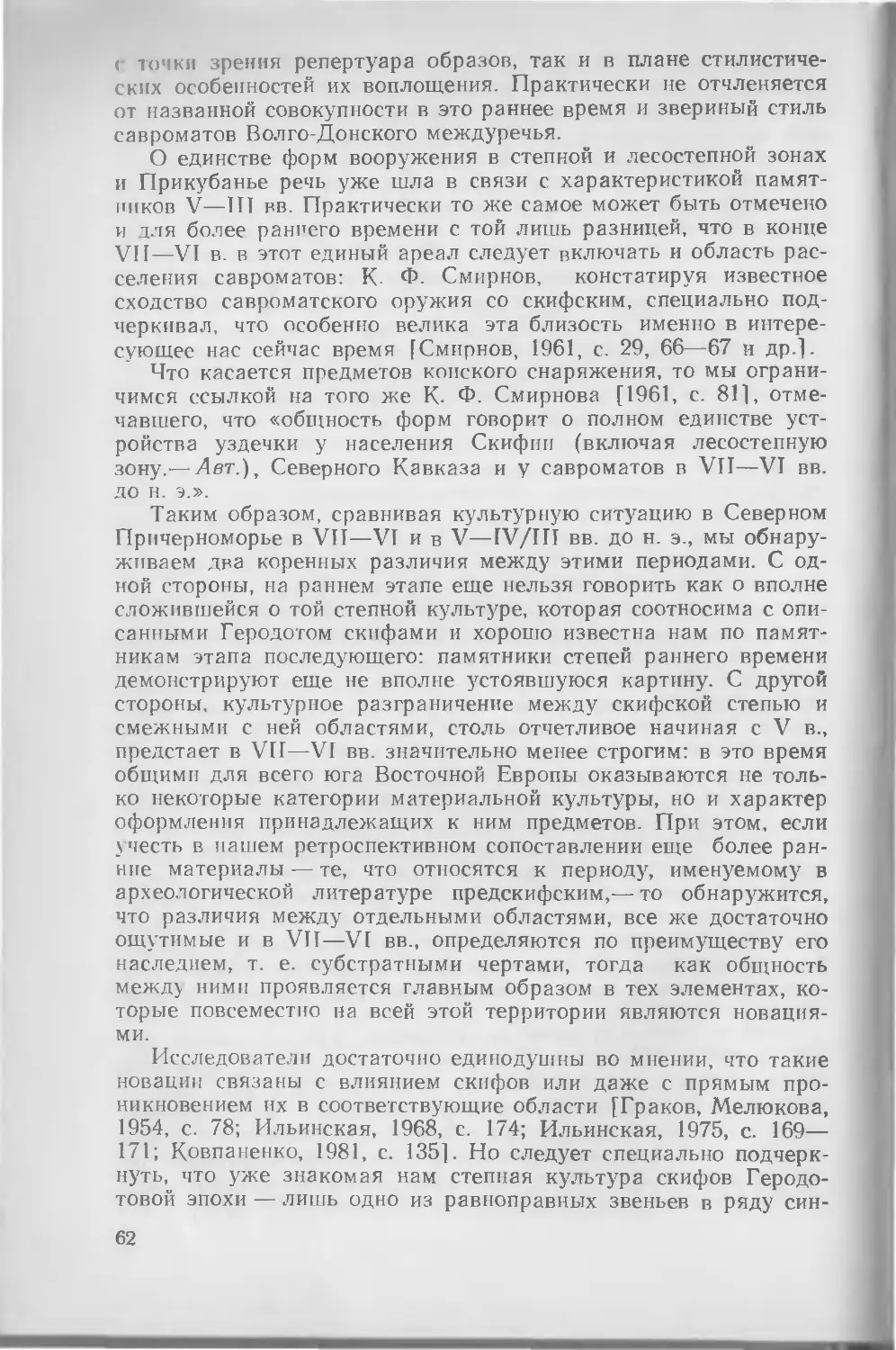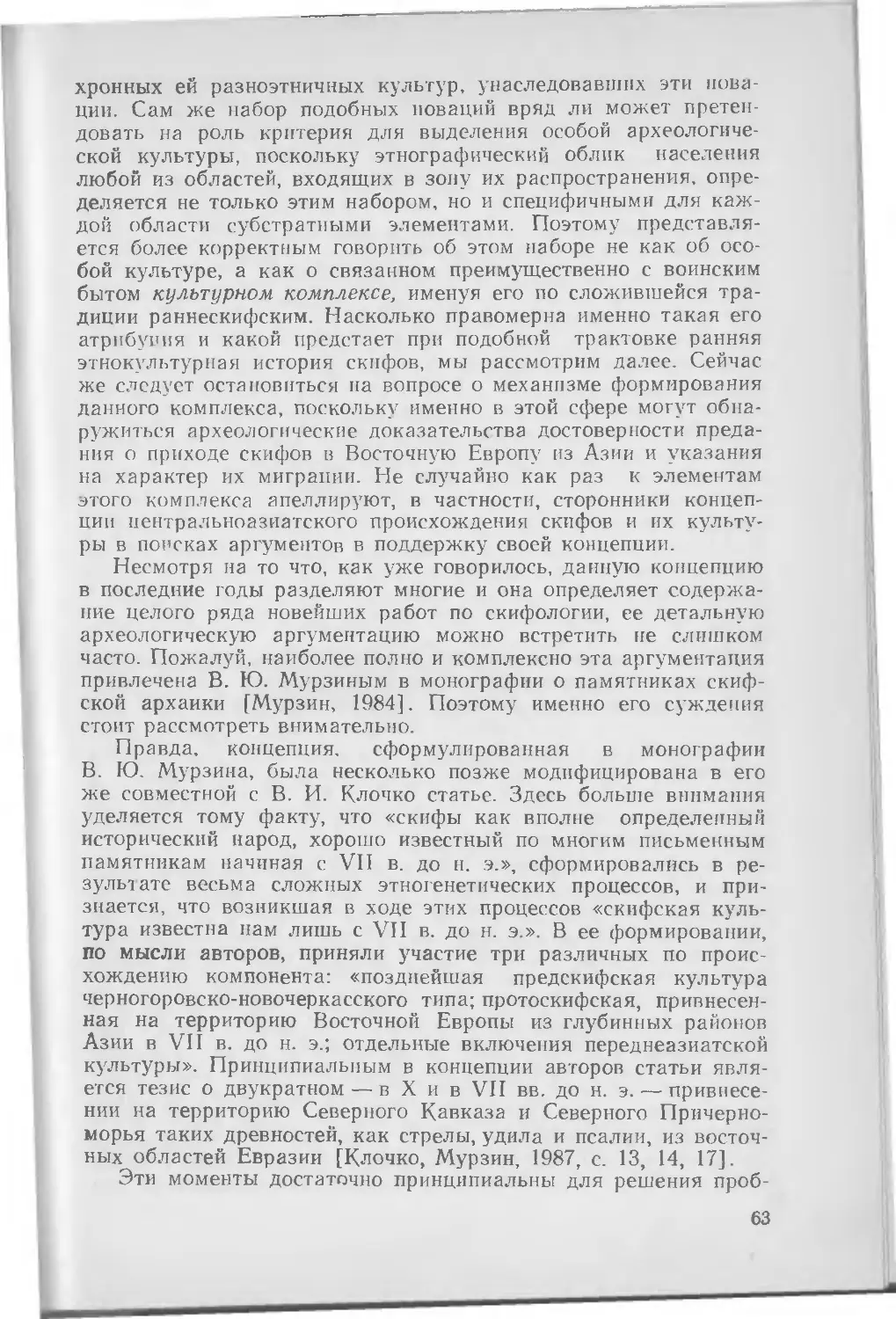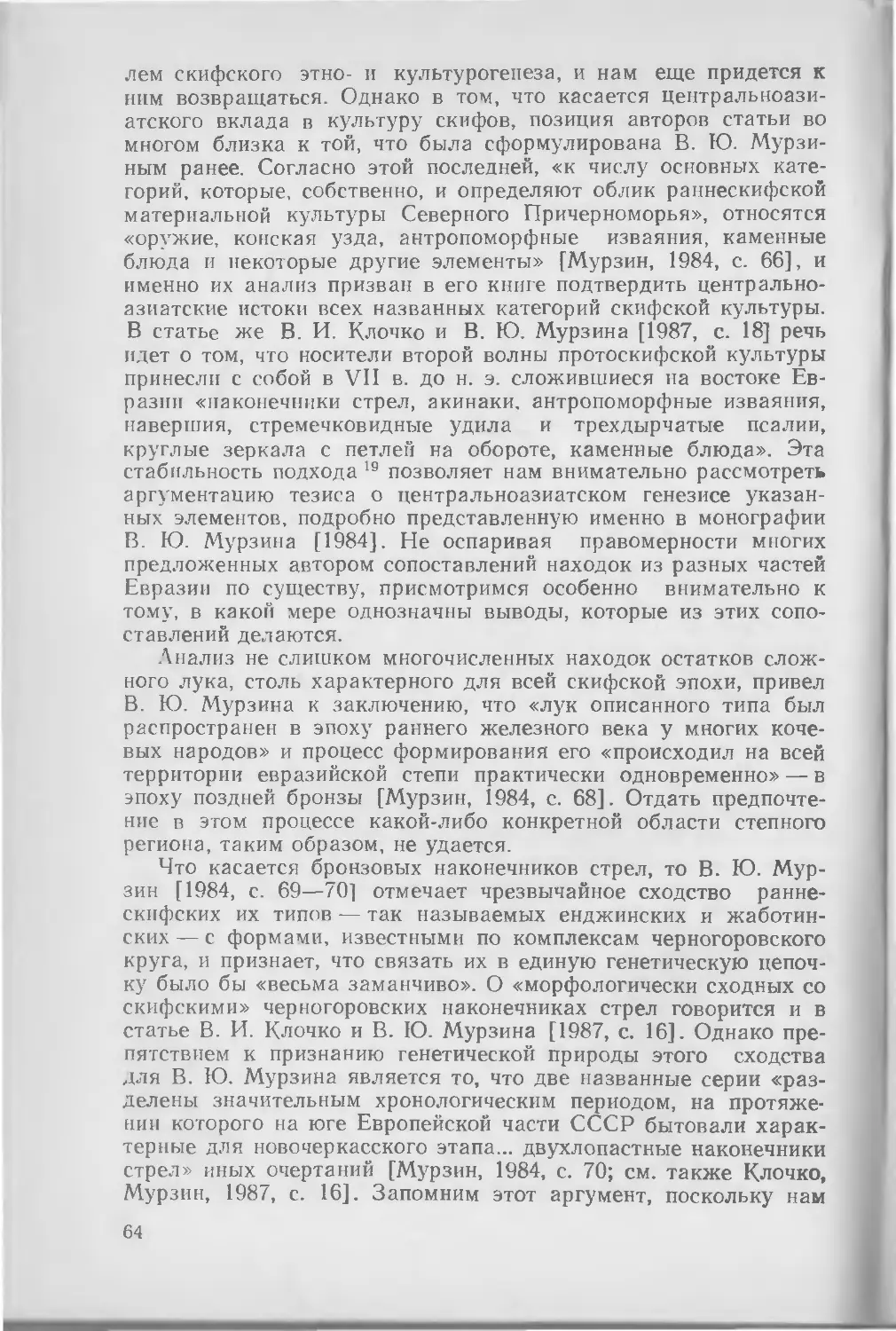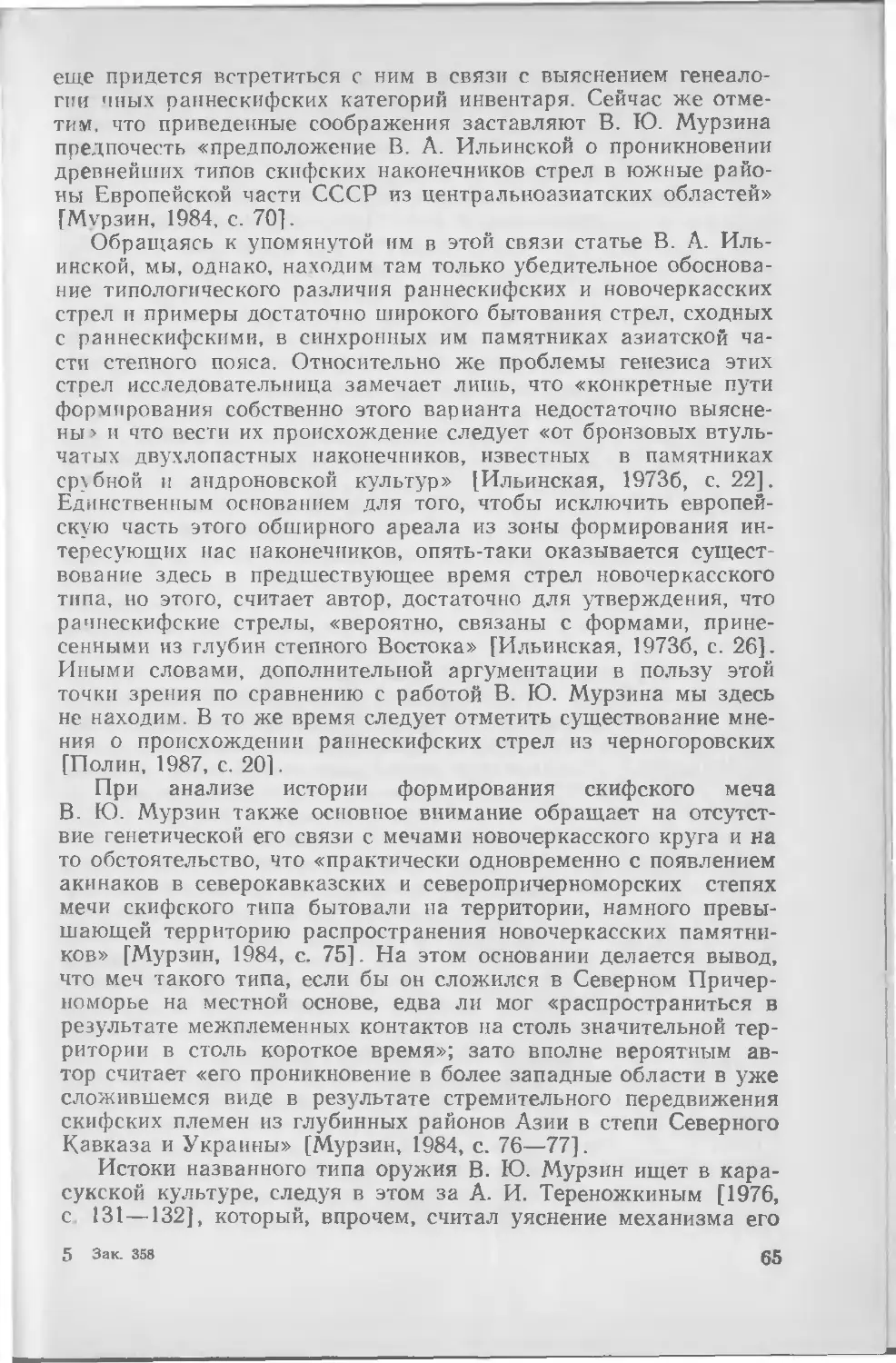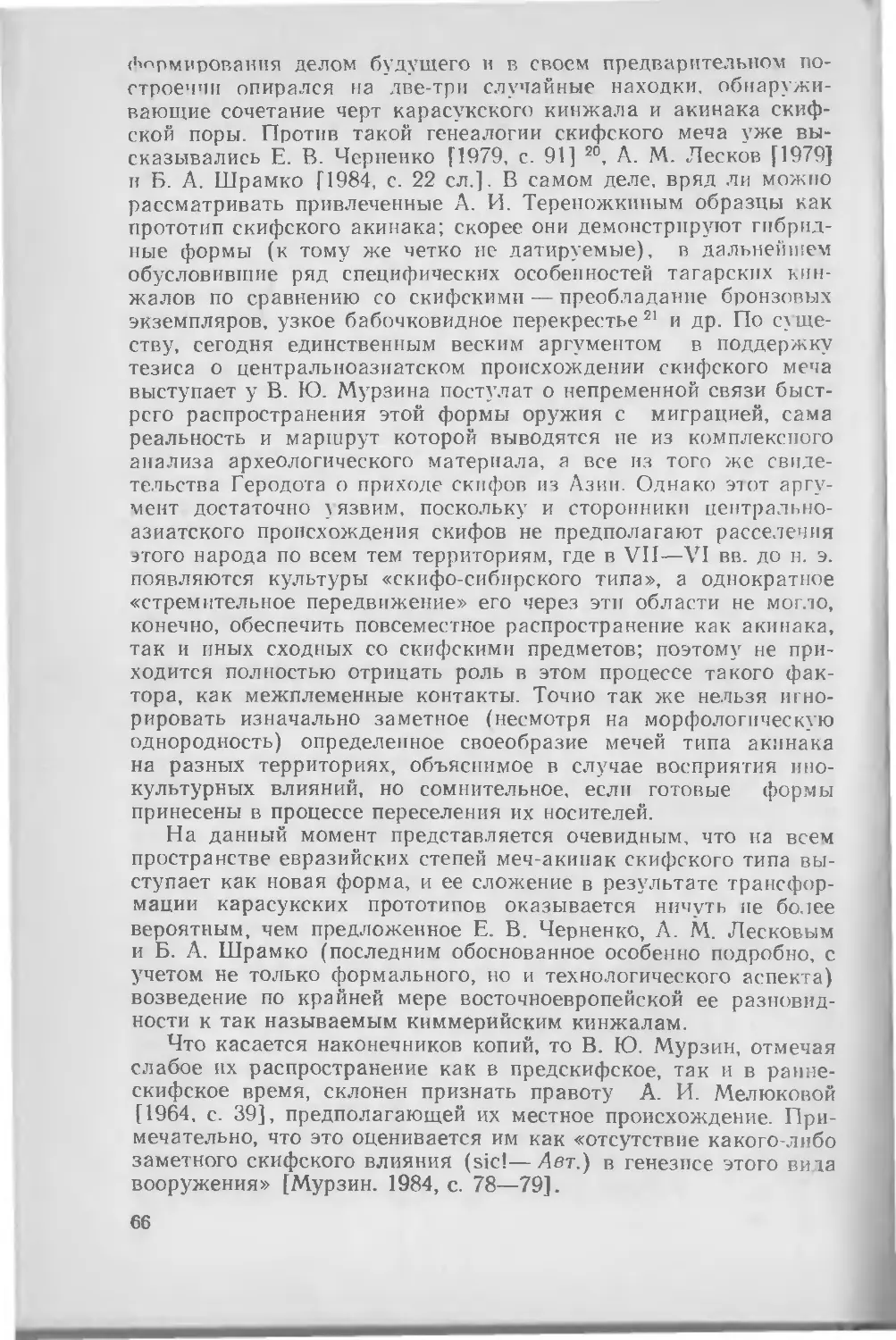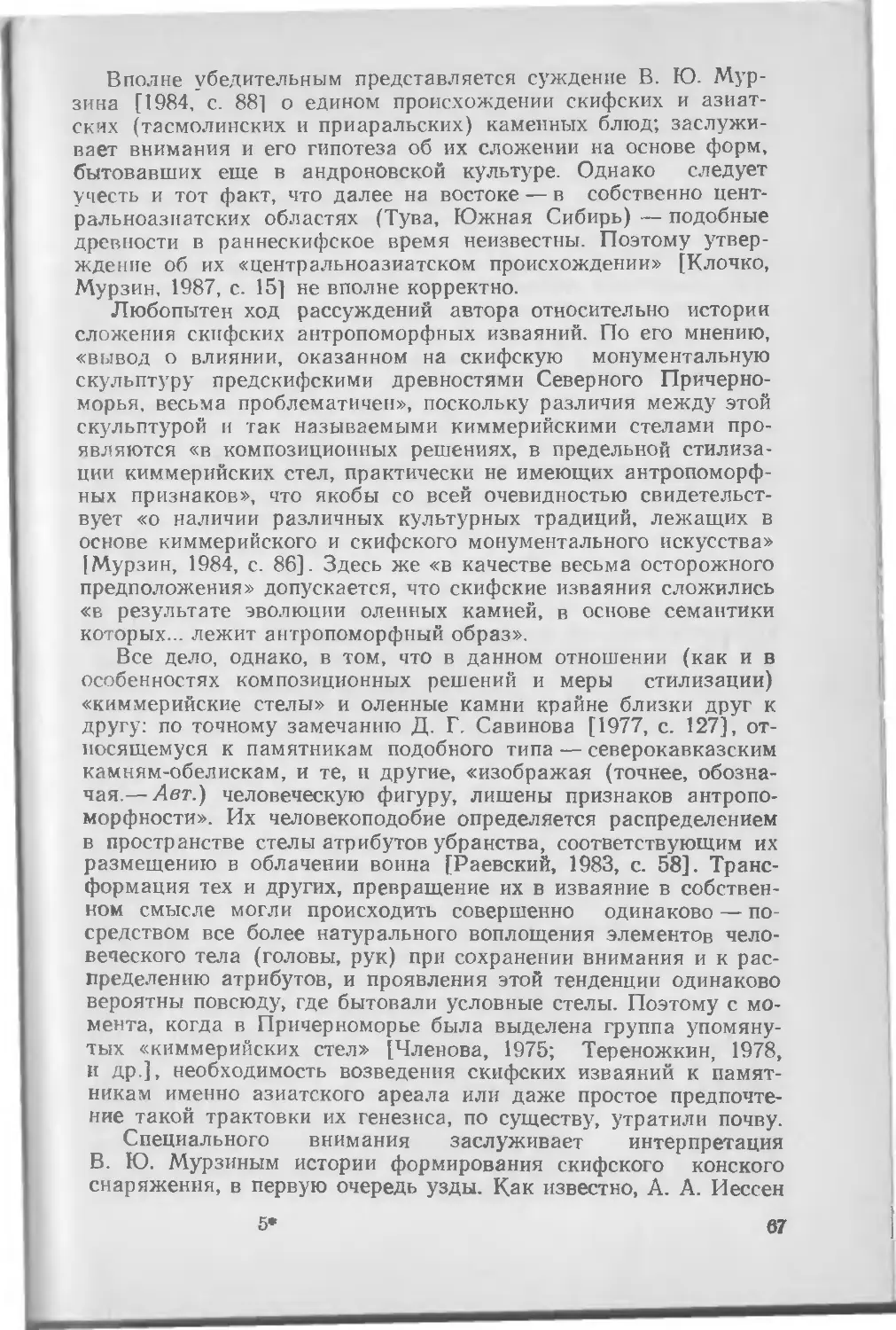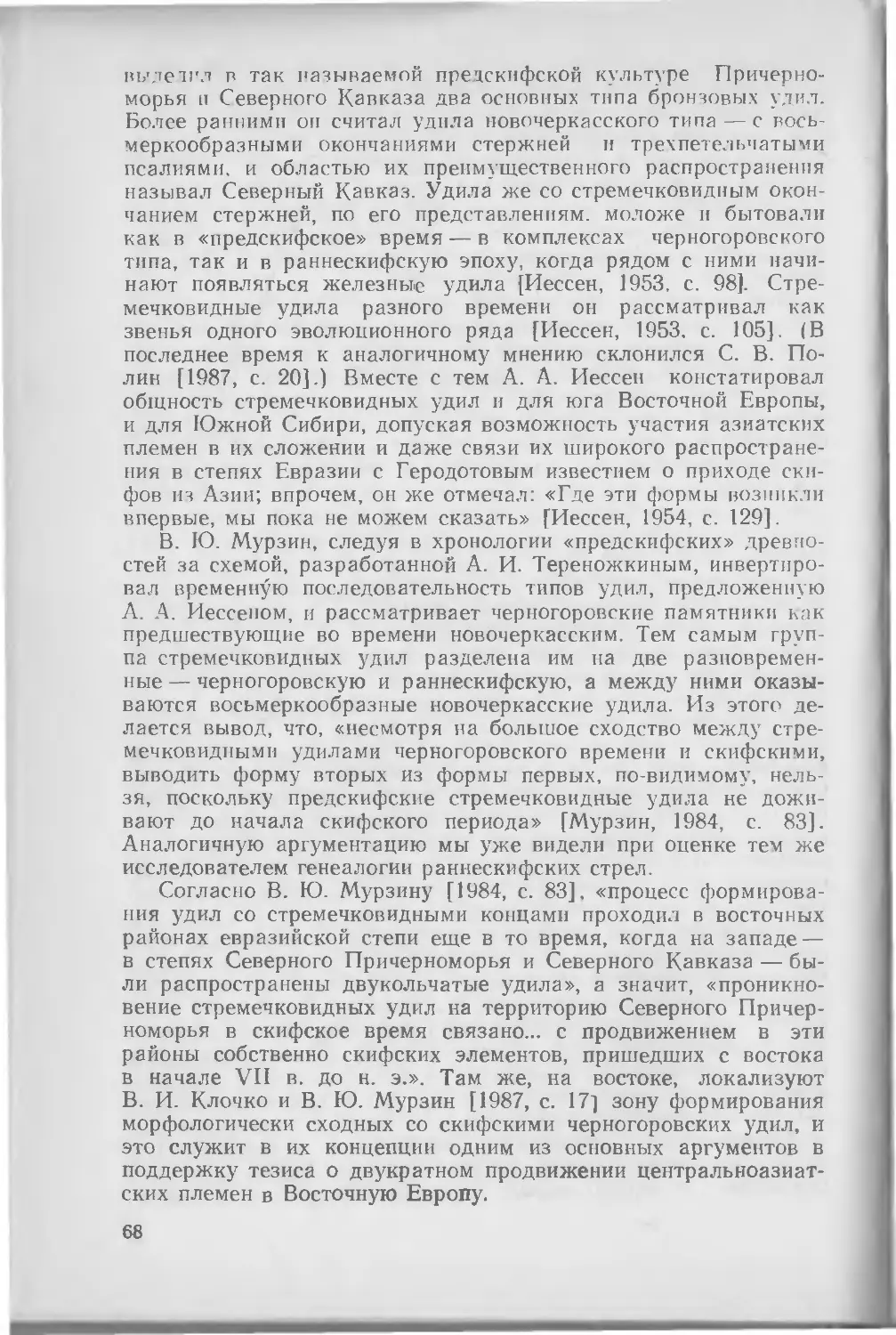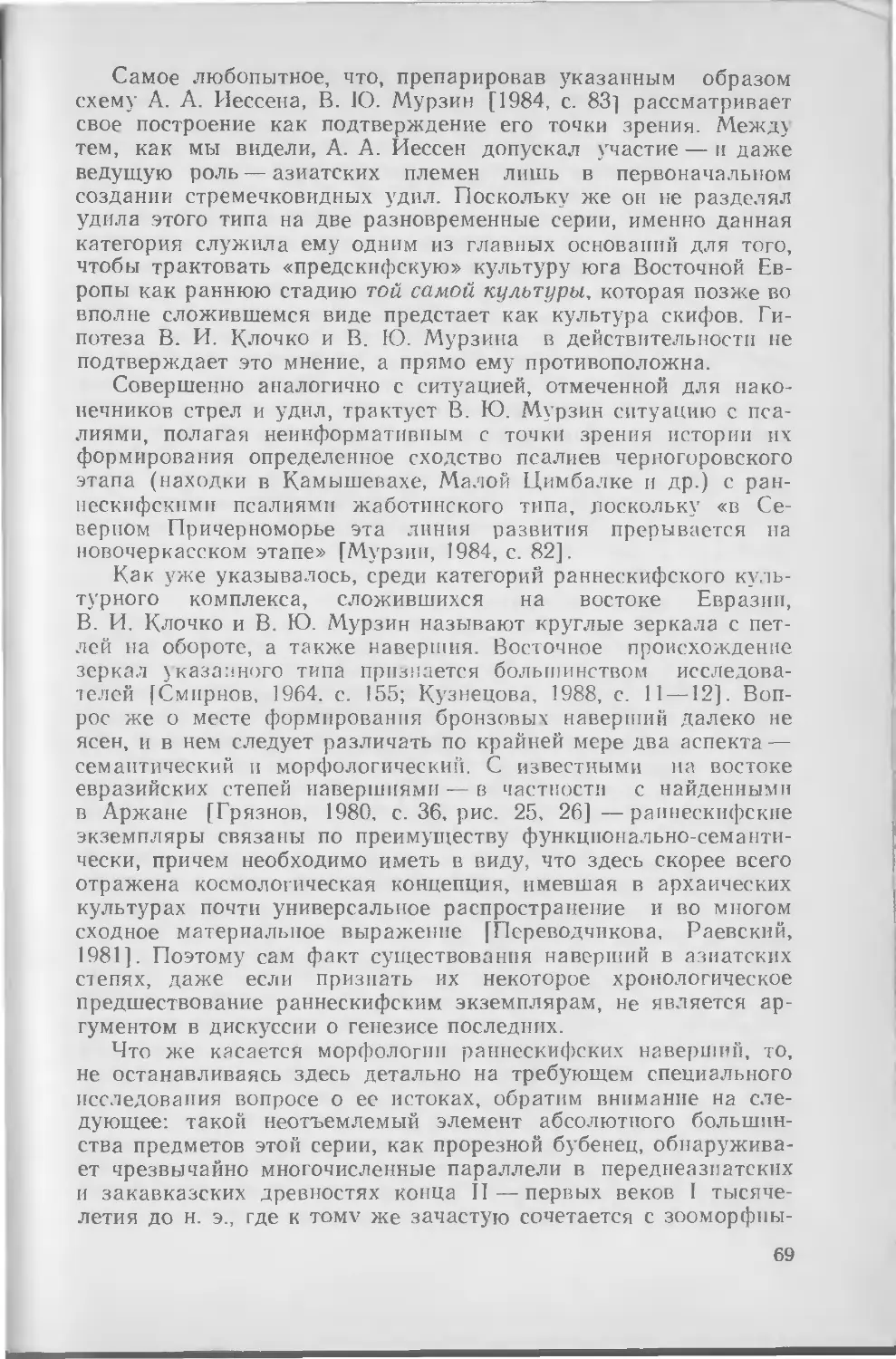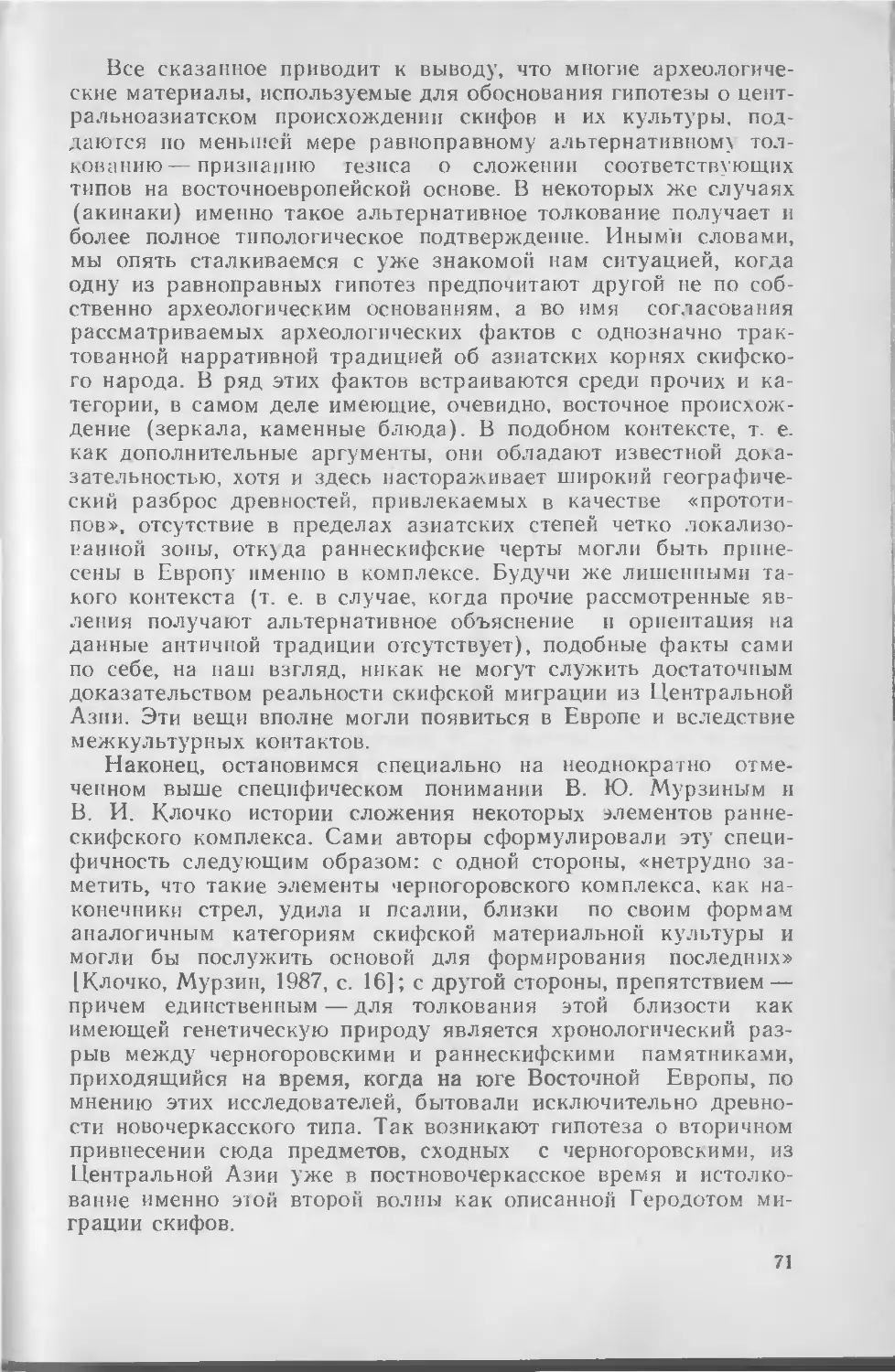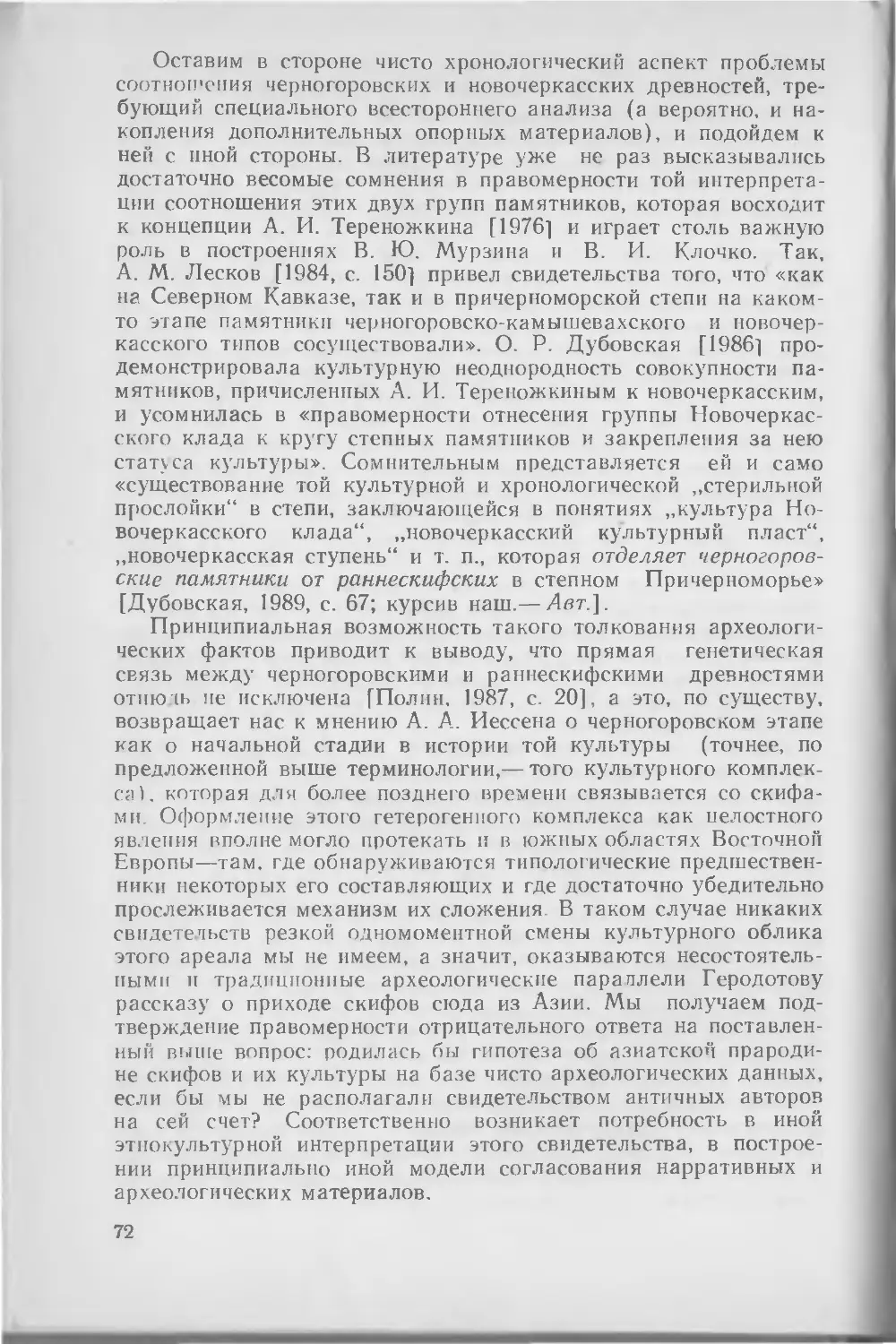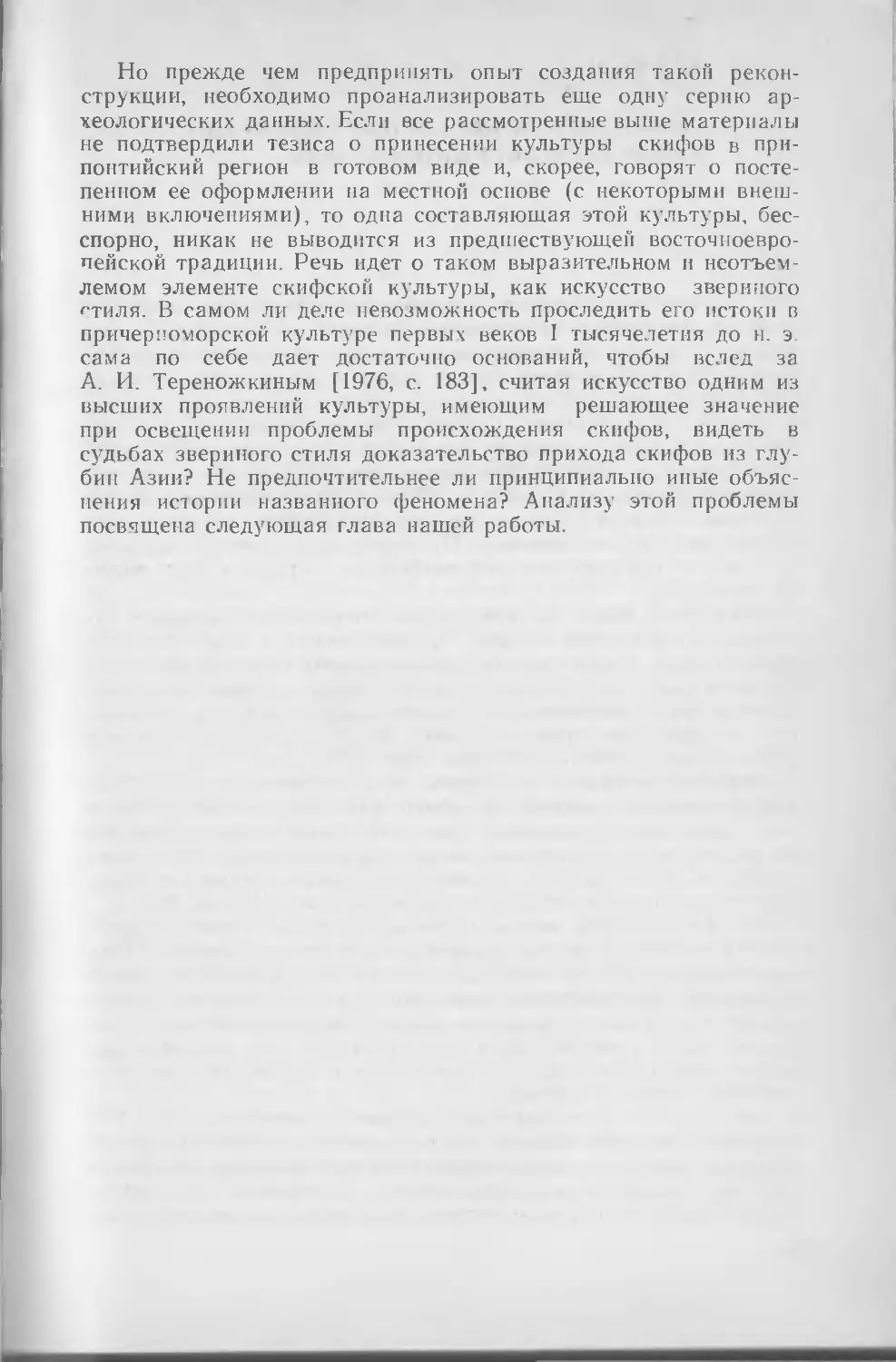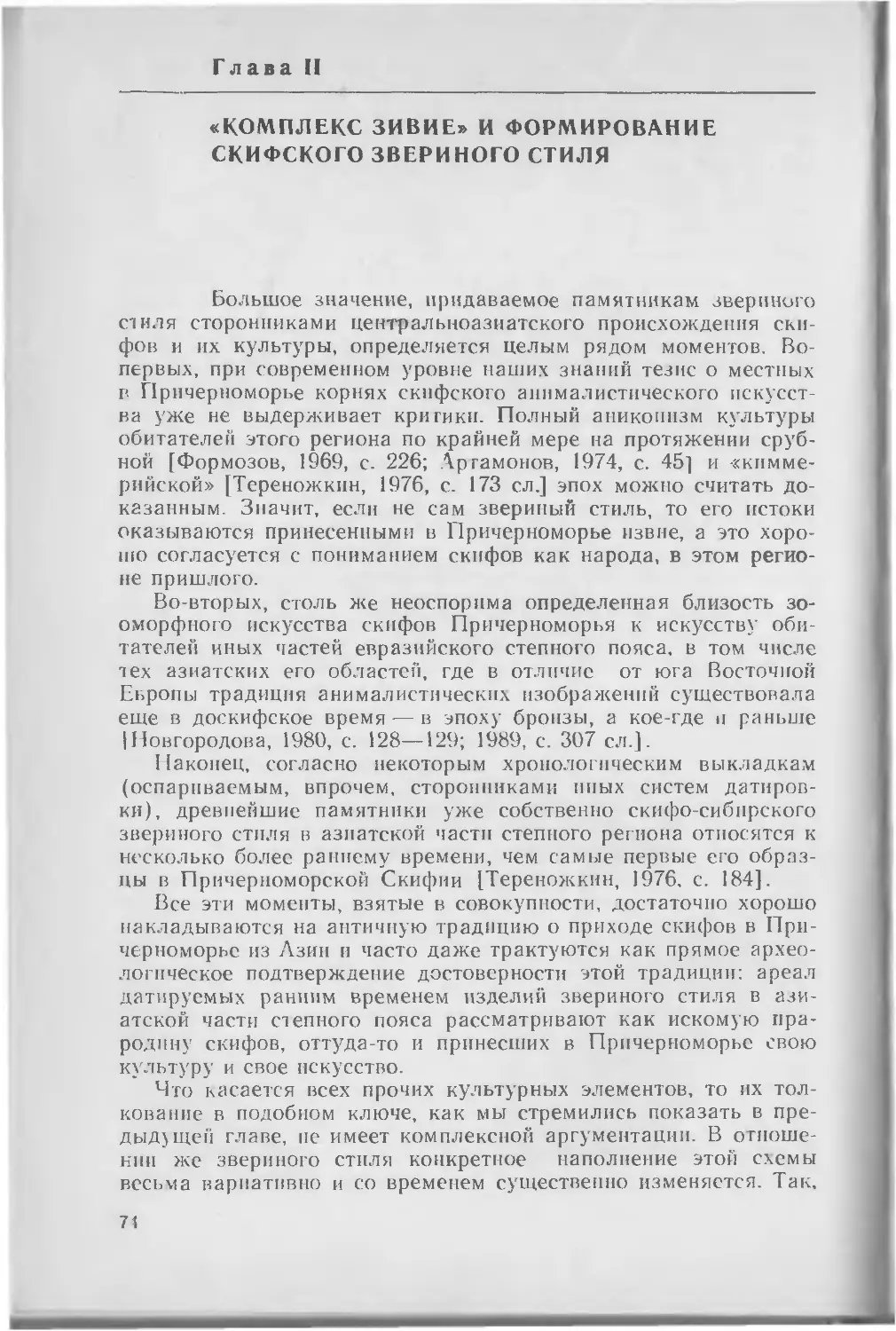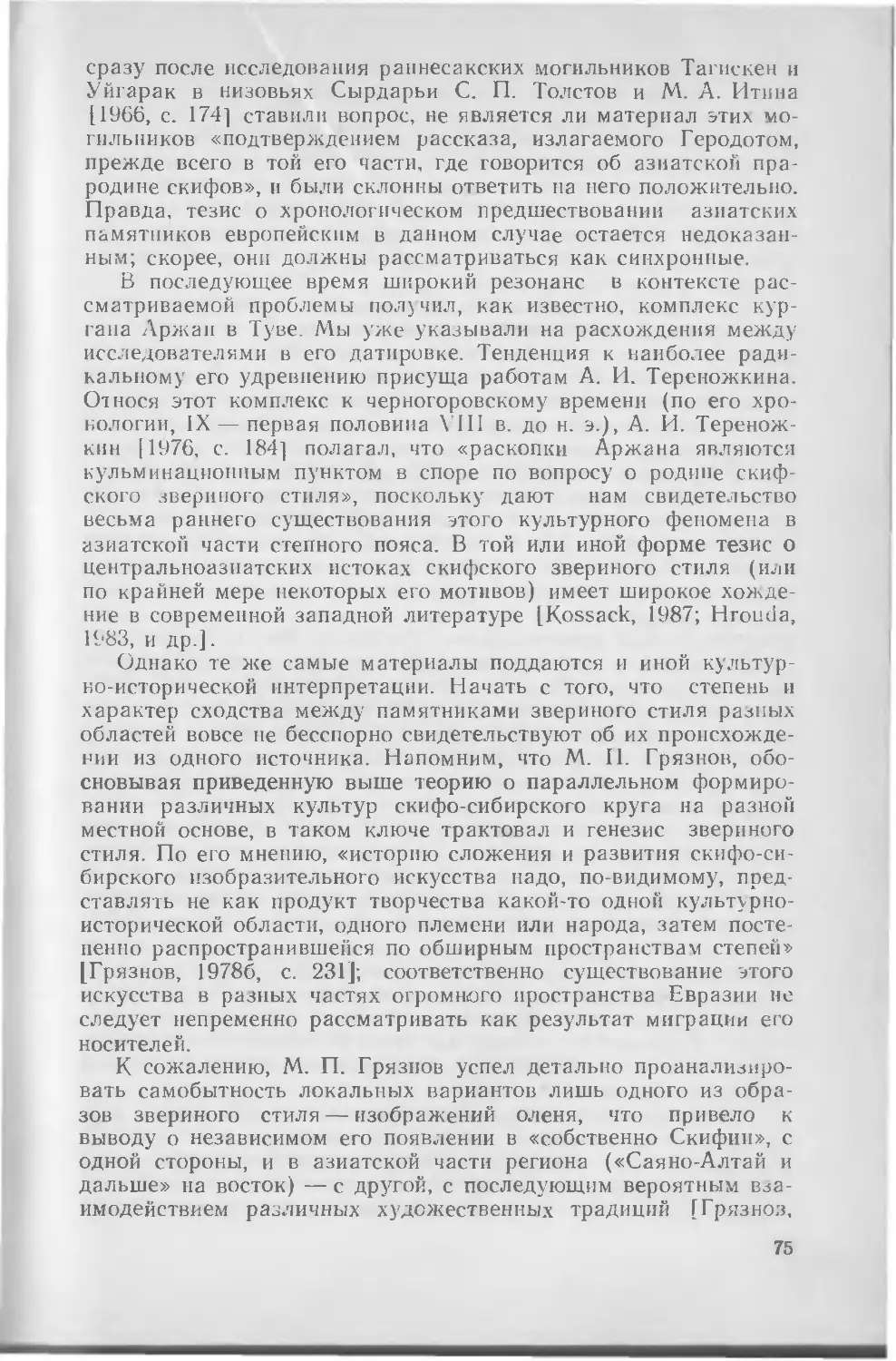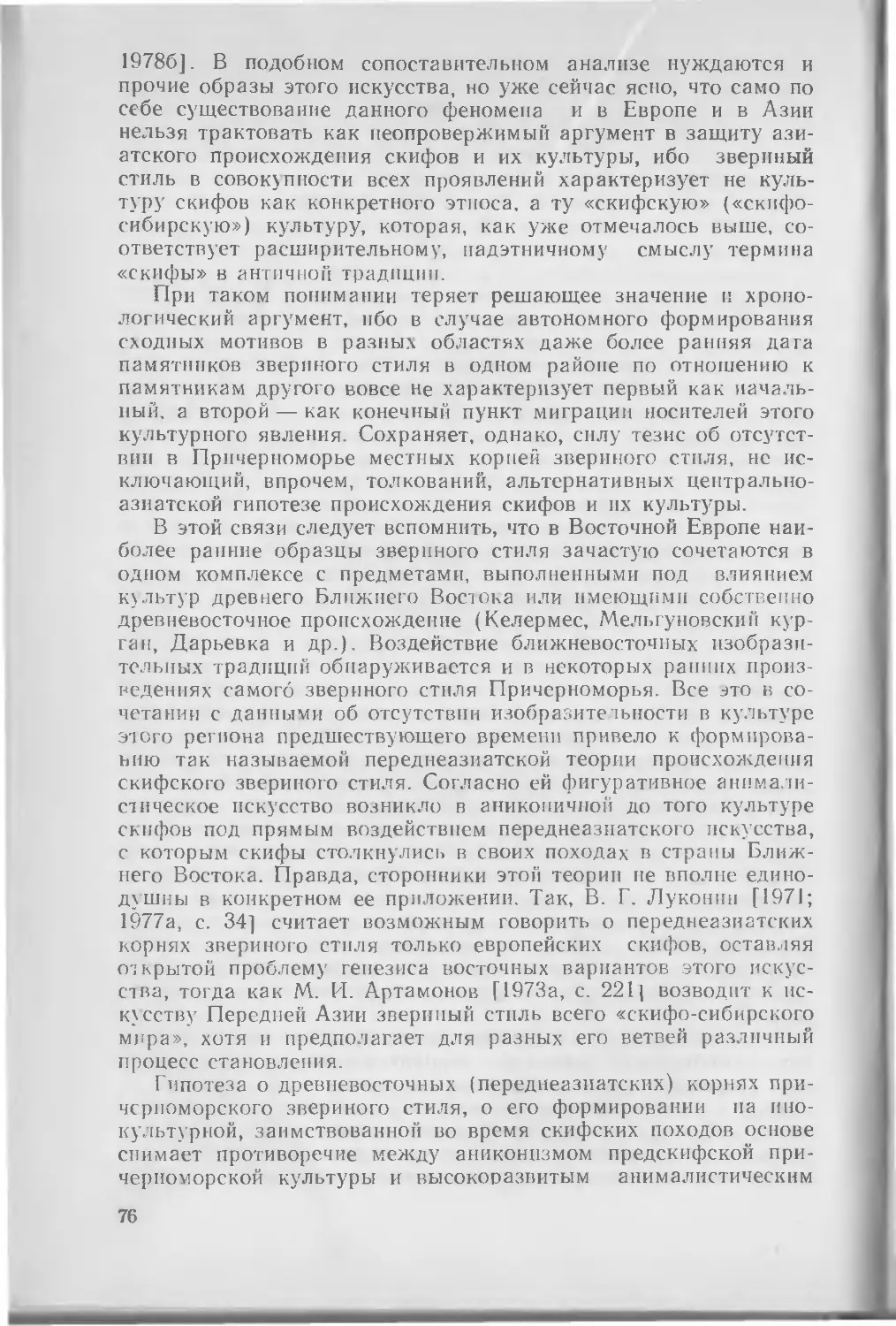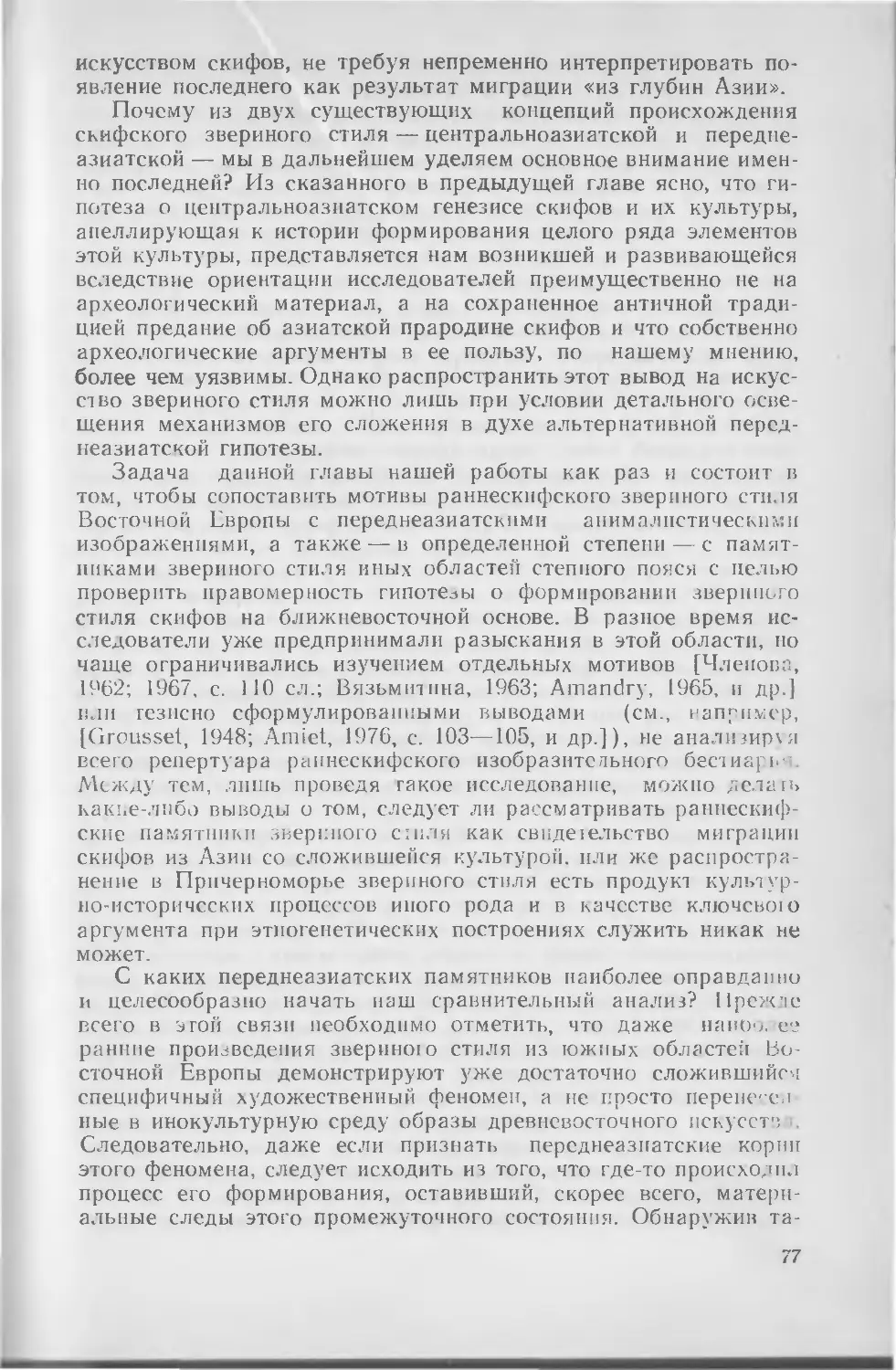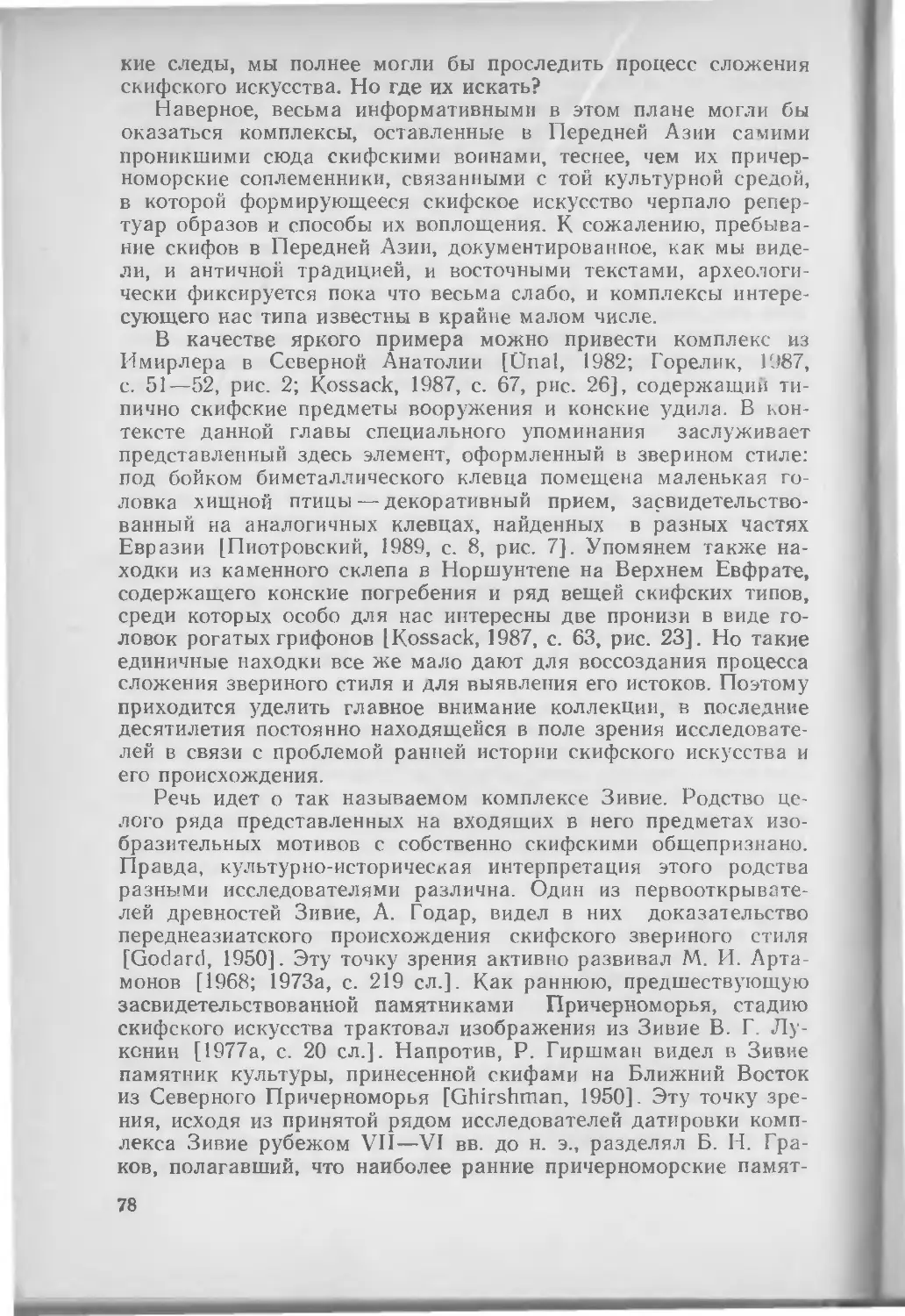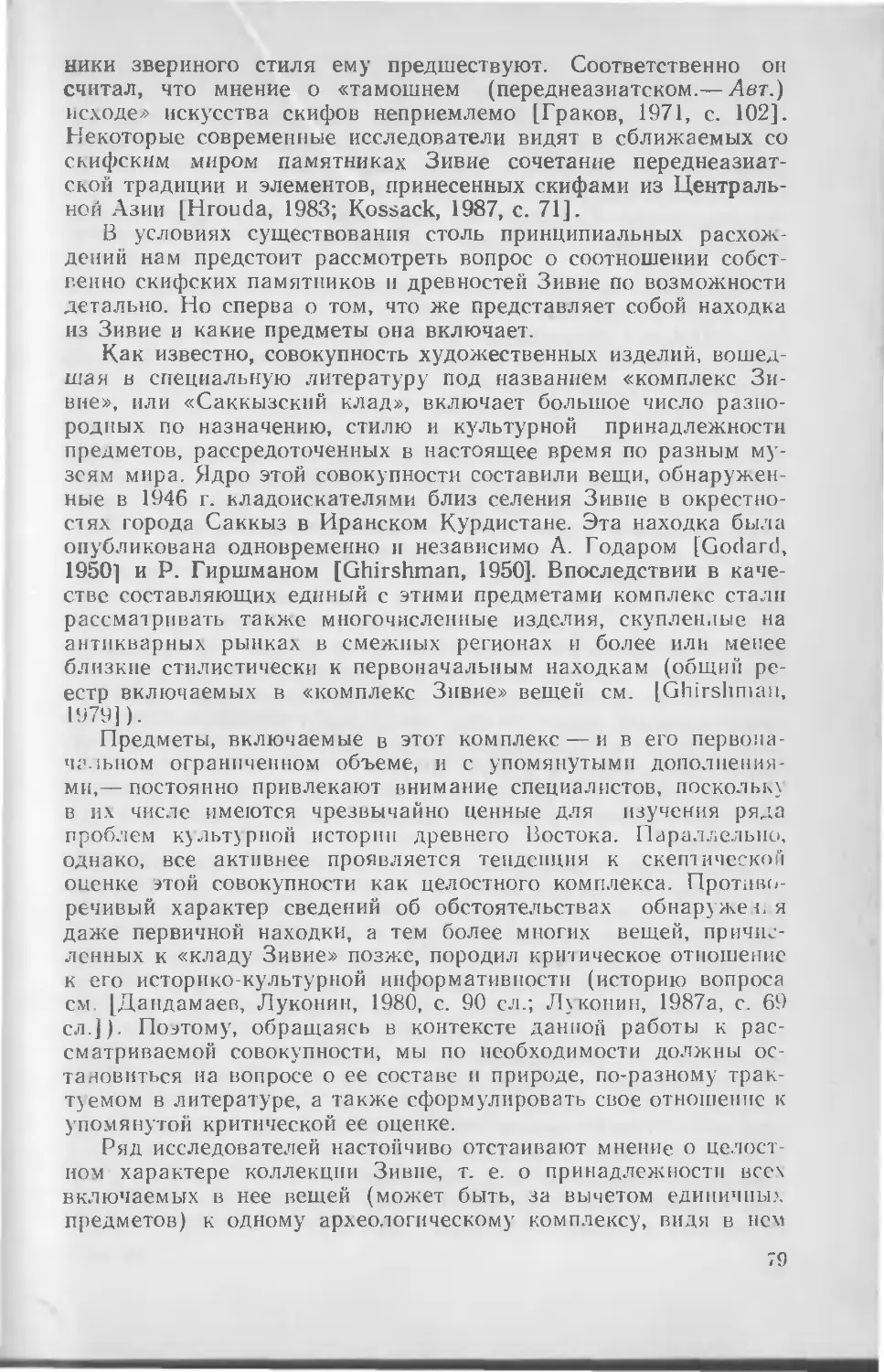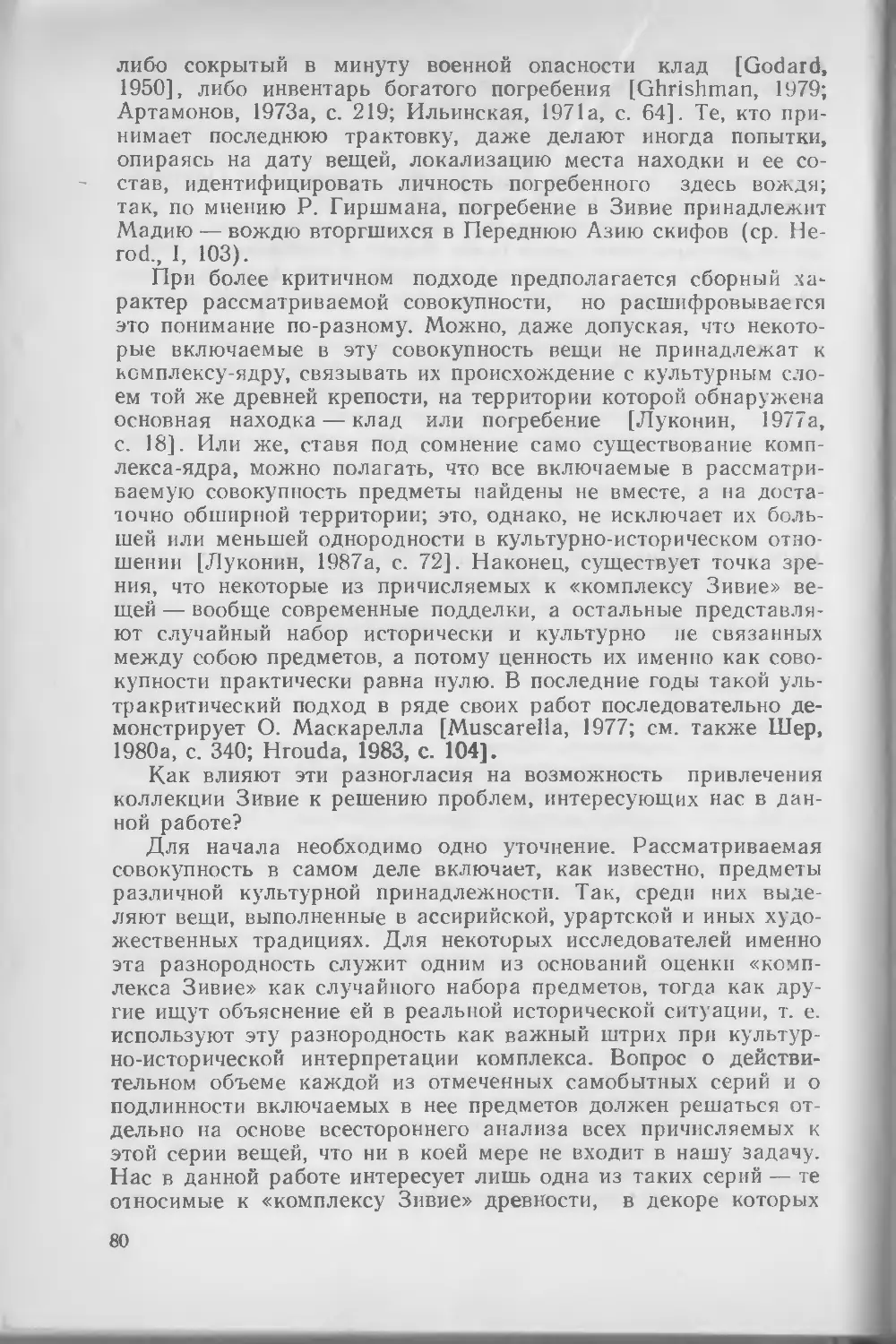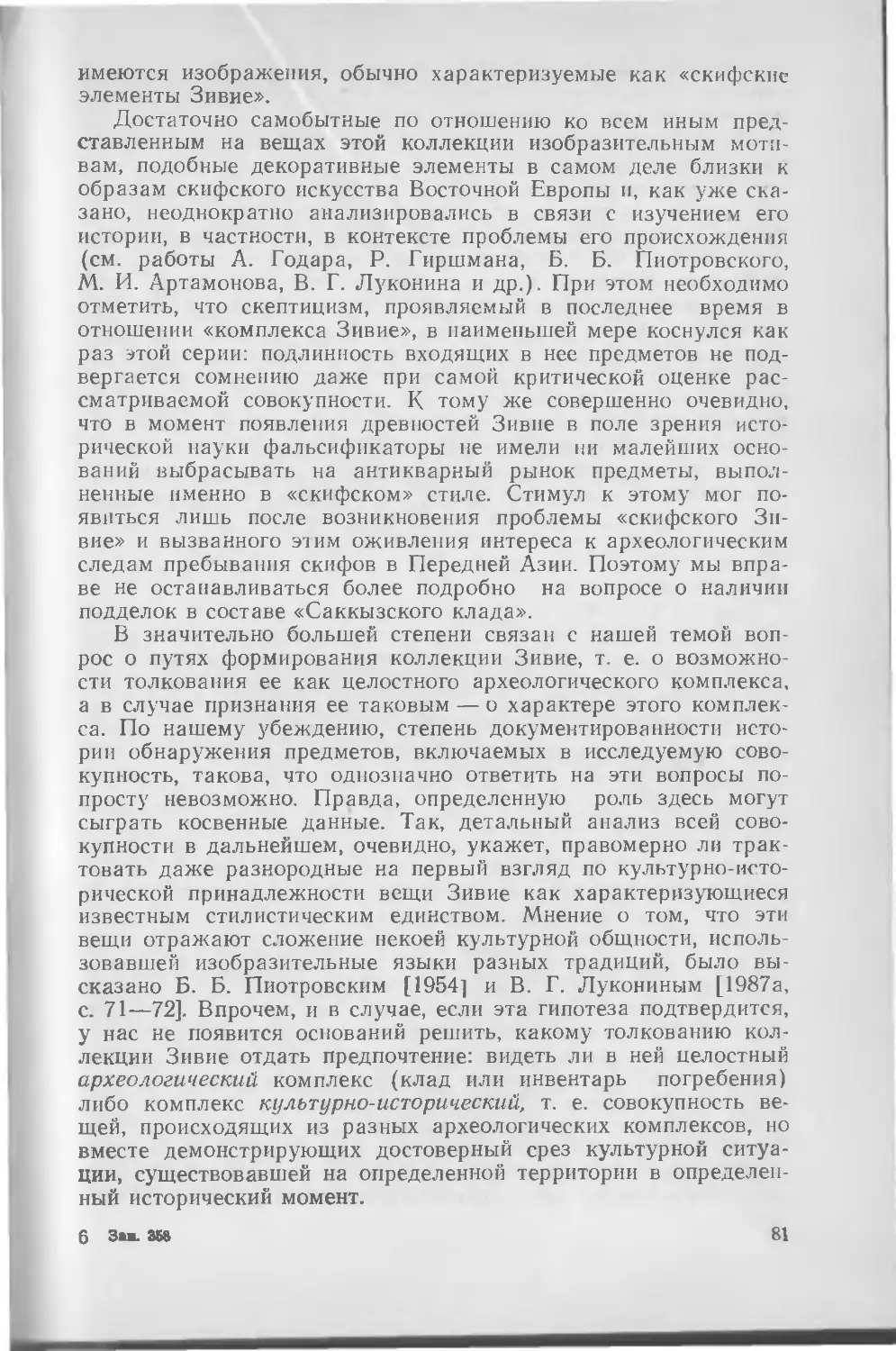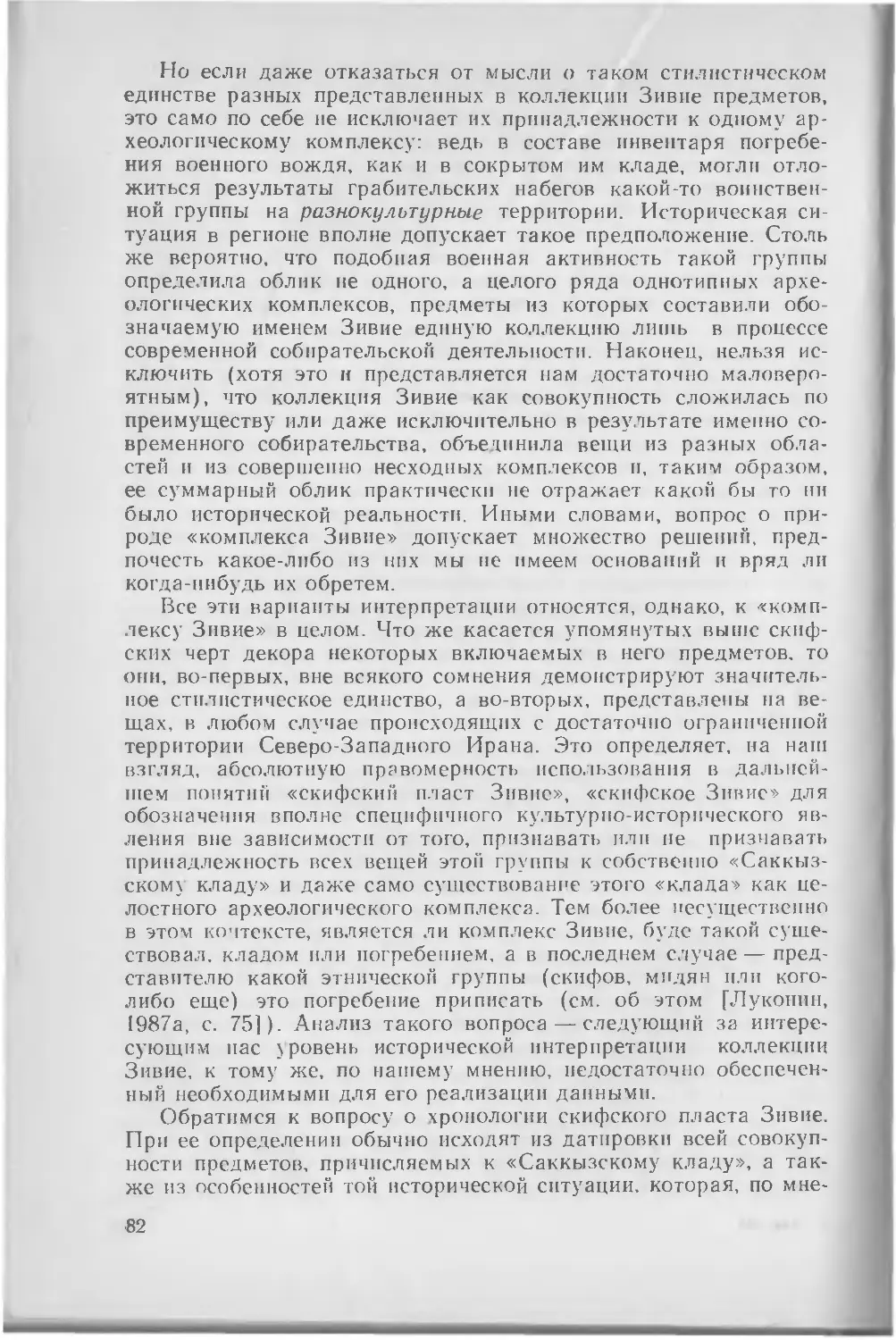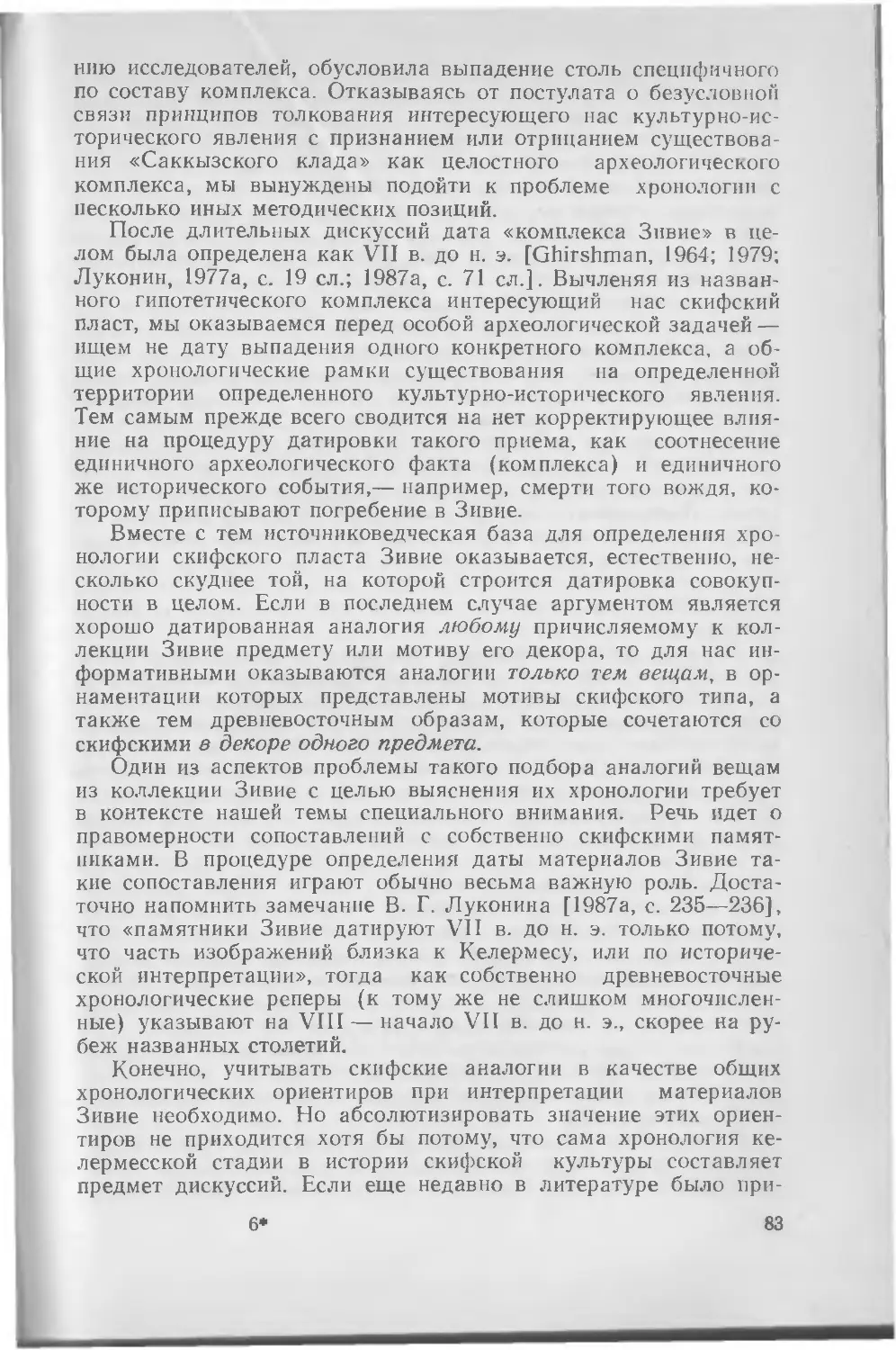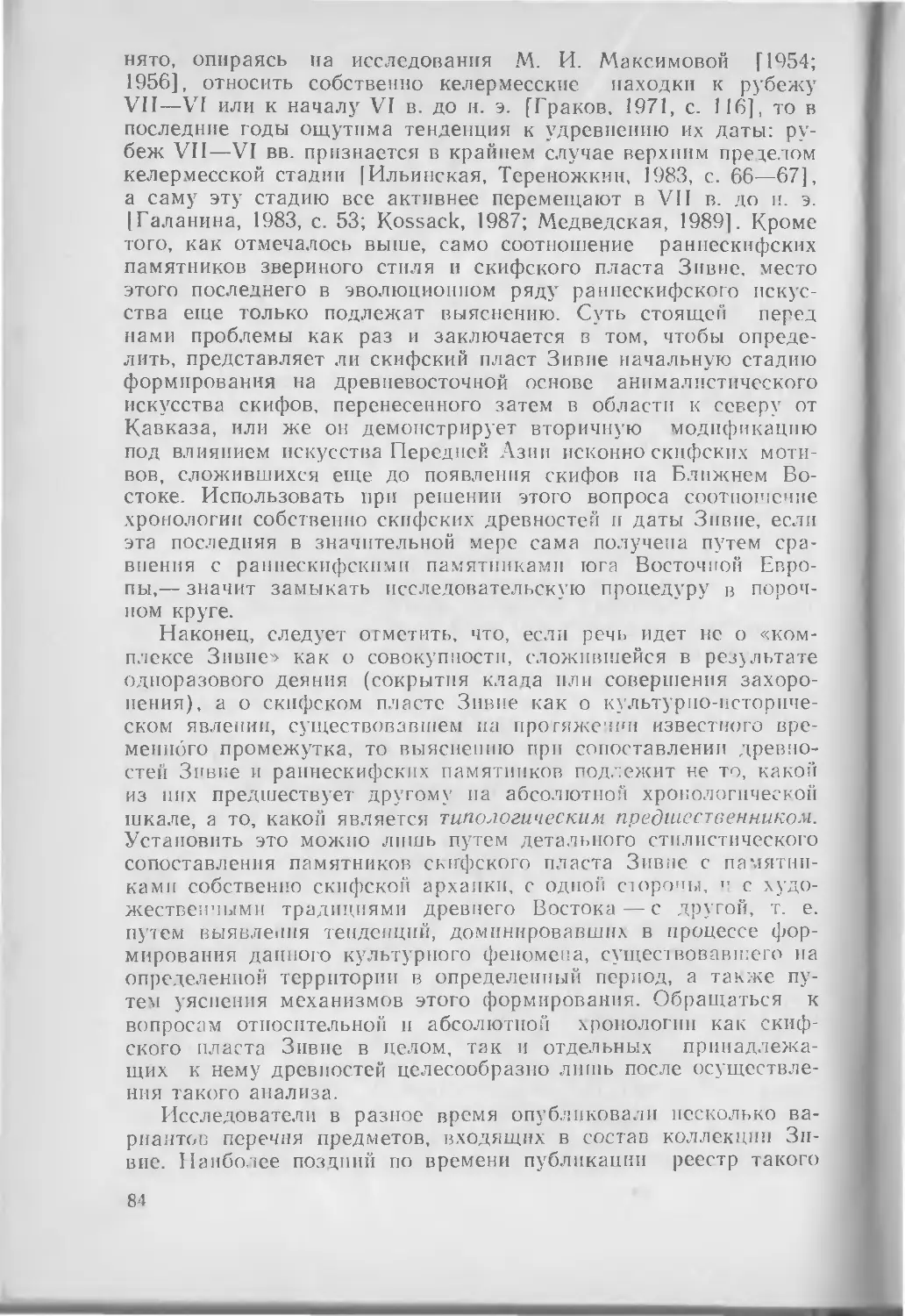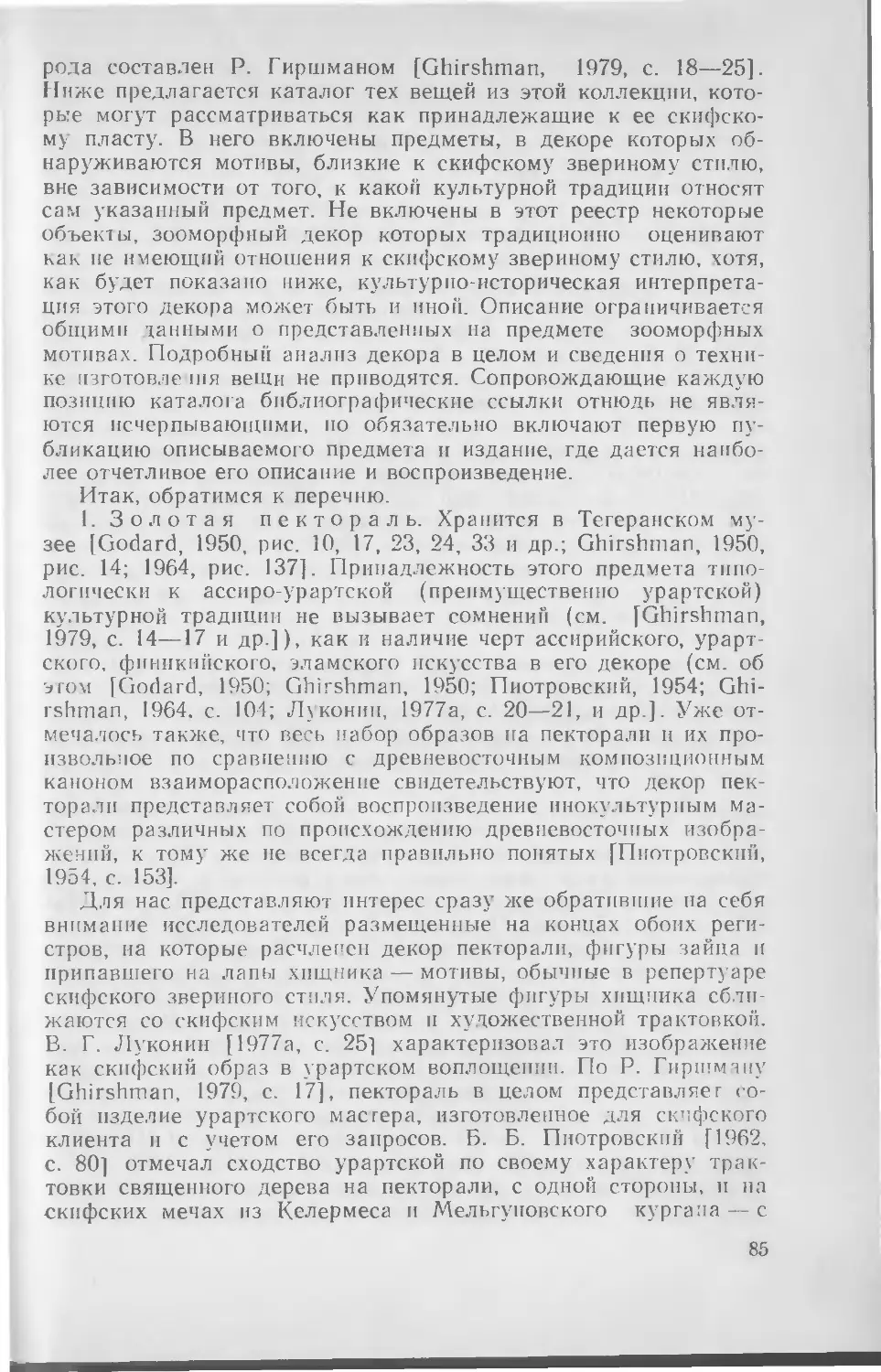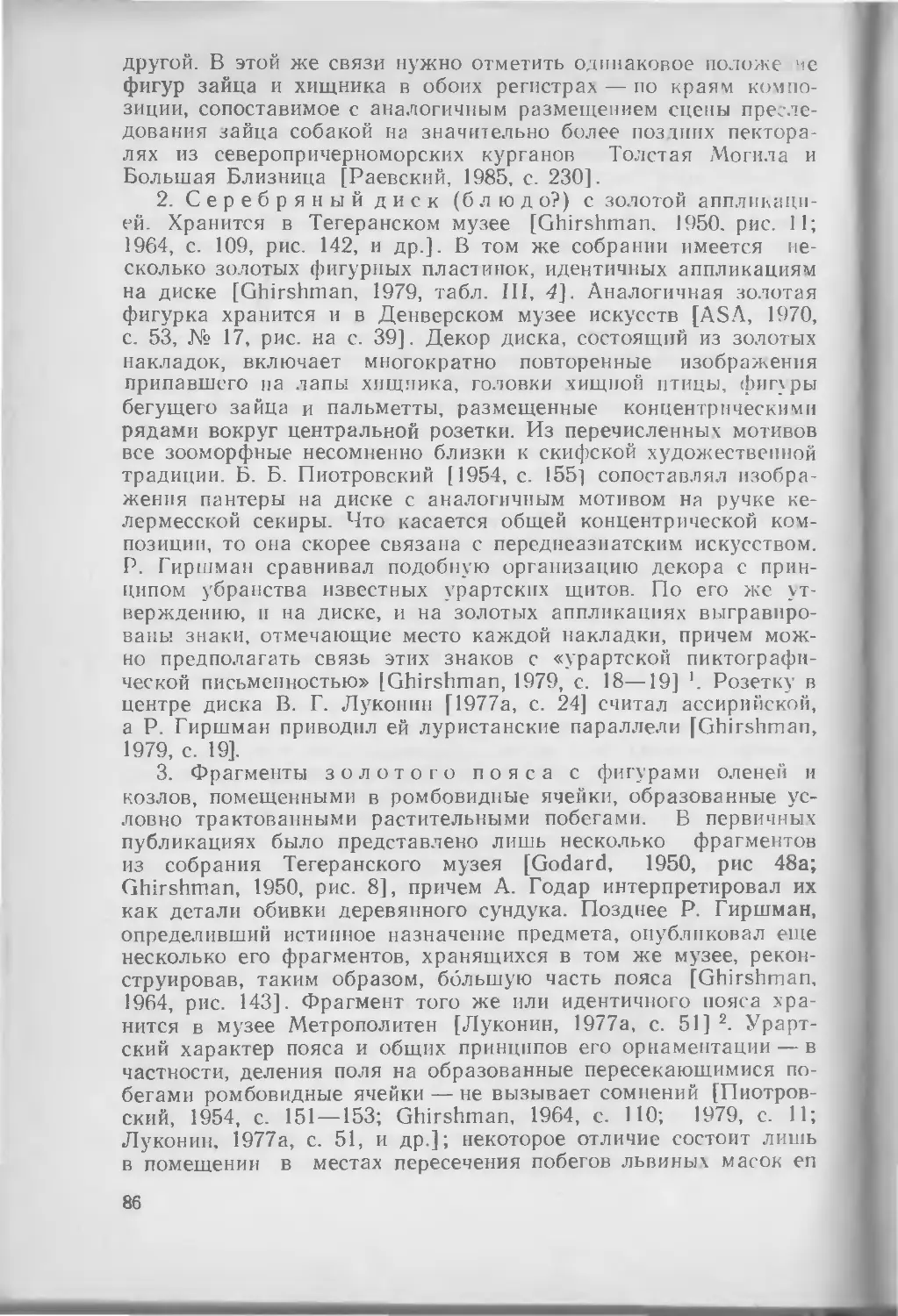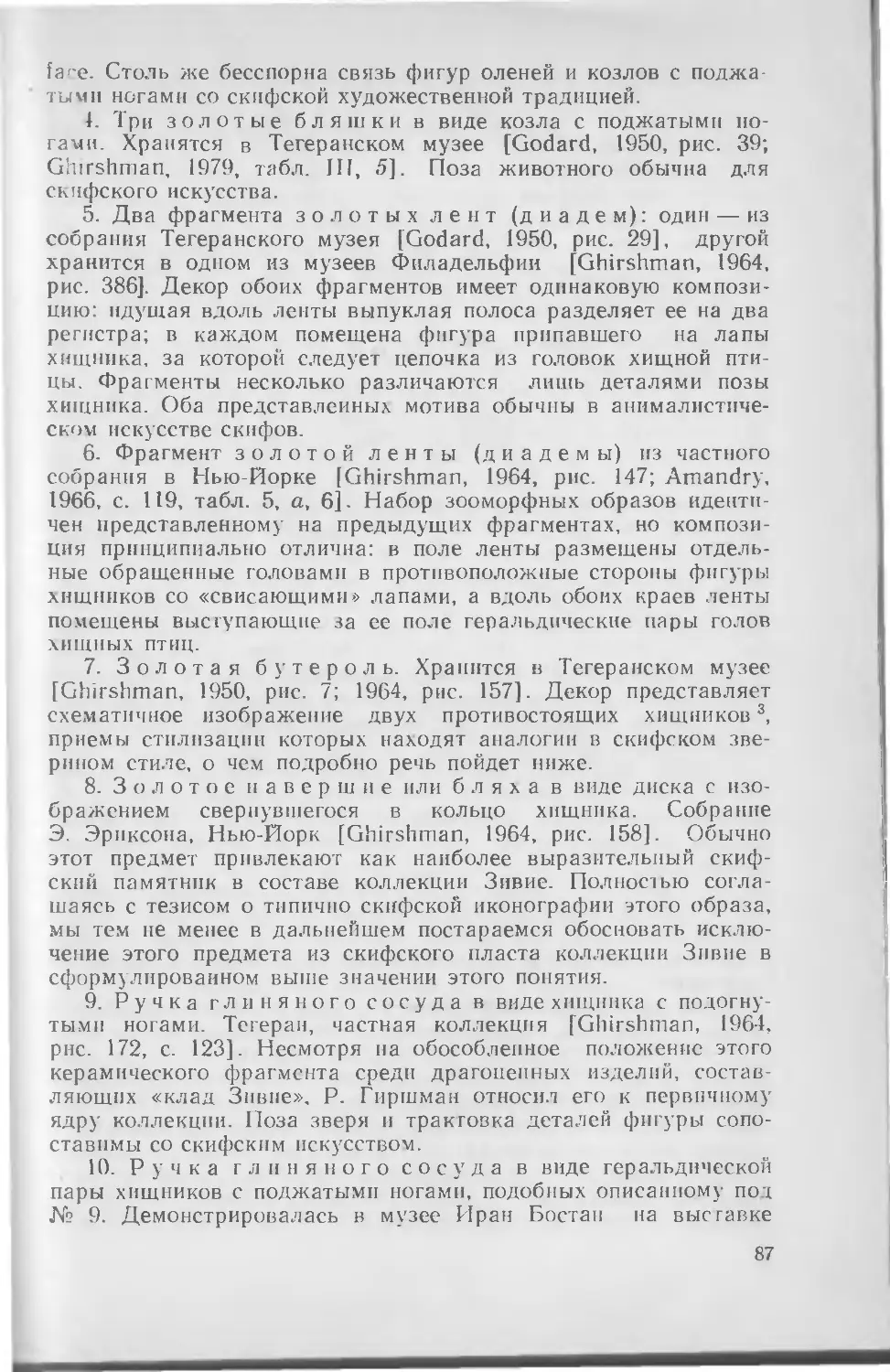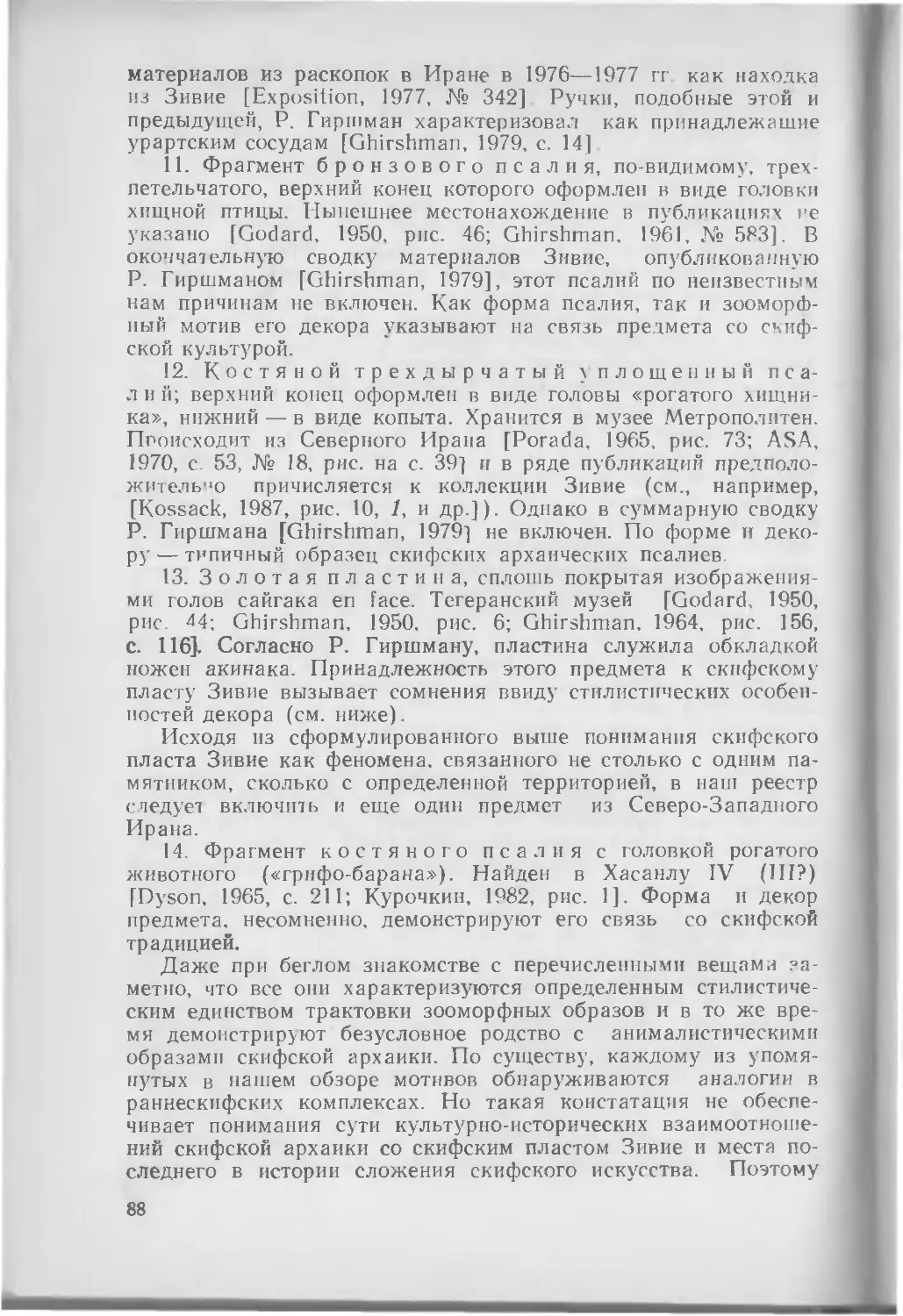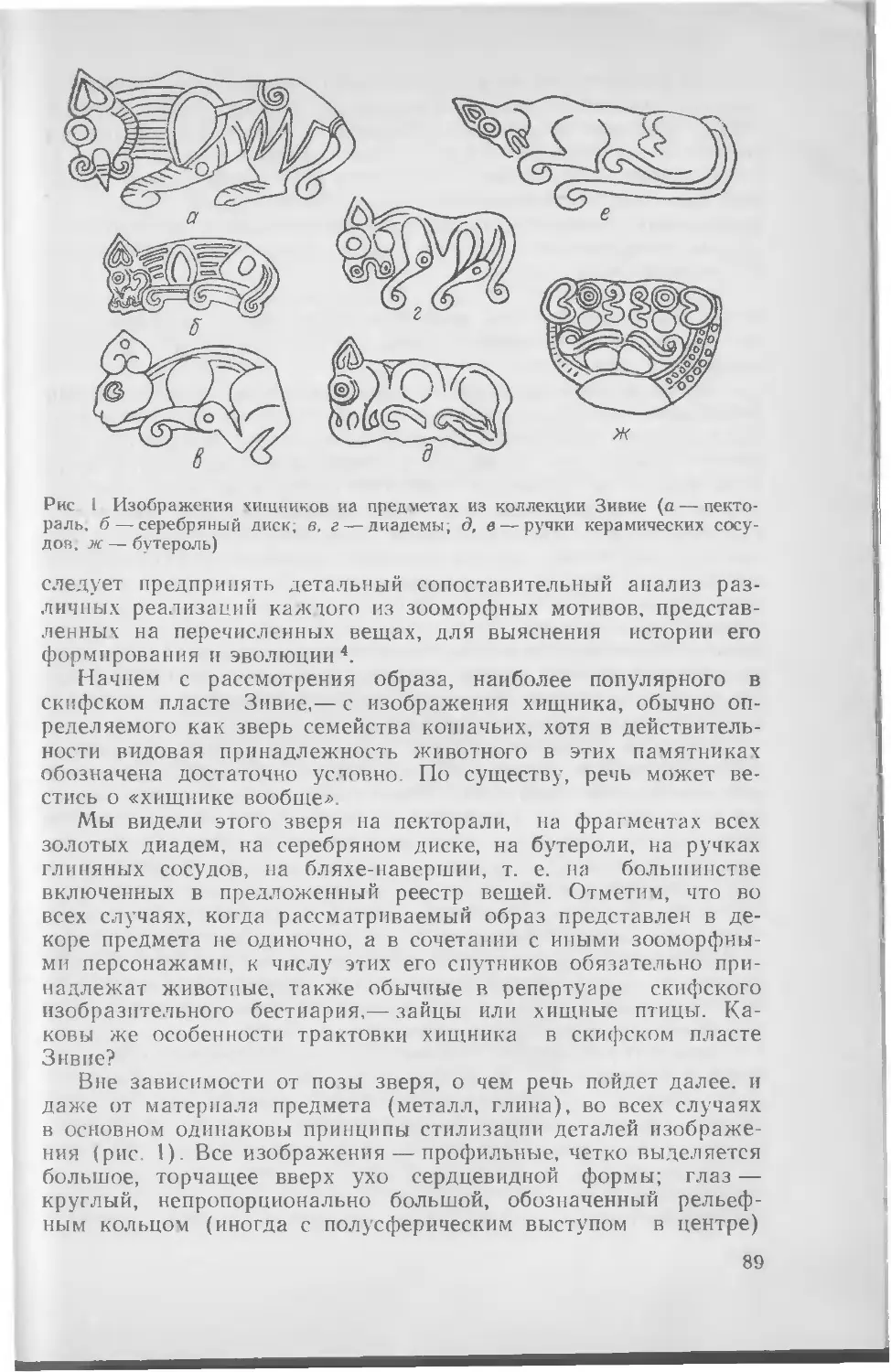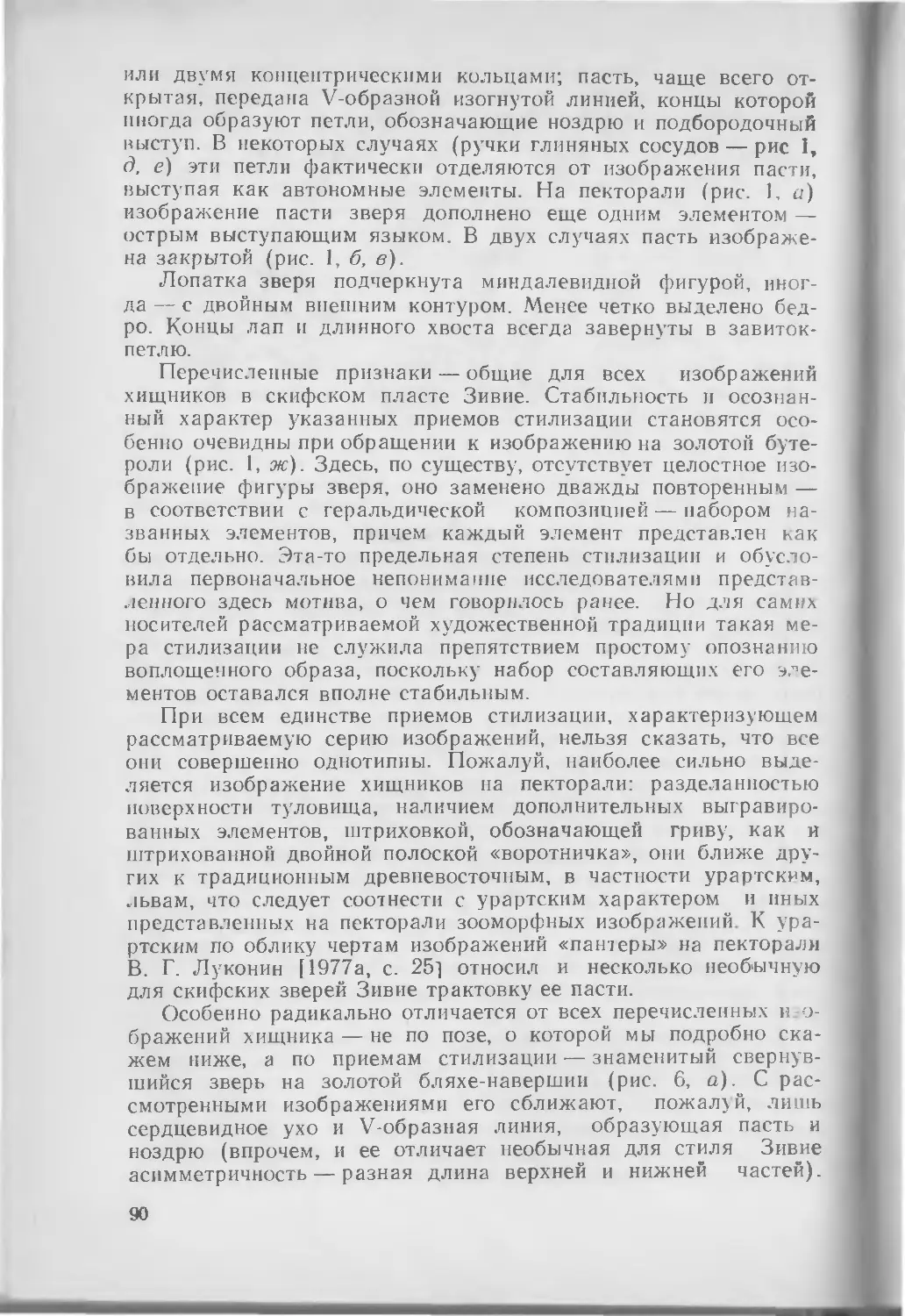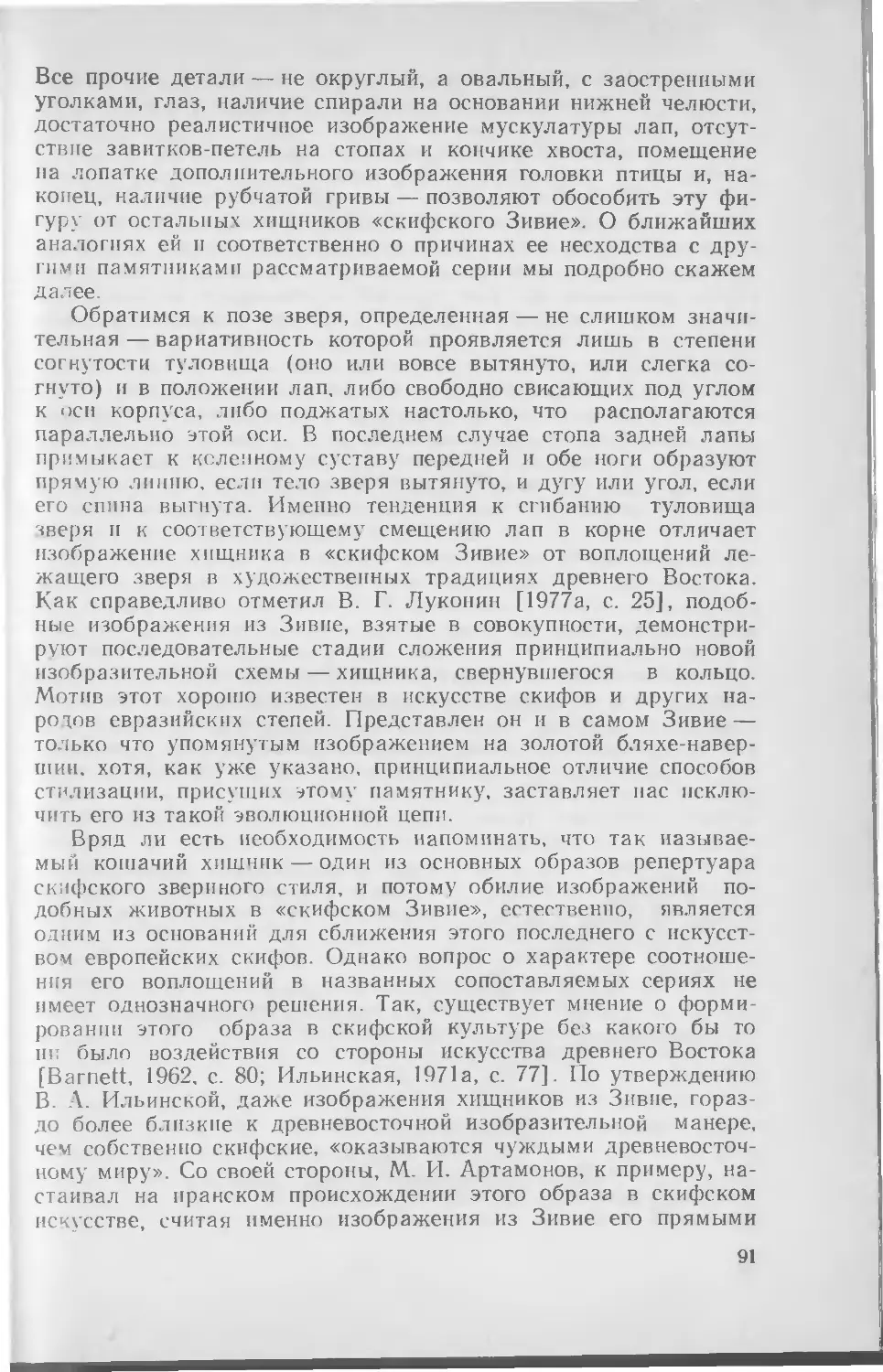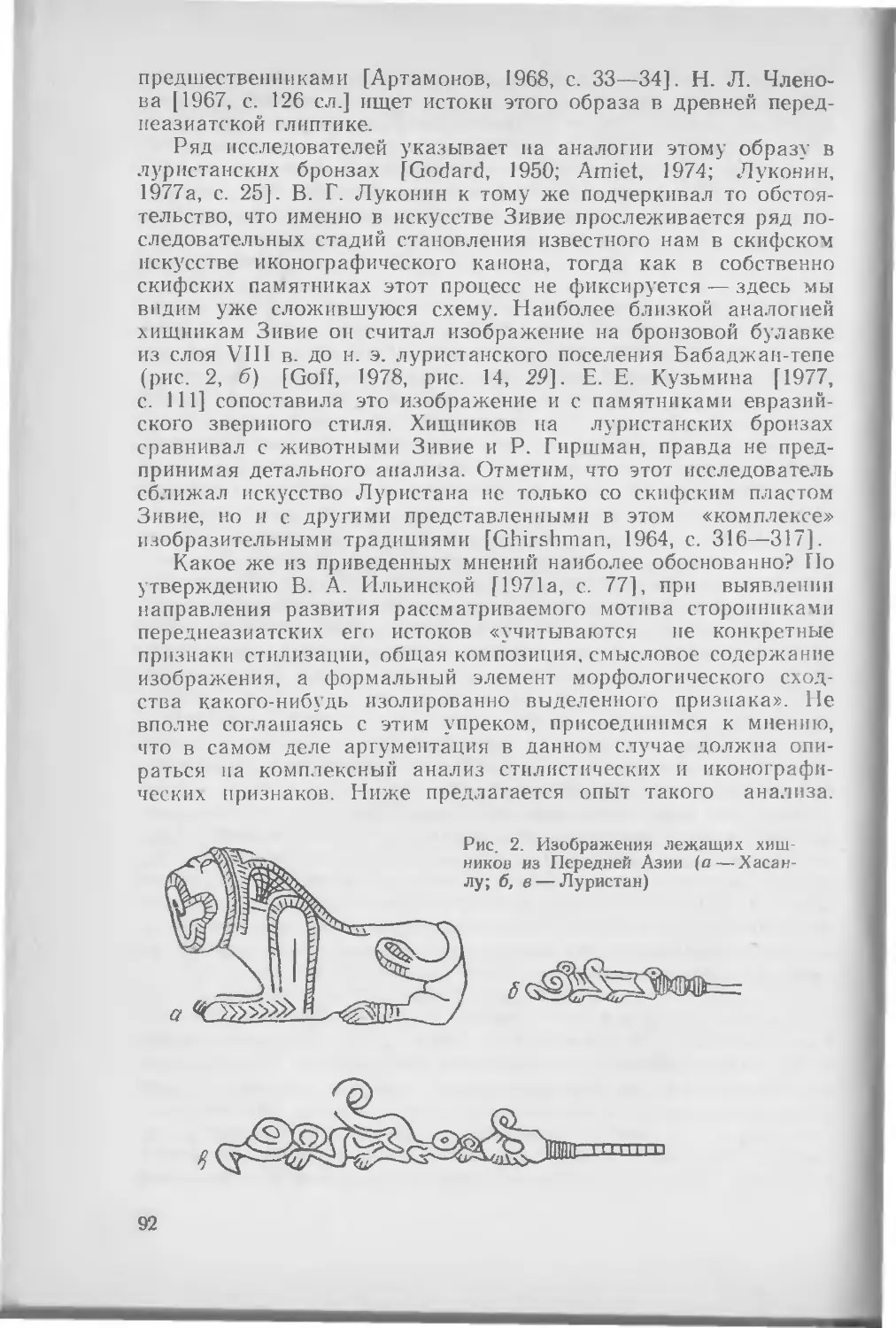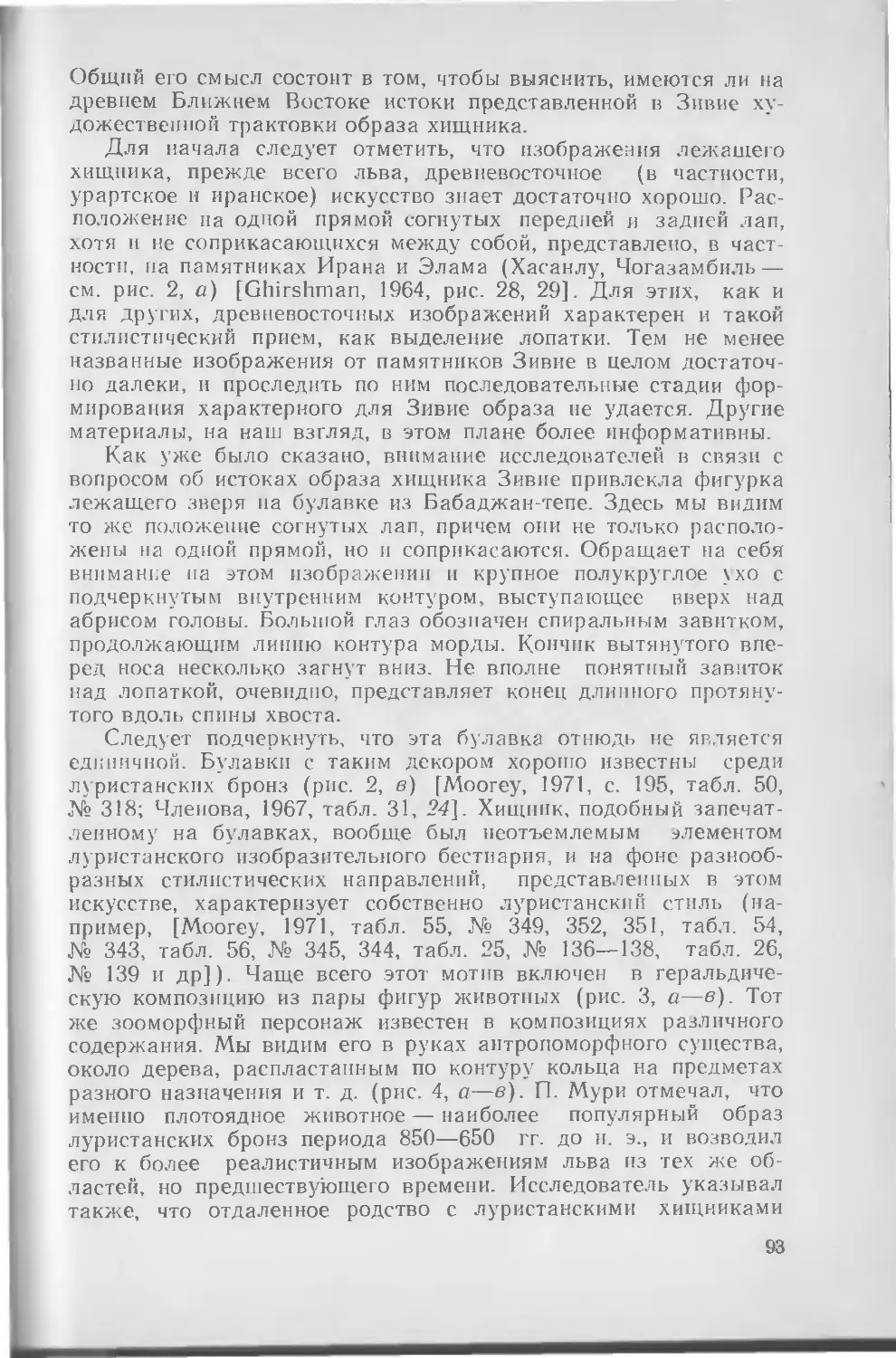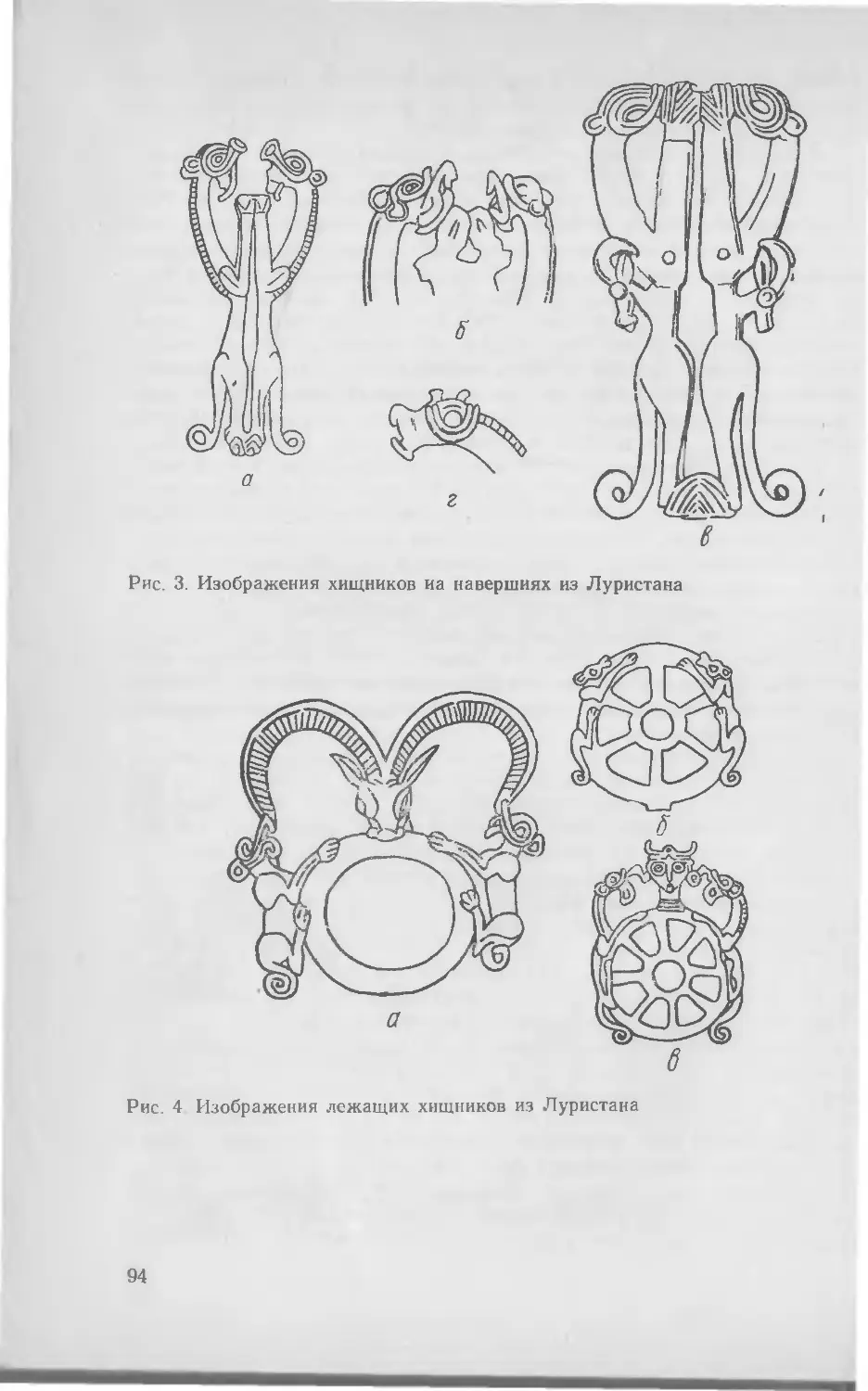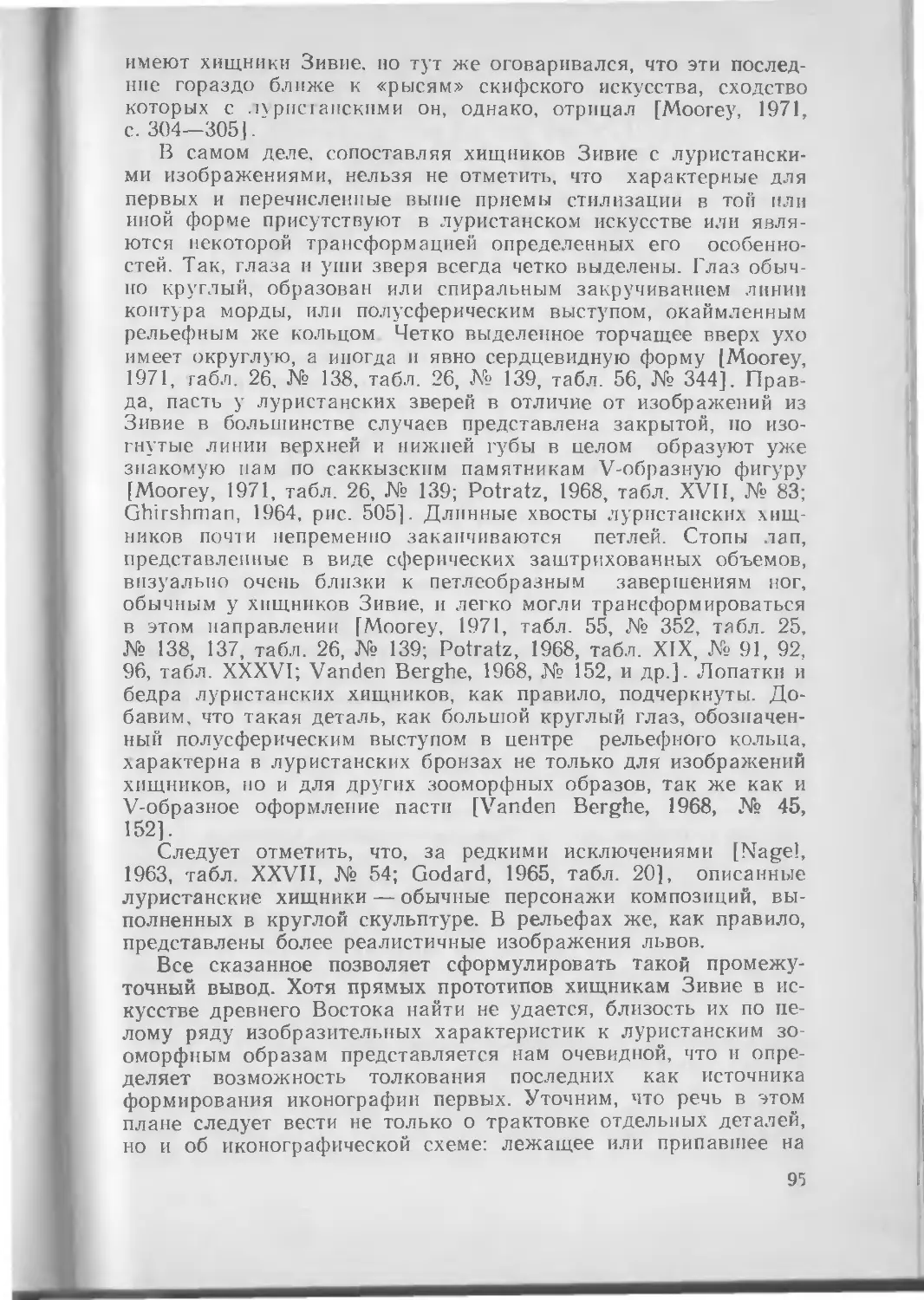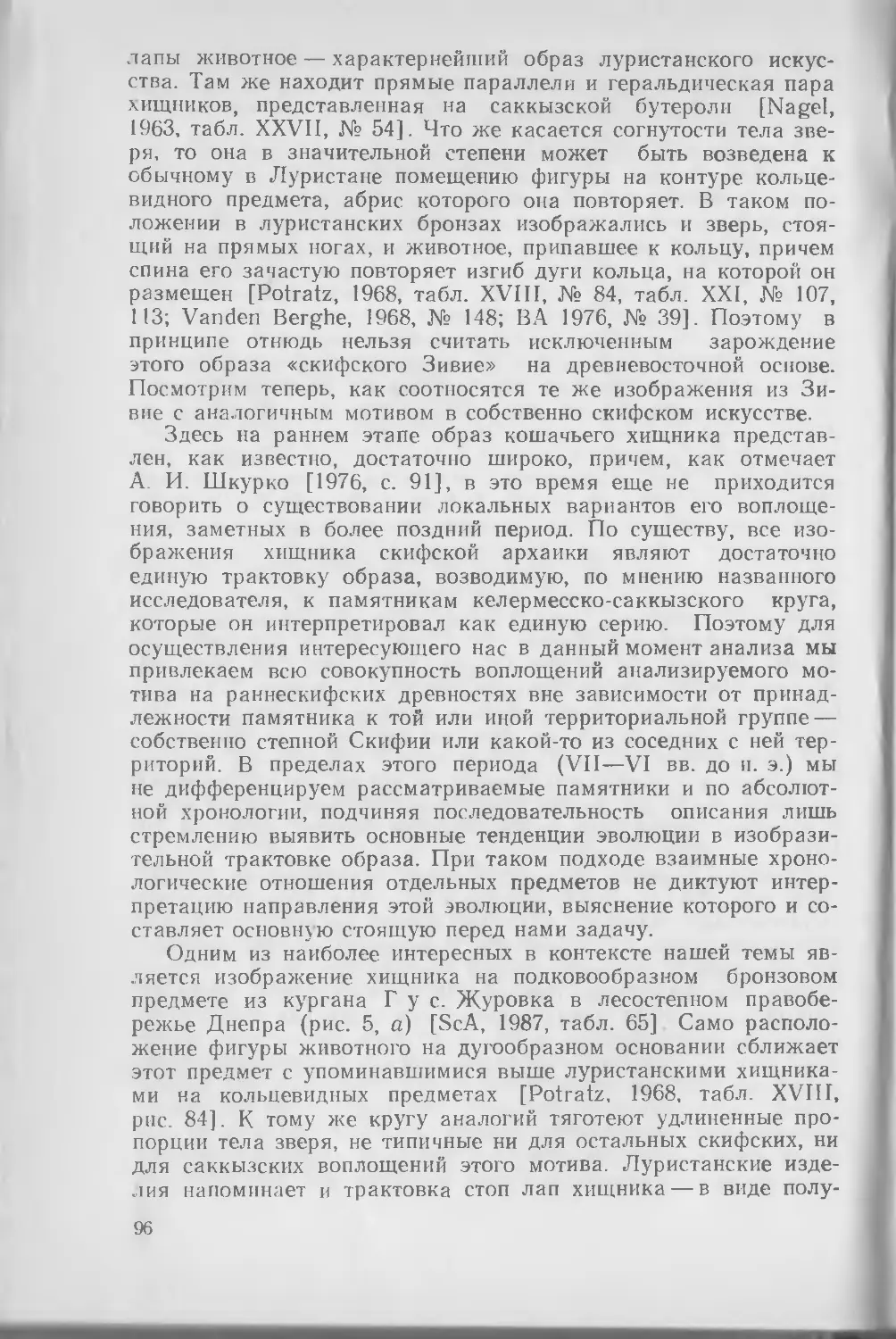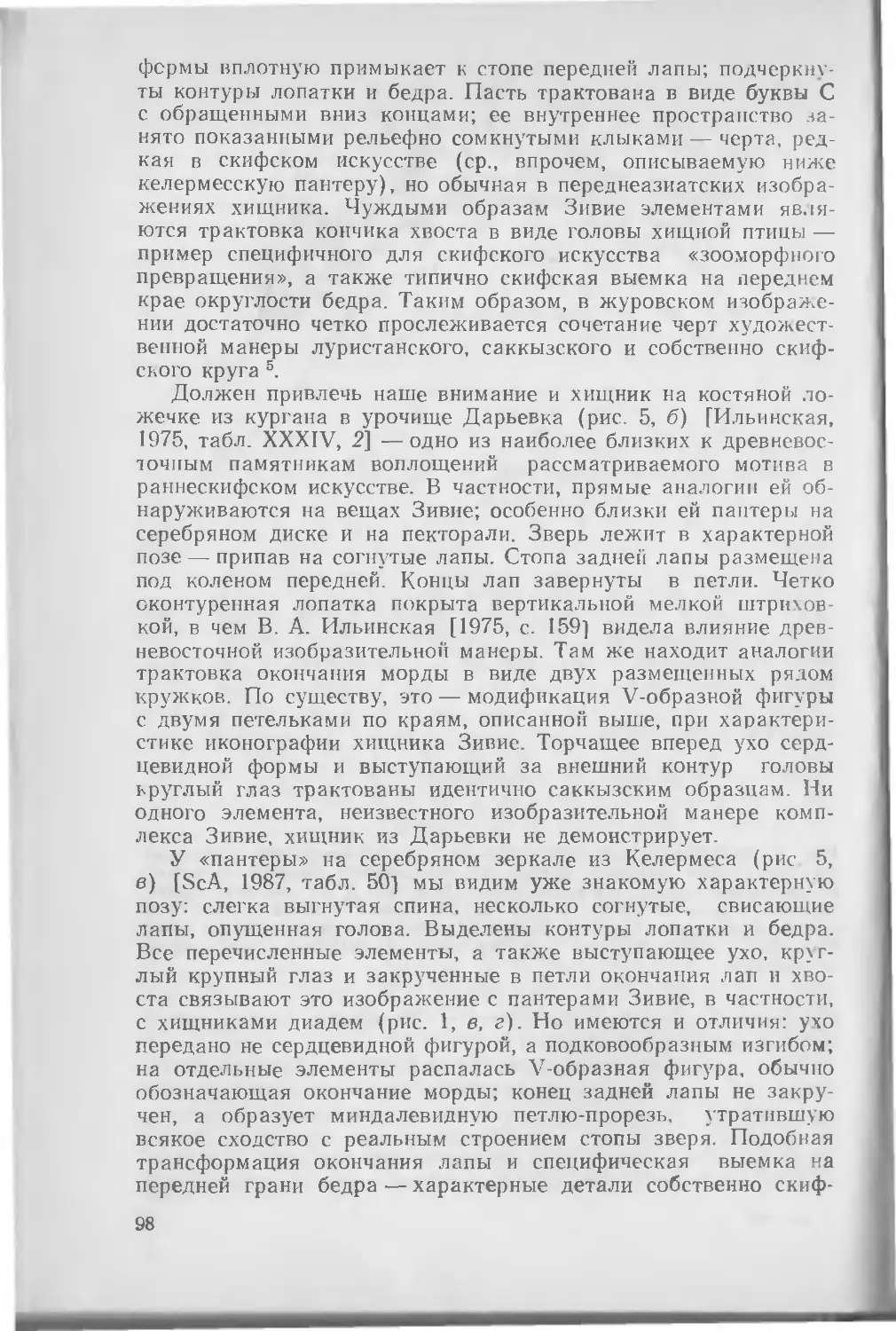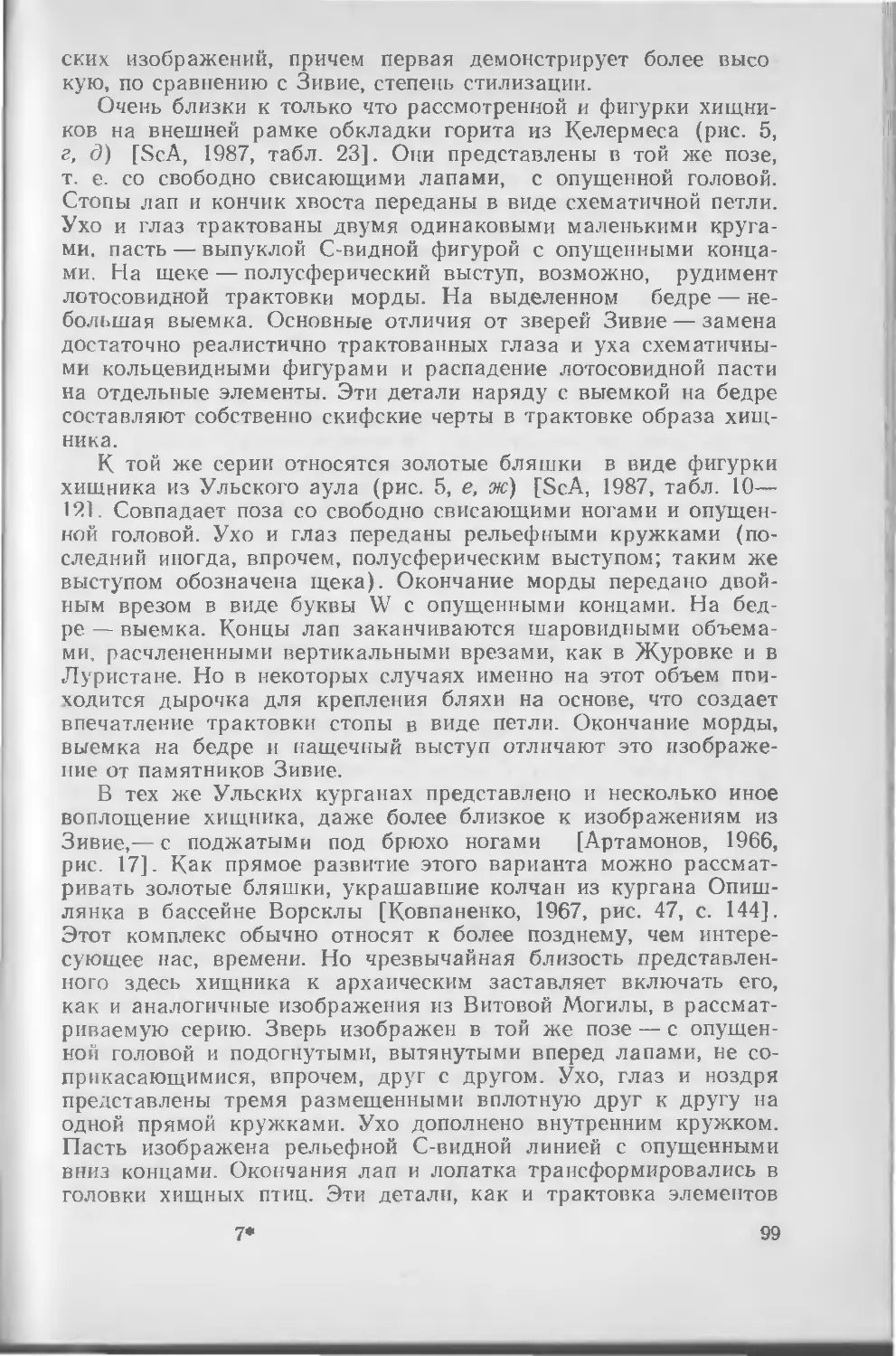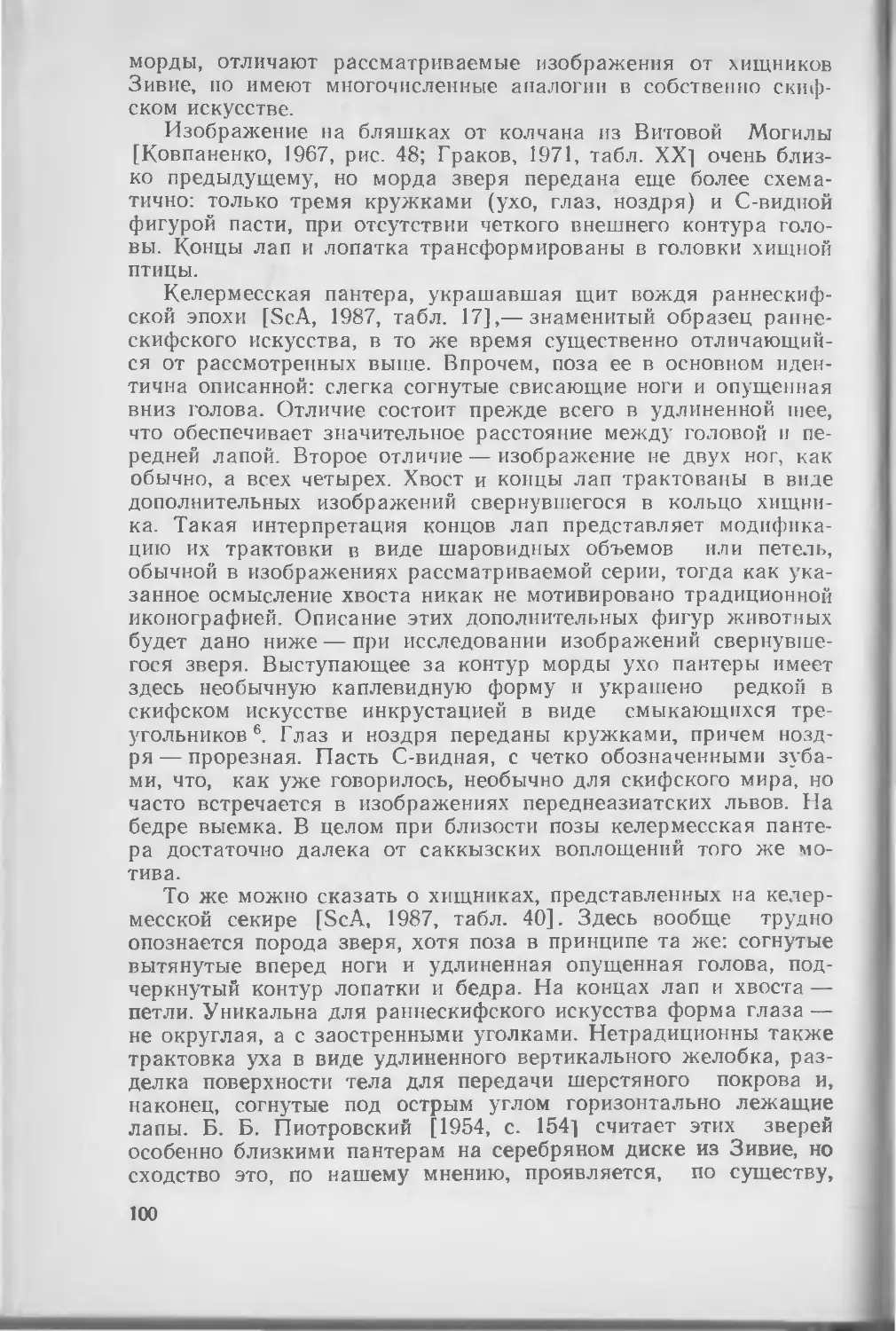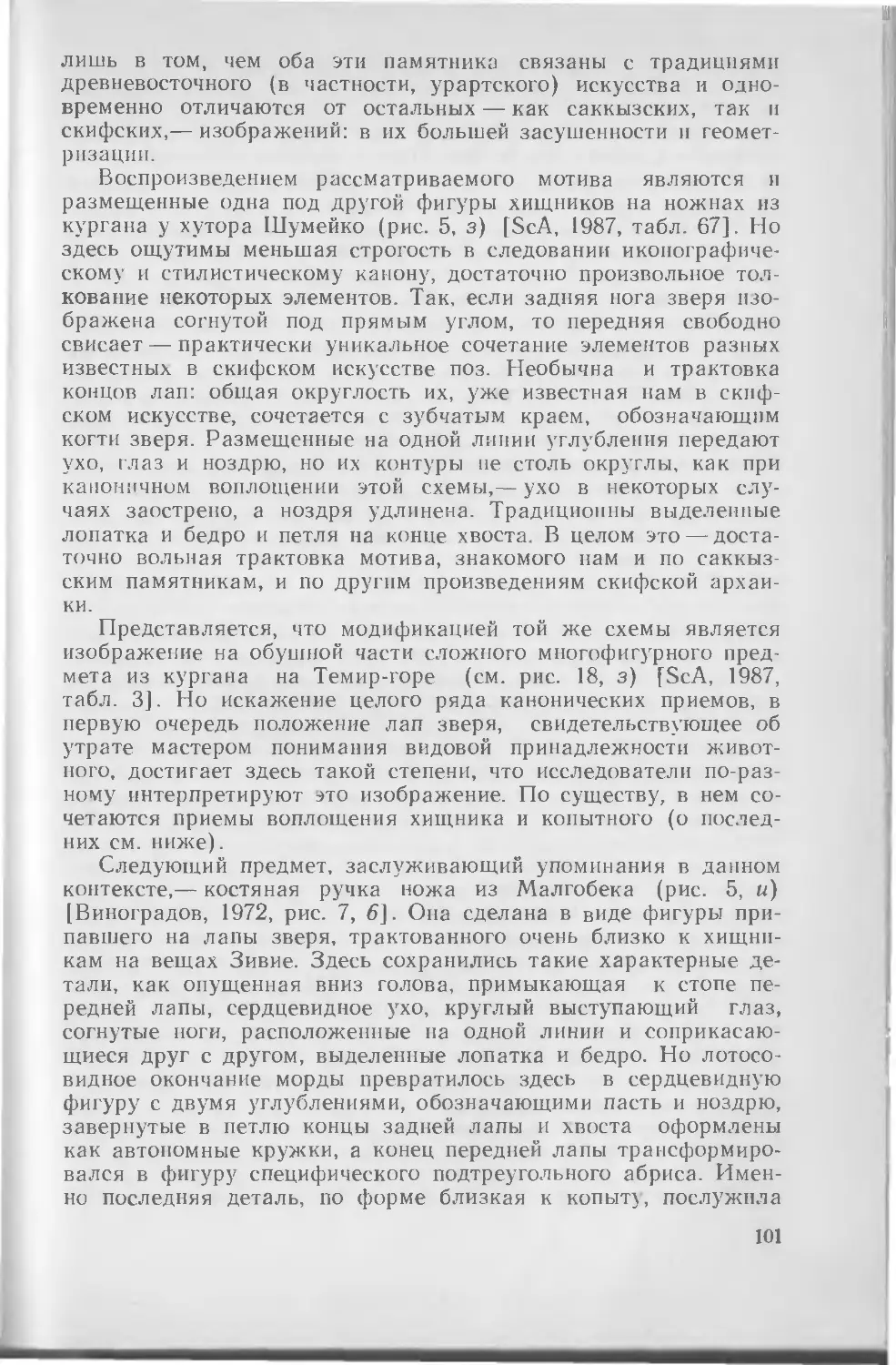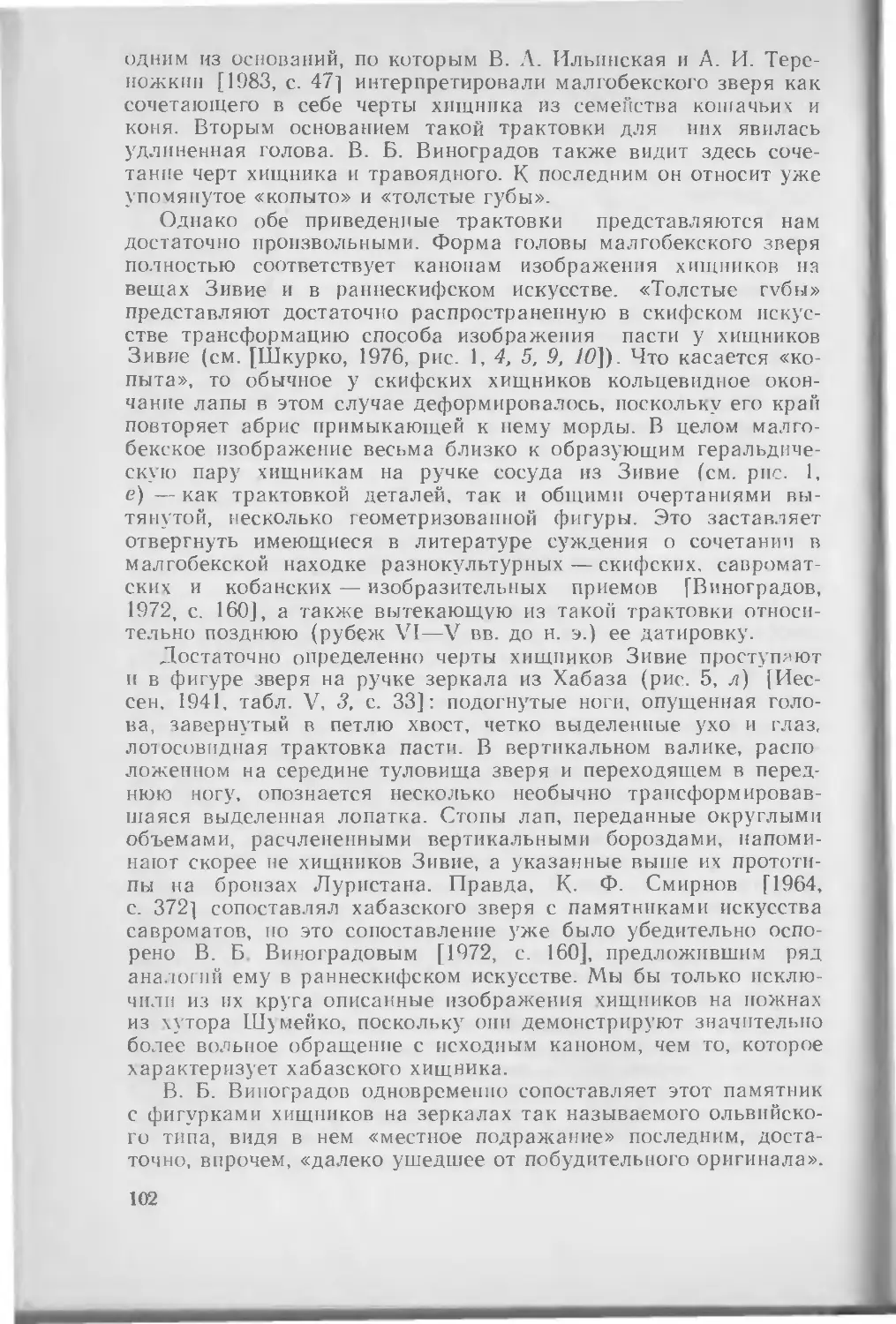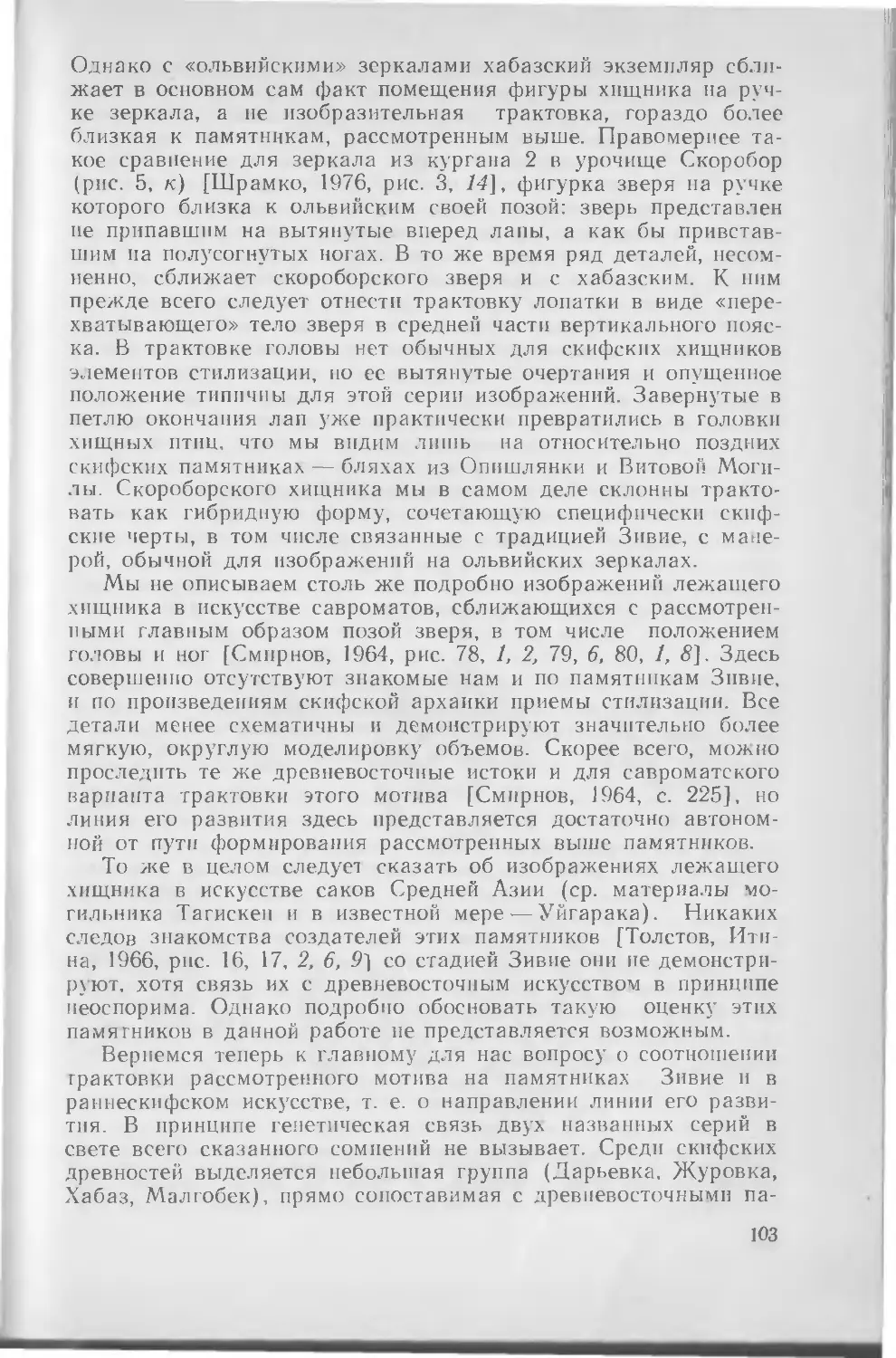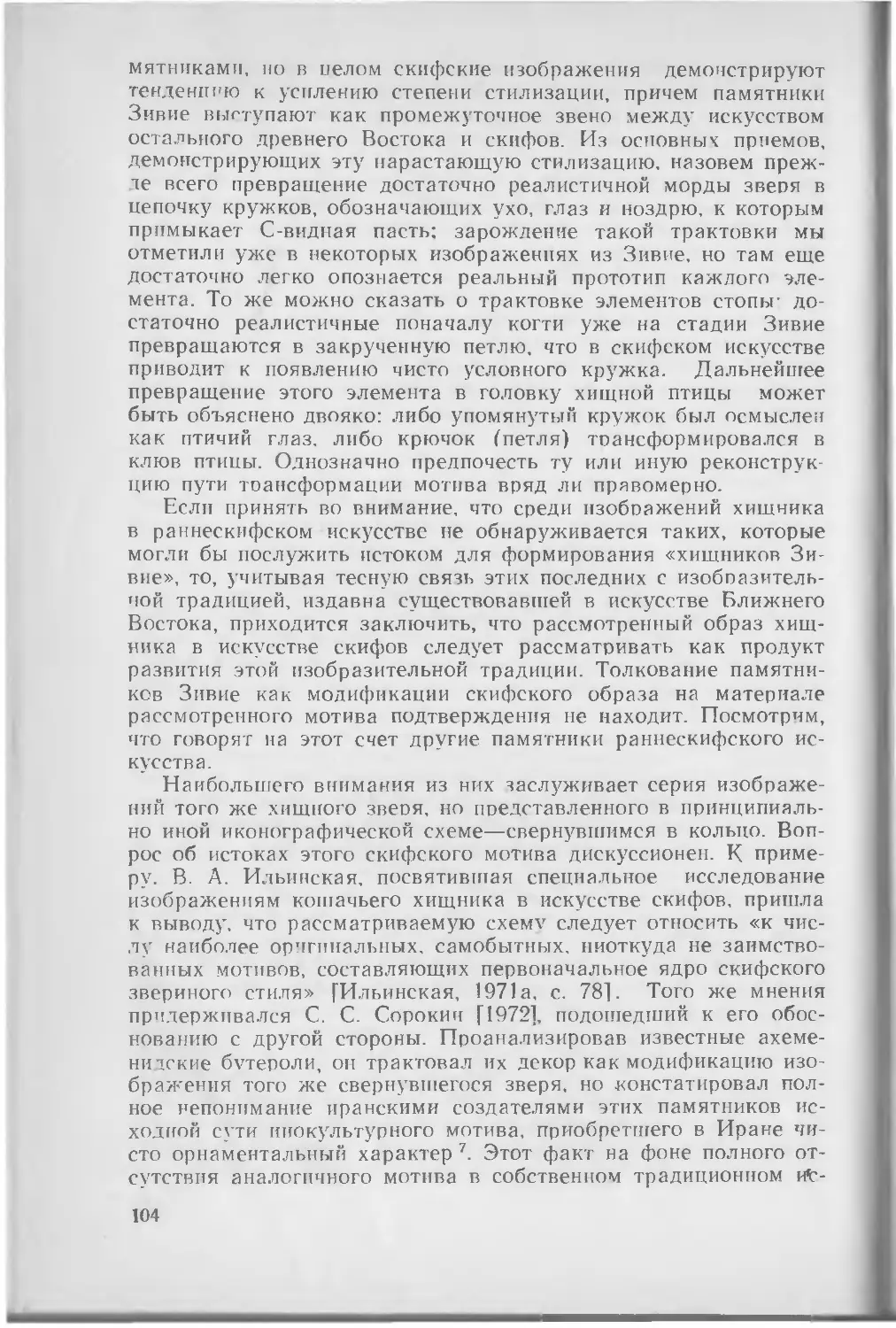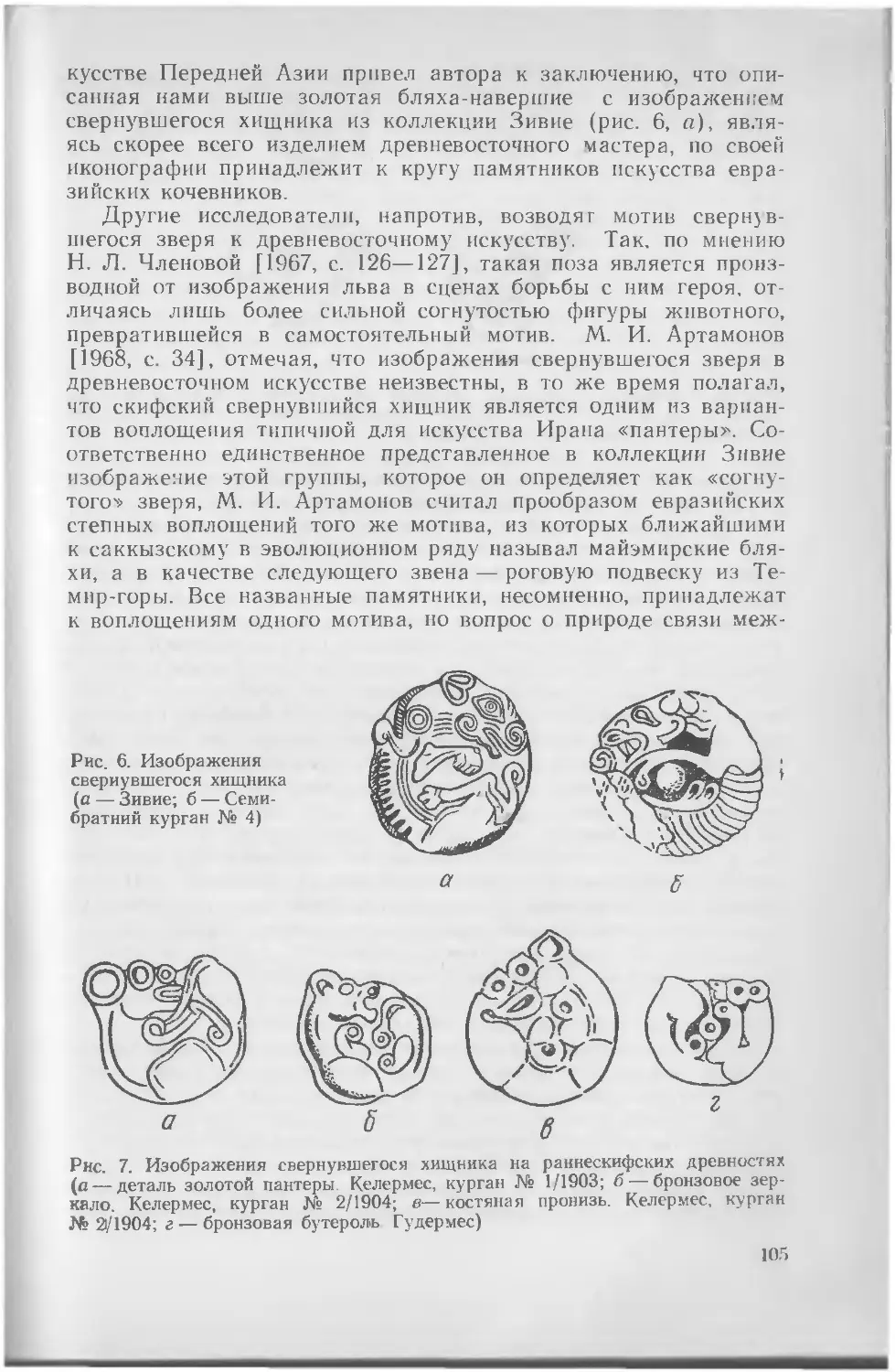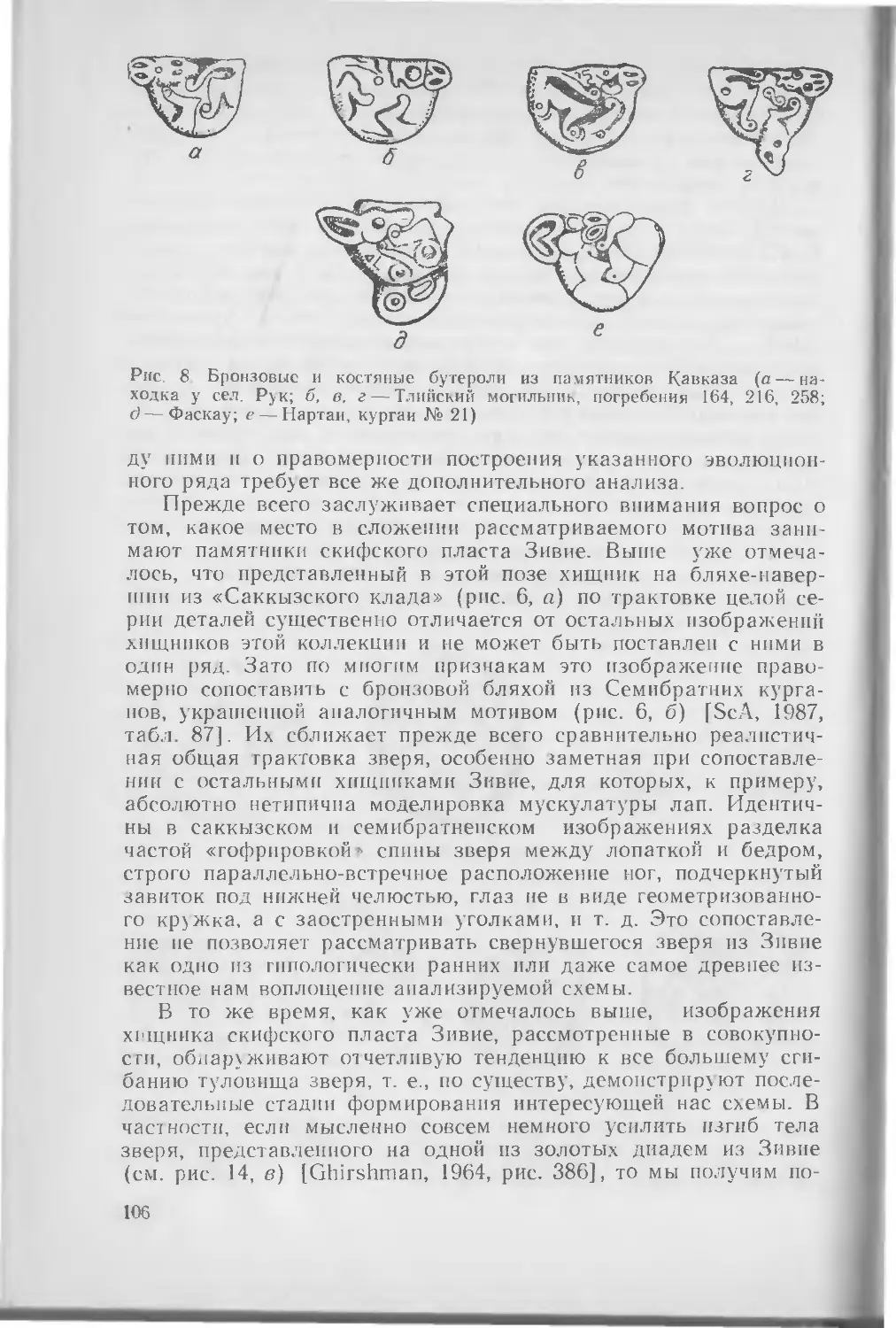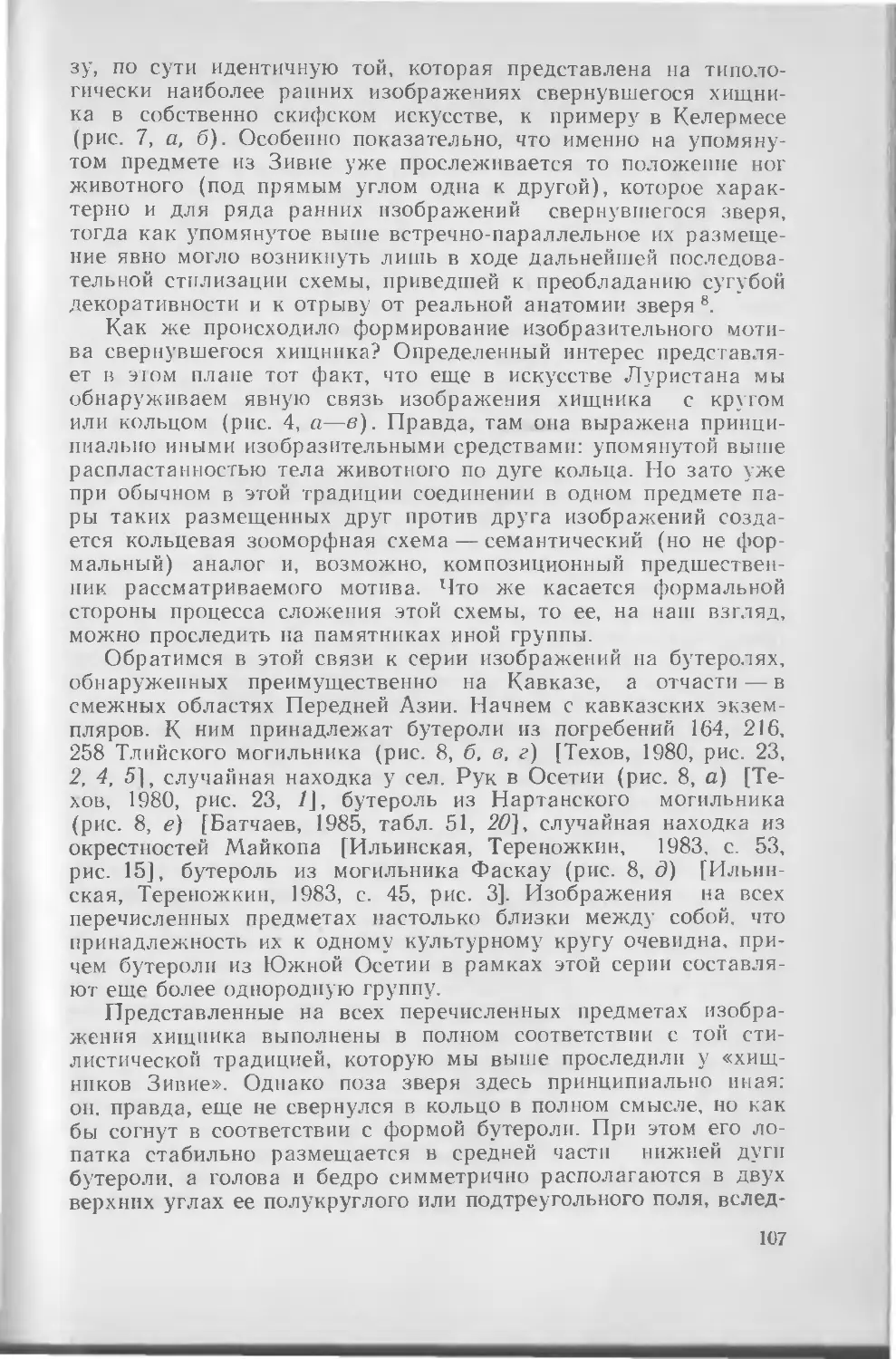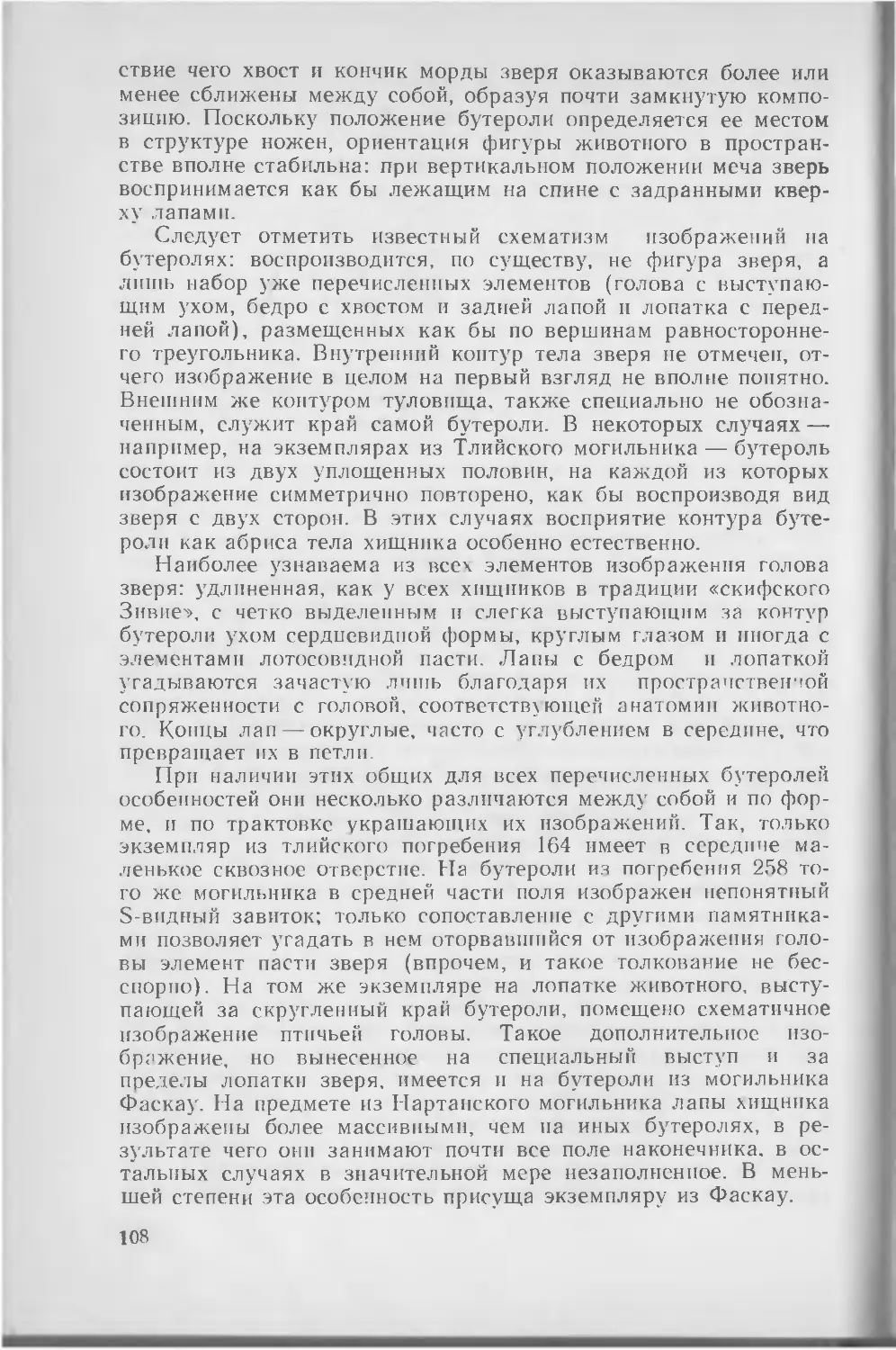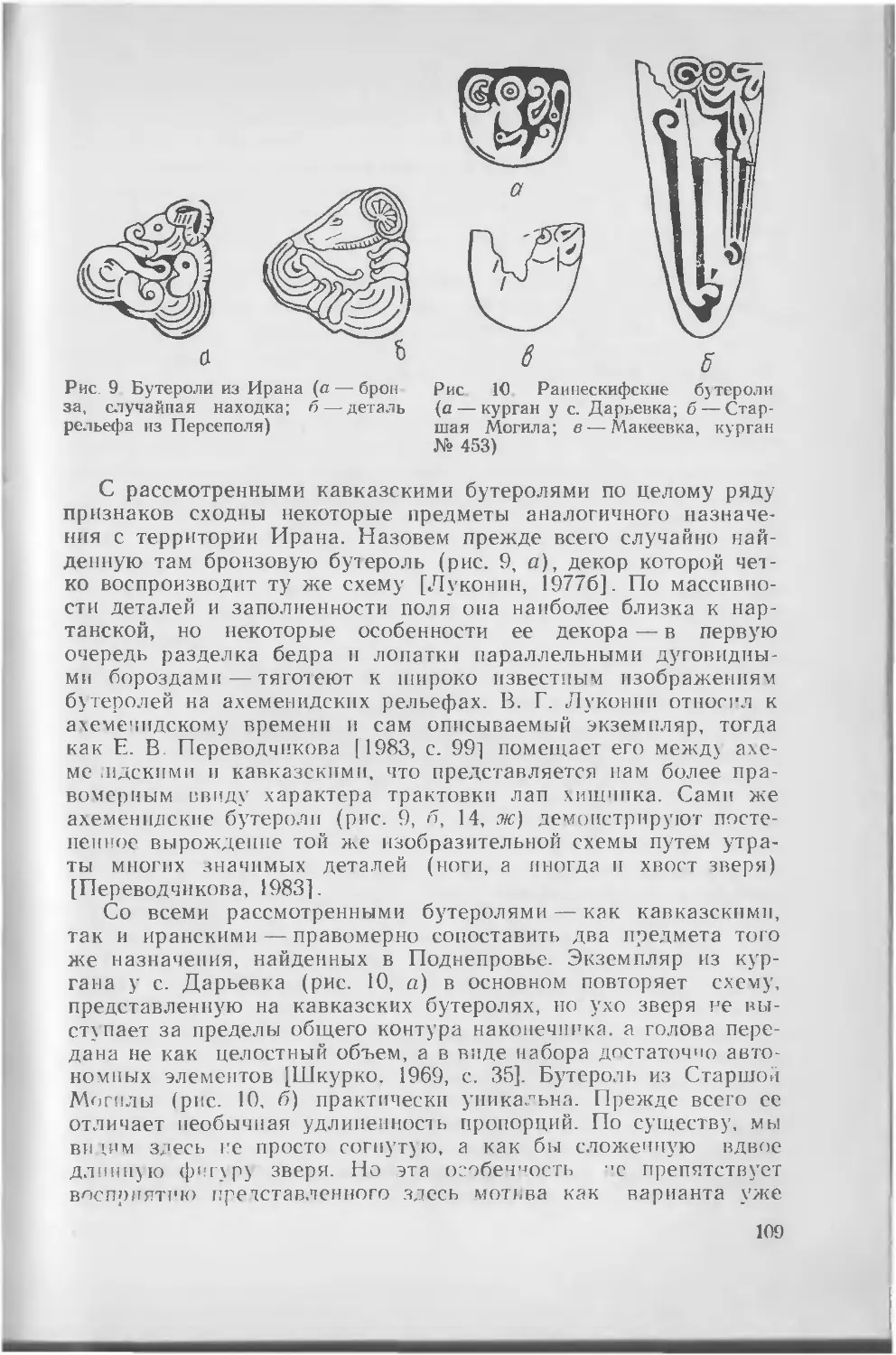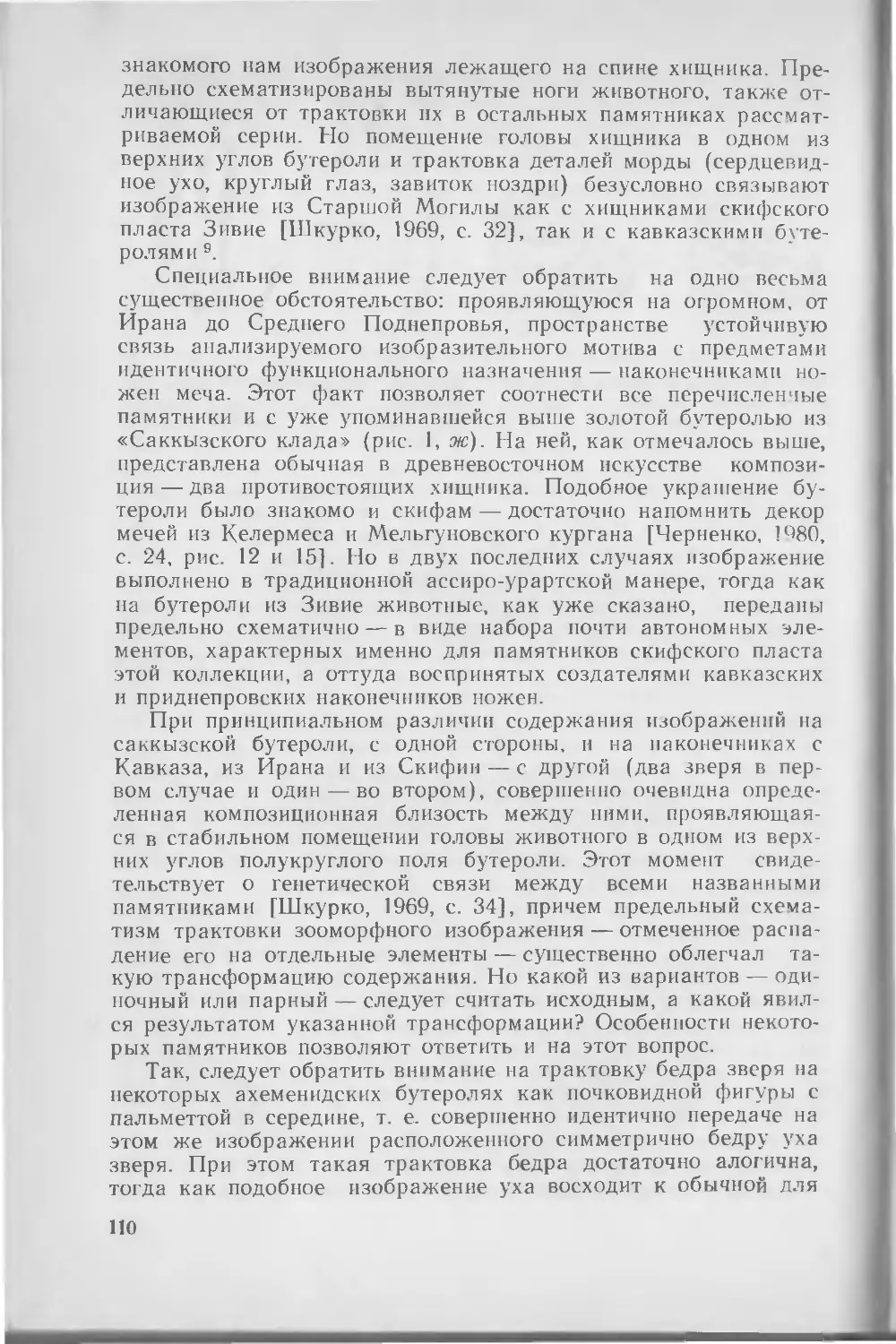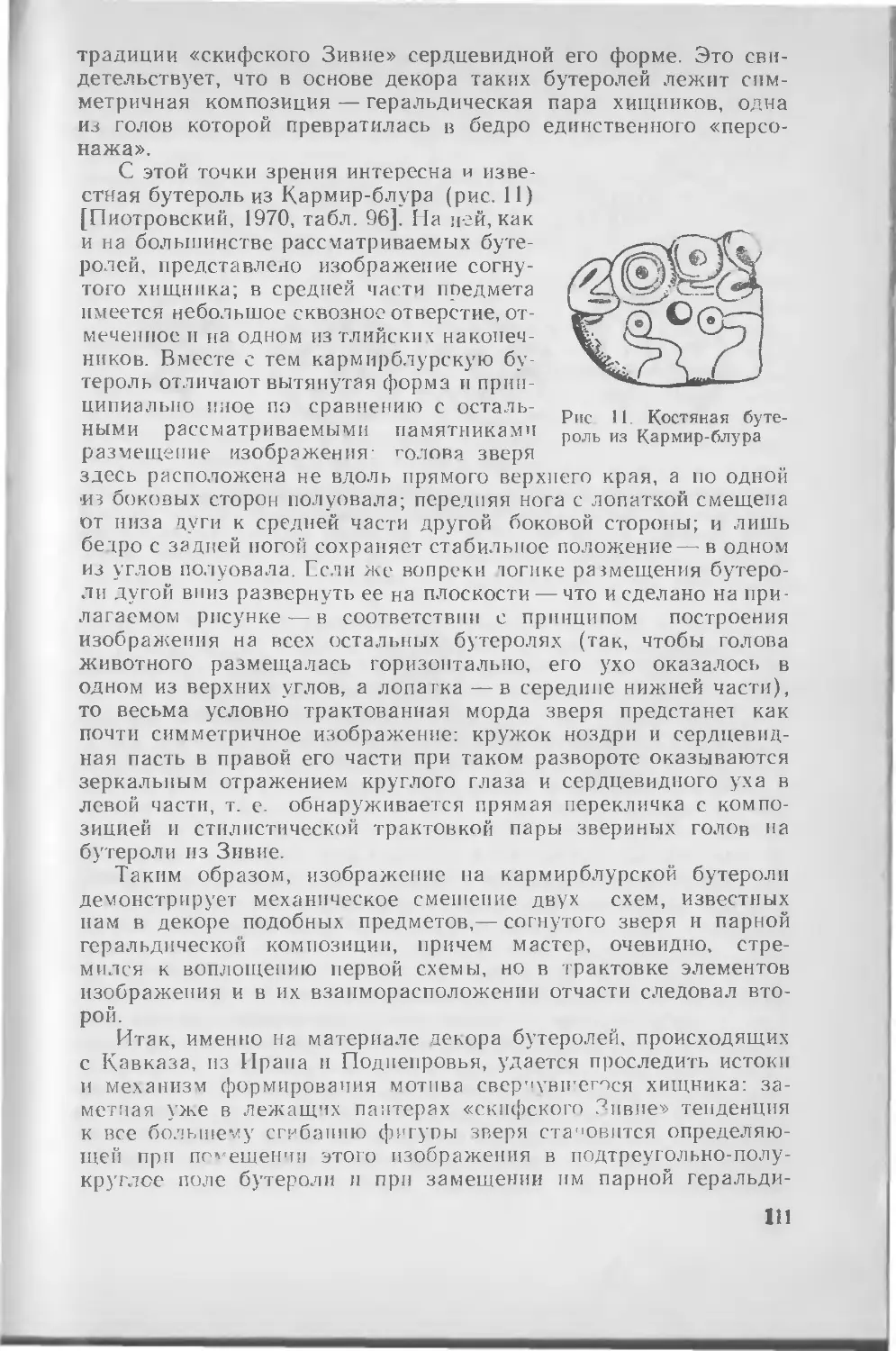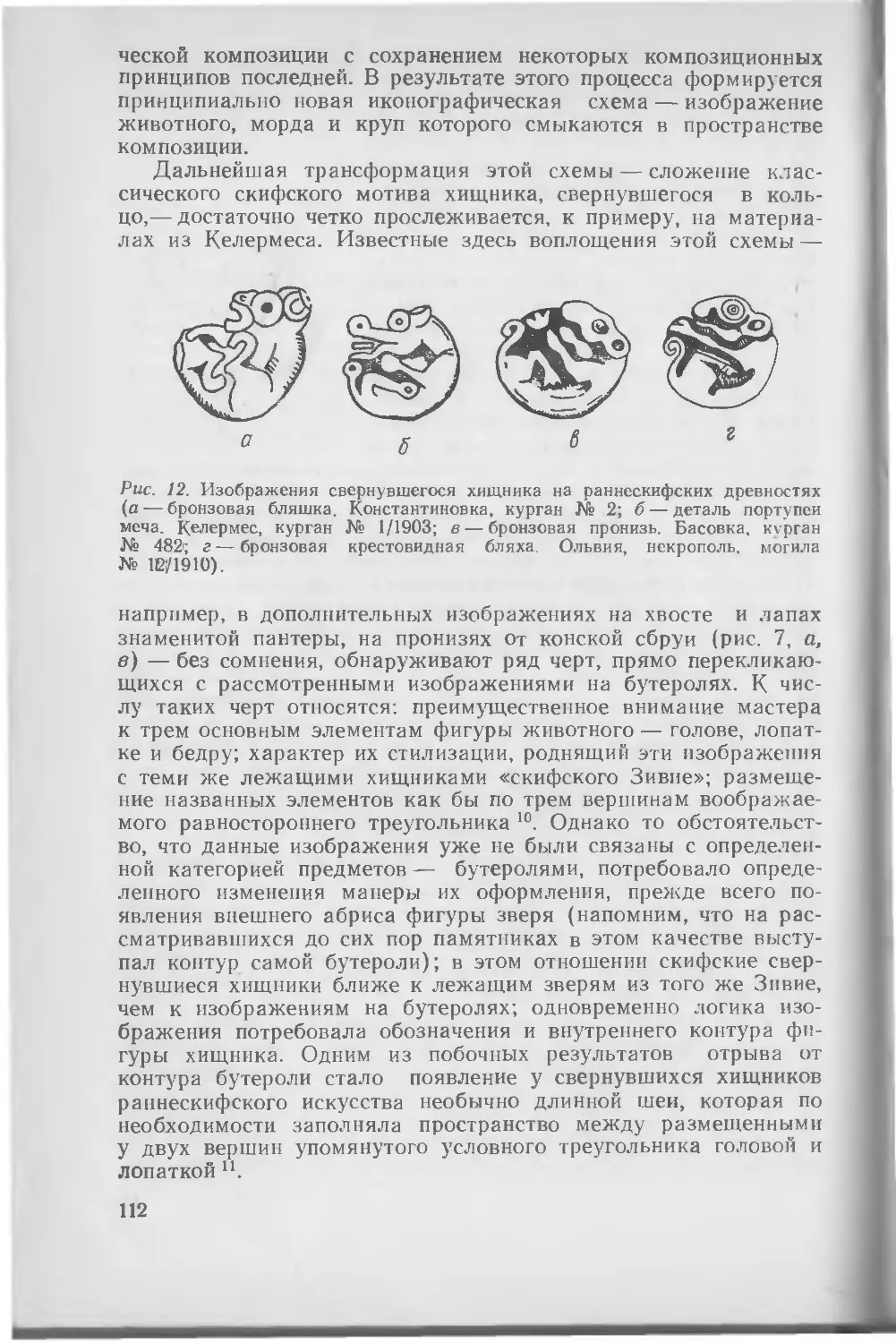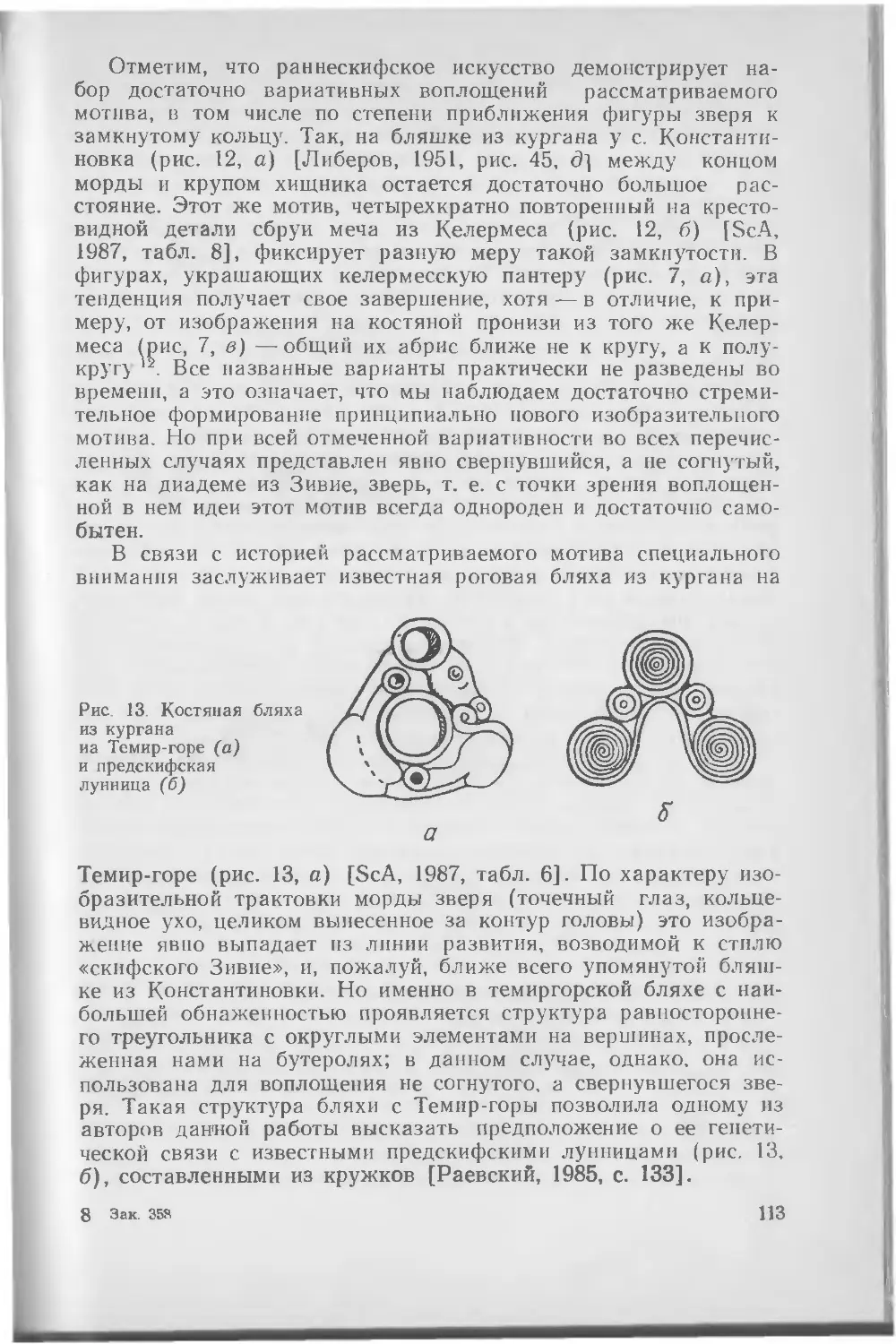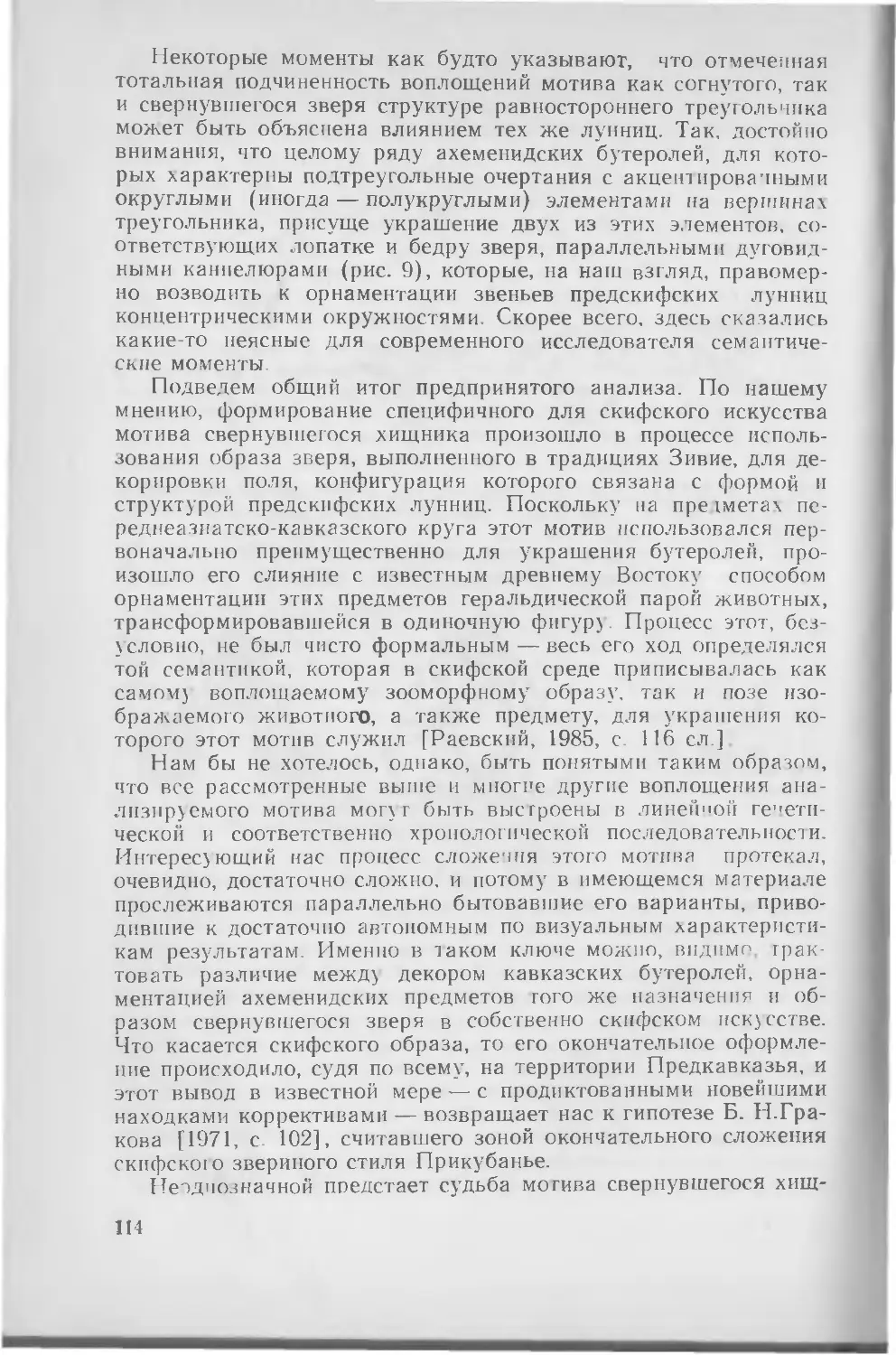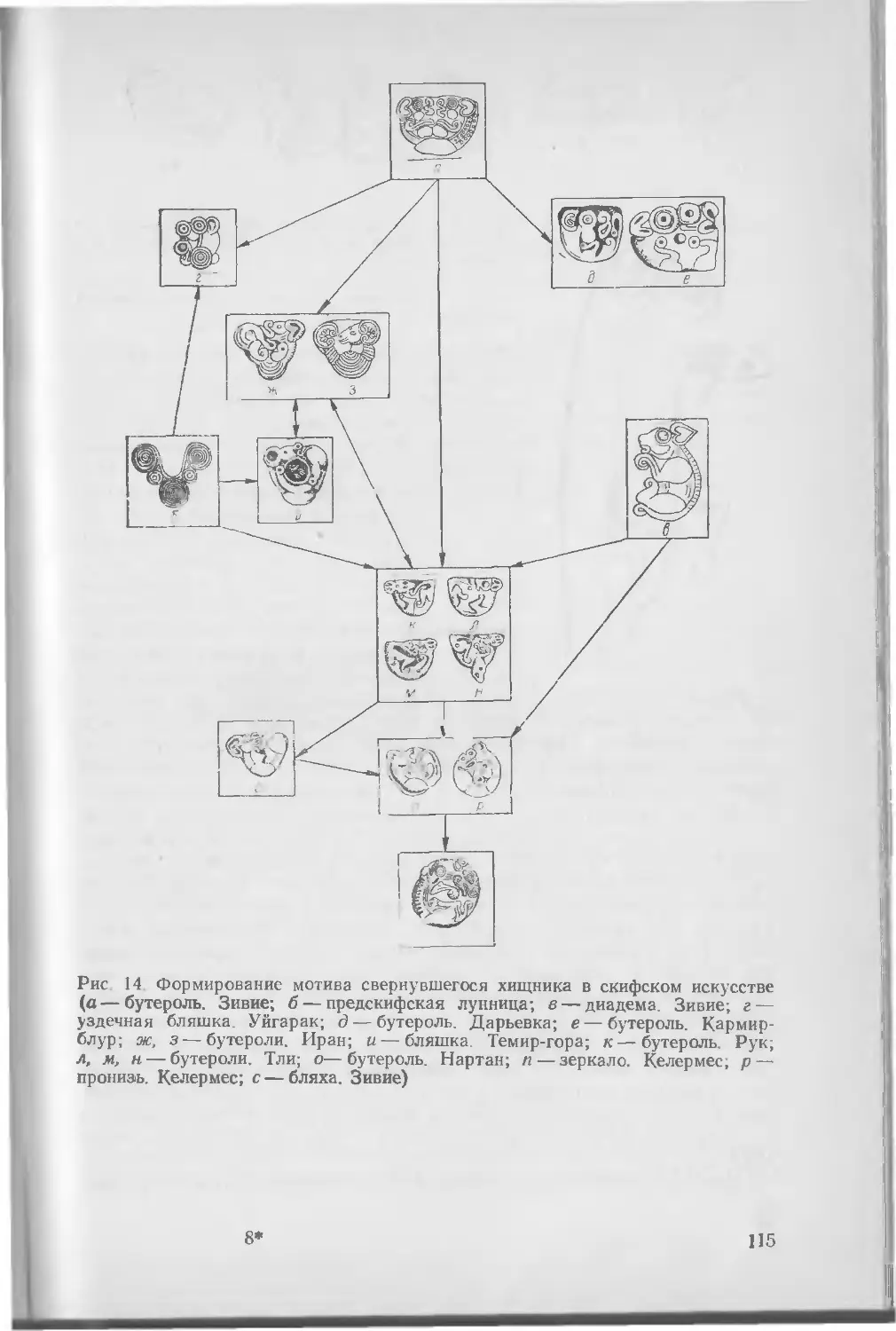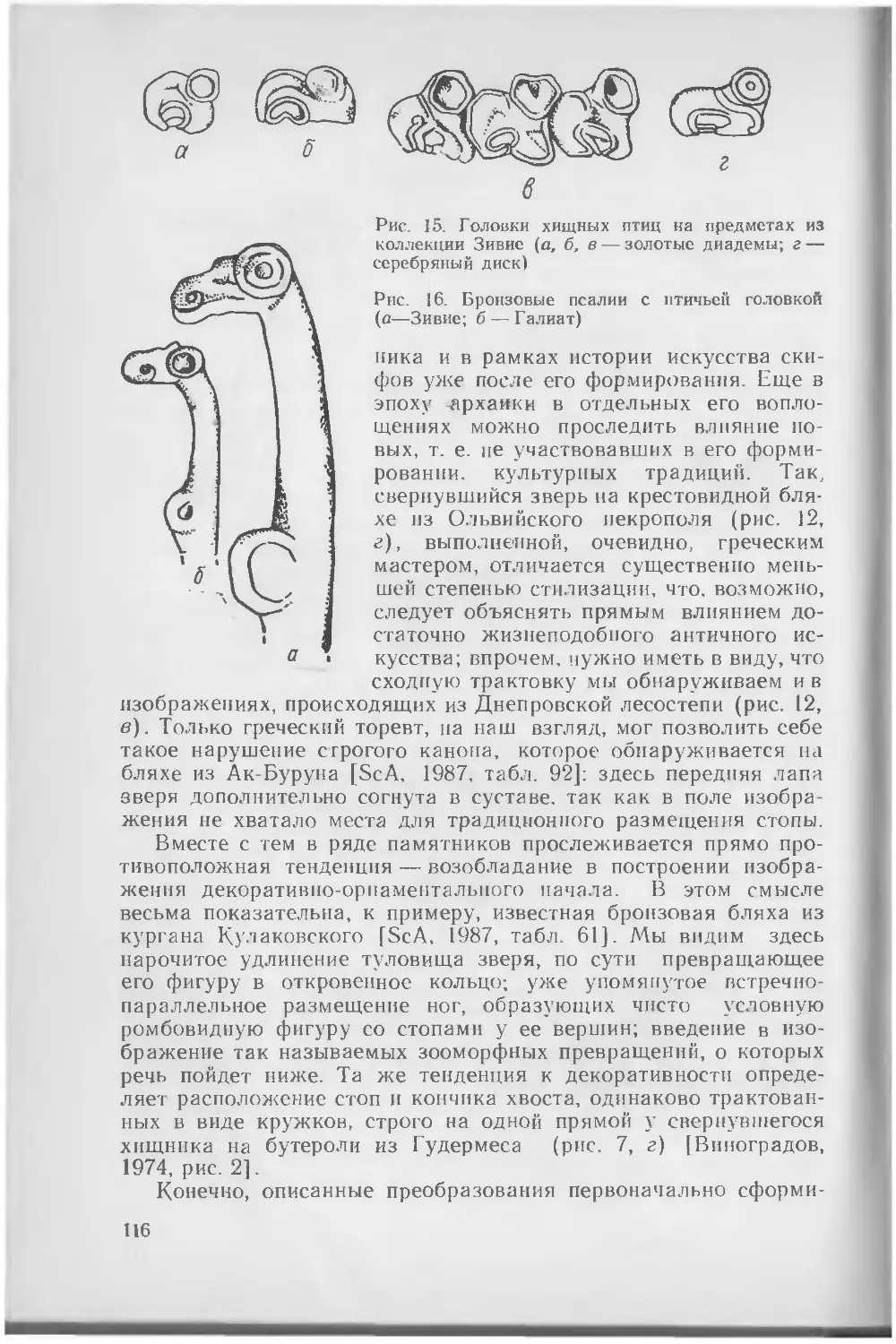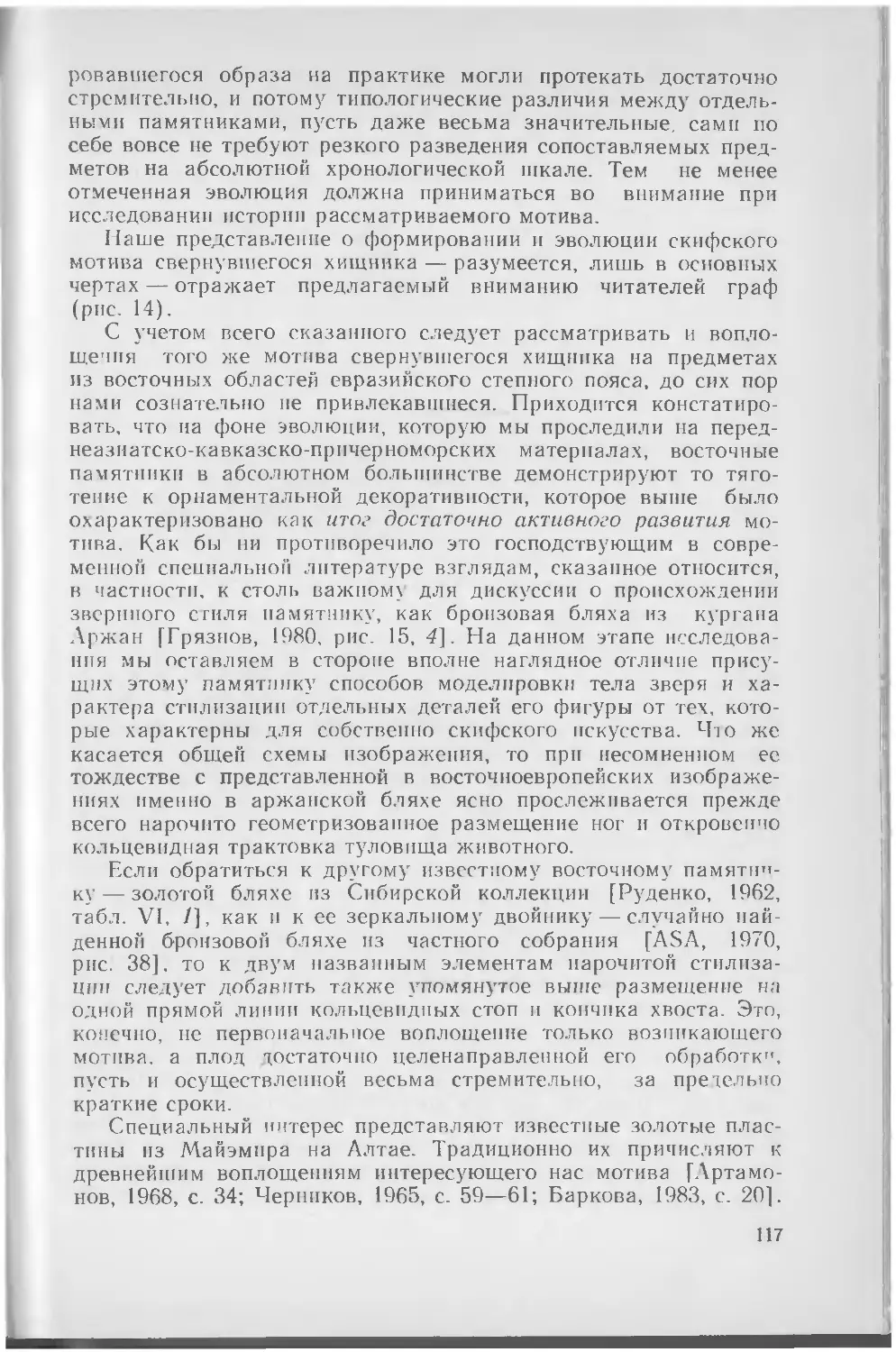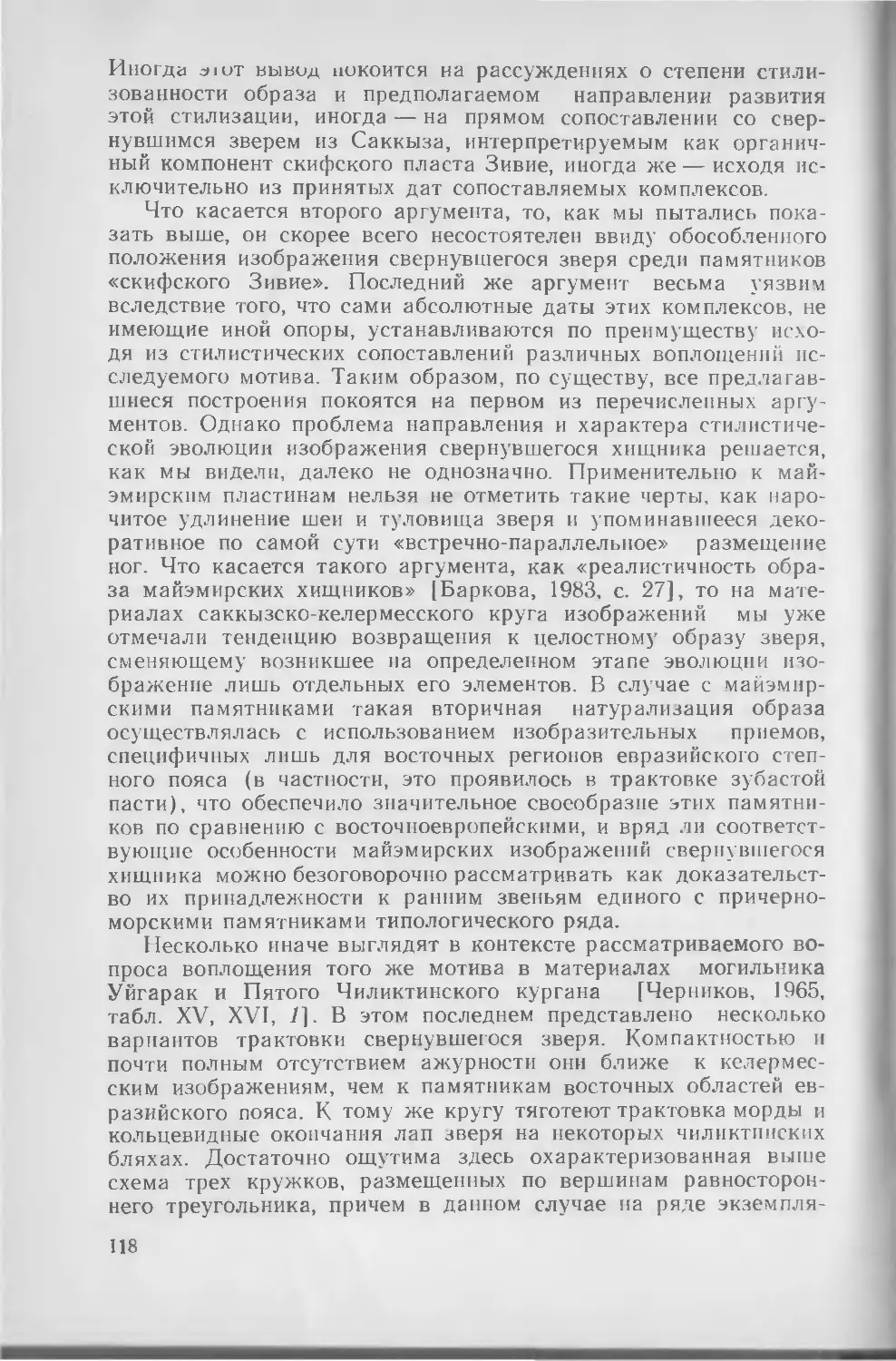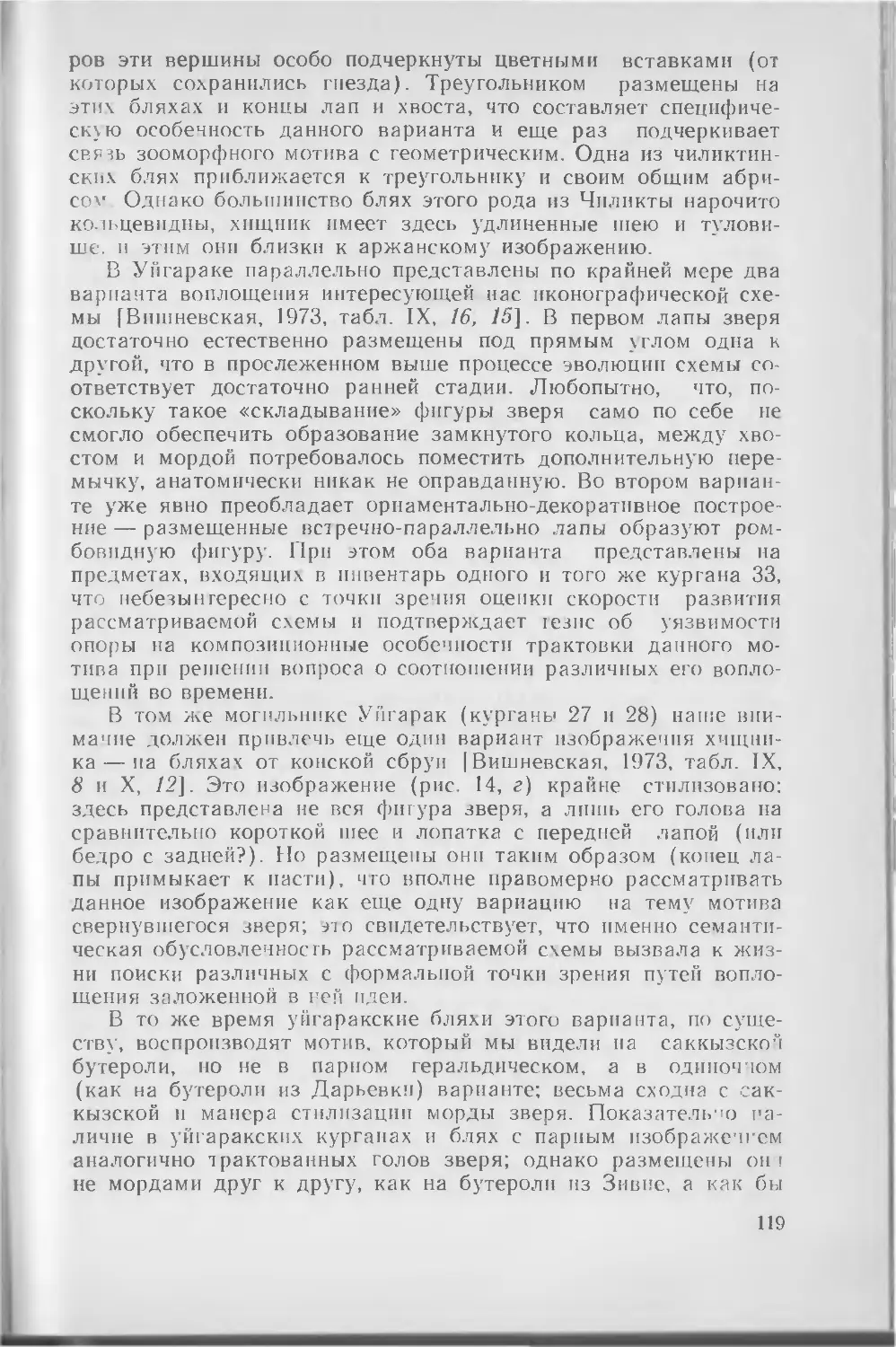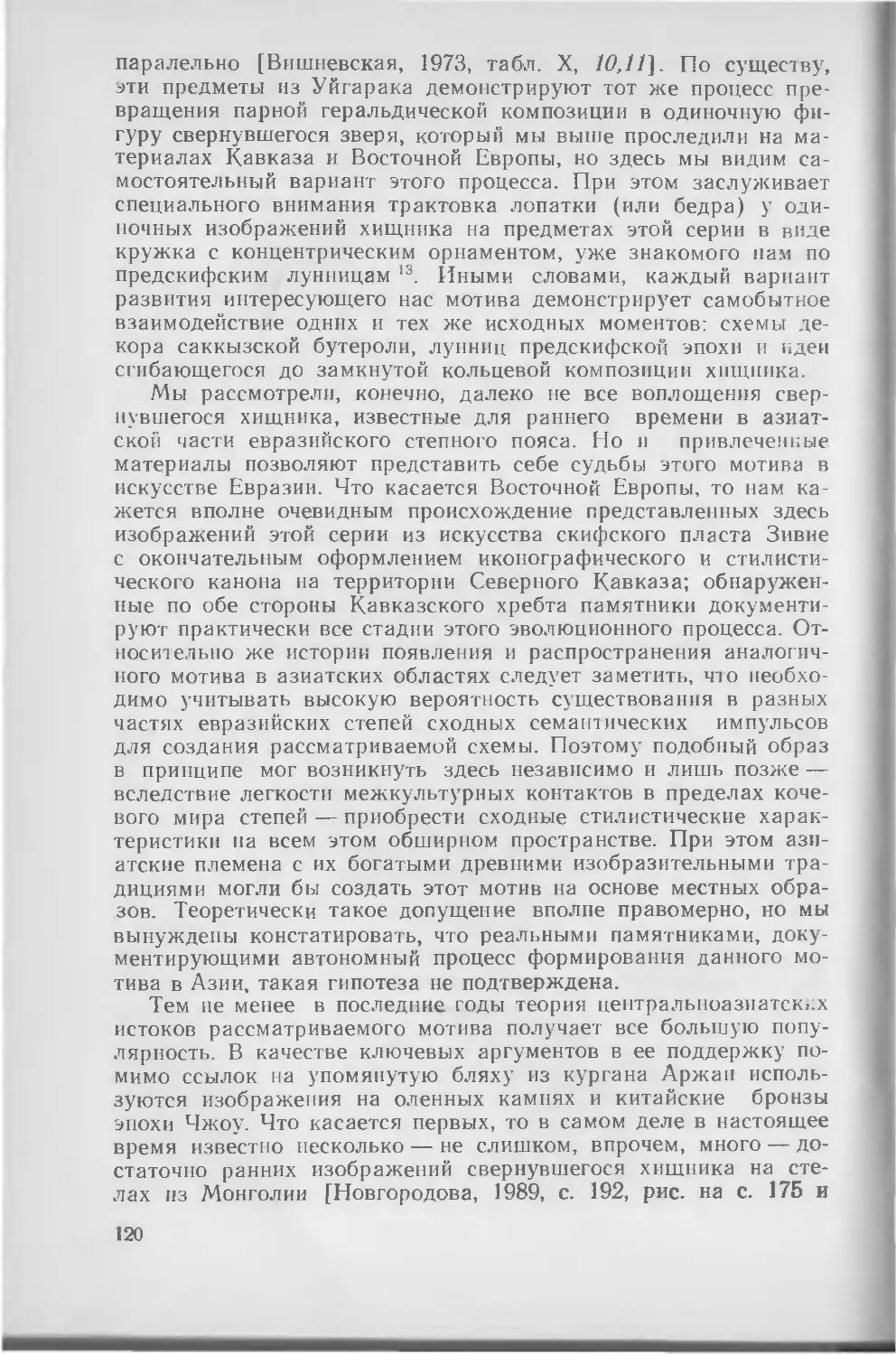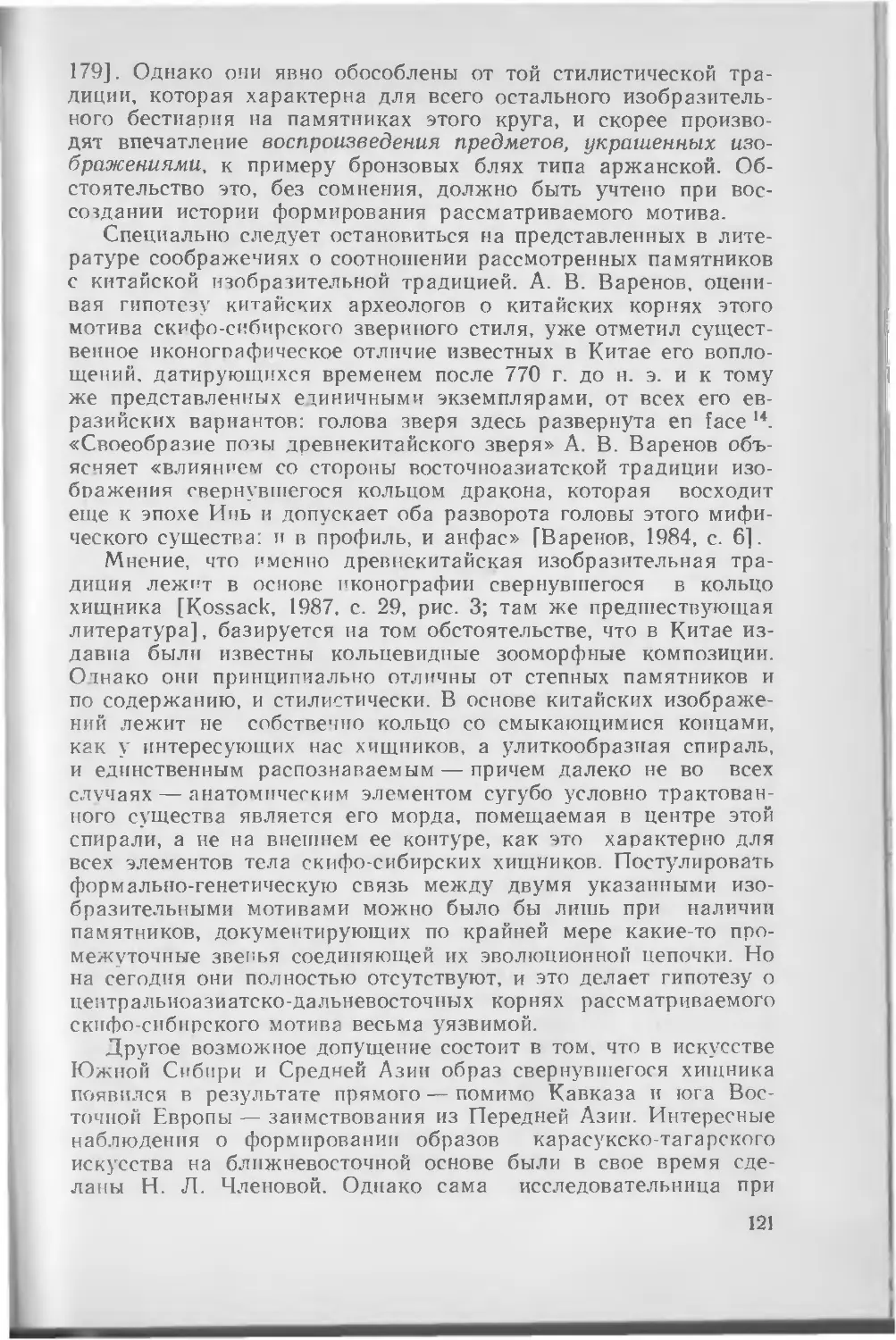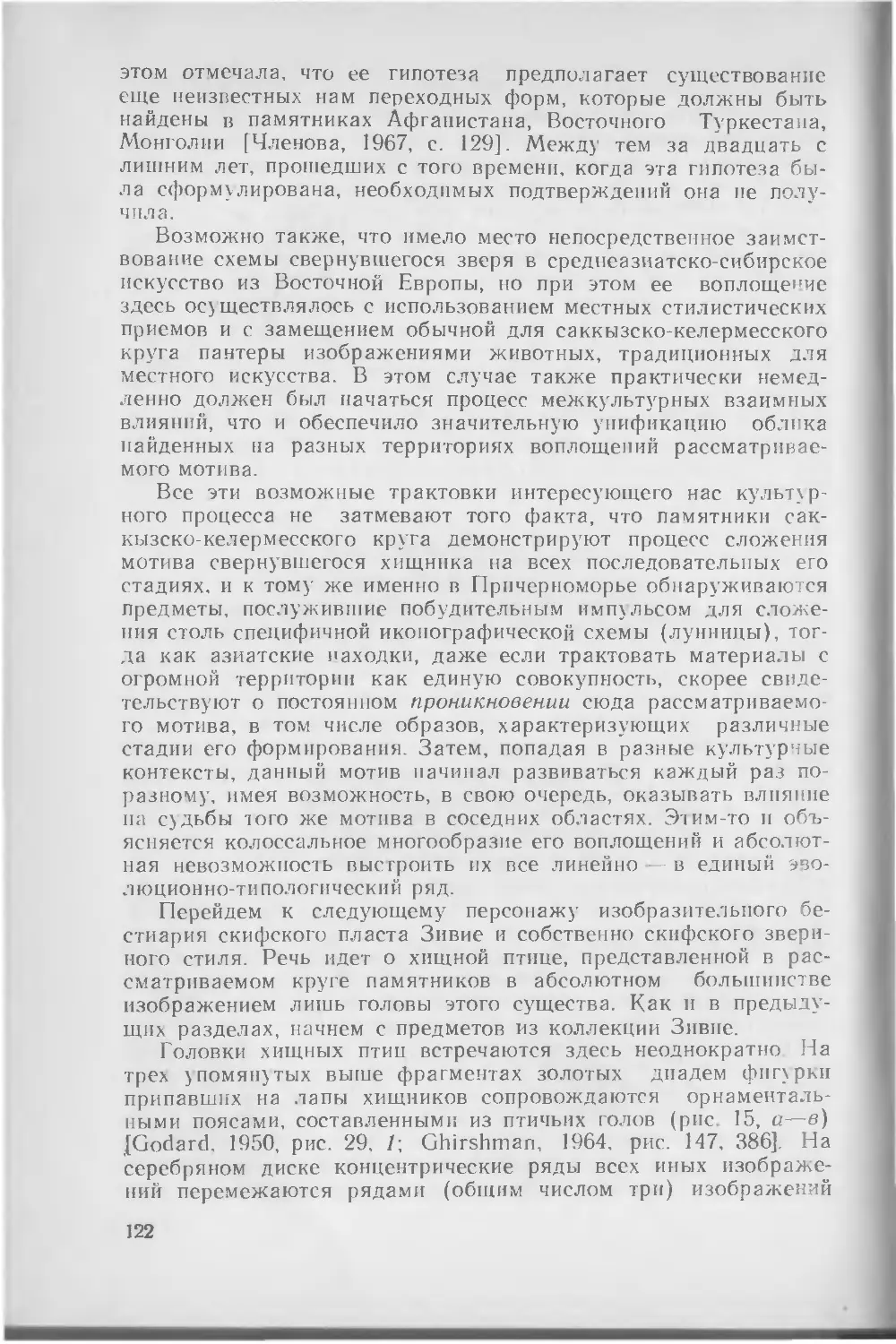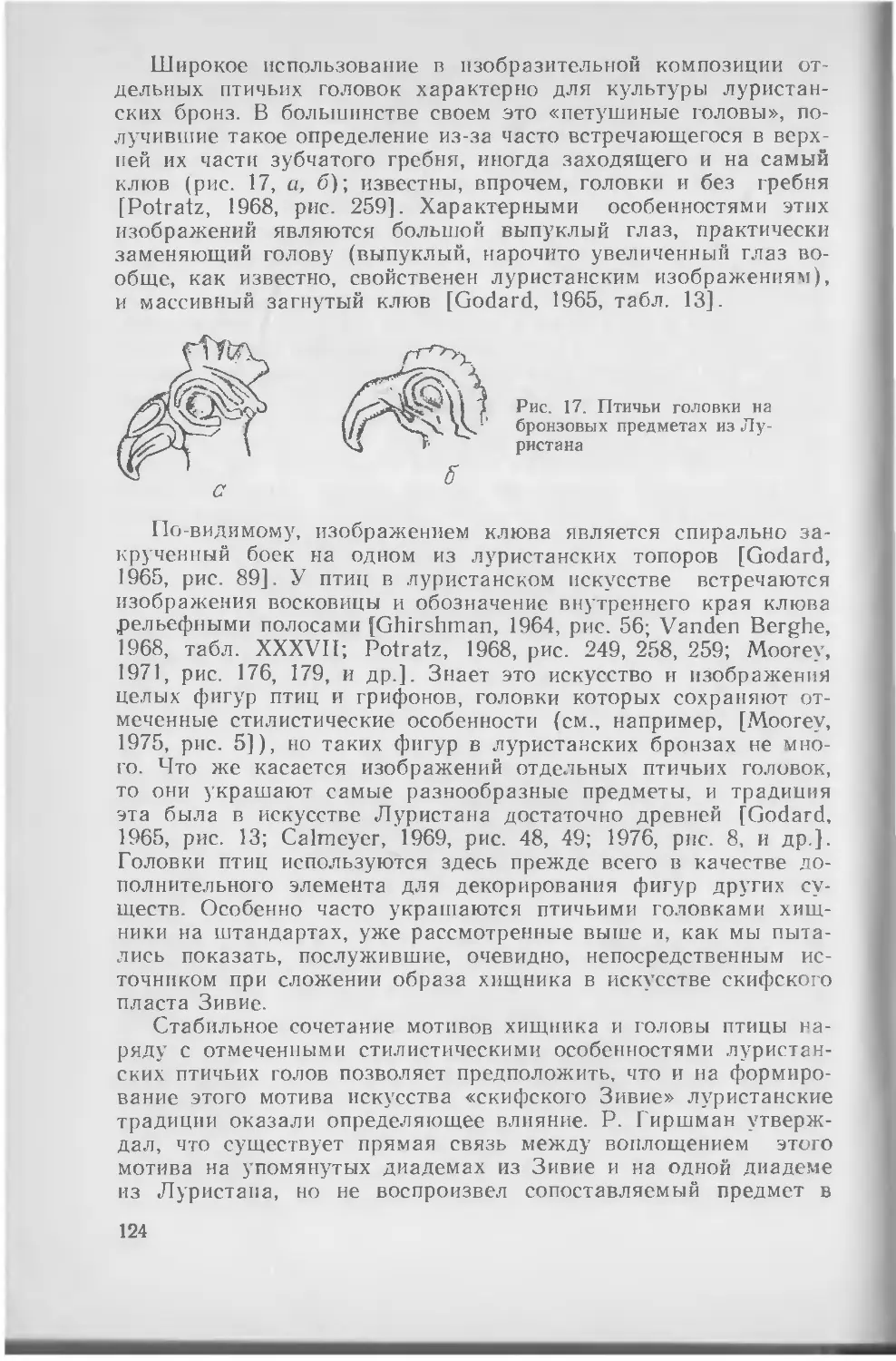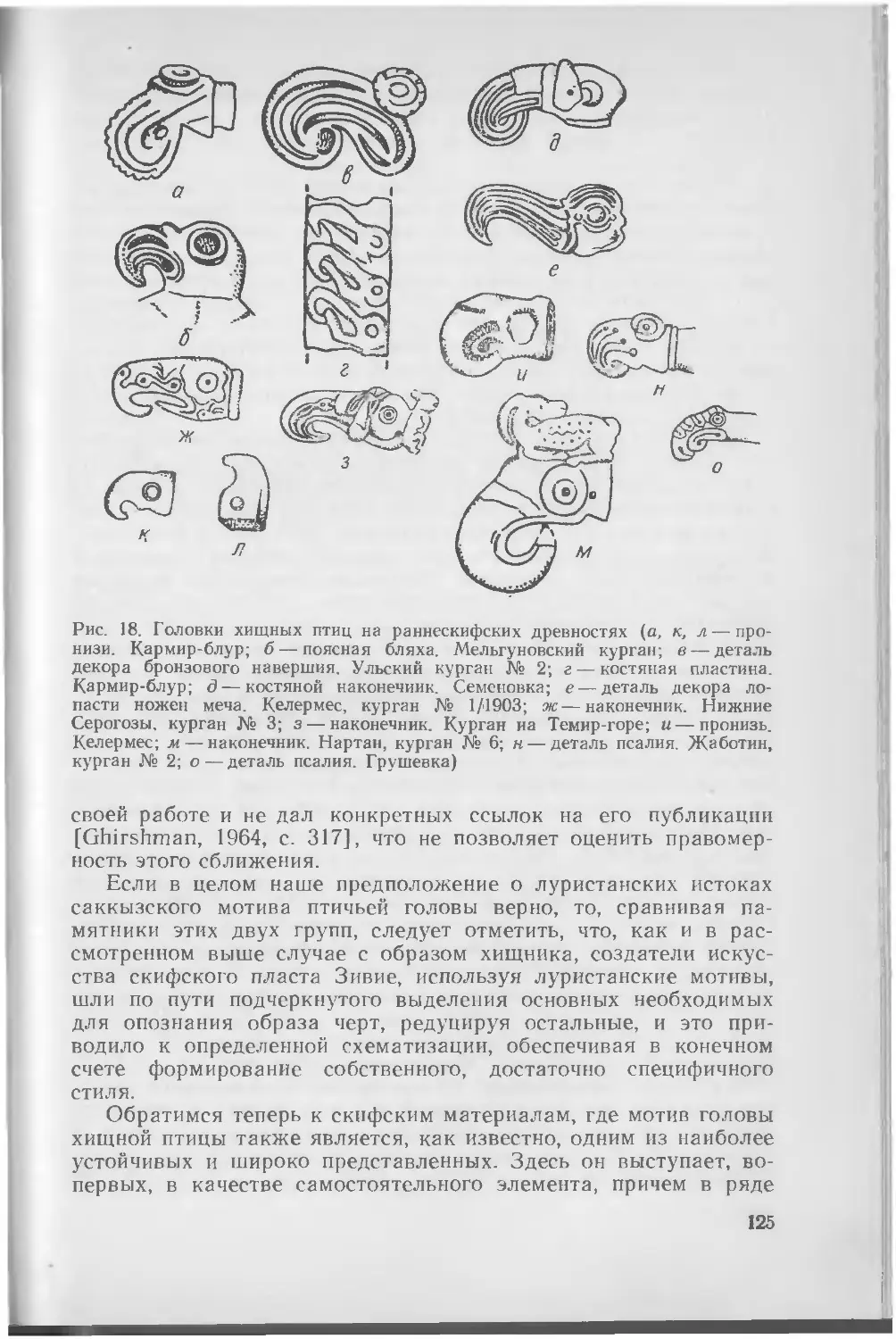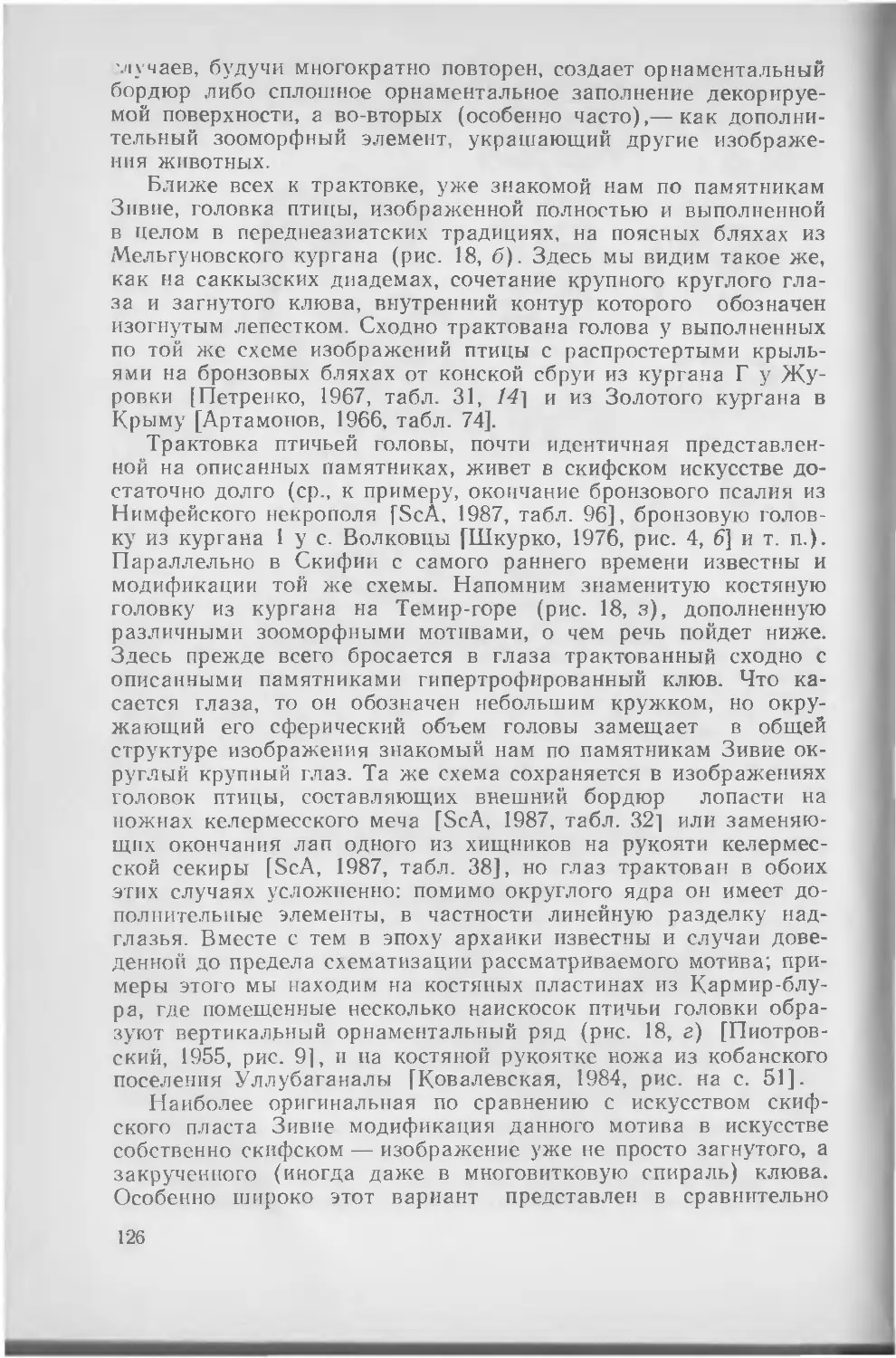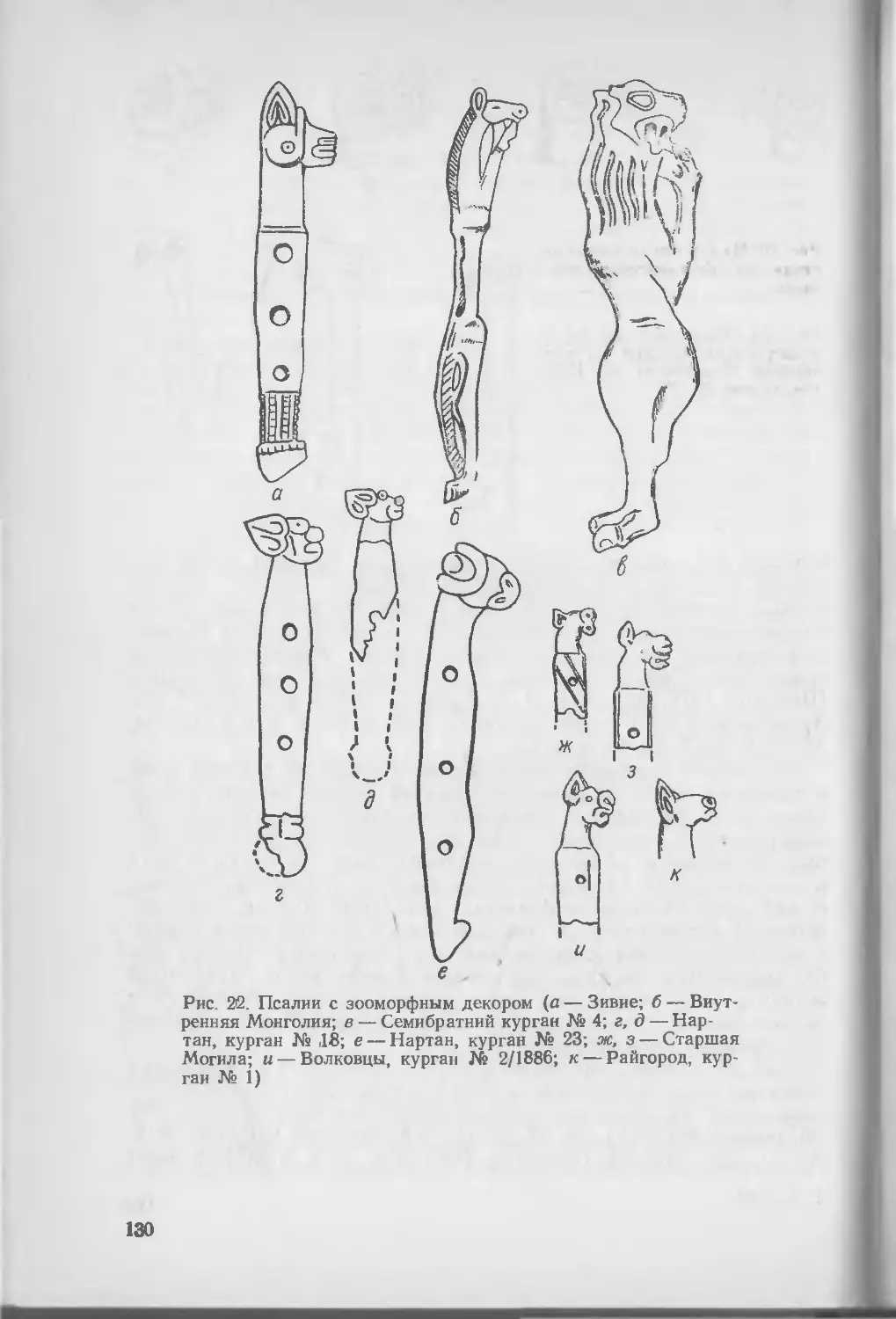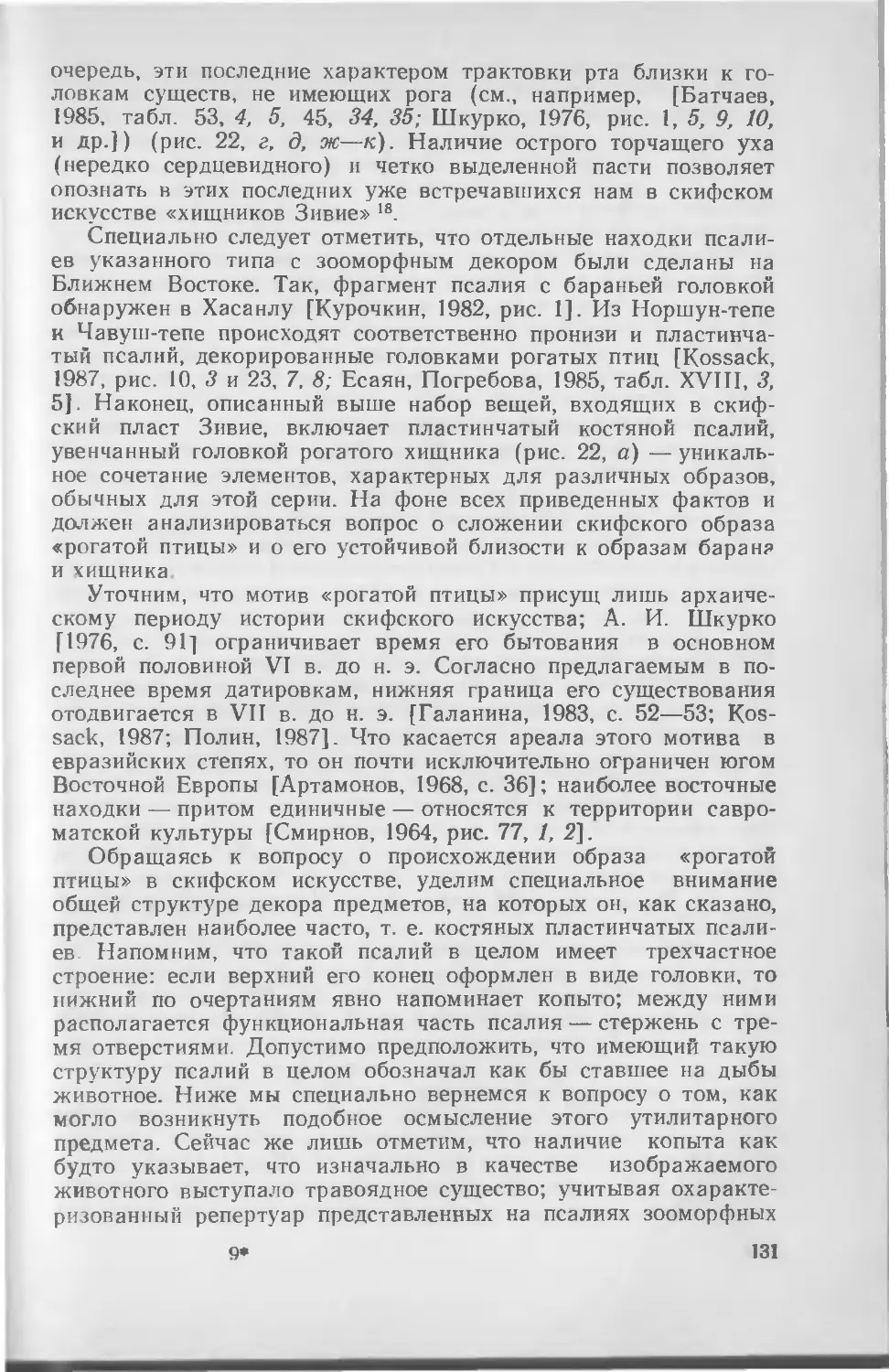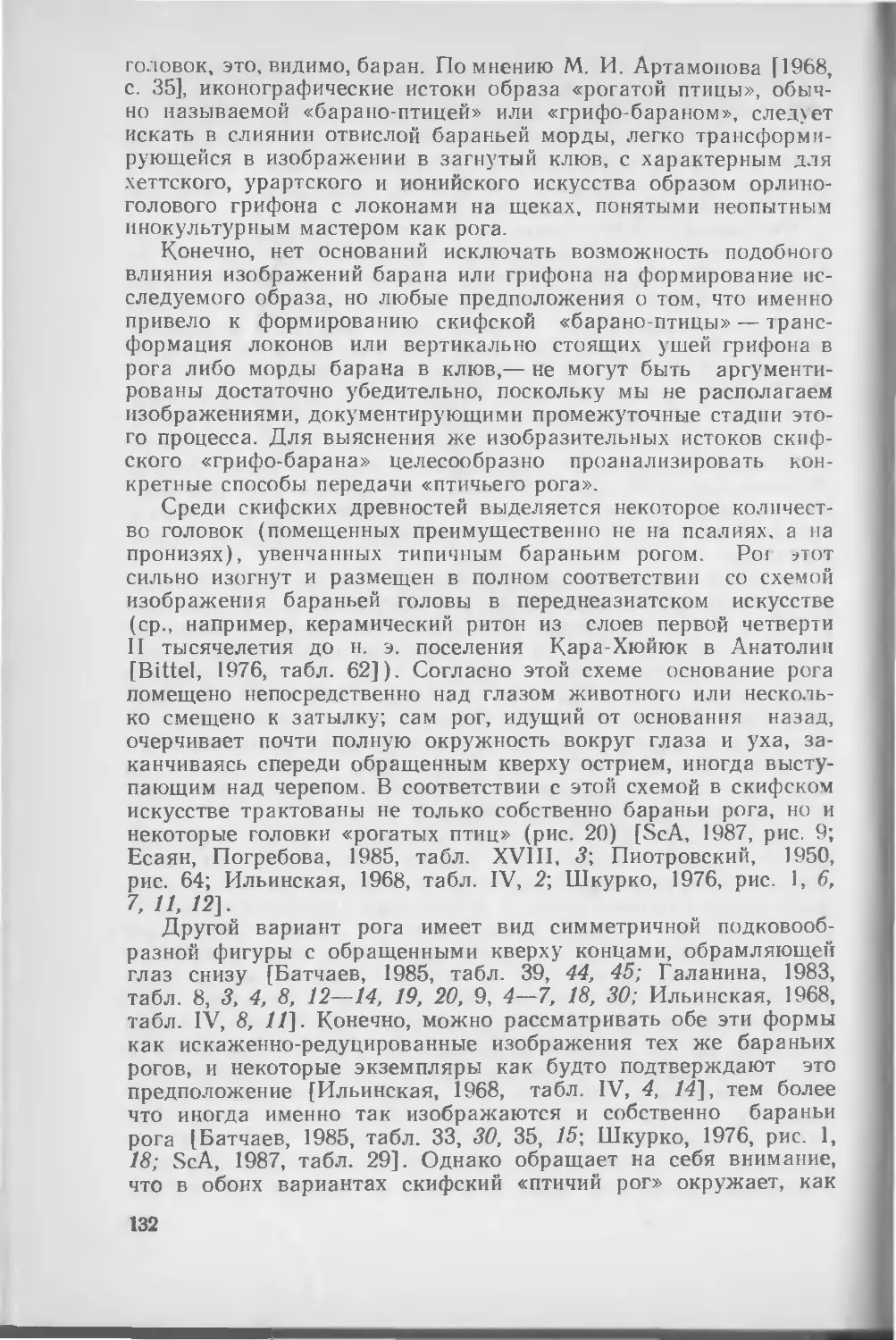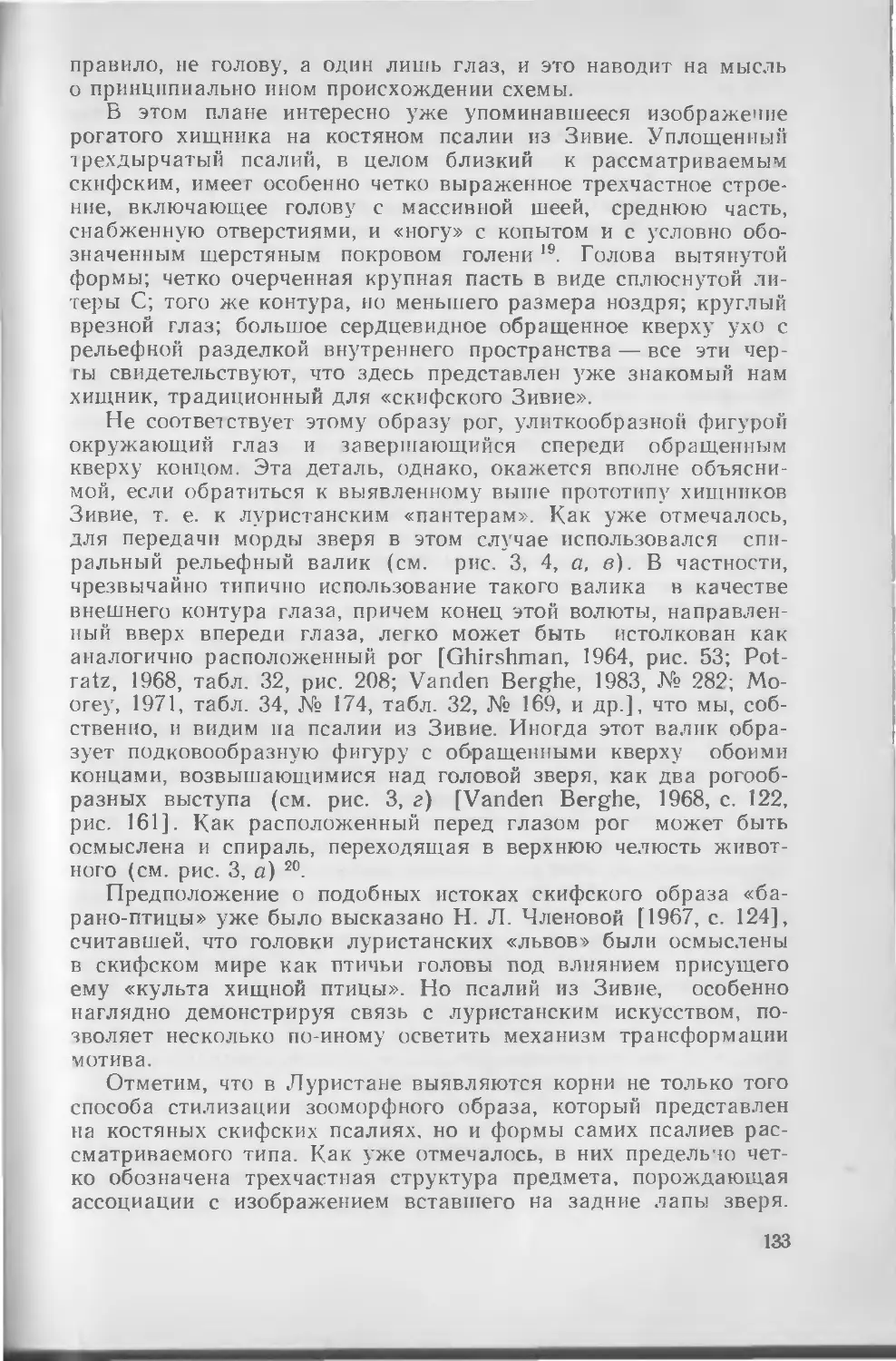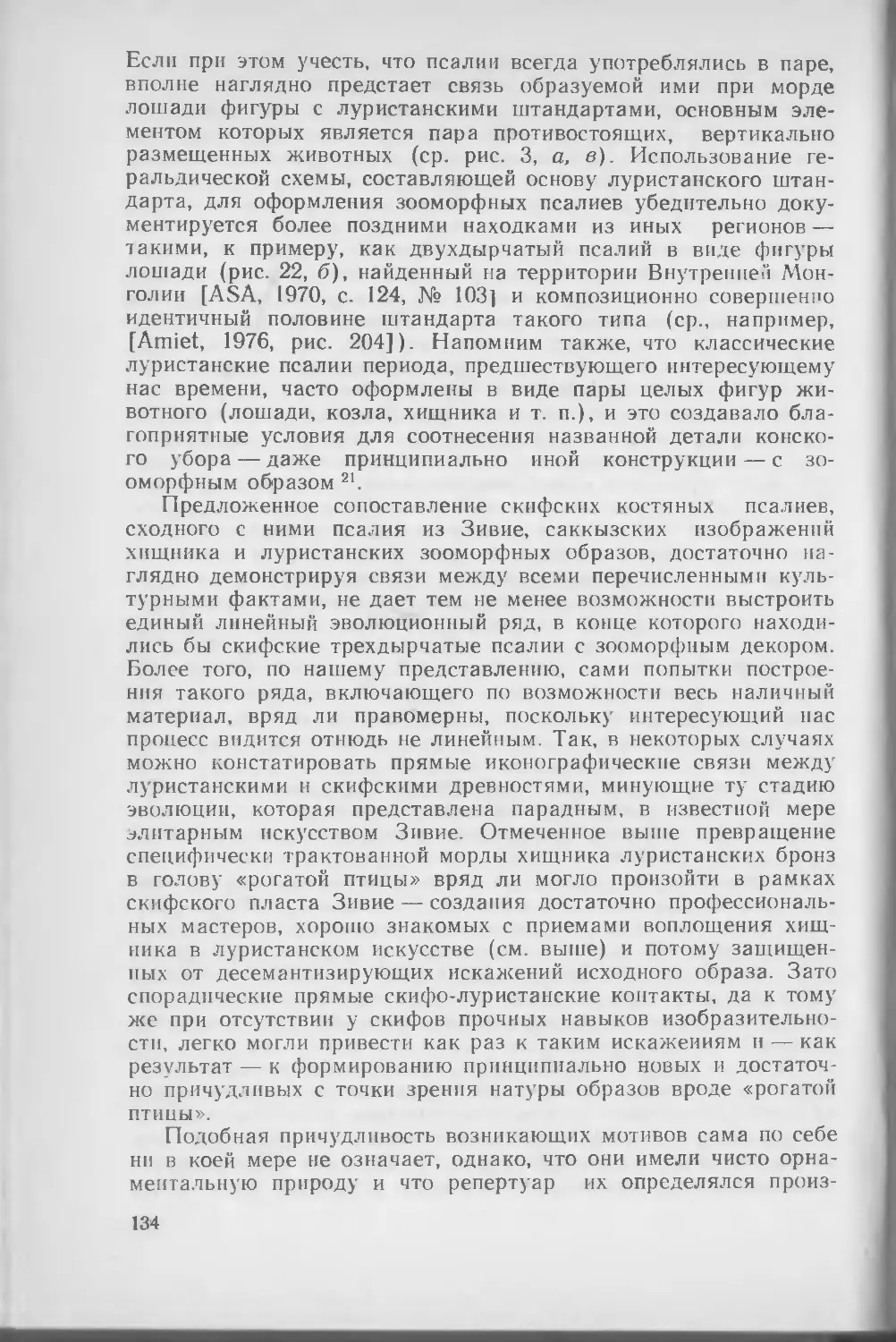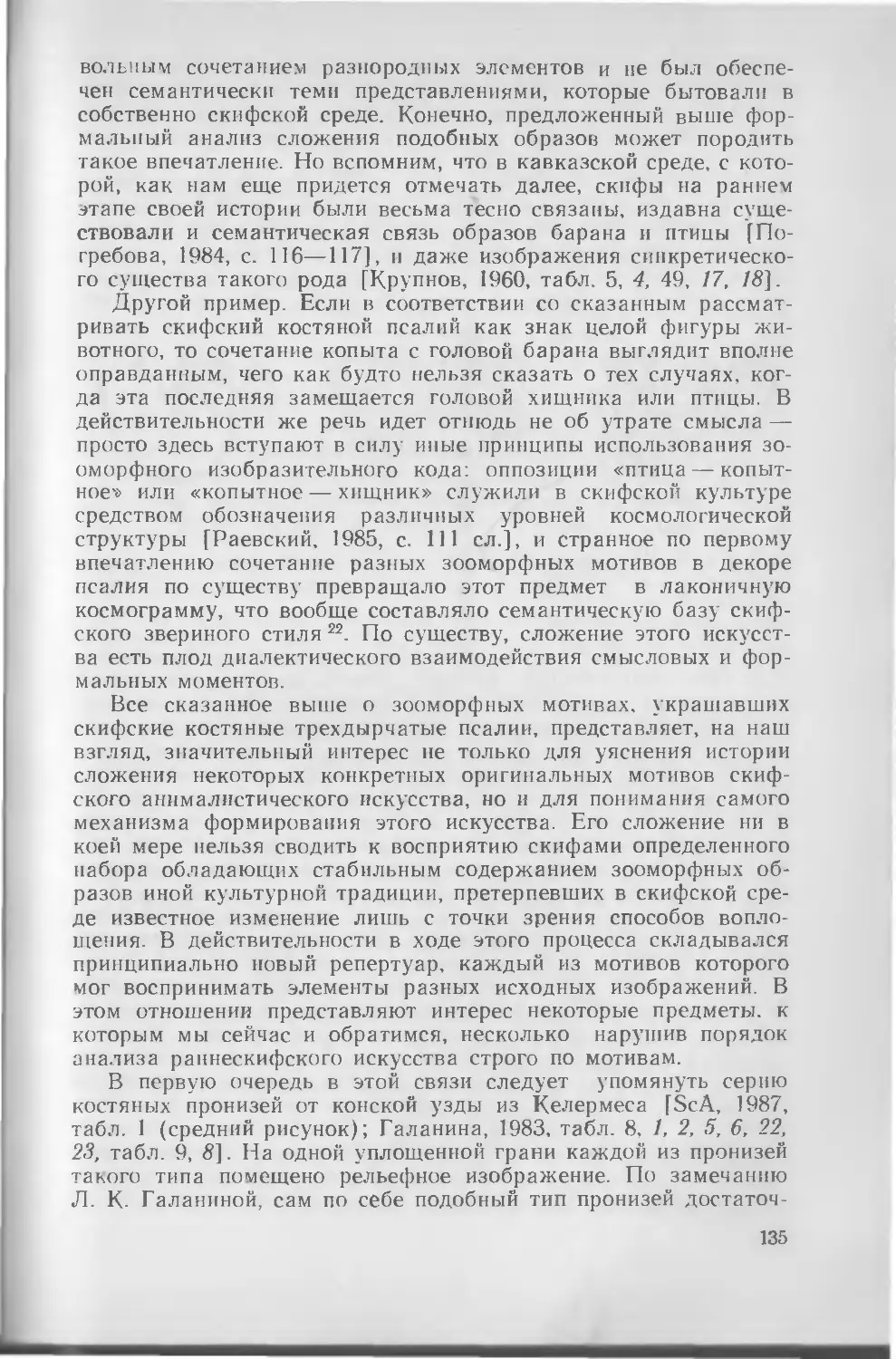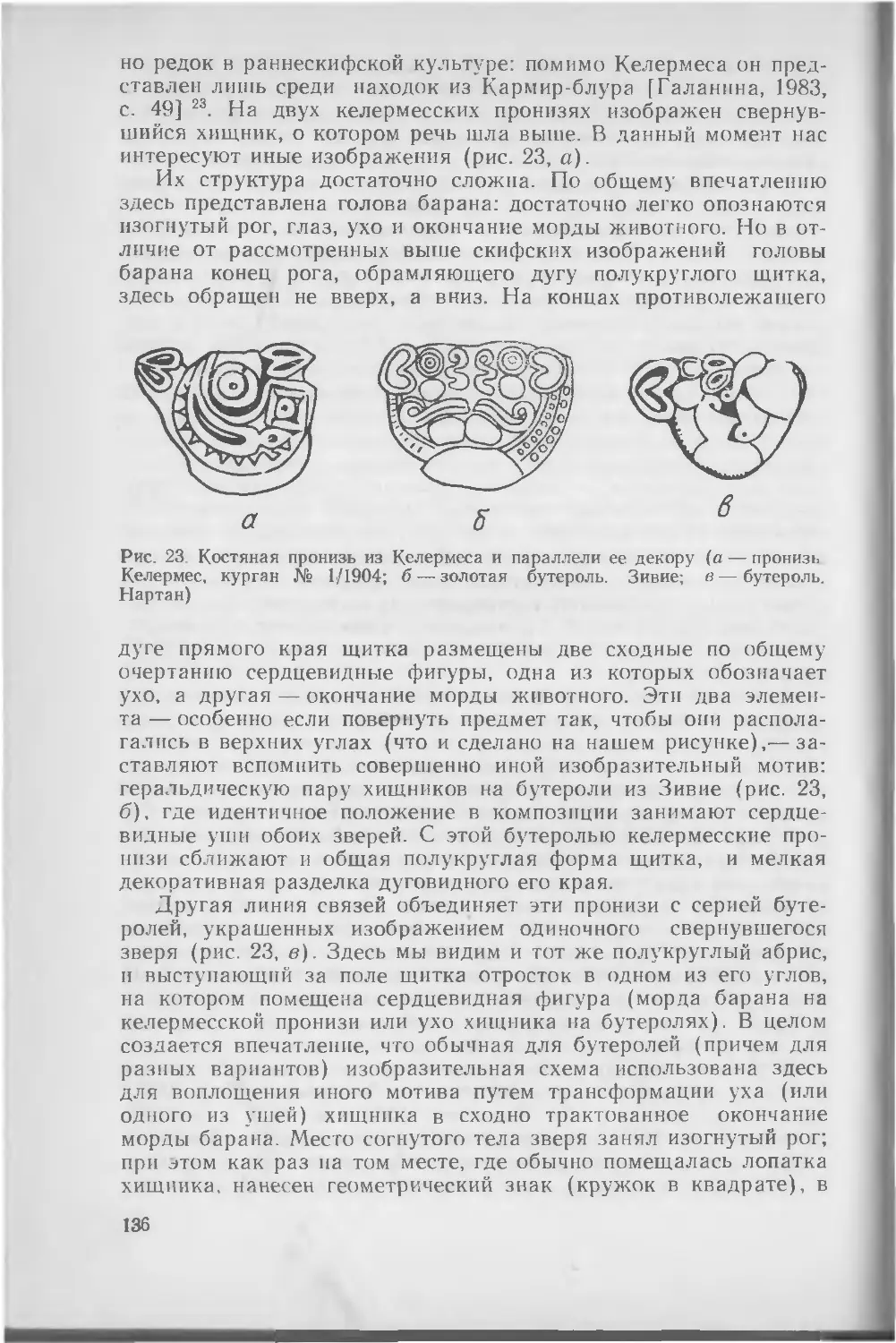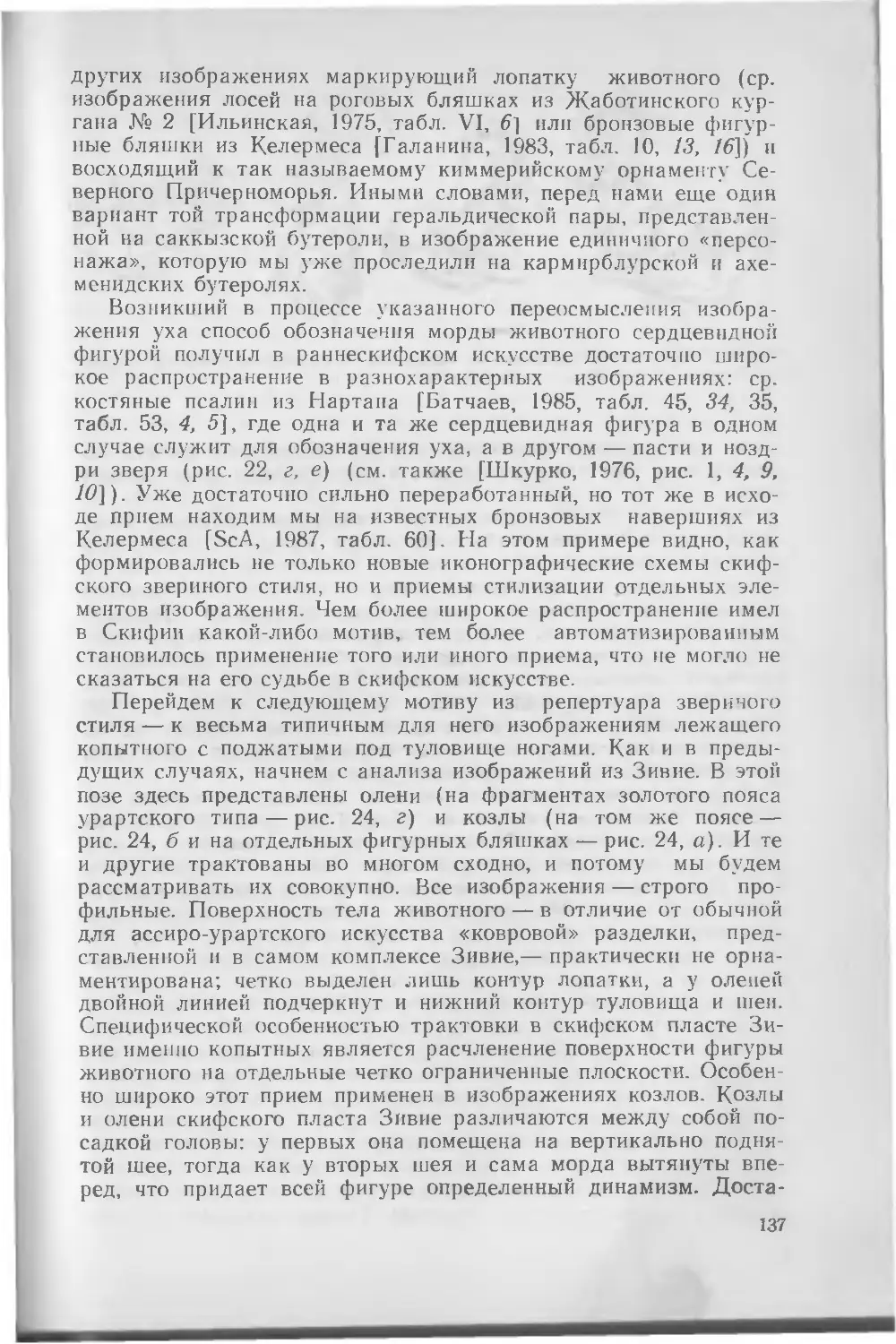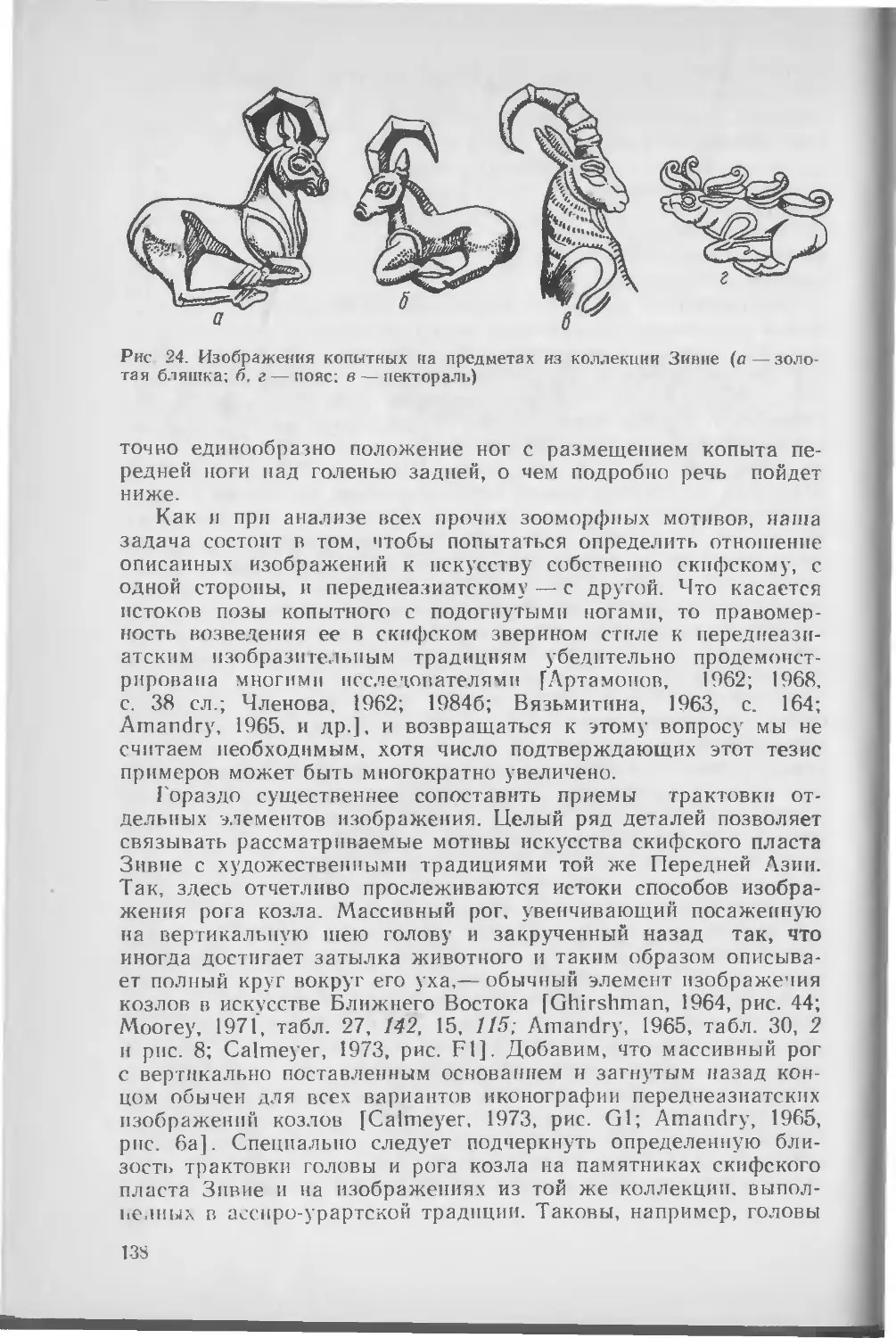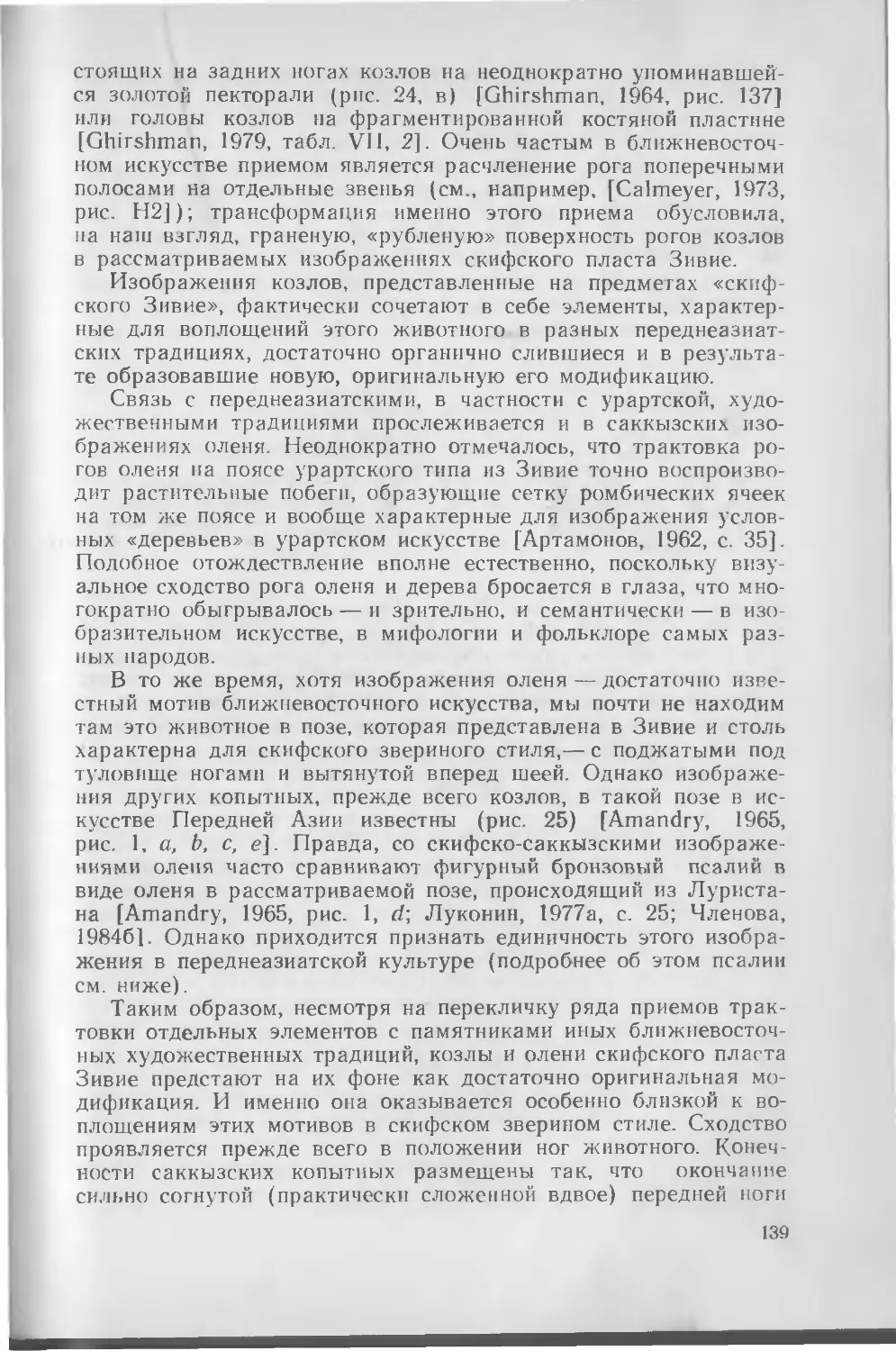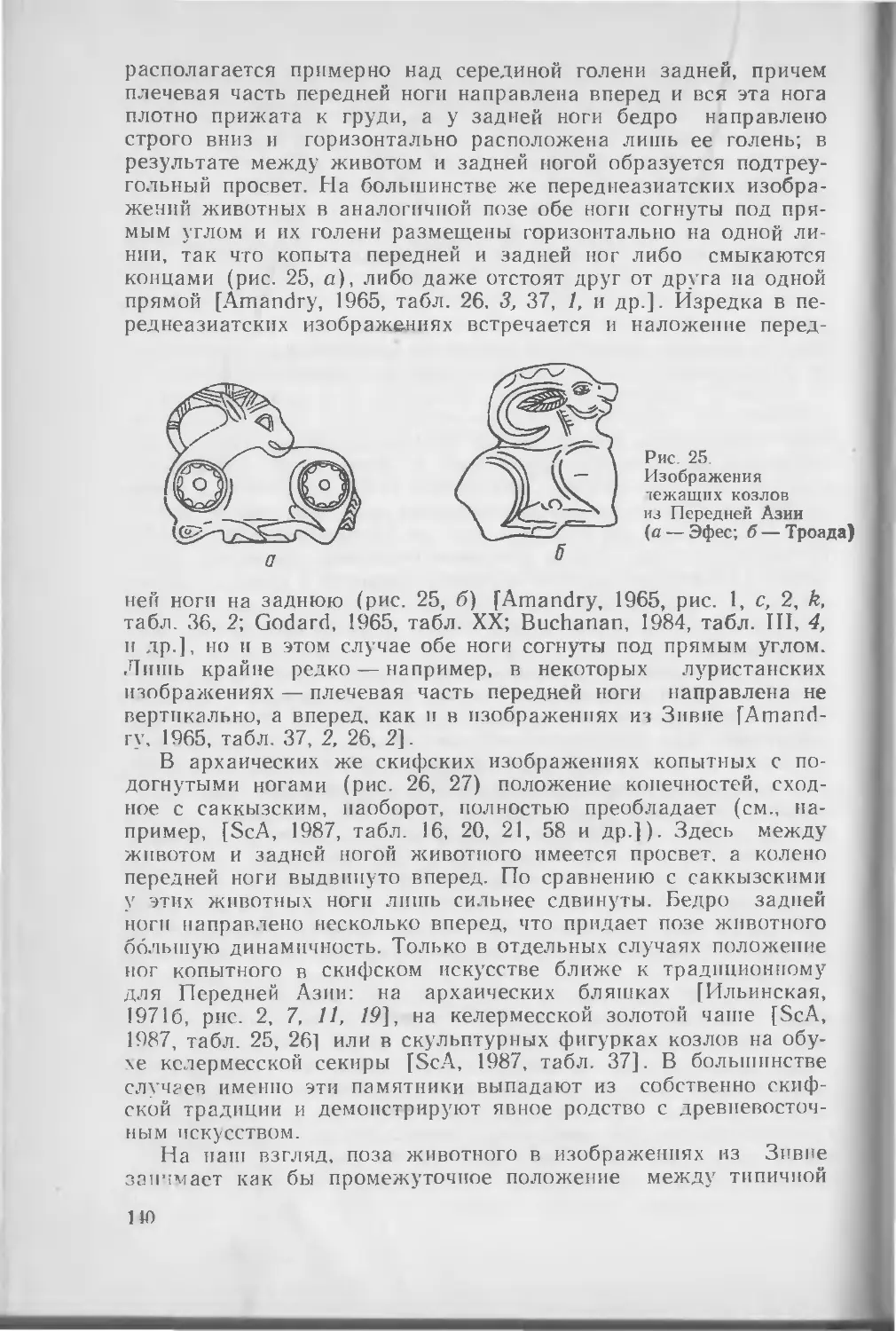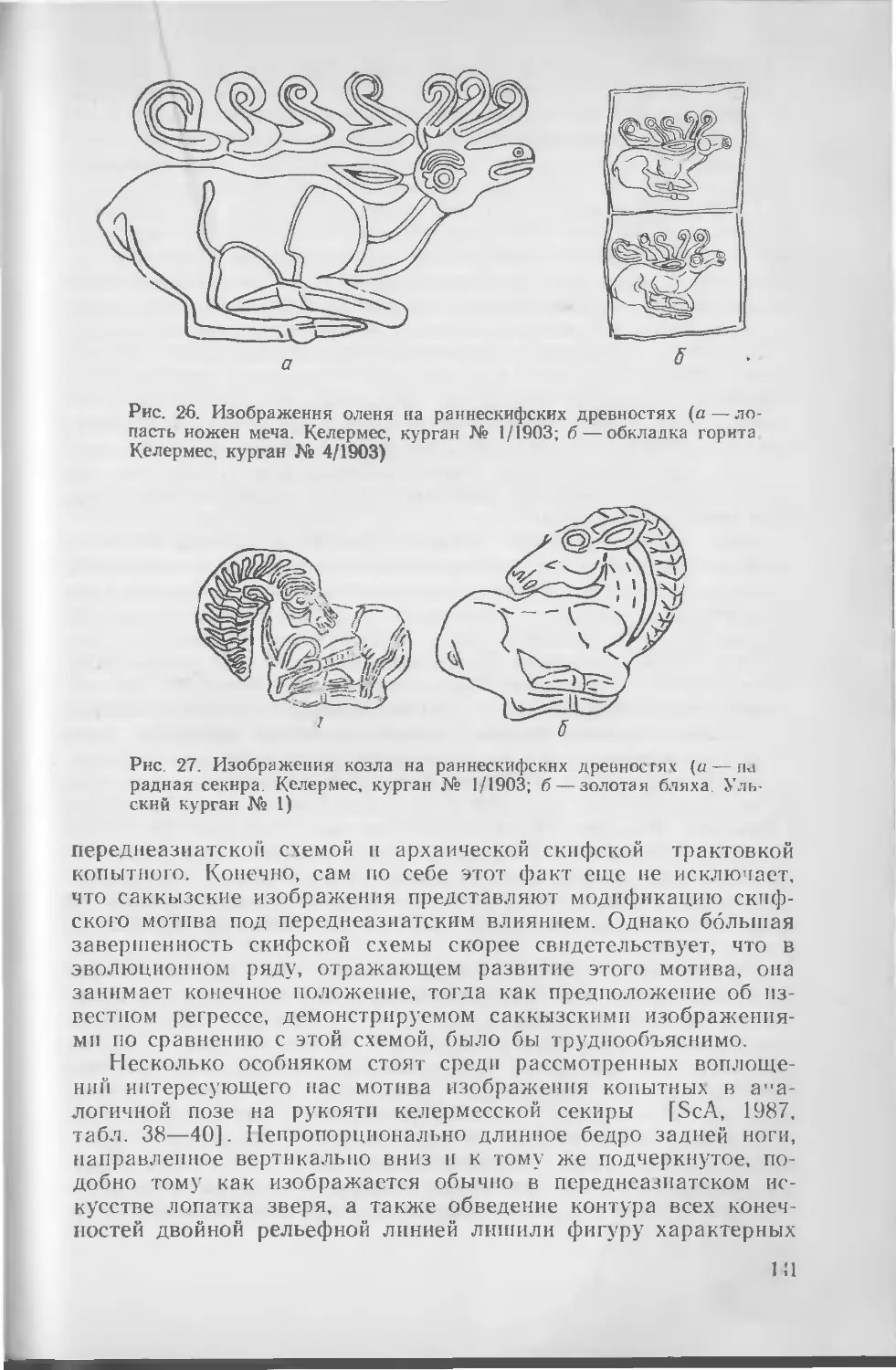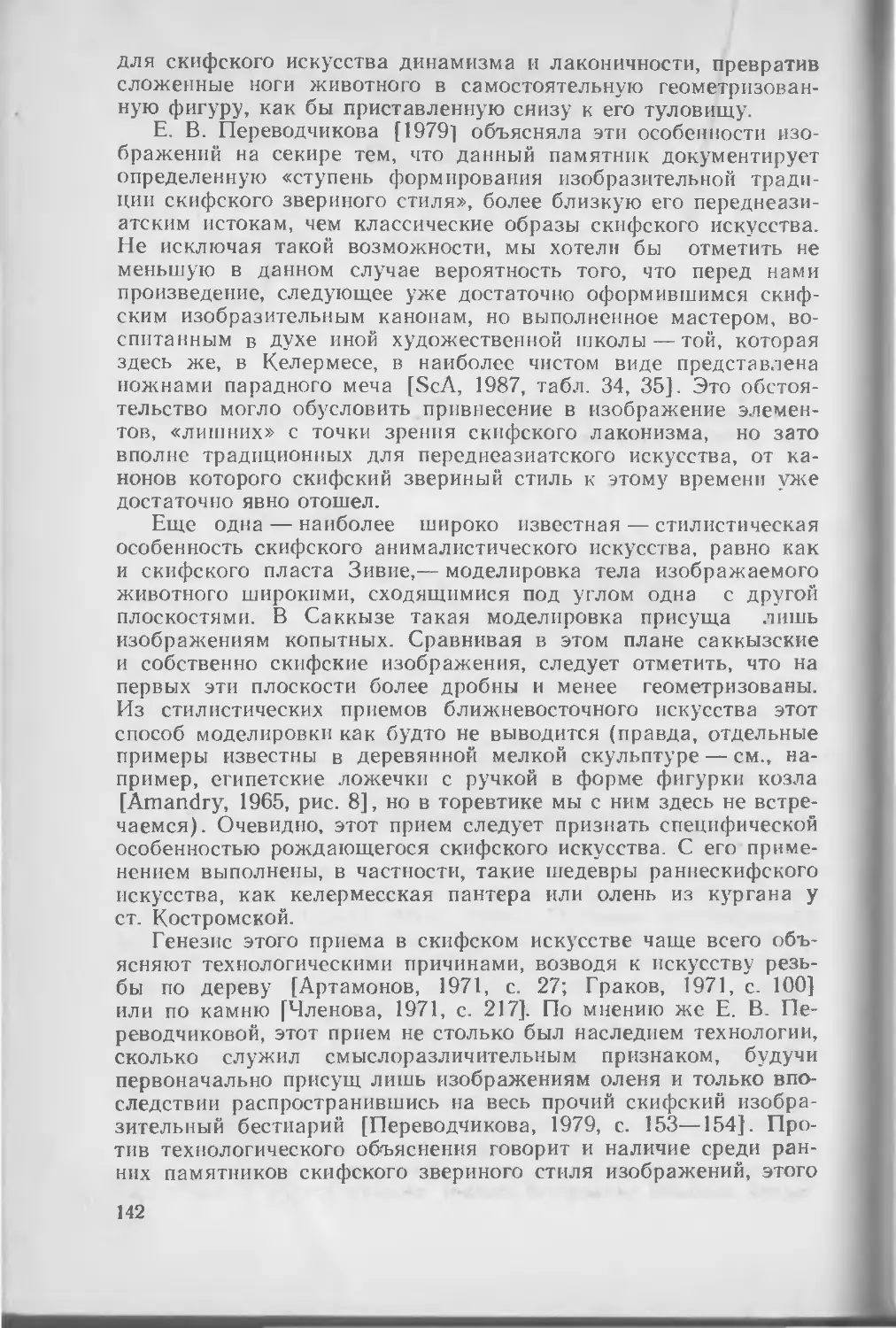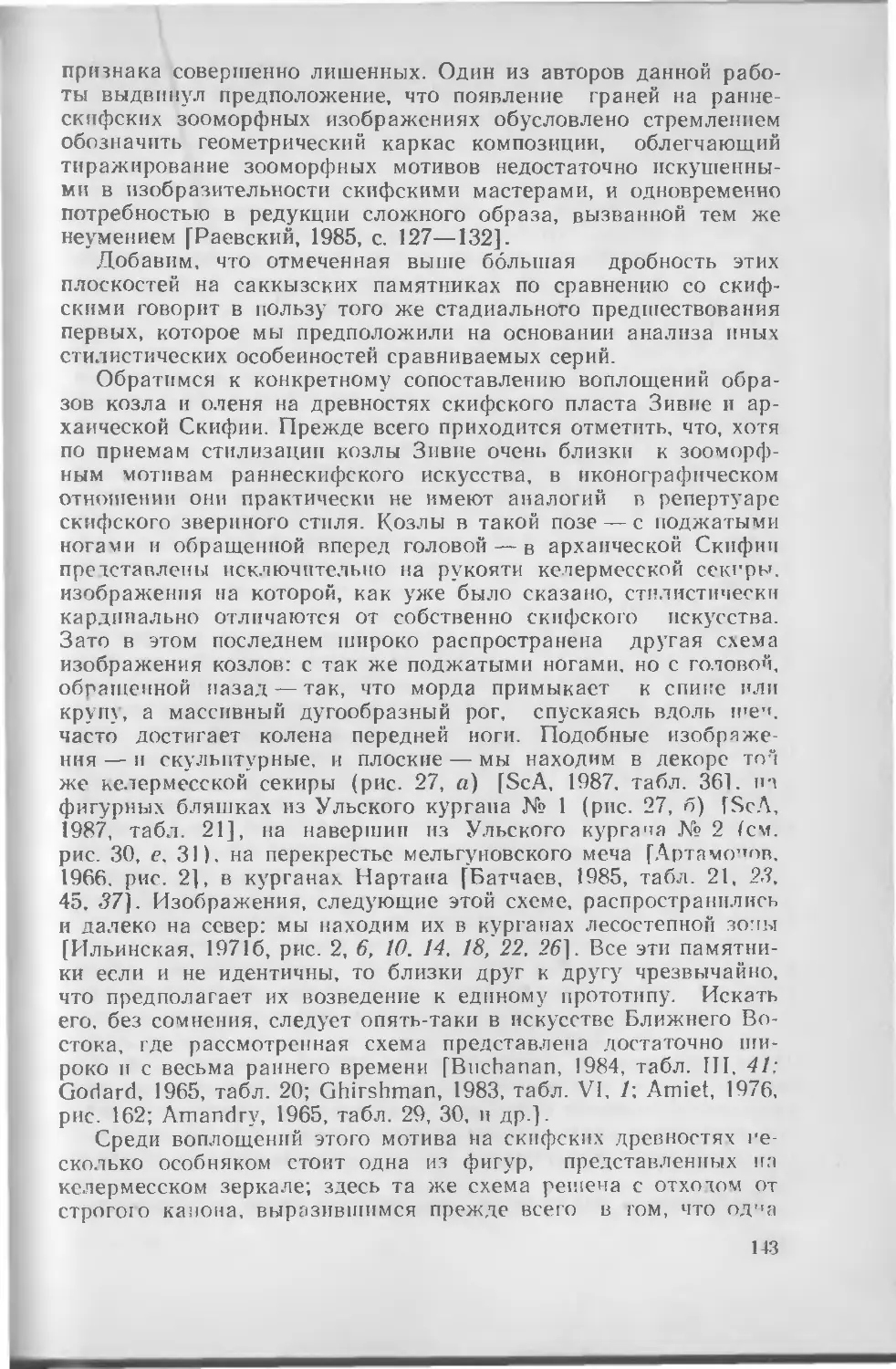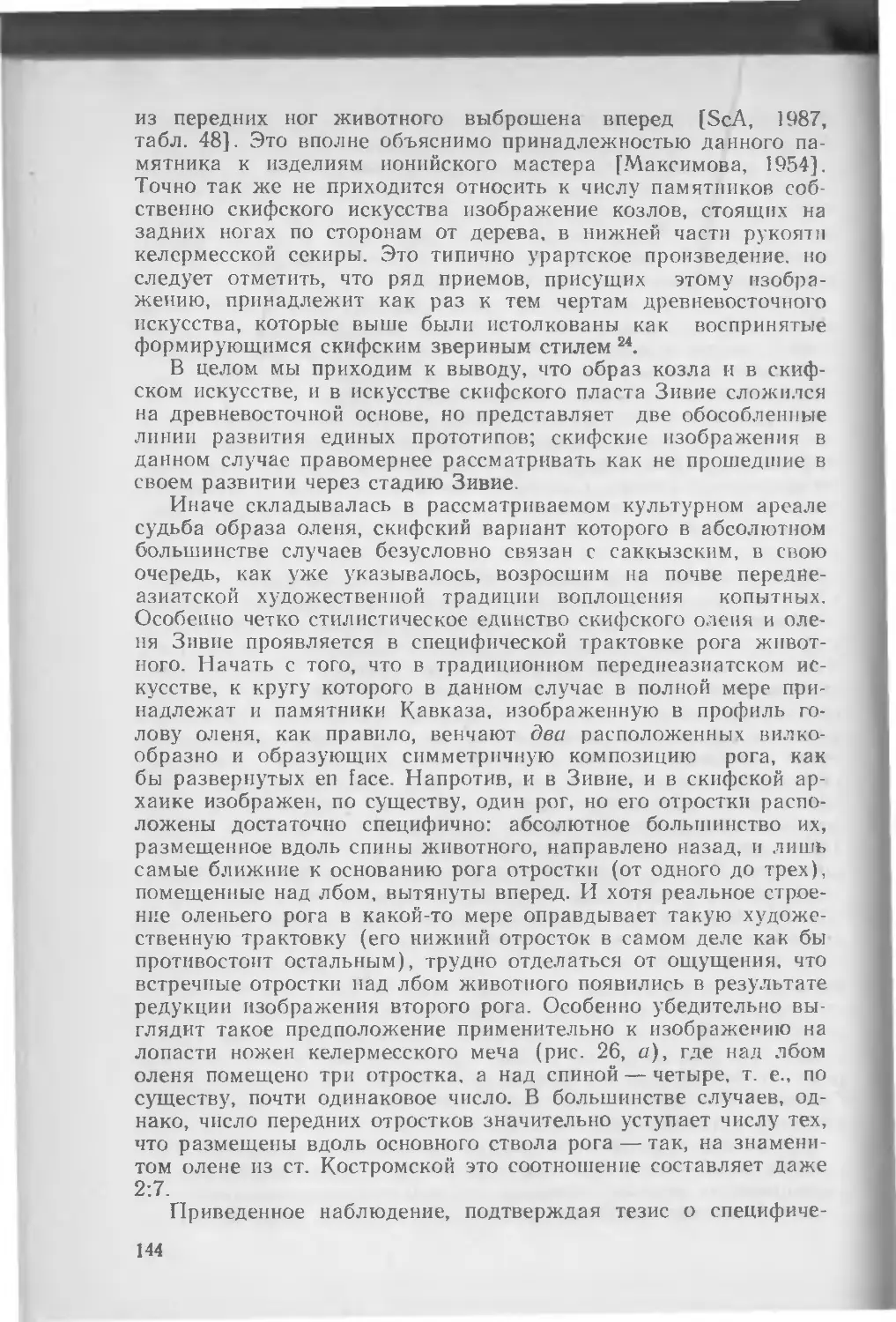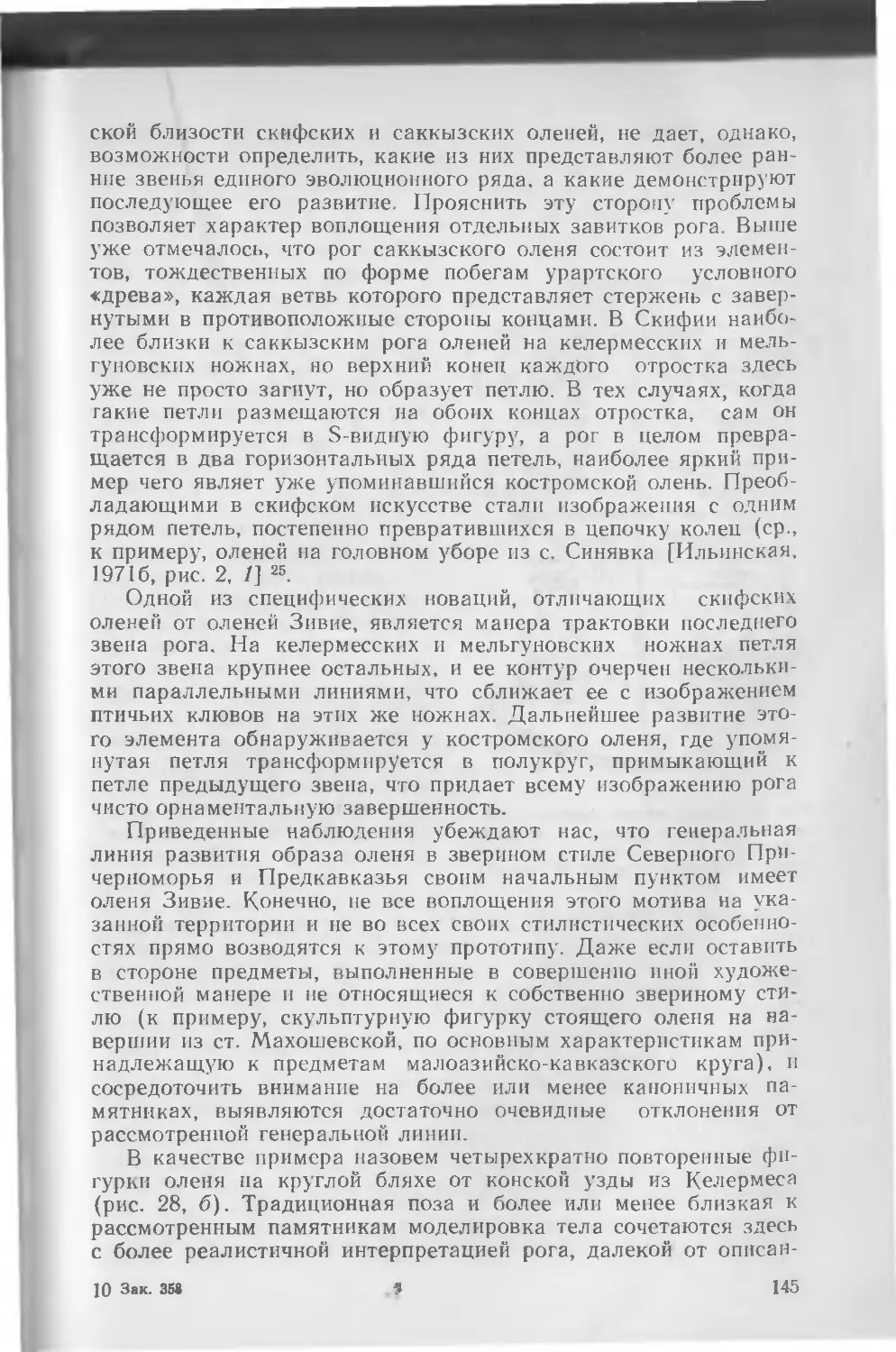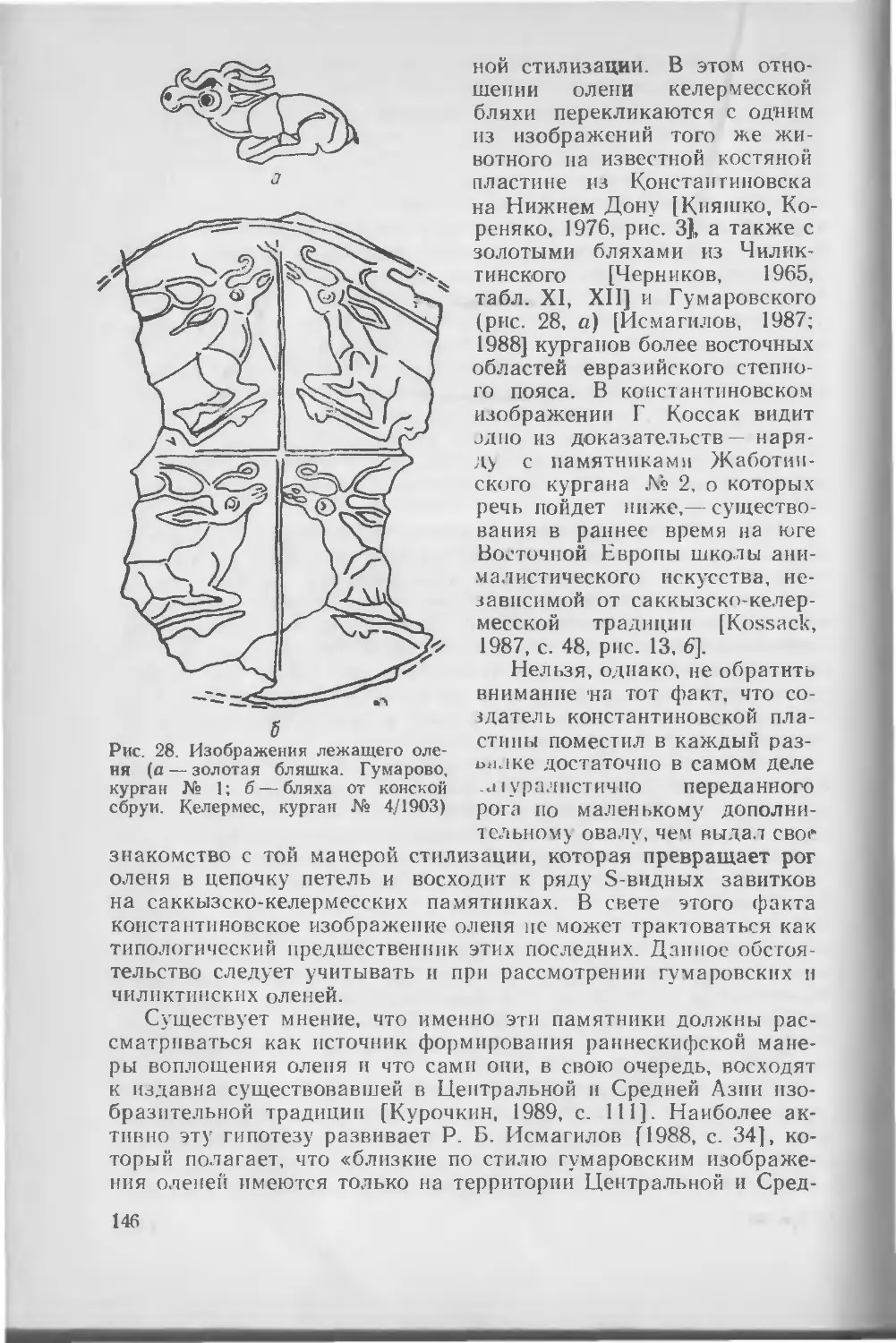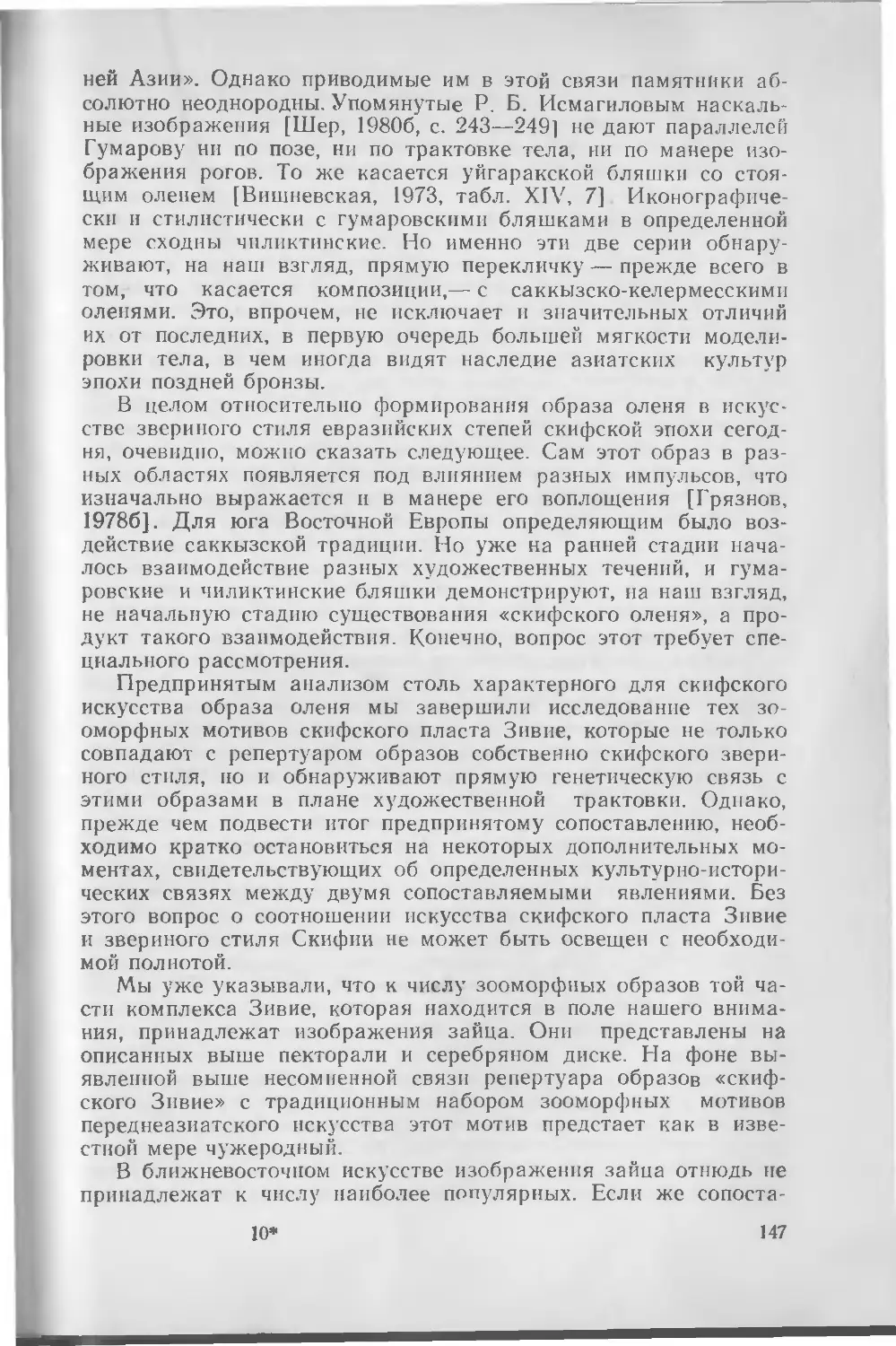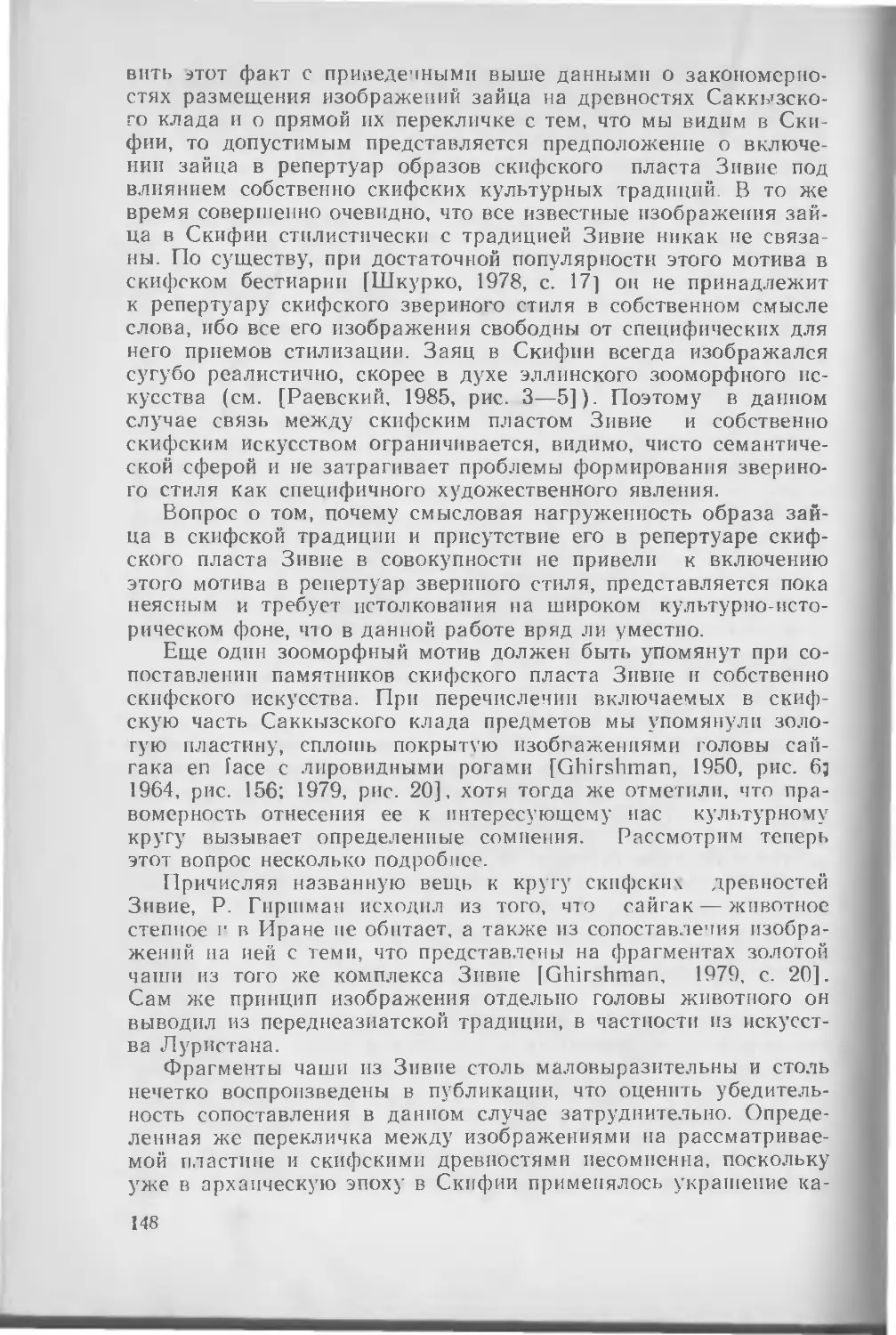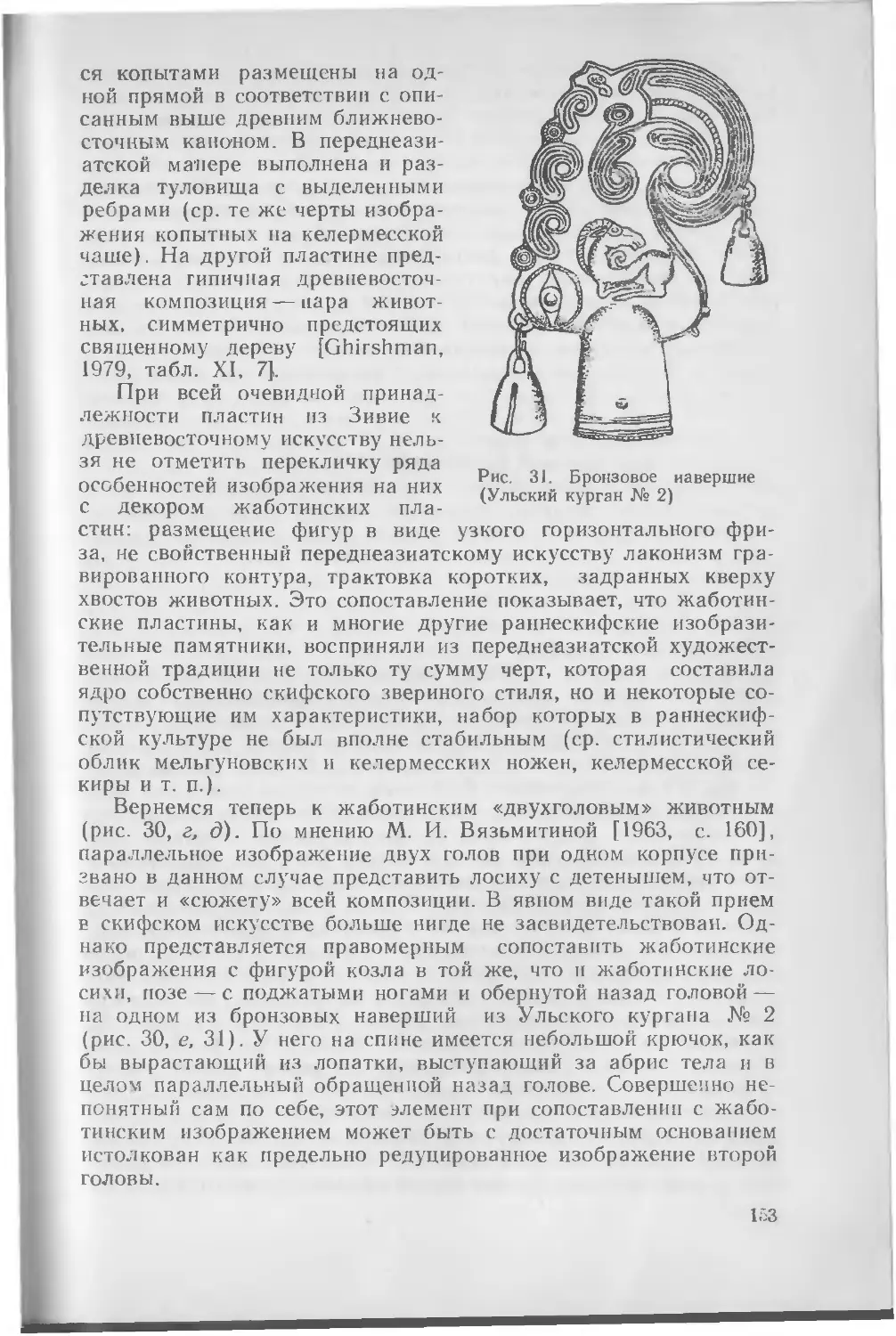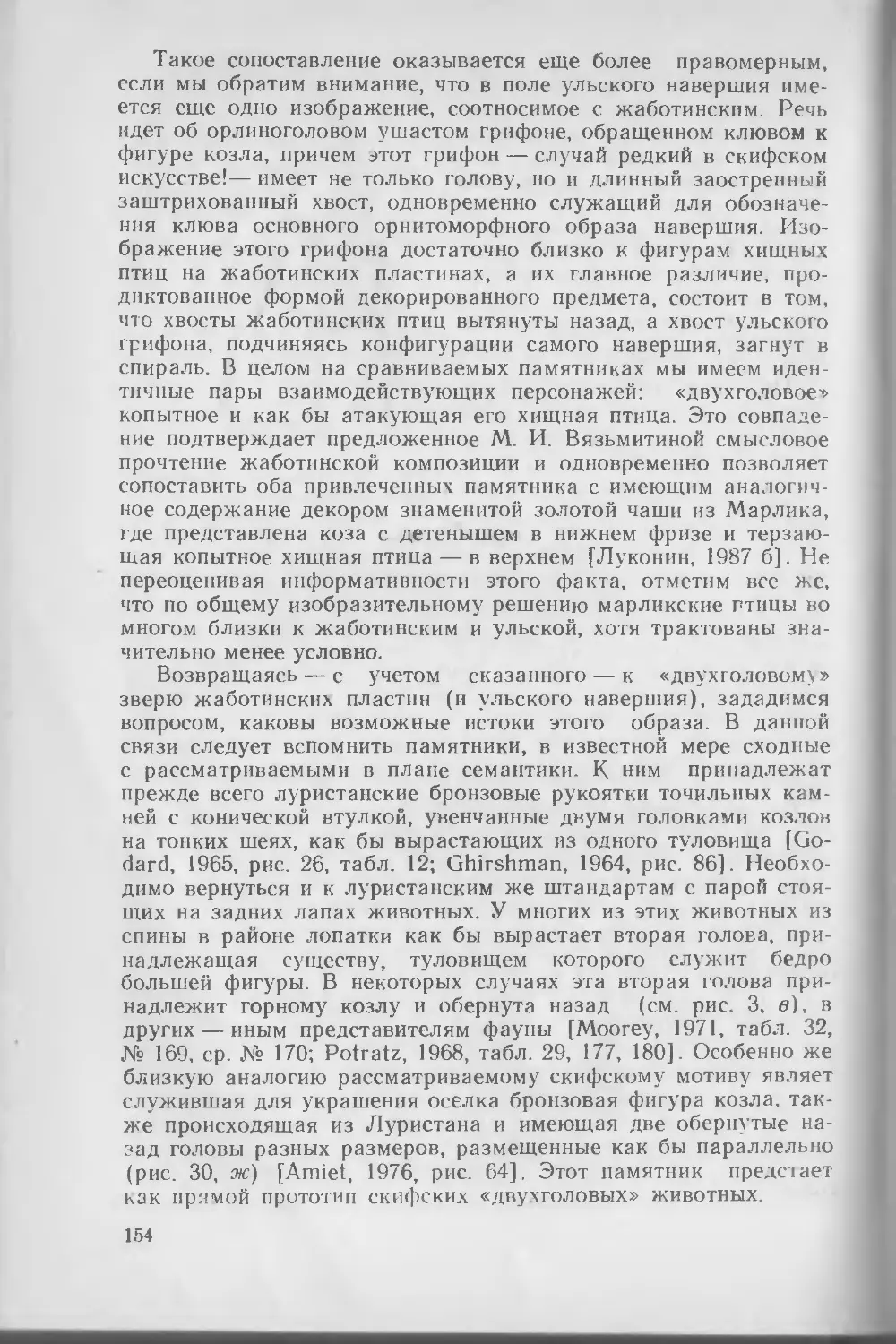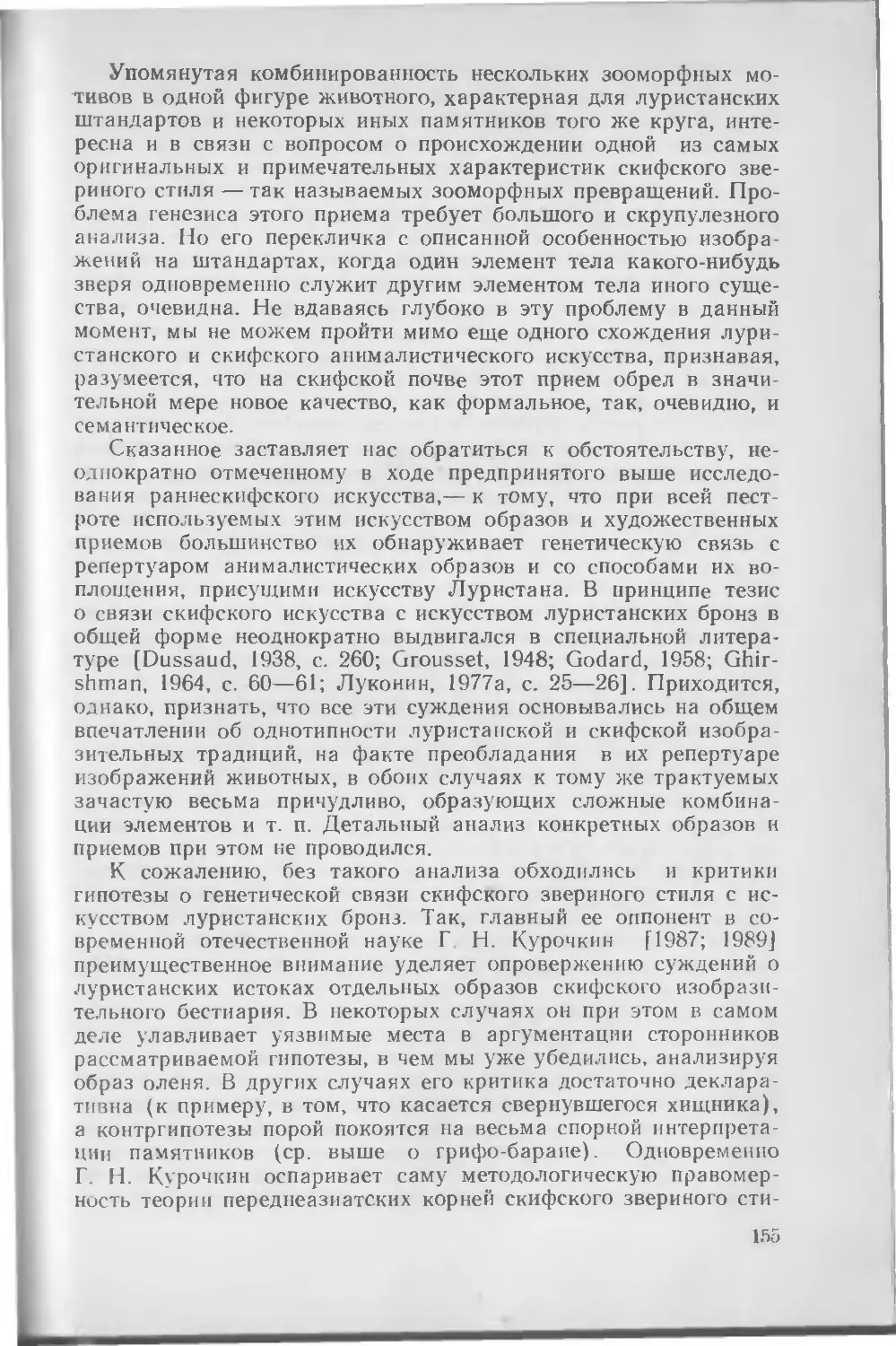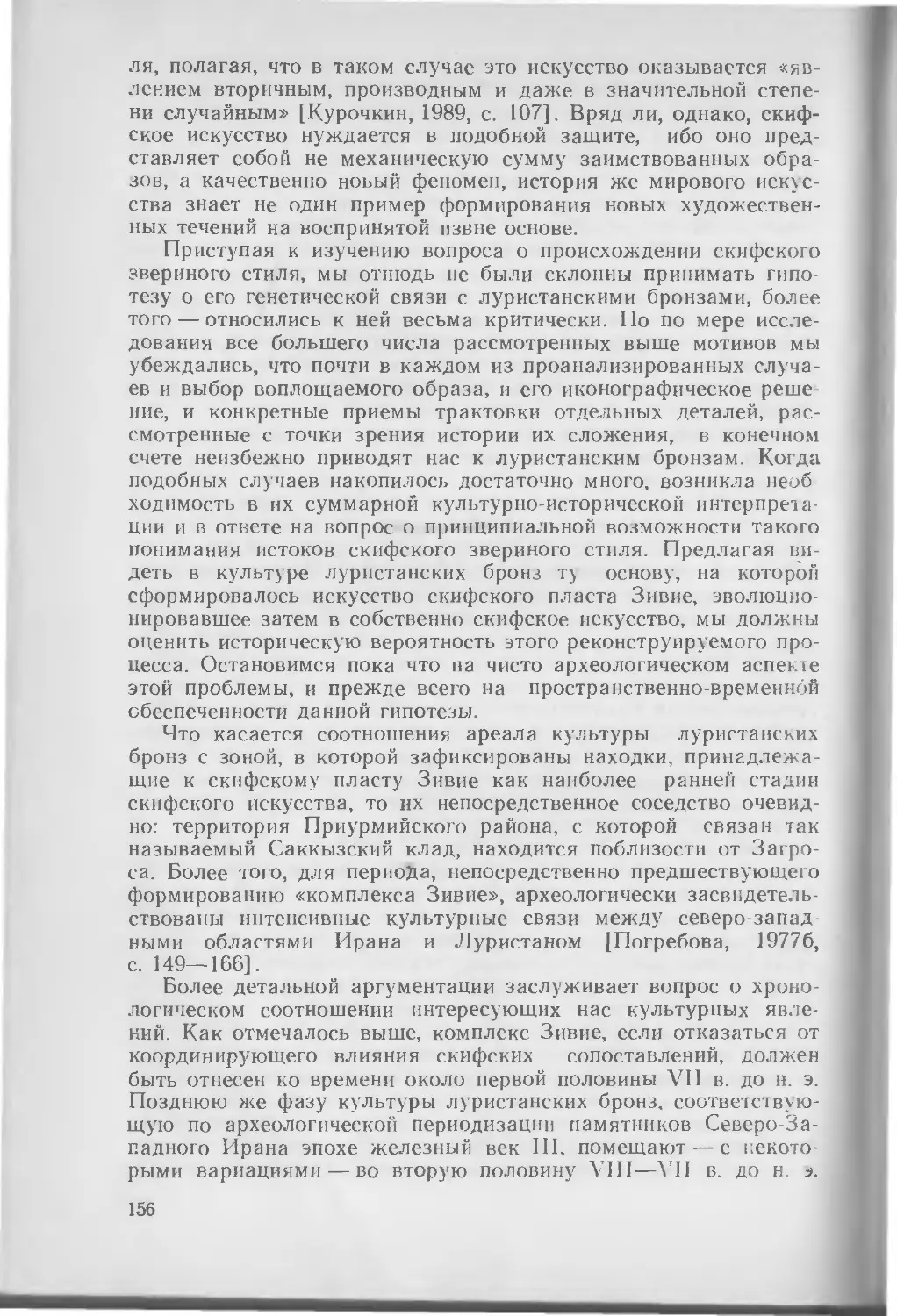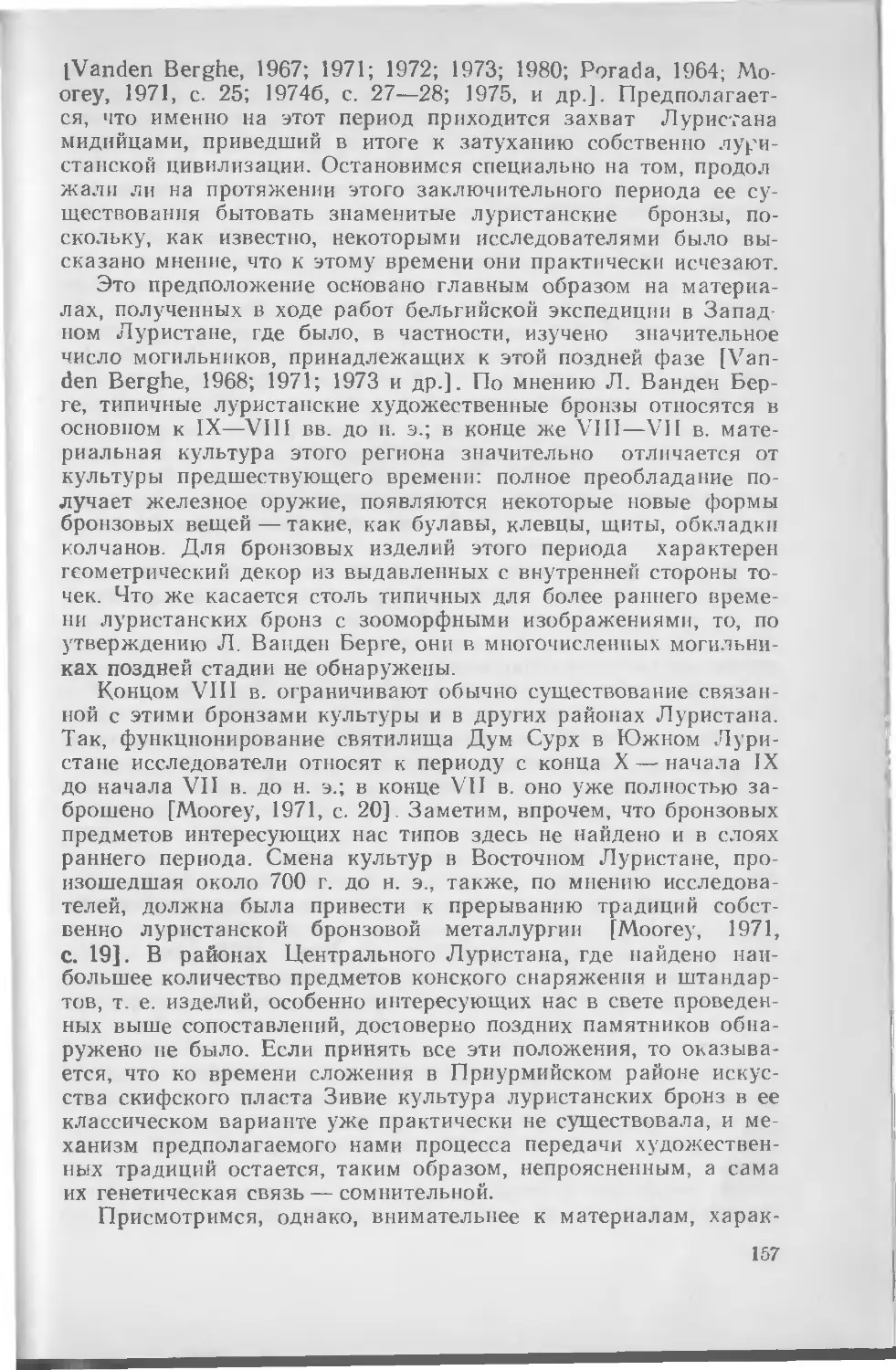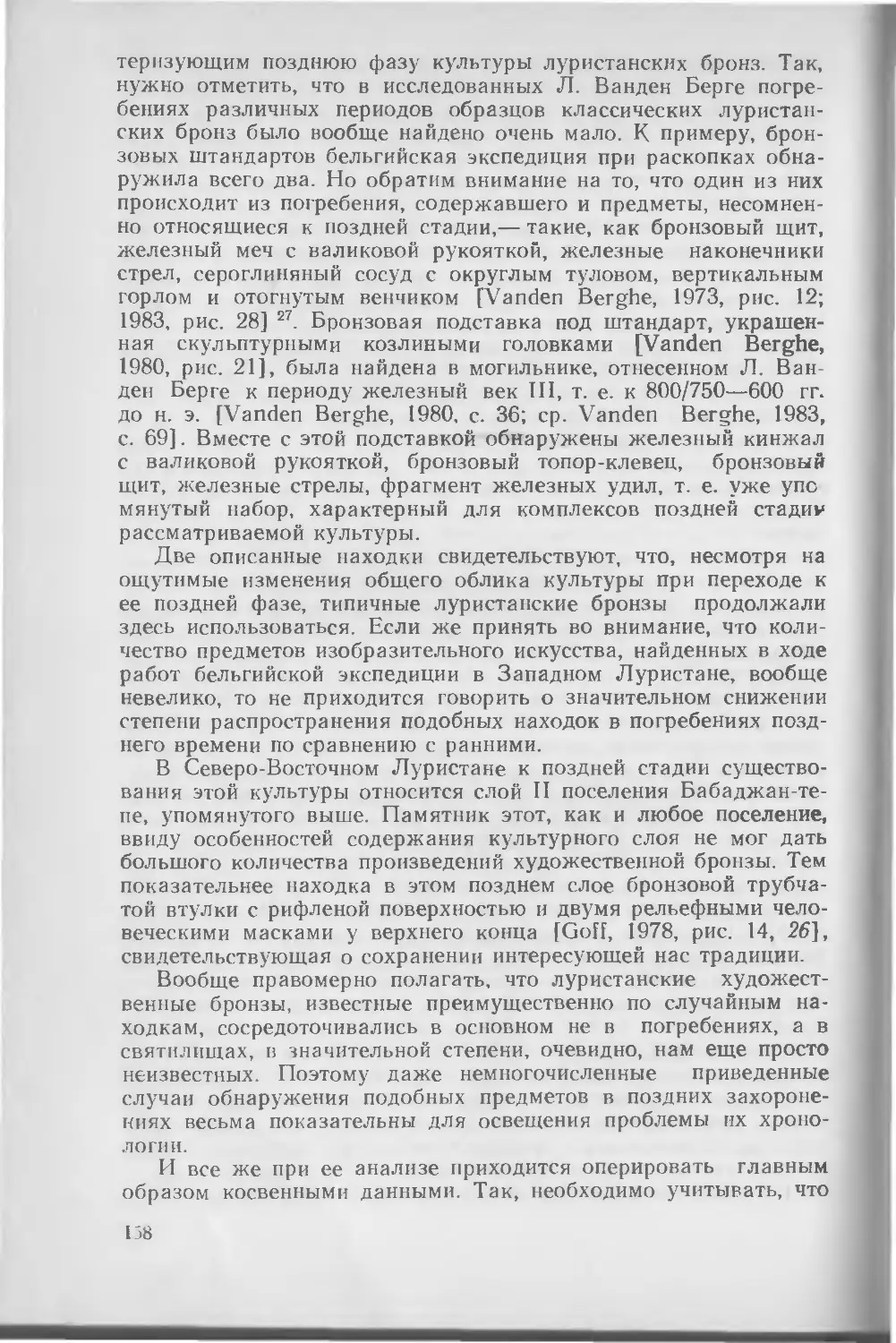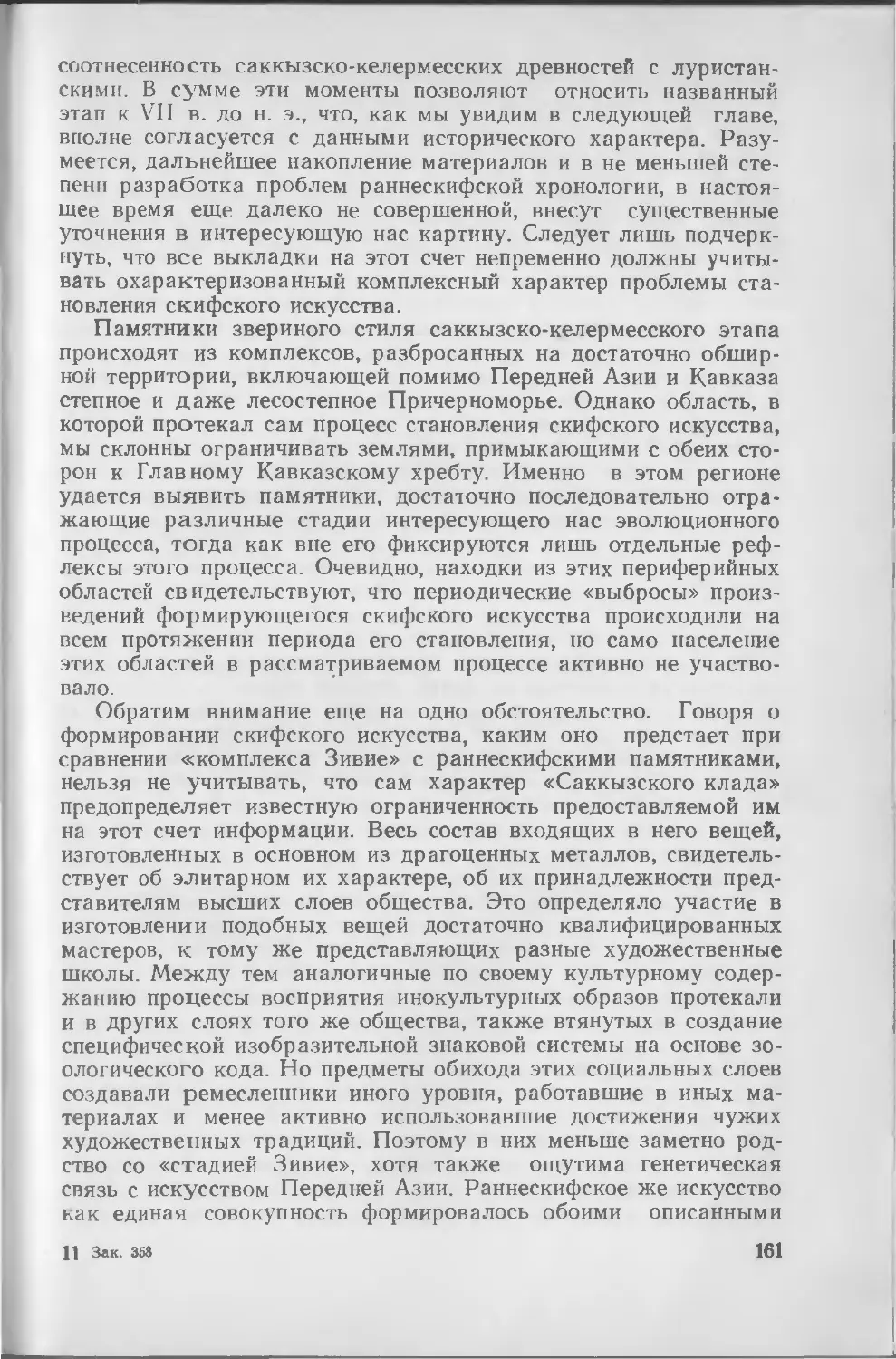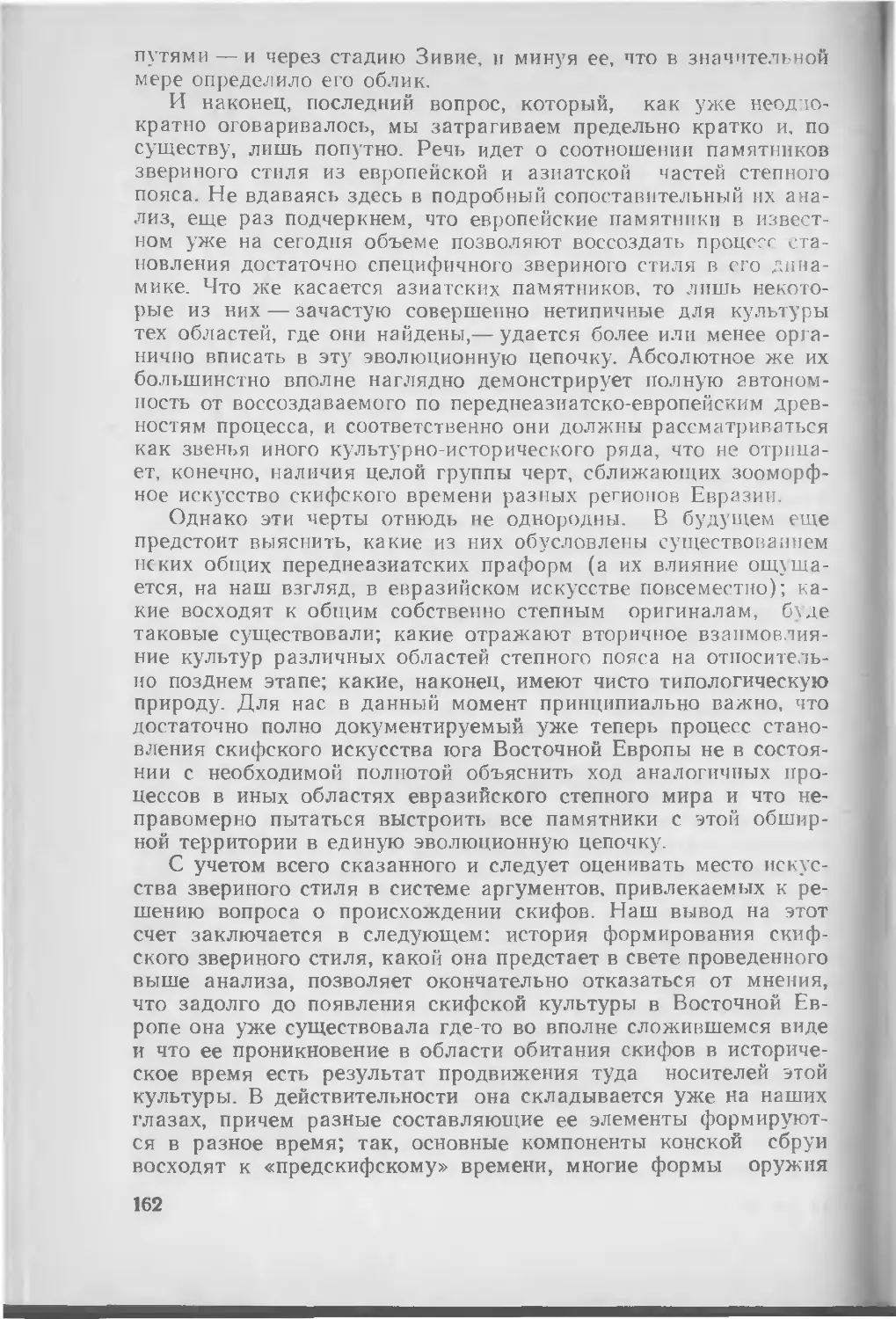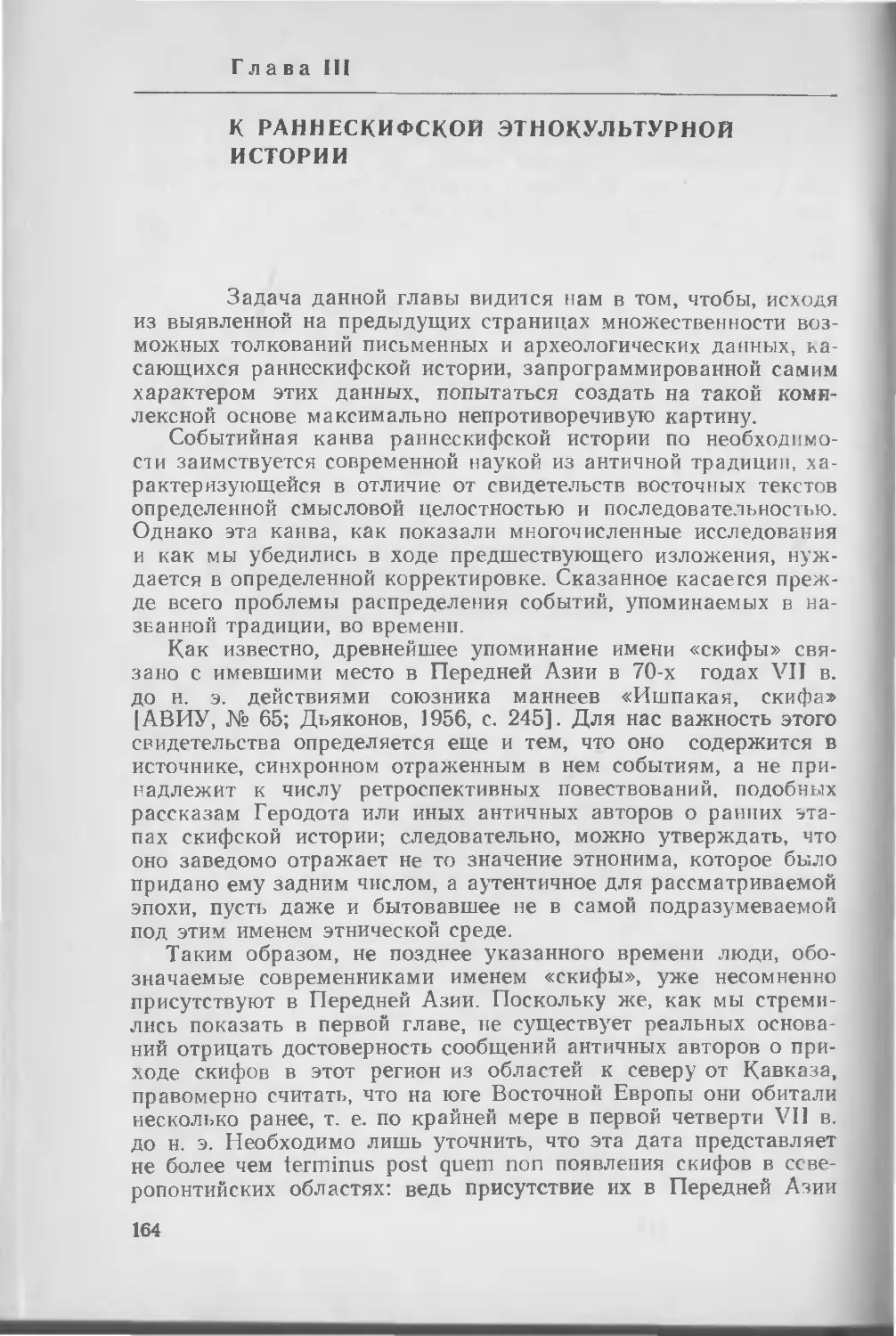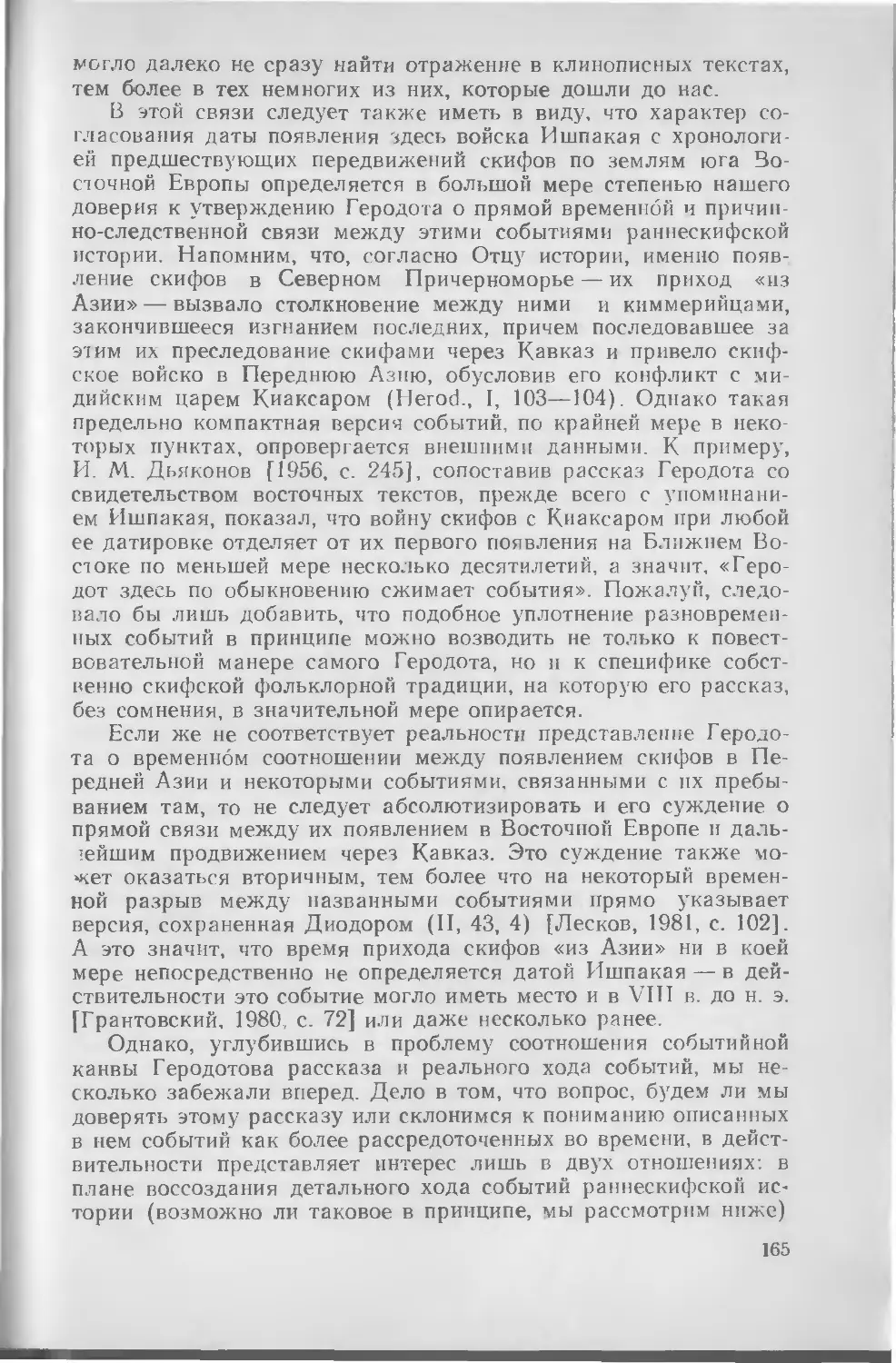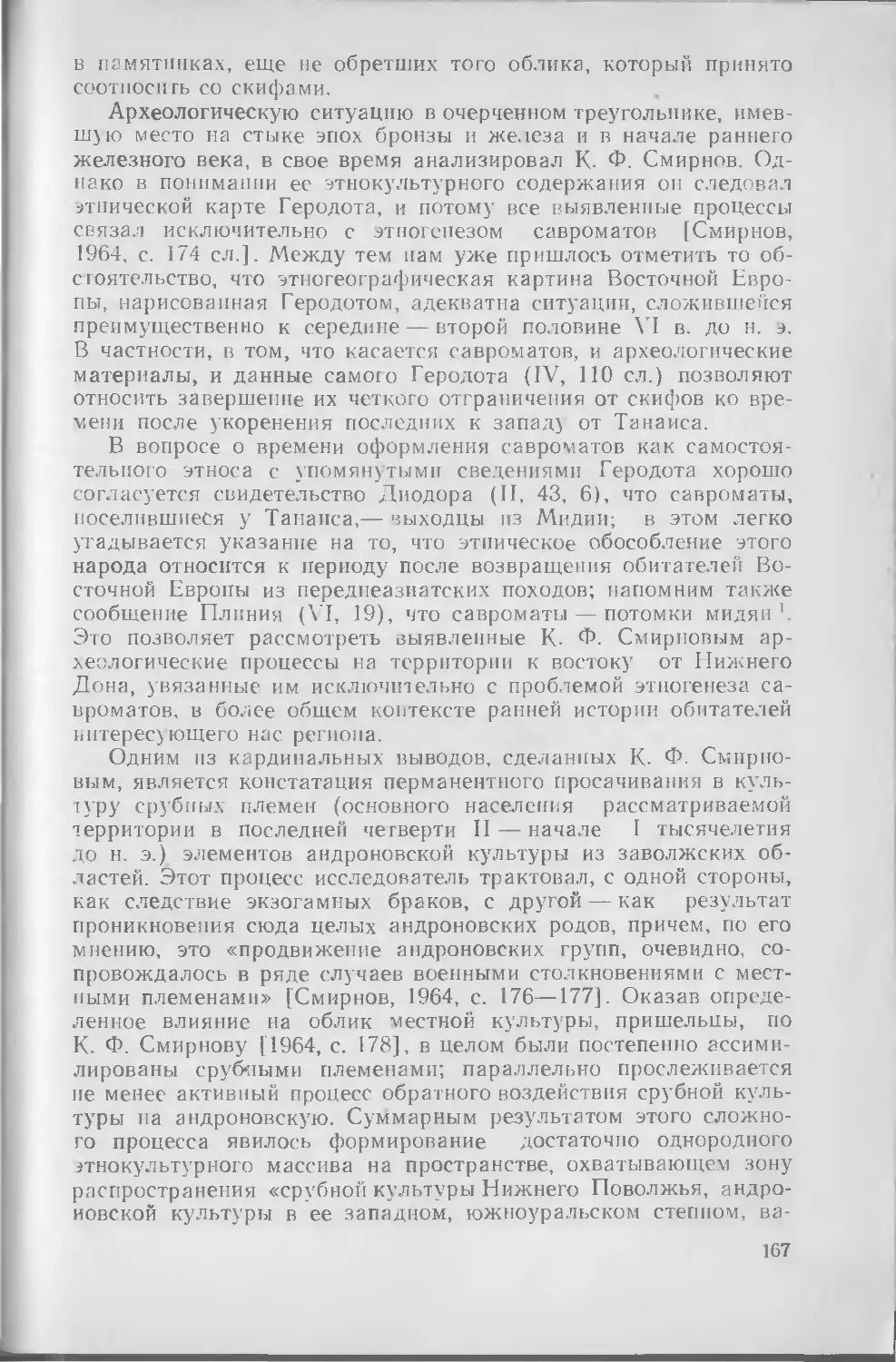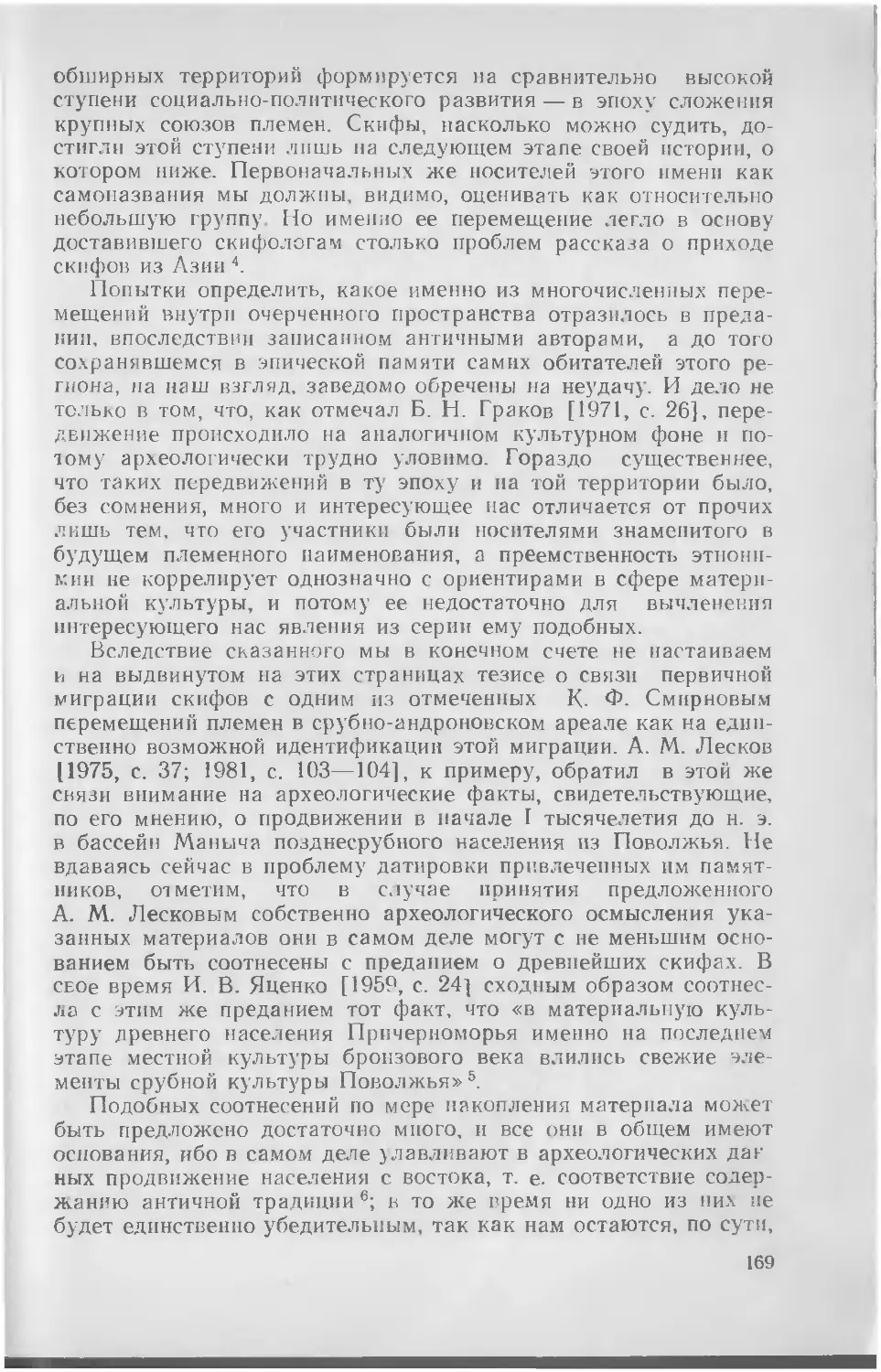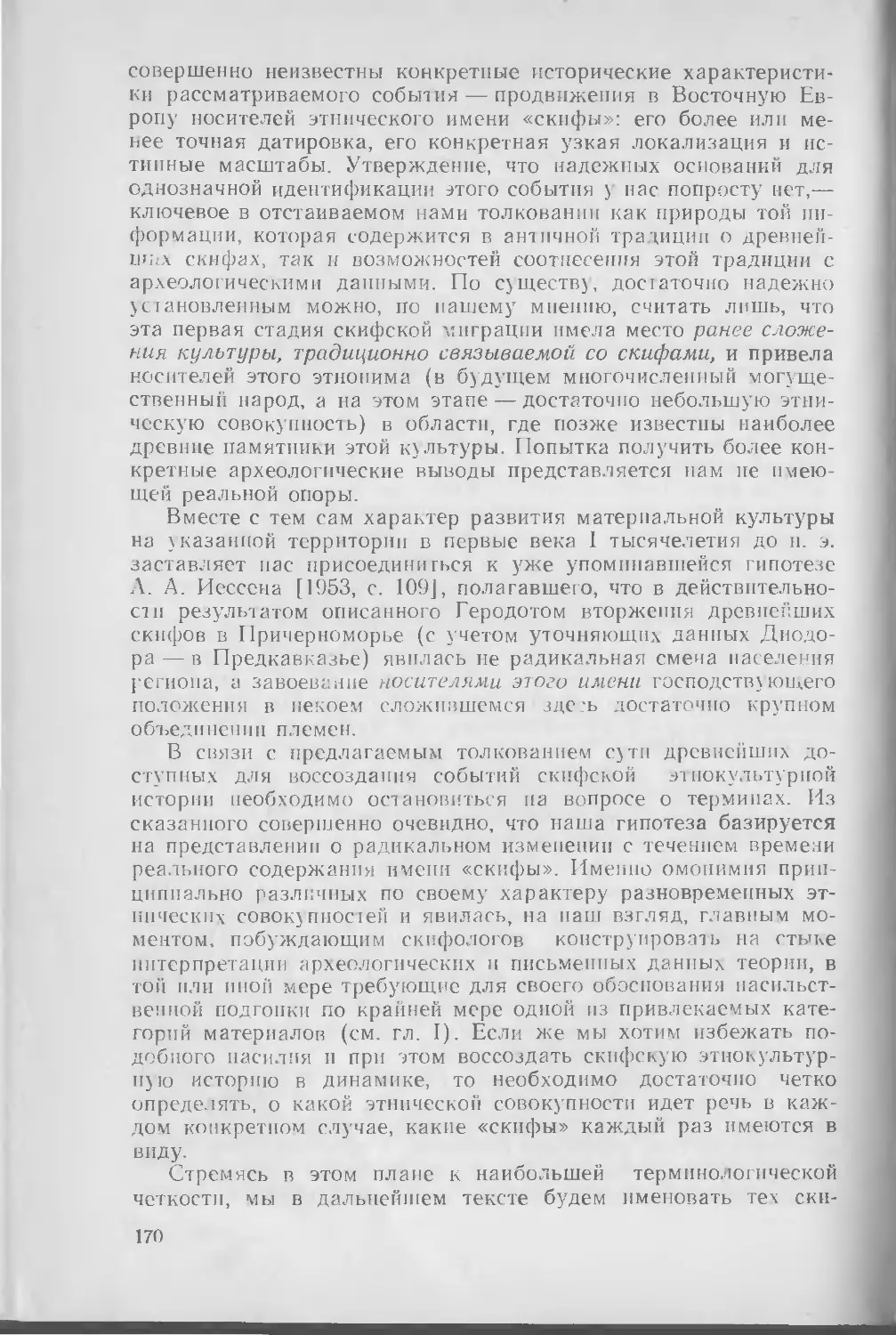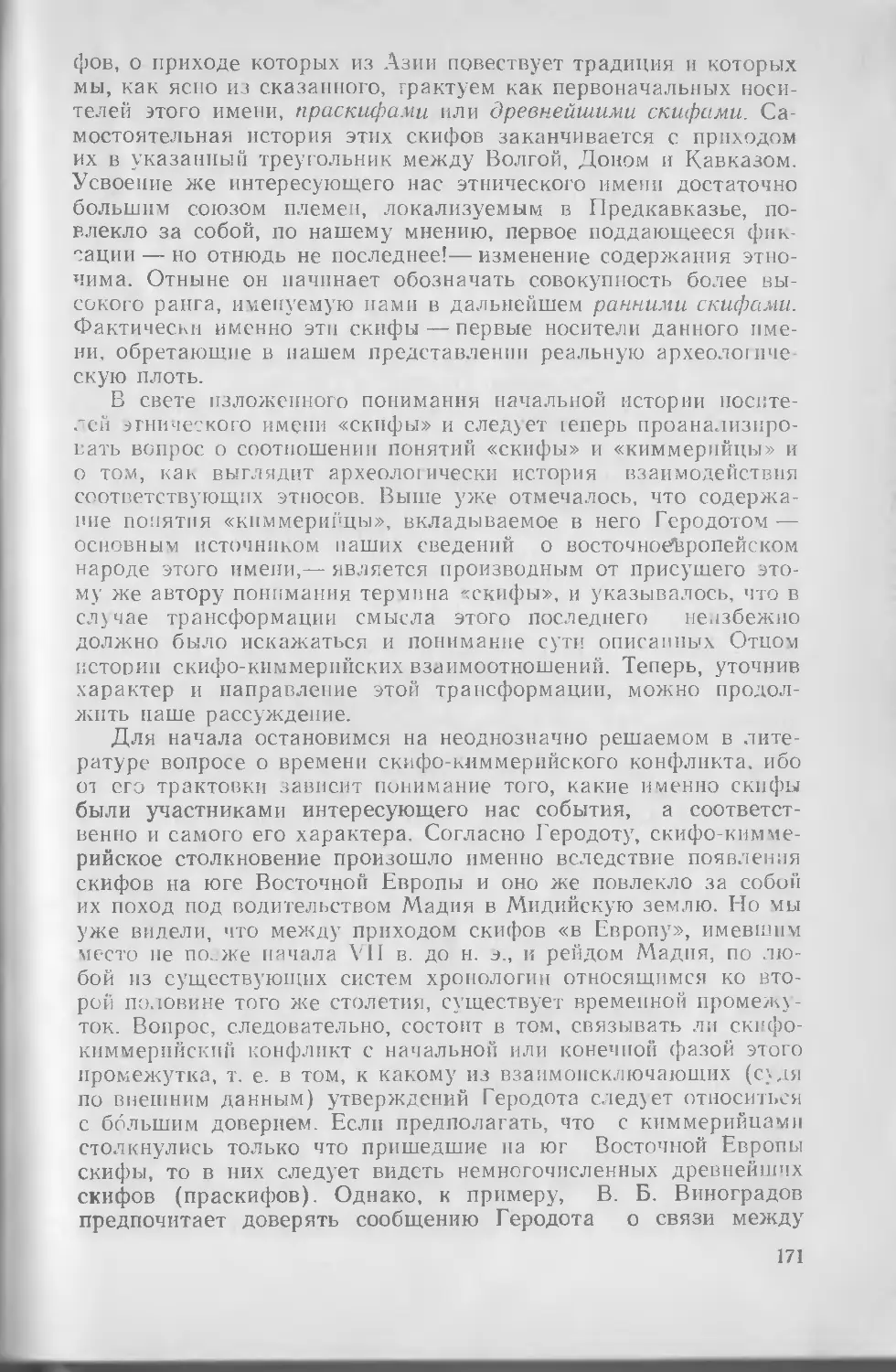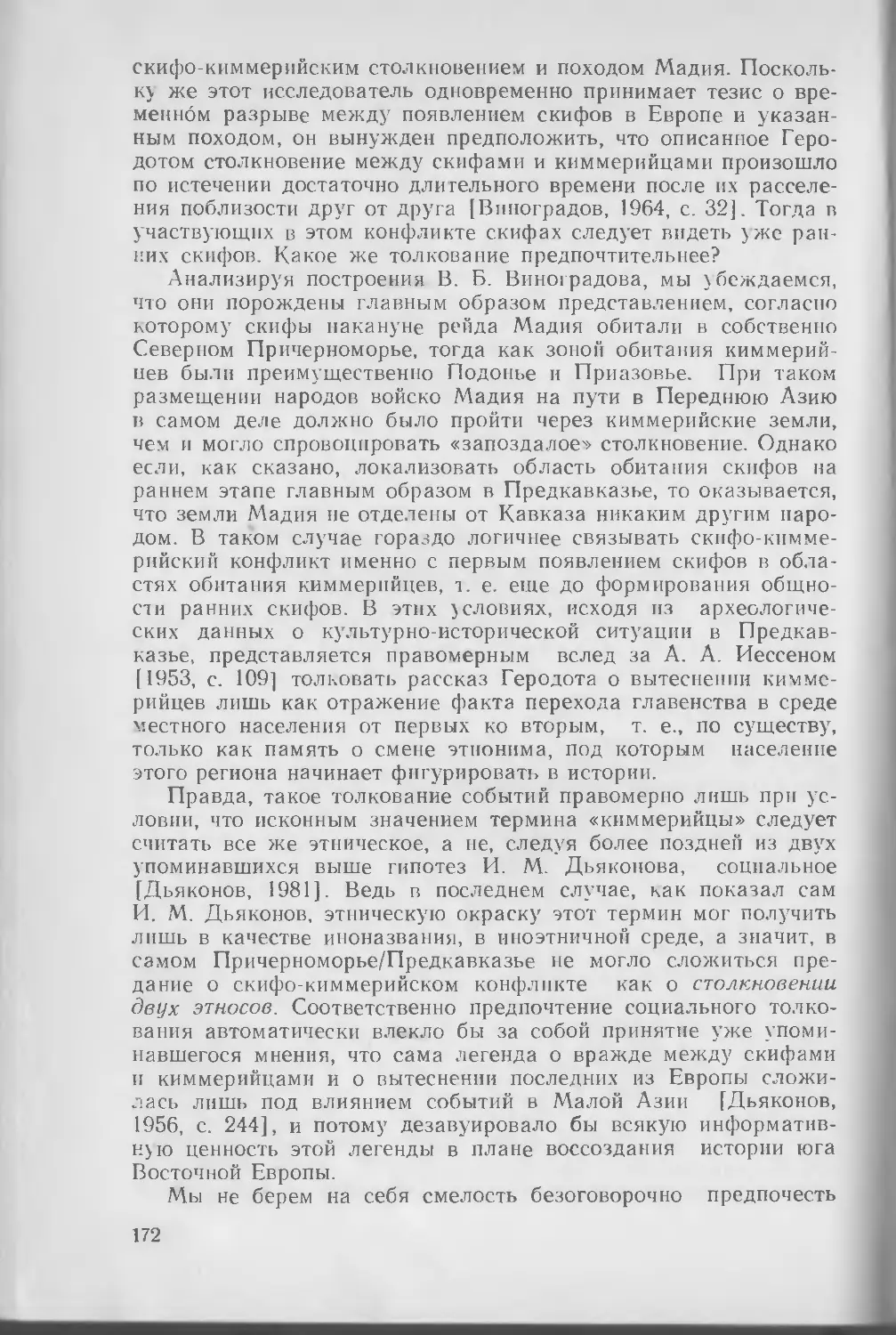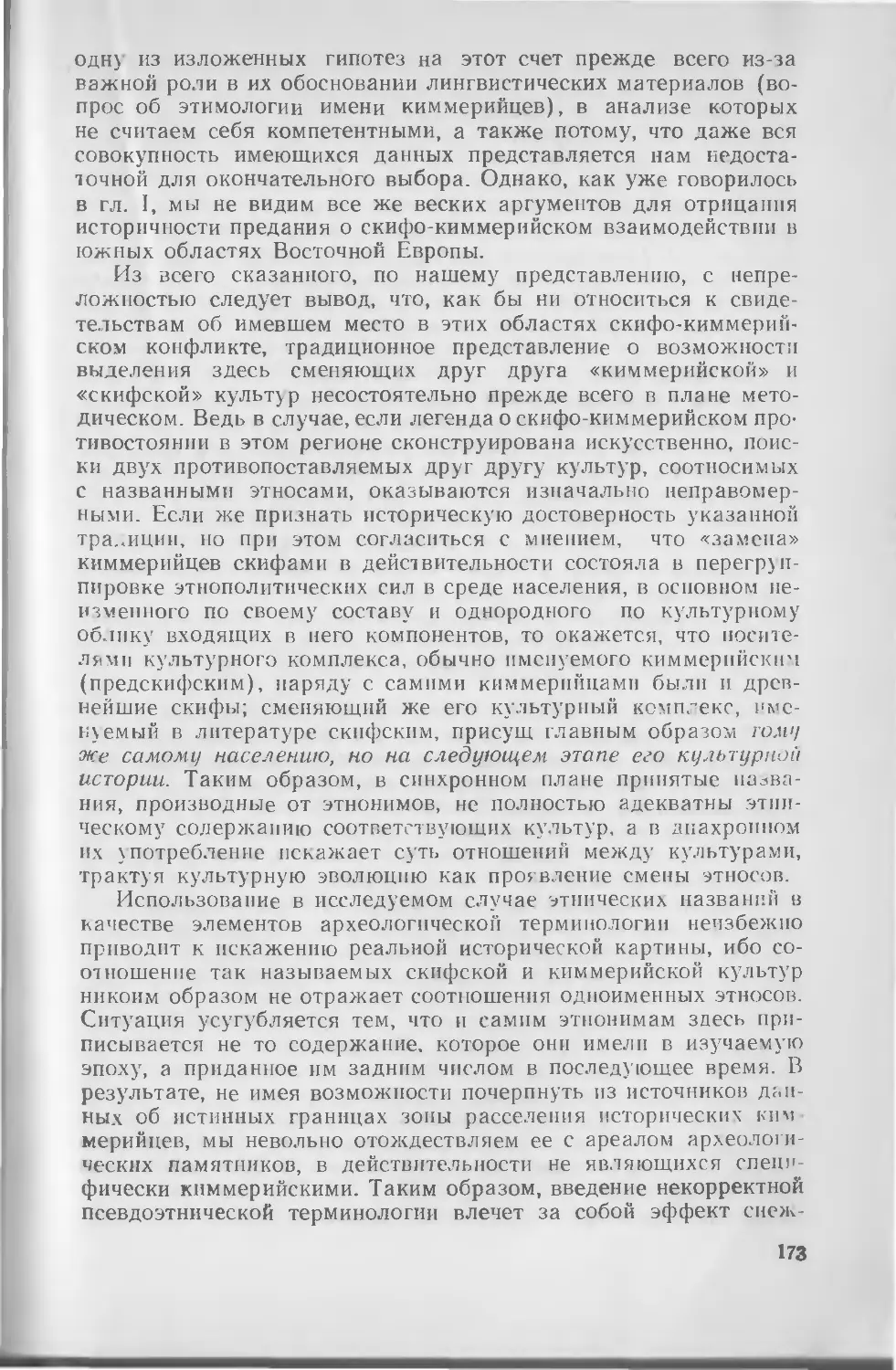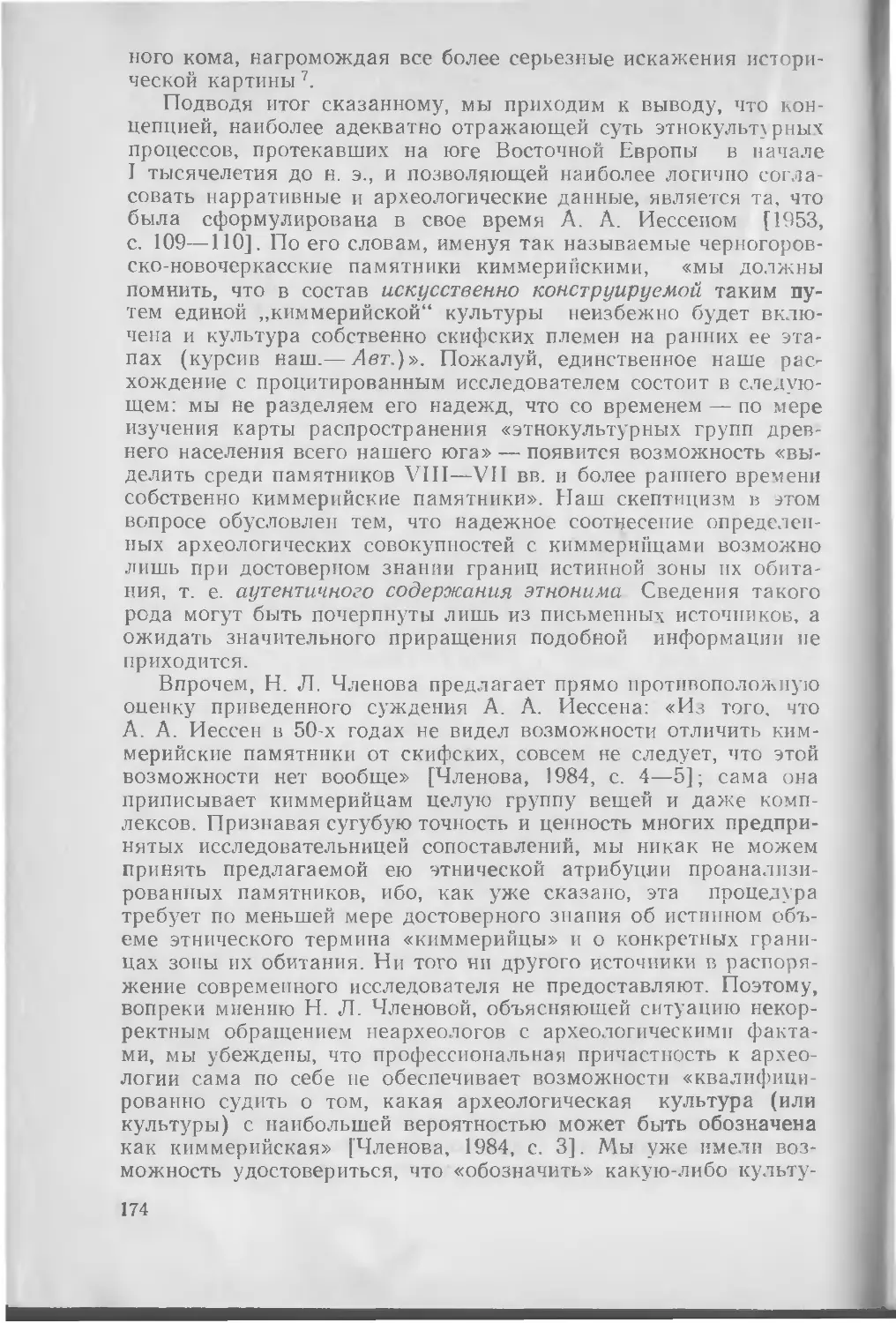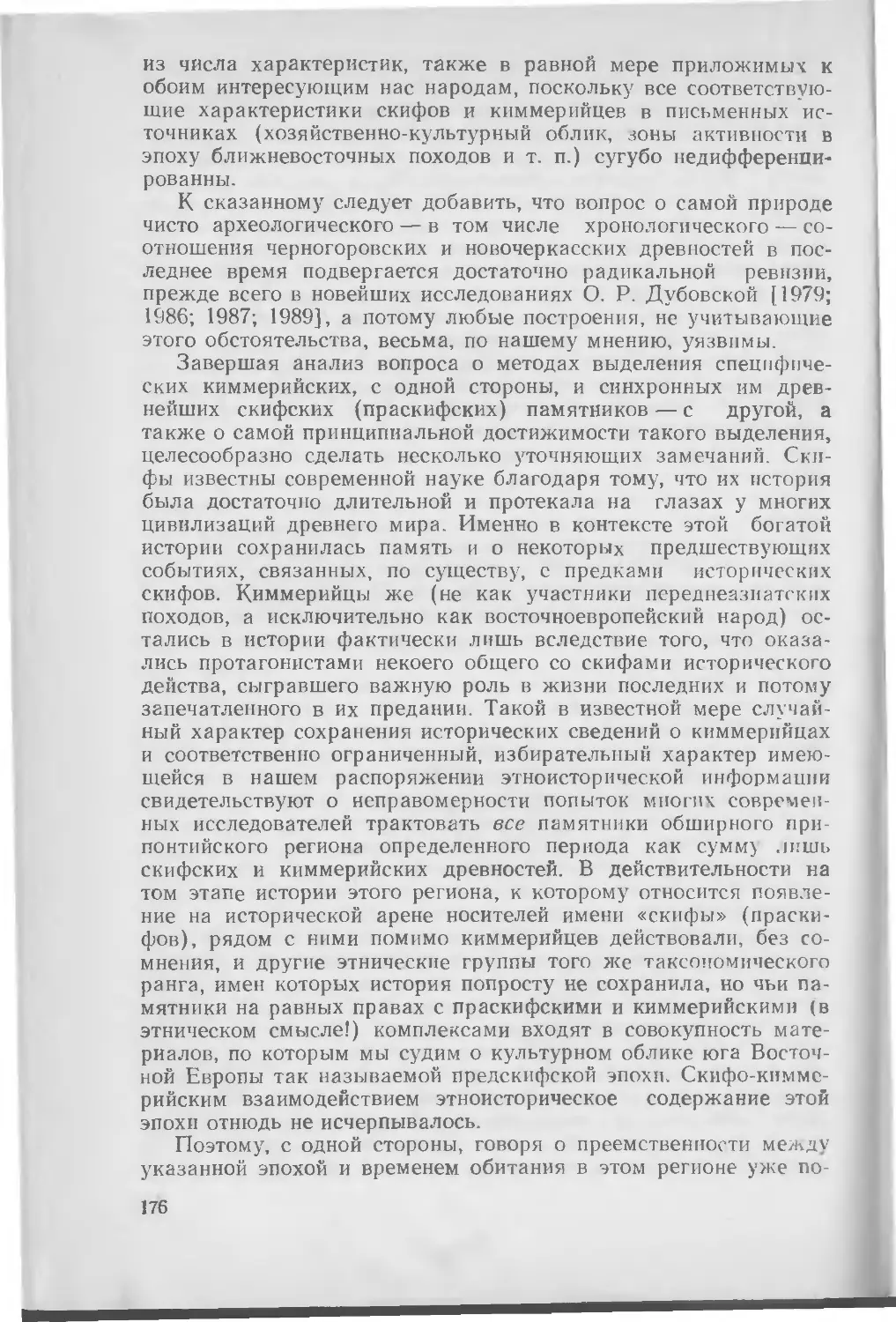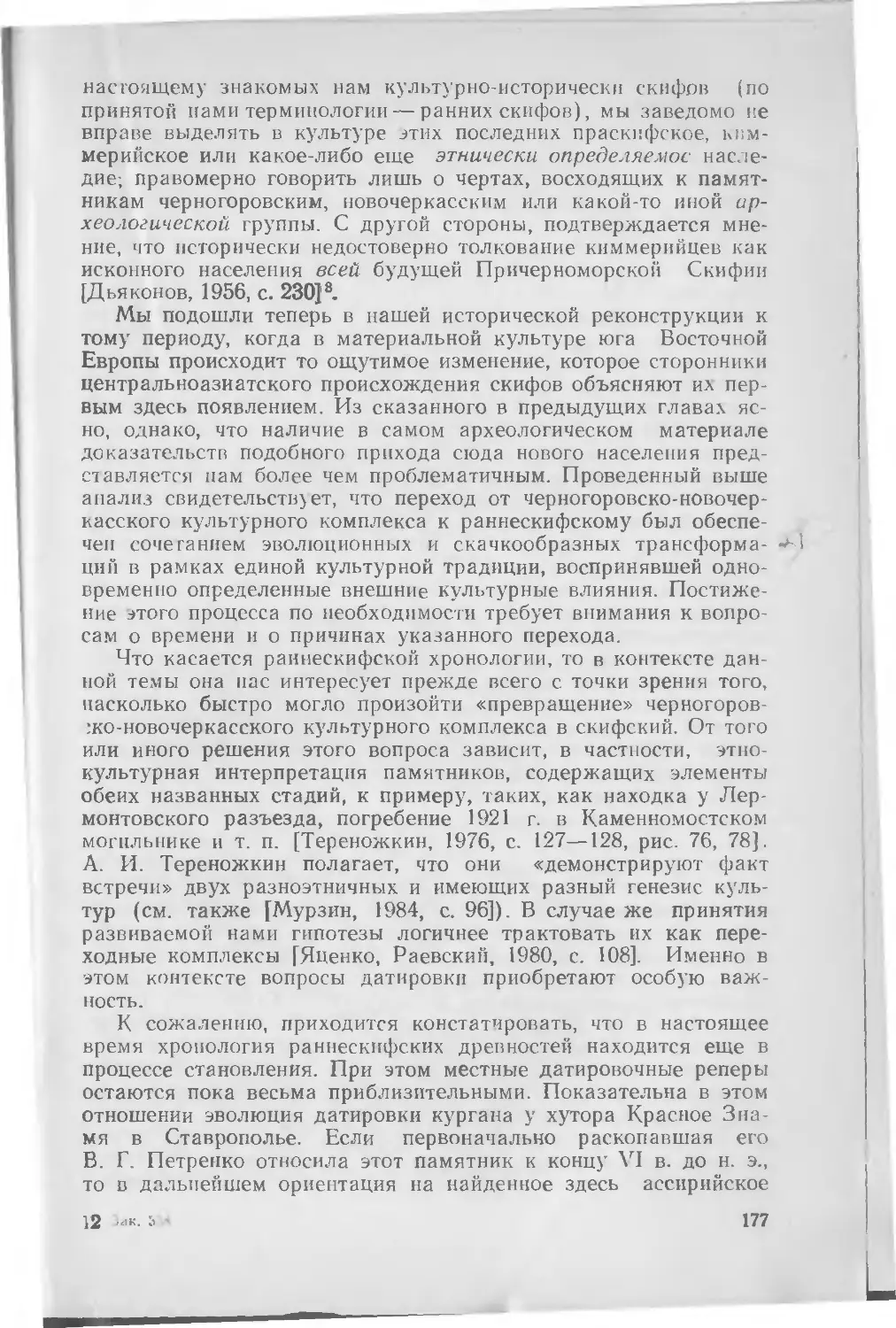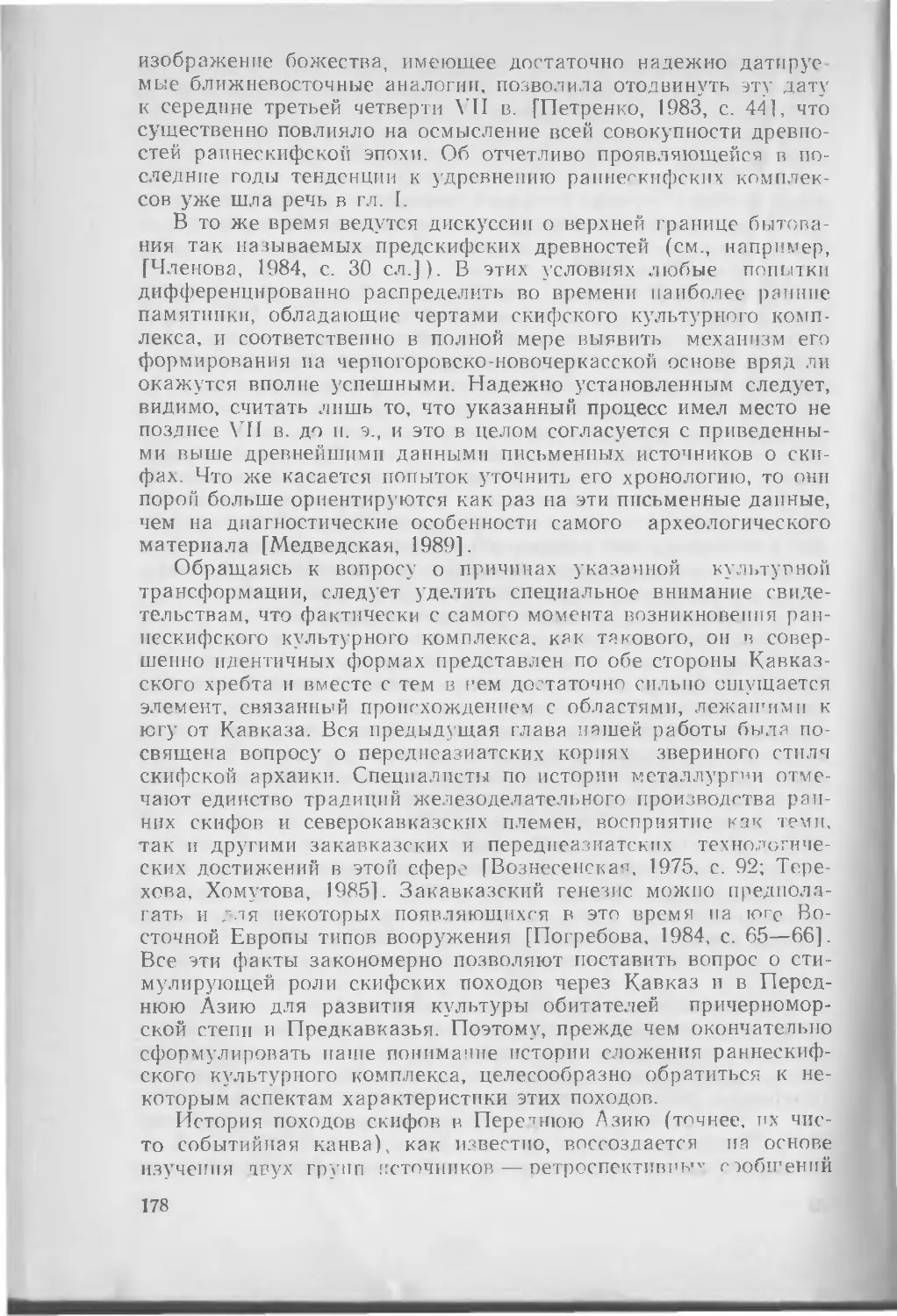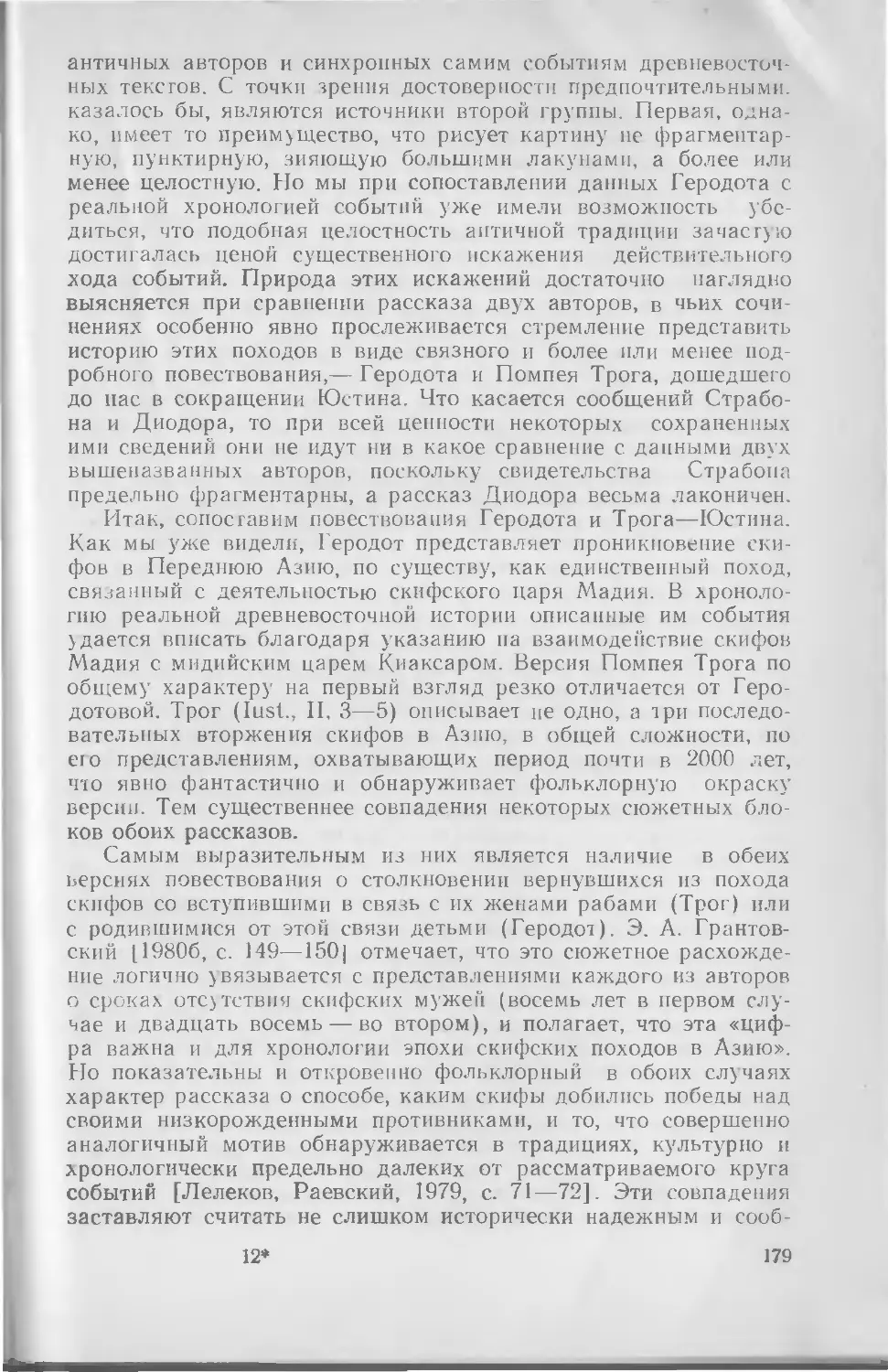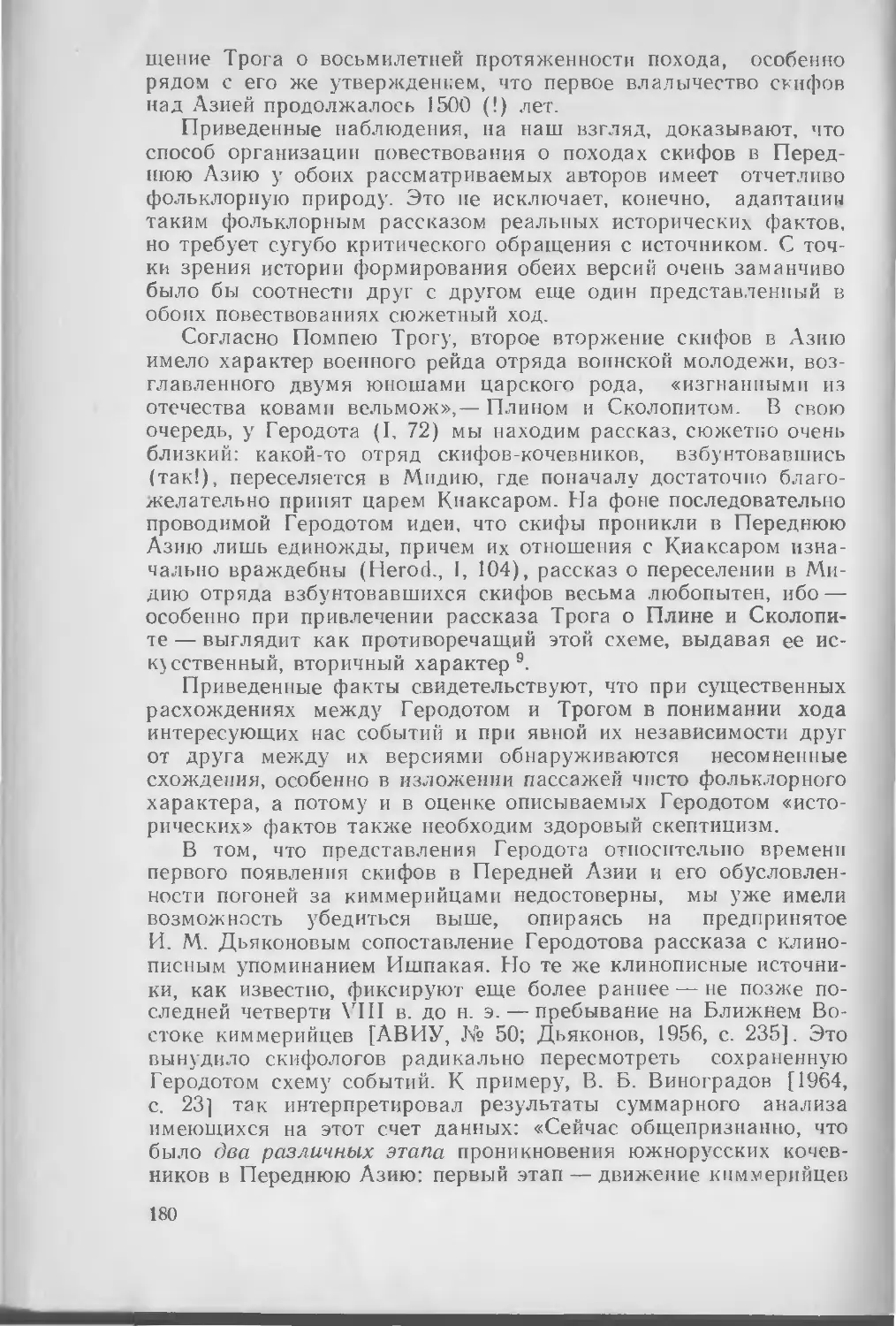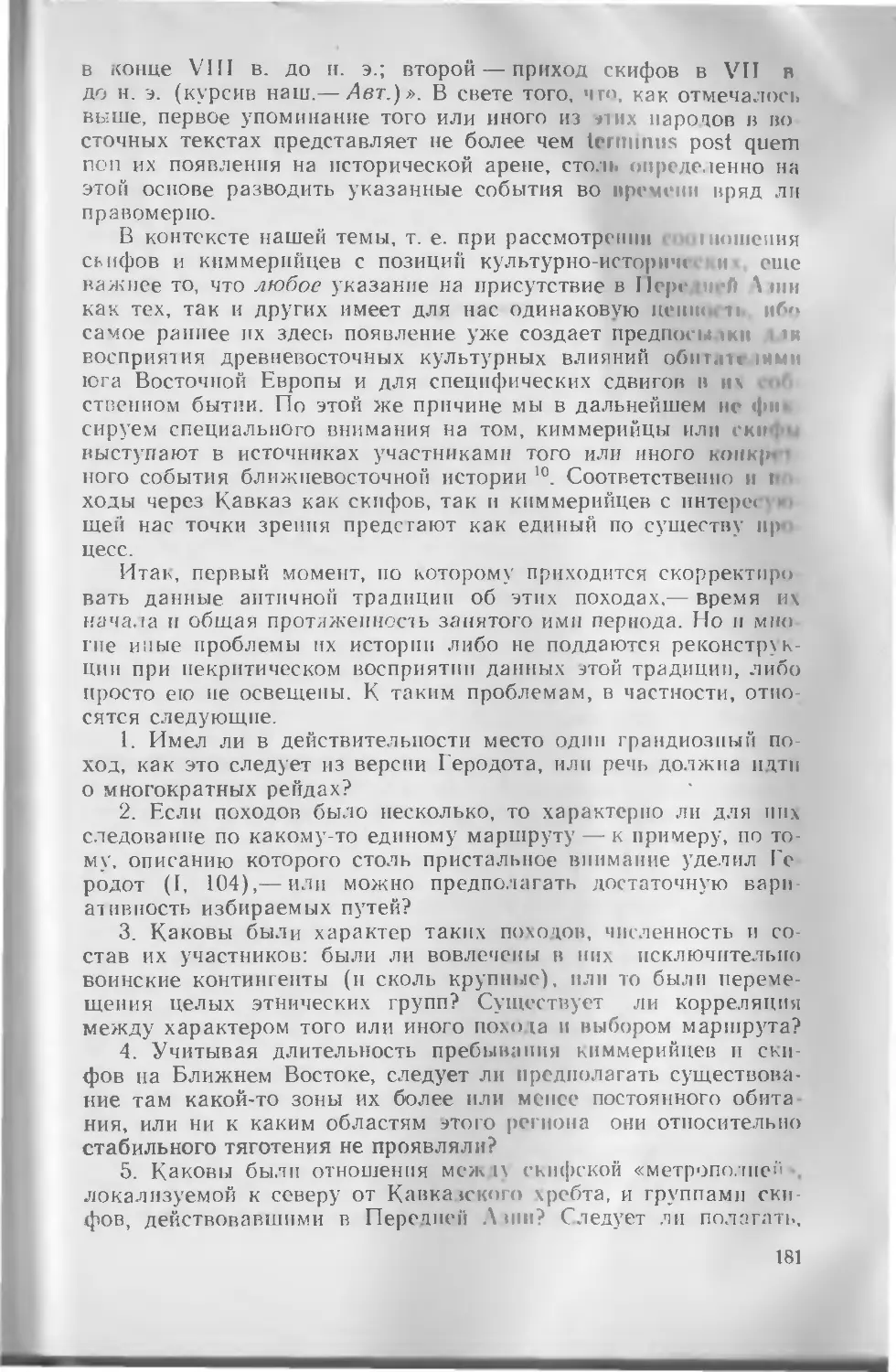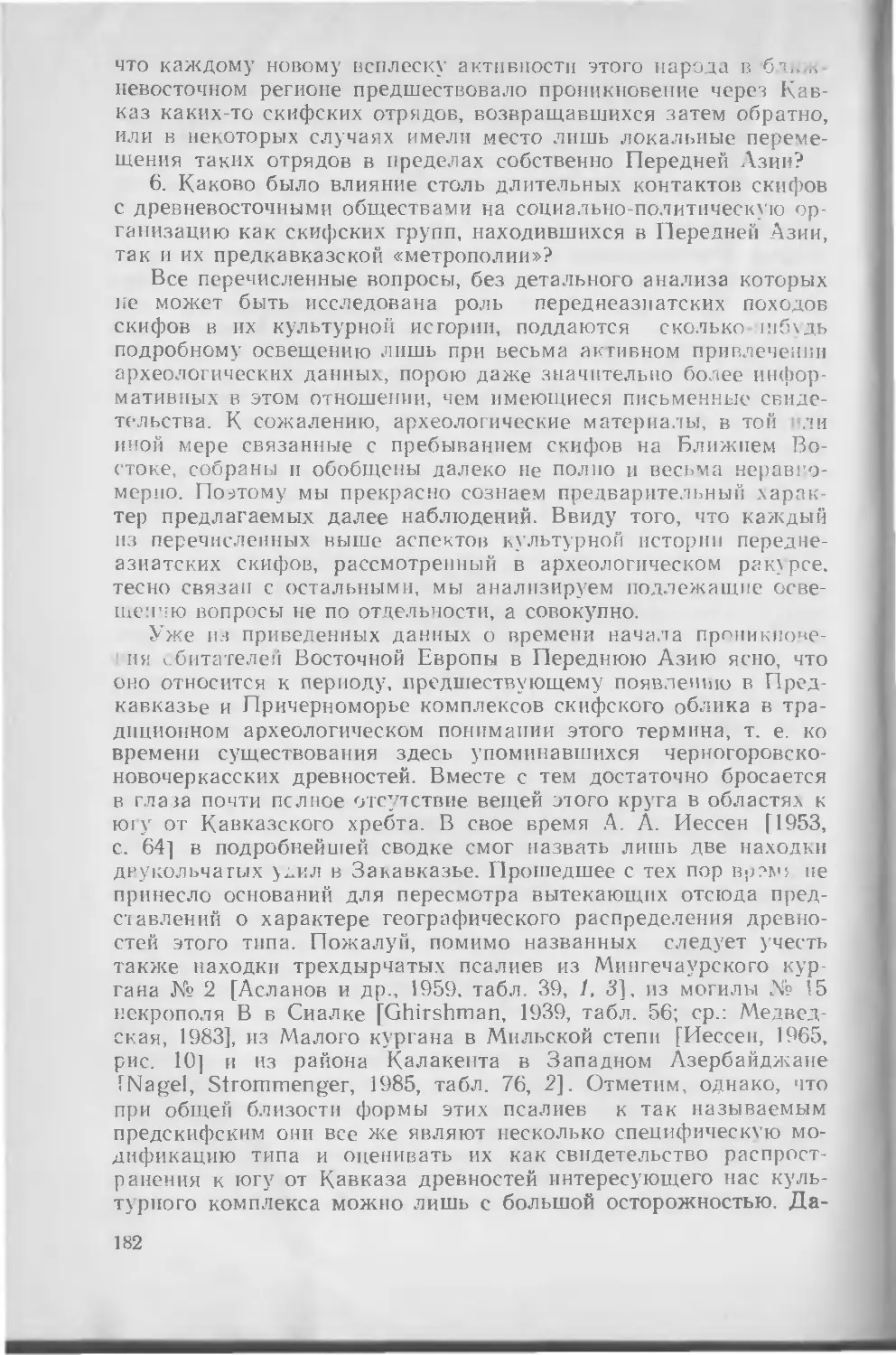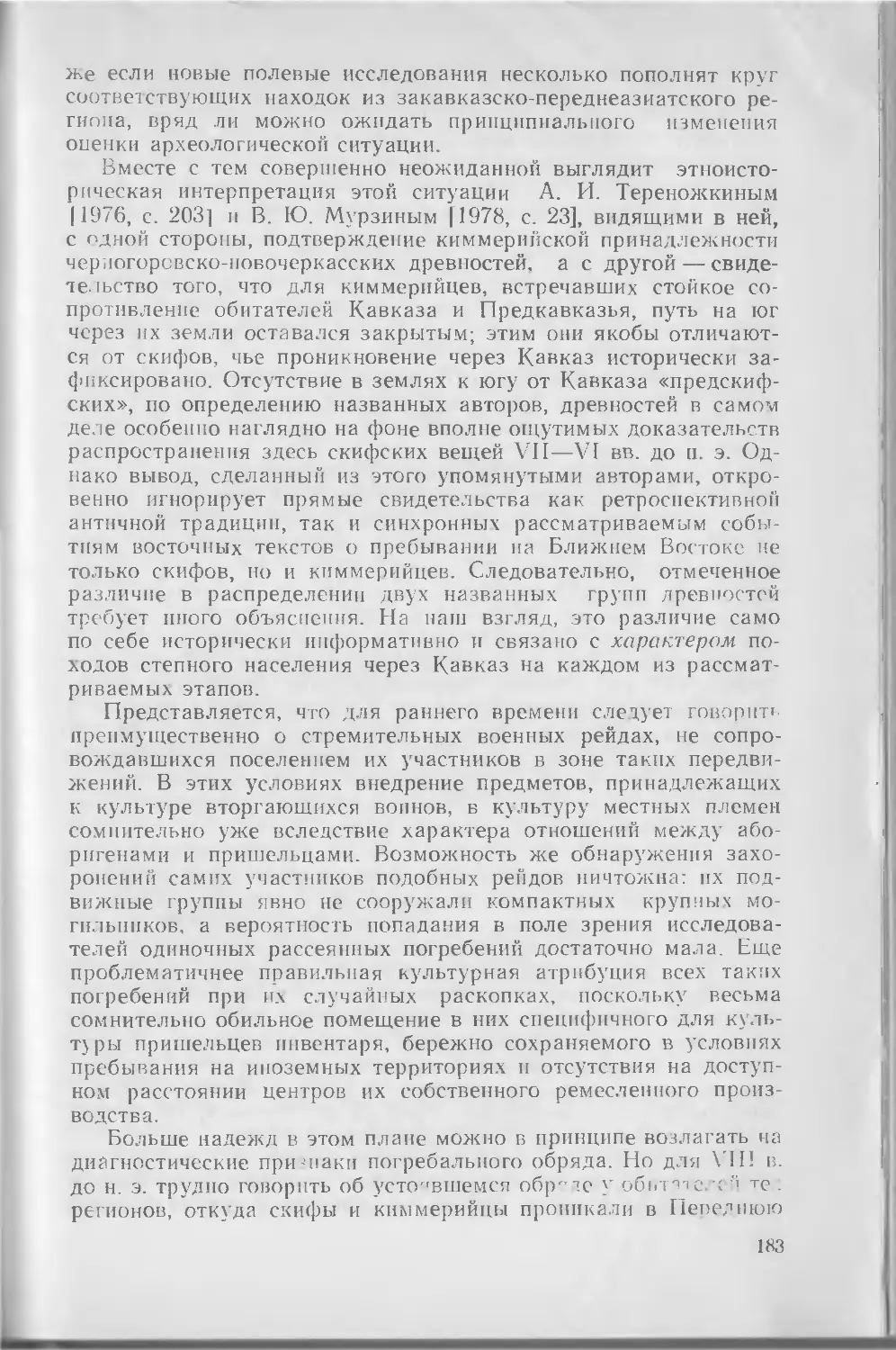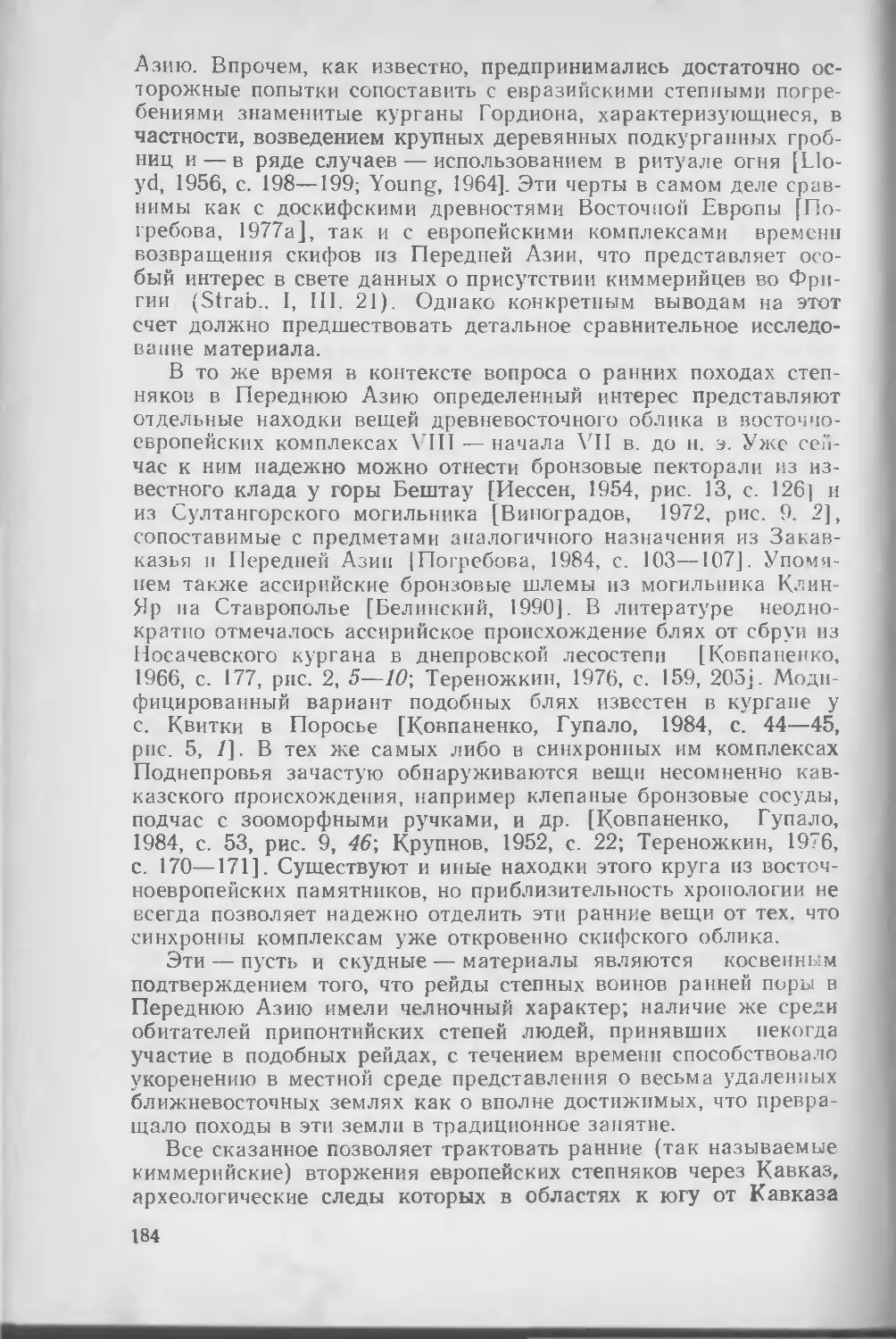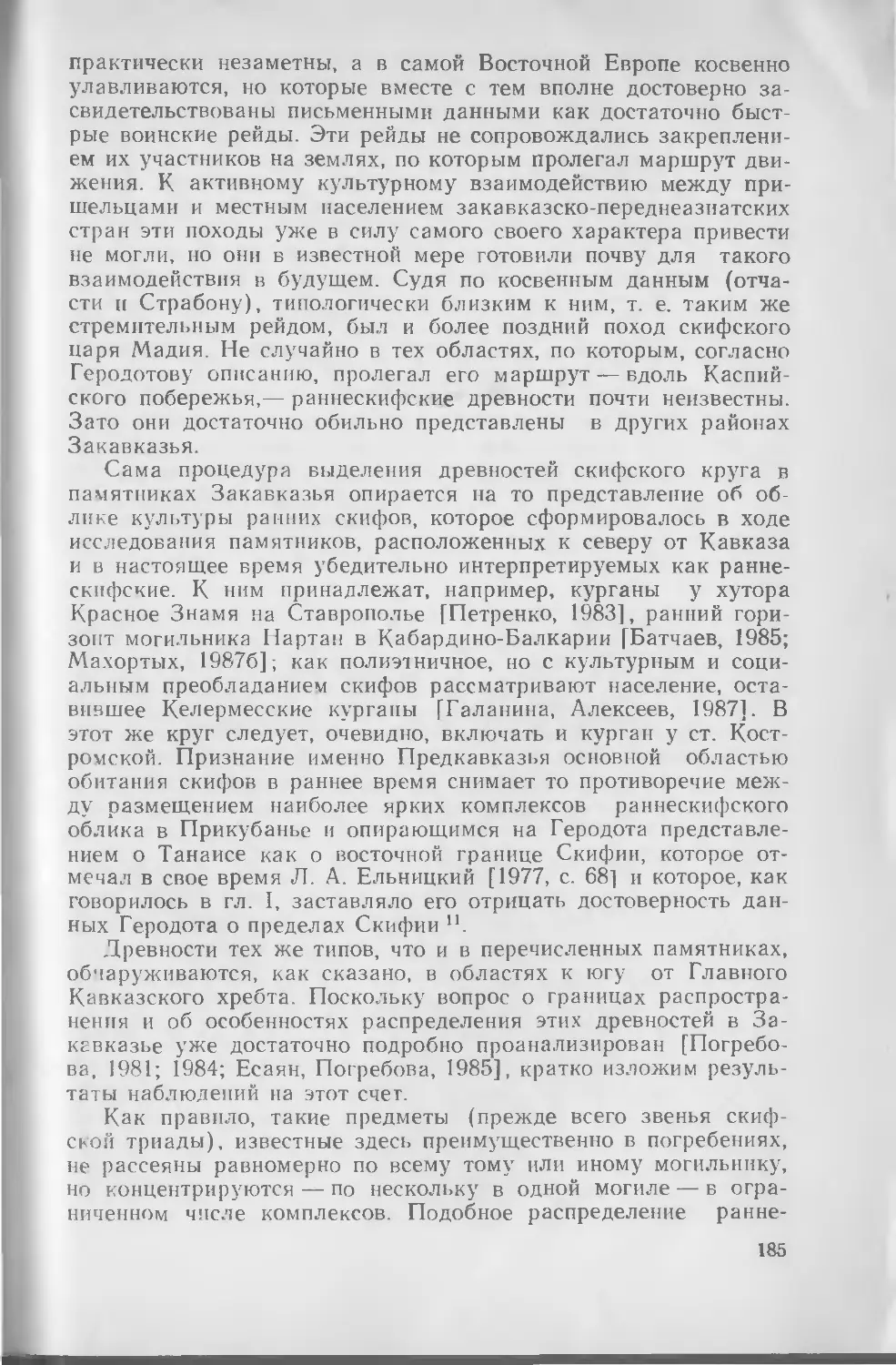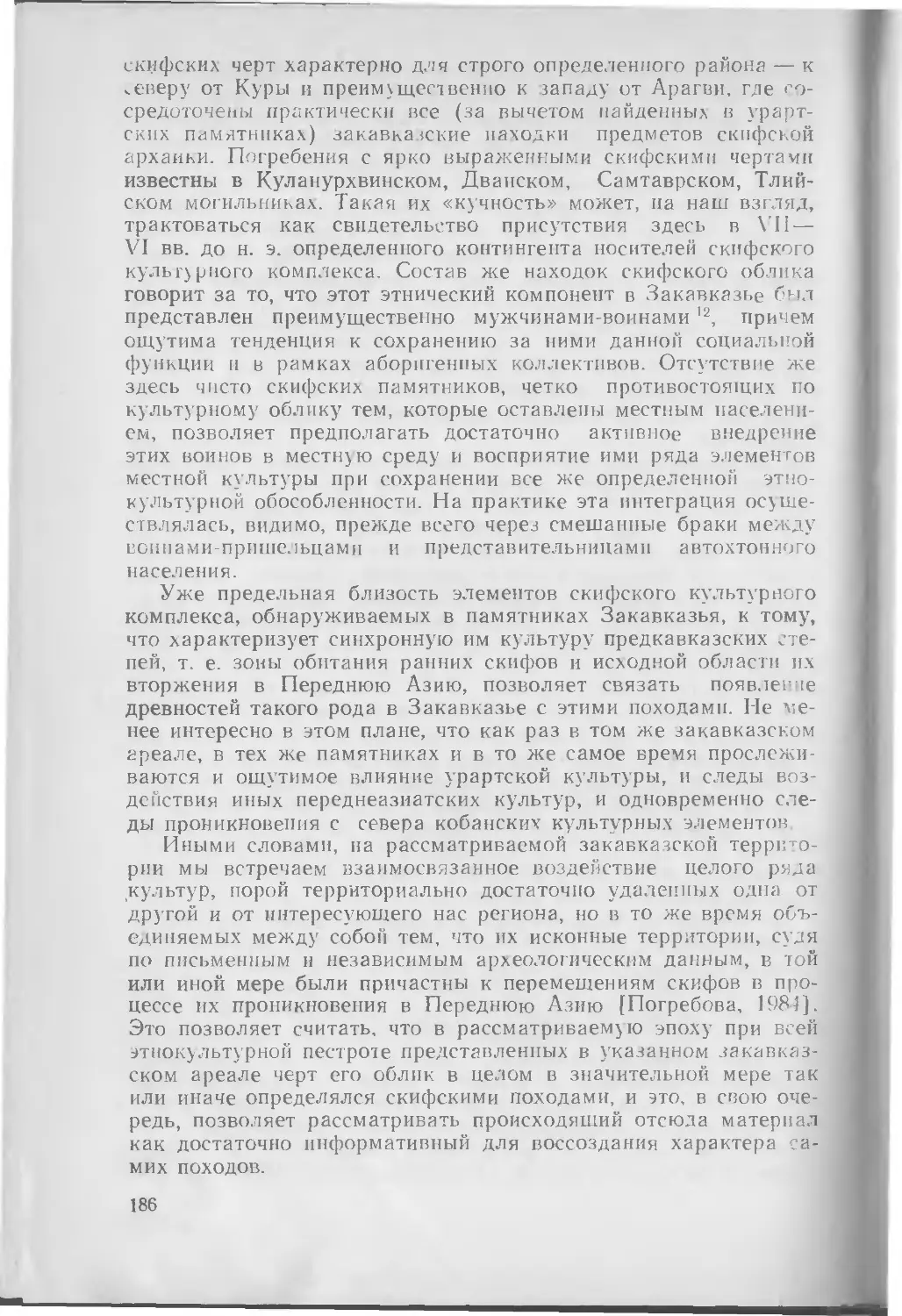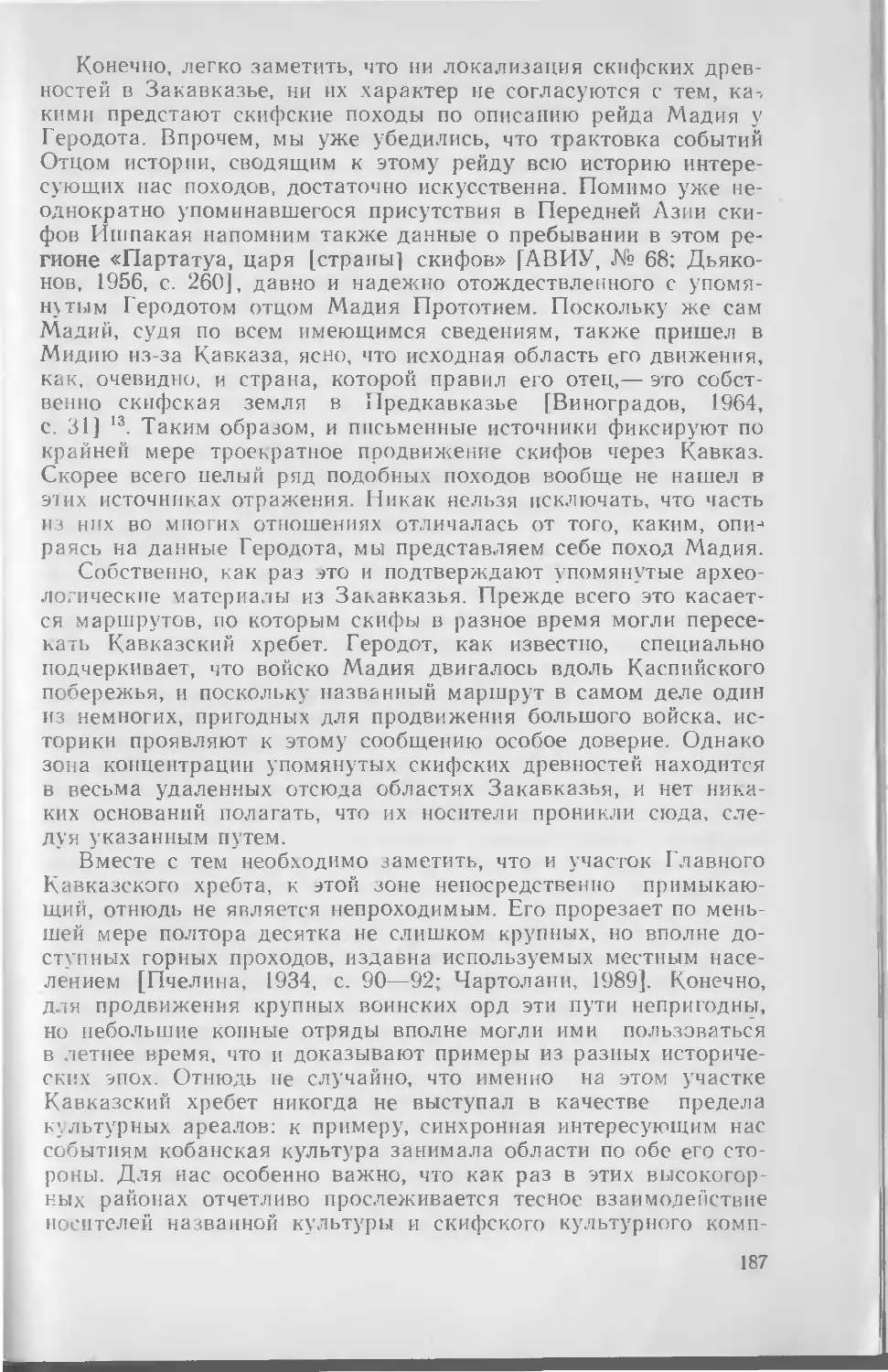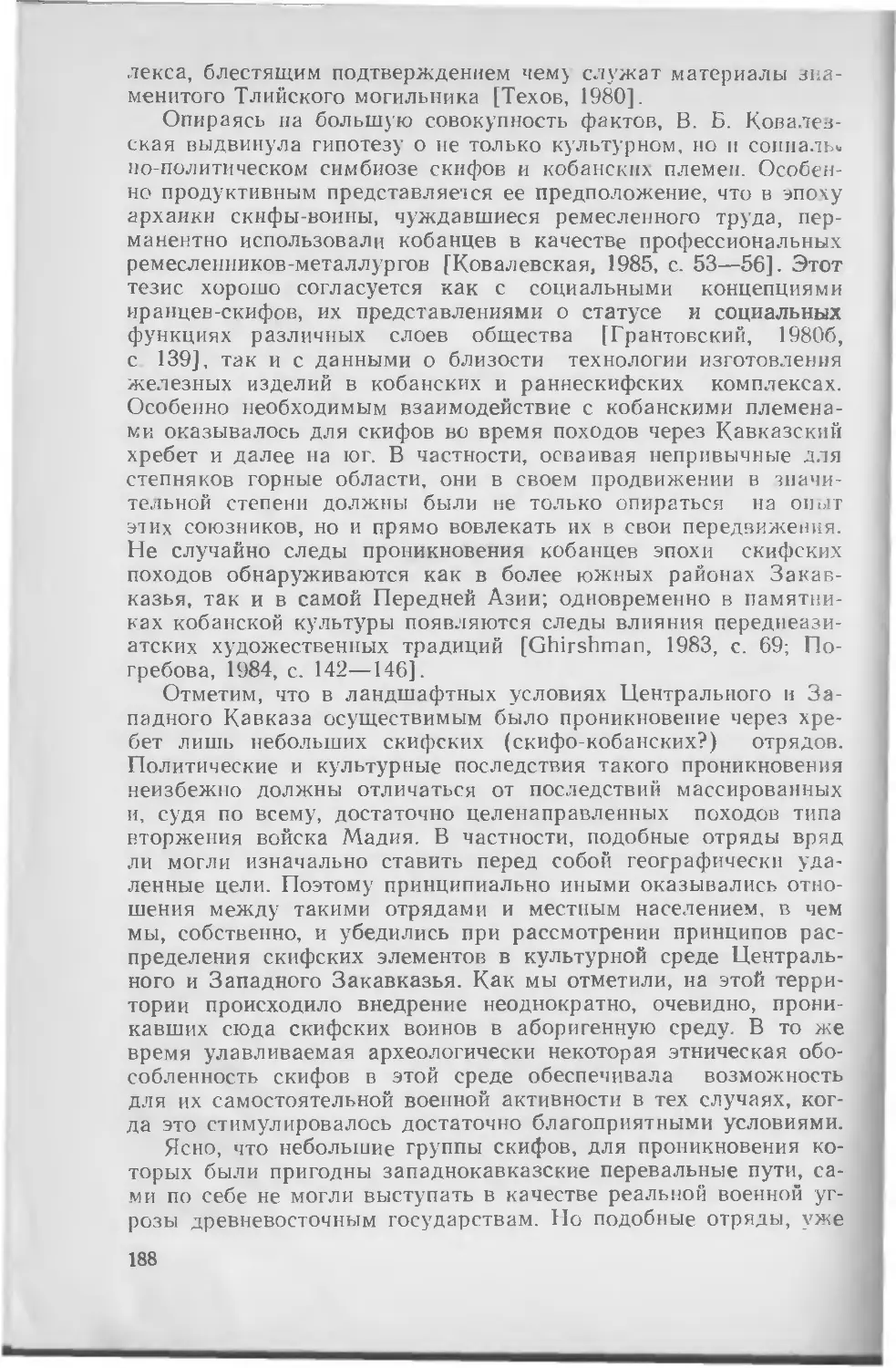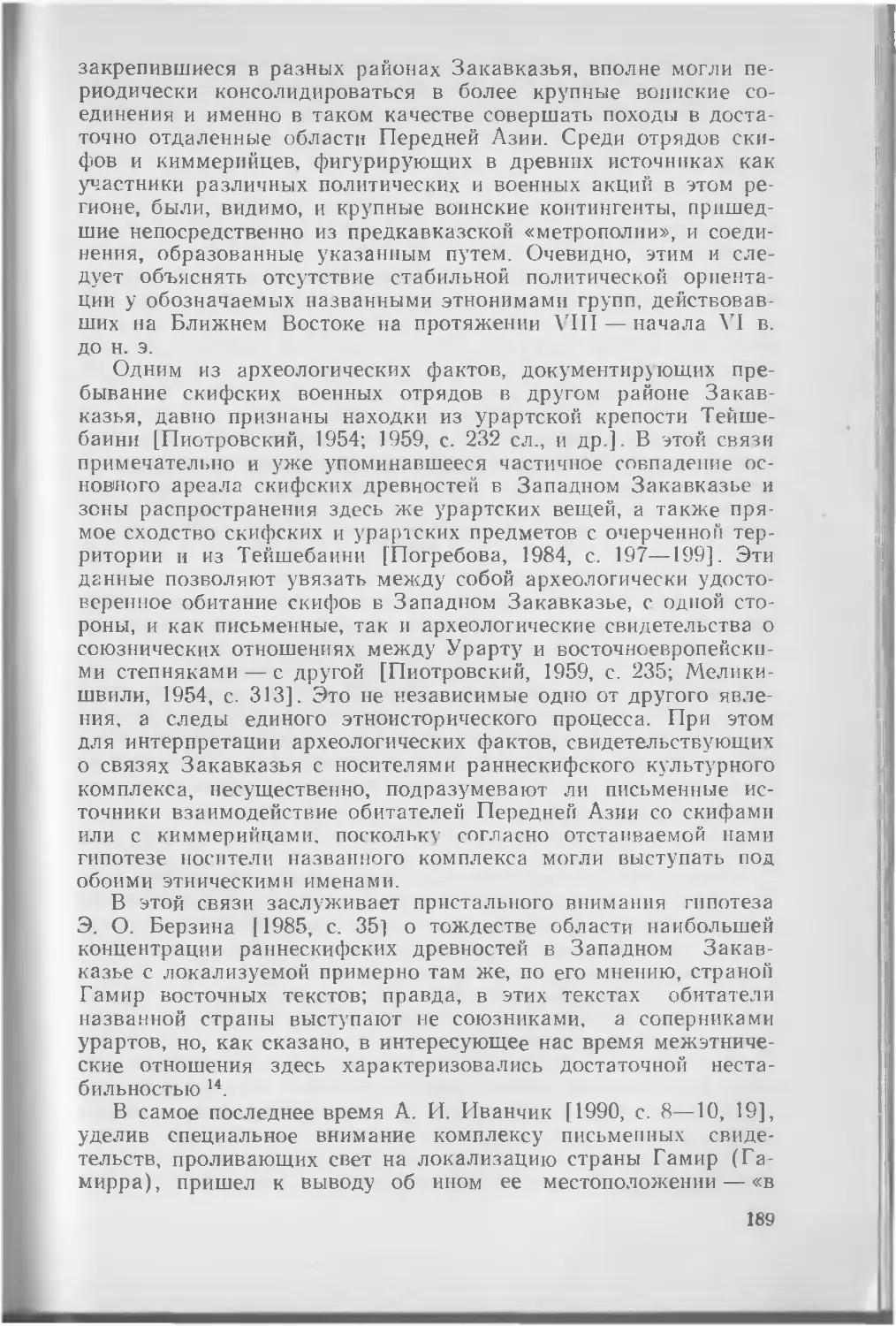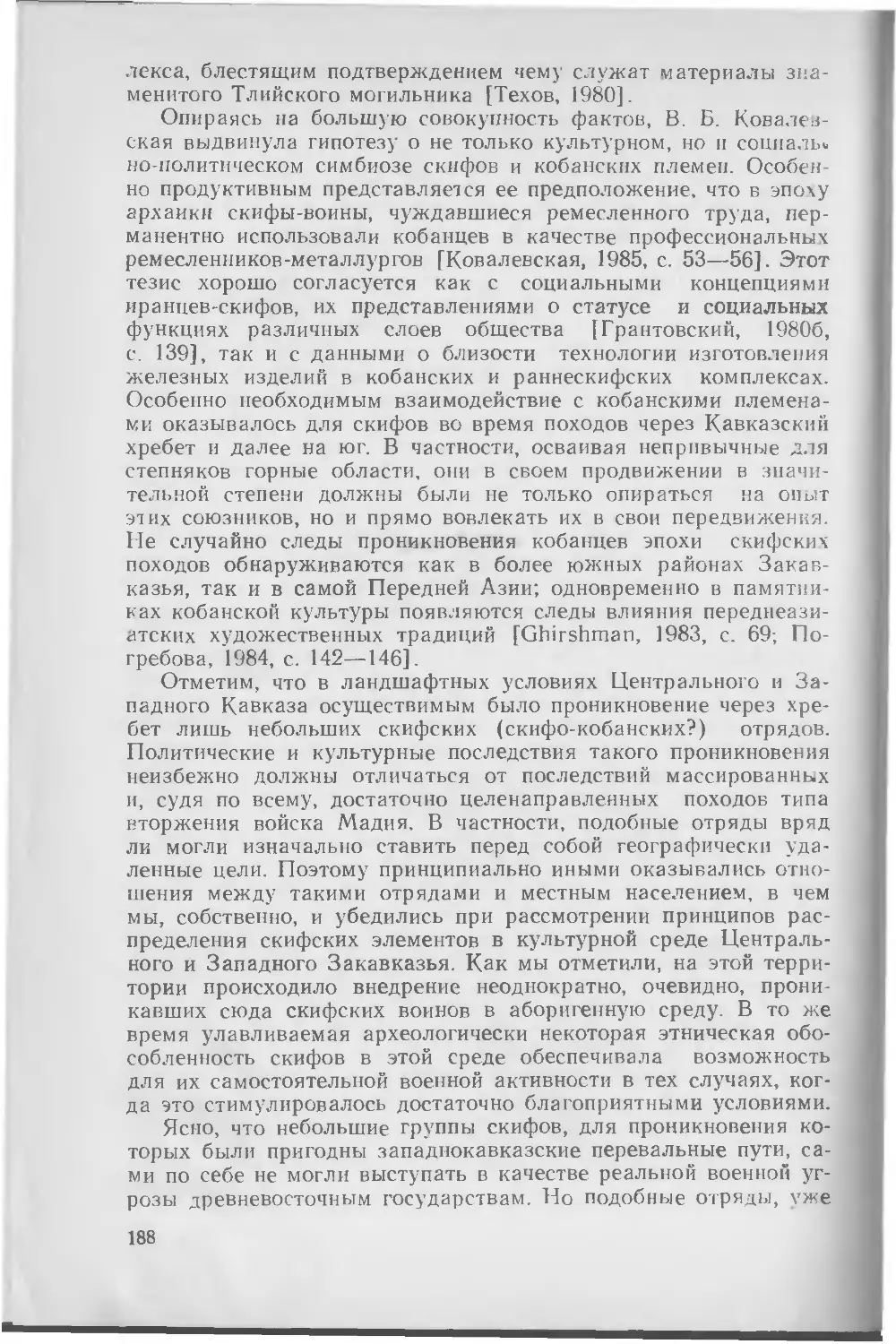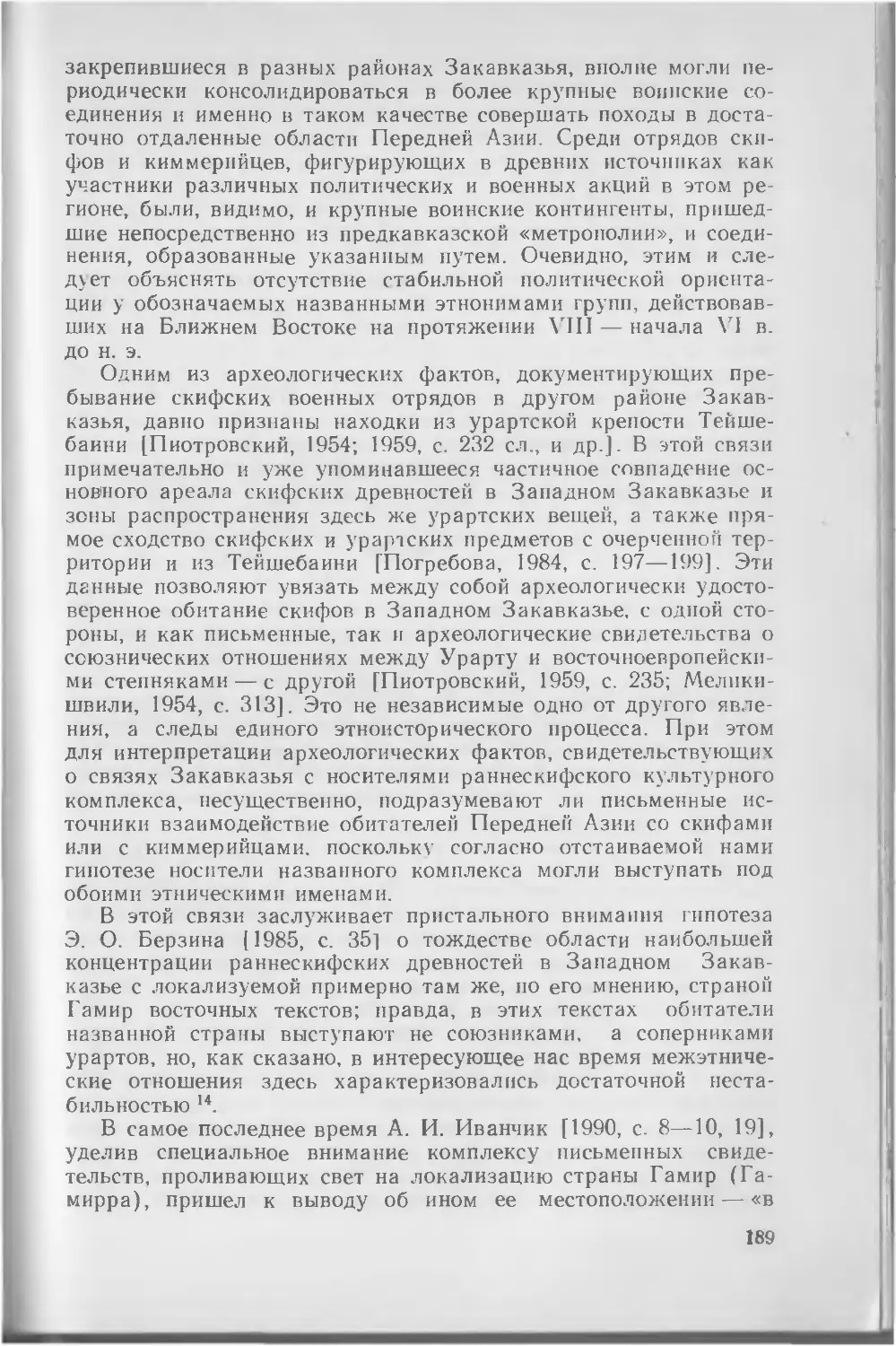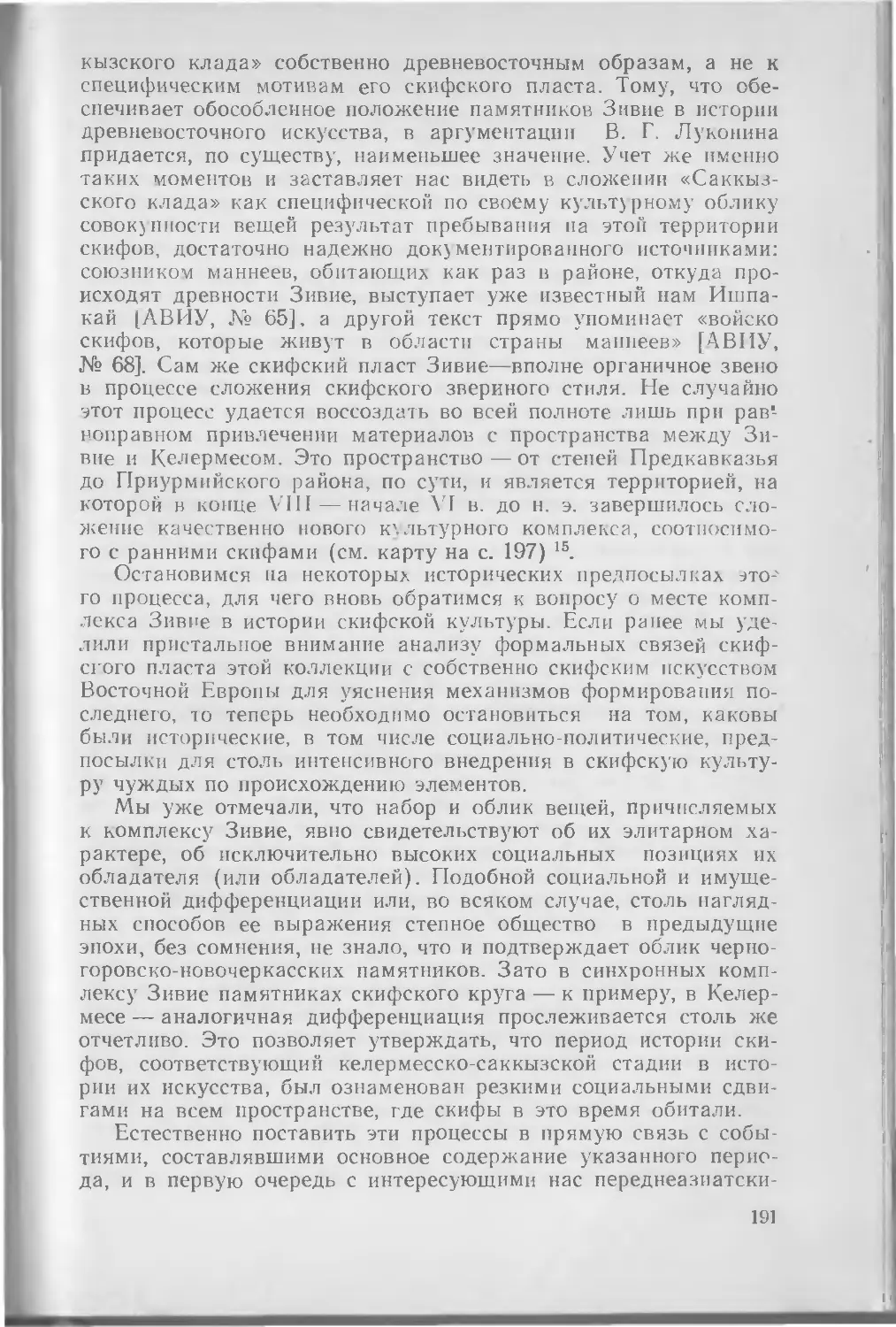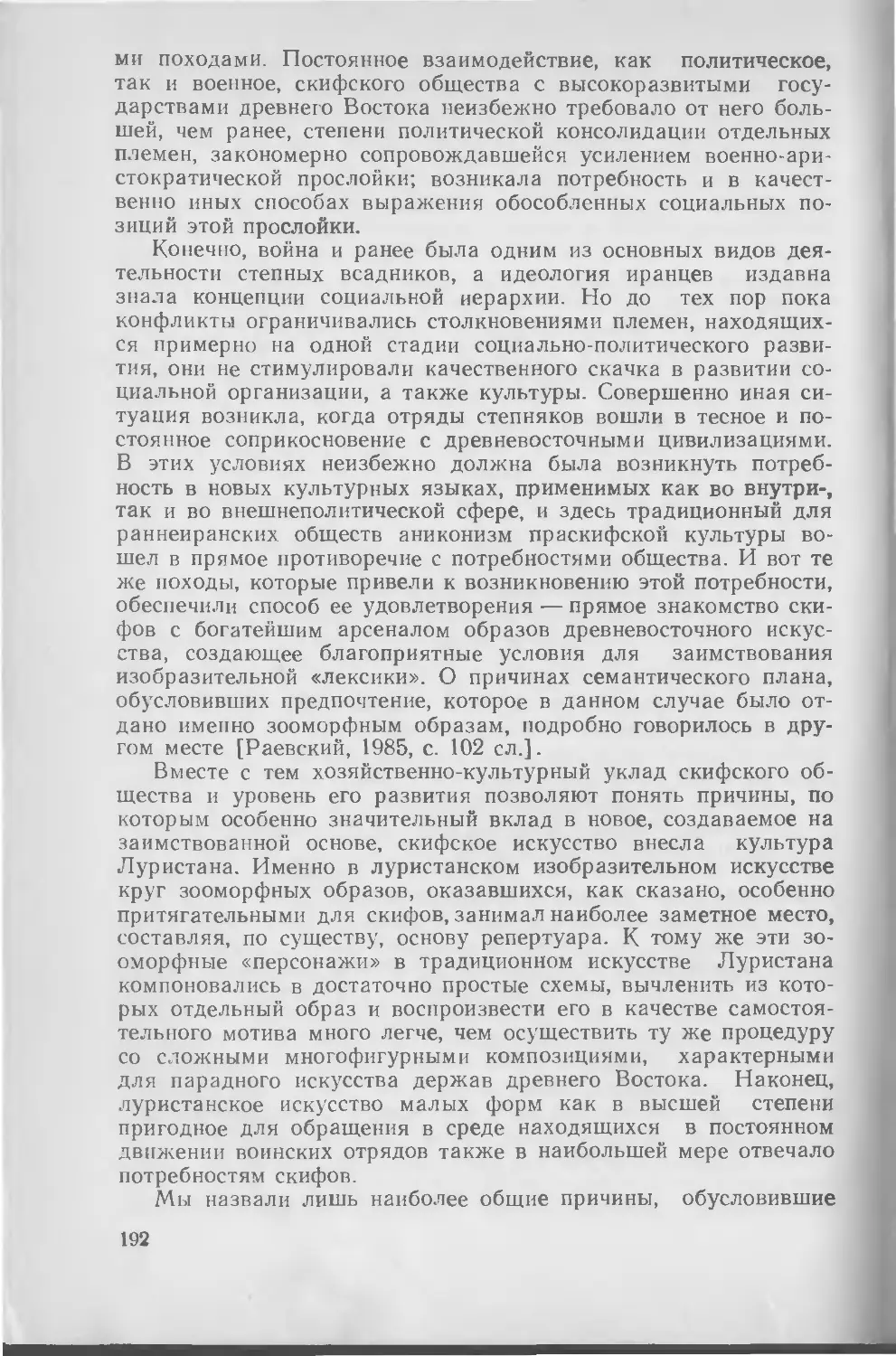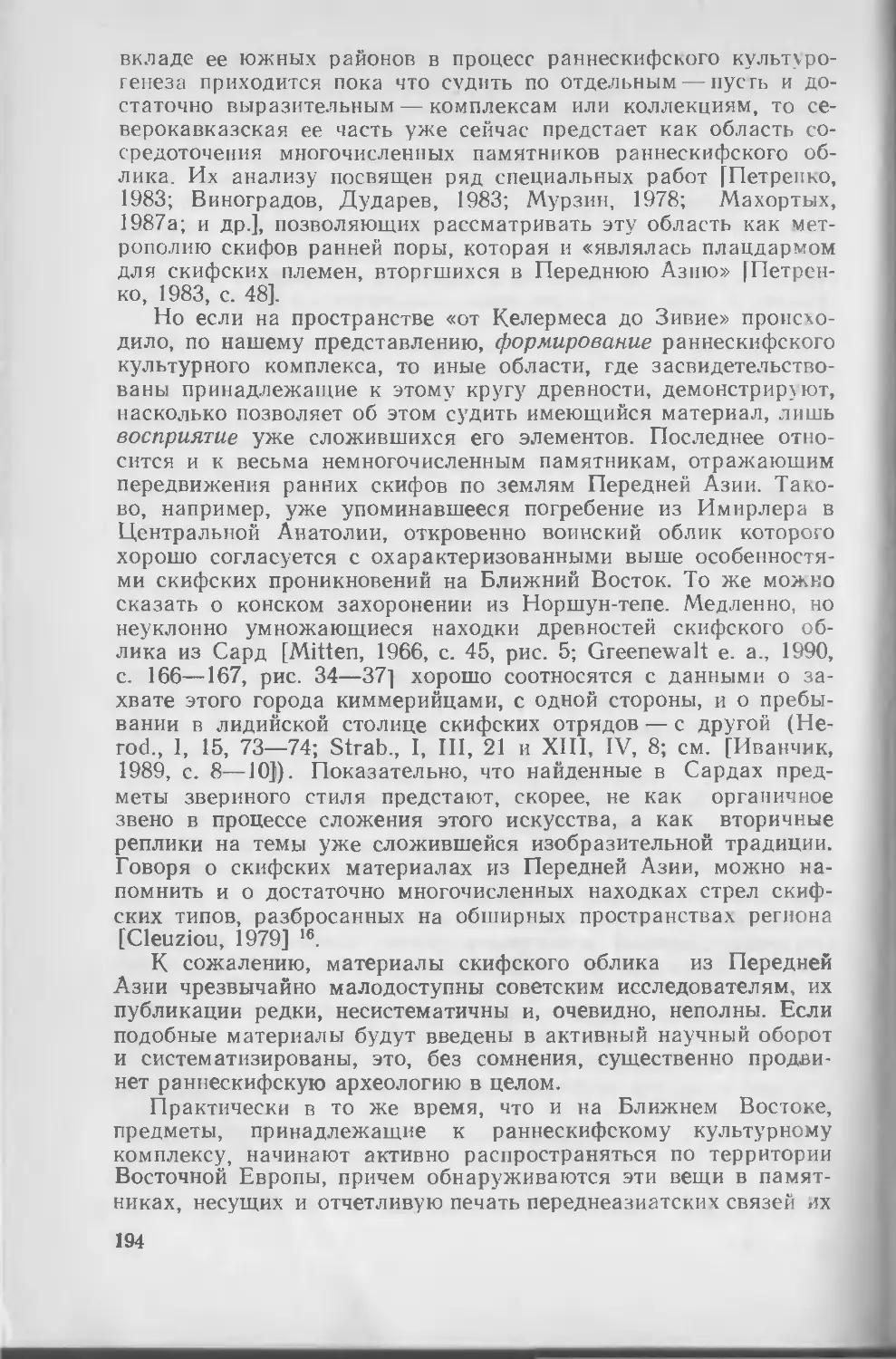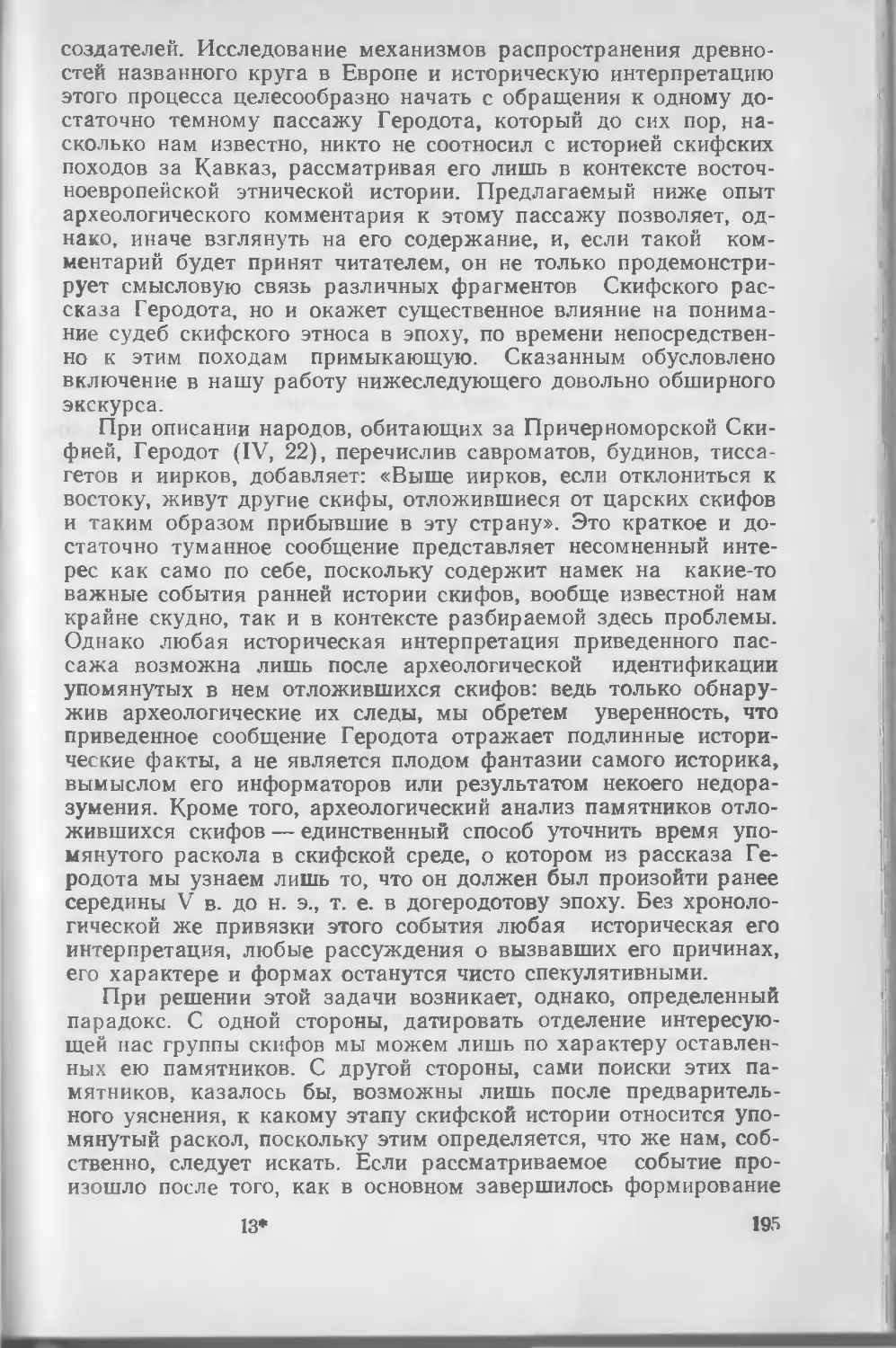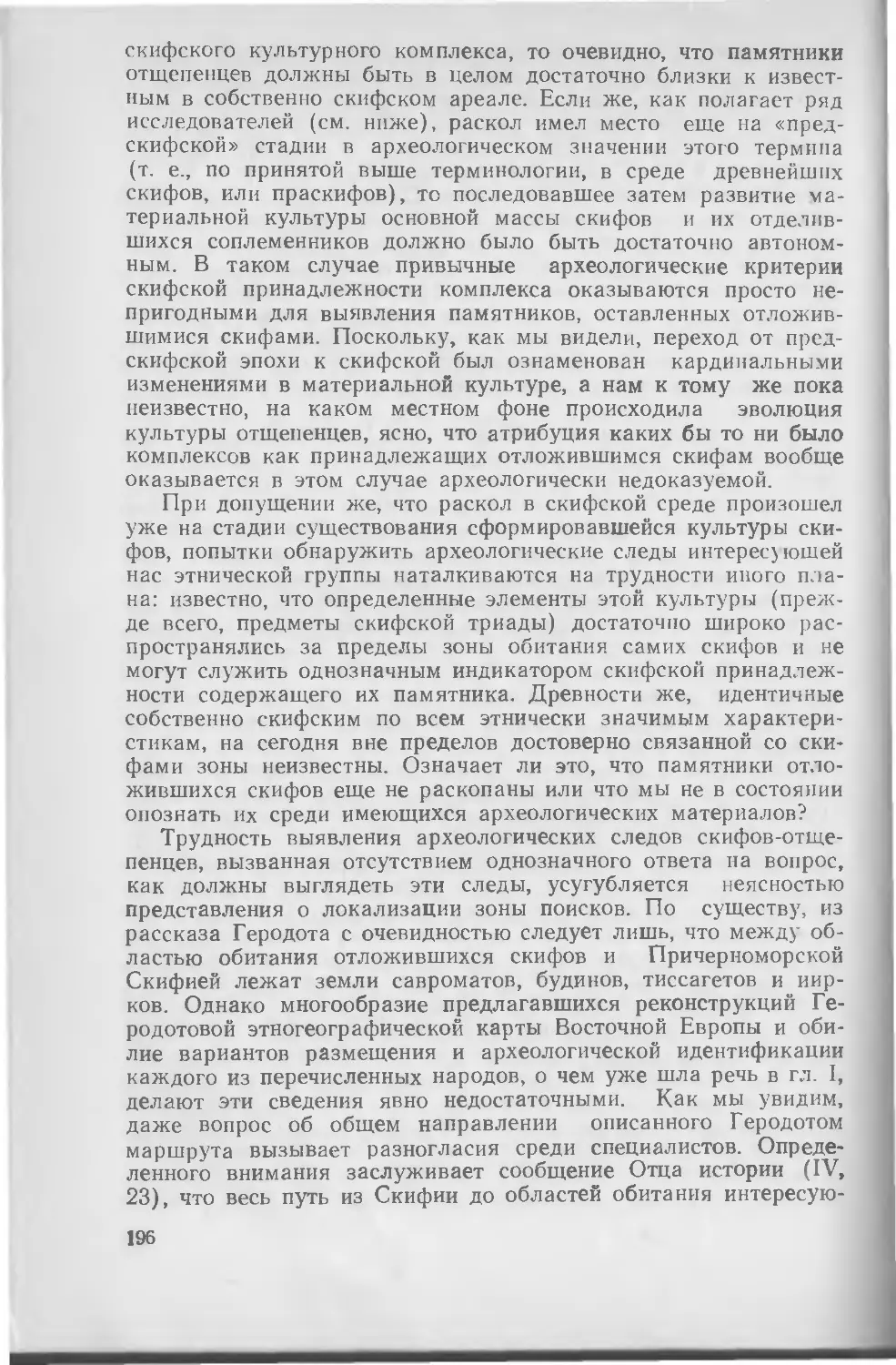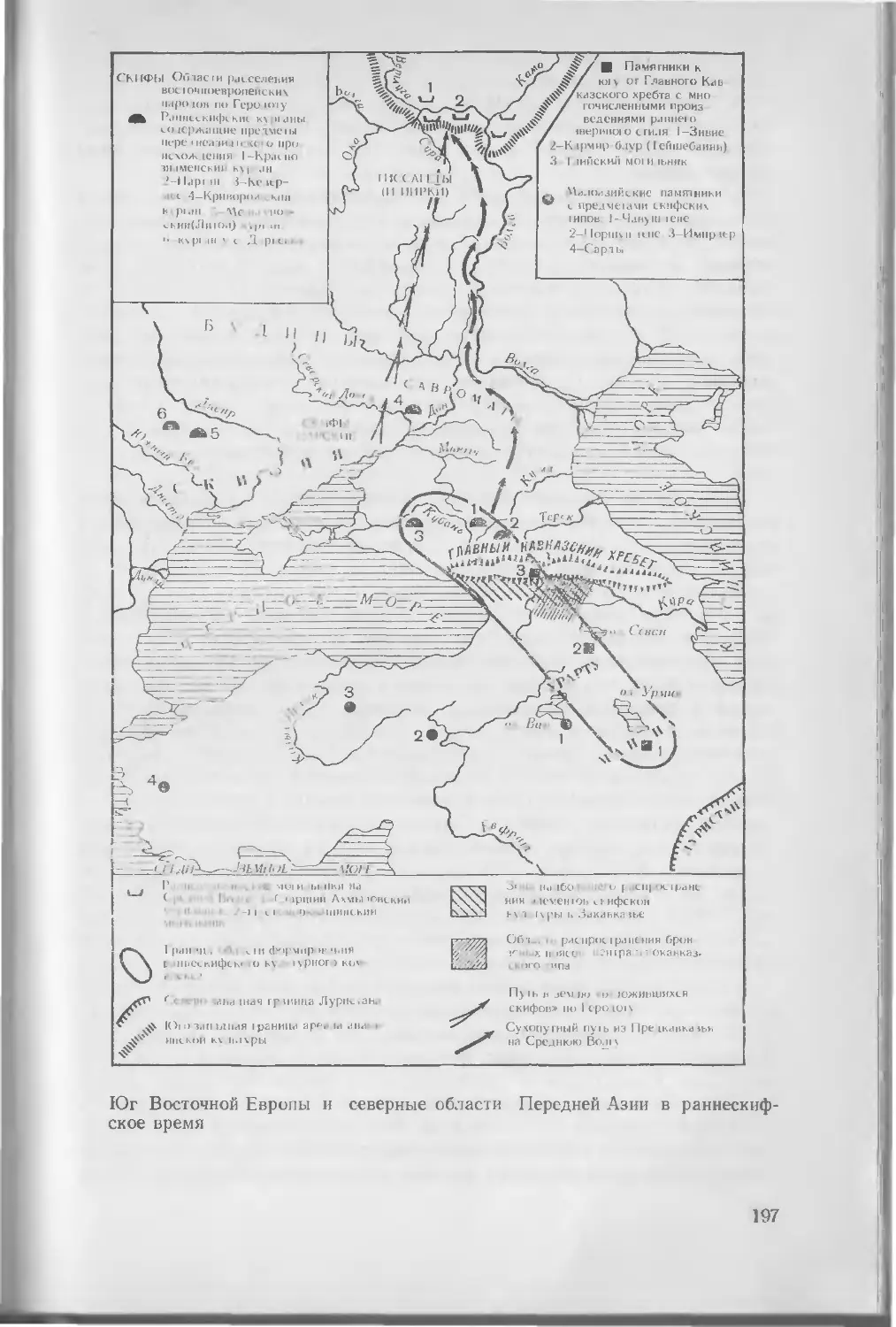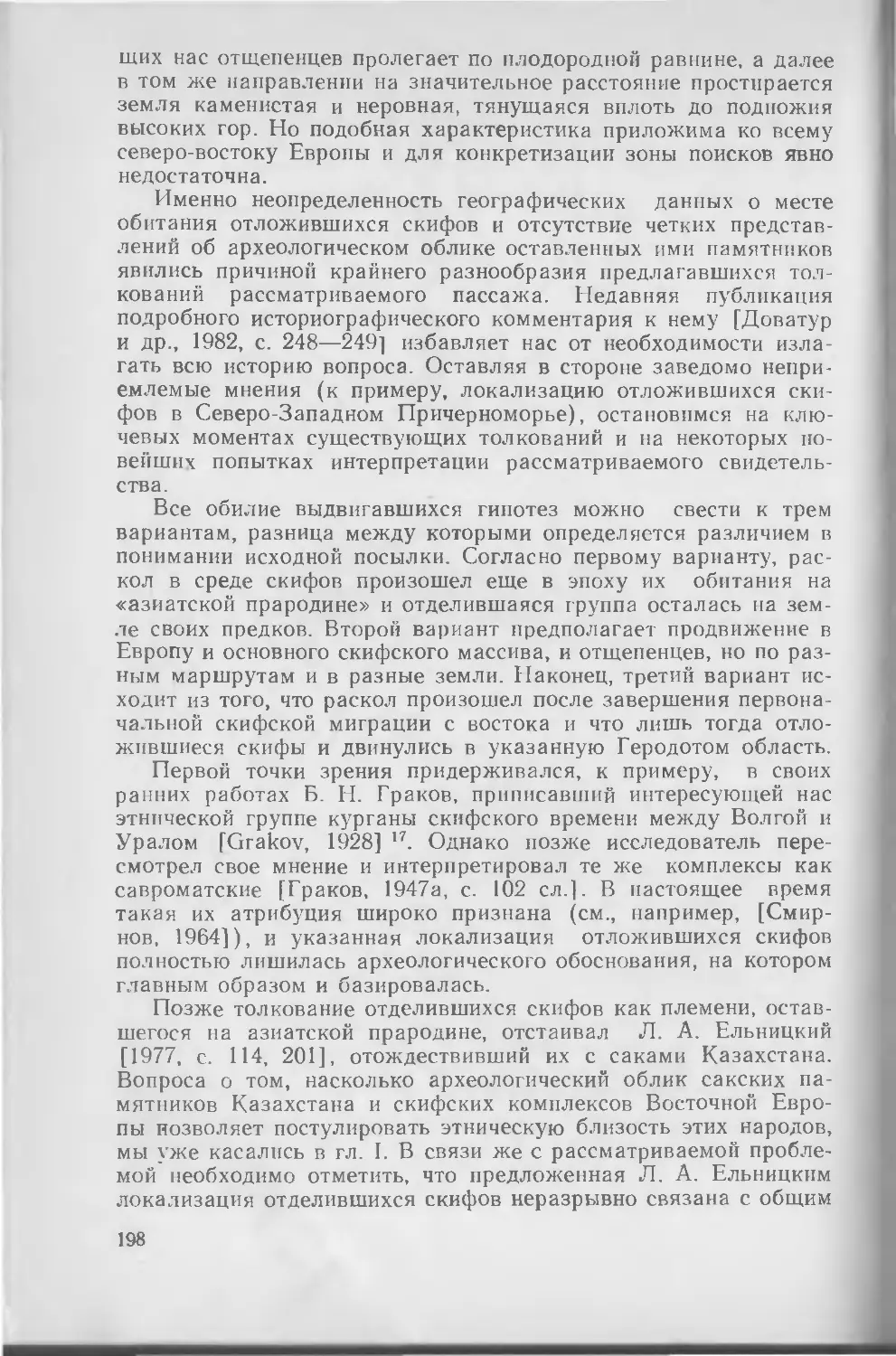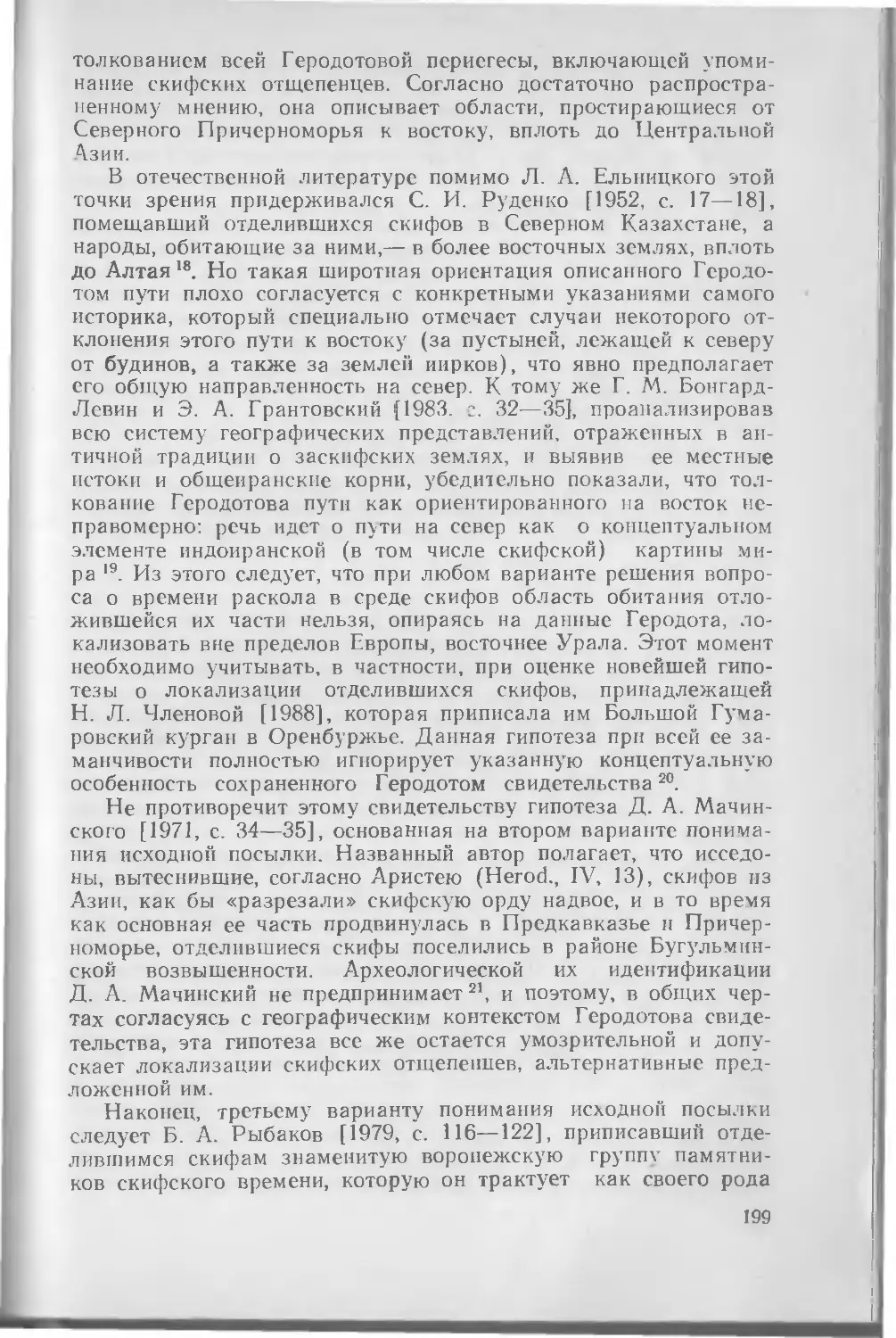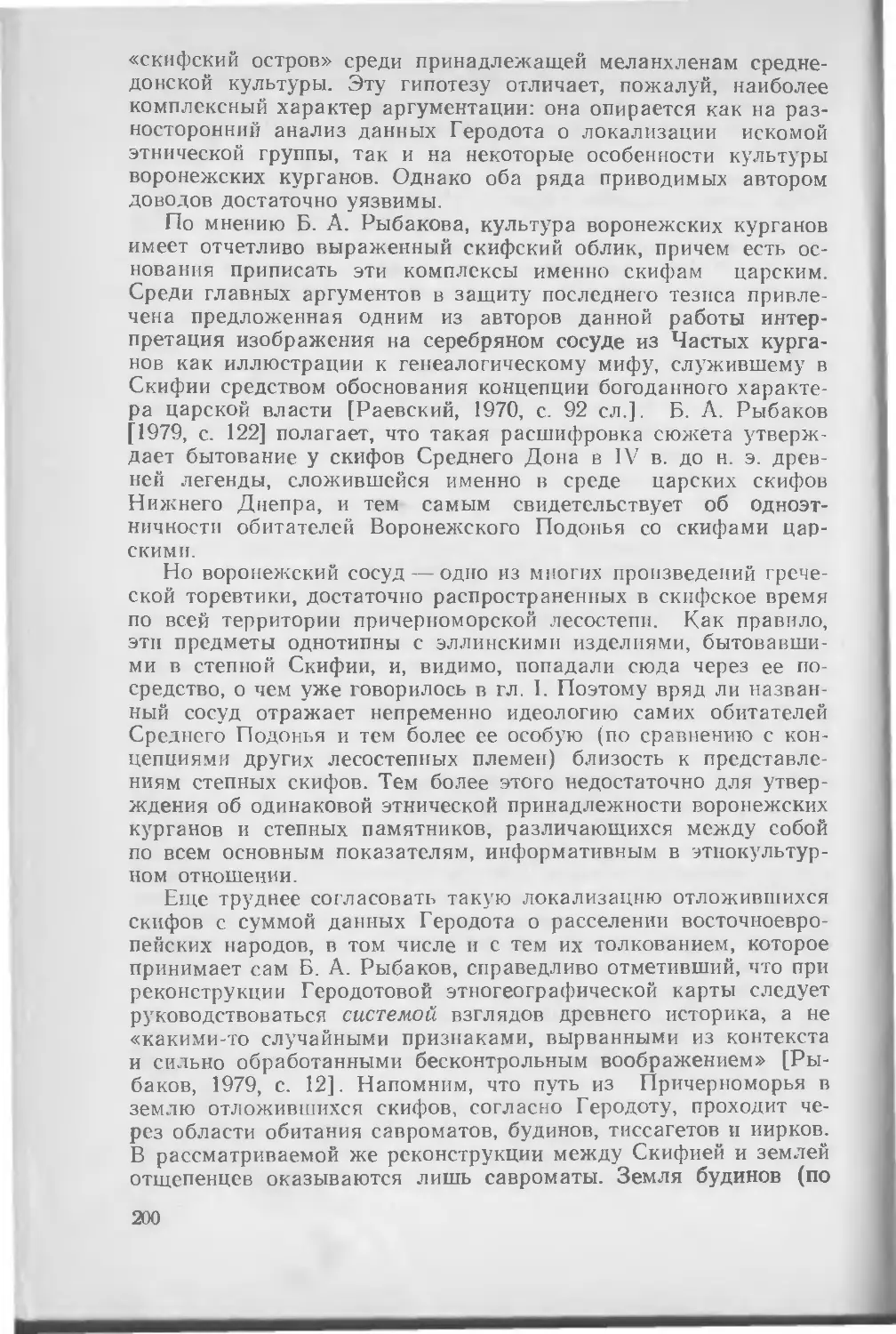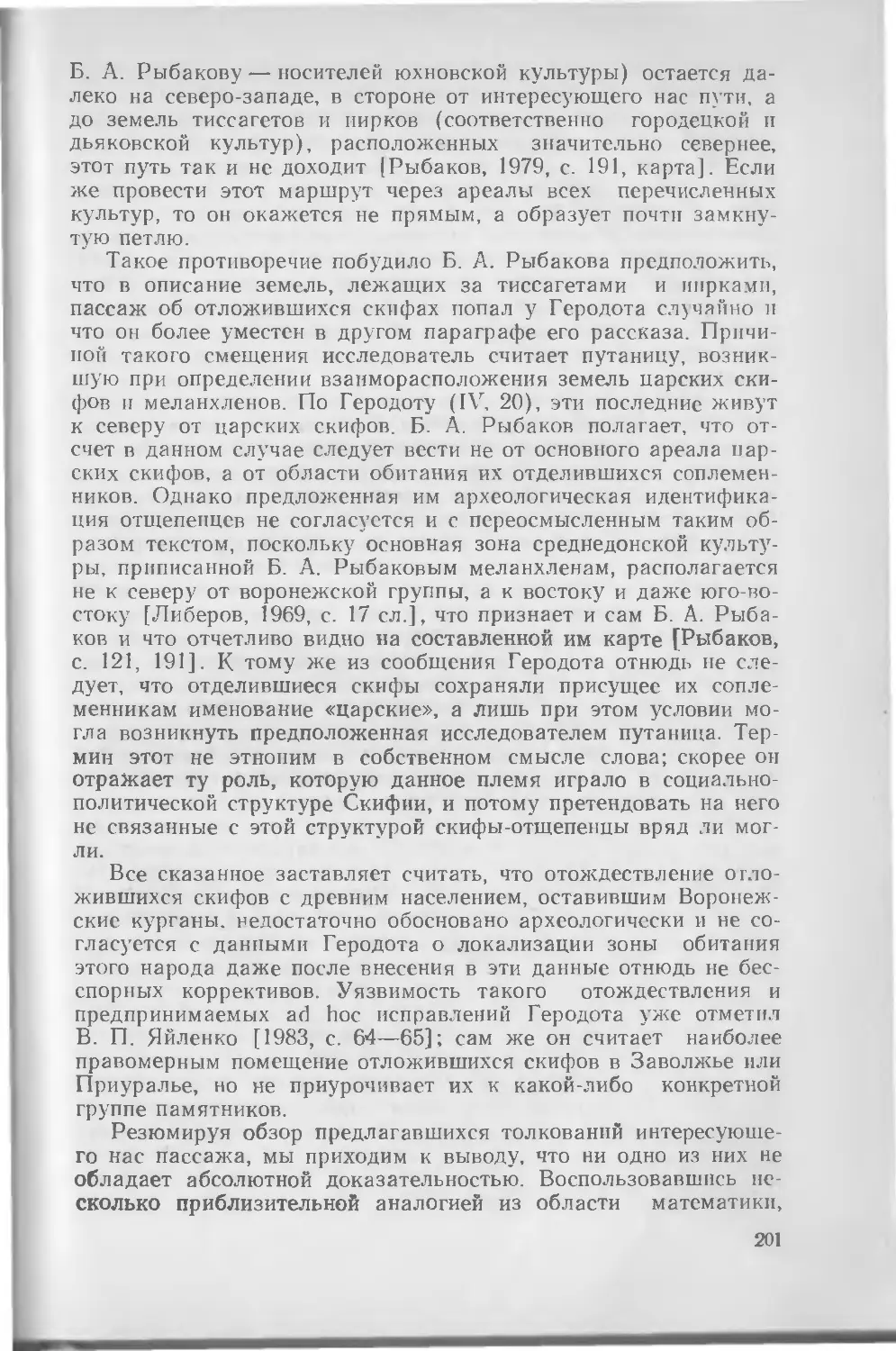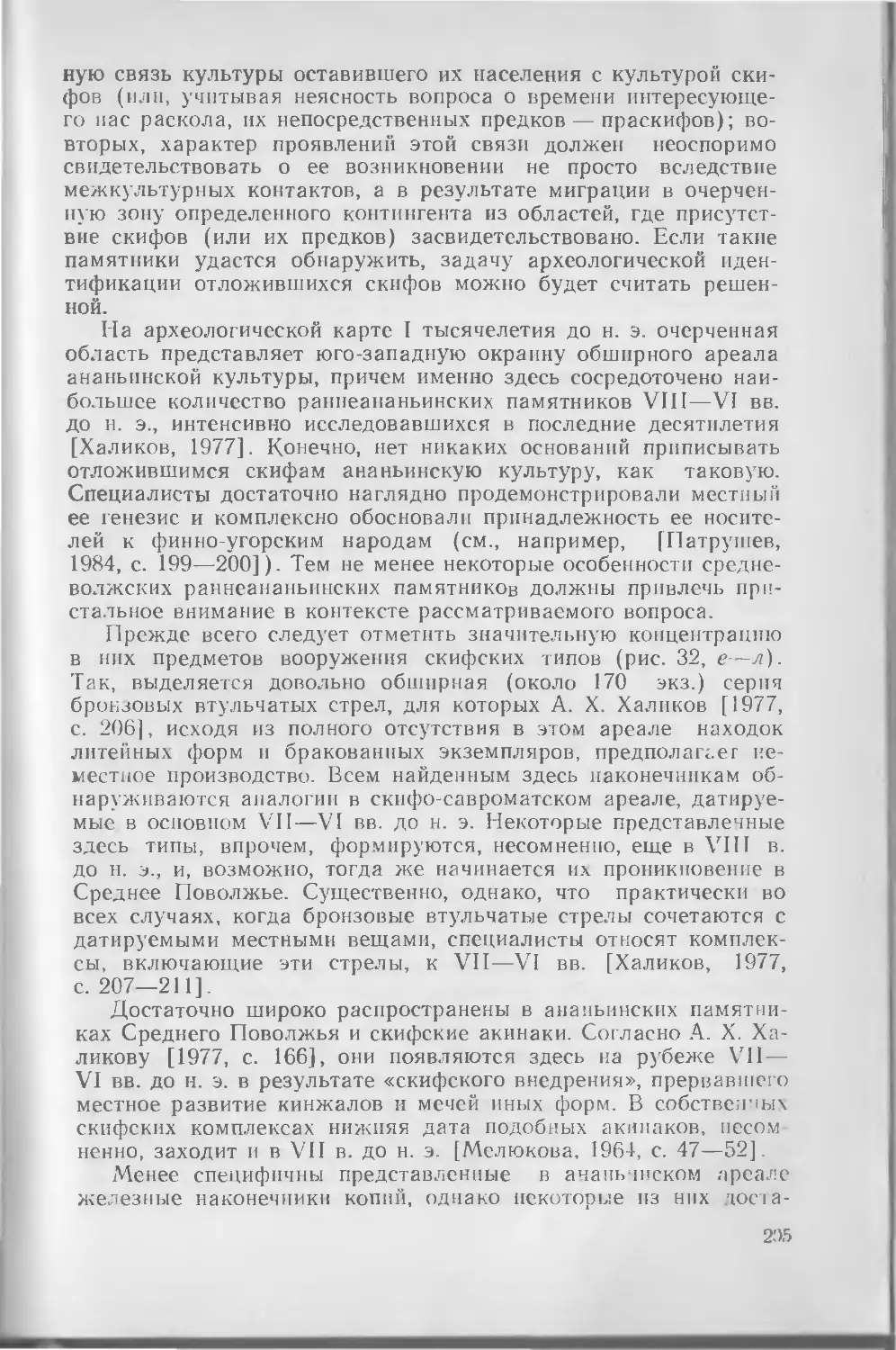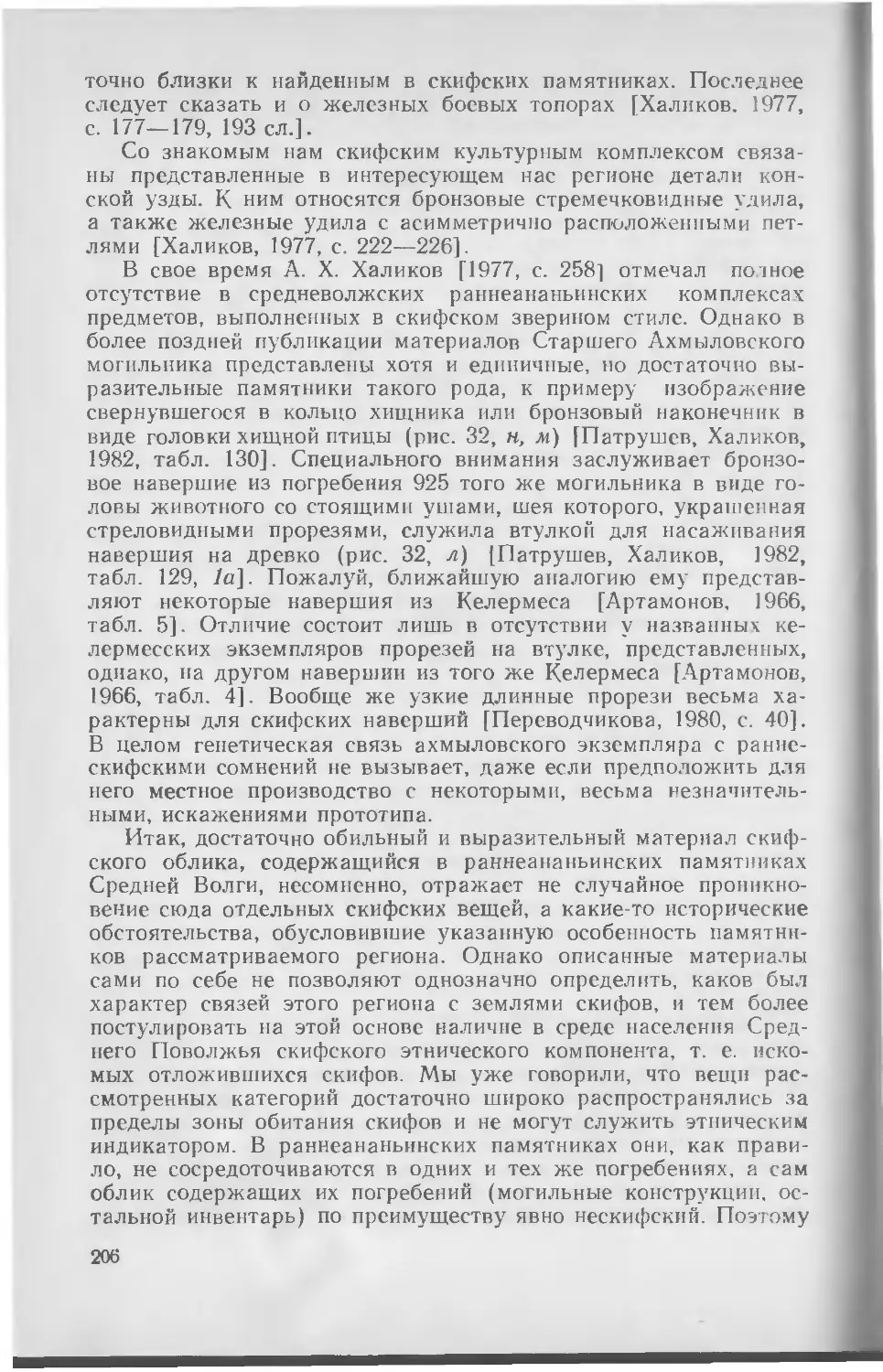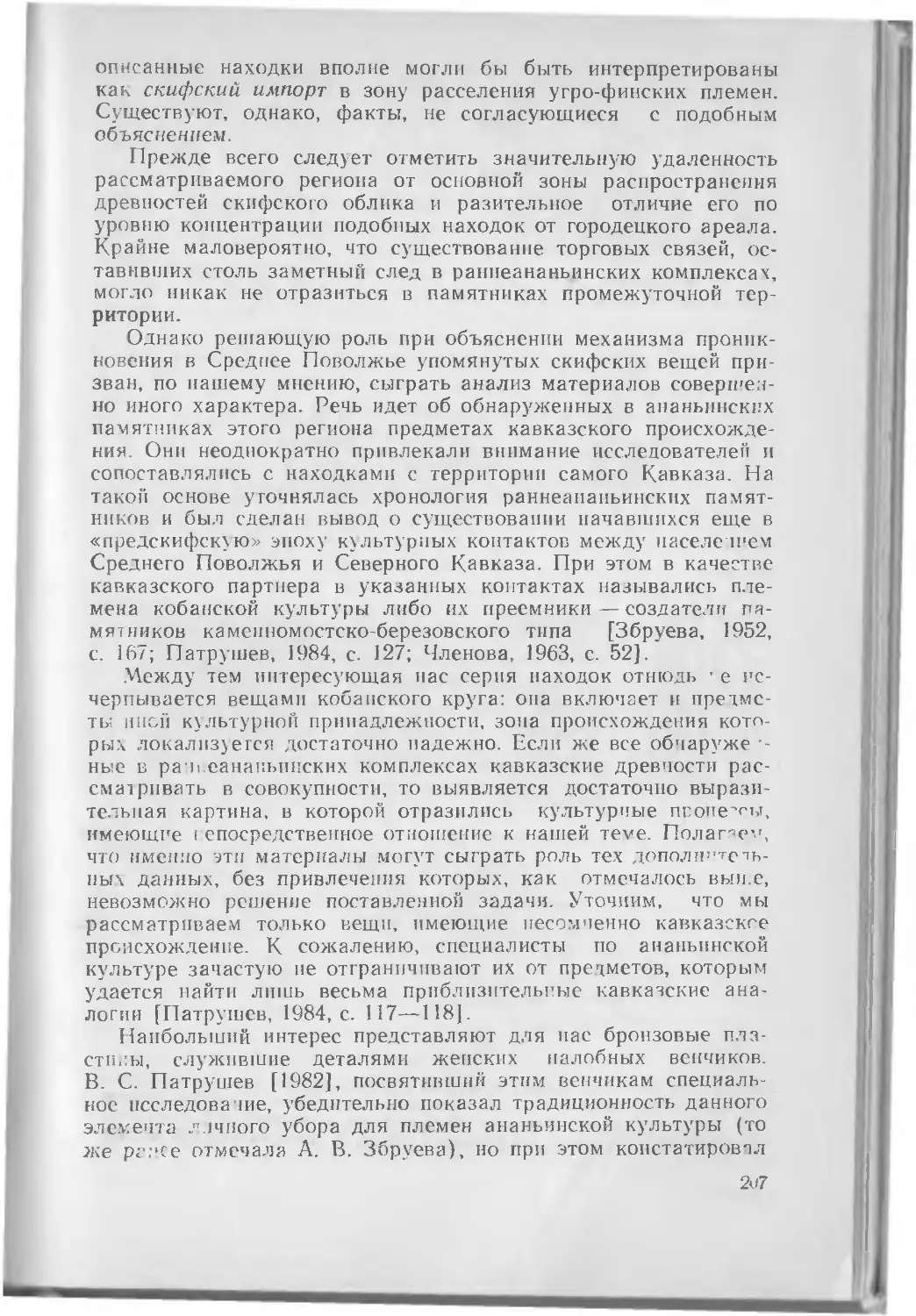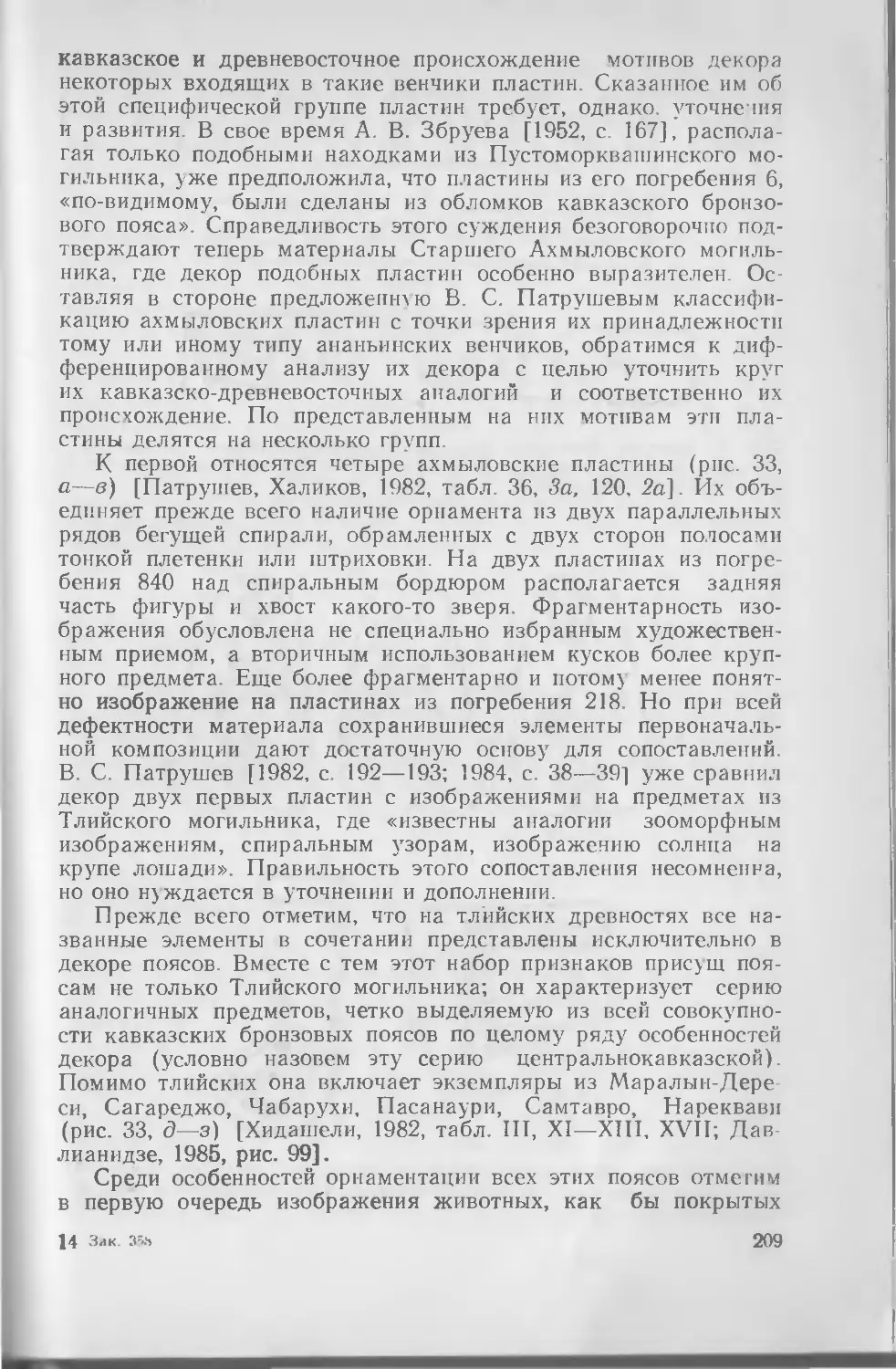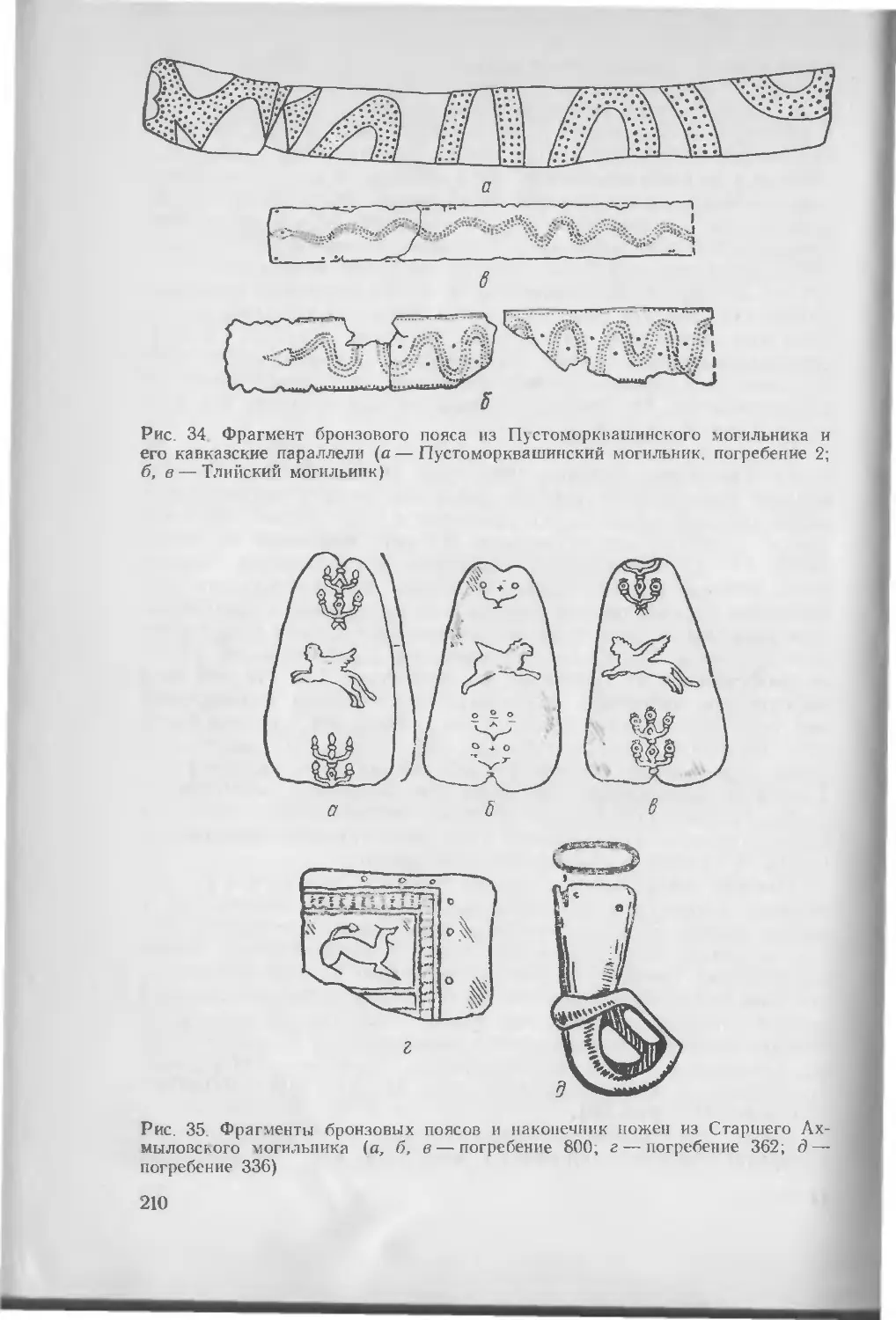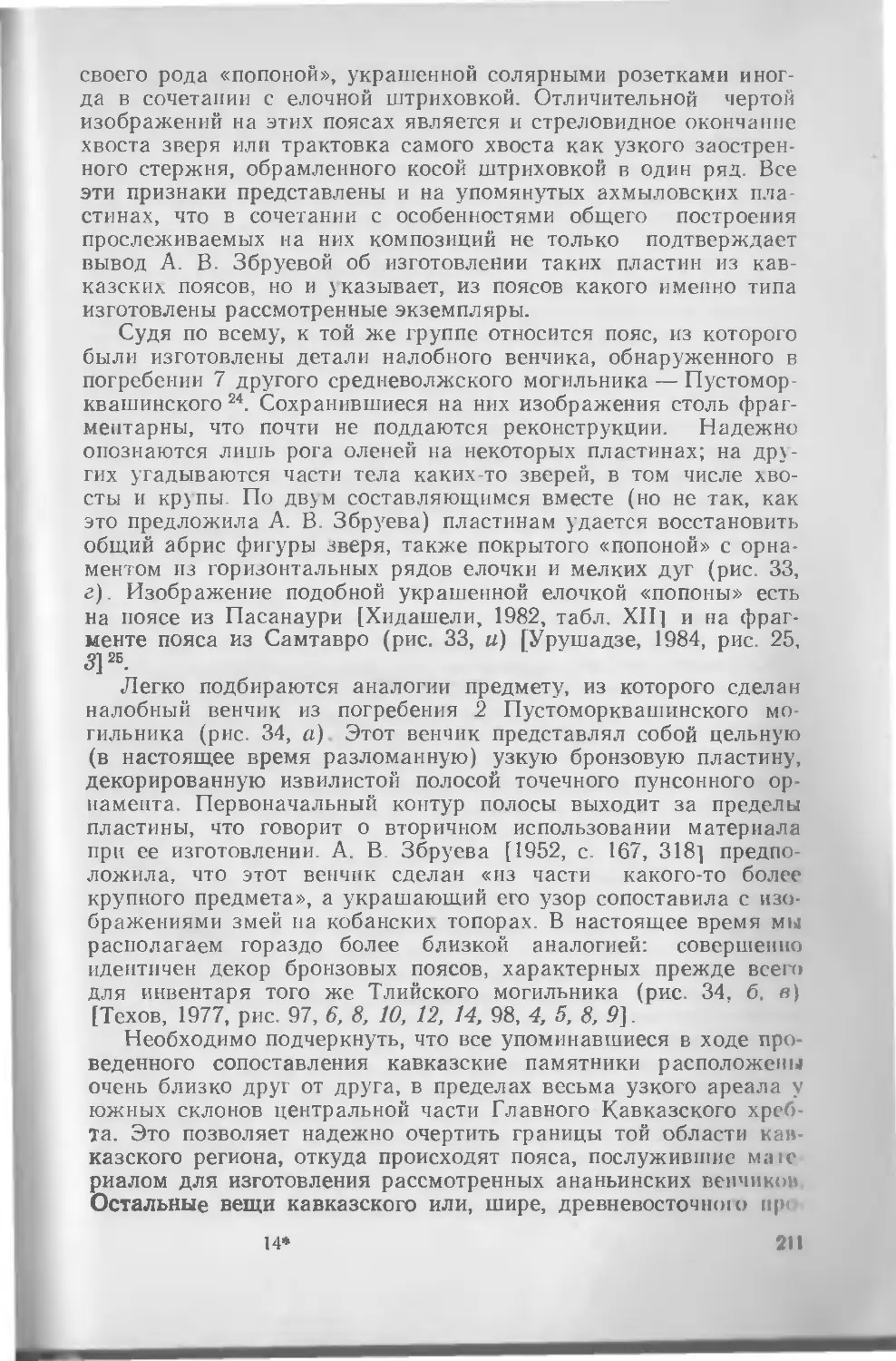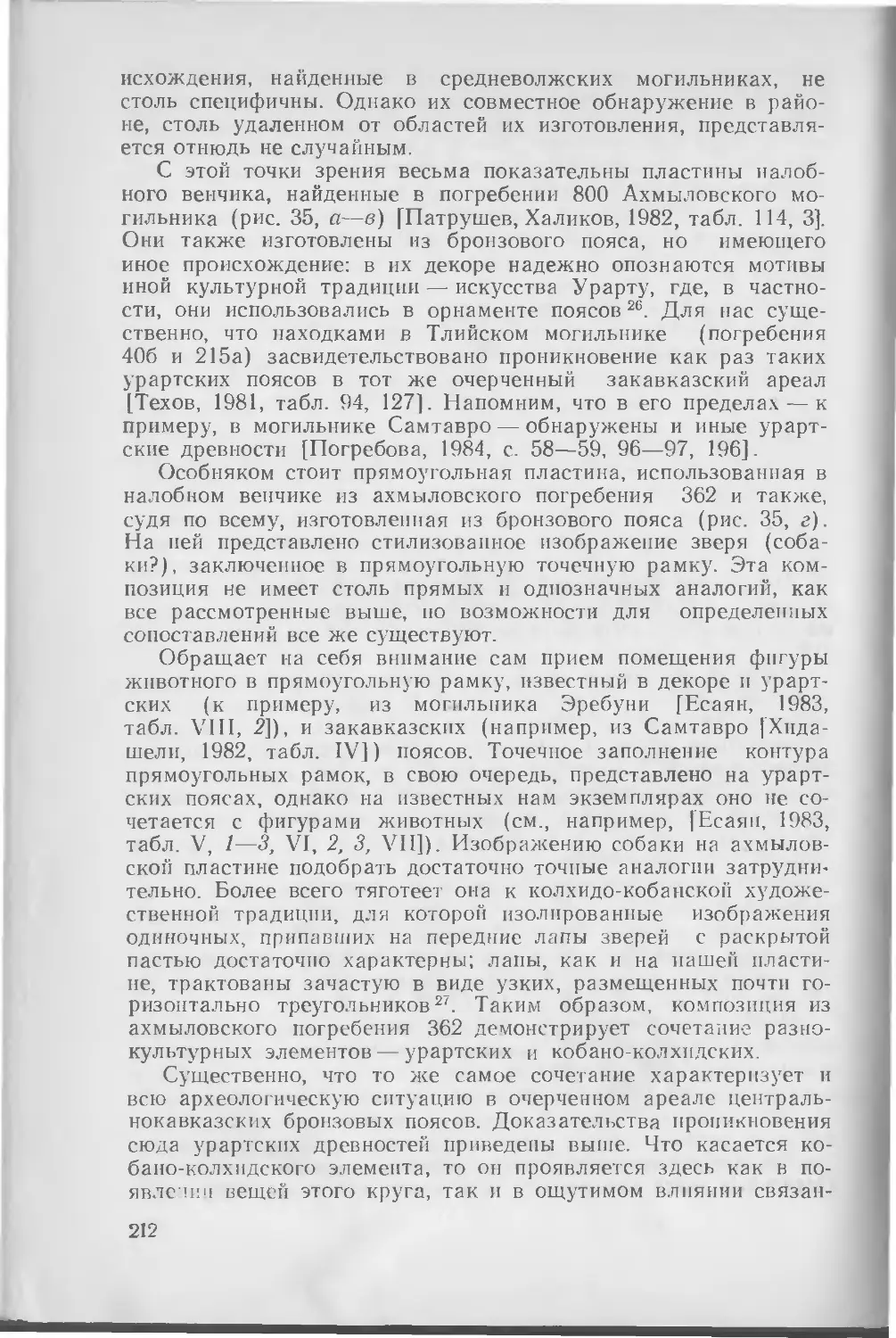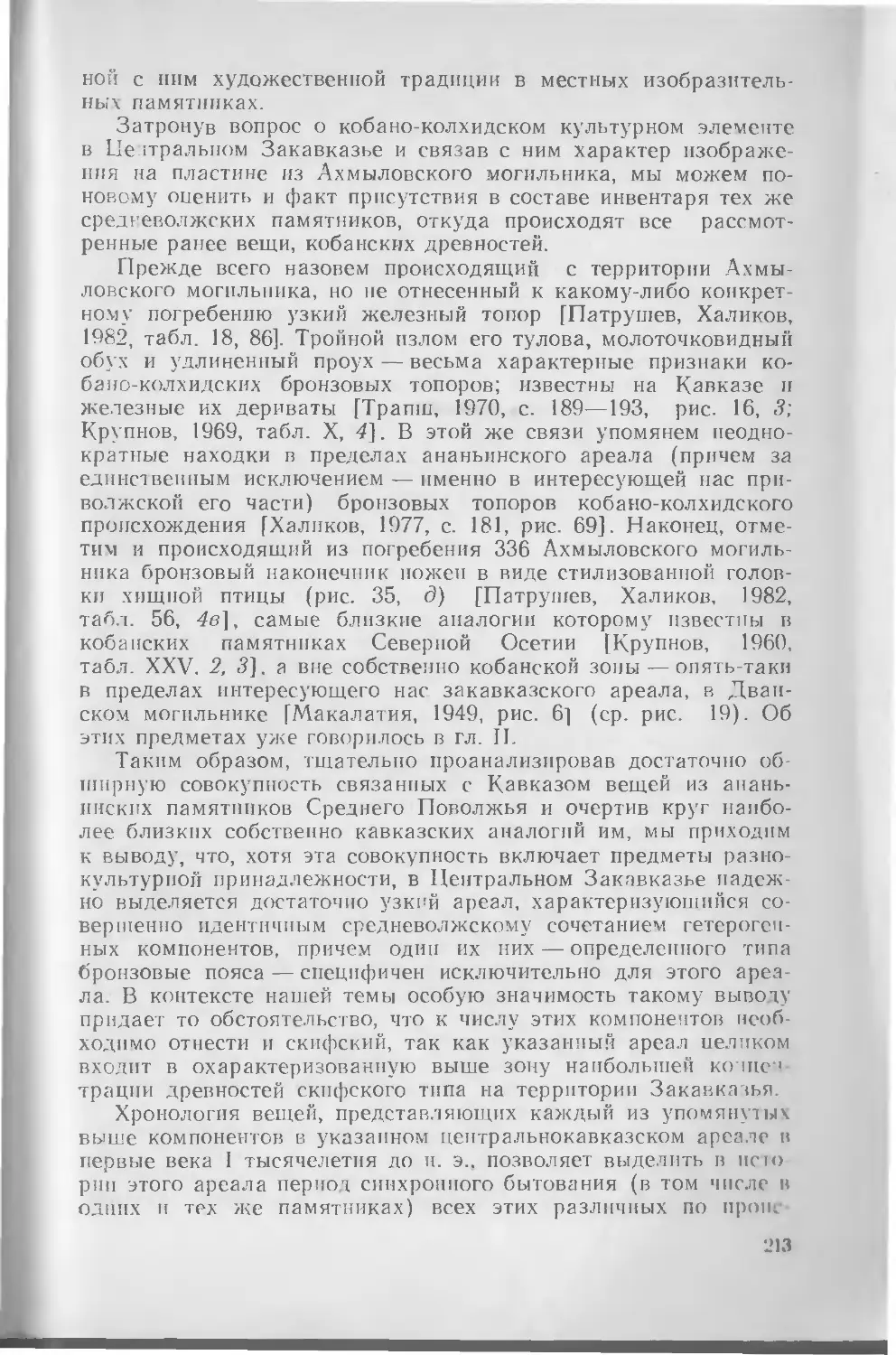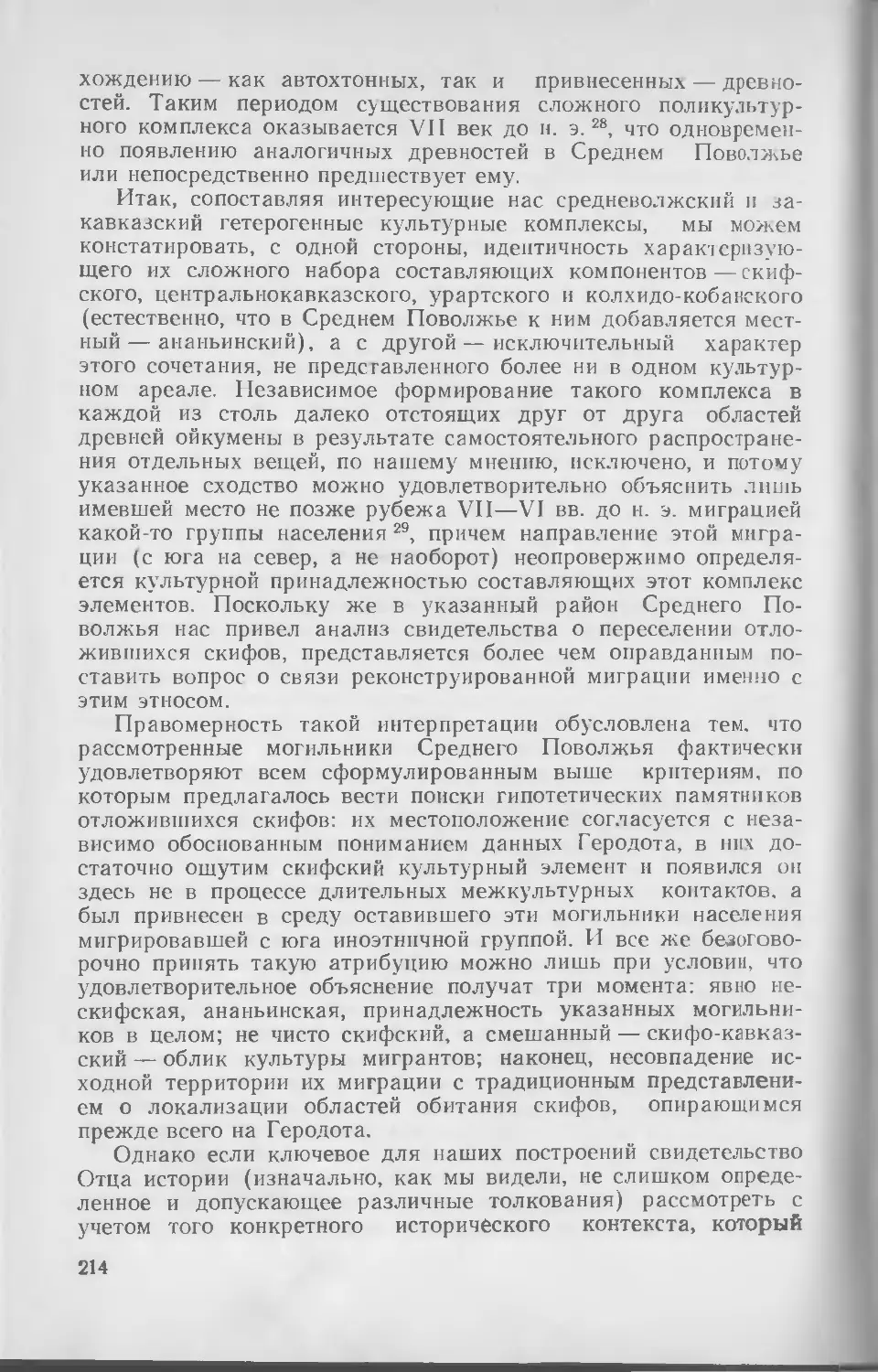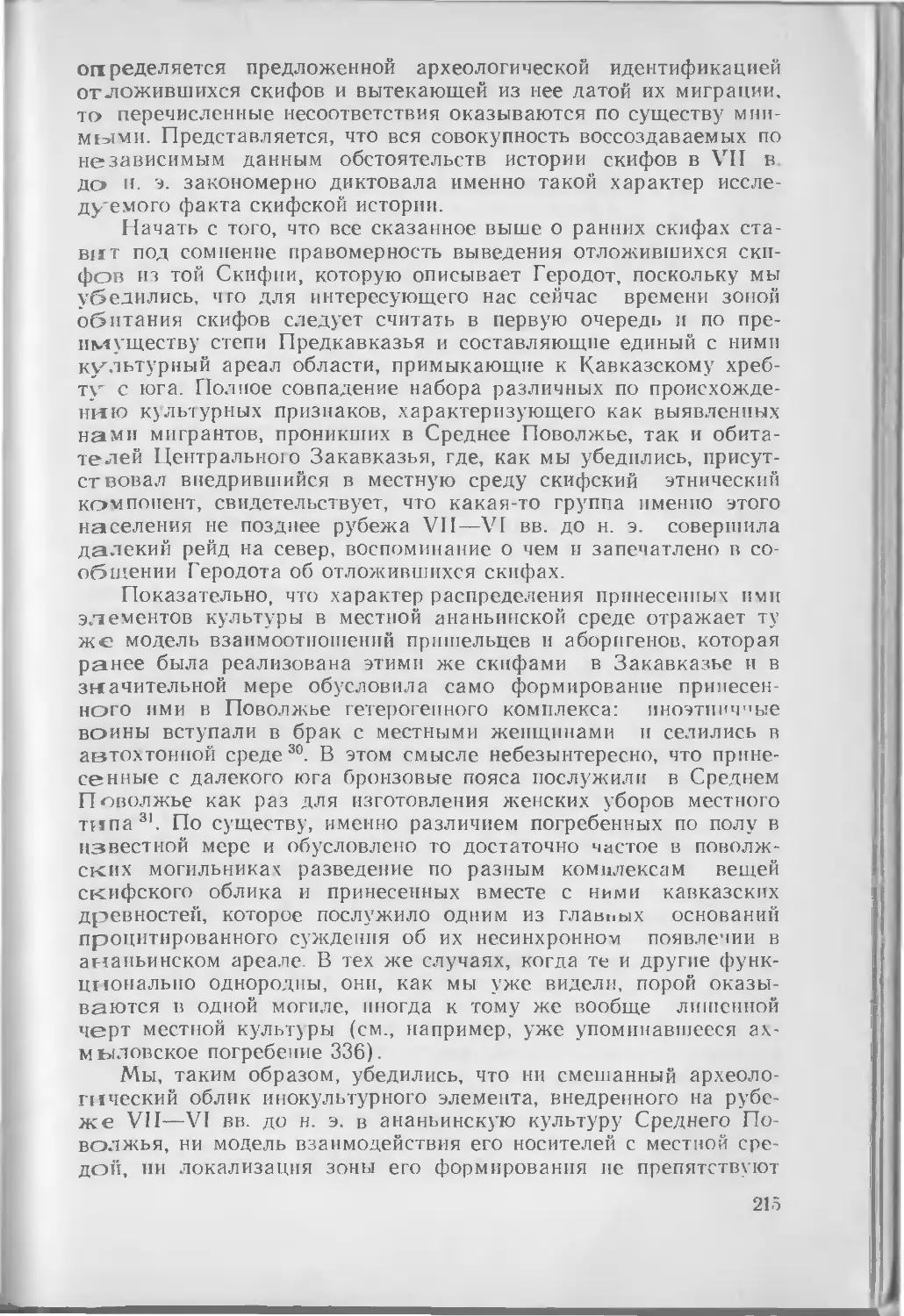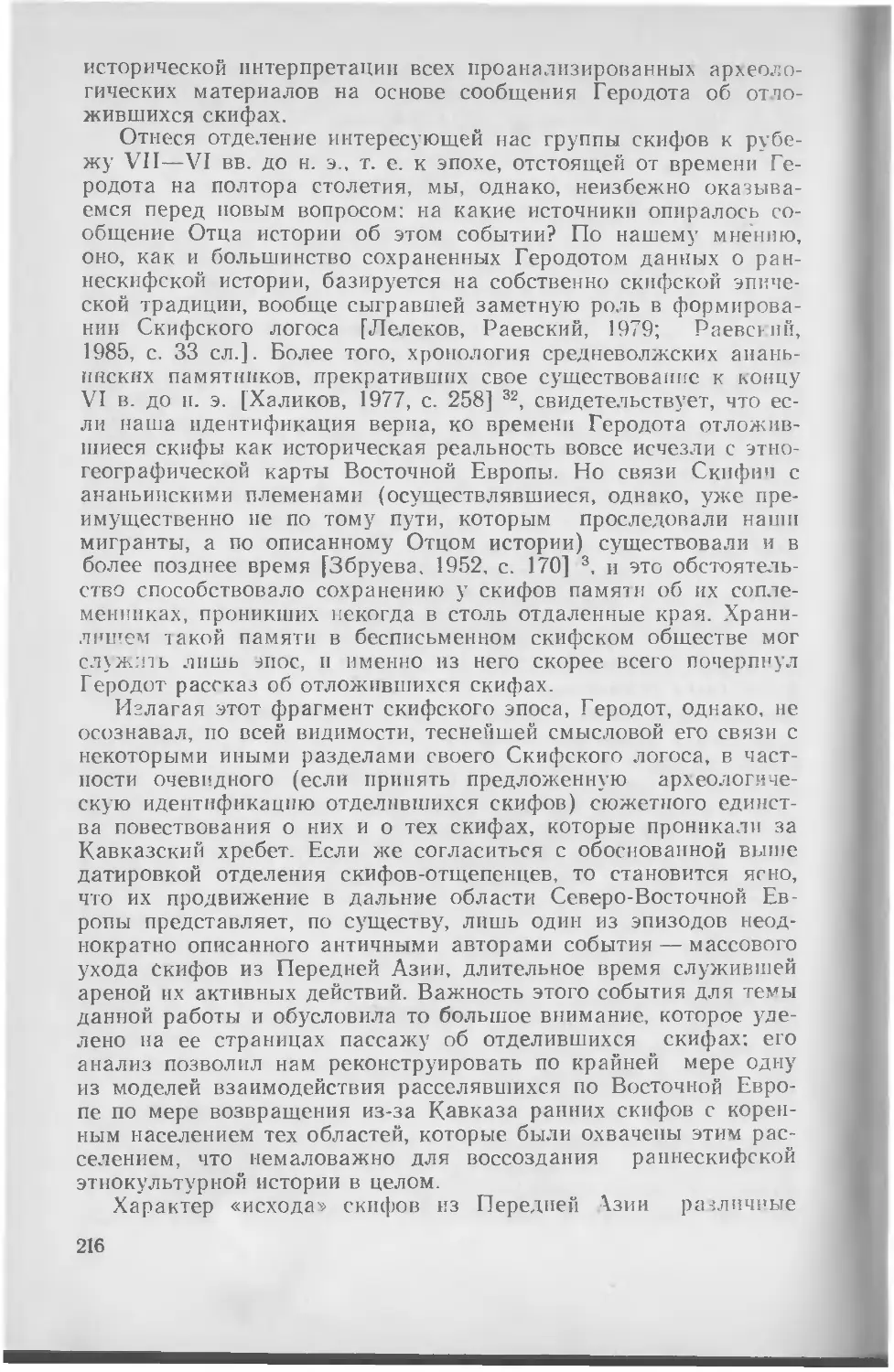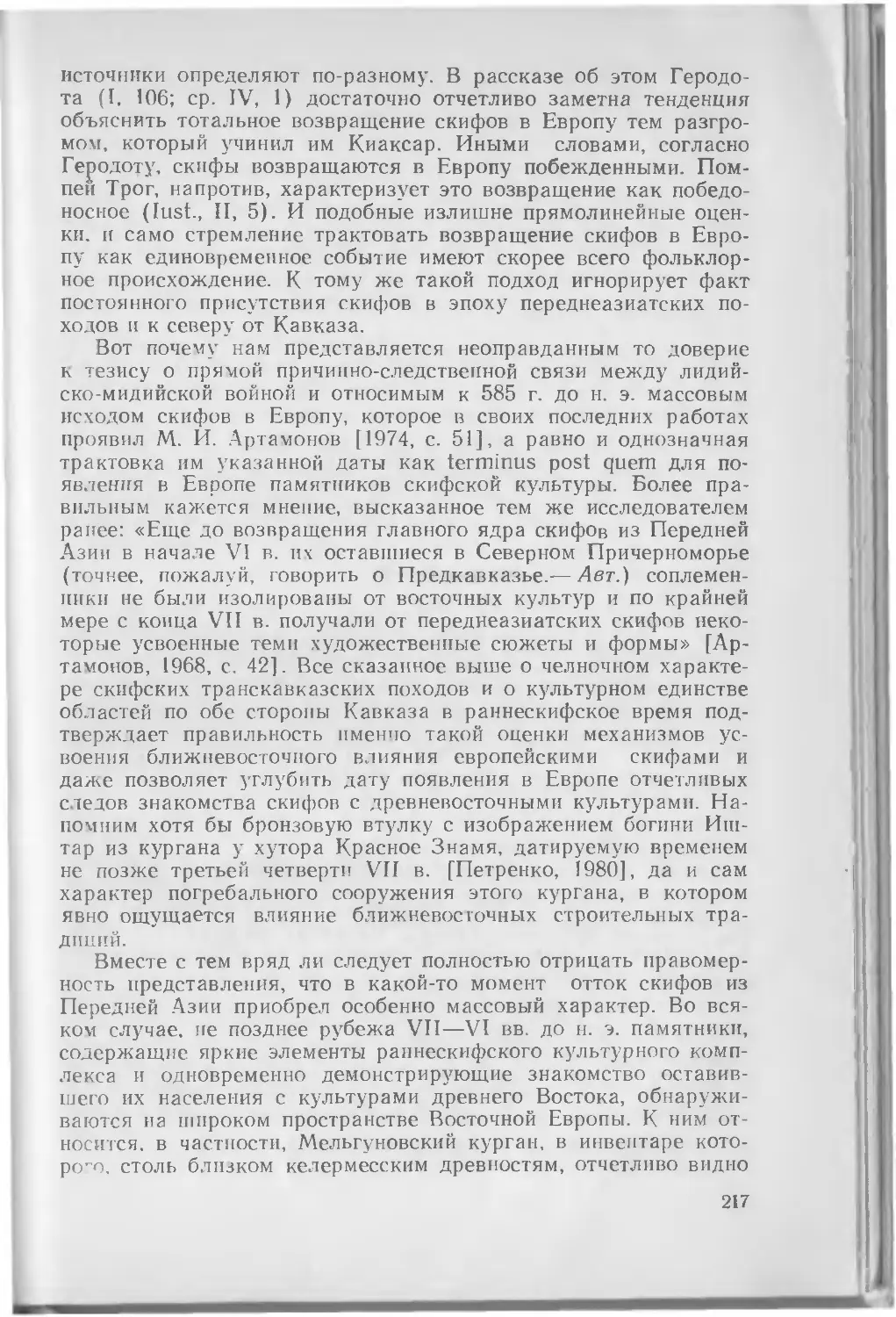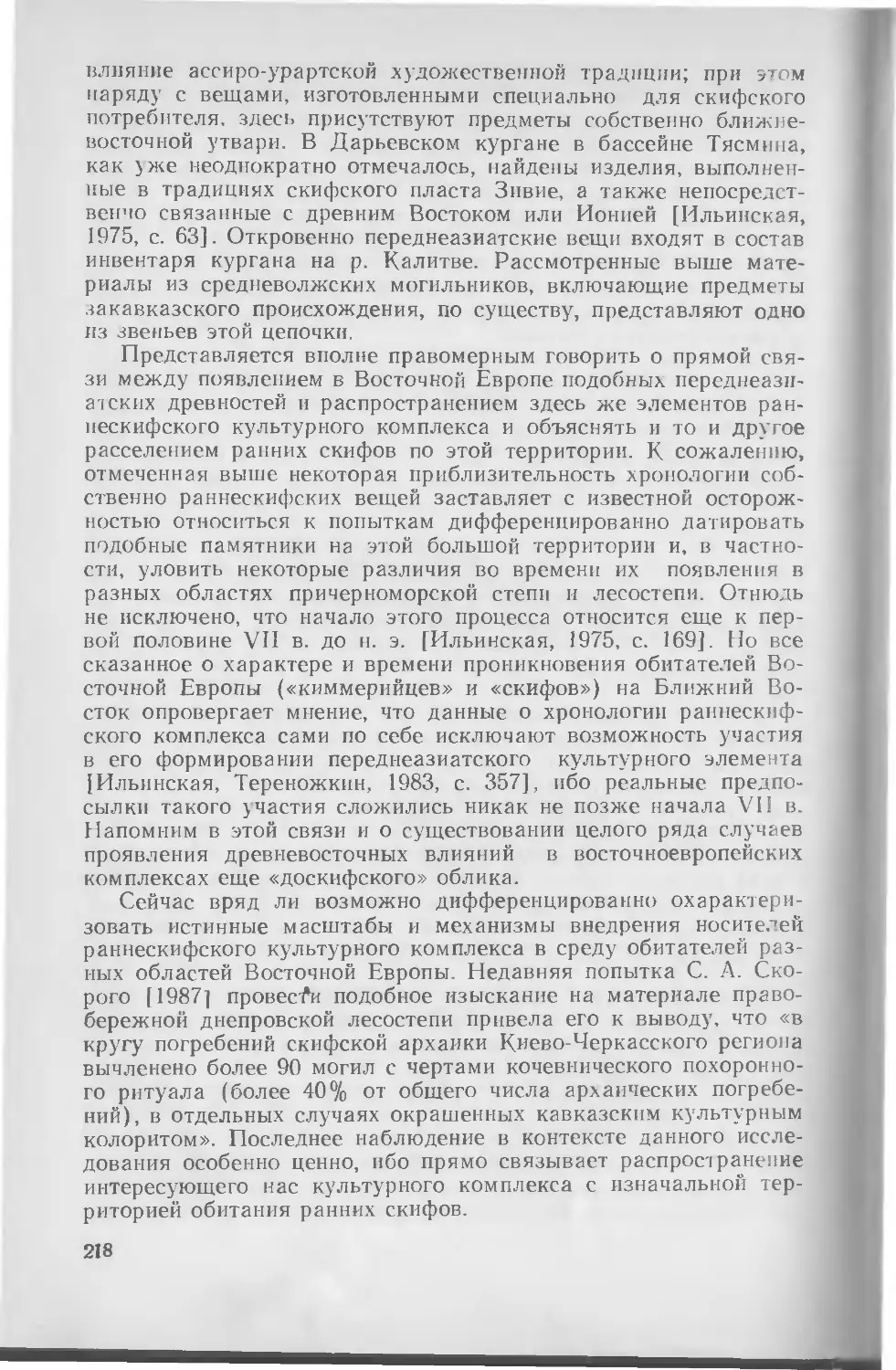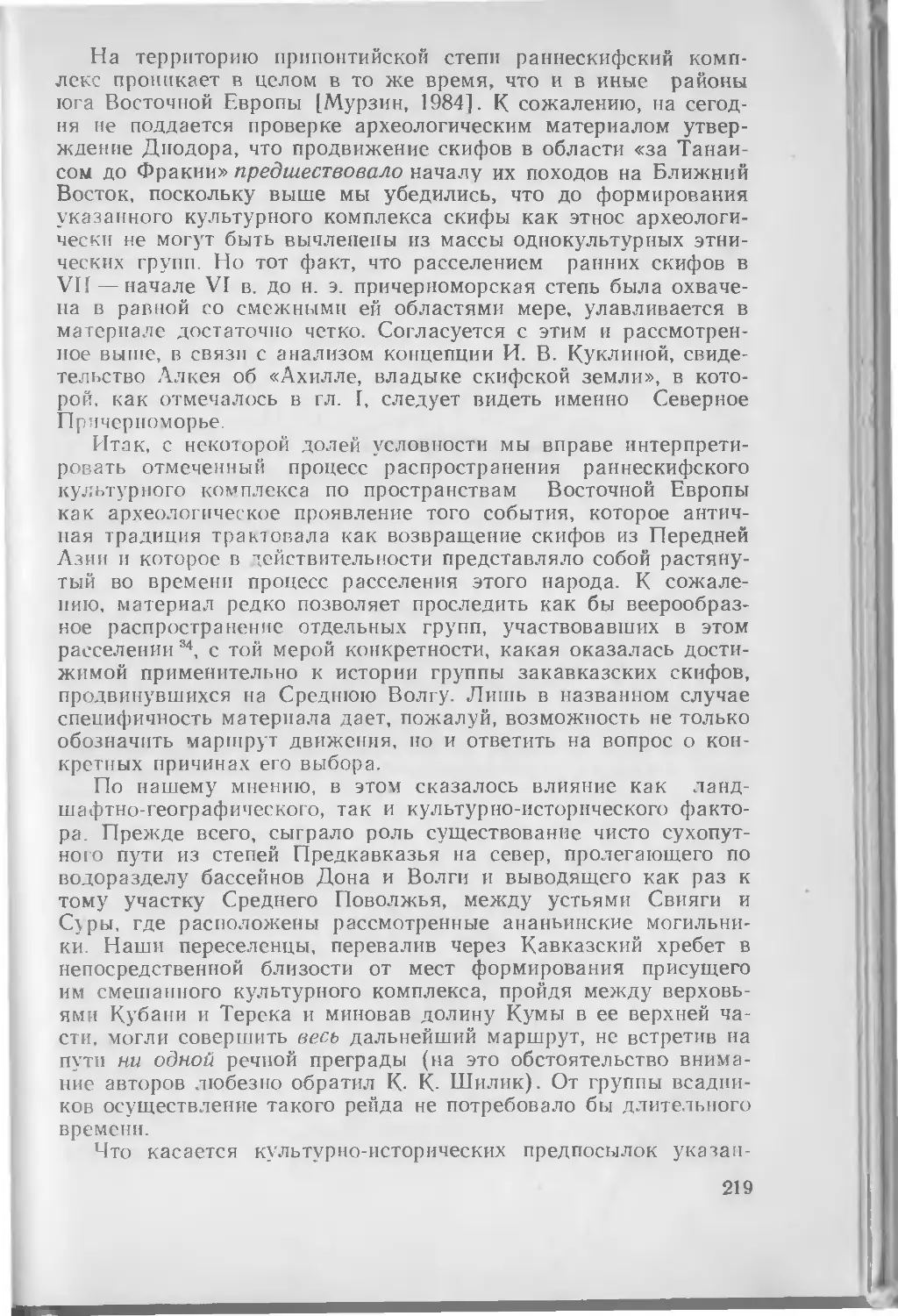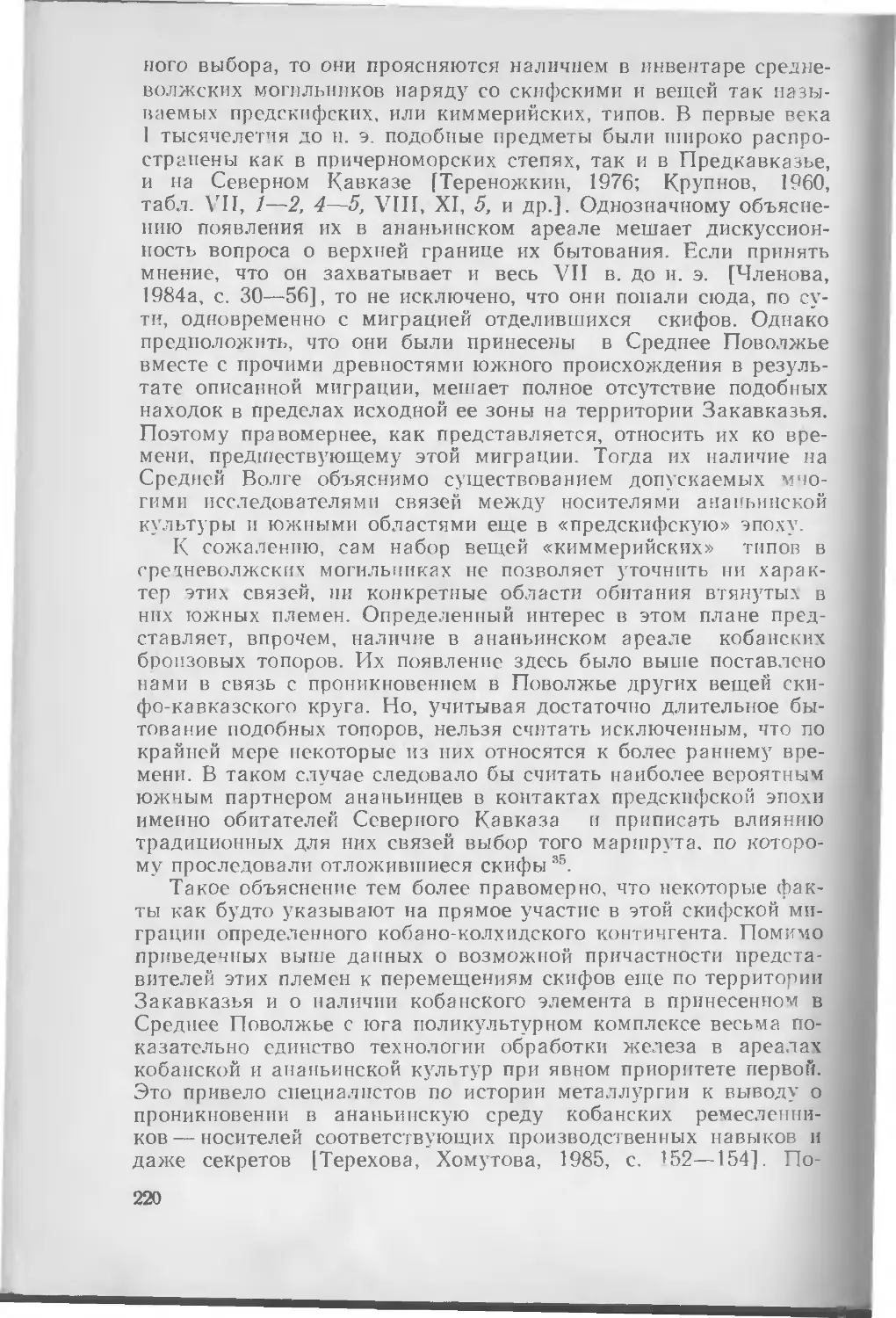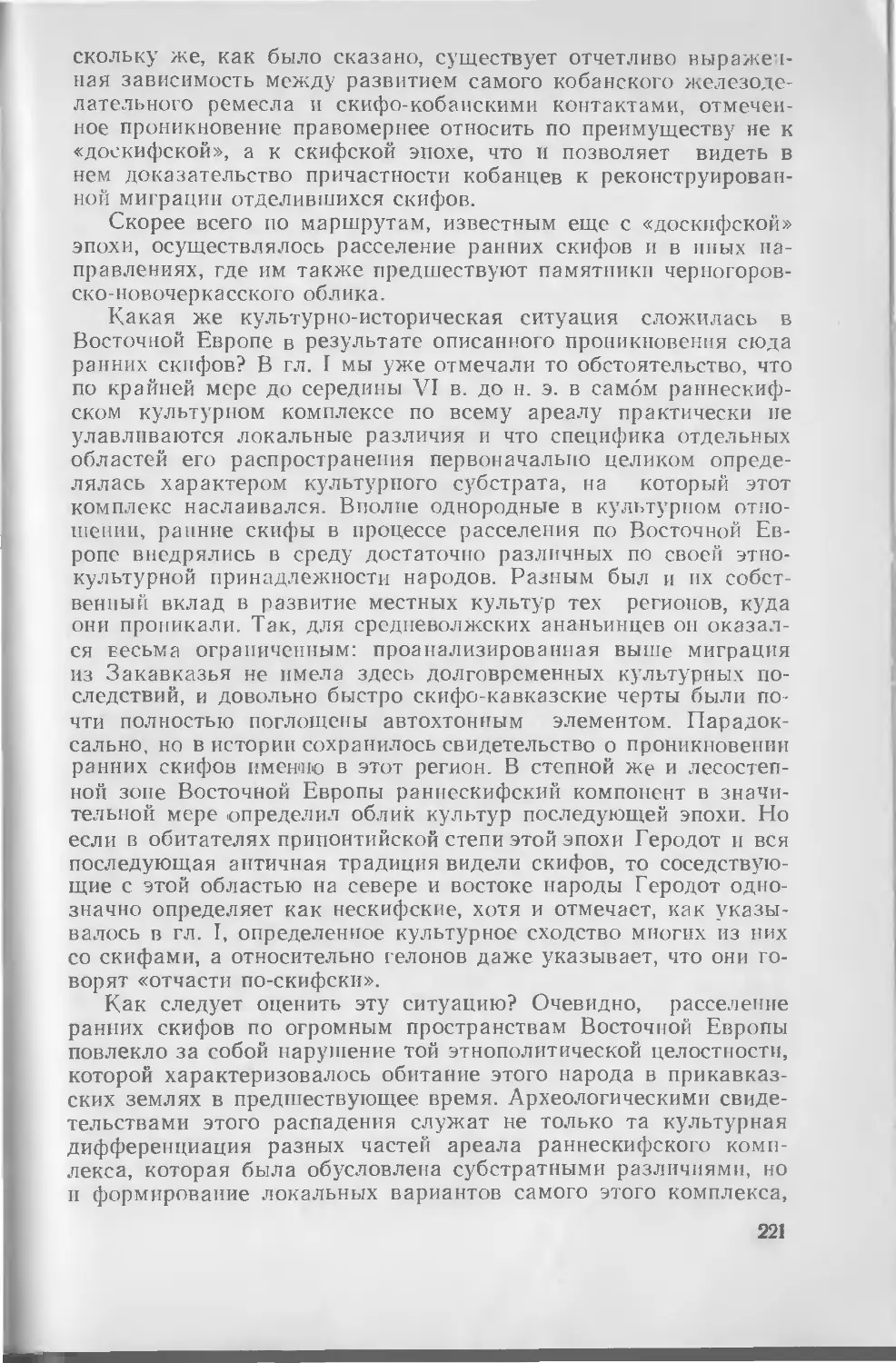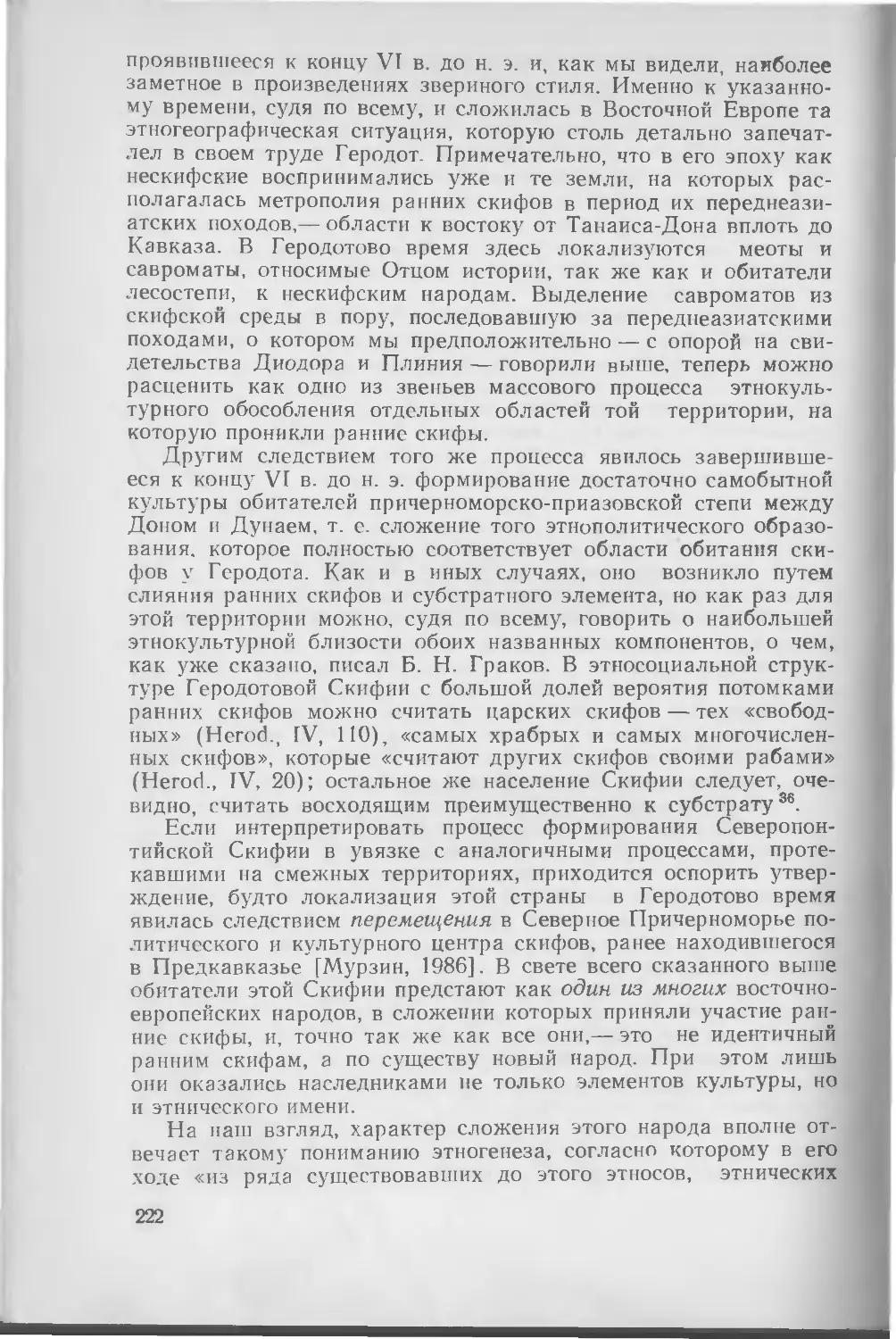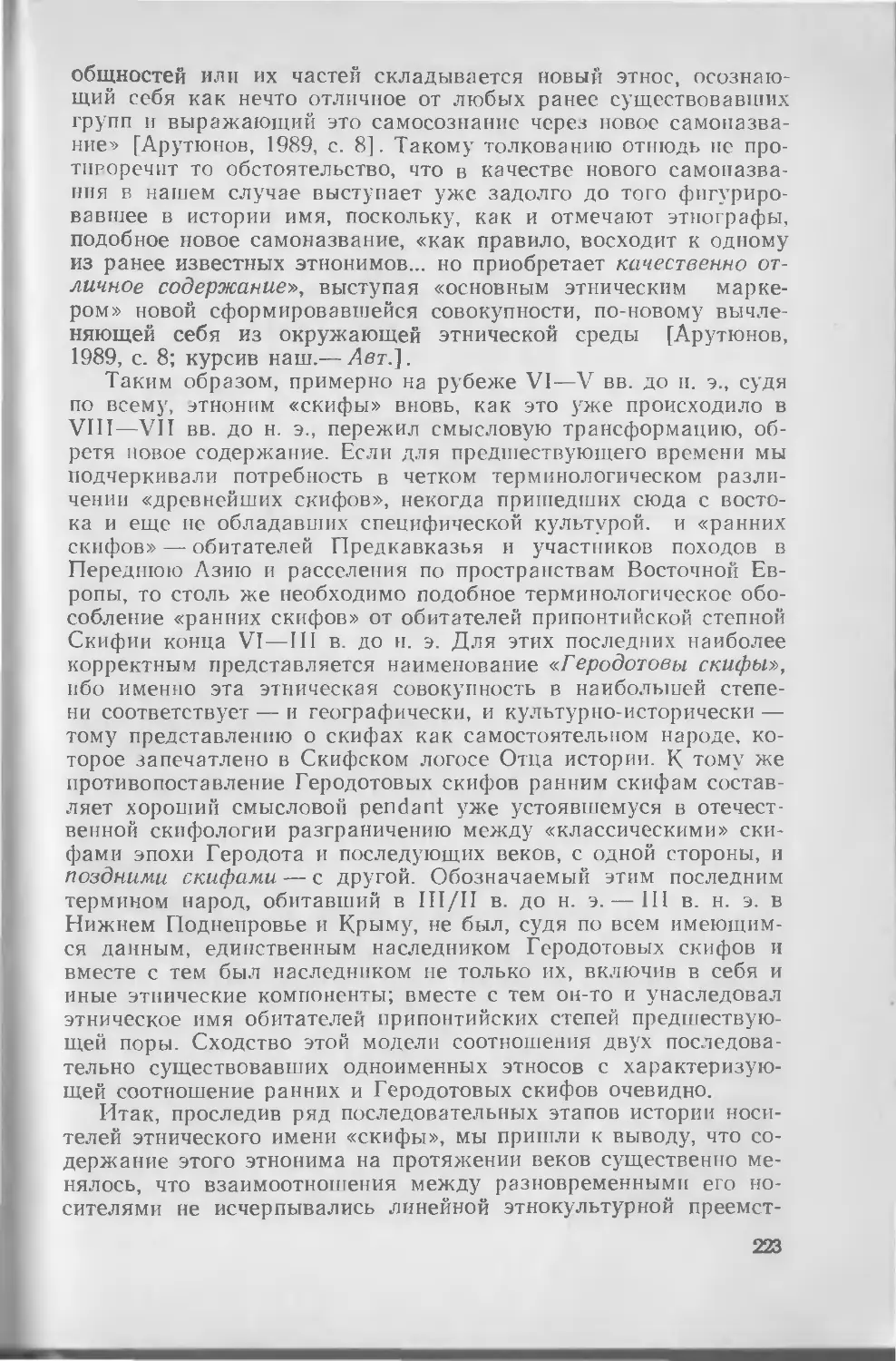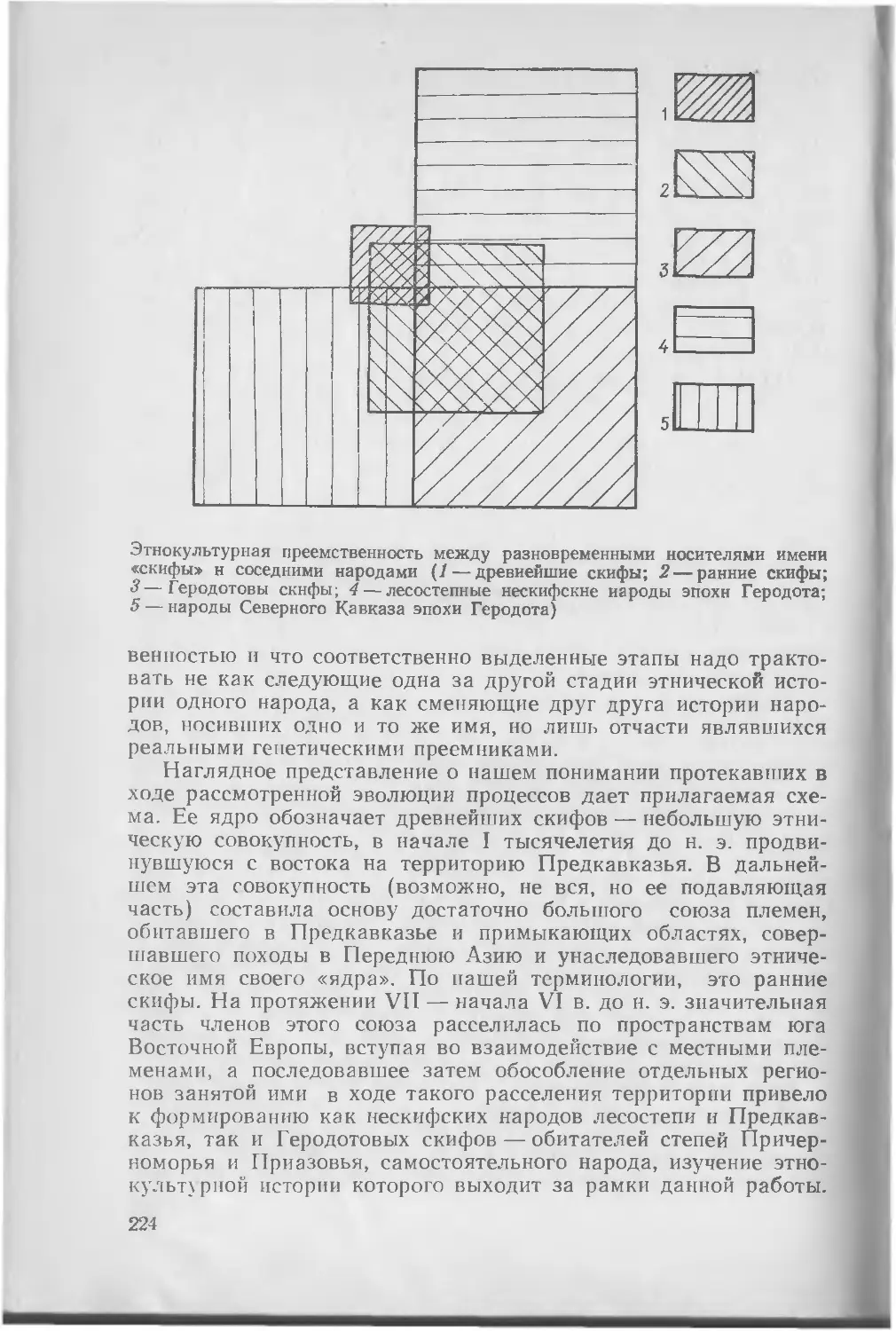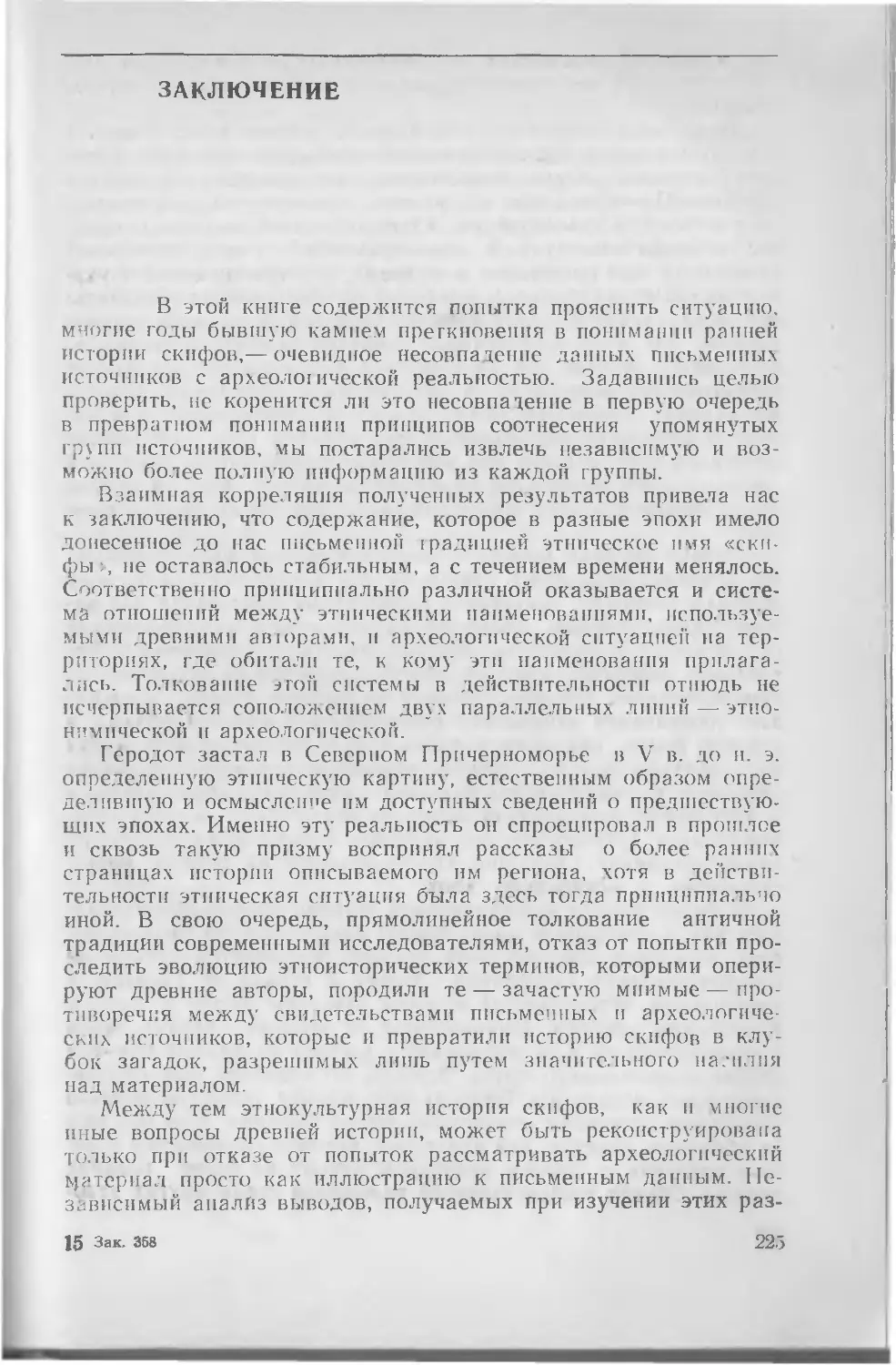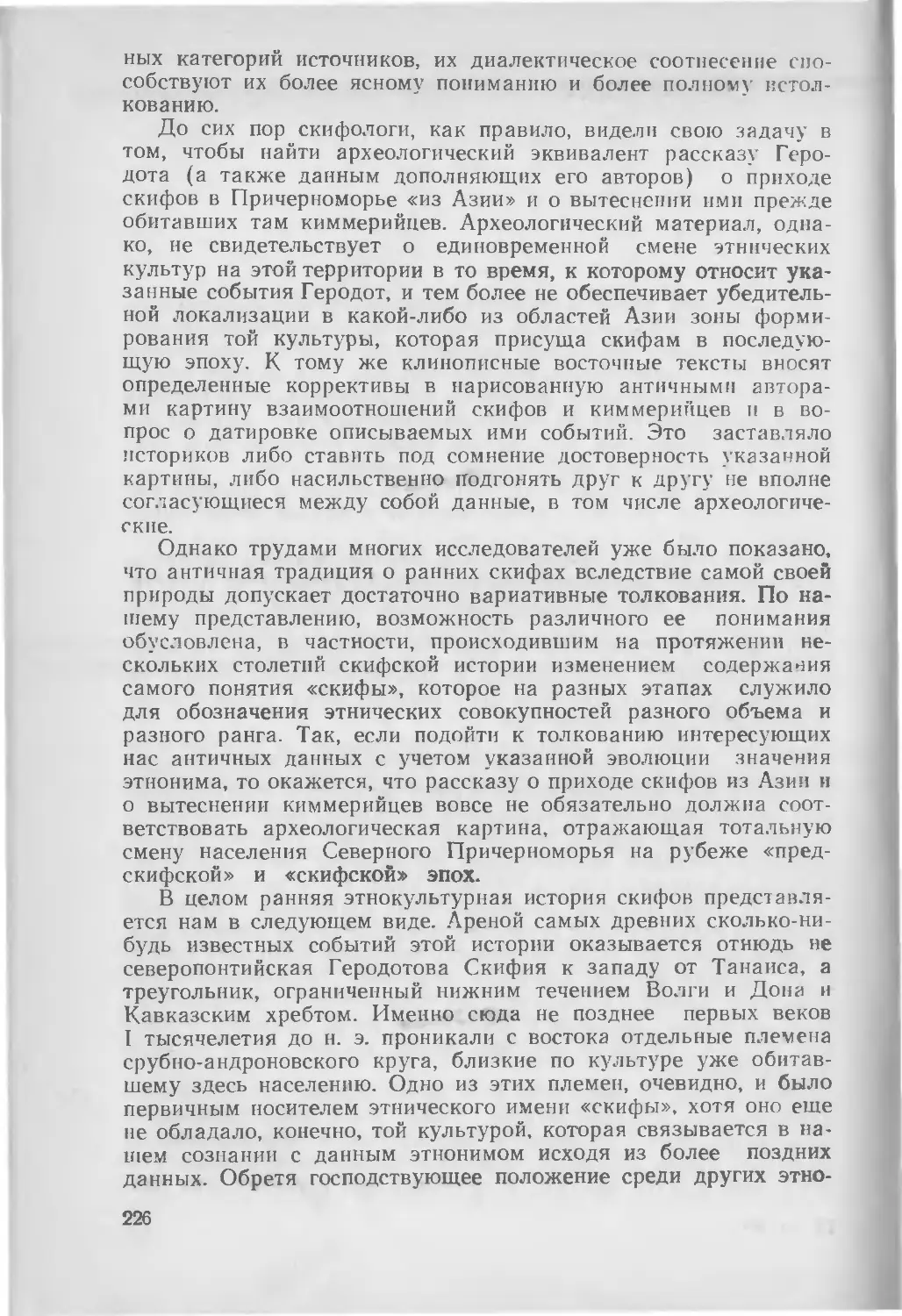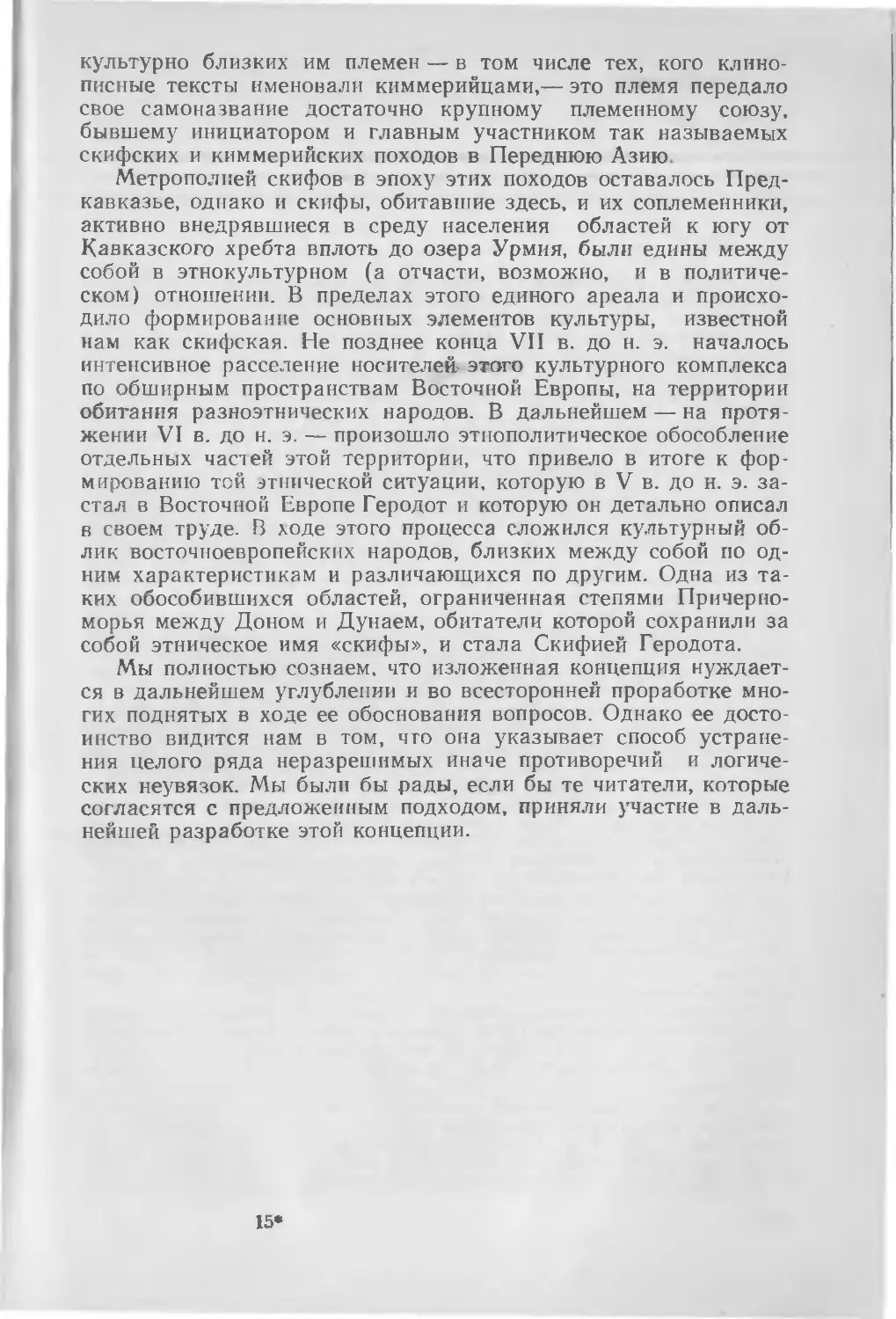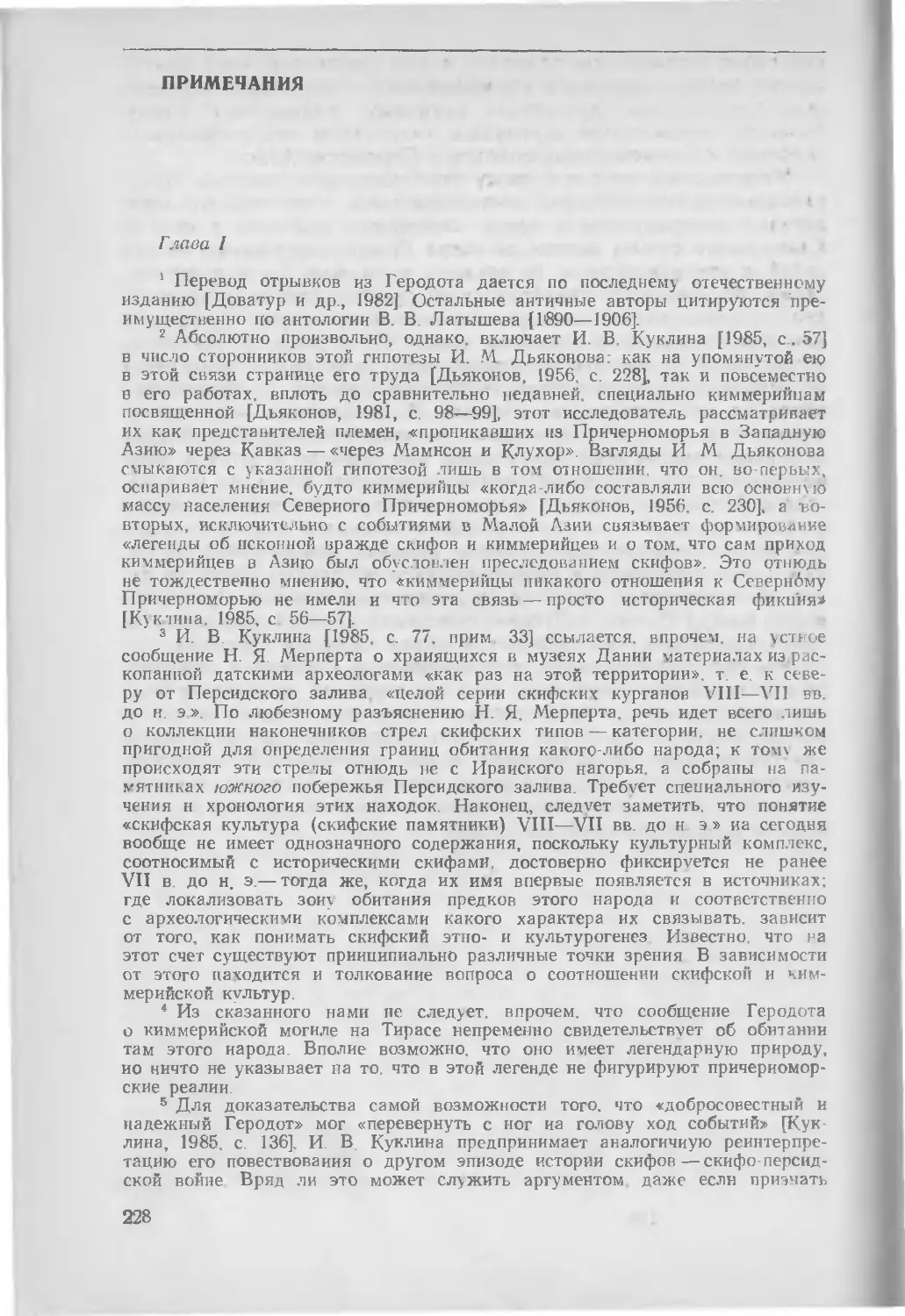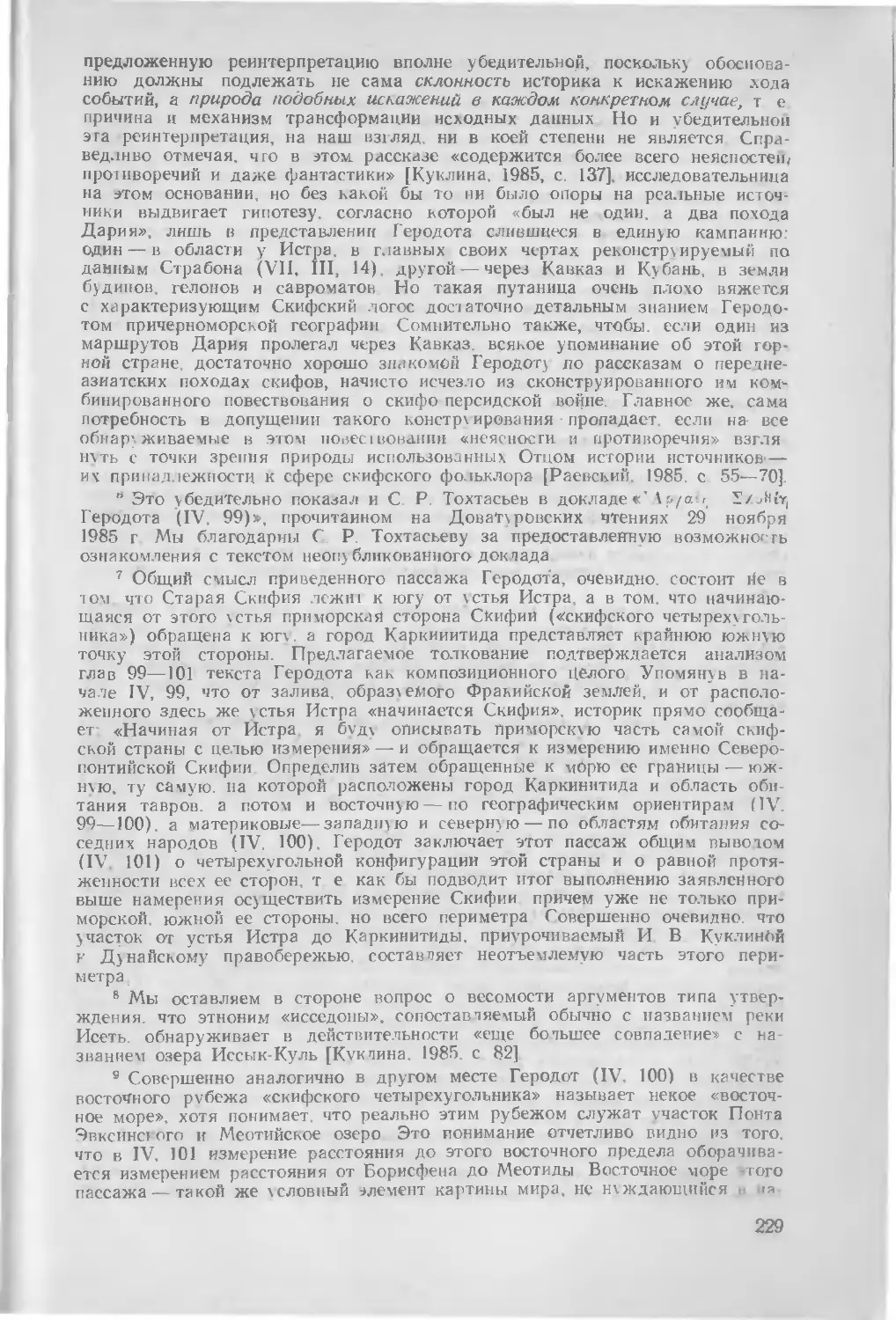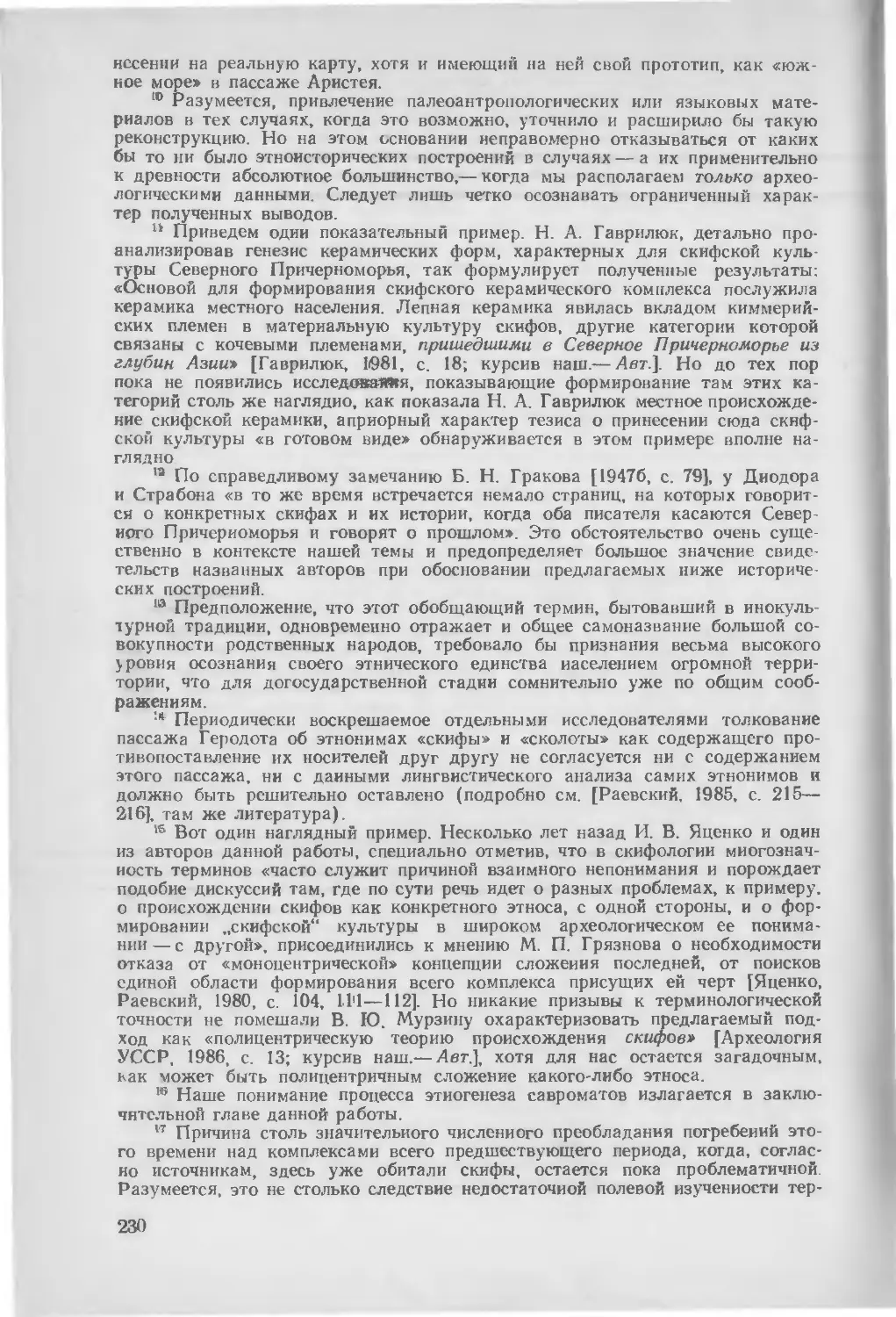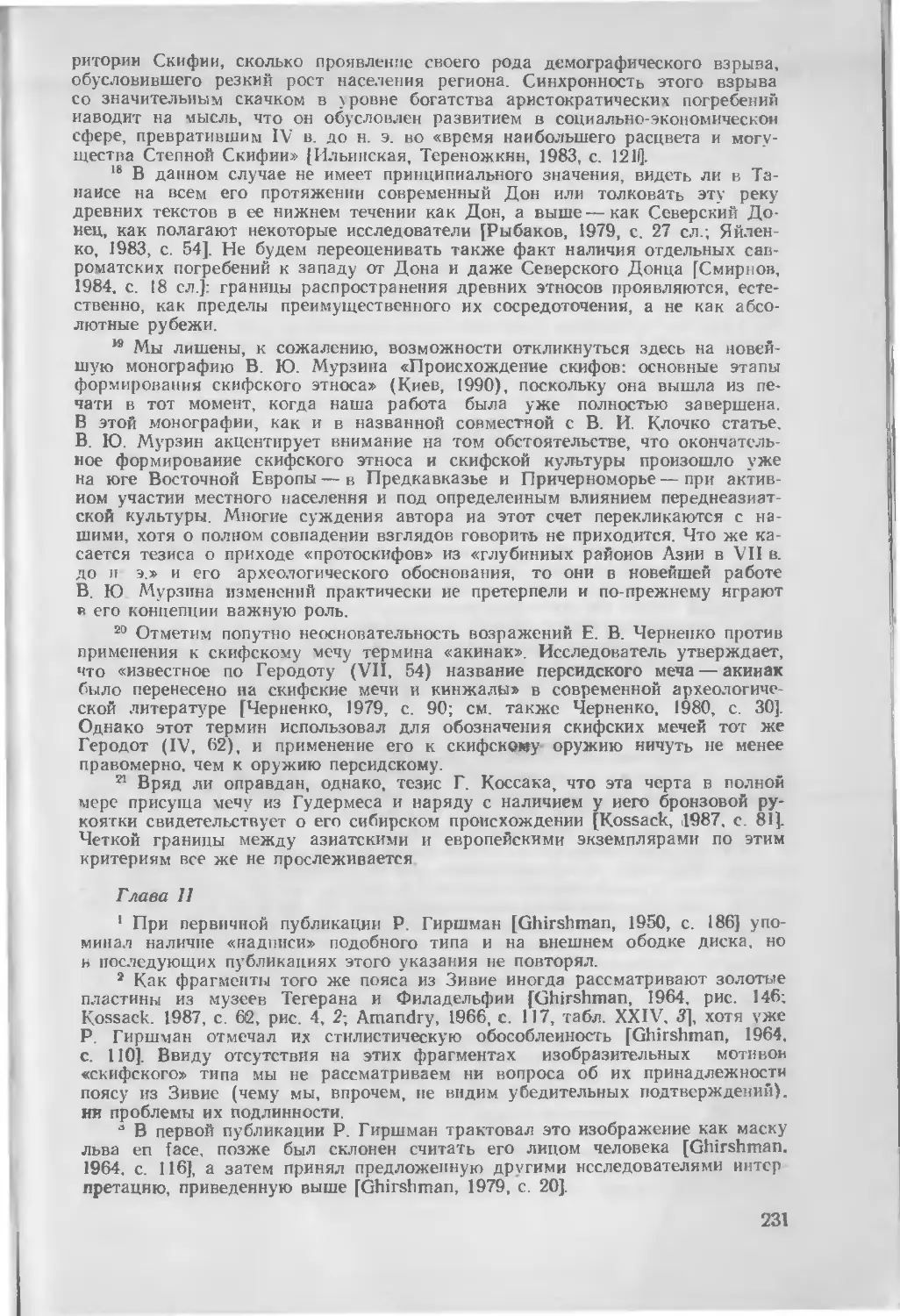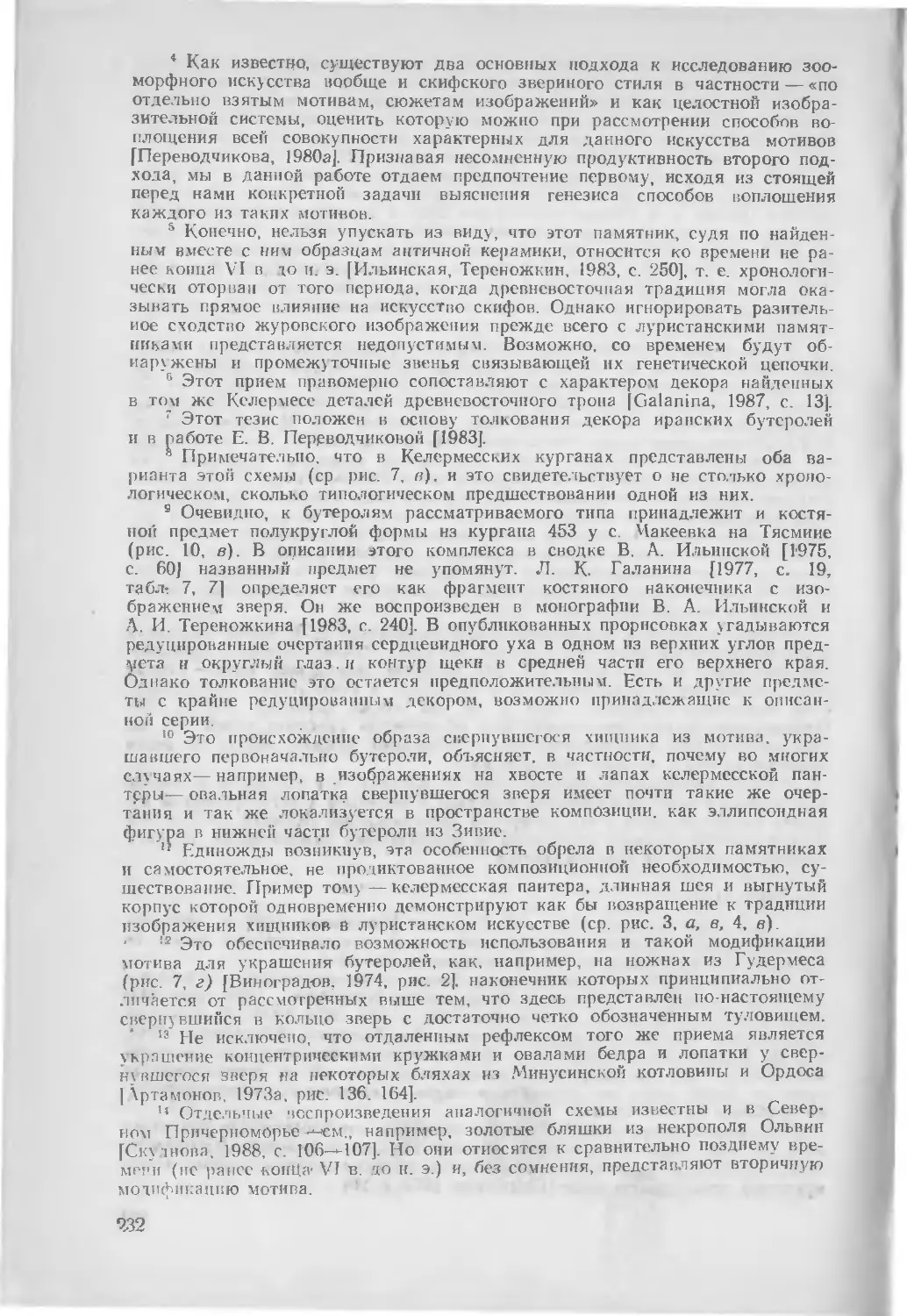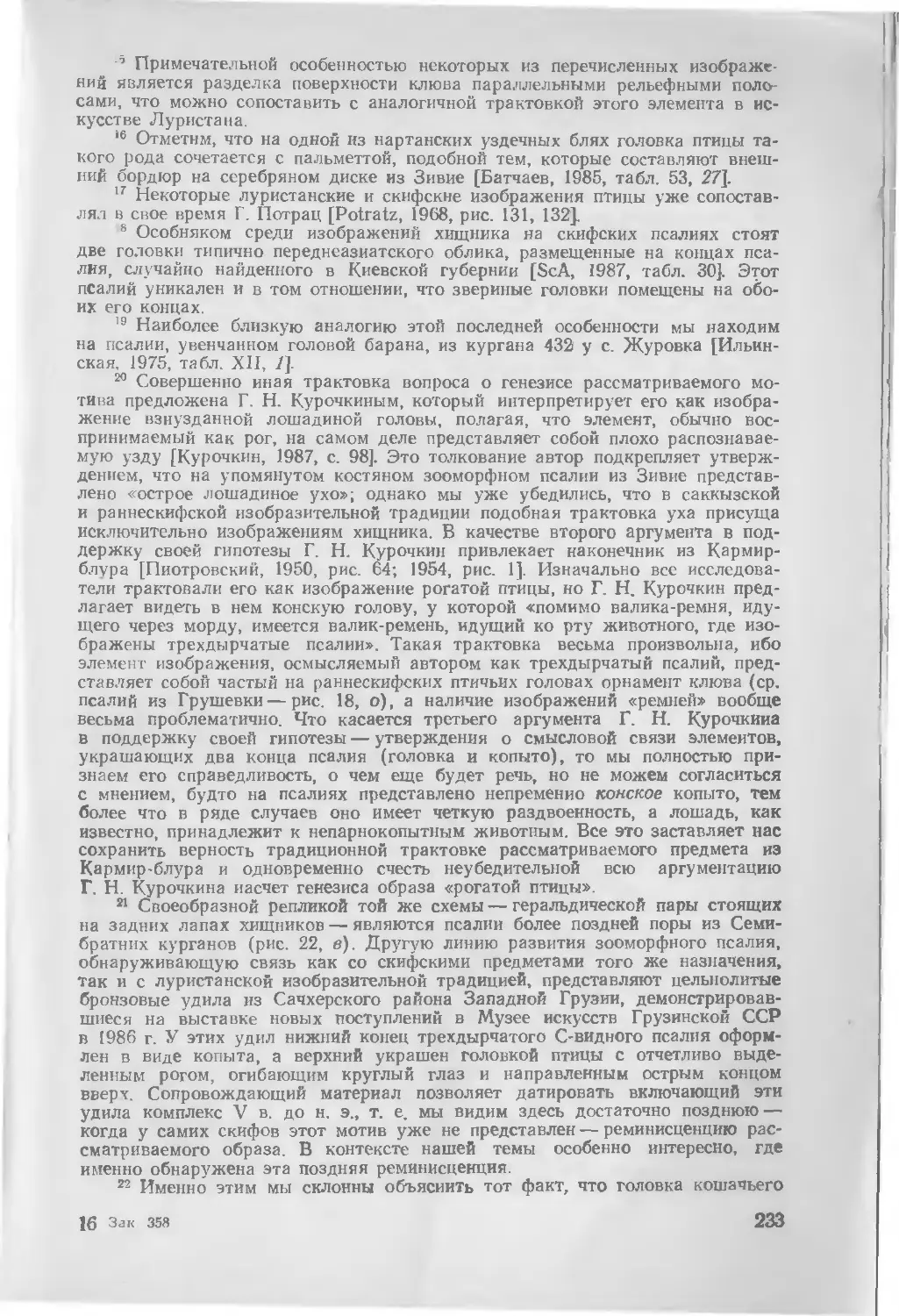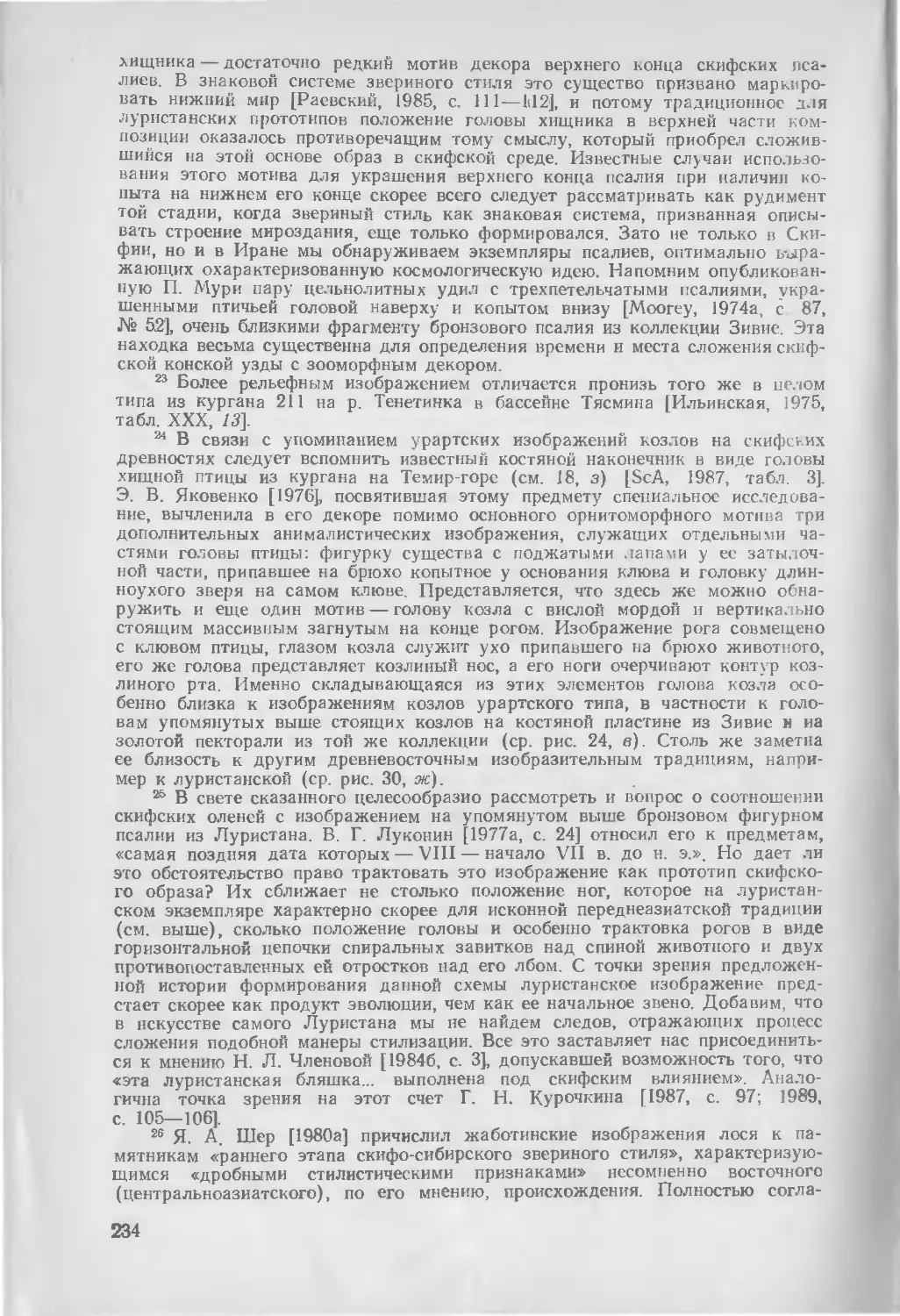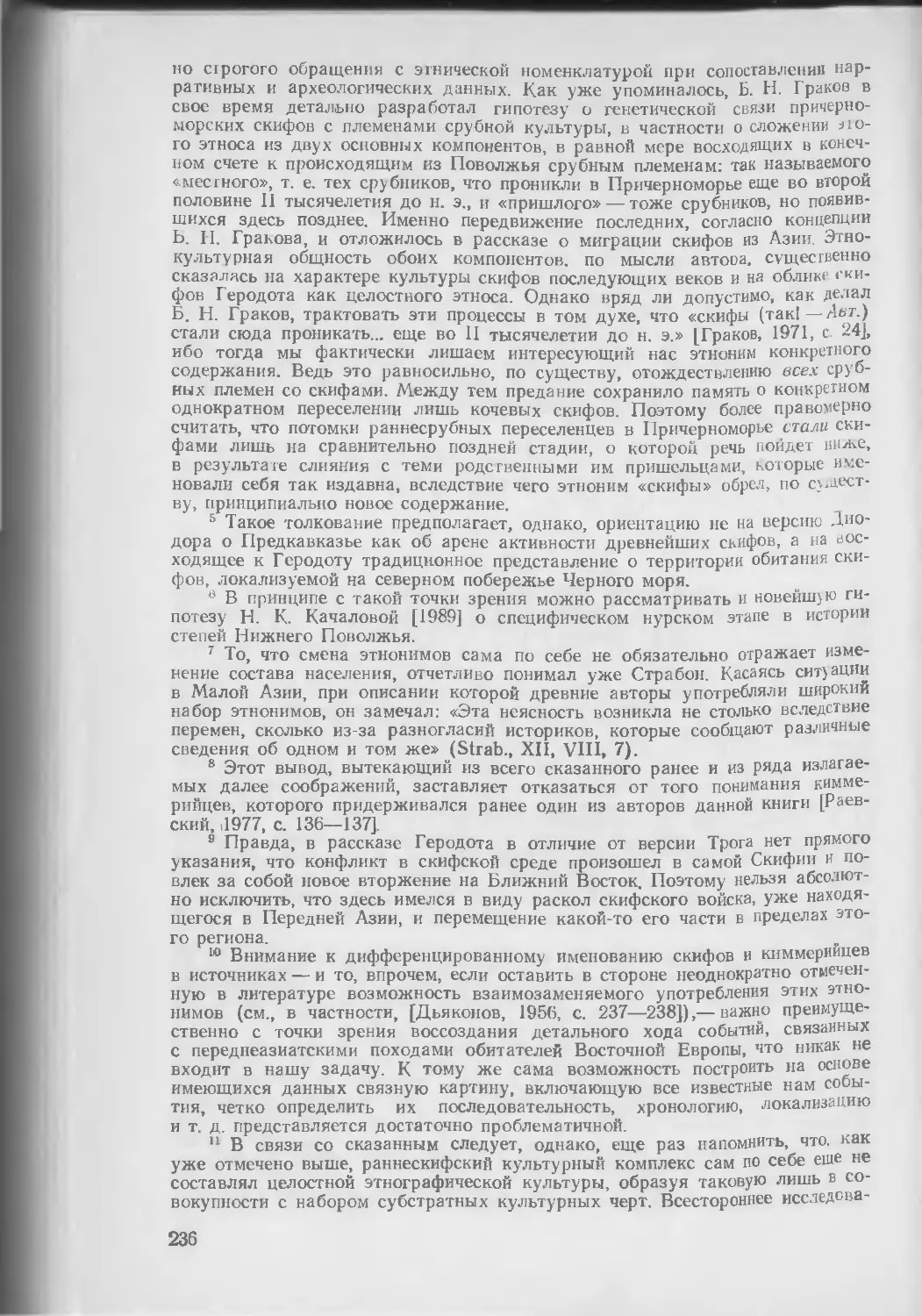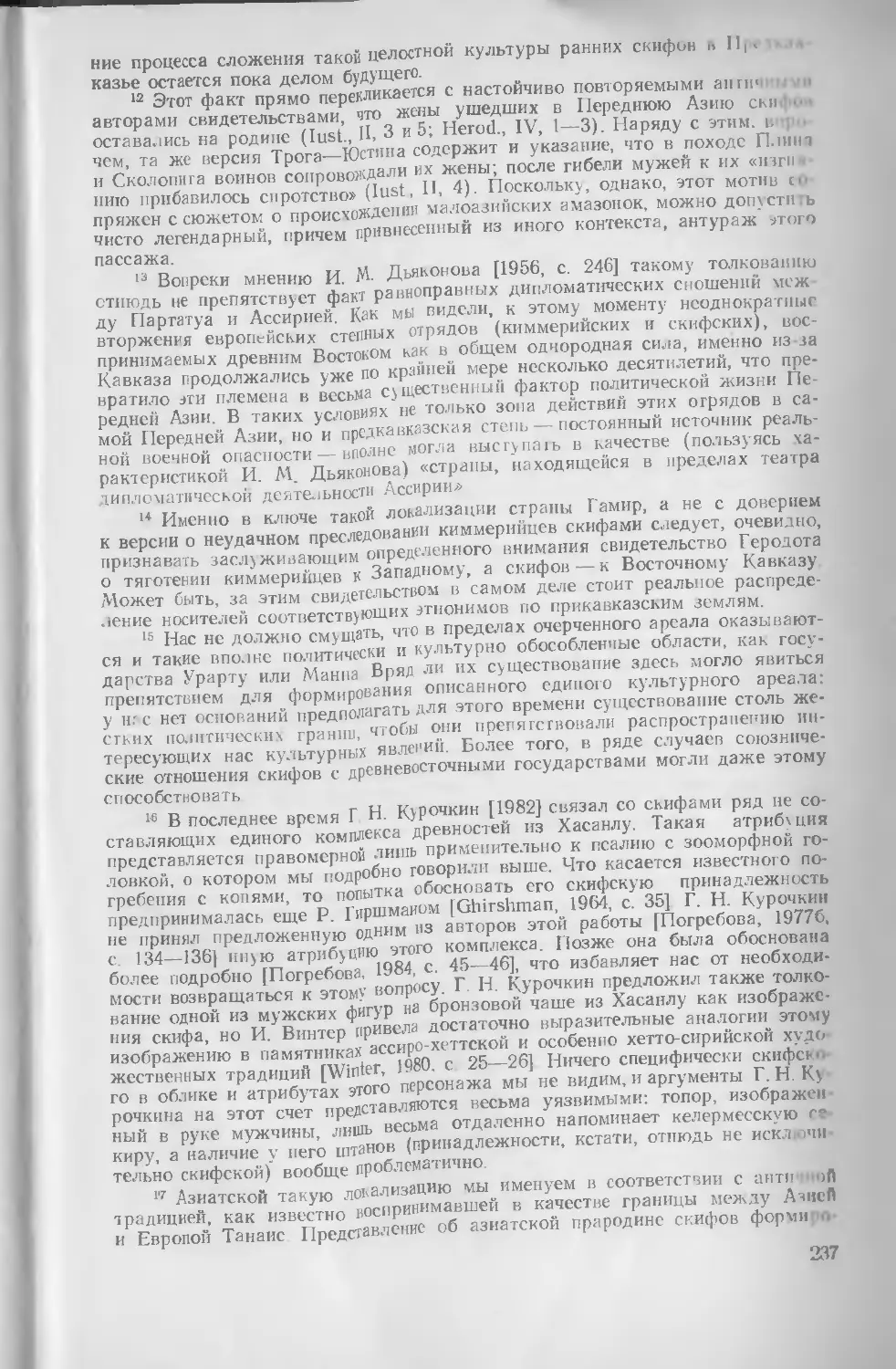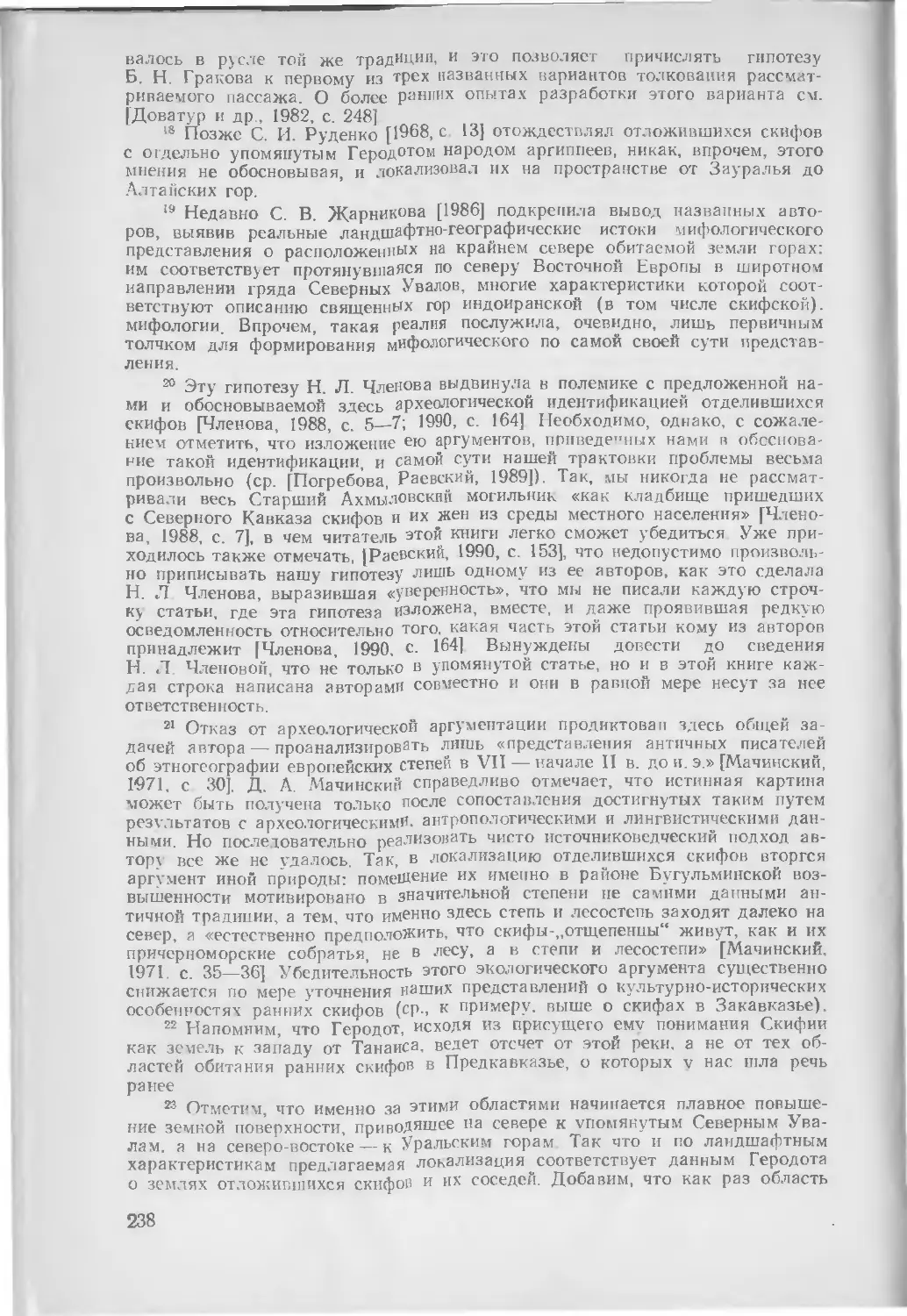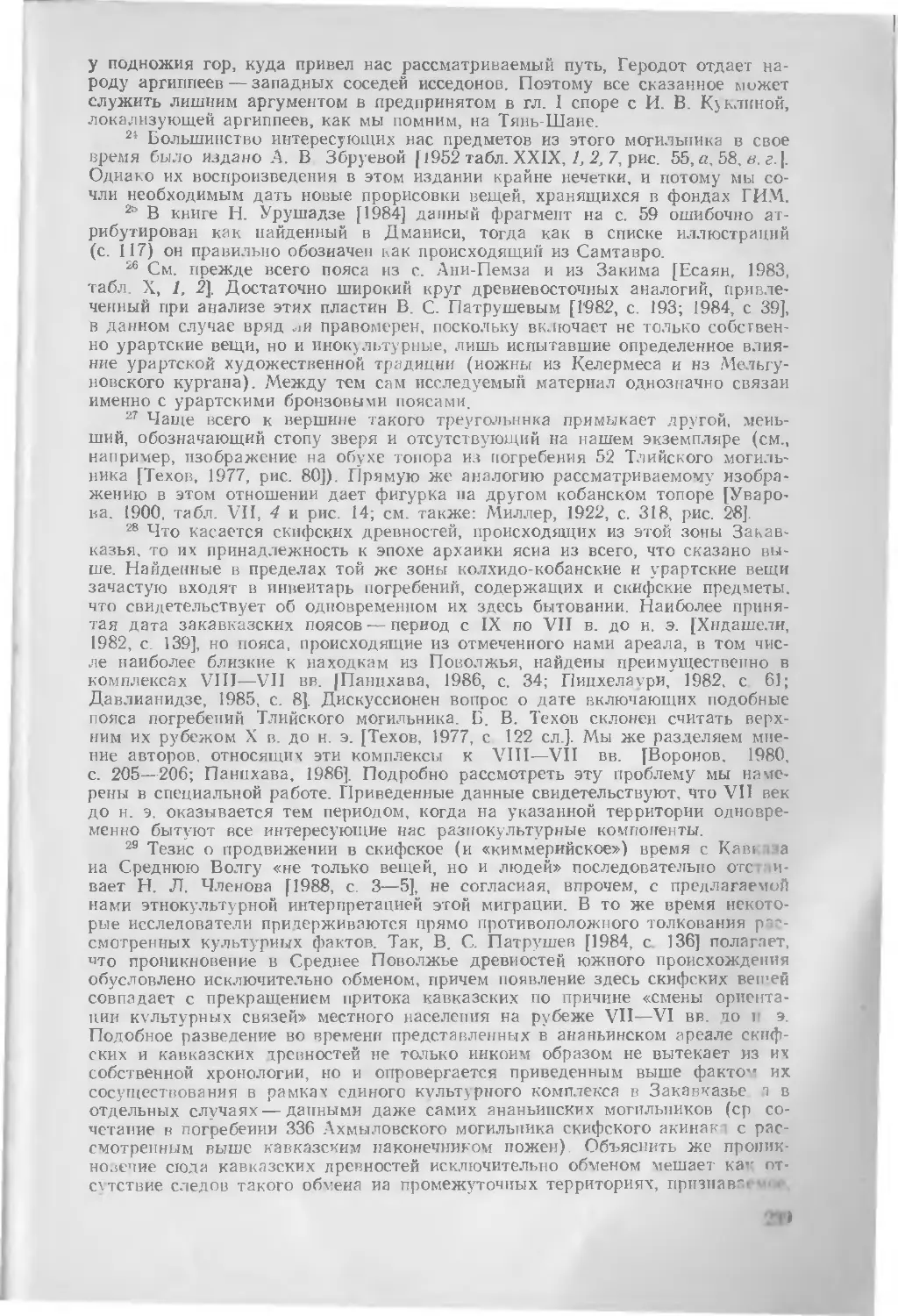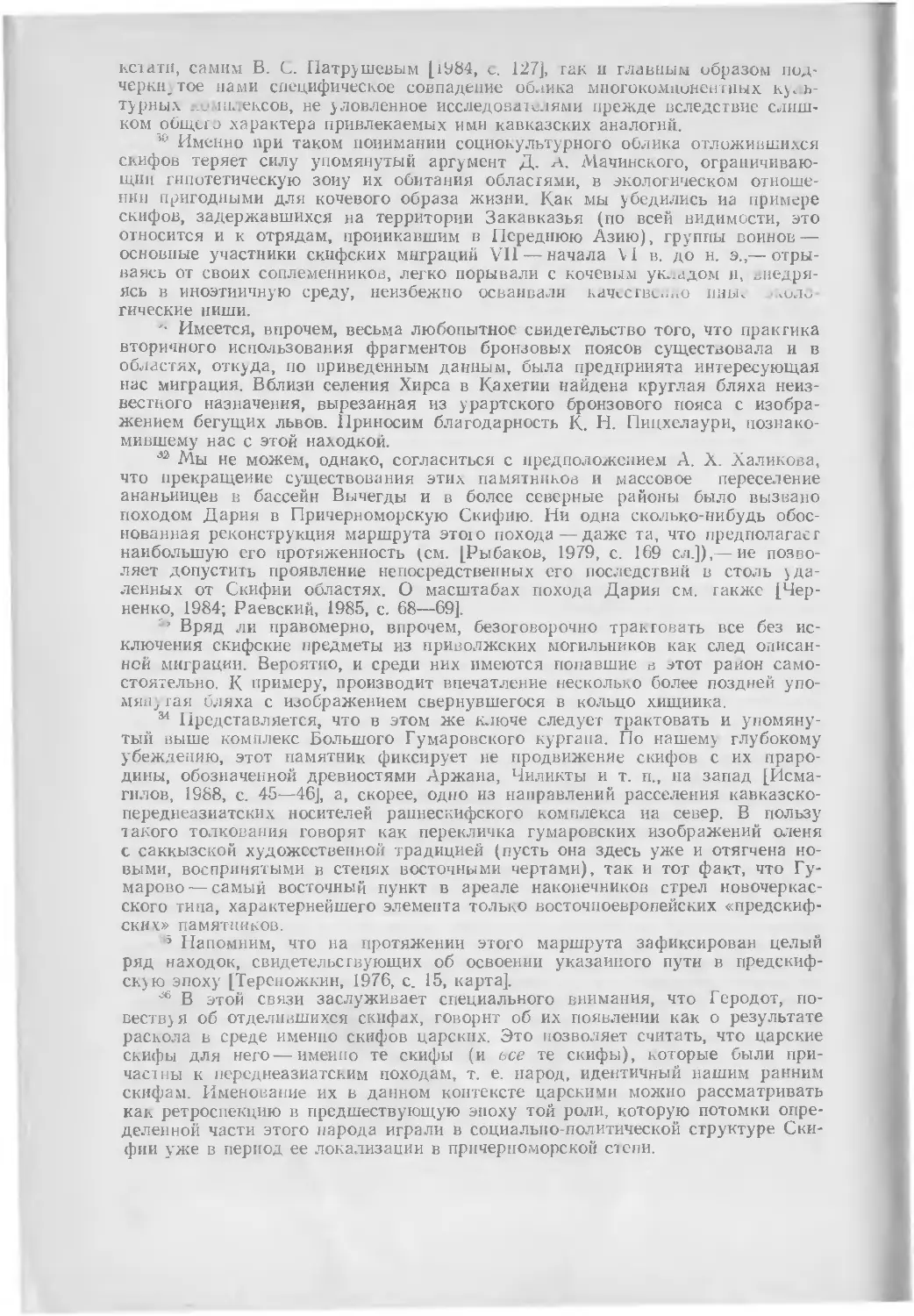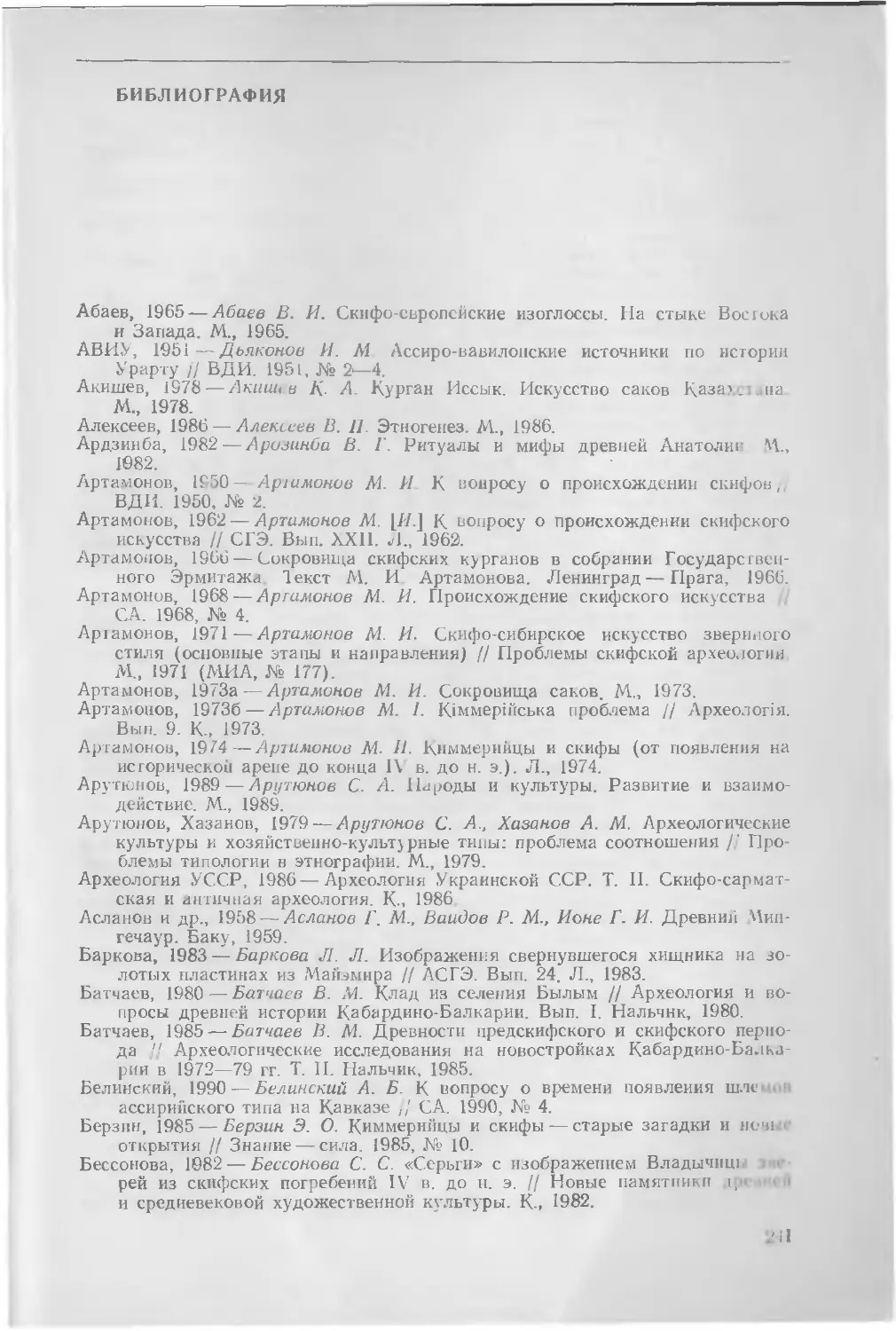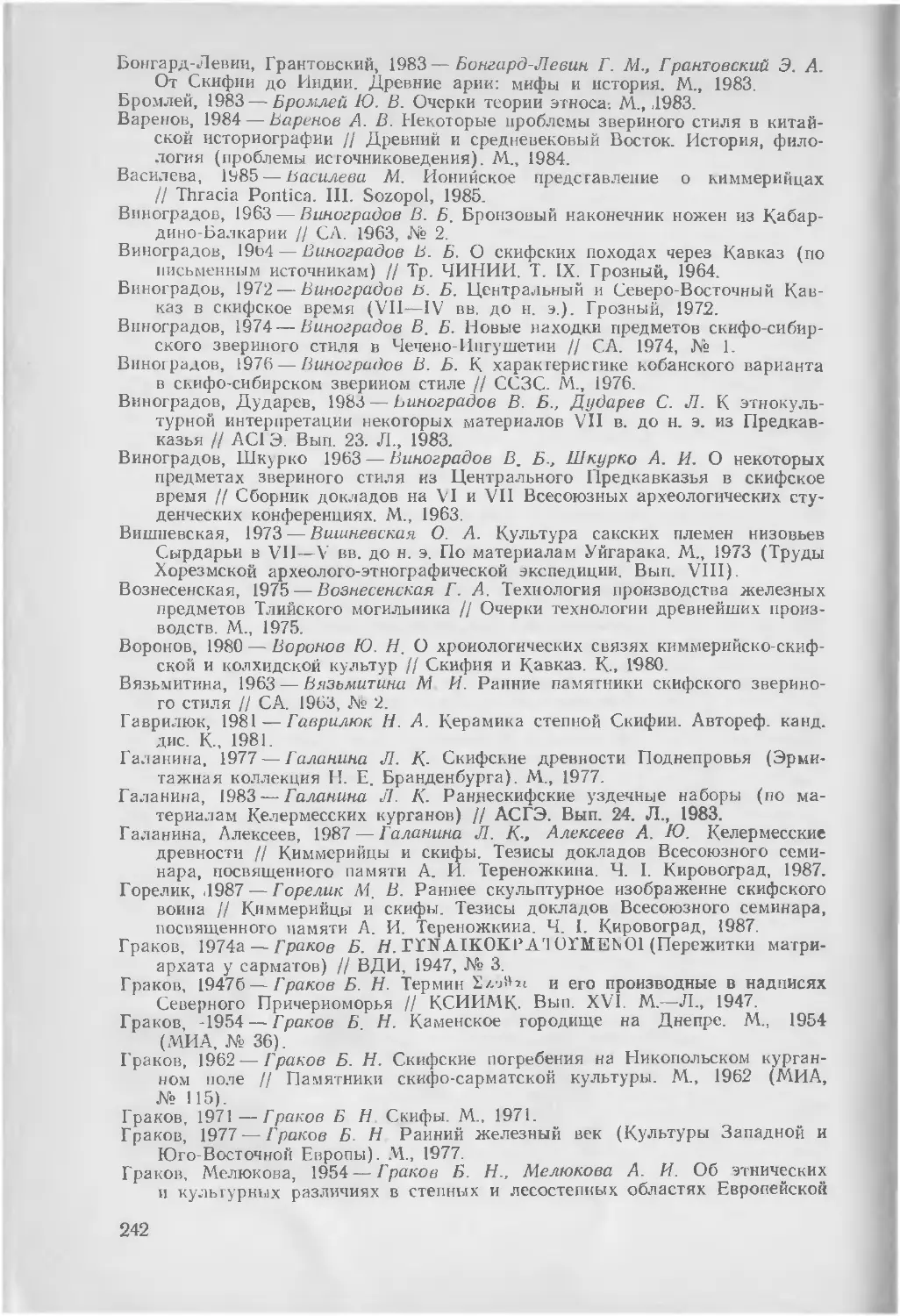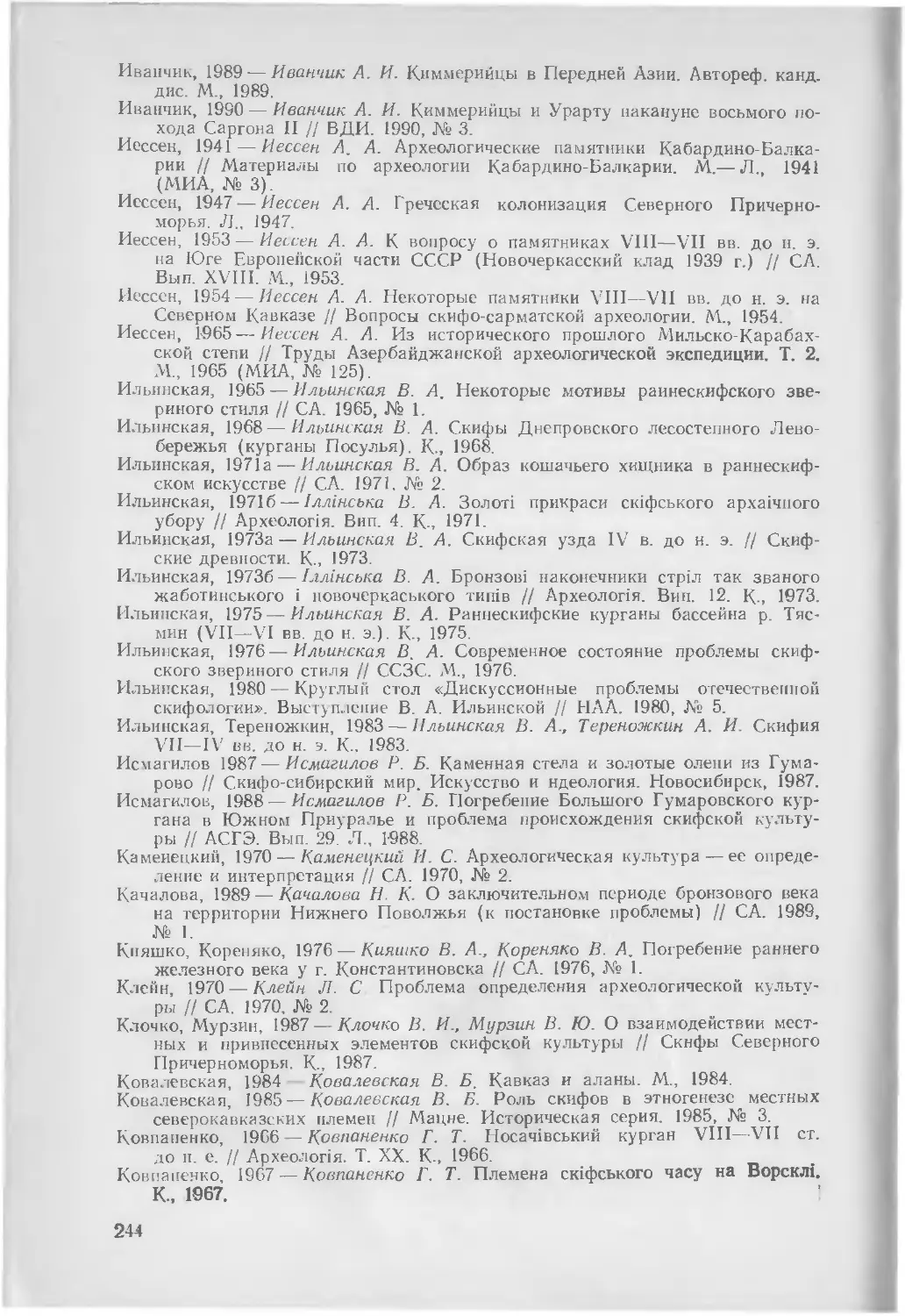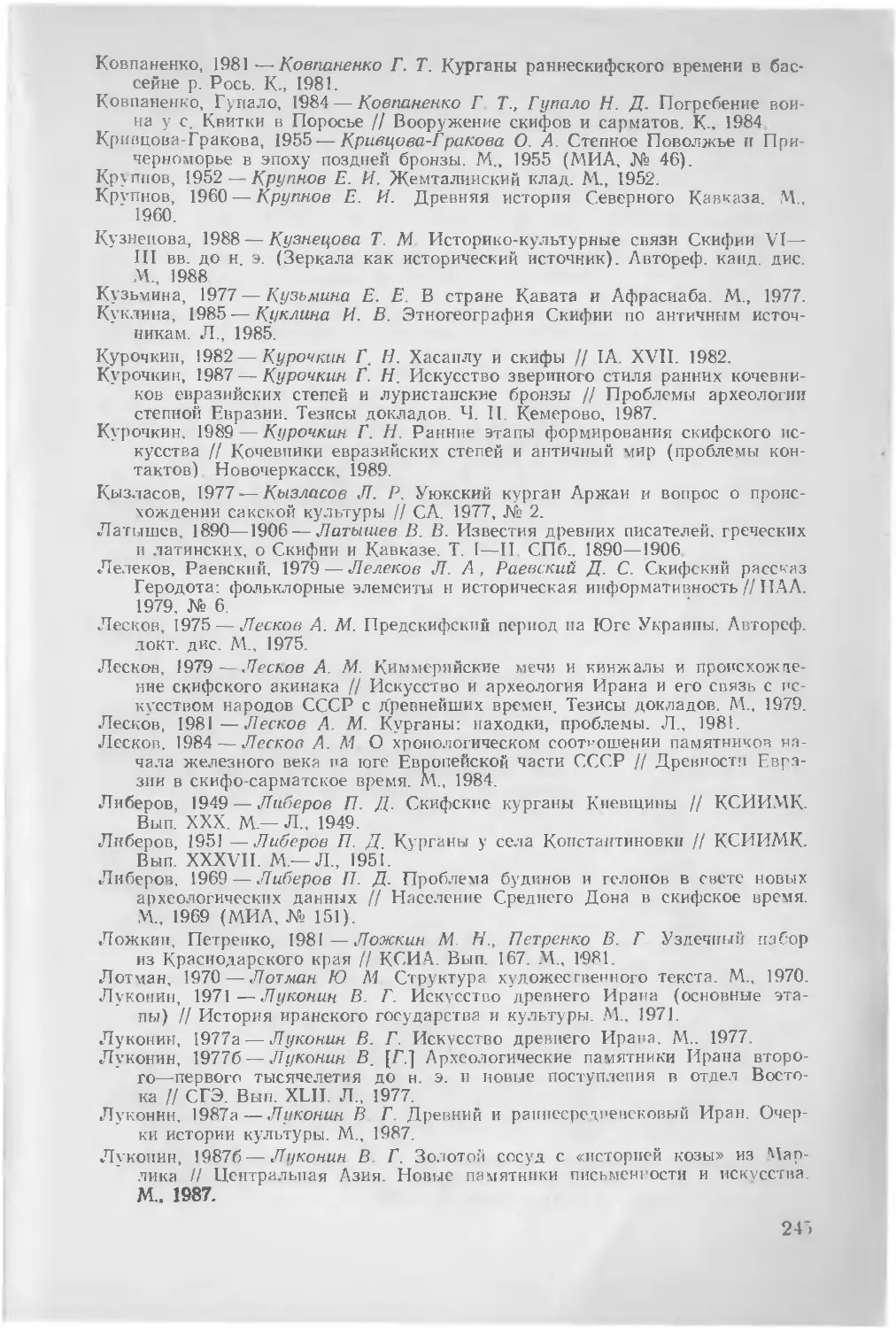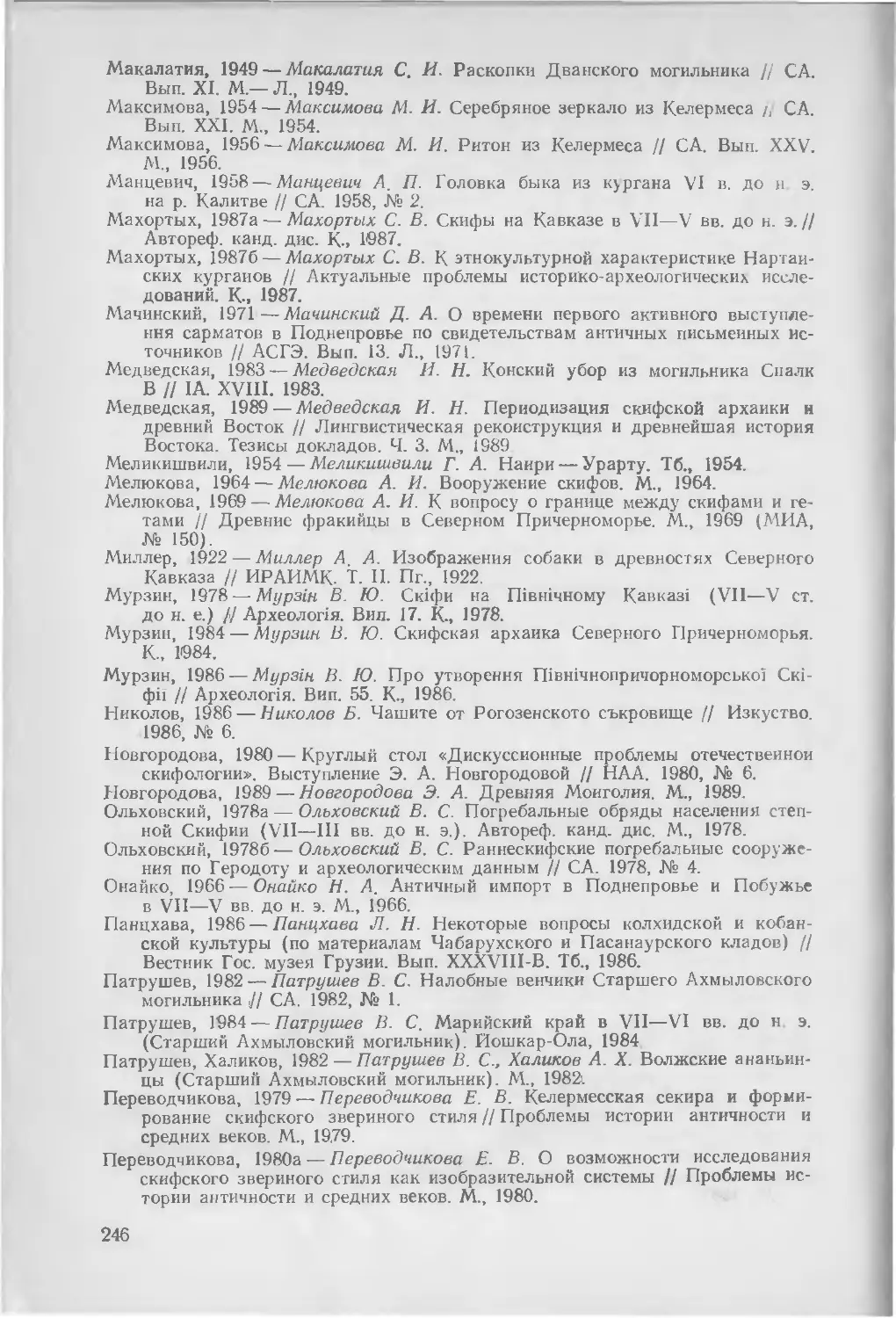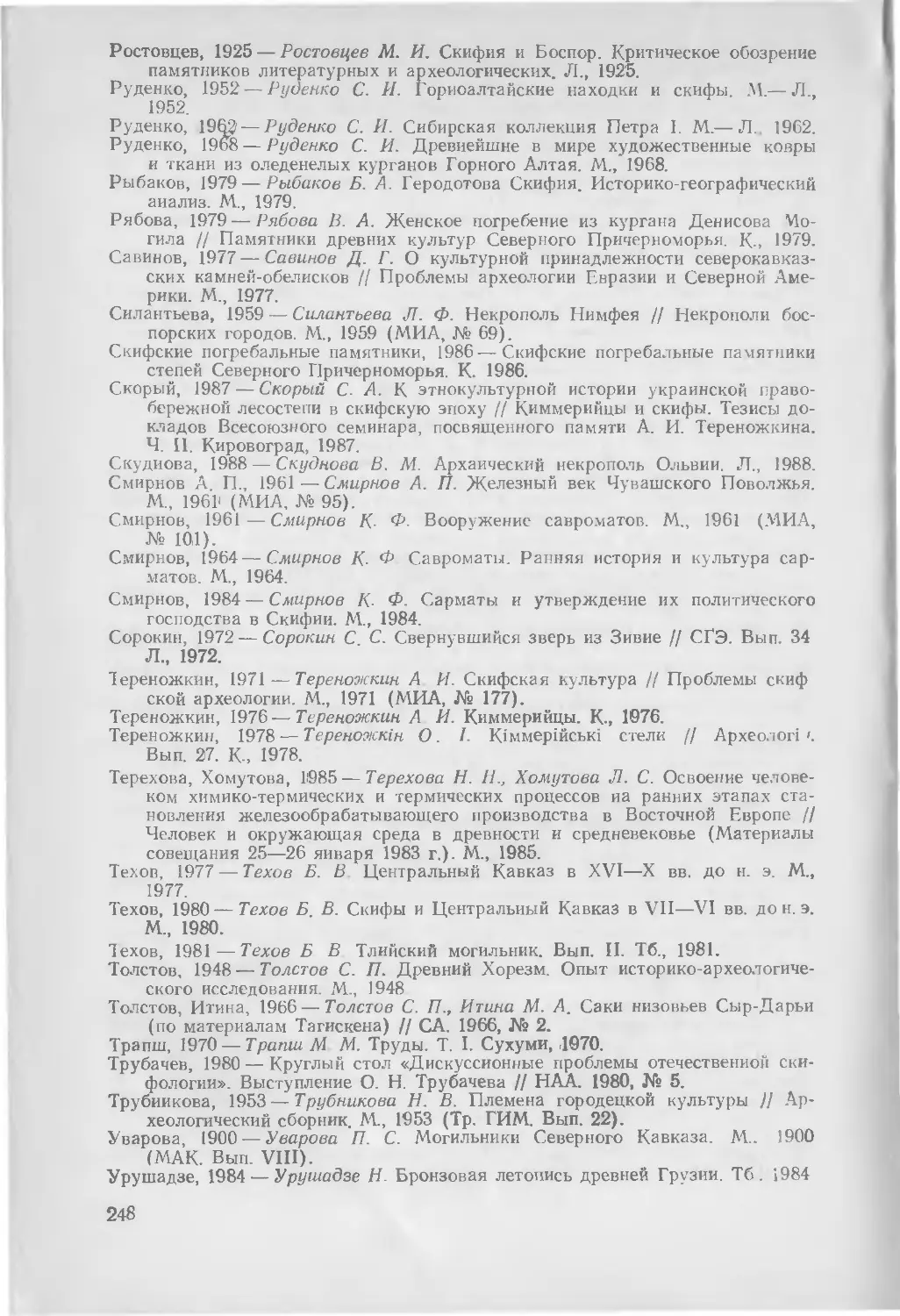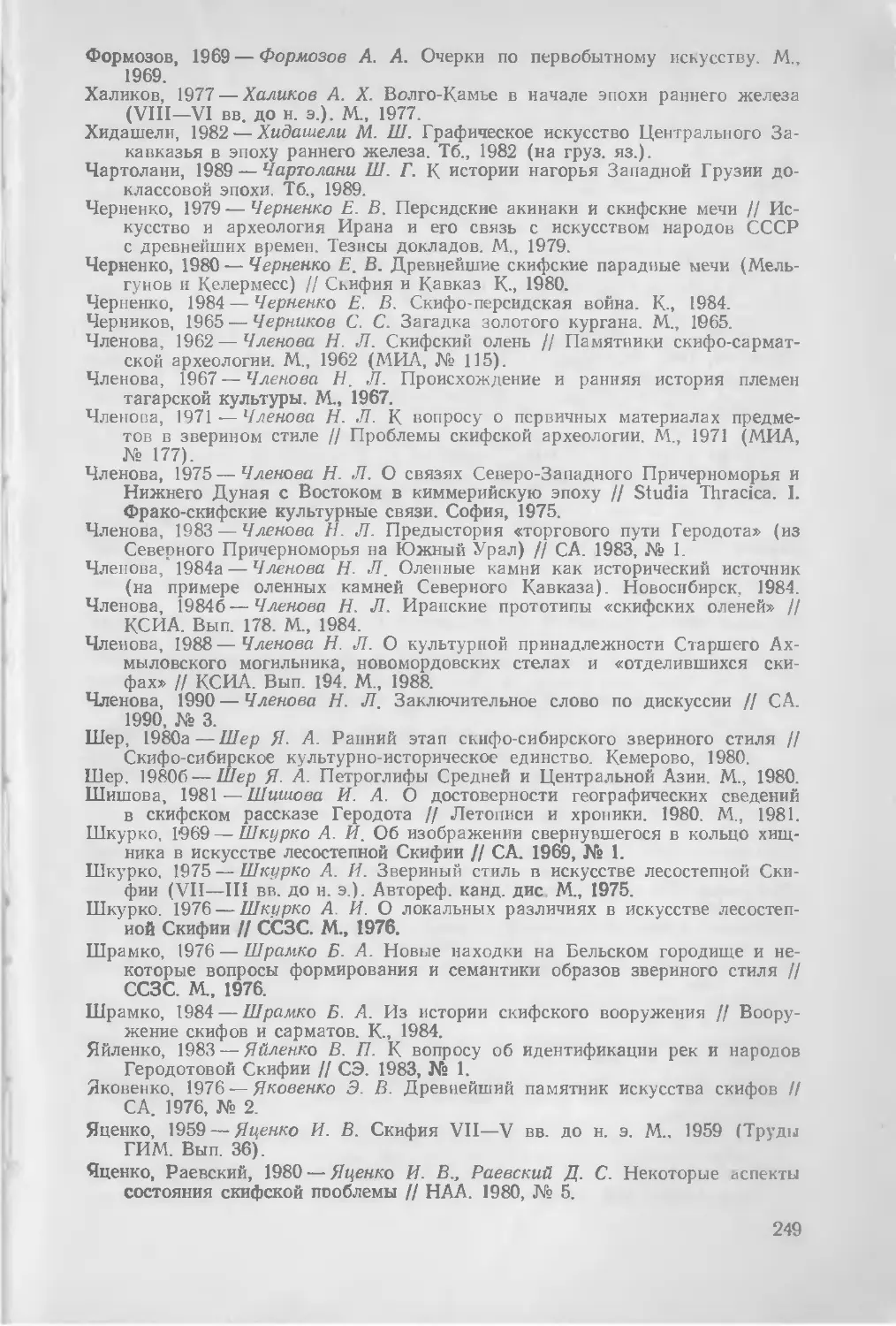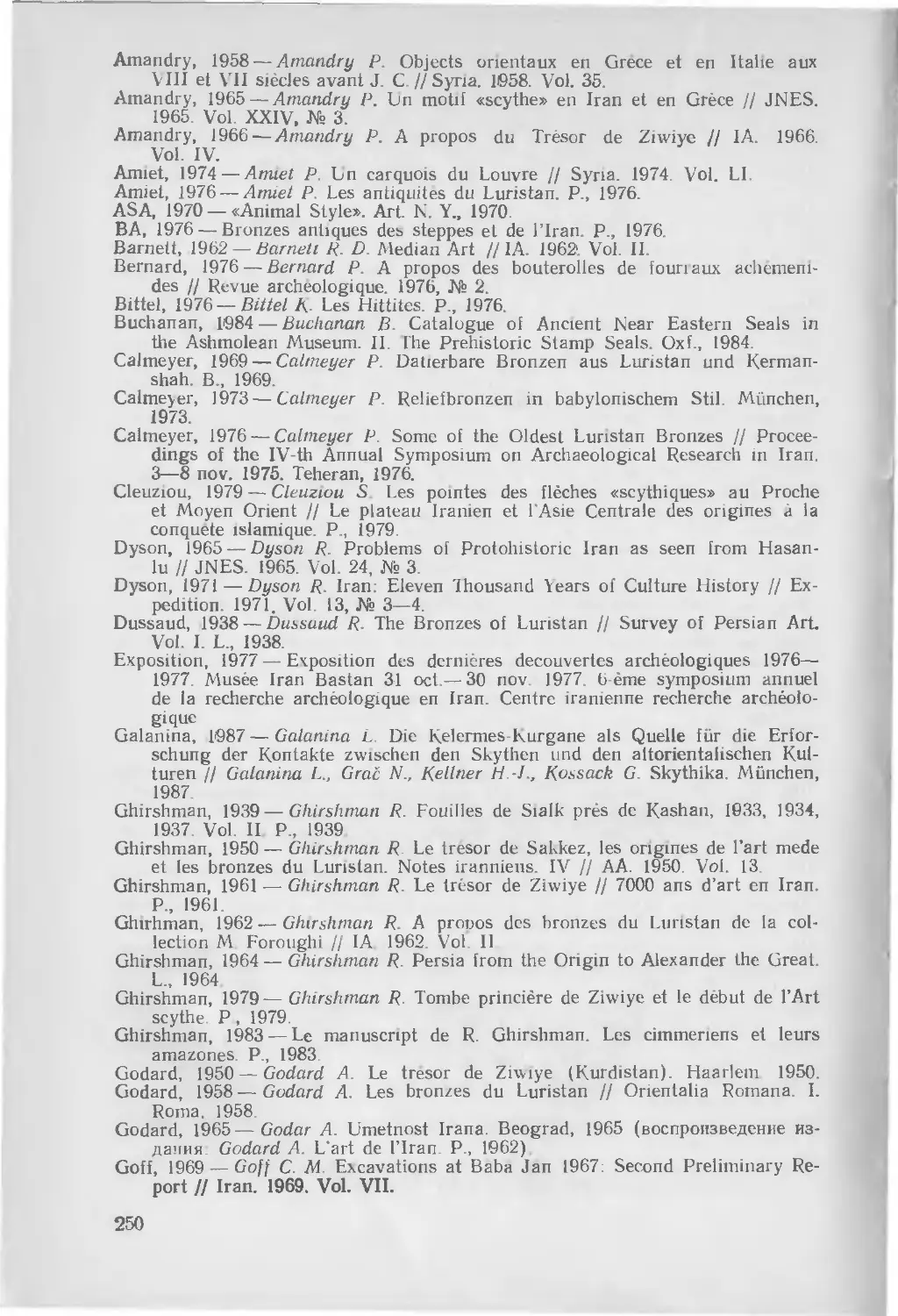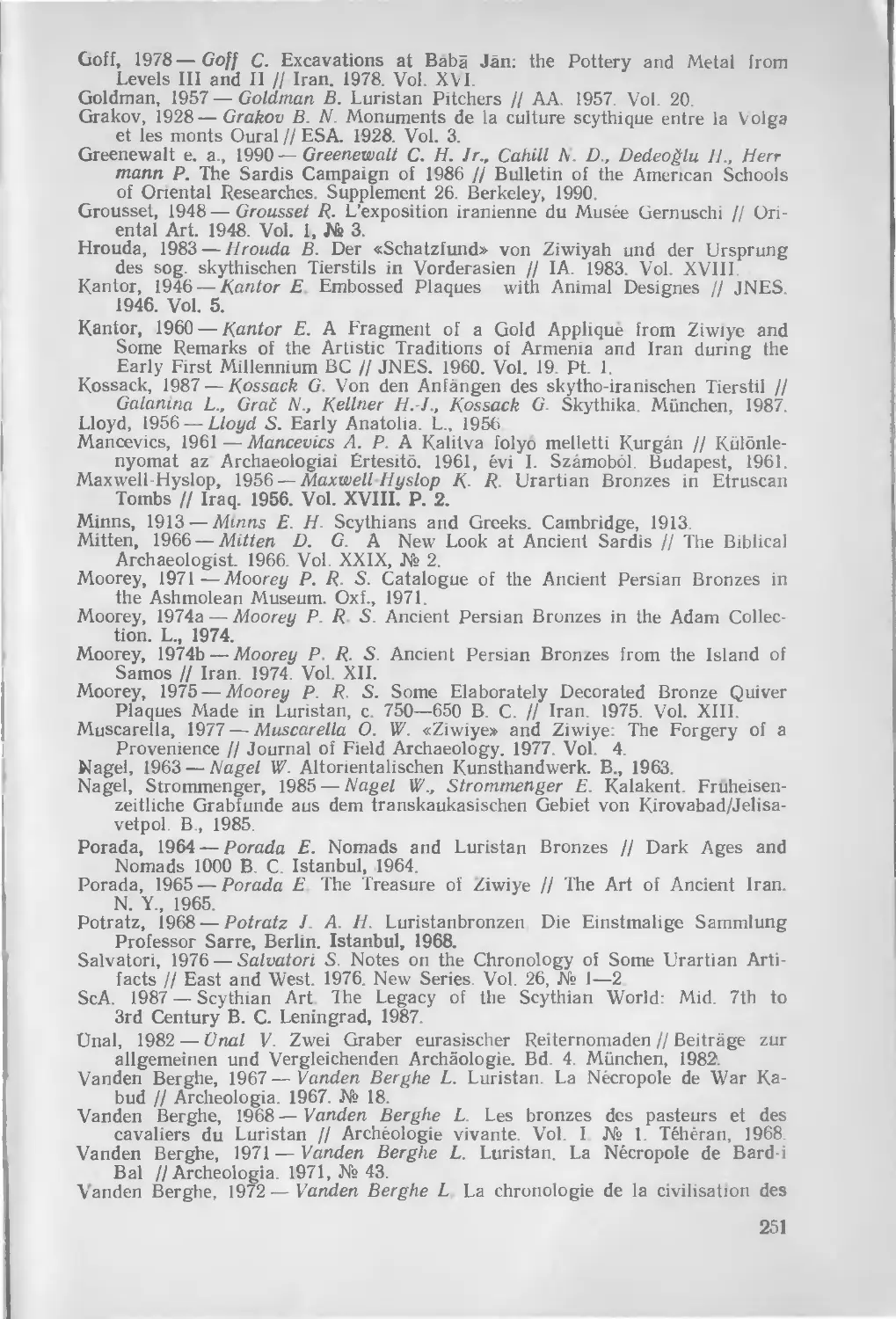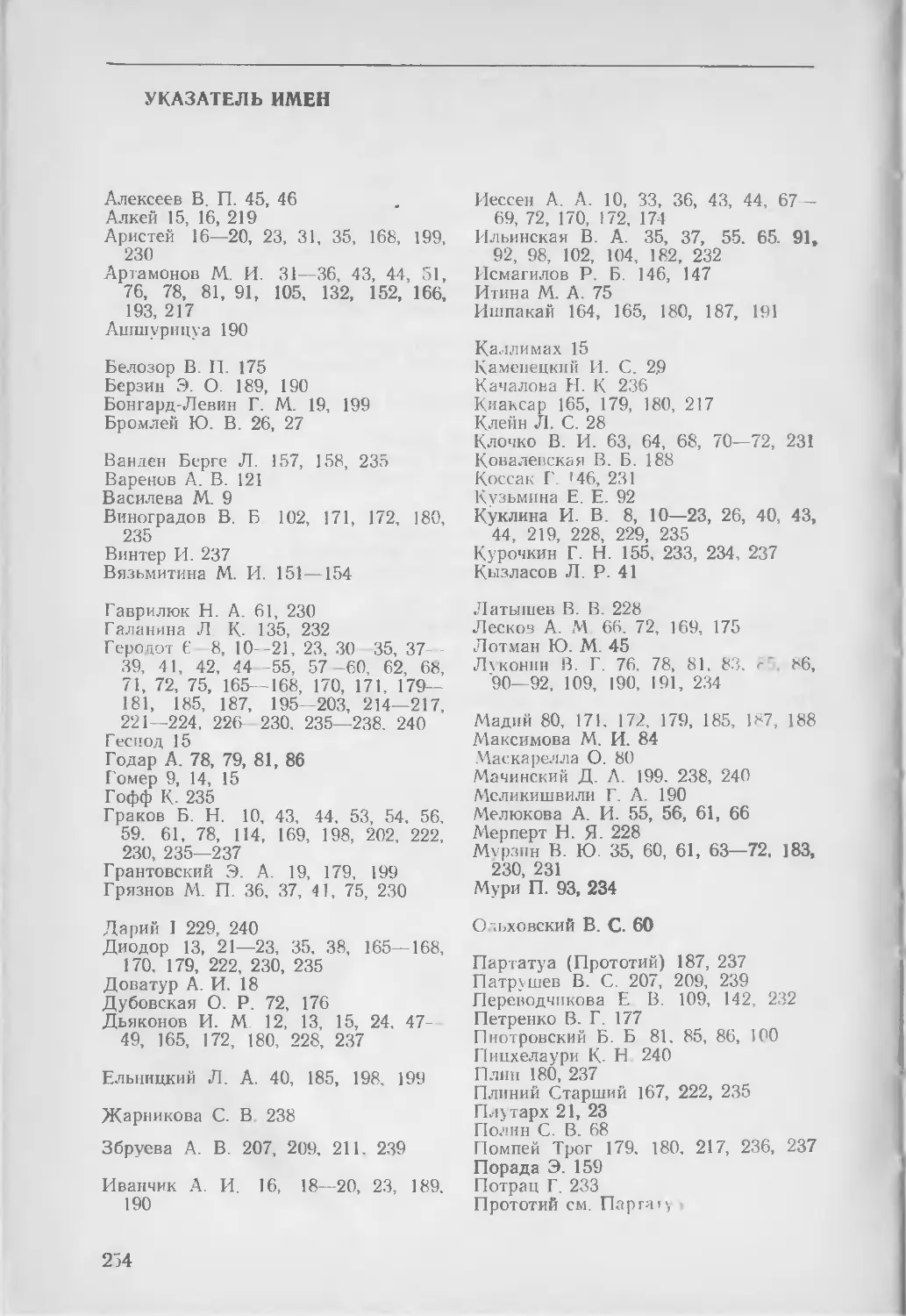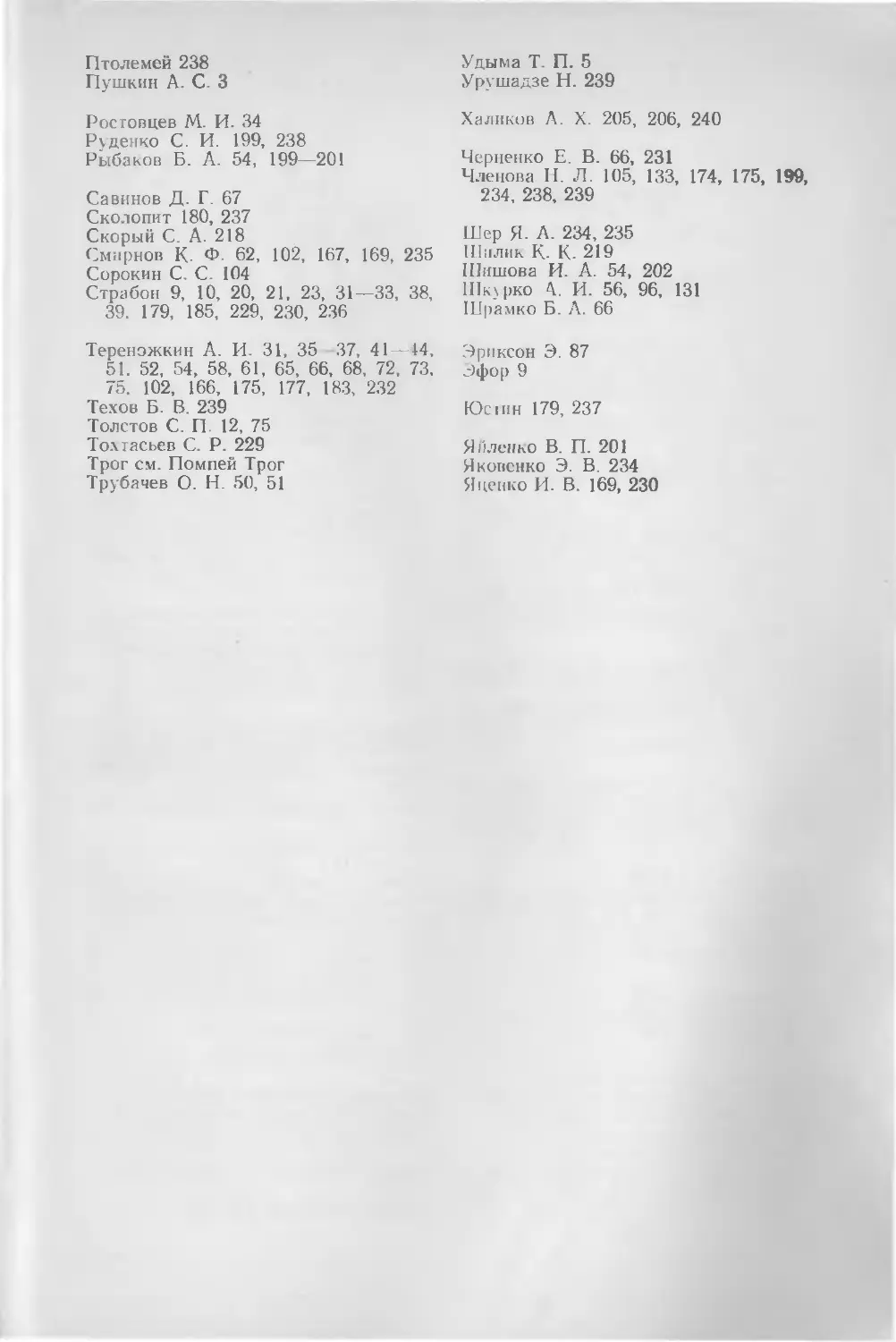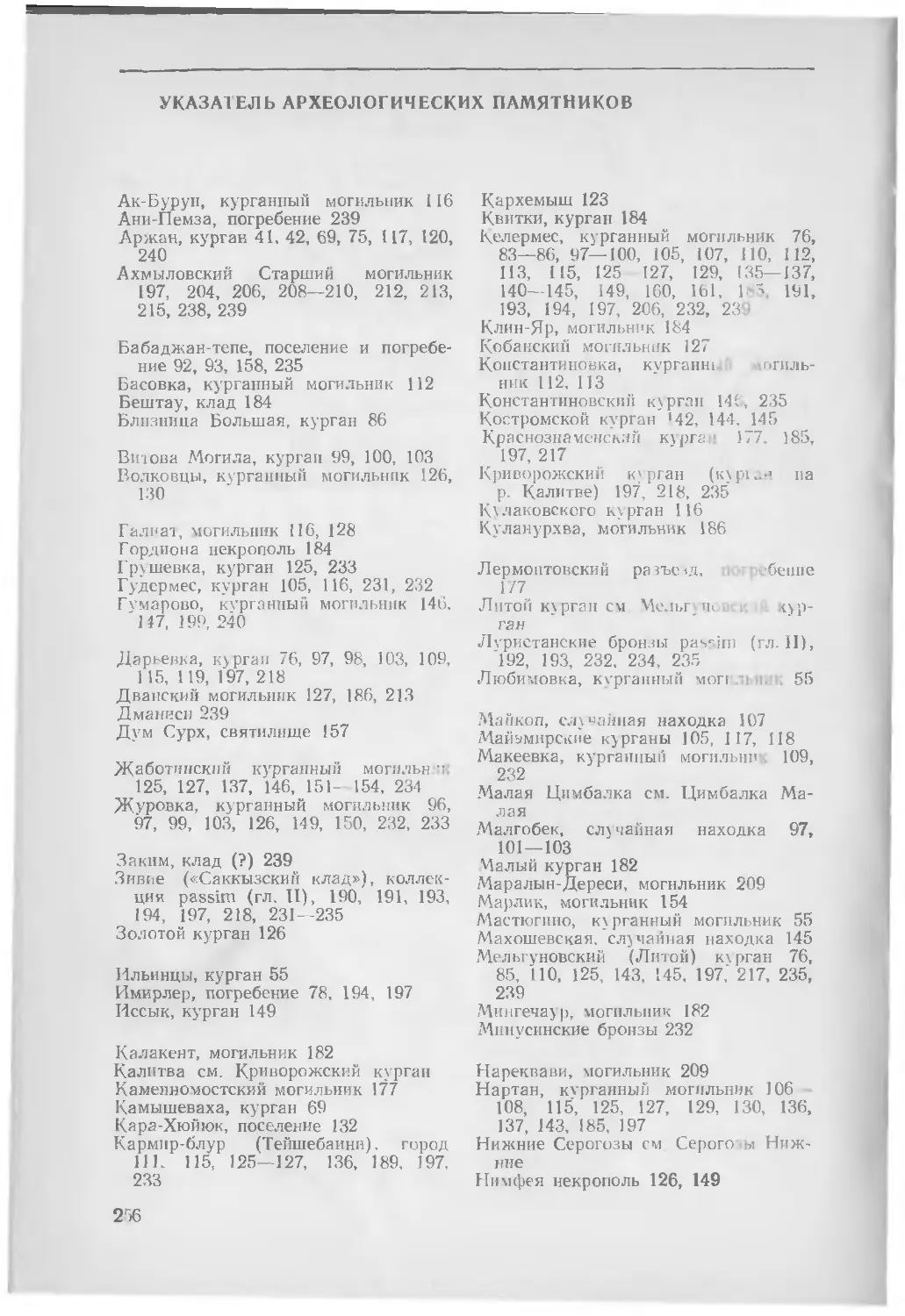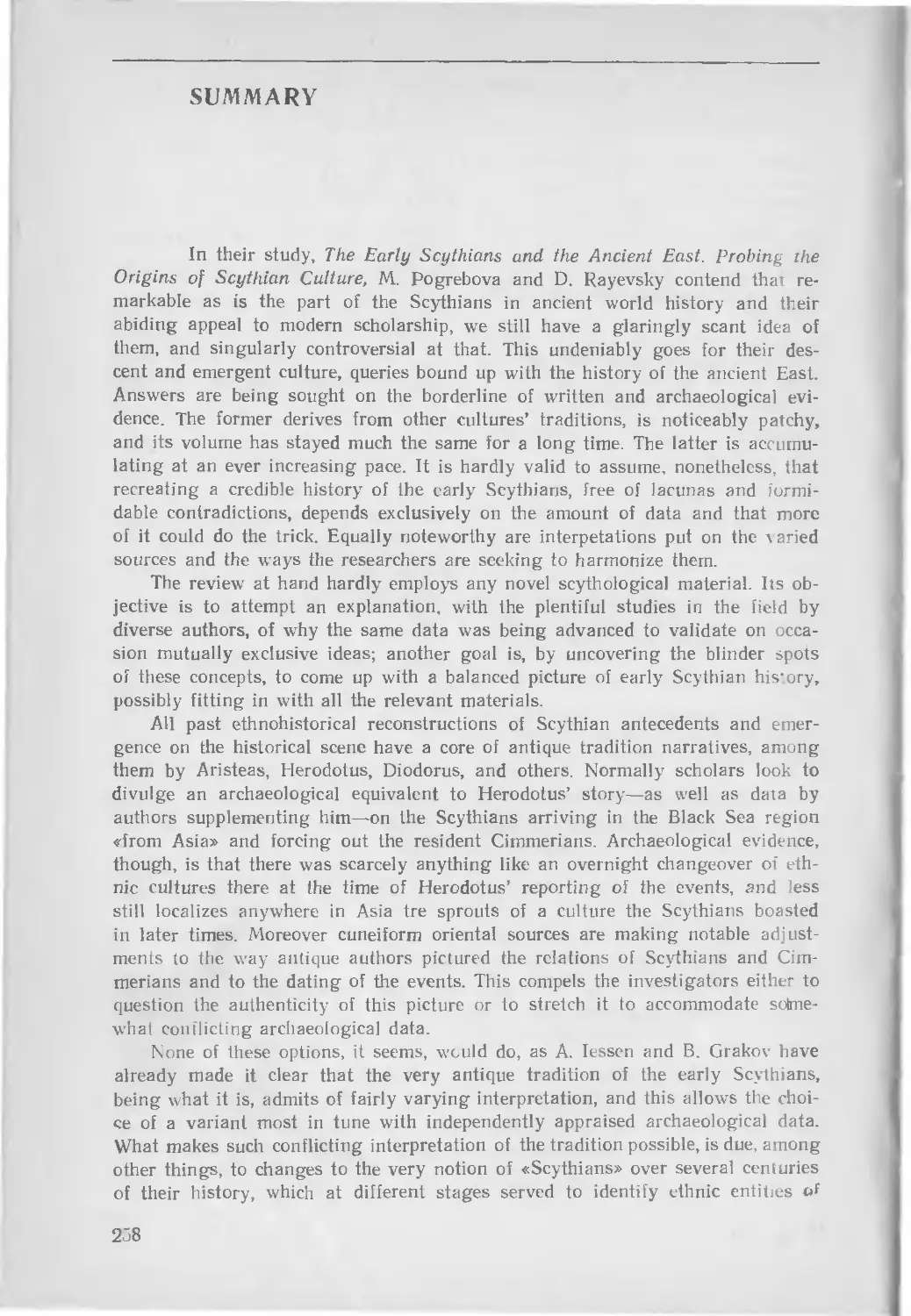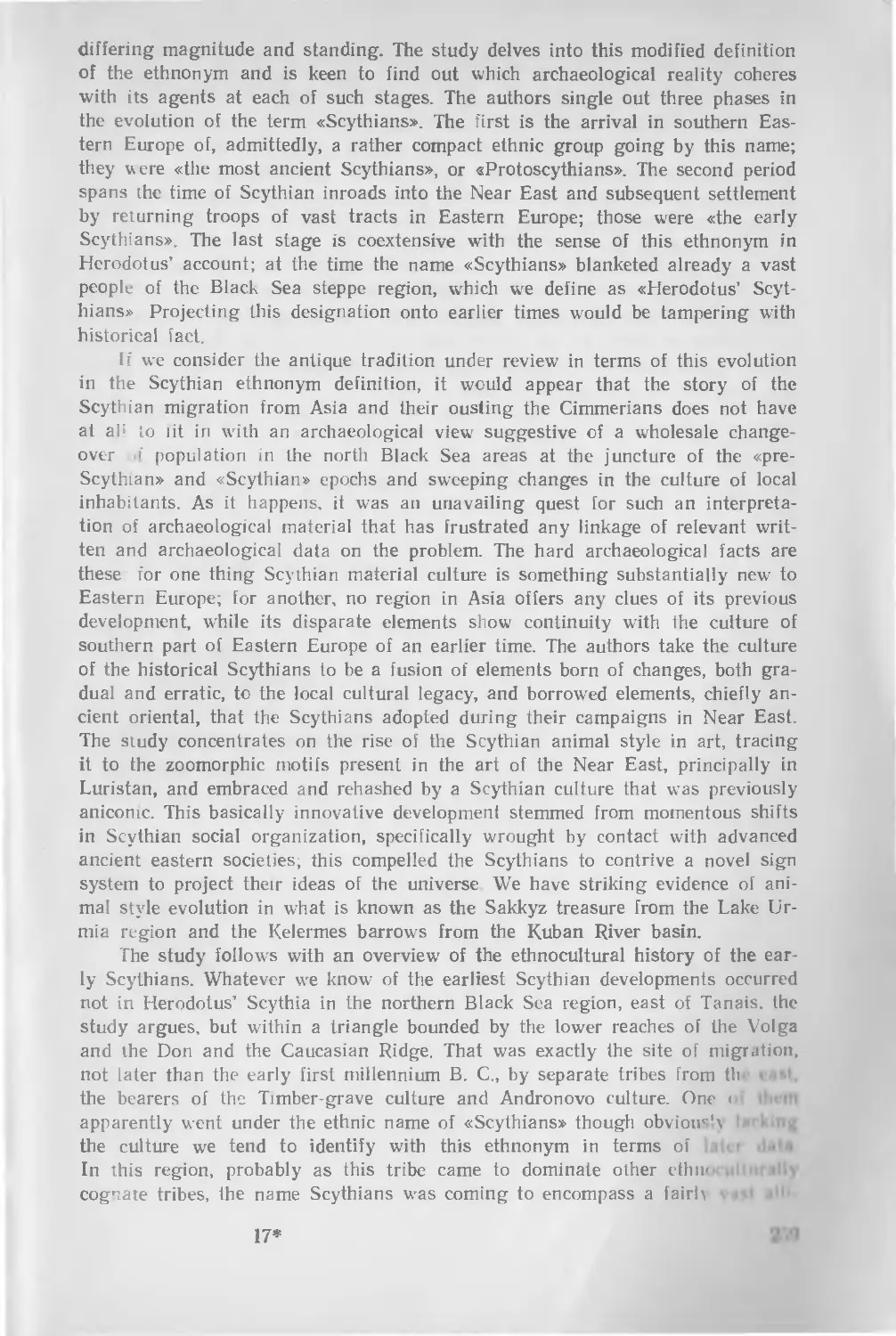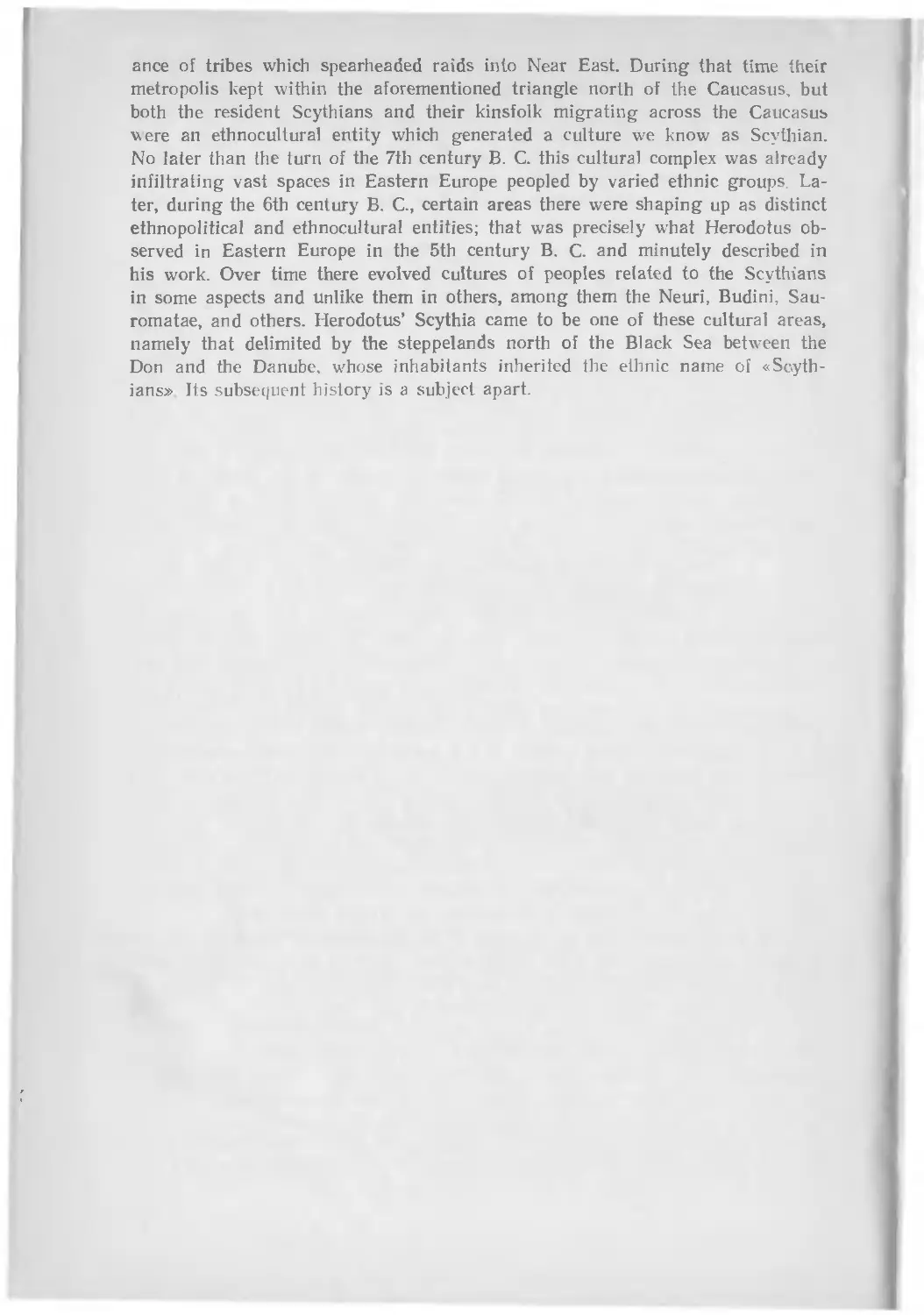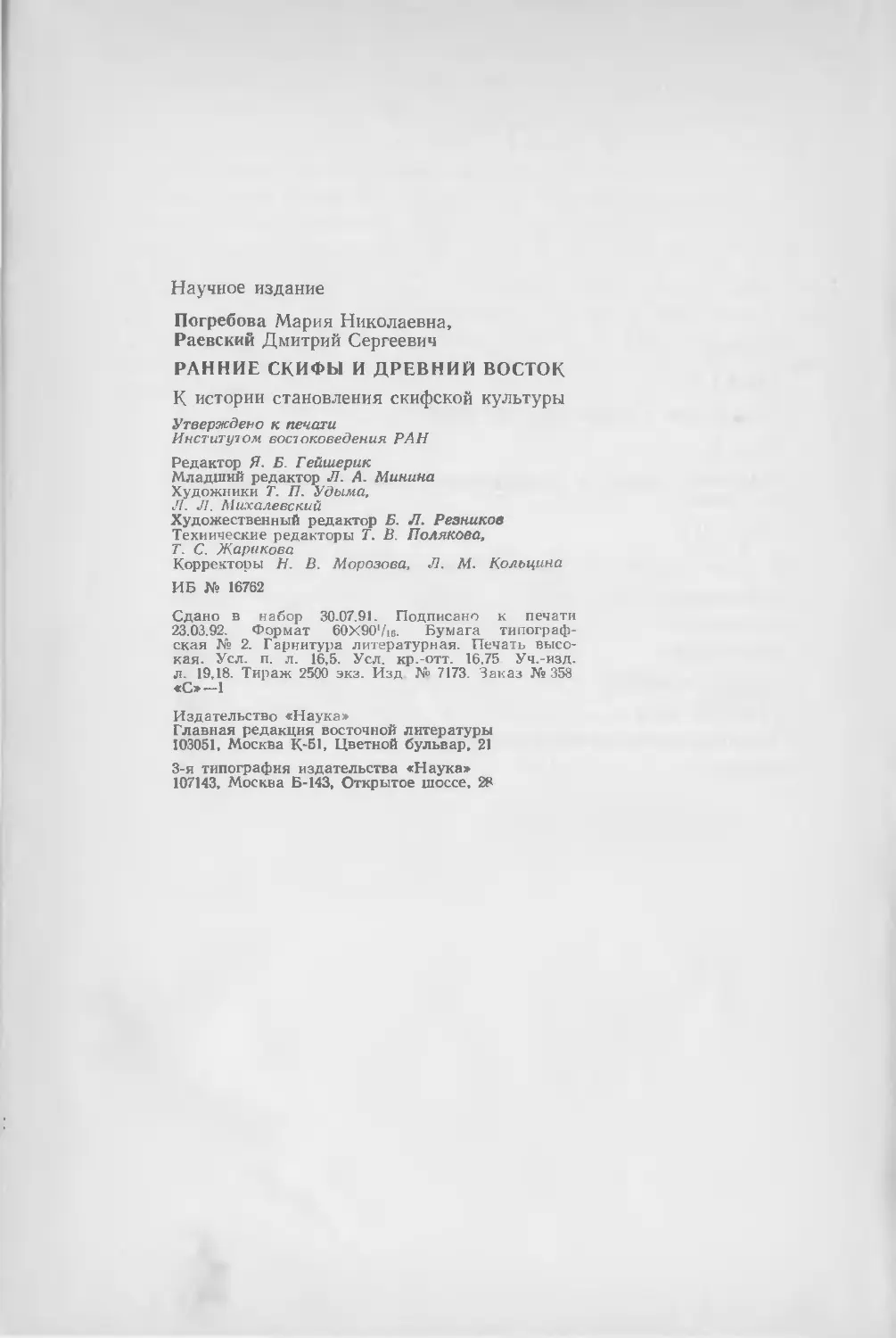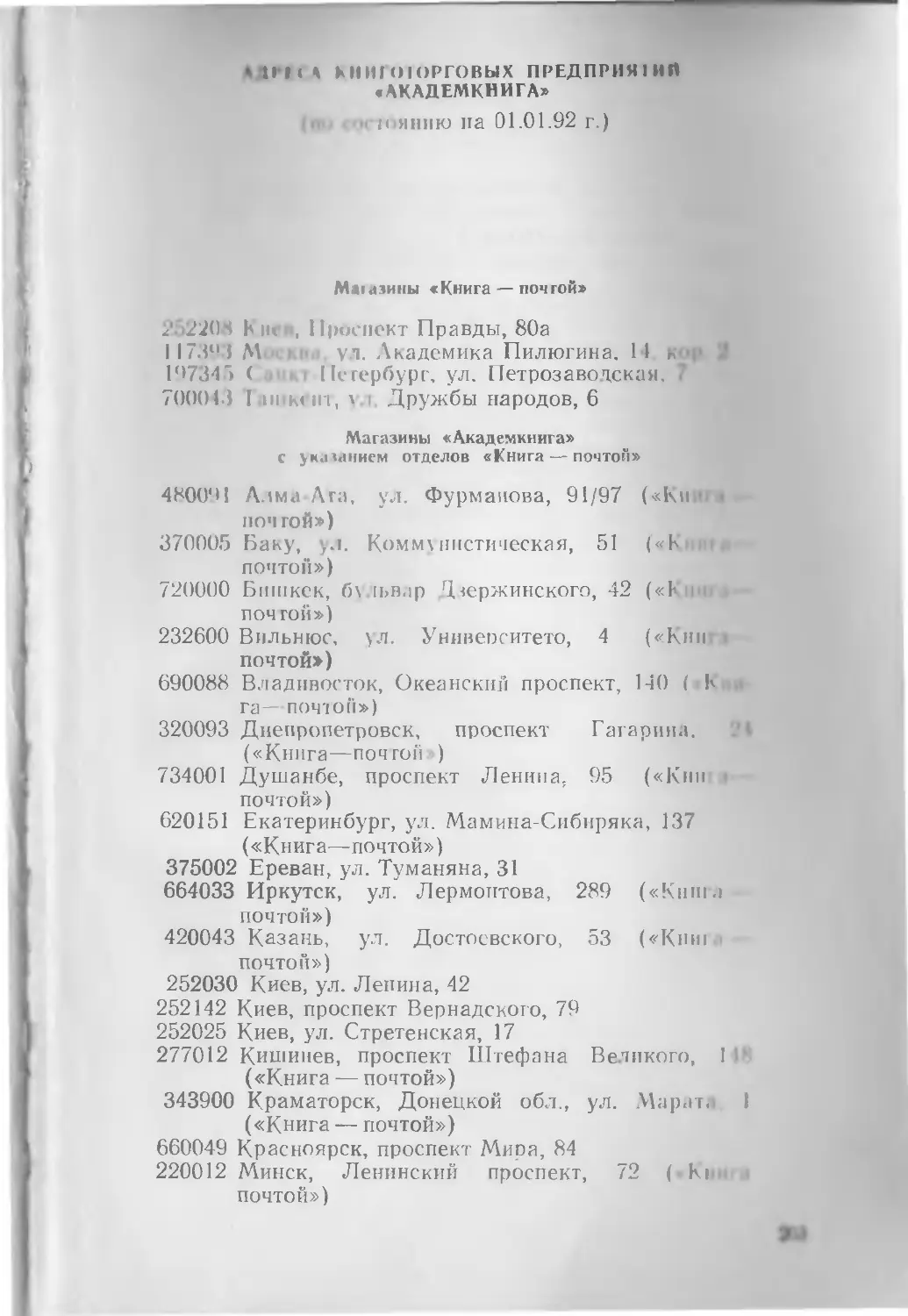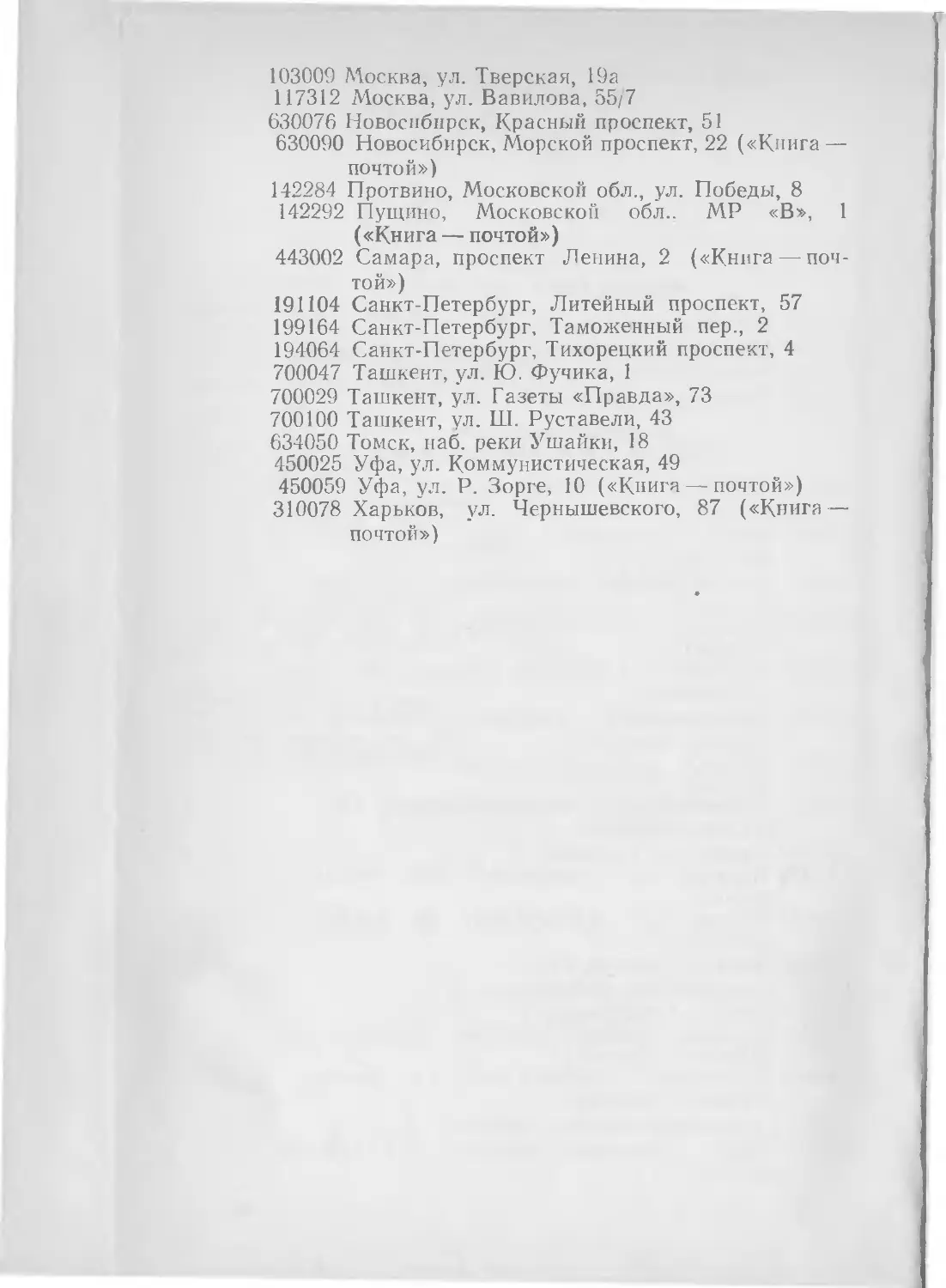Автор: Раевский Д.С. Погребова М.Н.
Теги: древний и античный мир история археология отечественная история скифы скифская культура
ISBN: 5-02-017192-1
Год: 1992
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
М. 1 [. Погребова
Д.С. Раевский
МИНИН СКИФЫ
“ДРЕВНИЙ ВОСТОК
К истории становления скифской культуры
@
Москва
«НАУКА»
Главная редакция
восточной литературы
1992
Определяйте значение слов,— говорил
Декарт,— и вы избавите свет от полови-
ны его заблуждений.
А. С. ПУШКИН
ВВЕДЕНИЕ
Интерес к скифам, их истории и культуре стабилен на
протяжении десятилетий и даже столетий, по существу с самого
зарождения в России исторической науки. Факт этот легко объ-
ясним. Скифы — один из древнейших обитавших на нашей тер-
ритории народов, чье имя до нас дошло. Их история — одна из
первых известных нам страниц отечественной истории вообще.
Поэтому отнюдь не случайно стремление многих русских уче-
ных XVIII в. в той или иной форме увязать скифскую проблему
с вопросами этногенеза русского народа. Известно, что позже, с
развитием исторической науки и сравнительного языкознания,
выявилась несостоятельность этой гипотезы в ее первоначаль-
ном, излишне прямолинейном виде, что, впрочем, не могло осла-
бить уже сформировавшегося в науке прочного интереса к ски-
фам — интереса, еще и возросшего благодаря исключительной
яркости скифских древностей, находимых при археологических
раскопках и со второй половины XVIII в. накапливающихся в
музеях нашей страны.
Было бы, однако, неправомерно числить скифскую проблему
исключительно по ведомству отечественной истории. По целому
ряду моментов эта проблема смыкается с историей древнего Во-
стока. Во-первых, надежно установленная к настоящему време-
ни принадлежность скифов в этнолингвистическом отношении к
иранским народам определяет важность изучения их истории и
культуры для освещения ранних судеб всего ираноязычного —
и даже индоиранского — мира. Во-вторых, сохраненная антич-
ными авторами традиция о приходе скифов в Северное Причер-
номорье — зону их обитания в историческое время — из Азии и
значительное сходство скифских памятников с синхронными
древностями азиатских степей не позволяют отрывать этнокуль-
турную историю этого народа от исторических судеб древних
обитателей Азиатского континента и требуют их совокупного ис-
следования, хотя, как читатель сможет убедиться в дальнейшем,
преобладающее в современной скифологии объяснение этого
сходства представляется нам весьма спорным. Наконец, в-треть-
их, одной из древнейших известных нам страниц истории скифов
являются их походы в области Ближнего Востока, когда этот
народ, впервые появившись на арене мировой истории, вступил
в прямое соприкосновение с обитателями Ассирии, Мидии,
3
1.1 К Ь.1 3(0)3
Illi
Ответственный редактор
Б. А. ЛИТВИНСКИЙ
Редактор издательства
Я. Б. ГЕЙШЕРИК
Погребова М. Н., Раевский Д. С.
П43 Ранние скифы и древний Восток: К истории становле-
ния скифской культуры.— М.: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1992.— 260 с.
ISBN 5-02-017192-1
В книге рассматриваются проблемы происхождения и ранней ис-
тории скифов. Анализ реального содержания этнонима «скифы» на раз-
ных этапах показывает, что учет его эволюции снимает кажущееся про-
тиворечие между археологическими и письменными данными. В работе
демонстрируется роль древнего Востока в формировании культуры
скифов.
0503010000-051
П----------------42-91
013(02)-92
ББК 63.3(0)3
ISBN 5-02-017192-1
© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1662
Центральна* н- учнав
(БИБЛИОТЕКА
! АП КаэССР________
' < и npuiix ipciiih ikk id'iiiiJx iocv даров, что имело, без
омнгния, южные последствия для ооеих взаимодействующих
сторон.
Следует, однако, признать, что, несмотря на важную роль,
которая принадлежала скифам в истории древнего мира, и на
постоянный интерес к ним современной исторической науки,
знаем мы о них все еще крайне мало, а имеющиеся сведения
толкуются крайне противоречиво. По справедливому замечанию
автора одной из новейших работ о Скифии, «почти все пробле-
мы современной скифологии остаются спорными, и ни одна из
них не получила еще однозначного решения» [Куклина, 1985,
с. 16] (см. также [Дискуссионные проблемы, 1980а; 19806]).
Сказанное в полной мере относится к вопросам происхождения
скифов и становления их культуры, до сих пор остродискуссион-
ным. А между тем именно этот аспект скифской проблемы, как
ясно из сказанного выше, самым тесным образом связан с древ-
невосточной историей. В науке все еще не существует единого
и во всех отношениях аргументированного мнения о локализа-
ции прародины скифов «в Азии»; о времени и характере их про-
движения в Северное Причерноморье — область, с которой в
основном связана скифская история; о том, как складывались
их отношения с народами, обитавшими в этом регионе до них,
и с их восточноевропейскими соседями; о характере проникно-
вения скифов в Переднюю Азию и о вкладе культур древнего
Востока в скифскую культуру. Наконец, спорным является само
понимание имени «скифы», его содержание на разных этапах
истории, а значит — и границ обитания обозначаемого им наро-
да. Чем обусловлены все эти неясности?
Поиски решения перечисленных вопросов ведутся в науке на
пересечении толкования письменных и археологических данных.
Первые принадлежат к инокультурным по отношению к самим
скифам традициям; они достаточно скудны, и объем их уже
давно практически почти неизменен. Количество вторых неук-
лонно — и чем дальше, тем скорее — умножается. Но вряд ли
было бы правомерно полагать, что возможность создания доста-
точно полноценной, без зияющих лакун и спорных положений,
истории скифов зависит исключительно от объема имеющихся
данных, т. е. что оно становится более достижимым лишь по
мере роста их фонда. Не менее важно в этом плане то. какие
методы интерпретации источников каждого вида и способы со-
гласования их между собой применяются исследователями.
Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена ран-
нескифской культурной — а в определенной мере и этниче-
ской — истории. В той или иной степени в ней затрагиваются
все перечисленные дискуссионные аспекты проблемы. При этом
свою задачу авторы видят в первую очередь не в использовании
каких-либо новых, не вовлекавшихся до сих пор в орбиту ски-
фологии материалов. Гораздо важнее и более перспективно, по
нашему мнению, опираясь на богатый опыт предпринимавшихся
4
в этой области исследований, попытаться выяснить, как могло
случиться, что одни и те же данные в руках разных специали-
стов служили для обоснования столь разнящихся между собой,
а порой и прямо взаимоисключающих концепций.
Объясняется ли это тем, что в некоторых случаях концепция
в чем-то предшествовала анализу конкретного материала, а то,
что не вполне согласовывалось с этой концепцией, подвергалось
определенной — пусть весьма незначительной и даже незамет-
ной самому автору — корректировке, обусловившей в дальней-
шем рост внутренних противоречий в неумолимой прогрессии?
Или же, пользуясь, скажем, описанием каких-то событий древ-
ней истории, оставленным античным автором, исследователь не-
достаточно учел природу привлекаемого источника, его специ-
фику, отличие сочинения древнего историка от современного
1руда по древней истории, способ обращения того или другого
с одними и теми же терминами? Или разные исследователи по-
разному понимают характер отражения этноисторпческих и
культурно-исторических процессов в археологическом материале
н потому в качестве «следов» одного и того же исторического
явления рассматривают различные археологические факты?
Или, наконец, в каких-то случаях имело место сочетание всех
перечисленных факторов, в конечном итоге создающее тупико-
вую ситуацию на пути решения поставленного вопроса? Может
быть, именно углубленный анализ вопроса о причинах имею-
щихся расхождений окажется сегодня наиболее эффективным
способом решения спорных проблем скифологии?
Конечно, подобное исследование не может не базироваться
на многочисленных трудах нескольких поколений скифологов.
Мы глубоко признательны тем авторам, на чьи изыскания мы
опирались, и склоняемся перед памятью тех, кто был нашими
учителями и кого уже нет с нами. Мы выражаем также самую
искреннюю благодарность друзьям и коллегам, которые на раз-
ных этапах нашей работы приняли участие в обсуждении от-
дельных частей этой книги или всей рукописи в целом, и худож-
нику Т. П. Удыме, вложившей много труда в создание представ-
ленных в книге иллюстраций.
Глава I
КИММЕРИЙЦЫ И СКИФЫ:
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Как известно, Геродот в первых параграфах четвертой
книги своей Истории, в начале знаменитого Скифского расска-
за, после изложения двух версий мифологического повествова-
ния о происхождении скифов (IV, 5—7 и IV, 8—10) противо-
поставил им в качестве наиболее, по его мнению, заслуживаю-
щего доверия рассказ о некоторых событиях раниескифской ис-
тории, в том числе о появлении этого народа в Северном При-
черноморье. Рассказ этот в самом деле резко отличается от
предшествующих ему мифологических версий полным отсутст-
вием фантастического элемента и на первый взгляд производит
впечатление чисто хроникального изложения событий, связан-
ных с тем временем, когда скифы впервые попали в поле зре-
ния народов, обладавших письменностью. Вот этот рассказ
«IV, 11... Скифы кочевники, живущие в Азии, вытесненные
во время войны массагетами, ушли, перейдя реку Араке, в Ким-
мерийскую землю (именно ее теперь и населяют скифы, а в
древности, как говорят, она принадлежала киммерийцам). При
нашествии скифов киммерийцы стали держать совет, так как
войско наступало большое, и мнения у них разделились [...]. По
мнению народа, следовало покинуть страну, а не подвергаться
опасности, оставаясь лицом к лицу с многочисленным врагом.
А по мнению царей, следовало сражаться за страну с вторгаю-
щимися [...]. Когда же они (цари.— Авт.) приняли это решение,
1 то, разделившись на две равные части, стали сражаться друг с
другом. И всех их, погибших от руки друг друга, народ кимме-
рийцев похоронил у реки Тираса, и могила их еще и теперь вид-
на. Похоронив их, народ таким образом покинул страну, и ски-
фы, придя, заняли безлюдную страну.
12. И теперь в Скифии есть Киммерийские стены, есть и
Киммерийские переправы, есть и страна с названием Киммерия;
есть и Боспор, именуемый Киммерийским. Очевидно также, что
киммерийцы бежали от скифов в Азию и заселили полуостров,
на котором теперь находится эллинский город Синопа. Ясно и
то, что скифы, преследуя их, вторглись в Мидийскую землю,
сбившись с пути. Ведь киммерийцы все время бежали вдоль
моря, а скифы преследовали их, имея по правую руку Кавказ,
до тех пор, пока не вторглись в Мидийскую землю, повернув по
дороге во внутренние области страны».
6
Другие пассажи Истории Геродота (I. 15, 73—74, 103—106
II др.) дополняют приведенный рассказ повествованием о собы-
иях, связанных с пребыванием скифов в Передней Азии после
их там появления описанным образом, и об их возвращении в
1 енерное Причерноморье.
Этот-то рассказ, пополненный данными других, корреспондн-
рчющих с ним источников, о которых речь пойдет ниже, лежит
в основе толкования современной наукой проблем происхожде-
ния скифов и раннескифской истории. Но следует отметить, что
те ясность, стройность и логичность, которыми этот рассказ на
первый взгляд обладает, не привели тем не менее к созданию
- бщепринятой его интерпретации. Существует целый ряд прнн-
шпиалыю различных, а во многом и взаимоисключающих
। ипотез, расхождения между которыми касаются таких момен-
. >в, как локализация зоны первоначального обитания скифов и
время их появления в Северном Причерноморье, сущность этно-
кхльтурных отношений между скифами и киммерийцами, пути
ч характер проникновения обоих этих народов в Переднюю
шю и др. Такая множественность интерпретаций может быть
вызвана различными причинами: краткостью и неполнотой све-
1ений Геродота, допускающих в силу этого вариативные толко-
вания; определенной внутренней противоречивостью самих све-
дений; наконец, характером соотношения сообщений Геродота
иными привлекаемыми в этом контексте данными. Использо-
вание таких данных обусловлено оправданным стремлением ис-
юдователей при воссоздании раннескифской истории не просто
следовать краткому рассказу Геродота, но опереться на все
имеющиеся материалы по проблеме. К кругу этих материалов
относятся помимо свидетельств других античных авторов со-
общения древневосточных текстов и, конечно, археологические
находки из тех регионов, на пространстве которых, по мнению
1<>го или иного исследователя, протекали интересующие нас
л некультурные процессы. Сама разноприродность привлекае-
мых материалов, различие принципов отражения в них истори-
ческой действительности определяют важность выбора опти-
мальной методики их сопоставления между собой.
В конечном счете, обращаясь ко всему многообразию толко-
ваний раннескифской истории, мы оказываемся перед необходи-
мостью уяснить, в какой мере это многообразие обусловлено
реальной разноречивостью источников, а в какой — несовершен-
cibom способов их интерпретации. Поэтому мы считаем необхо-
имым предпослать изложению своего взгляда на эту проблему
виализ основных существующих гипотез, конечная цель кото-
рого — оценить имеющиеся в нашем распоряжении данные.
В нашу цель, однако, ни в коей мере не входит давать исчерпы-
вающий историографический обзор. Мы рассмотрим лишь ти-
пичные подходы к ключевым аспектам проблемы.
Прежде всего обратимся к вопросу о локализации интере-
сующих яас событий. При всей пестроте существующих толко-
• •’iiA лЛ. б-> н ПШПСИИ' lirc.ic ЮВР 1 .СИ нс подвергает
............ говерн!« |ь сообпи 'ня Геродота, что события,
пр< iiHi'i ihvioihhc появлению киммерийцев и скифов в Передней
А ни, рашорачивались в Северном Причерноморье (включая
Предкавказье). Существует, впрочем, приобретшая в последние
годы новых активных сторонников концепция, опровергающая
именно этот исходный тезис Геродотова повествования. С ана-
лиза этой концепции мы и начнем наш экскурс. Возможно, при-
стальное внимание, которое уделено ей здесь, покажется неко-
торым читателям непропорционально большим. Дело, однако, в
том, что в случае основательности этой концепции проверка
всех прочих гипотез попросту теряет смысл. Если же ее исход-
ные посылки окажутся недостаточно обоснованными, нам пред-
стоит рассмотреть и различные варианты традиционной трак-
товки раннескифской истории. К тому же в ходе предпринимае-
мого анализа в орбите нашего внимания окажется и большин-
ство свидетельств, привлекаемых для полноценного освещения
этих событий.
Наиболее подробно и разносторонне упомянутая концеп-
ция — причем в наиболее радикальном ее варианте — была в
самое последнее время развита в монографии И. В. Куклиной
[1985]. Ее основной вывод сформулирован так: «Киммерийиы не
были предшественниками скифов в Северном Причерноморье.
Ни киммерийцы, ни скифы не были обитателями Северного
Причерноморья в период, предшествующий их азиатским похо-
дам. Киммерийцы — также скифское племя и передовой отряд
продвижения скифо-сакских племен с Иранского нагорья в
Переднюю и Малую Азию, где они вместе со скифами находи-
лись более столетия, а потом были вытеснены в Северное При-
черноморье в начале VI в. до н. э. Дата появления скифов и
киммерийцев в Северном Причерноморье совпадает с датой
распространения там скифской археологической культуры. Ког-
да в VIII в. до н. э. киммерийцы и скифы начали свое продви-
жение на запад, первые занимали территорию к северу от Пер-
сидского залива, а скифы — междуречье Танаиса и Аракса
(Сырдарьи и Амударьи)» [Куклина, 1985, с. 192]. Мнение той
же исследовательницы о локализации зоны изначального оби-
тания скифов и формирования их культуры смыкается с рас-
сматриваемой ниже центральноазиатской концепцией скифского
этногенеза.
Таким образом, по И. В. Куклиной, представление о кимме-
рийцах и скифах эпохи, предшествующей их появлению в Пе-
редней Азии, как об обитателях Северного Причерноморья —
плод заблуждения, свойственного уже Геродоту и воспринятого
от него большинством исследователей нового времени. Тради-
ционное толкование скифо-киммерийского конфликта сформи-
ровалось, по ее мнению, на основе ошибочной локализации
событий, в действительности происходивших совсем в ином ре-
гионе — к югу от Каспийского и Черного морей. Радикальный
8
характер предлагаемой ревизии устоявшихся взглядов на ранне-
скифскую историю слишком очевиден, влияние этой концепции
в случае ее принятия на осмысление всех аспектов скифской
проблемы слишком велико, чтобы обойти ее молчанием. Поэто-
му посмотрим, в какой мере основательны ее исходные посту-
латы.
В принципе мысль о неисторичности сведений о причерно-
морских киммерийцах, в действительности знакомых элтинам
лишь по событиям, разворачивавшимся в VIII—VII вв. до в. э.
в Малой Азии, высказыва тась давно (литературу вопроса см.,
к примеру, [Доватур и др., 1982, с. 170]; см. также [Куклина,
1985, с. 55—57] 2). Если такое толкование основательно, то пере-
несение этих событий на северное побережье Понта и возник-
новение представления об этом регионе как о древней Кимме-
рии следует, очевидно, объяснять присущей античному миру
мифологизацией этого достаточно рано исчезнувшего с истори-
ческой арены народа.
Следы такой мифологизации в самом деле прослеживаются
уже у Гомера (Od., XI, 12 сл.), характеризовавшего «страну
киммерийцев» как область, где никогда не восходит солнце и
те господствует вечная ночь. Существование связи между
мифологическим осмыслением киммерийцев и их локализацией
в Северном Причерноморье хорошо понимал уже Страбон, по-
лагавший, что Гомер, без сомнения знавший о киммерийцах
вследствие происходивших как раз в его время вторжений их в
Малую Азию, но при этом располагавший сведениями, «что
киммерийцы жили у близкого к северу и туманного Боспора
Киммерийского, удобно перенес их в какое-то мрачное место у
преисподней» (Strab., I, II, 8; ср. Strab., Ill, II, 12). Эта мифо-
логизация объясняет и присущее античной традиции представ-
ление об обитании киммерийцев всюду, где мыслятся вход в
Аид и контакт людей с подземным миром. Тот же Страбон (V,
IV, 5) со ссылкой на Эфора повествует о киммерийцах на Апен-
нинском полуострове: «Эту местность они (жители побережья
залива Аверн.— Авт.)... считали Плутоновой, полагая, что там
жили киммерийцы». По удачной формулировке М. Василевой
[1985, с. 323], в античной традиции достаточно рано «термин
„киммерийцы" превращается в элемент космологической модели
Севера. Характеристика, данная им Гомером, ставит их на гра-
нице света и тьмы, жизни и смерти, т. е. киммерийцы отмечают
конец эллинского информационного пространства».
При всем том выводить из существования такого понимания
заключение о неисторичности всех свидетельств относительно
пребывания киммерийцев в Северном Причерноморье, на наш
взгляд, преждевременно. Следовало бы сперва установить, что
в этой цепи ассоциаций первично, а что производно: мифологи-
ческое ли по происхождению представление о киммерийцах как
обитателях страны мрака повлекло за собой их локализацию у
северного предела земли, за Понтом Эвксинским, или же, напро-
9
uni как и считал (. рабон,— снедения об обитании реальных
киммерийцев далеко на севере, в запонтийских землях, прочно
спя ia in их в сознании эллинов с хтоническим миром. Для того
чтобы предпочесть одну из этих версий, необходимо проверить
основательность сомнений в историчности приведенного выше
сви (етельства Геродота (а также смыкающихся с ним по содер-
жанию сообщений) о киммерийцах как об обитателях северо-
поптийскпх областей.
Опровержение этого свидетельства может покоиться либо на
внешних по отношению к нему данных, либо на анализе его соб-
ственных смысла и структуры. Оригинальность концепции
И. В. Куклиной как раз и состоит в том, что она в отличие от
своих предшественников стремится не столько оспорить сообще-
ние Геродота, опираясь на внешние данные, сколько продемон-
стрировать, что само эю сообщение (точнее, лежащее в его ос-
нове предание) повествует, вопреки собственному убеждению
Отца истории, о событиях не причерноморской, а ближнево-
сточной истории.
Впрочем, в ходе своих рассуждений И. В. Куклина вынужде-
на обращаться и к внешним данным. Так, она привлекает ар-
хеологические материалы, призванные, по ее мысли, подкрепить
тезис, что «есть все основания считать киммерийцев и скифов
родственными племенами эпохи ранних кочевников» [Куклина,
1985, с. 130]. Опираясь в этом достаточно резонном суждении
на наблюдения целого ряда исследователей, И. В. Куклина, в
частности, ссылается на их мнение, что «до сих пор нет возмож-
ности археологически отделить культуру киммерийцев от куль-
туры скифов» [Куклина, 1985, с. 65]. При этом, однако, она
обходит молчанием то весьма существенное обстоятельство, что
археологи и историки, чье мнение она в данном случае привле-
кает (прежде всего Л. А. Иессеи), сформулировали этот вывод,
исходя из анатиза как раз причерноморских материалов. Куль-
туры именно этого региона, традиционно трактуемые, исходя из
данных Геродота, как «киммерийская» (предскифская) и «скиф-
ская», обладают, по А. А. Иессену [1953, с. 109—ПО],
Б. Н. Гракову [1971, с. 25; 1977, с. 153] и другим, рядом сходных
черт, свидетельствующих об отношениях преемственности меж-
ду ними и об определенном родстве их носителей.
И. В. Куклина как бы не замечает, что, отказывая обоим на-
званным народам в раннем обитании на этой территории, опа,
по суги, лишается права на подобную ссылку, а значит, и на
само утверждение об этнокультурной близости скифов и ким-
мерийцев. Ведь постулируемые ею «среднеазиатские киммерий-
цы» или тем паче киммерийцы, якобы обитавшие в VIII—VII вв.
до н. э. на «Иранском нагорье к северу от Персидского залива»
(Куклина, 1985, с. 77], являются плодом чисто умозрительных
рассуждений и пи с какой конкретной археологической реаль-
ностью не соотносятся, представляя собой—во всяком случае,
на сегодня — некий бесплотный мираж3. Естественно, что в
10
этих условиях попытки отграничить нх культуру от культуры
скифов в равной мере не могут ни увенчаться успехом, ни по-
терпеть неудачу.
Точно так же утверждение, что скифы впервые появились в
Северном Причерноморье лишь после переднеазиатских похо-
дов, может быть подтверждено ссылкой на «дату распростране-
ния там скифской археологической культуры» [Куклина, 1985,
с. 192, см. также с. 47] только при том понимании последней,
которого придерживается исследовательница; между тем само
такое понимание (как и всякое перенесение этнической номен-
клатуры в сферу археологии) нуждается во всестороннем обо-
сновании, на чем мы подробно остановимся ниже.
Однако археологические аргументы играют в обосновании
концепции И. В. Куклиной эпизодическую и подсобную роль.
В первую очередь, как уже сказано, эта концепция базируется
на интерпретации сведений античных авторов. Как же трактует
исследовательница наш основной источник — приведенный вы-
ше рассказ Геродота? Она отмечает, что сам Отец истории
«считал страну у Киммерийского Боспора принадлежащей в
древности киммерийцам и был убежден, что именно отсюда они
двинулись в Азию» [Куклина, 1985, с. 129], однако полагает,
что это — следствие его заблуждения, а приводимый им рас-
сказ может быть прочитан и как повествование о движении ски-
фов из Средней Азии через Южный Прикаспий и о происшед-
шем в ходе этого продвижения столкновении их с киммерийца-
ми. Правда, для того чтобы вычленить из рассказа Геродота
следы традиции, якобы прямо противоположной по смыслу то-
му, что хотел сказать историк, его текст приходится буквально
резать «по живому».
Так, по И. В. Куклиной, «в начале 11-й главы (IV книги
Геродота.— Авт.) нет никакого указания на то, что имеется в
виду местность у Киммерийского Боспора, поэтому вполне мож-
но допустить, что речь идет о стране киммерийцев в Азии»
[Куклина, 1985, с. 127; курсив наш.— Авт.]. При этом умалчи-
вается, что именно в рассматриваемом пассаже упоминание
«Киммерийской земли», в которую прибыли теснимые массаге-
1ами скифы, сопровождается замечанием, что это — та самая
земля, которую «теперь и населяют скифы». Между тем извест-
но, что Геродот строго отличал скифов от «нескифских наро-
дов» и даже область происходящих от скифов, но отделившихся
от них савроматов характеризовал как «нескифскую» (Herod.,
IV, 21); поэтому для него земля, которую «теперь» населяют
скифы,— это исключительно Северное Причерноморье (что при-
знает и сама И. В. Куклина [1985, с. 129, прим. 9]). Случаи
употребления Геродотом понятия «скифы» и его производных в
ином значении, также бытовавшем в античном мире (см. ниже),
но самому Отцу истории, как правило, чуждом, единичны и
легко определяются по контексту. Классический пример такого
необычного для Геродота словоупотребления — упоминание сре-
11
ди азиатских народов «амиргийских скифов» (Herod., VII, 64).
Отметим также, что, трактуя маршрут бегства киммерийцев
от скифов как проходящий вдоль побережья Персидского за-
лива, И В. Куклина [1985, с. 127] умалчивает об имеющемся
у Геродота (IV, 12) уточнении, согласно которому бежали ким-
мерийцы «в Азию», а это однозначно предполагает понимание
исходного пункта их движения как находящегося вне пределов
этого континента, т. е. никак не на Иранском нагорье. Такое
осмысление этого маршрута последовательно проводится Геро-
дотом в самых разных частях его труда (ср. I, 15, где опять го-
ворится о приходе киммерийцев «в Азию», и особенно I, 103, где
прямо указывается, что скифы изгнали киммерийцев «из Евро-
пы») .
Остальные необходимые для подкрепления своей гипотезы
случаи переосмысления свидетельств Геродота И. В. Куклина
вообще не объясняет, а лишь констатирует. Так, остается совер-
шенно неясным, каким образом Отец истории, говоря о могиле
киммерийских царей (IV, 11), мог перепутать припонтийскую
реку Тирас, возле которой он эту могилу помещает, с азиатским
народом созвучного наименования, упомянутым в Библии (Быт.,
10, 2); если все же принять эту версию, то следовало бы пояс-
нить, в какой этнокультурной среде и с опорой на какие реалии
могло сложиться предание о происхождении связанной каким-то
образом с этим народом киммерийской могилы, о которой яко-
бы Геродоту «просто рассказывали как о существующей» [Кук-
лина, 1985, с. 62—63] 4.
Попутно И. В. Куклина [1985, с. 61—62] со ссылкой на
С. П. Толстова [1948, с. 282 сл.} приводит примеры «глубоких
корней и широкого распространения в Средней Азии» ритуаль-
ных состязаний, составляющих параллель рассказу Геродота
(IV, 11) о борьбе двух групп киммерийских царей. Видимо, по
мысли исследовательницы, это подтверждает гипотезу о Сред-
ней Азии как об области, откуда двигались киммерийцы и ски-
фы. Но подобные ритуалы были в древности распространены у
самых разных народов (так, о хеттах см. [Ардзинба, 1982,
с. 80]; кстати, и С. П. Толстов приводил отнюдь не только сред-
неазиатские параллели, и ссылка И. В. Куклиной на него явно
неполна и потому тенденциозна), и аргументом при освещении
проблем этногенеза такие сопоставления служить не могут.
Без объяснения остается и происхождение «обильной кимме-
рийской топонимики» на берегах Керченского пролива, возник-
шей, по И. В. Куклиной, значительно позже времени существо-
вания реальных киммерийцев и послужившей «причиной уверен-
ности Геродота в давнем и исконном обитании здесь киммерий-
цев» (Куклина, 1985, с. 130—131]. Исследовательница ссылается
в этой связи на вполне убедительное предположение И. М. Дья-
конова [1956, с. 230], что «Киммерийский Боспор был назван
так, по всей вероятности, просто как „северный", для отличия от
Фракийского Боспора», что название это было дано греками и
12
что «остальные названия (Киммерик, Киммерийские укрепле-
ния, Киммерийские переправы) могли быть даны уже по имени
пролива» (при этом последнее предложение в изложении
И. В. Куклиной [1985, с. 601 лишилось вероятностной формы и
превратилось в категорическое утверждение). Однако ссылка
на это суждение И. М. Дьяконова сама по себе ничего не объяс-
няет, коль скоро И. В. Куклина отрицает существование у гре-
ков в догеродотово время даже мифологического по происхож-
дению представления о связи именно северного побережья Пон-
та с киммерийцами (см. ниже). Ведь она сама справедливо за-
мечает [Куклина, 1985, с. 60], что «перенос названий из Малой
Азии теоретически мог быть возможен в любое другое место на
побережье Черного моря» (и даже — добавим от себя — за его
пределы).
Таким образом, предлагаемая И. В. Куклиной интерпрета-
ция истории сложения анализируемого рассказа Геродота тре-
бует, как мы видим, для своего обоснования существенного на-
силия над его текстом и смыслом. Что же побуждает исследо-
вательницу проводить эту мучительную и неблагодарную опе-
рацию?
В рамках самого этого рассказа И. В. Куклиной удается об-
наружить лишь один «след» того, что Геродот исказил смысл
передаваемого им предания: по ее мнению, «противоречие»
обнаруживается в том, что «после азиатских походов скифы,
как пишет Геродот, вернулись в свою собственную страну
(ё- -г,'? axis’spTjM — IV, 1, 3 и IV, 4), однако оказывается все
же, что вернулись они не в Азию, где они первоначально оби-
тали (IV, 11, 1), а в Северное Причерноморье, к Меотиг^кому
(Азовскому) озеру (IV, 3, 2)» [Куклина, 1985, с. 131]. Вос-
принимая это свидетельство Геродота как противоречивое,
И. В. К} клина стремится в духе своей гипотезы объяснить его
происхождение наличием в припоитпйских областях и в Средней
Азии одноименных географических объектов — Меотиды (Азов-
ское и Аральское моря) и Танаиса (Дон и Сырдарья), что яко-
бы и заставило Геродота воспринять области, которых по воз-
вращении пз Передней Азии достигли скифы, как идентичные их
древней прародине [Куклина, 1985, с. 131 —136]. Однако если
не стремиться во что бы то ни стало обнаружить у Геродота
подтверждения рассматриваемой концепции, то необходимость
в столь громоздком и сложном объяснении вообще отпадет, по-
скольку никакого противоречия упомянутый текст не содержит:
мы уже отмечали, что, однажды вскользь упомянув о первона-
чальном приходе скифов от реки Араке, Отец истории в осталь-
ных местах своего труда в качестве «их собственной земли» вос-
принимает исключительно реальность своего времени—северо-
причерноморскую Скифию, так что его рассказ о возвращении
абсолютно логичен. Ниже мы увидим, что идентично излагает
последовательность событий раннескифской истории Диодор, во
многом не совпадающий с Геродотом и независимый от него.
13
Нтн .ли j жить n и пестовании Отца истории убедитель-
ны. ел» кы искажения истинного хода событий фактически ке
удается • (iti исключением неоднократно отмеченного обстоя-
ic.iuiiij, что преследуемые скифами киммерийцы бегут на-
встречу своим преследователям; объяснить этот момент мы по-
стараемся в гл. III). Поэтому в действительности основной опо-
рой для гипотезы И. В. Куклиной служат все же иные факты К
их числу исследовательница [Куклина, 1985, с. 48, сл.] в пер-
вую очередь относит отсутствие у раннегреческих авторов све-
дений о пребывании скифов в Северном Причерноморье (если,
конечно, отсутствие сведений можно назвать фактом).
По мысли И. В. Куклиной, скифы, как и киммерийцы, стали
известны эллинам еще до своего прихода из Передней Азии в
Северное Причерноморье, но только как участники событий
Малой Азии и смежных областях, а потому молчание раннегре-
ческих источников о причерноморских скифах свидетельствует,
что таковых до начала VI в. до н. э. просто не существовало.
Если даже согласиться с тем, что ни один из источников этой
группы не знает причерноморских народов, то все равно принять
умозаключение И. В. Куклиной и использовать это обстоятель-
ство для опровержения нарисованной Геродотом и некоторыми
более поздними авторами картины затруднительно — общая
предельная скудость и краткость ранних свидетельств античных
авторов о киммерийцах и скифах не позволяют строить на них
категорические заключения, как негативные, так и позитивные.
В действительности, однако, вызывает возражения и конкретная
трактовка этих свидетельств И. В. Куклиной. Рассмотрим ее
аргументацию.
Земля киммерийцев «Одиссеи» и «доителей кобылиц — мле-
коедов» «Илиады» вообще плохо поддается конкретной геогра-
фической привязке. Одно несомненно: киммерийцы представля-
лись Гомеру обитателями далеких северных областей, и подоб-
ное представление никак не могло сложиться вследствие зна-
комства лишь с малоазийским этносом. Поэтому совершенно
очевидно, что приведенная выше характеристика земли кимме-
рийцев в «Одиссее» (XI, 12 сл.) определяется не тем, где имен-
но греки впервые пришли в соприкосновение с этим народом.
Гипотеза же И. В. Куклиной [1985, с. 181 —182], что эта ха-
рактеристика — плод влияния мифов и эпоса самих киммерий-
цев, даже если принять ее, ни в малой степени не дает основа-
ний предпочесть среднеазиатскую локализацию их прародины
причерноморской. Последняя по крайней мере находит поддерж-
ку в более поздних источниках, тогда как первая лишена и этой
опоры.
Что касается доителей кобылиц — млекоедов «Илиады»
(XIII, 5 сл.), что, известно, ведутся споры, скрываются ли у
Гомера под этим описательным наименованием киммерийцы
или скифы [Граков, 1954, с. 10—11; Тереножкин, 1976, с. 8;
Куклина, 1985, с. 49 сл., и т. д.]. Первая точка зрения опирает-
14
ся «а этническую привязку того же наименования у Гесиода
(Strab., V, III, 7), вторая — у Каллимаха (Ad Artem., Ill, 252—
253• Вызывает, однако, сомнение правомерность самого стрем-
ления к жестко альтернативной этнической атрибуции этих мле-
коедов: подобное определение (‘I'^polyoi ГаХахто^сгри) скорее
должно было обозначать любой из народов, характеризую-
щийся таким, необычным для эллинов, хозяйственным укладом,
подобно термину «номады» и др. Но несомненно, что возникло
оно в греческой среде в результате знакомства с этим укладом,
и стоит задуматься над тем, где именно такое знакомство могло
произойти.
И киммерийцы, и скифы, появившиеся в Передней и Малой
Азии, были скорее всего представлены там исключительно воин-
скими отрядами без сопровождающих их семей и стад. Этому
имеется целый ряд подтверждений, в том числе и рассматри-
ваемых ниже археологических. По мнению И. М. Дьяконова
[1981, с. 99], то были лишь «дружины всадников, налетавшие
на чхжие страны», и именно данным обстоятельством исслето-
ватель объясняет само превращение термина «киммерийцы» в
обобщающий этноним (см. ниже). Последнее толкование при-
нимает, кстати, и II. В. Куклина [1985, с. 45—46]. Но ведь зна-
комство эллинов в Малой Азии с подобными отрядами, вырван-
ными из традиционного уклада и вряд ли в новых экологиче-
ских и социально-политических условиях занимавшимися мо-
лочным коиеродством, не могло породить в их сознании образ
млекоедов — деятелей кобылиц. Более вероятно, что оч сто-
жился под влиянием сведений о быте соплеменников этих вои-
нов на их степной родине, которая, следовательно, не была
слишком удалена от областей обитания самих греков. Воз-чт-
нув в таких условиях, это наименование могло, конечно, прила-
гаться и к тем отрядам степняков, которые проникали в отда-
ленные земли, в частности, к воевавшим в Малой Ajjih. Отме-
ченные соображения необходимо учитывать при толковании со-
ответствующих сведений как Гомера, так и Гесиода.
Самые серьезные возражения вызывает толковаш е
И. В. Куклиной [1985, с 58] упоминания Алкеем «Ахилла, вта-
дыкп Скифской земли». Вполне правомерно связывая эту эпп-
клезу героя с существованием культа Ахилла па Белом острове,
расположенном «в Эвкспнском море напротив устья Истра (Ду-
ная)», исследовательница далее пишет: «По-видимом), свиде-
тельство Алкея относится к той части территории Скифии, кото-
рая получила у греков название старой, или древней Скиф"ч
(Herod. IV, 99, 2) и которая располагалась к югу от Дуная \
А к этой территории, по мнению И. В. Куклиной, имя ск'-фов
еще до их появления в Северном Причерноморье могло быть
приурочено эллинами под влиянием знакомства с событиями в
близкой к западнопонтийскому побережью Малой Азии.
Все дело, однако, в том, что локализовать Геродотову Ста-
рую Скифию «к югу от Д}ная», т. е. на его правом берегу, ни-
15
к ix не удается, не искажая смысла источника. И. В Куклина
обосновывает такую локализацию усеченной цитатой ич Геро-
дота (IV, 99): «От Истра (начинается) уже та самая древняя
Скифия, которая простирается на юг и в направлении южного
ветра до города, называемого Каркинитидой» (другой перевод
[Доватур и др., 1982, с. 139] звучит так: «От Истра идет уже
древняя Скифия, лежащая к югу в направлении южного ветра
до города, называемого Каркинитидой»). Такая трактовка воз-
можна, однако, лишь при очередном допущении. «Эта Каркини-
тида, следовательно, не может быть тождественна той, которую
Геродот назвал в IV, 55» [Куклина, 1985, с. 58, примеч. 44] и
которая несомненно находилась в Северном Причерноморье,
близ устья р. Гипакирис. Но ведь, согласно опущенному
И. В. Куклиной непосредственному продолжению приведенного
пассажа Геродота (IV, 99), именно от упомянутой здесь Карки-
нитиды начинается область, заселенная таврами, и следователь-
но, помещать Старую Скифию в дунайском правобережье нель-
зя6, не приписав Геродоту очередной путаницы7. Эта область
составляет неотъемлемую часть Северного Причерноморья и
никаким преимущественным по сравнению с другими его частя-
ми тяготением к Малой Азии не характеризовалась ни фактиче-
ски, ни в сознании греков. Поэтому отрывать свидетельство Ал-
кея об Ахилле — владыке Скифской земли от Прнпонтийской
Скифии нет никаких оснований.
Мы видим, что ни одно из рассмотренных до сих пор свиде-
тельств, использованных И. В. Куклиной в качестве опоры для
отстаиваемой ею гипотезы, не справляется с возлагаемой на
него задачей, да и вписывается в эту гипотезу лишь в резуль-
тате ощутимого насилия. Что же в таком случае является ис-
ходным основанием для выдвижения самой гипотезы? Эта не-
благодарная роль отведена свидетельству Аристея Проконнес-
ского о вытеснении киммерийцев скифами. Некоторые аспекты
толкования этого источника И. В. Куклиной уже были под-
вергнуты критике А. И. Иванчиком [1989], сближающимся с
нею, однако, в главном для нашей темы моменте — в отрицании
связи описанных в нем событий с Северным Причерноморьем, в
локализации их вне северопонтийского региона. Поэтому мне-
ния обоих названных исследователей мы рассмотрим совокупно.
Свидетельство Аристея по интересующему нас вопросу со-
хранилось в передаче Геродота (IV, 13). Завершив изложение
своей собственной версии рассказа о скифо-киммерийском
конфликте и о продвижении этих народов в Мидию и Малую
Азию, Отец истории прибавляет: «Аристей, сын Каистробия,
муж [родом] из Проконнеса, сказал в своих стихах, что, одер-
жимый Фебом, он дошел до исседонов, а что выше исседонов
живут одноглазые мужи — аримаспы. Над ними живут стерегу-
щие золото грифы, а выше этих — гипербореи, достигающие мо-
ря. Кроме гипербореев, все эти племена, начиная с аримаспов,
всегда нападали на соседей. И как аримаспами вытесняются из
16
страны исседоны, так исседонами — скифы. Киммерийцы же,
обитавшие у южного моря, под натиском скифов покинули стра-
ну. Таким образом, и Аристей не соглашается со скифами в
отношении этой страны».
Совершенно очевидно, что речь здесь идет о последователь-
ной цепи межэтнических столкновений, действительных или мни-
мых, вызывающих массовое перемещение народов, причем по-
следним звеном в этой цепочке порождающих друг друга пере-
селений выступает интересующее нас появление скифов в земле
киммерийцев. Вопрос состоит в том, какую территорию следует
рассматривать в качестве театра всех этих конфликтов, и в ча-
стности, где локализовать упомянутую страну киммерийцев.
Причисляя все названные Аристеем народы к «среднеазиатским
племенам», И. В. Куклина считает, что, «переправившись через
Амударью и продвинувшись к югу (реально — к юго-западу),
скифы как раз и могли оказаться у северных границ киммерий-
ской территории, занимавшей, по всей видимости, какую-то
часть Иранского нагорья к северу от Персидского залива»
[Куклина, 1985, с. 77].
Здесь нет возможности рассматривать все доводы, приведен-
ные исследовательницей в поддержку локализации перечислен-
ных народов, лежащей в основе этой реконструкции, поскольку
это потребовало бы анализа всей совокупности данных антич-
ной традиции об обитателях широко понимаемого «скифского
мира» и его окрестностей. В частности, согласование размеще-
ния исседонов к северу от Сырдарьи и далее на восток до Семи-
речья и Притяньшанья с утверждением Геродота (IV, 25) об
обигании этого народа непосредственно к востоку от аргиппеев,
в свою очередь, зависит от определения областей расселения
всех тех народов, через земли которых проходит путь от причер-
номорских скифов в землю аргиппеев (Herod., IV, 21—24).
И. В. Куклина [1985, с. 80] ограничивается ссылкой на неопре-
деленность данных о протяженности и направлении этого пути
(Herod., IV, 23) и на соотнесенность земли аргиппеев с Рипей-
скими горами, в свою очередь отождествленными ею с Тянь-Ша-
нем. Но последняя идентификация сама по себе более чем дис-
куссионна (ср. [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, с. 32—35;
Жарникова, 1985]), а сообщение Геродота (IV, 24), что путь до
аргиппеев хорошо известен эллинам из Гавани Борисфеннтов и
из других припонтийских портов, делает локализацию этого на-
рода в Притяньшанье вообще немыслимой 8. Вопрос о толкова-
нии пути из Скифии к аргиппеям мы подробнее рассмотрим в
гл. III. Сейчас же, не анализируя всю интерпретацию Аристе-
евой периегесы в монографии И. В. Куклиной, сосредоточим
внимание на вопросе о местоположении упомянутой в ней земли
киммерийцев.
Главным моментом при решении этого вопроса для
И. В. Куклиной служит сообщение Аристея — Геродота, что этот
народ обитал «у южного моря». По мнению исследовательницы
2 Зак. 35а
17
[Куклина, 1985, > 7<'|. • npi тан шстся сомнительным, что i ре-
ки мп| in нанипь cc.H'piK г побережье Черного моря южным
и по отношению к Северном, океану Проанализировав
18тсм чаи определения Геродотом какого-либо моря как
«южнч1<1 И В. Куклина отвергает вывод А. И. Доватура
(1482, с. 112—113] об «условности, относительности обозначе-
ний „северное, южное море“ у Геродота» и о том, что для Отца
истории «по отношению к Скифии южным морем является, та-
ким образом. Черное». Она полагает, что южное море у Геродо-
та— всегда Эритрейское море, т. е. Индийский океан с за типа-
ми, ограничивающий с юга известную эллинам ойкумену [Кук-
лина, 1985, с. 74—761.
Абсолютный характер этого вывода убедительно оспорил
А. И. Иванчик, выделивший различные контексты подобного
словоупотребления у Геродота. По его мнению, «во всех случаях
употребления наименования морей по одной из сторон
света... такие наименования имеют относительный характер.
Там, где это возможно, Геродот, употребляя такое обозначение,
вводит уточнения. Когда же они употреблены без уточнений, то
прилагаются к морям, не имеющим собственного имени». Как
раз к последнему разряду относит Л. И. Иванчик интересующий
нас пассаж Herod., IV, 13. Поскольку же «пи Евкспнское, ни
Эритрейское море этому условию не удовлетворяют, зато ему
прекрасно соответствует Средиземное море в той его части, где
оно омывает южный берег Малой Азии», с Лристеевой «землей
киммерийнев» он отождествляет Киликию, где в самом деле око-
ло 40-х годов VII в. до н. э. киммерийцы не только присутство-
вали, но и потерпели военное поражение — возможно, от скифов
(Strab., I. Ill, 21) [Иванчик, 1987, с. 51—53].
Таким образом, оспорив методику толкования текста, пред-
ложенную И. В. Куклиной, и расходясь с ней в конкретных вы-
водах, А. И. Иванчик солидарен с нею в том отношении, что
приурочивает интересующее нас событие к областям вне Север-
ного Причерноморья. Приходится, однако, констатировать, что
его интерпретация, как и гипотеза И. В. Куклиной, порождает
больше трудностей, чем устраняет неясностей. Толковать рас-
сматриваемое свидетельство Аристея можно, лишь держа по-
стоянно в поле зрения то обстоятельство, что оно известно нам
в изложении Геродота, а следовательно, любая его трактовка не
может не учитывать того, как понимал его Отец истории и чем
он руководствовался, включая соответствующий пассаж в свое
повествование. И. В. Куклина [1985, с. 77] совершенно справед-
ливо отметила, что «Аристей и Геродот передают один и тот же
вариант легенды о происхождении скифов, с той только разни-
цей, что, по Геродоту, скифов вытеснили массагеты, а по Ари-
стею — исседоны». Именно как своего единомышленника в дан-
ном вопросе и привлекает Аристея Отец истории, что прямо до-
ку монтируется ремаркой, заключающей его пересказ свидетель-
ства Аристея (или даже почти буквальную цитату из него, к
18
чему склоняется А. И. Иванчик): «Таким образом, и Аристей не
соглашается со скифами в отношении этой страны», т. е., по-
добно самому Геродоту, не верит скифскому мифу об их авто
хтонности в этой стране. Из контекста совершенно очевидно,
что «эта страна» приведенной ремарки идентична упомянутой в
предыдущей фразе стране, которую обитавшие у южного моря
киммерийцы покинули под натиском скифов. Но ведь мы уже
видели (с этим согласна и И. В. Куклина), что для Геродота
(хотя бы и вследствие его заблуждения) такой страной было
Северное Причерноморье, а значит, для подтверждения своего
взгляда на историю именно этого региона нужна была ему вер-
сия Аристея.
Как выбраться из этого противоречия? Предположить, что
Геродот не уловил смыслового различия между своим расска-
зом и версией Аристея, т. е. понял ее неправильно, точно так же
как неправильно — по мысли И. В. Куклиной и А. И. Иванчи-
ка — понимают ее большинство современных исследователей?
Но тогда интерпретация ее исконного содержания не может
базироваться на анализе случаев аналогичного словоупотреб-
ления у Геродота, якобы приписавшего данной версии смысл,
этому исконному содержанию противоположный. Считать, что и
сам Геродот имел в виду не Северное Причерноморье, а какой
то иной регион — безразлично, побережье Киликии или Эри-
трейского моря? Но в таком случае теряет смысл предлагаемое
им противопоставление этого рассказа и собственно скифского
мифа как двух альтернативных вариантов толкования пробле-
мы происхождения обитателей одной страны — той самой, что,
согласно этому мифу, располагается у берегов Борисфена или
вокруг приднепровской Гилеи.
Остается признать, что Геродот имел в виду именно то, что
видят в его рассказе большинство современных комментаторов
его труда,— повествование о столкновении скифов и киммерий-
цев на северном побережье Понта. Почему же в таком случае
киммерийцы охарактеризованы здесь как «обитающие у южно-
го моря»? Поэма Аристея — и это достаточно наглядно показа-
ли Г. М. Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский [1983, с. 97, ПО
и др.],— восходя во многих своих особенностях к мировосприя-
тию евразийских народов «скифского круга» и их соседей, отра-
зила присущую именно им картину мира. Неотъемлемой чертой
последней, как продемонстрировали те же авторы, было пред-
ставление о лежащем за горами полумифическом «море бла-
женных», расположенном у северного предела обитаемого ми-
ра, и о другом море, составляющем южный рубеж земли,— том
самом, в которое впадают все текущие с севера на юг великие
реки. Эта картина мира, сложившаяся на юге Восточной Евро-
пы, в несколько трансформированном виде представлена в кос-
мологических системах всех индоиранцев древности [Бонгард-
Левин, Грантовский, 1983, passim]. По существу, именно она и
определяет в анализируемом фрагменте поэмы Аристея способ
2*
19
<i11rHurt «it.iip.i iii* ' 11114 ic !< nun , pa «мешающегося между
морем hoi ic Kiiiopoio жнн). iнпербореи («Iнпербореи, дости-
гающие моря» — аналог блаженных индоиранской мифологии),
и морем, иа побережье коюрого обитали киммерийцы. Страна
обитания всех перечисленных Аристеем народов служит той
«точкой отсчета», по отношению к которой эти два моря высту-
пают соответственно как северное и южное. Так что, если сле-
довать предложенной А. И. Иванчиком классификации слхчаев
соответствующего словоупотребления у Геродота, то интересую-
щий нас пассаж примыкает к первой группе, когда «северное,
восточное и южное моря означают соответственно „море у север-
ного, восточного и южного побережья"» какой-либо страны
[Иванчик, 1987, с. 49; Herod., II. 21. IV, 100, V, 31]
Однако наибольшую аналогию этому пассажу как целостной
структуре составляет текст, выделенный А. И. Иванчиком в осо-
бый тип, где обитатели Азии описываются как последователь-
ный ряд народов «от моря до моря» (Herod., IV, 37). Точно по
такой модели описана Аристеем далекая северная земля, в ан-
тичной литературе зачастую фигурирующая как «Скифия» в
широком понимании этого термина. Моря, ограничивающие ее с
севера и с юга, для Аристея и Геродота в данном контексте не
столько реальные моря античной географии, известные и в иных
контекстах (тем более что к мнению о существовании моря на
севере от обитаемой земли Геродот вообще относится достаточ-
но скептически [Куклина, 1985, с. 74]), сколько рубежи этой
полулегендарной страны, какими их мыслили сами ее обитатели.
Поэтому, хотя Отец истории и осознает идентичность «южного
моря» в приводимом им эксцерпте из Аристея хорошо извест-
ному ему Понту Эвксинскому (что ясно из всего окружающего
повествования) 9, но не сопровождает его упоминание никаким
дополнительным пояснением, если не считать таковым саму
констатацию обитания на его побережье киммерийцев.
Мы видим, таким образом, что известный нам в передаче Ге-
родота отрывок из поэмы Аристея, как и все рассмотренные
выше источники, не подкрепляет гипотезу о локализации скифо-
киммерийского конфликта вне пределов Северного Причерно-
морья. Но чтобы завершить анализ этой гипотезы, необходимо
остановиться на сообщениях еще некоторых древних авторов.
Дело в том, что, вопреки мнению И. В. Куклиной [1985, с. 78],
рассказ Геродота об этом конфликте отнюдь не может рассмат-
риваться как, «по сути дела, единственное из дошедших до нас
свидетельств, связывающих (видимо, следует читать: „свиде-
тельство, связывающее".— Авт.) киммерийцев раннего времени
с территорией Северного Причерноморья». У относительно позд-
них авторов такие свидетельства — как прямые, так и косвен-
ные — имеются, и обойти их вниманием нельзя. Так, Страбон
(XI, II, 5), отмечая, что Боспор был назван Киммерийским по
имени обитавшего здесь некогда народа, который «делал набеги
на живущих внутри страны по правую сторону Понта, до
20
Ионии», добавляет: «Киммерийцев изгнали из страны скифы, а
скифов — эллины, основавшие Пантикапей и прочие города на
Боспоре». Упоминание Пантикапея неоспоримо свидетельствует,
изо под страной, откуда киммерийцы были вытеснены скифами,
имеется в виду не «правая сторона Понта», которой киммерий-
цы лишь достигали в своих походах, а область их исконного
обитания, локализуемая Страбоном у одноименного этому на-
роду Боспора.
Конечно, нельзя исключить, что Страбон здесь просто следу-
ет версии Геродота, и тогда его рассказ не имеет для нас само-
стоятельной информативной ценности. Значительно важнее в
этом отношении свидетельство Плутарха (Mar., XI), в некото-
рых пунктах, касающихся киммерийцев, вопреки утверждению
И. В. Куклиной, прямо противоположное Геродоту [Граков,
1954, с. 11] и, следовательно, от него независимое. Тем сущест-
веннее содержащееся здесь сообщение, что те киммерийцы, ко-
торые впервые стали известны древним эллинам, «перешли от
Меотиды в Азию», хотя, по мнению И. В. Куклиной [1985,
с. 183], из него также «не представляется возможным извлечь
подтверждение тому, что киммерийцы были обитателями Север-
ного Причерноморья, как это пытаются сделать современные
исследователи».
Процедуре насильственного перетолкования подвергнут в
раббте И. В. Куклиной и рассказ Диодора (II, 43). Хотя этот
автор не упоминает имени киммерийцев (что само по себе, как
мы увидим, представляет определенный интерес), он предлага-
ет нам свою — и весьма подробную — версию тех самых собы-
тий раннескифской истории, участником которых другие источ-
ники называют этот парод. Поэтому свидетельство Диодора, без
сомнения, заслуживает нашего внимания в контексте разбирае-
мой проблемы. Вот этот рассказ.
«43.1. Теперь перейдем к скифам, населяющим соседнюю [с
индийцами] страну. Они сначала занимали незначительную об-
ласть, но впоследствии, понемногу усилившись благодаря своей
храбрости и военным силам, завоевали обширную территорию и
снискали своем}7 племени большую славу и господство. 2. Сна-
чала они жили в очень незначительном количестве у реки Арак-
са и были презираемы за свое бесславие; но еще в древности
под управлением одного воинственного и отличавшегося страте-
гическими способностями царя они приобрели себе страну в
горах до Кавказа, а в низменностях прибрежья Океана и Мео-
тийского озера и прочие области до реки Танаиса. 3. Впоследст-
вии. по скифским преданиям, появилась у них рожденная зем-
лей дева, у которой верхняя часть тела до пояса была жен-
ская, а нижняя — змеиная. Зевс, совокупившись с ней, произвел
сына по имени Скиф, который, превзойдя славой всех своих
предшественников, назвал народ по своему имени скифами. В
числе потомков этого царя были два брата, отличавшиеся доб-
лестью; один из них назывался Пал, а другой — Нап. 4. Когда
21
они совершили славные подвиги и разделили между собой цар-
ство, по имени каждого из них назвались народы, один палами,
а другой — напами. Спустя несколько времени потомки этих
царей, отличавшиеся мужеством и стратегическими талантами,
подчинили себе обширную страну за рекой Танаисом до Фра-
кии и, направив военные действия в другую сторону, распрост-
ранили свое владычество до египетской [реки] Нила. 5. Пора-
ботив себе многие значительные племена, жившие между этими
пределами, они распространили господство скифов с одной сто-
роны до восточного океана, с другой до Каспийского моря и
Меотийского озера; ибо это племя широко разрослось и имело
замечательных царей, по имени которых одни были названы
саками, другие массагетами, некоторые аримаспами и подобно
им многие другие».
Уже отмечалась [Раевский, 1985, с. 54 и 217—218] специфи-
ческая черта этого источника — чередование в нем фрагментов
генеалогического мифа и исторического предания, столь четко
противопоставленных друг другу у Геродота, равно как и не-
зависимость запечатленной в нем традиции от сообщения Отца
истории. Эта независимость проявляется как в чисто мифологи-
ческих пассажах, так и в принципиально ином понимании тер-
мина «скифы». Тем интереснее совпадение событийной канвы
раннескифской истории у обоих авторов: первоначальное оби-
тание этого народа «у реки Аракса», затем расширение подвла-
стных ему областей и, наконец, походы в Переднюю Азию
впло1ь до Египта. Для нас в данный момент интерес представля-
ет локализация зоны обитания скифов на втором из трех пере-
численных этапов.
И. В. Куклина [1985, с. 122—123] видит в рассказе Диодора
прямое подтверждение своей гипотезы о продвижении скифов по
землям к югу от Каспийского моря, отождествляя упомянутый
здесь Танаис с Сырдарьей, Меотиду — с Аральским морем, а
Кавказ — с «восточным отрезком Тавра — той горной цепи, ко-
торая тянулась в широтном направлении через Азию от мыса
Микалы до Индии». Общепринятое толкование упомянутых
здесь событий как связанных с югом Восточной Европы она
объясняет тем, что оно «попросту привносит привычные совре-
менным исследователям представления в текст древнего автора»
(см. также [Куклина, 1985, с. 191]). Все плохо укладывающиеся
в такую трактовку моменты исследовательница обходит молча-
нием — к примеру, указание на то, что скифы на втором этапе
своей миграции заняли территорию «за Танаисом до Фракии»
(курсив наш.— Авт.) и, лишь «направив действия в другую сто-
рону», достигли Египта; сюда же относится тот факт, что под
Танаисом в данном случае подразумевается река, около которой
живут савроматы (II, 43, 6), т. е. определенно — Дон. Если же
учитывать все данные Диодора без купюр и изъятий, то наибо-
лее логичным представляется традиционное понимание его рас-
сказа, локализующее промежуточную зону обитания скифов в
22
процессе их расселения в Предкавказье ([Мачинский, 1971,
с. 32—33]; см. также [Лесков, 1981, с. 102—103]). Поэтому,
вполне соглашаясь с И. В. Куклиной [1985, с. 123], что «Диодор
по существу передает ту же самую версию о происхождении
скифов, что и Аристей и Геродот», мы приходим к выводу, что и
этот источник не дает оснований для пересмотра традиционной
трактовки сообщений названных авторов, а, напротив, подкреп-
ляет ее.
Резюмируя все сказанное, мы приходим к выводу, что целая
серия подобных переосмыслений древних свидетельств превра-
щает монографию И. В. Куклиной из опыта воссоздания «Этно-
географии Скифии по античным источникам», как гласит полное
название ее книги, в попытку решить ту же задачу вопреки
этим источникам. Но остается открытым вопрос, к которому мы
вернемся ниже: что же в конечном счете побуждает предприни-
мать подобное переосмысление, если автор вынужден подверг-
нуть ему' все тексты, и пи один не подтверждает его концепцию
непосредственно? В самих античных свидетельствах о событиях
раннескифской истории, и в частности о столкновениях скифов с
киммерийцами, не обнаруживается оснований — ни содержа-
тельных, ни формальных — для утверждения о недостоверности
античной традиции в принципе и для ее пересмотра в предло-
женном И. В. Куклиной или А. И. Иванчиком ключе, в том чис-
ле для отказа от понимания киммерийцев как предшествующих
скифам обитателей Северного Причерноморья.
Конечно, делать на этом основании категорический вывод о
полной исторической точности анализируемой традиции не
только преждевременно, но и недопустимо, поскольку свиде-
тельства различных античных авторов разнятся между собой по
целому ряду моментов; на некоторые же весьма существенные
вопросы они вообще не дают ответа. Так, до сих пор у исследо-
вателей нет общепринятого суждения, какая реальная река
фигурирует под именем «Араке» у Геродота и Диодора, поме-
щающих близ нее исконную область обитания скифов (историю
вопроса см. [Куклина, 1985, с. 114 сл.]), а следовательно, нет и
ясности относительно того, где локализовать скифскую прароди-
ну. Еще пример: если Аристей, Геродот и Страбон (XI, I, 5)
повествуют о тотальном вытеснении киммерийцев из областей
их обитания на северном побережье Понта скифами, то Диодор
обходит это обстоятельство молчанием, не упоминая и имени
киммерийцев, а данные Плутарха (Mar., XI) прямо его опро-
вергают, поскольку свидетельствуют, что в Переднюю Азию
переместилась лишь незначительная часть обитавших у Меоти-
ды киммерийцев. Далее: у Геродота появление киммерийцев на
Ближнем Востоке предстает как однократное, обусловленное
скифским преследованием, тогда как Страбон говорит о регу-
лярных киммерийских набегах на страны «на правой стороне
Понта».
Все эти моменты весьма существенны для воссоздания рс
23
и u.fHirt к , ины < кифо киммерийских взаимоотношений п зт o-
f ;.u>. ip.ioii истории < кпфои н смежною с ними мира. Отсюда
следует, что рассмотренные выше данные античной традиции
нуждаются в проверке, корректировке и конкретизации, но вы-
полнить эту задачу можно, лишь опираясь на внешние по отно-
шению к этой традиции данные. В этом качестве, как уже гово-
рилось, выступают свидетельства восточных текстов и археоло-
гические материалы.
Первые ценны прежде всего тем, что подтверждают историч-
ность киммерийцев. Данные античной традиции на этот счет
требуют проверки уже по той причине, что сообщающие об этом
народе греческие источники в подавляющем большинстве не
синхронны событиям, о которых они повествуют. Деяния ким-
мерийцев в античной традиции — это события далекого прош-
лого, и опираться только на эту традицию нельзя, ибо в прин-
ципе не исключено, что все ее рассказы об этом народе — про-
дукт эллинского мифотворчества (ср. сказанное выше о гоме-
ровских киммерийцах) либо проявление квазиисторических фан-
тазий античного мира. Возможность такого толкования как раз
и опровергается, как известно, наличием сообщений о кимме-
рийцах в древневосточных текстах того самого периода, к кото-
рому относит этот народ античная традиция.
Весьма существенно, что греческие и восточные данные о
киммерийцах отчасти корреспондируют между собой и по со-
держанию. Сведения о прямых контактах с этим народом как
жителей древневосточных юсударств, так и обитателей Ионии
и сопредельных с нею малоазийских территорий не позволяют
трактовать сообщения античных авторов как воспроизведение
ближневосточной традиции. Тем большее значение приобретает
специально подчеркнутый И. М. Дьяконовым факт, что «не
только народы Передней Азии, но и греки именовали их (ким-
мерийцев.— Авт.), по сути дела, тем же термином» [Дьяконов,
1981, с. 94; курсив наш.— Авт.], ибо из этого следует, что ана-
лизируемый термин во всех его вариантах (греч. Kip-pepjoi,
акк. gimirri и т. п.) в конечном счете восходит к самоназванию,
которым обозначала себя некая общность (этнокультурная, эт-
носоциальная или какая-то иная — вопрос о ее природе мы на
данном этапе оставляем в стороне). В противном случае «гре-
ческое и переднеазиатское иноназвания были бы скорее всего
различными» [Дьяконов, 1981, с. 94]. Таким образом, историче-
ская реальность киммерийцев и аутентичность их названия са-
ми по себе сомнению не подлежат и являются общепризнанны-
ми в исторической науке.
Далеко не столь однозначно решается вопрос о терригорни,
.• которой связана история этих киммерийцев, известны? как
древнему Востоку, так и античному миру. Что касается их ак-
тивности в Передней Азии в VIII—VII вв. до н. э. и некоторых
связанных с этим событий (к примеру, киммеро-асснрийских
столкновений), то они фиксируются синхронными этим событи-
24
ям клинописными текстами, и это надежно удостоверяет при-
сутствие киммерийцев в указанных областях (см. [Иванчик,
1989]), вполне подтверждая повествующую о том же античную
традицию. Отнако подобные тексты ничего не сообщают об их
происхождении и потому не могут ни подтвердить, пи опроверг-
нуть достоверность представления античного мира о них как о
народе, пришедшем в Переднюю Азию из Северного Причерно-
морья. Между тем именно этот тезис античной традиции, трак-
тующий киммерийцев как «доскифское» население северопон-
тийского региона, собственно, и представляет интерес в кон-
тексте рассматриваемой темы. В специальной литературе можно
выявить два подхода к его оценке.
Первый подход, в отечественной скифологии преобладающий,
хаоактеризуется доверием к рассказу об обитании киммерий-
цев в Северном Причерноморье до прихода туда скифов и о про-
движении их именно оттуда в Переднюю Азию. Второй подход,
уже упомянутый выше, основан на отрицании какой бы то ни
было связи их с территорией будущей Скифии. Сторонники
этой точки зрения полагают, что локализация киммерийцев в
да ном регионе — историческая аберрация, сравнительно позд-
нее переосмысление сведений о реальном взаимодействии ким-
мерийцев и скифов, имевшем место исключительно в Передней
и Матой Азии.
При оценке этих толкований стоит вспомнить, что независи-
мые от античной традиции восточные источники позволяют не
только констатировать исторические контакты двух названных
народов в Передней Азии, но и предположить известное едино-
образие их культурного облика, в корне отличного от собствен-
но древневосточного; это единообразие порождено скорее всего
единством их хозяйственного уклада [Грантовский, 19806, с. 72],
в чем как будто можно видеть косвенное указание на то, что
формирование такого уклада происходило в сходных экологи-
ческих условиях (ср. упомянутое выше применение к обоим
народам наименований «млекоеды», «доители кобылиц» в ан-
тичных текстах). Напомним также неоднократно отмечавшуюся
специалистами взаимозаменяемость названий «скифы» и «ким-
мерийцы» в восточных текстах [Дьяконов, 1981, с. 93], имено-
вание киммерийцами всех евразийских племен скифо-сакского
круга в вавилонских версиях ахеменидских надписей [Дьяко-
нов, 1956, с. 238; Дандамаев, 1977, с. 31—32] и, наконец, прямое
толкование библейской «таблицей народов» (Быт., 10, 3) наро-
да Ашкеназ (Ашкуз — скифов) как потомка Гомера (кимме-
рийцев) [Дьяконов, 1956, с. 246—247].
Если дополнить эти моменты скудными, но все же сущест-
венными данными в пользу толкования киммерийцев как наро-
да ираноязычного, принадлежащего к той же языковой группе,
что и скифы [Дьяконов, 1956, с. 239—241; Абаев, 1965, с. 125—
126 и др.], то общность происхождения скифов и киммерийцев
предстанет как хотя и не неоспоримо доказанная, но достаточно
25
вероятная. Поскольку же приход скифов в Переднюю Азию
именно из Северного Причерноморья фактически общепризнан
(если не следовать радикальной гипотезе И. В. Куклиной, до
сих пор, как мы постарались показать выше, ничем не подкреп-
ленной), то можно сказать, что античная традиция о причерно-
морском происх жденич киммерийцев получает во внешних по
отношению к ней данных некоторое — хотя и косвенное — под-
тверждение. Чтобы оспорить ее историчность, требовалось бы по
меньшей мере обнаружить причины, побуждавшие античный
мир к нарочитому конструированию такой традиции. Пока jto
не сделано, мы пе видим серьезных оснований для того, чтобы
полностью отвергать содержащуюся в античных источниках
информацию относительно локализации прародины и ранней
этической истории киммерийцев.
С целью придать этим свидетельствам необходимую конкрет-
ность, наполнить запечатленную в них историю взаимодействия
киммерийцев и скифов реальным содержанием исследователи
нескольких поколений предпринимают Настойчивые попытки
наложить вербальные данные на археологический материал.
Прежде чем анализировать эти попытки и оценивать их убеди-
тельность, коснемся вкратце некоторых вопросов методики по-
добной процедуры.
Проблема согласования сведений античной традиции о ски-
фо-киммерийских взаимоотношениях с археологическими мате-
риалами представляет собой с семиотической точки зрения за-
дачу выявления в обеих названных группах источников инфор-
мации об одних и тех же событиях и процессах этнокультурной
истории, передаваемой специфичными для каждой из этих групп
способами. Речь, следовательно, идет о взаимном переводе со-
общений, идентичных по содержанию, но различных по своей
кодовой природе. Поэтому корректное согласование названных
источников предполагает достаточно глубокое постижение спо-
собов кодирования этноисторической информации в античных
нарративных текстах, с одной стороны, и в археологическом ма-
териале — с другой. Как же выражается этническая проблема-
тика средствами названных источников?
По удачной формулировке Ю. В. Бромлея [1983, с. 49],
«этнос — категория сопоставительная», и этническая принад-
лежность определенных исторически сложившихся совокупно-
стей людей находит выражение прежде всего через отличие
этих совокупностей друг от друга. «Конечно, само единство
внешних отграничительных особенностей этноса представляет
собой выражение его определенных внутренних связей. Но все
же характерная особенность этнических общностей как раз и
состоит в том, что их непременным свойством, имеющим важ
ное типологическое значение, является взаимное различение»
[Бромлей, 1983, с. 49; курсив наш.— Авт.]. Поэтому вопрос о
принципах кодирования этноисторической информации средст-
вами разных по природе источников оборачивается выявпением
26
способов выражения в этих источниках отмеченного различения
этносов.
В свою очередь, то, по каким конкретно характеристикам
осуществляется такое различение, определяется содержанием,
вкладываемым в понятие «этнос». Вновь воспользуемся форму-
лировкой Ю. В. Бромлея: этнос «может быть определен как ис-
торически сложившаяся на определенной территории устойчи-
вая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только
общими чертами, но и относительно стабильными особенностя-
ми культуры (включая язык) и психики, а также сознанием
своего единства и отличия от всех других подобных образова-
ний (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнони-
ме)' (Бромлей, 1983, с. 57—58]. По существу, это определение
представляет реестр этноразличительных признаков, констата-
ция которых и составляет этноисторическую информацию.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что полнота имеющихся в
нашем распоряжении данных о перечисленных характеристиках
этносов определяется прежде всего тем, какими именно источ-
нш >ми этчоисторической информации в каждом конкретном
случае мы располагаем, т. е. какими способами эта информация
закодирована, ибо различные коды в разной степени пригодны
для хранения сведений о тех или иных из перечисленных этни-
ческих характеристик. Более того, когда речь идет об удален-
ных от нас эпохах, на практике зачастую в нашем распоряже-
нии оказывается лишь незначительная доля информации, по-
требной для полноценной этноисторической реконструкции. В
полной мере сказанное относится к истории скифо-киммерий-
ских отношений.
Прежде всего приходится признать, что некоторые из пере-
численных в приведенном определении этноса характеристик не
находят адекватного отражения ни в одной из доступных в на-
шем случае категорий источников и не могут быть использова-
ны для воссоздания интересующей нас картины. Так, в целом
приходится оставить в стороне вопрос о специфических особен-
ностях психики как об этноразличительной характеристике. Ко-
нечно, в действительности эти особенности так или иначе опре-
деляют характер каждого проявления любой этнической куль-
туры, но их влияние здесь столь сложно опосредовано и меха-
низмы этого воздействия столь мало исследованы, что оценивать
реальные различия между отдельными культурами прошлого
как проявления этнопсихологических особенностей их носителей
неправомерно.
В рассматриваемом случае приходится отказаться и от при-
влечения данных о языке — важнейшем в принципе этнокуль-
турном показателе. Конечно, язык скифов (в меньшей мере —
киммерийцев) может служить — и, как известно, служит —
предметом изучения. Но имеющихся данных явно недостаточно
для освещения на этом материале вопроса об этнических отно-
шениях между скифами ц киммерийцами. Скорее наоборот,
27
общие соображения на этот счет, опирающиеся на сведе7- »я
иной природы, предопределяют толкование проблемы этноязы-
ковой принадлежности киммерийцев и соответственно понима-
ние характера отношений между ними и скифами.
Зато на других — помимо языка — «стабильных особенно-
стях культуры» как на этнодифференцирующих признаках мы
по необходимости должны остановиться подробно, поскольку ото
имеет прямое отношение к ключевой в методологическом отна^
шении проблеме соотношения археологической культуры и эт-
носа.
Под археологической культурой понимается «совокупное ь
памятников, объединенных и отличающихся от прочих исключи-
тельным или преобладающим проявлением» определенного
культурного комплекса, который, в свою очередь, представляет
«систему, состоящую из значительного ряда существенных ти-
пов, связанных сильной корреляцией и относящихся по крайней
мере к нескольким из важнейших категорий археологического
материала (керамика, способ погребения, облик жилища и по-
селения, набор орудий, оружия, украшений и т. п.)» [Клейн,
1970, с. 51]. Поскольку подобный культурный комплекс, харак-
теризующий археологическую культуру7 (АК), как раз и отра-
жает достаточно специфичные особенности культуры некоей
существовавшей в прошлом группы людей, правомерность при-
знания этнической природы этой группы нельзя считать заведо-
мо исключенной. Конкретно такой подход выразился бы в при-
знании, что археологическая культура есть материальный след
существовавшего в прошлом этноса, что различие культур со-
ответствует множественности этносов, что система синхронных
культур воспроизводит этническую карту7 занятой ими террито-
рии в соответствующий период, что изменение ареала той пли
иной культуры отражает перемещение представленного ею
этноса, смена не связанных между собою генетически культур
в каком-либо регионе соответствует смене этнического
состава его населения, а непрерывная культурная преемствен-
ность, напротив, отражает стабильность такого состава.
В эмпирической археологии подобные представления в более
пли менее явной форме достаточно широко распространены, хо-
тя разные исследователи придерживаются их с различной мерой
последовательности. В то же время в целом ряде работ по тео-
ретической археологии, по методике интерпретации археологи-
ческого материала мы находим отличную от эмпирического под-
хода оценку рассматриваемой проблемы. Так, по мнению
Л. С. Клейна [1970, с. 49], уже сами «версии определения ар-
хеологической культуры, основанные на идее о ее обязательном
совпадении с этносом, приходится признать несостоятельными».
Это замечание, конечно, не исключает корреляции между архео-
логически запечатленными культурно-историческими процесса-
ми и явлениями, с одной стороны, и процессами и явлениями
этноисторическими — с другой. Другое дело, что, как отмечают
28
этнографы, «ни один из компонентов культуры не является не-
пременным этподифференцирующим признаком» [Бромлей,
1983, с. 551, н соответственно указанная корреляция должна
находить, как правило, статистическое, а не абсолютное выра-
жение.
Высказывалось также мнение, что в большинстве спучаев за
археологической культурой скрывается либо «общность на бо-
лее высоком, нежели этнический, уровне» (хозяйственно-куль-
турный тип — ХКТ), либо, «когда речь идет о малых локальных
АК, их специфика связана с культурными различиями, находя-
щимися на более низком, чем собственно этнический, уровне...
Лишь в редких случаях разница между АК может отражать
реальные этнические различия в рамках одного ХКТ, и для их
выявления явно недостаточно одной лишь констатации различия
между соответствующими АК как культурными комплексами»
[Арутюнов, Хазанов, 1979, с. 146]. В этом пассаже прежде все-
го привлекает внимание справедливое требование избегать при-
менения понятия «археологическая культура» к явлениям раз-
личных таксономических уровней — как к субэтническим, так и
к надэтническим, а также к собственно этническим совокупно-
стям различных рангов. Разумеется, такая нестрогость нежела-
тельна даже вне зависимости от ее негативного влияния на кор-
ректность этноисторических построений. Вполне правомерны в
этом отношении неоднократно звучавшие призывы достаточно
последовательно различать в археологическом материале иерар-
хию «культурных общностей», «культур» и их «локальных вари-
антов», стремиться к однозначной и обоснованной оценке ранга
той или иной реальной совокупности памятников. Однако заме-
чание процитированных авторов, что самого по себе различия
между археологическими культурами недостаточно для выявле-
ния реальных этнических различий, не должно, на наш взгляд,
повлечь за собой отказ от каких бы то ни было попыток этно-
псторических реконструкций по археологическим материалам 10.
Главным же способом создания таких реконструкций как раз и
является систематизация материала, т. е. его распределение по
принадлежности к той или иной археологической культуре и по-
строение модели взаимоотношений между этими культурами, в
том числе — в динамике.
По справедливому замечанию И. С. Каменецкого [1970,
с. 35], «большинство археологов думают, что культура соответ-
ствует этносу. И уже во всяком случае все исходят из этого до-
пущения в своей практической работе, даже те, кто выступал и
выступает против такого отождествления». Эта парадоксальная
ситуация сложилась, конечно, отнюдь не случайно: она базиру-
ется на том, что — с учетом всех приведенных выше оговорок —
в обоих случаях (и при изучении этносов, и при исследовании
археологических культур) речь идет о различении определенных
совокупностей, в том числе по одним и тем же признакам.
Именно такой господствующий в эмпирической археологии
29
подход лежит в основе большинства предпринимавшихся рекон-
струкций картины скифо-киммерийских отношений по археоло-
гическим данным и попыток согласования этих данных с антич-
ной традицией. В самом деле, попытаемся представить себе, как
должна в принципе выглядеть «записанная археологическим ко-
дом» история этих отношений, идентичная, к примеру, той, что
рассказана Геродотом. Для этого расчленим повествование Отца
истории на элементарные звенья:
А. Скифы не являлись автохтонным населением Причерно-
морья.
Б. Область их первоначального обитания локализуется в од-
ном из регионов Азии, у реки, именуемой Араксом.
В. Оттуда они переместились к северному побережью Понта.
Г. Предшественниками скифов на этой территории были ким-
мерийцы.
Д. Появление скифов в Причерноморье сопровождалось то-
тальным вытеснением киммерийцев.
Если в свете сказанного выше признать корреляцию между
спецификой археологической культуры и этнической принад-
лежностью ее носителей, то картина эта предстает как доста-
точно легко «переводимая» на язык археологических данных и
археологический эквивалент каждого из перечисленных звеньев
повествовательной традиции приобретает вполне уловимые ха-
рактеристики. В результате мы получаем теоретическую рекон-
струкцию искомой археологической ситуации: некая культура,
сложившаяся в одной из областей Азии и, по всей видимости,
уходящая корнями в местные для этой области традиции (—Б),
распространяется за пределы своего первоначального ареала и
в этом движении достигает Северного Причерноморья (=В); ее
появление здесь сопровождается полной сменой культурного об-
лика региона (=А), исчезновением ранее существовавшей здесь
культуры, которая в таком контексте может, видимо, претендо-
вать на именование киммерийской ( = Г, Д), тогда как ее пре-
емница логично интерпретируется как культура скифская.
Такое прочтение некоего «археологического текста» как
идентичного по содержанию повествованию Геродота не только
подтвердило бы достоверность этого повествования, но и обе-
спечило бы нас дополнительной по отношению к нему информа-
цией; так, исходя из локализации зоны формирования мигри-
рующей культуры, оказывается возможным более или менее
точное определение прародины скифов, местоположение кото-
рой в рассказе Геродота характеризуется лишь в общих чертах;
кроме того, независимая археологическая датировка описанной
динамики археологической ситуации способствовала бы уточне-
нию хронологии изучаемых событий, а более детальное пред-
ставление об их характере мы могли бы получить, опираясь на
особенности этой ситуации.
Однако обращение к историографии вопроса свидетельству-
ет, что поиски подобного археологического эквивалента расска-
30
зу Геродота, предстающие на первый взгляд как ясная и легко
реализуемая задача, на практике наталкиваются па значитель-
ные трудности и порождают принципиально различные гипоте-
зы. Наглядное тому доказательство дает сопоставление архео-
логических идентификаций! скифов и киммерийцев, предложен-
ных в разное время М. И. Артамоновым и А. И. Тереножкиным.
Они интересны тем, что оба эти исследователя исходят из пред-
ставления о полной достоверности данных Геродота относитель-
но прихода скифов в Причерноморье с востока и о радикаль-
ном изменении этнокультурной ситуации в регионе на стыке
«киммерийского» и «скифского» периодов. Но при этом, по
убеждению М. И. Артамонова, «в археологических памятниках
нет никаких данных о вторжении в Северное Причерноморье в
VII или VIII вв. до н. э. (т. е. во время, непосредственно пред-
шествующее проникновению скифов в Переднюю Азию.— Авт.)
нового народа с особой культурой, что могло бы подтвердить
сведения о появлении скифов именно в это время»; на этом ос-
новании исследователь пересматривает Геродотову хронологию
событий, отождествляя искомую миграцию скифов с единствен-
ным. по его мнению, достоверно фиксируемым археологическим
событием, которое соответствует рисуемой Геродотом картине.
«Археология не знает ни о каком вторжении нового населе-
ния в Северное Причерноморье, которое могло бы соответство-
вать появлению скифов и вытеснению киммерийцев, после...
распространения срубной культуры к западу от Волги и выте-
снения ею предшествующей катакомбной культуры, но оно от-
носится не к VIII—VII вв. до н. э., а к значительно более ран-
нему времени — к последней трети II тысячелетия до н. э. Вви-
ду этого в основе события, о котором говорится у Аристея—
Геродота, может лежать только смена катакомбной культуры
срубной, соответствующая замене одного народа другим, а
именно киммерийцев скифами» [Артамонов, 1974, с. 13; см. так-
же Артамонов, 1950; 1973 б]. Таким путем М. И. Артамонову
удается согласовать исторические свидетельства с этноистори-
ческой картиной, выявленной чисто археологическими метода-
ми, но для этого приходится отвергнуть лказания источников на
временную приуроченность скифо-киммерийского конфликта.
А. И. Тереножкин, напротив, полностью принимает Геродо-
тову хронологию событий и соответственно постулирует карди-
нальную смену культурного облика Северного Причерноморья
(а вместе с тем и этнической принадлежности его населения) в
то самое время, когда, согласно М. И. Артамонову, никаких сле-
дов подобного процесса археология не фиксирует. Он придержи-
вается мнения о правомерности «отождествления киммерийцев
Геродота, Страбона и гомеровского эпоса с племенами срубной
культуры» [Тереножкин, 1976, с. 211], соотнося все стадии их
археологически фиксируемой культурной истории с различными
этапами истории киммерийцев. Им А. И. Тереножкин противо-
поставляет скифов — «папод. пришлый из глубин Азии, сменив-
31
ший в VII в. до н. э. своих предшественников киммерийцев —
исконных аборигенов юга Европейской части СССР», причем, по
его мнению, сюда «скифская культура привнесена извне в впол-
не сложившемся виде и как бы механически сменяет старую ме-
стную культуру» [Тереножкин, 1976, с. 19, 209].
Две изложенные гипотезы предельно- наглядно демонстриру-
ют диапазон толкований проблемы скифского этногенеза и ски-
фо-киммерийского конфликта. Одна и та же срубная культура
приписывается в первой гипотезе скифам, а во второй — вытес-
ненным ими киммерийцам. Соответственно несовместимыми ока-
зываются и все прочие звенья этноисторической реконструкции.
Какая же из гипотез успешнее интегрирует имеющиеся данные?
Если бы задача археологической идентификации киммерий-
цев и скифов и создания на этой основе искомой этноисториче-
ской реконструкции могла быть ограничена данными о событи-
ях, развертывавшихся исключительно в Северном Причерно-
морье, то гипотеза М. И. Артамонова предстала бы, пожалуй,
как самая логичная и обоснованная. В самом деле, продвиже-
ние носителей срубной культуры в этот регион из Поволжья —
наиболее надежно установленный археологический факт такого
рода для всего периода второй половины II-—первой половины
I тысячелетия до н. э. [Кривцова-Гракова, 1955], а представле-
ние древних о Танаисе (Доне) как о границе между Европой и
\зией объясняет, почему поволжскую прародину срубных пле-
мен Геродот мог охарактеризовать как Азию. Продвижение
этих племен сопровождалось радикальной сменой культуры в
северопонтийских землях, и в этом отношении ситуация хорошо
согласуется с рассказом о тотальном вытеснении киммерийцев
скифами.
Очевидная трудность состоит, однако, в том, что, по Геродо-
ту, именно этим вытеснением обусловлено появление обоих на-
званных народов в областях к югу от Кавказа — событие, отно-
сящееся, по согласуемым между собой данным античных 'и во-
сточных источников, к VIII—VII вв. до н. э. (некоторые расхож-
дения между греческими и клинописными свидетельствами на
этот счет в данном контексте решающего значения не имеют),
т. е. фактически примерно на полтысячелетия позже срубно-
катакомбного взаимодействия. Если считать, что в действитель-
ности имело место лишь это последнее и предположить, что
именно оно отложилось в памяти скифов в виде предания об
их конфликте с киммерийцами (ведь узнать о столь давнем
конфликте греки могли только из скифского фольклора), то со-
вершенно необъяснимым предстает стремление античных авто-
ров (Геродота, Страбона и др.) увязать его с событиями асси-
рийской, мидийской, малоазийской истории VII—VI вв. до н. э.
К тому же восточные источники VIII—VII вв. до н. э. фиксиру-
ют представление о киммерийцах и скифах как о народах, толь-
ко что появившихся в поле зрения обитателей Месопотамии —
это отмечает и сам М. И. Артамонов [1974, с. 18].
32
Это противоречие заставило исследователя, отчасти опираясь
на данные Страбона (I, III, 11) о совместных действиях в Ма-
лой Азии киммерийцев и фракийского племени треров, предпо-
ложить, что в действительности имели место два разновремен-
ных исхода киммерийцев из Северного Причерноморья. Первый
якобы произошел непосредственно после того, как «срубная
культура разрезала катакомбную на две части, из которых одна
оказалась прижатой к Днестру и вместе со своими создателями
ушла за Карпаты», откуда смешавшиеся таким образом с фра-
кийцами киммерийцы начали, в частности, совершать набеги на
Малую Азию через Боспор Фракийский; надежно определить
время этих набегов пока не удается. Другая часть катакомбных
племен, по М. И. Артамонову, «удержалась в Азово-Каспийском
междуречье» (очевидная описка: следует читать «между-
морье».— Авт.), и именно их движение через Кавказ около
VII в. до н. э. отразилось в античной традиции о бегстве пре-
следуемых скифами киммерийцев в Малую и Переднюю Азию
[Артамонов, 1974, с. 19—20].
Первоначально исследователь искал подтверждение этой ги-
потезе в археологических материалах из Предкавказья, припи-
сав киммерийцам непосредственно предскифского времени боль-
шие кубанские курганы [Артамонов, 1950, с. 47], в создателях
которых он видел потомков носителей катакомбной культуры.
Однако исследование А. А. Иессена [1950], показавшего оши-
бочность такой поздней датировки кубанских курганов, застави-
ло М. И. Артамонова отказаться от этого аргумента. В опубли-
кованной посмертно работе он был вынужден признать, что
его гипотеза «остается необоснованной прямыми археологиче-
скими данными», хотя и продолжал считать ее наиболее вероят-
ной из всех предлагавшихся в литературе [Артамонов, 1974,
с. 23].
Между тем самым уязвимым в этой гипотезе, на наш взгляд,
является не отсутствие памятников, которые бы подтверждали
толкование киммерийцев как носителей катакомбной культуры
и одновременно допускали возможность осуществления кимме-
рийских походов через Кавказ в начале I тысячелетия до н. э.
Гораздо существеннее, что эта гипотеза никак не объясняет, в
какой среде и под действием каких причин воспоминания о со-
бытиях, разделенных между собой примерно пятью столетиями,
могли слиться в такой мере, чтобы на этой основе сложилось
запечатленное Геродотом целостное повествование о вторжении
скифов в Причерноморье с востока и о преследовании ими ким-
мерийцев, убегающих через Кавказ в Переднюю и Малую Азию.
Определенное «спрессовывание» событий в рассказе Геродота,
очевидно, в самом деле имело место [Дьяконов, 1956, с. 245—
246], о чем речь еще будет ниже, но это — события, происходив-
шие на глазах одного-двух поколений, а никак не разделенные
полутысячелетием. Срубно-катакомбный же конфликт второй
половины II тысячелетия до н. э. к началу киммерийско-скиф-
3 Зак 368
Oct. - цельная научная 1
библиотека I
а?» КаэССР I
зз
скпх походов в Переднюю Азию, естественно, давно превратился
в «дела давно минувших дней». Если память о нем и сохраня-
лась в фольклоре обитателей Причерноморья (что в принципе
вполне допустимо), то, чтобы увязать его в единый сюжет с
этими походами, необходимо было четко осознавать этническое
родство населения, некогда вытесненного праскифами с широ-
кого пространства причерноморских степей, с обитателями Азо-
во-Каспийского междуморья значительно более поздней эпох'н и
именно на этой основе конструировать модель скифо-киммерий-
ского противостояния как некоей константной характеристики
этнокультурной ситуации в регионе Подобного рода осмысле-
ние связи между событиями, столь значительно разведенными
во времени, предполагает сугубо исторический характер мы-
шления, фольклору совершенно несвойственный. Еще мецее
вероятно, что подобный целостный сюжет был сконструирован
самим Геродотом или иными греческими авторами на основе
скифских преданий, до того существовавших разрозненно.
Все это, очевидно, было ясно и самому М. И. Артамонову.
Поэтому, обосновывая изложенную гипотезу, он одновременно
принял упомянутую выше точку зрения тех исследователей, ко-
торые рассматривают рассказ о скифо-киммерийском конфликте
как перенос в Северное Причерноморье событий, в действитель-
ности разыгравшихся в Малой Азии: «Борьба скифов с ким-
мерийцами и их союзниками фракийскими трерами, закончив-
шаяся поражением тех и других и поселением киммерийцев в
Каппадокии... и послужила, по всей вероятности, основой для
создания греками легенды о неутолимой вражде к киммерийцам
и о преследовании их скифами от Северного Причерноморья до
Малой Азии, благодаря чему и сами скифы будто бы попали в
Азию» [Артамонов, 1974, с. 28]. Но в таком случае свидетель-
ство о скифо-киммерийском конфликте на северном берегу Пон-
та и о вытеснении киммерийцев оттуда оказывается вообще ли-
шенным исторической основы, а значит, исчезает всякая необхо-
димость ценой отказа от Геродотовой хронологии названных со-
бытий искать их археологический эквивалент в процессах сруб-
но-катакомбного взаимодействия, самих же киммерийцев отож-
дествлять с носителями катакомбной культуры. Тем самым вся
рассмотренная гипотеза фактически самоуничтожается.
Именно данное обстоятельство делает концепцию М. И. Ар-
тамонова, несмотря на наличие в ней заманчивых находок и
привлекательных логических ходов, весьма уязвимой в целом, и
это послужило, наверное, причиной того, что она не получила
широкого признания у исследователей и не играет заметной
роли в построениях современной скифологии. В корне отлична
судьба второй изложенной выше концепции, в последнее время
широко представленной как в конкретных историко-археологи-
ческих работах, так и в обобщающих трудах. Восходящая в ос-
новных своих чертах еще к построениям М. И. Ростовцева
[1918, с. 32 сл.; 1925, с. 305 сл., и др.], эта концепция в наши
34
дни подверглась детальному обоснованию прежде всего в серии
работ А. И. Тереножкина, отказавшегося в ходе ее разработки
от ранее разделявшихся им взглядов, а также в исследованиях
В. А Ильинской, В. Ю. Мурзина и др.
Согласно этой концепции, киммерийцам, как уже сказано,
принадлежат памятники срубной культуры, в частности на позд-
нем этапе — комплексы черногоровского и новочеркасского типа,
представляющие последние ступени развития срубной культуры
в Северном Причерноморье. Датируемые первыми веками I ты-
сячелетия до н. э., эти комплексы демонстрируют предскифский
(и в этноисторическом, и в археологическом значении термина)
этап в судьбах этого региона. В VII в. до н. э. здесь наблюда-
ется резкая смена культуры, причем, по мнению сторонников
рассматриваемой концепции, обусловлено это не трансформаци-
ей местных культурных традиций, а приходом сюда нового насе-
ления. Поскольку же культура, идентичная появляющейся в это
время в Причерноморье, одновременно и даже несколько ранее
фиксируется в азиатских областях евразийского степного пояса,
в качестве исходной зоны указанной миграции рассматривают-
ся глубины Азии. Тем самым как будто обнаруживается де-
тальное совпадение динамики археологической ситуации на се-
верном побережье Понта с событийной канвой приведенного
выше рассказа Аристея—Геродота—Диодора о происхождении
скифов, а значит, оказывается решенной насущная задача со-
гласования исторических свидетельств и археологических дан-
ных.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что для действительного
решения этой задачи требуется, чтобы сама подвергающаяся
исторической интерпретации археологическая ситуация в Север-
ном Причерноморье реконструировалась абсолютно независимо
от исторических данных, без их корректирующего влияния; ина-
че аргументация исследователей рискует замкнуться в порочном
круге. В концепции М. И. Артамонова это требование соблюде-
но, ибо картина взаимодействия катакомбных и срубных племен
воссоздавалась археологами вне всякой связи с проблемой ким-
мерийско-скифских взаимоотношений, и лишь впоследствии бы-
ла предпринята попытка их согласования — как мы убедились,
впрочем, не слишком удачная. Как же выглядит с этой точки
зрения концепция А. И. Тереножкина? Три ключевых момента в
характеристике интересующей нас сейчас археологической си-
туации заслуживают в данной связи специального внимания.
Первый из них — дата постулируемого качественного скачка
в истории культуры древнего Причерноморья. Согласно
А. И. Тереножкину [1976, с. 209], здесь наблюдается переход
«от доскифского к скифскому периоду, который в свете письмен-
ных и археологических данных относится к первой половине
VII в. до н. э.». Из приведенной цитаты видно, что подобная
датировка базируется не на чисто археологических основаниях,
а в известной мере скорректирована данными письменных ис-
3*
35
точников, одновременно предопределившими и предлагаемую
этнокультурную интерпретацию анализируемого перехода. Впро-
чем, такая верификация датировок — вещь в археологии обыч-
ная и не вызывающая возражений, при условии что сам переход
и его характер документированы достаточно надежно.
Между тем именно характер этого перехода — второй заслу-
живающий нашего внимания момент. Он определяется
А. И. Тереножкиным так: «Отсутствие каких-либо признаков
существования преемственности между предскифской культурой
новочеркасского типа и скифской поистине удивительно», что
позволяет говорить о принесении последней «извне в вполне
сложившемся виде». В то же время сам А. И. Тереножкин отме-
чает далее: «Однако нельзя сказать, что от предшествующего
времени скифы не полх чили никакого наследства... Может быть,
при более углубленном изучении памятников скифской архаики
удастся расширить состав такого наследства, например в кера-
мике, в каких-то особенностях погребального обряда и пр. Од-
нако,— заключает он,— заимствования подобного рода не име-
ют сколько-нибудь определяющего значения для характеристи-
ки скифской культуры» [Тереножкин, 1976, с. 209]. Речь, таким
образом, идет уже не об отсутствии преемственности, а о прин-
ципах определения веса того или иного признака при решении
вопроса о соотношении сменяющих друг друга на определенной
территории археологических культур, и те же самые факты при
другом осмыслении этого соотношения могут быть интерпрети-
рованы диаметрально противоположным образом.
Как раз такая ситуация наблюдается в осмыслении начала
скифского периода в Северном Причерноморье. Выше мы уже
приводили мнение М. И. Артамонова об отсутствии в археоло-
гическом материале из этого региона каких-либо доказательств
смены его населения в первые века I тысячелетия до н. э. Со-
гласно М. П. Грязнову [1980, с. 58—59], по всему евразийскому
степному поясу, в том числе на юге Восточной Европы, так на-
зываемое предскифское время представляет «не какой-то пере-
ходный или самостоятельный этнокультурный период, а началь-
ный этап так называемой скифской эпохи (курсив наш.—
Авт.)». Иными словами, там, где А. И. Тереножкин констати-
рует явную и единовременную смену культур, М. П. Грязнов
видит прямую культурную преемственность. Еще раньше о том
же писал А. А. Иессен: выделенные впервые именно им памят-
ники новочеркасского и черногоровского типов, датированные
им суммарно VIII—VII вв. до н. э., а А. И. Тереножкиным рас-
пределенные в пределах более длительного (IX — середина
VII в.) временного отрезка, А. А. Иессен не противопоставлял
ни культурно, ни этнически памятникам скифской эпохи, ниж-
няя граница которой тогда определялась началом VI в. до н. э.
По его мнению, культура скифов Причерноморья «закономерно
выросла из культуры предшествующих столетий», и, следова-
тельно, «период VIII—VII вв. мы вполне можем считать началь-
36
ным этапом в развитии скифской культуры в широком понима-
нии этого термина» [Иессеи, 1953, с. 109].
В этих условиях естественно возникает вопрос: не предопре-
делено ли толкование интересующего нас материала, предлагае-
мое А. И. Тереножкиным и его единомышленниками, стремлени-
ем приспособить археологическую картину к a priori избранной
исторической ситуации — к свидетельству о тотальном вытесне-
нии киммерийцев скифами н?
Наконец, третий важный для оценки предлагаемой А. И. Те-
реножкиным интерпретации момент — вопрос об исходной зоне
постулируемой миграции скифов. Определить ее можно, опи-
раясь на специфическую близость культуры, существующей в
Северном Причерноморье после указанного скачка, к культуре
какой-то области, лежащей за пределами названного региона, и
это — единственный способ локализации той азиатской праро-
дины скифов, о которой говорит в начале своего рассказа Ге-
родот. Наличие сходных черт в культуре всего евразийского
степного пояса и ряда смежных с ним районов во второй—
третьей четвертях I тысячелетия до н. э. является общепризнан-
ным. На заре археологического изучения указанной территории
этого сходства было достаточно для того, чтобы все обнаружен-
ные здесь памятники названной эпохи трактовались как моно-
культурные. Однако сейчас практически не оспаривается, что
существующее между ними сходство все же не позволяет рас-
сматривать их как принадлежащие одной культуре и оставлен-
ные одним народом. Пи справедливому замечанию М. П. Гряз-
нова [1978а, с. 18], здесь фиксируется совокупность в чем-то
сходных культур, каждая из которых «вполне самобытна и ори-
гинальна в связи со своим особым историческим прошлым», т. е.
по причине самостоятельности ее генезиса. В. А. Ильинская
[1980, с. 122] подчеркивает, что в этой сфере «никакой путаницы
не происходит. Исследователи четко различают культуры ски-
фов, савроматов, саков, населения Тувы, горного Алтая и про-
чих». В совместной работе В. А. Ильинской и А. И. Тереножки-
на [1983, с. 13] также говорится о «ярких индивидуальных чер-
тах и в погребальном обряде, и в морфологических чертах ве-
щевого комплекса», благодаря чему «скифская культура легко
отличается от апаньннской, савроматской, татарской, тасмолин-
ской и др.» (см. также [Тереножкин, 1971, с. 17]).
Все эти утверждения абсолютно справедливы. Тем показа-
тельнее, что, когда речь заходит о происхождении скифов и об
истоках присущей им культуры, тот же А. И. Тереножкин гово-
рит не о множестве различных культур, а о «скифо-сибирской
культуре», которая «некогда вышла на просторы Евразии и, до-
стигнув в VII в. до н. э. в конечном итоге Северного Причерно-
морья, послужила основой крайней западной ветви этой куль-
туры» [Тереножкин, 1976, с. 211]. Такая непоследовательность
вполне объяснима тем, что, пока в строго определенном регионе
Азиатского континента не выявлена совокупность памятников
37
j < и ... репрс-<> нативным набором признаков, документи-
р «ин ч тпчносн. пре i<’iявленной в них культуры культуре
причсрномор<ких скифов, сторонники центральноазиатского ге-
нсзиса культуры скифов вопреки собственному тезису о множе-
стве культур «скифо-сибирского типа» вынуждены (исключи-
тельно в данном контексте!) воскрешать архаичное представле-
ние о единой культуре на всем огромном пространстве евразий-
ских степей, интерпретировать ее как связанную со скифами и
именно в пределах ее ареала искать аналогии отдельным эле-
ментам культуры причерноморских скифов, видя в них археоло-
гическое подтверждение сообщения Геродота о приходе скифов
из Азии.
Определяющее влияние письменной традиции на понимание
самой сути археологических фактов проявляется в таком подхо-
де вполне очевидно, приводя к игнорированию даже тех прояв-
лений локальной специфики, которые в других случаях самим
автором признаются. Следует только добавить, что здесь сказы-
вается воздействие не только сообщения о приходе скифов из
Азии, но и еще одной особенности античной традиции о скифах,
заслуживающей нашего специального внимания.
Ранее уже вскользь упоминалось существование в рамках
этой традиции понимания этнонима «скифы», отличного от Ге-
родотова [Граков, 19476, с. 79—80]. Пожалуй, один из наиболее
явных примеров такого понимания мы обнаруживаем в приве-
денном выше рассказе Диодора, который возводит к общему —
полумифическому, полулегендарному — корню самых различных
обитателей обширной территории от «Восточного океана» до
«Каспийского моря и Меотийского озера» и далее «за рекой
Танапсом до Фракии» и, называя их различными конкретными
этнонимами («одни были названы саками, другие массагетами,
некоторые аримаспами и подобно им многие другие»), одновре-
менно всех их причисляет к скифам (Died., II, 43). Подобное
же понимание мы обнаруживаем у Птолемея (VI, 15), упоми-
нающего далекую восточную «Скифию за Имавом», гранича-
щею с Серикой; у Страбона (XI, VIII, 2), повествующего о
скифских племенах, живущих к востоку от Гирканского моря12,
и у целого ряда древних авторов, сведения которых менее систе-
матичны и более кратки.
Этот-то вариант понимания древними имени «скифы» в соче-
тании с отмеченной выше определенной культурной близостью
обитателей обширных пространств Евразии I тысячелетия
до н. э. породил первоначальное использование археологическо-
го термина «скифская культура» для обозначения совокупности
памятников, обнаруженных на всей этой территории. В послед-
нее время стремление специалистов к большей терминологиче-
ской строгости способствовало замене этого термина иным —
«скифо-сибирское культурно-историческое единство» (обсужде-
ние вопроса о некоторых достоинствах и недостатках этого наи-
менования см. [Дискуссионные проблемы, 1980а; 19806]. В
38
прг’шипе в качестве условных терминов для обозначения некоей
культч рчо-истопической реальности оба они в известной мере
правомепны. Ситуация, однако, существенно осложняется, кот-
та г>т задачи описания и систематизации культурных сЬактов
прошлого мы переходим к решению этноисторических проблем.
Сам характер термина «скифская культура», произведенного
от этнонима, придает ему, естественно, этническую окраску, и
такое понимание, не всегда даже осознаваемое, еще усугубля-
ется соотнесением археологической ситуации с установленным
лингвистами фактом языкового родства ряда народов евразий-
ского степного пояса — их принадлежностью к восточноиран-
ской группе. Между тем истинное соотношение границ зоны рас-
пространения восточноиранских языков в I тысячелетии до н. э.
с границами «скифо-сибирского культурно-исторического един-
ства» пока что далеко от полной ясности. Но при любом толко-
вании этого вопроса необходимо учитывать принципиальное
различие смысла термина «скифы» у разных древних авторов и
в разных контекстах. Так, совершенно очевидно, что «скифы»
Геродота и «скифы» только что рассмотренной традиции демон-
стрируют омонимию этнических единиц различных таксономиче-
ских уровней. У Отца истории на одном уровне классификации
находятся скифы, савроматы, массагеты, исседоны и т. п., тогда
как для носителей другой традиции все перечисленные и многие
иные народы Евразии — скифы.
При оценке этнокультурной ситуации в регионе можно сле-
довать мнению некоторых античных авторов о родстве всех этих
народов или же оспаривать его, полагая, что общее название
они получили исключительно благодаря близости хозяйственно-
культурного \ клада. Можно — и, видимо, это наиболее правдо-
подобное предположение — дотекать, что на практике имело
место взаимодействие обоих факторов: в число широко пони-
маемых «скифов» входили как этнически родственные народы,
так и объединяемые с ними исключительно вследствие близости
культуры. Но совершенно ясно, что в этом случае мы имеем де-
ло с обобщающим наименованием, причем, судя по всему, с ино-
названием, возникшим в греческой среде в результате переноса
конкретного этнонима на широкий круг народов. Так, между
прочим, полагал уже Страбон (I, II, 27), писавший: «Я утверж-
даю согласно с мнением древних эллинов, что... известные [на-
роды] северных стран назывались одним именем скифов или
номадов... ибо вследствие неведения [отдельные} народы в каж-
дой [стране] подводились под одно общее имя (курсив наш.—
Лет.)»13. Естественно, что это общее имя — не изобретение гре-
ков и первоначально являлось также самоназванием какого-то
этноса. В историческое время в качестве носителей этого само-
названия выступали, безусловно, Геродотовы скифы как обособ-
ленный этносоциальный организм (ср. Herod., IV, 6, где в каче-
стве их эндоэтнонима дается диалектный или хронологический
вариант того же имени — «сколоты»14). О более ранних судь-
39
бах термина «скифы» в качестве самоназвания речь пойдет да-
лее.
Отмеченная омонимия этнокультурных: общностей разного
уровня, присущая древним текстам, будучи воспринята совре-
менной научной терминологией, оборачивается зачастую оши-
бочностью методики этноисторических построений, нечеткостью
исследовательских установок и в конечном счете — произволь-
ностью выводов 15. Поэтому, поставив в контексте нашей темы
задачу воссоздания истории скифов как конкретного этническо-
го образования, мы обязаны при каждом обращении к свиде-
тельствам источников, характеризующихся принципиально от-
личным от присущего Отцу истории пониманием этого термина
и стоящего за ним этнокультурного феномена, отчетливо созна-
вать, что в данном случае речь идет о понятии другого содержа-
ния и другого объема.
Между тем смешение двух значений термина «скифы», в
высшей степени характерное для ранних ступеней развития ски-
фологии, в явной или неявной форме продолжает периодически
сказываться и в настоящее время Особенно устойчиво прояв-
ляется эта тенденция в трудах неархеологов, стремящихся в
своих построениях использовать и письменные данные, и архео-
логический материал. В этих случаях наиболее наглядно выяв-
ляется, чем чревато использование заимствованной из древних
источников этнической номенклатуры (особенно если она изна-
чально многозначна, как в нашем случае) вместо условных
терминов, обычных при обозначении археологических совокуп-
ностей. Так, Л А. Ельницкий, исходя из отмеченного выше
сходства ряда характеристик памятников скифской поры в При-
черноморье, Приуралье, Сибири и т. д., утверждал: «Единообра-
зие здесь столь велико, что известные различия хотя и можно
принять за признаки, характерные для индивидуальности тех
или иных скифских племен, но этих различий совершенно недо-
статочно, чтобы закаспийские кочевнические племена вовсе
исключить из кр\та скифской культуры» [Ельницкий, 1977,
с. 67].
Это заключение, приемлемое, пока речь идет о «скифской
культуре» как условном обозначении совокупности культурных
фактов в духе расширительного понимания термина «скифы»,
оборачивается прямыми ошибками и алогизмами, когда речь
заходит о конкретных этноисторических проблемах. К примеру,
И. В. Куклина [1985, с. 44—45], анализируя вопрос о проис-
хождении скифов Причерноморья, но в понимании скифской
культуры следуя за Л. А. Ельницким, считает уже неправомер-
ным приурочивание и имени скифов только к населению припон-
тийских степей, и это смешение двух значений одного термина
прямо влияет на ее понимание этногенеза Геродотовых скифов,
а исследователи, стремящиеся к корректному' следованию за
терминологией Геродота, обвиняются ею в «северочерноморском
скифоцентризме». Сам Л. А. Ельницкий [1977, с. 68] высказывал-
40
ся еще категоричнее: «Особенно произвольно (и даже уродливо)
выглядит Скифия у тех исследователей, которые в угоду некри-
тически понятому Геродотову заявлению, что по ту сторон} Та-
наиса... нет более скифов (Herod., IV, 21), исключает из скиф-
ского мира, в частности, богатейшие и характернейшие курганы
Прикубанья, хранящие разнообразные остатки быта раннего
периода существования племени царских скифов, близко родст-
венного быту, представляемому курганными находками на про-
странствах от Прикавказья до Верхнего Енисея».
Об этнокультурной интерпретации ранних памятников имен-
но Прикубанья и об их отношении к скифам в конкретно-исто-
рическом смысле нам придется говорить ниже. Сейчас же важ-
но oiметить другое: исследователь, опираясь на понимание ски-
фов, почерпнутое из иной традиции, a priori считает мнение Ге-
родота о Танаисе как о восточной границе зоны обитания ски-
фов заслуживающим лишь критического восприятия, а следо-
вание ему — произвольным «и даже уродливым». Между тем это
свидетельство требует самого серьезного внимания, ибо касается
судеб скифов как конкретного этноса — того самого, с которым
Геродот столкнулся в реальности и историей которого специаль-
но интересовался.
Итак, мы рассмотрели те элементы античной традиции о
скифах, которые особенно настойчиво побуждают многих ис-
следователей искать истоки культуры причерноморских скифов
в восточной части евразийского степного пояса и ради согласо-
вания с этой традицией жертвовать даже признаваемым ими
самими постулатом о поликультурности этой обширной зоны.
Наибольшая слабость такого подхода — невозможность вывести
культуру скифов из какого-либо конкретного района Азии, что
и заставляет сторонников этой концепции оперировать разроз-
ненными фактами с предельно широкой территории (см. ниже).
Правда, в последнее время наиболее пристальное внимание в
этом контексте уделяется замечательному комплексу тувинского
кургана Аржаи. Как известно, вопрос о его датировке остро
дискутируется на страницах специальных работ: Л. Р. Кызласов
[1977, с. 78] относит его к середине VII в. до н. э., М. П. Гряз-
нов [1980, с. 54] по археологическим основаниям помещает его
в VIII—VII вв., а с учетом радиокарбонных данных — в самое
начало VIII в., А. И. Тереножкин [1976, с. 210] датирует этот
памятник второй половиной IX—первой половиной VIII в.
до н. э. Мы не будем рассматривать здесь в деталях проблему
даты Аржана, но остановимся на мнении А. И. Тереножкина,
согласно которому именно этот комплекс неоспоримо докумен-
тирует раннее существование «в глубинах Азии» той самой
культуры, которая затем — в VII в. до н. э. — была принесена
скифами в Причерноморье. Дело в том, что в такой интерпрета-
ции названного памятника и его места в этнокультурной истории
Евразии обнаруживается достаточно серьезное логическое про-
тиворечие.
41
Одним из главных оснований, позволяющих А. И. Теренож-
кину рассматривать Аржан как памятник, предшествующий
причерноморским скифским во времени, является наличие в нем
предметов, «аналогии которым имеются в предскифских древно-
стях Восточной Европы», причем, по мнению исследователя,
комплекс этот «на западе хронологически определеннее всего
связан с памятниками черногоровской... ступени», что и доказы-
вает столь раннюю его датировку [Тереножкин, 1976, с. 210].
Подобные аналогии обнаруживаются прежде всего в элементах
конской узды и в оружии, т. е. как раз в тех категориях, в кото-
рых, согласно концепции самого А. И. Тереножкина, наиболее
четко проявляется противостояние «киммерийской» («предскиф-
ской») и «скифской» культур Северного Причерноморья; изме-
нением этих категорий, в частности, и аргументируется вытесне-
ние одного народа другими. Но тогда получается, что эта смена
форм обусловлена проникновением сюда этноса, который сам по
большинству признаков оказывается принадлежащим именно к
«предскифскому» культурному кругу. Следовательно, даже если
признать справедливость тезиса о хронологическом предшест-
вовании Аржана самым ранним памятникам скифского облика
из Восточной Европы и о продвижении носителей древностей
аржанского типа на запад, то оказывается, что эта миграция по-
просту не могла вызвать тех коренных кулыурио-исторических
последствий, которые приписывают ей сторонники центрально-
азиатского происхождения скифов и их культуры.
Правда, от «киммерийских» памятников Причерноморья Ар-
жан радикально обличается наличием в нем произведений зве-
риного стиля — одного из ярчайших признаков культур скифско-
го круга. Однако, во-первых, требует специального анализа воп-
рос, правомерно ли видеть в этих произведениях генетических
предшественников зооморфного искусства припонтийских ски-
фов (см. гл. II). Во-вторых, даже утвердительный ответ на него
вряд ли был бы достаточен для вывода, что открытие Ар-
жана принесло искомые археологические доказательства прихо-
да скифов из глубин Азии со сложившейся культурой и что «так
подтверждаются слова исторического предания, о котором нам
сообщает Геродот» [Тереножкин, 1976, с. 211]. Скорее так под-
тверждается, что сама интерпретация археологического матери-
ала в концепции А. И. Тереножкина подчинена стремлению
обнаружить в нем отражение событий и процессов, запечатлен-
ных упомянутым преданием, т. е. ориентирована в первую оче-
редь не на имманентные характеристики этого материала, а на
сопоставляемую с ним нарративную традицию. Рискуем даже
высказать предположение, что, если бы вопрос о генезисе куль-
туры, существовавшей в Причерноморье в VII—III вв. до н. э.,
решался чисто археологическими методами, без оглядки на ан-
тичную традицию, то соотношение этой культуры с культурами
иных частей евразийского степного пояса само по себе не поро-
дило бы I: пэте.'Ы о ее азиатском происхождении и уж во всяком
42
случае эта гипотеза не получила бы того распространения, кото-
рое она имеет сейчас.
Таким образом, анализ концепций М. И. Артамонова и
А. И. Тереножкина свидетельствует: поиски археологического
эквивалента рассказу Геродота (да и античной традиции в це-
лом) о скифо-киммерийских взаимоотношениях, теоретически
предстающие как ясная и легко реализуемая задача, на практи-
ке наталкиваются на значительные трудности, порожтают прин-
ципиально различные версии. Полагаем, что именно это отсут-
ствие логичного и доказательного варианта комплексного тол-
кования разноприродных данных, а не внутренние противоречия
античной традиции в конечном счете явились основной причи-
ной попыток радикальной ревизии данных этой традиции, по-
добных предпринятой И. В. Куклиной. Не существует ли, одна-
ко, иного пути согласования различных источников или по край-
ней мере иного объяснения природы их неполной совмещаемо-
сти?
Поиски такого пути были, по существу, предприняты уже
А. А. Иессеном. Констатировав, как сказано выше, отсутствие
отчетливого культурного рубежа между новочеркасско-черного-
ровскими и раннескифскими памятниками, он был вынужден
принципиально иначе, чем большинство исследователей, тракто-
вать саму суть киммерийско-скифского взаимодействия и всей
этнокультурной истории юга Восточной Европы в первые века
I тысячелетия до н. э. По его мнению, киммерийцы и скифы «в
VIII—VII вв. обладали чрезвычайно близкой культурой», при-
чем и те, и другие уже обитали в указанное время в интересую-
щем нас регионе. Что же касается вытеснения киммерийцев
скифами, о котором рассказывал Геродот, то оно, согласно
А. А. Иессену, имело характер не тотальной смены населения, а
лишь таких процессов, в результате которых «руководимое ким-
мерийцами крупное объединение различных племен сменилось
объединением под главенством скифов» [Иессен, 1953, с. 109—
НО]. Иными словами, речь должна идти не столько об измене-
нии этнической картины, сколько о перегруппировке этнополи-
тических сил, т. е. о процессе, находящем в археологическом
материале качественно иное и к тому же достаточно трудноуло-
вимое выражение.
По пониманию того, как отражаются интересующие нас со-
бытия в археологическом материале, к концепции А. А Иессена
в значительной мере близка точка зрения Б. Н. Гракова. Вопрос
об археологической идентификации киммерийцев, в которых он,
следуя Геродоту, видит обитателей «всей степной территории
позднейшей Скифии» [Граков, 1971, с. 23], Б. Н. Граков трак-
тует неоднозначно, ставя его решение в зависимость от того, к
какому времени относить их формирование: «Если киммерийцы
уже сложились во II тысячелетии до н. э., то их первоначальная
культура—катакомбная» [Граков, 1971, с. 25; см. также Граков,
1977, с. 154]. Но по мере продвижения в Причерноморье из По-
43
волжья носителей срубной культуры происходит, согласно
Б. Н. Граков}, восприятие основных ее элементов и этими або-
ригенами. В самих же исконных носителях срубной культуры
Б. Н. Граков видит прямых предков скифов. Их продвижение в
припонтийские степи, по его мнению, происходило несколькими
последовательными волнами.
К раннему этапу относится появление здесь предков буду-
щих западноскифских земледельческих племен, под чьим
влиянием кнммерийцы-катакомбипки и восприняли срубную
культуру. Поэтому уже на рубеже II—I тысячелетня до н. э. в
Причерноморье обитали и скифы, и киммерийцы, причем оба
парода в эту эпоху однокультурны [Граков, 1971, с. 23—24]. В
рамках ареала этой культуры, отмечал исследователь, «в на-
стоящее время мы не можем разграничить территории между
киммерийцами и первыми группами проникших сюда скифов, да,
вероятно, и долго еще не сможем» [Граков, 1977, с. 153]. За-
свидетельствованное же античной традицией перемещение ски-
фов из Азии, непосредственно предшествующее изгнанию ким-
мерийцев, по Б Н. Гракову,— лишь последняя из волн проник-
новения сюда срубных племен, связанная с продвижением коче-
вых скифских групп, в дальнейшем обитавших в восточных райо-
нах Скифии (ср. сообщение Геродота IV, 11, что были вытесне-
ны массагетамн из Азии и изгнали киммерийцев с берегов Пон-
та именно кочевые скифы). Поскольку же и киммерийцы, и все
группы скифов к этому времени, по мысли Б. Н. Гракова, вы-
ступают как носители одной и той же — срубной — культуры,
постольку «передвижение кочевых скифов из-за Аракса—Волги
в конпе VII в. прошло почти незаметно археологически» [Гра-
ков, 1971, с. 25; см. также Граков, 1977, с. 153].
Мы видим, что в концепциях А. А. Иессена и Б. Н. Гракова
археологические факты не выстраиваются в систему под доми-
нирующим воздействием нарративной традиции, как у А. И. Те-
реножкипа; не требуют эти концепции и радикального переме-
щения описанных в традиции событий во времени, как у
М. И. Артамонова, или в пространстве, как у И. В. Куклиной.
Но совершенно очевидно, что и этим авторам не удается совме-
стить письменные и археологические данные безболезненно для
обеих групп сопоставляемых разнопрпродных свидетельств, ибо
их гипотезы требуют нетрадиционного, модифицированного по-
нимания самой сути событий, которые нам известны из нарра-
тивных источников и археологические следы которых мы ищем.
Итак, предпринятый обзор предлагавшихся способов согла-
сования письменных и археологических свидетельств о событиях
раннескифской истории приводит к весьма неутешительному,
казалось бы, выводу, что такое согласование вообще немысли-
мо без определенного насилия над источниками и что проблема
состоит в выборе оптимального, наиболее оправданного вариан-
та подобного насилия. Но зададимся в этой связи несколько
неожиданным, по первому впечатлению, вопросом: а чему мы,
44
собственно, ищем археологический эквивалент? Ранее эта за-
да га была охарактеризована как сопоставление разнокодовых
сообщений об одних и тех же событиях этнической истории. При
этом механизм кодирования такого сообщения в археологиче-
ском материале мы, опираясь на понимание этноса как катего-
рии сопоставительной, в общих чертах рассмотрели, тогда как
потенциальное содержание самого сообщения просто заимство-
вали из текста иной природы — из рассказа Геродота, не про-
верив предварительно, правильно ли прочитан нами этот второй
из сопоставляемых «текстов», не проанализировав аналогичным
образом его семиотической природы. Приведенные выше исто-
риографические примеры показывают, что таким же образом
поступают и большинство археологов, обращающихся к реше-
нию интересующей нас задачи. Содержание рассказа Геродота
кажется самоочевидным, и к этой ситуации вполне приложимо
замечание, по совершенно иному поводу сделанное 10. М. Лот-
маном [1970, с. 73]: «Наивному адресату подобного сообщения
кажется, что он вообще не пользуется в данном случае никаким
кодом4'. Между тем применительно к текстам, подобным этому
рассказу, вопрос о способах выражения этноразлнчитеть 1ых
признаков и соответственно о характере сообщаемой этнонсто-
рической информации имеет не меньший смысл, чем примени-
тельно к археологическим данным.
Если, имея дело с археологическими материалами, мы убеж
даемся, что из всего набора таких признаков релевантной ока-
зывается прежде всего специфичность культуры (естественно, в
ее материальном выражении) той или иной совокупности лю-
дей, то в античной традиции о скифо-киммерийских взаимоот-
ношениях принадлежность участников этого конфликта к раз-
ным этносам выражается главным образом посредством обозна-
чения их разными этнонимами. В самом деле, о соотношении их
языков или культуры судить па основе содержащейся в этой
а унции информации невозможно, и, по существу, мы распола-
гаем лишь свидетельством, что во взаимодействие вступили но-
сители разных имен.
В принципе такая информация может оказаться достаточно
существенной, поскольку из приведенного ранее определения
этноса мы знаем, что этноним, служащий средством фиксации
самосознания этноса как отличающей себя от прочих совокуп-
ности людей, является одним из важнейших этноразличитель-
ны.х признаков. Однако, по справедливому замечанию
В. П. Алексеева [1986, с. 28—29], «беда в том, что древние эт-
нонимы имеют сложное происхождение... и понять, какой ха-
рактер имеет то пли иное название, фигурирующее в источнике,
из самого источника чаще всего невозможно (курсив наш.—
Авт.)». Речь идет прежде всего о различии самоназваний и ипо-
названий, поскольку' только первые определенно указывают соб-
ственно на самостоятельные народы, обладающие такой харак-
теристикой, как самосознание, противопоставление себя иным
45
народам; вторые же могут обозначать и подлинные этносы, и
общности, конструируемые по какому-то признаку (или каким-
то признакам) сознанием инокультурных наблюдателей и лишь
ими воспринимаемые как этнические,— своего рода «псевдоэт-
носы». Классическим примером «псевдоэтноса» являются опи-
санные выше широко понимаемые «скифы» одного из вариантов
античной традиции — обитатели обширных евразийских прост-
ранств. «Только в тех случаях, когда нам достаточно подробно
известны обстоятельства возникновения иноназвания, может оно
дать нам сколько нибудь ценную этногенетическую информа-
цию» [Дьяконов, 1981, с. 91].
Иными словами, если «сопоставительная природа» этноса
выражается только средствами «этнонимического кода», а все
фиксирующие его источники к тому же инокультурны по отно-
шению к описываемой среде, то сам характер кодирования
этноисторической информации в этих источниках предполагает
возможность ее неоднозначного прочтения в зависимости от
того, как будет определен исходя из внешних, дополнительных
данных характер используемых этнонимов. При этом каждому
прочтению будет соответствовать в качестве идентичного ему по
смыслу и свой «археологический текст». Предложенная выше
теоретическая реконструкция подобного археологического экви
валента рассказу Геродота о скифо-киммерийских отношениях
оказывается, таким образом, отнюдь не абсолютной, а лишь од-
ной из возможных: она отвечает пониманию самим Геродотом
использованной нм этнонимии, но это понимание может быть и
не вполне адекватным реальной этноисторической ситуации.
По формулировке В. П. Алексеева, характер фигурирующих
в древнем источнике этнонимов «устанавливается аналитически,
но результаты этой аналитической работы тоже не бесспорны,
и литература по истории древнего мира... переполнена дискус-
сиями по поводу значения того или иного этнонима» [Алексеев,
1986, с. 29]. Попробуем предпринять такой анализ этнонимов
«скифы» и «киммерийцы» в контексте повествования об их вза-
имоотношениях.
Тот факт, что оба эти имени сохранились не только у Ге-
родота, но и у других античных авторов, а также в текстах,
относящихся к иным — древневосточным — традициям, неоспо-
римо свидетельствует, что они не изобретены Отцом истории, а
принадлежат к этнической номенклатуре, в самом деле широко
бытовавшей в древности. Однако данное обстоятельство само яо
себе ни в коей мере не означает, что столь же аутентична та си-
стема, которую эти имена образуют в рассказе Геродота, т. е.
что присущее ему понимание соотношения двух обозначаемых
ими этнических совокупностей можно автоматически распрост-
ранять на все контексты, в которых эти имена встречаются в
источниках. Следует учитывать возможность и синхронной мно-
гозначности одного и того же этнонима, и изменения его содер-
жания во времени.
46
В рассказе Геродота имена киммерийцев и скифов образуют
достаточно определенную систему: они служат для обозначения
двух этнических совокупностей одного таксономического уровня
и автономного происхождения, выступающих в качестве взаимо-
действующих (конфликтующих) сил. Посмотрим, какие сведе-
ния об этих этнонимах и их носителях можно почерпнуть из
иных источников.
Выше уже приводились весомые соображения И. М. Дьяко-
нова в защиту тезиса, что термин «киммерийцы» восходит к не-
коему самоназванию. Правда, в разное время исследователь вы-
двинул две различные гипотезы относительно исконного смысла
этого самоназвания и даже его природы. Поначалу И. М. Дья-
конов [1956, с. 238] видел в нем «конкретное племенное назва-
ние пли даже самоназвание вторгшегося в Азию племени». Поз-
же он же предположил, что изначально «термин „киммерийцы11
вообще не являлся этнонимом, а означал „подвижный конный
отряд ираноязычного кочевого населения евразийских степей11»,
т. е. выступал в качестве не этнического, а своего рода социо-
к. льтурного термина, возникшего, однако, в среде того населе-
ния, один из элементов которого обозначал [Дьяконов, 1981,
с. 97—98]. Для нас в данный момент несущественно, какая из
приведенных трактовок исконного значения рассматриваемого
названия более убедительна. Важнее, что любое из этих значе-
ний — плод реконструкции и предполагает содержание и объем
стоящего за ним понятия, отличные от зафиксированных источ-
никами. В частности, замечание И. М. Дьяконова [1956, с. 238],
что имя «киммерийцы» «неправомерно переносить на все до-
скифское население Причерноморья», может быть, вполне спра-
ведливо в применении к этому термину как к реконструируемо-
му самоназванию; вместе с тем совершенно очевидно, что Ге-
родот придавал данному этникону как раз такое — достаточно
широкое — значение. Для него киммерийцы — это все прежнее
население всей той страны, которая была ему известна как Ски-
фия; не случайно он приводит свидетельства обитания этого на-
рода и на крайнем западе указанной страны — на берегах Тп-
раса (IV, 11), и на крайнем ее востоке — у Боспора (IV, 12).
Таким образом, текст Геродота демонстрирует расширитель-
ное понимание термина «киммерийцы» по сравнению с тем, ко-
торое реконструируется для пего же как для самоназвания. В
то же время это понимание характеризуется четким противо-
поставлением киммерийцев скифам и в данном отношении
принципиально отличается от того значения этого же названия,
которое придавалось ему в древневосточных источниках. Как
известно, и Библия, и клинописные тексты знают оба интере-
сующих нас имени — гимирри и ашкуз, но первое зачастую ис-
пользовалось здесь для совокупного обозначения широкого кру-
ia народов, «включая причерноморских скифов и среднеазиат-
ских саков» [Дьяконов, 1981, с. 99; курсив наш.— Авт. См. так-
же Дьяконов, 1956, с. 237—238; Дандамаев, 1977, с. 31], т. е. в
17
этой традиции оно имело еще более обобщающее, по сравнению
с Геродотовым, содержание.
Итак, мы убеждаемся, что в разных контекстах имя «кимме-
рийцы» использовалось для обозначения совокупностей разного
объема и ранга и словоупотребление Геродота — лишь один из
вариантов этого достаточно широкого спектра значений. Поэто-
му, чтобы оценить этноисторическую информативность его рас-
сказа, необходимо уяснить историю формирования представлен-
ного в нем осмысления этнонимии. При употреблении термина
«киммерийцы» в инокультурных по отношению к обозначаемым
им совокупностям традициях, т. е. в качестве экзоэтнонима, кри-
терии причисления тех или иных групп к киммерийцам, как и
критерии противопоставления им каких-то групп в качестве ино-
этничных, могли быть различными. Так, по мнению И. М. Дья-
конова [1981, с. 99J, «начиная с VII—VI вв. до и. э. все народы
Передней Азии называли термином gimirri и т. п. все кочевые
племена с культурой (и, очевидно, языком) скифского типа»,
т. е. достаточно последовательно опирались на дейсгвитетьно
этноразличительные признаки, хотя и выделяли на этой основе
общность весьма высокого ранга. Геродот, не заставший уже
реальных киммерийцев на исторической арене, опиравшийся в
своем рассказе на предание и не имевший, конечно, возможно-
сти почерпнуть из него информацию такого рода, не мог поль-
зоваться этими критериями. Не воспроизвел он и традиции, сло-
жившейся на такой основе еще до него,— об этом свидетельст-
вует последовательное отграничение им киммерийцев от куль-
турно близких им скифов. По каким же критериям выделял он
ту совокупность, которую обозначал этим именем,— более ши-
рокую, чем пользовавшаяся им в качестве самоназвания, и од-
новременно более узкую, чем киммерийцы восточных текстов?
Весь контекст упоминания киммерийцев у Геродота нагляд-
но свидетельствует, что они интересны ему прежде всего и глав-
ным образом как один из участников скифо-киммерийского
конфликта, предание о котором он излагает. Но если сами ким-
мерийцы для него в значительной мере легендарны, то другого
участника этого конфликта — скифов — Отец истории хорошо
знает по современной ему реальности как самостоятельный эт-
нос с самобытной культурой и определенной территорией оби-
тания. Дошедшее до него предание о скифо-киммерийском
конфликте, завершившемся вытеснением киммерийцев скифами
из Северного Причерноморья, естественно, предопределяло вос-
приятие обоих участников этого конфликта в качестве соизме-
римых величин, а следовательно, и этнических совокупностей
одного таксономического уровня. Соответственно земля кимме-
рийцев, в представлении Геродота, включает всю ту страну,
которую «теперь населяют скифы» (Herod., IV, 11), или, наобо-
рот, киммерийцы — это обитатели всей той страны, которая
ныне заселена скифами. Иными словами, приписываемое Геро-
дотом понятию «киммерийцы» содержание оказывается произ-
48
водным от современного ему содержания понятия «скифы»,
именно это последнее оказывается точкой отсчета при опреде-
лении объема первого. Поэтому, пусть даже Геродот вполне
точно передал дошедшее до него предание о взаимоотношении
двух названных народов, его информация о киммерийцах не-
вольно окажется искаженной, если за период, отделяющий вре-
мя формирования указанного предания от эпохи Геродота,
трансформировалось содержание понятия «скифы».
Есть ли у нас реальные основания предполагать подобную
трансформацию?
Прежде всего необходимо напомнить, что все приведенные
И. М. Дьяконовым доказательства первоначального бытования
термина «киммерийцы» в качестве самоназвания в полной мере
применимы и к термину «скифы». Однако здесь с еще большей
наглядностью выявляется картина использования этого имени в
источниках для параллельного обозначения совокупностей раз-
ных рангов и различной природы. Мы уже останавливались на
существовании по крайней мере двух значений этого имени, за-
фиксированных в античной традиции,— конкретного этпоисто-
рического, приложимого к обитателям Причерноморья, и широ-
кого культурно-исторического, распространяющего область оби-
тания «скифов» вплоть до Индии и Китая. Попробуем продви-
нуться дальше и зададимся вопросом, в какой мере стабильным
является первое из названных значений — прежде всего во вре-
мени.
Не вызывает сомнений, что сам Геродот воспринимал ски-
фов, действующих на исторической арене в разные периоды ох-
ватываемой его рассказом эпохи, как некую постоянно тождест-
венную самой себе совокупность. Для него скифы, пришедшие в
Причерноморье из Азии и вступившие в конфликт с киммерий-
цами, как и скифы, совершавшие походы в страны Ближнего
Востока,— это тот самый народ, который он знает в качестве
обитателей припонтийских степей между Истром и Танаисом,
хотя бы уже вследствие того, что они носят одно и то же имя.
Не является ли, однако, такое понимание проявлением своего
рода «этнонимического фетишизма»? Как выглядит подобная
идентификация скифов разных эпох, если не просто следовать
свидетельству Геродота, а подойти к этой проблеме с позиций
современной теории этноса? Уточним, что если выше, при сра-
внении двух значений термина «скифы», речь шла о переносе
одного и того же названия с одного объекта (скифов как кон-
кретного этноса) на другой (группу народов, сходных в куль-
турно-хозяйственном отношении), то здесь речь идет о качест-
венно ином явлении — об изменении самого объекта, на разных
стадиях своего существования сохраняющего одно и то же имя.
Результат, однако, оказывается в известном отношении сход-
ным — меняется значение термина.
В современной науке мы находим разные трактовки вопроса
• стабильности или изменчивости скифов как этноса. Так,
4 Зак. 358
49
О. Н. Трубачев [1980, с. 118] убежден, что «при всей их древно-
сти отношения киммерийцев со скифами, так сказать, постэтно-
гоничньг, скифы к этому времени вполне сложились как этнос
(курсив наш.— Авт.)». Тезис этот автором никак не аргументи-
рован; по существу, он просто воспроизводит концепцию Геро-
дота, без попыток уяснить природу этой концепции, ее зависи-
мость от присущих древнему миру принципов восприятия этно-
исторической проблематики. Между тем если подойти к тому же
утверждению не с позиций древнего историка, а с учетом приве-
денного выше научного определения этноса и современного по-
нимания этногенеза как «всей той совокупности исторических
явлений и процессов, которые имеют место в ходе формирова-
ния того или иного народа и приводят к окончательному сложе-
нию его этнического лица» [Алексеев, 1986, с. 3; курсив наш.—
Авт.1, то истинность тезиса о постэтничпости интересующих
нас отношений подлежит проверке всей суммой имеющихся в
пашем распоряжении данных.
Как выглядит данный тезис с позиций современной теории
этноса? Во-первых, поскольку мы условились воспринимать эт-
нос как сопоставительную категорию, это означает, что с самого
момента появления в Причерноморье пришедших «из Азии» ски-
фов здесь существовала достаточно в целом стабильная система
отграничения этого парода от всех прочих. К сожалению, в пол-
ной мере проверить правомерность такого вывода на уровне
этнонимии мы не имеем возможности, ибо располагаем, по с\ти,
лишь одним более или менее детальным описанием этой систе-
мы — относящимся к середине V в. до н. э. свидетельством Ге-
родота, и это исключает исследование ситуации в динамике. От
нако по крайней мере одно сообщение, противоречащее подоб-
ному вывод}, мы находим \ того же Геродота: речь идет о рас-
сказе, согласно которому савроматы выделились из скифской
среды тогда, когда скифы уже обитали в приазовско-черномор-
ских степях (Herod., IV, 110—116). Конечно, оболочка этого
рассказа вполне легендарна, но исследователи признают нали-
чие в нем исторического ядра [Смирнов, 1964, с. 193] 16. Из рас-
сказа достаточно определенно следует, что оформление скифов
как этноса отнюдь не завершилось с появлением их у Понта;
еще продолжалось отпадение от них каких-то образующих но-
вые народы групп, а параллельно, возможно, шла и интеграция
в их среду иноэтничных компонентов, о чем речь будет ниже.
Вторым следствием из приведенного тезиса О. Н. Трубачева
должно явиться утверждение, что к моменту появления скифов
в Причерноморье уже полностью сложилось их «этническое
лицо». Это утверждение поддается гораздо более детальной
проверке путем привлечения археологического материала, по-
скольку, как ясно из сказанного ранее, одним из свидетельств
завершения процесса этногенеза скифов, безусловно, явилось бы
завершение формирования основных элементов скифского куль-
турного комплекса. Необходимо подчеркнуть, что методика со-
50
поставления письменных и археологических данных в таком
контексте принципиально отличается от той, которая лежит в
основе рассмотренных выше гипотез. В концепциях М. И. Арта-
монова или Л. И. Тереножкина ключевым являлся поиск в ар-
хеологических данных (в большей или меньшей степени непред-
взято истолкованных) соответствия модели, напрямую заимст-
вованной из нарративной традиции; в нашем же случае именно
археологический материал призван обеспечить создание модели
этнокультурных процессов, связанных с киммерийско-скифским
взаимодействием, и соответственно толкование сущности этих
процессов. Разумеется, и при таком подходе велика роль дан-
ных письменной традиции, прежде всего в определении границ
территории, с которой происходит рассматриваемый археологи-
ческий материал; но само взаимодействие письменных и архео-
логических данных в ходе создания этноисторической реконст-
рукции обретает более диалектический характер.
Вопрос о том, к каком} этапу следует относить завершение
процесса сложения скифской культуры (в ее археологическом
выражении), трактуется в современной скифологии неоднознач-
но. Как уже отмечалось, А. И. Тереножкин, целиком следующий,
как и О. Н. Трубачев, в понимании этнической истории скифов
за Геродотом, полагает, что «скифская культура в Причерно-
морье появляется в VII в. до н. э. в сложившемся, готовом уже
виде» [Тереножкин, 1971, с. 22; 1976, с. 209]. Другие исследова-
тели, однако, в том же материале обнаруживают свидетельства,
что «эта культура сложилась на юге Восточной Европы из
слияния местных и привнесенных элементов, дополненных раз-
личными влияниями» [Петренко, 1971, с. 7]. В последнем слу-
чае говорить о предшествующем скифо-киммерийскому столкно-
вению окончательном сложении этнического лица скифов за-
труднительно.
Для того чтобы предпочесть тот или иной вариант толкова-
ния данной проблемы, нам предстоит проследить — хотя бы в
общих чертах — судьбы скифской культуры в динамике. Одно-
временно это даст нам дополнительные материалы для сужде-
ния о характере ее появления в Причерноморье, а соответствен-
но и о начальном этапе скифской истории. Но сначала некото-
рые замечания о самом понятии «скифская культура».
В отечественной археологической литературе термины «скиф-
ская культура», «киммерийская культура» широко применяются
в одном понятийном ряду с чисто условными наименованиями
типа «тагарская культура», «ананышская культура» и т. п. для
обозначения именно археологических культур в приведенном
выше понимании этого феномена, т. е. совокупностей достаточ-
но однородных памятников. Однако такое смешанное употребле-
ние терминов, образованных на основе использования разных
принципов, таит в себе коварную особенность. Условные наиме-
нования культур, произведенные от названия одного из принад-
лежащих к этой культуре памятников (хотя и не всегда вполне
4*
51
пригодного для роли эталонного), предполагают лишь упомяну-
тую однородность всех причисляемых к данной культуре памят-
ников, а соответственно однозначное понимание данной куль-
туры, и не более того. Вопроса об этнической принадлежности
носителей этой культуры, даже если в изложенном выше духе
предполагать известную соотнесенность между археологической
культурой и этносом, такое наименование никак не затрачивает
и на его решение никак не влияет. Если же само наименование
археологической культуры является производным от этнонима,
это как бы изначально предполагает, что указанный вопрос
решен, т. е. что, с одной стороны, данная культура покрывает
весь обозначаемый этим этнонимом этнос, а с другой — все
носители данной культуры принадлежат к этому этносу.
Однако в тех случаях, когда использованный для этой
цели этноним в источниках — а оттого неизбежно и в со-
временной литературе — многозначен (что, как мы видели,
свойственно, в частности, термину «скифы»), производное от
него наименование культуры оказывается лишенным необходи-
мой для археологической номенклатуры определенности, обо-
значает одновременно археологические совокупности разных
рангов, примеры чего )же приводились выше.
Особенно парадоксальная ситуация складывается тогда, ког-
да исследователь, пользующийся таким термином, сам не при-
писывает ему этнического содержания. К примеру, согласно
А И. Тереножкину [1971, с. 23], «единая по культуре... Скифия,
очевидно, имела этнически разнородное население», что вообще
предполагает отсутствие однозначной соотнесенности между
понятиями «скифы» и «скифская культура» и вынуждает разли-
чать скифскую культуру и культуру скифов. В результате рож-
даются такие парадоксальные пассажи: «„Скифская" археоло-
гическая культура со всеми ее атрибутами ни своими истоками,
ни общей территорией своего распространения никак не связана
со скифами» [Пьянков, 1987, с. 1]. Никакие кавычки при слове
«скифская» и никакие оговорки о необходимости разграничения
«скифов этнических» и «скифов археологических» не спасают ни
авторов, пользующихся подобной терминологией, пи их читате-
лей от непроизвольного смешения этноисторпческой проблема-
тики с культурно-исторической.
Итак, выстроив цепочку подлежащих последовательному
решению задач, мы в конце ее оказались перед неожиданной
трудностью: смысл понятия «киммерийцы» у Геродота опреде-
ляется характером эволюции содержания понятия «скифы»; про-
следить ее, в свою очередь, можно лишь посредством изучения
динамики развития скифской культуры; представление об этой
культуре характеризуется, однако, значительной пестротой тол-
кований и этнической неопределенностью, и это создает серьез-
ные препятствия для достижения всех интересующих нас целей.
В таких условиях представляется целесообразным рассмотреть
различные этапы существования скифской культуры в последо-
52
вательности, обратной хронологической, избрав «точкой отсчета»
время, для которого и содержание этнонима «скифы», и соотно-
с "ые с ним археологические памятники определяются доста-
то-но однозначно. Проследив ретроспективно историю представ-
ленной этими памятниками культуры, мы существенно продви-
немся в понимании процесса скифского этногенеза.
Известно, что наиболее обильно в степном Северном При-
черноморье скифской эпохи представлены погребальные комп-
лексы IV в. до н. э. — как аристократические, так и рядовые. Из
включенных в сводку 1986 г. 2300 погребений этого региона, от-
несенных составителями к скифским, 2042 датированы не всегда
четко разграничиваемыми IV и III вв. до н. э., причем большин-
ство из них определенно принадлежит именно к IV в. [Скифские
погребальные памятники, 1986, с. 345] 17. Таким образом, куль-
туру населения причерноморских степей этого периода мы пред-
ставляем себе по весьма богатому материалу.
Исследователями отмечена принципиальная однородность
ма ернальной культуры этого времени на всем пространстве
степного Причерноморья и на всех уровнях достаточно ощути
мой социальной иерархии [Граков, 1962, с. 100]. Именно для
этого этапа в наибольшей мере справедливо замечание, сделан-
ное Б. Н. Граковым [1971, с. 25] относительно всей скифской
эпохи, что данная культура «по праву времени и места не мо-
жет быть названа иначе, чем скифской». Специального внима-
ния заслуживает, в частности, соотношение пределов распрост-
ранения этой однородной культуры с теми границами Скифии,
которые для предыдущего столетия засвидетельствованы Геро-
дотом. Конечно, методически более строгим было бы сопостав-
ление этих границ с ареалом памятников V в. до и. э., т. е. при-
надлежащих к собственно Геродотовой эпохе. Однако памят-
ники эти ввиду значительно меныпей их численности не дают
столь наглядной картины. Впрочем, насколько можно судить,
комплексы степного типа V и IV вв. до и. э. и по ареалу, и по
наиболее существенным для нашей темы признакам, отражаю-
щим их соотношение с культурами смежных территорий, не
слишком различаются.
Восточным рубежом распространения этих памятников слу-
жит в основном Танане, к востоку от которого представлены
уже комплексы иного облика, в полном соответствии с данными
Геродота (IV, 21) интерпретируемые как савроматские [Смир-
нов, 1964, с. 68 сл.] 18. Что касается западного рубежа Скифии,
то Геродот (IV, 99—101) воспринимает как таковой Истр (Ду-
най), разделяющий Скифию и Фракию. Некоторая противоречи-
вость данных древнего историка на этот счет [Мелюкова, 1969,
с. 61—62] свидетельствует об известной условности такого
представления. Археологические материалы подтверждают это,
поскольку указывают, что во времена, описанные в Скифском
логосе, в VI—V вв. до н. э., «этническая граница между скифа-
ми и гетами не могла проходить западнее Прута, а возможно,
3
in id no Днестру» (это не исключало периодического проникно-
вения в более западные земли скифских кочевых групп и воен-
ных отрядов); та же ситуация восстанавливается по археоло-
гическим данным и для IV в. [Мелюкова, 1969, с. 79].
Труднее соотнести с данными Геродота о пределах Скифии
северную границу ареала интересующей нас степной культуры.
Столь четких географических ориентиров, как Танаис на востоке
и Истр на западе, для северного рубежа Скифии в описании
Отца истории нет. Как отмечалось выше, единственным, по су-
ществу, указанием здесь выступает перечисление народов, с
областями обитания которых скифы тут соприкасаются (Herod.,
IV, 100), а локализация этого рубежа на реальной карте может
опираться только на данные о расстоянии до этих областей в
днях пути. Однако И. А. Шишова [1981, с. 25—26] наглядно
продемонстрировала известную приблизительность сведений
такого рода в повествовании Геродота, ввиду чего их вряд ли
можно использовать как решающий аргумент. В скифологии се-
верный предел ареала степной культуры, в целом совпадающий
с границей степи и лесостепи, интерпретируют по-разному.
Б. Н. Граков и его последователи, как известно, видят ски-
фов лишь в обитателях степи, а памятники лесостепной зоны
приписывают нескифским народам Геродота [Граков, Мелюко-
ва, 1954, с. 78—90; Граков, 1971, с 120 сл.]. Признавая иден-
тичность форм целого ряда бытовавших на всей этой террито-
рии категорий инвентаря, исследователи этой школы подчерки-
вают коренное различие культур степи и лесостепи прежде все-
го по таким признакам, как особенности погребальных памят-
ников и керамики, что свидетельствует о формировании этих
культур на разной основе и соответственно о разной этнической
принадлежности их носителей.
Иначе подходил к проблеме А. И. Тереножкин, включавший,
как сказано, и степную, и лесостепную зоны в ареал единой
«скифской культуры», но в то же время признававший различие
между памятниками двух названных зон по таким признакам,
как «типы поселений, характер домостроительства, керамика
и т. и.», обусловленное вкладом в эту культуру «туземного на-
селения», разного в различных частях указанного ареала, что и
предопределило его толкование этой культуры как полиэтнич-
ной [Тереножкин, 1971, с. 23]. Разноэтничнос ть степного и лесо-
степного населения Причерноморья скифской эпохи признает и
Б. А. Рыбаков [1979, с. 104 сл.], включающий вместе с тем обе
эти зоны в границы Скифии Геродота и также, следовательно,
лишающий данное понятие этнического содержания; перечис-
ленные же у Геродота нескифские народы оказываются в та-
ком случае помещенными еще севернее — в лесной зоне. К
оценке этих расхождений мы вернемся несколько позже. Сейчас
же для нас важно, что все упомянутые исследователи рассмат-
ривают границу между обитателями степи и лесостепи как эт-
ническую, а споры между ними касаются лишь того, следует ли
54
идентифицировать ее с северной границей всей Скифии Геродо-
та или только зоны обитания самих скифов, составляющих часть
населения полиэтничной Скифии.
С учетом сказанного обратимся к культуре степного Причер-
номорья. В литераторе имеются достаточно подробные ее опи-
сан”я как для IV, так и для предыдущего века [Граков, 1971,
с. 60 сл.; Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 119 сл., и др.], что
избавляет нас от необходимости давать ей детальную характе-
ристику. Остановимся лишь на тех признаках этой культуры,
которые представят для нас в дальнейшем специальный интерес
с точки зрения истории ее формирования, и только в той мере, в
какой они наглядно отграничивают или связывают эту культу-
ра с иными, смежными во времени или пространстве. По объяс-
ненным выше причинам за основу взяты материалы IV в., но в
единстве с ними рассматриваются и данпые V в. до н. э. По тра-
диции начнем со знаменитой скифской триады, включающей
оружие, конскую сбрую и произведения звериного стиля.
Мобильные и легко заимствуемые соседними народами по
мсс возникновения в каком-либо достаточно локальном очаге
новых, более прогрессивных форм предметы вооружения и кон-
ского снаряжения, конечно, не являются этнокультурным инди-
катором. По этим характеристикам культура степных скифов
IV в. до н. э., да и более раннего времени, по существу, не отли-
чается от культуры их лесостепных соседей. А. И. Мелюкова
[1964, с. 80] включает в зону распространения оружия чисто
скифских форм также Нижний Дон и Прикубанье, одновремен-
но подчеркивая отличие этих форм от бытовавших у саврэма-
тов, а тем более у обитавших еще далее к востоку степных на-
родов. В. А. Ильинская [1973а, с. 60] отмечает примерно такое
же соотношение для конской узды.
В искусстве, тесно связанном с идеологией общества и по-
тому труднее поддающемся чисто механическому заимствова-
нию. наблюдается иная картина. Правда, в IV в. до п. э. лесо-
степные и степные племена испытывают в этой сфере опреде-
ленное нивелирующее воздействие культуры античных городов
северопонтийского побережья. Одним из проявлений такого воз-
действия является распространение как в степи, так и в лесо-
степи совершенно однотипных антропоморфных изображений
античной работы, изготовленных специально для сбыта в вар-
варской среде: сравним изображения «менад» из Рыжановского
кургана с аналогичными находками в целом ряде степных па-
мятников [Рябова, 1979], известные обкладки горитов черто-
млыцкого типа, представленные как в степи, так и в лесостеп-
ном Ильинецком кургане, почти идентичные височные подвески
из Толстой Могилы, Любимовки и Мастюгина [Бессонова, 1982]
и т. п. Выполненные, очевидно, в соответствии с запросами не-
посредственно соседящих с греческими поселениями степных
скифов, подобные изделия через их посредство проникали и
далее, в лесостепь.
35
Определенную нивелировку локальных различий, по наблю-
дениям А. И. Шкурко [1976, с. 99—100], можно констатировать
в IV в. до н. э. и в искусстве звериного стиля, хотя она не кос-
нулась всех областей Северного Причерноморья в равной мере.
Однако следует признать, что это вторичное явление, обуслов-
ленное особенностями культурной ситуации момента, поскольку
в V в. до н. э. наблюдается принципиально иная картина. В это
время, как отмечает А. И. Шкурко, наиболее близко к искусст-
ву степных скифов лишь искусство лесостепного Днепровского
правобережья; в целом же следует считать этот период (пре-
имущественно вторую половину V в.) временем «оформления
локальных вариантов на всей территории распространения
скифского звериного стиля» (в данном контексте под этим тер-
мином скрывается искусство именно Причерноморья, а не всего
евразийского степного пояса). Исследователь выделяет в каче-
стве таких вариантов прежде всего искусство правобережного и
левобережного Поднепровья как районов «с самостоятельными
художественными центрами, оперирующими в принципе одними
и теми же общескифскими мотивами, но в каждом случае свое-
образно определяющими конкретный сюжет и манеру7 исполне-
ния». В это же время зарождается специфика звериного стиля
Подонья, достигающая максимального выражения в IV в.
[Шкурко, 1976, с. 94—99]. Отличается от искусства других ре-
гионов Причерноморья и звериный стиль V—IV вв. в Прику-
банье, хотя он не свободен и от проявления тенденций, общих
для памятников всего региона [Переводчикова, 1987, с. 50—52].
Вполне самостоятелен по отношению к причерноморскому и тя-
готеет скорее к искусству восточных областей звериный стиль
V—IV вв. у савроматов [Смирнов, 1964, с. 243].
Таким образом, если рассматривать период V—IV вв. до н. э.
н целом, то культурная обособленность степных памятников от
комплексов смежных зон на материале звериного стиля выявля-
ется достаточно наглядно.
Не менее интересно в этом плане устройство погребальных
сооружений. По существу, это один из двух (наряду с керами-
кой) основных критериев, по которым культура степи была про-
тивопоставлена лесостепным культурам скифского времени в из-
вестной работе Б. Н. Гракова и А. И. Мелюковой. Они отмечали,
что в лесостепи в течение скифской эпохи «господствовали за-
хоронения в простых ямах различной глубины. Последние были
то просто перекрыты деревом, то имели в себе обширные жи-
лищеобразные сооружения разных типов» [Граков, Мелюкова,
1954, с. 78; см. также Тереножкин, 1971, с. 18]. Этот вывод,
сделанный на основе суммарного анализа памятников всего
скифского периода, можно считать вполне правомерным и для
взятого в отдельности отрезка — V—III вв. до и. э. [Граков,
Мелюкова, 1954, с. 86—88], хотя относящиеся к нему погребе-
ния представлены здесь далеко не столь обильно, как в степи.
Имеются в этой зоне и погребения, близкие к степным, но
56
всеми исследователями они единодушно рассматриваются как
выпадающие из основной массы зафиксированных памятников и
св"тетельствмощие о проникновении (спорадическом или доста-
ток ю массовом) сюда жителей степи [Либеров, 1949, с. 101;
Греков, Метюкова, 1954, с. 86; Ильинская, Тереножкин, 1983,
с. 310]. Для самой же степной зоны в это время характерно
преобладание катакомб разных типов [Граков, Мелюкова, 1954,
с. 731, хотя встречаются и грунтовые ямы [Ольховский, 1978а,
с. Скифские погребальные памятники, 1987, с. 347, табл. 2 на
с. 3491. Таким образом, по рассматриваемому показателю степ-
ная и лесостепная зоны в это время достаточно четко разграни-
чиваются
Что касается керамики, то в течение V—IV вв до н. э. влия-
ние степных традиций, распространяющееся на север, постепен-
но привело к ослаблению того принципиального различия меж-
ду отдельными культурными областями (в первую очередь меж-
ду ^тепью и лесостепным правобережьем Днепра), которое было
особенно ощутимо в начале этого периода, но оставалось за-
метным вплоть ю конца скифской эпохи [Граков, Мелюкова,
1954. с. 86—871 В самой степи в это время бытует достаточно
стабильный кепам”ческий комплекс, богато представленный, в
частности, в инвентаре погребений [Гаврилюк, 1981, с. 15—17].
Резюмируя этот краткий обзор, следует сказать, во-первых,
что известная нам по многочисленным памятникам IV в.
до н э. культура обитателей степей Северного Причерноморья
уже существовала в V в. до н. э. во всех своих основных элемен-
тах. Во-вторых, активные контакты между разными населяв-
шими северопонтийские области народами, в значительной сте-
пени стимулированные, вероятно, стремлением всех их вкусить
от б таг, обеспечиваемых торговлей с античным миром и потому
доступных в перву ю очередь непосредственно соседящим с гре-
ческими городами жителям степи, в известной мере стирали то
отличие лесостепных культур от степной, которое столь заметно
по ряду ключевых характеристик на рубеже VI—V вв. до н. э.
Такое нивелирующее влияние, естественно, шло в основном с
юга на север, из степи в лесостепь. Но это было именно влия-
ние (лишь иногда — проникновение отдельных этнических
групп), так и не приведшее к созданию единой культуры, охва-
тывающей весь рассматриваемый регион. В V в. до н. э. куль-
турное своеобразие отдельных входящих в него зон проявлялось
еще в полной мере. Пожалуй, именно это время можно считать
периодом, когда культурная дифференциация северопонтийской
степи и смежных с нею областей проявлялась наиболее отчетли-
во Вместе с тем следует подчеркнуть общий для всех этих
культур набор некоторых типичных категорий инвентаря, объ-
единяющий собственно скифскую степную и ряд «скифоидных»
культур.
Для нас важно, что как раз на этот период приходится посе-
ще ч.е Северного Причерноморья Геродотом, а значит, именно
57
Таблица
Характеристика соседних со ссифами народов по Геродоту
Этноним О'’щие данные о стране и народе Язык Обычаи
Савроматы Не скифская зем- ля (IV, 21) Скифский, но из- давна искаженный (IV, 117). Одежда у савро- матских женщин та же, что у их мужей, происхо- дящих из скифов (IV, 117)
Агафирсы — — Обычаи, похожие на фракийские (I У, 104)
Невры — — Обычаи скифские (IV, 105)
Андрофаги Племя особое и отнюдь не скиф- ское (IV, 18) Собственный (IV, 106) Кочевники, одеж- да похожа на скиф- скую (IV, 106)
Меланхлены Племя иное, не скифское (1\ , 20) — Обычаи скифские (IV, 107)
Г елоны — Отчасти скифский, отчасти эллинский (IV, 108) —
Будины — Не тот. что у ге- лонов (IV, 109) —
охарактеризованная ситуация должна была продиктовать и со-
держание понятий «скифы», «Скифия», отложившееся в его
труде, и ту систему отграничений обозначаемой этими понятия-
ми этнокультурной совокупности от смежного с нею мира, ко-
торая определила содержание Геродотовой этногеографической
карты юга Восточной Европы.
Всматриваясь в бегло обрисованную выше археологическую
картину, мы приходим к выводу, что сама по себе оча не дает
никаких оснований трактовать Скифию Геродота как ареал
надэтничной по характеру «скифской культуры» и соответст-
венно отличать ее от области обитания скифов подобно тому,
как это делает А. И. Тереножкин [1971]. Трактовка последнего
продиктована не синхронной времени Геродота ситуацией, но
проецированием на эту ситуацию культурно-исторических реа-
лий иных эпох, о которых речь пойдет далее. Что же касается
степной культуры собственно Геродотова времени, то она пред-
стает как достаточно самобытная, именно ее есть все основания
связывать со скифами, известными в Причерноморье Отцу ис-
тории, и ее ареал наиболее оправданно может именоваться Ски-
фией. В таком случае смежные с нею культурные зоны должны
быть интерпретированы как области обитания тех народов, ко-
торые Геродот с разной степенью полноты, но вполне последо-
вательно отличает от скифов, констатируя в то же время их
58
определенную близость к последним в культурном отношении.
В свете принятого нами толкования этноса как сопоставитель-
ной категории данные Геродота на этот счет представляются до-
статочно существенными. Для удобства восприятия эти данные
сведены нами в таблицу (см.).
Все указанные данные в совокупности хорошо соответствуют
облику лесостепных культур скифского времени, в некоторых
чертах сходных со скифской степной культурой, но одновремен-
но и достаточно самобытных; зато с характером культур лесной
зо1'ы. принципиально отличных от скифской, они никак не со-
глассются. Это заставляет из различных предлагавшихся ре-
конструкций Геродотовой этногеографической карты юга Во-
сточной Европы предпочесть ту, которая обоснована Б Н. Гра-
ковым иа основе всестороннего сопоставления письменных и
археологических материалов.
Согласно этой реконструкции, все скифские племена разме-
щаются в пределах ареала степной культуры. Из прочих — не-
скифских — народов, локализуемых в лесостепи, неврам, оби-
тающим к западу от Борисфена по течению Гипаписа (Herod.,
IV, 17), принадлежат памятники «на правом берегу Среднего
Днепра и вплоть до лесостепных вод Южного Буга и Днестра»
[Граков, 1971, с. 120 сл.], т. е. в первую очередь комплексы бас-
сейнов Тясмина и Роси. О неврах, переселившихся в свое вре-
мя в землю будинов, т. е. в Днепровское левобережье (Herod.,
IV, 105), напоминают связанные своим происхождением с куль-
турой правобережья памятники бассейна Ворсклы [Граков,
1971, с. 161].
Земля будинов, согласно Геродоту, располагается севернее
земли савроматов (IV, 21) и в то же время примыкает к земле
невров (IV, 105). То, что они —единственный помимо скифов
этнос, который Геродот (IV, 108) характеризует как великий и
многочисленный народ, позволило Б. Н. Гракову [1971, с. 131 —
132] отдать им «обширное пространство от воронежских до
полтавских лесостепей», покрытое, по сути, единой («с не очень
существенными вариантами») археологической культурой.
Культура эта занимает «территорию от устья Десны до Ворск-
лы, к югу от лесной зоны до Северского Донца в его лесостеп-
ном и отчасти степном течении» с включением «лесистого сред-
не- '> воронежского Подонья» [Граков, 1971, с. 160].
Менее определенно локализуются меланхлены и андрофаги,
но п они, несомненно, должны быть помещены к северу^ от ареа-
ла степной культуры скифов. Что касается савроматов, то гра-
ница между ними и скифами по Танаису определена Геродо-
том (IV, 21) достаточно точно, а специфика этих памятников
по сравнению со скифскими для V—IV вв. до н. э. выявлена ис-
следователями вполне наглядно [Смирнов, 1964]. В гл. III нам
еще предстоит рассмотреть дополнительные аргументы в под-
держку приведенной реконструкции Геродотовой карты.
Мы убедились, что этнокультурную ситуацию, существовав-
59
шую в Северном Причерноморье в его время, Геродот знал до-
статочно хорошо и отразил довольно точно. Именно эта ситуа-
ция и продиктованное ею содержание используемой им этниче-
ской номенклатуры должны были, очевидно, в известной сте-
пени определить ту систему координат, в которую Отец истории
помещал действие услышанных им рассказов о событиях более
ранней истории скифов. Присмотримся, однако, к тому, что го-
ворит археологический материал о времени и путях формиро-
вания описанной ситуации. Это позволит нам яснее представить
себе реальный этнокультурный фон указанных событий и сте-
пень правомерности их соотнесения с картиной, нарисованной
Геродотом для своего времени.
Перемещаясь с этой целью в нашем ретроспективном экс-
курсе из V в. до н. э., т. е. из эпохи, в целом синхронной време-
ни, отразившемуся в рассказе Геродота, в VI в. до н. э„ следует
прежде всего отметить, что для этого времени говорить о том
четком наборе признаков скифской степной культуры, который
в равной мере характеризует памятники V и IV—III вв. до н. э.,
вряд ли можно. Так, преобладающие среди погребальных со-
оружений в степях в IV—III вв. до н. э. катакомбы начинают
выступать в качестве одного из таких признаков именно с V в.
[Мурзин, 1984, с. 53]. Для VI же века до н. э. известны лишь
отдельные погребения в катакомбах. Согласно сводке
В. Ю. Мурзина [1984, с. 52, 106—108], их в это время насчиты-
вается всего три из почти двух десятков известных памятников
(включая в эти последние и комплексы конца VII в.). По дан-
ным В. С. Ольховского [19786, с. 83], из 92 учтенных им погре-
бений степной зоны между Доном и Дунаем, относящихся ко
всему периоду VII—V вв., в катакомбах помещены лишь восемь.
Иными словами, представленная поначалу факультативно, эта
погребальная конструкция превращается в наиболее характер-
ную черту степной культуры уже на наших глазах, в то время,
которое принято считать отнюдь не начальным периодом суще-
ствования скифской культуры.
На интересующем же нас сейчас этапе в степи особенно ши-
роко представлены захоронения в ямах (часто — с применени-
ем дерева) или в деревянных гробницах, сооруженных на гори-
зонте; в обоих вариантах иногда засвидетельствовано воздей-
ствие огня на деревянные конструкции. Поскольку ямы с дере-
вянными конструкциями (в правобережье — с использованием
огня в ритуале) — характерный признак погребений лесостеп-
ной зоны, для этого периода, таким образом, оказывается в
значительной степени размытым один из основных признаков,
по которому в более позднее время могут быть противопостав-
лены друг другу культура степи, с одной стороны, и культуры
смежных территорий — лесостепи и Прикубанья — с другой.
Поэтому неоднократно высказывалось мнение о едином генезисе
типа погребальных сооружений всего этого ареала. Правда, во-
прос о его конкретных истоках трактуется по-разному.
60
Существует точка зрения, что подобные конструкции распро-
странились по всей очерченной зоне под влиянием степной куль-
туры и представляют «одну из главных особенностей изначаль-
ной, исконно скифской культуры» [Тереножкин, 1971, с. 18—19],
причем в данном случае А. И. Тереножкин — в отличие от дру-
гих упомянутых выше контекстов — под этим последним терми-
ном подразумевает, конечно, моноэтничную культуру, т. е. то,
что мы выше назвали «культурой скифов». Сходное мнение от-
стаивает и В. Ю. Мурзин [1984, с. 64—65]. Согласно иному тол-
кованию, в лесостепном правобережье Днепра, к примеру, де
ревянные гробницы восходят к местным традициям предшест-
вующей эпохи [Граков, 1971, с. 124], а в степи сосредоточива-
ются у границы с лесостепной зоной, что отражает скорее всего
факт проникновения их сюда с севера [Ольховский, 19786, с. 88].
Уже само по себе существование подобной дилеммы, каждое из
предлагаемых решений которой апеллирует к памятникам иных
периодов, свидетельствует, что в собственно VI в. до н. э. раз-
личие между культурами степи и смежных территорий по это-
му признаку оказывается достаточно смазанным.
Что касается облика керамики, то с этой точки зрения оха-
рактеризовать степные комплексы VI в. до н. э. труднее, чем бо-
лее позди! е, хотя бы потому, что в погребениях этого времени
она представлена крайне скудно [Мурзин, 1984, с. 90]. В той
мере, в какой имеющийся материал поддается анализу, он ока-
зывается весьма неоднородным. Эту неоднородность — сочета-
ние форм, связанных с лесостепью, Северным Кавказом, Кры-
мом, фракийскими памятниками — подтверждает привлечение
керамического материала из синхронных погребальным комп-
лексам слоев степных поселений [Гаврилюк, 1982, с. 14—15].
Этот материал, впрочем, позволил Н. А. Гаврилюк сформули-
ровать приводившийся выше вывод, что тот специфический ке-
рамический комплекс, который составляет одну из отличитель-
ных черт степных памятников IV—III вв. до н. э., сложился на
местной основе именно в интересующее нас сейчас время (с за-
ходом в V в. до н. э.). Керамика разных областей лесостепной
зоны в это время достаточно четко отграничивается от указан-
ного степного керамического комплекса и вместе с тем вполне
своеобразна в левобережье и в правобережье Днепра, продол-
жая, по мнению Б. Н. Гракова и А. И. Мелюковой [1954, с. 80],
присущие каждой из этих областей местные традиции предше-
ствующего времени.
Зато во всем, что касается «скифской триады», именно вто-
рая половина VII и весь VI в. до н. э. оказываются временем,
когда степная и лесостепная зоны, а также Прикубанье практи-
чески не различаются по характеру материала. В их зверином
стиле в это время еще не существует упомянутых выше харак-
терных для более позднего времени локальных вариантов, по-
скольку «различия между ними по-настоящему проявляются
только в период V—III вв. до н. э.» [Шкурко, 1976, с. 90] — как
61
с точки зрения репертуара образов, так и в плане стилистиче-
ских особенностей их воплощения. Практически не отчленяется
от названной совокупности в это раннее время и звериный стиль
савроматов Волго-Донского междуречья.
О единстве форм вооружения в степной и лесостепной зонах
и Прикубанье речь уже шла в связи с характеристикой памят-
ников V—III вв. Практически то же самое может быть отмечено
и для более раннего времени с той лишь разницей, что в конце
VII—VI в. в этот единый ареал следует включать и область рас-
селения савроматов: К. Ф. Смирнов, констатируя известное
сходство савроматского оружия со скифским, специально под-
черкивал, что особенно велика эта близость именно в интере-
сующее нас сейчас время [Смирнов, 1961, с. 29, 66—67 и др].
Что касается предметов конского снаряжения, то мы ограни-
чимся ссылкой на того же К- Ф. Смирнова [1961, с. 81], отме-
чавшего, что «общность форм говорит о полном единстве уст-
ройства уздечки у населения Скифии (включая лесостепную
эону,-—Лет.), Северного Кавказа и у савроматов в VII—VI вв.
до н. э.».
Таким образом, сравнивая культурную ситуацию в Северном
Причерноморье в VII—VI и в V—IV/HI вв. до н. э., мы обнару-
живаем два коренных различия между этими периодами. С од-
ной стороны, на раннем этапе еще нельзя говорить как о вполне
сложившейся о той степной культуре, которая соотносима с опи-
санными Геродотом скифами и хорошо известна нам по памят-
никам этапа последующего: памятники степей раннего времени
демонстрируют еще не вполне устоявшуюся картину. С другой
стороны, культурное разграничение между скифской степью и
смежными с ней областями, столь отчетливое начиная с V в.,
предстает в VII—VI вв. значительно менее строгим: в это время
общими для всего юга Восточной Европы оказываются не толь-
ко некоторые категории материальной культуры, но и характер
оформления принадлежащих к ним предметов. При этом, если
учесть в нашем ретроспективном сопоставлении еще более ран-
ние материалы — те, что относятся к периоду, именуемому в
археологической литературе предскифским,— то обнаружится,
что различия между отдельными областями, все же достаточно
ощутимые и в VII—VI вв., определяются по преимуществу его
наследием, т. е. субстратными чертами, тогда как общность
межд} ними проявляется главным образом в тех элементах, ко-
торые повсеместно на всей этой территории являются новация-
ми.
Исследователи достаточно единодушны во мнении, что такие
новации связаны с влиянием скифов или даже с прямым про-
никновением их в соответствующие области [Граков, Мелюкова,
1954, с. 78; Ильинская, 1968, с. 174; Ильинская, 1975, с. 169—
171; Ковпаненко, 1981, с. 135|. Но следует специально подчерк-
нуть, что уже знакомая нам степная культура скифов Геродо-
товой эпохи — лишь одно из равноправных звеньев в ряду син-
62
хронных ей разноэтничных культур, унаследовавших эти нова-
ции. Сам же набор подобных новаций вряд ли может претен-
довать на роль критерия для выделения особой археологиче-
ской культуры, поскольку этнографический облик населения
любой из областей, входящих в зону их распространения, опре-
деляется не только этим набором, но и специфичными для каж-
дой области субстратными элементами. Поэтому представля-
ется более корректным говорить об этом наборе не как об осо-
бой культуре, а как о связанном преимущественно с воинским
бытом культурном комплексе, именуя его по сложившейся тра-
диции раннескифским. Насколько правомерна именно такая его
атрибуция и какой предстает при подобной трактовке ранняя
этнокультурная история скифов, мы рассмотрим далее. Сейчас
же следует остановиться па вопросе о механизме формирования
данного комплекса, поскольку именно в этой сфере могут обна-
ружиться археологические доказательства достоверности преда-
ния о приходе скифов в Восточную Европу из Азии и указания
на характер их миграции. Не случайно как раз к элементам
итого комплекса апеллируют, в частности, сторонники концеп-
ции центральноазиатского происхождения скифов и их культу-
ры в поисках аргументов в поддержку своей концепции.
Несмотря на то что, как уже говорилось, данную концепцию
в последние годы разделяют многие и она определяет содержа-
ние целого ряда новейших работ по скифологии, ее детальную
археологическую аргументацию можно встретить не слишком
часто. Пожалуй, наиболее полно и комплексно эта аргументация
привлечена В. Ю. Мурзиным в монографии о памятниках скиф-
ской архаики [Мурзин, 1984]. Поэтому именно его суждения
стоит рассмотреть внимательно.
Правда, концепция, сформулированная в монографии
В. Ю. Мурзина, была несколько позже модифицирована в его
же совместной с В. И. Клочко статье. Здесь больше внимания
уделяется тому факту, что «скифы как вполне определенный
исторический народ, хорошо известный по многим письменным
памятникам начиная с VII в. до н. э.», сформировались в ре-
зультате весьма сложных этногенетических процессов, и при-
знается, что возникшая в ходе этих процессов «скифская куль-
тура известна нам лишь с VII в. до н. э.». В ее формировании,
по мысли авторов, приняли участие три различных по проис-
хождению компонента: «позднейшая предскифская культура
черногоровско-новочеркасского типа; протоскифская, привнесен-
ная на территорию Восточной Европы из глубинных районов
Азии в VII в. до н. э.; отдельные включения переднеазиатской
культуры». Принципиальным в концепции авторов статьи явля-
ется тезис о двукратном — в X и в VII вв. до н. э. — привнесе-
нии на территорию Северного Кавказа и Северного Причерно-
морья таких древностей, как стрелы, удила и псалии, из восточ-
ных областей Евразии [Клочко, Мурзин, 1987, с. 13, 14, 17].
Эти моменты достаточно принципиальны для решения проб-
63
лем скифского этно- и культурогепеза, и нам еще придется к
ним возвращаться. Однако в том, что касается центральноази-
атского вклада в культуру скифов, позиция авторов статьи во
многом близка к той, что была сформулирована В. Ю. Мурзи-
ным ранее. Согласно этой последней, «к числу основных кате-
горий, которые, собственно, и определяют облик раннескифской
материальной культуры Северного Причерноморья», относятся
«оружие, конская узда, антропоморфные изваяния, каменные
блюда и некоторые другие элементы» [Мурзин, 1984, с. 66], и
именно их анализ призван в его книге подтвердить центрально-
азиатские истоки всех названных категорий скифской культуры.
В статье же В. И. Клочко и В Ю. Мурзина [1987, с. 18] речь
идет о том, что носители второй волны протоскифской культуры
принесли с собой в VII в. до н. э. сложившиеся на востоке Ев-
разии «наконечники стрел, акинаки. антропоморфные изваяния,
навершия, стремечковидные удила и трехдырчатые псалии,
круглые зеркала с петлей на обороте, каменные блюда». Эта
стабильность подхода 19 позволяет нам внимательно рассмотреть
аргументацию тезиса о центральноазиатском генезисе указан-
ных элементов, подробно представленную именно в монографии
В. Ю. Мурзина [1984]. Не оспаривая правомерности многих
предложенных автором сопоставлений находок из разных частей
Евразии по существу, присмотримся особенно внимательно к
тому, в какой мере однозначны выводы, которые из этих сопо-
ставлений делаются.
Анализ не слишком многочисленных находок остатков слож-
ного лука, столь характерного для всей скифской эпохи, привел
В. Ю. Мурзина к заключению, что «лук описанного типа был
распространен в эпоху' раннего железного века у многих коче-
вых народов» и процесс формирования его «происходил на всей
территории евразийской степи практически одновременно» — в
эпоху поздней бронзы [Мурзин, 1984, с. 68]. Отдать предпочте-
ние в этом процессе какой-либо конкретной области степного
региона, таким образом, не удается.
Что касается бронзовых наконечников стрел, то В. Ю. Мур-
зин [1984, с. 69—70] отмечает чрезвычайное сходство ранне-
скифских их типов — так называемых енджинских и жаботин-
ских — с формами, известными по комплексам черногоровского
круга, и признает, что связать их в единую генетическую цепоч-
ку было бы «весьма заманчиво». О «морфологически сходных со
скифскими» черногоровских наконечниках стрел говорится и в
статье В. И. Клочко и В. Ю. Мурзина [1987, с. 16]. Однако пре-
пятствием к признанию генетической природы этого сходства
для В. Ю. Мурзина является то, что две названные серии «раз-
делены значительным хронологическим периодом, на протяже-
нии которого на юге Европейской части СССР бытовали харак-
терные для новочеркасского этапа... двухлопастные наконечники
стрел» иных очертаний [Мурзин, 1984, с. 70; см. также Клочко,
Мурзин, 1987, с. 16]. Запомним этот аргумент, поскольку нам
64
еще придется встретиться с ним в связи с выяснением генеало-
гии иных раннескифских категорий инвентаря. Сейчас же отме-
тим, что приведенные соображения заставляют В. Ю. Мурзина
предпочесть «предположение В. А. Ильинской о проникновении
древнейших типов скифских наконечников стрел в южные райо-
ны Европейской части СССР из центральноазиатских областей»
[Мурзин, 1984, с. 70].
Обращаясь к упомянутой им в этой связи статье В. А. Иль-
инской, мы, однако, находим там только убедительное обоснова-
ние типологического различия раннескифских и новочеркасских
стрел и примеры достаточно широкого бытования стрел, сходных
с раннескифскими, в синхронных им памятниках азиатской ча-
сти степного пояса. Относительно же проблемы генезиса этих
стрел исследовательница замечает лишь, что «конкретные пути
формирования собственно этого варианта недостаточно выясне-
ны > и что вести их происхождение следует «от бронзовых втуль-
чатых двухлопастных наконечников, известных в памятниках
срубной и андроповской культур» [Ильинская, 19736, с. 22].
Единственным основанием для того, чтобы исключить европей-
скую часть этого обширного ареала из зоны формирования ин-
тересующих пас наконечников, опять-таки оказывается сущест-
вование здесь в предшествующее время стрел новочеркасского
типа, но этого, считает автор, достаточно для утверждения, что
рачнескифские стрелы, «вероятно, связаны с формами, прине-
сенными из глубин степного Востока» [Ильинская, 19736, с. 26].
Иными словами, дополнительной аргументации в пользу этой
точки зрения по сравнению с работой В. Ю. Мурзина мы здесь
не находим. В то же время следует отметить существование мне-
ния о происхождении раннескифских стрел из черногоровских
[Полин, 1987, с. 20]
При анализе истории формирования скифского меча
В. Ю. Мурзин также основное внимание обращает на отсутст-
вие генетической его связи с мечами новочеркасского круга и на
то обстоятельство, что «практически одновременно с появлением
акинаков в северокавказских и северопричерноморских степях
мечи скифского типа бытовали на территовии, намного превы-
шающей территорию распространения новочеркасских памятни-
ков» [Мурзин, 1984, с. 75]. На этом основании делается вывод,
что меч такого типа, если бы он сложился в Северном Причер-
номорье на местной основе, едва ли мог «распространиться в
результате межплеменных контактов на столь значительной тер-
ритории в столь короткое время»; зато вполне вероятным ав-
тор считает «его проникновение в более западные области в уже
сложившемся виде в результате стремительного передвижения
скифских племен из глубинных районов Азии в степи Северного
Кавказа и Украины» [Мурзин, 1984, с. 76—77].
Истоки названного типа оружия В. Ю. Мурзин ищет в кара-
сукской культуре, следуя в этом за А. И. Тереножкиным [1976,
с 131—132], который, впрочем, считал уяснение механизма его
5 Зак. 358
65
формирования делом будущего и в своем предварительном по-
строеччи опирался на две-три случайные находки, обнаружи-
вающие сочетание черт карасукского кинжала и акинака скиф-
ской поры. Против такой генеалогии скифского меча уже вы-
сказывались Е. В. Черненко [1979, с. 91] 20, А. М. Лесков [1979]
и Б. А. Шрамко Г1984, с. 22 сл.]. В самом деле, вряд ли можно
рассматривать привлеченные А. И. Тереножкиным образцы как
прототип скифского акинака; скорее они демонстрируют гибрид-
ные формы (к тому же четко не датируемые), в дальнейшем
обусловившие ряд специфических особенностей татарских кин-
жалов по сравнению со скифскими — преобладание бронзовых
экземпляров, узкое бабочковидное перекрестье 21 и др. По суще-
ству, сегодня единственным веским аргументом в поддержку
тезиса о центральноазиатском происхождении скифского меча
выступает у В. Ю. Му рзина постулат о непременной связи быст-
рого распространения этой формы оружия с миграцией, сама
реальность и маршрут которой выводятся не из комплексного
анализа археологического материала, а все из того же свиде-
тельства Геродота о приходе скифов из Азии Однако этот аргу-
мент достаточно уязвим, поскольку и сторонники центрально-
азиатского происхождения скифов не предполагают расселения
этого народа по всем тем территориям, где в VII—VI вв. до н. э.
появляются культуры «скифо-сибирского типа», а однократное
«стремительное передвижение» его через эти области не могло,
конечно, обеспечить повсеместное распространение как акинака,
так и иных сходных со скифскими предметов; поэтому' не при-
ходится полностью отрицать роль в этом процессе такого фак-
тора, как межплеменные контакты. Точно так же нельзя игно-
рировать изначально заметное (несмотря на морфологическую
однородность) определенное своеобразие мечей типа акинака
на разных территориях, объяснимое в случае восприятия ино-
культурных влияний, но сомнительное, если готовые формы
принесены в процессе переселения их носителей.
На данный момент представляется очевидным, что на всем
пространстве евразийских степей меч-акинак скифского типа вы-
ступает как новая форма, и ее сложение в результате трансфор-
мации карасукских прототипов оказывается ничуть не более
вероятным, чем предложенное Е. В. Черненко, А. М. Лесковым
и Б. А. Шрамко (последним обоснованное особенно подробно, с
учетом не только формального, но и технологического аспекта)
возведение по крайней мере восточноевропейской ее разновид-
ности к так называемым киммерийским кинжалам.
Что касается наконечников копий, то В. Ю. Мурзин, отмечая
слабое их распространение как в предскифское, так и в ранне-
скифское время, склонен признать правоту А. И. Мелюковой
[1964, с. 39], предполагающей их местное происхождение. При-
мечательно, что это оценивается им как «отсутствие какого-либо
заметного скифского влияния (sic!—Авт.) в генезисе этого вига
вооружения» [Мурзин. 1984, с. 78—79].
66
Вполне убедительным представляется суждение В. Ю Мур-
зина [1984, с. 881 о едином происхождении скифских и азиат-
ских (тасмолинских и приаральских) каменных блюд; заслужи-
вает внимания и его гипотеза об их сложении на основе форм,
бытовавших еще в андроновской культуре. Однако следует
учесть и тот факт, что далее на востоке — в собственно цент-
ральноазиатских областях (Тува, Южная Сибирь) — подобные
древности в раннескифское время неизвестны. Поэтому утвер-
ждение об их «центральноазиатском происхождении» [Клочко,
Мурзин, 1987, с. 15] не вполне корректно.
Любопытен ход рассуждений автора относительно истории
сложения скифских антропоморфных изваяний. По его мнению,
«вывод о влиянии, оказанном на скифскую монументальную
скульптуру предскифскими древностями Северного Причерно-
морья, весьма проблематичен», поскольку различия между этой
скульптурой и так называемыми киммерийскими стелами про-
являются «в композиционных решениях, в предельной стилиза-
ции киммерийских стел, практически не имеющих антропоморф-
ных признаков», что якобы со всей очевидностью свидетельст-
вует «о наличии различных культурных традиций, лежащих в
основе киммерийского и скифского монументального искусства»
[Мурзин, 1984, с. 86]. Здесь же «в качестве весьма осторожного
предположения» допускается, что скифские изваяния сложились
«в результате эволюции оленных камней, в основе семантики
которых... лежит антропоморфный образ».
Все дело, однако, в том, что в данном отношении (как и в
особенностях композиционных решений и меры стилизации)
«киммерийские стелы» и оленные камни крайне близки друг к
другу: по точному замечанию Д. Г. Савинова [1977, с. 127], от-
носящемуся к памятникам подобного типа — северокавказским
камням-обелискам, и те, и другие, «изображая (точнее, обозна-
чая.— Авт.) человеческую фигуру, лишены признаков антропо-
морфности». Их человекоподобие определяется распределением
в пространстве стелы атрибутов убранства, соответствующим их
размещению в облачении воина [Раевский, 1983, с. 58]. Транс-
формация тех и других, превращение их в изваяние в собствен-
ном смысле могли происходить совершенно одинаково — по-
средством все более натурального воплощения элементов чело-
веческого тела (головы, рук) при сохранении внимания и к рас-
пределению атрибутов, и проявления этой тенденции одинаково
вероятны повсюду, где бытовали условные стелы. Поэтому с мо-
мента, когда в Причерноморье была выделена группа упомяну-
тых «киммерийских стел» [Членова, 1975; Тереножкин, 1978,
и др.], необходимость возведения скифских изваяний к памят-
никам именно азиатского ареала или даже простое предпочте-
ние такой трактовки их генезиса, по существу, утратили почву.
Специального внимания заслуживает интерпретация
В. Ю. Мурзиным истории формирования скифского конского
снаряжения, в первую очередь узды. Как известно, А. А. Иессен
5*
67
вылетгл в так называемой предскифской культуре Причерно-
морья и Северного Кавказа два основных типа бронзовых удил.
Более ранними он считал удила новочеркасского типа — с вось-
меркообразными окончаниями стержней и трехпетезьчатыми
псалиями, и областью их преимущественного распространения
называл Северный Кавказ. Удила же со стремечковидиым окон-
чанием стержней, по его представлениям, моложе и бытовали
как в «предскифское» время — в комплексах черногоровского
типа, так и в раннескифскую эпоху, когда рядом с ними начи-
нают появляться железные удила [Иессен, 1953. с. 98]. Стре-
мечковидные удила разного времени он рассматривал как
звенья одного эволюционного ряда [Иессен, 1953, с. 105]. (В
последнее время к аналогичному мнению склонился С. В. По-
лин [1987, с. 20].) Вместе с тем А. А. Иессен констатировал
общность стремечковидных удил и для юга Восточной Европы,
и для Южной Сибири, допуская возможность участия азиатских
племен в их вложении и даже связи их широкого распростране-
ния в степях Евразии с Геродотовым известием о приходе ски-
фов из Азии; впрочем, он же отмечал: «Где эти формы возникли
впервые, мы пока не можем сказать» [Иессен, 1954, с. 129].
В. Ю. Мурзин, следуя в хронологии «предскифских» древно-
стей за схемой, разработанной А. И. Тереножкиным, инвертиро-
вал временную последовательность типов удил, предложенную
А. А. Иессепом, и рассматривает черногоровские памятники как
предшествующие во времени новочеркасским. Тем самым груп-
па стремечковидных удил разделена им на две разновремен-
ные — черногоровскую и раннескифскую, а между ними оказы-
ваются восьмеркообразные новочеркасские удила. Из этого де-
лается вывод, что, «несмотря на большое сходство между стре-
мечковидными удилами черногоровского времени и скифскими,
выводить форму вторых из формы первых, по-видимому, нель-
зя, поскольку предскифские стремечковидные удила не дожи-
вают до начала скифского периода» [Мурзин, 1984, с. 83].
Аналогичную аргументацию мы уже видели при оценке тем же
исследователем генеалогии раннескифских стрел.
Согласно В. Ю. Мурзину [1984, с. 83]. «процесс формирова-
ния удил со стремечковидными концами проходил в восточных
районах евразийской степи еще в то время, когда на западе —
в степях Северного Причерноморья и Северного Кавказа — бы-
ли распространены двукольчатые удила», а значит, «проникно-
вение стремечковидных удил на территорию Северного Причер-
номорья в скифское время связано... с продвижением в эти
районы собственно скифских элементов, пришедших с востока
в начале VII в. до н. э.». Там же, на востоке, локализуют
В. И. Клочко и В. Ю. Мурзин [1987, с. 17] зону формирования
морфологически сходных со скифскими черногоровских удил, и
это служит в их концепции одним из основных аргументов в
поддержку тезиса о двукратном продвижении центральноазиат-
ских племен в Восточную Европу.
68
Самое любопытное, что, препарировав указанным образом
схему А. А. Иессена, В. 10. Мурзин [1984 с. 83] рассматривает
свое построение как подтверждение его точки зрения. Между
тем, как мы видели, А. А. Иессен допускал участие — и даже
ведущую роль — азиатских племен лишь в первоначальном
создании стремечковидных удил. Поскольку же он не разделял
удила этого типа на две разновременные серии, именно данная
категория служила ему одним из главных оснований для того,
чтобы трактовать «предскифскую» культуру юга Восточной Ев-
ропы как раннюю стадию той самой культуры, которая позже во
вполне сложившемся виде предстает как культура скифов. Ги-
потеза В. И. Клочко и В. 1О. Мурзина в действительности не
подтверждает это мнение, а прямо ему противоположна.
Совершенно аналогично с ситуацией, отмеченной для нако-
нечников стрел и удил, трактует В. Ю. Мурзин ситуацию с пса-
лиями, полагая неинформативным с точки зрения истории их
формирования определенное сходство псалиев черногоровского
этапа (находки в Камышевахе, Малой Цимбалке и др.) с ран-
нескифскпми псалиямп жаботинского типа, .поскольку «в Се-
верном Причерноморье эта линия развития прерывается на
новочеркасском этапе» [Мурзин, 1984, с. 82].
Как уже указывалось, среди категорий раннескифского куль-
турного комплекса, сложившихся на востоке Евразии,
В. И. Клочко и В. Ю. Мурзин называют круглые зеркала с пет-
лей на обороте, а также навершия. Восточное происхождение
зеркал указанного типа признается большинством исследова-
телей [Смирнов, 1964. с. 155; Кузнецова, 1988, с. 11 —12]. Воп-
рос же о месте формирования бронзовых наверншй далеко не
ясен, и в нем следует различать по крайней мере два аспекта —
семантический и морфологический. С известными на востоке
евразийских степей навершиямп — в частности с найденными
в Аржане [Грязнов, 1980, с. 36, рис. 25, 26] —раннескифские
экземпляры связаны по преимуществу функционально-семанти-
чески, причем необходимо иметь в виду, что здесь скорее всего
отражена космологическая концепция, имевшая в архаических
культурах почти универсальное распространение и во многом
сходное материальное выражение [Переводчикова, Раевский,
1981]. Поэтому сам факт существования наверншй в азиатских
степях, даже если признать их некоторое хронологическое
предшествование раннескифским экземплярам, не является ар-
гументом в дискуссии о генезисе последних.
Что же касается морфологии раннескифских наверпшй, то,
не останавливаясь здесь детально на требующем специального
исследования вопросе о ее истоках, обратим внимание на сле-
дующее: такой неотъемлемый элемент абсолютного большин-
ства предметов этой серии, как прорезной бубенец, обнаружива-
ет чрезвычайно многочисленные параллели в переднеазпатских
и закавказских древностях конца II — первых веков I тысяче-
летия до и. э., где к том\г же зачастую сочетается с зооморфпы-
69
ми скульптурными деталями и где параллельно были широко
распространены зооморфные навершпя различных типов [По
гребова, 1984, с. ПО сл.]. Не упреждая выводов будущих иссле-
дований о происхождении скифских наверший, мы, однако, не
считаем возможным игнорировать отчетливо ощущаемою линию
их ближневосточных связей.
Итак, разбор гипотезы о центральноазиатских корнях ран-
нескифского культурного комплекса приводит к следующим
выводам. Прежде всего приходится признать, что в большинстве
случаев мы имеем дело с принципиально новыми типами инвен-
таря либо со столь радикальной переработкой форм предшест-
вующей эпохи, что построение прямых эволюционных рядов
оказывается весьма проблематичным. При этом, если в ряде
слу чаев все же можно предполагать существование в более
раннее время прямых предшественников того или иного типа
предметов, то в условиях их широкого распространения по евра-
зийскому степному поясу на роль прототипов раннескифских
древностей в равной мере могут претендовать и азиатские, и ев-
ропейские памятники, и никаких оснований типологического, а
не умозрительного характера для предпочтения гипотезы об
азиатских корнях соответствующих предметов скифской эпохи
не обнаруживается. С подобной ситуацией мы сталкиваемся при
анализе каменных изваяний, конской сбруи, стрел и т. п.
Любопытно, что совершенно аналогичной предстает выявлен-
ная В. Ю. Мурзиным картина формирования погребальной об-
рядности ранних скифов. Однако признанию, что «генетические
корни раннескифского погребального обряда скрыты в поздней-
шей предскифской культуре Степного Северного Причерно-
морья», препятствует, по его мнению, то обстоятельство, что
«эти же особенности, общие у ранних скифов и позднейшего до-
скифского населения Северного Причерноморья, характерны и
для других кочевых иранцев, обитавших зачастую в районах,
удаленных от Северного Причерноморья на тысячи километров».
Поскольку же этот материал рассматривается в русле гипотезы
о приходе скифов из Центральной Азии, последнего обстоятель-
ства оказывается достаточно для вывода, что «скифский погре-
бальный ритуал VII—V вв. до н. э. является результатом сме-
шения собственного скифского обряда, привнесенного на тер-
риторию Северного Причерноморья в VII в. до н. э., и близко-
го ему обряда местного доскифского населения» [Мурзин, 1984,
с. 62—63], и конкретные доказательства такого привнесения
оказываются как бы излишними. Заметим, впрочем, что в статье
В. И Клочко и В. Ю. Мурзина [1987, с. 15] этот взгляд претер-
пел существенную модификацию: здесь речь идет исключитель-
но о «местных корнях таких элементов скифского погребального
обряда, как катакомбы и гробницы в виде ямы с облицованны-
ми деревом стенками», а в числе принесенных из Азии черт гете
рогенной культуры скифов Причерноморья особенности погре-
бальных сооружений уже не фигурируют вовсе.
70
Все сказанное приводит к вывод}, что многие археологиче-
ские материалы, используемые для обоснования гипотезы о цент-
ральноазиатском происхождении скифов и их кулыуры, под
даются по меныпей мере равноправному альтернативному тол-
кованию— признанию гезиса о сложении соответствующих
типов на восточноевропейской основе. В некоторых же случаях
(акинаки) именно такое альтернативное толкование получает и
более полное типологическое подтверждение. Иными словами,
мы опять сталкиваемся с уже знакомой нам ситуацией, когда
одну из равноправных гипотез предпочитают другой не по соб-
ственно археологическим основаниям, а во имя согласования
рассматриваемых археологических фактов с однозначно трак-
тованной нарративной традицией об азиатских корнях скифско-
го народа. В ряд этих фактов встраиваются среди прочих и ка-
тегории, в самом деле имеющие, очевидно, восточное происхож-
дение (зеркала, каменные блюда). В подобном контексте, т. е.
как дополнительные аргументы, они обладают известной дока-
зательностью. хотя и здесь настораживает широкий географиче-
ский разброс древностей, привлекаемых в качестве «прототи-
пов», отсутствие в пределах азиатских степей четко локализо-
ванной зоны, откуда раннескифские черты могли быть прине-
сены в Европу именно в комплексе. Будучи же лишенными та-
кого контекста (т. е. в случае, когда прочие рассмотренные яв-
ления получают альтернативное объяснение и ориентация на
данные античной традиции отсутствует), подобные факты сами
по себе, на наш взгляд, никак не могут служить достаточным
доказательством реальности скифской миграции из Центральной
Азии. Эти вещи вполне могли появиться в Европе и вследствие
межкультурных контактов.
Наконец, остановимся специально на неоднократно отме-
ченном выше специфическом понимании В. Ю. Мурзиным и
В. И. Клочко истории сложения некоторых элементов ранне-
скифского комплекса. Сами авторы сформулировали эту специ-
фичность следующим образом: с одной стороны, «нетрудно за-
метить, что такие элементы черногоровского комплекса, как на-
конечники стрел, удила и псалии, близки по своим формам
аналогичным категориям скифской материальной культуры и
могли бы послужить основой для формирования последних»
[Клочко, Мурзин, 1987, с. 16]; с другой стороны, препятствием —
причем единственным — для толкования этой близости как
имеющей генетическую природу является хронологический раз-
рыв между черногоровскими и раннескифскими памятниками,
приходящийся на время, когда на юге Восточной Европы, по
мнению этих исследователей, бытовали исключительно древно-
сти новочеркасского типа. Так возникают гипотеза о вторичном
привнесении сюда предметов, сходных с черногоровскими, из
Центральной Азии уже в постновочеркасское время и истолко-
вание именно эюй второй волны как описанной Геродотом ми-
грации скифов.
71
Оставим в стороне чисто хронологический аспект проблемы
соотношения черногоровских и новочеркасских древностей, тре-
бующий специального всестороннего анализа (а вероятно, и на-
копления дополнительных опорных материалов), и подойдем к
ней с иной стороны. В литературе уже не раз высказывались
достаточно весомые сомнения в правомерности той интерпрета-
ции соотношения этих двух групп памятников, которая восходит
к концепции А. И. Тереножкина [1976] и играет столь важную
роль в построениях В. Ю. Мурзина и В. И. Клочко. Так,
А. М. Лесков [1984, с. 150] привел свидетельства того, что «как
на Северном Кавказе, так и в причерноморской степи на каком
то этапе памятники черногоровско-камышевахского и новочер-
касского типов сосуществовали». О. Р. Дубовская [1986] про-
демонстрировала культурную неоднородность совокупности па-
мятников, причисленных А. И. Тереножкиным к новочеркасским,
и усомнилась в «правомерности отнесения группы Новочеркас-
ского клада к кругу степных памятников и закрепления за нею
статуса культуры». Сомнительным представляется ей и само
«существование той культурной и хронологической ,.стерильной
прослойки** в степи, заключающейся в понятиях „культура Но-
вочеркасского клада**, „новочеркасский культурный пласт**,
„новочеркасская ступень** и т. п„ которая отделяет черногоров-
ские памятники от раннескифских в степном Причерноморье»
[Дубовская, 1989, с. 67; курсив наш.— Авт.].
Принципиальная возможность такого толкования археологи-
ческих фактов приводит к выводу, что прямая генетическая
связь между черногоровскими и раннескифскими древностями
отнюдь не исключена [Полин, 1987, с. 20], а это, по существу,
возвращает нас к мнению А. А. Иессена о черногоровском этапе
как о начальной стадии в истории той культуры (точнее, по
предложенной выше терминологии,— того культурного комплек-
са). которая для более позднего времени связывается со скифа-
ми. Оформление этого гетерогенного комплекса как нелестного
явления вполне могло протекать и в южных областях Восточной
Европы—там, где обнаруживаются типологические предшествен-
ники некоторых его составляющих и где достаточно убедительно
прослеживается механизм их сложения В таком случае никаких
свидетельств резкой одномоментной смены культурного облика
этого ареала мы не имеем, а значит, оказываются несостоятель-
ными и традиционные археологические параллели Геродотову
рассказу о приходе скифов сюда из Азии. Мы получаем под-
тверждение правомерности отрицательного ответа на поставлен-
ный выше вопрос: родилась бы гипотеза об азиатской прароди-
не скифов и их культуры на базе чисто археологических данных,
если бы мы не располагали свидетельством античных авторов
на сей счет? Соответственно возникает потребность в иной
этнокультурной интерпретации этого свидетельства, в построе-
нии принципиально иной модели согласования нарративных и
археологических материалов.
72
Но прежде чем предпринять опыт создания такой рекон-
струкции, необходимо проанализировать еше одну серию ар-
хеологических данных. Если все рассмотренные выше материалы
не подтвердили тезиса о принесении культуры скифов в при-
понтийский регион в готовом виде и, скорее, говорят о посте-
пенном ее оформлении на местной основе (с некоторыми внеш-
ними включениями), то одна составляющая этой культуры, бес-
спорно, никак не выводится из предшествующей восточноевро-
пейской традиции. Речь идет о таком выразительном и неотъем-
лемом элементе скифской культуры, как искусство звериного
г'тиля. В самом ли деле невозможность проследить его истоки в
причерноморской культуре первых веков I тысячелетия до н. э.
сама по себе дает достаточно оснований, чтобы вслед за
А. И. Тереножкиным [1976, с. 183], считая искусство одним из
высших проявлений культуры, имеющим решающее значение
при освещении проблемы происхождения скифов, видеть в
судьбах звериного стиля доказательство прихода скифов из глу-
бин Азии? Не предпочтительнее ли принципиально иные объяс-
нения истории названного феномена? Анализу этой проблемы
посвящена следующая глава нашей работы.
Глава II
«КОМПЛЕКС ЗИВИЕ» И ФОРМИРОВАНИЕ
СКИФСКОГО ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ
Большое значение, придаваемое памятникам звериного
стиля сторонниками центральноазиатского происхождения ски-
фов и их культуры, определяется целым рядом моментов. Во-
первых, при современном уровне наших знаний тезис о местных
в Причерноморье корнях скифского анималистического искусст-
ва уже не выдерживает критики. Полный аникоппзм культуры
обитателей этого региона по крайней мере на протяжении сруб-
ной [Формозов, 1969, с. 226; 'IpiaMonoB, 1974, с. 45] и «кимме-
рийской» [Тереножкин, 1976, с. 173 сл.] эпох можно считать до-
казанным. Значит, если не сам звериный стиль, то его истоки
оказываются принесенными в Причерноморье извне, а это хоро-
шо согласуется с пониманием скифов как народа, в этом регио-
не пришлого.
Во-вторых, столь же неоспорима определенная близость зо-
оморфного искусства скифов Причерноморья к искусству оби-
тателей иных частей евразийского степного пояса, в том числе
тех азиатских его областей, где в отличие от юга Восточной
Европы традиция анималистических изображений существовала
еще в доскнфское время — в эпоху бронзы, а кое-где н раньше
|Новгородова, 1980, с. 128—129; 1989, с. 307 сл.].
Наконец, согласно некоторым хронологическим выкладкам
(оспариваемым, впрочем, сторонниками иных систем датиров-
ки), древнейшие памятники уже собственно скифо-сибпрского
звериного стиля в азиатской части степного региона относятся к
несколько более раннему времени, чем самые первые его образ-
цы в Причерноморской Скифии [Тереножкин, 1976. с. 184].
Все эти моменты, взятые в совокупности, достаточно хорошо
накладываются на античную традицию о приходе скифов в При-
черноморье из Азии и часто даже трактуются как прямое архео-
логическое подтверждение достоверности этой традиции: ареал
датируемых ранним временем изделий звериного стиля в ази-
атской части степного пояса рассматривают как искомую пра-
родину скифов, оттуда-то и принесших в Причерноморье свою
культуру и свое искусство.
Что касается всех прочих культурных элементов, то их тол-
кование в подобном ключе, как мы стремились показать в пре-
дыдущей главе, не имеет комплексной аргументации. В отноше-
нии же звериного стиля конкретное наполнение этой схемы
весьма вариативно и со временем существенно изменяется. Так,
71
сразу после исследования раннесакских могильников Тагискен и
Уйгарак в низовьях Сырдарьи С. П. Толстов и М. А. Итина
[1966, с. 174] ставили вопрос, не является ли материал этих мо-
гильников «подтверждением рассказа, излагаемого Геродотом,
прежде всего в той его части, где говорится об азиатской пра-
родине скифов», и были склонны ответить на него положительно.
Правда, тезис о хронологическом предшествовании азиатских
памятников европейским в данном случае остается недоказан-
ным; скорее, они должны рассматриваться как синхронные.
В последующее время широкий резонанс в контексте рас-
сматриваемой проблемы полечил, как известно, комплекс кур-
гана Аржап в Туве. Мы уке указывали на расхождения между
исследователями в его датировке. Тенденция к наиболее ради-
кальном} его удревнению присуща работам А. И. Тереножкина.
Относя этот комплекс к черногоровскому времени (по его хро-
нологии, IX — первая половина VIII в. до н. э.), А. И. Теренож-
кин [1976, с. 184] полагал, что «раскопки Аржана являются
кульминационным пунктом в споре по вопросу о родине скиф-
ского звериного стиля», поскольку дают нам свидетельство
весьма раннего существования этого культурного феномена в
азиатской части степного пояса. В той или иной форме тезис о
центральноазиатских истоках скифского звериного стиля (или
по крайней мере некоторых его мотивов) имеет широкое хожде-
ние в современной западной литературе [Kossack, 1987; Hrouda,
1983, и др.].
Однако те же самые материалы поддаются и иной культур-
но-исторической интерпретации. Начать с того, что степень и
характер сходства между памятниками звериного стиля разных
областей вовсе не бесспорно свидетельствуют об их происхожде-
нии из одного источника. Напомним, что М. II. Грязнов, обо-
сновывая приведенную выше теорию о параллельном формиро-
вании различных культур скифо-сибирского круга на разной
местной основе, в таком ключе трактовал и генезис звериного
стиля. По его мнению, «историю сложения и развития скифо-си-
бирского изобразительного искусства надо, по-видимому, пред-
ставлять не как продукт творчества какой-то одной культурно-
исторической области, одного племени или народа, затем посте-
пенно распространившейся по обширным пространствам степей»
[Грязнов, 19786, с. 231]; соответственно существование этого
искусства в разных частях огромного пространства Евразии не
следует непременно рассматривать как результат миграции его
носителей.
К сожалению, М. П. Грязнов успел детально проанализиро-
вать самобытность локальных вариантов лишь одного из обра-
зов звериного стиля — изображений оленя, что привело к
выводу о независимом его появлении в «собственно Скифии», с
одной стороны, и в азиатской части региона («Саяно-Алтай и
дальше» на восток) — с другой, с последующим вероятным вза-
имодействием различных художественных традиций [Грязной,
75
19786J. В подобном сопоставительном анализе нуждаются и
прочие образы этого искусства, но уже сейчас ясно, что само по
себе существование данного феномена и в Европе и в Азии
нельзя трактовать как неопровержимый аргумент в защиту ази-
атского происхождения скифов и их культуры, ибо звериный
стиль в совокупности всех проявлений характеризует не куль-
туру скифов как конкретного этноса, а ту «скифскую» («скифо-
сибирскую») культуру, котовая, как уже отмечалось выше, со-
ответствует расширительному, иадэтничиому смыслу термина
«скифы» в античной традиции.
При таком понимании теряет решающее значение и хроно-
логический аргумент, ибо в случае автономного формирования
сходных мотивов в разных областях даже более ранняя дата
памятников звериного стиля в одном районе по отношению к
памятникам другого вовсе не характеризует первый как началь-
ный, а второй — как конечный пункт миграции носителей этого
культурного явления. Сохраняет, однако, силу тезис об отсутст-
вии в Причерноморье местных корней звериного стиля, не ис-
ключающий, впрочем, толкований, альтернативных центрально-
азиатской гипотезе происхождения скифов и их культуры.
В этой связи следует вспомнить, что в Восточной Европе наи-
более ранние образцы звериного стиля зачастую сочетаются в
одном комплексе с предметами, выполненными под влиянием
культур древнего Ближнего Востока или имеющими собственно
древневосточное происхождение (Келермес, Мельгуновский кур-
ган, Дарьевка и др.). Воздействие ближневосточных изобрази-
тельных традиции обнаруживается и в некоторых ранних произ-
ведениях самого звериного стиля Причерноморья. Все это в со-
четании с данными об отсутствии изобразительности в культуре
этого региона предшествующего времени привело к формирова-
нию так называемой переднеазиатской теории происхождения
скифского звериного стиля. Согласно ей фигуративное анимали-
стическое искусство возникло в аникопичной до того культуре
скифов под прямым воздействием переднеазиатского искусства,
с которым скифы столкнулись в своих походах в страны Ближ-
него Востока. Правда, сторонники этой теории не вполне едино-
душны в конкретном ее приложении. Так, В. Г. Луконин [1971;
1977а, с. 34] считает возможным говорить о переднеазнатскнх
корнях звериного стиля только европейских скифов, оставляя
открытой проблем}' генезиса восточных вариантов этого искус-
ства, тогда как М. И. Артамонов [1973а, с. 221] возводит к ис-
кусства Передней Азии звериный стиль всего «скифо-сибирского
мира», хотя и предполагает для разных его ветвей различный
процесс становления.
Гипотеза о древневосточных (переднеазиатских) корнях при-
черноморского звериного стиля, о его формировании па ино-
культурной, заимствованной во время скифских походов основе
снимает противоречие между аниконпзмом предскифской при-
черноморской культуры и высокоразвитым анималистическим
76
искусством скифов, не требуя непременно интерпретировать по-
явление последнего как результат миграции «из глубин Азии».
Почему из двух существующих концепций происхождения
скифского звериного стиля — центральноазиатской и передне-
азиатской — мы в дальнейшем уделяем основное внимание имен-
но последней? Из сказанного в предыдущей главе ясно, что ги-
потеза о центральноазиатском генезисе скифов и их культуры,
апеллирующая к истории формирования целого ряда элементов
этой культуры, представляется нам возникшей и развивающейся
вследствие ориентации исследователей преимущественно не на
археологический материал, а на сохраненное античной тради-
цией предание об азиатской прародине скифов и что собственно
археологические аргументы в ее пользу, по нашему мнению,
более чем уязвимы. Однако распространить этот вывод на искус-
ство звериного стиля можно лишь при условии детального осве-
щения механизмов его сложения в духе альтернативной перед
неазиатской гипотезы.
Задача дайной главы нашей работы как раз и состоит в
том, чтобы сопоставить мотивы раннескифского звериного стиля
Восточной Европы с переднеазиатскими анималистическими
изображениями, а также — в определенной степени — с памят-
никами звериного стиля иных областей степного пояся с целью
проверить правомерность гипотезы о формировании звериного
стиля скифов на ближневосточной основе. В разное время ис-
следователи уже предпринимали разыскания в этой области, но
чаще ограничивались изучением отдельных мотивов [Членова,
1962; 1967. с. 110 сл.; Вязьмшпна, 1963; Amandry, 1965, и др.]
или гезнсно сформулированными выводами (см., например,
[Grousset, 1948; Amiet, 1976, с. 103—105, и др.]), не анализирхя
всего репертуара раинескифского изобразительного бестиарь
Между тем, лишь проведя такое исследование, можно делать
какие либо выводы о том, следует ли рассматривать раннескиф-
скпе памятники звериного стиля как свидетельство миграции
скифов из Азии со сложившейся культурой, или же распростра-
нение в Причерноморье звериного стиля есть продукт культур-
но-исторических процессов иного рода и в качестве ключевою
аргумента при этногенетических построениях служить никак не
может.
С каких переднеазиатских памятников наиболее оправданно
и целесообразно начать наш сравнительный анализ? Прежде
всего в этой связи необходимо отметить, что даже напои. ее
ранние произведения звериною стиля из южных областей Во-
сточной Европы демонстрируют уже достаточно сложившийся
специфичный художественный феномен, а не просто перене-ел
ные в инокультурную среду образы древневосточного иску сет1;
Следовательно, даже если признать переднеазиатские корни
этого феномена, следует исходить из того, что где-то происходил
процесс его формирования, оставивший, скорее всего, матери-
альные следы этого промежуточного состояния. Обнаружив та-
77
кие следы, мы полнее могли бы проследить процесс сложения
скифского искусства. Но где их искать?
Наверное, весьма информативными в этом плане могли бы
оказаться комплексы, оставленные в Передней Азии самими
проникшими сюда скифскими воинами, теснее, чем их причер-
номорские соплеменники, связанными с той культурной средой,
в которой формирующееся скифское искусство черпало репер-
туар образов и способы их воплощения. К сожалению, пребыва-
ние скифов в Передней Азии, документированное, как мы виде-
ли, и античной традицией, и восточными текстами, археологи-
чески фиксируется пока что весьма слабо, и комплексы интере-
сующего нас типа известны в крайне малом числе.
В качестве яркого примера можно привести комплекс из
Имирлера в Северной Анатолии [Unal, 1982; Горелик, 1987,
с. 51—52, рис. 2; Kossack, 1987, с. 67, рис. 26], содержащий ти-
пично скифские предметы вооружения и конские удила. В кон-
тексте данной главы специального упоминания заслуживает
представленный здесь элемент, оформленный в зверином стиле:
под бойком биметаллического клевца помещена маленькая го-
ловка хищной птицы — декоративный прием, засвидетельство-
ванный на аналогичных клевцах, найденных в разных частях
Евразии [Пиотровский, 1989, с. 8, рис. 7]. Упомянем также на-
ходки из каменного склепа в Норшунтепе на Верхнем Евфрате,
содержащего конские погребения и ряд вещей скифских типов,
среди которых особо для нас интересны две пронижи в виде го-
ловок рогатых грифонов [Kossack, 1987, с. 63, рис. 23]. Но такие
единичные находки все же мало дают для воссоздания процесса
сложения звериного стиля и для выявления его истоков. Поэтому
приходится уделить главное внимание коллекции, в последние
десятилетия постоянно находящейся в поле зрения исследовате-
лей в связи с проблемой ранней истории скифского искусства и
его происхождения.
Речь идет о так называемом комплексе Зивие. Родство це-
лого ряда представленных на входящих в него предметах изо-
бразительных мотивов с собственно скифскими общепризнано.
Правда, культурно-историческая интерпретация этого родства
разными исследователями различна. Один из первооткрывате-
лей древностей Зивие, А. Годар, видел в них доказательство
переднеазиатского происхождения скифского звериного стиля
[Godard, 1950]. Эту точку зрения активно развивал М. И. Арта-
монов [1968; 1973а, с. 219 сл.]. Как раннюю, предшествующую
засвидетельствованной памятниками Причерноморья, стадию
скифского искусства трактовал изображения из Зивие В. Г Лу-
конин [1977а, с. 20 сл.]. Напротив, Р. Гиршман видел в Зивие
памятник культуры, принесенной скифами на Ближний Восток
из Северного Причерноморья [Ghirshman, 1950]. Эту точку зре-
ния, исходя из принятой рядом исследователей датировки комп-
лекса Зивие рубежом VII—VI вв. до н. э., разделял Б. Н. Гра-
ков, полагавший, что наиболее ранние причерноморские памят-
78
ники звериного стиля ему предшествуют. Соответственно он
считал, что мнение о «тамошнем (переднеазиатском.— Авт.)
исходе-» искусства скифов неприемлемо [Граков, 1971, с. 102].
Некоторые современные исследователи видят в сближаемых со
скифским миром памятниках Зивие сочетание переднеазиат-
ской традиции и элементов, принесенных скифами из Централь-
ной Азии [Hrouda, 1983; Kosaack, 1987, с. 71].
В условиях существования столь принципиальных расхож-
дений нам предстоит рассмотреть вопрос о соотношении собст-
венно скифских памятников и древностей Зивие по возможности
детально. Но сперва о том, что же представляет собой находка
из Зивие и какие предметы она включает.
Как известно, совокупность художественных изделий, вошед-
шая в специальную литературу под названием «комплекс Зи-
вие», или «Саккызский клад», включает большое число разно-
родных по назначению, стилю и культурной принадлежности
предметов, рассредоточенных в настоящее время по разным му-
зеям мира. Ядро этой совокупности составили вещи, обнаружен-
ные в 1946 г. кладоискателями близ селения Зивие в окрестно-
стях города Саккыз в Иранском Курдистане. Эта находка была
опубликована одновременно и независимо А. Годаром [Godard,
1950] и Р. Гиршманом [Ghirshman, 1950]. Впоследствии в каче-
стве составляющих единый с этими предметами комплекс стали
рассматривать также многочисленные изделия, скупленные на
антикварных рынках в смежных регионах и более или менее
близкие стилистически к первоначальным находкам (общий ре-
естр включаемых в «комплекс Зивие» вещей см. [Ghirshman,
1979]).
Предметы, включаемые в этот комплекс — и в его первона-
чальном ограниченном объеме, и с упомянутыми дополнения-
ми,— постоянно привлекают внимание специалистов, поскольку
в их числе имеются чрезвычайно ценные для изучения ряда
проблем культурной истории древнего Востока. Параллельно,
однако, все активнее проявляется тенденция к скептической
опенке этой совокупности как целостного комплекса. Противо-
речивый характер сведений об обстоятельствах обнархжег. я
даже первичной находки, а тем более многих вещей, причис-
ленных к «кладу Зивие» позже, породил критическое отношение
к его историко-культурной информативности (историю вопроса
см. [Дандамаев, Луконин, 1980, с. 90 сл.; Луконин, 1987а, с. 69
сл.]). Поэтому, обращаясь в контексте данной работы к рас-
сматриваемой совокупности, мы по необходимости должны ос
таловиться на вопросе о ее составе и природе, по-разному трак-
туемом в литературе, а также сформулировать свое отношение к
упомянутой критической ее оценке.
Ряд исследователей настойчиво отстаивают мнение о целост-
ном характере коллекции Зивие, т. е. о принадлежности всех
включаемых в нее вещей (может быть, за вычетом единичных
предметов) к одному археологическому' комплексу, видя в нем
79
либо сокрытый в минуту военной опасности клад [Godard,
1950], либо инвентарь богатого погребения [Ghrishman, 1979;
Артамонов, 1973а, с. 219; Ильинская, 1971а, с. 64]. Те, кто при-
нимает последнюю трактовку, даже делают иногда попытки,
опираясь на дату вещей, локализацию места находки и ее со-
став, идентифицировать личность погребенного здесь вождя;
так, по мнению Р. Гиршмана, погребение в Зивие принадлежит
Мадию-—вождю вторгшихся в Переднюю Азию скифов (ср. He-
rod., I, 103).
При более критичном подходе предполагается сборный ха-
рактер рассматриваемой совокупности, но расшифровывается
это понимание по-разному. Можно, даже допуская, что некото-
рые включаемые в эту совокупность вещи не принадлежат к
комплексу-ядру, связывать их происхождение с культурным сло-
ем той же древней крепости, на территории которой обнаружена
основная находка—клад или погребение [Луконин, 1977а,
с. 18]. Или же, ставя под сомнение само существование комп-
лекса-ядра, можно полагать, что все включаемые в рассматри-
ваемую совокупность предметы найдены не вместе, а на доста-
точно обширной территории; это, однако, не исключает их боль-
шей или меньшей однородности в культурно-историческом отно-
шении [Луконин, 1987а, с. 72]. Наконец, существует точка зре-
ния, что некоторые из причисляемых к «комплексу Зивие» ве-
щей — вообще современные подделки, а остальные представля-
ют случайный набор исторически и культурно не связанных
между собою предметов, а потому ценность их именно как сово-
купности практически равна нулю. В последние годы такой уль-
тракритический подход в ряде своих работ последовательно де-
монстрирует О. Маскарелла [Muscarella, 1977; см. также Шер,
1980а, с. 340; Hrouda, 1983, с. 104].
Как влияют эти разногласия на возможность привлечения
коллекции Зивие к решению проблем, интересующих нас в дан-
ной работе?
Для начала необходимо одно уточнение. Рассматриваемая
совокупность в самом деле включает, как известно, предметы
различной культурной принадлежности. Так, среди них выде-
ляют вещи, выполненные в ассирийской, урартской и иных худо-
жественных традициях. Для некоторых исследователей именно
эта разнородность служит одним из оснований оценки «комп-
лекса Зивие» как случайного набора предметов, тогда как дру-
гие ищут объяснение ей в реальной исторической ситуации, т. е.
используют эту разнородность как важный штрих при культур-
но-исторической интерпретации комплекса. Вопрос о действи-
тельном объеме каждой из отмеченных самобытных серий и о
подлинности включаемых в нее предметов должен решаться от-
дельно на основе всестороннего анализа всех причисляемых к
этой серии вещей, что ни в коей мере не входит в нашу задачу.
Нас в данной работе интересует лишь одна из таких серий — те
относимые к «комплексу Зивие» древности, в декоре которых
80
имеются изображения, обычно характеризуемые как «скифские
элементы Зивие».
Достаточно самобытные по отношению ко всем иным пред-
ставленным на вещах этой коллекции изобразительным моти-
вам, подобные декоративные элементы в самом деле близки к
образам скифского искусства Восточной Европы и, как уже ска-
зано, неоднократно анализировались в связи с изучением его
истории, в частности, в контексте проблемы его происхождения
(см. работы А. Годара, Р. Гиршмана, Б. Б. Пиотровского,
М. И. Артамонова, В. Г. Луконина и др.). При этом необходимо
отметить, что скептицизм, проявляемый в последнее время в
отношении «комплекса Зивие», в наименьшей мере коснулся как
раз этой серии: подлинность входящих в нее предметов не под-
вергается сомнению даже при самой критической оценке рас-
сматриваемой совокупности. К тому же совершенно очевидно,
что в момент появления древностей Зивие в поле зрения исто-
рической науки фальсификаторы не имели ни малейших осно-
ваний выбрасывать на антикварный рынок предметы, выпол-
ненные именно в «скифском» стиле. Стимул к этому мог по-
явиться лишь после возникновения проблемы «скифского Зи-
вие» и вызванного этим оживления интереса к археологическим
следам пребывания скифов в Передней Азии. Поэтому мы впра-
ве не останавливаться более подробно на вопросе о наличии
подделок в составе «Саккызского клада».
В значительно большей степени связан с нашей темой воп-
рос о путях формирования коллекции Зивие, т. е. о возможно-
сти толкования ее как целостного археологического комплекса,
а в случае признания ее таковым — о характере этого комплек-
са. По нашему убеждению, степень документированности исто-
рии обнаружения предметов, включаемых в исследуемую сово-
купность, такова, что однозначно ответить на эти вопросы по-
просту невозможно. Правда, определенную роль здесь могут
сыграть косвенные данные. Так, детальный анализ всей сово-
купности в дальнейшем, очевидно, укажет, правомерно ли трак-
товать даже разнородные на первый взгляд по культур но-исто-
рической принадлежности вещи Зивие как характеризующиеся
известным стилистическим единством. Мнение о том, что эти
вещи отражают сложение некоей культурной общности, исполь-
зовавшей изобразительные языки разных традиций, было вы-
сказано Б. Б. Пиотровским [1954] и В. Г. Лукониным [1987а,
с. 71—72]. Впрочем, и в случае, если эта гипотеза подтвердится,
у нас не появится оснований решить, какому толкованию кол-
лекции Зивие отдать предпочтение: видеть ли в ней целостный
археологический комплекс (клад или инвентарь погребения)
либо комплекс культурно-исторический, т. е. совокупность ве-
щей, происходящих из разных археологических комплексов, но
вместе демонстрирующих достоверный срез культурной ситуа-
ции, существовавшей на определенной территории в определен-
ный исторический момент
6 Зав. ЗЮ
81
Но если даже отказаться от мысли о таком стилистическом
единстве разных представленных в коллекции Зивие предметов,
это само по себе не исключает их принадлежности к одному ар-
хеологическому комплексу: ведь в составе инвентаря погребе-
ния военного вождя, как и в сокрытом им кладе, могли отло-
житься результаты грабительских набегов какой-то воинствен-
ной группы на разнокультурные территории. Историческая си-
туация в регионе вполне допускает такое предположение. Столь
же вероятно, что подобная военная активность такой группы
опредетила облик не одного, а целого ряда однотипных архе-
ологических комплексов, предметы из которых составили обо-
значаемую именем Зивие единую коллекцию лишь в процессе
современной собирательской деятельности. Наконец, нельзя ис-
ключить (хотя это и представляется нам достаточно маловеро-
ятным), что коллекция Зивие как совокупность сложилась по
преимуществу или даже исключительно в результате именно со-
временного собирательства, объеп шила вещи из разных обла-
стей и из совершенно несходных комплексов и, таким образом,
ее суммарный облик практически не отражает какой бы то ни
было исторической реальности. Иными словами, вопрос о при-
роде «комплекса Зивие» допускает множество решений, пред-
почесть какое-либо из них мы не имеем оснований и вряд ли
когда-нибудь их обретем.
Все эти варианты интерпретации относятся, однако, к «комп-
лексу Зивие» в целом. Что же касается упомянутых выше скиф-
ских черт декора некоторых включаемых в него предметов, то
они, во-первых, вне всякого сомнения демонстрируют значитель-
ное стилистическое единство, а во-вторых, представлены на ве-
щах, в любом случае происходящих с достаточно ограниченной
территории Северо-Западного Ирана. Это определяет, на наш
взгляд, абсолютную правомерность использования в дальней-
шем понятии «скифский пласт Зивие», «скифское Зивие» для
обозначения вполне специфичного культурно-исторического яв-
ления вне зависимости от того, признавать или не признавать
принадлежность всех вещей этой группы к собственно «Саккыз-
скому кладу» и даже само существование этого «клада» как це-
лостного археологического комплекса. Тем более несущественно
в этом контексте, является ли комплекс Зивие, бу де такой суще-
ствовал. кладом или погребением, а в последнем случае — пред-
ставителю какой этнической группы (скифов, мп тян пли кого-
либо еще) это погребение приписать (см. об этом [Луконин,
1987а, с. 75]). Анализ такого вопроса — следующий за интере-
сующим нас уровень исторической интерпретации коллекции
Зивие, к тому же, по нашему мнению, недостаточно обеспечен-
ный необходимыми для его реализации данными.
Обратимся к вопросу о хронологии скифского пласта Зивие.
При ее определении обычно исходят из датировки всей совокуп-
ности предметов, причисляемых к «Саккызскому' кладу», а так-
же из особенностей той исторической ситуации, которая, по мне-
82
нию исследователей, обусловила выпадение столь специфичного
по составу комплекса. Отказываясь от постулата о безусловной
связи принципов толкования интересующего нас культурно-ис-
торического явления с признанием или отрицанием существова-
ния «Саккызского клада» как целостного археологического
комплекса, мы вынуждены подойти к проблеме хронологии с
несколько иных методических позиций.
После длительных дискуссий дата «комплекса Зивие» в це-
лом была определена как VII в. до н. э. [Ghirshman, 1964; 1979;
Луконин, 1977а, с. 19 сл.; 1987а, с. 71 сл.]. Вычленяя из назван-
ного гипотетического комплекса интересующий нас скифский
пласт, мы оказываемся перед особой археологической задачей —
ищем не дату выпадения одного конкретного комплекса, а об-
щие хронологические рамки существования на определенной
территории определенного культурно-исторического явления.
Тем самым прежде всего сводится на нет корректирующее влия-
ние на процедуру датировки такого приема, как соотнесение
единичного археологического факта (комплекса) и единичного
же исторического события,— например, смерти того вождя, ко-
торому приписывают погребение в Зивие.
Вместе с тем источниковедческая база для определения хро-
нологии скифского пласта Зивие оказывается, естественно, не-
сколько скуднее той, на которой строится датировка совокуп-
ности в целом. Если в последнем случае аргументом является
хорошо датированная аналогия любому причисляемому к кол-
лекции Зивие предмету или мотиву его декора, то для нас ин-
формативными оказываются аналогии только тем вещам, в ор-
наментации которых представлены мотивы скифского типа, а
также тем древневосточным образам, которые сочетаются со
скифскими в декоре одного предмета.
Один из аспектов проблемы такого подбора аналогий вещам
из коллекции Зивие с целью выяснения их хронологии требует
в контексте нашей темы специального внимания. Речь идет о
правомерности сопоставлений с собственно скифскими памят-
никами. В процедуре определения даты материалов Зивие та-
кие сопоставления играют обычно весьма важную роль. Доста-
точно напомнить замечание В. Г. Луконина [1987а, с. 235—236],
что «памятники Зивие датируют VII в. до н. э. только потому,
что часть изображений близка к Келермесу, или по историче-
ской интерпретации», тогда как собственно древневосточные
хронологические реперы (к тому же не слишком многочислен-
ные) указывают на VIII — начало VII в. до н. э., скорее на ру-
беж названных столетий.
Конечно, учитывать скифские аналогии в качестве общих
хронологических ориентиров при интерпретации материалов
Зивие необходимо. Но абсолютизировать значение этих ориен-
тиров не приходится хотя бы потому, что сама хронология ке-
лермесской стадии в истории скифской культуры составляет
предмет дискуссий. Если еще недавно в литературе было при-
6*
83
нято, опираясь на исследования М. И. Максимовой [1954;
1956], относить собственно келермесские находки к рубежу
VII—VI или к началу VI в. до и. э. [Граков. 1971, с. 116], то в
последние годы ощутима тенденция к удревнению их даты: ру-
беж VII—VI вв. признается в крайнем случае верхним пределом
келермесской стадии [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 66—67],
а саму эту стадию все активнее перемещают в VII в. до и. э.
[Галанина, 1983, с. 53; Kossack, 1987; Медведская, 1989]. Кроме
того, как отмечалось выше, само соотношение раннескифских
памятников звериного стиля и скифского пласта Зивие, место
этого последнего в эволюционном ряду раннескифского искус-
ства еще только подлежат выяснению. Суть стоящей перед
нами проблемы как раз и заключается в том, чтобы опреде-
лить, представляет ли скифский пласт Зивие начальную стадию
формирования на древневосточной основе анималистического
искусства скифов, перенесенного затем в области к северу' от
Кавказа, или же он демонстрирует вторичную модификацию
под влиянием искусства Передней Азии исконно скифских моти-
вов, сложившихся еще до появления скифов па Бчпжнем Во-
стоке. Использовать при решении этого вопроса соотношение
хронологии собственно скифских древностей и даты Зивие, если
эта последняя в значительной мере сама получена путем сра-
внения с раниескифскимн памятниками юга Восточной Евро-
пы,— значит замыкать исследовательскую процедуру' в пороч-
ном круге.
Наконец, следует отмстить, что, если речь идет не о «ком-
плексе Зивпе'> как о совокупности, сложившейся в результате
одноразового деяния (сокрытия кла ,а пли совершения захоро-
нения), а о скифском пласте Зивие как о культурно-историче-
ском явлении, существовавшем па протяжении известного вре-
менного промежутка, то выяснению при сопоставлении древно-
стей Зивие и раннескифскпх памятников подлежит не то, какой
из них предшествует другому па абсолютной хронологической
шкале, а то, какой является типологическим предшественником.
Установить это можно лишь путем детального стилистического
сопоставления памятников скифского пласта Зивие с памятни-
ками собственно скифской архаики, с одной стороны, с худо-
жественными традициями древнего Востока — с другой, т. е.
путем выявления тенденций, доминировавших в процессе фор-
мирования данного культурного феномена, существовавшего на
определенной территории в определенный период, а также пу-
тем уяснения механизмов этого формирования. Обращаться к
вопросам относительной и абсолютной хронологии как скиф-
ского пласта Зивие в целом, так и отдельных принадлежа-
щих к нему древностей целесообразно лишь после осуществле-
ния такого анализа.
Исследователи в разное время опубликовали несколько ва-
риантов перечня предметов, входящих в состав коллекции Зи-
вие. Наиболее поздний по времени публикации реестр такого
84
рода составлен Р. Гиршманом [Ghirshman, 1979, с. 18—25].
Ниже предлагается каталог тех вещей из этой коллекции, кото-
рые могут рассматриваться как принадлежащие к ее скифско-
му пласту. В него включены предметы, в декоре которых об-
наруживаются мотивы, близкие к скифскому звериному стилю,
вне зависимости от того, к какой культурной традиции относят
сам указанный предмет. Не включены в этот реестр некоторые
объекты, зооморфный декор которых традиционно оценивают
как не имеющий отношения к скифскому звериному стилю, хотя,
как будет показано ниже, культурно-историческая интерпрета-
ция этого декора может быть и иной. Описание ограничивается
общими данными о представленных на предмете зооморфных
мотивах. Подробный анализ декора в целом и сведения о техни-
ке пзготовле шя веши не приводятся. Сопровождающие каждую
позицию каталога библиографические ссылки отнюдь не явтя
ются исчерпывающими, ио обязательно включают первую пу-
бликацию описываемого предмета и издание, где дается наибо-
лее отчетливое его описание и воспроизведение.
Итак, обратимся к перечню.
1. Золотая пектораль. Хранится в Тегеранском му-
зее [Godard, 1950, рис. 10, 17, 23, 24, 33 и др.; Ghirshman, 1950,
рис. 14; 1964, рис. 137]. Принадлежность этого предмета типо-
логически к ассиро-урартской (преимущественно урартской)
культурной традиции не вызывает сомнении (см. [Ghirshman,
1979, с. 14—17 и др.]), как и наличие черт ассирийского, урарт-
ского, финикийского, эламского искусства в его декоре (см. об
этом [Godard, 1950; Ghirshman, 1950; Пиотровский, 1954; Ghi-
rshman, 1964. с. 104; Л} конин, 1977а, с. 20—21, и др.]. Уже от-
мечалось также, что весь набор образов на пекторали и их про-
извольное по сравнению с древневосточным композиционным
каноном взаиморасположение свидетельствуют что декор пек-
тора ти представляет собой воспроизведение инокультурным ма-
стером различных по происхождению древневосточных изобра-
жений, к тому же не всегда правильно понятых [Пиотровский,
1954, с. 153].
Для нас представляют интерес сразу же обратившие на себя
внимание исследователей размещенные на концах обоих реги-
стров, на которые расчленен декор пекторали, фигуры зайца и
припавшего на лапы хищника — мотивы, обычные в репертуаре
скифского звериного стиля. Упомянутые фигуры хищника сбли-
жаются со скифским искусством п художественной трактовкой.
В. Г. Луконин [1977а, с. 25] характеризовал это изображение
как скифский образ в урартском воплощении. По Р. Гиршм шу
[Ghirshman, 1979, с. 17], пектораль в целом представляет со-
бой изделие урартского мастера, изготовленное для скифского
клиента и с учетом его запросов. Б. Б. Пиотровский [1962
с. 80] отмечал сходство урартской по своему характеру трак-
товки священного дерева на пекторали, с одной стороны, и на
скифских мечах из Келермеса и Мельгуповского кургана — с
85
другой. В этой же связи нужно отметить одинаковое положе че
фигур зайца и хищника в обоих регистрах — по краям компо-
зиции, сопоставимое с аналогичным размещением сцены пресле-
дования зайца собакой на значительно более поздних пектора-
лях из северопричерноморских курганов Толстая Могила и
Большая Близница [Раевский, 1985, с. 230].
2. С е р е б р я и ы й д и с к (блюд о?) с золотой аппликаци-
ей Хранится в Тегеранском музее [Ghirshman. 1950. рис. 11;
1964, с. 109, рис. 142, и др.]. В том же собрании имеется не-
сколько золотых фигурных пластинок, идентичных аппликациям
на диске [Ghirshman, 1979, табл. III, 4]. Аналогичная золотая
фигурка хранится и в Денверском музее искусств [ASA, 1970,
с. 53, № 17, рис. на с 39]. Декор диска, состоящий из золотых
накладок, включает многократно повторенные изображения
припавшего па лапы хищника, готовки хищной птицы, фигуры
бегущего зайца и пальметты, размещенные концентрическими
рядами вокруг центральной розетки. Из перечисленных мотивов
все зооморфные несомненно близки к скифской художественной
традиции. Б. Б. Пиотровский [1954, с. 155] сопоставлял изобра-
жения пантеры на диске с аналогичным мотивом на ручке ке-
лермесской секиры. Что касается общей концентрической ком-
позиции, то она скорее связана с переднеазиатским искусством.
Р. Гиршман сравнивал подобную организацию декора с прин-
ципом убранства известных урартских щитов. По его же ут-
верждению, и на диске, и на золотых аппликациях выгравиро-
ваны знаки, отмечающие место каждой накладки, причем мож-
но предполагать связь этих знаков с «урартской пиктографи-
ческой письменностью» [Ghirshman, 1979, с. 18—19] '. Розетку в
центре диска В. Г. Луконин [1977а, с. 24] считал ассирийской,
а Р. Гиршман приводил ей лмристанские параллели [Ghirshman,
1979, с. 19].
3. Фрагменты золотого пояса с фигурами оленей и
козлов, помещенными в ромбовидные ячейки, образованные ус-
ловно трактованными растительными побегами. В первичных
публикациях было представлено лишь несколько фрагментов
из собрания Тегеранского музея [Godard, 1950, рис 48а;
Ghirshman, 1950, рис. 8], причем А. Годар интерпретировал их
как детали обивки деревянного сундука. Позднее Р. Гиршман,
определивший истинное назначение предмета, опубликовал еше
несколько его фрагментов, хранящихся в том же музее, рекон-
струировав, таким образом, большую часть пояса [Ghirshman,
1964, рис. 143]. Фрагмент того же или идентичного пояса хра-
нится в музее Метрополитен [Луконин, 1977а, с. 51] 2. Урарт-
ский характер пояса и общих принципов его орнаментации — в
частности, деления поля на образованные пересекающимися по-
бегами ромбовидные ячейки — не вызывает сомнений [Пиотров-
ский, 1954, с. 151 —153; Ghirshman, 1964, с. 110; 1979, с. 11;
Луконин, 1977а, с. 51, и др.]; некоторое отличие состоит лишь
в помещении в местах пересечения побегов львиных масок еп
86
fa'-e. Столь же бесспорна связь фигур оленей и козлов с поджа-
тыми ногами со скифской художественной традицией.
4. Три золотые бляшки в виде козла с поджатыми но-
гами. Хранятся в Тегеранском музее [Godard, 1950, рис. 39;
Ghirshman, 1979, табл. III, 5]. Поза животного обычна для
скифского искусства.
5. Два фрагмента золотых лент (диадем): один — из
собрания Тегеранского музея [Godard, 1950, рис. 29], другой
хранится в одном из музеев Филадельфии [Ghirshman, 1964,
рис. 386]. Декор обоих фрагментов имеет одинаковую компози-
цию: идущая вдоль ленты выпуклая полоса разделяет ее на два
регистра; в каждом помещена фигура припавшего на лапы
хищника, за которой следует цепочка из головок хищной пти-
цы. Фрагменты несколько различаются лишь деталями позы
хищника. Оба представленных мотива обычны в анималистиче-
ском искусстве скифов.
6. Фрагмент золотой ленты (диадемы) из частного
собрания в Нью-Йорке [Ghirshman, 1964, рис. 147; Amandry,
1966, с. 119, табл. 5, а, 6]. Набор зооморфных образов иденти-
чен представленному на предыдущих фрагментах, но компози-
ция принципиально отлична: в поле ленты размещены отдель-
ные обращенные головами в противоположные стороны фигуры
хищников со «свисающими» лапами, а вдоль обоих краев ленты
помещены выступающие за ее поле геральдические пары голов
хищных птиц.
7. Золотая бутероль. Хранится в Тегеранском музее
[Ghirshman, 1950, рис. 7; 1964, рис. 157]. Декор представляет
схематичное изображение двух противостоящих хищников3,
приемы стилизации которых находят аналогии в скифском зве-
рином стиче, о чем подробно речь пойдет ниже.
8. Золотое и а в е р ш и е или бляха в виде диска с изо-
бражением свернувшегося в кольцо хищника. Собрание
Э. Эриксона, Нью-Йорк [Ghirshman, 1964, рис. 158]. Обычно
этот предмет привлекают как наиболее выразительный скиф-
ский памятник в составе коллекции Зивие. Полностью согла-
шаясь с тезисом о типично скифской иконографии этого образа,
мы тем не менее в дальнейшем постараемся обосновать исклю-
чение этого предмета из скифского пласта коллекции Зивие в
сформулированном выше значении этого понятия.
9. Ручка глиняного сосуда в виде хищника с подогну-
тыми ногами. Тегеран, частная коллекция [Ghirshman, 1964,
рис. 172, с. 123]. Несмотря на обособленное положение этого
керамического фрагмента среди драгоценных изделий, состав-
ляющих «клад Зивие», Р. Гиршман относил его к первичному
ядру коллекции. Поза зверя и трактовка деталей фигуры сопо-
ставимы со скифским искусством.
10. Ручка глиняного сосуда в виде геральдической
пары хищников с поджатыми ногами, подобных описанному под
№ 9. Демонстрировалась в музее Пран Бостан на выставке
87
материалов из раскопок в Иране в 1976—1977 гг как находка
из Зивие [Exposition, 1977, № 342] Ручки, подобные этой и
предыдущей, Р. Гиршман характеризовал как принадлежащие
урартским сосудам [Ghirshman, 1979, с. 14]
11. Фрагмент бронзового пса л и я, по-видимому, трех-
петельчатого, верхний конец которого оформлен в виде головки
хищной птицы. Нынешнее местонахождение в публикациях не
указано [Godard, 1950, рис. 46; Ghirshman. 1961, № 583]. В
окончательную сводку материалов Зивие, опубликованную
Р. Гиршманом [Ghirshman, 1979], этот псалий по неизвестным
нам причинам не включен. Как форма псалия, так и зооморф-
ный мотив его декора указывают на связь предмета со скиф-
ской культурой.
12. Костяной трехдырчатый уплощенный пса-
л и й; верхний конец оформлен в виде головы «рогатого хищни-
ка», нижний — в виде копыта. Хранится в музее Метрополитен.
Происходит из Северного Ирана [Porada, 1965, рис. 73; ASA,
1970, с. 53, № 18, рис. на с. 39] и в ряде публикаций предполо-
житель'ю причисляется к коллекции Зивие (см., например,
[Kossack, 1987, рис. 10, 1, и др.]). Однако в суммарную сводку
Р. Гиршмана [Ghirshman, 1979] не включен. По форме и деко-
ру — типичный образец скифских архаических псалиев.
13. Золотая пластина, сплошь покрытая изображения-
ми голов сайгака en face. Тегеранский музей [Godard, 1950,
рис. 44; Ghirshman, 1950, рис. 6; Ghirshman, 1964, рис. 156,
с. 116]. Согласно Р. Гиршману, пластина служила обкладкой
ножен акинака. Принадлежность этого предмета к скифскому
пласту Зивие вызывает сомнения ввиду стилистических особен-
ностей декора (см. ниже).
Исходя из сформулированного выше понимания скифского
пласта Зивие как феномена, связанного не столько с одним па-
мятником, сколько с определенной территорией, в наш реестр
следует вктючпть и еще один предмет из Северо-Западного
Ирана.
14. Фрагмент костяного псалия с головкой рогатого
животного («грифо-барана»). Найден в Хасанлу IV (III?)
[Dyson, 1965, с. 211; Курочкин, 1982, рис. 1]. Форма и декор
предмета, несомненно, демонстрируют его связь со скифской
традицией.
Даже при беглом знакомстве с перечисленными вещами за-
метно, что все они характеризуются определенным стилистиче-
ским единством трактовки зооморфных образов и в то же вре-
мя демонстрируют безусловное родство с анималистическими
образами скифской архаики. По существу, каждому из упомя-
нутых в нашем обзоре мотивов обнаруживаются аналогии в
раннескпфских комплексах. Но такая констатация не обеспе-
чивает понимания сути культурно-исторических взаимоотноше-
ний скифской архаики со скифским пластом Зивие и места по-
следнего в истории сложения скифского искусства. Поэтому
88
Рис I Изображения хищников иа предметах из коллекции Зивие (а — пекто-
раль, б — серебряный диск, в, г — диадемы; д, в — ручки керамических сосу-
дов. ж — бутероль)
следует предпринять детальный сопоставительный анализ раз-
личных реализаций к а ж того из зооморфных мотивов, представ-
ленных на перечисленных вещах, для выяснения истории его
формирования и эволюции4.
Начнем с рассмотрения образа, наиболее популярного в
скифском пласте Зивие,— с изображения хищника, обычно оп-
ределяемого как зверь семейства кошачьих, хотя в действитель-
ности видовая принадлежность животного в этих памятниках
обозначена достаточно условно По существ), речь может ве-
стись о «хищнике вообще-»
Мы видели этого зверя на пекторали, на фрагментах всех
золотых диадем, на серебряном диске, на бутероли, на ручках
глиняных сосудов, на бляхе-навершии, т. е. на большинстве
включенных в предложенный реестр вещей. Отметим, что во
всех случаях, когда рассматриваемый образ представлен в де-
коре предмета не одиночно, а в сочетании с иными зооморфны-
ми персонажами, к числу этих его спутников обязательно при-
надлежат животные, также обычные в репертуаре скифского
изобразительного бестиария,— зайцы или хищные птицы. Ка-
ковы же особенности трактовки хищника в скифском пласте
Знвие?
Вне зависимости от позы зверя, о чем речь пойдет далее, и
даже от материала предмета (металл, глина), во всех случаях
в основном одинаковы принципы стилизации деталей изображе-
ния (рис. 1). Все изображения — профильные, четко выделяется
большое, торчащее вверх ухо сердцевидной формы; глаз —
круглый, непропорционально большой, обозначенный рельеф-
ным кольцом (иногда с полусферическим выступом в центре)
89
или двумя концентрическими кольцами; пасть, чаще всего от-
крытая, передана V-образной изогнутой линией, концы которой
иногда образуют петли, обозначающие ноздрю и подбородочный
выступ. В некоторых случаях (ручки глиняных сосудов — рис 1,
д. е) эти петли фактически отделяются от изображения пасти,
выступая как автономные элементы. На пекторали (рис. 1, и)
изображение пасти зверя дополнено еще одним элементом —
острым выступающим языком. В двух случаях пасть изображе-
на закрытой (рис. 1, б, в).
Лопатка зверя подчеркнута миндалевидной фигурой, иног-
да — с двойным внешним контуром. Менее четко выделено бед-
ро. Концы лап и длинного хвоста всегда завернуты в завиток-
петлю.
Перечисленные признаки — общие для всех изображений
хищников в скифском пласте Зивие. Стабильность и осознан-
ный характер указанных приемов стилизации становятся осо-
бенно очевидны при обращении к изображению на золотой буте-
роли (рис. 1, ж). Здесь, по существу, отсутствует целостное изо-
бражение фигуры зверя, оно заменено дважды повторенным —
в соответствии с геральдической композицией — набором на-
званных элементов, причем каждый элемент представлен как
бы отдельно. Эта-то предельная степень стилизации и обусло-
вила первоначальное непонимание исследователями представ-
ленного здесь мотива, о чем говорилось ранее. Но для самих
носителей рассматриваемой художественной традиции такая ме-
ра стилизации не служила препятствием простому опознанию
воплощенного образа, поскольку набор составляющих его эле-
ментов оставался вполне стабильным.
При всем единстве приемов стилизации, характеризующем
рассматриваемую серию изображений, нельзя сказать, что все
они совершенно однотипны. Пожалуй, наиболее сильно выде-
ляется изображение хищников на пекторали: разделанностью
поверхности туловища, наличием дополнительных выгравиро-
ванных элементов, штриховкой, обозначающей гриву, как и
штрихованной двойной полоской «воротничка», они ближе дру-
гих к традиционным древневосточным, в частности урартским,
львам, что следует соотнести с урартским характером и иных
представленных на пекторали зооморфных изображений К ура-
ртским по облику чертам изображений «пантеры» на пекторали
В. Г. Луконин [1977а, с. 25] относил и несколько необычную
для скифских зверей Зивие трактовку ее пасти.
Особенно радикально отличается от всех перечисленных и о-
бражений хищника — не по позе, о которой мы подробно ска-
жем ниже, а по приемам стилизации — знаменитый свернув-
шийся зверь на золотой бляхе-навершии (рис. 6, а). С рас-
смотренными изображениями его сближают, пожал/й, лишь
сердцевидное ухо и V-образная линия, образующая пасть и
ноздрю (впрочем, и ее отличает необычная для стиля Зивие
асимметричность — разная длина верхней и нижней частей).
90
Все прочие детали — не округлый, а овальный, с заостренными
уголками, глаз, наличие спирали на основании нижней челюсти,
достаточно реалистичное изображение мускулатуры лап, отсут-
ствие завитков-петель на стопах и кончике хвоста, помещение
на лопатке дополнительного изображения головки птицы и, на-
конец, наличие рубчатой гривы — позволяют обособить эту фи-
гуру от остальных хищников «скифского Зивие». О ближайших
аналогиях ей и соответственно о причинах ее несходства с дру-
гими памятниками рассматриваемой серии мы подробно скажем
да iee.
Обратимся к позе зверя, определенная — не слишком значи-
тельная — вариативность которой проявляется лишь в степени
согнутости туловища (оно или вовсе вытянуто, или слегка со-
гнуто) и в положении лап, либо свободно свисающих под углом
к оси корпуса, либо поджатых настолько, что располагаются
параллельно этой оси. В последнем случае стопа задней лапы
примыкает к коленному составу передней и обе ноги образуют
прямую линию, если тело зверя вытянуто, и дугу или угол, если
его спина выгнута. Именно тенденция к сгибанию туловища
зверя и к соответствующему смещению лап в корне отличает
изображение хищника в «скифском Зивие» от воплощений ле-
жащего зверя в художественных традициях древнего Востока.
Как справедливо отметил В. Г. Луконин [1977а, с. 25], подоб-
ные изображения из Зивие, взятые в совокупности, демонстри-
руют последовательные стадии сложения принципиально новой
изобразительной схемы — хищника, свернувшегося в кольцо.
Мотив этот хорошо известен в искусстве скифов и других на-
родов евразийских степей. Представлен он и в самом Зивие—
только что упомянутым изображением на золотой бляхе-навер-
шии, хотя, как уже указано, принципиальное отличие способов
стилизации, присущих этому памятнику, заставляет нас исклю-
чить его из такой эволюционной цепи.
Вряд ли есть необходимость напоминать, что так называе-
мый кошачий хищник — один из основных образов репертуара
скифского звериного стиля, и потому обилие изображений по-
добных животных в «скифском Зивие», естественно, является
одним из оснований для сближения этого последнего с искусст-
вом европейских скифов. Однако вопрос о характере соотноше-
ния его воплощений в названных сопоставляемых сериях не
имеет однозначного решения. Так, существует мнение о форми-
ровании этого образа в скифской культуре без какого бы го
ни было воздействия со стороны искусства древнего Востока
[Barnett, 1962, с. 80; Ильинская, 1971а, с. 77]. По утверждению
В. А. Ильинской, даже изображения хищников из Зивие, гораз-
до более близкие к древневосточной изобразительной манере,
чем собственно скифские, «оказываются чуждыми древневосточ-
ному миру». Со своей стороны, М. И. Артамонов, к примеру, на-
стаивал на иранском происхождении этого образа в скифском
искусстве, считая именно изображения из Зивие его прямыми
91
предшественниками [Артамонов, 1968, с. 33—34]. Н. Л. Члено-
ва [1967, с. 126 сл.] ищет истоки этого образа в древней перед-
иеазиатской глиптике.
Ряд исследователей указывает на аналогии этому образу в
луристанских бронзах [Godard, 1950; Amiet, 1974; Луконин,
1977а, с. 25]. В. Г. Луконин к тому же подчеркивал то обстоя-
тельство, что именно в искусстве Зивие прослеживается ряд по-
следовательных стадий становления известного нам в скифском
искусстве иконографического канона, тогда как в собственно
скифских памятниках этот процесс не фиксируется — здесь мы
видим уже сложившуюся схему. Наиболее близкой аналогией
хищникам Зивие он считал изображение на бронзовой булавке
из слоя VIII в. до и. э. луристанского поселения Бабаджан-тепе
(рис. 2, б) [Goff, 1978, рис. 14, 29]. Е. Е. Кузьмина [1977,
с. 111] сопоставила это изображение и с памятниками евразий-
ского звериного стиля. Хищников на луристанских бронзах
сравнивал с животными Зивие и Р. Гиршман, правда не пред-
принимая детального анализа. Отметим, что этот исследователь
сближал искусство Луристана не только со скифским пластом
Зивие, но и с другими представленными в этом «комплексе»
изобразительными традициями [Ghirshman, 1964, с. 316—317].
Какое же из приведенных мнений наиболее обоснованно? По
утверждению В. А. Ильинской [1971а, с. 77], при выявлении
направления развития рассматриваемого мотива сторонниками
переднеазиатских его истоков «учитываются не конкретные
признаки стилизации, общая композиция, смысловое содержание
изображения, а формальный элемент морфологического сход-
ства какого-нибудь изолированно выделенного признака». Не
вполне соглашаясь с этим упреком, присоединимся к мнению,
что в самом деле аргументация в данном случае должна опи-
раться на комплексный анализ стилистических и иконографи-
ческих признаков. Ниже предлагается опыт такого анализа.
92
Общий его смысл состоит в том, чтобы выяснить, имеются ли на
древнем Ближнем Востоке истоки представленной в Зивие ху-
дожественной трактовки образа хищника.
Для начала следует отметить, что изображения лежащего
хищника, прежде всего льва, древневосточное (в частности,
урартское и иранское) искусство знает достаточно хорошо. Рас-
положение на одной прямой согнутых передней и задней лап,
хотя п не соприкасающихся между собой, представлено, в част-
ности, на памятниках Ирана и Элама (Хасанлу, Чогазамбиль —
см. рис. 2, a) [Ghirshman, 1964, рис. 28, 29]. Для этих, как и
для других, древневосточных изображений характерен и такой
стилистический прием, как выделение лопатки. Тем не менее
названные изображения от памятников Зивие в целом достаточ-
но далеки, и проследить по ним последовательные стадии фор-
мирования характерного для Зивие образа не удается. Другие
материалы, на наш взгляд, в этом плане более информативны.
Как уже было сказано, внимание исследователей в связи с
вопросом об истоках образа хищника Зивие привлекла фигурка
лежащего зверя па булавке из Бабаджан-тепе. Здесь мы видим
то же положение согнутых лап, причем они не только располо-
жены на одной прямой, но и соприкасаются. Обращает на себя
вниманье па этом изображении и крупное полукруглое ухо с
подчеркнутым внутренним контуром, выступающее вверх над
абрисом головы. Большой глаз обозначен спиральным завитком,
продолжающим линию контура морды. Кончик вытянутого впе-
ред носа несколько загнут вниз. Не вполне понятный завиток
над лопаткой, очевидно, представляет конец длинного протяну-
того вдоль спины хвоста.
Следует подчеркнуть, что эта булавка отнюдь не является
единичной. Бхлавки с таким декором хороню известны среди
луристанских бронз (рис. 2, в) [Моогеу, 1971, с. 195, табл. 50,
№ 318; Членова, 1967, табл. 31, 24]. Хищник, подобный запечат-
ленному на булавках, вообще был неотъемлемым элементом
луристанского изобразительного бестиария, и на фоне разнооб-
разных стилистических направлений, представленных в этом
искусстве, характеризует собственно луристанскпй стиль (на-
пример, [Моогеу, 1971, табл. 55, № 349, 352, 351, табл. 54,
№ 343, табл. 56, № 345, 344, табл. 25, № 136—138, табл. 26,
№ 139 и др]). Чаще всего этот мотив включен в геральдиче-
скую композицию из пары фигур животных (рис. 3, а—в). Тот
же зооморфный персонаж известен в композициях различного
содержания. Мы видим его в руках антропоморфного существа,
около дерева, распластанным по контуру кольца на предметах
разного назначения и т. д. (рис. 4, а—в). П. Мури отмечал, что
именно плотоядное животное — наиболее популярный образ
луристанских бронз периода 850—650 гг. до н. э., и возводил
его к более реалистичным изображениям льва из тех же об-
ластей, но предшествующего времени. Исследователь указывал
также, что отдаленное родство с луристанскими хищниками
93
Рис. 3. Изображения хищников иа навершиях из Луристана
Рис. 4 Изображения лежащих хищников из Луристана
94
имеют хищники Зивие, но тут же оговаривался, что эти послед-
ние гораздо ближе к «рысям» скифского искусства, сходство
которых с .i\piiciанскими он, однако, отрицал [Моогеу, 1971,
с. 304—305].
В самом деле, сопоставляя хищников Зивие с луристански-
ми изображениями, нельзя не отметить, что характерные для
первых и перечисленные выше приемы стилизации в той или
иной форме присутствуют в луристанском искусстве или явля-
ются некоторой трансформацией определенных его особенно-
стей. Так, глаза и уши зверя всегда четко выделены. Глаз обыч-
но круглый, образован или спиральным закручиванием линии
контура морды, или полусферическим выступом, окаймленным
рельефным же кольцом Четко выделенное торчащее вверх ухо
имеет округлою, а иногда и явно сердцевидную форму (Моогеу,
1971, габл. 26, № 138, табл. 26, № 139, табл. 56, № 344]. Прав-
да, пасть у луристанских зверей в отличие от изображений из
Зивие в большинстве случаев представлена закрытой, по изо-
гнутые линии верхней и нижней губы в целом образуют уже
знакомую нам по саккызскпм памятникам V-образную фигуру
[Моогеу, 1971, табл. 26, № 139; Potratz, 1968, табл. XVII, № 83;
Ghirshman, 1964, рис. 505] Длинные хвосты луристанских хищ-
ников почли непременно заканчиваются петлей. Стопы лап,
представленные в виде сферических заштрихованных объемов,
визуально очень близки к петлеобразным завершениям ног,
обычным у хищников Зивие, и легко могли трансформироваться
в этом направлении [Моогеу, 1971, табл. 55, № 352, табл. 25,
№ 138, 137, табл. 26, № 139; Potratz, 1968, табл. XIX, № 91, 92,
96, табл. XXXVI; Vanden Berghe, 1968, № 152, и др.]. Лопатки и
бедра луристанских хищников, как правило, подчеркнуты. До-
бавим, что такая деталь, как большой круглый глаз, обозначен-
ный полусферическим выступом в центре рельефного кольца,
характерна в луристанских бронзах не только для изображений
хищников, но и для других зооморфных образов, так же как и
V-образное оформление пасти [Vanden Berghe, 1968, № 45,
152].
Следует отметить, что, за редкими исключениями [Nagel,
1963, табл. XXVII, № 54; Godard, 1965, табл. 20], описанные
луристанские хищники — обычные персонажи композиций, вы-
полненных в круглой скульптуре. В рельефах же, как правило,
представлены более реалистичные изображения львов.
Все сказанное позволяет сформулировать такой промежу-
точный вывод. Хотя прямых прототипов хищникам Зивие в ис-
кусстве древнего Востока найти не удается, близость их по це-
лому ряду изобразительных характеристик к луристанским зо-
оморфным образам представляется нам очевидной, что и опре-
деляет возможность толкования последних как источника
формирования иконографии первых. Уточним, что речь в этом
плане следует вести не только о трактовке отдельных деталей,
но и об иконографической схеме: лежащее или припавшее на
95
лапы животное — характернейший образ луристанского искус-
ства. Там же находит прямые параллели и геральдическая пара
хищников, представленная на саккызской бутероли [Nagel,
1963, табл. XXVII, № 54]. Что же касается согнутости тела зве-
ря, то она в значительной степени может быть возведена к
обычному в Луристане помещению фигуры на контуре кольце-
видного предмета, абрис которого она повторяет. В таком по-
ложении в луристанских бронзах изображались и зверь, стоя-
щий на прямых ногах, и животное, припавшее к кольцу, причем
спина его зачастую повторяет изгиб дуги кольца, на которой он
размещен [Potratz, 1968, табл. XVIII, № 84, табл. XXI, № 107,
113; Vanden Berghe, 1968, № 148; BA 1976, № 39]. Поэтому в
принципе отнюдь нельзя считать исключенным зарождение
этого образа «скифского Зивие» на древневосточной основе.
Посмотрим теперь, как соотносятся те же изображения из Зи-
вие с аналогичным мотивом в собственно скифском искусстве.
Здесь на раннем этапе образ кошачьего хищника представ-
лен, как известно, достаточно широко, причем, как отмечает
А. И. Шкурко [1976, с. 91], в это время еще не приходится
говорить о существовании локальных вариантов его воплоще-
ния, заметных в более поздний период. По существу, все изо-
бражения хищника скифской архаики являют достаточно
единую трактовку образа, возводимую, по мнению названного
исследователя, к памятникам келермесско-саккызского круга,
которые он интерпретировал как единую серию. Поэтому для
осуществления интересующего нас в данный момент анализа мы
привлекаем всю совокупность воплощений анализируемого мо-
тива на раннескифских древностях вне зависимости от принад-
лежности памятника к той или иной территориальной группе —
собственно степной Скифии или какой-то из соседних с ней тер-
риторий В пределах этого периода (VII—VI вв. до и. э.) мы
не дифференцируем рассматриваемые памятники и по абсолют-
ной хронологии, подчиняя последовательность описания лишь
стремлению выявить основные тенденции эволюции в изобрази-
тельной трактовке образа. При таком подходе взаимные хроно-
логические отношения отдельных предметов не диктуют интер-
претацию направления этой эволюции, выяснение которого и со-
ставляет основную стоящую перед нами задачу.
Одним из наиболее интересных в контексте нашей темы яв-
ляется изображение хищника на подковообразном бронзовом
предмете из кургана Гус. Журовка в лесостепном правобе-
режье Днепра (рис. 5, a) [ScA, 1987, табл. 65] Само располо-
жение фигуры животного на дугообразном основании сближает
этот предмет с упоминавшимися выше луристанскими хищника-
ми на кольцевидных предметах [Potratz, 1968, табл. XVIII,
рис. 84]. К тому же кругу аналогий тяготеют удлиненные про-
порции тела зверя, не типичные ни для остальных скифских, ни
для саккызских воплощений этого мотива. Луристанские изде-
лия напоминает и трактовка стоп лап хищника — в виде полу-
96
Рис. 5. Изображения лежащих хищников иа раинескифских древностях
(а—деталь узды. Журовка, курган «Г»; б — костяная ложечка. Дарьевка;
в — серебряное зеркало. Келермес, курган № 4/1903; г, д — обкладка горита.
Келермес, курган № 4/1903; е, ж — золотые бляшки. Ульский курган № 1;
з — обкладка ножен. Курган у хутора Шумейко; и — костяная ручка иожа.
Малгобек; к — ручка зеркала. Скоробор, курган № 2/1965; л — ручка зерка-
ла Хабаз)
сферических объемов, расчлененных бороздами, обозначающи-
ми отдельные пальцы (когти).
По остальным характеристикам хищник из Журовки доста-
точно близок к саккызским пантерам: передняя и задняя лапы
его согнуты в суставах так, что стопа задней примыкает к коле-
ну передней, и обе они расположены строго по одной линии;
четко выделены ухо, форма которого приближается к сердце-
видной, и большой круглый глаз; голова несколько удлиненной
7 Зак. 358
97
фермы вплотную примыкает к стопе передней лапы; подчеркну-
ты контуры лопатки и бедра. Пасть трактована в виде буквы С
с обращенными вниз концами; ее внутреннее пространство за-
нято показанными рельефно сомкнутыми клыками — черта, ред-
кая в скифском искусстве (ср., впрочем, описываемую ниже
келермесскую пантеру), но обычная в переднеазиатских изобра-
жениях хищника. Чуждыми образам Зивие элементами явля-
ются трактовка кончика хвоста в виде головы хищной птицы —
пример специфичного для скифского искусства «зооморфного
превращения», а также типично скифская выемка на переднем
крае округлости бедра. Таким образом, в журовском изображе-
нии достаточно четко прослеживается сочетание черт художест-
венной манеры луристанского, саккызского и собственно скиф-
ского круга 5.
Должен привлечь наше внимание и хищник на костяной ло-
жечке из кургана в урочище Дарьевка (рис. 5, б) [Ильинская,
1975, табл. XXXIV, 2] —одно из наиболее близких к древневос-
точным памятникам воплощений рассматриваемого мотива в
раннескифском искусстве. В частности, прямые аналогии ей об-
наруживаются на вещах Зивие; особенно близки ей пантеры на
серебряном диске и на пекторали. Зверь лежит в характерной
позе — припав на согнутые лапы. Стопа задней лапы размещена
под коленом передней. Концы лап завернуты в петли. Четко
оконтуренная лопатка покрыта вертикальной мелкой штрихов-
кой, в чем В. А. Ильинская [1975, с. 159] видела влияние древ-
невосточной изобразительной манеры. Там же находит аналогии
трактовка окончания морды в виде двух размещенных рядом
кружков По существу, это — модификация V-образной фигуры
с двумя петельками по краям, описанной выше, при характери-
стике иконографии хищника Зивие. Торчащее вперед ухо серд-
цевидной формы и выступающий за внешний контур головы
круглый глаз трактованы идентично саккызским образцам. Ни
одного элемента, неизвестного изобразительной манере комп-
лекса Зивие, хищник из Дарьевки не демонстрирует.
У «пантеры» на серебряном зеркале из Келермеса (рис 5,
в) [ScA, 1987, табл. 50] мы видим уже знакомую характернаю
позу: слегка выгнутая спина, несколько согнутые, свисающие
лапы, опущенная голова. Выделены контуры лопатки и бедра.
Все перечисленные элементы, а также выступающее ухо, круг-
лый крупный глаз и закрученные в петли окончания лап и хво-
ста связывают это изображение с пантерами Зивие, в частности,
с хищниками диадем (рис. 1, в, г). Но имеются и отличия: ухо
передано не сердцевидной фигурой, а подковообразным изгибом;
на отдельные элементы распалась V-образная фигура, обычно
обозначающая окончание морды; конец задней лапы не закру-
чен, а образует миндалевидную петлю-прорезь, утратившую
всякое сходство с реальным строением стопы зверя. Подобная
трансформация окончания лапы и специфическая выемка на
передней грани бедра — характерные детали собственно скиф-
98
ских изображений, причем первая демонстрирует более высо
кую, по сравнению с Зивие, степень стилизации.
Очень близки к только что рассмотренной и фигурки хищни-
ков на внешней рамке обкладки горита из Келермеса (рис. 5,
г, д) [ScA, 1987, табл. 23]. Они представлены в той же позе,
т. е. со свободно свисающими лапами, с опущенной головой.
Стопы лап и кончик хвоста переданы в виде схематичной петли.
Ухо и глаз трактованы двумя одинаковыми маленькими круга-
ми. пасть — выпуклой С-видной фигурой с опущенными конца-
ми. На щеке — полусферический выступ, возможно, рудимент
лотосовидной трактовки морды. На выделенном бедре — не-
большая выемка. Основные отличия от зверей Зивие — замена
достаточно реалистично трактованных глаза и уха схематичны-
ми кольцевидными фигурами и распадение лотосовидной пасти
на отдельные элементы. Эти детали наряду с выемкой на бедре
составляют собственно скифские черты в трактовке образа хищ-
ника.
К той же серии относятся золотые бляшки в виде фигурки
хищника из Ульского аула (рис. 5, е, ж) [ScA, 1987, табл. 10—
121. Совпадает поза со свободно свисающими ногами и опущен-
ной головой. Ухо и глаз переданы рельефными кружками (по-
следний иногда, впрочем, полусферическим выступом; таким же
выступом обозначена щека). Окончание морды передано двой-
ным врезом в виде буквы W с опущенными концами. На бед-
ре — выемка. Концы лап заканчиваются шаровидными объема-
ми, расчлененными вертикальными врезами, как в Журовке и в
Луристане. Но в некоторых случаях именно на этот объем ппи-
ходится дырочка для крепления бляхи на основе, что создает
впечатление трактовки стопы в виде петли. Окончание морды,
выемка на бедре и нащечный выступ отличают это изображе-
ние от памятников Зивие.
В тех же Ульских курганах представлено и несколько иное
воплощение хищника, даже более близкое к изображениям из
Зивие,-— с поджатыми под брюхо ногами [Артамонов, 1966,
рис. 17]. Как прямое развитие этого варианта можно рассмат-
ривать золотые бляшки, украшавшие колчан из кургана Опиш-
лянка в бассейне Ворсклы [Ковпаненко, 1967, рис. 47, с. 144].
Этот комплекс обычно относят к более позднему, чем интере-
сующее нас, времени. Но чрезвычайная близость представлен-
ного здесь хищника к архаическим заставляет включать его,
как и аналогичные изображения из Витовой Могилы, в рассмат-
риваемую серию. Зверь изображен в той же позе — с опущен-
ной головой и подогнутыми, вытянутыми вперед лапами, не со-
прикасающимися, впрочем, друг с другом. Ухо, глаз и ноздря
представлены тремя размещенными вплотную друг к другу на
одной прямой кружками. Ухо дополнено внутренним кружком.
Пасть изображена рельефной С-видной линией с опущенными
вниз концами. Окончания лап и лопатка трансформировались в
головки хищных птиц. Эти детали, как и трактовка элементов
7*
99
морды, отличают рассматриваемые изображения от хищников
Зивие, ио имеют многочисленные аналогии в собственно скиф-
ском искусстве.
Изображение на бляшках от колчана из Витовой Могилы
[Ковпаненко, 1967, рис. 48; Граков, 1971, табл. XX] очень близ-
ко предыдущему, но морда зверя передана еще более схема-
тично: только тремя кружками (ухо, глаз, ноздря) и С-видной
фигурой пасти, при отсутствии четкого внешнего контура голо-
вы. Концы лап и лопатка трансформированы в головки хищной
птицы.
Келермесская пантера, украшавшая щит вождя раннескиф-
ской эпохи [ScA, 1987, табл. 17],— знаменитый образец ранне-
скифского искусства, в то же время существенно отличающий-
ся от рассмотренных выше. Впрочем, поза ее в основном иден-
тична описанной: слегка согнутые свисающие ноги и опушенная
вниз голова. Отличие состоит прежде всего в удлиненной шее,
что обеспечивает значительное расстояние между головой и пе-
редней лапой. Второе отличие — изображение не двух ног, как
обычно, а всех четырех. Хвост и концы лап трактованы в виде
дополнительных изображений свернувшегося в кольцо хищни-
ка. Такая интерпретация концов лап представляет модифика-
цию их трактовки в виде шаровидных объемов или петель,
обычной в изображениях рассматриваемой серии, тогда как ука-
занное осмысление хвоста никак не мотивировано традиционной
иконографией. Описание этих дополнительных фигур животных
будет дано ниже — при исследовании изображений свернувше-
гося зверя. Выступающее за контур морды ухо пантеры имеет
здесь необычную каплевидную форму и украшено редкой в
скифском искусстве инкрустацией в виде смыкающихся тре-
угольников6. Глаз и ноздря переданы кружками, причем нозд-
ря — прорезная. Пасть С-видная, с четко обозначенными зуба-
ми, что, как уже говорилось, необычно для скифского мира, но
часто встречается в изображениях переднеазиатских львов. На
бедре выемка. В целом при близости позы келермесская панте-
ра достаточно далека от саккызских воплощений того же мо-
тива.
То же можно сказать о хищниках, представленных на келер-
месской секире [ScA, 1987, табл. 40]. Здесь вообще трудно
опознается порода зверя, хотя поза в принципе та же: согнутые
вытянутые вперед ноги и удлиненная опущенная голова, под-
черкнутый контур лопатки и бедра. На концах лап и хвоста —
петли. Уникальна для раннескифского искусства форма глаза —
не округлая, а с заостренными уюлками. Нетрадиционны также
трактовка уха в виде удлиненного вертикального желобка, раз-
делка поверхности тела для передачи шерстяного покрова и,
наконец, согнутые под острым углом горизонтально лежащие
лапы. Б. Б. Пиотровский [1954, с. 154] считает этих зверей
особенно близкими пантерам на серебряном диске из Зивие, но
сходство это, по нашему мнению, проявляется, по существу,
100
лишь в том, чем оба эти памятника связаны с традициями
древневосточного (в частности, урартского) искусства и одно-
временно отличаются от остальных — как саккызских, так и
скифских,— изображений: в их большей засушенности и геомет-
ризации.
Воспроизведением рассматриваемого мотива являются и
размещенные одна под другой фигуры хищников на ножнах из
кургана у хутора Шумейко (рис. 5, з) [ScA, 1987, табл. 67]. Но
здесь ощутимы меньшая строгость в следовании иконографиче-
скому и стилистическому канону, достаточно произвольное тол-
кование некоторых элементов. Так, если задняя нога зверя изо-
бражена согнутой под прямым углом, то передняя свободно
свисает — практически уникальное сочетание элементов разных
известных в скифском искусстве поз. Необычна и трактовка
концов лап: общая округлость их, уже известная нам в скиф-
ском искусстве, сочетается с зубчатым краем, обозначающим
когти зверя. Размещенные на одной линии углубления передают
ухо, глаз и ноздрю, но их контуры не столь округлы, как при
каноничном воплощении этой схемы,— ухо в некоторых слу-
чаях заострено, а ноздря удлинена. Традиционны выделенные
лопатка и бедро и петля на конце хвоста. В целом это — доста-
точно вольная трактовка мотива, знакомого нам и по саккыз-
ским памятникам, и по другим произведениям скифской архаи-
ки.
Представляется, что модификацией той же схемы является
изображение на обушной части сложного многофигурного пред-
мета из кургана на Темир-горе (см. рис. 18, з) [ScA, 1987,
табл. 3]. Но искажение целого ряда канонических приемов, в
первую очередь положение лап зверя, свидетельствующее об
утрате мастером понимания видовой принадлежности живот-
ного, достигает здесь такой степени, что исследователи по-раз-
ному интерпретируют это изображение. По существу, в нем со-
четаются приемы воплощения хищника и копытного (о послед-
них см. ниже).
Следующий предмет, заслуживающий упоминания в данном
контексте,— костяная ручка ножа из Малгобека (рис. 5, и)
[Виноградов, 1972, рис. 7, 6]. Она сделана в виде фигуры при-
павшего на лапы зверя, трактованного очень близко к хищни-
кам на вещах Зивие. Здесь сохранились такие характерные де-
тали, как опущенная вниз голова, примыкающая к стопе пе-
редней лапы, сердцевидное ухо, круглый выступающий глаз,
согнутые ноги, расположенные на одной линии и соприкасаю-
щиеся друг с другом, выделенные лопатка и бедро. Но лотосо-
видное окончание морды превратилось здесь в сердцевидную
фигуру с двумя углублениями, обозначающими пасть и ноздрю,
завернутые в петлю концы задней лапы и хвоста оформлены
как автономные кружки, а конец передней лапы трансформиро-
вался в фигуру специфического подтреугольного абриса. Имен-
но последняя деталь, по форме близкая к копыта, послужила
101
одним из оснований, по которым В. А. Ильинская и А. И. Тере-
ножкпп [1983, с. 47] интерпретировали малгобекского зверя как
сочетающего в себе черты хищника из семейства кошачьих и
коня. Вторым основанием такой трактовки для них явилась
удлиненная голова. В. Б. Виноградов также видит здесь соче-
тание черт хищника и травоядного. К последним он относит уже
упомянутое «копыто» и «толстые губы».
Однако обе приведенные трактовки представляются нам
достаточно произвольными. Форма головы малгобекского зверя
полностью соответствует канонам изображения хищников на
вещах Зивие и в раннескифском искусстве. «Толстые гмбы»
представляют достаточно распространенную в скифском искус-
стве трансформацию способа изображения пасти у хищников
Зивие (см. [Шкурко, 1976, рис. 1, 4, 5, 9, 70]). Что касается «ко-
пыта», то обычное у скифских хищников кольцевидное окон-
чание лапы в этом случае деформировалось, поскольку его край
повторяет абрис примыкающей к нему морды. В целом малго-
бекское изображение весьма близко к образующим геральдиче-
скую пару хищникам на ручке сосуда из Зивие (см. рис. 1,
е) — как трактовкой деталей, так и общими очертаниями вы-
тянутой, несколько геометризованной фигуры. Это заставляет
отвергнуть имеющиеся в литературе суждения о сочетании в
малгобекской находке разнокультурных — скифских, савромат-
ских и кобанских — изобразительных приемов [Виноградов,
1972, с. 160], а также вытекающую из такой трактовки относи-
тельно позднюю (рубеж VI—V вв. до н. э.) ее датировку.
Достаточно определенно черты хищников Зивие проступают
и в фигуре зверя на ручке зеркала из Хабаза (рис. 5, л) [Иес-
сен, 1941, табл. V, 3, с. 33]: подогнутые ноги, опущенная голо-
ва, завернутый в петлю хвост, четко выделенные ухо и глаз,
лотосовидная трактовка пасти. В вертикальном валике, распо
ложенном на середине туловища зверя и переходящем в перед-
нюю ногу, опознается несколько необычно трансформировав-
шаяся выделенная лопатка. Стопы лап, переданные округлыми
объемами, расчлененными вертикальными бороздами, напоми-
нают скорее не хищников Зивие, а указанные выше их прототи-
пы на бронзах Луристана. Правда, К. Ф. Смирнов [1964,
с. 372] сопоставлял хабазского зверя с памятниками искусства
савроматов, по это сопоставление уже было убедительно оспо-
рено В. Б Виноградовым [1972, с. 160], предложившим ряд
аналогий ему в раннескифском искусстве. Мы бы только исклю-
чили из их круга описанные изображения хищников на ножнах
из хутора Шумейко, поскольку' они демонстрируют значительно
более вольное обращение с исходным каноном, чем то, которое
характеризует хабазского хищника.
В. Б. Виноградов одновременно сопоставляет этот памятник
с фигурками хищников на зеркалах так называемого ольвийско-
го типа, видя в нем «местное подражание» последним, доста-
точно, впрочем, «далеко ушедшее от побудительного оригинала».
102
Однако с «ольвийскими» зеркалами хабазский экземпляр сбли-
жает в основном сам факт помещения фигуры хищника на руч-
ке зеркала, а не изобразительная трактовка, гораздо более
близкая к памятникам, рассмотренным выше. Правомернее та-
кое сравнение для зеркала из кургана 2 в урочище Скоробор
(рис. 5, к) [Шрамко, 1976, рис. 3, 14], фигурка зверя на ручке
которого близка к ольвийским своей позой: зверь представлен
не припавшим на вытянутые вперед лапы, а как бы привстав-
шим па полусогнутых ногах. В то же время ряд деталей, несом-
ненно, сближает скороборского зверя и с хабазским. К ним
прежде всего следует отнести трактовку лопатки в виде «пере-
хватывающе! о» тело зверя в средней части вертикального пояс-
ка. В трактовке головы нет обычных для скифских хищников
элементов стилизации, но ее вытянутые очертания и опущенное
положение типичны для этой серии изображений. Завернутые в
петлю окончания лап уже практически превратились в головки
хищных птиц, что мы видим лишь на относительно поздних
скифских памятниках — бляхах из Опишлянки и Витовой Моги-
лы. Скороборского хищника мы в самом деле склонны тракто-
вать как гибридную форму, сочетающую специфически скиф-
ские черты, в том числе связанные с традицией Зивие, с мане-
рой, обычной для изображений на ольвийских зеркалах.
Мы не описываем столь же подробно изображений лежащего
хищника в искусстве савроматов, сближающихся с рассмотрен-
ными главным образом позой зверя, в том числе положением
головы и ног [Смирнов, 1964, рис. 78, 1, 2, 79, 6, 80, 1, 5]. Здесь
совершенно отсутствуют знакомые нам и по памятникам Зивие,
и по произведениям скифской архаики приемы стилизации. Все
детали менее схематичны и демонстрируют значительно более
мягкую, округлую моделировку объемов. Скорее всего, можно
проследить те же древневосточные истоки и для савроматского
варианта трактовки этого мотива [Смирнов, 1964, с. 225], но
линия его развития здесь представляется достаточно автоном-
ной от пути формирования рассмотренных выше памятников.
То же в целом следует сказать об изображениях лежащего
хищника в искусстве саков Средней Азии (ср. материалы мо-
гильника Тагискен и в известной мере — Уйгарака). Никаких
следов знакомства создателей этих памятников [Толстов, Ити-
на, 1966, рис. 16, 17, 2, 6, 9] со стадией Зивие они не демонстри-
Р'ют, хотя связь их с древневосточным искусством в принципе
неоспорима. Однако подробно обосновать такую оценку этих
памятников в данной работе не представляется возможным.
Вернемся теперь к главному для нас вопросу о соотношении
трактовки рассмотренного мотива на памятниках Зивие и в
раннескифском искусстве, т. е. о направлении линии его разви-
тия. В принципе генетическая связь двух названных серий в
свете всего сказанного сомнений не вызывает. Среди скифских
древностей выделяется небольшая группа (Дарьевка. Журовка,
Хабаз, Малгобек), прямо сопоставимая с древневосточными па-
103
мятниками, но в целом скифские изображения демонстрируют
тенденцию к усилению степени стилизации, причем памятники
Зивие выступают как промежуточное звено между искусством
остального древнего Востока и скифов. Из основных приемов,
демонстрирующих эту нарастающую стилизацию, назовем преж-
те всего превращение достаточно реалистичной морды звеоя в
цепочку кружков, обозначающих ухо, глаз и ноздрю, к которым
примыкает С-видная пасть: зарождение такой трактовки мы
отметили уже в некоторых изображениях из Зивие, но там еще
достаточно легко опознается реальный прототип каждого эле-
мента. То же можно сказать о трактовке элементов стопы’ до-
статочно реалистичные поначалу когти уже на стадии Зивие
превращаются в закрученную петлю, что в скифском искусстве
приводит к появлению чисто условного кружка. Дальнейшее
превращение этого элемента в головку хищной птицы может
быть объяснено двояко: либо упомянутый кружок был осмыслен
как птичий глаз, либо крючок (петля) трансформировался в
клюв птицы. Однозначно предпочесть ту или иную реконструк-
цию пути тоансформации мотива вряд ли правомерно.
Если принять во внимание, что среди изображений хищника
в раннескифском искусстве не обнаруживается таких, которые
могли бы послужить истоком для формирования «хищников Зи-
вие», то, учитывая тесную связь этих последних с изобразитель-
ной традицией, издавна существовавшей в искусстве Ближнего
Востока, приходится заключить, что рассмотренный образ хищ-
ника в искусстве скифов следует рассматривать как продукт
развития этой изобразительной традиции. Толкование памятни-
ков Зивие как модификации скифского образа на материале
рассмотренного мотива подтверждения не находит. Посмотрим,
что говорят на этот счет другие памятники раннескифского ис-
кусства.
Наибольшего внимания из них заслуживает серия изображе-
ний того же хищного звеоя, но представленного в принципиаль-
но иной иконографической схеме—свернувшимся в кольцо. Воп-
рос об истоках этого скифского мотива дискуссионен. К приме-
ру. В. А. Ильинская, посвятившая специальное исследование
изображениям кошачьего хищника в искусстве скифов, пришла
к выводу, что рассматриваемую схему следует относить «к чис-
лу наиболее оригинальных, самобытных, ниоткуда не заимство-
ванных мотивов, составляющих первоначальное ядро скифского
звериного стиля» [Ильинская, 1971а, с. 78]. Того же мнения
придерживался С. С. Сорокин 119721. подошедший к его обос-
нованию с другой стороны. Проанализировав известные ахеме-
нитские бутероли, он трактовал их декор как модификацию изо-
бражения того же свернувшегося зверя, но констатировал пол-
ное непонимание иранскими создателями этих памятников ис-
ходной сути ипокультурного мотива, приобретшего в Иране чи-
сто орнаментальный характер 7. Этот факт на фоне полного от-
сутствия аналогичного мотива в собственном традиционном иУ-
104
кусстве Передней Азии привел автора к заключению, что опи-
санная нами выше золотая бляха-навершие с изображением
свернувшегося хищника из коллекции Зивие (рис. 6, а), явля-
ясь скорее всего изделием древневосточного мастера, по своей
иконографии принадлежит к кругу памятников искусства евра-
зийских кочевников.
Другие исследователи, напротив, возводят мотив свернув-
шегося зверя к древневосточному искусству. Так, по мнению
Н. Л. Членовой [1967, с. 126—127], такая поза является произ-
водной от изображения льва в сценах борьбы с ним героя, от-
личаясь лишь более сильной согнутостью фигуры животного,
превратившейся в самостоятельный мотив. М. И. Артамонов
[1968, с. 34], отмечая, что изображения свернувшегося зверя в
древневосточном искусстве неизвестны, в то же время полагал,
что скифский свернувшийся хищник является одним из вариан-
тов воплощения типичной для искусства Ирана «пантеры»'. Со-
ответственно единственное представленное в коллекции Зивие
изображение этой группы, которое он определяет как «согну-
того-» зверя, М. И. Артамонов считал прообразом евразийских
степных воплощений того же мотива, из которых ближайшими
к саккызскому в эволюционном ряду называл майэмирские бля-
хи, а в качестве следующего звена — роговую подвеску из Те-
мир-горы. Все названные памятники, несомненно, принадлежат
к воплощениям одного мотива, но вопрос о природе связи меж-
Рис. 6. Изображения
свернувшегося хищника
(а — Зивие; б — Семи-
братний курган № 4)
Рис. 7. Изображения свернувшегося хищника на раннескифских древностях
(о — деталь золотой пантеры. Келермес, курган № 1/1903; б — бронзовое зер-
кало. Келермес, курган № 2/1904; в— костяная пронизь. Келермес, курган
№ 2/1904; г — бронзовая бутеролъ Гудермес)
105
Рис 8 Бронзовые и костяные бутероли из памятников Кавказа (а — на-
ходка у сел. Рук; б, в, г — Тлийский могильник, погребения 164, 216, 258;
d—Фаскау; е — Нартаи, кургаи № 21)
ду ними и о правомерности построения указанного эволюцион-
ного ряда требует все же дополнительного анализа.
Прежде всего заслуживает специального внимания вопрос о
том, какое место в сложении рассматриваемого мотива зани
мают памятники скифского пласта Зивие. Выше уже отмеча-
лось, что представленный в этой позе хищник на бляхе-навер-
iiiiiH из «Саккызского клада» (рис. 6, а) по трактовке целой се-
рии деталей существенно отличается от остальных изображений
хищников этой коллекции и не может быть поставлен с ними в
один ряд. Зато по многим признакам это изображение право-
мерно сопоставить с бронзовой бляхой из Семибратних курга-
нов, украшенной аналогичным мотивом (рис. 6, б) [ScA, 1987,
табл. 87]. Их сближает прежде всего сравнительно реалистич-
ная общая трактовка зверя, особенно заметная при сопоставле-
нии с остальными хищниками Зивие, для которых, к примеру,
абсолютно нетипична моделировка мускулатуры лап. Идентич-
ны в саккызском и семибратнепском изображениях разделка
частой «гофрировкой спины зверя между лопаткой и бедром,
строго параллельно-встречное расположение ног, подчеркнутый
завиток под нижней челюстью, глаз не в виде геометризованно-
го кружка, а с заостренными уголками, и т. д. Это сопоставле-
ние не позволяет рассматривать свернувшегося зверя из Зивие
как одно из типологически ранних или даже самое древнее из-
вестное нам воплощение анализируемой схемы.
В то же время, как уже отмечалось выше, изображения
хищника скифского пласта Зивие, рассмотренные в совокупно-
сти, обнаруживают отчетливую тенденцию к все большему сги-
банию туловища зверя, т. е., по существу, демонстрируют после-
довательные стадии формирования интересующей нас схемы. В
частности, если мысленно совсем немного усилить изгиб тела
зверя, представленного на одной из золотых диадем из Зивие
(см. рис. 14, в) [Ghirshman, 1964, рис. 386], то мы получим по-
106
зу, по сути идентичную той, которая представлена на типоло-
гически наиболее ранних изображениях свернувшегося хищни-
ка в собственно скифском искусстве, к примеру в Келермесе
(рис. 7, а, б). Особенно показательно, что именно на упомяну-
том предмете из Зивие уже прослеживается то положение ног
животного (под прямым углом одна к другой), которое харак-
терно и для ряда ранних изображений свернувшегося зверя,
тогда как упомянутое выше встречно-параллельное их размеще-
ние явно могло возникнуть лишь в ходе дальнейшей последова-
тельной стилизации схемы, приведшей к преобладанию сугхбой
декоративности и к отрыву от реальной анатомии зверя 8.
Как же происходило формирование изобразительного моти-
ва свернувшегося хищника? Определенный интерес представля-
ет в эюм плане тот факт, что еще в искусстве Луристана мы
обнаруживаем явную связь изображения хищника с кругом
или кольцом (рис 4, а—в). Правда, там она выражена принци-
пиально иными изобразительными средствами: упомянутой выше
распластанностью тела животного по дуге кольца. Но зато уже
при обычном в этой традиции соединении в одном предмете па-
ры таких размещенных друг против друга изображений созда-
ется кольцевая зооморфная схема — семантический (но не фор-
мальный) аналог и, возможно, композиционный предшествен-
ник рассматриваемого мотива. Что же касается формальной
стороны процесса сложения этой схемы, то ее, на наш взгляд,
можно проследить на памятниках иной группы.
Обратимся в этой связи к серии изображений на бутеролях,
обнаруженных преимущественно на Кавказе, а отчасти — в
смежных областях Передней Азии. Начнем с кавказских экзем-
пляров. К ним принадлежат бутероли из погребений 164, 216,
258 Тлийского могильника (рис. 8, б, в. г) [Техов, 1980, рис. 23,
2, 4, 5], случайная находка у сел. Рук в Осетии (рис. 8, а) [Те-
хов, 1980, рис. 23, 7], бутероль из Нартанского могильника
(рис. 8, е) [Батчаев, 1985, табл. 51, 26*], случайная находка из
окрестностей Майкопа [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 53,
рис. 15], бутероль из могильника Фаскау (рис. 8, д) [Ильин-
ская, Тереножкин, 1983, с. 45, рис. 3]. Изображения на всех
перечисленных предметах настолько близки между собой, что
принадлежность их к одному культурному кругу очевидна, при-
чем бутероли из Южной Осетии в рамках этой серии составля-
ют еще более однородную группу.
Представленные на всех перечисленных предметах изобра-
жения хищника выполнены в полном соответствии с той сти-
листической традицией, которую мы выше проследили у «хищ-
ников Зивие». Однако поза зверя здесь принципиально иная:
он. правда, еще не свернулся в кольцо в полном смысле, но как
бы согнут в соответствии с формой бутероли При этом его ло-
патка стабильно размешается в средней части нижней дуги
бутероли, а голова и бедро симметрично располагаются в двух
верхних углах ее полукруглого или подтреугольного поля, вслед-
107
ствие чего хвост и кончик морды зверя оказываются более или
менее сближены между собой, образуя почти замкнутую компо-
зицию. Поскольку положение бутероли определяется ее местом
в структуре ножен, ориентация фигуры животного в простран-
стве вполне стабильна: при вертикальном положении меча зверь
воспринимается как бы лежащим на спине с задранными квер-
ху лапами.
Следует отметить известный схематизм изображений на
бутеролях: воспроизводится, по существу, не фигура зверя, а
лишь набор уже перечисленных элементов (голова с выступаю-
щим ухом, бедро с хвостом и задней лапой и лопатка с перед-
ней лапой), размещенных как бы по вершинам равносторонне-
го треугольника. Внутренний контур тела зверя не отмечен, от-
чего изображение в целом на первый взгляд не вполне понятно.
Внешним же контуром туловища, также специально не обозна-
ченным, служит край самой бутероли. В некоторых случаях —
например, на экземплярах из Тлийского могильника — бутероль
состоит из двух уплощенных половин, на каждой из которых
изображение симметрично повторено, как бы воспроизводя вид
зверя с двух сторон. В этих случаях восприятие контура буте-
роли как абриса тела хищника особенно естественно.
Наиболее узнаваема из всех элементов изображения голова
зверя: удлиненная, как у всех хищников в традиции «скифского
Зивие->, с четко выделенным и слегка выступающим за контур
бутероли ухом сердцевидной формы, круглым глазом и иногда с
элементами лотосовпдной пасти. Лапы с бедром и лопаткой
угадываются зачастую лишь благодаря их пространственной
сопряженности с головой, соответствующей анатомии животно-
го. Концы лап — округлые, часто с углублением в середине, что
превращает их в петли
При наличии этих общих для всех перечисленных бутеролей
особенностей они несколько различаются между собой и по фор-
ме, и по трактовке украшающих их изображений. Так, только
экземпляр из тлийского погребения 164 имеет в середине ма-
ленькое сквозное отверстие. На бутероли из погребения 258 то-
го же могильника в средней части поля изображен непонятный
S-видный завиток; только сопоставление с другими памятника-
ми позволяет угадать в нем оторвавшийся от изображения голо-
вы элемент пасти зверя (впрочем, и такое толкование не бес-
спорно). На том же экземпляре на лопатке животного, высту-
пающей за скругленный край бутероли, помещено схематичное
изображение птичьей головы. Такое дополнительное изо-
бражение, но вынесенное на специальный выступ и за
пределы лопатки зверя, имеется и на бутероли из могильника
Фаскау. На предмете из Нартанского могильника лапы хищника
изображены более массивными, чем па иных бутеролях, в ре-
зультате чего они занимают почти все поле наконечника, в ос-
тальных случаях в значительной мере незаполненное. В мень-
шей степени эта особенность присуща экземпляру из Фаскау.
108
Рис. 9 Бутероли из Ирана (а — брон
за, случайная находка; б— деталь
рельефа из Персеполя)
Рис 10 Раинескифские бутероли
(а — курган у с. Дарьевка; б — Стар-
шая Могила; в-—Макеевка, курган
№ 453)
С рассмотренными кавказскими бутеролями по целому ряду
признаков сходны некоторые предметы аналогичного назначе-
ния с территории Ирана. Назовем прежде всего случайно най-
денную там бронзовую бутероль (рис. 9, а), декор которой чет-
ко воспроизводит ту же схему [Луконин, 19776]. По массивно-
сти деталей и заполненности поля она наиболее близка к нар-
танской, но некоторые особенности ее декора — в первую
очередь разделка бедра и лопатки параллельными дуговидны-
ми бороздами — тяготеют к широко известным изображениям
бутеролей на ахеменидских рельефах. В. Г. Луконин относил к
ахемечидскому времени и сам описываемый экземпляр, тогда
как Е. В. Переводчикова [1983, с. 99] помещает его между ахе-
ме .идскими и кавказскими, что представляется нам более пра-
вомерным ввиду характера трактовки лап хищника. Сами же
ахеменидские бутероли (рис. 9, б, 14, ж) демонстрируют посте
пенное вырождение той же изобразительной схемы путем утра-
ты многих значимых деталей (ноги, а иногда и хвост зверя)
[Переводчикова, 1983].
Со всеми рассмотренными бутеролями — как кавказскими,
так и иранскими — правомерно сопоставить два предмета того
же назначения, найденных в Поднепровье. Экземпляр из кур-
гана у с. Дарьевка (рис. 10, а) в основном повторяет схему,
представленную на кавказских бутеролях, но ухо зверя не вы-
ступает за пределы общего контура наконечника, а голова пере-
дана не как целостный объем, а в виде набора достаточно авто-
номных элементов [Шкурко. 1969, с. 35]. Бутероль из Старшой
Могилы (рис. 10, б) практически уникальна. Прежде всего ее
отличает необычная удлиненность пропорций. По существу, мы
видим здесь не просто согнутую, а как бы сложенную вдвое
длинную фигуру зверя. Но эта особенность "с препятствует
восприятию представленного здесь мотива как варианта уже
109
знакомого нам изображения лежащего на спине хищника. Пре-
дельно схематизированы вытянутые ноги животного, также от-
личающиеся от трактовки их в остальных памятниках рассмат-
риваемой серии. Но помещение головы хищника в одном из
верхних углов бутероли и трактовка деталей морды (сердцевид-
ное ухо, круглый глаз, завиток ноздри) безусловно связывают
изображение из Старшой Могилы как с хищниками скифского
пласта Зивие [Шкурко, 1969, с. 32], так и с кавказскими б\те-
ролями 9.
Специальное внимание следует обратить на одно весьма
существенное обстоятельство: проявляющуюся на огромном, от
Ирана до Среднего Поднепровья, пространстве устойчивою
связь анализируемого изобразительного мотива с предметами
идентичного функционального назначения — наконечниками но-
жен меча. Этот факт позволяет соотнести все перечисленные
памятники и с уже упоминавшейся выше золотой бутеролью из
«Саккызского клада-» (рис. 1, ж). На ней, как отмечалось выше,
представлена обычная в древневосточном искусстве компози-
ция— два противостоящих хищника. Подобное украшение бу-
тероли было знакомо и скифам — достаточно напомнить декор
мечей из Келермеса и Мельгуновского кургана [Черненко, 1480,
с. 24, рис. 12 и 15]. Но в двух последних случаях изображение
выполнено в традиционной ассиро-урартской манере, тогда как
на бутероли из Зивие животные, как уже сказано, переданы
предельно схематично — в виде набора почти автономных эле-
ментов, характерных именно для памятников скифского пласта
этой коллекции, а оттуда воспринятых создателями кавказских
и приднепровских наконечников ножен.
При принципиальном различии содержания изображений на
саккызской бутероли, с одной стороны, и на наконечниках с
Кавказа, из Ирана и из Скифии — с другой (два зверя в пер-
вом случае и один — во втором), совершенно очевидна опреде-
ленная композиционная близость между ними, проявляющая-
ся в стабильном помещении головы животного в одном из верх-
них углов полукруглого поля бутероли. Этот момент свиде-
тельствует о генетической связи между всеми названными
памятниками [Шкурко, 1969, с. 34], причем предельный схема-
тизм трактовки зооморфного изображения — отмеченное распа-
дение его на отдельные элементы — существенно облегчал та-
кую трансформацию содержания. Но какой из вариантов — оди-
ночный или парный — следует считать исходным, а какой явил-
ся результатом указанной трансформации? Особенности некото-
рых памятников позволяют ответить и на этот вопрос.
Так, следует обратить внимание на трактовку бедра зверя на
некоторых ахеменидских бутеролях как почковидной фигуры с
пальметтой в середине, т. е. совершенно идентично передаче на
этом же изображении расположенного симметрично бедру уха
зверя. При этом такая трактовка бедра достаточно алогична,
тогда как подобное изображение уха восходит к обычной для
110
традиции «скифского Зивие» сердцевидной его форме. Это сви-
детельствует, что в основе декора таких бутеролей лежит сим-
метричная композиция — геральдическая пара хищников, одна
из голов которой превратилась в бедро единственного «персо-
нажа».
С этой точки зрения интересна и изве-
стная бутероль из Кармир-блура (рис. 11)
[Пиотровский, 1970, табл. 96]. На ней. как
и на большинстве рассматриваемых буте-
ролей, представлено изображение согну-
того хищника; в средней части предмета
имеется небольшое сквозное отверстие, от-
меченное и на одном изтлийских наконеч-
ников. Вместе с тем кармирблурскую бу-
тероль отличают вытянутая форма и прин-
ципиально иное по сравнению с осталь-
ными рассматриваемыми памятниками
размещение изображения- голова зверя
Рис 11 Костяная буте-
роль из Кармир-блура
здесь расположена не вдоль прямого верхнего края, а по одной
из боковых сторон полуовала; передняя нога с лопаткой смещена
от низа дуги к средней части другой боковой стороны; и лишь
бедро с задней ногой сохраняет стабильное положение—-в одном
из углов полуовала. Воли же вопреки югике размещения бутеро-
ли дугой вниз развернуть ее на плоскости — что и сделано на при-
лагаемом рисунке — в соответствии с принципом построения
изображения на всех остальных бутеролях (так, чтобы голова
животного размещалась горизонтально, его ухо оказалось в
одном из верхних углов, а лопагка —в середине нижней части),
то весьма условно трактованная морда зверя предстанет как
почти симметричное изображение: кружок ноздри и сердцевид-
ная пасть в правой его части при таком развороте оказываются
зеркальным отражением круглого глаза и сердцевидного уха в
левой части, т. а. обнаруживается прямая перекличка с компо-
зицией н стилистической трактовкой пары звериных голов на
бутероли из Зивие.
Таким образом, изображение на кармирблурской бутероли
демонстрирует механическое смешение двух схем, известных
нам в декоре подобных предметов,— согнутого зверя и парной
геральдической композиции, причем мастер, очевидно, стре-
мился к воплощению первой схемы, но в трактовке элементов
изображения и в их взаиморасположении отчасти следовал вто-
рой.
Итак, именно на материале декора бутеролей, происходящих
с Кавказа, из Ирана п Подпепровья, удается проследить истоки
и механизм формирования мотива свер'лвп егося хищника: за-
метная уже в лежащих пантерах «скифского Зивие» тенденция
к все большему сгибанию фигуры зверя ста'ювптся определяю-
щей при пс» ещенчи этого изображения в подтреугольно-полу-
круглое поле бутероли и при замещении им парной геральди-
111
ческой композиции с сохранением некоторых композиционных
принципов последней. В результате этого процесса формир)ется
принципиально новая иконографическая схема — изображение
животного, морда и круп которого смыкаются в пространстве
композиции.
Дальнейшая трансформация этой схемы — сложение клас-
сического скифского мотива хищника, свернувшегося в коль-
цо,— достаточно четко прослеживается, к примеру, на материа-
лах из Келермеса. Известные зцесь воплощения этой схемы —
Рис. 12. Изображения свернувшегося хищника на раннескифских древностях
(а — бронзовая бляшка. Константиновка, курган № 2; б — деталь портупеи
меча. Келер мес, курган № 1/1903; в — бронзовая пронизь. Басовка, кх-рган
№ 482; г — бронзовая крестовидная бляха Ольвия, некрополь, могила
№ 1Е/1910).
например, в дополнительных изображениях на хвосте и лапах
знаменитой пантеры, на пронизях от конской сбруи (рис. 7, а,
в) — без сомнения, обнаруживают ряд черт, прямо перекликаю-
щихся с рассмотренными изображениями на бутеролях. К чис-
лу таких черт относятся: преимущественное внимание мастера
к трем основным элементам фигуры животного — голове, лопат-
ке и бедру; характер их стилизации, роднящий эти изображения
с теми же лежащими хищниками «скифского Зивие»; размеще-
ние названных элементов как бы по трем вершинам воображае-
мого равностороннего треугольника 10. Однако то обстоятельст-
во, что данные изображения уже не были связаны с определен-
ной категорией предметов — бутеролями, потребовало опреде-
ленного изменения манеры их оформления, прежде всего по-
явления внешнего абриса фигуры зверя (напомним, что на рас-
сматривавшихся до сих пор памятниках в этом качестве высту-
пал контур самой бутероли); в этом отношении скифские свер-
нувшиеся хищники ближе к лежащим зверям из того же Зивие,
чем к изображениям на бутеролях; одновременно логика изо-
бражения потребовала обозначения и внутреннего контура фи-
гуры хищника. Одним из побочных результатов отрыва от
контура бутероли стало появление у свернувшихся хищников
раннескифского искусства необычно длинной шеи, которая по
необходимости заполняла пространство между размещенными
у двух вершин упомянутого условного треугольника головой и
лопаткой п.
112
Отметим, что раннескифское искусство демонстрирует на-
бор достаточно вариативных воплощений рассматриваемого
мотива, в том числе по степени приближения фигуры зверя к
замкнутому кольцу. Так, на бляшке из кургана у с. Константи-
новка (рис. 12, а) [Либеров, 1951, рис. 45, б] между концом
морды и крупом хищника остается достаточно большое рас-
стояние. Этот же мотив, четырехкратно повторенный на кресто-
видной детали сбруи меча из Келермеса (рис. 12, б) [ScA.
1987, табл. 8], фиксирует разную меру такой замкнутости. В
фигурах, украшающих келермесскую пантеру (рис. 7, а), эта
тенденция получает свое завершение, хотя — в отличие, к при-
меру, от изображения на костяной пронизи из того же Келер-
меса (рис, 7, в) —общий их абрис ближе не к кругу, а к полу-
кругу “2. Все названные варианты практически не разведены во
времени, а это означает, что мы наблюдаем достаточно стреми-
тельное формирование принципиально нового изобразительного
мотива. Но при всей отмеченной вариативности во всех перечис-
ленных случаях представлен явно свернувшийся, а не согнутый,
как на диадеме из Зивие, зверь, т. е. с точки зрения воплощен-
ной в нем идеи этот мотив всегда однороден и достаточно само-
бытен.
В связи с историей рассматриваемого мотива специального
внимания заслуживает известная роговая бляха из кургана на
Рис 13. Костяная бляха
из кургана
иа Темир-горе (а)
и предскифская
луииица (б)
а
5
Темир-горе (рис. 13, a) [ScA, 1987, табл. 6]. По характеру изо-
бразительной трактовки морды зверя (точечный глаз, кольце-
видное ухо, целиком вынесенное за контур головы) это изобра-
жение явно выпадает из линии развития, возводимой к стилю
«скифского Зивие», и, пожалуй, ближе всего упомянутой бляш-
ке из Константиновки. Но именно в темиргорской бляхе с наи-
большей обнаженностью проявляется структура равносторонне-
го треугольника с округлыми элементами на вершинах, просле-
женная нами на бутеролях; в данном случае, однако, она ис-
пользована для воплощения не согнутого, а свернувшегося зве-
ря. Такая структура бляхи с Темир-горы позволила одному из
авторов данной работы высказать предположение о ее генети-
ческой связи с известными предскифскими лунницами (рис. 13,
б), составленными из кружков [Раевский, 1985, с. 133].
8 Зак. 358
113
Некоторые моменты как будто указывают, что отмеченная
тотальная подчиненность воплощений мотива как согнутого, так
и свернувшегося зверя структуре равностороннего треугольника
может быть объяснена влиянием тех же лунниц. Так, достойно
внимания, что целому ряду ахеменидских бутеролей, для кото-
рых характерны подтреугольные очертания с акцентирова тными
округлыми (иногда — полукруглыми) элементами на вершинах
треугольника, присуще украшение двух из этих элементов, со-
ответствующих лопатке и бедру зверя, параллельными дуговид-
ными каннелюрами (рис. 9), которые, на наш взгляд, правомер-
но возводить к орнаментации звеньев предскифских лунниц
концентрическими окружностями. Скорее всего, здесь сказались
какие-то неясные для современного исследователя семантиче-
ские моменты.
Подведем общий итог предпринятого анализа. По нашему
мнению, формирование специфичного для скифского искусства
мотива свернувшегося хищника произошло в процессе исполь-
зования образа зверя, выполненного в традициях Зивие, для де-
корировки поля, конфигурация которого связана с формой и
структурой предскифских лунниц. Поскольку на пре тметах пе-
редне? зиатско-кавказского круга этот мотив использовался пер-
воначально преимущественно для украшения бутеролей, про-
изошло его слияние с известным древнему Востоку способом
орнаментации этих предметов геральдической парой животных,
трансформировавшейся в одиночную фигур) Процесс этот, без
\словно, не был чисто формальным — весь его ход определялся
той семантикой, которая в скифской среде приписывалась как
самом) воплощаемому зооморфному образу, так и позе изо-
бражаемого животного, а также предмету, для украшения ко-
торого этот мотив служил [Раевский, 1985, с 116 сл.]
Нам бы не хотелось, однако, быть понятыми таким образом,
что все рассмотренные выше и многие другие воплощения ана-
лпзпр)емого мотива могх г быть выстроены в линейной генети-
ческой и соответственно хронологической последовательности.
Интерес) ющий нас процесс сложения этого мотива протекал,
очевидно, достаточно сложно, и потому в имеющемся материале
прослеживаются параллельно бытовавшие его варианты, приво-
дившие к достаточно автономным по визуальным характеристи-
кам результатам Именно в таком ключе можно, видимо трак-
товать различие межд) декором кавказских бутеролей, орна-
ментацией ахеменидских предметов того же назначения и об-
разом свернувшегося зверя в собственно скифском иск)сстве.
Что касается скифского образа, то его окончательное оформле-
ние происходило, судя по всему, на территории Предкавказья, и
этот вывод в известной мере -— с продиктованными новейшими
находками коррективами — возвращает нас к гипотезе Б. Н.Гра-
кова [1971, с. 102], считавшего зоной окончательного сложения
скифскою звериного стиля Прикубанье.
Неоднозначной предстает судьба мотива свернувшегося хищ-
114
Рис 11 Формирование мотива свернувшегося хищника в скифском искусстве
(а—бутероль. Зивие; б — предскифская лунница; в — диадема. Зивие; г —
уздечная бляш.;а. Уйгарак; д — бутероль. Дарьевка; е — бутероль. Кармир-
блур; ж, з — бутероли. Иран; и — бляшка. Темир-гора; к—бутероль. Рук;
л, м, н — бутероли. Тли; о—бутероль. Нартан; п — зеркало. Келермес; р —
пронизь. Келермес; с — бляха. Зивие)
8*
115
в
Рис. 15. Головки хищных птиц на предметах из
коллекции Зивие (а, б, в — золотые диадемы; г —
серебряный диск)
Рис. 16. Бронзовые псалии с птичьей головкой
(а—Зивие; б — Галиат)
ника и в рамках истории искусства ски-
фов уже после его формирования. Еще в
эпоху архаики в отдельных его вопло-
щениях можно проследить влияние но-
вых, т. е. не участвовавших в его форми-
ровании. культурных традиций. Так,
свернувшийся зверь на крестовидной бля-
хе из Ольвийского некрополя (рис. 12,
г), выполненной, очевидно, греческим
мастером, отличается существенно мень-
шей степенью стилизации, что, возможно,
следует объяснять прямым влиянием до-
статочно жизнеподобного античного ис-
кусства; впрочем, нужно иметь в виду, что
сходную трактовку мы обнаруживаем и в
изображениях, происходящих из Днепровской лесостепи (рис. 12,
в). Только греческий торевт, на наш взгляд, мог позволить себе
такое нарушение строгого канона, которое обнаруживается на
бляхе из Ак-Буруна [ScA, 1987, табл. 92]: здесь передняя запа
зверя дополнительно согнута в суставе, так как в поле изобра-
жения не хватало места для традиционного размещения стопы.
Вместе с тем в ряде памятников прослеживается прямо про-
тивоположная тенденция — возобладание в построении изобра-
жения декоративно-орнаментального начала. В этом смысле
весьма показательна, к примеру, известная бронзовая бляха из
кургана К} таковского [ScA, 1987, табл. 61]. Мы видим здесь
нарочитое удлинение туловища зверя, по сути превращающее
его фигуру в откровенное кольцо; уже упомянутое встречно-
параллельное размещение ног, образующих чисто условную
ромбовидную фигуру со стопами у ее вершин; введение в изо-
бражение так называемых зооморфных превращений, о которых
речь пойдет ниже. Та же тенденция к декоративности опреде-
ляет расположение стоп и кончика хвоста, одинаково трактован-
ных в виде кружков, строго на одной прямой у свернувшегося
хищника на бутероли из Гудермеса (рис. 7, г) [Виноградов,
1974, рис. 2].
Конечно, описанные преобразования первоначально сформи-
116
ровавшегося образа на практике могли протекать достаточно
стремительно, и потому типологические различия между отдель-
ными памятниками, пусть даже весьма значительные, сами по
себе вовсе не требуют резкого разведения сопоставляемых пред-
метов на абсолютной хронологической шкале. Тем не менее
отмеченная эволюция должна приниматься во внимание при
исследовании истории рассматриваемого мотива.
Наше представление о формировании и эволюции скифского
мотива свернувшегося хищника — разумеется, лишь в основных
чертах — отражает предлагаемый вниманию читателей граф
(рис. 14).
С у четом всего сказанного следует рассматривать и вопло-
щения того же мотива свернувшегося хищника на предметах
из восточных областей евразийского степного пояса, до сих пор
нами сознательно ие привлекавшиеся. Приходится констатиро-
вать, что на фоне эволюции, которую мы проследили на перед-
неазиатско-кавказско-прпчерноморских материалах, восточные
памятники в абсолютном большинстве демонстрируют то тяго-
тение к орнаментальной декоративности, которое выше было
охарактеризовано как итог достаточно активного развития мо-
тива. Как бы ни противоречило это господствующим в совре-
менной специальной литературе взглядам, сказанное относится,
в частности, к столь важному для дискуссии о происхождении
звериного стиля памятнику, как бронзовая бляха из кургана
Аржан (Грязнов, 1980, рис. 15, 4]. На данном этапе исследова-
ния мы оставляем в стороне вполне наглядное отличие прису-
щих этому памятнику способов моделировки тела зверя и ха-
рактера стилизации отдельных деталей его фигуры от тех, кото
рые характерны для собственно скифского искусства. Что же
касается обшей схемы изображения, то при несомненном ее
тождестве с представленной в восточноевропейских изображе-
ниях именно в аржаиской бтяхе ясно прослеживается прежде
всего нарочито геометризоваиное размещение ног и откровенно
кольцевидная трактовка туловища животного.
Если обратиться к другому’ известному' восточному памятни-
ку — золотой бляхе из Сибирской коллекции [Руденко, 1962,
табл. VI, /], как и к ее зеркальному’ двойнику — случайно най-
денной бронзовой бляхе из частного собрания [ASA, 1970,
рис. 38]. то к двум названным элементам нарочитой стилиза-
ции следует добавить также упомянутое выше размещение на
одной прямой линии кольцевидных стоп и кончика хвоста. Это,
конечно, не первоначальное воплощение только возникающего
мотива, а плод тостаточно целенаправленной его обработк",
п^сть и осуществленной весьма стремительно за претелыю
краткие сроки.
Специальный интерес представляют известные золотые плас-
тины из Майэмира на Алтае. Традиционно их причисляют к
древнейшим воплощениям интересующего нас мотива [Тртамо-
нов, 1968, с. 34; Черников, 1965, с. 59—61; Баркова, 1983, с. 20].
117
Иногда а ют вывод покоится на рассуждениях о степени стили-
зованности образа и предполагаемом направлении развития
этой стилизации, иногда — на прямом сопоставлении со свер-
нувшимся зверем из Саккыза, интерпретируемым как органич-
ный компонент скифского пласта Зивие, иногда же — исходя ис-
ключительно из принятых дат сопоставляемых комплексов.
Что касается второго аргумента, то, как мы пытались пока-
зать выше, он скорее всего несостоятелен ввиду обособленного
положения изображения свернувшегося зверя среди памятников
«скифского Зивие». Последний же аргумент весьма уязвим
вследствие того, что сами абсолютные даты этих комплексов, не
имеющие иной опоры, устанавливаются по преимуществу исхо-
дя из стилистических сопоставлений различных воплощений ис-
следуемого мотива. Таким образом, по существу, все предлагав-
шиеся построения покоятся на первом из перечисленных аргу-
ментов. Однако проблема направления и характера стилистиче-
ской эволюции изображения свернувшегося хищника решается,
как мы видели, далеко не однозначно. Применительно к май-
эмирским пластинам нельзя не отметить такие черты, как наро-
читое удлинение шеи и туловища зверя и упоминавшееся деко-
ративное по самой сути «встречно-параллельное» размещение
ног. Что касается такого аргумента, как «реалистичность обра-
за майэмирских хищников» [Баркова, 1983, с. 27], то на мате-
риалах саккызско-келермесского круга изображений мы уже
отмечали тенденцию возвращения к целостному' образу зверя,
сменяющему возникшее на определенном этапе эволюции изо-
бражение лишь отдельных его элементов. В случае с майэмнр-
скимн памятниками такая вторичная натурализация образа
осуществлялась с использованием изобразительных приемов,
специфичных лишь для восточных регионов евразийского степ-
ного пояса (в частности, это проявилось в трактовке зубастой
пасти), что обеспечило значительное своеобразие этих памятни-
ков по сравнению с восточноевропейскими, и вряд ли соответст-
вующие особенности майэмирских изображений свернувшегося
хищника можно безоговорочно рассматривать как доказательст-
во их принадлежности к ранним звеньям единого с причерно-
морскими памятниками типологического ряда.
Несколько иначе выглядят в контексте рассматриваемого во-
проса воплощения того же мотива в материалах могильника
Уйгарак и Пятого Чиликтинского кургана [Черников, 1965,
табл. XV, XVI, /|. В этом последнем представлено несколько
вариантов трактовки свернувшегося зверя. Компактностью и
почти полным отсутствием ажурности они ближе к келермес-
ским изображениям, чем к памятникам восточных областей ев-
разийского пояса. К тому же кругу тяготеют трактовка морды и
кольцевидные окончания лап зверя на некоторых чиликтинских
бляхах. Достаточно ощутима здесь охарактеризованная выше
схема трех кружков, размещенных по вершинам равносторон-
него треугольника, причем в данном случае на ряче экземпля-
118
ров эти вершины особо подчеркнуты цветными вставками (от
которых сохранились гнезда). Треугольником размещены на
этих бляхах и концы лап и хвоста, что составляет специфиче-
скую особенность данного варианта и еще раз подчеркивает
связь зооморфного мотива с геометрическим. Одна из чиликтин-
ckiix блях приближается к треугольнику и своим общим абри-
сом Однако большинство блях этого рода из Чпликты нарочито
кольцевидны, хищник имеет здесь удлиненные шею и тулови-
ще. и этим они близки к аржанскому изображению.
В Уйгараке параллельно представлены по крайней мере два
варианта воплощения интересующей нас иконографической схе-
мы [Вишневская, 1973, табл. IX, 16, 15]. В первом лапы зверя
достаточно естественно размещены под прямым углом одна к
др^ гой, что в прослеженном выше процессе эволюции схемы со-
ответствует достаточно ранней стадии. Любопытно, что, по-
скольку такое «складывание» фигуры зверя само по себе не
смогло обеспечить образование замкнутого кольца, между' хво-
стом и мордой потребовалось поместить дополнительную пере-
мычку, анатомически никак не оправданную. Во втором вариан-
те уже явно преобладает орнаментально-декоративное построе-
ние— размещенные встречно-параллельно лапы образуют ром-
бовидную фигуру. При этом оба варианта представ чены на
предметах, входящих в инвентарь одного и того же кургана 33,
что небезынтересно с точки зрения оценки скорости развития
рассматриваемой схемы и подтверждает 1езпс об уязвимости
опоры на композиционные особенности трактовки данного мо-
тива при решении вопроса о соотношении различных его вопло-
щений во времени.
В том же могильнике Уигарак (курганы 27 и 28) наше вни-
мание должен привлечь еще один вариант изображения хищни-
ка— на бляхах от конской сбруи [Вишневская, 1973, табл. IX,
8 и X, 12]. Это изображение (рис. 14, г) крайне стилизовано:
здесь представлена не вся фигура зверя, а лишь его голова на
сравнительно короткой шее и лопатка с передней лапой (или
бедро с задней?). Но размещены они таким образом (конец ла-
пы примыкает к пасти), что вполне правомерно рассматривать
данное изображение как еще одну вариацию на тему' мотива
свернувшегося зверя; это свидетельствует, что именно семанти-
ческая обусловлечносгь рассматриваемой схемы вызвала к жиз-
ни поиски различных с формальной точки зрения путей вопло-
щения заложенной в ней идеи.
В то же время уйгаракские бляхи этого варианта, по суще-
ству, воспроизводят мотив, который мы видели па саккызскоч
бутероли, но не в парном геральдическом, а в одиночном
(как на бутероли из Дарьевки) варианте; весьма сходна с сак-
кызской п манера стилизации морды зверя. Показательно на-
личие в уйгаракскпх курганах и блях с парным изображен см
аналогично трактованных голов зверя; однако размещены онi
не мордами друг к другу, как на бутероли из Зивие, а как бы
119
паралельно [Вишневская, 1973, табл. X, 10,11]. По существу,
эти предметы из Уйгарака демонстрируют тот же процесс пре-
вращения парной геральдической композиции в одиночную фи-
гуру свернувшегося зверя, который мы выше проследили на ма-
териалах Кавказа и Восточной Европы, но здесь мы видим са-
мостоятельный вариант этого процесса. При этом заслуживает
специального внимания трактовка лопатки (или бедра) у оди-
ночных изображений хищника на предметах этой серии в виде
кружка с концентрическим орнаментом, уже знакомого паи по
предскифским лунницам 13. Иными словами, каждый вариант
развития интересующего нас мотива демонстрирует самобытное
взаимодействие одних и тех же исходных моментов: схемы де-
кора саккызской бутероли, лунниц предскифской эпохи и идеи
сгибающегося до замкнутой кольцевой композиции хищника.
Мы рассмотрели, конечно, далеко не все воплощения свер-
нувшегося хищника, известные для раннего времени в азиат-
ской части евразийского степного пояса. Но и привлеченные
материалы позволяют представить себе судьбы этого мотива в
искусстве Евразии. Что касается Восточной Европы, то нам ка-
жется вполне очевидным происхождение представленных здесь
изображений этой серии из искусства скифского пласта Зивие
с окончательным оформлением иконографического и стилисти-
ческого канона на территории Северного Кавказа; обнаружен-
ные по обе стороны Кавказского хребта памятники документи-
руют практически все стадии этого эволюционного процесса. От-
носительно же истории появления и распространения аналогич-
ного мотива в азиатских областях следует заметить, что необхо-
димо учитывать высокую вероятность существования в разных
частях евразийских степей сходных семантических импульсов
для создания рассматриваемой схемы. Поэтому подобный образ
в принципе мог возникнуть здесь независимо и лишь позже —
вследствие легкости межкультурных контактов в пределах коче-
вого мира степей — приобрести сходные стилистические харак-
теристики па всем этом обширном пространстве. При этом ази-
атские племена с их богатыми древними изобразительными тра-
дициями могли бы создать этот мотив на основе местных обра-
зов. Теоретически такое допущение вполне правомерно, но мы
вынуждены констатировать, что реальными памятниками, доку-
ментирующими автономный процесс формирования данного мо-
тива в Азии, такая гипотеза не подтверждена.
Тем не менее в последние годы теория центральноазиатских
истоков рассматриваемого мотива получает все большею попу-
лярность. В качестве ключевых аргументов в ее поддержку по-
мимо ссылок на упомянутую бляху из кургана Аржап исполь-
зуются изображения на оленных камнях и китайские бронзы
эпохи Чжоу. Что касается первых, то в самом деле в настоящее
время известно несколько — не слишком, впрочем, много — до-
статочно ранних изображений свернувшегося хищника на сте-
лах из Монголии [Новгородова, 1989, с. 192, рис. на с. 175 и
120
179]. Однако они явно обособлены от той стилистической тра-
диции, которая характерна для всего остального изобразитель-
ного бестиария на памятниках этого круга, и скорее произво-
дят впечатление воспроизведения предметов, украшенных изо-
бражениями, к примеру бронзовых блях типа аржанской. Об-
стоятельство это, без сомнения, должно быть учтено при вос-
создании истории формирования рассматриваемого мотива.
Специально следует остановиться на представленных в лите-
ратуре соображениях о соотношении рассмотренных памятников
с китайской изобразительной традицией. А. В. Варенов, оцени-
вая гипотезу китайских археологов о китайских корнях этого
мотива скифо-сибирского звериного стиля, уже отметил сущест-
венное иконогпафическое отличие известных в Китае его вопло-
щений, датирующихся временем после 770 г. до н. э. и к тому
же представленных единичными экземплярами, от всех его ев-
разийских вариантов: голова зверя здесь развернута еп face 14.
«Своеобразие позы древнекитайского зверя» А. В. Варенов объ-
ясняет «влиянием со стороны восточноазиатской традиции изо-
бражения свернувшегося кольцом дракона, которая восходит
еще к эпохе Инь и допускает оба разворота головы этого мифи-
ческого существа: и в профиль, и анфас» [Варенов, 1984, с. 6].
Мнение, что именно древнекитайская изобразительная тра-
диция лежит в основе иконографии свернувшегося в кольцо
хищника [Kossack, 1987, с. 29, рис. 3; там же предшествующая
литература], базируется на том обстоятельстве, что в Китае из-
давна были известны кольцевидные зооморфные композиции.
О 'нако они принципиально отличны от степных памятников и
по содержанию, и стилистически. В основе китайских изображе-
ний лежит не собственно кольцо со смыкающимися концами,
как у интересующих нас хищников, а улиткообразная спираль,
и единственным распознаваемым — причем далеко не во всех
случаях — анатомическим элементом сугубо условно трактован-
но^о существа является его морда, помещаемая в центре этой
спирали, а не на внешнем ее контуре, как это характерно для
всех элементов тела скифо сибирских хищников. Постулировать
формально-генетическую связь между двумя указанными изо-
бразительными мотивами можно было бы лишь при наличии
памятников, документирующих по крайней мере какие-то про-
межуточные звенья соединяющей их эволюционной цепочки. Но
на сегодня они полностью отсутствуют, и это делает гипотезу о
центральноазиатско-дальневосточных корнях рассматриваемого
скифо сибирского мотива весьма уязвимой.
Другое возможное допущение состоит в том. что в искусстве
Южной Сибири и Средней Азии образ свернувшегося хищника
появился в результате прямого — помимо Кавказа и юга Вос-
точной Европы — заимствования из Передней Азии. Интересные
наблюдения о формировании образов карасукско-тагарского
искусства на ближневосточной основе были в свое время сде-
ланы Н. Л. Членовой. Однако сама исследовательница при
121
этом отмечала, что ее гипотеза предполагает существование
еще неизвестных нам переходных форм, которые должны быть
найдены в памятниках Афганистана, Восточного Туркестана,
Монголии [Членова, 1967, с. 129]. Между тем за двадцать с
лишним лет, прошедших с того времени, когда эта гипотеза бы-
ла сформулирована, необходимых подтверждений она не полу-
чила.
Возможно также, что имело место непосредственное заимст-
вование схемы свернувшегося зверя в среднеазиатско-сибирское
искусство из Восточной Европы, но при этом ее воплощение
здесь осуществлялось с использованием местных стилистических
приемов и с замещением обычной для саккызско-келермесского
круга пантеры изображениями животных, традиционных для
местного искусства. В этом случае также практически немед-
ленно должен был начаться процесс межкультурных взаимных
влияний, что и обеспечило значительную унификацию облика
найденных на разных территориях воплощений рассматривае-
мого мотива.
Все эти возможные трактовки интересующего нас культур-
ного процесса не затмевают того факта, что памятники сак-
кызско-келермесского круга демонстрируют процесс сложения
мотива свернувшегося хищника на всех последовательных его
стадиях, и к тому же именно в Причерноморье обнаруживаются
предметы, послужившие побудительным импульсом для сложе-
ния столь специфичной иконографической схемы (лунницы), тог-
да как азиатские находки, даже если трактовать материалы с
огромной территории как единую совокупность, скорее свиде-
тельствуют о постоянном проникновении сюда рассматриваемо-
го мотива, в том числе образов, характеризующих различные
стадии его формирования. Затем, попадая в разные культурные
контексты, данный мотив начинал развиваться каждый раз по-
разному, имея возможность, в свою очередь, оказывать влияние
па судьбы того же мотива в соседних областях. Этим-то и объ-
ясняется колоссальное многообразие его воплощений и абсолют-
ная невозможность выстроить их все линейно в единый эво-
люционно-типологический ряд.
Перейдем к следующему^ персонажу изобразптетыюго бе-
стиария скифского пласта Зивие и собственно скифского звери-
ного стиля. Речь идет о хищной птице, представленной в рас-
сматриваемом круге памятников в абсолютном большинстве
изображением лишь головы этого существа. Как и в предыду-
щих разделах, начнем с предметов из коллекции Зивие.
Головки хищных птип встречаются здесь неоднократно На
трех упомянутых выше фрагментах золотых диадем фигурки
припавших на лапы хищников сопровождаются орнаменталь-
ными поясами, составленными из птичьих голов (рис 15, с—s)
[Godard, 1950, рис. 29, /; Ghirshman, 1964, рис. 147, 386]. На
серебряном диске концентрические ряды всех иных изображе-
ний перемежаются рядами (общим числом три) изображений
122
птичьей головы (рис. 15, г) [Ghirshman, 1950, рис. 11; 1964,
рис. 142]. Скульптурная головка птицы венчает бронзовый пса-
лий (рнс. 16, a) [Godard, 1950, рис. 46]. Уже из этого перечня
видно, что головки хищных птиц — неотъемлемый элемент скиф-
ского пласта Зивие, устойчиво сочетающийся здесь с рассмот-
ренными выше изображениями хищников, но зато вне этого пла-
ста в коллекции Зивие вообще не представленный.
Все головки птиц из Зивие стилистически достаточно едины,
что свидетельствует об их принадлежности к одному культур-
ному кругу. Эти изображения состоят практически только из
двух деталей — большого выпуклого глаза, занимающего все
пространство самой головы и фактически просто ее заменяющего,
и массивного загнутого вниз клюва, у основания которого почти
всегда четко выделена восковица, а в нижней части помещается
изогнутая лепестковидная фигура, обозначавшая первоначально
внутренние очертания клюва, но в дальнейшем сильно схемати-
зированная. Характерной особенностью этих головок является
также способ их размещения в обшей композиции: как правило,
они расположены рядами, на первый взгляд производящими
впечатление чисто орнаментальных, поскольку' отдельные голов-
ки визуально стабо вычленяются из образованного ими бордю-
ра. Головки в рядах размещены либо друг другу' «в затылок»,
либо одна под другой, или же обращены в противоположные
стороны, образуя геральдические пары.
Этот мотив и стилистически, и композиционно необычен для
переднеазиатского искусства. В то же время птица вообще —
образ, широко представленный в разных изобразительных тра-
дициях древнего Ближнего Востока (см., например, [ASA, 1970,
рис 6; Salvatori, 1976, рис. 22, 23; Godard, 1965, рис. 124 и др.]),
и потому переднеазиатские истоки этого мотива в искусстве
скифского пласта Зивие не могут быть исключены. В этой связи
прежде всего привлекают внимание известные здесь головы
птиц с подчеркнуто крупным клювом. Они встречаются, напри-
мер, в искусстве Урарту на некоторых изображениях грифонов
и орлиноголовых антропоморфных гениев. На их массивных
сомкнутых (а не открытых, как у большинства переднеазиат-
ских грифонов) клювах хорошо виден край восковицы, а линия
внутреннего контура клюва четко отделяет его более широкое
надклювье, т. е. верхнюю челюсть, от подклювья — нижней че-
люсти (см., например, [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, рис. 8,
№ 85, 138, рис. 9, № 22; Пиотровский, 1962, табл. X, XI, /9]).
Подобного же типа клюв мы видим у грифонов Кархемыша
[Maxyyell Hyslop, 1956, табл. XXII, 2] и у орлиноголового гения
на одной из пекторалей Зивие [Ghirshman, 1964, рис. 379]. Отме-
ченные особенности трактовки клюва, несомненно, заслуживают
внимания в контексте нашей темы, но в целом переднеазиатские
грифоны достаточно сильно отличаются от схематичных птичьих
головок скифского пласта Зивие, поскольку обычно представ те
ны всей фигурой с большим количеством деталей.
123
Широкое использование в изобразительной композиции от-
дельных птичьих головок характерно для культуры луристан-
ских бронз. В большинстве своем это «петушиные головы», по-
лучившие такое определение из-за часто встречающегося в верх-
ней их части зубчатого гребня, иногда заходящего и на самый
клюв (рис. 17, а, б); известны, впрочем, головки и без гребня
[Potratz, 1968, рис. 259]. Характерными особенностями этих
изображений являются большой выпуклый глаз, практически
заменяющий голову (выпуклый, нарочито увеличенный глаз во-
обще, как известно, свойственен луристанским изображениям),
и массивный загнутый клюв [Godard, 1965, табл. 13].
Рис. 17. Птичьи головки на
бронзовых предметах из Лу-
ристана
По-видимому, изображением клюва является спирально за-
крученный боек на одном из луристанских топоров [Godard,
1965, рис. 89]. У птиц в луристанском искусстве встречаются
изображения восковицы и обозначение внутреннего края клюва
рельефными полосами [Ghirshman, 1964, рис. 56; Vanden Berghe,
1968, табл. XXXVII; Potratz, 1968, рис. 249, 258, 259; Моогеу,
1971, рис. 176, 179, и др.]. Знает это искусство и изображения
целых фигур птиц и грифонов, головки которых сохраняют от-
меченные стилистические особенности (см., например, [Моогеу,
1975, рис. 5]), но таких фигур в луристанских бронзах не мно-
го. Что же касается изображений отдельных птичьих головок,
то они украшаю'' самые разнообразные предметы, и традиция
эта была в искусстве Луристана достаточно древней [Godard,
1965, рис. 13; Calmeyer, 1969, рис. 48, 49; 1976, рве. 8, и др.].
Головки птиц используются здесь прежде всего в качестве до-
полнительного элемента для декорирования фигур других су-
ществ. Особенно часто украшаются птичьими головками хищ-
ники на штандартах, уже рассмотренные выше и, как мы пыта-
лись показать, послужившие, очевидно, непосредственным ис-
точником при сложении образа хищника в искусстве скифского
пласта Зивие.
Стабильное сочетание мотивов хищника и головы птицы на-
ряду с отмеченными стилистическими особенностями луристан-
ских птичьих голов позволяет предположить, что и на формиро-
вание этого мотива искхсства «скифского Зивие» луристанские
традиции оказали определяющее влияние. Р. Гиршман утверж-
дал, что существует прямая связь между воплощением этого
мотива на упомянутых диадемах из Зивие и на одной диадеме
из Луристана, но не воспроизвел сопоставляемый предмет в
124
Рис. IP Головки хищных птиц на раннескифских древностях (а, к, л — про-
низи. Кармир-блур; б — поясная бляха. Мельгуновский курган; в — деталь
декора бронзового навершия. Ульский курган № 2; г — костяная пластина.
Кармир-блур; д — костяной наконечник. Семеновка; е — деталь декора ло-
пасти ножен меча. Келермес, курган 1/1903; ж—наконечник. Нижние
Серогозы. курган № 3; з — наконечник. Курган иа Темир-горе; и—пронизь.
Келермес; м — наконечник. Нартан, курган № 6; н — деталь псалия. Жаботин,
курган № 2; о — деталь псалия. Грушевка)
своей работе и не дал конкретных ссылок на его публикации
[Ghirshman, 1964, с. 317], что не позволяет оценить правомер-
ность этого сближения.
Если в целом наше предположение о луристанских истоках
саккызского мотива птичьей головы верно, то, сравнивая па-
мятники этих двух групп, следует отметить, что, как и в рас-
смотренном выше случае с образом хищника, создатели искус-
ства скифского пласта Зивие, используя луристанские мотивы,
шли по пути подчеркнутого выделения основных необходимых
для опознания образа черт, редуцируя остальные, и это при-
водило к определенной схематизации, обеспечивая в конечном
счете формирование собственного, достаточно специфичного
стиля.
Обратимся теперь к скифским материалам, где мотив головы
хищной птицы также является, как известно, одним из наиболее
устойчивых и широко представленных. Здесь он выступает, во-
первых, в качестве самостоятельного элемента, причем в ряде
125
лучаев, будучи многократно повторен, создает орнаментальный
бордюр либо сплошное орнаментальное заполнение декорируе-
мой поверхности, а во-вторых (особенно часто),— как дополни-
тельный зооморфный элемент, украшающий другие изображе-
ния животных.
Ближе всех к трактовке, уже знакомой нам по памятникам
Зивие, головка птицы, изображенной полностью и выполненной
в целом в переднеазиатских традициях, на поясных бляхах из
Мельгуновского кургана (рис. 18, б). Здесь мы видим такое же,
как на саккызских диадемах, сочетание крупного круглого гла-
за и загнутого клюва, внутренний контур которого обозначен
изогнутым лепестком. Сходно трактована голова у выполненных
по той же схеме изображений птицы с распростертыми крыль-
ями на бронзовых бляхах от конской сбруи из кургана Г у Жу-
ровки [Петренко, 1967, табл. 31, 14} и из Золотого кургана в
Крыму [Артамонов, 1966, табл. 74].
Трактовка птичьей головы, почти идентичная представлен-
ной на описанных памятниках, живет в скифском искусстве до-
статочно долго (ср., к примеру, окончание бронзового псалия из
Нимфейского некрополя [ScA, 1987, табл. 96], бронзовую голов-
ку из кургана 1 у с. Волковцы [Шкурко, 1976, рис. 4, 6] и т. п.).
Параллельно в Скифии с самого раннего времени известны и
модификации той же схемы. Напомним знаменитую костяную
головку из кургана на Темир-горе (рис. 18, з), дополненную
различными зооморфными мотивами, о чем речь пойдет ниже.
Здесь прежде всего бросается в глаза трактованный сходно с
описанными памятниками гипертрофированный клюв. Что ка-
сается глаза, то он обозначен небольшим кружком, но окру-
жающий его сферический объем головы замещает в общей
структуре изображения знакомый нам по памятникам Зивие ок-
руглый крупный глаз. Та же схема сохраняется в изображениях
головок птицы, составляющих внешний бордюр лопасти на
ножнах келермесского меча [ScA, 1987, табл. 32] или заменяю-
щих окончания лап одного из хищников на рукояти келермес-
ской секиры [ScA, 1987, табл. 38], но глаз трактован в обоих
этих случаях усложнение: помимо округлого ядра он имеет до-
полнительные элементы, в частности линейную разделку над-
глазья. Вместе с тем в эпоху архаики известны и случаи дове-
денной до предела схематизации рассматриваемого мотива; при-
меры этого мы находим на костяных пластинах из Кармир-блу-
ра, где помещенные несколько наискосок птичьи головки обра-
зуют вертикальный орнаментальный ряд (рис. 18, г) [Пиотров-
ский, 1955, рис. 9], и на костяной рукоятке ножа из кобанского
поселения Уллубаганалы [Ковалевская, 1984, рис на с. 51].
Наиболее оригинальная по сравнению с искусством скиф-
ского пласта Зивие модификация данного мотива в искусстве
собственно скифском — изображение уже не просто загнутого, а
закрученного (иногда даже в многовитковую спираль) клюва.
Особенно широко этот вариант представлен в сравнительно
126
позднем зверином стиле, но, к примеру, в Закавказье и на Се-
верном Кавказе он достаточно хорошо известен уже в эпоху
архаики.
Иногда — в случаях, когда сам клюв передан достаточно
обобщенно,—такая закручепность обозначается посредством
помещения у конца клюва сквозного отверстия. Сюда следует
отнести серию предметов из Кармир-блура [Есаян, Погребова,
1985, табл. 19, 1, 2, 11] |5. Стилизованная головка птицы, состоя-
щая из округлого глаза и массивного, закрученного в спираль
клюва, украшала ножны кинжала, найденного в Тлийском мо-
Рис. 19. Бронзовые
наконечники ножен
кинжалов
(а, б — Кобанский
могильник;
в — Дванский могильник,
погребение 4)
гильнике [Техов, 1980, рис. 23, 6] Головки такого типа пред-
ставлены в Кармир-блуре (рис. 18, а) и в курганах Нартана
(рис. 18, м) [Батчаев, 1985, табл. 21, 23, 24, 37, 4—S] 16. Тот же
мотив лежит в основе декора известных наконечников ножен из
Закавказья и с Северного Кавказа, у которых сужающийся
нижний конец переходит в тонкую спираль или кольцо, заме-
няющие клюв, а глаз передан округлой выпуклостью (рис. 19,
см. также [Макалатия, 1949, рис. 6; Крупнов, I960, табл. 75, 2,
3]).
Целая серия воплощений именно этого варианта мотива го-
ловы хищной птицы обнаруживается в памятниках раннескиф-
ского периода Предкавказья и Причерноморья. Так, пронизи из
Келермеса (рис. 18, и) своей формой воспроизводят саму пти-
чью голову' с массивным загнутым клювом, а отверстие для рем-
ня композиционно соответствует глазу' птицы. Широко распрост
ранены и упрощенные модификации таких пронизей (рис. 18, к,
л). Известные навершия из Ульского кургана № 2 (см. рис. 31)
не только сами имеют форму птичьей головы с большим закру-
ченным клювом, но и украшены по краю бордюром из таких же
голов (рис. 18, в); поверхность их клювов разделана параллель-
ными бороздами. Тремя лучами крестовидной бляхи из Ольвии
[ScA, 1987, табл. 18] служат аналогично трактованные головки
птиц с рубчатой полосой восковицы над клювом. Орнитоморф-
иый наконечник рогового псалия из Жаботинского кургана № 2
(рис. 18, w) [Ильинская, 1975, табл. VI, 10] трактовкой клюва
сходен с келермесскими пронизями. Перечень подобных скиф-
ских изображений может быть продолжен (рис. 18, д, о и т. п.).
Если скифская трактовка головки хищной птицы с загнутым
127
ктювом находит, как мы видели, достаточно близкие прототипы
в переднеазиатском искусстве, то только что рассмотренному ее
варианту — с закрученным в кольцо или в спираль клювом —
подобрать там столь же близкие параллели не удается. Но
полностью отрицать возможность возведения его к тому же
кругу представляется нам неправильным. Напомним, к примеру,
уже упоминавшийся выше луристанский топор с закрученным
бойком. Он не имеет откровенно орнитоморфного оформления,
но оригинальная трактовка бойка позволяет допустить, что он
осмыслялся как птичий клюв, и именно этот мотив в несколько
трансформированном виде вполне мог быть воспринят скифским
искусством.
В поисках прямых соответствий между древностями Зивие и
юга Восточной Европы нельзя не обратить внимание на брон-
зовые трехпетельчатые псалии, найденные в кобанском могиль-
нике у с. Галиат (рис. 16, б). Они увенчаны птичьими головками
с крупными клювами [Крупнов, 1960, табл. 14, 5, 6]. Одна из
этих головок — с выступающим глазом и отверстием у конца
клюва — особенно близка головке на бронзовом псалии из Зи-
вие. Отметим попутно, что нижние концы этих псалиев имеют
форму копытца, что весьма интересно в свете данных, приводи-
мых ниже.
Итак, нам представляется очевидным, что головки хищных
птиц в искусстве скифского пласта Зивие и в собственно скиф-
ских памятниках одного происхождения и относятся к наибо-
лее ранним мотивам скифского звериного стиля. Их генетиче-
ские истоки в искусстве Передней Азии также достаточно ве-
роятны, хотя несомненна значительная переработка исходного
мотива. В настоящее время наиболее обоснованным представля-
ется возведение их к искусству луристанских бронз17. Можно
добавить, что стилистическая трансформация, которую претер-
пел этот древневосточный мотив при внедрении в искусство
скифского пласта Зивие, в целом идентична той, которую мы
отметили ранее для других испытавших аналогичную судьбу
мотивов. Это прежде всего выделение наиболее значимых эле-
ментов, сведение к ним всего изображения, что приводит, с од-
ной стороны, к их нарочитому увеличению, а с другой — к не-
избежной при этом общей схематизации. В известной мере под-
тверждает древневосточное происхождение рассматриваемого
скифского мотива и тот факт, что бордюр из подобных голо-
вок — непременный элемент декора кубков восточной (точнее —
иранской) формы, хорошо известных во Фракии в IV в. до и. э.
[ASA, 1970, № 139; Николов, 1986, № 165 и др.].
При анализе изображений хищной птицы в раннескифском
искусстве необходимо иметь в виду весьма тесную связь этого
образа с еще одним специфическим мотивом репертуара того
же искусства — с так называемой рогатой птицей (рис. 20).
Как и в предыдущем случае, речь идет главным образом об изо-
бражениях головы существа. Такие головки, выполненные в
128
5
декорировали верхний
Рис. 20. Изображения «рогатых
птиц» из Келер месских кур-
ганов
Рис 21. Бронзовые псалии с
зооморфными концами (а, б —
станица Подгорная; в — Нар-
тан, курган № 12)
конец ко-
обычные
круглой скульптуре, обычно
стяных псалиев, т. е. занимали то же место, что и
птичьи головки на псалиях, уже упоминавшиеся выше. Реже
головки «рогатых птиц» помещались на костяных или бронзо-
вых пронизях от узды. Во всяком случае, преимущественная
связь этого образа с конским убором очевидна (см., например,
[Шкурко, 1976, рис. 1, 5, 6, 7; Батчаев, 1985, табл. 39, 44, 45;
Артамонов, 1966, рис. 26; Галанина, 1983, табл. 8, 3, 4, 8, 12—14,
19 20, 9,4—7, 18,30, и др.]).
По общей трактовке изображенного существа головки птиц
и «рогатых птиц» на скифских псалиях весьма сходны, разли-
чаясь лишь наличием у последних загнутого рога. Прежде чем
анализировать этот мотив, следует, однако, отметить следую-
щее. Зооморфное оформление верхнего конца костяного псалия
в раннескифской культуре практиковалось достаточно широко,
и для этой цели использовались различные мотивы. При по-
пытке их систематизации обнаруживается наличие здесь наряду
с достаточно легко распознаваемыми существами многих как
бы переходных образов, сочетающих в себе черты различных
животных, что вынуждает нас в данный момент обратиться к
серии в целом, поскольку лишь такой совокупный анализ прояс-
няет историю сложения этих образов.
Так, по общим очертаниям и по трактовке рога изображения
«рогатых птиц» на псалиях в ряде случаев достаточно сходны с
известными на таких же псалиях головками баранов (рис. 21),
[Батчаев, 1985, табл. 33, 30, 35, 15; ScA, табл. 29; Шкурко, 1976,
рис. 1, 13; Ложкин, Петренко, 1981, рис. 2, 3, и др.]. В свою
9 Зак. 358
129
130
е
Рис. 22. Псалии с зооморфным декором (а — Зивие; б - Внут-
ренняя Монголия; в — Семибратний курган № 4; г, д — Нар-
тан, курган № ,18; е — Нартан, курган № 23; ж, — Старшая
Могила; и — Волковцы, курган № 2/1886; к — Райгород, кур-
ган № 1)
очередь, эти последние характером трактовки рта близки к го-
ловкам существ, не имеющих рога (см., например, [Батчаев,
1985, табл. 53, 4, 5, 45, 34, 35; Шкурко, 1976, рис. 1, 5, 9, 10,
и др.]) (рис. 22, г, д, ж—к). Наличие острого торчащего уха
(нередко сердцевидного) и четко выделенной пасти позволяет
опознать в этих последних уже встречавшихся нам в скифском
искусстве «хищников Зивие» 18.
Специально следует отметить, что отдельные находки псали-
ев указанного типа с зооморфным декором были сделаны на
Ближнем Востоке. Так, фрагмент псалия с бараньей головкой
обнаружен в Хасанлу [Курочкин, 1982, рис. 1]. Из Норшун-тепе
и Чавуш-тепе происходят соответственно пронизи и пластинча-
тый псалий, декорированные головками рогатых птиц [Kossack,
1987, рис. 10, 3 и 23, 7, 8; Есаян, Погребова, 1985, табл. XVIII, 3,
5]. Наконец, описанный выше набор вещей, входящих в скиф-
ский пласт Зивие, включает пластинчатый костяной псалий,
увенчанный головкой рогатого хищника (рис. 22, а) — уникаль-
ное сочетание элементов, характерных для различных образов,
обычных для этой серии. На фоне всех приведенных фактов и
должен анализироваться вопрос о сложении скифского образа
«рогатой птицы» и о его устойчивой близости к образам барана
и хищника
Уточним, что мотив «рогатой птицы» присущ лишь архаиче-
скому периоду истории скифского искусства; А. И. Шкурко
[1976, с. 91] ограничивает время его бытования в основном
первой половиной VI в. до н. э. Согласно предлагаемым в по-
следнее время датировкам, нижняя граница его существования
отодвигается в VII в. до н. э. [Галанина, 1983, с. 52—53; Kos-
sack, 1987; Полин, 1987]. Что касается ареала этого мотива в
евразийских степях, то он почти исключительно ограничен югом
Восточной Европы [Артамонов, 1968, с. 36]; наиболее восточные
находки — притом единичные — относятся к территории савро-
матской культуры [Смирнов, 1964, рис. 77, 1, 2].
Обращаясь к вопросу о происхождении образа «рогатой
птицы» в скифском искусстве, уделим специальное внимание
общей структуре декора предметов, на которых он, как сказано,
представлен наиболее часто, т. е. костяных пластинчатых псали-
ев. Напомним, что такой псалий в целом имеет трехчастное
строение: если верхний его конец оформлен в виде головки, то
нижний по очертаниям явно напоминает копыто; между ними
располагается функциональная часть псалия — стержень с тре-
мя отверстиями. Допустимо предположить, что имеющий такую
структуру псалий в целом обозначал как бы ставшее на дыбы
животное. Ниже мы специально вернемся к вопросу о том, как
могло возникнуть подобное осмысление этого утилитарного
предмета. Сейчас же лишь отметим, что наличие копыта как
будто указывает, что изначально в качестве изображаемого
животного выступало травоядное существо; учитывая охаракте-
ризованный репертуар представленных на псалиях зооморфных
9*
131
головок, это, видимо, баран. По мнению М. И. Артамонова [1968,
с. 35], иконографические истоки образа «рогатой птицы», обыч-
но называемой «барано-птицей» или «грифо-бараном», следчет
искать в слиянии отвислой бараньей морды, легко трансформи-
рующейся в изображении в загнутый клюв, с характерным для
хеттского, урартского и ионийского искусства образом орлино-
голового грифона с локонами на щеках, понятыми неопытным
инокультурным мастером как рога.
Конечно, нет оснований исключать возможность подобного
влияния изображений барана или грифона на формирование ис-
следуемого образа, но любые предположения о том, что именно
привело к формированию скифской «барано-птицы» — транс-
формация локонов или вертикально стоящих j шей грифона в
рога либо морды барана в клюв,— не могут быть аргументи-
рованы достаточно убедительно, поскольку мы не располагаем
изображениями, документирующими промежуточные стадии это-
го процесса. Для выяснения же изобразительных истоков скиф-
ского «грифо-барана» целесообразно проанализировать кон-
кретные способы передачи «птичьего рога».
Среди скифских древностей выделяется некоторое количест-
во головок (помещенных преимущественно не на псалиях, а на
пронизях), увенчанных типичным бараньим рогом. Рог этот
сильно изогнут и размещен в полном соответствии со схемой
изображения бараньей головы в переднеазиатском искусстве
(ср., например, керамический ритон из слоев первой четверти
II тысячелетия до н. э. поселения Кара-Хюйюк в Анатолии
[Bittel, 1976, табл. 62]). Согласно этой схеме основание рога
помещено непосредственно над глазом животного или несколь-
ко смещено к затылку; сам рог, идущий от основания назад,
очерчивает почти полную окружность вокруг глаза и уха, за-
канчиваясь спереди обращенным кверху острием, иногда высту-
пающим над черепом. В соответствии с этой схемой в скифском
искусстве трактованы не только собственно бараньи рога, но и
некоторые головки «рогатых птиц» (рис. 20) [ScA, 1987, рис. 9;
Есаян, Погребова, 1985, табл XVIII, 3; Пиотровский, 1950,
рис. 64; Ильинская, 1968, табл. IV, 2; Шкурко, 1976, рис. 1, 6,
7, И, 12].
Другой вариант рога имеет вид симметричной подковооб-
разной фигуры с обращенными кверху концами, обрамляющей
глаз снизу [Батчаев, 1985, табл. 39, 44, 45; Галанина, 1983,
табл. 8, 3, 4, 8, 12—14, 19, 20, 9, 4—7, 18, 30; Ильинская, 1968,
табл. IV, 8, 11]. Конечно, можно рассматривать обе эти формы
как искаженно-редуцированные изображения тех же бараньих
рогов, и некоторые экземпляры как будто подтверждают это
предположение [Ильинская, 1968, табл. IV, 4, 14], тем более
что иногда именно так изображаются и собственно бараньи
рога [Батчаев, 1985, табл. 33, 30, 35, 75; Шкурко, 1976, рис. 1,
18; ScA, 1987, табл. 29]. Однако обращает на себя внимание,
что в обоих вариантах скифский «птичий рог» окружает, как
132
правило, не голову, а один лишь глаз, и это наводит на мысль
о принципиально ином происхождении схемы.
В этом плане интересно уже упоминавшееся изображение
рогатого хищника на костяном псалии из Зивие. Уплощенный
трехдырчатый псалии, в целом близкий к рассматриваемым
скифским, имеет особенно четко выраженное трехчастное строе-
ние, включающее голову с массивной шеей, среднюю часть,
снабженную отверстиями, и «ногу» с копытом и с условно обо-
значенным шерстяным покровом голени19. Голова вытянутой
формы; четко очерченная крупная пасть в виде сплюснутой ли-
теры С; того же контура, но меныпего размера ноздря; круглый
врезной глаз; большое сердцевидное обращенное кверху ухо с
рельефной разделкой внутреннего пространства — все эти чер-
ты свидетельствуют, что здесь представлен уже знакомый нам
хищник, традиционный для «скифского Зивие».
Не соответствует этому образу рог, улиткообразной фигхрой
окружающий глаз и завершающийся спереди обращенным
кверху концом. Эта деталь, однако, окажется вполне объясни-
мой, если обратиться к выявленному выше прототипу хищников
Зивие, т. е. к луристанским «пантерам». Как уже отмечалось,
для передачи морды зверя в этом случае использовался спи-
ральный рельефный валик (см. рис. 3, 4, а, в). В частности,
чрезвычайно типично использование такого валика в качестве
внешнего контура глаза, причем конец этой волюты, направлен-
ный вверх впереди глаза, легко может быть истолкован как
аналогично расположенный рог [Ghirshman, 1964, рис. 53; Pot-
ratz, 1968, табл. 32, рис. 208; Vanden Berghe, 1983, № 282; Мо-
огеу, 1971, табл. 34, № 174, табл. 32, № 169, и др.], что мы, соб-
ственно, и видим на псалии из Зивие. Иногда этот валик обра-
зует подковообразную фигуру с обращенными кверху обоими
концами, возвышающимися над головой зверя, как два рогооб-
разных выступа (см. рис. 3, г) [Vanden Berghe, 1968, с. 122,
рис. 161]. Как расположенный перед глазом рог может быть
осмыслена и спираль, переходящая в верхнюю челюсть живот-
ного (см. рис. 3, а) 20.
Предположение о подобных истоках скифского образа «ба-
рано-птицы» уже было высказано Н. Л. Членовой [1967, с. 124],
считавшей, что головки луристанских «львов» были осмыслены
в скифском мире как птичьи головы под влиянием присущего
ему «культа хищной птицы». Но псалии из Зивие, особенно
наглядно демонстрируя связь с луристанским искусством, по-
зволяет несколько по-иному осветить механизм трансформации
мотива.
Отметим, что в Луристане выявляются корни не только того
способа стилизации зооморфного образа, который представлен
на костяных скифских псалиях. но и формы самих псалиев рас-
сматриваемого типа. Как уже отмечалось, в них предельно чет-
ко обозначена трехчастная структура предмета, порождающая
ассоциации с изображением вставшего на задние лапы зверя.
133
Если при этом учесть, что псалии всегда употреблялись в паре,
вполне наглядно предстает связь образуемой ими при морде
лошади фигуры с луристанскими штандартами, основным эле-
ментом которых является пара противостоящих, вертикально
размещенных животных (ср. рис. 3, а, в). Использование ге-
ральдической схемы, составляющей основу луристанского штан-
дарта, для оформления зооморфных псалиев убедительно доку-
ментируется более поздними находками из иных регионов —
такими, к примеру, как двухдырчатый псалий в виде фигуры
лошади (рис. 22, б), найденный на территории Внутренней Мон-
голии [ASA, 1970, с. 124, № 103] и композиционно совершенно
идентичный половине штандарта такого типа (ср., например,
[Amiet, 1976, рис. 204]). Напомним также, что классические
луристанские псалии периода, предшествующего интересующему
нас времени, часто оформлены в виде пары целых фигур жи-
вотного (лошади, козла, хищника и т. п.), и это создавало бла-
гоприятные условия для соотнесения названной детали конско-
го убора — даже принципиально иной конструкции — с зо-
оморфным образом 21.
Предложенное сопоставление скифских костяных псалиев,
сходного с ними псалия из Зивие, саккызских изображений
хищника и луристанских зооморфных образов, достаточно на-
глядно демонстрируя связи между всеми перечисленными куль-
турными фактами, не дает тем не менее возможности выстроить
единый линейный эволюционный ряд, в конце которого находи-
лись бы скифские трехдырчатые псалии с зооморфным декором.
Более того, по нашему представлению, сами попытки построе-
ния такого ряда, включающего по возможности весь наличный
материал, вряд ли правомерны, поскольку интересующий пас
процесс видится отнюдь не линейным. Так, в некоторых случаях
можно констатировать прямые иконографические связи между
луристанскими и скифскими древностями, минующие ту стадию
эволюции, которая представлена парадным, в известной мере
элитарным искусством Зивие. Отмеченное выше превращение
специфически трактованной морды хищника луристанских бронз
в голову «рогатой птицы» вряд ли могло произойти в рамках
скифского пласта Зивие — создания достаточно профессиональ-
ных мастеров, хорошо знакомых с приемами воплощения хищ-
ника в луристанском искусстве (см. выше) и потому защищен-
ных от десемантизирующих искажений исходного образа. Зато
спорадические прямые скифо-луристанские контакты, да к тому'
же при отсутствии у скифов прочных навыков изобразительно-
сти, легко могли привести как раз к таким искажениям и — как
результат — к формированию принципиально новых и достаточ-
но причудливых с точки зрения натуры образов вроде «рогатой
птицы».
Подобная причудливость возникающих мотивов сама по себе
ни в коей мере не означает, однако, что они имели чисто орна-
ментальна ю природу и что репертуар их определялся произ-
134
вольным сочетанием разнородных элементов и не был обеспе-
чен семантически теми представлениями, которые бытовали в
собственно скифской среде. Конечно, предложенный выше фор-
мальный анализ сложения подобных образов может породить
такое впечатление. Но вспомним, что в кавказской среде, с кото-
рой, как нам еще придется отмечать далее, скифы на раннем
этапе своей истории были весьма тесно связаны, издавна суще-
ствовали и семантическая связь образов барана и птицы [По-
гребова, 1984, с. 116—117], и даже изображения синкретическо-
го существа такого рода [Крупнов, 1960, табл. 5, 4, 49, 17, 18].
Другой пример. Если в соответствии со сказанным рассмат
ривать скифский костяной псалий как знак целой фигуры жи-
вотного, то сочетание копыта с головой барана выглядит вполне
оправданным, чего как будто нельзя сказать о тех случаях, ког-
да эта последняя замещается головой хищника или птицы. В
действительности же речь идет отнюдь не об утрате смысла —
просто здесь вступают в силу иные принципы использования зо-
оморфного изобразительного кода: оппозиции «птица — копыт-
ное-» или «копытное — хищник» служили в скифской культуре
средством обозначения различных уровней космологической
структуры [Раевский, 1985, с. 111 сл.], и странное по первому
впечатлению сочетание разных зооморфных мотивов в декоре
псалия по существу превращало этот предмет в лаконичную
космограмму, что вообще составляло семантическую базу скиф-
ского звериного стиля 22. По существу, сложение этого искусст-
ва есть плод диалектического взаимодействия смысловых и фор-
мальных моментов.
Все сказанное выше о зооморфных мотивах, украшавших
скифские костяные трехдырчатые псалии, представляет, на наш
взгляд, значительный интерес не только для уяснения истории
сложения некоторых конкретных оригинальных мотивов скиф-
ского анималистического искусства, но и для понимания самого
механизма формирования этого искусства. Его сложение ни в
коей мере нельзя сводить к восприятию скифами определенного
набора обладающих стабильным содержанием зооморфных об-
разов иной культурной традиции, претерпевших в скифской сре-
де известное изменение лишь с точки зрения способов вопло-
щения. В действительности в ходе этого процесса складывался
принципиально новый репертуар, каждый из мотивов которого
мог воспринимать элементы разных исходных изображений. В
этом отношении представляют интерес некоторые предметы, к
которым мы сейчас и обратимся, несколько нарушив порядок
анализа раннескифского искусства строго по мотивам.
В первую очередь в этой связи следует упомянуть серию
костяных пронизей от конской узды из Келермеса [ScA, 1987,
табл. 1 (средний рисунок); Галанина, 1983, табл. 8, 1, 2, 5, 6, 22,
23, табл. 9, 8]. На одной уплощенной грани каждой из пронизей
такого типа помещено рельефное изображение. По замечанию
Л. К. Галаниной, сам по себе подобный тип пронизей достаточ-
135
но редок в раннескифской культуре: помимо Келермеса он пред-
ставлен лишь среди находок из Кармир-блура [Галанина, 1983,
с. 49] 23. На двух келермесских пронизях изображен свернув-
шийся хищник, о котором речь шла выше. В данный момент нас
интересуют иные изображения (рис. 23, а).
Их структура достаточно сложна. По общему впечатлению
здесь представлена голова барана: достаточно легко опознаются
изогнутый рог, глаз, ухо и окончание морды животного. Но в от-
личие от рассмотренных выше скифских изображений головы
барана конец рога, обрамляющего дугу полукруглого щитка,
здесь обращен не вверх, а вниз. На концах противолежащего
Рис. 23 Костяная пронизь чз Келермеса и параллели ее декору (а — пронизь
Келермес, курган № 1 '1904, б — золотая бутероль. Зивие; в — бутероль.
Нартан)
дуге прямого края щитка размещены две сходные по общему
очертанию сердцевидные фигуры, одна из которых обозначает
ухо, а другая — окончание морды животного. Эти два элемен-
та — особенно если повернуть предмет так, чтобы они распола-
гались в верхних углах (что и сделано на нашем рисунке),— за-
ставляют вспомнить совершенно иной изобразительный мотив:
геральдическую пару хищников на бутероли из Зивие (рис. 23,
б), где идентичное положение в композиции занимают сердце-
видные уши обоих зверей. С этой бутеролью келермесские про-
низи сближают и общая полукруглая форма щитка, и мелкая
декоративная разделка дуговидного его края.
Другая линия связей объединяет эти пронизи с серией буте-
ролей, украшенных изображением одиночного свернувшегося
зверя (рис. 23, в). Здесь мы видим и тот же полукруглый абрис,
и выступающий за поле щитка отросток в одном из его углов,
на котором помещена сердцевидная фигура (морда барана на
келермесской пронизи или ухо хищника на бутеролях). В целом
создается впечатление, что обычная для бутеролей (причем для
разных вариантов) изобразительная схема использована здесь
для воплощения иного мотива путем трансформации уха (или
одного из ушей) хищника в сходно трактованное окончание
морды барана. Место согнутого тела зверя занял изогнутый рог;
при 5том как раз на том месте, где обычно помещалась лопатка
хищника, нанесен геометрический знак (кружок в квадрате), в
136
других изображениях маркирующий лопатку животного (ср.
изображения лосей на роговых бляшках из Жаботинского кур-
гана № 2 [Ильинская, 1975, табл. VI, 6] или бронзовые фигур-
ные бляшки из Келермеса [Галанина, 1983, табл. 10, 13, /6]| и
восходящий к так называемому киммерийскому орнамент} Се-
верного Причерноморья. Иными словами, перед нами еще один
вариант той трансформации геральдической пары, представлен-
ной на саккызской бутероли, в изображение единичного «персо-
нажа», которую мы уже проследили на кармнрблурской и ахе-
менидских бутеролях.
Возникший в процессе указанного переосмысления изобра-
жения уха способ обозначения морды животного сердцевидной
фигурой получил в раннескифском искусстве достаточно широ-
кое распространение в разнохарактерных изображениях: ср.
костяные псалии из Нартана [Батчаев, 1985, табл. 45, 34, 35,
табл. 53, 4, 5], где одна и та же сердцевидная фигура в одном
случае служит для обозначения уха, а в другом — пасти и нозд-
ри зверя (рис. 22, г, е) (см. также [Шкурко, 1976, рис. 1, 4, 9,
/<7]). Уже достаточно сильно переработанный, но тот же в исхо-
де прием находим мы на известных бронзовых навершиях из
Келермеса [ScA, 1987, табл. 60]. На этом примере видно, как
формировались не только новые иконографические схемы скиф-
ского звериного стиля, но и приемы стилизации отдельных эле-
ментов изображения. Чем более широкое распространение имел
в Скифии какой-либо мотив, тем более автоматизированным
становилось применение того или иного приема, что не могло не
сказаться на его судьбе в скифском искусстве.
Перейдем к следующему мотиву из репертуара звериного
стиля — к весьма типичным для него изображениям лежащего
копытного с поджатыми под туловище ногами. Как и в преды-
дущих случаях, начнем с анализа изображений из Зивие. В этой
позе здесь представлены олени (на фрагментах золотого пояса
урартского типа — рис. 24, г) и козлы (на том же поясе —
рис 24, б и на отдельных фигурных бляшках — рис. 24, а). И те
и другие трактованы во многом сходно, и потому мы будем
рассматривать их совокупно. Все изображения — строго про-
фильные. Поверхность тела животного — в отличие от обычной
для ассиро-урартского искусства «ковровой» разделки, пред-
ставленной и в самом комплексе Зивие,— практически не орна-
ментирована; четко выделен лишь контур лопатки, а у оленей
двойной линией подчеркнут и нижний контур туловища и шеи.
Специфической особенностью трактовки в скифском пласте Зи-
вие именно копытных является расчленение поверхности фигуры
животного на отдельные четко ограниченные плоскости. Особен-
но широко этот прием применен в изображениях козлов. Козлы
и олени скифского пласта Зивие различаются между собой по-
садкой головы: у первых она помещена на вертикально подня-
той шее, тогда как у вторых шея и сама морда вытянуты впе-
ред, что придает всей фигуре определенный динамизм. Доста-
137
Рис 24. Изображения копытных на предметах из коллекции Зивие (а — золо-
тая бляшка; б. г — пояс; в — пектораль)
точно единообразно положение ног с размещением копыта пе-
редней ноги над голенью задней, о чем подробно речь пойдет
ниже.
Как и при анализе всех прочих зооморфных мотивов, наша
задача состоит в том, чтобы попытаться определить отношение
описанных изображений к искусству собственно скифскому, с
одной стороны, и переднеазиатскому — с другой. Что касается
истоков позы копытного с подогнутыми ногами, то правомер-
ность возведения ее в скифском зверином стиле к переднеази-
атским изобразительным традициям убедительно продемонст-
рирована многими исследователями [Артамонов, 1962; 1968,
с. 38 сл.; Членова, 1962; 19846; Вязьмитина, 1963, с. 164;
Amandry, 1965, и др.], и возвращаться к этому вопросу мы не
считаем необходимым, хотя число подтверждающих этот тезис
примеров может быть многократно увеличено.
Гораздо существеннее сопоставить приемы трактовки от-
дельных элементов изображения. Целый ряд деталей позволяет
связывать рассматриваемые мотивы искусства скифского пласта
Зивие с художественными традициями той же Передней Азии.
Так, здесь отчетливо прослеживаются истоки способов изобра-
жения рога козла. Массивный рог, увенчивающий посаженную
на вертикальную шею голову и закрученный назад так, что
иногда достигает затылка животного и таким образом описыва-
ет полный круг вокруг его уха,— обычный элемент изображения
козлов в искусстве Ближнего Востока [Ghirshman, 1964, рис. 44;
Моогеу, 1971, табл. 27, 142, 15, 115; Amandry, 1965, табл. 30, 2
и рис 8; Calmeyer, 1973, рис. F1 ]. Добавим, что массивный рог
с вертикально поставленным основанием и загнутым назад кон-
цом обычен для всех вариантов иконографии переднеазиатскнх
изображений козлов [Calmeyer, 1973, рис. Gl; Amandry, 1965,
рис. 6а]. Специально следует подчеркнуть определенную бли-
зость трактовки головы и рога козла на памятниках скифского
пласта Зивие и на изображениях из той же коллекции, выпол-
ненных в ассиро-урартской традиции. Таковы, например, головы
138
стоящих на задних ногах козлов на неоднократно упоминавшей-
ся золотой пекторали (рис. 24, в) [Ghirshman, 1964, рис. 137]
или головы козлов на фрагментированной костяной пластине
[Ghirshman, 1979, табл. VII, 2]. Очень частым в ближневосточ-
ном искусстве приемом является расчленение рога поперечными
полосами на отдельные звенья (см., например, [Calmeyer, 1973,
рис. Н2]); трансформация именно этого приема обусловила,
на наш взгляд, граненую, «рубленую» поверхность рогов козлов
в рассматриваемых изображениях скифского пласта Зивие.
Изображения козлов, представленные на предметах «скиф-
ского Зивие», фактически сочетают в себе элементы, характер-
ные для воплощений этого животного в разных переднеазиат-
ских традициях, достаточно органично слившиеся и в результа-
те образовавшие новую, оригинальную его модификацию.
Связь с переднеазиатскими, в частности с урартской, худо-
жественными традициями прослеживается и в саккызских изо-
бражениях оленя. Неоднократно отмечалось, что трактовка ро-
гов оленя на поясе урартского типа из Зивие точно воспроизво-
дит растительные побеги, образующие сетку ромбических ячеек
на том же поясе и вообще характерные для изображения услов-
ных «деревьев» в урартском искусстве [Артамонов, 1962, с. 35].
Подобное отождествление вполне естественно, поскольку визу-
альное сходство рога оленя и дерева бросается в глаза, что мно-
гократно обыгрывалось — и зрительно, и семантически — в изо-
бразительном искусстве, в мифологии и фольклоре самых раз-
ных народов.
В то же время, хотя изображения оленя — достаточно изве-
стный мотив ближневосточного искусства, мы почти не находим
там это животное в позе, которая представлена в Зивие и столь
характерна для скифского звериного стиля,— с поджатыми под
туловище ногами и вытянутой вперед шеей. Однако изображе-
ния других копытных, прежде всего козлов, в такой позе в ис-
кусстве Передней Азии известны (рис. 25) [Amandry, 1965,
рис. 1, а, Ь, с, е]. Правда, со скифско-саккызскими изображе-
ниями оленя часто сравнивают фигурный бронзовый псалий в
виде оленя в рассматриваемой позе, происходящий из Луриста-
на [Amandry, 1965, рис. 1, d; Луконин, 1977а, с. 25; Членова,
19846]. Однако приходится признать единичность этого изобра-
жения в переднеазиатской культуре (подробнее об этом псалии
см. ниже).
Таким образом, несмотря на перекличку ряда приемов трак-
товки отдельных элементов с памятниками иных ближневосточ-
ных художественных традиций, козлы и олени скифского пласта
Зивие предстают на их фоне как достаточно оригинальная мо-
дификация. И именно она оказывается особенно близкой к во-
площениям этих мотивов в скифском зверином стиле. Сходство
проявляется прежде всего в положении ног животного. Конеч
ности саккызских копытных размещены так, что окончание
сильно согнутой (практически сложенной вдвое) передней ноги
139
располагается примерно над серединой голени задней, причем
плечевая часть передней ноги направлена вперед и вся эта нога
плотно прижата к груди, а у задней ноги бедро направлено
строго вниз и горизонтально расположена лишь ее голень; в
результате между животом и задней ногой образуется подтреу-
гольный просвет. На большинстве же переднеазиатских изобра-
жений животных в аналогичной позе обе ноги согнуты под пря-
мым углом и их голени размещены горизонтально на одной ли-
нии, так что копыта передней и задней ног либо смыкаются
концами (рис. 25, а), либо даже отстоят друг от друга на одной
прямой [Amandry, 1965, табл. 26. 3, 37, 1, и др.]. Изредка в пе-
реднеазиатских изображениях встречается и наложение перед-
Рис. 25.
Изображения
тежащпх козлов
из Передней Азии
(о — Эфес; б — Троада)
ней ноги на заднюю (рис. 25, б) [Amandry, 1965, рис. 1, с, 2, k,
табл. 36, 2; Godard, 1965, табл. XX; Buchanan, 1984, табл. III, 4,
и др.], но и в этом случае обе ноги согнуты под прямым углом.
Лишь крайне редко — например, в некоторых луристанских
изображениях — плечевая часть передней ноги направлена не
вертикально, а вперед, как и в изображениях из Зивие [Amand-
ry, 1965, табл. 37, 2, 26, 2].
В архаических же скифских изображениях копытных с по-
догнутыми ногами (рис. 26, 27) положение конечностей, сход-
ное с саккызским, наоборот, полностью преобладает (см., на-
пример, [ScA, 1987, табл. 16, 20, 21, 58 и др.]). Здесь между
животом и задней ногой животного имеется просвет, а колено
передней ноги выдвинуто вперед. По сравнению с саккызскими
у этих животных ноги лишь сильнее сдвинуты. Бедро задней
ноги направлено несколько вперед, что придает позе животного
большую динамичность. Только в отдельных случаях положение
ног копытного в скифском искусстве ближе к традиционному
для Передней Азин: на архаических бляшках [Ильинская,
19716, рис. 2, 7, 11, /9], на келермесской золотой чаше [ScA,
1987, табл. 25, 26] или в скульптурных фигурках козлов на обу-
'е келермесской секиры [ScA, 1987, табл. 37]. В большинстве
случаев именно эти памятники выпадают из собственно скиф-
ской традиции и демонстрируют явное родство с древневосточ-
ным искусством.
На ваш взгляд, поза животного в изображениях из Зивие
занимает как бы промежуточное положение между типичной
НО
Рис. 26. Изображения оленя на раннескифских древностях (а — ло-
пасть ножен меча. Келермес, курган № 1/1903; б — обкладка горита
Келермес, курган № 4/1903)
Рнс. 27. Изображения козла на раннескифскнх древностях (а — па
радная секира. Келермес, курган № 1/1903; б — золотая бляха. Уль-
скнй курган № 1)
переднеазиатской схемой и архаической скифской трактовкой
копытного. Конечно, сам по себе этот факт еще не исключает,
что саккызские изображения представляют модификацию скиф-
ского мотива под переднеазиатским влиянием. Однако большая
завершенность скифской схемы скорее свидетельствует, что в
эволюционном ряду, отражающем развитие этого мотива, она
занимает конечное положение, тогда как предположение об из-
вестном регрессе, демонстрируемом саккызскимп изображения-
ми по сравнению с этой схемой, было бы труднообъяснимо.
Несколько особняком стоят среди рассмотренных воплоще-
ний интересующего нас мотива изображения копытных в не-
логичной позе на рукояти келермесской секиры [ScA, 1987,
табл. 38—40]. Непропорционально длинное бедро задней ноги,
направленное вертикально вниз и к тому же подчеркнутое, по-
добно тому как изображается обычно в переднеазпатском ис-
кусстве лопатка зверя, а также обведение контура всех конеч-
ностей двойной рельефной линией лишили фигуру характерных
111
для скифского искусства динамизма и лаконичности, превратив
сложенные ноги животного в самостоятельную геометрпзован-
ную фигуру, как бы приставленную снизу к его туловищу
Е. В. Переводчикова [1979] объясняла эти особенности изо-
бражений на секире тем, что данный памятник документирует
определенную «ступень формирования изобразительной тради-
ции скифского звериного стиля», более близкую его переднеази-
атским истокам, чем классические образы скифского искусства.
Не исключая такой возможности, мы хотели бы отметить не
меньшую в данном случае вероятность того, что перед нами
произведение, следующее уже достаточно оформившимся скиф-
ским изобразительным канонам, но выполненное мастером, во-
спитанным в духе иной художественной школы — той, которая
здесь же, в Келермесе, в наиболее чистом виде представлена
ножнами парадного меча [ScA, 1987, табл. 34, 35]. Это обстоя-
тельство могло обусловить привнесение в изображение элемен-
тов, «лишних» с точки зрения скифского лаконизма, но зато
вполне традиционных для переднеазиатского искусства, от ка-
нонов которого скифский звериный стиль к этому времени уже
достаточно явно отошел.
Еще одна — наиболее широко известная — стилистическая
особенность скифского анималистического искусства, равно как
и скифского пласта Зивие,— моделировка тела изображаемого
животного широкими, сходящимися под углом одна с другой
плоскостями. В Саккызе такая моделировка присуща лишь
изображениям копытных Сравнивая в этом плане саккызские
и собственно скифские изображения, следует отметить, что на
первых эти плоскости более дробны и менее геометризованы.
Из стилистических приемов ближневосточного искусства этот
способ моделировки как будто не выводится (правда, отдельные
примеры известны в деревянной мелкой скульптуре — см., на-
пример, египетские ложечки с ручкой в форме фигурки козла
[Amandry, 1965, рис. 8], но в торевтике мы с ним здесь не встре-
чаемся). Очевидно, этот прием следует признать специфической
особенностью рождающегося скифского искусства. С его приме-
нением выполнены, в частности, такие шедевры раннескифского
искусства, как келермесская пантера или олень из кургана у
ст. Костромской.
Генезис этого приема в скифском искусстве чаще всего объ-
ясняют технологическими причинами, возводя к искусству резь-
бы по дереву [Артамонов, 1971, с. 27; Граков, 1971, с. 100]
или по камню [Членова, 1971, с. 217]. По мнению же Е. В. Пе-
реводчиковой, этот прием не столько был наследием технологии,
сколько служил смыслоразличительным признаком, будучи
первоначально присущ лишь изображениям оленя и только впо-
следствии распространившись на весь прочий скифский изобра-
зительный бестиарий [Переводчикова, 1979, с. 153—154]. Про-
тив технологического объяснения говорит и наличие среди ран-
них памятников скифского звериного стиля изображений, этого
142
признака совершенно лишенных. Один из авторов данной рабо-
ты выдвинул предположение, что появление граней на ранне-
скифских зооморфных изображениях обусловлено стремлением
обозначить геометрический каркас композиции, облегчающий
тиражирование зооморфных мотивов недостаточно искушенны-
ми в изобразительности скифскими мастерами, и одновременно
потребностью в редукции сложного образа, вызванной тем же
неумением [Раевский, 1985, с. 127—132]
Добавим, что отмеченная выше большая дробность этих
плоскостей на саккызских памятниках по сравнению со скиф-
скими говорит в пользу того же стадиального предшествования
первых, которое мы предположили на основании анализа иных
стилистических особенностей сравниваемых серий.
Обратимся к конкретному сопоставлению воплощений обра-
зов козла и оленя на древностях скифского пласта Зивие и ар-
хаической Скифии Прежде всего приходится отметить, что, хотя
по приемам стилизации козлы Зивие очень близки к зооморф-
ным мотивам раннескифского искусства, в иконографическом
отношении они практически не имеют аналогий в репертуаре
скифского звериного стиля. Козлы в такой позе — с поджатыми
ногами и обращенной вперед головой — в архаической Скифии
претставлены исключительно на рукояти келермесской секиры,
изображения на которой, как уже было сказано, стилистически
кардинально отличаются от собственно скифского искусства.
Зато в этом последнем широко распространена другая схема
изображения козлов: с так же поджатыми ногами, но с головой,
обращенной назад — так, что морда примыкает к спине пли
крупу, а массивный дугообразный рог, спускаясь вдоль шет
часто достигает колена передней ноги. Подобные изображе-
ния — и скульптурные, и плоские — мы находим в декоре той
же келермесской секиры (рис. 27, a) [ScA, 1987, табл. 361, па
фигурных бляшках из Ульского кургана № 1 (рис. 27, б) [ScA,
1987, табл 21], на навершип из Ульского кургана № 2 (см.
рис. 30, е. 31). на перекрестье мельгуновского меча [Артамонов,
1966. рис. 2], в курганах Нартана [Батчаев, 1985, табл. 21, 23,
45. 37]. Изображения, следующие этой схеме, распространились
и далеко на север: мы находим их в курганах лесостепной зоны
[Ильинская, 19716, рис. 2, 6, 10. 14. 18, 22. 26]. Все эти памятни-
ки если и не идентичны, то близки друг к другу чрезвычайно,
что предполагает их возведение к единому прототипу. Искать
его. без сомнения, следует опять-таки в искусстве Ближнего Во-
стока, где рассмотренная схема представлена достаточно ши-
роко и с весьма раннего времени [Buchanan, 1984, табл. Ш, 41:
Godard, 1965, табл 20; Ghirshman, 1983, табл. VI, 1; Amiet, 1976,
рис. 162; Amandry, 1965, табл. 29, 30, и др.].
Среди воплощений этого мотива на скифских древностях не-
сколько особняком стоит одна из фигур, представленных ил
келермесской зеркале; здесь та же схема решена с отхотом от
строгою канона, выразившимся прежде всего в гом, что од >а
143
из передних ног животного выброшена вперед [ScA, 1987,
табл. 48]. Это вполне объяснимо принадлежностью данного па-
мятника к изделиям ионийского мастера [Максимова, 1954].
Точно так же не приходится относить к числу памятников соб-
ственно скифского искусства изображение козлов, стоящих на
задних ногах по сторонам от дерева, в нижней части рукояти
келермесской секиры. Это типично урартское произведение, но
следует отметить, что ряд приемов, присущих этому изобра-
жению, принадлежит как раз к тем чертам древневосточного
искусства, которые выше были истолкованы как воспринятые
формирующимся скифским звериным стилем 24.
В целом мы приходим к выводу, что образ козла и в скиф-
ском искусстве, и в искусстве скифского пласта Зивие сложился
на древневосточной основе, но представляет две обособленные
линии развития единых прототипов; скифские изображения в
данном случае правомернее рассматривать как не прошедшие в
своем развитии через стадию Зивие.
Иначе складывалась в рассматриваемом культурном ареале
судьба образа оленя, скифский вариант которого в абсолютном
большинстве случаев безусловно связан с саккызским, в свою
очередь, как уже указывалось, возросшим на почве передне-
азиатской художественной традиции воплощения копытных.
Особенно четко стилистическое единство скифского оленя и оле-
ня Зивие проявляется в специфической трактовке рога живот-
ного. Начать с того, что в традиционном переднеазиатском ис-
кусстве, к кругу которого в данном случае в полной мере при-
надлежат и памятники Кавказа, изображенную в профиль го-
лову оленя, как правило, венчают два расположенных вилко-
образно и образующих симметричную композицию рога, как
бы развернутых en face. Напротив, и в Зивие, и в скифской ар-
хаике изображен, по существу, один рог, но его отростки распо-
ложены достаточно специфично: абсолютное большинство их,
размещенное вдоль спины животного, направлено назад, и лишь
самые ближние к основанию рога отростки (от одного до трех),
помещенные над лбом, вытянуты вперед. И хотя реальное строе-
ние оленьего рога в какой-то мере оправдывает такую художе-
ственную трактовку (его нижний отросток в самом деле как бы
противостоит остальным), трудно отделаться от ощущения, что
встречные отростки над лбом животного появились в результате
редукции изображения второго рога. Особенно убедительно вы-
глядит такое предположение применительно к изображению на
лопасти ножен келермесского меча (рис. 26, а), где над лбом
оленя помещено три отростка, а над спиной — четыре, т. е., по
существу, почти одинаковое число. В большинстве случаев, од-
нако, число передних отростков значительно уступает числу тех,
что размещены вдоль основного ствола рога — так, на знамени
том олене из ст. Костромской это соотношение составляет даже
2:7.
Приведенное наблюдение, подтверждая тезис о специфиче-
144
ской близости скифских и саккызских оленей, не дает, однако,
возможности определить, какие из них представляют более ран-
ние звенья единого эволюционного ряда, а какие демонстрируют
последующее его развитие. Прояснить эту сторон) проблемы
позволяет характер воплощения отдельных завитков рога. Выше
уже отмечалось, что рог саккызского оленя состоит из элемен-
тов, тождественных по форме побегам урартского условного
«древа», каждая ветвь которого представляет стержень с завер-
нутыми в противоположные стороны концами. В Скифии наибо-
лее близки к саккызским рога оленей на келермесскпх и мель-
гуновскпх ножнах, но верхний конец каждого отростка здесь
уже не просто загнут, но образует петлю. В тех случаях, когда
такие петли размещаются на обоих концах отростка, сам он
трансформируется в S-видную фигуру, а рог в целом превра-
щается в два горизонтальных ряда петель, наиболее яркий при-
мер чего являет уже упоминавшийся костромской олень. Преоб-
ладающими в скифском искусстве стали изображения с одним
рядом петель, постепенно превратившихся в цепочку колец (ср.,
к примеру, оленей на головном уборе пз с. Синявка [Ильинская,
19716, рис. 2, /] 25.
Одной из специфических новаций, отличающих скифских
оленей от оленей Зивие, является манера трактовки последнего
звена рога. На келермесскпх и мельгуновских ножнах петля
этого звена крупнее остальных, и ее контур очерчен нескольки-
ми параллельными линиями, что сближает ее с изображением
птичьих клювов на этих же ножнах Лальнейшее развитие это-
го элемента обнаруживается у костромского оленя, где упомя-
нутая петля трансформируется в полукруг, примыкающий к
петле предыдущего звена, что придает всему изображению рога
чисто орнаментальную завершенность.
Приведенные наблюдения убеждают нас, что генеральная
линия развития образа оленя в зверином стиле Северного При-
черноморья и Предкавказья своим начальным пунктом имеет
оленя Зивие. Конечно, не все воплощения этого мотива на ука-
занной территории и не во всех своих стилистических особенно-
стях прямо возводятся к этому прототипу. Даже если оставить
в стороне предметы, выполненные в совершенно иной художе-
ственной манере и не относящиеся к собственно звериному сти-
лю (к примеру, скульптурную фигурку стоящего оленя на на-
вершии пз ст. Махошевской, по основным характеристикам при-
надлежащую к предметам малоазийско-кавказского круга), и
сосредоточить внимание на более или менее каноничных па-
мятниках, выявляются достаточно очевидные отклонения от
рассмотренной генеральной линии.
В качестве примера назовем четырехкратно повторенные фи-
гурки оленя па круглой бляхе от конской узды из Келермеса
(рис. 28, б). Традиционная поза и более или менее близкая к
рассмотренным памятникам моделировка тела сочетаются здесь
с более реалистичной интерпретацией рога, далекой от оппсан-
10 Зак. 35»
145
<7
5
Рис. 28. Изображения лежащего оле-
ня (а — золотая бляшка. Гумарово,
курган № 1; б — бляха от конской
сбруи. Келермес, курган № 4/1903)
ной стилизации. В этом отно-
шении олени келермесской
бляхи перекликаются с одним
из изображений того же жи-
вотного на известной костяной
пластине из Констангиновска
на Нижнем Дону [Кпяшко, Ко-
реняко, 1976, рис. 3), а также с
золотыми бляхами из Чилик-
тинского [Черников, 1965,
табл. XI, XII] и Гумаровского
(рис. 28, а) [Исмагилов, 1987;
1988] курганов более восточных
областей евразийского степно-
го пояса. В константиновском
изображении Г Косса к видит
здно из доказательств— наря-
ду с памятниками Жаботии-
ского кургана 2, о которых
речь пойдет ниже,— существо-
вания в раннее время на юге
Восточной Европы школы ани-
малистического искусства, не-
зависимой от саккызско-келер-
месской традиции [Kossack,
1987, с. 48, рис. 13, 6].
Нельзя, однако, не обратито
внимание на тот факт, что со-
здатель константиновской пла-
стины поместил в каждый раз-
ыике достаточно в самом деле
.а।уралпстично переданного
рога по маленькому дополни-
тельному овалу, чем вы та т свое
знакомство с той манерой стилизации, которая превращает рог
оленя в цепочку петель и восходит к ряду S-видных завитков
на саккызско-келермесских памятниках. В свете этого факта
константиновское изображение оленя не может трактоваться как
типологический предшественник этих последних. Данное обстоя-
тельство следует учитывать и при рассмотрении гумаровских и
чилпктпнекпх оленей.
Существует мнение, что именно эти памятники должны рас-
сматриваться как источник формирования раннескифской мане-
ры воплощения оленя и что сами они, в свою очередь, восходят
к издавна существовавшей в Центральной и Средней Азии изо-
бразительной традиции [Курочкин, 1989, с. 111]. Наиболее ак-
тивно эту гипотезу развивает Р. Б. Исмагилов [1988, с. 34], ко-
торый полагает, что «близкие по стилю гумаровским изображе-
ния оленей имеются только на территории Центральной и Сред-
146
ней Азии». Однако приводимые им в этой связи памятники аб-
солютно неоднородны. Упомянутые Р. Б. Исмагиловым наскаль-
ные изображения [Шер, 19806, с. 243—249] не дают параллелей
Гумарову ни по позе, ни по трактовке тела, ни по манере изо-
бражения рогов. То же касается уйгаракской бляшки со стоя-
щим оленем [Вишневская, 1973, табл. XIV, 7] Иконографиче-
ски и стилистически с гумаровскимп бляшками в определенной
мере сходны чплпктинские. Но именно эти две серии обнару-
живают, на наш взгляд, прямую перекличку—прежде всего в
том, что касается композиции,— с саккызско-келермесскимп
оленями. Это, впрочем, не исключает и значительных отличий
их от последних, в первую очередь большей мягкости модели-
ровки тела, в чем иногда видят наследие азиатских культур
эпохи поздней бронзы.
В целом относительно формирования образа оленя в искус-
стве звериного стиля евразийских степей скифской эпохи сегод-
ня, очевидно, можно сказать следующее. Сам этот образ в раз-
ных областях появляется под влиянием разных импульсов, что
изначально выражается и в манере его воплощения [Грязнов,
19786]. Для юга Восточной Европы определяющим было воз-
действие саккызской традиции. Но уже на ранней стадии нача-
лось взаимодействие разных художественных течений, и гума-
ровские и чиликтинские бляшки демонстрируют, на наш взгляд,
не начальную стадию существования «скифского оленя», а про-
дукт такого взаимодействия Конечно, вопрос этот требует спе-
циального рассмотрения.
Предпринятым анализом столь характерного для скифского
искусства образа оленя мы завершили исследование тех зо-
оморфных мотивов скифского пласта Зивие, которые не только
совпадают с репертуаром образов собственно скифского звери-
ного стиля, но и обнаруживают прямую генетическую связь с
этими образами в плане художественной трактовки. Однако,
прежде чем подвести итог предпринятому сопоставлению, необ-
ходимо кратко остановиться на некоторых дополнительных мо-
ментах, свидетельствующих об определенных культурно-истори-
ческих связях между двумя сопоставляемыми явлениями. Без
этого вопрос о соотношении искусства скифского пласта Зивие
и звериного стиля Скифии не может быть освещен с необходи-
мой полнотой.
Мы уже указывали, что к числу зооморфных образов той ча-
сти комплекса Зивие, которая находится в поле нашего внима-
ния, принадлежат изображения зайца. Они представлены на
описанных выше пекторали и серебряном диске. На фоне вы-
явленной выше несомненной связи репертуара образов «скиф-
ского Зивие» с традиционным набором зооморфных мотивов
переднеазпатского искусства этот мотив предстает как в изве-
стной мере чужеродный.
В ближневосточном искусстве изображения зайца отнюдь не
принадлежат к числу наиболее популярных Если же сопоста-
10*
147
вить этот факт с приведенными выше данными о закономерно-
стях размещения изображений зайца на древностях Саккызско-
го клада и о прямой их перекличке с тем, что мы видим в Ски
фии, то допустимым представляется предположение о включе-
нии зайца в репертуар образов скифского пласта Зивие под
влиянием собственно скифских культурных традиций. В то же
время совершенно очевидно, что все известные изображения зай-
ца в Скифии стилистически с традицией Зивие никак не связа-
ны. По существу, при достаточной популярности этого мотива в
скифском бестиарии [Шкурко, 1978, с. 17] он не принадлежит
к репертуару скифского звериного стиля в собственном смысле
слова, ибо все его изображения свободны от специфических для
него приемов стилизации. Заяц в Скифии всегда изображался
сугубо реалистично, скорее в духе эллинского зооморфного ис-
кусства (см. [Раевский, 1985, рис 3—5]). Поэтому в данном
случае связь между скифским пластом Зивие и собственно
скифским искусством ограничивается, видимо, чисто семантиче-
ской сферой и не затрагивает проблемы формирования зверино-
го стиля как специфичного художественного явления.
Вопрос о том, почему смысловая нагруженность образа зай-
ца в скифской традиции и присутствие его в репер гуаре скиф-
ского пласта Зивие в совокупности не привели к включению
этого мотива в репертуар звериного стиля, представляется пока
неясным и требует истолкования на широком культурно-исто-
рическом фоне, чю в данной работе вряд ли уместно.
Еще один зооморфный мотив должен быть упомянут при со-
поставлении памятников скифского пласта Зивие и собственно
скифского искусства. При перечислении включаемых в скиф-
скую часть Саккызского клада предметов мы упомянули золо-
тую пластину, сплошь покрытую изображениями головы сай-
гака en face с лировидными рогами [Ghirshman, 1950, рис. 6;
1964, рис. 156; 1979, рис. 20], хотя тогда же отметили, что пра-
вомерность отнесения ее к интересующему нас культурному
кругу вызывает определенные сомнения. Рассмотрим теперь
этот вопрос несколько подробнее.
Причисляя названную вещь к кр}гу скифски; древностей
Зивие, Р. Гиршман исходил из того, что сайгак — животное
степное г в Иране не обитает, а также из сопоставления изобра-
жений на ней с темп, что представлены на фрагментах золотой
чаши из того же комплекса Зивие [Ghirshman, 1979, с. 20].
Сам же принцип изображения отдельно головы животного он
выводил из переднеазиатской традиции, в частности из искусст-
ва Луристана.
Фрагменты чаши пз Зивие столь маловыразительны и столь
нечетко воспроизведены в публикации, что оценить убедитель-
ность сопоставления в данном случае затруднительно. Опреде-
ленная же перекличка между изображениями на рассматривае-
мой пластине и скифскими древностями несомненна, поскольку
уже в архаическую эпоху в Скифии применялось украшение ка-
148
ком-либо поверхности многократно повторенными зооморфными
мотивами. Наряду с украшенными таким образом крупными
пластинами (ср. обкладку горита из Келермеса [ScA, 1987,
табл. 23]) в этой связи следует упомянуть мелкие бляшки, ко-
торые, будучи нашиты рядами на ткань, создавали тот же деко-
ративный эффект. Но необходимо отметить, что в раннее время
в таком качестве используются исключительно профильные изо-
бражения целых фигур животных [Ильинская, 19716, рис. 1, 2].
Фронтальные изображения отдельных голов появляются в Се-
верном Причерноморье значительно позже — в V—IV вв.
до н. э. Пожалуй, на1 более близкую аналогию декору пластины
из Зивие представляют бляшки из Семпбратних курганов [ScA,
1987, табл. 80, 81] и из некрополя Нимфея [Силантьева, 1959,
рис. 24, 8] с изображением голов баранов и быков. Нашитые
сплошным покровом на тканую основу по типу, известному нам,
к примеру, по раскопкам Иссыкского кургана [Акишев, 1978,
табл. 13, 14, 18], они производили впечатление сплошного пан-
но, сходного с декором пластины из Зивие.
Напомним, что при анализе изображения свернувшегося
хищника из Саккызской коллекции мы уже высказали предпо-
ложение о его хронологической чужеродности в составе этой
коллекции. Видимо, тот же вывод должен быть сделан и отно-
сительно пластины с изображением сайгачьих голов. Вряд ли
случайно, что ближайшие аналогии обоим «дезавуируемым»
предметам из Зивие обнаруживаются в одном и том же памят-
нике— в Семпбратних курганах. Очевидно, можно говорить о
наличии в составе «комплекса Зивие» нескольких неправомерно
отнесенных к этой коллекции предметов более позднего перио-
да, отражающих связи Северо-Западного Ирана с Нижним
Прикубаньем (а также с Восточным Крымом) около V в.
до и. э. Примечательно, что в тех же Семибратних курганах
найден серебряный ахеменидский ритон [Артамонов, 1966,
табт. 117, 119], и это может свидетельствовать о двустороннем
характере упомянутых связей (о следах ахеменпдского влияния
в памятниках местного искусства из Семибратних курганов и
сходных с ними комплексов см. [Переводчикова, 1987, с. 54]).
Если выше сопоставление скифского пласта Зивие и скиф-
ского звериного стиля мы осуществляли исключительно на
уровне сравнения отдельных мотивов, то теперь к этому’ следует
добавить, что среди скифских древностей встречаются экземпля-
ры, сопоставимые с саккызскими и с точки зрения построения
цельной композиции. Так, еще Р. Гиршман привтек в этой связи
золотую пластину из кургана 401 Журовского некоополя в
Днепровском лесостепном правобережье (рис. 29) [Ghirshman,
1979, с. 23]. Эта узкая ленточная пластина служила, очевидно,
обкладкой деревянного сосуда [Артамонов, 1966, рис 32, с. 33;
Петренко, 1967, табл. 16, 6]. В ее нижней части помешено изо-
бражение головы оленя, от лба которого отходит вертпкатьнап
редьефная линия, покрытая мелкой горизонтальной резной
149
штриховкой и служащая осью симметрии всей композиции. По
обеим сторонам от нее размещены столбиками изображения
стилизованных головок хищной птицы. Совершенно очевидно,
что в целом этот декор обозначает стилизованный рог оленя, от-
ростками которого и служат птичьи головы.
Подобная трактовка ветвей оленьего рога
была достаточно распространена на той сравни-
тельно поздней стадии развития звериного стиля
Причерноморья, к которой относится журовская
пластина (ее датируют обычно V в. до н э). Но,
как отметил Р. Гпршман, композиционно и по
ряду деталей ее декор весьма близок к описан-
ным выше саккызскпм золотым диадемам, укра-
шенным такой же рифленой осевой линией, по
сторонам которой размещены ряды птичьих голов
[Ghirshman, 1964, рис. 386]. Отличие этих диадем
от журовской пластины лишь в том, что на диа-
демах головы птицы расположены параллельно
осевой линии, тогда как на пластине — перпенди-
кулярно ей, и в том, что на пластине этот декор
не служит автономным орнаментальным моти-
вом, а изображает олений рог. Таким образом,
в данном случае можно говорить об использова-
нии в развитом скифском искусстве композици-
онного решения, сложившегося еще на стадии
Зивие, для воплощения образа, искусству этой
стадии неизвестного.
Все сказанное в этой главе имело основной целью продемон-
стрировать переднеазиатскпе истоки основных мотивов и стили-
стических приемов (а иногда и композиций), определяющих
облик раннескифского звериного стиля. Но мы отнюдь не стре-
мимся свести все искусство скифской архаики к сумме рассмот-
ренных мотивов п образов. При тотальном исследовании в нем
легко вычленяются памятники, созданные под влиянием мало-
азпйско-кавказской, урартской, ионийской художественных тра-
диций. Судьбы всех этих течений на скифской почве не являют-
ся объектом нашего внимания в данной работе, поскольку их
существование здесь всегда было несколько обособленным и
они не оказали столь же радикального влияния на облик скиф-
ского искусства как специфического культурно-исторического
феномена. Существует, впрочем, момент, требующий в коптекс;е
нашей темы специального внимания.
Речь идет о появлении в репертуаре скифского звериного
стиля изображений животных, чуждых тому переднеазиатскому
искусству, которое мы рассматриваем как подпочву этого сти-
ля, и связанных преимущественно с местной — восточноевропей-
ской — фауной. Для нас существенно, можно ли оценивать факт
существования таких мотивов в искусстве скифской архаики в
качестве проявлений самостоятельной тенденции в формирова-
ло
Рис 30. Костяные пластины из Жаботпна и их иконографические параллели
(а — костяная пластина из Зивие; б, в. г, д—костяные пластины и бляхи.
Жаботин, курган № 2; е — изображение козта на навершии. Учьскнп курган
№ 2; ж — бронзовая насадка на оселок. Луристан)
нин этого искусства, равноправной с переднеазиатским импуль-
сом, как порой делается в специальной литературе [Ильинская,
1965], или же они представляют собой вторичную модифика-
цию уже рассмотренных образов.
В тех случаях, когда перед нами одиночные воплощения
представителей местной фауны (см., например, [ScA, 1987.
табл. 78]), выполненные в соответствии с рассмотренным выше
каноном, возводимым к школе Зивие, а через нее — к передне-
азиатскому культурному кругу, вопрос решается достаточно
однозначно: некоторое расширение репертуара звериного стиля
предстает здесь как сугубо вторичное, сущности художествен-
ного явления не затрагивающее. Труднее оценить с этой точки
зрения такой достаточно оригинальный по общему облику па-
мятник, как знаменитые костяные пластины с гравированным
изображением из Жаботинского кургана № 2, а также найден-
ные вместе с ними фигурные бляхи [Ильинская, 1975, табл. VI,
5—11]. Остановимся па них специально.
Как известно, на упомянутых пластинах представлен гори-
зонтальный ряд копытных животных и хищных птиц (рис. 30.
б, в). Что касается первых, то М. И. Вязьмитнна [1963, с. 160]
151
трактовала их всех как лосей, видя в композиции в целом сю-
жетную сцену из жизни лосиного семейства. М. И. Артамонов
[1968, с. 39] подходил к изображениям копытных на пласти-
нах дифференцированно, усматривая здесь черты лося, быка и
горного козла. Не отдавая предпочтения какой-либо из этих
трактовок (хотя мнение М. И. Артамонова не кажется нам
слишком убедительным), отметим то важное для нас обстоя-
тельство, что способ воплощения позы большинства копытных
на жаботинских пластинах — с подогнутыми под туловище но-
гами, положенными одна на другую,— целиком следует рас-
смотренному выше канону изображения копытных в скифском
зверином стиле, восходящему к переднеазиатской традиции.
Говорилось выше и об аналогичных истоках мотива животного
с обращенной назад головой. Правда, до сих пор мы не встреча-
ли случаев изображения в такой позе животных с как бы
«сдвоенной» головой, что в жаботинском комплексе представле-
но и на одной из пластин, и на фигурных бляхах (рис. 30, г, д).
Об этой детали мы скажем ниже.
Что касается изображений птиц, то представленная здесь
достаточно оригинальная их модификация все же кажемся нам
в целом родственной тому способх воплощения этого мотива,
который был проанализирован выше. Правда, к почти традици-
онно переданной голове (л'.шь со значительно меньших разме-
ров глазом) здесь приставлен подтреугольный заштрихованный
хвост (по мнению М. И. Вязьмитиной [1963, с. 161], крыло).
Тем не менее отмеченное сходство заставляет нас присоединить-
ся к мнению М. И. Вязьмитиной и М. И. Артамонова, не выде-
ляющих жаботннские пластины из всего круга раннескифских,
памятников, связанных с переднеазиатской традицией, несмотря
на воплощение здесь представителей местной фауны26.
Относительно же многофигурности жаботинского изображе-
ния, позволившей М. И. Вязьмитиной даже предположить сю-
жетный его характер, заметим, что и эта черта отражает ско-
рее тяготение рассматриваемого памятника к далеко продвинув-
шейся по пути воплощения сюжетно-повествовательных сиен
переднеазиатской художественной традиции, чем некое собст-
венно скифское привнесение в искусство звериного стиля, на
протяжении длительного времени практически не знавшее «ком-
позиций и сцен, в которых положение животного было бы обус-
ловлено характером действия» [Ильинская, 1965, с. 106—107]
(см. также [Артамонов, 1968, с. 39]). Не ограничиваясь этим
общим наблюдением, можно, пожалуй, назвать памятник древ-
невосточного круга, обнаруживающий по ряду признаков специ-
фическую близость к жаботинским пластинам.
Речь идет об узких пластинах из слоновой кости, близких к
жаботинским по общей конфигурации, из все того же «комп-
лекса Зивие», хотя и не из скифского его пласта. На одной из
этих пластин изображена вереница копытных с поджатыми под
туловище ногами (рис. 30, п); их конечности с несмыкающими-
152
ся копытами размещены на од-
ной прямой в соответствии с опи-
санным выше древним ближнево-
сточным каноном. В переднеази-
атской манере выполнена и раз-
делка туловища с выделенными
ребрами (ср те же черты изобра-
жения копытных на келермесской
чаше). На другой пластине пред-
ставлена типичная древневосточ-
ная композиция — пара живот-
ных, симметрично предстоящих
священному дереву [Ghirshman,
1979, табл. XI, 7].
При всей очевидной принад-
лежности пластин из Зивие к
древневосточному искусству нель-
зя не отметить перекличку ряда
особенностей изображения на них
с декором жаботинских пла-
стин: размещение фигур в виде
за, не свойственный переднеазиатскому искусству лаконизм гра-
вированного контура, трактовка коротких, задранных кверху
хвостов животных. Это сопоставление показывает, что жаботин-
ские пластины, как и многие другие раннескифские изобрази-
тельные памятники, восприняли из переднеазиатской художест-
венной традиции не только ту сумму черт, которая составила
ядро собственно скифского звериного стиля, но и некоторые со-
путствующие им характеристики, набор которых в раннескиф-
ской культуре не был вполне стабильным (ср. стилистический
облик мельгуновских и келермесских ножен, келермесской се-
киры и т. п ).
Вернемся теперь к жаботинским «двухголовым» животным
(рис. 30, г, д). По мнению М. И. Вязьмитиной [1963, с. 160],
параллельное изображение двух голов при одном корпусе при-
звано в данном случае представить лосиху с детенышем, что от-
вечает и «сюжету» всей композиции. В явном виде такой прием
в скифском искусстве больше нигде не засвидетельствован. Од-
нако представляется правомерным сопоставить жаботинские
изображения с фигурой козла в той же, что и жаботинские ло-
сихи, позе — с поджатыми ногами и обернутой назад головой —
на одном из бронзовых наверший из Ульского кургана № 2
(рис 30, е, 31). У него на спине имеется небольшой крючок, как
бы вырастающий из лопатки, выступающий за абрис тела и в
целом параллельный обращенной назад голове. Совершенно не-
понятный сам по себе, этот элемент при сопоставлении с жабо-
тинским изображением может быть с достаточным основанием
истолкован как предельно редуцированное изображение второй
головы.
153
Такое сопоставление оказывается еще более правомерным,
если мы обратим внимание, что в поле ульского навершия име-
ется еще одно изображение, соотносимое с жаботинским. Речь
идет об орлиноголовом ушастом грифоне, обращенном клювом к
фигуре козла, причем этот грифон — случай редкий в скифском
искусстве!— имеет не только голову, но и длинный заостренный
заштрихованный хвост, одновременно служащий для обозначе-
ния клюва основного орнитоморфного образа навершия. Изо-
бражение этого грифона доста точно близко к фигурам хищных
птиц на жаботинских пластинах, а их главное различие, про-
диктованное формой декорированного предмета, состоит в том,
что хвосты жаботинских птиц вытянуты назад, а хвост ульского
грифона, подчиняясь конфигурации самого навершия, загнет в
спираль. В целом на сравниваемых памятниках мы имеем иден-
тичные пары взаимодействующих персонажей: «двухголовое»
копытное и как бы атакующая его хищная птица. Это совпаде-
ние подтверждает предложенное М. И. Вязьмитиной смысловое
прочтение жаботинской композиции и одновременно позволяет
сопоставить оба привлеченных памятника с имеющим аналогич-
ное содержание декором знаменитой золотой чаши из Марлика,
где представлена коза с детенышем в нижнем фризе и терзаю-
щая копытное хищная птица — в верхнем [Луконин, 1987 б]. Не
переоценивая информативности этого факта, отметим все же,
что по общему изобразительному решению марликские птицы во
многом близки к жаботинским и ульской, хотя трактованы зна-
чительно менее условно.
Возвращаясь — с учетом сказанного — к «двухголовому»
зверю жаботинских пластин (и ульского навершия), зададимся
вопросом, каковы возможные истоки этого образа. В данной
связи следует вспомнить памятники, в известной мере сходные
с рассматриваемыми в плане семантики. К ним принадлежат
прежде всего луристанские бронзовые рукоятки точильных кам-
ней с конической втулкой, увенчанные двумя головками козлов
на тонких шеях, как бы вырастающих из одного туловища [Go-
dard, 1965, рис. 26, табл. 12; Ghirshman, 1964, рис. 86]. Необхо-
димо вернуться и к луристанским же штандартам с парой стоя-
щих на задних лапах животных. У многих из этих животных из
спины в районе лопатки как бы вырастает вторая голова, при-
надлежащая существу, туловищем которого служит бедро
большей фигуры. В некоторых случаях эта вторая голова при-
надлежит горному козлу и обернута назад (см. рис. 3, в), в
других — иным представителям фауны [Моогеу, 1971, табл. 32,
№ 169, ср. № 170; Potratz, 1968, табл. 29, 177, 180]. Особенно же
близкую аналогию рассматриваемому скифскому мотиву являет
служившая для украшения оселка бронзовая фигура козла, так-
же происходящая из Луристана и имеющая две обернутые на-
зад головы разных размеров, размещенные как бы параллельно
(рис. 30, ж) [Amiet, 1976, рис. 64]. Этот памятник предстает
как прямой прототип скифских «двухголовых» животных.
154
Упомянутая комбинированность нескольких зооморфных мо-
тивов в одной фигуре животного, характерная для луристанских
штандартов и некоторых иных памятников того же круга, инте-
ресна и в связи с вопросом о происхождении одной из самых
оригинальных и примечательных характеристик скифского зве-
риного стиля — так называемых зооморфных превращений. Про-
блема генезиса этого приема требует большого и скрупулезного
анализа. Но его перекличка с описанной особенностью изобра-
жений на штандартах, когда один элемент тела какого-нибудь
зверя одновременно служит другим элементом тела иного суще-
ства, очевидна. Не вдаваясь глубоко в эту проблему в данный
момент, мы не можем пройти мимо еще одного схождения лури-
станского и скифского анималистического искусства, признавая,
разумеется, что на скифской почве этот прием обрел в значи-
тельной мере новое качество, как формальное, так, очевидно, и
семантическое.
Сказанное заставляет нас обратиться к обстоятельству, не-
однократно отмеченному в ходе предпринятого выше исследо-
вания раннескифского искусства,— к тому, что при всей пест-
роте используемых этим искусством образов и художественных
приемов большинство их обнаруживает генетическую связь с
репертуаром анималистических образов и со способами их во-
площения, присущими искусству Луристана. В принципе тезис
о связи скифского искусства с искусством луристанских бронз в
общей форме неоднократно выдвигался в специальной литера-
туре [Dussaud, 1938, с. 260; Grousset, 1948; Godard, 1958; Ghir-
shman, 1964, с. 60—61; Луконин, 1977а, с. 25—26]. Приходится,
однако, признать, что все эти суждения основывались на общем
впечатлении об однотипности луристанской и скифской изобра-
зительных традиций, на факте преобладания в их репертуаре
изображений животных, в обоих случаях к тому же трактуемых
зачастую весьма причудливо, образующих сложные комбина-
ции элементов и т. п. Детальный анализ конкретных образов и
приемов при этом не проводился.
К сожалению, без такого анализа обходились и критики
гипотезы о генетической связи скифского звериного стиля с ис-
кусством луристанских бронз. Так, главный ее оппонент в со-
временной отечественной науке Г Н. Курочкин [1987; 1989]
преимущественное внимание уделяет опровержению суждений о
луристанских истоках отдельных образов скифского изобрази
тельного бестиария. В некоторых случаях он при этом в самом
деле улавливает уязвимые места в аргументации сторонников
рассматриваемой гипотезы, в чем мы уже убедились, анализируя
образ оленя. В других случаях его критика достаточно деклара-
тивна (к примеру, в том, что касается свернувшегося хищника),
а контргипотезы порой покоятся на весьма спорной интерпрета-
ции памятников (ср. выше о грифо-баране). Одновременно
Г. Н. Курочкин оспаривает саму методологическую правомер-
ность теории переднеазиатских корней скифского звериного сти-
155
ля, полагая, что в таком случае это искусство оказывается «яв-
лением вторичным, производным и даже в значительной степе-
ни случайным» [Курочкин, 1989, с. 107]. Вряд ли, однако, скиф-
ское искусство нуждается в подобной защите, ибо оно пред-
ставляет собой не механическую сумму заимствованных обра-
зов, а качественно новый феномен, история же мирового искус-
ства знает не один пример формирования новых художествен-
ных течений на воспринятой извне основе.
Приступая к изучению вопроса о происхождении скифского
звериного стиля, мы отнюдь не были склонны принимать гипо-
тезу о его генетической связи с луристанскими бронзами, более
того — относились к ней весьма критически. Но по мере иссле-
дования все большего числа рассмотренных выше мотивов мы
убеждались, что почти в каждом из проанализированных случа-
ев и выбор воплощаемого образа, и его иконографическое реше-
ние, и конкретные приемы трактовки отдельных деталей, рас-
смотренные с точки зрения истории их сложения, в конечном
счете неизбежно приводят нас к луристанским бронзам. Когда
подобных случаев накопилось достаточно много, возникла необ
ходимость в их суммарной культурно-исторической интерпрета
пни и в ответе на вопрос о принципиальной возможности такого
понимания истоков скифского звериного стиля. Предлагая ви-
деть в культуре луристанских бронз ту основу, на которой
сформировалось искусство скифского пласта Зивие, эволюцио-
нировавшее затем в собственно скифское искусство, мы должны
оценить историческую вероятность этого реконструируемого про-
цесса. Остановимся пока что на чисто археологическом аспекте
этой проблемы, и прежде всего на пространственно-временной
обеспеченности данной гипотезы.
Что касается соотношения ареала культуры луристанских
бронз с зоной, в которой зафиксированы находки, принадлежа-
щие к скифскому пласту Зивие как наиболее ранней стадии
скифского искусства, то их непосредственное соседство очевид-
но: территория Приурмийского района, с которой связан так
называемый Саккызский клад, находится поблизости от Загро-
са. Более того, для периода, непосредственно предшествующего
формированию «комплекса Зивие», археологически засвидетель-
ствованы интенсивные культурные связи между северо-запад-
ными областями Ирана и Луристаном [Погребова, 19776,
с. 149—166].
Более детальной аргументации заслуживает вопрос о хроно-
логическом соотношении интересующих нас культурных явле-
ний. Как отмечалось выше, комплекс Зивие, если отказаться от
координирующего влияния скифских сопоставлений, должен
быть отнесен ко времени около первой половины VII в. до н. э.
Позднюю же фазу культуры луристанских бронз, соответствую-
щую по археологической периодизации памятников Северо-За-
падного Ирана эпохе железный век III, помещают — с некото-
рыми вариациями — во вторую половину VIII—VII в. до н. э.
156
iVanden Berghe, 1967; 1971; 1972; 1973; 1980; Porada, 1964; Мо-
огеу, 1971, c. 25; 19746, c. 27—28; 1975, и др.]. Предполагает-
ся, что именно на этот период приходится захват Луристана
мидийцами, приведший в итоге к затуханию собственно лури-
станской цивилизации. Остановимся специально на том, продол
жали ли на протяжении этого заключительного периода ее су-
ществования бытовать знаменитые луристанские бронзы, по-
скольку, как известно, некоторыми исследователями было вы-
сказано мнение, что к этому времени они практически исчезают.
Это предположение основано главным образом на материа-
лах, полученных в ходе работ бельгийской экспедиции в Запад-
ном Луристане, где было, в частности, изучено значительное
число могильников, принадлежащих к этой поздней фазе [Van-
den Berghe, 1968; 1971; 1973 и др.]. По мнению Л. Ванден Бер-
ге, типичные луристанские художественные бронзы относятся в
основном к IX—VIII вв. до н. э.; в конце же VIII—VII в. мате-
риальная культура этого региона значительно отличается от
культуры предшествующего времени: полное преобладание по-
лучает железное оружие, появляются некоторые новые формы
бронзовых вещей — такие, как булавы, клевцы, щиты, обкладки
колчанов. Для бронзовых изделий этого периода характерен
геометрический декор из выдавленных с внутренней стороны то-
чек. Что же касается столь типичных для более раннего време-
ни луристанских бронз с зооморфными изображениями, то, по
утверждению Л. Ванден Берге, они в многочисленных могильни-
ках поздней стадии не обнаружены.
Концом VIII в. ограничивают обычно существование связан-
ной с этими бронзами культуры и в других районах Луристана.
Так, функционирование святилища Дум Сурх в Южном Лури-
стане исследователи относят к периоду с конца X — начала IX
до начала VII в. до н. э.; в конце VII в. оно уже полностью за-
брошено [Моогеу, 1971, с. 20]. Заметим, впрочем, что бронзовых
предметов интересующих нас типов здесь не найдено и в слоях
раннего периода. Смена культур в Восточном Луристане, про-
изошедшая около 700 г. до н. э., также, по мнению исследова-
телей, должна была привести к прерыванию традиций собст-
венно луристанской бронзовой металлургии [Моогеу, 1971,
с. 19]. В районах Центрального Луристана, где найдено наи-
большее количество предметов конского снаряжения и штандар-
тов, т. е. изделий, особенно интересующих нас в свете проведен-
ных выше сопоставлений, достоверно поздних памятников обна-
ружено не было. Если принять все эти положения, то оказыва-
ется, что ко времени сложения в Приурмийском районе искус-
ства скифского пласта Зивие культура луристанских бронз в ее
классическом варианте уже практически не существовала, и ме-
ханизм предполагаемого нами процесса передачи художествен-
ных традиций остается, таким образом, непроясненным, а сама
их генетическая связь — сомнительной.
Присмотримся, однако, внимательнее к материалам, харак-
157
теризующим позднюю фазу культуры луристанских бронз. Так,
нужно отметить, что в исследованных Л. Ванден Берге погре-
бениях различных периодов образцов классических луристан-
ских бронз было вообще найдено очень мало. К примеру, брон-
зовых штандартов бельгийская экспедиция при раскопках обна-
ружила всего два. Но обратим внимание на то, что один из них
происходит из погребения, содержавшего и предметы, несомнен-
но относящиеся к поздней стадии,— такие, как бронзовый щит,
железный меч с валиковой рукояткой, железные наконечники
стрел, сероглиняный сосуд с округлым туловом, вертикальным
горлом и отогнутым венчиком [Vanden Berghe, 1973, рис. 12;
1983, рис. 28] 27. Бронзовая подставка под штандарт, украшен-
ная скульптурными козлиными головками [Vanden Berghe,
1980, рис. 21], была найдена в могильнике, отнесенном Л. Ван-
ден Берге к периоду железный век III, т. е. к 800/750—600 гг.
до н. э. [Vanden Berghe, 1980, с. 36; ср. Vanden Berghe, 1983,
с. 69]. Вместе с этой подставкой обнаружены железный кинжал
с валиковой рукояткой, бронзовый топор-клевец, бронзовый
щит, железные стрелы, фрагмент железных удил, т. е. уже упс
мянутый набор, характерный для комплексов поздней стадии
рассматриваемой культуры.
Две описанные находки свидетельствуют, что, несмотря на
ощутимые изменения общего облика культуры при переходе к
ее поздней фазе, типичные луристанские бронзы продолжали
здесь использоваться. Если же принять во внимание, что коли-
чество предметов изобразительного искусства, найденных в ходе
работ бельгийской экспедиции в Западном Луристане, вообще
невелико, то не приходится говорить о значительном снижении
степени распространения подобных находок в погребениях позд-
него времени по сравнению с ранними.
В Северо-Восточном Луристане к поздней стадии существо-
вания этой культуры относится слой II поселения Бабаджан-те-
пе, упомянутого выше. Памятник этот, как и любое поселение,
ввиду особенностей содержания культурного слоя не мог дать
большого количества произведений художественной бронзы. Тем
показательнее находка в этом позднем слое бронзовой трубча-
той втулки с рифленой поверхностью и двумя рельефными чело-
веческими масками у верхнего конца [Goff, 1978, рис. 14, 26],
свидетельствующая о сохранении интересующей нас традиции.
Вообще правомерно полагать, что луристанские художест-
венные бронзы, известные преимущественно по случайным на-
ходкам, сосредоточивались в основном не в погребениях, а в
святилищах, в значительной степени, очевидно, нам еще просто
неизвестных. Поэтому даже немногочисленные приведенные
случаи обнаружения подобных предметов в поздних захороне-
ниях весьма показательны для освещения проблемы их хроно-
логии.
И все же при ее анализе приходится оперировать главным
образом косвенными данными. Так, необходимо учитывать, что
158
вне Луристана типичные луристанские вещи были найдены в
хорошо датированных комплексах VIII—VII вв. до н. э. [Gold-
man, 1957; Kantor, 1946; Моогеу, 19746; Amandry, 1958; Луко-
нин, 1977 а, с. 26]. Для установления относительной и абсолют-
ной хронологии луристанских бронз в целом большое значение
продолжает иметь и сравнительный стилистический их анализ.
Как известно, Э. Порада выделила в развитии предметов этой
группы (в частности, штандартов) четыре стадии, причем пе-
риодом расцвета считала третью, датируя ее VIII — началом
VII в., а четвертую, относимую к VII — началу VI в., рассмат-
ривала как переходную к ахеменидскому искусству [Porada,
1964]. Именно к третьей стадии исследовательница отнесла ту
серию штандартов, к которой принадлежит упомянутая нами
находка из Западного Луристана. Кольцевидные предметы с
помещенными на них фигурами животных, относящиеся, види-
мо, к конскому снаряжению и неоднократно привлекавшиеся
выше, также найдены в основном вне комплексов и датируются
преимущественно по стилистическим признакам VIII — началом
VII в. до н. э. [Моогеу, 1971, с. 132]. Наконец, неоднократно
отмечавшиеся исследователями реминисценции луристанской
традиции ь ахеменидском искусстве также указывают на отсут-
ствие между ними ощутимого хронологического разрыва.
В целом следует признать, что у нас нет никаких весомых
причин исключать по крайней мере первые десятилетия VII в.
до н. э. из периода бытования луристанских художественных
бронз. А это, в свою очередь, означает, что создатели скифского
пласта Зивие имели вполне реальную возможность достаточно
тесно соприкоснуться с подобным искусством не только терри-
ториально, но и хронологически 28.
Таким образом, мы рассмотрели иконографический и архео-
логический аспекты проблемы соотношения луристанского и
скифского искусства. Разумеется, имеет эта проблема и еще
один (самый важный) аспект — исторический, предполагающий
уяснение того, какие предпосылки обусловили восприятие ски-
фами чужого культурного языка и почему этот процесс затронул
именно зооморфные образы искусства Луристана. Этот вопрос
мы рассмотрим позже, при обращении к общим проблемам ран-
нескифской культурной истории. Теперь же нам предстоит крат-
ко сформулировать то понимание процесса формирования ран-
нескифского анималистического искусства, которое вытекает из
всего предпринятого на предыдущих страницах сопоставитель-
ного анализа.
Мы приходим к выводу, что искусство скифского пласта Зи-
вие является продуктом трансформации зооморфных образов и
мотивов, издавна бытовавших в Передней Азии. Одним из ос-
новных источников репертуара воспринятых этим искусством
анималистических образов, равно как и способов их воплоще-
ния, явилась культура луристанских бронз. Параллельно сказа-
лось здесь и воздействие иных художественных традиции, в пер-
159
вую очередь ассиро-урартской. Достаточно сложное взаимодей-
ствие разных традиций, проявившееся как в сочетании разно-
родных элементов, так и в том, что мотив, происходящий из
одной традиции, зачастую воспроизводился средствами, прису
щими другой традиции, а также постоянное определяющее воз
действие среды-заказчика, в равной степени чуждой всем этим
традициям, обусловили в итоге формирование качественно ново-
го художественного явления. При этом в процессе его сложения
формальные моменты диалектически взаимодействовали со
смысловыми, продиктованными принципами мировосприятия
той среды, которая выступала в качестве заказчика и потреби-
теля этого возникающего искусства.
Одной из важнейших особенностей «скифского стиля Зивие»
как культурно-исторического явления выступает то, что указан-
ное явление предстает в нем не столько как определенная дан-
ность, сколько в процессе своего становления — рождающимся,
а не родившимся. Именно это обстоятельство является решаю-
щим при оценке вопроса о соотношении памятников Зивие и
собственно скифских: первые не демонстрируют вторичную мо-
дификацию уже сложившегося где-то искусства под переднеази-
атским влиянием, а документируют стадию зарождения этого
искусства. Сравнение же памятников Зивие со стилистически
весьма близкими им предметами из областей к северу от Кавка-
за позволяет интерпретировать последние как принадлежащие к
более зрелой стадии того же нарождающегося искусства. Поэто-
му, рассматривая саккызскую и келермесскую стадии как два
последовательных звена единого эволюционного процесса, мы
одновременно считаем правомерным выделять в истории этого
искусства и целостный саккызско-келермесский этап, хотя и
признаем, что завершение формирования тех стилистических и
иконографических особенностей, которые составляют специфику
скифского звериного стиля, происходит именно на келермесской
стадии.
Сказанное не означает, что все памятники этого этапа могут
быть выстроены в единую эволюционную цепочку или же после-
довательно размещены на шкале абсолютной хронологии. Жи-
вой процесс кристаллизации художественного метода неизбежно
предполагает одновременное существование памятников, типо-
логически относящихся к разным стадиям этого процесса, и да-
же отдельные случаи взаимной инверсии хронологического и ти-
пологического, что основательно подкрепляет правомерность
толкования всей этой совокупности как принадлежащей к еди-
ному этапу, несмотря на вполне ощутимую в ней тенденцию
развития стиля 29.
Что же касается абсолютных хронологических рамок саккыз-
ско-келермесского этапа в целом, то они определяются сочета-
нием таких моментов, как дата собственно раннескифских комп-
лексов, переднеазиатские (ассиро-урартские и др.) реперы дати-
ровки «комплекса Зивие» и, наконец, охарактеризованная выше
160
соотнесенность саккызско-келермесских древностей с луристан-
скими. В сумме эти моменты позволяют относить названный
этап к VII в. до н. э., что, как мы увидим в следующей главе,
вполне согласуется с данными исторического характера. Разу-
меется, дальнейшее накопление материалов и в не меньшей сте-
пени разработка проблем раннескифской хронологии, в настоя-
щее время еще далеко не совершенной, внесут существенные
уточнения в интересующую нас картину. Следует лишь подчерк-
нуть, что все выкладки на этот счет непременно должны учиты-
вать охарактеризованный комплексный характер проблемы ста-
новления скифского искусства.
Памятники звериного стиля саккызско-келермесского этапа
происходят из комплексов, разбросанных на достаточно обшир-
ной территории, включающей помимо Передней Азии и Кавказа
степное и даже лесостепное Причерноморье. Однако область, в
которой протекал сам процесс становления скифского искусства,
мы склонны ограничивать землями, примыкающими с обеих сто-
рон к Главному Кавказскому хребту. Именно в этом регионе
удается выявить памятники, достаточно последовательно отра-
жающие различные стадии интересующего нас эволюционного
процесса, тогда как вне его фиксируются лишь отдельные реф-
лексы этого процесса. Очевидно, находки из этих периферийных
областей свидетельствуют, что периодические «выбросы» произ-
ведений формирующегося скифского искусства происходили на
всем протяжении периода его становления, но само население
этих областей в рассматриваемом процессе активно не участво-
вало.
Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Говоря о
формировании скифского искусства, каким оно предстает при
сравнении «комплекса Зивие» с раннескифскими памятниками,
нельзя не учитывать, что сам характер «Саккызского клада»
предопределяет известную ограниченность предоставляемой им
на этот счет информации. Весь состав входящих в него вещей,
изготовленных в основном из драгоценных металлов, свидетель-
ствует об элитарном их характере, об их принадлежности пред-
ставителям высших слоев общества. Это определяло участие в
изготовлении подобных вещей достаточно квалифицированных
мастеров, к тому же представляющих разные художественные
школы. Между тем аналогичные по своему культурному содер-
жанию процессы восприятия инокультурных образов протекали
и в других слоях того же общества, также втянутых в создание
специфической изобразительной знаковой системы на основе зо-
ологического кода. Но предметы обихода этих социальных слоев
создавали ремесленники иного уровня, работавшие в иных ма-
териалах и менее активно использовавшие достижения чужих
художественных традиций. Поэтому в них меньше заметно род-
ство со «стадией Зивие», хотя также ощутима генетическая
связь с искусством Передней Азии. Раннескифское же искусство
как единая совокупность формировалось обоими описанными
П Зак. 358
161
путями — и через стадию Зивие, и минуя ее, что в значительной
мере определило его об тик.
И наконец, последний вопрос, который, как уже неодно-
кратно оговаривалось, мы затрагиваем предельно кратко и, по
существу, лишь попутно. Речь идет о соотношении памятников
звериного стиля из европейской и азиатской частей степного
пояса. Не вдаваясь здесь в подробный сопоставительный их ана-
лиз, еще раз подчеркнем, что европейские памятники в извест-
ном уже на сегодня объеме позволяют воссоздать процесс ста-
новления достаточно специфичного звериного стиля в его дина-
мике. Что же касается азиатских памятников, то лишь некото-
рые из них — зачастую совершенно нетипичные для культуры
тех областей, где они найдены,— удается более или менее орга-
нично вписать в эту эволюционную цепочку. Абсолютное же их
большинство вполне наглядно демонстрирует полную автоном-
ность от воссоздаваемого по переднеазиатско-европейским древ-
ностям процесса, и соответственно они должны рассматриваться
как звенья иного культурно-исторического ряда, что не отрица-
ет, конечно, наличия целой группы черт, сближающих зооморф-
ное искусство скифского времени разных регионов Евразии.
Однако эти черты отнюдь не однородны. В будущем еще
предстоит выяснить, какие из них обусловлены существованием
неких общих переднеазиатских праформ (а их влияние ощуща-
ется, на наш взгляд, в евразийском искусстве повсеместно); ка-
кие восходят к общим собственно степным оригиналам, буде
таковые существовали; какие отражают вторичное взаимовлия-
ние культур различных областей степного пояса на относитель-
но позднем этапе; какие, наконец, имеют чисто типологическую
природу. Для нас в данный момент принципиально важно, что
достаточно полно документируемый уже теперь процесс стано-
вления скифского искусства юга Восточной Европы не в состоя-
нии с необходимой полнотой объяснить ход аналогичных про-
цессов в иных областях евразийского степного мира и что не-
правомерно пытаться выстроить все памятники с этой обшир-
ной территории в единую эволюционную цепочку.
С учетом всего сказанного и следует оценивать место искус-
ства звериного стиля в системе аргументов, привлекаемых к ре-
шению вопроса о происхождении скифов. Е1аш вывод на этот
счет заключается в следующем; история формирования скиф-
ского звериного стиля, какой она предстает в свете проведенного
выше анализа, позволяет окончательно отказаться от мнения,
что задолго до появления скифской культуры в Восточной Ев-
ропе она уже существовала где-то во вполне сложившемся виде
и что ее проникновение в области обитания скифов в историче-
ское время есть результат продвижения туда носителей этой
культуры. В действительности она складывается уже на наших
глазах, причем разные составляющие ее элементы формируют-
ся в разное время; так, основные компоненты конской сбруи
восходят к «предскифскому» времени, многие формы оружия
162
возникают путем трансформации предскифских форм на стадии,
примыкающей к эпохе переднеазиатских походов, а искусство
звериного стиля выступает в качестве одного из самых вырази-
тельных культурно-исторических последствий самих этих похо-
дов. В соответствии с такими выводами и должна решаться за-
дача согласования письменных и археологических данных, отно-
сящихся к раннему периоду скифской истории. Опыт реконст-
рукции этой истории содержит заключительная глава нашей
работы.
«•
Глава III
К РАННЕСКИФСКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИСТОРИИ
Задача данной главы видится нам в том, чтобы, исходя
из выявленной на предыдущих страницах множественности воз-
можных толкований письменных и археологических данных, ка-
сающихся раннескифской истории, запрограммированной самим
характером этих данных, попытаться создать на такой комп-
лексной основе максимально непротиворечивую картину.
Событийная канва раннескифской истории по необходимо-
сти заимствуется современной наукой из античной традиции, ха-
рактеризующейся в отличие от свидетельств восточных текстов
определенной смысловой целостностью и последовательностью.
Однако эта канва, как показали многочисленные исследования
и как мы убедились в ходе предшествующего изложения, н\ ж-
дается в определенной корректировке. Сказанное касается преж-
де всего проблемы распределения событий, упоминаемых в на-
званной традиции, во времени
Как известно, древнейшее упоминание имени «скифы» свя-
зано с имевшими место в Передней Азии в 70-х годах VII в.
до н. э. действиями союзника маннеев «Ишпакая, скифа»
[АВИУ, № 65; Дьяконов, 1956, с. 245]. Для нас важность этого
свидетельства определяется еще и тем, что оно содержится в
источнике, синхронном отраженным в нем событиям, а не при-
надлежит к числу ретроспективных повествований, подобных
рассказам Геродота или иных античных авторов о ранних эта-
пах скифской истории; следовательно, можно утверждать, что
оно заведомо отражает не то значение этнонима, которое было
придано ему задним числом, а аутентичное для рассматриваемой
эпохи, пусть даже и бытовавшее не в самой подразумеваемой
под этим именем этнической среде.
Таким образом, не позднее указанного времени люди, обо-
значаемые современниками именем «скифы», уже несомненно
присутствуют в Передней Азии. Поскольку же, как мы стреми-
лись показать в первой главе, не существует реальных основа-
ний отрицать достоверность сообщений античных авторов о при-
ходе скифов в этот регион из областей к северу от Кавказа,
правомерно считать, что на юге Восточной Европы они обитали
несколько ранее, т. е. по крайней мере в первой четверти VII в.
до н. э. Необходимо лишь уточнить, что эта дата представляет
не более чем terminus post quem non появления скифов в ссве-
ропонтийских областях: ведь присутствие их в Передней Азии
164
могло далеко не сразу найти отражение в клинописных текстах,
тем более в тех немногих из них, которые дошли до нас.
В этой связи следует также иметь в виду, что характер со-
гласования даты появления здесь войска Ишпакая с хронологи-
ей предшествующих передвижений скифов по землям юга Во-
сточной Европы определяется в большой мере степенью нашего
доверия к утверждению Геродота о прямой временной и причин-
но-следственной связи между этими событиями раннескифской
истории. Напомним, что, согласно Отцу истории, именно появ-
ление скифов в Северном Причерноморье — их приход «из
Азии» — вызвало столкновение между ними и киммерийцами,
закончившееся изгнанием последних, причем последовавшее за
этим их преследование скифами через Кавказ и привело скиф-
ское войско в Переднюю Азию, обусловив его конфликт с ми-
дийским царем Киаксаром (Herod., I, 103—104). Однако такая
предельно компактная версия событий, по крайней мере в неко-
торых пунктах, опровергается внешними данными. К примеру,
И. М. Дьяконов [1956, с. 245], сопоставив рассказ Геродота со
свидетельством восточных текстов, прежде всего с упоминани-
ем Ишпакая, показал, что войну скифов с Киаксаром при любой
ее датировке отделяет от их первого появления на Ближнем Во-
стоке по меньшей мере несколько десятилетий, а значит, «Геро-
дот здесь по обыкновению сжимает события». Пожалуй, следо-
вало бы лишь добавить, что подобное уплотнение разновремен-
ных событий в принципе можно возводить не только к повест-
вовательной манере самого Геродота, но и к специфике собст-
венно скифской фольклорной традиции, на которую его рассказ,
без сомнения, в значительной мере опирается.
Если же не соответствует реальности представление Геродо-
та о временном соотношении между появлением скифов в Пе-
редней Азии и некоторыми событиями, связанными с их пребы-
ванием там, то не следует абсолютизировать и его суждение о
прямой связи между их появлением в Восточной Европе и даль-
нейшим продвижением через Кавказ. Это суждение также мо-
жет оказаться вторичным, тем более что на некоторый времен-
ной разрыв между названными событиями прямо указывает
версия, сохраненная Диодором (II, 43, 4) [Лесков, 1981, с. 102].
А это значит, что время прихода скифов «из Азии» ни в коей
мере непосредственно не определяется датой Ишпакая — в дей-
ствительности это событие могло иметь место и в VIII в. до н. э.
[Грантовский, 1980, с. 72] или даже несколько ранее.
Однако, углубившись в проблему соотношения событийной
канвы Геродотова рассказа и реального хода событий, мы не-
сколько забежали вперед. Дело в том, что вопрос, будем ли мы
доверять этому рассказу или склонимся к пониманию описанных
в нем событий как более рассредоточенных во времени, в дейст-
вительности представляет интерес лишь в двух отношениях: в
плане воссоздания детального хода событий раннескифской ис-
тории (возможно ли таковое в принципе, мы рассмотрим ниже)
165
и г точки зрения анализа механизмов формирования сохранен-
ной Геродотом традиции,— но никак не влияет на решение во-
проса о самих принципах согласования сообщения этой тради-
ции о приходе скифов из Азии с археологическими данными
Ведь осуществленный выше обзор этих данных заставляет наг
согласиться с уже приводившимся заключением М. И. Артамо-
нова [1974, с. 13]: после вытеснения из восточноевропейских
степей катакомбных племен носителями срубной культуры ника-
ких следов радикальной смены населения в этом регионе архео-
логически не прослеживается. Иными словами, археологического
соответствия рассказу Геродота в его традиционном, букваль-
ном понимании — в духе охарактеризованной выше концепции
А. И. Тереножкна — не удается обнаружить в равной мере пи
в VII в. до н. э., ни в нескольких предшествующих ему столе-
тиях.
Из сказанного вытекает, что сами археологические следы ин-
тересующего нас процесса проникновения скифов в этот регион,
если они вообще уловимы при существующих на сегодня мето-
дах анализа материала, должны быть качественно иными, а
вместе с тем иным по необходимости будет и понимание стоя-
щих за ними событий. Но прежде чем углубляться в эту про-
блему, уточним ареал поисков.
В последние годы многие специалисты оправданно обратили
пристальное внимание на рассказ Диодора (II, 43, 2—3), в не-
которых отношениях более детально, чем Геродот, описавшего
ранний этап скифских передвижений [Мачинский, 1971, с. 32;
Хазанов, 1975, с. 204 сл.; Лесков, 1981, с. 103; Мурзин, 1978,
с. 24, и др.]. Из приведенного в гл. I текста этого рассказа вид-
но, что скифы, начав расселение с берегов Аракса, где жили
искони, первоначально распространились лишь до Кавказа,
Меотиды и Танаиса и только «спустя некоторое время» проник-
ли в земли «за рекой Танаисом до Фракии». Иными словами,
ареной самых ранних сколько-нибудь известных нам событий
скифской истории оказывается не Геродотова Скифия, лежащая
к западу от Танаиса, а треугольник, ограниченный нижним те-
чением Волги и Дона и Кавказским хребтом. Ряд исследовате-
лей, следующих такому пониманию, подтвердили его археоло-
гически, показав, что самые ранние памятники скифского обли-
ка, точнее, содержащие элементы описанного выше культурного
комплекса, связанного с ранними скифами, в самом деле кон-
центрируются преимущественно в очерченном ареале, тяготея в
основном к Предкавказью [Мурзин, 1978; Петренко, 1983; Ви-
ноградов, Дударев, 1983]. Но из сказанного в предыдущих гла-
вах видно, что комплекс этот сформировался не ранее VII в.
до н. э„ причем — во всяком случае в том, что касается звери-
ного стиля,— уже под несомненным влиянием культурных им-
пульсов, полученных в переднеазиатских походах. Значит, ар-
хеологические следы предшествующих передвижений скифов на
пространстве юга Восточной Европы могут быть уловлены лишь
166
в памятниках, еще не обретших того облика, который принято
соотносить со скифами.
Археологическую ситуацию в очерченном треугольнике, имев-
ши ю место на стыке эпох бронзы и железа и в начале раннего
железного века, в свое время анализировал К. Ф. Смирнов. Од-
нако в понимании ее этнокультурного содержания он следовал
этнической карте Геродота, и потом} все выявленные процессы
связал исключительно с этногенезом савроматов [Смирнов,
1964, с. 174 сл.]. Между тем нам уже пришлось отметить то об-
стоятельство, что этногеографическая картина Восточной Евро-
пы, нарисованная Геродотом, адекватна ситуации, сложившейся
преимущественно к середине — второй половине VI в. до н. э.
В частности, в том, что касается савроматов, и археологические
материалы, и данные самою Геродота (IV, ПО сл.) позволяют
относить завершение их четкого отграничения от скифов ко вре-
мени после укоренения последних к запад} от Танаиса.
В вопросе о времени оформления савроматов как самостоя-
тельного этноса с упомян}тымп сведениями Геродота хорошо
соглас}ется свидетельство Диодора (II, 43, 6), что савроматы,
поселившиеся у Танаиса,— выходцы из Мидии; в этом легко
угадывается указание на то, что этническое обособление этого
народа относится к периоду после возвращения обитателей Во-
сточной Европы из переднеазиатских походов; напомним также
сообщение Плиния (VI, 19), что савроматы — потомки мидян1
Это позволяет рассмотреть выявленные К- Ф. Смирновым ар-
хеологические процессы на территории к восток} от Нижнего
Дона, увязанные им исключительно с проблемой этногенеза са-
вроматов, в более общем контексте ранней истории обитателей
ннтерес} ющего нас региона.
Одним из кардинальных выводов, сделанных К. Ф. Смирно-
вым, является констатация перманентного просачивания в куль-
туру срубных племен (основного населенья рассматриваемой
территории в последней четверти II — начале I тысячелетия
до н. э.) элементов андроновской культуры из заволжских об-
тастей. Этот процесс исследователь трактовал, с одной стороны,
как следствие экзогамных браков, с другой — как результат
проникновения сюда целых андроновских родов, причем, по его
мнению, это «продвижение андроновских групп, очевидно, со-
провождалось в ряде случаев военными столкновениями с мест-
ными племенами» [Смирнов, 1964, с. 176—177]. Оказав опреде-
ленное влияние на облик местной культ} ры, пришельцы, по
К. Ф. Смирнову [1964, с. 178], в целом были постепенно ассими-
лированы срубчыми племенами; параллельно прослеживается
не менее активный провесе обратного воздействия срубной куль-
туры на андроповскую. Суммарным результатом этого сложно-
го процесса явилось формирование достаточно однородного
этнокультурного массива на пространстве, охватывающем зону
распространения «срубной культуры Нижнего Поволжья, андро-
повской культуры в ее западном, южноуральском степном, ва-
167
рианте и тазабагъябской культуры Приаралья», что явилось од-
ной из главных предпосылок сложения здесь в раннем железном
веке ряда родственных ираноязычных наротов скифо-сакского
круга [Смирнов, 1964, с. 180].
Вывод этот в целом вполне убедителен. Обращаясь же к
частным проявлениям указанного процесса, отнюдь нельзя счи-
тать исключенной правомерность соотнесения именно какого-то
из отмеченных передвижений с сообщениями Аристея, Геродота
и Диодора о приходе скифов из Азии. Такая локализация пред-
ков скифов в Волго-Донском междуречье увязывается со свиде-
тельством, что они были вытеснены со своей прародины исседо-
нами (Аристей) или массагетами (Геродот), т. е. народами При-
уральско-Приаральского региона, и в то же время не заставляет
искать эту прародину слишком далеко на Востоке Отказавшись
от следования Геродотову представлению о продвижении скифов
с этой прародины до Передней Азии как о единовременном
акте, т. е. трактуя его как цепь событий, занявших достаточно
значительный временной промежуток и распадающихся на ряд
самостоятельных этапов, а также признав, что в таком случае
все этапы этого продвижения не могут быть прослежены архео-
логически с применением одних и тех же критериев (тем более
тех, которые выделены с опорой на особенности скифской куль-
туры, сложившейся позднее), вполне правомерно допустить, что
перемещение какой-то из срубно-андроновских групп и явилось
исторической подосновой сохраненного античной традицией пре-
дания о первом из этих этапов — о приходе скифов «из Азии» 2.
Эта группа, конечно, не была тождественна скифам после-
ду ющих эпох ни культурно, ни численно. Если интересующие
нас мигранты и привнесли в будущую скифскую культуру ка-
кие-то изначально присущие лишь им специфические характери-
стики 3, то все же не на этих трудно уловимых даже современ-
ным анализом чертах преемственности базировалось, разумеет-
ся, представление древних — и античного мира, и самих ски-
фов,— что именно эта группа является предком интересующего
нас народа. Такое представление могло быть обусловлено ис-
ключительно их этнической одноименностью.
На практике это означает, что, согласно предлагаемой гипо-
тезе, именно среди многочисленных групп населения, переме-
щавшихся на однокультурном по ключевым характеристикам
пространстве срубно-андроновского ареала, была одна группа,
использовавшая в качестве самоназвания этническое имя, кото-
рому в дальнейшем предстояла долгая, богатая и славная ис-
тория,— имя «скифы». Уточним, что применительно к эпохе, о
которой сейчас идет речь, маловероятно, чтобы общим самона-
званием пользовалась большая совокупность людей, ибо, как
уже говорилось, общее самоназвание есть отражение общего
самосознания, т. е. осознания некоей группой людей своей цело-
стности и одновременно обособленности от прочих аналогичных
гпупп. Осознание же тйкой общности обитателями достаточно
168
обширных территорий формируется на сравнительно высокой
ступени социально-политического развития — в эпоху' сложения
крупных союзов племен. Скифы, насколько можно судить, до-
стигли этой ступени лишь на следующем этапе своей истории, о
котором ниже. Первоначальных же носителей этого имени как
самоназвания мы должны, видимо, оценивать как относительно
небольшую группу Но именно ее перемещение легло в основу
доставившего скифологам столько проблем рассказа о приходе
скифов из Азии 4.
Попытки определить, какое именно из многочисленных пере-
мещений внутри очерченного пространства отразилось в преда-
нии впоследствии записанном античными авторами, а до того
сохранявшемся в эпической памяти самих обитателей этого ре-
гиона, на наш взгляд, заведомо обречены на неудачу. И дело не
только в том, что, как отмечал Б. Н. Граков [1971, с. 26], пере-
движение происходило на аналогичном культурном фоне и по-
тому археологически трудно уловимо. Гораздо существеннее,
что таких передвижений в ту эпоху и на той территории было,
без сомнения, много и интересующее нас отличается от прочих
лишь тем, что его участники были носителями знаменитого в
будущем племенного наименования, а преемственность этнони-
мии не коррелирует однозначно с ориентирами в сфере матери-
альной культуры, и потому ее недостаточно для вычленения
интересующего нас явления из серии ему подобных.
Вследствие сказанного мы в конечном счете не настаиваем
и на выдвинутом на этих страницах тезисе о связи первичной
миграции скифов с одним из отмеченных К. Ф. Смирновым
перемещений племен в срубно-андроновском ареале как на един-
ственно возможной идентификации этой миграции. А. М. Лесков
[1975, с. 37; 1981, с. 103—104], к примеру, обратил в этой же
связи внимание на археологические факты, свидетельствующие,
по его мнению, о продвижении в начале I тысячелетия до н. э.
в бассейн Маныча позднесрубного населения из Поволжья. Не
вдаваясь сейчас в проблему датировки привлеченных им памят-
ников, отметим, что в случае принятия предложенного
А. М. Лесковым собственно археологического осмысления ука-
занных материалов они в самом деле могут с не меньшим осно-
ванием быть соотнесены с преданием о древнейших скифах. В
свое время И. В. Яценко [1959, с. 24] сходным образом соотнес-
ла с этим же преданием тот факт, что «в материальную куль-
туру’ древнего населения Причерноморья именно на последнем
этапе местной культуры бронзового века влились свежие эле-
менты срубной культуры Поволжья» 5.
Подобных соотнесений по мере накопления материала может
быть предложено достаточно много, и все они в общем имеют
основания, ибо в самом деле улавливают в археологических дат
ных продвижение населения с востока, т. е. соответствие сотер-
жанию античной традиции 6; в то же время ни одно из них не
будет единственно убедительным, так как нам остаются, по сути,
169
совершенно неизвестны конкретные исторические характеристи-
ки рассматриваемого события — продвижения в Восточную Ев-
ропу носителей этнического имени «скифы»: его более или ме-
нее точная датировка, его конкретная узкая локализация и ис-
тинные масштабы. Утверждение, что надежных оснований для
однозначной идентификации этого события у нас попросту нет,—
ключевое в отстаиваемом нами толковании как природы той пи
формации, которая содержится в античной тра щцип о древней-
ших скифах, так и возможностей соотнесения этой традиции с
археологическими данными. По существ} дощаточно надежно
усыновленным можно, по нашему мнению, считать лишь, что
эта первая стадия скифской миграции имела место ранее сложе-
ния культуры, традиционно связываемой со скифами, и привела
носителей этого этнонима (в будущем многочисленный! могуще
ственный народ, а на этом этапе — достаточно небольшую этни-
ческую совокупность) в области, где позже известны наиболее
древние памятники этой культуры. Попытка получить более кон-
кретные археологические выводы представляется нам не имею-
щей реальной опоры.
Вместе с тем сам характер развития материальной культуры
на указанной территории в первые века I тысячелетия до и. э.
вставляет пас присоединиться к уже упоминавшейся гипотезе
А. А. Исссена [1953, с. 109J, полагавшего, что в действительно-
сти результатом описанного Геродотом вторжения древнейших
скифов в Причерноморье (с учетом уточняющих данных Диодо-
ра— в Предкавказье) явилась не радикальная смена населения
региона, а завоевание носителями этого имени господствующего
положения в некоем сложившемся здс?ь достаточно крупном
объединении племен.
В связи с предлагаемым толкованием сути древнейших до-
ступных для воссоздания событий скифской этнокультурной
истории необходимо остановиться па вопросе о терминах. Из
сказанного совершенно очевидно, что наша гипотеза базируется
на представлении о радикальном изменении с течением времени
реального содержания имени «скифы». Именно омонимия прин-
ципиально различных по своему характеру разновременных эт-
нических совокуnnociefi и явилась, на наш взгляд, главным мо-
ментом, побуждающим скифологов конструировать на стыке
интерпретации археологических и письменных данных теории, в
той пли иной мере требующие для своего обоснования насильст-
венной подгонки по крайней мере одной из привлекаемых кате-
горий материалов (см. гл. I). Если же мы хотим избежать по-
добного насилия и при этом воссоздать скифскую этнокультур-
ную историю в динамике, то необходимо достаточно четко
определять, о какой этнической совокупности идет речь в каж-
дом конкретном случае, какие «скифы» каждый раз имеются в
виду.
Стремясь в этом плане к наибольшей терминологической
четкости, мы в дальнейшем тексте будем именовать тех ски-
170
фов, о приходе которых из Азии повествует традиция и которых
мы, как ясно из сказанного, трактуем как первоначальных носи-
телей этого имени, праскифами или древнейшими скифами. Са-
мостоятельная история этих скифов заканчивается с приходом
их в указанный треугольник между Волгой, Доном и Кавказом.
Усвоение же интересующего нас этнического имени достаточно
большим союзом племен, локализуемым в Предкавказье, по-
влекло за собой, по нашему мнению, первое поддающееся фик-
сации — но отнюдь не последнее!— изменение содержания этно-
нима. Отныне он начинает обозначать совокупность более вы-
сокого ранга, именуемую нами в дальнейшем ранними скифами.
Фактически именно эти скифы — первые носители данного име-
ни, обретающие в нашем представлении реальную археолошче
скую плоть.
В свете изложенного понимания начальной истории носите-
лей этнического имени «скифы» и следует (еперь проанализиро-
вать вопрос о соотношении понятий «скифы» и «киммерийцы» и
о том, как выглядит археологически история взаимодействия
соответствующих этносов. Выше уже отмечалось, что содержа-
ние понятия «киммерийцы», вкладываемое в него Геродотом —
основным источником наших сведений о восточноевропейском
народе этого имели,— является производным от присущего это-
му же автору понимания термина «скифы», и указывалось, что в
случае трансформации смысла этого последнего неизбежно
должно было искажаться и понимание суп; описанных Отцом
истории скифо-киммерийских взаимоотношений. Теперь, уточнив
характер и направление этой трансформации, можно продол-
жить паше рассуждение.
Для начала остановимся на неоднозначно решаемом в лите-
ратуре вопросе о времени скифо-киммерийского конфликта, ибо
оз его трактовки зависит понимание того, какие именно скифы
были участниками интересующего нас события, а соответст-
венно и самого его характера. Согласно Геродоту, скифо-кимме-
рийское столкновение произошло именно вследствие появления
скифов на юге Восточной Европы и оно же повлекло за собой
их поход под водительством Мадия в Мидийскую землю. Но мы
уже видели, что между' приходом скифов «в Европу», имевшим
место не по.же начала \ II в. до н. э., и рейдом Мадия, по лю-
бой из существующих систем хронологии относящимся ко вто-
рой половине того же столетня, с\шествует временной промежу-
ток. Вопрос, следовательно, состоит в том, связывать ли скифо-
киммерийский конфликт с начальной или конечной фазой эзого
промежутка, т. е. в том, к какому из взаимоисключающих (судя
по внешним данным) утверждений Геродота следует относиться
с большим доверием. Если предполагать, что с киммерийцами
столкнулись только что пришедшие на юг Восточной Европы
скифы, то в них следует видеть немногочисленных древнейших
скифов (праскифов). Однако, к примеру, В. Б. Виноградов
предпочитает доверять сообщению Геродота о связи между
171
скифо-киммерийским столкновением и походом Мадия. Посколь-
ку же этот исследователь одновременно принимает тезис о вре-
менном разрыве между появлением скифов в Европе и указан-
ным походом, он вынужден предположить, что описанное Геро-
дотом столкновение между скифами и киммерийцами произошло
по истечении достаточно длительного времени после их расселе-
ния поблизости друг от друга [Виноградов, 1964, с. 32]. Тогда в
участвующих в этом конфликте скифах следует видеть уже ран-
них скифов. Какое же толкование предпочтительнее?
Анализируя построения В. Б. Виноградова, мы убеждаемся,
что они порождены главным образом представлением, согласно
которому' скифы накануне рейда Мадия обитали в собственно
Северном Причерноморье, тогда как зоной обитания киммерий-
цев были преимущественно Подонье и Приазовье. При таком
размещении народов войско Мадия на пути в Переднюю Азию
в самом деле должно было пройти через киммерийские земли,
чем и могло спровоцировать «запоздалое-» столкновение. Однако
если, как сказано, локализовать область обитания скифов на
раннем этапе главным образом в Предкавказье, то оказывается,
что земли Мадия не отделены от Кавказа никаким другим наро-
дом. В таком случае гораздо логичнее связывать скифо-кимме-
рийский конфликт именно с первым появлением скифов в обла-
стях обитания киммерийцев, т. е. еще до формирования общно-
сти ранних скифов. В этих условиях, исходя из археологиче-
ских данных о культурно-исторической ситуации в Предкав-
казье, представляется правомерным вслед за А. А. Иессеном
[1953, с. 109] толковать рассказ Геродота о вытеснении кимме-
рийцев лишь как отражение факта перехода главенства в среде
местного населения от первых ко вторым, т. е., по существу,
только как память о смене этнонима, под которым население
этого региона начинает фигурировать в истории.
Правда, такое толкование событий правомерно лишь при ус-
ловии, что исконным значением термина «киммерийцы» следует
считать все же этническое, а не, следуя более поздней из двух
упоминавшихся выше гипотез И. М. Дьяконова, социальное
[Дьяконов, 1981]. Ведь в последнем случае, как показал сам
И. М. Дьяконов, этническую окраску' этот термин мог получить
лишь в качестве иноназвания, в нноэтничной среде, а значит, в
самом Причерноморье/Предкавказье не могло сложиться пре-
дание о скифо-киммерийском конфликте как о столкновении
двух этносов. Соответственно предпочтение социального толко-
вания автоматически влекло бы за собой принятие уже \поми-
навшегося мнения, что сама легенда о вражде между скифами
и киммерийцами и о вытеснении последних из Европы сложи-
лась лишь под влиянием событий в Малой Азии [Дьяконов,
1956, с. 244], и потому дезавуировало бы всякую информатив-
ную ценность этой легенды в плане воссоздания истории юга
Восточной Европы.
Мы не берем на себя смелость безоговорочно предпочесть
172
одну из изложенных гипотез на этот счет прежде всего из-за
важной роли в их обосновании лингвистических материалов (во-
прос об этимологии имени киммерийцев), в анализе которых
не считаем себя компетентными, а также потому, что даже вся
совокупность имеющихся данных представляется нам недоста-
точной для окончательного выбора. Однако, как уже говорилось
в гл. I, мы не видим все же веских аргументов для отрицания
историчности предания о скифо-киммерийском взаимодействии в
южных областях Восточной Европы.
Из всего сказанного, по нашему представлению, с непре-
ложностью следует вывод, что, как бы ни относиться к свиде-
тельствам об имевшем место в этих областях скифо-киммерий-
ском конфликте, традиционное представление о возможности
выделения здесь сменяющих друг друга «киммерийской» и
«скифской» культур несостоятельно прежде всего в плане мето-
дическом. Ведь в случае, если легенда о скифо-киммерийском про-
тивостоянии в этом регионе сконструирована искусственно, поис-
ки двух противопоставляемых друг другу культур, соотносимых
с названными этносами, оказываются изначально неправомер-
ными. Если же признать историческую достоверность указанной
традиции, но при этом согласиться с мнением, что «замена»
киммерийцев скифами в действительности состояла в перегруп-
пировке этнополитических сил в среде населения, в основном не-
изменного по своему составу' и однородного по культурному
облику входящих в него компонентов, то окажется, что носите-
лями культурного комплекса, обычно именуемого киммерийским
(предскифским), наряду с самими киммерийцами были и древ-
нейшие скифы; сменяющий же его культурный комплекс, име-
нуемый в литературе скифским, присущ главным образом тому
же самому населению, но на следующем этапе его культурной
истории. Таким образом, в синхронном плане принятые назва-
ния, производные от этнонимов, не полностью адекватны этни-
ческому' содержанию соответствующих культур, а в дпахронном
их употребление пегажает суть отношений между культурами,
трактуя культурную эволюцию как проявление смены этносов.
Использование в исслсду емом случае этнических названий в
качестве элементов археологической терминологии неизбежно
приводит к искажению реальной исторической картины, ибо со-
отношение так называемых скифской и киммерийской культур
никоим образом не отражает соотношения одноименных этносов.
Ситуация усугубляется тем, что и самим этнонимам здесь при-
писывается не то содержание, которое они имели в изучаемую
эпоху, а приданное им задним числом в последующее время. В
результате, не имея возможности почерпнуть из источников дан-
ных об истинных границах зоны расселения исторических ким
мерийцев, мы невольно отождествляем ее с ареалом археолши-
ческих памятников, в действительности не являющихся специ-
фически киммерийскими. Таким образом, введение некорректной
псевдоэтнической терминологии влечет за собой эффект снеж-
173
ного кома, нагромождая все более серьезные искажения истори-
ческой картины 7.
Подводя итог сказанному, мы приходим к выводу, что кон-
цепцией, наиболее адекватно отражающей суть этнокультурных
процессов, протекавших на юге Восточной Европы в начале
I тысячелетия до н. э., и позволяющей наиболее логично согла-
совать нарративные и археологические данные, является та, что
была сформулирована в свое время А. А. Иессепом [1953,
с. 109—110]. По его словам, именуя так называемые черногоров-
ско-новочеркасские памятники киммерийскими, «мы должны
помнить, что в состав искусственно конструируемой таким пу-
тем единой „киммерийской** культуры неизбежно будет вклю-
чена и культура собственно скифских племен на ранних ее эта-
пах (курсив наш.— Авт.}». Пожалуй, единственное наше рас-
хождение с процитированным исследователем состоит в следую-
щем: мы не разделяем его надежд, что со временем — по мере
изучения карты распространения «этнокультурных групп древ-
него населения всего нашего юга» — появится возможность «вы-
делить среди памятников VIII—VII вв. и более раннего времени
собственно киммерийские памятники». Наш скептицизм в этом
вопросе обусловлен тем, что надежное соотнесение определен-
ных археологических совокупностей с киммерийцами возможно
лишь при достоверном знании границ истинной зоны их обита-
ния, т. е. аутентичного содержания этнонима Сведения такого
рода могут быть почерпнуты лишь из письменных источников, а
ожидать значительного приращения подобной информации не
приходится.
Впрочем, Н. Л. Членова предлагает прямо противоположную
опенку приведенного суждения А. А. Йессена: «Из того, что
А. А. Иессен в 50-х годах не видел возможности отличить ким-
мерийские памятники от скифских, совсем не следует, что этой
возможности нет вообще» [Членова, 1984, с. 4—5]; сама она
приписывает киммерийцам целую группу вещей и даже комп-
лексов. Признавая сугубую точность и ценность многих предпри-
нятых исследовательницей сопоставлений, мы никак не можем
принять предлагаемой ею этнической атрибуции проанализи-
рованных памятников, ибо, как уже сказано, эта процедура
требует по меньшей мере достоверного знания об истинном объ-
еме этнического термина «киммерийцы» и о конкретных грани-
цах зоны их обитания. Ни того ни другого источники в распоря-
жение современного исследователя не предоставляют. Поэтому,
вопреки мнению Н. Л. Членовой, объясняющей ситуацию некор-
ректным обращением неархеологов с археологическими факта-
ми, мы убеждены, что профессиональная причастность к архео-
логии сама по себе не обеспечивает возможности «квалифици-
рованно судить о том, какая археологическая культура (или
культуры) с наибольшей вероятностью может быть обозначена
как киммерийская» [Членова, 1984, с. 3]. Мы уже имели воз-
можность удостовериться, что «обозначить» какую-либо культу-
174
ру как киммерийскую не то же самое, что доказать ее принад-
лежность киммерийцам как конкретному историческом} этносу.
Между тем попытки дифференцированной этнической атри-
буции различных групп памятников так называемого предскиф-
ского круга в последние годы в самом деле активно предприни-
мались целым рядом исследователей. Если, как уже указыва-
лось в гл. I, А. И. Тереножкин [1976] рассматривал черногоров-
ские и новочеркасские комплексы как две последовательные
стадии одной культурной традиции и трактовал их все как
киммерийские, противопоставляя якобы привнесенной извне
скифской культуре, то другие исследователи противопоставля-
ли их друг другу как раз'ноэтничпые, считая одну группу ким-
мерийской, а другую — раннескифской.
Показательно, однако, что конкретные выводы разных авто-
ров оказываются при таком подходе прямо противоположными.
Так, А. М. Лесков видит киммерийцев в позднесрубных племе-
нах Причерноморья, в том числе на позднем этапе — в их пря-
мых потомках, носителях черногоровских древностей [Лесков,
1975, с. 27 сл.; 1981, с. 84 сл.], тогда как ранними скифами он
считает создателей новочеркасского культурного комплекса —
потомков обособленной ветви позднесрубного массиве, сравни
тельно поздно продвинувшейся сюда из Поволжь - [Лесков,
1975, с. 35 сл.; 1981, с. 100 сл.]. Напротив, Н. Л. Чле юва [195,4]
и следующий за нею в этом вопросе В. П. Белозор [1987, с. 8]
считают киммерийскими как раз новочеркасские памятники, а
В. П. Белозор, развивая эту мысль, трактует черногоровскне
комплексы как скифские.
На чем базируется любая из этих интерпретаций? А. М. Лег-
кой сопоставляет ареалы памятников обеих групп и отмечает
тяготение новочеркасских преимущественно к Предкавказью,
тогда как черногоровские, по его мнению, широко распростране-
ны по всей причерноморской степи. Именно это распределение и
является главной опорой его интерпретации. Основываясь преж-
де всего на той же географической приуроченности новочеркас-
ских комплексов, приходит к совсем ином) — противоположно-
му!— выводу Н. Л. Членова, считающая зоной обитания кимме-
рийцев преимущественно Северо-Западнее Предкавказье. Одна-
ко все авторы, опирающиеся в поисках киммерийских и син-
хронных раниескифских древностей на сопоставление ареалов,
по существу, игнорируют тот факт, что источники повествуют о
киммерийцах в Причерноморье исключитетьно как об антагони-
стах скифов, а значит, терригорня активности этих двух этносов
по необходимости должна была совпадать. Все прочие сообра-
жения о границах зоны обитания киммер’ йцез (в том чи'-'е
представление о них как о жителях всего Северного Причерно-
морь 1) —либо результат позднейшего осмысления этого эттю
нима, либо вообще плод современной — достаточно вольной —
реконструкции. Дополнительные аргументы, привлекаемые на-
званными авторами в поддержку своих толкований, черпаются
175
из числа характеристик, также в равной мере приложимых к
обоим интересующим нас народам, поскольку все соответствую-
щие характеристики скифов и киммерийцев в письменных ис-
точниках {хозяйственно-культурный облик, зоны активности в
эпоху ближневосточных походов ит п.) сугубо недифференци-
рованны.
К сказанному следует добавить, что вопрос о самой природе
чисто археологического — в том числе хронологического — со-
отношения черногоровских и новочеркасских древностей в пос-
леднее время подвергается достаточно радикальной ревизии,
прежде всего в новейших исследованиях О. Р. Дубовской [1979;
1986; 1987; 1989], а потому любые построения, не учитывающие
этого обстоятельства, весьма, по нашему мнению, уязвимы.
Завершая анализ вопроса о методах выделения специфиче-
ских киммерийских, с одной стороны, и синхронных им древ-
нейших скифских (праскифских) памятников — с другой, а
также о самой принципиальной достижимости такого выделения,
целесообразно сделать несколько уточняющих замечаний. Ски-
фы известны современной науке благодаря тому, что их история
была достаточно длительной и протекала на глазах у многих
цивилизаций древнего мира. Именно в контексте этой богатой
истории сохранилась память и о некоторых предшествующих
событиях, связанных, по существу, с предками исторических
скифов. Киммерийцы же (не как участники переднеазиатских
походов, а исключительно как восточноевропейский народ) ос-
тались в истории фактически лишь вследствие того, что оказа-
лись протагонистами некоего общего со скифами исторического
действа, сыгравшего важную роль в жизни последних и потому
запечатленного в их предании. Такой в известной мере случай-
ный характер сохранения исторических сведений о киммерийцах
и соответственно ограниченный, избирательный характер имею-
щейся в нашем распоряжении этноисторической информации
свидетельствуют о неправомерности попыток многих современ-
ных исследователей трактовать все памятники обширного при-
понтийского региона определенного периода как сумм) лишь
скифских и киммерийских древностей. В действительности на
том этапе истории этого региона, к которому относится появле-
ние на исторической арене носителей имени «скифы» (праски-
фов), рядом с ними помимо киммерийцев действовали, без со-
мнения, и другие этнические группы того же таксономического
ранга, имен которых история попросту не сохранила, но чьи па-
мятники на равных правах с праскифскими и киммерийскими (в
этническом смысле!) комплексами входят в совокупность мате-
риалов, по которым мы судим о культурном облике юга Восточ-
ной Европы так называемой предскифской эпохи. Скифо-кимме-
рийским взаимодействием этноисторическое содержание этой
эпохи отнюдь не исчерпывалось.
Поэтому, с одной стороны, говоря о преемственности между
указанной эпохой и временем обитания в этом регионе уже по-
176
настоящему знакомых нам культурно-исторически скифов (по
принятой нами терминологии — ранних скифов), мы заведомо не
вправе выделять в культуре этих последних праскифское, ким-
мерийское или какое-либо еше этнически определяемое насле-
дие; правомерно говорить лишь о чертах, восходящих к памят-
никам черногоровским, новочеркасским или какой-то иной ар-
хеологической группы. С другой стороны, подтверждается мне-
ние, что исторически недостоверно толкование киммерийцев как
исконного населения всей будущей Причерноморской Скифии
[Дьяконов, 1956, с. 230j8.
Мы подошли теперь в нашей исторической реконструкции к
тому периоду, когда в материальной культуре юга Восточной
Европы происходит то ощутимое изменение, которое сторонники
центральноазиатского происхождения скифов объясняют их пер-
вым здесь появлением. Из сказанного в предыдущих главах яс-
но, однако, что наличие в самом археологическом материале
доказательств подобного прихода сюда нового населения пред-
ставляется нам более чем проблематичным. Проведенный выше
анализ свидетельствует, что переход от черногоровско-новочер-
касского культурного комплекса к раннескифскому был обеспе-
чен сочеганием эволюционных и скачкообразных трансформа-
ций в рамках единой культурной традиции, воспринявшей одно-
временно определенные внешние культурные влияния. Постиже-
ние этого процесса по необходимости требует внимания к вопро-
сам о времени и о причинах указанного перехода.
Что касается раннескифской хронологии, то в контексте дан-
ной темы она пас интересует прежде всего с точки зрения того,
насколько быстро могло произойти «превращение» черногоров-
жо-новочеркасского культурного комплекса в скифский. От того
или иного решения этого вопроса зависит, в частности, этно-
культурная интерпретация памятников, содержащих элементы
обеих названных стадий, к примеру, таких, как находка у Лер-
монтовского разъезда, погребение 1921 г. в Каменномостском
могильнике и т. п. [Тереножкин, 1976, с. 127—128, рис. 76, 78].
А. И. Тереножкин полагает, что они «демонстрируют факт
встречи» двух разноэтничных и имеющих разный генезис куль-
тур (см. также [Мурзин, 1984, с. 96]). В случае же принятия
развиваемой нами гипотезы логичнее трактовать их как пере-
ходные комплексы [Яиенко, Раевский, 1980, с. 108]. Именно в
этом контексте вопросы датировки приобретают особую важ-
ность.
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее
время хронология раннескпфских древностей находится еще в
процессе становления. При этом местные датировочные реперы
остаются пока весьма приблизительными. Показательна в этом
отношении эволюция датировки кургана у хутора Красное Зна-
мя в Ставрополье. Если первоначально раскопавшая его
В. Г. Петренко относила этот памятник к конщ VI в. до н. э.,
то в дальнейшем ориентация на найденное здесь ассирийское
12 «к. 177
изображение божества, имеющее достаточно надежно датируе-
мые ближневосточные аналогии, позволила отодвинуть эту дату
к середине третьей четверти VII в. [Петренко, 1983, с. 44], что
существенно повлияло на осмысление всей совокупности древно-
стей рапнескнфской эпохи. Об отчетливо проявляющейся в по-
следние годы тенденции к удревнеиию раниескифских комплек-
сов уже шла речь в гл. Г.
В то же время ведутся дискуссии о верхней границе бытова-
ния так на >ываемых предскифских древностей (см., например,
[Членова, 1984, с. 30 сл.]). В этих условиях любые попытки
дифференцированно распределить во времени наиболее ранние
памятники, обладающие чертами скифского культурного комп-
лекса, и соответственно в полной мере выявить механизм его
формирования па черпогоровско-новочеркасской основе вряд ли
окажутся вполне успешными. Надежно установленным следует,
видимо, считать лишь то, что указанный процесс имел место не
позднее VII в. до н. э., и это в целом согласуется с приведенны-
ми выше древнейшими данными письменных источников о ски-
фах. Что же касается попыток уточнить его хронологию, то они
порой больше ориентируются как раз на эти письменные данные,
чем на диагностические особенности самого археологического
материала [Медведская, 1989].
Обращаясь к вопросу о причинах указанной культурной
трансформации, следует уделить специальное внимание свиде-
тельствам, что фактически с самого момента возникновения ран-
нескифского культурного комплекса как такового, он в совер-
шенно идентичных формах представлен по обе стороны Кавказ-
ского хребта и вместе с тем в нем достаточно сильно ощущается
элемент, связанный происхождением с областями, лежащими к
югу от Кавказа. Вся предыдущая глава нашей работы была по-
священа вопросу о переднеазиатских корнях звериного стиля
скифской архаики. Специалисты по истории металлургии отме-
чают единство традиций железоделательного производства ран-
них скифов и северокавказских племен, восприятие как темп,
так и другими закавказских и переднеазиатскпх технологиче-
ских достижений в этой сфере [Вознесенская, 1975, с. 92; Тере-
хова, Хомутова, 1985]. Закавказский генезис можно предпола
гать и для некоторых появляющихся в это время на юге Во-
сточной Европы типов вооружения [Погребова, 1984, с. 65—66].
Все эти факты закономерно позволяют поставить вопрос о сти-
мулирующей роли скифских походов через Кавказ и в Перед-
нюю Азию для развития культуры обитателей причерномор-
ской степи и Предкавказья. Поэтому, прежде чем окончательно
сформулировать наше понимание истории сложения раннескпф-
ского культурного комплекса, целесообразно обратиться к не-
которым аспектам характеристики этих походов.
История походов скифов в Переднюю Азию (точнее, их чис-
то событийная канва), как известно, воссоздается на основе
изучения двух групп источников — цетроспектпвпы'- сэобшенпй
178
античных авторов и синхронных самим событиям древневосточ-
ных текстов. С точки зрения достоверности предпочтительными,
казалось бы, являются источники второй группы. Первая, одна-
ко, имеет то преимущество, что рисует картину не фрагментар-
ную, пунктирную, зияющую большими лакунами, а более или
менее целостную. Но мы при сопоставлении данных Геродота с
реальной хронологией событий уже имели возможность убе-
диться, что подобная целостность античной традиции зачастую
достигалась ценой существенного искажения действительного
хода событий. Природа этих искажений достаточно наглядно
выясняется при сравнении рассказа двух авторов, в чьих сочи-
нениях особенно явно прослеживается стремление представить
историю этих походов в виде связного и более или менее под-
робного повествования,— Геродота и Помпея Трога, дошедшего
до пас в сокращении Юсгина. Что касается сообщений Страбо-
на и Диодора, то при всей ценности некоторых сохраненных
ими сведений они не идут ни в какое сравнение с данными двух
вышеназванных авторов, поскольку свидетельства Страбона
предельно фрагментарны, а рассказ Диодора весьма лаконичен.
Итак, сопоставим повествования Геродота и Трога—Юстина.
Как мы уже видели', Геродот представляет проникновение ски-
фов в Переднюю Азию, по существу, как единственный поход,
связанный с деятельностью скифского царя Мадия. В хроноло-
гию реальной древневосточной истории описанные им события
удается вписать благодаря указанию па взаимодействие скифов
Мадия с мидийским царем Киаксаром. Версия Помпея Трога по
общему характеру на первый взгляд резко отличается от Геро-
дотовой. Трог (lust., II, 3—5) описывает не одно, а три последо-
вательных вторжения скифов в Азию, в общей сложности, по
ею представлениям, охватывающих период почти в 2000 лет,
что явно фантастично и обнаруживает фольклорную окраску
версии. Тем существеннее совпадения некоторых сюжетных бло-
ков обоих рассказов.
Самым выразительным из них является наличие в обеих
версиях повествования о столкновении вернувшихся из похода
скифов со вступившими в связь с их женами рабами (Трог) или
с родившимися от этой связи детьми (Геродот). Э. А. Грантов-
ский [19806, с. 149—150] отмечает, что это сюжетное расхожде-
ние логично увязывается с представлениями каждого из авторов
о сроках отсутствия скифских мужей (восемь лет в первом слу-
чае и двадцать восемь — во втором), и полагает, что эта «циф
ра важна и для хронологии эпохи скифских походов в Азию».
Но показательны и откровенно фольклорный в обоих случаях
характер рассказа о способе, каким скифы добились победы над
своими низкорожденными противниками, и то, что совершенно
аналогичный мотив обнаруживается в традициях, культурно и
хронологически предельно далеких от рассматриваемого круга
событий [Лелеков, Раевский, 1979, с. 71—72]. Эти совпадения
заставляют считать не слишком исторически надежным и сооб-
12*
179
щение Трога о восьмилетней протяженности похода, особенно
рядом с его же утверждением, что первое владычество скифов
над Азией продолжалось 1500 (!) лет.
Приведенные наблюдения, на наш взгляд, доказывают, что
способ организации повествования о походах скифов в Перед-
нюю Азию у обоих рассматриваемых авторов имеет отчетливо
фольклорную природ) Это не исключает, конечно, адаптации
таким фольклорным рассказом реальных исторических фактов,
но требует сугубо критического обращения с источником. С точ-
ки зрения истории формирования обеих версий очень заманчиво
было бы соотнести друг с другом еще один представленный в
обоих повествованиях сюжетный ход.
Согласно Помпею Трогу, второе вторжение скифов в Азию
имело характер военного рейда отряда воинской молодежи, воз-
главленного двумя юношами царского рода, «изгнанными из
отечества ковами вельмож»,— Плином и Сколопитом. В свою
очередь, у Геродота (I, 72) мы находим рассказ, сюжетно очень
близкий: какой-то отряд скифов-кочевников, взбунтовавшись
(так!), переселяется в Мидию, где поначалу достаточно благо-
желательно принят царем Кнаксаром. На фоне последовательно
проводимой Геродотом идеи, что скифы проникли в Переднюю
Азию лишь единожды, причем их отношения с Киаксаром изна-
чально враждебны (Herod., I, 104), рассказ о переселении в Ми-
дию отряда взбунтовавшихся скифов весьма любопытен, ибо —
особенно при привлечении рассказа Трога о Илине и Сколопи-
те — выглядит как противоречащий этой схеме, выдавая ее ис-
кхсственный, вторичный характер 9.
Приведенные факты свидетельствуют, что при существенных
расхождениях между Геродотом и Трогом в понимании хода
интересующих нас событий и при явной их независимости друг
от друга между их версиями обнаруживаются несомненные
схождения, особенно в изложении пассажей чисто фольклорного
характера, а потому и в оценке описываемых Геродотом «исто-
рических» фактов также необходим здоровый скептицизм.
В том, что представления Геродота относительно времени
первого появления скифов в Передней Азии и его обусловлен-
ности погоней за киммерийцами недостоверны, мы уже имели
возможность убедиться выше, опираясь на предпринятое
И. М. Дьяконовым сопоставление Геродотова рассказа с клино-
писным упоминанием Ишпакая. Но те же клинописные источни-
ки, как известно, фиксируют еще более раннее — не позже по-
следней четверти \ III в. до н. э.— пребывание на Ближнем Во-
стоке киммерийцев [АВИУ, № 50; Дьяконов, 1956, с. 235]. Это
вынудило скифологов радикально пересмотреть сохраненную
Геродотом схему событий. К примеру, В. Б. Виноградов [1964,
с. 23] так интерпретировал результаты суммарного анализа
имеющихся на этот счет данных: «Сейчас общепризнанно, что
было два различных этапа проникновения южнорусских кочев-
ников в Переднюю Азию: первый этап — движение киммерийцев
180
в конце VIII в. до н. э.; второй — приход скифов в VII в
до н. э. (курсив наш.— Авт.)». В свете того, чпч как отмечалось
выше, первое упоминание того или иного из них народов в во
сточных текстах представляет не более чем terminus post quem
поп их появления на исторической арене, столь определенно на
этой основе разводить указанные события во времени вряд ли
правомерно.
В контексте нашей темы, т. е. при рассмотрении >1.кипения
скифов и киммерийцев с позиций культурно-историче» и сше
важнее то, что любое указание на присутствие в Пере left Азии
как тех, так и других имеет для нас одинаковую шишнп. ибо
самое раннее их здесь появление уже создает предпенчи ikii ддя
восприятия древневосточных культурных влияний оби нтс ihmii
юга Восточной Европы и для специфических сдвигов в их с<>б
ствеином бытии. По этой же причине мы в дальнейшем не <|
сируем специального внимания на том, киммерийцы или ски
выступают в источниках участниками того или иного конк|в г
ного события ближневосточной истории 10. Соответственно и но
ходы через Кавказ как скифов, так и киммерийцев с интерес
щей нас точки зрения предстают как единый по существу про
цесс.
Итак, первый момент, по которому приходится скорректиро
вать данные античной традиции об этих походах,— время их
начала и общая протяженность занятого ими периода. Но и мио
гпе иные проблемы их истории либо не поддаются реконстру)
пни при некритическом восприятии данных этой традиции, либо
просто ею не освещены. К таким проблемам, в частности, отно-
сятся следующие.
1. Имел ли в действительности место один грандиозный по-
ход, как это следует из версии Геродота, или речь должна идти
о многократных рейдах?
2. Если походов было несколько, то характерно ли для них
следование по каком)-то единому маршруту — к примеру, по то
му, описанию которого столь пристальное внимание уделил Ге
родот (I, 104),— или можно предполагать достаточную вари-
ативность избираемых путей?
3. Каковы были характер таких поводов, численность и со-
став их участников: были ли вовлечены в них исключительно
воинские контингенты (и сколь крупные), или то были перемг
щения целых этнических групп? Существует ли корреляция
между характером того или иного похога и выбором маршрута?
4. Учитывая длительность пребывания киммерийцев и скн
фов на Ближнем Востоке, следует ли предполагать существова-
ние там какой-то зоны их более или менее постоянного обита
ния, или ни к каким областям этою региона они относительно
стабильного тяготения не проявляли?
5. Каковы были отношения между скифской «метропозие"
локализуемой к северу от Кавка »ск<»го хребта, и группами ски-
фов, действовавшими в Передней Аши? Следует ли полагать.
181
что каждому новому всплеску активности этого народа в б „
невосточном регионе предшествовало проникновение через Кав-
каз каких-то скифских отрядов, возвращавшихся затем обратно,
или в некоторых случаях имели место лишь локальные переме-
щения таких отрядов в пределах собственно Передней \зии?
6. Каково было влияние столь длительных контактов скифов
с древневосточными обществами на социально-политическую ор-
ганизацию как скифских групп, находившихся в Передней Азии,
так и их предкавказской «метрополии»?
Все перечисленные вопросы, без детального анализа которых
не может быть исследована роль переднеазнатских походов
скифов в их культурной исгорни, поддаются сколько шбудь
подробному освещению лишь при весьма активном привлечении
археологических данных, порою даже значительно более инфор-
мативных в этом отношении, чем имеющиеся письменные свиде-
тельства. К сожалению, археологические материалы, в той ли
иной мере связанные с пребыванием скифов на Ближнем Во-
стоке, собраны и обобщены далеко не полно и весьма неравно-
мерно. Поэтому мы прекрасно сознаем предварительный харак-
тер предлагаемых далее наблюдений. Ввиду того, что каждый
из перечисленных выше аспектов культурной истории передне-
азиатских скифов, рассмотренный в археологическом ракурсе,
тесно связан с остальными, мы анализируем подлежащие осве-
щен ю вопросы не по отдельности, а совокупно.
Уже из приведенных данных о времени начала прониквоче-
ия обитателей Восточной Европы в Переднюю Азию ясно, что
оно относится к периоду, предшествующему появлению в Пред-
кавказье и Причерноморье комплексов скифского облика в тра-
диционном археологическом понимании этого термина, т. е. ко
времени существования здесь упоминавшихся черногоровско-
новочеркасских древностей. Вместе с тем достаточно бросается
в глата почти пслное отсутствие вещей этого крута в областях к
кнуг от Кавказского хребта. В свое время А. А. Иессен [1953,
с. 64] в подробнейшей сводке смог назвать лишь две находки
двукольчатых улил в Закавказье. Прошедшее с тех пор не
принесло оснований для пересмотра вытекающих отсюда пред-
ставлений о характере географического распределения древно-
стей этого типа. Пожалуй, помимо названных следует учесть
также находки трехдырчатых псалиев из Мингечаурского кур-
гана № 2 [Асланов и др., 1959, табл. 39, 1, 3], из могилы № 15
некрополя В в Сиалке [Ghirshman, 1939, табл. 56; ср.: Медвед-
ская, 1983], из Малого кургана в Мильской степи [Иессен, 1965,
рис. 10] и из района Калакента в Западном Азербайджане
(Nagel, Strommenger, 1985, табл. 76, 2]. Отметим, однако, что
при общей близости формы этих псалиев к так называемым
предскифским они все же являют несколько специфическую мо-
дификацию типа и оценивать их как свидетельство распрост-
ранения к югу7 от Кавказа древностей интересующего нас куль-
турного комплекса можно лишь с большой осторожностью. Да-
182
*.е если новые полевые исследования несколько пополнят круг
соответствующих находок из закавказско-переднеазиатского ре-
гиона, вряд ли можно ожидать принципиального изменения
опенки археологической ситуации.
Вместе с тем совершенно неожиданной выглядит этноисто-
ркческая интерпретация этой ситуации А. И. Тереножкиным
11976, с. 203] и В. Ю. Мурзиным [1978, с. 23], видящими в ней,
с одной стороны, подтверждение киммерийской принадлежности
чер югорсвско-повочеркасских древностей, а с другой — свиде-
тельство того, что для киммерийцев, встречавших стойкое со-
противление обитателей Кавказа и Предкавказья, путь на юг
через их земли оставался закрытым; этим они якобы отличают-
ся от скифов, чье проникновение через Кавказ исторически за-
фиксировано. Отсутствие в землях к югу от Кавказа «предскиф-
ских», по определению названных авторов, древностей в самом
деле особенно наглядно на фоне вполне ощутимых доказательств
распространения здесь скифских вещей VII—VI вв. до п. э. Од-
нако вывод, сделанный из этого упомянутыми авторами, откро-
венно игнорирует прямые свидетельства как ретроспективной
античной традиции, так и синхронных рассматриваемым собы-
тиям восточных текстов о пребывании на Ближнем Востоке не
только скифов, но и киммерийцев. Следовательно, отмеченное
различие в распределении двух названных групп древностей
требует иного объяснения. На наш взгляд, это различие само
по себе исторически информативно и связано с характером по-
ходов степного населения через Кавказ на каждом из рассмат-
риваемых этапов.
Представляется, что для раннего времени еле чует говорить
преимущественно о стремительных военных рейдах, не сопро-
вождавшихся поселением их участников в зоне таких передви-
жений. В этих условиях внедрение предметов, принадлежащих
к культуре вторгающихся воинов, в культуру местных племен
сомнительно уже вследствие характера отношений между або-
ригенами и пришельцами. Возможность же обнаружения захо-
ронений самих участников подобных рейдов ничтожна: их под-
вижные группы явно не сооружали компактных крупных мо-
гильников, а вероятность попадания в поле зрения исследова-
телей одиночных рассеянных погребений достаточно мала. Еще
проблематичнее правильная культурная атрибуция всех таких
погребений при их случайных раскопках, поскольку весьма
сомнительно обильное помещение в них специфичною для куль-
туры пришельцев инвентаря, бережно сохраняемого в условиях
пребывания на иноземных территориях и отсутствия на доступ-
ном расстоянии центров их собственного ремесленного произ-
водства.
Больше надежд в этом плане можно в принципе возлагать на
диагностические при паки погребального обряда. Но для VII! в.
до н. э. трудно говорить об устоявшемся образе у обьттте/'; й те .
регионов, откуда скифы и киммерийцы проникали в Пепеднюю
183
Азию. Впрочем, как известно, предпринимались достаточно ос-
торожные попытки сопоставить с евразийскими степными погре-
бениями знаменитые курганы Гордиона, характеризующиеся, в
частности, возведением крупных деревянных подкурганных гроб-
ниц и — в ряде случаев — использованием в ритуале огня [Llo-
yd, 1956, с. 198—199; Young, 1964]. Эти черты в самом деле срав-
нимы как с доскифскими древностями Восточной Европы [По-
гребова, 1977а], так и с европейскими комплексами времени
возвращения скифов из Передней Азии, что представляет осо-
бый интерес в свете данных о присутствии киммерийцев во Фри-
гии (Strab.. I, III. 21). Однако конкретным выводам на этот
счет должно предшествовать детальное сравнительное исследо-
вание материала.
В то же время в контексте вопроса о ранних походах степ-
няков в Переднюю Азию определенный интерес представляют
отдельные находки вещей древневосточного облика в восточно-
европейских комплексах VIII — начала VII в. до н. э. Уже сей-
час к ним надежно можно отнести бронзовые пекторали из из-
вестного клада у горы Бештау [Иессен, 1954, рис. 13, с. 126] и
из Султангорского могильника [Виноградов, 1972, рис. 9. 2],
сопоставимые с предметами аналогичного назначения из Закав-
казья и Передней Азии [Погребова, 1984, с. 103—107]. Упомя-
нем также ассирийские бронзовые шлемы из могильника Клин-
Яр на Ставрополье [Белинский, 1990]. В литературе неодно-
кратно отмечалось ассирийское происхождение блях от сбруи из
Носачевского кургана в днепровской лесостепи [Ковпаненко,
1966, с. 177, рис. 2, 5—10-, Тереножкин, 1976, с. 159, 205]. Моди-
фицированный вариант подобных блях известен в кургане у
с. Квитки в Поросье [Ковпаненко, Гупало, 1984, с. 44—45,
рис. 5, /]. В тех же самых либо в синхронных им комплексах
Поднепровья зачастую обнаруживаются вещи несомненно кав-
казского происхождения, например клепаные бронзовые сосуды,
подчас с зооморфными ручками, и др. [Ковпаненко, Гупало,
1984, с. 53, рис. 9, 46\ Крупнов, 1952, с. 22; Тереножкин, 1976,
с. 170—171]. Существуют и иные находки этого круга из восточ-
ноевропейских памятников, но приблизительность хронологии не
всегда позволяет надежно отделить эти ранние вещи от тех. что
синхронны комплексам уже откровенно скифского облика.
Эти — пусть и скудные — материалы являются косвенным
подтверждением того, что рейды степных воинов ранней поры в
Переднюю Азию имели челночный характер; наличие же среди
обитателей припонтийских степей людей, принявших некогда
участие в подобных рейдах, с течением времени способствовало
укоренению в местной среде представления о весьма удаленных
ближневосточных землях как о вполне достижимых, что превра-
щало походы в эти земли в традиционное занятие.
Все сказанное позволяет трактовать ранние (так называемые
киммерийские) вторжения европейских степняков через Кавказ,
археологические следы которых в областях к югу от Кавказа
184
практически незаметны, а в самой Восточной Европе косвенно
улавливаются, но которые вместе с тем вполне достоверно за-
свидетельствованы письменными данными как достаточно быст-
рые воинские рейды. Эти рейды не сопровождались закреплени-
ем их участников на землях, по которым пролегал маршрут дви-
жения. К активному культурному взаимодействию между при-
шельцами и местным населением закавказско-переднеазиатских
стран эти походы уже в силу самого своего характера привести
не могли, но они в известной мере готовили почву для такого
взаимодействия в будущем. Судя по косвенным данным (отча-
сти и Страбону), типологически близким к ним, т. е. таким же
стремительным рейдом, был и более поздний поход скифского
царя Мадия. Не случайно в тех областях, по которым, согласно
Геродотову описанию, пролегал его маршрут — вдоль Каспий-
ского побережья,— раннескифские древности почти неизвестны.
Зато они достаточно обильно представлены в других районах
Закавказья.
Сама процедура выделения древностей скифского круга в
памятниках Закавказья опирается на то представление об об-
лике культуры ранних скифов, которое сформировалось в ходе
исследования памятников, расположенных к северу от Кавказа
и в настоящее время убедительно интерпретируемых как ранне-
скифские. К ним принадлежат, например, курганы у хутора
Красное Знамя на Ставрополье [Петренко, 1983], ранний гори-
зонт могильника Нартан в Кабардино-Балкарии [Батчаев, 1985;
Махортых, 19876]; как полиэтничное, но с культурным и соци-
альным преобладанием скифов рассматривают население, оста-
вившее Келермесские курганы [Галанина, Алексеев, 1987] В
этот же круг следует, очевидно, включать и курган у ст. Кост-
ромской Признание именно Предкавказья основной областью
обитания скифов в раннее время снимает то противоречие меж-
ду размещением наиболее ярких комплексов раннескифского
облика в Прикубанье и опирающимся на Геродота представле-
нием о Танаисе как о восточной границе Скифии, которое от-
мечал в свое время Л. А. Ельницкий [1977, с. 68] и которое, как
говорилось в гл. I, заставляло его отрицать достоверность дан-
ных Геродота о пределах Скифии п.
Древности тех же типов, что и в перечисленных памятниках,
обнаруживаются, как сказано, в областях к югу от Главного
Кавказского хребта. Поскольку вопрос о границах распростра-
нения и об особенностях распределения этих древностей в За-
кавказье уже достаточно подробно проанализирован [Погребо-
ва, 1981; 1984; Есаян, Погребова, 1985], кратко изложим резуль-
таты наблюдений на этот счет
Как правило, такие предметы (прежде всего звенья скиф-
ской триады), известные здесь преимущественно в погребениях,
не рассеяны равномерно по всему тому или иному могильнику,
но концентрируются — по нескольку в одной могиле — в огра-
ниченном числе комплексов. Подобное распределение ранне-
185
скифских черт характерно для строго определенного района — к
северу от Куры и преимущественно к западу от Арагви, где со-
средоточены практически все (за вычетом найденных в урарт-
ских памятниках) закавказские находки предметов скифской
архаики. Погребения с ярко выраженными скифскими чертами
известны в Куланурхвинском, Дванском, Самтаврском, Тлий-
ском могильниках Такая их «кучность» может, па наш взгляд,
трактоваться как свидетельство присутствия здесь в VII —
VI вв. до н. э. определенного контингента носителей скифского
культурного комплекса. Состав же находок скифского облика
говорит за то, что этот этнический компонент в Закавказье был
представлен преимущественно мужчинами-воинами 12, причем
ощутима тенденция к сохранению за ними данной социальной
функции и в рамках аборигенных коллективов. Отсутствие же
здесь чисто скифских памятников, четко противостоящих по
культурному' облику тем, которые оставлены местным населени-
ем, позволяет предполагать достаточно активное внедрение
этих воинов в местную среду и восприятие ими ряда элементов
местной культуры при сохранении все же определенной этно-
культурной обособленности. На практике эта интеграция осуще-
ствлялась, видимо, прежде всего через смешанные браки между
воинами-пришельцами и представительницами автохтонного
населения.
Уже предельная близость элементов скифского культурного
комплекса, обнаруживаемых в памятниках Закавказья, к тому,
что характеризует синхронную им культуру предкавказских сте-
пей, т. е. зоны обитания ранних скифов и исходной области их
вторжения в Переднюю Азию, позволяет связать появление
древностей такого рода в Закавказье с этими походами. Не ме-
нее интересно в этом плане, что как раз в том же закавказском
ареале, в тех же памятниках и в то же самое время прослежи-
ваются и ощутимое влияние урартской культуры, и следы воз-
действия иных переднеазиатских культур, и одновременно сле-
ды проникновения с севера кобанских культурных элементов
Иными словами, на рассматриваемой закавказской террито-
рии мы встречаем взаимосвязанное воздействие целого ряда
культур, порой территориально достаточно удаленных одна от
другой и от интересующего нас региона, но в то же время объ-
единяемых между' собой тем, что их исконные территории, судя
по письменным и независимым археологическим данным, в той
или иной мере были причастны к перемещениям скифов в про-
цессе их проникновения в Переднюю Азию [Погребова, 198!].
Это позволяет считать, что в рассматриваемую эпоху при всей
этнокультурной пестроте представленных в указанном закавказ-
ском ареале черт его облик в целом в значительной мере так
или иначе определялся скифскими походами, и это, в свою оче-
редь, позволяет рассматривать происходящий отсюда материал
как достаточно информативный для воссоздания характера са-
мих походов.
186
Конечно, легко заметить, что ни локализация скифских древ-
ностей в Закавказье, ни их характер не согласуются с тем, ка-
кими предстают скифские походы по описанию рейда Мадия у
Геродота. Впрочем, мы уже убедились, что трактовка событий
Отцом истории, сводящим к этому рейду всю историю интере-
сующих пас походов, достаточно искусственна. Помимо уже не-
однократно упоминавшегося присутствия в Передней Азии ски-
фов Ишпакая напомним также данные о пребывании в этом ре-
гионе «Партагуа, царя [страны] скифов» [АВИУ, № 68; Дьяко-
нов, 1956, с. 260], давно и надежно отождествленного с упомя-
нутым Геродотом огцом Мадия Прототием. Поскольку же сам
Мадий, судя по всем имеющимся сведениям, также пришел в
Мидию из-за Кавказа, ясно, что исходная область его движения,
как, очевидно, и страна, которой правил его отец,— это собст-
венно скифская земля в Предкавказье [Виноградов, 1964,
с. 31] ,3. Таким образом, и письменные источники фиксируют по
крайней мере троекратное продвижение скифов через Кавказ.
Скорее всего целый ряд подобных походов вообще не нашел в
этих источниках отражения. Никак нельзя исключать, что часть
из них во многих отношениях отличалась от того, каким, опи->
раясь на данные Геродота, мы представляем себе поход Мадия.
Собственно, как раз это и подтверждают упомянутые архео-
логические материалы из Закавказья. Прежде всего это касает-
ся маршрутов, по которым скифы в разное время могли пересе-
кать Кавказский хребет. Геродот, как известно, специально
подчеркивает, что войско Мадия двигалось вдоль Каспийского
побережья, и поскольку названный маршрут в самом деле один
из немногих, пригодных для продвижения большого войска, ис-
торики проявляют к этому сообщению особое доверие. Однако
зона концентрации упомянутых скифских древностей находится
в весьма удаленных отсюда областях Закавказья, и нет ника-
ких оснований полагать, что их носители проникли сюда, сле-
дуя \ казанным путем.
Вместе с тем необходимо заметить, что и участок Главного
Кавказского хребта, к этой зоне непосредственно примыкаю-
щий, отнюдь не является непроходимым. Его прорезает по мень-
шей мере полтора десятка не слишком крупных, но вполне до-
ступных горных проходов, издавна используемых местным насе-
лением [Пчелина, 1934, с. 90—92; Чартолани, 1989]. Конечно,
для продвижения крупных воинских орд эти пути непригодны,
но небольшие конные отряды вполне могли ими пользоваться
в летнее время, что и доказывают примеры из разных историче-
ских эпох. Отнюдь не случайно, что именно на этом участке
Кавказский хребет никогда не выступал в качестве предела
культурных ареалов; к примеру, синхронная интересующим нас
событиям кобанская культура занимала области по обе его сто-
роны. Для нас особенно важно, что как раз в этих высокогор-
ных районах отчетливо прослеживается тесное взаимодействие
носителей названной культуры и скифского культурного комп-
187
лекса, блестящим подтверждением чему служат материалы зна-
менитого Тлийского могильника [Техов, 1980].
Опираясь на большую совокупность фактов, В. Б. Ковалев-
ская выдвинула гипотезу о не только культурном, но и сониаль»
по-политическом симбиозе скифов и кобанских племен. Особен-
но продуктивным представляется ее предположение, что в эпоху
архаики скифы-воины, чуждавшиеся ремесленного труда, пер-
манентно использовали кобанцев в качестве профессиональных
ремесленников-металлургов [Ковалевская, 1985, с. 53—56]. Этот
тезис хорошо согласуется как с социальными концепциями
иранцев-скифов, их представлениями о статусе и социальных
функциях различных слоев общества [Грантовский, 19806,
с 139], так и с данными о близости технологии изготовления
железных изделий в кобанских и раннескифских комплексах.
Особенно необходимым взаимодействие с кобанскими племена-
ми оказывалось для скифов во время походов через Кавказский
хребет и далее на юг. В частности, осваивая непривычные для
степняков горные области, они в своем продвижении в значи-
тельной степени должны были не только опираться на опыт
этих союзников, но и прямо вовлекать их в свои передвижения.
Не случайно следы проникновения кобанцев эпохи скифских
походов обнаруживаются как в более южных районах Закав-
казья, так и в самой Передней Азии; одновременно в памятни-
ках кобанской культуры появляются следы влияния переднеази-
атских художественных традиций [Ghirshman, 1983, с. 69; По-
гребова, 1984, с. 142—146].
Отметим, что в ландшафтных условиях Центрального и За-
падного Кавказа осуществимым было проникновение через хре-
бет лишь небольших скифских (скифо-кобанских?) отрядов.
Политические и культурные последствия такого проникновения
неизбежно должны отличаться от последствий массированных
и, судя по всему, достаточно целенаправленных походов типа
вторжения войска Мадия. В частности, подобные отряды вряд
ли могли изначально ставить перед собой географически уда-
ленные цели. Поэтому принципиально иными оказывались отно-
шения между такими отрядами и местным населением, в чем
мы, собственно, и убедились при рассмотрении принципов рас-
пределения скифских элементов в культурной среде Централь-
ного и Западного Закавказья. Как мы отметили, на этой терри-
тории происходило внедрение неоднократно, очевидно, прони-
кавших сюда скифских воинов в аборигенную среду. В то же
время улавливаемая археологически некоторая этническая обо-
собленность скифов в этой среде обеспечивала возможность
для их самостоятельной военной активности в тех случаях, ког-
да это стимулировалось достаточно благоприятными условиями.
Ясно, что небольшие группы скифов, для проникновения ко-
торых были пригодны западнокавказские перевальные пути, са-
ми по себе не могли выступать в качестве реальной военной уг-
розы древневосточным государствам. Но подобные отряды, уже
188
закрепившиеся в разных районах Закавказья, вполне могли пе-
риодически консолидироваться в более крупные воинские со-
единения и именно в таком качестве совершать походы в доста-
точно отдаленные области Передней Азии. Среди отрядов ски-
фов и киммерийцев, фигурирующих в древних источниках как
участники различных политических и военных акций в этом ре-
гионе, были, видимо, и крупные воинские контингенты, пришед-
шие непосредственно из предкавказской «метрополии», и соеди-
нения, образованные указанным путем. Очевидно, этим и сле-
дует объяснять отсутствие стабильной политической ориента-
ции у обозначаемых названными этнонимами групп, действовав-
ших на Ближнем Востоке на протяжении VIII — начала VI в.
до н. э.
Одним из археологических фактов, документирующих пре-
бывание скифских военных отрядов в другом районе Закав-
казья, давно признаны находки из урартской крепости Тейше-
баини [Пиотровский, 1954; 1959, с. 232 сл., и др.]. В этой связи
примечательно и уже упоминавшееся частичное совпадение ос-
новного ареала скифских древностей в Западном Закавказье и
зоны распространения здесь же урартских вещей, а также пря-
мое сходство скифских и урартских предметов с очерченной тер-
ритории и из Тейшебаини [Погребова, 1984, с. 197—199]. Эти
данные позволяют увязать между собой археологически удосто-
веренное обитание скифов в Западном Закавказье, с одной сто-
роны, и как письменные, так и археологические свидетельства о
союзнических отношениях между Урарту и восточноевропейски-
ми степняками — с другой [Пиотровский, 1959, с. 235; Мелики-
швили, 1954, с. 313]. Это не независимые одно от другого явле-
ния, а следы единого этноисторического процесса. При этом
для интерпретации археологических фактов, свидетельствующих
о связях Закавказья с носителями раннескифского культурного
комплекса, несущественно, подразумевают ли письменные ис-
точники взаимодействие обитателей Передней Азии со скифами
или с киммерийцами, поскольку согласно отстаиваемой нами
гипотезе носители названного комплекса могли выступать под
обоими этническими именами.
В этой связи заслуживает пристального внимания гипотеза
Э. О. Берзина [1985, с. 35] о тождестве области наибольшей
концентрации раннескифских древностей в Западном Закав-
казье с локализуемой примерно там же, по его мнению, страной
Гамир восточных текстов; правда, в этих текстах обитатели
названной страны выступают не союзниками, а соперниками
урартов, но, как сказано, в интересующее нас время межэтниче-
ские отношения здесь характеризовались достаточной неста-
бильностью 14.
В самое последнее время А. И. Иванчик [1990, с. 8—10, 19],
уделив специальное внимание комплексу письменных свиде-
тельств, проливающих свет на локализацию страны Гамир (Га-
мирра), пришел к выводу об ином ее местоположении — «в
189
лекса, блестящим подтверждением чему служат материалы зна-
менитого Тлийского могильника [Техов, 1980].
Опираясь на большею совокупность фактов, В. Б. Ковалев-
ская выдвинула гипотезу о не только культурном, но и сониаль».
но-политическом симбиозе скифов и кобанских племен. Особен-
но продуктивным представляется ее предположение, что в эпоху
архаики скифы-воины, чуждавшиеся ремесленного тр^да, пер-
манентно использовали кобанцев в качестве профессиональных
ремесленников-металлургов [Ковалевская, 1985, с. 53—56]. Этот
тезис хорошо согласуется как с социальными концепциями
иранцев-скифов, их представлениями о статусе и социальных
функциях различных слоев общества [Грантовский, 19806,
с. 139], так и с данными о близости технологии изготовления
железных изделий в кобанских и раннескифских комплексах.
Особенно необходимым взаимодействие с кобанскими племена-
ми оказывалось для скифов во время походов через Кавказский
хребет и далее на юг. В частности, осваивая непривычные для
степняков горные области, они в своем продвижении в значи-
тельной степени должны были не только опираться на опыт
этих союзников, но и прямо вовлекать их в свои передвижения.
Не случайно следы проникновения кобанцев эпохи скифских
походов обнаруживаются как в более южных районах Закав-
казья, так и в самой Передней Азии; одновременно в памятни-
ках кобанской культуры появляются следы влияния переднеази-
атских художественных традиций [Ghirshman, 1983, с. 69; По-
гребова, 1984, с. 142—146].
Отметим, что в ландшафтных условиях Центрального и За-
падного Кавказа осуществимым было проникновение через хре-
бет лишь небольших скифских (скифо-кобанских?) отрядов.
Политические и культурные последствия такого проникновения
неизбежно должны отличаться от последствий массированных
и, судя по всему, достаточно целенаправленных походов типа
вторжения войска Мадия. В частности, подобные отряды вряд
ли могли изначально ставить перед собой географически уда-
ленные цели. Поэтому принципиально иными оказывались отно-
шения между такими отрядами и местным населением, в чем
мы, собственно, и убедились при рассмотрении принципов рас-
пределения скифских элементов в культурной среде Централь-
ного и Западного Закавказья. Как мы отметили, на этой терри-
тории происходило внедрение неоднократно, очевидно, прони-
кавших сюда скифских воинов в аборигенную среду. В то же
время улавливаемая археологически некоторая этническая обо-
собленность скифов в этой среде обеспечивала возможность
для их самостоятельной военной активности в тех случаях, ког-
да это стимулировалось достаточно благоприятными условиями.
Ясно, что небольшие группы скифов, для проникновения ко-
торых были пригодны западнокавказские перевальные пути, са-
ми по себе не могли выступать в качестве реальной военной уг-
розы древневосточным государствам. Но подобные отряды, уже
188
закрепившиеся в разных районах Закавказья, вполне могли пе-
риодически консолидироваться в более крупные воинские со-
единения и именно в таком качестве совершать походы в доста-
точно отдаленные области Передней Азии. Среди отрядов ски-
фов и киммерийцев, фигурирующих в древних источниках как
участники различных политических и военных акций в этом ре-
гионе, были, видимо, и крупные воинские контингенты, пришед-
шие непосредственно из предкавказской «метрополии», и соеди-
нения, образованные указанным путем. Очевидно, этим и сле-
дует объяснять отсутствие стабильной политической ориента-
ции у обозначаемых названными этнонимами групп, действовав-
ших на Ближнем Востоке на протяжении VIII — начала VI в.
до н. э.
Одним из археологических фактов, документирующих пре-
бывание скифских военных отрядов в другом районе Закав-
казья, давно признаны находки из урартской крепости Тейше-
баини [Пиотровский, 1954; 1959, с. 232 сл., и др.]. В этой связи
примечательно и уже упоминавшееся частичное совпадение ос-
новного ареала скифских древностей в Западном Закавказье и
зоны распространения здесь же урартских вещей, а также пря-
мое сходство скифских и урартских предметов с очерченной тер-
ритории и из Тейшебаини [Погребова, 1984, с. 197—199]. Эти
данные позволяют увязать между собой археологически удосто-
веренное обитание скифов в Западном Закавказье, с одной сто-
роны, и как письменные, так и археологические свидетельства о
союзнических отношениях между Урарту и восточноевропейски
ми степняками — с другой [Пиотровский, 1959, с. 235; Мелики-
швили, 1954, с. 313]. Это не независимые одно от другого явле-
ния, а следы единого этноисторического процесса. При этом
для интерпретации археологических фактов, свидетельствующих
о связях Закавказья с носителями раннескифского культурного
комплекса, несущественно, подразумевают ли письменные ис-
точники взаимодействие обитателей Передней Азии со скифами
или с киммерийцами, посколька согласно отстаиваемой нами
гипотезе носители названного комплекса могли выступать под
обоими этническими именами.
В этой связи заслуживает пристального внимания гипотеза
Э. О. Берзина [1985, с. 35] о тождестве области наибольшей
концентрации раннескифских древностей в Западном Закав-
казье с локализуемой примерно там же, по его мнению, страной
Гамир восточных текстов; правда, в этих текстах обитатели
названной страны выступают не союзниками, а соперниками
урартов, но, как сказано, в интересующее нас время межэтниче-
ские отношения здесь характеризовались достаточной неста-
бильностью 14.
В самое последнее время А. И. Иванчик [1990, с. 8—10, 19],
уделив специальное внимание комплексу письменных свиде-
тельств, проливающих свет на локализацию страны Гамир (Га-
мирра), пришел к выводу об ином ее местоположении — «в
189
Центральном Закавказье, видимо, примерно к югу от Дарьяль-
ского прохода» Этот район также входит в очерченною нами
зону концентрации скифских древностей на землях к югу от
Кавказского хребта, и потому точка зрения А. И. Иванчика в
принципе согласуется с археологическими данными не хуже,
чем гипотеза Э. О. Берзина. Представляется, однако, что сами
привлеченные А. И. Иванчиком данные не содержат оснований
для ограничения пределов страны Гамир лишь столь восточны-
ми областями.
Как известно, локализация этой страны опирается прежде
всего на содержащееся в «письме Ашшурицуа» [АВИУ,
№ 50(11)] указание, что некая страна Гурианн— это «область
между Урарту и Гамирра». Конкретное же толкование лого
пассажа зависит от того, в каком направлении от территории,
Урарту вести поиски. Соглашаясь с А. И. Иванчиком, что речь
идет о движении к северу, отметим в то же время излишнюю
жесткость его построения. Область Гурианн принято отождест-
влять с известной по иным восточным текстам страной Куриани,
сумма сведений о которой (сопряженность ее с достаточно на-
дежно локализуемой страной Эрнахн и т. д.) заставляет сме-
стить зону поисков несколько западнее, чем это делает автор.
Стоит напомнить мнение Г. А. Меликишвили [1954, с. 61—62],
что «в северном направлении» страна Куриани «простиралась
на довольно большом расстоянии и захватывала верхнее тече-
ние р. Куры, с названием которой ее название, может быть, да-
же находится в связи». Если в свете сказанного принять за се-
верный рубеж страны Куриани (Гурианн) течение Куры выше
современного города Гори, то страна Гамирра Гамир, лежащая
еше далее на пути из Урарту, оказывается как раз в интересую-
щей нас зоне распространения скифских древностей, включая
более западную по сравнению с очерченной А. И. Иванчиком ее
часть. Важно, что и при такой интерпретации письменных дан-
ных они хорошо согласуются с археологическими материалами;
и те и другие указывают на связь данной области с народами
юга Восточной Европы.
В контексте рассмотренных данных отнюдь не обособленны-
ми от скифских древностей Закавказья ни территориально, ни
культурно-исторически выглядят и древности скифского пласта
Зивие, столь важные, как было показано в предыдущей главе,
для выявления механизмов сложения звериного стиля. Вопрос
об исторической интерпретации «Саккызского клада», тесно
связанный с его культурной интерпретацией, служит, как изве-
стно, предметом дискуссий.
В. Г. Луконин [1987а, с. 75] в своей трактовке этой коллек-
ции как сокровища, выполненного по заказу мидийского царя,
исходит из тезиса о наибольшей устойчивости традиций Зивие в
ахеменндском искусстве и о значительно более быстрой утрате
этих традиций в искусстве скифов. Но при этом исследователь
апеллирует преимущественно к представленным на вещах «Сак-
190
кызского клада» собственно древневосточным образам, а не к
специфическим мотивам его скифского пласта. Тому, что обе-
спечивает обособленное положение памятников Зивие в истории
древневосточного искусства, в аргументации В. Г. Луконина
придается, по существу, наименьшее значение. Учет же именно
таких моментов и заставляет нас видеть в сложении «Саккыз-
ского клада» как специфической по своему культурному облику
совокупности вещей результат пребывания на этой территории
скифов, достаточно надежно документированного источниками:
союзником маннеев, обитающих как раз в районе, откуда про-
исходят древности Зивие, выступает уже известный нам Ишпа-
кай |АВИУ, № 65], а другой текст прямо упоминает «войско
скифов, которые живут в области страны маннеев» [АВИУ,
№ 68]. Сам же скифский пласт Зивие—вполне органичное звено
в процессе сложения скифского звериного стиля. Не случайно
этот процесс удается воссоздать во всей полноте лишь при рав'-
ноправном привлечении материалов с пространства между Зи-
вие и Келермесом. Это пространство—от степей Предкавказья
до Приурмийского района, по сути, и является территорией, на
которой в конце \ ill — начале VI в. до н. э. завершилось сло-
жение качественно нового культурного комплекса, соотносимо-
го с ранними скифами (см. карту на с. 197) 15.
Остановимся па некоторых исторических предпосылках это-
го процесса, для чего вновь обратимся к вопросу о месте комп-
лекса Зивие в истории скифской культуры. Если ранее мы уде-
лили пристальное внимание анализу формальных связей скиф-
ского пласта этой коллекции с собственно скифским искусством
Восточной Европы для уяснения механизмов формирования по-
следнего, то теперь необходимо остановиться на том, каковы
были исторические, в том числе социально-политические, пред
посылки для столь интенсивного внедрения в скифскую культу-
ру чуждых по происхождению элементов.
Мы уже отмечали, что набор и облик вещей, причисляемых
к комплексу Зивие, явно свидетельствуют об их элитарном ха-
рактере, об исключительно высоких социальных позициях их
обладателя (или обладателей). Подобной социальной и имуще-
ственной дифференциации или, во всяком случае, столь нагляд-
ных способов ее выражения степное общество в предыдущие
эпохи, без сомнения, не знало, что и подтверждает облик черпо-
горовско-новочеркасских памятников. Зато в синхронных комп-
лексу Зивие памятниках скифского круга — к примеру, в Келер-
месе — аналогичная дифференциация прослеживается столь же
отчетливо. Это позволяет утверждать, что период истории ски-
фов, соответствующий келермесско-саккызской стадии в исто-
рии их искусства, был ознаменован резкими социальными сдви-
гами на всем пространстве, где скифы в это время обитали.
Естественно поставить эти процессы в прямую связь с собы-
тиями, составлявшими основное содержание указанного перио-
да, и в первую очередь с интересующими нас переднеазиатски-
191
ми походами. Постоянное взаимодействие, как политическое,
так и военное, скифского общества с высокоразвитыми госу-
дарствами древнего Востока неизбежно требовало от него боль-
шей, чем ранее, степени политической консолидации отдельных
племен, закономерно сопровождавшейся усилением военно-ари-
стократической прослойки; возникала потребность и в качест-
венно иных способах выражения обособленных социальных по-
зиций этой прослойки.
Конечно, война и ранее была одним из основных видов дея-
тельности степных всадников, а идеология иранцев издавна
знала концепции социальной иерархии. Но до тех пор пока
конфликты ограничивались столкновениями племен, находящих-
ся примерно на одной стадии социально-политического разви-
тия, они не стимулировали качественного скачка в развитии со-
циальной организации, а также культуры. Совершенно иная си-
туация возникла, когда отряды степняков вошли в тесное и по-
стоянное соприкосновение с древневосточными цивилизациями.
В этих условиях неизбежно должна была возникнуть потреб-
ность в новых культурных языках, применимых как во внутри-,
так и во внешнеполитической сфере, и здесь традиционный для
раннеиранских обществ аниконизм праскифской культуры во-
шел в прямое противоречие с потребностями общества. И вот те
же походы, которые привели к возникновению этой потребности,
обеспечили способ ее удовлетворения — прямое знакомство ски-
фов с богатейшим арсеналом образов древневосточного искус-
ства, создающее благоприятные условия для заимствования
изобразительной «лексики». О причинах семантического плана,
обусловивших предпочтение, которое в данном случае было от-
дано именно зооморфным образам, подробно говорилось в дру-
гом месте [Раевский, 1985, с. 102 сл.].
Вместе с тем хозяйственно-культурный уклад скифского об-
щества и уровень его развития позволяют понять причины, по
которым особенно значительный вклад в новое, создаваемое на
заимствованной основе, скифское искусство внесла культура
Луристана. Именно в луристанском изобразительном искусстве
круг зооморфных образов, оказавшихся, как сказано, особенно
притягательными для скифов, занимал наиболее заметное место,
составляя, по существу, основу репертуара. К тому же эти зо-
оморфные «персонажи» в традиционном искусстве Луристана
компоновались в достаточно простые схемы, вычленить из кото-
рых отдельный образ и воспроизвести его в качестве самостоя-
тельного мотива много легче, чем осуществить ту же процедуру
со сложными многофигурными композициями, характерными
для парадного искусства держав древнего Востока. Наконец,
луристанское искусство малых форм как в высшей степени
пригодное для обращения в среде находящихся в постоянном
движении воинских отрядов также в наибольшей мере отвечало
потребностям скифов.
Мы назвали лишь наиболее общие причины, обусловившие
192
значительность луристанского вклада в формирующееся скиф-
ское искусство. Наряду с ними существовали, видимо, и неко-
торые конкретные типологические схождения двух взаимодейст-
вующих культур, способствовавшие этому. Упомянем одну из
них. Уже отмечалось, что тенденция к комбинированному изо-
бражению нескольких зооморфных персонажей, заметная в лу-
ристанских бронзах, трансформировалась на скифской почве в
знаменитые «зооморфные превращения», составляющие одну из
главных специфических черт искусства скифов. Видимо, здесь
следует говорить о проявлении близости принципов мировос-
приятия и мировоспроизведения, семантическая природа кото-
рых цля нас еще недостаточно ясна.
Теперь читателю должно стать понятным, почему в этой ра-
боте мы уделили непропорционально большое на первый взгляд
внимание истории формирования скифского звериного стиля.
Дело в том, что достаточно выразительные памятники, обшир-
ная серия которых демонстрирует все последовательные ста-
дии этого процесса, позволяют особенно наглядно проследить
механизм сложения принципиально нового культурного фено-
мена; его появление столь радикально меняет облик восприняв-
шей его культуры, что создает впечатление смены этносов на
исследуемой территории. На практике же оказывается, что ка-
чественный культурный скачок происходит в этнической среде,
по преимуществу стабильной, и вызван главным образом благо-
приятными для этого социально-политическими и культурно-ис-
торическими условиями. Аналогичные процессы обусловили и
формирование всех новаций, в сумме придавших скифской
культуре облик, столь разительно несхожий со степной культу-
рой предшествующего этапа; но механизм этой трансформации
прослеживается не так наглядно, как на материалах звериного
стиля. В свете сказанного концепция качественного скачка, объ-
ясняющая формирование культуры причерноморских скифов
исторического периода, представляется нам гораздо более про-
дуктивной, чем до сих пор не увенчавшиеся успехом попытки
найти тот регион, откуда эта культура якобы была привнесена
в готовом, сложившемся уже виде.
Большое значение, придаваемое в нашей гипотезе о проис-
хождении скифской культуры влиянию контактов скифов с
древним Востоком, не превращает, однако, эту гипотезу в ва-
риант концепции М. И. Артамонова [1974, с. 34—55], тракто-
вавшего всю скифскую триаду как продукт заимствований в
Передней Азии. У нас речь идет о диалектическом взаимодей-
ствии скачкообразного развития местных праформ и внедрения
в ту же культуру творчески перерабатываемых инокультурных
импульсов.
Локализуя область формирования раннескифского культур-
ного комплекса на пространстве «от Келермеса до Зивие», сле-
дует оговориться, что на сегодня эта территория исследована с
интересующей нас точки зрения далеко не равномерно. Если о
13 Зак. 358
193
вкладе ее южных районов в процесс раннескнфского кулылро-
генеза приходится пока что судить по отдельным — пусть и до-
статочно выразительным — комплексам или коллекциям, то се-
верокавказская ее часть уже сейчас предстает как область со-
средоточения многочисленных памятников раннескифского об-
лика. Их анализу посвящен ряд специальных работ [Петренко,
1983; Виноградов, Дударев, 1983; Мурзин, 1978; Махортых,
1987а; и др.], позволяющих рассматривать эту область как мет-
рополию скифов ранней поры, которая и «являлась плацдармом
для скифских племен, вторгшихся в Переднюю Азию» [Петрен-
ко, 1983, с. 48].
Но если на пространстве «от Келермеса до Зивие» происхо-
дило, по нашему представлению, формирование раннескифского
культурного комплекса, то иные области, где засвидетельство-
ваны принадлежащие к этому кругу древности, демонстрируют,
насколько позволяет об этом судить имеющийся материал, лишь
восприятие уже сложившихся его элементов. Последнее отно-
сится и к весьма немногочисленным памятникам, отражающим
передвижения ранних скифов по землям Передней Азин. Тако-
во, например, уже упоминавшееся погребение из Имирлера в
Центральной Анатолии, откровенно воинский облик которого
хорошо согласуется с охарактеризованными выше особенностя-
ми скифских проникновений на Ближний Восток. То же можно
сказать о конском захоронении из Норшун-тепе. Медленно, но
неуклонно умножающиеся находки древностей скифского об-
лика из Сард [Mitten, 1966, с. 45, рис. 5; Greenewalt е. а., 1990,
с. 166—167, рис. 34—37] хорошо соотносятся с данными о за-
хвате этого города киммерийцами, с одной стороны, и о пребы-
вании в лидийской столице скифских отрядов — с другой (He-
rod., 1, 15, 73—74; Strab., I, III, 21 и XIII, IV, 8; см. [Иванчик,
1989, с. 8—10]). Показательно, что найденные в Сардах пред-
меты звериного стиля предстают, скорее, не как органичное
звено в процессе сложения этого искусства, а как вторичные
реплики на темы уже сложившейся изобразительной традиции.
Говоря о скифских материалах из Передней Азии, можно на-
помнить и о достаточно многочисленных находках стрел скиф-
ских типов, разбросанных на обширных пространствах региона
[Cleuziou, 1979] 16.
К сожалению, материалы скифского облика из Передней
Азии чрезвычайно малодоступны советским исследователям, их
публикации редки, несистематичны и, очевидно, неполны. Если
подобные материалы будут введены в активный научный оборот
и систематизированы, это, без сомнения, существенно продви-
нет раннескифскую археологию в целом.
Практически в то же время, что и на Ближнем Востоке,
предметы, принадлежащие к раннескифскому культурному
комплексу, начинают активно распространяться по территории
Восточной Европы, причем обнаруживаются эти вещи в памят-
никах, несущих и отчетливую печать переднеазиатских связей их
194
создателей. Исследование механизмов распространения древно-
стей названного круга в Европе и историческую интерпретацию
этого процесса целесообразно начать с обращения к одному до-
статочно темному пассажу Геродота, который до сих пор, на-
сколько нам известно, никто не соотносил с историей скифских
походов за Кавказ, рассматривая его лишь в контексте восточ-
ноевропейской этнической истории. Предлагаемый ниже опыт
археологического комментария к этому пассажу позволяет, од-
нако, иначе взглянуть на его содержание, и, если такой ком-
ментарий будет принят читателем, он не только продемонстри-
рует смысловую связь различных фрагментов Скифского рас-
сказа Геродота, но и окажет существенное влияние на понима-
ние судеб скифского этноса в эпоху, по времени непосредствен-
но к этим походам примыкающую. Сказанным обусловлено
включение в нашу работу нижеследующего довольно обширного
экскурса.
При описании народов, обитающих за Причерноморской Ски-
фией, Геродот (IV, 22), перечислив савроматов, будинов, тисса-
гетов и иирков, добавляет: «Выше иирков, если отклониться к
востоку, живут другие скифы, отложившиеся от царских скифов
и таким образом прибывшие в эту страну». Это краткое и до-
статочно туманное сообщение представляет несомненный инте-
рес как само по себе, поскольку содержит намек на какие-то
важные события ранней истории скифов, вообще известной нам
крайне скудно, так и в контексте разбираемой здесь проблемы.
Однако любая историческая интерпретация приведенного пас-
сажа возможна лишь после археологической идентификации
упомянутых в нем отложившихся скифов: ведь только обнару-
жив археологические их следы, мы обретем уверенность, что
приведенное сообщение Геродота отражает подлинные истори-
ческие факты, а не является плодом фантазии самого историка,
вымыслом его информаторов или результатом некоего недора-
зумения. Кроме того, археологический анализ памятников отло-
жившихся скифов — единственный способ уточнить время упо-
мянутого раскола в скифской среде, о котором из рассказа Ге-
родота мы узнаем лишь то, что он должен был произойти ранее
середины V в. до н. э., т. е. в догеродотову эпоху. Без хроноло-
гической же привязки этого события любая историческая его
интерпретация, любые рассуждения о вызвавших его причинах,
его характере и формах останутся чисто спекулятивными.
При решении этой задачи возникает, однако, определенный
парадокс. С одной стороны, датировать отделение интересую-
щей нас группы скифов мы можем лишь по характеру оставлен-
ных ею памятников. С другой стороны, сами поиски этих па-
мятников, казалось бы, возможны лишь после предваритель-
ного уяснения, к какому этапу скифской истории относится упо-
мянутый раскол, поскольку этим определяется, что же нам, соб-
ственно, следует искать. Если рассматриваемое событие про-
изошло после того, как в основном завершилось формирование
13*
195
скифского культурного комплекса, то очевидно, что памятники
отщепенцев должны быть в целом достаточно близки к извест-
ным в собственно скифском ареале. Если же, как полагает ряд
исследователей (см. ниже), раскол имел место еще на «пред-
скифской» стадии в археологическом значении этого термина
(т. е., по принятой выше терминологии, в среде древнейших
скифов, или праскифов), то последовавшее затем развитие ма-
териальной культуры основной массы скифов и их отделив-
шихся соплеменников должно было быть достаточно автоном-
ным. В таком случае привычные археологические критерии
скифской принадлежности комплекса оказываются просто не-
пригодными для выявления памятников, оставленных отложив-
шимися скифами. Поскольку, как мы видели, переход от пред-
скифской эпохи к скифской был ознаменован кардинальными
изменениями в материальной культуре, а нам к тому же пока
неизвестно, на каком местном фоне происходила эволюция
культуры отщепенцев, ясно, что атрибуция каких бы то ни было
комплексов как принадлежащих отложившимся скифам вообще
оказывается в этом случае археологически недоказуемой.
При допущении же, что раскол в скифской среде произошел
уже на стадии существования сформировавшейся культуры ски-
фов, попытки обнаружить археологические следы интересующей
нас этнической группы наталкиваются на трудности иного пла-
на: известно, что определенные элементы этой культуры (преж-
де всего, предметы скифской триады) достаточно широко рас-
пространялись за пределы зоны обитания самих скифов и не
могут служить однозначным индикатором скифской принадлеж-
ности содержащего их памятника. Древности же, идентичные
собственно скифским по всем этнически значимым характери-
стикам, на сегодня вне пределов достоверно связанной со ски-
фами зоны неизвестны. Означает ли это, что памятники отло-
жившихся скифов еще не раскопаны или что мы не в состоянии
опознать их среди имеющихся археологических материалов?
Трудность выявления археологических следов скифов-отще-
пенцев, вызванная отсутствием однозначного ответа на вопрос,
как должны выглядеть эти следы, усугубляется неясностью
представления о локализации зоны поисков. По существу, из
рассказа Геродота с очевидностью следует лишь, что между об-
ластью обитания отложившихся скифов и Причерноморской
Скифией лежат земли савроматов, будинов, тиссагетов и иир-
ков. Однако многообразие предлагавшихся реконструкций Ге-
родотовой этногеографической карты Восточной Европы и оби-
лие вариантов размещения и археологической идентификации
каждого из перечисленных народов, о чем уже шла речь в гл. I,
делают эти сведения явно недостаточными. Как мы увидим,
даже вопрос об общем направлении описанного Геродотом
маршрута вызывает разногласия среди специалистов. Опреде-
ленного внимания заслуживает сообщение Отца истории (IV,
23), что весь путь из Скифии до областей обитания интересую-
196
Юг Восточной Европы и северные области Передней Азии в раннескиф-
ское время
197
ших нас отщепенцев пролегает по плодородной равнине, а далее
в том же направлении на значительное расстояние простирается
земля каменистая и неровная, тянущаяся вплоть до подножия
высоких гор. Но подобная характеристика приложима ко всему
северо-востоку Европы и для конкретизации зоны поисков явно
недостаточна.
Именно неопределенность географических данных о месте
обитания отложившихся скифов и отсутствие четких представ-
лений об археологическом облике оставленных ими памятников
явились причиной крайнего разнообразия предлагавшихся тол-
кований рассматриваемого пассажа. Недавняя публикация
подробного историографического комментария к нему [Доватур
и др., 1982, с. 248—249] избавляет нас от необходимости изла-
гать всю историю вопроса. Оставляя в стороне заведомо непри-
емлемые мнения (к примеру, локализацию отложившихся ски-
фов в Северо-Западном Причерноморье), остановимся на клю-
чевых моментах существующих толкований и на некоторых но-
вейших попытках интерпретации рассматриваемого свидетель-
ства.
Все обилие выдвигавшихся гипотез можно свести к трем
вариантам, разница между которыми определяется различием в
понимании исходной посылки. Согласно первому варианту, рас-
кол в среде скифов произошел еще в эпоху их обитания на
«азиатской прародине» и отделившаяся группа осталась на зем-
ле своих предков. Второй вариант предполагает продвижение в
Европу и основного скифского массива, и отщепенцев, но по раз-
ным маршрутам и в разные земли. Наконец, третий вариант ис-
ходит из того, что раскол произошел после завершения первона-
чальной скифской миграции с востока и что лишь тогда отло-
жившиеся скифы и двинулись в указанную Геродотом область.
Первой точки зрения придерживался, к примеру, в своих
ранних работах Б. Н. Граков, приписавший интересующей нас
этнической группе курганы скифского времени между Волгой и
Уралом [Grakov, 1928] 17. Однако позже исследователь пере-
смотрел свое мнение и интерпретировал те же комплексы как
савроматскне [Граков, 1947а, с. 102 сл.]. В настоящее время
такая их атрибуция широко признана (см., например, [Смир-
нов, 1964]), и указанная локализация отложившихся скифов
полностью лишилась археологического обоснования, на котором
гтавным образом и базировалась.
Позже толкование отделившихся скифов как племени, остав-
шегося на азиатской прародине, отстаивал Л. А. Ельницкий
[1977, с. 114, 201], отождествивший их с саками Казахстана.
Вопроса о том, насколько археологический облик сакских па-
мятников Казахстана и скифских комплексов Восточной Евро-
пы позволяет постулировать этническую близость этих народов,
мы уже касались в гл. I. В связи же с рассматриваемой пробле-
мой необходимо отметить, что предложенная Л. А. Ельницким
локализация отделившихся скифов неразрывно связана с общим
198
толкованием всей Геродотовой периегесы, включающей упоми-
нание скифских отщепенцев. Согласно достаточно распростра-
ненному мнению, она описывает области, простирающиеся от
Северного Причерноморья к востоку, вплоть до Центральной
Азии.
В отечественной литературе помимо Л. А. Ельницкого этой
точки зрения придерживался С. И. Руденко [1952, с. 17—18],
помещавший отделившихся скифов в Северном Казахстане, а
народы, обитающие за ними,— в более восточных землях, вплоть
до Алтая18. Но такая широтная ориентация описанного Геродо-
том пути плохо согласуется с конкретными указаниями самого
историка, который специально отмечает случаи некоторого от-
клонения этого пути к востоку (за пустыней, лежащей к северу
от будинов, а также за землей цирков), что явно предполагает
его общую направленность на север. К тому же Г. М. Бонгард-
Левин и Э. А. Грантовский (1983. с. 32—35], проанализировав
всю систему географических представлений, отраженных в ан-
тичной традиции о заскифских землях, и выявив ее местные
истоки и общеиранские корни, убедительно показали, что тол-
кование Геродотова пути как ориентированного на восток не-
правомерно: речь идет о пути на север как о концептуальном
элементе индоиранской (в том числе скифской) картины ми-
ра |9. Из этого следует, что при любом варианте решения вопро-
са о времени раскола в среде скифов область обитания отло-
жившейся их части нельзя, опираясь на данные Геродота, ло-
кализовать вне пределов Европы, восточнее Урала. Этот момент
необходимо учитывать, в частности, при оценке новейшей гипо-
тезы о локализации отделившихся скифов, принадлежащей
Н. Л. Членовой [1988], которая приписала им Большой Гума-
ровский курган в Оренбуржье. Данная гипотеза при всей ее за-
манчивости полностью игнорирует указанную концептуальную
особенность сохраненного Геродотом свидетельства20.
Не противоречит этому свидетельству гипотеза Д. А. Мачин-
ского [1971, с. 34—35], основанная на втором варианте понима-
ния исходной посылки. Названный автор полагает, что исседо-
ны, вытеснившие, согласно Аристею (Herod., IV, 13), скифов из
Азии, как бы «разрезали» скифскую орду надвое, и в то время
как основная ее часть продвинулась в Предкавказье п Причер-
номорье, отделившиеся скифы поселились в районе Бугульмин-
ской возвышенности. Археологической их идентификации
Д. А. Мачинский не предпринимает 21, и поэтому, в общих чер-
тах согласуясь с географическим контекстом Геродотова свиде-
тельства, эта гипотеза все же остается умозрительной и допу-
скает локализации скифских отщепенцев, альтернативные пред-
ложенной им.
Наконец, третьему варианту понимания исходной посылки
следует Б. А. Рыбаков [1979, с. 116—122], приписавший отде-
лившимся скифам знаменитую воронежскою группу памятни-
ков скифского времени, которую он трактует как своего рода
199
«скифский остров» среди принадлежащей меланхленам средне-
донской культуры. Эту гипотезу отличает, пожалуй, наиболее
комплексный характер аргументации: она опирается как на раз-
носторонний анализ данных Геродота о локализации искомой
этнической группы, так и на некоторые особенности культуры
воронежских курганов. Однако оба ряда приводимых автором
доводов достаточно уязвимы.
По мнению Б. А. Рыбакова, культура воронежских курганов
имеет отчетливо выраженный скифский облик, причем есть ос-
нования приписать эти комплексы именно скифам царским.
Среди главных аргументов в защиту последнего тезиса привле-
чена предложенная одним из авторов данной работы интер-
претация изображения на серебряном сосуде из Частых курга-
нов как иллюстрации к генеалогическому мифу, служившему в
Скифии средством обоснования концепции богоданного характе-
ра царской власти [Раевский, 1970, с. 92 сл.]. Б. А. Рыбаков
[1979, с. 122] полагает, что такая расшифровка сюжета утверж-
дает бытование у скифов Среднего Дона в IV в. до н. э. древ-
ней легенды, сложившейся именно в среде царских скифов
Нижнего Днепра, и тем самым свидетельствует об одноэт-
ничности обитателей Воронежского Подонья со скифами цар-
скими.
Но воронежский сосуд — одно из многих произведений грече-
ской торевтики, достаточно распространенных в скифское время
по всей территории причерноморской лесостепи. Как правило,
эти предметы однотипны с эллинскими изделиями, бытовавши-
ми в степной Скифии, и, видимо, попадали сюда через ее по-
средство, о чем уже говорилось в гл. I. Поэтому вряд ли назван-
ный сосуд отражает непременно идеологию самих обитателей
Среднего Подонья и тем более ее особую (по сравнению с кон-
цепциями других лесостепных племен) близость к представле-
ниям степных скифов. Тем более этого недостаточно для утвер-
ждения об одинаковой этнической принадлежности воронежских
курганов и степных памятников, различающихся между собой
по всем основным показателям, информативным в этнокультур-
ном отношении.
Еще труднее согласовать так\ю локализацию отложившихся
скифов с суммой данных Геродота о расселении восточноевро-
пейских народов, в том числе и с тем их толкованием, которое
принимает сам Б. А. Рыбаков, справедливо отметивший, что при
реконструкции Геродотовой этногеографической карты следует
руководствоваться системой взглядов древнего историка, а не
«какими-то случайными признаками, вырванными из контекста
и сильно обработанными бесконтрольным воображением» [Ры-
баков, 1979, с. 12]. Напомним, что путь из Причерноморья в
землю отложившихся скифов, согласно Геродоту, проходит че-
рез области обитания савроматов, будинов, тиссагетов и иирков.
В рассматриваемой же реконструкции между Скифией и землей
отщепенцев оказываются лишь савроматы. Земля будинов (по
200
Б. А. Рыбакову — носителей юхновской культуры) остается да-
леко на северо-западе, в стороне от интересующего нас пути, а
до земель тиссагетов и пирков (соответственно городецкой и
дьяковской культур), расположенных значительно севернее,
этот путь так и не доходит (Рыбаков, 1979, с. 191, карта]. Если
же провести этот маршрут через ареалы всех перечисленных
культур, то он окажется не прямым, а образует почти замкну-
тую петлю.
Такое противоречие побудило Б. А. Рыбакова предположить,
что в описание земель, лежащих за тиссагетами и пирками,
пассаж об отложившихся скифах попал у Геродота случайно и
что он более уместен в другом параграфе его рассказа. Причи-
ной такого смещения исследователь считает путаницу, возник-
шую при определении взаиморасположения земель царских ски-
фов и меланхленов. По Геродоту (IV 20), эти последние живут
к северу от царских скифов. Б. А. Рыбаков полагает, что от-
счет в данном случае следует вести не от основного ареала цар-
ских скифов, а от области обитания их отделившихся соплемен-
ников. Однако предложенная им археологическая идентифика-
ция отщепенцев не согласуется и с переосмысленным таким об-
разом текстом, поскольку основная зона среднедонской культу-
ры, приписанной Б. А. Рыбаковым меланхленам, располагается
не к северу от воронежской группы, а к востоку и даже юго-во-
стоку [Либеров, 1969, с. 17 сл.], что признает и сам Б. А. Рыба-
ков и что отчетливо видно на составленной им карте [Рыбаков,
с. 121, 191]. К тому же из сообщения Геродота отнюдь не сле-
дует, что отделившиеся скифы сохраняли присущее их сопле-
менникам именование «царские», а лишь при этом условии мо-
гла возникнуть предположенная исследователем путаница Тер-
мин этот не этноним в собственном смысле слова; скорее он
отражает ту роль, которую данное племя играло в социально-
политической структуре Скифии, и потому претендовать на него
не связанные с этой структурой скифы-отщепенцы вряд ли мог-
ли.
В<*е сказанное заставляет считать, что отождествление отло-
жившихся скифов с древним населением, оставившим Воронеж-
ские курганы, недостаточно обосновано археологически и не со-
гласуется с данными Геродота о локализации зоны обитания
этого народа даже после внесения в эти данные отнюдь не бес-
спорных коррективов. Уязвимость такого отождествления и
предпринимаемых ad hoc исправлений Геродота уже отметил
В. П. Яйленко [1983, с. 64—65]; сам же он считает наиболее
правомерным помещение отложившихся скифов в Заволжье или
Приуралье, но не приурочивает их к какой-либо конкретной
группе памятников.
Резюмируя обзор предлагавшихся толкований интересующе-
го нас пассажа, мы приходим к выводу, что ни одно из них не
обладает абсолютной доказательностью. Воспользовавшись не-
сколько приблизительной аналогией из области математики,
201
можно сказать, что значительная неопределенность географиче-
ских сведений о местоположении земли отложившихся скифов
и отсутствие ясного представления об облике принадлежащих
им памятников превращает поиски реальных следов этого наро-
да в уравнение с двумя неизвестными, не имеющее решения.
Точнее, такое уравнение имеет бесконечное множество одина-
ково правомерных решений, и, для того чтобы выбрать из них
единственное искомое, мы должны располагать системой по
меньшей мере из двух уравнений. Поэтому достаточно убеди-
тельная атрибуция некоей совокупности памятников как остав-
ленных отложившимися скифами возможна лишь при привлече-
нии каких-то дополнительных данных, обеспечивающих введе-
ние добавочных критериев, по которым эта атрибуция предпри-
нимается.
И все же первым шагом на пути решения проблемы должно
явиться ограничение зоны поисков. Поскольку же такое ограни-
чение должно опираться на реконструкцию Геродотовой этно-
географии Восточной Европы в целом, допускающую, как мы
видели, различные трактовки, сформулируем задачу в более
общем виде: локализация искомой зоны не должна вступать в
противоречие с данными Геродота на конкретную интересую-
щу ю нас тему, равно как и со всей системой сведений, включаю-
щей эти данные. Иными словами, из всех существующих версий
толкования этногеографической карты Геродота мы выбираем
ту которая по целому’ ряду7 соображений, отчасти изложенных
в гл. I, представляется нам наиболее аргументированной. Если,
исходя из этого выбора, мы сумеем обнаружить памятники, до-
статочно обоснованно интерпретируемые как принадлежащие
отложившимся скифам, то помимо такого конкретного резуль-
тата обретем дополнительный довод в защиту избранной версии
как наиболее правомерной из всех предлагавшихся реконструк-
ций расселения восточноевропейских народов по Геродоту.
Итак, проследим описанный Геродотом путь от причерно-
морских скифов царских в землю их отделившихся соплеменни-
ков (см. карту). Царские скифы, согласно Отцу истории (IV,
20), занимают восточную часть Причерноморской Скифии22
вплоть до Меотиды и Танаиса. Именно переправой через Танаис
и начинается рассматриваемый маршрут, на первом этапе про-
легающий через землю савроматов, которая, по Геродоту7 (IV,
21), простирается на 15 дней пути к северу от северо-восточного
угла Меотиды. Выше уже упоминалось исследование И. Л. Ши-
шовой [1981], убедительно показавшей, что содержащиеся в
Скифском рассказе исчисления расстояний в днях пути далеко
не всегда достаточно надежны. Поэтому данные о протяженно-
сти земли савроматов приходится проигнорировать или, во
всяком случае, не воспринимать как ключевой момент при ре-
констру кции интересующего нас маршрута. Что же касается са-
мой локализации этой земли к востоку от Танаиса, то она в на-
стоящее время общепризнана.
202
Выше савроматов, по Геродоту, живут будины. По изложен-
ным в гл. I основаниям мы принимаем их археологическую
идентификацию, подробно обоснованную Б. Н. Граковым, т. е.
приписываем им имеющую скифоидный облик культуру лесо-
степи к востоку от Днепра.
«Выше будинов к северу» Геродот помещает пустыню, а за
ней — с некоторым отклонением на восток — локализует земли
многочисленного народа тиссагетов. Здесь мы точно попадаем
в ареал Городецкой культуры, отождествление носителей кото-
рой с тиссагетами принято многими исследователями [Трубни-
кова, 1953; Рыбаков, 1979, с. 192]. Южная граница городецкого
ареала проходит по северным районам нынешней Саратовской
области, а его восточным и северным рубежами является Волга
[Смирнов А. П., 1961, с. 73].
До сих пор мы получали достаточно последовательное совпа-
дение данных Геродота с аохеологической картой. Более про-
блематична локализация следующего упомянутого Отцом исто-
рии народа — иирков. Их иногда поселяют к северо-востоку от
тиссагетов и отождествляют с носителями ананьинской культу-
ры. Утверждение, что «Геродот помещает иирков к востоку^ от
тиссагетов», содержится и в комментарии к последнему русско-
му изданию Скифского рассказа [Доватур и др., 1982, с. 246].
Между тем никаких оснований для подобного утверждения
текст Геродота не дает. Мы читаем здесь: «Рядом с ними (тис-
сагетами.— Авт.) в тех же самых местах обитает племя, имя
которому иирки» (IV, 22; курсив наш.— Авт.). Нет никаких ос-
нований считать, что Геродот здесь неточен, а потому его сооб-
щение не заставляет непременно выделять этому народу особую
территорию и приписывать ему какую-то лежащую вне городец-
кого ареала археологическую культуру. Следуя Отцу истории,
иирков можно искать и в пределах того же ареала. Возможно
(хотя и не обязательно), им принадлежат какие-то отличаю-
щиеся специфическими признаками Городецкие памятники, ко
торые со временем будут выделены из общей массы.
Любопытно, что именно в Городецком ареале — в пределах
современной Нижегородской области — протекает р. Урга, ле-
вый приток Суры в нижнем ее течении. Этот гидроним по сути
идентичен (с озвонченным согласным) этнониму «иирки»
(’lupzai). Конечно, сам по себе этот факт не может
служить основой для локализации названного народа, но, по-
скольку нас привели в эту область совершенно иные данные, не
стоит проходить мимо столь выразительного совпадения.
«Выше иирков, если отклониться к востоку», лежит, по Ге-
родоту. земля интересующих нас отложившихся скифов.
Итак, избрав в качестве ориентира одну из предлагавшихся
реконструкций этногеографической карты Геродота и убедив-
шись, что до сих пор эта реконструкция достаточно хорошо со-
гласуется с археологической ситуацией, мы в наших поисках
попали в области, примыкающие с северо-востока к городецко-
203
Рис. 32. Предметы скифских и предскифских типов из Старшего Ахмыловского
могильника (а — погребение 509; б, в—погребение 383; г — погребение 248;
О — погребение 214; е — погребение 2266; ж, м, н — погребение 926; з — по-
гребение 250; и — квадрат К/13; к — погребение 336; л — погребение 925)
му ареалу, т. е. в Среднее Поволжье в пределах современных
Марийской и Татарской республик23.
Именно в этой зоне необходимо теперь предпринять поиски
памятников, которые отвечали бы следующим критериям: во-
первых, их археологический облик должен отражать определен-
204
ную связь культуры оставившего их населения с культурой ски-
фов (или, учитывая неясность вопроса о времени интересующе-
го нас раскола, их непосредственных предков — праскифов); во-
вторых, характер проявлений этой связи должен неоспоримо
свидетельствовать о ее возникновении не просто вследствие
межк) льтурных контактов, а в результате миграции в очерчен-
ную зону определенного контингента из областей, где присутст-
вие скифов (или их предков) засвидетельствовано. Если такие
памятники удастся обнаружить, задачу археологической иден-
тификации отложившихся скифов можно будет считать решен-
ной.
На археологической карте I тысячелетия до н. э. очерченная
область представляет юго-западную окраину обширного ареала
ананьинской культуры, причем именно здесь сосредоточено наи-
большее количество раннеананьинских памятников VIII—VI вв.
до и. э., интенсивно исследовавшихся в последние десятилетия
[Халиков, 1977]. Конечно, нет никаких оснований приписывать
отложившимся скифам ананьинскую культуру, как таковую.
Специалисты достаточно наглядно продемонстрировали местный
ее генезис и комплексно обосновали принадлежность ее носите-
лей к финно-угорским народам (см., например, [Патрушев,
1984, с. 199—200]). Тем не менее некоторые особенности средне-
волжских раннеананьинских памятников должны привлечь при-
стальное внимание в контексте рассматриваемого вопроса.
Прежде всего следует отметить значительную концентрацию
в них предметов вооружения скифских типов (рис. 32, е—л).
Так, выделяется довольно обширная (около 170 экз.) серия
бронзовых втульчатых стрел, для которых А. X. Халиков [1977,
с. 206], исходя из полного отсутствия в этом ареале находок
литейных форм и бракованных экземпляров, предполагает не-
местное производство. Всем найденным здесь наконечникам об-
наруживаются аналогии в скифо-савроматском ареале, датируе-
мые в основном VII—VI вв. до н. э. Некоторые представленные
здесь типы, впрочем, формируются, несомненно, еще в VIII в.
до н. э., и, возможно, тогда же начинается их проникновение в
Среднее Поволжье. Существенно, однако, что практически во
всех случаях, когда бронзовые втульчатые стрелы сочетаются с
датируемыми местными вещами, специалисты относят комплек-
сы, включающие эти стрелы, к VII—VI вв. [Халиков, 1977,
с. 207—211].
Достаточно широко распространены в анаиьинских памятни-
ках Среднего Поволжья и скифские акинаки. Согласно А. X. Ха-
ликову [1977, с. 166], они появляются здесь на рубеже VII—
VI вв. до н. э. в результате «скифского внедрения», прервавшего
местное развитие кинжалов и мечей иных форм. В собственных
скифских комплексах нижняя дата подобных акинаков, несом
ненно, заходит и в VII в. до и. э. [Мелюкова, 1964, с. 47—52].
Менее специфичны представленные в ачаиь ihckom ареале
железные наконечники копий, однако некоторые из них чоста-
2D5
точно близки к найденным в скифских памятниках. Последнее
следует сказать и о железных боевых топорах [Халиков. 1977,
с. 177—179, 193 сл.].
Со знакомым нам скифским культурным комплексом связа-
ны представленные в интересующем нас регионе детали кон-
ской узды. К ним относятся бронзовые стремечковидные удила,
а также железные удила с асимметрично расположенными пет-
лями [Халиков, 1977, с. 222—226].
В свое время А. X. Халиков [1977, с. 258] отмечал потное
отсутствие в средневолжских раннеананьинских комплексах
предметов, выполненных в скифском зверином стиле. Однако в
более поздней публикации материалов Старшего Ахмыловского
могильника представлены хотя и единичные, но достаточно вы-
разительные памятники такого рода, к примеру изображение
свернувшегося в кольцо хищника или бронзовый наконечник в
виде головки хищной птицы (рис. 32, н, м) [Патрушев, Халиков,
1982, табл. 130]. Специального внимания заслуживает бронзо-
вое навершие из погребения 925 того же могильника в виде го-
ловы животного со стоящими ушами, шея которого, украшенная
стреловидными прорезями, служила втулкой для насаживания
навершия на древко (рис. 32, л) [Патрушев, Халиков, 1982,
табл. 129, 1а]. Пожалуй, ближайшую аналогию ем\ представ-
ляют некоторые навершия из Келермеса [Артамонов, 1966,
табл. 5]. Отличие состоит лишь в отсутствии у названные ке-
лермесских экземпляров прорезей на втулке, представленных,
однако, на другом навершии из того же Келермеса [Артамонов,
1966, табл. 4]. Вообще же узкие длинные прорези весьма ха-
рактерны для скифских навершии [Переводчикова, 1980, с. 40].
В целом генетическая связь ахмыловского экземпляра с ранне-
скифскими сомнений не вызывает, даже если предположить для
него местное производство с некоторыми, весьма незначитель-
ными, искажениями прототипа.
Итак, достаточно обильный и выразительный материал скиф-
ского облика, содержащийся в раннеананьинских памятниках
Средней Волги, несомненно, отражает не случайное проникно-
вение сюда отдельных скифских вещей, а какие-то исторические
обстоятельства, обусловившие указанную особенность памятни-
ков рассматриваемого региона. Однако описанные материалы
сами по себе не позволяют однозначно определить, каков был
характер связей этого региона с землями скифов, и тем более
постулировать на этой основе наличие в среде населения Сред-
него Поволжья скифского этнического компонента, т. е. иско-
мых отложившихся скифов. Мы уже говорили, что вещи рас-
смотренных категорий достаточно широко распространялись за
пределы зоны обитания скифов и не могут служить этническим
индикатором. В раннеананьинских памятниках они, как прави-
ло, не сосредоточиваются в одних и тех же погребениях, а сам
облик содержащих их погребений (могильные конструкции, ос-
тальной инвентарь) по преимуществу явно нескифский Поэтому
206
описанные находки вполне могли бы быть интерпретированы
как скифский импорт в зону расселения угро-финских племен.
Существуют, однако, факты, не согласующиеся с подобным
объяснением.
Прежде всего следует отметить значительную удаленность
рассматриваемого региона от основной зоны распространения
древностей скифского облика и разительное отличие его по
уровню концентрации подобных находок от городецкого ареала.
Крайне маловероятно, что существование торговых связей, ос-
тавивших столь заметный след в раннеананьинских комплексах,
могло никак не отразиться в памятниках промежуточной тер-
ритории.
Однако решающую роль при объяснении механизма проник
новения в Среднее Поволжье упомянутых скифских вещей при-
зван, по нашему мнению, сыграть анализ материалов совершен-
но иного характера. Речь идет об обнаруженных в ананьинских
памятниках этого региона предметах кавказского происхожде-
ния Они неоднократно привлекали внимание исследователей и
сопоставлялись с находками с территории самого Кавказа. На
такой основе уточнялась хронология раннеананьинских памят-
ников и был сделан вывод о существовании начавшихся еще в
«предскифскую» эпоху культурных контактов между населением
Среднего Поволжья и Северного Кавказа. При этом в качестве
кавказского партнера в указанных контактах назывались пле-
мена кобанской культуры либо их преемники — создатели па-
мятников каменномостско-березовского типа [Збруева, 1952,
с. 167; Патрушев, 1984, с. 127; Членова, 1963, с. 52].
Между тем интересующая нас серия находок отнюдь е ис-
черпывается вещами кобаиского круга: она включает и предме-
ты иной культурной принадлежности, зона происхождения кото-
рых локализуется достаточно надежно. Если же все обчаруже -
ные в рап.еанапышскнх комплексах кавказские древности рас-
сматривать в совокупности, то выявляется достаточно вырази-
тельная картина, в которой отразились культурные псопе'шы,
имеющие i епосредствеиное отношение к нашей теме. Полагаем,
что именно эти материалы могут сыграть роль тех дополш'теаь-
ных данных, без привлечения которых, как отмечалось выше,
невозможно решение поставленной задачи. Уточним, что мы
рассматриваем только вещи, имеющие несомненно кавказское
происхождение. К сожалению, специалисты по ананышской
культуре зачастую не отграничивают их от предметов, которым
удается найти лишь весьма приблизительные кавказские ана-
логии [Патрушев, 1984, с. 117—118].
Наибольший интерес представляют для нас бронзовые пла-
стиды, служившие деталями женских налобных венчиков.
В. С. Патрушев [1982], посвятивший этим венчикам специаль-
ное псследова те, убедительно показал традиционность данного
элемента личного убора для племен ананышской культуры (то
же рацее отмечала А. В. Збруева), но при этом констатировал
2о7
Рис. 33. Фрагменты бронзовых поясов из анаиьинских могильников Повод»» я
их кавказские параллели (а, б — Старший Ахмыловский могильник, погр<
оение 84", в Старший Ахмыловский могильник, погребение 218; г — Пусто
морквашинский могильник, погребение 7; д, ж, з, и — Самтаврский могиль-
ник; е—клад из Пасанаурп)
208
кавказское и древневосточное происхождение мотивов декора
некоторых входящих в такие венчики пластин. Сказанное им об
этой специфической группе пластин требует, однако, уточнения
и развития. В свое время А. В. Збруева [1952, с. 167], распола-
гая только подобными находками из Пустоморквашинского мо-
гильника, уже предположила, что птастины из его погребения 6,
«по-видимому, были сделаны из обломков кавказского бронзо-
вого пояса». Справедливость этого суждения безоговорочно под-
тверждают теперь материалы Старшего Ахмыловского могиль-
ника, где декор подобных пластин особенно выразителен. Ос-
тавляя в стороне предложенною В. С Патрушевым классифи-
кацию ахмыловских пластин с точки зрения их принадлежности
тому или иному типу ананышских венчиков, обратимся к диф-
ференцированному анализу их декора с целью уточнить круг
их кавказско-древневосточных аналогий и соответственно их
происхождение. По представленным на них мотивам эти пла-
стины делятся на несколько групп.
К первой относятся четыре ахмыловские пластины (рис. 33,
а—в) [Патрушев, Халиков, 1982, табл. 36, За, 120, 2а]. Их объ-
единяет прежде всего наличие орнамента из двух параллельных
рядов бегущей спирали, обрамленных с двух сторон полосами
тонкой плетенки или штриховки. На двух пластинах из погре-
бения 840 над спиральным бордюром располагается задняя
часть фигуры и хвост какого-то зверя. Фрагментарность изо-
бражения обусловлена не специально избранным художествен-
ным приемом, а вторичным использованием кусков более круп-
ного предмета. Еще более фрагментарно и потому менее понят-
но изображение на пластинах из погребения 218. Но при всей
дефектности материала сохранившиеся элементы первоначаль-
ной композиции дают достаточную основу для сопоставлений.
В. С. Патрушев [1982, с. 192—193; 1984, с. 38—39] уже сравнил
декор двух первых пластин с изображениями на предметах из
Тлийского могильника, где «известны аналогии зооморфным
изображениям, спиральным узорам, изображению солнца на
крупе лошади». Правильность этого сопоставления несомненна,
но оно нуждается в уточнении и дополнении.
Прежде всего отметим, что на тл'ийских древностях все на-
званные элементы в сочетании представлены исключительно в
декоре поясов. Вместе с тем угот набор признаков присущ поя-
сам не только Тлийского могильника; он характеризует серию
аналогичных предметов, четко выделяемую из всей совокупно-
сти кавказских бронзовых поясов по целому ряду особенностей
декора (условно назовем эту серию центральнокавказской).
Помимо тлийских она включает экземпляры из Маралын-Дере
си, Сагареджо, Чабарухи, Пасанаури, Самтавро, Нареквави
(рис. 33, д—з) [Хидашели, 1982, табл. Ill, XI—XIII, XVII; Дав-
лианидзе, 1985, рис. 99].
Среди особенностей орнаментации всех этих поясов отметим
в первую очередь изображения животных, как бы покрытых
14 Зак. 35s
209
Рис 34 Фрагмент бронзового пояса из Пустоморквашинского могильника и
его кавказские параллели (а — Пустоморквашинский могильник, погребение 2;
б, в — Тлийский могильник)
Рис. 35 Фрагменты бронзовых поясов и наконечник ножен из Старшего 'V
мыловского могильника (а, б, в — погребение 800; г — погребение 362; д~
погребение 336)
210
своего рода «попоной», украшенной солярными розетками иног-
да в сочетании с елочной штриховкой. Отличительной чертой
изображений на этих поясах является и стреловидное окончание
хвоста зверя или трактовка самого хвоста как узкого заострен-
ного стержня, обрамленного косой штриховкой в один ряд. Все
эти признаки представлены и на упомянутых ахмыловских пла-
стинах, что в сочетании с особенностями общего построения
прослеживаемых на них композиций не только подтверждает
вывод А. В. Збруевой об изготовлении таких пластин из кав-
казских поясов, но и указывает, из поясов какого именно типа
изготовлены рассмотренные экземпляры.
Судя по всему, к той же группе относится пояс, из которого
были изготовлены детали налобного венчика, обнаруженного в
погребении 7 другого средневолжского могильника — Пустомор-
квашинского 24. Сохранившиеся на них изображения столь фраг-
ментарны, что почти не поддаются реконструкции. Надежно
опознаются лишь рога оленей на некоторых пластинах; на дру-
гих угадываются части тела каких-то зверей, в том числе хво-
сты и крупы. По двум составляющимся вместе (но не так, как
это предложила А. В. Збруева) пластинам удается восстановить
общий абрис фигуры зверя, также покрытого «попоной» с орна-
ментом из горизонтальных рядов елочки и мелких дуг (рис. 33,
г). Изображение подобной украшенной елочкой «попоны» есть
на поясе из Пасанаури [Хидашели, 1982, табл. XII] и на фраг-
менте пояса из Самтавро (рис. 33, и) [Урушадзе, 1984, рис. 25,
<3]2Б.
Легко подбираются аналогии предмету, из которого сделан
налобный венчик из погребения 2 Пустоморквашинского мо-
гильника (рис. 34, а) Этот венчик представлял собой цельную
(в настоящее время разломанную) узкую бронзовую пластину,
декорированную извилистой полосой точечного пунсонного ор-
намента. Первоначальный контур полосы выходит за пределы
пластины, что говорит о вторичном использовании материала
при ее изготовлении. А. В Збруева [1952, с. 167, 318] предпо-
ложила, что этот венчик сделан «из части какого-то более
крупного предмета», а украшающий его узор сопоставила с изо-
бражениями змей на кобанских топорах. В настоящее время мы
располагаем гораздо более близкой аналогией: совершенно
идентичен декор бронзовых поясов, характерных прежде всего
для инвентаря того же Тлийского могильника (рис 34. б. в)
[Техов, 1977, рис. 97, 6, 8, 10, 12, 14, 98, 4, 5, 8, Р].
Необходимо подчеркнуть, что все упоминавшиеся в ходе про-
веденного сопоставления кавказские памятники расположены
очень близко друг от друга, в пределах весьма узкого ареала у
южных склонов центральной части Главного Кавказского хреб-
та. Это позволяет надежно очертить границы той области кав-
казского региона, откуда происходят пояса, послужившие маю
риалом для изготовления рассмотренных анаиьинских венчики»
Остальные вещи кавказского или, шире, древневосточною про
14*
211
нахождения, найденные в средневолжских могильниках, не
столь специфичны. Однако их совместное обнаружение в райо-
не, столь удаленном от областей их изготовления, представля-
ется отнюдь не случайным.
С этой точки зрения весьма показательны пластины налоб-
ного венчика, найденные в погребении 800 Ахмыловского мо-
гильника (рис. 35, а—в) [Патрушев, Халиков, 1982, табл. 114, 3].
Они также изготовлены из бронзового пояса, но имеющего
иное происхождение: в их декоре надежно опознаются мотивы
иной культурной традиции — искусства Урарту, где, в частно-
сти, они использовались в орнаменте поясов26. Для нас суще-
ственно, что находками в Тлийском могильнике (погребения
406 и 215а) засвидетельствовано проникновение как раз таких
урартских поясов в тот же очерченный закавказский ареал
[Техов, 1981, табл. 94, 127]. Напомним, что в его пределах — к
примеру, в могильнике Самтавро — обнаружены и иные урарт-
ские древности [Погребова, 1984, с. 58—59, 96—97, 196].
Особняком стоит прямоугольная пластина, использованная в
налобном венчике из ахмыловского погребения 362 и также,
судя по всему, изготовленная из бронзового пояса (рис. 35, г).
На ней представлено стилизованное изображение зверя (соба-
ки?), заключенное в прямоугольную точечную рамку. Эта ком-
позиция не имеет столь прямых и однозначных аналогий, как
все рассмотренные выше, но возможности для определенных
сопоставлений все же существуют.
Обращает на себя внимание сам прием помещения фигуры
животного в прямоугольную рамку, известный в декоре и драрт-
ских (к примеру, из могильника Эребуни [Есаян, 1983,
табл. VIII, 2]), и закавказских (например, из Самтавро [Хпда-
шели, 1982, табл. IV]) поясов. Точечное заполнение контура
прямоугольных рамок, в свою очередь, представлено на урарт-
ских поясах, однако на известных нам экземплярах оно не со-
четается с фигурами животных (см., например, [Есаян, 1983,
табл. V, 1—3, VI, 2, 3, VII]). Изображению собаки на ахмылов-
ской пластине подобрать достаточно точные аналогии затрудни-
тельно. Более всего тяготеет она к колхидо-кобанской художе-
ственной традиции, для которой изолированные изображения
одиночных, припавших на передние лапы зверей с раскрытой
пастью достаточно характерны; лапы, как и на нашей пласти-
не, трактованы зачастую в виде узких, размещенных почти го-
ризонтально треугольников2'. Таким образом, композиция из
ахмыловского погребения 362 демонстрирует сочетание разно
культурных элементов — урартских и кобано-колхидских.
Существенно, что то же самое сочетание характеризует и
всю археологическую ситуацию в очерченном ареале централь-
нокавказских бронзовых поясов. Доказательства проникновения
сюда урартских древностей приведены выше. Что касается ко-
бано-колхидского элемента, то он проявляется здесь как в по-
явле шч вещей этого круга, так и в ощутимом влиянии связан-
212
ной с ним художественной традиции в местных изобразитель-
ных памятниках.
Затронув вопрос о кобано-колхидском культурном элементе
в Не игральном Закавказье и связав с ним характер изображе-
ния на пластине пз Ахмыловского могильника, мы можем по-
новому оценить и факт присутствия в составе инвентаря тех же
средневолжских памятников, откуда происходят все рассмот-
ренные ранее вещи, кобанских древностей.
Прежде всего назовем происходящий с территории Ахмы-
ловского могильника, но не отнесенный к какому-либо конкрет-
ному погребению узкий железный топор [Патрушев, Халиков,
1982, табл. 18, 86]. Тройной излом его тулова, молоточковидный
обух и удлиненный проух — весьма характерные признаки ко-
бано-колхидских бронзовых топоров; известны на Кавказе и
железные их дериваты [Трапш, 1970, с. 189—193, рис. 16, 5;
Крупнов, 1969, табл. X, 4]. В этой же связи упомянем неодно-
кратные находки в пределах ананышского ареала (причем за
единственным исключением — именно в интересующей нас при-
волжской его части) бронзовых топоров кобано-колхидского
происхождения [Халиков, 1977, с. 181, рис 69]. Наконец, отме-
тим и происходящий из погребения 336 Ахмыловского могиль-
ника бронзовый наконечник ножен в виде стилизованной голов-
ки хищной птицы (рис. 35, д) [Патрушев, Халиков, 1982,
табл. 56, 4в], самые близкие аналогии которому известны в
кобанских памятниках Северной Осетии [Крупнов, 1960,
табл. XXV. 2, 3]. а вне собственно кобанской зоны — опять-таки
в пределах интересующего нас закавказского ареала, в Дваи-
ском могильнике [Макалатия, 1949, рис. 6] (ср. рис. 19). Об
этих предметах уже говорилось в гл. II.
Таким образом, тщательно проанализировав достаточно об
ширную совокупность связанных с Кавказом вещей из апань-
иискпх памятников Среднего Поволжья и очертив крут наибо-
лее близких собственно кавказских аналогий им, мы приходим
к выводу, что, хотя эта совокупность включает предметы разно-
культурной принадлежности, в Центральном Закавказье надеж-
но выделяется достаточно узкий ареал, характеризующийся со-
вершенно идентичным средневолжскому сочетанием гетероген-
ных компонентов, причем один их них — определенного типа
бронзовые пояса — специфичен исключительно для этого ареа-
ла. В контексте нашей темы особую значимость такому' выводу
придает то обстоятельство, что к числу этих компонентов необ-
ходимо отнести и скифский, так как указанный ареал великом
входит в охарактеризованную выше зону наибольшей конце’1
трации древностей скифского типа на территории Закавказья
Хронология вещей, представляющих каждый из упомяну гых
выше компонентов в указанном центральнокавказском ареале в
первые века I тысячелетия до и. э.. позволяет выделить в всю
рии этого ареала первоt синхронвого бытования (в том числе в
одних и тех же памятниках) всех этих различных по ирощ
213
хождению — как автохтонных, так и привнесенных — древно-
стей. Таким периодом существования сложного поликультур-
ного комплекса оказывается VII век до и. э. 28, что одновремен-
но появлению аналогичных древностей в Среднем Поволжье
или непосредственно предшествует ему.
Итак, сопоставляя интересующие нас средневолжский в за-
кавказский гетерогенные культурные комплексы, мы можем
констатировать, с одной стороны, идентичность характеризую-
щего их сложного набора составляющих компонентов—скиф-
ского, центральнокавказского, урартского и колхидо кобанского
(естественно, что в Среднем Поволжье к ним добавляется мест-
ный— ананышский), а с другой — исключительный характер
этого сочетания, не представленного более ни в одном культур-
ном ареале. Независимое формирование такого комплекса в
каждой из столь далеко отстоящих друг от друга областей
древней ойкумены в результате самостоятельного распростране-
ния отдельных вещей, по нашему' мнению, исключено, и потому
указанное сходство можно удовлетворительно объяснить лишь
имевшей место не позже рубежа VII—VI вв. до н. э. миграцией
какой-то группы населения 29, причем направление этой мигра-
ции (с юга на север, а не наоборот) неопровержимо определя-
ется культурной принадлежностью составляющих этот комплекс
элементов. Поскольку же в указанный район Среднего По-
волжья нас привел анализ свидетельства о переселении отло-
жившихся скифов, представляется более чем оправданным по-
ставить вопрос о связи реконструированной миграции именно с
этим этносом.
Правомерность такой интерпретации обусловлена тем. что
рассмотренные могильники Среднего Поволжья фактически
удовлетворяют всем сформулированным выше критериям, по
которым предлагалось вести поиски гипотетических памятников
отложившихся скифов: их местоположение согласуется с неза-
висимо обоснованным пониманием данных Геродота, в ник до-
статочно ощутим скифский культурный элемент и появился он
здесь не в процессе длительных межкультурных контактов, а
был привнесен в среду оставившего эти могильники населения
мигрировавшей с юга иноэтнпчной группой. И все же безогово-
рочно принять такую атрибуцию можно лишь при условии, что
удовлетворительное объяснение получат три момента: явно не-
скифская, ананьинская, принадлежность указанных могильни-
ков в целом; не чисто скифский, а смешанный — скифо-кавказ-
ский — облик культуры мигрантов; наконец, несовпадение ис-
ходной территории их миграции с традиционным представлени-
ем о локализации областей обитания скифов, опирающимся
прежде всего на Геродота.
Однако если ключевое для наших построений свидетельство
Отца истории (изначально, как мы видели, не слишком опреде-
ленное и допускающее различные толкования) рассмотреть с
учетом того конкретного исторического контекста, который
214
определяется предложенной археологической идентификацией
отложившихся скифов и вытекающей из нее датой их миграции,
то перечисленные несоответствия оказываются по существу мни-
мыми. Представляется, что вся совокупность воссоздаваемых по
независимым данным обстоятельств истории скифов в VII в
до н. э. закономерно диктовала именно такой характер иссле-
дуемого факта скифской истории.
Начать с того, что все сказанное выше о ранних скифах ста-
вит под сомнение правомерность выведения отложившихся ски-
фов из той Скифии, которую описывает Геродот, поскольку мы
убедились, чго для интересующего нас сейчас времени зоной
обитания скифов следует считать в первую очередь и по пре-
имуществу степи Предкавказья и составляющие единый с ними
культурный ареал области, примыкающие к Кавказскому хреб-
ту с юга. Полное совпадение набора различных по происхожде-
нию культурных признаков, характеризующего как выявленных
нами мигрантов, проникших в Среднее Поволжье, так и обита-
телей Центральною Закавказья, где, как мы убедились, присут-
ствовал внедрившийся в местную среду скифский этнический
компонент, свидетельствует, что какая-то группа именно этого
населения не позднее рубежа VII—VI вв. до н. э. совершила
далекий рейд на север, воспоминание о чем и запечатлено в со-
общении Геродота об отложившихся скифах.
Показательно, что характер распределения принесенных ими
эл гментов культуры в местной ананышской среде отражает ту
же модель взаимоотношений пришельцев и аборигенов, которая
ранее была реализована этими же скифами в Закавказье и в
значительной мере обусловила само формирование принесен-
ного ими в Поволжье гетерогенного комплекса: иноэтнич”ые
воины вступали в брак с местными женщинами и селились в
автохтонной среде30. В этом смысле небезынтересно, что прине-
сенные с далекого юга бронзовые пояса послужили в Среднем
Поволжье как раз для изготовления женских уборов местного
типа31. По существу, именно различием погребенных по полу в
известной мере и обусловлено то достаточно частое в поволж-
ских могильниках разведение по разным комплексам вещей
скифского облика и принесенных вместе с ними кавказских
древностей, которое послужило одним из главных оснований
процитированного суждения об их несинхронном появлении в
апаньинском ареале. В тех же случаях, когда те и другие функ-
ционально однородны, они, как мы уже видели, порой оказы-
ваются в одной могиле, иногда к тому же вообще лишенной
черт местной культуры (см., например, уже упоминавшееся ах-
мыловское погребение 336).
Мы, таким образом, убедились, что ни смешанный археоло-
гический облик инокультурного элемента, внедренного на рубс-
ж:е VII—VI вв. до н. э. в ананьинскую культуру Среднего По-
волжья, ни модель взаимодействия его носителей с местной сре
доп, ни локализация зоны его формирования не препятствуют
215
исторической интерпретации всех проанализированных археоло-
гических материалов на основе сообщения Геродота об отло-
жившихся скифах.
Отнеся отделение интересующей нас группы скифов к рубе-
жу VII—VI вв. до н. э., т. е. к эпохе, отстоящей от времени Ге-
родота на полтора столетия, мы, однако, неизбежно оказыва-
емся перед новым вопросом: на какие источники опиралось со-
общение Отца истории об этом событии? По нашему мнению,
оно, как и большинство сохраненных Геродотом данных о ран-
нескифской истории, базируется на собственно скифской эпиче-
ской традиции, вообще сыгравшей заметную роль в формирова-
нии Скифского логоса [Лелеков, Раевский, 1979; Раевсгпй,
1985, с. 33 сл.]. Более того, хронология средневолжских анань-
инскнх памятников, прекративших свое существование к концу
VI в. до н. э. [Халиков, 1977, с. 258] 32, свидетельствует, что ес-
ли наша идентификация верна, ко времени Геродота отложив-
шиеся скифы как историческая реальность вовсе исчезли с этно-
географической карты Восточной Европы. Но связи Скифии с
ананьинскими племенами (осуществлявшиеся, однако, уже пре-
имущественно не по тому пути, которым проследовали наши
мигранты, а по описанному Отцом истории) существовали и в
более позднее время [Збруева. 1952, с. 170] 3, и это обстоятель-
ство способствовало сохранению у скифов памяти об их сопле-
менниках, проникших некогда в столь отдаленные края. Храни-
лищем такой памяти в бесписьменном скифском обществе мог
служить лишь эпос, и именно из него скорее всего почерпнул
Геродот рассказ об отложившихся скифах.
Излагая этот фрагмент скифского эпоса, Геродот, однако, не
осознавал, по всей видимости, теснейшей смысловой его связи с
некоторыми иными разделами своего Скифского логоса, в част-
ности очевидного (если принять предложенную археологиче-
скую идентификацию отделившихся скифов) сюжетного единст-
ва повествования о них и о тех скифах, которые проникали за
Кавказский хребет. Если же согласиться с обоснованной выше
датировкой отделения скифов-отщепенцев, то становится ясно,
что их продвижение в дальние области Северо-Восточной Ев-
ропы представляет, по существу, лишь один из эпизодов неод-
нократно описанного античными авторами события — массового
ухода Скифов из Передней Азии, длительное время служившей
ареной их активных действий. Важность этого события для темы
данной работы и обусловила то большое внимание, которое уде-
лено на ее страницах пассажу об отделившихся скифах; его
анализ позволил нам реконструировать по крайней мере одну
из моделей взаимодействия расселявшихся по Восточной Евро-
пе по мере возвращения из-за Кавказа ранних скифов с корен-
ным населением тех областей, которые были охвачены этим рас-
селением, что немаловажно для воссоздания рапнескифской
этнокультурной истории в целом.
Характер «исхода» скифов из Передней Азии различные
216
источники определяют по-разному. В рассказе об этом Геродо-
та (I. 106; ср. IV, 1) достаточно отчетливо заметна тенденция
объяснить тотальное возвращение скифов в Европу тем разгро-
мом, который учинил им Киаксар. Иными словами, согласно
Геродоту, скифы возвращаются в Европу побежденными. Пом-
пеи Трог, напротив, характеризует это возвращение как победо-
носное (lust., II, 5). И подобные излишне прямолинейные оцен-
ки. и само стремление трактовать возвращение скифов в Евро-
пу как единовременное событие имеют скорее всего фольклор-
ное происхождение. К тому же такой подход игнорирует факт
постоянного присутствия скифов в эпоху переднеазиатских по-
ходов и к северу от Кавказа.
Вот почему нам представляется неоправданным то доверие
к тезису о прямой причинно-следственной связи между лидий-
ско-мидийской войной и относимым к 585 г. до и. э. массовым
исходом скифов в Европу, которое в своих последних работах
проявил М. И. Артамонов [1974, с. 51], а равно и однозначная
трактовка им указанной даты как terminus post quem для по-
явления в Европе памятников скифской культуры. Более пра-
вильным кажется мнение, высказанное тем же исследователем
ранее: «Еще до возвращения главного ядра скифов из Передней
Азии в начале VI в. их оставшиеся в Северном Причерноморье
(точнее, пожалуй, говорить о Предкавказье.— Авт.) соплемен-
ники не были изолированы от восточных культур и по крайней
мере с конца VII в. получали от переднеазиатских скифов неко-
торые усвоенные темп художественные сюжеты и формы» [Ар-
тамонов, 1968, с. 42]. Все сказанное выше о челночном характе-
ре скифских транскавказских походов и о культурном единстве
областей по обе стороны Кавказа в раннескифское время под-
тверждает правильность именно такой оценки механизмов ус-
воения ближневосточного влияния европейскими скифами и
даже позволяет углубить дату появления в Европе отчетливых
стедов знакомства скифов с древневосточными культурами. На-
помним хотя бы бронзовую втулку с изображением богини Иш-
тар из кургана у хутора Красное Знамя, датируемую временем
не позже третьей четверти VII в. [Петренко, 1980], да и сам
характер погребального сооружения этого кургана, в котором
явно ощущается влияние б тижневос точных строительных тра-
диций.
Вместе с тем вряд ли следует полностью отрицать правомер-
ность представления, что в какой-то момент отток скифов из
Передней Азии приобрел особенно массовый характер. Во вся-
ком случае, не позднее рубежа VII—VI вв. до н. э. памятники,
содержащие яркие элементы раннескифского культурного комп-
лекса и одновременно демонстрирующие знакомство оставив-
шего их населения с культурами древнего Востока, обнаружи-
ваются на широком пространстве Восточной Европы. К ним от-
носится. в частности, Мельгуновский курган, в инвентаре кото-
рого, столь близком келермесским древностям, отчетливо видно
217
влияние ассиро-урартской художественной традиции; при sjom
наряду с вещами, изготовленными специально для скифского
потребителя, здесь присутствуют предметы собственно ближне-
восточной утвари. В Дарьевском кургане в бассейне Тясмина,
как )же неоднократно отмечалось, найдены изделия, выполнен-
ные в традициях скифского пласта Зивие, а также непосредст-
венно связанные с древним Востоком или Ионией [Ильинская,
1975, с. 63]. Откровенно переднеазиатские вещи входят в состав
инвентаря кургана на р. Калитве. Рассмотренные выше мате-
риалы из средневолжских могильников, включающие предметы
закавказского происхождения, по существу, представляют одно
из звеньев этой цепочки.
Представляется вполне правомерным говорить о прямой свя-
зи между появлением в Восточной Европе подобных переднеазп-
атских древностей и распространением здесь же элементов ран-
пескифского культурного комплекса и объяснять и то и другое
расселением ранних скифов по этой территории. К сожалению,
отмеченная выше некоторая приблизительность хронологии соб-
ственно раннескифских вещей заставляет с известной осторож-
ностью относиться к попыткам дифференцированно датировать
подобные памятники на этой большой территории и, в частно-
сти, уловить некоторые различия во времени их появления в
разных областях причерноморской степи и лесостепи. Отнюдь
не исключено, что начало этого процесса относится еще к пер-
вой половине VII в. до н. э. [Ильинская, 1975, с. 169]. Но все
сказанное о характере и времени проникновения обитателей Во-
сточной Европы («киммерийцев» и «скифов») на Ближний Во-
сток опровергает мнение, что данные о хронологии раннескиф-
ского комплекса сами по себе исключают возможность участия
в его формировании переднеазиатского культурного элемента
[Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 357], ибо реальные предпо-
сылки такого участия сложились никак не позже начала VII в.
Напомним в этой связи и о существовании целого ряда случаев
проявления древневосточных влияний в восточноевропейских
комплексах еще «доскифского» облика.
Сейчас вряд ли возможно дифференцированно охарактери-
зовать истинные масштабы и механизмы внедрения носителей
раннескифского культурного комплекса в среду обитателей раз-
ных областей Восточной Европы. Недавняя попытка С. А. Ско-
рого [1987] провести подобное изыскание на материале право-
бережной днепровской лесостепи привела его к выводу, что «в
кругу погребений скифской архаики Киево-Черкасского региона
вычленено более 90 могил с чертами кочевнического похоронно-
го ритуала (более 40% от общего числа архаических погребе-
ний), в отдельных случаях окрашенных кавказским культурным
колоритом». Последнее наблюдение в контексте данного иссле-
дования особенно ценно, ибо прямо связывает распространение
интересующего нас культурного комплекса с изначальной тер-
риторией обитания ранних скифов.
218
На территорию припонтийской степи раннескифский комп-
лекс проникает в целом в то же время, что и в иные районы
юга Восточной Европы [Мурзин, 1984]. К сожалению, на сегод-
ня не поддается проверке археологическим материалом утвер-
ждение Диодора, что продвижение скифов в области «за Танаи-
сом до Фракии» предшествовало началу их походов на Ближний
Восток, поскольку выше мы убедились, что до формирования
указанного культурного комплекса скифы как этнос археологи-
чески не могут быть вычленены из массы одиокультуриых этни-
ческих групп. Но тот факт, что расселением ранних скифов в
VII — начале VI в. до и. э. причерноморская степь была охваче-
на в равной со смежными ей областями мере, улавливается в
материале достаточно четко. Согласуется с этим и рассмотрен-
ное выше, в связи с анализом концепции И. В. Куклиной, свиде-
тельство Алкея об «Ахилле, владыке скифской земли», в кото-
рой, как отмечалось в гл. I, следует видеть именно Северное
Причерноморье
Итак, с некоторой долей условности мы вправе интерпрети-
ровать отмеченный процесс распространения раинескифского
культурного комплекса по пространствам Восточной Европы
как археологическое проявление того события, которое антич-
ная традиция трактовала как возвращение скифов из Передней
Азии и которое в действительности представляло собой растяну-
тый во времени процесс расселения этого народа. К сожале-
нию, материал редко позволяет проследить как бы веерообраз-
ное распространение отдельных групп, участвовавших в этом
расселении 34, с той мерой конкретности, какая оказалась дости-
жимой применительно к истории группы закавказских скифов,
продвинувшихся на Среднюю Волгу. Лишь в названном случае
специфичность материала дает, пожалуй, возможность не только
обозначить маршрут движения, но и ответить на вопрос о кон
кретных причинах его выбора.
По нашему мнению, в этом сказалось влияние как ланд-
шафтно-географического, так и культурно-исторического факто-
ра. Прежде всего, сыграло роль существование чисто сухопут-
ного пути из степей Предкавказья на север, пролегающего по
водоразделу бассейнов Дона и Волги и выводящего как раз к
тому участку Среднего Поволжья, между устьями Свияги и
Суры, где расположены рассмотренные ананышские могильни-
ки. Наши переселенцы, перевалив через Кавказский хребет в
непосредственной близости от мест формирования присущего
нм смешанного культурного комплекса, пройдя между верховь-
ями Кубани и Терека и миновав долину Кумы в ее верхней ча-
сти, могли совершить весь дальнейший маршрут, не встретив на
пути ни одной речной преграды (на это обстоятельство внима-
ние авторов любезно обратил К- К- Шилик). От группы всадни-
ков осуществление такого рейда не потребовало бы длите тьного
времени.
Что касается культурно-исторических предпосылок указап-
219
ного выбора, то они проясняются наличием в инвентаре средне-
волжских могильников наряду со скифскими и вещей так назы-
ваемых предскифских, или киммерийских, типов. В первые века
1 тысячелетия до н. э. подобные предметы были широко распро-
странены как в причерноморских степях, так и в Предкавказье,
и на Северном Кавказе [Тереножкин, 1976; Крупнов, 1960,
табл. VII, 1—2, 4—5, VIII, XI, 5, и др.]. Однозначному объясне-
нию появления их в ананьииском ареале мешает дискуссион-
ность вопроса о верхней границе их бытования. Если принять
мнение, что он захватывает и весь VII в. до н. э. [Членова,
1984а, с. 30—56], то не исключено, что они попали сюда, по су-
ти, одновременно с миграцией отделившихся скифов. Однако
предположить, что они были принесены в Среднее Поволжье
вместе с прочими древностями южного происхождения в резуль-
тате описанной миграции, мешает полное отсутствие подобных
находок в пределах исходной ее зоны на территории Закавказья.
Поэтому правомернее, как представляется, относить их ко вре-
мени, предшествующему этой миграции. Тогда их наличие на
Средней Волге объяснимо существованием допускаемых мно-
гими исследователями связей между носителями ананьинской
культуры и южными областями еще в «предскифскую» эпоху.
К сожалению, сам набор вещей «киммерийских» типов в
сретневолжских могильниках не позволяет уточнить ни харак-
тер этих связей, ни конкретные области обитания втянутых в
них южных племен. Определенный интерес в этом плане пред-
ставляет, впрочем, наличие в анаиышском ареале кобанских
бронзовых топоров. Их появление здесь было выше поставлено
нами в связь с проникновением в Поволжье других вещей ски-
фо-кавказского круга. Но, учитывая достаточно длительное бы-
тование подобных топоров, нельзя считать исключенным, что по
крайней мере некоторые из них относятся к более раннему вре-
мени. В таком случае следовало бы считать наиболее вероятным
южным партнером ананышцев в контактах предскпфской эпохи
именно обитателей Северного Кавказа и приписать влиянию
традиционных для них связей выбор того маршрута, по которо-
му проследовали отложившиеся скифы 35.
Такое объяснение тем более правомерно, что некоторые фак-
ты как будто указывают на прямое участие в этой скифской ми-
грации определенного кобано-колхидского контингента. Помихю
приведенных выше данных о возможной причастности предста-
вителей этих племен к перемещениям скифов еще по территории
Закавказья и о наличии кобанекого элемента в принесенном в
Среднее Поволжье с юга поликультурном комплексе весьма по-
казательно единство технологии обработки железа в ареалах
кобаиской и ананьинской культур при явном приоритете первой.
Это привело специалистов по истории металлургии к выводх’ о
проникновении в аианьинскую среду кобанских ремесленни-
ков— носителей соответствующих производственных навыков и
даже секретов [Терехова, Хомутова, 1985, с. 152—154]. По-
220
скольку же, как было сказано, существует отчетливо выражен-
ная зависимость между развитием самого кобанского железоде-
лательного ремесла и скифо-кобаискими контактами, отмечен-
ное проникновение правомернее относить по преимуществу не к
«доекифской», а к скифской эпохе, что и позволяет видеть в
нем доказательство причастности кобанцев к реконструирован-
ной миграции отделившихся скифов.
Скорее всего по маршрутам, известным еще с «доекифской»
эпохи, осуществлялось расселение ранних скифов и в иных на-
правлениях, где им также предшествуют памятники черногоров-
ско-новочеркасского облика.
Какая же культурно-историческая ситуация сложилась в
Восточной Европе в результате описанного проникновения сюда
ранних скифов? В гл. I мы уже отмечали то обстоятельство, что
по крайней мере до середины VI в. до н. э. в самом раннескиф-
ском культурном комплексе по всему ареалу практически не
улавливаются локальные различия и что специфика отдельных
областей его распространения первоначально целиком опреде-
лялась характером культурного субстрата, на который этот
комплекс наслаивался. Вполне однородные в культурном отно-
шении, ранние скифы в процессе расселения по Восточной Ев-
ропе внедрялись в среду достаточно различных по своей этно-
культурной принадлежности народов, Разным был и их собст-
венный вклад в развитие местных культур тех регионов, куда
они проникали. Так, для средневолжских ананьинцев он оказал-
ся весьма ограниченным: проанализированная выше миграция
ив Закавказья не имела здесь долговременных культурных по-
следствий, и довольно быстро скифо-кавказские черты были по-
чти полностью поглощены автохтонным элементом. Парадок-
сально, но в истории сохранилось свидетельство о проникновении
ранних скифов имению в этот регион. В степной же и лесостеп-
ной зоне Восточной Европы раннескифский компонент в значи-
тельной мере определил облик культур последующей эпохи. Но
если в обитателях припонтийской степи этой эпохи Геродот и вся
последующая античная традиция видели скифов, то соседствую-
щие с этой областью на севере и востоке народы Геродот одно-
значно определяет как нескифские, хотя и отмечает, как указы-
валось в гл. I, определенное культурное сходство многих из них
со скифами, а относительно гелонов даже указывает, что они го-
ворят «отчасти по-скифски».
Как следует оценить эту ситуацию? Очевидно, расселение
ранних скифов по огромным пространствам Восточной Европы
повлекло за собой нарушение той этнополитической целостности,
которой характеризовалось обитание этого народа в прикавказ-
ских землях в предшествующее время. Археологическими свиде-
тельствами этого распадения служат не только та культурная
дифференциация разных частей ареала раннескифского комп-
лекса, которая была обусловлена субстратными различиями, но
и формирование локальных вариантов самого этого комплекса,
221
проявившееся к концу VI в. до н. э. и, как мы видели, наиболее
заметное в произведениях звериного стиля. Именно к указанно-
му времени, судя по всему, и сложилась в Восточной Европе та
этногеографическая ситуация, которую столь детально запечат-
лел в своем труде Геродот. Примечательно, что в его эпоху как
нескифские воспринимались уже и те земли, на которых рас-
полагалась метрополия ранних скифов в период их переднеази-
атских походов,— области к востоку от Танаиса-Дона вплоть до
Кавказа. В Геродотово время здесь локализуются меоты и
савроматы, относимые Отцом истории, так же как и обитатели
лесостепи, к нескифским народам. Выделение савроматов из
скифской среды в пору, последовавшую за переднеазиатскими
походами, о котором мы предположительно — с опорой на сви-
детельства Диодора и Плиния — говорили выше, теперь можно
расценить как одно из звеньев массового процесса этнокуль-
турного обособления отдельных областей той территории, на
которую проникли ранние скифы.
Другим следствием того же процесса явилось завершивше-
еся к концу VI в. до н. э. формирование достаточно самобытной
культуры обитателей причерноморско-приазовской степи между
Доном и Дунаем, т. е. сложение того этнополитического образо-
вания. которое полностью соответствует области обитания ски-
фов у Геродота. Как и в иных случаях, оно возникло путем
слияния ранних скифов и субстратного элемента, ио как раз для
этой территории можно, судя по всему, говорить о наибольшей
этнокультурной близости обоих названных компонентов, о чем,
как уже сказано, писал Б. Н. Граков. В этносоциальной струк-
туре Геродотовой Скифии с большой долей вероятия потомками
ранних скифов можно считать царских скифов — тех «свобод-
ных» (Herod., IV, НО), «самых храбрых и самых многочислен-
ных скифов», которые «считают других скифов своими рабами»
(Herod., IV, 20); остальное же население Скифии следует, оче-
видно, считать восходящим преимущественно к субстрату36.
Если интерпретировать процесс формирования Северопон-
тийской Скифии в увязке с аналогичными процессами, проте-
кавшими на смежных территориях, приходится оспорить утвер-
ждение, будто локализация этой страны в Геродотово время
явилась следствием перемещения в Северное Причерноморье по-
литического и культурного центра скифов, ранее находившегося
в Предкавказье [Мурзин, 1986]. В свете всего сказанного выше
обитатели этой Скифии предстают как один из многих восточно-
европейских народов, в сложении которых приняли участие ран-
ние скифы, и, точно так же как все они,— это не идентичный
ранним скифам, а по существу новый народ. При этом лишь
они оказались наследниками не только элементов культуры, но
и этнического имени.
На наш взгляд, характер сложения этого народа вполне от-
вечает такому пониманию этногенеза, согласно которому в его
ходе «из ряда существовавших до этого этносов, этнических
222
общностей или их частей складывается новый этнос, осознаю-
щий себя как нечто отличное от любых ранее существовавших
групп и выражающий это самосознание через новое самоназва-
ние-» [Арутюнов, 1989, с. 8]. Такому толкованию отнюдь не про-
тиворечит то обстоятельство, что в качестве нового самоназва-
ния в нашем случае выступает уже задолго до того фигуриро-
вавшее в истории имя, поскольку, как и отмечают этнографы,
подобное новое самоназвание, «как правило, восходит к одному
из ранее известных этнонимов... но приобретает качественно от
личное содержание», выступая «основным этническим марке-
ром» новой сформировавшейся совокупности, по-новому вычле-
няющей себя из окружающей этнической среды [Арутюнов,
1989, с. 8; курсив наш.— Авт.].
Таким образом, примерно на рубеже VI—V вв. до н. э., судя
по всему, этноним «скифы» вновь, как это уже происходило в
VIII—VII вв. до н. э., пережил смысловую трансформацию, об-
ретя повое содержание. Если для предшествующего времени мы
подчеркивали потребность в четком терминологическом разли-
чении «древнейших скифов», некогда пришедших сюда с восто-
ка и еще не обладавших специфической культурой, и «ранних
скифов» — обитателей Предкавказья и участников походов в
Переднюю Азию и расселения по пространствам Восточной Ев-
ропы, то столь же необходимо подобное терминологическое обо-
собление «ранних скифов» от обитателей припонтийской степной
Скифии конца VI—III в. до н. э. Для этих последних наиболее
корректным представляется наименование «Геродотовы скифы»,
ибо именно эта этническая совокупность в наибольшей степе-
ни соответствует — и географически, и культурно-исторически —
тому представлению о скифах как самостоятельном народе, ко-
торое запечатлено в Скифском логосе Отца истории. К тому же
противопоставление Геродотовых скифов ранним скифам состав-
ляет хороший смысловой pendant уже устоявшемуся в отечест-
венной скифологии разграничению между «классическими» ски-
фами эпохи Геродота и последующих веков, с одной стороны, и
поздними скифами — с другой. Обозначаемый этим последним
термином народ, обитавший в Ш/П в. до н. э. — III в. н. э. в
Нижнем Поднепровье и Крыму, не был, судя по всем имеющим-
ся данным, единственным наследником Геродотовых скифов и
вместе с тем был наследником не только их, включив в себя и
иные этнические компоненты; вместе с тем он-то и унаследовал
этническое имя обитателей припонтийских степей предшествую-
щей поры. Сходство этой модели соотношения двух последова-
тельно существовавших одноименных этносов с характеризую-
щей соотношение ранних и Геродотовых скифов очевидно.
Итак, проследив ряд последовательных этапов истории носи-
телей этнического имени «скифы», мы пришли к выводу, что со-
держание этого этнонима на протяжении веков существенно ме-
нялось, что взаимоотношения между разновременными его но-
сителями не исчерпывались линейной этнокультурной преемст-
223
Этнокультурная преемственность между разновременными носителями имени
«скифы» н соседними народами (У— древнейшие скифы; 2 — ранние скифы;
3—Геродотовы скнфы; 4 — лесостепные нескифскне народы эпохи Геродота;
5 — народы Северного Кавказа эпохи Геродота)
венностью и что соответственно выделенные этапы надо тракто-
вать не как следующие одна за другой стадии этнической исто-
рии одного народа, а как сменяющие друг друга истории наро-
дов, носивших одно и то же имя, но лишь отчасти являвшихся
реальными генетическими преемниками.
Наглядное представление о нашем понимании протекавших в
ходе рассмотренной эволюции процессов дает прилагаемая схе-
ма. Ее ядро обозначает древнейших скифов — небольшую этни-
ческую совокупность, в начале I тысячелетия до н. э. продви-
нувшуюся с востока на территорию Предкавказья. В дальней-
шем эта совокупность (возможно, не вся, но ее подавляющая
часть) составила основу достаточно большого союза племен,
обитавшего в Предкавказье и примыкающих областях, совер-
шавшего походы в Переднюю Азию и унаследовавшего этниче-
ское имя своего «ядра». По пашей терминологии, это ранние
скнфы. На протяжении VII — начала VI в. до н. э. значительная
часть членов этого союза расселилась по пространствам юга
Восточной Европы, вступая во взаимодействие с местными пле-
менами, а последовавшее затем обособление отдельных регио-
нов занятой ими в ходе такого расселения территории привело
к формированию как нескифских народов лесостепи и Предкав-
казья, так и Геродотовых скифов — обитателей степей Причер-
номорья и Приазовья, самостоятельного народа, изучение этно-
культурной истории которого выходит за рамки данной работы.
224
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой книге содержится попытка прояснить ситуацию,
многие годы бывшую камнем преткновения в понимании ранней
истории скифов,— очевидное несовпадение данных письменных
источников с археоло!ической реальностью. Задавшись целью
проверить, не коренится ли это несовпадение в первую очередь
в превратном понимании принципов соотнесения упомянутых
групп источников, мы постарались извлечь независимую и воз-
можно 6oiee полную информацию из каждой группы.
Взаимная корреляция полученных результатов привела нас
к заключению, что содержание, которое в разные эпохи имело
донесенное до нас письменной градицией этническое имя «ски-
фы не оставалось стабильным, а с течением времени менялось.
Соответственно принципиально различной оказывается и систе-
ма отношений между этническими наименованиями, используе-
мыми древними авюрами, и археологической ситуацией на тер-
риториях, где обитали те, к кому эти наименования прилага-
лись. Толкование этой системы в действительности отнюдь не
исчерпывается соположением двух параллельных линий — этно-
нимпческой и археологической.
Геродот застал в Северном Причерноморье в V в. до и. э.
определенную этническую картину, естественным образом опре-
делившую и осмысленье нм доступных сведений о предшествую-
щих эпохах. Именно эту реальность он спроецировал в прошюе
и сквозь такую призму воспринял рассказы о более ранних
страницах истории описываемого нм региона, хотя в действи-
тельности этническая ситуация была здесь тогда принципиально
иной. В свою очередь, прямолинейное толкование античной
традиции современными исследователями, отказ от попытки про-
следить эволюцию этноисторических терминов, которыми опери-
руют древние авторы, породили те — зачастую мнимые — про-
тиворечия между свидетельствами письменных и археологиче-
ских источников, которые и превратили историю скифов в клу
бок загадок, разрешимых лишь путем значительного на.шлпя
над материалом.
Между тем этнокультурная история скифов, как и многие
иные вопросы древней истории, может быть реконструирована
только при отказе от попыток рассматривать археологический
ь}?териал просто как иллюстрацию к письменным данным. Не-
зависимый анализ выводов, получаемых при изучении этих раз-
15 Зак. 358
225
ных категорий источников, их диалектическое соотнесение спо-
собствуют их более ясному пониманию и более полному истол-
кованию.
До сих пор скифологи, как правило, видели свою задачу в
том, чтобы найти археологический эквивалент рассказ) Геро-
дота (а также данным дополняющих его авторов) о приходе
скифов в Причерноморье «из Азии» и о вытеснении ими прежде
обитавших там киммерийцев. Археологический материал, одна-
ко, не свидетельствует о единовременной смене этнических
культур на этой территории в то время, к которому относит ука-
занные события Геродот, и тем более не обеспечивает убедитель-
ной локализации в какой-либо из областей Азии зоны форми
рования той культуры, которая присуща скифам в последую-
щую эпоху. К тому же клинописные восточные тексты вносят
определенные коррективы в нарисованную античными автора-
ми картину взаимоотношений скифов и киммерийцев и в во-
прос о датировке описываемых ими событий. Это заставляло
историков либо ставить под сомнение достоверность jказанной
картины, либо насильственно подгонять друг к другу не вполне
согласующиеся между собой данные, в том числе археологиче-
ские.
Однако трудами многих исследователей уже было показано,
что античная традиция о ранних скифах вследствие самой своей
природы допускает достаточно вариативные толкования. По на-
шему представлению, возможность различного ее понимания
обусловлена, в частности, происходившим на протяжении не-
скольких столетий скифской истории изменением содержания
самого понятия «скифы», которое на разных этапах служило
для обозначения этнических совокупностей разного объема и
разного ранга. Так, если подойти к толкованию интересующих
нас античных данных с учетом указанной эволюции значения
этнонима, то окажется, что рассказу о приходе скифов из Азии и
о вытеснении киммерийцев вовсе не обязательно должна соот-
ветствовать археологическая картина, отражающая тотальную
смену населения Северного Причерноморья на рубеже «пред-
скифской» и «скифской» эпох.
В целом ранняя этнокультурная история скифов представля-
ется нам в следующем виде. Ареной самых древних сколько-ни-
будь известных событий этой истории оказывается отнюдь не
северопонтийская Геродотова Скифия к западу от Танаиса, а
треугольник, ограниченный нижним течением Волги и Дона и
Кавказским хребтом. Именно сюда не позднее первых веков
I тысячелетия до н. э. проникали с востока отдельные племена
срмбно-андроновского круга, близкие по культуре уже обитав-
шему здесь населению. Одно из этих племен, очевидно, и было
первичным носителем этнического имени «скифы», хотя оно еще
не обладало, конечно, той культурой, которая связывается в на-
шем сознании с данным этнонимом исходя из более поздних
данных. Обретя господствующее положение среди других этно-
226
культурно близких им племен — в том числе тех, кого клино-
писные тексты именовали киммерийцами,— это племя передало
свое самоназвание достаточно крупному племенному союзу,
бывшему инициатором и главным участником так называемых
скифских и киммерийских походов в Переднюю Азию.
Метрополией скифов в эпоху этих походов оставалось Пред-
кавказье, однако и скифы, обитавшие здесь, и их соплеменники,
активно внедрявшиеся в среду населения областей к югу от
Кавказского хребта вплоть до озера Урмия, были едины между
собой в этнокультурном (а отчасти, возможно, и в политиче-
ском) отношении. В пределах этого единого ареала и происхо-
дило формирование основных элементов культуры, известной
нам как скифская. Не позднее конца VII в. до н. э. началось
интенсивное расселение носителей это^о культурного комплекса
по обширным пространствам Восточной Европы, на территории
обитания разноэтническнх народов. В дальнейшем — на протя-
жении VI в. до н. э. — произошло этнополитическое обособление
отдельных частей этой территории, что привело в итоге к фор-
мированию той этнической ситуации, которую в V в. до н. э. за-
стал в Восточной Европе Геродот и которую он детально описал
в своем труде. В ходе этого процесса сложился культурный об-
лик восточноевропейских народов, близких между собой по од-
ним характеристикам и различающихся по другим. Одна из та-
ких обособившихся областей, ограниченная степями Причерно-
морья между Доном и Дунаем, обитатели которой сохранили за
собой этническое имя «скифы», и стала Скифией Геродота.
Мы полностью сознаем, что изложенная концепция нуждает-
ся в дальнейшем углублении и во всесторонней проработке мно-
гих поднятых в ходе ее обоснования вопросов. Однако ее досто-
инство видится нам в том, что она указывает способ устране-
ния целого ряда неразрешимых иначе противоречий и логиче-
ских неувязок. Мы были бы рады если бы те читатели, которые
согласятся с предложенным подходом, приняли участие в даль-
нейшей разработке этой! концепции.
15*
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава I
1 Перевод отрывков из Геродота дается по последнему отечественному
изданию [Доватур и др., 1982] Остальные античные авторы цитируются пре-
имущественно по антологии В. В. Латышева {1890—1906].
2 Абсолютно произвольно, однако, включает И. В. Куклина [1985, с.. 57]
в число сторонников этой гипотезы И. М Дьяконова: как на упомянутой ею
в этой связи странице его труда [Дьяконов, 1956 с. 228], так и повсеместно
в его работах, вплоть до сравнительно недавней, специально киммерийцам
посвященной [Дьяконов, 1981, с. 98—99], этот исследователь рассматоипает
их как представителей племен, «проникавших из Причерноморья в Западную
Азию» через Кавказ — «через Мамнсон и Клухор». Взгляды И М Дьяконова
смыкаются с указанной гипотезой лишь в том отношении, что он. во первых,
оспаривает мнение, будто киммерийцы «когда-либо составляли всю основнхю
массу населения Северного Причерноморья» [Дьяконов, 1956. с. 230]. а во-
вторых, исключительно с событиями в Малой Алии связывает формирование
«легенды об исконной вражде скифов и киммерийцев и о том. что сам приход
киммерийцев в Азию был обусловлен преследованием скифов». Это отнюдь
не тождественно мнению, что «киммерийцы никакого отношения к Северному
Причерноморью не имели и что эта связь — просто историческая фикция»
[Ку к тина. 1985 с 56—57].
3 И В. Куклина [1985. с. 77 прим 33] ссылается, впрочем, на устное
сообщение Н. Я Мерпсрта о хранящихся в музеях Дании материалах из рас-
копанной датскими археологами «как раз на этой территории», тек севе-
ру от Персидского залива «целой серии скифских курганов VIII—VII вв.
до н э ». По любезному разъяснению Н. Я. Мерперта. речь идет всего лишь
о коллекции наконечников стрел скифских типов — категории, не слишком
пригодной для определения границ обитания какого-либо народа; к том\ же
происходят эти стрелы отнюдь не с Иранского нагорья, а собраны на па-
мятниках южного побережья Персидского залива. Требует специального изу-
чения н хронология этих находок. Наконец, следует заметить, что понятие
«скифская культура (скифские памятники) VIII—VII вв. до н э » иа сегодня
вообще не имеет однозначного содержания, поскольку культурный комплекс,
соотносимый с историческими скифами, достоверно фиксируется не ранее
VII в. до н. э.— тогда же, когда их имя впервые появляется в источниках;
где локализовать зону обитания предков этого народа и соответственно
с археологическими комплексами какого характера их связывать, зависит
от того, как понимать скифский этно- и культурогенез Известно что на
этот счет существуют принципиально различные точки зрения В зависимости
от этого находится и толкование вопроса о соотношении скифской и ким-
мерийской культур.
4 Из сказанного нами не следует впрочем, что сообщение Геродота
о киммерийской могиле на Тирасе непременно свидетельствует об обитании
там этого народа. Вполне возможно, что оно имеет легендарную природу,
ио ничто не указывает на то. что в этой легенде не фигурируют причерномор-
ские реалии.
5 Для доказательства самой возможности того, что «добросовестный и
надежный Геродот» мог «перевернуть с ног иа голову ход событий» [Кук-
лина, 1985, с. 136]. И. В. Куклина предпринимает аналогичную реинтерпре-
тацию его повествования о другом эпизоде истории скифов — скифо-персид-
ской войне Вряд ли это может сл^ жить аргументом даже если признать
228
предложенную реинтерпретацию вполне убедительной, поскольку обоснова-
нию должны подлежать не сама склонность историка к искажению .хода
событий, а природа подобных искажений в каждом конкретном случае, т е
причина и механизм трансформации исходных данных Но и убелительнон
эга реинтерпретация, на наш взгляд, ни в коей степени не является Сира
ведлнво отмечая, чго в этом, рассказе «содержится более всего неясностей;
противоречий и даже фантастики» [Куклина, 1985, с. 137], исследовательница
на этом основании, но без какой бы то ни было опоры на реальные источ-
ники выдвигает гипотезу, согласно которой «был не один а два похода
Дария», лишь в представлении Геродота слившиеся в единую кампанию-
один — в области у Истра, в г 1авных своих чертах реконструируемый по
данным Страбона (VII, III, 14). другой — через Кавказ и Кубань, в земли
будипов, гелонов и савроматов Но такая путаница очень плохо вяжетси
с характеризующим Скифский логос достаточно детальным знанием Геродо
том причерноморской географии Сомнительно также, чтобы, если один из
маршрутов Дария пролегал через Кавказ, всякое упоминание об этой гор-
ной стране, достаточно хорошо знакомой Геродоту по рассказам о передне
азиатских походах скифов, начисто исчез ю из сконструированного им ком-
бинированного повествования о скифо персидской войне Главное же, сама
потребность в допущении такого констру ирования пропадает если на все
обнаруживаемые в этом повесiновации «неясности и противоречия» взгля
нуть с точки зрения природы использованных Отцом истории источников—
их принадлежности к сфере скифского фо ,ьклора [Раевский, 1985. с 55—70].
" Это убедительно показал и С. Р. Тохтасьев в докладе»'
Геродота (IV, 99)», прочитанном на ДоваТ'ровских чтениях 29 ноября
1985 г Мы благодарны С Р. Тохтасьеву за предоставленную возможность
ознакомления с текстом неопубликованного доклада
7 Общий смысл приведенного пассажа Геродота, очевидно, состоит йе в
том что Старая Скифия лежш к югу от устья Истра а в том. что начинаю
щаяся от этого устья приморская сторона Скифии («скифского четырехуголь
ника») обращена к югу а город Каркииитида представляет крайнюю южную
точку этой стороны. Предлагаемое толкование подтверждается анализом
глав 99--101 текста Геродота как композиционного целого Упомянув в на-
чале IV, 99, что от залива образуемого Фракийской землей, и от располо
жеплого здесь же у стья Истра «начинается Скифия», историк прямо сообща-
ет- «Начиная от Истра я буду описывать Приморскую часть самой скиф-
ской страны с целью измерения» — и обращается к измерению именно Северо-
понтийской Скифии Определив затем обращенные к мОпю ее границы — юж-
ную. ту самую, на которой расположены город Каркииитида и область оби-
тания тавров, а потом и восточную — по географическим ориентирам (IV.
99—100). а материковые—западную и северную — по областям обитания со-
седних народов (IV. 100). Геродот заключает этот пассаж общим выводом
(IV 101) о четырехугольной конфигурации этой страны и о равной протя-
женности всех ее сторон, т е как бы подводит итог выполнению заявленного
выше намерения осуществить измерение Скифии причем уже не только при-
морской, южной ее стороны но всего периметра Совершенно очевидно, что
участок от устья Истра до Каркинитиды, приурочиваемый И В Куклиной
к Дунайскому правобережью, составляет неотъемлемую часть этого пери-
метра
8 Мы оставляем в стороне вопрос о весомости аргументов типа утвер-
ждения. что этноним «исседоны». сопоставляемый обычно с названием реки
Исеть. обнаруживает в действительности «еще большее совпадение» с на-
званием озера Иссык-Куль [Куклина. 1985. с 82]
9 Совершенно аналогично в другом месте Геродот (IV. 100) в качестве
восточного рубежа «скифского четырехугольника» называет некое «восточ-
ное море», хотя понимает что реально этим рубежом служат участок Понта
Эвксинш ого и Меотийское озеро Эю понимание отчетливо видно из того,
что в IV, 101 измерение расстояния до этого восточного предела оборачива-
ется измерением расстояния от Борисфена до Меотиды Восточное море того
пассажа — такой же условный элемент картины мира, не нуждающийся ия
229
несении на реальную карту, хотя и имеющий на ней свой прототип, как «юж-
ное море» в пассаже Аристея.
10 Разумеется, привлечение палеоантропологических или языковых мате-
риалов в тех случаях, когда это возможно, уточнило и расширило бы такую
реконструкцию. Но на этом основании неправомерно отказываться от каких
бы то ни было этноисторических построений в случаях — а их применительно
к древности абсолютное большинство,— когда мы располагаем только архео-
логическими данными. Следует лишь четко осознавать ограниченный харак-
тер полученных выводов.
11 Приведем одни показательный пример. Н. А. Гаврилюк, детально про-
анализировав генезис керамических форм, характерных для скифской ку ть
туры Северного Причерноморья, так формулирует полученные результаты:
«Основой для формирования скифского керамического комплекса послужила
керамика местного населения. Лепная керамика явилась вкладом киммерий-
ских племен в материальную культуру скифов, другие категории которой
связаны с кочевыми племенами, пришедшими в Северное Причерноморье из
глубин Азии» [Гаврилюк, 14)81, с. 18; курсив наш.— Авт.]. Но до тех пор
пока не появились исследзва-яжя, показывающие формирование там этих ка
тегорий столь же наглядно, как показала Н. А. Гаврилюк местное происхожде-
ние скифской керамики, априорный характер тезиса о принесении сюда скиф-
ской культуры «в готовом виде» обнаруживается в этом примере вполне на-
глядно
13 По справедливому замечанию Б. Н. Гракова [19476, с. 79], у Диодора
и Страбона «в то же время встречается немало страниц, на которых говорит-
ся о конкретных скифах и их истории, когда оба писателя касаются Север
иого Причерноморья и говорят о прошлом». Это обстоятельство очень суще-
ственно в контексте нашей темы и предопределяет большое значение свиде-
тельств названных авторов при обосновании предлагаемых ниже историче-
ских построений.
10 Предположение, что этот обобщающий термин, бытовавший в инокуль-
турной традиции, одновременно отражает и общее самоназвание большой со-
вокупности родственных народов, требовало бы признания весьма высокого
уровня осознания своего этнического единства населением огромной терри-
тории, что для догосударственной стадии сомнительно уже по общим сооб-
ражениям.
'•* Периодически воскрешаемое отдельными исследователями толкование
пассажа Геродота об этнонимах «скифы» и «сколоты» как содержащего про-
тивопоставление их носителей друг другу не согласуется ни с содержанием
этого пассажа, ни с данными лингвистического анализа самих этнонимов и
должно быть решительно остазлено (подробно см. [Раевский, 1985, с. 215—
216], там же литература).
16 Вот один наглядный пример. Несколько лет назад И. В. Яценко и один
из авторов данной работы, специально отметив, что в скифологии многознач-
ность терминов «часто служит причиной взаимного непонимания и порождает
подобие дискуссий там, где по сути речь идет о разных проблемах, к примеру,
о происхождении скифов как конкретного этноса, с одной стороны, и о фор-
мировании „скифской" культуры в широком археологическом ее понима-
нии— с другой», присоединились к мнению М. П. Грязнова о необходимости
отказа от «моноцентрической» концепции сложения последней, от поисков
единой области формирования всего комплекса присущих ей черт [Яценко,
Раеьский, 1980, с. 104, 11'1—112]. Но никакие призывы к терминологической
точности не помешали В. Ю. Мурзину охарактеризовать предлагаемый под-
ход как «полицентрическую теорию происхождения скифов» [Археология
УССР, 1986, с. 13; курсив наш.— Авт.], хотя для нас остается загадочным,
как может быть полицентричным сложение какого-либо этноса.
118 Наше понимание процесса этногенеза савроматов излагается в заклю-
чительной главе данной работы.
1Т Причина столь значительного численного преобладания погребений это-
го времени над комплексами всего предшествующего периода, когда, соглас-
но источникам, здесь уже обитали скифы, остается пока проблематичной.
Разумеется, это не столько следствие недостаточной полевой изученности тер-
230
ритории Скифии, сколько проявление своего рода демографического взрыва,
обусловившего резкий рост населения региона. Синхронность этого взрыва
со значительным скачком в хровне богатства аристократических погребений
наводит на мыслг, что он обусловлен развитием в социапьно-экономичесюи
сфере, превратившим IV в. до н. э. во «время наибольшего расцвета и могу-
щества Степной Скифии» [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 1211].
18 В данном случае не имеет принципиального значения, видеть ли в Та-
иаисе на всем его протяжении современный Дон или толковать эту веку
древних текстов в ее нижнем течении как Дон, а выше — как Северский До-
нец, как полагают некоторые исследователи [Рыбаков, 1979, с. 27 сл.; Яйлен
ко, 1983, с. 54]. Не будем переоценивать также факт наличия отдельных сав-
роматских погребений к западу от Дона и даже Северского Донца [Смирнов,
1984. с. 18 сл.]: границы распространения древних этносов проявляются, есте-
ственно, как пределы преимущественного их сосредоточения, а не как абсо-
лютные рубежи.
№ Мы лишены, к сожалению, возможности откликнуться здесь на новей-
шую монографию В. Ю. Мурзина «Происхождение скифов: основные этапы
формирования скифского этноса» (Киев, 1990), поскольку она вышла из пе-
чати в тот момент, когда наша работа была уже полностью завершена.
В этой монографии, как и в названной совместной с В. И. Клочко статье.
В. Ю. Мурзин акцентирует внимание на том обстоятельстве, что окончатель-
ное формирование скифского этноса и скифской культуры произошло уже
на юге Восточной Европы—в Предкавказье и Причерноморье—при актив-
ном участии местного населения и под определенным влиянием переднеазиат-
ской культуры. Многие суждения автора иа этот счет перекликаются с на-
шими, хотя о полном совпадении взглядов говорить не приходится. Что же ка-
сается тезиса о приходе «протоскифов» из «глубинных районов ^зии в VII в.
до и э.» и его археологического обоснования, то они в новейшей работе
В. Ю Мурзина изменений практически ие претерпели и по-прежнему играют
в его концепции важную роль.
20 Отметим попутно неосновательность возражений Е. В. Черненко против
применения к скифскому мечу термина «акинак». Исследователь утверждает,
что «известное по Геродоту (VII, 54) название персидского меча — акииак
было перенесено на скифские мечи и кинжалы» в современной археологиче-
ской литературе [Черненко, 1979, с. 90; см. также Черненко, 1980, с. 30].
Однако этот термин использовал для обозначения скифских мечей тот же
Геродот (IV, 62), и применение его к скифскому оружию ничуть не менее
правомерно, чем к оружию персидскому.
21 Вряд ли оправдан, однако, тезис Г. Коссака, что эта черта в полной
мере присуща мечу из Гудермеса и наряду с наличием у него бронзовой ру-
коятки свидетельствует о его сибирском происхождении [Kossack, 1987, с. 81].
Четкой границы между азиатскими и европейскими экземплярами по этим
критериям все же не прослеживается
Глава II
1 При первичной публикации Р. Гиршман [Ghirshman, 1950. с. 186] упо-
минал наличие «надписи» подобного типа и на внешнем ободке диска, но
в последующих публикациях этого указания не повторял.
2 Как фрагменты того же пояса из Зивие иногда рассматривают золотые
пластины из музеев Тегерана и Филадельфии [Ghirshman, 196ч, рис. 146;
Kossack. 1987. с 62, рис. 4, 2; Amandry, 1966, с. 117, табл. XXIV, 3], хотя , же
Р. Гиршман отмечал их стилистическую обособленность [Ghirshman, |9С4,
с. ПО]. Ввиду отсутствия на этих фрагментах изобразительных мотивов
«скифского» типа мы не рассматриваем ни вопроса об их принадлежности
поясу из Зивие (чему мы, впрочем, не видим убедительных подтверждений),
ни проблемы их подлинности.
“ В первой публикации Р Гиршман трактовал это изображение как маску
льва en face, позже был склонен считать его лицом человека [Ghirshman.
1964. с. 116], а затем принял предложенную другими исследователями интср
претацню, приведенную выше [Ghirshman, 1979, с. 20].
231
4 Как известно, существуют два основных подхода к исследованию зоо-
морфного искусства вообще и скифского звериного стиля в частности — «по
отдельно взятым мотивам, сюжетам изображений» и как целостной изобра-
зительной системы, оценить которую можно при рассмотрении способов во-
площения всей совокупности характерных для данного искусства мотивов
[Переводчикова, 1980а] Признавая несомненную продуктивность второго под-
хода, мы в данной работе отдаем предпочтение первому, исходя из стоящей
перед нами конкретной задачи выяснения генезиса способов воплощения
каждого из таких мотивов
5 Конечно, нельзя упускать из виду, что этот памятник, судя по найден-
ным вместе с ним образцам античной керамики, относится ко времени не ра-
нее конца VI в до и. э. [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 250], т. е. хронологи-
чески оторван от того периода, когда древневосточная традиция могла ока-
зывать прямое влияние на искусство скифов. Однако игнорировать разитель-
ное сходство журовского изображения прежде всего с луристанскими памят-
никами представляется недопустимых). Возможно, со временем будут об-
наружены и промежуточные звенья связывающей их генетической цепочки.
6 Этот прием правомерно сопоставляют с характером декора найденных
в том же Келсрмесе деталей древневосточного тропа [Galanina, 1987, с. 13].
7 Этот тезис положен в основу толкования декора иранских бутсролей
и в работе Е. В. Перрводчиковой [1983].
® Примечательно, что в Келермесских курганах представлены оба ва-
рианта этой схемы (ср рис. 7, я), и это свидетельствует о не столько хропо-
ЛО1 ическо.м. сколько типологическом предшествовании одной из них.
9 Очевидно, к бутеролям рассматриваемого типа принадлежит и костя-
ной предмет полукруглой формы нз кургана 453 у с. Макеевка на Тясмиие
(рис. 10, в). В описании этого комплекса в сводке В. А. Илышской [1975.
с. 60] названный предмет не упомянут. Л. К. Галанина [1977, с. 19,
табл- 7, 7] определяет его как фрагмент костяного наконечника с изо-
бражением зверя. Он же воспроизведен в монографии В. А. Ильинской и
А. И. Тереножкина [1983, с. 240]. В опубликованных прорисовках угадываются
редуцированные очертания сердцевидного уха в одном из верхних углов пред-
мета и округлый глаз. и конту р щеки в средней части его верхнего края
Однако толкование это остается предположитетьным. Есть и другие предме-
ты с крайне редуцированным декором, возможно принадлежащие к описан-
ной серии.
10 Это происхождение образа свернувшегося хищника из мотива, укра-
шавшего первоначально бутероли, объясняет, в частности, почему во многих
случаях—например в изображениях на хвосте и лапах келермесской пан-
теры—овальная лопатка свернувшегося зверя имеет почти такие же очер-
тания и так же локализуется в пространстве композиции, как эллипсоидная
фигура в нижней части бутероли из Зивие.
’’ Единожды возникнув, эта особенность обрела в некоторых памятниках
и самостоятельное, не продиктованное композиционной необходимостью, су-
ществование. Пример тому —келермесская пантера, длинная шея и выгнутый
корпус которой одновременно демонстрируют как бы возвращение к традиции
изображения хищников в луристанском искусстве (ср. рис. 3, а, в, 4, в).
12 Это обеспечивало возможность использования и такой модификации
мотива для украшения бутеролей, как. например, на ножнах из Гудермеса
(рис. 7, г) [Виноградов, 1974, рис 2]. наконечник которых принципиально от-
личается от рассмотренных выше тем, что здесь представлен по-настоящему
сверну вшийся в кольцо зверь с достаточно четко обозначенным туловищем
13 Не исключено, что отдаленным рефлексом того же приема является
украшение концентрическими кружками и овалами бедра и лопатки у’ свер-
ну вшсгося зверя на некоторых бляхах из Минусинской котловины и Ордоса
| \ртамонов, 1973а, рис. 136 164].
14 Отдельные воспроизведения аналогичной схемы известны и в Север-
Hoxi Причерноморье-‘-см. например, золотые бляшки из некрополя Ольвии
[Ску гюва, 1988, с. 106—107]. Но они относятся к сравнительно позднему вре-
мени (нс ранее копЦа* VI в. до н. э.) и, без соутнения представляют вторичную
модификацию мотива.
23?
’ Примечательной особенностью некоторых из перечисленных изображе-
ний является разделка поверхности клюва параллельными рельефными поло-
сами, что можно сопоставить с аналогичной трактовкой этого элемента в ис-
кусстве Луристана.
16 Отметим, что на одной из нартанских уздечных блях головка птицы та-
кого рода сочетается с пальметтой, подобной тем, которые составляют внеш-
ний бордюр на серебряном диске из Зивие [Батчаев, 1985, табл. 53, 27].
17 Некоторые луристанские и скифские изображения птицы уже сопостав-
лял в свое время Г. Потрац [Potratz, 1968, рис. 131, 132].
8 Особняком среди изображений хищника на скифских псалиях стоят
две головки типично переднеазиатского облика, размещенные на концах пса-
лия, случайно найденного в Киевской губернии [ScA, 1987, табл. 30]. Этот
псалий уникален и в том отношении, что звериные головки помещены на обо-
их его концах.
19 Наиболее близкую аналогию этой последней особенности мы находим
на псалии, увенчанном головой барана, из кургана 432 у с. Журовка [Ильин-
ская, 1975, табл. XII, /].
20 Совершенно иная трактовка вопроса о генезисе рассматриваемого мо-
тива предложена Г. Н. Курочкиным, который интерпретирует его как изобра-
жение взнузданной лошадиной головы, полагая, что элемент, обычно вос-
принимаемый как рог, на самом деле представляет собой плохо распознавае-
мую узду [Курочкин, 1987, с. 98]. Это толкование автор подкрепляет утверж-
дением, что на упомянутом костяном зооморфном псалии из Зивие представ-
лено «острое лошадиное ухо»; однако мы уже убедились, что в саккызской
и раннескифской изобразительной традиции подобная трактовка уха присуща
исключительно изображениям хищника. В качестве второго аргумента в под-
держку своей гипотезы Г. Н. Курочкин привлекает наконечник из Кармир-
блура [Пиотровский, 1950, рис. 64; 1954, рис. 1]. Изначально все исследова-
тели трактовали его как изображение рогатой птицы, но Г. Н. Курочкин пред-
лагает видеть в нем конскую голову, у которой «помимо валика-ремня, иду-
щего через морду, имеется валик-ремень, идущий ко рту животного, где изо-
бражены трехдырчатые псалии». Такая трактовка весьма произвольна, ибо
элемент изображения, осмысляемый автором как трехдырчатый псалий, пред-
ставляет собой частый на раннескифских птичьих головах орнамент клюва (ср.
псалий из Грушевки—рис. 18, о), а наличие изображений «ремней» вообще
весьма проблематично. Что касается третьего аргумента Г. Н. Курочкина
в поддержку своей гипотезы — утверждения о смысловой связи элементов,
украшающих два конца псалия (головка и копыто), то мы полностью при-
знаем его справедливость, о чем еще будет речь, но не можем согласиться
с мнением, будто на псалиях представлено непременно конское копыто, тем
более что в ряде случаев оно имеет четкую раздвоенность, а лошадь, как
известно, принадлежит к непарнокопытным животным. Все это заставляет нас
сохранить верность традиционной трактовке рассматриваемого предмета из
Кармир-блура и одновременно счесть неубедительной всю аргументацию
Г. Н. Курочкина насчет генезиса образа «рогатой птицы».
21 Своеобразной репликой той же схемы — геральдической пары стоящих
на задних лапах хищников — являются псалии более поздней поры из Семи-
братних курганов (рис. 22. в). Другую линию развития зооморфного псалия,
обнаруживающую связь как со скифскими предметами того же назначения,
так и с луристанской изобразительной традицией, представляют цельнолитые
бронзовые удила из Сачхерского района Западной Грузии, демонстриро зав-
шиеся на выставке новых поступлений в Музее искусств Грузинской ССР
в 1986 г. У этих удил нижний конец трехдырчатого С-видного псалия оформ-
лен в виде копыта, а верхний украшен головкой птицы с отчетливо выде-
ленным рогом, огибающим круглый глаз и направленным острым концом
вверх. Сопровождающий материал позволяет датировать включающий эти
удила комплекс V в. до н. э„ т. е, мы видим здесь достаточно позднюю —
когда у самих скифов этот мотив уже не представлен — реминисценцию рас-
сматриваемого образа. В контексте нашей темы особенно интересно, где
именно обнаружена эта поздняя реминисценция.
22 Именно этим мы склонны объяснить тот факт, что головка кошачьего
16 Зак 358 233
хищника — достаточно редкий мотив декора верхнего конца скифских пса-
лиев. В знаковой системе звериного стиля это существо призвано маркиро-
вать нижний мир [Раевский, 1985, с. 111—Ы2], и потому традиционное для
луристанских прототипов положение головы хищника в верхней части ком-
позиции оказалось противоречащим тому смыслу, который приобрел сложив-
шийся на этой основе образ в скифской среде. Известные случаи использо-
вания этого мотива для украшения верхнего конца псалня при наличии ко-
пыта на нижнем его конце скорее всего следует рассматривать как рудимент
той стадии, когда звериный стиль как знаковая система, призванная описы-
вать строение мироздания, еще только формировался. Зато не только в Ски-
фии, но и в Иране мы обнаруживаем экземпляры псалиев, оптимально ь-ыра-
жающих охарактеризованную космологическую идею. Напомним опубликован-
ную П. Мури пару цетьнолитных удил с трехпетельчатыми псалиями, укра-
шенными птичьей головой наверху и копытом внизу [Моогеу, 1974а, с 87,
№ 52], очень близкими фрагменту бронзового псалия из коллекции Зивие. Эта
находка весьма существенна для определения времени и места сложения скиф-
ской конской узды с зооморфным декором.
23 Более рельефным изображением отличается пронизь того же в целом
типа из кургана 211 на р. Тенетника в бассейне Тясмина [Ильинская, 1975,
табл. XXX, 13].
24 В связи с упоминанием урартских изображений козлов на скифских
древностях следует вспомнить известный костяной наконечник в виде головы
хищной птицы из кургана на Темир-горе (см. 18, з) [ScA, 1987, табл. 3].
Э. В. Яковенко [1976], посвятившая этому предмету специальное исследова-
ние, вычленила в его декоре помимо основного орнитоморфного мотива три
дополнительных анималистических изображения, служащих отдельными ча-
стями головы птицы: фигурку существа с поджатыми лапами у ее затылоч-
ной части, припавшее на брюхо копытное у основания клюва и головку длин-
ноухого зверя на самом клюве. Представляется, что здесь же можно обна-
ружить и еще один мотив — голову козла с вислой мордой и вертикально
стоящим массивным загнутым на конце рогом. Изображение рога совмещено
с клювом птицы, глазом козла служит ухо припавшего на брюхо животного,
его же голова представляет козлиный нос, а его ноги очерчивают контур коз-
линого рта. Именно складывающаяся из этих элементов голова козла осо-
бенно близка к изображениям козлов урартского типа, в частности к голо-
вам упомянутых выше стоящих козлов на костяной пластине из Зивие и иа
золотой пекторали из той же коллекции (ср. рис. 24, в). Столь же заметна
ее близость к другим древневосточным изобразительным традициям, напри-
мер к луристанской (ср. рис. 30, ж).
25 В свете сказанного целесообразно рассмотреть и вопрос о соотношении
скифских оленей с изображением на упомянутом выше бронзовом фигурном
псалии из Луристана. В. Г. Луконин [1977а, с. 24] относил его к предметам,
«самая поздняя дата которых — VIII — начало VII в. до н. э.»_ Но дает ли
это обстоятельство право трактовать это изображение как прототип скифско-
го образа? Их сближает не столько положение ног, которое на луристан-
ском экземпляре характерно скорее для исконной переднеазиатской традиции
(см. выше), сколько положение головы и особенно трактовка рогов в виде
горизонтальной цепочки спиральных завитков над спиной животного и двух
противопоставленных ей отростков над его лбом. С точки зрения предложен-
ной истории формирования данной схемы луристанское изображение пред-
стает скорее как продукт эволюции, чем как ее начальное звено. Добавим, что
в искусстве самого Луристана мы не найдем следов, отражающих процесс
сложения подобной манеры стилизации. Все это заставляет нас присоединить-
ся к мнению Н. Л. Членовой [19846, с. 3], допускавшей возможность того, что
«эта луристанская бляшка... выполнена под скифским влиянием». Анало-
гична точка зрения на этот счет Г. Н. Курочкина [1987, с. 97; 1989,
с. 105—106].
26 Я. А. Шер [1980а] причислил жаботинские изображения лося к па-
мятникам «раннего этапа скифо-сибирского звериного стиля», характеризую-
щимся «дробными стилистическими признаками» несомненно восточного
(центральноазиатского), по его мнению, происхождения. Полностью согла-
234
шаясь с утверждением о важности подобных признаков для выявления п
незиса образов звериного стиля, мы тем не менее считаем отнесение жаботин-
ских памятников к этому кругу достаточно произвольным, ибо тезис о нали-
чии у них таких признаков в работе Я. А. Шера не аргументирован.
™ Л. Ванден Берге датировал это погребение VIII в. до и. э., одиако в
данном случае симптоматично сочетание штандарта с комплексом признаков
явно позднего облика, к которым относятся не только элементы инвентаря,
ио и тип погребального сооружения — овальный ящик, составленный из мел-
ких камней.
28 Одним из прямых проявлений такого соприкосновения является, иа наш
взг1яд, состав инвентаря известного конского погребения на центральном
холме поселения Бабаджан-тепе. В него помимо бронзовых сосудов, фраг-
ментов железных удил и бронзовых блях от них [Goff, 1969, рис. 6, 7] входил
бронзовый конский налобник [Goff, 1969, рис. 6, 3]. К. Гофф сравнила его
с ассирийскими костяными налобниками конца IX — первой половины VIII в.
до н. э. и с костяным же налобником VII в. до н. э. с Саламина [Goff, 1969,
с. 123]. Представляется, однако, что наиболее близкой аналогией ему явля-
ются серебряные налобники из Зивие [Godard, 1950, рис. 96, 97, 99]. Этот
факт прямо документирует связь комплекса Зивие с областями Северо-Запад-
ного Луристана.
29 Отметим попутно, что методически весьма уязвимой представляется
достаточно распространенная тенденция при изучении истории какой-либо
художественной традиции оценивать путь от натурализма к условности как
генеральное направление ее эволюции.
Глава III
• К. Ф. Смирнов [1964, с. 189j увидел в обоих этих сообщениях лишь
указание на ираноязычие савроматов и на то, что они появились на берегах
Танаиса-Дона «во всяком случае не позднее времени господства скифов в Пе-
редней Азии (VII в. до н. э.)>. На наш взгляд, они содержат более богатую
информацию. Что касается хронологии, то, скорее, здесь имеются в виду вре-
мя массового возвращения участников переднеазиатских походов — рубеж
VII—VI вв.— и последовавшие за этим события. Относительно же смысловой
стороны вопроса отметим следующее. В. Б. Виноградов [1964, с. 42—44]
трактовал свидетельства Диодора и Плиния как доказательство участия сав-
роматов в упомянутых походах; по его мнению, «нет ничего невероятного, что
военные формирования савроматов со своими собственными вождями влились
в состав скифского войска», когда оно проходило через их земли, «имея Кав-
каз по правую руку». Это толкование логично, если локализовать земли са-
мих скифов в эпоху походов там, где они находились во времена Геродота.
Но если признать, что в рассматриваемое время зоной основной активности
скифов как раз и являлось Предкавказье, то этому основанному на косвен-
ных данных построению кажется правомерным предпочесть мнение, что савро-
матов как отдельного этноса в эпоху переднеазиатских походов еще просто
не существовало.
2 Мы не останавливаемся здесь на дискуссионном вопросе, с какой рекой
следует идентифицировать тот Араке, на берегах которого локализует скиф-
скую прародину традиция. Заметим лишь, что аргументы, выдвинутые при
решении этой проблемы И. В. Куклиной [1985, с. 114 сл.], уязвимы по тем же
позициям, что и вся ее концепция, рассмотренная в гл. I.
3 Не преувеличивая информативной ценности этих данных для нашей
гипотезы, отметим все же, что среди черт культуры раннего железного века
юга Восточной Европы, которые К. Ф. Смирнов [1964, с. 182—187] трактует
как имеющие андроновское происхождение, мы находим обычную для скифов
западную ориентировку погребенных, а также активное использование огия
в погребальном ритуале — элемент, характерный для наиболее ранних ком-
плексов скифского облика (Криворожский, Константиновский, Мельгуиов-
ский курганы) .
1 В связи с этим приходится еще раз напомнить о необходимости предель-
235
но cipororo обращения с этнической номенклатурой при сопоставлении нар-
ративных и археологических данных. Как уже упоминалось, Б. Н. Граков в
свое время детально разработал гипотезу о генетической связи причерно-
морских скифов с племенами срубной культуры, в частности о сложении ло-
го этноса из двух основных компонентов, в равной мере восходящих в конеч-
ном счете к происходящим из Поволжья срубным племенам: так называемого
«местного» т. е. тех срубников, что проникли в Причерноморье еще во второй
половине II тысячелетия до н. э., и «пришлого» — тоже срубников, но появив-
шнхся здесь позднее. Именно передвижение последних, согласно концепции
. Н. 1 ракова и отложилось в рассказе о миграции скифов из Азии. Этно-
культурная общность обоих компонентов, по мысли автооа, существенно
сказалась на характере культуры скифов последующих веков и на облике ски-
g0B * ер°Д°та как целостного этноса. Однако вряд ли допустимо, как делал
Ь. 11. 1 раков, трактовать эти процессы в том духе, что «скифы (так!—Авт.)
стали сюда проникать... еще во II тысячелетии до н. э.» [Граков, 1971, с. 24],
ибо тогда мы фактически лишаем интересующий нас этноним конкретного
содержания. Ведь это равносильно, по существу, отождествлению всех сруб-
ных племен со скифами. Между тем предание сохранило память о конкретном
однократном переселении лишь кочевых скифов. Поэтому более правомерно
считать, что потомки раннесрубных переселенцев в Причерноморье стали ски-
фами лишь на сравнительно поздней стадии, о которой речь пойдет ниже,
в результате слияния с теми родственными им пришельцами, которые име-
новали себя так издавна, вследствие чего этноним «скифы» обрел, по отчест-
ву, принципиально новое содержание.
Такое толкование предполагает, однако, ориентацию не на версию Дио-
дора о Предкавказье как об арене активности древнейших скифов, а на вос-
ходящее к Геродоту традиционное представление о территории обитания ски-
фон, локализуемой на северном побережье Черного моря.
В принципе с такой точки зрения можно рассматривать и новейшую ги-
потезу Н. К. Качаловой [1989] о специфическом нурском этапе в истории
степей Нижнего Поволжья.
То, что смена этнонимов сама по себе не обязательно отражает изме-
Нем'е с?става населения, отчетливо понимал уже Страбон. Касаясь ситуации
в Малой Азии, при описании которой древние авторы употребляли широкий
набор этнонимов, он замечал: «Эта неясность возникла не столько вследствие
перемен, сколько из-за разногласий историков, которые сообщают различные
сведения об одном и том же» (Strab., XII, VIII, 7).
8 Этот вывод, вытекающий из всего сказанного ранее и из ряда излагае-
мых далее соображений, заставляет отказаться от того понимания кимме-
рийцев, которого придерживался ранее один из авторов данной книги [Раев-
ский, 1977, с. 136—137].
9 Правда, в рассказе Геродота в отличие от версии Трога нет прямого
указания, что конфликт в скифской среде произошел в самой Скифии и по-
влек за собой новое вторжение на Ближний Восток, Поэтому нельзя абсолют-
но исключить, что здесь имелся в виду раскол скифского войска, уже находя-
щегося в Передней Азии, и перемещение какой-то его части в пределах это-
го региона.
10 Внимание к дифференцированному именованию скифов и киммерийцев
в источниках — и то, впрочем, если оставить в стороне неоднократно отмечен-
ную в литературе возможность взаимозаменяемого употребления этих этно-
нимов (см., в частности, [Дьяконов, 1956, с. 237—238]),—важно преимуще-
ственно с точки зрения воссоздания детального хода событий, связанных
с переднеазиатскими походами обитателей Восточной Европы, что никак не
входит в нашу задачу. К тому же сама возможность построить на основе
имеющихся данных связную картину, включающую все известные нам собы-
тия, четко определить их последовательность, хронологию, локализацию
и т. д. представляется достаточно проблематичной.
11 В связи со сказанным следует, однако, еще раз напомнить, что. как
уже отмечено выше, раннескифский культурный комплекс сам по себе еше не
составлял целостной этнографической культуры, образуя таковую лишь в со-
вокупности с набором субстратных культурных черт. Всестороннее исследова-
236
ние процесса сложения такой целостной культуры ранних скифов » Пр
казье остается пока делом будущего.
12 Этот факт прямо перекликается с настойчиво повторяемыми ангин
авторами свидетельствами, что жены ушедших в Переднюю Азию ски< <
оставались на родине (lust., П, 3 и 5; Herod., IV, I—3). Наряду с этим, ь
чем, та же версия Трога—Юстина содержит и указание, что в походе П.шна
и Сколопига воинов сопровождали их жены; после гибели мужей к их «изпь
нию прибавилось сиротство» (lust, П, 4). Поскольку, однако, этот мотив со
пряжен с сюжетом о происхождении малоазийских амазонок, можно допусти ь
чисто легендарный, причем привнесенный из иного контекста, антураж этого
пассажа.
13 Вопреки мнению И. М. Дьяконова [1956, с. 246] такому толкованию
отнюдь не препятствует факт равноправных дипломатических сношений меж
ду Партатуа и Ассирией. Как мы видели, к этому моменту неоднократные
вторжения европейских степных отрядов (киммерийских и скифских), вос-
принимаемых древним Востоком как в общем однородная сила, именно из за
Кавказа продолжались уже по крайней мере несколько десятилетий, что пре-
вратило эти племена в весьма существенный фактор политической жизни Пе-
редней Азии. В таких условиях не только зона действий этих отрядов в са-
мой Передней Азии, но и предка вказска я степь — постоянный источник реаль-
ной военной опасности — вполне могла выступать в качестве (пользуясь ха-
рактеристикой И. М. Дьяконова) «страны, находящейся в пределах театра
дипломатической деятельности Ассирии»
14 Именно в ключе такой локализации страны Гамир, а не с доверием
к версии о неудачном преследовании киммерийцев скифами следует, очевидно,
признавать заслуживающим определенного внимания свидетельство Геродота
о тяготении киммерийцев к Западному, а скифов — к Восточному Кавказу
Может быть, за этим свидетельством в самом деле стоит реальное распреде-
ление носителей соответствующих этнонимов по прикавказским землям.
15 Нас не должно смущать, что в пределах очерченного ареала оказывают-
ся и такие вполне политически и культурно обособленные области, как госу-
дарства Урарту или Манна Вряд ли их существование здесь могло явиться
препятствием для формирования описанного единого культурного ареала:
у и.- с нет оснований предполагать для этого времени существование столь же-
стких политических граним, чтобы они препятствовали распространению ин-
тересующих нас культурных явлений. Более того, в ряде случаев союзниче-
ские отношения скифов с древневосточными государствами могли даже этому
способствовать
“ В последнее время Г Н. Курочкин [1982] связал со скифами ряд не со-
ставляющих единого комплекса древностей из Хасанлу. Такая атрибуция
представляется правомерной лишь применительно к псалию с зооморфной го-
ловкой, о котором мы подробно говорили выше. Что касается известною по-
гребения с копями, то попытка обосновать его скифскую принадлежность
предпринималась еще Р. Гиршмаиом [Ghirshman, 1964, с. 35] Г. Н. Курочкин
не принял предложенную одним из авторов этой работы [Погребова, 19776,
с. 134—136] иную атрибуцию этого комплекса. Позже она была обоснована
более подробно [Погребова, 1984, с. 45—46], что избавляет нас от необходи-
мости возвращаться к этому вопросу. Г Н. Курочкин предложил также толко-
вание одной из мужских фигур на бронзовой чаше из Хасанлу как изображе-
ния скифа, но И. Винтер привела достаточно выразительные аналогии этому
изображению в памятниках ассиро-хеттской и особенно хетто-сирийской худо
жественных традиций [Winter, 1980. с 25—26] Ничего специфически скиф’сю
го в облике и атрибутах этого персонажа мы не видим, и аргументы Г. Н Ку
рочкина на этот счет представляются весьма уязвимыми: топор, изображен-
ный в руке мужчины, лишь весьма отдаленно напоминает келермесскую ге
киру, а наличие у пего штанов (принадлежности, кстати, отнюдь не исключи-
тельно скифской) вообще проблематично
17 Азиатской такую локализацию мы именуем в соответствии с анти юй
традицией, как известно воспринимавшей в качестве границы между Азией
и Европой Танаис Представление об азиатской прародине скифов форми ..
валось в р\сле той же традиции, и это позволяет причислять гипотезу
Б, Н. Гракова к первому из трех названных вариантов толкования рассмат-
риваемого пассажа. О более ранних опытах разработки этого варианта см.
[Доватур и др , 1982, с. 248]
18 Позже С. И. Руденко [1968. ( 13] отождествлял отложившихся скифов
с отдельно упомянутым Геродотом народом аргиппеев, никак, впрочем, этого
мнения не обосновывая, л локализовал их на пространстве от Зауралья до
Алтайских гор.
19 Недавно С. В. Жарникова [1986] подкрепила вывод названных авто-
ров, выявив реальные ландшяфтно-географическис истоки мифологического
представления о расположенных на крайнем севере обитаемой земли горах:
им соответствует протянувшаяся по северу Восточной Европы в широтном
направлении гряда Северных Увалов, многие характеристики которой соот-
ветствуют описанию священных гор индоиранской (в том числе скифской),
мифологии. Впрочем, такая реалия послужила, очевидно, лишь первичным
толчком для формирования мифологического по самой своей сути представ-
ления.
20 Эту гипотезу Н. Л. Членова выдвинула в полемике с предложенной на-
ми и обосновываемой здесь археологической идентификацией отделившихся
скифов [Членова, 1988, с. 5—7; 1990, с. 164] Необходимо, однако, с сожале-
нием отметить, что изложение ею аргументов, пппведе”ных нами в обоснова-
ние такой идентификации, и самой сути нашей трактовки проблемы весьма
произвольно (ср. [Погребова, Раевский, 1989]). Так, мы никогда не рассмат-
ривали весь Старший Ахмыловский могильник «как кладбище пришедших
с Северного Кавказа скифов и их жен из среды местного населения» [Члено-
ва, 1988, с. 7], в чем читатель этой книги легко сможет убедиться Уже при-
ходилось также отмечать, [Раевский, 1990, с. 153], что недопустимо произволь-
но приписывать нашу гипотезу лишь одному из ее авторов, как это сделала
Н. Л Членова, выразившая «уверенность», что мы не писали каждую строч-
ку статьи, где эта гипотеза изложена, вместе, и даже проявившая редкую
осведомленность относительно того, какая часть этой статьи кому из авторов
принадлежит [Членова, 1990, с. 164] Вынуждены довести до сведения
Н. Л Членовой, что не только в упомянутой статье, но и в этой книге каж-
дая строка написана авторами совместно и они в равной мере несут за нее
ответственность.
21 Отказ от археологической аргументации продиктован здесь общей за-
дачей автора — проанализировать лишь «представления античных писателей
об этногеографии европейских степей в VII — начале II в. до н. э.» [Мачинский,
1971, с 30]. Д. А. Мачинский справедливо отмечает, что истинная картина
может быть получена только после сопоставления достигнутых таким путем
результатов с археологическими, антропологическими и лингвистическими дан-
ными. Но последовательно реализовать чисто источниковедческий подход ав-
тор’ все же не хдалось. Так, в локализацию отделившихся скифов вторгся
аргумент иной природы: помещение их именно в районе Бугульминской воз-
вышенности мотивировано в значительной степени не самими данными ан-
тичной традиции, а тем, что именно здесь степь и лесостепь заходят далеко на
север, а «естественно предположить, что скифы-,,отщепенцы живут, как и их
причерноморские собратья не в лесу, а в степи и лесостепи» [Мачинский,
1971. с. 35—36] Убедительность этого экологического аргумента существенно
снижается по мере уточнения наших представлений о культурно-исторических
особенностях ранних скифов (ср> к примеру, выше о скифах в Закавказье).
22 Напомним, что Геродот, исходя из присущего ему понимания Скифии
как земель к западу от Танаиса, ведет отсчет от этой реки, а не от тех об-
ластей обитания ранних скифов в Предкавказье, о которых v нас шла речь
ранее
23 Отметим что именно за этими областями начинается плавное повыше-
ние земной поверхности, приводящее на севере к упомянутым Северным Ува-
лам. а на северо-востоке — к Уральским горам Так что и по ландшафтным
характеристикам предлагаемая локализация ^соответствует данным Геродота
о землях отложившихся скифов и их соседей. Добавим, что как раз область
238
у подножия гор, куда привел нас рассматриваемый путь, Геродот отдает на-
роду аргиппеев — западных соседей исседонов. Поэтому все сказанное может
служить лишним аргументом в предпринятом в гл. I споре с И. В. К) клиной,
локализующей аргиппеев, как мы помним, на Тянь-Шане.
24 Большинство интересующих нас предметов из этого могильника в свое
время было издано А. В Збруевой [1952 табл. XXIX, 1, 2, 7, рис. 55, а, 58, в. г. |.
Одиакс их воспроизведения в этом издании крайне нечетки, и потому мы со-
чли необходимым дать новые прорисовки вещей, хранящихся в фондах ГИМ
2а В книге Н. Урушадзе [1984] данный фрагмент на с. 59 ошибочно ат-
рибутирован как найденный в Дманиси, тогда как в списке иллюстраций
(с. 117) он правильно обозначен как происходящий из Самтавро.
26 См. прежде всего пояса из с. Ани-Пемза и из Закима [Есаян, 1983,
табл л, 1, 2]. Достаточно широкий круг древневосточных аналогий, привле-
ченный при анализе этих пластин В. С. Патрушевым [1982, с. 193; 1984, с 39],
в данном случае вряд ли правомерен, поскольку включает не только собствен-
но урартские вещи, но и инокультурные, лишь испытавшие определенное влия-
ние урартской художественной традиции (ножны из Келермеса и нз Мвльгу-
новского кургана). Между тем сам исследуемый материал однозначно связан
именно с урартскими бронзовыми поясами.
2Т Чаще всего к вершине такого треугольника примыкает другой, мень-
ший, обозначающий стопу зверя и отсутствующий на нашем экземпляре (см.,
напри лер, изображение на обухе топора из погребения 52 Тлийского могиль-
ника [Техов, 1977, рис. 80]). Прямую же аналогию рассматриваемому изобра-
жению в этом отношении дает фигурка па другом кобанском топоре [Уваро-
ва. 1900, табл. VII, 4 и рис. 14; см. также: Миллер, 1922, с. 318, рис. 28].
28 Что касается скифских древностей, происходящих из этой зоны Закав-
казья, то их принадлежность к эпохе архаики ясна из всего, что сказано вы-
ше. Найденные в пределах той же зоны колхидо-кобанские и урартские вещи
зачастую входят в инвентарь погребений, содержащих и скифские предметы,
что свидетельствует об одновременном их здесь бытовании. Наиболее приня-
тая дата закавказских поясов — период с IX по VII в. до н. э. [Хндашели,
1982, с. 139], но пояса, происходящие из отмеченного нами ареала, в том чис-
ле наиболее близкие к находкам из Поволжья, найдены преимущественно в
комплексах VIII—VII вв. [Панпхава, 1986, с. 34; Пипхелаури, 1982, с 61;
Давлианидзе, 1985, с. 8]. Дискуссионен вопрос о дате включающих подобные
пояса погребений Тлийского могильника. Б. В. Техов склонен считать верх-
ним их рубежом X в. до н. э. [Техов, 1977, с 122 сл.]. Мы же разделяем мне
ние авторов относящих эти комплексы к VIII—VII вв. [Воронов. 1980,
с. 205—206; Панпхава, 1986]. Подробно рассмотреть эту проблему мы наме-
рены в специальной работе. Приведенные данные свидетельствуют, что VII век
до н. э. оказывается тем периодом, когда на указанной территории одновре-
менно бытуют все интересующие нас разнокультурные компоненты.
29 Тезис о продвижении в скифское (и «киммерийское») время с Каш • -а
иа Среднюю Волгу «не только вещей, но и людей» последовательно отс и-
вает Н. Л. Членова [1988, с 3—5], не согласная, впрочем, с предлагаемой
нами этнокультурной интерпретацией этой миграции. В то же время некото-
рые исследователи придерживаются прямо противоположного толкования рас-
смотренных культурных фактов. Так, В. С. Патрушев [1984, с. 136] полагает,
«то проникновение в Среднее Поволжье древностей южного происхождения
обусловлено исключительно обменом, причем появление здесь скифских веп'ей
совпадает с прекращением притока кавказских по причине «смены ориента-
ции культурных связей» местного населения на рубеже VII—VI вв. до 1 э.
Подобное разведение во времени представленных в ананьинском ареале скиф-
ских и кавказских древностей не только никоим образом не вытекает из их
собственной хронологии, но и опровергается приведенным выше факте-1 их
сосуществования в рамках единого культурного комплекса в Закавказье а в
отдельных случаях — данными даже самих ананьипских могильников (ср со-
четание в погребении 336 Ахмыловского могильника скифского акинак 1 с рас-
смотренным выше кавказским наконечником ножен). Объяснить же проник-
новение сюда кавказских древностей исключительно обменом мешает ка от-
с'.тствие следов такого обмена иа промежуточных территориях, признав",
?Г»
кстати, самим В. С. Патрушевым [1984, с. 127], гак и главным образом под-
черкнутое нами специфическое совпадение облика многокомпонентных куль-
турных .шдексов, не уловленное исследователями прежде вследствие слиш-
ком общего характера привлекаемых ими кавказских аналогий.
>!j Именно при таком понимании социокультурного облика отложившихся
скифов теряет силу упомянутый аргумент Д. А. Мачинского, ограничиваю-
щий гипотетическую зону их обитания областями, в экологическом отноше-
нии пригодными для кочевого образа жизни. Как мы убедились иа примере
скифов, задержавшихся на территории Закавказья (по всей видимости, это
относится и к отрядам, проникавшим в Переднюю Азию), группы воинов —
основные участники скифских миграций VII — начала \ [ в. до н. э.,— отры-
ваясь от своих соплеменников, легко порывали с кочевым укладом и, внедря-
ясь в иноэтиичную среду, неизбежно осваивали качестве....о ины- -ало-
гические ниши.
' Имеется, впрочем, весьма любопытное свидетельство того, что практика
вторичного использования фрагментов бронзовых поясов существовала и в
областях, откуда, по приведенным данным, была предпринята интересующая
нас миграция. Вблизи селения Хирса в Кахетии найдена круглая бляха неиз-
вестного назначения, вырезанная из урартского бронзового пояса с изобра-
жением бегущих львов. Приносим благодарность К. Н. Пицхелаури, познако-
мившему нас с этой находкой.
а Мы не можем, однако, согласиться с предположением А. X. Халикова,
что прекращение существования этих памятников и массовое переселение
ананьиицев в бассейн Вычегды и в более северные районы было вызвано
походом Дария в Причерноморскую Скифию. Ни одна сколько-нибудь обос-
нованная реконструкция маршрута этою похода—даже та, что предполагав г
наибольшую его протяженность (см. [Рыбаков, 1979, с. 169 сл.]),— не позво-
ляет допустить проявление непосредственных его последствий в столь уда-
ленных от Скифии областях. О масштабах похода Дария см. Также [Чер-
ненко, 1984; Раевский, 1985, с. 68—69].
’ Вряд ли правомерно, впрочем, безоговорочно трактовать все без ис-
ключения скифские предметы из приволжских могильников как след описан-
ной миграции. Вероятно, и среди них имеются попавшие в этот район само-
стоятельно. К примеру, производит впечатление несколько более поздней упо-
мяЛугая бляха с изображением свернувшегося в кольцо хищника.
34 Представляется, что в этом же ключе следует трактовать и упомяну-
тый выше комплекс Большого Гумаровского кургана. По нашему глубокому
убеждению, этот памятник фиксирует не продвижение скифов с их праро-
дины, обозначенной древностями Аржана, Чиликты и т. п., иа запад [Исма-
гилов, 1988, с. 45—46], а, скорее, одно из направлений расселения кавказско-
переднеазиатских носителей раттнескифского комплекса на север. В пользу
такого толкования говорят как перекличка гумаровскнх изображений оленя
с саккызской художественной традицией (пусть она здесь уже и отягчена но-
выми, воспринятыми в степях восточными чертами), так и тот факт, что Гу-
марово — самый восточный пункт в ареале наконечников стрел новочеркас-
ского типа, характернейшего элемента только восточноевропейских «предскиф-
скнх» памятников.
’ Напомним, что на протяжении этого маршрута зафиксирован целый
ряд находок, свидетельствующих об освоении указанного пути в предскиф-
скую эпоху [Тереножкин, 1976, с. 15, карта].
36 В этой связи заслуживает специального внимания, что Геродот, по-
веству я об отделившихся скифах, говорит об их появлении как о результате
раскола в среде именно скифов царских. Это позволяет считать, что царские
скифы для него—именно те скифы (и ьсе те скифы), которые были при-
частны к переднеазиатским походам, т. е. народ, идентичный нашим ранним
скифам. Именование их в данном контексте царскими можно рассматривать
кат, ретроспекцию в предшествующую эпоху той роли, которую потомки опре-
деленной части этого народа играли в социально-политической структуре Ски-
фии уже в период ее локализации в причерноморской степи.
БИБЛИОГРАФИЯ
Абаев, 1965 — Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока
и Запада. М., 1965.
АВИУ, 1951—Дьяконов И. М Ассиро-вавилонские источники по истории
Урарту ,/ ВДИ. 1951, № 21—4.
Акишев, 1978 — Акиак в Д. А. Курган Иссык. Искусство саков Каза'., .па
М„ 1978.
Алексеев, 1986 — Алексеев В. П. Этногенез. М., 1986.
Ардзинба, 1982 — Арозинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии
1982.
Артамонов, 1950 — Аршмонов М. И К вопросу о происхождении скифов
ВДИ. 1950, № 2.
Артамонов, 1962 — Артамонов М. |Я] К вопросу о происхождении скифского
искусства // СГЭ. Вып. ХХП. Л. 1962.
Артамонов, I960 — Сокровища скифских курганов в собрании Государствен-
ного Эрмитажа Текст М. И Артамонова. Ленинград—Прага, I960.
Артамонов, 1968 — Аргамонов М. И. Происхождение скифского искусства
СА. 1968, № 4.
Артамонов, 1971—Артамонов М. И. Скифо-сибирское искусство звериного
стиля (основные этапы и направления) // Проблемы скифской археологии
М„ 1971 (МПА, № 177).
Артамонов, 19/За — Артамонов М. И. Сокровища саков. М., 1973.
Артамонов, 19736 — Артамонов М. I. Юммертйська проблема // Археолопя.
Вып. 9. К., 1973.
Артамонов, 1974—Артамонов М. II. киммерийцы и скифы (от появления на
исторической арене до конца 1\ в. до н. э.). Л., 1974.
Арутюнов, 1989—Арутюнов С. А. Пароды и культуры. Развитие и взаимо-
действие. М., 1989.
Арутюнов, Хазанов, 1979 — Арутюнов С. А., Хазанов А. М. Археологические
культуры и хозяйственно-культурные типы: проблема соотношения /' Про-
блемы типологии в этнографии. М., 1979.
Археология УССР, 1986—Археология Украинской ССР. Т. II. Скифо-сармат-
ская и античная археология. К., 1986
Асланов и др., 1958 — Асланов Г. М., Ваидов Р. М., Ионе Г. И. Древний Мин-
гечаур. Баку, 1959.
Баркова, 1983 — Баркова Л. Л. Изображения свернувшегося хищника на зо-
лотых пластинах из Майэмира // АСГЭ. Вып. 24. Л., 1983.
Батчаев, 1980 — Батчаев В. М. Клад из селения Былым // Археология и во-
просы древней истории Кабардино-Балкарии. Вып. I. Нальчик, 1980.
Батчаев, 1985 — Батчаев В. М. Древности предскифского и скифского перио-
да " Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балка-
рии в 1972—79 гг. Т. II. Нальчик, 1985.
Белинский, 1990 — Белинский А. Б. К вопросу о времени появления шле
ассирийского типа на Кавказе ,/ СА. 1990, № 4.
Берзин, 1985 — Берзин Э. О. Киммерийцы и скифы — старые загадки и нс и
открытия // Знание — сила. 1985, № 10.
Бессонова, 1082 — Бессонова С. С. «Серьги» с изображением Владычиц)
рей из скифских погребений IV в. до н. э. // Новые памятники ir и
и средневековой художественной культуры. К., 1982
Бонгард-Левии, Грантовский, 1983 — Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А.
От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. М., 1983.
Бромлей, 1983—-Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса-. М., ,1983.
Баренов, 1984 — Вареное А. В. Некоторые проблемы звериного стиля в китай-
ской историографии // Древний и средневековый Восток. История, фило-
логия (проблемы источниковедения). М„ 1984.
Василева, 1985 — Василева М. Ионийское представление о киммерийцах
// Thracia Pontica. III. Sozopol, 1985.
Виноградов, 1963 — Виноградов В. Б. Бронзовый наконечник ножен из Кабар-
дино-Балкарии // СЛ. 1963, № 2.
Виноградов, 1904 — Виноградов В. Б. О скифских походах через Кавказ (по
письменным источникам) // Тр. ЧИНИИ. Т. IX. Грозный, 1964.
Виноградов, 1972 — Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кав-
каз в скифское время (VII—IV вв. до н. э.). Грозный, 1972.
Виноградов, 1974 — Виноградов В. Б. Новые находки предметов скифо-сибир-
ского звериного стиля в Чечено-Ингушетии // СЛ. 1974, № 1.
Виноградов, 1976 — Виноградов В. Б. К характеристике кобанского варианта
в скифо-сибирском зверином стиле // ССЗС. М., 1976.
Виноградов, Дударев, 1985 — Виноградов В. Б., Дударев С. Л. К этнокуль-
турной интерпретации некоторых материалов VII в. до н. э. из Предкав-
казья // АС1Э. Вып. 23. Л., 1983.
Виноградов, Шкурко 1963 — Виноградов В. Б., Шкурко А. И О некоторых
предметах звериного стиля из Центрального Предкавказья в скифское
время // Сборник докладов на VI и VII Всесоюзных археологических сту-
денческих конференциях. М., 1963.
Вишневская, 1973 — Вишневская О. А. Культура сакских племен низовьев
Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. По материалам Уйгарака. М., 1973 (Труды
Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Вып. VIII).
Вознесенская, 1975 — Вознесенская Г. А. Технология производства железных
предметов Тлийского могильника // Очерки технологии древнейших произ-
водств. М., 1975.
Воронов, 1980 — Воронов Ю. Н. О хронологических связях киммерийско-скиф-
ской и колхидской культур // Скифия и Кавказ. К., 1980.
Вязьмитина, 1963 — Внзьмитина М И. Ранние памятники скифского зверино-
го стиля // СА. 1963, № 2.
Гаврилюк, 1981-—Гаврилюк Н. А. Керамика степной Скифии. Автореф. канд.
дис. К., 1981.
Галанина, 1977 — Галанина Л. К. Скифские древности Поднепровья (Эрми-
тажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). М., 1977.
Галанина, 1983 — Галанина Л. К. Раннескифские уздечные наборы (по ма-
териалам Келермесских курганов) // АСГЭ. Вып. 24. Л., 1983.
Галанина, Алексеев, 1987 — Галанина Л. К., Алексеев А. Ю. Келермесские
древности // Киммерийцы и скифы. Тезисы докладов Всесоюзного семи-
нара, посвященного памяти А. И. Тереножкина. Ч. I. Кировоград, 1987.
Горелик, ,1987 — Горелик /И. В. Раннее скульптурное изображение скифского
воина // Киммерийцы и скифы. Тезисы докладов Всесоюзного семинара,
посвященного памяти А. И. Тереножкина. Ч. I. Кировоград, 1987.
Граков, 1974а — Граков Б. Н. EXNAIKOKPA'l OTMEhOl (Пережитки матри-
архата у сарматов) // ВДИ, 1947, № 3.
Граков, 19476 — Граков Б. Н. Термин Xz.iHn и его производные в надписях
Северного Причерноморья // КСИИМК. Вып. XVI. М.—Л., 1947.
Граков -1954 — Граков Б Н. Каменское городище на Днепре. М., 1954
(МПА, № 36).
Граков, 1962 — Граков Б. Н. Скифские погребения на Никопольском курган-
ном поле // Памятники скифо-сарматской культуры. М., 1962 (МИА,
№ 115).
Граков, 1971—Граков Б И Скифы. М., 1971.
Граков, 1977 — Граков Б. Н Ранний железный век (Культуры Западной и
Юго-Восточной Европы). М 1977.
Граков, Мелюкова, 1954 — Граков Б. И., Мелюкова А. И. Об этнических
и культурных различиях в степных и лесостепных областях Европейской
242
части СССР в скифское время '/ Вопросы скифо-сарматской археологии
М, 1954.
1 райтовский, 1980а — Грантовский Э. А. Проблемы изучения общественного
сгроя скифов // ВД11 1980, № 4.
Грантовский, 19806—Круглый стол «Дискуссионные проблемы отечественной
скифологии». Выступление Э А. Грантовского // НАА. 1980, № 6.
Грязнов, 1978а — Грязнов М. И. К вопросу о сложении культур скифо-сибир-
ского типа в связи с открытием кургана Аржан // КСИА. Вып 154 М ,
1978.
Грязнов 19786 — Грязнов М. П. Саяно-алтайский олень (этюд на тему скифо
сибирского звериного стиля) // Проблемы археологии. Вып. II Л. 1978
Грязнов 1980 — Грязнов М П. Аржан. Царский курган раннескифского ц>е
мени Л., 1980.
Давлианидзе, 1985 — Давлианидзе Р. В. Нареквавский могильник // Мцхета.
Т. VII. Тб., 1985 (на груз. яз.).
Дандамаев, 1977 — Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI —
V вв. до н. э. о саках // ВДИ. 1977, № 1.
Дандамаев, Луконин, 1980 — Дандамаев М А., Луконин В. Г Культура и
экономика древнего Ирана. М., 1980.
Дискуссионные проблемы, 1980а — Дискуссионные проблемы отечественной
скифологии. Круглый стол. Ч. I // НАА. 1980 № 5.
Дискуссионные проблемы 19806 — Дискуссионные проблемы отечественной
скифологии. Круглый стол. Ч. II. // НАА 1980, № 6.
Доватур, 1982 — Доватур А И. Обозначение морей у Геродота. ВДИ
1982, № 3.
Доватур и др., 1082 — Доватур А. И, Каллистов Д. П., Шишова И А. Ниро
ды нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарий
М„ 1982.
Дубовская, 1979 — Дубовская О Р. К вопросу о роли позднесрубпого
культурного компонента в сложении памятников раннего железной
Северного Причерноморья // Проблемы эпохи бронзы Юга Восточно
ропы. Тезисы докладов конференции. Донецк, 1979.
Дубовская, 1986—Дубовская О. Р О погребениях группы Новочерк
клада // Проблемы охраны и исследования памятников археологии
бассе. Тезисы докладов. Донецк, 1986.
Дубовская, 1987 — Дубовская О Р. О территориальном соотношении в. ....
ческих погребений группы Черногоровки и Новочеркасского клад г! "
туальные проблемы историко-археологических исследований Тезис,4
кладов VI республиканской конференции молодых археологов. К 1W87
Дубовская, 1989 — Дубовская О. Р. К интерпретации комплексов тип. П<
черкасского клада // СА. 1989, № 1.
Дьяконов, 1956 — Дьяконов И. М. История Мидии от древнейших пре
конца IV в до н. э. М — Л., 1956.
Дьяконов, 1981—Дьяконов И. М. К методике исследований по этничщ.......
истории («Киммерийцы») // Этнические проблемы истории Центр., ыюй
Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). М., 1981.
Ельницкий, 1977 — Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей. Историки
археологический очерк. Новосибирск, 1977.
Есаян, 1983 — Есаян С А. Об урартских поясах, найденных на терриПфи>|
Советской Армении // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в др»
ности. М„ 1983.
Есаян, Погребова, 1985 — Есаян С. А., Погребова М. Н. Скифские памятники
Закавказья. М„ 1985.
Жарникова, 1986 — Жарникова С. [В]. К вопросу о возможной локалия» ши
священных гор Меру и Хара индоиранской (арийской) мифологии / Ин
формационный бюллетень МАИКЦА. Вып. 11. М., 1986.
Збруева, 1952 — Збруева А. В. История населения Прикамья в ананьинс» ю
эпоху. М„ 1952 (МИА, № 30).
Ивапчик, 1987 — Иванчик А. И. О киимерийцах Аристея Прокопне
(Hdt., IV, 13) // Античная балканистика. М., 1987.
16* 2’
Иванчик, 1989 — Иванчик А. И. Киммерийцы в Передней Азии. Автореф. канд.
дис. М., 1989.
Иванчик, 1990 — Иванчик А. И. Киммерийцы и Урарту накануне восьмого по-
хода Саргона II // ВДИ. 1990, № 3.
Иессен, 1941—Иессен А. А. Археологические памятники Кабардино-Балка-
рии // Материалы по археологии Кабардино-Балкарии. М— Л 1941
(МИА, № 3).
Иессен, 1947 — Иессен А. А. Греческая колонизация Северного Причерно-
морья. Л., 1947.
Иессен, 1953 — Иессен А. А. К вопросу о памятниках VIII—VII вв. до и. э.
на Юге Европейской части СССР (Новочеркасский клад 1939 г.) // СА
Вып. XVIII. М., 1953.
Иессен, 1954 — Иессен А. А. Некоторые памятники VIII—VII вв. до н. э. на
Северном Кавказе // Вопросы скифо сарматской археологии. М., 1954.
Иессен, 1-965 — Иессен А. А. Из исторического прошлого Мильско-Карабах-
ской степи // Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2.
М. 1965 (МИА, № 125).
Ильинская, 1965 — Ильинская В. А. Некоторые мотивы раинескифского зве-
риного стиля // СА. 1965, № 1.
Ильинская, 1968 — Ильинская В. А. Скифы Днепровского лесостепного Лево-
бережья (курганы Посулья). К., 1968.
Ильинская, 1971а — Ильинская В. А. Образ кошачьего хищника в раннескиф-
ском искусстве // СА. 1971. № 2.
Ильинская, 19716 — 1ллшська В. А. Золой прикраси сшфського apxainnoro
убору // Археолопя. Вип. 4. К-, 1971.
Ильинская, 1973а — Ильинская В. А. Скифская узда IV в. до н. э. // Скиф-
ские древности. К., 1973.
Ильинская, 19736 — 1лл1нська В. А. Бронзов! наконечники стр!л так званого
жаботинського ! новочеркаського тигав // Археолопя. Вип. 12. К-, 1673.
Ильинская, 1975 — Ильинская В. А. Раннескифские курганы бассейна р. Тяс-
мин (VII—VI вв. до н. э.). К., 1975.
Ильинская, 1976 — Ильинская В. А. Современное состояние проблемы скиф-
ского звериного стиля // ССЗС. М. 1976.
Ильинская, 1980 — Круглый стол «Дискуссионные проблемы отечественной
скифологии». Выступление В. А. Ильинской // НАА. 1980, № 5.
Ильинская, Тереножкин, 1983 — Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия
VII—IV вв. до н. э. К.. 1983.
Исмагилов 1987—Исмагилов Р. Б. Каменная стела и золотые олени из Гума-
рово // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. Новосибирск, 1987.
Исмагилов, 1988 — Исмагилов Р. Б Погребение Большого Гумаровского кур-
гана в Южном Пригралье и проблема происхождения скифской культу-
ры // АСГЭ. Вып. 29" Л., 1988.
Каменецкий, 1970 — Каменецкий И. С. Археологическая культура — ее опреде-
ление и интерпретация // СА. 1970, № 2.
Качалова, 1989 — Качалова И. К. О заключительном периоде бронзового века
на территории Нижнего Поволжья (к постановке проблемы) // СА. 1989,
№ 1.
Кияшко, Корепяко, 1976 — Кияшко В. А., Кореняко В. А. Погребение раннего
железного века у г. Константиновска // СА. 1976, № 1.
Клейн 1970 — Клейн Л. С Проблема определения археологической культу-
ры Ц СА. 1970, Ке 2.
Клочко, Мурзин, 1987 — Клочко В. И., Мурзин В. Ю. О взаимодействии мест-
ных и привнесенных элементов скифской культуры // Скнфы Северного
Причерноморья. К 1987.
Ковалевская, 1984 Ковалевская В. Б, Кавказ и аланы. М., 1984.
Ковалевская, 1985—Ковалевская В. Б. Роль скифов в этногенезе местных
северокавказских племен // Мацне. Историческая серия. 1985, № 3.
Ковпапенко, 1966 — Ковпаненко Г. Т. Носач!вський курган VIII—VII ст.
до п. е. // Археолопя. Т. XX. К., 1966.
Ковпапенко 1967 — Ковпаненко Г. Т Племена сюфського часу на Ворскл!.
К., 1967.
244
Ковпаненко, 1981 — Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бас-
сейне р. Рось. К., 1981.
Ковпаненко, Гупало, 1984 — Ковпаненко Г Т., Гупало И. Д. Погребение вои-
на у с. Квитки в Поросье // Вооружение скифов и сарматов. К., 1984
Кривцова-Гракова, 1955 — Кривцова-Гракова О. А. Степное Поволжье и При-
черноморье в эпоху поздней бронзы. М„ 1955 (МИА, № 46).
Круппов, 1952 — Крупнов Е. И. Жемталииский клад. М., 1952
Крупнов, 1960 — Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа М.,
1960.
Кузнецова, 1988 — Кузнецова Т. М Историко-культурные связи Скифии VI—
III вв. до н э. (Зеркала как исторический источник). Автореф. канд. дис.
М., 1988
Кхзьмина, 1977 — Кузьмина Е. Е. В стране Кавата и Афрасиаба. М., 1977.
Куктина, 1985 — Куклина И. В. Этногеография Скифии по античным источ-
никам. Л., 1985.
Курочкин, 1982 — Курочкин Г, Н. Хасаплу и скифы // IA. XVII. 1982.
Курочкин, 1987 — Курочкин Г. Н. Искусство звериного стиля ранних кочевни-
ков евразийских степей и луристанские бронзы // Проблемы археологии
степной Евразии. Тезисы докладов. Ч. II. Кемерово, 1987.
Курочкин, 1989 — Курочкин Г. И. Ранние этапы формирования скифского ис-
кусства // Кочевники евразийских степей и античный мир (проблемы кон-
тактов) Новочеркасск, 1989.
Кызласов, 1977 — Кызласов Л. Р. Уюкский курган Аржаи и вопрос о проис-
хождении сакской культуры // СА. 1977, № 2.
Латышев, 1890—1906 — Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих
и латинских, о Скифии и Кавказе. Т. I—II СПб., 1890—1906
Лелеков, Раевский, 1979 — Лелеков Л. А , Раевский Д. С. Скифский рассказ
Геродота: фольклорные элементы н историческая информативность//ПАА.
1979, № 6.
Лесков, 1975 — Лесков А. М. Предскифский период па Юге Украины. Автореф.
докт. дис. М.. 1975.
Лесков, 1979—Лесков А. М. Киммерийские мечи и кинжалы и происхожде-
ние скифского акинака // Искусство и археология Ирана и его связь с ис-
кусством народов СССР с древнейших времен. Тезисы докладов. М., 1979.
Лесков, 1981—Лесков А. М. Курганы: находки, проблемы. Л., 1981.
Лесков, 1984 — Лесков А. М О хронологическом соотношении памятников на-
чала железного века иа юге Европейской части СССР // Древности Евра-
зии в скифо-сарматское время. М., 1984.
Либеров, 1949 — Либеров П. Д. Скифские курганы Киевщины // КСИИМК.
Вып. XXX. М,— Л., 1949.
Либеров, 1951 —Либеров П. Д Курганы у села Константиновки // КСИИМК.
Вып. XXXVII. М —Л., 1951.
Либеров. 1969 — Либеров П. Д. Проблема будинов и гелонов в свете новых
археологических данных // Население Среднего Дона в скифское время.
М , 1969 (МИА, № 151).
Ложкин, Петренко, 1981—Ложкин М. Н., Петренко В. Г Уздечный набор
из Краснодарского края // КСИА. Вып. 167. М. Г981.
Лотман, 1970 — Лотман Ю М Структура художественного текста. М., 1970.
Луконин, 1971—Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана (основные эта-
пы) // История иранского государства и культуры. М.. 1971.
Луконин, 1977а — Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. М.. 1977.
Луконин, 19776 — Луконин В. [Г.] Археологические памятники Ирана второ-
го—первого тысячелетия до н. э. п новые поступления в отдел Восто-
ка // СГЭ. Вып. XLII. Л., 1977.
Луконнн, 1987а—Луконин В Г. Древний и раппесретпевековый Иран. Очер-
ки истории культуры. М., 1987.
Луконин, 19876 — Луконин В Г. Золотой сосуд с «историей козы» из Мап-
лика II Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства.
М.. 1987.
245
Макалатия, 1949 — Макалатия С. И. Раскопки Дванского могильника // СА
Вып. XI. М,— Л., 1949.
Максимова, 1954 — Максимова М. И. Серебряное зеркало из Келермеса /, СА
Вып. XXI. М., 1954.
Максимова, 1956 — Максимова М. И. Ритон из Келермеса // СА. Вып. XXV.
М„ 1956.
Манцевич, 1958 — Манцевич А. П. Головка быка из кургана VI в. до н э.
на р. Калитве // СА. 1958, № 2.
Махортых, 1987а — Махортых С. В. Скифы на Кавказе в VII—V вв. до н. э. //
Автореф. канд. дне. К., 1987.
Махортых, 19876 — Махортых С. В. К этнокультурной характеристике Нартаи-
ских курганов // Актуальные проблемы историко-археологических иссле-
дований. К., 1987.
Мачинский, 1971—Мачинский Д. А. О времени первого активного выступле-
ния сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных письменных ис-
точников // АСГЭ. Вып. 13. Л., 1971.
Медведская, 1983 — Медведская И. Н. Конский убор из могильника Спалк
В // IA. XVIII. 1983.
Медведская, 1989 — Медведская И. Н. Периодизация скифской архаики и
древний Восток // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история
Востока. Тезисы докладов. Ч. 3. М„ 1989
Меликишвили, 1954 — Меликишвили Г. А. Наири — Урарту. Тб., 1954.
Мелюкова, 1964 — Мелюкова А. И. Вооружение скифов. М., 1964.
Мелюкова, 1969 — Мелюкова А. И. К вопросу о границе между скифами и ге-
тами // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969 (МИА,
№ 150).
Миллер, 1922 — Миллер А. А. Изображения собаки в древностях Северного
Кавказа // ИРАИМК. jL И. Пг., 1922.
Мурзин, 1978 — Мурзш В. Ю. Ск1фи на П!вшчному Кавказ! (VII—V ст.
до н. е.) // Археолопя. Вип. 17. К., 1978.
Мурзин, 1984 — Мурзин В. Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья.
К., ГО84.
Мурзин, 1986 — Мурзш В. Ю. Про утворення П!вшчнопричорноморсько1 Сю-
фн // Археолопя. Вип. 55. К., 1986.
Николов, 1986 — Николов Б. Чашите от Рогозенското съкровище // Изкуство.
1986, № 6.
Новгородова, 1980 — Круглый стол «Дискуссионные проблемы отечественной
скифологии». Выступление Э. А. Новгородовой // НАА. 1980, № 6.
Новгородова, 1989 — Новгородова Э. А. Древняя Монголия. М., 1989.
Ольховский, 1978а — Ольховский В. С. Погребальные обряды населения степ-
ной Скифии (VII—III вв. до н. э.). Автореф. канд. дис. М., 1978.
Ольховский, 19786—Ольховский В. С. Раннескифские погребальные сооруже-
ния по Геродоту и археологическим данным // СА. 1978, № 4.
Онайко, 1966 — Онайко Н. А. Античный импорт в Поднепровье и Побужье
в VII—V вв. до н. э. М., 1966.
Панцхава, 1986 — Панцхава Л. Н. Некоторые вопросы колхидской и кобан-
ской культуры (по материалам Чабарухского и 1 [асанаурского кладов) //
Вестник Гос. музея Грузии. Вып. XXXVIII-B. Тб., 1986.
Патрушев, 1982 — Патрушев В. С. Налобные венчики Старшего Ахмыловского
могильника // СА. 1982, № 1.
Патрушев, '984 — Патрушев В. С. Марийский край в VII—VI вв. до н э.
(Старший Ахмыловский могильник). Йошкар-Ола, 1984
Патрушев, Халиков, 1982 — Патрушев В. С., Халиков А. X. Волжские ананьин-
цы (Старший Ахмыловский могильник). М., 1982i
Переводчикова, 1979 — Переводчикова Е. В. Келермесская секира и форми-
рование скифского звериного стиля // Проблемы истории античности и
средних веков. М., 1979.
Переводчикова, 1980а — Переводчикова Е. В. О возможности исследования
скифского звериного стиля как изобразительной системы // Проблемы ис-
тории античности и средних веков. М., 1980.
246
Переводчикова, 19806 — Переводчикова Е. В. Типология и эволюция скиф-
ских навершии // СА. 1980, Ns 2.
Переводчикова, 1983 — Переводчикова Е. В. О сюжетах изображений на бу-
теролях акинаков ахемеиидского времени // ВДИ. 1983, Ns 3.
Переводчикова, 1987 — Переводчикова Е. В. Локальные черты скифского зве-
риного стиля Прикубанья // СА. 1987, Ns 4.
Переводчикова, Раевский, 1081—Переводчикова Е. В., Раевский Д. С. Еще
раз о назначении скифских навершии // Средняя Азия и ее соседи в древ-
ности и средневековье. М., 1981.
Петренко, 19Ь7 — Петренко В. Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V—
III вв. до н. э. М., 1967.
Петренко, 1971—Петренко В. Г. Задачи и тематика конференции // Пробле-
мы скифской археологии. М„ 1971 (МПА, Ns 177).
Петренко, 1980 — Петренко В. Г. Изображение богини Иштар из кургана в
Ставрополье // КСИА. Вып. 162. М., 1980.
Петренко, 1983 — Петренко В. Г. Скифская культура на Северном Кавказе //
АСГЭ. Вып. 23. Л., 1983.
Пиотровский, 1950 — Пиотровский Б. Б. Кармир блур I. Ереван, 1950.
Пиотровский, 1954 — Пиотровский Б. Б. Скифы и древний Восток // СА.
Т. XIX. М„ 1954.
Пиотровский, 1955 — Пиотровский Б. Б. Кармир-блур III Ереван, 1955.
Пиотровский, 1962'—Пиотровский Б. Б. Искусство Урарту. Л., 1962.
Пиотровский, 1970 — Пиотровский Б. Б. Кармир-блур. Л., 1970.
Пиотровский, 1989 — Пиотровский Б Б. Скифы и Урарту // ВДИ. 1989, Ns 4.
Пицхелаури, 1982 — Пицхелаури К. И. Археологические исследования в зонах
новостроек Иоро-Алазаиского бассейна 1975—1979 гг. // Археологические
исследования на новостройках Грузинской ССР. Тб., 1982.
Погребова, 1977а — Погребова М. И. К вопросу о миграции ираноязычных
племен в Закавказье в доскифскую эпоху // СА. 1977, Ns 2.
Погребова, 19776 — Погребова М. Н. Иран и Закавказье в раннем железном
веке. М„ 1977.
Погребова, 1981—Погребова М И. Памятники скифской культуры в Закав-
казье // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М. 1981.
Погребова, 1984 — Погребова М. Н. Закавказье и его связи с Передней Азией
в скифское время. М., 1984.
Погребова, Раевский, 1989 — Погребова М. Н., Раевский Д. С К вопросу об
«отложившихся скифах» (Herod., IV, 22) // ВДИ. 1989, Ns 1.
Погребова Н. Н. 1948 — Погребова Н. Н. Грифон в искусстве Северного При-
черноморья в эпоху архаики // КСИИМК. Вып. XXII. М.— Л., 1948.
Полин, 1987 — Полин С. В. Хронология ранньосюфських пам'яток // Архсоло-
пя. Вип. 59. К., 1987.
Придик, 1911—Придик Е. Мельгуновский клад 1763 г. СПб., 1911 (МАР
Vs 31)
Пчелина, 1934 — Пчелина Е. Крепость «Зильде Машиг» // СЭ. 1934, Ns 5.
Пьянков, 1987—Пьянков И. В. Скифы и сарматы: реальные и «археологи-
ческие» // Проблемы археологии степной Евразии. Тезисы докладов. Ч. II.
Кемерово, 1987.
Раевский, 1970 — Раевский Д. С. Скифский мифологический сюжет в искусстве
и идеологии царства Атея // СА. 1970, Ns 3.
Раевский, 1977 — Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен
И., 1977.
Раевский, 1983—Раевский Д. С. Скифские каменные изваяния в системе рели
гиозно-мифологических представлений ираноязычных народов свра мп!
ских степей // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древнот тн
М., 1983.
Раевский, 1985—Раевский Д. С Модель мира скифской культуры У 191
Раевский, 1990 — Раевский Д. С. К статье Н. Л Членовой «Волга и Южный
Урал в представлениях древних иранцев и финпо угров во II и ч.) •
I тыс. до н э.» // СА. 1990, № 3.
Ростовцев, 1918 — Ростовцев М. И. Эллинство и иранство н Юн Ро< пи
Пг., 1918.
217
Ростовцев, 1925 — Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Критическое обозрение
памятников литературных и археологических. Л., 1925.
Руденко, 1952 — Руденко С. И. Борисалтанекие находки и скифы. М.— Л.,
1952.
Руденко, 1963 — Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I. М.— Л. 1962.
Руденко, 1968 — Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры
и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. М„ 1968.
Рыбаков, 1979 — Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историко-географический
анализ. М., 1979.
Рябова, 1979 — Рябова В. А. Женское погребение из кургана Денисова Мо-
гила // Памятники древних культур Северного Причерноморья. К., 1979.
Савинов, 1977 — Савинов Д. Г. О культурной принадлежности северокавказ-
ских камней-обелисков // Проблемы археологии Евразии и Северной Аме-
рики. М., 197’’.
Силантьева, 1959 — Силантьева Л. Ф. Некрополь Нимфея // Некрополи бос-
порских городов. М., 1959 (МИА, № 69).
Скифские погребальные памятники, 1986—Скифские погребальные памятники
степей Северного Причерноморья. К. 1986.
Скорый, 1987 — Скорый С. А. К этнокультурной истории украинской право-
бережной лесостепи в скифскую эпоху // Киммерийцы и скифы. Тезисы до-
кладов Всесоюзного семинара, посвященного памяти А. И. Тереножкина.
Ч. II. Кировоград, 1987.
Скудиова, 1988 — Скуднова В. М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988.
Смирнов А П., 1961 — Смирнов А. П. Железный век Чувашского Поволжья.
М„ 196Б (МИА, № 95).
Смирнов, 1961—Смирнов Д. Ф. Вооружение савроматов. М., 1961 (МИА,
№ 101).
Смирнов, 1964—Смирнов К. Ф Савроматы. Ранняя история и культура сар-
матов. М., 1964.
Смирнов, 1984 — Смирнов К- Ф. Сарматы и утверждение их политического
господства в Скифии. М., 1984.
Сорокин, 1972 — Сорокин С С. Свернувшийся зверь из Зивие // СГЭ. Вып. 34
Л., 1972.
Тереножкин, 1971 — Тереножкин А И. Скифская культура // Проблемы скиф
ской археологии. М., 1971 (МИА, № 177).
Тереножкин 1976 — Тереножкин А И. Киммерийцы. К., 1976.
Тереножкин, 1978 — Тереножкш О. I. Юммершськ! стели // Археолог!'.
Вып. 27. К-, 1978.
Терехова, Хомутова, 1985 — Терехова Н. И., Хомутова Л. С. Освоение челове-
ком химико-термических и термических процессов иа ранних этапах ста-
новления железообрабатывающего производства в Восточной Европе //
Человек и окружающая среда в древности и средневековье (Материалы
совещания 25—26 января 1983 г.). М., 1985.
Техов, 1977 — Техов Б. В Центральный Кавказ в XVI—X вв. до н. э. М.,
1977.
Техов, 1980 — Техов Б В. Скифы и Центральный Кавказ в VII—VI вв. до н. э.
М„ 1980.
Техов, 1981—Техов Б В Тлийский могильник. Вып. II. Тб., 1981.
Толстов, 1948 — Толстов С. П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологиче-
ского исследования. М., 1948
Толстов, Итина, 1966 — Толстов С. П., Итина М. А. Саки низовьев Сыр-Дарьи
(по материалам Тагискена) // СА. 1966, К» 2.
Трапш, 1970 — Трапш М М. Труды. Т. I. Сухуми, 1970.
Трубачев, 1980 — Круглый стол «Дискуссионные проблемы отечественной ски-
фологии». Выступление О. Н. Трубачева // НАА. 1980, № 5.
Трубникова, 1953 — Трубникова Н. В. Племена городецкой культуры // Ар-
хеологический сборник. М., 1953 (Тр. Г ИМ. Вып 22).
Уварова 1900 — Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. М.. 1900
(МАК. Вып. VIII).
Урушадзе, 1984 — Урушадзе И. Бронзовая летопись древней Грузии. Тб. 1984
248
Формозов, 1969 — Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М.,
1969.
Халиков, 1977 — Халиков А. X. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа
(VIII—VI вв. до н. э.). М., 1977.
Хидашели, 1982 — Хидашели М. Ш. Графическое искусство Центрального За-
кавказья в эпоху раннего железа. Тб., 1982 (на груз. яз.).
Чартолани, 1989 — Чартолани Ш. Г. К истории нагорья Западной Грузии до-
классовой эпохи. Тб., 1989.
Черненко, 1979 — Черненко Е. В. Персидские акинаки и скифские мечи // Ис-
кусство и археологии Ирана и его связь с искусством народов СССР
с древнейших времен. Тезисы докладов. М., 1979.
Черненко, 1980 — Черненко Е. В. Древнейшие скифские парадные мечи (Мель-
гунов и Келермесс) // Скифия и Кавказ К., 1980.
Черненко, 1984 — Черненко Е. В. Скифо-персидская война К., 1984.
Черников, 1965 — Черников С. С. Загадка золотого кургана. М., 1965.
Членова, 1962 — Членова Н. Л. Скифский олень // Памятники скифо-сармат-
ской археологии. М., 1962 (МИА, № 115).
Членова, 1967 — Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен
татарской культуры. М., 1967.
Членова, 1971 — Членова Н. Л. К вопросу о первичных материалах предме-
тов в зверином стиле // Проблемы скифской археологии. М, 1971 (МИА,
№ 177).
Членова, 1975—Членова Н. Л. О связях Северо-Западного Причерноморья и
Нижнего Дуная с Востоком в киммерийскую эпоху // Studia Thracica. I.
Фрако-скифские культурные связи. София, 1975.
Членова, 1983 — Членова Н. Л. Предыстория «торгового пути Геродота» (из
Северного Причерноморья на Южный Урал) // СА. 1983, Ns 1.
Членова, 1984а — Членова Н. Л, Пленные камни как исторический источник
(на примере оленных камней Северного Кавказа). Новосибирск, 1984.
Членова, 19846 — Членова Н. Л. Иранские прототипы «скифских оленей» //
КСИА. Вып. 178. М„ 1984.
Членова, 1988 — Членова Н. Л. О культурной принадлежности Старшего Ах-
мыловского могильника, новоморцовских стелах и «отделившихся ски
фах» // КСИА. Вып. 194. М., 1988.
Членова, 1990 — Членова Н. Л. Заключительное слово по дискуссии // СА.
1990, Ns 3
Шер, 1980а—Шер Я- А. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля //
Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980.
Шер. 19806 — Шер Я- А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.
Шишова, 1981-—Шишова И. А. О достоверности географических сведений
в скифском рассказе Геродота // Летописи и хроники. 1980. М., 1981.
Шкурко, 1969 — Шкурко А. И. Об изображении свернувшегося в кольцо хищ-
ника в искусстве лесостепной Скифии // СА. 1969, Ns 1.
Шкурко, 1975 — Шкурко А. И. Звериный стиль в искусстве лесостепной Ски-
фии (VII—III вв. до н. э.). Автореф. канд. дис М., 1975.
Шкурко. 1976 — Шкурко А. И. О локальных различиях в искусстве лесостеп-
ной Скифии // ССЗС. М., 1976.
Шрамко, 1976 — Шрамко Б. А. Новые находки на Бельском городище и не-
которые вопросы формирования и семантики образов звериного стиля //
ССЗС. М, 1976.
Шрамко, 1984 — Шрамко Б. А. Из истории скифского вооружения // Воору-
жение скифов и сарматов. К., 1984.
Яйленко, 1983 — Яйленко В. П. К вопросу об идентификации рек и народов
Геродотовой Скифии // СЭ. 1983, Ns 1.
Яковенко, 1976 — Яковенко Э. В. Древнейший памятник искусства скифов //
С А. 1976, № 2.
Яценко, 1959 — Яценко И. В. Скифия VII—V вв. до н. э. М.. 1959 (Труды
ГИМ. Вып. 36).
Яценко, Раевский, 1980 — Яценко И. В., Раевский Д. С. Некоторые аспекты
состояния скифской проблемы // НАА. 1980, Ns 5.
249
Amandry, 1958 — Amandry P Objects onentaux en Grece et en Itabe aux
VIII et VII siecles avant J. C //Syria. 1958. Vol. 35.
Amandry, 1965 — Amandry P. Lin motif «scythe» en Iran et en Grece // JNES.
1965. Vol. XXIV, Ns 3.
Amandry, 1966 — Amandry P. A propos du Tresor de Ziwiye // I A. 1966.
Vol. IV.
Amiet, 1974 — Amiet P. L n carquois du Louvre // Syria. 1974. Vol. LI.
Amiet, 1976 — Amiet P. Les antiqudes du Luristan. P., 1976.
ASA, 1970 — «Animal Style». Art. N. Y„ 1970.
BA, 1976 — Bronzes antiques des steppes et de 1’Iran. P., 1976.
Barnett, 1962 — Parnell R. D. Median Art //1A. 1962. Vol. II.
Bernard, 1976 — Bernard P. A propos des bouterolles de founaux achemeni-
des 11 Revue archeologique. 1976, Ns 2.
Bittel, 1976 — Bittel R Les Hittites. P., 1976.
Buchanan, 1984 — Buchanan B. Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in
the Ashmolean Museum. II. The Prehistoric Stamp Seals. Oxf., 1984
Calmeyer, 1969 — Calmeyer P. Datierbare Bronzen aus Luristan und Kerman-
shah. B., 1969.
Calmeyer, 1973 — Calmeyer P Reliefbronzen in babylonischem Stil. Munchen,
1973.
Calmeyer, 1976 — Calmeyer P. Some of the Oldest Luristan Bronzes // Procee-
dings of the IV-th Annual Symposium on Archaeological Research in Iran.
3—8 nov. 1975. Teheran, 1976.
Cleuziou, 1979 — Cleuziou S Les peintes des fleches «scythiques» au Proche
et Moyen Orient // Le plateau Iranien et 1’Asie Centrale des origines a la
conquete islamique. P., 1979.
Dyson, 1965 — Dyson R. Problems of Protohistoric Iran as seen from Hasan-
lu // JNES. 1965. Vol. 24, № 3
Dyson, 1971 — Dyson R. Iran: Eleven Thousand Years of Culture History // Ex-
pedition. 1971. Vol. 13, № 3—4.
Dussaud, 1938 — Dussaud R. The Bronzes of Luristan // Survey of Persian Art.
Vol. I. L„ 1938.
Exposition, 1977 — Exposition des dernieres decouvertes archeologiques 1976—
1977. Musee Iran Bastan 31 oct.— 30 nov. 1977 b-eme symposium annuel
de la recherche archeologique en Iran. Centre iramenne recherche archeolo-
gique
Galanina, 1987 — Galanina L Die Kelermes I urgane als Quelle fur die Erfor-
schung der Kontakte zwischen den Skythen und den altorientalischen Kul-
turen // Galanina L., Grac N., Kellner H.-J., Kossack G. Skythika. Miinchen,
1987
Ghirshman, 1939 — Ghirshman R. Fouilles de Sialk pres de Kashan, 1933, 1934,
1937 Vol. II P., 1939
Ghirshman, 1950 — Ghirshman R Le tresor de Sakkez, les origines de 1’art mede
et les bronzes du Luristan. Notes iranniens. lY'’ // AA. 1950. Vol. 13
Ghirshman, 1961 — Ghirshman R. Le tresor de Ziwiye // 7000 ans d’art en Iran.
P., 1961.
Ghirhman, 1962 — Ghirshman R. A prooos des bronzes du Luristan de la col-
lection M Foroughi // IA 1962. Vol II
Ghirshman, 1964 — Ghirshman R. Persia from the Origin to Alexander the Great.
L., 1964
Ghirshman, 1979— Ghirshman R. Tombe princiere de Ziwiye et le debut de I’An
scythe. P, 1979.
Ghirshman, 1983 — Le manuscript de R. Ghirshman. Les cimmenens et leurs
amazones. P., 1983.
Godard, 1950 —Godard A. Le tresor de Ziwiye (Kurdistan). Haarlem 1950.
Godard, 1958 - Godard A. Les bron/es du Luristan // Orientalia Romana. I.
Roma. 1958
Godard, 1965—Godar A. Umetnost Irana. Beograd, 1965 (воспроизведение из-
дания Godard A. L'art de 1’Iran. P., 1962)
Goff, 1969 — Goff С. M. Excavations at Baba Jan 1967. Second Preliminary Re-
port // Iran. 1969. Vol. VII.
250
Goff, 1978—Goff C. Excavations at Baba Jan: the Pottery and Metal from
Levels III and II // Iran. 1978. Vol. XVI.
Goldman, 1957 — Goldman B. Luristan Pitchers // AA. 1957. Vol. 20.
Grakov, 1928—Grakov B. N. Monuments de la culture scythique entre la Volga
et les monts Oural // ESA. 1928. Vol. 3.
Greenewalt e. a., 1990 — Greene wait С. H. Jr., Cahill Л. D., Dedeoglu H., Herr
mann P. The Sardis Campaign of 1986 // Bulletin of the American Schools
of Oriental Researches. Supplement 26. Berkeley, 1990.
Grousset, 1948 — Grousset R. L’exposition iranienne du Musee Gernuschi // Or.
ental Art. 1948. Vol. 1, Kg 3.
Hrouda, 1983 — Hrouda B. Der «Schatzfund» von Ziwiyah und der Ursprung
des sog. skythischen Tierstils in Vorderasien // IA. 1983. Vol. XVIII.
Kantor, 1946 — Kantor E Embossed Plaques with Animal Designes // JNES.
1946. Vol. 5.
Kantor, 1960 — Kantor E. A Fragment of a Gold Applique from Ziwiye and
Some Remarks of the Artistic Traditions of Armenia and Iran during the
Early First Millennium BC // JNES. 1960. Vol. 19. Pt. 1.
Kossack, 1987 — Kossack G. Von den Anfangen des skytho-iranischen Tierstil //
Galar.i.na L., Grac N., Kellner H. J., Kossack G. Skythika. Miinchen, 1987.
Lloyd, 1956 — Lloyd S. Early Anatolia. L„ 1956
Mancevics, 1961 — Mancevics A. P. A Kalitva folvo melletti Kurgan // Kiilonle-
nyomat az Archaeologiai Ertesito. 1961, evi I. Szamobol. Budapest, 1961.
Maxwell-Hyslop, 1956 — Maxwell Hyslop K- R. Urartian Bronzes in Etruscan
Tombs // Iraq. 1956. Vol. XVIII. P. 2.
Minns, 1913 — Minns E. H. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913
Mitten, 1966 — Mitten D. G. A New Look at Ancient Sardis // The Biblical
Archaeologist. 1966. Vol. XXIX, № 2.
Моогеу, 1971—Моогеу P. R. S. Catalogue of the Ancient Persian Bronzes in
the Ashmolean Museum. Oxf., 1971.
Моогеу, 1974a — Моогеу P. R S. Ancient Persian Bronzes in the Adam Collec-
tion. L„ 1974.
Моогеу, 1974b — Моогеу P. R. S. Ancient Persian Bronzes from the Island of
Samos // Iran. 1974. Vol. XII.
Моогеу, 1975 — Моогеу P. R. S. Some Elaborately Decorated Bronze Quiver
Plaques Made in Luristan, c 750—650 В. C. // Iran 1975. Vol. XIII.
Muscarella, 1977 — Muscarella O. W. «Ziwiye» and Ziwiye. The Forgery of a
Provenience // Journal of Field Archaeology. 1977. Vol. 4.
Nagel, 1963 — Nagel W. Altorientalischen Kunsthandwerk. B., 1963.
Nagel, Strommenger, 1985 — Nagel IF., Strommenger E. Kalakent Fruheisen-
zeitliche Grabfunde aus dem transkaukasischen Gebiet von Kirovabad/Jelisa-
vetpol. B., 1985.
Porada, 1964 — Porada E. Nomads and Luristan Bronzes // Dark Ages and
Nomads 1000 В. C. Istanbul, 1964.
Porada, 1965 — Porada E The Treasure of Ziwiye // The Art of Ancient Iran.
N. Y., 1965.
Potratz, 1968 — Potratz J. A. H. Luristanbronzen Die Einstmalige Sammlung
Professor Sarre, Berlin. Istanbul, 1968.
Salvatori, 1976 — Salvatori S. Notes on the Chronology of Some Urartian Arti-
facts // East and West. 1976. New Series. Vol. 26, № 1—2
ScA. 1987 — Scythian Art The Legacy of the Scythian World: Mid. 7th to
3rd Century В. C. Leningrad, 1987.
Unal, 1982 — Vnal V. Zwei Graber eurasischer Reiternomaden // Beitrage zur
allgemeinen und Vergleichenden Archaologie. Bd. 4. Miinchen, 1982
Vanden Berghe, 1967 — Vanden Berghe L. Luristan. La Necropole de War Ka-
bud /, Archeologia. 1967. № 18.
Vanden Berghe, 1968 — Vanden Berghe L. Les bronzes des pasteurs et des
cavaliers du Luristan // Archeologie vivante. Vol. I № 1. Teheran, 1968.
Vanden Berghe, 1971 — Vanden Berghe L. Luristan. La Necropole de Bard-i
Bal //Archeologia. 1971, № 43.
Vanden Berghe, 1972 — Vanden Berghe L La chronologie de la civilisation des
251
bronzes du Pusht-i Kuh, Luristan // Proceedings of the 1st Annual Sympo-
sium of Archaeological Research in Iran. Iran Bastan Museum. [Б. m.J, 1972.
Vanden Berghe, 1973 — Vanden Berghe L. Le Luristan a 1’age du fer. La Necro-
pole de Kutal-i Gulgul // Archeologia. 1973. № 65.
Vanden Berghe, 1980 — Vanden Berghe L. Des tombes de 1’age du fer au Luris-
tan. La Necropole de Djub-i Gauhar // Archeologia. 1980, № 138.
Vanden Berghe, 1983—Vanden Berghe L. Luristan. Sint-Pietersabdij—Gent
1983.
Vanden Berghe, De Meyer. 1983 — Vanden Berghe L„ De Meyer L. Urartu. Sint-
Pietersabdij — Gent, 1983.
Winter, 1980 — Winter J. A Decorated Breastplate from Hasanlu, Iran. Phila-
delphia, 1980.
Young, 1964 — Young R. S. The Nomadic Impact: Gordion // Dark Ages and No-
mads 1000 В. C. Istanbul, 1964.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АСГЭ
ВДИ
гим
ИРАИМК
КСИА
ксиимк
МАИКЦА
МАК
МАР
МИА
НАА
СА
САИ
СГЭ
ССЗС
сэ
ЧИННИ
АА
ESA
IA
JNES
SPA
— Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
— Вестник древней истории. М.
— Государственный исторический музей
— Известия Российской Академии истории материальной куль-
туры
— Краткие сообщения Института археологии АН СССР
— Краткие сообщения Института истории материальной культуры
АН СССР
— Международная Ассоциация по изучению культур Централь-
ной Азии
— Материалы по археологии Кавказа
— Материалы по археологии России
— Материалы и исследования по археологии СССР
— Народы Азии и Африки. М.
— Советская археология. М.— Л., М.
— Свод археологических источников
— Сообщения Государственного Эрмитажа. Л.
— Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве пародов Евра-
зии. М., 1976
— Советская этнография. М.— Л., М.
— Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт
— Artibus Asiae. Ascona
— Eurasia Septentrionalis Antiqua Helsinki
— Iranica Antiqua. Leiden
— Journal of Near Eastern Studies Chicago
— Survey of Persian Art. L.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Алексеев В. П. 45, 46
Алкей 15, 16, 219
Аристей 16—20, 23, 31, 35, 168, 199,
230
Артамонов М. И 31—36, 43, 44, 51,
76, 78, 81, 91, 105, 132, 152, 166,
193, 217
Ашшурицуа 190
Белозор В. П. 175
Берзин Э. О. 189, 190
Бонгард-Левин Г. М. 19, 199
Бромлей Ю. В. 26, 27
Занден Берге Л. 157, 158, 235
Баренов А. 3. 121
Василева М. 9
Виноградов В Б 102, 171, 172, 180,
235
Винтер И. 237
Вязьмитина М. И. 151—154
Гаврилюк Н. А. 61, 230
Галанина Л К. 135, 232
Геродот 6 -8, 10- -21, 23. 30 35 37-
39, 41, 42, 44 -55, 57 -60, 62, 68.
71, 72, 75, 165—168, 170, 171, 179—
181, 185, 187, 195—203, 214—217,
221—224, 226- 230. 235—238, 240
Гесиод 15
Годар А. 78, 79, 81, 86
Гомер 9, 14, 15
Гофф К. 235
Граков Б. Н. 10, 43, 44, 53, 54, 56,
59. 61, 78, 114, 169, 198, 202, 222,
230, 235- 237
Грантовский Э. А. 19, 179, 199
Грязнов М. П. 36, 37, 41, 75, 230
Дарий I 229, 240
Диодор 13, 21—23, 35. 38, 165—168,
170, 179, 222, 230, 235
Доватур А. И. 18
Дубовская О. Р. 72, 176
Дьяконов И. М 12, 13, 15, 24, 47-
49, 165, 172, 180, 228, 237
Ильницкий Л. А. 40, 185, 198, 199
Жарникова С. В 238
Збруева А. В. 207, 209. 211. 239
Иванчик А. И. 16, 18—20, 23, 189.
190
Иессен А. А. 10, 33, 36, 43, 44, 67—
69, 72, 170, 172, 174
Ильинская В. А. 35, 37, 55. 65. 91,
92, 98, 102, 104, 182, 232
Исмагилов Р. Б. 146, 147
Итина М. А. 75
Ишпакай 164, 165, 180, 187, 191
Каллимах 15
Каменецкий И. С. 29
Качалова Н. К 236
Киаксар 165, 179, 180, 217
Клейн Л. С. 28
Клочко В. И. 63, 64, 68, 70—72, 231
Ковалевская В. Б. 188
Коссак Г. Мб, 231
Кузьмина И. Е. 92
Куклина И В. 8, 10—23, 26, 40, 43,
44, 219, 228, 229, 235
Курочкин Г. Н. 155, 233, 234, 237
Кызласов Л. Р. 41
Латышев В. В. 228
Лесков А. М 66. 72, 169, 175
Лотман Ю. М. 45
Л'конин В. Г. 76. 78, 81. 83. гг *6,
90—92, 109, 190, 191, 234
Мадий 80, 171. 172. 179, 185, 187, 188
Максимова М. И. 84
Маскарелла О. 80
Мачинский Д. А. 199. 238, 240
Меликишвили Г. А. 190
Мелюкова А. И. 55, 56, 61, 66
Мерперт Н. Я. 228
Мурзин В. Ю. 35, 60, 61, 63—72, 183,
230, 231
Мури П. 93, 234
Ольховский В. С. 60
Партатуа (Прототий) 187, 237
Патрушев В. С. 207, 209, 239
Переводчикова Е В. 109, 142, 232
Петренко В. Г. 177
Пиотровский Б. Б 81. 85, 86, 100
Пицхелаури К. Н 240
Плин 180, 237
Плиний Старший 167, 222, 235
Плутарх 21, 23
Полин С. В. 68
Помпей Трог 179. 180, 217, 236, 237
Порада Э. 159
Потрац Г. 233
Прототий см. Парга, у
254
Птолемей 238
Пушкин А. С 3
Ростовцев М. И. 34
Руденко С. И. 199, 238
Рыбаков Б. А. 54, 199—201
Савинов Д. Г. 67
Сколопит 180, 237
Скорый С. А. 218
Смирнов К. Ф- 62, 102, 167, 169, 235
Сорокин С. С. 104
Страбон 9, 10, 20, 21, 23, 31—33, 38,
39. 179, 185, 229, 230, 236
Тереножкин А. И 31, 35 37, 41- 14
51. 52 54, 58, 61, 65, 66, 68, 72, 73,
75. 102, 166, 175, 177, 183, 232
Техов Б. В. 239
Толстов С. П. 12, 75
Тохтасьев С. Р. 229
Трог см. Помпей Трог
Трубачев О. Н. 50, 51
У дыма Т. П. 5
Урушадзе Н. 239
Халиков A. X. 205, 206, 240
Черненко Е. В. 66, 231
Членова Н. Л. 105, 133, 174, 175, 199,
234, 238, 239
Шер Я. А. 234, 235
Шилак К- К- 219
Шишова И. А.. 54, 202
Шкурко А. И. 56, 96, 131
Шрамко Б. А. 66
Эриксон Э. 87
Эфор 9
Юсп1н 179, 237
Яблеико В. П. 201
Яковенко Э. В. 234
Яценко И. В. 169, 230
УКАЗАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
Ак-Бурун, курганный могильник 116
Ани-Пемза, погребение 239
Аржан, курган 41, 42, 69, 75, 117, 120,
240
Ахмыловский Старший могильник
197, 204, 206, 208—210, 212, 213,
215, 238, 239
Бабаджан-тепе, поселение и погребе-
ние 92, 93, 158, 235
Басовка, курганный могильник 112
Бештау, клад 184
Блпзнипа Большая, курган 86
Витова Могила, курган 99, 100, 103
Волковцы, курганный могильник 126,
130
Га лиат, могильник 116, 128
Гордиона некрополь 184
Грушевка, курган 125, 233
Гудермес, курган 105, 116, 231, 232
Гумарово, курганный могильник 146,
“147, 199, 240
Дарьевка, курган 76, 97, 98, 103, 109,
115, 119, 197, 218
Дванскнй могильник 127, 186, 213
Дманиси 239
Ду м Сурх, святилище 157
Жаботинскпй курганный могпльн н:
125, 127, 137, 146, 151- 154, 234
Журовка, курганный могильник 96,
97, 99, 103, 126, 149, 150, 232, 233
Заким, клад (?) 239
Зивие («Саккызский клад»), коллек-
ция passim (гл. II), 190, 191, 193,
194, 197, 218, 231—235
Золотой курган 126
Ильинцы, курган 55
Имирлер, погребение 78, 194, 197
Иссык, курган 149
Калакент, могильник 182
Калптва см. Криворожский ку рган
Камепномостский могильник 177
Камышеваха, курган 69
Кара-Хюйюк, поселение 132
Кармир-блур (Тейшебаини), город
111. 115, 125—127, 136, 189, 197,
233
Кархемыш 123
Квитки, курган 184
Келермес, курганный могильник 76,
83—86, 97—100, 105, 107, ПО, 112,
113, 115, 125 127, 129, 135—137,
140—145, 149, 160, 161, 1.\ 191,
193, 194, 197, 206, 232, 239
Клин-Яр, могильник 184
Кобанский могильник 127
Константиновка, курганш могиль-
ник 112, 113
Константиновский курган 141, 235
Костромской курган *42, 144, 145
Краснознаменский курган 177, 185,
197, 217
Криворожский курган (курган па
р. Калитве) 197, 218, 235
Кулаковского курган 116
К'ланурхва, могильник 186
Лермонтовский ратьещ, бенпе
1/7
Литой курган см Мельгуис кур-
ган
Луристанские бронзы pas-im (гл. II),
'192, 193, 232, 234, 235
Любимовка, курганный моп 55
Майкоп, случайная находка 107
Майэмнрские курганы 105, 117, 118
Макеевка, курганный могильни 109,
232
Малая Цимбалка см. Цимбалка Ма-
лая
Малгобек, слу чайная находка 97,
101 — 103
Малый курган 182
Маралын-Дереси, могильник 209
Марлик, могильник 154
Мастюгино, курганный могильник 55
Махошевская, случайная находка 145
Мельгуновский (Литой) курган 76,
85, 110, 125, 143, 145, 197,’ 217, 235,
239
Мингечаур, могильник 182
Минусинские бронзы 232
Нареквави, могильник 209
Нартан, курганный могильник 106
108, 115, 125, 127, 129, 130, 136,
137, 143, 185, 197
Нижние Серогозы см Серого Ниж-
ние
Нимфея некрополь 126, 149
256
Новочеркасский клад 72
Норшунтепе, поселение и погребение
78. 131, 194, 197
Носачевскнй курган 184
Ольвни некрополь 112, 116, 127, 232
Опишлянка, курган 99, 103
Ордосские бронзы 232
Пасанаури, клад 208, 209, 211
Перееполь 109
Подгорная станица, погребение 129
Пустоморквашинскпй могильник 197,
208—211
Райгород, курганный могильник 130
Рук, случайная находка 106, 107, 115
Рыжановский курган 55
Сагареджо, могильник 209
Саккызский клад см Зивие
Самтавро, могильник 186, 208, 209,
211, 212, 239
Сарды 194, 197
Семеновка. курган 125
Семибратние курганы 105, 106, 130,
149, 233
Серогозы Нижние курганный могиль-
ник 125
Сиалк В, могильник 182
Сибирская коллекция Петра I 117
Синявка. курганный могильник 145
Скоробор, курганный могильник 97,
103
Старшая Могила, курган 109, ПО,
130
Старший Ахмыловский могильник см
Ахмыловский Старший могильник
Султангорский могильник 184
Тагискен, могильник 75, 103
Тейшебаини см. Кармир-блур
Темир-гора, курган 101, 105, 113, 115,
125, 126, 234
Тенетника, курганный могильник 234
Тлийский могильник 106—108, 115,
127, 186, 197, 209—212, 239
Толстая Могила, курган 55. 86
Уллубаганалы, поселение и могильник
126
Ульские курганы 99, 125, 127, 141,
143, 153, 154
Уигарак, могильник 75, 103, 115,
1.8-120, 147
Хабаз, курган 97, 102, 103
Хасанлу, поселение 88, 92, 93, 131,
237
Хирса могильник 240
Цямбалка Малая, курган 69
Чабарухи, клад 209
Чавуш-тепе, поселение 131, 197
Частые курганы, могильник 200
Чертомлык, курган 55
Чиликтинскнй курганный могильник
118, 146, 147, 240
Чогозамбиль, поселение и погребение
93
Шумейко курган 97, 101, 102
Эребуни некрополь 212
Эфес 140
17 Зак. 358
SUMMARY
In their study, The Early Scythians and the Ancient East. Probing the
Origins of Scythian Culture, M. Pogrebova and D. Rayevsky contend that re-
markable as is the part of the Scythians in ancient world history and their
abiding appeal to modern scholarship, we still have a glaringly scant idea of
them, and singularly controversial at that. This undeniably goes for their des-
cent and emergent culture, queries bound up with the history of the ancient East.
Answers are being sought on the borderline of written and archaeological evi-
dence. The former derives from other cultures’ traditions, is noticeably patchy,
and its volume has stayed much the same for a long time. The latter is accumu-
lating at an ever increasing pace. It is hardly valid to assume, nonetheless, that
recreating a credible history of the early Scythians, free of lacunas and formi-
dable contradictions, depends exclusively on the amount of data and that more
of it could do the trick. Equally noteworthy are interpetations put on the л aried
sources and the ways the researchers are seeking to harmonize them.
The review at hand hardly employs any novel scythological material. Its ob-
jective is to attempt an explanation, with the plentiful studies in the field by
diverse authors, of why the same data was being advanced to validate on occa-
sion mutually exclusive ideas; another goal is, by uncovering the blinder spots
of these concepts, to come up with a balanced picture of early Scythian his'ory,
possibly fitting in with all the relevant materials.
All past ethnohistorical reconstructions of Scythian antecedents and emer-
gence on the historical scene have a core of antique tradition narratives, among
them by Aristeas, Herodotus, Diodorus, and others. Normally scholars look to
divulge an archaeological equivalent to Herodotus’ story—as well as data by
authors supplementing him—on the Scythians arriving in the Black Sea region
«from Asia» and forcing out the resident Cimmerians. Archaeological evidence,
though, is that there was scarcely anything like an overnight changeover of eth-
nic cultures there at the time of Herodotus’ reporting of the events, and 'ess
still localizes anywhere in Asia tre sprouts of a culture the Scythians boasted
in later times. Moreover cuneiform oriental sources are making notable adjust-
ments to the way antique authors pictured the relations of Scythians and Cim-
merians and to the dating of the events. This compels the investigators either to
question the authenticity of this picture or to stretch it to accommodate solme-
what conflicting archaeological data.
None of these options, it seems, would do, as A. lessen and B. Grakov have
already made it clear that the very antique tradition of the early Scythians,
being what it is, admits of fairly varying interpretation, and this allows the choi-
ce of a variant most in tune with independently appraised archaeological data.
What makes such conflicting interpretation of the tradition possible, is due, among
other things, to changes to the very notion of «Scythians» over several centuries
of their history, which at different stages served to identify ethnic entities of
258
differing magnitude and standing. The study delves into this modified definition
of the ethnonym and is keen to find out which archaeological reality coheres
with its agents at each of such stages. The authors single out three phases in
the evolution of the term «Scythians». The first is the arrival in southern Eas-
tern Europe of, admittedly, a rather compact ethnic group going by this name;
they were «the most ancient Scythians», or «Protoscythians». The second period
spans the time of Scythian inroads into the Near East and subsequent settlement
by returning troops of vast tracts in Eastern Europe; those were «the early
Scythians». The last stage is coextensive with the sense of this ethnonym in
Herodotus’ account; at the time the name «Scythians» blanketed already a vast
people of the Black Sea steppe region, which we define as «Herodotus’ Scyt-
hians» Projecting this designation onto earlier times would be tampering with
historical fact.
If we consider the antique tradition under review in terms of this evolution
in the Scythian ethnonym definition, it would appear that the story of the
Scythian migration from Asia and their ousting the Cimmerians does not have
at al- to nt in with an archaeological view suggestive of a wholesale change-
over i population in the north Black Sea areas at the juncture of the «pre-
Scythian» and «Scythian» epochs and sweeping changes in the culture of local
inhabitants. As it happens, it was an unavailing quest for such an interpreta-
tion of archaeological material that has frustrated any linkage of relevant writ-
ten and archaeological data on the problem. The hard archaeological facts are
these for one thing Scythian material culture is something substantially new to
Eastern Europe; for another, no region in Asia offers any clues of its previous
development, while its disparate elements show continuity with the culture of
southern part of Eastern Europe of an earlier time. The authors take the culture
of the historical Scythians to be a fusion of elements born of changes, both gra-
dual and erratic, to the local cultural legacy, and borrowed elements, chiefly an-
cient oriental, that the Scythians adopted during their campaigns in Near East.
The study concentrates on the rise of the Scythian animal style in art, tracing
it to the zoomorphic motifs present in the art of the Near East, principally in
Luristan, and embraced and rehashed by a Scythian culture that was previously
aniconic. This basically innovative development stemmed from momentous shifts
in Scythian social organization, specifically wrought by contact with advanced
ancient eastern societies, this compelled the Scythians to contrive a novel sign
system to project their ideas of the universe We have striking evidence of ani-
mal style evolution in what is known as the Sakkyz treasure from the Lake Ur-
mia region and the Kelermes barrows from the Kuban River basin.
The study follows with an overview of the ethnocultural history of the ear-
ly Scythians. Whatever we know of the earliest Scythian developments occurred
not in Herodotus’ Scythia in the northern Black Sea region, east of Tanais. the
study argues, but within a triangle bounded by the lower reaches of the Volga
and the Don and the Caucasian Ridge. That was exactly the site of migration,
not later than the early first millennium В. C„ by separate tribes from tin ce»t.
the bearers of the Timber-grave culture and Andronovo culture. One i them
apparently went under the ethnic name of «Scythians» though obvious't I» • ing
the culture we tend to identify with this ethnonym in terms of ч e
In this region, probably as this tribe came to dominate other ethig
cognate tribes, the name Scythians was coming to encompass a fairh
17*
ЗЛ
ance of tribes which spearheaded raids into Near East. During that time their
metropolis kept within the aforementioned triangle north of the Caucasus, but
both the resident Scythians and their kinsfolk migrating across the Caucasus
were an ethnocultural entity which generated a culture we know as Scythian.
No later than the turn of the 7th century В. C. this cultural complex was already
infiltrating vast spaces in Eastern Europe peopled by varied ethnic groups. La-
ter, during the 6th century В. C., certain areas there were shaping up as distinct
ethnopolitical and ethnocultural entities; that was precisely what Herodotus ob-
served in Eastern Europe in the 5th century В. C. and minutely described in
his work. Over time there evolved cultures of peoples related to the Scythians
in some aspects and unlike them in others, among them the Neuri, Budini, Sau-
romatae, and others. Herodotus’ Scythia came to be one of these cultural areas,
namely that delimited by the steppelands north of the Black Sea between the
Don and the Danube, whose inhabitants inherited the ethnic name of «Scyth-
ians» Its subsequent history is a subject apart.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение .............................................. 3
Глава I
Киммерийцы и скифы: что, где, когда? . 6
Глава II
«Комплекс Зивие» и формирование скифского зверино-
го стиля.............................................. 74
Глава III
К раннескифской этнокультурной истории . 164
Заключение . . . . . 225
Примечания . . ................ 228
Библиография . .................... 241
Список сокращений ....................... . . 253
Указатель имен....................................... 254
Указатель археологических памятников . . . 256
Summary ............................................. 258
Научное издание
Погребова Мария Николаевна,
Раевский Дмитрий Сергеевич
РАННИЕ СКИФЫ И ДРЕВНИЙ ВОСТОК
К истории становления скифской культуры
Утверждено к печати
Институт ом востоковедения РАН
Редактор Я. Б. Гейшерик
Младший редактор Л. А. Минина
Художники Т. П. У дыма,
Л. Л. Михалевский
Художественный редактор Б. Л. Резников
Технические редакторы Т. В. Полякова,
Т. С. Жарикова
Корректоры Н. В. Морозова, Л. М. Колъцина
ИБ № 16762
Сдано в набор 30.07.91. Подписано к печати
23.03.92. Формат 60X90716. Бумага типограф-
ская № 2. Гарнитура литературная. Печать высо-
кая. Усл. п. л. 16,5. Усл. кр.-отт. 16,75 Уч.-изд.
л. 19,18. Тираж 2500 экз. Изд № 7173. Заказ №358
«С»~1
Издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар» 21
3-я типография издательства «Наука»
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
*nri<* киш торговых предприятий
«АКАДЕМКНИГА»
(п > „ тянию ла 01.01.92 г.)
Мл азины «Книга — почтой»
252'208 Киев, Проспект Правды, 80а
1 1731,3 М< > и . ул. Академика Пилюгина. 11 к и )
1Я7345 ( > । Петербург, ул. Петрозаводская,
70001 ) Iшикни, у Дружбы народов, 6
Магазины «Академкнига»
с укланием отделов «Книга — почтой»
4800'4 А 1ма Лга, ул. Фурманова, 91/97 («Кп •
почтой»)
370005 Баку, ул. Коммунистическая, 51 («Ь
почтой»)
720000 Бишкек, бульвар Т,тержинского, 42 («К
почгон»)
232600 Вильнюс, ул. Унивеоситето, 4 («Киш
почтой»)
690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 («Кив
га— почтой»)
320093 Днепропетровск, проспект Гагарина.
(«Книга—почтой )
734001 Душанбе, проспект Ленина. 95 («Кип <
почтой»)
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137
(«Книга—почтой»)
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Киша
почтой»)
420043 Казань, ул. Достоевского, 53 («Киш
почтой»)
252030 Киев, ул. Лепина, 42
252142 Киев, проспект Вернадского, 79
252025 Киев, ул. Стретенская, 17
277012 Кишинев, проспект Штефана Великого, 111
(«Книга — почтой»)
343900 Краматорск, Донецкой обл., ул. Марат,
(«Книга — почтой»)
660049 Красноярск, проспект Мира, 84
220012 Минск, Ленинский проспект, 72 («Кын
почтой»)
103009 М.осква, ул. Тверская, 19а
117312 Москва, ул. Вавилова, 55,7
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 («Книга —
почтой»)
142284 Протвино, Московской обл., ул. Победы, 8
142292 Пущино, Московской обл.. МР «В», 1
(«Книга — почтой»)
443002 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга — поч-
той»)
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57
199164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4
700047 Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1
700029 Ташкент, ул. Газеты «Правда», 73
700100 Ташкент, ул. Ш. Руставели, 43
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»)
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга —
почтой»)
РАННИЕ СКИФЫ
“ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Как случилось, что одни и те же данные
позволяют разным исследователям
выдвигать принципиально различные и
даже прямо противоположные концепции
ранней этнической и культурной истории
скифов? Поиски решения большинства
связанных с этой проблемой вопросов
ведутся на стыке толкования письменных
и археологических источников.
Круг первых достаточно узок, а объем
уже давно практически неизменен; число
вторых неу клонно — и че дальше, тем
быстрее — умножается. Но правомерно
ли полагать, что возможность создания
полной картины раннескифской истории
зависит лишь от объема имеющихся
данных и возрастает по мере роста их
фонда? Не мене^ важно,
какие методы интерпретации источников
каждого вида и какие способы
согласования их между собой
применяют исследователи...