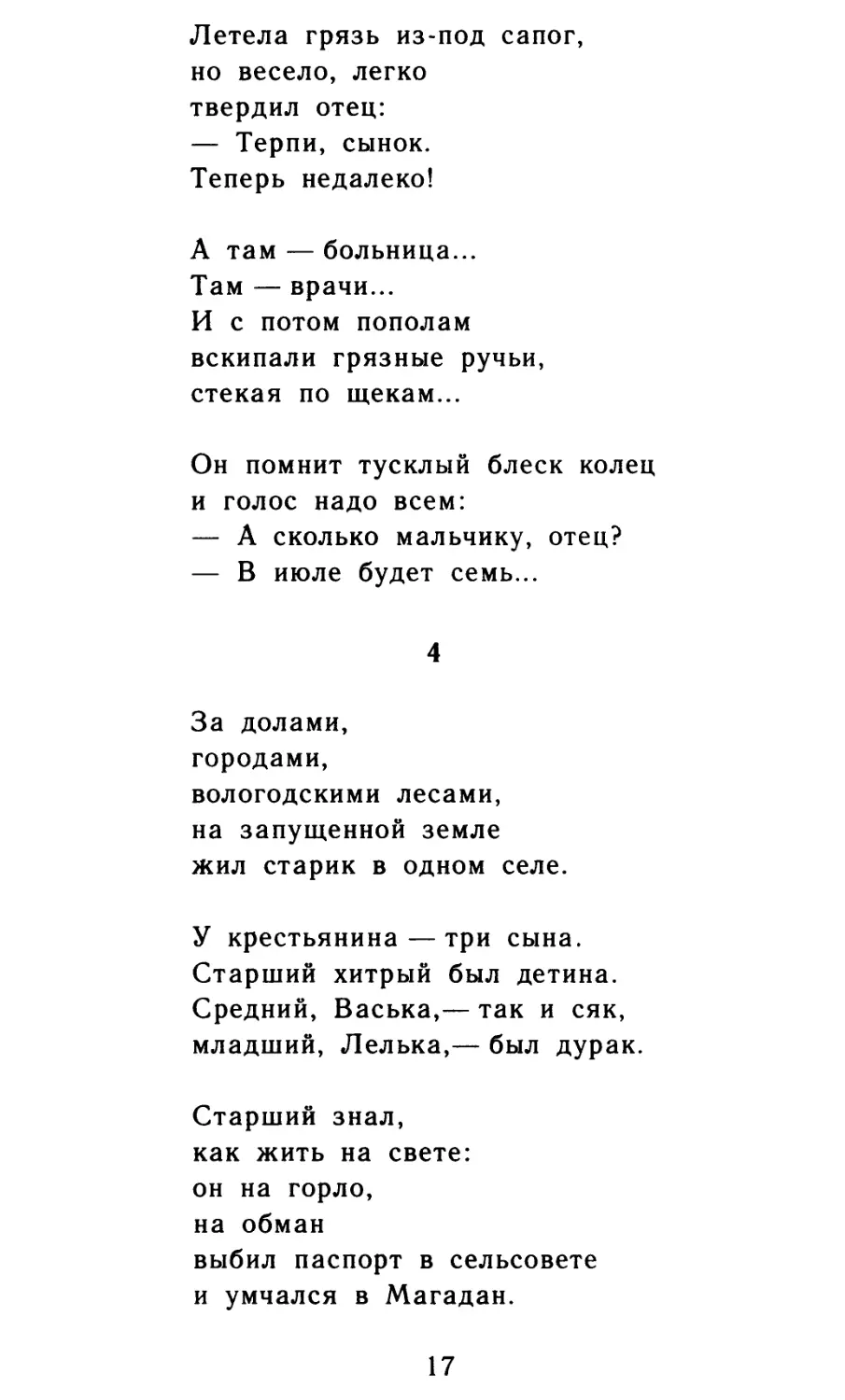Текст
ВАДИМ КУЗНЕЦОВ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАДИМ КУЗНЕЦОВ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАДИМ КУЗНЕЦОВ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Поэма
Р2 К89
Кузнецов В. П.
К89 Возвращение: поэма.— М.: Современник, 1980.— 47 с. с ил.
Поэма «Возвращение», впервые опубликованная в журнале «Огонек», вызвала широкий отклик у читателей, критиков, видных советских поэтов.
И это не случайно. Она поднимает острые вопросы, которыми живет современная деревня средней полосы России Любовь к родной земле, возвращение человека к ее лесам и нивам — основной лейтмотив произведения.
70402—192
К----------- БЗ—33—39—80 4702010200 ББК84.Р7
М106(03)—80 Р2
Я возвращуся к вам, поля моих отцов...
Е. Боратынский ВСТУПЛЕНИЕ
Будет время — и жизнь обласкает меня, повернув неожиданно круто: грянет поезд на склоне июльского дня в гулкий рельс зоревого маршрута.
Синевой полоснет по глазам перегон, развернет на пригорке березки. В Ярославле заокает общий вагон, поделясь сигаретой по-свойски.
Трепыхнется под ребрами сердце сильней, и тогда я поверю в победу: к Вологодчине — мамке приемной моей — я опять на свидание еду.
Будто брату, помашет мне веткой сосна с высоты у горбатого моста. Пронесет на спине за окошком Шексна теплоход величаво и просто.
Перелесок, проселок, высокие льны, мотороллера красная птица...
Есть еще уголок у великой страны, что готов за меня заступиться! Где почувствовать верному сердцу дано с холодящей сознанье боязнью, как прошедшее с будущим сопряжено молодой и мучительной связью.
Где ни злоба, ни ложь, ни тоски западня, ни злодей, ни подлец, ни иуда никогда-никогда не достанут меня — значит, дело не так уж и худо!
Значит, можно дышать горячей и вольней, не пугаясь погони по следу... К Вологодчине — мамке приемной моей — я опять на свидание еду...
1
Долбили яму в три кайла сыны и зять поочередно, и глина мерзлая секла картечью валенки и бедра.
Дышали хрипло, вперебой, рубахи исходили паром. И пахло пбтом и судьбой, землей, трехдневным перегаром.
А рядом — одинок, как перст,— склонившись к сломанной оградке, распявши ватник, старый крест торчал, как пугало на грядке.
Трещал костер, звенел металл, росла горушка рыжей глины...
Покойник сам себе сыскал сухой бугор для домовины.
Сюда, под сень густых берез, полуживой (хватило духу!), он кое-как весной приполз и притащил с собой старуху.
Холодный пот со лба отер, цигаркой затянулся сладко. — Вот здесь,— ткнул пальцем на бугор.— Вот здесь! Запомни место, матка!..
Нам всем истлеть в свой час дано. Но все же циникам не верьте, что человеку все одно, где закопают после смерти, в какой земле прервется путь, сведя потери и удачи, чья задохнется горем грудь, помянет кто и кто оплачет.
Сто раз у жизни на краю, Старик усвоил каждым нервом суть этой истины в бою под Ленинградом, в сорок первом...
Когда в простреленных лесах копали, выбившись из силы, в болотных кочках впопыхах сырые братские могилы.
Он эту истину постиг, когда во рву у полустанка увидел над собой на миг утробу вражеского танка.
Когда, не залечив изъян, всласть похлебав в тылу баланду, досрочно списан из-за ран был в похоронную команду...
Два года холод мертвых тел без слов, без залпов, без оркестра...
Старик, конечно же, умел для домовины выбрать место.
— Вот здесь! — ткнул пальцем он в бугор.— Вот здесь...
Запомни место, матка!
Как самовар, светился бор — знакомо, празднично и сладко.
Гудели, вечностью дыша, деревья в слаженном покое. Внизу, за кромкой камыша, струилось озеро лесное.
И плеск воды, и сосен шум, и облаков немых скольженья — все было создано для дум, для отрешенья, возвышенья.
О благородстве, о любви, о жизни — сладостной и горькой — взахлеб звенели соловьи в густых черемухах под горкой...
Но это было. А пока за городским, нездешним гробом по следу скорбного возка шли три старухи по сугробам.
Как три царицы, три рабы, глаза прищурив виновато, шли три законченных судьбы — отца, крестьянина, солдата.
За шагом шаг, за шагом шаг плелись они к отвалу глины,
и с веток сыпался куржак на их изломанные спины...
2
О эти русские поминки, где скорбь и удаль — пополам, где боль и блажь, где тишь и гам сошлись в неравном поединке.
Где сквозь запруду всепрощенья, вздыханий, благости, тоски прорвутся жизни ручейки и заструят свои теченья.
Где после всхлипа:
— Пей, покуда на белый свет глядим в упор! — Идет предметней разговор, и громче звякает посуда.
Где песня, взмыв из-под запрета, находит оправданий пыл: — Покойник, сам он... петь любил и не осудит нас за это...
Вот так — легко и виновато (ну, может, сумрачно слегка) — текли поминки Старика — отца, крестьянина, солдата.
Но вдруг вскочил, качнувшись, Лелька: — Я тоже... этого... грущу, но я папане не прощу моей обиды... ни вот столько!
Царапнув горло на пределе, камнями грохнулись слова. Крестясь, заплакала вдова, угрюмо братья засопели.
Язык свечи в углу метнулся, и в оседавший жутью миг, все услыхали, как Старик, кряхтя, в гробу перевернулся.
И Лелька, взвыв, как от удара, метнулся в кухню, будто зверь. Дуплетом выстрелила дверь, пустив по полу клубы пара.
Никто не видел, что на волю за Лелькой кинуло с крыльца одну из трех судеб отца — его родительскую долю...
3
Настоем мыла и смолы дохнул в лицо полок. Скрипели влажные полы: «Ты звал меня, сынок?>
Звезда, как в проруби, в окне маячила, маня.
Шуршала вечность в тишине: «Ты звал, сынок, меня?»
Стуча в виски, сбивая с ног, катил за валом вал: «Скажи, ты звал меня, сынок? Ты звал?
Ты звал?
Ты звал?!»
И, задыхаясь в немоте, измученный вконец, ответил Лелька темноте: — Я звал тебя, отец!
И не в бреду, и не во сне — увидел наяву: скользнула белка по сосне и юркнула в траву.
Проплыл, как парус, над бревном упругий рыжий хвост. Но снова солнце в окоем сорвалось гроздью звезд.
Качало Лельку забытье, свиваясь в красный круг. Но пахло ласково тряпье в кольце отцовских рук.
Скрипела, взвизгивала грудь — как будто рвали холст.
А впереди маячил путь еще на двадцать верст.
Летела грязь из-под сапог, но весело, легко твердил отец: — Терпи, сынок. Теперь недалеко!
А там — больница...
Там — врачи...
И с потом пополам вскипали грязные ручьи, стекая по щекам...
Он помнит тусклый блеск колец и голос надо всем:
— А сколько мальчику, отец? — В июле будет семь...
4
За долами, городами, вологодскими лесами, на запущенной земле жил старик в одном селе.
У крестьянина — три сына. Старший хитрый был детина. Средний, Васька,— так и сяк, младший, Лелька,— был дурак.
Старший знал, как жить на свете: он на горло, на обман выбил паспорт в сельсовете и умчался в Магадан.
От нужды и от навоза, обедневшего колхоза, к рыболовным кораблям, к длинным северным рублям.
Укатил тайком, без спроса, дождь замыл широкий след. И с тех пор не кажет носа он в село пятнадцать лет.
Но тоской не мучит душу, шлет с поклоном дважды в год рыбу красную — горбушу, поразившую народ.
Да еще прислал картинку, где, разряженный пестро, он сидит с женой в обнимку, ухмыляется хитро...
У крестьянина три сына. Старший умный был детина, разобрался — что и как, средний — форменный байбак.
Средний сын — косая сажень от плеча и до плеча — после курсов был посажен за баранку «Москвича».
От бригады до бригады председательский разгон.
И повсюду Ваське рады, хлеб да соль, да самогон.
Васька — сокол, а не чайник.
Пей-гуляй! Не на свои...
С ним за ручку сам начальник из районного ГАИ.
Не боится Васька юза — заряжает он стволы и главе потребсоюза, и главе из «Севсмолы».
Видно, парень шит не лыком, если выучился так открывать сардины, с шиком откупоривать коньяк.
«Эх, папаня! Это Лелька пусть, дурак, ломает горб!..»
Вскоре Васька принял столько, что вкатился прямо в столб.
«Караул!
Спасите сына, а не то — позор, тюрьма...»
Одуревшая скотина продавалась задарма.
Ну а Васька в руки ноги — и скорее с глаз долой.
Покатился по дороге, по наклонной, по кривой.
По неровной, неслучайной, что, крутнувшись на углу, привела к порогу чайной, колченогому столу.
Где сквозь всхлипы, мат и стоны он бормочет до утра: — Я — механик!... Из колонны... Не чета вам, шухера!..
У крестьянина—три сына. Старший — хитрый был детина, средний — пьяница, босяк, младший — конченый дурак.
В обезлюдевшем колхозе (трудодень — с натяжкой руп) ковыряется в навозе, надрывает тощий пуп.
На кобылке — хвост да парши — возит сено и дрова...
А по радио — все марши, все высокие слова!
Зазывают стих и проза в Казахстан и на Восток. Добровольцы из колхоза удирают под шумок.
Удирают однолетки: будто бабочки, вразброс мчат на вспышки пятилетки, что объехала колхоз.
Чья-то мать зайдется в плаче, но жар-птица за селом в обещании удачи машет огненным крылом!
Но сосед, мрачней ненастья, перебрав всю жизнь «наскрозь», рявкнет:
— Пусть... поищут счастья, раз уж нам не довелось!..
Ноет сердце от тревоги: «Ну а ты-то что? Дурак?»
Лелька — к батьке.
Бухнул в ноги: отпусти, мол, так и так.
Не губи безвинно душу, от тоски-змеи спаси... — Все сказал?
Теперь послушай: не пущу!
И не проси!
Не пущу по доброй воле, не пущу и все, сынок.
Ты — последний в нашем поле корешок и колосок.
Ты остынь, сынок, немного и тогда рассудишь так, что не всякая дорога завертает на большак.
Вона — Васька. Был в машине, кум начальству, черту брат. Ну а где теперь?
В трясине и не выбраться назад...
Не боюсь сиротской доли — перебьюсь...
Отплачет мать.
Только кто ж родное поле будет завтра подымать?
Кто пойдет по тропкам узким в синь-луга, что всех светлей? Ты — русак, а — знамо — русским завсегда потяжелей.
Потому как, верно, сроду, сорок сроков оттрубя, мы не прожили и году для одних лишь для себя.
Ты не слушай энти марши и зазря не колобродь.
Васька — конченый. А старший...
Он — отрезанный ломоть.
Мне не долго до могилы. Жить — тебе, судьбу верша. Я отдал земле все силы, от тебя нужна — душа.
Что тебе родную хату застит далью белый свет? Хочешь, осенью, в зарплату, купим энтот... моциклет?
Но в ответ — молчит он, только синева легла у глаз. Ты еще об этом, Лелька, пожалеешь. И не раз...
Знай, законы жизни строги: три надежды, три тревоги, ложь, разлука, непокой.
Три начала, три дороги... Так решай же —
по какой?..
5
...Настоем мыла и смолы дышал в лицо полок.
Скрипели мерзлые углы: <Ты звал меня, сынок?>
И память, словно умный пес, взяв с ходу верный след,
вела его на дальний плес, в двенадцать давних лет.
Туда, в разливы ивняка, где в зарослях глухих запряталась наверняка Заря — корова их.
Такой у ней разбойный нрав: не дома, как велят, а там, в лесу, в раздолье трав рожать своих телят.
И вот четвертый час подряд, и все пока что зря, вопил он яростно в закат: — Заря!
— За-ря! — За-ря-я!
Мигнули звезды в вышине, сгустился мрак в кустах. И под рубашкой по спине скользнул змеею страх.
И в холодящей душу мгле забытому ему так жутко стало на земле, как, может, никому.
Вспорхнула птица из-под ног, и он, что было сил, не видя тропок и дорог, по лесу припустил.
Хлестало ветками с плеча, и шею жег рубец.
Но он бежал, но он кричал: — Отец! Отец! Отец!
И в тот же миг на этот крик, проваливаясь в лог, другой помчался сквозь тальник: — Я здесь!
Я здесь, сынок!
— Что? Забоялся, пастушок, со тьмой наедине? — Ткнул кулаком шутливо в бок, погладил по спине.
Стер неуклюже, пятерней, слезу с его лица.
Как сладко прянуло махрой от жестких рук отца!
...Нагрелись звезды добела, когда, полуслепа, кружась, их к дому привела знакомая тропа.
Из незапахнутых ворот навстречу им, во тьму, сошло обиде в укорот покаянное: — Му-у...
Приклеившись под Зорькин бок оранжевым листом, глядел, набычившись, телок, помахивал хвостом.
— Видал? На маткиных харчах раздулся, как футбол!
И таял Лелькин страх, и чах. И пел в душе щегол...
6
Каким это ветром подуло и тронуло душу до слез? Лиловую ветку багула мне друг из Сибири привез.
В стеклянном раю ширпотреба грустит, отцветая в пыли, осколок тревожного неба, обломок далекой земли.
В заботы, в развал, в непотребство прокуренных окон и стен ворвалось забытое детство и вновь увело меня в плен
к заросшей багульником сопке с откосом угрюмого лба, откуда по узенькой тропке моя покатилась судьба.
Вихлялись колеса нелепо по стлани, растрепанной вдрызг, а сзади, окрасив полнеба, пылал отработанный прииск.
Усталые ноги месили, лихую заботу неся, не землю абстрактной России, а землю, где я родился.
Плясали кровавые кони, неслись, закусив удила. Дымились могучие корни, питавшие крону ствола.
Горели не просто строенья— под бабий неистовый вой ломались последние звенья негромкой моей родовой...
Назад оглянувшись тревожно, я понял, над бездной скользя, что мыслить абстрактно — возможно, а жить вот абстрактно — нельзя.
Нельзя — пусть дана мне прописка — писать в строгих графах анкет родное название прииска, в помине которого нет.
Нельзя никогда не вернуться к истокам скудеющих сил, чтоб тихо и скорбно коснуться надгробий осевших могил.
Нельзя не оглохнуть от горя, поняв, что уже не смогу увидеть лиловое море багулов, заливших тайгу.
О, совесть! Потребуй отчета! Пусть в сердце гудит, как набат, не цифры хоккейного счета, а вечное:
— Кто виноват?!
Я вижу с гнилого крылечка: по руслу сбегавшей с плато недавно замученной речки курится тропинка в ничто.
За пнями убитого леса угрюмо торчат в небеса ослиные уши «прогресса», бесовские блещут глаза.
Колышутся мертвые воды, кивают уроды-цветы: «Ну что же!
Смотри, царь природы, как славно поцарствовал ты!
Смотри до сердечного стона ты, рвавшийся к власти зело, и знай, что убийце корона идет, как корове седло»...
Пора!
Отрекаюсь от трона!
И падает в ноги травы дурацкая эта корона с крестьянской моей головы.
И снова лихая свобода несется над полем, свистя. Не царь и не раб я, природа, а сын твой, родное дитя!
Но разве хорошему сыну пристало — с годами все злей!— казать перед матерью силу, ученостью хвастать своей?!
Прости мне мое самомненье!
Ты видишь, как гордость кляня, держусь за последние звенья, которыми даришь меня.
Молю, заклинаю, поскольку сжигает мне душу тоска, какой мой бесхитростный Лелька — счастливец! — не знает пока...
7
...Настоем мыла и смолы дышал в лицо полок. Скрипели мерзлые углы: «Ты звал меня, сынок?»
Звезда, как в омуте, в окне тонула поплавком.
Вспухали думы в тишине размотанным клубком.
Скользила тоненькая нить — слетал виток с витка. Не мог ее остановить и кукиш узелка.
Лишь на мгновенье задержал, и вспомнила душа: дымился озера овал в разрыве камыша.
Неспешно плавила заря над лесом облака, когда предательское: — Кря-я! — Взошло из тростника.
И вот, сверкая синевой, не зная о беде, помчался селех1 молодой на бреющем к воде.
Летел, на нежный зов спеша, горя, как фейерверк. Но грянул гром из камыша, и белый свет померк...
Осыпал пух, от крови ал, войдя в живот, свинец.
Селех — селезень (местн )
Его убийца прошептал: — Ну, Клавка! Молодец!
А Клавка, рыжа и пухла, плескалась у скрадка, вздымала куцые крыла, орала в облака.
Бросал к воде любовный раж упругие тела.
Легчал тяжелый патронташ, а Клавка все звала...
Играя в страстную мольбу, вертела головой, как будто мстила за судьбу быть уткой подсадной.
За сытость мстила, за покой, за свой служебный пыл, за небо в дымке голубой, обрубки рыжих крыл.
За грязный прудик у ларька, за меткое ружье, за волчье сердце мужика — хозяина ее...
Хвалился Васька за столом, от самогонки ал: — Предрик за Клавку, дуролом, двустволку предлагал!
— А ты?
— Я, батя, не простак: на зорьку, мол, могу, и то, конечно, не за так — за ящик коньяку!
И видел Лелька, как ломал угрюмо бровь отец, и в горле комом застревал обглоданный крестец.
Душа, с рассудком не в ладу, готовила ответ так не спеша, как в их саду зрел северный ранет.
Она сгибалась, как лоза, когда, взяв молоток, сказал отец, взглянув в глаза: — Ну, что, пойдем, сынок?
А утром Васька, злой, как черт, с похмелья чуть живой, увидел Клавку у ворот с разбитой головой...
8
По буеракам, по логам, стеля во мху коренья, сосняк — с осиной пополам — стоял вокруг деревни.
Виновен ли густой подлее, а может, торф да глина, но был он с виду лес как лес, а изнутри — преснина.
Не тот заквас, не тот замес, не та крупица соли. Белел, рыхлея, свежий срез, как первый снег во поле.
Струился сок из-под коры, змеились косо щели. Влипая в бревна, топоры не пели, не звенели.
Пила, как будто в масло нож, входила в древесину.
Ворчал старик: — На что он гож? Куда ее, преснину?
Ни дом сложить, ни короба сварганить из липучей. Вот разве только на дрова, и то, поди, на случай.
Ну чай согреть, ну щи сварить, запарить харч для хряка. А, скажем, баньку истопить — уже не то, однако.
Не тот заквас, не тот замес, не та, браток, стряпнина. Он с виду вроде лес как лес, а изнутри — преснина...
Вот так в обход, не напрямик, приехавшему внуку, кряхтя, втолковывал Старик крестьянскую науку.
Смеялся Васька: — Ну, держись! Развел мокреть та-акую! Все лес да лес.
Давай про жизнь!
— А я о чем толкую?
Старик втыкал в бревно топор, усаживался прочно.
— Такой вот, значит, коленкор... Про жизнь я, парень!
Точно!
Что ни растет, что ни цветет, ни старится, ветшая,— все, что ни есть, на жизнь идет, а жизнь... она большая.
Она не на день, не на год, она, сынок, без срока,
хотя всему есть свои черед, свой час, своя морока.
Но все же в новый тарантас не ставят старый шкворень. Как ни раскинь, хозяйский глаз — вот главный в жизни корень.
Старик тряс сивой головой, кивал на дом знакомо.
И видел Лелька как впервой литые стены дома.
В них прадед жил, и жил в них дед, но, как и прежде ровно, струили золотистый свет ошкуренные бревна.
Ученый внук наперекор гуманности эпохи стриг, озираясь словно вор, усы коту Матрохе.
— А ну оставь кота, стервец Чему их учат в школе?..
Вчера,— гнул линию отец,— пахал дружок твой поле.
Поколупал чуток его и с рук долой, вражина.
Посмотришь — вроде ничего, а ковырнешь — преснина!..
Повырастали — честь не в честь, как тот сосняк у лога, а взять на срез — рыхлинка есть и заболони много.
Живете... так, наперекос, играете в обманку! — Сердился Васька: — Ну, понес! Завел свою шарманку.
Насыпался, как сущий бес, пристал — и ни в какую! Давай уж лучше шпарь про лес...
— А я о чем толкую?
9
Тяжело покинув тело, круг прозрений заверша, ты куда же отлетела, дяди Костина душа?
По какой орбите тайной ты плывешь кромешной мглой над своей многострадальной над родимою землей?
И зачем в небесной выси — отрешившейся тебе — наши слезы,
наши мысли, ярь в работе и гульбе?
Ты чего тоскуешь шибко оттого лишь, что не в прок внуком сделана ошибка в деревенском слове стог?
Что у дома (так уж вышло), за поникшей городьбой, буря сбила ночью вишню, вознесенную тобой?..
Вот опять поземка к двери наметает снег, шурша... Будут новые потери, дяди Костина душа!
Вон какие ходят тучи, наливаясь чернотой, выжидая только случай, чтоб сойтись над головой.
Тянут с запада, с востока, заслоняют свет зари, налетают издалека, угрожают изнутри.
Стань сильней и тверже, старость! Юность, сделайся мудрей!
Только жалость, только жалость на Земле спасет людей!
Пусть ее одну вовеки будет в муках порождать страх за небо, страх за реки, страх друг друга потерять.
Пусть она живет, летая, тихой нежностью дыша, как большая, не святая дяди Костина душа.
Пусть она в сплошном тумане путь находит без труда...
Засыпает Лелька в бане. Гаснет в проруби звезда...
10
...Настоем мыла и смолы дышал в лицо полок. Скрипели мерзлые углы: <Ты звал меня, сынок?
Не надо звать. Я не приду, не засвечу огня.
Я — ночь.
Я — шорохи в саду. Печалинка твоя.
Я — память об ушедшем дне, укора тяжкий гнет.
Но мать поставит свечку мне, и боль твоя пройдет.
Я вел исправно борозду, пройдя неблизкий путь через войну, через нужду,— пора и отдохнуть.
Ты не тревожь меня в гробу, попреком не зови.
Сам направляй теперь судьбу, своим умом живи...»
Осколком рухнувшей звезды скользило сердце вниз в предощущении беды, что замышляет жизнь.
Свободы холодящий вал в груди тревогой стыл. Незащищенностью пугал вчера лишь крепкий тыл.
«Ну что ж ты, Лелька? Мир широк,— шуршала тишина.— Но лишь шагни через порог, как сразу кривина, ликуя, радуясь, трубя, то медленно, то вскачь, как жертву, поведет тебя на капище удач.
Тоски по дому ржавый нож с размаху всадит в грудь.
Жар-птицу, может, ты найдешь, но про щегла забудь...»
Струной звенела тишина, затянутой вконец.
И глухо лопнула струна: — Прости меня, отец!
Катились слезы в рукава, и боль, и срам круша.
И распрямлялась, как трава, примятая душа.
Судьба, вставая в полный рост, у мира на виду вручала Лельке высший пост — пост старшего в роду.
Вручала право до конца беречь родимый дом, писк желторотого птенца на липе под окном.
Вручала тощие поля, соломенный омет и тех, кого взяля земля, и тех, кого возьмет!..
Вручала радости и грусть, надежды торжество, всю возвышающую Русь — Отечество его!
...Рассвет — лохматый, серый зверь — царапался в стекло.
Снежком в незапертую дверь предбанник замело.
Ужалив Лелькино лицо иголочкою льда, метнулась в страхе под крыльцо настывшая вода.
Улыбкой — шалой, озорной — он смазал горечь с губ, потом широкой пятерней, пригладил русый чуб.
Скользнув меж пальцев, наискос на мокрый лоб легла тугая прядь его волос — как ранний снег, бела...
эпилог
Шумят вековые березы, свистит над крестами скворец, где спят Сесипатр Подзанозин, Питошины — сын и отец.
А здесь моя мама зарыта, чуть дальше — покоится дед. Ни мрамора нет, ни гранита, ни званья, ни должности нет.
Фамилии, черточки, даты — крутые, лихие года.
Лежат под травою солдаты, лежат «рядовые труда».
А сколько их, родичей милых, парней из моей родовой, покоятся в братских могилах на Волге, в Орле, под Москвой.
Ромашки, оградки косые, крапива по низким местам...
Державную поступь России сверяю по серым крестам.
Сверяю по горестным звездам, как маки, горящим во ржи, и слышу скользящее в роздымь призывное кряканье лжи.
Под шум авангардного смутка, недальним блаженством маня, она, как подсадная утка, под выстрелы кличет меня.
Эй вы, толкователи жизни, живущие будто в гостях, согласен, что слава Отчизны взошла на мужицких костях!
Но вы никогда не поймете, твердя о народной крови, что Русь проросла на работе, на вере, на вечной любви.
вот к этим просторам безбрежным, к лесам, что ушли в окоем,— к земле, что тревожно и нежно мы Родиной с детства зовем!
С которой, бывало, прощались, не в силах гордыни унять, куда мн всегда возвращались, и вот возвратились опять!..
Вадим Петрович Кузнецов
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Поэма
Редактор Л. Вьюнник Художник М. Дорохов Художественный редактор О. Червецова Технический редактор Л. Дунаева Корректор В. Чвялева
ИБ № 2323. Сдано в набор 15.04.80. Подписано к печати 06.06.80. А09109. Формат 70x90/32. Гарнитура литерат. Печать офсетн. Бумага оф-сетн. Хе 1. Усл. печ. л. 1,76. Уч.-изд. л. 1,80. Тираж 25 000 экз. Заказ 2302. Цена 25 коп. Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.
Фабрика офсетной печати Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6.
25 коп.