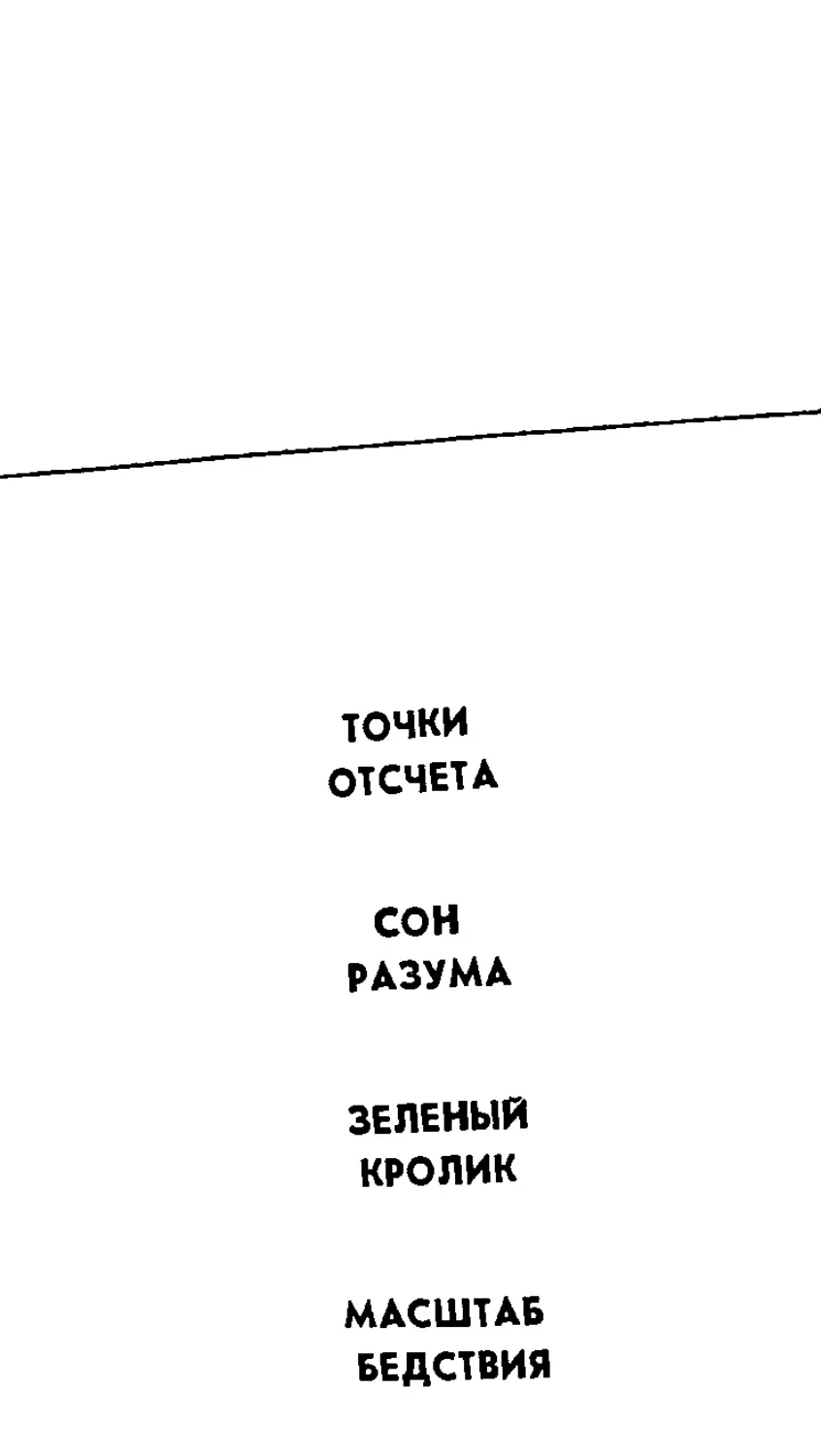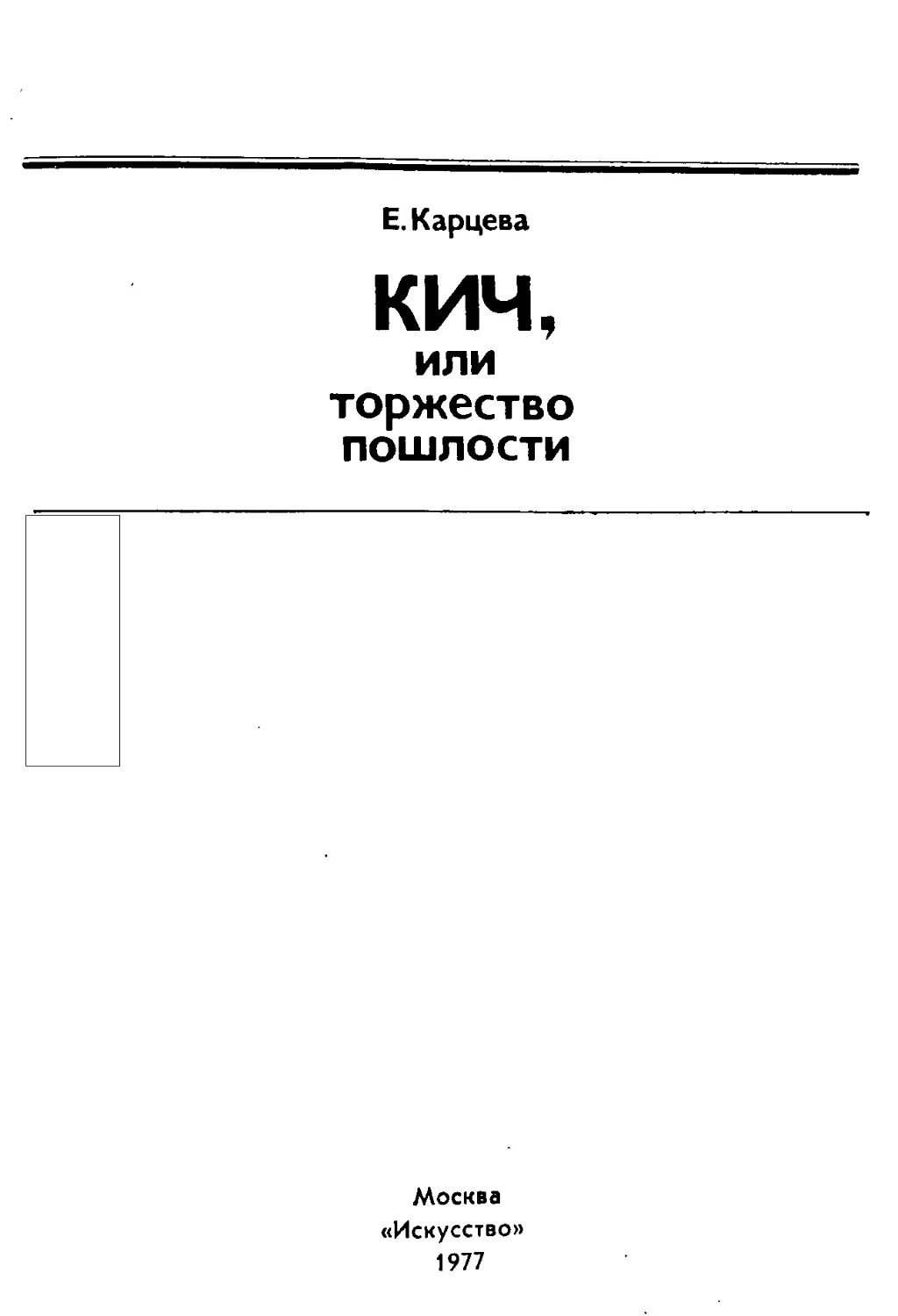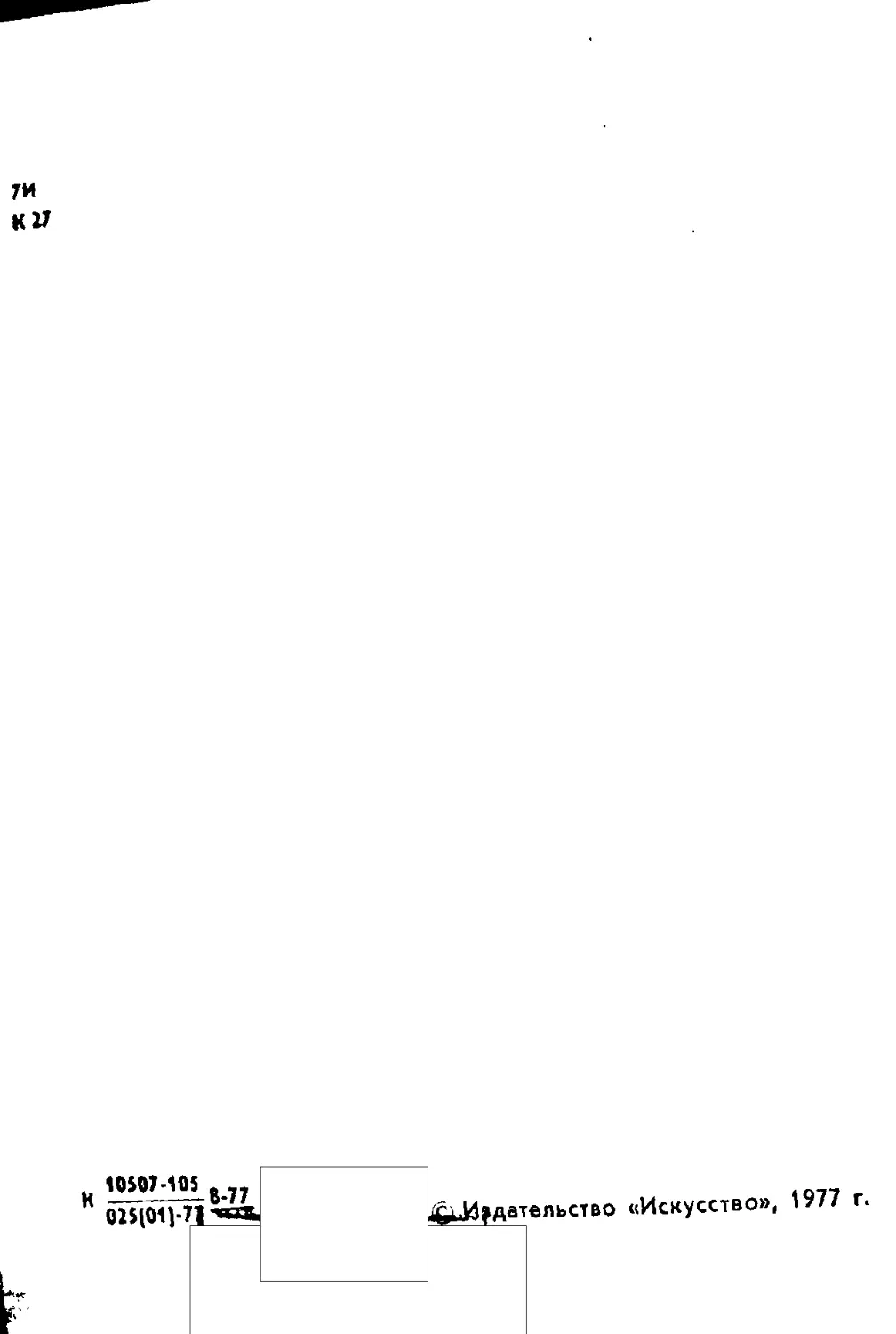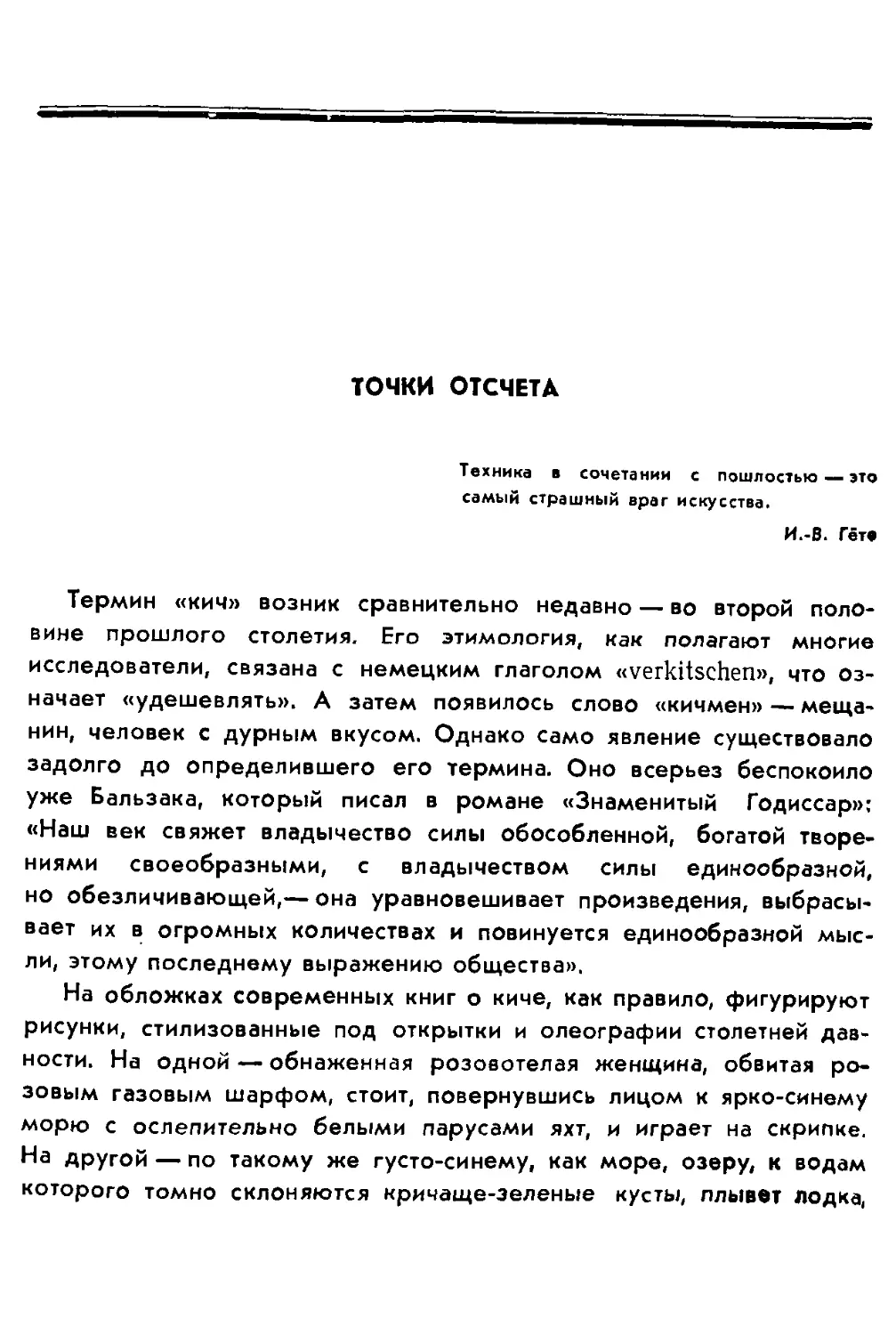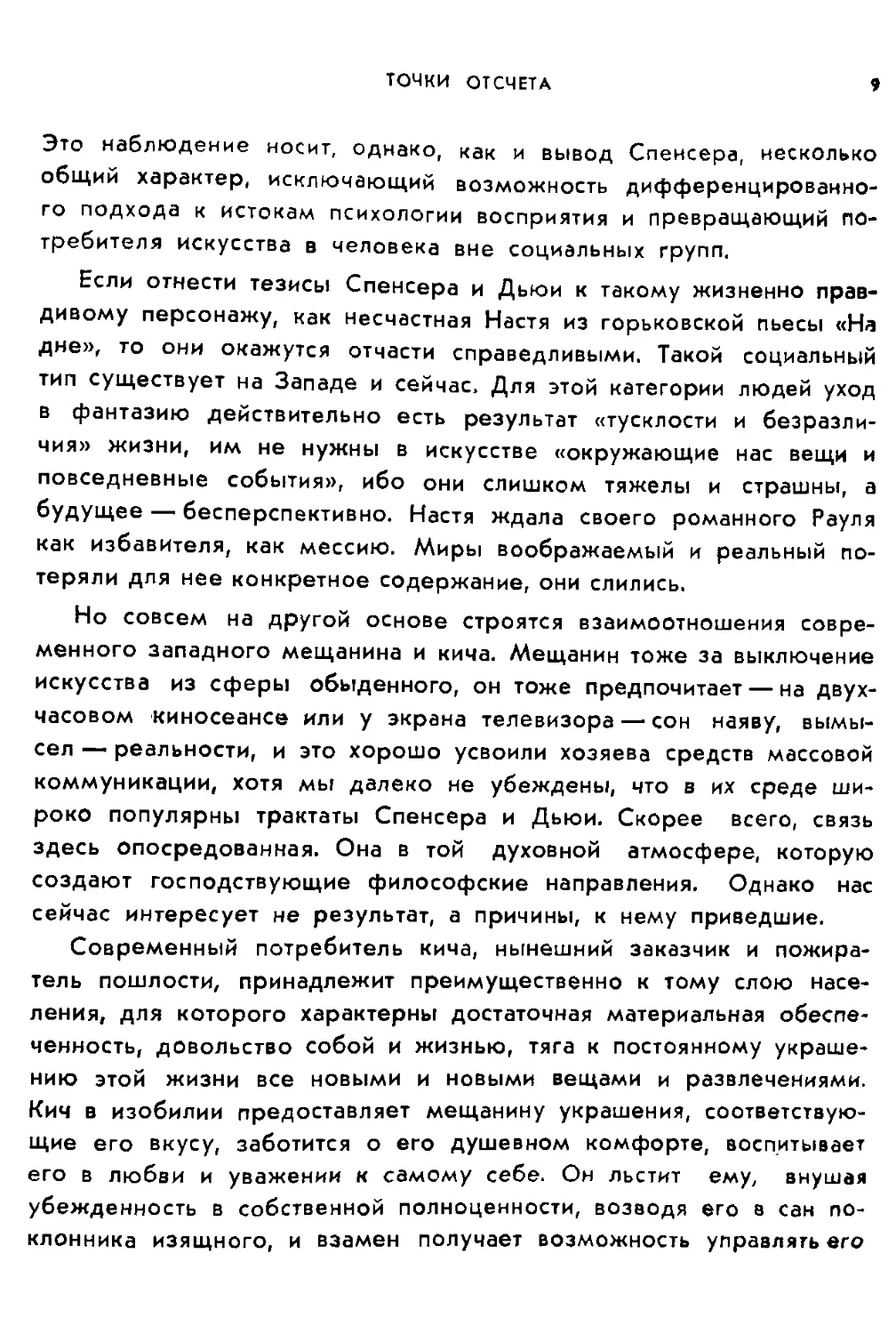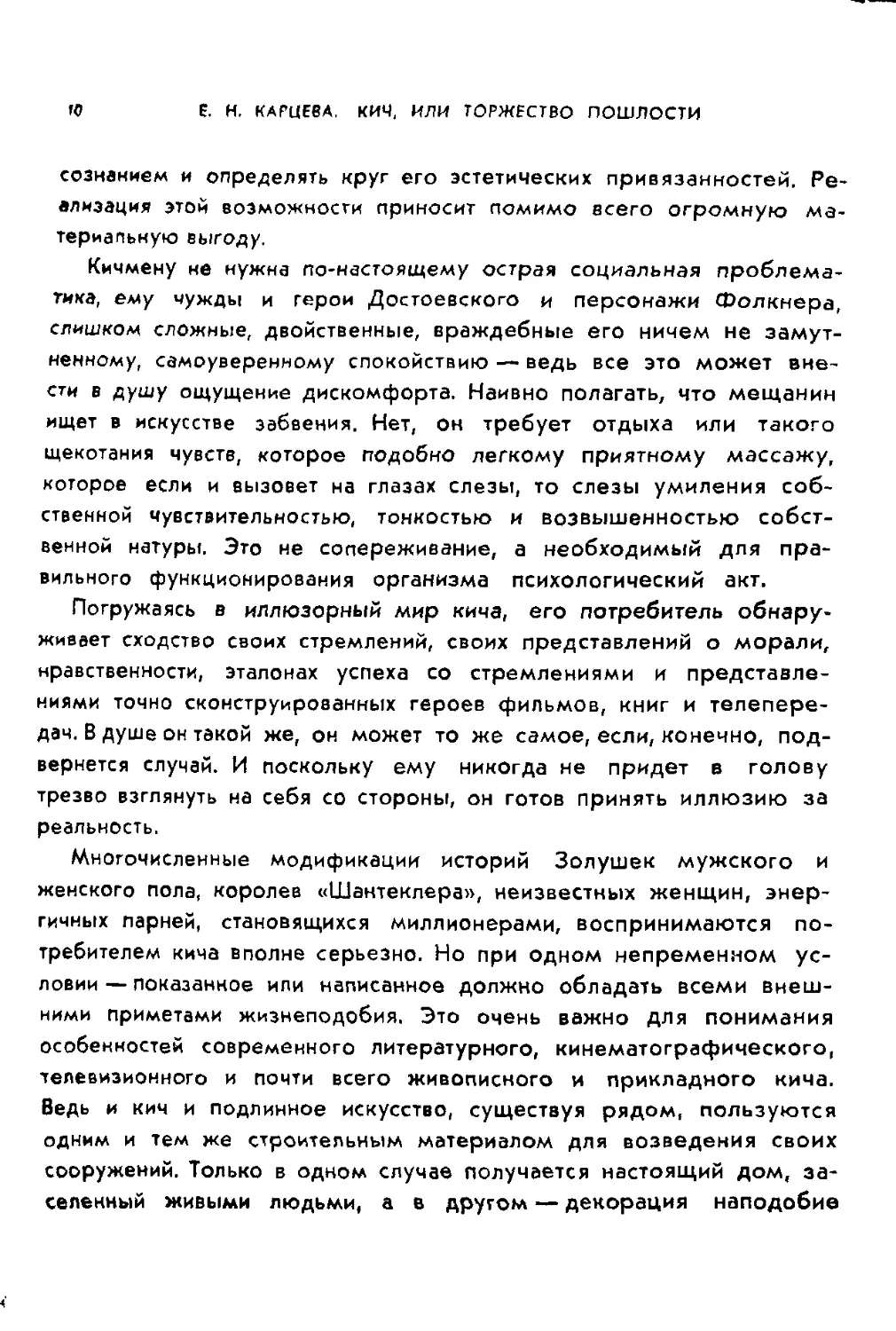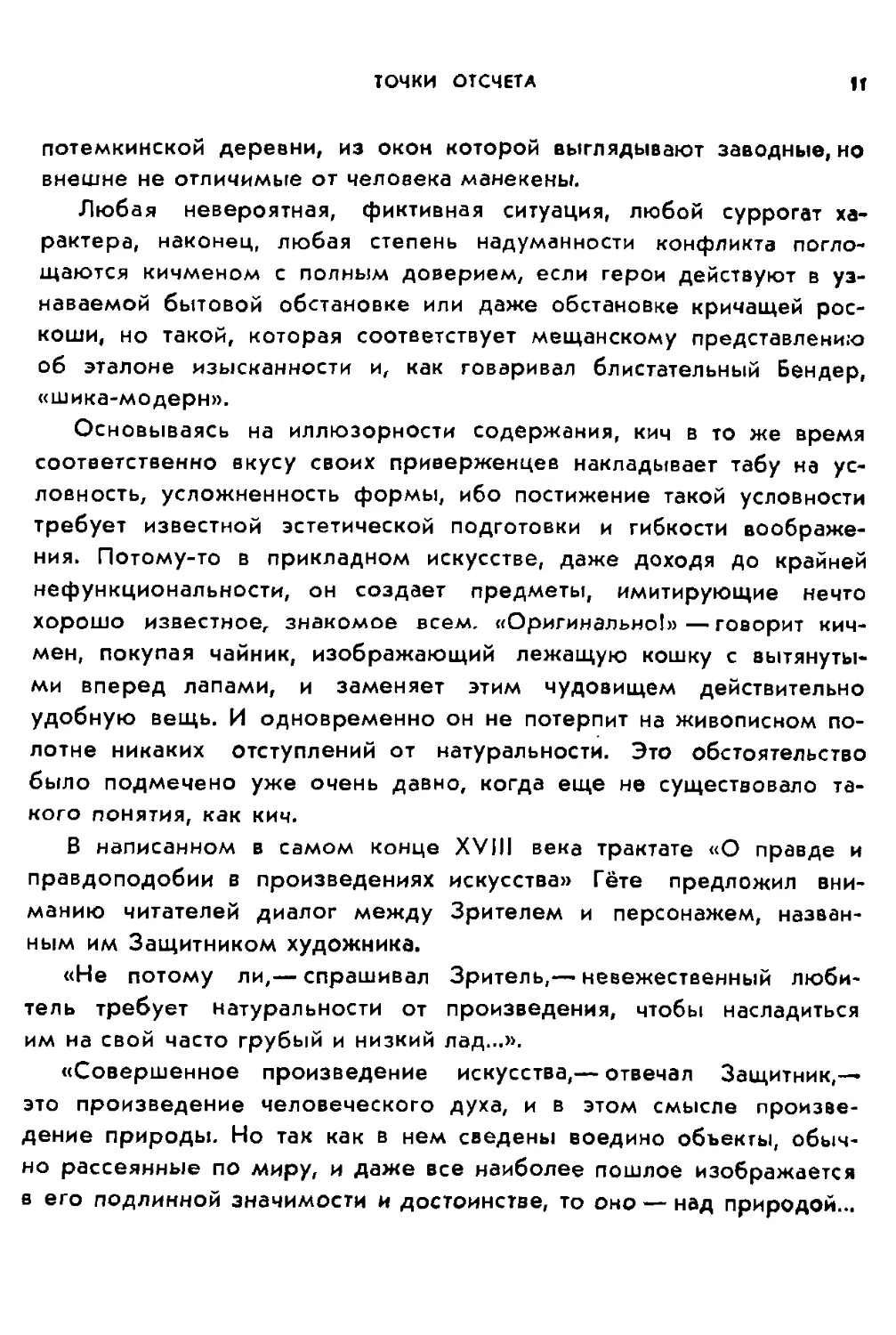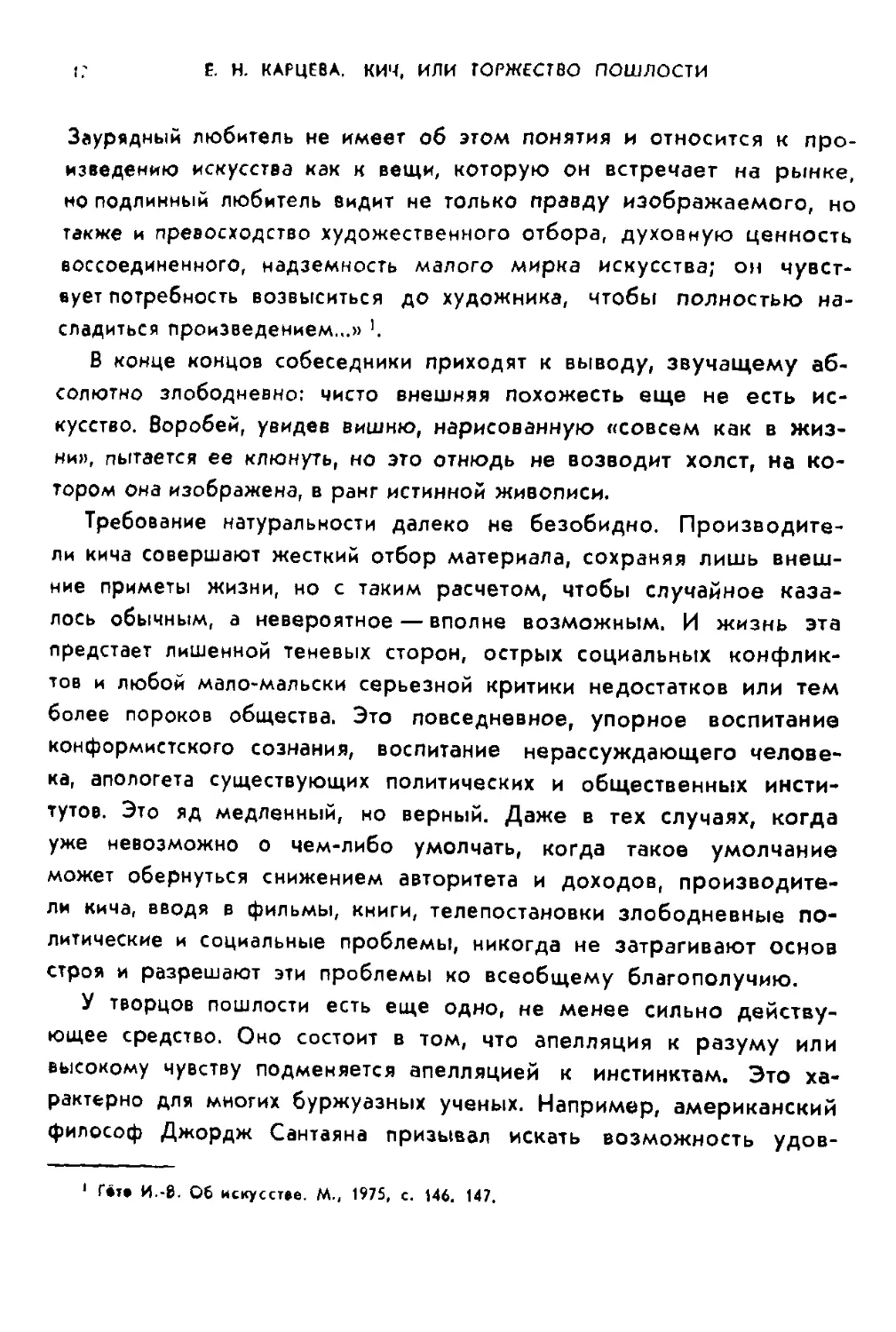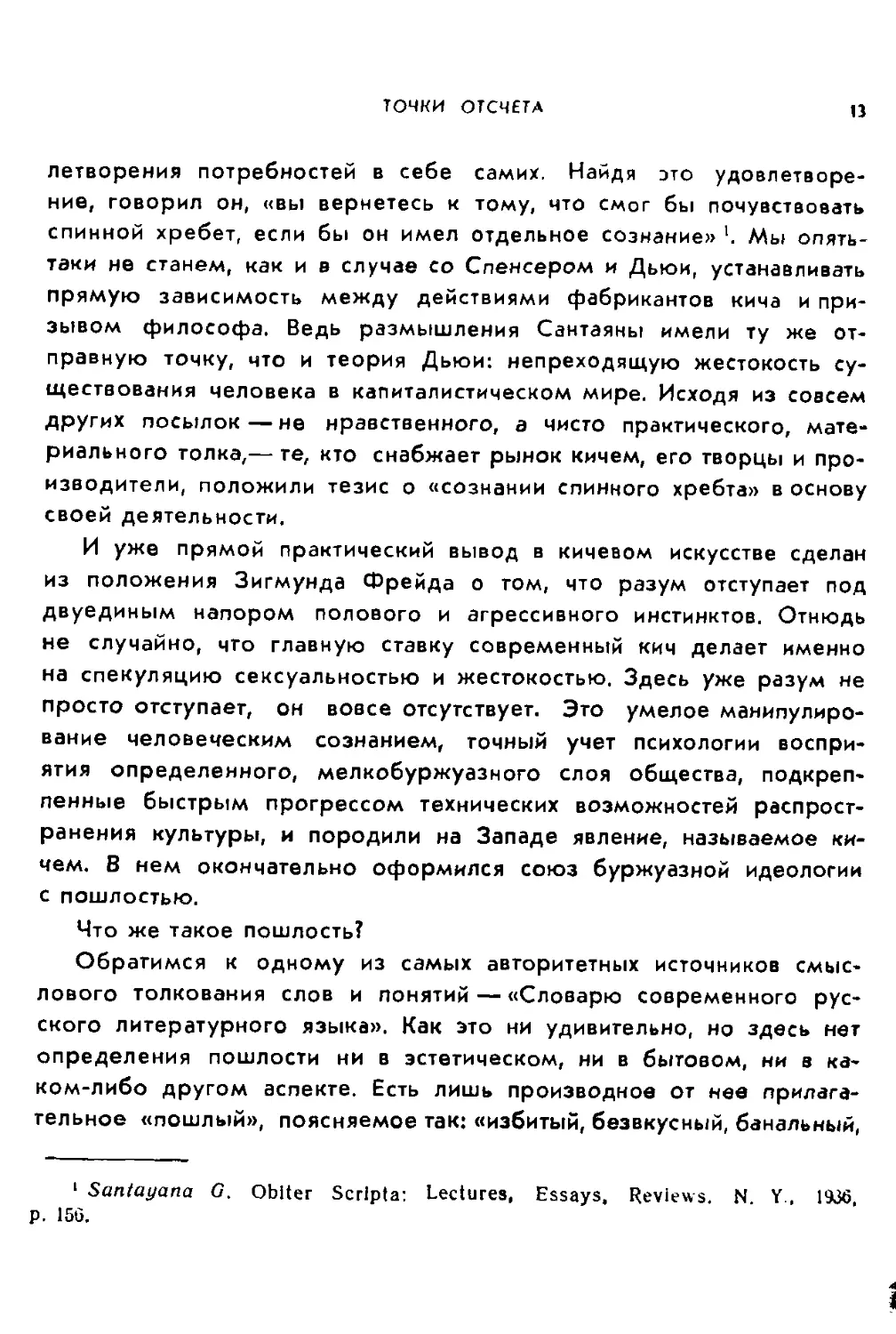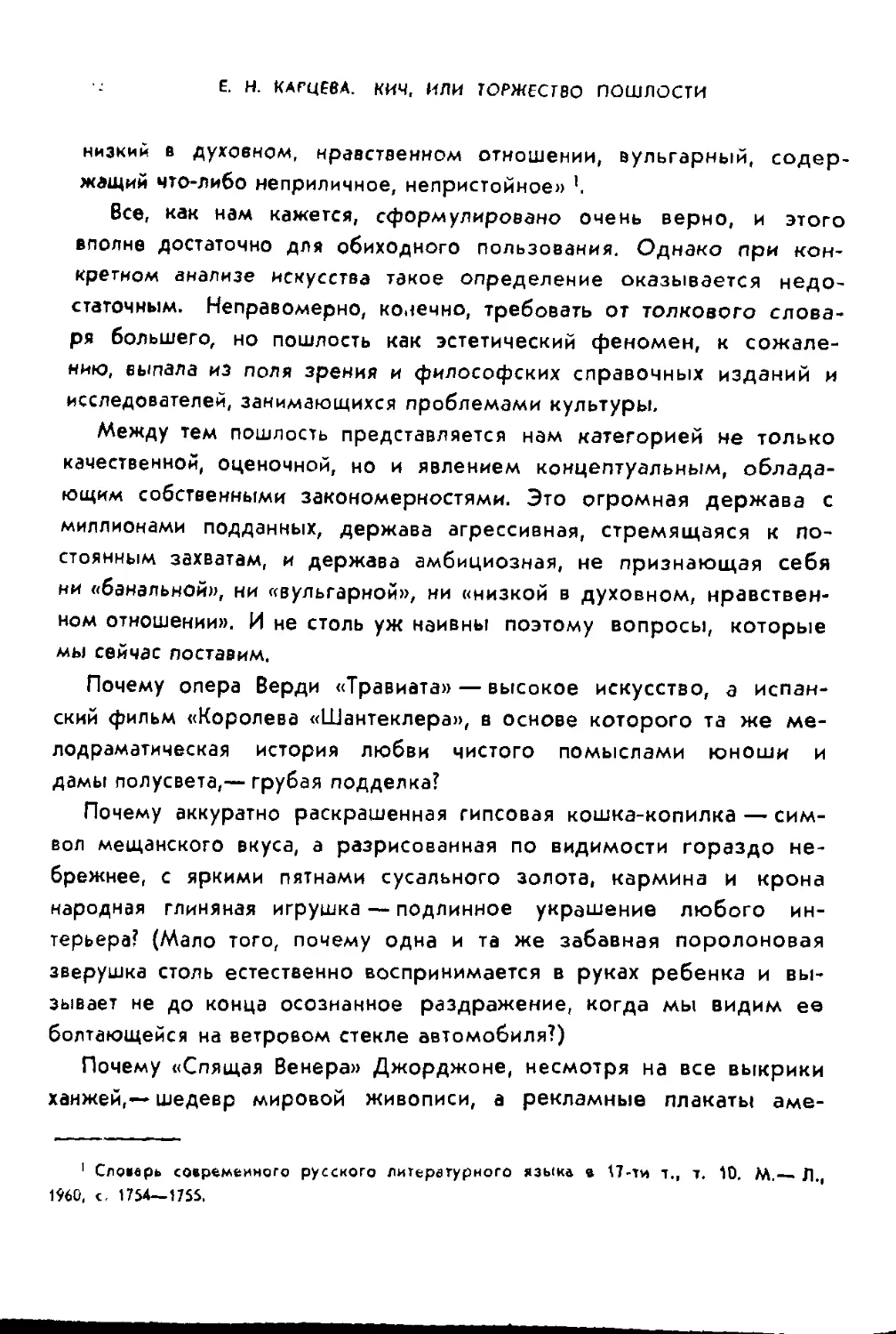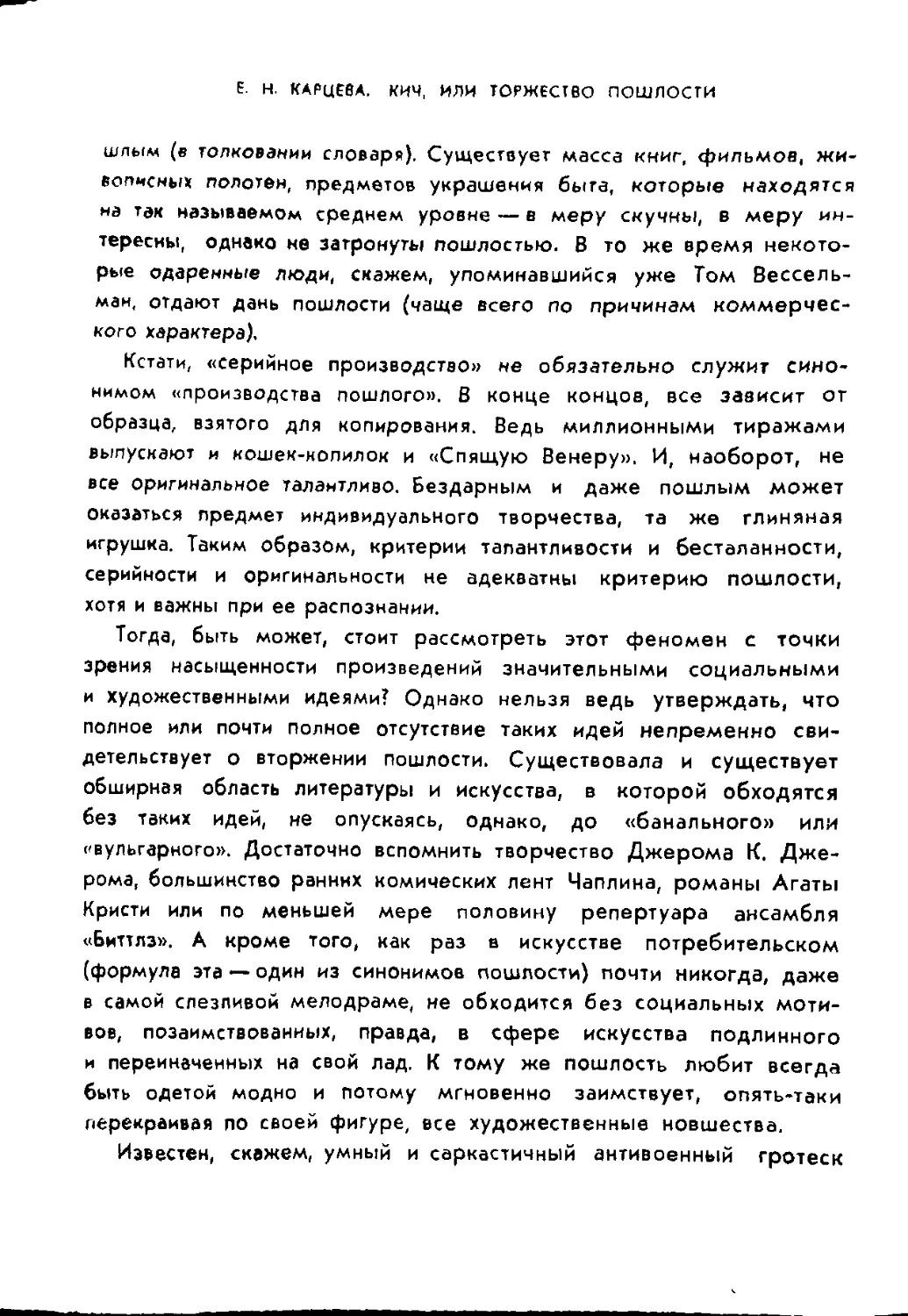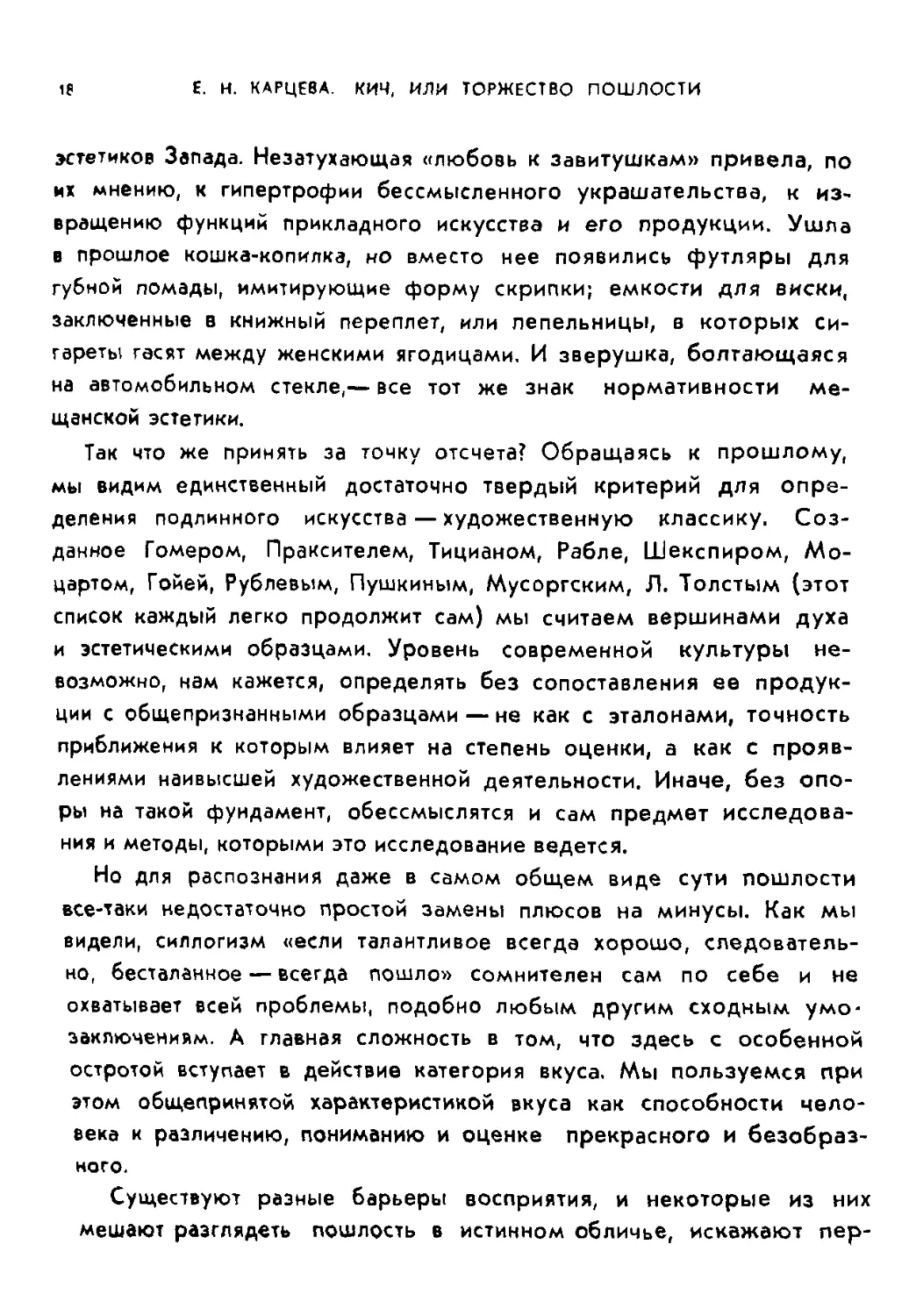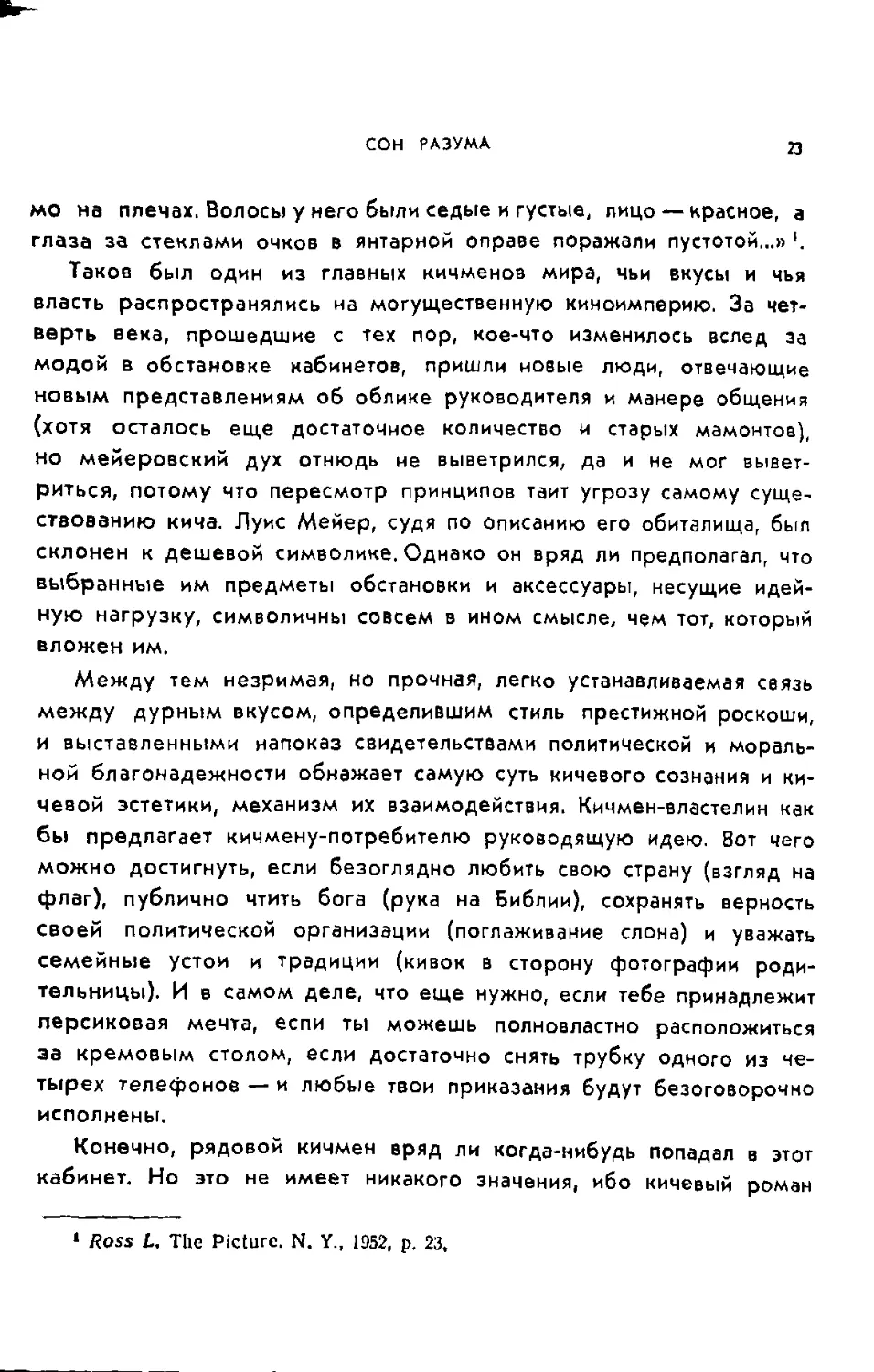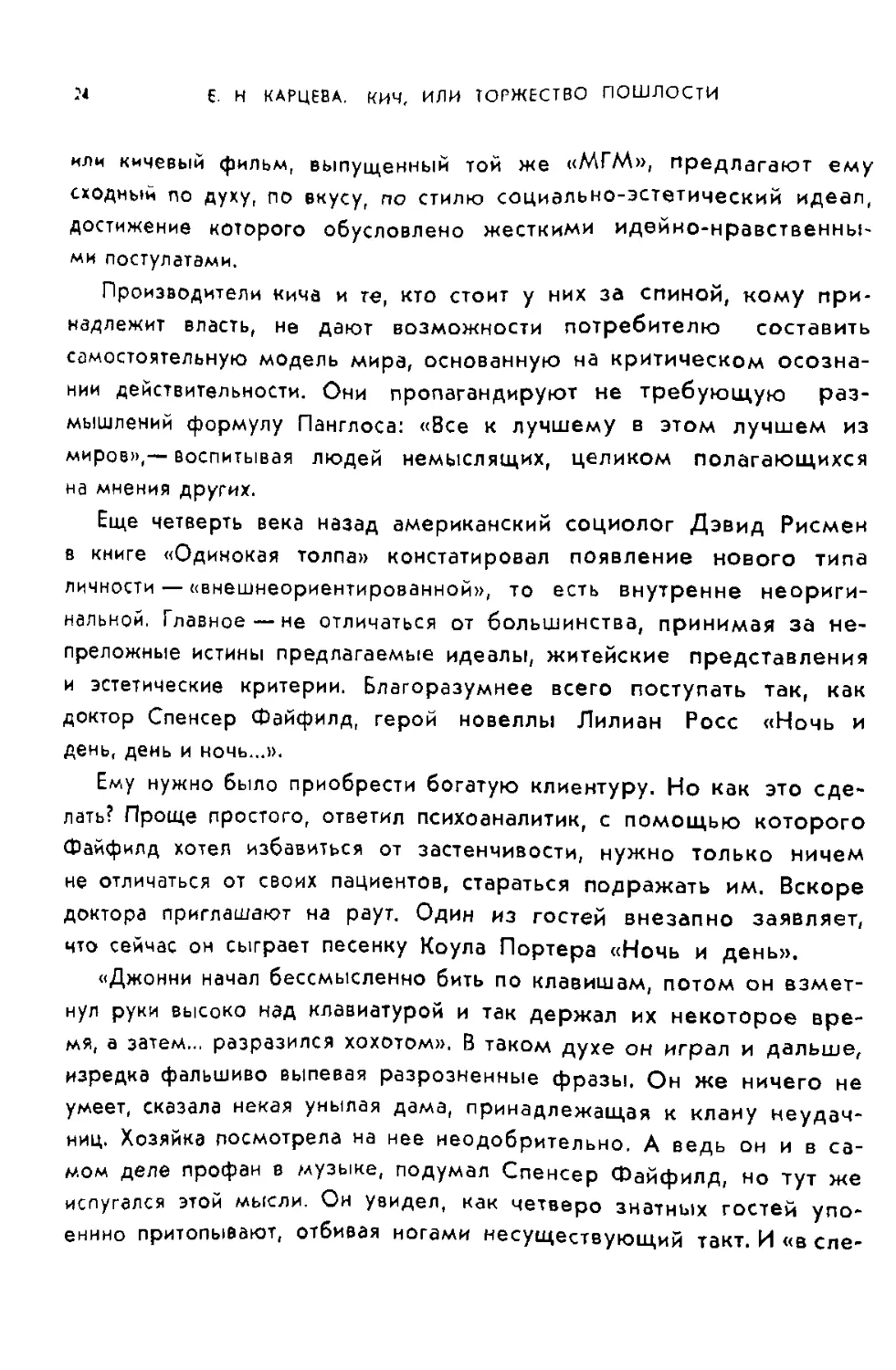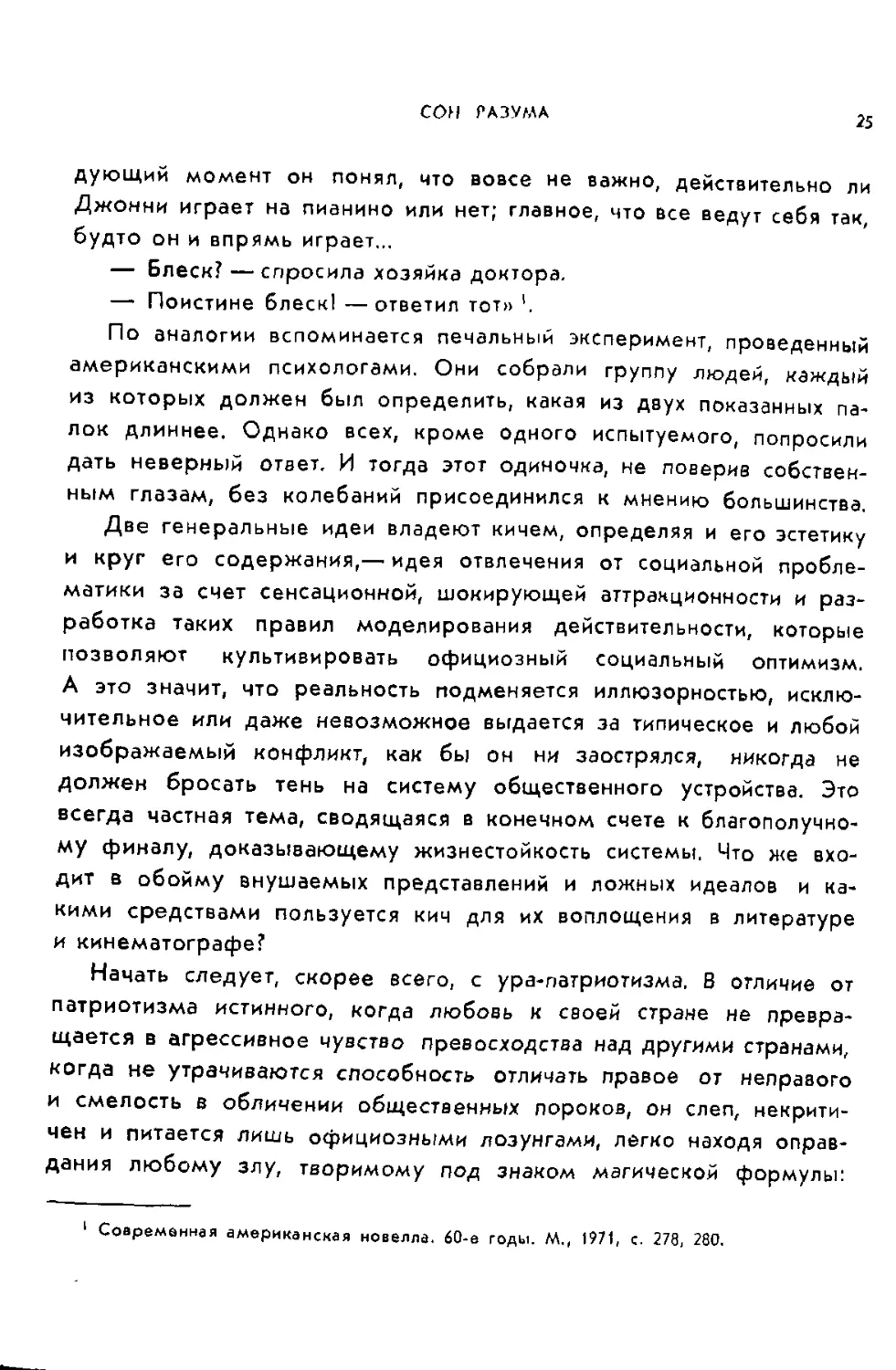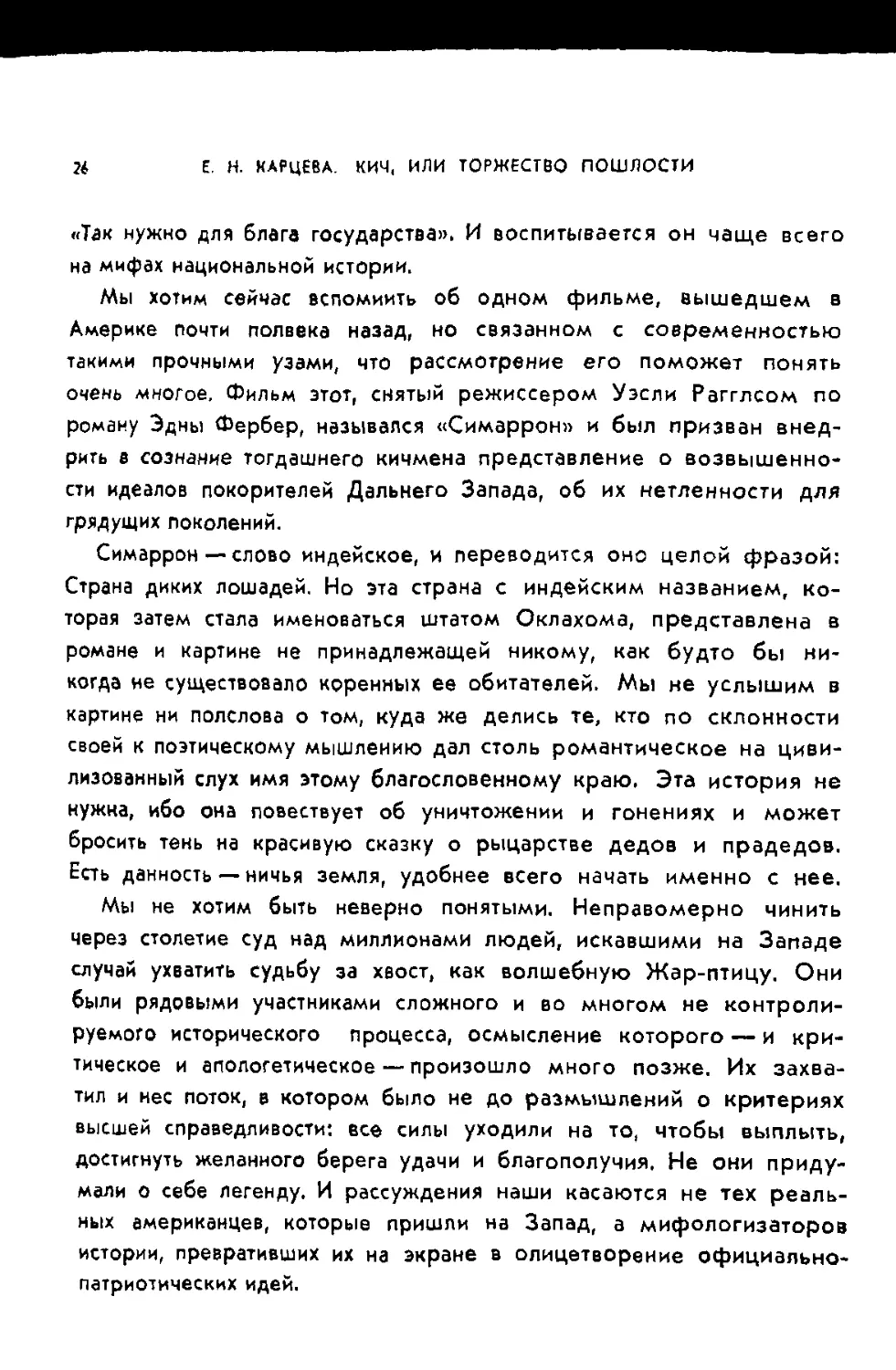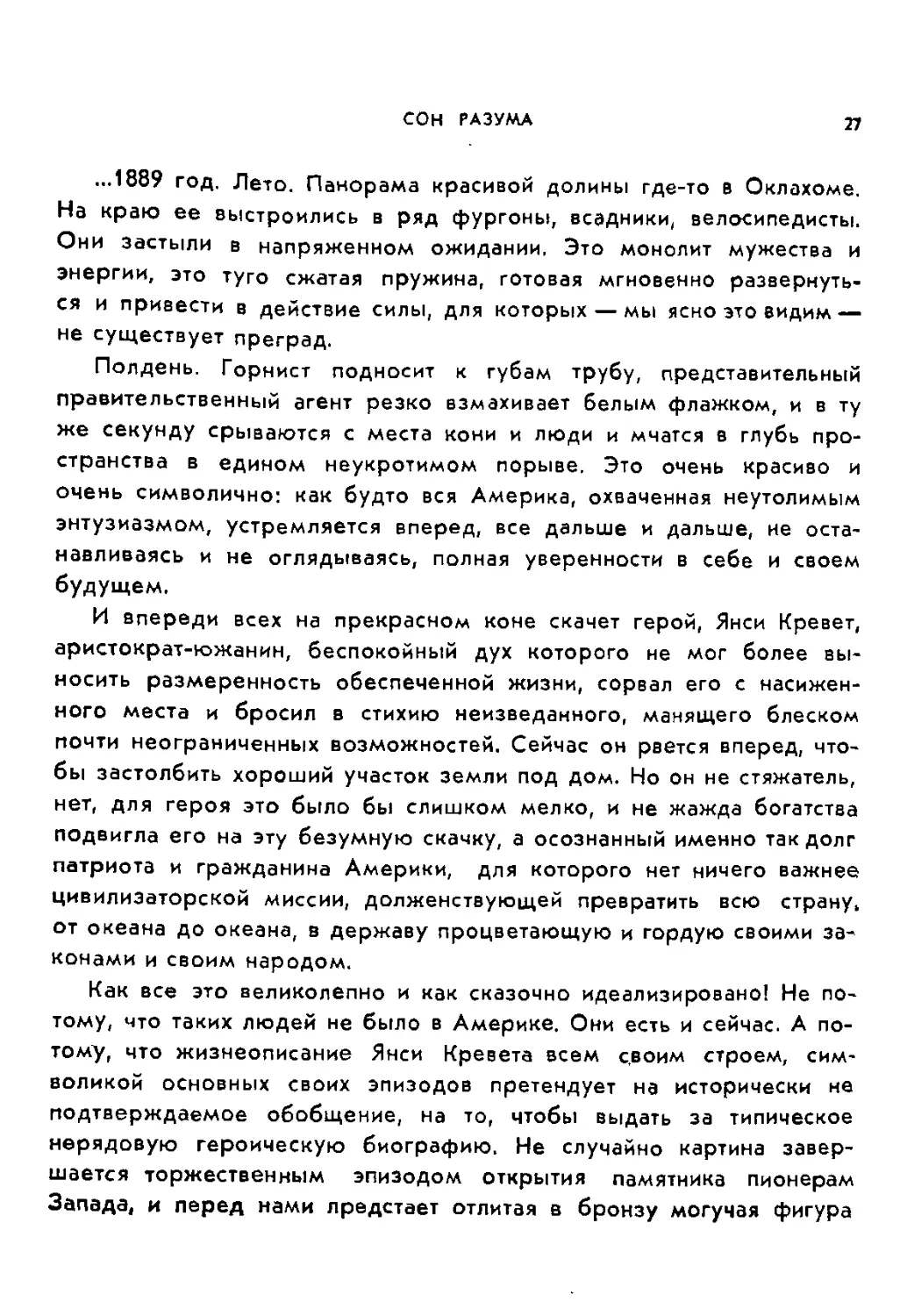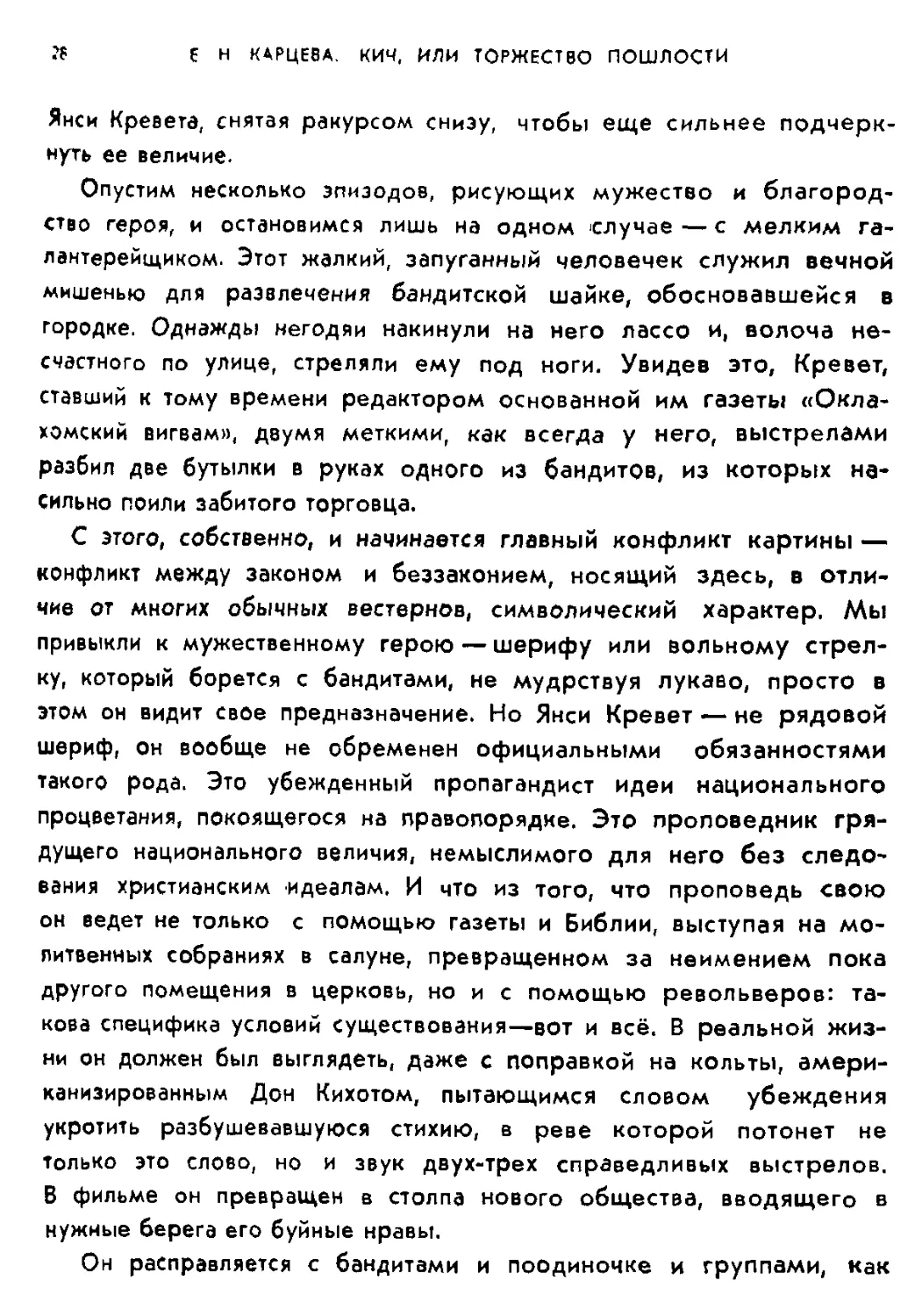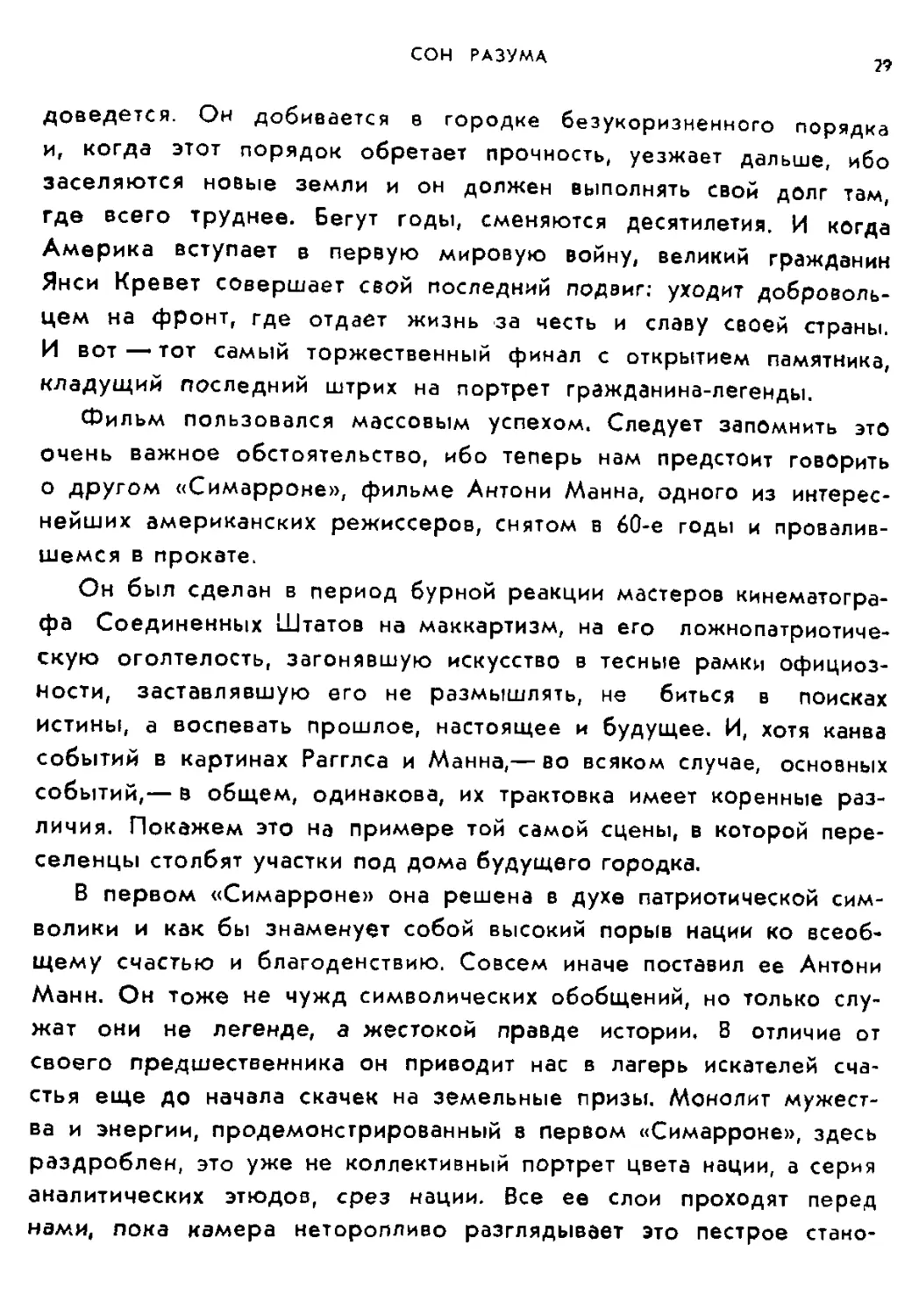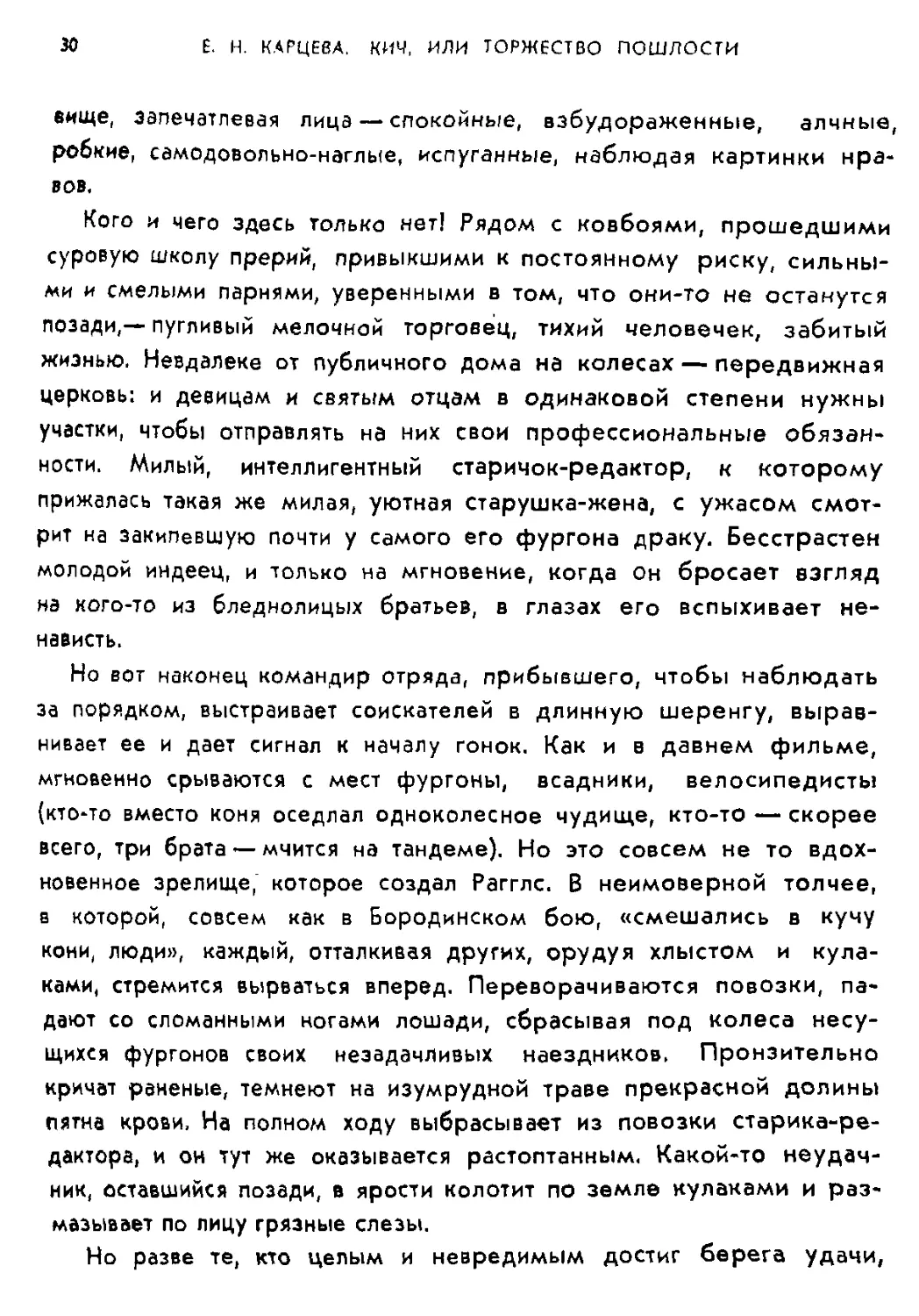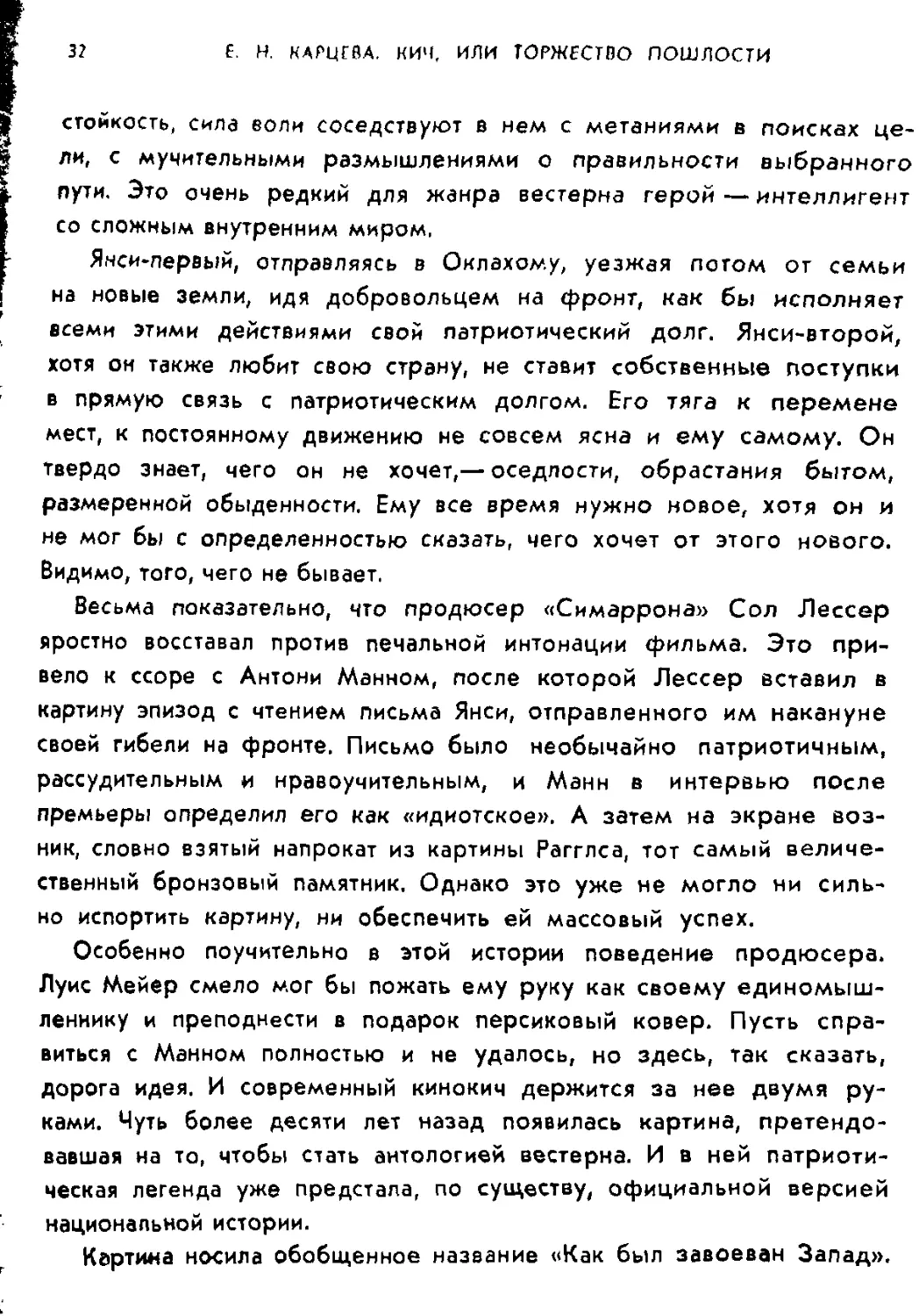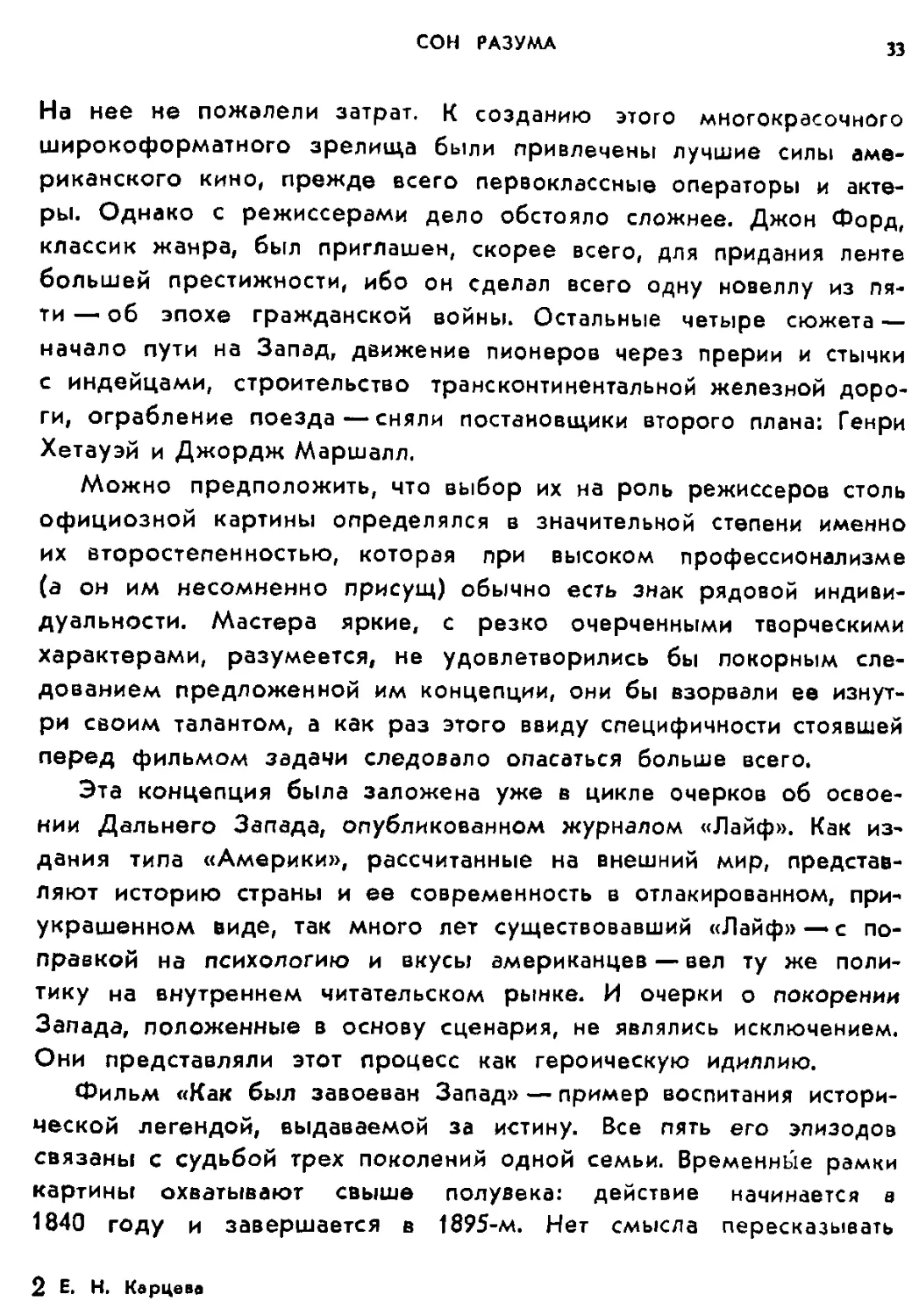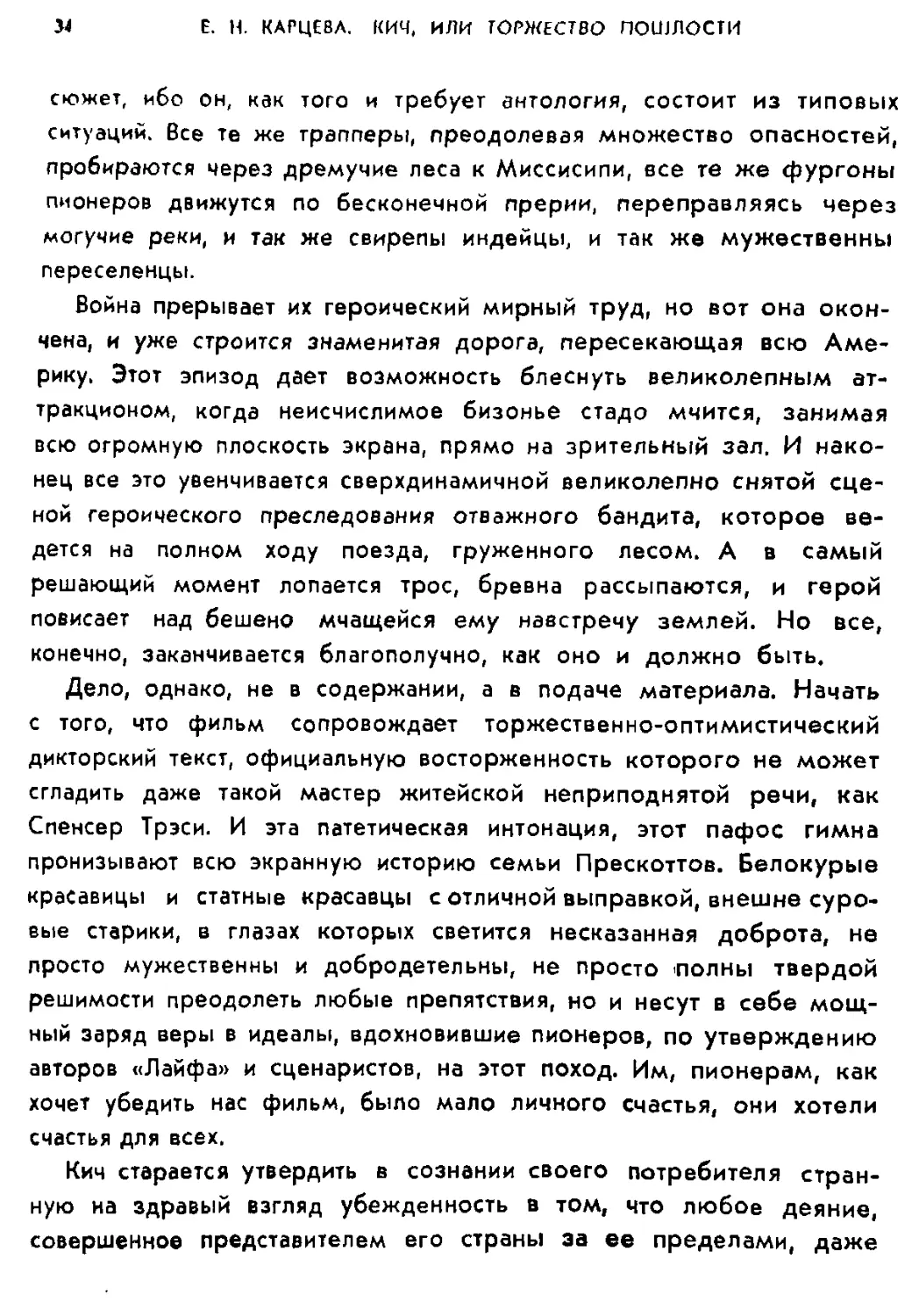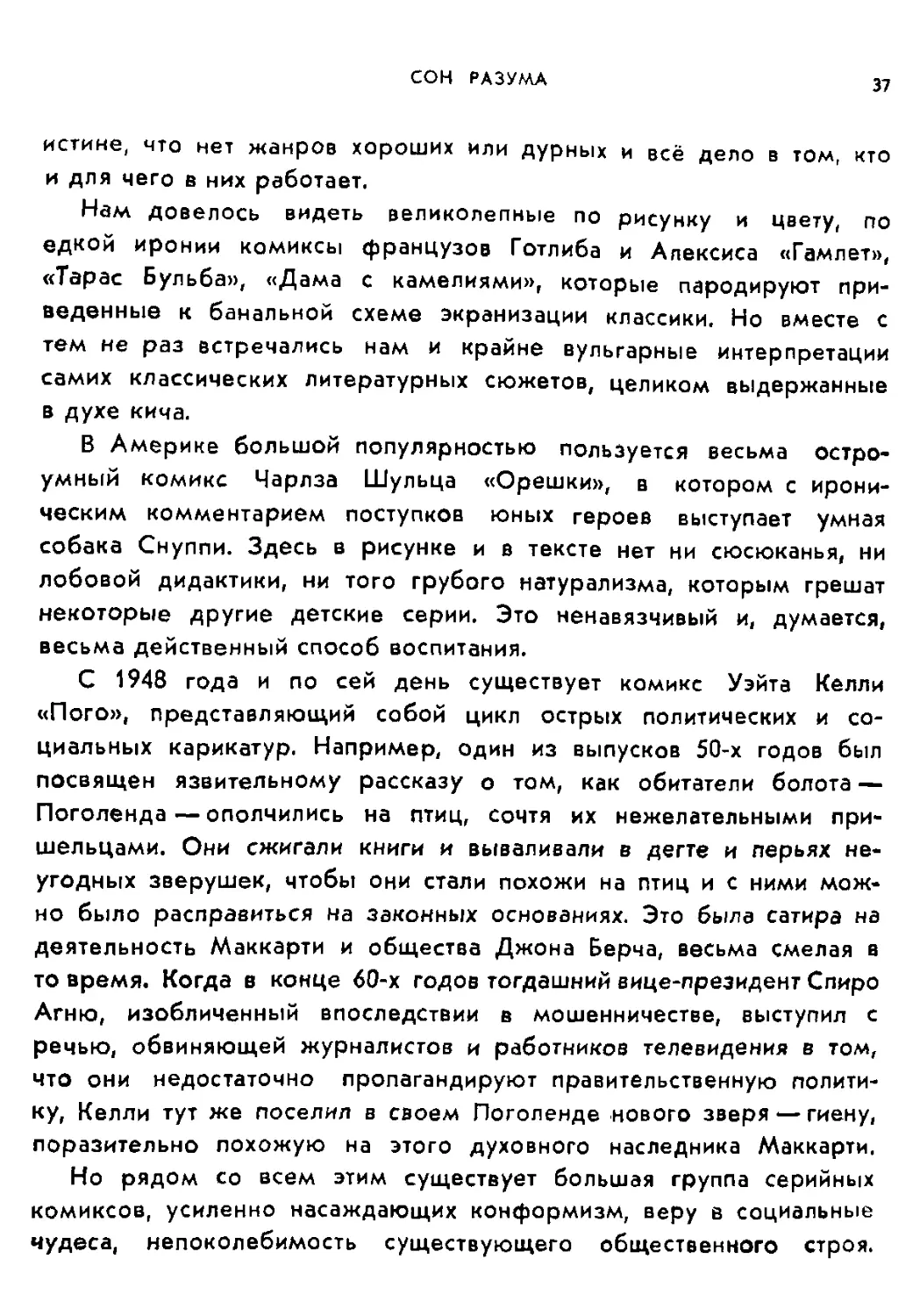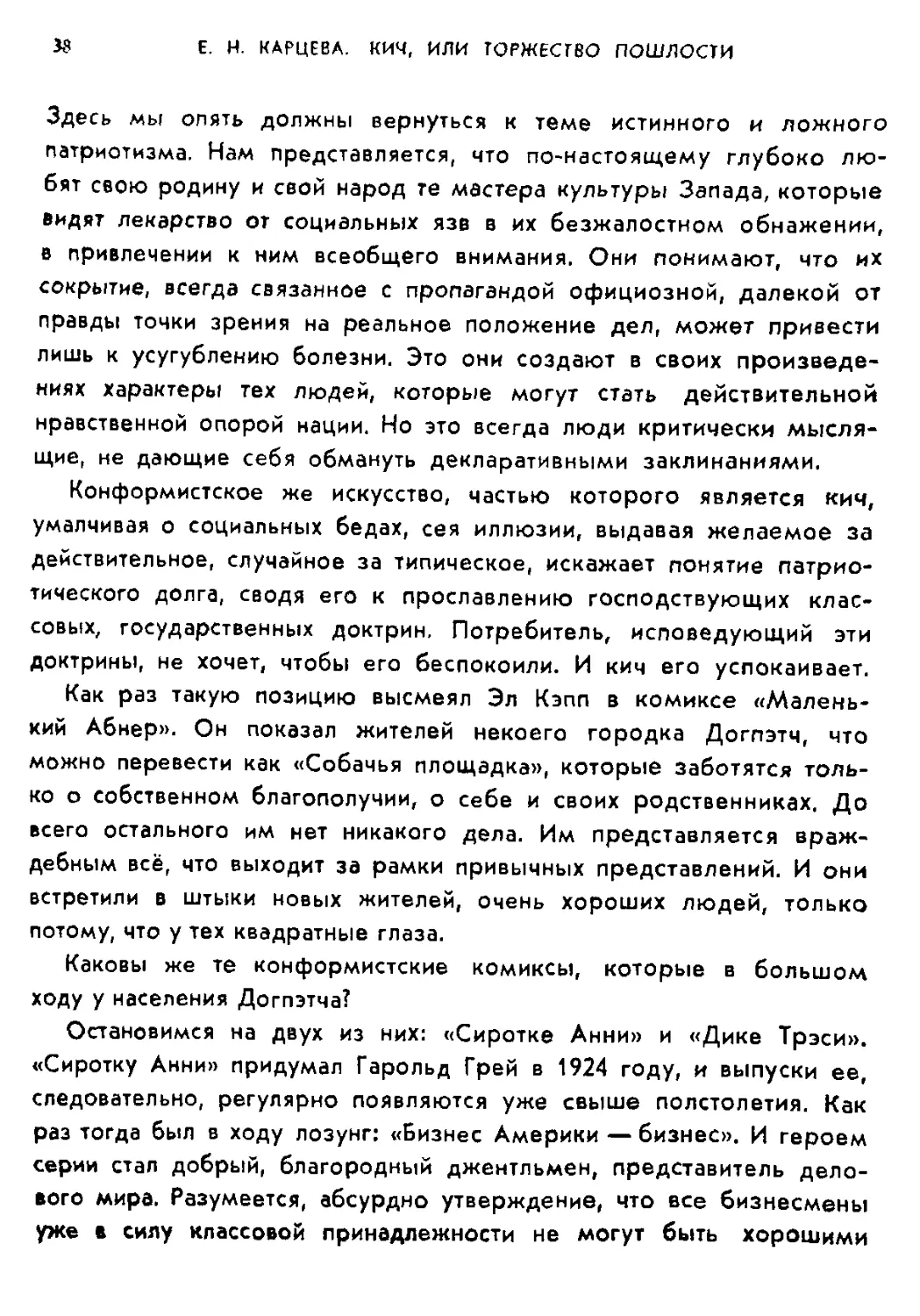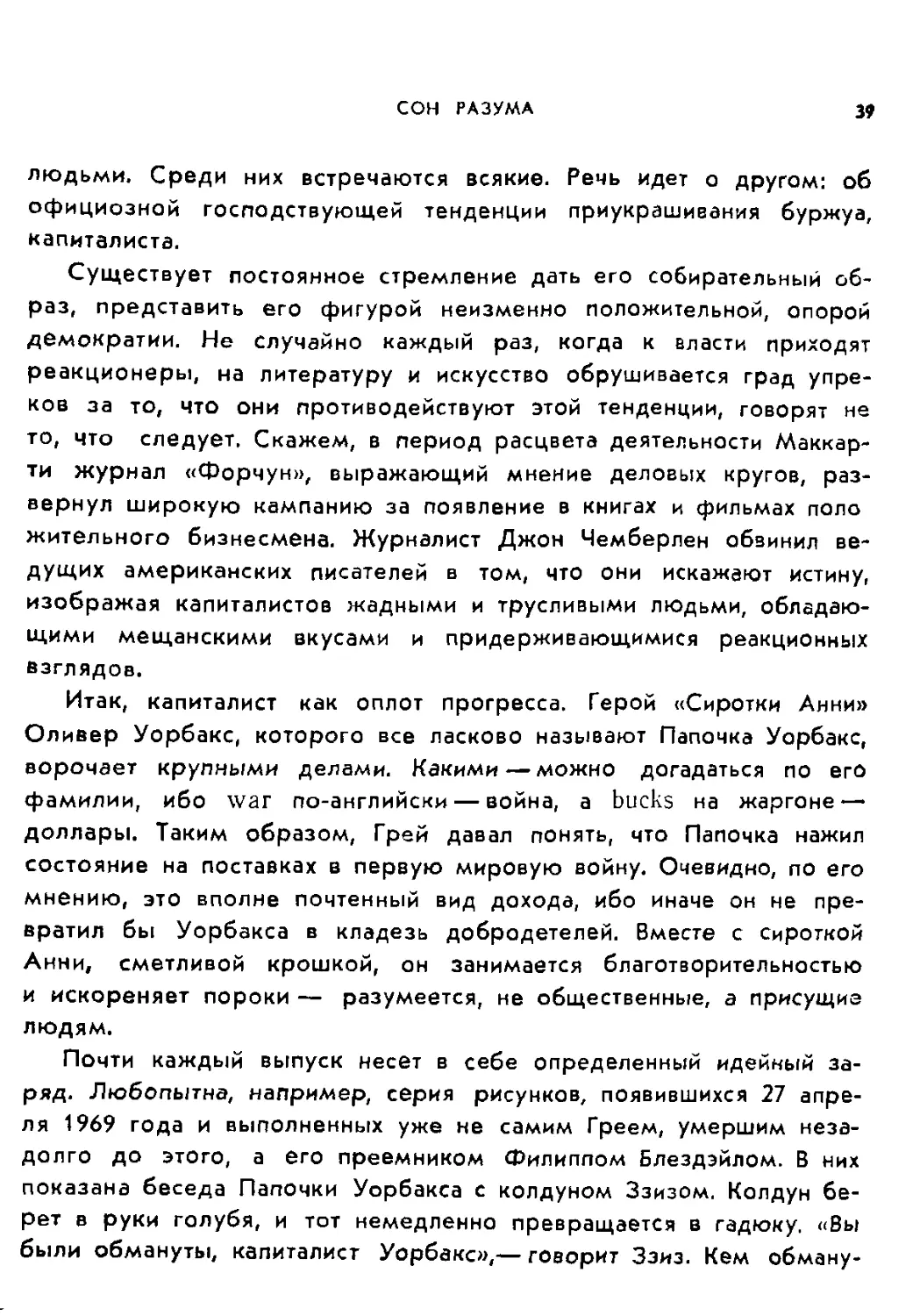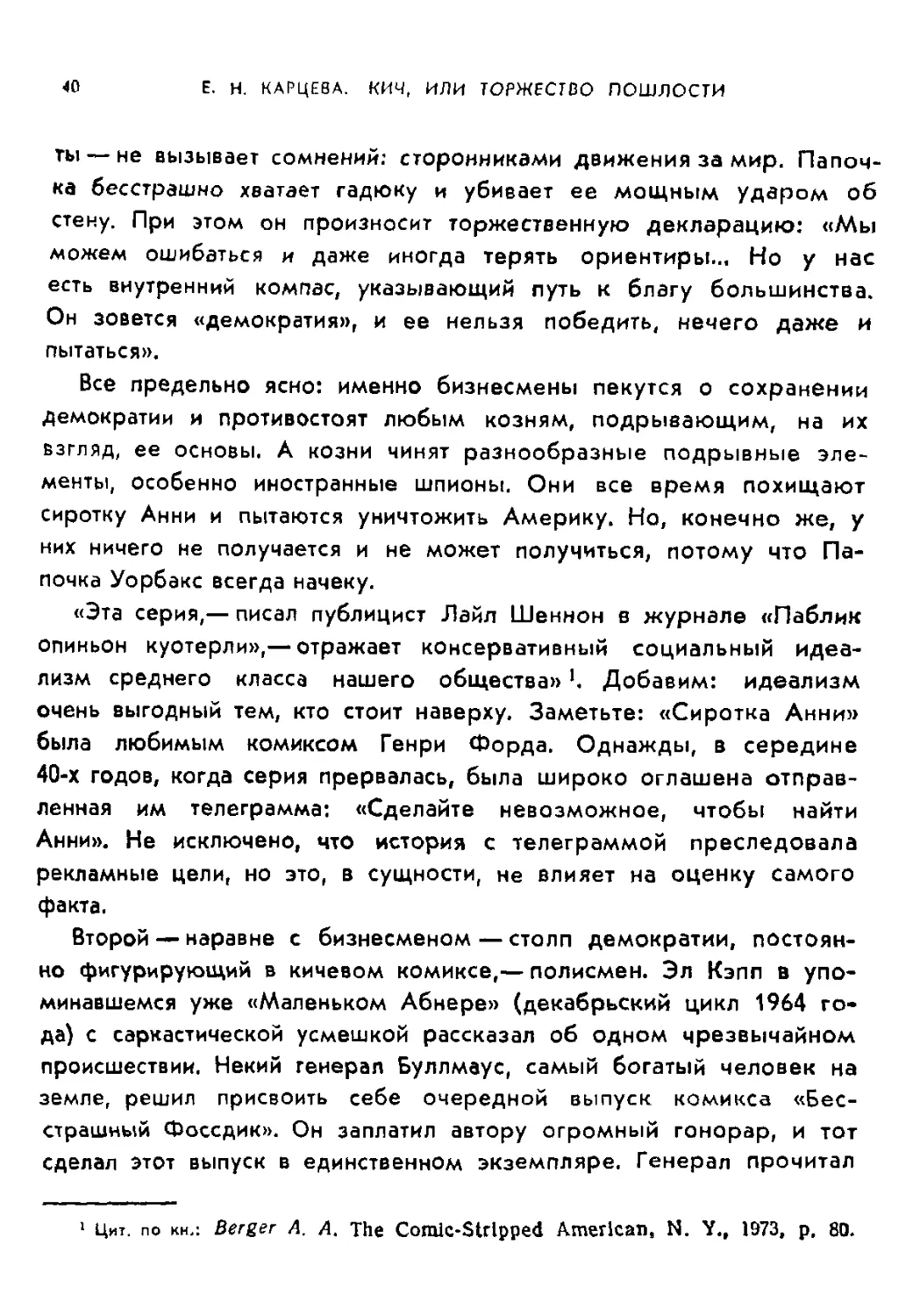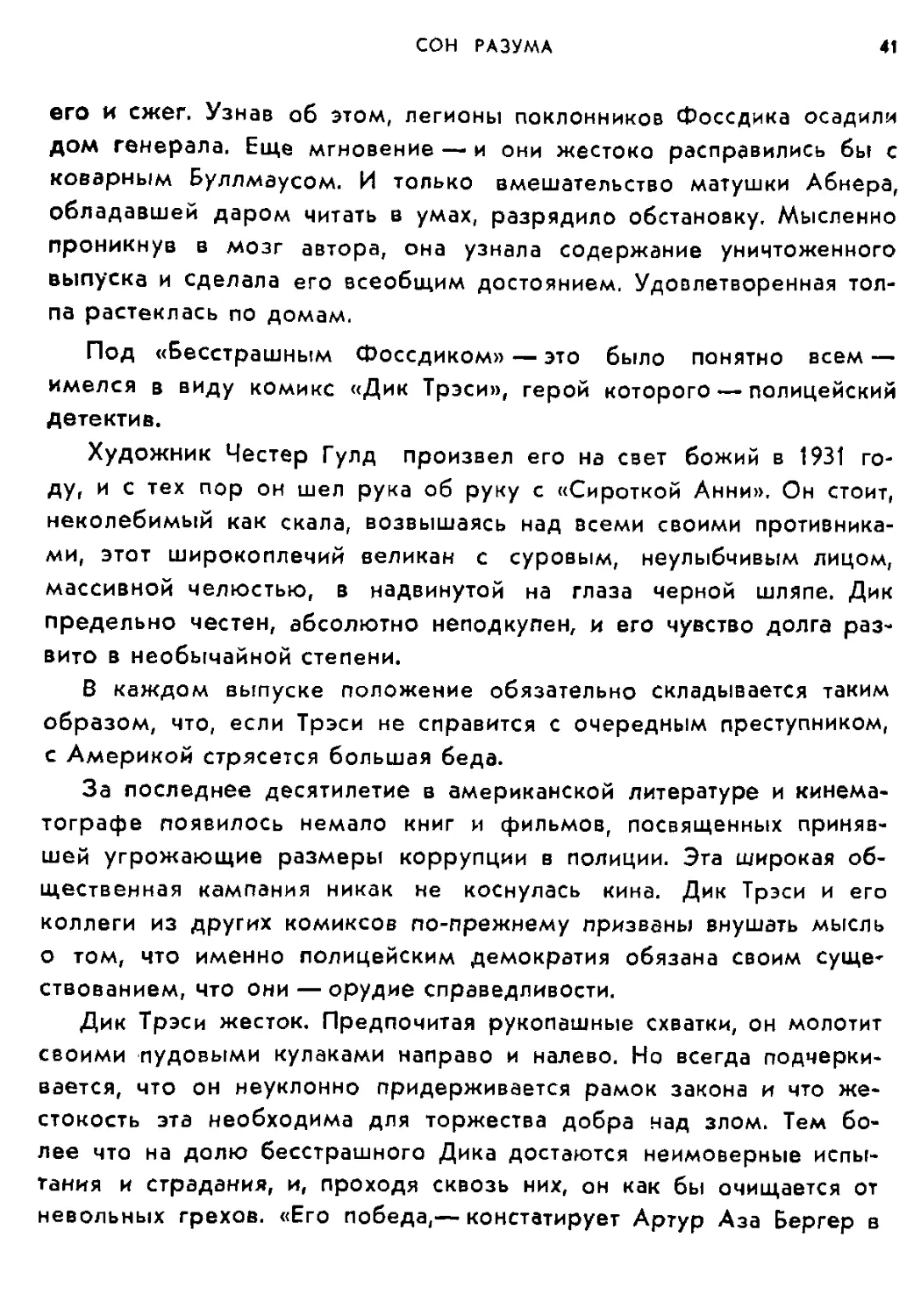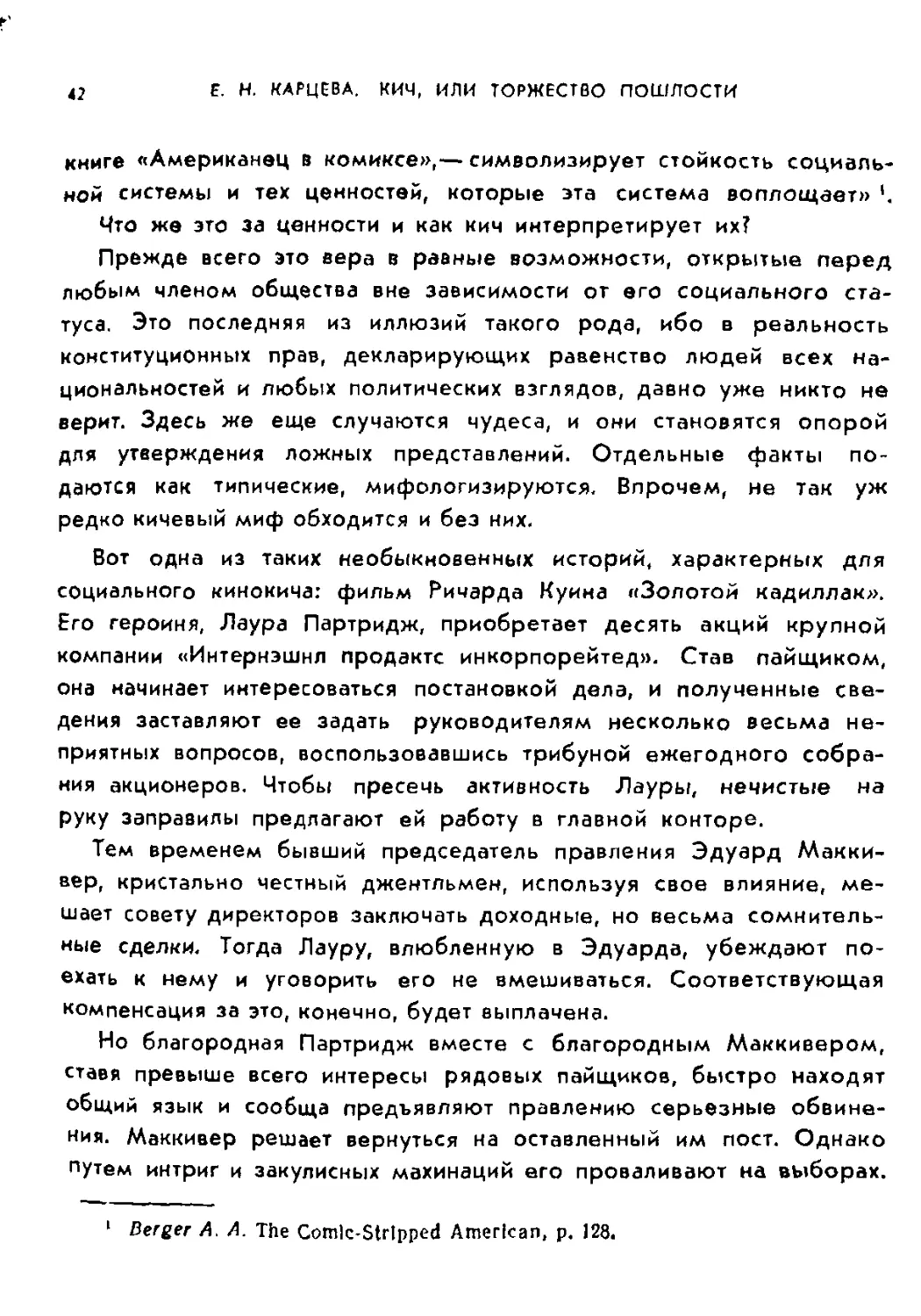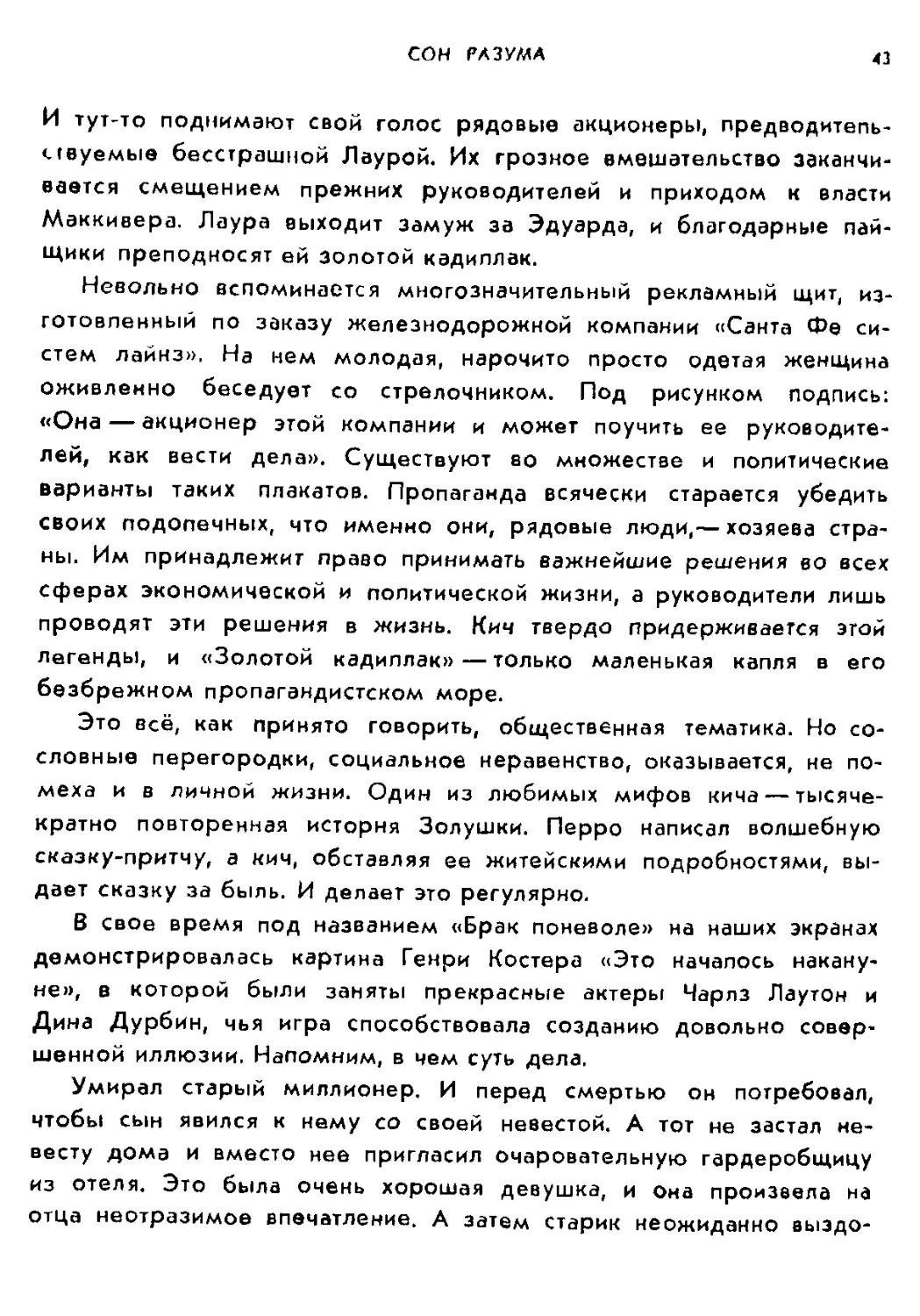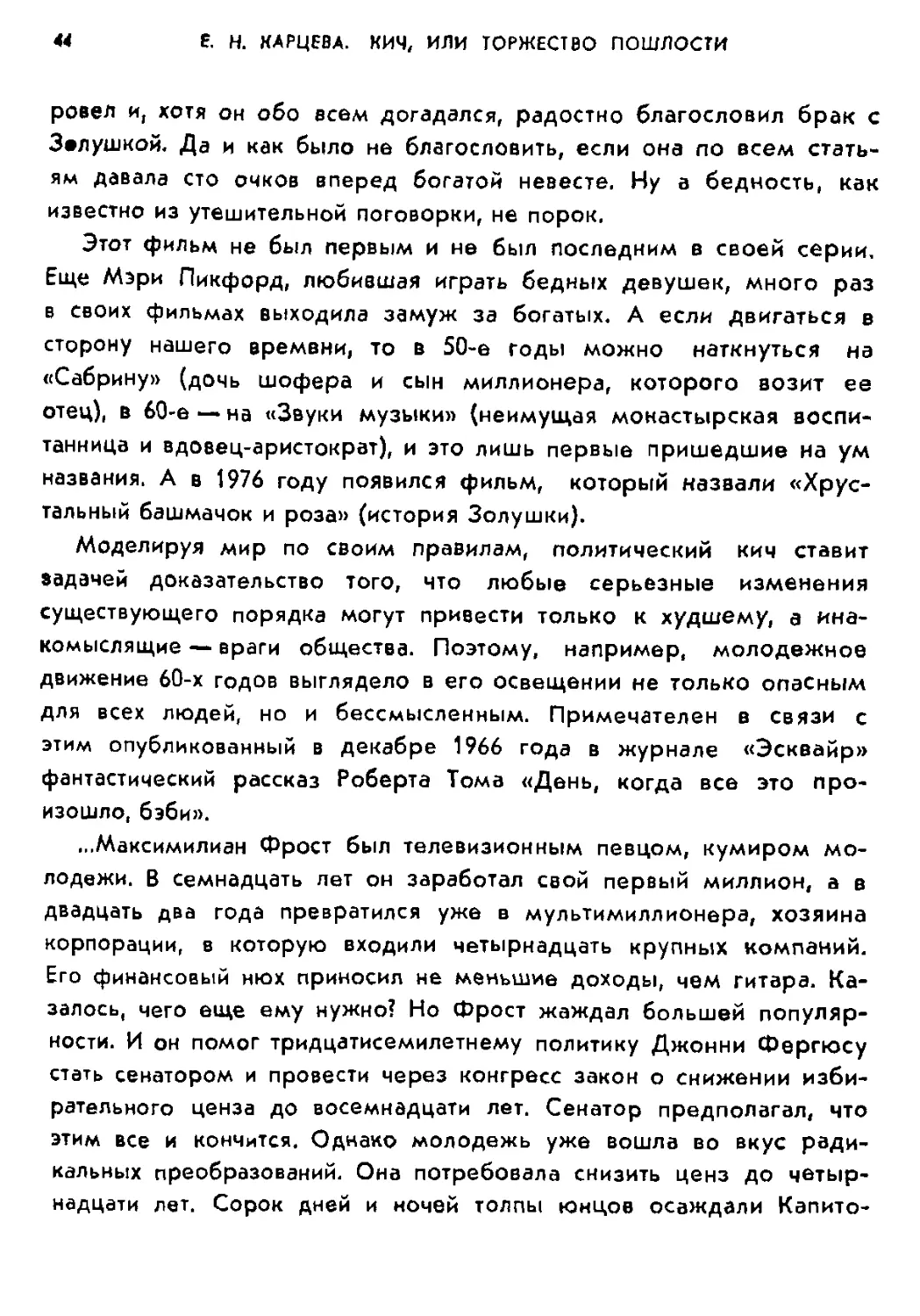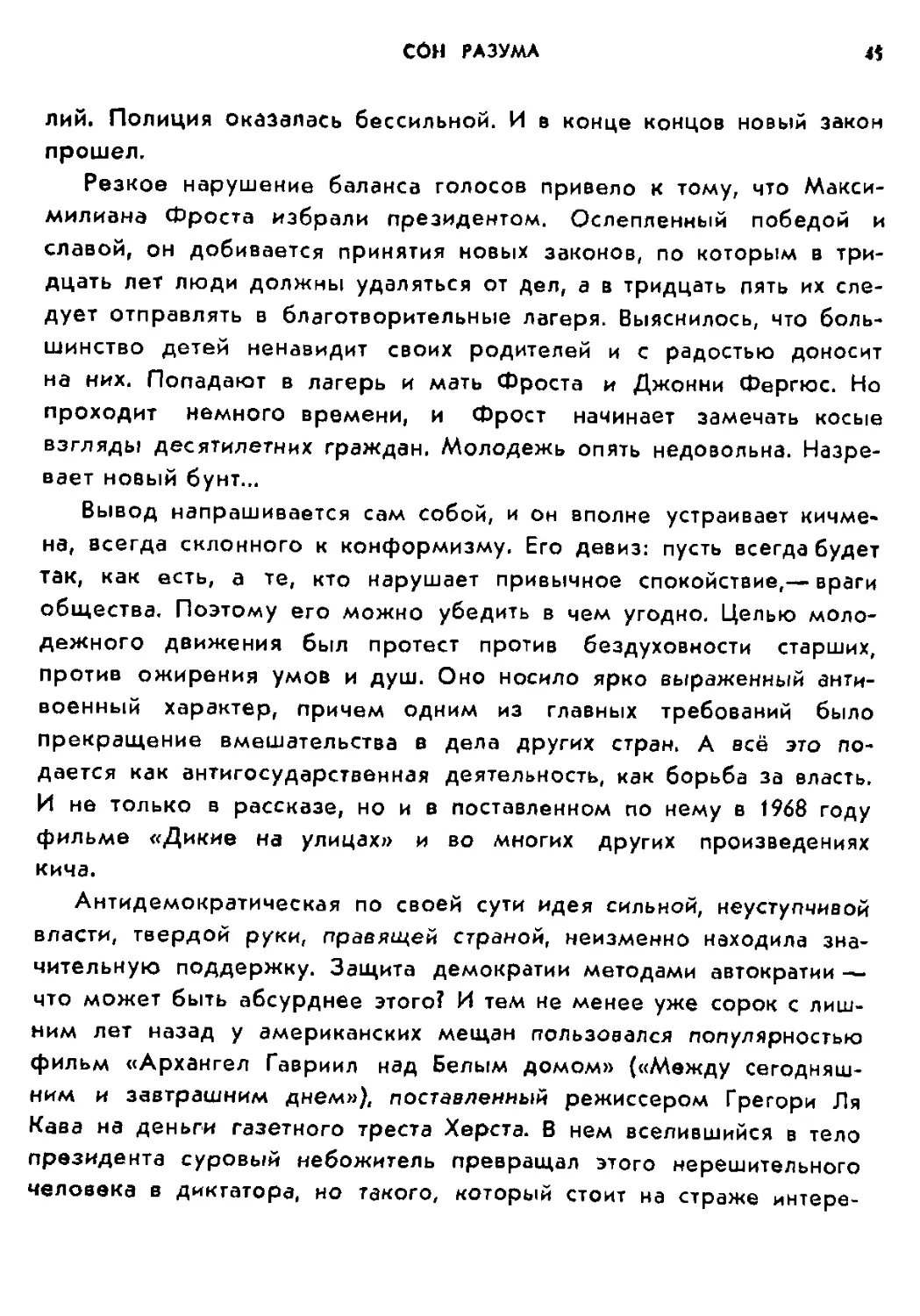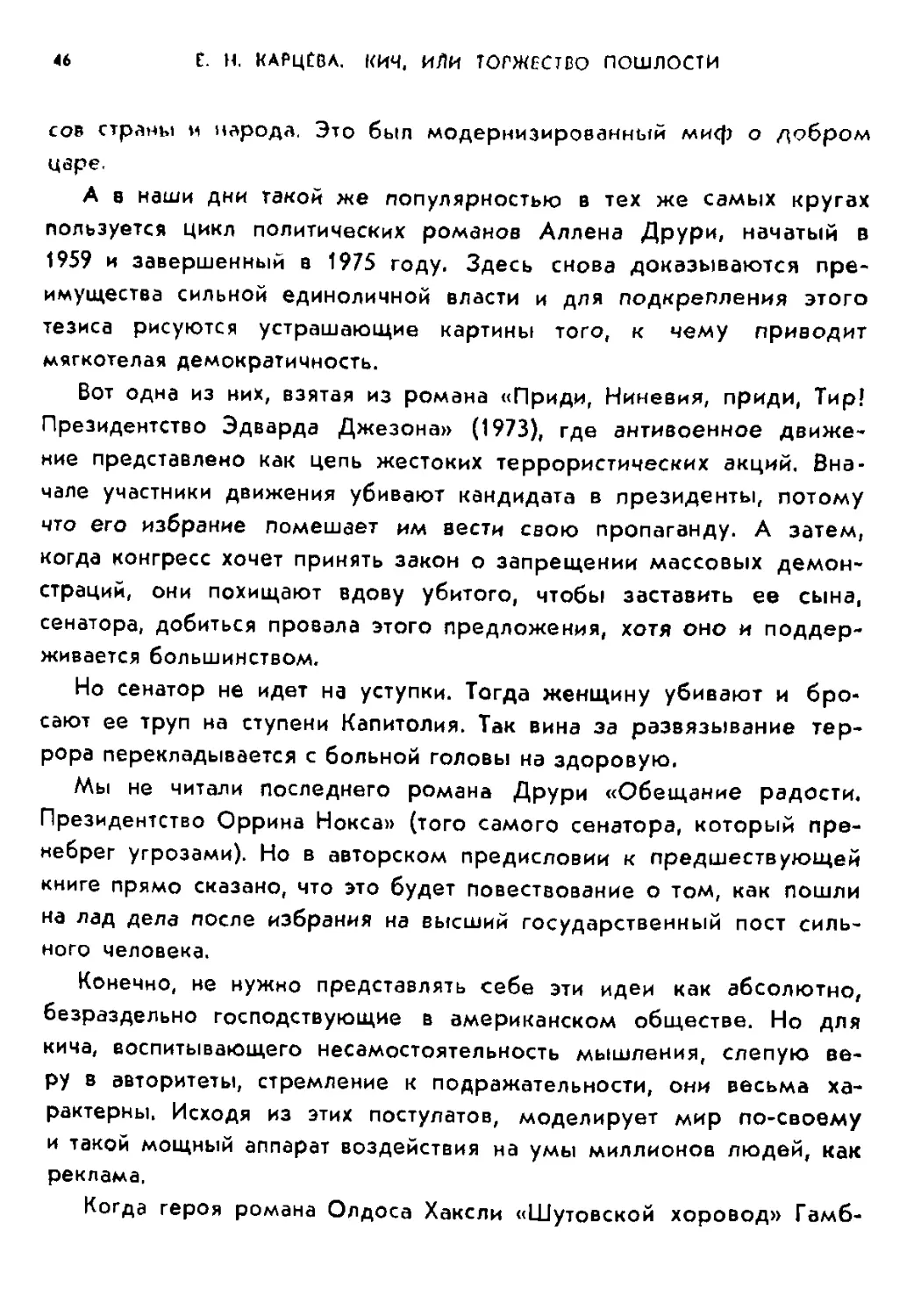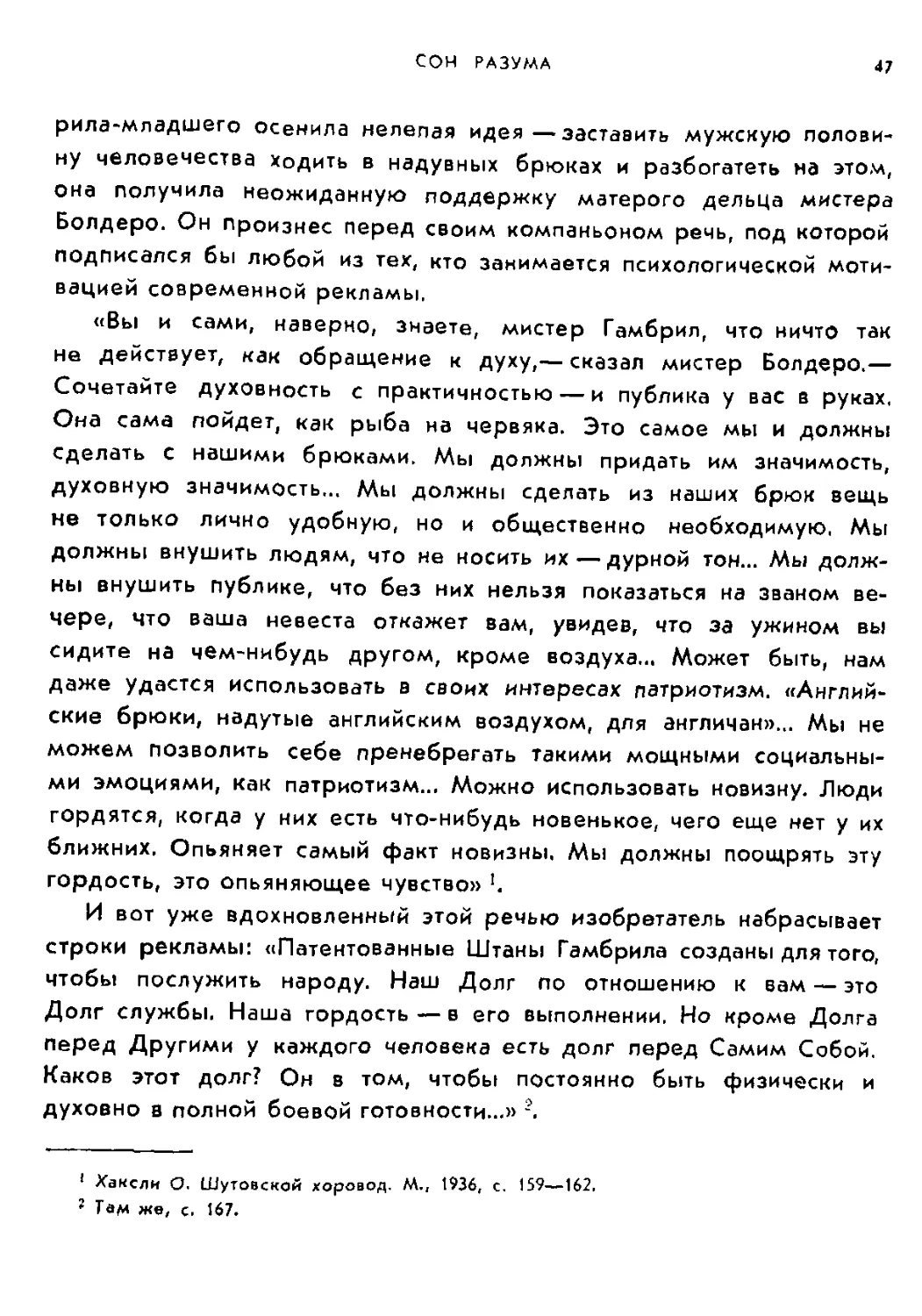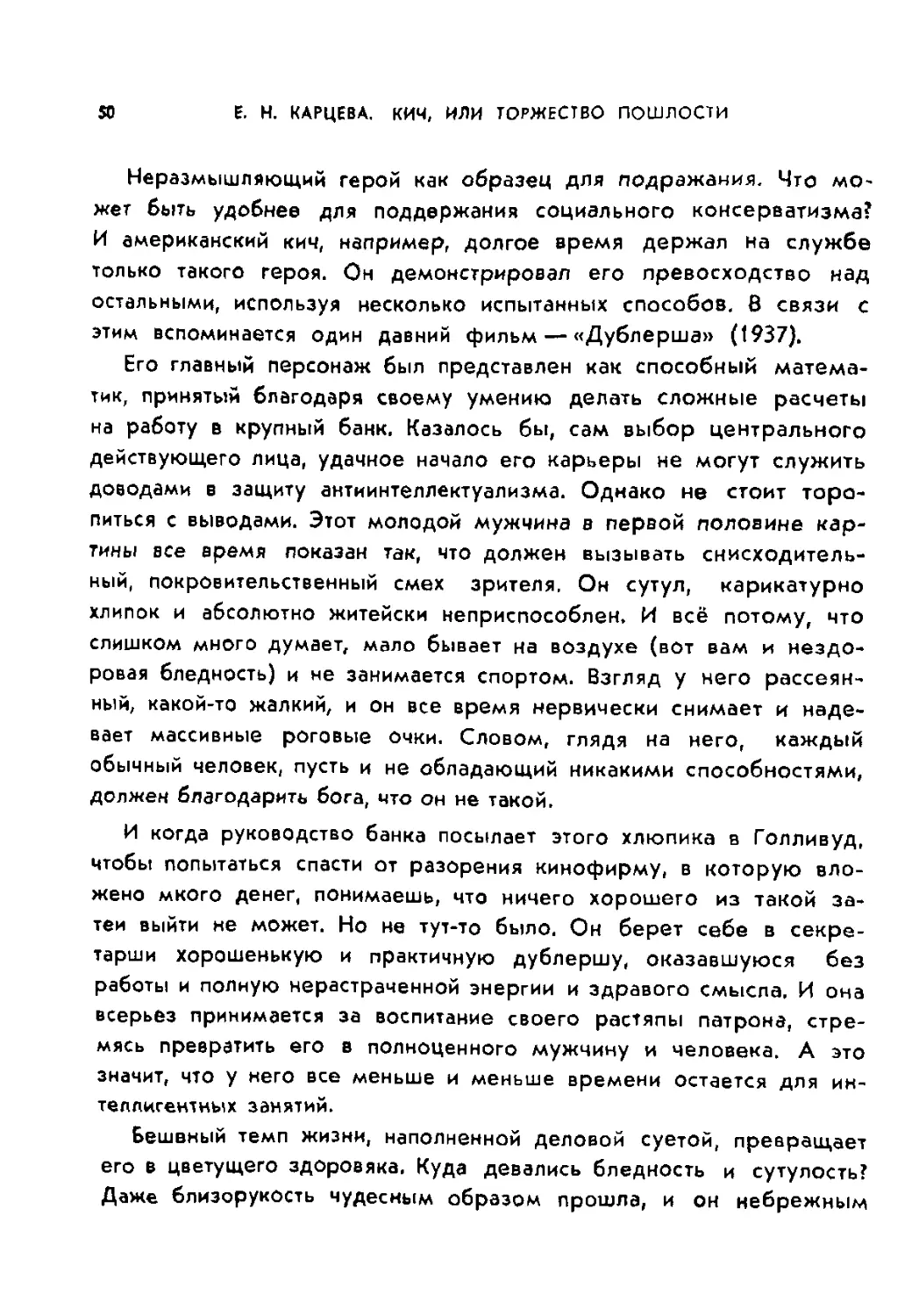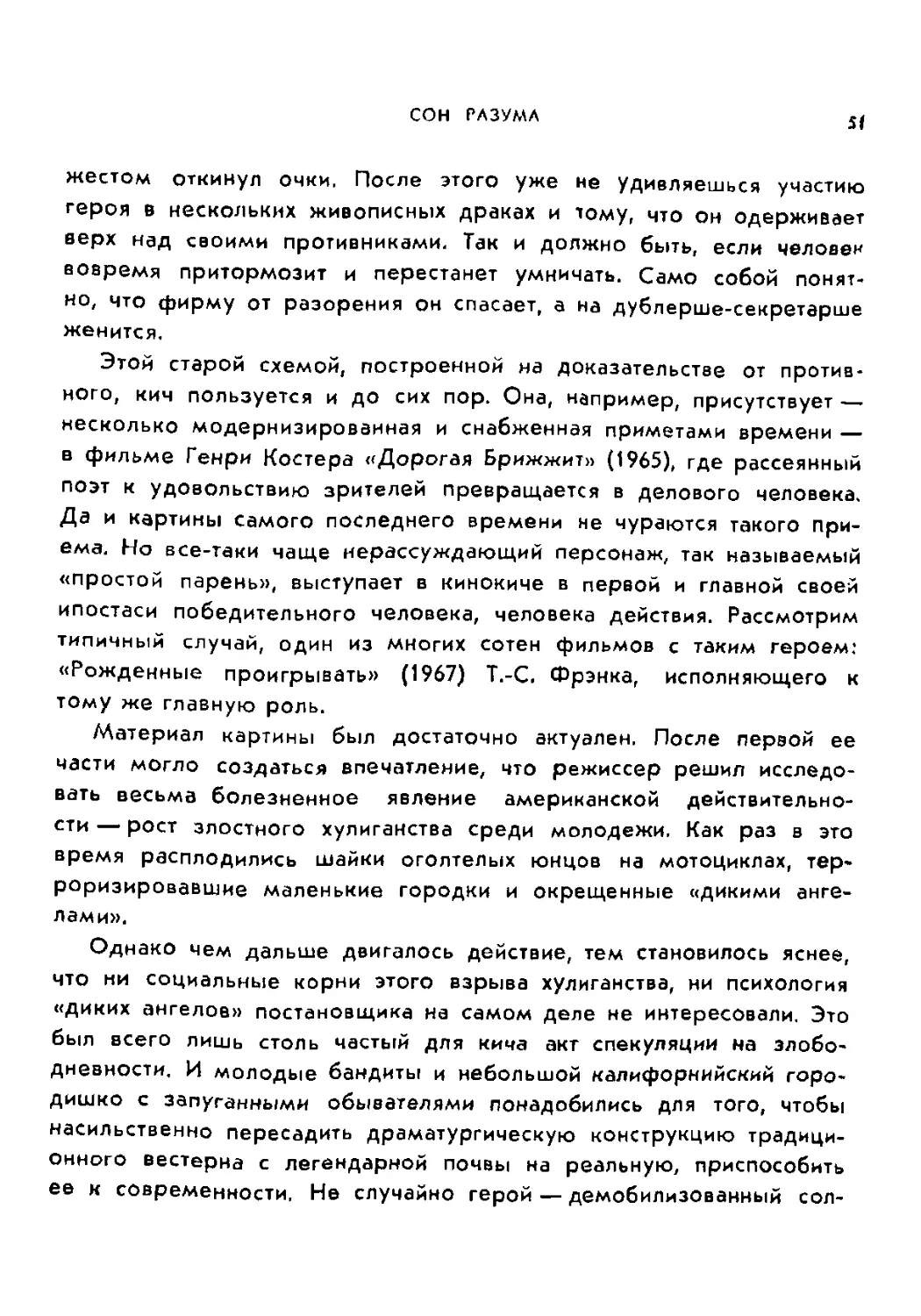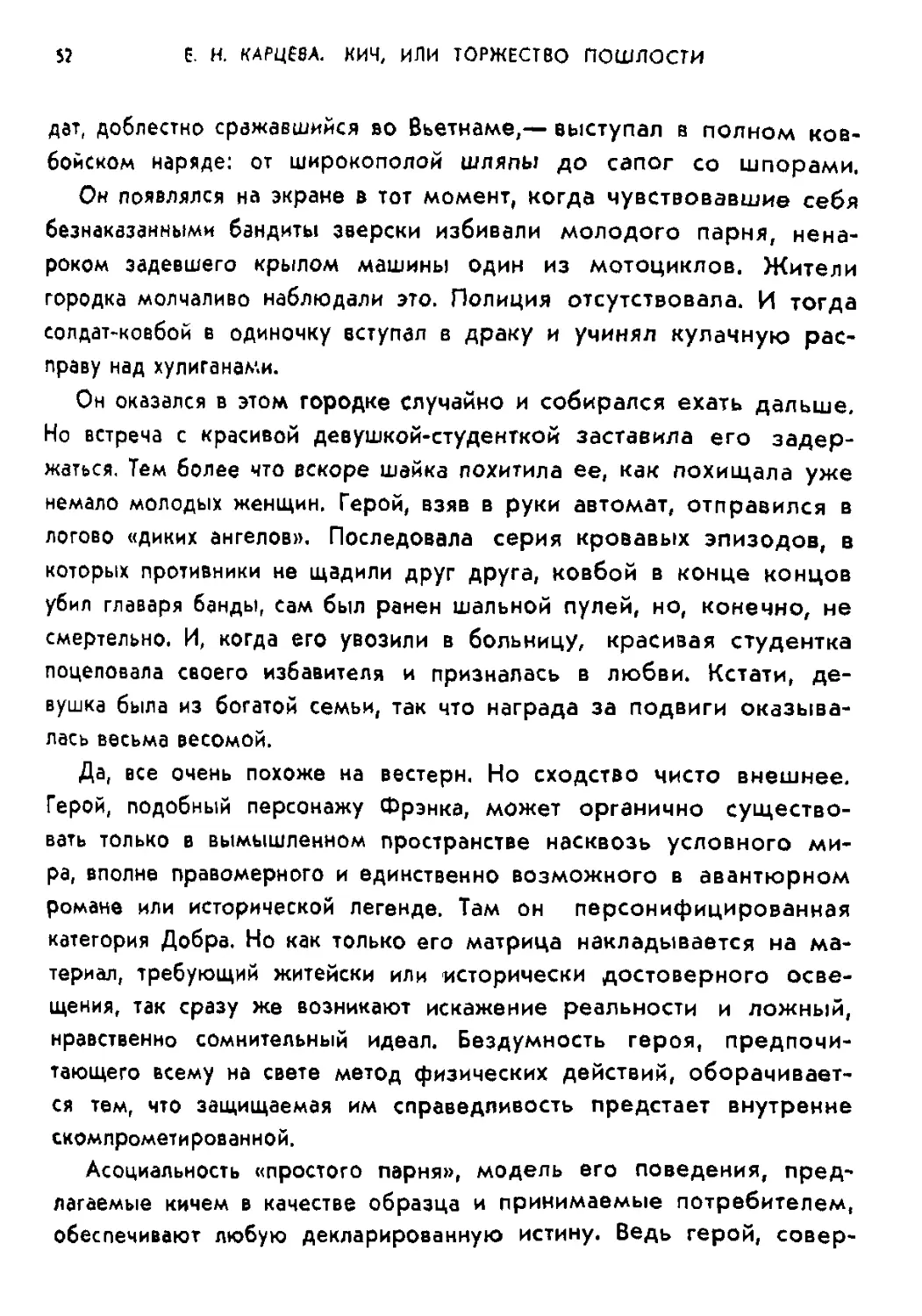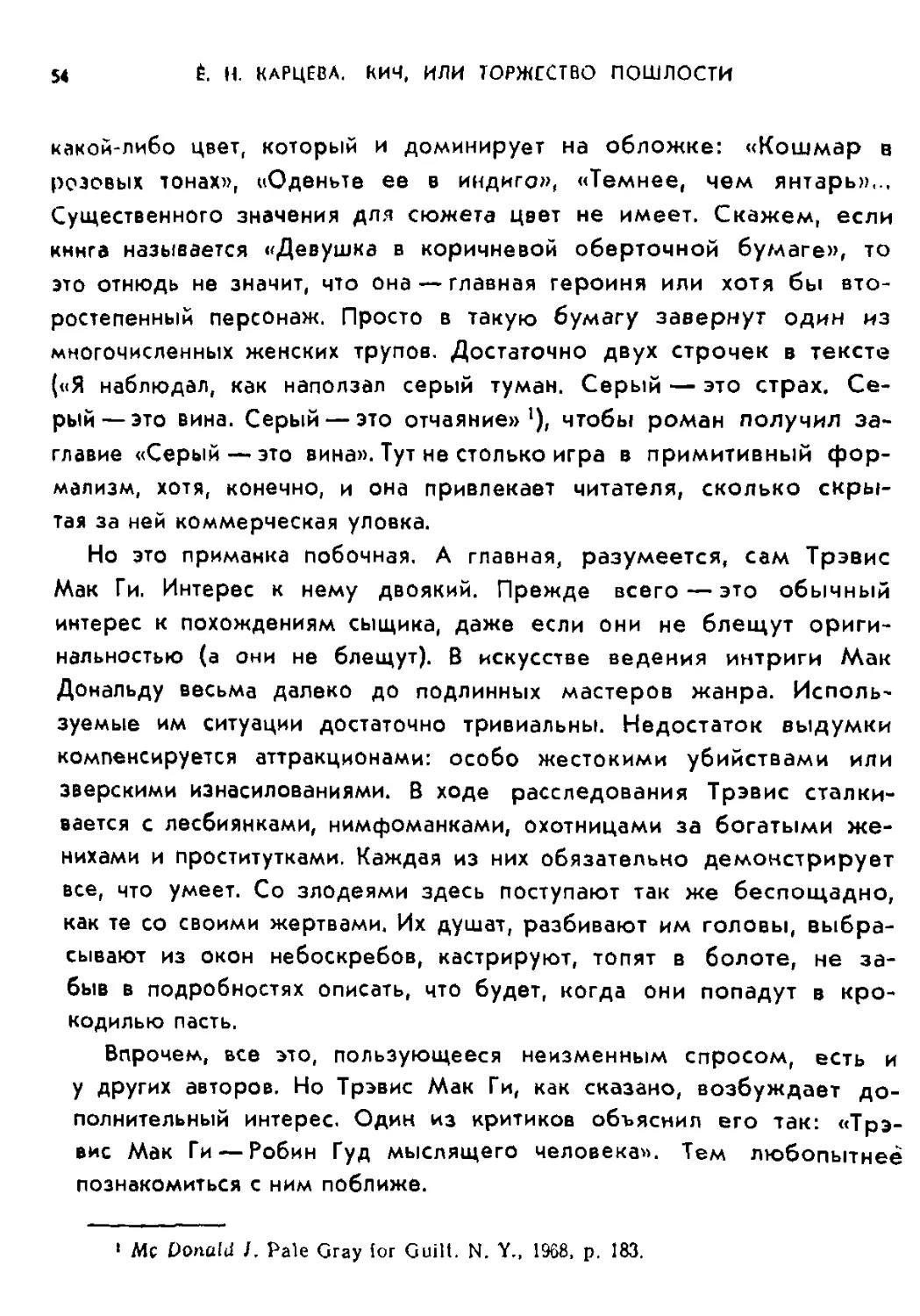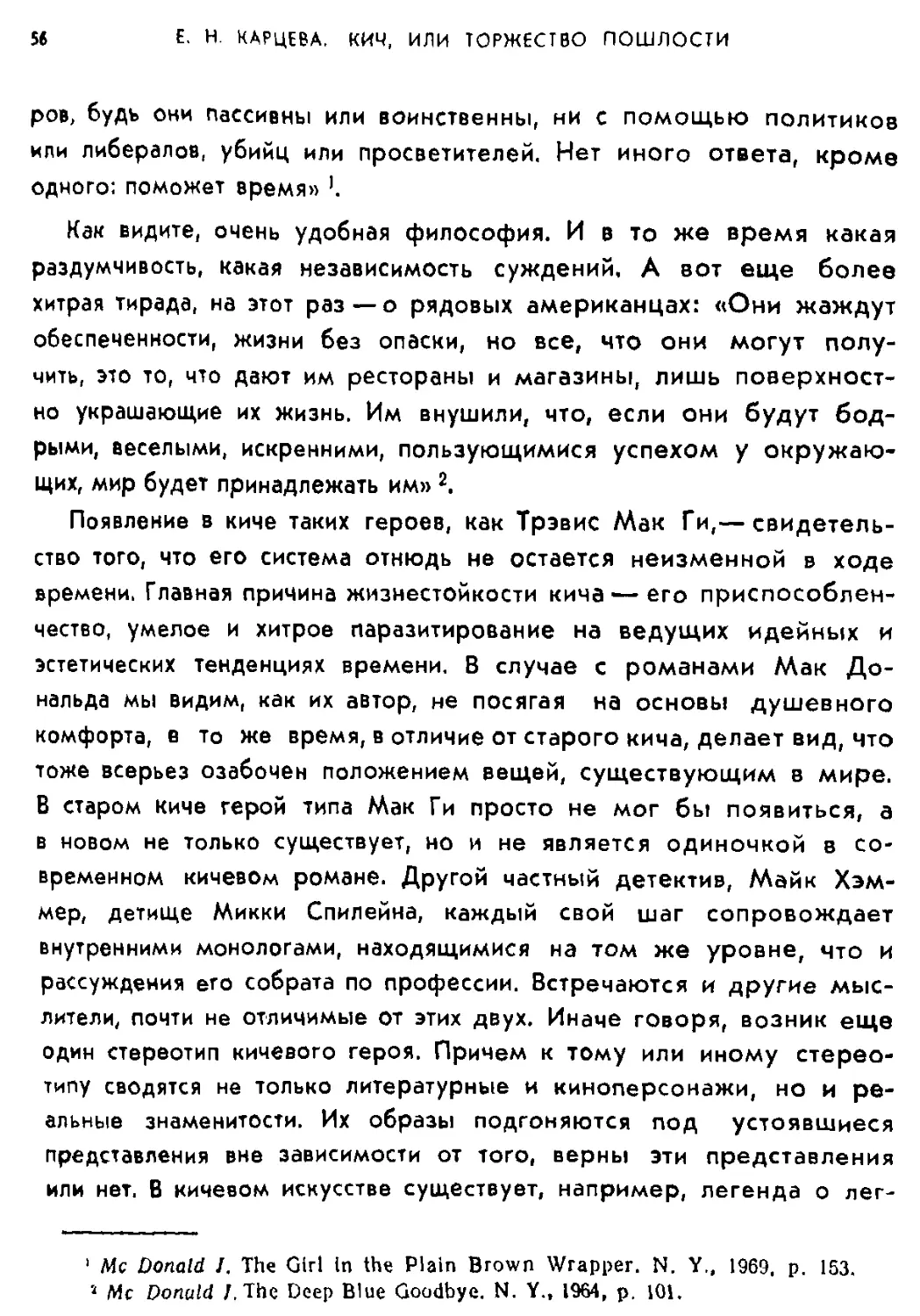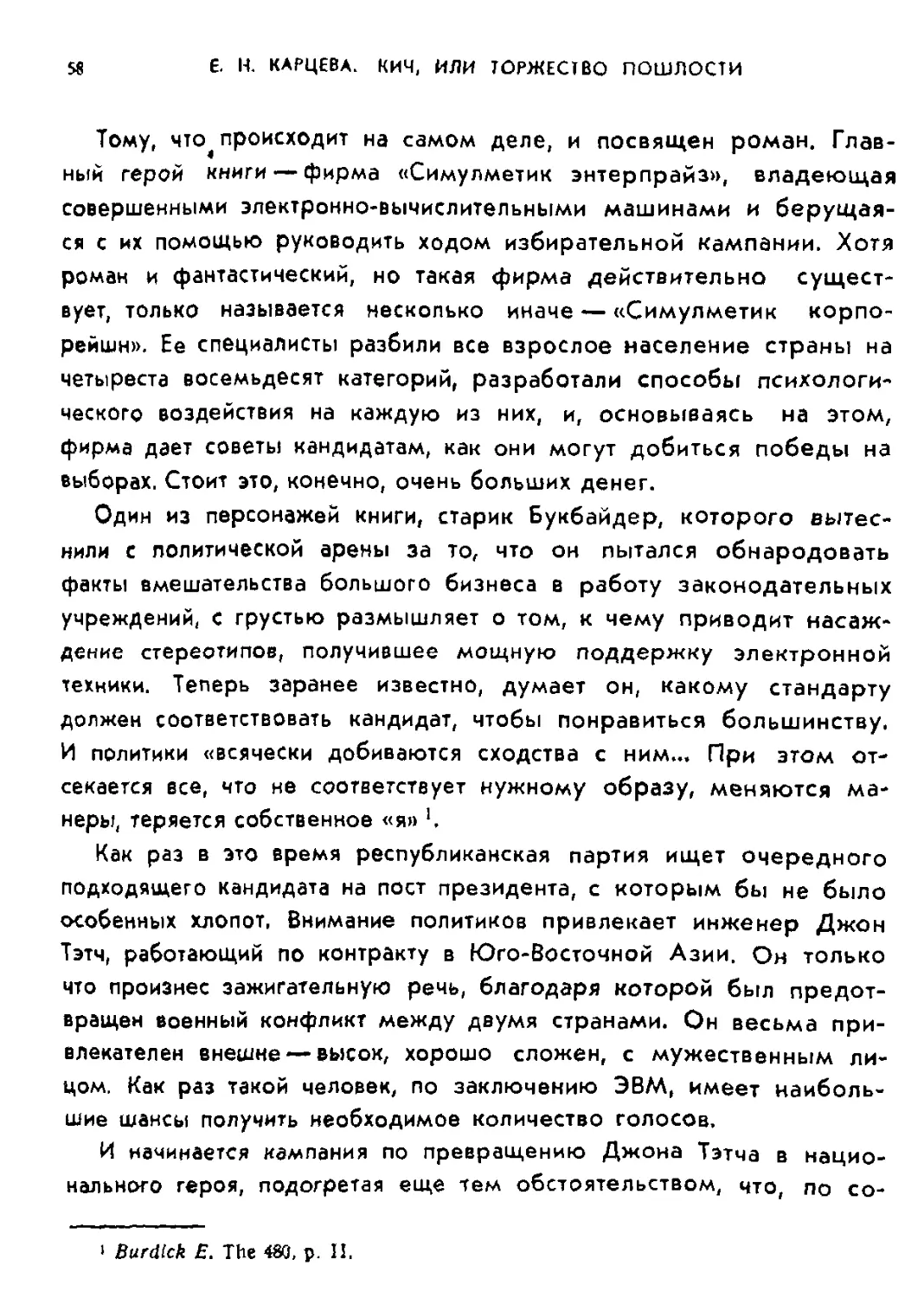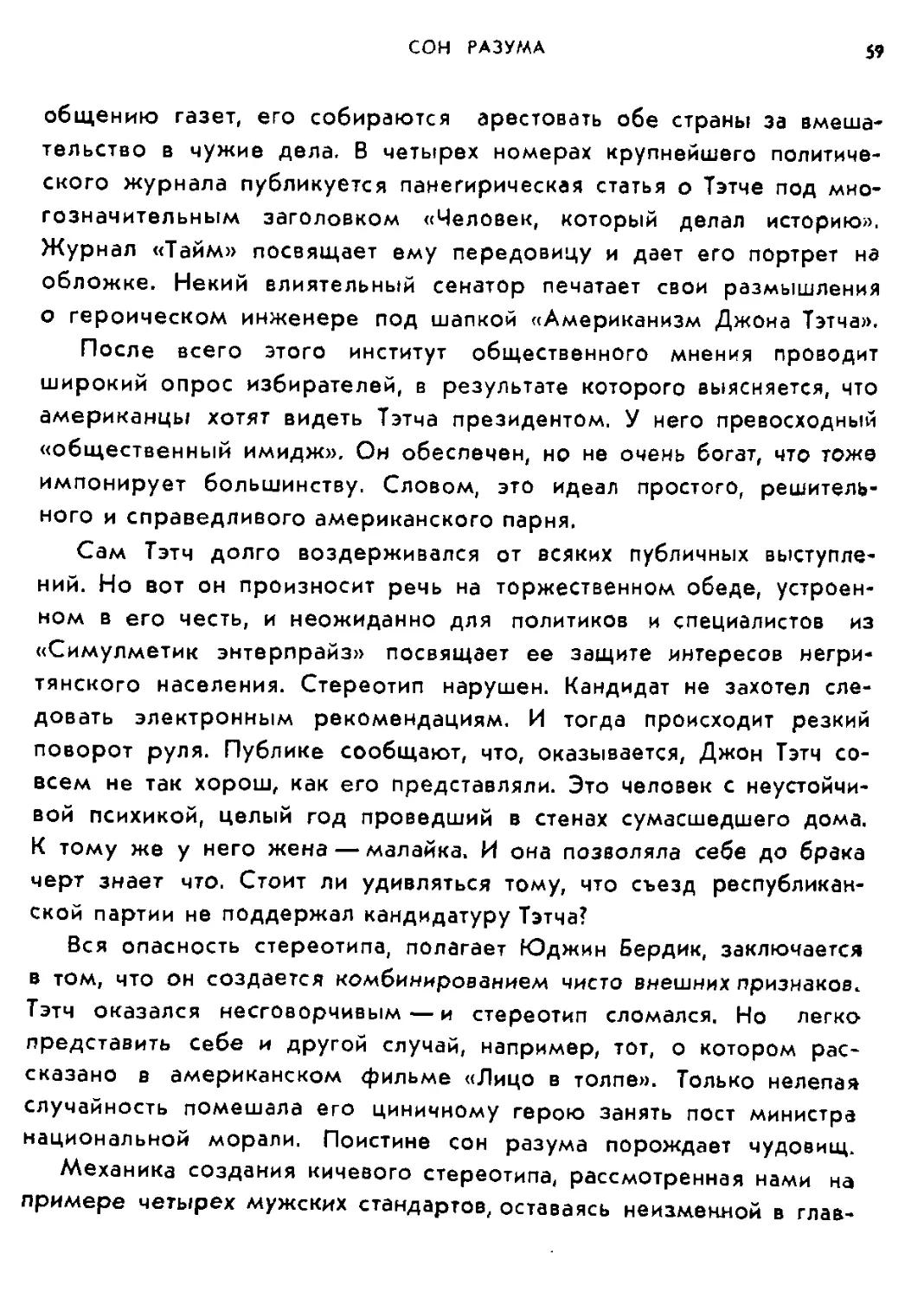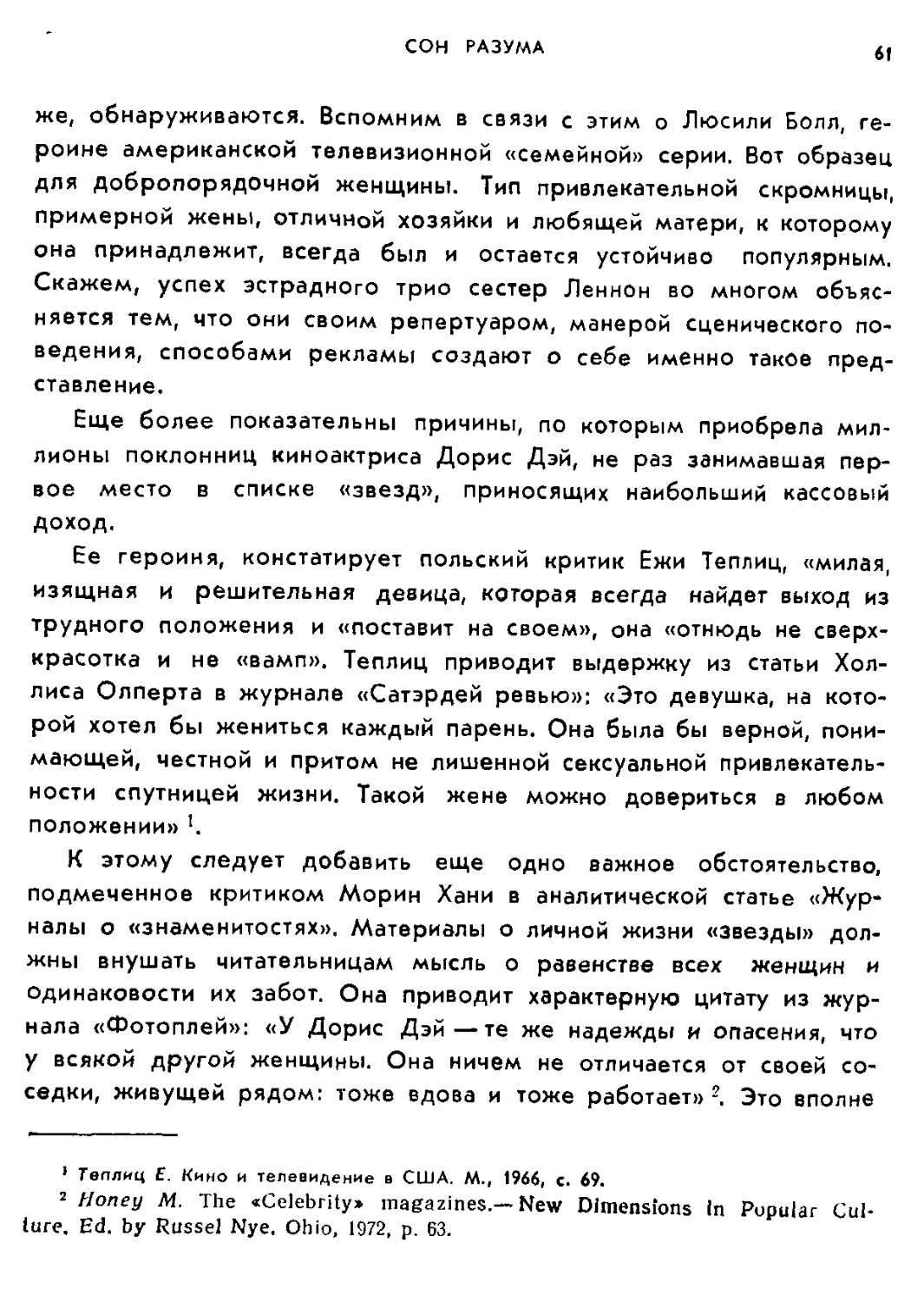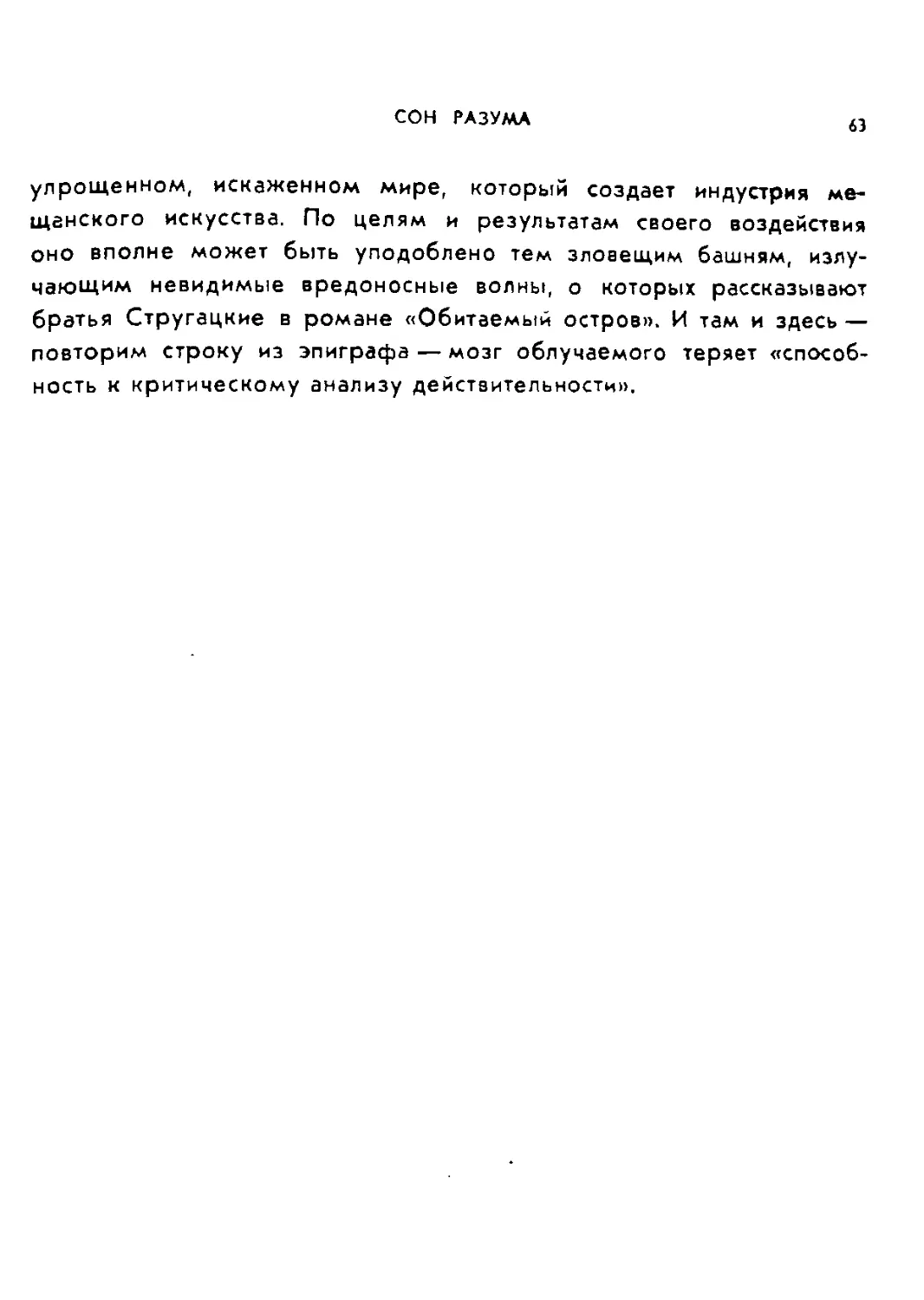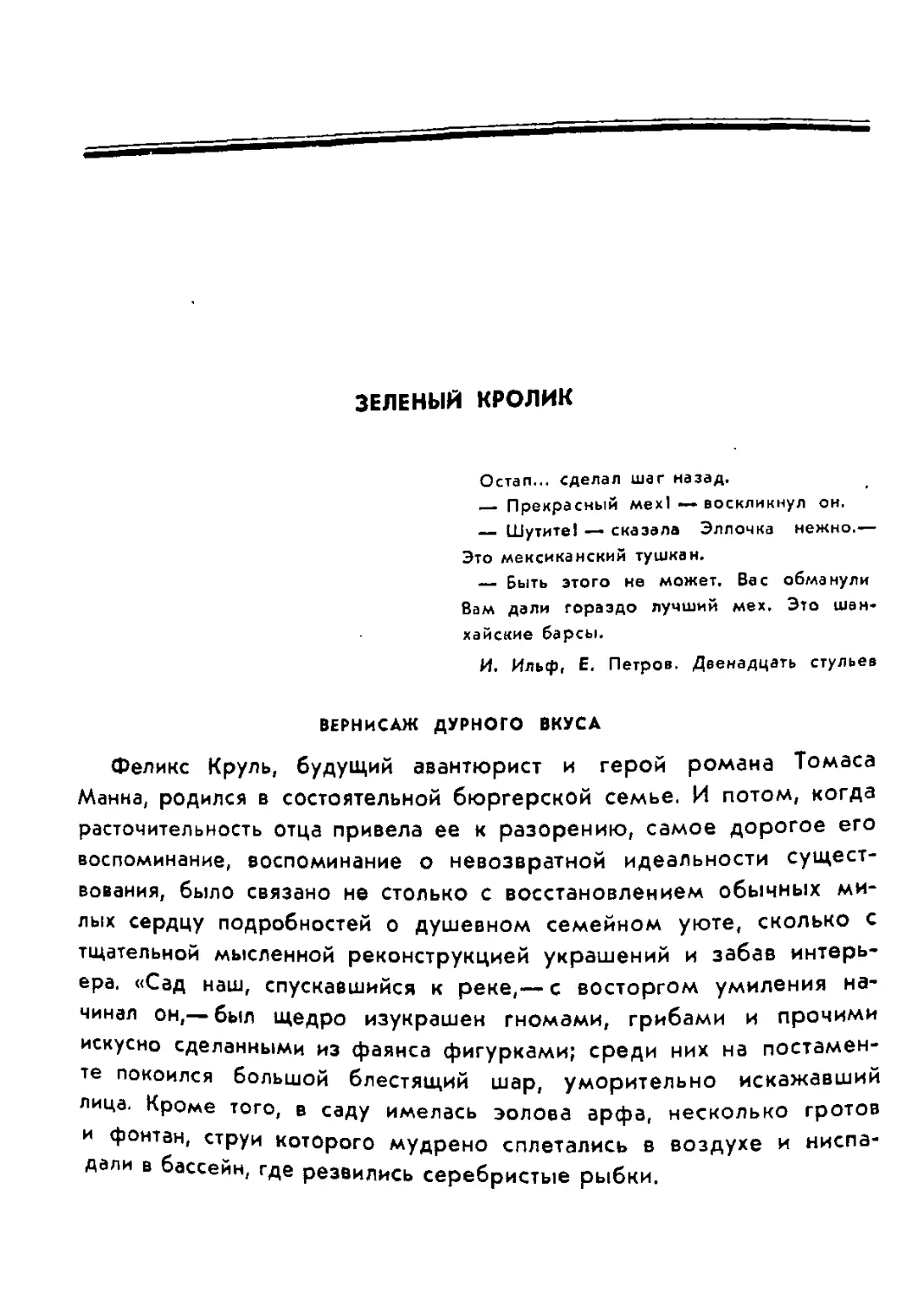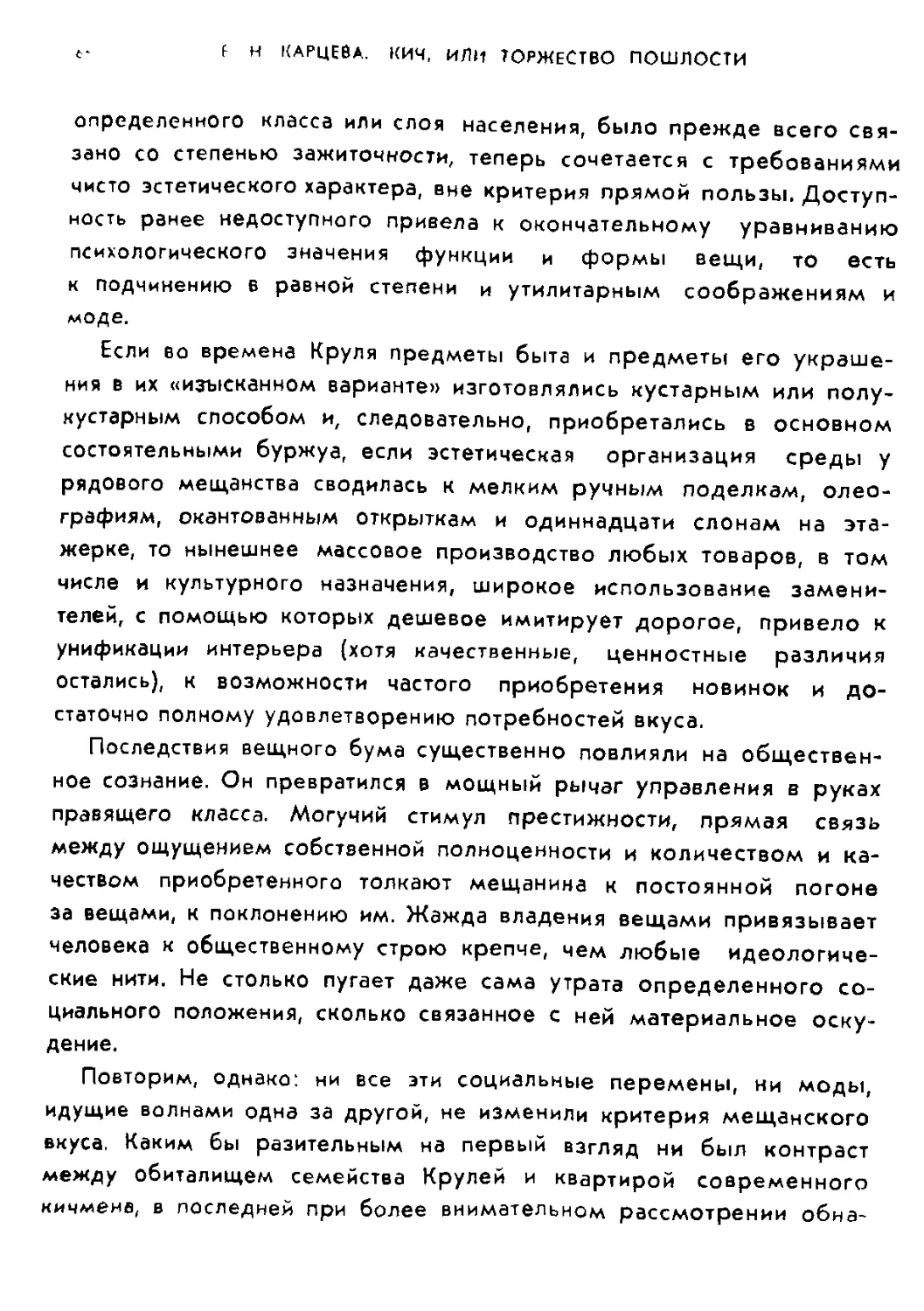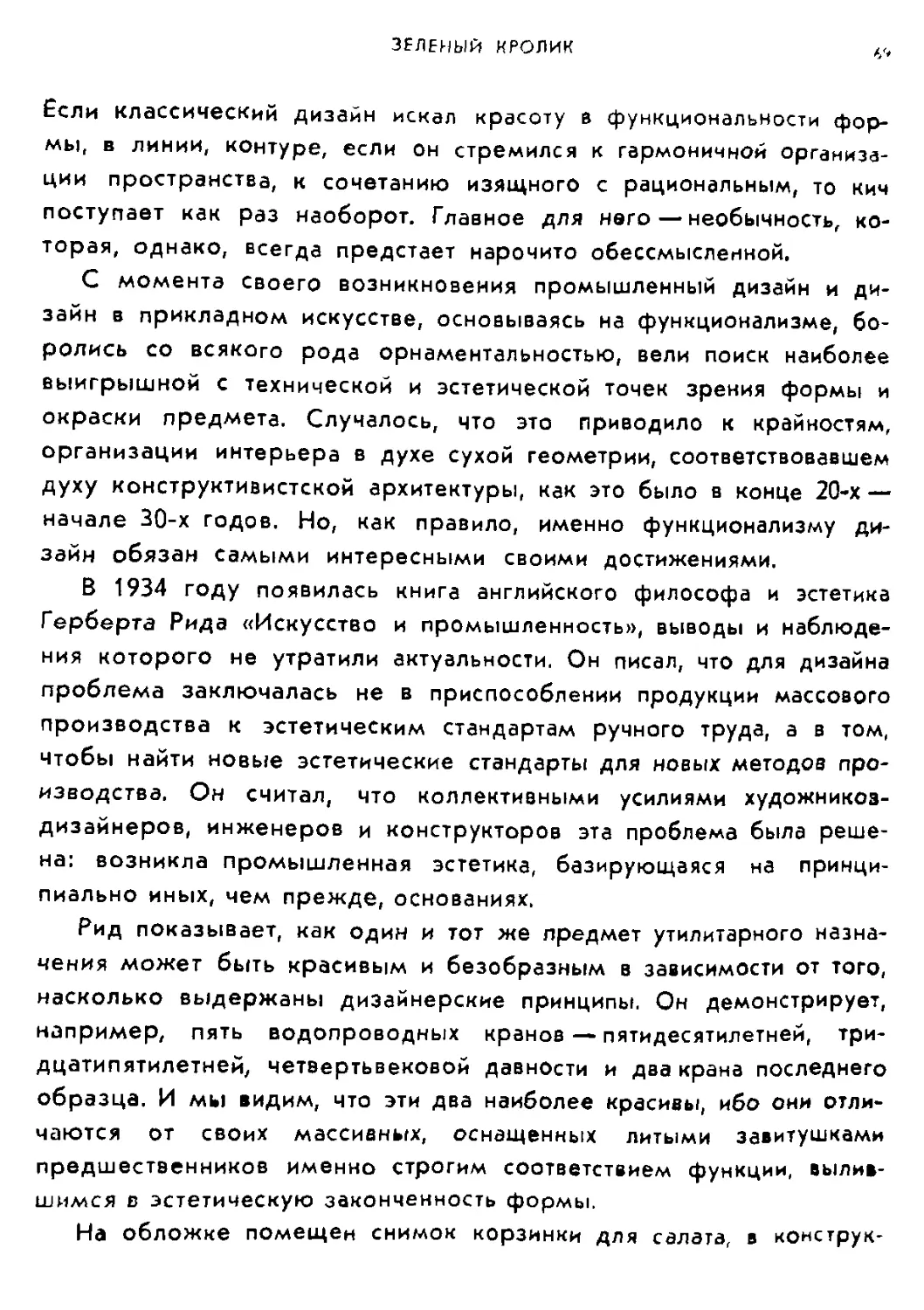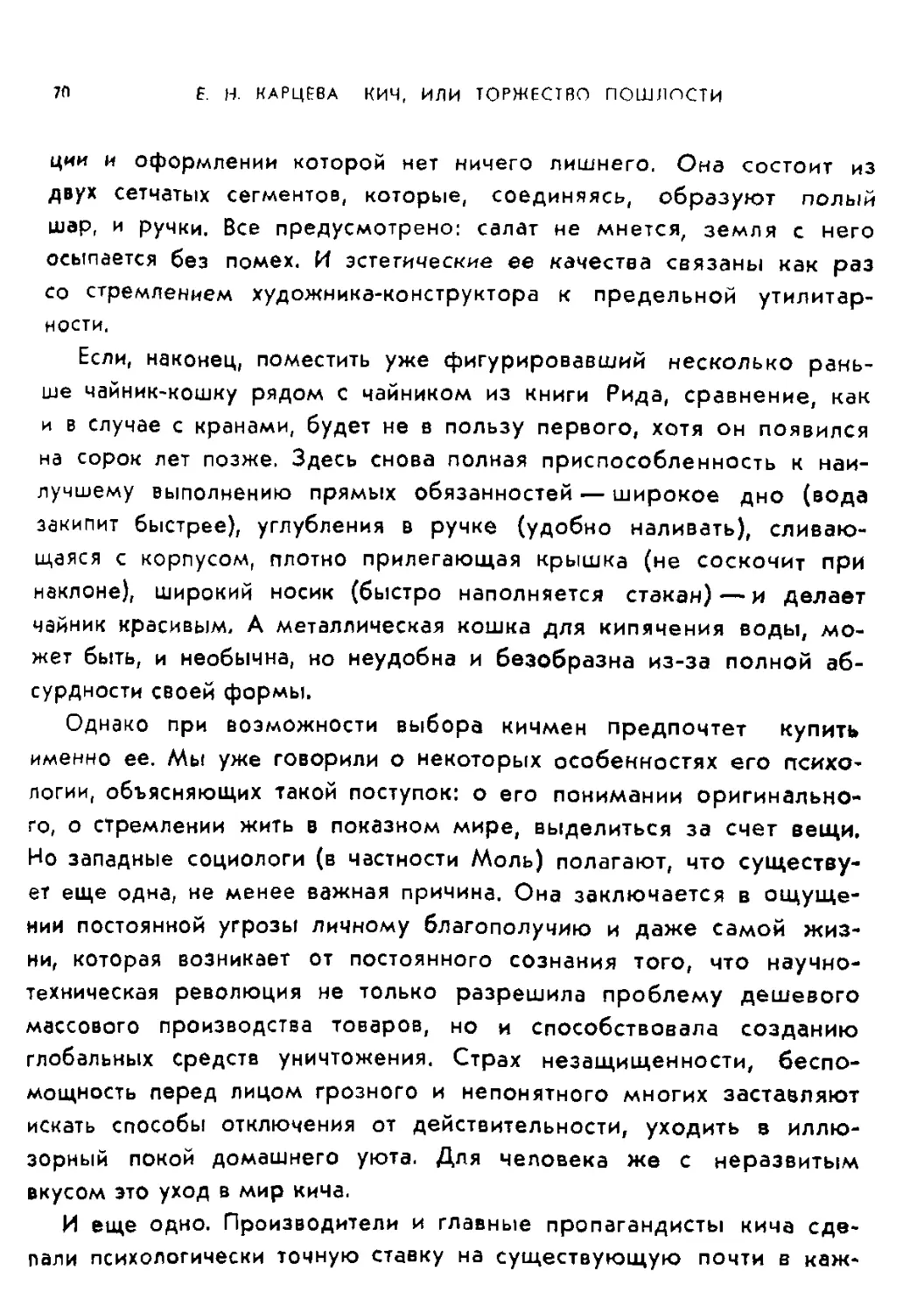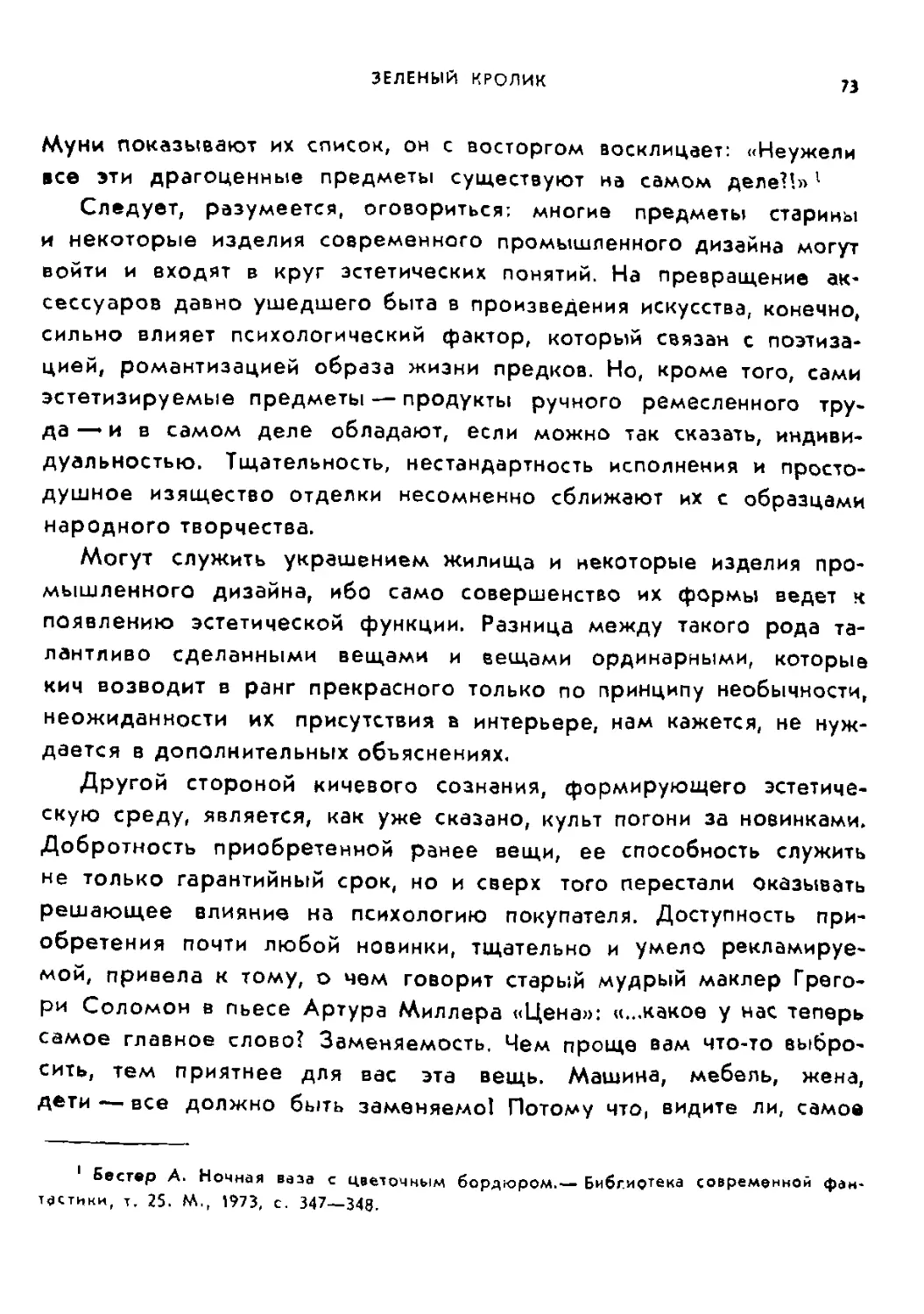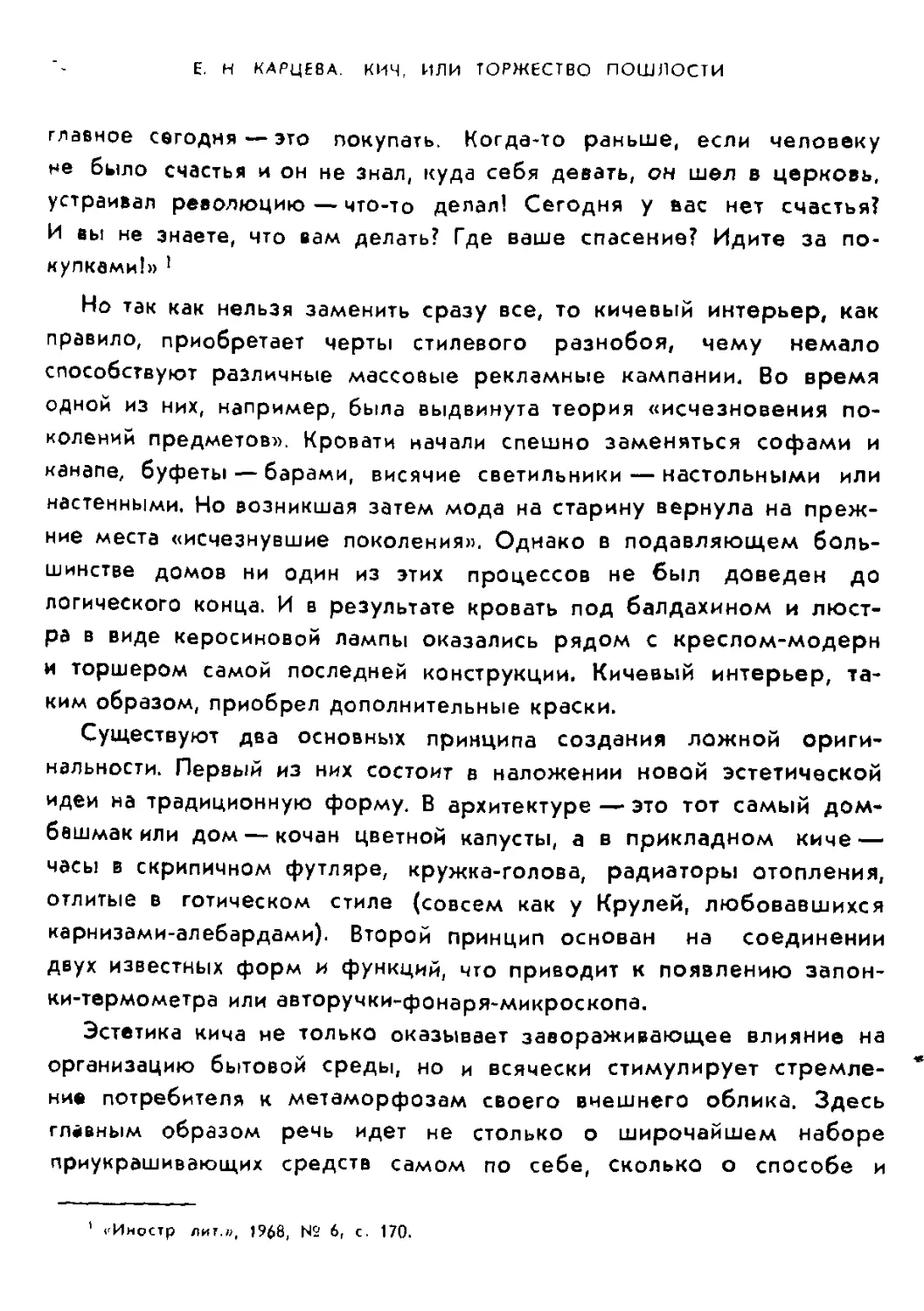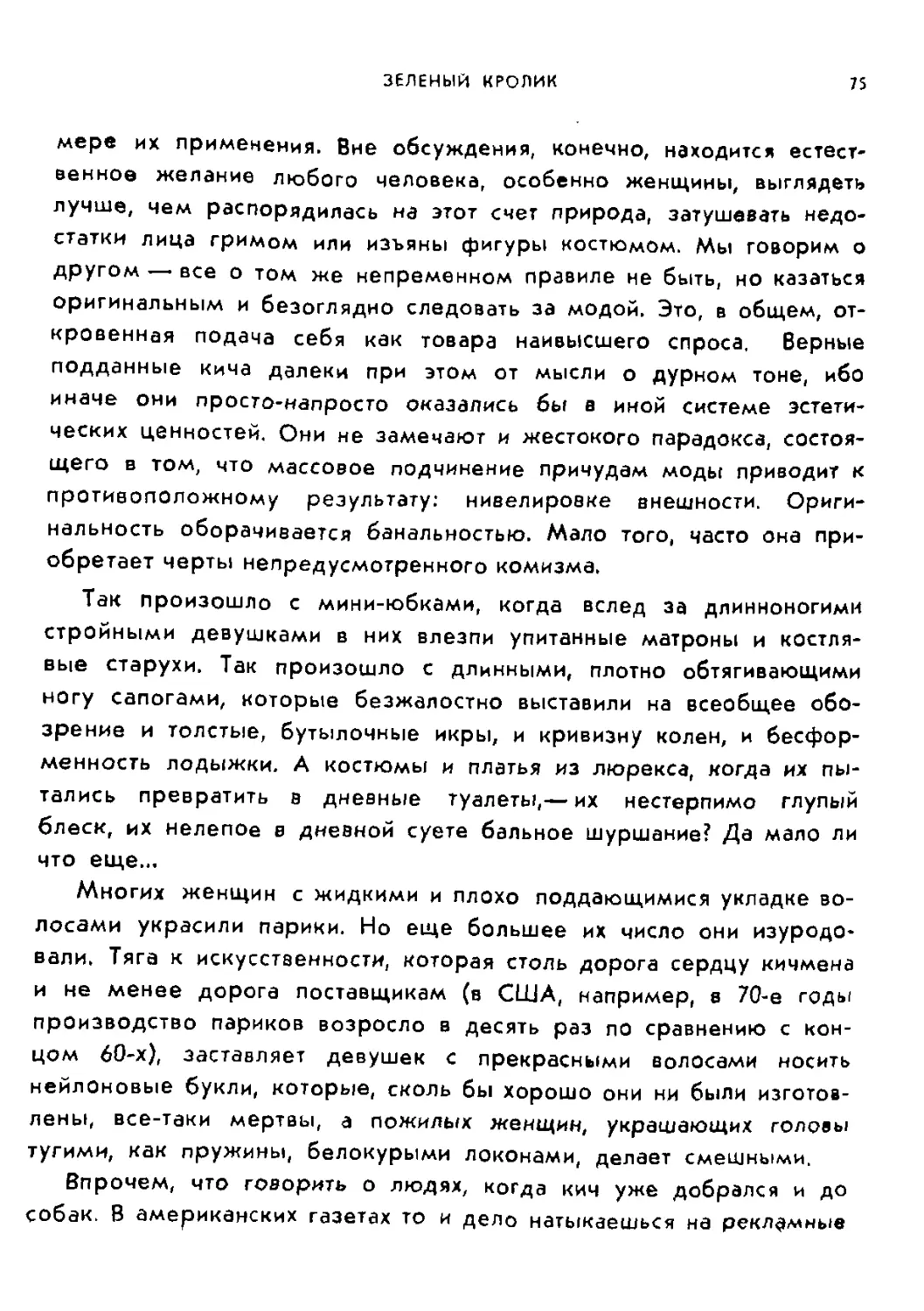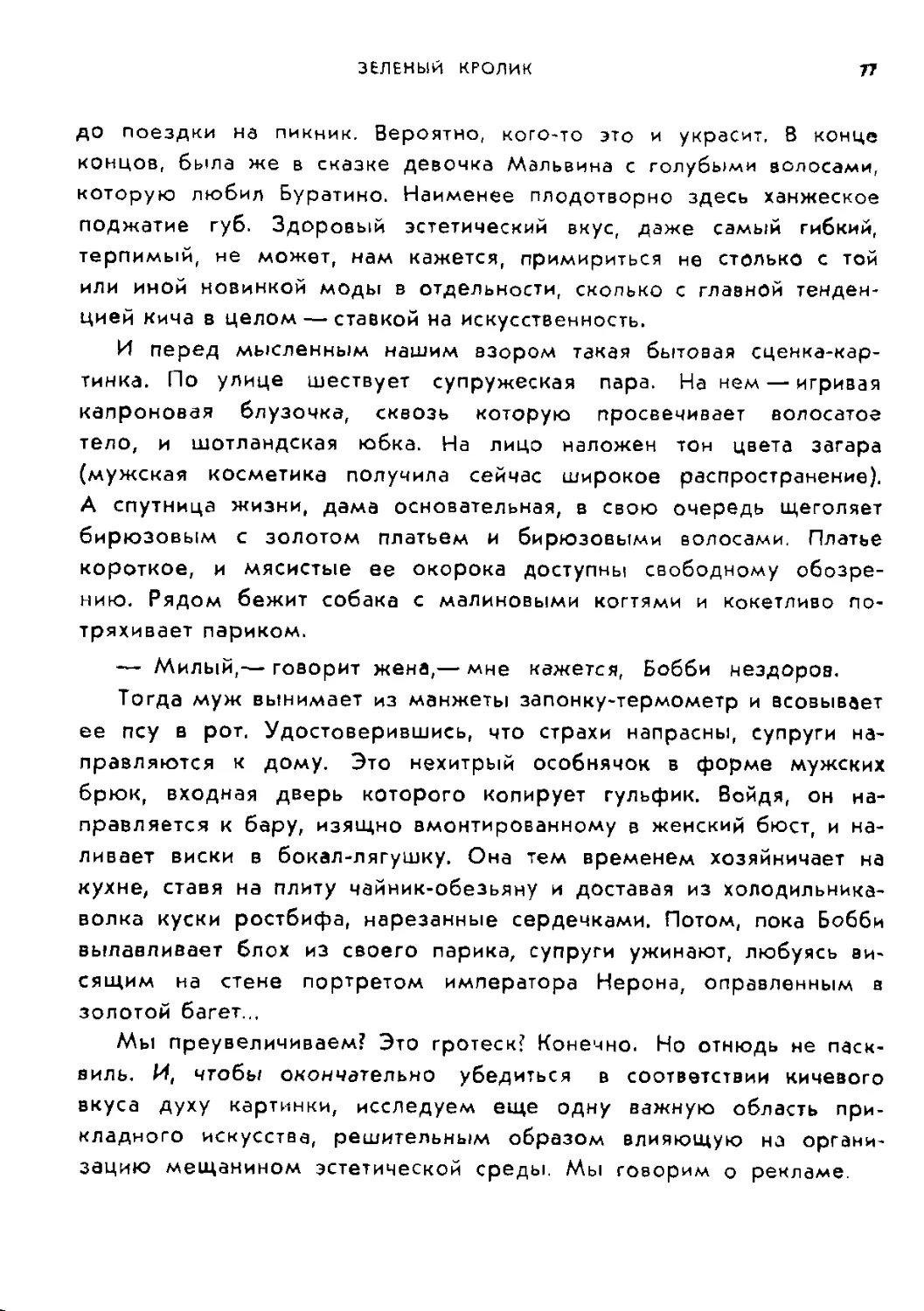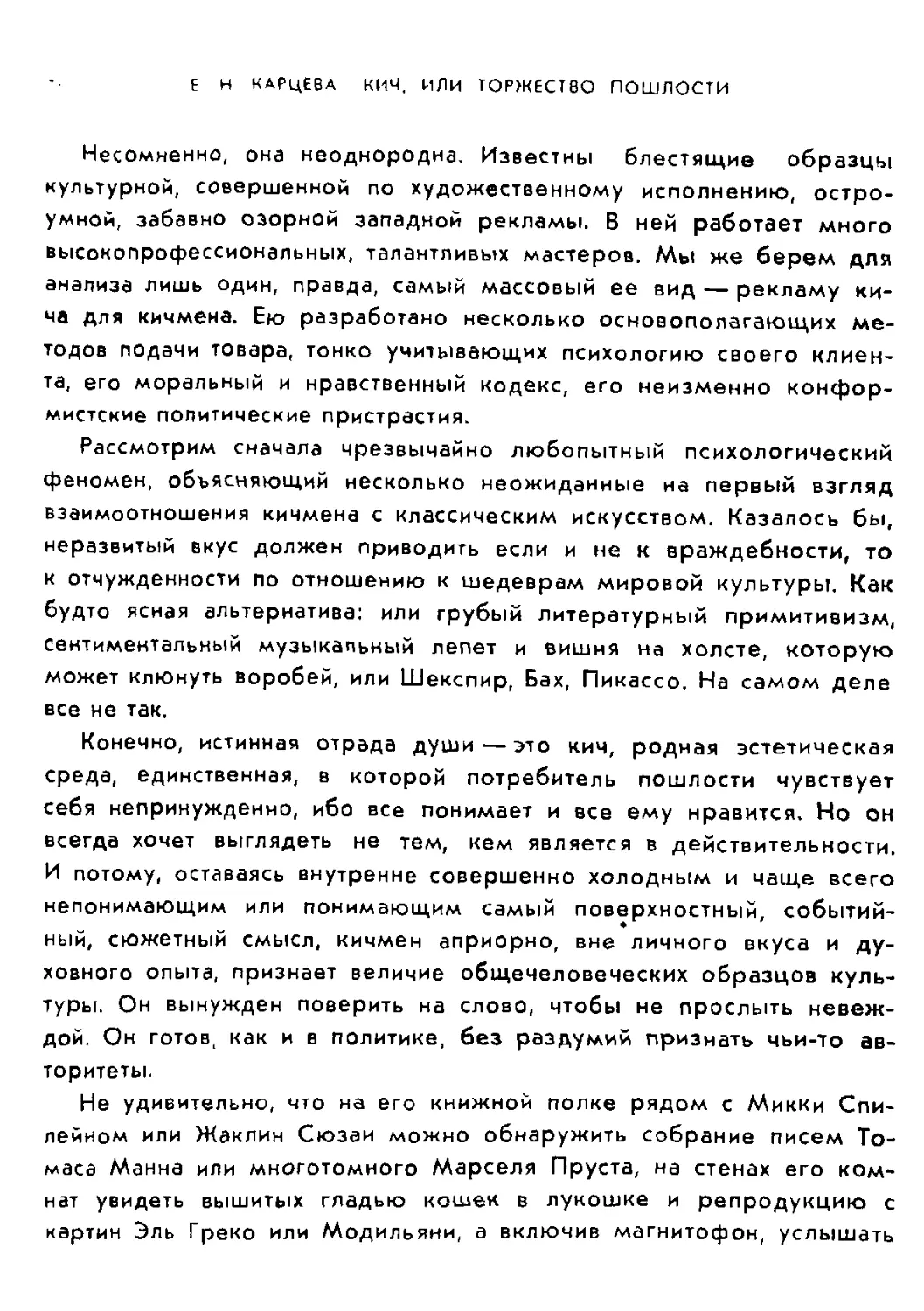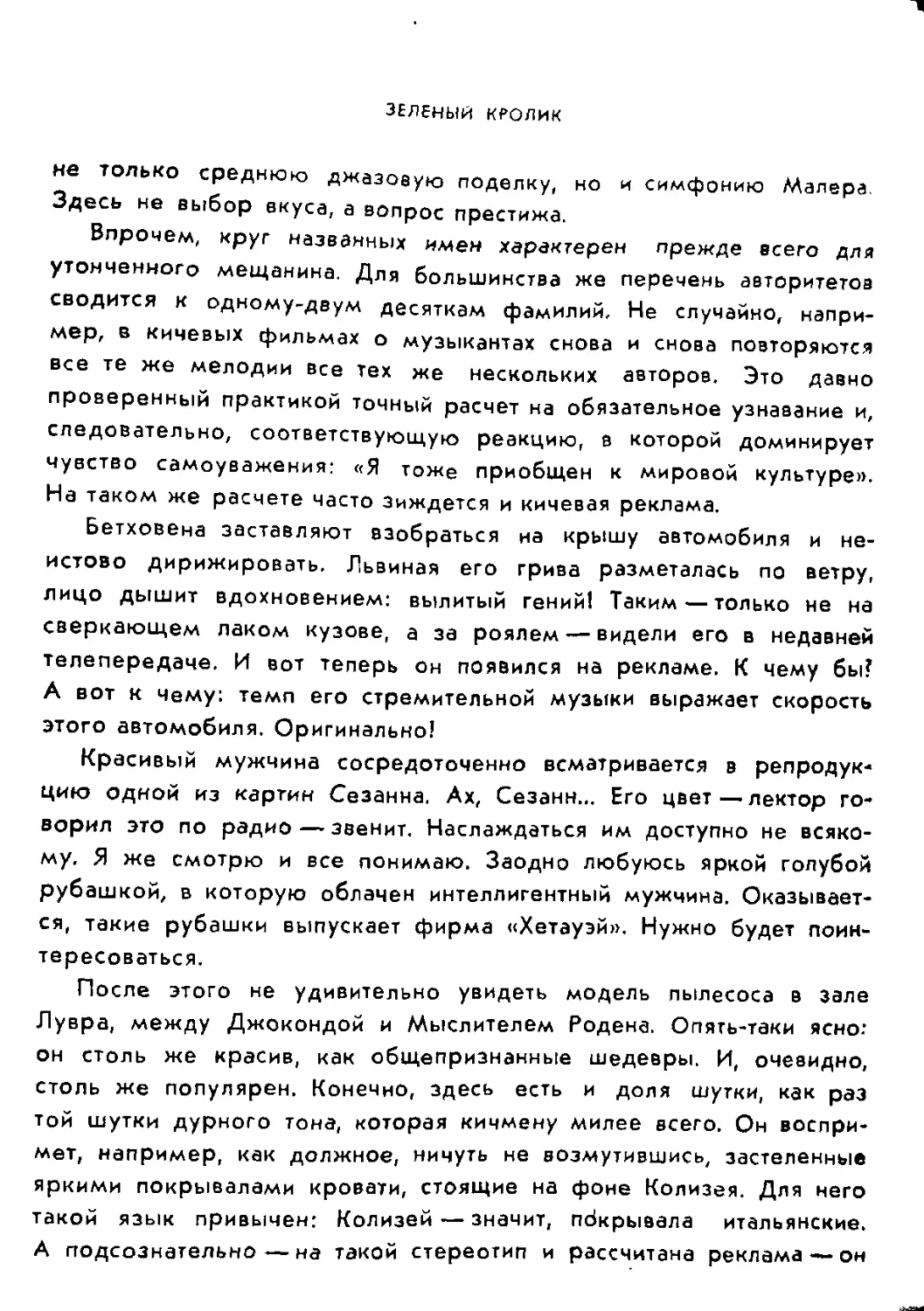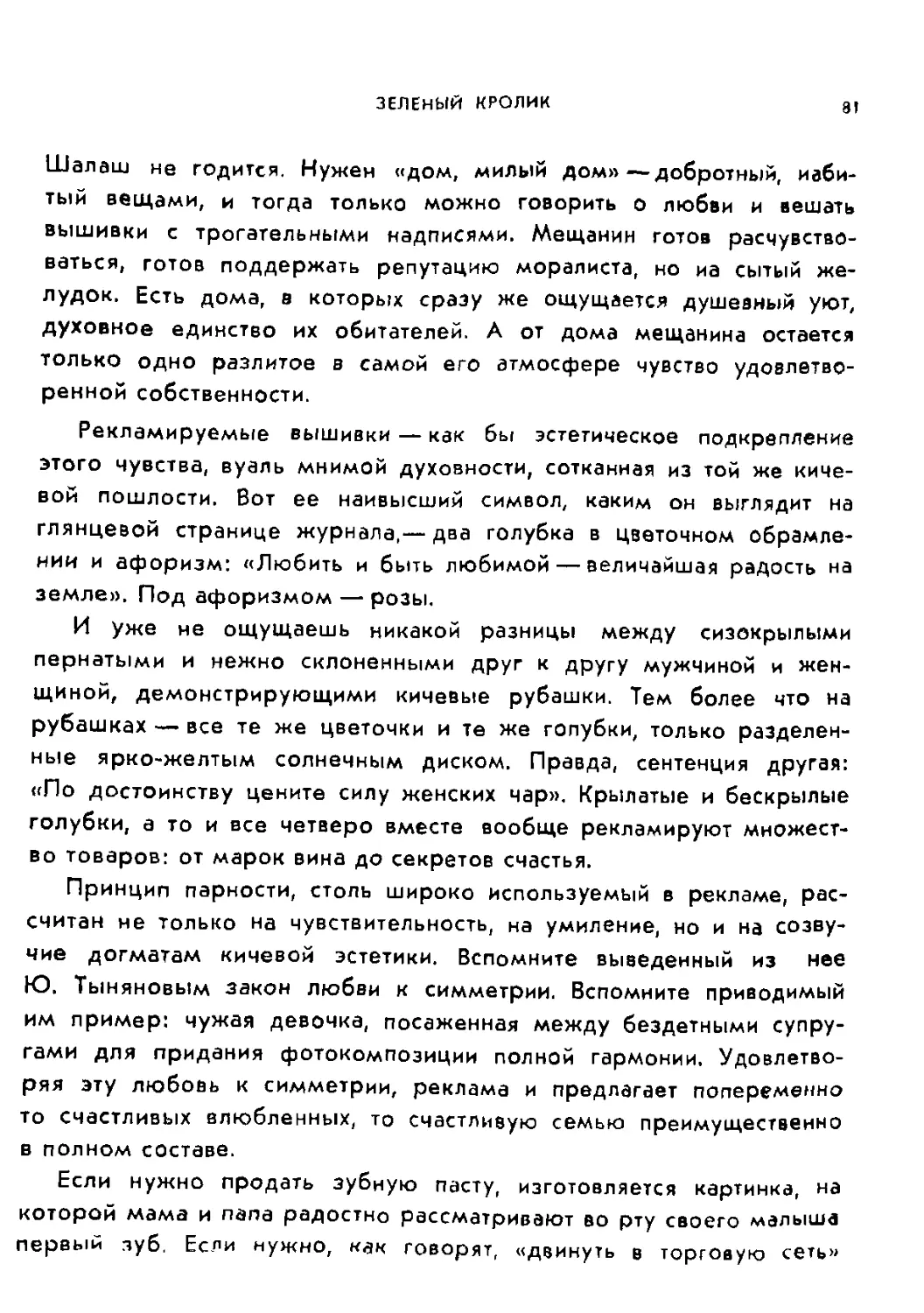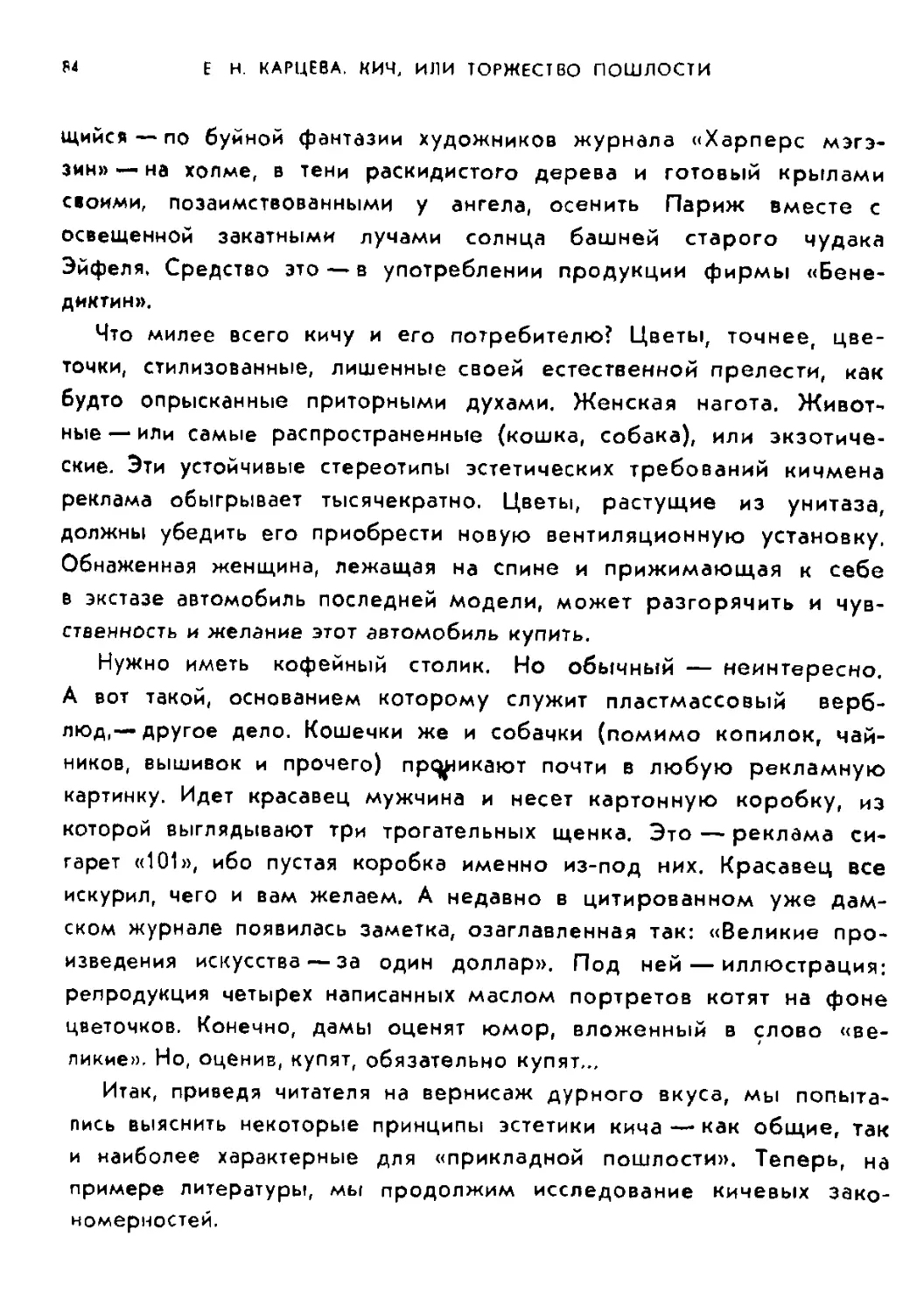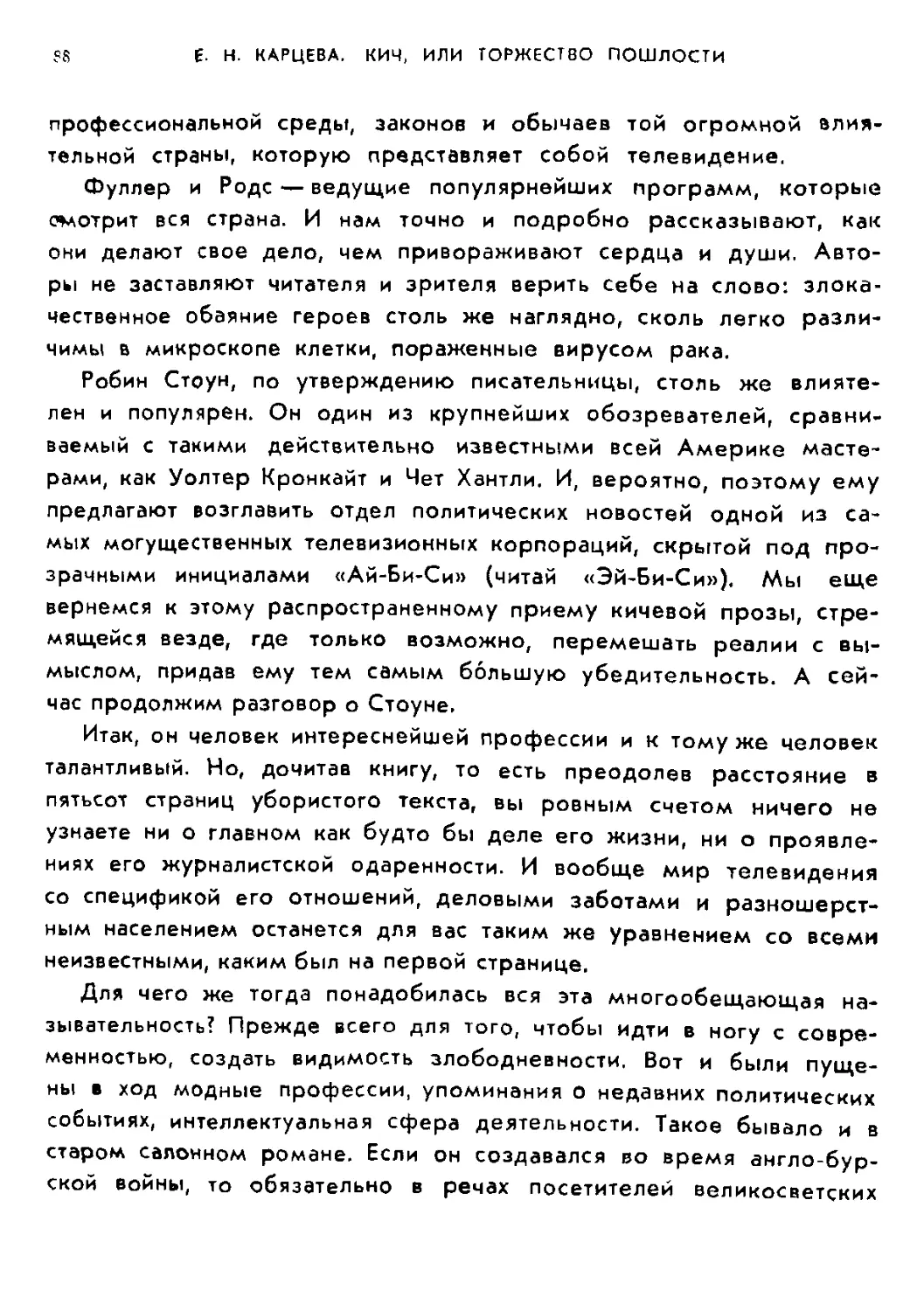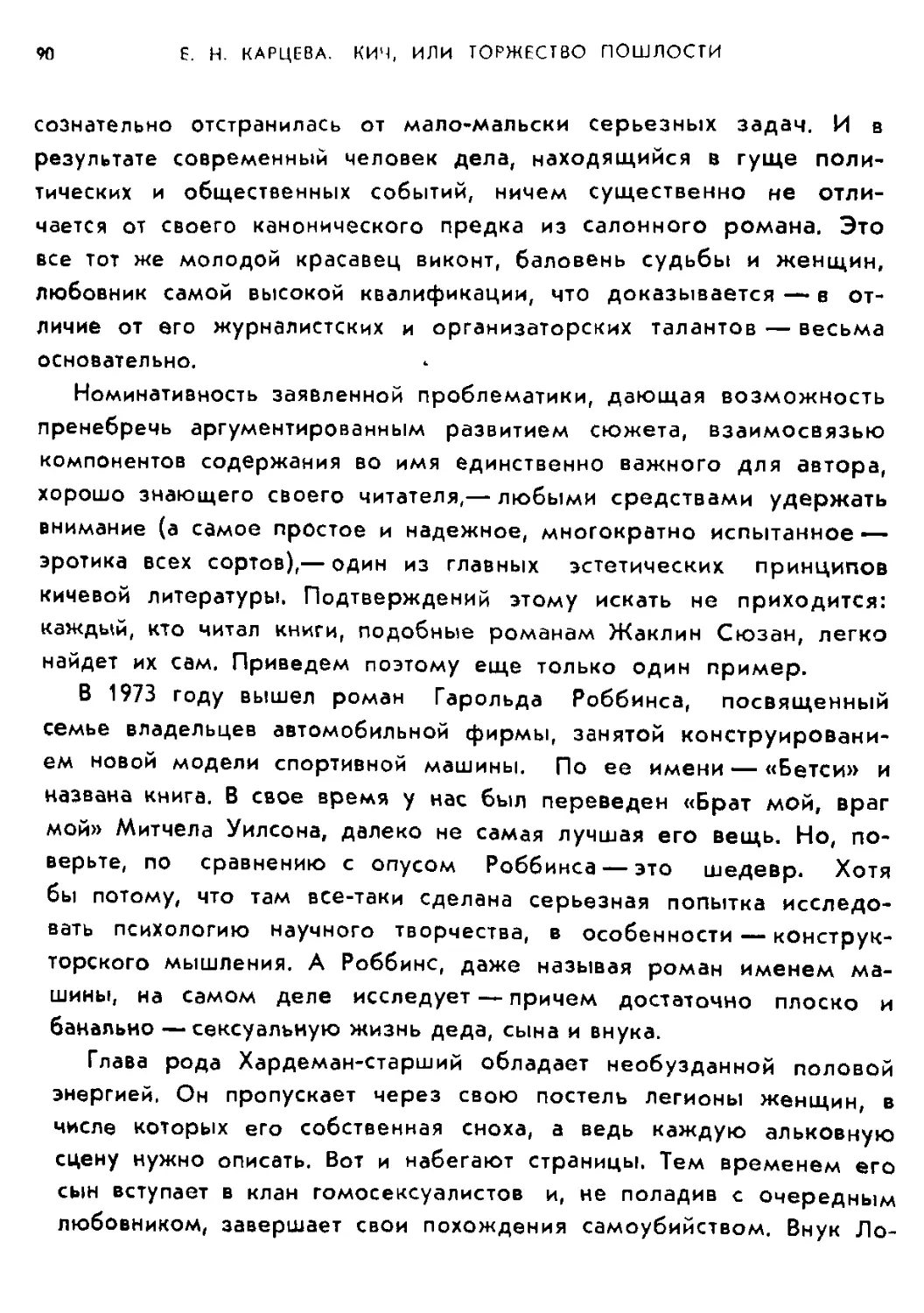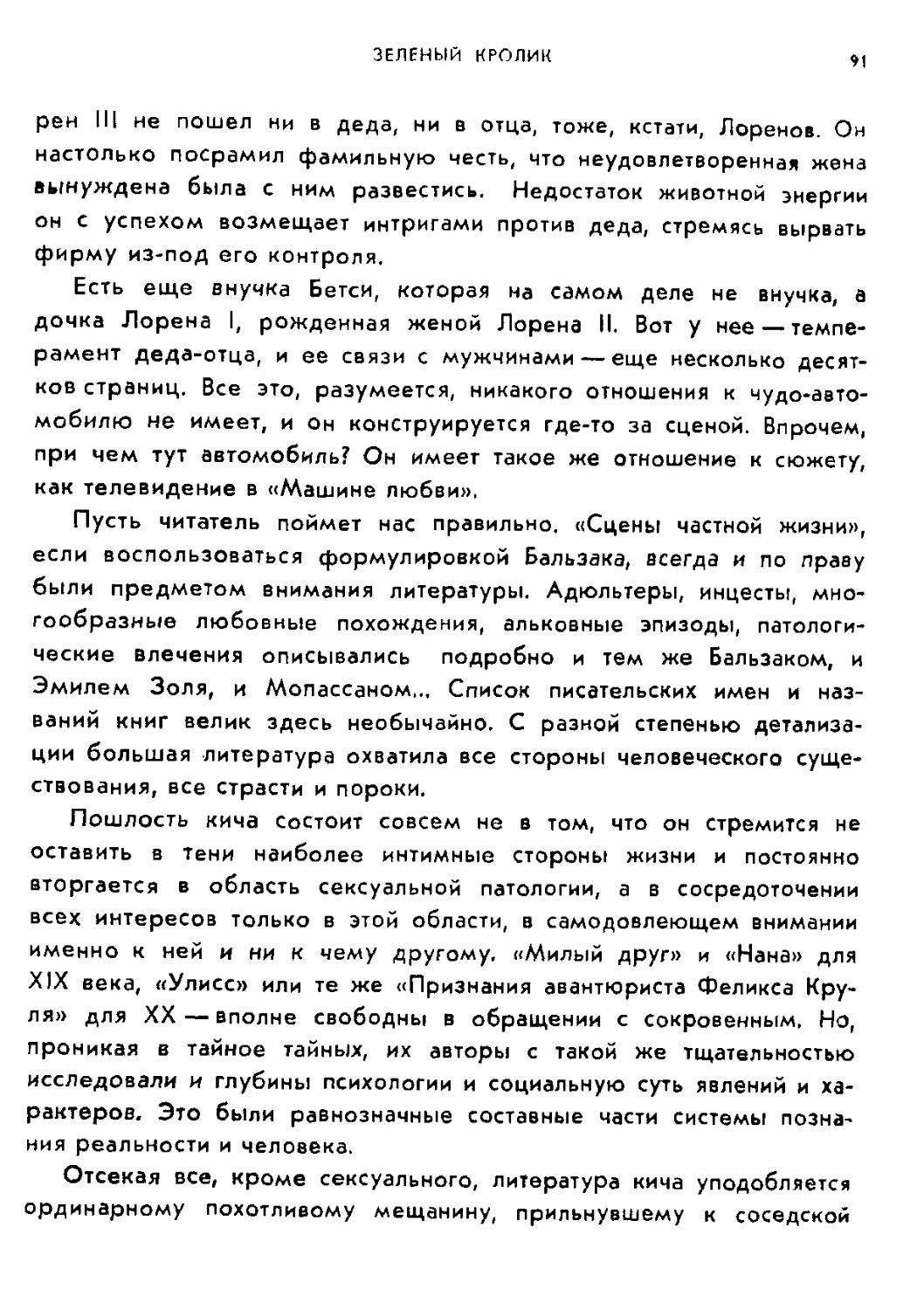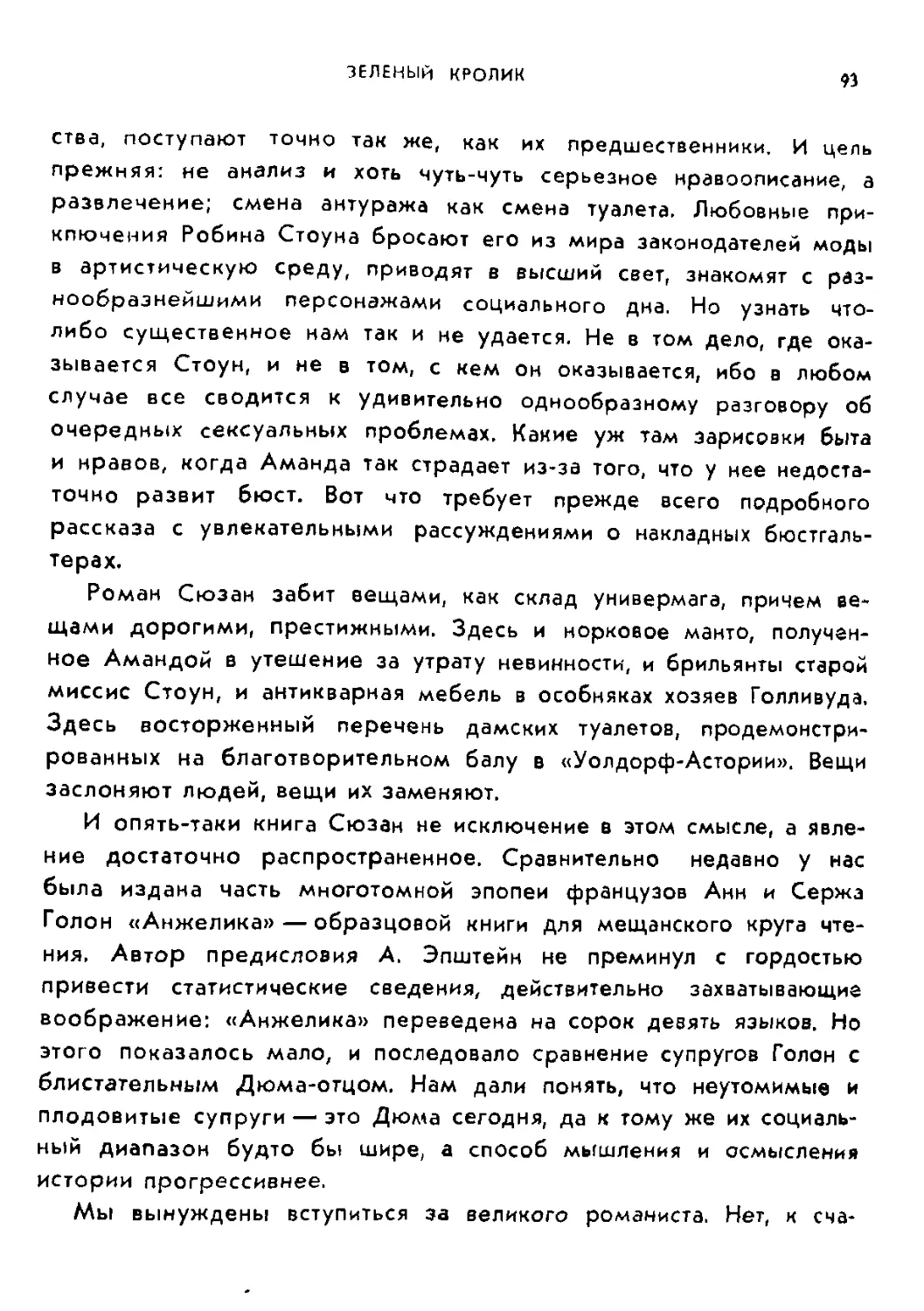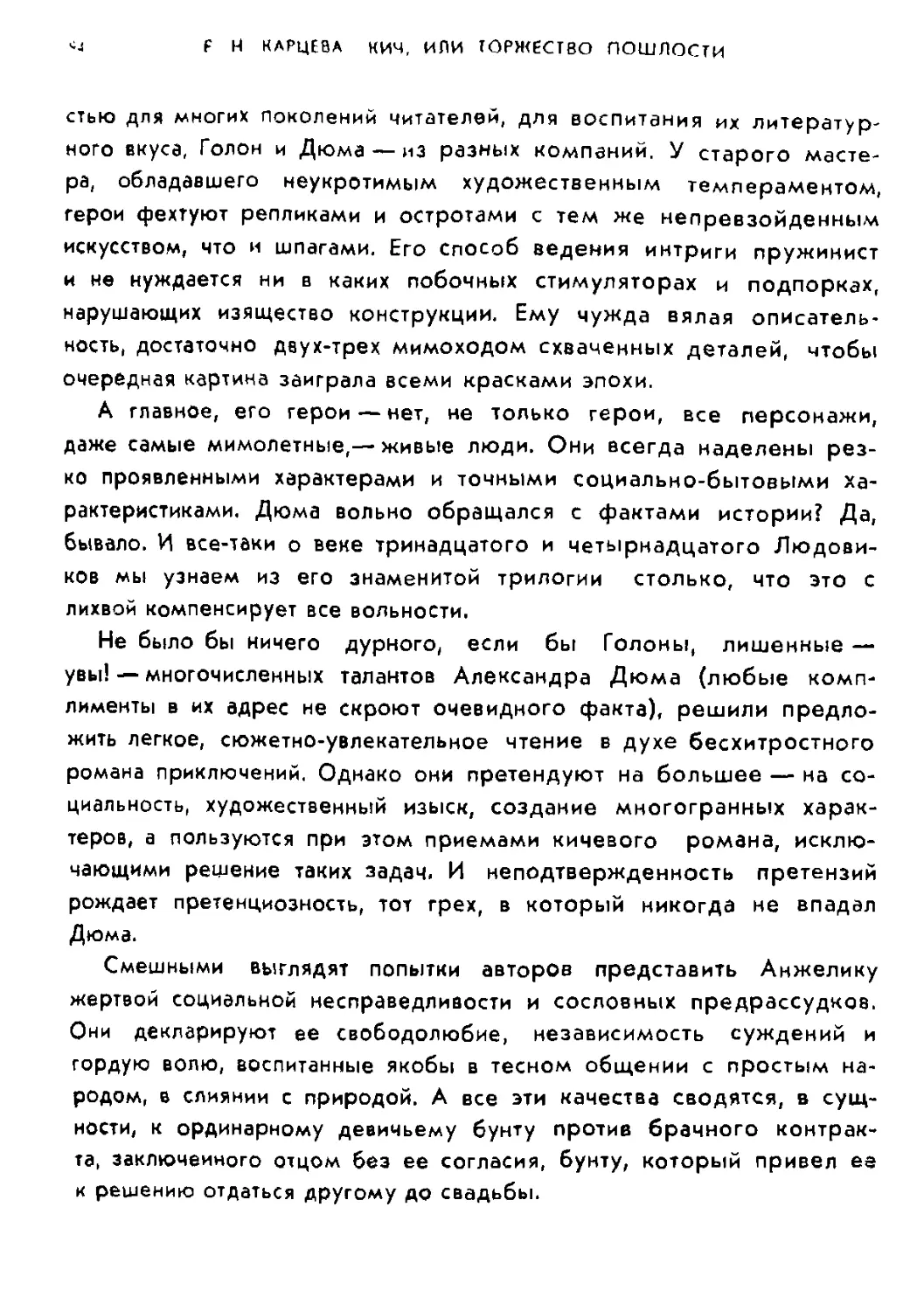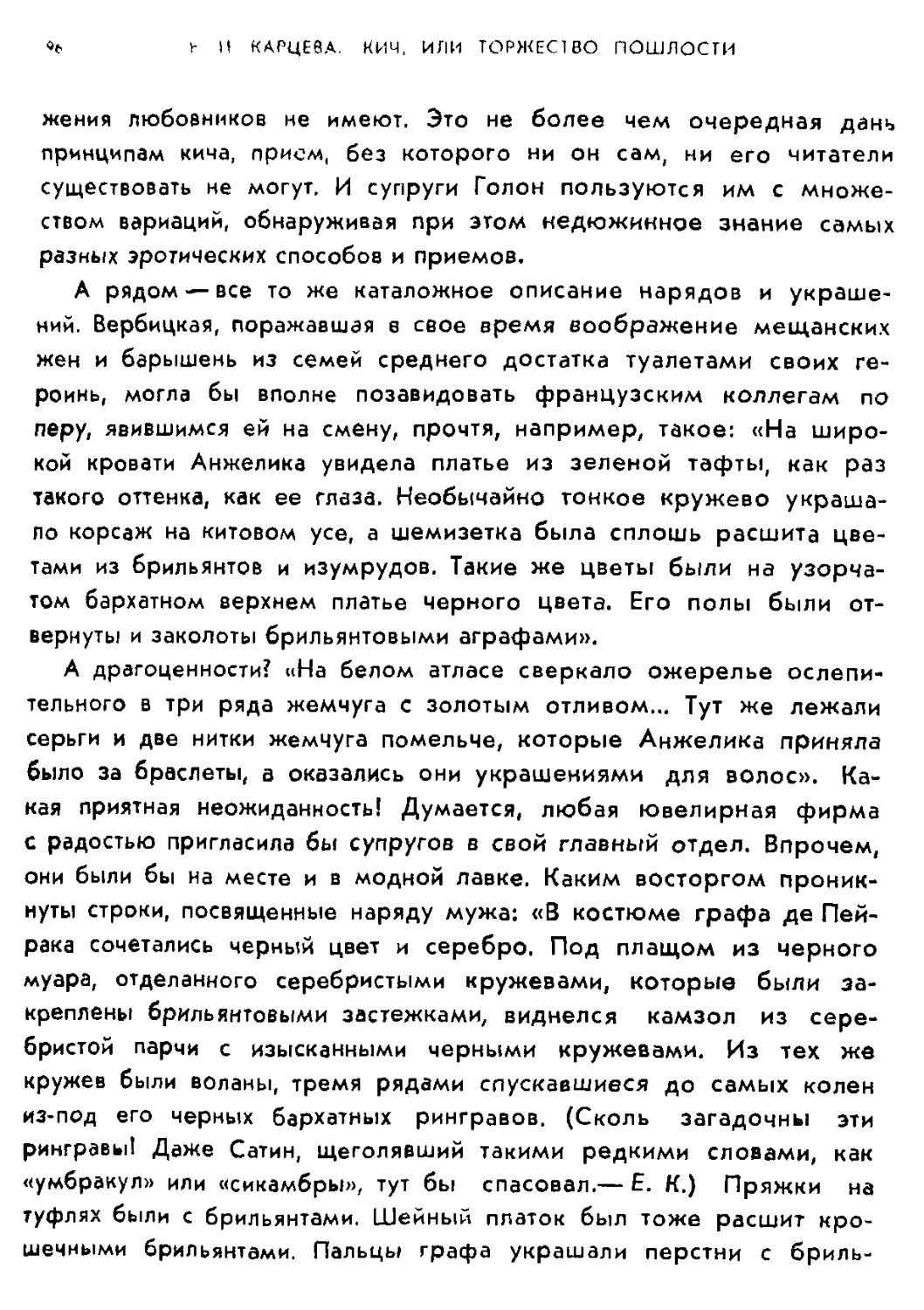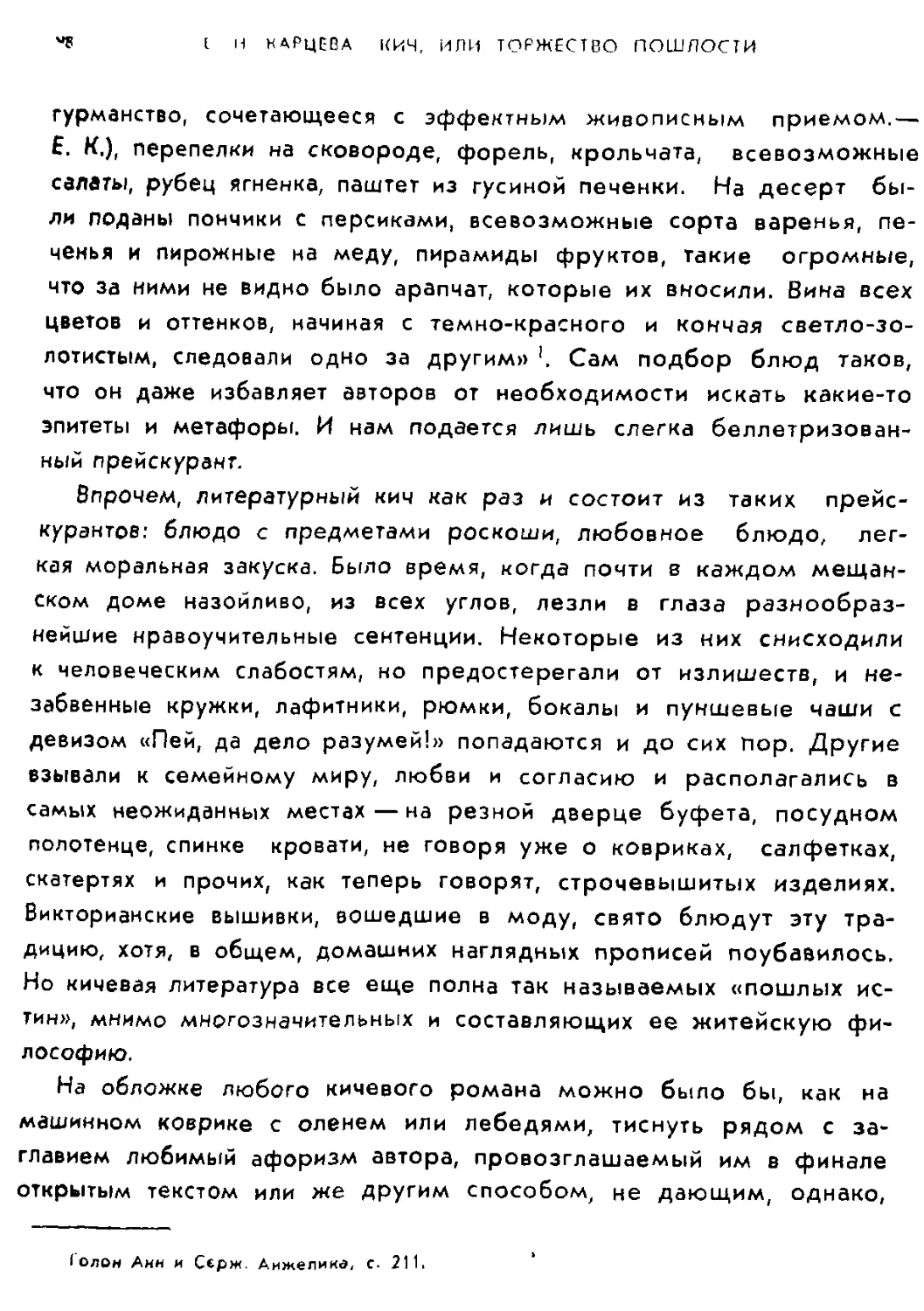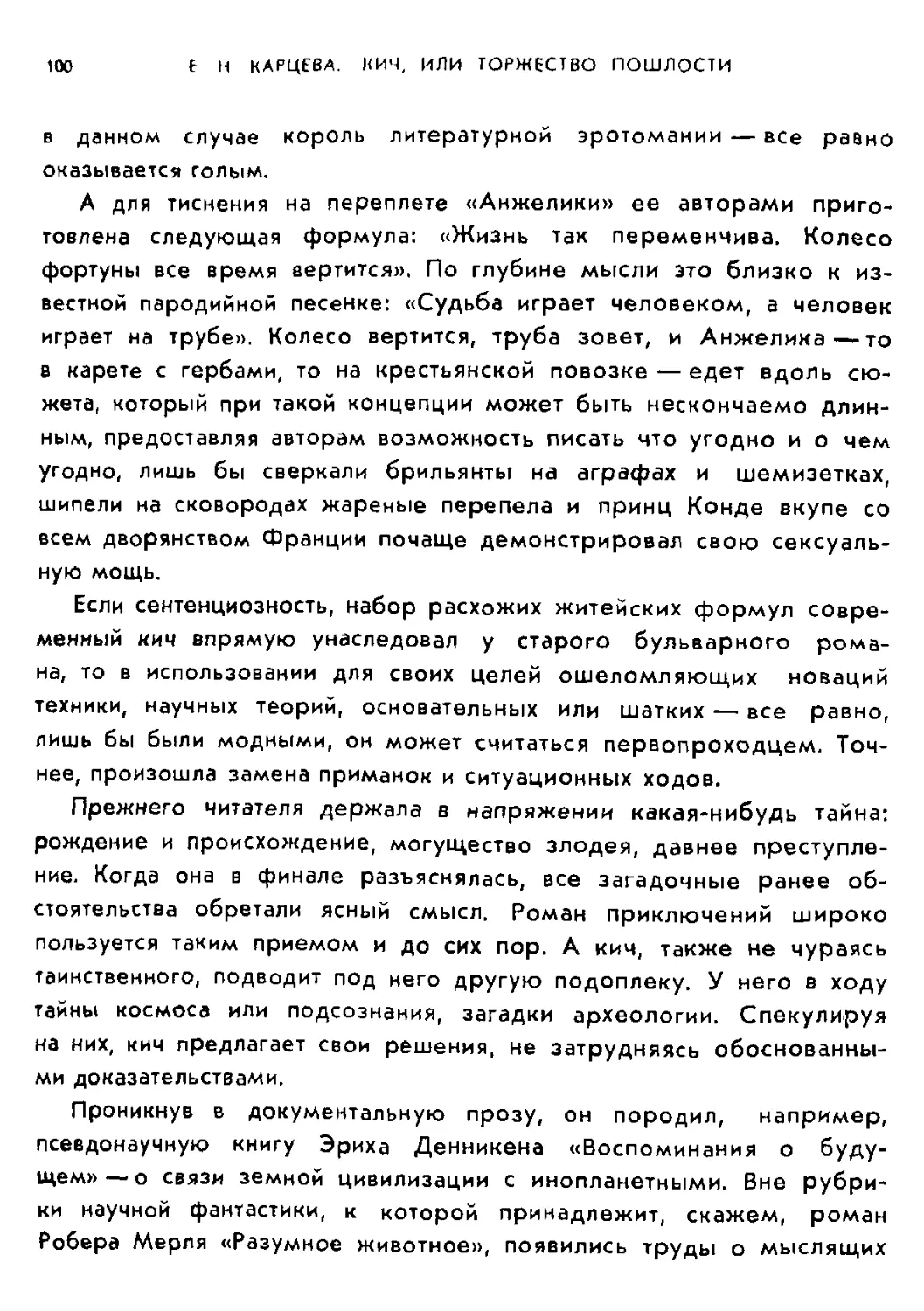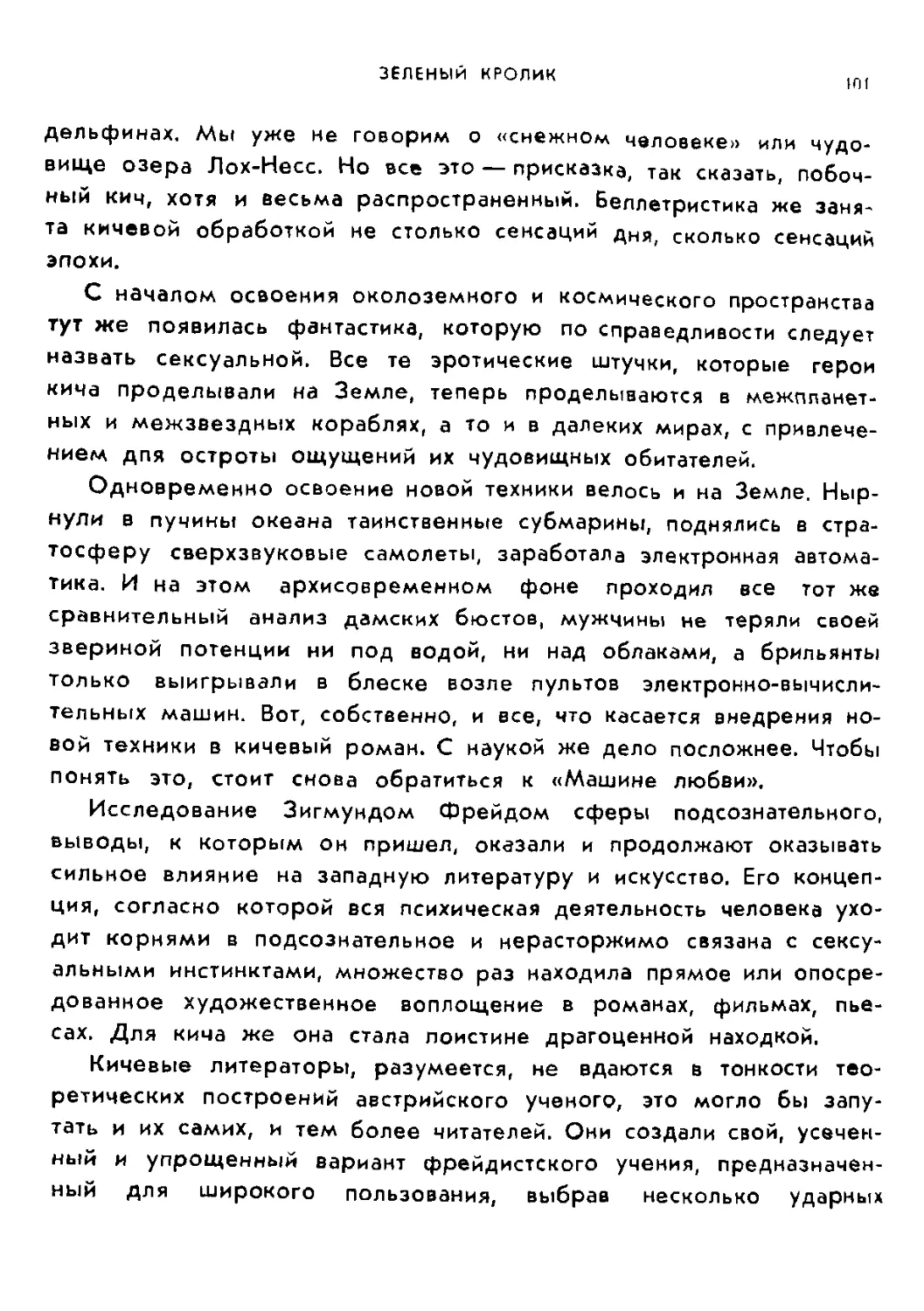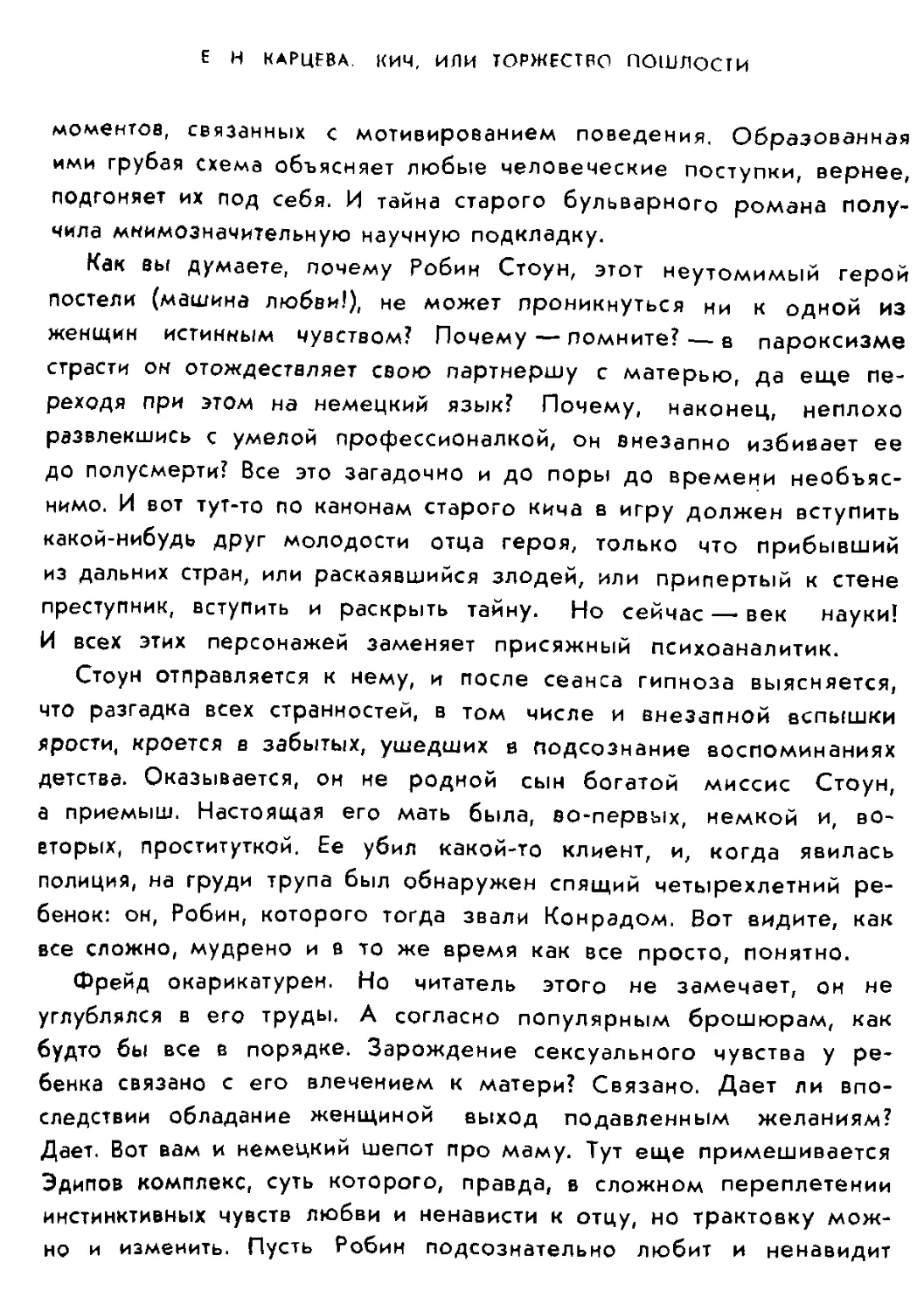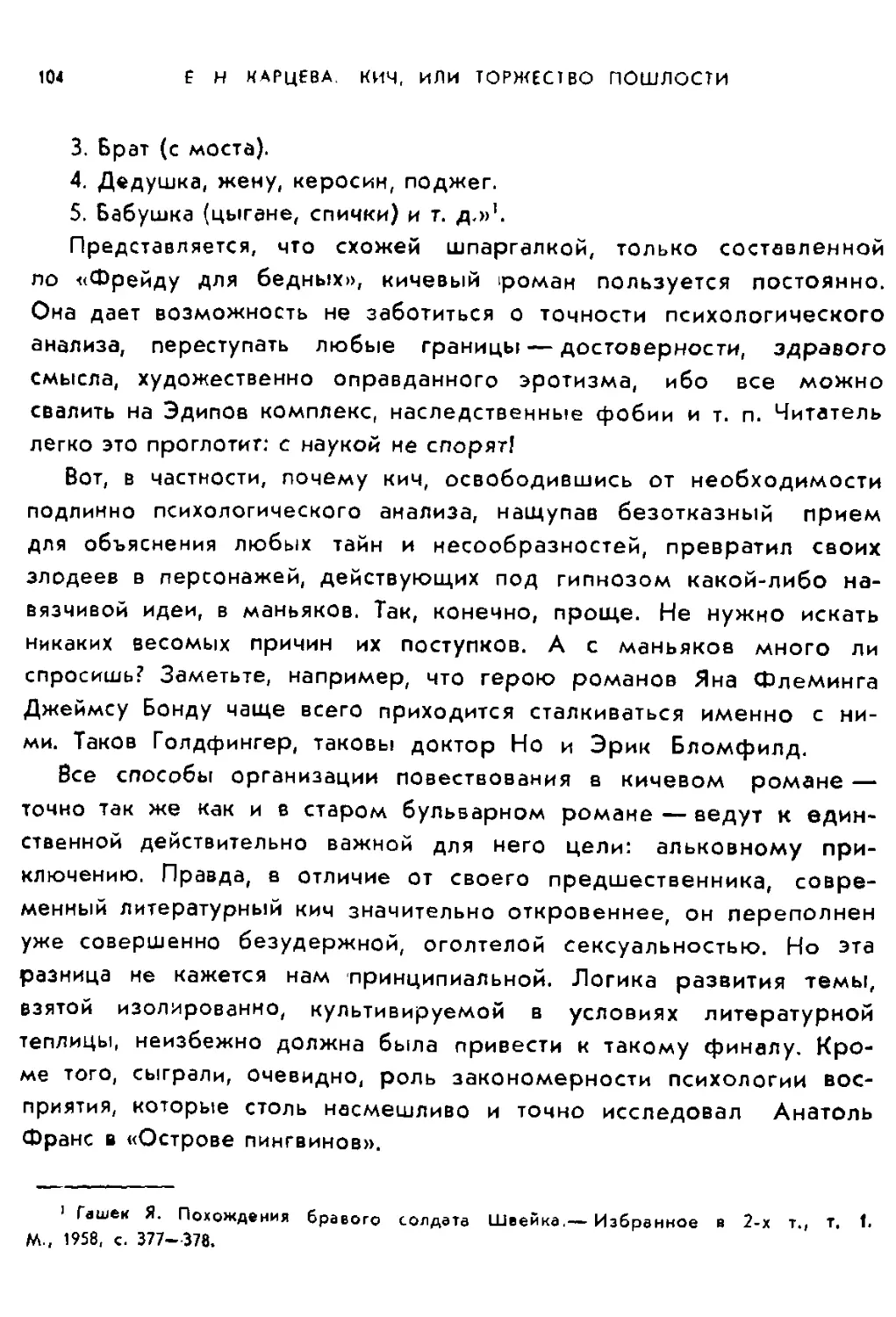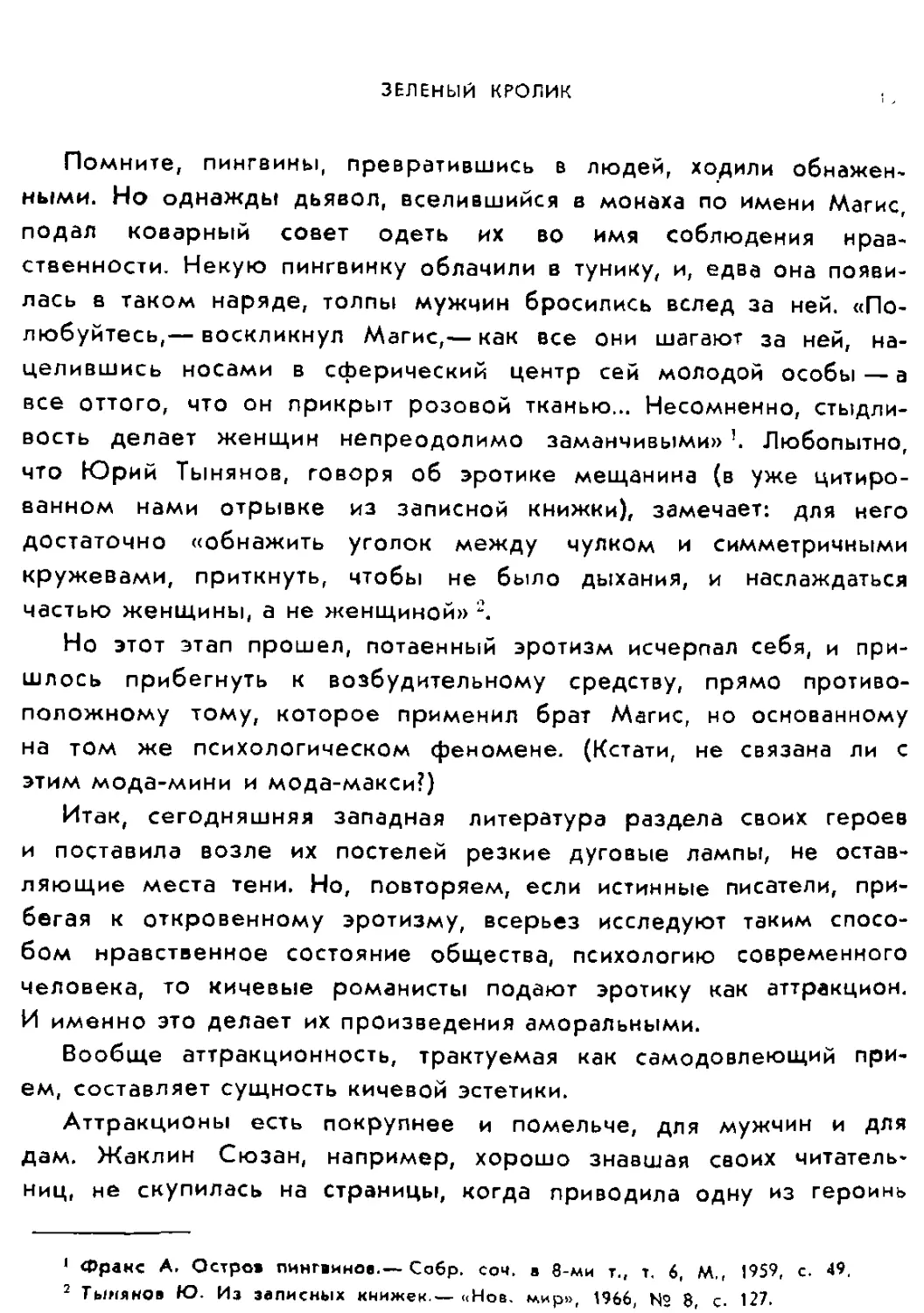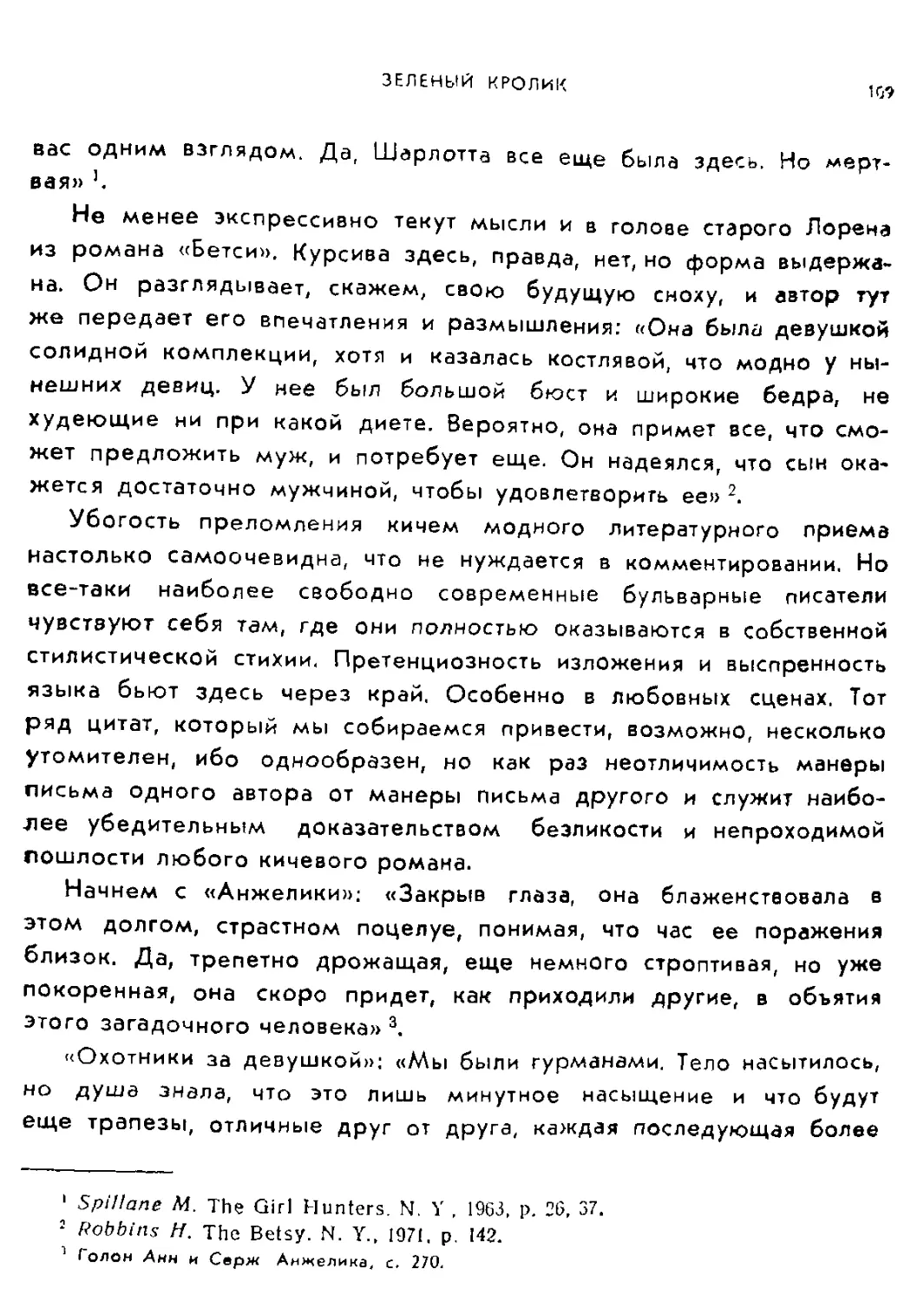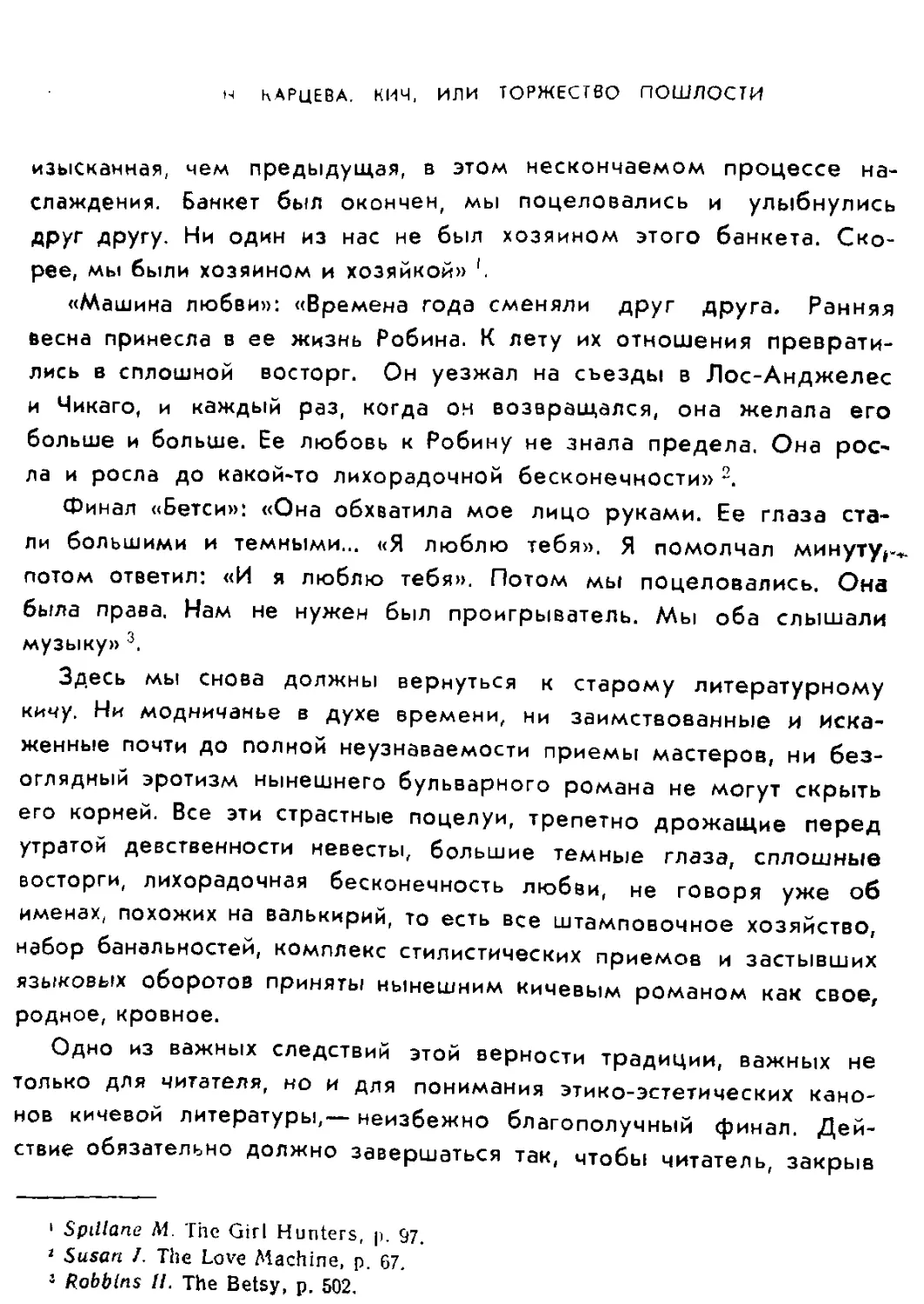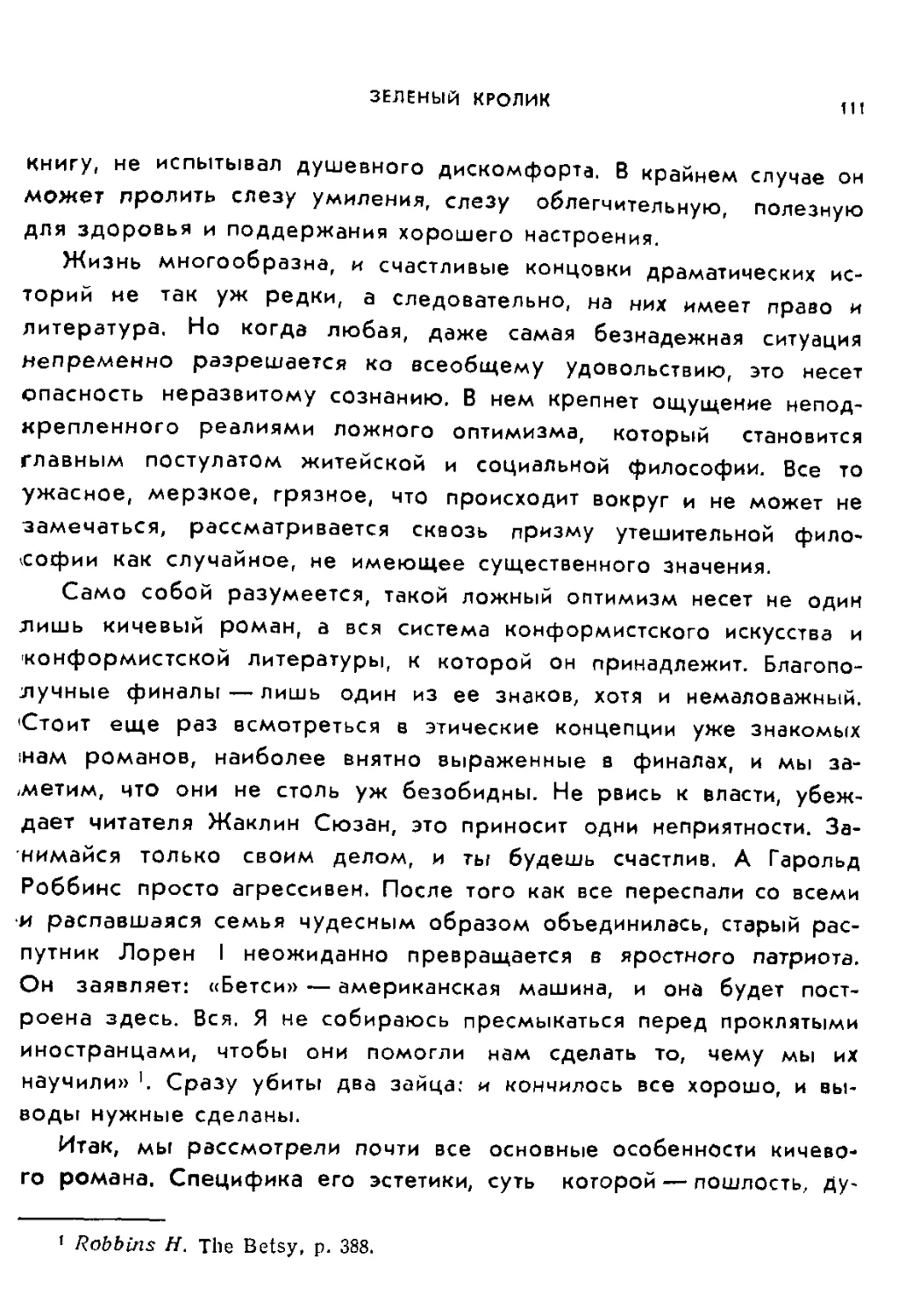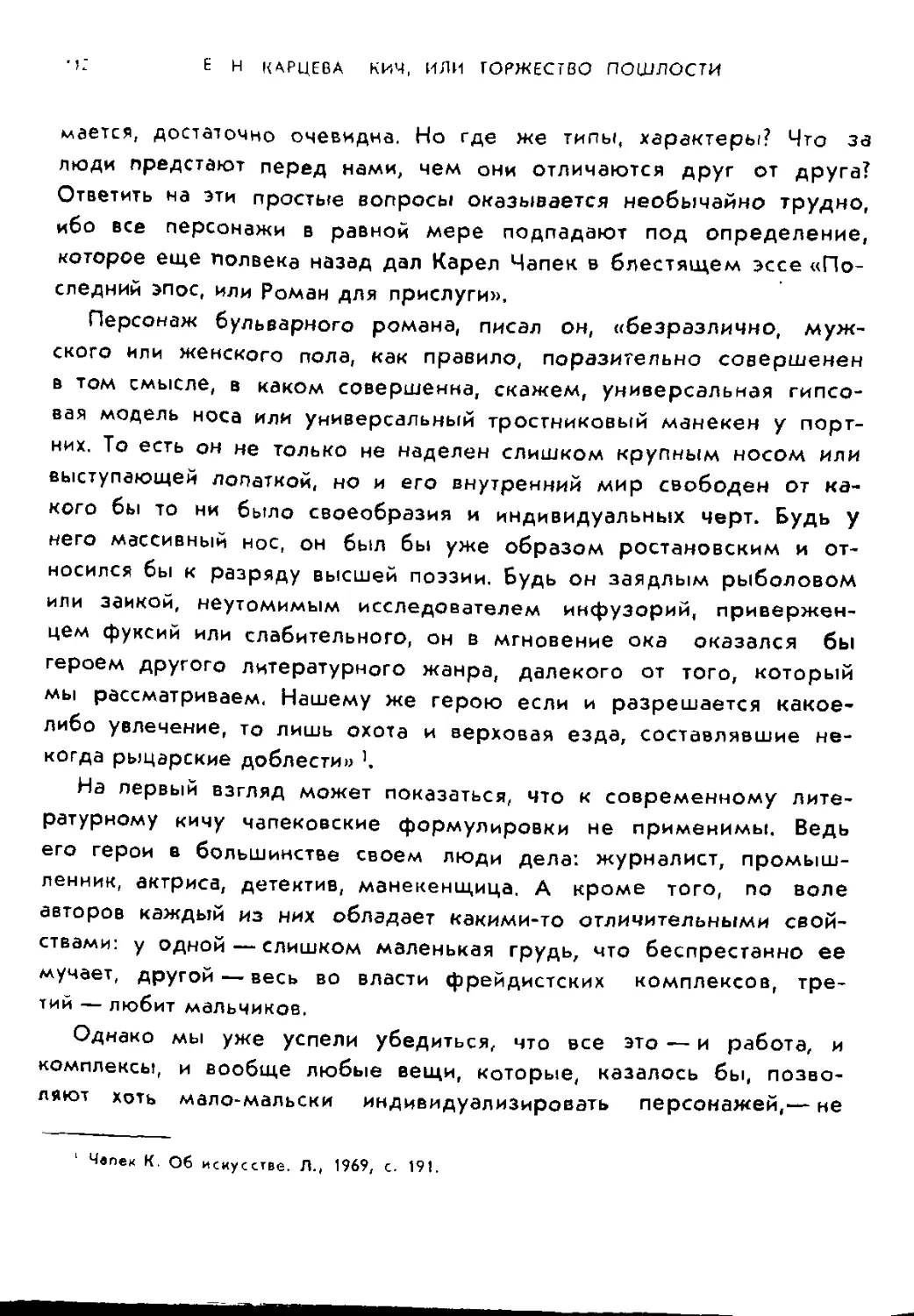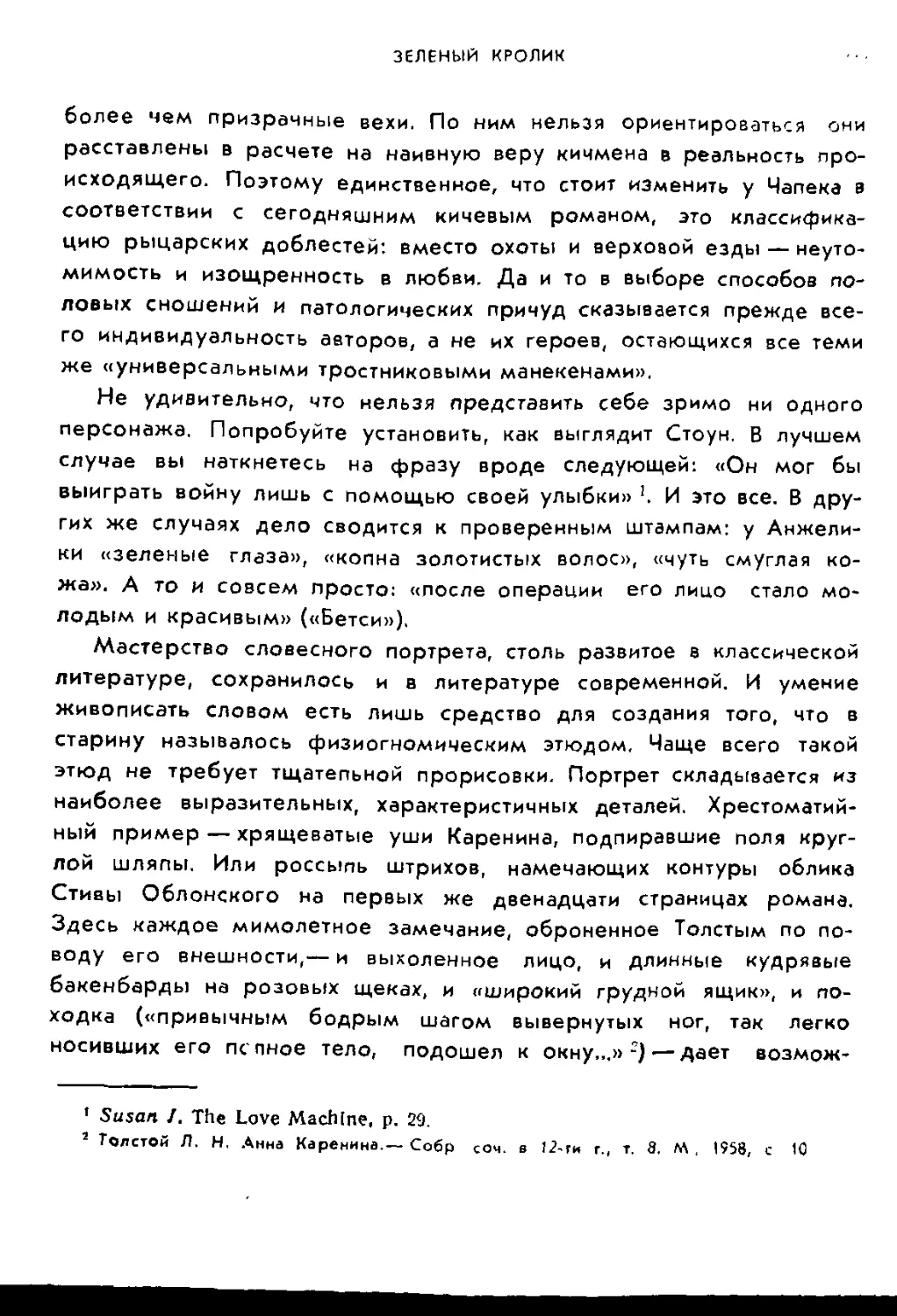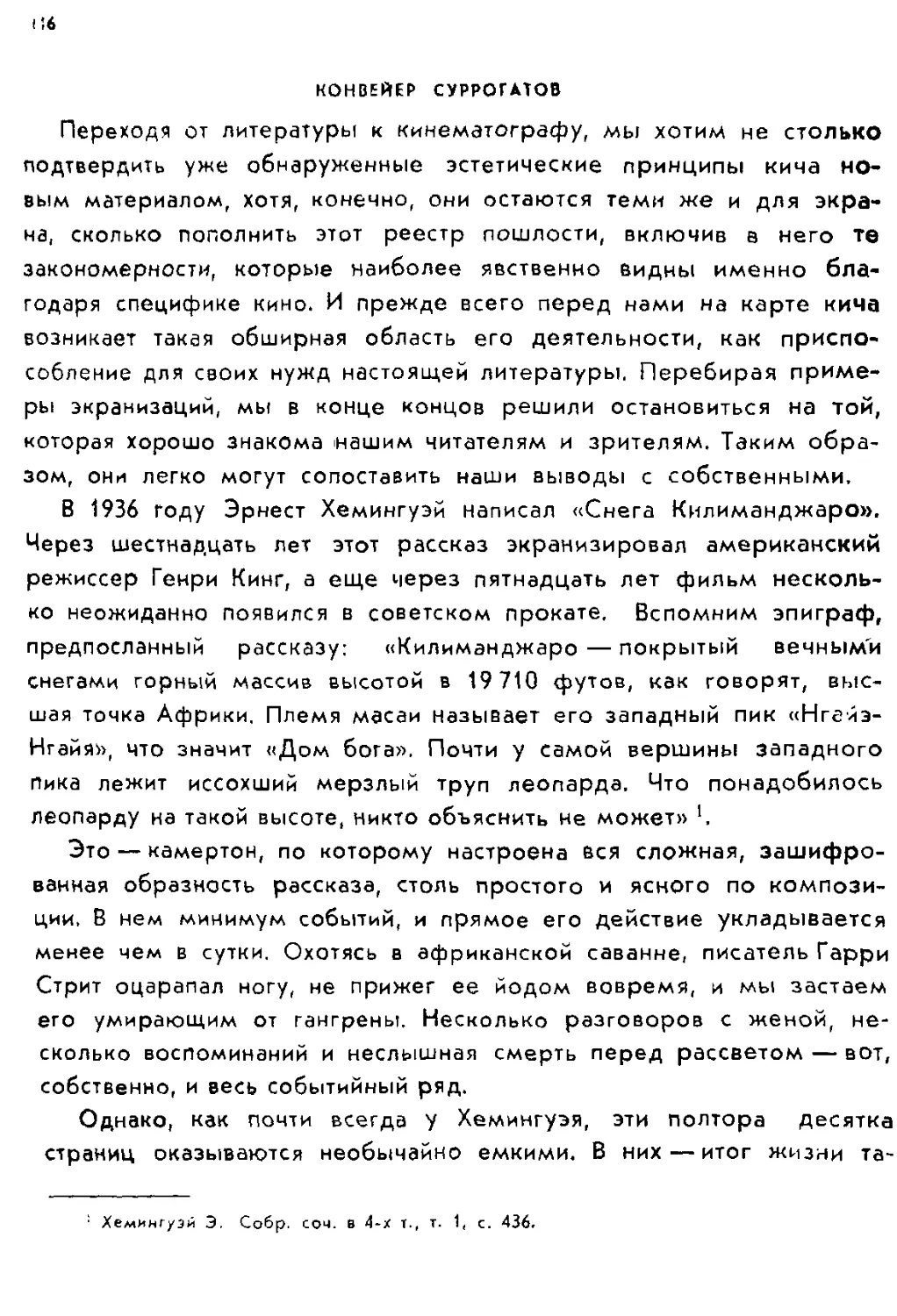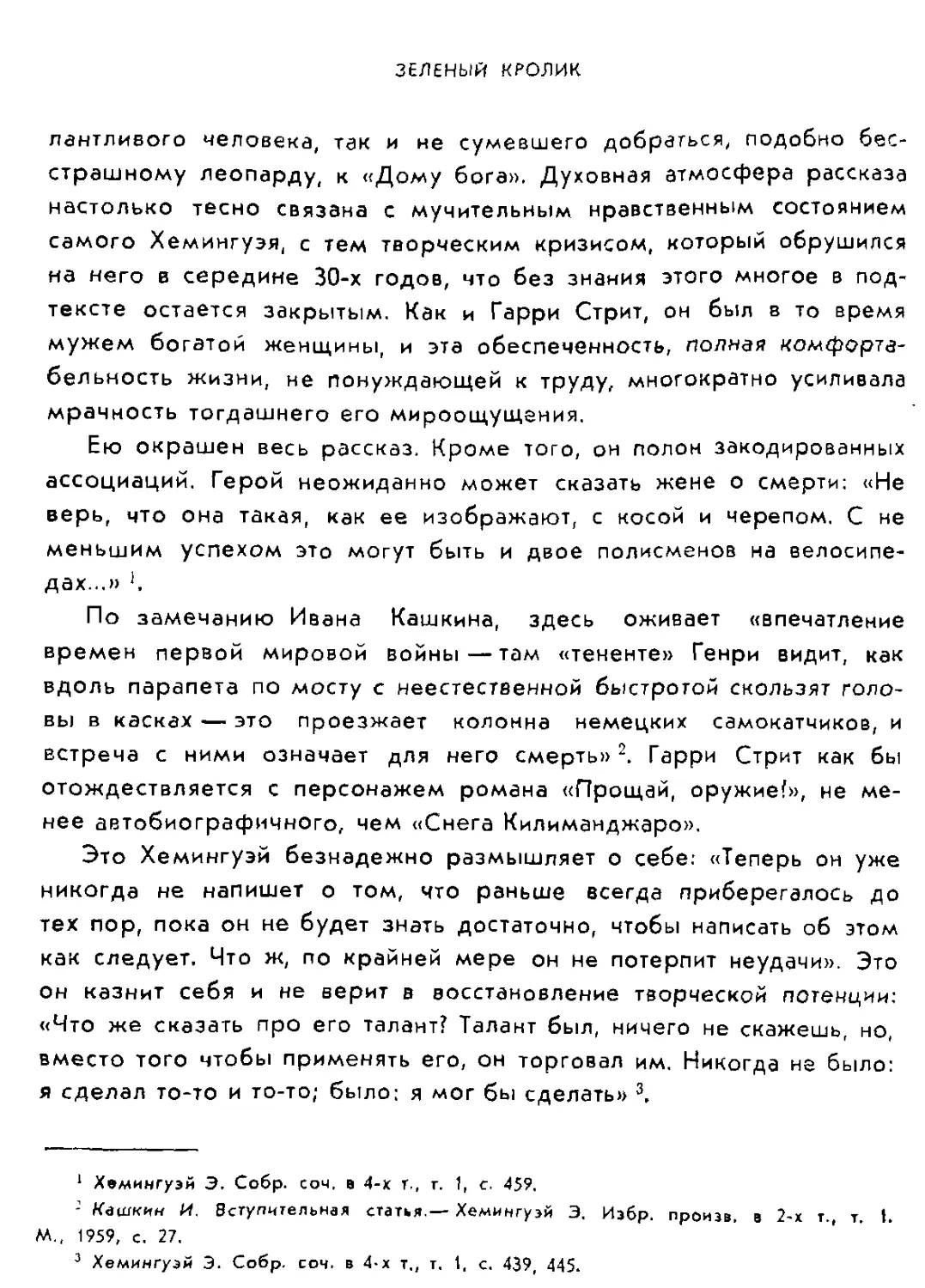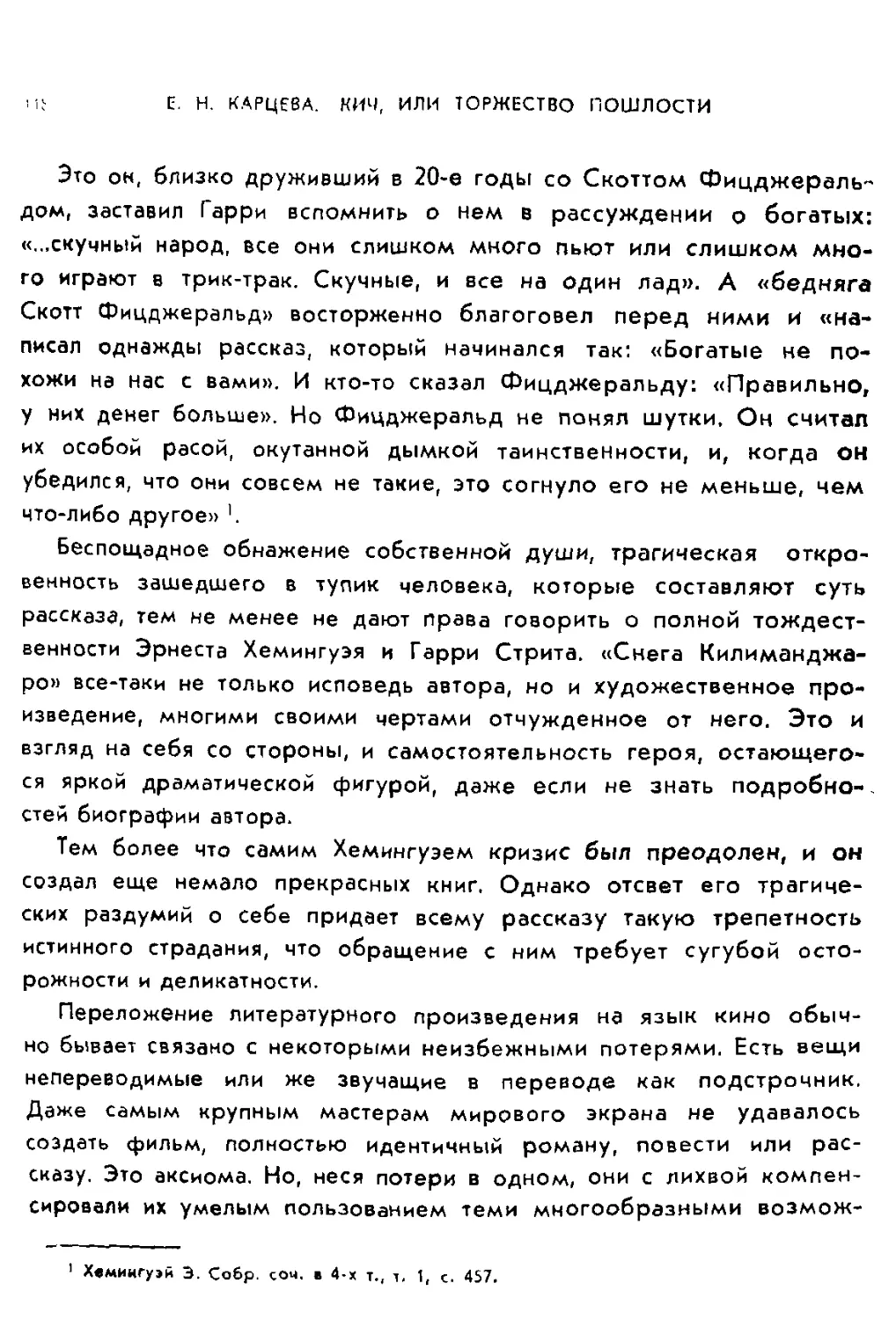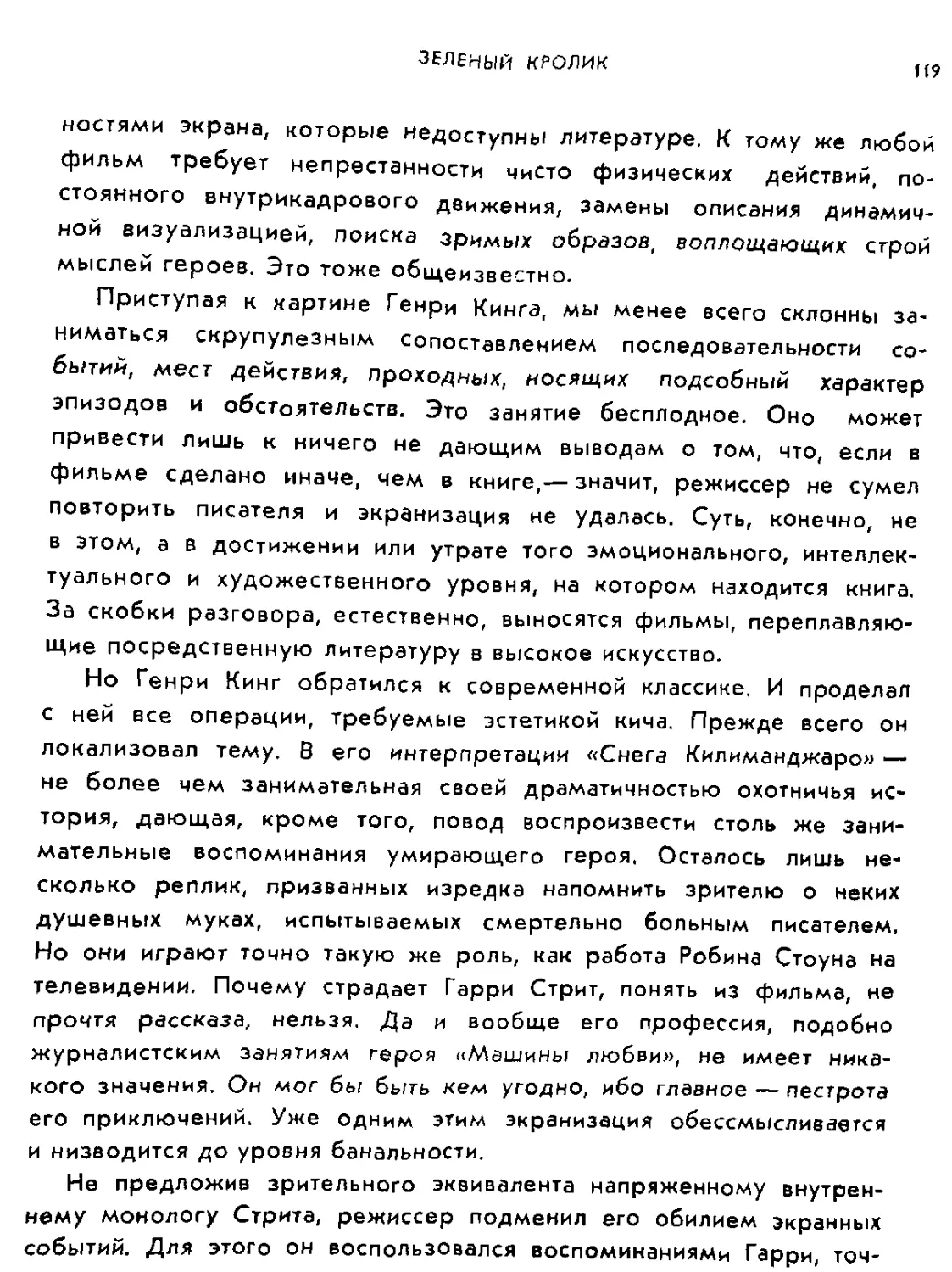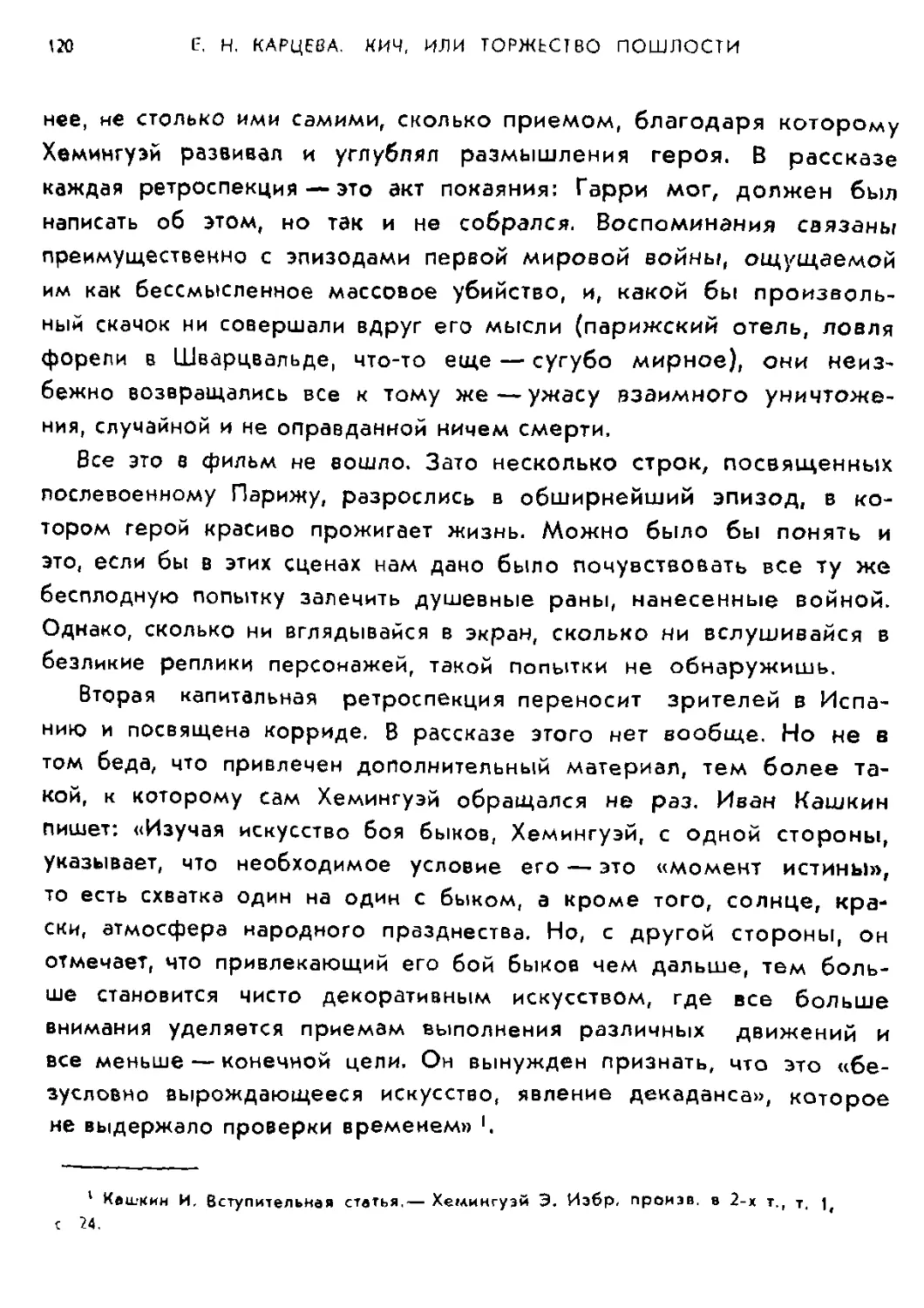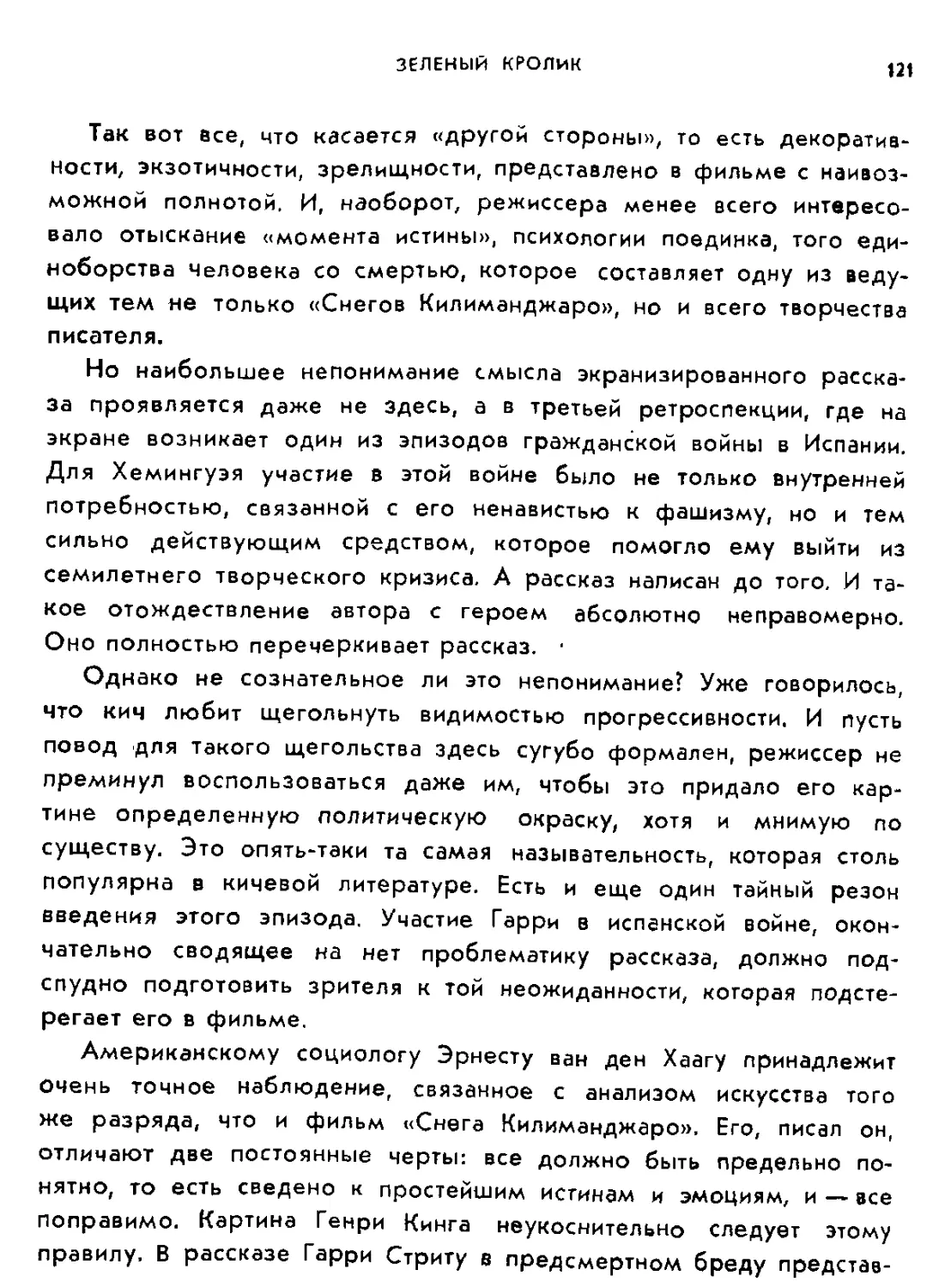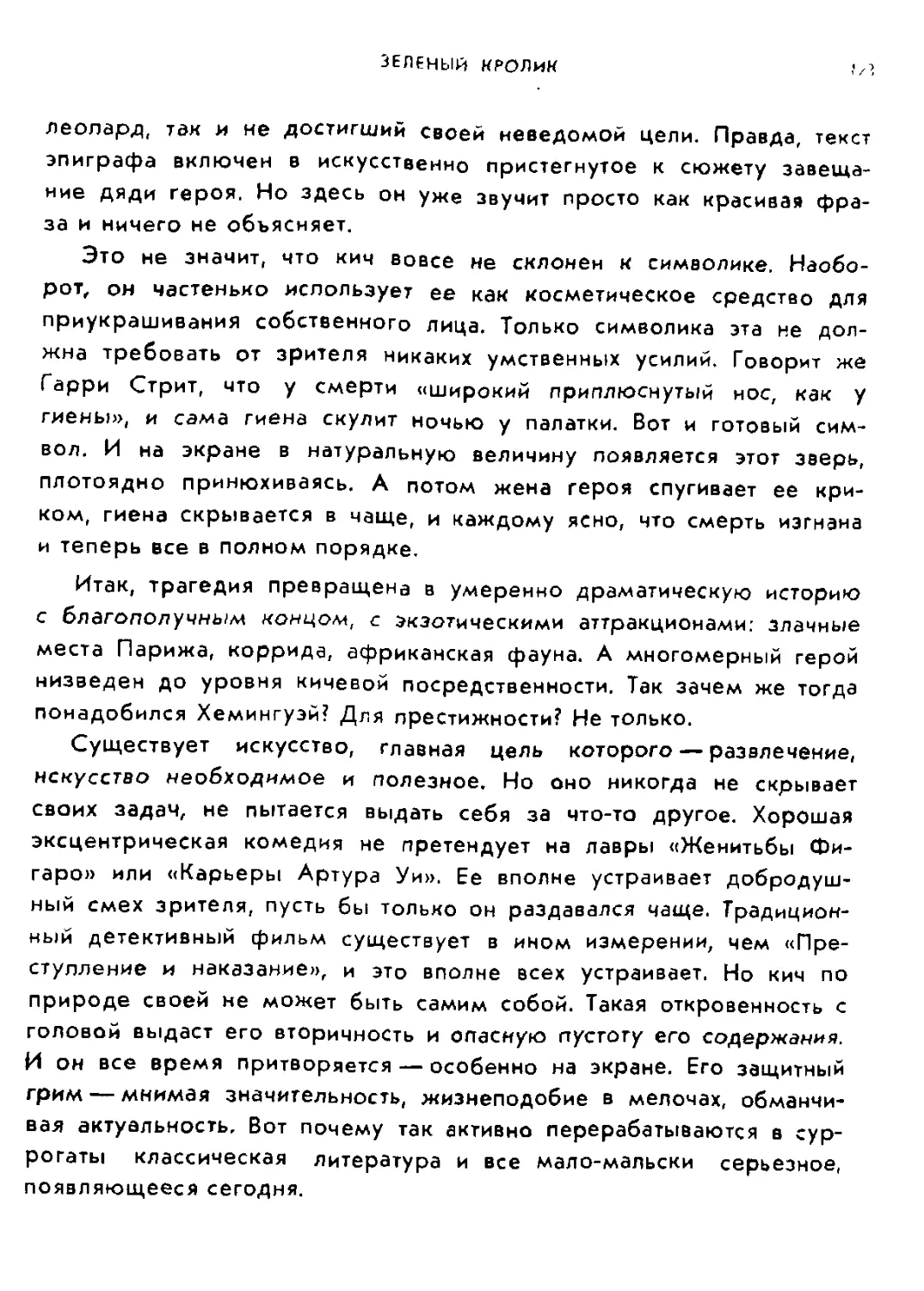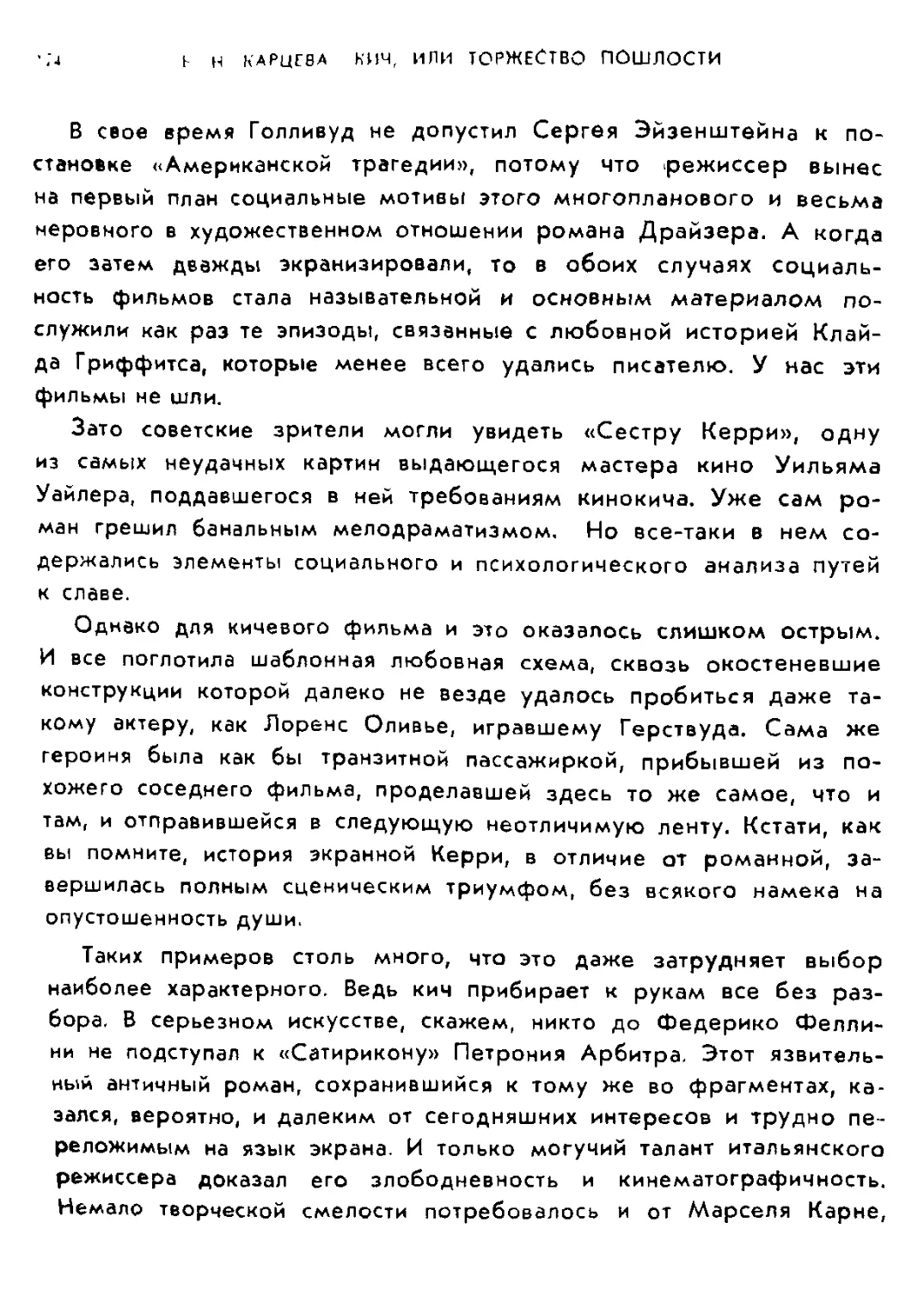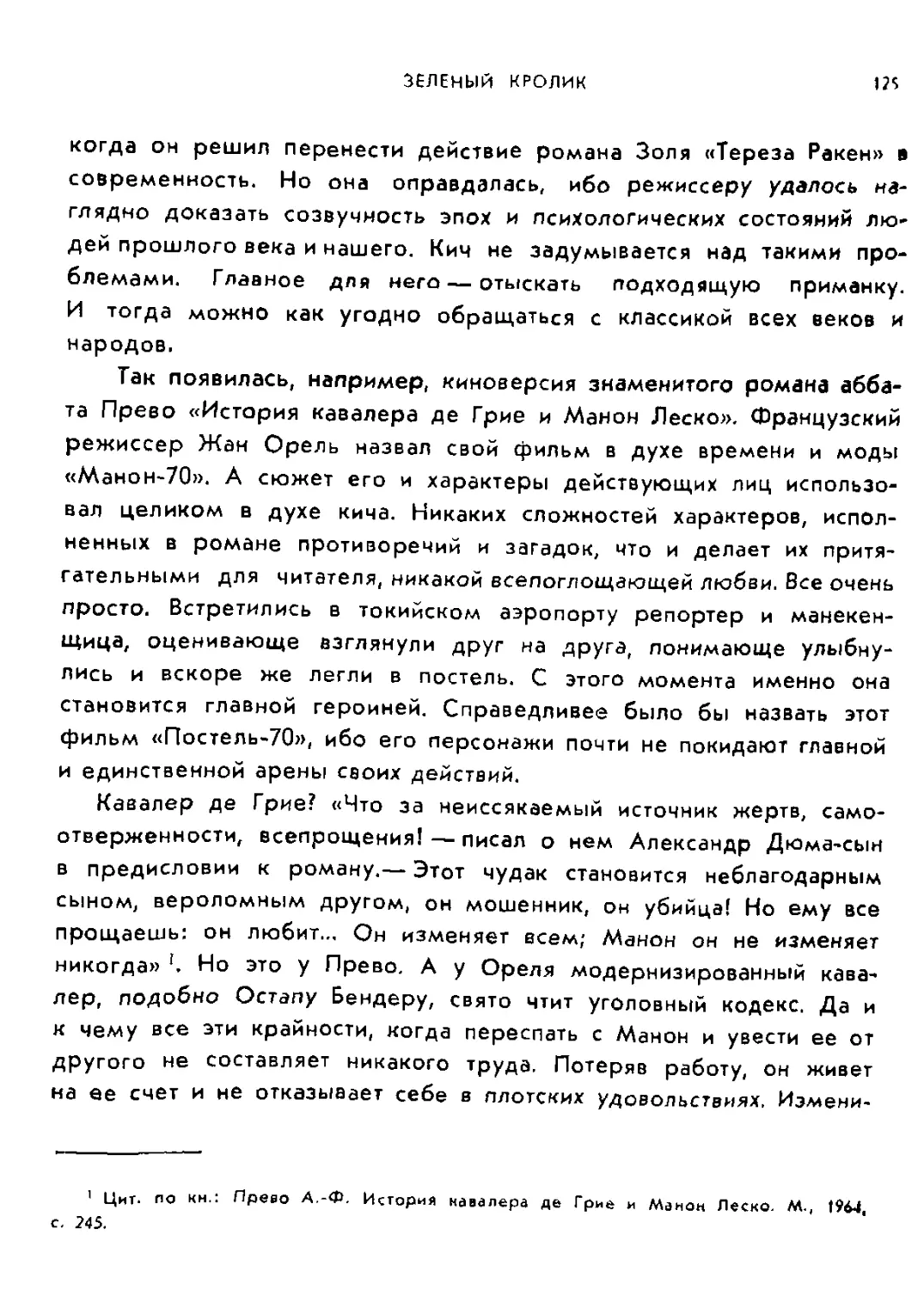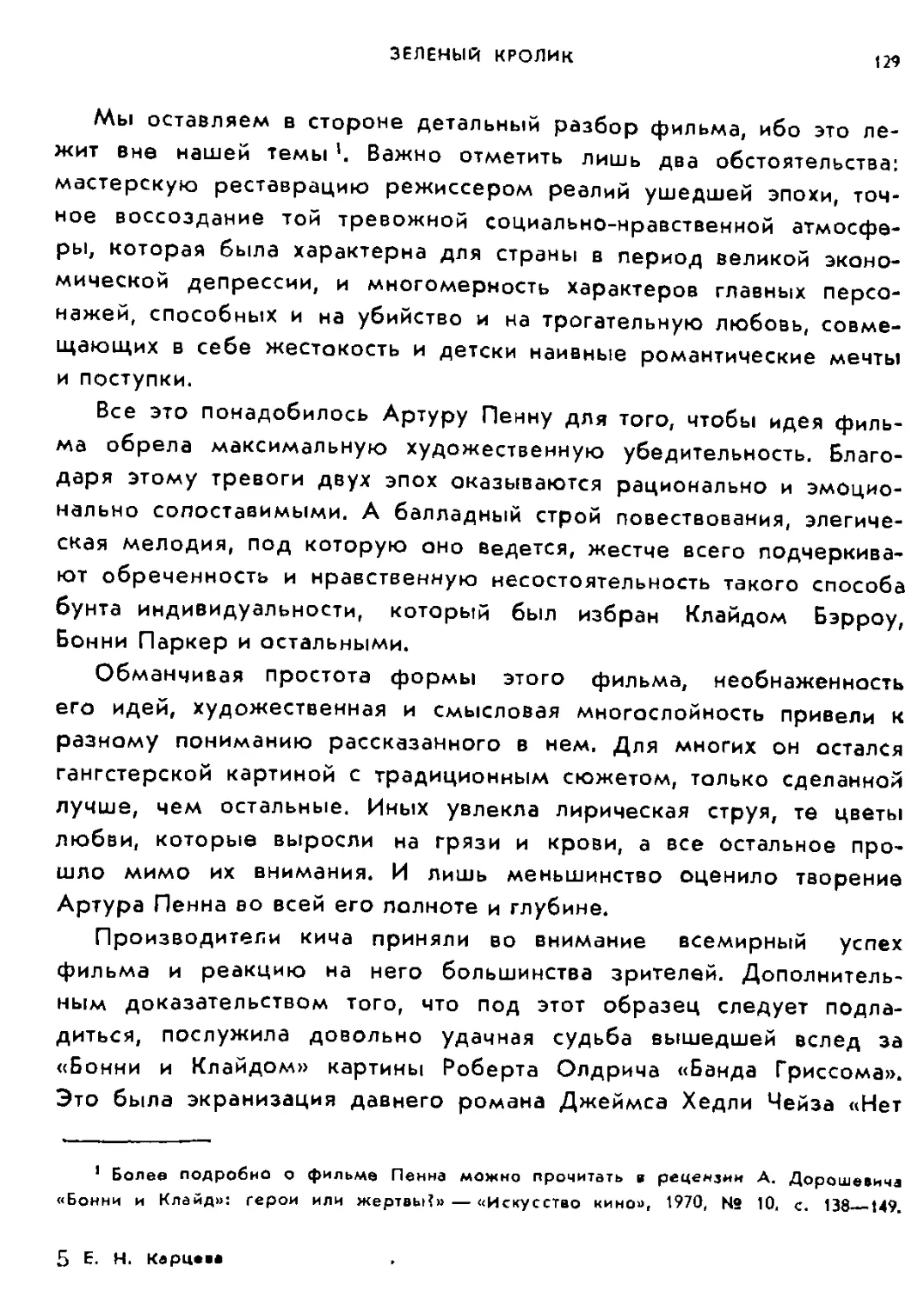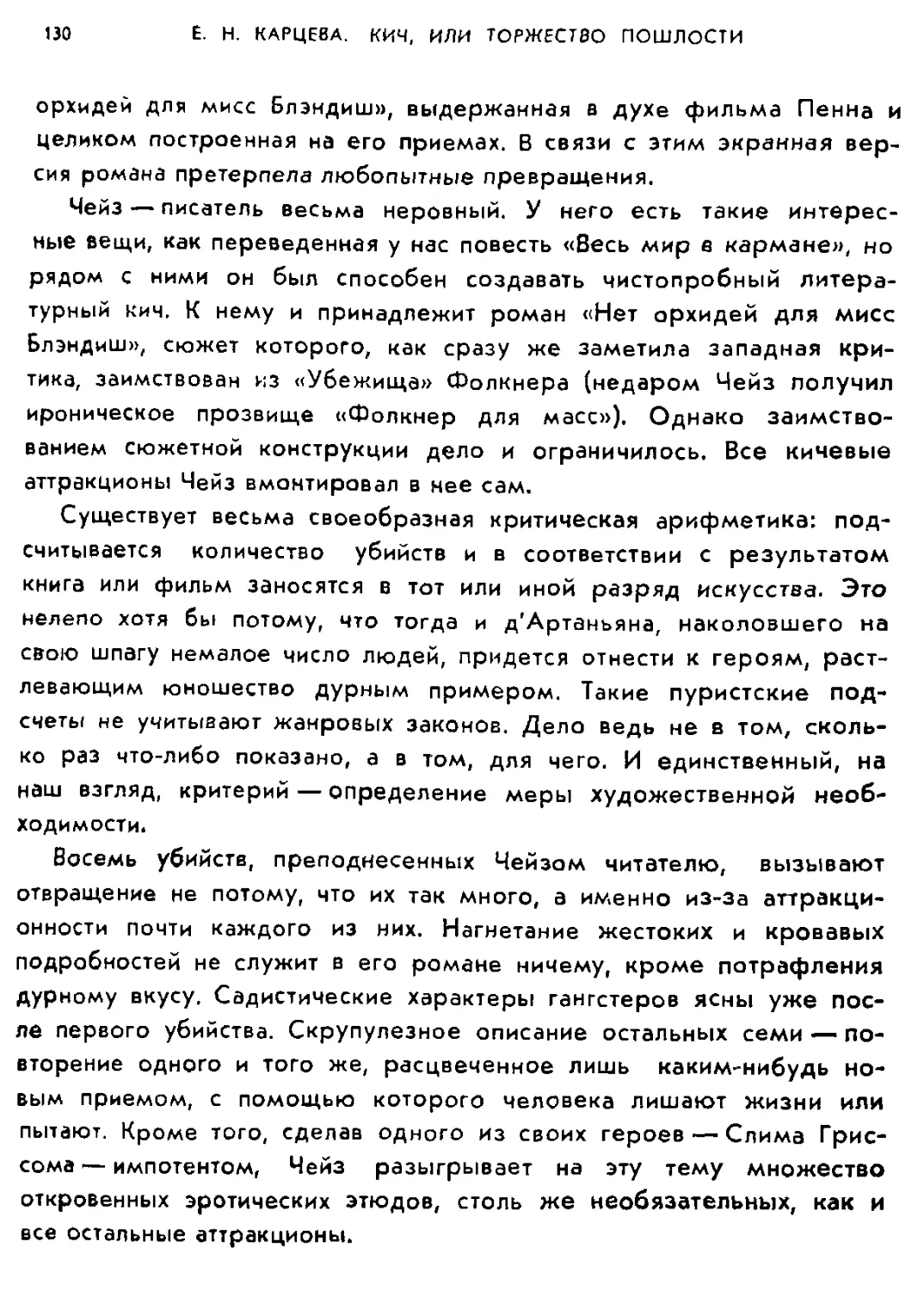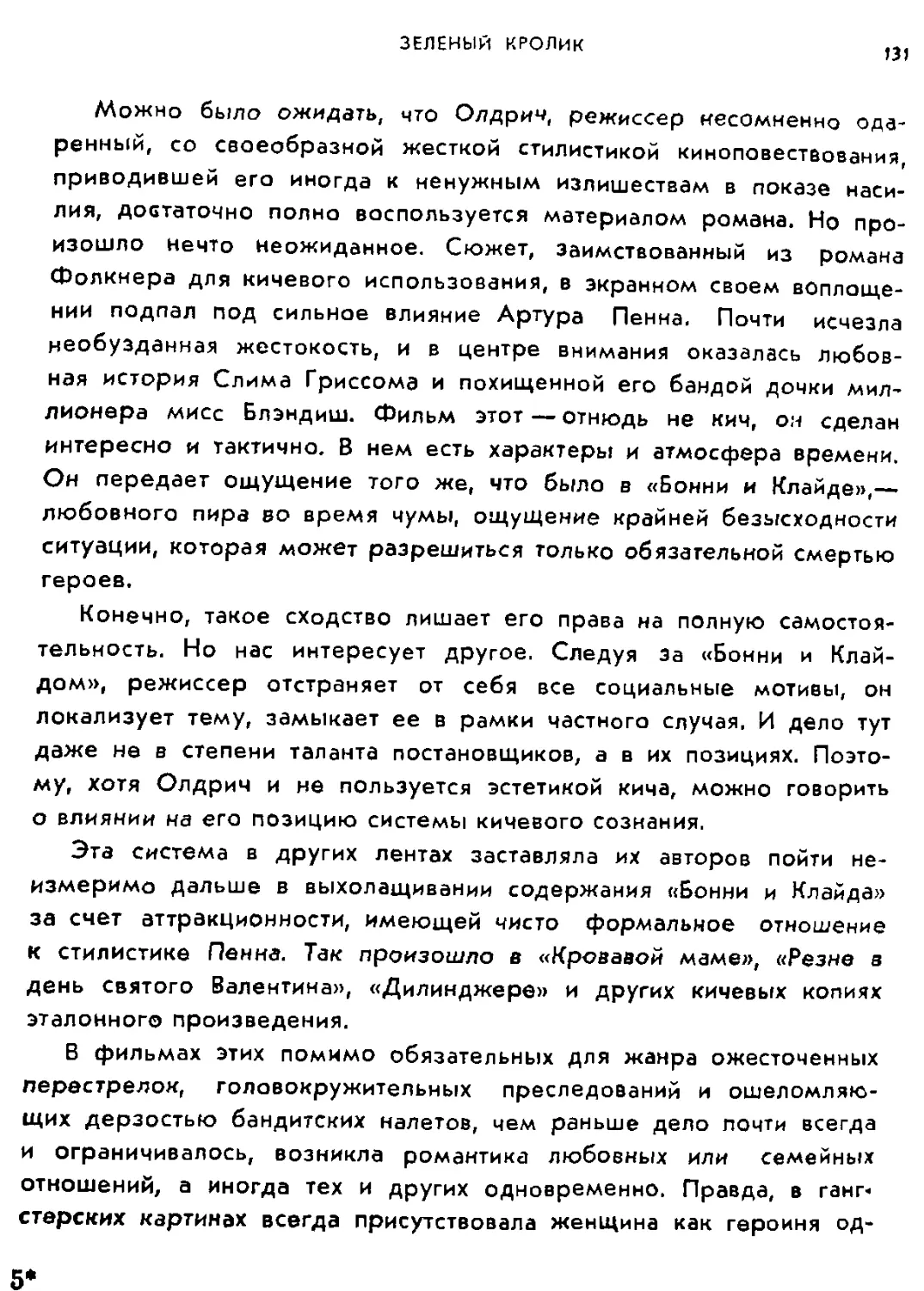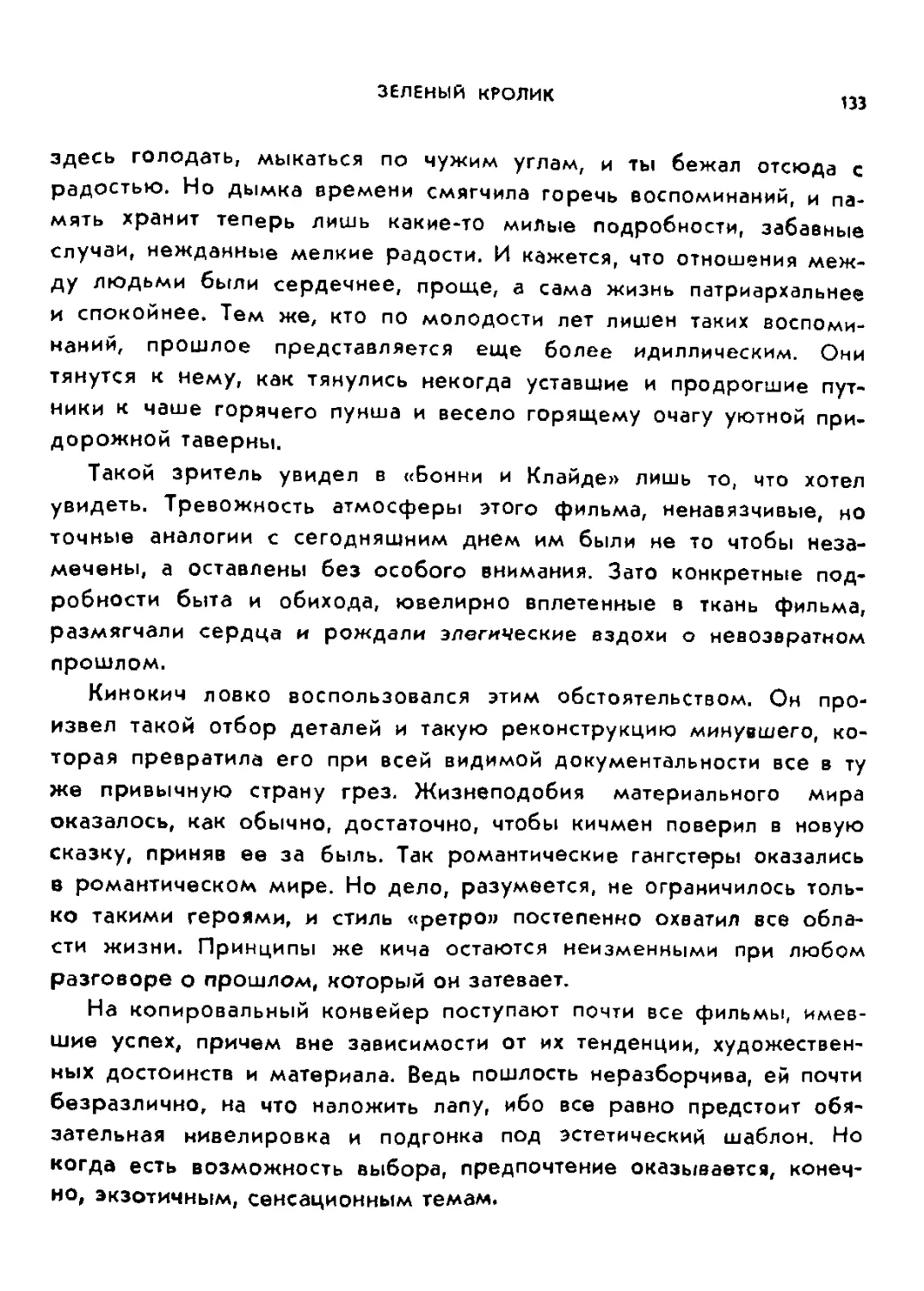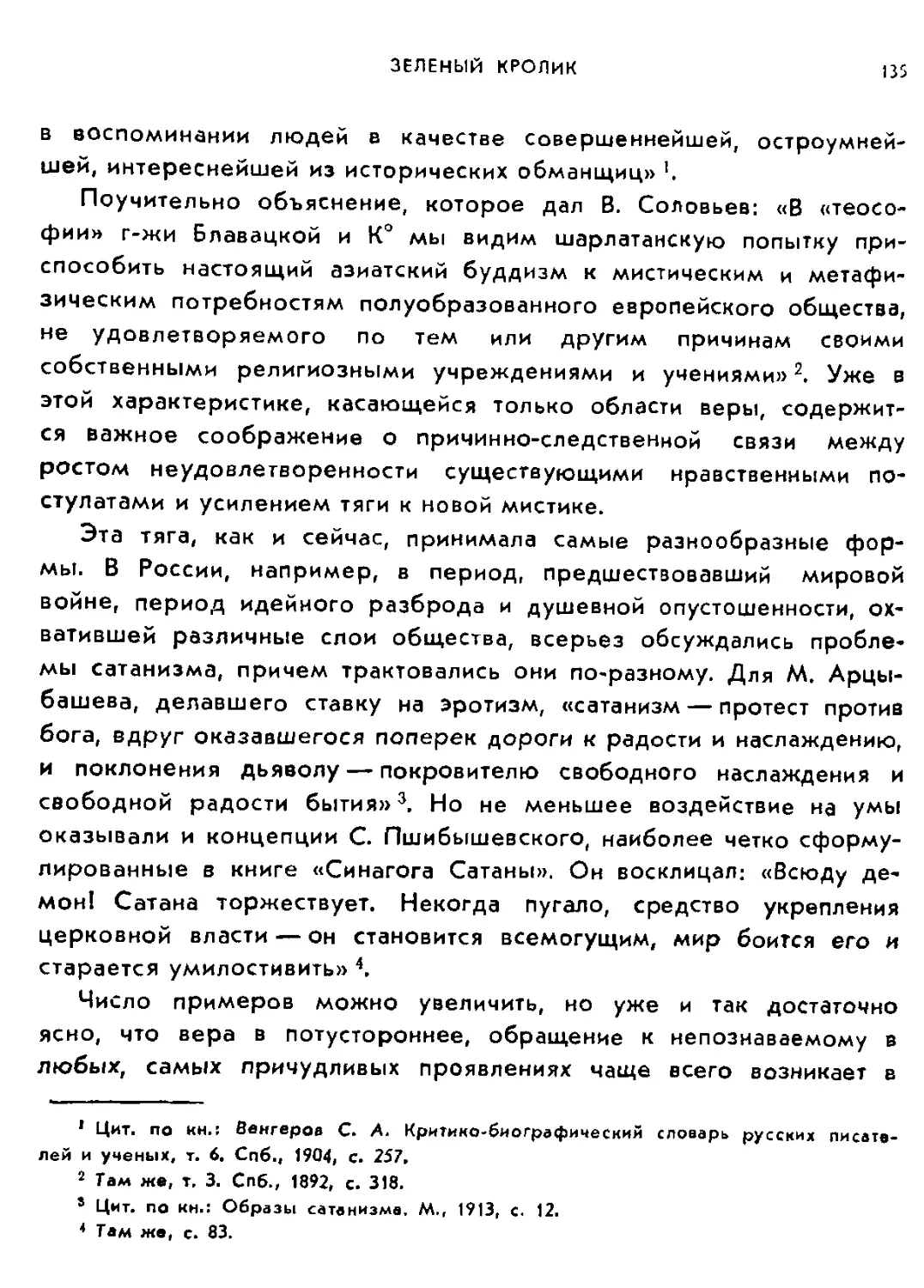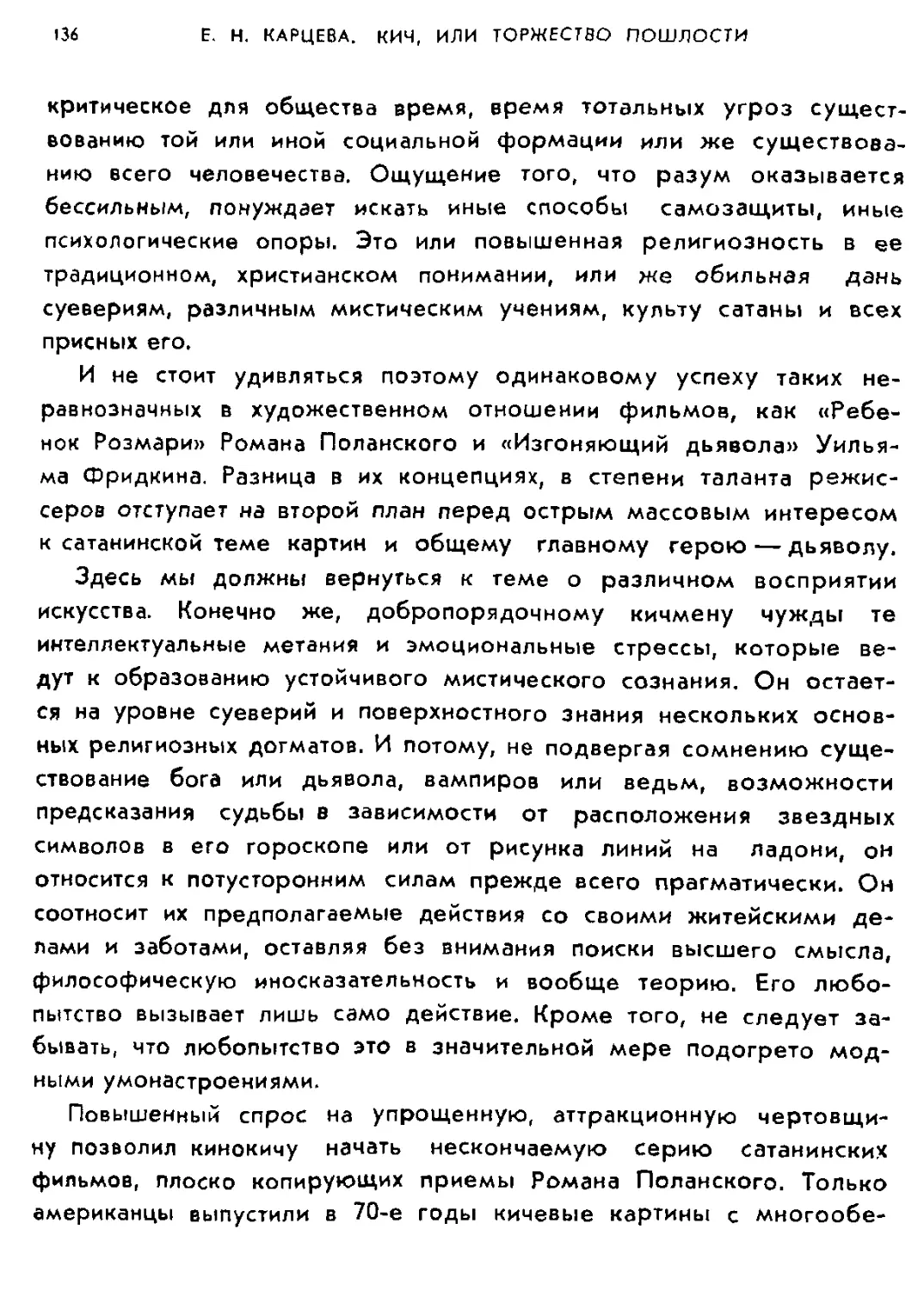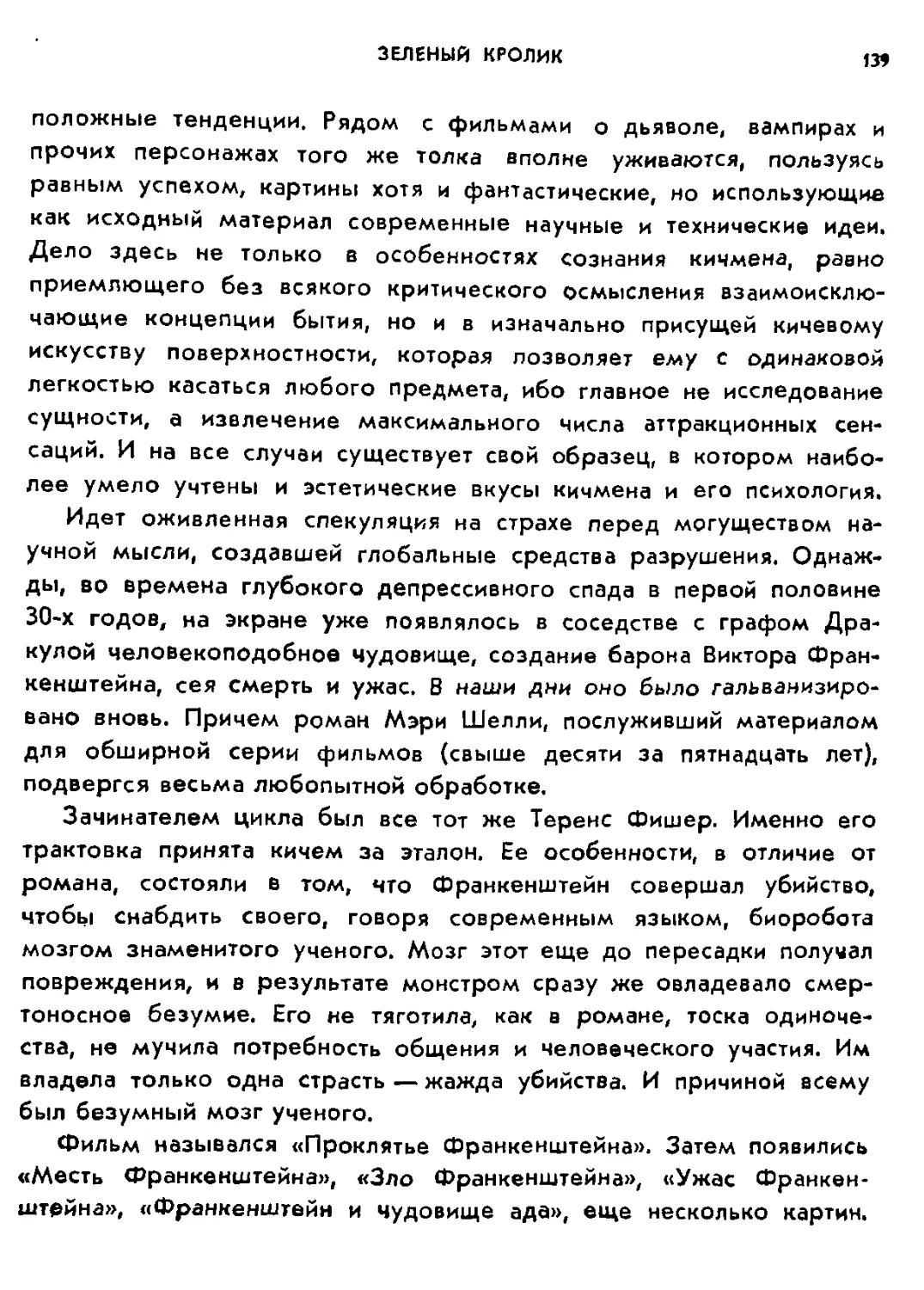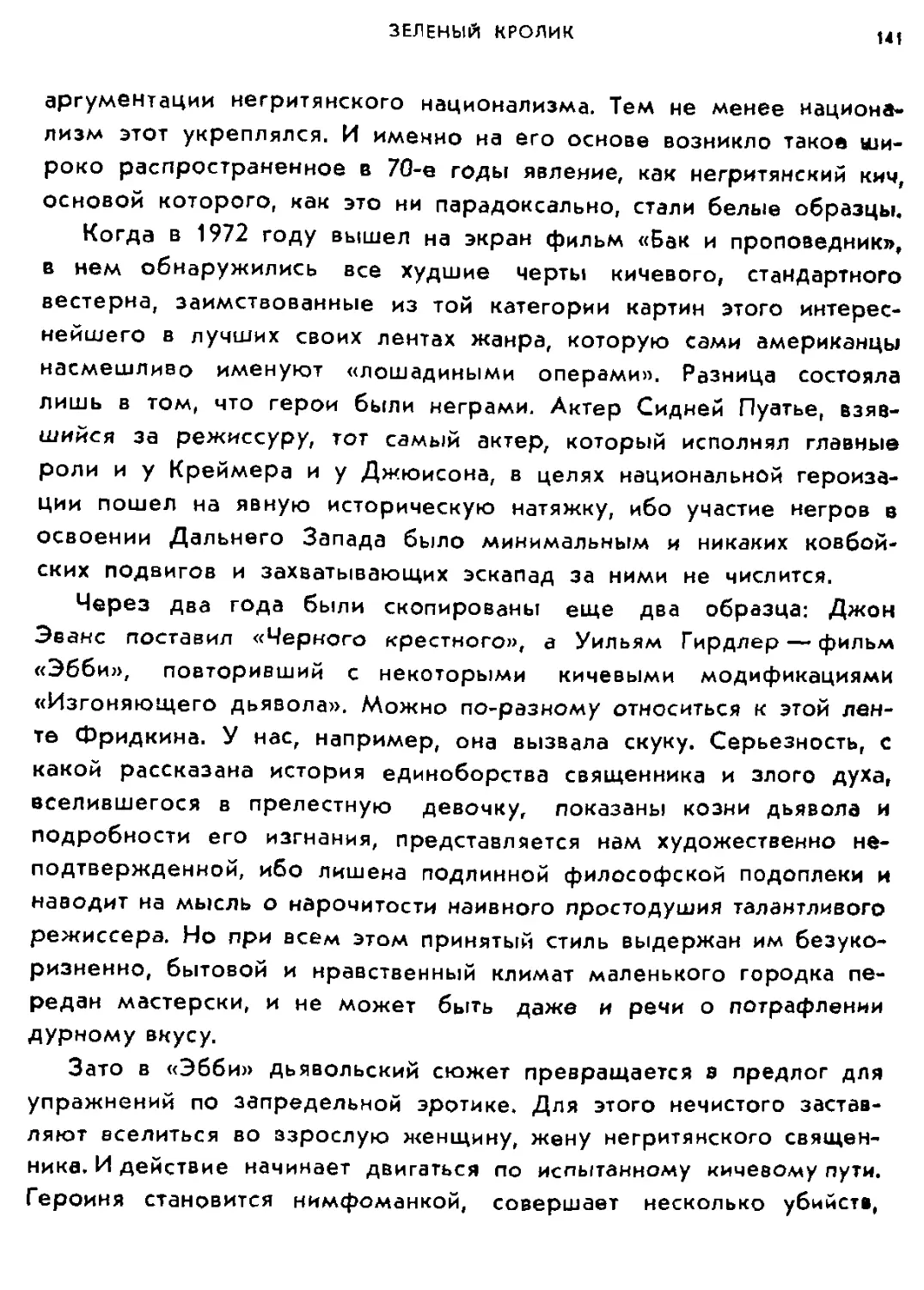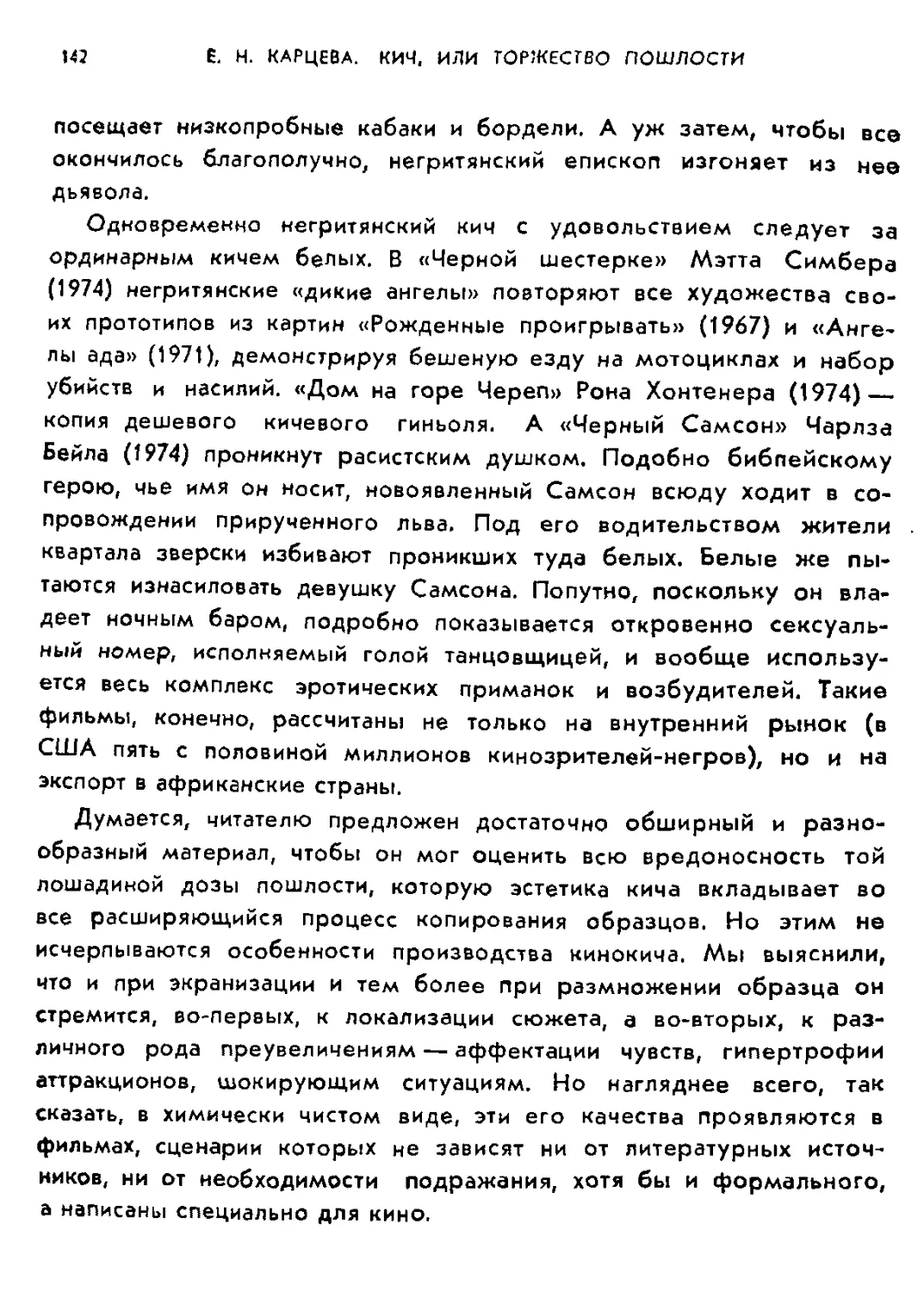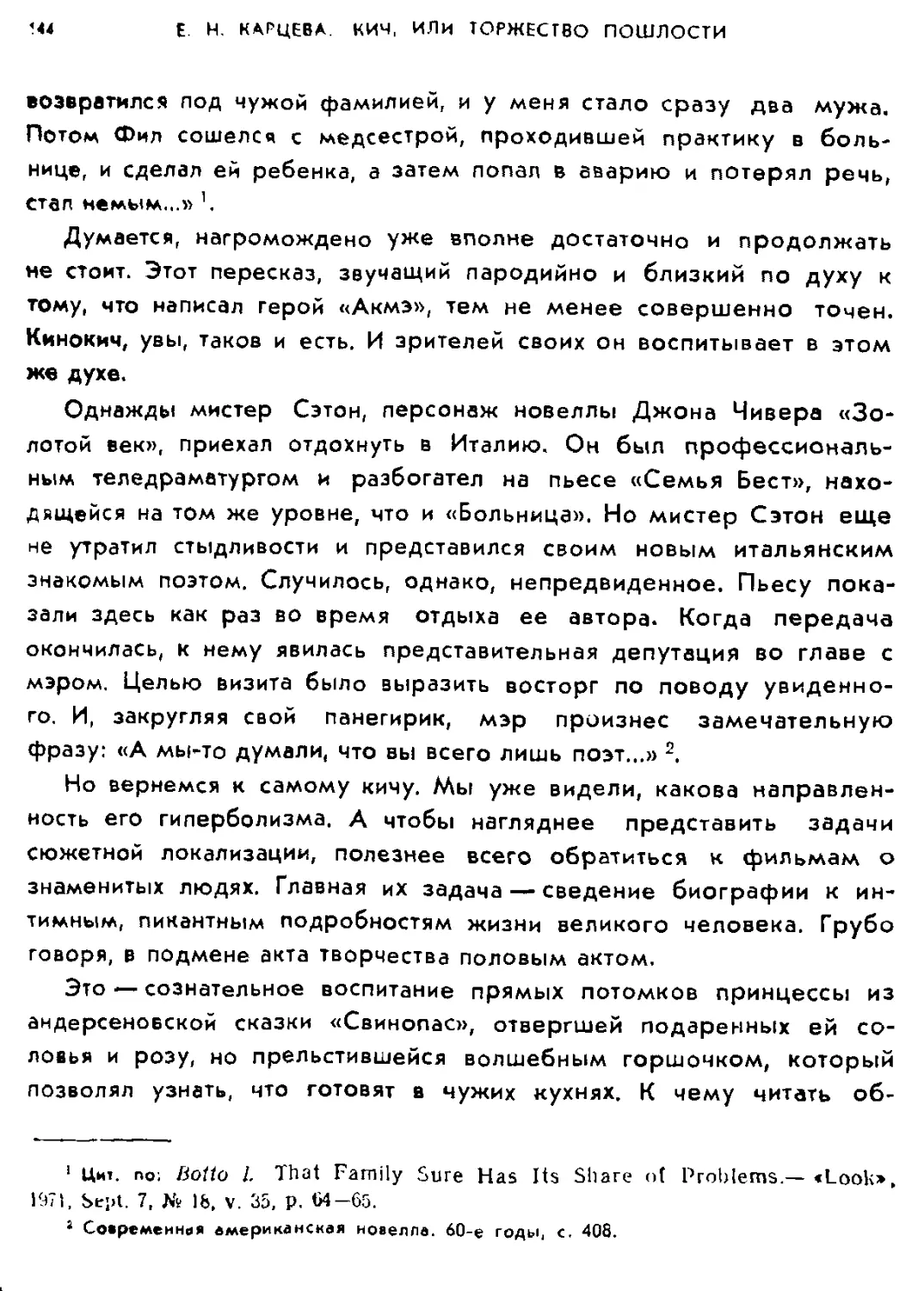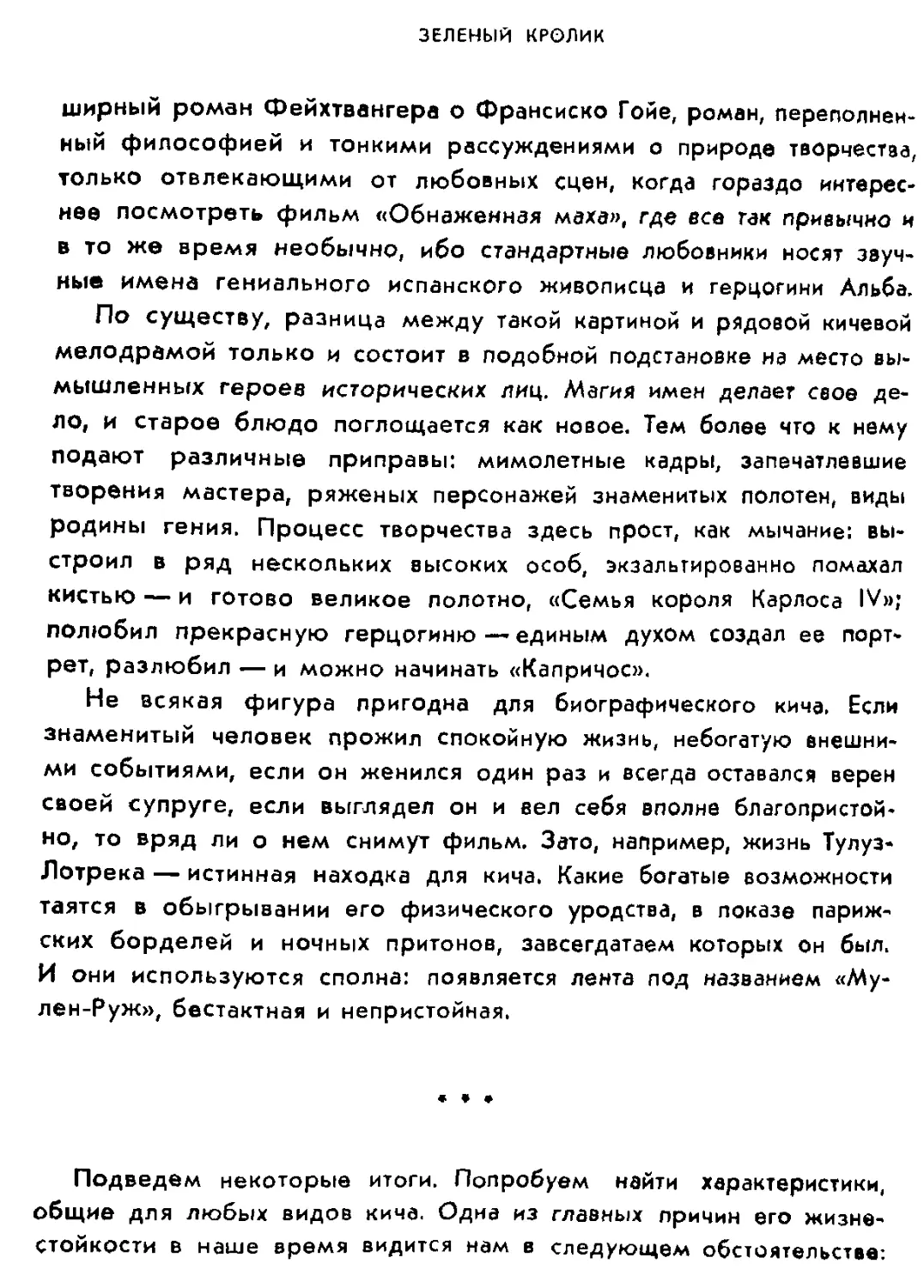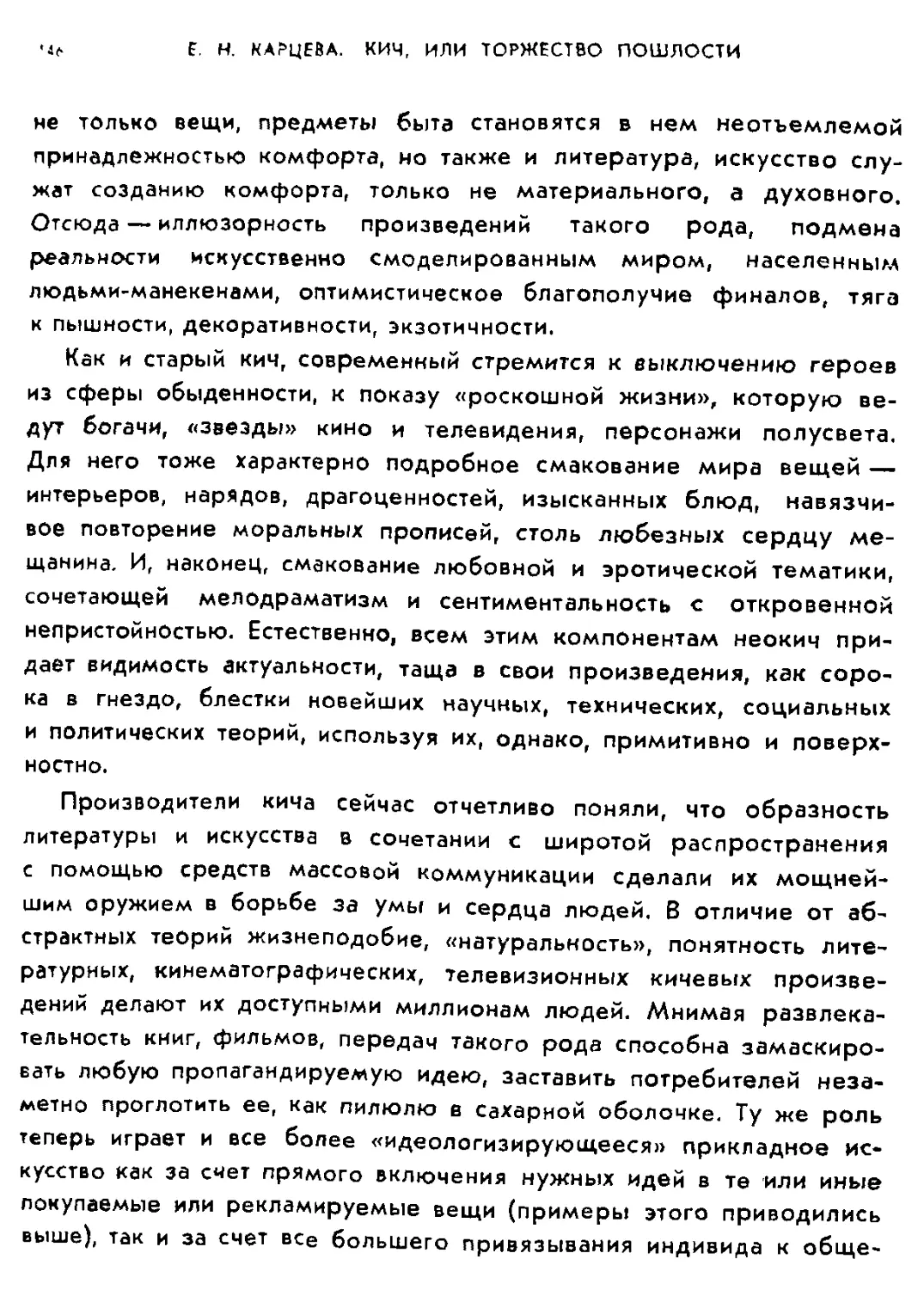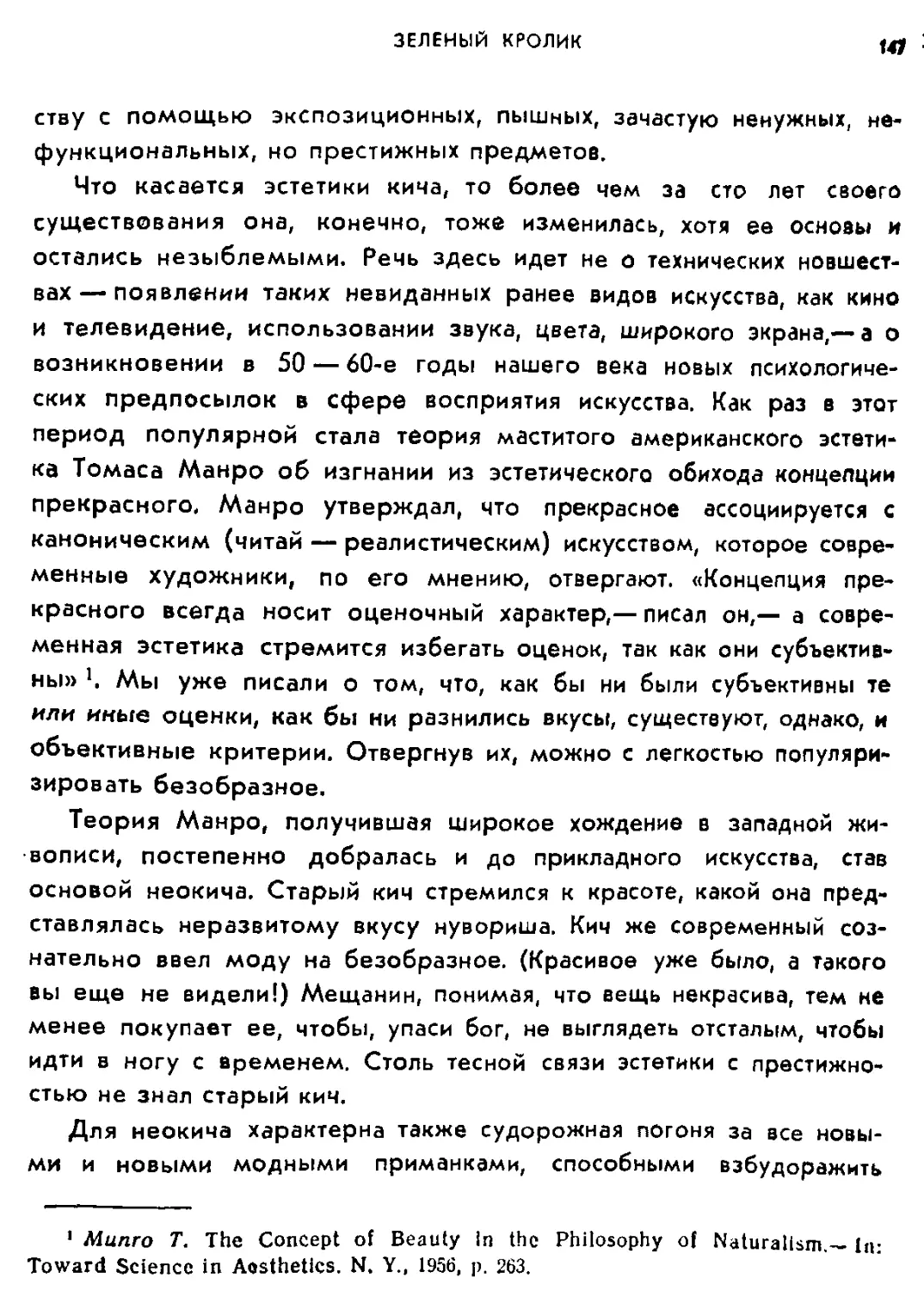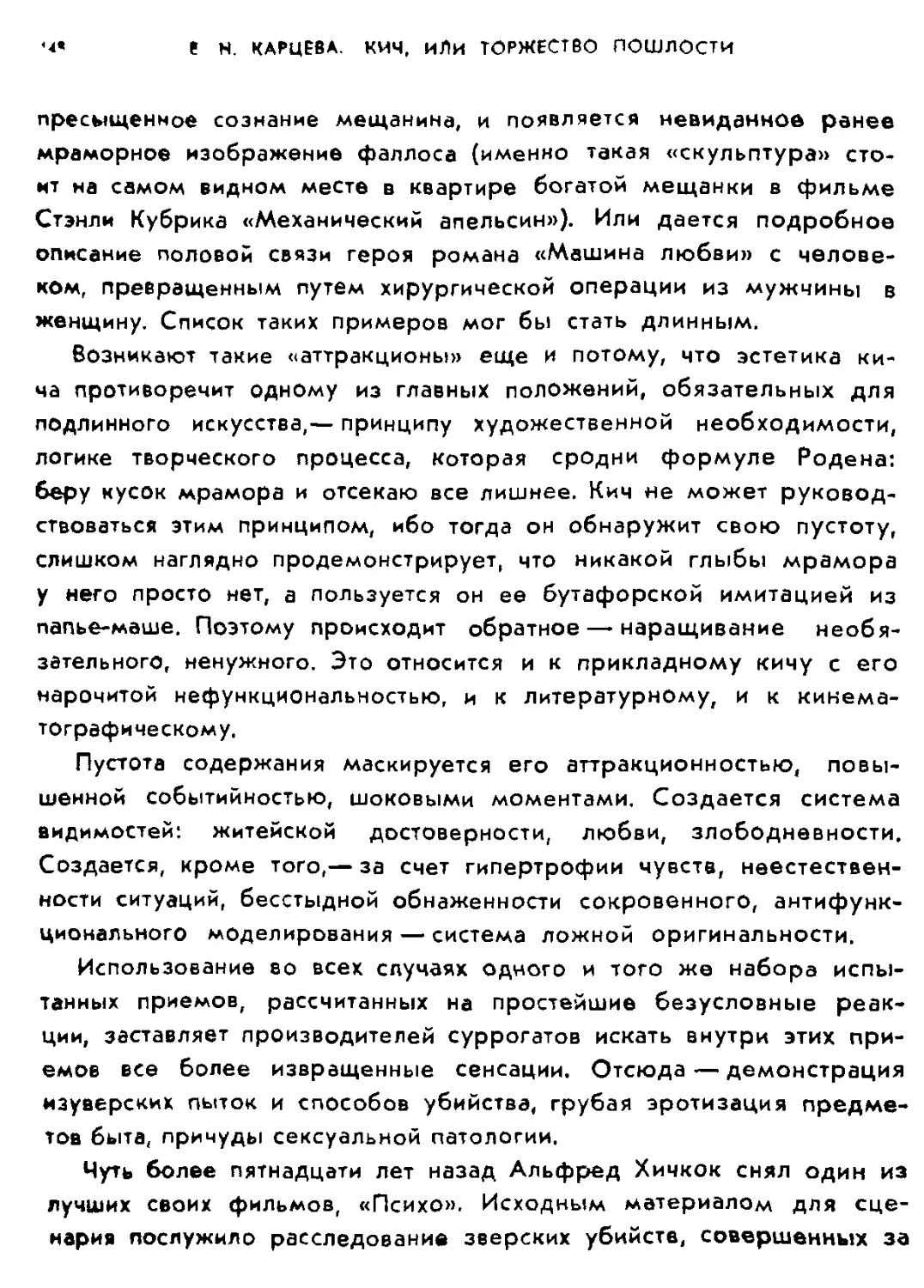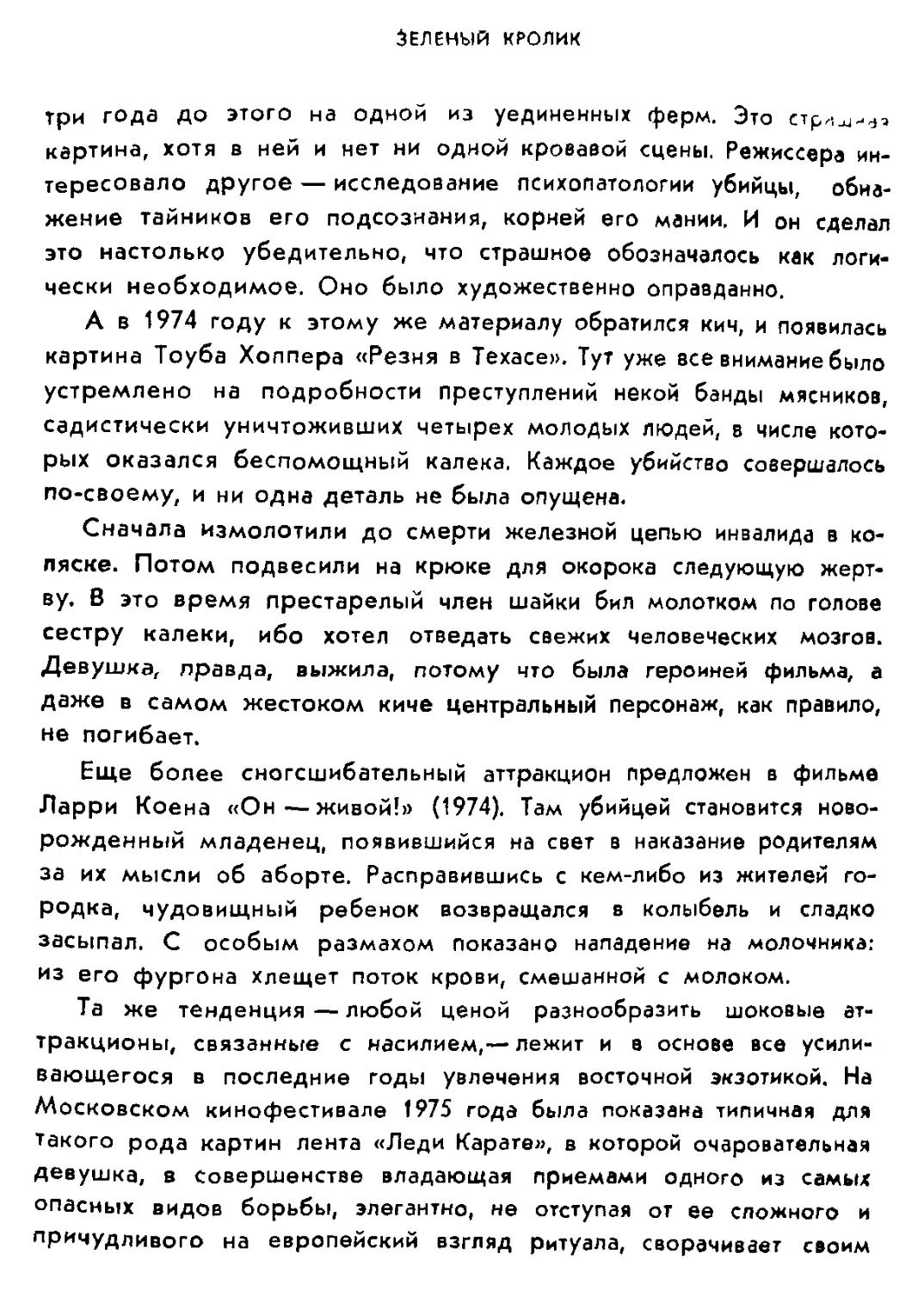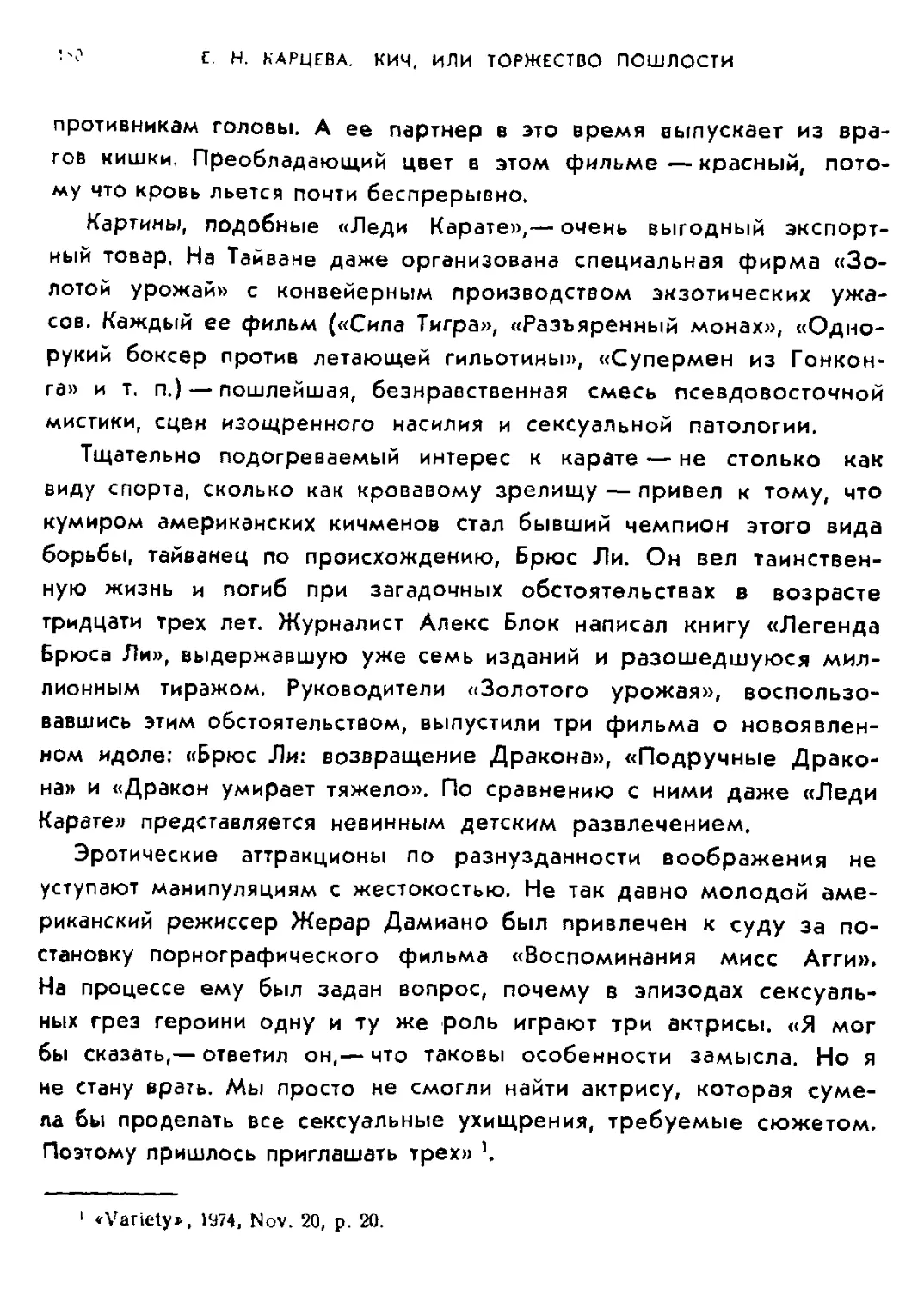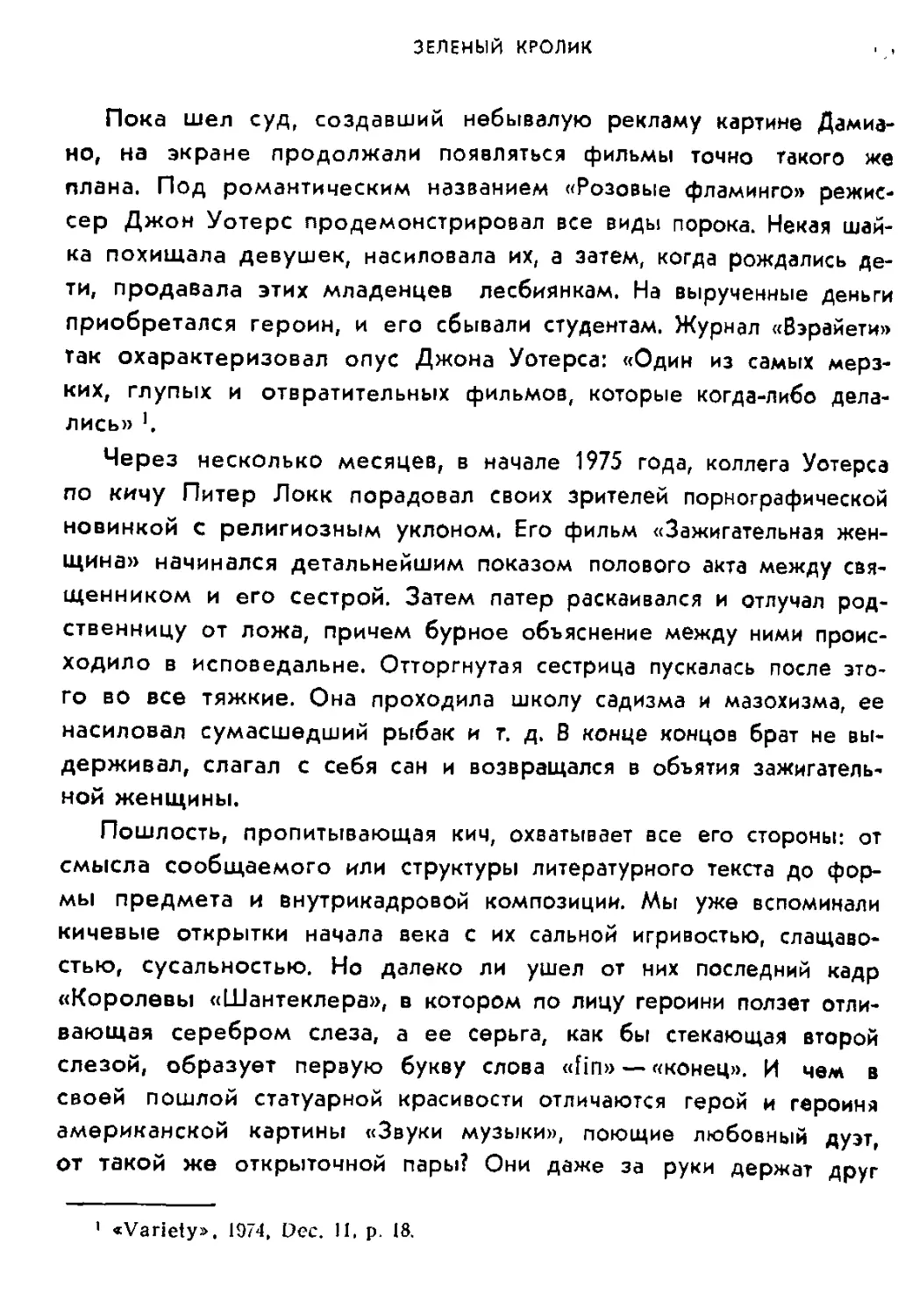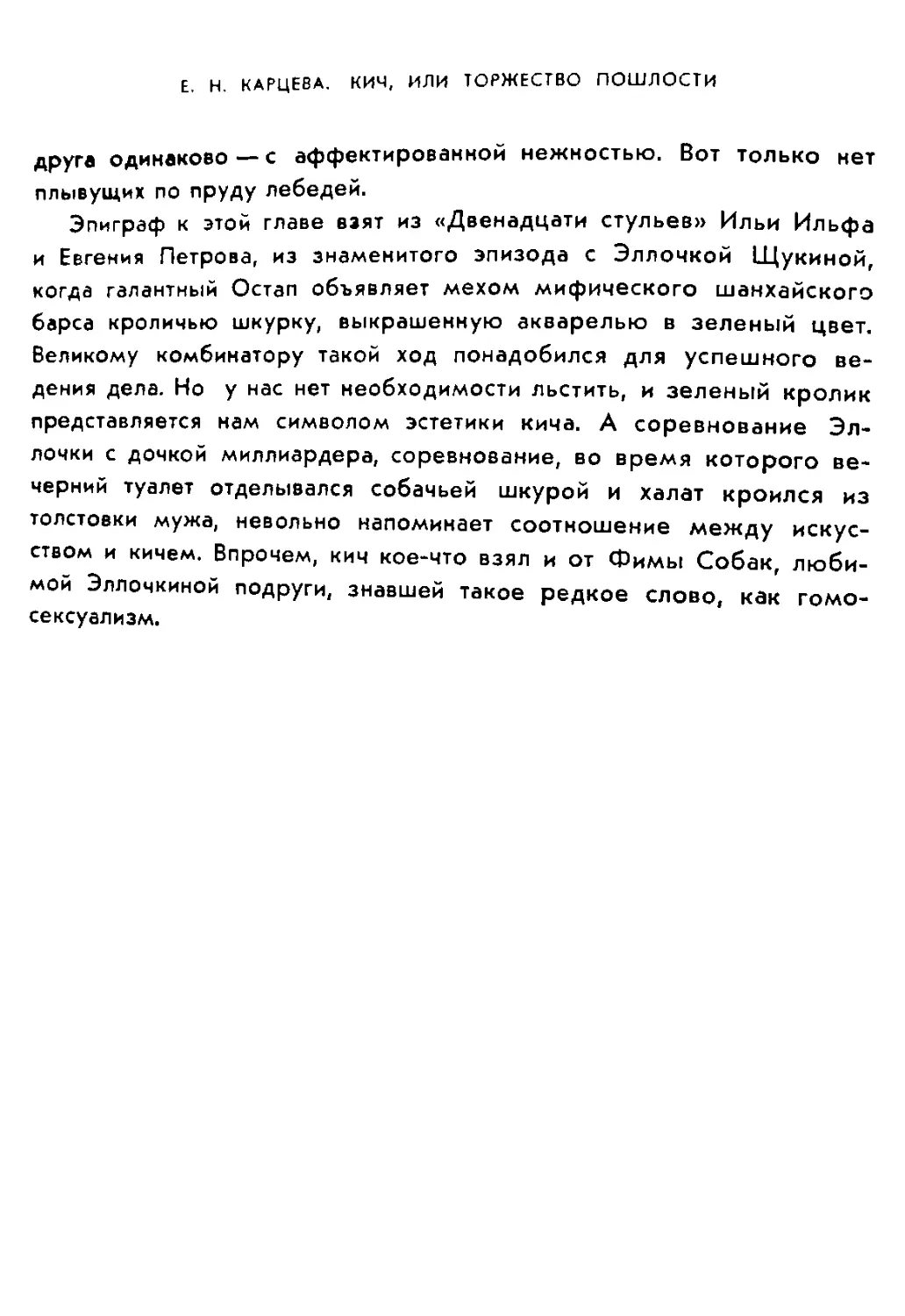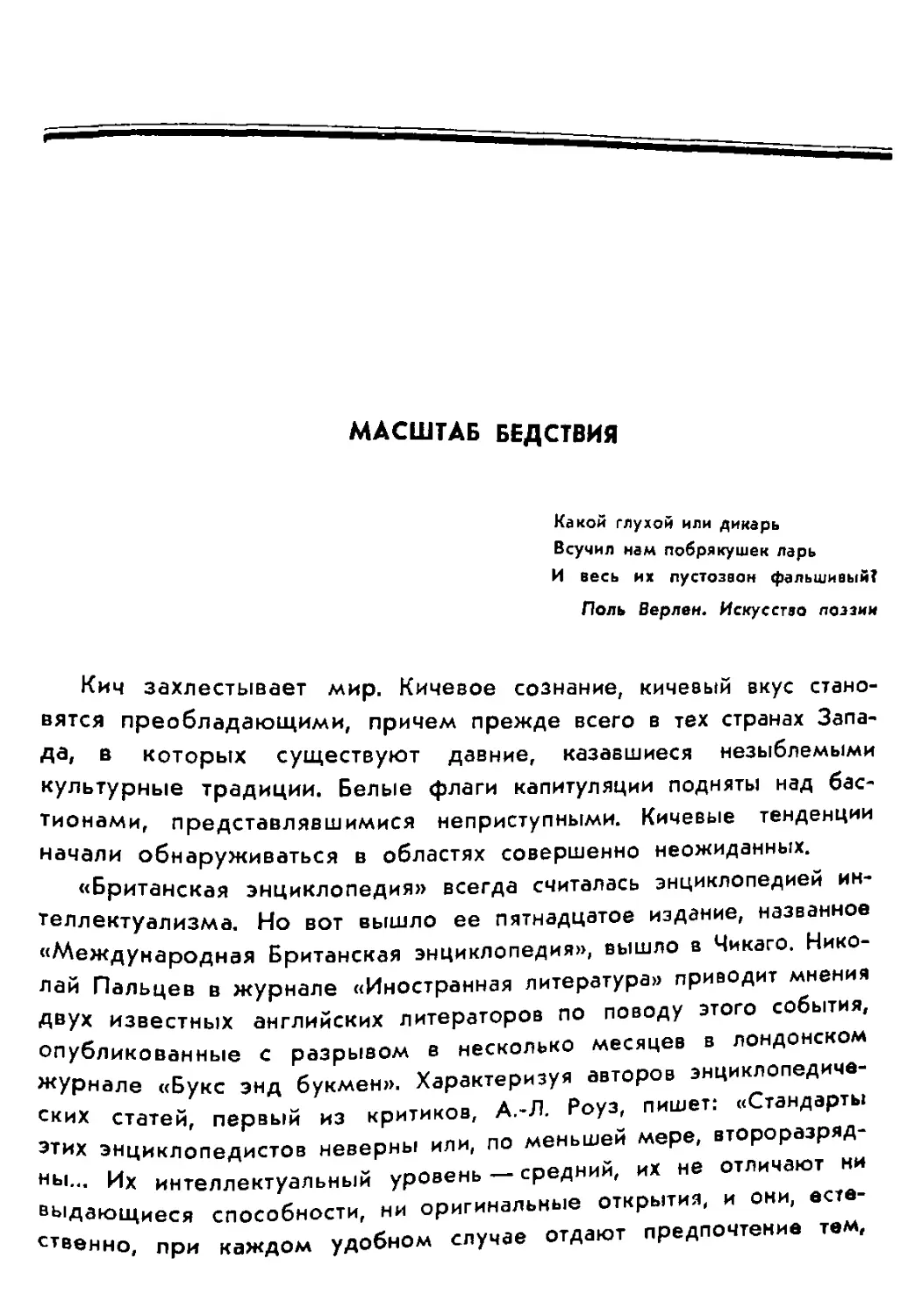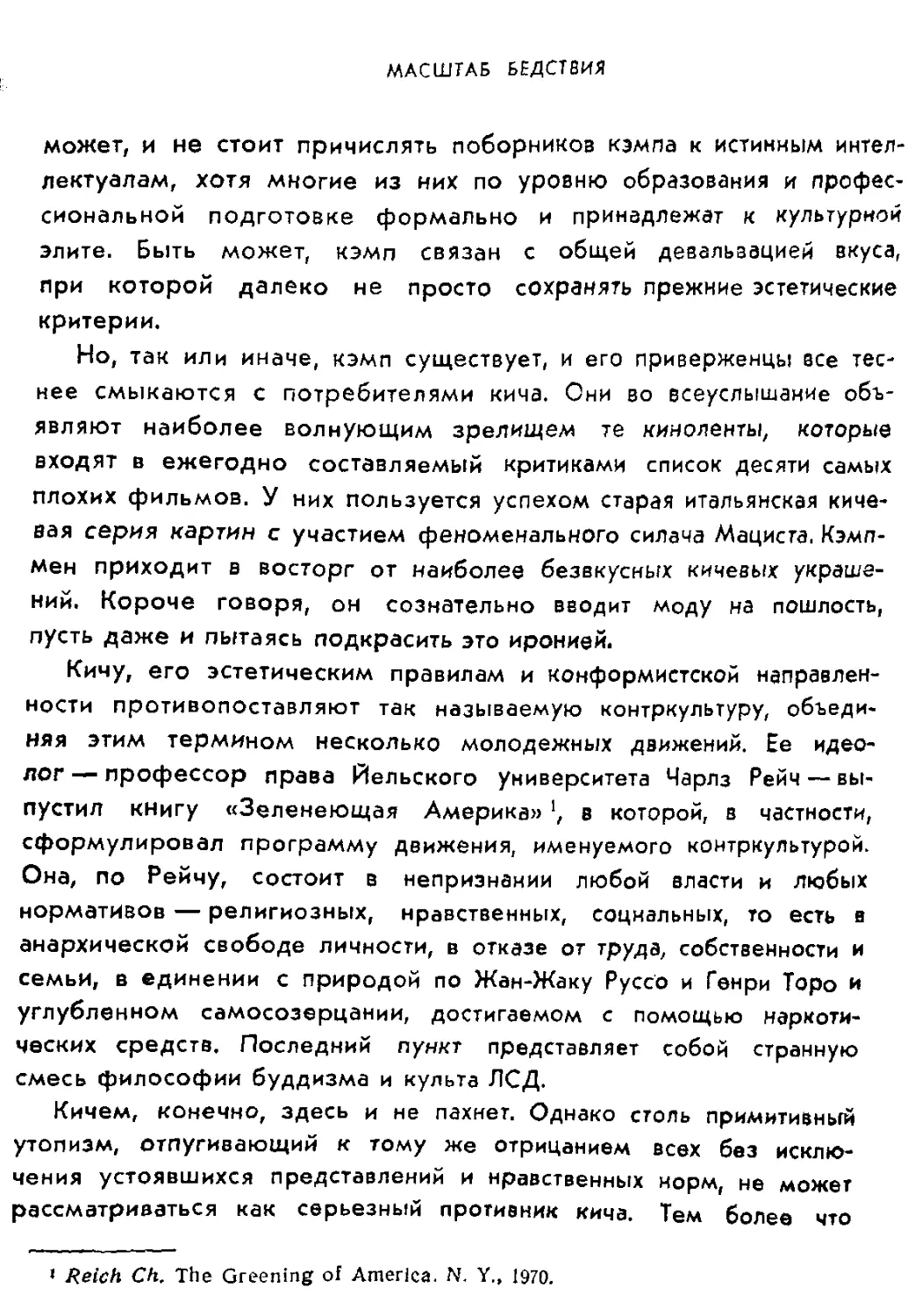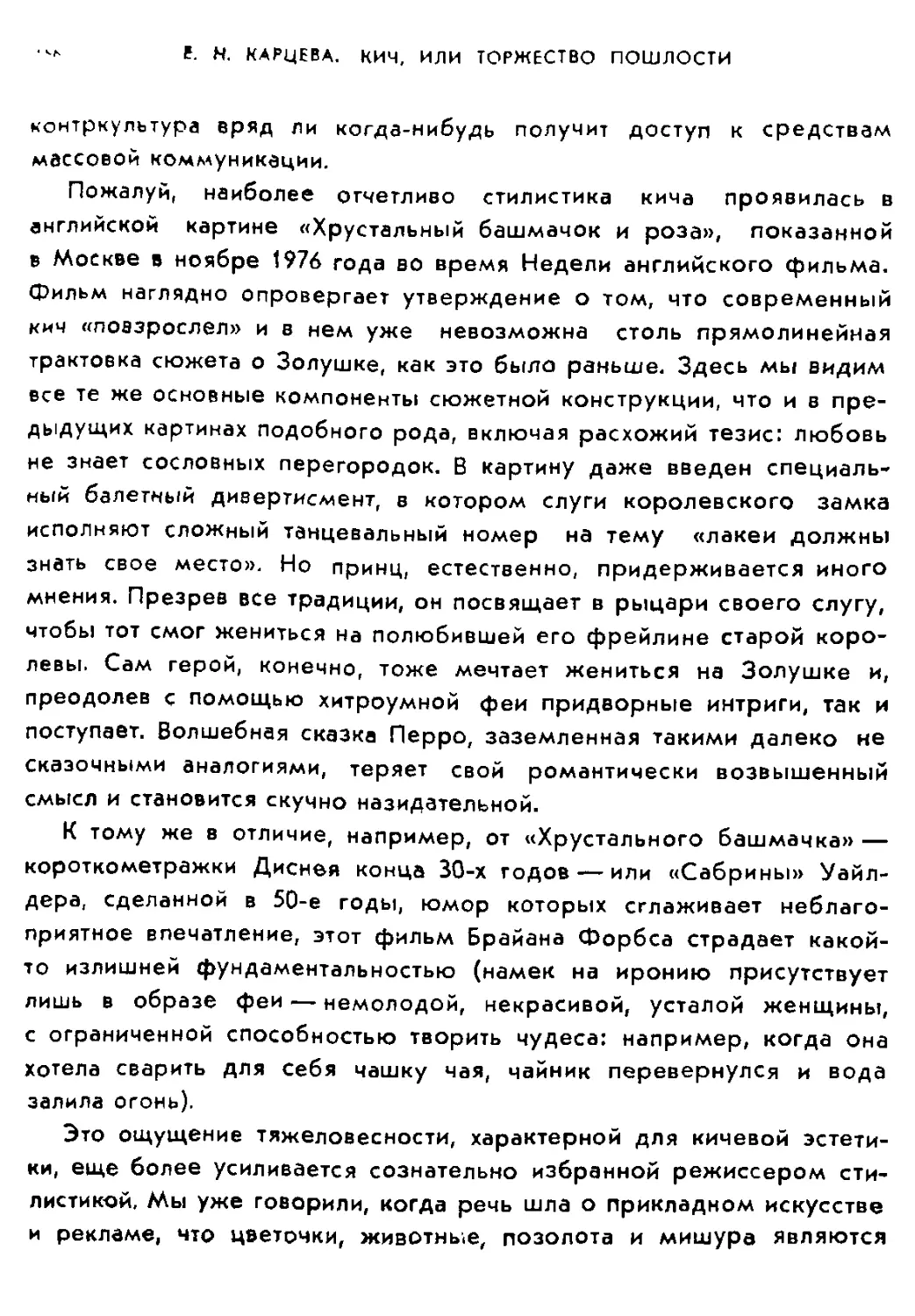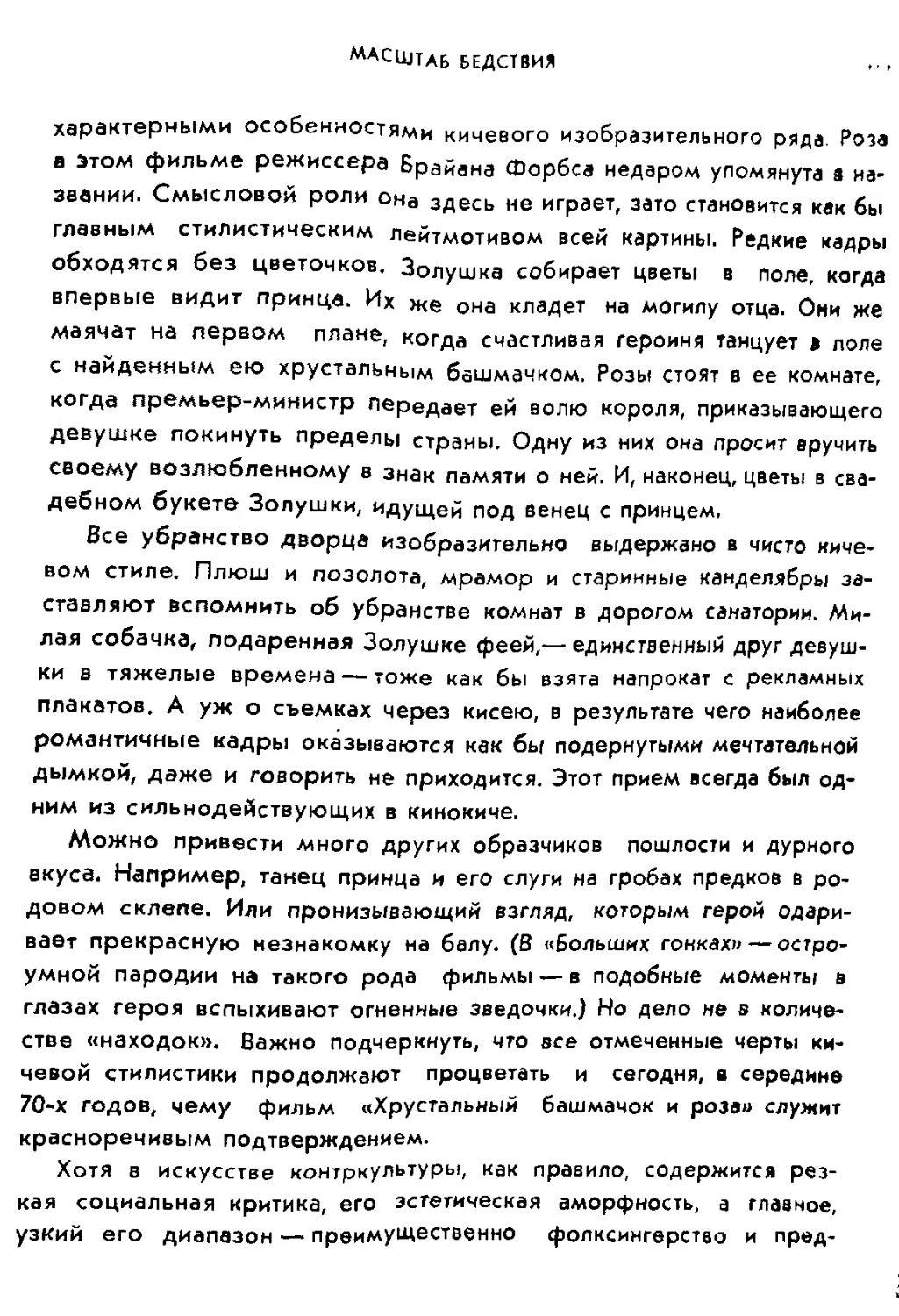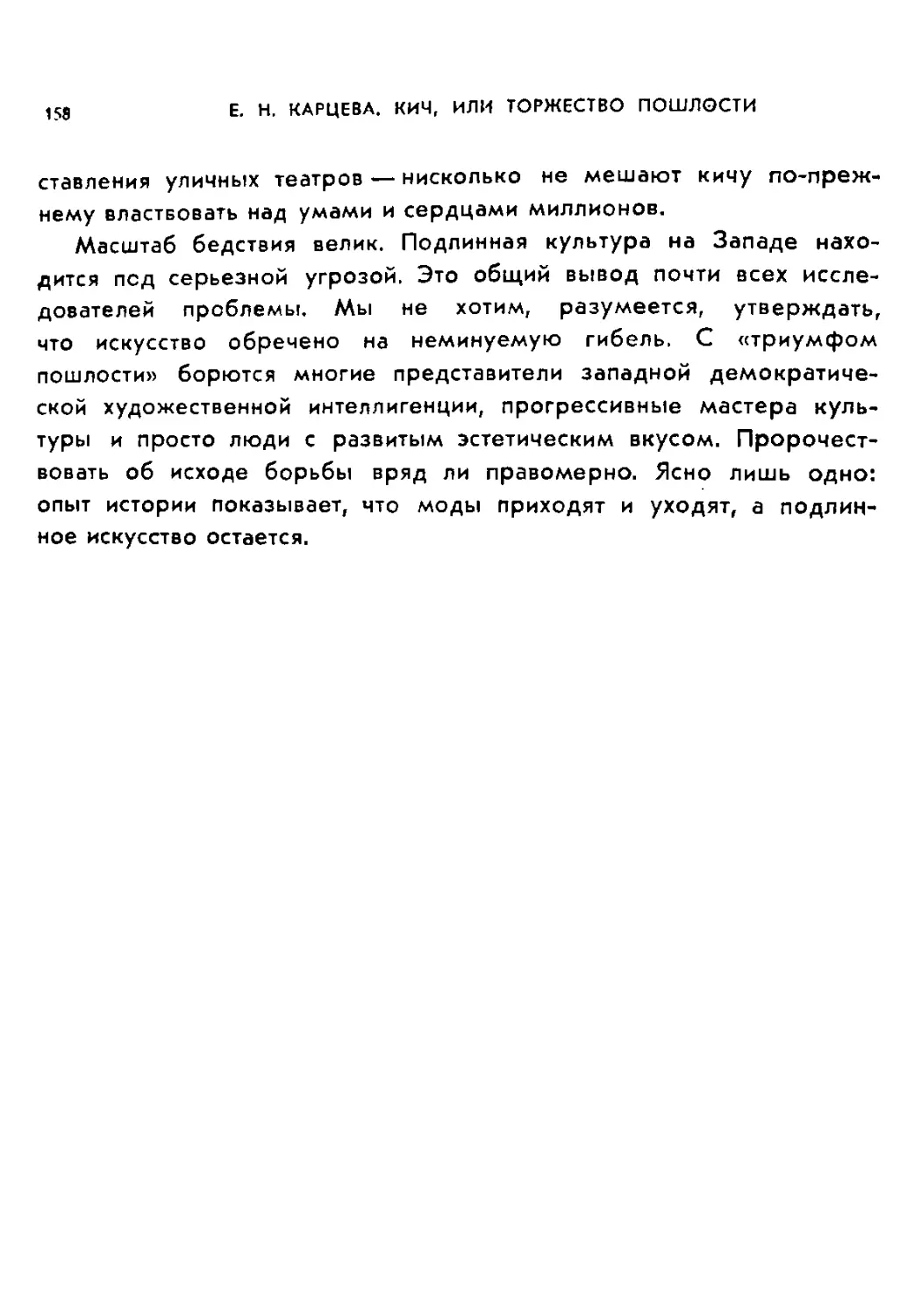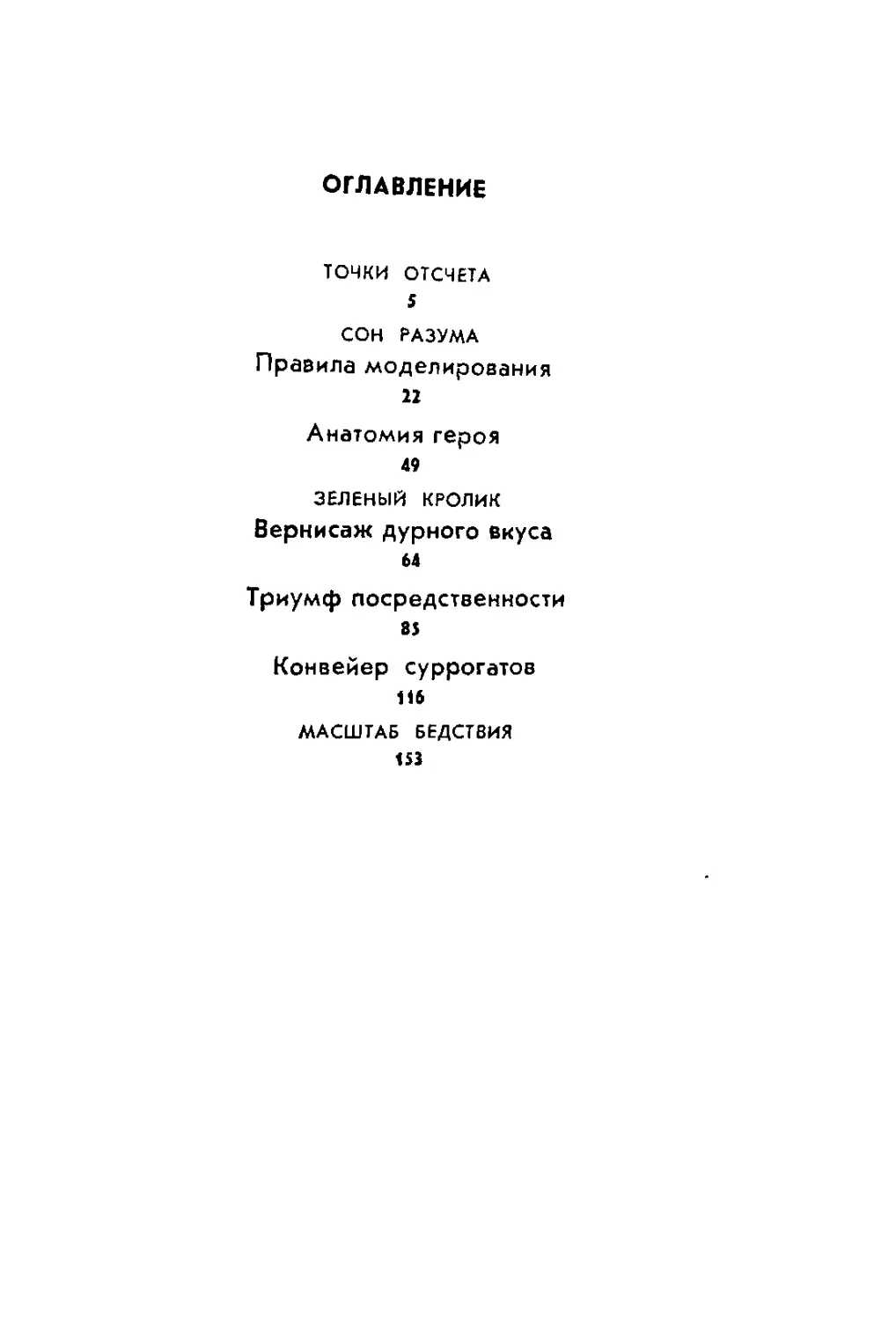Текст
Е. Карцева
КИЧ или торжество пошлости
точки
ОТСЧЕТА
СОН
РАЗУМА
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
МАСШТАБ БЕДСТВИЯ
Е. Карцева
КИЧ, или торжество пошлости
Москва «Искусство» 1977
7И KV
к
1OSO7-1Q5 ощмуп «Ь
^Издательство
«Искусство»,
1977 г.
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
Техника в сочетании с пошлостью — это самый страшный враг искусства.
И.-В. Гет»
Термин «кич» возник сравнительно недавно — во второй половине прошлого столетия. Его этимология, как полагают многие исследователи, связана с немецким глаголом «verkitschen», что означает «удешевлять». А затем появилось слово «кичмен» — мещанин, человек с дурным вкусом. Однако само явление существовало задолго до определившего его термина. Оно всерьез беспокоило уже Бальзака, который писал в романе «Знаменитый Годиссар»: «Наш век свяжет владычество силы обособленной, богатой творениями своеобразными, с владычеством силы единообразной, но обезличивающей,— она уравновешивает произведения, выбрасывает их в огромных количествах и повинуется единообразной мысли, этому последнему выражению общества».
На обложках современных книг о киче, как правило, фигурируют рисунки, стилизованные под открытки и олеографии столетней давности. На одной — обнаженная розовотелая женщина, обвитая розовым газовым шарфом, стоит, повернувшись лицом к ярко-синему морю с ослепительно белыми парусами яхт, и играет на скрипке. На другой — по такому же густо-синему, как море, озеру, к водам которого томно склоняются кричаще-зеленые кусты, плывет лодка,
« f. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
в в ней конфетная красавица в старинном платье с фижмами и буфами и конфетный красавец, перебирающий струны лютни. Вокруг них кувыркаются пухлые амурчики с традиционными луками в руках. На третьей — пышный гарем с пышными одалисками.
Конечно, все это характерно для старого кича, в котором верхом улыбчивой пошлости был резвый купидон, лукаво выглядывающий из тугого корсета полураздетой дебелой дамы. Можно вспомнить и более любопытные вещи, например открытку с «социальной подкладкой»: на стволе ружья, увитого розанами, висят в одеяльцах с бантиками семь веселых младенцев, а под ними надпись: «Чем чаще стреляет это ружье, тем быстрее растет народонаселение». Но это собрание откровенной пошлости, яснее всего обнажающее сущность кича, все-таки не что иное, как знак системы — обширной, охватывающей почти любую область культуры.
Этот охват или, точнее, захват происходил постепенно. Кич вторгся прежде всего в литературу, породив чтение того рода, которое принято называть бульварным. Термин требует в обращении с собой осторожности, ибо расширительное его толкование, существовавшее раньше и существующее теперь, предполагает зачисление в разряд бульварной литературы вне зависимости от качества и авантюрно-лубочного романа вроде «Парижских тайн», и серии книг об Арсене Люпене, и приключенческой экзотики Л. Жаколио, Р. Хаггарда или Л. Буссенара. Между твм все это, пусть и не целиком застрахованное от пошлости, все же не только служило развлечению ума, но и входило в обязательный круг чтения многих поколений молодежи, принося скорее пользу, чем вред. Такова была необходимая ступень на пути к большой литературе.
И не это составляло главную отраду мещанства. Кичевый роман—нечто совсем иное. К нему предъявлялись те требования, которые с такой наивной откровенностью высказал бессмертный персонаж «Бани» Маяковского Иван Иванович: «Сделайте нам красиво!» И — делали. Мещанин получал желаемое: описание роскошных апартаментов, «возвышенные» любовные диалоги, полный реестр великосветских развлечений, пристойную дозу эротики от
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
сих и до сих — все то, что составляет смысл и сод/ржание салонно-будуарного романа.
Все эти князья, графы, бароны — мастера галантерейного обхождения, все эти добродетельные Эмилии и Камелии, доблестные Раули и изысканные злодеи Гастоны, переходившие из книги в книгу, ничего общего не имели ни с реальной аристократией, ни с реальным миром. Они были сублимацией мещанского сознания, носителями мещанской нормативной морали и эстетики. Иными словами, персонажи кичевого романа — идеальные мещане, перенесенные в идеальные условия существования, пошляки в мире пошлости.
К концу прошлого века кич предъявил права на эстраду. Утонченные увеселения дворянства сменились грубостью, плоскостью и сальностью буржуазных зрелищ. Программы кабаре подчинились вкусу нуворишей. А это был вкус все тех же любителей открыток с амурчиками, порхающими над целующейся парой, с полногрудыми дамами, демонстрирующими глубокое декольте и подвязки с розовыми бантиками, все тех же верных читателей кичевого романа.
С появлением кинематографа этот вкус начал распространяться и на новое искусство. Прошло всего двенадцать лет после первого сеанса братьев Люмьер на бульваре Капуцинок— и кич на экране приобрел уже настолько массовый характер, что его нельзя было счесть явлением случайным. Уже тогда, в 1907 году, Ленин заметил (в беседе с А. Богдановым), что «кино, до тех пор, пока оно находится в руках пошлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы отвратительным содержанием пьес» *.
Пошлые спекулянты на Западе и до сих пор не выпускают кинематографа из своих рук, равно как и его младшего коллегу — телевидение. Для них это и товар, имеющий постоянный огромный
1 Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. М., 1973, с. 116.
е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ. ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
сбыт, и — что не менее важно — надежный инструмент для «операций на мозге», то есть для воспитания конформистского сознания. «Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства,— подчеркивали Маркс и Энгельс,— располагает вместе с тем и средствами духовного производства» '. Как же сочетается кич с идеологией?
Французский ученый Абраам Моль усматривает между ними неразрывную взаимосвязь. Он определяет кич как проекцию «буржуазных вкусов на художественное творчество», как «конформистское искусство, свойственное буржуазии эпохи материального процветания. Это не только стиль искусства, но и отношение к нему потребителей»1 2. Добавим — и производителей. Ими владеют две генеральные идеи—отвлечение от сущего или полное его приятие.
В свое время Герберт Спенсер, размышляя о соотношении понятий красоты и пользы, путем изящных умозаключений пришел к выводу, что «окружающие нас вещи и повседневные события, которые сопровождаются ассоциациями, не отличающимися заметно от наших повседневных ассоциаций, относительно непригодны для целей искусства» 3. Слово «относительно» указывает на то, что суждение это не категорично, а имеет целью лишь указать на предпочтительность для искусства не обыденного, а необычного материала.
Другой философ и теоретик искусства, Джон Дьюи, пошел еще дальше Спенсера и высказался с большей определенностью: «Если бы не тяготы и монотонность ежедневного существования, царство сна и мечты не было бы привлекательным. Невозможно длительное полное подавление эмоций. Эмоция уходит от тусклости и безразличия плохо организованного окружения и питается фантазией»4.
1 Маркс К. и Энгельс ф. Соч., т. 3, с. 46.
’ Moles A. Le Kitsch. I’art du bonheur. Paris, 1971, p. 5.
'Spencer H. Use and Beauty.—In: Herbert Spencer’s Essays. London, 1907, P- 128.
Art as experience. N. Y., 1934, p. 260.
точки ОТСЧЕТА
»
Это наблюдение носит, однако, как и вывод Спенсера, несколько общий характер, исключающий возможность дифференцированного подхода к истокам психологии восприятия и превращающий потребителя искусства в человека вне социальных групп.
Если отнести тезисы Спенсера и Дьюи к такому жизненно правдивому персонажу, как несчастная Настя из горьковской пьесы «На дне», то они окажутся отчасти справедливыми. Такой социальный тип существует на Западе и сейчас. Для этой категории людей уход в фантазию действительно есть результат «тусклости и безразличия» жизни, им не нужны в искусстве «окружающие нас вещи и повседневные события», ибо они слишком тяжелы и страшны, а будущее — бесперспективно. Настя ждала своего романного Рауля как избавителя, как мессию. Миры воображаемый и реальный потеряли для нее конкретное содержание, они слились.
Но совсем на другой основе строятся взаимоотношения современного западного мещанина и кича. Мещанин тоже за выключение искусства из сферы обыденного, он тоже предпочитает — на двухчасовом киносеансе или у экрана телевизора — сон наяву, вымысел — реальности, и это хорошо усвоили хозяева средств массовой коммуникации, хотя мы далеко не убеждены, что в их среде широко популярны трактаты Спенсера и Дьюи. Скорее всего, связь здесь опосредованная. Она в той духовной атмосфере, которую создают господствующие философские направления. Однако нас сейчас интересует не результат, а причины, к нему приведшие.
Современный потребитель кича, нынешний заказчик и пожиратель пошлости, принадлежит преимущественно к тому слою населения, для которого характерны достаточная материальная обеспеченность, довольство собой и жизнью, тяга к постоянному украшению этой жизни все новыми и новыми вещами и развлечениями. Кич в изобилии предоставляет мещанину украшения, соответствующие его вкусу, заботится о его душевном комфорте, воспитывает его в любви и уважении к самому собе. Он льстит ему, внушая убежденность в собственной полноценности, возводя его в сан поклонника изящного, и взамен получает возможность управлять его
W E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
сознанием и определять круг его эстетических привязанностей. Реализация этой возможности приносит помимо всего огромную материальную выгоду.
Кичмену не нужна по-настоящему острая социальная проблематика, ему чужды и герои Достоевского и персонажи Фолкнера, слишком сложные, двойственные, враждебные его ничем не замутненному, самоуверенному спокойствию — ведь все это может внести в душу ощущение дискомфорта. Наивно полагать, что мещанин ищет в искусстве забвения. Нет, он требует отдыха или такого щекотания чувств, которое подобно легкому приятному массажу, которое если и вызовет на глазах слезы, то слезы умиления собственной чувствительностью, тонкостью и возвышенностью собственной натуры. Это не сопереживание, а необходимый для правильного функционирования организма психологический акт.
Погружаясь в иллюзорный мир кича, его потребитель обнаруживает сходство своих стремлений, своих представлений о морали, нравственности, эталонах успеха со стремлениями и представлениями точно сконструированных героев фильмов, книг и телепередач. В душе он такой же, он может то же самое, если, конечно, подвернется случай. И поскольку ему никогда не придет в голову трезво взглянуть на себя со стороны, он готов принять иллюзию за реальность.
Многочисленные модификации историй Золушек мужского и женского пола, королев «Шантеклера», неизвестных женщин, энергичных парней, становящихся миллионерами, воспринимаются потребителем кича вполне серьезно. Но при одном непременном условии— показанное или написанное должно обладать всеми внешними приметами жизнеподобия. Это очень важно для понимания особенностей современного литературного, кинематографического, телевизионного и почти всего живописного и прикладного кича. Ведь и кич и подлинное искусство, существуя рядом, пользуются одним и тем же строительным материалом для возведения своих сооружений. Только в одном случае получается настоящий дом, заселенный живыми людьми, а в другом — декорация наподобие
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
It
потемкинской деревни, из окон которой выглядывают заводные, но внешне не отличимые от человека манекены.
Любая невероятная, фиктивная ситуация, любой суррогат характера, наконец, любая степень надуманности конфликта поглощаются кичменом с полным доверием, если герои действуют в узнаваемой бытовой обстановке или даже обстановке кричащей роскоши, но такой, которая соответствует мещанскому представлению об эталоне изысканности и, как говаривал блистательный Бендер, «шика-мо дерн».
Основываясь на иллюзорности содержания, кич в то же время соответственно вкусу своих приверженцев накладывает табу на условность, усложненность формы, ибо постижение такой условности требует известной эстетической подготовки и гибкости воображения. Потому-то в прикладном искусстве, даже доходя до крайней нефункциональности, он создает предметы, имитирующие нечто хорошо известное, знакомое всем. «Оригинально!»—говорит кич-мен, покупая чайник, изображающий лежащую кошку с вытянутыми вперед лапами, и заменяет этим чудовищем действительно удобную вещь. И одновременно он не потерпит на живописном полотне никаких отступлений от натуральности. Это обстоятельство было подмечено уже очень давно, когда еще не существовало такого понятия, как кич.
В написанном в самом конце XVIII века трактате «О правде и правдоподобии в произведениях искусства» Гёте предложил вниманию читателей диалог между Зрителем и персонажем, названным им Защитником художника.
«Не потому ли,— спрашивал Зритель,— невежественный любитель требует натуральности от произведения, чтобы насладиться им на свой часто грубый и низкий лад...».
«Совершенное произведение искусства,— отвечал Защитник,— это произведение человеческого духа, и в этом смысле произведение природы. Но так как в нем сведены воедино объекты, обычно рассеянные по миру, и даже все наиболее пошлое изображается в его подлинной значимости и достоинстве, то оно — над природой...
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Заурядный любитель не имеет об этом понятия и относится к произведению искусства как к вещи, которую он встречает на рынке, но подлинный любитель видит не только правду изображаемого, но также и превосходство художественного отбора, духовную ценность воссоединенного, надземность малого мирка искусства; он чувствует потребность возвыситься до художника, чтобы полностью насладиться произведением...» ’.
В конце концов собеседники приходят к выводу, звучащему абсолютно злободневно: чисто внешняя похожесть еще не есть искусство. Воробей, увидев вишню, нарисованную «совсем как в жизни», пытается ее клюнуть, но это отнюдь не возводит холст, на котором она изображена, в ранг истинной живописи.
Требование натуральности далеко не безобидно. Производители кича совершают жесткий отбор материала, сохраняя лишь внешние приметы жизни, но с таким расчетом, чтобы случайное казалось обычным, а невероятное — вполне возможным. И жизнь эта предстает лишенной теневых сторон, острых социальных конфликтов и любой мало-мальски серьезной критики недостатков или тем более пороков общества. Это повседневное, упорное воспитание конформистского сознания, воспитание нерассуждающего человека, апологета существующих политических и общественных институтов. Это яд медленный, но верный. Даже в тех случаях, когда уже невозможно о чем-либо умолчать, когда такое умолчание может обернуться снижением авторитета и доходов, производители кича, вводя в фильмы, книги, телепостановки злободневные политические и социальные проблемы, никогда не затрагивают основ строя и разрешают эти проблемы ко всеобщему благополучию.
У творцов пошлости есть еще одно, не менее сильно действующее средство. Оно состоит в том, что апелляция к разуму или высокому чувству подменяется апелляцией к инстинктам. Это характерно для многих буржуазных ученых. Например, американский философ Джордж Сантаяна призывал искать возможность удов-
1 Гёт» И-8. Об искусстве. М., 1975, с. 146. 147.
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
в
летворения потребностей в себе самих. Найдя это удовлетворение, говорил он, «вы вернетесь к тому, что смог бы почувствовать спинной хребет, если бы он имел отдельное сознание» Мы опять-таки не станем, как и в случае со Спенсером и Дьюи, устанавливать прямую зависимость между действиями фабрикантов кича и призывом философа. Ведь размышления Сантаяны имели ту же отправную точку, что и теория Дьюи: непреходящую жестокость существования человека в капиталистическом мире. Исходя из совсем других посылок—не нравственного, а чисто практического, материального толка,— те, кто снабжает рынок кичем, его творцы и производители, положили тезис о «сознании спинного хребта» в основу своей деятельности.
И уже прямой практический вывод в кичевом искусстве сделан из положения Зигмунда Фрейда о том, что разум отступает под двуединым напором полового и агрессивного инстинктов. Отнюдь не случайно, что главную ставку современный кич делает именно на спекуляцию сексуальностью и жестокостью. Здесь уже разум не просто отступает, он вовсе отсутствует. Это умелое манипулирование человеческим сознанием, точный учет психологии восприятия определенного, мелкобуржуазного слоя общества, подкрепленные быстрым прогрессом технических возможностей распространения культуры, и породили на Западе явление, называемое кичем. В нем окончательно оформился союз буржуазной идеологии с пошлостью.
Что же такое пошлость?
Обратимся к одному из самых авторитетных источников смыслового толкования слов и понятий — «Словарю современного русского литературного языка». Как это ни удивительно, но здесь нет определения пошлости ни в эстетическом, ни в бытовом, ни в каком-либо другом аспекте. Есть лишь производное от нее прилагательное «пошлый», поясняемое так: «избитый, безвкусный, банальный,
1 Santayana G. Obiter Scrlpta: Lectures, Essays. Reviews. N. Y, 1966, p. 156.
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
низкий в духовном, нравственном отношении, вульгарный, содержащий что-либо неприличное, непристойное»
Все, как нам кажется, сформулировано очень верно, и этого вполне достаточно для обиходного пользования. Однако при конкретном анализе искусства такое определение оказывается недостаточным. Неправомерно, конечно, требовать от толкового словаря большего, но пошлость как эстетический феномен, к сожалению, выпала из поля зрения и философских справочных изданий и исследователей, занимающихся проблемами культуры.
Между тем пошлость представляется нам категорией не только качественной, оценочной, но и явлением концептуальным, обладающим собственными закономерностями. Это огромная держава с миллионами подданных, держава агрессивная, стремящаяся к постоянным захватам, и держава амбициозная, не признающая себя ни «банальной», ни «вульгарной», ни «низкой в духовном, нравственном отношении». И не столь уж наивны поэтому вопросы, которые мы сейчас поставим.
Почему опера Верди «Травиата» — высокое искусство, а испанский фильм «Королева «Шантеклера», в основе которого та же мелодраматическая история любви чистого помыслами юноши и дамы полусвета,— грубая подделка?
Почему аккуратно раскрашенная гипсовая кошка-копилка — символ мещанского вкуса, а разрисованная по видимости гораздо небрежнее, с яркими пятнами сусального золота, кармина и крона народная глиняная игрушка — подлинное украшение любого интерьера! (Мало того, почему одна и та же забавная поролоновая зверушка столь естественно воспринимается в руках ребенка и вызывает не до конца осознанное раздражение, когда мы видим ее болтающейся на ветровом стекле автомобиля?)
Почему «Спящая Венера» Джорджоне, несмотря на все выкрики ханжей,— шедевр мировой живописи, а рекламные плакаты аме-
1 Словарь современного русского литературного языке в 17-ти 1., т. 10. М.— Л., I960, с, 1754—1755.
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
риканца Тома Вессельмана, на которых вместе с товарами изображены очень красивые, тщательно выписанные со всеми подробностями обнаженные женщины,— не более чем непристойны?
Почему, наконец, рассказ Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро» считается одной из вершин его творчества, а одноименный фильм Генри Кинга — эталон кинематографической банальности?
Вопросы можно множить и множить. Причем отнюдь не случайно нами сведены вместе литература, прикладное искусство, кинематограф и опера и проведены параллели между произведениями разных веков. Мы постараемся доказать, что ни разновременность появления (даже учитывая эволюцию вкуса), ни специфичность каждого из искусств не влияют существенно на размежевание двух миров — подлинных эстетических ценностей и пошлости. Иначе говоря, предстоит определить точки отсчета.
Попробуем приложить мерки наиболее очевидные: истинное искусство— талантливо, пошлость — бесталанна. Но что такое талант? Если мы сочтем за его признаки неординарность подхода к фактам жизни и канонам искусства, чувство «соразмерности и сообразности» (Пушкин), оригинальность формы, то, конечно, сопоставляемые произведения отойдут к противоположным полюсам. Народная глиняная игрушка будет с высоты своей оригинальности глядеть на дефилирующую где-то далеко внизу унылую колонну серийных кошек-копилок. И Виолетта, вместе с которой благодаря неповторимо прекрасной музыке Верди мы переживаем драму любви, окажется совсем в ином художественном измерении, чем Чарито из кабаре «Шантеклер» с ее бумажными страстями и чувствительными расхожими песенками.
Мы не рассчитываем, разумеется, на согласие поклонников «Королевы «Шантеклера» или владельцев копилок. Они могут сказать, что определение талантливости и бесталанности — занятие субъективное, щекотливое и все здесь зыбко. Ну что ж, согласимся на такое допущение, тем более что понятия эти далеко не достаточны для постижения разницы между искусством и пошлостью. В самом деле, бесталанное, бескрылое не обязательно бывает по
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
шлым (в толковании словаря). Существует масса книг, фильмов, жи-бопчснь!* полотен, предметов украшения быта, которые находятся на так называемом среднем уровне — в меру скучны, в меру интересны, однако не затронуты пошлостью. В то же время некоторые одаренные люди, скажем, упоминавшийся уже Том Вессель-маи, отдают дань пошлости (чаще всего по причинам коммерческого характера).
Кстати, «серийное производство» не обязательно служит синонимом «производства пошлого». В конце концов, все зависит от образца, взятого для копирования. Ведь миллионными тиражами выпускают и кошек-копилок и «Спящую Венеру». И, наоборот, не все оригинальное талантливо. Бездарным и даже пошлым может оказаться предмет индивидуального творчества, та же глиняная игрушка. Таким образом, критерии талантливости и бесталанности, серийности и оригинальности не адекватны критерию пошлости, хотя и важны при ее распознании.
Тогда, быть может, стоит рассмотреть этот феномен с точки зрения насыщенности произведений значительными социальными и художественными идеями? Однако нельзя ведь утверждать, что полное или почти полное отсутствие таких идей непременно свидетельствует о вторжении пошлости. Существовала и существует обширная область литературы и искусства, в которой обходятся без таких идей, не опускаясь, однако, до «банального» или «вульгарного». Достаточно вспомнить творчество Джерома К. Джерома, большинство ранних комических лент Чаплина, романы Агаты Кристи или по меньшей мере половину репертуара ансамбля «Биттлз». А кроме того, как раз в искусстве потребительском (формула эта — один из синонимов пошлости) почти никогда, даже в самой слезливой мелодраме, не обходится без социальных мотивов, позаимствованных, правда, в сфере искусства подлинного и переиначенных на свой лад. К тому же пошлость любит всегда быть одетой модно и потому мгновенно заимствует, опять-таки перекраивая по своей фигуре, все художественные новшества.
Известен, скажем, умный и саркастичный антивоенный гротеск
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
17
Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил водородную бомбу». Но с ним соседствует очередная серия похождений Джеймса Бонда, фильм «Вы умираете только дважды» Льюиса Джилберта, в котором, как и у Кубрика, в центре событий стоит политический маньяк, задумавший погубить мир, Как будто бы актуально! На самом же деле маньяк этот здесь нужен только для того, чтобы перипетии борьбы с ним позволили с полным разворотом показать каскад смертельных трюков и любовных приключений главного героя. Попутно беззастенчиво используются художественные приемы, найденные Кубриком.
Пожалуй, это и есть одна из главных черт пошлости: она не столько подражает высокому искусству, не столько числится у него в эпигонах, сколько паразитирует на нем, низводя все, к чему прикоснется, до уровня банальности. Она своего рода анти-Мидас: любое ее прикосновение превращает золото в мишуру.
В записных книжках Ю. Тынянова нам встретилось рассуждение-воспоминание о мещанине начала века. Внутри его жилища пишет Тынянов, «развивалась эстетика очень сложная. Любовь к завитушкам уравновешивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии была у мещанина необходимостью справедливости. Мещанин, даже вороватый или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии, Он любил семью, как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии, по размеру, группами в пять штук, причем верхняя была часто (почти всегда)— вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка снялась с мужем, а на круглый столик между собой и мужем посадила чужую девочку, потому что она видела такие карточки у семейных. (Здесь уже начинается нормативность мещанской эстетики.)» 1
Мир вещей за семь десятилетий существенно изменился. Но нормативность эта осталась неизменной. Ее заразительность, широчайшее эпидемическое распространение вносят тревогу, в которой звучат нотки отчаяния, в работы многих психологов, социологов и
1 Тыианл» ю Ид книжек— «Нов. мири, 1966, № 8, с. 126.
If E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
эстетиков Запада. Незатухающая «любовь к завитушкам» привела, по их мнению, к гипертрофии бессмысленного украшательства, к извращению функций прикладного искусства и его продукции. Ушла в прошлое кошка-копилка, но вместо нее появились футляры для губной помады, имитирующие форму скрипки; емкости для виски, заключенные в книжный переплет, или пепельницы, в которых сигареты гасят между женскими ягодицами. И зверушка, болтающаяся на автомобильном стекле,— все тот же знак нормативности мещанской эстетики.
Так что же принять за точку отсчета? Обращаясь к прошлому, мы видим единственный достаточно твердый критерий для определения подлинного искусства — художественную классику. Созданное Гомером, Праксителем, Тицианом, Рабле, Шекспиром, Моцартом, Гойей, Рублевым, Пушкиным, Мусоргским, Л. Толстым (этот список каждый легко продолжит сам) мы считаем вершинами духа и эстетическими образцами. Уровень современной культуры невозможно, нам кажется, определять без сопоставления ее продукции с общепризнанными образцами — не как с эталонами, точность приближения к которым влияет на степень оценки, а как с проявлениями наивысшей художественной деятельности. Иначе, без опоры на такой фундамент, обессмыслятся и сам предмет исследования и методы, которыми это исследование ведется.
Но для распознания даже в самом общем виде сути пошлости все-таки недостаточно простой замены плюсов на минусы. Как мы видели, силлогизм «если талантливое всегда хорошо, следовательно, бесталанное — всегда пошло» сомнителен сам по себе и не охватывает всей проблемы, подобно любым другим сходным умозаключениям. А главная сложность в том, что здесь с особенной остротой вступает в действие категория вкуса. Мы пользуемся при этом общепринятой характеристикой вкуса как способности человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и безобразного.
Существуют разные барьеры восприятия, и некоторые из них мешают разглядеть пошлость в истинном обличье, искажают пер-
ТОЧКИ ОТСЧЕТА
спективу и даже позволяют видеть ее там, где нужны совсем иные критерии,— в необычности материала и ситуации или в отступлении от догматической житейской морали. Неразвитый вкус способен возвести пошлость в ранг истинного искусства.
Именно это обстоятельство, подкрепленное быстрым прогрессом технических возможностей распространения любой продукции культуры (обстоятельство, немедленно поставленное на службу идеологии), и породило в буржуазной массовой культуре явление, которое называют кичем.
И если теперь, после всего сказанного, мы попробуем дать определение кичу, то оно окажется идентичным понятию пошлости как эстетического феномена. Кич, или пошлость,— это нищета духа, нищета вкуса, а следовательно, и нищета требований к культуре, сводящихся к гипертрофии украшательства в быту и к замкнутому кругу примитивных моральных схем, получению удовольствия без размышления в искусстве. В то же время кич — это школа конформизма, подмена реальности иллюзиями, манипулирование неразвитым сознанием.
Его широчайшее распространение в последнее время породило на Западе множество критических работ, пытающихся объяснить это явление. Только за последние несколько лет вышли такие исследования, как изданный в Америке сборник «Кич. Мир дурного вкуса» под редакцией итальянского эстетика Джилло Дорфлеса, уже упоминавшаяся книга французского ученого Абраама Моля «Кич, искусство счастья» и работа француза Жака Стернберга «Кич», очень убедительно иллюстрированная.
Почему именно сейчас возник такой обостренный интерес к кичу?
Причин тут несколько. Абраам Моль, например, делит развитие кича на два периода. Первый связан с формированием буржуазного сознания, когда кич был искусством жизненного окружения и любовь к украшательству, к «завитушкам», показной пышности интерьера и одежды как бы свидетельствовала о поисках класса, пришедшего к власти и богатству, своего стиля жизни.
?0 Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Характерный для второго периода неокич, расцветший в 60—70-е годы нашего века, уже во многом стилизация, связанная с модой на старину. Но в то же время это и проявление в искусстве основных социальных и эстетических закономерностей современной стадии развития капиталистического общества. Тут и культ вещей — основной экономический рычаг «общества потребления», и самодовольная успокоенность бездуховной сытости, столь характерная для западного мещанина, и тяга к полному комфорту не только в быту, но и в искусстве, и стремление к жизни «напоказ», что неизбежно сказывается на эстетических вкусах, и страх перед научно-техническим прогрессом, находящий опосредованное выражение в литературе и кинематографе, и многое другое.
Все эти причины, вместе взятые, и породили идейно-эстетическую систему кича. Являясь частью буржуазной массовой культуры, в которой существуют разные художественные уровни, кич сохраняет все присущие ей идеологические закономерности, находясь при этом на самой низшей, наиболее примитивной ступени искусства. Четко выраженная определенность художественных особенностей, тесная связь с современным уровнем мелкобуржуазного, обывательского сознания, сходство исходных принципов в разных его видах позволяют нам выделить кич из гораздо более широкой системы западной массовой культуры.
Однако, как мы уже писали, пошлость, будучи основой кича, не всегда адекватна бесталанности. Иногда элементы пошлости проникают и в высокопрофессиональные произведения массовой культуры и даже в произведения авангардистские. Достаточно вспомнить уже упоминавшиеся плакаты Тома Вессельмана или композиции Роберта Раушенберга. Бывают случаи, когда талантливые мастера по тем или иным причинам используют элементы эстетики кича — благополучные финалы, не вытекающие органически из развития действия, вторичность драматургической конструкции, однолинейность характеров и т. д. Анализ всех этих случаев по независящим от автора обстоятельствам остался за рамками настоящего исследования.
ТОЧКИ ОТСЧЕТА ?1
В первом пока в нашей эстетической литературе очерке, посвященном кичу, рассматриваются, за единичными исключениями, лишь образцы бесспорного, малохудожественного кича. Нам кажется, что сначала следует попробовать определить некоторые общие его закономерности. Вот почему последующие две главы посвящены не столько анализу многочисленных разновидностей кича, сколько его идейным и эстетическим принципам.
СОН РАЗУМА
Излучение башен... действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты... Суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности.
А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров
ПРАВИЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сорок лет — с 20-х по 60-е годы — у руля крупнейшей голливудской кинофирмы «МГМ» стоял человек по имени Луис Мейер, получавший самый высокий оклад в Америке. Однажды в его служебную резиденцию попала писательница Лилиан Росс, работавшая над документальной повестью «Картина». Вот ее впечатления: «Кабинет Мейера был огромен. Его хозяин сидел за большим кремовым столом, а перед ним простиралось огромное пространство, застланное ковром персикового цвета... За спиной Мейера стояли амери-канский флаг и мраморный лев—символ фирмы «МГМ». На столе— тыре кремовых телефона, Библия, несколько фотографий львов, ортрет матери и статуэтка слона — эмблемы республиканской гогп ош.ные плечи Мейера были обтянуты синей тканью доро-
полбг. %3 ВеСе"ЫЙ' в гоРошек галстук-бабочка почти касался подбородка. Казалось, его большая голова сидит не на шее, а пря-
СОН РАЗУМА
23
мо на плечах. Волосы у него были седые и густые, лицо — красное, а глаза за стеклами очков в янтарной оправе поражали пустотой...»
Твков был один из главных кичменов мира, чьи вкусы и чья власть распространялись на могущественную киноимперию. За четверть века, прошедшие с тех пор, кое-что изменилось вслед за модой в обстановке кабинетов, пришли новые люди, отвечающие новым представлениям об облике руководителя и манере общения (хотя осталось еще достаточное количество и старых мамонтов), но мейеровский дух отнюдь не выветрился, да и не мог выветриться, потому что пересмотр принципов таит угрозу самому существованию кича. Луис Мейер, судя по описанию его обиталища, был склонен к дешевой символике. Однако он вряд ли предполагал, что выбранные им предметы обстановки и аксессуары, несущие идейную нагрузку, символичны совсем в ином смысле, чем тот, который вложен им.
Между тем незримая, но прочная, легко устанавливаемая связь между дурным вкусом, определившим стиль престижной роскоши, и выставленными напоказ свидетельствами политической и моральной благонадежности обнажает самую суть кичевого сознания и кичевой эстетики, механизм их взаимодействия. Кичмен-властелин как бы предлагает кичмену-потребителю руководящую идею. Вот чего можно достигнуть, если безоглядно любить свою страну (взгляд на флаг), публично чтить бога (рука на Библии), сохранять верность своей политической организации (поглаживание слона) и уважать семейные устои и традиции (кивок в сторону фотографии родительницы). И в самом деле, что еще нужно, если тебе принадлежит персиковая мечта, еспи ты можешь полновластно расположиться за кремовым столом, если достаточно снять трубку одного из четырех телефонов — и любые твои приказания будут безоговорочно исполнены.
Конечно, рядовой кичмен вряд ли когда-нибудь попадал в этот кабинет. Но это не имеет никакого значения, ибо кичевый роман
1 Ross L, The Picture. N. Y., 1952, p. 23,
Е. Н КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
или кмчевый фильм, выпущенный той же «МГМ», предлагают ему сходный по духу, по вкусу, по стилю социально-эстетический идеал, достижение которого обусловлено жесткими идейно-нравственными постулатами.
Производители кича и те, кто стоит у них за спиной, кому принадлежит власть, не дают возможности потребителю составить самостоятельную модель мира, основанную на критическом осознании действительности. Они пропагандируют не требующую размышлений формулу Панглоса: «Все к лучшему в этом лучшем из миров»,— воспитывая людей немыслящих, целиком полагающихся на мнения других.
Еще четверть века назад американский социолог Дэвид Рисмен в книге «Одинокая толпа» констатировал появление нового типа личности — «внешнеориентированной», то есть внутренне неоригинальной. Главное — не отличаться от большинства, принимая за непреложные истины предлагаемые идеалы, житейские представления и эстетические критерии. Благоразумнее всего поступать так, как доктор Спенсер Файфилд, герой новеллы Лилиан Росс «Ночь и день, день и ночь...».
Ему нужно было приобрести богатую клиентуру. Но как это сделать? Проще простого, ответил психоаналитик, с помощью которого Файфилд хотел избавиться от застенчивости, нужно только ничем не отличаться от своих пациентов, стараться подражать им. Вскоре доктора приглашают на раут. Один из гостей внезапно заявляет, что сейчас он сыграет песенку Коула Портера «Ночь и день».
«Джонни начал бессмысленно бить по клавишам, потом он взметнул руки высоко над клавиатурой и так держал их некоторое время, а затем... разразился хохотом». В таком духе он играл и дальше, изредка фальшиво выпевая разрозненные фразы. Он же ничего не умеет, сказала некая унылая дама, принадлежащая к клану неудачниц. Хозяйка посмотрела на нее неодобрительно. А ведь он и в самом деле профан в музыке, подумал Спенсер Файфилд, но тут же испугался этой мысли. Он увидел, как четверо знатных гостей упо-еннно притопывают, отбивая ногами несуществующий такт. И «в еле-
СОН РАЗУМА
25
дующий момент он понял, что вовсе не важно, действительно ли Джонни играет на пианино или нет; главное, что все ведут себя так, будто он и впрямь играет...
— Блеск? — спросила хозяйка доктора.
— Поистине блеск! — ответил тот» '.
По аналогии вспоминается печальный эксперимент, проведенный американскими психологами. Они собрали группу людей, каждый из которых должен был определить, какая из двух показанных палок длиннее. Однако всех, кроме одного испытуемого, попросили дать неверный ответ. И тогда этот одиночка, не поверив собственным глазам, без колебаний присоединился к мнению большинства.
Две генеральные идеи владеют кичем, определяя и его эстетику и круг его содержания,— идея отвлечения от социальной проблематики за счет сенсационной, шокирующей аттракционности и разработка таких правил моделирования действительности, которые позволяют культивировать официозный социальный оптимизм. А это значит, что реальность подменяется иллюзорностью, исключительное или даже невозможное выдается за типическое и любой изображаемый конфликт, как бы он ни заострялся, никогда не должен бросать тень на систему общественного устройства. Это всегда частная тема, сводящаяся в конечном счете к благополучному финалу, доказывающему жизнестойкость системы. Что же входит в обойму внушаемых представлений и ложных идеалов и какими средствами пользуется кич для их воплощения в литературе и кинематографе?
Начать следует, скорее всего, с ура-патриотизма. В отличие от патриотизма истинного, когда любовь к своей стране не превращается в агрессивное чувство превосходства над другими странами, когда не утрачиваются способность отличать правое от неправого и смелость в обличении общественных пороков, он слеп, некритичен и питается лишь официозными лозунгами, легко находя оправдания любому злу, творимому под знаком магической формулы:
Современная американская новелла. 60-е годы. М., 1971, с. 278, 280.
и
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ. ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
«Так нужно для блага государства». И воспитывается он чаще всего на мифах национальной истории.
Мы хотим сейчас вспомнить об одном фильме, вышедшем в Америке почти полвека назад, но связанном с современностью такими прочными узами, что рассмотрение его поможет понять очень многое. Фильм этот, снятый режиссером Уэсли Рагглсом по роману Эдны Фербер, назывался «Симаррон» и был призван внедрить в сознание тогдашнего кичмена представление о возвышенности идеалов покорителей Дальнего Запада, об их нетленности для грядущих поколений.
Симаррон — слово индейское, и переводится оно целой фразой: Страна диких лошадей. Но эта страна с индейским названием, которая затем стала именоваться штатом Оклахома, представлена в романе и картине не принадлежащей никому, как будто бы никогда не существовало коренных ее обитателей. Мы не услышим в картине ни полслова о том, куда же делись те, кто по склонности своей к поэтическому мышлению дал столь романтическое на цивилизованный слух имя этому благословенному краю. Эта история не нужна, ибо она повествует об уничтожении и гонениях и может бросить тень на красивую сказку о рыцарстве дедов и прадедов. Есть данность — ничья земля, удобнее всего начать именно с нее.
Мы не хотим быть неверно понятыми. Неправомерно чинить через столетие суд над миллионами людей, искавшими на Западе случай ухватить судьбу за хвост, как волшебную Жар-птицу. Они были рядовыми участниками сложного и во многом не контролируемого исторического процесса, осмысление которого — и критическое и апологетическое — произошло много позже. Их захватил и нес поток, в котором было не до размышлений о критериях высшей справедливости: все силы уходили на то, чтобы выплыть, достигнуть желанного берега удачи и благополучия. Не они придумали о себе легенду. И рассуждения наши касаются не тех реальных американцев, которые пришли на Запад, а мифологизаторов истории, превративших их на экране в олицетворение официальнопатриотических идей.
СОН РАЗУМА
27
...1889 год. Лето. Панорама красивой долины где-то в Оклахоме. На краю ее выстроились в ряд фургоны, всадники, велосипедисты. Они застыли в напряженном ожидании. Это монолит мужества и энергии, это туго сжатая пружина, готовая мгновенно развернуться и привести в действие силы, для которых — мы ясно это видим— не существует преград.
Полдень. Горнист подносит к губам трубу, представительный правительственный агент резко взмахивает белым флажком, и в ту же секунду срываются с места кони и люди и мчатся в глубь пространства в едином неукротимом порыве. Это очень красиво и очень символично: как будто вся Америка, охваченная неутолимым энтузиазмом, устремляется вперед, все дальше и дальше, не останавливаясь и не оглядываясь, полная уверенности в себе и своем будущем.
И впереди всех на прекрасном коне скачет герой, Янси Кревет, аристократ-южанин, беспокойный дух которого не мог более выносить размеренность обеспеченной жизни, сорвал его с насиженного места и бросил в стихию неизведанного, манящего блеском почти неограниченных возможностей. Сейчас он рвется вперед, чтобы застолбить хороший участок земли под дом. Но он не стяжатель, нет, для героя это было бы слишком мелко, и не жажда богатства подвигла его на эту безумную скачку, а осознанный именно так долг патриота и гражданина Америки, для которого нет ничего важнее цивилизаторской миссии, долженствующей превратить всю страну* от океана до океана, в державу процветающую и гордую своими законами и своим народом.
Как все это великолепно и как сказочно идеализировано! Не потому, что таких людей не было в Америке. Они есть и сейчас. А потому, что жизнеописание Янси Кревета всем с.воим строем, символикой основных своих эпизодов претендует на исторически не подтверждаемое обобщение, на то, чтобы выдать за типическое нерядовую героическую биографию. Не случайно картина завершается торжественным эпизодом открытия памятника пионерам Запада! и перед нами предстает отлитая в бронзу могучая фигура
ТЕ EH КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Янси Кревета, снятая ракурсом снизу, чтобы еще сильнее подчеркнуть ее величие.
Опустим несколько эпизодов, рисующих мужество и благородство героя, и остановимся лишь на одном случае—с мелким галантерейщиком. Этот жалкий, запуганный человечек служил вечной мишенью для развлечения бандитской шайке, обосновавшейся в городке. Однажды негодяи накинули на него лассо и, волоча несчастного по улице, стреляли ему под ноги. Увидев это, Кревет, ставший к тому времени редактором основанной им газеты «Оклахомский вигвам», двумя меткими, как всегда у него, выстрелами разбил две бутылки в руках одного из бандитов, из которых насильно поили забитого торговца.
С этого, собственно, и начинается главный конфликт картины — конфликт между законом и беззаконием, носящий здесь, в отличие от многих обычных вестернов, символический характер. Мы привыкли к мужественному герою — шерифу или вольному стрелку, который борется с бандитами, не мудрствуя лукаво, просто в этом он видит свое предназначение. Но Янси Кревет — не рядовой шериф, он вообще не обременен официальными обязанностями такого рода. Это убежденный пропагандист идеи национального процветания, покоящегося на правопорядке. Это проповедник грядущего национального величия, немыслимого для него без следования христианским идеалам. И что из того, что проповедь свою он ведет не только с помощью газеты и Библии, выступая на молитвенных собраниях в салуне, превращенном за неимением пока другого помещения в церковь, но и с помощью револьверов: такова специфика условий существования—вот и всё. В реальной жизни он должен был выглядеть, даже с поправкой на кольты, американизированным Дон Кихотом, пытающимся словом убеждения укротить разбушевавшуюся стихию, в реве которой потонет не только это слово, но и звук двух-трех справедливых выстрелов. В фильме он превращен в столпа нового общества, вводящего в нужные берега его буйные нравы.
Он расправляется с бандитами и поодиночке и группами, как
СОН РАЗУМА
29
доведется. Он добивается в городке безукоризненного порядка и, когда этот порядок обретает прочность, уезжает дальше, ибо заселяются новые земли и он должен выполнять свой долг там где всего труднее. Бегут годы, сменяются десятилетия. И когда Америка вступает в первую мировую войну, великий гражданин Янси Кревет совершает свой последний подвиг; уходит добровольцем на фронт, где отдает жизнь за честь и славу своей страны. И вот — тот самый торжественный финал с открытием памятника, кладущий последний штрих на портрет гражданина-легенды.
Фильм пользовался массовым успехом. Следует запомнить это очень важное обстоятельство, ибо теперь нам предстоит говорить о другом «Симарроне», фильме Антони Манна, одного из интереснейших американских режиссеров, снятом в 60-е годы и провалившемся в прокате.
Он был сделан в период бурной реакции мастеров кинематографа Соединенных Штатов на маккартизм, на его ложнопатриотическую оголтелость, загонявшую искусство в тесные рамки официозности, заставлявшую его не размышлять, не биться в поисках истины, а воспевать прошлое, настоящее и будущее. И, хотя канва событий в картинах Рагглса и Манна,— во всяком случае, основных событий,— в общем, одинакова, их трактовка имеет коренные различия. Покажем это на примере той самой сцены, в которой переселенцы столбят участки под дома будущего городка.
В первом «Симарроне» она решена в духе патриотической символики и как бы знаменует собой высокий порыв нации ко всеобщему счастью и благоденствию. Совсем иначе поставил ее Антони Манн. Он тоже не чужд символических обобщений, но только служат они не легенде, а жестокой правде истории. В отличие от своего предшественника он приводит нас в лагерь искателей счастья еще до начала скачек на земельные призы. Монолит мужества и энергии, продемонстрированный в первом «Симарроне», здесь раздроблен, это уже не коллективный портрет цвета нации, а серия аналитических этюдов, срез нации. Все ее слои проходят перед нами, пока камера неторопливо разглядывает это пестрое стано
30
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
вище, запечатлевая лица — спокойные, взбудораженные, алчные, робкие, самодовольно-наглые, испуганные, наблюдая картинки нравов.
Кого и чего здесь только нет! Рядом с ковбоями, прошедшими суровую школу прерий, привыкшими к постоянному риску, сильными и смелыми парнями, уверенными в том, что они-то не останутся позади,— пугливый мелочной торговец, тихий человечек, забитый жизнью. Невдалеке от публичного дома на колесах — передвижная церковь: и девицам и святым отцам в одинаковой степени нужны участки, чтобы отправлять на них свои профессиональные обязанности. Милый, интеллигентный старичок-редактор, к которому прижалась такая же милая, уютная старушка-жена, с ужасом смотрит на закипевшую почти у самого его фургона драку. Бесстрастен молодой индеец, и только на мгновение, когда Он бросает взгляд на кого-то из бледнолицых братьев, в глазах его вспыхивает ненависть.
Но вот наконец командир отряда, прибывшего, чтобы наблюдать за порядком, выстраивает соискателей в длинную шеренгу, выравнивает ее и дает сигнал к началу гонок. Как и в давнем фильме, мгновенно срываются с мест фургоны, всадники, велосипедисты (кто-то вместо коня оседлал одноколесное чудище, кто-то — скорее всего, три брата — мчится на тандеме). Но это совсем не то вдохновенное зрелище, которое создал Рагглс. В неимоверной толчее, в которой, совсем как в Бородинском бою, «смешались в кучу кони, люди», каждый, отталкивая других, орудуя хлыстом и кулаками, стремится вырваться вперед. Переворачиваются повозки, падают со сломанными ногами лошади, сбрасывая под колеса несущихся фургонов своих незадачливых наездников. Пронзительно кричат раненые, темнеют на изумрудной траве прекрасной долины пятна крови, На полном ходу выбрасывает из повозки старика-редактора, и он тут же оказывается растоптанным. Какой-то неудачник, оставшийся позади, в ярости колотит по земле кулаками и размазывает по лицу грязные слезы.
Но разве те, кто целым и невредимым достиг берега удачи,
СОН РАЗУМА
3t
такие уж звери? Конечно, нет. Они полны самого искреннего сочувствия и к искалеченным и к осиротевшим семьям. Они готовы им помочь, чем могут. Жестоки не люди. Жестоки условия существования. Об этом свидетельствует история, это ощущают на себе многие в сегодняшней Америке. И нельзя, утверждает Антони Манн всем строем своего фильма, закрывать на это глаза в угоду казенному оптимизму. Именно потому он подчеркнуто нарушает одно из основных правил вестерна, жанра, к которому принадлежит фильм; герой не может оказаться побежденным.
Хотя новый Янси Кревет, в отличие от своего предшественника, старается не прибегать к оружию и не демонстрировать меткость в стрельбе, ему все же приходится в крайних обстоятельствах уничтожить трех бандитов из шайки, терроризировавшей городок. Однако они лишь подручные главаря, мелкая сошка. А их предводитель не только уходит от возмездия, но и делает неплохую карьеру. И когда через много лет Янси, который хочет баллотироваться в губернаторы штата, встречается в кулуарах конгресса с этим бывшим убийцей, ставшим теперь преуспевающим лоббистом, он признает свое поражение и оставляет политическую деятельность.
Чувство справедливости не позволяет ему пойти на компромисс: он не может примириться с тем, чтобы политика делалась грязными руками. Знать, что рядом с ним торжествует безнаказанное зло, для него невыносимо. Вероятно, если бы такая ситуация была разработана в первом «Симарроне», его патриотически настроенный постановщик дал бы Янси случай повергнуть негодяя в прах. Но Антони Манн не мог и не хотел заниматься утешитель-ством. И справедливость не восторжествовала.
Вообще герой второго «Симаррона» и прежний Янси Кревет — совершенно разные люди. Тот был человеком, уверенным в себе, знающим, чего он хочет, победителем, образцовым патриотом. При всем том он, как и большинство героев вестерна, был фигурой одномерной. А Янси Кревет, сыгранный у Антони Манна Гленном Фордом,— человек многомерный. Личное мужество, нравственная
32
f Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
стойкость, сила воли соседствуют в нем с метаниями в поисках цели, с мучительными размышлениями о правильности выбранного пути. Это очень редкий для жанра вестерна герой — интеллигент со сложным внутренним миром,
Янси-первый, отправляясь в Оклахому, уезжая потом от семьи на новые земли, идя добровольцем на фронт, как бы исполняет всеми этими действиями свой патриотический долг. Янси-второй, хотя он также любит свою страну, не ставит собственные поступки в прямую связь с патриотическим долгом. Его тяга к перемене мест, к постоянному движению не совсем ясна и ему самому. Он твердо знает, чего он не хочет,— оседлости, обрастания бытом, размеренной обыденности. Ему все время нужно новое, хотя он и не мог бы с определенностью сказать, чего хочет от этого нового. Видимо, того, чего не бывает.
Весьма показательно, что продюсер «Симаррона» Сол Лессер яростно восставал против печальной интонации фильма. Это привело к ссоре с Антони Манном, после которой Лессер вставил в картину эпизод с чтением письма Янси, отправленного им накануне своей гибели на фронте. Письмо было необычайно патриотичным, рассудительным и нравоучительным, и Манн в интервью после премьеры определил его как «идиотское». А затем на экране возник, словно взятый напрокат из картины Рагглса, тот самый величественный бронзовый памятник. Однако это уже не могло ни сильно испортить картину, ни обеспечить ей массовый успех.
Особенно поучительно в этой истории поведение продюсера. Луис Мейер смело мог бы пожать ему руку как своему единомышленнику и преподнести в подарок персиковый ковер. Пусть справиться с Манном полностью и не удалось, но здесь, так сказать, дорога идея. И современный кинокич держится за нее двумя руками. Чуть более десяти лет назад появилась картина, претендовавшая на то, чтобы стать антологией вестерна. И в ней патриотическая легенда уже предстала, по существу, официальной версией национальной истории.
Картина носила обобщенное название «Как был завоеван Запад».
СОН РАЗУМА и
На нее не пожалели затрат. К созданию этого многокрасочного широкоформатного зрелища были привлечены лучшие силы американского кино, прежде всего первоклассные операторы и актеры. Однако с режиссерами дело обстояло сложнее. Джон Форд, классик жанра, был приглашен, скорее всего, для придания ленте большей престижности, ибо он сделал всего одну новеллу из пяти — об эпохе гражданской войны. Остальные четыре сюжета — начало пути на Запад, движение пионеров через прерии и стычки с индейцами, строительство трансконтинентальной железной дороги, ограбление поезда—сняли постановщики второго плана: Генри Хетауэй и Джордж Маршалл.
Можно предположить, что выбор их на роль режиссеров столь официозной картины определялся в значительной степени именно их второстепенностью, которая при высоком профессионализме (а он им несомненно присущ) обычно есть знак рядовой индивидуальности. Мастера яркие, с резко очерченными творческими характерами, разумеется, не удовлетворились бы покорным следованием предложенной им концепции, они бы взорвали ее изнутри своим талантом, а как раз этого ввиду специфичности стоявшей перед фильмом задачи следовало опасаться больше всего.
Эта концепция была заложена уже в цикле очерков об освоении Дальнего Запада, опубликованном журналом «Лайф». Как издания типа «Америки», рассчитанные на внешний мир, представляют историю страны и ее современность в отлакированном, приукрашенном виде, так много лет существовавший «Лайф» —с поправкой на психологию и вкусы американцев — вел ту же политику на внутреннем читательском рынке. И очерки о покорении Запада, положенные в основу сценария, не являлись исключением. Они представляли этот процесс как героическую идиллию.
Фильм «Как был завоеван Запад» — пример воспитания исторической легендой, выдаваемой за истину. Все пять его эпизодов связаны с судьбой трех поколений одной семьи. Временные рамки картины охватывают свыше полувека: действие начинается в 1840 году и завершается в 1895-м. Нет смысла пересказывать
2 Е. Н. Карцева
34
E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
сюжет, ибо он, как того и требует антология, состоит из типовых ситуаций. Все те же трапперы, преодолевая множество опасностей, пробираются через дремучие леса к Миссисипи, все те же фургоны пионеров движутся по бесконечной прерии, переправляясь через могучие реки, и так же свирепы индейцы, и так же мужественны переселенцы.
Война прерывает их героический мирный труд, но вот она окончена, и уже строится знаменитая дорога, пересекающая всю Америку. Этот эпизод дает возможность блеснуть великолепным аттракционом, когда неисчислимое бизонье стадо мчится, занимая всю огромную плоскость экрана, прямо на зрительный зал. И наконец все это увенчивается сверхдинамичной великолепно снятой сценой героического преследования отважного бандита, которое ведется на полном ходу поезда, груженного лесом. А в самый решающий момент лопается трос, бревна рассыпаются, и герой повисает над бешено мчащейся ему навстречу землей. Но все, конечно, заканчивается благополучно, как оно и должно быть.
Дело, однако, не в содержании, а в подаче материала. Начать с того, что фильм сопровождает торжественно-оптимистический дикторский текст, официальную восторженность которого не может сгладить даже такой мастер житейской неприподнятой речи, как Спенсер Трэси. И эта патетическая интонация, этот пафос гимна пронизывают всю экранную историю семьи Прескоттов. Белокурые красавицы и статные красавцы с отличной выправкой, внешне суровые старики, в глазах которых светится несказанная доброта, не просто мужественны и добродетельны, не просто полны твердой решимости преодолеть любые препятствия, но и несут в себе мощный заряд веры в идеалы, вдохновившие пионеров, по утверждению авторов «Лэйфа» и сценаристов, на этот поход. Им, пионерам, как хочет убедить нас фильм, было мало личного счастья, они хотели счастья для всех.
Кич старается утвердить в сознании своего потребителя странную на здравый взгляд убежденность в том, что любое деяние, совершенное представителем его страны за ее пределами, даже
СОН РАЗУМА
35
нравственно весьма сомнительное, не только оправдывается высшими государственными интересами и практической необходимостью, но и является актом героизма. Так возникает апология шпионажа, которому посвящалось и посвящается множество книг и фильмов. Все они подчинены стандартной идейно-сюжетной схеме: свой секретный агент — прекрасен, чужой — ужасен, и победителем, естественно, выходит достойнейший. Вот аннотация, помещенная на второй странице обложки романа Микки Спилейна «Торговцы смертью»: «Американский супершпион обставляет советского агента, расстраивает план убийства короля некой арабской нефтеносной страны и достает брильянт из лупка арабской танцовщицы. Все ради блага своей страны».
Самое печальное заключается в том, что в этом резюме не содержится никакого иронического подтекста. Это сказано всерьез и должно восприниматься всерьез. Даже пупок фигурантки из кабаре, используемый как тайник. Такими трюками лишь поддерживается популярность шпионской романтики, одна из главных приманок которой состоит в экзотичности обстановки. Проникает ли шпион в святая святых, получая доступ к пружинам власти, оказывается ли он в замкнутом светском обществе, попадает ли в круг богачей, столицу какого-нибудь отдаленного государства, значения не имеет. Главное, что зритель может увидеть то, чего никогда не видел, и поверить чему угодно. А заодно под этим соусом легко проглотить идею о великой пользе шпионажа,
Модель мира, проецируемая на кичевое сознание, включает в себя кроме ура-патриотизма еще несколько основополагающих компонентов: нерассуждающую веру в жизнеспособность, животворность существующих социальных институтов, о чем уже упоминалось, боязнь перемен и новых идей, то есть общественный консерватизм, и утешительную иллюзию, смысл которой заключается в том, что каждый солдат может стать генералом. Посмотрим же, каковы в каждом случае правила моделирования. Первая из перечисленных позиций наиболее резко и прямолинейно обозначена в комиксах.
2*
ЗВ
E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Прежде всего приходится с сожалением констатировать, что этот жанр искусства, возникший на стыке графики и литературы, неизменно получает в нашей критике одностороннюю оценку. Не признавая за ним никаких достижений, его с негодованием выводят из кружка муз, как выталкивают из светской гостиной обманом затесавшегося туда парвеню. Ему отказывают в равноправии, игнорируя не только факт широчайшего его распространения во всех социальных группах Европы и Америки, но и самую его эстетическую природу. Такая неаналитичность подхода только мешает всерьез разобраться в действительном положении вещей.
Эстетическое лицо комикса определяют, на наш взгляд, четыре главных признака. Во-первых, лаконизм, следствием которого могут быть и предельная отточенность фразы и упрощенность, выхоло-щенность литературного языка. Во-вторых, неразрывность рисунка и текста: один не может существовать без другого. Что же касается характера изображения, то его важнейшим отличительным свойством является лапидарность рисунка, находящегося в близком родстве со стилистикой современной газетной карикатуры. Наконец, комиксу присуща повышенная цветовая интенсивность, нарочитая колористическая дисгармония, рассчитанная на броскость, резкость зрительного эффекта. Восприятие графики комикса в известной степени сродни восприятию лубка или работ примитивистов. Здесь-то и кроется двойственность жанра,
Для одних комикс является источником того острого удовольствия, которое получаешь, например, от клоунской репризы, музыкальной эксцентрики или балаганного Петрушки. Для других он служит удовлетворению тех же потребностей, что и чайник-кошка или штампованный коврик с лебедями, луной и влюбленной парой. Впрочем, эстетика комикса, как уже сказано, находится в прямой связи с его смыслом и направленностью, и рассматривать это явление можно только комплексно. Любопытно, что, когда в нашей критике заходит речь о творчестве Херлуфа Бидструпа или Жана Эф-феля, термин «комикс» почему-то не употребляется, хотя он здесь вполне на месте. Словом, разговор наш свелся к той же старой
СОН РАЗУМА
37
истине, что нет жанров хороших или дурных и всё дело в том, кто и для чего в них работает.
Нам довелось видеть великолепные по рисунку и цвету, по едкой иронии комиксы французов Готлиба и Алексиса «Гамлет», «Тарас Бульба», «Дама с камелиями», которые пародируют приведенные к банальной схеме экранизации классики. Но вместе с тем не раз встречались нам и крайне вульгарные интерпретации самих классических литературных сюжетов, целиком выдержанные в духе кича.
В Америке большой популярностью пользуется весьма остроумный комикс Чарлза Шульца «Орешки», в котором с ироническим комментарием поступков юных героев выступает умная собака Снуппи. Здесь в рисунке и в тексте нет ни сюсюканья, ни лобовой дидактики, ни того грубого натурализма, которым грешат некоторые другие детские серии. Это ненавязчивый и, думается, весьма действенный способ воспитания.
С 1948 года и по сей день существует комикс Уэйта Келли «Пото», представляющий собой цикл острых политических и социальных карикатур. Например, один из выпусков 50-х годов был посвящен язвительному рассказу о том, как обитатели болота — Поголенда—ополчились на птиц, сочтя их нежелательными пришельцами. Они сжигали книги и вываливали в дегте и перьях неугодных зверушек, чтобы они стали похожи на птиц и с ними можно было расправиться на законных основаниях. Это была сатира на деятельность Маккарти и общества Джона Берча, весьма смелая в то время. Когда в конце 60-х годов тогдашний вице-президент Спиро Агню, изобличенный впоследствии в мошенничестве, выступил с речью, обвиняющей журналистов и работников телевидения в том, что они недостаточно пропагандируют правительственную политику, Келли тут же поселил в своем Поголенде нового зверя — гиену, поразительно похожую на этого духовного наследника Маккарти.
Но рядом со всем этим существует большая группа серийных комиксов, усиленно насаждающих конформизм, веру в социальные чудеса, непоколебимость существующего общественного строя.
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Здесь мы опять должны вернуться к теме истинного и ложного патриотизма. Нам представляется, что по-настоящему глубоко любят свою родину и свой народ те мастера культуры Запада, которые видят лекарство от социальных язв в их безжалостном обнажении, в привлечении к ним всеобщего внимания. Они понимают, что их сокрытие, всегда связанное с пропагандой официозной, далекой от правды точки зрения на реальное положение дел, может привести лишь к усугублению болезни. Это они создают в своих произведениях характеры тех людей, которые могут стать действительной нравственной опорой нации. Но это всегда люди критически мыслящие, не дающие себя обмануть декларативными заклинаниями.
Конформистское же искусство, частью которого является кич, умалчивая о социальных бедах, сея иллюзии, выдавая желаемое за действительное, случайное за типическое, искажает понятие патриотического долга, сводя его к прославлению господствующих классовых, государственных доктрин. Потребитель, исповедующий эти доктрины, не хочет, чтобы его беспокоили. И кич его успокаивает.
Как раз такую позицию высмеял Эл Кэпп в комиксе «Маленький Абнер». Он показал жителей некоего городка Догпэтч, что можно перевести как «Собачья площадка», которые заботятся только о собственном благополучии, о себе и своих родственниках. До всего остального им нет никакого дела. Им представляется враждебным всё, что выходит за рамки привычных представлений. И они встретили в штыки новых жителей, очень хороших людей, только потому, что у тех квадратные глаза.
Каковы же те конформистские комиксы, которые в большом ходу у населения Догпэтча?
Остановимся на двух из них: «Сиротке Анни» и «Дике Трэси». «Сиротку Анни» придумал Гарольд Грей в 1924 году, и выпуски ее, следовательно, регулярно появляются уже свыше полстолетия. Как раз тогда был в ходу лозунг: «Бизнес Америки — бизнес». И героем серии стал добрый, благородный джентльмен, представитель делового мира. Разумеется, абсурдно утверждение, что все бизнесмены уже в силу классовой принадлежности не могут быть хорошими
СОН РАЗУМА
3»
людьми. Среди них встречаются всякие. Речь идет о другом: об официозной господствующей тенденции приукрашивания буржуа, капиталиста.
Существует постоянное стремление дать его собирательный образ, представить его фигурой неизменно положительной, опорой демократии. Не случайно каждый раз, когда к власти приходят реакционеры, на литературу и искусство обрушивается град упреков за то, что они противодействуют этой тенденции, говорят не то, что следует. Скажем, в период расцвета деятельности Маккарти журнал «Форчун», выражающий мнение деловых кругов, развернул широкую кампанию за появление в книгах и фильмах поло жительного бизнесмена. Журналист Джон Чемберлен обвинил ведущих американских писателей в том, что они искажают истину, изображая капиталистов жадными и трусливыми людьми, обладающими мещанскими вкусами и придерживающимися реакционных взглядов.
Итак, капиталист как оплот прогресса. Герой «Сиротки Анни» Оливер Уорбакс, которого все ласково называют Папочка Уорбакс, ворочает крупными делами. Какими — можно догадаться по его фамилии, ибо war по-английски — война, a bucks на жаргоне—• доллары. Таким образом, Грей давал понять, что Папочка нажил состояние на поставках в первую мировую войну. Очевидно, по его мнению, это вполне почтенный вид дохода, ибо иначе он не превратил бы Уорбакса в кладезь добродетелей. Вместе с сироткой Анни, сметливой крошкой, он занимается благотворительностью и искореняет пороки — разумеется, не общественные, а присущие людям.
Почти каждый выпуск несет в себе определенный идейный заряд. Любопытна, например, серия рисунков, появившихся 27 апреля 1969 года и выполненных уже не самим Греем, умершим незадолго до этого, а его преемником Филиппом Блездэйлом. В них показана беседа Папочки Уорбакса с колдуном Ззизом. Колдун берет в руки голубя, и тот немедленно превращается в гадюку. «Вы были обмануты, капиталист Уорбакс»,— говорит Ззиз. Кем обману
<0
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ты — не вызывает сомнений: сторонниками движения за мир. Папочка бесстрашно хватает гадюку и убивает ее мощным ударом об стену. При этом он произносит торжественную декларацию: «Мы можем ошибаться и даже иногда терять ориентиры... Но у нас есть внутренний компас, указывающий путь к благу большинства. Он зовется «демократия», и ее нельзя победить, нечего даже и пытаться».
Все предельно ясно: именно бизнесмены пекутся о сохранении демократии и противостоят любым козням, подрывающим, на их взгляд, ее основы. А козни чинят разнообразные подрывные элементы, особенно иностранные шпионы. Они все время похищают сиротку Анни и пытаются уничтожить Америку. Но, конечно же, у них ничего не получается и не может получиться, потому что Папочка Уорбакс всегда начеку.
«Эта серия,— писал публицист Лайл Шеннон в журнале «Паблик опиньон куотерли»,— отражает консервативный социальный идеализм среднего класса нашего общества» '. Добавим: идеализм очень выгодный тем, кто стоит наверху. Заметьте: «Сиротка Анни» была любимым комиксом Генри Форда. Однажды, в середине 40-х годов, когда серия прервалась, была широко оглашена отправленная им телеграмма: «Сделайте невозможное, чтобы найти Анни». Не исключено, что история с телеграммой преследовала рекламные цели, но это, в сущности, не влияет на оценку самого факта.
Второй — наравне с бизнесменом — столп демократии, постоянно фигурирующий в кичевом комиксе,— полисмен. Эл Кэпп в упоминавшемся уже «Маленьком Абнере» (декабрьский цикл 1964 года) с саркастической усмешкой рассказал об одном чрезвычайном происшествии. Некий генерал Буллмаус, самый богатый человек на земле, решил присвоить себе очередной выпуск комикса «Бесстрашный Фоссдик». Он заплатил автору огромный гонорар, и тот сделал этот выпуск в единственном экземпляре. Генерал прочитал
1 Цит. по кн.: Berger A. A. The Comic-Stripped American, N. У., 1973, p, 80.
СОН РАЗУМА
41
его и сжег. Узнав об этом, легионы поклонников Фоссдика осадили дом генерала. Еще мгновение — и они жестоко расправились бы с коварным Буллмаусом. И только вмешательство матушки Абнера, обладавшей даром читать в умах, разрядило обстановку. Мысленно проникнув в мозг автора, она узнала содержание уничтоженного выпуска и сделала его всеобщим достоянием. Удовлетворенная толпа растеклась по домам.
Под «Бесстрашным Фоссдиком» — это было понятно всем — имелся в виду комикс «Дик Трэси», герой которого — полицейский детектив.
Художник Честер Гулд произвел его на свет божий в 1931 году, и с тех пор он шел рука об руку с «Сироткой Анни». Он стоит, неколебимый как скала, возвышаясь над всеми своими противниками, этот широкоплечий великан с суровым, неулыбчивым лицом, массивной челюстью, в надвинутой на глаза черной шляпе. Дик предельно честен, абсолютно неподкупен, и его чувство долга развито в необычайной степени.
В каждом выпуске положение обязательно складывается таким образом, что, если Трэси не справится с очередным преступником, с Америкой стрясется большая беда.
За последнее десятилетие в американской литературе и кинематографе появилось немало книг и фильмов, посвященных принявшей угрожающие размеры коррупции в полиции. Эта широкая общественная кампания никак не коснулась кина. Дик Трэси и его коллеги из других комиксов по-прежнему призваны внушать мысль о том, что именно полицейским демократия обязана своим существованием, что они — орудие справедливости.
Дик Трэси жесток. Предпочитая рукопашные схватки, он молотит своими пудовыми кулаками направо и налево. Но всегда подчеркивается, что он неуклонно придерживается рамок закона и что жестокость эта необходима для торжества добра над злом. Тем более что на долю бесстрашного Дика достаются неимоверные испытания и страдания, и, проходя сквозь них, он как бы очищается от невольных грехов. «Его победа,— констатирует Артур Аза Бергер в
42
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
книге «Американец в комиксе»,— символизирует стойкость социальной системы и тех ценностей, которые эта система воплощает» *.
Что же это за ценности и как кич интерпретирует их?
Прежде всего это вера в равные возможности, открытые перед любым членом общества вне зависимости от его социального статуса. Это последняя из иллюзий такого рода, ибо в реальность конституционных прав, декларирующих равенство людей всех национальностей и любых политических взглядов, давно уже никто не верит. Здесь же еще случаются чудеса, и они становятся опорой для утверждения ложных представлений. Отдельные факты подаются как типические, мифологизируются. Впрочем, не так уж редко кичевый миф обходится и без них.
Вот одна из таких необыкновенных историй, характерных для социального кинокича: фильм Ричарда Куина «Золотой кадиллак». Его героиня, Лаура Партридж, приобретает десять акций крупной компании «Интернэшнл продакте инкорпорейтед». Став пайщиком, она начинает интересоваться постановкой дела, и полученные сведения заставляют ее задать руководителям несколько весьма неприятных вопросов, воспользовавшись трибуной ежегодного собрания акционеров. Чтобы пресечь активность Лауры, нечистые на руку заправилы предлагают ей работу в главной конторе.
Тем временем бывший председатель правления Эдуард Макки-вер, кристально честный джентльмен, используя свое влияние, мешает совету директоров заключать доходные, но весьма сомнительные сделки. Тогда Лауру, влюбленную в Эдуарда, убеждают поехать к нему и уговорить его не вмешиваться. Соответствующая компенсация за это, конечно, будет выплачена.
Но благородная Партридж вместе с благородным МакКивером, ставя превыше всего интересы рядовых пайщиков, быстро находят общий язык и сообща предъявляют правлению серьезные обвинения. Маккивер решает вернуться на оставленный им пост. Однако путем интриг и закулисных махинаций его проваливают на выборах.
1 Berger A. A. The Comic-Stripped American, р. 128.
СОН РАЗУМА
43
И тут-то поднимают свой голос рядовые акционеры, предводитепь-сгвуемые бесстрашной Лаурой, Их грозное вмешательство заканчивается смещением прежних руководителей и приходом к власти Маккивера. Лаура выходит замуж за Эдуарда, и благодарные пайщики преподносят ей золотой кадиллак.
Невольно вспоминается многозначительный рекламный щит, изготовленный по заказу железнодорожной компании «Санта Фе систем лайнз». На нем молодая, нарочито просто одетая женщина оживленно беседует со стрелочником. Под рисунком подпись: «Она — акционер этой компании и может поучить ее руководителей, как вести дела». Существуют во множестве и политические варианты таких плакатов. Пропаганда всячески старается убедить своих подопечных, что именно они, рядовые люди,— хозяева страны. Им принадлежит право принимать важнейшие решения во всех сферах экономической и политической жизни, а руководители лишь проводят эти решения в жизнь. Кич твердо придерживается этой легенды, и «Золотой кадиллак»—только маленькая капля в его безбрежном пропагандистском море.
Это всё, как принято говорить, общественная тематика. Но сословные перегородки, социальное неравенство, оказывается, не помеха и в личной жизни. Один из любимых мифов кича — тысячекратно повторенная история Золушки. Перро написал волшебную сказку-притчу, а кич, обставляя ее житейскими подробностями, выдает сказку за быль. И делает это регулярно.
В свое время под названием «Брак поневоле» на наших экранах демонстрировалась картина Генри Костера «Это началось накануне», в которой были заняты прекрасные актеры Чарлз Лаутон и Дина Дурбин, чья игра способствовала созданию довольно совершенной иллюзии. Напомним, в чем суть дела.
Умирал старый миллионер. И перед смертью он потребовал, чтобы сын явился к нему со своей невестой. А тот не застал невесту дома и вместо нее пригласил очаровательную гардеробщицу из отеля. Это была очень хорошая девушка, и она произвела на отца неотразимое впечатление. А затем старик неожиданно выздо
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
ровел и, хотя он обо всем догадался, радостно благословил брак с Зелушкой. Да и как было не благословить, если она по всем статьям давала сто очков вперед богатой невесте. Ну а бедность, как известно из утешительной поговорки, не порок.
Этот фильм не был первым и не был последним в своей серии. Еще Мэри Пикфорд, любившая играть бедных девушек, много раз в своих фильмах выходила замуж за богатых. А если двигаться в сторону нашего времени, то в 50-е годы можно наткнуться на «Сабрину» (дочь шофера и сын миллионера, которого возит ее отец), в 60-е — на «Звуки музыки» (неимущая монастырская воспитанница и вдовец-аристократ), и это лишь первые пришедшие на ум названия. А в 1976 году появился фильм, который назвали «Хрустальный башмачок и роза» (история Золушки).
Моделируя мир по своим правилам, политический кич ставит задачей доказательство того, что любые серьезные изменения существующего порядка могут привести только к худшему, а инакомыслящие — враги общества. Поэтому, например, молодежное движение 60-х годов выглядело в его освещении не только опасным для всех людей, но и бессмысленным. Примечателен в связи с этим опубликованный в декабре 1966 года в журнале «Эсквайр» фантастический рассказ Роберта Тома «День, когда все это произошло, бэби».
...Максимилиан Фрост был телевизионным певцом, кумиром молодежи. В семнадцать лет он заработал свой первый миллион, а в двадцать два года превратился уже в мультимиллионера, хозяина корпорации, в которую входили четырнадцать крупных компаний. Его финансовый нюх приносил не меньшие доходы, чем гитара. Казалось, чего еще ему нужно? Но Фрост жаждал большей популярности. И он помог тридцатисемилетнему политику Джонни Фергюсу стать сенатором и провести через конгресс закон о снижении избирательного ценза до восемнадцати лет. Сенатор предполагал, что этим все и кончится. Однако молодежь уже вошла во вкус радикальных преобразований. Она потребовала снизить ценз до четырнадцати лет. Сорок дней и ночей толпы юнцов осаждали Капито-
СОН РАЗУМА
лий. Полиция оказалась бессильной. И в конце концов новый закон прошел.
Резкое нарушение баланса голосов привело к тому, что Максимилиана Фроста избрали президентом. Ослепленный победой и славой, он добивается принятия новых законов, по которым в тридцать лет люди должны удаляться от дел, а в тридцать пять их следует отправлять в благотворительные лагеря. Выяснилось, что большинство детей ненавидит своих родителей и с радостью доносит на них. Попадают в лагерь и мать Фроста и Джонни Фергюс. Но проходит немного времени, и Фрост начинает замечать косые взгляды десятилетних граждан. Молодежь опять недовольна. Назревает новый бунт...
Вывод напрашивается сам собой, и он вполне устраивает кичме-на, всегда склонного к конформизму. Его девиз: пусть всегда будет так, как есть, а те, кто нарушает привычное спокойствие,— враги общества. Поэтому его можно убедить в чем угодно. Целью молодежного движения был протест против бездуховности старших, против ожирения умов и душ. Оно носило ярко выраженный антивоенный характер, причем одним из главных требований было прекращение вмешательства в дела других стран. А всё это подается как антигосударственная деятельность, как борьба за власть. И не только в рассказе, но и в поставленном по нему в 1968 году фильме «Дикие на улицах» и во многих других произведениях кича.
Антидемократическая по своей сути идея сильной, неуступчивой власти, твердой руки, правящей страной, неизменно находила значительную поддержку. Защита демократии методами автократии — что может быть абсурднее этого? И тем не менее уже сорок с лишним лет назад у американских мещан пользовался популярностью фильм «Архангел Гавриил над Белым домом» («Между сегодняшним и завтрашним днем»), поставленный режиссером Грегори Ля Кава на деньги газетного треста Херста. В нем вселившийся в тело президента суровый небожитель превращал этого нерешительного человека в диктатора, но такого, который стоит на страже интере-
46
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЙИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
сов страны и народа. Это был модернизированный миф о добром царе.
А в наши дни такой же популярностью в тех же самых кругах пользуется цикл политических романов Аллена Друри, начатый в 1959 и завершенный в 1975 году. Здесь снова доказываются преимущества сильной единоличной власти и для подкрепления этого тезиса рисуются устрашающие картины того, к чему приводит мягкотелая демократичность.
Вот одна из них, взятая из романа «Приди, Ниневия, приди, Тир! Президентство Эдварда Джезона» (1973), где антивоенное движение представлено как цепь жестоких террористических акций. Вначале участники движения убивают кандидата в президенты, потому что его избрание помешает им вести свою пропаганду. А затем, когда конгресс хочет принять закон о запрещении массовых демонстраций, они похищают вдову убитого, чтобы заставить ее сына, сенатора, добиться провала этого предложения, хотя оно и поддерживается большинством.
Но сенатор не идет на уступки. Тогда женщину убивают и бросают ее труп на ступени Капитолия. Так вина за развязывание террора перекладывается с больной головы на здоровую.
Мы не читали последнего романа Друри «Обещание радости. Президентство Оррина Нокса» (того самого сенатора, который пренебрег угрозами). Но в авторском предисловии к предшествующей книге прямо сказано, что это будет повествование о том, как пошли на лад дела после избрания на высший государственный пост сильного человека.
Конечно, не нужно представлять себе эти идеи как абсолютно, безраздельно господствующие в американском обществе. Но для кича, воспитывающего несамостоятельность мышления, слепую веру в авторитеты, стремление к подражательности, они весьма характерны. Исходя из этих постулатов, моделирует мир по-своему и такой мощный аппарат воздействия на умы миллионов людей, как реклама,
Когда героя романа Олдоса Хаксли «Шутовской хоровод» Гамб-
СОН РАЗУМА
47
рила-младшего осенила нелепая идея—заставить мужскую половину человечества ходить в надувных брюках и разбогатеть на этом, она получила неожиданную поддержку матерого дельца мистера Болдеро. Он произнес перед своим компаньоном речь, под которой подписался бы любой из тех, кто занимается психологической мотивацией современной рекламы.
«Вы и сами, наверно, знаете, мистер Гамбрил, что ничто так не действует, как обращение к духу,— сказал мистер Болдеро.— Сочетайте духовность с практичностью — и публика у вас в руках. Она сама пойдет, как рыба на червяка. Это самое мы и должны Сделать с нашими брюками. Мы должны придать им значимость, духовную значимость... Мы должны сделать из наших брюк вещь не только лично удобную, но и общественно необходимую, Мы должны внушить людям, что не носить их — дурной тон... Мы должны внушить публике, что без них нельзя показаться на званом вечере, что ваша невеста откажет вам, увидев, что за ужином вы сидите на чем-нибудь другом, кроме воздуха... Может быть, нам даже удастся использовать в своих интересах патриотизм. «Английские брюки, надутые английским воздухом, для англичан».,. Мы не можем позволить себе пренебрегать такими мощными социальными эмоциями, как патриотизм... Можно использовать новизну. Люди гордятся, когда у них есть что-нибудь новенькое, чего еще нет у их ближних. Опьяняет самый факт новизны. Мы должны поощрять эту гордость, это опьяняющее чувство» '.
И вот уже вдохновленный этой речью изобретатель набрасывает строки рекламы: «Патентованные Штаны Гамбрила созданы для того, чтобы послужить народу. Наш Долг по отношению к вам — это Долг службы. Наша гордость — в его выполнении. Но кроме Долга перед Другими у каждого человека есть долг перед Самим Собой. Каков этот долг? Он в том, чтобы постоянно быть физически и духовно в полной боевой готовности...»
1 Хаксли О. Шутовской хоровод. М., 1936, с. 159—162.
2 Там же, с. 167.
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Самое замечательное, что идея воздушных брюк начала успешно материализоваться, и в конце романа Гамбрил отправляется в заграничное турне, чтобы наладить их сбыт. Мистер Болдеро хорошо объяснил, почему это оказалось возможным. Ему только следовало бы добавить, что страсть к приобретательству — феномен социальный, используемый как средство давления общества на психологию потребителя. И совершенно справедливо утверждение Абраама Моля, заключающееся в том, что современный супермаркет тоже входит в систему массовых коммуникаций, ибо он используется для пропаганды определенных взглядов. Хаксли отнюдь ничего не преувеличил, связав в речи мистера Болдеро коммерцию с национальным чванством. Рекламные кампании такого рода ведутся постоянно.
Очень часто в подоплеке приобретательства лежит стремление кичмена, тщательно подогреваемое рекламой, «быть на уровне». «Вы покупаете не автомобиль, а престиж!» — говорят ему, и он верит, не может не верить, ибо знает, что отношение к нему во многом зависит от того, какие у него вещи. Чем обширнее стол в кабинете, тем значительнее его обладатель, хотя за этим столом он никогда не работает, разве что заполнит налоговую декларацию или черкнет открытку родственникам. Книжные полки, заполненные стандартным набором толстых томов в дорогих переплетах, нужны ему совсем не для того, чтобы заниматься самообразованием, а для создания «атмосферы интеллигентности». И, когда он покупает жене норковую шубу, это совсем не значит, что именно такой мех нравится ему больше всего. Дело в другом: это престижный мех, символ высоких доходов, демонстрация кредитоспособности подарившего его мужчины.
Убеждая покупателя покупать как можно больше и как можно чаще, направляя все его интересы в материальную сторону, производители товара облекают эти интересы не только в одежды престижности, но и в заманчивую эмоциональную оболочку. Бензин «Эссо» в такой интерпретации дает возможность не просто проехать определенное количество миль, а обрести власть над про
СОН РАЗУМА
&
странством; новая детская мебель — гарантия спокойствия матери; покупка апельсинов — покупка здоровья, и т. д.
Таковы некоторые правила моделирования кичевого мира. Посмотрим теперь, как кич моделирует личность.
АНАТОМИЯ ГЕРОЯ
«Прекрасно быть глупым». Так называлось анонимное сочинение, написанное в язвительном духе Эразма Роттердамского и напечатанное почти тридцать лет назад, в 1949 году, журналом «Кольере». «Если бы смертные,— саркастически замечал великий голландец,— удалялись от всякого общения с мудростью и проводили всю жизнь свою со мною (то есть с Глупостью.— Е. К.), не было бы на свете ни одного старца, но все наслаждались бы вечной юностью»1. И, вторя ему, современный сатирик с серьезным видом утверждал: «Наука установила, что во многих отношениях лучше быть глупым... Если у вас не так много мозгов, вы будете жить дольше и счастливее. Быстрее будете выздоравливать, обходиться меньшим количеством сна, меньше подвергаться скуке и неврозам, даже водить машину будете лучше. Психологи открыли, что парень, шевелящий губами при чтении, лучше приспосабливается к перегрузкам современной жизни, чем его более интеллектуальные собратья»?.
Горькая ирония этих строк, вероятно, сочувственно встреченных интеллигентами, была вызвана тем печальным фактом, что идеалом, запечатленным в мещанском сознании, являлся человек, предпочитавший обходиться без «умствования», удачливый прагматик. «Америка — единственная страна в мире,— заметил социолог Лео Гурко в книге -«Герои, интеллектуалы и массовое сознание»,— где человек, который употребил слово, непонятное другому, чувствует себя ниже этого другого» 1 2 3. Скорее всего — не единственная, но это не меняет сути дела.
1 Роттердамский Э. Похвальное слово глупости. М-—Л., 1932, с. 62.
2 H's Smart to Be Stupid.—«Coller's», 1949, Febr. 5, p. 24.
3 Gurko L. Heroes, Highbrows and the Popular Mind. N. Y., 1962, p. 21.
$0
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Неразмышляющий герой как образец для подражания. Что может быть удобнее для поддержания социального консерватизма? И американский кич, например, долгое время держал на службе только такого героя. Он демонстрировал его превосходство над остальными, используя несколько испытанных способов. 8 связи с этим вспоминается один давний фильм — «Дублерша» (1937).
Его главный персонаж был представлен как способный математик, принятый благодаря своему умению делать сложные расчеты на работу в крупный банк. Казалось бы, сам выбор центрального действующего лица, удачное начало его карьеры не могут служить доводами в защиту антиинтеллектуализма. Однако не стоит торопиться с выводами. Этот молодой мужчина в первой половине картины все время показан так, что должен вызывать снисходительный, покровительственный смех зрителя. Он сутул, карикатурно хлипок и абсолютно житейски неприспособлен. И всё потому, что слишком много думает, мало бывает на воздухе (вот вам и нездоровая бледность) и не занимается спортом. Взгляд у него рассеянный, какой-то жалкий, и он все время нервически снимает и надевает массивные роговые очки. Словом, глядя на него, каждый обычный человек, пусть и не обладающий никакими способностями, должен благодарить бога, что он не такой.
И когда руководство банка посылает этого хлюпика в Голливуд, чтобы попытаться спасти от разорения кинофирму, в которую вложено много денег, понимаешь, что ничего хорошего из такой затеи выйти не может. Но не тут-то было. Он берет себе в секретарши хорошенькую и практичную дублершу, оказавшуюся без работы и полную нерастраченной энергии и здравого смысла. И она всерьез принимается за воспитание своего растяпы патрона, стремясь превратить его в полноценного мужчину и человека. А это значит, что у него все меньше и меньше времени остается для интеллигентных занятий.
Бешеный темп жизни, наполненной деловой суетой, превращает его в цветущего здоровяка. Куда девались бледность и сутулость? Даже близорукость чудесным образом прошла, и он небрежным
СОН РАЗУМА 51
жестом откинул очки. После этого уже не удивляешься участию героя в нескольких живописных драках и тому, что он одерживает верх над своими противниками. Так и должно быть, если человек вовремя притормозит и перестанет умничать. Само собой понятно, что фирму от разорения он спасает, а на дублерше-секретарше женится.
Этой старой схемой, построенной на доказательстве от противного, кич пользуется и до сих пор. Она, например, присутствует — несколько модернизированная и снабженная приметами времени — в фильме Генри Костера «Дорогая Брижжит» (1965), где рассеянный поэт к удовольствию зрителей превращается в делового человека. Да и картины самого последнего времени не чураются такого приема. Но все-таки чаще нерассуждающий персонаж, так называемый «простой парень», выступает в кинокиче в первой и главной своей ипостаси победительного человека, человека действия. Рассмотрим типичный случай, один из многих сотен фильмов с таким героем: «Рожденные проигрывать» (1967) Т.-С. Фрэнка, исполняющего к тому же главную роль.
Материал картины был достаточно актуален. После первой ее части могло создаться впечатление, что режиссер решил исследовать весьма болезненное явление американской действительности — рост злостного хулиганства среди молодежи. Как раз в это время расплодились шайки оголтелых юнцов на мотоциклах, терроризировавшие маленькие городки и окрещенные «дикими ангелами».
Однако чем дальше двигалось действие, тем становилось яснее, что ни социальные корни этого взрыва хулиганства, ни психология «диких ангелов» постановщика на самом деле не интересовали. Это был всего лишь столь частый для кича акт спекуляции на злободневности. И молодые бандиты и небольшой калифорнийский городишко с запуганными обывателями понадобились для того, чтобы насильственно пересадить драматургическую конструкцию традиционного вестерна с легендарной почвы на реальную, приспособить ее к современности. Не случайно герой — демобилизованный сол
5?
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
дат, доблестно сражавшийся во Вьетнаме,— выступал в полном ковбойском наряде: от широкополой шляпы до сапог со шпорами.
Он появлялся на экране в тот момент, когда чувствовавшие себя безнаказанными бандиты зверски избивали молодого парня, ненароком задевшего крылом машины один из мотоциклов. Жители городка молчаливо наблюдали это. Полиция отсутствовала. И тогда солдат-ковбой в одиночку вступал в драку и учинял кулачную расправу над хулиганами.
Он оказался в этом городке случайно и собирался ехать дальше. Но встреча с красивой девушкой-студенткой заставила его задержаться. Тем более что вскоре шайка похитила ее, как похищала уже немало молодых женщин. Герой, взяв в руки автомат, отправился в логово «диких ангелов». Последовала серия кровавых эпизодов, в которых противники не щадили друг друга, ковбой в конце концов убил главаря банды, сам был ранен шальной пулей, но, конечно, не смертельно. И, когда его увозили в больницу, красивая студентка поцеловала своего избавителя и призналась в любви. Кстати, девушка была из богатой семьи, так что награда за подвиги оказывалась весьма весомой.
Да, все очень похоже на вестерн. Но сходство чисто внешнее. Герой, подобный персонажу Фрэнка, может органично существовать только в вымышленном пространстве насквозь условного мира, вполне правомерного и единственно возможного в авантюрном романе или исторической легенде. Там он персонифицированная категория Добра. Но как только его матрица накладывается на материал, требующий житейски или исторически достоверного освещения, так сразу же возникают искажение реальности и ложный, нравственно сомнительный идеал. Бездумность героя, предпочитающего всему на свете метод физических действий, оборачивается тем, что защищаемая им справедливость предстает внутренне скомпрометированной.
Асоциальность «простого парня», модель его поведения, предлагаемые кичем в качестве образца и принимаемые потребителем, обеспечивают любую декларированную истину. Ведь герой, совер
СОН РАЗУМА
53
шая подвиги во имя этой истины, неизменно принимает правила игры ее противников, пользуется их же способами. А цель все-таки никогда не может служить оправданием средствам, благодаря которым рассчитывают ее достигнуть или даже достигают. Повторим еще раз: насилие может породить только насилие, и деятельное, кипучее бездумие вряд ли способно принести достойные плоды.
«Рожденные проигрывать» — подделка под вестерн. Но для того типа героя, который там присутствует, жанр не имеет решающего значения. В какой бы ипостаси он ни появлялся на экране — в ковбойской шляпе, полицейском мундире, старинном камзоле или наимоднейшем костюме,— это не влияет на созданный кичем стереотип непобедимого и неотразимого оптимиста, столь любезный конформистскому сознанию.
Однако в наши дни одним «простым парнем» уже не обойтись. Смешные интеллектуалы, которых раньше можно было снисходительно похлопывать по плечу и учить уму-разуму, все-таки добились не только признания, но и некоторого уважения. Думать стало модным. И в поддержку прежнему герою кич отправил в путь новый персонаж — деятельного резонера. Пока на экранах большого кинематографа и на страницах книг, принадлежащих к подлинной литературе, кипят бурные споры о судьбах мира, путях прогресса, пороках общественного устройства, пока там происходят острые столкновения философских доктрин и классовых мировоззрений, кич делает свое дело — сводит все это к банальности, замаскированной под актуальность. Он создает модель раздумчивого конформиста. Первенствует в этом пока литература.
Американец Джон Мак Дональд написал свыше шестидесяти романов. В 1964 году он сконструировал героя, который полностью соответствует определению, данному несколькими строками выше. Этот персонаж переходил из романа в роман, и только за шесть лет тираж серии превысил десять миллионов экземпляров. Героя зовут Трэвис Мак Ги. Он частный детектив.
Был придуман трюк с названиями и оформлением. Каждый выпуск (нам известны одиннадцать) обязательно содержит в заглавии
54
t H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
какой-либо цвет, который и доминирует на обложке: «Кошмар в розовых тонах», «Оденьте ее в индиго», «Темнее, чем янтарь»,.. Существенного значения для сюжета цвет не имеет. Скажем, если книга называется «Девушка в коричневой оберточной бумаге», то это отнюдь не значит, что она — главная героиня или хотя бы второстепенный персонаж. Просто в такую бумагу завернут один из многочисленных женских трупов. Достаточно двух строчек в тексте («Я наблюдал, как наползал серый туман. Серый — это страх. Серый— это вина. Серый — это отчаяние»1), чтобы роман получил заглавие «Серый — это вина». Тут не столько игра в примитивный формализм, хотя, конечно, и она привлекает читателя, сколько скрытая за ней коммерческая уловка.
Но это приманка побочная. А главная, разумеется, сам Трэвис Мак Ги. Интерес к нему двоякий. Прежде всего — это обычный интерес к похождениям сыщика, даже если они не блещут оригинальностью (а они не блещут). В искусстве ведения интриги Мак Дональду весьма далеко до подлинных мастеров жанра. Используемые им ситуации достаточно тривиальны. Недостаток выдумки компенсируется аттракционами: особо жестокими убийствами или зверскими изнасилованиями. В ходе расследования Трэвис сталкивается с лесбиянками, нимфоманками, охотницами за богатыми женихами и проститутками. Каждая из них обязательно демонстрирует все, что умеет. Со злодеями здесь поступают так же беспощадно, как те со своими жертвами. Их душат, разбивают им головы, выбрасывают из окон небоскребов, кастрируют, топят в болоте, не забыв в подробностях описать, что будет, когда они попадут в крокодилью пасть.
Впрочем, все это, пользующееся неизменным спросом, есть и у других авторов. Но Трэвис Мак Ги, как сказано, возбуждает дополнительный интерес. Один из критиков объяснил его так: «Трэвис Мак Ги — Робин Гуд мыслящего человека». Тем любопытнее познакомиться с ним поближе.
' Me Donald /. Pale Gray for Guilt. N. Y„ 1968, p. 183.
СОН РАЗУМА
55
Он молод, едва за тридцать, статен, обаятелен и элегантен. Это джентльмен с рекламной картинки, всегда одетый по последней моде, непринужденно сидящий за рулем «роллс-ройса» и твердо знающий, вино какой марки нужно пить с тем или иным блюдом. Вообще-то больше всего он любит чистый джин и бифштекс с кровью, вкус у него вполне демократический, но не ударит лицом в грязь и на любом изысканном обеде. Женщины, едва увидев Трэвиса, бросаются ему на шею. Достаточно ему моргнуть глазом, чтобы любая красотка мгновенно оказалась в его постели. В деньгах у этого Робина Гуда никогда нет недостатка. Оно и не удивительно, ибо, берясь за какое-нибудь новое дело, например, поиск похищенных брильянтов, он ставит условием получение половины их стоимости.
Как будто бы стандартный портрет. Идеальный герой кича. Так, по существу, и есть. Но здесь это замаскировано тем, что манекену искусственно приданы некоторые живые черты. Он может иногда ошибаться, хотя и не роковым образом, у него есть свои слабости и недостатки, пусть и мелкие и даже милые. Он способен временами чувствовать себя в чем-либо виноватым. Совсем как человек. А главное, этот знаток шахматной игры и любитель серьезного чтения (вот она, интеллектуальность!) в свободное от работы и любви время склонен к рассуждениям на разнообразные животрепещущие темы. У него есть свое мнение обо всем на свете: музыке и экономических проблемах, расовом вопросе и хиппи, системе образования и увлечении автомобилями. Мнение это, согласно моде, приправлено известной долей критицизма, по видимости — смелого, а по сути — конформистского. Впрочем, послушайте сами. Слово —Трэвису Мак Ги.
«...И если черный потребует, чтобы большой дядя позаботился о нем... это — косвенный возврат к рабству. Ни один черный не пожалеет, если милого, непредубежденного белого либерала вытащат из его «бьюика» и забьют до смерти, потому что столь многих черных тоже забили до смерти... Не предвидится быстрого решения проблемы ни с помощью ваших (то есть негритянских.— Е. К.) лиде
st
E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ров, будь они пассивны или воинственны, ни с помощью политиков или либералов, убийц или просветителей. Нет иного ответа, кроме одного: поможет время»
Как видите, очень удобная философия. И в то же время какая раздумчивость, какая независимость суждений, А вот еще более хитрая тирада, на этот раз —о рядовых американцах: «Они жаждут обеспеченности, жизни без опаски, но все, что они могут получить, это то, что дают им рестораны и магазины, лишь поверхностно украшающие их жизнь. Им внушили, что, если они будут бодрыми, веселыми, искренними, пользующимися успехом у окружающих, мир будет принадлежать им» 2.
Появление в киче таких героев, как Трэвис Мак Ги,— свидетельство того, что его система отнюдь не остается неизменной в ходе времени. Главная причина жизнестойкости кича — его приспособленчество, умелое и хитрое паразитирование на ведущих идейных и эстетических тенденциях времени. В случае с романами Мак Дональда мы видим, как их автор, не посягая на основы душевного комфорта, в то же время, в отличие от старого кича, делает вид, что тоже всерьез озабочен положением вещей, существующим в мире. В старом киче герой типа Мак Ги просто не мог бы появиться, а в новом не только существует, но и не является одиночкой в современном кичевом романе. Другой частный детектив, Майк Хэммер, детище Микки Спилейна, каждый свой шаг сопровождает внутренними монологами, находящимися на том же уровне, что и рассуждения его собрата по профессии. Встречаются и другие мыслители, почти не отличимые от этих двух. Иначе говоря, возник еще один стереотип кичевого героя. Причем к тому или иному стереотипу сводятся не только литературные и киноперсонажи, но и реальные знаменитости. Их образы подгоняются под устоявшиеся представления вне зависимости от того, верны эти представления или нет. В кичевом искусстве существует, например, легенда о лег-
1 Me Donald 1. The Girl in the Plain Brown Wrapper. N. Y., 1969. p. 153.
1 Me Donald /.The Deep Blue Goodbye. N. Y., 1964, p. 101.
СОН РАЗУМА
57
комыслии и ветрености французов. И от нее уже стараются не отступать даже в том случае, когда представляют публике какого-либо известного парижанина, не давшего для этого ни малейшего повода.
В 1969 году в США приехал олимпийский чемпион, лыжник Жан-Клод Килли, скромный, серьезный и очень интеллигентный молодой человек. Телевидение попросило его дать интервью. Едва Он появился на экране, как ведущий Джон Барбур преподнес следующее сообщение: «Когда я объявил, что вы будете участвовать в сегодняшней передаче, все женщины закричали: «Килли?! А какой у него сексуальный образ?» Смутившийся юноша попытался что-то ответить, но Барбур немедленно прервал его, закричав: «Почему вы говорите так тихо? Вы пытаетесь мне объясниться в любви?» После этого двусмысленного заявления на Килли обрушилась серия вопросов: «В каком скандале вы были замешаны во время последних Олимпийских игр?», «Как вы ухитрились назначить свидание двум актрисам одновременно?» и т. д. И, хотя Килли пытался противостоять этому граду пошлости, Барбур продолжал гнуть свою линию, закончив интервью фразой, стереотипность которой и определяла ход беседы: «Все французы одинаковы!» 1
О великой силе стереотипа — на этот раз политического — убедительно рассказал профессор Калифорнийского университета Юджин Бердик в фантастическом романе «480», вышедшем в 1964 году. Он писал в предисловии: «Американская публика верит, что она выдвигает кандидатов в президенты от различных партий, а затем делает свободный выбор между ними. На самом деле это совсем не так. Американская публика верит, что она независима. И это не так. Американская публика верит, что ее взгляды проникают в залы конгресса и становятся законами. Так бывает очень редко. Американская публика верит, что ее мнение—фундамент нашей демократии. Часто это тоже бывает не так» * 2.
' Ellison Н. The Glass Teat. N. Y.. 1969, p. 83-86.
2 Burdick E. The 480. N. Y., 1964, p. VII.
SS E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Тому, что происходит на самом деле, и посвящен роман. Главный герой книги — фирма «Симулметик Энтерпрайз», владеющая совершенными электронно-вычислительными машинами и берущаяся с их помощью руководить ходом избирательной кампании. Хотя роман и фантастический, но такая фирма действительно существует, только называется несколько иначе — «Симулметик корпо-рейшн». Ее специалисты разбили все взрослое население страны на четыреста восемьдесят категорий, разработали способы психологического воздействия на каждую из них, и, основываясь на этом, фирма дает советы кандидатам, как они могут добиться победы на выборах. Стоит это, конечно, очень больших денег.
Один из персонажей книги, старик Букбайдер, которого вытеснили с политической арены за то, что он пытался обнародовать факты вмешательства большого бизнеса в работу законодательных учреждений, с грустью размышляет о том, к чему приводит насаждение стереотипов, получившее мощную поддержку электронной техники. Теперь заранее известно, думает он, какому стандарту должен соответствовать кандидат, чтобы понравиться большинству. И политики «всячески добиваются сходства с ним... При этом отсекается все, что не соответствует нужному образу, меняются манеры, теряется собственное «я»
Как раз в это время республиканская партия ищет очередного подходящего кандидата на пост президента, с которым бы не было особенных хлопот, Внимание политиков привлекает инженер Джон Тэтч, работающий по контракту в Юго-Восточной Азии. Он только что произнес зажигательную речь, благодаря которой был предотвращен военный конфликт между двумя странами. Он весьма привлекателен внешне — высок, хорошо сложен, с мужественным лицом. Как раз такой человек, по заключению ЭВМ, имеет наибольшие шансы получить необходимое количество голосов.
И начинается кампания по превращению Джона Тэтча в национального героя, подогретая еще тем обстоятельством, что, по со-
1 Burdick Е. The 480, р. II.
СОН РАЗУМА
59
общению газет, его собираются арестовать обе страны за вмешательство в чужие дела. В четырех номерах крупнейшего политического журнала публикуется панегирическая статья о Тэтче под многозначительным заголовком «Человек, который делал историю». Журнал «Тайм» посвящает ему передовицу и дает его портрет на обложке. Некий влиятельный сенатор печатает свои размышления о героическом инженере под шапкой «Американизм Джона Тэтча».
После всего этого институт общественного мнения проводит широкий опрос избирателей, в результате которого выясняется, что американцы хотят видеть Тэтча президентом. У него превосходный «общественный имидж». Он обеспечен, но не очень богат, что тоже импонирует большинству. Словом, это идеал простого, решительного и справедливого американского парня.
Сам Тэтч долго воздерживался от всяких публичных выступлений. Но вот он произносит речь на торжественном обеде, устроенном в его честь, и неожиданно для политиков и специалистов из «Симулметик энтерпрайз» посвящает ее защите интересов негритянского населения. Стереотип нарушен. Кандидат не захотел следовать электронным рекомендациям. И тогда происходит резкий поворот руля. Публике сообщают, что, оказывается, Джон Тэтч совсем не так хорош, как его представляли. Это человек с неустойчивой психикой, целый год проведший в стенах сумасшедшего дома. К тому же у него жена — малайка. И она позволяла себе до брака черт знает что. Стоит ли удивляться тому, что съезд республиканской партии не поддержал кандидатуру Тэтча?
Вся опасность стереотипа, полагает Юджин Бердик, заключается в том, что он создается комбинированием чисто внешних признаков. Тэтч оказался несговорчивым — и стереотип сломался. Но легко представить себе и другой случай, например, тот, о котором рассказано в американском фильме «Лицо в толпе». Только нелепая случайность помешала его циничному герою занять пост министра национальной морали. Поистине сон разума порождает чудовищ.
Механика создания кичевого стереотипа, рассмотренная нами на примере четырех мужских стандартов, оставаясь неизменной в глав
Е. Н КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ных своих принципах, приобретает некоторую вполне понятную специфику, когда с ее помощью конструируются образцы героинь. Кич всегда умел учитывать особенности психологии тех, к кому адресовался. Перелистаем комплекты нескольких так называемых «журналов для поклонников» (fan magazines), которые точнее было бы именовать «журналами для поклонниц», ибо основная масса их читателей — женщины. В одной Америке таких изданий насчитывается свыше пятнадцати: «Страна кино», «Жизнь кино», «Зеркало кино», «Звезды кино», «Экран в фотографиях», «Жизнь экрана», «Серебряный экран», «Теле- и киноактеры»...
Материалы здесь сбалансированы таким образом, чтобы идеал, образец ни в коем случае не подавлял воображения своей недостижимостью или законченным совершенством. Восхищение не должно переходить в зависть. Вот почему рядом с репортажами и статьями, всегда перенасыщенными фотографиями и посвященными красоте «звезд», их богатству, их нарядам, особнякам, яхтам, развлечениям, всегда публикуются утешительные для читательниц, вызывающие сочувствие к обладателям громких имен рассказы о том, что все-таки не в деньгах счастье, бремя славы — это тяжкий груз, он может разрушить любовь и лишить знаменитую женщину радости материнства.
Иными словами, на вершинах успеха дуют холодные ветры и достигшие этих вершин не застрахованы от любых неприятностей и несчастий, случающихся с обычными людьми. Можно стремиться к развитию тех личных качеств, которыми они обладают, следовать моде на лица и одежду, но не стоит добиваться такого же положения. Тем более что почти каждая женщина в сердце своем таит убеждение в собственной неотразимой привлекательности, в том, что она может быть лучшей любовницей, женой или матерью, чем любая «звезда».
Это, впрочем, в силу противоречивости человеческой натуры не мешает следованию образцам и поклонению им. Главное — отыскать убедительные параллели, во всяком случае, убедительные для тех, кто не читает ничего, кроме журнального кича. И они, конечно
СОН РАЗУМА
61
же, обнаруживаются. Вспомним в связи с этим о Люсили Болл, героине американской телевизионной «семейной» серии. Вот образец для добропорядочной женщины. Тип привлекательной скромницы, примерной жены, отличной хозяйки и любящей матери, к которому она принадлежит, всегда был и остается устойчиво популярным. Скажем, успех эстрадного трио сестер Леннон во многом объясняется тем, что они своим репертуаром, манерой сценического поведения, способами рекламы создают о себе именно такое представление.
Еще более показательны причины, по которым приобрела миллионы поклонниц киноактриса Дорис Дэй, не раз занимавшая первое место в списке «звезд», приносящих наибольший кассовый Доход.
Ее героиня, констатирует польский критик Ежи Теплиц, «милая, изящная и решительная девица, которая всегда найдет выход из трудного положения и «поставит на своем», она «отнюдь не сверхкрасотка и не «вамп». Теплиц приводит выдержку из статьи Холлиса Олперта в журнале «Сатэрдей ревью»: «Это девушка, на которой хотел бы жениться каждый парень. Она была бы верной, понимающей, честной и притом не лишенной сексуальной привлекательности спутницей жизни. Такой жене можно довериться в любом положении» ’.
К этому следует добавить еще одно важное обстоятельство, подмеченное критиком Морин Хани в аналитической статье «Журналы о «знаменитостях». Материалы о личной жизни «звезды» должны внушать читательницам мысль о равенстве всех женщин и одинаковости их забот. Она приводит характерную цитату из журнала «Фотоплей»: «У Дорис Дэй—те же надежды и опасения, что у всякой другой женщины. Она ничем не отличается от своей соседки, живущей рядом: тоже вдова и тоже работает»2. Это вполне
* Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., 1966, с. 69.
2 Honey М. The «Celebrity» magazines.—New Dimensions In Popular Culture. Ed. by Russel Nye. Ohio, 1972, p. 63.
42 Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
согласуется с выводом Теплица: «Ее слава выросла не на художественной, а на социологической почве»
Люсиль Болл, Дорис Дэй, сестры Леннон и все остальные актрисы, принадлежащие к «звездам» их типа, как бы подносят своим поклонницам волшебное зеркало, в котором те неизменно видят себя изрядно приукрашенными семейными добродетелями. Возникает иллюзия достижимости идеала. Но он все-таки не выходит из рамок повседневности, пусть даже изрядно принаряженной.
Однако нужна еще и материализованная средствами экрана мечта о необоримой силе женской привлекательности, волнующей игре мужскими сердцами, Быть одновременно примерной семьянинкой и женщиной-вамп в реальной жизни невозможно. Противоречие разрешимо лишь в воображении. И производители кича, учитывая эту психологическую особенность своих постоянных зрительниц, предлагают им рядом со скромницами образцы «роковых» женщин.
В 60-е годы этот список опасных красавиц возглавляла Элизабет Тейлор, актриса, несколько ролей которой в серьезных фильмах доказали незаурядность ее дарования. Однако ей совершенно нечего было делать с ним в многочисленных кичевых лентах, где требовалось только соответствовать типажу. И раз за разом она эксплуатировала свое жгучее обаяние, прибегая к одним и тем же приемам и в образе египетской царицы («Клеопатра») и в роли «девушки по вызову» («Улица Баттерфилд, 8»), Экранные мужчины сходили по ней с ума. А кичевая пресса тем временем внушала своим читателям мысль, что и реальные мужчины, встретившиеся с Элизабет Тейлор, ведут себя точно так же. Подробно были описаны перипетии всех ее пяти браков, и фотографии мужей свидетельствовали, что Лиз всегда доставались самые лучшие.
На этом можно закончить исследование разновидностей кичевых героев, ибо самые распространенные из них названы. Собственно, другие герои и не могут существовать в том бездумном,
1 Теплиц Е. Кино и телевидение в США, с. 69.
СОН РАЗУМА
63
упрощенном, искаженном мире, который создает индустрия мещанского искусства. По целям и результатам своего воздействия оно вполне может быть уподоблено тем зловещим башням, излучающим невидимые вредоносные волны, о которых рассказывают братья Стругацкие в романе «Обитаемый остров». И там и здесь — повторим строку из эпиграфа — мозг облучаемого теряет «способность к критическому анализу действительности».
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Остап... сделал шаг назад.
Прекрасный мех! — воскликнул он.
— Шутите! — сказала Эллочка нежно.— Это мексиканский тушкан.
— Быть этого не может. Вас обманули Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев
ВЕРНИСАЖ ДУРНОГО ВКУСА
Феликс Круль, будущий авантюрист и герой романа Томаса Манна, родился в состоятельной бюргерской семье. И лотом, когда расточительность отца привела ее к разорению, самое дорогое его воспоминание, воспоминание о невозвратной идеальности существования, было связано не столько с восстановлением обычных милых сердцу подробностей о душевном семейном уюте, сколько с тщательной мысленной реконструкцией украшений и забав интерьера. «Сад наш, спускавшийся к реке,— с восторгом умиления начинал он, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший Ц роме того, в саду имелась эолова арфа, несколько гротов
°НТ?Н' КотоР°го мудрено сплетались в воздухе и ниспа-ассейн, где резвились серебристые рыбки.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело... На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками... карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавески из тростника и разноцветных бисерных нитей... В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!»'.
Можно было бы, очевидно, написать специальное исследование о ритмике и интонационном строе этого панегирика мещанскому вкусу, о той прекрасно переданной переводчицей Наталией Ман тайной язвительности, с которой страстный ненавистник мещанства вводит в лексику своего героя все эти фигурки, стаканчики, флакончики, подушечки. Но сейчас мы хотим обратить внимание читателя, оставив пока в стороне проблему вкуса, на главный смысл отрывка.
Феликс Круль воспевает утраченный интерьер с таким неподдельным пафосом, что каждая вещь и украшение приобретают некую культурную окраску. В его изложении они превращаются из предметов бытового и вкусового комфорта в предметы комфорта духовного. И в этом — одна из причин жизнестойкости кича и его широчайшего распространения в мире мещанства. Эпоха, в которую жил Феликс Круль, отстоит от нас уже на много десятилетий, но его идеалы остались нетленными. Изменения коснулись главным образом материального мира, точнее, материальных возможностей.
Это выразилось в том, что стремление к удобствам и уюту, которое раньше, хотя и соотносилось с эстетическими нормативами
1 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти т., 1. 6, i960, с. 270 271.
3 Е. Н. Карцева
F H КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
определенного класса или слоя населения, было прежде всего связано со степенью зажиточности, теперь сочетается с требованиями чисто эстетического характера, вне критерия прямой пользы. Доступность ранее недоступного привела к окончательному уравниванию психологического значения функции и формы вещи, то есть к подчинению в равной степени и утилитарным соображениям и моде.
Если во времена Круля предметы быта и предметы его украшения в их «изысканном варианте» изготовлялись кустарным или полукустарным способом и, следовательно, приобретались в основном состоятельными буржуа, если эстетическая организация среды у рядового мещанства сводилась к мелким ручным поделкам, олеографиям, окантованным открыткам и одиннадцати слонам на этажерке, то нынешнее массовое производство любых товаров, в том числе и культурного назначения, широкое использование заменителей, с помощью которых дешевое имитирует дорогое, привело к унификации интерьера (хотя качественные, ценностные различия остались), к возможности частого приобретения новинок и достаточно полному удовлетворению потребностей вкуса.
Последствия вещного бума существенно повлияли на общественное сознание. Он превратился в мощный рычаг управления в руках правящего класса. Могучий стимул престижности, прямая связь между ощущением собственной полноценности и количеством и качеством приобретенного толкают мещанина к постоянной погоне за вещами, к поклонению им. Жажда владения вещами привязывает человека к общественному строю крепче, чем любые идеологические нити. Не столько пугает даже сама утрата определенного социального положения, сколько связанное с ней материальное оскудение.
Повторим, однако: ни все эти социальные перемены, ни моды, идущие волнами одна за другой, не изменили критерия мещанского вкуса. Каким бы разительным на первый взгляд ни был контраст между обиталищем семейства Крулей и квартирой современного кичмена, в последней при более внимательном рассмотрении обна
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
ружатся все те же прежние пристрастия, выраженные лишь в несколько иной форме.
Перечитайте еще раз отрывок из книги Манна и обратите внимание на одно странное обстоятельство: подавляющее большинство предметов в саду и доме Крулей безусловно выбраны хозяевами не только по собственному, индивидуальному вкусу, но и по меркам вкуса определенной социальной группы. Они носят как бы экспозиционный характер, существуют не сами по себе, не столько для удовлетворения бытовых нужд и эстетических потребностей хозяев дома, судя по всему минимальных, сколько для демонстрации уровня их зажиточности, оригинальности и веселости нрава. Это эстетизация быта напоказ.
Та же тенденция необычайно развита и сейчас. Богатым французским кичменам предлагается такой интерьер, придуманный известным декоратором мадам Николя: люстра в форме человеческой головы, торшер, состоящий из двух огромных глаз и гигантского рта, софа с подушками, охватывающими кистями рук садящегося на нее, и телевизионный приемник, вмонтированный в женский торс. Не хватает только колокольчиков в форме ушей, отзванивающих крулевскую любимую мелодию «Жизни возрадуйтесь!». Кичменам попроще американский журнал «Промышленный дизайн» демонстрирует образцы стульев-спрутов, полосатую «тигровую» мебель и двузубую, под старину, вилку.
Фальсифицированная старина с ее пышностью, тяжеловесностью и обилием позолоты, со всей ее показной роскошью вообще сейчас в моде. Плюшевые столики, кривоногие, как таксы, этажерки с пудовыми альбомами, японские ширмы и пуфики отслужили свое. Теперь высший шик для мещанина — жить в окружении помпезных предметов минувших веков. Такой стиль внедряется и в местах паломничества кичменов.
Американская писательница Кэтрин Перуц в книге «За зеркалом. Культивирование красоты» рассказывает о посещении дамского санатория в Калифорнии, открытого сестрами Габор, одна из которых — За-За — была в свое время «звездой» Голливуда. Заведе-
3*
4J лрцевд КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ние называется «Золотая дверь», причем эпитет употреблен отнюдь не в переносном смысле. Перуц поселили в комнате, выдержанной в стиле а-ля Людовик сизьем (это чужестранное словце «сизьем» призвано ласкать слух романтической мещанки: Людовик XVI — куда как прозаичнее). На стене в тяжелых позолоченных рамах висели портреты короля и Марии-Антуанетты. Под портретами стояло отделанное золотом канапе красного бархата, возле которого расположились такие же стулья. Необъятная кровать под красное дерево была застелена золотым покрывалом. С обеих сторон ее стерегли, как часовые, позолоченные столики с мраморными досками, а на них — лампы, подножия которых и стволы составляли сплетенные тела купидонов. Интерьер завершали красный ковер, красные бархатные занавеси и два канделябра. Пребывание в «Золотой двери» обходится недешево — 800 долларов в неделю, но на какие расходы не пойдешь, чтобы вкус и обстановка могли сочетаться в такой совершенной гармонии '.
Кич всегда тяготел к блеску золота: пошлость любит выступать в сверкающих одеждах. И сейчас в большом ходу драпировки, мебельная обивка, мужские и дамские костюмы с широким использованием люрекса. Но тяга к пышности — лишь один из способов выделиться, обратить на себя внимание. Есть и другие пути прослыть оригинальным, перепрыгнуть барьер унификации. Так появляются архитектурные ублюдки наподобие выстроенного сравнительно недавно во Франции дома в форме башмака. Вход — через носок, окна — на уровне шнурков, балкон — по верхнему ранту. Тем временем у американских кичменов стало модным придавать подъездам своих домов форму раскрывшегося цветочного бутона.
Вглядываясь в кичевые интерьеры и архитектурные сооружения, замечаешь в них все то же стремление к крайней нефункциональное™ эстетической среды, которое было характерно и для дома Крулей. Кич — враг дизайна и сознательный расточитель.
1 См/ I'erutz К. Beyond the Looking Glass. Life In the Beauty Culture. L , |‘Л, p. 266.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Если классический дизайн искал красоту в функциональности формы, в линии, контуре, если он стремился к гармоничной организации пространства, к сочетанию изящного с рациональным, то кич поступает как раз наоборот. Главное для него — необычность, которая, однако, всегда предстает нарочито обессмысленной.
С момента своего возникновения промышленный дизайн и дизайн в прикладном искусстве, основываясь на функционализме, боролись со всякого рода орнаментальностью, вели поиск наиболее выигрышной с технической и эстетической точек зрения формы и окраски предмета. Случалось, что это приводило к крайностям, организации интерьера в духе сухой геометрии, соответствовавшем духу конструктивистской архитектуры, как это было в конце 20-х — начале 30-х годов. Но, как правило, именно функционализму дизайн обязан самыми интересными своими достижениями.
В 1934 году появилась книга английского философа и эстетика Герберта Рида «Искусство и промышленность», выводы и наблюдения которого не утратили актуальности. Он писал, что для дизайна проблема заключалась не в приспособлении продукции массового производства к эстетическим стандартам ручного труда, а в том, чтобы найти новые эстетические стандарты для новых методов производства. Он считал, что коллективными усилиями художников-дизайнеров, инженеров и конструкторов эта проблема была решена: возникла промышленная эстетика, базирующаяся на принципиально иных, чем прежде, основаниях.
Рид показывает, как один и тот же предмет утилитарного назначения может быть красивым и безобразным в зависимости от того, насколько выдержаны дизайнерские принципы. Он демонстрирует, например, пять водопроводных кранов — пятидесятилетней, тридцатипятилетней, четвертьвековой давности и два крана последнего образца. И мы видим, что эти два наиболее красивы, ибо они отличаются от своих массивных, оснащенных литыми завитушками предшественников именно строгим соответствием функции, вылившимся в эстетическую законченность формы.
На обложке помещен снимок корзинки для салата, в конструк
70 Е. Н. КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ции и оформлении которой нет ничего лишнего. Она состоит из двух сетчатых сегментов, которые, соединяясь, образуют полый шар, и ручки. Все предусмотрено: салат не мнется, земля с него осыпается без помех. И эстетические ее качества связаны как раз со стремлением художника-конструктора к предельной утилитарности.
Если, наконец, поместить уже фигурировавший несколько раньше чайник-кошку рядом с чайником из книги Рида, сравнение, как и в случае с кранами, будет не в пользу первого, хотя он появился на сорок лет позже. Здесь снова полная приспособленность к наилучшему выполнению прямых обязанностей — широкое дно (вода закипит быстрее), углубления в ручке (удобно наливать), сливающаяся с корпусом, плотно прилегающая крышка (не соскочит при наклоне), широкий носик (быстро наполняется стакан) — и делает чайник красивым. А металлическая кошка для кипячения воды, может быть, и необычна, но неудобна и безобразна из-за полной абсурдности своей формы.
Однако при возможности выбора кичмен предпочтет купить именно ее. Мы уже говорили о некоторых особенностях его психологии, объясняющих такой поступок: о его понимании оригинального, о стремлении жить в показном мире, выделиться за счет вещи. Но западные социологи (в частности Моль) полагают, что существует еще одна, не менее важная причина. Она заключается в ощущении постоянной угрозы личному благополучию и даже самой жизни, которая возникает от постоянного сознания того, что научно-техническая революция не только разрешила проблему дешевого массового производства товаров, но и способствовала созданию глобальных средств уничтожения. Страх незащищенности, беспомощность перед лицом грозного и непонятного многих заставляют искать способы отключения от действительности, уходить в иллюзорный покой домашнего уюта. Для человека же с неразвитым вкусом это уход в мир кича.
И еще одно. Производители и главные пропагандисты кича сделали психологически точную ставку на существующую почти в каж
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
71
дом человеке потребность в игре. Игровой, развлекательный момент — непременное свойство кичевого товара. Мещанину предлагают, по словам Абраама Моля, следующую вполне устраивающую его формулу: «Работай (не слишком много), покупай, играй покупкой» или, иначе говоря, «триаду потребительского счастья, инкорпорированную в покупку» 1.
Есть забавные детские гэджеты (вещи-игры), которые помогают ребенку превратить неприятное ему занятие в забаву, например, пластмассовые кольты, заряженные зубной щеткой. Юный ковбой нажимает курок, щетка выскакивает, и ему ничего не остается, как начать чистить зубы. Детям-филателистам (впрочем, это годится и для взрослых) предлагается веселое устройство, смачивающее марку и наклейку, ярко раскрашенный клоунский рот, из которого торчит розовый язычок. К нему прикладывается табличка с надписью: «Гарантируем, что не будет кусаться».
Но когда, потрафляя дурному вкусу, кичевая промышленность выпускает тостеры, выбрасывающие кусочки поджаренного хлеба в форме доллара, или приставки к чайникам, наигрывающие начальные акты мелодии «Чай для двоих», это уже игра с пошлостью. Опять вспоминается бессмертное семейство Крулей: «Жизни возрадуйтесь!» Кстати, не кажется ли кичмену хлеб-доллар вкуснее обыкновенного?
Не удивительно, что истинному художнику-дизайнеру нечего делать в кичевой промышленности, где все вступает в прямое противоречие с принципами классического дизайна, где производятся пресс-папье, копирующие Кёльнский собор, или формы для льда, из которых выскакивают прозрачные обнаженные красотки с соблазнительно закинутыми за голову руками. Дизайн — это эстетика, основанная на строгих и научно выверенных пространственных и композиционных законах изобразительного искусства, эстетика сдержанности и пользы» Кич же — апофеоз нефункционализма. И это
Moles A. Le Kitsch, Part du bonheur, p. 221.
7.'
Е Н, КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
заставляет рекламу постоянно заниматься культивированием ложных потребностей. Принцип необходимости подменяется такими психологическими мотивировками, которые понуждают человека делать вовсе ненужные покупки, все время менять вещи, постоянно оставаясь при этом, что само собой разумеется, в кругу кичевой эстетики.
Уже упоминалось о таком сильном стимуле приобретательства, как постоянно подогреваемое рекламой чувство престижности. Не отстать от соседа, быть «не хуже других», добиваться оригинальности даже за счет здравого смысла — вот стремление, ставшее могучим рычагом торговли вообще и торговли пошлостью в частности. Отсюда — особенности организации кичевой эстетической среды.
Они состоят прежде всего в том, что утилитарные предметы, „ я
утрачивая прямое назначение, начинают исполнять несвойственную им функцию, в том числе и функцию произведений искусства. Тот же Моль приводит пример с пароходной сиреной, оповещающей в тумане другие корабли о местонахождении судна,— в одном из богатых мещанских домов взамен устаревшего аристократического гонга она созывала гостей к обеду. Но даже если сирена сломается, утверждает Моль, ее не выбросят, а выставят на видное место как необычный предмет искусства, которым другие не обладают. Точно такую же роль играют и канделябры со свечами в обрамлении ярких электрических ламп.
Американский фантаст Альфред Бестер недавно осмеял это явление в рассказе «Ночная ваза с цветочным бордюром». Действие, естественно, перенесено в далекое будущее, а главная его пружина— борьба страстей вокруг уникального антикварного предмета XX столетия, который оказывается обыкновенным ночным горшком. Униками, за которыми идет погоня, считаются также «Машинка швейная со шпульками и иглами», «Кровать французская провинциальная под балдахином (ширина 54 дюйма)», «Газовая плита (четырехконфорочная)», «Утюг с паровым увлажнителем» и другие вещи того же толка. Когда знатоку древнего искусства профессору
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
73
Муни показывают их список, он с восторгом восклицает1. «Неужели все эти драгоценные предметы существуют на самом деле?!»1
Следует, разумеется, оговориться; многие предметы старины и некоторые изделия современного промышленного дизайна могут войти и входят в круг эстетических понятий. На превращение аксессуаров давно ушедшего быта в произведения искусства, конечно, сильно влияет психологический фактор, который связан с поэтизацией, романтизацией образа жизни предков. Но, кроме того, сами эстетизируемые предметы — продукты ручного ремесленного труда — и в самом деле обладают, если можно так сказать, индивидуальностью. Тщательность, нестандартность исполнения и простодушное изящество отделки несомненно сближают их с образцами народного творчества.
Могут служить украшением жилища и некоторые изделия промышленного дизайна, ибо само совершенство их формы ведет к появлению эстетической функции. Разница между такого рода талантливо сделанными вещами и вещами ординарными, которые кич возводит в ранг прекрасного только по принципу необычности, неожиданности их присутствия в интерьере, нам кажется, не нуждается в дополнительных объяснениях.
Другой стороной кичевого сознания, формирующего эстетическую среду, является, как уже сказано, культ погони за новинками. Добротность приобретенной ранее вещи, ее способность служить не только гарантийный срок, но и сверх того перестали оказывать решающее влияние на психологию покупателя. Доступность приобретения почти любой новинки, тщательно и умело рекламируемой, привела к тому, о чем говорит старый мудрый маклер Грегори Соломон в пьесе Артура Миллера «Цена»: «...какое у нас теперь самое главное слово? Заменяемость. Чем проще вам что-то выбросить, тем приятнее для вас эта вещь. Машина, мебель, жена, дети — все должно быть заменяемо! Потому что, видите ли, самое
1 Бестер А. Ночная ваза с цветочным бордюром.— Библиотека современной фантастики, т, 25. М., 1973, с. 347—348.
Е. Н КАРЦЕВА. КИЧ. ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
главное сегодня—эго покупать. Когда-то раньше, если человеку не было счастья и он не знал, куда себя девать, он шел в церковь, устраивал революцию — что-то делал! Сегодня у вас нет счастья? И вы не знаете, что вам делать? Где ваше спасение? Идите за покупками!» 1
Но так как нельзя заменить сразу все, то кичевый интерьер, как правило, приобретает черты стилевого разнобоя, чему немало способствуют различные массовые рекламные кампании. Во время одной из них, например, была выдвинута теория «исчезновения поколений предметов». Кровати начали спешно заменяться софами и канапе, буфеты — барами, висячие светильники — настольными или настенными. Но возникшая затем мода на старину вернула на прежние места «исчезнувшие поколения». Однако в подавляющем большинстве домов ни один из этих процессов не был доведен до логического конца. И в результате кровать под балдахином и люстра в виде керосиновой лампы оказались рядом с креслом-модерн и торшером самой последней конструкции. Кичевый интерьер, таким образом, приобрел дополнительные краски.
Существуют два основных принципа создания ложной оригинальности. Первый из них состоит в наложении новой эстетической идеи на традиционную форму. В архитектуре — это тот самый дом-бвшмак или дом — кочан цветной капусты, а в прикладном киче — часы в скрипичном футляре, кружка-голова, радиаторы отопления, отлитые в готическом стиле (совсем как у Крулей, любовавшихся карнизами-алебардами). Второй принцип основан на соединении двух известных форм и функций, что приводит к появлению запонки-термометра или авторучки-фонаря-микроскопа.
Эстетика кича не только оказывает завораживающее влияние на организацию бытовой среды, но и всячески стимулирует стремление потребителя к метаморфозам своего внешнего облика. Здесь главным образом речь идет не столько о широчайшем наборе приукрашивающих средств самом по себе, сколько о способе и
' .'Иностр лит.», >968, № 6, с. 170.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК 75
мере их применения. Вне обсуждения, конечно, находится естественное желание любого человека, особенно женщины, выглядеть лучше, чем распорядилась на этот счет природа, затушевать недостатки лица гримом или изъяны фигуры костюмом. Мы говорим о другом — все о том же непременном правиле не быть, но казаться оригинальным и безоглядно следовать за модой. Это, в общем, откровенная подача себя как товара наивысшего спроса. Верные подданные кича далеки при этом от мысли о дурном тоне, ибо иначе они просто-напросто оказались бы в иной системе эстетических ценностей. Они не замечают и жестокого парадокса, состоящего в том, что массовое подчинение причудам моды приводит к противоположному результату: нивелировке внешности. Оригинальность оборачивается банальностью. Мало того, часто она приобретает черты непредусмотренного комизма.
Так произошло с мини-юбками, когда вслед за длинноногими стройными девушками в них влезпи упитанные матроны и костлявые старухи. Так произошло с длинными, плотно обтягивающими ногу сапогами, которые безжалостно выставили на всеобщее обозрение и толстые, бутылочные икры, и кривизну колен, и бесформенность лодыжки. А костюмы и платья из люрекса, когда их пытались превратить в дневные туалеты,— их нестерпимо глупый блеск, их нелепое в дневной суете бальное шуршание? Да мало ли что еще...
Многих женщин с жидкими и плохо поддающимися укладке волосами украсили парики. Но еще большее их число они изуродовали. Тяга к искусственности, которая столь дорога сердцу кичмена и не менее дорога поставщикам (в США, например, в 70-е годы производство париков возросло в десять раз по сравнению с концом 60-х), заставляет девушек с прекрасными волосами носить нейлоновые букли, которые, сколь бы хорошо они ни были изготовлены, все-таки мертвы, а пожилых женщин, украшающих головы тугими, как пружины, белокурыми локонами, делает смешными.
Впрочем, что говорить о людях, когда кич уже добрался и до собак. В американских газетах то и дело натыкаешься на рекламные
Е Н КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
призывы надеть парики на четвероногих. Особая забота проявляется о пуделях как наиболее распространенной породе. Кроме парика предлагается наклеить любимцу семьи фальшивые ресницы, выкрасить ему когти цветным лаком и опрыскать его одеколоном «Сниф», поставляемым парижскими парфюмерами.
Уже многими замечено, что если ассортимент женской одежды постоянно пополняется за счет традиционно мужских предметов, то з подборе туалетов сильной части человечества происходит обратный процесс. Журнал «Ньюсуик» э статье «Модные тенденции в мужской одежде» отмечает популярность просвечивающих блуз и брюк, ридикюлей и даже мини-юбок. «Сегодняшние девушки,— утверждает реклама,— хотят человека, который выглядит как женщина и любит как мужчина». А американский психиатр Джеффри Креймер утверждает, что «общество движется по направлению к женским ценностям. Это не столько феминизация мужчин, сколько феминизация общества» '. Нечто подобное как будто уже было: вспомним закат Рима или нравы и вкусы обитателей Версаля накануне французской революции. И Федерико Феллини, чутко регистрирующий состояние общества, не случайно обратился к Петронию, поставив «Сатирикон».
Противоестественный грим лица —такое же проявление кичевой эстетики, как батистовая мужская кофта с рюшами или парик на собаке. В начале 70-х годов многие женщины увлеклись рисованием на щеках и лбу цветов и геометрических узоров, а вокруг глаз широких кругов, как бы подражая ритуальной раскраске индейцев. Потом это пошло на спад, но зато прочно утвердились неправдоподобно длинные нейлоновые ресницы, густо-черные или синие веки и разноцветные волосы, Сейчас косметические лаборатории Америки разрабатывают рецепты красок одноразового пользования для волос. Их можно выбирать под цвет туалета, можно белить волосы перед игрой в теннис или зеленить за час
Цит. по кн.: Periitz К. Beyond the Looking Glass. Life in the Beauty Cul--c. p 243.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
до поездки на пикник. Вероятно, кого-то это и украсит, В конце концов, была же в сказке девочка Мальвина с голубыми волосами, которую любил Буратино. Наименее плодотворно здесь ханжеское поджатие губ. Здоровый эстетический вкус, даже самый гибкий, терпимый, не может, нам кажется, примириться не столько с той или иной новинкой моды в отдельности, сколько с главной тенденцией Кича в целом — ставкой на искусственность.
И перед мысленным нашим взором такая бытовая сценка-картинка. По улице шествует супружеская пара. На нем — игривая капроновая блузочка, сквозь которую просвечивает волосатое тело, и шотландская юбка. На лицо наложен тон цвета загара (мужская косметика получила сейчас широкое распространение). А спутница жизни, дама основательная, в свою очередь щеголяет бирюзовым с золотом платьем и бирюзовыми волосами. Платье короткое, и мясистые ее окорока доступны свободному обозрению. Рядом бежит собака с малиновыми когтями и кокетливо по-
тряхивает париком.
— Милый,— говорит жена,— мне кажется, Бобби нездоров.
Тогда муж вынимает из манжеты запонку-термометр и всовывает ее псу в рот. Удостоверившись, что страхи напрасны, супруги направляются к дому. Это нехитрый особнячок в форме мужских брюк, входная дверь которого копирует гульфик. Войдя, он направляется к бару, изящно вмонтированному в женский бюст, и наливает виски в бокал-лягушку. Она тем временем хозяйничает на кухне, ставя на плиту чайник-обезьяну и доставая из холодильника-волка куски ростбифа, нарезанные сердечками. Потом, пока Бобби вылавливает блох из своего парика, супруги ужинают, любуясь висящим на стене портретом императора Нерона, оправленным в золотой багет...
Мы преувеличиваем? Это гротеск? Конечно. Но отнюдь не пасквиль. И, чтобы окончательно убедиться в соответствии кичевого вкуса духу картинки, исследуем еще одну важную область прикладного искусства, решительным образом влияющую нз организацию мещанином эстетической среды. Мы говорим о рекламе.
Е Н КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Несомненно, она неоднородна. Известны блестящие образцы культурной, совершенной по художественному исполнению, остроумной, забавно озорной западной рекламы. В ней работает много высокопрофессиональных, талантливых мастеров. Мы же берем для анализа лишь один, правда, самый массовый ее вид — рекламу кича для кичмена. Ею разработано несколько основополагающих методов подачи товара, тонко учитывающих психологию своего клиента, его моральный и нравственный кодекс, его неизменно конформистские политические пристрастия.
Рассмотрим сначала чрезвычайно любопытный психологический феномен, объясняющий несколько неожиданные на первый взгляд взаимоотношения кичмена с классическим искусством. Казалось бы, неразвитый вкус должен приводить если и не к враждебности, то к отчужденности по отношению к шедеврам мировой культуры. Как будто ясная альтернатива: или грубый литературный примитивизм, сентиментальный музыкальный лепет и вишня на холсте, которую может клюнуть воробей, или Шекспир, Бах, Пикассо. На самом деле все не так.
Конечно, истинная отрада души—это кич, родная эстетическая среда, единственная, в которой потребитель пошлости чувствует себя непринужденно, ибо все понимает и все ему нравится. Но он всегда хочет выглядеть не тем, кем является в действительности. И потому, оставаясь внутренне совершенно холодным и чаще всего непонимающим или понимающим самый поверхностный, событийный, сюжетный смысл, кичмен априорно, вне личного вкуса и духовного опыта, признает величие общечеловеческих образцов культуры. Он вынужден поверить на слово, чтобы не прослыть невеждой. Он готов, как и в политике, без раздумий признать чьи-то авторитеты.
Не удивительно, что на его книжной полке рядом с Микки Спиленном или Жаклин Сюзаи можно обнаружить собрание писем Томаса Манна или многотомного Марселя Пруста, на стенах его комнат увидеть вышитых гладью кошек в лукошке и репродукцию с картин Эль Греко или Модильяни, а включив магнитофон, услышать
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
не только среднюю джазовую поделку, но и симфонию Малера. Здесь не выбор вкуса, а вопрос престижа.
Впрочем, круг названных имен характерен прежде всего для утонченного мещанина. Для большинства же перечень авторитетов сводится к одному-двум десяткам фамилий. Не случайно, например, в кичевых фильмах о музыкантах снова и снова повторяются все те же мелодии все тех же нескольких авторов. Это давно проверенный практикой точный расчет на обязательное узнавание и, следовательно, соответствующую реакцию, в которой доминирует чувство самоуважения: «Я тоже приобщен к мировой культуре». На таком же расчете часто зиждется и кичевая реклама.
Бетховена заставляют взобраться на крышу автомобиля и неистово дирижировать. Львиная его грива разметалась по ветру, лицо дышит вдохновением: вылитый гений! Таким — только не на сверкающем лаком кузове, а за роялем — видели его в недавней телепередаче. И вот теперь он появился на рекламе. К чему бы? А вот к чему: темп его стремительной музыки выражает скорость этого автомобиля. Оригинально!
Красивый мужчина сосредоточенно всматривается в репродукцию одной из картин Сезанна. Ах, Сезанн... Его цвет—лектор говорил это по радио — звенит. Наслаждаться им доступно не всякому. Я же смотрю и все понимаю. Заодно любуюсь яркой голубой рубашкой, в которую облачен интеллигентный мужчина. Оказывается, такие рубашки выпускает фирма «Хетауэй». Нужно будет поинтересоваться.
После этого не удивительно увидеть модель пылесоса в зале Лувра, между Джокондой и Мыслителем Родена. Опять-таки ясно; он столь же красив, как общепризнанные шедевры. И, очевидно, столь же популярен. Конечно, здесь есть и доля шутки, как раз той шутки дурного тона, которая кичмену милее всего. Он воспримет, например, как должное, ничуть не возмутившись, застеленные яркими покрывалами кровати, стоящие на фоне Колизея. Для него такой язык привычен: Колизей — значит, пдкрывала итальянские. А подсознательно — на такой стереотип и рассчитана реклама — он
Е Н КАРЦЕВА. КИЧ. ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
свяжет утвержденную авторитетами красоту памятника мировой архитектуры с красотой товара.
Наивный кич прошлого столетия сменился, как мы видели, ки-чем-модерн. Современный мещанин всерьез полагает, что он далеко ушел в своих эстетических потребностях. Работники рекламы, однако,— и совершенно справедливо — считают, что, в сущности, ничего не изменилось. Разве только появилась нотка умиления в отношении к кичевой старине. А раз так, можно с выгодой вернуться к прежним мотивам.
Скоро уже два года, как американский «Ледиз хоум джорнел» усиленно и с успехом рекламирует настенные вышивки, которые были непременным элементом интерьера мещанских домов викторианской Англии. Кампания ведется под рубрикой «Верните дому старомодный уют с помощью этих вышивок». Какие же рисунки предлагаются в качестве образцов? Да те самые, что украшали стены квартир не только английских, но и немецких, французских, русских мещан.
Красный коттедж с зеленым садиком, окаймленный цветами. Под ним сентенция: «Дома делаются из кирпича и камня, а семьи создаются только любовью». Еще ниже — подкрепляющее ее символическое изображение: два алых сердца, покоящиеся на пестрых лепестках. Снова домик — в красной рамке на желтом фоне, с васильками по углам. Над всем этим великолепием летит аист, неся в клюве мешок — только не с младенцем, а с подарком. На мешке следует вышить дату рождения и фамилию того, кому предназначается презент. Девиз без картинки, в ярком венке: «Дом, милый дом».
Разумеется, нет ничего дурного в любви к своему дому. Нет до тех пор, пока она, выраженная не только в назойливой декоративности, но и в полном подчинении бытовым интересам всех остальных, не заслоняет мир. «Семьи создаются только любовью» — это очень красиво и выдержано в стиле самых почитаемых моральных прописей. Но не пробуйте заставить мещанина всерьез сочетать такую сентенцию с утверждением типа «с милым рай и в шалаше».
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
81
Шалаш не годится. Нужен «дом, милый дом»—добротный, избитый вещами, и тогда только можно говорить о любви и вешать вышивки с трогательными надписями. Мещанин готов расчувствоваться, готов поддержать репутацию моралиста, но иа сытый желудок. Есть дома, в которых сразу же ощущается душевный уют, духовное единство их обитателей. А от дома мещанина остается только одно разлитое в самой его атмосфере чувство удовлетворенной собственности.
Рекламируемые вышивки — как бы эстетическое подкрепление этого чувства, вуаль мнимой духовности, сотканная из той же кичевой пошлости. Вот ее наивысший символ, каким он выглядит на глянцевой странице журнала,— два голубка в цветочном обрамлении и афоризм: «Любить и быть любимой — величайшая радость на земле». Под афоризмом — розы.
И уже не ощущаешь никакой разницы между сизокрылыми пернатыми и нежно склоненными друг к другу мужчиной и женщиной, демонстрирующими кичевые рубашки. Тем более что на рубашках — все те же цветочки и те же голубки, только разделенные ярко-желтым солнечным диском. Правда, сентенция другая: «По достоинству цените силу женских чар». Крылатые и бескрылые голубки, а то и все четверо вместе вообще рекламируют множество товаров: от марок вина до секретов счастья.
Принцип парности, столь широко используемый в рекламе, рассчитан не только на чувствительность, на умиление, но и на созвучие догматам кичевой эстетики. Вспомните выведенный из нее Ю. Тыняновым закон любви к симметрии. Вспомните приводимый им пример: чужая девочка, посаженная между бездетными супругами для придания фотокомпозиции полной гармонии. Удовлетворяя эту любовь к симметрии, реклама и предлагает попеременно то счастливых влюбленных, то счастливую семью преимущественно в полном составе.
Если нужно продать зубную пасту, изготовляется картинка, на которой мама и папа радостно рассматривают во рту своего малыша первый зуб. Если нужно, как говорят, «двинуть в торговую сеть»
Е Н. КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ЮРЖЕСТВО пошлости
детские пижамы, то одетых в них четырех очаровательных крошек заставляют составить трогательную группу вокруг отца. Если нужно уговорить мать семейства покупать пироги-полуфабрикаты, ей показывают рекламный ролик о такой же, как она, примерной супруге и хорошей хозяйке, которую муж, дети и даже свекровь полюбили еще сильнее, отведав этот пирог. Мало того, она вызвала восхищение соседей умением выбирать продукты. Дети ее обрастают друзьями, привлеченными вкусным пирогом. А глава фирмы, в которой служит супруг, настолько поражен здравым смыслом своего сотрудника, выбравшего в жены такую замечательную женщину, что чуть ли не заводит речь о его повышении. И не стоит думать, что ситуация обыгрывается юмористически. Все всерьез.
Примеры можно множить до бесконечности. Папа, лежа в постели, читает детям сказку на ночь (реклама простынь). Папа, мама, две дочери и сын — в живописном горном ущелье. Рядом — «шевроле» последней модели. Мама на пляже обнимает двоих детей, а еще двое едят мороженое (реклама купальных костюмов). И так далее.
Довольно часто кич апеллирует к конформистскому сознанию мещанина. Здесь опять-таки, как и в случае с классическим искусством, используется преклонение перед общеизвестными именами. И потому так бойко расходятся, например, блестящие портсигары с выдавленными на крышках портретами Линкольна, Кеннеди, Эйзенхауэра, Макартура, а заодно и Эдисона. И потому рекламируется не сама по себе отличная стенка с вмонтированными в нее магнитофоном и телевизором, но и комплект литературы к ней. (Книги, естественно, расположены по ранжиру и цвету переплетов.) Рядом с «Британской энциклопедией», энциклопедией садоводства, набором роскошных альбомов — пятьдесят два выпуска серии «Великие американцы» и двадцать томов патриотических «Анналоа Америки». Не нужно тратить времени на выбор книг. Все ясно: этот набор должен иметь каждый культурный человек. А там уже по собственному вкусу можно прикупить те издания, которые единственно и будут читаться.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
£3
Быть патриотом — значит иметь много детей, способствовать росту населения своей державы. Эта истина усвоена давно. И с ее помощью продается стиральный порошок «Биэ». На телевизионном экране происходит следующее. Некто входит в дом и видит грустную женщину перед горой грязного белья. «Откуда его столько?» — интересуется он. И тогда на ее лице расцветает гордость, оно становится торжественным, как у генерала, принимающего парад. «Мы исполнили свой долг»,— говорит она, обводя комнату широким жестом. И глазам зрителей предстают одиннадцать детей, а о двенадцатом сообщается, что он не замедлит появиться на свет. Вошедший чуть не вытягивается во фрунт. Он гордится вместе с ней. А жизнь вашу, замечает посетитель мимоходом, можно существенно облегчить с помощью вот этого чудо-порошка. На экране — пачка «Биза» крупным планом.
Иногда используется метод, который называется в логике «доказательством от противного». Картинка: супруги лежат в постели и читают газеты. Все выдержано в голубых тонах — цветочки на наволочках и пододеяльнике, полосы на простыне. «Когда все, что вы читаете, так мрачно,— поучает подпись,—вы заслуживаете того, чтобы спать в сказке». Иначе говоря, плюньте на все и найдите покой и счастье в оборудовании своего гнездышка.
Вернемся теперь к мотивам старомодного изобразительного кича, используемым в рекламе — в отличие от викторианских вышивок— без указания источника. И тут же натолкнемся на знакомую открытку, ту самую, где женщина в картинной позе стоит у моря, а перед ней скользят по волнам белоснежные яхты. Вот она, неправдоподобная лазурь, рассекаемая на этот раз не яхтвми, а столь же белоснежными лебедями. Вот и сама женщина в такой же искусственной позе. Только, во-первых, она не играет на скрипке, а во-вторых, ее пришлось одеть, ибо материя, из которой сшито платье, как раз и рекламируется.
Раньше купидоны выглядывали из корсетов. Теперь они служат рекламе. Знаете ли вы «самое прекрасное средство закончить день и начать вечер»? Не знаете? Тогда вам подскажет купидон, прячу
м
Е Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
щийся — по буйной фантазии художников журнала «Харпере мэгэ-зин» — на холме, в тени раскидистого дерева и готовый крылами своими, позаимствованными у ангела, осенить Париж вместе с освещенной закатными лучами солнца башней старого чудака Эйфеля. Средство это — в употреблении продукции фирмы «Бенедиктин».
Что милее всего кичу и его потребителю? Цветы, точнее, цветочки, стилизованные, лишенные своей естественной прелести, как будто опрысканные приторными духами. Женская нагота. Животные— или самые распространенные (кошка, собака), или экзотические. Эти устойчивые стереотипы эстетических требований кичмена реклама обыгрывает тысячекратно. Цветы, растущие из унитаза, должны убедить его приобрести новую вентиляционную установку, Обнаженная женщина, лежащая на спине и прижимающая к себе в экстазе автомобиль последней модели, может разгорячить и чувственность и желание этот автомобиль купить.
Нужно иметь кофейный столик. Но обычный — неинтересно. А вот такой, основанием которому служит пластмассовый верблюд,—другое дело. Кошечки же и собачки (помимо копилок, чайников, вышивок и прочего) пр(^икают почти в любую рекламную картинку. Идет красавец мужчина и несет картонную коробку, из которой выглядывают три трогательных щенка. Это — реклама сигарет «101», ибо пустая коробка именно из-под них. Красавец все искурил, чего и вам желаем. А недавно в цитированном уже дамском журнале появилась заметка, озаглавленная так: «Великие произведения искусства —- за один доллар». Под ней — иллюстрация: репродукция четырех написанных маслом портретов котят на фоне цветочков. Конечно, дамы оценят юмор, вложенный в слово «великие». Но, оценив, купят, обязательно купят,
Итак, приведя читателя на вернисаж дурного вкуса, мы попытались выяснить некоторые принципы эстетики кича —• как общие, так и наиболее характерные для «прикладной пошлости». Теперь, на примере литературы, мы продолжим исследование кичевых закономерностей.
85
ТРИУМФ ПОСРЕДСТВЕННОСТИ
«...Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию...». Кто сочтет, сколько раз эти пушкинские строки из монолога Сальери фигурировали в трудах искусствоведов и литературоведов? Чаще всего они приводятся тогда, когда критик в своих объяснениях вынужден переходить от аргументации к эмоциональным оценкам. И уже очень давно идет спор: можно все-таки или нельзя поверить алгеброй гармонию? Нам нет нужды принимать в нем участие, ибо предмет исследования—-литература кича — вовсе не требует обращения к высшей математике. Достаточно простого арифметического приема, именуемого разложением на множители. Мы постараемся убедить читателя, что любая из кичевых книг легко поддается этой операции, распадаясь на простейшие числа без всякого остатка. Своего рода домик из кубиков: совершенно не важно, где какой лежит; главное, чтобы все были на месте.
Попробуем же разложить одну из таких наиболее типичных книг на составляющие ее эстетические множители, обращаясь по мере надобности и к другим образцам литературно-кубикового строительства. Перед нами роман Американки Жаклин Сюзан «Машина любви», вышедший в 1969 году, мгновенно завоевавший книжный рынок не только в Америке, но и во многих других странах Запада. Он до сих пор один из самых читаемых.
Кто такая Жаклин Сюзан? Она была дочерью известного художника и женой крупного телевизионного и кинопродюсера. Писательница умерла в 1974 году, оставив после себя романы «Каждую ночь, Джозефина» (1963), «Долина кукол» (1967), уже названную нами «Машину любви», «Один раз недостаточно» (1974) и «Долорес» (рукопись не закончена). Читательская и газетная слава пришла к ней после «Долины кукол», бестселлера, посвященного Голливуду и Голливудом же экранизированного. Что же принесло ей такую популярность?
Прочтем издательскую аннотацию, помещенную на обложке «Машины любви»;
ft- Е Н- КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
«История Робина Стоуна — загадочного, талантливого, беззастенчивого мужчины — и трех женщин, любивших его.
Аманда — красавица манекенщица.
Мэгги — честолюбивая молодая актриса.
Джудит — замужняя аристократка, жаждущая любви, пока не ушло ее время.
Действие происходит в мире кино и телевидения, которые герой хочет завоевать. Робин добивается большой власти и больших денег. Дорогие рестораны, частные самолеты, комфортабельная жизнь прекрасно сочетаются с оргиями, «веселыми» вечеринками, покупной любовью и сексом. Так он все дальше уходит от тех, кто любит его»
На первых порах возникает предположение, что авторы аннотации для привлечения невзыскательных (и, следовательно, самых многочисленных) читателей несколько сгустили краски, ограничившись лишь перечислением наиболее легко проглатываемых приманок, а обо всем остальном умолчали. Но чем больше страниц остается позади, тем все яснее убеждаешься, что «остального» просто нет. Умалчивать ни о чем не пришлось.
Попутно обнаруживается еще одно обстоятельство: сюжетный и событийный автоплагиат. Имевшее успех единожды подается читателю— с некоторыми новыми острыми приправами — как свежее блюдо. Ведь и в «Долине кукол» три героини (только под другими именами) испытывали такие же или подобные им приключения все в том же притягательном для каждого мире искусства, повернутом изнанкой. Впрочем, и «Долина кукол» никак не может претендовать на пальму первенства.
В первой главе уже шла речь о старом литературном киче —. будуарно-салонном романе. Припомним еще раз характерные его признаки. Это—выключение героев из сферы обыденной жизни, концентрация внимания на светских людях и персонажах полусвета, реестровая описательность мебели, нарядов, драгоценностей,
1 Susan J. Tlic Love Machine. Toronto, 197Q.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
причесок, пеньюаров и батистовых простынь, претенциозное морализирование и, наконец, любовь, любовь, любовь — с роковыми страстями и страданиями, демонической ревностью и божественными экстазами, платоникой клятв и диалогов, вещной эротикой (фиксация внимания на интимных предметах туалета, призывно распахнутых постелях или откровенных нарядах) и многоточиями в самых рискованных местах.
Что, казалось бы, общего у «Машины любви» со всей этой старомодной, выспренной и—на современный взгляд — чопорной чепухой? Но поспешные выводы обманчивы. Мы утверждаем, что та область литературы, в которой главенствуют Жаклин Сюзан и другие писатели, сходные с ней, прямо наследовала традиции старого кича, начиная от героев и кончая стилистикой, лишь модернизировав их, произведя внешние перемены. Попробуем это доказать.
Вот роман и фильм, посвященные тому же телевизионному закулисью, которое служит исходным материалом для Жаклин Сюзан. Роман называется «Великий человек», его написал Эл Морган и он переведен на русский язык 1. Фильм «Лицо в толпе» кинодраматурга Бадда Шульберга и режиссера Элиа Казана у нас, к сожалению, не демонстрировался, опубликован лишь сценарий1 2. Герои книги и картины Герб Фуллер и Лоунсом Родс, подобно Робину Стоуну, тоже добиваются «большой власти и больших денег». На этом построены сюжеты обоих произведений.
Герои даны в действии, во всем блеске своих профессиональных способностей, блеске отталкивающем, наглом, ибо способности эти втаптываются в грязь полной беспринципностью, аморальностью, цинизмом героев, лежащими в основе их мировоззрения. Они участвуют во множестве эротических эскапад, запутанных любовных связей, запретных развлечений. Но любое описание эпизодов такого рода связано прежде всего с главной задачей авторов — исследованием характера, социального типа, нравов определенной
1 Морган Э. Великий человек. M., 1971.
2 Щульберг 5. Лицо в толпе.— Сценарии американского кино М., I960.
eg f. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
профессиональной среды, законов и обычаев той огромной влиятельной страны, которую представляет собой телевидение.
Фуллер и Родс —ведущие популярнейших программ, которые смотрит вся страна. И нам точно и подробно рассказывают, как они делают свое дело, чем привораживают сердца и души. Авторы не заставляют читателя и зрителя верить себе на слово: злокачественное обаяние героев столь же наглядно, сколь легко различимы в микроскопе клетки, пораженные вирусом рака.
Робин Стоун, по утверждению писательницы, столь же влиятелен и популярен. Он один из крупнейших обозревателей, сравниваемый с такими действительно известными всей Америке мастерами, как Уолтер Кронкайт и Чет Хантли. И, вероятно, поэтому ему предлагают возглавить отдел политических новостей одной из самых могущественных телевизионных корпораций, скрытой под прозрачными инициалами «Ай-Би-Си» (читай «Эй-Би-Си»), Мы еще вернемся к этому распространенному приему кичевой прозы, стремящейся везде, где только возможно, перемешать реалии с вымыслом, придав ему тем самым большую убедительность. А сейчас продолжим разговор о Стоуне.
Итак, он человек интереснейшей профессии и к тому же человек талантливый. Но, дочитав книгу, то есть преодолев расстояние в пятьсот страниц убористого текста, вы ровным счетом ничего не узнаете ни о главном как будто бы деле его жизни, ни о проявлениях его журналистской одаренности. И вообще мир телевидения со спецификой его отношений, деловыми заботами и разношерстным населением останется для вас таким же уравнением со всеми неизвестными, каким был на первой странице.
Для чего же тогда понадобилась вся эта многообещающая на-зывательность? Прежде всего для того, чтобы идти в ногу с современностью, создать видимость злободневности. Вот и были пущены в ход модные профессии, упоминания о недавних политических событиях, интеллектуальная сфера деятельности. Такое бывало и в старом салонном романе. Если он создавался во время англо-бурской войны, то обязательно в речах посетителей великосветских
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
29
гостиных звучало слово «Трансвааль». Если в это время Франция и весь мир разделялись на резко враждующие лагери дрейфусаров и антидрейфусаров, то бульварный автор непременно находил место упомянуть и саму жертву несправедливости, и полковника Эстерхази, и Эмиля Золя.
Причем Жаклин Сюзан имела неоспоримое преимущество перед писателями того типа, к которому принадлежал, например, Ипполит Рапгоф, более известный русскому дореволюционному читателю по изысканному псевдониму Граф Амори. Тот описывал высшее общество, никогда не будучи в него допущен. А Сюзан благодаря хотя бы своему семейному положению обладала, думается, необходимым знанием предмета. И тем не менее знание это никак не обнаружено,
Мы встречаем в тексте только упоминания об успехе, которого добился руководимый Стоуном отдел: стали выше так называемые оценки Нильсена, то есть количество зрителей передач увеличилось. Но почему? Никаких объяснений на этот счет не дается. Дважды или трижды писательница приводит своего героя на деловые заседания. И каждый раз лишь для того, чтобы продемонстрировать неотразимость его обаяния: женщины, присутствующие там, сходят с ума от страсти. Вот одно описание, похожее, впрочем, на остальные: «Робин Стоун посмотрел на сидящих за столом, не задерживая взгляда ни на чьем лице. Казалось, он вбирает в себя сразу всех присутствующих, комнату, обстановку. Затем он широко улыбнулся. Этель заметила, что общая напряженность упала. Его улыбка была подобна электрическому разряду. Этель почувствовала, что этот человек вдруг сделался для нее желаннее любого киноактера. Прорваться сквозь его стальной фасад... Заставить этого мужчину дрожать в ее объятиях, иметь власть над ним хотя бы на секунду»
Прочитав несколько таких сцен, начинаешь все яснее понимать, что дело отнюдь не в знании или незнании материала. Писательница
1 Susan J. The Love Machine, p. 29.
90
E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
сознательно отстранилась от мало-мальски серьезных задач. И а результате современный человек дела, находящийся в гуще политических и общественных событий, ничем существенно не отличается от своего канонического предка из салонного романа. Это все тот же молодой красавец виконт, баловень судьбы и женщин, любовник самой высокой квалификации, что доказывается — в отличие от его журналистских и организаторских талантов — весьма основательно.
Номинативность заявленной проблематики, дающая возможность пренебречь аргументированным развитием сюжета, взаимосвязью компонентов содержания во имя единственно важного для автора, хорошо знающего своего читателя,— любыми средствами удержать внимание (а самое простое и надежное, многократно испытанное — эротика всех сортов),— один из главных эстетических принципов кичевой литературы. Подтверждений этому искать не приходится: каждый, кто читал книги, подобные романам Жаклин Сюзан, легко найдет их сам. Приведем поэтому еще только один пример.
В 1973 году вышел роман Гарольда Роббинса, посвященный семье владельцев автомобильной фирмы, занятой конструированием новой модели спортивной машины. По ее имени — «Бетси» и названа книга. В свое время у нас был переведен «Брат мой, враг мой» Митчела Уилсона, далеко не самая лучшая его вещь. Но, поверьте, по сравнению с опусом Роббинса — это шедевр. Хотя бы потому, что там все-таки сделана серьезная попытка исследовать психологию научного творчества, в особенности — конструкторского мышления. А Роббинс, даже называя роман именем машины, на самом деле исследует — причем достаточно плоско и банально — сексуальную жизнь деда, сына и внука.
Глава рода Хардеман-старший обладает необузданной половой энергией. Он пропускает через свою постель легионы женщин, в числе которых его собственная сноха, а ведь каждую альковную сцену нужно описать. Вот и набегают страницы. Тем временем его сын вступает в клан гомосексуалистов и, не поладив с очередным любовником, завершает свои похождения самоубийством. Внук Ло
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
91
рен III не пошел ни в деда, ни в отца, тоже, кстати, Лоренов. Он настолько посрамил фамильную честь, что неудовлетворенная жена вынуждена была с ним развестись. Недостаток животной энергии он с успехом возмещает интригами против деда, стремясь вырвать фирму из-под его контроля.
Есть еще внучка Бетси, которая на самом деле не внучка, а дочка Лорена I, рожденная женой Лорена II. Вот у нее — темперамент деда-отца, и ее связи с мужчинами — еще несколько десятков страниц. Все это, разумеется, никакого отношения к чудо-автомобилю не имеет, и он конструируется где-то за сценой. Впрочем, при чем тут автомобиль? Он имеет такое же отношение к сюжету, как телевидение в «Машине любви».
Пусть читатель поймет нас правильно. «Сцены частной жизни», если воспользоваться формулировкой Бальзака, всегда и по праву были предметом внимания литературы. Адюльтеры, инцесты, многообразные любовные похождения, альковные эпизоды, патологические влечения описывались подробно и тем же Бальзаком, и Эмилем Золя, и Мопассаном,.. Список писательских имен и названий книг велик здесь необычайно. С разной степенью детализации большая литература охватила все стороны человеческого существования, все страсти и пороки.
Пошлость кича состоит совсем не в том, что он стремится не оставить в тени наиболее интимные стороны жизни и постоянно вторгается в область сексуальной патологии, а в сосредоточении всех интересов только в этой области, в самодовлеющем внимании именно к ней и ни к чему другому, «Милый друг» и «Нана» для XIX века, «Улисс» или те же «Признания авантюриста Феликса Кру-ля» для XX — вполне свободны в обращении с сокровенным, Но, проникая в тайное тайных, их авторы с такой же тщательностью исследовали и глубины психологии и социальную суть явлений и характеров, Это были равнозначные составные части системы познания реальности и человека.
Отсекая все, кроме сексуального, литература кича уподобляется ординарному похотливому мещанину, прильнувшему к соседской
о.' f н КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
замочной скважине. Мы еще будем говорить об этом в связи с набором кичевых аттракционов. Пока же ограничимся очевидным выводом о разительном сходстве взаимоотношений с действительной жизнью и тематических пристрастий старого и нового литературного кича.
Несколько веков назад авантюрно-бытовой роман, используя беспокойный характер созданного им героя, его страсть к перемене мест, получил в свое распоряжение неисчерпаемый материал — подробности жизни, нравов и обычаев всех слоев общества. Жиль Блас из разбойничьего притона прямиком попадал в покои знатной дамы, затем — в тюрьму, оттуда — на службу к священнику, врачу, петиметру, актрисе, сводил знакомство с архиепископом и герцогом, оказывал услуги министру...
Еще старый литературный кич широко пользовался приемом, разработанным мастерами авантюрного романа. Он любил контрасты: вертеп и салон, хижина честного бедняка и дворец знатного вельможи. Однако его целью было не познание жизни и постижение человека, а развлечение читателя новыми обстоятельствами. Причем развлечение состояло не столько в ситуационном обострении действия, ибо расклад событий был везде примерно одинаков, сколько в описании антуража.
Порой по обилию и свойству подробностей это напоминало торговые каталоги. На характер персонажа автору хватало нескольких фраз. Зато его одежде, жилищу, какому-нибудь бальному платью или безделушкам в гостиной посвящались страницы. Во всем этом можно было бы усмотреть своеобразие литературной манеры, дающей возможность именно через вещи лучше узнать их хозяев (вспомните блистательный пассаж Гончарова о комнатных туфлях Обломова), если бы такие описания не оказывались в большинстве случаев отторгнутыми от содержания романа. Здесь был точный расчет на вкус и направленность интересов мещанина, поклоняющегося вещи.
Современные бульварные писатели, стараясь провести своих героев через различные социальные и профессиональные слои обще
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
И
ства, поступают точно так же, как их предшественники, И цель прежняя: не анализ и хоть чуть-чуть серьезное нравоописание, а развлечение; смена антуража как смена туалета. Любовные приключения Робина Стоуна бросают его из мира законодателей моды в артистическую среду, приводят в высший свет, знакомят с разнообразнейшими персонажами социального дна. Но узнать что-либо существенное нам так и не удается. Не в том дело, где оказывается Стоун, и не в том, с кем он оказывается, ибо в любом случае все сводится к удивительно однообразному разговору об очередных сексуальных проблемах. Какие уж там зарисовки быта и нравов, когда Аманда так страдает из-за того, что у нее недостаточно развит бюст. Вот что требует прежде всего подробного рассказа с увлекательными рассуждениями о накладных бюстгальтерах.
Роман Сюзан забит вещами, как склад универмага, причем вещами дорогими, престижными. Здесь и норковое манто, полученное Амандой в утешение за утрату невинности, и брильянты старой миссис Стоун, и антикварная мебель в особняках хозяев Голливуда, Здесь восторженный перечень дамских туалетов, продемонстрированных на благотворительном балу в «Уолдорф-Астории». Вещи заслоняют людей, вещи их заменяют.
И опять-таки книга Сюзан не исключение в этом смысле, а явление достаточно распространенное. Сравнительно недавно у нас была издана часть многотомной эпопеи французов Анн и Сержа Голон «Анжелика» — образцовой книги для мещанского круга чтения, Автор предисловия А. Эпштейн не преминул с гордостью привести статистические сведения, действительно захватывающие воображение: «Анжелика» переведена на сорок девять языков. Но этого показалось мало, и последовало сравнение супругов Голон с блистательным Дюма-отцом. Нам дали понять, что неутомимые и плодовитые супруги — это Дюма сегодня, да к тому же их социальный диапазон будто бы шире, а способ мышления и осмысления истории прогрессивнее.
Мы вынуждены вступиться за великого романиста. Нет, к сча
F H КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
стью для многих поколений читателей, для воспитания их литературного вкуса, Голой и Дюма — из разных компаний. У старого мастера, обладавшего неукротимым художественным темпераментом, герои фехтуют репликами и остротами с тем же непревзойденным искусством, что и шпагами. Его способ ведения интриги пружинист и не нуждается ни в каких побочных стимуляторах и подпорках, нарушающих изящество конструкции. Ему чужда вялая описатель-ность, достаточно двух-трех мимоходом схваченных деталей, чтобы очередная картина заиграла всеми красками эпохи.
А главное, его герои — нет, не только герои, все персонажи, даже самые мимолетные,—живые люди. Они всегда наделены резко проявленными характерами и точными социально-бытовыми характеристиками. Дюма вольно обращался с фактами истории? Да, бывало. И все-таки о веке тринадцатого и четырнадцатого Людовиков мы узнаем из его знаменитой трилогии столько, что это с лихвой компенсирует все вольности.
Не было бы ничего дурного, если бы Голоны, лишенные — увы! — многочисленных талантов Александра Дюма (любые комплименты в их адрес не скроют очевидного факта), решили предложить легкое, сюжетно-увлекательное чтение в духе бесхитростного романа приключений. Однако они претендуют на большее — на социальность, художественный изыск, создание многогранных характеров, а пользуются при этом приемами кичевого романа, исключающими решение таких задач. И неподтвержденность претензий рождает претенциозность, тот грех, в который никогда не впадал Дюма.
Смешными выглядят попытки авторов представить Анжелику жертвой социальной несправедливости и сословных предрассудков. Они декларируют ее свободолюбие, независимость суждений и гордую волю, воспитанные якобы в тесном общении с простым народом, в слиянии с природой. А все эти качества сводятся, в сущности, к ординарному девичьему бунту против брачного контракта, заключенного отцом без ее согласия, бунту, который привел ее к решению отдаться другому до свадьбы.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
9$
Тем более что далее никакой драмы не последовало: замужество оказалось счастливым, супруг придерживался прогрессивных идей и благодаря этим идеям, а также умению обращаться с женщинами завоевал любовь героини. А социальная несправедливость обернулась обычной дворцовой интригой: Анжелика случайно проникла в чужую тайну, неосторожно разгласила узнанное, и ей отомстили.
Что же в таком случае остается от новаторства супругов Голон, вступивших в соперничество с Дюма? Ничего, кроме все того же литературного кича, ибо никакого новаторства в серии их романов на самом деле нет. И претензии на социальность стоят столько же, сколько рассчитанная на иллюзию злободневности назывательная проблематика в книгах Сюзан или Роббинса. Нас хотят уверить, что авторы дают сочувственные портреты крестьян, ремесленников и прочих представителей третьего сословия. А мы не видим никого, кроме статистов, участвующих в кичевом историческом маскараде, затеянном ради стандартной героини стандартного повествования. Да один только Планше из «Трех мушкетеров» с его лукавым юмором и здравомыслием простолюдина перевесит всех ряженых в романах Голонов, какими бы прочувственными словами ни сопровождалось их появление, сколько бы ни старались авторы выдать их за живых людей.
Зато любовные утехи описаны на уровне современного кича. Обитание Анжелики в разных слоях общества не столько ведет к познанию этих слоев, сколько служит предлогом для оснащения рассказа новыми сексуальными подробностями. Вспомните, как психологически тщательно подготовлено появление д'Артаньяна в спальне мипеди. Это не случайное альковное похождение, а одно из неизбежных следствий развертывающейся интриги. Теперь перечтите ключевую сцену первого тома «Анжелики». Она начинается с того, что героиня наблюдает все перипетии полового акта, все проявления пылкой страсти принца Конде и графини де Бофор, а лишь вслед за этим, вне причинной связи с предыдущим, узнает роковую тайну. Никакого значения для фабулы вздохи, стоны и телодви
«б
Ь II КАРЦЕвА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
жения любовников не имеют. Это не более чем очередная дань принципам кича, прием, без которого ни он сам, ни его читатели существовать не могут. И супруги Голон пользуются им с множеством вариаций, обнаруживая при этом недюжинное знание самых разных эротических способов и приемов.
А рядом — все то же каталожное описание нарядов и украшений. Вербицкая, поражавшая в свое время воображение мещанских жен и барышень из семей среднего достатка туалетами своих героинь, могла бы вполне позавидовать французским коллегам по перу, явившимся ей на смену, прочтя, например, такое: «На широкой кровати Анжелика увидела платье из зеленой тафты, как раз такого оттенка, как ее глаза. Необычайно тонкое кружево украшало корсаж на китовом усе, а шемизетка была сплошь расшита цветами из брильянтов и изумрудов. Такие же цветы были на узорчатом бархатном верхнем платье черного цвета. Его полы были отвернуты и заколоты брильянтовыми аграфами».
А драгоценности? «На белом атласе сверкало ожерелье ослепительного в три ряда жемчуга с золотым отливом... Тут же лежали серьги и две нитки жемчуга помельче, которые Анжелика приняла было за браслеты, а оказались они украшениями для волос». Какая приятная неожиданность! Думается, любая ювелирная фирма с радостью пригласила бы супругов в свой главный отдел. Впрочем, они были бы на месте и в модной лавке. Каким восторгом проникнуты строки, посвященные наряду мужа: «В костюме графа де Пей-рака сочетались черный цвет и серебро. Под плащом из черного муара, отделанного серебристыми кружевами, которые были закреплены брильянтовыми застежками, виднелся камзол из серебристой парчи с изысканными черными кружевами. Из тех же кружев были воланы, тремя рядами спускавшиеся до самых колен из-под его черных бархатных рингравов. (Сколь загадочны эти рингравы! Даже Сатин, щеголявший такими редкими словами, как «умбракул» или «сикамбры», тут бы спасовал.— Е. К.) Пряжки на туфлях были с брильянтами. Шейный платок был тоже расшит крошечными брильянтами. Пальцы графа украшали перстни с бриль-
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
97
янтами, и только один перстень был с огромным рубином» Не человек, а копи царя Соломона.
Нам могут сказать, что все это понадобилось авторам для создания колорита эпохи. Но, во-первых, такого рода описания, только более сухие и точные, уместны, скорее, в специальном труде, посвященном модам прошлых веков. А во-вторых, в контексте романа они не несут никакой службы. Просто дразнящий блеск брильянтов и сладострастное шуршание шелков необходимы кич-мену так же, как аннотированный перечень сексуальных забав. И все это дается ему сполна.
Кто не любит вкусно поесть? Но удовольствие от чтения ресторанных меню, даже если это карточка «Максима» или «Уолдорф-Астории», все-таки способен получить не каждый. Для этого нужна привычка к благоговению перед чужой роскошью, все равно — реальной или вымышленной. Трудно сказать, чего здесь больше — зависти пополам с восхищением, потребности в иллюзиях или подогретых кичевым чтением безумных надежд на внезапную перемену судьбы, когда все в мире сделается доступным. Но так или иначе, описание не только вещей, но и праздников гастрономии сделалось составной частью эстетики кичевого романа.
Незабываем гражданин из «Двенадцати стульев», пришедший в музей, расположенный в бывшем богатом особняке, не для того, чтобы любоваться экспонатами, а чтобы упоенно мычать, обхватив малахитовую колонну: «Эх, люди жили». Прочитав «Анжелику», он, вероятно, с такой же страстью замычал бы: «Эх, люди ели». И в самом деле, супруги Голой множество раз на протяжении своего бесконечного, тягучего повествования перекладывают на прозу известную арию из «Периколы», которая начинается словами: «Какой обед нам подавали, каким вином нас угощали...»
Обеды, и правда, неплохи: «Бесконечные перемены блюд, которыми лакеи обносили гостей, куропатки в горшочках, филе утки, гранаты под кровавым соусом (так сказать, красное на красном,
,1 Голой Анн и Серж. Анжелика. М-, 1973, с. 193—194, 340.
4 Е. Н. Карцева
“S I H КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
гурманство, сочетающееся с эффектным живописным приемом.— £. К.), перепелки на сковороде, форель, крольчата, всевозможные салаты, рубец ягненка, паштет из гусиной печенки. На десерт были поданы пончики с персиками, всевозможные сорта варенья, печенья и пирожные на меду, пирамиды фруктов, такие огромные, что за ними не видно было арапчат, которые их вносили. Вина всех цветов и оттенков, начиная с темно-красного и кончая светло-золотистым, следовали одно за другим» ’. Сам подбор блюд таков, что он даже избавляет авторов от необходимости искать какие-то эпитеты и метафоры. И нам подается лишь слегка беллетризован-ный прейскурант.
Впрочем, литературный кич как раз и состоит из таких прейс-курантов,- блюдо с предметами роскоши, любовное блюдо, легкая моральная закуска. Было время, когда почти в каждом мещанском доме назойливо, из всех углов, лезли в глаза разнообразнейшие нравоучительные сентенции. Некоторые из них снисходили к человеческим слабостям, но предостерегали от излишеств, и незабвенные кружки, лафитники, рюмки, бокалы и пуншевые чаши с девизом «Пей, да дело разумей!» попадаются и до сих Пор. Другие взывали к семейному миру, любви и согласию и располагались в самых неожиданных местах—на резной дверце буфета, посудном полотенце, спинке кровати, не говоря уже о ковриках, салфетках, скатертях и прочих, как теперь говорят, строчевышитых изделиях. Викторианские вышивки, вошедшие в моду, свято блюдут эту традицию, хотя, в общем, домашних наглядных прописей поубавилось. Но кичевая литература все еще полна так называемых «пошлых истин», мнимо многозначительных и составляющих ее житейскую философию.
На обложке любого кичевого романа можно было бы, как на машинном коврике с оленем или лебедями, тиснуть рядом с заглавием любимый афоризм автора, провозглашаемый им в финале открытым текстом или же другим способом, не дающим, однако,
Iслон Ани и Серж. Анжелике, с. 211.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
повода для разнотолков. Скажем, похождения Робина Стоуна подпадают под сентенцию «Власть развращает». Причем у Жаклин Сюзан, как и у других романистов подобного толка, сначала идут несколько сот страниц смачного, со вкусом выписанного разврата, а затем к ним добавляется крохотный довесок, в котором и содержится нравоучение.
Смотрите, не успел Стоун отказаться от должности, как тут же написал интересную, по утверждению автора, книгу. И сердце его открылось истинной любви: внезапно он понял, что из тех, с кем он блудил (а был испробован даже мужчина, пожелавший стать женщиной и превратившийся в нее после хирургической операции), ему дороже всего Мэгги. Тем более что и возраст у нее подходящий, и с размерами бюста никаких недоразумений. И вообще, разве читатель не помнит, что только с ней — в моменты наивысшего наслаждения он трогательно лепетал: «Мама, мама»? Только власть и мешала. А теперь все сложилось как нужно. Догадаться о подобном финале, следуя логике характеров и событий, было никак не возможно.
Так мы знакомимся с еще одним принципом кичевого романа— выстраиванием повествования вне законов логического и художественного мышления.
Гарольд Роббинс, объясняя необходимость предельной эротической откровенности, мог бы сказать, что такой способ показался ему наиболее действенным для решения острой социальной темы: разложение буржуазной семьи. Это весьма спорно, но существовал бы предмет для серьезного разговора. Однако и спорить и разговаривать не о чем, ибо последние страницы автор посвятил проповеди тезиса о том, что кет ничего важнее семьи. Беспутные и распутные герои вновь слились в дружный коллектив, не осталось и следов разложения. Выкатился на авансцену автомобиль «Бетси», и занавес опустился под единодушные аплодисменты действующих лиц.
Так пошлость старается прикрыть себя фиговым листком морали. Только листок этот соткан андерсеновскими ткачами, и король —
4
100
f H КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
в данном случае король литературной эротомании — все равно оказывается голым,
А для тиснения на переплете «Анжелики» ее авторами приготовлена следующая формула: «Жизнь так переменчива. Колесо фортуны все время вертится», По глубине мысли это близко к известной пародийной песенке: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Колесо вертится, труба зовет, и Анжелика—то в карете с гербами, то на крестьянской повозке — едет вдоль сюжета, который при такой концепции может быть нескончаемо длинным, предоставляя авторам возможность писать что угодно и о чем угодно, лишь бы сверкали брильянты на аграфах и шемизетках, шипели на сковородах жареные перепела и принц Конде вкупе со всем дворянством Франции почаще демонстрировал свою сексуальную мощь.
Если сентенциозность, набор расхожих житейских формул современный кич впрямую унаследовал у старого бульварного романа, то в использовании для своих целей ошеломляющих новаций техники, научных теорий, основательных или шатких — все равно, лишь бы были модными, он может считаться первопроходцем. Точнее, произошла замена приманок и ситуационных ходов.
Прежнего читателя держала в напряжении какая-нибудь тайна: рождение и происхождение, могущество злодея, давнее преступление. Когда она в финале разъяснялась, все загадочные ранее обстоятельства обретали ясный смысл. Роман приключений широко пользуется таким приемом и до сих пор. А кич, также не чураясь таинственного, подводит под него другую подоплеку. У него в ходу тайны космоса или подсознания, загадки археологии. Спекулируя на них, кич предлагает свои решения, не затрудняясь обоснованными доказательствами.
Проникнув в документальную прозу, он породил, например, псевдонаучную книгу Эриха Денникена «Воспоминания о будущем»— о связи земной цивилизации с инопланетными. Вне рубрики научной фантастики, к которой принадлежит, скажем, роман Робера Мерля «Разумное животное», появились труды о мыслящих
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
in 1
дельфинах. Мы уже не говорим о «снежном человеке» или чудовище озера Лох-Несс. Но все это — присказка, так сказать, побочный кич, хотя и весьма распространенный. Беллетристика же занята кичевой обработкой не столько сенсаций дня, сколько сенсаций эпохи.
С началом освоения околоземного и космического пространства тут же появилась фантастика, которую по справедливости следует назвать сексуальной. Все те эротические штучки, которые герои кича проделывали на Земле, теперь проделываются в межпланетных и межзвездных кораблях, а то и в далеких мирах, с привлечением дпя остроты ощущений их чудовищных обитателей.
Одновременно освоение новой техники велось и на Земле. Нырнули в пучины океана таинственные субмарины, поднялись в стратосферу сверхзвуковые самолеты, заработала электронная автоматика. И на этом архисовременном фоне проходил все тот же сравнительный анализ дамских бюстов, мужчины не теряли своей звериной потенции ни под водой, ни над облаками, а брильянты только выигрывали в блеске возле пультов электронно-вычислительных машин. Вот, собственно, и все, что касается внедрения новой техники в кичевый роман. С наукой же дело посложнее. Чтобы понять это, стоит снова обратиться к «Машине любви».
Исследование Зигмундом Фрейдом сферы подсознательного, выводы, к которым он пришел, оказали и продолжают оказывать сильное влияние на западную литературу и искусство. Его концепция, согласно которой вся психическая деятельность человека уходит корнями в подсознательное и нерасторжимо связана с сексуальными инстинктами, множество раз находила прямое или опосредованное художественное воплощение в романах, фильмах, пьесах. Для кича же она стала поистине драгоценной находкой.
Кичевые литераторы, разумеется, не вдаются в тонкости теоретических построений австрийского ученого, это могло бь> запутать и их самих, и тем более читателей. Они создали свой, усеченный и упрощенный вариант фрейдистского учения, предназначенный для широкого пользования, выбрав несколько ударных
е Н КАРЦЕВА. КИЧ. ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
моментов, связанных с мотивированием поведения. Образованная ими грубая схема объясняет любые человеческие поступки, вернее, подгоняет их под себя. И тайна старого бульварного романа получила мнимозначительную научную подкладку.
Как вы думаете, почему Робин Стоун, этот неутомимый герой постели (машина любви!), не может проникнуться ни к одной из женщин истинным чувством? Почему — помните? — в пароксизме страсти он отождествляет свою партнершу с матерью, да еще переходя при этом на немецкий язык? Почему, наконец, неплохо развлекшись с умелой профессионалкой, он внезапно избивает ее до полусмерти? Все это загадочно и до поры до времени необъяснимо. И вот тут-то по канонам старого кича в игру должен вступить какой-нибудь друг молодости отца героя, только что прибывший из дальних стран, или раскаявшийся злодей, или припертый к стене преступник, вступить и раскрыть тайну. Но сейчас — век науки! И всех этих персонажей заменяет присяжный психоаналитик.
Стоун отправляется к нему, и после сеанса гипноза выясняется, что разгадка всех странностей, в том числе и внезапной вспышки ярости, кроется в забытых, ушедших в подсознание воспоминаниях детства. Оказывается, он не родной сын богатой миссис Стоун, а приемыш. Настоящая его мать была, во-первых, немкой и, во-вторых, проституткой. Ее убил какой-то клиент, и, когда явилась полиция, на груди трупа был обнаружен спящий четырехлетний ребенок: он, Робин, которого тогда звали Конрадом. Вот видите, как все сложно, мудрено и в то же время как все просто, понятно.
Фрейд окарикатурен. Но читатель этого не замечает, он не углублялся в его труды. А согласно популярным брошюрам, как будто бы все в порядке. Зарождение сексуального чувства у ребенка связано с его влечением к матери? Связано. Дает ли впоследствии обладание женщиной выход подавленным желаниям? Дает. Вот вам и немецкий шепот про маму. Тут еще примешивается Эдипов комплекс, суть которого, правда, в сложном переплетении инстинктивных чувств любви и ненависти к отцу, но трактовку можно и изменить. Пусть Робин подсознательно любит и ненавидит
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
10 5
всю жизнь мать, избравшую себе такую дурную профессию, И отсюда два следствия: кажущаяся беспричинной агрессивность (избиение проститутки) и неспособность к глубоким привязанностям. Но это излечимо, и финальная телеграмма Мэгги «Ты нужна мне» доказывает, что исцеление совершилось. Вот какие сюжеты дают причуды подсознания, если стричь научную теорию с той же бездумностью, с которой стригут новобранцев.
Литературный кич, включив примитиаизированное фрейдистское учение в свою эстетическую систему, превратил его в мощную опору сюжетосложения. Когда читаешь романы, подобные «Машине любви», невольно вспоминается одна из историй бравого солдата Швейка, рассказанная им в арестантском бараке.
Спасаясь от обвинения в дезертирстве, герой этого повествования «начал из себя корчить человека с тяжелой наследственностью и на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать... Отец его был алкоголиком и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения; мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки, младшая сестра утопилась, старшая кинулась под поезд, брат бросился с вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и... перерезал себе куском стекла сонную артерию; двоюродная сестра с отцовской стороны выпрыгнула в Вене из окна шестого этажа. За его воспитанием никто не следил, и до десяти лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было шесть месяцев и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола и он, падая, ударился головой... Человек пять солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке:
Отец — алкоголик. Мать — проститутка.
1. Сестра (утопилась).
2. Сестра (поезд).
104
Е Н КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕС1ВО ПОШЛОСТИ
3. Брат (с моста).
4. Дедушка, жену, керосин, поджег.
5. Бабушка (цыгане, спички) и т. д.»'.
Представляется, что схожей шпаргалкой, только составленной по «Фрейду для бедных», кичевый роман пользуется постоянно. Она дает возможность не заботиться о точности психологического анализа, переступать любые границы — достоверности, здравого смысла, художественно оправданного эротизма, ибо все можно свалить на Эдипов комплекс, наследственные фобии и т. п. Читатель легко это проглотит: с наукой не спорят!
Вот, в частности, почему кич, освободившись от необходимости подлинно психологического анализа, нащупав безотказный прием для объяснения любых тайн и несообразностей, превратил своих злодеев в персонажей, действующих под гипнозом какой-либо навязчивой идеи, в маньяков. Так, конечно, проще. Не нужно искать никаких весомых причин их поступков. А с маньяков много ли спросишь? Заметьте, например, что герою романов Яна Флеминга Джеймсу Бонду чаще всего приходится сталкиваться именно с ними. Таков Голдфингер, таковы доктор Но и Эрик Бломфилд.
Все способы организации повествования в кичевом романе — точно так же как и в старом бульварном романе — ведут к единственной действительно важной для него цели: альковному приключению. Правда, в отличие от своего предшественника, современный литературный кич значительно откровеннее, он переполнен уже совершенно безудержной, оголтелой сексуальностью. Но эта разница не кажется нам принципиальной. Логика развития темы, взятой изолированно, культивируемой в условиях литературной теплицы, неизбежно должна была привести к такому финалу. Кроме того, сыграли, очевидно, роль закономерности психологии восприятия, которые столь насмешливо и точно исследовал Анатоль Франс в «Острове пингвинов».
1 Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка.— Избранное в 2-х т., т. 1. М., 1958, с. 377-378.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Помните, пингвины, превратившись в людей, ходили обнаженными. Но однажды дьявол, вселившийся в монаха по имени Магис, подал коварный совет одеть их во имя соблюдения нравственности. Некую пингвинку облачили в тунику, и, едва она появилась в таком наряде, толпы мужчин бросились вслед за ней. «Полюбуйтесь,— воскликнул Магис,— как все они шагают за ней, нацелившись носами в сферический центр сей молодой особы — а все оттого, что он прикрыт розовой тканью... Несомненно, стыдливость делает женщин непреодолимо заманчивыми» ’. Любопытно, что Юрий Тынянов, говоря об эротике мещанина (в уже цитированном нами отрывке из записной книжки), замечает: для него достаточно «обнажить уголок между чулком и симметричными кружевами, приткнуть, чтобы не было дыхания, и наслаждаться частью женщины, а не женщиной» 1 2.
Но этот этап прошел, потаенный эротизм исчерпал себя, и пришлось прибегнуть к возбудительному средству, прямо противоположному тому, которое применил брат Магис, но основанному на том же психологическом феномене. (Кстати, не связана ли с этим мода-мини и мода-макси?)
Итак, сегодняшняя западная литература раздела своих героев и поставила возле их постелей резкие дуговые лампы, не оставляющие места тени. Но, повторяем, если истинные писатели, прибегая к откровенному эротизму, всерьез исследуют таким способом нравственное состояние общества, психологию современного человека, то кичевые романисты подают эротику как аттракцион. И именно это делает их произведения аморальными.
Вообще аттракционность, трактуемая как самодовлеющий прием, составляет сущность кичевой эстетики.
Аттракционы есть покрупнее и помельче, для мужчин и для дам. Жаклин Сюзан, например, хорошо знавшая своих читательниц, не скупилась на страницы, когда приводила одну из героинь
1 Фраке А. Остро* пингвинов.— Собр, соч. в 8-ми т., т. 6, М,( 1959, с. 49,
2 Тынянов Ю. Из записных книжек.— «Нов. мир», 1966, № 8, с. 127.
tM
E. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
романа, стареющую Джудит, сначала в парикмахерскую, а затем в косметический кабинет. Она скрупулезно описывала все стадии преображения: окраску и укладку волос, тонкости маникюра, операцию по омоложению увядшего бюста, процесс подтягивания кожи на лице. Это уже не изящная словесность, а технологическая инструкция, лишь формально связанная с сюжетом. Но как упоительно, очевидно, для тех, кому адресована книга, это перечисление парикмахерско-медицинских подробностей.
Конечно, каждой женщине хочется как можно дольше оставаться молодой. Но при чем здесь беллетристика? Однако выясняется,^ что для кичмена, как говорится, «очень даже при чем». Ничего^ другого он от нее и не требует. И поэтому получает уже в другом^ романе — «Бетси»—еще один косметический аттракцион, на этот раз мужской: стареющему гонщику Анжело Перино делают новое лицо. И так до бесконечности.
Испытанный ход в системе кичевых аттракционов — использо-] вание в завуалированной форме различных сенсационных историй,] происшедших в действительности и запавших в память читателю.] Этим достигается двойная цель. Их появление в романе как бы j косвенно свидетельствует о том, что и все остальное вполне до-i стоверно, они маскируют мнимую реальность ситуаций и характе- ? ров. А кроме того, эта цепь прозрачных намеков, приправленных малоизвестными или вымышленными пикантными деталями, удовлетворяет извечную тягу мещанина к бесстыдному разглядыванию изнанки чужих жизней. j
У того же Гарольда Роббинса есть роман «Куда ушла любовь?», в котором использованы перипетии скандала, прогремевшего в конце 50-х годов на всю Америку и связанного с убийством любовника кинозвезды Ланы Тернер гангстера Джонни Стомпанопото ее четырнадцатилетней дочерью. Имена, разумеется, изменены, но не узнать участников этого дела невозможно. Оно обросло столькими слухами, сплетнями и сенсационными догадками, что Роббинсу без труда удалось построить на нем сексуальную спекуляцию. Романист превратил гангстера в любовника и матери и дочери.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
IG7
Девочка будто бы хотела зарезать мать из ревности, и удар ножом он получил лишь после того, как стал на защиту старшей подруги. Все это было замешено на огрубленных и оглупленных фрейдистских дрожжах, и в результате читатель получил любимое и привычное блюдо, лишь слегка приправленное документальностью.
Этой же специей сдабривала свои романы и Жаклин Сюзан. То она выдавала замуж сестру героини за иностранного принца, что сразу же напоминало о нашумевшем бракосочетании актрисы Грейс Келли с главой карточного государства Монако, то заставляла уже знакомую нам по «Машине любви» Мэгги быть разительно похожей на «звезду» телеэкрана Люсиль Болл.
Полтора десятка лет эта актриса была главной героиней серии передач, в каждой из которых рассказывалось о каком-либо эпизоде из ее жизни. Когда Люсиль Болл забеременела, то и это стало очередным телевизионным сюжетом. Затем она родила и появлялась на экране уже как нежная мать, причем история с беременностью и родами повторялась дважды. Ей все шло на пользу, даже развод с мужем, продюсером серии. Теперь она представала в роли милой скромной женщины, целиком посвятившей себя воспитанию милых крошек. Крошки тем временем подросли и превратились в полноправных партнеров предприимчивой актрисы, сумевшей сделать из своей биографии доходное шоу.
Завязка этой истории приведена в романе без каких-либо существенных изменений. Мэгги—телеактриса, муж — продюсер, руководящий серией точно таких же передач с ее участием. А дальше развертывается мелодрама в кичевом духе, приводящая Мэгги, подобно Люсиль, к разводу. Продюсеру нужен ребенок. Однако выясняется, что у него не может быть детей. Тогда он предлагает Мэгги имитировать беременность, показаться в интересном положении телезрителям и уехать в Европу, а там взять на воспитание ребенка. Мэгги же, не подозревая, что муж стерилен, заявляет о своей беременности. Тот в ярости сбрасывает ее с лестницы. Здесь автор переходит на язык «рубленой прозы»: «Она лежала на нижней площадке. Хадсон смотрел на ее ноги. Она по
W8 Eh КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
чувствовала первые приступы боли и схватилась за живот. Она почувствовала, что кровь течет по ногам. Затем он ударил ее по лицу. «Ты, грязная сука,— из тебя вытек миллион долларов»’.
Заканчивается все это, по аналогии с историей Люсиль Болл, бракоразводным процессом. Как не проглотить приманку и не поверить безоглядно во все события романа? Но обратите внимание на цитату. Не видится ли вам нечто знакомое в этих коротких, отрывочных фразах, в этой телеграфности стиля? Не напоминает ли это вам манеру Эрнеста Хемингуэя, его ритмику, только перенятую поверхностно, механически, отчего весь отрывок обретает некий пародийный оттенок? Конечно, автор писал всерьез, но такова уж судьба всякого неумелого подражательства.
Язык и стиль кичевого романа вообще лишены самостоятельности. Это прямое следствие вторичности его поэтики, являющейся отражением в кривом зеркале поэтики серьезной литературы самых разных направлений. Это даже не эклектизм, а нечто напоминающее обезьянью любовь в сравнении с человеческой. В свое время Ильф и Петров употребили эту метафору, говоря о голливудской массовой продукции. Но она представляется нам столь же правомерной и при анализе кичевого романа.
Чем только он не пользуется! Поток сознания, внутренний монолог? Пожалуйста. Есть Джойс и Пруст, есть психологическая проза 60-х годов, но рядом с этим — пошлые потуги Микки Спилейна в «Охотниках за девушкой». Весь этот роман прослоен многозначительным курсиво/л, обозначающим «поток сознания» героя, частного детектива Майка Хэммера. Вот образцы: «Снова это имя... Я жил с ним ежедневно, оно все время было со мной. Большое, похожее на валькирию, с волосами, черными как ночь». Или: «Он был прав. Это было очень давно. Но это могло быть вчера. Я мог представить себе ее лицо, золотой оттенок загара, невероятную белизну ее волос и глаза, которые могли попробовать и проглотить
/. 1 нс Love Machine, р. 2.'Л
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
109
вас одним взглядом. Да, Шарлотта всё еще была здесь. Но мертвая» ’.
Не менее экспрессивно текут мысли и в голове старого Лорена из романа «Бетси». Курсива здесь, правда, нет, но форма выдержана. Он разглядывает, скажем, свою будущую сноху, и автор тут же передает его впечатления и размышления: «Она была девушкой солидной комплекции, хотя и казалась костлявой, что модно у нынешних девиц. У нее был большой бюст и широкие бедра, не худеющие ни при какой диете. Вероятно, она примет все, что сможет предложить муж, и потребует еще. Он надеялся, что сын окажется достаточно мужчиной, чтобы удовлетворить ее» 2.
Убогость преломления кичем модного литературного приема настолько самоочевидна, что не нуждается в комментировании. Но все-таки наиболее свободно современные бульварные писатели чувствуют себя там, где они полностью оказываются в собственной стилистической стихии. Претенциозность изложения и выспренность языка бьют здесь через край. Особенно в любовных сценах. Тот ряд цитат, который мы собираемся привести, возможно, несколько утомителен, ибо однообразен, но как раз неотличимость манеры письма одного автора от манеры письма другого и служит наиболее убедительным доказательством безликости и непроходимой пошлости любого кичевого романа.
Начнем с «Анжелики»: «Закрыв глаза, она блаженствовала в этом долгом, страстном поцелуе, понимая, что час ее поражения близок. Да, трепетно дрожащая, еще немного строптивая, но уже покоренная, она скоро придет, как приходили другие, в объятия этого загадочного человека» 3.
«Охотники за девушкой»: «Мы были гурманами. Тело насытилось, но душа знала, что это лишь минутное насыщение и что будут еще трапезы, отличные друг от друга, каждая последующая более
‘ SpiHane М. The Girl Hunters. N. Y , 1963. p. 26, 37.
Robbins H. The Betsy. N. Y., 1971. p. 142.
1 Голон Анн и Серж Анжелика, с. 270.
КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
изысканная, чем предыдущая, в этом нескончаемом процессе наслаждения. Банкет был окончен, мы поцеловались и улыбнулись друг другу. Ни один из нас не был хозяином этого банкета. Скорее, мы были хозяином и хозяйкой» *.
«Машина любви»: «Времена года сменяли Друг друга. Ранняя весна принесла в ее жизнь Робина. К лету их отношения превратились в сплошной восторг. Он уезжал на съезды в Лос-Анджелес и Чикаго, и каждый раз, когда он возвращался, она желала его больше и больше. Ее любовь к Робину не знала предела. Она росла и росла до какой-то лихорадочной бесконечности» 1 2.
Финал «Бетси»: «Она обхватила мое лицо руками. Ее глаза стали большими и темными... «Я люблю тебя». Я помолчал минутуг потом ответил: «И я люблю тебя». Потом мы поцеловались. Она была права. Нам не нужен был проигрыватель. Мы оба слышали музыку» 3.
Здесь мы снова должны вернуться к старому литературному кичу. Ни модничанье в духе времени, ни заимствованные и искаженные почти до полной неузнаваемости приемы мастеров, ни безоглядный эротизм нынешнего бульварного романа не могут скрыть его корней. Все эти страстные поцелуи, трепетно дрожащие перед утратой девственности невесты, большие темные глаза, сплошные восторги, лихорадочная бесконечность любви, не говоря уже об именах, похожих на валькирий, то есть все штамповочное хозяйство, набор банальностей, комплекс стилистических приемов и застывших языковых оборотов приняты нынешним кичевым романом как свое, родное, кровное.
Одно из важных следствий этой верности традиции, важных не только для читателя, но и для понимания этико-эстетических канонов кичевой литературы,— неизбежно благополучный финал. Действие обязательно должно завершаться так, чтобы читатель, закрыв
1 Spillane М. The Girl Hunters, р. 97.
1 Susan J. The Love Machine, p. 67.
3 Robbins 11. The Betsy, p. 502.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК П1
книгу, не испытывал душевного дискомфорта. В крайнем случае он может пролить слезу умиления, слезу облегчительную, полезную для здоровья и поддержания хорошего настроения.
Жизнь многообразна, и счастливые концовки драматических историй не так уж редки, а следовательно, на них имеет право и литература. Но когда любая, даже самая безнадежная ситуация непременно разрешается ко всеобщему удовольствию, это несет опасность неразвитому сознанию. В нем крепнет ощущение непод-крепленного реалиями ложного оптимизма, который становится главным постулатом житейской и социальной философии. Все то ужасное, мерзкое, грязное, что происходит вокруг и не может не замечаться, рассматривается сквозь призму утешительной философии как случайное, не имеющее существенного значения.
Само собой разумеется, такой ложный оптимизм несет не один лишь кичевый роман, а вся система конформистского искусства и конформистской литературы, к которой он принадлежит. Благополучные финалы — лишь один из ее знаков, хотя и немаловажный. 'Стоит еще раз всмотреться в этические концепции уже знакомых .нам романов, наиболее внятно выраженные в финалах, и мы за--метим, что они не столь уж безобидны. Не рвись к власти, убеждает читателя Жаклин Сюзан, это приносит одни неприятности. Занимайся только своим делом, и ты будешь счастлив. А Гарольд Роббинс просто агрессивен. После того как все переспали со всеми и распавшаяся семья чудесным образом объединилась, старый распутник Лорен I неожиданно превращается в яростного патриота. Он заявляет: «Бетси» — американская машина, и она будет построена здесь. Вся. Я не собираюсь пресмыкаться перед проклятыми иностранцами, чтобы они помогли нам сделать то, чему мы их научили» '. Сразу убиты два зайца: и кончилось все хорошо, и выводы нужные сделаны.
Итак, мы рассмотрели почти все основные особенности кичевого романа, Специфика его эстетики, суть которой — пошлость, ду-
1 Robbins Н. The Betsy, р. 388.
Е н КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
мается, достаточно очевидна. Но где же типы, характеры? Что за люди предстают перед нами, чем они отличаются друг от друга? Ответить на эти простые вопросы оказывается необычайно трудно, ибо все персонажи в равной мере подпадают под определение, которое еще полвека назад дал Карел Чапек в блестящем эссе «Последний эпос, или Роман для прислуги».
Персонаж бульварного романа, писал он, «безразлично, мужского или женского пола, как правило, поразительно совершенен в том смысле, в каком совершенна, скажем, универсальная гипсовая модель носа или универсальный тростниковый манекен у портних. То есть он не только не наделен слишком крупным носом или выступающей лопаткой, но и его внутренний мир свободен от какого бы то ни было своеобразия и индивидуальных черт. Будь у него массивный нос, он был бы уже образом ростановским и относился бы к разряду высшей поэзии. Будь он заядлым рыболовом или заикой, неутомимым исследователем инфузорий, приверженцем фуксий или слабительного, он в мгновение ока оказался бы героем другого литературного жанра, далекого от того, который мы рассматриваем. Нашему же герою если и разрешается какое-либо увлечение, то лишь охота и верховая езда, составлявшие некогда рыцарские доблести»
На первый взгляд может показаться, что к современному литературному кичу чапековские формулировки не применимы. Ведь его герои в большинстве своем люди дела: журналист, промышленник, актриса, детектив, манекенщица. А кроме того, по воле авторов каждый из них обладает какими-то отличительными свойствами: у одной — слишком маленькая грудь, что беспрестанно ее мучает, другой — весь во власти фрейдистских комплексов, третий — любит мальчиков.
Однако мы уже успели убедиться, что все это — и работа, и комплексы, и вообще любые вещи, которые, казалось бы, позволяют хоть мало-мальски индивидуализировать персонажей,— не
Чепек К. Об искусстве. Л., 1969, с. 191.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
более чем призрачные вехи. По ним нельзя ориентироваться они расставлены в расчете на наивную веру кичмена в реальность происходящего. Поэтому единственное, что стоит изменить у Чапека в соответствии с сегодняшним кичевым романом, это классификацию рыцарских доблестей: вместо охоты и верховой езды — неутомимость и изощренность в любви. Да и то в выборе способов половых сношений и патологических причуд сказывается прежде всего индивидуальность авторов, а не их героев, остающихся все теми же «универсальными тростниковыми манекенами».
Не удивительно, что нельзя представить себе зримо ни одного персонажа. Попробуйте установить, как выглядит Стоун. В лучшем случае вы наткнетесь на фразу вроде следующей: «Он мог бы выиграть войну лишь с помощью своей улыбки» \ И это все. В других же случаях дело сводится к проверенным штампам: у Анжелики «зеленые глаза», «копна золотистых волос», «чуть смуглая кожа». А то и совсем просто: «после операции его лицо стало молодым и красивым» («Бетси»).
Мастерство словесного портрета, столь развитое в классической литературе, сохранилось и в литературе современной. И умение живописать словом есть лишь средство для создания того, что в старину называлось физиогномическим этюдом. Чаще всего такой этюд не требует тщательной прорисовки. Портрет складывается из наиболее выразительных, характеристичных деталей. Хрестоматийный пример — хрящеватые уши Каренина, подпиравшие поля круглой шляпы. Или россыпь штрихов, намечающих контуры облика Стивы Облонского на первых же двенадцати страницах романа. Здесь каждое мимолетное замечание, оброненное Толстым по поводу его внешности,— и выхоленное лицо, и длинные кудрявые бакенбарды на розовых щеках, и «широкий грудной ящик», и походка («привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его пспное тело, подошел к окну...»2) — Дает возмож-
Susan /. The Love Machine, p. 29.
Толстой Л. Н. Анна Каренина.— Собр соч. в 12-ги г., т. 3. М . 1958, с
10
114 Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ность постепенно все глубже и глубже познавать натуру этого человека, его образ жизни и круг привычек. А образцы портрета, данные уже в наше время писателем совсем иной литературной школы, иной культуры,— Эрнестом Хемингуэем? Всего несколько фраз — но каких точных и емких! — понадобилось ему, чтобы представить читателю гангстера по имени Эл из рассказа «Убийцы»: «На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне»
Но портрет возникает лишь тогда, когда есть характер. И не потому мы не находим его в литературном киче, что авторы романов не в состоянии с этим справиться. Даже их более чем скромные дарования позволили бы кое-чего добиться. Но это не нужно ни им, ни читателям, ибо внешность героя кичевого романа, равно как и других персонажей, заранее обусловлена стандартом, исключающим связанную с ней в серьезной литературе психологическую характеристику.
Эта заданность героя ведет к переключению внимания на его одежду и вещи, причем обязательно дорогие и самые модные. Здесь тоже стандарт, но уже такого рода, который каждый раз требует описания одного и того же заново, потому что кичмену это нравится.
Если же автор все-таки решает создать портрет, то появляются «шаловливые глаза», «белокурые локоны», «твердый волевой подбородок», «чувственный рот», то есть штампы, за которыми ничего не стоит, стершиеся словесные клише.
Отсутствие оригинального характера, хотя бы мало-мальски разработанной всерьез структуры душевной организации, работы ума авторы кича пытаются возместить либо чисто назывательно («талантливый журналист», «блестящая актриса», «выдающийся детектив»), либо иными доблестями: любовной неутомимостью, незаурядной силой и ловкостью, отчаянной храбростью, которая, кста-
Хемиигуэй Э. Собр. соч. в 4-х т., т. 1. М., 1968, с. 190.
ЗЕЛЁНЫЙ КРОЛИК
115
ти, ничего не стоит, ибо заранее известно, что герой погибнуть не может,
Но возникает любопытный парадокс: чем большим числом достоинств наделяются главные персонажи, тем явственнее обозначается их ординарность. Происходит это из-за полной неподтвер-жденности приписанных им свойств личности, бьющей в глаза банальности их суждений и разговоров, провозглашения тех идеалов счастья и благополучия, которые могут удовлетворить лишь мещанина. А одних только подвигов в будуарах, драках и перестрелках маловато, чтобы выбиться из разряда «тростниковых манекенов». Вот почему герой кичевого романа знаменует собой триумф посредственности. И дорог он кичмену именно тем, что при всех недостижимых для него физических качествах, при недоступности социального статуса герой находится с ним на одинаковом уровне постижения и понимания жизни.
Литературный кич существует не в безвоздушном пространстве. Он составляет с серьезной литературой как бы две взаимопроникающие сферы. Причем речь идет не только о подражании, обезьянничании бульварного романа или обратном его влиянии, но и о во многом общей читательской аудитории. Тиражи — весьма значительные— Толстого и Хемингуэя поглощаются самой разнокалиберной средой точно так же, как романы Сюзан или Роббинса. Суть в восприятии.
Квалифицированный читатель вряд ли испытает пиетет перед «Машиной любви». А кичмен, с пиететом осваивая «Анну Каренину», тем не менее увидит в ней лишь занимательную историю адюльтера, а все остальное просто пройдет мимо его внимания. И обсуждать в кругу семьи или со знакомыми он будет именно ее и ничто другое. В этом обсуждении превратятся в посредственностей и сама Анна, и Вронский, и все остальные. О них будут говорить так же, как о Робине Стоуне и Мэгги. Вот почему глазным образом страшны литературный кич и его постоянный потребитель.
КОНВЕЙЕР СУРРОГАТОВ
Н6
Переходя от литературы к кинематографу, мы хотим не столько подтвердить уже обнаруженные эстетические принципы кича новым материалом, хотя, конечно, они остаются теми же и для экрана, сколько пополнить этот реестр пошлости, включив в него те закономерности, которые наиболее явственно видны именно благодаря специфике кино. И прежде всего перед нами на карте кича возникает такая обширная область его деятельности, как приспособление для своих нужд настоящей литературы. Перебирая примеры экранизаций, мы в конце концов решили остановиться на той, которая хорошо знакома нашим читателям и зрителям. Таким образом, они легко могут сопоставить наши выводы с собственными.
В 1936 году Эрнест Хемингуэй написал «Снега Килиманджаро». Через шестнадцать лет этот рассказ экранизировал американский режиссер Генри Кинг, а еще через пятнадцать лет фильм несколько неожиданно появился в советском прокате. Вспомним эпиграф, предпосланный рассказу: «Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгейэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может» ’.
Это — камертон, по которому настроена вся сложная, зашифрованная образность рассказа, столь простого и ясного по композиции. В нем минимум событий, и прямое его действие укладывается менее чем в сутки. Охотясь в африканской саванне, писатель Гарри Стрит оцарапал ногу, не прижег ее йодом вовремя, и мы застаем его умирающим от гангрены. Несколько разговоров с женой, несколько воспоминаний и неслышная смерть перед рассветом — вот, собственно, и весь событийный ряд.
Однако, как почти всегда у Хемингуэя, эти полтора десятка страниц оказываются необычайно емкими. В них — итог жизни та-
Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х т., т. 1, с. 436.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
лантливого человека, так и не сумевшего добраться, подобно бесстрашному леопарду, к «Дому бога». Духовная атмосфера рассказа настолько тесно связана с мучительным нравственным состоянием самого Хемингуэя, с тем творческим кризисом, который обрушился на него в середине 30-х годов, что без знания этого многое в подтексте остается закрытым. Как и Гарри Стрит, он был в то время мужем богатой женщины, и эта обеспеченность, полная комфортабельность жизни, не понуждающей к труду, многократно усиливала мрачность тогдашнего его мироощущения.
Ею окрашен весь рассказ. Кроме того, он полон закодированных ассоциаций. Герой неожиданно может сказать жене о смерти: «Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом. С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах...»
По замечанию Ивана Кашкина, здесь оживает «впечатление времен первой мировой войны—там «тененте» Генри видит, как вдоль парапета по мосту с неестественной быстротой скользят головы в касках — это проезжает колонна немецких самокатчиков, и встреча с ними означает для него смерть»1 2. Гарри Стрит как бы отождествляется с персонажем романа «Прощай, оружие?», не менее автобиографичного, чем «Снега Килиманджаро».
Это Хемингуэй безнадежно размышляет о себе: «Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере он не потерпит неудачи». Это он казнит себя и не верит в восстановление творческой потенции: «Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но, вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать» 3.
1 Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х г., г. 1, с. 459.
: Кешкин И. Вступительная статья.— Хемингуэй Э. Иэбр. произв. в 2-х т. т. I. М., 1959, с. 27.
3 Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х т., т. 1, с. 439 445.
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Это он, близко друживший в 20-е годы со Скоттом Фицджеральдом, заставил Гарри вспомнить о нем в рассуждении о богатых: «...скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные, и все на один лад». А «бедняга Скотт Фицджеральд» восторженно благоговел перед ними и «написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и, когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое» 1.
Беспощадное обнажение собственной души, трагическая откровенность зашедшего в тупик человека, которые составляют суть рассказа, тем не менее не дают права говорить о полной тождественности Эрнеста Хемингуэя и Гарри Стрита. «Снега Килиманджаро» все-таки не только исповедь автора, но и художественное произведение, многими своими чертами отчужденное от него. Это и взгляд на себя со стороны, и самостоятельность героя, остающегося яркой драматической фигурой, даже если не знать подробно-, стей биографии автора.
Тем более что самим Хемингуэем кризис был преодолен, и он создал еще немало прекрасных книг. Однако отсвет его трагических раздумий о себе придает всему рассказу такую трепетность истинного страдания, что обращение с ним требует сугубой осторожности и деликатности.
Переложение литературного произведения на язык кино обычно бывает связано с некоторыми неизбежными потерями. Есть вещи непереводимые или же звучащие в переводе как подстрочник. Даже самым крупным мастерам мирового экрана не удавалось создать фильм, полностью идентичный роману, повести или рассказу. Это аксиома. Но, неся потери в одном, они с лихвой компенсировали их умелым пользованием теми многообразными возмож
Хвмиигуэй Э. Собр. соч. в 4-х т., у. 1, с. 457.
ЗЕЛЕНЫЙ кролик
1(9
ностями экрана, которые недоступны литературе. К тому же любой фильм требует непрестанности чисто физических действий, постоянного внутрикадрового движения, замены описания динамичной визуализацией, поиска зримых образов, воплощающих строй мыслей героев. Это тоже общеизвестно.
Приступая к картине Генри Кинга, мы менее всего склонны заниматься скрупулезным сопоставлением последовательности событий, мест действия, проходных, носящих подсобный характер эпизодов и обстоятельств. Это занятие бесплодное. Оно может привести лишь к ничего не дающим выводам о том, что, если в фильме сделано иначе, чем в книге,— значит, режиссер не сумел повторить писателя и экранизация не удалась. Суть, конечно, не в этом, а в достижении или утрате того эмоционального, интеллектуального и художественного уровня, на котором находится книга. За скобки разговора, естественно, выносятся фильмы, переплавляющие посредственную литературу в высокое искусство.
Но Генри Кинг обратился к современной классике. И проделал с ней все операции, требуемые эстетикой кича. Прежде всего он локализовал тему. В его интерпретации «Снега Килиманджаро» — не более чем занимательная своей драматичностью охотничья история, дающая, кроме того, повод воспроизвести столь же занимательные воспоминания умирающего героя. Осталось лишь несколько реплик, призванных изредка напомнить зрителю о неких душевных муках, испытываемых смертельно больным писателем. Но они играют точно такую же роль, как работа Робина Стоуна на телевидении. Почему страдает Гарри Стрит, понять из фильма, не прочтя рассказа, нельзя. Да и вообще его профессия, подобно журналистским занятиям героя «Машины любви», не имеет никакого значения. Он мог бы быть кем угодно, ибо главное — пестрота его приключений. Уже одним этим экранизация обессмысливается и низводится до уровня банальности.
Не предложив зрительного эквивалента напряженному внутреннему монологу Стрита, режиссер подменил его обилием экранных событий. Для этого он воспользовался воспоминаниями Гарри, том
120
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
нее, не столько ими самими, сколько приемом, благодаря которому Хемингуэй развивал и углублял размышления героя. В рассказе каждая ретроспекция—это акт покаяния: Гарри мог, должен был написать об этом, но так и не собрался. Воспоминания связаны преимущественно с эпизодами первой мировой войны, ощущаемой им как бессмысленное массовое убийство, и, какой бы произвольный скачок ни совершали вдруг его мысли (парижский отель, ловля форели в Шварцвальде, что-то еще — сугубо мирное), они неизбежно возвращались все к тому же—ужасу взаимного уничтожения, случайной и не оправданной ничем смерти.
Все это в фильм не вошло. Зато несколько строк, посвященных послевоенному Парижу, разрослись в обширнейший эпизод, в котором герой красиво прожигает жизнь. Можно было бы понять и это, если бы в этих сценах нам дано было почувствовать все ту же бесплодную попытку залечить душевные раны, нанесенные войной. Однако, сколько ни вглядывайся в экран, сколько ни вслушивайся в безликие реплики персонажей, такой попытки не обнаружишь.
Вторая капитальная ретроспекция переносит зрителей в Испанию и посвящена корриде. В рассказе этого нет вообще. Но не в том беда, что привлечен дополнительный материал, тем более такой, к которому сам Хемингуэй обращался не раз. Иван Кашкин пишет: «Изучая искусство боя быков, Хемингуэй, с одной стороны, указывает, что необходимое условие его — это «момент истины», то есть схватка один на один с быком, а кроме того, солнце, краски, атмосфера народного празднества. Но, с другой стороны, он отмечает, что привлекающий его бой быков чем дальше, тем больше становится чисто декоративным искусством, где все больше внимания уделяется приемам выполнения различных движений и все меньше — конечной цели. Он вынужден признать, что это «безусловно вырождающееся искусство, явление декаданса», которое не выдержало проверки временем» '.
1 Кешкин И. Вступительная статья.— Хемингуэй 3. Избр. произв. в 2-я т., т, 1, с 24.
зеленый кролик
121
Так вот все, что касается «другой стороны», то есть декоративности, экзотичности, зрелищности, представлено в фильме с наивоз-можной полнотой. И, наоборот, режиссера менее всего интересовало отыскание «момента истины», психологии поединка, того единоборства Человека со смертью, которое составляет одну из ведущих тем не только «Снегов Килиманджаро», но и всего творчества писателя.
Но наибольшее непонимание смысла экранизированного рассказа проявляется даже не здесь, а в третьей ретроспекции, где на экране возникает один из эпизодов гражданской войны в Испании. Для Хемингуэя участие в этой войне было не только внутренней потребностью, связанной с его ненавистью к фашизму, но и тем сильно действующим средством, которое помогло ему выйти из семилетнего творческого кризиса. А рассказ написан до того. И такое отождествление автора с героем абсолютно неправомерно. Оно полностью перечеркивает рассказ. •
Однако не сознательное ли это непонимание? Уже говорилось, что кич любит щегольнуть видимостью прогрессивности. И пусть повод для такого щегольства здесь сугубо формален, режиссер не преминул воспользоваться даже им, чтобы это придало его картине определенную политическую окраску, хотя и мнимую по существу. Это опять-таки та самая назывательность, которая столь популярна в кичевой литературе. Есть и еще один тайный резон введения этого эпизода. Участие Гарри в испанской войне, окончательно сводящее на нет проблематику рассказа, должно подспудно подготовить зрителя к той неожиданности, которая подстерегает его в фильме.
Американскому социологу Эрнесту ван ден Хаагу принадлежит очень точное наблюдение, связанное с анализом искусства того же разряда, что и фильм «Снега Килиманджаро». Его, писал он, отличают две постоянные черты: все должно быть предельно понятно, то есть сведено к простейшим истинам и эмоциям, и — все поправимо. Картина Генри Кинга неукоснительно следует этому правилу. В рассказе Гарри Стриту в предсмертном бреду представ-
Г H КАРЦЕВА КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ ляется, что за ним прилетел самолет, он поднимается все выше и выше, прорезает грозовую тучу... И тогда «там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь» '. Так пришла смерть. В фильме же, сложенном по правилам кича, герой умереть не может. Приземляется вполне реальный самолет, и Гарри Стрит отправляется на нем навстречу спасению, предварительно поцеловав жену.
Этот финальный поцелуй обрывает последнюю ниточку, которая еще связывала рассказ с картиной. Все всплески ненависти к жене, все попытки погасить их и, оправдав ее, обвинить себя, пришедшее, наконец, глубокое равнодушие выглядели бы инородными телами в одноклеточном организме этой ленты из класса простейших. И Гарри Стрит превратился в любящего мужа, как до того — в изначально состоятельного человека, никогда не испытывавшего нужды в деньгах. Такой герой не станет мучиться из-за того, что богатство будто бы разъедает душу, подрезает крылья таланту, ему ни к чему с иронией вспоминать о наивном заблуждении Скотта Фицджеральда. По фильму выходит, что богатые действительно «особая раса, окутанная дымкой таинственности». А если и не таинственности, то, во всяком случае, очарования. Генри Кинг с помощью актера Грегори Пека доказывает это всем строем своего повествования. Неизменная изысканность манер и костюмов, неизменная обаятельная улыбка, элегантное порхание от удовольствия к удовольствию — вот что предлагается нам взамен клочковатой, изломанной линии жизни и мучительных раздумий подлинного Гарри Стрита.
Все должно быть понятно. И сложная символика эпиграфа, этого ключа к сути рассказа, сводится к пейзажному кадру, в котором мы видим охотничий лагерь, разбитый у подножия заснеженной горы. Какие уж там вершины духа, «Дом бога», замерзший
’ Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х т., т. 1, с. 461.
ЗЕЛЁНЫЙ КРОЛИК
леопард, так и не достигший своей неведомой цели. Правда, текст эпиграфа включен в искусственно пристегнутое к сюжету завещание дяди героя. Но здесь он уже звучит просто как красивая фраза и ничего не объясняет.
Это не значит, что кич вовсе не склонен к символике. Наоборот, он частенько использует ее как косметическое средство для приукрашивания собственного лица. Только символика эта не должна требовать от зрителя никаких умственных усилий. Говорит же Гарри Стрит, что у смерти «широкий приплюснутый нос, как у гиены», и сама гиена скулит ночью у палатки. Вот и готовый символ. И на экране в натуральную величину появляется этот зверь, плотоядно принюхиваясь. А потом жена героя спугивает ее криком, гиена скрывается в чаще, и каждому ясно, что смерть изгнана и теперь все в полном порядке.
Итак, трагедия превращена в умеренно драматическую историю с благополучным концом, с экзотическими аттракционами: злачные места Парижа, коррида, африканская фауна. А многомерный герой низведен до уровня кичевой посредственности. Так зачем же тогда понадобился Хемингуэй? Для престижности? Не только.
Существует искусство, главная цель которого — развлечение, искусство необходимое и полезное. Но оно никогда не скрывает своих задач, не пытается выдать себя за что-то другое. Хорошая эксцентрическая комедия не претендует на лавры «Женитьбы Фигаро» или «Карьеры Артура Уи». Ее вполне устраивает добродушный смех зрителя, пусть бы только он раздавался чаще. Традиционный детективный фильм существует в ином измерении, чем «Преступление и наказание», и это вполне всех устраивает. Но кич по природе своей не может быть самим собой. Такая откровенность с головой выдаст его вторичность и опасную пустоту его содержания. И он все время притворяется — особенно на экране. Его защитный грим — мнимая значительность, жизнеподобие в мелочах, обманчивая актуальность. Вот почему так активно перерабатываются в суррогаты классическая литература и все мало-мальски серьезное, появляющееся сегодня.
н КАРЦЕВА кич, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
В свое время Голливуд не допустил Сергея Эйзенштейна к постановке «Американской трагедии», потому что режиссер вынес на первый план социальные мотивы этого многопланового и весьма неровного в художественном отношении романа Драйзера. А когда его затем дважды экранизировали, то в обоих случаях социальность фильмов стала назывательной и основным материалом послужили как раз те эпизоды, связанные с любовной историей Клайда Гриффитса, которые менее всего удались писателю. У нас эти фильмы не шли.
Зато советские зрители могли увидеть «Сестру Керри», одну из самых неудачных картин выдающегося мастера кино Уильяма Уайлера, поддавшегося в ней требованиям кинокича. Уже сам роман грешил банальным мелодраматизмом. Но все-таки в нем содержались элементы социального и психологического анализа путей к славе.
Однако для кичевого фильма и это оказалось слишком острым. И все поглотила шаблонная любовная схема, сквозь окостеневшие конструкции которой далеко не везде удалось пробиться даже такому актеру, как Лоренс Оливье, игравшему Герствуда. Сама же героиня была как бы транзитной пассажиркой, прибывшей из похожего соседнего фильма, проделавшей здесь то же самое, что и там, и отправившейся в следующую неотличимую ленту. Кстати, как вы помните, история экранной Керри, в отличие от романной, завершилась полным сценическим триумфом, без всякого намека на опустошенность души.
Таких примеров столь много, что это даже затрудняет выбор наиболее характерного. Ведь кич прибирает к рукам все без разбора. В серьезном искусстве, скажем, никто до Федерико Феллини не подступал к «Сатирикону» Петрония Арбитра. Этот язвительный античный роман, сохранившийся к тому же во фрагментах, казался, вероятно, и далеким от сегодняшних интересов и трудно пе-реложимым на язык экрана. И только могучий талант итальянского режиссера доказал его злободневность и кинематографичность. Немало творческой смелости потребовалось и от Марселя Карне,
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
125
когда он решил перенести действие романа Золя «Тереза Ракен» в современность. Но она оправдалась, ибо режиссеру удалось наглядно доказать созвучность эпох и психологических состояний лю-дей прошлого века и нашего. Кич не задумывается над такими проблемами. Главное для него — отыскать подходящую приманку. И тогда можно как угодно обращаться с классикой всех веков и народов.
Так появилась, например, киноверсия знаменитого романа аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». Французский режиссер Жан Орель назвал свой фильм в духе времени и моды «Манон-70». А сюжет его и характеры действующих лиц использовал целиком в духе кича. Никаких сложностей характеров, исполненных в романе противоречий и загадок, что и делает их притягательными для читателя, никакой всепоглощающей любви. Все очень просто. Встретились в токийском аэропорту репортер и манекенщица, оценивающе взглянули друг на друга, понимающе улыбнулись и вскоре же легли в постель. С этого момента именно она становится главной героиней. Справедливее было бы назвать этот фильм «Постель-70», ибо его персонажи почти не покидают главной и единственной арены своих действий.
Кавалер де Грие? «Что за неиссякаемый источник жертв, самоотверженности, всепрощения! — писал о нем Александр Дюма-сын в предисловии к роману.— Этот чудак становится неблагодарным сыном, вероломным другом, он мошенник, он убийца! Но ему все прощаешь: он любит... Он изменяет всем; Манон он не изменяет никогда» Но это у Прево. А у Ореля модернизированный кавалер, подобно Остапу Бендеру, свято чтит уголовный кодекс. Да и к чему все эти крайности, когда переспать с Манон и увести ее от другого не составляет никакого труда. Потеряв работу, он живет на ее счет и не отказывает себе в плотских удовольствиях. Иэмени-
1 Цит. по кн.: Преао А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. М., 1964, с. 245.
L II КАРЦЕВА, кич, или торжество пошлости
ла Манон — изменяет и он, что демонстрируется во всех подробностях.
Манон Леско? «Ни один женский образ,— восклицал Мопассан,— не был обрисован с такой тонкостью и полнотой, как этот; ни одна женщина не была столь женственна, не была до такой степени полна этой квинтэссенцией женского начала, столь влекущего, столь опасного, столь вероломного!» 1 Но это опять-таки у Прево, А героиня фильма Ореля неотличима от своих сестер по кинокичу. На ее месте вполне могла бы оказаться Аманда из «Машины любви», и ровным счетом ничего бы не изменилось. Профессия для нее выбрана такая, чтобы продемонстрировать максимальное количество туалетов (все тот же близкий сердцу кичмена вещный мир). И это, пожалуй, единственная отличительная ее черта. Поэтому нет трагедии любви, бури страстей, драматического финала. «Я решил похоронить ее, — исповедуется де Грие,—и ждать смерти на ее могильном холме» 2. Похоронить, смерть? Это не для кича. И репортер де Грие, очаровательный прихлебатель, чуть ли на сутенер, уводит манекенщицу Манон от очередного богатого американца. Теперь может последовать титр «Конец».
Это приведение любого литературного источника к единому знаменателю, полное его обезличивание, взаимозаменяемость персонажей из-за их неотличимости, вполне возможная и не требующая особого труда, и составляет суть эстетики кинокича. В практике Голливуда был случай, когда, чтобы сэкономить деньги, продюсер распорядился сразу с одними и теми же исполнителями снять эпизод конной погони для нескольких фильмов. И все сошло благополучно, никто ничего не заметил. Нам кажется, что кинокич, паразитирующий на высокой литературе, весьма недалеко ушел от этого метода.
В старой сказке Андерсена любопытный ученый, заинтригован
1 Молассам Ги де. Предисловие к изданию «Lovett».—Поли. собр. соч. в 13-ти т., т. 13. М., 1950, с. 231.
Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско, с. 213.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
ный таинственностью соседнего дома, отправляет туда свою тень. И она оказывается в передней Поэзии, долго не решаясь выйти из темного угла, потому что свет для нее смертелен. Она подсмотрела там кое-что, но употребила то, чему успела научиться, во зло, став шантажисткой. «Шли дни и годы,— рассказывает Андерсен,— вдруг тень опять явилась к ученому.
— Ну, как дела? — спросила она.
— Увы!—отвечал ученый.— Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии; меня это так огорчает!
— А вот меня нет! — сказала тень.— Поэтому я все толстею, а это самое главное! Да, не умеете вы жить на свете!» !
Мы не настаиваем на прямой аналогии. Хочется верить, что подлинное искусство сумеет постоять за себя лучше, чем добряк ученый, которого в конце концов казнили по приказу его тени. Но несомненно, что тень сейчас захватывает все больше и больше власти. Материализовавшись, она сделалась развязной и нахальной. Однако от главного своего качества — быть только искаженным отражением— ей избавиться не удается. Впрочем, она к этому и не стремится. Мы уже видели ту тень, которая, отразившись от большой литературы, воплотилась в киче. Рассмотрим теперь еще одно характерное явление: теневое размножение по образцу.
Эстетические правила здесь те же, что и при кичевой обработке литературной классики или современных книг: нивелировка сюжета, сведение многозначности смысла к тривиальности житейской прописи, замена сложного эмоционального ряда простейшими психофизическими актами — эротическим возбуждением, кратковременным нервным шоком, стимуляцией агрессивности. Разница же состоит в том, что кичевыи фильм здесь оказывается вторичным по отношению к фильму, завоевавшему успех, а не книге. Иначе говоря, происходит переиначивание визуального материала в такой же материал, но уже в кичевом исполнении. А это работа специ
1 Андерсен Г.-Х. Сказки и истории в 2-х т., т. 1, Л., 1969, с. 392.
6 н КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
фическая, и ее приемы отличаются от тех, что применяются при грабеже литературы.
В 30-е годы в Америке орудовала гангстерская банда Клайда Бэрроу, грабившая банки и совершившая восемнадцать убийств. А так как в американском кино издавна существует традиция воссоздания экранных биографий знаменитых бандитов, то не удивительно, что лет двадцать назад очередь дошла и до шайки Бэрроу. Это был рядовой фильм нескончаемой гангстерской серии, ни на что не претендовавший, кроме прикинутого заранее кассового сбора. Он прошел в прокате так же, как идут все картины подобного ранга, принес ожидаемый доход и канул в Лету.
Но через десять лет та же самая история, рассказанная с экрана режиссером Артуром Пенном, вызвала бурную реакцию зрителей и критики. Фильм «Бонни и Клайд» при всех ожесточенных спорах вокруг его концепции был признан не только выдающимся художественным достижением, но и произведением злободневным, остросоциальным. Он затронул одну из самых болезненных проблем последнего времени: конфликт между личностью и обществом, противоположность их стремлений. Гангстеризм рассматривался как одна из форм стихийного бунта индивидуальности против жесткой кодификации норм поведения, гнетущей нормативности социальной морали, различных способов подавления сознания и воли, приводящих ко всеобщей нивелировке.
По существу, Пенн убедительно иллюстрировал старую истину: насилие порождает насилие. Он отнюдь не романтизировал само преступление и не искал оправдания убийствам, а лишь взял для исследования проблемы крайнюю ситуацию, позволяющую прибегать к наиболее резким аргументам. Герои его фильма начинают чуть ли не с игры, в которой ими движет стремление выделиться из однородной массы, стать не такими, как все, жить не так, как все. Но они находят для этого тот путь, который только и был доступен их неразвитому сознанию,— нарушение закона. А дальше в дело вступила железная логика инерции: или продолжать, не считаясь с количеством жертв, или оказаться раздавленными.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
129
Мы оставляем в стороне детальный разбор фильма, ибо это лежит вне нашей темы Важно отметить лишь два обстоятельства: мастерскую реставрацию режиссером реалий ушедшей эпохи, точное воссоздание той тревожной социально-нравственной атмосферы, которая была характерна для страны в период великой экономической депрессии, и многомерность характеров главных персонажей, способных и на убийство и на трогательную любовь, совмещающих в себе жестокость и детски наивные романтические мечты и поступки.
Все это понадобилось Артуру Пенну для того, чтобы идея фильма обрела максимальную художественную убедительность. Благодаря этому тревоги двух эпох оказываются рационально и эмоционально сопоставимыми. А балладный строй повествования, элегическая мелодия, под которую оно ведется, жестче всего подчеркивают обреченность и нравственную несостоятельность такого способа бунта индивидуальности, который был избран Клайдом Бэрроу, Бонни Паркер и остальными.
Обманчивая простота формы этого фильма, необнаженность его идей, художественная и смысловая многослойность привели к разному пониманию рассказанного в нем, Для многих он остался гангстерской картиной с традиционным сюжетом, только сделанной лучше, чем остальные. Иных увлекла лирическая струя, те цветы любви, которые выросли на грязи и крови, а все остальное прошло мимо их внимания. И лишь меньшинство оценило творение Артура Пенна во всей его полноте и глубине.
Производители кича приняли во внимание всемирный успех фильма и реакцию на него большинства зрителей. Дополнительным доказательством того, что под этот образец следует подладиться, послужила довольно удачная судьба вышедшей вслед за «Бонни и Клайдом» картины Роберта Олдрича «Банда Гриссома». Это была экранизация давнего романа Джеймса Хедли Чейза «Нет
1 Более подробно о фильме Пенна можно прочитать в рецензии А. Дорошевича «Бонни и Клайд»: герои или жертвы}»— «Искусство кино», 1970, NS 10, с. 138—149.
5 Е. Н. Карцев*
130
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
орхидей для мисс Блэндиш», выдержанная а духе фильма Пенна и целиком построенная на его приемах. В связи с этим экранная версия романа претерпела любопытные превращения.
Чейз — писатель весьма неровный. У него есть такие интересные вещи, как переведенная у нас повесть «Весь мир в кармане», но рядом с ними он был способен создавать чистопробный литературный кич. К нему и принадлежит роман «Нет орхидей для мисс Блэндиш», сюжет которого, как сразу же заметила западная критика, заимствован из «Убежища» Фолкнера (недаром Чейз получил ироническое прозвище «Фолкнер для масс»). Однако заимствованием сюжетной конструкции дело и ограничилось. Все кичевые аттракционы Чейз вмонтировал в нее сам.
Существует весьма своеобразная критическая арифметика: подсчитывается количество убийств и в соответствии с результатом книга или фильм заносятся в тот или иной разряд искусства. Это нелепо хотя бы потому, что тогда и д'Артаньяна, наколовшего на свою шпагу немалое число людей, придется отнести к героям, растлевающим юношество дурным примером. Такие пуристские подсчеты не учитывают жанровых законов. Дело ведь не в том, сколько раз что-либо показано, а в том, для чего. И единственный, на наш взгляд, критерий — определение меры художественной необходимости.
Восемь убийств, преподнесенных Чейзом читателю, вызывают отвращение не потому, что их так много, а им.енно из-за аттракци-онности почти каждого из них. Нагнетание жестоких и кровавых подробностей не служит в его романе ничему, кроме потрафления дурному вкусу. Садистические характеры гангстеров ясны уже после первого убийства. Скрупулезное описание остальных семи—повторение одного и того же, расцвеченное лишь каким-нибудь новым приемом, с помощью которого человека лишают жизни или пытают. Кроме того, сделав одного из своих героев — Слима Гриссома — импотентом, Чейз разыгрывает на эту тему множество откровенных эротических этюдов, столь же необязательных, как и все остальные аттракционы.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
131
Можно было ожидать, что Олдрич, режиссер несомненно одаренный, со своеобразной жесткой стилистикой киноповествования, приводившей его иногда к ненужным излишествам в показе насилия, достаточно полно воспользуется материалом романа. Но произошло нечто неожиданное. Сюжет, заимствованный из романа Фолкнера для кичевого использования, в экранном своем воплощении подпал под сильное влияние Артура Пенна. Почти исчезла необузданная жестокость, и в центре внимания оказалась любовная история Слима Гриссома и похищенной его бандой дочки миллионера мисс Бпэндиш. Фильм этот — отнюдь не кич, он сделан интересно и тактично. В нем есть характеры и атмосфера времени. Он передает ощущение того же, что было в «Бонни и Клайде»,— любовного пира во время чумы, ощущение крайней безысходности ситуации, которая может разрешиться только обязательной смертью героев.
Конечно, такое сходство лишает его права на полную самостоятельность. Но нас интересует другое. Следуя за «Бонни и Клайдом», режиссер отстраняет от себя все социальные мотивы, он локализует тему, замыкает ее в рамки частного случая. И дело тут даже не в степени таланта постановщиков, а в их позициях. Поэтому, хотя Олдрич и не пользуется эстетикой кича, можно говорить о влиянии на его позицию системы кичевого сознания.
Эта система в других лентах заставляла их авторов пойти неизмеримо дальше в выхолащивании содержания «Бонни и Клайда» за счет аттракционности, имеющей чисто формальное отношение к стилистике Пенна. Так произошло в «Кровавой маме», «Резне в день святого Валентина», «Дилинджере» и других кичевых копиях эталонного произведения.
В фильмах этих помимо обязательных для жанра ожесточенных перестрелок, головокружительных преследований и ошеломляющих дерзостью бандитских налетов, чем раньше дело почти всегда и ограничивалось, возникла романтика любовных или семейных отношений, а иногда тех и других одновременно. Правда, в гангстерских картинах всегда присутствовала женщина как героиня од
132
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
нотипной сентиментальной истории, призванной несколько приукрасить облик главного гангстера. Однако после «Бонни и Клайда» все поставлено на иные рельсы. Теперь показывается романтическая любовь, торжествующая над смертью, крепость семейных уз,— все то, что вызывает непременное сочувствие и окончательно превращает очередного налетчика и убийцу в человека, вызывающего симпатию. А так как важнейший для фильма Пенна мотив бунта личности отсутствует, так как характеры по-прежнему остаются одномерными, подобная имитация образца уводит зрителя из мира реальной проблематики в мир иллюзорный, издавна обжитый кичем.
Столь же по-своему, исходя из собственных эстетических принципов, кинокич поступил и с другим художественным завоеванием картины Пенна — воссозданием во всей ее диалектической сложности атмосферы ушедшей эпохи. «Бонни и Клайд» был одним из тех фильмов, которые неожиданно вызвали массовый и устойчивый интерес к минувшим десятилетиям, особенно к 30-м, предвоенным годам. Он стоит у истоков столь популярного сейчас стиля «ретро».
Впрочем, стоит ли говорить об этом явлении как о неожиданности? Размышляя над его психологической подоплекой, начинаешь понимать, что нечто подобное рано ипи поздно должно было произойти, как происходило всегда, когда общество лихорадило и оно оказывалось во власти опасной и затяжной болезни. Если серьезная литература и серьезное искусство начинают все чаще обращаться к истории и у них возникает широкая аудитория, то это — симптом тревоги. Такой крен — свидетельство современного неблагополучия.
Далеко не все, однако, из приверженцев «ретро» ищут в предложенном им историческом материале, тем более сравнительно недавнем, повода для сопоставлений, аналитических выводов, диагнозов. Для них узнаваемость прошлого —• как узнаваемость родного города, в который возвращаешься после долгого отсутствия. Быть может, когда-то давно, в детстве, в юности тебе пришлось
ЗЕЛЁНЫЙ КРОЛИК
133
здесь голодать, мыкаться по чужим углам, и ты бежал отсюда с радостью. Но дымка времени смягчила горечь воспоминаний, и память хранит теперь лишь какие-то милые подробности, забавные случаи, нежданные мелкие радости. И кажется, что отношения между людьми были сердечнее, проще, а сама жизнь патриархальнее и спокойнее. Тем же, кто по молодости лет лишен таких воспоминаний, прошлое представляется еще более идиллическим. Они тянутся к нему, как тянулись некогда уставшие и продрогшие путники к чаше горячего пунша и весело горящему очагу уютной придорожной таверны.
Такой зритель увидел в «Бонни и Клайде» лишь то, что хотел увидеть. Тревожность атмосферы этого фильма, ненавязчивые, но точные аналогии с сегодняшним днем им были не то чтобы неза-мечены, а оставлены без особого внимания. Зато конкретные подробности быта и обихода, ювелирно вплетенные в ткань фильма, размягчали сердца и рождали элегические вздохи о невозвратном прошлом.
Кинокич ловко воспользовался этим обстоятельством. Он произвел такой отбор деталей и такую реконструкцию минувшего, которая превратила его при всей видимой документальности все в ту же привычную страну грез. Жизнеподобия материального мира оказалось, как обычно, достаточно, чтобы кичмен поверил в новую сказку, приняв ее за быль. Так романтические гангстеры оказались в романтическом мире. Но дело, разумеется, не ограничилось только такими героями, и стиль «ретро» постепенно охватил все области жизни. Принципы же кича остаются неизменными при любом разговоре о прошлом, который он затевает.
На копировальный конвейер поступают почти все фильмы, имевшие успех, причем вне зависимости от их тенденции, художественных достоинств и материала. Ведь пошлость неразборчива, ей почти безразлично, на что наложить лапу, ибо все равно предстоит обязательная нивелировка и подгонка под эстетический шаблон. Но когда есть возможность выбора, предпочтение оказывается, конечно, экзотичным, сенсационным темам.
134
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
Так, едва в Соединенных Штатах появился «Крестный» Френсиса Копполы, фильм, заслуживающий серьезного внимания, как во Франции режиссер Жак Дерен «выстрелил» уже двумя картинами серии «Борсалино», посвященной соперничеству тайных синдикатов апашей в те же 30-е годы. Их уровень примерно тот же, что и у подражаний «Бонни и Клайду», и его не могут поднять ни Жан-Поль Бельмондо, ни Ален Делон.
Если до сих пор мы говорили о паразитировании кича на высоких образцах, то следующий пример должен показать систему повторов внутри него самого. Он связан с массовым вторжением в искусство — и не только кичевое — потусторонних сил во главе с самим Отцом Зла.
Насмешливый или обличительный тон, чаще всего принятый, когда речь заходит об увлечении Запада мистикой, ведьмовством, колдовством и астрологией, менее всего пригоден для объяснения этого массового психологического сдвига. Аналогичные по духу вспышки стойкого интереса ко всему тому, что находится вне сферы научного опыта, к таинствам теософии, антропософии, вообще к оккультному миру, к демонологии, случались и прежде. Их высмеивали философы, писатели, ученые, просто умные люди, но это не оказывало почти никакого влияния на сознание тех, кто верил в существование потусторонних сил, в возможность общения с ними и в то, что они во многом определяют ход земных дел и человеческие судьбы.
В 1891 году, когда была опубликована комедия Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», высмеивающая увлечение спиритизмом, как раз скончалась основательница теософского учения Е. П. Блавац-кая, успевшая заразить своими идеями множества самых разных людей во всех уголках мира. Мистический туман не развеяли ни пьеса Толстого, к голосу которого прислушивалось все человечество, ни широко опубликованное заключение специальной комиссии лондонского «Общества для психологических изысканий», в котором говорилось: «Для нас г. Блавацкая не заурядная искательница приключений, мы думаем, что она приобрела все права долго жить
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
135
в воспоминании людей в качестве совершеннейшей, остроумнейшей, интереснейшей из исторических обманщиц»
Поучительно объяснение, которое дал В. Соловьев: «В «теософии» г-жи Блавацкой и К0 мы видим шарлатанскую попытку приспособить настоящий азиатский буддизм к мистическим и метафизическим потребностям полуобразованного европейского общества, не удовлетворяемого по тем или другим причинам своими собственными религиозными учреждениями и учениями»1 2. Уже в этой характеристике, касающейся только области веры, содержится важное соображение о причинно-следственной связи между ростом неудовлетворенности существующими нравственными постулатами и усилением тяги к новой мистике.
Эта тяга, как и сейчас, принимала самые разнообразные формы. В России, например, в период, предшествовавший мировой войне, период идейного разброда и душевной опустошенности, охватившей различные слои общества, всерьез обсуждались проблемы сатанизма, причем трактовались они по-разному. Для М. Арцыбашева, делавшего ставку на эротизм, «сатанизм — протест против бога, вдруг оказавшегося поперек дороги к радости и наслаждению, и поклонения дьяволу — покровителю свободного наслаждения и свободной радости бытия»3. Но не меньшее воздействие на умы оказывали и концепции С. Пшибышевского, наиболее четко сформулированные в книге «Синагога Сатаны». Он восклицал: «Всюду демон! Сатана торжествует. Некогда пугало, средство укрепления церковной власти — он становится всемогущим, мир боится его и старается умилостивить» 4.
Число примеров можно увеличить, но уже и так достаточно ясно, что вера в потустороннее, обращение к непознаваемому в любых, самых причудливых проявлениях чаще всего возникает в
1 Цит. по кн.; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 6. Спб., 1904, с. 257,
2 Там же, т, 3. Спб., 1892, с. 318.
3 Цит. по кн.: Образы сатанизма. М., 1913, с. 12.
* Там же, с. 83.
136
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
критическое для общества время, время тотальных угроз существованию той или иной социальной формации или же существованию всего человечества. Ощущение того, что разум оказывается бессильным, понуждает искать иные способы самозащиты, иные психологические опоры. Это или повышенная религиозность в ее традиционном, христианском понимании, или же обильная дань суевериям, различным мистическим учениям, культу сатаны и всех присных его.
И не стоит удивляться поэтому одинаковому успеху таких неравнозначных в художественном отношении фильмов, как «Ребенок Розмари» Романа Поланского и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина. Разница в их концепциях, в степени таланта режиссеров отступает на второй план перед острым массовым интересом к сатанинской теме картин и общему главному герою — дьяволу.
Здесь мы должны вернуться к теме о различном восприятии искусства. Конечно же, добропорядочному кичмену чужды те интеллектуальные метания и эмоциональные стрессы, которые ведут к образованию устойчивого мистического сознания. Он остается на уровне суеверий и поверхностного знания нескольких основных религиозных догматов. И потому, не подвергая сомнению существование бога или дьявола, вампиров или ведьм, возможности предсказания судьбы в зависимости от расположения звездных символов в его гороскопе или от рисунка линий на ладони, он относится к потусторонним силам прежде всего прагматически. Он соотносит их предполагаемые действия со своими житейскими делами и заботами, оставляя без внимания поиски высшего смысла, философическую иносказательность и вообще теорию. Его любопытство вызывает лишь само действие. Кроме того, не следует забывать, что любопытство это в значительной мере подогрето модными умонастроениями.
Повышенный спрос на упрощенную, аттракционную чертовщину позволил кинокичу начать нескончаемую серию сатанинских фильмов, плоско копирующих приемы Романа Поланского. Только американцы выпустили в 70-е годы кичевые картины с многообе
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
137
щающими названиями «Садисты дьявола», «Дождь дьявола», «Стреляй в дьявола»... Число таких лент, по нашим далеко не полным подсчетам, уже перевалило за второй десяток. А сколько их еще без дьявола в заглавии? Не отстают и другие страны. Причем героем не обязательно является сам повелитель ада. Это может быть и кто-нибудь из более мелких чинов. И вот — обещанный пример того, как происходит размножение уже не высокого, а кичевого образца.
В свое время несколько поколений читателей увлекались романами Брема Стокера о Дракуле — вампире, прозванном Принцем Тьмы. В 30-е годы этот гиньольный персонаж несколько раз появлялся на экране, а затем о нем надолго забыли. К новой жизни графа Дракулу возродил английский режиссер Теренс Фишер. Это было в 1958 году. С тех пор за пятнадцать лет в Англии было снято десять фильмов с этим вампиром или же его коллегами по профессии. Все они исходили из тех же принципов, которые определил Фишер, сделавший, кстати, несколько лент о своем доходном герое.
Родоначальник современной дракулиады оказался человеком откровенным и лишенным ложной скромности. Он заявил репортерам, что романов Стокера не читал, старых фильмов не видел, но тем не менее сделал несомненный вклад в разработку темы. Его открытие, считает режиссер, состоит в том, что он вынес на первый план сексуальные моменты, так сказать, раскрепостил плоть в арцыбашевской трактовке этого понятия. И в самом деле, новый Дракула не просто демонстрирует совершенное владение основной специальностью — высасыванием крови из своих жертв, но и превращает ее в источник эротического удовольствия для себя и своих клиентов. Он исчадие ада со склонностью к сексуальному садизму и некрофилии.
Другая новация, совершенная в духе времени Теренсом Фишером, состоит в том, что на смену экзотическим аксессуарам, сгущавшим покров мрачной тайны, окутывавшей инфернального графа, пришли обыденные, житейские реалии. Все строится на их контрасте со зловещей сущностью происходящего. (Это, кстати, ха
1’6 Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
рактерно почти для всех фильмов о столкновении нашего и потустороннего миров.) Первая картина цикла, «Дракула», послужившая образцом для всех последующих, начинается так, В холле ничем особенно не примечательного, рядового английского замка стоит мальчик и смотрит вверх, на площадку лестницы. Там, в тени, кто-то затаился. Затем после затяжной многозначительной паузы этот «кто-то» начинает медленно спускаться. Зритель ожидает увидеть нечто ужасное. Но вместо монстра рядом с мальчиком оказывается красивый элегантный мужчина в смокинге и традиционном белом галстуке. Ничего страшного, из ряда вон выходящего он совершить как будто бы не может. Тем более шокирующей оказывается следующая сцена, в которой модный джентльмен батистовым платком отирает окровавленные уста, на мгновение сверкнув двумя мощными клыками.
Все фильмы о Дракуле и других вампирах начинаются и оканчиваются одинаково. Герой, омытый свежей кровью, поднимается из могилы, злодействует и погибает, сраженный заговоренной серебряной пулей или осиновым колом, протыкающим его сердце, чтобы в следующей картине все повторить сначала. Однако кич не был бы кичем, не прибегай он к оснащению материала намеками на недавние шумные сенсации скандального толка или к эксплуатации модных тем. Поэтому в одном из фильмов вдруг проскальзывает аналогия с делом министра Профьюмо, оказавшегося поклонником вакхических ночей («Сатанинские обряды Дракулы», 1973), в другом— женщина-кровопийца попутно оказывается лесбиянкой («Возлюбленные вампиров», 1970) и т. д. Получается своего рода дьявольский пирог с клубничкой. Возможны, как мы видели, различные варианты, в том числе и превращение вампира в женщину. Кроме упомянутой лесбиянки существует еще и стареющая героиня, прибегающая к омолаживанию не по способу доктора Воронова, столь модному в 20-е годы и заключавшемуся в пересадке обезьяньих желез, в с помощью крови невинных девушек («Графиня Дракула», 1971).
Характерно, что в киче мирно сосуществуют полярно противо
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
13,
положные тенденции. Рядом с фильмами о дьяволе, вампирах и прочих персонажах того же толка вполне уживаются, пользуясь равным успехом, картины хотя и фантастические, но использующие как исходный материал современные научные и технические идеи. Дело здесь не только в особенностях сознания кичмена, равно приемлющего без всякого критического осмысления взаимоисключающие концепции бытия, но и в изначально присущей кичевому искусству поверхностности, которая позволяет ему с одинаковой легкостью касаться любого предмета, ибо главное не исследование сущности, а извлечение максимального числа аттракционных сенсаций. И на все случаи существует свой образец, в котором наиболее умело учтены и эстетические вкусы кичмена и его психология.
Идет оживленная спекуляция на страхе перед могуществом научной мысли, создавшей глобальные средства разрушения. Однажды, во времена глубокого депрессивного спада в первой половине 30-х годов, на экране уже появлялось в соседстве с графом Дракулой человекоподобное чудовище, создание барона Виктора Франкенштейна, сея смерть и ужас. В наши дни оно было гальванизировано вновь. Причем роман Мэри Шелли, послуживший материалом для обширной серии фильмов (свыше десяти за пятнадцать лет), подвергся весьма любопытной обработке.
Зачинателем цикла был все тот же Теренс Фишер. Именно его трактовка принята кичем за эталон. Ее особенности, в отличие от романа, состояли в том, что Франкенштейн совершал убийство, чтобы снабдить своего, говоря современным языком, биоробота мозгом знаменитого ученого. Мозг этот еще до пересадки получал повреждения, и в результате монстром сразу же овладевало смертоносное безумие. Его не тяготила, как в романе, тоска одиночества, не мучила потребность общения и человеческого участия. Им владела только одна страсть — жажда убийства. И причиной всему был безумный мозг ученого.
Фильм назывался «Проклятье Франкенштейна». Затем появились «Месть Франкенштейна», «Зло Франкенштейна», «Ужас Франкенштейна», «Франкенштейн и чудовище ада», еще несколько картин.
140
f. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
И в каждой из них понятие «наука» было синонимом разрушения, а слова «ученый» и «сумасшедший» оказывались неразделимыми. Судя по кассовым сборам, зрители не замечали ни топорного грима, ни наивной бутафории, ни странности идеи этой гиньольной серии. Быть может, потому, что кич уже успел приучить их к бездумности. А быть может, и потому еще, что им не требовалось ничего другого.
Кич всегда умел приспосабливаться к особенностям национального мышления своего потребителя, к оттенкам его вкусовых требований. Сравнивая, например, немецкие и французские кичевые открытки начала века, можно заметить, что пошлость, объединяющая их, несколько разнолика. В немецком варианте скабрезности, рассчитанные на бюргера, тяжеловеснее, прямолинейнее скабрезностей, предназначенных для парижского или лионского буржуа. Размножаемый в разных странах образец кинокича также претерпевает аналогичные изменения. Они касаются даже национальных групп в пределах одной страны, что учитывается и производством и прокатом. В этой связи небезынтересно проследить за развитием так называемого «черного» кича.
Активизация послевоенного негритянского движения в Соединенных Штатах уже лет двадцать назад привела к тому, что на экране появился новый герой, ранее невозможный. Начало этому положил Стэнли Креймер фильмом «Не склонившие головы», в котором герой-негр представал человеком гораздо более высокой нравственности, чем герой-белый. Эта тенденция получила развитие. Советские зрители видели, например, на одном из московских фестивалей картину Нормана Джюисона «Душной ночью», где снова было показано нравственное превосходство чернокожего гражданина Америки. В психологическом поединке между двумя полицейскими офицерами — белым и негром — победу одержал последний. Такая расстановка сил объяснялась вполне понятным стремлением мастеров искусства рассеять или хотя бы ослабить расистские предрассудки. Они были, конечно, далеки от того, чтобы, нанося удар по шовинистическому сознанию, способствовать укреплению
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
141
аргументации негритянского национализма. Тем не менее национализм этот укреплялся. И именно на его основе возникло такое широко распространенное в 70-е годы явление, как негритянский кич, основой которого, как это ни парадоксально, стали белые образцы.
Когда в 1972 году вышел на экран фильм «Бак и проповедник», в нем обнаружились все худшие черты кичевого, стандартного вестерна, заимствованные из той категории картин этого интереснейшего в лучших своих лентах жанра, которую сами американцы насмешливо именуют «лошадиными операми». Разница состояла лишь в том, что герои были неграми. Актер Сидней Пуатье, взявшийся за режиссуру, тот самый актер, который исполнял главные роли и у Креймера и у Джюисона, в целях национальной героизации пошел на явную историческую натяжку, ибо участие негров в освоении Дальнего Запада было минимальным и никаких ковбойских подвигов и захватывающих эскапад за ними не числится.
Через два года были скопированы еще два образца: Джон Эванс поставил «Черного крестного», а Уильям Гирдлер — фильм «Эбби», повторивший с некоторыми кичевыми модификациями «Изгоняющего дьявола». Можно по-разному относиться к этой ленте Фридкина. У нас, например, она вызвала скуку. Серьезность, с какой рассказана история единоборства священника и злого духа, вселившегося в прелестную девочку, показаны козни дьявола и подробности его изгнания, представляется нам художественно неподтвержденной, ибо лишена подлинной философской подоплеки и наводит на мысль о нарочитости наивного простодушия талантливого режиссера. Но при всем этом принятый стиль выдержан им безукоризненно, бытовой и нравственный климат маленького городка передан мастерски, и не может быть даже и речи о потрафлении дурному вкусу.
Зато в «Эбби» дьявольский сюжет превращается в предлог для упражнений по запредельной эротике. Для этого нечистого заставляют вселиться во взрослую женщину, жену негритянского священника. И действие начинает двигаться по испытанному кичевому пути. Героиня становится нимфоманкой, совершает несколько убийств,
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
посещает низкопробные кабаки и бордели. А уж затем, чтобы все окончилось благополучно, негритянский епископ изгоняет из нее дьявола.
Одновременно негритянский кич с удовольствием следует за ординарным кичем белых. В «Черной шестерке» Мэтта Симбера (1974) негритянские «дикие ангелы» повторяют все художества своих прототипов из картин «Рожденные проигрывать» (1967) и «Ангелы ада» (1971), демонстрируя бешеную езду на мотоциклах и набор убийств и насилий. «Дом на горе Череп» Рона Хонтенера (1974) — копия дешевого кичевого гиньоля. А «Черный Самсон» Чарлза Бейла (1974) проникнут расистским душком. Подобно бибпейскому герою, чье имя он носит, новоявленный Самсон всюду ходит в сопровождении прирученного льва. Под его водительством жители квартала зверски избивают проникших туда белых. Белые же пытаются изнасиловать девушку Самсона. Попутно, поскольку он владеет ночным баром, подробно показывается откровенно сексуальный номер, исполняемый голой танцовщицей, и вообще используется весь комплекс эротических приманок и возбудителей. Такие фильмы, конечно, рассчитаны не только на внутренний рынок (в США пять с половиной миллионов кинозрителей-негров), но и на экспорт в африканские страны.
Думается, читателю предложен достаточно обширный и разнообразный материал, чтобы он мог оценить всю вредоносность той лошадиной дозы пошлости, которую эстетика кича вкладывает во все расширяющийся процесс копирования образцов. Но этим не исчерпываются особенности производства кинокича. Мы выяснили, что и при экранизации и тем более при размножении образца он стремится, во-первых, к локализации сюжета, а во-вторых, к различного рода преувеличениям — аффектации чувств, гипертрофии аттракционов, шокирующим ситуациям. Но нагляднее всего, так сказать, в химически чистом виде, эти его качества проявляются в фильмах, сценарии которых не зависят ни от литературных источников, ни от необходимости подражания, хотя бы и формального, а написаны специально для кино.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
143
У Джона Голсуорси есть рассказ «Акмэ», созданный еще в 20-е годы. Его герой, известный писатель, посетив кинематограф, решил спародировать увиденный фильм. «В жилах моей героини,— начал он свой набросок,— течет немного негритянской крови. Ев глаза подернуты влагой, прелестная грудь вздымается. Все добиваются ев любви, а она целомудренна, как весталка. Героиня попадает в такие переделки, что кровь стынет в жилах и волосы подымаются дыбом. У нее есть братец — отъявленный негодяй, они вместе росли. Этот черт, а не братец знает ее страшную тайну и хочет выдать сестру замуж за миллионера, у которого тоже есть какая-то зловещая тайна. Всего у меня четыре страшные тайны. Потрясающе! Прямой удар по кино!» 1
Друг писателя оказался человеком практичным и отлично понимающим законы кича. Он взял этот набросок и без ведома автора отнес его на студию. Это как раз то, что требуется, сказали ему и выписали чек на три тысячи фунтов. «Пошлый век требует пошлых развлечений»,— комментирует он неожиданную для писателя развязку.
Самое грустное заключается в том, что рассказ этот был абсолютно правдоподобен тогда и столь же правдоподобен сейчас. Вот как излагает сюжет многосерийного телевизионного фильма «Больница» американская актриса Эмили Маклефлин, исполняющая в нем главную роль и говорящая от имени героини: «Я потеряла двух младенцев, одного из-за выкидыша, а другой родился мертвым. Я носила его одиннадцать месяцев, и мучительные роды длились десять дней. Я развелась с мужем — Филом — и вышла замуж за доктора Прентиса, прикованного к инвалидной коляске. В ней он и умер. Меня и человека по имени Том обвинили в его убийстве. Я снова сочеталась браком с первым мужем, но его заподозрили в убийстве моей приемной дочери. Он бежал в Южную Америку, и я получила сведения, что он погиб в автомобильной катастрофе. Узнав, что Фил мертв, я опять вышла замуж. А он оказался живым,
1 Голсуорси Дж. Новеллы. М., 1957, с. 169.
•44 Е Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
возвратился под чужой фамилией, и у меня стало сразу два мужа. Потом Фил сошелся с медсестрой, проходившей практику в больнице, и сделал ей ребенка, а затем попал в аварию и потерял речь, стал немым...» '.
Думается, нагромождено уже вполне достаточно и продолжать не стоит. Этот пересказ, звучащий пародийно и близкий по духу к тому, что написал герой «Акмэ», тем не менее совершенно точен. Кинокич, увы, таков и есть. И зрителей своих он воспитывает в этом же духе.
Однажды мистер Сэтон, персонаж новеллы Джона Чивера «Золотой век», приехал отдохнуть в Италию. Он был профессиональным теледраматургом и разбогател на пьесе «Семья Бест», находящейся на том же уровне, что и «Больница». Но мистер Сэтон еще не утратил стыдливости и представился своим новым итальянским знакомым поэтом. Случилось, однако, непредвиденное. Пьесу показали здесь как раз во время отдыха ее автора. Когда передача окончилась, к нему явилась представительная депутация во главе с мэром. Целью визита было выразить восторг по поводу увиденного. И, закругляя свой панегирик, мэр произнес замечательную фразу: «А мы-то думали, что вы всего лишь поэт...» 1 2.
Но вернемся к самому кичу. Мы уже видели, какова направленность его гиперболизма. А чтобы нагляднее представить задачи сюжетной локализации, полезнее всего обратиться к фильмам о знаменитых людях. Главная их задача — сведение биографии к интимным, пикантным подробностям жизни великого человека. Грубо говоря, в подмене акта творчества половым актом.
Это — сознательное воспитание прямых потомков принцессы из андерсеновской сказки «Свинопас», отвергшей подаренных ей соловья и розу, но прельстившейся волшебным горшочком, который позволял узнать, что готовят в чужих кухнях. К чему читать об-
1 Цит. no: liotto I. That Family Sure Has Its Share <>t Problems.—«Look», 19TI. Se’pt. 7, № lb, V. За, P. 04—65.
2 Современная Американская новелла. 60-е годы, с. 408.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
ширный роман Фейхтвангера о Франсиско Гойе, роман, переполненный философией и тонкими рассуждениями о природе творчестаа, только отвлекающими от любовных сцен, когда гораздо интереснее посмотреть фильм «Обнаженная маха», где все гак привычно и в то же время необычно, ибо стандартные любовники носят звучные имена гениального испанского живописца и герцогини Альба.
По существу, разница между такой картиной и рядовой кичевой мелодрамой только и состоит в подобной подстановке на место вымышленных героев исторических лиц. Магия имен делает свое дело, и старое блюдо поглощается как новое. Тем более что к нему подают различные приправы: мимолетные кадры, запечатлевшие творения мастера, ряженых персонажей знаменитых полотен, виды родины гения. Процесс творчества здесь прост, как мычание: выстроил в ряд нескольких высоких особ, экзальтированно помахал кистью — и готово великое полотно, «Семья короля Карлоса IV»; полюбил прекрасную герцогиню—единым духом создал ее портрет, разлюбил — и можно начинать «Капричос».
Не всякая фигура пригодна для биографического кича. Если знаменитый человек прожил спокойную жизнь, небогатую внешними событиями, если он женился один раз и всегда оставался верен своей супруге, если выглядел он и вел себя вполне благопристойно, то вряд ли о нем снимут фильм. Зато, например, жизнь Тулуз-Лотрека — истинная находка для кича. Какие богатые возможности таятся в обыгрывании его физического уродства, в показе парижских борделей и ночных притонов, завсегдатаем которых он был. И они используются сполна: появляется лента под названием «Му-лен-Руж», бестактная и непристойная.
Подведем некоторые итоги. Попробуем найти характеристики, общие для любых видов кича. Одна из главных причин его жизнестойкости в наше время видится нам в следующем обстоятельстве:
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
' 4С
не только вещи, предметы быта становятся в нем неотъемлемой принадлежностью комфорта, но также и литература, искусство служат созданию комфорта, только не материального, а духовного. Отсюда — иллюзорность произведений такого рода, подмена реальности искусственно смоделированным миром, населенным людьми-манекенами, оптимистическое благополучие финалов, тяга к пышности, декоративности, экзотичности.
Как и старый кич, современный стремится к выключению героев из сферы обыденности, к показу «роскошной жизни», которую ведут богачи, «звезды» кино и телевидения, персонажи полусвета. Для него тоже характерно подробное смакование мира вещей — интерьеров, нарядов, драгоценностей, изысканных блюд, навязчивое повторение моральных прописей, столь любезных сердцу мещанина. И, наконец, смакование любовной и эротической тематики, сочетающей мелодраматизм и сентиментальность с откровенной непристойностью. Естественно, всем этим компонентам неокич придает видимость актуальности, таща в свои произведения, как сорока в гнездо, блестки новейших научных, технических, социальных и политических теорий, используя их, однако, примитивно и поверхностно.
Производители кича сейчас отчетливо поняли, что образность литературы и искусства в сочетании с широтой распространения с помощью средств массовой коммуникации сделали их мощнейшим оружием в борьбе за умы и сердца людей. В отличие от абстрактных теорий жизнеподобие, «натуральность», понятность литературных, кинематографических, телевизионных кичевых произведений делают их доступными миллионам людей. Мнимая развлекательность книг, фильмов, передач такого рода способна замаскировать любую пропагандируемую идею, заставить потребителей незаметно проглотить ее, как пилюлю в сахарной оболочке. Ту же роль теперь играет и все более «идеологизирующееся» прикладное искусство как за счет прямого включения нужных идей в те или иные покупаемые или рекламируемые вещи (примеры этого приводились выше), так и за счет все большего привязывания индивида к обще
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
10
ству с помощью экспозиционных, пышных, зачастую ненужных, нефункциональных, но престижных предметов.
Что касается эстетики кича, то более чем за сто лет своего существования она, конечно, тоже изменилась, хотя ее основы и остались незыблемыми. Речь здесь идет не о технических новшествах— появлении таких невиданных ранее видов искусства, как кино и телевидение, использовании звука, цвета, широкого экрана,— а о возникновении в 50 — 60-е годы нашего века новых психологических предпосылок в сфере восприятия искусства. Как раз в этот период популярной стала теория маститого американского эстетика Томаса Манро об изгнании из эстетического обихода концепции прекрасного. Манро утверждал, что прекрасное ассоциируется с каноническим (читай — реалистическим) искусством, которое современные художники, по его мнению, отвергают. «Концепция прекрасного всегда носит оценочный характер,— писал он,— а современная эстетика стремится избегать оценок, так как они субъективны» '. Мы уже писали о том, что, как бы ни были субъективны те или иные оценки, как бы ни разнились вкусы, существуют, однако, и объективные критерии. Отвергнув их, можно с легкостью популяризировать безобразное.
Теория Манро, получившая широкое хождение в западной живописи, постепенно добралась и до прикладного искусства, став основой неокича. Старый кич стремился к красоте, какой она представлялась неразвитому вкусу нувориша. Кич же современный сознательно ввел моду на безобразное. (Красивое уже было, а такого вы еще не видели!) Мещанин, понимая, что вещь некрасива, тем не менее покупает ее, чтобы, упаси бог, не выглядеть отсталым, чтобы идти в ногу с временем. Столь тесной связи эстетики с престижностью не знал старый кич.
Для неокича характерна также судорожная погоня за все новыми и новыми модными приманками, способными взбудоражить
1 Munro Т. The Concept of Beauty In the Philosophy of Naturalism.— In: Toward Science in Aesthetics. N. Y., 1956, p. 263.
f H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
пресыщенное сознание мещанина, и появляется невиданное ранее мраморное изображение фаллоса (именно такая «скульптура» стоит на самом видном месте в квартире богатой мещанки в фильме Стэнли Кубрика «Механический апельсин»). Или дается подробное описание половой связи героя романа «Машина любви» с человеком, превращенным путем хирургической операции из мужчины в женщину. Список таких примеров мог бы стать длинным.
Возникают такие «аттракционы» еще и потому, что эстетика кича противоречит одному из главных положений, обязательных для подлинного искусства,— принципу художественной необходимости, логике творческого процесса, которая сродни формуле Родена: беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее. Кич не может руководствоваться этим принципом, ибо тогда он обнаружит свою пустоту, слишком наглядно продемонстрирует, что никакой глыбы мрамора у него просто нет, а пользуется он ее бутафорской имитацией из папье-маше. Поэтому происходит обратное — наращивание необязательного, ненужного. Это относится и к прикладному кичу с его нарочитой нефункциональностью, и к литературному, и к кинематографическому.
Пустота содержания маскируется его аттракционностью, повышенной событийностью, шоковыми моментами. Создается система видимостей: житейской достоверности, любви, злободневности. Создается, кроме того,— за счет гипертрофии чувств, неестественности ситуаций, бесстыдной обнаженности сокровенного, антифунк-ционального моделирования — система ложной оригинальности.
Использование во всех случаях одного и того же набора испытанных приемов, рассчитанных на простейшие безусловные реакции, заставляет производителей суррогатов искать внутри этих приемов все более извращенные сенсации. Отсюда — демонстрация изуверских пыток и способов убийства, грубая эротизация предметов быта, причуды сексуальной патологии.
Чуть более пятнадцати лет назад Альфред Хичкок снял один из лучших своих фильмов, «Психо». Исходным материалом для сценария послужило расследование зверских убийств, совершенных за
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
три года до этого на одной из уединенных ферм. Это стри^-з» картина, хотя в ней и нет ни одной кровавой сцены. Режиссера интересовало другое — исследование психопатологии убийцы, обнажение тайников его подсознания, корней его мании. И он сделал это настолько убедительно, что страшное обозначалось как логически необходимое. Оно было художественно оправданно.
А в 1974 году к этому же материалу обратился кич, и появилась картина Тоуба Хоппера «Резня в Техасе». Тут уже все внимание было устремлено на подробности преступлений некой банды мясников, садистически уничтоживших четырех молодых людей, в числе которых оказался беспомощный калека. Каждое убийство совершалось по-своему, и ни одна деталь не была опущена.
Сначала измолотили до смерти железной цепью инвалида в коляске. Потом подвесили на крюке для окорока следующую жертву. В это время престарелый член шайки бил молотком по голове сестру калеки, ибо хотел отведать свежих человеческих мозгов. Девушка, правда, выжила, потому что была героиней фильма, а даже в самом жестоком киче центральный персонаж, как правило, не погибает.
Еще более сногсшибательный аттракцион предложен в фильме Ларри Коена «Он—живой!» (1974). Там убийцей становится новорожденный младенец, появившийся на свет в наказание родителям за их мысли об аборте. Расправившись с кем-либо из жителей городка, чудовищный ребенок возвращался в колыбель и сладко засыпал. С особым размахом показано нападение на молочника: из его фургона хлещет поток крови, смешанной с молоком.
Та же тенденция—любой ценой разнообразить шоковые аттракционы, связанные с насилием,— лежит и в основе все усиливающегося в последние годы увлечения восточной экзотикой. На Московском кинофестивале 1975 года была показана типичная для такого рода картин лента «Леди Карате», в которой очаровательная девушка, в совершенстве впадающая приемами одного из самых опасных видов борьбы, элегантно, не отступая от ее сложного и причудливого на европейский взгляд ритуала, сворачивает своим
С. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
противникам головы. А ее партнер в это время выпускает из врагов кишки. Преобладающий цвет в этом фильме—красный, потому что кровь льется почти беспрерывно.
Картины, подобные «Леди Карате»,— очень выгодный экспортный товар, На Тайване даже организована специальная фирма «Золотой урожай» с конвейерным производством экзотических ужасов. Каждый ее фильм («Сипа Тигра», «Разъяренный монах», «Однорукий боксер против летающей гильотины», «Супермен из Гонконга» и т. п.) — пошлейшая, безнравственная смесь псевдовосточной мистики, сцен изощренного насилия и сексуальной патологии.
Тщательно подогреваемый интерес к карате — не столько как виду спорта, сколько как кровавому зрелищу — привел к тому, что кумиром американских кичменов стал бывший чемпион этого вида борьбы, тайванец по происхождению, Брюс Ли. Он вел таинственную жизнь и погиб при загадочных обстоятельствах в возрасте тридцати трех лет. Журналист Алекс Блок написал книгу «Легенда Брюса Ли», выдержавшую уже семь изданий и разошедшуюся миллионным тиражом. Руководители «Золотого урожая», воспользовавшись этим обстоятельством, выпустили три фильма о новоявленном идоле: «Брюс Ли: возвращение Дракона», «Подручные Дракона» и «Дракон умирает тяжело». По сравнению с ними даже «Леди Карате» представляется невинным детским развлечением.
Эротические аттракционы по разнузданности воображения не уступают манипуляциям с жестокостью. Не так давно молодой американский режиссер Жерар Дамиано был привлечен к суду за постановку порнографического фильма «Воспоминания мисс Агги». На процессе ему был задан вопрос, почему в эпизодах сексуальных грез героини одну и ту же роль играют три актрисы. «Я мог бы сказать,— ответил он,— что таковы особенности замысла. Но я не стану врать. Мы просто не смогли найти актрису, которая сумела бы проделать все сексуальные ухищрения, требуемые сюжетом. Поэтому пришлось приглашать трех» ’.
1 ^Variety», Vr74, Nov. 20, р. 20.
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Пока шел суд, создавший небывалую рекламу картине Дамиано, на экране продолжали появляться фильмы точно такого же плана. Под романтическим названием «Розовые фламинго» режиссер Джон Уотерс продемонстрировал все виды порока. Некая шайка похищала девушек, насиловала их, а затем, когда рождались дети, продавала этих младенцев лесбиянкам. На вырученные деньги приобретался героин, и его сбывали студентам. Журнал «Вэрайети» так охарактеризовал опус Джона Уотерса: «Один из самых мерзких, глупых и отвратительных фильмов, которые когда-либо делались» '.
Через несколько месяцев, в начале 1975 года, коллега Уотерса по кичу Питер Локк порадовал своих зрителей порнографической новинкой с религиозным уклоном. Его фильм «Зажигательная женщина» начинался детальнейшим показом полового акта между священником и его сестрой. Затем патер раскаивался и отлучал родственницу от ложа, причем бурное объяснение между ними происходило в исповедальне. Отторгнутая сестрица пускалась после этого во все тяжкие. Она проходила школу садизма и мазохизма, ее насиловал сумасшедший рыбак и т. д. В конце концов брат не выдерживал, слагал с себя сан и возвращался в объятия зажигательной женщины.
Пошлость, пропитывающая кич, охватывает все его стороны: от смысла сообщаемого или структуры литературного текста до формы предмета и внутрикадровой композиции. Мы уже вспоминали кичевые открытки начала века с их сальной игривостью, слащавостью, сусальностью. Но далеко ли ушел от них последний кадр «Королевы «Шантеклера», в котором по лицу героини ползет отливающая серебром слеза, а ее серьга, как бы стекающая второй слезой, образует первую букву слова «fin» — «конец». И чем в своей пошлой статуарной красивости отличаются герой и героиня американской картины «Звуки музыки», поющие любовный дуэт, от такой же открыточной пары? Они даже за руки держат друг
1 «Variety». 1974, Dec. 11. р. 18.
Е. Н. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
друга одинаково —с аффектированной нежностью. Вот только нет плывущих по пруду лебедей.
Эпиграф к этой главе взят из «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, из знаменитого эпизода с Эллочкой Щукиной, когда галантный Остап объявляет мехом мифического шанхайского барса кроличью шкурку, выкрашенную акварелью в зеленый цвет. Великому комбинатору такой ход понадобился для успешного ведения дела. Но у нас нет необходимости льстить, и зеленый кролик представляется нам символом эстетики кича. А соревнование Эллочки с дочкой миллиардера, соревнование, во время которого вечерний туалет отделывался собачьей шкурой и халат кроился из толстовки мужа, невольно напоминает соотношение между искусством и кичем. Впрочем, кич кое-что взял и от Фимы Собак, любимой Эллочкиной подруги, знавшей такое редкое слово, как гомосексуализм.
МАСШТАБ БЕДСТВИЯ
Какой глухой или дикарь Всучил мам побрякушек ларь И весь их пустозвон фальшивый?
Поль Верлен. Искусство поэзии
Кич захлестывает мир. Кичевое сознание, кичевый вкус становятся преобладающими, причем прежде всего в тех странах Западе, в которых существуют давние, казавшиеся незыблемыми культурные традиции. Белые флаги капитуляции подняты над бастионами, представлявшимися неприступными. Кичевые тенденции начали обнаруживаться в областях совершенно неожиданных.
«Британская энциклопедия» всегда считалась энциклопедией интеллектуализма. Но вот вышло ее пятнадцатое издание, названное «Международная Британская энциклопедия», вышло в Чикаго. Николай Пальцев в журнале «Иностранная литература» приводит мнения двух известных английских литераторов по поводу этого события, опубликованные с разрывом в несколько месяцев в лондонском журнале «Букс энд букмен». Характеризуя авторов энциклопедии®-ских статей, первый из критиков, А.-Л. Роуз, пишет: «Стандарты этих энциклопедистов неверны или, по меньшей мере, второразряд-ны... Их интеллектуальный уровень — средний, их не отличают ни выдающиеся способности, ни оригинальные открытия, и они, acre-ственно, при каждом удобном случае отдают предпочтение тем,
f H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО пошлости
кого поднимают на щит средства массовой информации... Но — остерегайтесь, энциклопедисты! — ничто не устаревает так быстро, как новейшие массовые симпатии» 5.
Другой рецензент, прозаик Оберон Во, сын знаменитого писателя, цитируя рекламный проспект издания, язвительно замечает: «В качестве особой приманки для покупателей к энциклопедии прилагается пластинка, с которой прочувствованный и несколько банальный голос... на весь мир расхваливает достоинства новой энциклопедии, как если бы это был деодорант или один из тех электроприборов, которыми так восхищаются низшие классы... Одни и те же интонации используются и для обольщения представителей академических кругов, и для выманивания 249 фунтов из кошелька усердного покупателя-пролетария»1 2.
«Оба они,— заключает Николай Пальцев, подробно разобрав рецензии,— и А.-Л. Роуз, и Оберон Во,— признавая, каждый со своей стороны, глубокое неблагополучие, приключившееся на сей раз с «Британникой», в сущности, не знают, что можно противопоставить массированному натиску бездуховных стандартов «массовой культуры» на индивидуальное сознание англичан» 3.
Тем временем, пока одна часть интеллектуалов бьет тревогу, другая начала склоняться к весьма своеобразному снобизму, основанному на превознесении кича. Это явление получило название «кэмп». По мнению американского критика Сюзан Зонтаг, «суть кэмпа — пристрастие ко всему неестественному, искусственному, чрезмерному» 4,
Нам видится в этом не столько результат пресыщения культурой, если такое пресыщение вообще может наступить, сколько все то же кичевое стремление быть оригинальным любой ценой. Быть
1 Цит. по: Пальцев H. Американо-британская энциклопедий.— «Иностр, лит.», 1S75, № 11, с. 223.
• Тем же, с. 224.
* Там же, с. 225.
4 Sonntag S. Notes on Camp.— in: Against Interpretation and Other Essays.
> p. 251.
МАСШТАБ БЕДСТВИЯ
может, и не стоит причислять поборников кэмпа к истинным интеллектуалам, хотя многие из них по уровню образования и профессиональной подготовке формально и принадлежат к культурной элите. Быть может, кэмп связан с общей девальвацией вкуса, при которой далеко не просто сохранять прежние эстетические критерии.
Но, так или иначе, кэмп существует, и его приверженцы все теснее смыкаются с потребителями кича. Они во всеуслышание объявляют наиболее волнующим зрелищем те киноленты, которые входят в ежегодно составляемый критиками список десяти самых плохих фильмов. У них пользуется успехом старая итальянская кичевая серия картин с участием феноменального силача Мациста. Кэмп-Мен приходит в восторг от наиболее безвкусных кичевых украшений. Короче говоря, он сознательно вводит моду на пошлость, пусть даже и пытаясь подкрасить это иронией.
Кичу, его эстетическим правилам и конформистской направленности противопоставляют так называемую контркультуру, объединяя этим термином несколько молодежных движений. Ее идеолог— профессор права Йельского университета Чарлз Рейч — выпустил книгу «Зеленеющая Америка» ’, в которой, в частности, сформулировал программу движения, именуемого контркультурой. Она, по Рейчу, состоит в непризнании любой власти и любых нормативов — религиозных, нравственных, социальных, то есть в анархической свободе личности, в отказе от труда, собственности и семьи, в единении с природой по Жан-Жаку Руссо и Генри Торо и углубленном самосозерцании, достигаемом с помощью наркотических средств. Последний пункт представляет собой странную смесь философии буддизма и культа ЛСД.
Кичем, конечно, здесь и не пахнет. Однако столь примитивный утопизм, отпугивающий к тому же отрицанием всех без исключения устоявшихся представлений и нравственных норм, не может рассматриваться как серьезный противник кича. Тем более что
< Reich Ch. The Greening of America. N. Y„ 1970.
I. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
контркультура вряд ли когда-нибудь получит доступ к средствам массовой коммуникации.
Пожалуй, наиболее отчетливо стилистика кича проявилась в английской картине «Хрустальный башмачок и роза», показанной в Москве в ноябре 1976 года во время Недели английского фильма, фильм наглядно опровергает утверждение о том, что современный кич «повзрослел» и в нем уже невозможна столь прямолинейная трактовка сюжета о Золушке, как это было раньше. Здесь мы видим все те же основные компоненты сюжетной конструкции, что и в предыдущих картинах подобного рода, включая расхожий тезис: любовь не знает сословных перегородок. В картину даже введен специальный балетный дивертисмент, в котором слуги королевского замка исполняют сложный танцевальный номер на тему «лакеи должны знать свое место». Но принц, естественно, придерживается иного мнения. Презрев все традиции, он посвящает в рыцари своего слугу, чтобы тот смог жениться на полюбившей его фрейлине старой королевы. Сам герой, конечно, тоже мечтает жениться на Золушке и, преодолев с помощью хитроумной феи придворные интриги, так и поступает. Волшебная сказка Перро, заземленная такими далеко не сказочными аналогиями, теряет свой романтически возвышенный смысл и становится скучно назидательной.
К тому же в отличие, например, от «Хрустального башмачка» — короткометражки Диснея конца 30-х годов — или «Сабрины» Уайлдера, сделанной в 50-е годы, юмор которых сглаживает неблагоприятное впечатление, этот фильм Брайана Форбса страдает какой-то излишней фундаментальностью (намек на иронию присутствует лишь в образе феи — немолодой, некрасивой, усталой женщины, с ограниченной способностью творить чудеса: например, когда она хотела сварить для себя чашку чая, чайник перевернулся и вода залила огонь).
Это ощущение тяжеловесности, характерной для кичевой эстетики, еще более усиливается сознательно избранной режиссером стилистикой. Мы уже говорили, когда речь шла о прикладном искусстве и рекламе, что цветочки, животные, позолота и мишура являются
МАСШТАБ бедствия
характерными особенностями кичевого изобразительного ряда. Роза в Этом фильме режиссера Брайана Форбса недаром упомянута з названии. Смысловой роли она здесь не играет, зато становится как бы главным стилистическим лейтмотивом всей картины. Редкие кадры обходятся без цветочков. Золушка собирает цветы в поле, когда впервые видит принца. Их же она кладет на могилу отца. Оми же маячат на первом плане, когда счастливая героиня танцует а поле с найденным ею хрустальным башмачком, Розы стоят в ее комнате, когда премьер-министр передает ей волю короля, приказывающего девушке покинуть пределы страны. Одну из них она просит вручить своему возлюбленному в знак памяти о ней. И, наконец, цветы в свадебном букете Золушки, идущей под венец с принцем.
Все убранство дворца изобразительно выдержано в чисто кичевом стиле. Плюш и позолота, мрамор и старинные канделябры заставляют вспомнить об убранстве комнат в дорогом санатории. Милая собачка, подаренная Золушке феей,— единственный друг девушки в тяжелые времена — тоже как бы взята напрокат с рекламных плакатов. А уж о съемках через кисею, в результате чего наиболее романтичные кадры оказываются как бы подернутыми мечтательной дымкой, даже и говорить не приходится. Этот прием всегда был одним из сильнодействующих в кинокиче.
Можно привести много других образчиков пошлости и дурного вкуса. Например, танец принца и его слуги на гробах предков в родовом склепе. Или пронизывающий взгляд, которым герой одаривает прекрасную незнакомку на балу. (В «больших гонках» — остроумной пародии на такого рода фильмы — в подобные моменты в глазах героя вспыхивают огненные зведочки.) Но дело не в количестве «находок». Важно подчеркнуть, что все отмеченные черты кичевой стилистики продолжают процветать и сегодня, а середине 70-х годов, чему фильм «Хрустальный башмачок и розе» служит красноречивым подтверждением.
Хотя в искусстве контркультуры, как правило, содержится резкая социальная критика, его эстетическая аморфность, а главное, узкий его диапазон — преимущественно фолксингерство и пред-
1?s E. H. КАРЦЕВА. КИЧ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ
ставления уличных театров — нисколько не мешают кичу по-прежнему властвовать над умами и сердцами миллионов.
Масштаб бедствия велик. Подлинная культура на Западе находится под серьезной угрозой. Это общий вывод почти всех исследователей проблемы. Мы не хотим, разумеется, утверждать, что искусство обречено на неминуемую гибель. С «триумфом пошлости» борются многие представители западной демократической художественной интеллигенции, прогрессивные мастера культуры и просто люди с развитым эстетическим вкусом. Пророчествовать об исходе борьбы вряд ли правомерно. Ясно лишь одно: опыт истории показывает, что моды приходят и уходят, а подлинное искусство остается.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТОЧКИ ОТСЧЕТА 5
СОН РАЗУМА Правила моделирования 22
Анатомия героя 49
ЗЕЛЕНЫЙ КРОЛИК
Вернисаж дурного вкуса 64
Триумф посредственности 81
Конвейер суррогатов Н6
МАСШТАБ БЕДСТВИЯ 153