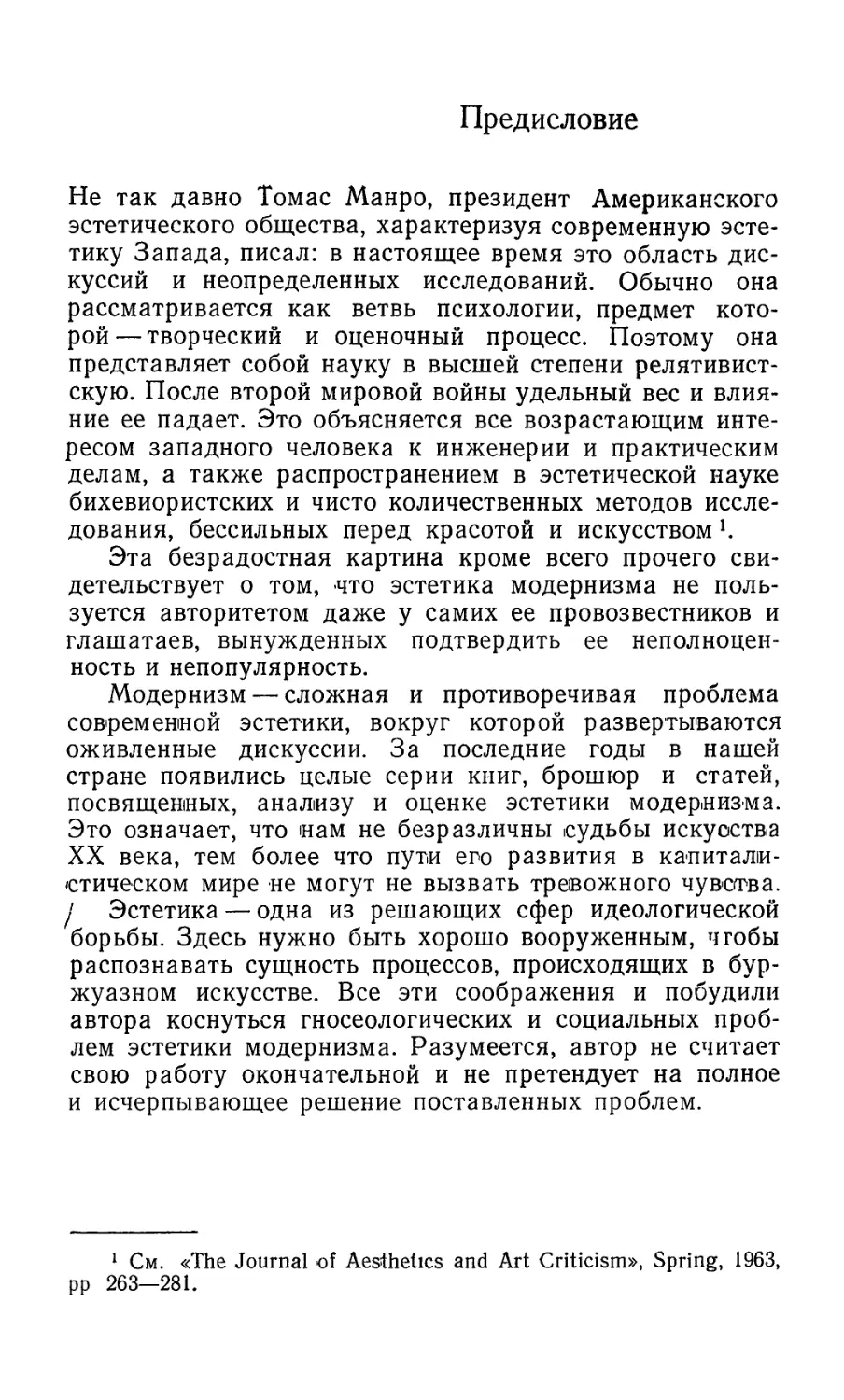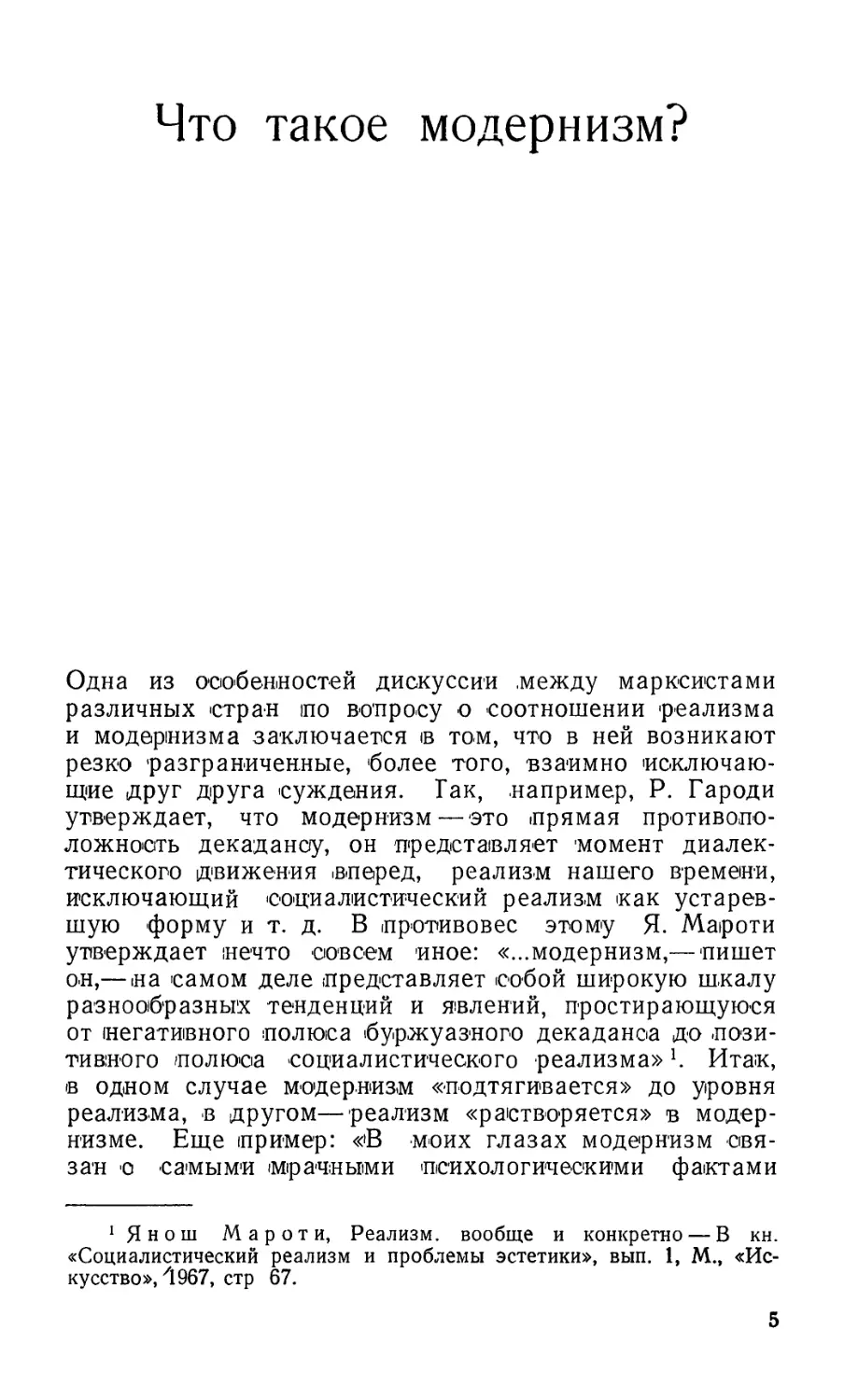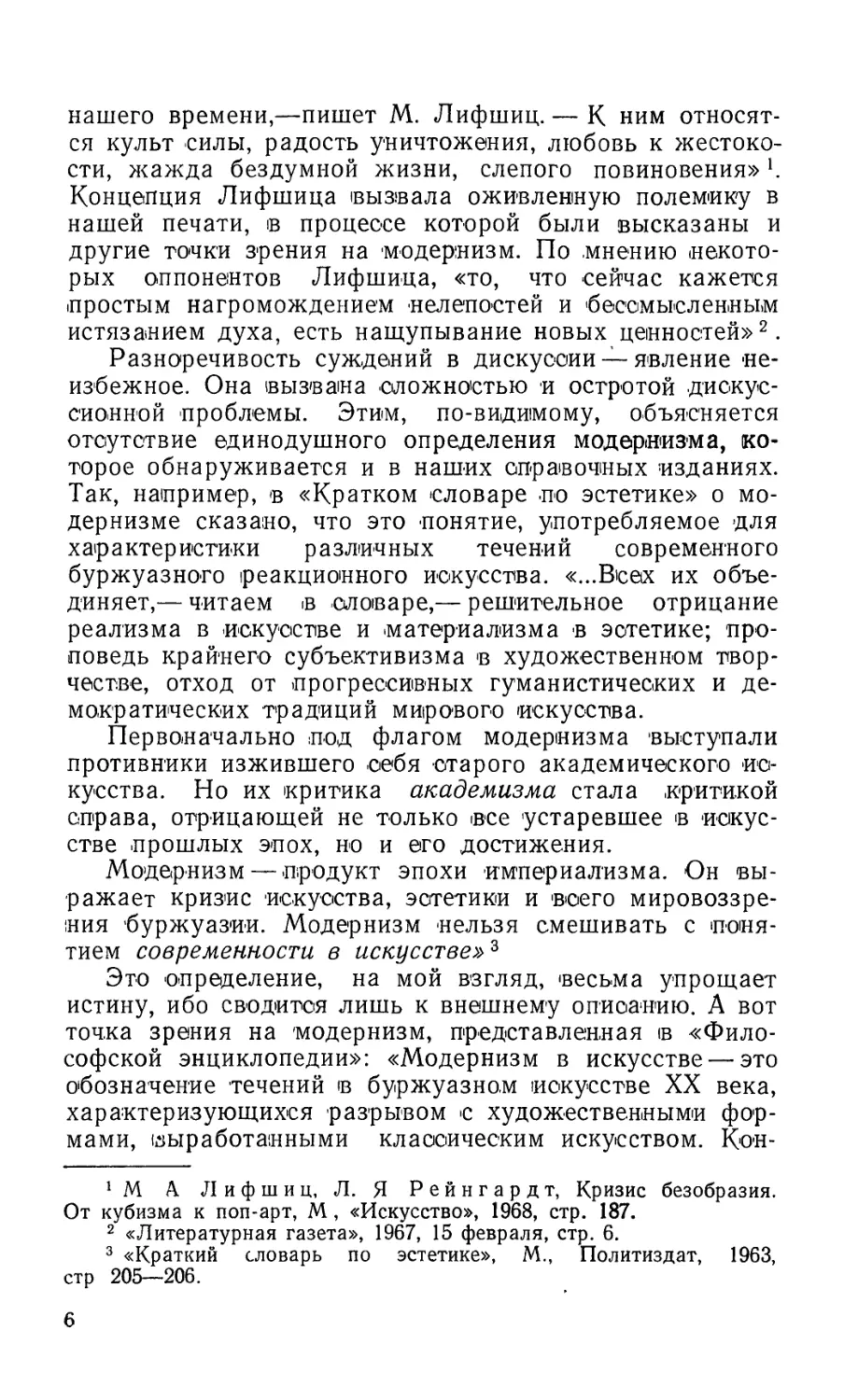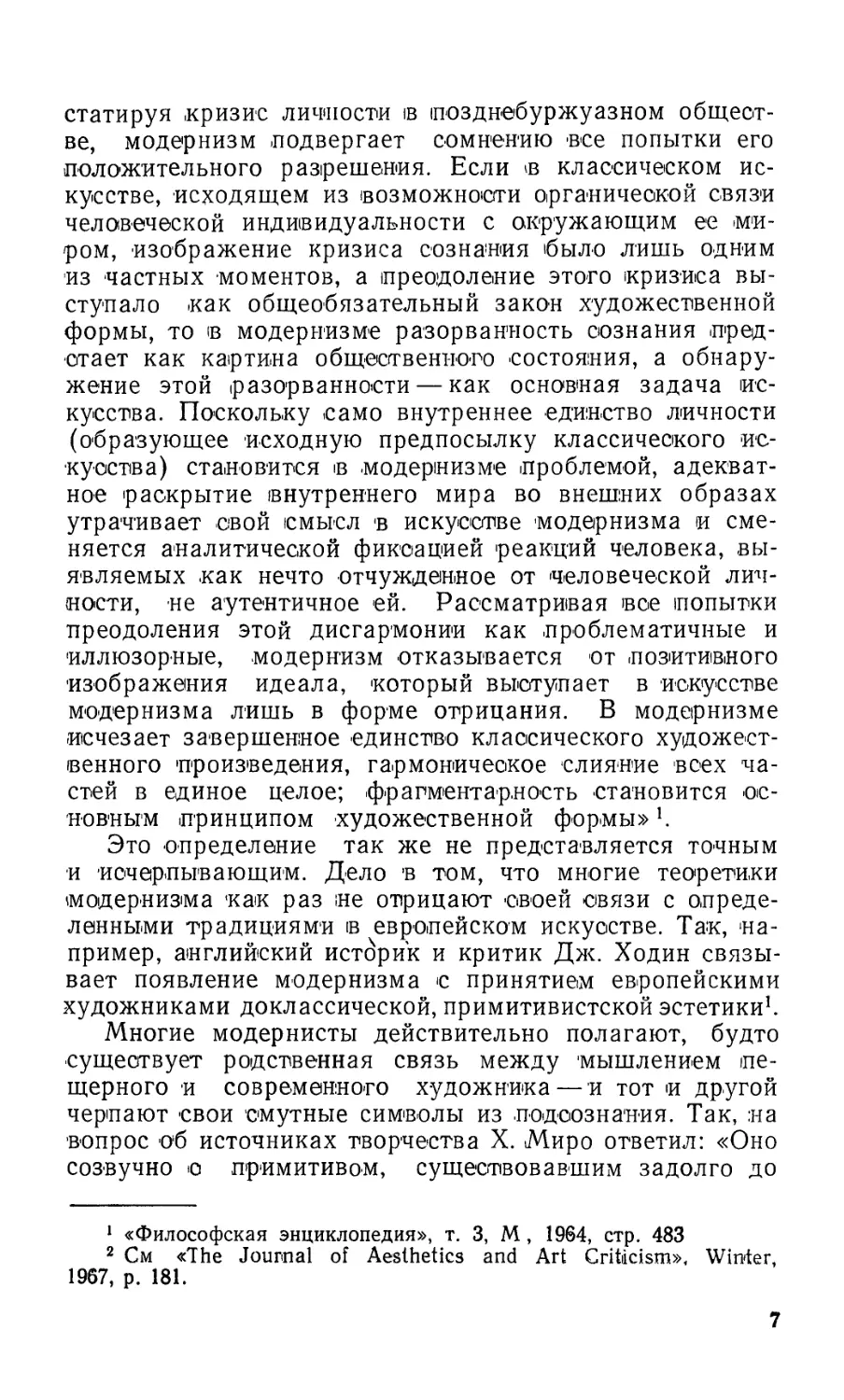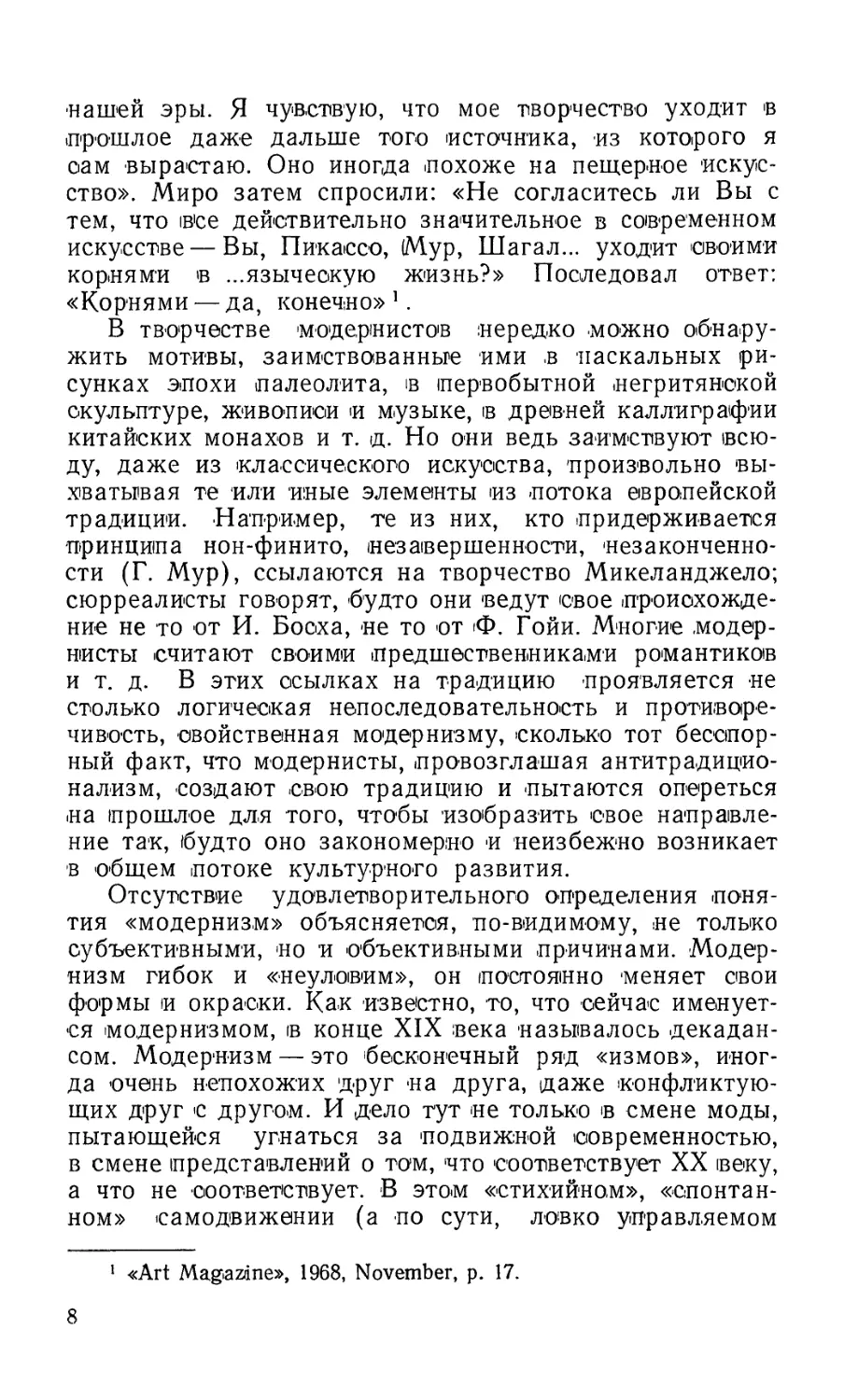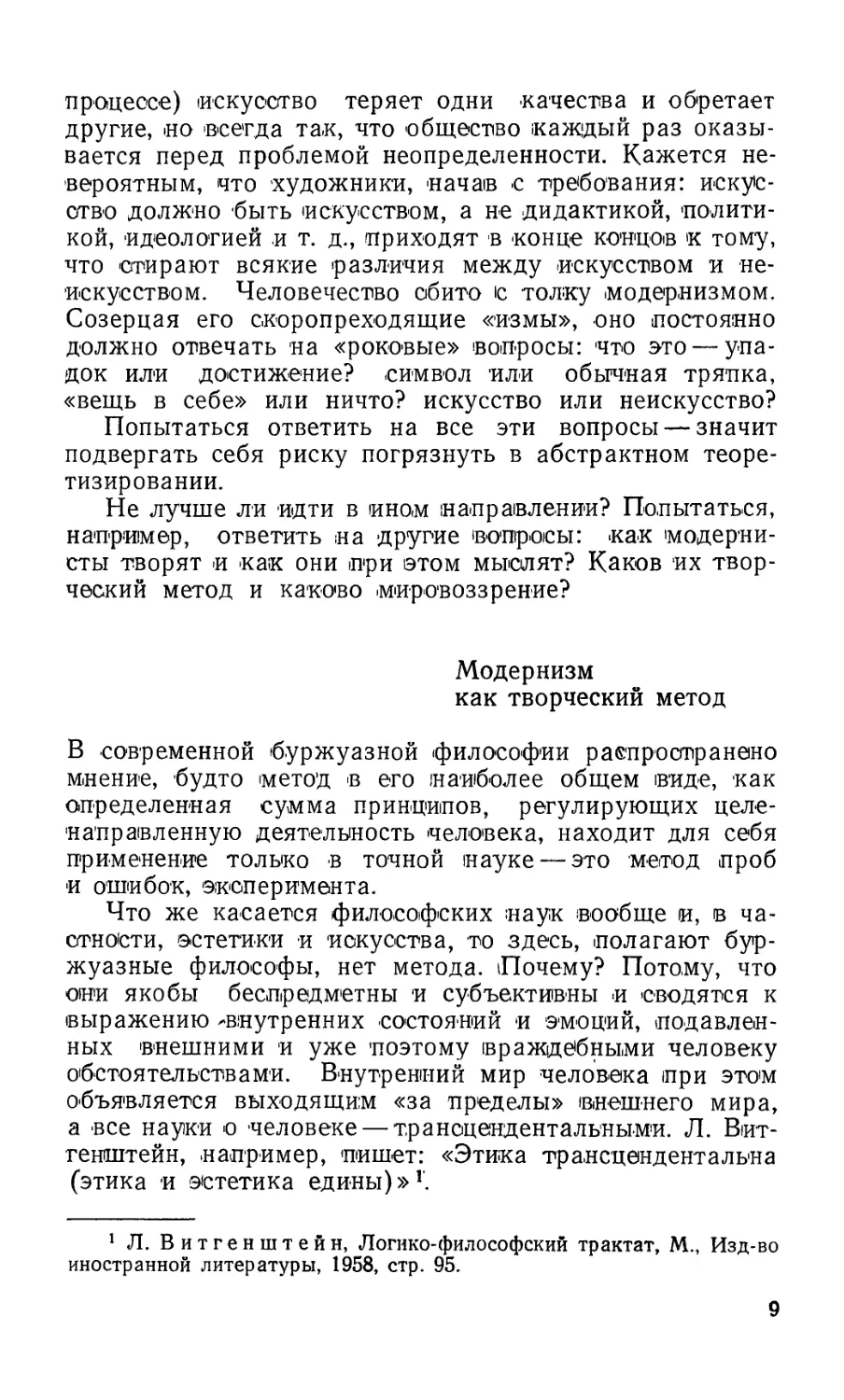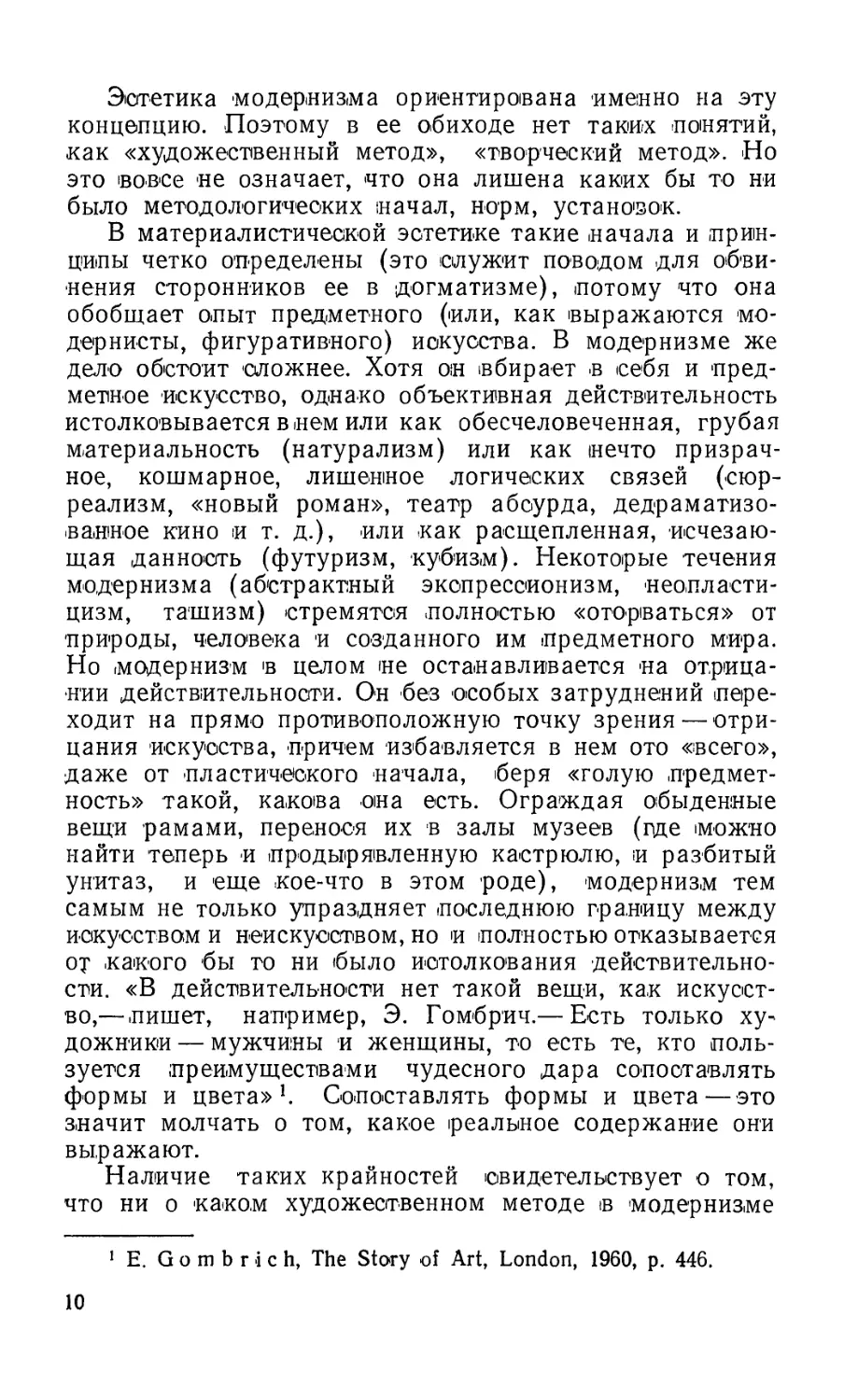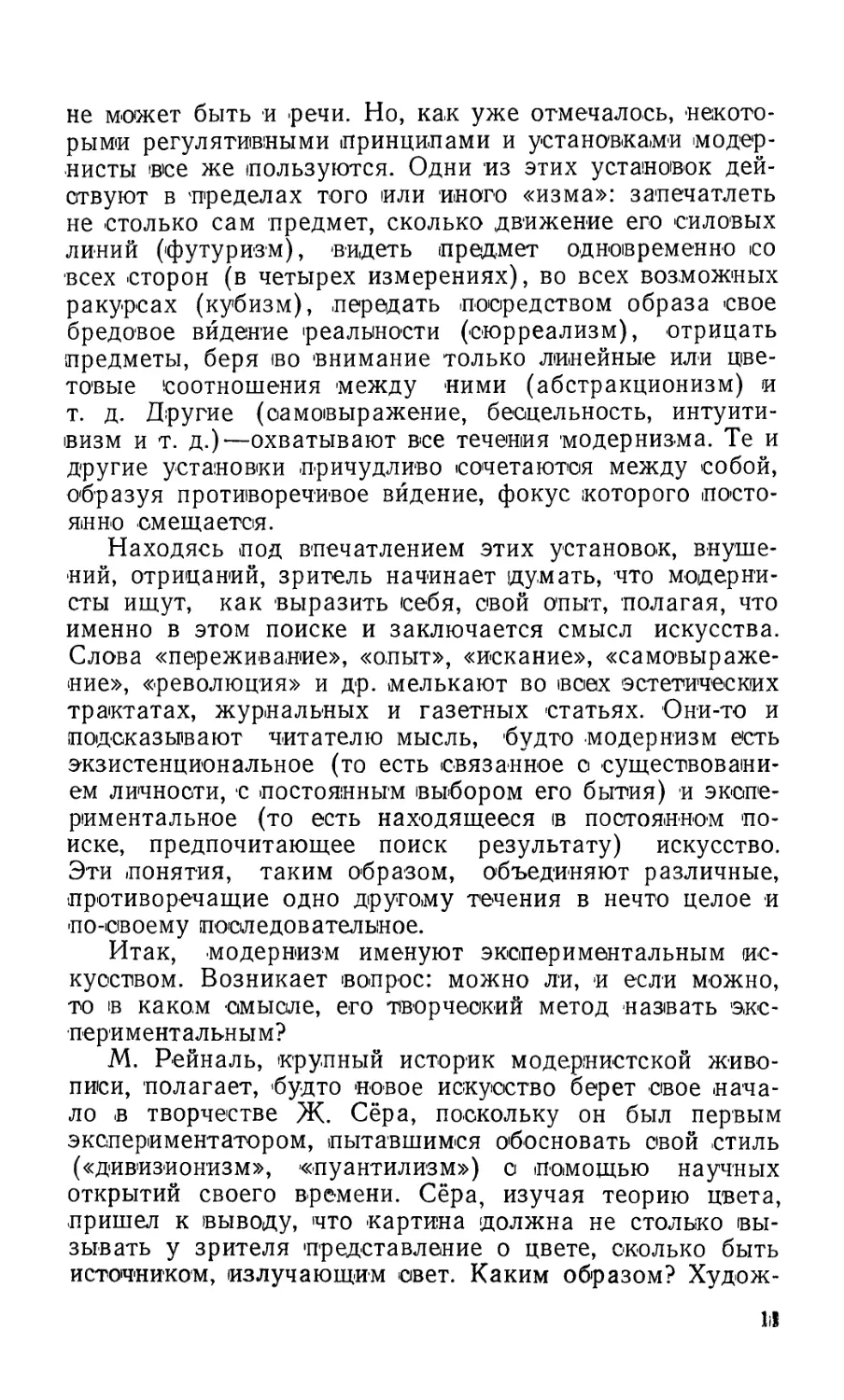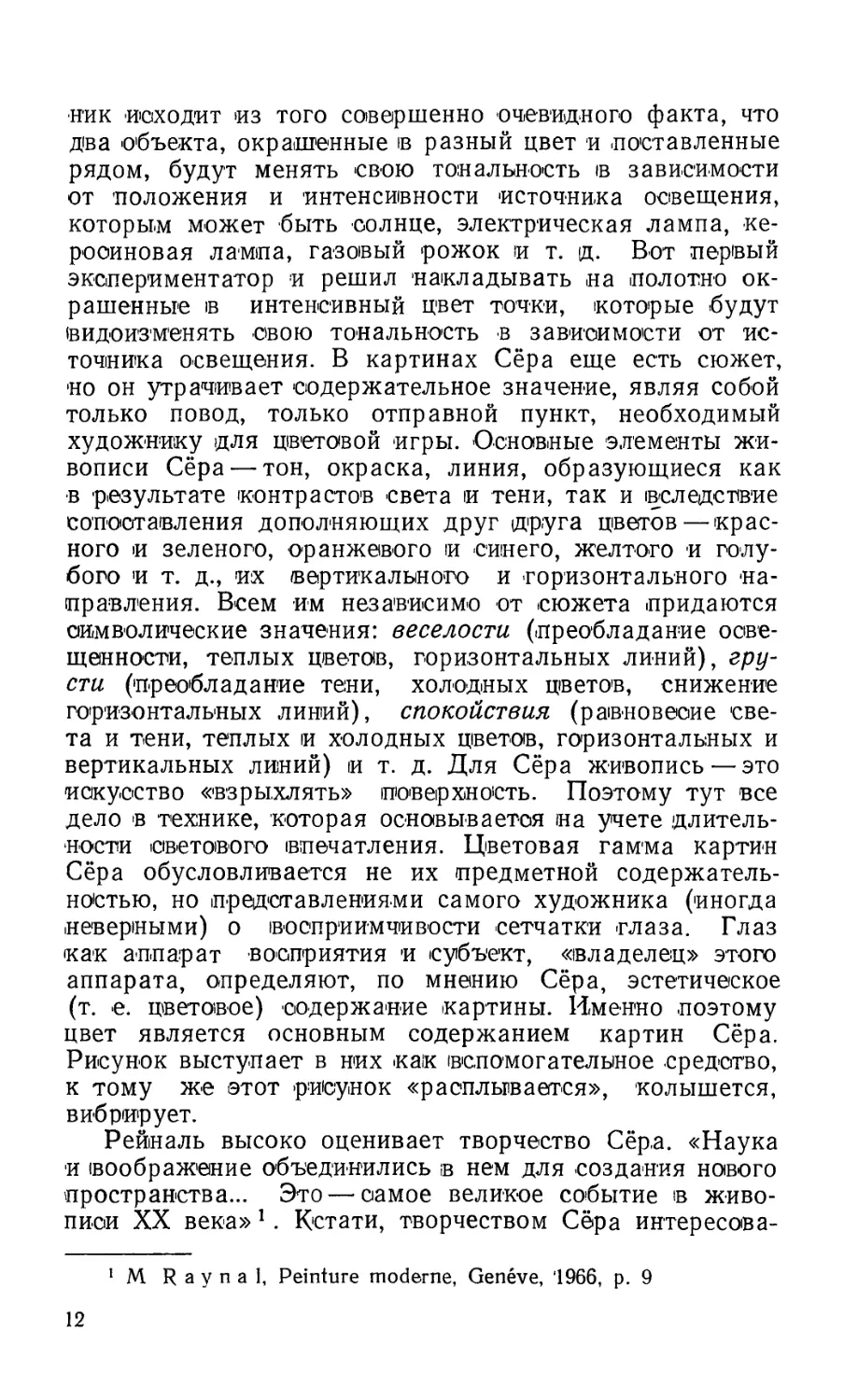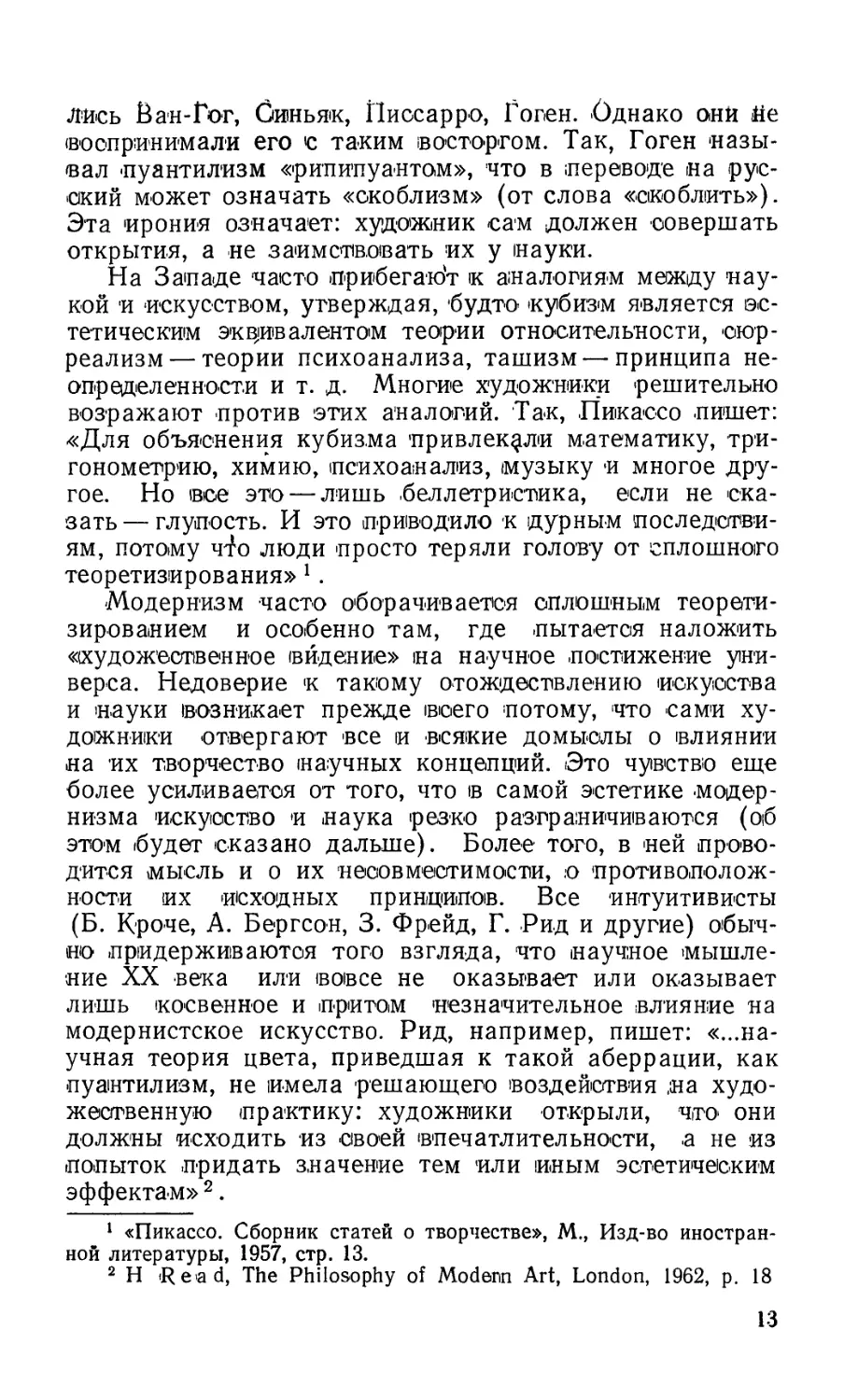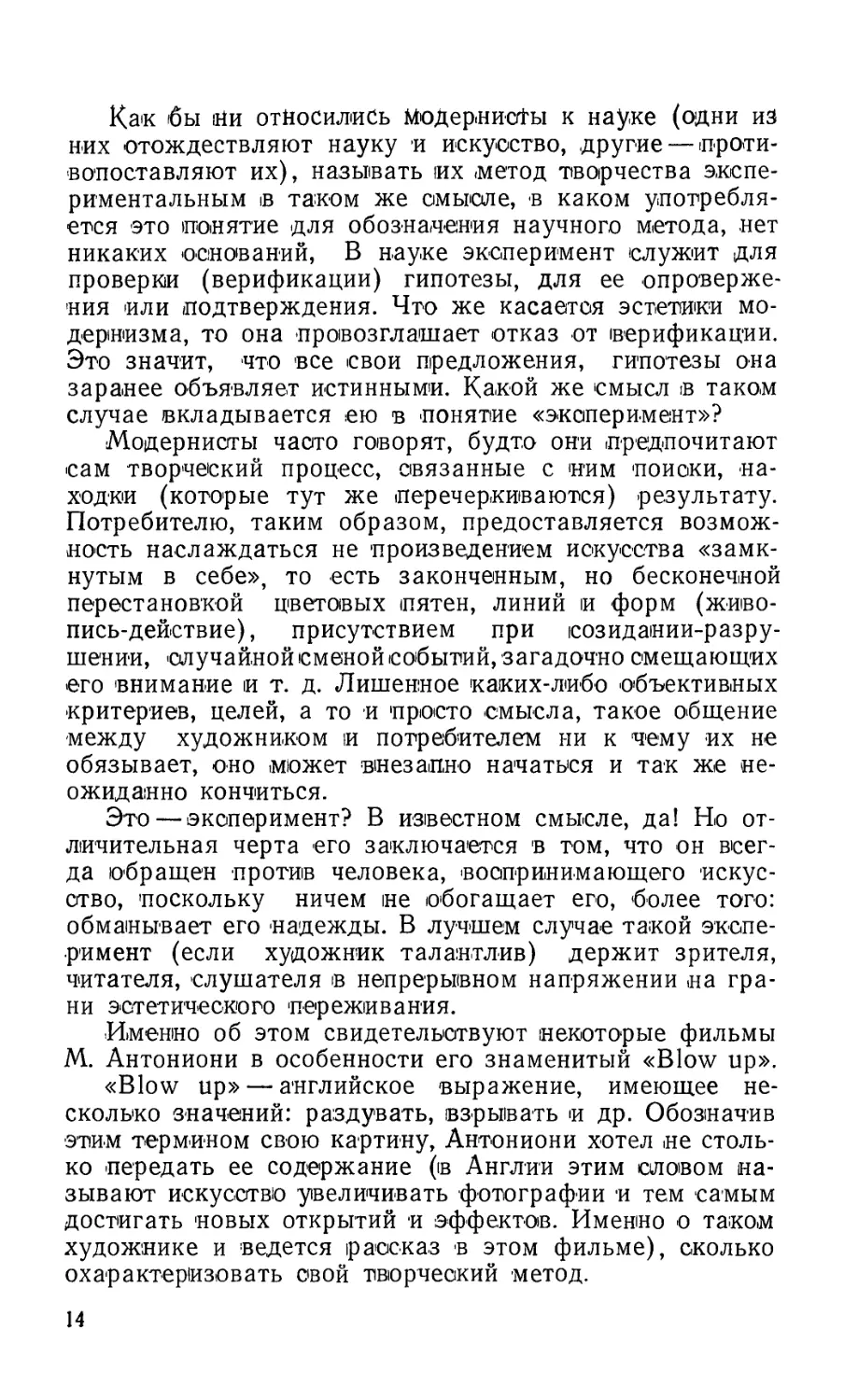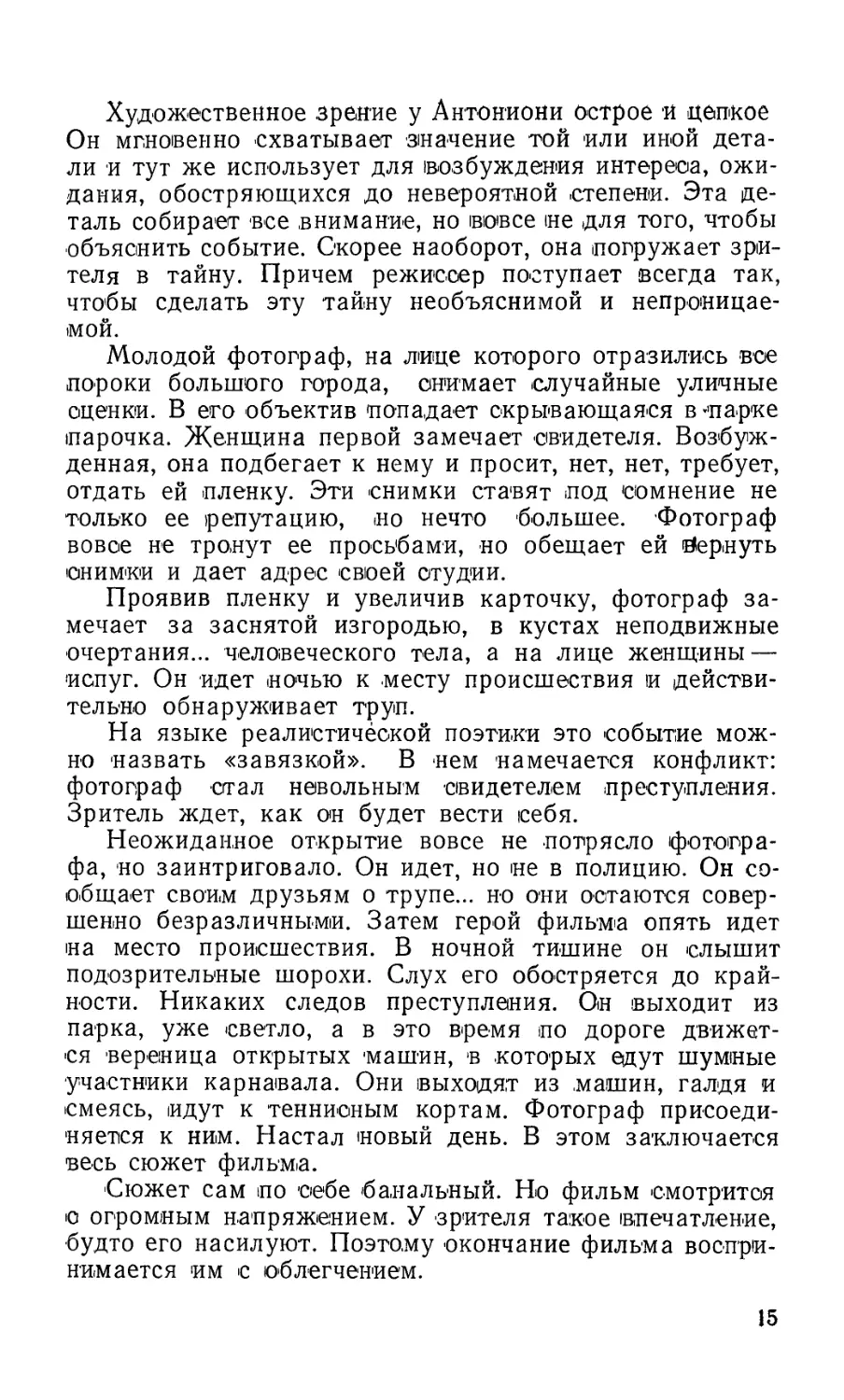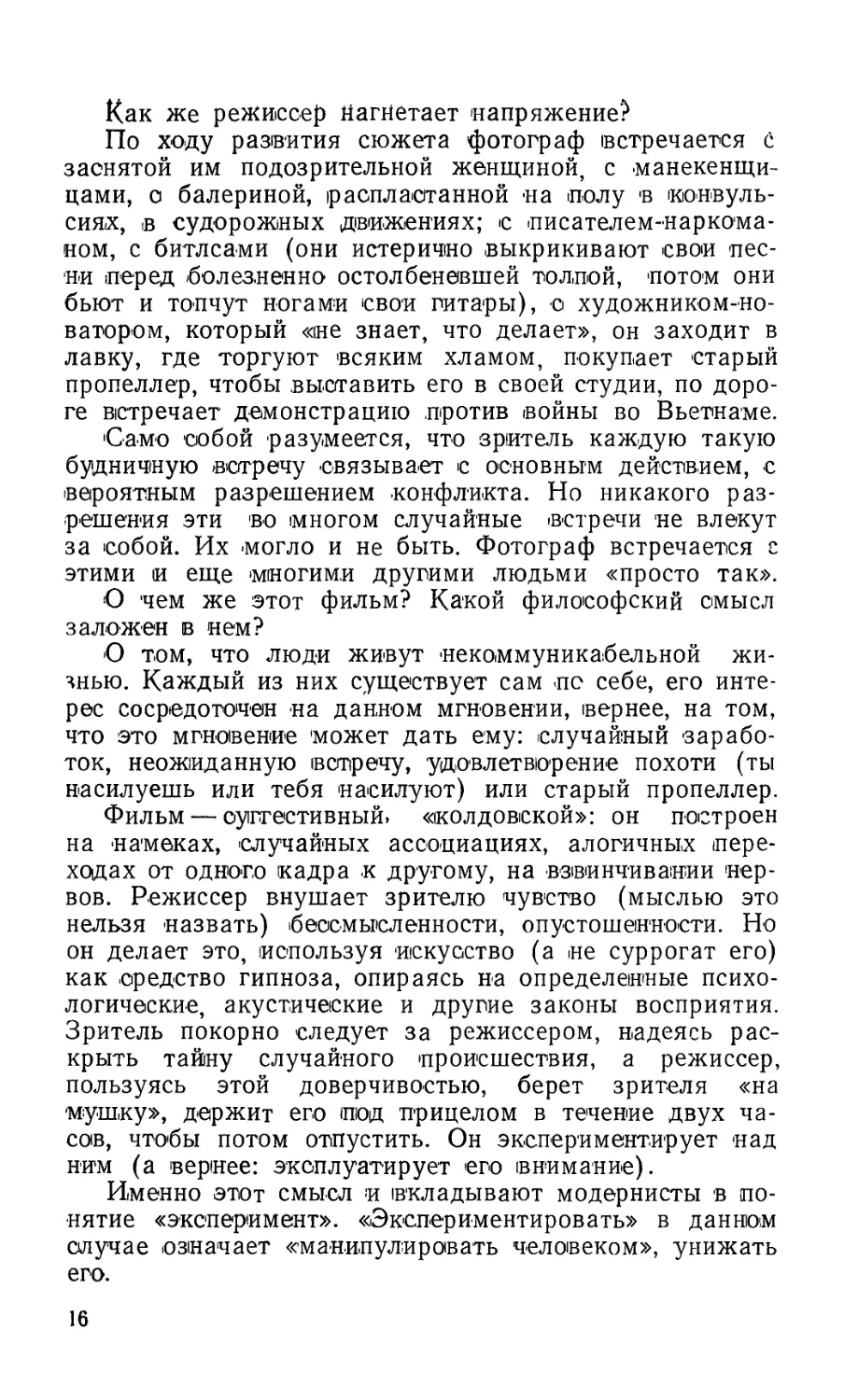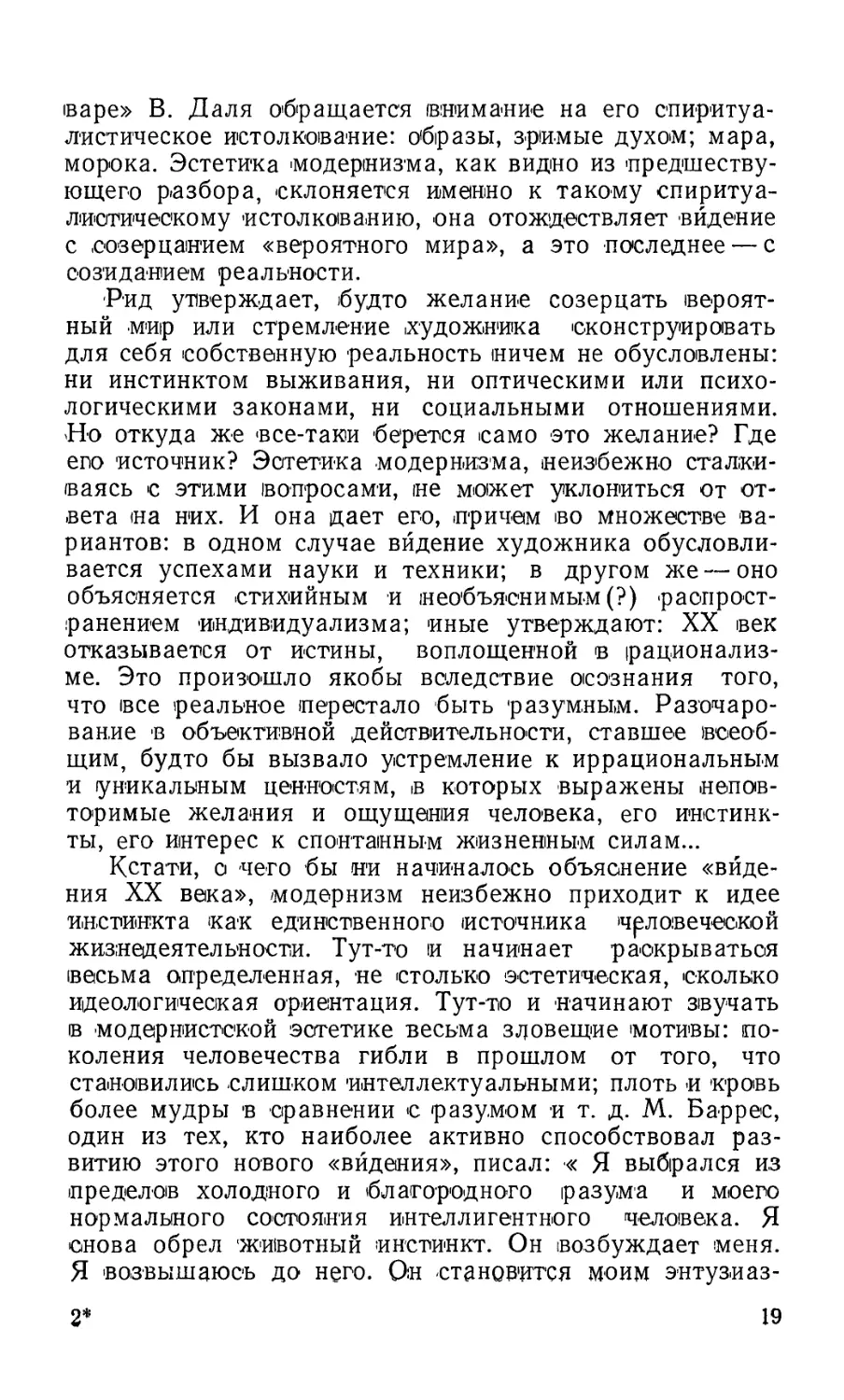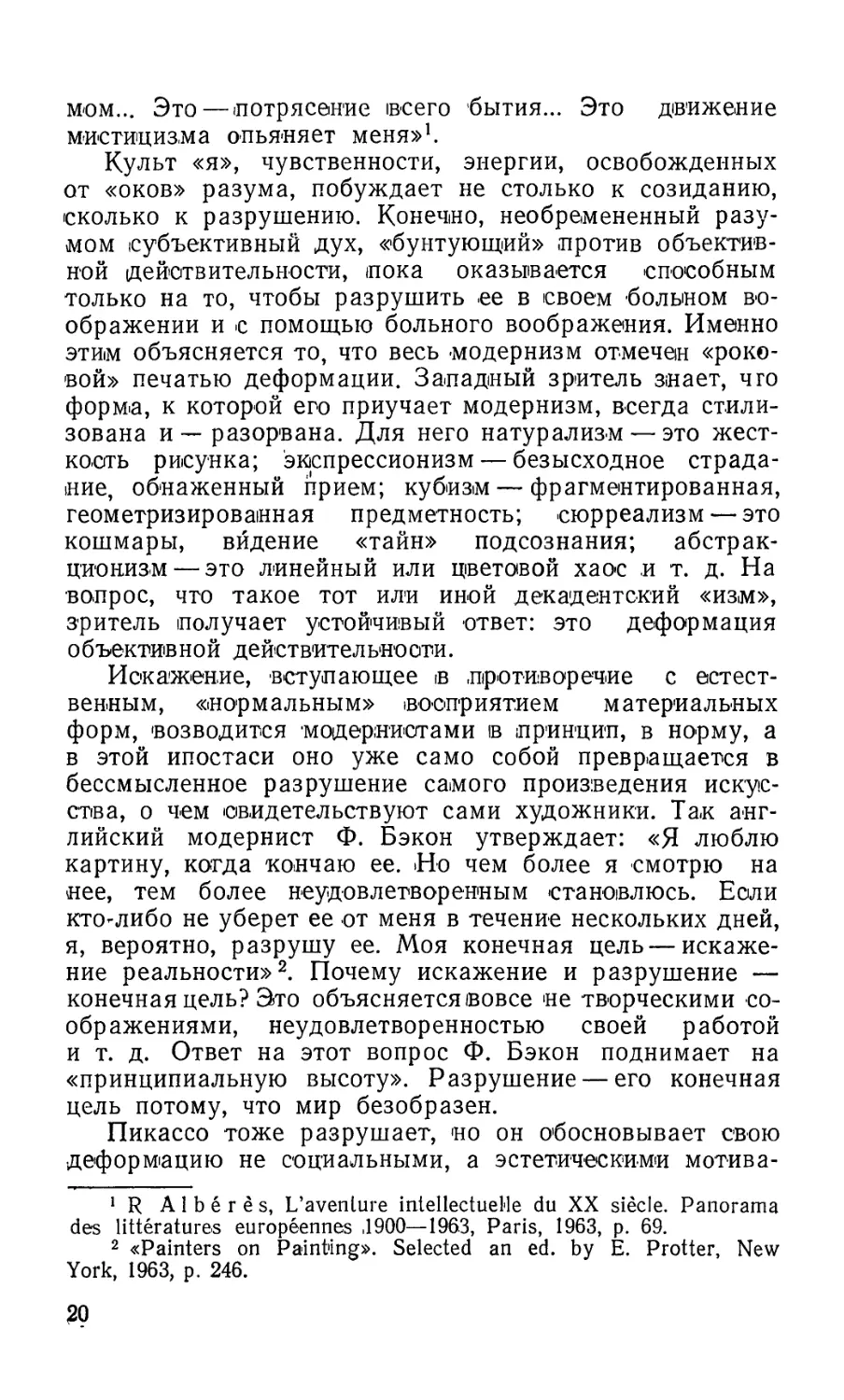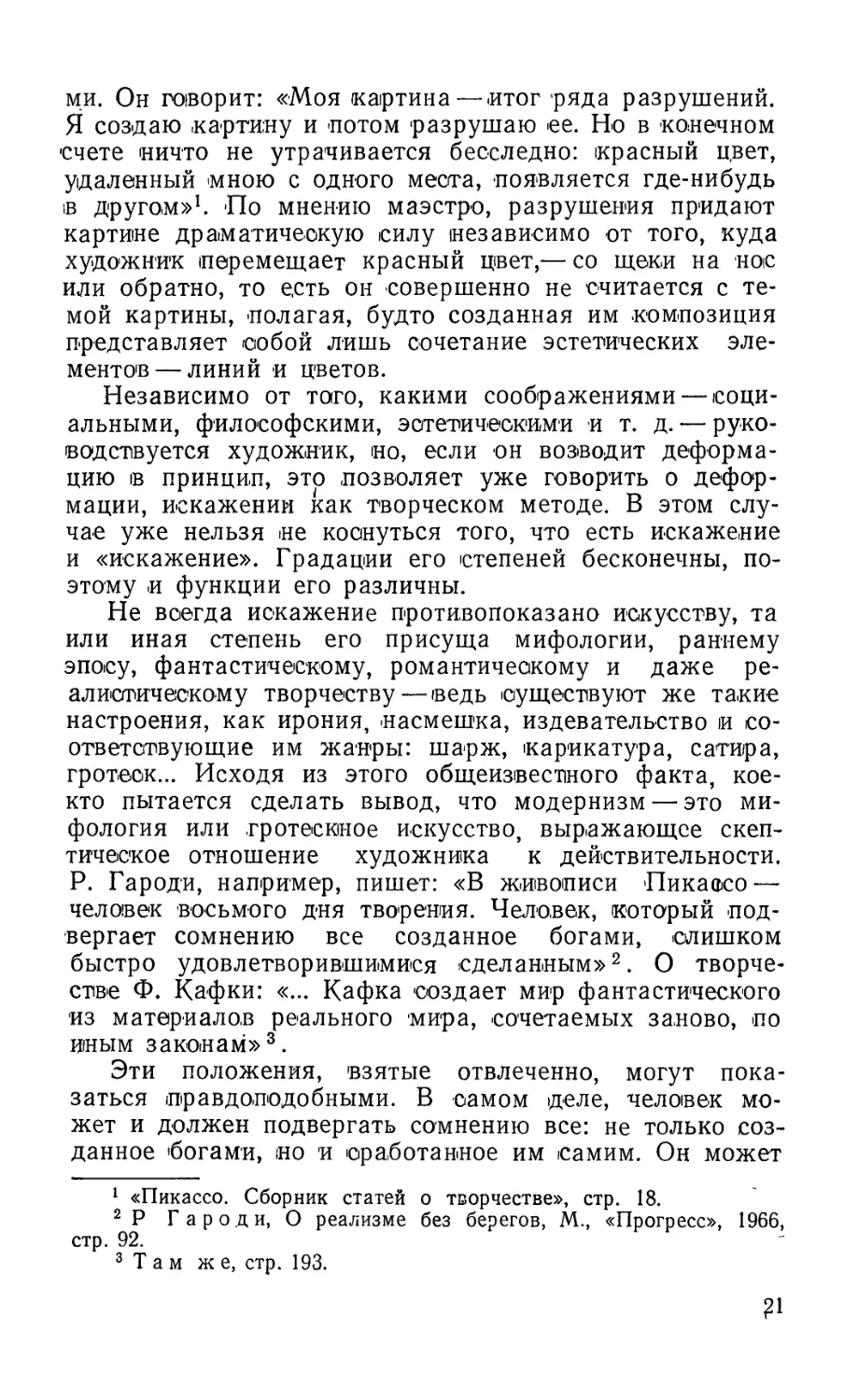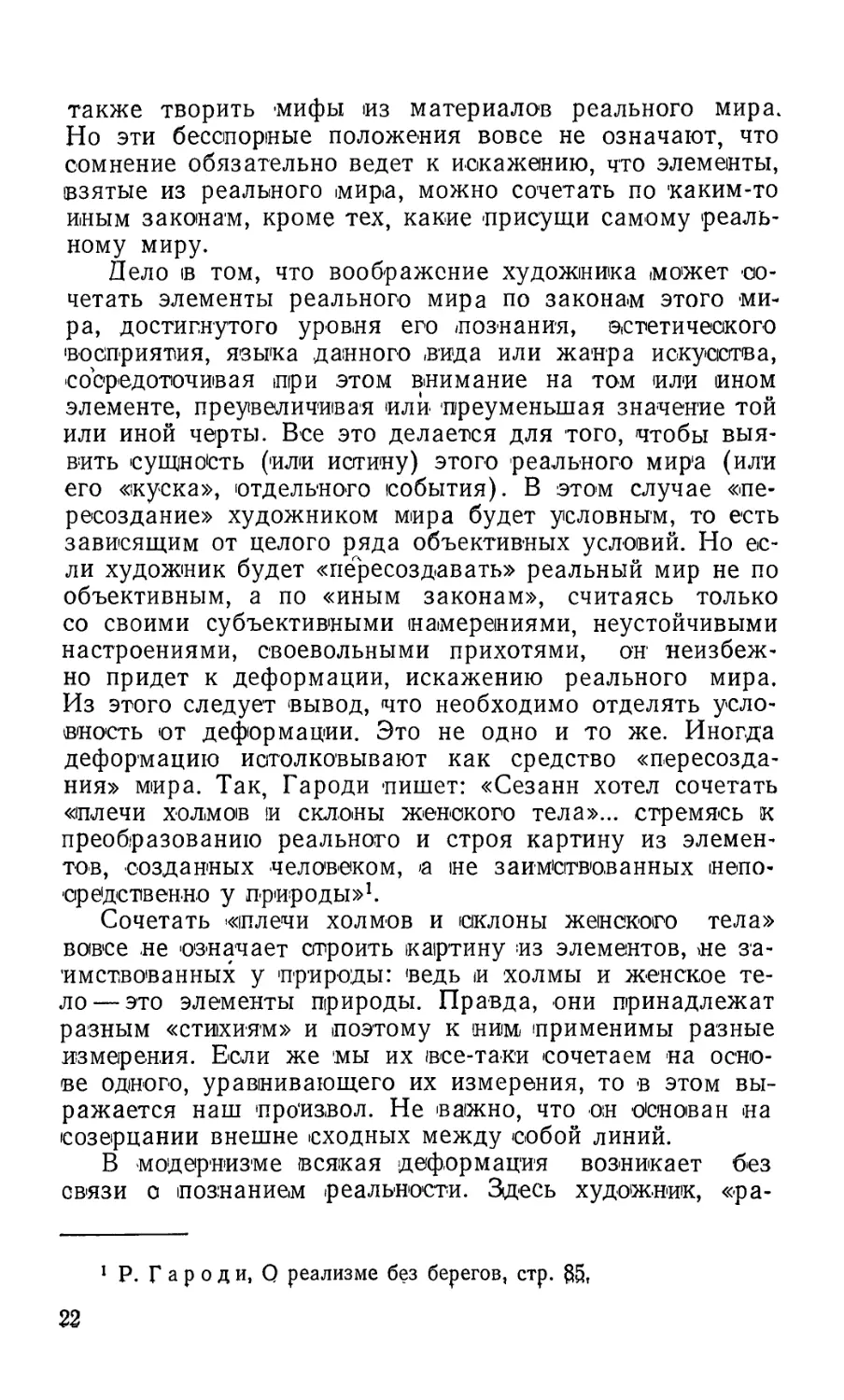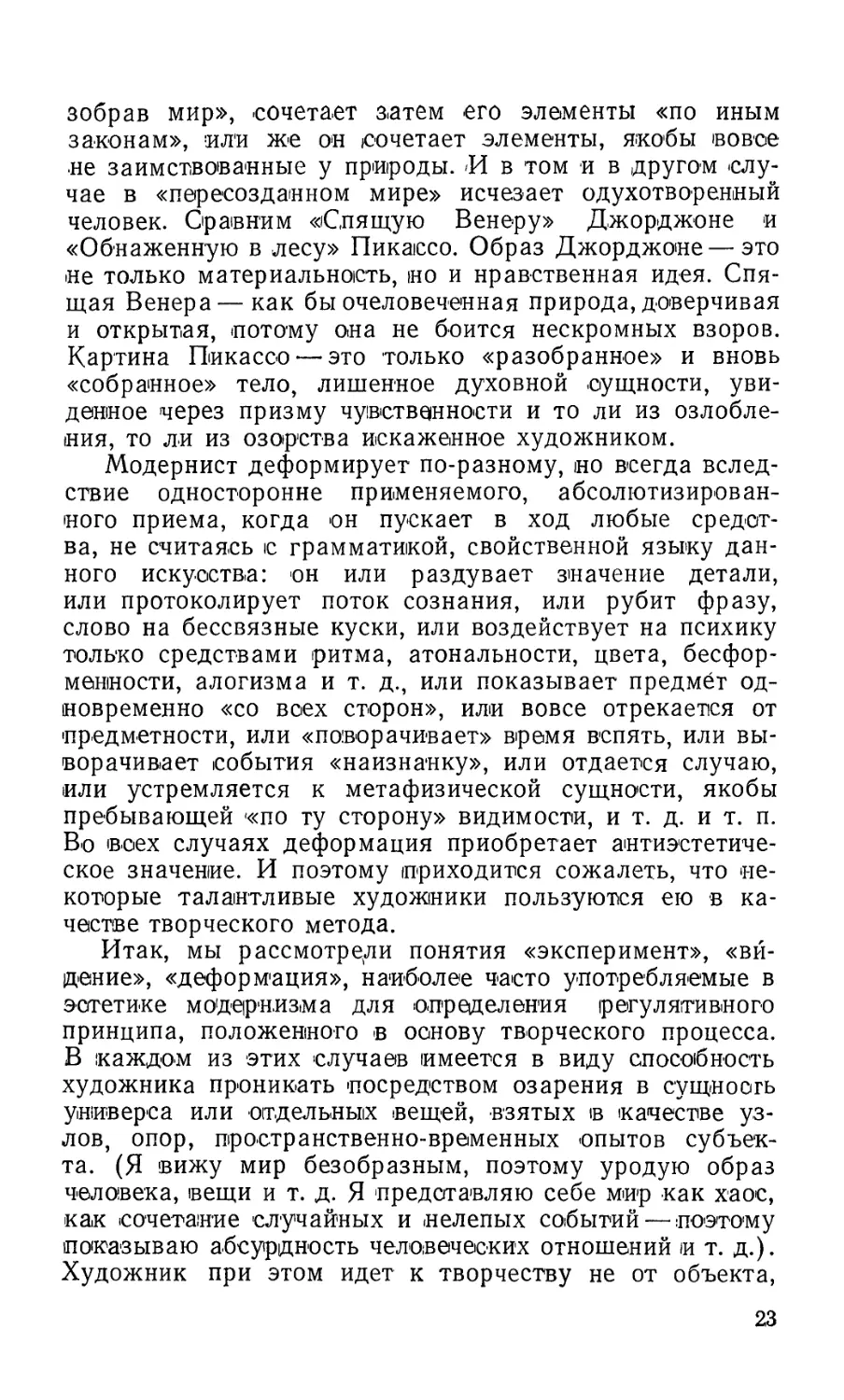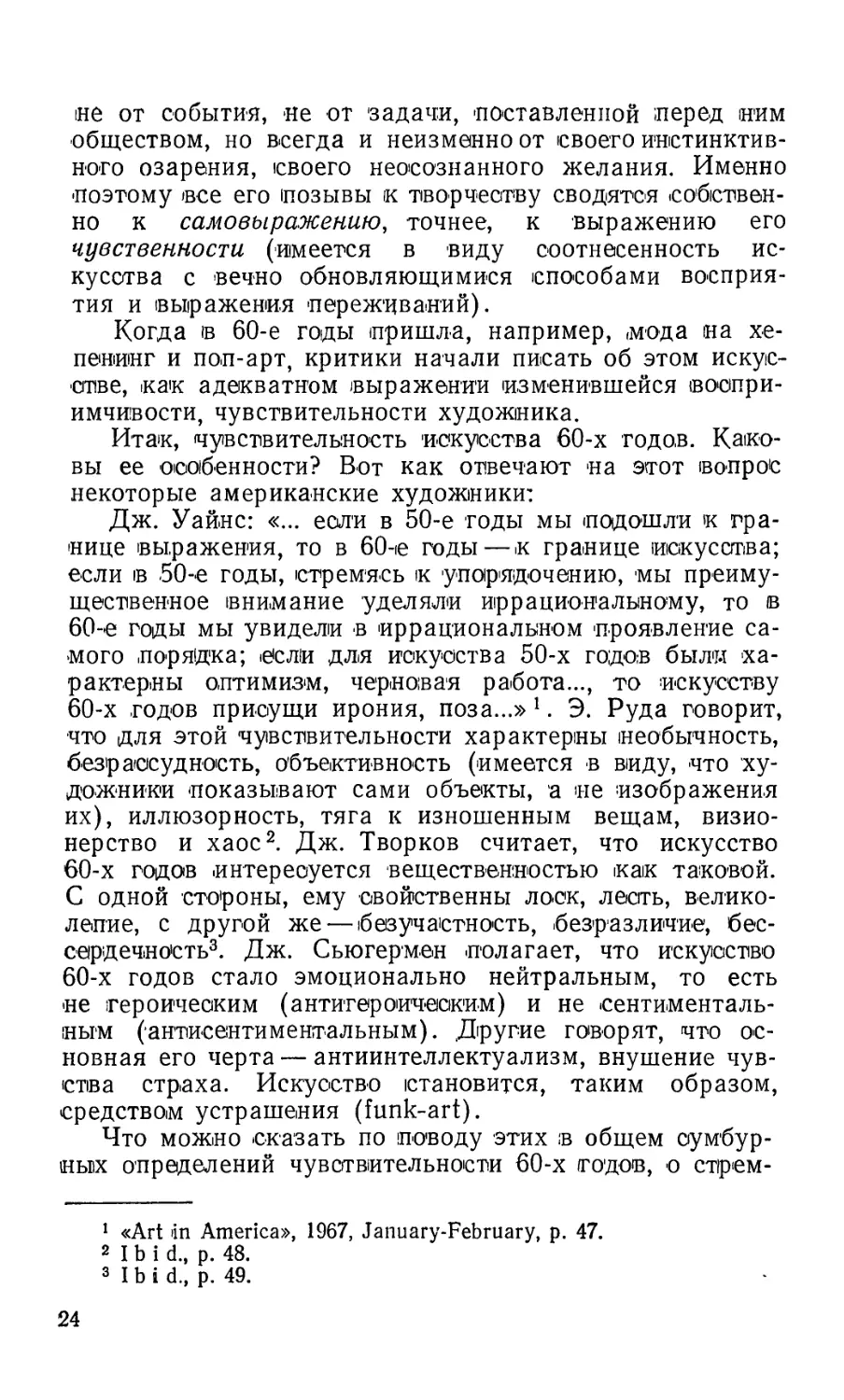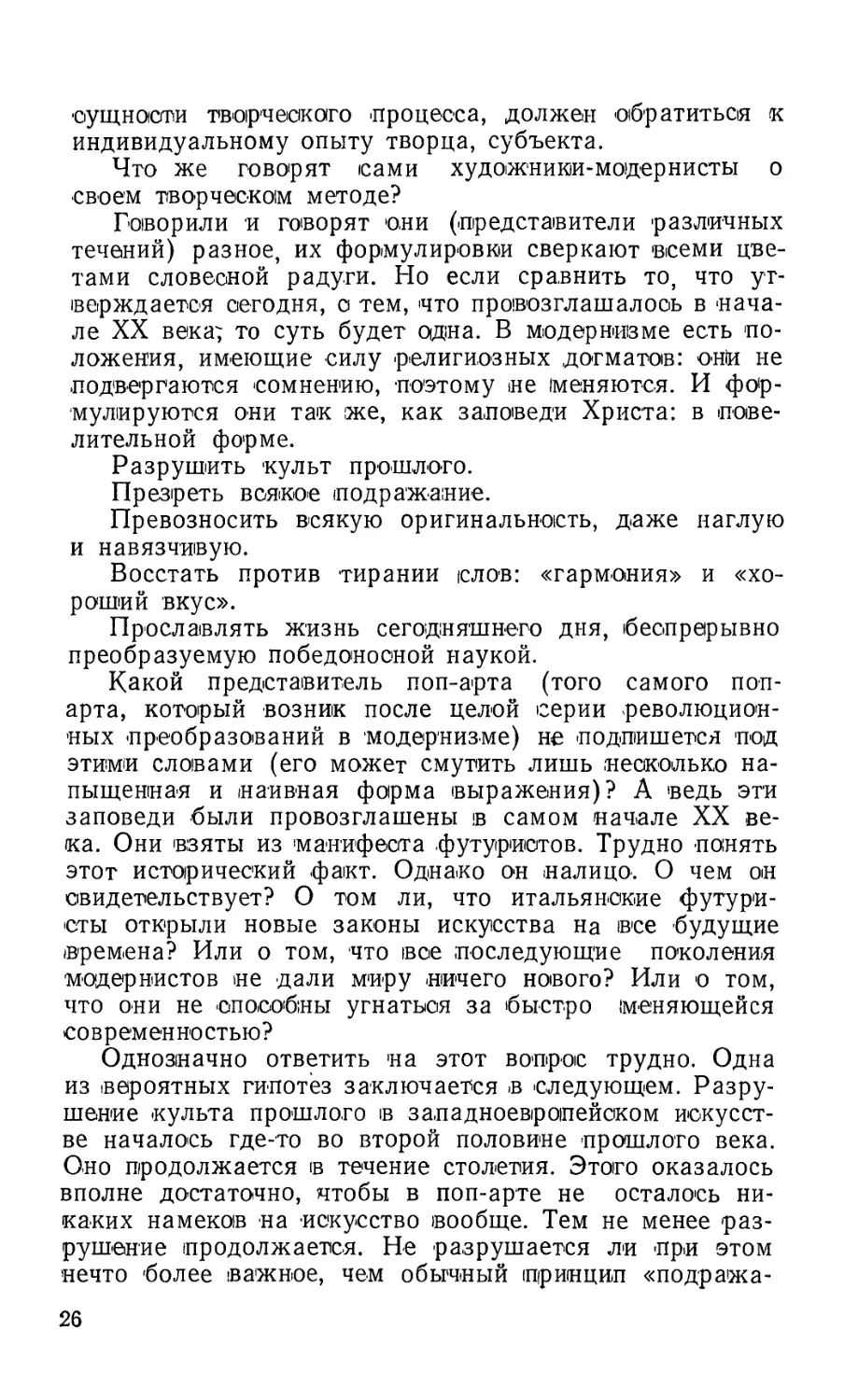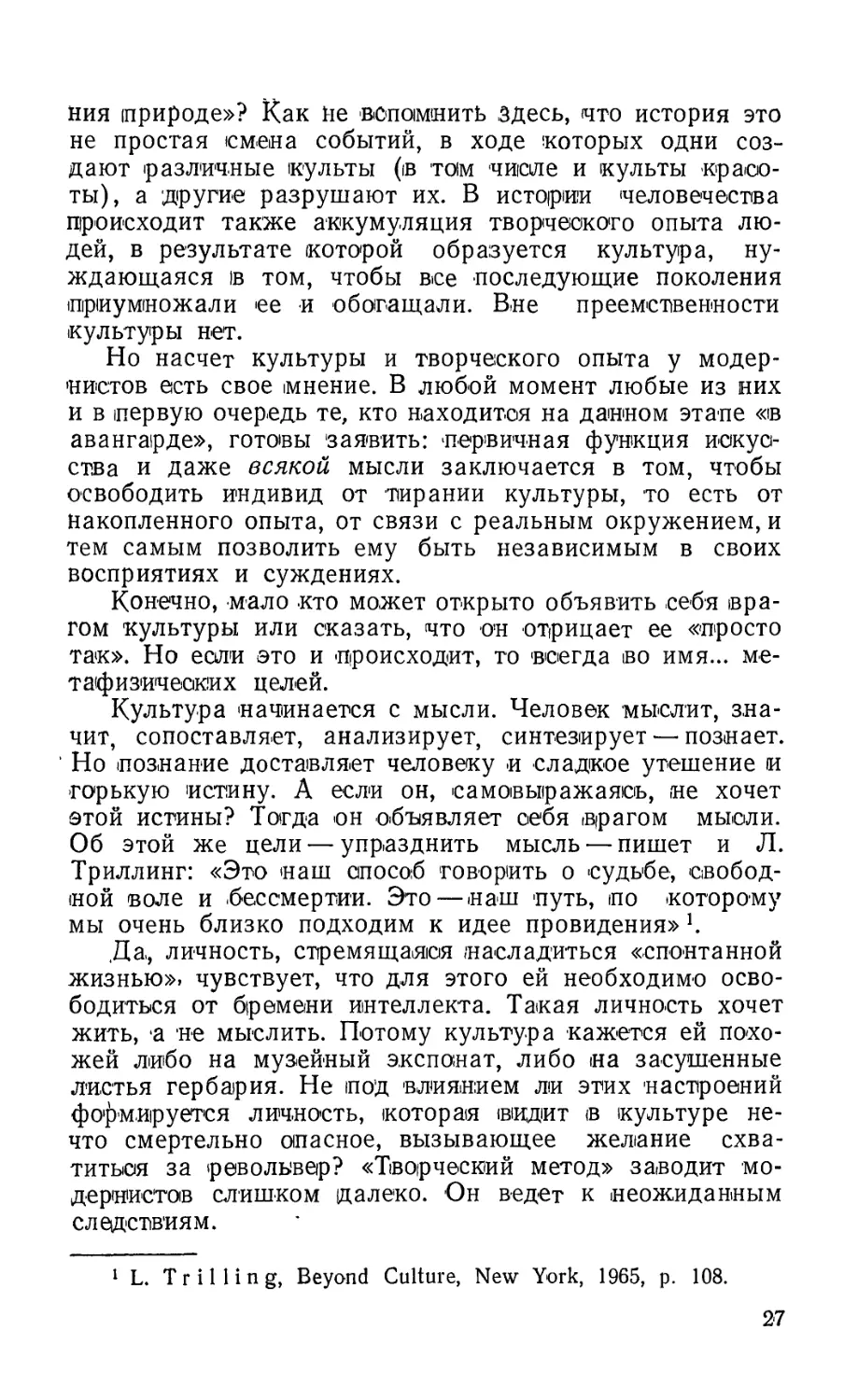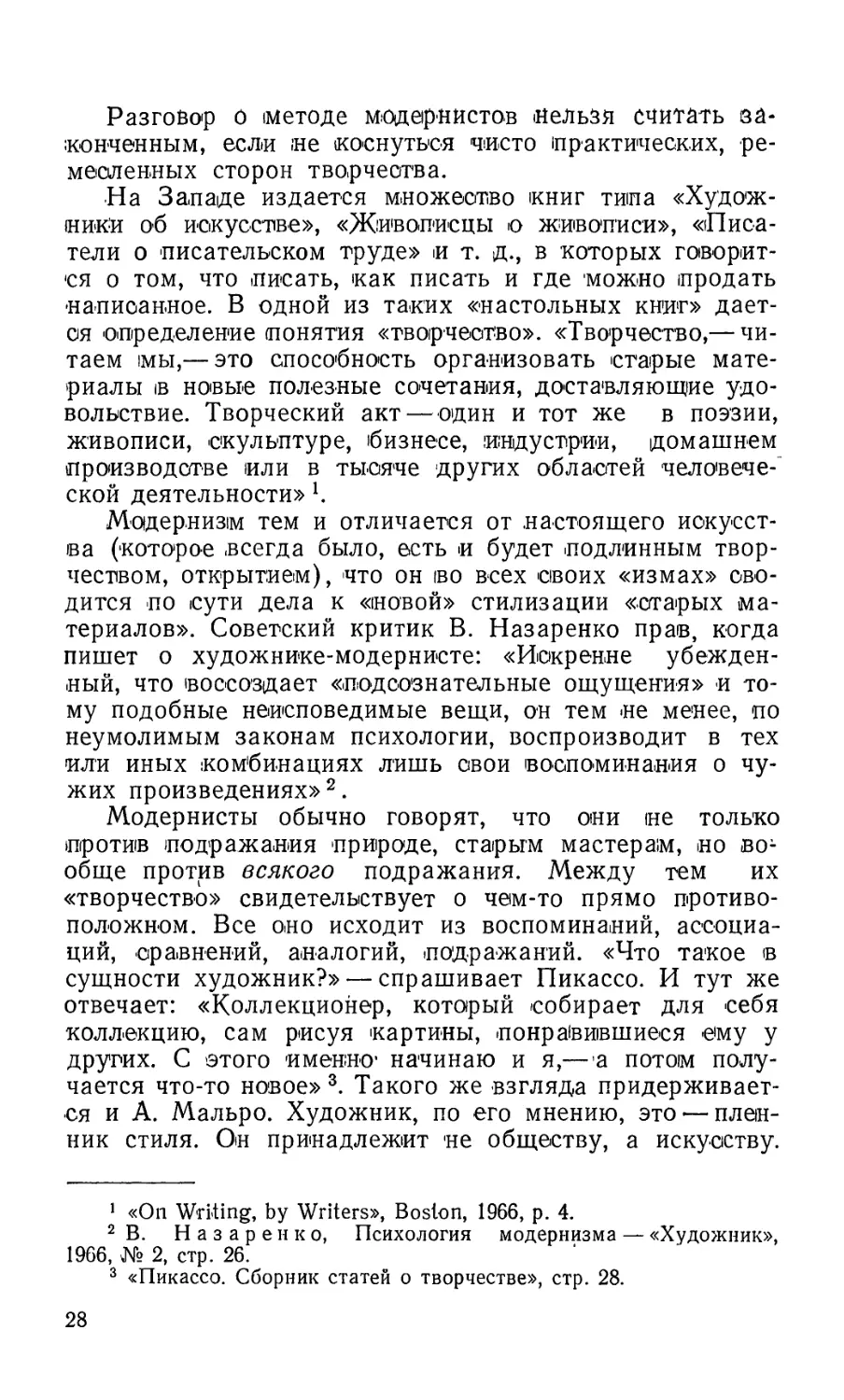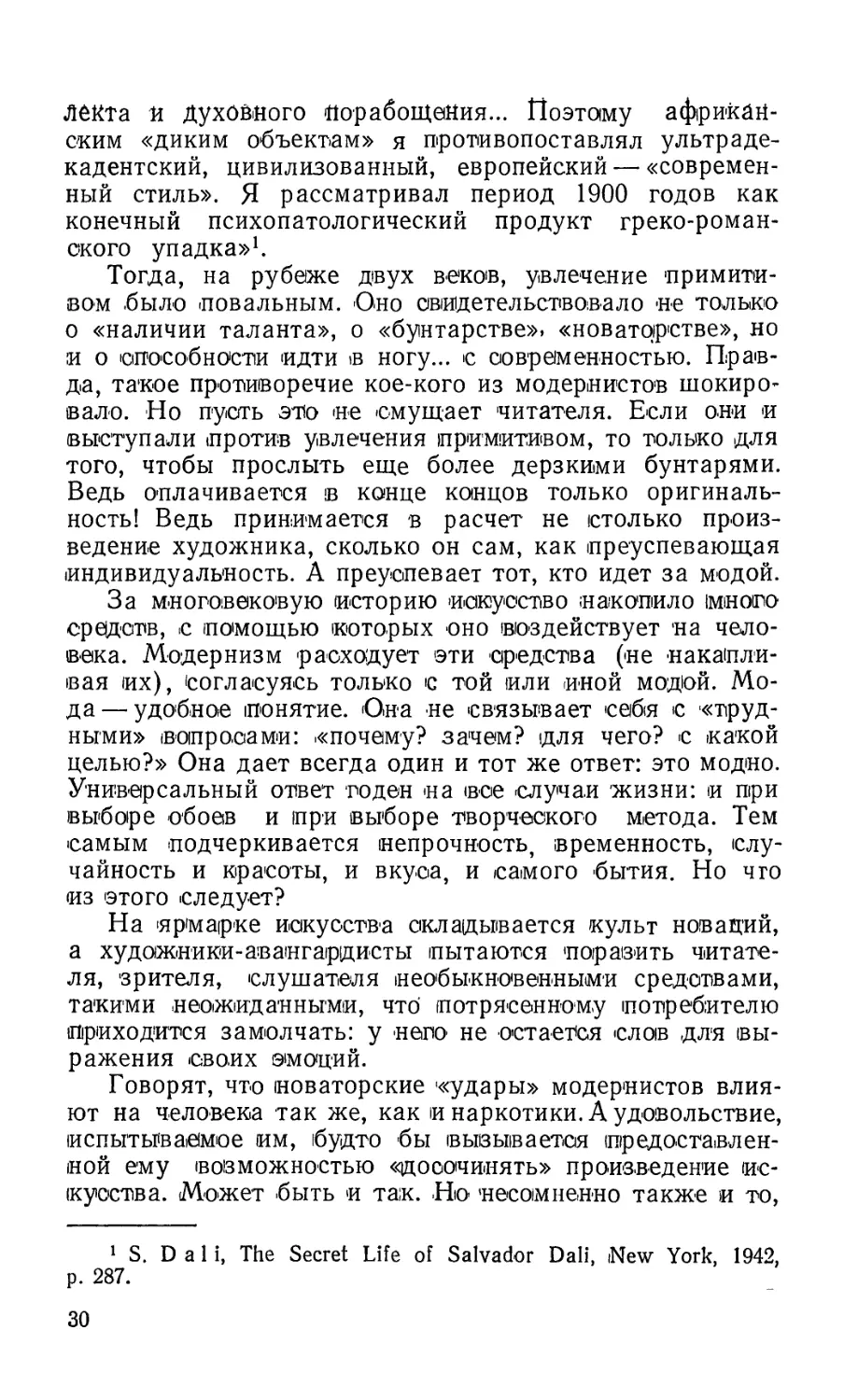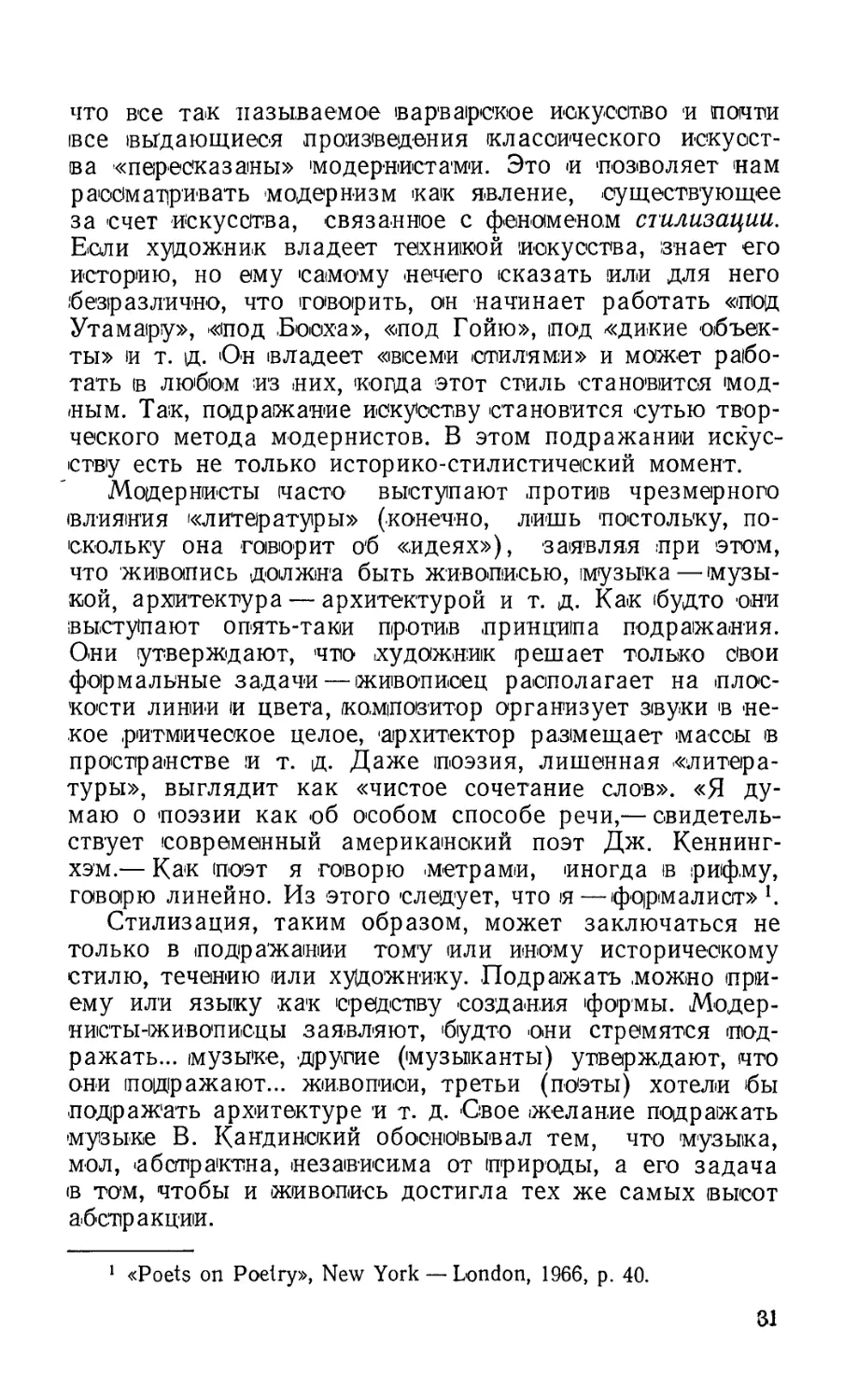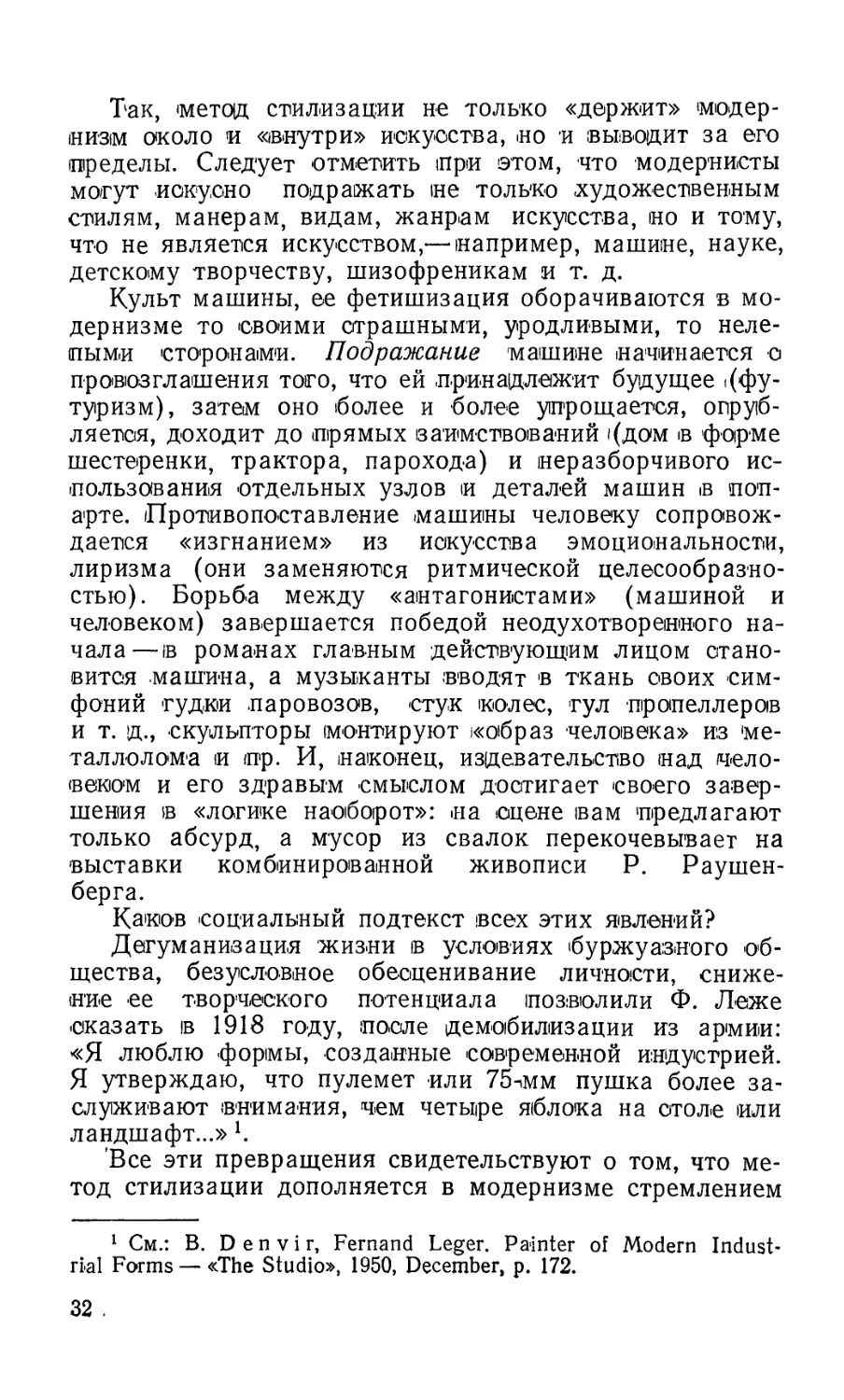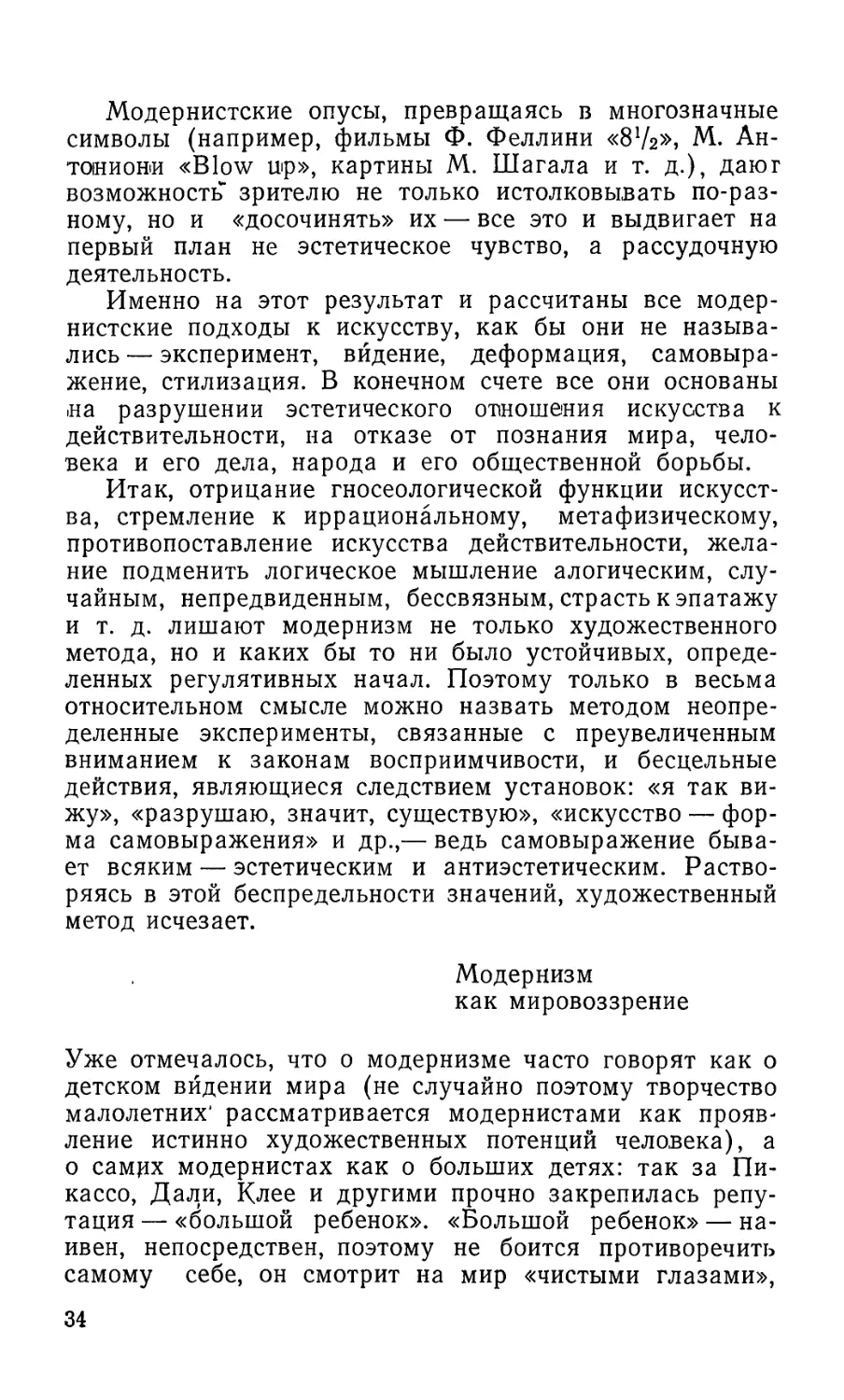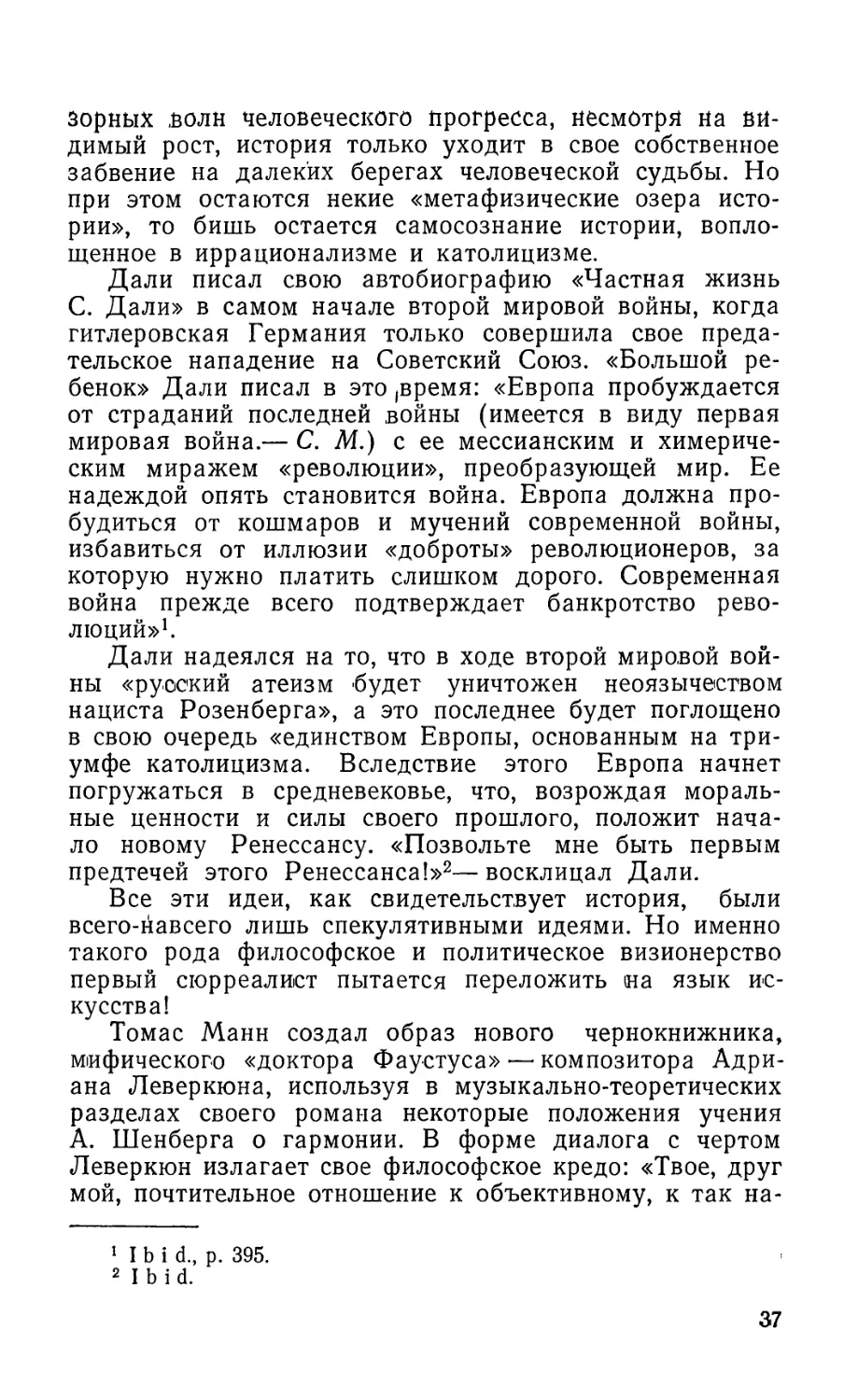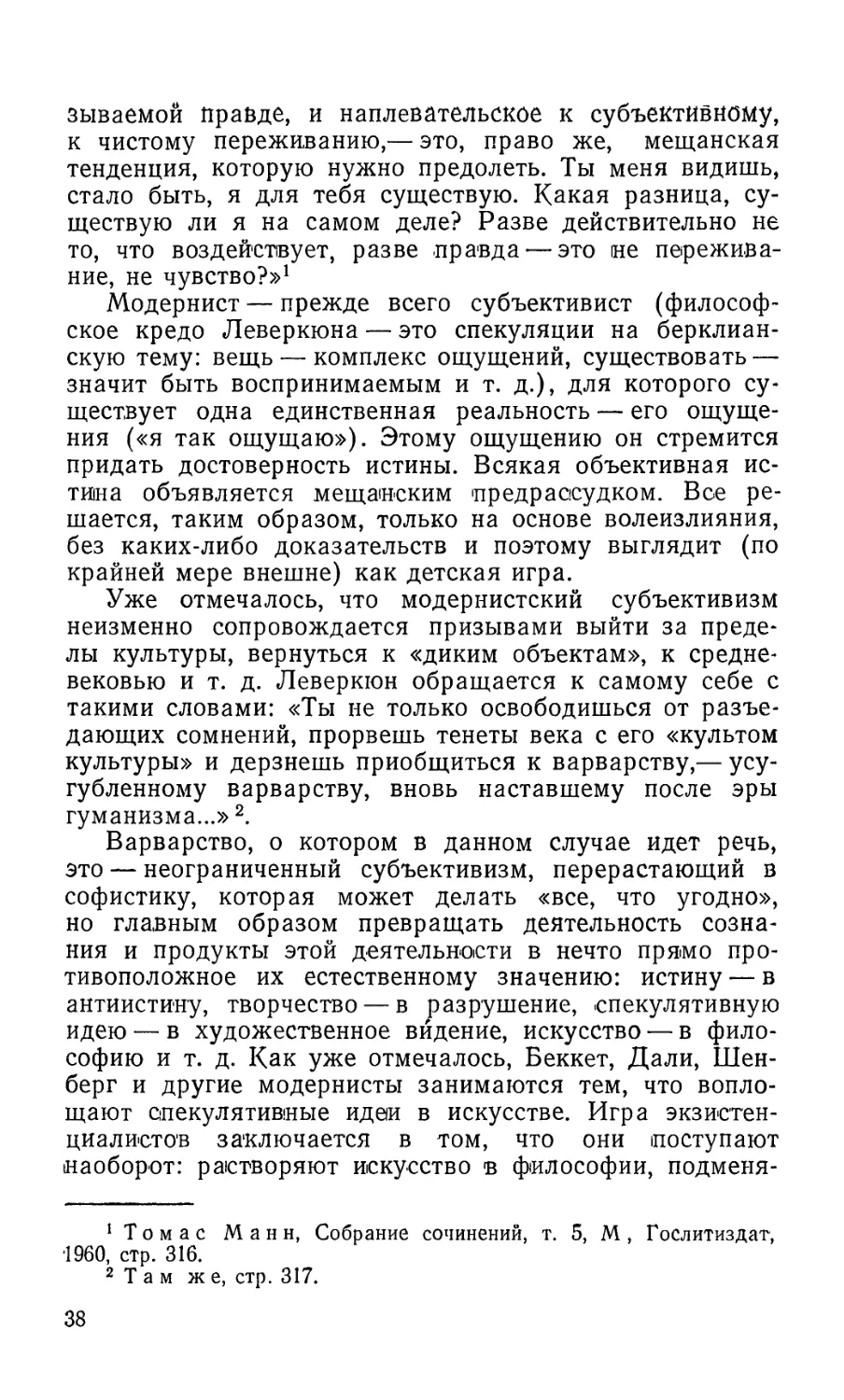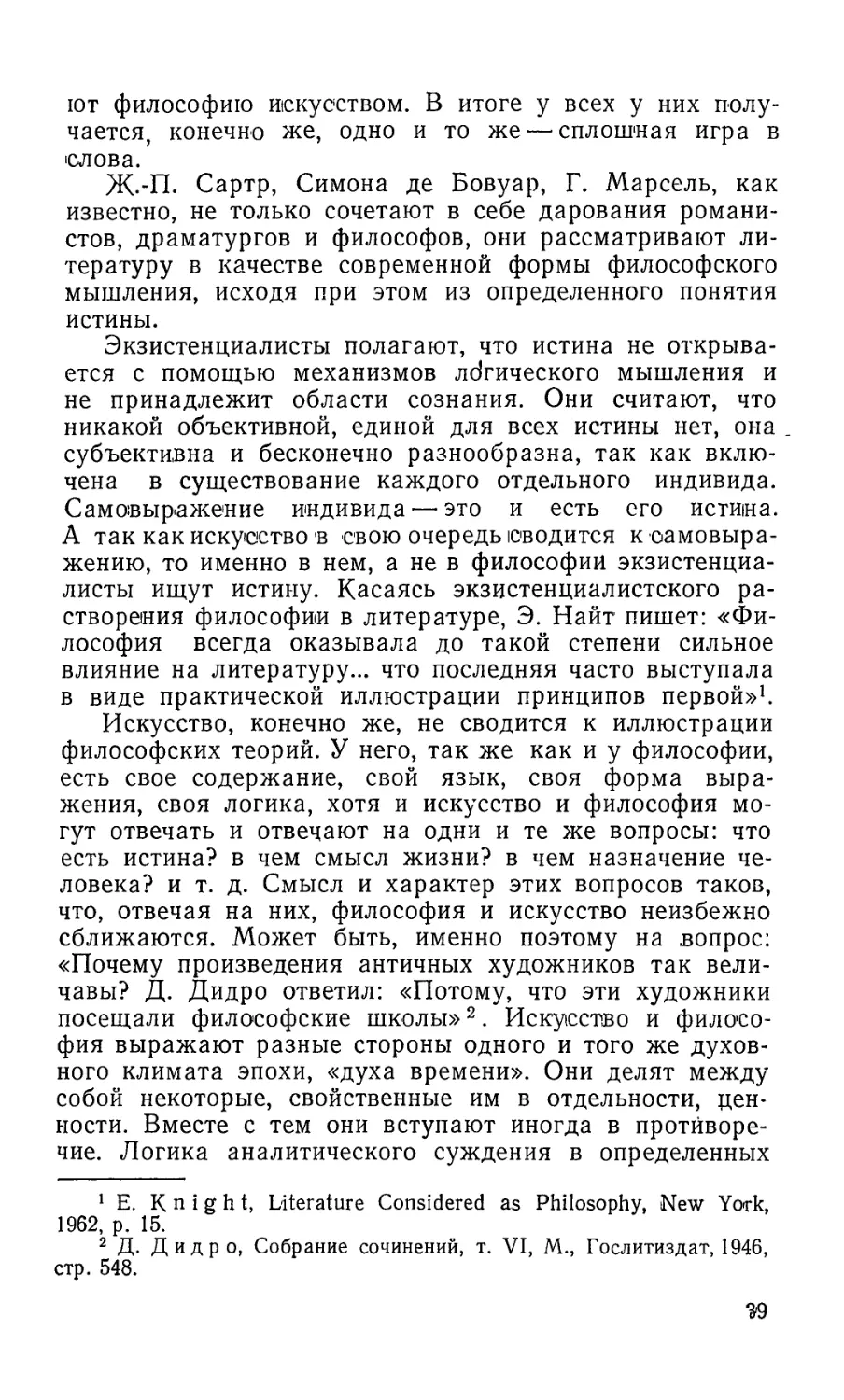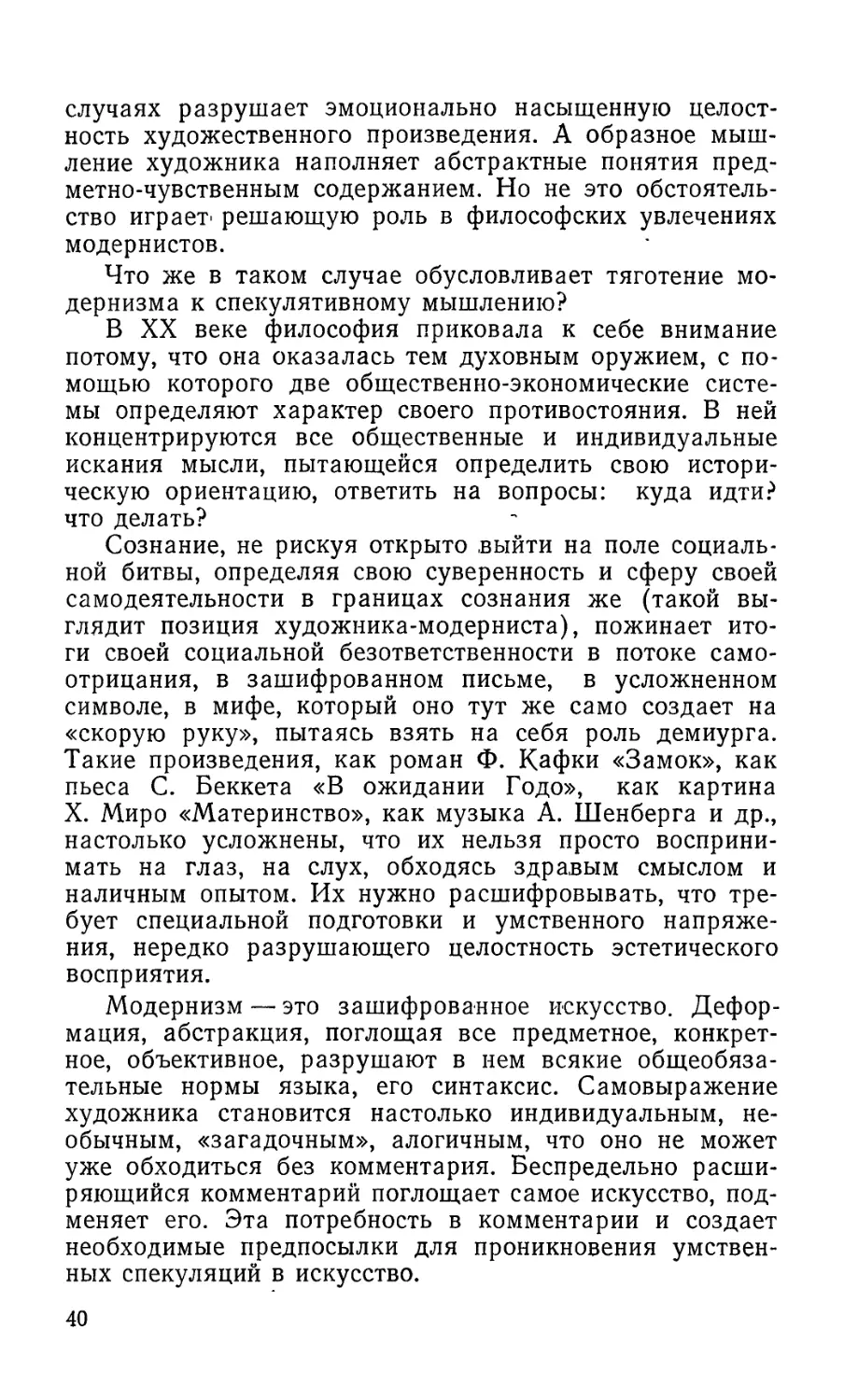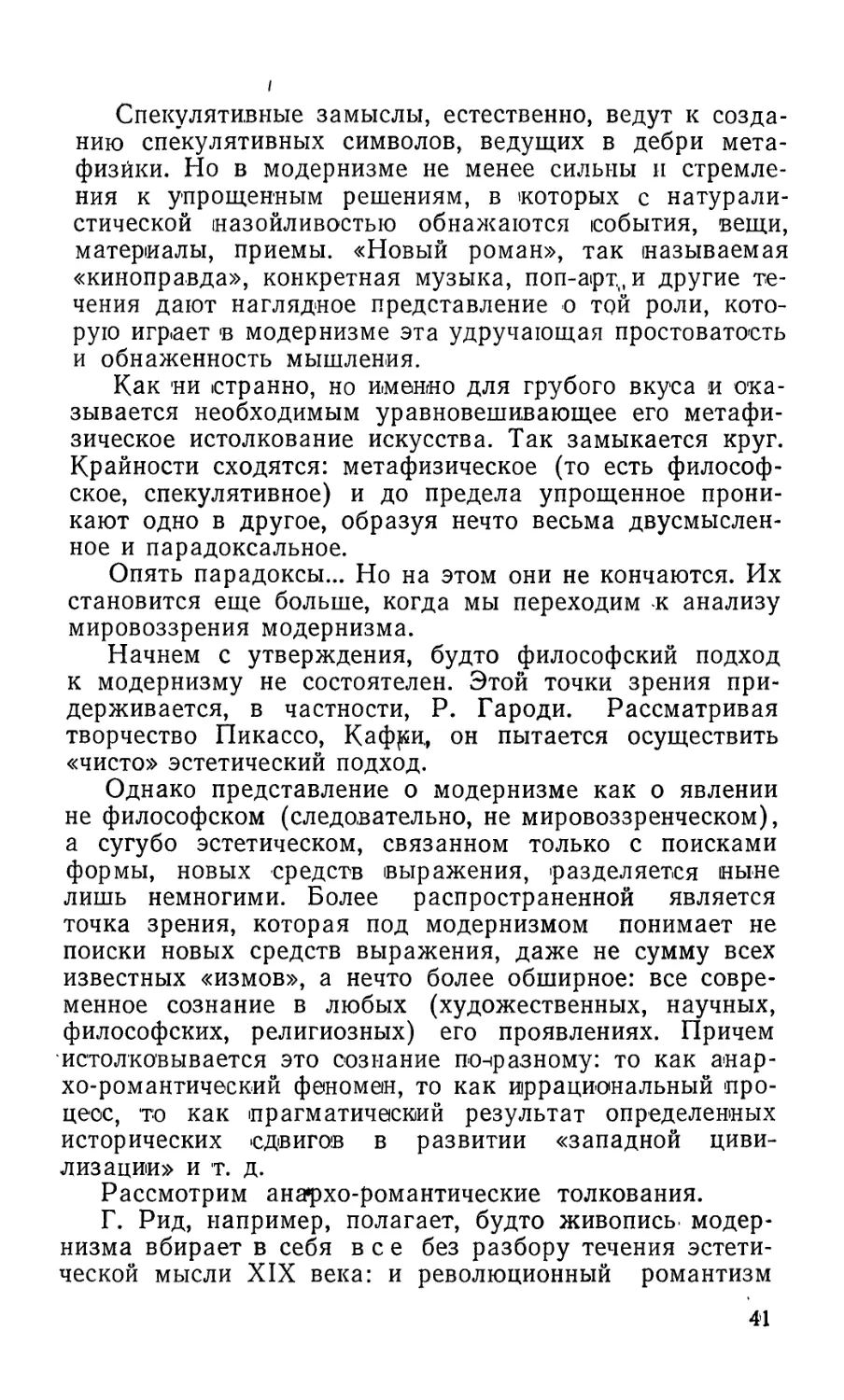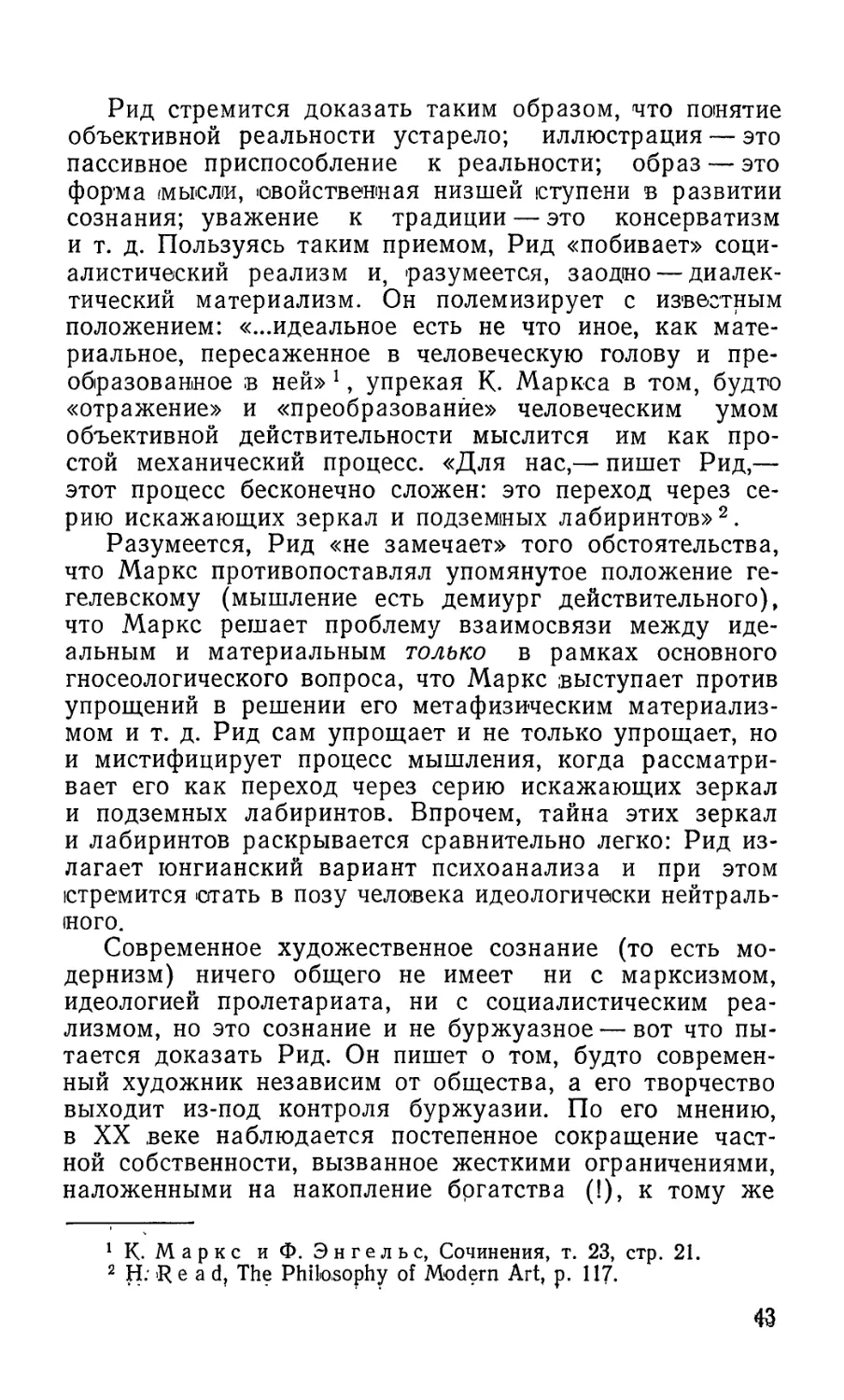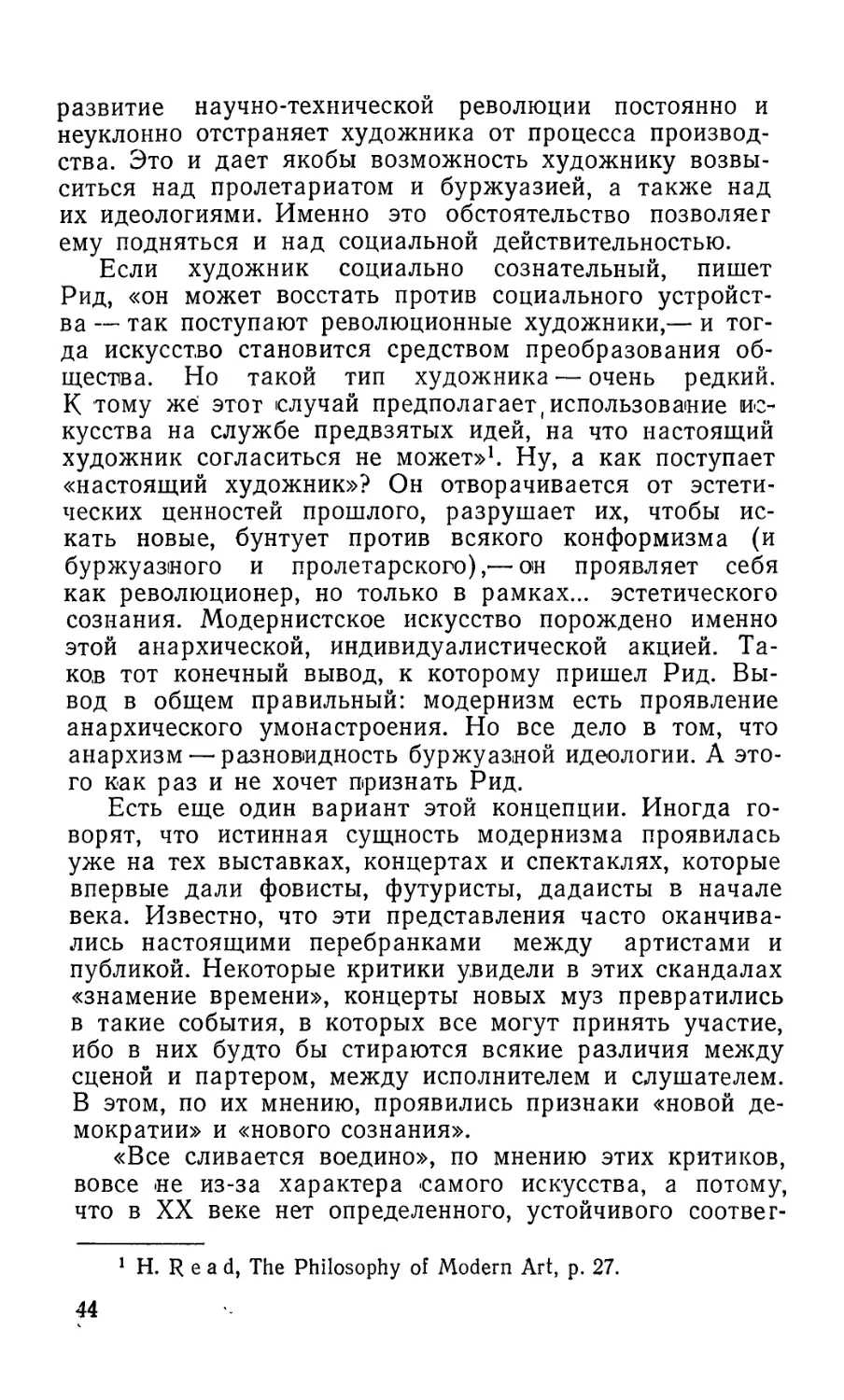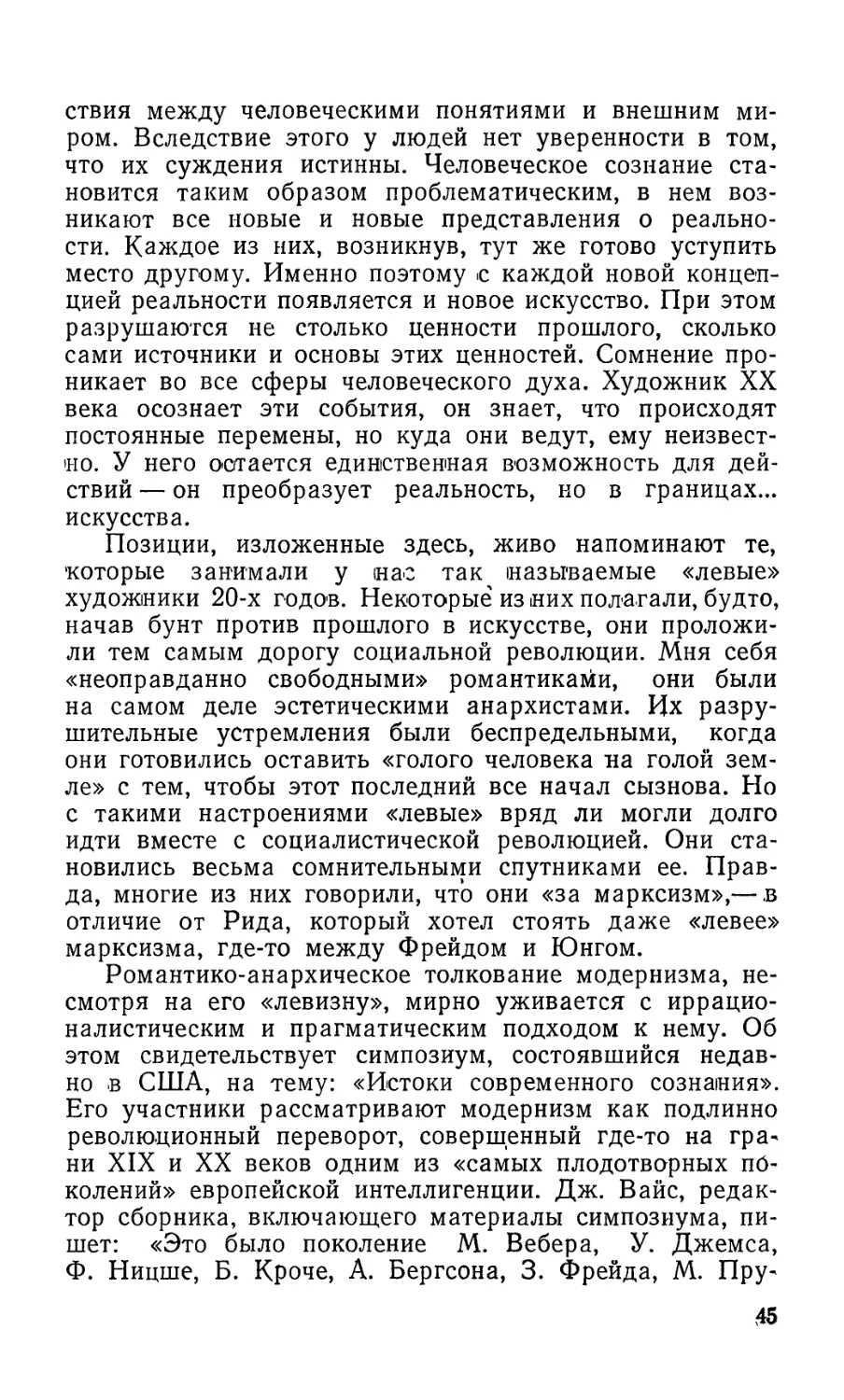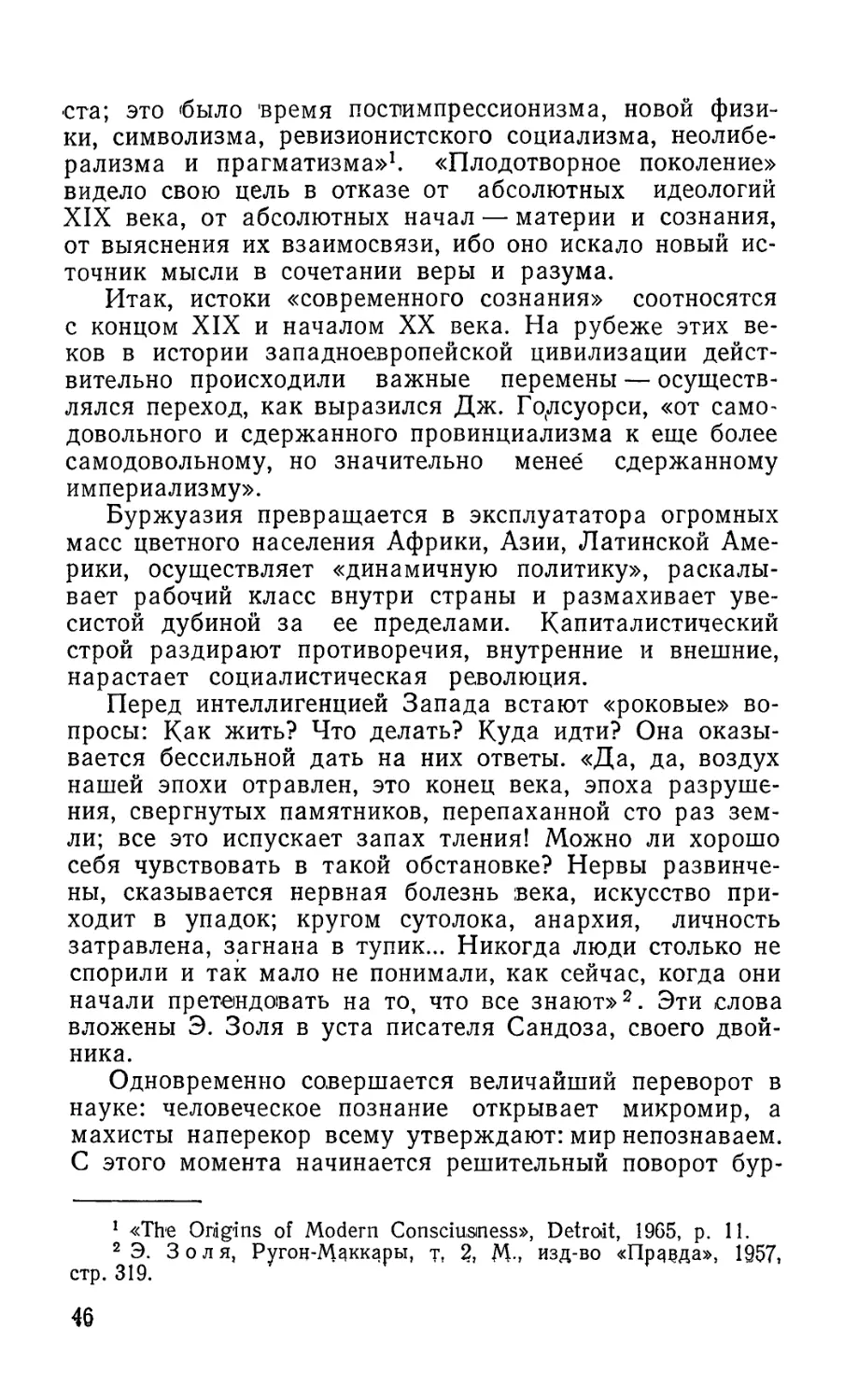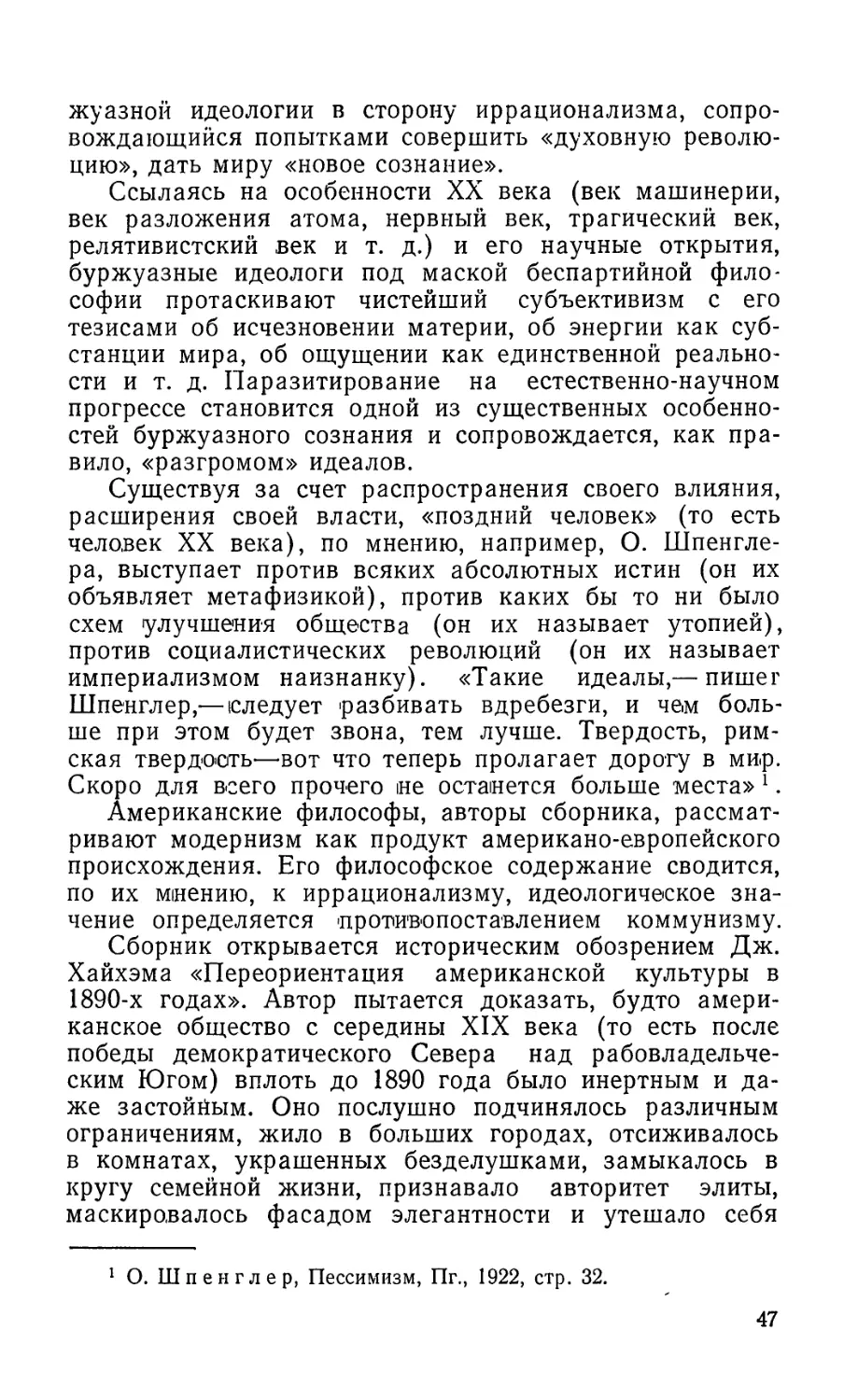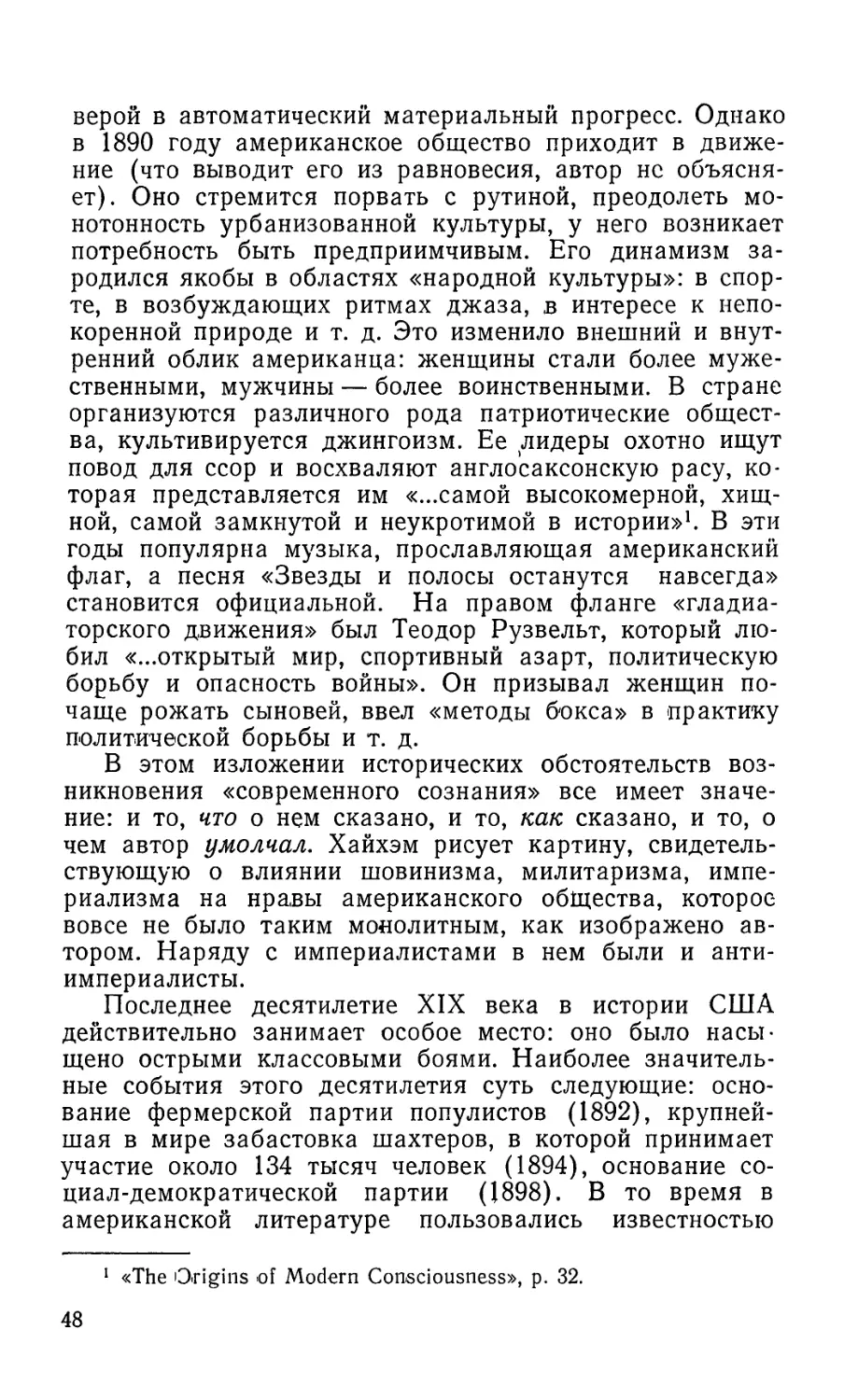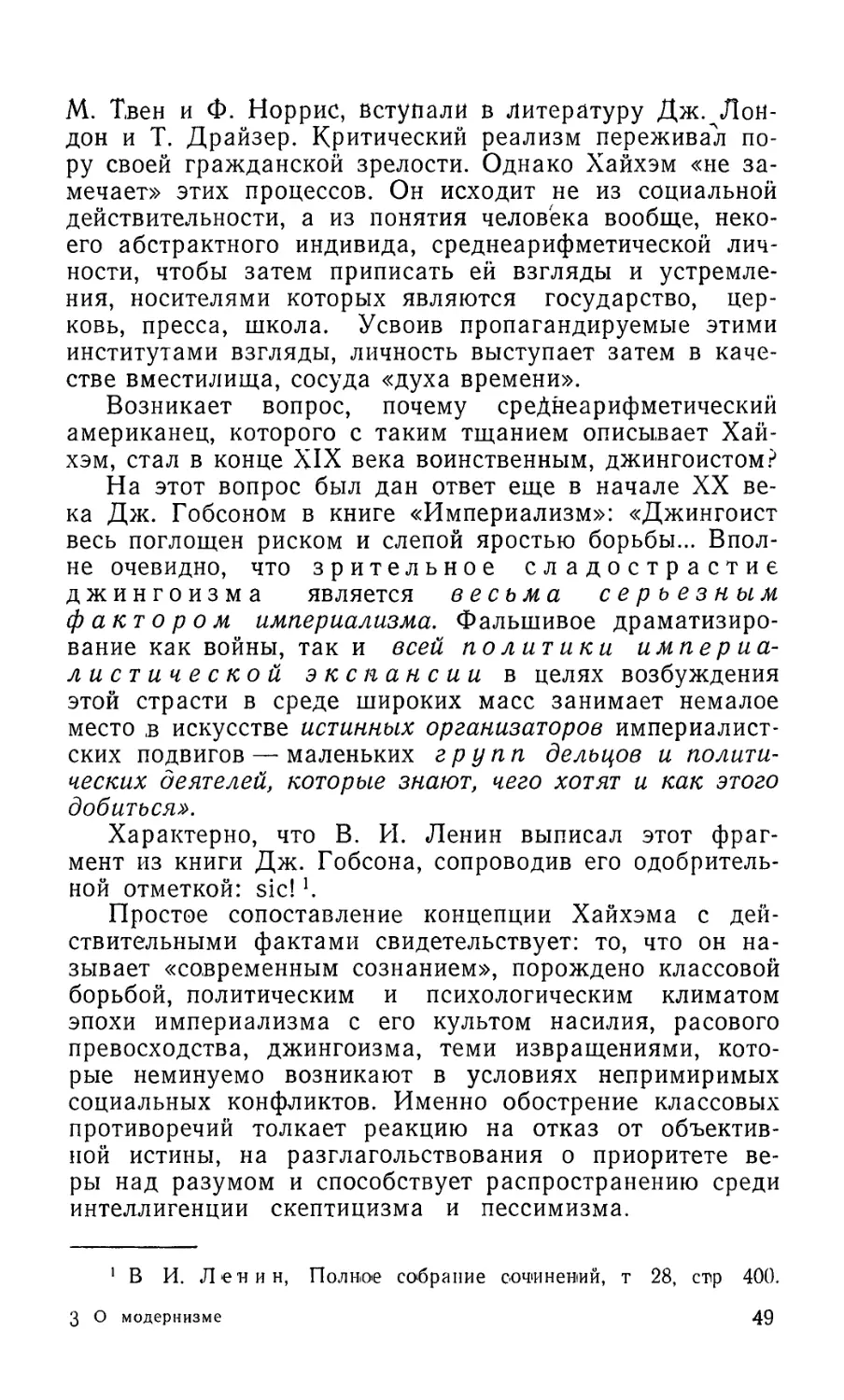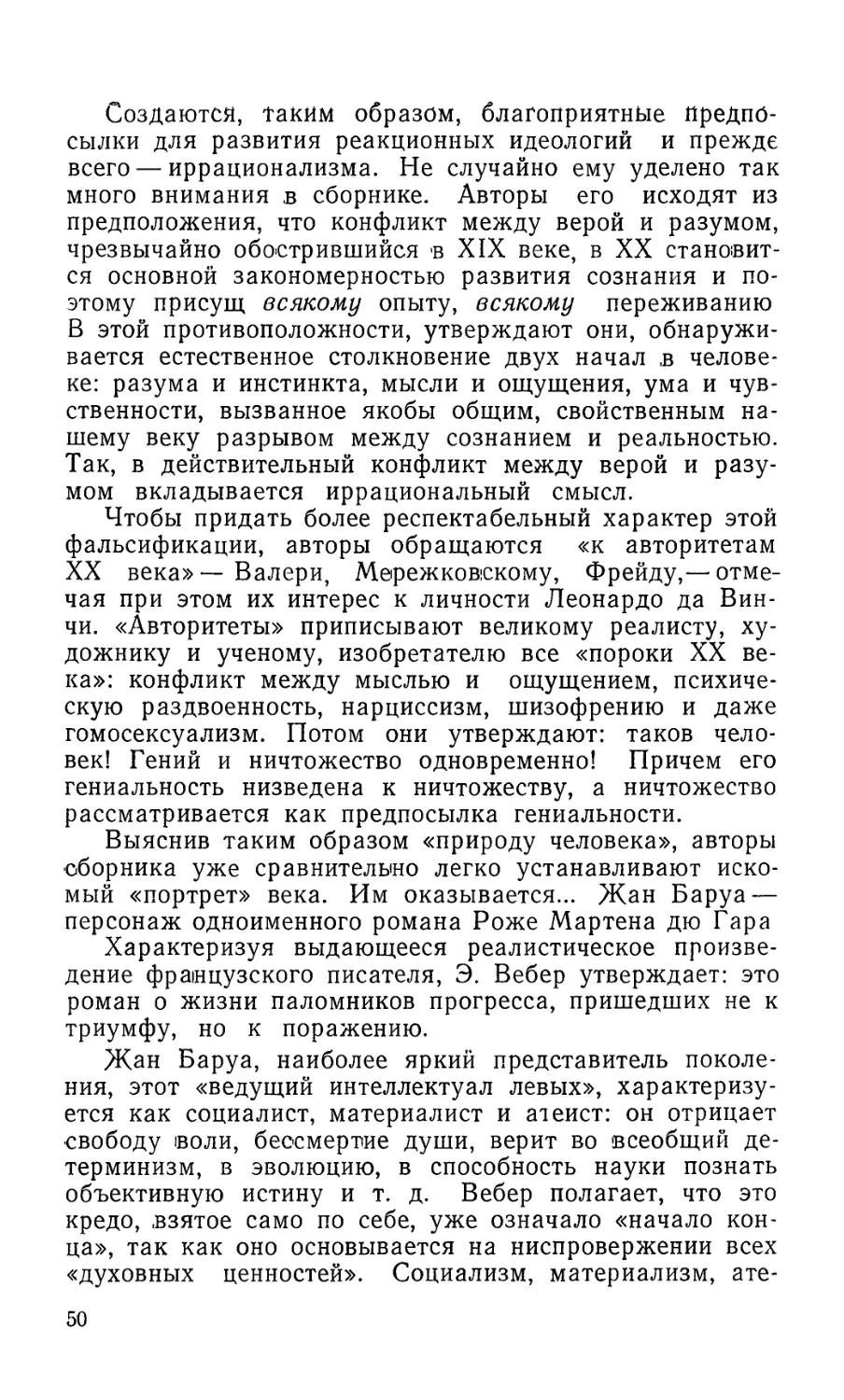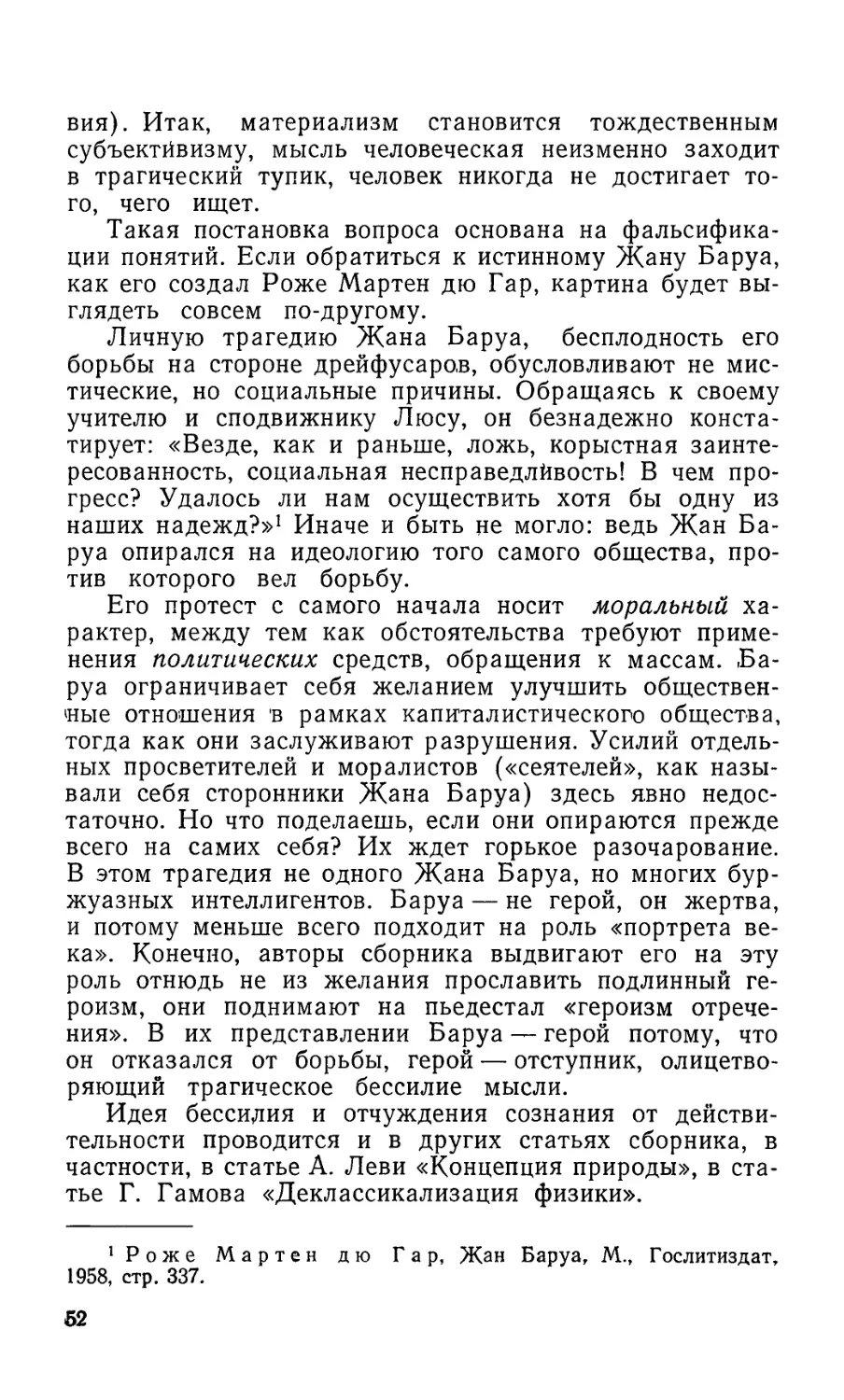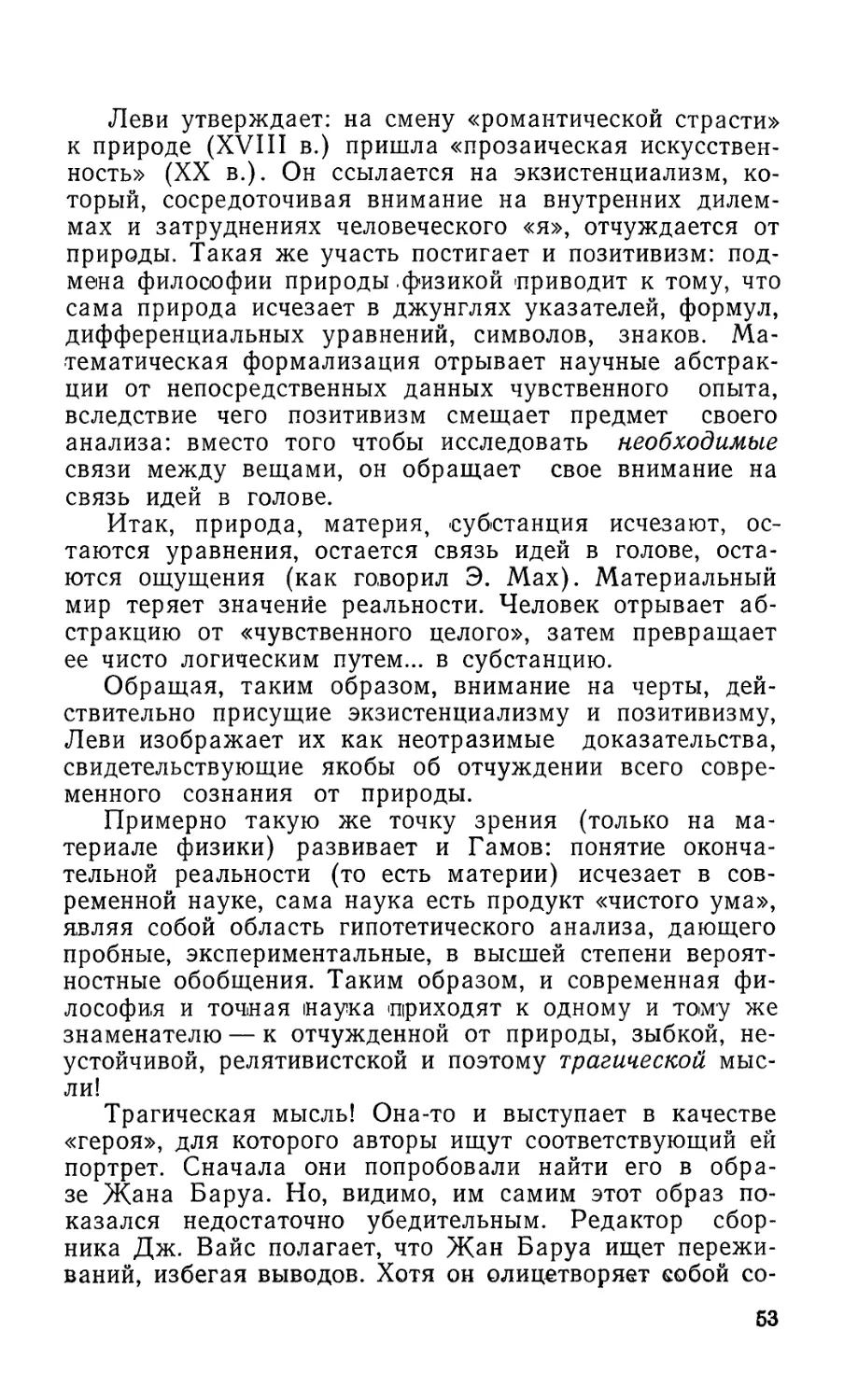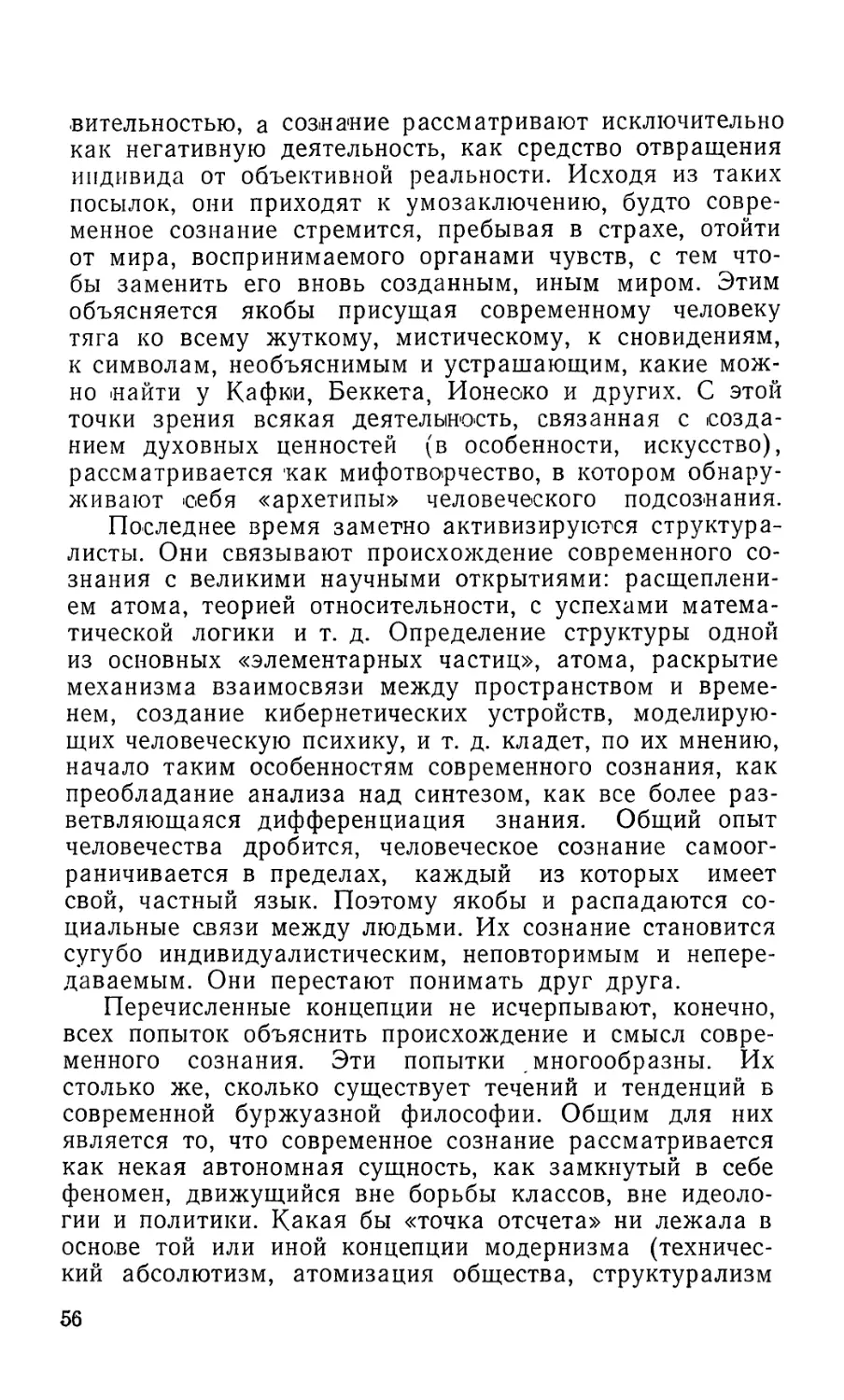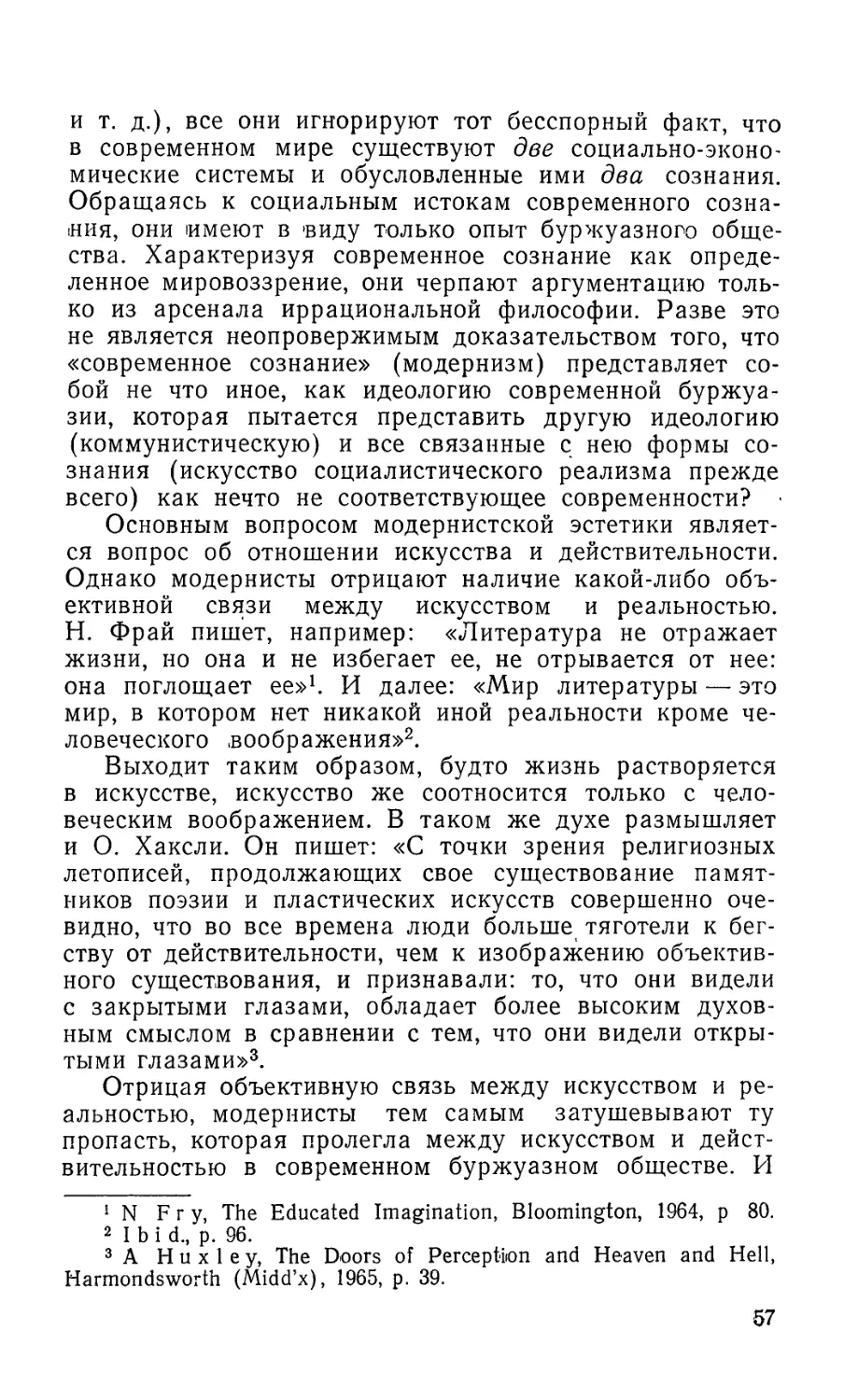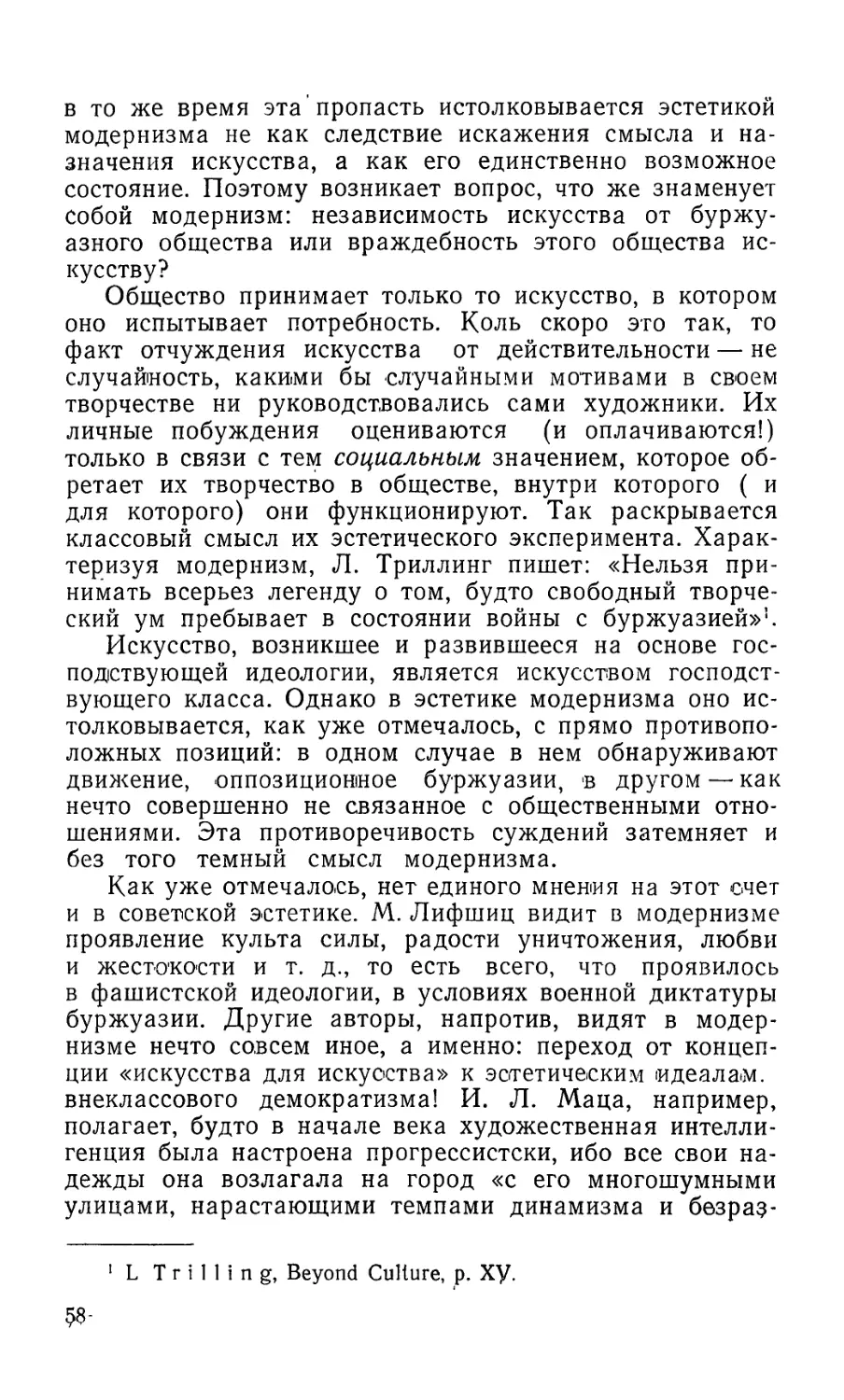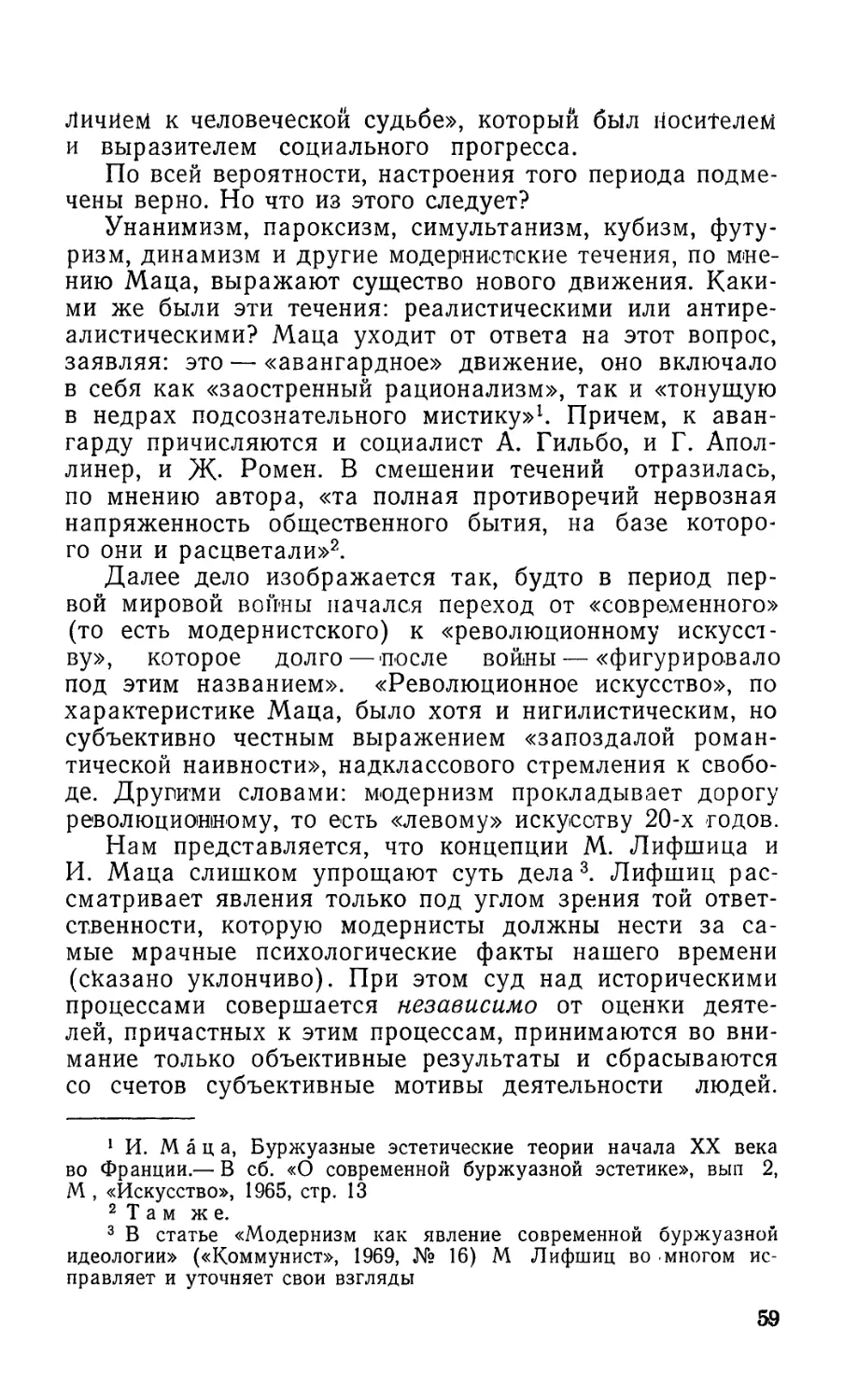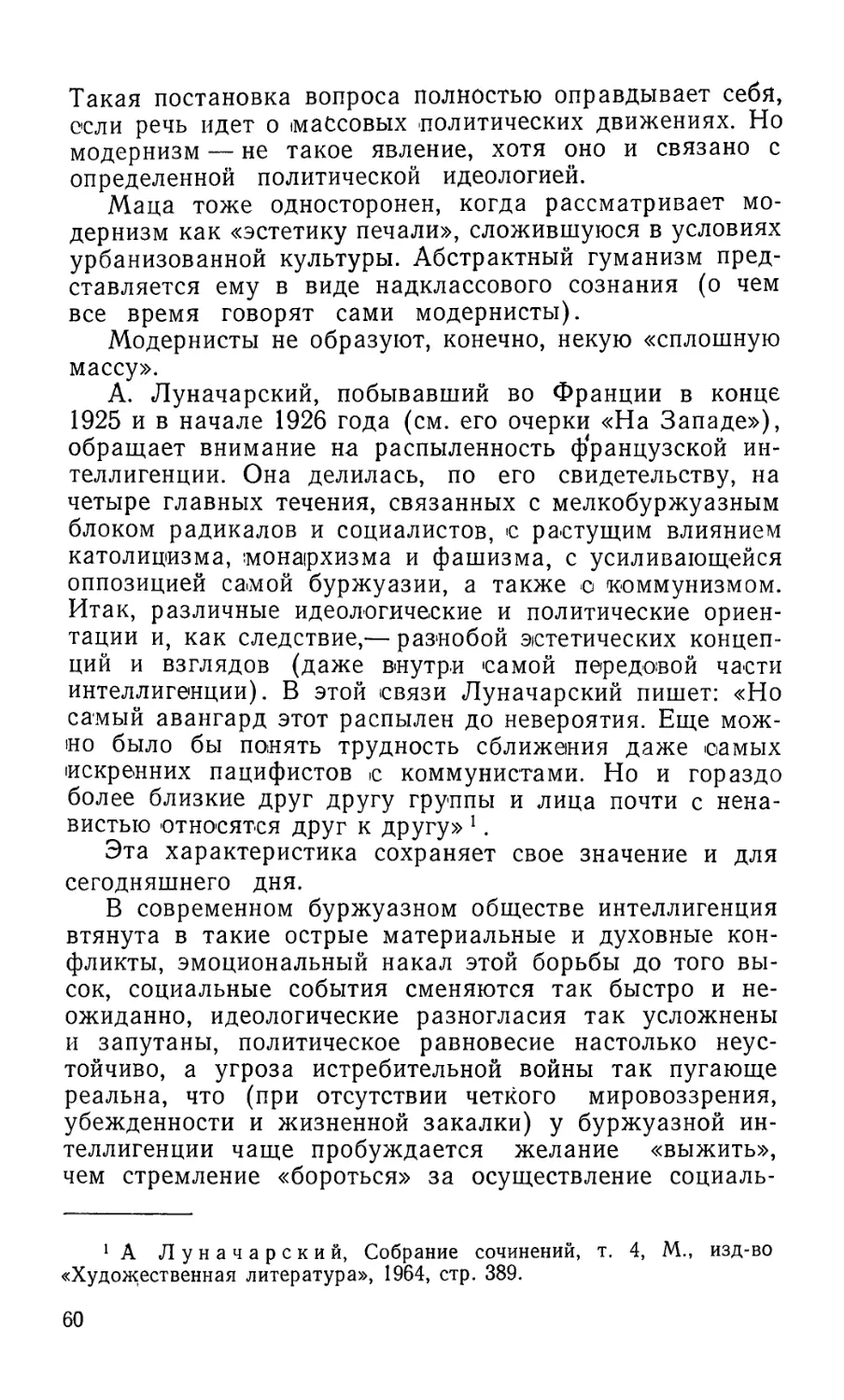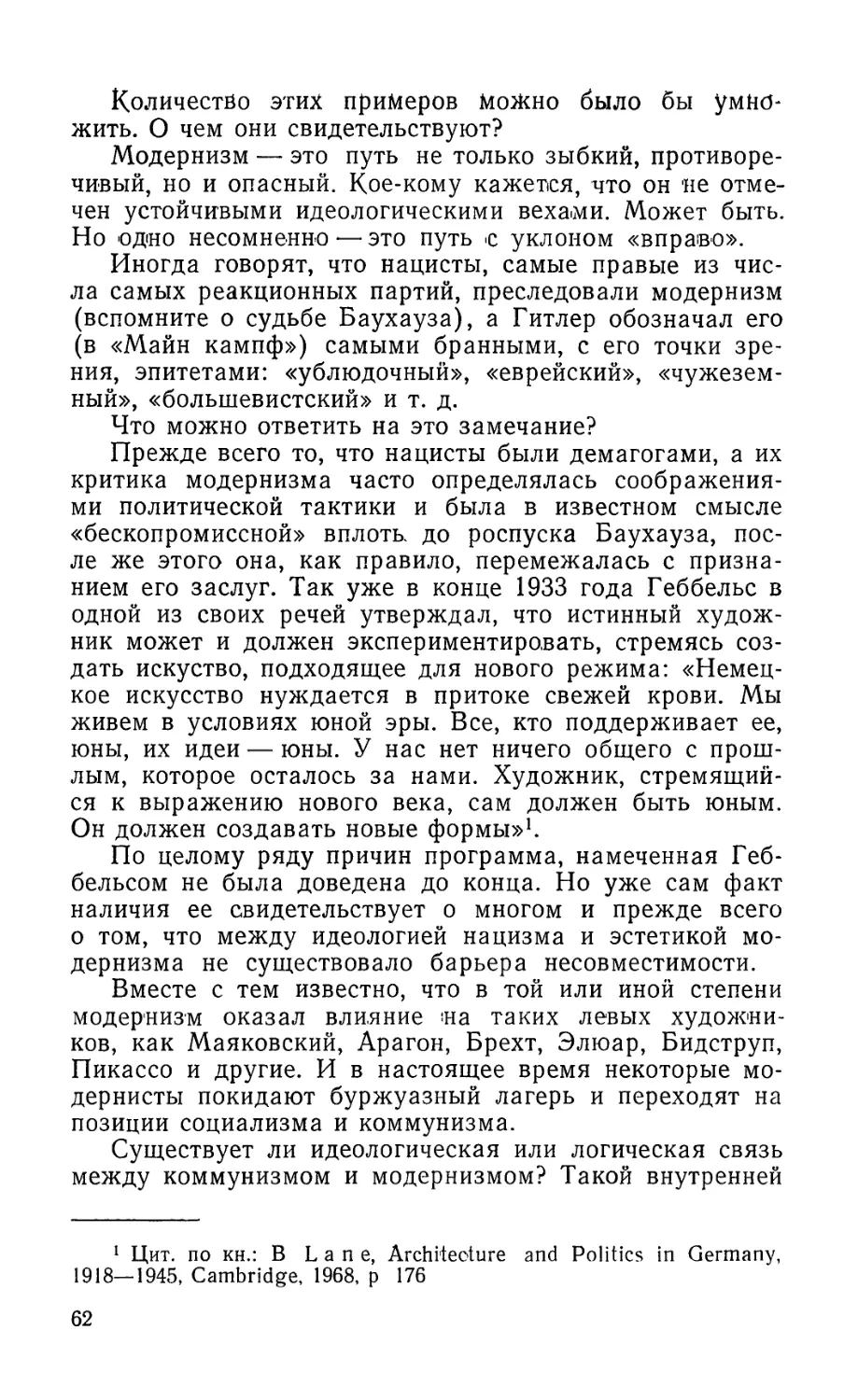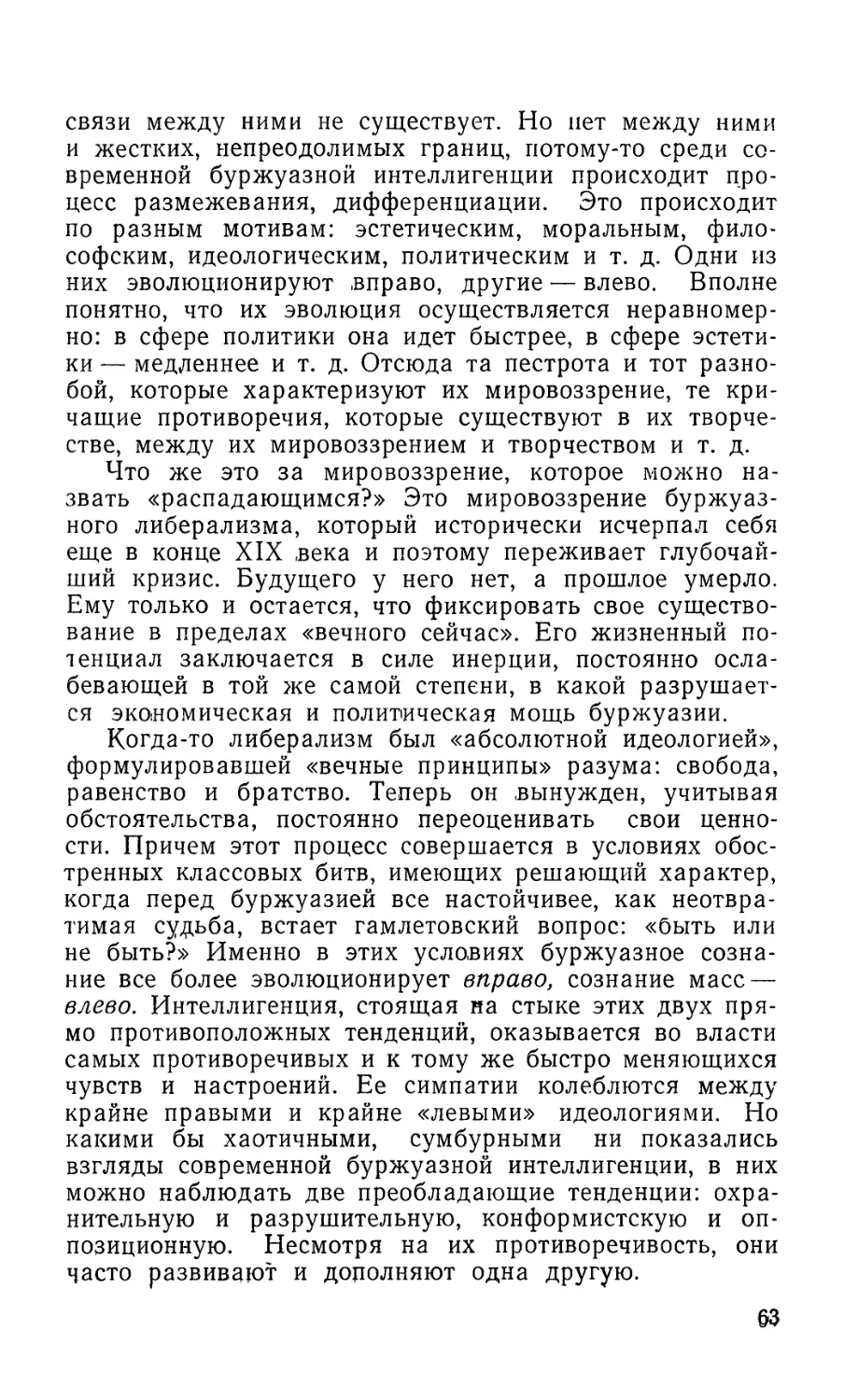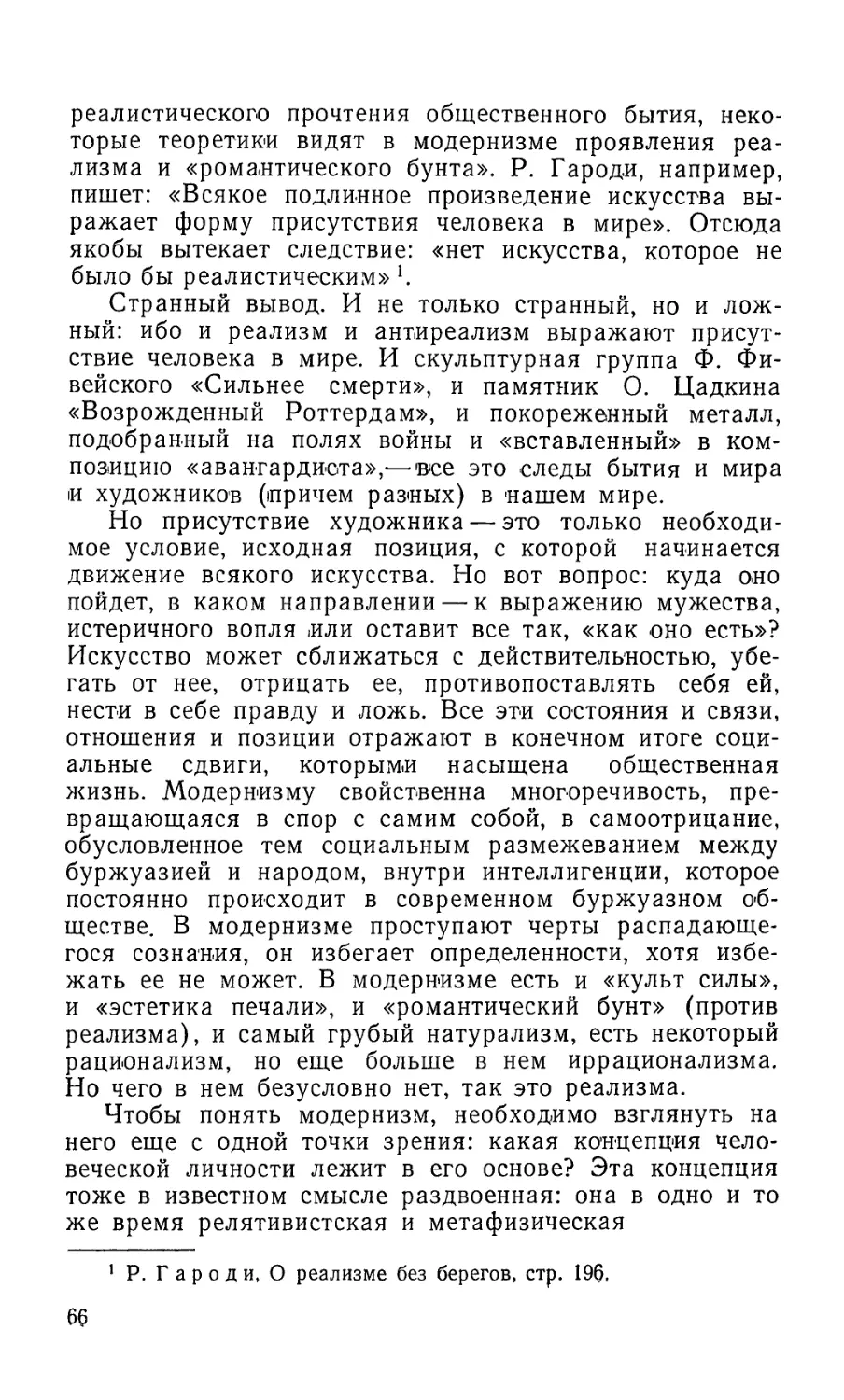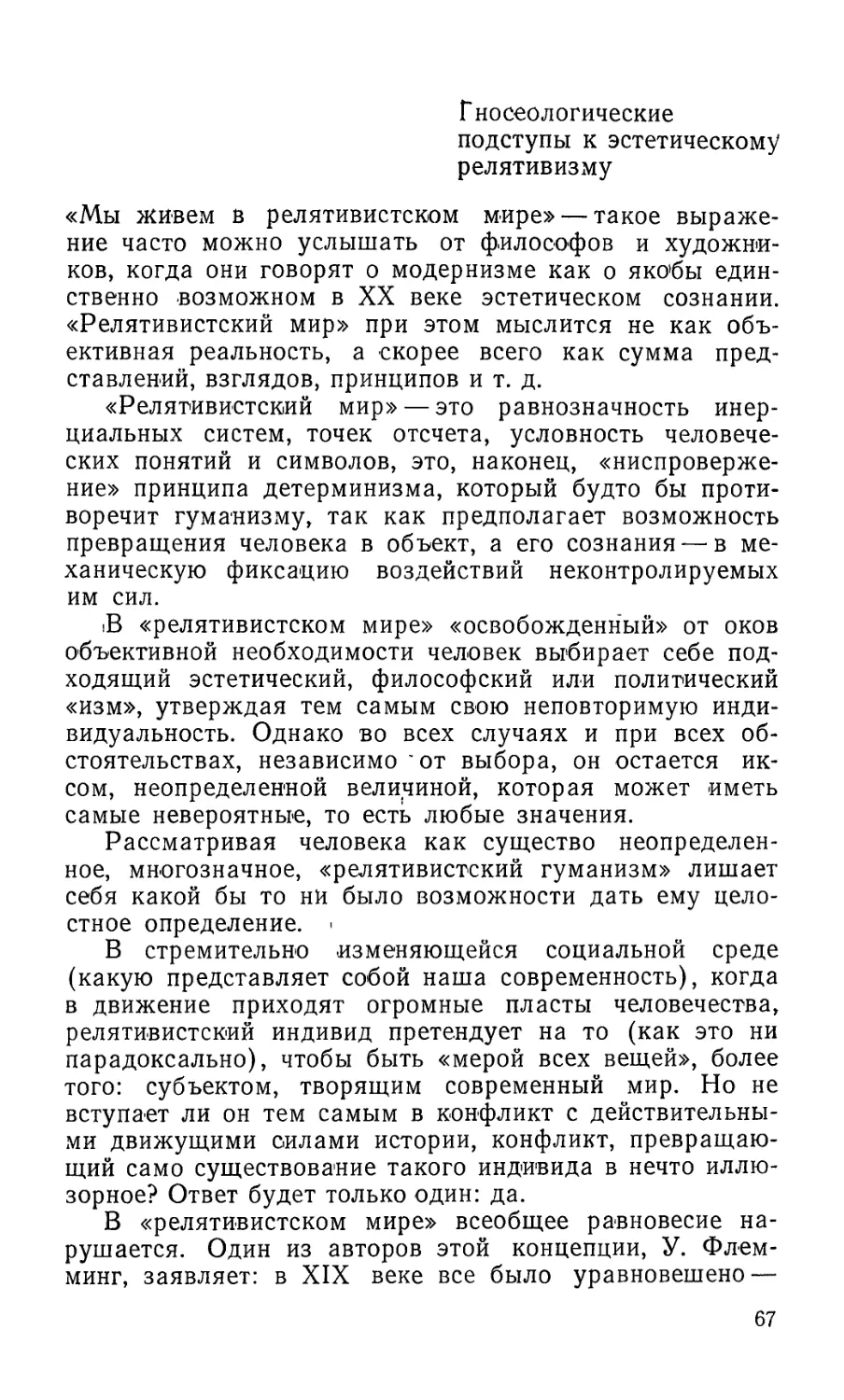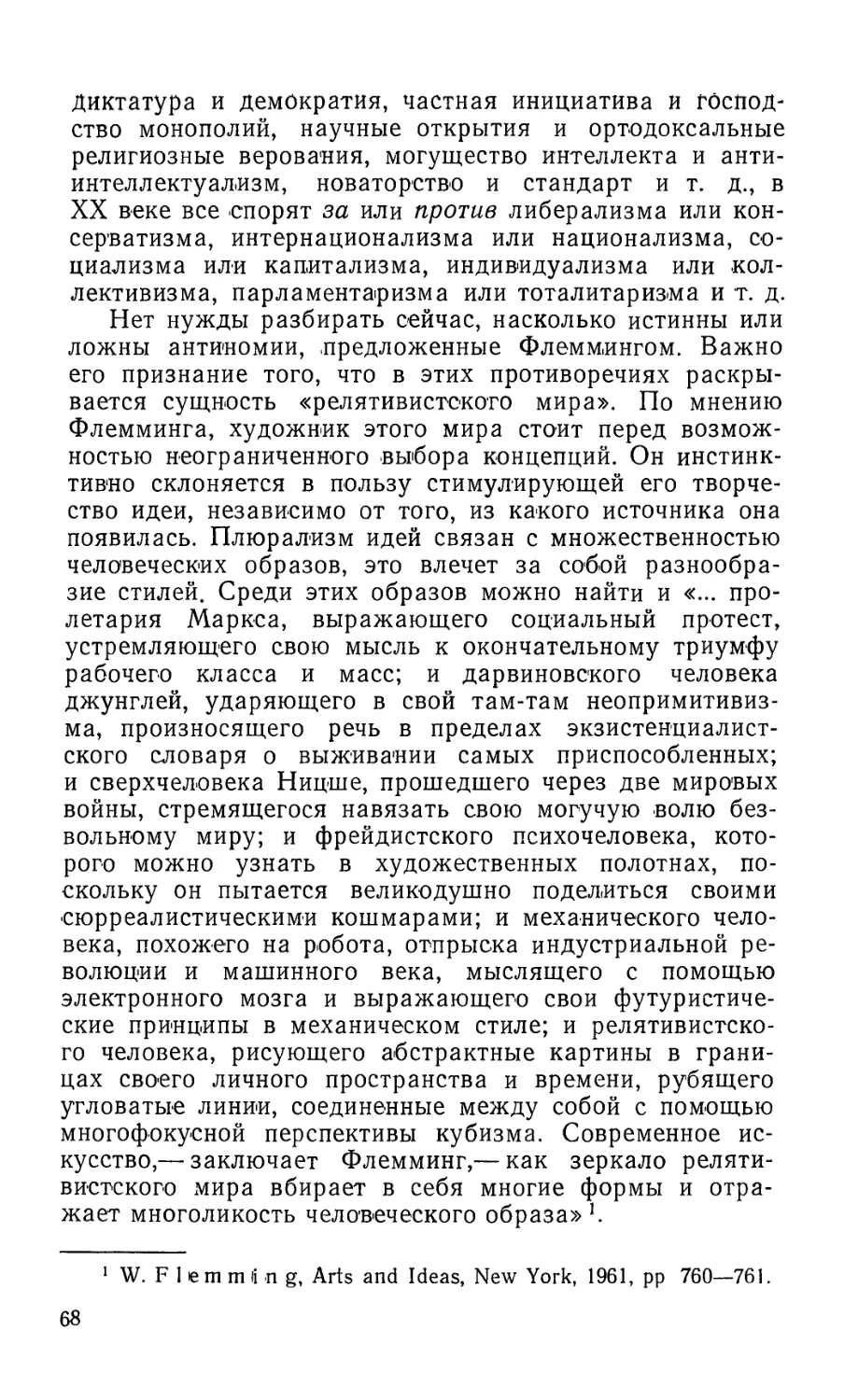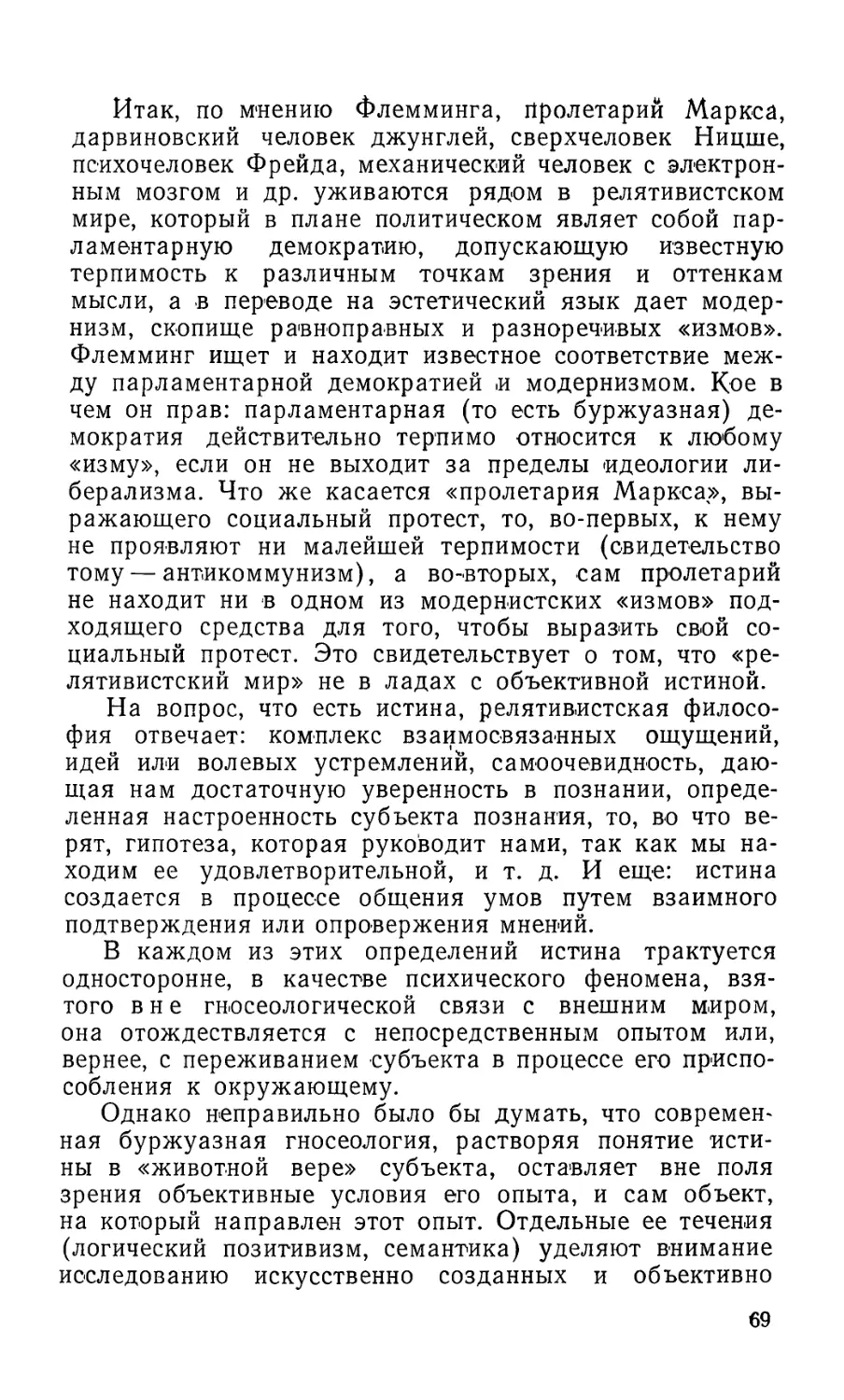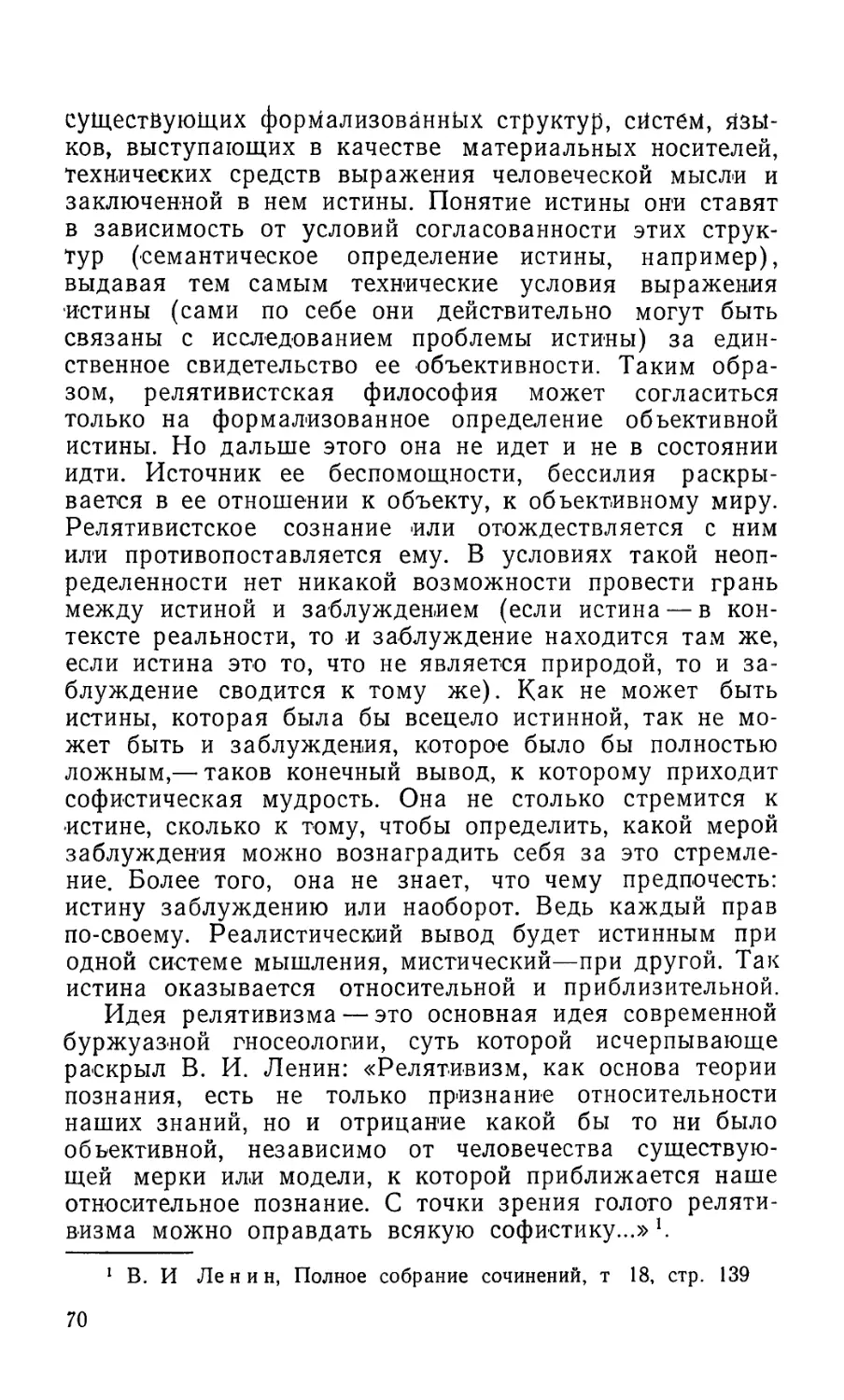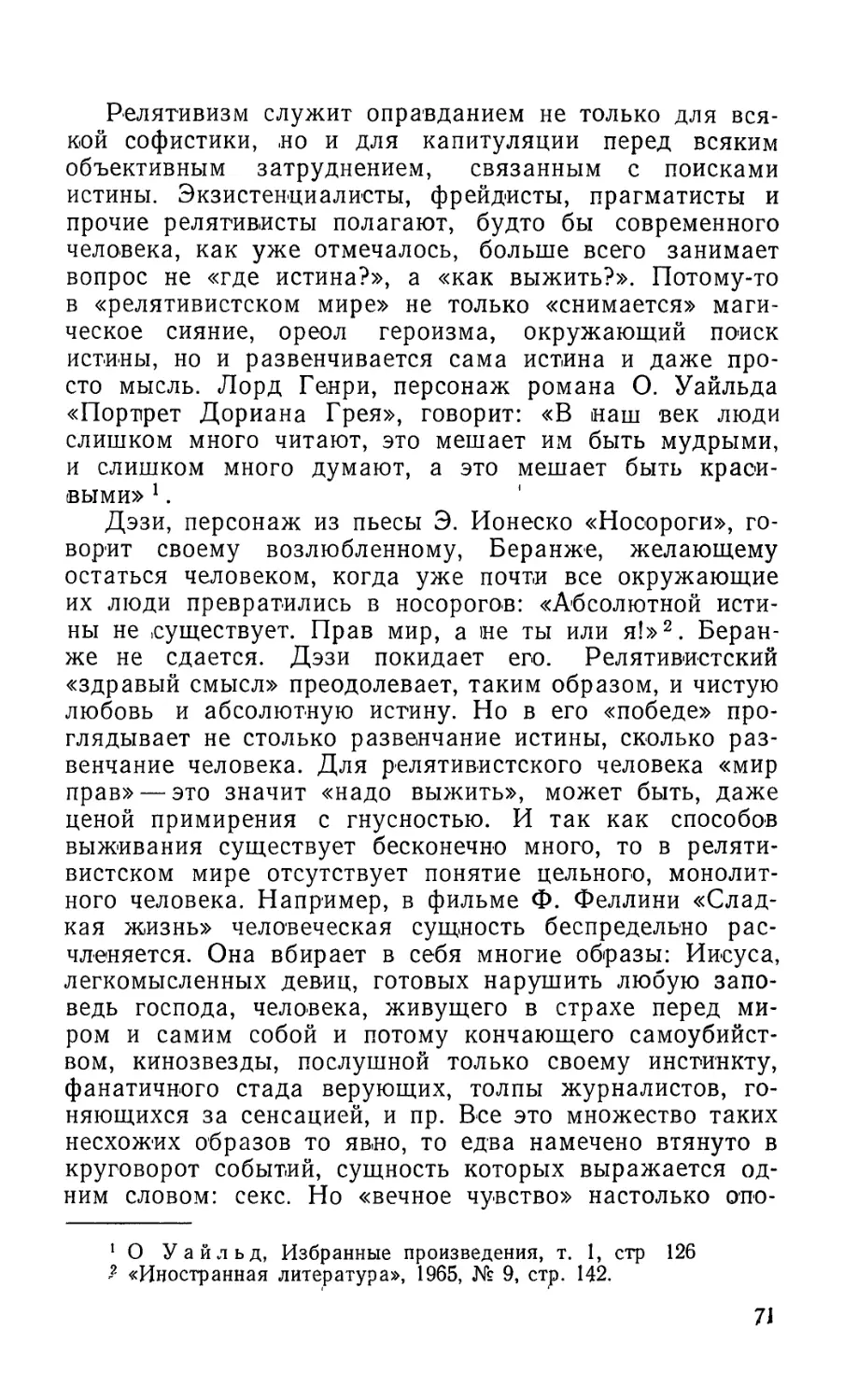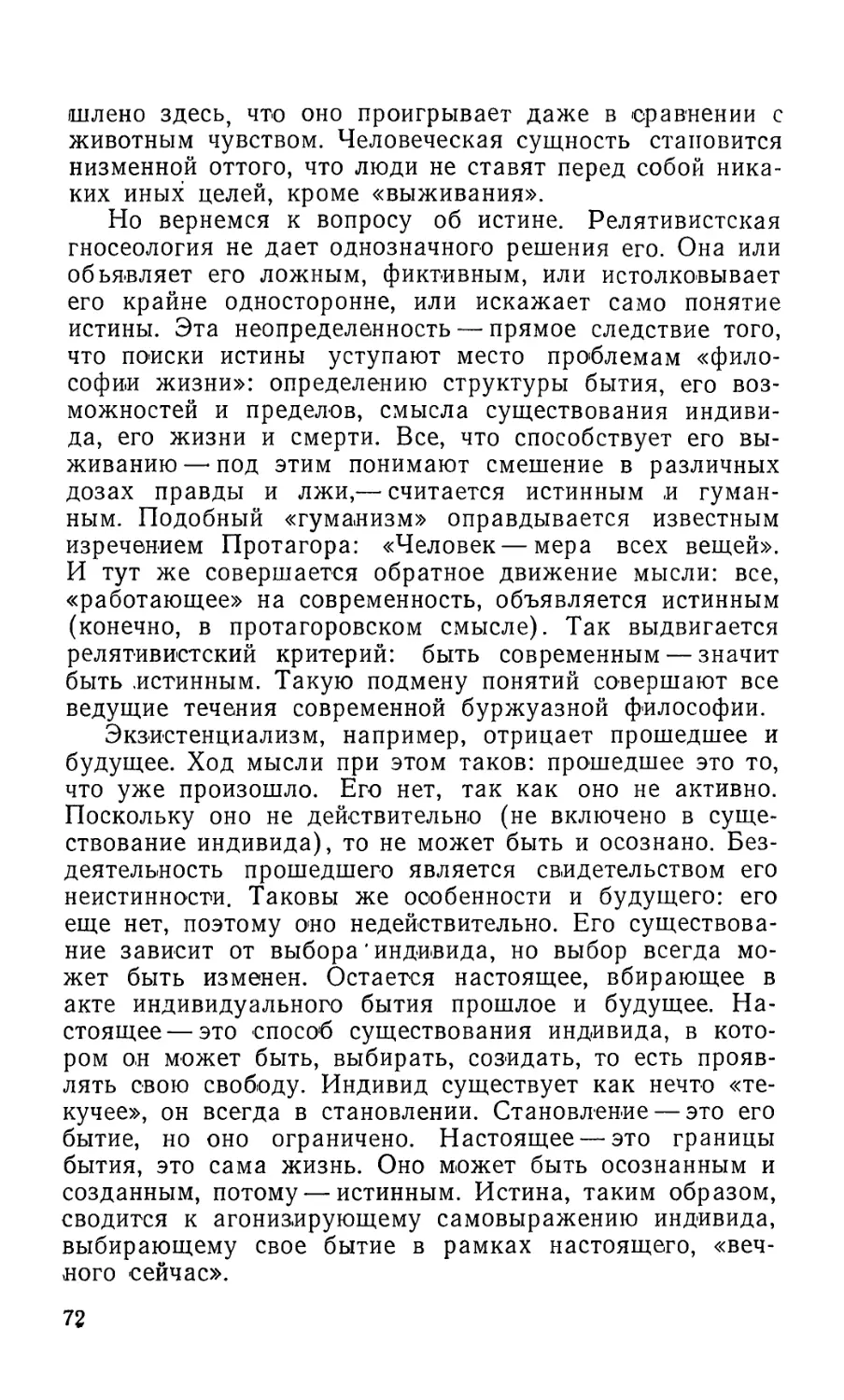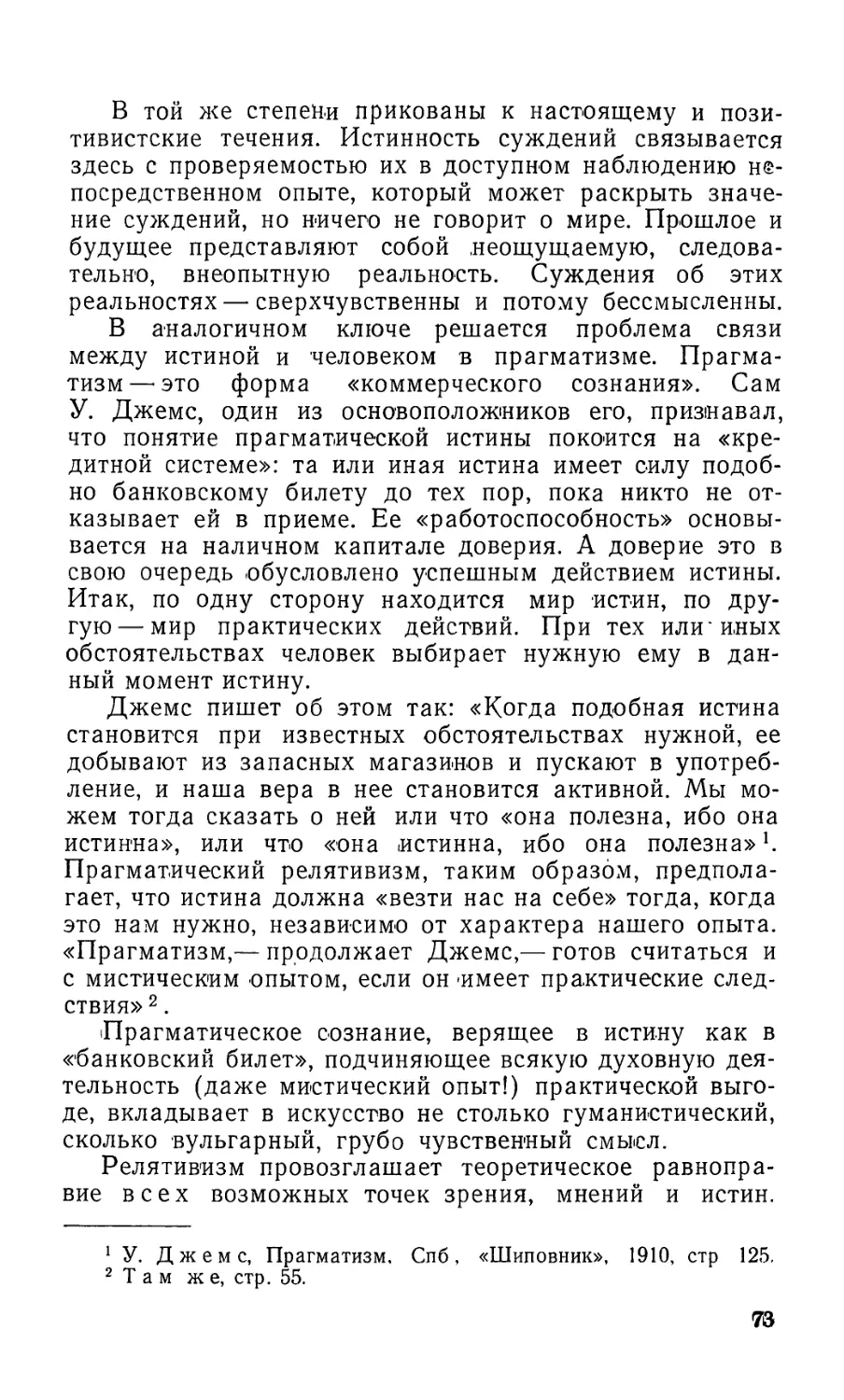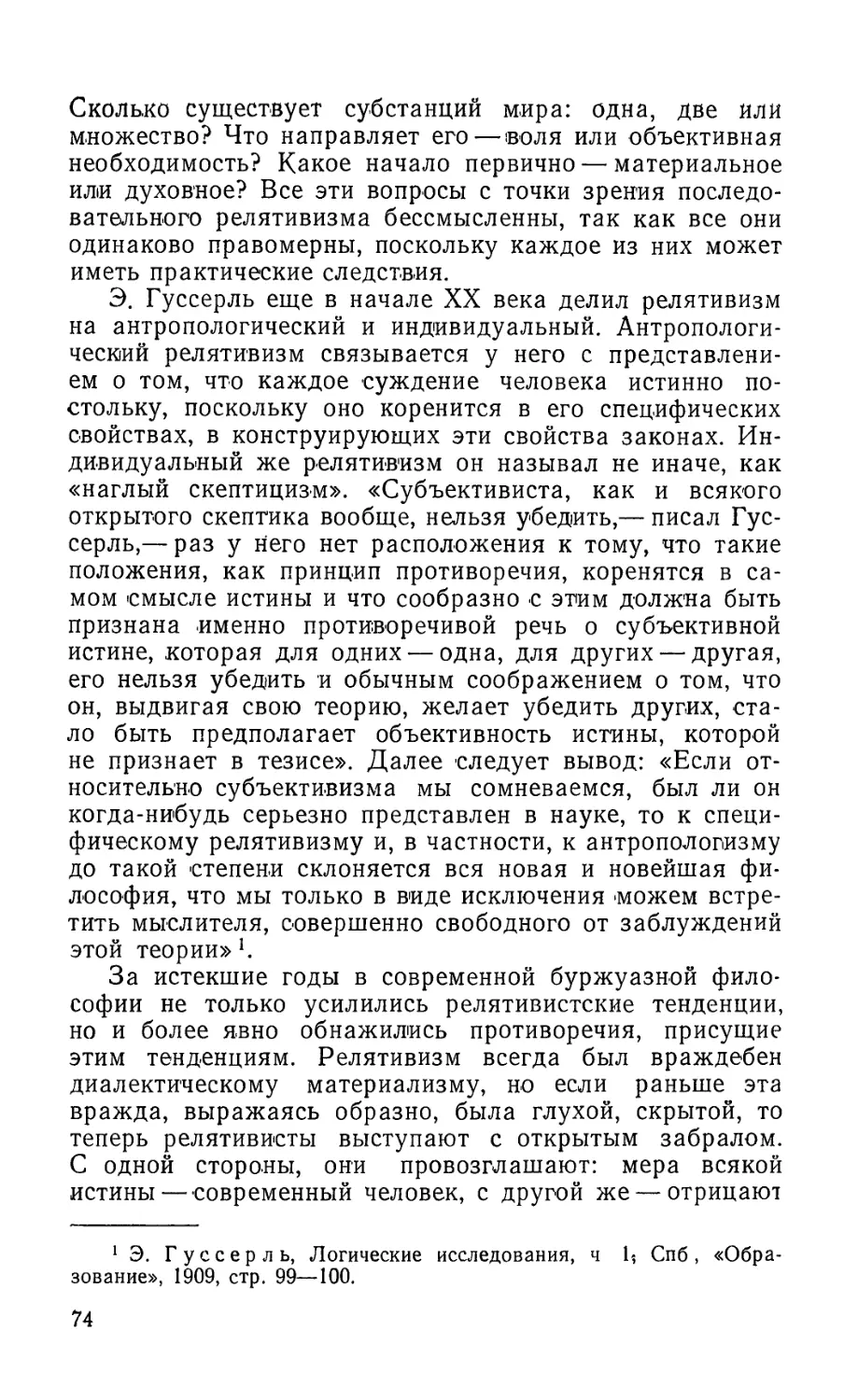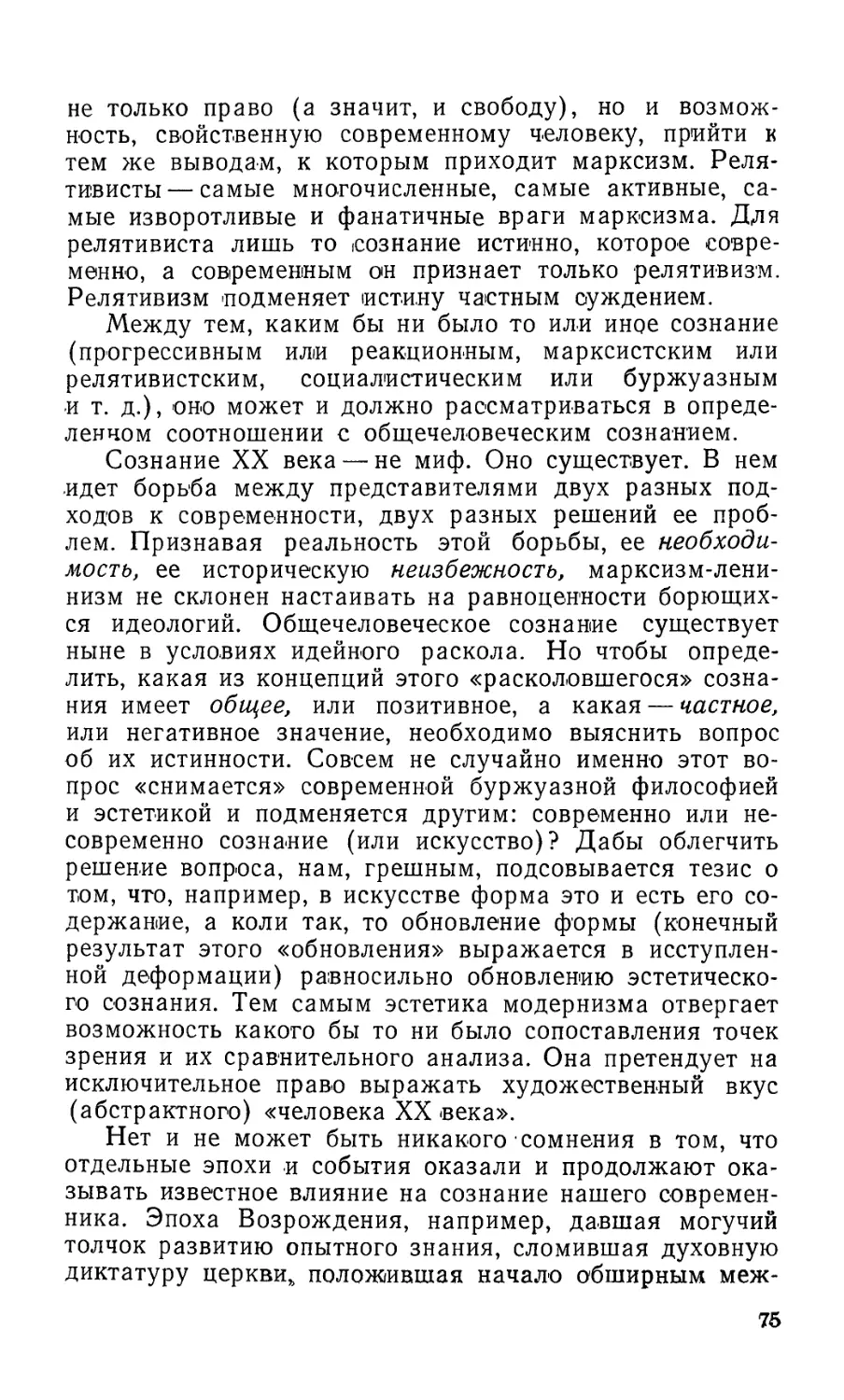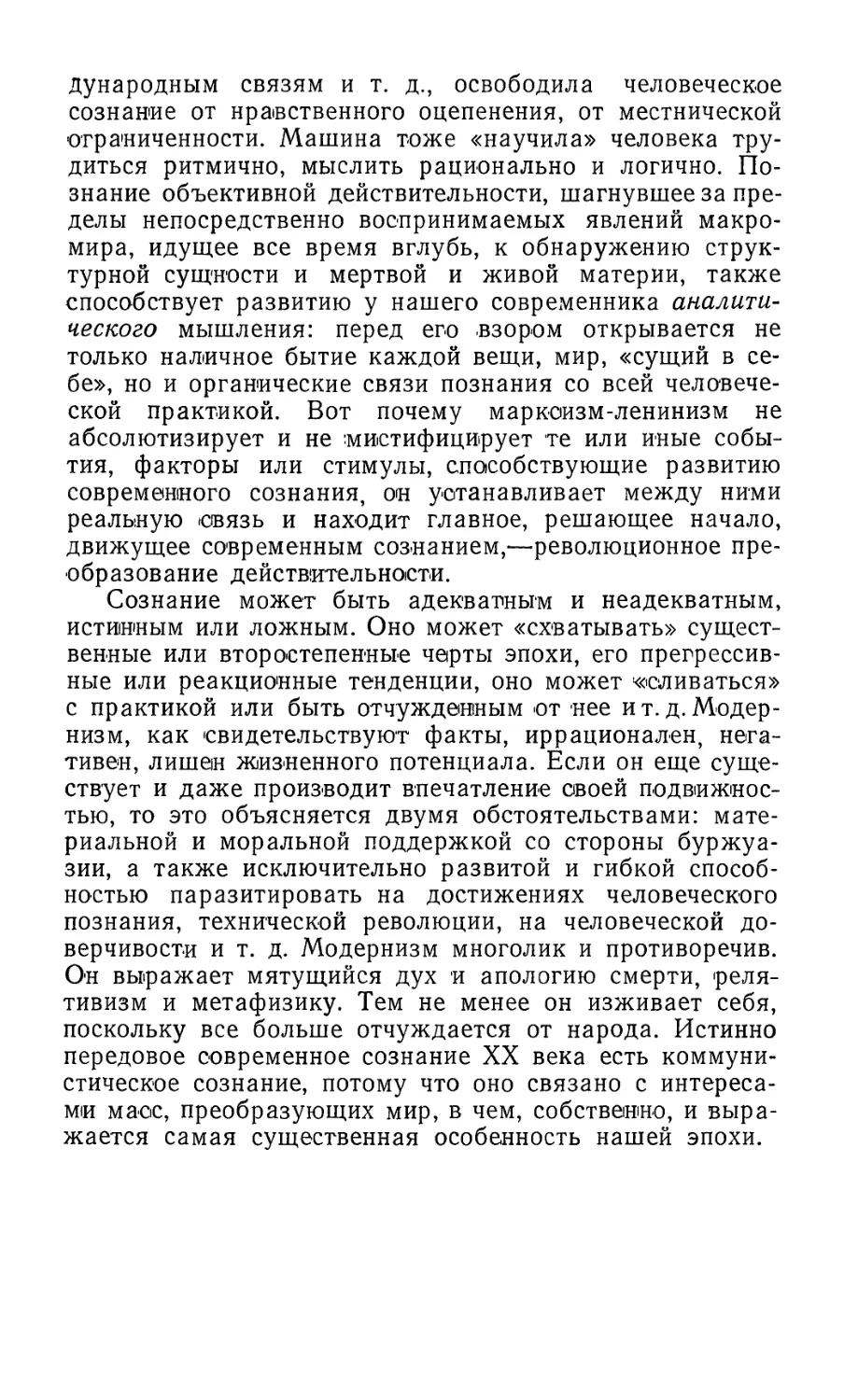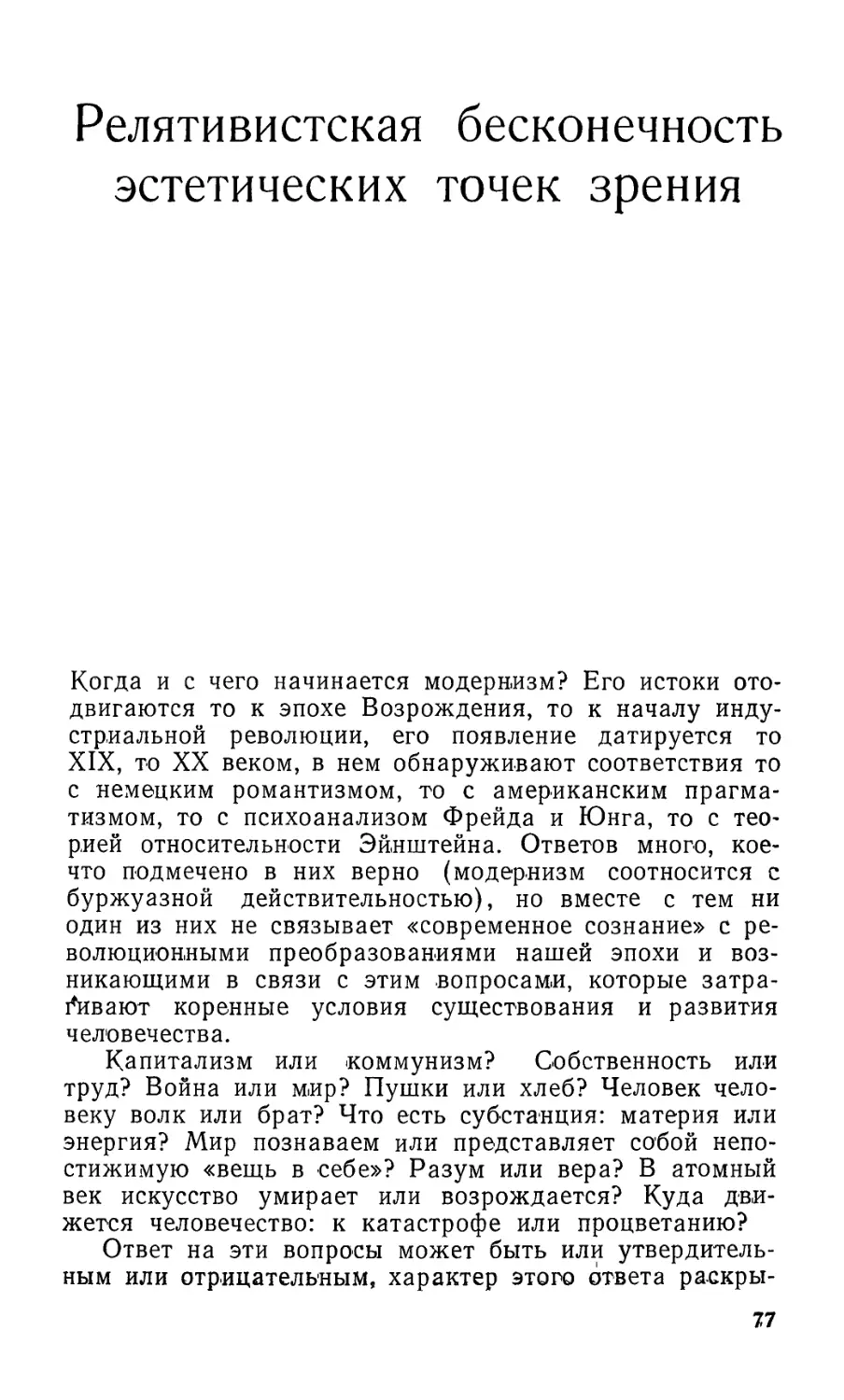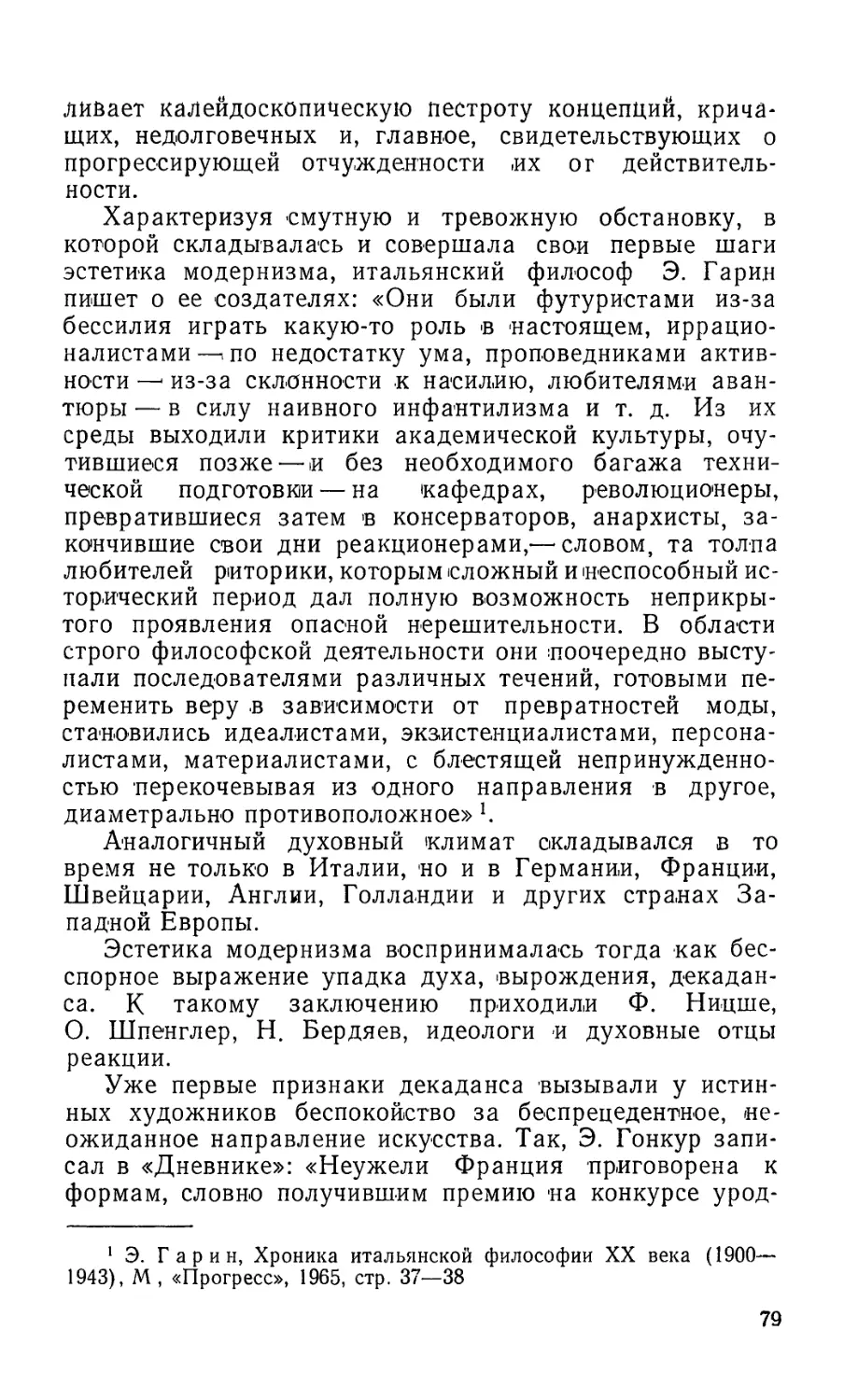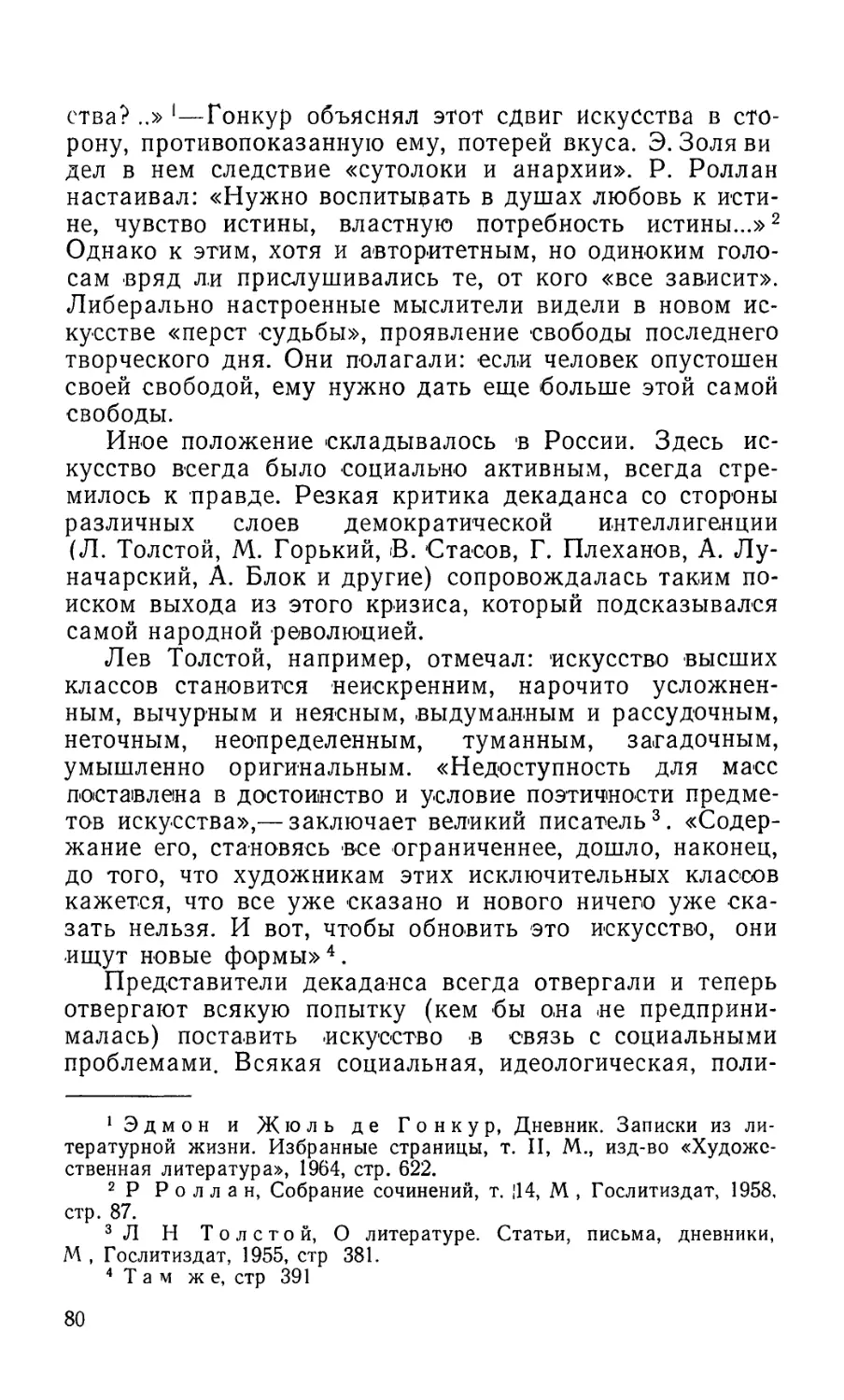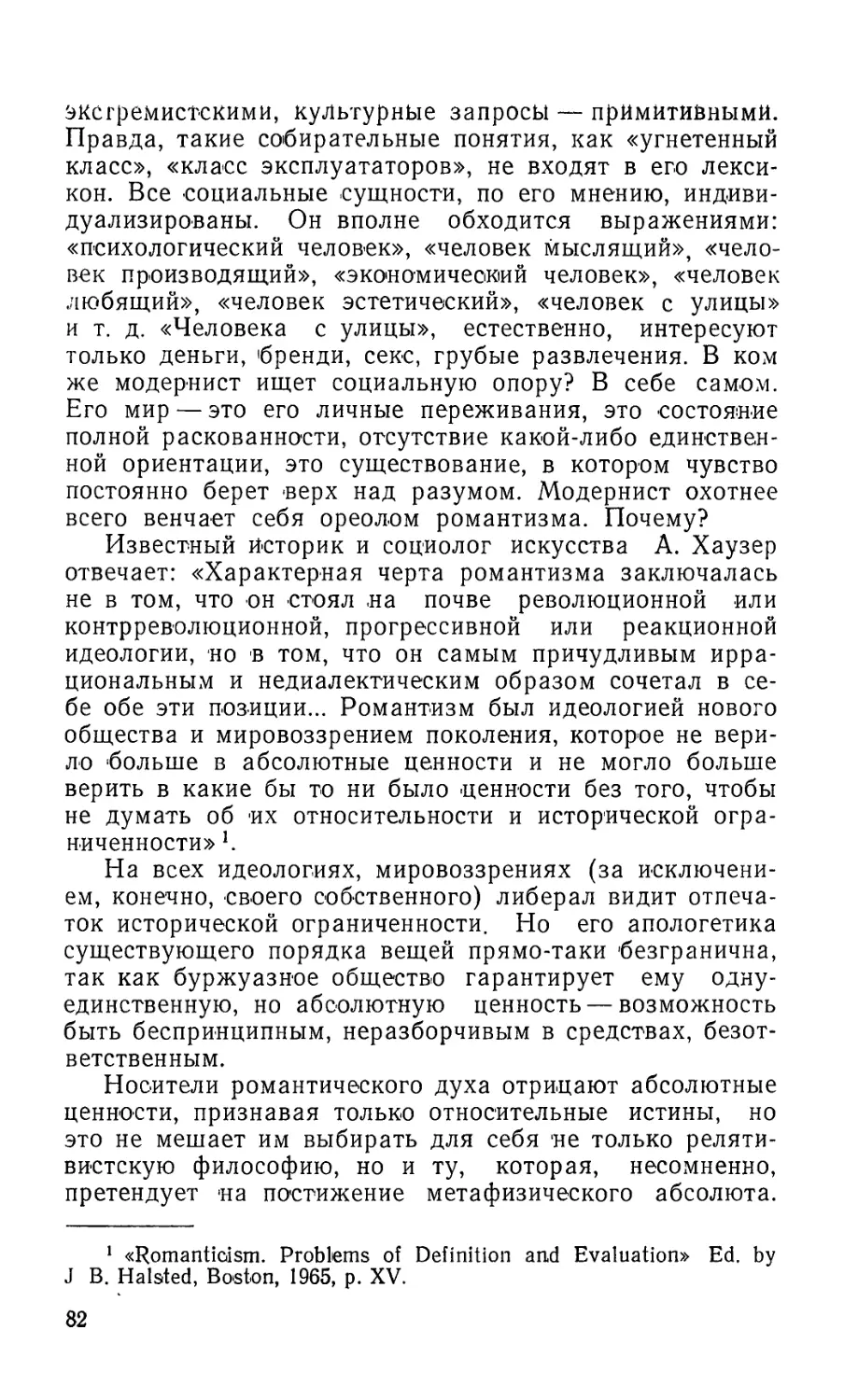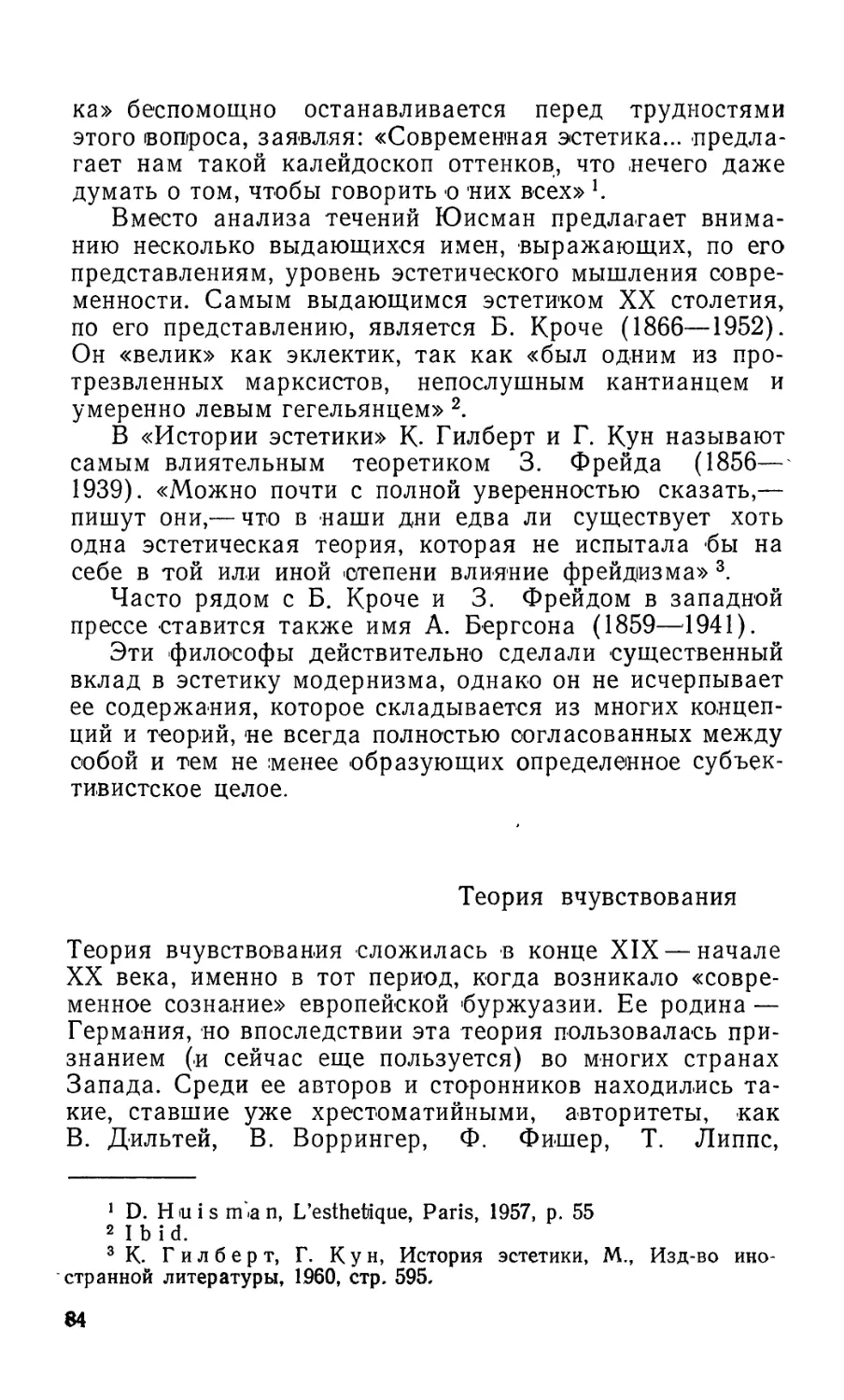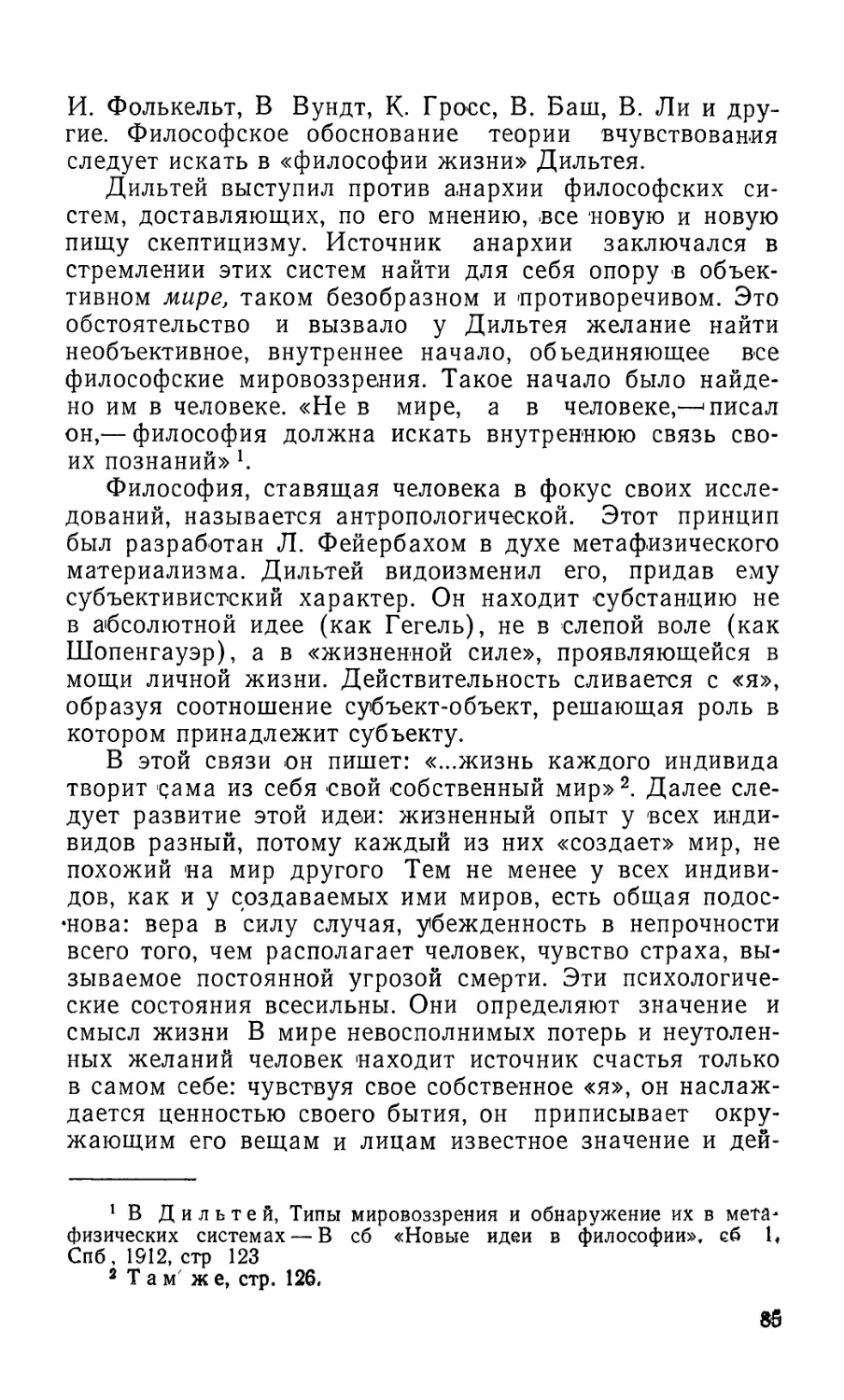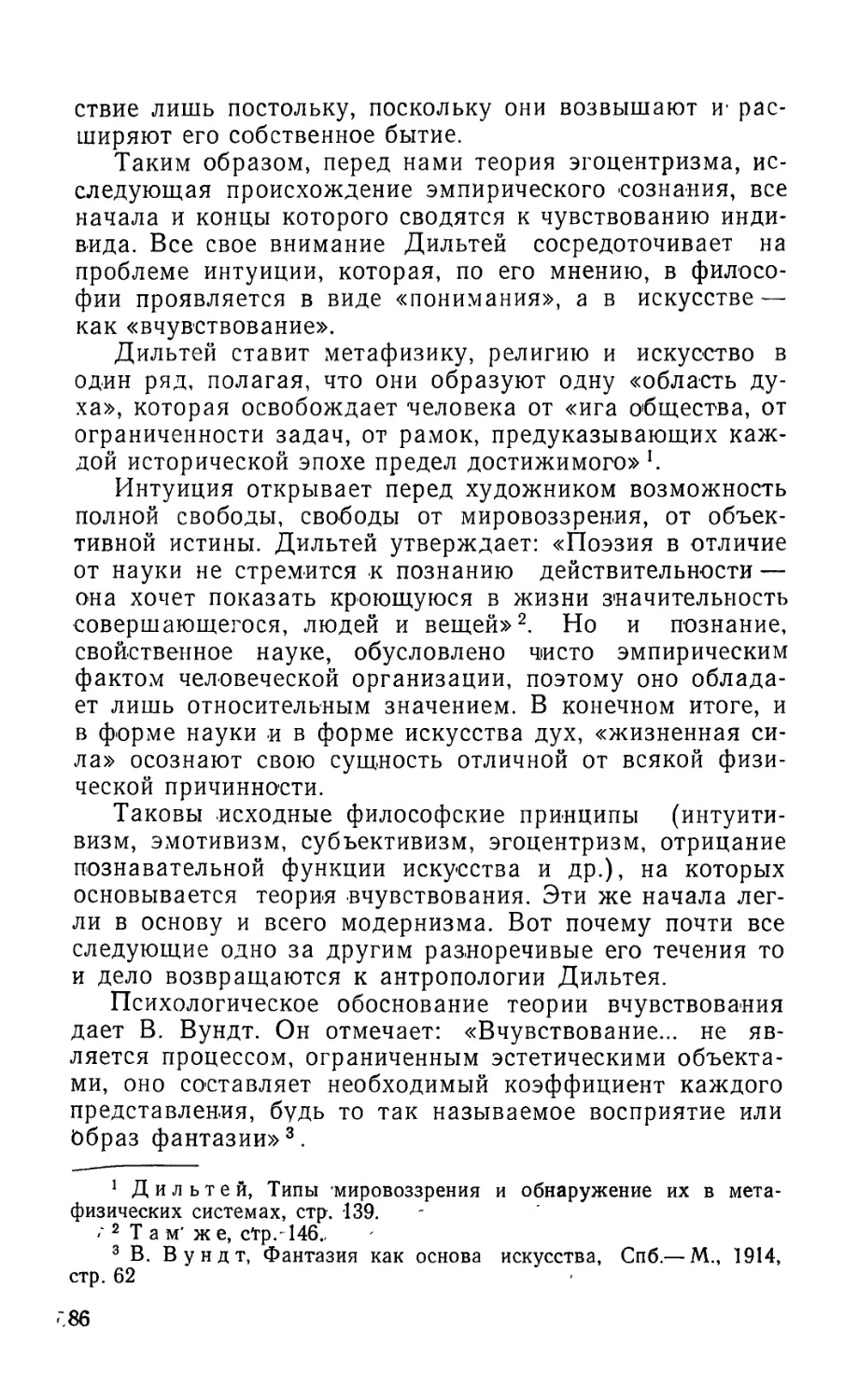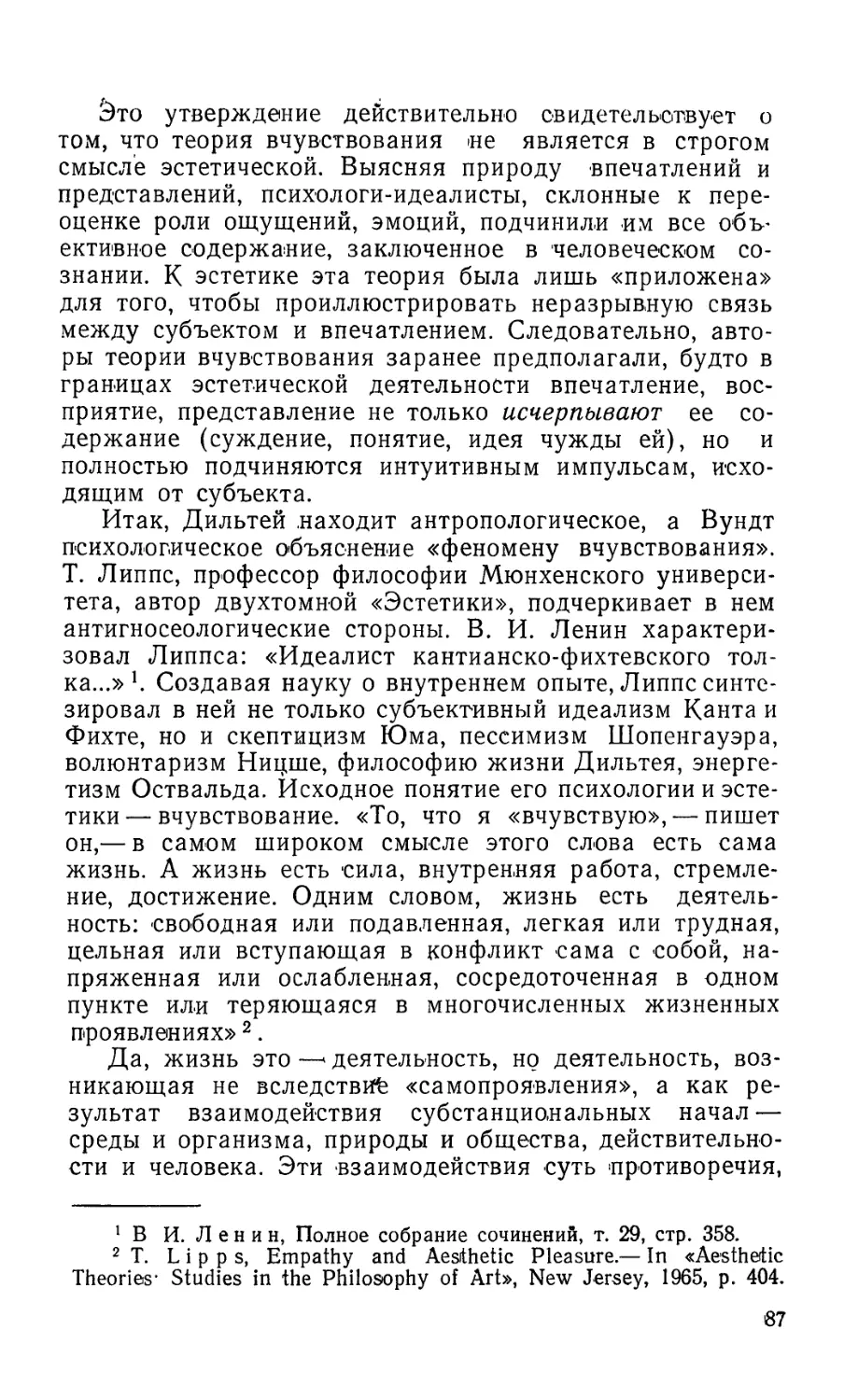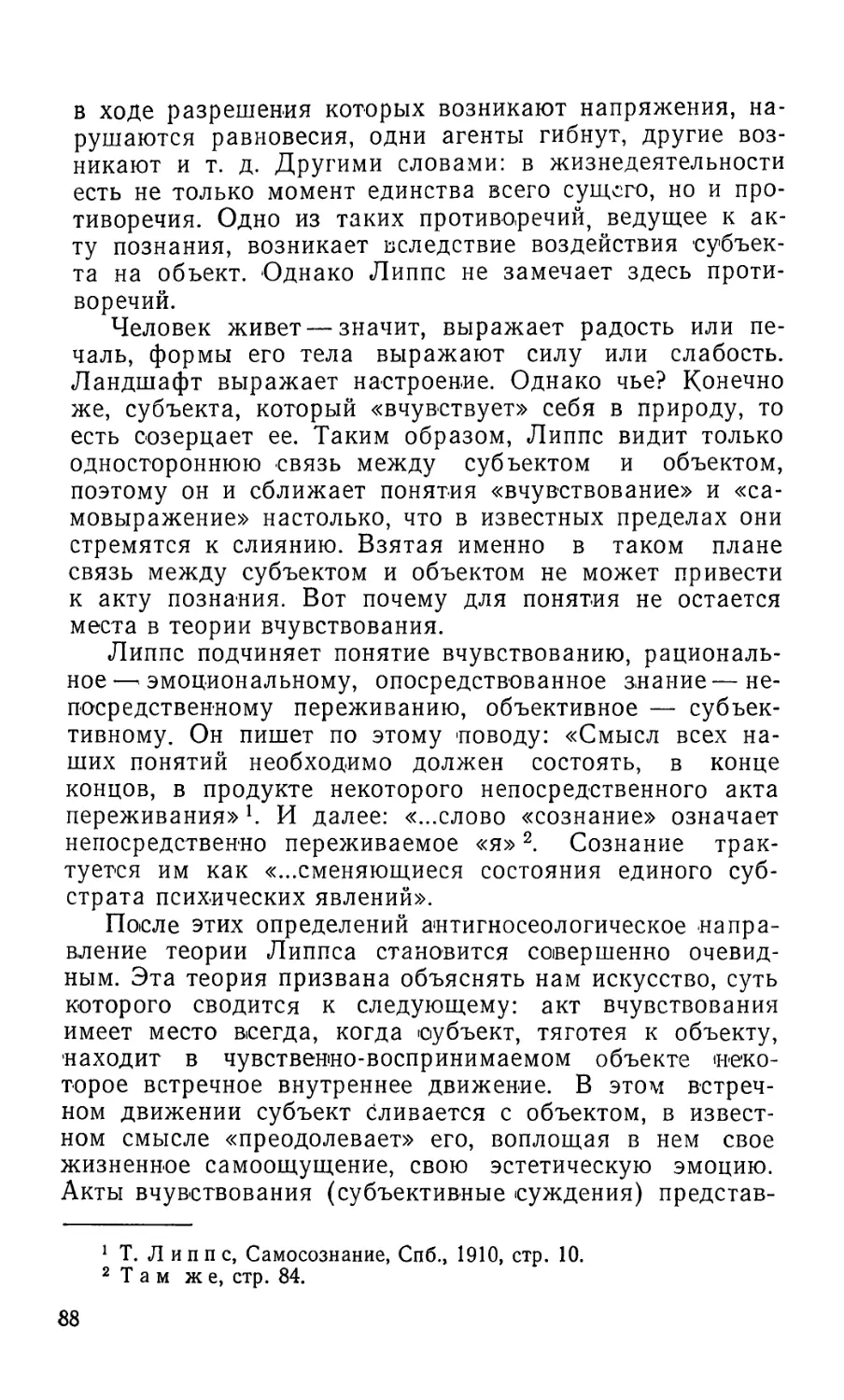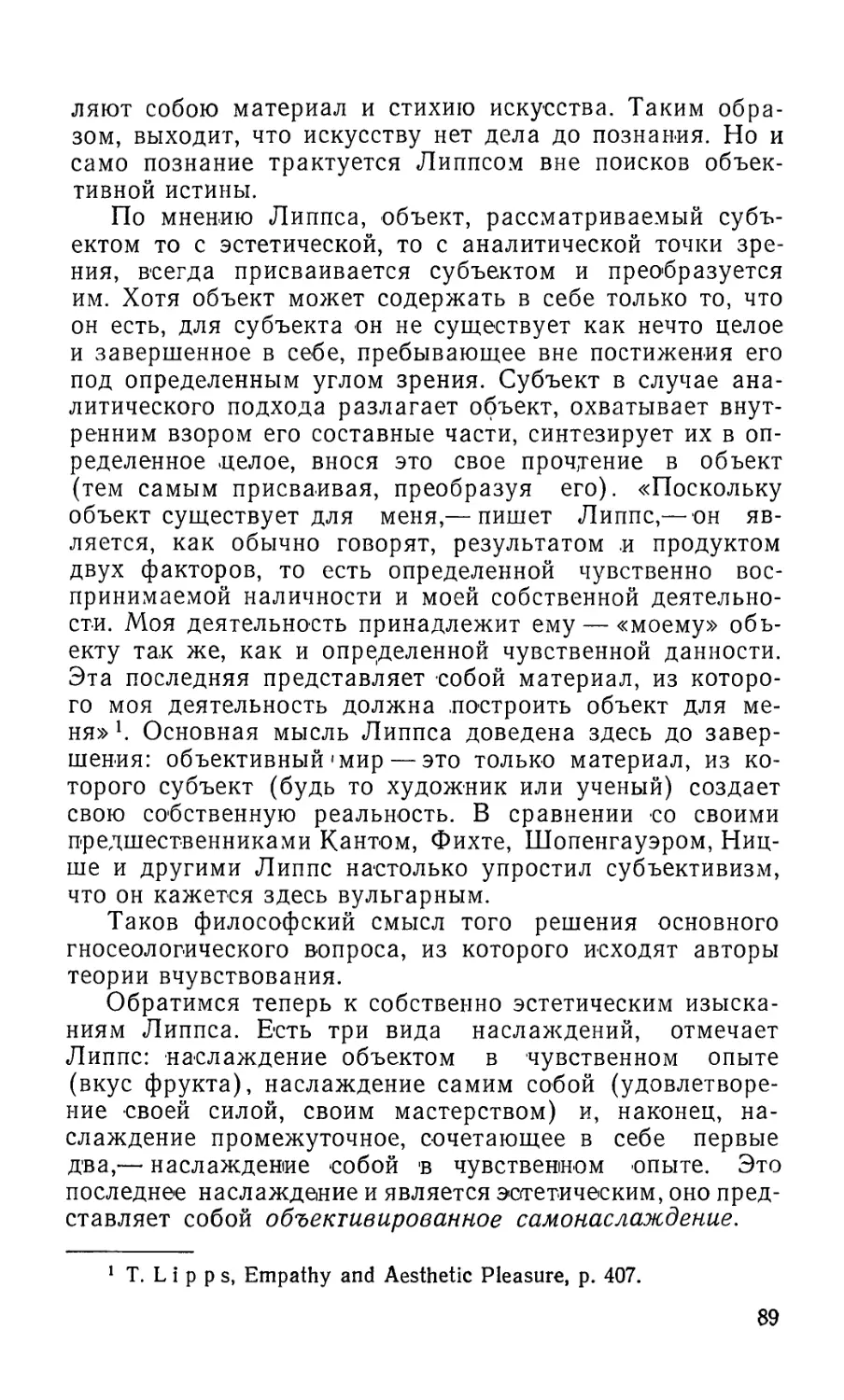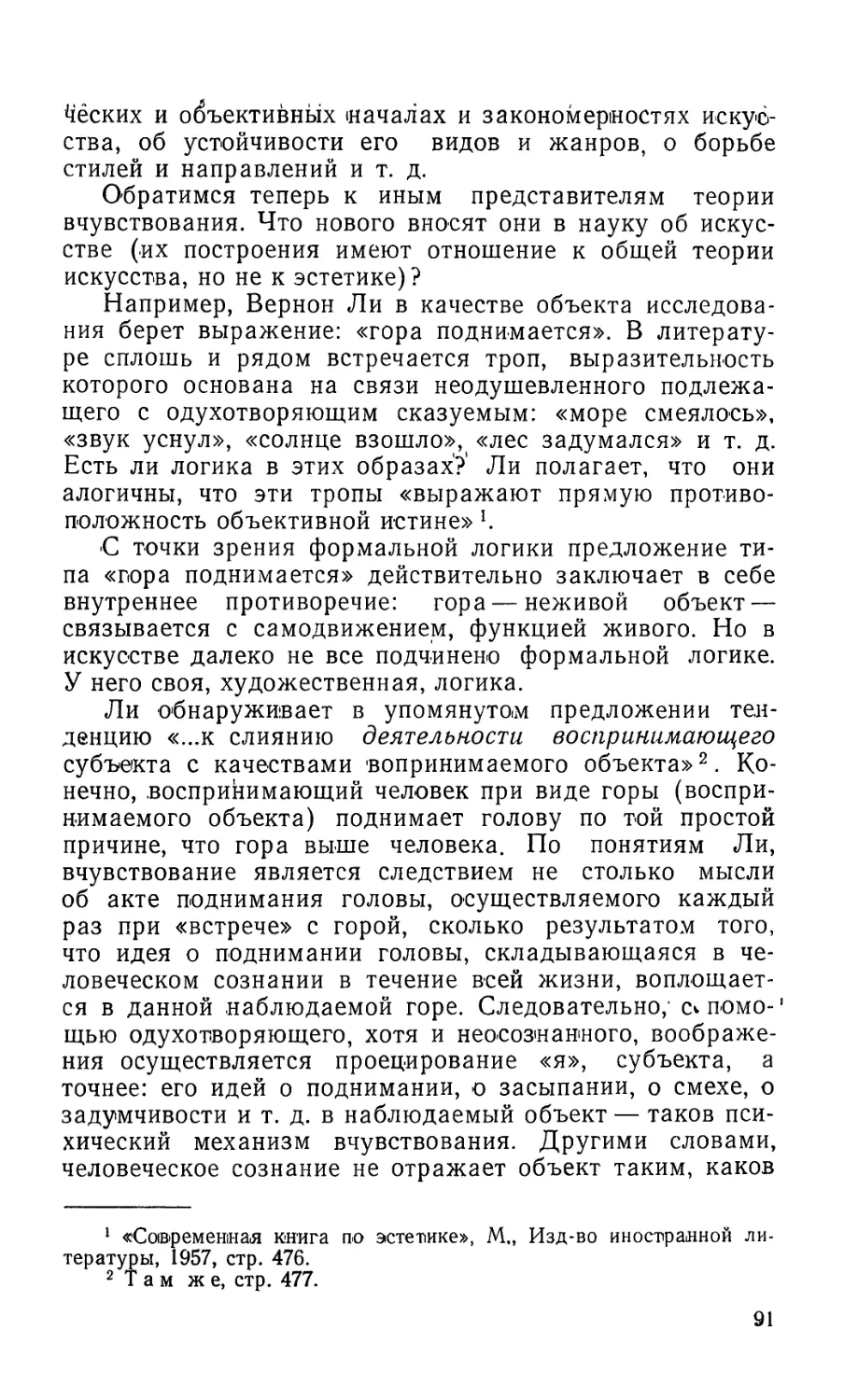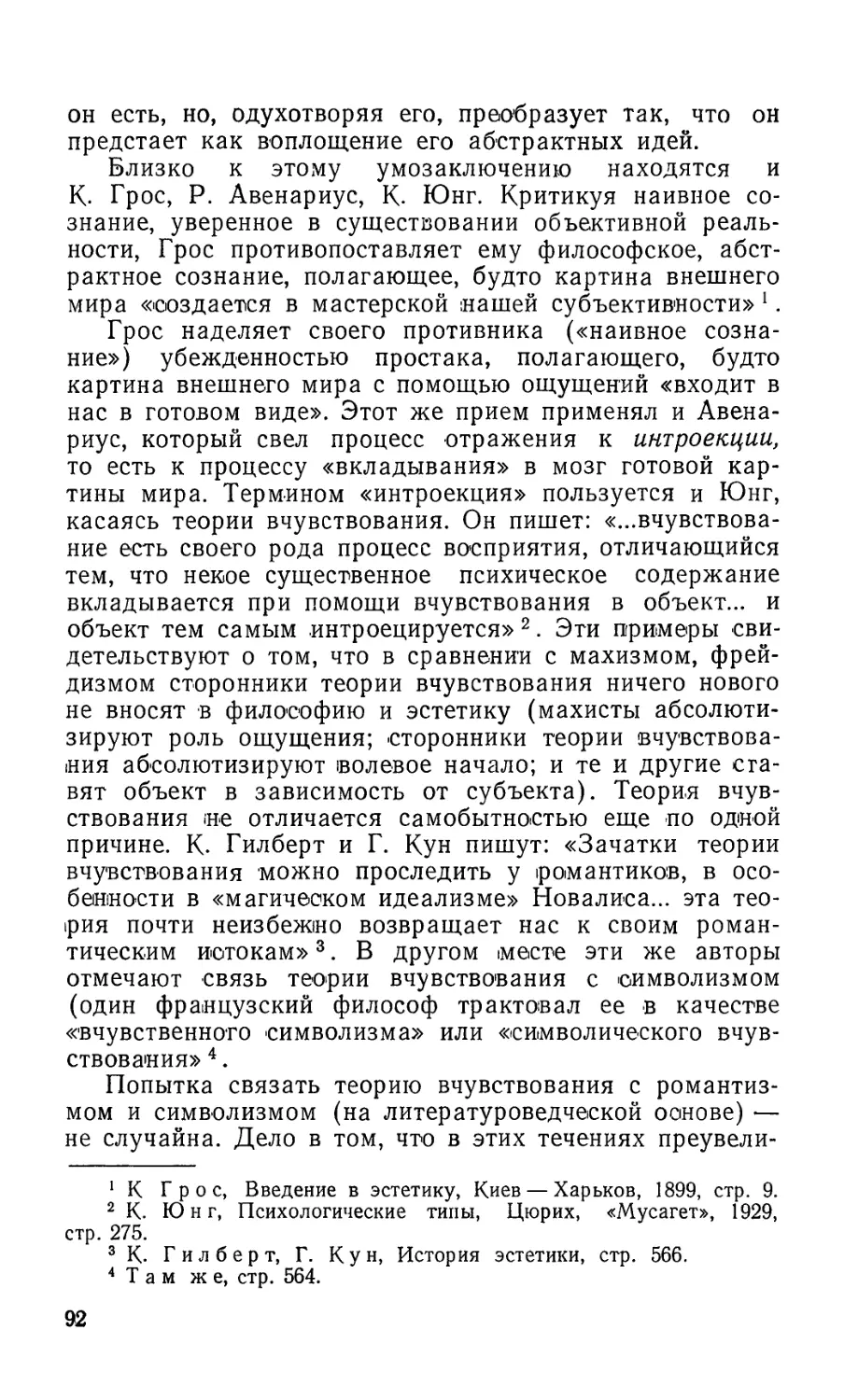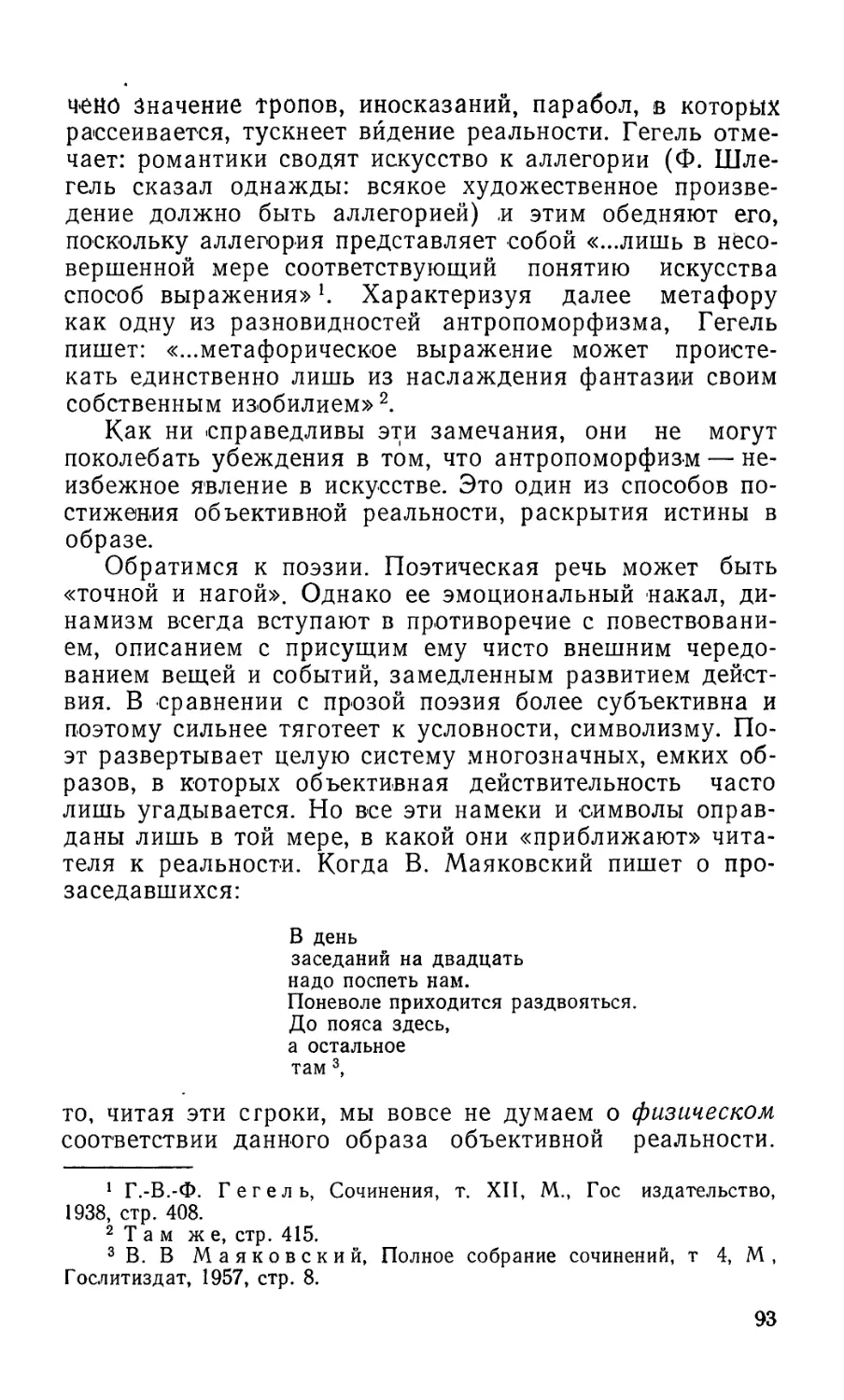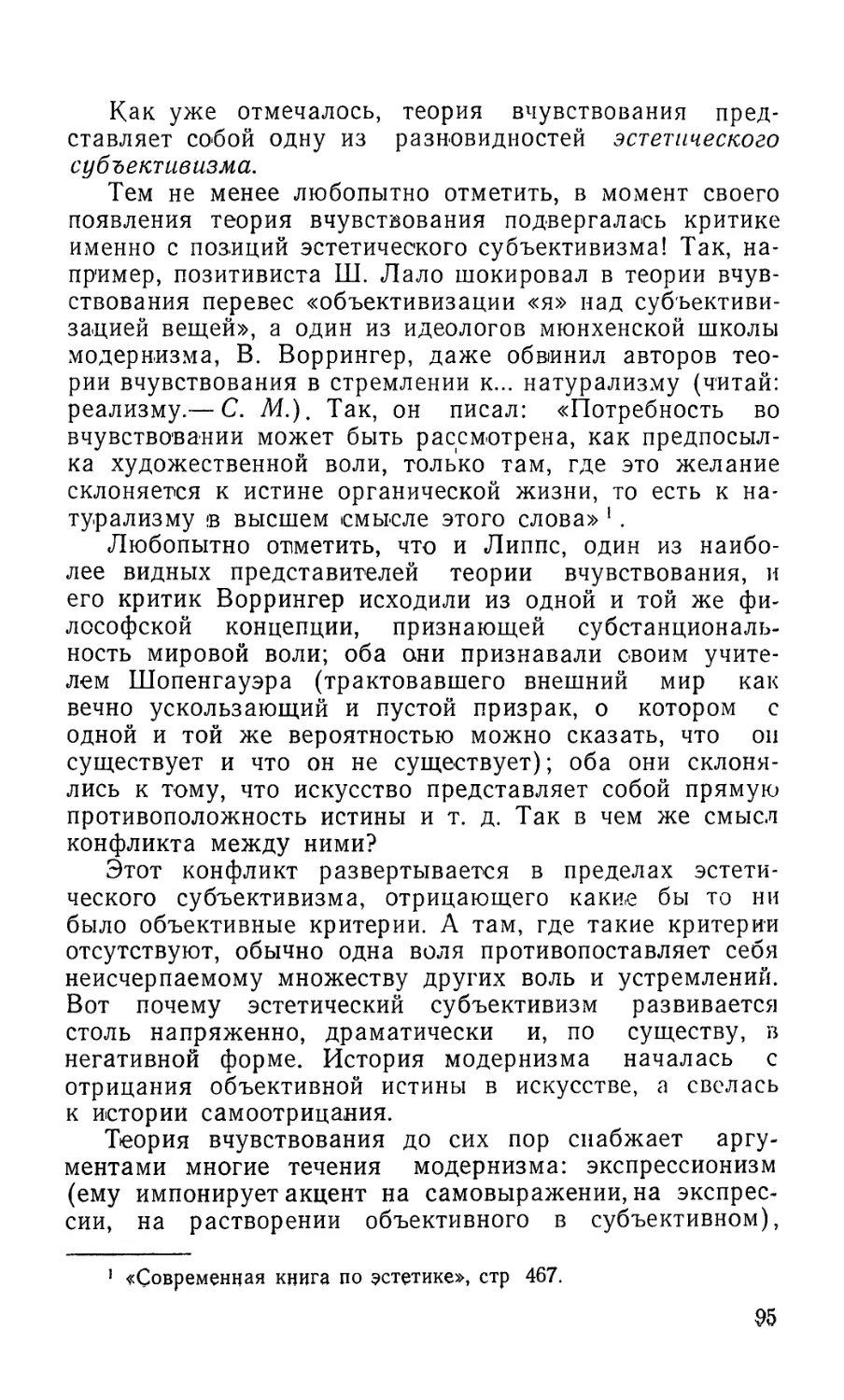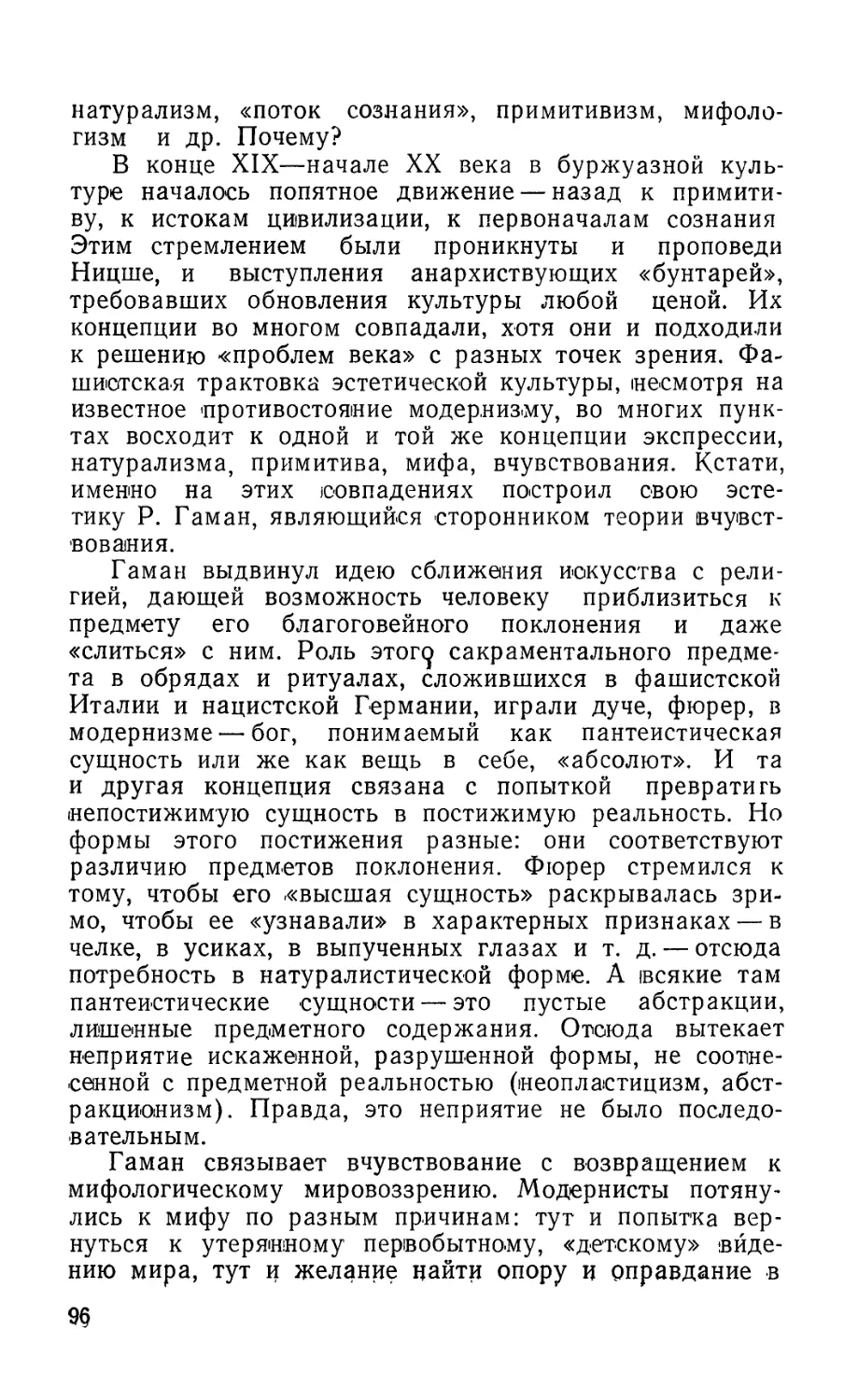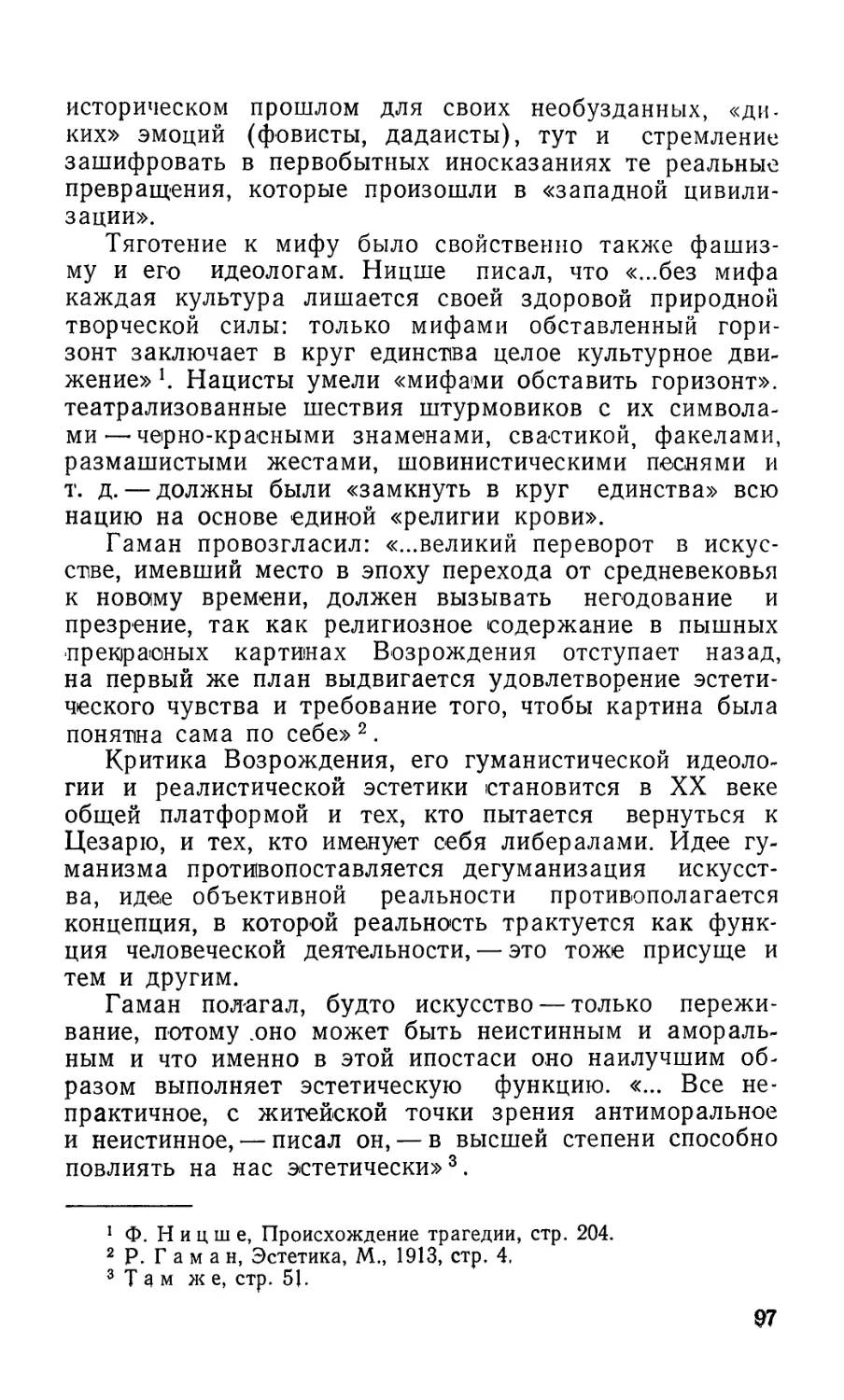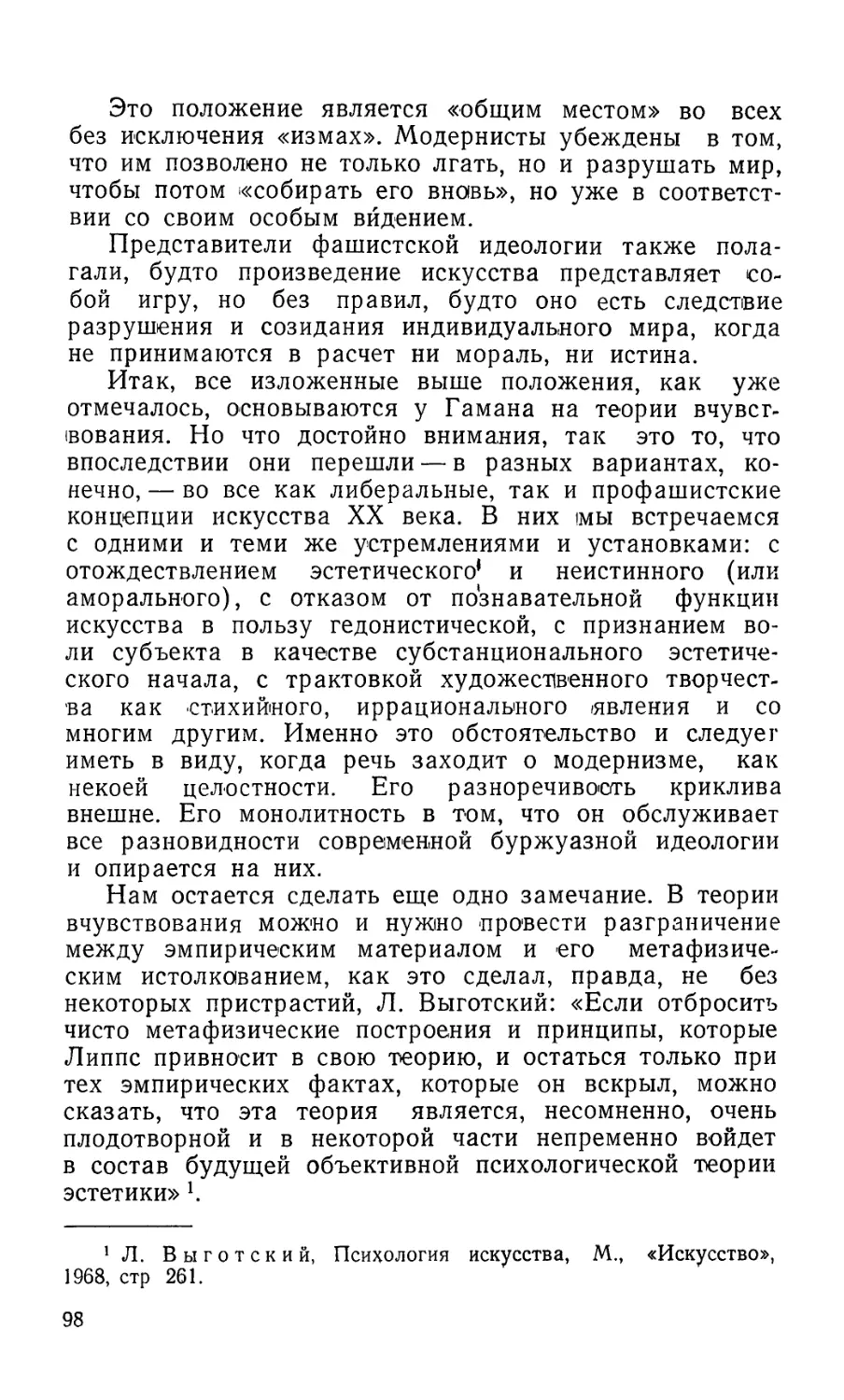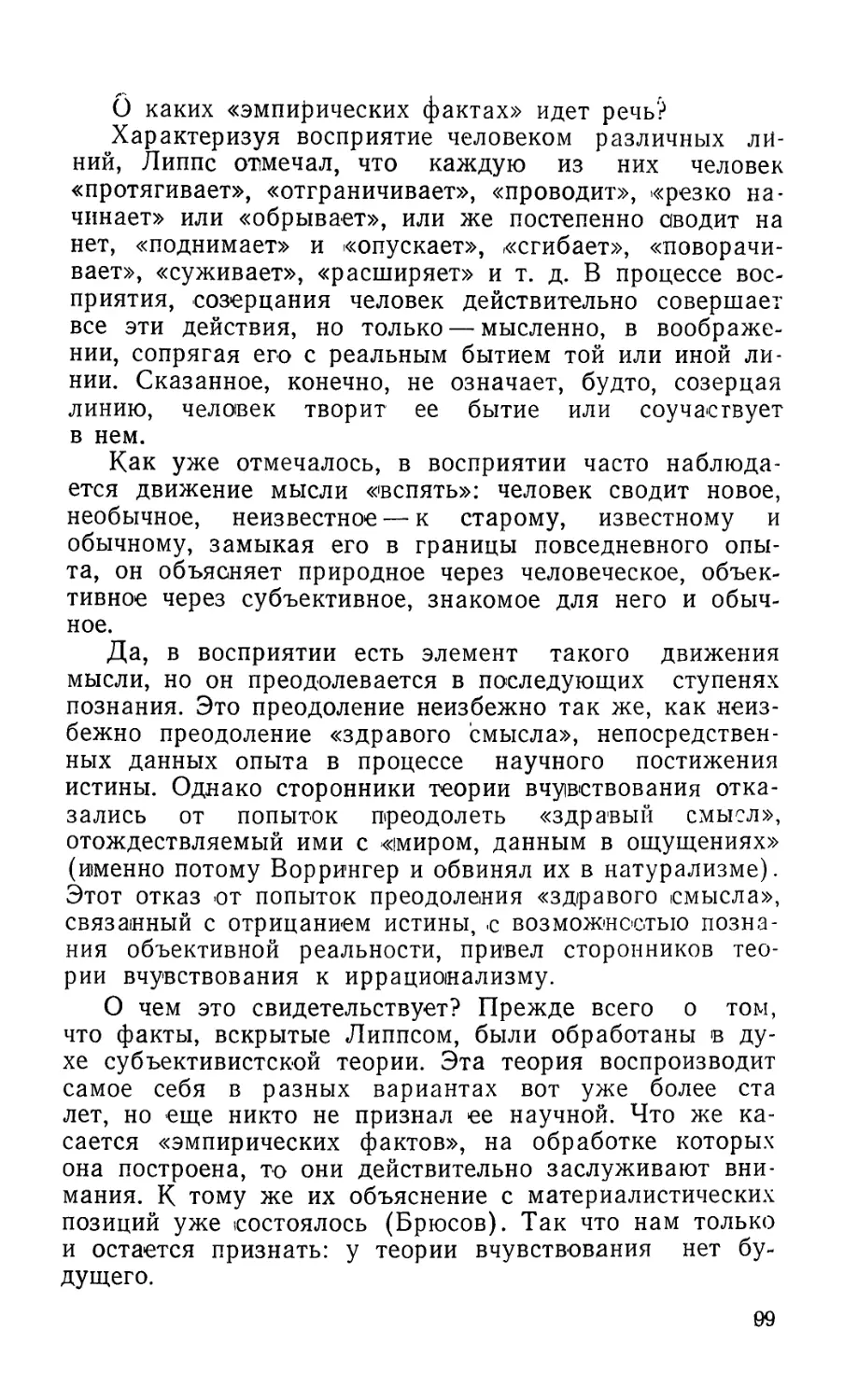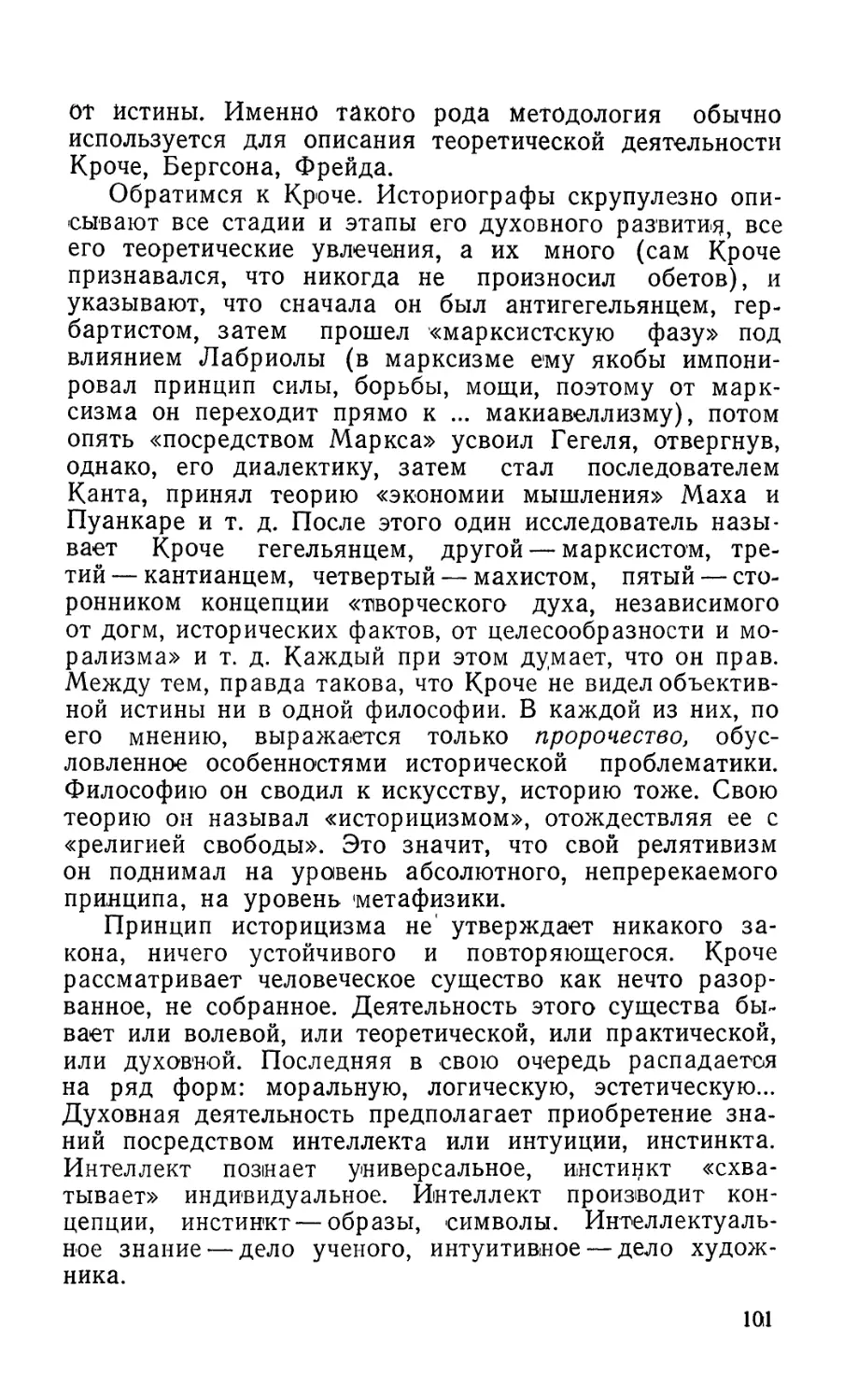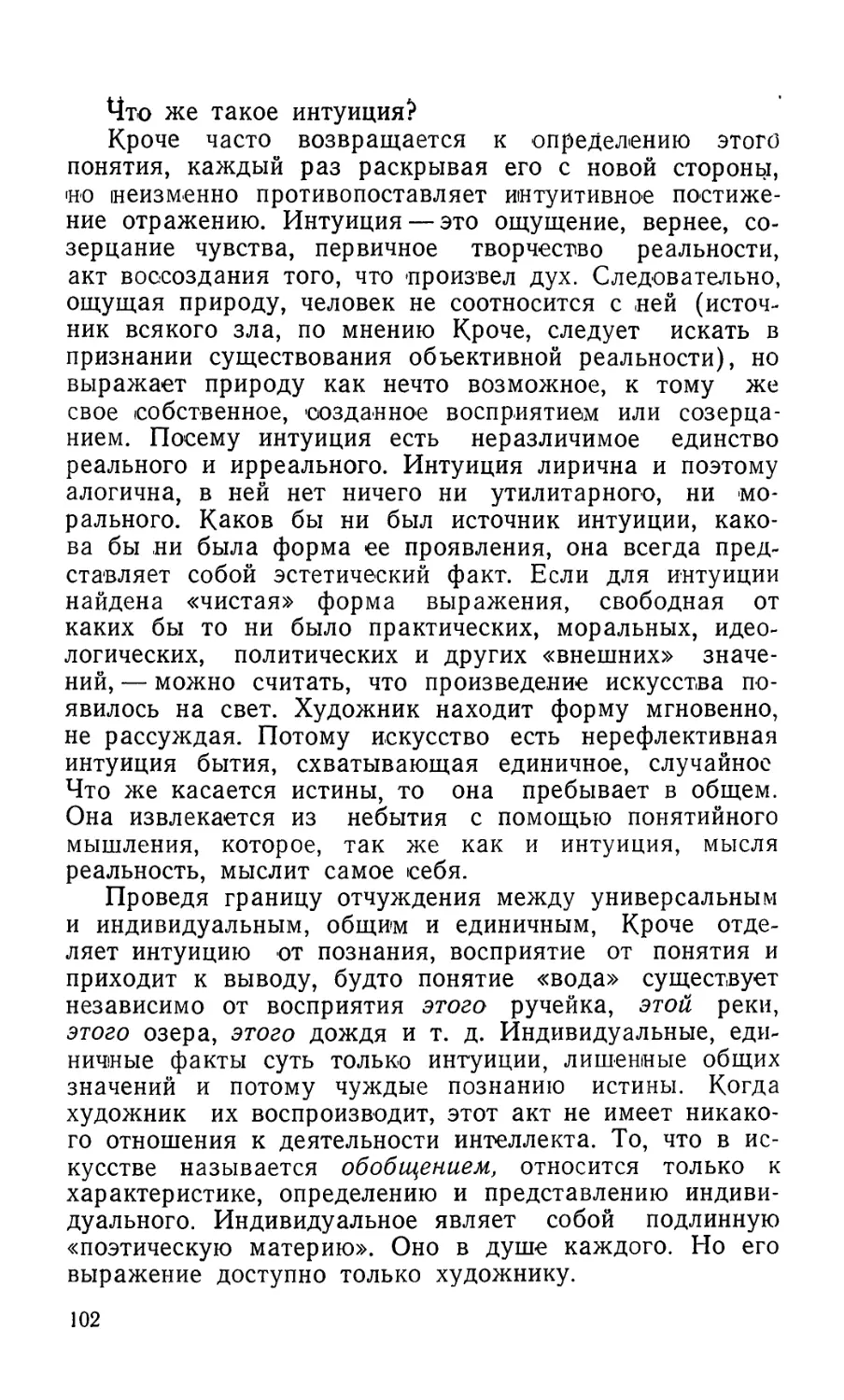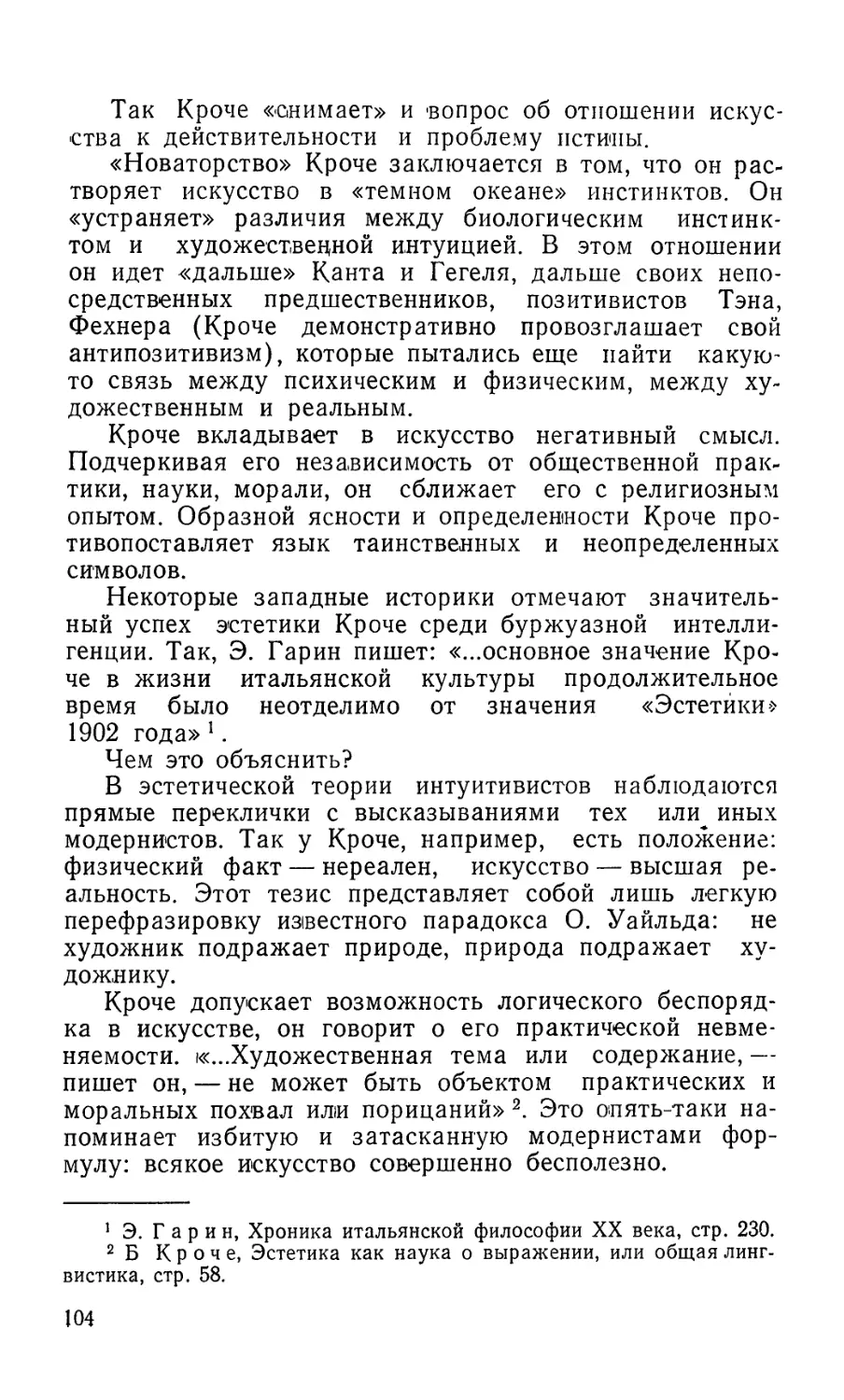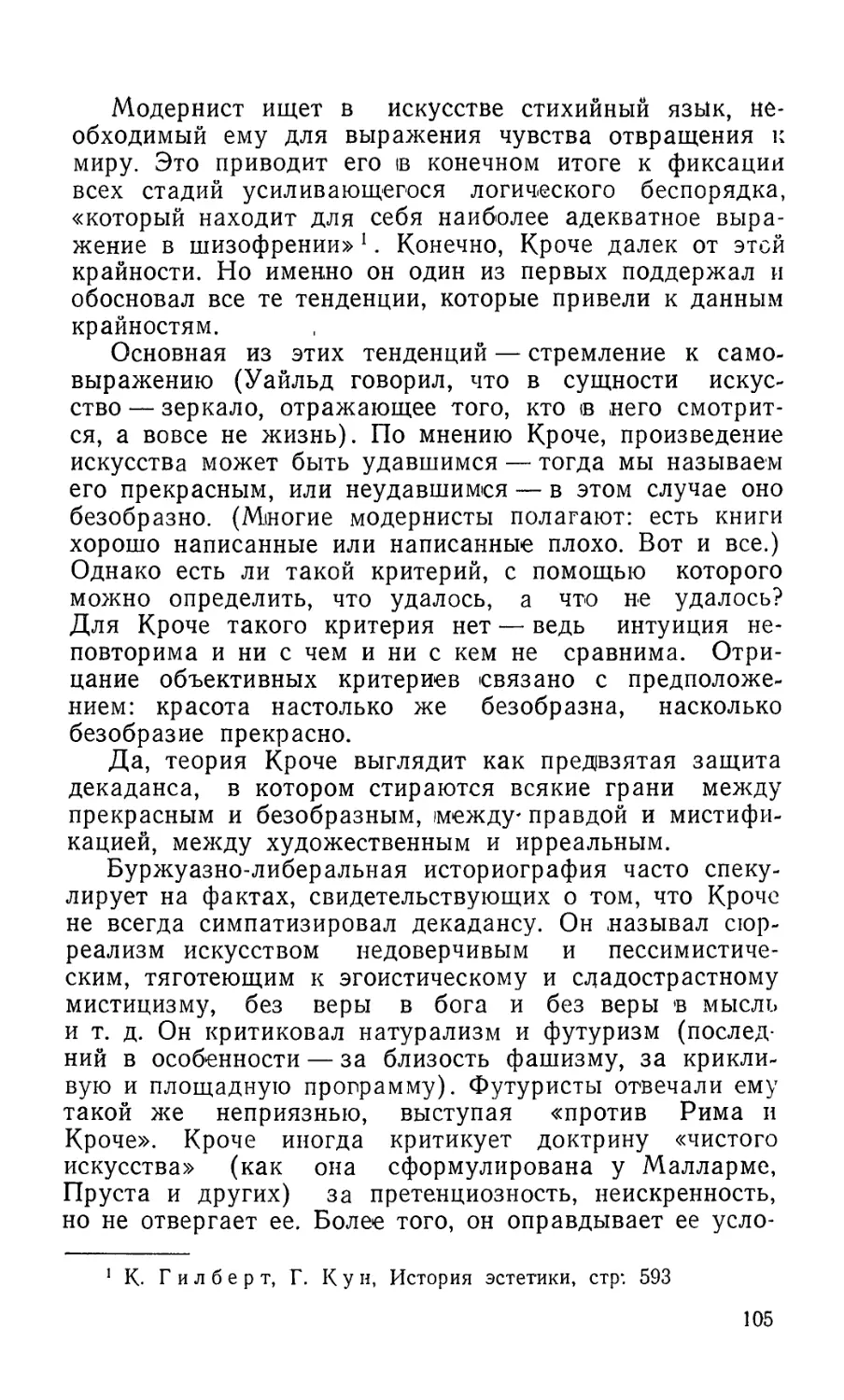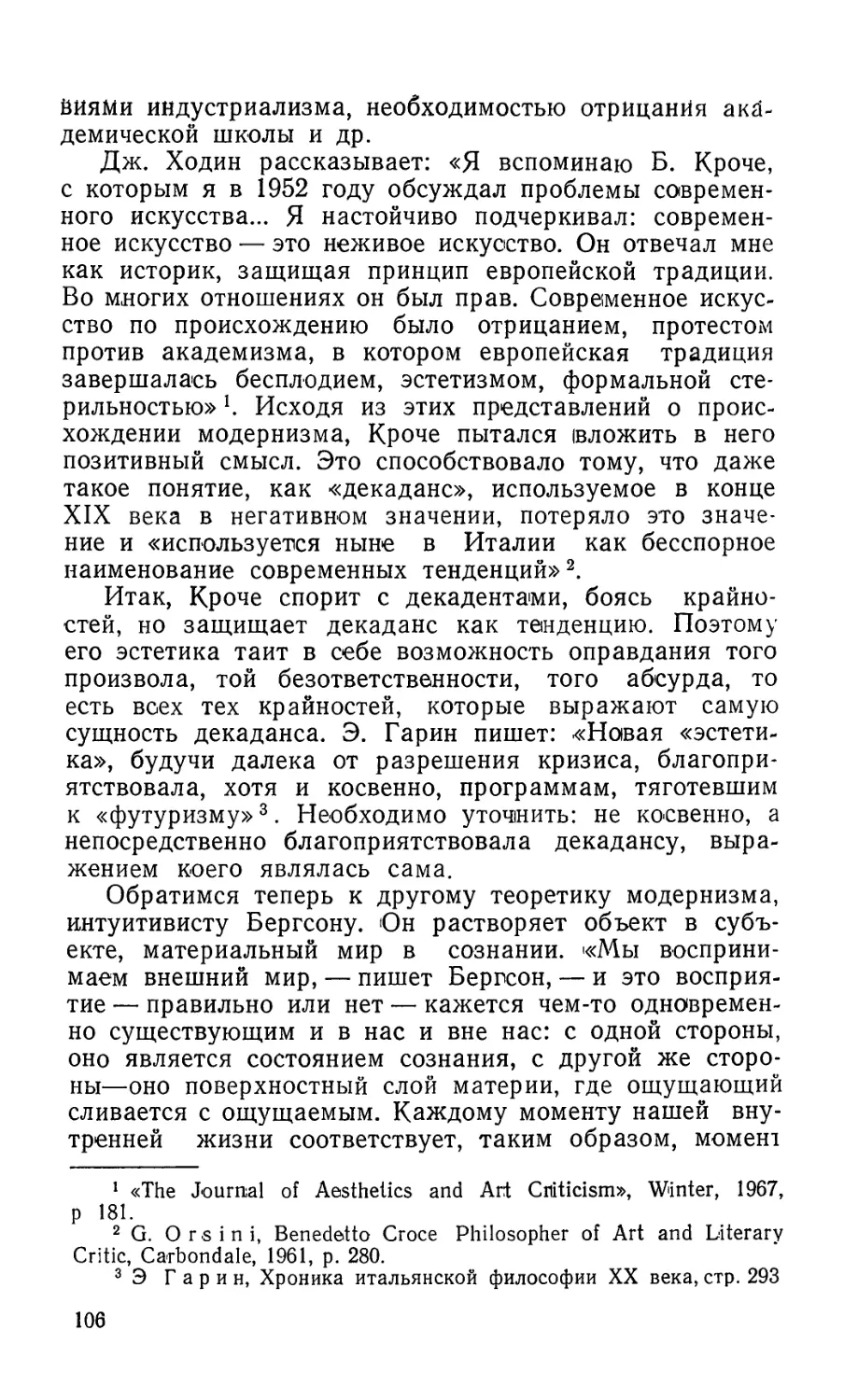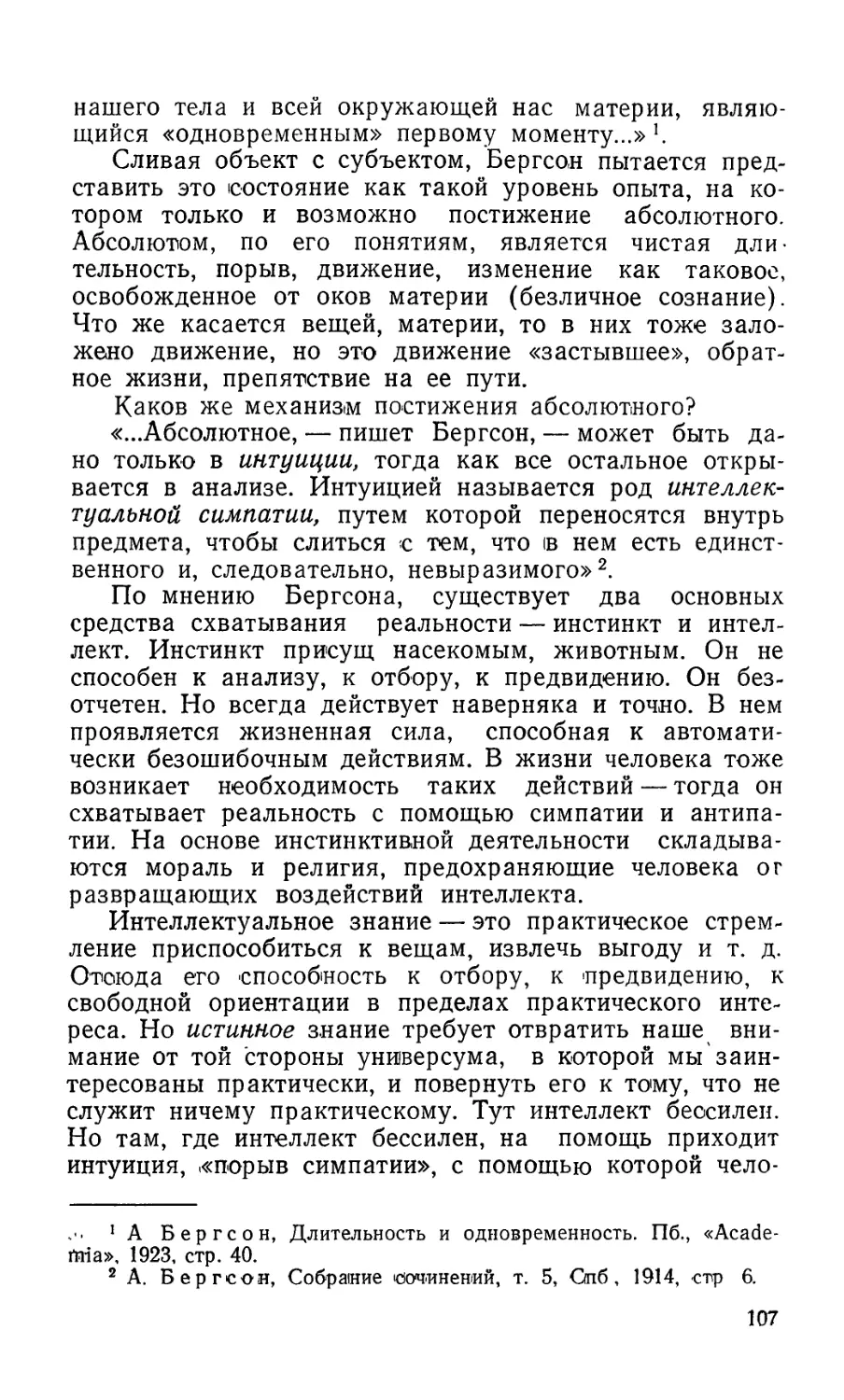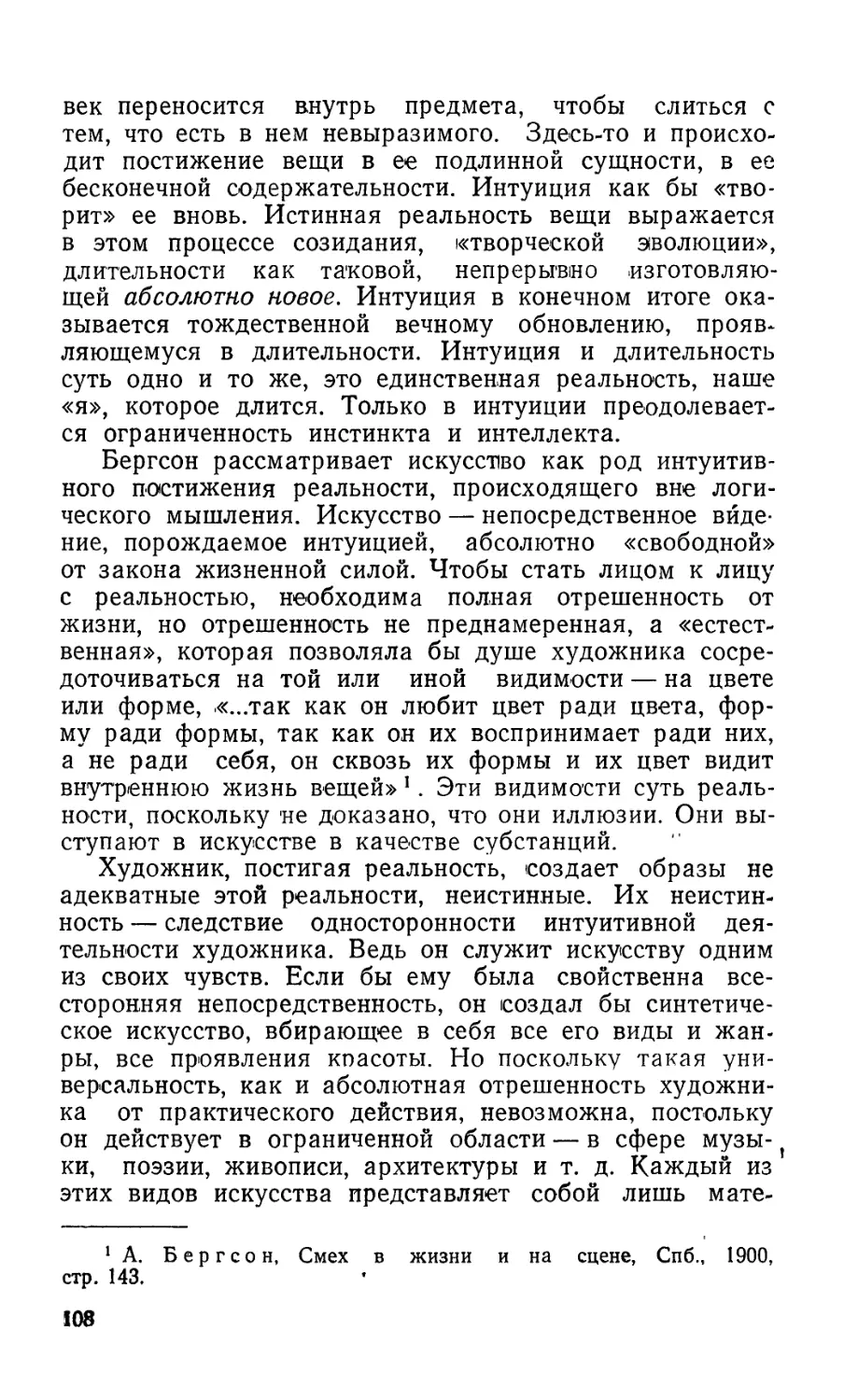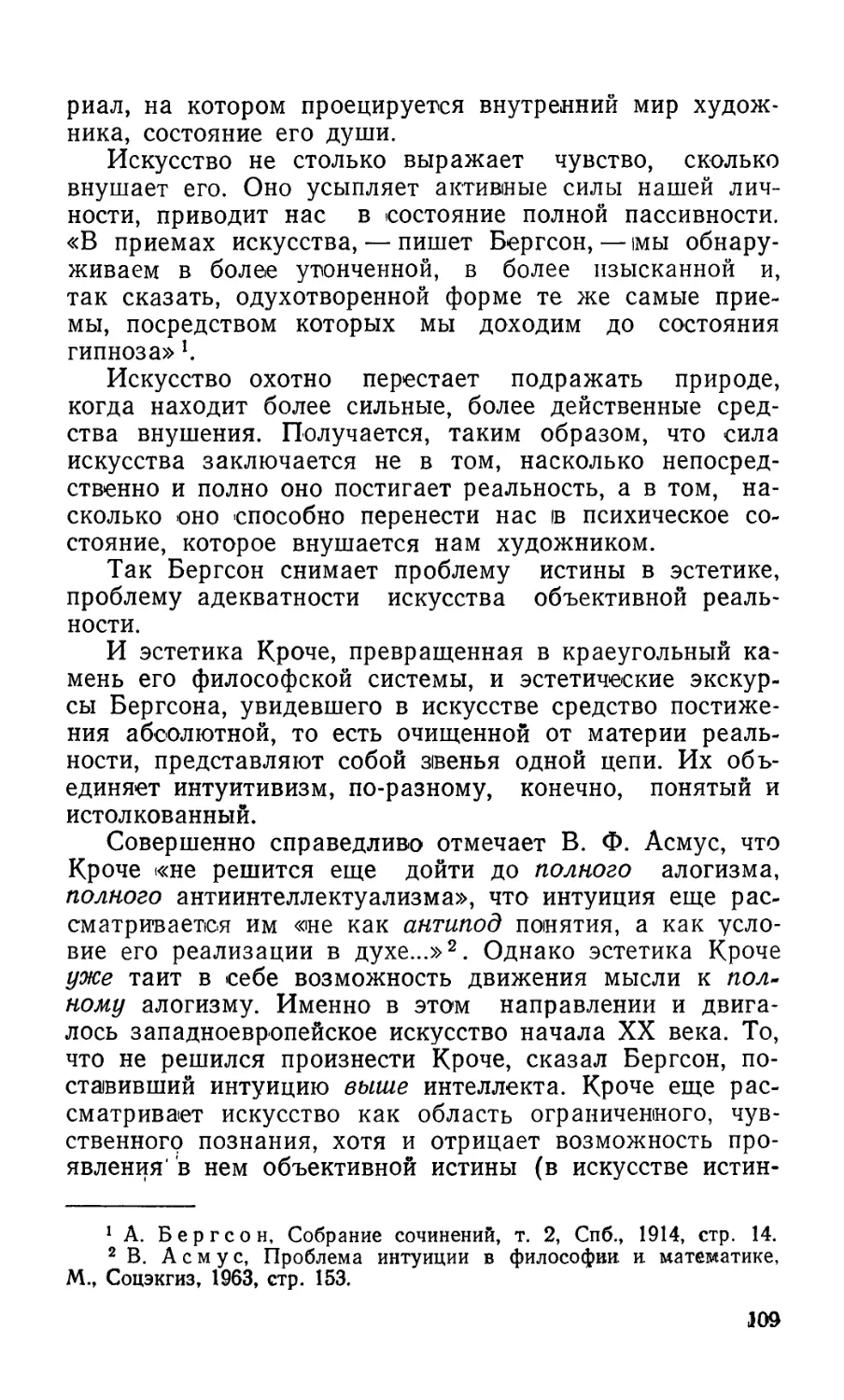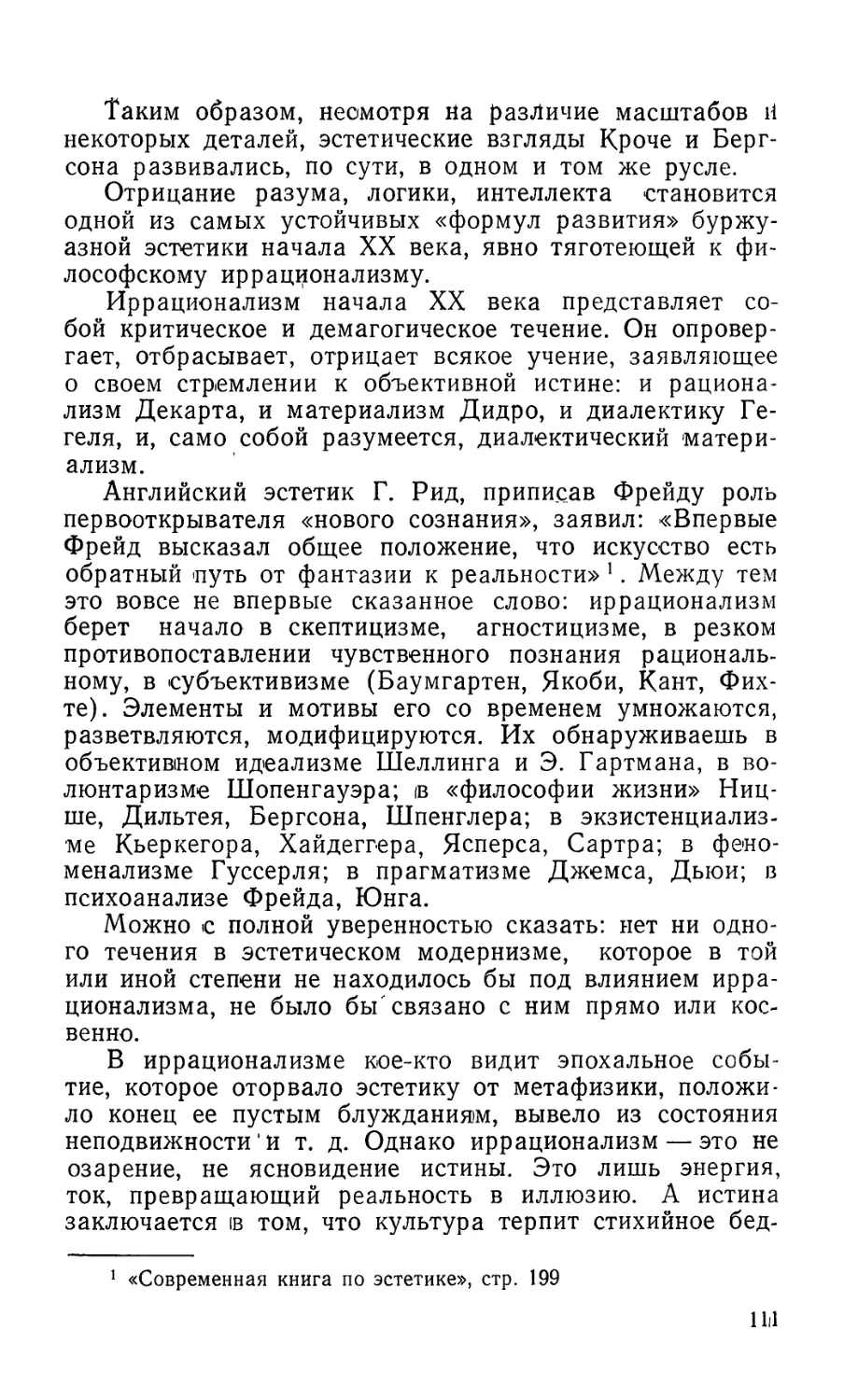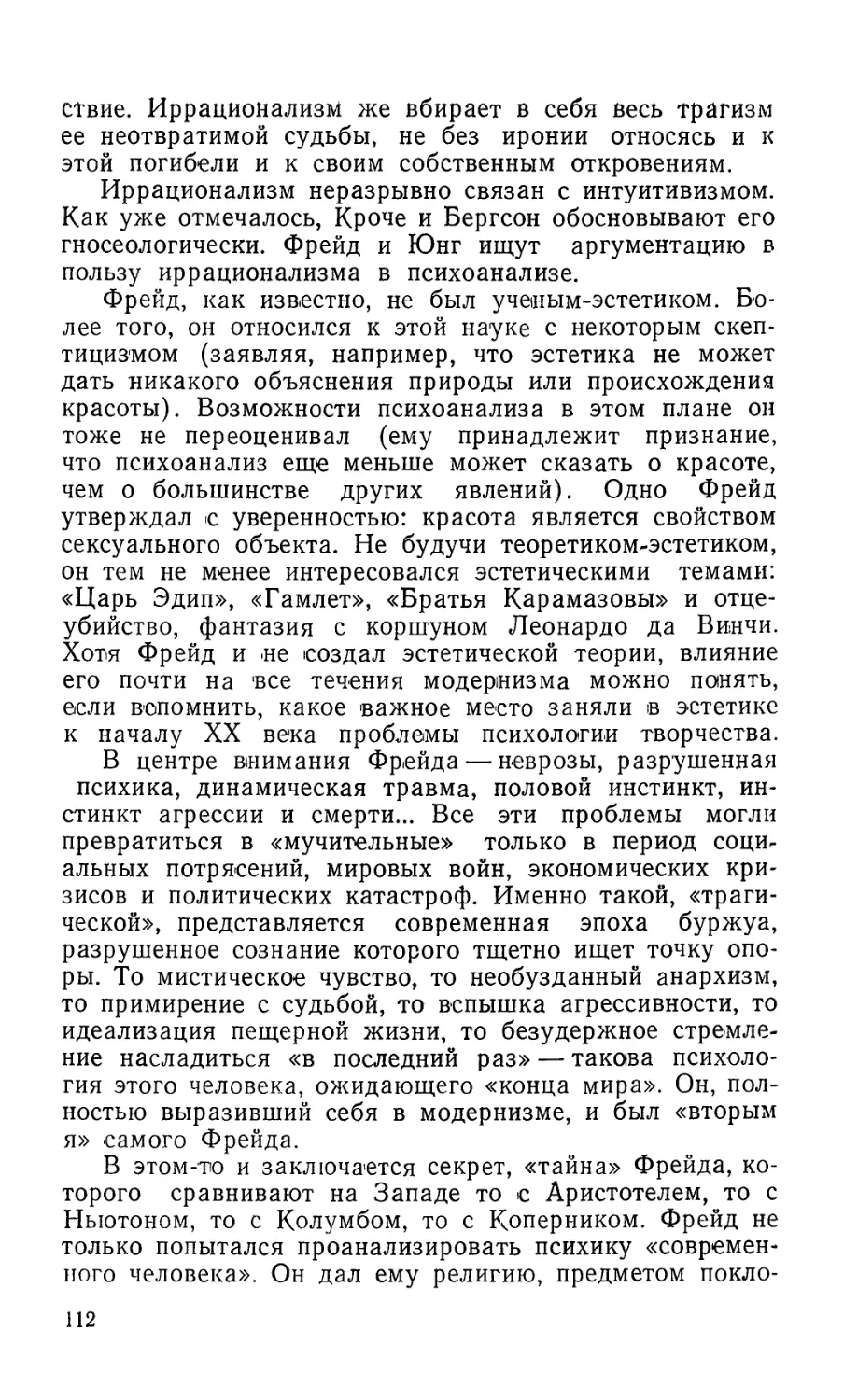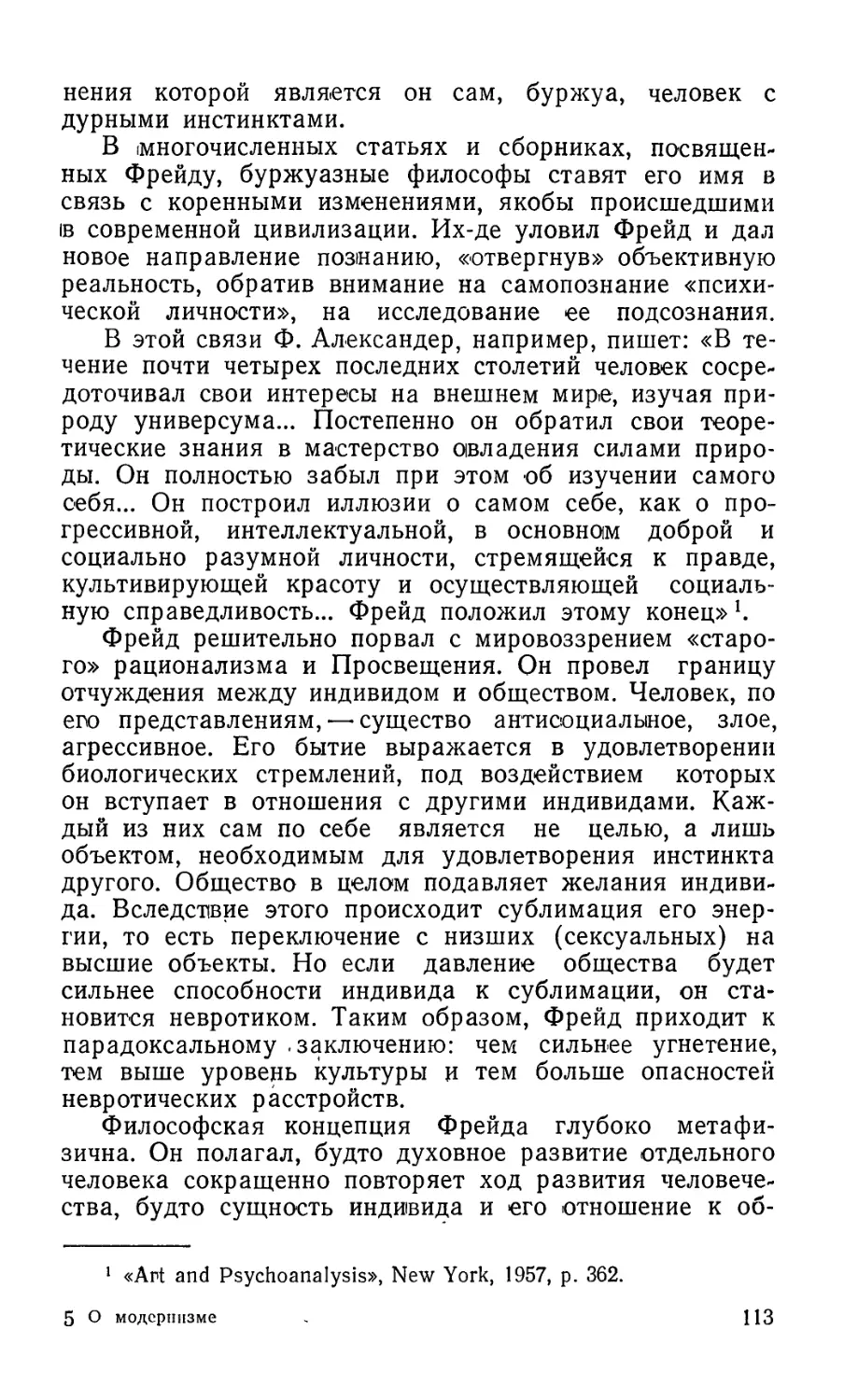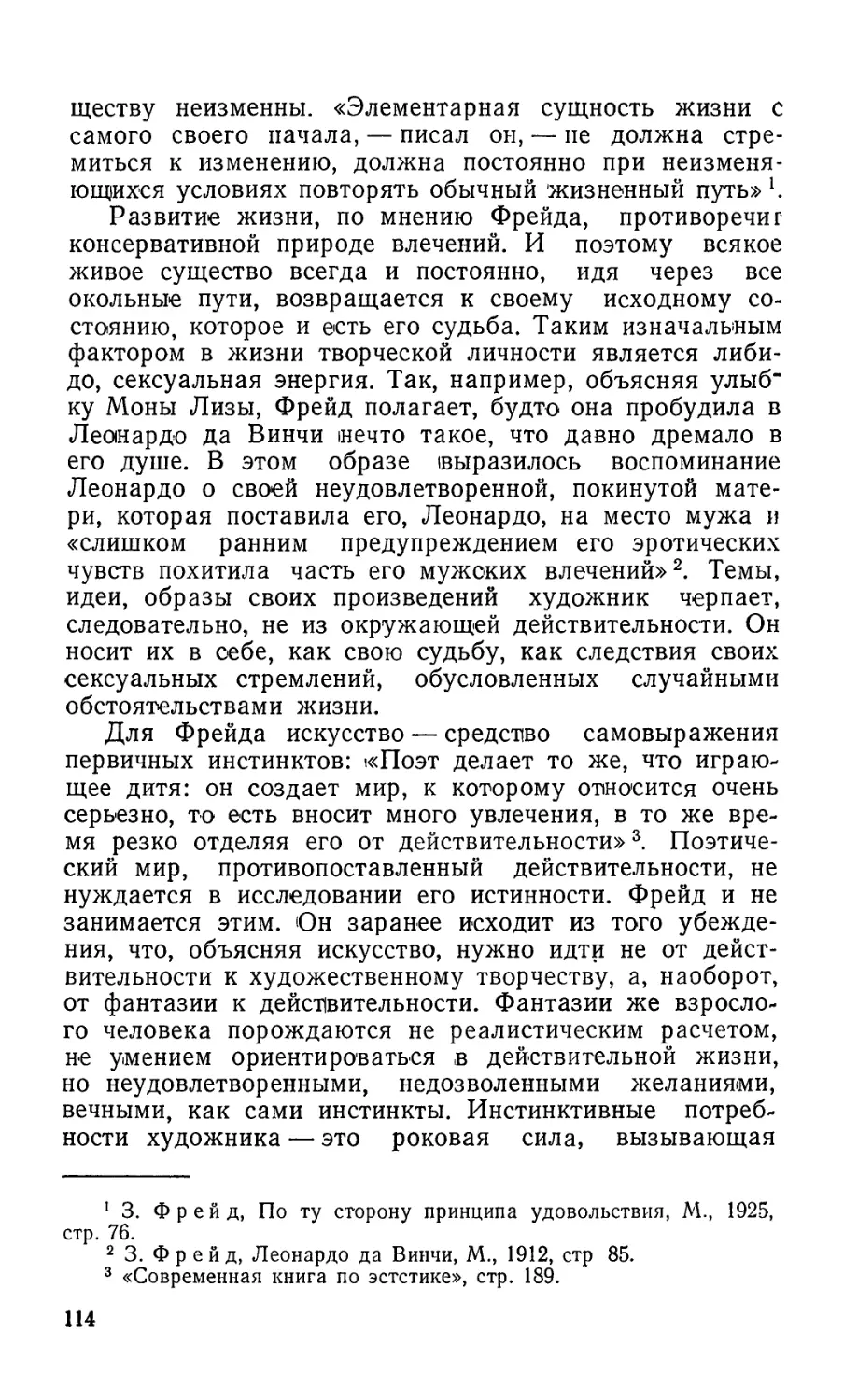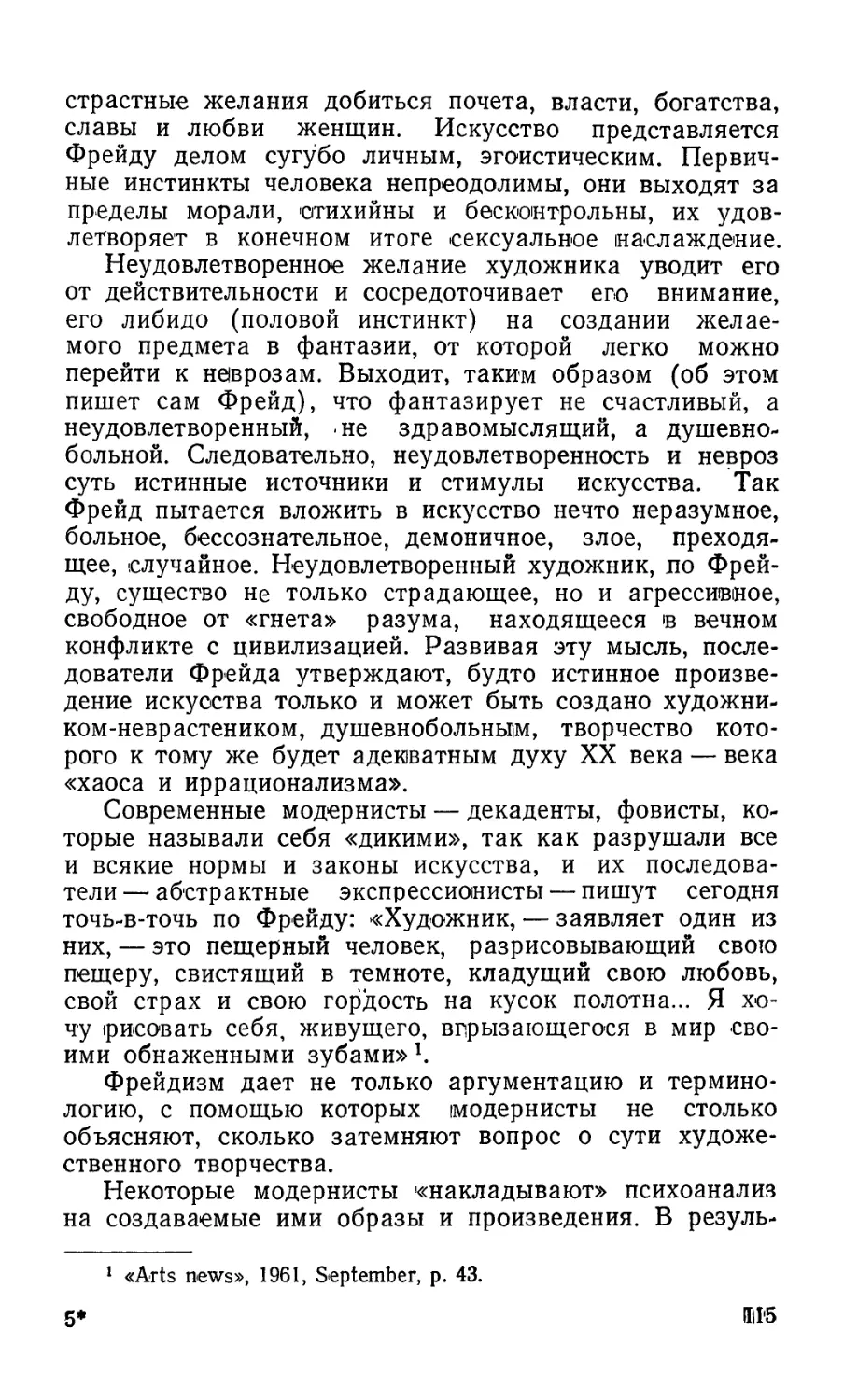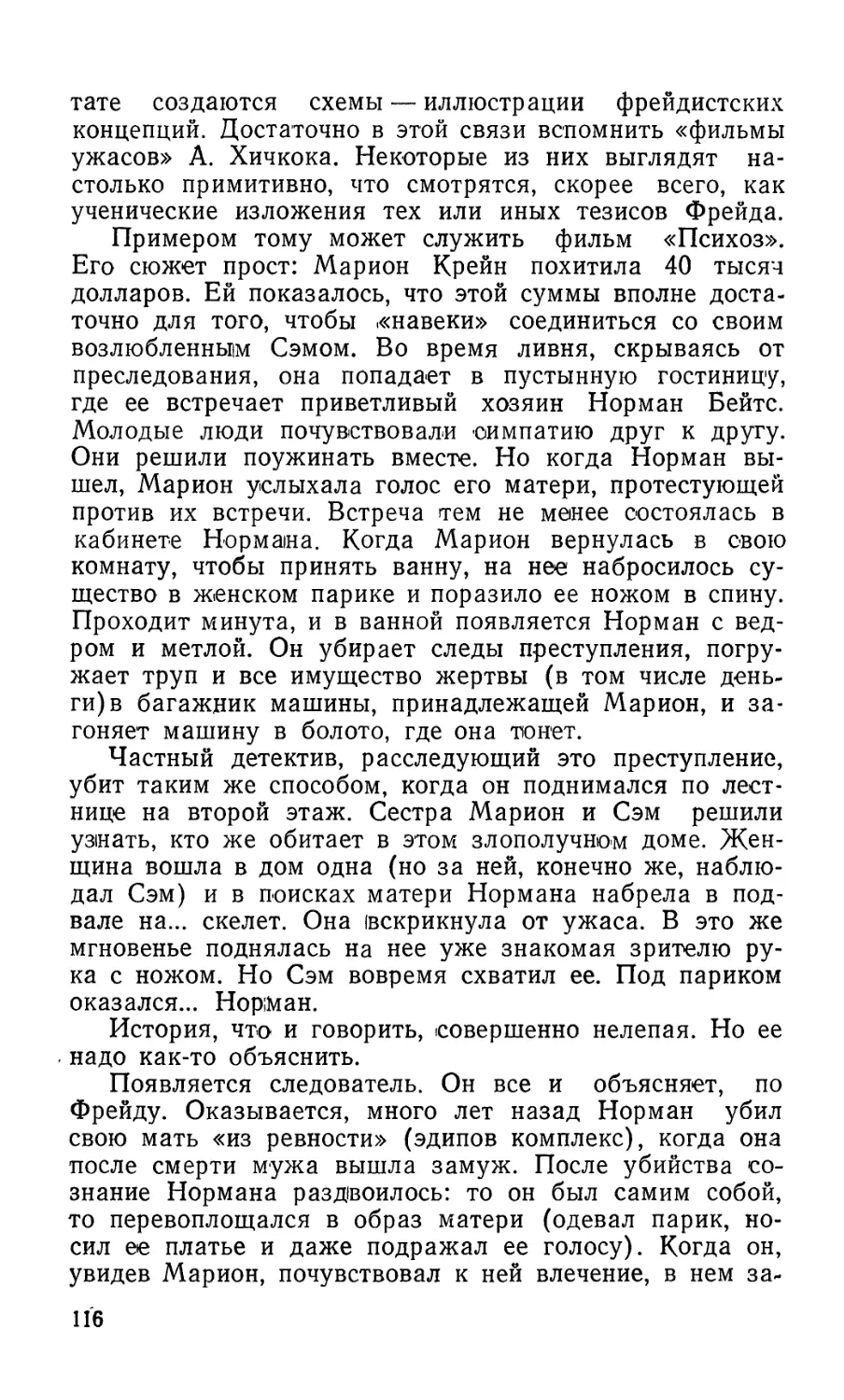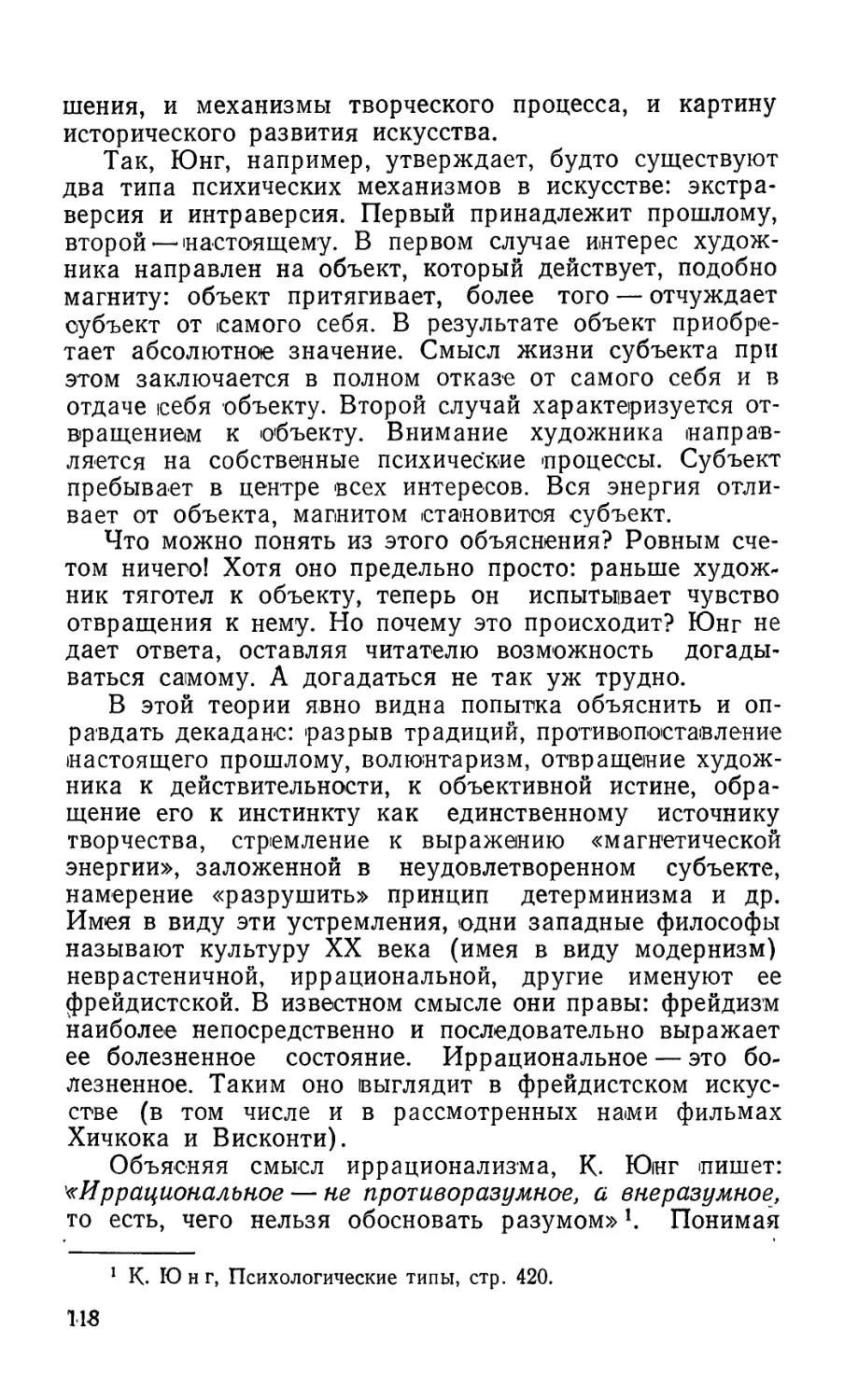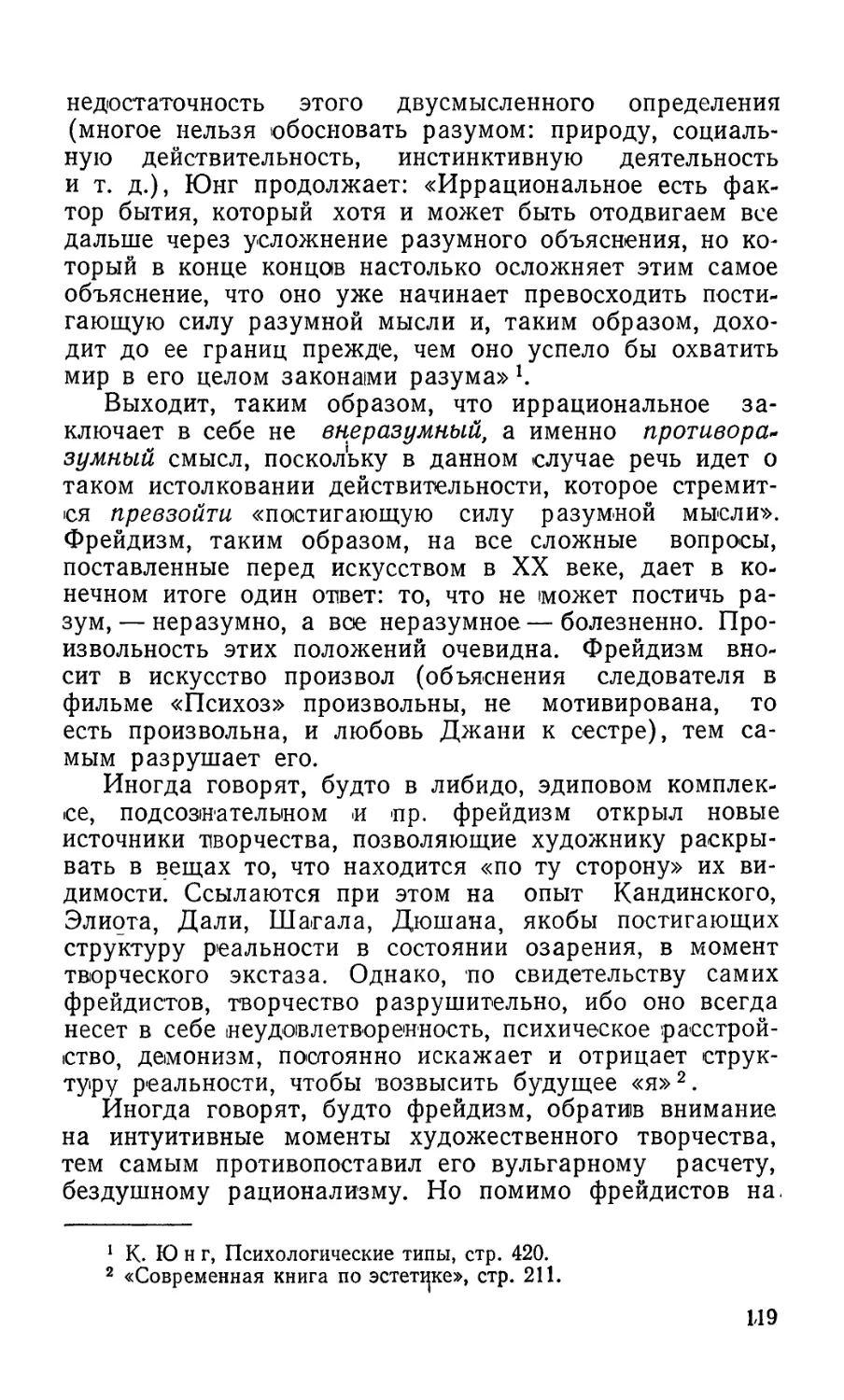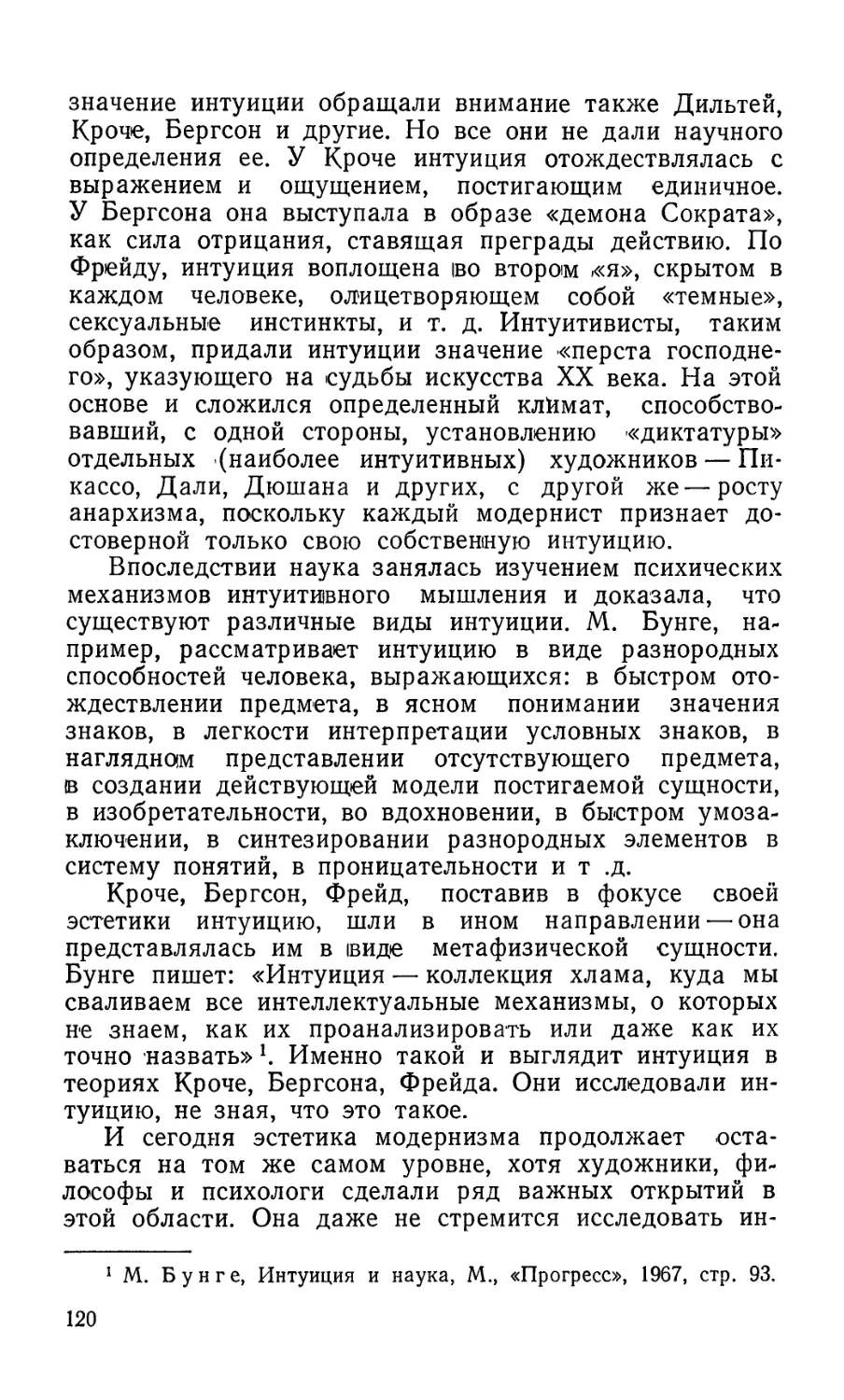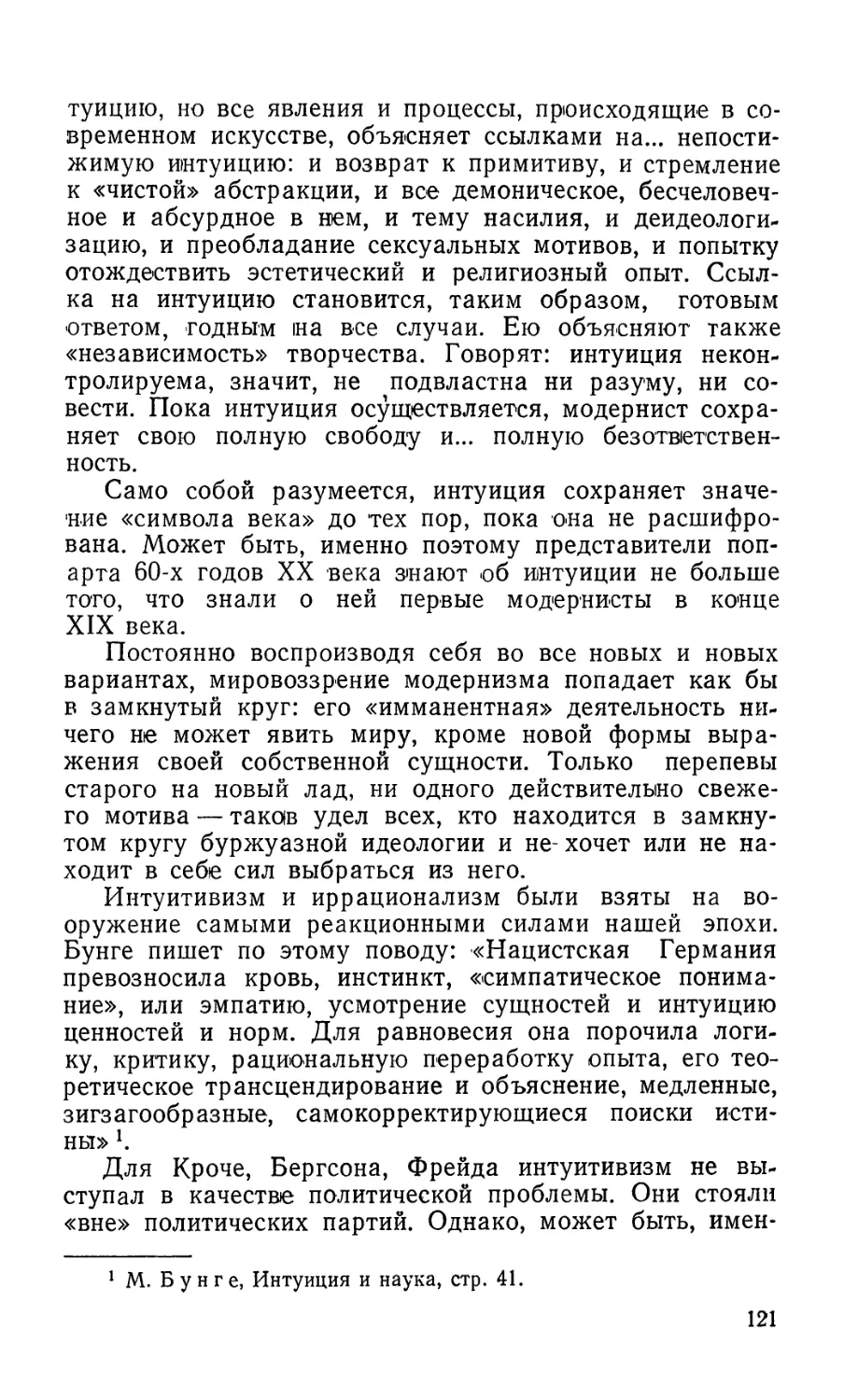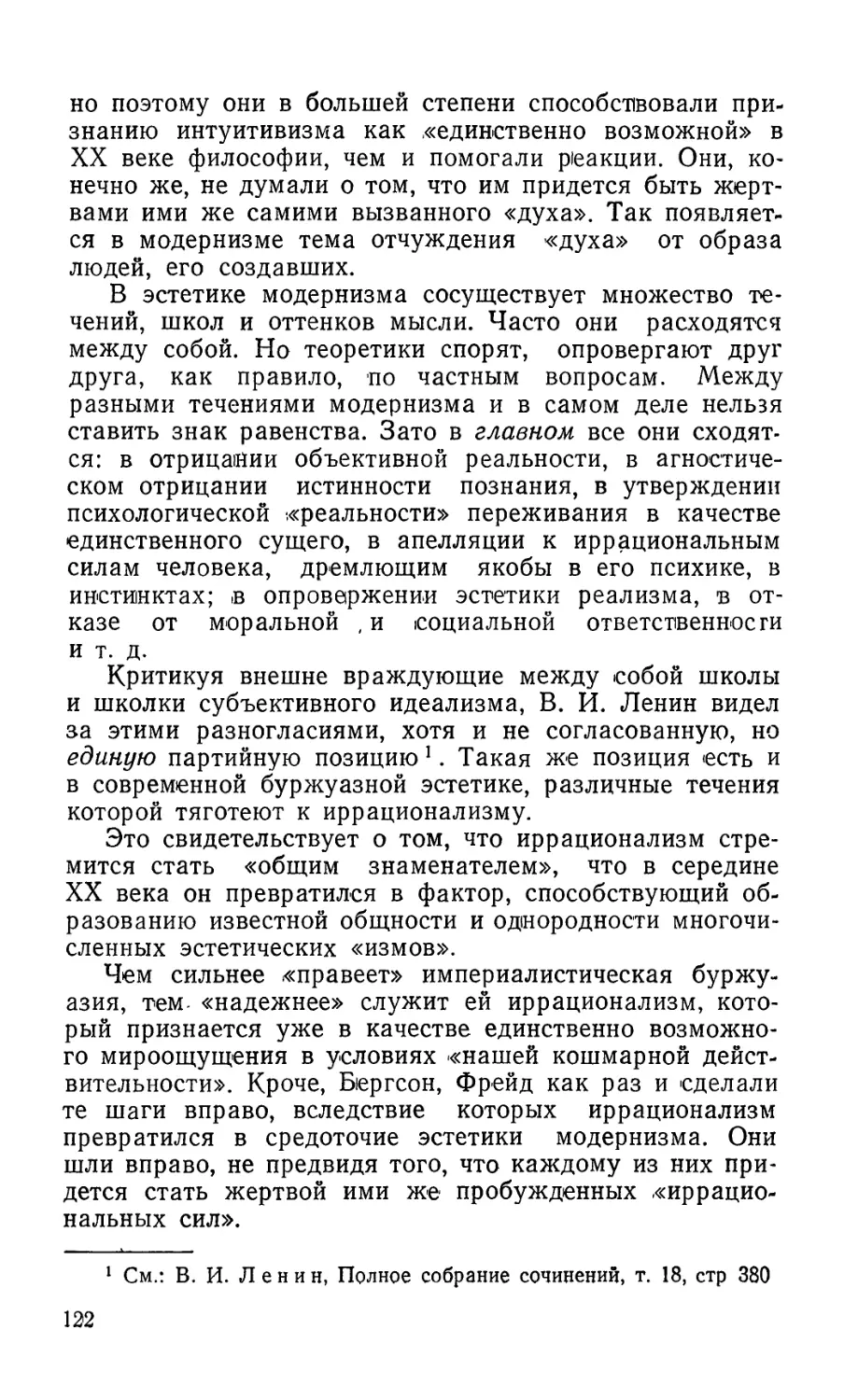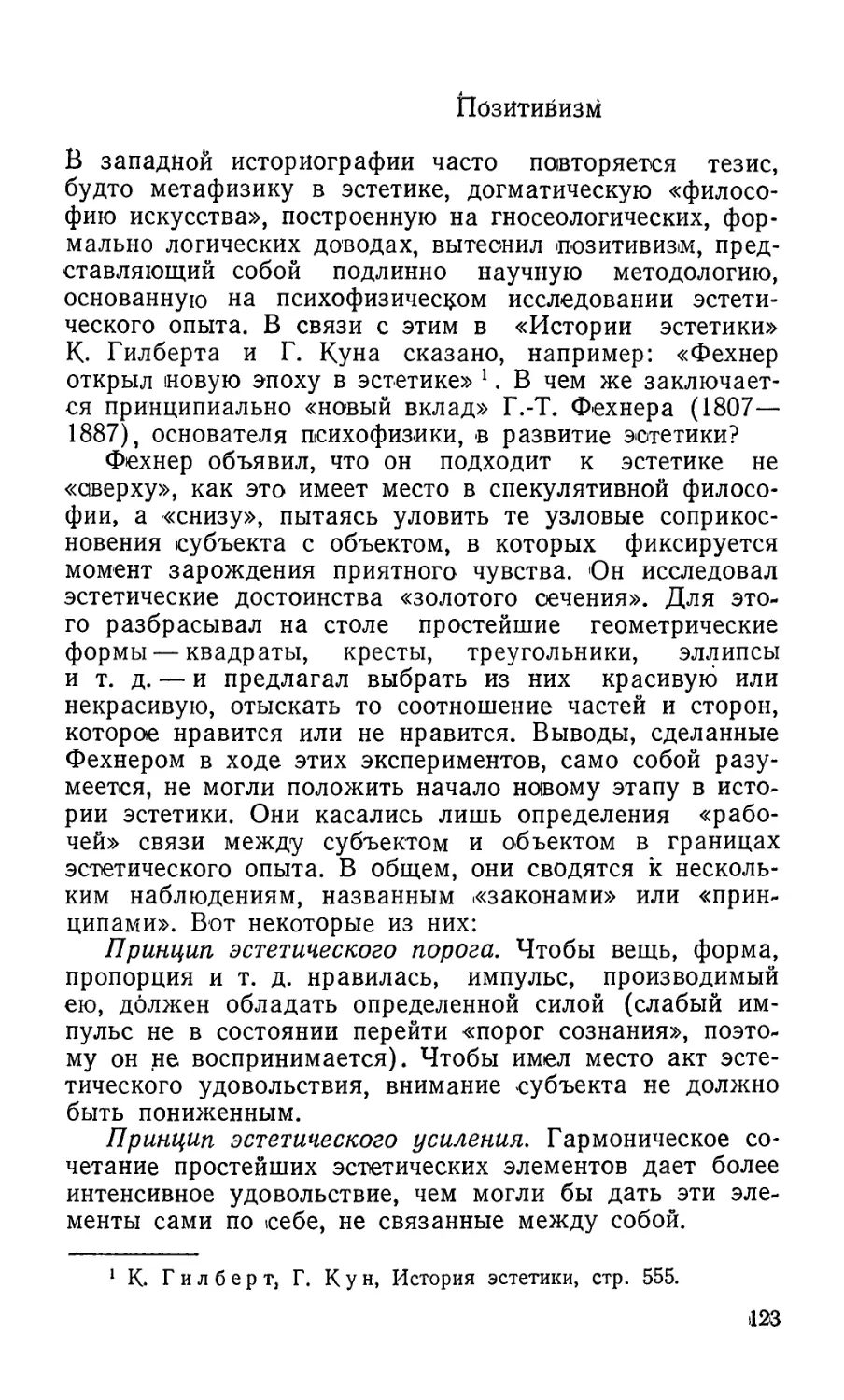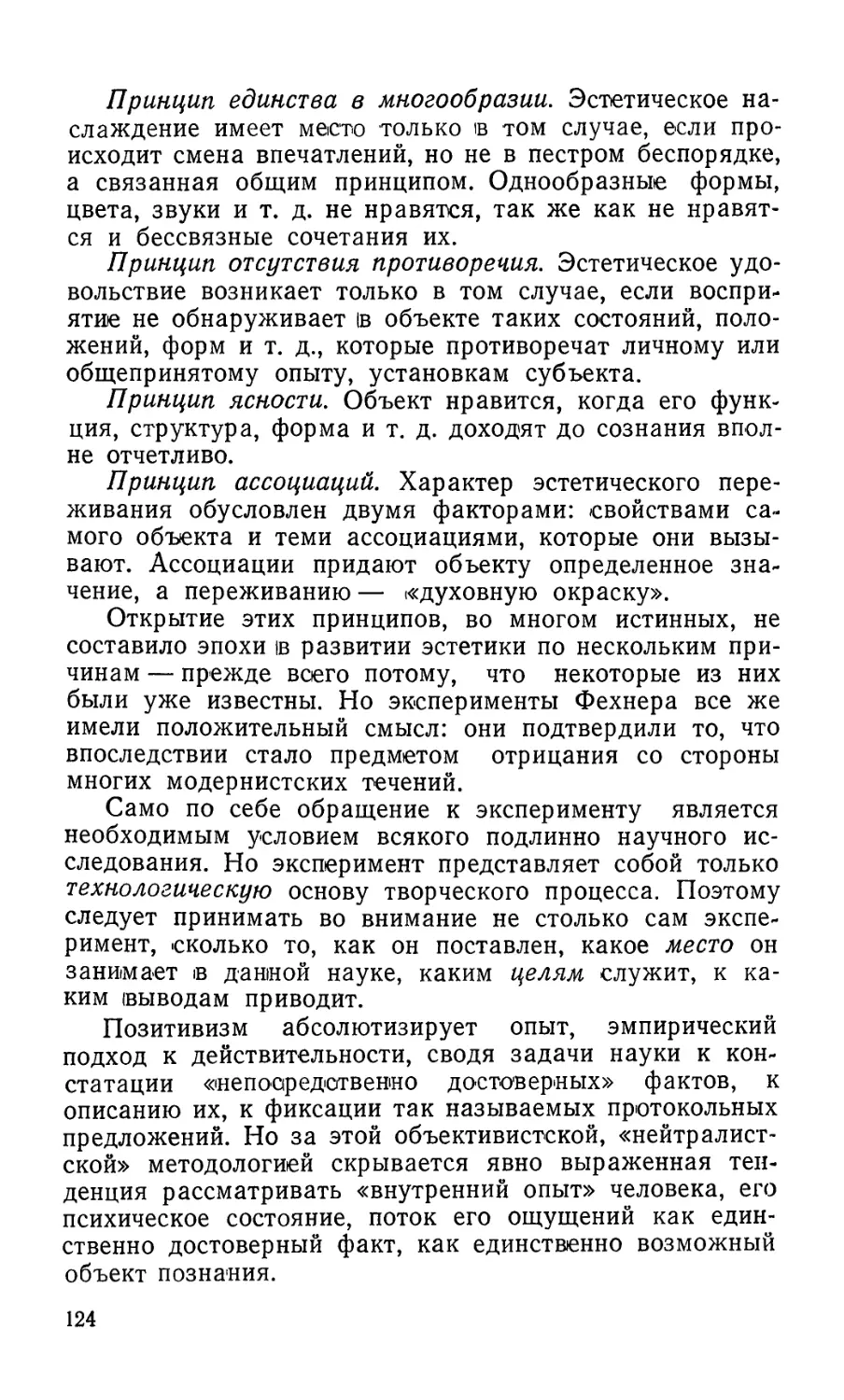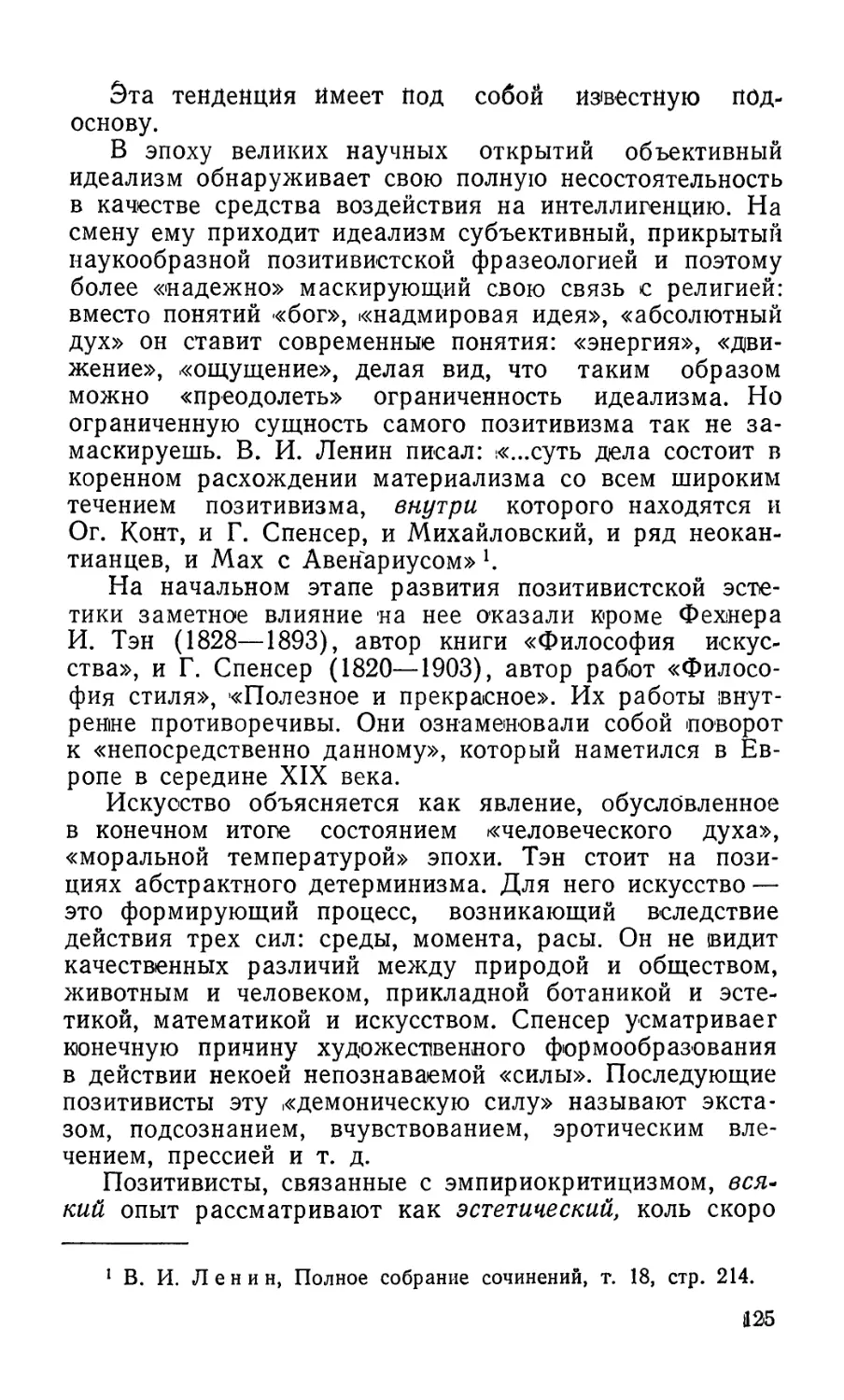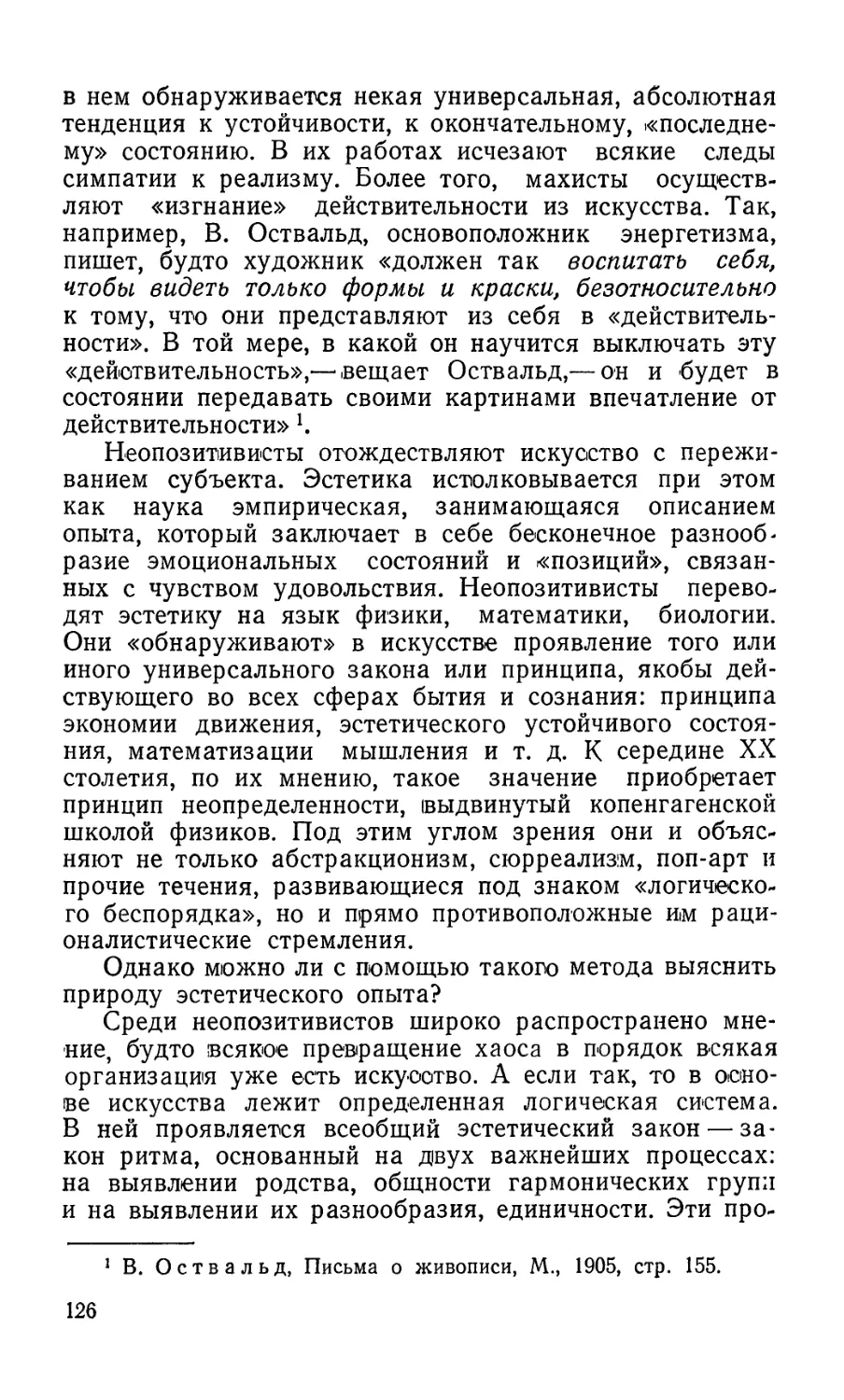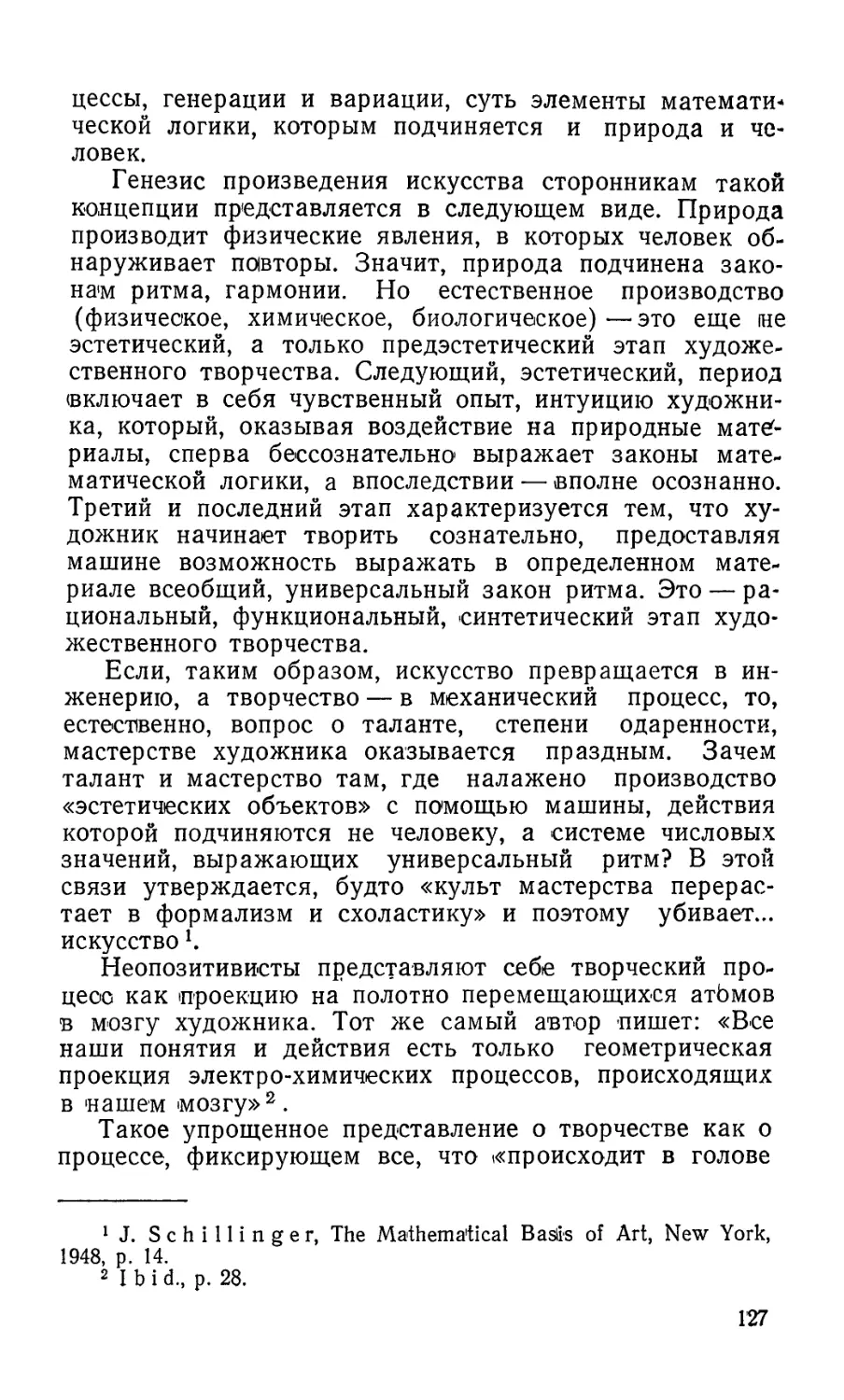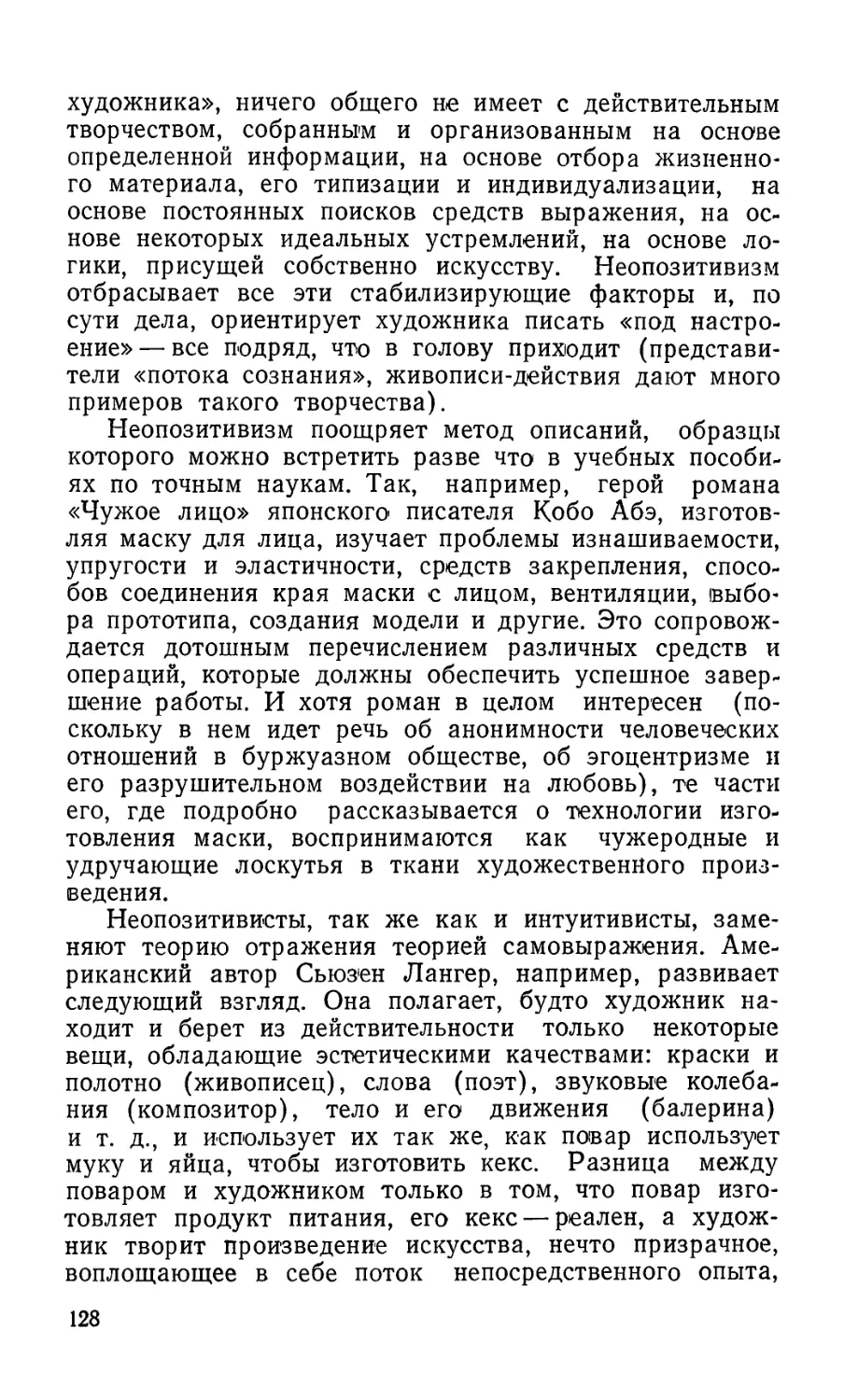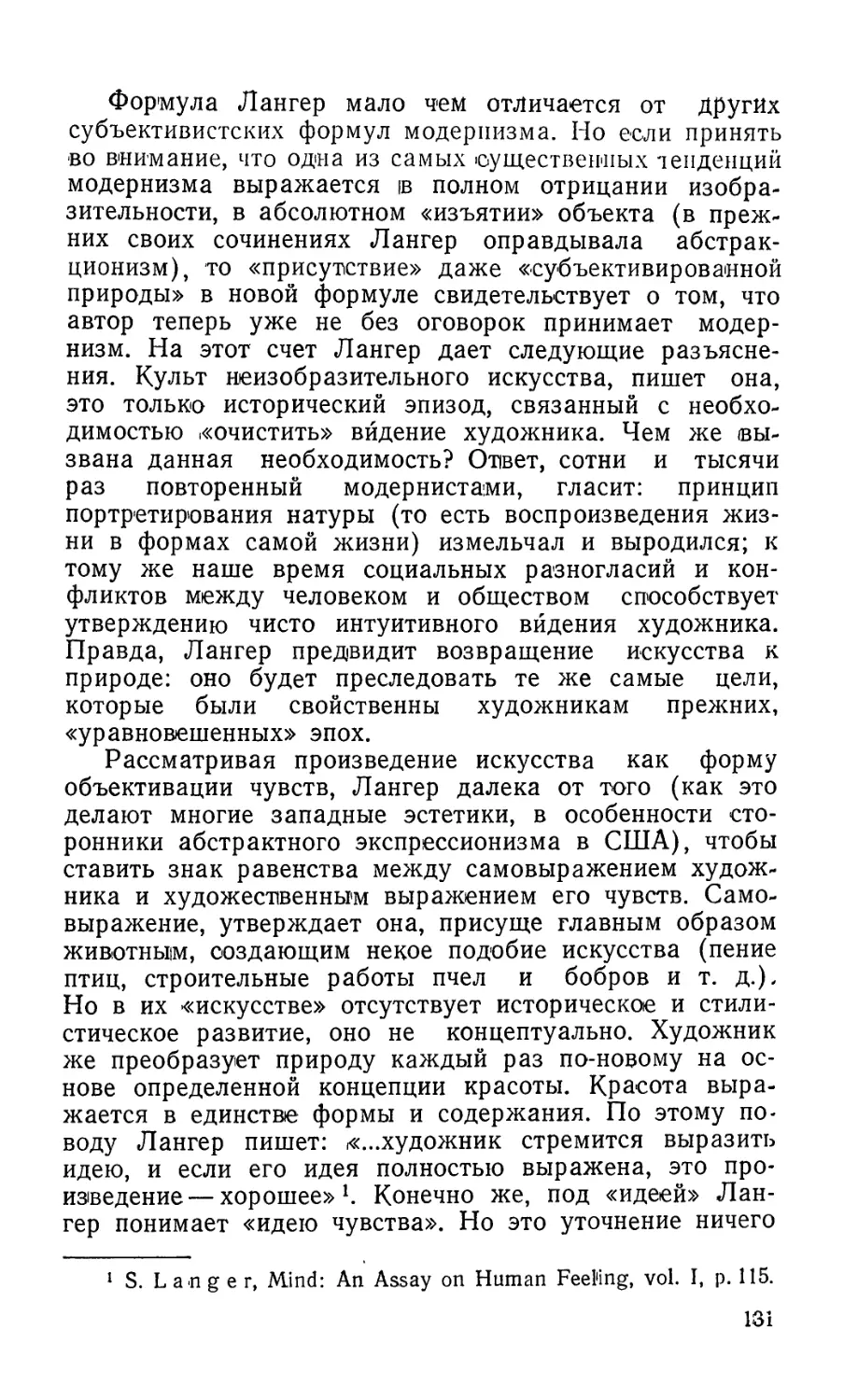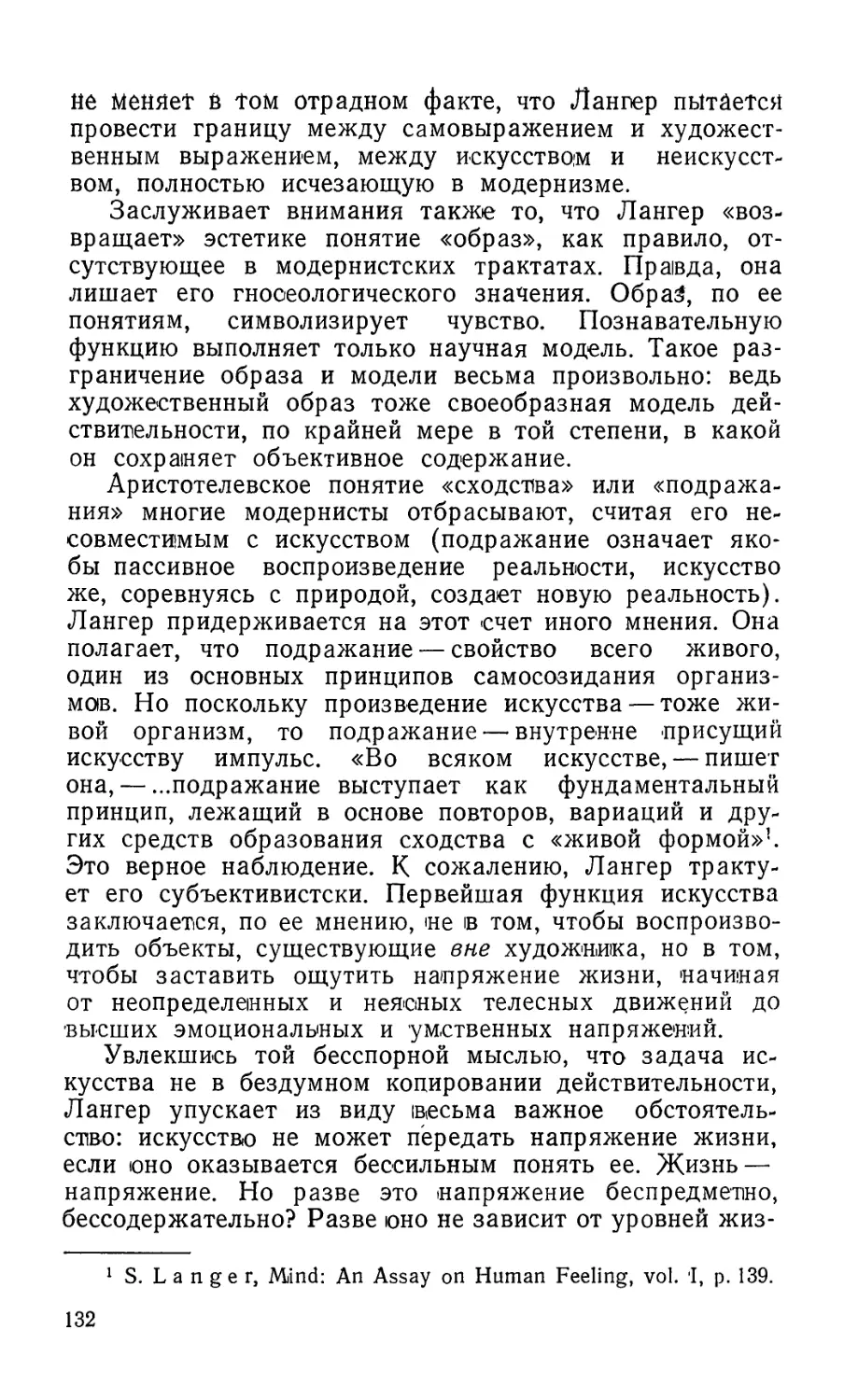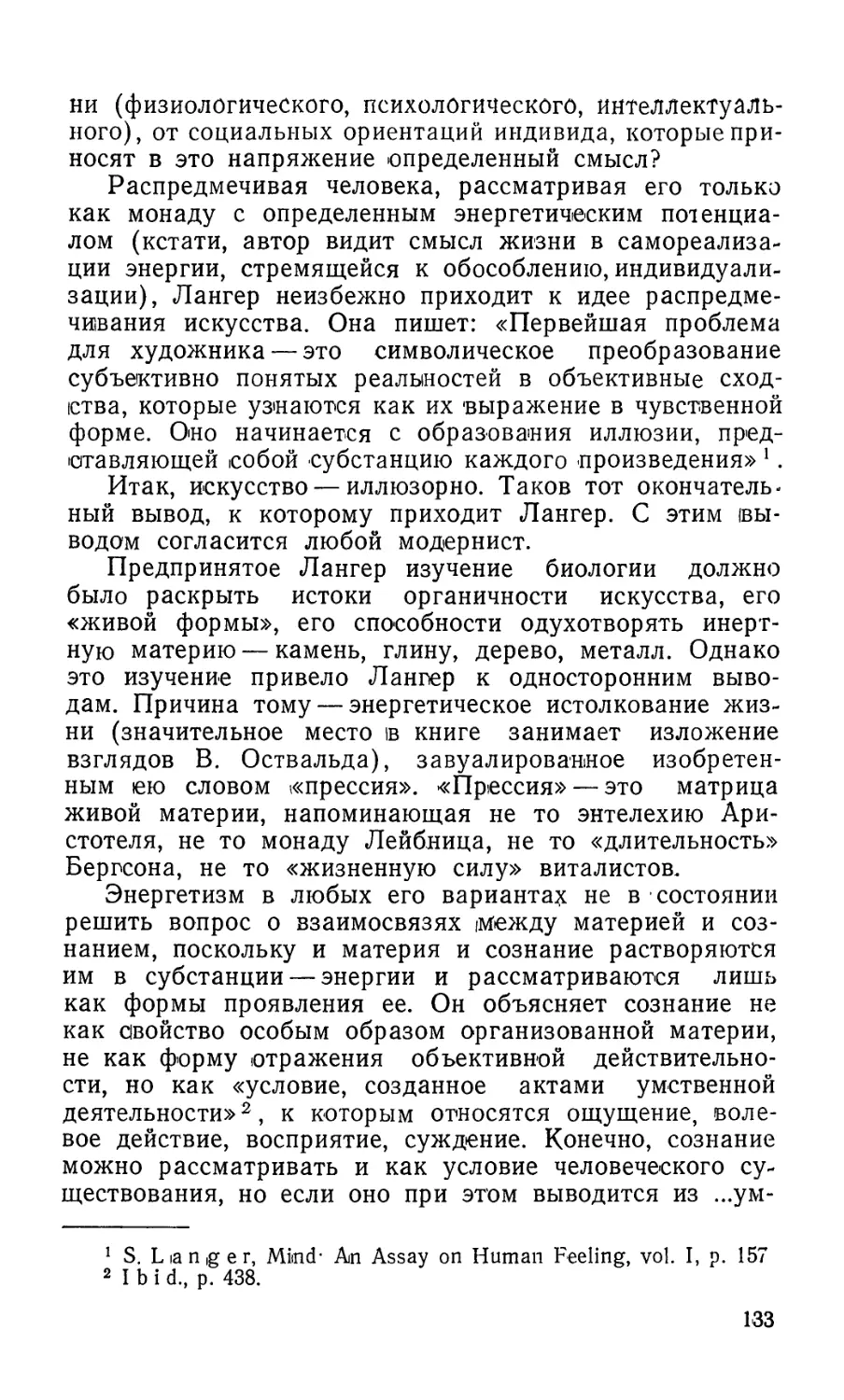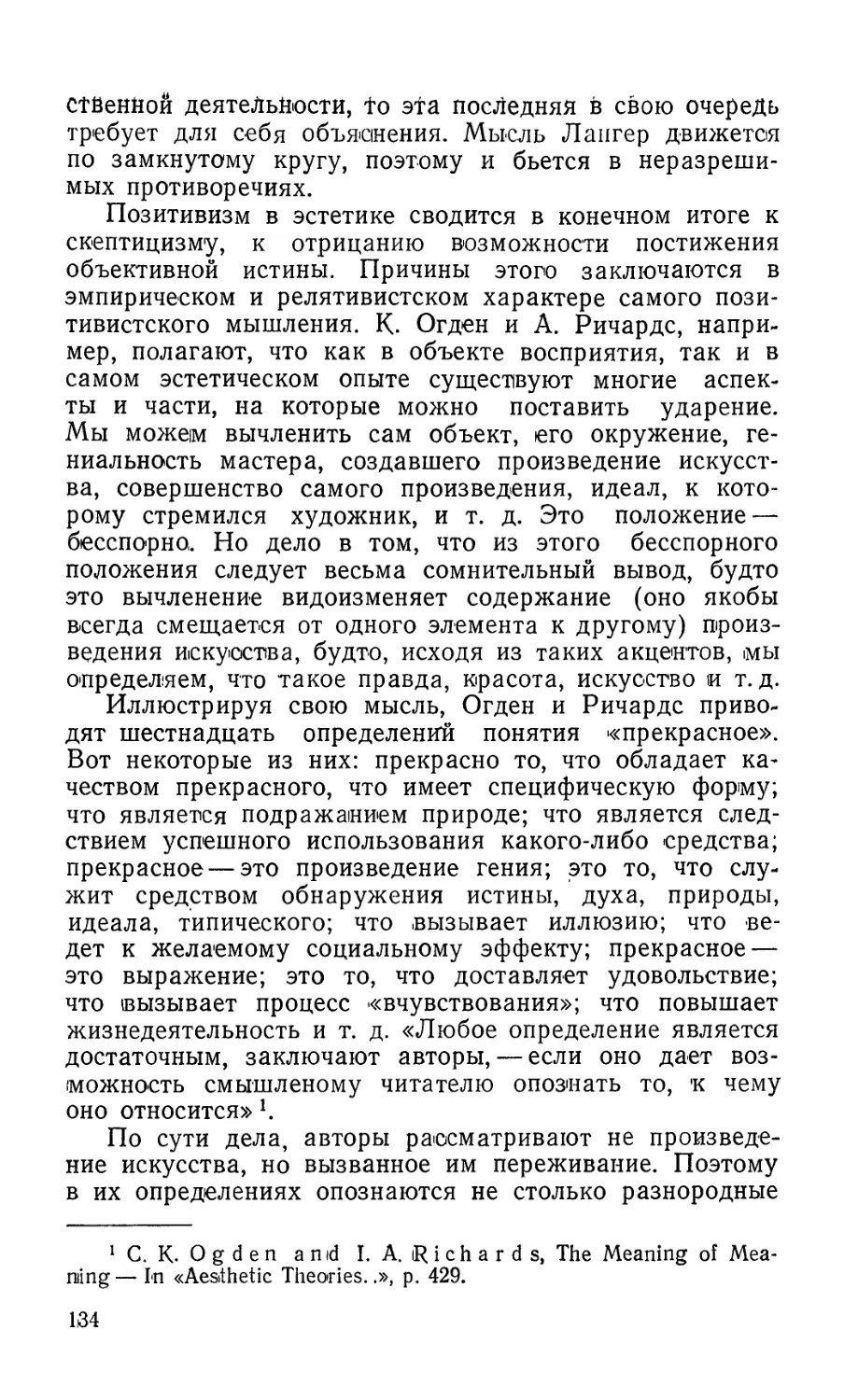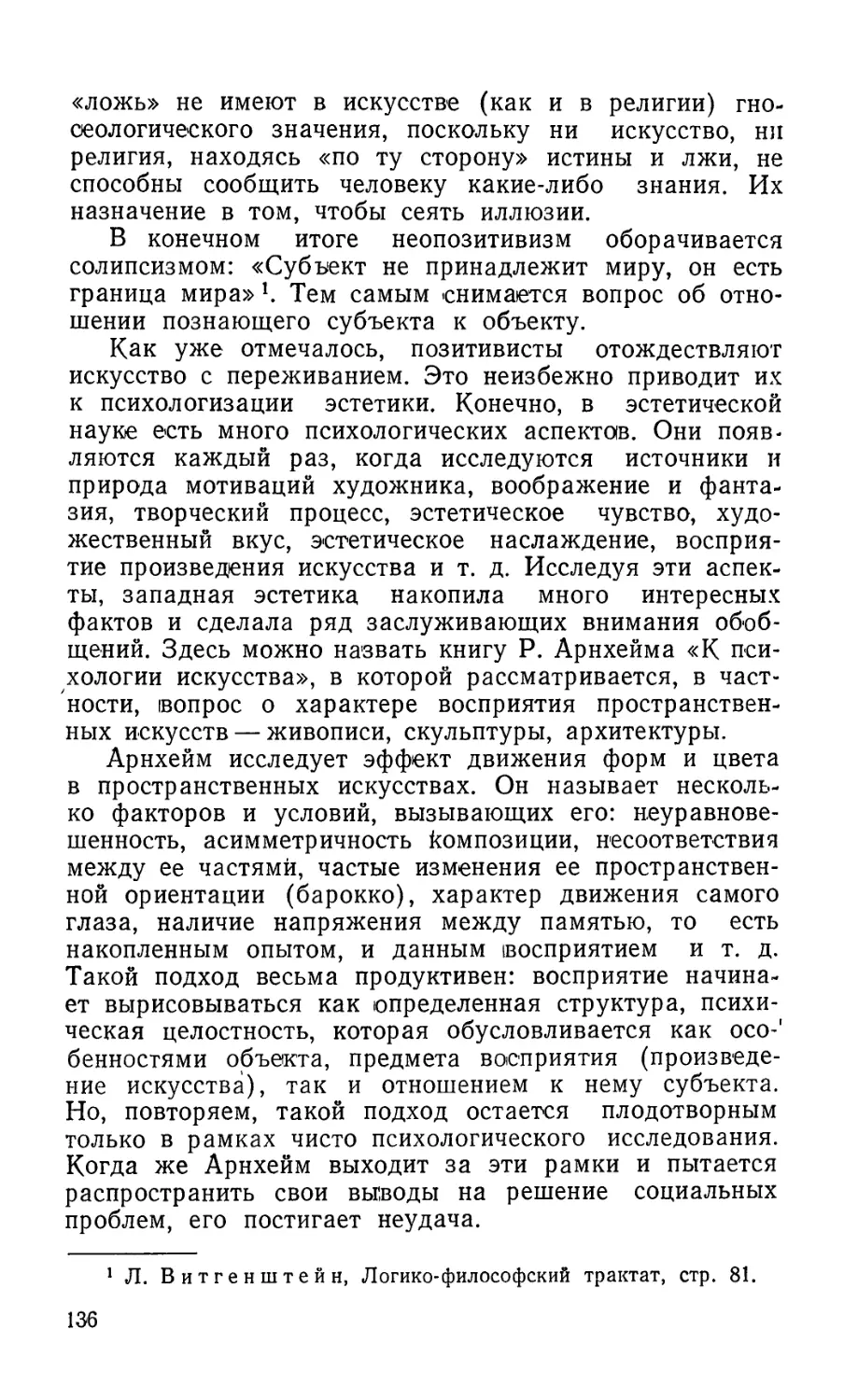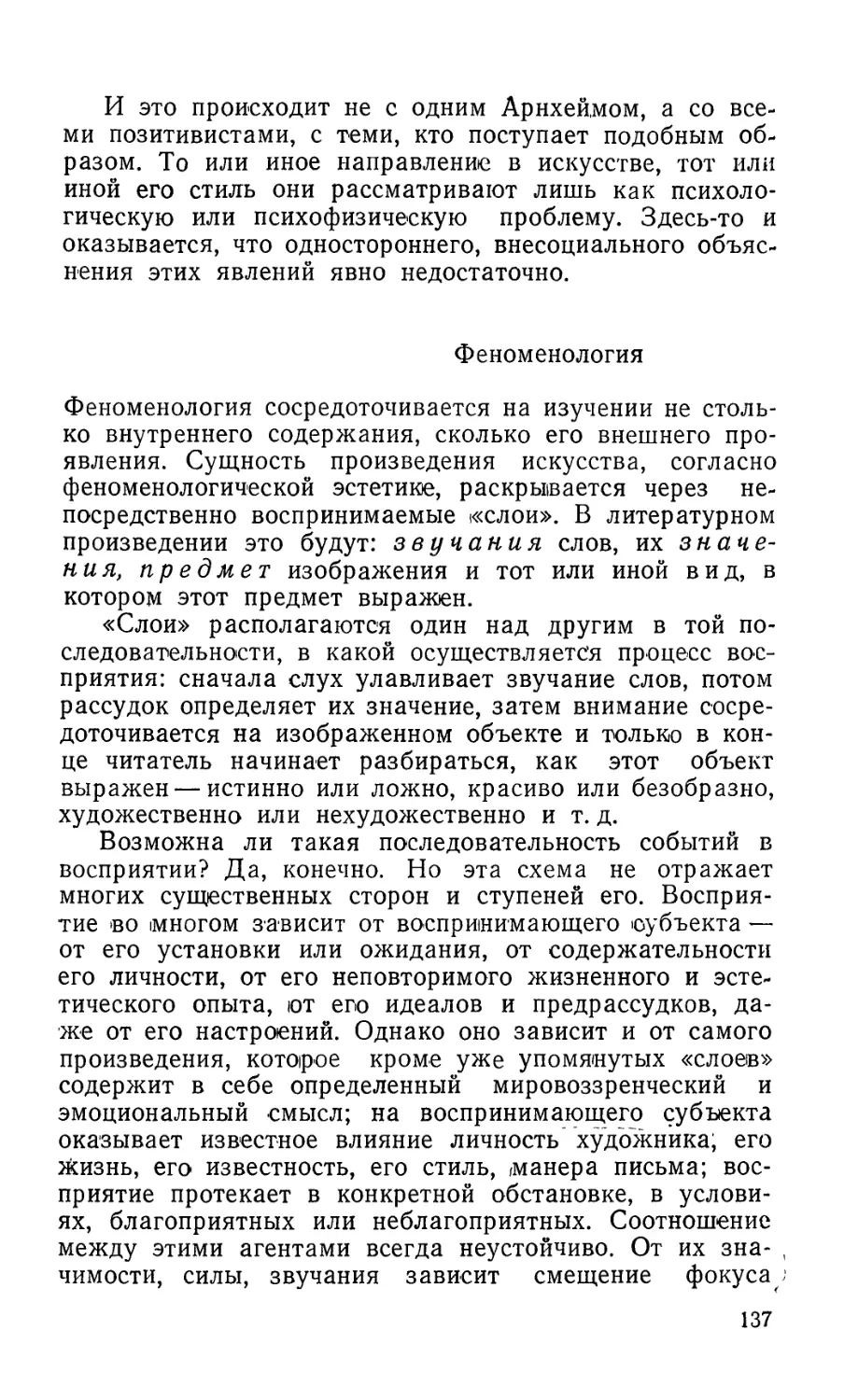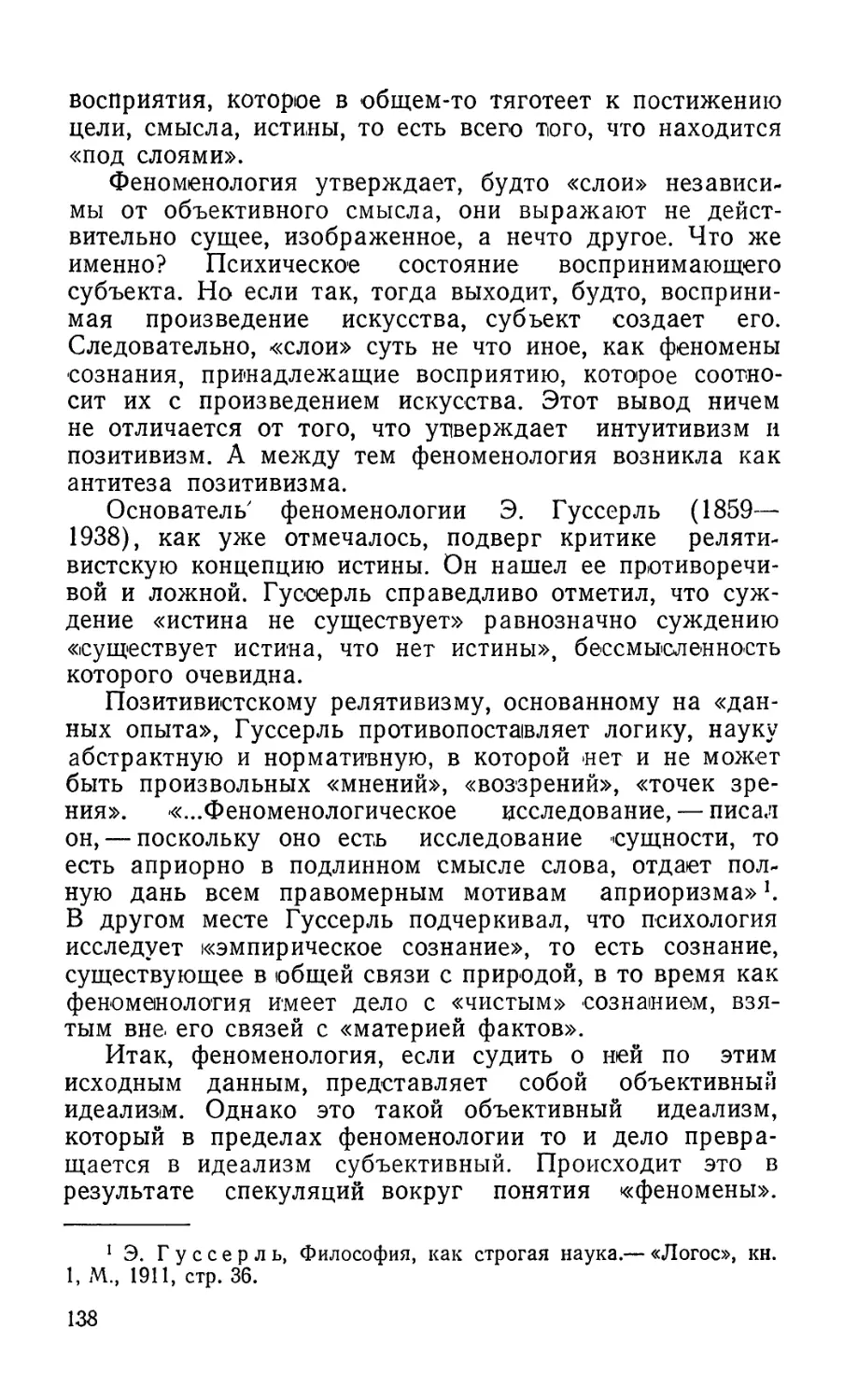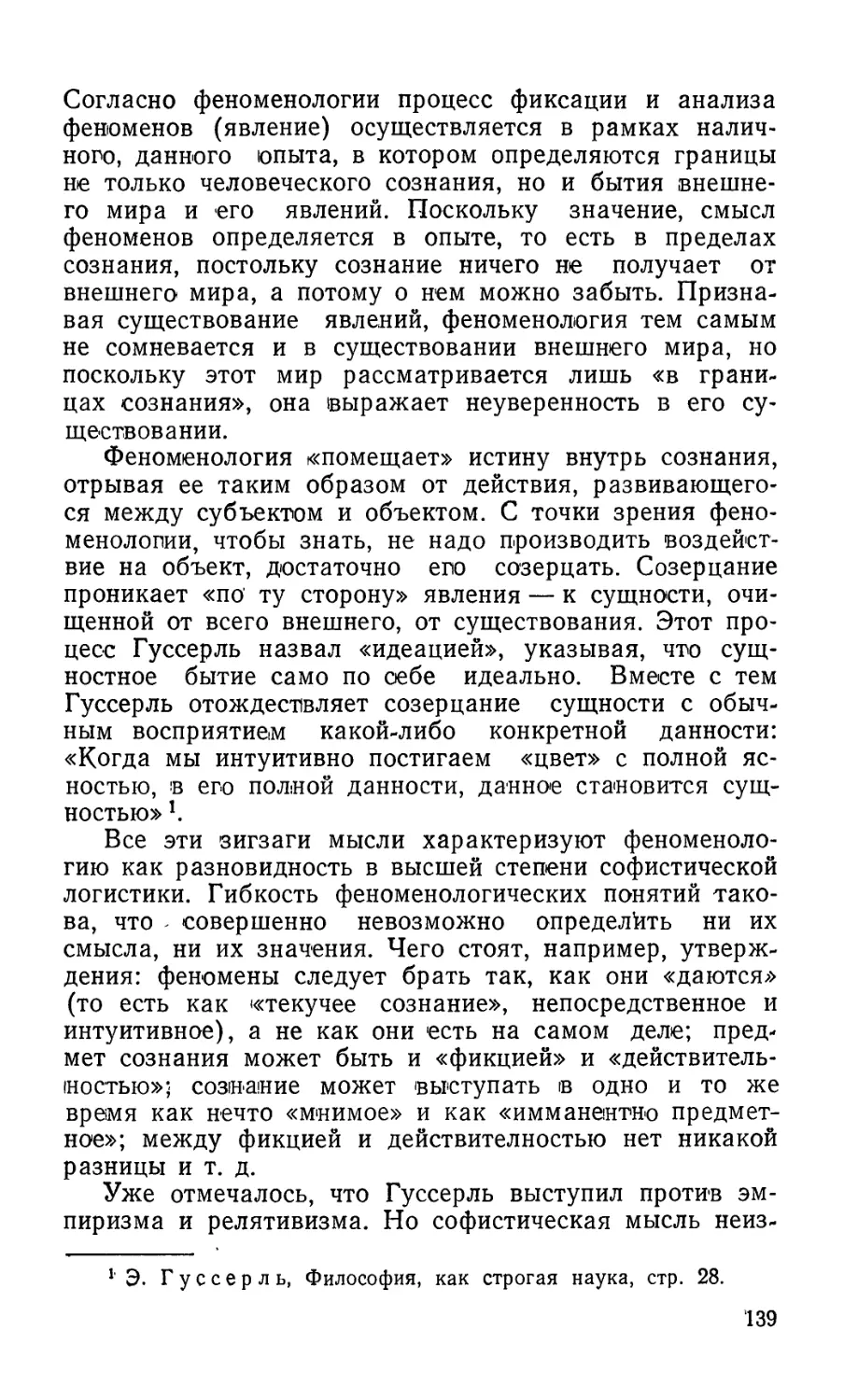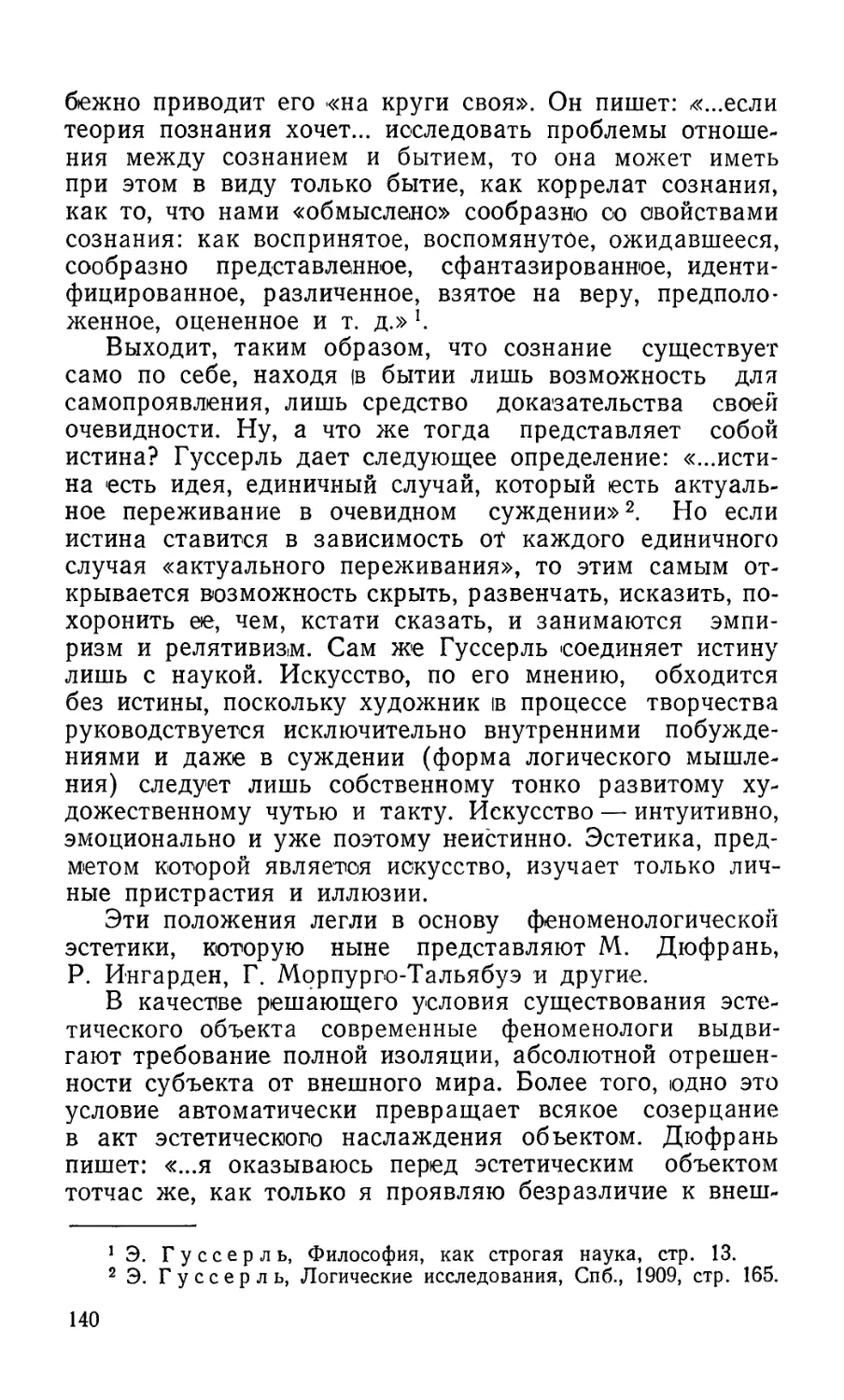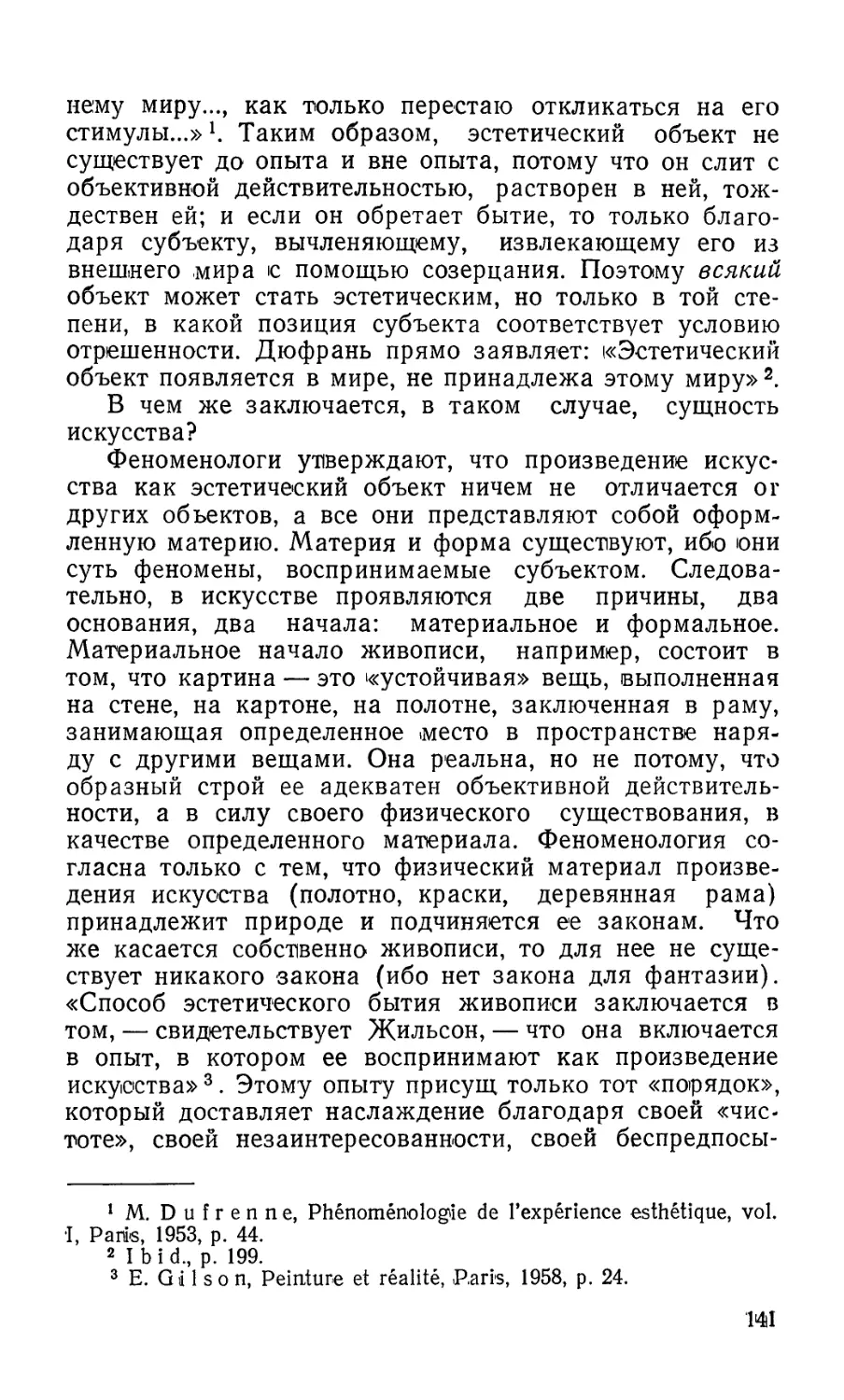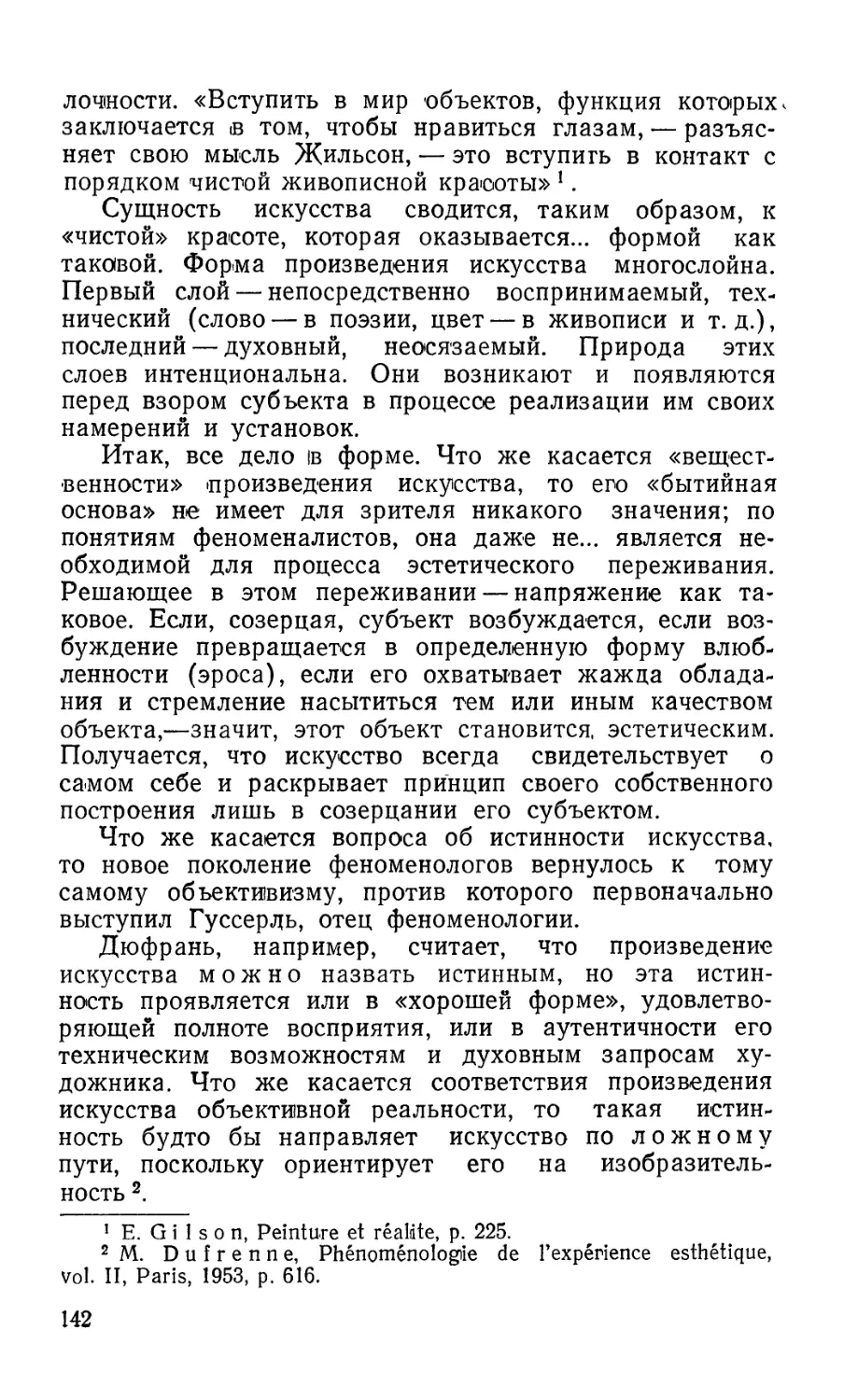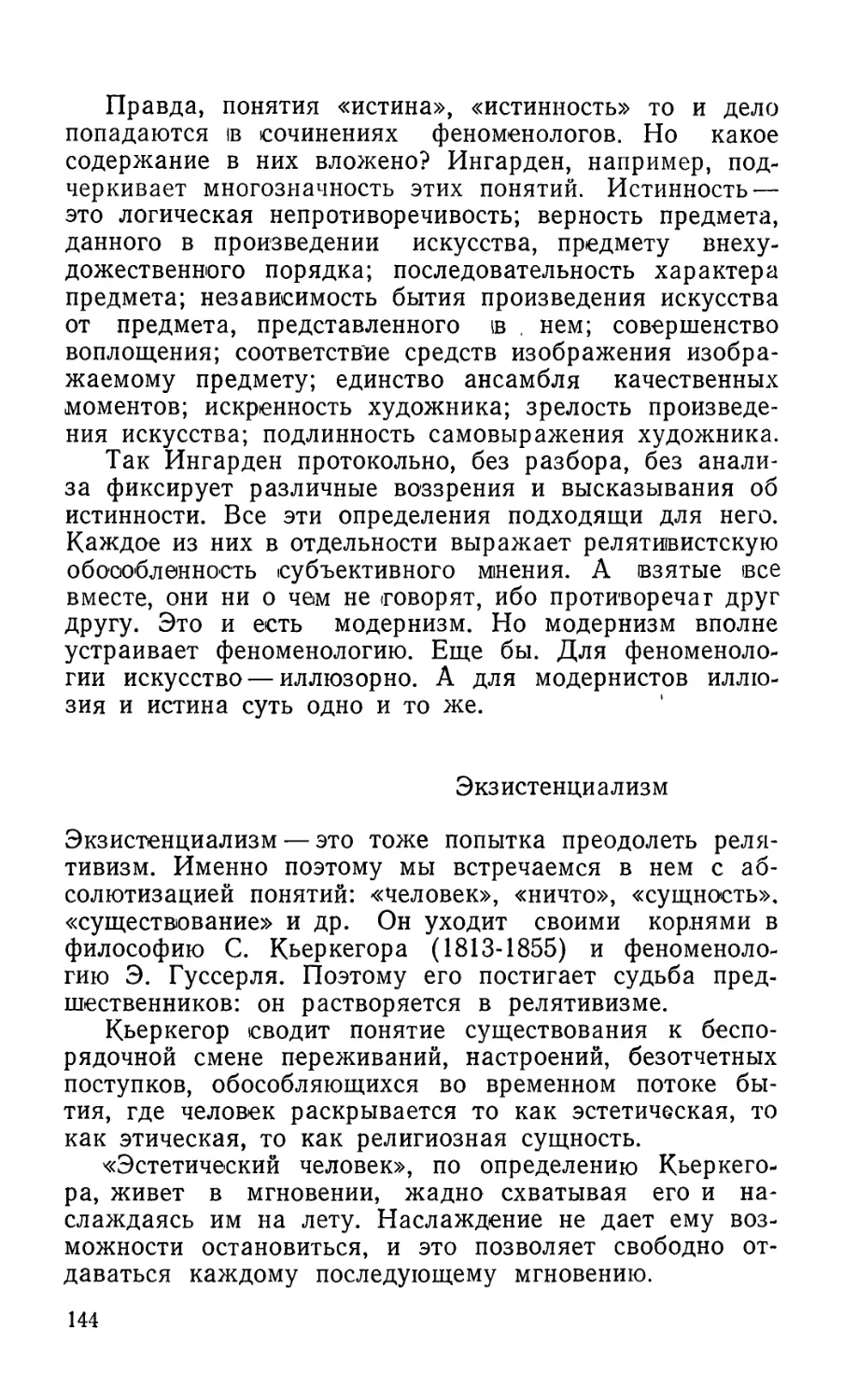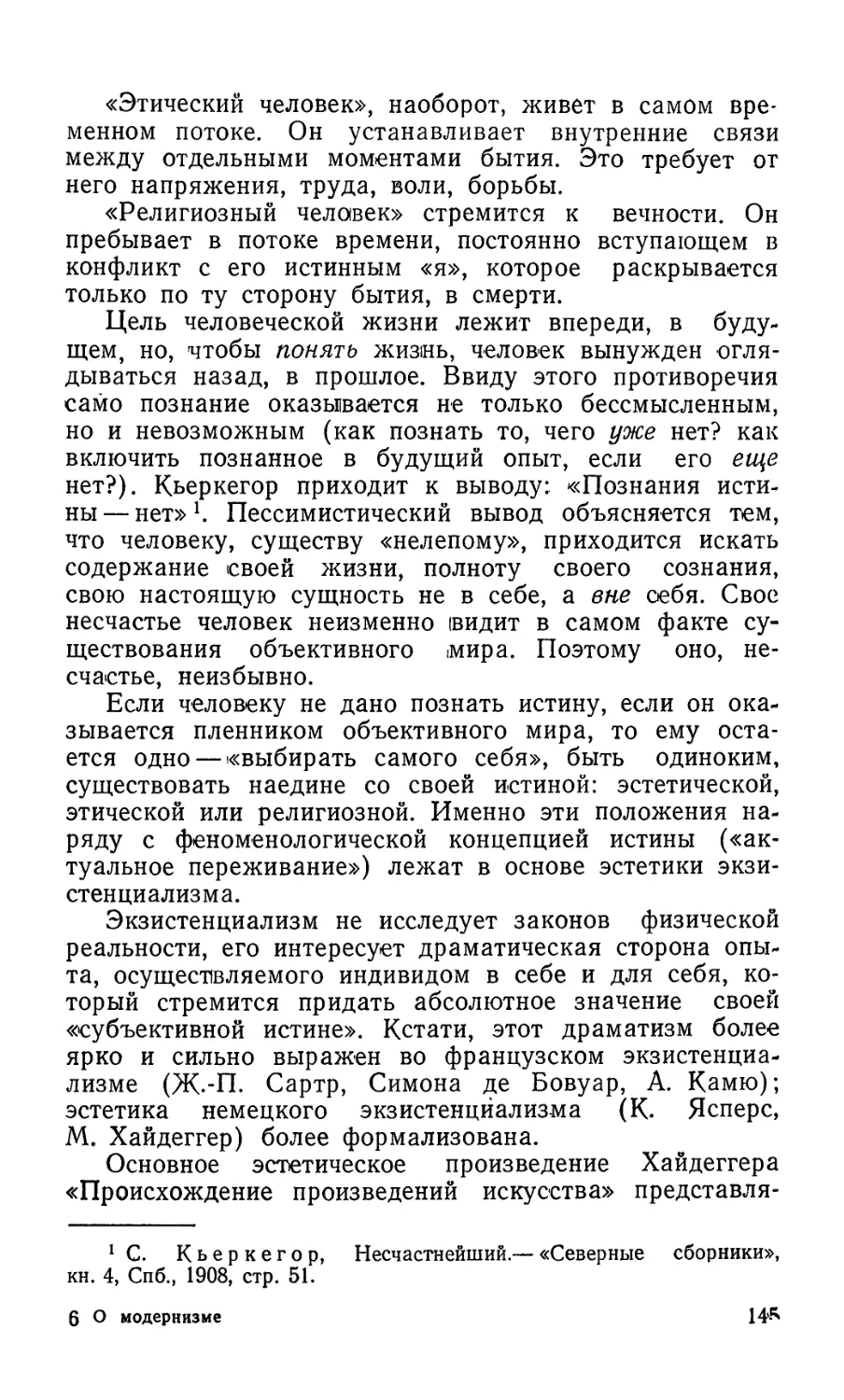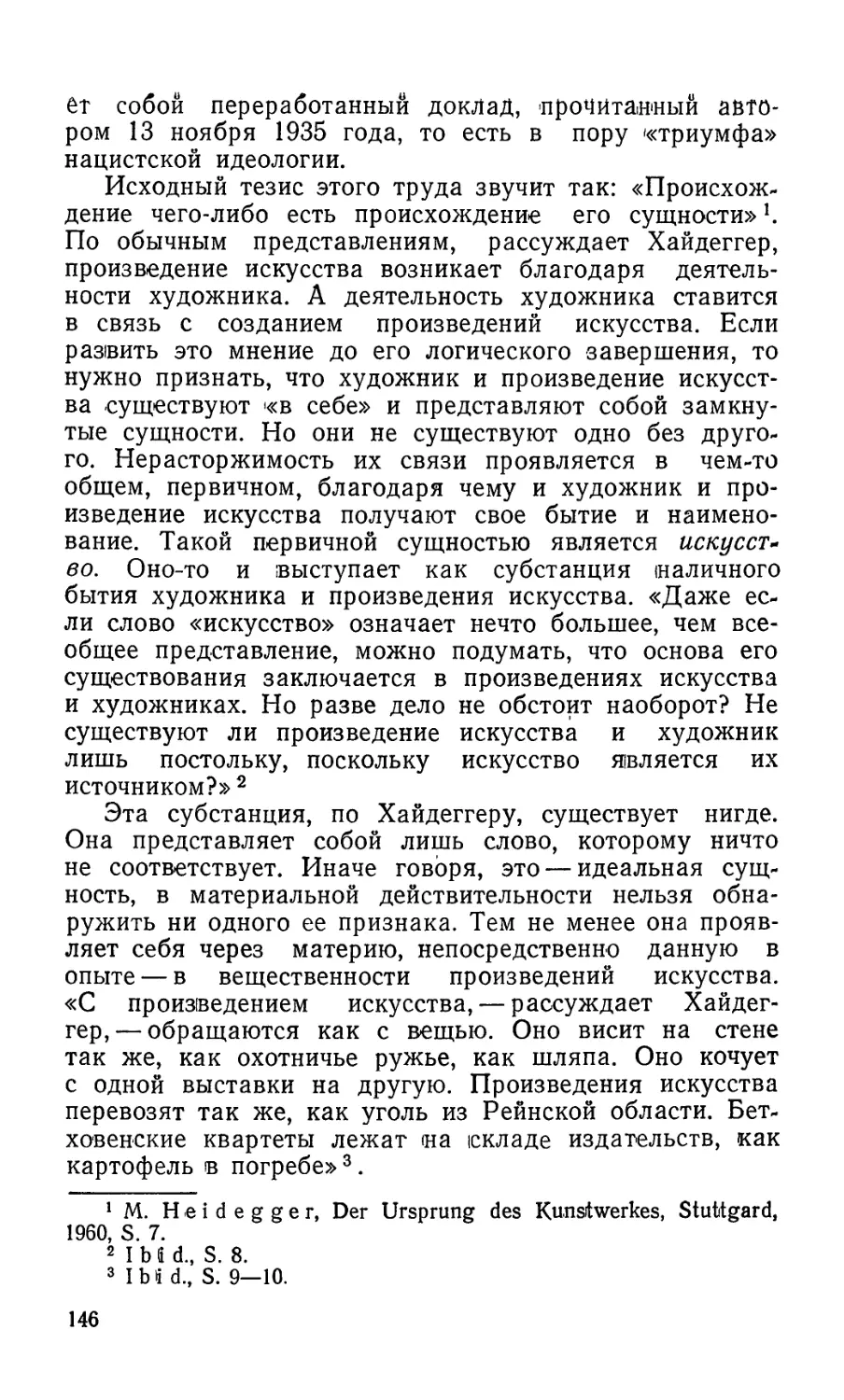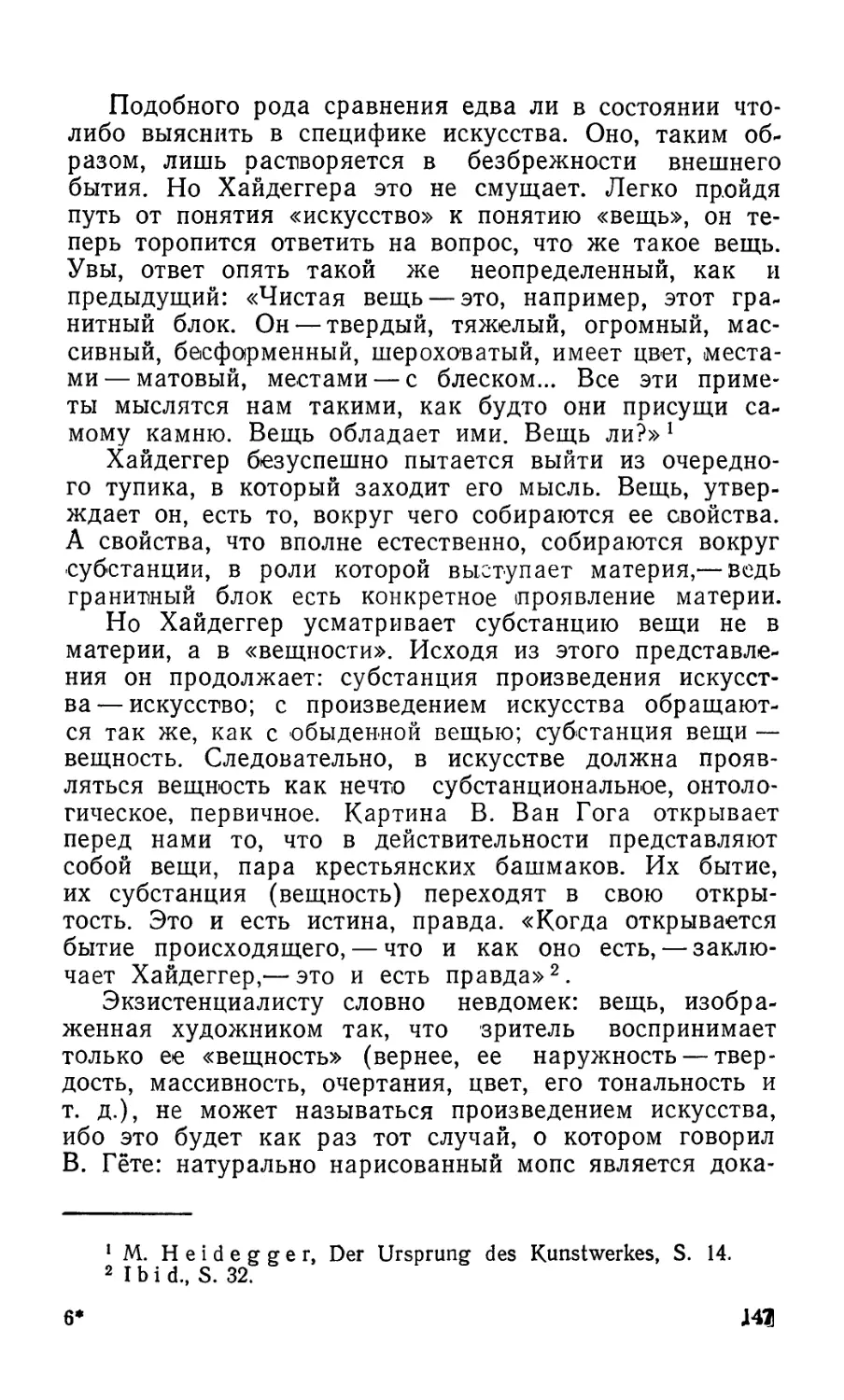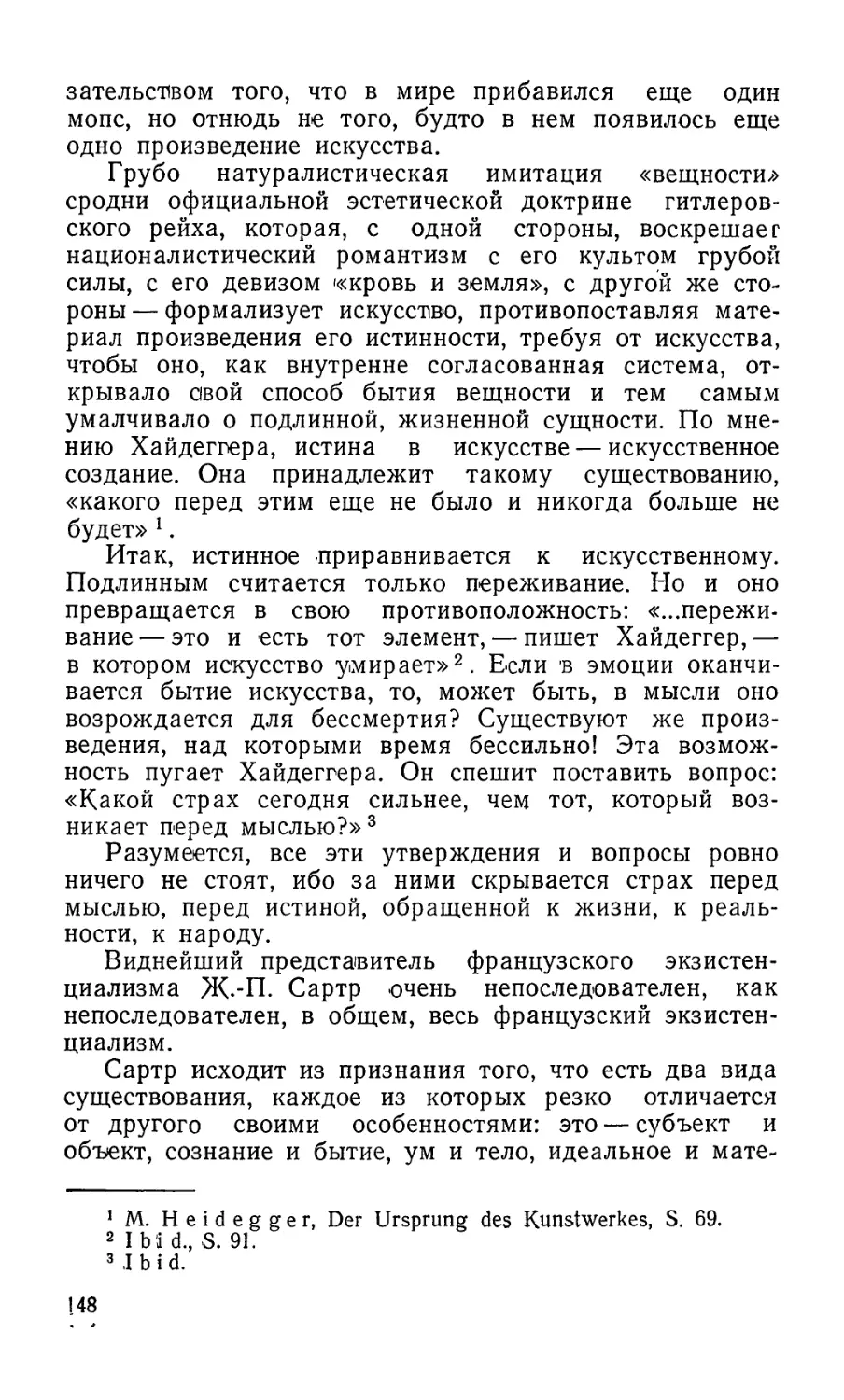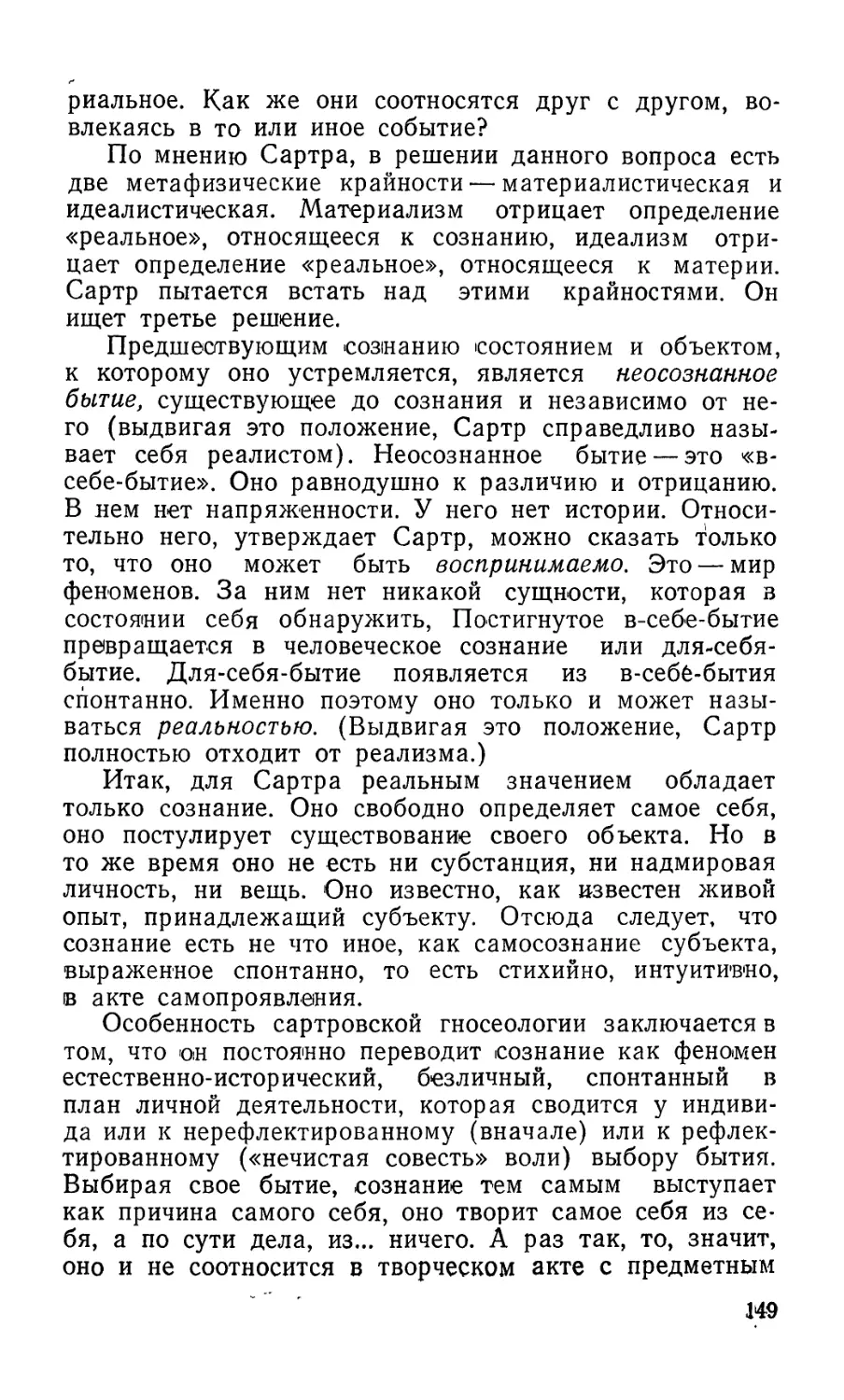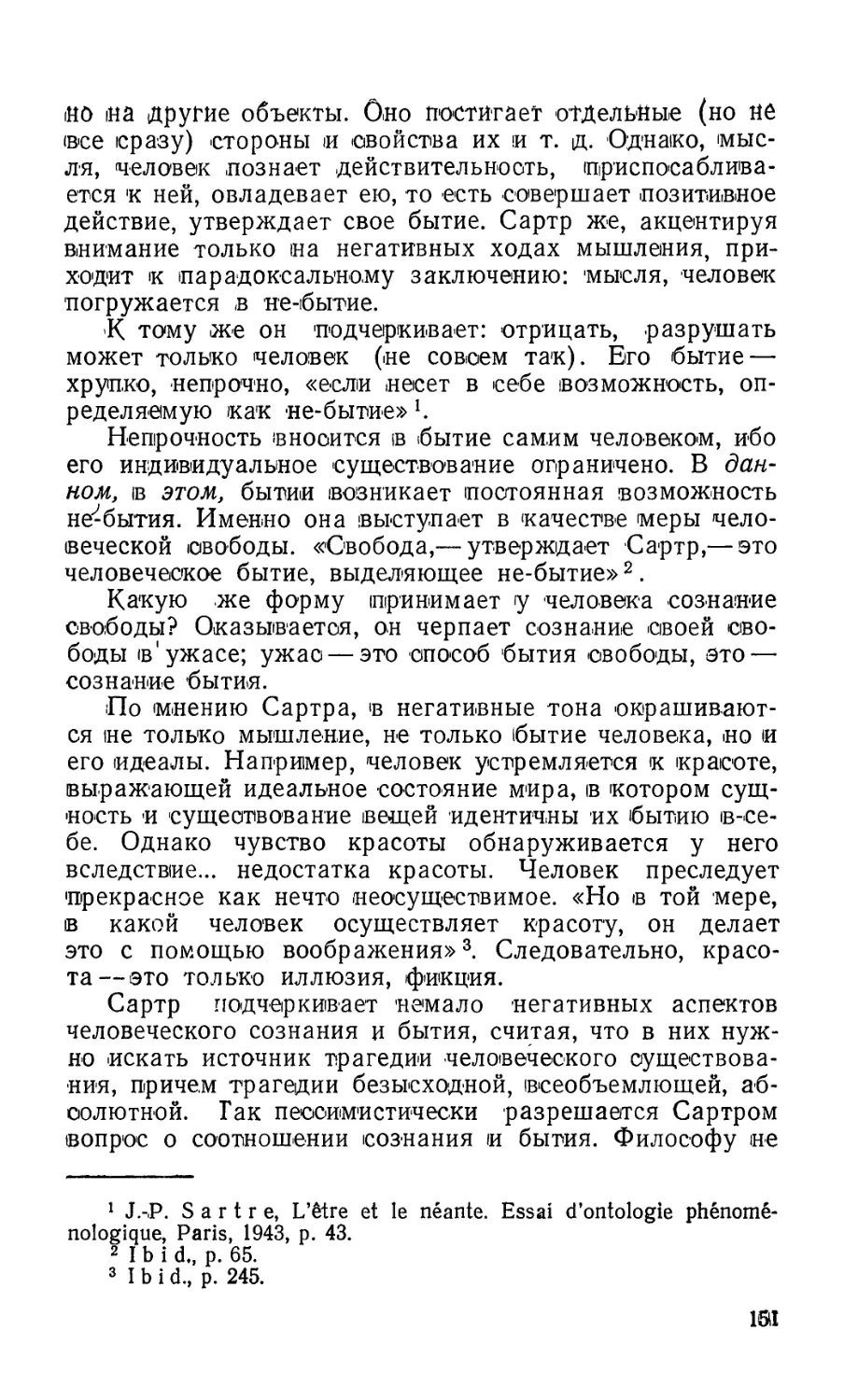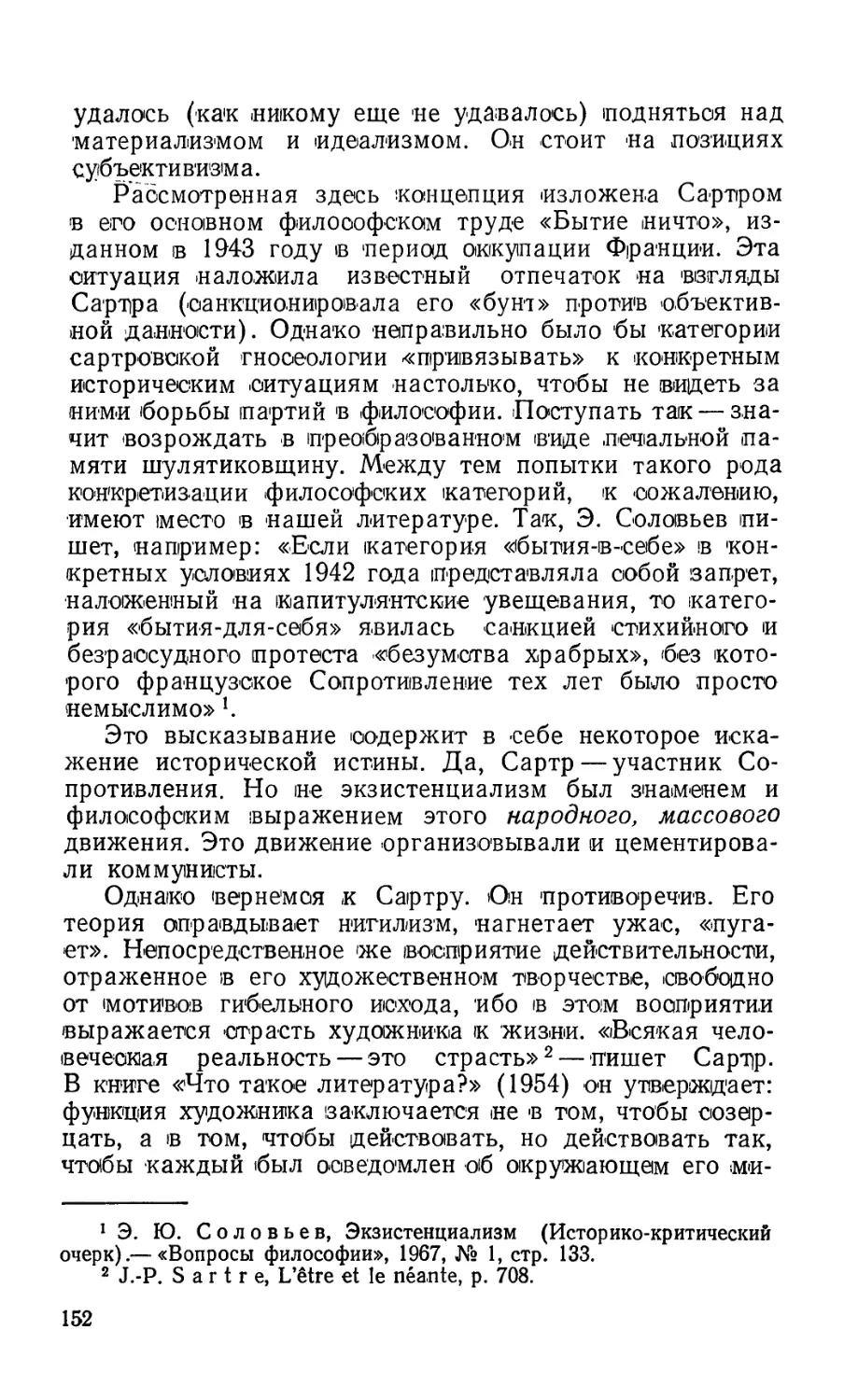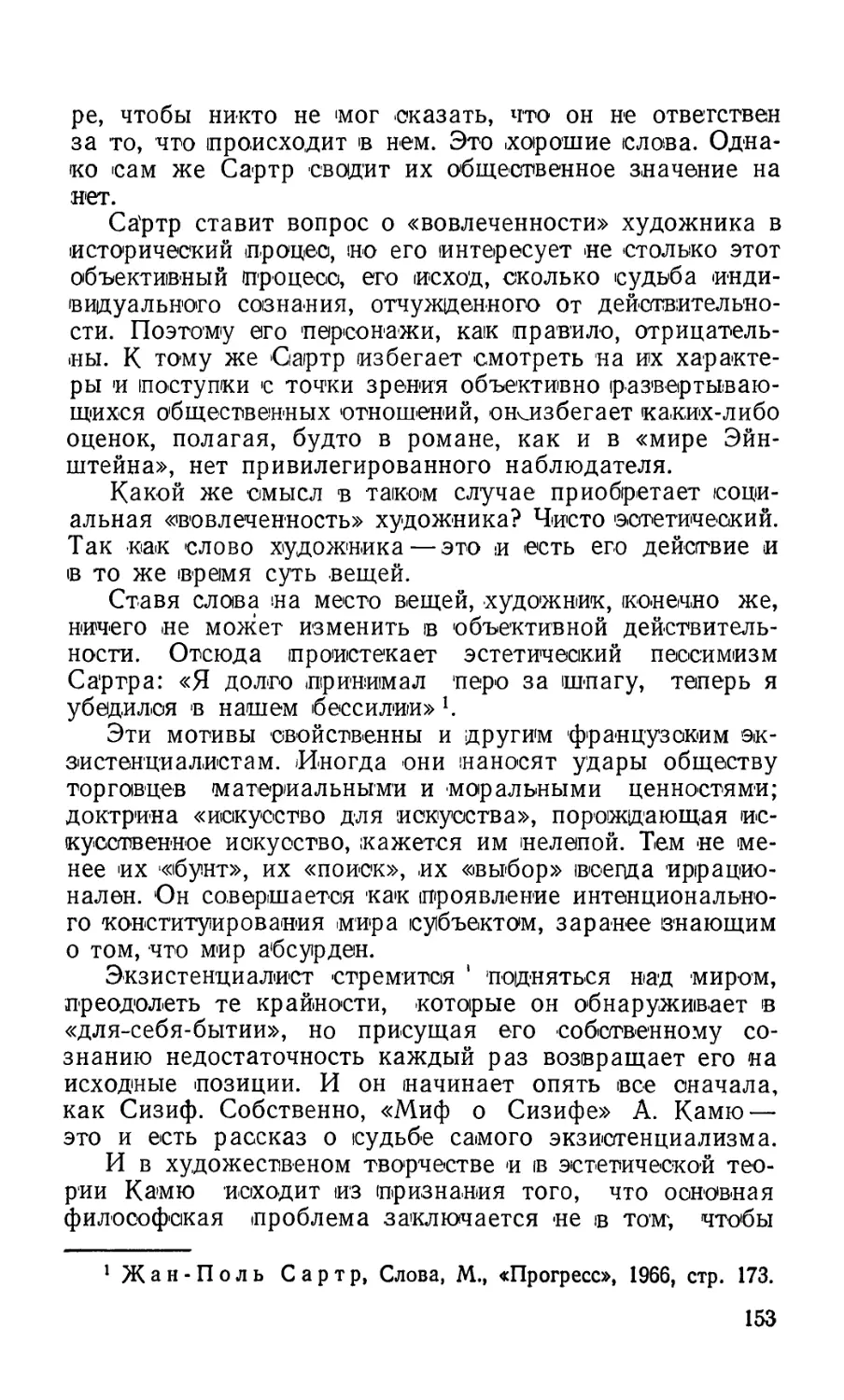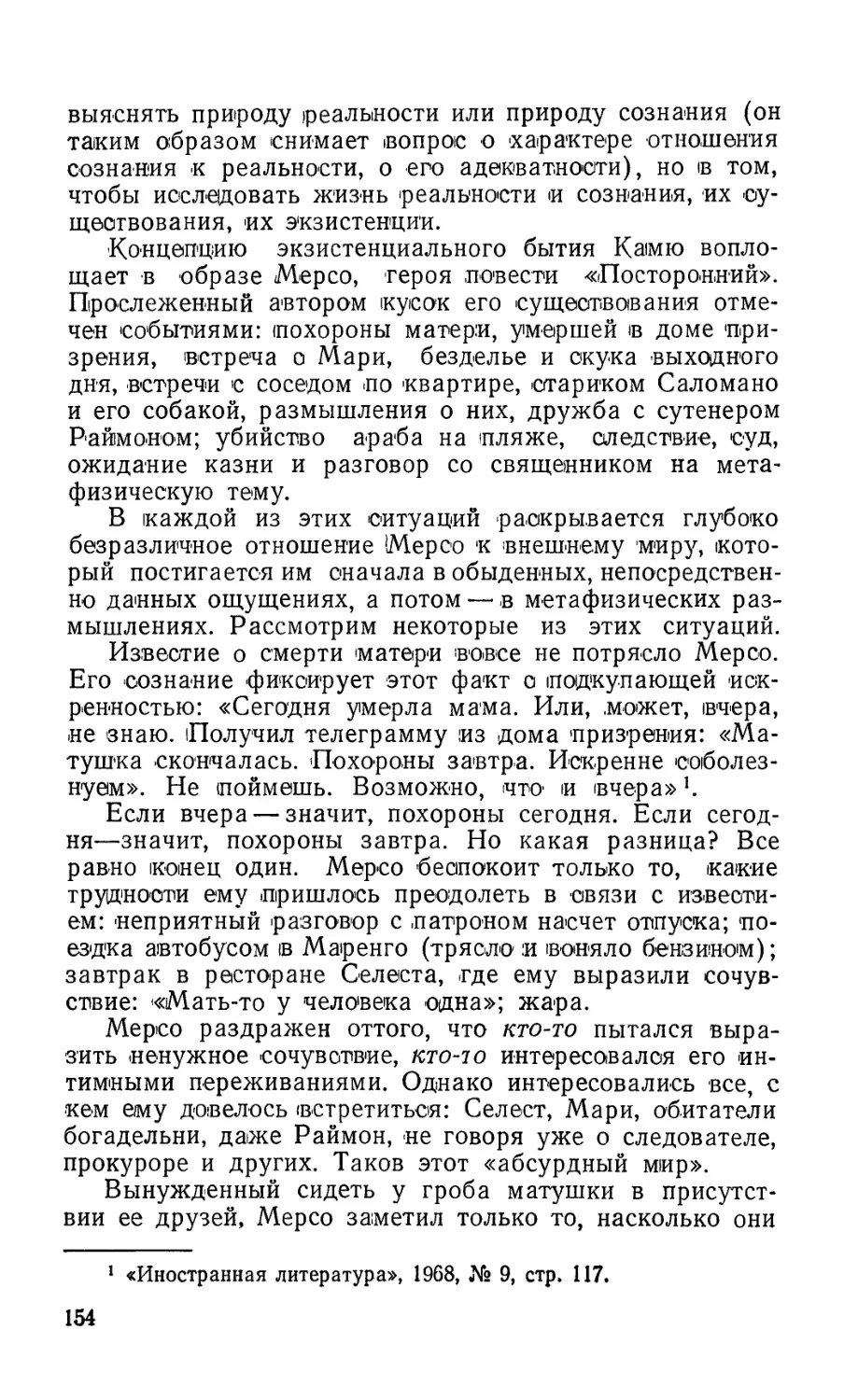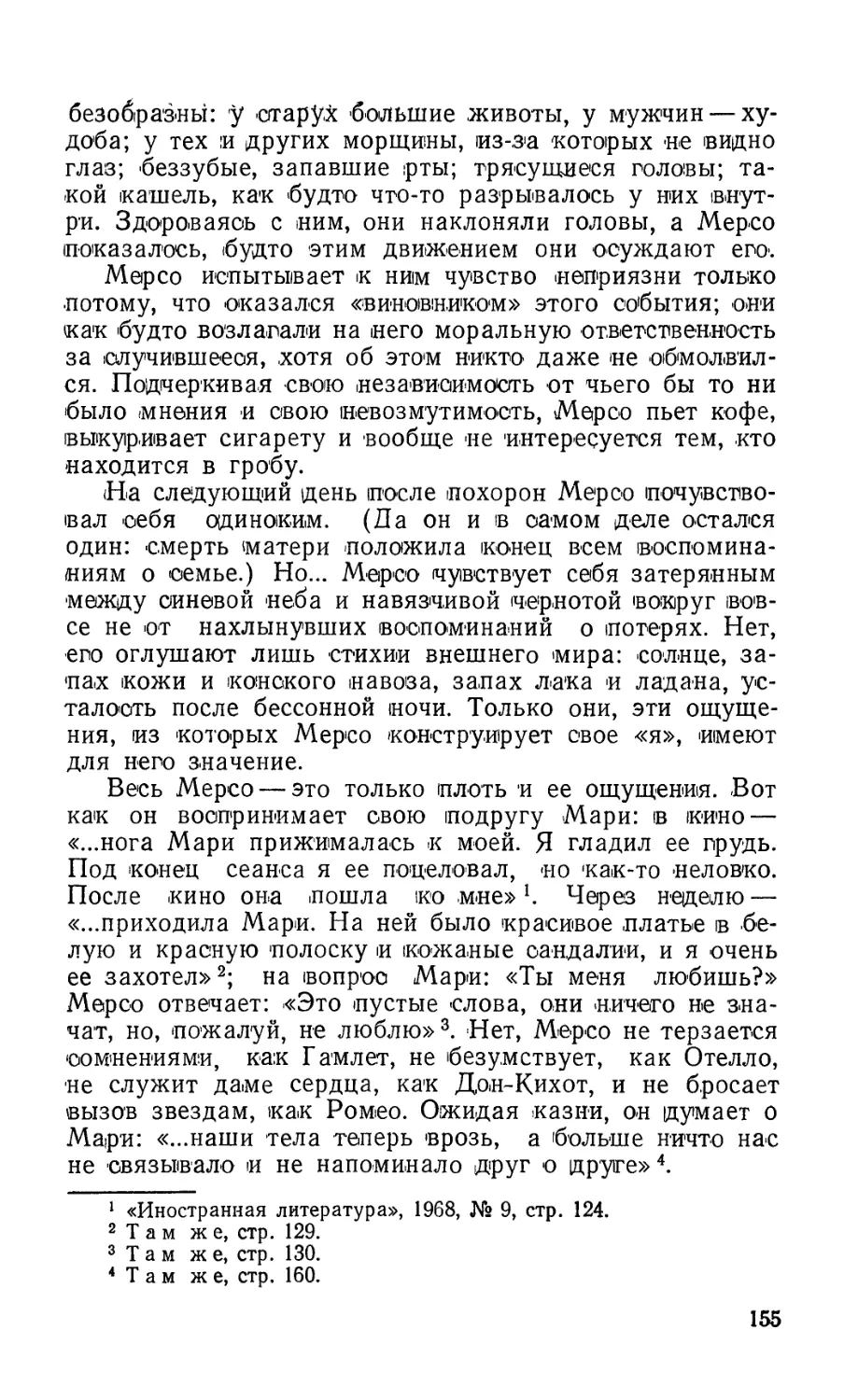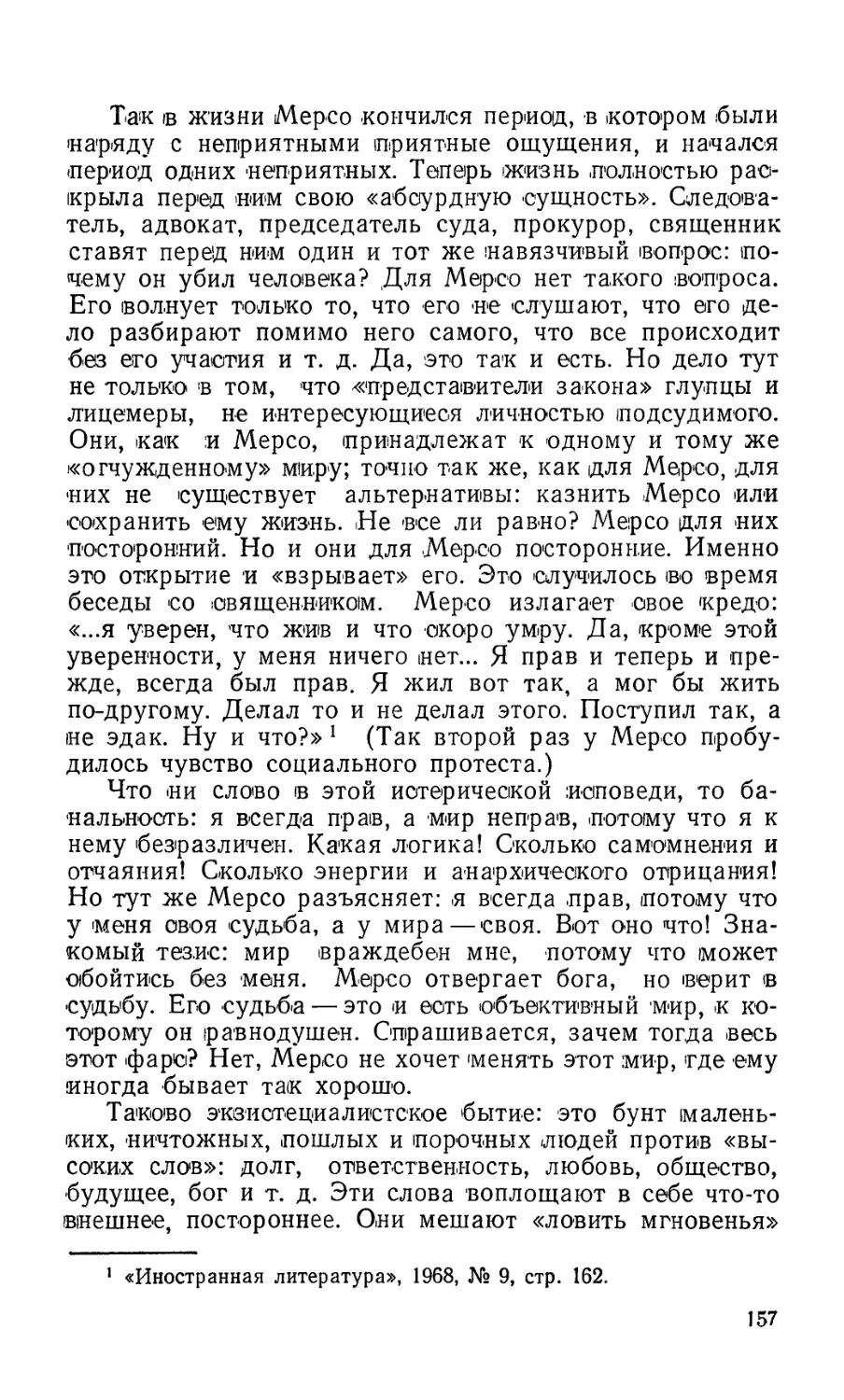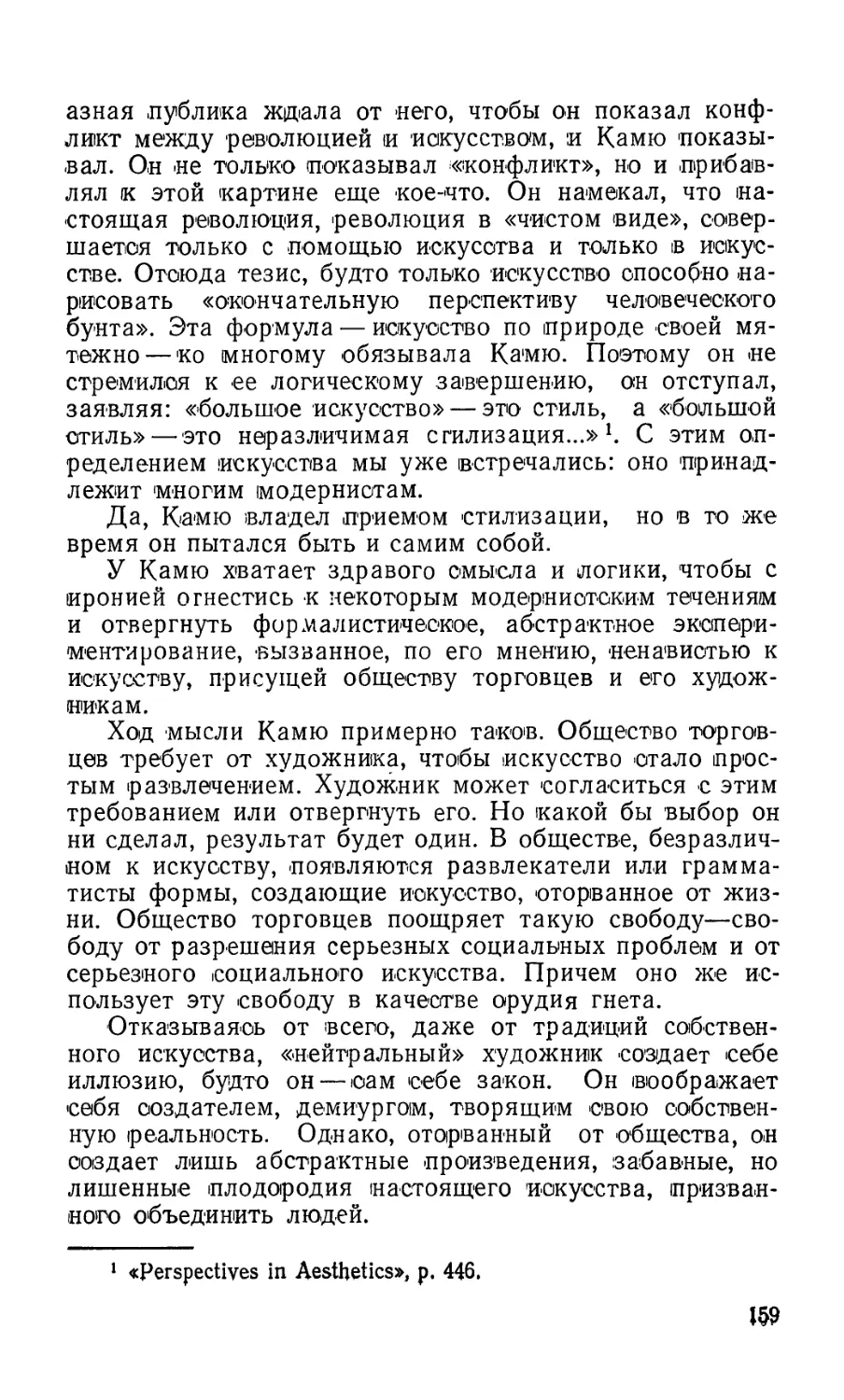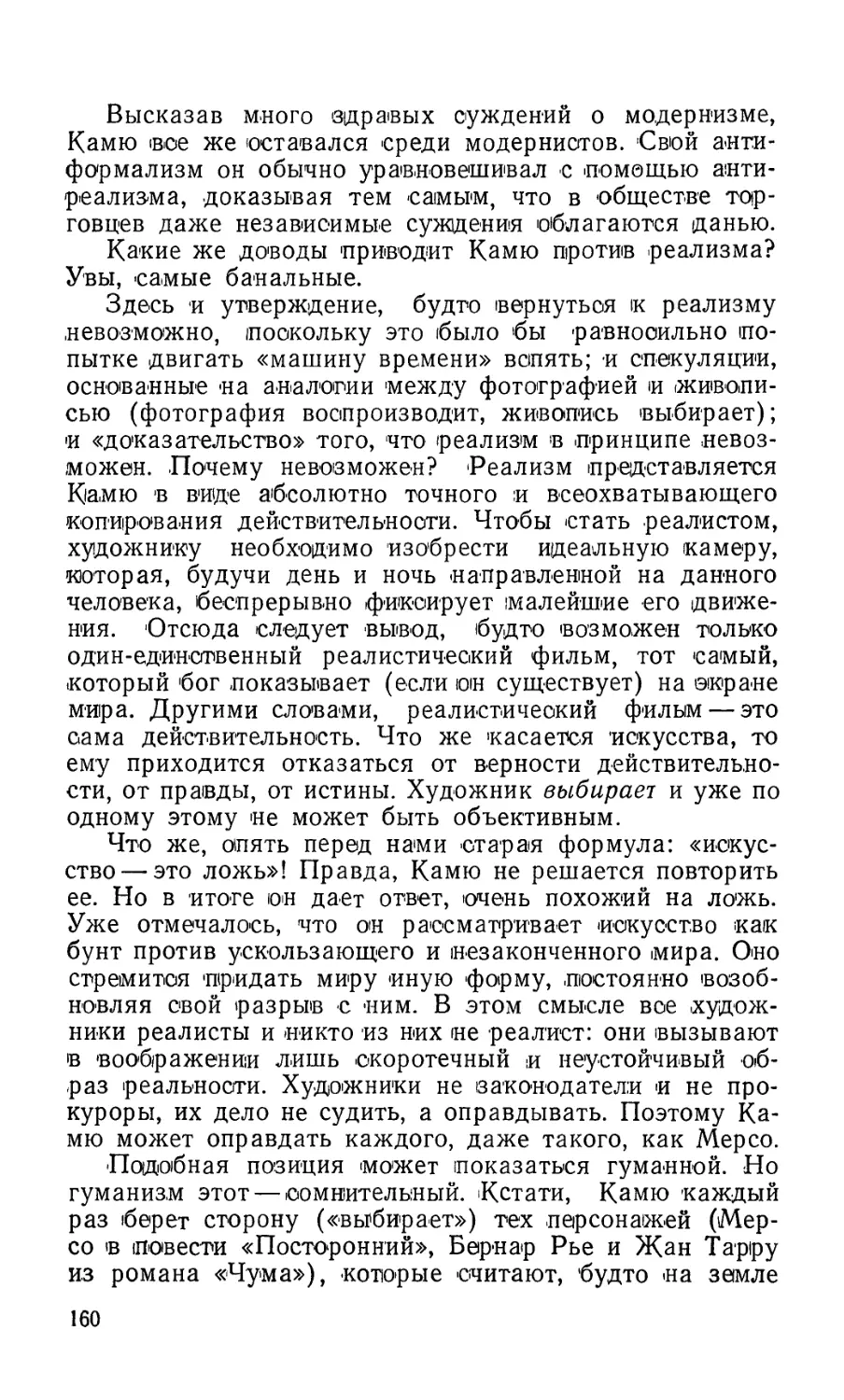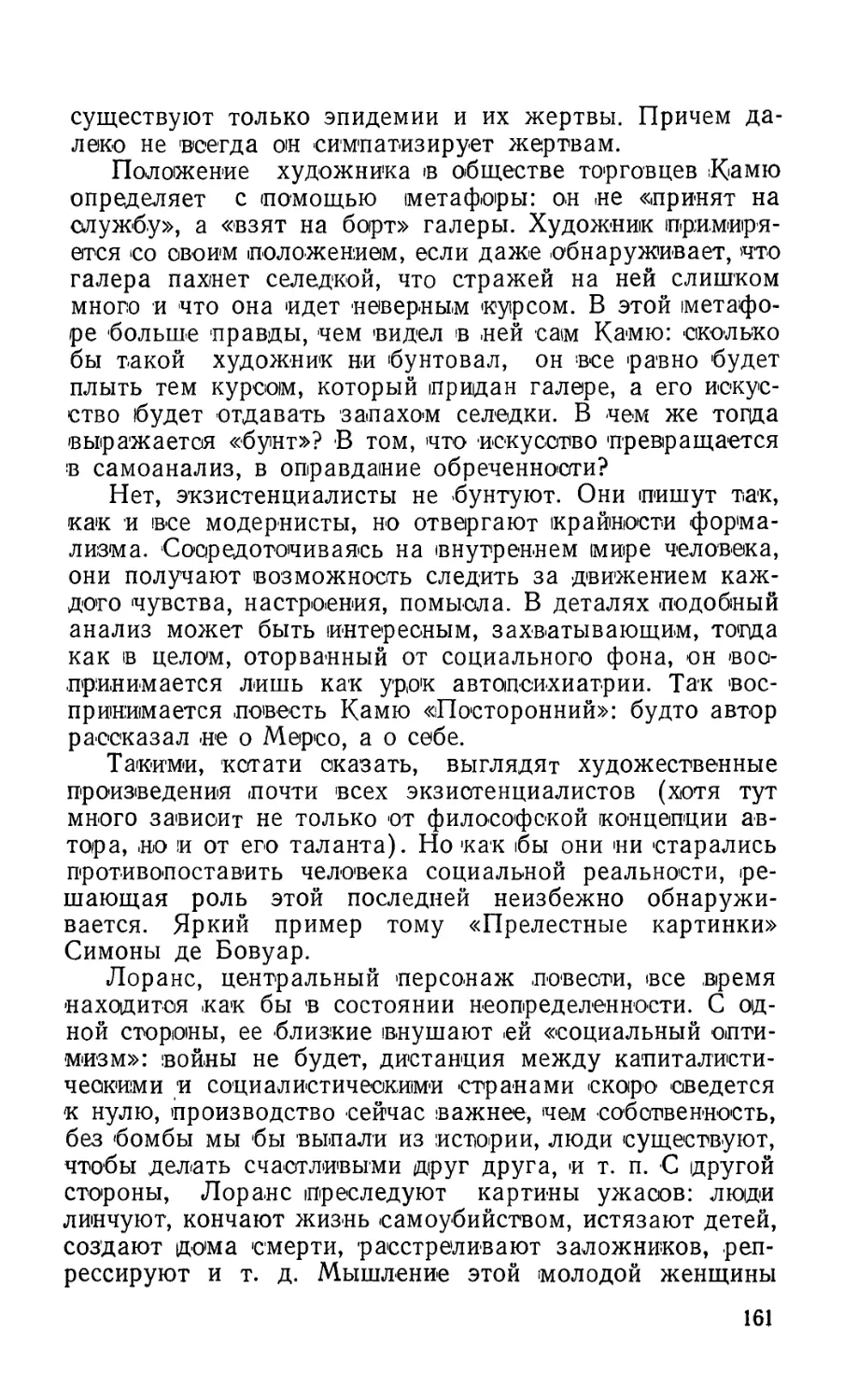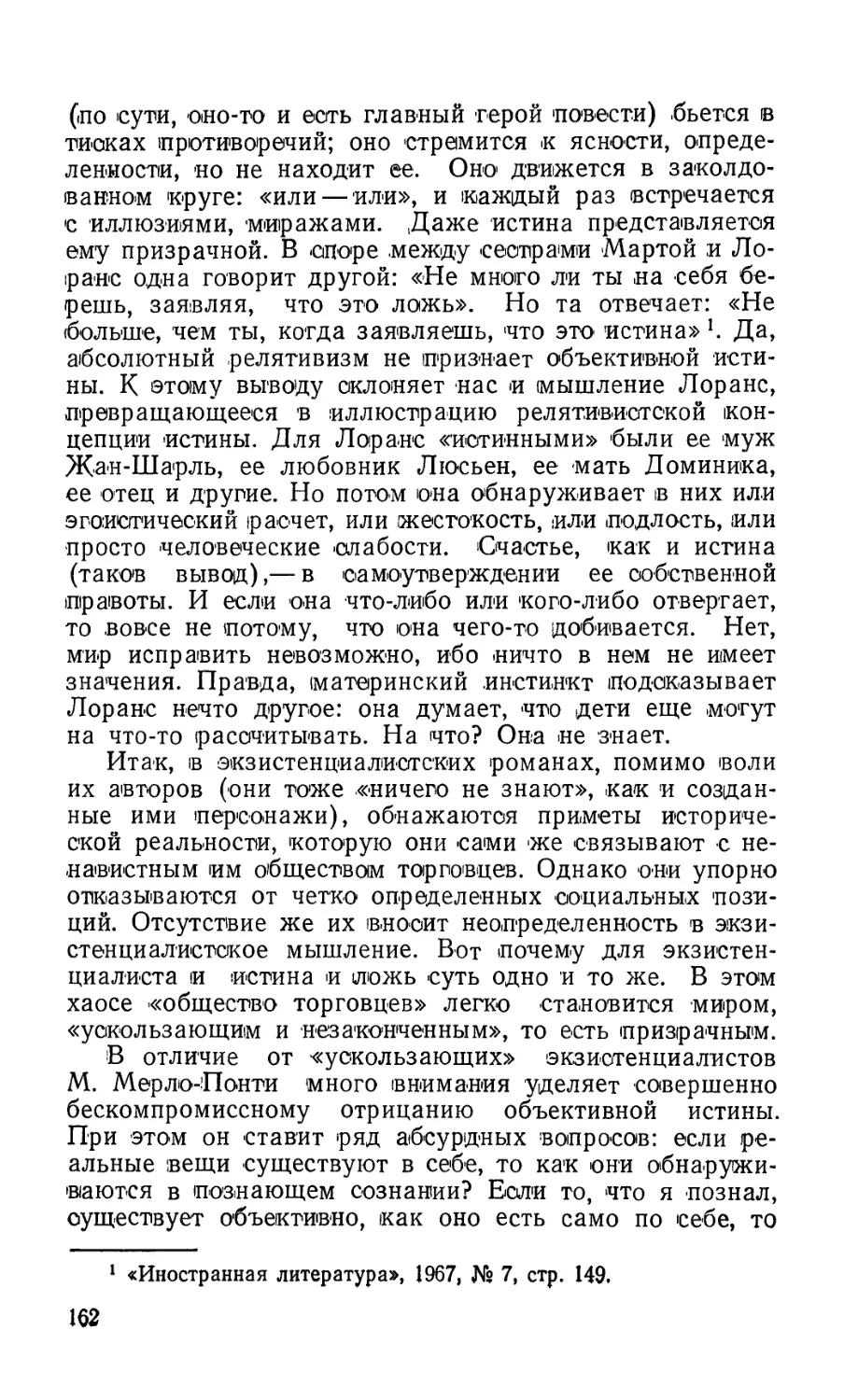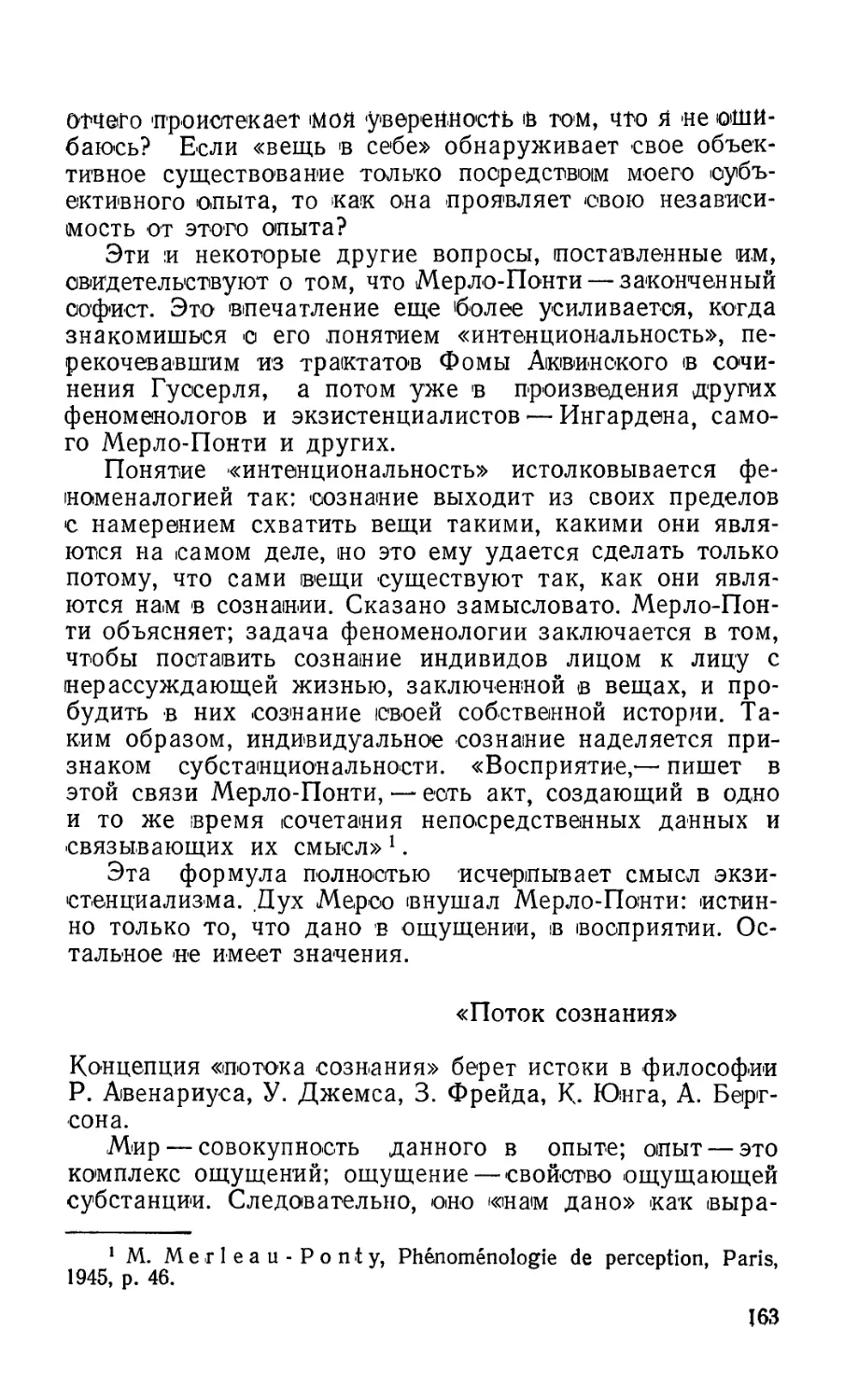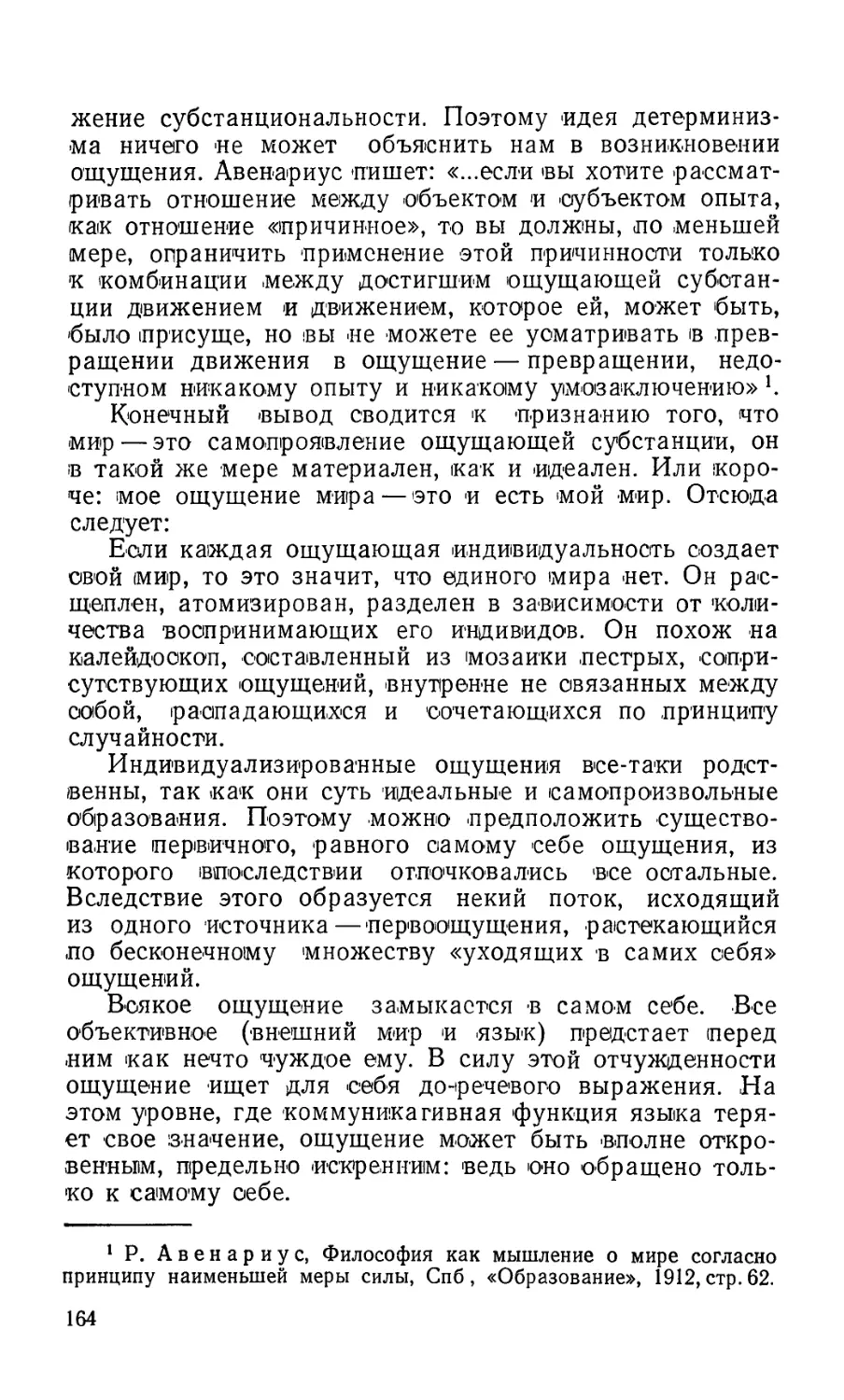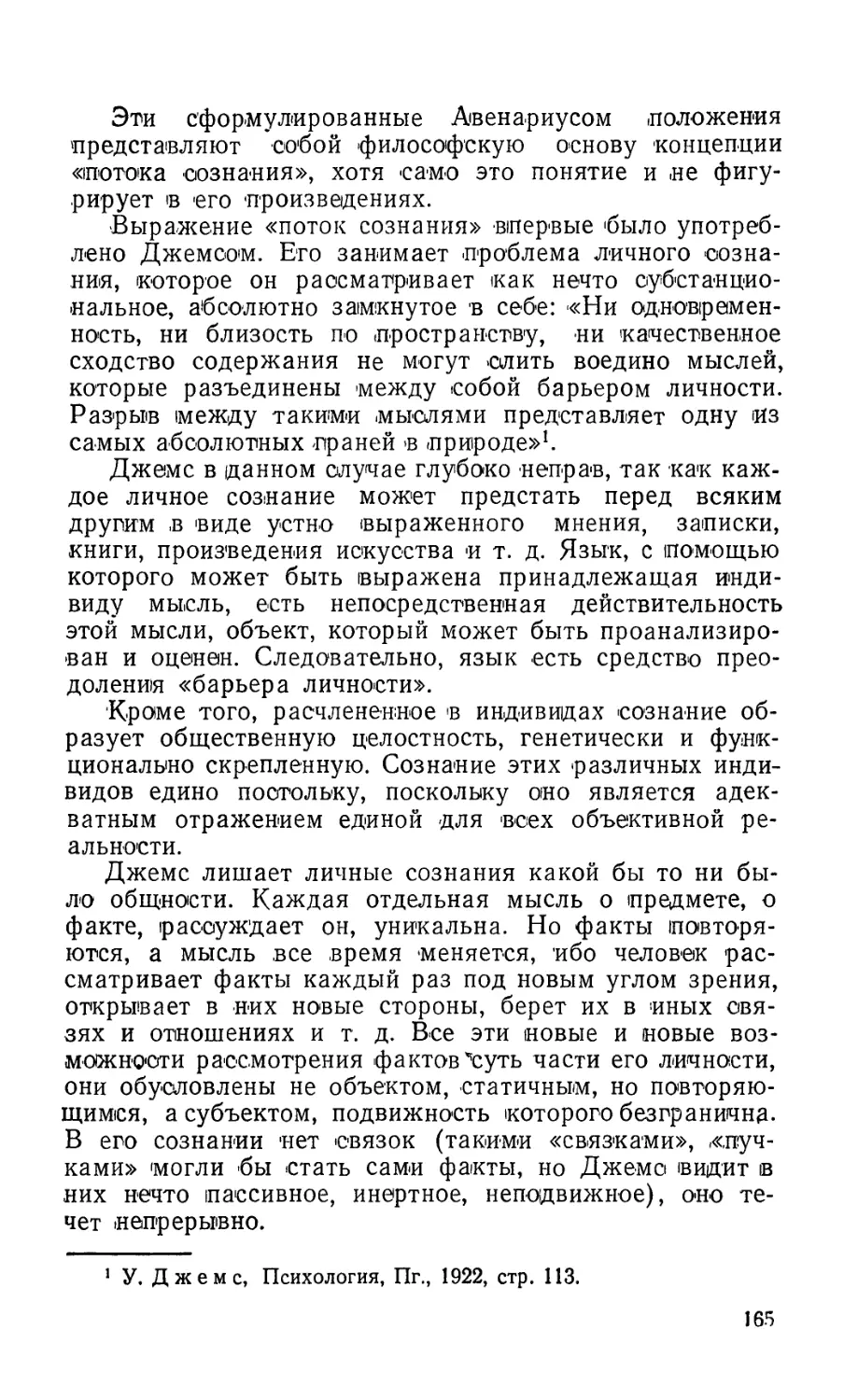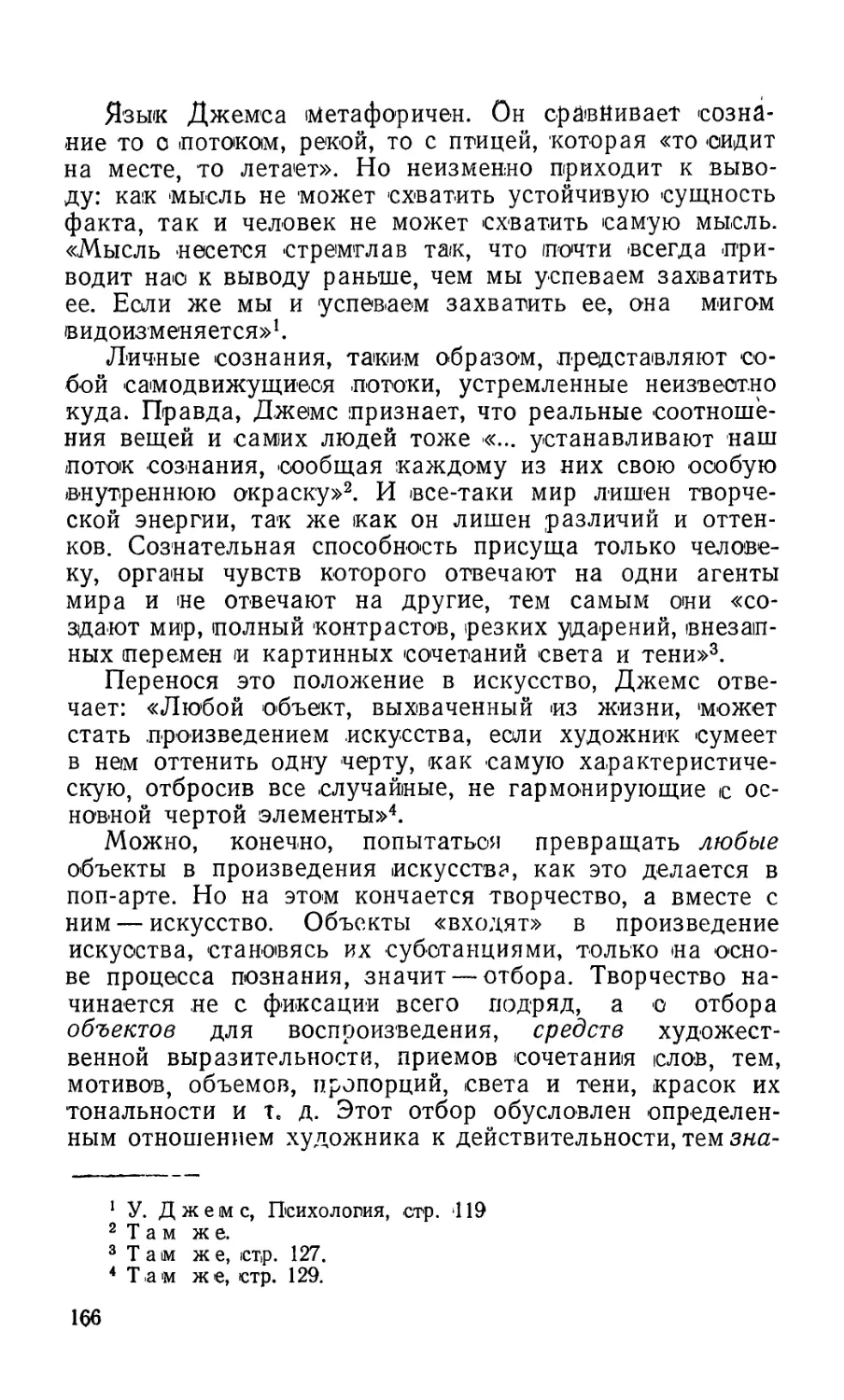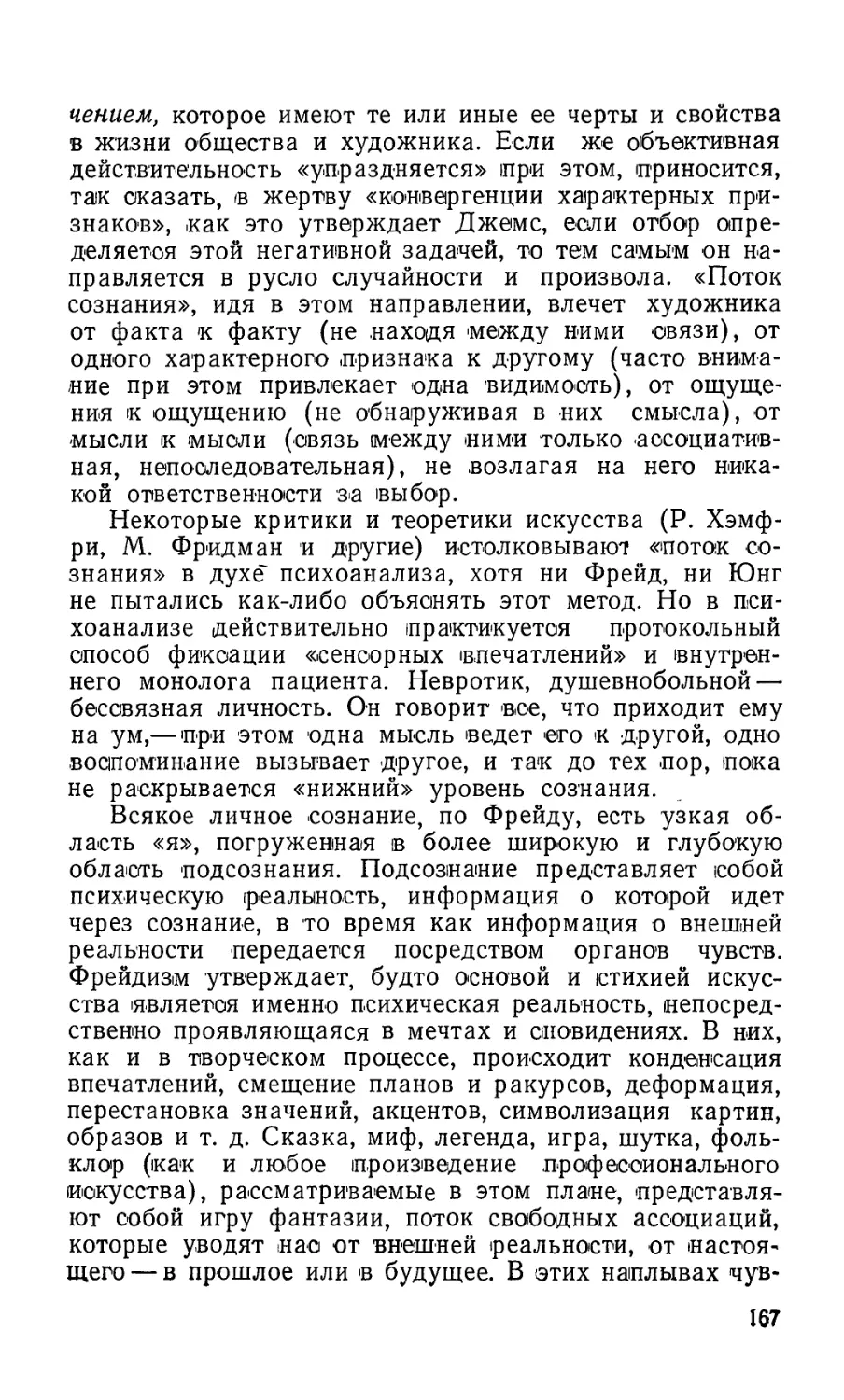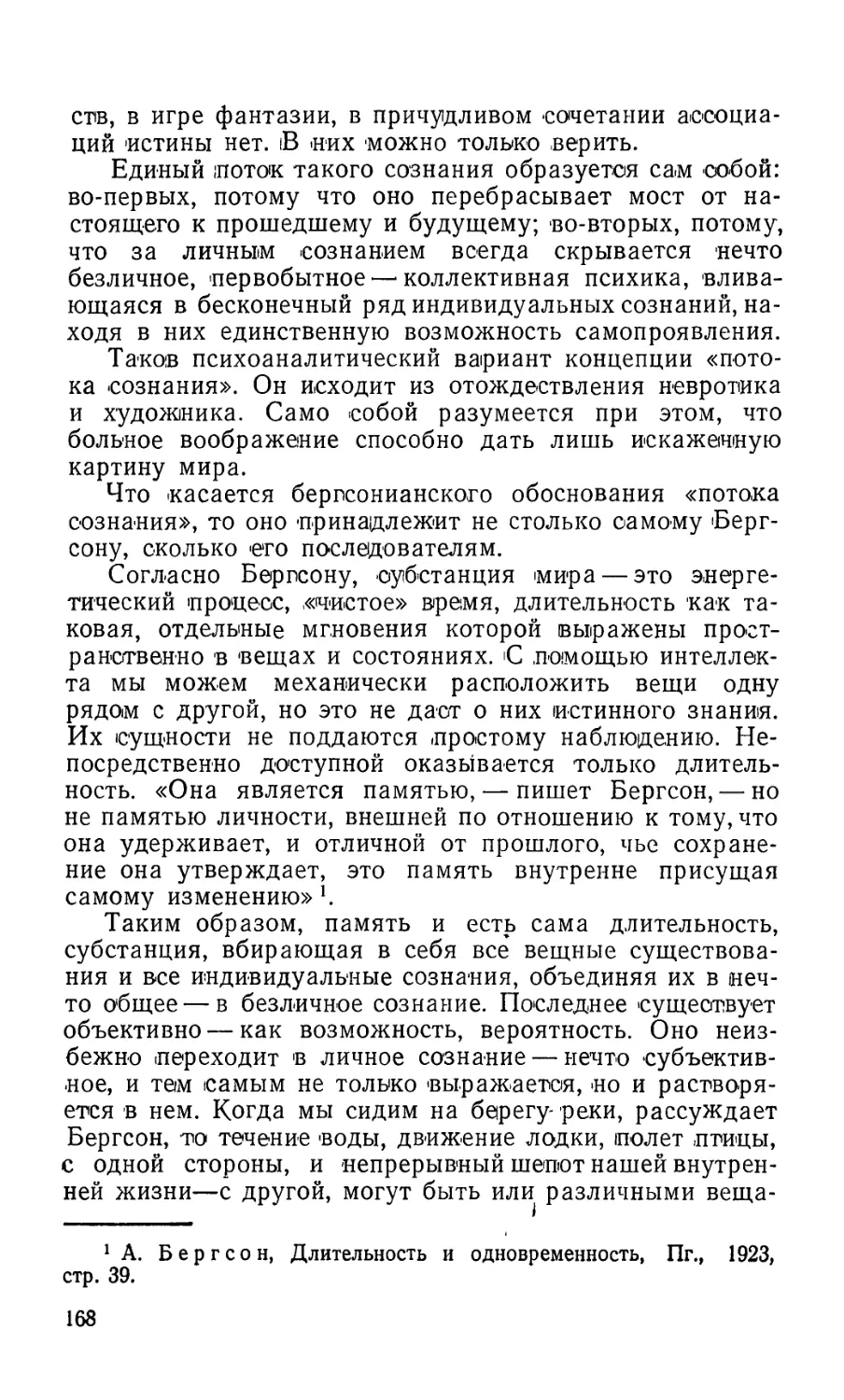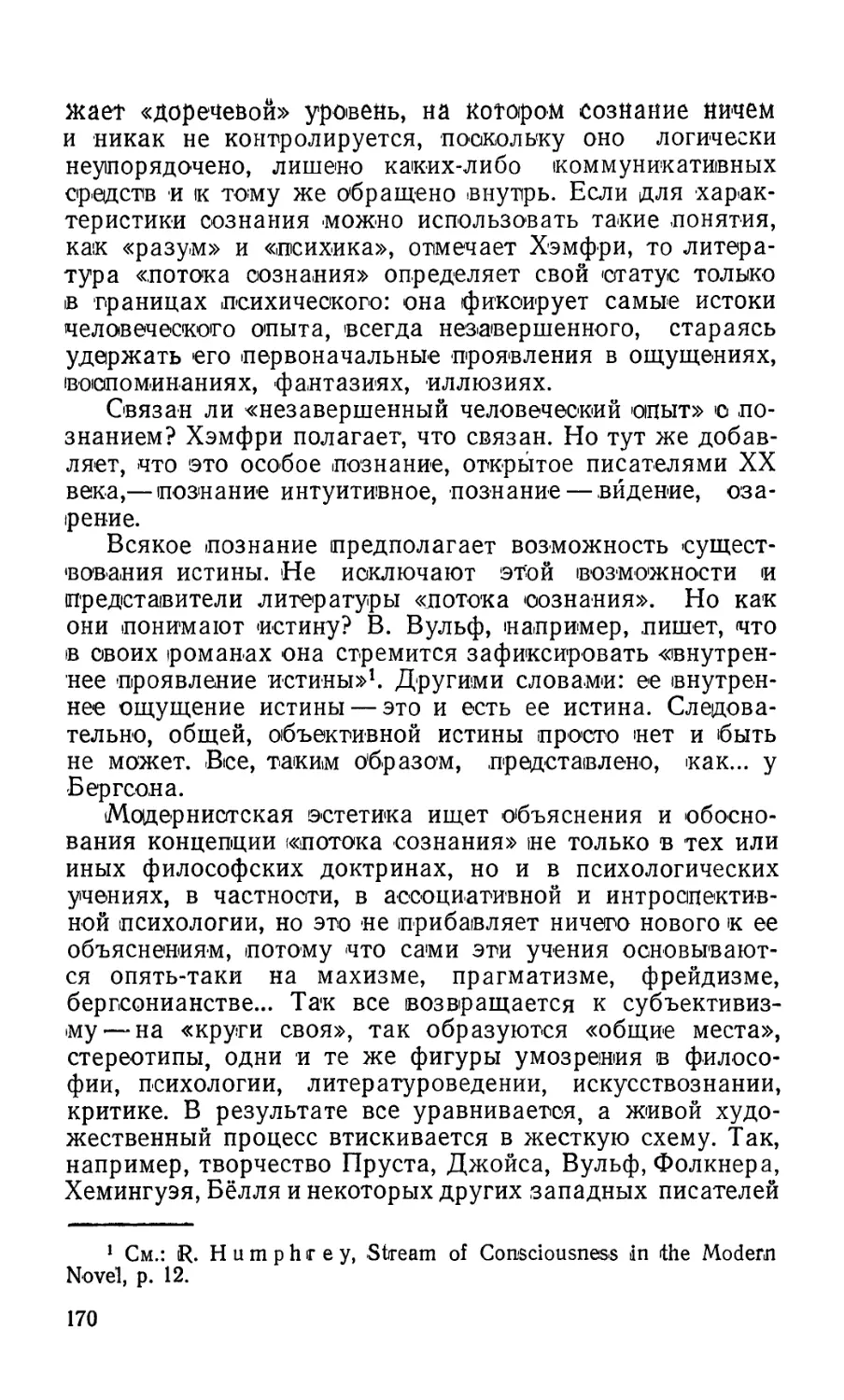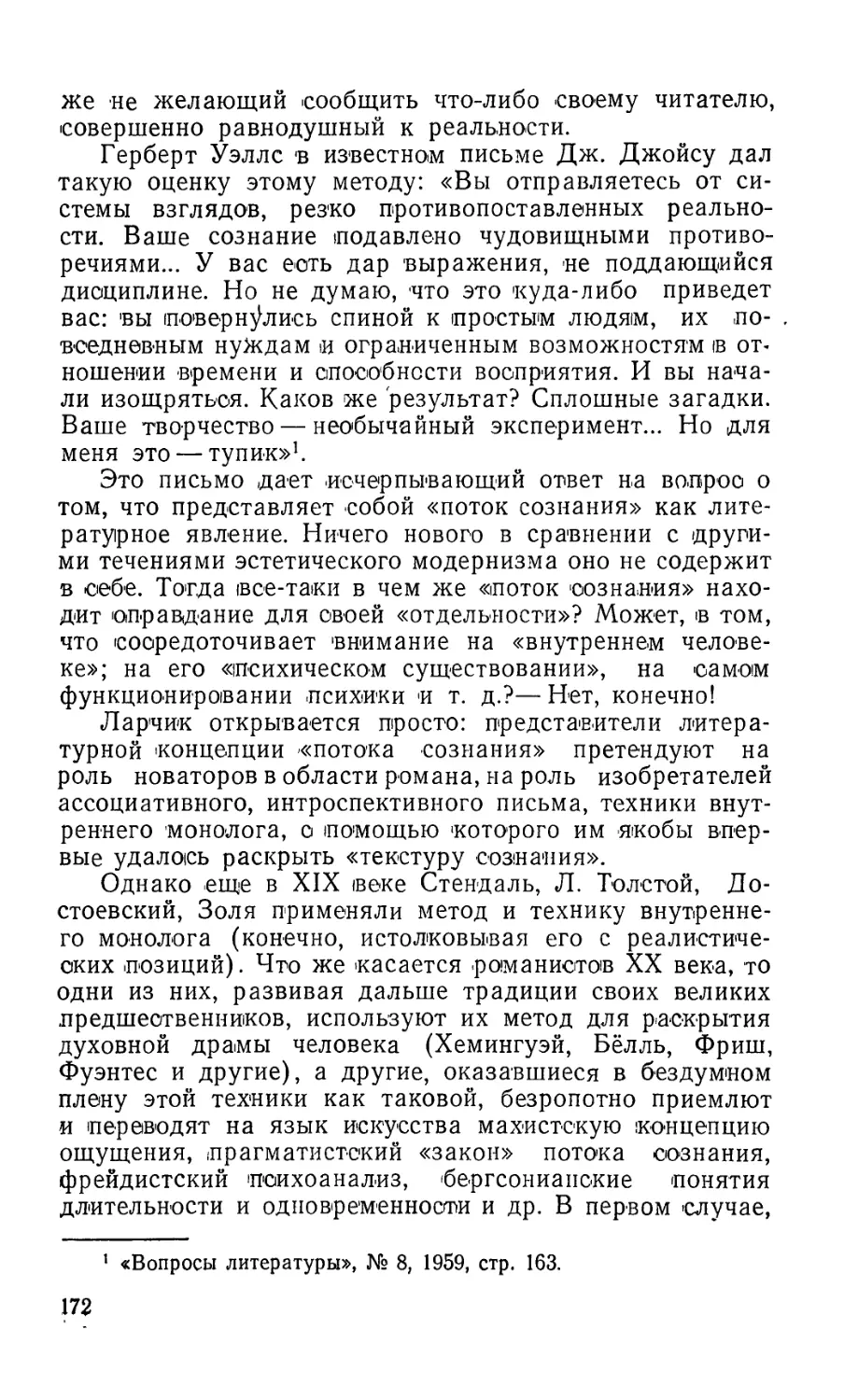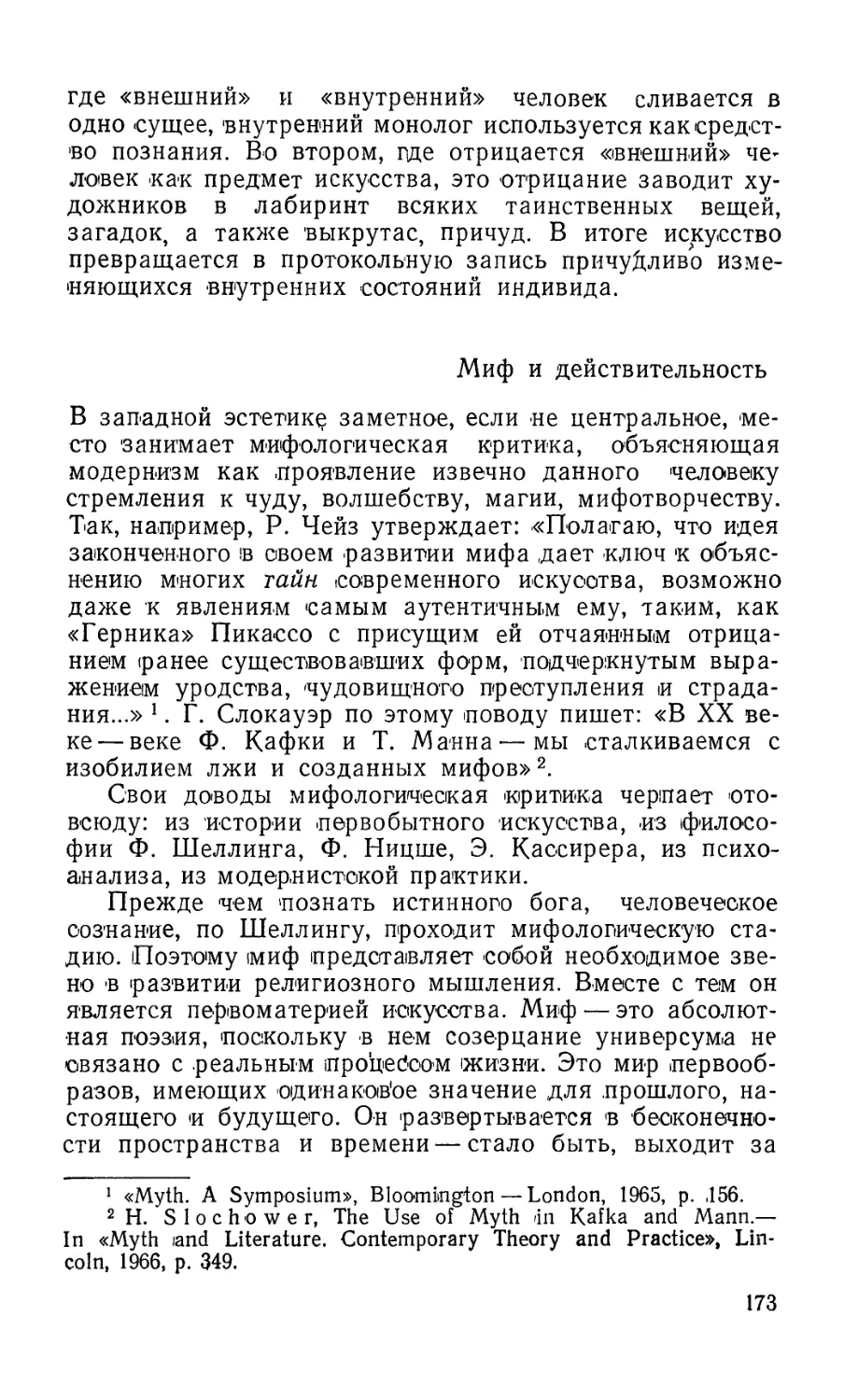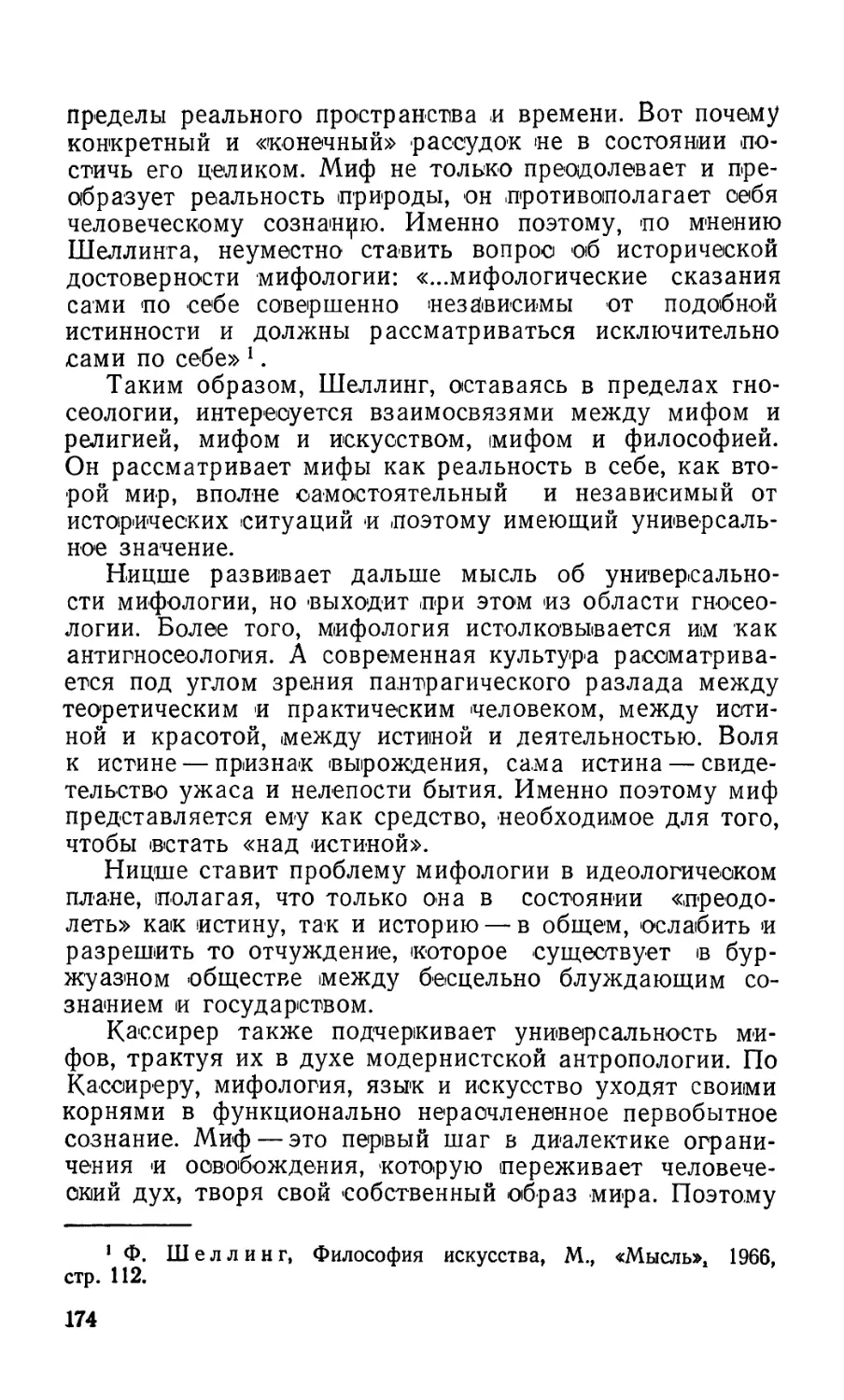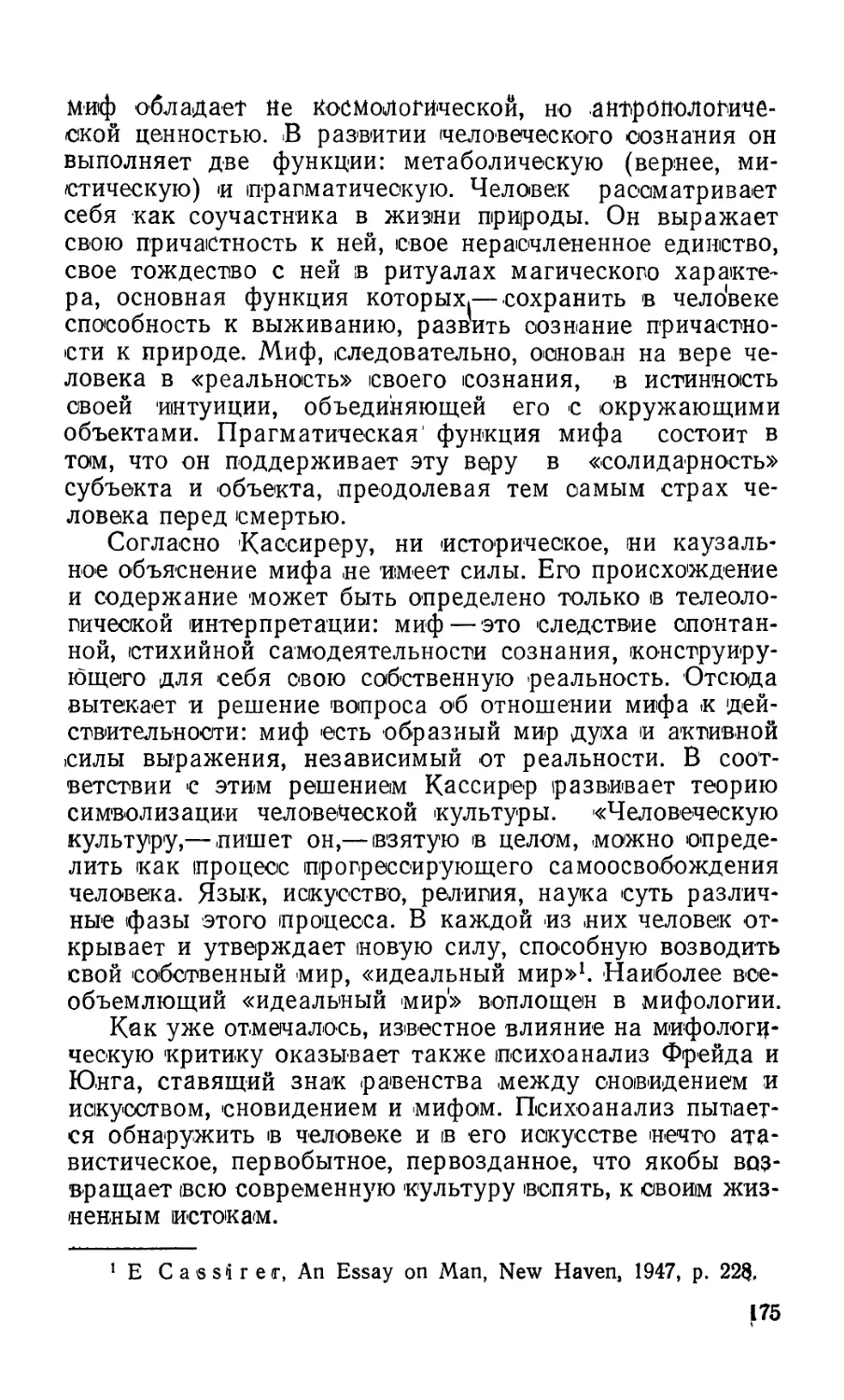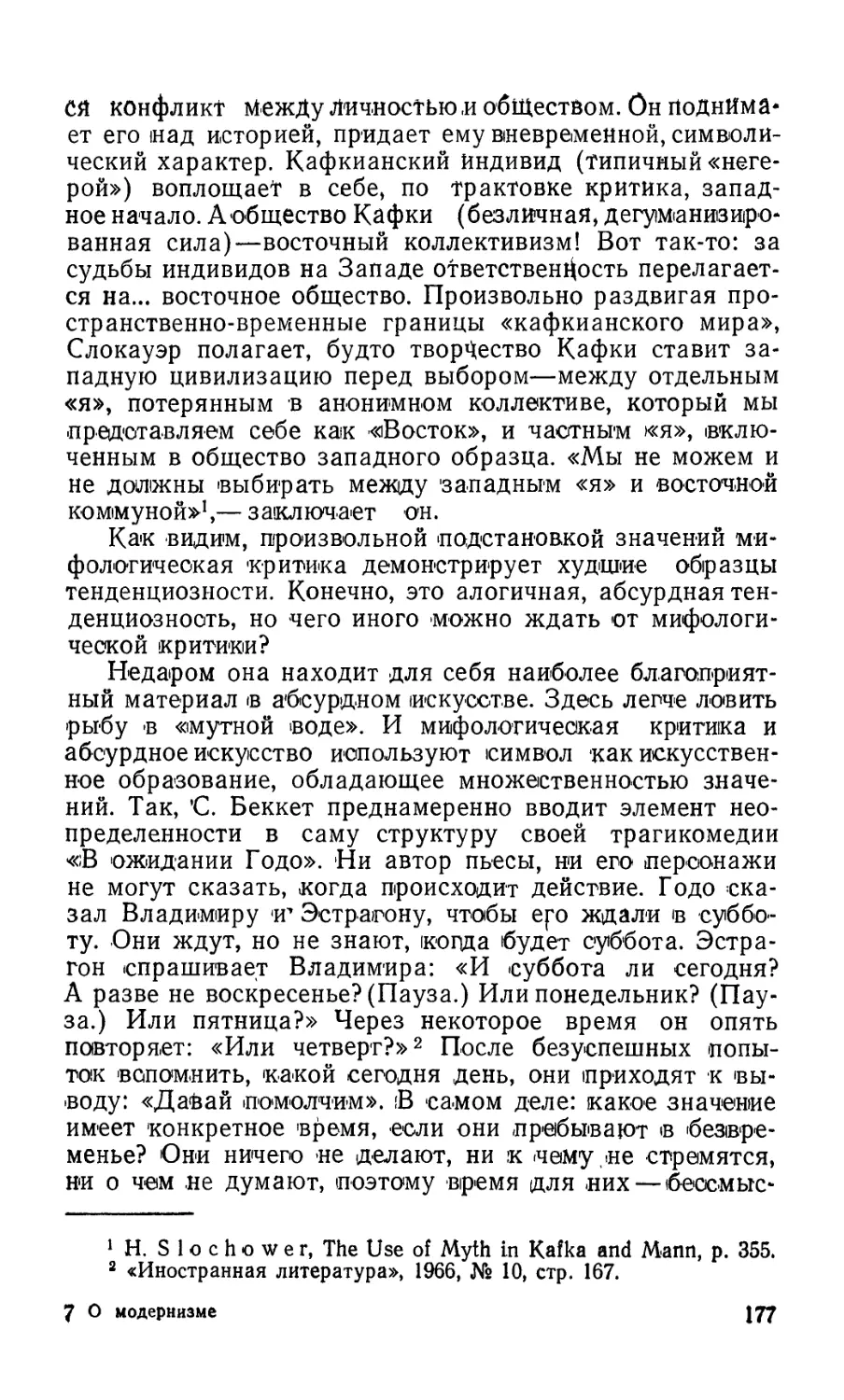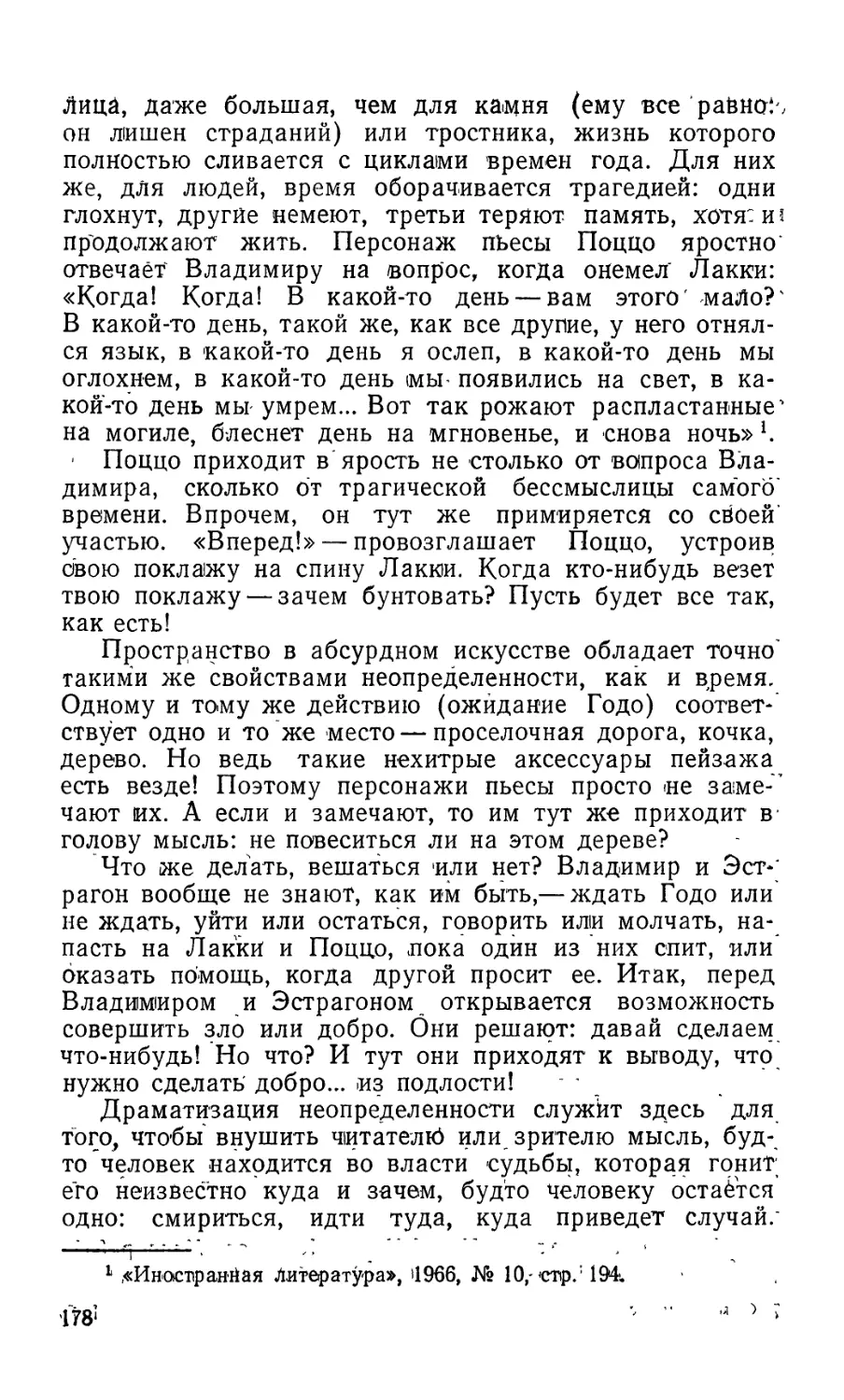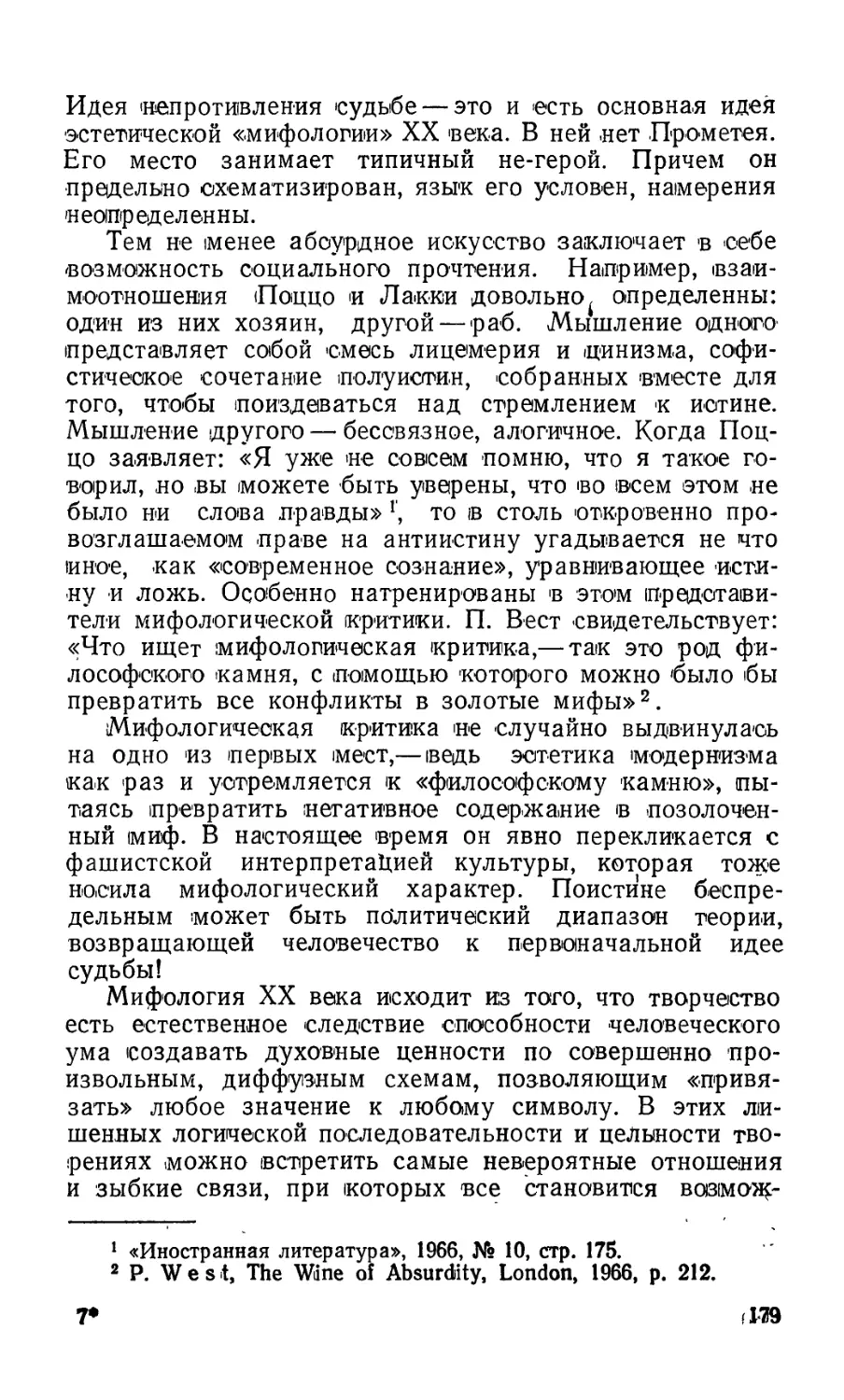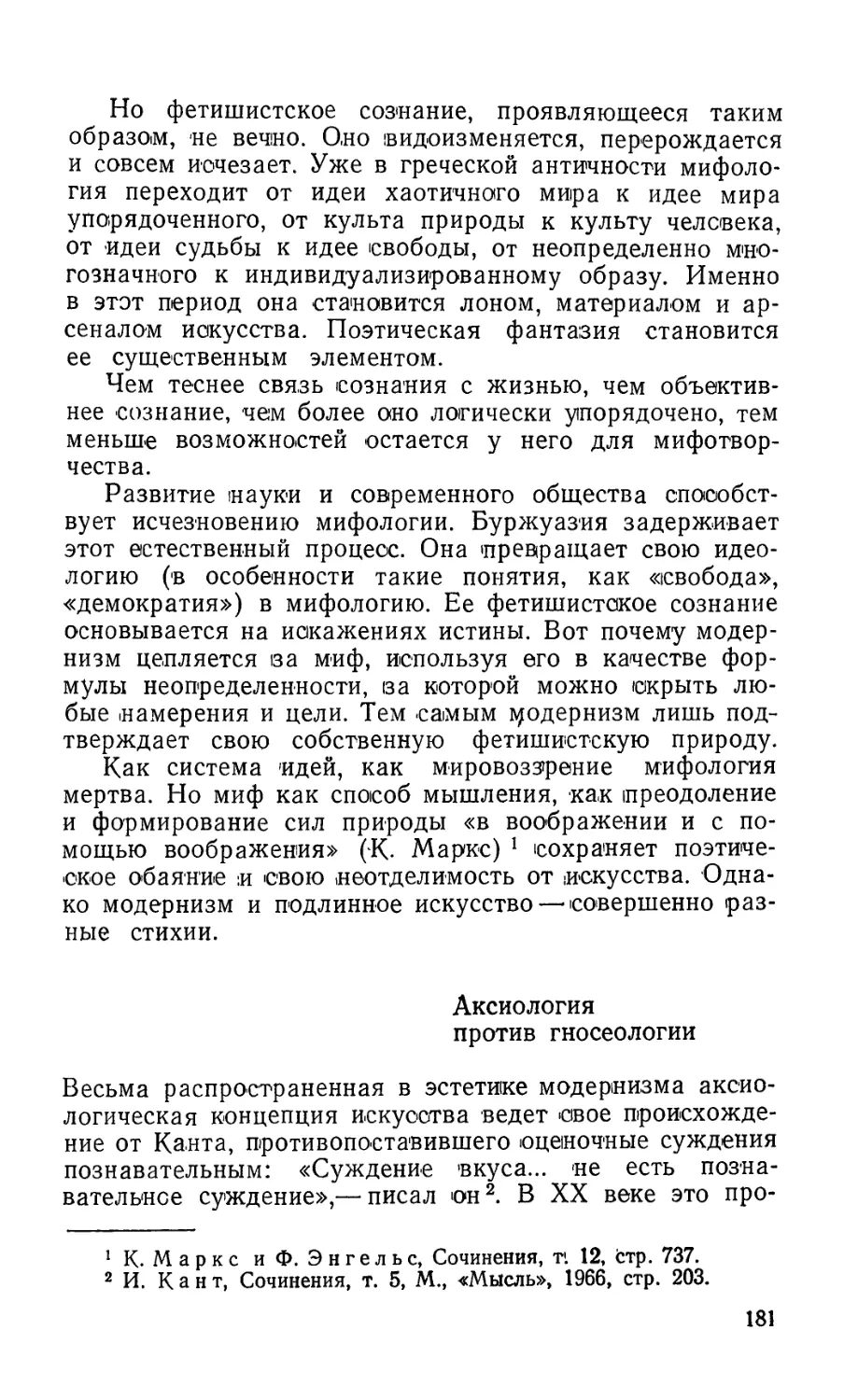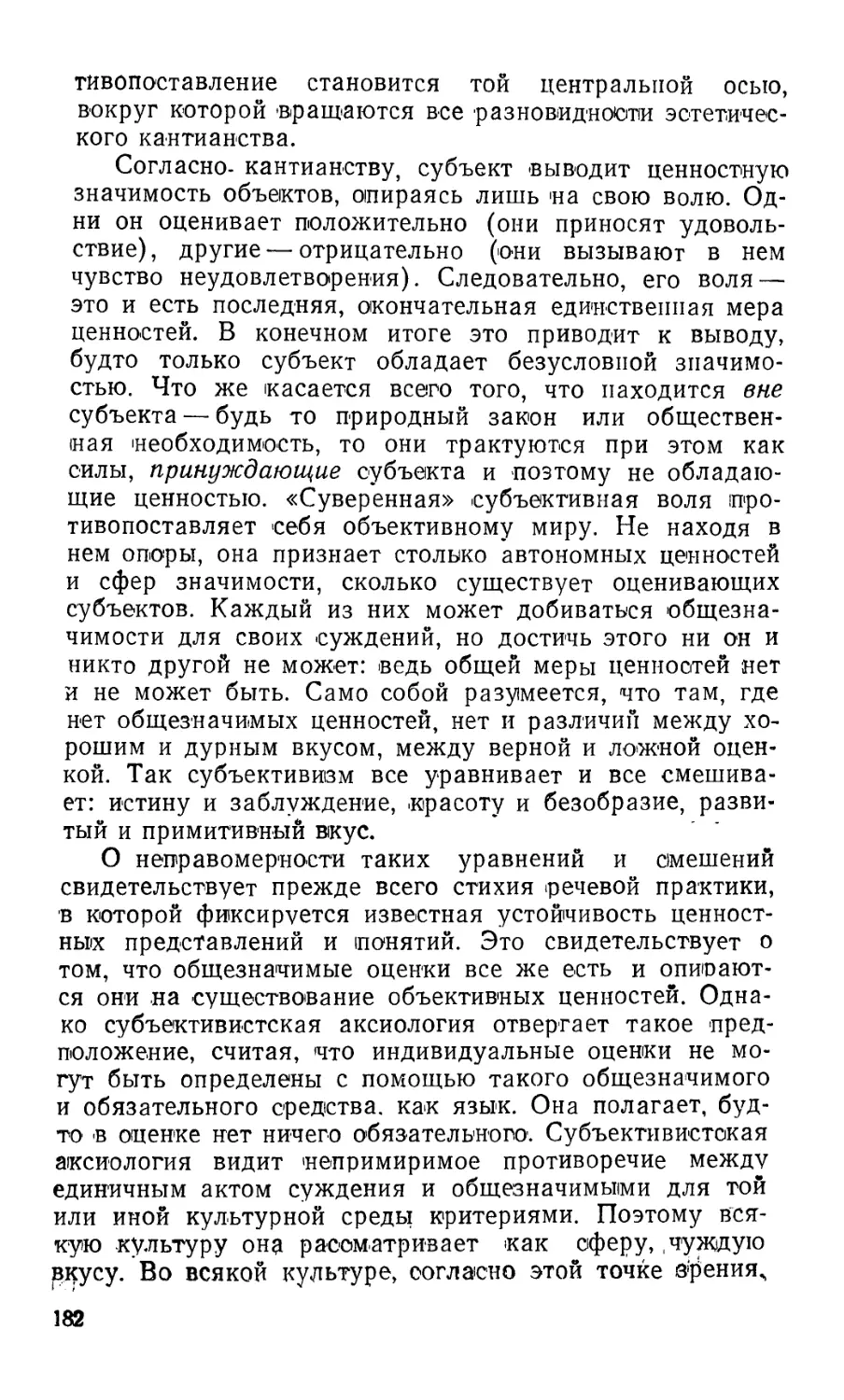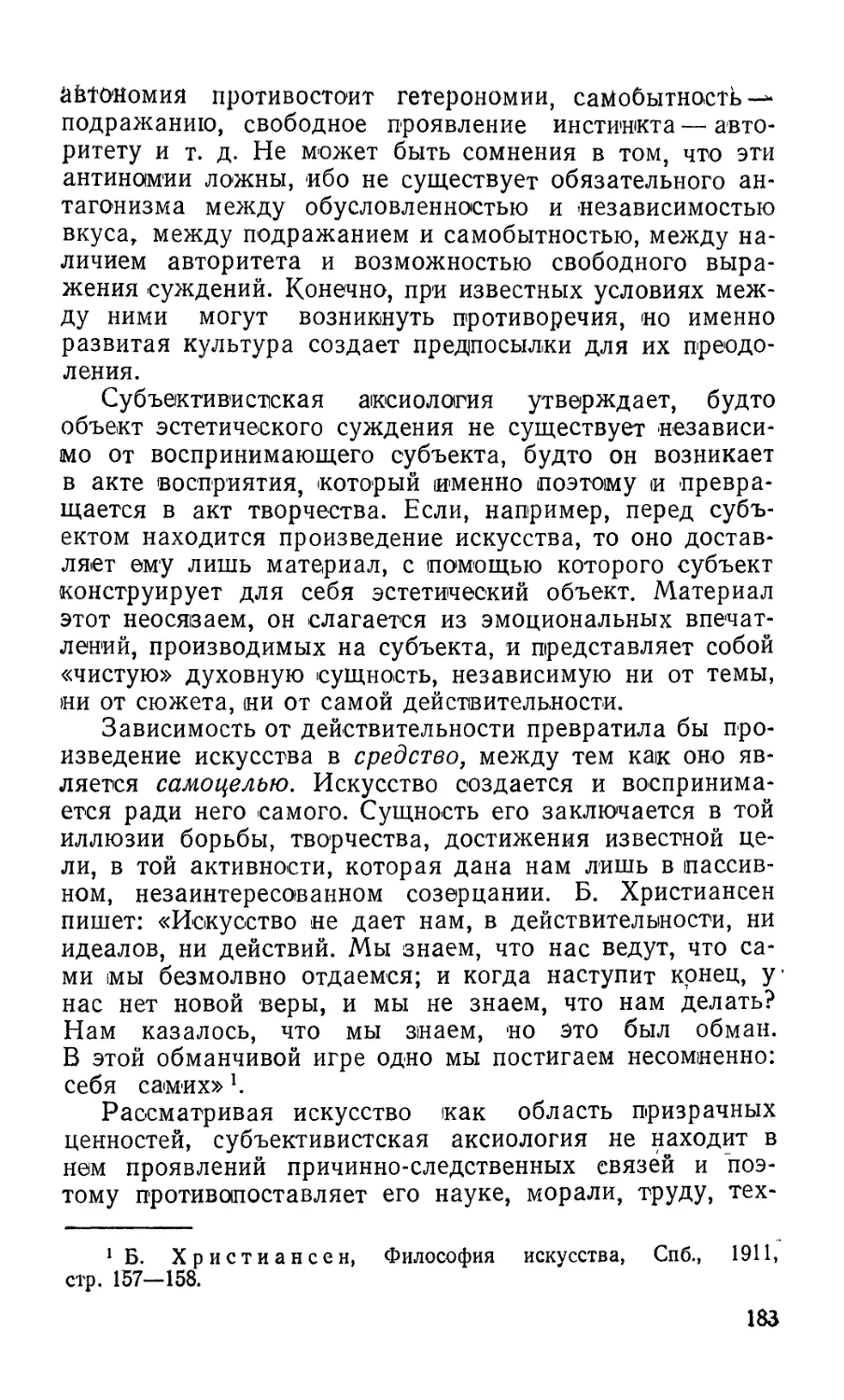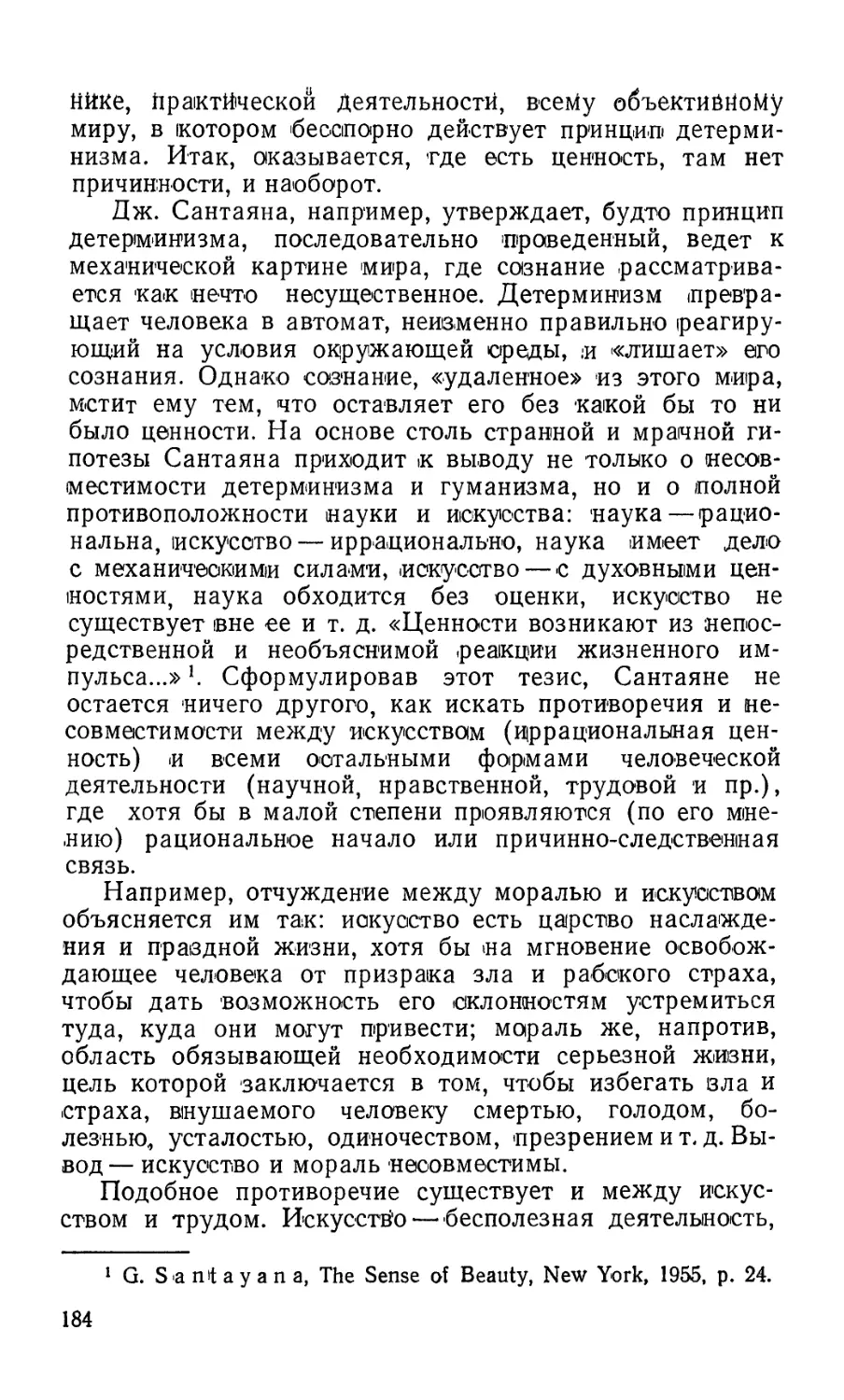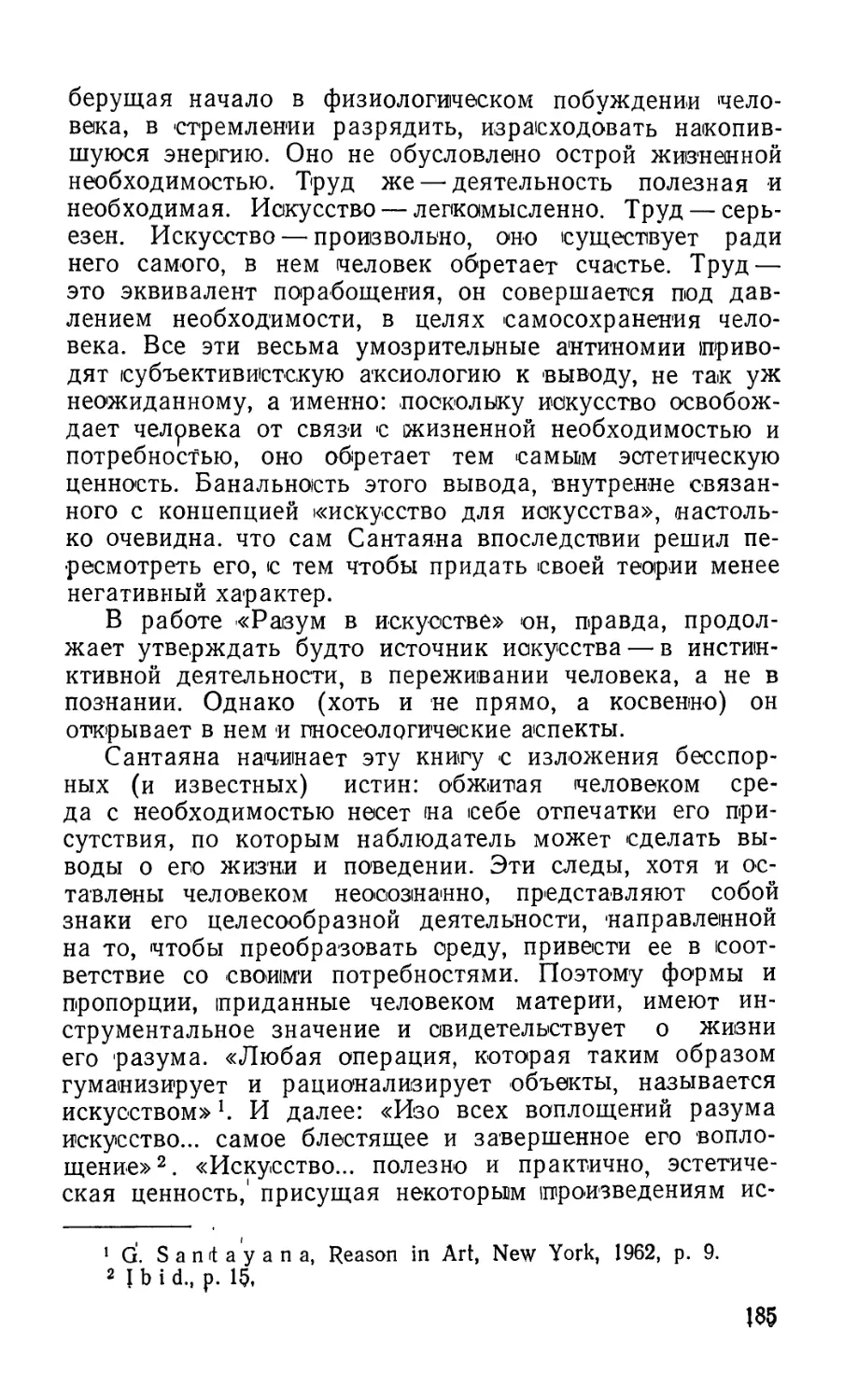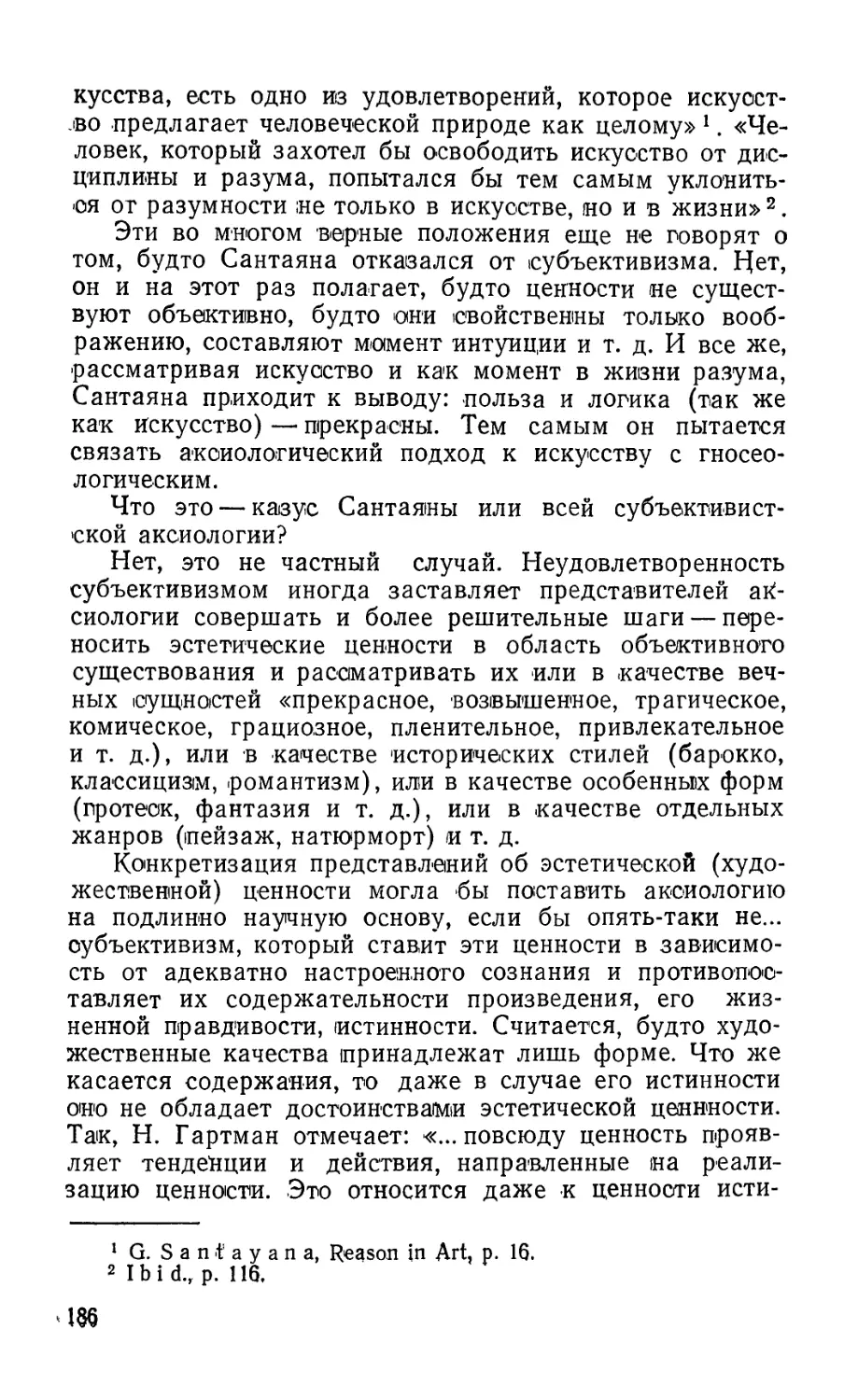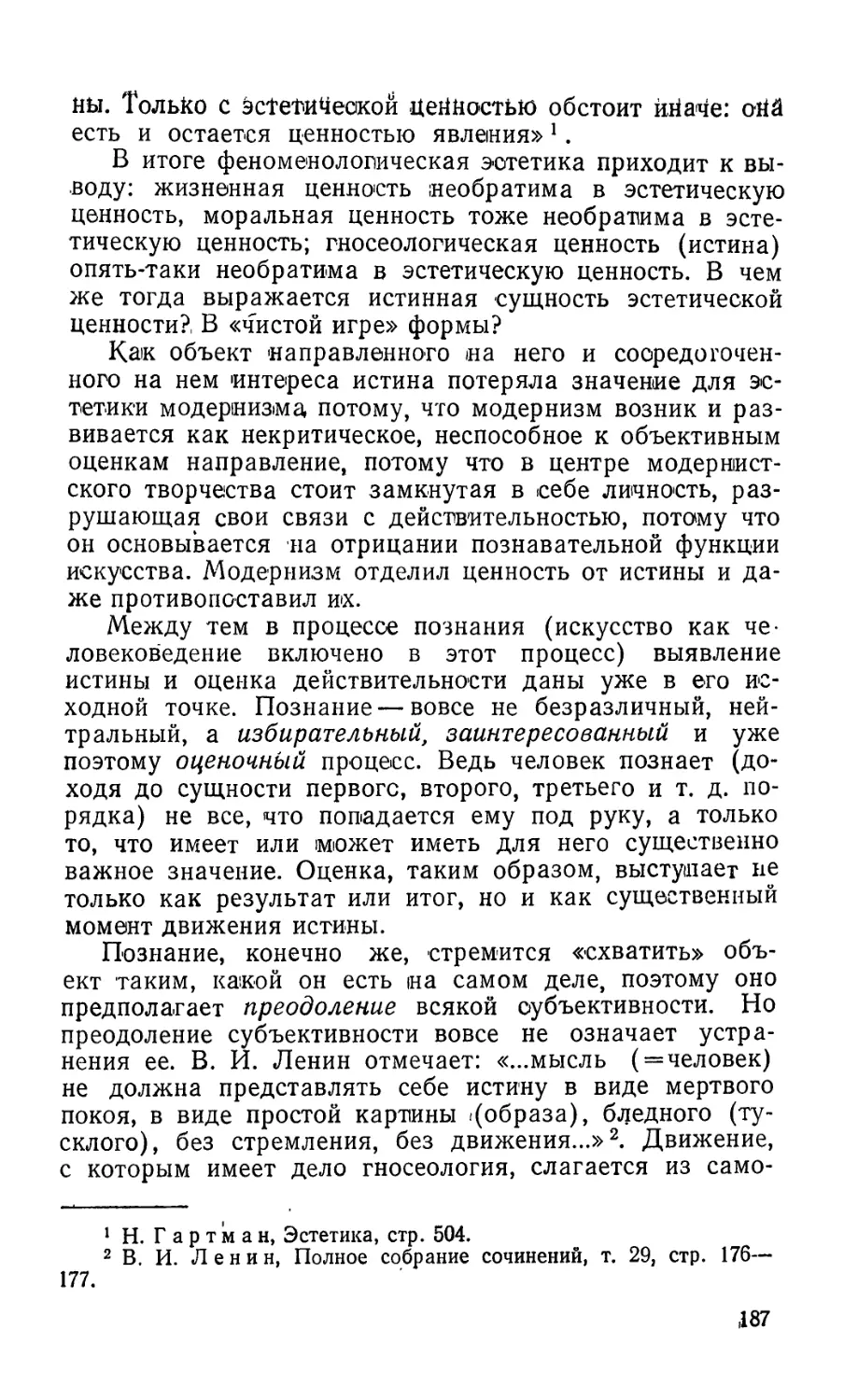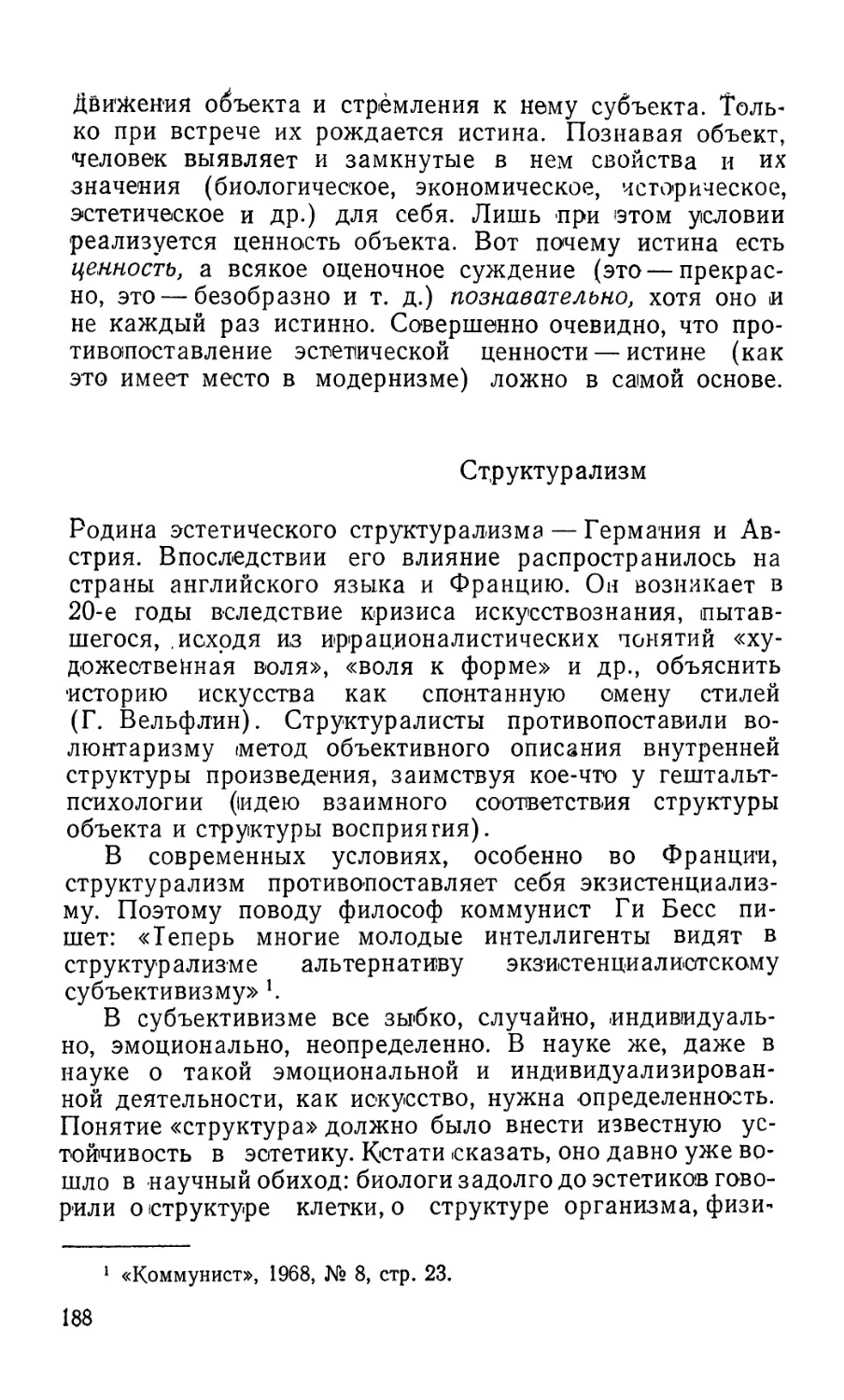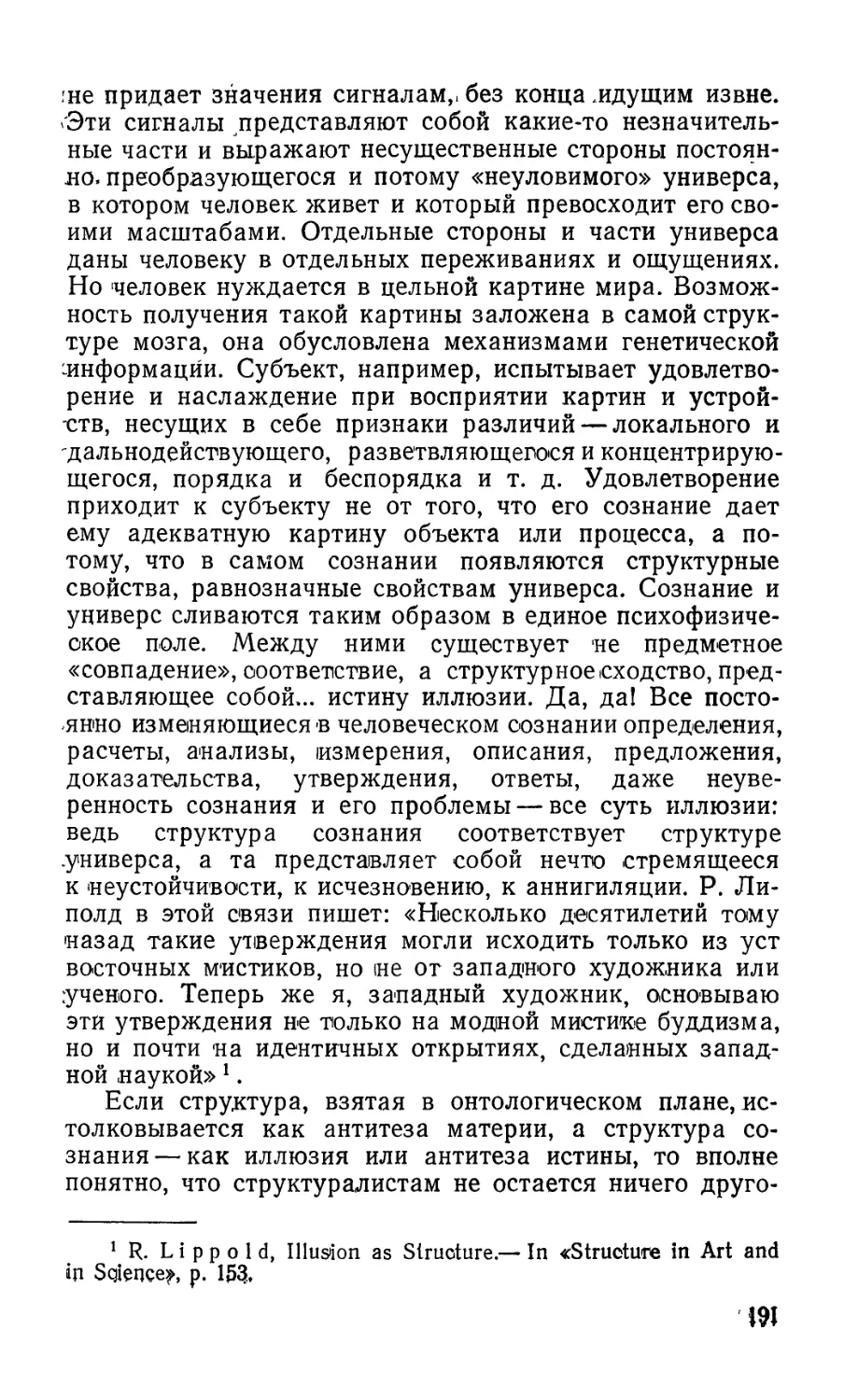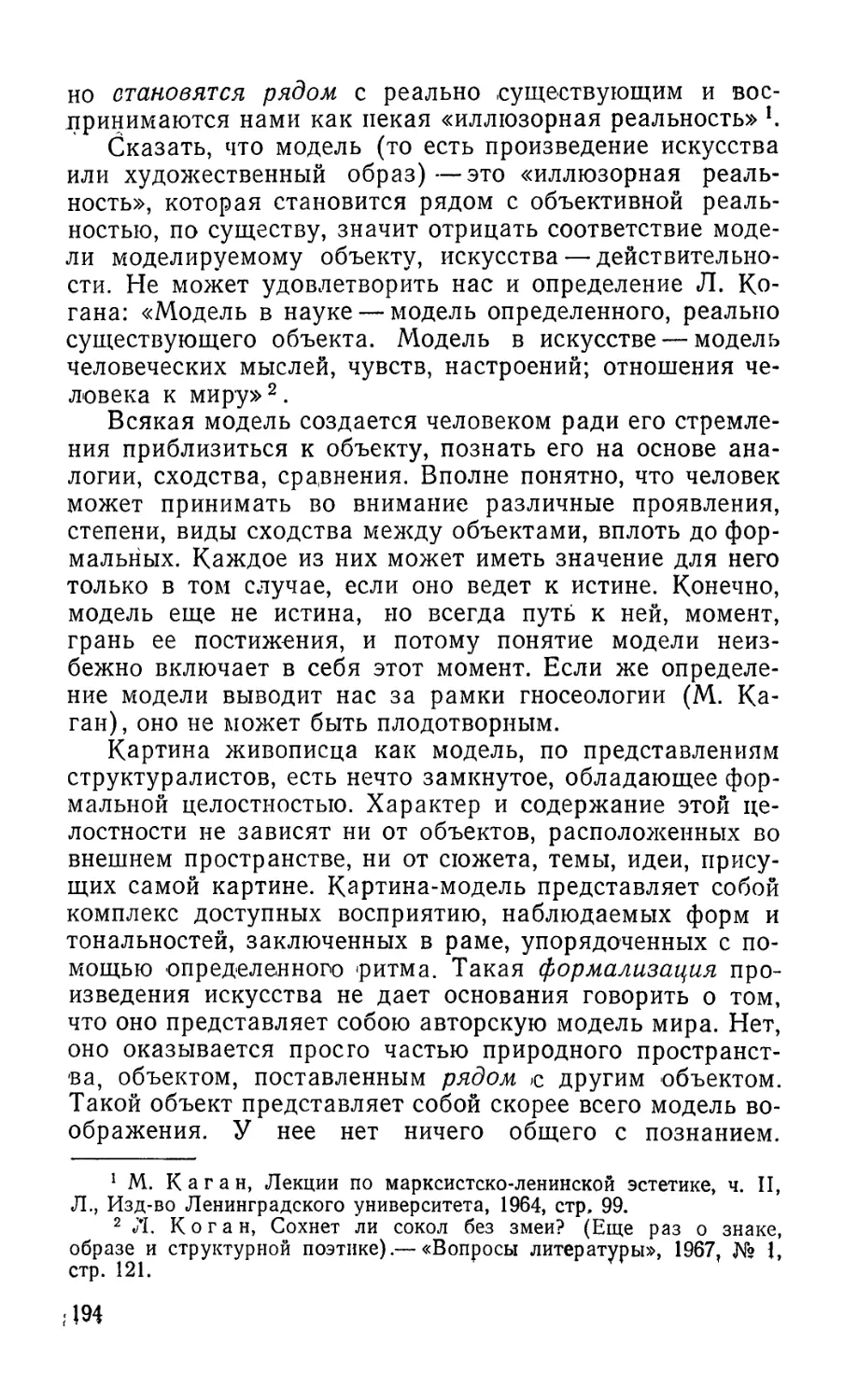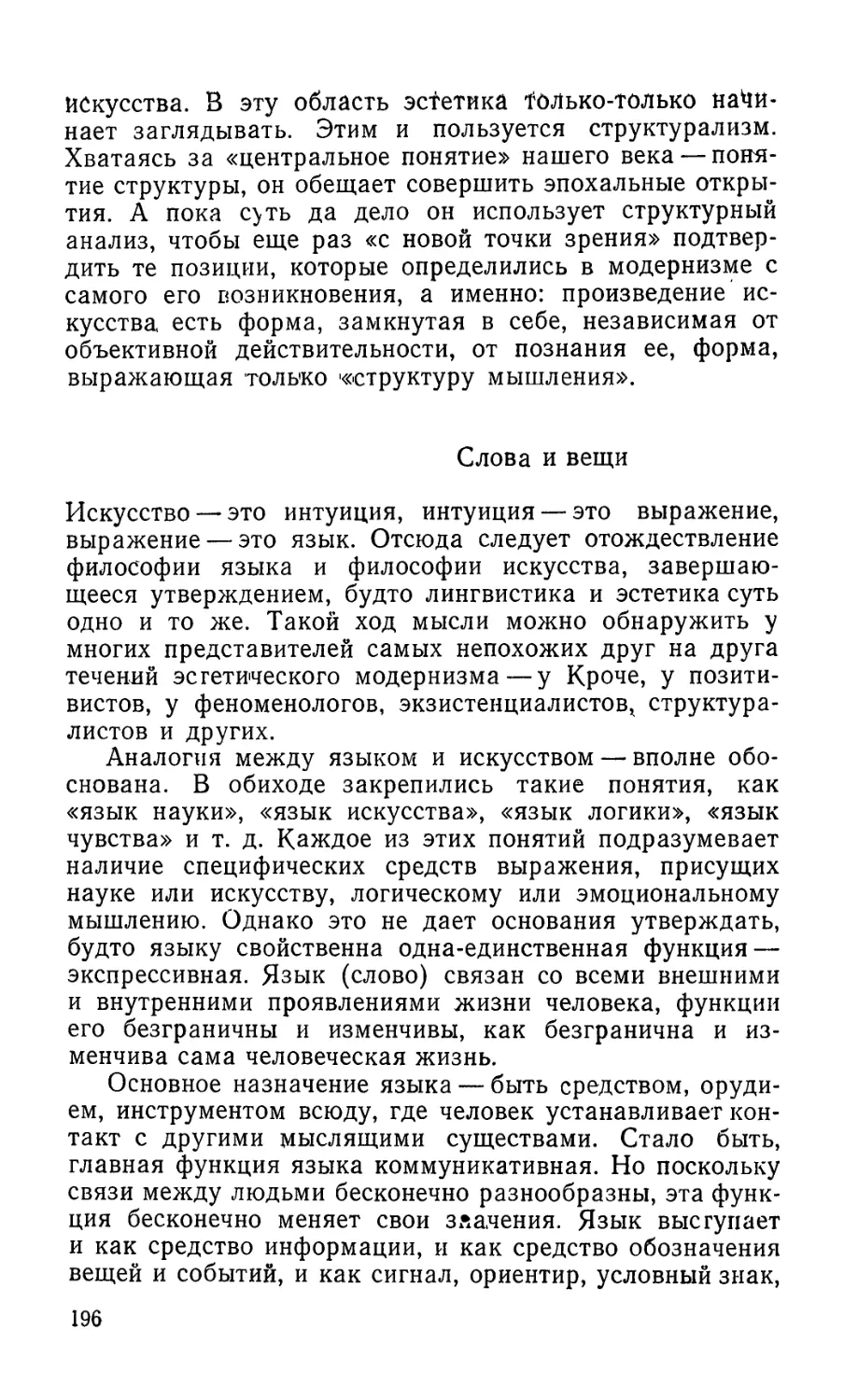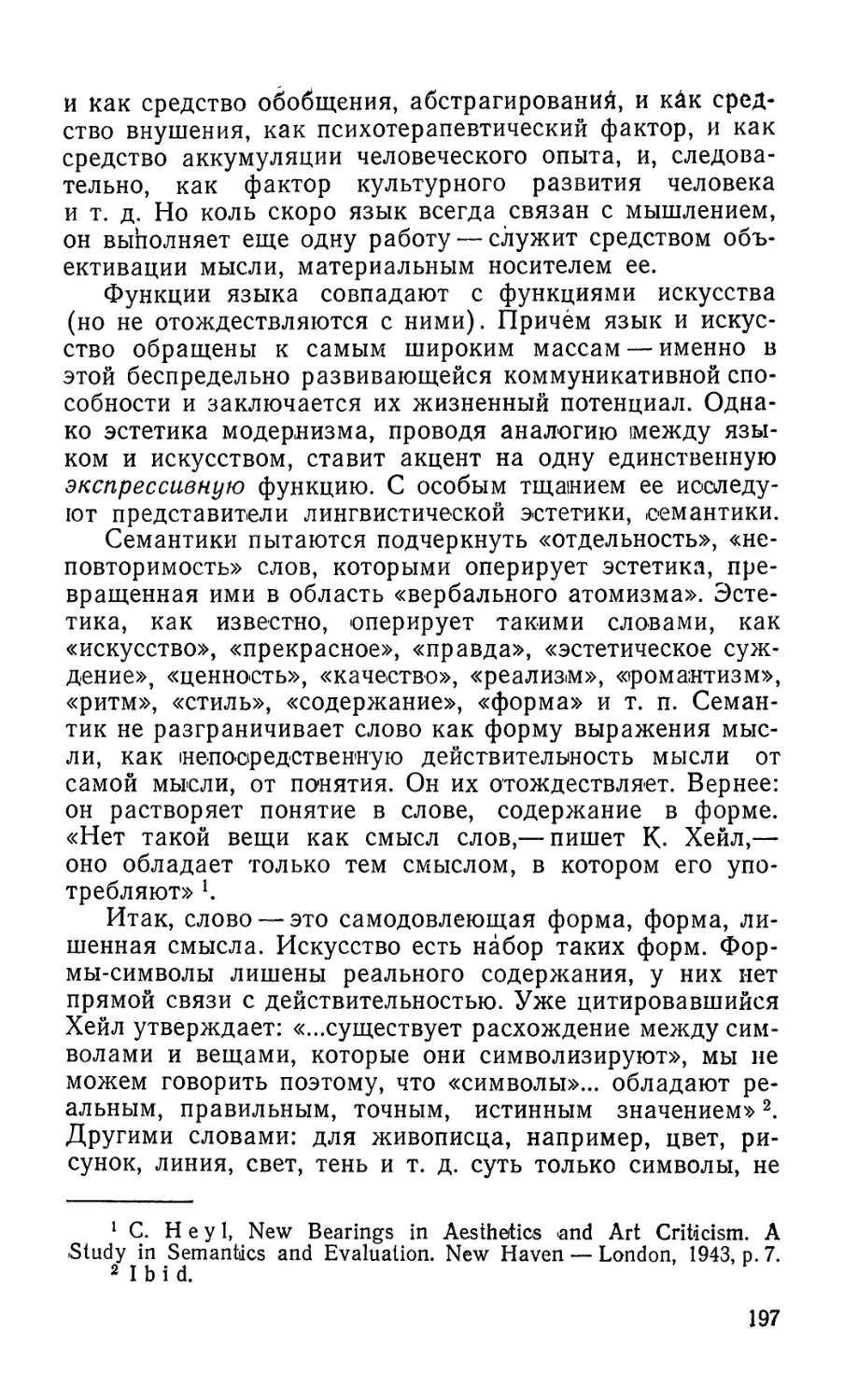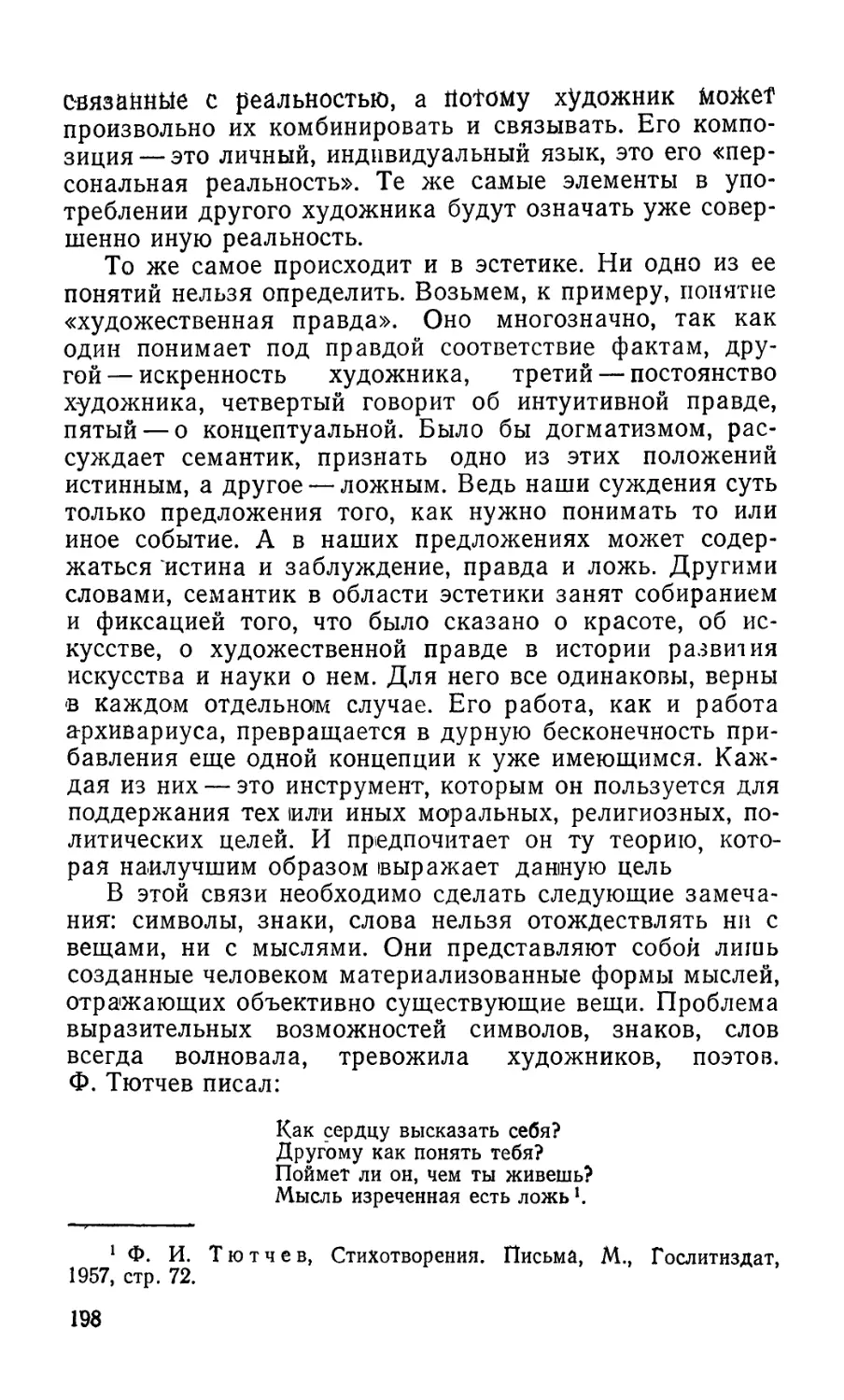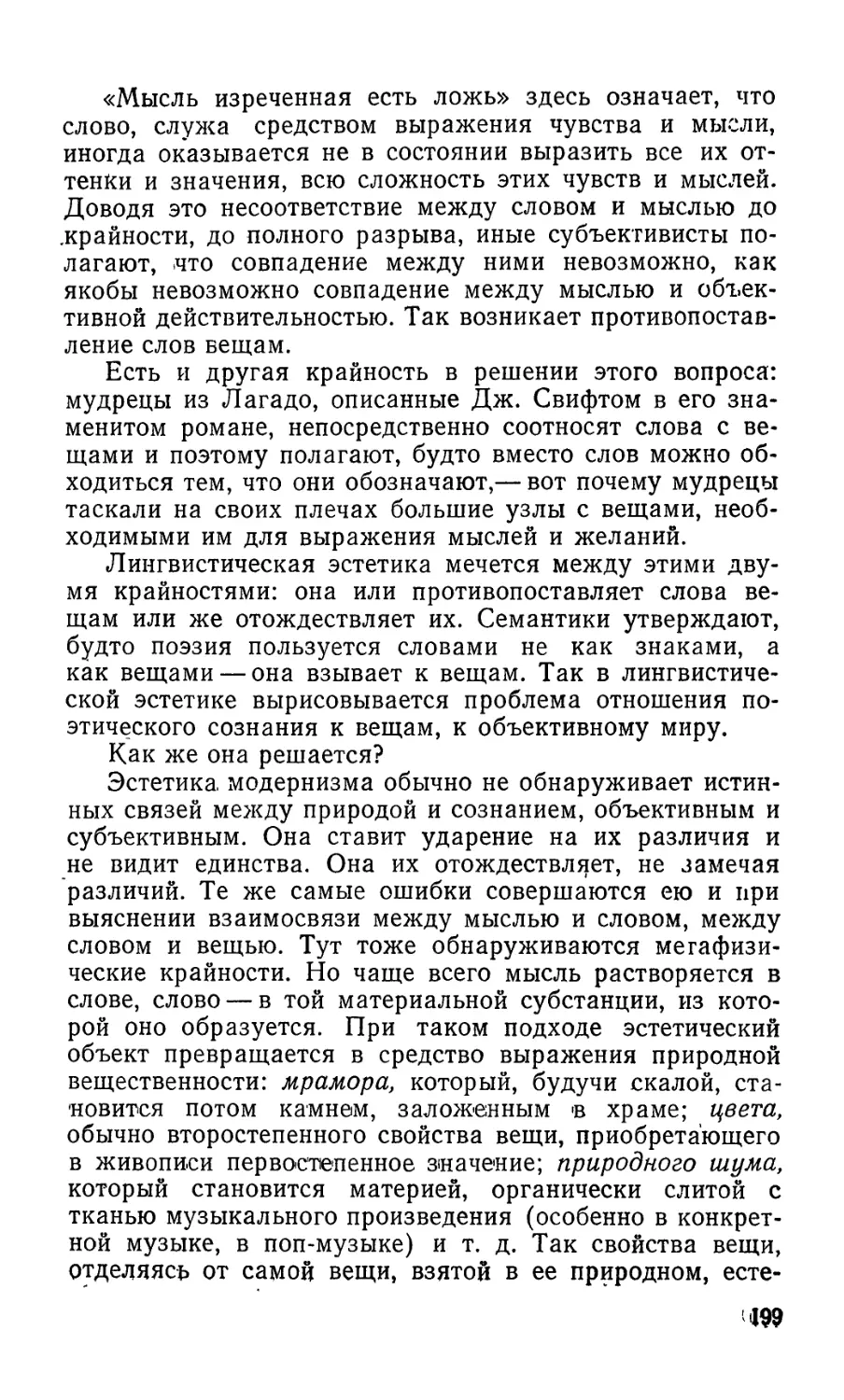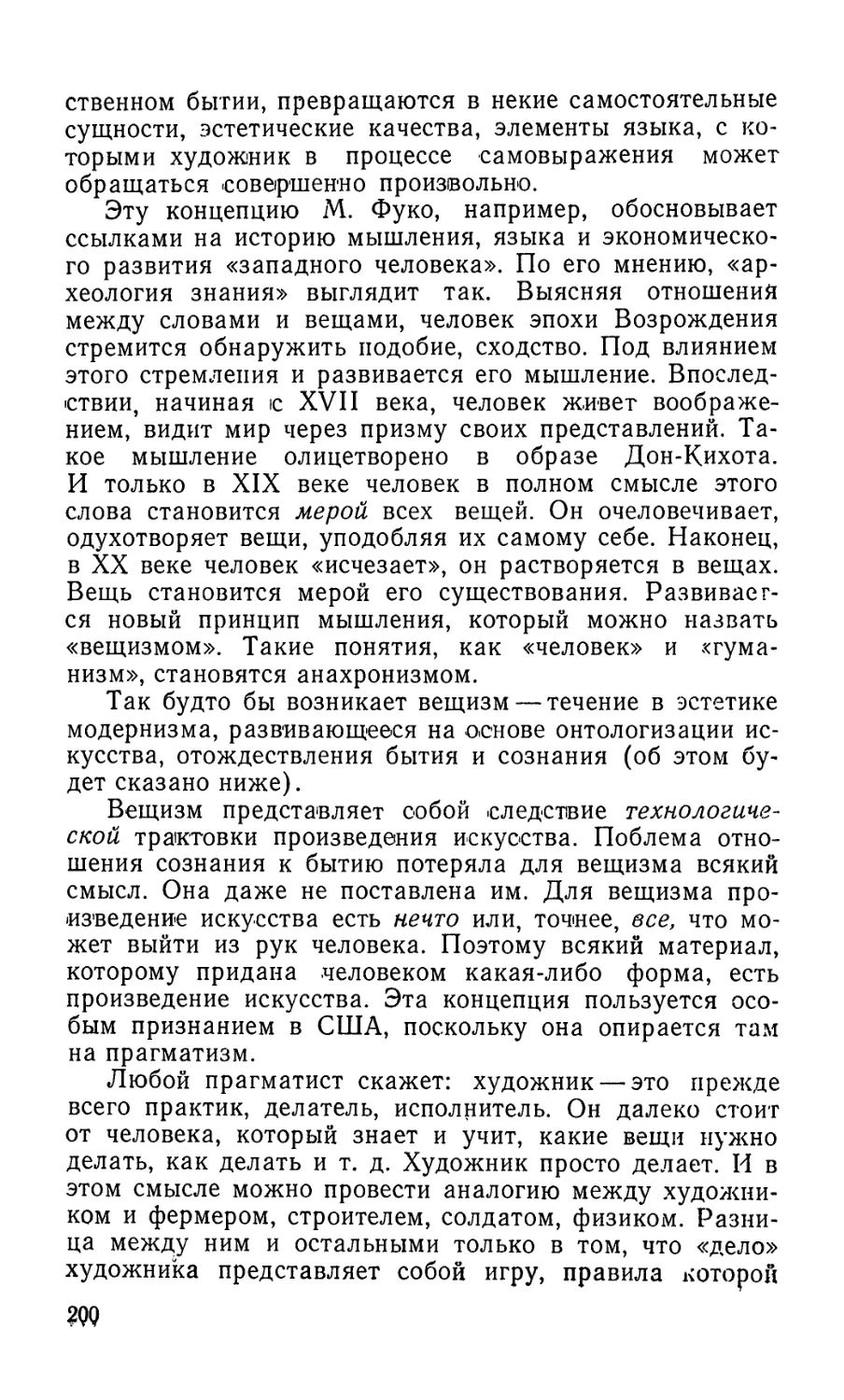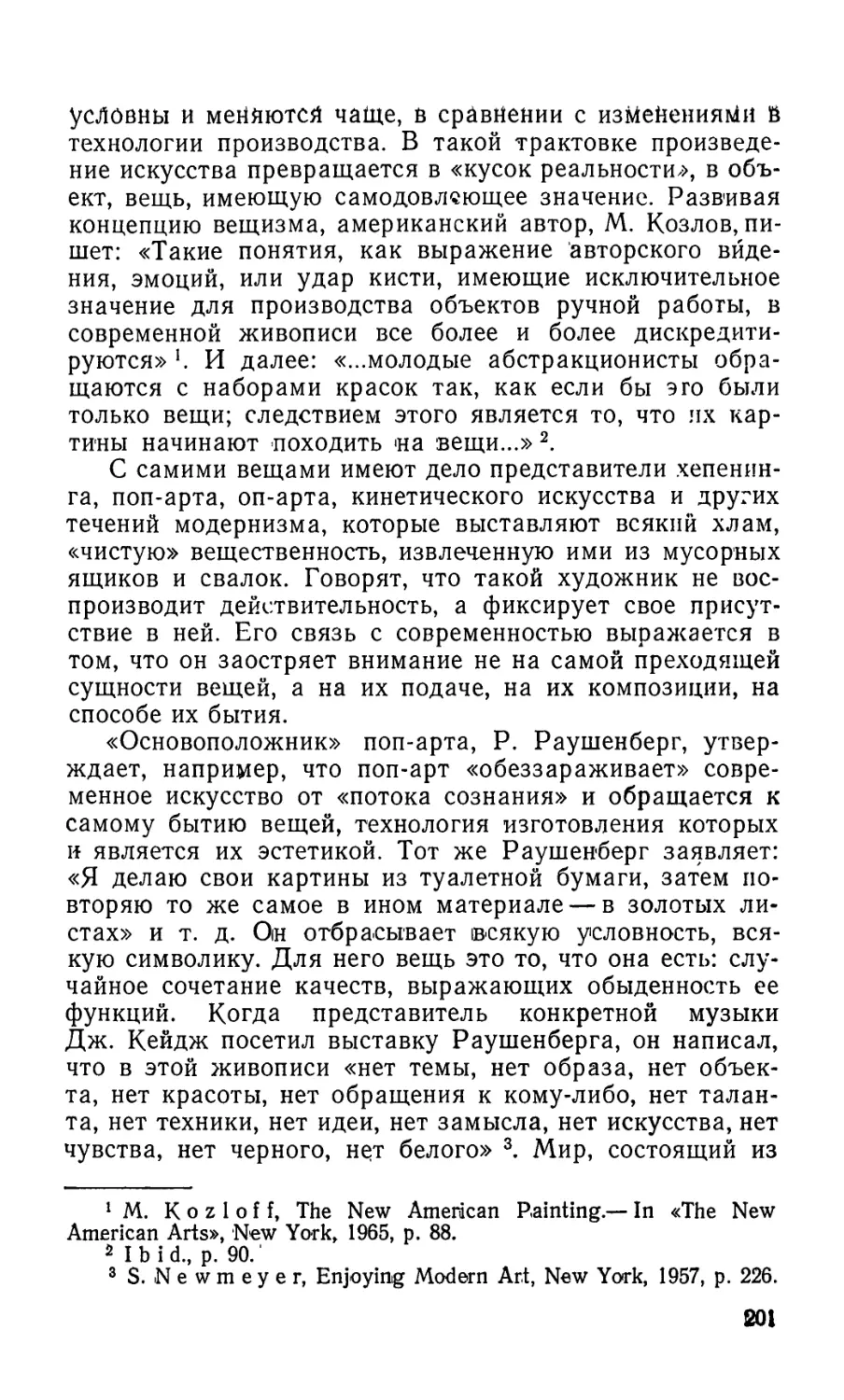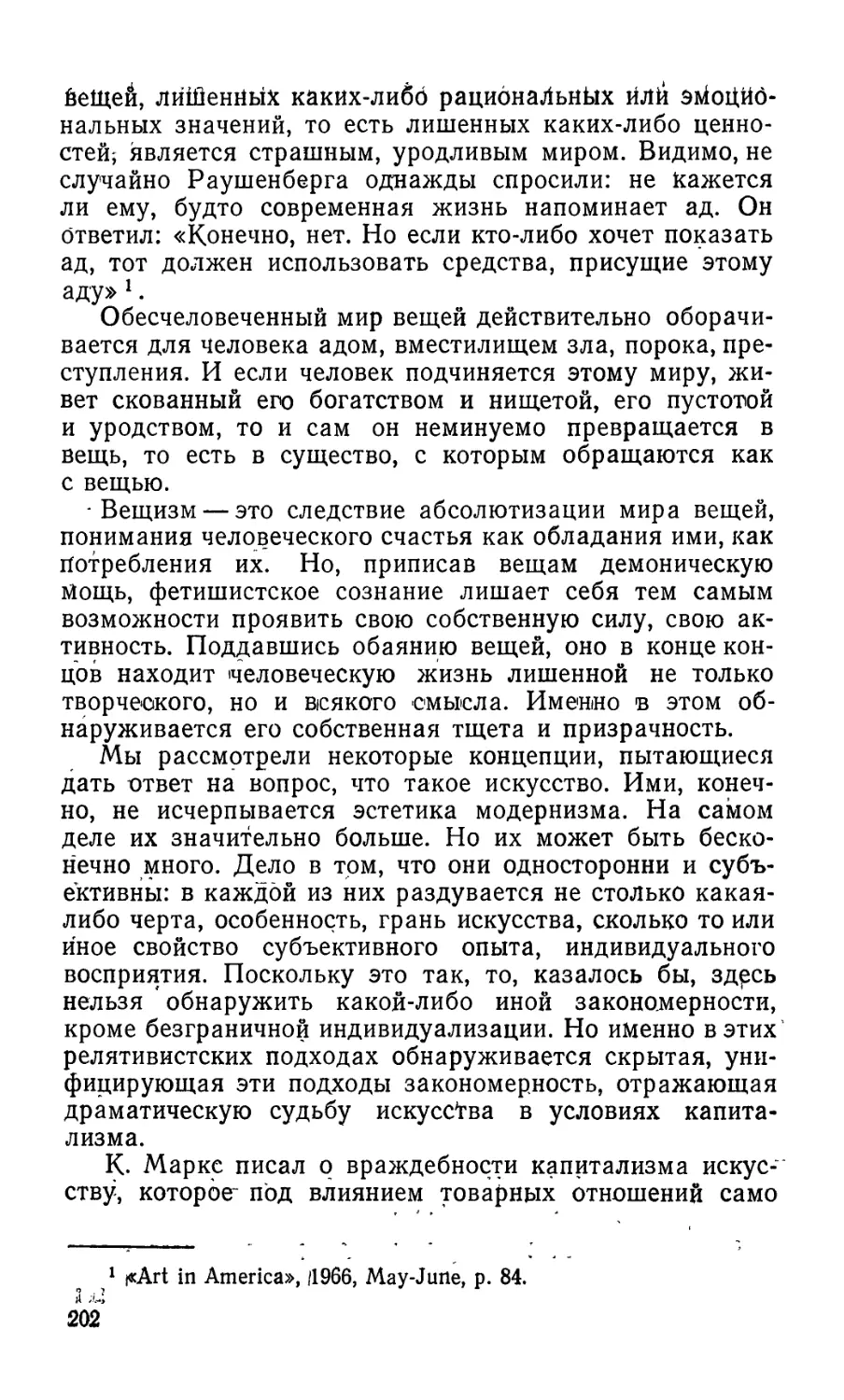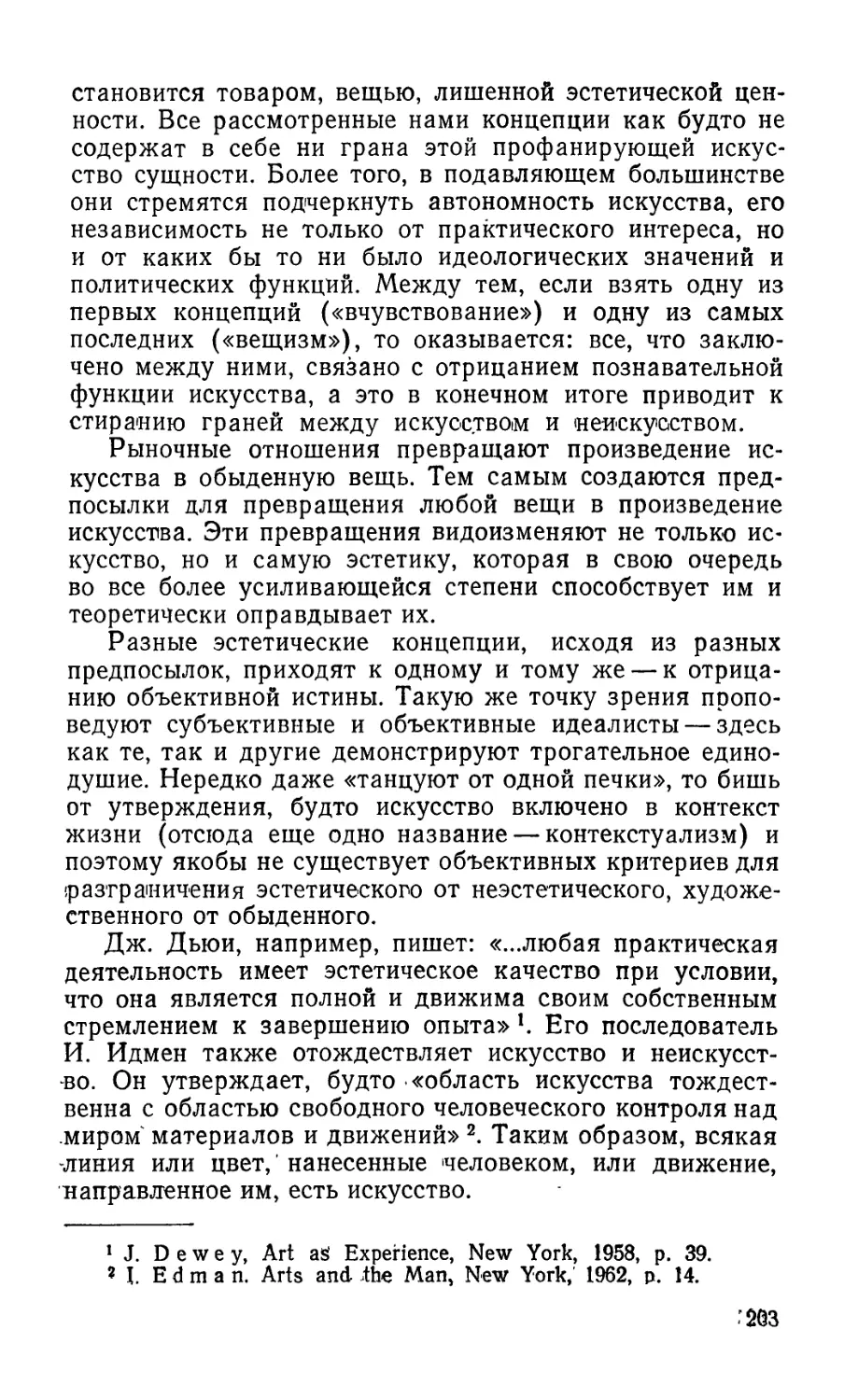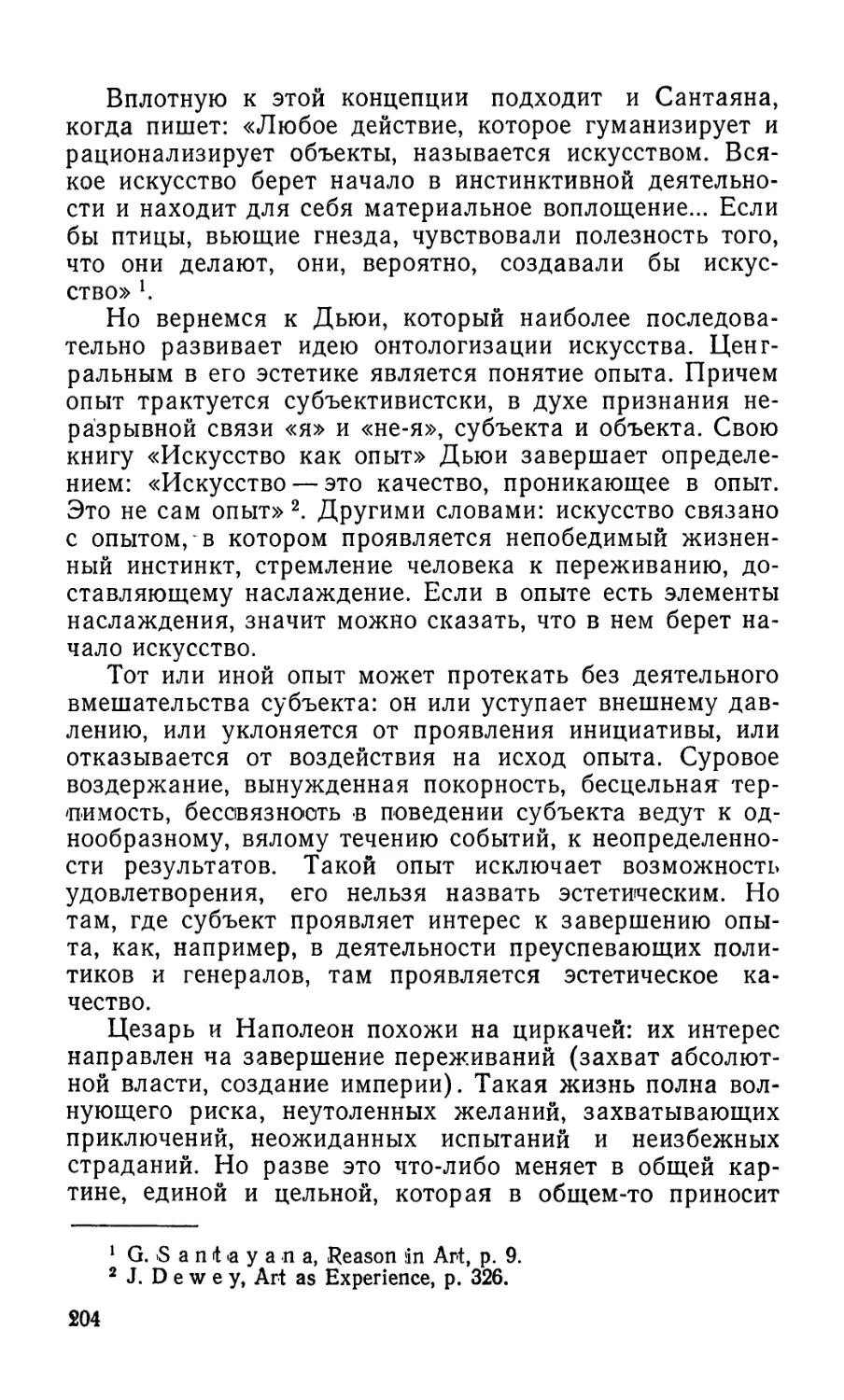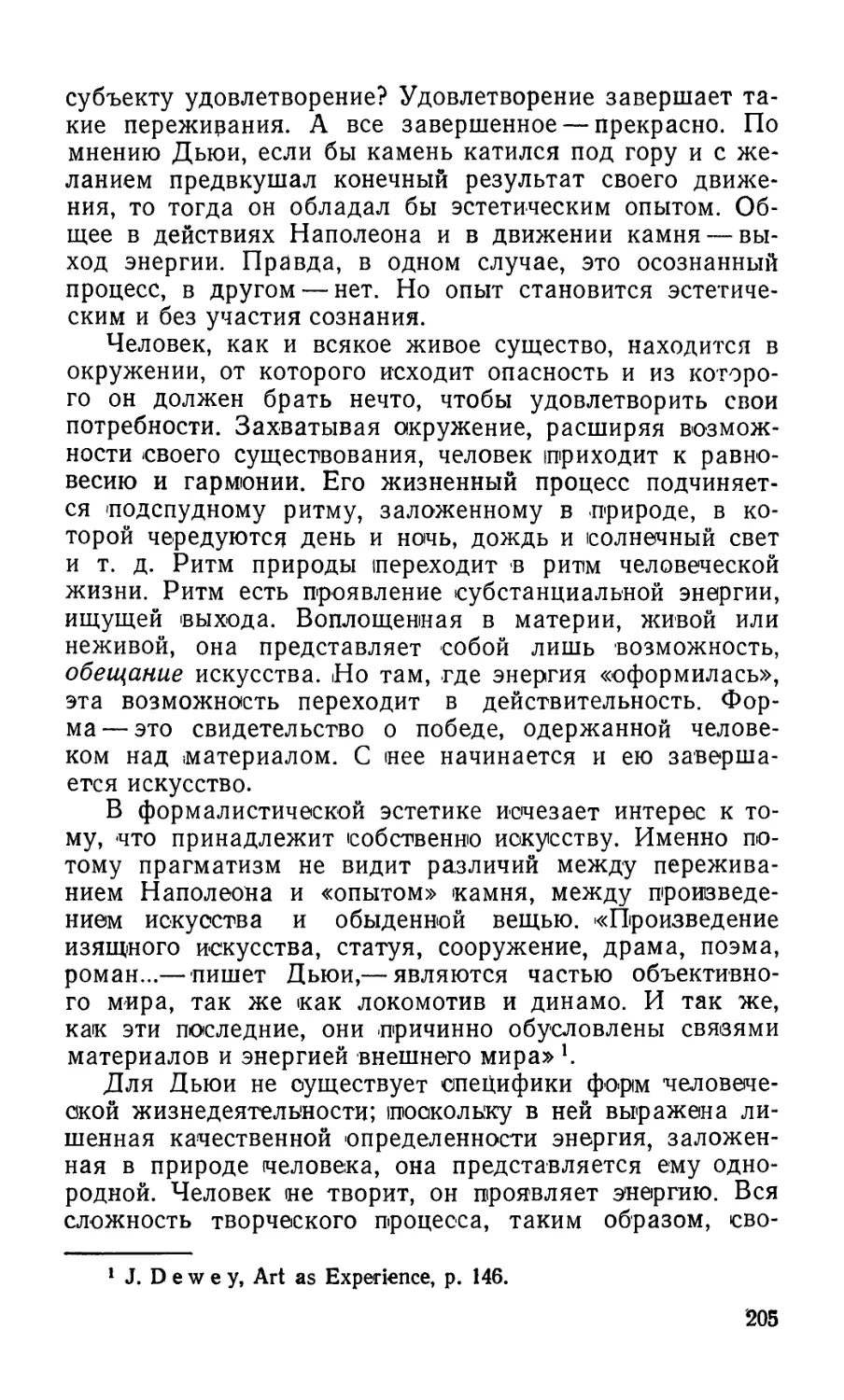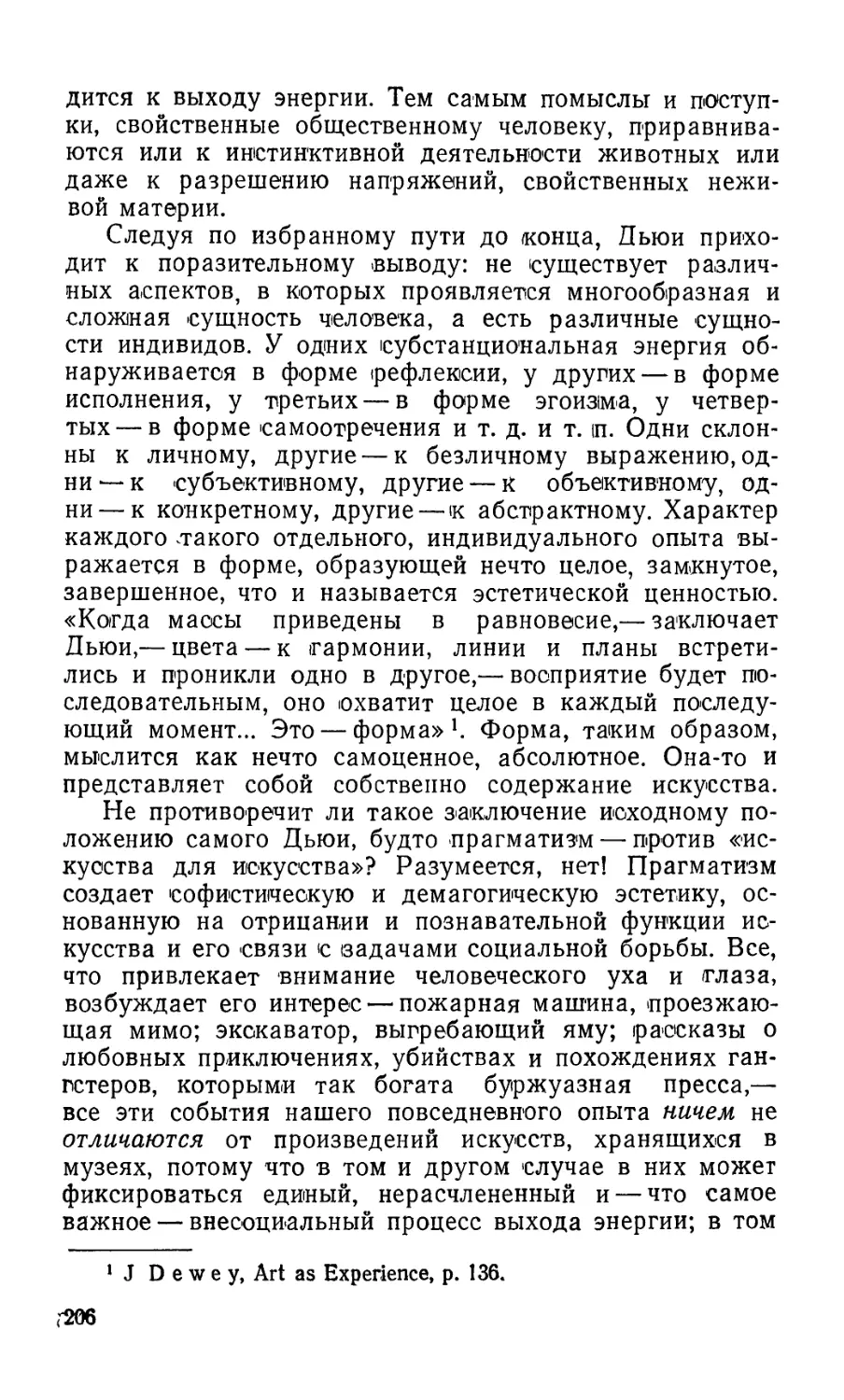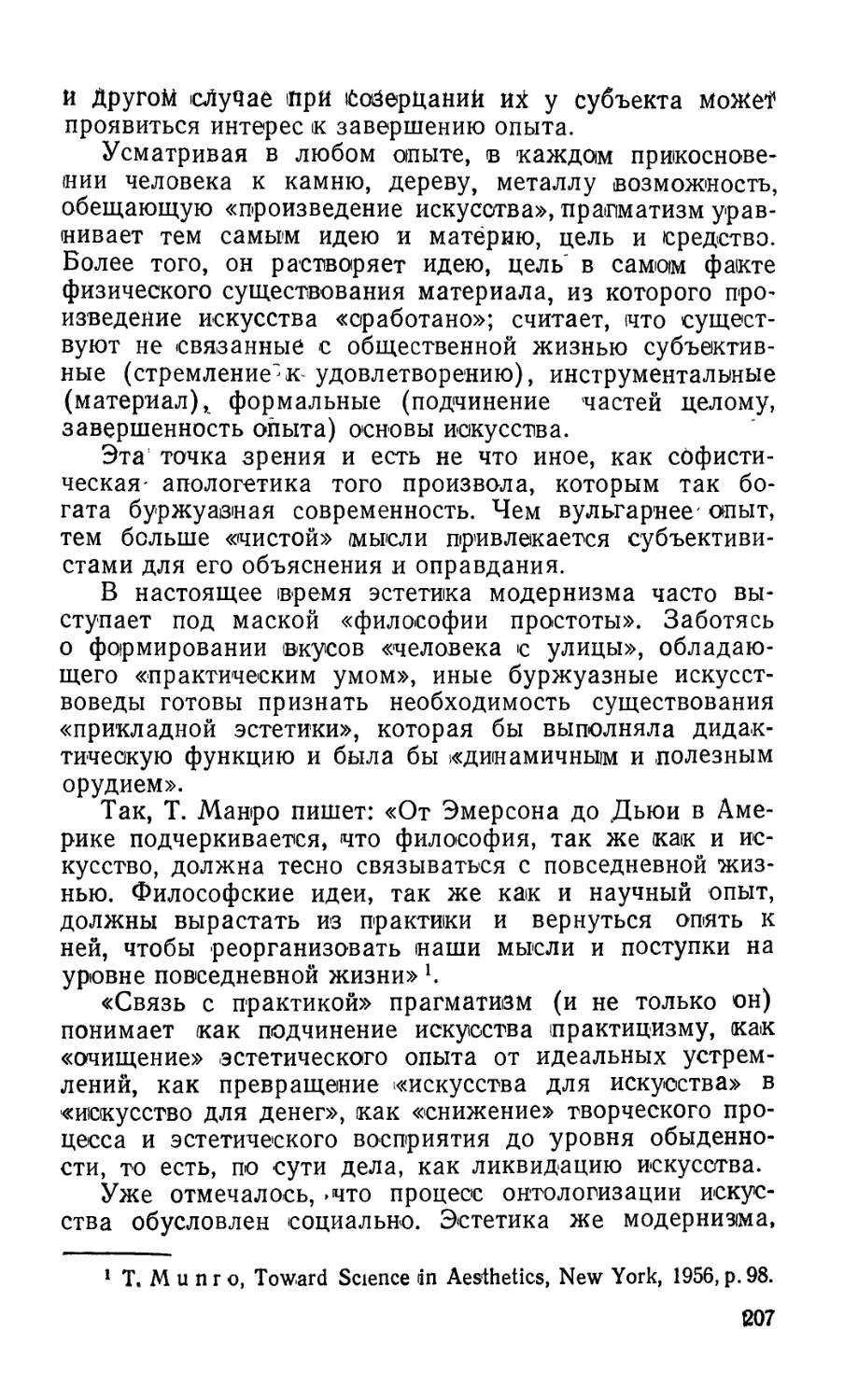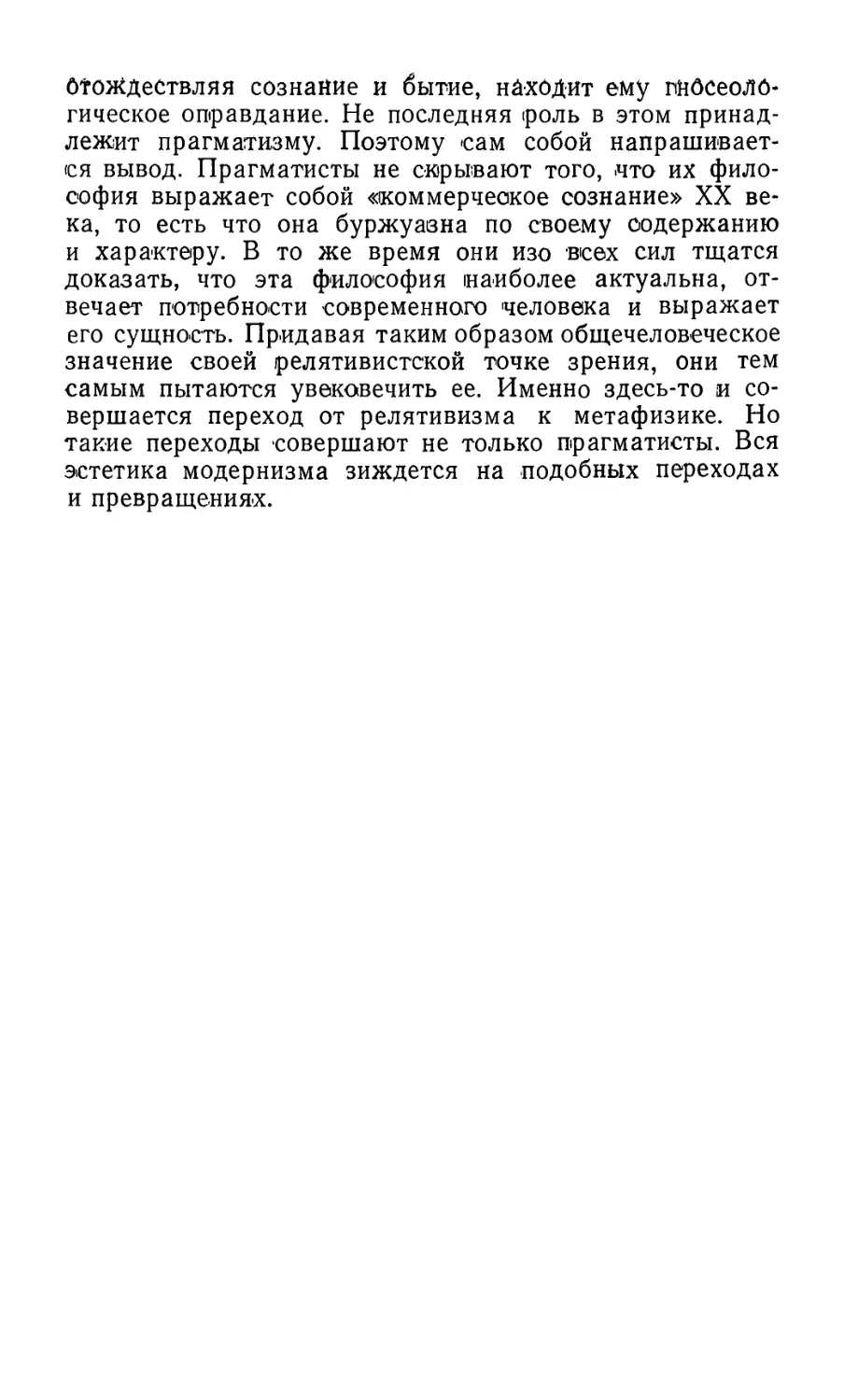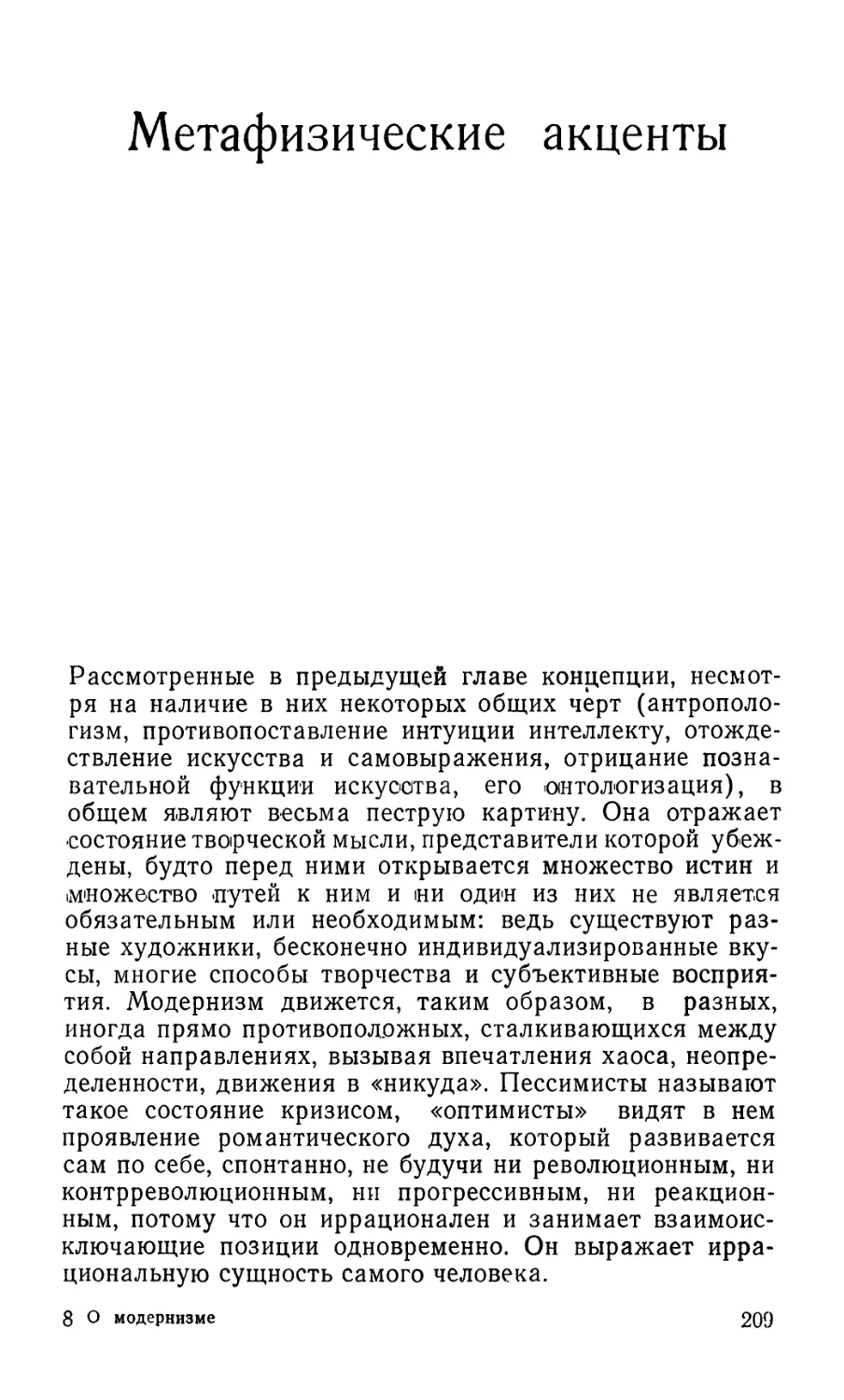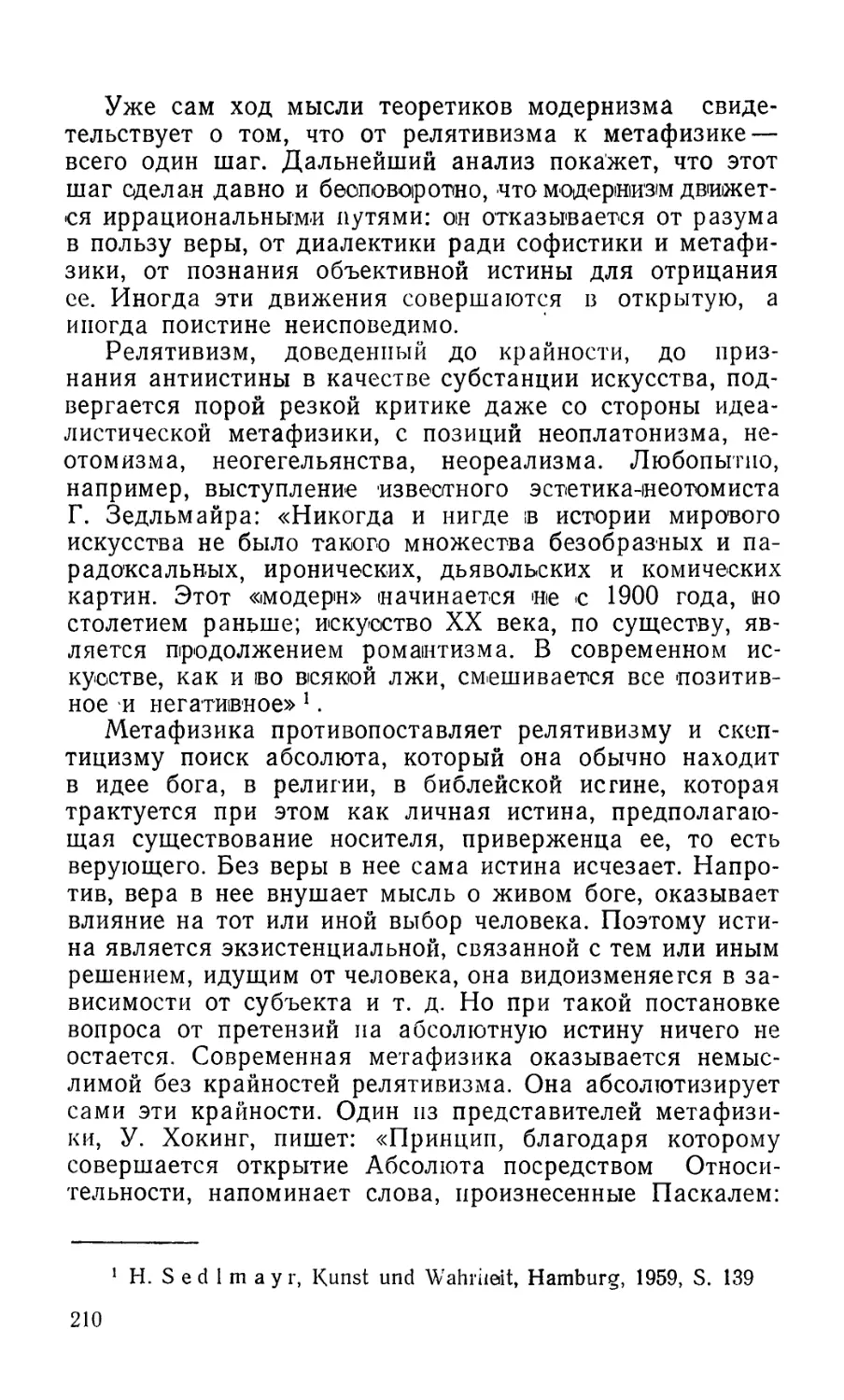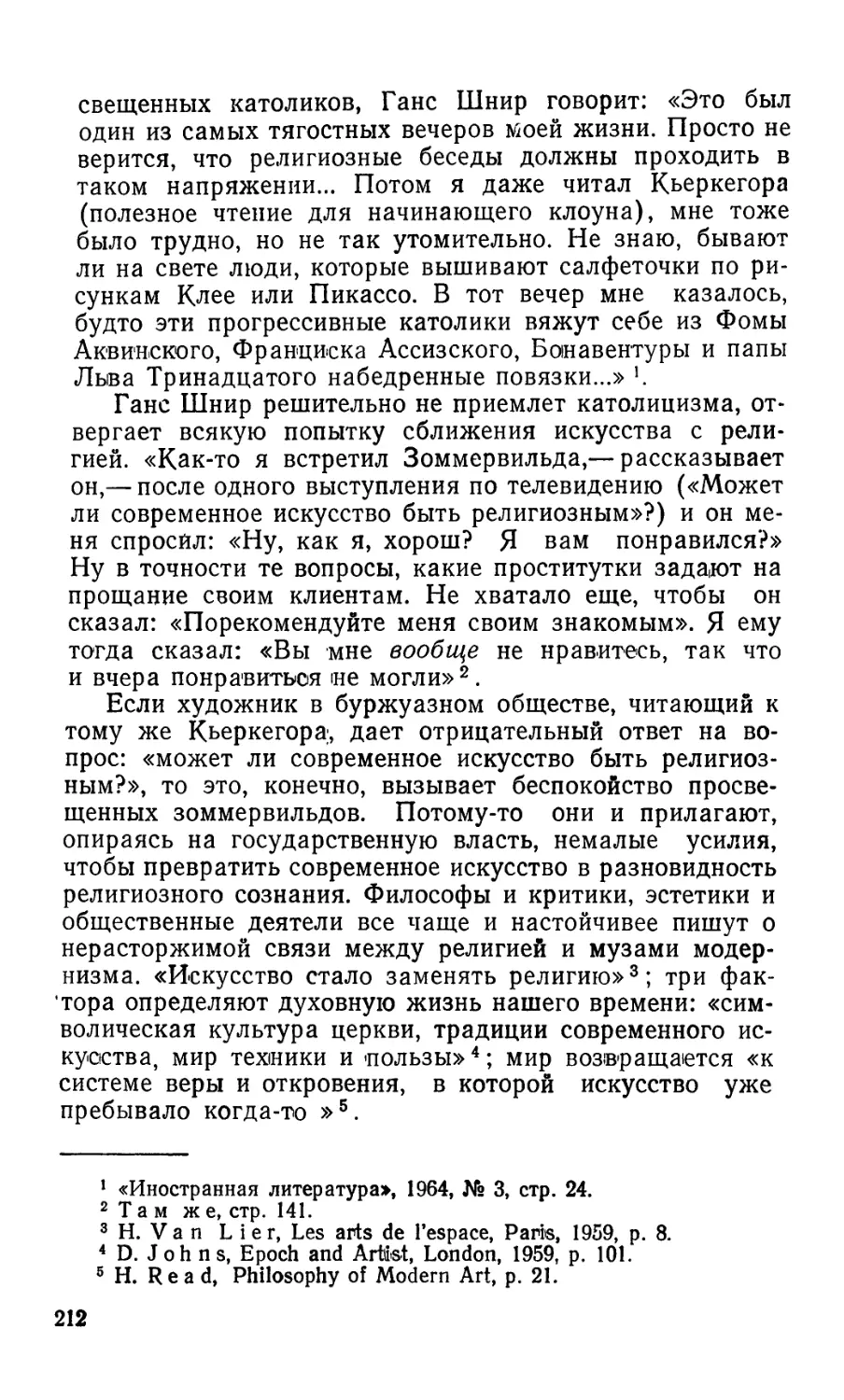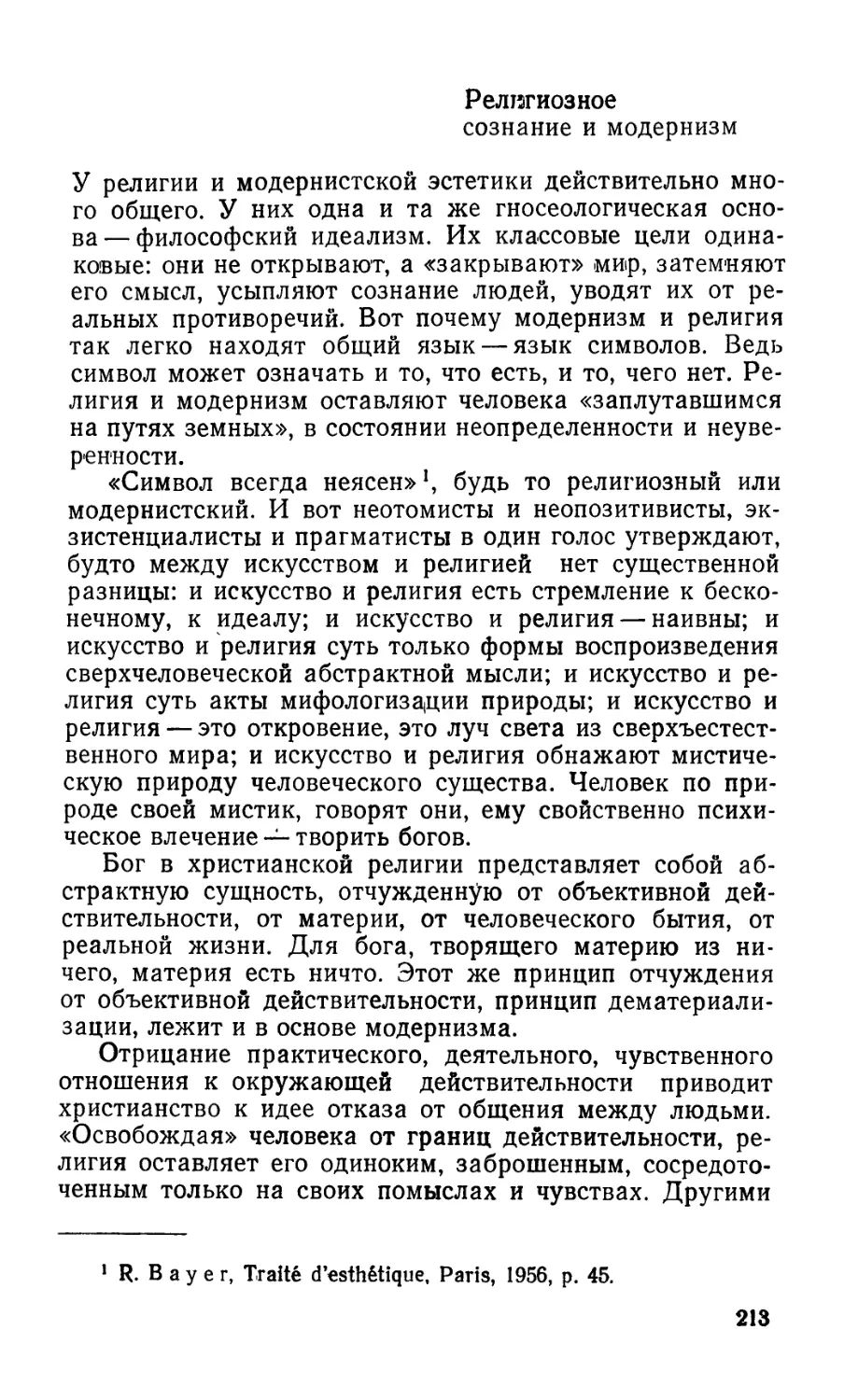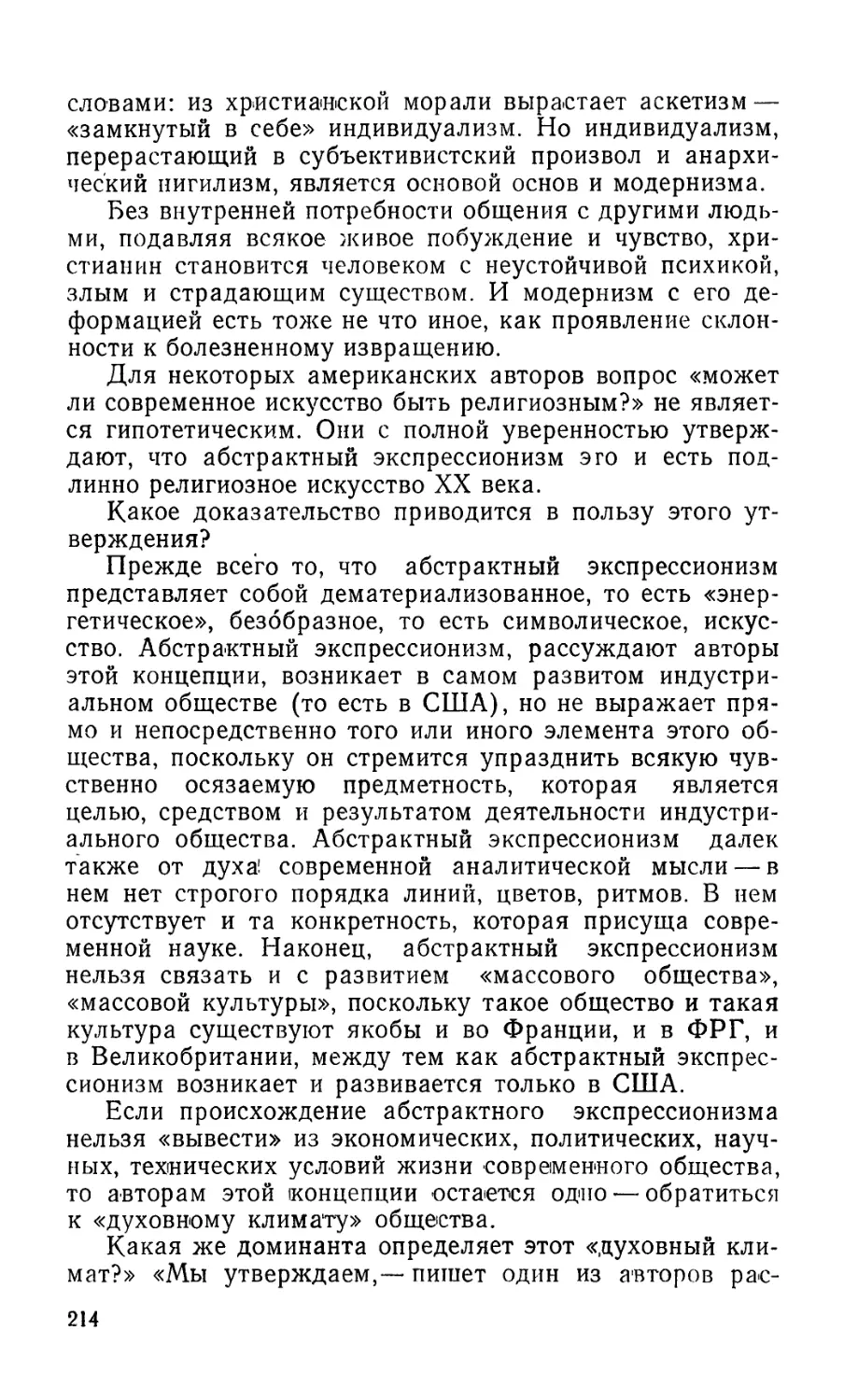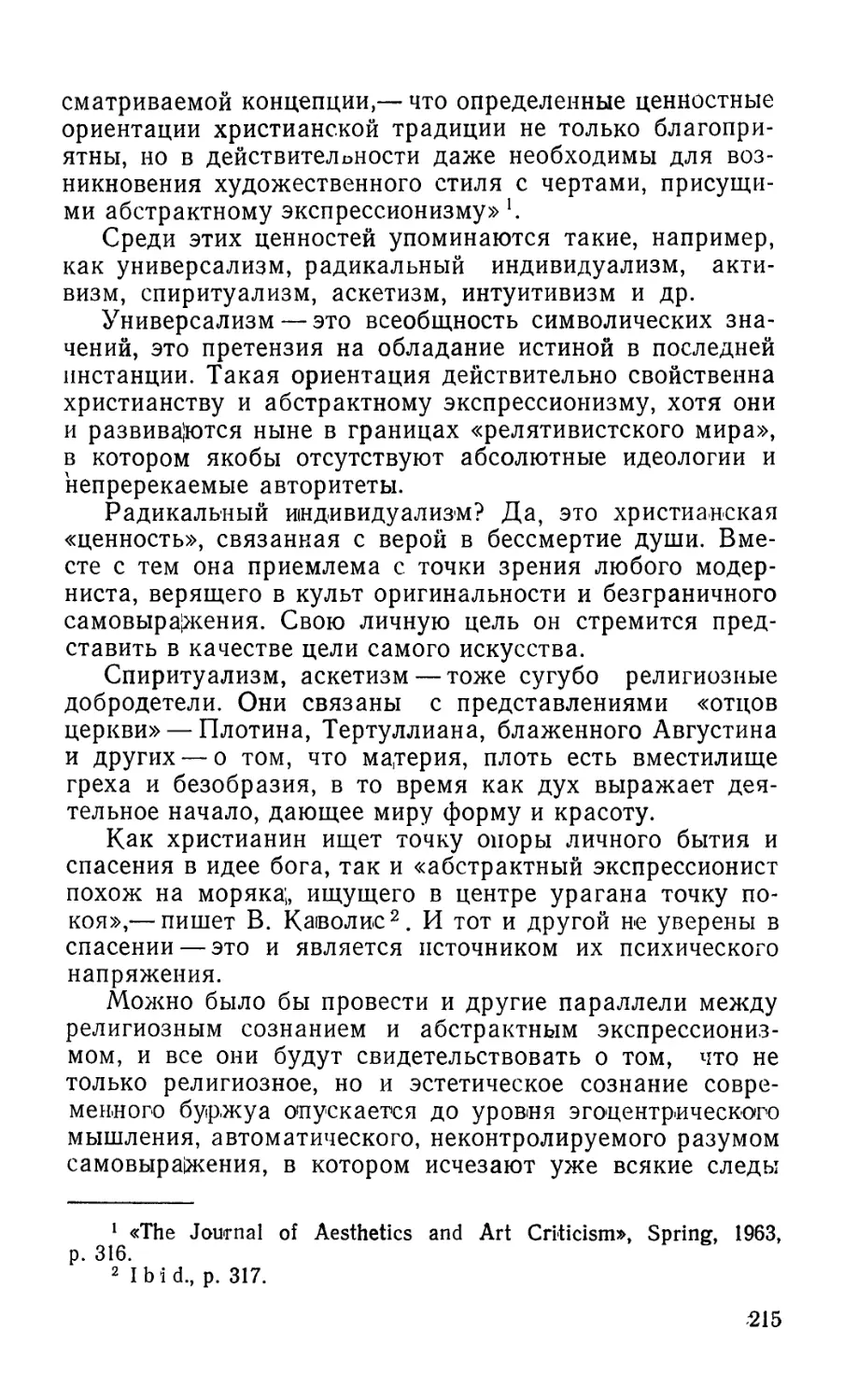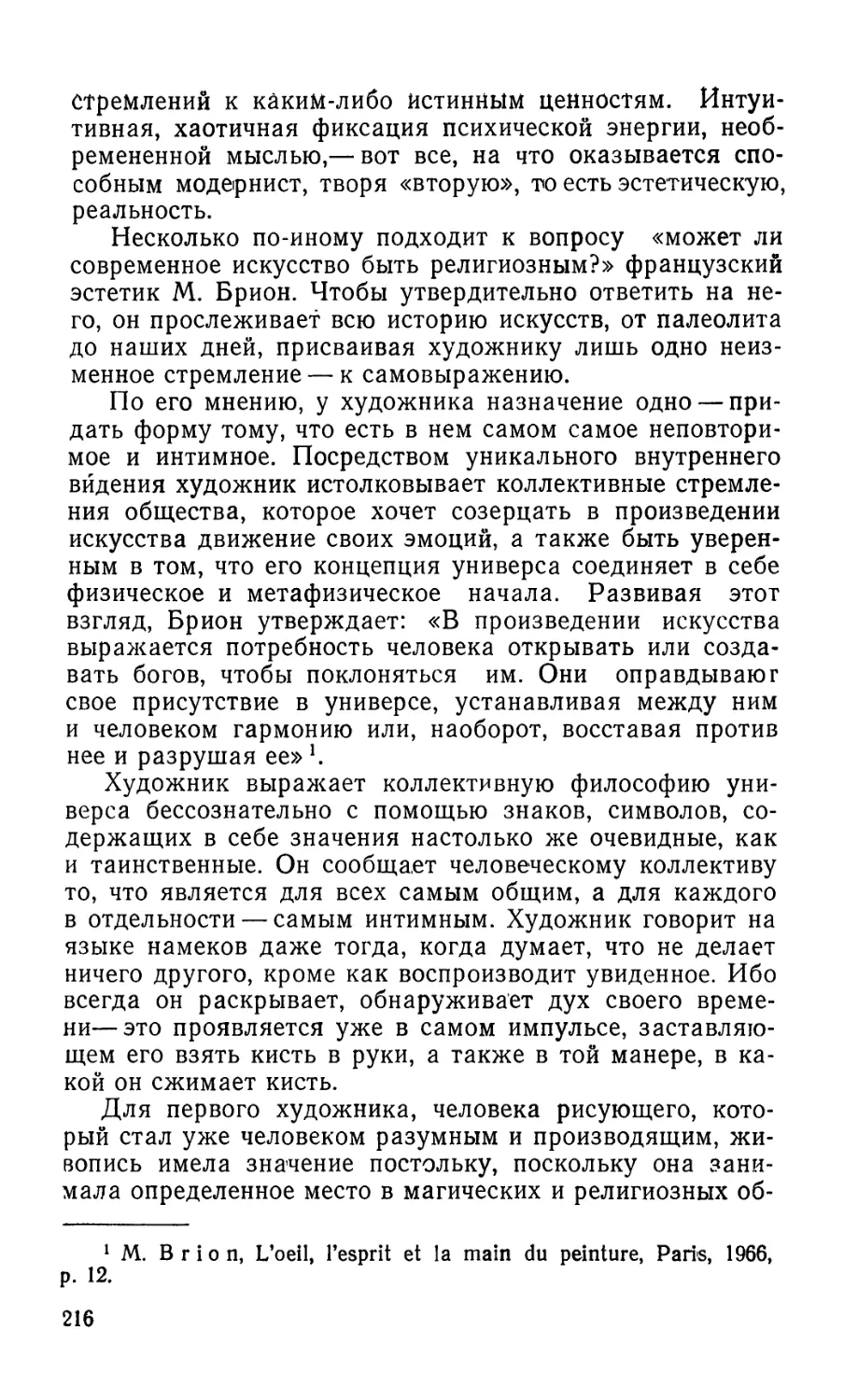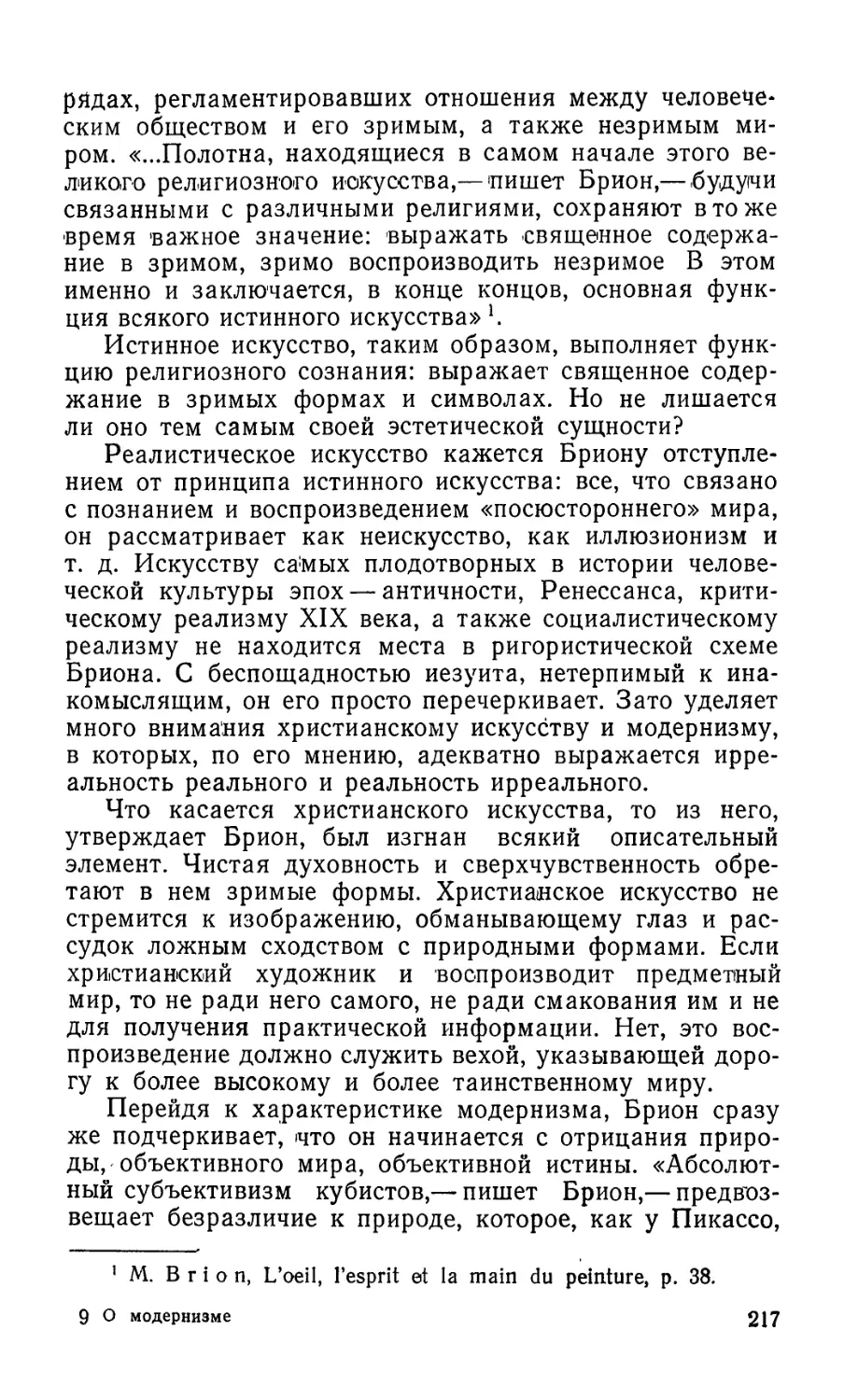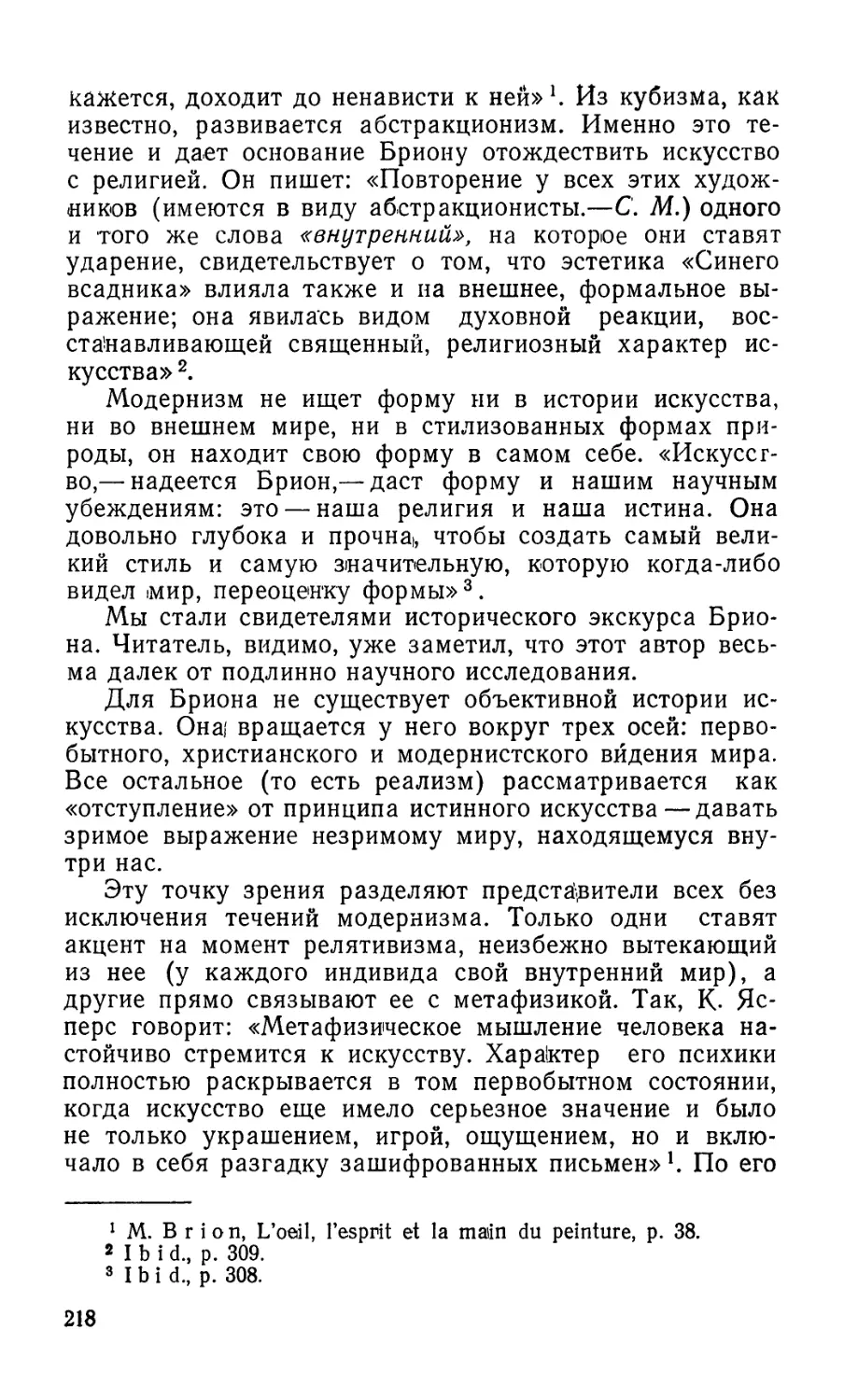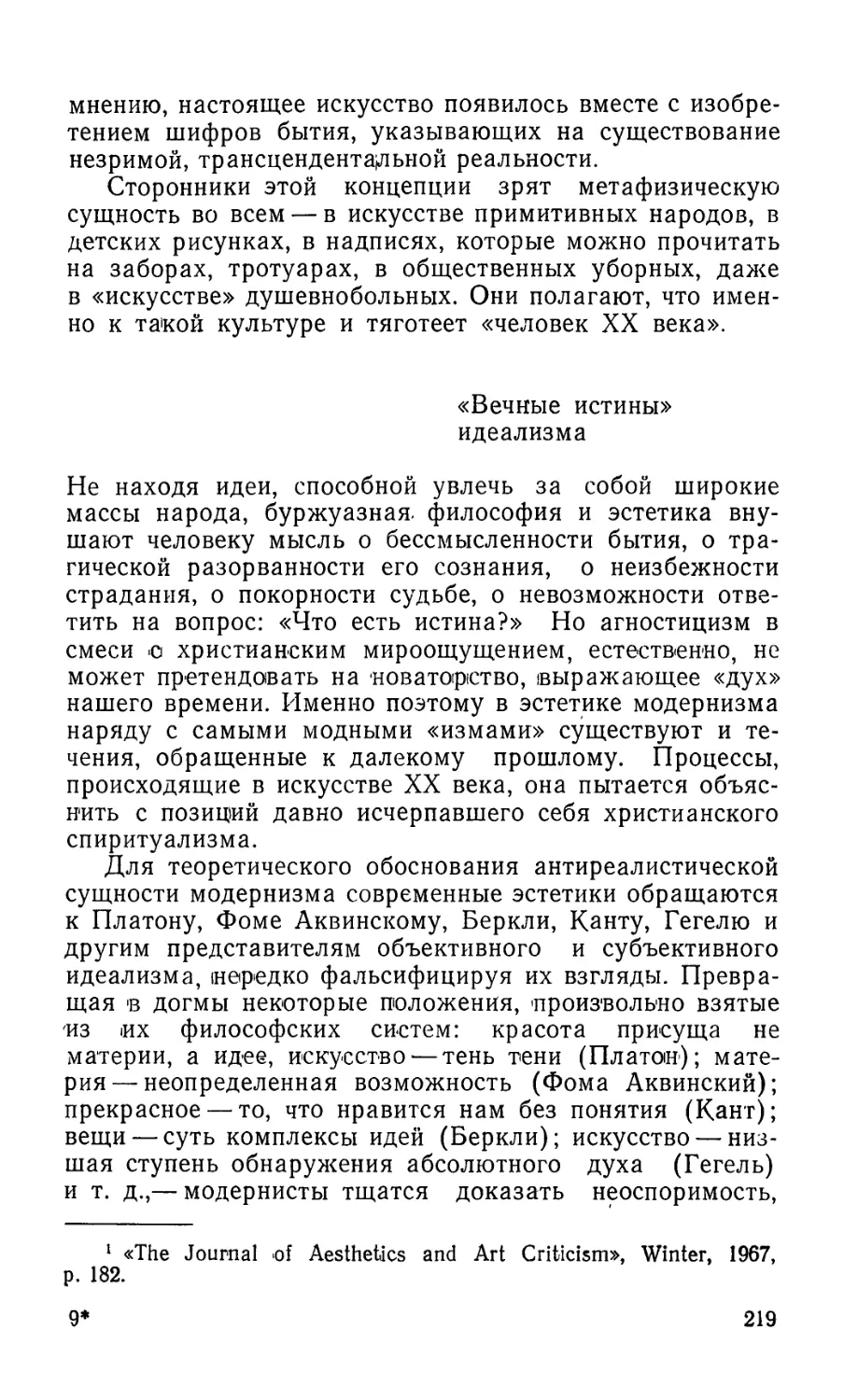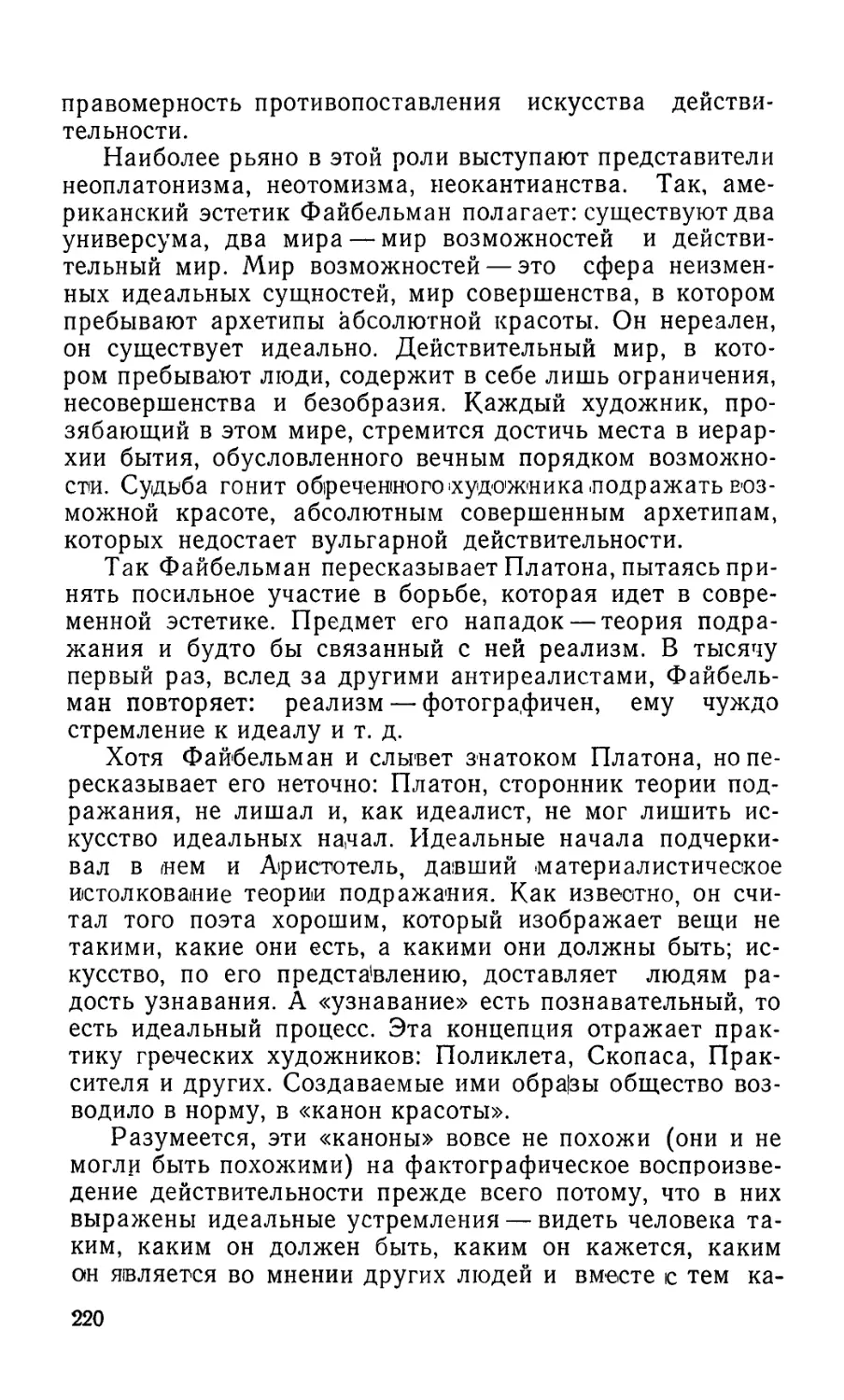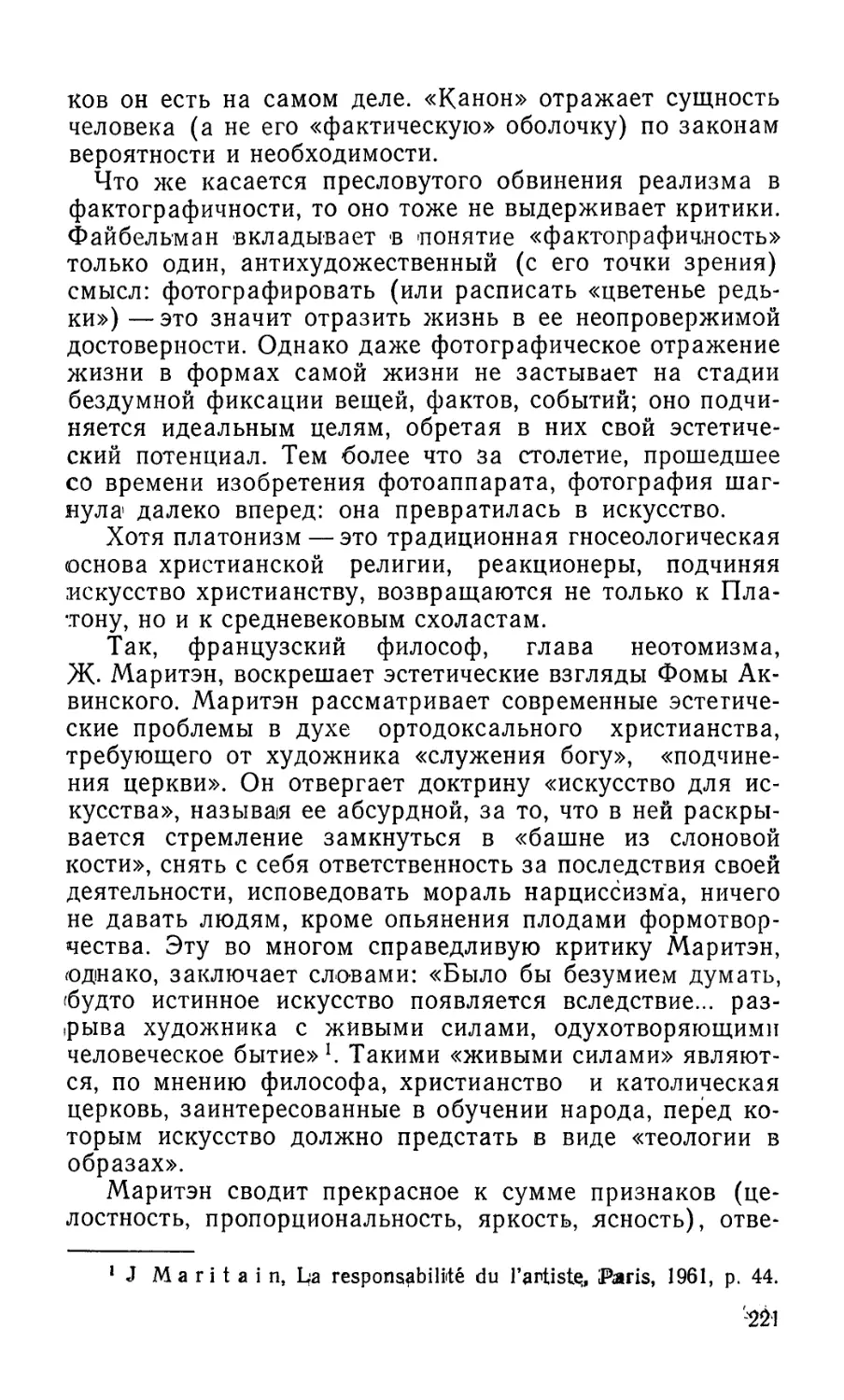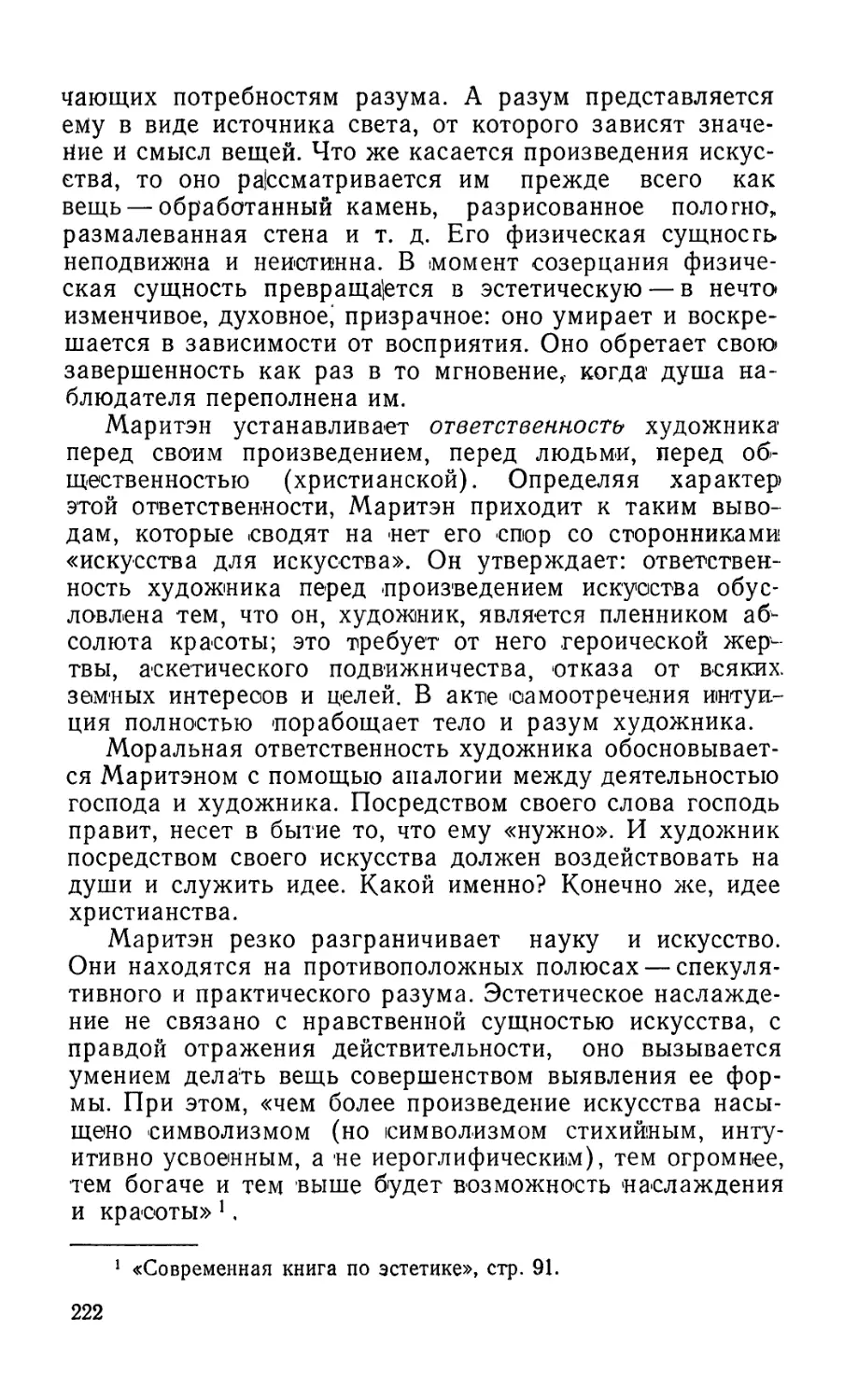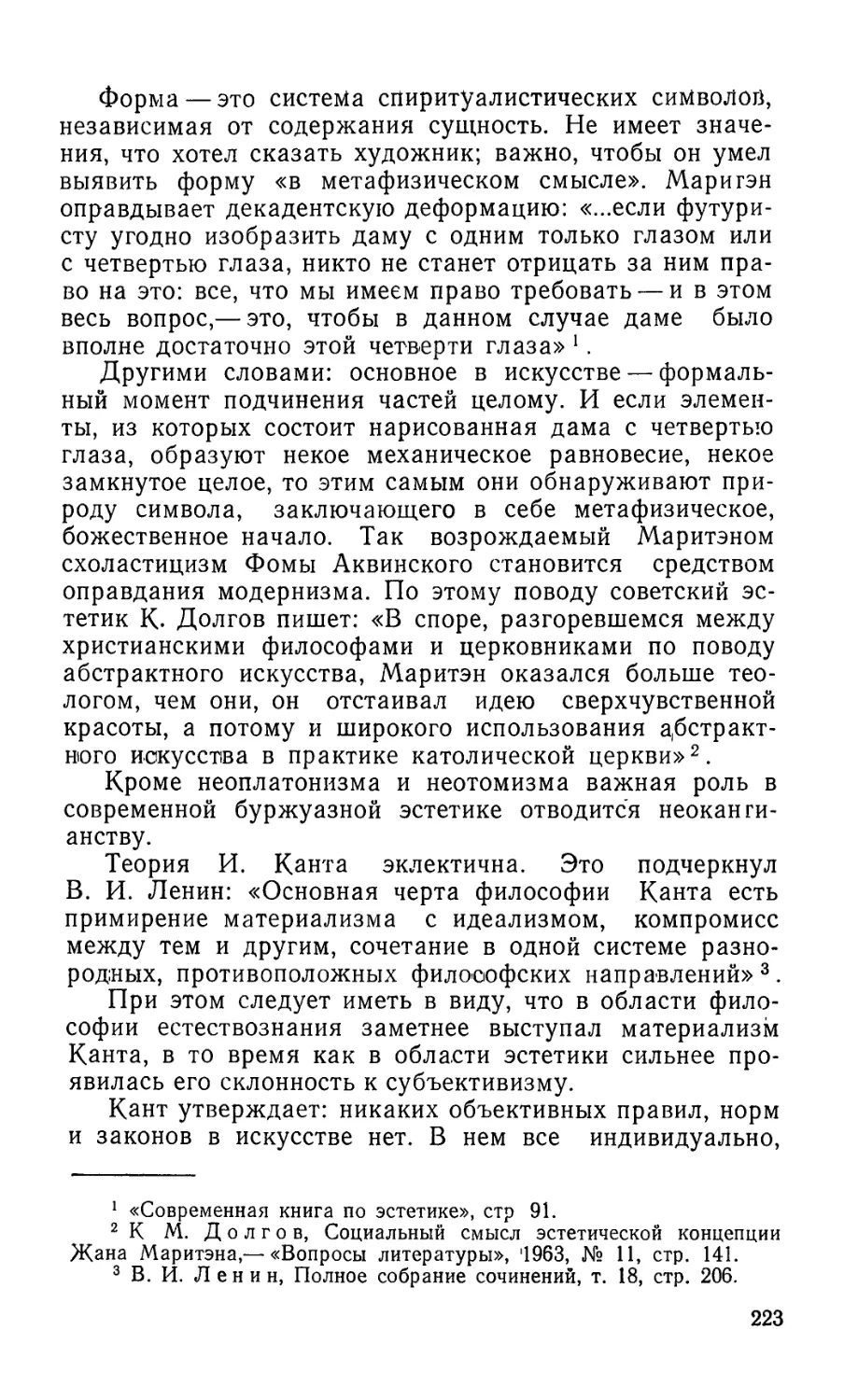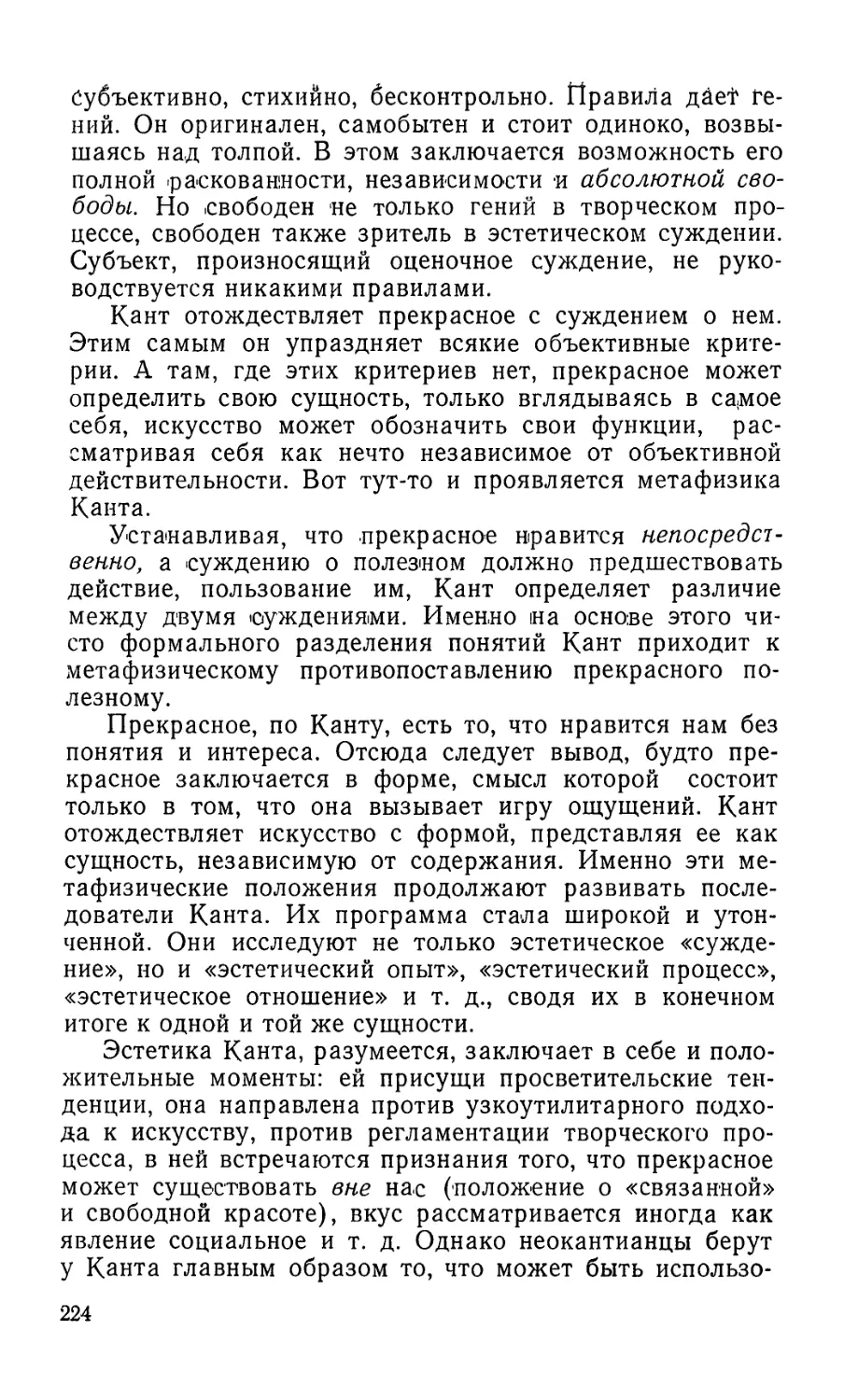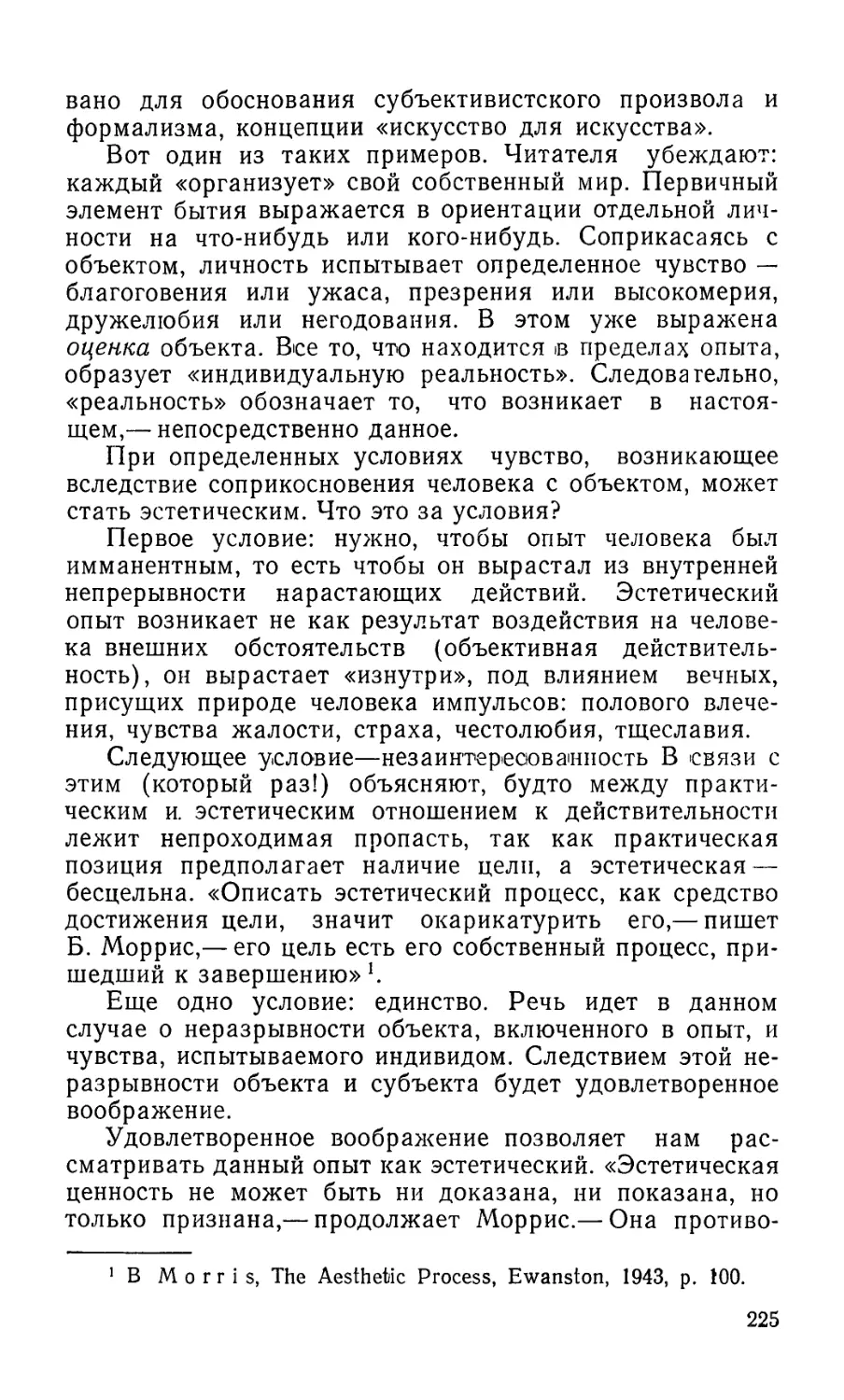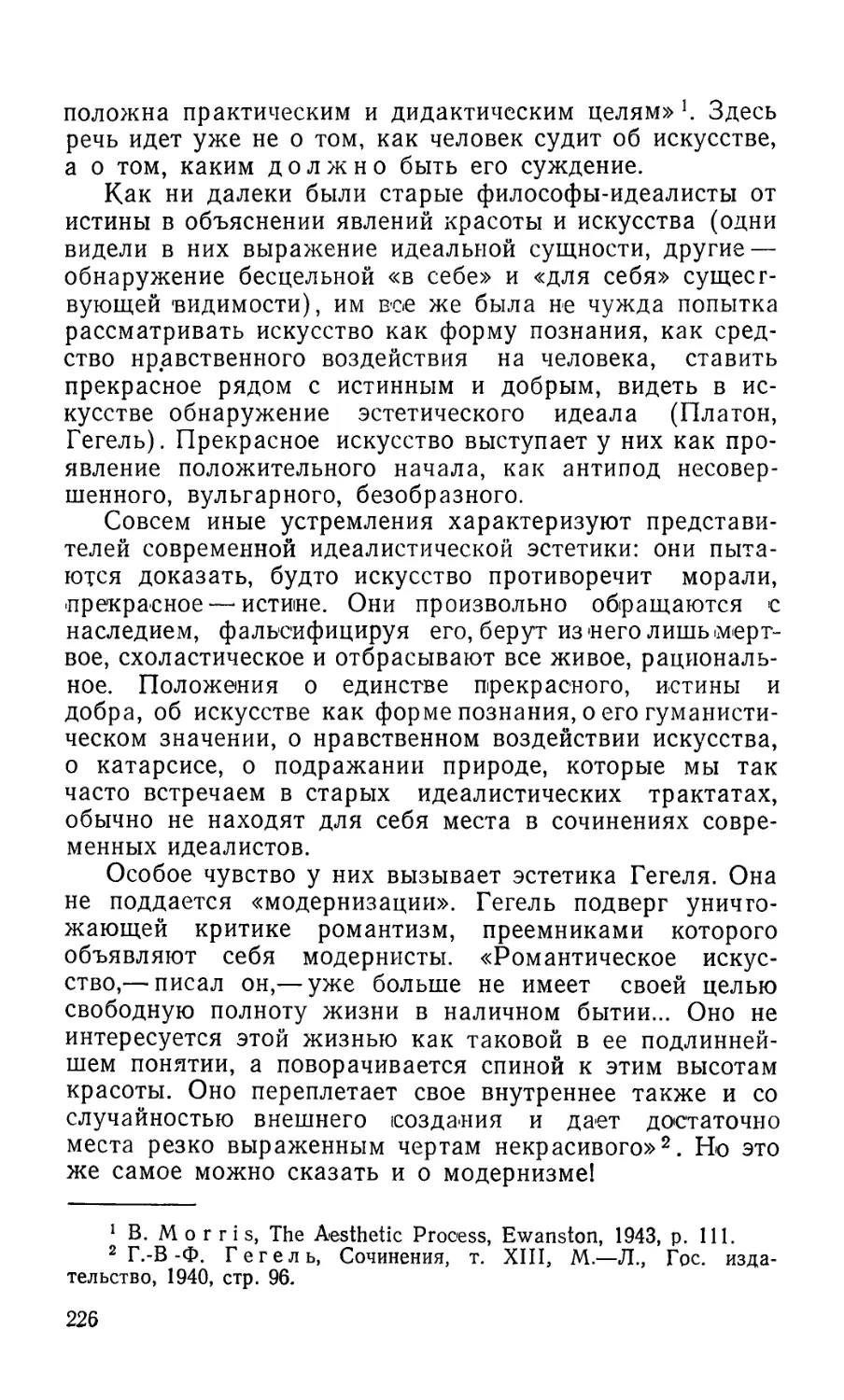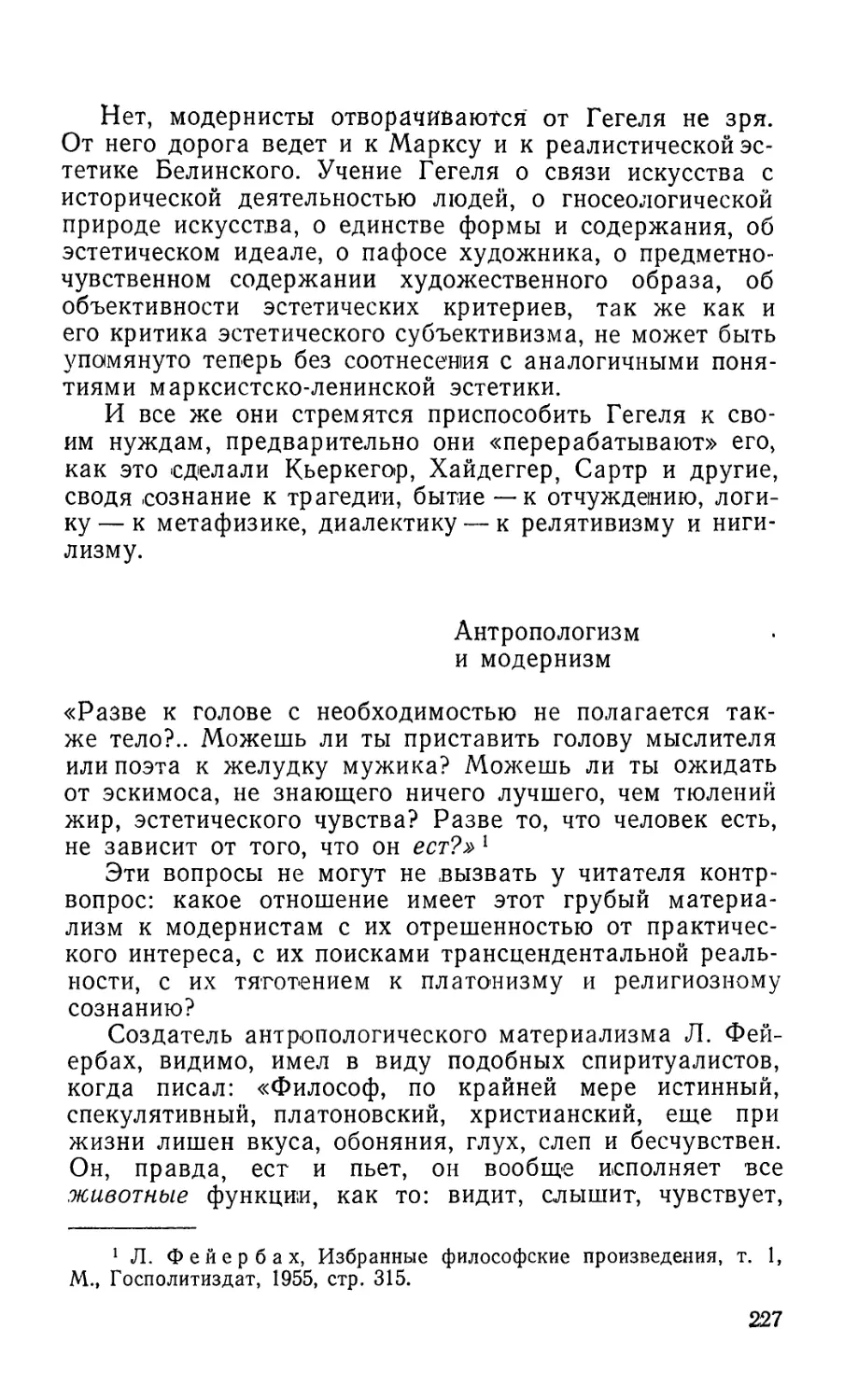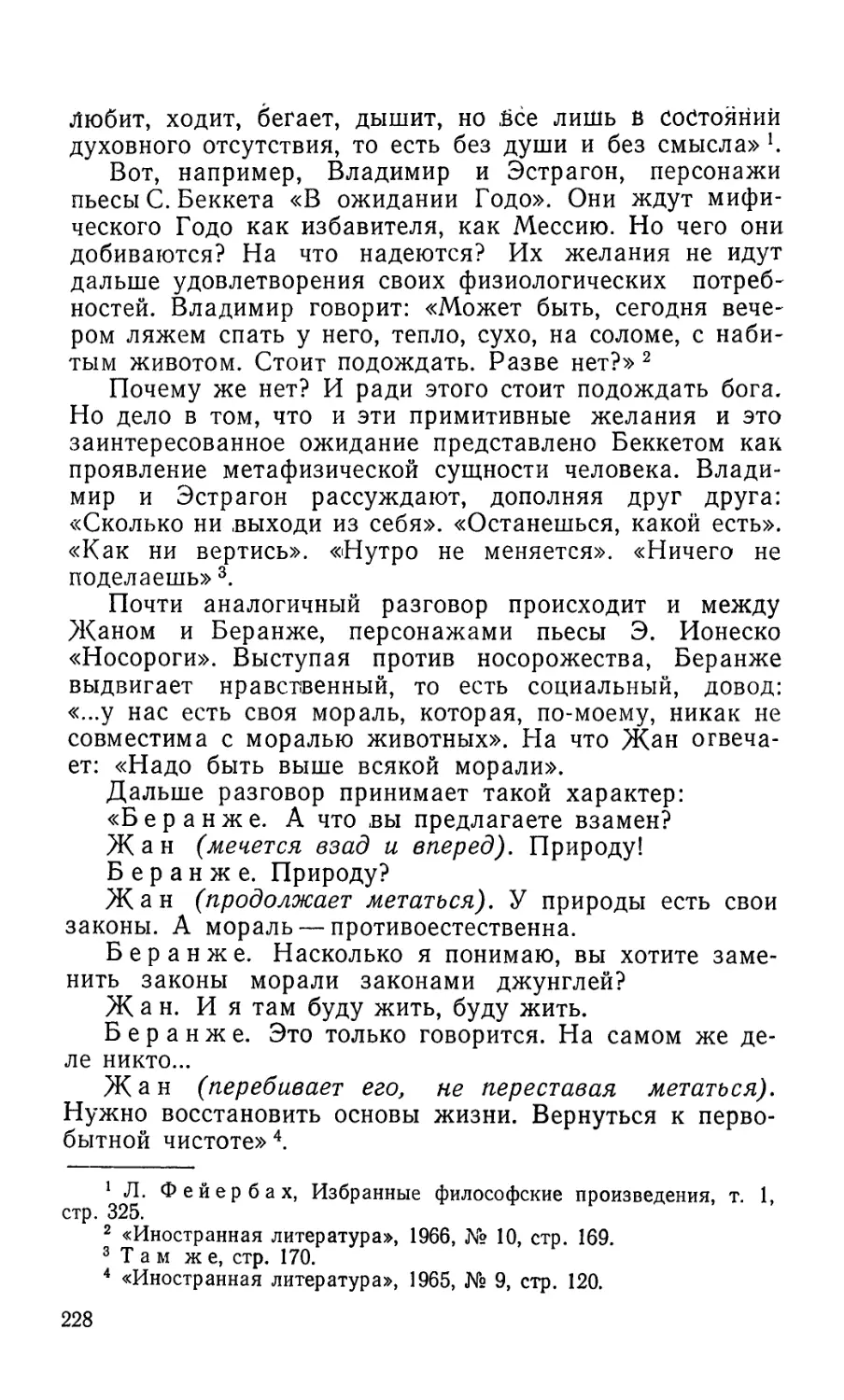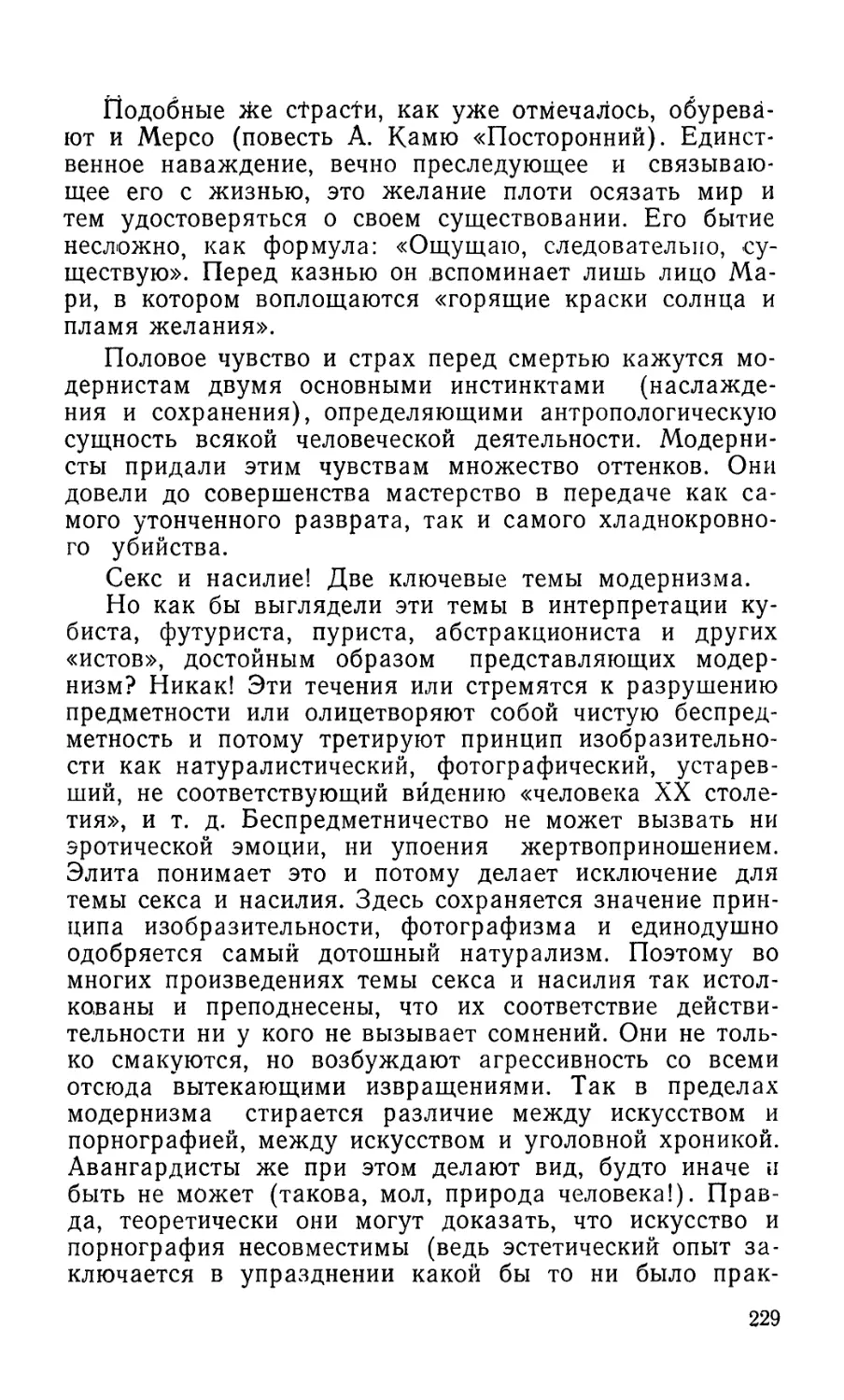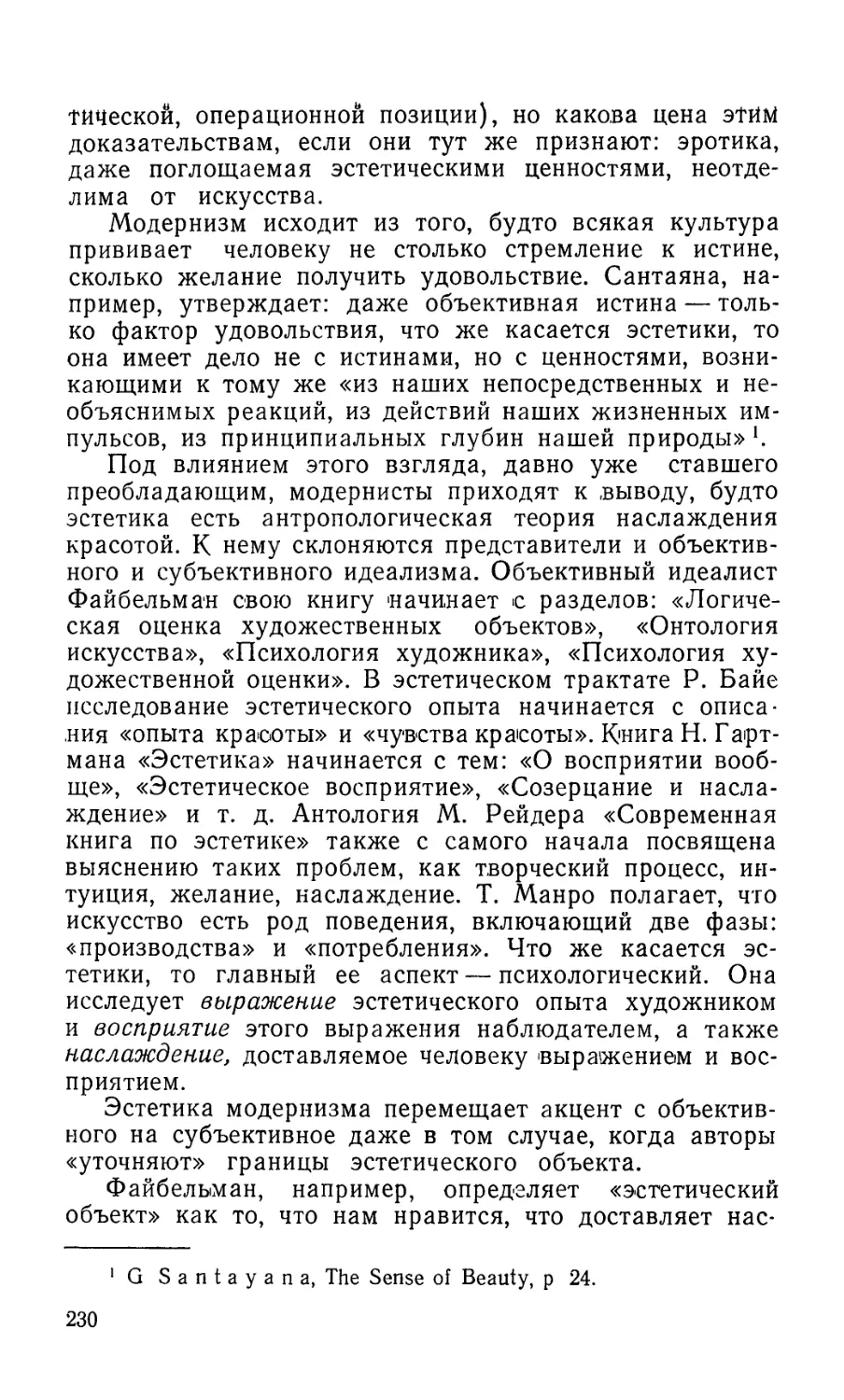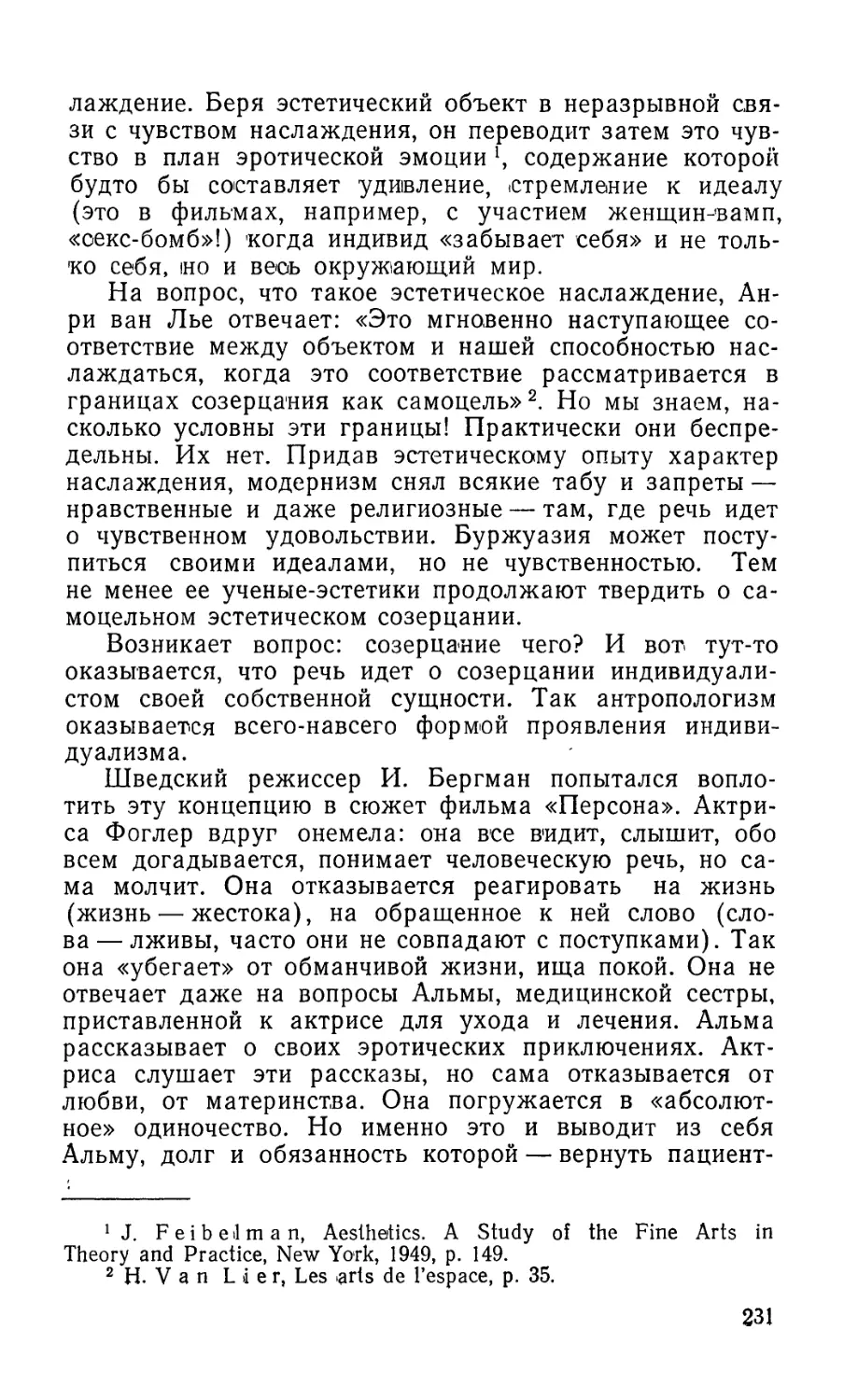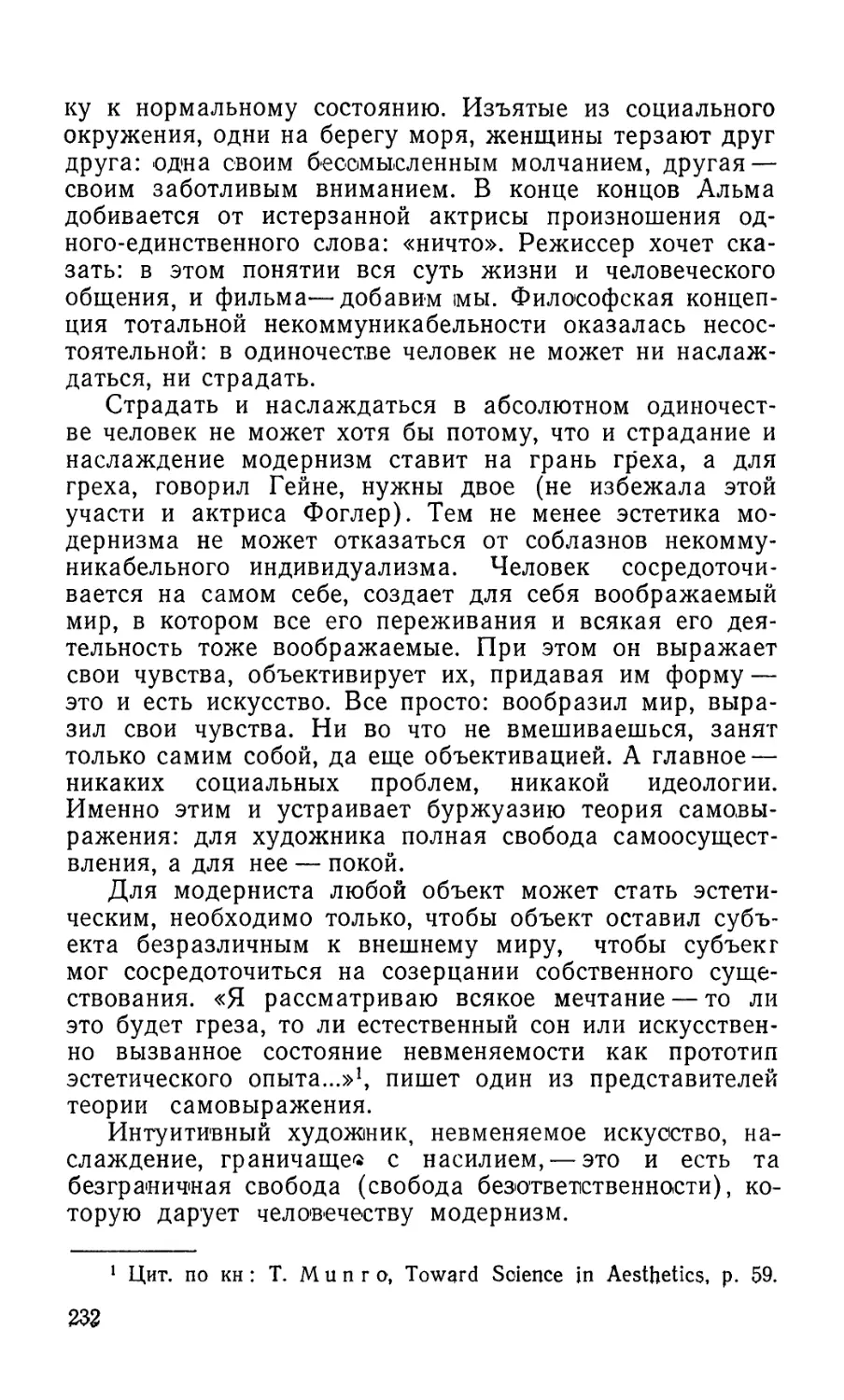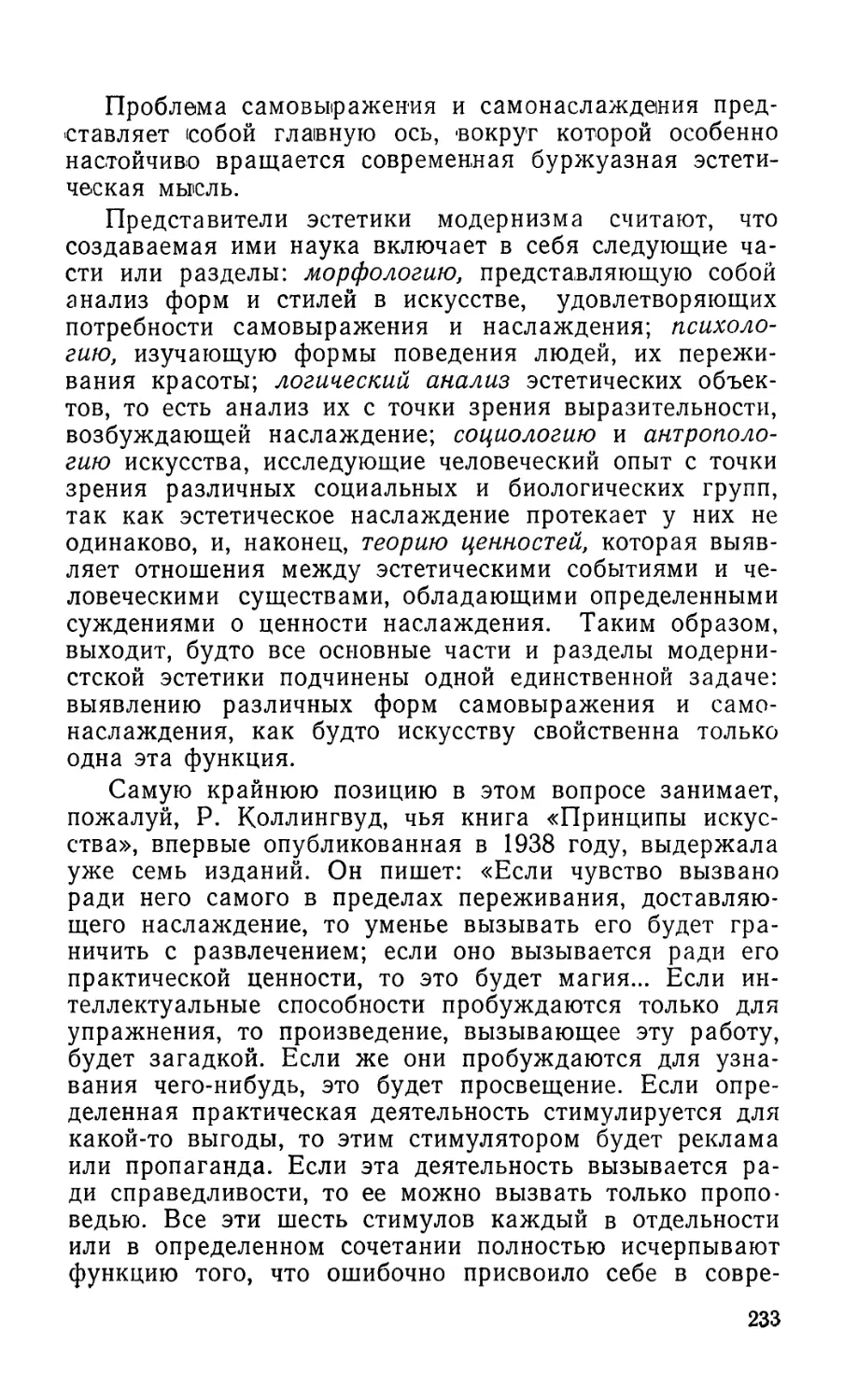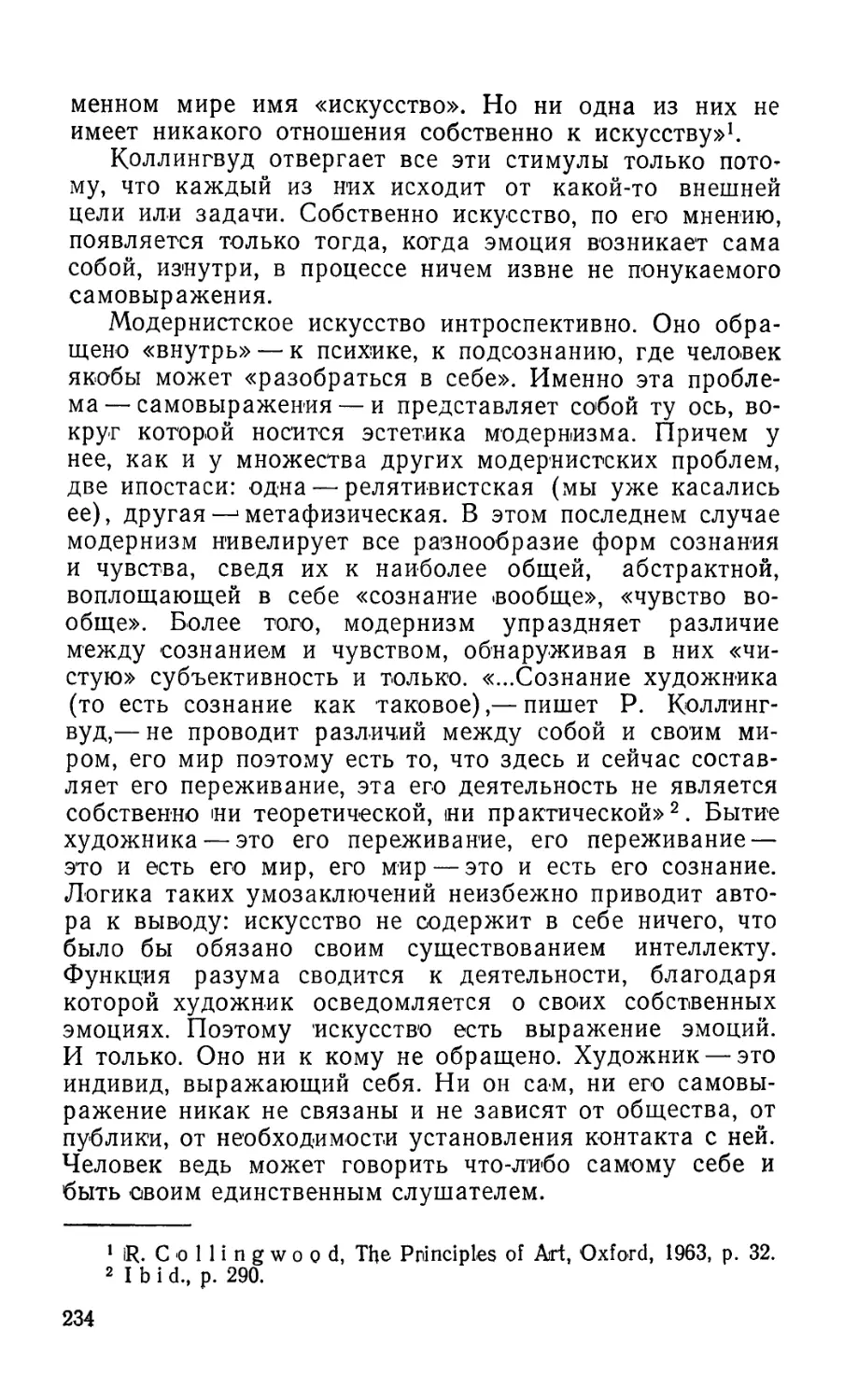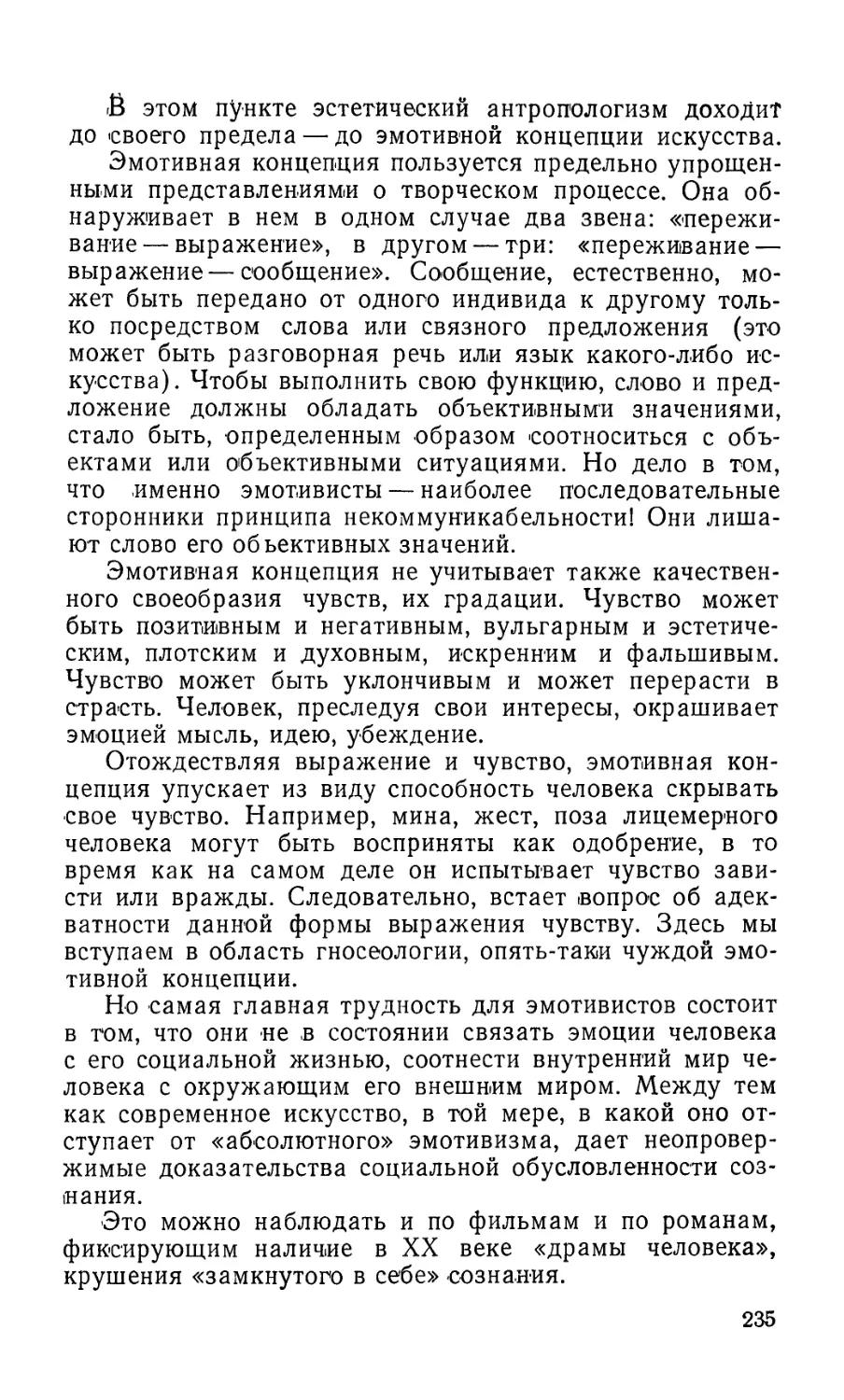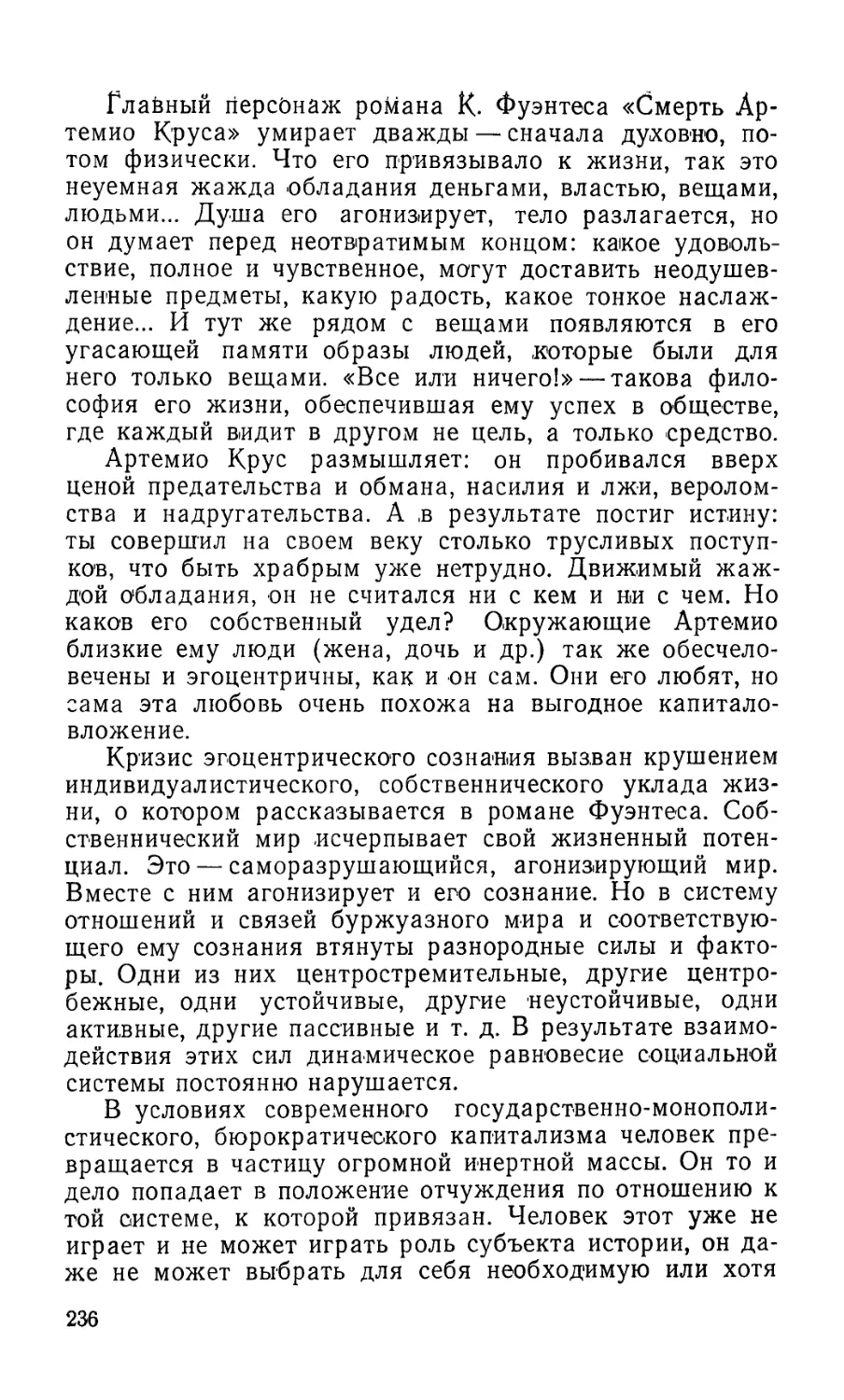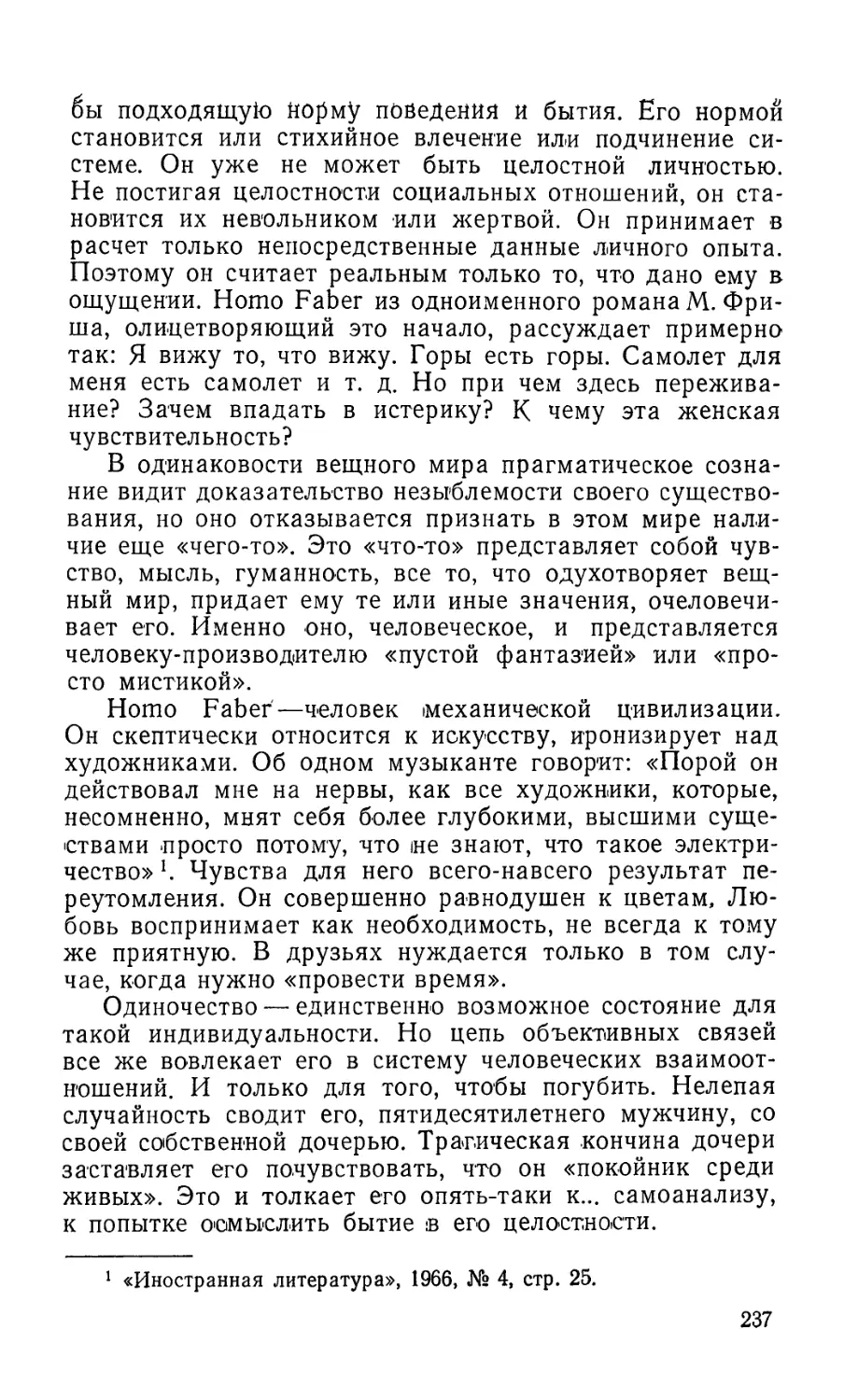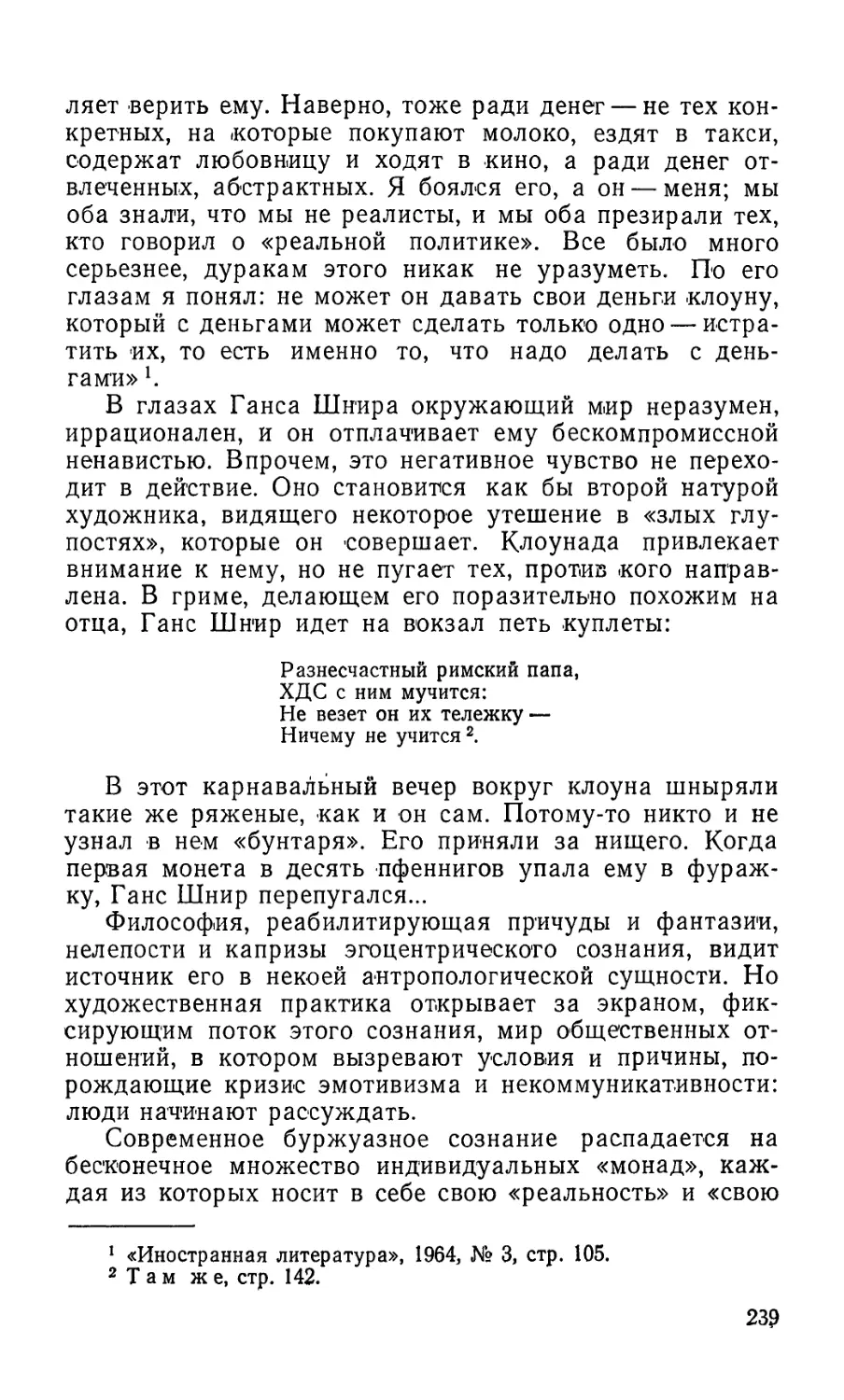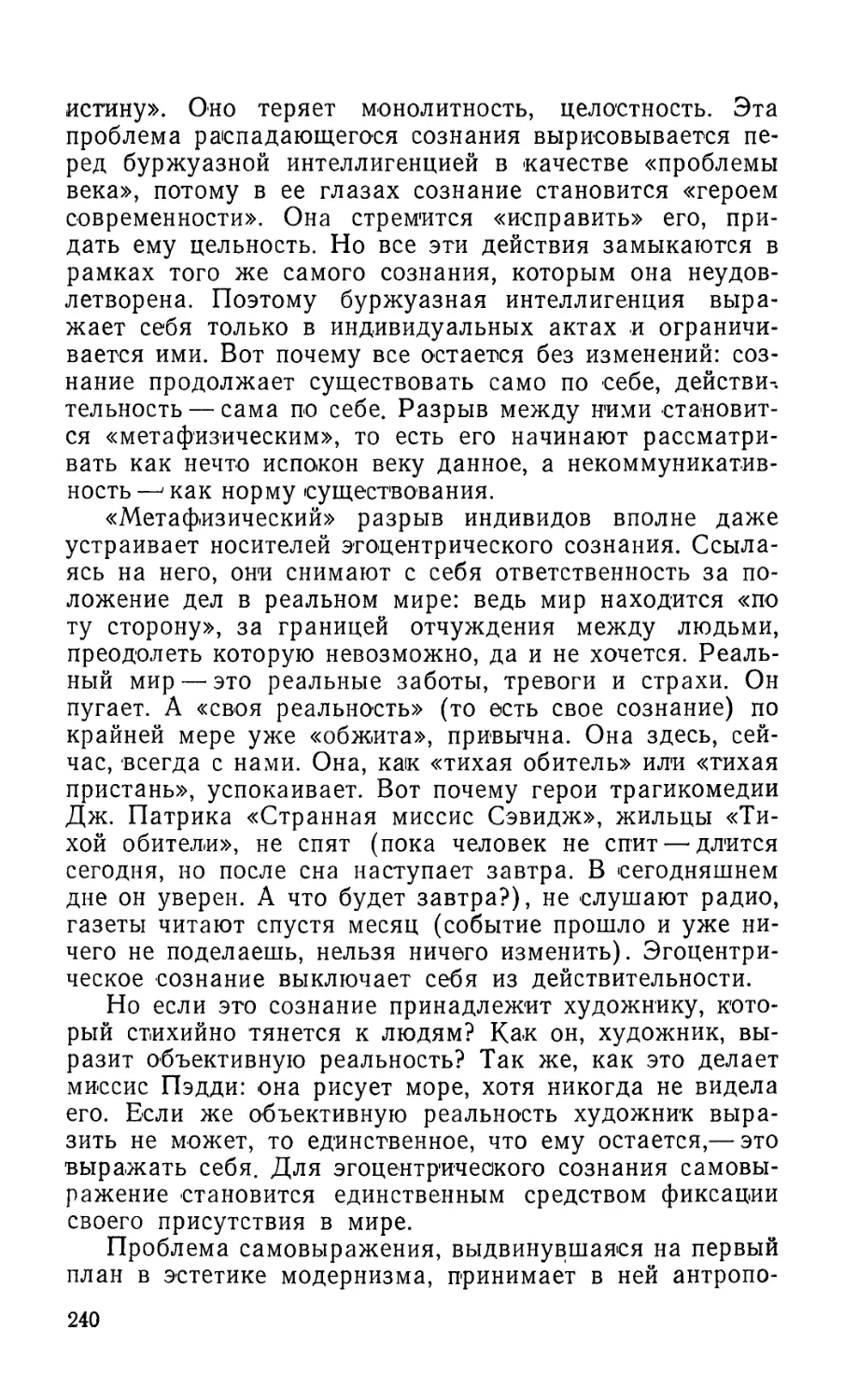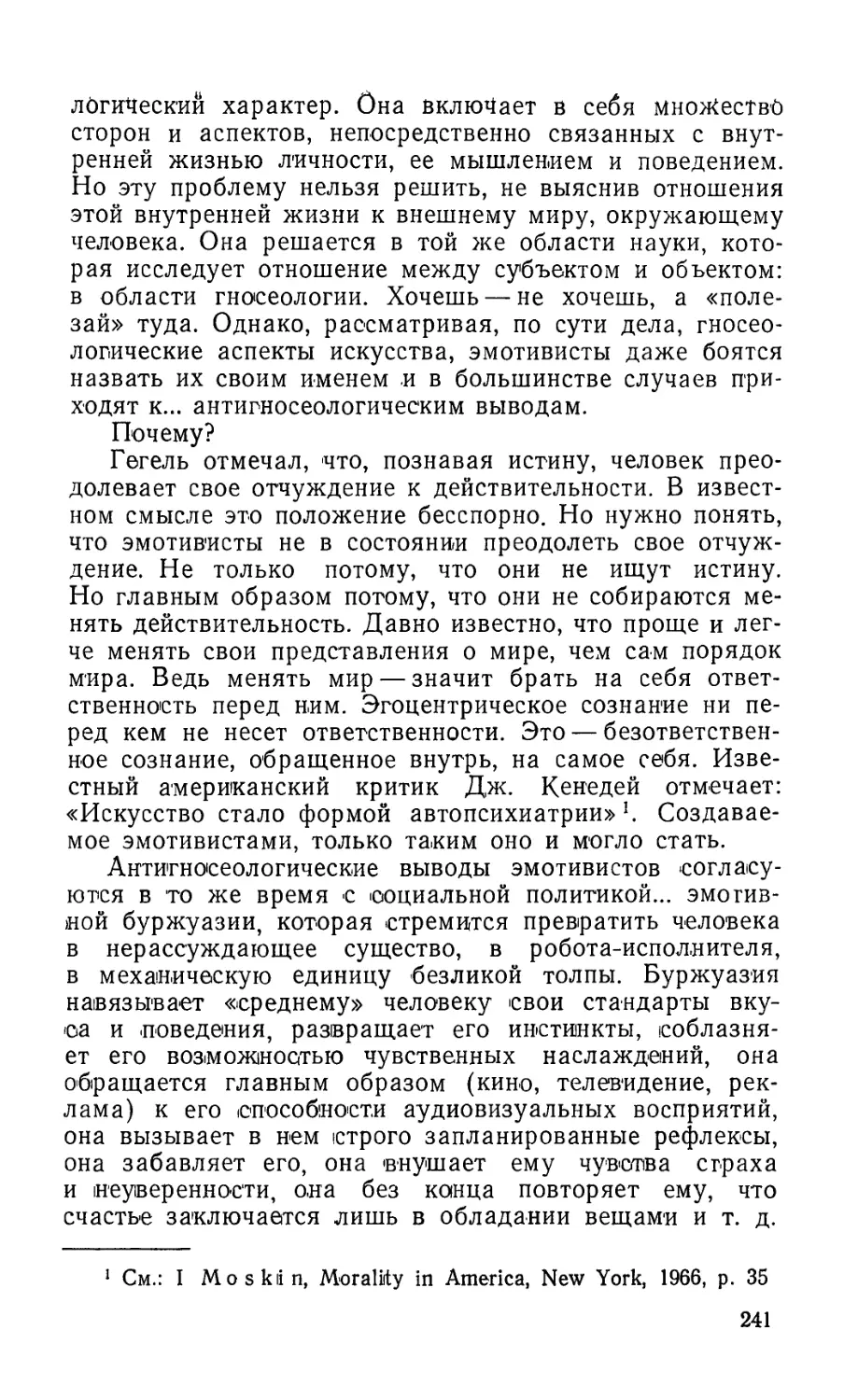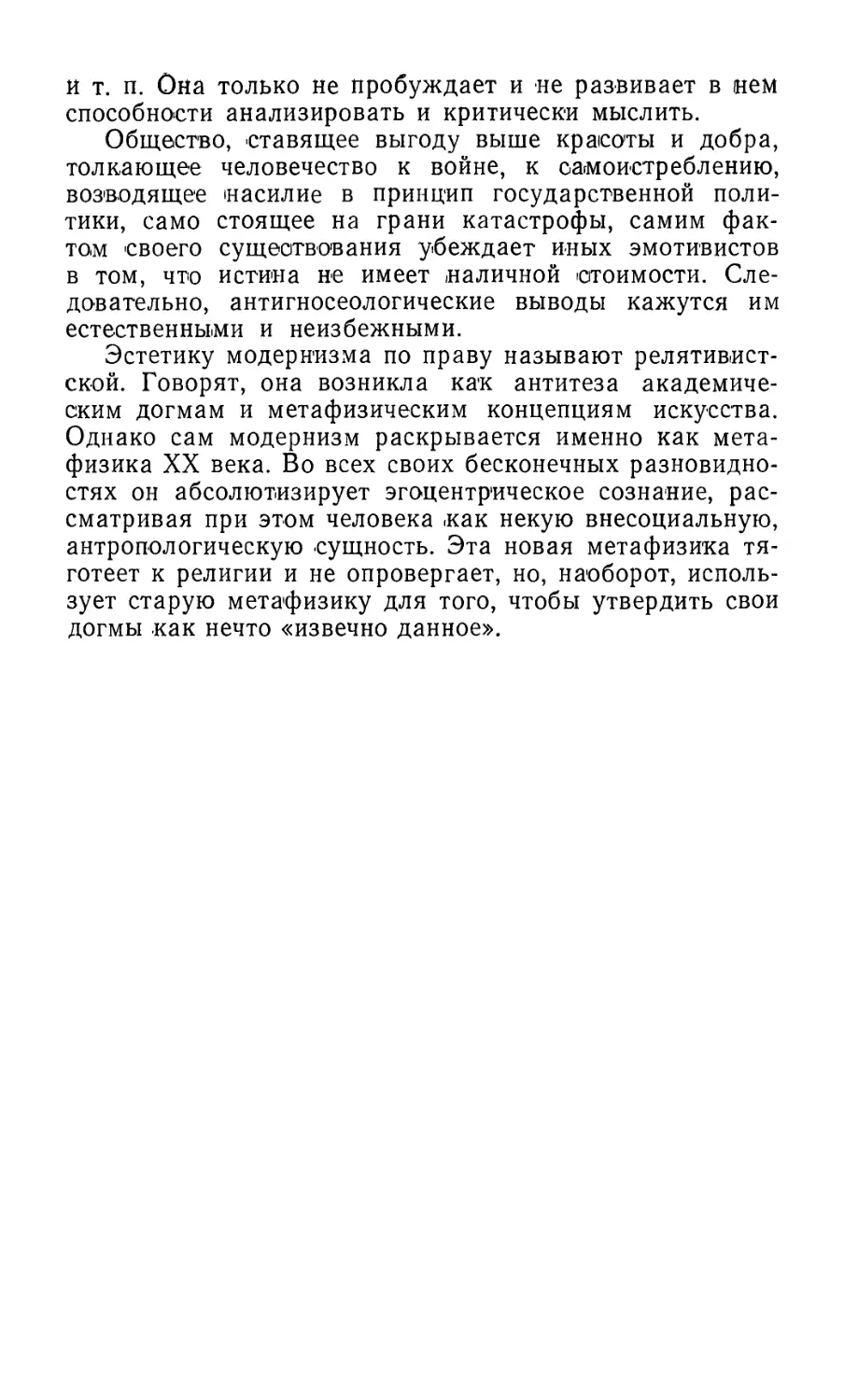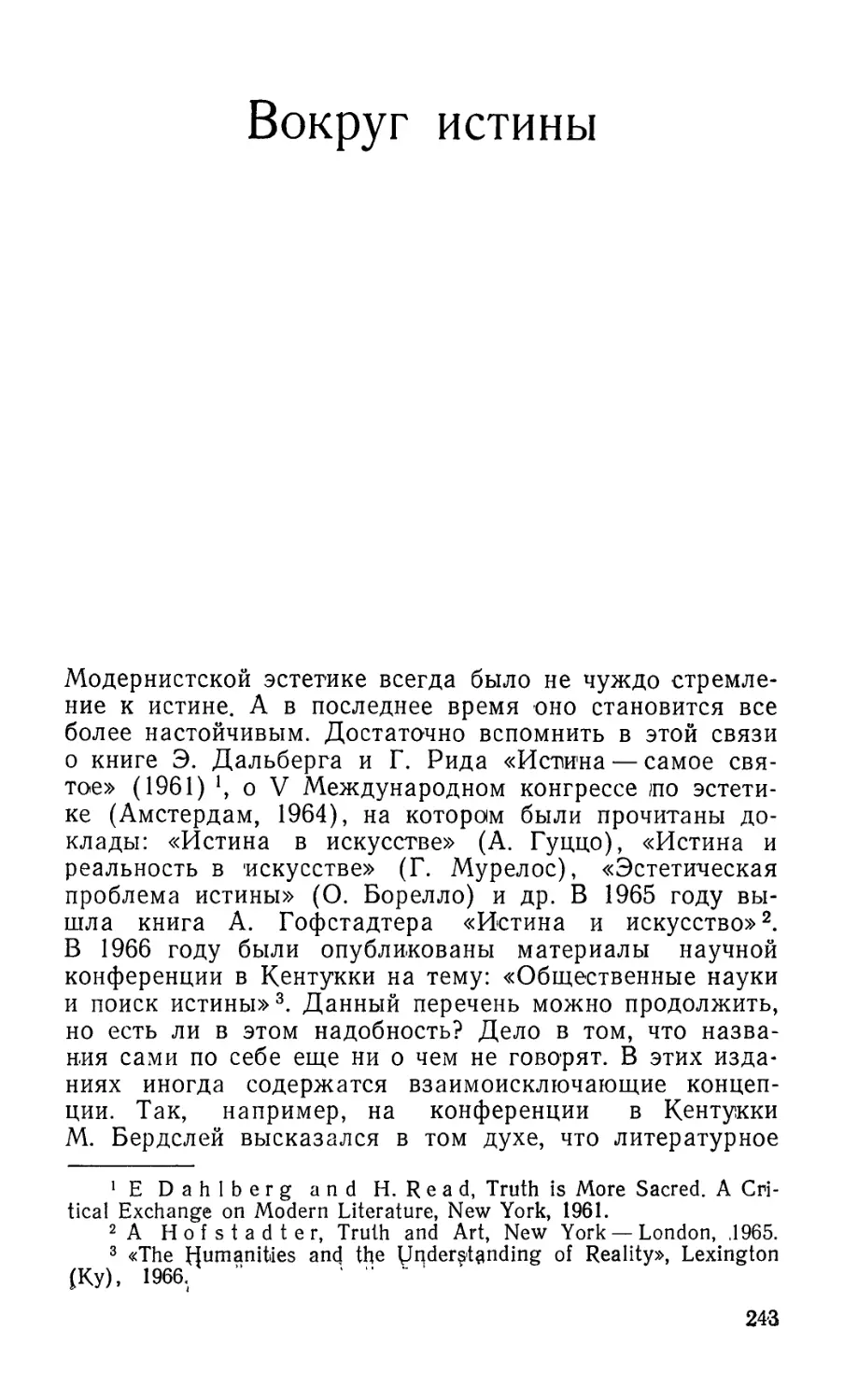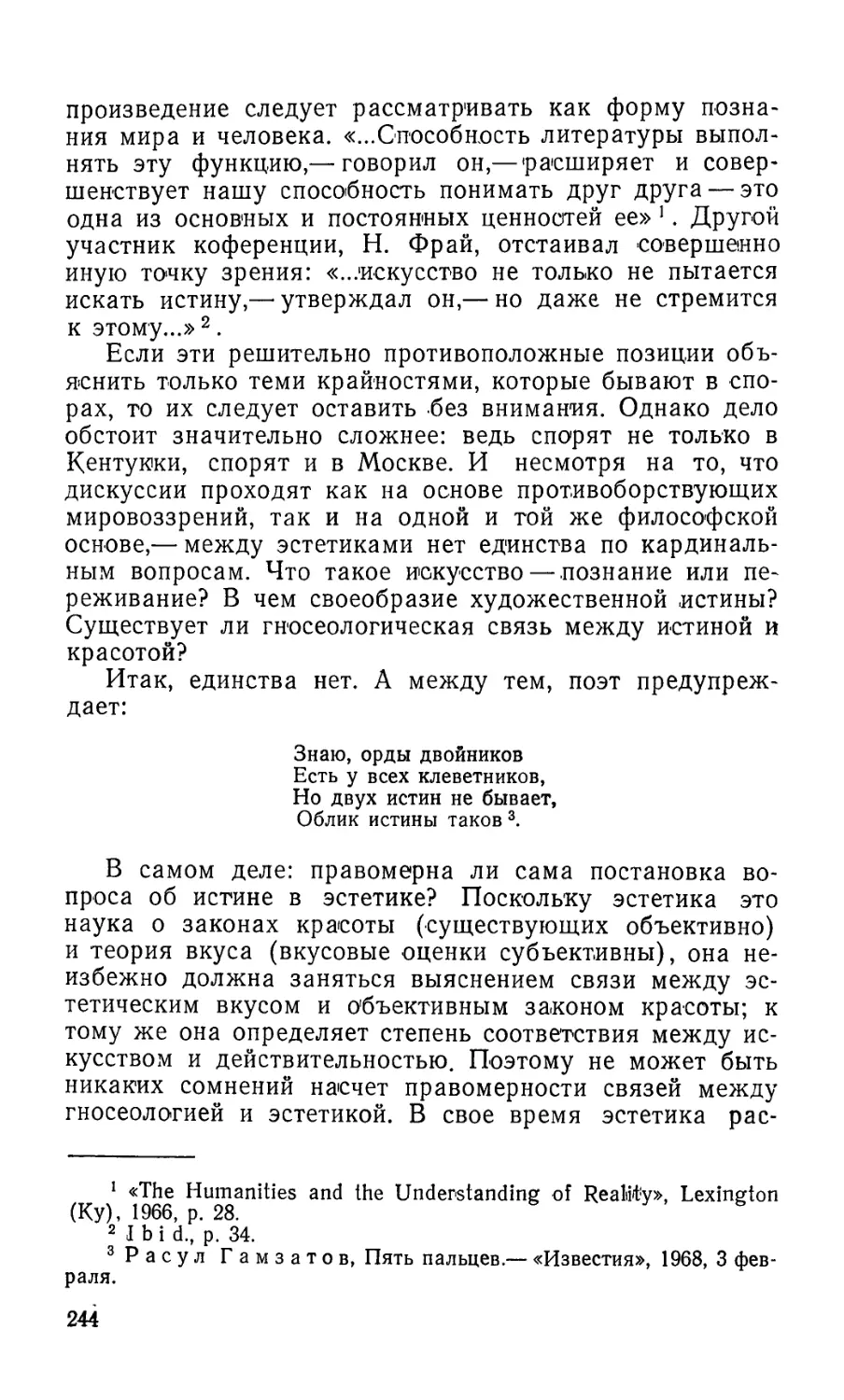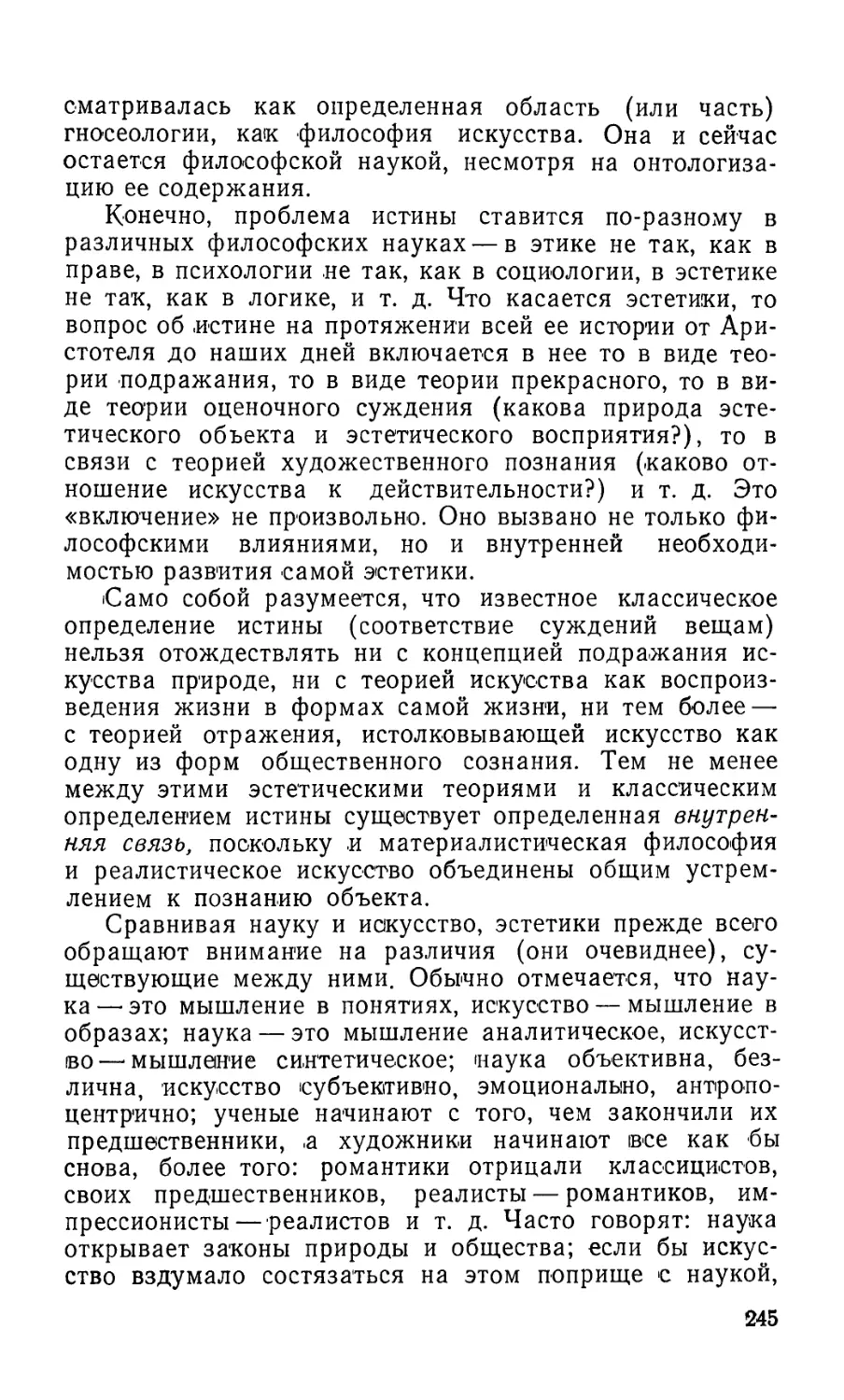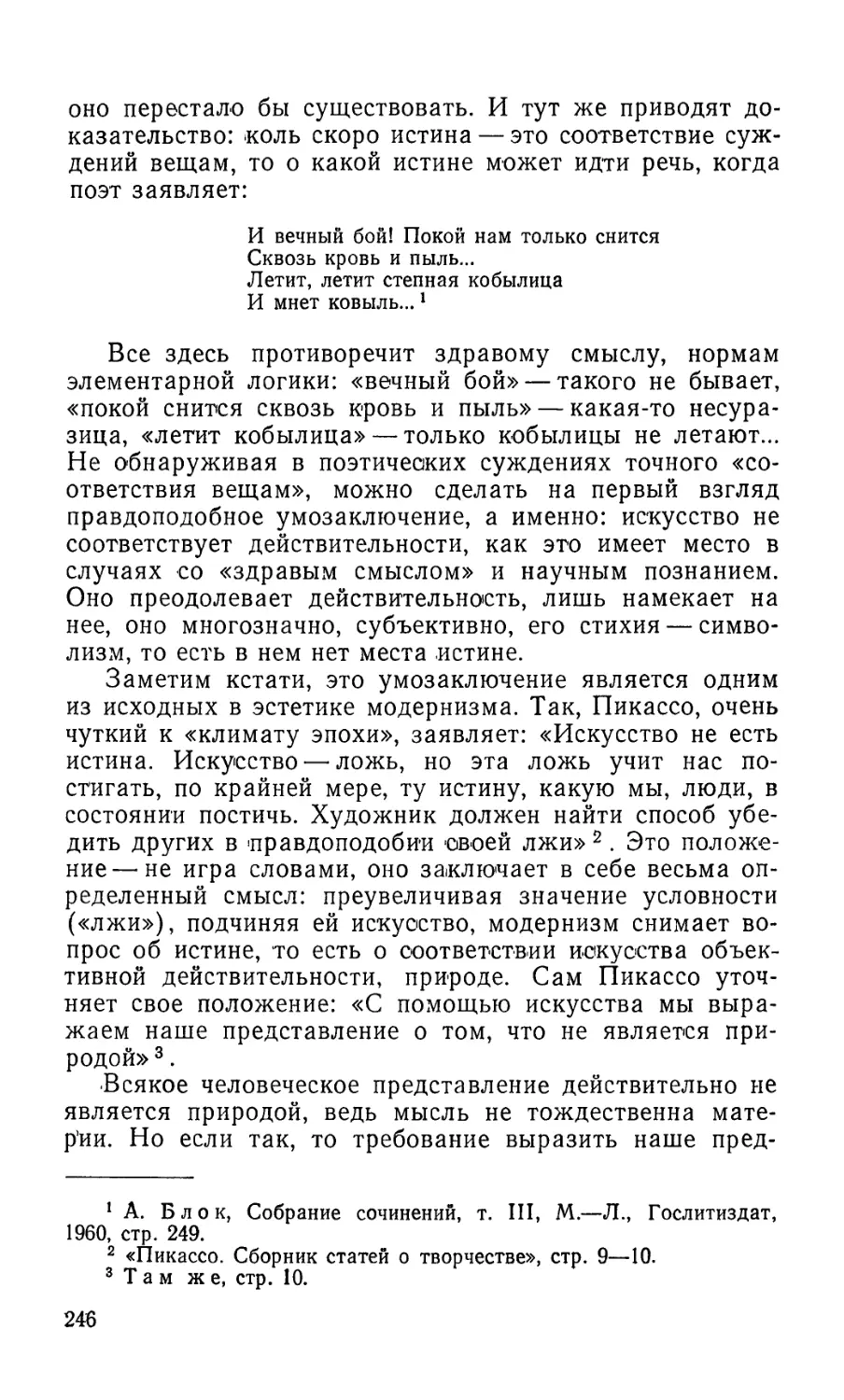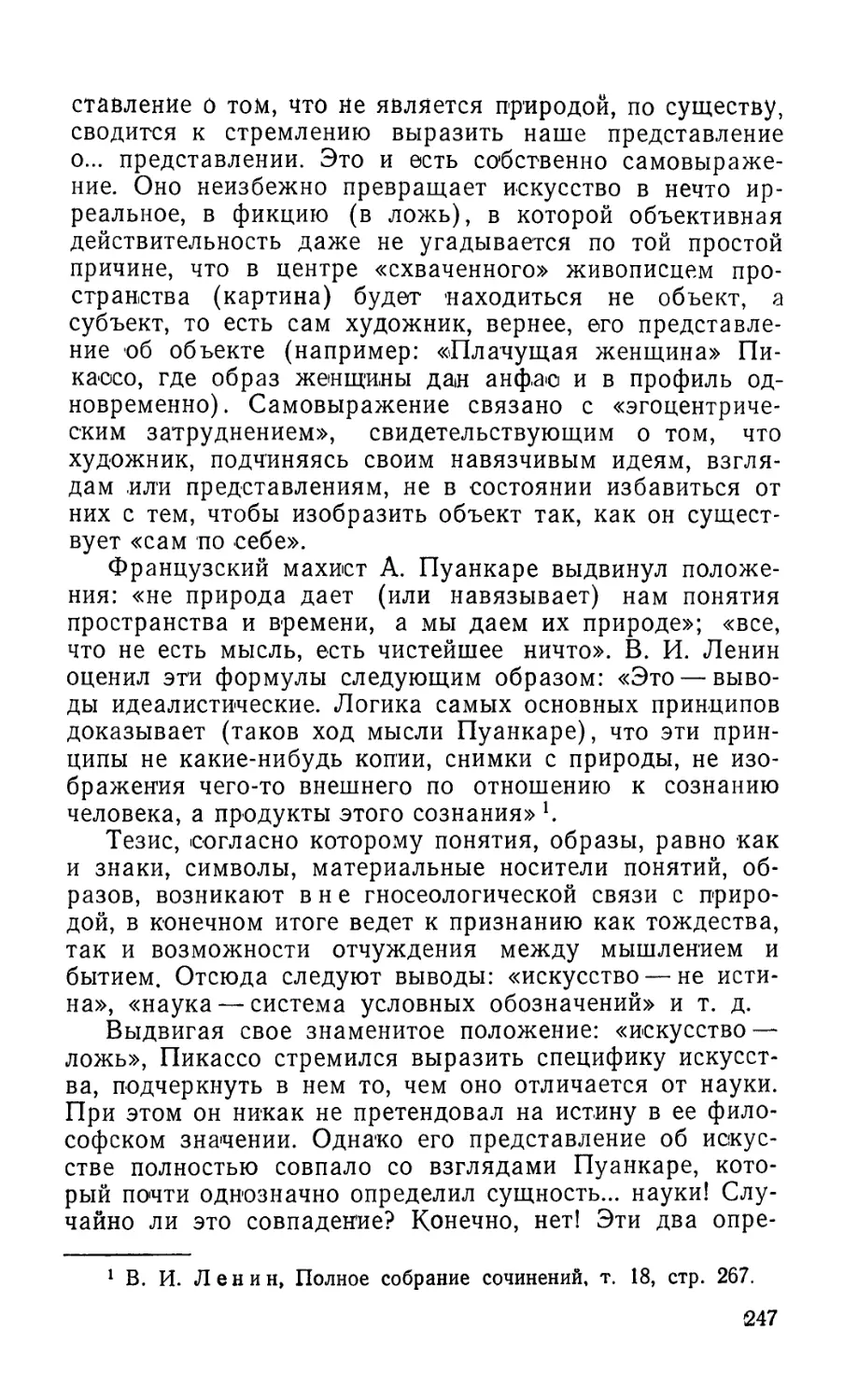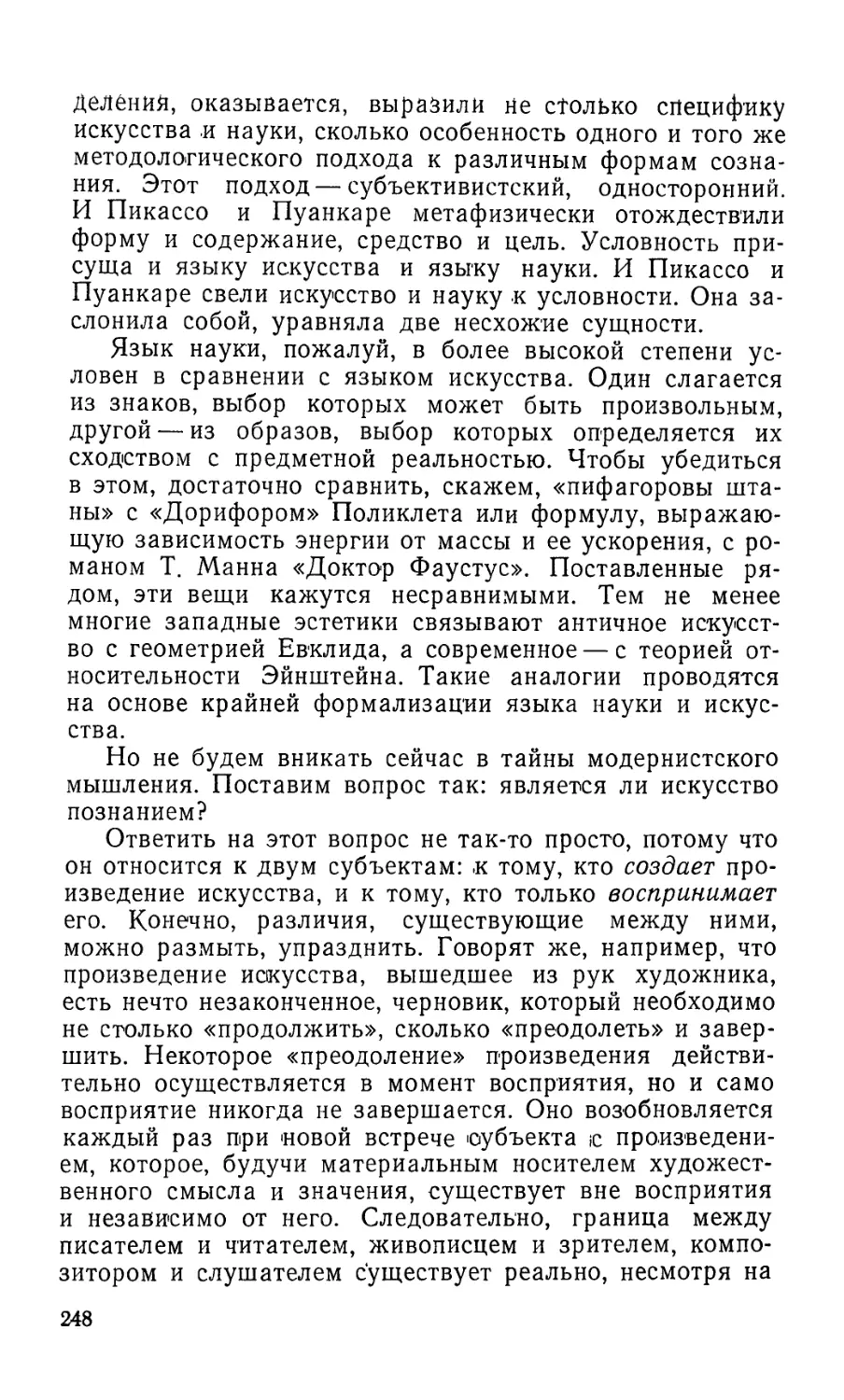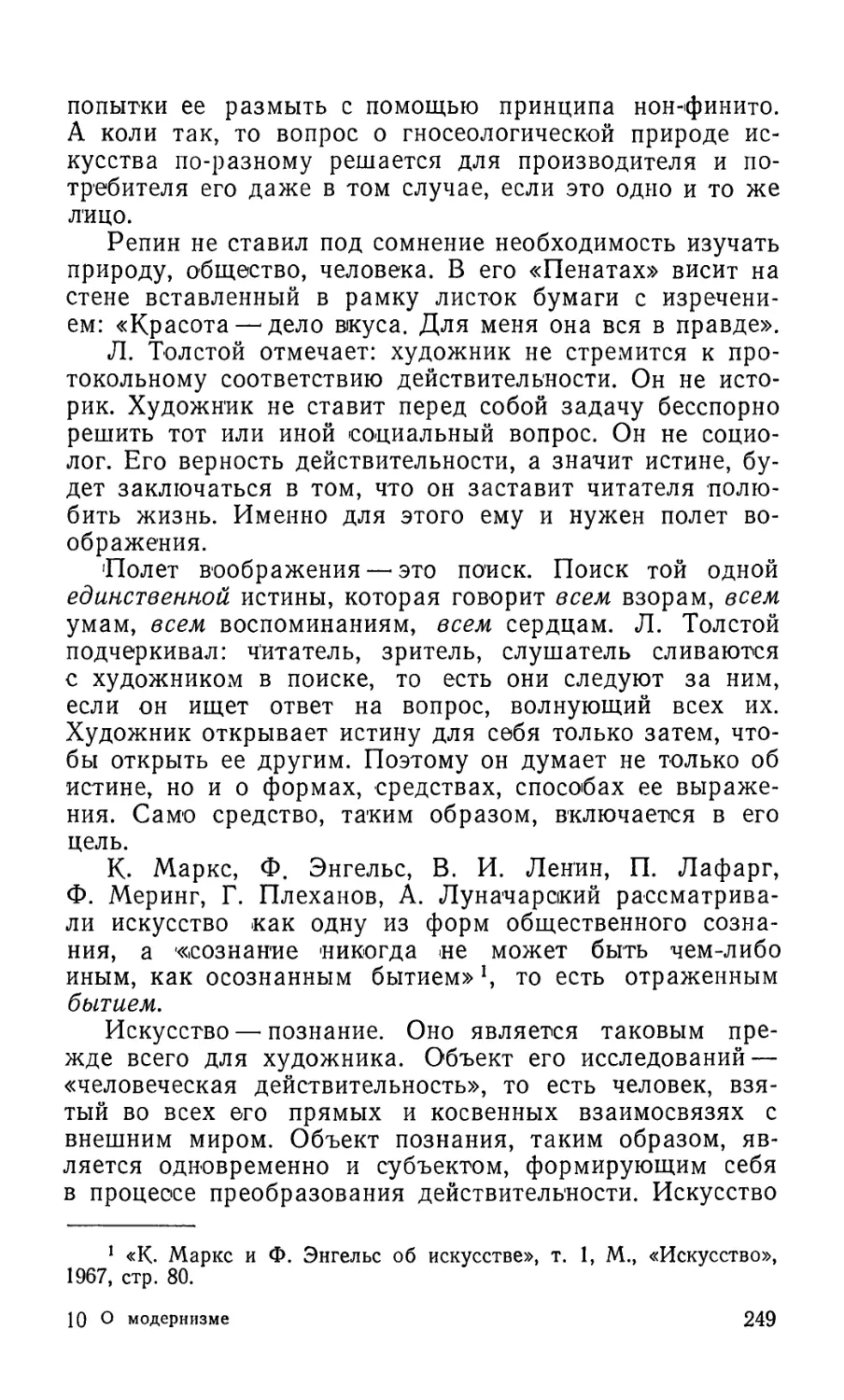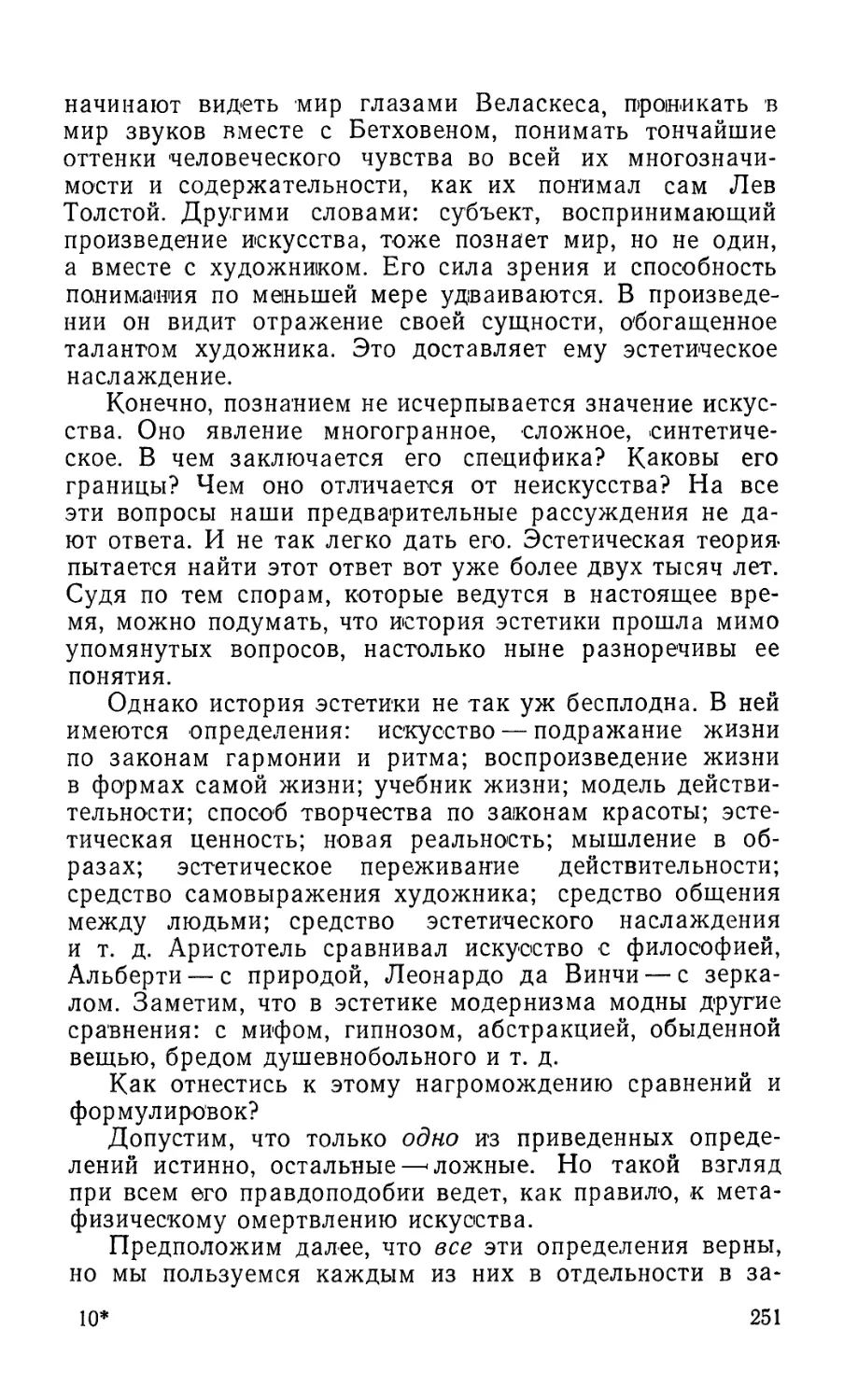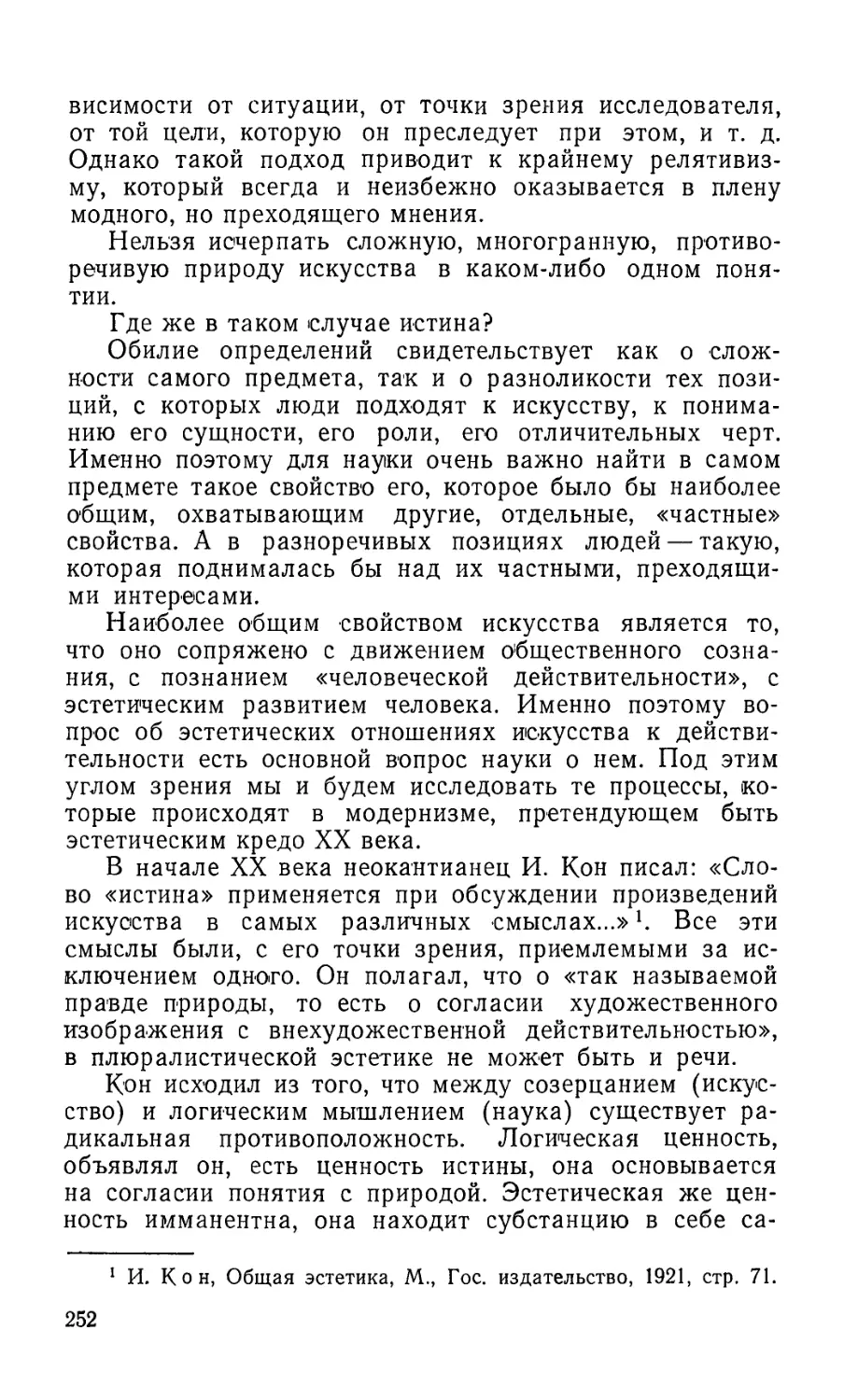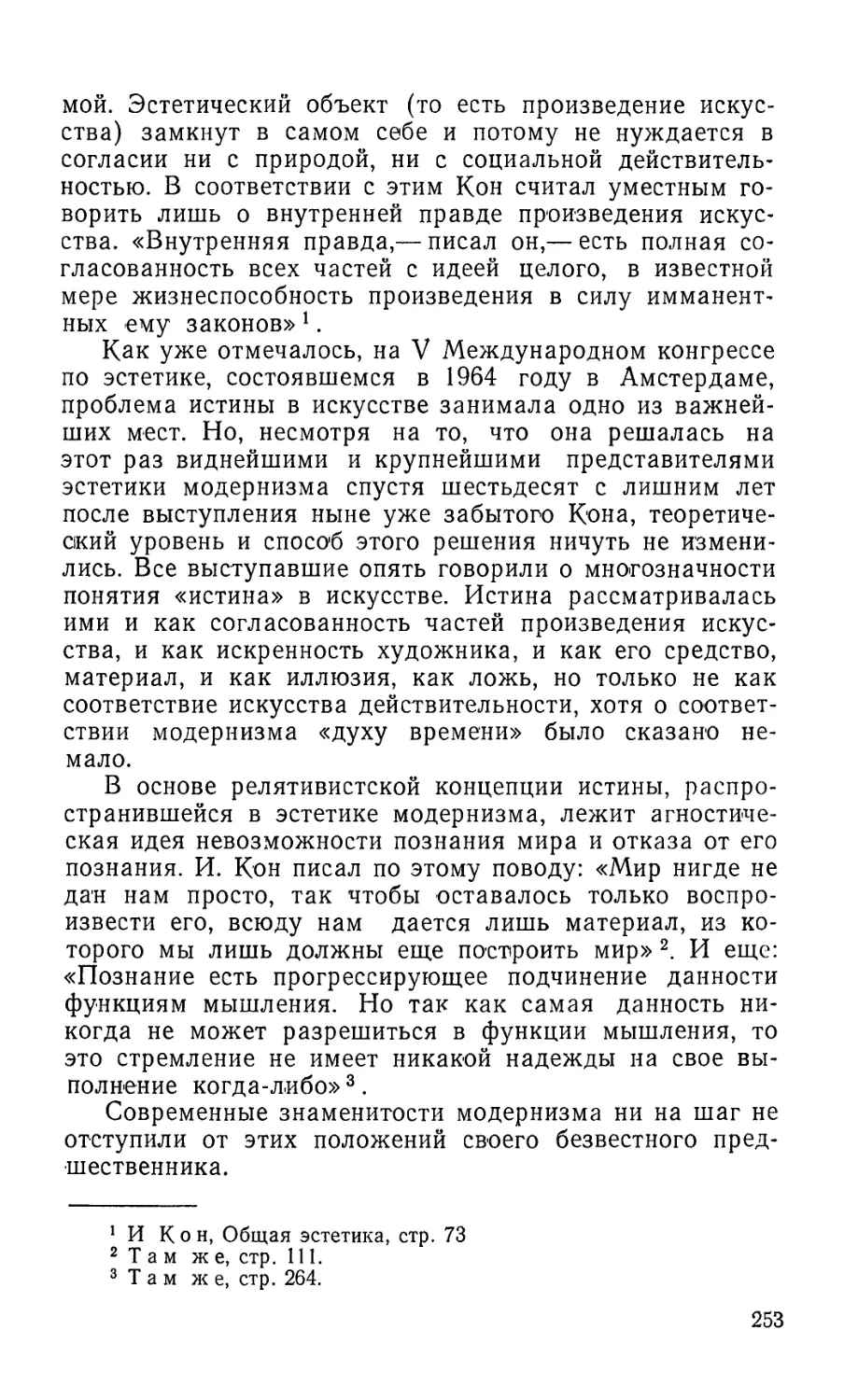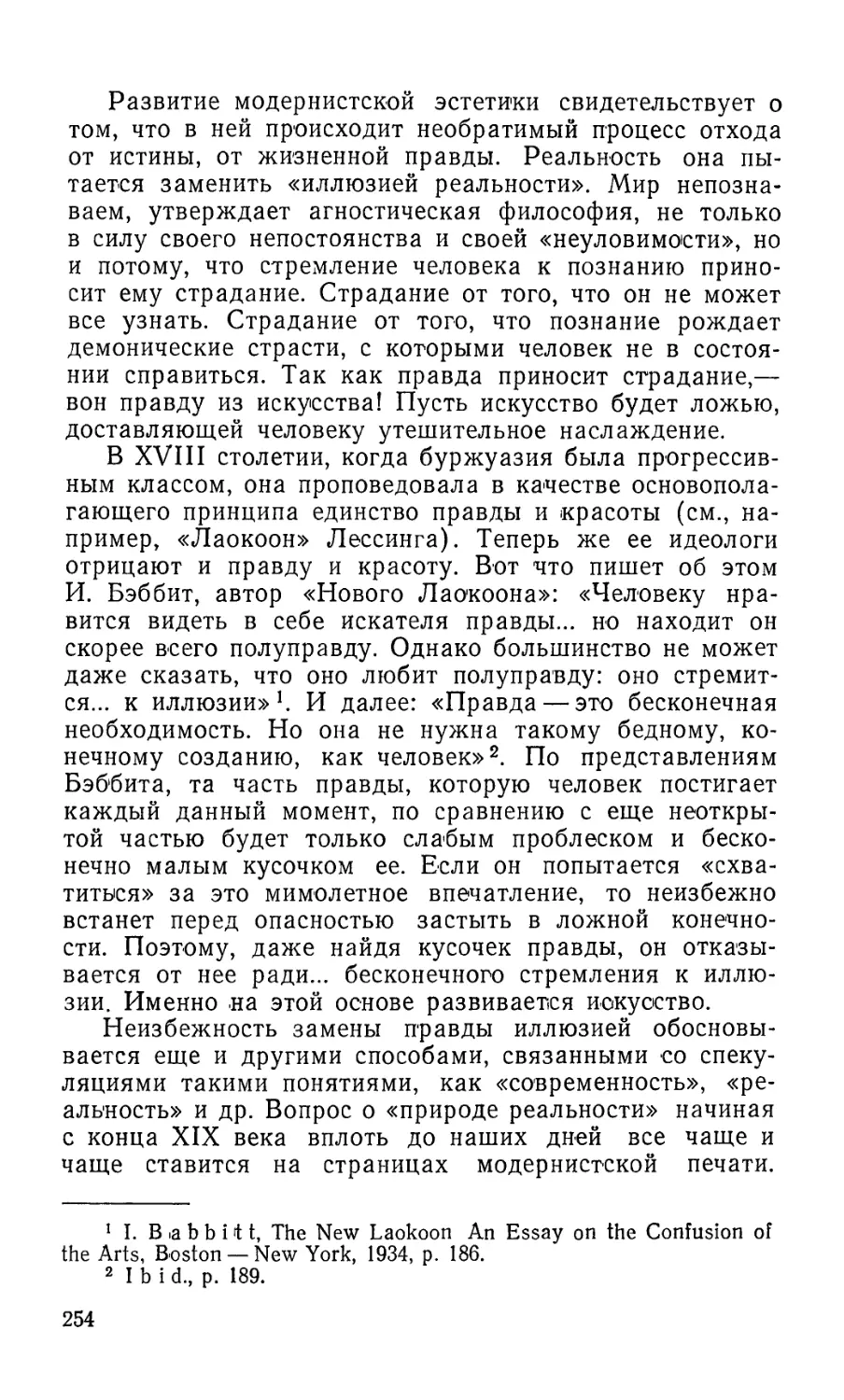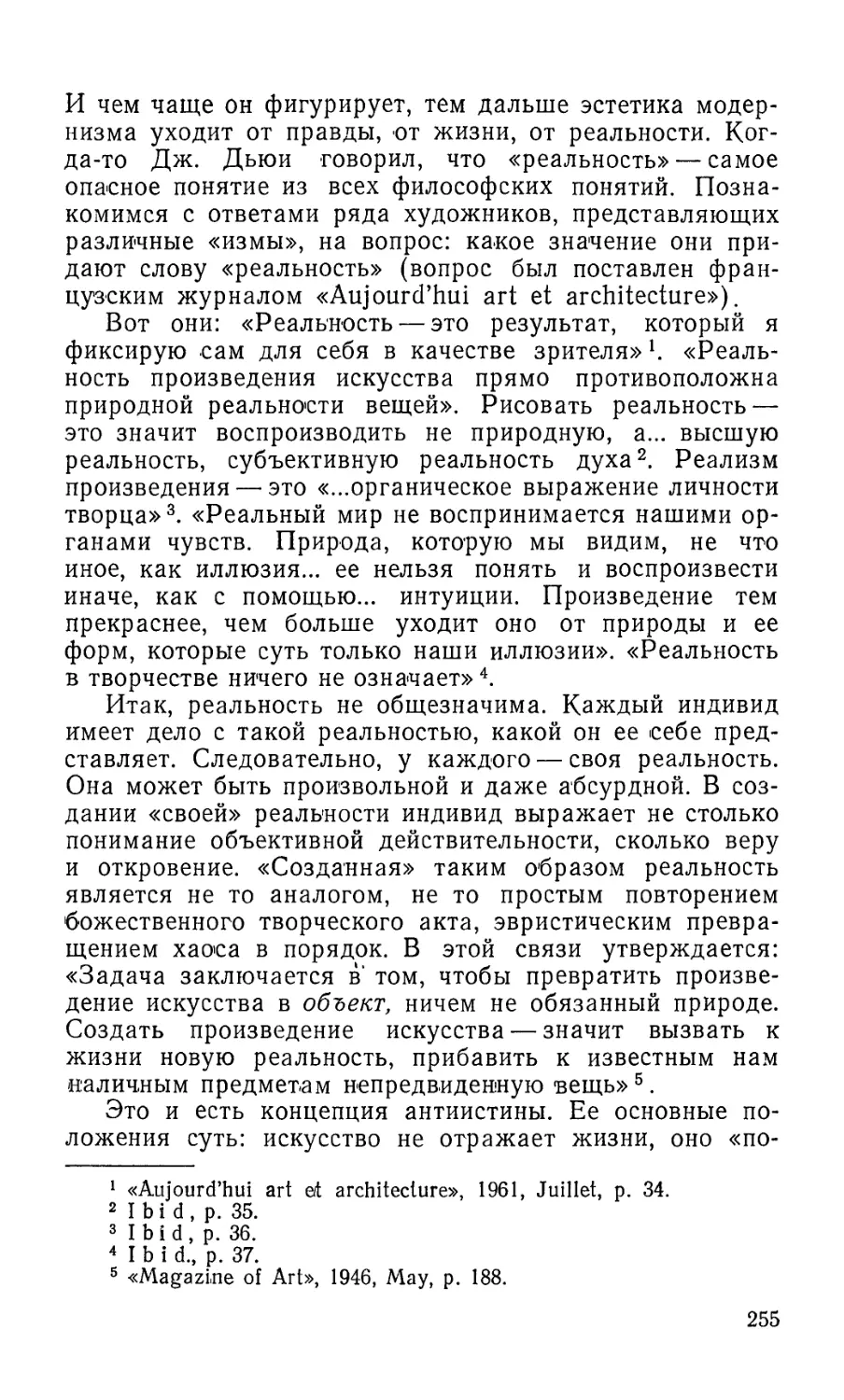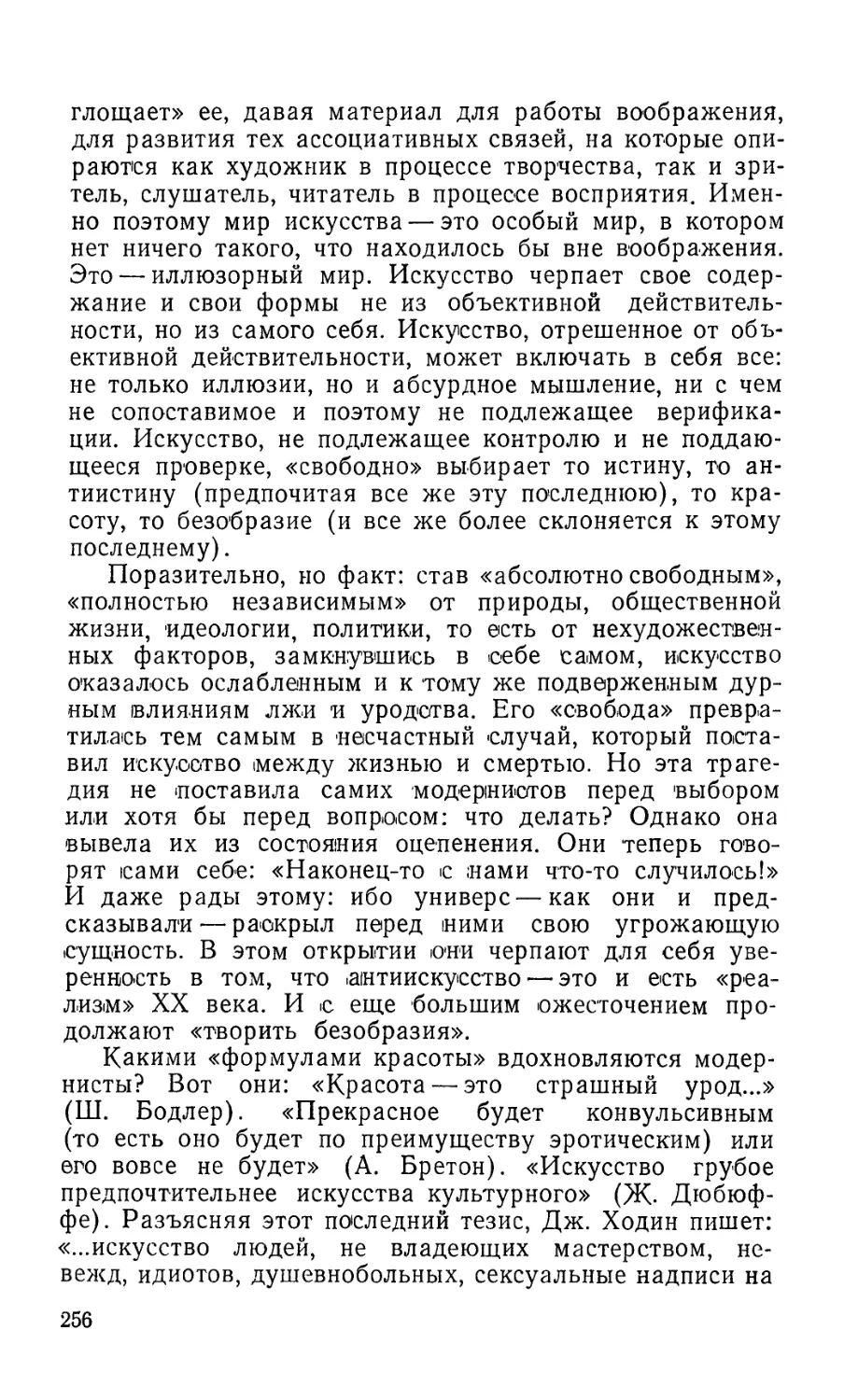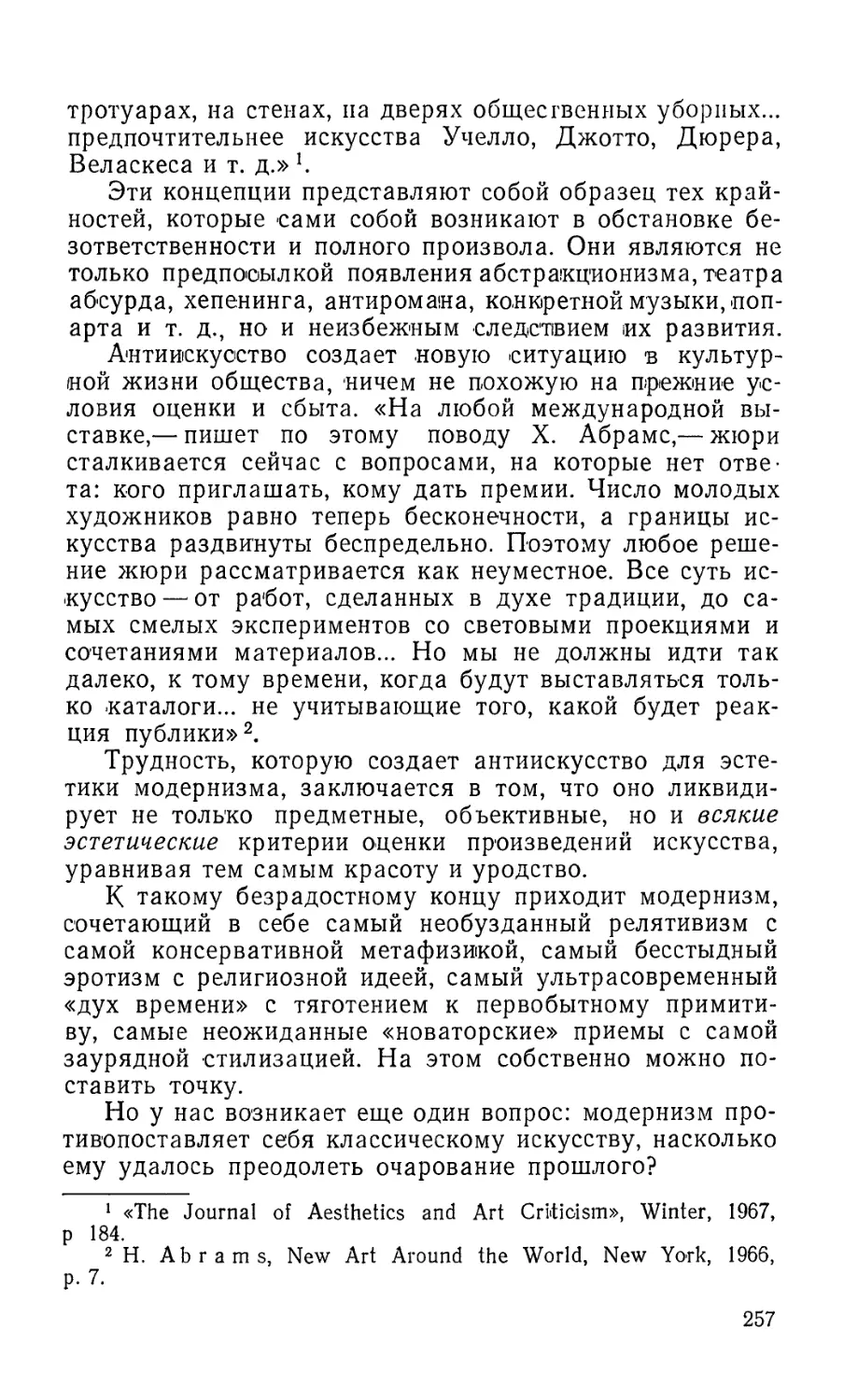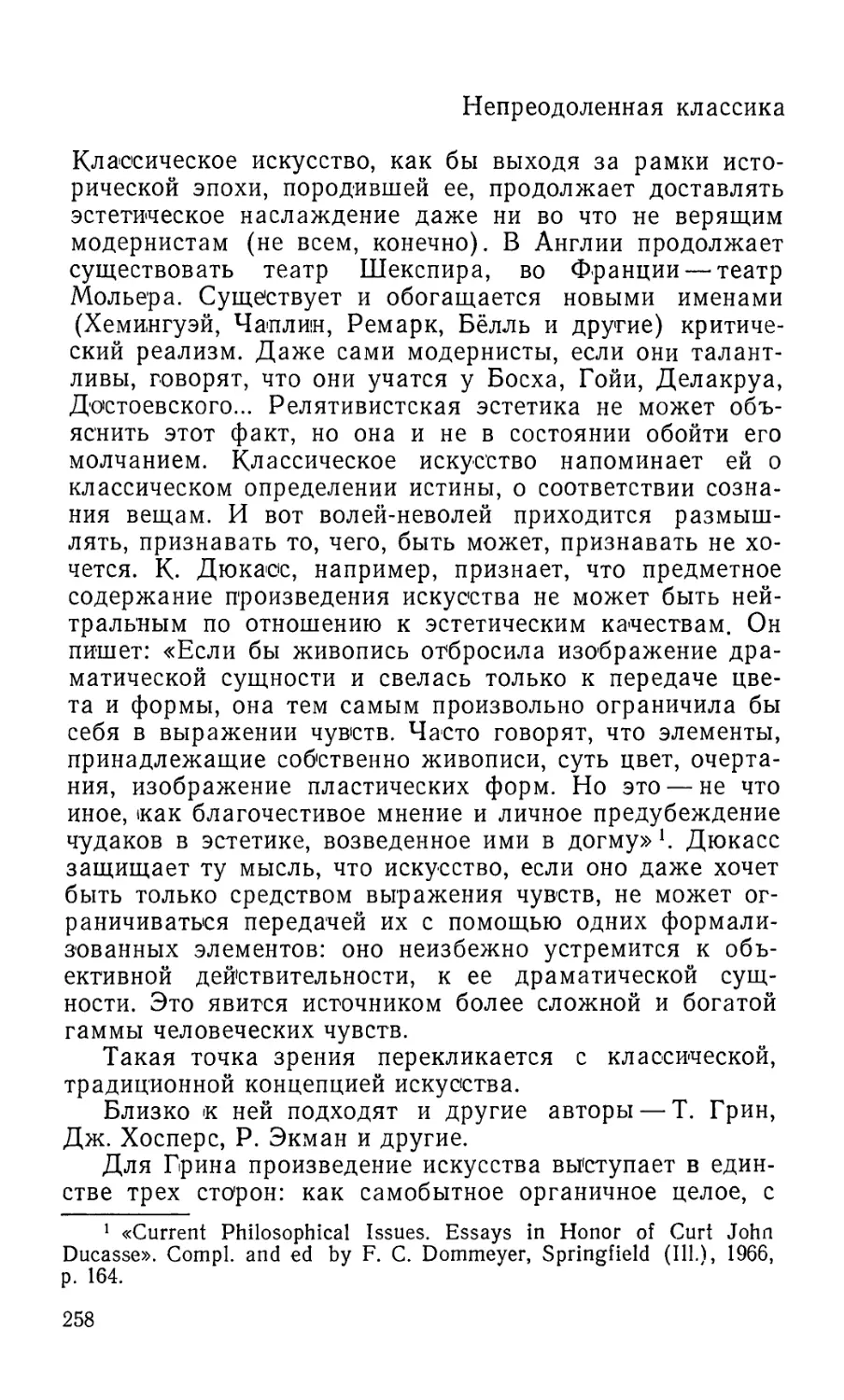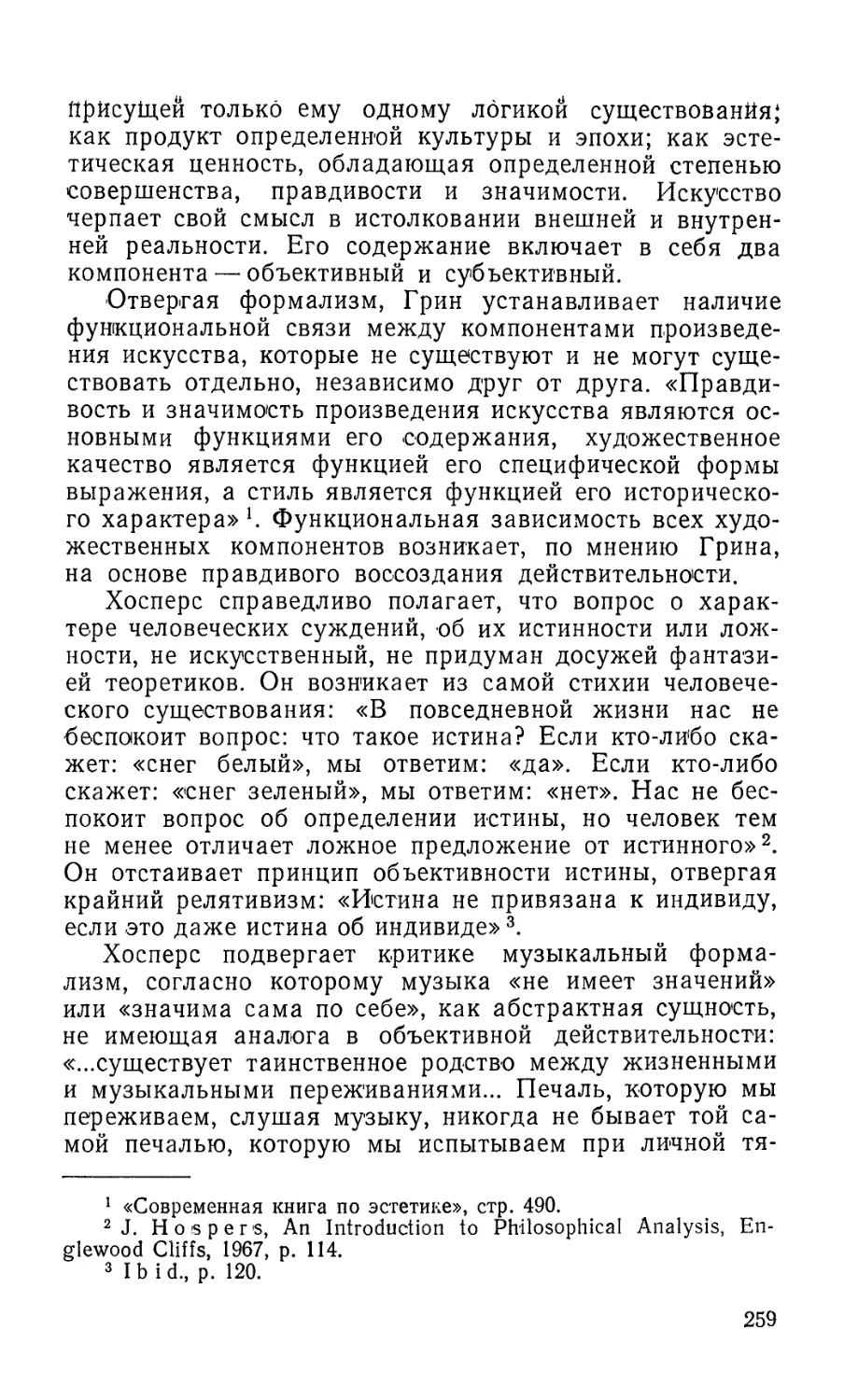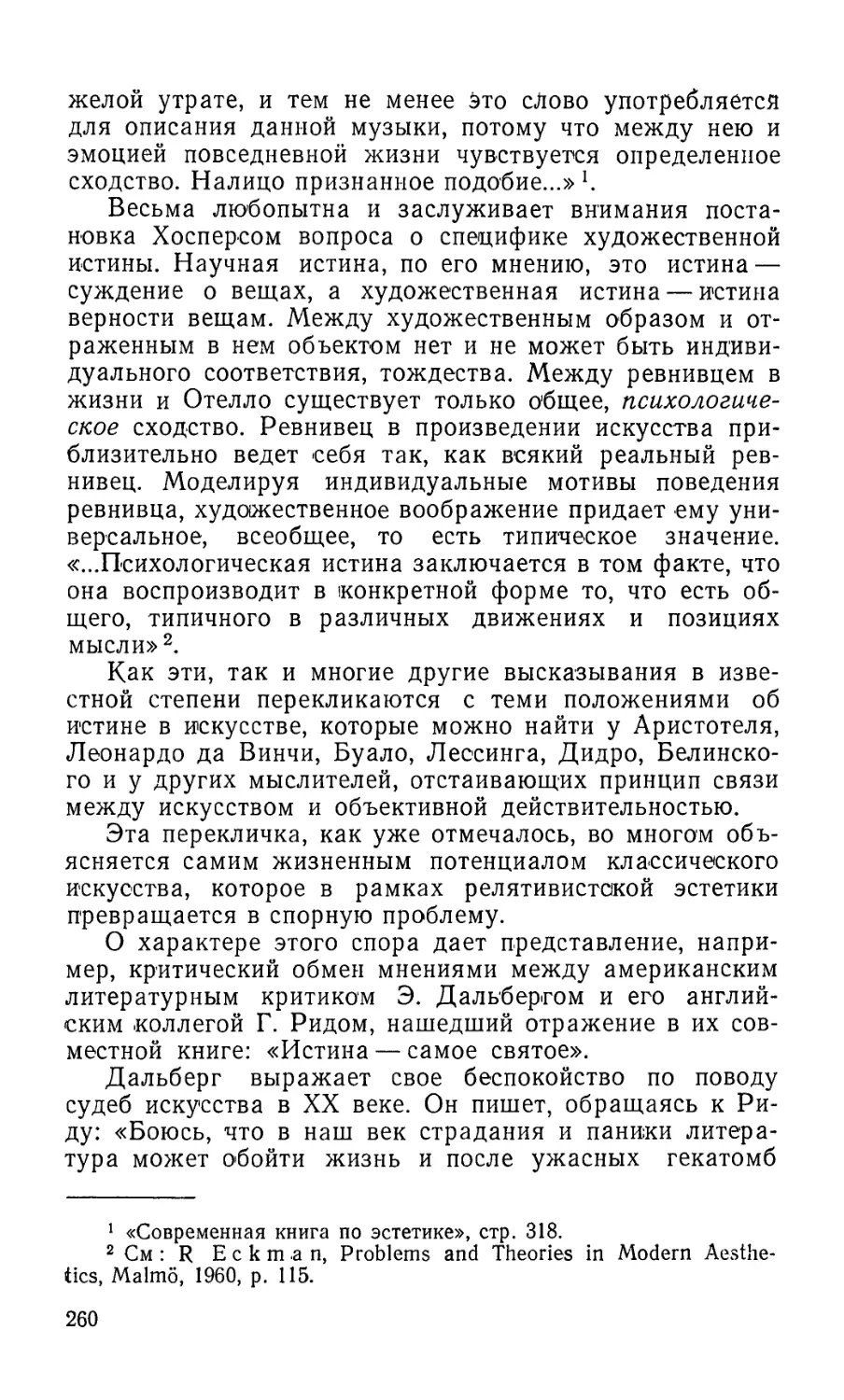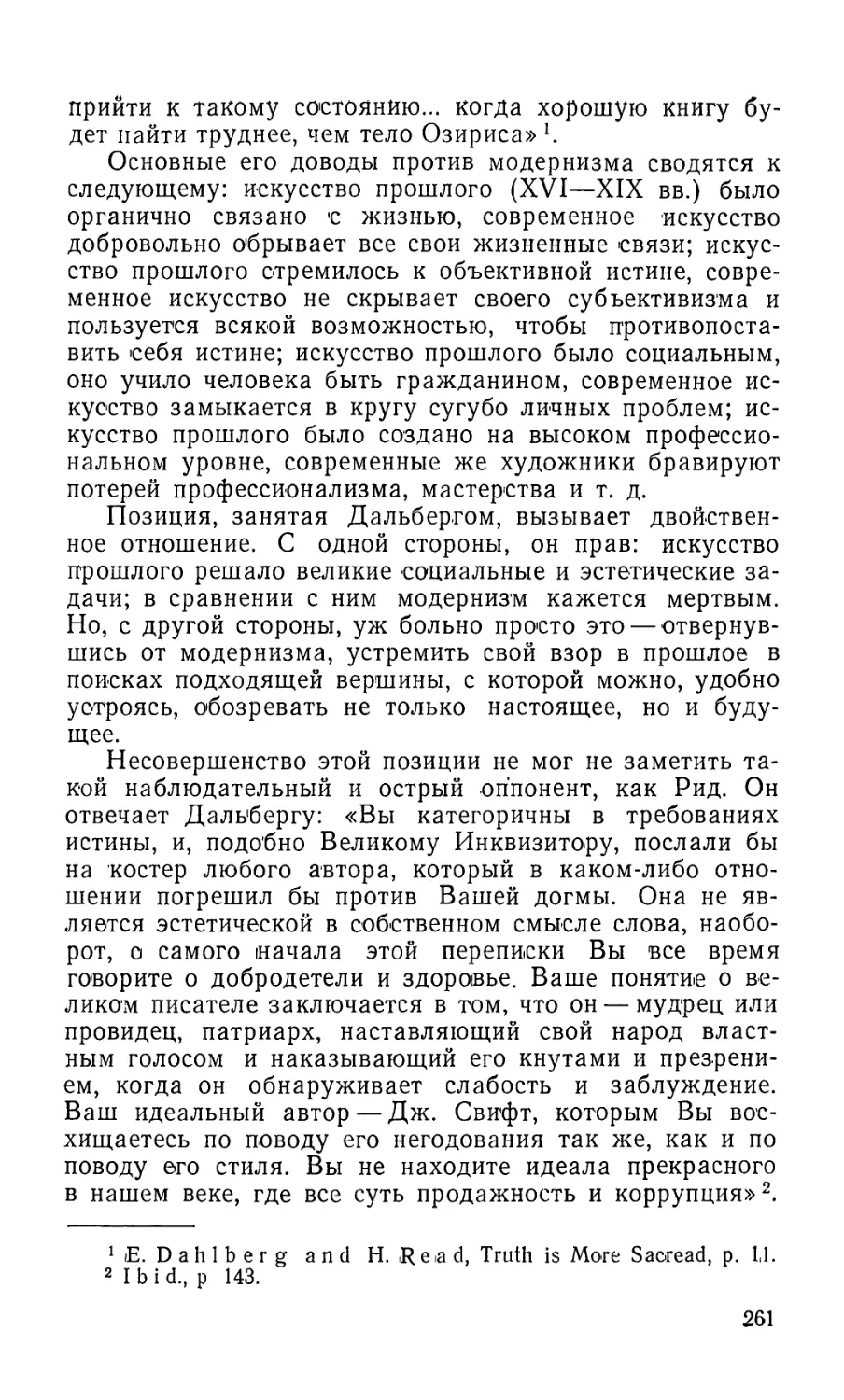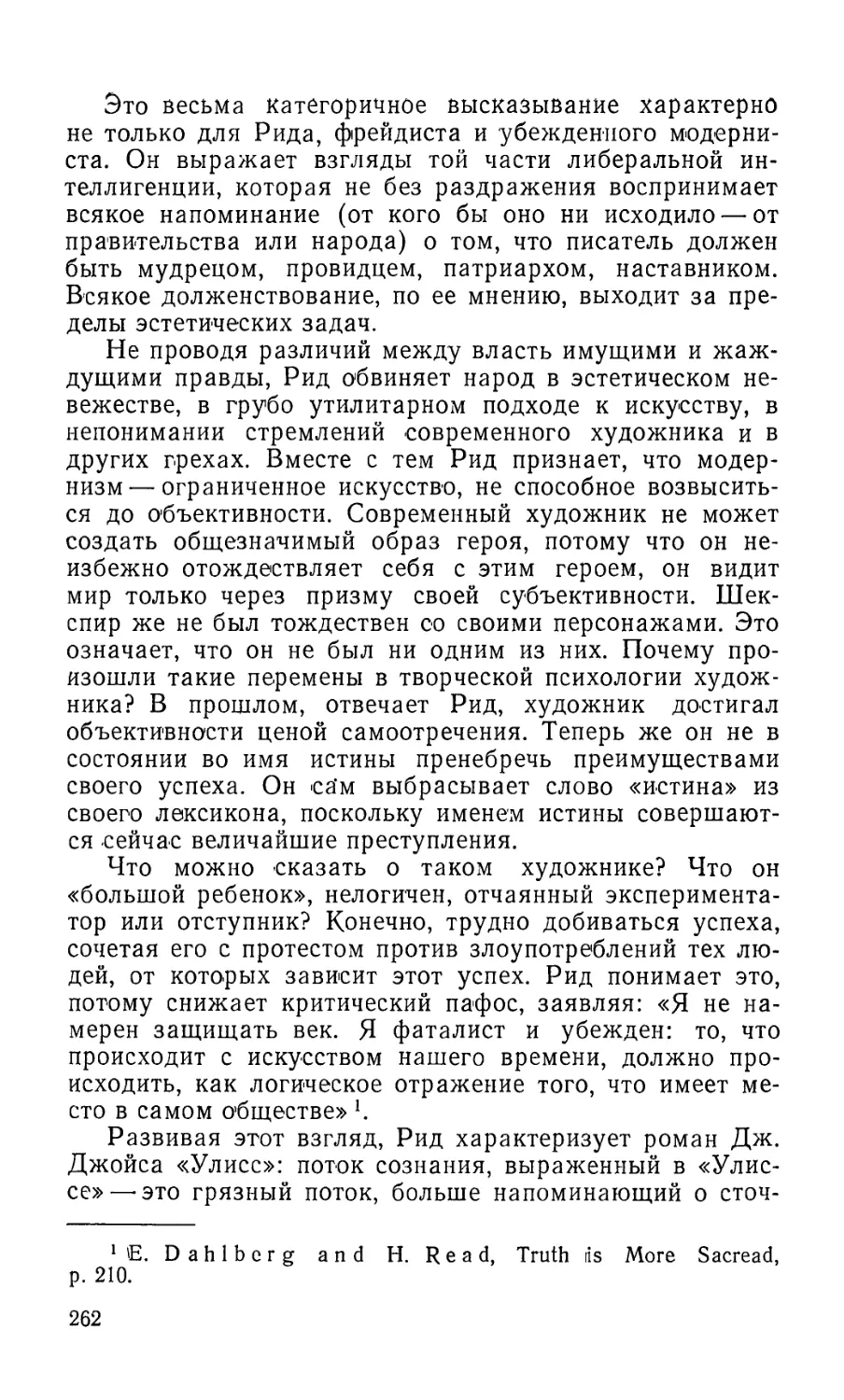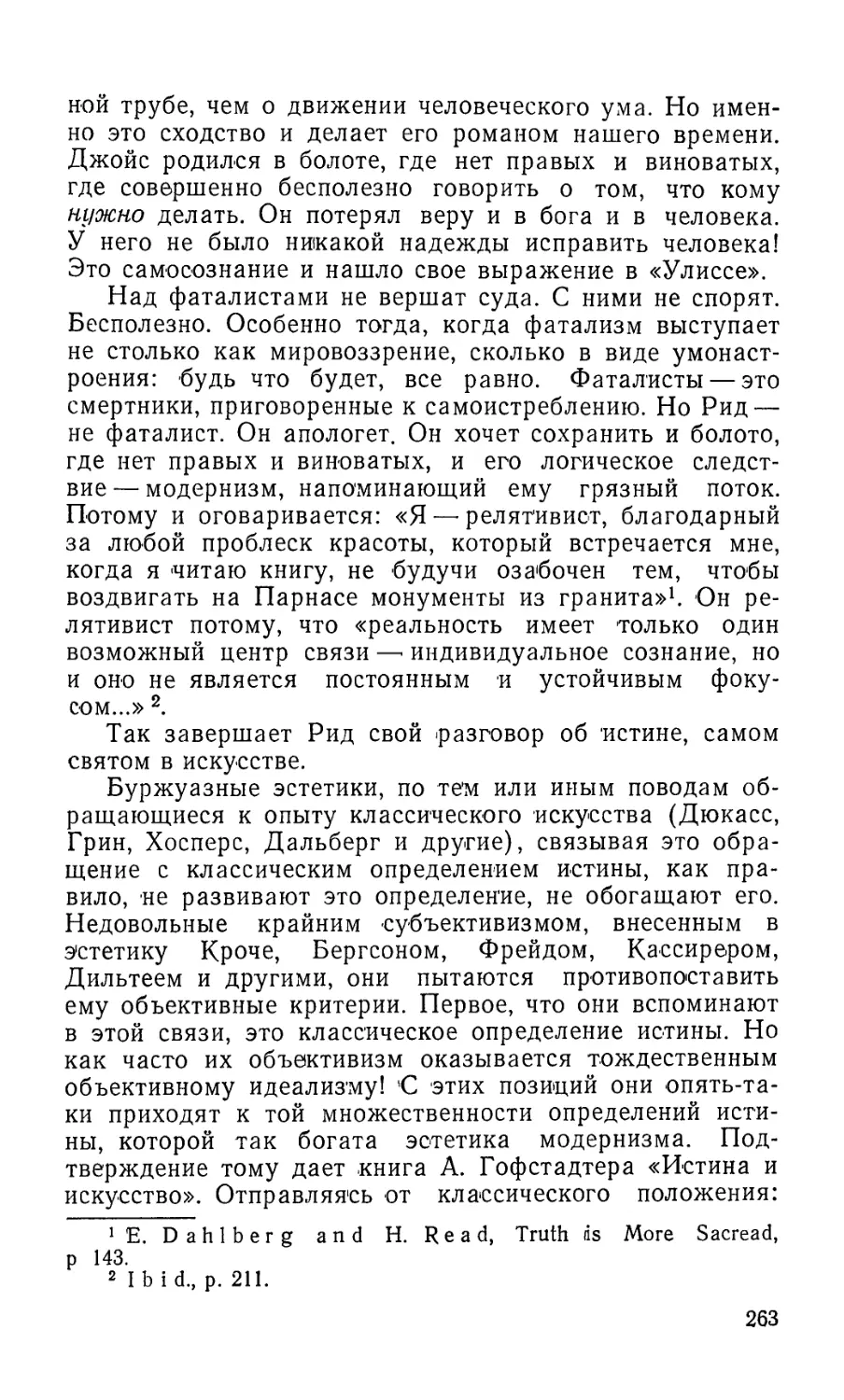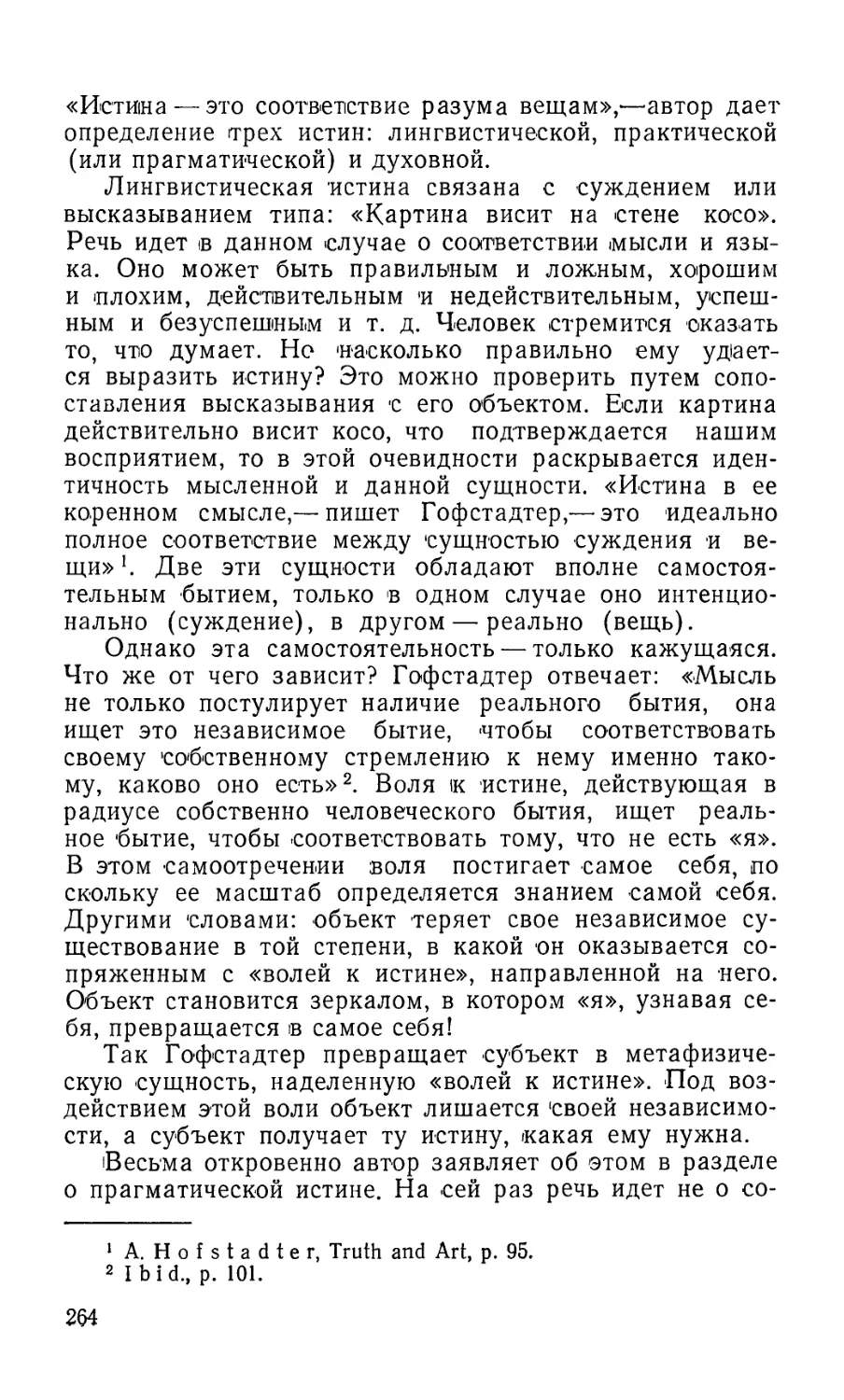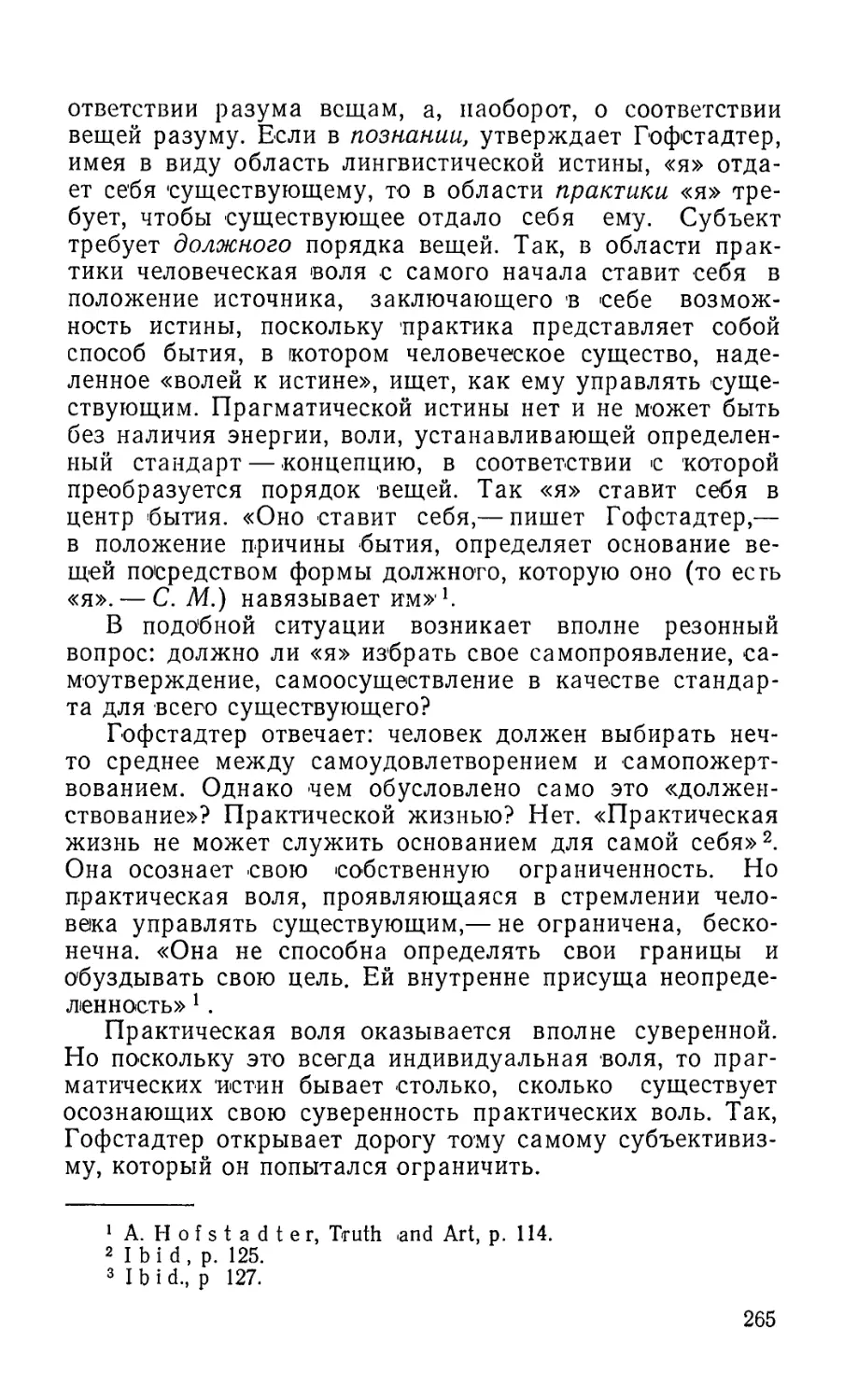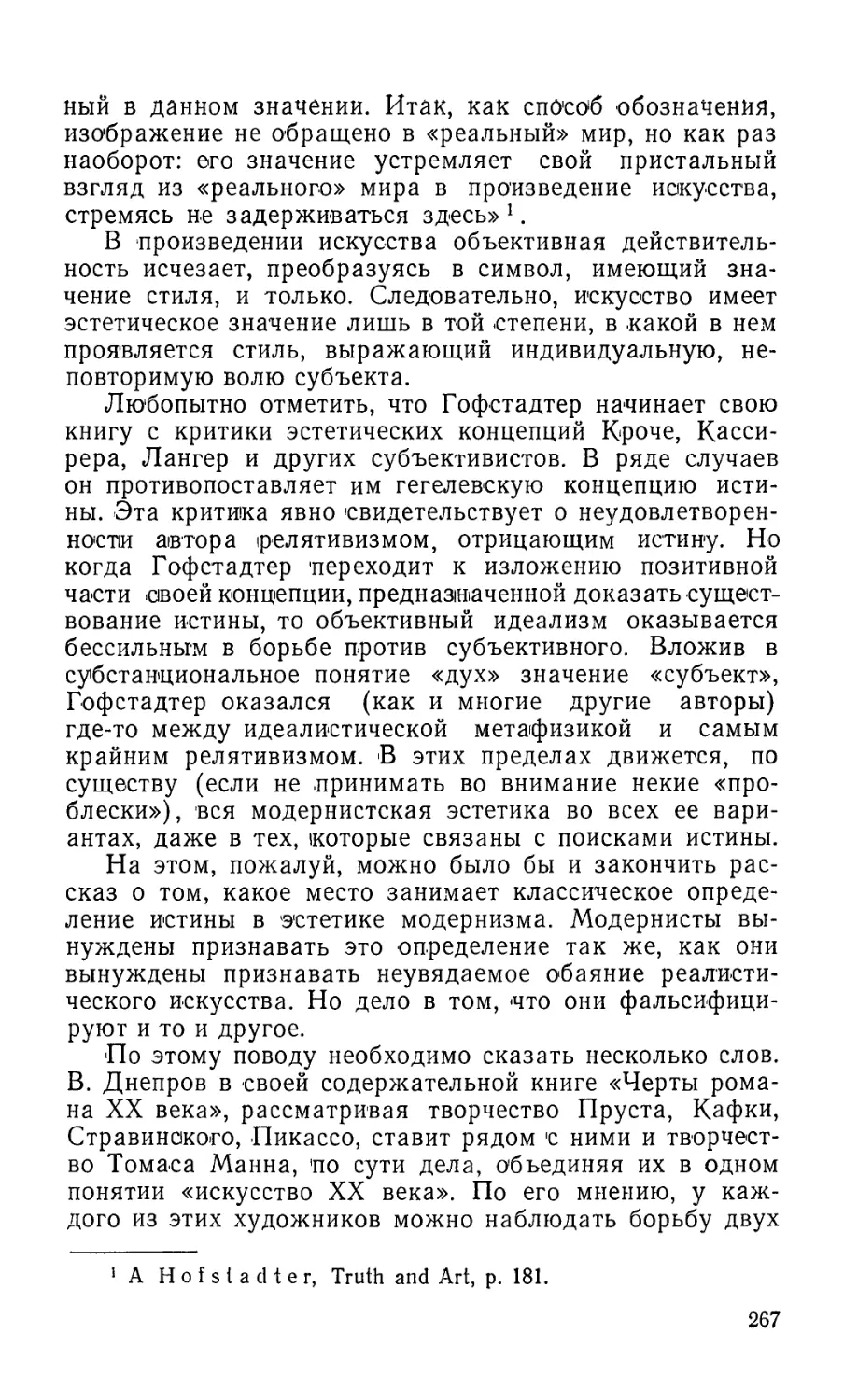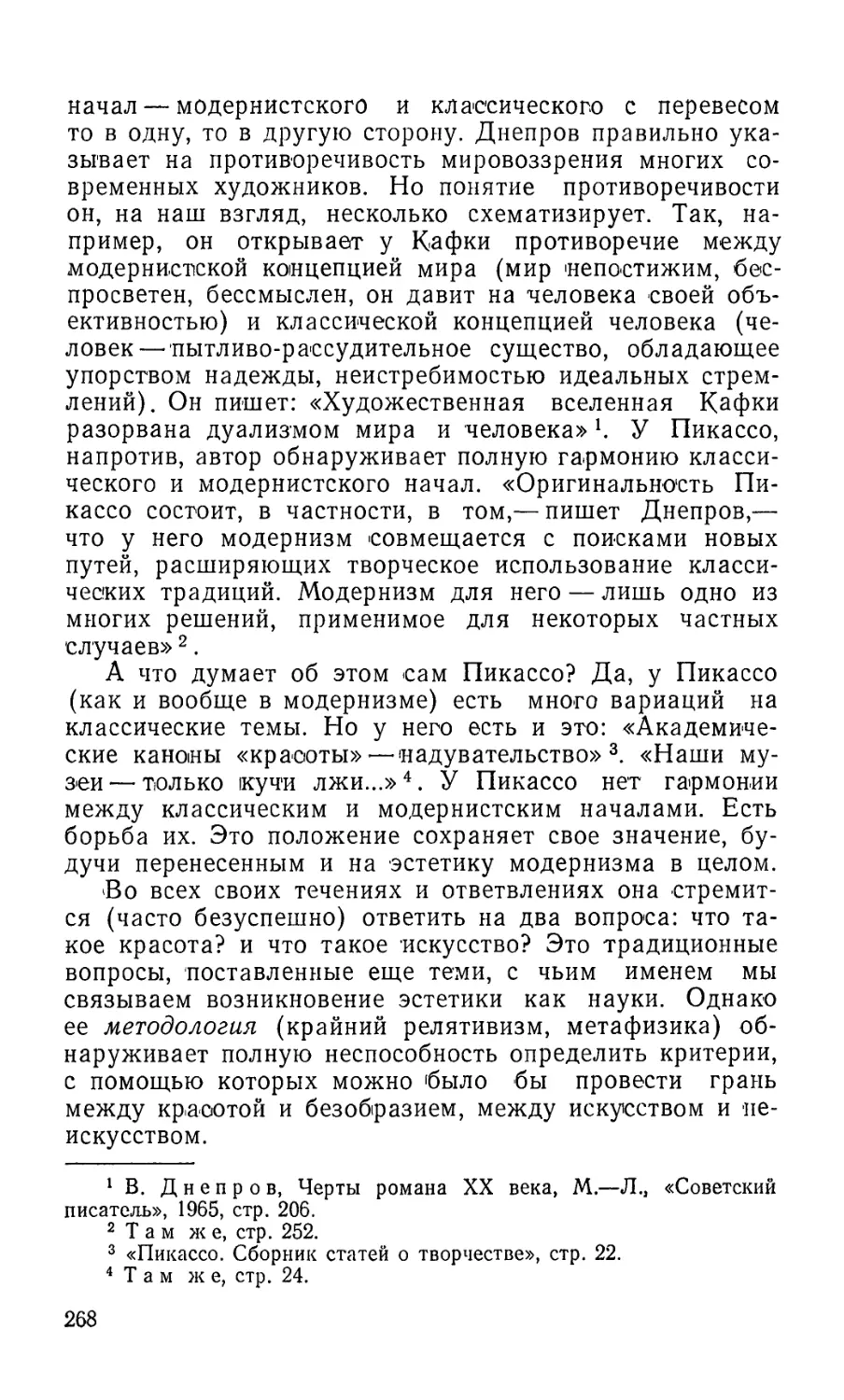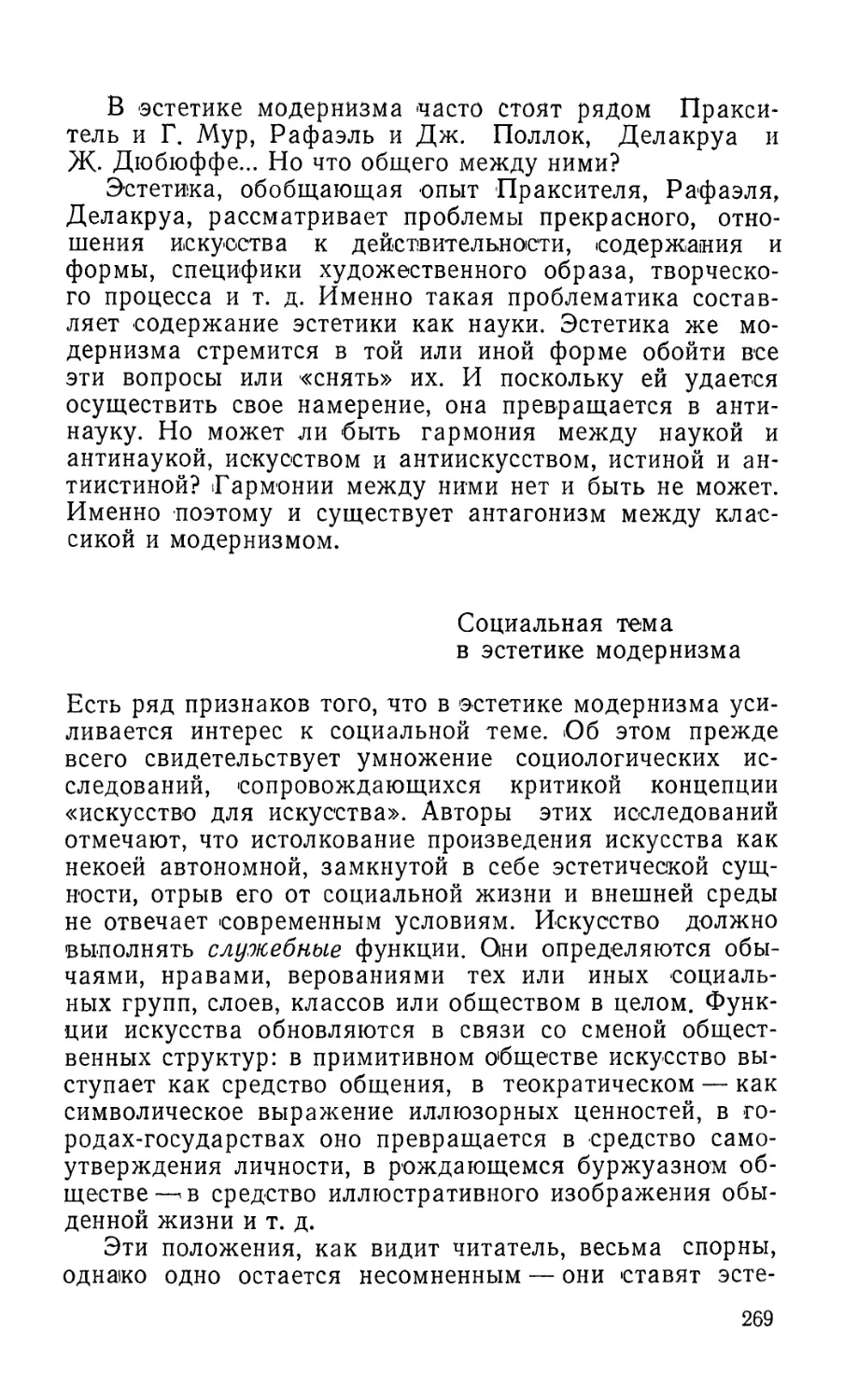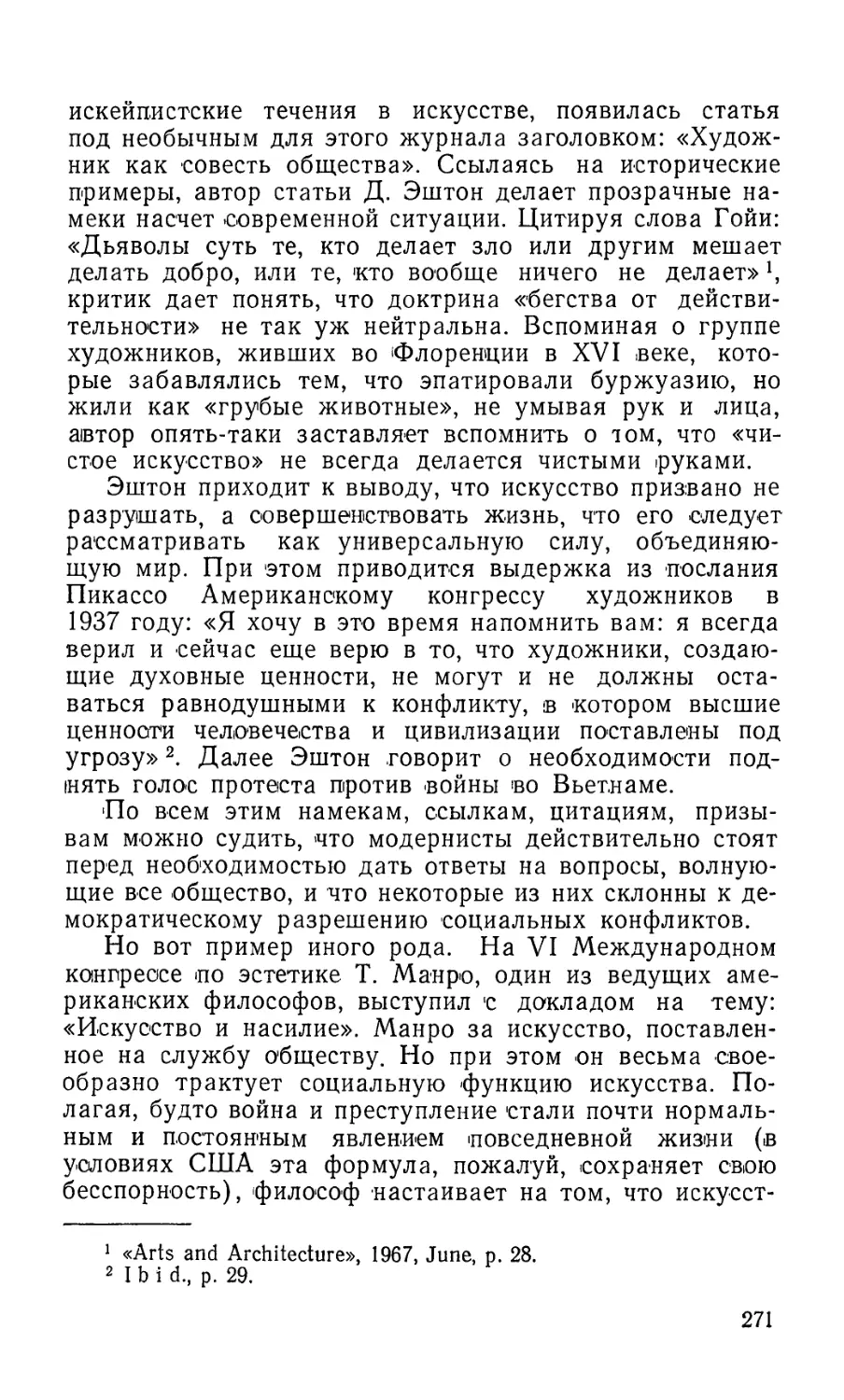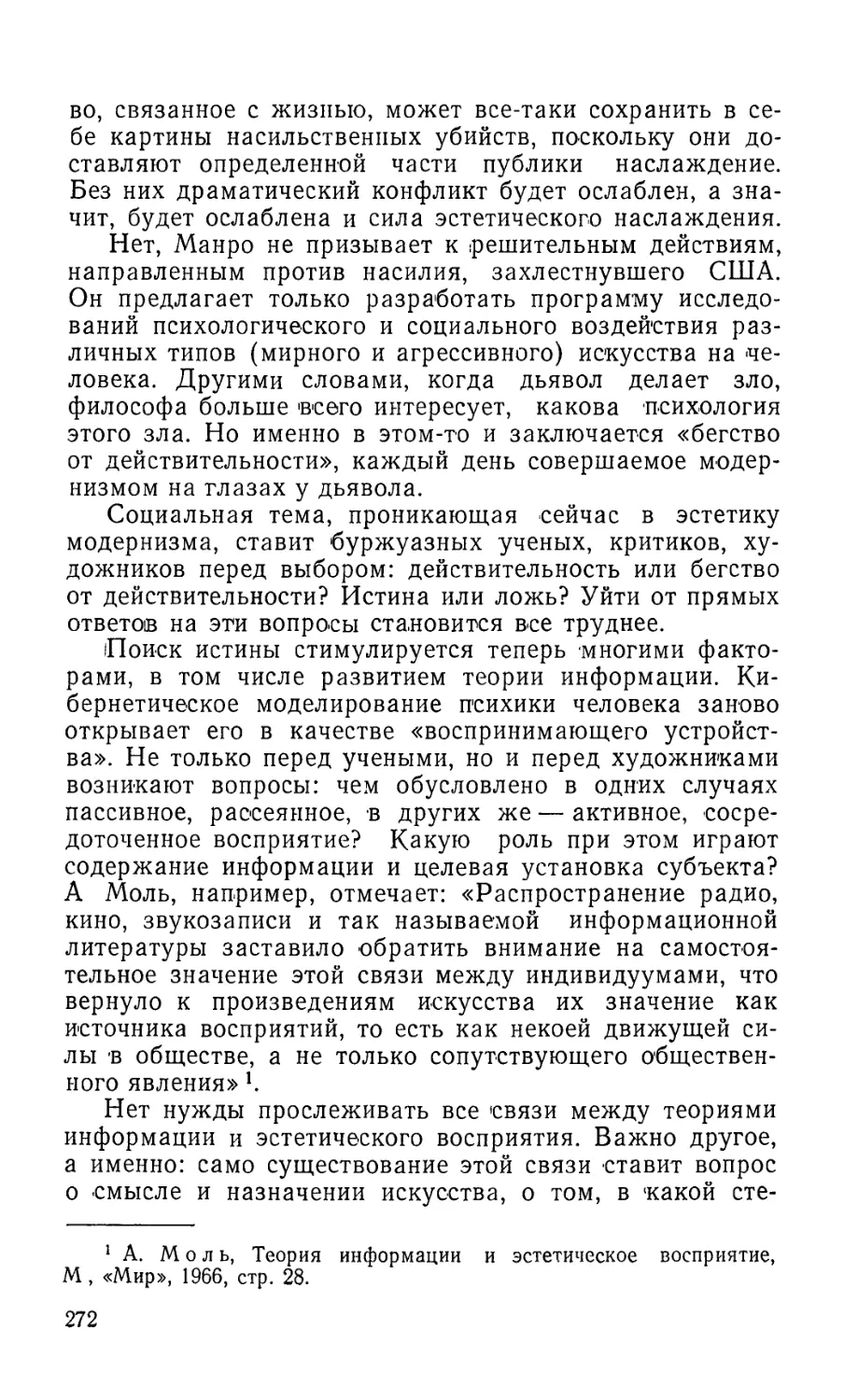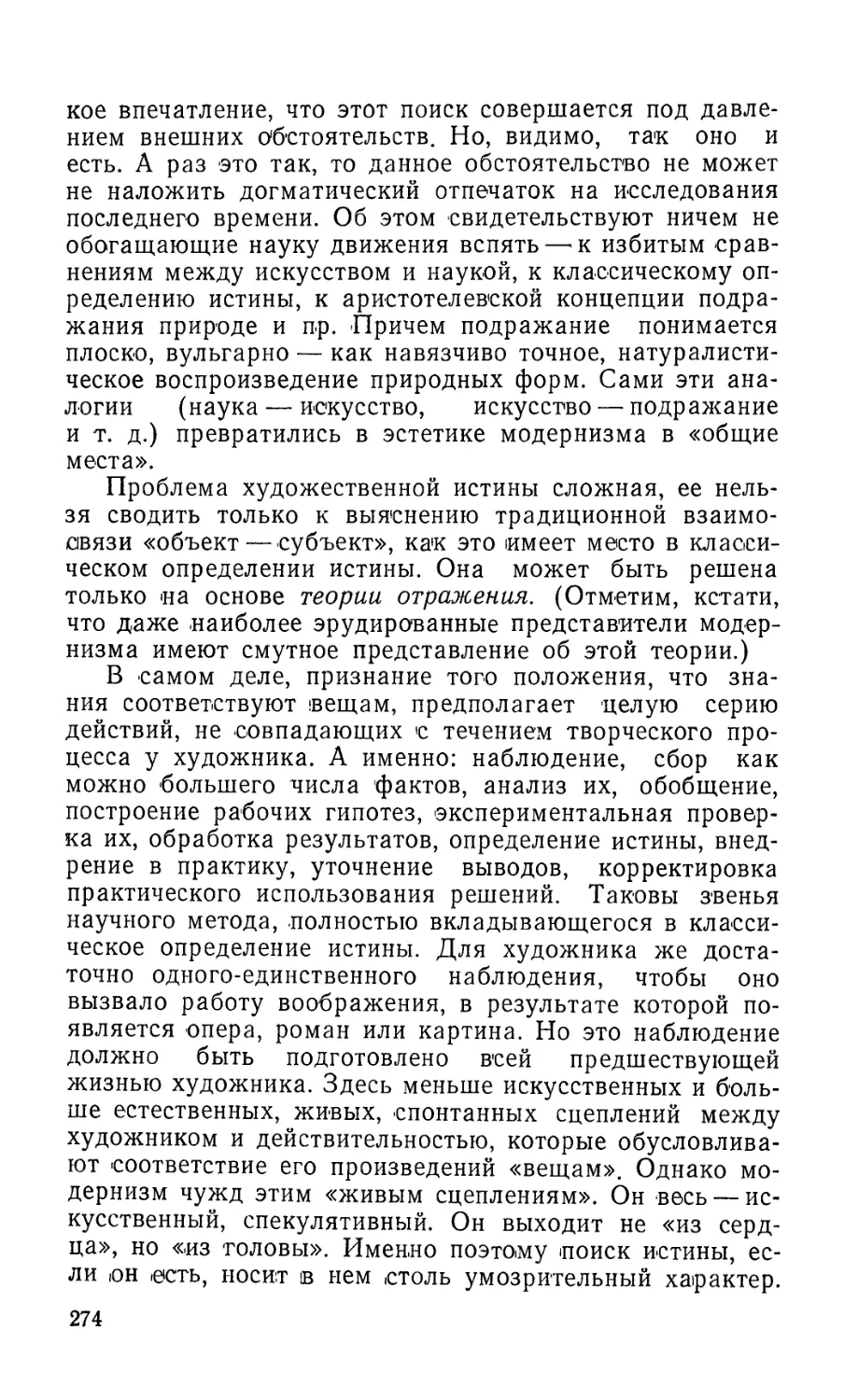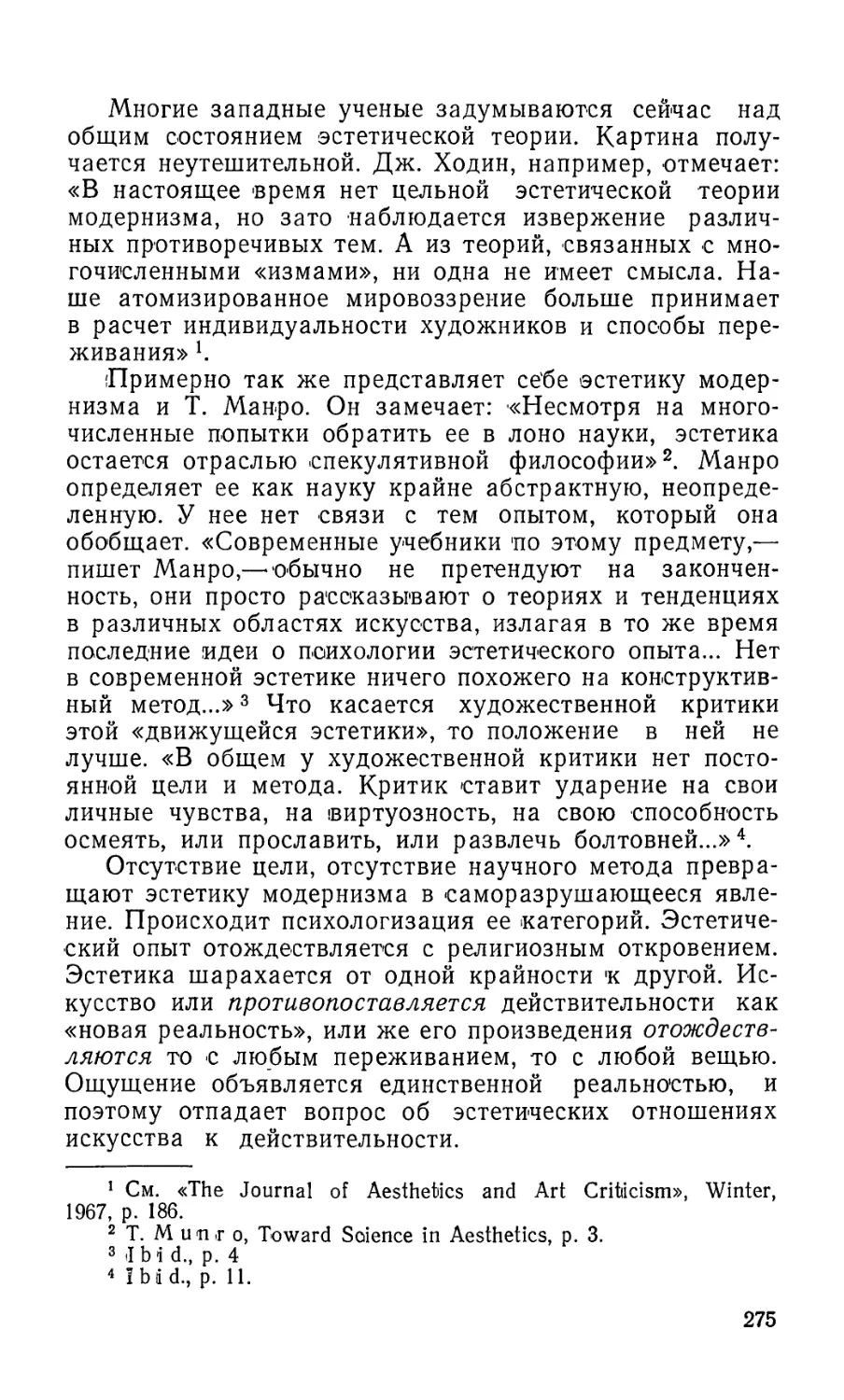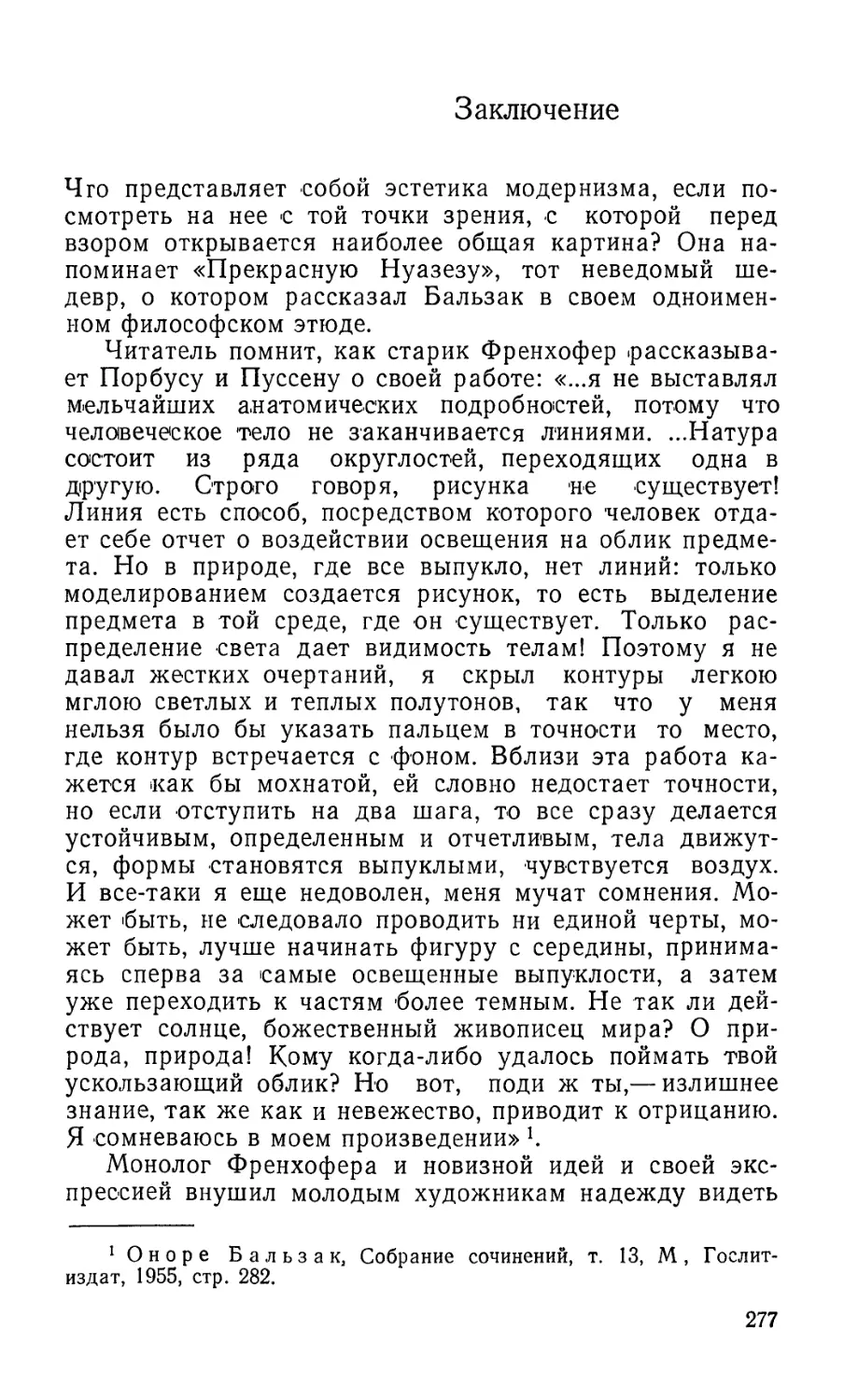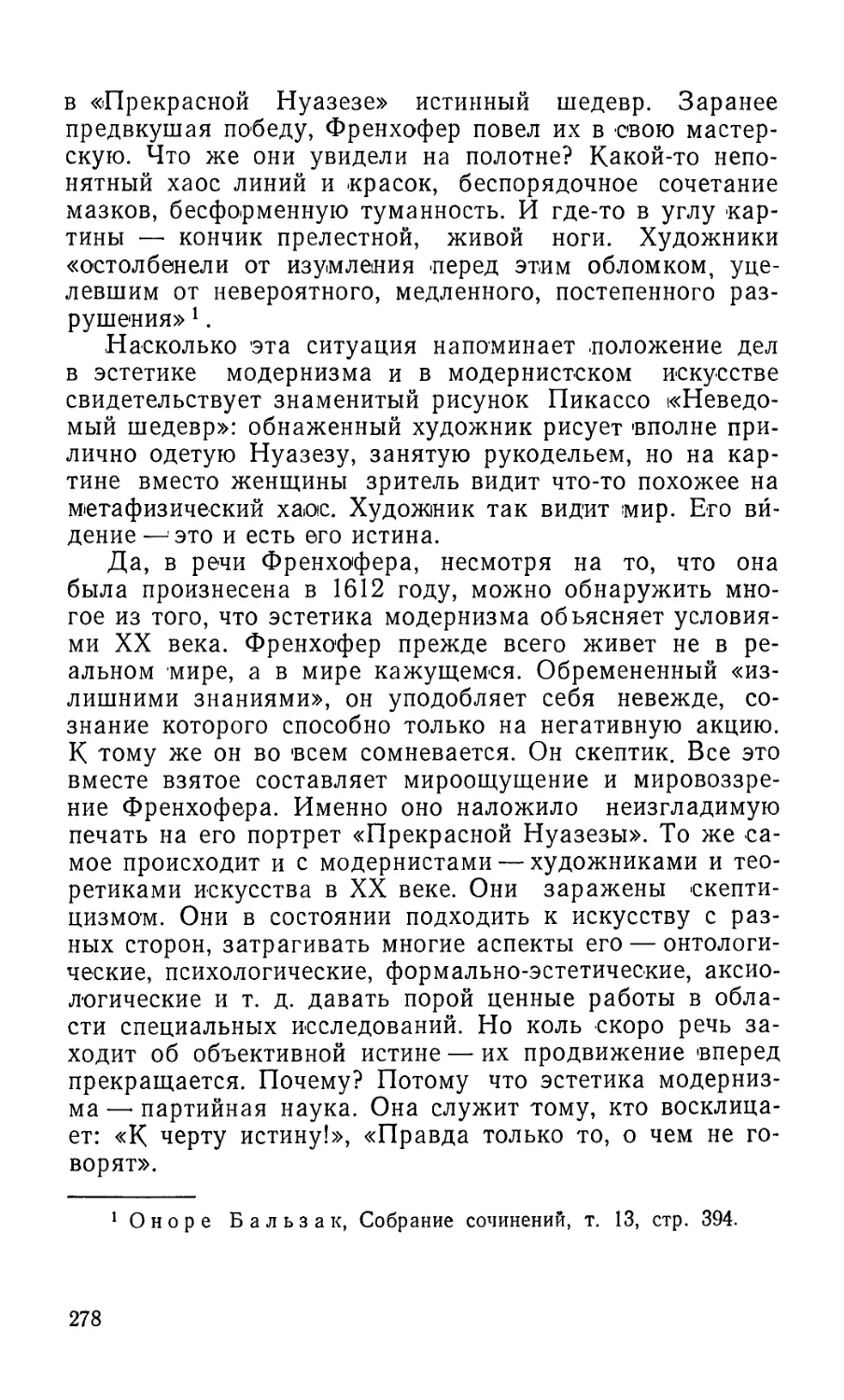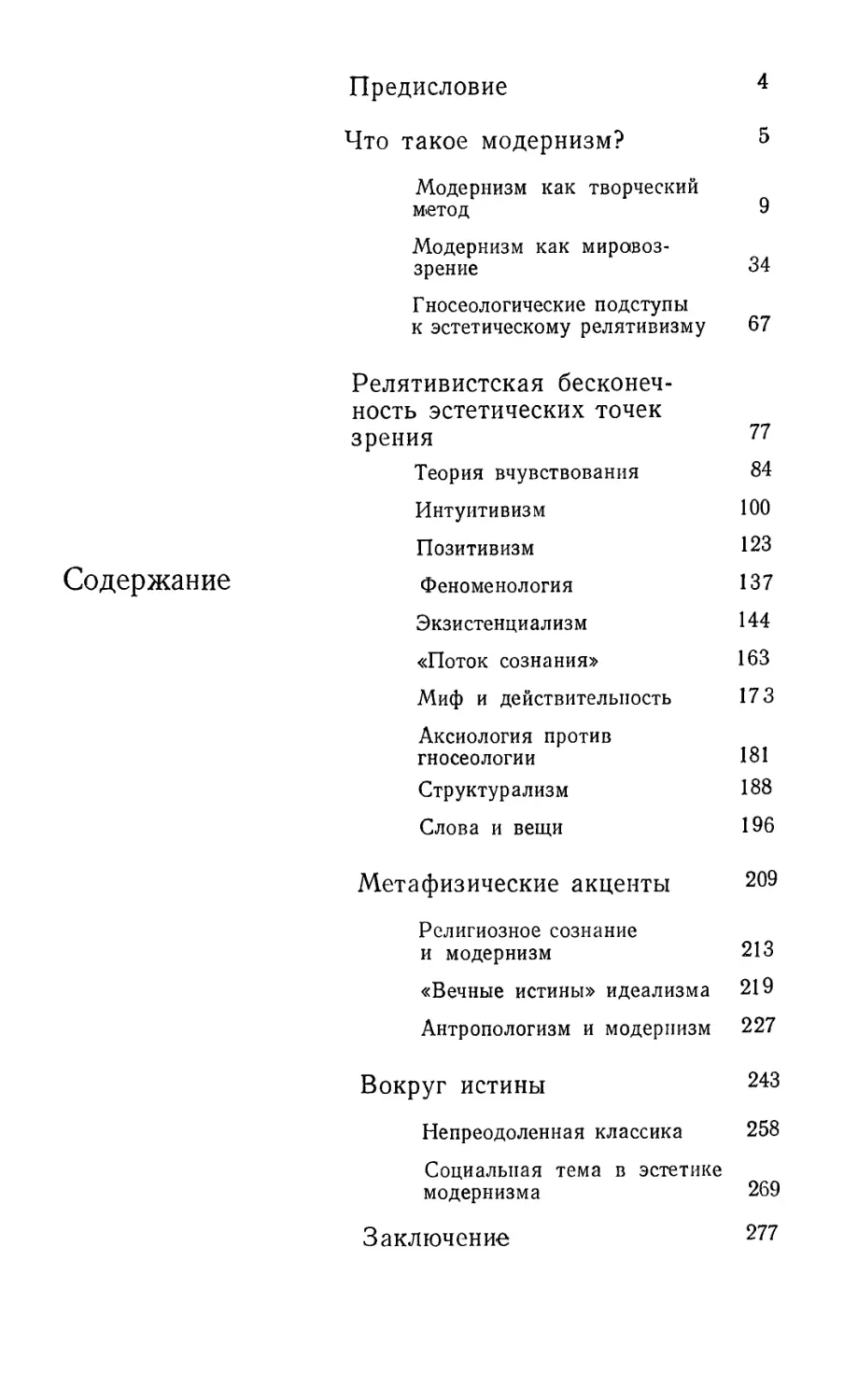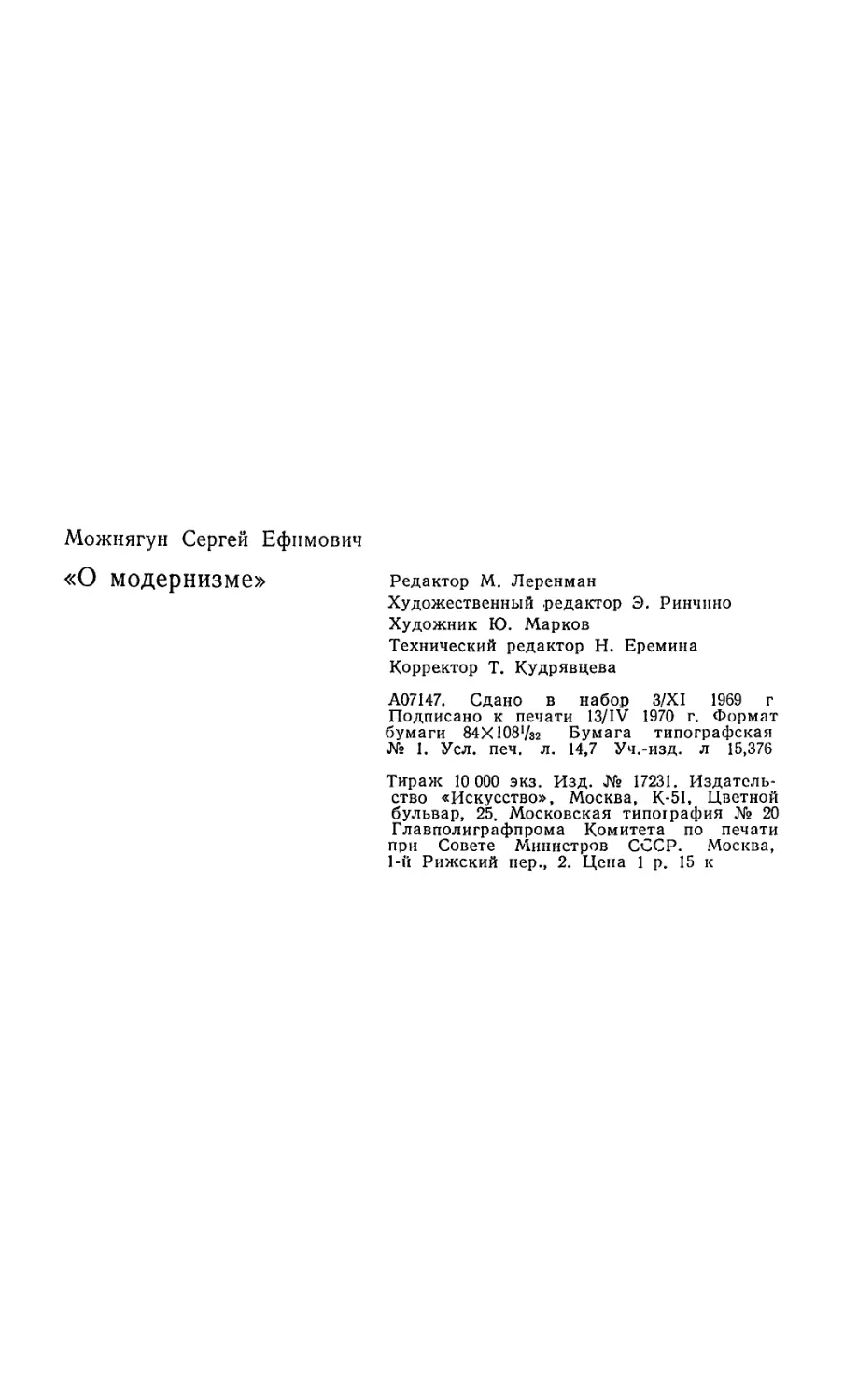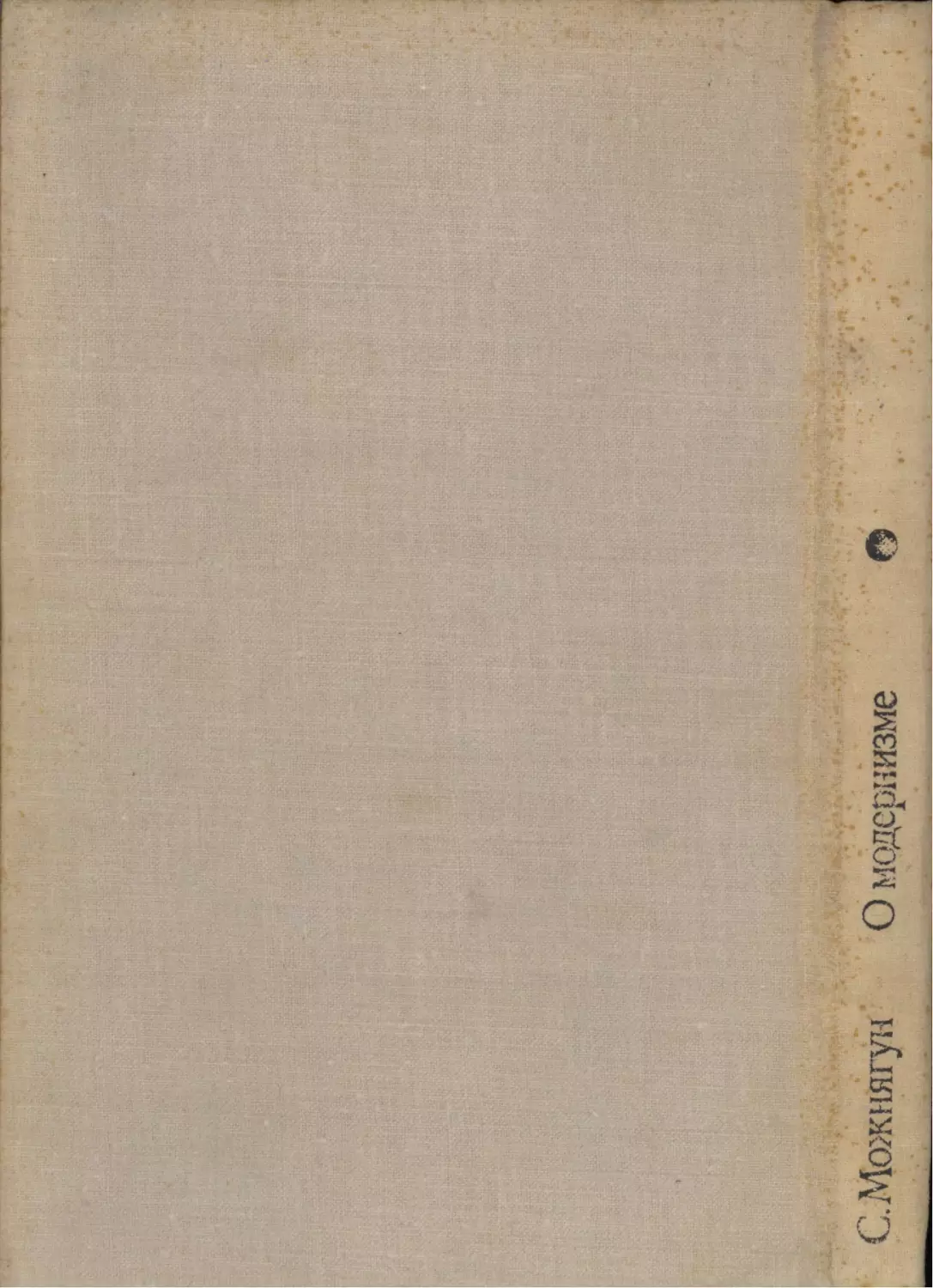Автор: Можнягун С.Е.
Теги: эстетика история эстетики модернизм издательство искусство философия постмодерна
Год: 1970
Текст
С. Можнягун
О модернизме Этюд первый
Истина и антиистина в эстетике модернизма
Издательство «Искусство» Москва 1970
7
М 74
Ответственный редактор
кандидат философских наук В. П. Шестаков
1-5-6
33-70
Скептицизм отчаивается в истине и не ищет ее; наш .век — весь вопрос, весь стремление, весь искание и тоска по истине...
Он не боится, что его обманет истина, но боится лжи, которую человеческая ограниченность часто принимает за истину.
В. БЕЛИНСКИЙ
Предисловие
Не так давно Томас Манро, президент Американского эстетического общества, характеризуя современную эстетику Запада, писал: в настоящее время это область дискуссий и неопределенных исследований. Обычно она рассматривается как ветвь психологии, предмет которой— творческий и оценочный процесс. Поэтому она представляет собой науку в высшей степени релятивистскую. После второй мировой войны удельный вес и влияние ее падает. Это объясняется все возрастающим интересом западного человека к инженерии и практическим делам, а также распространением в эстетической науке бихевиористских и чисто количественных методов исследования, бессильных перед красотой и искусством Ч
Эта безрадостная картина кроме всего прочего свидетельствует о том, что эстетика модернизма не пользуется авторитетом даже у самих ее провозвестников и глашатаев, вынужденных подтвердить ее неполноценность и непопулярность.
Модернизм — сложная и противоречивая проблема современной эстетики, вокруг которой развертываются оживленные дискуссии. За последние годы в нашей стране появились целые серии книг, брошюр и статей, посвященных, анализу и оценке эстетики модернизма. Это означает, что нам не безразличны судьбы искусства XX века, тем более что пути его развития в капиталистическом мире не могут не вызвать тревожного чувства. I Эстетика — одна из решающих сфер идеологической борьбы. Здесь нужно быть хорошо вооруженным, чтобы распознавать сущность процессов, происходящих в буржуазном искусстве. Все эти соображения и побудили автора коснуться гносеологических и социальных проблем эстетики модернизма. Разумеется, автор не считает свою работу окончательной и не претендует на полное и исчерпывающее решение поставленных проблем.
1 См. «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Spring, 1963, pp 263—281.
Что такое модернизм?
Одна из особенностей дискуссии .между марксистами различных стран по вопросу о соотношении реализма и .модернизма заключается в том, что в ней возникают резко разграниченные, более того, взаимно исключающие друг друга суждения. Гак, например, Р. Гароди утверждает, что модернизм— это прямая противоположность декадансу, он представляет момент диалектического движения вперед, реализм нашего времени, исключающий социалистический реализм как устаревшую форму и т. д. В противовес этому Я. Мароти утверждает нечто совсем иное: «...модернизм,— пишет он,— на самом деле представляет собой широкую шкалу разнообразных тенденций и явлений, простирающуюся от негативного полюса буржуазного декаданса до позитивного полюса социалистического реализма» Г Итак, в одном случае модернизм «подтягивается» до уровня реализма, в другом—реализм «растворяется» в модернизме. Еще пример: «В моих глазах модернизм связан о самыми мрачными психологическими фактами
'Янош Мароти, Реализм, вообще и конкретно — В кн. «Социалистический реализм и проблемы эстетики», вып. 1, М., «Искусство», Я 967, стр 67.
5
нашего времени,—пишет М. Лифшиц. — К ним относятся культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости, жажда бездумной жизни, слепого повиновения» *. Концепция Лифшица вызвала оживленную полемику в нашей печати, в процессе которой были высказаны и другие точки зрения на модернизм. По мнению некоторых оппонентов Лифшица, «то, что сейчас кажется простым нагромождением нелепостей и 'бессмысленным истязанием духа, есть нащупывание новых ценностей»1 2.
Разноречивость суждений в дискуссии — явление неизбежное. Она вызвана сложностью и остротой дискуссионной проблемы. Этим, по-видимому, объясняется отсутствие единодушного определения модернизма, которое обнаруживается и в наших справочных изданиях. Так, например, в «Кратком словаре по эстетике» о модернизме сказано, что это понятие, употребляемое для характеристики различных течений современного буржуазного реакционного искусства. «...Всех их объединяет,— читаем в словаре,— решительное отрицание реализма в искусстве и материализма в эстетике; проповедь крайнего субъективизма в художественном творчестве, отход от прогрессивных гуманистических и демократических традиций мирового искусства.
Первоначально под флагом модернизма выступали противники изжившего себя старого академического искусства. Но их критика академизма стала критикой справа, отрицающей не только все устаревшее в искусстве прошлых эпох, но и его достижения.
Модернизм — продукт эпохи империализма. Он выражает кризис искусства, эстетики и всего мировоззрения буржуазии. Модернизм нельзя смешивать с понятием современности в искусстве»3
Это определение, на мой взгляд, весьма упрощает истину, ибо сводится лишь к внешнему описанию. А вот точка зрения на модернизм, представленная в «Философской энциклопедии»: «Модернизм в искусстве — это обозначение течений в буржуазном искусстве XX века, характеризующихся разрывом с художественными формами, выработанными классическим искусством. Кон¬
1 М А Лифшиц, Л. Я Рейнгардт, Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт, М, «Искусство», 1968, стр. 187.
2 «Литературная газета», 1967, 15 февраля, стр. 6.
3 «Краткий словарь по эстетике», М., Политиздат, 1963, стр 205—206.
6
статируя .кризис личности в позднебуржуазном обществе, модернизм .подвергает сомнению ©се попытки его положительного разрешения. Если в классическом искусстве, исходящем из возможности органической связи человеческой индивидуальности с окружающим ее миром, изображение кризиса сознания было лишь одним из частных моментов, а преодоление этого кризиса выступало как общеобязательный закон художественной формы, то в модернизме разорванность сознания предстает как картина общественного состояния, а обнаружение этой разорванности — как основная задача искусства. Поскольку само внутреннее единство личности (образующее исходную предпосылку классического искусства) становится в модернизме проблемой, адекватное раскрытие внутреннего мира во внешних образах утрачивает свой смысл в искусстве модернизма и сменяется аналитической фиксацией реакций человека, выявляемых как нечто отчужденное от человеческой личности, не аутентичное ей. Рассматривая вое попытки преодоления этой дисгармонии как проблематичные и иллюзорные, модернизм отказывается от позитивного изображения идеала, который выступает в искусстве модернизма лишь в форме отрицания. В модернизме исчезает завершенное единство классического художественного произведения, гармоническое слияние всех частей в единое целое; фрагментарность становится основным принципом .художественной формы» L
Это определение так же не представляется точным и исчерпывающим. Дело в том, что многие теоретики модернизма как раз не отрицают своей связи с определенными традициями в европейском искусстве. Так, например, английский историк и критик Дж. Ходин связывает появление модернизма с принятием европейскими художниками доклассической, примитивистской эстетики1.
Многие модернисты действительно полагают, будто существует родственная связь между мышлением пещерного и современного художника — и тот и другой черпают свои смутные символы из подсознания. Так, на вопрос об источниках творчества X. Миро ответил: «Оно созвучно с примитивом, существовавшим задолго до 1 21 «Философская энциклопедия», т. 3, М , 1964, стр. 483
2 См «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Winter,
1967, p. 181.
7
нашей эры. Я чувствую, что мое творчество уходит в прошлое даже дальше того источника, из которого я оам вырастаю. Оно иногда похоже на пещерное искусство». Миро затем спросили: «Не согласитесь ли Вы с тем, что все действительно значительное в современном искусстве—Вы, Пикассо, (Мур, Шагал... уходит своими корнями в ...языческую жизнь?» Последовал ответ: «Корнями — да, конечно» 1.
В творчестве модернистов нередко можно обнаружить мотивы, заимствованные ими в наскальных рисунках эпохи палеолита, в первобытной негритянской скульптуре, живописи и музыке, в древней каллиграфии китайских монахов и т. д. Но они ведь заимствуют всюду, даже из классического искусства, произвольно выхватывая те или иные элементы из потока европейской традиции. Например, те из них, кто придерживается принципа нон-финито, незавершенности, незаконченности (Г. Мур), ссылаются на творчество Микеланджело; сюрреалисты говорят, будто они ведут свое происхождение не то от И. Босха, не то от 'Ф. Гойи. Многие модернисты считают своими предшественниками романтиков и т. д. В этих ссылках на традицию проявляется не столько логическая непоследовательность и противоречивость, свойственная модернизму, сколько тот бесспорный факт, что модернисты, провозглашая антитрадиционализм, создают свою традицию и пытаются опереться на прошлое для того, чтобы изобразить свое направление так, будто оно закономерно и неизбежно возникает в общем потоке культурного развития.
Отсутствие удовлетворительного определения понятия «модернизм» объясняется, по-видимому, не только субъективными, но и объективными причинами. Модернизм гибок и «неуловим», он постоянно меняет свои формы и окраски. Как известно, то, что сейчас именуется модернизмом, в конце XIX века называлось декадансом. Модернизм — это бесконечный ряд «измов», иногда очень непохожих друг на друга, даже конфликтующих друг с другом. И дело тут не только в смене моды, пытающейся угнаться за подвижной современностью, в смене представлений о том, что соответствует XX веку, а что не соответствует. В этом «стихийном», «спонтанном» самодвижении (а по сути, ловко управляемом
1 «Art Magazine», 1968, November, р. 17.
8
процессе) (искусство теряет одни качества и обретает другие, но всегда так, что общество каждый раз оказывается перед проблемой неопределенности. Кажется невероятным, что художники, начав с требования: искусство должно быть (искусством, а не дидактикой, политикой, идеологией и т. д., приходят в конце концов к тому, что стирают всякие 'различия между искусством и не- искусством. Человечество обито с толку ,модернизмом. Созерцая его скоропреходящие «измы», оно постоянно должно отвечать на «роковые» вопросы: что это — упадок или достижение? символ или обычная тряпка, «вещь в себе» или ничто? искусство или неискусство?
Попытаться ответить на все эти вопросы — значит подвергать себя риску погрязнуть в абстрактном теоретизировании.
Не лучше ли идти в ином направлении? Попытаться, например, ответить на другие вопросы: как модернисты творят и как они при этом мыслят? Каков их творческий метод и каково мировоззрение?
Модернизм
как творческий метод
В современной буржуазной философии распространено мнение, будто метод в его наиболее общем виде, как определенная сумма принципов, регулирующих целенаправленную деятельность человека, находит для себя применение только в точной науке — это метод проб и ошибок, эксперимента.
Что же касается философских наук вообще и, в частности, эстетики и искусства, то здесь, полагают буржуазные философы, нет метода. Почему? Потому, что они якобы беспредметны и субъективны и сводятся к выражению -внутренних состояний и эмоций, подавленных внешними и уже поэтому враждебными человеку обстоятельствами. Внутренний мир человека при этом объявляется выходящим «за пределы» внешнего мира, а все науки о человеке — трансцендентальными. Л. Витгенштейн, например, пишет: «Этика трансцендентальна (этика и эстетика едины)»1'.
1 Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, М., Изд-во иностранной литературы, 1958, стр. 95.
9
Эстетика модернизма ориентирована именно на эту концепцию. Поэтому в ее обиходе нет таких понятий, как «художественный метод», «творческий метод». Но это новее не означает, что она лишена каких бы то ни было методологических начал, норм, установок.
В материалистической эстетике такие начала и «принципы четко определены (это служит поводом для обвинения сторонников ее в догматизме), потому что она обобщает опыт предметного (или, как выражаются модернисты, фигуративного) искусства. В модернизме же дело обстоит 'сложнее. Хотя он вбирает в себя и предметное искусство, однако объективная действительность истолковывается в «нем или как обесчеловеченная, грубая м«атериальность (натурализм) или как нечто призрачное, кошмарное, лишенное логических связей (сюрреализм, «новый роман», театр абсурда, дедраматизо- «ванное кино и т. д.), или как расщепленная, исчезающая данность (футуризм, кубизм). Некоторые течения модернизма (абстрактный экспрессионизм, неопласти- цизм, ташизм) стремятся полностью «оторваться» от природы, человека и созданного им предметного мира. Но модернизм в целом не останавливается на отрицании действительности. Он без особых затруднений переходит на прямо противоположную точку зрения—отрицания искусства, причем избавляется в нем ото «всего», даже от пластического начала, беря «голую «предметность» такой, какова она есть. Ограждая обыденные вещи рамами, перенося их в залы музеев (где можно найти теперь и продырявленную кастрюлю, и разбитый унитаз, и еще кое-что в этом роде), модерниз,м тем самым не только упраздняет последнюю границу между искусством и неискусством, но и полностью отказывается од какого бы то ни было истолкования действительности. «В действительности нет такой вещи, как искусство,— «пишет, например, Э. Гомбрич.— Есть только ху^ дожники— мужчины и женщины, то есть те, кто пользуется преимуществами чудесного дара сопоставлять формы и цвета»1. Сопоставлять формы и цвета—это значит молчать о том, какое реальное содержание они выражают.
Наличие таких крайностей свидетельствует о том, что ни о каком художественном методе в модернизме.
1 Е. G о m b г «i с h, The Story of Art, London, 1960, p. 446.
10
не может быть и речи. Но, как уже отмечалось, некоторыми регулятивными принципами и установками модернисты ©се же пользуются. Одни из этих установок действуют в пределах того или иного «изма»: запечатлеть не столько сам предмет, сколько движение его силовых линий (футуризм), видеть предмет одновременно со всех сторон (в четырех измерениях), во всех возможных ракурсах (кубизм), передать посредством образа свое бредовое видение реальности (сюрреализм), отрицать предметы, беря во внимание только линейные или цветовые соотношения между ними (абстракционизм) и т. д. Другие (самовыражение, бесцельность, интуитивизм и т. д.)—охватывают все течения модернизма. Те и другие установки причудливо сочетаются между собой, образуя противоречивое видение, фокус которого постоянно смещается.
Находясь под впечатлением этих установок, внушений, отрицаний, зритель начинает думать, что модернисты ищут, как выразить себя, свой опыт, полагая, что именно в этом поиске и заключается смысл искусства. Слова «переживание», «опыт», «искание», «самовыражение», «революция» и др. мелькают во всех эстетических трактатах, журнальных и газетных статьях. Они-то и подсказывают читателю мысль, будто модернизм есть экзистенциональное (то есть связанное о существованием личности, с постоянным выбором его бытия) и экспериментальное (то есть находящееся в постоянном поиске, предпочитающее поиск результату) искусство. Эти понятия, таким образом, объединяют различные, противоречащие одно другому течения в нечто целое и п о -св о е м у поел е д о в а тел ын о е.
Итак, модернизм именуют экспериментальным искусством. Возникает вопрос: можно ли, и если можно, то в каком смысле, его творческий метод назвать экспериментальным?
М. Рейналь, крупный историк модернистской живописи, полагает, будто новое искусство берет свое начало в творчестве Ж. Сёра, поскольку он был первым экспериментатором, пытавшимся обосновать свой стиль («дивизионизм», «пуантилизм») о помощью научных открытий своего времени. Сёра, изучая теорию цвета, пришел к выводу, что картина должна не столько вызывать у зрителя представление о цвете, сколько быть источником, излучающим свет. Каким образом? Худож¬
11
ник исходит из того совершенно очевидного факта, что два объекта, окрашенные в разный цвет и .поставленные рядом, будут менять свою тональность в зависимости от положения и интенсивности источника освещения, которым может быть солнце, электрическая лампа, керосиновая лампа, газовый -рожок и т. д. Вот первый экспериментатор и решил накладывать на полотно окрашенные в интенсивный цвет точки, которые будут видоизменять свою тональность в зависимости от источника освещения. В картинах Сёра еще есть сюжет, но он утрачивает содержательное значение, являя собой только повод, только отправной пункт, необходимый художнику для цветовой игры. Основные элементы живописи Сёра — тон, окраска, линия, образующиеся как в результате контрастов света и тени, так и вследствие сопоставления дополняющих друг друга цветов — красного и зеленого, оранжевого и синего, желтого и голубого и т. д., их вертикального и горизонтального направления. Всем им независимо от сюжета придаются символические значения: веселости (преобладание освещенности, теплых цветов, горизонтальных линий), грусти (преобладание тени, холодных цветов, снижение горизонтальных линий), спокойствия (равновесие света и тени, теплых и холодных цветов, горизонтальных и вертикальных линий) и т. д. Для Сёра живопись — это искусство «взрыхлять» поверхность. Поэтому тут все дело в технике, которая основывается на учете длительности светового впечатления. Цветовая гамма картин Сёра обусловливается не их предметной содержательностью, но представлениями самого художника (иногда неверными) о восприимчивости сетчатки глаза. Глаз как аппарат восприятия и субъект, «владелец» этого аппарата, определяют, по мнению Сёра, эстетическое (т. е. цветовое) содержание картины. Именно поэтому цвет является основным содержанием картин Сёра. Рисунок выступает в них как вспомогательное средство, к тому же этот рисунок «расплывается», колышется, вибрирует.
Рейналь высоко оценивает творчество Сёра. «Наука и воображение объединились в нем для создания нового пространства... Это — самое великое событие в живописи XX века» 1. Кстати, творчеством Сёра интересова-
1 М R а у n а 1, Peinture moderne, Geneve, 1966, р. 9
12
Лйсь Ван-Гог, Синьяк, Писсарро, Гоген. Однако онй tie (воспринимали его с таким восторгом. Так, Гоген называл '.пуантилизм «рипипуантом», что в переводе на русский может означать «скоблизм» (от слова «скоблить»). Эта ирония означает: художник сам должен совершать открытия, а не заимствовать их у науки.
На Западе часто прибегает к аналогиям между наукой и искусством, утверждая, 'будто кубизм является эстетическим эквивалентом теории относительности, сюрреализм— теории психоанализа, ташизм — принципа неопределенности и т. д. Многие художники решительно возражают против этих аналогий. Так, .Пикассо пишет: «Для объяснения кубизма привлекали математику, тригонометрию, химию, психоанализ, музыку и многое другое. Но все это — лишь .беллетристика, если не сказать — глупость. И это приводило к дурным последствиям, потому ч1о люди просто теряли голову от сплошного теоретизирования» 1.
Модернизм часто оборачивается оплошным теоретизированием и особенно там, где пытается наложить «художественное видение» на научное постижение уни- верса. Недоверие к такому отождествлению искусства и науки возникает прежде всего потому, что сами художники отвергают все и всякие домыслы о влиянии на их творчество научных концепций. Это чувство еще более усиливается от того, что в самой эстетике модернизма искусство и наука резко разграничиваются (об этом будет сказано дальше). Более того, в ней проводится мысль и о их несовместимости, о противоположности их исходных принципов. Все интуитивисты (Б. Кроче, А. Бергсон, 3. Фрейд, Г. Рид и другие) обычно придерживаются того взгляда, что научное мышление XX века или вовсе не оказывает или оказывает лишь косвенное и притом незначительное влияние на модернистское искусство. Рид, например, пишет: «...научная теория цвета, приведшая к такой аберрации, как ■пуантилизм, не имела решающего воздействия ,на художественную практику: художники открыли, что они должны исходить из своей 'впечатлительности, а не из попыток придать значение тем или иным эстетическим эффектам» 1 2.
1 «Пикассо. Сборник статей о творчестве», М., Изд-во иностранной литературы, 1957, стр. 13.
2 Н 'Read, The Philosophy of Modem Art, London, 1962, p. 18
13
Как бы йи относились Модернисты к науке (одни из них отождествляют науку и искусство, другие — противопоставляют их), называть их -метод творчества экспериментальным в таком же смысле, в каком употребляется это понятие для обозначения научного метода, нет никаких оснований, В науке эксперимент служит для проверки (верификации) гипотезы, для ее опровержения или подтверждения. Что же касается эстетики модернизма, то она провозглашает отказ от верификации. Это значит, что все свои предложения, гипотезы она заранее объявляет истинными. Какой же смысл в таком случае вкладывается ею в понятие «эксперимент»?
Модернисты часто говорят, будто они предпочитают сам творческий процесс, связанные с ним поиски, находки (которые тут же перечеркиваются) результату. Потребителю, таким образом, предоставляется возможность наслаждаться не произведением искусства «замкнутым в себе», то есть законченным, но бесконечной перестановкой цветовых пятен, линий и форм (живопись-действие), присутствием при созидании-разрушении, 'случайной сменой событий, загадочно смещающих его внимание и т. д. Лишенное каких-либо объективных критериев, целей, а то и просто смысла, такое общение между художником и потребителем ни к чему их не обязывает, оно может внезапно начаться и так же неожиданно кончиться.
Это — эксперимент? В известном смысле, да! Но отличительная черта его заключается в том, что он всегда обращен против человека, воспринимающего искусство, поскольку ничем не обогащает его, более того: обманывает его надежды. В лучшем случае такой эксперимент (если художник талантлив) держит зрителя, читателя, слушателя в непрерывном напряжении на грани эстетического переживания.
Именно об этом свидетельствуют некоторые фильмы М. Антониони в особенности его знаменитый «Blow up».
«Blow up» — английское выражение, имеющее несколько значений: раздувать, взрывать и др. Обозначив этим термином свою картину, Антониони хотел не столько передать ее содержание (в Англии этим словом называют искусство увеличивать фотографии и тем самым достигать новых открытий и эффектов. Именно о таком художнике и ведется рассказ в этом фильме), сколько охарактеризовать свой творческий метод.
14
Художественное зрение у Антониони острое и цепное Он мгновенно схватывает значение той или иной детали и тут же использует для возбуждения интереса, ожидания, обостряющихся до невероятной степени. Эта деталь собирает все внимание, но вовсе не для того, чтобы объяснить событие. Скорее наоборот, она погружает зрителя в тайну. Причем режиссер поступает всегда так, чтобы сделать эту тайну необъяснимой и непроницаемой.
Молодой фотограф, на лице которого отразились все пороки большого города, снимает случайные уличные оценки. В его объектив попадает скрывающаяся в -парке парочка. Женщина первой замечает свидетеля. Возбужденная, она подбегает к нему и просит, нет, нет, требует, отдать ей пленку. Эти снимки ставят под сомнение не только ее репутацию, но нечто большее. Фотограф вовсе не тронут ее просьбами, но обещает ей вернуть снимки и дает адрес своей студии.
Проявив пленку и увеличив карточку, фотограф замечает за заснятой изгородью, в кустах неподвижные очертания... человеческого тела, а на лице женщины — испуг. Он идет ночью к месту происшествия и действительно обнаруживает труп.
На языке реалистической поэтики это событие можно назвать «завязкой». В нем намечается конфликт: фотограф стал невольным свидетелем преступления. Зритель ждет, как он будет вести себя.
Неожиданное открытие вовсе не потрясло фотографа, но заинтриговало. Он идет, но не в полицию. Он сообщает своим друзьям о трупе... но они остаются совершенно безразличными. Затем герой фильма опять идет на место происшествия. В ночной тишине он слышит подозрительные шорохи. Слух его обостряется до крайности. Никаких следов преступления. Он выходит из парка, уже светло, а в это время по дороге движется вереница открытых машин, в которых едут шумные участники карнавала. Они выходят из машин, галдя и смеясь, идут к теннисным кортам. Фотограф присоединяется к ним. Настал новый день. В этом заключается весь сюжет фильма.
Сюжет сам по себе банальный. Но фильм смотрится с огромным напряжением. У зрителя такое впечатление, будто его насилуют. Поэтому окончание фильма воспринимается им с облегчением.
15
Как же режиссер Нагнетает напряжение?
По ходу развития сюжета фотограф встречается с заснятой им подозрительной женщиной, с манекенщицами, о балериной, распластанной на полу в конвульсиях, в судорожных движениях; с писателем-наркоманом, с битлсами (они истерично выкрикивают свои песни перед болезненно остолбеневшей толпой, потом они бьют и топчут ногами свои гитары), с художником-новатором, который «не знает, что делает», он заходит в лавку, где торгуют всяким хламом, покупает старый пропеллер, чтобы выставить его в своей студии, по дороге встречает демонстрацию против войны во Вьетнаме.
'Само собой разумеется, что зритель каждую такую будничную встречу связывает с основным действием, с вероятным разрешением конфликта. Но никакого разрешения эти во многом случайные встречи не влекут за собой. Их могло и не быть. Фотограф встречается с этими и еще многими другими людьми «просто так».
'О чем же этот фильм? Какой философский смысл заложен в нем?
О том, что люди живут некоммуникабельной жизнью. Каждый из них существует сам по себе, его интерес сосредоточен на данном мгновении, вернее, на том, что это мгновение может дать ему; случайный заработок, неожиданную встречу, удовлетворение похоти (ты насилуешь или тебя насилуют) или старый пропеллер.
Фильм — суггестивный, «колдовской»: он построен на намеках, 'Случайных ассоциациях, алогичных переходах от одного кадра к другому, на взвинчивании нервов. Режиссер внушает зрителю чувство (мыслью это нельзя назвать) бессмысленности, опустошенности. Но он делает это, используя искусство (а не суррогат его) как средство гипноза, опираясь на определенные психологические, акустические и другие законы восприятия. Зритель покорно следует за режиссером, надеясь раскрыть тайну случайного происшествия, а режиссер, пользуясь этой доверчивостью, берет зрителя ■ «на мушку», держит его под прицелом в течение двух часов, чтобы потом отпустить. Он экспериментирует над ним (а вернее: эксплуатирует его внимание).
Именно этот смысл и вкладывают модернисты в понятие «эксперимент». «Экспериментировать» в данном случае означает «манипулировать человеком», унижать его.
16
Обратимся еще к одному понятию, призванному раскрыть смысл 'модернистского творчества. Всякое пособие по эстетике модернизма, всякий трактат или статья о нем, независимо от того, какую философию исповедуют их авторы—-махизм, прагматизм, экзистенциализм, фрейдизм, неотомизм и т. д.,— обычно исходят из умозрительно созданной абстракции человека, вселенской личности, которой присуще свойственное якобы нашему веку видение действительности. «Видение» (vision) — это ключевое понятие, проникающее (как и понятие «эксперимент») во все модернистские «измы». Представитель каждого из них может сказать: я вижу мир так, как никто иной. «Человек с улицы», то есть человек, наделенный так называемым здравым смыслом, видит другого человека с двумя ногами, с двумя руками, с одной головой и т. д., а я вижу его тело как растекающуюся массу, вижу его превращенным в сороконожку, вижу его анфас и в профиль одновременно. Мое видение, как рентгеновские лучи, проникает внутрь, я вижу, как вибрируют электроны в атомах его тела,— я передаю их вибр'а-цию на полотне, я вижу всю тщету и бессмысленность его существования. Это—мое видение. Оно суверенно. Я утверждаю тем самым свою свободу. Другой художник видит мир как-то по-другому. Он тоже абсолютно свободен.
Каждый модернист, таким образом, отождествляет себя с моделью той универсальной личности, которую создают сообща, чтобы утвердить ее в качестве единственно возможного для XX века эталона. Эталон же этот в конечном итоге оборачивается полным произволом.
Г. Рид, например, утверждает, что история искусства есть история различных способов -видения мира. Он отвергает «наивное» убеждение, согласно которому существует способ видеть мир так, как он дан в непосредственном восприятии. Видение, по 'Риду, это привычка, соглашение, в соответствии с которым люди -отбирают то, на что направлено их внимание, и разрушают все остальное. «Мы видим то, что -хотим видеть, по то, что мы хотим видеть, обусловлено не неизбежными законами оптики, не жизненным инстинктом выживания (как это имеет место у животных), но желанием открыть или -сконструировать для себя мир, в который можно поверить. То, что мы видим, нужно сделать реальным. В этом смысле искусство преврашается в кон¬
;i7
струирование реальности»1. Конечно же, реальность, сконструированная художником и не 'связанная при этом ни с природой, ни с социальной действительностью, ни с законом оптических восприятий, ни с жизненными инстинктами человека, может иметь любые значения, в том числе и абсурдные.
Художник, по мнению Рида,— это человек, обладающий способностью и желанием превратить свои визуальные восприятия в материальную форму. Первая половина этого действия—перцептивна, вторая — экспрессивна. Но на практике невозможно разделить эти два процесса, так как художник выражает то, что (воспринимает, 5и воспринимает то, что выражает. Получается, таким образом, замкнутый круг, совершенно независимый от объективной реальности. Художник может поставить перед собой нелепые вопросы (скажи мне, где сейчас прошедшее время?) и невозможные требования (иди и поймай падающую звезду). Если мы будем последовательно применять этот метод в живописи, то мы получим то, заканчивает Рид, что можно видеть на картинах Шагала и Дали. Их образы представляют собой символы, такие же, как математические символы х, у, z и др., которые всегда означают неизвестные величины. В искусстве символы могут быть абстрактными и конкретными. Классическое искусство оперировало конкретными символами, современное — абстрактными. Символ является абстрактным, пишет Рид, «...когда используются произвольные формы, которые совершенно не соотносятся с объектами опыта или явлениями природы; они полностью абсолютны, так же как буква «х» является абсолютной и произвольной»1 2.
Абсолютный произвол или произвольно созданный абсолют — вот что содержит в себе «видение», понятие, призванное раскрыть механизм модернистского творчества, его побудительные мотивы, его конечные продукты.
Само по себе слово «видение», бытующее во многих языках^ мира, может иметь различное значение: способность видеть, визуальное наблюдение, мечтание, привидение, -грезы во сне и наяву и т. д. В «Толковом сло¬
1 Н. 'Read, A Concise History of Modern Painting, New York, 1959, pp. 12—13.
2 H. Re-ad, The Meaning of Art, Harmoindswarth (Midd’x), 1959,
p. 171.
18
варе» В. Даля обращается (внимание на его спиритуалистическое истолкование: образы, зримые духом; мара, морока. Эстетика модернизма, как видно из предшествующего р,азбор а, склоняется именно к такому спиритуалистическому истолкованию, она отождествляет видение с созерцанием «вероятного мира», а это последнее — с созиданием реальности.
Рид утверждает, будто желание созерцать вероятный мир или стремление .художника сконструировать для себя собственную реальность ничем не обусловлены: ни инстинктом выживания, ни оптическими или психологическими законами, ни социальными отношениями. Но откуда же все-таюи берется само это желание? Где его источник? Эстетика модернизма, неизбежно сталкиваясь с этими вопросами, не может уклониться от ответа на них. И она дает его, причем во множестве вариантов: в одном случае видение художника обусловливается успехами науки и техники; в другом же — оно объясняется стихийным и необъяснимым (?) распространением индивидуализма; иные утверждают: XX век отказывается от истины, воплощенной в рационализме. Это произошло якобы вследствие осознания того, что все реальное перестало быть разумным. Разочарование в объективной действительности, ставшее всеобщим, будто бы вызвало устремление к иррациональным и уникальным ценностям, в которых выражены .неповторимые желания и ощущения человека, его инстинкты, его интерес к спонтанным жизненным силам...
Кстати, о чего бы ни начиналось объяснение «видения XX века», модернизм неизбежно приходит к идее инстинкта как единственного источника человеческой жизнедеятельности. Тут-то и начинает раскрываться весьма определенная, не столько эстетическая, сколько идеологическая ориентация. Тут-то и начинают звучать в модернистской эстетике весьма зловещие мотивы: поколения человечества гибли в прошлом от того, что становились слишком интеллектуальными; плоть и кровь более мудры в сравнении с разумом и т. д. М. Баррес, один из тех, кто наиболее активно способствовал развитию этого нового «видения», писал: « Я выбрался из пределов холодного и благородного разума и моего нормального состояния интеллигентного человека. Я снова обрел животный инстинкт. Он возбуждает меня. Я возвышаюсь до него. Он становится моим энтузиаз¬
2*
19
мом... Это — потрясение всего бытия... Это движение мистицизма опьяняет меня»1.
Культ «я», чувственности, энергии, освобожденных от «оков» разума, побуждает не столько к созиданию, сколько к разрушению. Конечно, необремененный разумом субъективный дух, «бунтующий» против объективной действительности, пока оказывается способным только на то, чтобы разрушить ее в своем больном воображении и с помощью больного воображения. Именно этим объясняется то, что весь модернизм отмечен «роковой» печатью деформации. Западный зритель знает, чго формв, к которой его приучает модернизм, всегда стилизована и — разорвана. Для него натурализм — это жесткость рисунка; экспрессионизм — безысходное страдание, обнаженный прием; кубизм — фрагментированная, геометризированная предметность; сюрреализм — это кошмары, видение «тайн» подсознания; абстракционизм — это линейный или цветовой хаос и т. д. На вопрос, что такое тот или иной декадентский «изм», зритель получает устойчивый ответ: это деформация объектив н о й д е йствител ьно оти.
Искажение, вступающее в противоречие с естественным, «нормальным» восприятием материальных форм, возводится модернистами в принцип, в норму, а в этой ипостаси оно уже само собой превращается в бессмысленное разрушение самого произведения искусства, о чем свидетельствуют сами художники. Так английский модернист Ф. Бэкон утверждает: «Я люблю картину, когда кончаю ее. Но чем более я смотрю на нее, тем более неудовлетворенным становлюсь. Если кто-либо не уберет ее от меня в течение нескольких дней, я, вероятно, разрушу ее. Моя конечная цель — искажение реальности»1 2. Почему искажение и разрушение — конечная цель? Это объясняется вовсе не творческими соображениями, неудовлетворенностью своей работой и т. д. Ответ на этот вопрос Ф. Бэкон поднимает на «принципиальную высоту». Разрушение — его конечная цель потому, что мир безобразен.
Пикассо тоже разрушает, но он обосновывает свою деформацию не социальными, а эстетическими мотива¬
1 R А 1 b ё г ё s, L’aventure intellectuelle du XX siecle. Panorama des literatures europeennes ,1900—1963, Paris, 1963, p. 69.
2 «Painters on Painting». Selected an ed. by E. Protter, New York, 1963, p. 246.
20
ми. Он говорит: «Моя картина—итог ряда разрушений. Я создаю картину и потом разрушаю ее. Но в конечном -счете ничто не утрачивается бесследно: красный цвет, удаленный мною с одного места, появляется где-нибудь в другом»1. -По мнению маэстро, разрушения придают картине драматическую силу независимо от того, куда художник перемещает красный цвет,— со щеки на нос или обратно, то есть он совершенно не считается с темой картины, полагая, будто созданная им композиция представляет собой лишь сочетание эстетических элементов— линий и цветов.
Независимо от того, какими соображениями — социальными, философскими, эстетическими и т. д. — руководствуется художник, но, если он возводит деформацию в принцип, это позволяет уже говорить о деформации, искажении как творческом методе. В этом случае уже нельзя не коснуться того, что есть искажение и «искажение». Градации его степеней бесконечны, поэтому и функции его различны.
Не всегда искажение противопоказано искусству, та или иная степень его присуща мифологии, раннему эпосу, фантастическому, романтическому и даже реалистическому творчеству — ведь существуют же такие настроения, как ирония, насмешка, издевательство и соответствующие им жанры: шарж, карикатура, сатира, гротеск... Исходя из этого общеизвестного факта, кое- кто пытается сделать вывод, что модернизм — это мифология или гротескное искусство, выражающее скептическое отношение художника к действительности. Р. Гароди, например, пишет: «В живописи -Пикассо — человек восьмого дня творения. Человек, который подвергает сомнению все созданное богами, слишком быстро удовлетворившимися сделанным»1 2. О творчестве Ф. Кафки: «... Кафка создает мир фантастического из материалов реального мира, сочетаемых заново, по иным законам»3.
Эти положения, взятые отвлеченно, могут показаться правдоподобными. В самом деле, человек может и должен подвергать сомнению все: не только созданное 'богами, но и сработанное им самим. Он может
1 «Пикассо. Сборник статей о творчестве», стр. 18.
2Р Гароди, О реализме без берегов, М., «Прогресс», 1966, стр. 92.
3 Т а м же, стр. 193.
также творить -мифы из материалов реального мира. Но эти бесспорные положения вовсе не означают, что сомнение обязательно ведет к искажению, что элементы, нзятые из реального мир-a, можно сочетать по каким-то иным законам, кроме тех, какие присущи самому реальному миру.
Пело и том, что воображение художника может сочетать элементы реального мира по законам этого мира, достигнутого уровня его познания, эстетического 'восприятия, языка данного вида или жанра искусства, сосредоточивая при этом внимание на том или ином элементе, преувеличивая или преуменьшая значение той или иной черты. Все это делается для того, чтобы выявить сущность (или истину) этого реального мира (или его «куска», отдельного события). В этом случае «пересоздание» художником мира будет условным, то есть зависящим от целого ряда объективных условий. Но если художник будет «пересоздавать» реальный мир не по объективным, а по «иным законам», считаясь только со своими субъективными намерениями, неустойчивыми настроениями, своевольными прихотями, он неизбежно придет к деформации, искажению реального мира. Из этого следует вывод, что необходимо отделять условность от деформации. Это не одно и то же. Иногда деформацию истолковывают как средство «пересоздания» мира. Так, Гароди пишет: «Сезанн хотел сочетать «плечи холмов и склоны женского тела»... стремясь к преобразованию реального и строя картину из элементов, созданных человеком, >а не заимствованных непосредственно у природы»1.
Сочетать «плечи холмов и склоны женского тела» вовсе не означает отроить картину из элементов, не заимствованных у природы: ведь и холмы и женское тело— это элементы природы. Правда, они принадлежат разным «стихиям» и поэтому к ним- применимы разные измерения. Если же мы их все-таки сочетаем на основе одного, уравнивающего их измерения, то в этом выражается наш произвол. Не важно, что он основан на созерцании внешне сходных между собой линий.
В модернизме всякая деформация возникает без связи о познанием реальности. Здесь художник, «ра¬
Р. Гароди, Q реализме без берегов, стр. §5,
22
зобрав мир», сочетает затем его элементы «по иным законам», или же он сочетает элементы, якобы вовсе не заимствованные у природы. И в том и в другом случае в «пересозданном мире» исчезает одухотворенный человек. Сравним «Спящую Венеру» Джорджоне и «Обнаженную в лесу» Пикассо. Образ Джорджоне — это не только материальность, но и нравственная идея. Спящая Венера — как бы очеловеченная природа, доверчивая и открытая, потому она не боится нескромных взоров. Картина Пикассо — это только «разобранное» и вновь «собранное» тело, лишенное духовной сущности, увиденное через призму чувственности и то ли из озлобления, то ли из озорства искаженное художником.
Модернист деформирует по-разному, но всегда вследствие односторонне применяемого, абсолютизированного приема, когда он пускает в ход любые средства, не считаясь с грамматикой, свойственной языку данного искусств-a: он или раздувает значение детали, или протоколирует поток сознания, или рубит фразу, слово на бессвязные куски, или воздействует на психику только средствами ритма, атональности, цвета, бесформенности, алогизма и т. д., или показывает предмет одновременно «со всех сторон», или вовсе отрекается от предметности, или «поворачивает» время вспять, или выворачивает события «наизнанку», или отдается случаю, или устремляется к метафизической сущности, якобы пребывающей «по ту сторону» видимости, и т. д. и т. п. Во всех случаях деформация приобретает антиэстетиче- ское значение. И поэтому приходится сожалеть, что некоторые талантливые художники пользуются ею в качестве творческого метода.
Итак, мы рассмотрели понятия «эксперимент», «видение», «деформация», наиболее часто употребляемые в эстетике модернизма для определения регулятивного принципа, положенного в основу творческого процесса. В каждом из этих случаев имеется в виду способность художника проникать посредством озарения в сущносгь универса или отдельны1Х вещей, взятых в качестве узлов, опор, пространственно-временных опытов субъекта. (Я вижу мир безобразным, поэтому уродую образ человека, вещи и т. д. Я представляю себе мир как хаос, как сочетание случайных и нелепых событий — поэтому показываю абсурдность человеческих отношений и т. д.). Художник при этом идет к творчеству не от объекта,
23
не от события, не от задачи, 'поставленной перед ним обществом, но всегда и неизменно от своего инстинктивного озарения, своего неосознанного желания. Именно поэтому )все его позывы к творчеству сводятся собственно к самовыражению, точнее, к выражению его чувственности (имеется в виду соотнесенность искусства с вечно обновляющимися способами восприятия и выражения переживаний).
Когда в 60-е годы пришла, например, .мода на хе- пенинг и поп-арт, критики начали писать об этом искусстве, как адекватном выражении изменившейся восприимчивости, чувствительности художника.
Итак, чувствительность искусства 60-х годов. Каковы ее особенности? Вот как отвечают на этот вопрос некоторые американские художники:
Дж. Уайнс: «... если в 50-е годы мы подошли к границе выражения, то в 60-е годы — к границе искусства; если в 50-е годы, стремясь к упорядочению, мы преимущественное внимание уделяли иррациональному, то (в 60-е годы мы увидели в иррациональном проявление самого порядка; если для искусства 50-х годов были характерны оптимизм, черновая работа..., то искусству 60-х годов присущи ирония, поза...» 1. Э. Руда говорит, что для этой чувствительности характерны необычность, безрассудность, объективность (имеется в виду, что художники показывают сами объекты, а не изображения их), иллюзорность, тяга к изношенным вещам, визионерство и хаос2. Дж. Творков считает, что искусство 60-х годов интересуется вещественностью как таковой. С одной стороны, ему свойственны лоск, лесть, великолепие, с другой же — безучастность, безразличие, бессердечность3. Дж. Сьюгермен полагает, что искусство 60-х годов стало эмоционально нейтральным, то есть не героическим (антигероическим) и не сентиментальным (антисентиментальным). Другие говорят, что основная его черта — антиинтеллектуализм, внушение чувства страха. Искусство становится, таким образом, средством устрашения (funk-art).
Что можно сказать по поводу этих в общем сумбурных определений чувствительности 60-х годов, о стрем-
«Art an America», 1967, January-February, p. 47. Ibid., p. 48.
Ibid, p. 49.
24
л-ении модернистов угнаться за быстротекущим временем?
Конечно, и видение художников и их чувствительность всегда неповторимы, изменчивы, поскольку они зависят и от смены исторических эпох, и от изменения самого «духа времени», который они призваны «схватить» и выразить, и от бесконечной индивидуализации личностей самих художников. Но именно эту подвижность, эту динамическую адекватность неустойчивому духу времени эстетика модернизма не в состоянии зафиксировать. Видимо, потому, что она создала себе устойчивую модель «разорванной» психики художника, для (которого характерна всегда, при всех условиях одна и та же реакция на всякое проявление жизни — реакция негативная. В самом деле, ссылками на отрицание традиций классического наследия уже нельзя объяснить то обстоятельство, что модернистское искусство, повернувшись в начале XX века лицом к иррационализму, продолжает идти в том же направлении в течение всех последующих лет. (По признаниям художников-модернистов, в 60-е годы XX века они подошли к границам искусства. Можно спросить: в правильном ли направлении они идут? Тот ли метод они избрали для выражения «духа времени»? Почему каждый из них отстаивает свое право на самовыражение, а все вместе они приходят к негативному общему знаменателю?
К сожалению, эстетика модернизма не ставит перед собой этих вопросов.
Всякий истинный художник, безусловно, обладает и способностью видения (в реалистическом значении этого слова) и повышенной восприимчивостью, чувствительностью.
Эстетическая теория нередко изображает творческий процесс схематично, лишь в самом общем виде или с какой-нибудь одной стороны. Она создает весьма приблизительную модель этого процесса, модель-абстракцию, так как подлинный творческий процесс действительно неповторим, индивидуален в той степени, в какой отражаются в нем личность самого художника и особенность его таланта. Художественное творчество не знает шаблона. Оно протекает беспокойно, часто опираясь (как всякое эвристическое мышление) на случайные озарения интуитивных поисков. Стало быть, кто хочет получить более конкретное представление о
25
сущности творческого процесса, должен обратиться к индивидуальному опыту творца, субъекта.
Что же говорят сами художники-модернисты о своем творческом методе?
Говорили и говорят они (представители различных течений) разное, их формулировки сверкают всеми цветами словесной радуги. Но если сравнить то, что утверждается сегодня, о тем, что провозглашалось в начале XX века; то суть будет одна. В модернизме есть положения, имеющие силу религиозных догматов: они не подвергаются сомнению, поэтому не меняются. И формулируются они так же, как заповеди Христа: в повелительной форме.
Разрушить культ прошлого.
Презреть всякое подражание.
Превозносить всякую оригинальность, даже наглую и навязчивую.
Восстать против тирании слов: «гармония» и «хороший вкус».
Прославлять жизнь сегодняшнего дня, беспрерывно преобразуемую победоносной наукой.
Какой представитель поп-арта (того самого поп- арта, который возник после целой серии революционных преобразований в модернизме) не подпишется под этими словами (его может смутить лишь несколько напыщенная и наивная форма выражения)? А ведь эти заповеди были провозглашены в самом начале XX века. Они взяты из манифеста футуристов. Трудно понять этот исторический факт. Однако он налицо. О чем он свидетельствует? О том ли, что итальянские футуристы открыли новые законы искусства на все будущие времена? Или о том, что вое последующие поколения модернистов не дали миру ничего нового? Или о том, что они не способны угнаться за быстро меняющейся современностью?
Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Одна из вероятных гипотез заключается в следующем. Разрушение культа прошлого в западноевропейском искусстве началось где-то во второй половине прошлого века. Оно продолжается в течение столетия. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы в поп-арте не осталось никаких намеков на искусство вообще. Тем не менее разрушение продолжается. Не разрушается ли при этом нечто более важное, чем обычный принцип «подража¬
26
ния природе»? Как не вспомнить здесь, что история это не простая смена событий, в ходе которых одни создают различные культы (в том числе и культы красоты), а другие разрушают их. В истории человечества происходит также аккумуляция творческого опыта людей, в результате которой образуется культура, нуждающаяся ib том, чтобы все последующие поколения приумножали ее и обогащали. Вне преемственности культуры нет.
Но насчет культуры и творческого опыта у модернистов есть свое мнение. В любой момент любые из них и в первую очередь те, кто находится на данном этапе «в авангарде», готовы 'заявить: первичная функция искусства и даже всякой мысли заключается в том, чтобы освободить индивид от тирании культуры, то есть от накопленного опыта, от связи с реальным окружением, и тем самым позволить ему быть независимым в своих восприятиях и суждениях.
Конечно, мало кто может открыто объявить себя врагом культуры или сказать, что он отрицает ее «просто так». Но если это и происходит, то всегда во имя... метафизических целей.
Культура начинается с мысли. Человек мыслит, значит, сопоставляет, анализирует, синтезирует — познает. Но познание доставляет человеку и сладкое утешение и ■горькую истину. А если он, самовыражаясь, не хочет этой истины? Тогда он объявляет себя врагом мысли. Об этой же цели — упразднить мысль — пишет и Л. Триллинг: «Это наш способ говорить о судьбе, свободной воле и бессмертии. Это — наш путь, по которому мы очень близко подходим к идее провидения» !.
Да, личность, стремящаяся насладиться «спонтанной жизнью», чувствует, что для этого ей необходимо освободиться от бремени интеллекта. Такая личность хочет жить, а не мыслить. Потому культура кажется ей похожей либо на музейный экспонат, либо на засушенные листья гербария. Не под влиянием ли этих настроений формируется личность, которая видит в культуре нечто смертельно опасное, вызывающее желание схватиться за револьвер? «Творческий метод» заводит модернистов слишком далеко. Он ведет к неожиданным следствиям.
1 L. Trilling, Beyond Culture, New York, 1965, p. 108.
27
Разговор о (Методе модернистов нельзя считать законченным, если ;не коснуться чисто практических, ремесленных сторон творчества.
■На Западе издается множество книг типа «Художники об искусстве», «Живописцы о живописи», «Писатели о писательском труде» и т. д., в которых говорится о том, что писать, как писать и где можно продать написанное. В одной из таких «настольных книг» дается определение понятия «творчество». «Творчество,— читаем мы,— это способность организовать старые материалы в новые полезные сочетания, доставляющие удовольствие. Творческий акт—один и тот же в поэзии, живописи, скульптуре, бизнесе, индустрии, домашнем производстве или в тысяче других областей человеческой деятельности» Т
Модернизм тем и отличается от .настоящего искусства (которое всегда было, есть и будет подлинным творчеством, открытием), что он во всех своих «измах» сводится по сути дела к «новой» стилизации «старых материалов». Советский критик В. Назаренко прав, когда пишет о художнике-модернисте: «Искренне убежденный, что воссоздает «подсознательные ощущения» и тому подобные неисповедимые вещи, он тем не менее, по неумолимым законам психологии, воспроизводит в тех или иных комбинациях лишь свои воспоминания о чужих произведениях» 1 2.
Модернисты обычно говорят, что они не только против подражания природе, старым мастерам, но вообще против всякого подражания. Между тем их «творчество» свидетельствует о чем-то прямо противоположном. Все оно исходит из воспоминаний, ассоциаций, сравнений, аналогий, подражаний. «Что такое в сущности художник?» — спрашивает Пикассо. И тут же отвечает: «Коллекционер, который собирает для себя коллекцию, сам рисуя картины, понравившиеся ему у других. С этого именно' начинаю и я,— а потом получается что-то новое»3. Такого же взгляда придерживается и А. Мальро. Художник, по его мнению, это — пленник стиля. Он принадлежит не обществу, а искусству.
1 «On Writing, by Writers», Boston, 1966, p. 4.
2 В. Назаренко, Психология модернизма — «Художник», 1966, № 2, стр. 26.
3 «Пикассо. Сборник статей о творчестве», стр. 28.
28
будучи людьми весьма йскушейнйши и пресьпцейны- ми, модернисты начали с поисков... неискушенности. Оми создали себе идеал художника, который «ничего не знает». Где его можно обнаружить? Конечно же, в каменном веке!
В конце XIX и начале XX веков бегство от культуры в первобытное состояние (многие модернисты осуществляли, так сказать, «на дому», без отрыва от европейского комфорта (они не хотели следовать печальному примеру Гогена). Открытия пещерной живописи и связанные с ними исследования А. Брейля давали богатый материал для их воображения. А то внимание, которое уделяла «большая пресса» цветному населению в связи с колониальной экспансией империалистических государств, предоставляло возможность выразить свое восхищение негритянской скульптурой, музыкой, пляской и т. д. Цивилизованные «народы» покоряли нецивилизованных, но вместе с тем они умели ценить «истинную красоту» и даже выставляли себя духовными наследниками своих «неудачливых братьев».
Модернисты вполне откровенны, когда говорят о том, что именно им нравится в примитивах. По их мнению, в примитивах выразилось первое великое удивление человека перед чудом «чистого бытия». И это удалось только потому, что первобытное искусство свободно от всяких идей, мыслей, от человеческого сознания.
Вот, оказывается, во имя чего модернисты пожертвовали европейской традицией, греческой классикой, искусством эпохи Возрождения, реализмом! «Языческое искусство» давало больший простор для проявления их свободы!
К слову оказать, в момент первого увлечения «варварскими объектами» модернисты не были единодушными. Все они отрицали европейскую классическую традицию. Но одни из них шли назад, «в глубь веков», в пещеры, другие же, наоборот, тянулись в будущее и дальше— в последующее. Тут не обошлось, конечно, без взаимных обвинений. Так, например, С. Дали, впервые прибыв 'в Париж, увидел: «Люди обожали крикливую инстинктивную продукцию дикарей! Негритянское искусство было возведено на трон. И это было сделано с помощью Пикассо и сюрреалистов!.. Я должен был найти противоядие, чтобы отвлечь внимание от этих слепых и непосредственных продуктов страха, отсутствия интел-
29
дейта и духовного порабощения... Поэтому африканским «диким объектам» я противопоставлял ультраде- кадентский, цивилизованный, европейский — «современный стиль». Я рассматривал период 1900 годов как конечный психопатологический продукт греко-романского упадка»1.
Тогда, на рубеже двух воков, увлечение 'примитивом было повальным. Оно свидетельствовало не только о «наличии таланта», о «бунтарстве», «новаторстве», но и о способности идти в ногу... с современностью. Правда, такое противоречие кое-кого из модернистов шокировало. Но пусть это не смущает читателя. Если они и выступали против увлечения примитивом, то только для того, чтобы прослыть еще более дерзкими бунтарями. Ведь оплачивается в конце концов только оригинальность! Ведь принимается в расчет не столько произведение художника, сколько он сам, как преуспевающая индивидуальность. А преуспевает тот, кто идет за модой.
За многовековую историю искусство накопило много средств, с помощью которых оно воздействует на человека. Модернизм расходует эти средства (не накапливая их), Согласуясь только с той или иной модой. Мода— удобное понятие. 'Она не связывает себя с '«трудными» вопросами: «почему? зачем? для чего? с какой целью?» Она дает всегда один и тот же ответ: это модно. Универсальный ответ годен на все -случаи жизни: и при выборе обоев и при выборе творческого метода. Тем самым подчеркивается непрочность, временность, случайность и красоты, и вкуса, и самого бытия. Но что из этого следует?
На ярмарке искусства складывается культ новаций, а художники-авангардисты пытаются поразить читателя, зрителя, слушателя необыкновенными средствами, такими неожиданными, что потрясенному потребителю приходится замолчать: у него не остается слов для выражения своих эмоций.
Говорят, что новаторские «удары» модернистов влияют на человека так же, как и наркотики. А удовольствие, испытываемое им, будто бы вызывается предоставленной ему возможностью «досочинять» произведение искусства. Может быть и так. Но несомненно также и то,
1 S. Dali, The Secret Life of Salvador Dali, iNew York, 1942, p. 287.
30
что все так называемое варварское искусство и почти все выдающиеся произведения классического искусства «пересказаны» 'модернистами. Это и позволяет нам рассматривать модернизм как явление, существующее за счет искусства, связанное с феноменом стилизации. Если художник владеет техникой искусства, знает его историю, но ему самому нечего сказать или для него безразлично, что говорить, он начинает работать «под Утамару», «под Босха», «под Гойю», под «дикие объекты» и т. д. Он владеет «'всеми стилями» и может работать в любом из них, когда этот стиль становится модным. Так, подражание искусству становится сутью творческого метода модернистов. В этом подражании искусству есть не только историко-стилистический момент.
Модернисты часто выступают против чрезмерного влияния '«литературы» (конечно, лишь постольку, поскольку она говорит об «идеях»), заявляя при этом, что живопись должна быть живописью, музыка—музыкой, архитектура — архитектурой и т. д. Как будто они выступают опять-таки против принципа подражания. Они утверждают, что художник решает только свои формальные задачи — живописец располагает на плоскости линии и цвета, композитор организует звуки в некое ритмическое целое, 'архитектор размещает массы в пространстве и т. д. Даже поэзия, лишенная «литературы», выглядит как «чистое сочетание слов». «Я думаю о поэзии как об особом способе речи,— свидетельствует современный американский поэт Дж. Кеннинг- хэм.— Как поэт я говорю метрами, иногда в рифму, говорю линейно. Из этого следует, что я—формалист» Г
Стилизация, таким образом, может заключаться не только в подражании тому или иному историческому стилю, течению или художнику. Подражать можно приему или языку как средству создания формы. Модернисты-живописцы заявляют, будто они стремятся подражать... музыке, другие (музыканты) утверждают, что они подражают... живописи, третьи (поэты) хотели бы подражать архитектуре и т. д. Свое желание подражать музыке В. Кандинский обосновывал тем, что музыка, мол, «абстрактна, «независима от природы, а его задача в том, чтобы и «живопись достигла тех же самых высот абстракции.
1 «Poets on Poetry», New York — London, 1966, p. 40.
31
Так, 'метод стилизации не только «держит» 'модернизм около и «ннутри» искусства, но и выводит за его пределы. Следует отметить при этом, что модернисты могут иокусно подражать не только художественным стилям, манерам, видам, жанрнм искусства, но и тому, что не является искусством,— например, машине, науке, детскому творчеству, шизофреникам и т. д.
Культ машины, ее фетишизация оборачиваются в модернизме то своими страшными, уродливыми, то нелепыми сторонами. Подражание машине начинается о провозглашения того, что ей принадлежит будущее {(футуризм), затем оно более и более упрощается, огрубляется, доходит до прямых заимствований ((дом в форме шестеренки, трактора, парохода) и неразборчивого использования отдельных узлов и деталей машин в поп- арте. (Противопоставление машины человеку сопровождается «изгнанием» из искусства эмоциональности, лиризма (они заменяются ритмической целесообразностью). Борьба между «антагонистами» (машиной и человеком) завершается победой неодухотворенного начала— в романах главным действующим лицом становится машина, а музыканты вводят в ткань своих симфоний гудки паровозов, стук колес, гул пропеллеров и т. д., скульпторы монтируют («образ человека» из металлолома и пр. И, наконец, издевательство над человеком и его здравым смыслом достигает своего завершения в «логике наоборот»: на сцене вам предлагают только абсурд, а мусор из свалок перекочевывает на выставки комбинированной живописи Р. Раушенберга.
Каков социальный подтекст всех этих явлений?
Дегуманизация жизни в условиях буржуазного общества, безусловное обесценивание личности, снижение ее творческого потенциала позволили Ф. Леже сказать в 1918 году, после демобилизации из армии: «Я люблю формы, созданные современной индустрией. Я утверждаю, что пулемет или 75-мм пушка более заслуживают внимания, чем четыре яблока на столе или ландшафт...» !.
'Все эти превращения свидетельствуют о том, что метод стилизации дополняется в модернизме стремлением
1 См.: В. D е n v i г, Fernand Leger. Painter of Modern Industrial Forms — «The Studio», 1950, December, p. 172.
32 .
отказаться от какой-либо мысли, идеи, от замысла, диктуемого необходимостью, войти в контакт с другим человеком. Искусство мыслится в данном случае и в конечном счете как форма самовыражения, не стесняемая никакой объективной реальностью, никакой общеобязательной нормой, никаким гносеологическим или нравственным законом. Закон для художника — это его чувство, которое «просится» наружу. Оно должно быть выражено во что бы то ни стало и любыми средствами!
Одни модернисты полагают, что самовыражение есть форма психотерапии, позволяющая художнику выйти из состояния одержимости, освободиться от навязчивых идей, болезненных чувств, сексуальных желаний, мучительных галлюцинаций и т. д. Другие убеждены в том, что это способ шокировать, эпатировать другого человека. Так, Ж- Дюбюффе пишет: «Я чувствую потребность в том, чтобы каждое произведение искусства служило тому, чтобы выводить из равновесия, вызывать удивление и шок. По-моему, живопись не работает, если она не полностью неожиданна» 1.
Так искусство превращается в преднамеренное создание бессмыслицы. Художник никогда не знает, зачем, для кого, почему он создает произведение. О.н просто «творит», превращая искусство в «бесконечное говоренье» (Г. Пиктон). Тем самым он как бы хочет сказать: говорю, значит, существую, разрушаю, значит, творю. Парадоксальная позиция! Она — следствие конфликта между действительностью и художником, который неизменно рассматривает мир, существующий вне его, как нечто враждебное себе и потому опасное.
Нельзя не заметить логического противоречия в таком отношении к миру (раз мир существует вне меня — значит, он враждебный и бессмысленный). Такое отношение не может стать исходным в процессе художественного творчества. Но в нем выражены определенная позиция (правда, зашифрованная), негативное мировоззрение, которые вопреки логике искусства оказывают на него решающее влияние, и оно, проникнутое нигилизмом, обращается уже не к глазу, не к уху, чувствующим красоту, но к рассудку воспринимающего, у которого неизбежно возникает вопрос: что это? зцчем? Следовательно, оно нуждается в комментарии.
1 «Painters on Painting», р. 234.
33
Модернистские опусы, превращаясь в многозначные символы (например, фильмы Ф. Феллини «8У2», М. Антониони «Blow uip», картины М. Шагала и т. д.), даюг возможность зрителю не только истолковывать по-разному, но и «досочинять» их — все это и выдвигает на первый план не эстетическое чувство, а рассудочную деятельность.
Именно на этот результат и рассчитаны все модернистские подходы к искусству, как бы они не назывались — эксперимент, видение, деформация, самовыражение, стилизация. В конечном счете все они основаны на разрушении эстетического отношения искусства к действительности, на отказе от познания мира, человека и его дела, народа и его общественной борьбы.
Итак, отрицание гносеологической функции искусства, стремление к иррациональному, метафизическому, противопоставление искусства действительности, желание подменить логическое мышление алогическим, случайным, непредвиденным, бессвязным, страсть к эпатажу и т. д. лишают модернизм не только художественного метода, но и каких бы то ни было устойчивых, определенных регулятивных начал. Поэтому только в весьма относительном смысле можно назвать методом неопределенные эксперименты, связанные с преувеличенным вниманием к законам восприимчивости, и бесцельные действия, являющиеся следствием установок: «я так вижу», «разрушаю, значит, существую», «искусство — форма самовыражения» и др.,— ведь самовыражение бывает всяким — эстетическим и антиэстетическим. Растворяясь в этой беспредельности значений, художественный метод исчезает.
Модернизм как мировоззрение
Уже отмечалось, что о модернизме часто говорят как о детском вйдении мира (не случайно поэтому творчество малолетних1 рассматривается модернистами как проявление истинно художественных потенций человека), а о самцх модернистах как о больших детях: так за Пикассо, Дали, Клее и другими прочно закрепилась репутация — «большой ребенок». «Большой ребенок» — наивен, непосредствен, поэтому не боится противоречить самому себе, он смотрит на мир «чистыми глазами»,
34
без какой-либо предвзятости, поэтому непоследователен, он не завербован никаким социальным заказом, никакой идеологией. Деидеологизация искусства — одна из программных установок модернизма.
В 1924 году Пикассо говорил: «Я не могу понять реакции публики на холст, который я писал, как ребенок»1. В 1935 году он повторил эту же мысль: «Каждый хочет понимать искусство. Но почему же мы не стремимся понять пение птиц?»1 2 (Справедливости ради следует сказать, что взгляды Пикассо на идеологию впоследствии несколько изменились.)
Дали признается в автобиографии, что он всю свою жизнь борется против философии за религию, против Будды за маркиза де Сада, <а также против скептицизма за веру. Это сказано по-детски непоследовательно. Ионеско считает, что художнику следует иметь «бесполезное сознание» и не попадаться в «ловушку идеологий».
Модернисты пропагандируют идею бессознательного в художественном творчестве. Они признаются: когда я рисую, сочиняю музыку, пишу, я не размышляю. Я ничему не служу и не знаю, что у меня получится. Я просто сочиняю, играю, не обременяя себя философией.
Когда один французский журналист спросил Бек- кета насчет его философских увлечений, тот ответил: «Я никогда не читал философов. Я не понимаю, о чем они пишут»3. Дж. Флетчер, исследователь творчества С. Беккета, по этому поводу заметил: «Он не сказал истинной правды»4. Флетчер сообщает: Беккет является автором философского трактата «Концепция конечного»., ’написанного под углом зрения пифагорейского положения «все вещи суть числа». В драматургии Беккета обнаруживаются не только влияния, но и прямые заимствования из сочинений Платона, Блаженного Августина, Беркли, Юма и других философов. Флетчер связывает мировоззрение Беккета со скептической традицией эмпирической философии и в конце заключает: «Беккет приобщался к сочинениям многих философов, в которых он нашел подтверждение и оправдание для
1 «Пикассо Сборник статей о творчестве», стр. 15.
2 Т а м же, стр. 23.
3 См.: J. Fletcher, Samuel Beckett’s Art, London, 1967, p. 121.
4 I bid.
85
метафизических идей, преследующих его творчестве: о существовании пропасти между телом и мыслью человека, о неопределенности нашего знания. Его гений заключается в том, что он воплотил эти спекулятивные проблемы в искусстве»
Конечно, не каждый модернист изучал философию. Тем не менее за модернизмом прочно закрепилась репутация «философического искусства». О картинах Дали, фильмах А. Хичкока, например, говорят: «фрейдистское творчество»; о произведениях А. Камю или Симоны де Бовуар — «экзистенциалистские романы»; о прямоугольниках П. Мондриана — «философская графика» и т. д.
Итак, опять парадокс! С одной стороны, признается, что художник — большой рёбенок, что он творит, играя, не думая, с другой же — этот же самый «ребенок» изображается в качестве мудреца и провидца.
Человек бывает самим собой, когда играет. Игра же — это источник и основа искусства. Следовательно, только в игре человек выражает свою истинную сущность. Но игра — бесцельна, она не обременена никакой идеей. Поэтому идеология противопоказана искусству и т. д. Такого рода софизмы можно цитировать до бесконечности. Если это считать мудростью, то воплощение спекулятивных идей в искусстве является одной из роковых страстей модернизма. Во власти этого увлечения находятся все — и те, кто может выразить спекулятивные идеи с помощью специфического языка искусства (литература, драматургия), и те, язык которых (живопись, музыка, архитектура) не позволяет этого сделать. Так, например, С. Дали пытается воплотить в сюрреализме ни больше ни меньше как судьбу современного человечества. Какой же она представляется ему? Ведь, по его мнению, исторического прогресса нет. А так называемый процесс «становления» совершается так, как будто он обязан своим существованием «физическим законам .спокойной традиционной поверхности метафизических озер, истории, которые после каждого потрясения собирают все однозначное, вступая таким образом в противоречие с самим принципом гегелевской диалектики»1 2. Да, несмотря на концентрические круги иллю-
1 J. F 1 е t с h е г, Samuel Beckett’s Art, р. 137.
2 S. D а 1 i, The Secret Life of Salvador Dali, p. 386.
36
зорных волн человеческого прогресса, несмотря на видимый рост, история только уходит в свое собственное забвение на далеких берегах человеческой судьбы. Но при этом остаются некие «метафизические озера истории», то бишь остается самосознание истории, воплощенное в иррационализме и католицизме.
Дали писал свою автобиографию «Частная жизнь С. Дали» в самом начале второй мировой войны, когда гитлеровская Германия только совершила свое предательское нападение на Советский Союз. «Большой ребенок» Дали писал в это ,время: «Европа пробуждается от страданий последней войны (имеется в виду первая мировая война.— С. М.) с ее мессианским и химерическим миражем «революции», преобразующей мир. Ее надеждой опять становится война. Европа должна пробудиться от кошмаров и мучений современной войны, избавиться от иллюзии «доброты» революционеров, за которую нужно платить слишком дорого. Современная война прежде всего подтверждает банкротство революций»1.
Дали надеялся на то, что в ходе второй мировой войны «русский атеизм будет уничтожен неоязычеством нациста Розенберга», а это последнее будет поглощено в свою очередь «единством Европы, основанным на триумфе католицизма. Вследствие этого Европа начнет погружаться в средневековье, что, возрождая моральные ценности и силы своего прошлого, положит начало новому Ренессансу. «Позвольте мне быть первым предтечей этого Ренессанса!»1 2— восклицал Дали.
Все эти идеи, как свидетельствует история, были всего-навсего лишь спекулятивными идеями. Но именно такого рода философское и политическое визионерство первый сюрреалист пытается переложить на язык искусства!
Томас Манн создал образ нового чернокнижника, мифического «доктора Фаустуса» — композитора Адриана Леверкюна, используя в музыкально-теоретических разделах своего романа некоторые положения учения А. Шенберга о гармонии. В форме диалога с чертом Леверкюн излагает свое философское кредо: «Твое, друг мой, почтительное отношение к объективному, к так на-
1 I b i d., р. 395.
2 Ibid.
37
зываемой правде, и наплевательское к субъективному, к чистому переживанию,— это, право же, мещанская тенденция, которую нужно предолеть. Ты меня видишь, стало быть, я для тебя существую. Какая разница, существую ли я на самом деле? Разве действительно не то, что воздействует, разве правда-—это не переживание, не чувство?»1
Модернист — прежде всего субъективист (философское кредо Леверкюна — это спекуляции на берклиан- скую тему: вещь — комплекс ощущений, существовать — значит быть воспринимаемым и т. д.), для которого существует одна единственная реальность — его ощущения («я так ощущаю»). Этому ощущению он стремится придать достоверность истины. Всякая объективная истина объявляется мещанским предрассудком. Все решается, таким образом, только на основе волеизлияния, без каких-либо доказательств и поэтому выглядит (по крайней мере внешне) как детская игра.
Уже отмечалось, что модернистский субъективизм неизменно сопровождается призывами выйти за пределы культуры, вернуться к «диким объектам», к средневековью и т. д. Левертон обращается к самому себе с такими словами: «Ты не только освободишься от разъедающих сомнений, прорвешь тенеты века с его «культом культуры» и дерзнешь приобщиться к варварству,— усугубленному варварству, вновь наставшему после эры гуманизма...»1 2.
Варварство, о котором в данном случае идет речь, это — неограниченный субъективизм, перерастающий в софистику, которая может делать «все, что угодно», но главным образом превращать деятельность сознания и продукты этой деятельности в нечто прямо противоположное их естественному значению: истину — в антиистину, творчество — в разрушение, спекулятивную идею — в художественное вйдение, искусство — в философию и т. д. Как уже отмечалось, Беккет, Дали, Шенберг и другие модернисты занимаются тем, что воплощают спекулятивные идеи в искусстве. Игра экзистенциалистов заключается в том, что они поступают наоборот: растворяют искусство в философии, подменя¬
1 Томас Манн, Собрание сочинений, т. 5, М, I960, стр. 316.
2 Т а м же, стр. 317.
Гослитиздат,
38
ют философию искусством. В итоге у всех у них получается, конечно же, одно и то же—■ сплошная игра в 'слова.
Ж.-П. Сартр, Симона де Бовуар, Г. Марсель, как известно, не только сочетают в себе дарования романистов, драматургов и философов, они рассматривают литературу в качестве современной формы философского мышления, исходя при этом из определенного понятия истины.
Экзистенциалисты полагают, что истина не открывается с помощью механизмов логического мышления и не принадлежит области сознания. Они считают, что никакой объективной, единой для всех истины нет, она субъективна и бесконечно разнообразна, так как включена в существование каждого отдельного индивида. Самовыражение индивида — это и есть его истина. А так как искусство в свою очередысводится к самовыражению, то именно в нем, а не в философий экзистенциалисты ищут истину. Касаясь экзистенциалистского растворения философии в литературе, Э. Найт пишет: «Философия всегда оказывала до такой степени сильное влияние на литературу... что последняя часто выступала в виде практической иллюстрации принципов первой»1.
Искусство, конечно же, не сводится к иллюстрации философских теорий. У него, так же как и у философии, есть свое содержание, свой язык, своя форма выражения, своя логика, хотя и искусство и философия могут отвечать и отвечают на одни и те же вопросы: что есть истина? в чем смысл жизни? в чем назначение человека? и т. д. Смысл и характер этих вопросов таков, что, отвечая на них, философия и искусство неизбежно сближаются. Может быть, именно поэтому на вопрос: «Почему произведения античных художников так величавы? Д. Дидро ответил: «Потому, что эти художники посещали философские школы»1 2. Искусство и философия выражают разные стороны одного и того же духовного климата эпохи, «духа времени». Они делят между собой некоторые, свойственные им в отдельности, ценности. Вместе с тем они вступают иногда в противоречие. Логика аналитического суждения в определенных
1 Е. Knight, Literature Considered as Philosophy, New York, 1962, p. 15.
2 Д. Дидро, Собрание сочинений, т. VI, М., Гослитиздат, 1946, стр. 548.
39
случаях разрушает эмоционально насыщенную целостность художественного произведения. А образное мышление художника наполняет абстрактные понятия предметно-чувственным содержанием. Но не это обстоятельство играет' решающую роль в философских увлечениях модернистов.
Что же в таком случае обусловливает тяготение модернизма к спекулятивному мышлению?
В XX веке философия приковала к себе внимание потому, что она оказалась тем духовным оружием, с помощью которого две общественно-экономические системы определяют характер своего противостояния. В ней концентрируются все общественные и индивидуальные искания мысли, пытающейся определить свою историческую ориентацию, ответить на вопросы: куда идти? что делать?
Сознание, не рискуя открыто .выйти на поле социальной битвы, определяя свою суверенность и сферу своей самодеятельности в границах сознания же (такой выглядит позиция художника-модерниста), пожинает итоги своей социальной безответственности в потоке самоотрицания, в зашифрованном письме, в усложненном символе, в мифе, который оно тут же само создает на «скорую руку», пытаясь взять на себя роль демиурга. Такие произведения, как роман Ф. Кафки «Замок», как пьеса С. Беккета «В ожидании Годо», как картина X. Миро «Материнство», как музыка А. Шенберга и др., настолько усложнены, что их нельзя просто воспринимать на глаз, на слух, обходясь здравым смыслом и наличным опытом. Их нужно расшифровывать, что требует специальной подготовки и умственного напряжения, нередко разрушающего целостность эстетического восприятия.
Модернизм — это зашифрованное искусство. Деформация, абстракция, поглощая все предметное, конкретное, объективное, разрушают в нем всякие общеобязательные нормы языка, его синтаксис. Самовыражение художника становится настолько индивидуальным, необычным, «загадочным», алогичным, что оно не может уже обходиться без комментария. Беспредельно расширяющийся комментарий поглощает самое искусство, подменяет его. Эта потребность в комментарии и создает необходимые предпосылки для проникновения умственных спекуляций в искусство.
40
Спекулятивные замыслы, естественно, ведут к созданию спекулятивных символов, ведущих в дебри метафизики. Но в модернизме не менее сильны и стремления к упрощенным решениям, в которых с натуралистической назойливостью обнажаются события, вещи, материалы, приемы. «Новый роман», так называемая «киноправда», конкретная музыка, поп-арт.,(и другие течения дают наглядное представление о той роли, которую игрдет в модернизме эта удручающая простоватость и обнаженность мышления.
Как ни странно, но именно для грубого вкуса и оказывается необходимым уравновешивающее его метафизическое истолкование искусства. Так замыкается круг. Крайности сходятся: метафизическое (то есть философское, спекулятивное) и до предела упрощенное проникают одно в другое, образуя нечто весьма двусмысленное и парадоксальное.
Опять парадоксы... Но на этом они не кончаются. Их становится еще больше, когда мы переходим к анализу мировоззрения модернизма.
Начнем с утверждения, будто философский подход к модернизму не состоятелен. Этой точки зрения придерживается, в частности, Р. Гароди. Рассматривая творчество Пикассо, Каф^н, он пытается осуществить «чисто» эстетический подход.
Однако представление о модернизме как о явлении не философском (следовательно, не мировоззренческом), а сугубо эстетическом, связанном только с поисками формы, новых средств выражения, разделяется ныне лишь немногими. Более распространенной является точка зрения, которая под модернизмом понимает не поиски новых средств выражения, даже не сумму всех известных «измов», а нечто более обширное: все современное сознание в любых (художественных, научных, философских, религиозных) его проявлениях. Причем истолковывается это сознание по-разному: то как анархо-романтический феномен, то как иррациональный процесс, то как прагматический результат определенных исторических сдвигов в развитии «западной цивилизации» и т. д.
Рассмотрим анархо-романтические толкования.
Г. Рид, например, полагает, будто живопись, модернизма вбирает в себя все без разбору течения эстетической мысли XIX века: и революционный романтизм
41
Блейка, и революционный классицизм Давида, и натурализм Констебла, и исторический идеализм Делакруа, и реализм Курбе и Мане, и экспрессионизм Ван Гога и Мунка, и символизм Бернара и Гогена... Модернизм, таким образом, возникает как следствие смешения всех точек зрения. Но тут же рядом Рид утверждает, будто модернизм возникает как антитеза классического искусства. Почему как антитеза?
Отвечая на этот вопрос, Рид пытается говорить о роковом влиянии фотографии на судьбы современного искусства. Но, понимая беспочвенность такого объяснения, он приходит к выводу, будто модернизм связан с переходом художников XX века от иллюстрации реальности к ее интерпретации, от образного мышления к символическому. Потому якобы, что метод иллюстрации и образная форма сковывают воображение художника, привязывая его к физическому миру; в то время как метод интерпретации и символическое обозначение реальности полностью освобождают его от бремени объективности. Переориентация современного художника вызвана якобы изменением самого понятия реальности, которое обусловлено не бытием, но образом мышления. У Фомы Аквинского оно было одним, у А. Бергсона — другим. «Мы достигли сейчас,— пишет Рид,— такой стадии релятивизма в философии, когда можно утверждать, что 1реальность — это субъективность. Это означает как то, что у индивида нет выбора, так и то, что он сам создает свою реальность, которая может показаться произвольной и даже абсурдной»1.
Итак, художник XX века, глядя на Бергсона, подменив объективную реальность своей собственной, субъективной реальностью, противопоставил внутренний мир внешнему. Это приобрело значение «величайшей революции» в истории искусства. Но этим, по Риду, не исчерпывается значение модернизма. Жизненность искусства обычно основывается на равновесии чувства и интеллекта. В условиях же кризиса художник стоит перед альтернативой: либо придерживаться выработанных традиций, либо совершить прыжок вперед, в неизвестность. Модернист избирает второй путь: он бунтует против традиционного языка образов, создавая новый язык — символов.
1 Н. Rea d, The Philosophy of Modern Art, p. 21.
42
Рид стремится доказать таким образом, что понятие объективной реальности устарело; иллюстрация — это пассивное приспособление к реальности; образ — это фор'ма мысли, свойственная низшей ступени в развитии сознания; уважение к традиции — это консерватизм и т. д. Пользуясь таким приемом, Рид «побивает» социалистический реализм и, разумеется, заодно — диалектический материализм. Он полемизирует с известным положением: «...идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» 1, упрекая К. Маркса в том, будто «отражение» и «преобразование» человеческим умом объективной действительности мыслится им как простой механический процесс. «Для нас,— пишет Рид,— этот процесс бесконечно сложен: это переход через серию искажающих зеркал и подземных лабиринтов»1 2.
Разумеется, Рид «не замечает» того обстоятельства, что Маркс противопоставлял упомянутое положение гегелевскому (мышление есть демиург действительного), что Маркс решает проблему взаимосвязи между идеальным и материальным только в рамках основного гносеологического вопроса, что Маркс выступает против упрощений в решении его метафизическим материализмом и т. д. Рид сам упрощает и не только упрощает, но и мистифицирует процесс мышления, когда рассматривает его как переход через серию искажающих зеркал и подземных лабиринтов. Впрочем, тайна этих зеркал и лабиринтов раскрывается сравнительно легко: Рид излагает юнгианский вариант психоанализа и при этом стремится стать в позу человека идеологически нейтрального.
Современное художественное сознание (то есть модернизм) ничего общего не имеет ни с марксизмом, идеологией пролетариата, ни с социалистическим реализмом, но это сознание и не буржуазное — вот что пытается доказать Рид. Он пишет о том, будто современный художник независим от общества, а его творчество выходит из-под контроля буржуазии. По его мнению, в XX веке наблюдается постепенное сокращение частной собственности, вызванное жесткими ограничениями, наложенными на накопление бргатства (!), к тому же
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23, стр. 21.
2 Н. 'Read, The Philosophy of Modern Art, p. 117.
43
развитие научно-технической революции постоянно и неуклонно отстраняет художника от процесса производства. Это и дает якобы возможность художнику возвыситься над пролетариатом и буржуазией, а также над их идеологиями. Именно это обстоятельство позволяет ему подняться и над социальной действительностью.
Если художник социально сознательный, пишет Рид, «он может восстать против социального устройства — так поступают революционные художники,— и тогда искусство становится средством преобразования общества. Но такой тип художника — очень редкий. К тому же этот случай предполагает, использование искусства на службе предвзятых идей, на что настоящий художник согласиться не может»1. Ну, а как поступает «настоящий художник»? Он отворачивается от эстетических ценностей прошлого, разрушает их, чтобы искать новые, бунтует против всякого конформизма (и буржуазного и пролетарского),— он проявляет себя как революционер, но только в рамках... эстетического сознания. Модернистское искусство порождено именно этой анархической, индивидуалистической акцией. Таков тот конечный вывод, к которому пришел Рид. Вывод в общем правильный: модернизм есть проявление анархического умонастроения. Но все дело в том, что анархизм—.разновидность буржуазной идеологии. А этого как раз и не хочет признать Рид.
Есть еще один вариант этой концепции. Иногда говорят, что истинная сущность модернизма проявилась уже на тех выставках, концертах и спектаклях, которые впервые дали фовисты, футуристы, дадаисты в начале века. Известно, что эти представления часто оканчивались настоящими перебранками между артистами и публикой. Некоторые критики увидели в этих скандалах «знамение времени», концерты новых муз превратились в такие события, в которых все могут принять участие, ибо в них будто бы стираются всякие различия между сценой и партером, между исполнителем и слушателем. В этом, по их мнению, проявились признаки «новой демократии» и «нового сознания».
«Все сливается воедино», по мнению этих критиков, вовсе «е из-за характера самого искусства, а потому, что в XX веке нет определенного, устойчивого соотвег-
1 Н. R е a d, The Philosophy of Modern Art, p. 27.
44
ствия между человеческими понятиями и внешним миром. Вследствие этого у людей нет уверенности в том, что их суждения истинны. Человеческое сознание становится таким образом проблематическим, в нем возникают все новые и новые представления о реальности. Каждое из них, возникнув, тут же готово уступить место другому. Именно поэтому с каждой новой концепцией реальности появляется и новое искусство. При этом разрушаются не столько ценности прошлого, сколько сами источники и основы этих ценностей. Сомнение проникает во все сферы человеческого духа. Художник XX века осознает эти события, он знает, что происходят постоянные перемены, но куда они ведут, ему неизвестно. У него остается единственная возможность для действий — он преобразует реальность, но в границах... искусства.
Позиции, изложенные здесь, живо напоминают те, которые занимали у нас так называемые «левые» художники 20-х годов. Некоторые' из них полагали, будто, начав бунт против прошлого в искусстве, они проложили тем самым дорогу социальной революции. Мня себя «неоправданно свободными» романтиками, они были на самом деле эстетическими анархистами. Их разрушительные устремления были беспредельными, когда они готовились оставить «голого человека на голой земле» с тем, чтобы этот последний все начал сызнова. Но с такими настроениями «левые» вряд ли могли долго идти вместе с социалистической революцией. Они становились весьма сомнительными спутниками ее. Правда, многие из них говорили, что они «за марксизм»,— .в отличие от Рида, который хотел стоять даже «левее» марксизма, где-то между Фрейдом и Юнгом.
Романтико-анархическое толкование модернизма, несмотря на его «левизну», мирно уживается с иррацио- налистическим и прагматическим подходом к нему. Об этом свидетельствует симпозиум, состоявшийся недавно в США, на тему: «Истоки современного сознания». Его участники рассматривают модернизм как подлинно революционный переворот, совершенный где-то на грани XIX и XX веков одним из «самых плодотворных поколений» европейской интеллигенции. Дж. Вайс, редактор сборника, включающего материалы симпозиума, пишет: «Это было поколение М. Вебера, У. Джемса, Ф. Ницше, Б. Кроче, А. Бергсона, 3. Фрейда, М. Пру¬
45
ста; это было время постимпрессионизма, новой физики, символизма, ревизионистского социализма, неолиберализма и прагматизма»1. «Плодотворное поколение» видело свою цель в отказе от абсолютных идеологий XIX века, от абсолютных начал — материи и сознания, от выяснения их взаимосвязи, ибо оно искало новый источник мысли в сочетании веры и разума.
Итак, истоки «современного сознания» соотносятся с концом XIX и началом XX века. На рубеже этих веков в истории западноевропейской цивилизации действительно происходили важные перемены — осуществлялся переход, как выразился Дж. Го(лсуорси, «от само- довольного и сдержанного провинциализма к еще более самодовольному, но значительно менее сдержанному империализму».
Буржуазия превращается в эксплуататора огромных масс цветного населения Африки, Азии, Латинской Америки, осуществляет «динамичную политику», раскалывает рабочий класс внутри страны и размахивает увесистой дубиной за ее пределами. Капиталистический строй раздирают противоречия, внутренние и внешние, нарастает социалистическая революция.
Перед интеллигенцией Запада встают «роковые» вопросы: Как жить? Что делать? Куда идти? Она оказывается бессильной дать на них ответы. «Да, да, воздух нашей эпохи отравлен, это конец века, эпоха разрушения, свергнутых памятников, перепаханной сто раз земли; все это испускает запах тления! Можно ли хорошо себя чувствовать в такой обстановке? Нервы развинчены, сказывается нервная болезнь :века, искусство приходит в упадок; кругом сутолока, анархия, личность затравлена, загнана в тупик... Никогда люди столько не спорили и так мало не понимали, как сейчас, когда они начали претендовать на то, что все знают»1 2. Эти слова вложены Э. Золя в уста писателя Сандоза, своего двойника.
Одновременно совершается величайший переворот в науке: человеческое познание открывает микромир, а махисты наперекор всему утверждают: мир непознаваем. С этого момента начинается решительный поворот бур¬
1 «The Origins of Modern Consciusmess», Detroit, 1965, p. 11.
2 Э. Золя, Ругон-Мцккары, т, 2, M-, изд-во «Правда», 1957, стр. 319.
46
жуазной идеологии в сторону иррационализма, сопровождающийся попытками совершить «духовную революцию», дать миру «новое сознание».
Ссылаясь на особенности XX века (век машинерии, век разложения атома, нервный век, трагический век, релятивистский ,век и т. д.) и его научные открытия, буржуазные идеологи под маской беспартийной философии протаскивают чистейший субъективизм с его тезисами об исчезновении материи, об энергии как субстанции мира, об ощущении как единственной реальности и т. д. Паразитирование на естественно-научном прогрессе становится одной из существенных особенностей буржуазного сознания и сопровождается, как правило, «разгромом» идеалов.
Существуя за счет распространения своего влияния, расширения своей власти, «поздний человек» (то есть человек XX века), по мнению, например, О. Шпенглера, выступает против всяких абсолютных истин (он их объявляет метафизикой), против каких бы то ни было схем улучшения общества (он их называет утопией), против социалистических революций (он их называет империализмом наизнанку). «Такие идеалы,— пишет Шпенглер,— следует разбивать вдребезги, и чем больше при этом будет звона, тем лучше. Твердость, римская твердость—вот что теперь пролагает дорогу в мир. Скоро для всего прочего не останется больше места» 1.
Американские философы, авторы сборника, рассматривают модернизм как продукт американо-европейского происхождения. Его философское содержание сводится, по их мнению, к иррационализму, идеологическое значение определяется противопоставлением коммунизму.
Сборник открывается историческим обозрением Дж. Хайхэма «Переориентация американской культуры в 1890-х годах». Автор пытается доказать, будто американское общество с середины XIX века (то есть после победы демократического Севера над рабовладельческим Югом) вплоть до 1890 года было инертным и даже застойным. Оно послушно подчинялось различным ограничениям, жило в больших городах, отсиживалось в комнатах, украшенных безделушками, замыкалось в кругу семейной жизни, признавало авторитет элиты, маскировалось фасадом элегантности и утешало себя
1 О. Ш п е н г л е р, Пессимизм, Пг., 1922, стр. 32.
47
верой в автоматический материальный прогресс. Однако в 1890 году американское общество приходит в движение (что выводит его из равновесия, автор не объясняет). Оно стремится порвать с рутиной, преодолеть монотонность урбанизованной культуры, у него возникает потребность быть предприимчивым. Его динамизм зародился якобы в областях «народной культуры»: в спорте, в возбуждающих ритмах джаза, ;в интересе к непокоренной природе и т. д. Это изменило внешний и внутренний облик американца: женщины стали более мужественными, мужчины — более воинственными. В стране организуются различного рода патриотические общества, культивируется джингоизм. Ее лидеры охотно ищут повод для ссор и восхваляют англосаксонскую расу, которая представляется им «...самой высокомерной, хищной, самой замкнутой и неукротимой в истории»1. В эти годы популярна музыка, прославляющая американский флаг, а песня «Звезды и полосы останутся навсегда» становится официальной. На правом фланге «гладиаторского движения» был Теодор Рузвельт, который любил «...открытый мир, спортивный азарт, политическую борьбу и опасность войны». Он призывал женщин почаще рожать сыновей, ввел «методы бокса» в практику политической борьбы и т. д.
В этом изложении исторических обстоятельств возникновения «современного сознания» все имеет значение: и то, что о нем сказано, и то, как сказано, и то, о чем автор умолчал. Хайхэм рисует картину, свидетельствующую о влиянии шовинизма, милитаризма, империализма на нравы американского общества, которое вовсе не было таким монолитным, как изображено автором. Наряду с империалистами в нем были и антиимпериалисты.
Последнее десятилетие XIX века в истории США действительно занимает особое место: оно было насыщено острыми классовыми боями. Наиболее значительные события этого десятилетия суть следующие: основание фермерской партии популистов (1892), крупнейшая в мире забастовка шахтеров, в которой принимает участие около 134 тысяч человек (1894), основание социал-демократической партии (1898). В то время в американской литературе пользовались известностью
1 «The Origins of Modern Consciousness», p. 32.
48
М. Т,вен и Ф. Норрис, вступали в литературу Дж. Лондон и Т. Драйзер. Критический реализм переживал пору своей гражданской зрелости. Однако Хайхэм «не замечает» этих процессов. Он исходит не из социальной действительности, а из понятия человека вообще, некоего абстрактного индивида, среднеарифметической личности, чтобы затем приписать ей взгляды и устремления, носителями которых являются государство, церковь, пресса, школа. Усвоив пропагандируемые этими институтами взгляды, личность выступает затем в качестве вместилища, сосуда «духа времени».
Возникает вопрос, почему среднеарифметический американец, которого с таким тщанием описывает Хайхэм, стал в конце XIX века воинственным, джингоистом?
На этот вопрос был дан ответ еще в начале XX века Дж. Гобсоном в книге «Империализм»: «Джингоист весь поглощен риском и слепой яростью борьбы... Вполне очевидно, что зрительное сладострастие джингоизма является весьма серьезным фактором империализма. Фальшивое драматизирование как войны, так и всей политики империалистической экспансии в целях возбуждения этой страсти в среде широких масс занимает немалое место ,в искусстве истинных организаторов империалистских подвигов — маленьких групп дельцов и политических деятелей, которые знают, чего хотят и как этого добиться».
Характерно, что В. И. Ленин выписал этот фрагмент из книги Дж. Гобсона, сопроводив его одобрительной отметкой: sic! Г
Простое сопоставление концепции Хайхэма с действительными фактами свидетельствует: то, что он называет «современным сознанием», порождено классовой борьбой, политическим и психологическим климатом эпохи империализма с его культом насилия, расового превосходства, джингоизма, теми извращениями, которые неминуемо возникают в условиях непримиримых социальных конфликтов. Именно обострение классовых противоречий толкает реакцию на отказ от объективной истины, на разглагольствования о приоритете веры над разумом и способствует распространению среди интеллигенции скептицизма и пессимизма.
1 В И. Ленин, Полное собрание сочинений, т 28, стр 400. 3 О модернизме 49
Создаются, таким образом, благоприятные предпосылки для развития реакционных идеологий и прежде всего — иррационализма. Не случайно ему уделено так много внимания .в сборнике. Авторы его исходят из предположения, что конфликт между верой и разумом, чрезвычайно обострившийся в XIX веке, в XX становится основной закономерностью развития сознания и поэтому присущ всякому опыту, всякому переживанию В этой противоположности, утверждают они, обнаруживается естественное столкновение двух начал ,в человеке: разума и инстинкта, мысли и ощущения, ума и чувственности, вызванное якобы общим, свойственным нашему веку разрывом между сознанием и реальностью. Так, в действительный конфликт между верой и разумом вкладывается иррациональный смысл.
Чтобы придать более респектабельный характер этой фальсификации, авторы обращаются «к авторитетам XX века» — Валери, Мережковскому, Фрейду,— отмечая при этом их интерес к личности Леонардо да Винчи. «Авторитеты» приписывают великому реалисту, художнику и ученому, изобретателю все «пороки XX века»: конфликт между мыслью и ощущением, психическую раздвоенность, нарциссизм, шизофрению и даже гомосексуализм. Потом они утверждают: таков человек! Гений и ничтожество одновременно! Причем его гениальность низведена к ничтожеству, а ничтожество рассматривается как предпосылка гениальности.
Выяснив таким образом «природу человека», авторы сборника уже сравнительно легко устанавливают искомый «портрет» века. Им оказывается... Жан Баруа — персонаж одноименного романа Роже Мартена дю Тара
Характеризуя выдающееся реалистическое произведение французского писателя, Э. Вебер утверждает: это роман о жизни паломников прогресса, пришедших не к триумфу, но к поражению.
Жан Баруа, наиболее яркий представитель поколения, этот «ведущий интеллектуал левых», характеризуется как социалист, материалист и атеист: он отрицает свободу воли, бессмертие души, верит во всеобщий детерминизм, в эволюцию, в способность науки познать объективную истину и т. д. Вебер полагает, что это кредо, взятое само по себе, уже означало «начало конца», так как оно основывается на ниспровержении всех «духовных ценностей». Социализм, материализм, ате¬
50
изм, по мнению Вебера, таят в себе возможность самоотрицания. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что «паломники прогресса» приходят в конце концов -к католическому прагматизму, к жесткой самодисциплине, к оправданию насилия ради насилия, к фанатичному национализму и т. д., а сам Жан Баруа отказывается от своих изнурительных «концепций», якобы заявляя: «С меня довольно борьбы против жизни, смысл которой уходит от меня. Я не могу примириться с пустотой»1.
Чем же вызвано отступничество Жана Баруа?
Вебер видит в изменчивой судьбе Жана Баруа «нечто от разочарования», от скептицизма, источник которого следует якобы искать в... социализме! Причем Вебер весьма превратно толкует французский социализм второй половины XIX века. Социализм Консидерана, Луи Блана, Прудона после Парижской Коммуны был забыт. Марксистский социализм не был модным, поскольку он возник якобы «как оборонительная реакция против насильственных изменений, вызванных индустриализацией»1 2. Рабочие тяготели к нему вовсе не потому, что он заключал в себе «видение будущего», а лишь потому, что видели в нем «замаскированное выражение тоскливой преданности прошлому»3. Модным в то время становился социализм романтический, да и тот представлял собой новое, расширенное издание «культа я»! Выразителем идей этого социализма был Баррес, предшественник фашизма (кстати, наиболее охотно цитируемый Вебером). Баррес — сторонник «действия ради действия» — утверждает только одну добродетель: энергичного самоутверждения, необходимого для «здоровья нации», ,для «духовной гимнастики», с помощью которой народ обретает себя, готовясь к сильным действиям — к войне.
Таков, по мнению Вебера, социализм и его духовная атмосфера, способствующая развитию кризиса Жана Баруа, сознание которого разъедалось постоянным сомнением в возможности прийти к единственной, окончательной, позитивной истине. Материализм оказывается таким же односторонним (отрицание духовных ценностей), как и субъективизм (культ действия ради дейст¬
1 «The Origins of Modern Consciousness», p. 8L
2 I b i d„ p. 84.
3 I b i d.
3* 51
вия). Итак, материализм становится тождественным субъектйвизму, мысль человеческая неизменно заходит в трагический тупик, человек никогда не достигает того, чего ищет.
Такая постановка вопроса основана на фальсификации понятий. Если обратиться к истинному Жану Баруа, как его создал Роже Мартен дю Тар, картина будет выглядеть совсем по-другому.
Личную трагедию Жана Баруа, бесплодность его борьбы на стороне дрейфусаров, обусловливают не мистические, но социальные причины. Обращаясь к своему учителю и сподвижнику Люсу, он безнадежно констатирует: «Везде, как и раньше, ложь, корыстная заинтересованность, социальная несправедлйвость! В чем прогресс? Удалось ли нам осуществить хотя бы одну из наших надежд?»1 Иначе и быть не могло: ведь Жан Баруа опирался на идеологию того самого общества, против которого вел борьбу.
Его протест с самого начала носит моральный характер, между тем как обстоятельства требуют применения политических средств, обращения к массам. Баруа ограничивает себя желанием улучшить общественные отношения в рамках капиталистического общества, тогда как они заслуживают разрушения. Усилий отдельных просветителей и моралистов («сеятелей», как называли себя сторонники Жана Баруа) здесь явно недостаточно. Но что поделаешь, если они опираются прежде всего на самих себя? Их ждет горькое разочарование. В этом трагедия не одного Жана Баруа, но многих буржуазных интеллигентов. Баруа — не герой, он жертва, и потому меньше всего подходит на роль «портрета века». Конечно, авторы сборника выдвигают его на эту роль отнюдь не из желания прославить подлинный героизм, они поднимают на пьедестал «героизм отречения». В их представлении Баруа — герой потому, что он отказался от борьбы, герой — отступник, олицетворяющий трагическое бессилие мысли.
Идея бессидия и отчуждения сознания от действительности проводится и в других статьях сборника, в частности, в статье А. Леви «Концепция природы», в статье Г. Гамова «Деклассикализация физики».
’Роже Мартен дю Гар, Жан Баруа, М., Гослитиздат, 1958, стр. 337.
52
Леви утверждает: на смену «романтической страсти» к природе (XVIII в.) пришла «прозаическая искусственность» (XX в.). Он ссылается на экзистенциализм, который, сосредоточивая внимание на внутренних дилеммах и затруднениях человеческого «я», отчуждается от природы. Такая же участь постигает и позитивизм: подмена философии природы .физикой приводит к тому, что сама природа исчезает в джунглях указателей, формул, дифференциальных уравнений, символов, знаков. Математическая формализация отрывает научные абстракции от непосредственных данных чувственного опыта, вследствие чего позитивизм смещает предмет своего анализа: вместо того чтобы исследовать необходимые связи между вещами, он обращает свое внимание на связь идей в голове.
Итак, природа, материя, субстанция исчезают, остаются уравнения, остается связь идей в голове, остаются ощущения (как говорил Э. Мах). Материальный мир теряет значение реальности. Человек отрывает абстракцию от «чувственного целого», затем превращает ее чисто логическим путем... в субстанцию.
Обращая, таким образом, внимание на черты, действительно присущие экзистенциализму и позитивизму, Леви изображает их как неотразимые доказательства, свидетельствующие якобы об отчуждении всего современного сознания от природы.
Примерно такую же точку зрения (только на материале физики) развивает и Гамов: понятие окончательной реальности (то есть материи) исчезает в современной науке, сама наука есть продукт «чистого ума», являя собой область гипотетического анализа, дающего пробные, экспериментальные, в высшей степени вероятностные обобщения. Таким образом, и современная философия и точная наука приходят к одному и тому же знаменателю — к отчужденной от природы, зыбкой, неустойчивой, релятивистской и поэтому трагической мысли!
Трагическая мысль! Она-то и выступает в качестве «героя», для которого авторы ищут соответствующий ей портрет. Сначала они попробовали найти его в образе Жана Баруа. Но, видимо, им самим этот образ показался недостаточно убедительным. Редактор сборника Дж. Вайс полагает, что Жан Баруа ищет переживаний, избегая выводов. Хотя он олицетворяет собой со¬
63
знание «потерянных возможностей» и в этом качестве является истинным героем культуры, но могут быть и другие «герои культуры», например, Дориан Грей (роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»),
Дориан Грей, как известно, руководствуется гедонистической моралью: ничего не упускать, вечно искать все новых и новых ощущений. Иногда он мыслит, полагая, будто душа человеческая — это нечто до ужаса и отсутствующее и реальное, которое можно купить, продать, променять. У него есть совесть — его портрет, который отражает, вбирает в себя все его чувства и помыслы. В конце концов, он решает уничтожить свою совесть, убить прошлое, чтобы стать свободным. Но, уничтожая свою совесть, он поражает самого себя.
Итак, Жан Баруа, человек честной мысли, или Дориан Грей, человек преступной совести, кто же из них — истинный «портрет века»? Один из персонажей романа О. Уайльда говорит Дориану Грею: «Вы — тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел»1. Да, да, именно Дориан Грей с его сомнительной моралью, с его банальными «истинами»: действительность — это хаос, сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача' и т. д., именно он, жаждущий утешений порока, обладает скрытыми возможностями разрушителя культуры!
У современного буржуазного общества есть все основания бояться таких «героев». Но унять их оно не в состоянии, ибо зрит в них свою «неотвратимую судьбу».
Так выглядит одна из самых последних попыток доказать, что «современное сознание» имеет «мало общего» с европейским эстетическим декадансом, что в основе его лежит философский подход к действительности — иррациональный и прагматический.
Вопрос о происхождении современного сознания (модернизма) не нов в буржуазной философии. Он ставился и ставится в различных вариантах. Обычно характеристика этого сознания обусловливается зависимостью от какого-либо «абсолюта» (в этой роли выступают: «мировая душа», техника, психический механизм мышления, структурность познания и т. д.), а его возникновение соотносится с тем или иным периодом исторического развития Европы.
1 О Уайльд, Избранные произведения, т. 1, М., Гослитиздат» I960, стр. 229.
64
Вопрос этот вызван Не праздным любопытством, а теми революционными преобразованиями, которые разделили человечество на два противостоящих лагеря. Становление коммунизма и связанное с ним формирование нового человека, осознающего себя субъектом исторического развития, распад капиталистической системы, подчиняющей личность стихии частного интереса,— таковы те состоящие в непримиримом противоречии процессы, которые вновь и вновь привлекают внимание к вопросу о сущности, источниках и роли сознания в переустройстве современного мира.
Буржуазные философы и социологи предлагают несколько ответов. Одни из них полагают, что происхождение современного сознания 'следует соотнести с эпохой Возрождения, когда «фаустовская душа» впервые начала проявлять себя в стремлении :к «бесконечности», то есть в неуемном желании расширить свои знания, богатства, влияние, власть (кстати, отметим: это представление о «фаустовской душе» имеет мало общего с действительным образом Фауста, созданным Гёте).
Другие утверждают, что стимул, развивающий современное сознание, проявил себя позже — в эпоху индустриальной революции (вторая половина XVIII века), когда машины, техника начали определять не только характер труда, но и особенности как восприятия действительности, так и мышления человека (утилитаризм, рационализм, лаконичность, экспрессия). Например, по мнению Ж- Дювиньо, индустриальное общество благодаря наличию радио, кино, телевидения выхватывает «человеческие факты» из жизненного потока событий, расчленяет его целостность, в силу чего само восприятие жизни становится, с одной стороны, фрагментарным, с другой — фактографическим. Человек XX века поэтому приспосабливает свой художественный вкус к восприятию обыденных вещей (поп-арт, оп-арт).
Третьи настаивают на том, что современное сознание нельзя рассматривать ни как отражение внешнего, ни как выражение внутреннего мира человека. Оно представляет собою модель отношений между человеком и внешним миром, модель, в которой человек выступает как независимая сущность, а внешний мир — как функция человеческой деятельности.
ф|рейдисты, экзистенциалисты, характеризуя XX век, обычно называют современность кошмарной дейст¬
55
вительностью, а создание рассматривают исключительно как негативную деятельность, как средство отвращения индивида от объективной реальности. Исходя из таких посылок, они приходят к умозаключению, будто современное сознание стремится, пребывая в страхе, отойти от мира, воспринимаемого органами чувств, с тем чтобы заменить его вновь созданным, иным миром. Этим объясняется якобы присущая современному человеку тяга ко всему жуткому, мистическому, к сновидениям, к символам, необъяснимым и устрашающим, какие можно вайти у Кафки, Беккета, Ионеско и других. С этой точки зрения всякая деятельность, связанная с созданием духовных ценностей (в особенности, искусство), рассматривается 'как мифотворчество, в котором обнаруживают себя «архетипы» человеческого подсознания.
Последнее время заметно активизируются структуралисты. Они связывают происхождение современного сознания с великими научными открытиями: расщеплением атома, теорией относительности, с успехами математической логики и т. д. Определение структуры одно?! из основных «элементарных частиц», атома, раскрытие механизма взаимосвязи между пространством и временем, создание кибернетических устройств, моделирующих человеческую психику, и т. д. кладет, по их мнению, начало таким особенностям современного сознания, как преобладание анализа над синтезом, как все более разветвляющаяся дифференциация знания. Общий опыт человечества дробится, человеческое сознание самоог- раничивается в пределах, каждый из которых имеет свой, частный язык. Поэтому якобы и распадаются социальные связи между людьми. Их сознание становится сугубо индивидуалистическим, неповторимым и непередаваемым. Они перестают понимать друг друга.
Перечисленные концепции не исчерпывают, конечно, всех попыток объяснить происхождение и смысл современного сознания. Эти попытки .многообразны. Их столько же, сколько существует течений и тенденций в современной буржуазной философии. Общим для них является то, что современное сознание рассматривается как некая автономная сущность, как замкнутый в себе феномен, движущийся вне борьбы классов, вне идеологии и политики. Какая бы «точка отсчета» ни лежала в основе той или иной концепции модернизма (технический абсолютизм, атомизация общества, структурализм
56
и т. д.), все они игнорируют тот бесспорный факт, что в современном мире существуют две социально-эконо- мические системы и обусловленные ими два сознания. Обращаясь к социальным истокам современного сознания, они имеют в виду только опыт буржуазного общества. Характеризуя современное сознание как определенное мировоззрение, они черпают аргументацию только из арсенала иррациональной философии. Разве это не является неопровержимым доказательством того, что «современное сознание» (модернизм) представляет собой не что иное, как идеологию современной буржуазии, которая пытается представить другую идеологию (коммунистическую) и все связанные с нею формы сознания (искусство социалистического реализма прежде всего) как нечто не соответствующее современности?
Основным вопросом модернистской эстетики является вопрос об отношении искусства и действительности. Однако модернисты отрицают наличие какой-либо объективной связи между искусством и реальностью. Н. Фрай пишет, например: «Литература не отражает жизни, но она и не избегает ее, не отрывается от нее: она поглощает ее»1. И далее: «Мир литературы — это мир, в котором нет никакой иной реальности кроме человеческого воображения»1 2.
Выходит таким образом, будто жизнь растворяется в искусстве, искусство же соотносится только с человеческим воображением. В таком же духе размышляет и О. Хаксли. Он пишет: «С точки зрения религиозных летописей, продолжающих свое существование памятников поэзии и пластических искусств совершенно очевидно, что во все времена люди больше тяготели к бегству от действительности, чем к изображению объективного существования, и признавали: то, что они видели с закрытыми глазами, обладает более высоким духовным смыслом в сравнении с тем, что они видели открытыми глазами»3.
Отрицая объективную связь между искусством и реальностью, модернисты тем самым затушевывают ту пропасть, которая пролегла между искусством и действительностью в современном буржуазном обществе. И
1 N Fry, The Educated Imagination, Bloomington, 1964, p 80.
2 I b i d„ p. 96.
3 A Huxley, The Doors of Perception and Heaven and Hell, Harmondsworth (Midd’x), 1965, p. 39.
57
в то же время эта пропасть истолковывается эстетикой модернизма не как следствие искажения смысла и назначения искусства, а как его единственно возможное состояние. Поэтому возникает вопрос, что же знаменует собой модернизм: независимость искусства от буржуазного общества или враждебность этого общества искусству?
Общество принимает только то искусство, в котором оно испытывает потребность. Коль скоро это так, то факт отчуждения искусства от действительности — не случайность, какими бы случайными мотивами в своем творчестве ни руководствовались сами художники. Их личные побуждения оцениваются (и оплачиваются!) только в связи с тем социальным значением, которое обретает их творчество в обществе, внутри которого ( и для которого) они функционируют. Так раскрывается классовый смысл их эстетического эксперимента. Характеризуя модернизм, Л. Триллинг пишет: «Нельзя принимать всерьез легенду о том, будто свободный творческий ум пребывает в состоянии войны с буржуазией»1.
Искусство, возникшее и развившееся на основе господствующей идеологии, является искусством господствующего класса. Однако в эстетике модернизма оно истолковывается, как уже отмечалось, с прямо противоположных позиций: в одном случае в нем обнаруживают движение, оппозиционное буржуазии, в другом — как нечто совершенно не связанное с общественными отношениями. Эта противоречивость суждений затемняет и без того темный смысл модернизма.
Как уже отмечалось, нет единого мнения на этот счет и в советской эстетике. М. Лифшиц видит в модернизме проявление культа силы, радости уничтожения, любви и жестокости и т. д., то есть всего, что проявилось в фашистской идеологии, в условиях военной диктатуры буржуазии. Другие авторы, напротив, видят в модернизме нечто совсем иное, а именно: переход от концепции «искусства для искусства» к эстетическим идеалам, внеклассового демократизма! И. Л. Маца, например, полагает, будто в начале века художественная интеллигенция была настроена прогрессистски, ибо все свои надежды она возлагала на город «с его многошумными улицами, нарастающими темпами динамизма и безраз-
1 L Trilling, Beyond Culture, р. ХУ- Д8-
ЛйчИем к человеческой судьбе», который был Носителем и выразителем социального прогресса.
По всей вероятности, настроения того периода подмечены верно. Но что из этого следует?
Унанимизм, пароксизм, симультанизм, кубизм, футуризм, динамизм и другие модернистские течения, по мнению Маца, выражают существо нового движения. Какими же были эти течения: реалистическими или антире- алистическими? Маца уходит от ответа на этот вопрос, заявляя: это — «авангардное» движение, оно включало в себя как «заостренный рационализм», так и «тонущую в недрах подсознательного мистику»1. Причем, к авангарду причисляются и социалист А. Гильбо, и Г. Аполлинер, и Ж. Ромен. В смешении течений отразилась, по мнению автора, «та полная противоречий нервозная напряженность общественного бытия, на базе которого они и расцветали»1 2.
Далее дело изображается так, будто в период первой мировой войны начался переход от «современного» (то есть модернистского) к «революционному искусству», которое долго—после войны — «фигурировало под этим названием». «Революционное искусство», по характеристике Маца, было хотя и нигилистическим, но субъективно честным выражением «запоздалой романтической наивности», надклассового стремления к свободе. Другими словами: модернизм прокладывает дорогу революционному, то есть «левому» искусству 20-х годов.
Нам представляется, что концепции М. Лифшица и П. Маца слишком упрощают суть дела3. Лифшиц рассматривает явления только под углом зрения той ответственности, которую модернисты должны нести за самые мрачные психологические факты нашего времени (сказано уклончиво). При этом суд над историческими процессами совершается независимо от оценки деятелей, причастных к этим процессам, принимаются во внимание только объективные результаты и сбрасываются со счетов субъективные мотивы деятельности людей.
1 И. Маца, Буржуазные эстетические теории начала XX века во Франции.— В сб. «О современной буржуазной эстетике», вып 2, М , «Искусство», 1965, стр. 13
2 Т а м же.
3 В статье «Модернизм как явление современной буржуазной идеологии» («Коммунист», 1969, № 16) М Лифшиц во многом исправляет и уточняет свои взгляды
59
Такая постановка вопроса полностью оправдывает себя, если речь идет о массовых политических движениях. Но модернизм — не такое явление, хотя оно и связано с определенной политической идеологией.
Маца тоже односторонен, когда рассматривает модернизм как «эстетику печали», сложившуюся в условиях урбанизованной культуры. Абстрактный гуманизм представляется ему в виде надклассового сознания (о чем все время говорят сами модернисты).
Модернисты не образуют, конечно, некую «сплошную массу».
А. Луначарский, побывавший во Франции в конце 1925 и в начале 1926 года (см. его очерки «На Западе»), обращает внимание на распыленность французской интеллигенции. Она делилась, по его свидетельству, на четыре главных течения, связанных с мелкобуржуазным блоком радикалов и социалистов, с растущим влиянием католицизма, монархизма и фашизма, с усиливающейся оппозицией самой буржуазии, а также с коммунизмом. Итак, различные идеологические и политические ориентации и, как следствие,— разнобой эстетических концепций и взглядов (даже внутри самой передовой части интеллигенции). В этой связи Луначарский пишет: «Но самый авангард этот распылен до невероятия. Еще можно было бы понять трудность сближения даже самых искренних пацифистов с коммунистами. Но и гораздо более близкие друг другу группы и лица почти с ненавистью относятся друг к другу» 1.
Эта характеристика сохраняет свое значение и для сегодняшнего дня.
В современном буржуазном обществе интеллигенция втянута в такие острые материальные и духовные конфликты, эмоциональный накал этой борьбы до того высок, социальные события сменяются так быстро и неожиданно, идеологические разногласия так усложнены и запутаны, политическое равновесие настолько неустойчиво, а угроза истребительной войны так пугающе реальна, что (при отсутствии четкого мировоззрения, убежденности и жизненной закалки) у буржуазной интеллигенции чаще пробуждается желание «выжить», чем стремление «бороться» за осуществление социаль¬
1 А Луначарский, Собрание сочинений, т. 4, М., изд-во «Художественная литература», 1964, стр. 389.
60
ных идеалов. В этом заключается один из источников ее эстетического размежевания, и чтобы разобраться в сущности модернизма, нужно проанализировать не только объективные предпосылки и следствия творческой деятельности, но и ее субъективные мотивы. Без этого модернизм не понять.
Известно, что от модернизма одни художники шли к фашизму, а другие — к коммунизму. Почему так случилось?
Существует ли идеологическая или логическая связь между фашизмом и модернизмом? Да, существует. Авторы сборника «Истоки современного сознания» не случайно причисляют Ницше к поколению интеллигентов, осуществивших определенную переоценку ценностей, следствием которой явился модернизм. Ницше, идейный предшественник немецкого фашизма, критикует декаданс. И тем не менее его концепция искусства — сугубо декадентская, модернистская. По его мнению, искусство — это «страстная жажда иллюзии, жажда освобождения при помощи иллюзии»1. Он рассматривает его в качестве метафизического дополнения к действительности, «поставленного рядом о нею для победы над ней»1 2. Эти формулы не нуждаются в объяснении, их принадлежность и модернизму и фашистской идеологии очевидна. Такую же связь можно обнаружить между футуризмом Ф. Маринетти и идеологией итальянского фашизма. В одном из своих «Манифестов» (октябрь, 1911 г.) он писал: «Мы, футуристы... прославляем любовь к опасности и насилиям, милитаризм, патриотизм, войну, как единственную гигиену мира и единственную воспитательную мораль»3.
Сюрреалист С. Дали прямо-таки афиширует свою борьбу против революции за католицизм, против прогрессивных идей за макиавеллистский фанатизм и т. д. Его «за» и «против» привели к тому, что он не последний человек во франкистской Испании. Кнут Гамсун также не случайно отдал себя в услужение гитлеровцам, когда те оккупировали Норвегию. Эзра Паунд, авангардистский поэт, во время войны перешел на сторону фашизма тоже не случайно.
1 Ф. Ницше, Происхождение трагедии, Спб, 1899, стр 27
2 Т а м же, стр. 214.
3Ф Маринетти, Битва у Триполи, М., 4915, стр 16
61
Количество этих примеров Можно было бы умножить. О чем они свидетельствуют?
Модернизм — это путь не только зыбкий, противоречивый, но и опасный. Кое-кому кажется, что он не отмечен устойчивыми идеологическими веха,ми. Может быть. Но одно несомненно — это путь о уклоном «вправо».
Иногда говорят, что нацисты, самые правые из числа самых реакционных партий, преследовали модернизм (вспомните о судьбе Баухауза), а Гитлер обозначал его (в «Майн кампф») самыми бранными, с его точки зрения, эпитетами: «ублюдочный», «еврейский», «чужеземный», «большевистский» и т. д.
Что можно ответить на это замечание?
Прежде всего то, что нацисты были демагогами, а их критика модернизма часто определялась соображениями политической тактики и была в известном смысле «бескопромиссной» вплоть, до роспуска Баухауза, после же этого она, как правило, перемежалась с признанием его заслуг. Так уже в конце 1933 года Геббельс в одной из своих речей утверждал, что истинный художник может и должен экспериментировать, стремясь создать искуство, подходящее для нового режима: «Немецкое искусство нуждается в притоке свежей крови. Мы живем в условиях юной эры. Все, кто поддерживает ее, юны, их идеи — юны. У нас нет ничего общего с прошлым, которое осталось за нами. Художник, стремящийся к выражению нового века, сам должен быть юным. Он должен создавать новые формы»1.
По целому ряду причин программа, намеченная Геббельсом не была доведена до конца. Но уже сам факт наличия ее свидетельствует о многом и прежде всего о том, что между идеологией нацизма и эстетикой модернизма не существовало барьера несовместимости.
Вместе с тем известно, что в той или иной степени модернизм оказал влияние на таких левых художников, как Маяковский, Арагон, Брехт, Элюар, Бидструп, Пикассо и другие. И в настоящее время некоторые модернисты покидают буржуазный лагерь и переходят на позиции социализма и коммунизма.
Существует ли идеологическая или логическая связь между коммунизмом и модернизмом? Такой внутренней
1 Цит. по кн.: В Lane, Architecture and Politics in Germany, 1918—1945, Cambridge, 1968, p 176 62
связи между ними не существует. Но нет между ними и жестких, непреодолимых границ, потому-то среди современной буржуазной интеллигенции происходит процесс размежевания, дифференциации. Это происходит по разным мотивам: эстетическим, моральным, философским, идеологическим, политическим и т. д. Одни из них эволюционируют вправо, другие — влево. Вполне понятно, что их эволюция осуществляется неравномерно: в сфере политики она идет быстрее, в сфере эстетики — медленнее и т. д. Отсюда та пестрота и тот разнобой, которые характеризуют их мировоззрение, те кричащие противоречия, которые существуют в их творчестве, между их мировоззрением и творчеством и т. д.
Что же это за мировоззрение, которое можно назвать «распадающимся?» Это мировоззрение буржуазного либерализма, который исторически исчерпал себя еще в конце XIX века и поэтому переживает глубочайший кризис. Будущего у него нет, а прошлое умерло. Ему только и остается, что фиксировать свое существование в пределах «вечного сейчас». Его жизненный потенциал заключается в силе инерции, постоянно ослабевающей в той же самой степени, в какой разрушается экономическая и политическая мощь буржуазии.
Когда-то либерализм был «абсолютной идеологией», формулировавшей «вечные принципы» разума: свобода, равенство и братство. Теперь он вынужден, учитывая обстоятельства, постоянно переоценивать свои ценности. Причем этот процесс совершается в условиях обостренных классовых битв, имеющих решающий характер, когда перед буржуазией все настойчивее, как неотвратимая судьба, встает гамлетовский вопрос: «быть или не быть?» Именно в этих условиях буржуазное сознание все более эволюционирует вправо, сознание масс — влево. Интеллигенция, стоящая на стыке этих двух прямо противоположных тенденций, оказывается во власти самых противоречивых и к тому же быстро меняющихся чувств и настроений. Ее симпатии колеблются между крайне правыми и крайне «левыми» идеологиями. Но какими бы хаотичными, сумбурными ни показались взгляды современной буржуазной интеллигенции, в них можно наблюдать две преобладающие тенденции: охранительную и разрушительную, конформистскую и оппозиционную. Несмотря на их противоречивость, они часто развивают и дополняют одна другую.
03
Современный либерализм ловко использует фразеологию абстрактного гуманизма. Он демагогичен, принимает окраску самых прогрессивных движений нашего времени, стараясь идти в ногу с ними. Именно поэтому он и встречает порой враждебное отношение к себе со стороны крайне правых, которые, не разобравшись в святцах, бухают в колокола, то бишь объявляют либералов... коммунистами.
В ходе империалистической войны и в особенности после победы социалистической революции в России буржуазия начала противопоставлять «белый» социализм «красному». В этом она видела проявление своей «революционности». Издатель М. Монт, персонаж романа Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах», после войны становится «социалистом». По этому поводу он рассуждает: «И все же какая-то цель у нас должна быть. Творить лучшую жизнь? Что-то не похоже. Загробный мир? Наверно, мне нужно заняться спиритизмом...»1. М. Монт, безусловно, не социалист, но либерал. Он действительно похож на человека, который даже в том случае, если бы мог одним движением пальца уничтожить в мир'^ все зло и всю ложь, все-таки не пошевелит им.
Охранительная тенденция в эстетике часто опирается на концепцию «искусства для искусства». В начале XX века она кое-где еще свидетельствовала о разрыве между художником и буржуазным обществом, между эстетическим и утилитаристским подходом к действительности, служила средством эпатажа буржуазии. Тем не менее ее «терпели». Но в наше время буржуазия ничего не имеет против этой концепции. Она даже вполне устраивает самые реакционные круги, поскольку превращается в средство отвлечения художника от социальной проблематики и помогает этим кругам скрывать свои истинные намерения за разговорами о незаинтересованности и беспартийности эстетических суждений.
В этой связи Томас Манн рассказывает такой случай: когда известный авангардист Эзра Паунд, переметнувшийся ,во время войны на сторону фашистов, был арестован, жюри, состоящее из видных писателей — англичан и американцев, неожиданно наградило его почетной литературной премией Боллинджена, «проде¬
1 Дж. Голсуорси, Сага о Форсайтах, т. 3, М-, изд-во «Известия», 1958, стр. 213.
64
монстрировав тем самым пример величайшей независимости эстетического приговора от политики». Но Томас Манн тут же ставит вопрос: «А может быть, в действительности этот приговор был не так уж далек от политики, как кажется на первый взгляд? Не сомневаюсь, что я не одинок в своем желании узнать, присудили бы эти весьма заслуженные члены жюри премию Эзре Паунду, если бы он вдруг стал не фашистом, а как раз наоборот...»1.
Увы, сомнений тут быть не может. Тем не менее концепция «искусство для искусства» пользуется признанием даже среди той части левой интеллигенции, которая видит в ней средство самозащиты от диктата... буржуазной политики!
Разрушительные тенденции связаны не только с отрицанием классического наследия, объективной истины, идеалов классовой молодости буржуазии, но и с опровержением каких бы то ни было устойчивых принципов. Модернисты постоянны только в непостоянстве. Именно поэтому модернизм в целом представляет собой стихию саморазрушения. Оберегая свои свободы, модернисты оставляют после себя то, что тут же, не успев возникнуть, превращается в отходы цивилизации. Отсюда следует непризнание ими авторитета истины и красоты. Человек из народа Андрес, герой романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», подумал, встретившись с анархистами: «Какая же это свобода, когда человек напакостит и не приберет за собой... Свободнее кошки никого нет, но она прибирает». Да, какой же может быть свобода у тех, кто не признает ни истины, ни красоты?
Заостряя внимание на отдельных чертах психики «человека XX столетия», в которых угадывается психика буржуа с присущей ему неуравновешенностью и распущенностью, иные модернисты волей-неволей выступают в качестве людей, иронизирующих по поводу различных социальных уродств. Но, повторяем, значение их творчества определяется не намерениями, а скорее всего, само собой, в каждом частном сопоставлении безобразных произведений с такой же породившей их действительностью. Именно потому, что даже искаженное сознание заключает в себе какую-то возможность
1 Томас Манн, Собрание сочинении, т. 10, М., Гослитиздат, 1961, стр. 485
65
реалистического прочтения общественного бытия, некоторые теоретики видят в модернизме проявления реализма и «романтического бунта». Р. Гароди, например, пишет: «Всякое подлинное произведение искусства выражает форму присутствия человека в мире». Отсюда якобы вытекает следствие: «нет искусства, которое не было бы реалистическим» Г
Странный вывод. И не только странный, но и ложный: ибо и реализм и антиреализм выражают присутствие человека в мире. И скульптурная группа Ф. Фи- вейского «Сильнее смерти», и памятник О. Цадкина «Возрожденный Роттердам», и покореженный металл, подобранный на полях войны и «вставленный» в композицию «авангардиста»,— 'все это следы бытия и мира и художников (причем разных) в нашем мире.
Но присутствие художника — это только необходимое условие, исходная позиция, с которой начинается движение всякого искусства. Но вот вопрос: куда оно пойдет, в каком направлении — к выражению мужества, истеричного вопля или оставит все так, «как оно есть»? Искусство может сближаться с действительностью, убегать от нее, отрицать ее, противопоставлять себя ей, нести в себе правду и ложь. Все эти состояния и связи, отношения и позиции отражают в конечном итоге социальные сдвиги, которыми насыщена общественная жизнь. Модернизму свойственна многоречивость, превращающаяся в спор с самим собой, в самоотрицание, обусловленное тем социальным размежеванием между буржуазией и народом, внутри интеллигенции, которое постоянно происходит в современном буржуазном обществе. В модернизме проступают черты распадающегося сознания, он избегает определенности, хотя избежать ее не может. В модернизме есть и «культ силы», и «эстетика печали», и «романтический бунт» (против реализма), и самый грубый натурализм, есть некоторый рационализм, но еще больше в нем иррационализма. Но чего в нем безусловно нет, так это реализма.
Чтобы понять модернизм, необходимо взглянуть на него еще с одной точки зрения: какая концепция человеческой личности лежит в его основе? Эта концепция тоже в известном смысле раздвоенная: она в одно и то же время релятивистская и метафизическая
Р. Гароди, О реализме без берегов, стр. 190,
66
Г носеологические подступы к эстетическому релятивизму
«Мы ж-ивем в релятивистском мире» — такое выражение часто можно услышать от философов и художников, когда они говорят о модернизме как о якобы единственно возможном в XX веке эстетическом сознании. «Релятивистский мир» при этом мыслится не как объективная реальность, а скорее всего как сумма представлений, взглядов, принципов и т. д.
«Релятивистский мир» — это равнозначность инерциальных систем, точек отсчета, условность человеческих понятий и символов, это, наконец, «ниспровержение» принципа детерминизма, который будто бы противоречит гуманизму, так как предполагает возможность превращения человека в объект, а его сознания — в механическую фиксацию воздействий неконтролируемых им сил.
В «релятивистском мире» «освобожденный» от оков объективной необходимости человек выбирает себе подходящий эстетический, философский или политический «изм», утверждая тем самым свою неповторимую индивидуальность. Однако во всех случаях и при всех обстоятельствах, независимо 'от выбора, он остается иксом, неопределенной величиной, которая может иметь самые невероятные, то есть любые значения.
Рассматривая человека как существо неопределенное, многозначное, «релятивистский гуманизм» лишает себя какой бы то нй было возможности дать ему целостное определение. >
В стремительно изменяющейся социальной среде (какую представляет собой наша современность), когда в движение приходят огромные пласты человечества, релятивистский индивид претендует на то (как это ни парадоксально), чтобы быть «мерой всех вещей», более того: субъектом, творящим современный мир. Но не вступает ли он тем самым в конфликт с действительными движущими силами истории, конфликт, превращающий само существование такого индивида в нечто иллюзорное? Ответ будет только один: да.
В «релятивистском мире» всеобщее равновесие нарушается. Один из авторов этой концепции, У. Флемминг, заявляет: в XIX веке все было уравновешено —
67
Диктатура и демократия, частная инициатива и господство монополий, научные открытия и ортодоксальные религиозные верования, могущество интеллекта и антиинтеллектуализм, новаторство и стандарт и т. д., в XX веке все спорят за или против либерализма или консерватизма, интернационализма или национализма, социализма или капитализма, индивидуализма или коллективизма, парламентаризма или тоталитаризма и т. д.
Нет нужды разбирать сейчас, насколько истинны или ложны антиномии, .предложенные Флеммингом. Важно его признание того, что в этих противоречиях раскрывается сущность «релятивистского мира». По мнению Флемминга, художник этого мира стоит перед возможностью неограниченного выбора концепций. Он инстинктивно склоняется в пользу стимулирующей его творчество идеи, независимо от того, из какого источника она появилась. Плюрализм идей связан с множественностью человеческих образов, это влечет за собой разнообразие стилей. Среди этих образов можно найти и «... пролетария Маркса, выражающего социальный протест, устремляющего свою мысль к окончательному триумфу рабочего класса и масс; и дарвиновского человека джунглей, ударяющего в свой там-там неопримитивизма, произносящего речь в пределах экзистенциалистского словаря о выживании самых приспособленных; и сверхчеловека Ницше, прошедшего через две мировых войны, стремящегося навязать свою могучую волю безвольному миру; и фрейдистского психочеловека, которого можно узнать в художественных полотнах, поскольку он пытается великодушно поделиться своими сюрреалистическими кошмарами; и механического человека, похожего на робота, отпрыска индустриальной революции и машинного века, мыслящего с помощью электронного мозга и выражающего свои футуристические принципы в механическом стиле; и релятивистского человека, рисующего абстрактные картины в границах своего личного пространства и времени, рубящего угловатые линии, соединенные между собой с помощью многофокусной перспективы кубизма. Современное искусство,— заключает Флемминг,— как зеркало релятивистского мира вбирает в себя многие формы и отражает многоликость человеческого образа» ’.
1 W. F 1 е m m li n g, Arts and Ideas, New York, 1961, pp 760—761.
68
Итак, по мнению Флемминга, пролетарий Маркса, дарвиновский человек джунглей, сверхчеловек Ницше, психочеловек Фрейда, механический человек с электронным мозгом и др. уживаются рядом в релятивистском мире, который в плане политическом являет собой парламентарную демократию, допускающую известную терпимость к различным точкам зрения и оттенкам мысли, а в переводе на эстетический язык дает модернизм, скопище равноправных и разноречивых «измов». Флемминг ищет и находит известное соответствие между парламентарной демократией и модернизмом. Кое в чем он прав: парламентарная (то есть буржуазная) демократия действительно терпимо относится к любому «изму», если он не выходит за пределы идеологии либерализма. Что же касается «пролетария Маркса», выражающего социальный протест, то, во-первых, к нему не проявляют ни малейшей терпимости (свидетельство тому — антикоммунизм), а во-вторых, сам пролетарий не находит ни в одном из модернистских «измов» подходящего средства для того, чтобы выразить свой социальный протест. Это свидетельствует о том, что «релятивистский мир» не в ладах с объективной истиной.
На вопрос, что есть истина, релятивистская философия отвечает: комплекс взаимосвязанных ощущений, идей или волевых устремлений, самоочевидность, дающая нам достаточную уверенность в познании, определенная настроенность субъекта познания, то, во что верят, гипотеза, которая руководит нами, так как мы находим ее удовлетворительной, и т. д. И еще: истина создается в процессе общения умов путем взаимного подтверждения или опровержения мнений.
В каждом из этих определений истина трактуется односторонне, в качестве психического феномена, взятого вне гносеологической связи с внешним миром, она отождествляется с непосредственным опытом или, вернее, с переживанием субъекта в процессе его приспособления к окружающему.
Однако неправильно было бы думать, что современная буржуазная гносеология, растворяя понятие истины в «животной вере» субъекта, оставляет вне поля зрения объективные условия его опыта, и сам объект, на который направлен этот опыт. Отдельные ее течения (логический позитивизм, семантика) уделяют внимание исследованию искусственно созданных и объективно
69
существующих формализованных структур, систем, языков, выступающих в качестве материальных носителей, технических средств выражения человеческой мысли и заключенной в нем истины. Понятие истины они ставят в зависимость от условий согласованности этих структур (семантическое определение истины, например), выдавая тем самым технические условия выражения истины (сами по себе они действительно могут быть связаны с исследованием проблемы истины) за единственное свидетельство ее объективности. Таким образом, релятивистская философия может согласиться только на формализованное определение объективной истины. Но дальше этого она не идет и не в состоянии идти. Источник ее беспомощности, бессилия раскрывается в ее отношении к объекту, к объективному миру. Релятивистское сознание или отождествляется с ним или противопоставляется ему. В условиях такой неопределенности нет никакой возможности провести грань между истиной и заблуждением (если истина — в контексте реальности, то и заблуждение находится там же, если истина это то, что не является природой, то и заблуждение сводится к тому же). Как не может быть истины, которая была бы всецело истинной, так не может быть и заблуждения, которое было бы полностью ложным,— таков конечный вывод, к которому приходит софистическая мудрость. Она не столько стремится к истине, сколько к тому, чтобы определить, какой мерой заблуждения можно вознаградить себя за это стремление. Более того, она не знает, что чему предпочесть: истину заблуждению или наоборот. Ведь каждый прав по-своему. Реалистический вывод будет истинным при одной системе мышления, мистический—при другой. Так истина оказывается относительной и приблизительной.
Идея релятивизма — это основная идея современной буржуазной гносеологии, суть которой исчерпывающе раскрыл В. И. Ленин: «Релятивизм, как основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание. С точки зрения голого релятивизма можно оправдать всякую софистику...»1.
1 В. И Ленин, Полное собрание сочинений, т 18, стр. 139
70
Релятивизм служит оправданием не только для всякой софистики, ,но и для капитуляции перед всяким объективным затруднением, связанным с поисками истины. Экзистенциалисты, фрейдисты, прагматисты и прочие релятивисты полагают, будто бы современного человека, как уже отмечалось, больше всего занимает вопрос не «где истина?», а «как выжить?». Потому-то в «релятивистском мире» не только «снимается» магическое сияние, ореол героизма, окружающий поиск истины, но и развенчивается сама истина и даже просто мысль. Лорд Генри, персонаж романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», говорит: «В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает быть красивыми» 1.
Дэзи, персонаж из пьесы Э. Ионеско «Носороги», говорит своему возлюбленному, Беранже, желающему остаться человеком, когда уже почти все окружающие их люди превратились в носорогов: «Абсолютной истины не существует. Прав мир, а не ты или я!»2. Беранже не сдается. Дэзи покидает его. Релятивистский «здравый смысл» преодолевает, таким образом, и чистую любовь и абсолютную истину. Но в его «победе» проглядывает не столько развенчание истины, сколько развенчание человека. Для релятивистского человека «мир прав» — это значит «надо выжить», может быть, даже ценой примирения с гнусностью. И так как способов выживания существует бесконечно много, то в релятивистском мире отсутствует понятие цельного, монолитного человека. Например, в фильме Ф. Феллини «Сладкая жизнь» человеческая сущность беспредельно расчленяется. Она вбирает в себя многие образы: Иисуса, легкомысленных девиц, готовых нарушить любую заповедь господа, человека, живущего в страхе перед миром и самим собой и потому кончающего самоубийством, кинозвезды, послушной только своему инстинкту, фанатичного стада верующих, толпы журналистов, гоняющихся за сенсацией, и пр. Бее это множество таких несхожих образов то явно, то едва намечено втянуто в круговорот событий, сущность которых выражается одним словом: секс. Но «вечное чувство» настолько опо-
1 О Уайльд, Избранные произведения, т. 1, стр 126 ?■ «Иностранная литература», 1965, № 9, стр. 142.
71
пилено здесь, что оно проигрывает даже в сравнении с животным чувством. Человеческая сущность становится низменной оттого, что люди не ставят перед собой никаких иных целей, кроме «выживания».
Но вернемся к вопросу об истине. Релятивистская гносеология не дает однозначного решения его. Она или объявляет его ложным, фиктивным, или истолковывает его крайне односторонне, или искажает само понятие истины. Эта неопределенность — прямое следствие того, что поиски истины уступают место проблемам «философии жизни»: определению структуры бытия, его возможностей и пределов, смысла существования индивида, его жизни и смерти. Все, что способствует его выживанию— под этим понимают смешение в различных дозах правды и лжи,— считается истинным и гуманным. Подобный «гуманизм» оправдывается известным изречением Протагора: «Человек — мера всех вещей». И тут же совершается обратное движение мысли: все, «работающее» на современность, объявляется истинным (конечно, в протагоровском смысле). Так выдвигается релятивистский критерий: быть современным — значит быть щетинным. Такую подмену понятий совершают все ведущие течения современной буржуазной философии.
Экзистенциализм, например, отрицает прошедшее и будущее. Ход мысли при этом таков: прошедшее это то, что уже произошло. Его нет, так как оно не активно. Поскольку оно не действительно (не включено в существование индивида), то не может быть и осознано. Бездеятельность прошедшего является свидетельством его неистинности. Таковы же особенности и будущего: его еще нет, поэтому оно недействительно. Его существование зависит от выбора' индивида, но выбор всегда может быть изменен. Остается настоящее, вбирающее в акте индивидуального бытия прошлое и будущее. Настоящее— это способ существования индивида, в котором он может быть, выбирать, созидать, то есть проявлять свою свободу. Индивид существует как нечто «текучее», он всегда в становлении. Становление — это его бытие, но оно ограничено. Настоящее — это границы бытия, это сама жизнь. Оно может быть осознанным и созданным, потому — истинным. Истина, таким образом, сводится к агонизирующему самовыражению индивида, выбирающему свое бытие в рамках настоящего, «вечного сейчас».
72
В той же степени прикованы к настоящему и позитивистские течения. Истинность суждений связывается здесь с проверяемостью их в доступном наблюдению непосредственном опыте, который может раскрыть значение суждений, но ничего не говорит о мире. Прошлое и будущее представляют собой .неощущаемую, следовательно, внеопытную реальность. Суждения об этих реальностях — сверхчувственны и потому бессмысленны.
В аналогичном ключе решается проблема связи между истиной и человеком в прагматизме. Прагматизм— это форма «коммерческого сознания». Сам У. Джемс, один из основоположников его, признавал, что понятие прагматической истины покоится на «кредитной системе»: та или иная истина имеет силу подобно банковскому билету до тех пор, пока никто не отказывает ей в приеме. Ее «работоспособность» основывается на наличном капитале доверия. А доверие это в свою очередь обусловлено успешным действием истины. Итак, по одну сторону находится мир истин, по другую— мир практических действий. При тех или* иных обстоятельствах человек выбирает нужную ему в данный момент истину.
Джемс пишет об этом так: «Когда подобная истина становится при известных обстоятельствах нужной, ее добывают из запасных магазинов и пускают в употребление, и наша вера в нее становится активной. Мы можем тогда сказать о ней или что «она полезна, ибо она истинна», или что «она истинна, ибо она полезна»1. Прагматический релятивизм, таким образом, предполагает, что истина должна «везти нас на себе» тогда, когда это нам нужно, независимо от характера нашего опыта. «Прагматизм,— продолжает Джемс,— готов считаться и с мистическим опытом, если он имеет практические следствия» 1 2.
Прагматическое сознание, верящее в истину как в «банковский билет», подчиняющее всякую духовную деятельность (даже мистический опыт!) практической выгоде, вкладывает в искусство не столько гуманистический, сколько вульгарный, грубо чувственный смьисл.
Релятивизм провозглашает теоретическое равноправие всех возможных точек зрения, мнений и истин.
1 У. Джемс, Прагматизм, Спб, «Шиповник», 1910, стр 125.
2 Т а м же, стр. 55.
73
Сколько существует субстанций мира: одна, две или множество? Что направляет его — воля или объективная необходимость? Какое начало первично — материальное или духовное? Все эти вопросы с точки зрения последовательного релятивизма бессмысленны, так как все они одинаково правомерны, поскольку каждое из них может иметь практические следствия.
Э. Гуссерль еще в начале XX века делил релятивизм на антропологический и индивидуальный. Антропологический релятивизм связывается у него с представлением о том, что каждое суждение человека истинно постольку, поскольку оно коренится в его специфических •свойствах, в конструирующих эти свойства законах. Индивидуальный же релятивизм он называл не иначе, как «наглый скептицизм». «Субъективиста, как и всякого открытого скептика вообще, нельзя убедить,— писал Гуссерль,— раз у него нет расположения к тому, что такие положения, как принцип противоречия, коренятся в самом смысле истины и что сообразно с этим должна быть признана именно противоречивой речь о субъективной истине, которая для одних — одна, для других — другая, его нельзя убедить и обычным соображением о том, что он, выдвигая свою теорию, желает убедить других, стало быть предполагает объективность истины, которой не признает в тезисе». Далее следует вывод: «Если относительно субъективизма мы сомневаемся, был ли он когда-нибудь серьезно представлен в науке, то к специфическому релятивизму и, в частности, к антропологизму до такой степени склоняется вся новая и новейшая философия, что мы только в виде исключения можем встретить мыслителя, совершенно свободного от заблуждений этой теории» ’.
За истекшие годы в современной буржуазной философии не только усилились релятивистские тенденции, но и более явно обнажились противоречия, присущие этим тенденциям. Релятивизм всегда был враждебен диалектическому материализму, но если раньше эта вражда, выражаясь образно, была глухой, скрытой, то теперь релятивисты выступают с открытым забралом. С одной стороны, они провозглашают: мера всякой истины—современный человек, с другой же — отрицают
1 Э. Гуссерль, Логические исследования, ч 1-, Спб, «Образование», 1909, стр. 99—100.
74
не только право (а значит, и свободу), но и возможность, свойственную современному человеку, прийти к тем же выводам, к которым приходит марксизм. Релятивисты— самые многочисленные, самые активные, самые изворотливые и фанатичные враги марксизма. Для релятивиста лишь то сознание истинно, которое современно, а современным он признает только релятивизм. Релятивизм подменяет истину частным суждением.
Между тем, каким бы ни было то или иное сознание (прогрессивным или реакционным, марксистским или релятивистским, социалистическим или буржуазным и т. д.), оно может и должно рассматриваться в определенном соотношении с общечеловеческим сознанием.
Сознание XX века — не миф. Оно существует. В нем идет борьба между представителями двух разных подходов к современности, двух разных решений ее проблем. Признавая реальность этой борьбы, ее необходимость, ее историческую неизбежность, марксизм-ленинизм не склонен настаивать на равноценности борющихся идеологий. Общечеловеческое сознание существует ныне в условиях идейного раскола. Но чтобы определить, какая из концепций этого «расколовшегося» сознания имеет общее, или позитивное, а какая — частное, или негативное значение, необходимо выяснить вопрос об их истинности. Совсем не случайно именно этот вопрос «снимается» современной буржуазной философией и эстетикой и подменяется другим: современно или несовременно сознание (или искусство)? Дабы облегчить решение вопроса, нам, грешным, подсовывается тезис о том, что, например, в искусстве форма это и есть его содержание, а коли так, то обновление формы (конечный результат этого «обновления» выражается в исступленной деформации) равносильно обновлению эстетического сознания. Тем самым эстетика модернизма отвергает возможность какого бы то ни было сопоставления точек зрения и их сравнительного анализа. Она претендует на исключительное право выражать художественный вкус (абстрактного) «человека XX века».
Нет и не может быть никакого сомнения в том, что отдельные эпохи и события оказали и продолжают оказывать известное влияние на сознание нашего современника. Эпоха Возрождения, например, давшая могучий толчок развитию опытного знания, сломившая духовную диктатуру церкви» положившая начало обширным меж¬
76
дународным связям и т. д., освободила человеческое сознание от нравственного оцепенения, от местнической ограниченности. Машина тоже «научила» человека трудиться ритмично, мыслить рационально и логично. Познание объективной действительности, шагнувшее за пределы непосредственно воспринимаемых явлений макромира, идущее все время вглубь, к обнаружению структурной сущности и мертвой и живой материи, также способствует развитию у нашего современника аналитического мышления: перед его взором открывается не только наличное бытие каждой вещи, мир, «сущий в себе», но и органические связи познания со всей человеческой практикой. Вот почему марксизм-ленинизм не абсолютизирует и не мистифицирует те или иные события, факторы или стимулы, способствующие развитию современного сознания, он устанавливает между ними реальную связь и находит главное, решающее начало, движущее современным сознанием,—революционное преобразование действительности.
Сознание может быть адекватным и неадекватным, истинным или ложным. Оно может «схватывать» существенные или второстепенные черты эпохи, его прегрессив- ные или реакционные тенденции, оно может «сливаться» с практикой или быть отчужденным от нее ит.д. Модернизм, как свидетельствуют факты, иррационален, негативен, лишен жизненного потенциала. Если он еще существует и даже производит впечатление своей подвижностью, то это объясняется двумя обстоятельствами: материальной и моральной поддержкой со стороны буржуазии, а также исключительно развитой и гибкой способностью паразитировать на достижениях человеческого познания, технической революции, на человеческой доверчивости и т. д. Модернизм многолик и противоречив. Он выражает мятущийся дух и апологию смерти, релятивизм и метафизику. Тем не менее он изживает себя, поскольку все больше отчуждается от народа. Истинно передовое современное сознание XX века есть коммунистическое сознание, потому что оно связано с интересами масс, преобразующих мир, в чем, собственно, и выражается самая существенная особенность нашей эпохи.
Релятивистская бесконечность эстетических точек зрения
Когда и с чего начинается модернизм? Его истоки отодвигаются то к эпохе Возрождения, то к началу индустриальной революции, его появление датируется то XIX, то XX веком, в нем обнаруживают соответствия то с немецким романтизмом, то с американским прагматизмом, то с психоанализом Фрейда и Юнга, то с тео- рией относительности Эйнштейна. Ответов много, кое- что подмечено в них верно (модернизм соотносится с буржуазной действительностью), но вместе с тем ни один из них не связывает «современное сознание» с революционными преобразованиями нашей эпохи и возникающими в связи с этим вопросами, которые затрагивают коренные условия существования и развития человечества.
Капитализм или коммунизм? Собственность или труд? Война или мир? Пушки или хлеб? Человек человеку волк или брат? Что есть субстанция: материя или энергия? Мир познаваем или представляет собой непостижимую «вещь в себе»? Разум или вера? В атомный век искусство умирает или возрождается? Куда движется человечество: к катастрофе или процветанию?
Ответ на эти вопросы может быть или утвердительным или отрицательным, характер этого ответа раокры-
77
вает то или иное—позитивное или негативное — отношение художника и его искусства к исторической реальности. Современность настоятельно требует от искусства этого ответа. Сами апологеты и теоретики декаданса (например, Н. Бердяев) признают: «Никогда еще так остро не стояла проблема отношения искусства и жизни, творчества и бытия...»
Ныне у буржуазии нет идей, способных увлечь народ, следовательно, отвечающих логике исторического процесса. И потому буржуазная идеология вынуждена развиваться в негативном направлении. Ее знамя — антикоммунизм. Воюя против коммунизма, влияние которого распространяется на все новые и новые пласты человечества, она готова применить крайние средства разрушения. Крайние, но все равно безуспешные. Ибо, борясь с коммунизмом, буржуазные идеологи вступают в противоречие с объективной логикой истории, с самой жизнью. Они сами понимают беспочвенность и бесперспективность своей позиции. Что же им остается? Только одно: проповедовать эгоцентризм, субъективизм, иррационализм, мистицизм, антигуманизм и т. д. Отпечаток этих черт лежит и на современной буржуазной эстетике.
Когда говорят «современная буржуазная эстетика» или «эстетика модернизма», имеют в виду теорию и практику декаданса, окончательно сложившуюся в конце XIX и в начале XX века, точнее — перед первой мировой войной. В этот период в западном искусстве получили признание пуантилизм, символизм, натурализм. После них, «отметая начисто прошлое», стали появляться фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм и другие «измы», которым нет числа.
Возникновение одного «изма» за другим нередко производит впечатление обилия, разнообразия, даже избытка радикальных точек зрения, мнений, концепций, теорий. Однако за этими излишествами «свободной мысли» скрывается мучительная, болезненная попытка сказать хотя бы что-нибудь новое. Но ничего нового эстетика модернизма не может явить миру: она повторяет самое себя. У этого (множества «измов» преобладающая основа — субъективный идеализм, он обуслов-
1 Н Бердяев, Кризис искусства, М, 1918, стр. 3.
78
ливает калейдоскопическую пестроту концепций, кричащих, недолговечных и, главное, свидетельствующих о прогрессирующей отчужденности их о г действительности.
Характеризуя смутную и тревожную обстановку, в которой складывалась и совершала свои первые шаги эстетика модернизма, итальянский философ Э. Гарин пишет о ее создателях: «Они были футуристами из-за бессилия играть какую-то роль в настоящем, иррацио- налистами — по недостатку ума, проповедниками активности —1 из-за склонности к насилию, любителями авантюры — в силу наивного инфантилизма и т. д. Из их среды выходили критики академической культуры, очутившиеся позже — и без необходимого багажа технической подготовки — на кафедрах, революционеры, превратившиеся затем в консерваторов, анархисты, закончившие свои дни реакционерами,—'словом, та толпа любителей риторики, которым сложный и неспособный исторический период дал полную возможность неприкрытого проявления опасной нерешительности. В области строго философской деятельности они поочередно выступали последователями различных течений, готовыми переменить веру в зависимости от превратностей моды, становились идеалистами, экзистенциалистами, персоналистами, материалистами, с блестящей непринужденностью перекочевывая из одного направления в другое, диаметрально противоположное» Г
Аналогичный духовный климат складывался в то время не только в Италии, но и в Германии, Франции, Швейцарии, Англии, Голландии и других странах Западной Европы.
Эстетика модернизма воспринималась тогда как бесспорное выражение упадка духа, вырождения, декаданса. К такому заключению приходили Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. Бердяев, идеологи и духовные отцы реакции.
Уже первые признаки декаданса вызывали у истинных художников беспокойство за беспрецедентное, неожиданное направление искусства. Так, Э. Гонкур записал в «Дневнике»: «Неужели Франция приговорена к формам, словно получившим премию на конкурсе урод¬
1 Э. Гарин, Хроника итальянской философии XX века (1900™ 1943), М, «Прогресс», 1965, стр. 37—38
79
ства? ..» 1—Гонкур объяснял этот сдвиг искусства в сторону, противопоказанную ему, потерей вкуса. Э. Золя ви дел в нем следствие «сутолоки и анархии». Р. Роллан настаивал: «Нужно воспитывать в душах любовь к истине, чувство истины, властную потребность истины...»1 2 Однако к этим, хотя и авторитетным, но одиноким голосам вряд ли прислушивались те, от кого «все зависит». Либерально настроенные мыслители видели в новом искусстве «перст судьбы», проявление свободы последнего творческого дня. Они полагали: если человек опустошен своей свободой, ему нужно дать еще больше этой самой свободы.
Иное положение складывалось в России. Здесь искусство всегда было социально активным, всегда стремилось к правде. Резкая критика декаданса со стороны различных слоев демократической интеллигенции (Л. Толстой, М. Горький, В. Стасов, Г. Плеханов, А. Луначарский, А. Блок и другие) сопровождалась таким поиском выхода из этого кризиса, который подсказывался самой народной революцией.
Лев Толстой, например, отмечал: искусство высших классов становится неискренним, нарочито усложненным, вычурным и неясным, выдуманным и рассудочным, неточным, неопределенным, туманным, загадочным, умышленно оригинальным. «Недоступность для масс поставлена в достоинство и условие поэтичности предметов искусства»,— заключает великий писатель3. «Содержание его, становясь все ограниченнее, дошло, наконец, до того, что художникам этих исключительных классов кажется, что все уже сказано и нового ничего уже сказать нельзя. И вот, чтобы обновить это искусство, они ищут новые формы»4.
Представители декаданса всегда отвергали и теперь отвергают всякую попытку (кем бы она не предпринималась) поставить искусство в связь с социальными проблемами. Всякая социальная, идеологическая, поли-
1 Эдмон и Жюль де Гонкур, Дневник. Записки из литературной жизни. Избранные страницы, т. II, М., изд-во «Художественная литература», 1964, стр. 622.
2Р Роллан, Собрание сочинений, т. Ц4, М , Гослитиздат, 1958, стр. 87.
3Л Н Толстой, О литературе. Статьи, письма, дневники, М , Гослитиздат, 1955, стр 381.
4 Т а м же, стр 391
80
тическая Цель противоречит, по их мнению, эстетической бесцельности искусства, единственное назначение которого — доставлять наслаждение. Ну, а поскольку истина не всегда приносит удовольствие тому, кто ее открывает, то познавательную функцию искусства столпы модернизма также перечеркивают, как и социальную. «К черту истину!» — этот воинственный клич должен засвидетельствовать одну из величайших «свобод», достигнутых модернистами.
Поношение истины, конечно, не означает полного отказа от какой бы то ни было истины. Вместо объективной' истины модернист выдвигает понятие «истина — в человеке». Человек же, выражающий «дух времени»,— это не пролетарий и не буржуа, это—абстракция, поднимающаяся над социальными полюсами. Это — интеллектуал, обладающий автономным, независимым от общества мышлением.
Либеральный интеллигент XX века, живущий в буржуазном обществе, лишенном стабильности, иногда стремится провести границу между собой и господствующими классами, если их политика и идеология кажутся ему рискованными. Поэтому к политике и идеологии чаще всего он обнаруживает случайный и частный интерес. Для занятия политикой и идеологией нужен, по его представлениям, заурядный и приспособленческий характер, а либеральный интеллигент — человек выдающийся, он больше всего на свете ценит свою независимость. Политика и идеология основываются на повелениях, предписаниях, рекомендациях, указаниях, желаниях, оценках, принимающих во внимание должное. А либерал не ограничивает себя соображениями долга. Он свободен от них. Политика и идеология преследуют национальные цели или не могут не считаться с ними, тогда как сам он космополит. На VI Международном конгрессе по эстетике в Стокгольме (август 1968 года) швед Т. Бруниус утверждал: эстетическая теория должна избегать пристрастий, вбирать в себя итоги всех исследований, всех культур и быть непричастной к той или иной политической, а также идеологической ориентации. В политике и идеологии либерал действительно видит нечто прямо противоположное эстетической культуре, выражающей его индивидуальность и свободу.
Вместе с тем он отделяет себя и от угнетенного класса, социальные требования которого кажутся ему
4 О модернизме
81
экстремистскими, культурные запросы — примитивными. Правда, такие собирательные понятия, как «угнетенный класс», «класс эксплуататоров», не входят в его лексикон. Все социальные сущности, по его мнению, индивидуализированы. Он вполне обходится выражениями: «психологический человек», «человек мыслящий», «человек производящий», «экономический человек», «человек любящий», «человек эстетический», «человек с улицы» и т. д. «Человека с улицы», естественно, интересуют только деньги, бренди, секс, грубые развлечения. В ком же модернист ищет социальную опору? В себе самом. Его мир — это его личные переживания, это состояние полной раскованности, отсутствие какой-либо единственной ориентации, это существование, в котором чувство постоянно берет верх над разумом. Модернист охотнее всего венчает себя ореолом романтизма. Почему?
Известный Историк и социолог искусства А. Хаузер отвечает: «Характерная черта романтизма заключалась не в том, что он стоял на почве революционной или контрреволюционной, прогрессивной или реакционной идеологии, но в том, что он самым причудливым иррациональным и недиалектическим образом сочетал в себе обе эти позиции... Романтизм был идеологией нового общества и мировоззрением поколения, которое не верило больше в абсолютные ценности и не могло больше верить в какие бы то ни было ценности без того, чтобы не думать об их относительности и исторической ограниченности» Е
На всех идеологиях, мировоззрениях (за исключением, конечно, своего собственного) либерал видит отпечаток исторической ограниченности. Но его апологетика существующего порядка вещей прямо-таки безгранична, так как буржуазное общество гарантирует ему одну- единственную, но абсолютную ценность — возможность быть беспринципным, неразборчивым в средствах, безответственным.
Носители романтического духа отрицают абсолютные ценности, признавая только относительные истины, но это не мешает им выбирать для себя не только релятивистскую философию, но и ту, которая, несомненно, претендует на постижение метафизического абсолюта.
1 «Romanticism. Problems of Definition and Evaluation» Ed. by J B. Halsted, Boston, 1965, p. XV.
82
Так, например, многие постимпрессионисты тяготели к махизму. Для махизма объект — это комплекс ощущений. Вместо объекта постимпрессионисты изображали лйшь его световое, хроматическое проявление Отрицая реальность объекта, они—что вполне закономерно — отрицали и объективную истину, точь-в-точь как это делали махисты. Они не замечали того, что, упраздняя объект (абсолют), ставили на его место свое ощущение, абсолютизировав тем самым его значение
Их преемники, экспрессионисты, не слишком утруждали себя заботами о средствах выражения чувственного мира, они устремлялись к сверхчувственному, находя при этом руководство в феноменологической философии, отделяющей существование объекта от его сущности. В этих поисках они охотно выходили «за пределы» явления, чувственной данности, относительной по своей природе, с тем, чтобы схватить «вещь в себе», субстанцию, эйдос, которым феноменология придавала абсолютный характер.
Абстракционизм — тоже абсолютное искусство, поскольку он сводится или к выражению абстрактных сущностей — квадратов, треугольников, окружностей и т. д.,— или к поискам иных символов, воплощающих в себе потусторонний, метафизический смысл Философия Платона — вот источник этих поисков. Она указывает на мир надреальный, вечный, слабым отражением которого является земной релятивистский мир, до которого абстракционистам нет никакого дела
Таким же метафизическим искусством является и сюрреализм. Он лишен логического порядка, потому что исходит из представления, будто постижение абсурда, субстанции, скрытой за внешней, преходящей реальностью, является единственной и исключительной задачей искусства.
Все эти столь противоречивые и хаотичные — либеральные и консервативные, романтические и прагматические, релятивистские и метафизические — устремления буржуазного интеллигента XX века и нашли для себя наиболее адекватное выражение в его эстетической теории.
Какие же течения и какая проблематика наиболее характерны для эстетики модернизма?
Д. Юисман, ученый секретарь Французского эстетического общества, в опубликованной им книге «Эстоти- вЗ
4*
ка» беспомощно останавливается перед трудностями этого вопроса, заявляя: «Современная эстетика... предлагает нам такой калейдоскоп оттенков, что .нечего даже думать о том, чтобы говорить о 'них всех» *.
Вместо анализа течений Юисман предлагает вниманию несколько выдающихся имен, выражающих, по его представлениям, уровень эстетического мышления современности. Самым выдающимся эстетиком XX столетия, по его представлению, является Б. Кроче (1866—1952). Он «велик» как эклектик, так как «был одним из протрезвленных марксистов, непослушным кантианцем и умеренно левым гегельянцем» 1 2.
В «Истории эстетики» К. Гилберт и Г. Кун называют самым влиятельным теоретиком 3. Фрейда (1856—- 1939). «Можно почти с полной уверенностью сказать,— пишут они,— что в наши дни едва ли существует хоть одна эстетическая теория, которая не испытала бы на себе в той или иной степени влияние фрейдизма» 3.
Часто рядом с Б. Кроче и 3. Фрейдом в западной прессе ставится также имя А. Бергсона (1859—1941).
Эти философы действительно сделали существенный вклад в эстетику модернизма, однако он не исчерпывает ее содержания, которое складывается из многих концепций и теорий, не всегда полностью согласованных между собой и тем не менее образующих определенное субъективистское целое.
Теория вчувствования
Теория вчувствования сложилась в конце XIX — начале XX века, именно в тот период, когда возникало «современное сознание» европейской буржуазии. Ее родина — Германия, но впоследствии эта теория пользовалась признанием (и сейчас еще пользуется) во многих странах Запада. Среди ее авторов и сторонников находились такие, ставшие уже хрестоматийными, авторитеты, как В. Дильтей, В. Воррингер, Ф. Фишер, Т. Липпс,
1 D. Hu is man, L’esthetdque, Paris, 1957, p. 55
2 Ibid.
3 К. Гилберт, Г. Кун, История эстетики, М., Изд-во иностранной литературы, 1960, стр. 595.
И. Фолькельт, В Вундт, К. Гросс, В. Баш, В. Ли и другие. Философское обоснование теории вчувствован.ия следует искать в «философии жизни» Дильтея.
Дильтей выступил против анархии философских систем, доставляющих, по его мнению, все новую и новую пищу скептицизму. Источник анархии заключался в стремлении этих систем найти для себя опору в объективном мире, таком безобразном и противоречивом. Это обстоятельство и вызвало у Дильтея желание найти необъективное, внутреннее начало, объединяющее все философские мировоззрения. Такое начало было найдено им в человеке. «Не в мире, а в человеке,—1 писал он,— философия должна искать внутреннюю связь своих познаний» Г
Философия, ставящая человека в фокус своих исследований, называется антропологической. Этот принцип был разработан Л. Фейербахом в духе метафизического материализма. Дильтей видоизменил его, придав ему субъективистский характер. Он находит субстанцию не в абсолютной идее (как Гегель), не в слепой воле (как Шопенгауэр), а в «жизненной силе», проявляющейся в мощи личной жизни. Действительность сливается с «я», образуя соотношение субъект-объект, решающая роль в котором принадлежит субъекту.
В этой связи он пишет: «...жизнь каждого индивида творит сама из себя свой собственный мир»2. Далее следует развитие этой идеи: жизненный опыт у всех индивидов разный, потому каждый из них «создает» мир, не похожий на мир другого Тем не менее у всех индивидов, как и у создаваемых ими миров, есть общая подоснова: вера в силу случая, убежденность в непрочности всего того, чем располагает человек, чувство страха, вызываемое постоянной угрозой смерти. Эти психологические состояния всесильны. Они определяют значение и смысл жизни В мире невосполнимых потерь и неутоленных желаний человек находит источник счастья только в самом себе: чувствуя свое собственное «я», он наслаждается ценностью своего бытия, он приписывает окружающим его вещам и лицам известное значение и дей-
1 В Дильтей, Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах — В сб «Новые идеи в философии», еб 1, Спб, 1912, стр 123
J Та м' же, стр. 126.
8S
ствие лишь постольку, поскольку они возвышают и расширяют его собственное бытие.
Таким образом, перед нами теория эгоцентризма, исследующая происхождение эмпирического сознания, все начала и концы которого сводятся к чувствованию индивида. Все свое внимание Дильтей сосредоточивает на проблеме интуиции, которая, по его мнению, в философии проявляется в виде «понимания», а в искусстве — как «вчувствование».
Дильтей ставит метафизику, религию и искусство в один ряд, полагая, что они образуют одну «область духа», которая освобождает человека от «ига общества, от ограниченности задач, от рамок, предуказывающих каждой исторической эпохе предел достижимого» ’.
Интуиция открывает перед художником возможность полной свободы, свободы от мировоззрения, от объективной истины. Дильтей утверждает: «Поэзия в отличие от науки не стремится к познанию действительности — она хочет показать кроющуюся в жизни значительность совершающегося, людей и вещей»1 2. Но и познание, свойственное науке, обусловлено чисто эмпирическим фактом человеческой организации, поэтому оно обладает лишь относительным значением. В конечном итоге, и в форме науки и в форме искусства дух, «жизненная сила» осознают свою сущность отличной от всякой физической причинности.
Таковы исходные философские принципы (интуитивизм, эмотивизм, субъективизм, эгоцентризм, отрицание познавательной функции искусства и др.), на которых основывается теория вчувствования. Эти же начала легли в основу и всего модернизма. Вот почему почти все следующие одно за другим разноречивые его течения то и дело возвращаются к антропологии Дильтея.
Психологическое обоснование теории вчувствования дает В. Вундт. Он отмечает: «Вчувствование... не является процессом, ограниченным эстетическими объектами, оно составляет необходимый коэффициент каждого представления, будь то так называемое восприятие или Образ фантазии»3.
1 Дильтей, Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах, стр. 139.
- 2 Т а м' ж е, сТр.'146;.
3 В. Вундт, Фантазия как основа искусства, Спб.— М., 1914, стр. 62 86
г)то утверждение действительно свидетельствует о том, что теория вчувствования не является в строгом смысле эстетической. Выясняя природу впечатлений и представлений, психологи-идеалисты, склонные к переоценке роли ощущений, эмоций, подчинили им все объективное содержание, заключенное в человеческом сознании. К эстетике эта теория была лишь «приложена» для того, чтобы проиллюстрировать неразрывную связь между субъектом и впечатлением. Следовательно, авторы теории вчувствования заранее предполагали, будто в границах эстетической деятельности впечатление, восприятие, представление не только исчерпывают ее содержание (суждение, понятие, идея чужды ей), но и полностью подчиняются интуитивным импульсам, исходящим от субъекта.
Итак, Дильтей находит антропологическое, а Вундт психологическое объяснение «феномену вчувствования». Т. Липпс, профессор философии Мюнхенского университета, автор двухтомной «Эстетики», подчеркивает в нем антигносеологические стороны. В. И. Ленин характеризовал Липпса: «Идеалист кантианско-фихтевского толка...»1. Создавая науку о внутреннем опыте, Липпс синтезировал в ней не только субъективный идеализм Канта и Фихте, но и скептицизм Юма, пессимизм Шопенгауэра, волюнтаризм Ницше, философию жизни Дильтея, энергетизм Оствальда. Исходное понятие его психологии и эстетики— вчувствование. «То, что я «вчувствую», — пишет он,— в самом широком смысле этого слова есть сама жизнь. А жизнь есть сила, внутренняя работа, стремление, достижение. Одним словом, жизнь есть деятельность: свободная или подавленная, легкая или трудная, цельная или вступающая в конфликт сама с собой, напряженная или ослабленная, сосредоточенная в одном пункте или теряющаяся в многочисленных жизненных проявлениях»1 2.
Да, жизнь это—'Деятельность, но деятельность, возникающая не вследствие «самопроявления», а как результат взаимодействия субстанциональных начал — среды и организма, природы и общества, действительности и человека. Эти взаимодействия суть противоречия,
1 В И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 358.
2 Т. L i р р s, Empathy and Aesthetic Pleasure.— In «Aesthetic Theories- Studies in the Philosophy of Art», New Jersey, 1965, p. 404.
87
в ходе разрешения которых возникают напряжения, нарушаются равновесия, одни агенты гибнут, другие возникают и т. д. Другими словами: в жизнедеятельности есть не только момент единства всего сущего, но и противоречия. Одно из таких противоречий, ведущее к акту познания, возникает вследствие воздействия субъекта на объект. Однако Липпс не замечает здесь противоречий.
Человек живет — значит, выражает радость или печаль, формы его тела выражают силу или слабость. Ландшафт выражает настроение. Однако чье? Конечно же, субъекта, который «вчувствует» себя в природу, то есть созерцает ее. Таким образом, Липпс видит только одностороннюю связь между субъектом и объектом, поэтому он и сближает понятия «вчувствование» и «самовыражение» настолько, что в известных пределах они стремятся к слиянию. Взятая именно в таком плане связь между субъектом и объектом не может привести к акту познания. Вот почему для понятия не остается места в теории вчувствования.
Липпс подчиняет понятие вчувствованию, рациональное— эмоциональному, опосредствованное знание—непосредственному переживанию, объективное — субъективному. Он пишет по этому поводу: «Смысл всех наших понятий необходимо должен состоять, в конце концов, в продукте некоторого непосредственного акта переживания»!. И далее: «...слово «сознание» означает непосредственно переживаемое «я»1 2. Сознание трактуется им как «...сменяющиеся состояния единого субстрата психических явлений».
После этих определений антигносеологическое направление теории Липпса становится совершенно очевидным. Эта теория призвана объяснять нам искусство, суть которого сводится к следующему: акт вчувствования имеет место всегда, когда субъект, тяготея к объекту, находит в чувственно-восприни маемом объекте некоторое встречное внутреннее движение. В этом встречном движении субъект сливается с объектом, в известном смысле «преодолевает» его, воплощая в нем свое жизненное самоощущение, свою эстетическую эмоцию. Акты вчувствования (субъективные суждения) представ¬
1 Т. Л и п п с, Самосознание, Спб., 1910, стр. 10.
2 Т а м же, стр. 84.
88
ляют собою материал и стихию искусства. Таким образом, выходит, что искусству нет дела до познания. Но и само познание трактуется Липпсом вне поисков объективной истины.
По мнению Липпса, объект, рассматриваемый субъектом то с эстетической, то с аналитической точки зрения, всегда присваивается субъектом и преобразуется им. Хотя объект может содержать в себе только то, что он есть, для субъекта он не существует как нечто целое и завершенное в себе, пребывающее вне постижения его под определенным углом зрения. Субъект в случае аналитического подхода разлагает объект, охватывает внутренним взором его составные части, синтезирует их в определенное целое, внося это свое прочтение в объект (тем самым присваивая, преобразуя его). «Поскольку объект существует для меня,— пишет Липпс,—он является, как обычно говорят, результатом .и продуктом двух факторов, то есть определенной чувственно воспринимаемой наличности и моей собственной деятельности. Моя деятельность принадлежит ему — «моему» объекту та,к же, как и определенной чувственной данности. Эта последняя представляет собой материал, из которого моя деятельность должна .построить объект для меня» !. Основная мысль Липпса доведена здесь до завершения: объективный (мир — это только материал, из которого субъект (будь то художник или ученый) создает свою собственную реальность. В сравнении со своими предшественниками Кантом, Фихте, Шопенгауэром, Ницше и другими Липпс настолько упростил субъективизм, что он кажется здесь вульгарным.
Таков философский смысл того решения основного гносеологического вопроса, из которого исходят авторы теории вчувствования.
Обратимся теперь к собственно эстетическим изысканиям Липпса. Есть три вида наслаждений, отмечает Липпс: наслаждение объектом в чувственном опыте (вкус фрукта), наслаждение самим собой (удовлетворение своей силой, своим мастерством) и, наконец, наслаждение промежуточное, сочетающее в себе первые два,— наслаждение собой в чувственном опыте. Это последнее наслаждение и является эстетическим, оно представляет собой объективированное самонаслаждение.
1 Т. L i р р s, Empathy and Aesthetic Pleasure, p. 407.
89
Эстетическое переживание превращается, таким образом, в разновидность нарциссизма, который может выступить и выступает как в позитивной, так и в негативной форме. Когда я говорю: данная личность красива,— это значит, что в деятельности, в воле, заключенной в этом индивиде, я вижу выражение моей симпатии. Когда же я утверждаю: данная личность безобразна,— это значит, что деятельность, воля, жизнь, заключенная в индивиде, противоречит моему собственному стремлению к действию.
Так слепая воля субъекта, подчиняя действительность своей необузданной прихоти, делит все многообразие восприятий на позитивные и негативные согласно стихийному влечению — мне нравится, мне не нравится.
Слишком уж примитивным выглядит духовный мир того человека, который все свои переживания разграничивает подобным образом: или — или.
Липпс выдвигает положение: формы прекрасны в том случае, когда имеет место вчувствование. Их красота не что иное, как мое идеальное, свободное изживание себя в них. Тем самым вчувствованию отводится роль критерия красоты. Однако Липпс не объясняет, при каких условиях осуществляется вчувствование, какими свойствами и особенностями должны обладать как объект, так и субъект, чтобы между ними возникла эстетическая взаимосвязь.
Известно, что эстетическое отношение субъекта к объекту не только не однородно, но и весьма дифференцировано. Ему свойственно множество оттенков, свидетельствующих о душевном богатстве и утонченности субъекта. Оно служит источником чувства прекрасного, возвышенного, изящного, грациозного и т. д., а также безобразного, низменного, грубого, неуклюжего и др. Липпс (как и другие авторы теории вчувствования) не объясняет истоков этой дифференциации эстетического чувства. И вообще они многого не объясняют, например: что такое образ, идеал, гармония, художественная форма, стиль и т. д. Теория вчувствования развивается главным образом вокруг психологических проблем (творческий процесс, восприятие, эстетическое переживание и др.) и вокруг художественных направлений, в которых необычайно сильно проявляется стихия субъективности (романтизм, импрессионизм, модернизм). Но эта теория оказывается беспомощной там, где речь идет об истори-
90
йёских и объективных началах и закономерностях искусства, об устойчивости его видов и жанров, о борьбе стилей и направлений и т. д.
Обратимся теперь к иным представителям теории вчувствования. Что нового вносят они в науку об искусстве (их построения имеют отношение к общей теории искусства, но не к эстетике) ?
Например, Вернон Ли в качестве объекта исследования берет выражение: «гора поднимается». В литературе сплошь и рядом встречается троп, выразительность которого основана на связи неодушевленного подлежащего с одухотворяющим сказуемым: «море смеялось», «звук уснул», «солнце взошло», «лес задумался» и т. д. Есть ли логика в этих образах'?' Ли полагает, что они алогичны, что эти тропы «выражают прямую противоположность объективной истине» L
•С точки зрения формальной логики предложение типа «гора поднимается» действительно заключает в себе внутреннее противоречие: гора — неживой объект — связывается с самодвижением, функцией живого. Но в искусстве далеко не все подчинено формальной логике. У него своя, художественная, логика.
Ли обнаруживает в упомянутом предложении тенденцию «...к слиянию деятельности воспринимающего субъекта с качествами вопринимаемого объекта»1 2. Конечно, воспринимающий человек при виде горы (воспринимаемого объекта) поднимает голову по той простой причине, что гора выше человека. По понятиям Ли, вчувствование является следствием не столько мысли об акте поднимания головы, осуществляемого каждый раз при «встрече» с горой, сколько результатом того, что идея о поднимании головы, складывающаяся в человеческом сознании в течение всей жизни, воплощается в данной наблюдаемой горе. Следовательно,' с», помощью одухотворяющего, хотя и неосознанного, воображения осуществляется проецирование «я», субъекта, а точнее: его идей о поднимании, о засыпании, о смехе, о задумчивости и т. д. в наблюдаемый объект — таков психический механизм вчувствования. Другими словами, человеческое сознание не отражает объект таким, каков
1 «Современная книга по эстетике», М., Изд-во иностранной литературы, 1957, стр. 476.
2 Та м же, стр. 477.
91
он есть, но, одухотворяя его, преобразует так, что он предстает как воплощение его абстрактных идей.
Близко к этому умозаключению находятся и К. Грос, Р. Авенариус, К. Юнг. Критикуя наивное сознание, уверенное в существовании объективной реальности, Грос противопоставляет ему философское, абстрактное сознание, полагающее, будто картина внешнего мира «создается в мастерской нашей субъективности» 1.
Грос наделяет своего противника («наивное сознание») убежденностью простака, полагающего, будто картина внешнего мира с помощью ощущений «входит в нас в готовом виде». Этот же прием применял и Авенариус, который свел процесс отражения к интроекции, то есть к процессу «вкладывания» в мозг готовой картины мира. Термином «интроекция» пользуется и Юнг, касаясь теории вчувствования. Он пишет: «...вчувствование есть своего рода процесс восприятия, отличающийся тем, что некое существенное психическое содержание вкладывается при помощи вчувствования в объект... и объект тем самым ннтроецируется» 1 2. Эти примеры свидетельствуют о том, что в сравнении с махизмом, фрейдизмом сторонники теории вчувствования ничего нового не вносят в философию и эстетику (махисты абсолютизируют роль ощущения; сторонники теории вчувствова- йия абсолютизируют волевое начало; и те и другие ставят объект в зависимость от субъекта). Теория вчувствования нс отличается самобытностью еще по одной причине. К. Гилберт и Г. Кун пишут: «Зачатки теории вчувствования можно проследить у романтиков, в особенности в «магическом идеализме» Новалиса... эта теория почти неизбежно возвращает нас к своим романтическим истокам»3. В другом месте эти же авторы отмечают связь теории вчувствования с символизмом (один французский философ трактовал ее в качестве «вчувственного символизма» или «символического вчувствования» 4.
Попытка связать теорию вчувствования с романтизмом и символизмом (на литературоведческой основе) — не случайна. Дело в том, что в этих течениях преувели-
1 К Грос, Введение в эстетику, Киев — Харьков, 1899, стр. 9.
2 К. Юнг, Психологические типы, Цюрих, «Мусагет», 1929, стр. 275.
3 К. Гилберт, Г. Кун, История эстетики, стр. 566.
4 Т а м же, стр. 564.
92
ч-ено Значение тропов, иносказаний, парабол, в которых рассеивается, тускнеет видение реальности. Гегель отмечает: романтики сводят искусство к аллегории (Ф. Шлегель сказал однажды: всякое художественное произведение должно быть аллегорией) и этим обедняют его, поскольку аллегория представляет собой «...лишь в несовершенной мере соответствующий понятию искусства способ выражения» Г Характеризуя далее метафору как одну из разновидностей антропоморфизма, Гегель пишет: «...метафорическое выражение может проистекать единственно лишь из наслаждения фантазии своим собственным изобилием»1 2.
Как ни справедливы эти замечания, они не могут поколебать убеждения в том, что антропоморфизм — неизбежное явление в искусстве. Это один из способов постижения объективной реальности, раскрытия истины в образе.
Обратимся к поэзии. Поэтическая речь может быть «точной и нагой». Однако ее эмоциональный накал, динамизм всегда вступают в противоречие с повествованием, описанием с присущим ему чисто внешним чередованием вещей и событий, замедленным развитием действия. В сравнении с прозой поэзия более субъективна и поэтому сильнее тяготеет к условности, символизму. Поэт развертывает целую систему многозначных, емких образов, в которых объективная действительность часто лишь угадывается. Но все эти намеки и символы оправданы лишь в той мере, в какой они «приближают» читателя к реальности. Когда В. Маяковский пишет о прозаседавшихся:
В день
заседаний на двадцать надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвоиться.
До пояса здесь, а остальное там 3,
то, читая эти строки, мы вовсе не думаем о физическом соответствии данного образа объективной реальности.
1 Г.-В.-Ф. Гегель, Сочинения, т. XII, М., Гос издательство, 1938, стр. 408.
2 Т а м же, стр. 415.
3 В. В Маяковский, Полное собрание сочинений, т 4, М , Гослитиздат, 1957, стр. 8.
93
Но в поэтических образах мЫ все же угадываем «йейб- этический», объективный смысл. Именно потому, что каждый троп (сравнение, эпитет, метафора, метонимия, аллегория, гипербола и т. д.) приобретает то или иное значение на основе аналогии, в которой события объективной реальности берутся в сопряжении с деятельностью человека, их следует рассматривать как элементы познания и обобщения, делающие картину реальности «очеловеченной», то есть одухотворенной, доступной, убедительной. Поэзия синтезирует объективное с субъективным по закону аналогии, но не тождества.
В. Брюсов пишет по поводу выражения поэтд (Ф. Тютчева) «звук уснул»: «Это один из обычнейших приемов поэтического синтеза, так называемое «олицетворение»: явления «одушевленной» жизни, в частности— людей, признаются более известными, так как поэт знает их по личному опыту, и ими объясняются явления мира неодушевленного» 1.
Синтез субъективного с объективным не приходит в искусство «извне», он внутренне присущ ему: ведь искусство есть одна из форм познания, а всякое познание дает субъективный образ объективного мира. В искусстве же эта субъективность всегда выступает непосредственно, так как объектом его постижения является субъект, человек.
Авторы теории вчувствования отрицают познавательную функцию искусства. Сначала они свели смысл искусства к «одухотворению», к метафоре, а потом поставили вопрос: существует ли физическое соответствие между ней (метафорой) и объектом, который она обозначает? Неизбежность отрицательного ответа предрешена ложной постановкой вопроса, безучастной к специфике искусства, к его художественной логике.
Авторы теории вчувствования «поскользнулись» именно на тропах. Они не поняли того, что сущность искусства не исчерпывается ими, что тропы — только средства синтеза субъективного с объективным, что от них нельзя требовать буквального соответствия действительности, что они соответствуют ей лишь в той мере, в какой отражают не столько внешнее сходство, сколько существенные отношения.
1 В. Б р ю со в, Избранные сочинения, т. 2, М , Гослитиздат, 1955, стр. 359—360.
94
Как уже отмечалось, теория вчувствования представляет собой одну из разновидностей эстетического субъективизма.
Тем не менее любопытно отметить, в момент своего появления теория вчувствования подвергалась критике именно с позиций эстетического субъективизма! Так, например, позитивиста Ш. Лало шокировал в теории вчувствования перевес «объективизации «я» над субъективи- зацией вещей», а один из идеологов мюнхенской школы модернизма, В. Воррингер, даже обвинил авторов теории вчувствования в стремлении к... натурализму (читай: реализму.— С. М.). Так, он писал: «Потребность во вчувствовании может быть рассмотрена, как предпосылка художественной воли, только там, где это желание склоняется к истине органической жизни, то есть к натурализму в высшем смысле этого слова» 1.
Любопытно отметить, что и Липпс, один из наиболее видных представителей теории вчувствования, и его критик Воррингер исходили из одной и той же философской концепции, признающей субстанциональность мировой воли; оба они признавали своим учителем Шопенгауэра (трактовавшего внешний мир как вечно ускользающий и пустой призрак, о котором с одной и той же вероятностью можно сказать, что он существует и что он не существует); оба они склонялись к тому, что искусство представляет собой прямую противоположность истины и т. д. Так в чем же смысл конфликта между ними?
Этот конфликт развертывается в пределах эстетического субъективизма, отрицающего какие бы то ни было объективные критерии. А там, где такие критерии отсутствуют, обычно одна воля противопоставляет себя неисчерпаемому множеству других воль и устремлений. Вот почему эстетический субъективизм развивается столь напряженно, драматически и, по существу, в негативной форме. История модернизма началась с отрицания объективной истины в искусстве, а свелась к истории самоотрицания.
Теория вчувствования до сих пор снабжает аргументами многие течения модернизма: экспрессионизм (ему импонирует акцент на самовыражении, на экспрессии, на растворении объективного в субъективном),
1 «Современная книга по эстетике», стр 467.
95
натурализм, «поток сознания», примитивизм, мифоло- гизм и др. Почему?
В конце XIX—начале XX века в буржуазной культуре началось попятное движение — назад к примитиву, к истокам цивилизации, к первоначалам сознания Этим стремлением были проникнуты и проповеди Ницше, и выступления анархиствующих «бунтарей», требовавших обновления культуры любой ценой. Их концепции во многом совпадали, хотя они и подходили к решению «проблем века» с разных точек зрения. Фашистская трактовка эстетической культуры, несмотря на известное противостояние модернизму, во многих пунктах восходит к одной и той же концепции экспрессии, натурализма, примитива, мифа, вчувствования. Кстати, именно на этих совпадениях построил свою эстетику Р. Гаман, являющийся сторонником теории вчувствования.
Гаман выдвинул идею сближения искусства с религией, дающей возможность человеку приблизиться к предмету его благоговейного поклонения и даже «слиться» с ним. Роль этог^ сакраментального предмета в обрядах и ритуалах, сложившихся в фашистской Италии и нацистской Германии, играли дуче, фюрер, в модернизме — бог, понимаемый как пантеистическая сущность или же как вещь в себе, «абсолют». И та и другая концепция связана с попыткой превратить непостижимую сущность в постижимую реальность. Но формы этого постижения разные: они соответствуют различию предметов поклонения. Фюрер стремился к тому, чтобы его «высшая сущность» раскрывалась зримо, чтобы ее «узнавали» в характерных признаках — в челке, в усиках, в выпученных глазах и т. д. — отсюда потребность в натуралистической форме. А всякие там пантеистические сущности — это пустые абстракции, лишенные предметного содержания. Отсюда вытекает неприятие искаженной, разрушенной формы, не соотнесенной с предметной реальностью (неопластицизм, абстракционизм). Правда, это неприятие не было последовательным.
Гаман связывает вчувствование с возвращением к мифологическому мировоззрению. Модернисты потянулись к мифу по разным причинам: тут и попытка вернуться к утерянному первобытному, «детскому» видению мира, тут и желание цайтц опору и оправдание в
историческом прошлом для своих необузданных, «диких» эмоций (фовисты, дадаисты), тут и стремление зашифровать в первобытных иносказаниях те реальные превращения, которые произошли в «западной цивилизации».
Тяготение к мифу было свойственно также фашизму и его идеологам. Ницше писал, что «...без мифа каждая культура лишается своей здоровой природной творческой силы: только мифами обставленный горизонт заключает в круг единства целое культурное движение» !. Нацисты умели «мифами обставить горизонт», театрализованные шествия штурмовиков с их символами—черно-красными знаменами, свастикой, факелами, размашистыми жестами, шовинистическими песнями и т. д. — должны были «замкнуть в круг единства» всю нацию на основе единой «религии крови».
Гаман провозгласил: «...великий переворот в искусстве, имевший место в эпоху перехода от средневековья к новому времени, должен вызывать негодование и презрение, так как религиозное содержание в пышных прекрасных картинах Возрождения отступает назад, на первый же план выдвигается удовлетворение эстетического чувства и требование того, чтобы картина была понятна сама по себе» 1 2.
Критика Возрождения, его гуманистической идеологии и реалистической эстетики становится в XX веке общей платформой и тех, кто пытается вернуться к Цезарю, и тех, кто именует себя либералами. Идее гуманизма противопоставляется дегуманизация искусства, идее объективной реальности противополагается концепция, в которой реальность трактуется как функция человеческой деятельности, — это тоже присуще и тем и другим.
Гаман полагал, будто искусство — только переживание, потому .оно может быть неистинным и аморальным и что именно в этой ипостаси оно наилучшим образом выполняет эстетическую функцию. «... Все непрактичное, с житейской точки зрения антиморальное и неистинное, — писал он, — в высшей степени способно повлиять на нас эстетически»3.
1 Ф. Н и ц ш е, Происхождение трагедии, стр. 204.
2 Р. Г а м а н, Эстетика, М„ 1913, стр. 4.
3 Т и м же, стр. 51.
07
Это положение является «общим местом» во всех без исключения «измах». Модернисты убеждены в том, что им позволено не только лгать, но и разрушать мир, чтобы потом «собирать его вновь», но уже в соответствии со своим особым видением.
Представители фашистской идеологии также полагали, будто произведение искусства представляет собой игру, но без правил, будто оно есть следствие разрушения и созидания индивидуального мира, когда не принимаются в расчет ни мораль, ни истина.
Итак, все изложенные выше положения, как уже отмечалось, основываются у Гамана на теории вчувсг- вования. Но что достойно внимания, так это то, что впоследствии они перешли — в разных вариантах, конечно, — во все как либеральные, так и профашистские концепции искусства XX века. В них мы встречаемся с одними и теми же устремлениями и установками: с отождествлением эстетического’ и неистинного (или аморального), с отказом от познавательной функции искусства в пользу гедонистической, с признанием воли субъекта в качестве субстанционального эстетического начала, с трактовкой художественного творчества как стихийного, иррационального явления и со многим другим. Именно это обстоятельство и следует иметь в виду, когда речь заходит о модернизме, как некоей целостности. Его разноречивость криклива внешне. Его монолитность в том, что он обслуживает все разновидности современной буржуазной идеологии и опирается на них.
Нам остается сделать еще одно замечание. В теории вчувствования можно и нужно провести разграничение между эмпирическим материалом и его метафизическим истолкованием, как это сделал, правда, не без некоторых пристрастий, Л. Выготский: «Если отбросить чисто метафизические построения и принципы, которые Липпс привносит в свою теорию, и остаться только при тех эмпирических фактах, которые он вскрыл, можно сказать, что эта теория является, несомненно, очень плодотворной и в некоторой части непременно войдет в состав будущей объективной психологической теории эстетики» !.
1 Л. Выготский, Психология искусства, М., «Искусство 1968, стр 261.
98
О каких «эмпирических фактах» идет речь?
^Характеризуя восприятие человеком различных линий, Липпс отмечал, что каждую из них человек «протягивает», «отграничивает», «проводит», «резко начинает» или «обрывает», или же постепенно сводит на нет, «поднимает» и «опускает», «сгибает», «поворачивает», «суживает», «расширяет» и т. д. В процессе восприятия, созерцания человек действительно совершает все эти действия, но только — мысленно, в воображении, сопрягая его с реальным бытием той или иной линии. Сказанное, конечно, не означает, будто, созерцая линию, человек творит ее бытие или соучаствует в нем.
Как уже отмечалось, в восприятии часто наблюдается движение мысли «вспять»: человек сводит новое, необычное, неизвестное — к старому, известному и обычному, замыкая его в границы повседневного опыта, он объясняет природное через человеческое, объективное через субъективное, знакомое для него и обычное.
Да, в восприятии есть элемент такого движения мысли, но он преодолевается в последующих ступенях познания. Это преодоление неизбежно так же, как неизбежно преодоление «здравого смысла», непосредственных данных опыта в процессе научного постижения истины. Однако сторонники теории вчувствования отказались от попыток преодолеть «здравый смысл», отождествляемый ими с «миром, данным в ощущениях» (именно потому Воррингер и обвинял их в натурализме). Этот отказ от попыток преодоления «здравого смысла», связанный с отрицанием истины, с возможностью познания объективной реальности, привел сторонников теории вчувствования к иррационализму.
О чем это свидетельствует? Прежде всего о том, что факты, вскрытые Липпсом, были обработаны в духе субъективистской теории. Эта теория воспроизводит самое себя в разных вариантах вот уже более ста лет, но еще никто не признал ее научной. Что же касается «эмпирических фактов», на обработке которых она построена, то они действительно заслуживают внимания. К тому же их объяснение с материалистических позиций уже состоялось (Брюсов). Так что нам только и остается признать: у теории вчувствования нет будущего.
99
Интуитивизм
Интуитивизм — это, безусловно, краеугольный камень наиболее реакционных течений эстетики модернизма, это исходная позиция всех тех индивидуалистов, которые признают в искусстве только один сюжет, только одно содержание, только одну форму — самовыражение художника. Характеризуя творчество своего земляка, С. Беккет сказал: «Джойс не пишет о чем-либо, он пишет что-нибудь» *. Для того чтобы писать о чем-либо, нужны знания, идеалы, необходим ум. Но чтобы писать что-нибудь — вполне достаточно интуиции (если под интуицией понимать выход психической энергии). Человеку легко может показаться, что он вне идеологии, что он непосредствен, как дитя, что для него существует лишь один источник творчества — его собственная интуиция. Поскольку таких людей в модернизме большинство, то интуитивистские теории творчества наиболее распространены среди них.
Самые влиятельные западноевропейские философы и психологи, Б. Кроче, А. Бергсон, 3. Фрейд, К. Юнг,— интуитивисты. Каждый из них по-своему «освобождал» эстетику от объективной истины, внося в нее субъективизм, иррационализм, мистику, а то и просто произвол. Их деятельность совпала с той эстетической анархией, которая явственно вырисовывалась к началу XX века. Их теории содержат в себе все доводы, необходимые для гносеологического «обоснования» модернизма. Это звучит несколько странно: люди, отрицающие познавательную функцию искусства, вынуждены обосновывать свои выводы ссылками на гносеологию.
Но вернемся к интуитивистам.
'Одну из черт современной буржуазной методологии представляет собой эмпиризм. Собирая факты, описывая их, эмпирик, как правило, не отделяет основное от второстепенного, случайное от закономерного. В исторической деятельности людей он не проводит границ между субъективными мотивами их поступков и объективными результатами. Отсутствие переходов от частных наблюдений к широким обобщениям нередко служит средством, с помощью которого реальное превращают в нечто желаемое и, как правило, очень далекое
1 «Beckett‘at 60 A Festschrift», London, 1967, р. 19.
100 -
от истины. Именно такого рода методология обычно используется для описания теоретической деятельности Кроче, Бергсона, Фрейда.
Обратимся к Кроче. Историографы скрупулезно описывают все стадии и этапы его духовного развития, все его теоретические увлечения, а их много (сам Кроче признавался, что никогда не произносил обетов), и указывают, что сначала он был антигегельянцем, гер- бартистом, затем прошел «марксистскую фазу» под влиянием Лабриолы (в марксизме ему якобы импонировал принцип силы, борьбы, мощи, поэтому от марксизма он переходит прямо к ... макиавеллизму), потом опять «посредством Маркса» усвоил Гегеля, отвергнув, однако, его диалектику, затем стал последователем Канта, принял теорию «экономии мышления» Маха и Пуанкаре и т. д. После этого один исследователь называет Кроче гегельянцем, другой — марксистом, третий — кантианцем, четвертый — махистом, пятый — сторонником концепции «творческого духа, независимого от догм, исторических фактов, от целесообразности и морализма» и т. д. Каждый при этом думает, что он прав. Между тем, правда такова, что Кроче не видел объективной истины ни в одной философии. В каждой из них, по его мнению, выражается только пророчество, обусловленное особенностями исторической проблематики. Философию он сводил к искусству, историю тоже. Свою теорию он называл «историцизмом», отождествляя ее с «религией свободы». Это значит, что свой релятивизм он поднимал на уровень абсолютного, непререкаемого принципа, на уровень 'метафизики.
Принцип историцизма не' утверждает никакого закона, ничего устойчивого и повторяющегося. Кроче рассматривает человеческое существо как нечто разорванное, не собранное. Деятельность этого существа бывает или волевой, или теоретической, или практической, или духовной. Последняя в свою очередь распадается на ряд форм: моральную, логическую, эстетическую... Духовная деятельность предполагает приобретение знаний посредством интеллекта или интуиции, инстинкта. Интеллект познает универсальное, инстинкт «схватывает» индивидуальное. Интеллект производит концепции, инстинкт — образы, символы. Интеллектуальное знание — дело ученого, интуитивное — дело художника.
101
Что же такое интуиция?
Кроче часто возвращается к определению этого понятия, каждый раз раскрывая его с новой стороны, но неизменно противопоставляет интуитивное постижение отражению. Интуиция — это ощущение, вернее, созерцание чувства, первичное творчество реальности, акт воссоздания того, что произвел дух. Следовательно, ощущая природу, человек не соотносится с ней (источник всякого зла, по мнению Кроче, следует искать в признании существования объективной реальности), но выражает природу как нечто возможное, к тому же свое собственное, созданное восприятием или созерцанием. Посему интуиция есть неразличимое единство реального и ирреального. Интуиция лирична и поэтому алогична, в ней нет ничего ни утилитарного, ни морального. Каков бы ни был источник интуиции, какова бы ни была форма ее проявления, она всегда представляет собой эстетический факт. Если для интуиции найдена «чистая» форма выражения, свободная от каких бы то ни было практических, моральных, идеологических, политических и других «внешних» значений, — можно считать, что произведение искусства появилось на свет. Художник находит форму мгновенно, не рассуждая. Потому искусство есть нерефлективная интуиция бытия, схватывающая единичное, случайное Что же касается истины, то она пребывает в общем. Она извлекается из небытия с помощью понятийного мышления, которое, так же как и интуиция, мысля реальность, мыслит самое себя.
Проведя границу отчуждения между универсальным и индивидуальным, общим и единичным, Кроче отделяет интуицию от познания, восприятие от понятия и приходит к выводу, будто понятие «вода» существует независимо от восприятия этого ручейка, этой реки, этого озера, этого дождя и т. д. Индивидуальные, единичные факты суть только интуиции, лишенные общих значений и потому чуждые познанию истины. Когда художник их воспроизводит, этот акт не имеет никакого отношения к деятельности интеллекта. То, что в искусстве называется обобщением, относится только к характеристике, определению и представлению индивидуального. Индивидуальное являет собой подлинную «поэтическую материю». Оно в душе каждого. Но его выражение доступно только художнику.
102
Поскольку искусство есть (выражение индивидуального, в нем нет и не может быть развития, поступательного движения, перехода от незнания к знанию, от неполного знания к более полному, нет совершенствования формы, обогащения языка и т. д. Индивидуальное неповторимо, оно появляется каждый раз вновь. Такими же должны быть средства выражения его. Кроче пишет: «Не только искусство диких как таковое не является более низшим по сравнению с искусством более цивилизованных народов, если соответствует впечатлениям диких, но и каждый индивидуум, даже каждый момент духовной жизни индивидуума имеет свой художественный мир. И все такие миры несравнимы между собой в художественном отношении» !. Этот пример показывает, насколько прост переход от релятивизма (историцизма) к метафизике.
Итак, самовыражение художника абсолютно свободно и независимо от действительности, от интеллекта Это — самопроизвольное действие. Дух, обитающий в человеке, превращает себя в объект и осведомляется о результате своей деятельности — таким, замкнутым в себе, представляется Кроче творческий процесс. Поскольку он совершается вне какого-либо движения понятий, постольку бесцельность есть его цель, бессодержательность есть его содержание. «В этом смысле, — пишет Кроче, — когда «содержание» приравнивается к «понятию», будет глубоко правильно не только утверждение, что искусство не заключается в содержании, но и утверждение, что оно не имеет содержания»1 2.
Искусство — это вид прозрения, ему нет дела до того, что реально и чтсь нереально. «Объективной модели красоты не существует»3, — заявляет Кроче. Искусство не связано с восприятием чего-либо внешнего. Искусство— это интуитивные факты, следы происхождения которых утеряны. В этом смысле искусство — иллюзия Интуитивный факт не может быть ни истинным, ни ложным. Он может (как и сам процесс самовыражения художника) быть завершенным, или незавершенным, или вовсе не бывает.
1 Б. Кроче, Эстетика как наука о выражении, или общая лингвистика, ч. 1, М., 1920, стр. 155
2 Т а м же, стр. 30.
3 Т 3 М же, стр. 132,
юз
Так Кроче «снимает» и вопрос об отношении искусства к действительности и проблему истины.
«Новаторство» Кроче заключается в том, что он растворяет искусство в «темном океане» инстинктов. Он «устраняет» различия между биологическим инстинктом и художественной интуицией. В этом отношении он идет «дальше» Канта и Гегеля, дальше своих непосредственных предшественников, позитивистов Тэна, Фехнера (Кроче демонстративно провозглашает свой антипозитивизм), которые пытались еще найти какую- то связь между психическим и физическим, между художественным и реальным.
Кроче вкладывает в искусство негативный смысл. Подчеркивая его независимость от общественной практики, науки, морали, он сближает его с религиозным опытом. Образной ясности и определенности Кроче противопоставляет язык таинственных и неопределенных символов.
Некоторые западные историки отмечают значительный успех эстетики Кроче среди буржуазной интеллигенции. Так, Э. Гарин пишет: «...основное значение Кроче в жизни итальянской культуры продолжительное время было неотделимо от значения «Эстетики» 1902 года» 1.
Чем это объяснить?
В эстетической теории интуитивистов наблюдаются прямые переклички с высказываниями тех или^ иных модернистов. Так у Кроче, например, есть положение: физический факт — нереален, искусство — высшая реальность. Этот тезис представляет собой лишь легкую перефразировку известного парадокса О. Уайльда: не художник подражает природе, природа подражает художнику.
Кроче допускает возможность логического беспорядка в искусстве, он говорит о его практической невменяемости. «...Художественная тема или содержание, — пишет он, — не может быть объектом практических и моральных похвал или порицаний» 1 2. Это опять-таки напоминает избитую и затасканную модернистами формулу: всякое искусство совершенно бесполезно.
1 Э. Г а р и н, Хроника итальянской философии XX века, стр. 230.
2 Б Кроче, Эстетика как наука о выражении, или общая лингвистика, стр. 58.
104
Модернист ищет в искусстве стихийный язык, необходимый ему для выражения чувства отвращения к миру. Это приводит его ib конечном итоге к фиксации всех стадий усиливающегося логического беспорядка, «который находит для себя наиболее адекватное выражение в шизофрении» 1. Конечно, Кроче далек от этой крайности. Но именно он один из первых поддержал и обосновал все те тенденции, которые привели к данным крайностям.
Основная из этих тенденций — стремление к самовыражению (Уайльд говорил, что в сущности искусство — зеркало, отражающее того, кто © него смотрится, а вовсе не жизнь). По мнению Кроче, произведение искусства может быть удавшимся — тогда мы называем его прекрасным, или неудавшимся — в этом случае оно безобразно. (Многие модернисты полагают: есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.) Однако есть ли такой критерий, с помощью которого можно определить, что удалось, а что не удалось? Для Кроче такого критерия нет — ведь интуиция неповторима и ни с чем и ни с кем не сравнима. Отрицание объективных критериев связано с предположением: красота настолько же безобразна, насколько безобразие прекрасно.
Да, теория Кроче выглядит как предвзятая защита декаданса, в котором стираются всякие грани между прекрасным и безобразным, между- правдой и мистификацией, между художественным и ирреальным.
Буржуазно-либеральная историография часто спекулирует на фактах, свидетельствующих о том, что Кроче не всегда симпатизировал декадансу. Он называл сюрреализм искусством недоверчивым и пессимистическим, тяготеющим к эгоистическому и сладострастному мистицизму, без веры в бога и без веры в мысль и т. д. Он критиковал натурализм и футуризм (последний в особенности — за близость фашизму, за крикливую и площадную программу). Футуристы отвечали ему такой же неприязнью, выступая «против Рима и Кроче». Кроче иногда критикует доктрину «чистого искусства» (как она сформулирована у Малларме, Пруста и других) за претенциозность, неискренность, но не отвергает ее. Более того, он оправдывает ее усло-
1 К. Гилберт, Г. Кун, История эстетики, стр: 593
105
йиями индустриализма, необходимостью отрицания академической школы и др.
Дж. Ходин рассказывает: «Я вспоминаю Б. Кроче, с которым я в 1952 году обсуждал проблемы современного искусства... Я настойчиво подчеркивал: современное искусство — это неживое искусство. Он отвечал мне как историк, защищая принцип европейской традиции. Во многих отношениях он был прав. Современное искусство по происхождению было отрицанием, протестом против академизма, в котором европейская традиция завершалась бесплодием, эстетизмом, формальной стерильностью» Г Исходя из этих представлений о происхождении модернизма, Кроче пытался вложить в него позитивный смысл. Это способствовало тому, что даже такое понятие, как «декаданс», используемое в конце XIX века в негативном значении, потеряло это значение и «используется ныне в Италии как бесспорное наименование современных тенденций»1 2.
Итак, Кроче спорит с декадентами, боясь крайностей, но защищает декаданс как тенденцию. Поэтому его эстетика таит в себе возможность оправдания того произвола, той безответственности, того абсурда, то есть всех тех крайностей, которые выражают самую сущность декаданса. Э. Гарин пишет: «Новая «эстетика», будучи далека от разрешения кризиса, благоприятствовала, хотя и косвенно, программам, тяготевшим к «футуризму»3. Необходимо уточнить: не косвенно, а непосредственно благоприятствовала декадансу, выражением коего являлась сама.
Обратимся теперь к другому теоретику модернизма, интуитивисту Бергсону. Он растворяет объект в субъекте, материальный мир в сознании. «А1ы воспринимаем внешний мир, — пишет Бергсон, — и это восприятие — правильно или нет — кажется чем-то одновременно существующим и в нас и вне нас: с одной стороны, оно является состоянием сознания, с другой же стороны—оно поверхностный слой материи, где ощущающий сливается с ощущаемым. Каждому моменту нашей внутренней жизни соответствует, таким образом, момент
1 «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Winter, 1967, p 181.
2 G. Orsini, Benedetto Croce Philosopher of Art and Literary Critic, Carbondale, 1961, p. 280.
3 Э Гарин, Хроника итальянской философии XX века, стр. 293
106
нашего тела и всей окружающей нас материи, являющийся «одновременным» первому моменту...» ’.
Сливая объект с субъектом, Бергсон пытается представить это состояние как такой уровень опыта, на котором только и возможно постижение абсолютного. Абсолютом, по его понятиям, является чистая длительность, порыв, движение, изменение как таковое, освобожденное от оков материи (безличное сознание). Что же касается вещей, материи, то в них тоже заложено движение, но это движение «застывшее», обратное жизни, препятствие на ее пути.
Каков же механизм постижения абсолютного?
«...Абсолютное, — пишет Бергсон, — может быть дано только в интуиции, тогда как все остальное открывается в анализе. Интуицией называется род интеллектуальной симпатии, путем которой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что ib нем есть единственного и, следовательно, невыразимого»1 2.
По мнению Бергсона, существует два основных средства схватывания реальности — инстинкт и интеллект. Инстинкт присущ насекомым, животным. Он не способен к анализу, к отбору, к предвидению. Он безотчетен. Но всегда действует наверняка и точно. В нем проявляется жизненная сила, способная к автоматически безошибочным действиям. В жизни человека тоже возникает необходимость таких действий — тогда он схватывает реальность с помощью симпатии и антипатии. На основе инстинктивной деятельности складываются мораль и религия, предохраняющие человека о г развращающих воздействий интеллекта.
Интеллектуальное знание — это практическое стремление приспособиться к вещам, извлечь выгоду и т. д. Отсюда его способность к отбору, к предвидению, к свободной ориентации в пределах практического интереса. Но истинное знание требует отвратить наше внимание от той стороны универсума, в которой мы заинтересованы практически, и повернуть его к тому, что не служит ничему практическому. Тут интеллект бессилен. Но там, где интеллект бессилен, на помощь приходит интуиция, «порыв симпатии», с помощью которой чело¬
1 А Бергсон, Длительность и одновременность. Пб., «Academia», 1923, стр. 40.
2 А. Бергсон, Собрание сочинений, т. 5, Снб, 1914, стр 6.
107
век переносится внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем невыразимого. Здесь-то и происходит постижение вещи в ее подлинной сущности, в ее бесконечной содержательности. Интуиция как бы «творит» ее вновь. Истинная реальность вещи выражается в этом процессе созидания, «творческой эволюции», длительности как таковой, непрерывно изготовляющей абсолютно новое. Интуиция в конечном итоге оказывается тождественной вечному обновлению, проявляющемуся в длительности. Интуиция и длительность суть одно и то же, это единственная реальность, наше «я», которое длится. Только в интуиции преодолевается ограниченность инстинкта и интеллекта.
Бергсон рассматривает искусство как род интуитивного постижения реальности, происходящего вне логического мышления. Искусство — непосредственное видение, порождаемое интуицией, абсолютно «свободной» от закона жизненной силой. Чтобы стать лицом к лицу с реальностью, необходима полная отрешенность от жизни, но отрешенность не преднамеренная, а «естественная», которая позволяла бы душе художника сосредоточиваться на той или иной видимости — на цвете или форме, «...так как он любит цвет ради цвета, форму ради формы, так как он их воспринимает ради них, а не ради себя, он сквозь их формы и их цвет видит внутреннюю жизнь вещей» 1. Эти видимости суть реальности, поскольку не доказано, что они иллюзии. Они выступают в искусстве в качестве субстанций.
Художник, постигая реальность, создает образы не адекватные этой реальности, неистинные. Их неистин- ность — следствие односторонности интуитивной деятельности художника. Ведь он служит искусству одним из своих чувств. Если бы ему была свойственна всесторонняя непосредственность, он создал бы синтетическое искусство, вбирающее в себя все его виды и жанры, все проявления кпасоты. Но поскольку такая универсальность, как и абсолютная отрешенность художника от практического действия, невозможна, постольку он действует в ограниченной области — в сфере музы-} ки, поэзии, живописи, архитектуры и т. д. Каждый из этих видов искусства представляет собой лишь мате¬
1 А. Бергсон, Смех в жизни и на сцене, Спб., 1900, стр. 143.
108
риал, на котором проецируется внутренний мир художника, состояние его души.
Искусство не столько выражает чувство, сколько внушает его. Оно усыпляет активные силы нашей личности, приводит нас в состояние полной пассивности. «В приемах искусства, — пишет Бергсон,—мы обнаруживаем в более утонченной, в более изысканной и, так сказать, одухотворенной форме те же самые приемы, посредством которых мы доходим до состояния гипноза» L
Искусство охотно перестает подражать природе, когда находит более сильные, более действенные средства внушения. Получается, таким образом, что сила искусства заключается не в том, насколько непосредственно и полно оно постигает реальность, а в том, насколько оно способно перенести нас (в психическое состояние, которое внушается нам художником.
Так Бергсон снимает проблему истины в эстетике, проблему адекватности искусства объективной реальности.
И эстетика Кроче, превращенная в краеугольный камень его философской системы, и эстетические экскурсы Бергсона, увидевшего в искусстве средство постижения абсолютной, то есть очищенной от материи реальности, представляют собой звенья одной цепи. Их объединяет интуитивизм, по-разному, конечно, понятый и истолкованный.
Совершенно справедливо отмечает В. Ф. Асмус, что Кроче к<не решится еще дойти до полного алогизма, полного антиинтеллектуализма», что интуиция еще рассматривается им «не как антипод понятия, а как условие его реализации в духе...»1 2. Однако эстетика Кроче уже таит в себе возможность движения мысли к полному алогизму. Именно в этом направлении и двигалось западноевропейское искусство начала XX века. То, что не решился произнести Кроче, сказал Бергсон, поставивший интуицию выше интеллекта. Кроче еще рассматривает искусство как область ограниченного, чувственного познания, хотя и отрицает возможность проявления' в нем объективной истины (в искусстве истин¬
1 А. Бергсон, Собрание сочинений, т. 2, Спб., 1914, стр. 14.
2 В. Асмус, Проблема интуиции в философии и математике, М., Соцэкгиз, 1963, стр. 153.
309
ным может быть только выражение, в философии — понятие). Что же касается Бергсона, то он только внешне связывает эстетическую интуицию с познанием; в действительности же ставит искусство вне познания, поскольку истолковывает его как разновидность гипноза.
И Кроче и Бергсон не только оправдывают, но и теоретически обосновывают эстетический формализм. По мысли Кроче, выражение, то есть форма, становится содержанием искусства. По мнению Бергсона, только ритм и такт в музыке и поэзии, только устойчивая неподвижность живописи, скульптуры и архитектуры являются теми средствами, с помощью которых художник воздействует на восприятие, достигая нужного эффекта, внушения.
Как видим, Бергсон согласен с Кроче в том, что форма— это и есть содержание.
Философские интересы Кроче и Бергсона сосредоточивались на проблемах эстетического сознания. Они стремились подчеркнуть его мощь и первостепенное значение для своего времени. Но как только они начинали раскрывать действие того механизма, который приводит в движение «новое сознание» (модернизм), сразу же обнаруживался его антиинтеллектуализм. Кроче иногда угадывал ту пустоту, к которой сам направлялся, Бергсон же верил в плодотворность образующейся пустоты. Но и тот и другой были убеждены, что из отрицания рационализма появится новое сознание. В начале XX века некто Жуссен отмечал: «Исчезает старое сознание, его сменяет формирующееся новое сознание»1. Старое сознание — это классицизм, подчиняющий волю и чувство разуму. Новое сознание — это романтизм, подчиняющий разум чувству и воле. Провозвестником нового сознания был Новалис. Создал же его якобы Бергсон, уверенный в том, что сознание представляет вещи не такими, какие они есть сами по себе, но такими, какими оно желает или опасается их видеть. К этому же выводу склонялся и Кроче, когда писал: .«...познание является деятельностью, посредством которой субъект создает свой собственный объект»1 2.
1 А. Бергсон, Собрание сочинений, т. 4, Спб., 1914, стр. 174
2 Э Гарин, Хроника итальянской философии XX века, стр. 240
110
Таким образом, несмотря На различие масштабов И некоторых деталей, эстетические взгляды Кроче и Бергсона развивались, по сути, в одном и том же русле.
Отрицание разума, логики, интеллекта становится одной из самых устойчивых «формул развития» буржуазной эстетики начала XX века, явно тяготеющей к философскому иррационализму.
Иррационализм начала XX века представляет собой критическое и демагогическое течение. Он опровергает, отбрасывает, отрицает всякое учение, заявляющее о своем стремлении к объективной истине: и рационализм Декарта, и материализм Дидро, и диалектику Гегеля, и, само собой разумеется, диалектический материализм.
Английский эстетик Г. Рид, приписав Фрейду роль первооткрывателя «нового сознания», заявил: «Впервые Фрейд высказал общее положение, что искусство есть обратный 'путь от фантазии к реальности» 1. Между тем это вовсе не впервые сказанное слово: иррационализм берет начало в скептицизме, агностицизме, в резком противопоставлении чувственного познания рациональному, в субъективизме (Баумгартен, Якоби, Кант, Фихте). Элементы и мотивы его со временем умножаются, разветвляются, модифицируются. Их обнаруживаешь в объективном идеализме Шеллинга и Э. Гартмана, в волюнтаризме Шопенгауэра; в «философии жизни» Ницше, Дильтея, Бергсона, Шпенглера; в экзистенциализме Кьеркегора, Хайдеггера, Ясперса, Сартра; в феноменализме Гуссерля; в прагматизме Джемса, Дьюи; в психоанализе Фрейда, Юнга.
Можно с полной уверенностью сказать: нет ни одного течения в эстетическом модернизме, которое в той или иной степени не находилось бы под влиянием иррационализма, не было бы связано с ним прямо или косвенно.
В иррационализме кое-кто видит эпохальное событие, которое оторвало эстетику от метафизики, положило конец ее пустым блужданиям, вывело из состояния неподвижности 'и т. д. Однако иррационализм — это не озарение, не ясновидение истины. Это лишь энергия, ток, превращающий реальность в иллюзию. А истина заключается ib том, что культура терпит стихийное бед¬
1 «Современная книга по эстетике», стр. 199
1 111
ствие. Иррационализм же вбирает в себя весь трагизм ее неотвратимой судьбы, не без иронии относясь и к этой погибели и к своим собственным откровениям.
Иррационализм неразрывно связан с интуитивизмом. Как уже отмечалось, Кроче и Бергсон обосновывают его гносеологически. Фрейд и Юнг ищут аргументацию в пользу иррационализма в психоанализе.
Фрейд, как известно, не был ученым-эстетиком. Более того, он относился к этой науке с некоторым скептицизмом (заявляя, например, что эстетика не может дать никакого объяснения природы или происхождения красоты). Возможности психоанализа в этом плане он тоже не переоценивал (ему принадлежит признание, что психоанализ еще меньше может сказать о красоте, чем о большинстве других явлений). Одно Фрейд утверждал с уверенностью: красота является свойством сексуального объекта. Не будучи теоретиком-эстетиком, он тем не менее интересовался эстетическими темами: «Царь Эдип», «Гамлет», «Братья Карамазовы» и отцеубийство, фантазия с коршуном Леонардо да Винчи. Хотя Фрейд и не создал эстетической теории, влияние его почти на 'все течения модернизма можно понять, если вспомнить, какое важное место заняли в эстетике к началу XX века проблемы психологии творчества.
В центре внимания Фрейда — неврозы, разрушенная психика, динамическая травма, половой инстинкт, инстинкт агрессии и смерти... Все эти проблемы могли превратиться в «мучительные» только в период социальных потрясений, мировых войн, экономических кризисов и политических катастроф. Именно такой, «трагической», представляется современная эпоха буржуа, разрушенное сознание которого тщетно ищет точку опоры. То мистическое чувство, то необузданный анархизм, то примирение с судьбой, то вспышка агрессивности, то идеализация пещерной жизни, то безудержное стремление насладиться «в последний раз» — такова психология этого человека, ожидающего «конца мира». Он, полностью выразивший себя в модернизме, и был «вторым
я» самого Фрейда.
В этом-то и заключается секрет, «тайна» Фрейда, которого сравнивают на Западе то с Аристотелем, то с Ньютоном, то с Колумбом, то с Коперником. Фрейд не только попытался проанализировать психику «современного человека». Он дал ему религию, предметом покло¬
112
нения которой является он сам, буржуа, человек с дурными инстинктами.
В многочисленных статьях и сборниках, посвященных Фрейду, буржуазные философы ставят его имя в связь с коренными изменениями, якобы происшедшими ib современной цивилизации. Их-де уловил Фрейд и дал новое направление познанию, «отвергнув» объективную реальность, обратив внимание на самопознание «психической личности», на исследование ее подсознания.
В этой связи Ф. Александер, например, пишет: «В течение почти четырех последних столетий человек сосредоточивал свои интересы на внешнем мире, изучая природу универсума... Постепенно он обратил свои теоретические знания в мастерство овладения силами природы. Он полностью забыл при этом об изучении самого себя... Он построил иллюзии о самом себе, как о прогрессивной, интеллектуальной, в основном доброй и социально разумной личности, стремящейся к правде, культивирующей красоту и осуществляющей социальную справедливость... Фрейд положил этому конец» !.
Фрейд решительно порвал с мировоззрением «старого» рационализма и Просвещения. Он провел границу отчуждения между индивидом и обществом. Человек, по его представлениям, — существо антисоциальное, злое, агрессивное. Его бытие выражается в удовлетворении биологических стремлений, под воздействием которых он вступает в отношения с другими индивидами. Каждый из них сам по себе является не целью, а лишь объектом, необходимым для удовлетворения инстинкта другого. Общество в целом подавляет желания индивида. Вследствие этого происходит сублимация его энергии, то есть переключение с низших (сексуальных) на высшие объекты. Но если давление общества будет сильнее способности индивида к сублимации, он становится невротиком. Таким образом, Фрейд приходит к парадоксальному .заключению: чем сильнее угнетение, тем выше уровень культуры и тем больше опасностей невротических расстройств.
Философская концепция Фрейда глубоко метафизична. Он полагал, будто духовное развитие отдельного человека сокращенно повторяет ход развития человечества, будто сущность индивида и его отношение к об-
1 «Art and Psychoanalysis», New York, 1957, p. 362.
5 О модернизме
113
ществу неизменны. «Элементарная сущность жизни с самого своего начала, — писал он, — не должна стремиться к изменению, должна постоянно при неизменя- ющихся условиях повторять обычный жизненный путь» L
Развитие жизни, по мнению Фрейда, противоречит консервативной природе влечений. И поэтому всякое живое существо всегда и постоянно, идя через все окольные пути, возвращается к своему исходному состоянию, которое и есть его судьба. Таким изначальным фактором в жизни творческой личности является либидо, сексуальная энергия. Так, например, объясняя улыб“ ку Моны Лизы, Фрейд полагает, будто она пробудила в Леонардо да Винчи нечто такое, что давно дремало в его душе. В этом образе выразилось воспоминание Леонардо о своей неудовлетворенной, покинутой матери, которая поставила его, Леонардо, на место мужа и «слишком ранним предупреждением его эротических чувств похитила часть его мужских влечений»1 2. Темы, идеи, образы своих произведений художник черпает, следовательно, не из окружающей действительности. Он носит их в себе, как свою судьбу, как следствия своих сексуальных стремлений, обусловленных случайными обстоятельствами жизни.
Для Фрейда искусство — средство самовыражения первичных инстинктов: к<Поэт делает то же, что играющее дитя: он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения, в то же время резко отделяя его от действительности»3. Поэтический мир, противопоставленный действительности, не нуждается в исследовании его истинности. Фрейд и не занимается этим. Он заранее исходит из того убеждения, что, объясняя искусство, нужно идти не от действительности к художественному творчеству, а, наоборот, от фантазии к действительности. Фантазии же взрослого человека порождаются не реалистическим расчетом, не умением ориентироваться ,в действительной жизни, но неудовлетворенными, недозволенными желаниями, вечными, как сами инстинкты. Инстинктивные потребности художника — это роковая сила, вызывающая
1 3. Фрейд, По ту сторону принципа удовольствия, М., 1925, стр. 76.
2 3. Фрейд, Леонардо да Винчи, М., 1912, стр 85.
3 «Современная книга по эстетике», стр. 189.
114
страстные желания добиться почета, власти, богатства, славы и любви женщин. Искусство представляется Фрейду делом сугубо личным, эгоистическим. Первичные инстинкты человека непреодолимы, они выходят за пределы морали, стихийны и бесконтрольны, их удовлетворяет в конечном итоге сексуальное наслаждение.
Неудовлетворенное желание художника уводит его от действительности и сосредоточивает его внимание, его либидо (половой инстинкт) на создании желаемого предмета в фантазии, от которой легко можно перейти к неврозам. Выходит, таким образом (об этом пишет сам Фрейд), что фантазирует не счастливый, а неудовлетворенный, не здравомыслящий, а душевнобольной. Следовательно, неудовлетворенность и невроз суть истинные источники и стимулы искусства. Так Фрейд пытается вложить в искусство нечто неразумное, больное, бессознательное, демоничное, злое, преходящее, случайное. Неудовлетворенный художник, по Фрейду, существо не только страдающее, но и агрессивное, свободное от «гнета» разума, находящееся в вечном конфликте с цивилизацией. Развивая эту мысль, последователи Фрейда утверждают, будто истинное произведение искусства только и может быть создано художником-неврастеником, душевнобольным, творчество которого к тому же будет адекватным духу XX века — века «хаоса и иррационализма».
Современные модернисты — декаденты, фовисты, которые называли себя «дикими», так как разрушали все и всякие нормы и законы искусства, и их последователи— абстрактные экспрессионисты — пишут сегодня точь-в-точь по Фрейду: «Художник, — заявляет один из них, — это пещерный человек, разрисовывающий свою пещеру, свистящий в темноте, кладущий свою любовь, свой страх и свою гордость на кусок полотна... Я хочу рисовать себя, живущего, вгрызающегося в мир своими обнаженными зубами»
Фрейдизм дает не только аргументацию и терминологию, с помощью которых модернисты не столько объясняют, сколько затемняют вопрос о сути художественного творчества.
Некоторые модернисты «накладывают» психоанализ на создаваемые ими образы и произведения. В резуль-
1 «Arts news», 1961, September, р. 43.
5*
ttll'5
тате создаются схемы — иллюстрации фрейдистских концепций. Достаточно в этой связи вспомнить «фильмы ужасов» А. Хичкока. Некоторые из них выглядят настолько примитивно, что смотрятся, скорее всего, как ученические изложения тех или иных тезисов Фрейда.
Примером тому может служить фильм «Психоз». Его сюжет прост: Марион Крейн похитила 40 тысяч долларов. Ей показалось, что этой суммы вполне достаточно для того, чтобы .«навеки» соединиться со своим возлюбленным Сэмом. Во время ливня, скрываясь от преследования, она попадает в пустынную гостиницу, где ее встречает приветливый хозяин Норман Бейтс. Молодые люди почувствовали симпатию друг к другу. Они решили поужинать вместе. Но когда Норман вышел, Марион услыхала голос его матери, протестующей против их встречи. Встреча тем не менее состоялась в кабинете Нормана. Когда Марион вернулась в свою комнату, чтобы принять ванну, на нее набросилось существо в женском парике и поразило ее ножом в спину. Проходит минута, и в ванной появляется Норман с ведром и метлой. Он убирает следы преступления, погружает труп и все имущество жертвы (в том числе деньги) в багажник машины, принадлежащей Марион, и загоняет машину в болото, где она тонет.
Частный детектив, расследующий это преступление, убит таким же способом, когда он поднимался по лестнице на второй этаж. Сестра Марион и Сэм решили узнать, кто же обитает в этом злополучном доме. Женщина вошла в дом одна (но за ней, конечно же, наблюдал Сэм) и в поисках матери Нормана набрела в подвале на... скелет. Она вскрикнула от ужаса. В это же мгновенье поднялась на нее уже знакомая зрителю рука с ножом. Но Сэм вовремя схватил ее. Под париком оказался... Норман.
История, что и говорить, совершенно нелепая. Но ее надо как-то объяснить.
Появляется следователь. Он все и объясняет, по Фрейду. Оказывается, много лет назад Норман убил свою мать «из ревности» (эдипов комплекс), когда она после смерти мужа вышла замуж. После убийства сознание Нормана раздвоилось: то он был самим собой, то перевоплощался в образ матери (одевал парик, носил ее платье и даже подражал ее голосу). Когда он, увидев Марион, почувствовал к ней влечение, в нем за- 116
протестовала «мать». Он все-таки встретился с молодой женщиной (мужское начало сильнее), «мать» за это отомстила ему, убив Марион. После убийства Норман опять становится самим собой. Теперь он убивает сыщика, поднимает руку на сестру Марион, боясь разоблачений.
Изложенная следователем псевдонаучная концепция разрушает ткань и без того нелепого фильма. Режиссер, как бы не доверяя зрителю, его способности понять происшедшее, дает ему дешевый урок фрейдизма, усугубляя и без того навязчивый конфликт между художественным и психоаналитическим началами.
Хичкок — посредственный ремесленник. Только этим можно объяснить его попытки соединить фрейдизм с искусством. Л. Висконти, безусловно, талантливее его. Однако он тоже потерпел неудачу на стезе фрейдизма, о чем свидетельствует его фильм «Туманные звезды Большой Медведицы».
Джани любит сестру Сандру не братской любовью. Висконти поселяет своих героев в старинном замке, в горах, в развалинах, на месте которых был когда-то городок. Замок обставлен статуями, неподвижными, но как бы живыми свидетелями и участниками трагических событий. Мать несчастных влюбленных психически больна. События совершаются на фоне беспокойной, тревожной природы. Кругом — тайна, кругом — загадка. Но в конце концов все раскрывается. Жених Сандры, потрясенный и возмущенный, бьет по физиономии своего жалкого соперника Джани и уезжает подальше от этих кошмаров. Джани кончает с собою. А (в это время Сандра, экстравагантно одетая, присутствует на церемонии открытия памятника 'своему отцу...
Логические связи фильма распадаются. Видимо, потому, что в основе его — туманная концепция. В самом деле: что хотел сказать режиссер? Что существуют больные люди и неестественные влечения? Сказать об этом можно, но так, чтобы раскрывались причины данного «индивидуального казуса». Однако фрейдизм находит для всех таких казусов всегда одну и ту же причину— или эдипов комплекс (фильм «Психоз»), или стремление к удовольствию (фильм «Туманные звезды Большой Медведицы») и др. Ответ, таким образом, уже заранее дан. Тем самым фрейдизм обедняет и упрощает и человеческие очень сложные и противоречивые отно-
117
шения, и механизмы творческого процесса, и картину исторического развития искусства.
Так, Юнг, например, утверждает, будто существуют два типа психических механизмов в искусстве: экстраверсия и интраверсия. Первый принадлежит прошлому, второй— настоящему. В первом случае интерес художника направлен на объект, который действует, подобно магниту: объект притягивает, более того — отчуждает субъект от самого себя. В результате объект приобретает абсолютное значение. Смысл жизни субъекта при этом заключается в полном отказе от самого себя и в отдаче себя объекту. Второй случай характеризуется отвращением к объекту. Внимание художника направляется на собственные психические процессы. Субъект пребывает в центре всех интересов. Вся энергия отливает от объекта, магнитом становится субъект.
Что можно понять из этого объяснения? Ровным счетом ничего! Хотя оно предельно просто: раньше художник тяготел к объекту, теперь он испытывает чувство отвращения к нему. Но почему это происходит? Юнг не дает ответа, оставляя читателю возможность догадываться самому. А догадаться не так уж трудно.
В этой теории явно видна попытка объяснить и оправдать декаданс: разрыв традиций, противопоставление настоящего прошлому, волюнтаризм, отвращение художника к действительности, к объективной истине, обращение его к инстинкту как единственному источнику творчества, стремление к выражению «магнетической энергии», заложенной в неудовлетворенном субъекте, намерение «разрушить» принцип детерминизма и др. Имея в виду эти устремления, одни западные философы называют культуру XX века (имея в виду модернизм) неврастеничной, иррациональной, другие именуют ее фрейдистской. В известном смысле они правы: фрейдизм наиболее непосредственно и последовательно выражает ее болезненное состояние. Иррациональное — это болезненное. Таким оно выглядит в фрейдистском искусстве (в том числе и в рассмотренных нами фильмах Хичкока и Висконти).
Объясняя смысл иррационализма, К. Юнг пишет: «Иррациональное — не противоразумное, а внеразумное, то есть, чего нельзя обосновать разумом»L Понимая
1 К. Ю н г, Психологические типы, стр. 420.
11S
недостаточность этого двусмысленного определения (многое нельзя обосновать разумом: природу, социальную действительность, инстинктивную деятельность и т. д.), Юнг продолжает: «Иррациональное есть фактор бытия, который хотя и может быть отодвигаем все дальше через усложнение разумного объяснения, но который в конце концов настолько осложняет этим самое объяснение, что оно уже начинает превосходить постигающую силу разумной мысли и, таким образом, доходит до ее границ прежде, чем оно успело бы охватить мир в его целом законами разума» Ч
Выходит, таким образом, что иррациональное заключает в себе не внеразумный, а именно противора- зумный смысл, поскольку в данном случае речь идет о таком истолковании действительности, которое стремится превзойти «постигающую силу разумной мысли». Фрейдизм, таким образом, на все сложные вопросы, поставленные перед искусством в XX веке, дает в конечном итоге один ответ: то, что не может постичь разум, — неразумно, а все неразумное — болезненно. Произвольность этих положений очевидна. Фрейдизм вносит в искусство произвол (объяснения следователя в фильме «Психоз» произвольны, не мотивирована, то есть произвольна, и любовь Джани к сестре), тем самым разрушает его.
Иногда говорят, будто в либидо, эдиповом комплексе, подсознательном и >пр. фрейдизм открыл новые источники творчества, позволяющие художнику раскрывать в вещах то, что находится «по ту сторону» их видимости. Ссылаются при этом на опыт Кандинского, Элиота, Дали, Шагала, Дюшана, якобы постигающих структуру реальности в состоянии озарения, в момент творческого экстаза. Однако, по свидетельству самих фрейдистов, творчество разрушительно, ибо оно всегда несет в себе неудовлетворенность, психическое расстройство, демонизм, постоянно искажает и отрицает структуру реальности, чтобы возвысить будущее «я»1 2.
Иногда говорят, будто фрейдизм, обратив внимание на интуитивные моменты художественного творчества, тем самым противопоставил его вульгарному расчету, бездушному рационализму. Но помимо фрейдистов на.
1 К. Ю н г, Психологические типы, стр. 420.
2 «Современная книга по эстетике», стр. 211.
L19
значение интуиции обращали внимание также Дильтей, Кроче, Бергсон и другие. Но все они не дали научного определения ее. У Кроче интуиция отождествлялась с выражением и ощущением, постигающим единичное. У Бергсона она выступала в образе «демона Сократа», как сила отрицания, ставящая преграды действию. По Фрейду, интуиция воплощена ibo втором .«я», скрытом в каждом человеке, олицетворяющем собой «темные», сексуальные инстинкты, и т. д. Интуитивисты, таким образом, придали интуиции значение «перста господнего», указующего на судьбы искусства XX века. На этой основе и сложился определенный клймат, способствовавший, с одной стороны, установлению «диктатуры» отдельных (наиболее интуитивных) художников — Пикассо, Дали, Дюшана и других, с другой же—росту анархизма, поскольку каждый модернист признает достоверной только свою собственную интуицию.
Впоследствии наука занялась изучением психических механизмов интуитивного мышления и доказала, что существуют различные виды интуиции. М. Бунге, например, рассматривает интуицию в виде разнородных способностей человека, выражающихся: в быстром отождествлении предмета, в ясном понимании значения знаков, в легкости интерпретации условных знаков, в наглядном представлении отсутствующего предмета, (в создании действующей модели постигаемой сущности, в изобретательности, во вдохновении, в быстром умозаключении, в синтезировании разнородных элементов в систему понятий, в проницательности и т .д.
Кроче, Бергсон, Фрейд, поставив в фокусе своей эстетики интуицию, шли в ином направлении — она представлялась им в виде метафизической сущности. Бунге пишет: «Интуиция — коллекция хлама, куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых не знаем, как их проанализировать или даже как их точно назвать» L Именно такой и выглядит интуиция в теориях Кроче, Бергсона, Фрейда. Они исследовали интуицию, не зная, что это такое.
И сегодня эстетика модернизма продолжает оставаться на том же самом уровне, хотя художники, философы и психологи сделали ряд важных открытий в этой области. Она даже не стремится исследовать ин-
1 М. Бунге, Интуиция и наука, М., «Прогресс», 1967, стр. 93.
120
туицию, но все явления и процессы, происходящие в современном искусстве, объясняет ссылками на... непостижимую интуицию: и возврат к примитиву, и стремление к «чистой» абстракции, и все демоническое, бесчеловечное и абсурдное в нем, и тему насилия, и деидеологизацию, и преобладание сексуальных мотивов, и попытку отождествить эстетический и религиозный опыт. Ссылка на интуицию становится, таким образом, готовым ответом, годным на все случаи. Ею объясняют также «независимость» творчества. Говорят: интуиция неконтролируема, значит, не подвластна ни разуму, ни совести. Пока интуиция осуществляется, модернист сохраняет свою полную свободу и... полную безответственность.
Само собой разумеется, интуиция сохраняет значение «символа века» до тех пор, пока она не расшифрована. Может быть, именно поэтому представители поп- арта 60-х годов XX века знают об интуиции не больше того, что знали о ней первые модернисты в конце XIX века.
Постоянно воспроизводя себя во все новых и новых вариантах, мировоззрение модернизма попадает как бы в замкнутый круг: его «имманентная» деятельность ничего не может явить миру, кроме новой формы выражения своей собственной сущности. Только перепевы старого на новый лад, ни одного действительно свежего мотива — таков удел всех, кто находится в замкнутом кругу буржуазной идеологии и не- хочет или не находит в себе сил выбраться из него.
Интуитивизм и иррационализм были взяты на вооружение самыми реакционными силами нашей эпохи. Бунге пишет по этому поводу: «Нацистская Германия превозносила кровь, инстинкт, «симпатическое понимание», или эмпатию, усмотрение сущностей и интуицию ценностей и норм. Для равновесия она порочила логику, критику, рациональную переработку опыта, его теоретическое трансцендирование и объяснение, медленные, зигзагообразные, самокорректирующиеся поиски истины» Г
Для Кроче, Бергсона, Фрейда интуитивизм не выступал в качестве политической проблемы. Они стояли «вне» политических партий. Однако, может быть, имен-
1 М. Бунге, Интуиция и наука, стр. 41.
121
но поэтому они в большей степени способствовали признанию интуитивизма как .«единственно возможной» в XX веке философии, чем и помогали реакции. Они, конечно же, не думали о том, что им придется быть жертвами ими же самими вызванного «духа». Так появляется в модернизме тема отчуждения «духа» от образа людей, его создавших.
В эстетике модернизма сосуществует множество течений, школ и оттенков мысли. Часто они расходятся между собой. Но теоретики спорят, опровергают друг друга, как правило, по частным вопросам. Между разными течениями модернизма и в самом деле нельзя ставить знак равенства. Зато в главном все они сходятся: в отрицании объективной реальности, в агностическом отрицании истинности познания, в утверждении психологической «реальности» переживания в качестве единственного сущего, в апелляции к иррациональным силам человека, дремлющим якобы в его психике, в инстинктах; в опровержении эстетики реализма, в отказе от моральной , и социальной ответственноеги и т. д.
Критикуя внешне враждующие между собой школы и школки субъективного идеализма, В. И. Ленин видел за этими разногласиями, хотя и не согласованную, но единую партийную позицию1. Такая же позиция есть и в современной буржуазной эстетике, различные течения которой тяготеют к иррационализму.
Это свидетельствует о том, что иррационализм стремится стать «общим знаменателем», что в середине XX века он превратился в фактор, способствующий образованию известной общности и однородности многочисленных эстетических «измов».
Чем сильнее «правеет» империалистическая буржуазия, тем- «надежнее» служит ей иррационализм, который признается уже в качестве единственно возможного мироощущения в условиях «нашей кошмарной действительности». Кроче, Бергсон, Фрейд как раз и сделали те шаги вправо, вследствие которых иррационализм превратился в средоточие эстетики модернизма. Они шли вправо, не предвидя того, что каждому из них придется стать жертвой ими же пробужденных «иррациональных сил».
1 См.: В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр 380
122
Позитивизм
В западной историографии часто повторяется тезис, будто метафизику в эстетике, догматическую «философию искусства», построенную на гносеологических, формально логических доводах, вытеснил позитивизм, представляющий собой подлинно научную методологию, основанную на психофизическом исследовании эстетического опыта. В связи с этим в «Истории эстетики» К. Гилберта и Г. Куна сказано, например: «Фехнер открыл новую эпоху в эстетике» 1. В чем же заключается принципиально «новый вклад» Г.-Т. Фехнера (1807— 1887), основателя психофизики, в развитие эстетики?
Фехнер объявил, что он подходит к эстетике не «сверху», как это имеет место в спекулятивной философии, а «снизу», пытаясь уловить те узловые соприкосновения субъекта с объектом, в которых фиксируется момент зарождения приятного чувства. Он исследовал эстетические достоинства «золотого сечения». Для этого разбрасывал на столе простейшие геометрические формы — квадраты, кресты, треугольники, эллипсы и т. д. — и предлагал выбрать из них красивую или некрасивую, отыскать то соотношение частей и сторон, которое нравится или не нравится. Выводы, сделанные Фехнером в ходе этих экспериментов, само собой разумеется, не могли положить начало новому этапу в истории эстетики. Они касались лишь определения «рабочей» связи между субъектом и объектом в границах эстетического опыта. В общем, они сводятся к нескольким наблюдениям, названным «законами» или «принципами». Вот некоторые из них:
Принцип эстетического порога. Чтобы вещь, форма, пропорция и т. д. нравилась, импульс, производимый ею, должен обладать определенной силой (слабый импульс не в состоянии перейти «порог сознания», поэтому он не воспринимается). Чтобы имел место акт эстетического удовольствия, внимание -субъекта не должно быть пониженным.
Принцип эстетического усиления. Гармоническое сочетание простейших эстетических элементов дает более интенсивное удовольствие, чем могли бы дать эти элементы сами по себе, не связанные между собой.
К. Гилберт, Г. Кун, История эстетики, стр. 555.
123
Принцип единства в многообразии. Эстетическое наслаждение имеет место только в том случае, если происходит смена впечатлений, но не в пестром беспорядке, а связанная общим принципом. Однообразные формы, цвета, звуки и т. д. не нравятся, так же как не нравятся и бессвязные сочетания их.
Принцип отсутствия противоречия. Эстетическое удовольствие возникает только в том случае, если восприятие не обнаруживает |в объекте таких состояний, положений, форм и т. д., которые противоречат личному или общепринятому опыту, установкам субъекта.
Принцип ясности. Объект нравится, когда его функция, структура, форма и т. д. доходят до сознания вполне отчетливо.
Принцип ассоциаций. Характер эстетического переживания обусловлен двумя факторами: свойствами самого объекта и теми ассоциациями, которые они вызывают. Ассоциации придают объекту определенное значение, а переживанию — «духовную окраску».
Открытие этих принципов, во многом истинных, не составило эпохи ib развитии эстетики по нескольким причинам — прежде всего потому, что некоторые из них были уже известны. Но эксперименты Фехнера все же имели положительный смысл: они подтвердили то, что впоследствии стало предметом отрицания со стороны многих модернистских течений.
Само по себе обращение к эксперименту является необходимым условием всякого подлинно научного исследования. Но эксперимент представляет собой только технологическую основу творческого процесса. Поэтому следует принимать во внимание не столько сам эксперимент, сколько то, как он поставлен, какое место он занимает в данной науке, каким целям служит, к каким (выводам приводит.
Позитивизм абсолютизирует опыт, эмпирический подход к действительности, сводя задачи науки к констатации «непосредственно достоверных» фактов, к описанию их, к фиксации так называемых протокольных предложений. Но за этой объективистской, «нейтралистской» методологией скрывается явно выраженная тенденция рассматривать «внутренний опыт» человека, его психическое состояние, поток его ощущений как единственно достоверный факт, как единственно возможный объект познания.
124
с)та тенденция имеет Нод собой известную подоснову.
В эпоху великих научных открытий объективный идеализм обнаруживает свою полную несостоятельность в качестве средства воздействия на интеллигенцию. На смену ему приходит идеализм субъективный, прикрытый наукообразной позитивистской фразеологией и поэтому более «надежно» маскирующий свою связь с религией: вместо понятий «бог», «надмировая идея», «абсолютный дух» он ставит современные понятия: «энергия», «движение», «ощущение», делая вид, что таким образом можно «преодолеть» ограниченность идеализма. Но ограниченную сущность самого позитивизма так не замаскируешь. В. И. Ленин писал: «...суть дела состоит в коренном расхождении материализма со всем широким течением позитивизма, внутри которого находятся и Ог. Конт, и Г. Спенсер, и Михайловский, и ряд неокантианцев, и Мах с Авенариусом» Е
На начальном этапе развития позитивистской эстетики заметное влияние на нее оказали кроме Фехнера И. Тэн (1828—1893), автор книги «Философия искусства», и Г. Спенсер (1820—1903), автор работ «Философия стиля», «Полезное и прекрасное». Их работы внутренне противоречивы. Они ознаменовали собой поворот к «непосредственно данному», который наметился в Европе в середине XIX века.
Искусство объясняется как явление, обусловленное в конечном итоге состоянием «человеческого духа», «моральной температурой» эпохи. Тэн стоит на позициях абстрактного детерминизма. Для него искусство — это формирующий процесс, возникающий вследствие действия трех сил: среды, момента, расы. Он не видит качественных различий между природой и обществом, животным и человеком, прикладной ботаникой и эстетикой, математикой и искусством. Спенсер усматривает конечную причину художественного формообразования в действии некоей непознаваемой «силы». Последующие позитивисты эту «демоническую силу» называют экстазом, подсознанием, вчувствованием, эротическим влечением, прессией и т. д.
Позитивисты, связанные с эмпириокритицизмом, всякий опыт рассматривают как эстетический, коль скоро
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 214.
а-25
в нем обнаруживается некая универсальная, абсолютная тенденция к устойчивости, к окончательному, «последнему» состоянию. В их работах исчезают всякие следы симпатии к реализму. Более того, махисты осуществляют «изгнание» действительности из искусства. Так, например, В. Оствальд, основоположник энергетизма, пишет, будто художник «должен так воспитать себя, чтобы видеть только формы и краски, безотносительно к тому, что они представляют из себя в «действительности». В той мере, в какой он научится выключать эту «действительность»,— вещает Оствальд,— он и будет в состоянии передавать своими картинами впечатление от действительности»
Неопозитивисты отождествляют искусство с переживанием субъекта. Эстетика истолковывается при этом как наука эмпирическая, занимающаяся описанием опыта, который заключает в себе бесконечное разнообразие эмоциональных состояний и «позиций», связанных с чувством удовольствия. Неопозитивисты переводят эстетику на язык физики, математики, биологии. Они «обнаруживают» в искусстве проявление того или иного универсального закона или принципа, якобы действующего во всех сферах бытия и сознания: принципа экономии движения, эстетического устойчивого состояния, математизации мышления и т. д. К середине XX столетия, по их мнению, такое значение приобретает принцип неопределенности, выдвинутый копенгагенской школой физиков. Под этим углом зрения они и объясняют не только абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и прочие течения, развивающиеся под знаком «логического беспорядка», но и прямо противоположные им рационалистические стремления.
Однако можно ли с помощью такого метода выяснить природу эстетического опыта?
Среди неопозитивистов широко распространено мнение, будто всякое превращение хаоса в порядок всякая организация уже есть искусство. А если так, то в основе искусства лежит определенная логическая система. В ней проявляется всеобщий эстетический закон — закон ритма, основанный на двух важнейших процессах: на выявлении родства, общности гармонических групп и на выявлении их разнообразия, единичности. Эти про-
1 В. Оствальд, Письма о живописи, М., 1905, стр. 155.
126
цессы, генерации и вариации, суть элементы математи* ческой логики, которым подчиняется и природа и человек.
Генезис произведения искусства сторонникам такой концепции представляется в следующем виде. Природа производит физические явления, в которых человек обнаруживает полторы. Значит, природа подчинена законам ритма, гармонии. Но естественное производство (физическое, химическое, биологическое)—это еще не эстетический, а только предэстетический этап художественного творчества. Следующий, эстетический, период (включает в себя чувственный опыт, интуицию художника, который, оказывая воздействие на природные материалы, сперва бессознательно выражает законы математической логики, а впоследствии — вполне осознанно. Третий и последний этап характеризуется тем, что художник начинает творить сознательно, предоставляя машине возможность выражать в определенном материале всеобщий, универсальный закон ритма. Это — рациональный, функциональный, синтетический этап художественного творчества.
Если, таким образом, искусство превращается в инженерию, а творчество — в механический процесс, то, естественно, вопрос о таланте, степени одаренности, мастерстве художника оказывается праздным. Зачем талант и мастерство там, где налажено производство «эстетических объектов» с помощью машины, действия которой подчиняются не человеку, а системе числовых значений, выражающих универсальный ритм? В этой связи утверждается, будто «культ мастерства перерастает в формализм и схоластику» и поэтому убивает... искусство!.
Неопозитивисты представляют себе творческий процесс как проекцию на полотно перемещающихся атбмов в мозгу художника. Тот же самый автор пишет: «Все наши понятия и действия есть только геометрическая проекция электро-химических процессов, происходящих в нашем мозгу» 1 2 .
Такое упрощенное представление о творчестве как о процессе, фиксирующем все, что («происходит в голове
1 J. S с h i 11 i n g er, The Mathematical Basils of Art, New York, 1948, p. 14.
2 I b i d., p. 28.
127
художника», ничего общего не имеет с действительным творчеством, собранным и организованным на основе определенной информации, на основе отбора жизненного материала, его типизации и индивидуализации, на основе постоянных поисков средств выражения, на основе некоторых идеальных устремлений, на основе логики, присущей собственно искусству. Неопозитивизм отбрасывает все эти стабилизирующие факторы и, по сути дела, ориентирует художника писать «под настроение»— все подряд, что в голову приходит (представители «потока сознания», живописи-действия дают много примеров такого творчества).
Неопозитивизм поощряет метод описаний, образцы которого можно встретить разве что в учебных пособиях по точным наукам. Так, например, герой романа «Чужое лицо» японского писателя Кобо Абэ, изготовляя маску для лица, изучает проблемы изнашиваемости, упругости и эластичности, средств закрепления, способов соединения края маски с лицом, вентиляции, выбора прототипа, создания модели и другие. Это сопровождается дотошным перечислением различных средств и операций, которые должны обеспечить успешное завершение работы. И хотя роман в целом интересен (поскольку в нем идет речь об анонимности человеческих отношений в буржуазном обществе, об эгоцентризме и его разрушительном воздействии на любовь), те части его, где подробно рассказывается о технологии изготовления маски, воспринимаются как чужеродные и удручающие лоскутья в ткани художественного произведения.
Неопозитивисты, так же как и интуитивисты, заменяют теорию отражения теорией самовыражения. Американский автор Сьюзен Лангер, например, развивает следующий взгляд. Она полагает, будто художник находит и берет из действительности только некоторые вещи, обладающие эстетическими качествами: краски и полотно (живописец), слова (поэт), звуковые колебания (композитор), тело и его движения (балерина) и т. д., и использует их так же, как повар использует муку и яйца, чтобы изготовить кекс. Разница между поваром и художником только в том, что повар изготовляет продукт питания, его кекс — реален, а художник творит произведение искусства, нечто призрачное, воплощающее в себе поток непосредственного опыта,
128
некие взаимодействующие «силы». Мы наблюдаем конфликты этих «сил», разрешения их, подъем и упадок, их ритмическую жизнь. Это заставляет нас смеяться и плакать, восторгаться и негодовать и т. д. Эти «силы» — 'нереальны, заключает Лангер. Они «создаются нашим восприятием, они существуют только благодаря ему»1.
К субъективистскому выводу Лангер приходит вследствие противопоставления эстетической реальности — физической. По ее мнению, в призрачности заключена существенная особенность искусства («иллюзия — это кардинальный принцип искусства») 1 2, которое определяется ею как объективное выражение субъективной реальности.
В человеческом познании всякое понятие, всякий образ не может быть ничем иным, кроме как субъективным образом объективного мира. Но Лангер «переворачивает» этот факт. На место объективной реальности подставляется субъективная, вместо субъективной формы отражения ставится форма, приобретающая значение «новой реальности». Но если у каждого индивида— своя действительность, а сущность искусства растворяется в наличном бытии его формы, то отсюда следует вывод, что искусство сводится к поиску выразительной формы, что «проблема выразительной формы— это центральная проблема эстетики»3. Причем форма мыслится, конечно, как некое целое, единство, образованное из независимых элементов, абсолютных сущностей, допускающих возможность произвольных сочетаний. Каждое такое сочетание символично, значит, неопределенно и иллюзорно.
Начав создание эстетической теории, Лангер попыталась придать ей всеобъемлющий характер с тем, чтобы с одних и тех же позиций обьяснить и реализм и антиреализм. Но поскольку это не удалось, она предприняла новую попытку ответить на вопрос об отноше-/ нии искусства к действительности, сформулировав его! так: почему художественная форма, выражающая че-j ловеческие чувства, несет в себе сходство с живыми i природными формами и почему это сходство необходимо?
1 S. L ia nger, Problems of Art, New York, ,1957, p. 5.
2 I b i d., p. 30.
3 I bi d, p. 149.
129
Отвечая на этот вопрос, она исходит, с одной стороны, из философии Ч. Пирса, 3. Фрейда, Э. Кассирера, а с другой (стремясь понять механизм связи между ощущением и мышлением)—опирается на данные биохимии, биологии, психологии. Именно здесь она ищет ключ, необходимый ей для того, чтобы раскрыть как сходство, так и качественное различие между ощущением животного и человека. Именно здесь, по ее представлениям, пролегает путь к некоторым «тайнам» человеческой культуры — к таким, в частности, как символ, условность, иллюзия, образ и др.
Эстетика модернизма рассматривает искусство как автономную, замкнутую в себе форму человеческого самовыражения. Само собой понятно, что на этой основе нельзя определить ни значения, ни характера связей искусства с объективной реальностью. Поэтому Лангер пытается преодолеть узкий горизонт субъективизма. Но осуществить это намерение до конца ей все же не удается. Хотя она в отличие от интуитивистов и не сводит искусство к самовыражению «внутренней реальности», тем не менее, как и они, ограничивает его областью человеческих чувств, а эти последние выводит из «низшей» природы человека. Биологическое истолкование человеческих чувств — это и есть тот метафизический предел, до которого доходит вся эстетика модернизма. Она рассматривает чувство не как продукт общественно-исторического развития, но как роковое наследие, получаемое инстинктивным человеком от незадачливого Адама.
Лангер решительно отделяет искусство от науки. Это может показаться странным, ибо позитивизм всегда был связан со стремлением «разъять музыку как труп», «поверить -алгеброй гармонию». Но факт остается фактом. Наука, по ее мнению, это всегда знание о чем-либо, описание чего-либо — это предметное познание. Что же касается искусства, то оно является простой объективизацией чувств, образом или символом, передающим посредством видимости вещей ощущения самого художника. Отсюда следует основной тезис ее эстетической концепции: «Искусство — это объективация чувств и субъективация природы»!.
1 S. Langer, Mind: An Assay on Human Feeling, vol. I, Baltimore, 1967, p. 87.
130
Формула Лангер мало чем отличается от Других субъективистских формул модернизма. Но если принять во внимание, что одна из самых 'существенных тенденций модернизма выражается ib полном отрицании изобразительности, в абсолютном «изъятии» объекта (в прежних своих сочинениях Лангер оправдывала абстракционизм), то «присутствие» даже «субъективированной природы» в новой формуле свидетельствует о том, что автор теперь уже не без оговорок принимает модернизм. На этот счет Лангер дает следующие разъяснения. Культ ^изобразительного искусства, пишет она, это только исторический эпизод, связанный с необходимостью .«очистить» видение художника. Чем же вызвана данная необходимость? Ответ, сотни и тысячи раз повторенный модернистами, гласит: принцип портретирования натуры (то есть воспроизведения жизни в формах самой жизни) измельчал и выродился; к тому же наше время социальных разногласий и конфликтов между человеком и обществом способствует утверждению чисто интуитивного видения художника. Правда, Лангер предвидит возвращение искусства к природе: оно будет преследовать те же самые цели, которые были свойственны художникам прежних, «уравновешенных» эпох.
Рассматривая произведение искусства как форму объективации чувств, Лангер далека от того (как это делают многие западные эстетики, в особенности сторонники абстрактного экспрессионизма в США), чтобы ставить знак равенства между самовыражением художника и художественным выражением его чувств. Самовыражение, утверждает она, присуще главным образом животным, создающим некое подобие искусства (пение птиц, строительные работы пчел и бобров и т. д.). Но в их «искусстве» отсутствует историческое и стилистическое развитие, оно не концептуально. Художник же преобразует природу каждый раз по-новому на основе определенной концепции красоты. Красота выражается в единстве формы и содержания. По этому поводу Лангер пишет: «...художник стремится выразить идею, и если его идея полностью выражена, это произведение— хорошее»1. Конечно же, под «идеей» Лангер понимает «идею чувства». Но это уточнение ничего
1 S. Langer, Mind: An Assay on Human Feel'ing, vol. I, p. 115.
131
не меняет 6 Том отрадном факте, что Лангер пытается провести границу между самовыражением и художественным выражением, между искусством и неискусст- вом, полностью исчезающую в модернизме.
Заслуживает внимания также то, что Лангер «возвращает» эстетике понятие «образ», как правило, отсутствующее в модернистских трактатах. Правда, она лишает его гносеологического значения. ОбраЗ, по ее понятиям, символизирует чувство. Познавательную функцию выполняет только научная модель. Такое разграничение образа и модели весьма произвольно: ведь художественный образ тоже своеобразная модель действительности, по крайней мере в той степени, в какой он сохраняет объективное содержание.
Аристотелевское понятие «сходства» или «подражания» многие модернисты отбрасывают, считая его несовместимым с искусством (подражание означает якобы пассивное воспроизведение реальности, искусство же, соревнуясь с природой, создает новую реальность). Лангер придерживается на этот счет иного мнения. Она полагает, что подражание — свойство всего живого, один из основных принципов самосозидания организмов. Но поскольку произведение искусства — тоже живой организм, то подражание — внутренне присущий искусству импульс. «Во всяком искусстве, — пишет она, — ...подражание выступает как фундаментальный принцип, лежащий в основе повторов, вариаций и других средств образования сходства с «живой формой»1. Это верное наблюдение. К сожалению, Лангер трактует его субъективистски. Первейшая функция искусства заключается, по ее мнению, не ib том, чтобы воспроизводить объекты, существующие вне художника, но в том, чтобы заставить ощутить напряжение жизни, начиная от неопределенных и неясных телесных движений до высших эмоциональных и умственных напряжений.
Увлекшись той бесспорной мыслью, что задача искусства не в бездумном копировании действительности, Лангер упускает из виду весьма важное обстоятельство: искусство не может передать напряжение жизни, если юно оказывается бессильным понять ее. Жизнь — напряжение. Но разве это напряжение беспредметно, бессодержательно? Разве юно не зависит от уровней жиз¬
1 S. Langer, Mind: An Assay on Human Feeling, vol. I, p. 139.
132
ни (физиологического, психологического, интеллектуального), от социальных ориентаций индивида, которые приносят в это напряжение определенный смысл?
Распредмечивая человека, рассматривая его только как монаду с определенным энергетическим потенциалом (кстати, автор видит смысл жизни в самореализации энергии, стремящейся к обособлению, индивидуализации), Лангер неизбежно приходит к идее распредмечивания искусства. Она пишет: «Первейшая проблема для художника — это символическое преобразование субъективно понятых реальностей в объективные сходства, которые узнаются как их выражение в чувственной форме. Оно начинается с образования иллюзии, представляющей собой субстанцию каждого произведения» 1.
Итак, искусство — иллюзорно. Таков тот окончательный вывод, к которому приходит Лангер. С этим выводом согласится любой модернист.
Предпринятое Лангер изучение биологии должно было раскрыть истоки органичности искусства, его «живой формы», его способности одухотворять инертную материю — камень, глину, дерево, металл. Однако это изучение привело Лангер к односторонним выводам. Причина тому — энергетическое истолкование жизни (значительное место в книге занимает изложение взглядов В. Оствальда), завуалированное изобретенным ею словом «прессия». «Прессия»— это матрица живой материи, напоминающая не то энтелехию Аристотеля, не то монаду Лейбница, не то «длительность» Бергсона, не то «жизненную силу» виталистов.
Энергетизм в любых его вариантах не в состоянии решить вопрос о взаимосвязях между материей и сознанием, поскольку и материя и сознание растворяются им в субстанции — энергии и рассматриваются лишь как формы проявления ее. Он объясняет сознание не как свойство особым образом организованной материи, не как форму отражения объективной действительности, но как «условие, созданное актами умственной деятельности»1 2, к которым относятся ощущение, волевое действие, восприятие, суждение. Конечно, сознание можно рассматривать и как условие человеческого существования, но если оно при этом выводится из ...ум-
1 S. L ia n g е г, Mind- An, Assay on Human Feeling, vol. I, p. 157
2 I b i d., p. 438.
133
ственйой деятельности, to э!а последняя в свою очередь требует для себя объяснения. Мысль Лангер движется по замкнутому кругу, поэтому и бьется в неразрешимых противоречиях.
Позитивизм в эстетике сводится в конечном итоге к скептицизму, к отрицанию возможности постижения объективной истины. Причины этого заключаются в эмпирическом и релятивистском характере самого позитивистского мышления. К. Огден и А. Ричардс, например, полагают, что как в объекте восприятия, так и в самом эстетическом опыте существуют многие аспекты и части, на которые можно поставить ударение. Мы можем вычленить сам объект, его окружение, гениальность мастера, создавшего произведение искусства, совершенство самого произведения, идеал, к которому стремился художник, и т. д. Это положение — бесспорно;. Но дело в том, что из этого бесспорного положения следует весьма сомнительный вывод, будто это вычленение видоизменяет содержание (оно якобы всегда смещается от одного элемента к другому) произведения искусства, будто, исходя из таких акцентов, мы определяем, что такое правда, красота, искусство и т. д.
Иллюстрируя свою мысль, Огден и Ричардс приводят шестнадцать определений понятия «прекрасное». Вот некоторые из них: прекрасно то, что обладает качеством прекрасного, что имеет специфическую форму; что является подражанием природе; что является следствием успешного использования какого-либо средства; прекрасное — это произведение гения; это то, что служит средством обнаружения истины, духа, природы, идеала, типического; что вызывает иллюзию; что ведет к желаемому социальному эффекту; прекрасное — это выражение; это то, что доставляет удовольствие; что вызывает процесс «вчувствования»; что повышает жизнедеятельность и т. д. «Любое определение является достаточным, заключают авторы, — если оно дает возможность смышленому читателю опознать то, к чему оно относится»
По сути дела, авторы рассматривают не произведение искусства, но вызванное им переживание. Поэтому в их определениях опознаются не столько разнородные
1 С. К. О g d е n a n id I. A. iR i с h а г d s, The Meaning of Meaning— In «Aesthetic Theories..», p. 429.
134
свойства, стороны или части эстетического объекта, сколько различные подходы и отношения к нему, иногда прямо противоположные. Такое смещение внимания с объекта на субъект вряд ли можно считать плодотворным. В самом деле, если субъект будет выбирать для себя «удобные» определения, то есть если в одном случае он согласится с тем, что прекрасное — это средство обнаружения истины, а в другом будет утверждать, что прекрасное есть то, что вызывает иллюзию, то такой подход ничего не обнаружит, кроме эгоцентризма субъекта. Что это дает другому субъекту?
Каждое определение, конечно же, характеризует не только объект, к которому оно относится, но и субъект, дающий определения. Видимо, разные отношения к миру будут у того, кто скажет: «прекрасное есть жизнь», и у того, кто приемлет «узкую», потребительскую формулу: «прекрасное — то, что повышает жизнедеятельность». Но наука будет совершенно бесплодной, если она опустится до регистрации бесконечных различий в определении прекрасного.
Наука ищет единую для всех истину. Единую потому, что она объективна. Хотя каждый субъект постигает и выражает эту истину по-своему, индивидуально.
Позитивистская эстетика далека от этой задачи, она находит, что мысль и чувство не только лишены объективности, они невыразимы, поскольку тот или иной язык, та или иная грамматическая система не в состоянии полностью выразить ни мысль, ни чувство. Органический дефект языка обусловлен якобы не только недостаточной емкостью символов, знаков, слов, но и тем, что всё они приобретают то или иное значение в зависимости от «темной сущности» самого языка, выразительные возможности которого определяются эмотивно. Поэтому мыслящий человек вынужден бороться со своим языком, стремясь выразить то, что он думает.
Огден и Ричардс вводят двойное определение истины. ’Существует, говорят они, истина символическая и истина эмотивная. Эта последняя принадлежит искусству, она оказывает возбуждающее действие и только. Писатель или драматург приписывают какому-либо герою стремление к истине, но лишь для того, чтобы вызвать у читателя или зрителя позицию одобрения и восхищения. Понятие «ложь» вызывает чувство разочарования и неодобрения. Сами же по себе «истина» и
135
«ложь» не имеют в искусстве (как и в религии) гносеологического значения, поскольку ни искусство, ни религия, находясь «по ту сторону» истины и лжи, не способны сообщить человеку какие-либо знания. Их назначение в том, чтобы сеять иллюзии.
В конечном итоге неопозитивизм оборачивается солипсизмом: «Субъект не принадлежит миру, он есть граница мира» Ч Тем самым снимается вопрос об отношении познающего субъекта к объекту.
Как уже отмечалось, позитивисты отождествляют искусство с переживанием. Это неизбежно приводит их к психологизации эстетики. Конечно, в эстетической науке есть много психологических аспектов. Они появляются каждый раз, когда исследуются источники и природа мотиваций художника, воображение и фантазия, творческий процесс, эстетическое чувство, художественный вкус, эстетическое наслаждение, восприятие произведения искусства и т. д. Исследуя эти аспекты, западная эстетика накопила много интересных фактов и сделала ряд заслуживающих внимания обобщений. Здесь можно назвать книгу Р. Арнхейма «К психологии искусства», в которой рассматривается, в частности, вопрос о характере восприятия пространственных искусств — живописи, скульптуры, архитектуры.
Арнхейм исследует эффект движения форм и цвета в пространственных искусствах. Он называет несколько факторов и условий, вызывающих его: неуравновешенность, асимметричность композиции, несоответствия между ее частями, частые изменения ее пространственной ориентации (барокко), характер движения самого глаза, наличие напряжения между памятью, то есть накопленным опытом, и данным восприятием и т. д. Такой подход весьма продуктивен: восприятие начинает вырисовываться как определенная структура, психическая целостность, которая обусловливается как осо-' бенностями объекта, предмета восприятия (произведение искусства), так и отношением к нему субъекта. Но, повторяем, такой подход остается плодотворным только в рамках чисто психологического исследования. Когда же Арнхейм выходит за эти рамки и пытается распространить свои выводы на решение социальных проблем, его постигает неудача.
1 Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, стр. 81.
136
И это происходит не с одним Арнхеймом, а со всеми позитивистами, с теми, кто поступает подобным образом. То или иное направление в искусстве, тот или иной его стиль они рассматривают лишь как психологическую или психофизическую проблему. Здесь-то и оказывается, что одностороннего, внесоциального объяснения этих явлений явно недостаточно.
Феноменология
Феноменология сосредоточивается на изучении не столько внутреннего содержания, сколько его внешнего проявления. Сущность произведения искусства, согласно феноменологической эстетике, раскрывается через непосредственно воспринимаемые («слои». В литературном произведении это будут: звучания слов, их значения, предмет изображения и тот или иной вид, в котором этот предмет выражен.
«Слои» располагаются один над другим в той последовательности, в какой осуществляется процесс восприятия: сначала слух улавливает звучание слов, потом рассудок определяет их значение, затем внимание сосредоточивается на изображенном объекте и только в конце читатель начинает разбираться, как этот объект выражен — истинно или ложно, красиво или безобразно, художественно или нехудожественно и т. д.
Возможна ли такая последовательность событий в восприятии? Да, конечно. Но эта схема не отражает многих существенных сторон и ступеней его. Восприятие во многом зависит от воспринимающего субъекта — от его установки или ожидания, от содержательности его личности, от его неповторимого жизненного и эстетического опыта, ют его идеалов и предрассудков, даже от его настроений. Однако оно зависит и от самого произведения, которое кроме уже упомянутых «слоев» содержит в себе определенный мировоззренческий и эмоциональный смысл; на воспринимающего субъекта оказывает известное влияние личность художника, его жизнь, его известность, его стиль, манера письма; восприятие протекает в конкретной обстановке, в условиях, благоприятных или неблагоприятных. Соотношение между этими агентами всегда неустойчиво. От их значимости, силы, звучания зависит смещение фокуса
137
восприятия, которое в общем-то тяготеет к постижению цели, смысла, истины, то есть всего того, что находится «под слоями».
Феноменология утверждает, будто «слои» независимы от объективного смысла, они выражают не действительно сущее, изображенное, а нечто другое. Что же именно? Психическое состояние воспринимающего субъекта. Но если так, тогда выходит, будто, воспринимая произведение искусства, субъект создает его. Следовательно, «слои» суть не что иное, как феномены сознания, принадлежащие восприятию, которое соотносит их с произведением искусства. Этот вывод ничем не отличается от того, что утверждает интуитивизм и позитивизм. А между тем феноменология возникла как антитеза позитивизма.
Основатель' феноменологии Э. Гуссерль (1859— 1938), как уже отмечалось, подверг критике релятивистскую концепцию истины. Он нашел ее противоречивой и ложной. Гуссерль справедливо отметил, что суждение «истина не существует» равнозначно суждению «существует истина, что нет истины», бессмысленность которого очевидна.
Позитивистскому релятивизму, основанному на «данных опыта», Гуссерль противопоставляет логику, науку абстрактную и нормативную, в которой нет и не может быть произвольных «мнений», «воззрений», «точек зрения». «...Феноменологическое исследование, — писал он, — поскольку оно есть исследование сущности, то есть априорно в подлинном смысле слова, отдает полную дань всем правомерным мотивам априоризма» Г В другом месте Гуссерль подчеркивал, что психология исследует «эмпирическое сознание», то есть сознание, существующее в общей связи с природой, в то время как феноменология имеет дело с «чистым» сознанием, взятым вне, его связей с «материей фактов».
Итак, феноменология, если судить о ней по этим исходным данным, представляет собой объективный идеализм. Однако это такой объективный идеализм, который в пределах феноменологии то и дело превращается в идеализм субъективный. Происходит это в результате спекуляций вокруг понятия «феномены».
1 Э. Гуссерль, Философия, как строгая наука.— «Логос», кн. 1, М., 1911, стр. 36.
138
Согласно феноменологии процесс фиксации и анализа феноменов (явление) осуществляется в рамках наличного, данного опыта, в котором определяются границы не только человеческого сознания, но и бытия внешнего мира и его явлений. Поскольку значение, смысл феноменов определяется в опыте, то есть в пределах сознания, постольку сознание ничего не получает от внешнего мира, а потому о нем можно забыть. Признавая существование явлений, феноменология тем самым не сомневается и в существовании внешнего мира, но поскольку этот мир рассматривается лишь «в границах сознания», она выражает неуверенность в его существовании.
Феноменология «помещает» истину внутрь сознания, отрывая ее таким образом от действия, развивающегося между субъектом и объектом. С точки зрения феноменологии, чтобы знать, не надо производить воздействие на объект, достаточно его созерцать. Созерцание проникает «по ту сторону» явления — к сущности, очищенной от всего внешнего, от существования. Этот процесс Гуссерль назвал «идеацией», указывая, что сущностное бытие само по себе идеально. Вместе с тем Гуссерль отождествляет созерцание сущности с обычным восприятием какой-либо конкретной данности: «Когда мы интуитивно постигаем «цвет» с полной ясностью, в его полной данности, данное становится сущностью» Г
Все эти зигзаги мысли характеризуют феноменологию как разновидность в высшей степени софистической логистики. Гибкость феноменологических понятий такова, что ' совершенно невозможно определить ни их смысла, ни их значения. Чего стоят, например, утверждения: феномены следует брать так, как они «даются» (то есть как «текучее сознание», непосредственное и интуитивное), а не как они есть на самом деле; предмет сознания может быть и «фикцией» и «действительностью»; сознание может выступать в одно и то же время как нечто «мнимое» и как «имманентно предметное»; между фикцией и действителностью нет никакой разницы и т. д.
Уже отмечалось, что Гуссерль выступил против эмпиризма и релятивизма. Но софистическая мысль неиз-
* Э. Гуссерль, Философия, как строгая наука, стр. 28.
139
бежно приводит его «на круги своя». Он пишет: «...если теория познания хочет... исследовать проблемы отношения между сознанием и бытием, то она может иметь при этом в виду только бытие, как коррелат сознания, как то, что нами «обмыслено» сообразно со свойствами сознания: как воспринятое, воспомянутОе, ожидавшееся, сообразно представленное, сфантазированное, идентифицированное, различенное, взятое на веру, предположенное, оцененное и т. д.» Г
Выходит, таким образом, что сознание существует само по себе, находя |в бытии лишь возможность для самопроявления, лишь средство доказательства своей очевидности. Ну, а что же тогда представляет собой истина? Гуссерль дает следующее определение: «...истина есть идея, единичный случай, который есть актуальное переживание в очевидном суждении»1 2. Но если истина ставится в зависимость of каждого единичного случая «актуального переживания», то этим самым открывается возможность скрыть, развенчать, исказить, похоронить ее, чем, кстати сказать, и занимаются эмпиризм и релятивизм. Сам же Гуссерль еоединяет истину лишь с наукой. Искусство, по его мнению, обходится без истины, поскольку художник ib процессе творчества руководствуется исключительно внутренними побуждениями и даже в суждении (форма логического мышления) следует лишь собственному тонко развитому художественному чутью и такту. Искусство — интуитивно, эмоционально и уже поэтому неистинно. Эстетика, предметом которой является искусство, изучает только личные пристрастия и иллюзии.
Эти положения легли в основу феноменологической эстетики, которую ныне представляют М. Дюфрань, Р. Ингарден, Г. Морпурго-Тальябуэ и другие.
В качестве решающего условия существования эстетического объекта современные феноменологи выдвигают требование полной изоляции, абсолютной отрешенности субъекта от внешного мира. Более того, одно это условие автоматически превращает всякое созерцание в акт эстетического наслаждения объектом. Дюфрань пишет: «...я оказываюсь перед эстетическим объектом тотчас же, как только я проявляю безразличие к внеш¬
1 Э. Гуссерль, Философия, как строгая наука, стр. 13.
2 Э. Гуссерль, Логические исследования, Спб., 1909, стр. 165.
140
нему миру..., как только перестаю откликаться на его стимулы...» L Таким образом, эстетический объект не существует до опыта и вне опыта, потому что он слит с объективной действительностью, растворен в ней, тождествен ей; и если он обретает бытие, то только благодаря субъекту, вычленяющему, извлекающему его из внешнего мира с помощью созерцания. Поэтому всякий объект может стать эстетическим, но только в той степени, в какой позиция субъекта соответствует условию отрешенности. Дюфрань прямо заявляет: [«Эстетический объект появляется в мире, не принадлежа этому миру»1 2.
В чем же заключается, в таком случае, сущность искусства?
Феноменологи утверждают, что произведение искусства как эстетический объект ничем не отличается ог других объектов, а все они представляют собой оформленную материю. Материя и форма существуют, ибо они суть феномены, воспринимаемые субъектом. Следовательно, в искусстве проявляются две причины, два основания, два начала: материальное и формальное. Материальное начало живописи, например, состоит в том, что картина — это ‘«устойчивая» вещь, выполненная на стене, на картоне, на полотне, заключенная в раму, занимающая определенное место в пространстве наряду с другими вещами. Она реальна, но не потому, что образный строй ее адекватен объективной действительности, а в силу своего физического существования, в качестве определенного материала. Феноменология согласна только с тем, что физический материал произведения искусства (полотно, краски, деревянная рама) принадлежит природе и подчиняется ее законам. Что же касается собственно живописи, то для нее не существует никакого закона (ибо нет закона для фантазии). «Способ эстетического бытия живописи заключается в том, — свидетельствует Жильсон, — что она включается в опыт, в котором ее воспринимают как произведение искусства»3. Этому опыту присущ только тот «порядок», который доставляет наслаждение благодаря своей «чистоте», своей незаинтересованности, своей беспредпосы-
1 М. Dufrenne, Phenomenologie de l’experience esthetique, vol. ■I, Pane, 1953, p. 44.
2 I b i d„ p. 199.
3 E. Gilson, Peinture et realite, Paris, 1958, p. 24.
14)1
лочиости. «Вступить в мир объектов, функция которых заключается в том, чтобы нравиться глазам, — разъясняет свою мысль Жильсон, — это вступить в контакт с порядком чистой живописной красоты» 1.
Сущность искусства сводится, таким образом, к «чистой» красоте, которая оказывается... формой как таковой. Форма произведения искусства многослойна. Первый слой — непосредственно воспринимаемый, технический (слово — в поэзии, цвет — в живописи и т. д.), последний — духовный, неосязаемый. Природа этих слоев интенциональна. Они возникают и появляются перед взором субъекта в процессе реализации им своих намерений и установок.
Итак, все дело ib форме. Что же касается «вещественности» произведения искусства, то его «бытийная основа» не имеет для зрителя никакого значения; по понятиям феноменалистов, она даже не... является необходимой для процесса эстетического переживания. Решающее в этом переживании — напряжение как таковое. Если, созерцая, субъект возбуждается, если возбуждение превращается в определенную форму влюбленности (эроса), если его охватывает жажда обладания и стремление насытиться тем или иным качеством объекта,—значит, этот объект становится, эстетическим. Получается, что искусство всегда свидетельствует о самом себе и раскрывает принцип своего собственного построения лишь в созерцании его субъектом.
Что же касается вопроса об истинности искусства, то новое поколение феноменологов вернулось к тому самому объективизму, против которого первоначально выступил Гуссерль, отец феноменологии.
Дюфрань, например, считает, что произведение искусства можно назвать истинным, но эта истинность проявляется или в «хорошей форме», удовлетворяющей полноте восприятия, или в аутентичности его техническим возможностям и духовным запросам художника. Что же касается соответствия произведения искусства объективной реальности, то такая истинность будто бы направляет искусство по ложному пути, поскольку ориентирует его на изобразительность 1 2.
1 Е. G i 1 s о n, Peinture et realdte, р. 225.
2 М. Dufrenne, Phenomenologde de l’experience esthetique, vol. II, Paris, 1953, p. 616.
142
Да и сама объективная реальность истолковывается Дюфранем субъективистски. Он рассматривает такие понятия, как «мир», «универе», «природа», и дает им следующие определения: Мир — это реальность, упорядоченная воспринимающим ее индивидуальным сознанием, но обладающая известным значением, поскольку она включается в переживание отдельного существа. Мир есть поле деятельности субъекта, его горизонт. Универе — это мир, неопределенность которого пережита как расширение воспринятого и прочувствованного. Природа — это в одно и то же время мир и универе. Более того: природа — реальность, взятая в ее возможности, в способности к становлению. Это неисчерпыва- емая реальность, пребывающая в «себе», превращающаяся ib реальность «для себя». А потому природа — временна. Причем ее временность раскрывается только в восприятии.
Природа направляется в своем временном существовании к человеку. Ее мощь проявляется в выражении самой себя, но мощь слепа без человека и сущность природы остается в этом случае неопределенной. В человеке природа приходит к самосознанию: «Природа становится миром посредством человека, ее временность благодаря этому становится историей. Ей принадлежит инициатива в этих превращениях, поскольку она порождает человека, благодаря которому она осуществляет самое себя» 1.
Итак, природное бытие завершается в восприятии человека, а человек как результат становления природы проявляет себя постольку, поскольку он воспринимает природу. Так образуется замкнутый круг «человек— природа», субстанцию которого следует искать в отношении человека к природе, то есть в его сознании.
Нынешние феноменологи проводят еще более резкую грань между наукой и искусством, отрицая в нем какие бы то ни было познавательные функции или гносеологические моменты, и выявляют, по словам Н. Гартмана, всю глубину «противоположности между художественным и познавательным актом»1 2.
1 М. D u f г е n n е, La poetique, Paris, 1963, р 164.
2 Н. Гартман, Эстетика, М , Изд-во иностранной литературы, 1958, стр. 14.
143
Правда, понятия «истина», «истинность» то и дело попадаются ib сочинениях феноменологов. Но какое содержание в них вложено? Ингарден, например, подчеркивает многозначность этих понятий. Истинность — это логическая непротиворечивость; верность предмета, данного в произведении искусства, предмету внеху- дожественного порядка; последовательность характера предмета; независимость бытия произведения искусства от предмета, представленного в , нем; совершенство воплощения; соответствие средств изображения изображаемому предмету; единство ансамбля качественных моментов; искренность художника; зрелость произведения искусства; подлинность самовыражения художника.
Так Ингарден протокольно, без разбора, без анализа фиксирует различные воззрения и высказывания об истинности. Все эти определения подходящи для него. Каждое из них в отдельности выражает релятивистскую обособленность субъективного мнения. А взятые все вместе, они ни о чем не говорят, ибо противоречат друг другу. Это и есть модернизм. Но модернизм вполне устраивает феноменологию. Еще бы. Для феноменологии искусство — иллюзорно. А для модернистов иллюзия и истина суть одно и то же.
Экзистенциализм
Экзистенциализм — это тоже попытка преодолеть релятивизм. Именно поэтому мы встречаемся в нем с абсолютизацией понятий: «человек», «ничто», «сущность», «существование» и др. Он уходит своими корнями в философию С. Кьеркегора (1813-1855) и феноменологию Э. Гуссерля. Поэтому его постигает судьба предшественников: он растворяется в релятивизме.
Кьеркегор сводит понятие существования к беспорядочной смене переживаний, настроений, безотчетных поступков, обособляющихся во временном потоке бытия, где человек раскрывается то как эстетическая, то как этическая, то как религиозная сущность.
«Эстетический человек», по определению Кьеркегора, живет в мгновении, жадно схватывая его и наслаждаясь им на лету. Наслаждение не дает ему возможности остановиться, и это позволяет свободно отдаваться каждому последующему мгновению.
144
«Этический человек», наоборот, живет в самом временном потоке. Он устанавливает внутренние связи между отдельными моментами бытия. Это требует от него напряжения, труда, воли, борьбы.
«Религиозный человек» стремится к вечности. Он пребывает в потоке времени, постоянно вступающем в конфликт с его истинным «я», которое раскрывается только по ту сторону бытия, в смерти.
Цель человеческой жизни лежит впереди, в будущем, но, чтобы понять жизнь, человек вынужден оглядываться назад, в прошлое. Ввиду этого противоречия само познание оказывается не только бессмысленным, но и невозможным (как познать то, чего уже нет? как включить познанное в будущий опыт, если его еще нет?). Кьеркегор приходит к выводу; «Познания истины— нет»1. Пессимистический вывод объясняется тем, что человеку, существу «нелепому», приходится искать содержание своей жизни, полноту своего сознания, свою настоящую сущность не в себе, а вне себя. Свое несчастье человек неизменно видит в самом факте существования объективного мира. Поэтому оно, несчастье, неизбывно.
Если человеку не дано познать истину, если он оказывается пленником объективного мира, то ему остается одно — «выбирать самого себя», быть одиноким, существовать наедине со своей истиной: эстетической, этической или религиозной. Именно эти положения наряду с феноменологической концепцией истины («актуальное переживание») лежат в основе эстетики экзистенциализма.
Экзистенциализм не исследует законов физической реальности, его интересует драматическая сторона опыта, осуществляемого индивидом в себе и для себя, который стремится придать абсолютное значение своей «субъективной истине». Кстати, этот драматизм более ярко и сильно выражен во французском экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, Симона де Бовуар, А. Камю); эстетика немецкого экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдеггер) более формализована.
Основное эстетическое произведение Хайдеггера «Происхождение произведений искусства» представля-
1 С. Кьеркегор, Несчастнейший.— «Северные сборники», кн. 4, Спб., 1908, стр. 51.
б О модернизме
14R
ёт собой переработанный доклад, 'Прочитанный автором 13 ноября 1935 года, то есть в пору «триумфа» нацистской идеологии.
Исходный тезис этого труда звучит так: «Происхождение чего-либо есть происхождение его сущности»!. По обычным представлениям, рассуждает Хайдеггер, произведение искусства возникает благодаря деятельности художника. А деятельность художника ставится в связь с созданием произведений искусства. Если развить это мнение до его логического завершения, то нужно признать, что художник и произведение искусства существуют «в себе» и представляют собой замкнутые сущности. Но они не существуют одно без другого. Нерасторжимость их связи проявляется в чем-то общем, первичном, благодаря чему и художник и произведение искусства получают свое бытие и наименование. Такой первичной сущностью является искусство. Оно-то и выступает как субстанция маличного бытия художника и произведения искусства. «Даже если слово «искусство» означает нечто большее, чем всеобщее представление, можно подумать, что основа его существования заключается в произведениях искусства и художниках. Но разве дело не обстоит наоборот? Не существуют ли произведение искусства и художник лишь постольку, поскольку искусство является их источником?» 1 2
Эта субстанция, по Хайдеггеру, существует нигде. Она представляет собой лишь слово, которому ничто не соответствует. Иначе говоря, это — идеальная сущность, в материальной действительности нельзя обнаружить ни одного ее признака. Тем не менее она проявляет себя через материю, непосредственно данную в опыте — в вещественности произведений искусства. «С произведением искусства, — рассуждает Хайдеггер,— обращаются как с вещью. Оно висит на стене так же, как охотничье ружье, как шляпа. Оно кочует с одной выставки на другую. Произведения искусства перевозят так же, как уголь из Рейнской области. Бет- ховенские квартеты лежат и а складе издательств, как картофель в погребе»3.
1 М. Heidegger, Der Ursprung des Kunsitwerkes, Stuttgard, 1960, S. 7.
2 Ibfid., S. 8.
3 I b« d., S. 9—10.
146
Подобного рода сравнения едва ли в состоянии что- либо выяснить в специфике искусства. Оно, таким образом, лишь растворяется в безбрежности внешнего бытия. Но Хайдеггера это не смущает. Легко пройдя путь от понятия «искусство» к понятию «вещь», он теперь торопится ответить на вопрос, что же такое вещь. Увы, ответ опять такой же неопределенный, как и предыдущий: «Чистая вещь — это, например, этот гранитный блок. Он — твердый, тяжелый, огромный, массивный, бесформенный, шероховатый, имеет цвет, местами— матовый, местами — с блеском... Все эти приметы мыслятся нам такими, как будто они присущи самому камню. Вещь обладает ими. Вещь ли?»1
Хайдеггер безуспешно пытается выйти из очередного тупика, в который заходит его мысль. Вещь, утверждает он, есть то, вокруг чего собираются ее свойства. А свойства, что вполне естественно, собираются вокруг субстанции, в роли которой выступает материя,— ведь гранитный блок есть конкретное проявление материи.
Но Хайдеггер усматривает субстанцию вещи не в материи, а в «вещности». Исходя из этого представления он продолжает: субстанция произведения искусства— искусство; с произведением искусства обращаются так же, как с обыденной вещью; субстанция вещи — вещность. Следовательно, в искусстве должна проявляться вещность как нечто субстанциональное, онтологическое, первичное. Картина В. Ван Гога открывает перед нами то, что в действительности представляют собой вещи, пара крестьянских башмаков. Их бытие, их субстанция (вещность) переходят в свою открытость. Это и есть истина, правда. «Когда открывается бытие происходящего, — что и как оно есть, — заключает Хайдеггер,— это и есть правда»1 2.
Экзистенциалисту словно невдомек: вещь, изображенная художником так, что зритель воспринимает только ее «вещность» (вернее, ее наружность — твердость, массивность, очертания, цвет, его тональность и т. д.), не может называться произведением искусства, ибо это будет как раз тот случай, о котором говорил В. Гёте: натурально нарисованный мопс является дока¬
1 М. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, S. 14.
2 Ibid., S. 32.
6*
HU
зательством того, что в мире прибавился еще один мопс, но отнюдь не того, будто в нем появилось еще одно произведение искусства.
Грубо натуралистическая имитация «вещности» сродни официальной эстетической доктрине гитлеровского рейха, которая, с одной стороны, воскрешает националистический романтизм с его культом грубой силы, с его девизом «кровь и земля», с другой же стороны— формализует искусство, противопоставляя материал произведения его истинности, требуя от искусства, чтобы оно, как внутренне согласованная система, открывало свой способ бытия вещности и тем самым умалчивало о подлинной, жизненной сущности. По мнению Хайдеггера, истина в искусстве — искусственное создание. Она принадлежит такому существованию, «какого перед этим еще не было и никогда больше не будет» 1.
Итак, истинное приравнивается к искусственному. Подлинным считается только переживание. Но и оно превращается в свою противоположность: «...переживание— это и есть тот элемент, — пишет Хайдеггер,— в котором искусство умирает»1 2. Если в эмоции оканчивается бытие искусства, то, может быть, в мысли оно возрождается для бессмертия? Существуют же произведения, над которыми время бессильно! Эта возможность пугает Хайдеггера. Он спешит поставить вопрос: «Какой страх сегодня сильнее, чем тот, который возникает перед мыслью?»3
Разумеется, все эти утверждения и вопросы ровно ничего не стоят, ибо за ними скрывается страх перед мыслью, перед истиной, обращенной к жизни, к реальности, к народу.
Виднейший представитель французского экзистенциализма Ж.-П. Сартр очень непоследователен, как непоследователен, в общем, весь французский экзистенциализм.
Сартр исходит из признания того, что есть два вида существования, каждое из которых резко отличается от другого своими особенностями: это — субъект и объект, сознание и бытие, ум и тело, идеальное и мате-
1 М. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, S. 69.
2 Ibid., S. 91.
3 J b i d.
148
риальное. Как же они соотносятся друг с другом, вовлекаясь в то или иное событие?
По мнению Сартра, в решении данного вопроса есть две метафизические крайности — материалистическая и идеалистическая. Материализм отрицает определение «реальное», относящееся к сознанию, идеализм отрицает определение «реальное», относящееся к материи. Сартр пытается встать над этими крайностями. Он ищет третье решение.
Предшествующим «сознанию состоянием и объектом, к которому оно устремляется, является неосознанное бытие, существующее до сознания и независимо от него (выдвигая это положение, Сартр справедливо называет себя реалистом). Неосознанное бытие — это «в- себе-бытие». Оно равнодушно к различию и отрицанию. В нем нет напряженности. У него нет истории. Относительно него, утверждает Сартр, можно сказать только то, что оно может быть воспринимаемо. Это — мир феноменов. За ним нет никакой сущности, которая в состоянии себя обнаружить, Постигнутое в-себе-бытие превращается в человеческое сознание или для-себя- бытие. Для-себя-бытие появляется из в-себё-бытия спонтанно. Именно поэтому оно только и может называться реальностью. (Выдвигая это положение, Сартр полностью отходит от реализма.)
Итак, для Сартра реальным значением обладает только сознание. Оно свободно определяет самое себя, оно постулирует существование своего объекта. Но в то же время оно не есть ни субстанция, ни надмировая личность, ни вещь. Оно известно, как известен живой опыт, принадлежащий субъекту. Отсюда следует, что сознание есть не что иное, как самосознание субъекта, выраженное спонтанно, то есть стихийно, интуитивно, в акте самопроявления.
Особенность сартровской гносеологии заключается в том, что «он постоянно переводит сознание как феномен естественно-исторический, безличный, спонтанный в план личной деятельности, которая сводится у индивида или к нерефлектированному (вначале) или к рефлек- тированному («нечистая совесть» воли) выбору бытия. Выбирая свое бытие, сознание тем самым выступает как причина самого себя, оно творит самое себя из себя, а по сути дела, из... ничего. А раз так, то, значит, оно и не соотносится в творческом акте с предметным М9
миром. Отношение сознания к объективному миру всегда выступает как отрицательная данность.
Сартр развертывает сложную систему доказательств того, что сознание представляет собой негативную деятельность. Сознание проявляет себя в акте восприятия, направленном на реальный объект, который выходит за пределы сознания и похож этим на другие объекты. По завершении восприятия у человека остается образ объекта, замкнутый на этот раз в пределы сознания. Так объект в процессе осознания его переходит из реального существования в воображаемое, нереальное. Типичный случай такого призрачного существования воплощается в эстетическом объекте. По Сартру, он не обладает бытием ни вещи, ни изображения. Это — воображаемый объект. Он создается сознанием, которое утверждает его как нечто ирреальное, — ведь сознание обладает неограниченной свободой и возможностью выходить за пределы реального, опережать и превышать его.
Воображение творит объект посредством отрицания объекта. Воображение может постулировать существование своего объекта различными способами: как будто он не существует, как будто он отсутствует, как будто он существует где-либо в другой ситуации. Воображение вообще может и не требовать какого-либо существования, — во всех этих случаях оно включает в себя элемент отрицания, который и определяет сущность самого воображения.
Сартр увлекается сугубо формальным анализом мышления и его образований: суждений, умозаключений, вопросительных предложений и т. д., и приходит к выводу, что становление для-себя-бытия (то есть сознания) представляет собой вместе с тем' процесс становления не-бытия. Когда я спрашиваю, утверждает Сартр, «Петр в библиотеке?», то уже сам вопрос подразумевает мое незнание, то есть не-бытие моего знания. Если ответ на этот вопрос будет негативным («Петра нет в библиотеке»),— это также свидетельствует о не-бытии. Если ответ будет утвердительный («Петр в библиотеке»),— тут опять-таки проявляется не-бытие (раз Петр в библиотеке, значит дома его нет).
Конечно, мышление — это избирательный процесс (уже поэтому оно предполагает момент отрицания): оно ориентировано на одни и поэтому не ориентирова-
150
но на другие объекты. О,но постигает отдельные (но не ©се сразу) стороны и свойства их и т. д. Однако, мысля, человек познает действительность, приспосабливается к ней, овладевает ею, то есть совершает позитивное действие, утверждает свое бытие. Сартр же, акцентируя внимание только на негативных ходах мышления, приходит к парадоксальному заключению: мысля, человек ■погружается в не-бытие.
iK тому же он подчеркивает: отрицать, разрушать может только человек (не совсем так). Его бытие — хрупко, непрочно, «если несет в себе возможность, определяемую как не-бытие» !.
Непрочность вносится в бытие самим человеком, ибо его индивидуальное существование ограничено. В данном, в этом, бытии возникает постоянная возможность не-бытия. Именно она выступает в качестве меры человеческой свободы. «Свобода,— утверждает Сартр,— это человеческое бытие, выделяющее не-бытие»1 2.
Какую же форму принимает у человека сознание свободы? Оказывается, он черпает сознание своей свободы в'ужасе; ужас — это способ бытия свободы, это — сознание бытия.
По мнению Сартра, в негативные тона окрашиваются не только мышление, не только бытие человека, но и его идеалы. Например, человек устремляется к красоте, выражающей идеальное состояние мира, в котором сущность и существование вещей идентичны их бытию в-се- бе. Однако чувство красоты обнаруживается у него вследствие... недостатка красоты. Человек преследует прекрасное как нечто неосуществимое. «Но в той мере, в какой человек осуществляет красоту, он делает это с помощью воображения»3. Следовательно, красота— это только иллюзия, фикция.
Сартр подчеркивает немало негативных аспектов человеческого сознания и бытия, считая, что в них нужно искать источник трагедии человеческого существования, причем трагедии безысходной, всеобъемлющей, абсолютной. Гак пессимистически разрешается Сартром вопрос о соотношении сознания и бытия. Философу не
1 J.-P. Sartre, L’etre et le neante. Essai d’ontologie phenome- nologique, Paris, 1943, p. 43.
2 I b i d„ p. 65.
3 I b i d., p. 245.
iai
удалось (как никому еще не удавалось) подняться над ■материализмом и идеализмом. Он стоит на позициях субъективизма.
Рассмотренная здесь концепция изложена Сартром и его основном философском труде «Бытие ничто», изданном в 1943 году в период оккупации Франции. Эта ситуация наложила известный отпечаток на взгляды Сартра (санкционировала его «бунт» против объективной данности). Однако неправильно было 'бы категории сартровской гносеологии «привязывать» к конкретным историческим ситуациям настолько, чтобы не видеть за ними борьбы партий в философии. Поступать так — значит возрождать в преобразованном виде печальной памяти шулятиковщину. Между тем попытки такого рода конкретизации философских категорий, к сожалению, имеют место в нашей литературе. Так, Э. Соловьев пишет, например: «Если категория «бытия-в-себе» в конкретных условиях 1942 года представляла собой запрет, наложенный на капитулянтские увещевания, то категория «бытия-для-себя» явилась санкцией стихийного и безрассудного протеста «безумства храбрых», без которого французское Сопротивление тех лет было просто немыслимо» !.
Это высказывание содержит в себе некоторое искажение исторической истины. Да, Сартр — участник Сопротивления. Но не экзистенциализм был знаменем и философским выражением этого народного, массового движения. Это движение организовывали и цементировали коммунисты.
Однако вернемся к Сартру. Он противоречив. Его теория оправдывает нигилизм, нагнетает ужас, «пугает». Непосредственное же восприятие действительности, отраженное в его художественном творчестве, свободно от мотивов гибельного исхода, ибо в этом восприятии выражается страсть художника к жизни. «(Всякая человеческая реальность — это страсть»1 2 — пишет Сартр. В книге «Что такое литература?» (1954) он утверждает: функция художника заключается не в том, чтобы созерцать, а в том, чтобы действовать, но действовать так, чтобы каждый был осведомлен об окружающем его ми¬
1 Э. Ю. Соловьев, Экзистенциализм (Историко-критический очерк).— «Вопросы философии», 1967, № 1, стр. 133.
2 J.-P. Sartre, L’6tre et le neante, p. 708.
152
ре, чтобы никто не мог сказать, что он не ответствен за то, что происходит в нем. Это хорошие слова. Однако сам же Сартр сводит их общественное значение на нет.
Са'ртр ставит вопрос о «вовлеченности» художника в исторический процео, но его интересует не столько этот объективный процесс, его исход, сколько судьба индивидуального сознания, отчужденного от действительности. Поэтому его персонажи, как правило, отрицательны. К тому же Сартр избегает смотреть на их характеры и поступки с точки зрения объективно развертывающихся общественных отношений, онсизбегает каких-либо оценок, полагая, будто в романе, как и в «мире Эйнштейна», нет привилегированного наблюдателя.
Какой же смысл в таком случае приобретает социальная «вовлеченность» художника? Чисто эстетический. Так как слово художника — это и есть его действие и в то же время суть вещей.
Ставя слова на место вещей, художник, конечно же, ничего не может изменить в объективной действительности. Отсюда проистекает эстетический пессимизм Сартра: «Я долто принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии» !.
Эти мотивы свойственны и другим французским экзистенциалистам. Иногда они наносят удары обществу торговцев материальными и моральными ценностями; доктрина «искусство для искусства», порождающая искусственное искусство, кажется им нелепой. Тем не менее их ‘«бунт», их «поиск», их «выбор» всегда иррационален. Он совершается как проявление интенционального конституирования мира субъектом, заранее знающим о том, что мир абсурден.
Экзистенциалист стремится ' подняться над миром, преодолеть те крайности, которые он обнаруживает в «для-себя-бытии», но присущая его собственному сознанию недостаточность каждый раз возвращает его на исходные позиции. И он начинает опять все сначала, как Сизиф. Собственно, «Миф о Сизифе» А. Камю — это и есть рассказ о судьбе самого экзистенциализма.
И в художественом творчестве и в эстетической теории Камю исходит из признания того, что основная философская проблема заключается не в том; чтобы
’Жан-Поль Сартр, Слова, М., «Прогресс», 1966, стр. 173.
153
выяснять природу (реальности или природу сознания (он таким образом 'снимает (вопрос о характере отношения сознания и реальности, о его адекватности), но ib том, чтобы исследовать жизнь реальности и сознания, их существования, их экзистенции.
Концепцию экзистенциального бытия Камю воплощает в образе Мерсо, героя повести «(Посторонний». Прослеженный автором кусок его существования отмечен событиями: похороны матери, умершей в доме призрения, встреча о Мари, безделье и скука выходного дня, встречи с соседом по квартире, стариком Саломано и его собакой, размышления о них, дружба с сутенером Раймоном; убийство араба на пляже, следствие, суд, ожидание казни и разговор со священником на метафизическую тему.
В каждой из этих ситуаций раскрывается глубоко безразличное отношение Мерсо к внешнему миру, который постигается им сначала в обыденных, непосредственно данных ощущениях, а потом — ,в метафизических размышлениях. Рассмотрим некоторые из этих ситуаций.
Известие о смерти матери вовсе не потрясло Мерсо. Его сознание фиксирует этот факт с подкупающей искренностью: «Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Матушка скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, что и вчера»
Если вчера — значит, похороны сегодня. Если сегодня—значит, похороны завтра. Но какая разница? Все равно конец один. Мерсо беспокоит только то, какие трудности ему пришлось преодолеть в связи с известием: неприятный разговор с патроном насчет отпуска; поездка автобусом в Маренго (трясло и воняло бензином); завтрак в ресторане Селеста, где ему выразили сочувствие: «Мать-то у человека одна»; жара.
Мерсо раздражен оттого, что кто-то пытался выразить ненужное сочувствие, кто-то интересовался его интимными переживаниями. Однако интересовались все, с кем е/му довелось встретиться: Селест, Мари, обитатели богадельни, даже Раймон, не говоря уже о следователе, прокуроре и других. Таков этот «абсурдный мир».
Вынужденный сидеть у гроба матушки в присутствии ее друзей, Мерсо заметил только то, насколько они
1 «Иностранная литература», 1968, № 9, стр. 117.
154
безобразны: у старух -большие животы, у мужчин — худоба; у тех и других морщины, из-З'а которых не видно глаз; беззубые, запавшие :рты; трясущиеся головы; такой кашель, как будто что-то разрывалось у них внутри. Здороваясь с ним, они наклоняли головы, а Мерсо показалось, будто -этим движением они осуждают его-.
Мерсо испытывает к ним чувство неприязни только потому, что оказался «виновником» этого события; они как будто возлагали на него моральную ответственность за случившееся, хотя об этом никто даже не обмолвился. Подчеркивая свою независимость от чьего бы то ни было мнения и свою невозмутимость, Мерсо пьет кофе, выкуривает сигарету и вообще не интересуется тем, кто находится в гробу.
На следующий день после похорон Мерсо. почувствовал себя одиноким. (Ла он и в самом деле остался один: смерть матери положила конец всем воспоминаниям о семье.) Но... Мерсо чувствует себя затерянным между синевой неба и навязчивой чернотой вокруг вовсе не от нахлынувших воспоминаний о потерях. Нет, его оглушают лишь стихии внешнего мира: солнце, запах кожи и конского навоза, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи. Только они, эти ощущения, из которых Мерсо конструирует свое «я», имеют для него значение.
Весь Мерсо — это только плоть и ее ощущения. Вот как он воспринимает свою подругу Мари: в кино — «...нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне»1. Через неделю — «...приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел»1 2; на вопрос Мари: «Ты меня любишь?» Мерсо отвечает: «Это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю»3. -Нет, Мерсо не терзается сомнениями, как Гамлет, не безумствует, как Отелло, не служит даме сердца, как Дон-Кихот, и не бросает вызов звездам, как Ромео. Ожидая казни, он думает о Мари: «...наши тела теперь врозь, а больше ничто нас не связывало и не напоминало друг о друге»4.
1 «Иностранная литература», 1968, № 9, стр. 124.
2 Т а м же, стр. 129.
3 Т а м же, стр. 130.
4 Т а м же, стр. 160.
155
Да, дух Мерсо прибит к земле, привязан к инстинкту, он томится под бременем плоти. Потому Мерсо не размышляет. Он только фиксирует свои состояния. Потому он неразборчив в выборе средств (ведь всякий выбор 'предполагает размышление). Когда Раймон раскрыл перед ним свой план (он напишет своей любовнице письмо, в котором «даст ей по- морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с -ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон») !, Мерсо, не долго думая («в сущности отчего бы и -не постараться?»), согласился стать соучастником этой мерзкой мести.
В мировой литературе есть не так уж много страниц, где женщины |(мать и возлюбленные) были бы так осквернены, как это имеет место в повести Камю.
Дикую расправу над жертвой Раймона Мерсо наблюдал вместе с Мари. -Вот эта сцена: «Женщина вое кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала— какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал — не люблю полицейских»1 2. (Так у Мерсо впервые пробудилось чувство социального протеста.) После этой сцены Мари и Ме-рсо опять принялись готовить завтрак. Но Мари не хотелось есть, и Мерсо все съел один.
Сцены жестокости и гастрономические ощущения бессмысленно чередуются в общем потоке экзистенциалистского бытия. Это происходит от полного равнодушия Мерсо к несчастью другого человека. Он даже не заинтересовался личностью жертвы Раймона. Она для него просто мавританка. А брат, вставший на защиту ее чести, просто араб.
К французам Мерсо не был так безразличен, как к арабам. О своей жертве — о брате мавританки — он подумал на пляже: в него можно стрелять, но- можно и не -стрелять, какая разница. Но солнце жгло, ломило лоб, в висках -стучало, море испустило тяжелый вздох — и Мерсо выстрелил. Выстрел принес облегчение. И тут же Мерсо подумал, но не о случившемся, а о себе: «Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где совсем недавно мне было так хорошо» 3.
1 «Иностранная литература», 1968, № 9, стр. 130.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 139.
156
Так в жизни Мерсо кончился период, в котором были «ар-яду с неприятными приятные ощущения, и начался -период одних неприятных. Теперь жизнь полностью раскрыла перед «им свою «абсурдную сущность». Следователь, адвокат, председатель суда, прокурор, священник ставят перед ним один и тот же навязчивый вопрос: почему он убил человека? Для Мерсо нет такого вопроса. Его волнует только то, что его не -слушают, что его дело разбирают помимо него самого, что все происходит без его участия и т. д. Да, это так и есть. Но дело тут не только в том, что «представители закона» глупцы и лицемеры, не интересующиеся личностью подсудимого. Они, как и Мерсо, принадлежат к одному и тому же «отчужденному» миру; точно так же, как для Мерсо, для них не существует альтернативы: казнить Мерсо или сохранить ему жизнь. -Не все ли равно? Мерсо для них посторонний. Но и они для Мерсо посторонние. Именно это открытие и «взрывает» его. Это случилось во время беседы со священником. Мерсо излагает свое кредо: «...я уверен, что жив и что скоро ум-ру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет... Я прав и теперь и -прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что?»1 (Так второй раз у Мерсо пробудилось чувство социального протеста.)
Что «и слово в этой истерической исповеди, то банальность: я всегда прав, а мир непра-в, потому что я к нему безразличен. Какая логика! Сколько самомнения и отчаяния! Сколько энергии и анархического отрицания! Но тут же Мерсо разъясняет: я всегда прав, потому что у -меня своя судьба, а у мира—-своя. Вот оно что! Знакомый тезис: мир враждебен мне, потому что может обойтись без меня. Мерсо отвергает бога, но верит в судь-бу. Его судьб-а— это -и есть -объективный -мир, к которому он равнодушен. Спрашивается, зачем тогда весь этот -фарс? Нет, Мерсо не хочет менять этот мир, где ему иногда бывает так хорошо.
Таково экзиотециалистское бытие: это бунт маленьких, ничтожных, пошлых и порочных людей против «высоких слов»: долг, ответственность, любовь, общество, будущее, бог и т. д. Эти слова воплощают в себе что-то внешнее, постороннее. Они мешают «ловить мгновенья»
«Иностранная литература», 1968, № 9, стр. 162.
157
и жить в настоящем. Они влекут в неизвестность. А К тому же их произносят ханжи и ничтожества. Именно такой подтекст улавливается в исповеди Мерсо.
Философская интерпретация этого умонастроения оводится к тому, что все внешнее (объективная реальность) не заслуживает внимания так же, как и общее, принадлежащее всем, сознание. Истина — в каждом из нас, в нашем 'существовании, которое есть бунт. Бунт против внешнего, поскольку оно существует объективно.
Эта философия положена и в основу эстетических взглядов Камю, выраженных им сперва в эссе «Бунт в искусстве», а затем в знаменитой речи, произнесенной при получении Нобелевской премии.
Художественное творчество, .по мнению Камю, это, как и сама жизнь, по преимуществу «абсурдная игра», а искусство в целом выраждет мятежное сознание неповторимых индивидуалистов-художников. Камю начинает со ссылки на .Ницше: художник нетерпим к реальности. Но тут же уточняет свою позицию: «Художественное творчество проистекает из желания слиться с миром и отвергнуть его. Оно отвергает мир из-за его недостатков во имя того, каким он иногда бывает» !.
Да, мир иногда бывдет приятным (во имя этого ощущения и выдвигается метафизическое желание слияния о миром), а всякая перемена мира рискованна; она может нести с собой неприятные ощущения. Бот почему экзистенциалист отвергает всякие идеи о революционном преобразовании мира. Но прежде, чем это сделать, Камю объявляет: вое революции враждебны искусству. Он пишет, будто Французская революция 1789 года не произвела ни одного художника (за исключением, конечно, писателя де Сада), а что касается русских революционеров, то они отвергли эстетические ценности, заменив их прагматическими ^Писарев воскликнул: «Я скорее хотел бы быть русским сапожником, чем русским Рафаэлем»), К. Маркс же утверждал, будто искусство одерживает рациональную деятельность общества, и т. д. и т. л.
Сведения Камю в этой области поистине поразительны!
Нет, Камю, безусловно, артист. Всем своим существом он чувствовал, что от него ждет публика. А буржу-
(Perspectives in Aesthetics», New York, 1967, p. 437.
158
азная .публика ждала от него, чтобы он показал конфликт между революцией и искусством, и Камю показывал. Он не только показывал «конфликт», но и прибавлял к этой картине еще кое-что. Он намекал, что настоящая революция, революция в «чистом виде», совершается только с помощью искусства и только в искусстве. Отсюда тезис, будто только искусство способно нарисовать «окончательную перспективу человеческого бунта». Эта формула — искусство по природе своей мятежно— ко многому обязывала Камю. Поэтому он не стремился к ее логическому завершению, он отступал, заявляя: «большое искусство» — это стиль, а «большой стиль» — это неразличимая стилизация...»1. С этим определением искусства мы уже встречались: оно принадлежит многим модернистам.
Да, Камю владел приемом стилизации, но в то же время он пытался быть и самим собой.
У Камю хватает здравого смысла и логики, чтобы с иронией отнестись к некоторым модернистским течениям и отвергнуть формалистическое, абстрактное экспериментирование, вызванное, по его мнению, ненавистью к искусству, присущей обществу торговцев и его художникам.
Ход мысли Камю примерно таков. Общество торговцев требует от художника, чтобы искусство стало простым развлечением. Художник может согласиться с этим требованием или отвергнуть его. Но какой бы выбор он ни сделал, результат будет один. В обществе, безразличном к искусству, появляются развлекатели или грамматисты формы, создающие искусство, оторванное от жизни. Общество торговцев поощряет такую свободу—свободу от разрешения серьезных социальных проблем и от серьезного социального искусства. Причем оно же использует эту свободу в качестве орудия гнета.
Отказываясь от всего, даже от традиций собственного искусства, «нейтральный» художник создает себе иллюзию, будто он — сам себе закон. Он воображает себя создателем, демиургом, творящим свою собственную реальность. Однако, оторванный от общества, он создает лишь абстрактные произведения, забавные, но лишенные плодородия настоящего искусства, призванного объединить людей.
1 «Perspectives in Aesthetics», р. 446.
169
Высказав много здравых суждений о модернизме, Камю все же 'оставался среди модернистов. 'Свой анти- формализм он обычно уравновешивал с помощью анти- реализма, доказывая тем самым, что в обществе торговцев даже независимые суждения облагаются данью.
Какие же доводы приводит Камю против реализма? Увы, самые банальные.
Здесь и утверждение, будто вернуться к реализму невозможно, поскольку это было бы равносильно попытке двигать «машину времени» вспять; и спекуляции, основанные на аналогии между фотографией и живописью (фотография воспроизводит, живопись выбирает); и «доказательство» того, что реализм в принципе невозможен. Почему невозможен? 'Реализм представляется Камю в виде абсолютно точного и всеохватывающего копирования действительности. Чтобы стать реалистом, художнику необходимо изобрести идеальную камеру, которая, будучи день и ночь направленной на данного человека, беспрерывно фиксирует малейшие его движения. ‘Отсюда следует вывод, будто возможен только один-единственный реалистический фильм, тот самый, который бог показывает (если он существует) на экране мира. Другими словами, реалистический фильм — это сама действительность. Что же касается искусства, то ему приходится отказаться от верности действительности, от правды, от истины. Художник выбирав! и уже по одному этому не может быть объективным.
Что же, опять перед нами старая формула: «искусство— это ложь»! Правда, Камю не решается повторить ее. Но в итоге юн дает ответ, очень похожий на ложь. Уже отмечалось, что он рассматривает искусство как бунт против ускользающего и незаконченного мира. Оно стремится придать миру иную форму, постоянно возобновляя свой разрыв с ним. В этом смысле вое художники реалисты и никто из них не реалист: они вызывают в воображении лишь скоротечный и неустойчивый образ реальности. Художники не законодатели и не прокуроры, их дело не судить, а оправдывать. Поэтому Камю может оправдать каждого, даже такого, как Мерсо.
Подобная позиция может показаться гуманной. Но гуманизм этот — сомнительный. 'Кстати, Камю каждый раз берет сторону («выбирает») тех персонажей (Мерсо в повести «Посторонний», Бернар Рье и Жан Тарру из романа «Чума»), которые считают, будто на земле
160
существуют только эпидемии и их жертвы. Причем далеко не всегда он симпатизирует жертвам.
Положение художника в обществе торговцев Камю определяет с помощью метафоры: он не «принят на службу», а «взят на борт» галеры. Художник примиряется со своим положением, если даже обнаруживает, что галера пахнет селедкой, что стражей на ней слишком много и что она идет неверным курсом. В этой метафоре больше правды, чем видел в ней сам Камю: «сколько бы такой художник ни бунтовал, он все равно будет плыть тем курсом, который придан галере, а его искусство будет отдавать запахом селедки. В чем же тогда выражается «бунт»? В том, что искусство превращается в самоанализ, в оправдание обреченности?
Нет, экзистенциалисты не бунтуют. Они пишут так, как и все модернисты, но отвергают крайности формализма. 'Сосредоточиваясь на внутреннем мире человека, они получают возможность следить за движением каждого чувства, настроения, помысла. В деталях подобный анализ может быть интересным, захватывающим, тогда как в целом, оторванный от социального фона, он воспринимается лишь как урок автопсихиатрии. Так воспринимается повесть Камю «Посторонний»: будто автор рассказал не о Мерсо, а о себе.
Такими, кстати сказать, выглядят художественные произведения почти всех экзистенциалистов (хотя тут много зависит не только от философской концепции автора, но и от его таланта). ,Но как бы они ни старались противопоставить человека социальной реальности, решающая роль этой последней неизбежно обнаруживается. Яркий пример тому «Прелестные картинки» Симоны де Бовуар.
Лоране, центральный персонаж повести, все время находится как бы в состоянии неопределенности. С одной стороны, ее близкие внушают ей «социальный оптимизм»: войны не будет, дистанция между капиталистическими и социалистическими странами скоро «сведется к нулю, производство сейчас важнее, чем собственность, без бомбы мы бы выпали из истории, люди существуют, чтобы делить счастливыми друг друга, и т. п. С другой стороны, Лоране преследуют картины ужасов: люди линчуют, кончают жизнь самоубийством, истязают детей, создают дома смерти, расстреливают заложников, репрессируют и т. д. Мышление этой молодой женщины
161
(.по сути, оно-то и есть главный герой повести) бьется в тисках противоречий; оно стремится к ясности, определенности, но не находит ее. Оно движется в заколдованном круге: «или — или», и каждый раз встречается с иллюзиями, миражами. Даже истина представляется ему призрачной. В споре между сестрами Мартой и Лоране одна говорит другой: «Не много ли ты на себя берешь, заявляя, что это ложь». Но та отвечает: «Не (больше, чем ты, когда заявляешь, что это' истина» Да, абсолютный релятивизм не признает объективной истины. К этому выводу склоняет нас и мышление Лоране, превращающееся в иллюстрацию релятивистской концепции истины. Для Лоране «истинными» были ее муж Жан-Шарль, ее любовник Люсьен, ее мать Доминика, ее отец и другие. Но потом она обнаруживает в них или эгоистический расчет, или жестокость, или подлость, или просто человеческие слабости. Счастье, как и истина (таков вывод),— в самоутверждении ее собственной правоты. И если она что-либо или кого-либо отвергает, то вовсе не потому, что она чего-то добивается. Нет, мир исправить невозможно, ибо ничто в нем не имеет значения. Правда, материнский инстинкт подсказывает Лоране нечто другое: она думает, что дети еще могут на что-то рассчитывать. На что? Она не знает.
Итак, в экзистенциалистских романах, помимо воли их авторов (они тоже «ничего не знают», как и созданные ими персонажи), обнажаются приметы исторической реальности, которую они сами же связывают с ненавистным им обществом торговцев. Однако они упорно отказываются от четко определенных социальных позиций. Отсутствие же их вносит неопределенность в экзистенциалистское мышление. Вот почему для экзистенциалиста и истина и ложь суть одно и то же. В этом хаосе «общество торговцев» легко становится миром, «ускользающим и незаконченным», то есть призрачным.
В отличие от «ускользающих» экзистенциалистов М. Мерло-'Понти много внимания уделяет совершенно бескомпромиссному отрицанию объективной истины. При этом он ставит ряд абсурдных вопросов: если реальные вещи существуют в себе, то как они обнаруживаются в познающем сознании? Если то, что я познал, существует объективно, как оно есть само по себе, то
1 «Иностранная литература», 1967, № 7, стр. 149.
162
отчего 'проистекает моя уверёНносФь в том, что я яе ошибаюсь? Если «вещь в себе» обнаруживает свое объективное существование только посредством моего субъективного опыта, то как она проявляет свою независимость от этого опыта?
Эти и некоторые другие вопросы, поставленные им, свидетельствуют о том, что Мерло-Понти— законченный софист. Это впечатление еще более усиливается, когда знакомишься с его понятием «интенциональность», перекочевавшим из трактатов Фомы Аквинского в сочинения Гуссерля, а потом уже в произведения других феноменологов и экзистенциалистов — Ингардена, самого Мерло-Понти и других.
Понятие «интенциональность» истолковывается фе- номеналогией так: сознание выходит из своих пределов с намерением схватить вещи такими, какими они являются на самом деле, но это ему удается сделать только потому, что сами вещи существуют так, как они являются нам в сознании. Сказано замысловато. Мерло-Понти объясняет; задача феноменологии заключается в том, чтобы поставить сознание индивидов лицом к лицу с нерассуждающей жизнью, заключенной в вещах, и пробудить в них сознание своей собственной истории. Таким образом, индивидуальное сознание наделяется признаком субстанциональности. «Восприятие,— пишет в этой связи Мерло-Понти, — есть акт, создающий в одно и то же время сочетания непосредственных данных и связывающих их смысл» 1.
Эта формула полностью исчерпывает смысл экзистенциализма. Дух Мерсо внушал Мерло-Понти: истинно только то, что дано в ощущении, в восприятии. Остальное не имеет значения.
«Поток сознания»
Концепция «потока сознания» берет истоки в философии Р. Авенариуса, У. Джемса, 3. Фрейда, К. Юнга, А. Бергсона.
Мир — совокупность данного в опыте; опыт — это комплекс ощущений; ощущение — свойство ощущающей субстанции. Следовательно, оно '«нам дано» как выра-
1 М. Merleau-Ponty, Phenomenologie de perception, Paris, 1945, p. 46.
163
жение субстанциональности. Поэтому идея детерминизма ничего «е может объяснить нам в возникновении ощущения. Авенариус 'пишет: «...если вы хотите рассматривать отношение между объектом и субъектом опыта, как отношение «причинное», то вы должны, по меньшей мере, ограничить применение этой причинности только к комбинации между достигшим ощущающей субстанции движением и движением, которое ей, может быть, было присуще, но вы не можете ее усматривать в превращении движения в ощущение — превращении, недоступном никакому опыту и никакому умозаключению» L
Конечный вывод сводится к признанию того, что мир—это самопроявление ощущающей субстанции, он в такой же мере материален, как и идеален. Или короче: мое ощущение мира — это и есть мой мир. Отсюда следует:
Если каждая ощущающая индивидуальность создает свой мир, то это значит, что единого мира нет. Он расщеплен, атомизирован, разделен в зависимости от количества воспринимающих его индивидов. Он похож на калейдоскоп, составленный из мозаики пестрых, соприсутствующих ощущений, внутренне не связанных между собой, распадающихся и сочетающихся по принципу случайности.
Индивидуализированные ощущения все-таки родственны, так как они суть идеальные и самопроизвольные образования. Поэтому можно предположить существование первичного, равного самому себе ощущения, из которого впоследствии отпочковались все остальные. Вследствие этого образуется некий поток, исходящий из одного источника—первоощущения, растекающийся по бесконечному множеству «уходящих в самих себя» ощущений.
Всякое ощущение замыкается в самом себе. Все объективное (внешний мир и язык) предстает перед -ним как нечто чуждое ему. В силу этой отчужденности ощущение ищет для себя до-речевого выражения. ,На этом уровне, где коммуникативная функция языка теряет свое значение, ощущение может быть вполне откровенным, предельно искренним: ведь оно обращено только к самому себе.
1 Р. Авенариус, Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы, Спб, «Образование», 1912, стр. 62. 164
Эти сформулированные Авенариусом положения 'представляют собой философскую основу концепции «потока сознания», хотя само это понятие и ,не фигурирует в его 'Произведениях.
'Выражение «поток сознания» впервые было употреблено Джемсом. Его занимает проблема личного сознания, которое он рассматривает как нечто субстанциональное, абсолютно замкнутое в себе: «Ни одновременность, ни близость по пространству, ни качественное сходство содержания не могут слить воедино мыслей, которые разъединены между собой барьером личности. Разрыв между такими мыслями представляет одну из самых абсолютных граней в природе»1.
Джемс в данном случае глубоко неправ, так как каждое личное сознание может предстать перед всяким другим в виде устно выраженного мнения, записки, книги, произведения искусства и т. д. Язык, с помощью которого может быть выражена принадлежащая индивиду мысль, есть непосредственная действительность этой мысли, объект, который может быть проанализирован и оценен. Следовательно, язык есть средство преодоления «барьера личности».
Кроме того, расчлененное в индивидах сознание образует общественную целостность, генетически и функционально скрепленную. Сознание этих различных индивидов едино постольку, поскольку оно является адекватным отражением единой для всех объективной реальности.
Джемс лишает личные сознания какой бы то ни было общности. Каждая отдельная мысль о предмете, о факте, рассуждает он, уникальна. Но факты повторяются, а мысль все время меняется, ибо человек рассматривает факты каждый раз под новым углом зрения, открывает в них новые стороны, берет их в иных связях и отношениях и т. д. Все эти новые и новые возможности рассмотрения фактов'суть части его личности, они обусловлены не объектом, статичным, но повторяющимся, а субъектом, подвижность которого безгранична. В его сознании нет связок (такими «связками», «пучками» могли бы стать сами факты, но Джемс видит в них нечто пассивное, инертное, неподвижное), оно течет непрерывно.
1 У. Джемс, Психология, Пг., 1922, стр. 113.
165
Язык Джемса метафоричен. Он сравнивает созна^ ние то о потоком, рекой, то с птицей, которая «то сидит на месте, то летает». Но неизменно приходит к выводу: как мысль не может схватить устойчивую сущность факта, так и человек не может схватить самую мысль. «Мысль несется стремглав так, что почти всегда приводит нас к выводу раньше, чем мы успеваем захватить ее. Если же мы и успеваем захватить ее, она мигом видоизменяется»1.
Личные сознания, таким образом, представляют собой самодвижущиеся потоки, устремленные неизвестно куда. Правда, Джемс признает, что реальные соотношения вещей и самих людей тоже «... устанавливают наш поток сознания, сообщая каждому из них свою особую внутреннюю окраску»1 2. И все-таки мир лишен творческой энергии, так же как он лишен различий и оттенков. Сознательная способность присуща только человеку, органы чувств которого отвечают на одни агенты мира и не отвечают на другие, тем самым они «создают мир, полный контрастов, резких ударений, внезапных перемен и картинных сочетаний света и тени»3.
Перенося это положение в искусство, Джемс отвечает: «Любой объект, выхваченный из жизни, может стать произведением искусства, если художник сумеет в нем оттенить одну черту, как самую характеристическую, отбросив все случайные, не гармонирующие с основной чертой элементы»4.
Можно, конечно, попытаться превращать любые объекты в произведения искусства, как это делается в поп-арте. Но на этом кончается творчество, а вместе с ним — искусство. Объекты «входят» в произведение искусства, становясь их субстанциями, только на основе процесса познания, значит — отбора. Творчество начинается не с фиксации всего подряд, а с отбора объектов для воспроизведения, средств художественной выразительности, приемов сочетания слов, тем, мотивов, объемов, пропорций, света и тени, красок их тональности и т. д. Этот отбор обусловлен определен^ ным отношением художника к действительности, тем зна¬
1 У. Джемс, Психология, стр. !119
2 Т а м же.
3 Т ам же, ст,р. 127.
4 Там же, стр. 129.
166
чением, которое имеют те или иные ее черты и свойства в жизни общества и художника. Если же объективная действительность «упраздняется» при этом, приносится, так оказать, в жертву «конвергенции характерных признаков», как это утверждает Джемс, если отбор определяется этой негативной задачей, то тем самым он направляется в русло случайности и произвола. «Поток сознания», идя в этом направлении, влечет художника от факта к факту (не находя между ними связи), от одного характерного признака к другому (часто внимание при этом привлекает одна видимость), от ощущения к ощущению (не обнаруживая в них смысла), от мысли к мысли (связь между ними только ассоциативная, непоследовательная), не возлагая на него никакой ответственности за выбор.
Некоторые критики и теоретики искусства (Р. Хэмфри, М. Фридман и другие) истолковывают «поток сознания» в духе психоанализа, хотя ни Фрейд, ни Юнг не пытались как-либо объяснять этот метод. Но в психоанализе действительно практикуется протокольный способ фиксации «сенсорных впечатлений» и внутреннего монолога пациента. Невротик, душевнобольной — бессвязная личность. Он говорит все, что приходит ему на ум,— при этом одна мысль ведет его к другой, одно воспоминание вызывает другое, и так до тех пор, пока не раскрывается «нижний» уровень сознания.
Всякое личное сознание, по Фрейду, есть узкая область «я», погруженная в более широкую и глубокую область подсознания. Подсознание представляет собой психическую реальность, информация о которой идет через сознание, в то время как информация о внешней реальности передается посредством органов чувств. Фрейдизм утверждает, будто основой и стихией искусства является именно психическая реальность, непосредственно проявляющаяся в мечтах и сновидениях. В них, как и в творческом процессе, происходит конденсация впечатлений, смещение планов и ракурсов, деформация, перестановка значений, акцентов, символизация картин, образов и т. д. Сказка, миф, легенда, игра, шутка, фольклор (как и любое произведение профессионального искусства), рассматриваемые в этом плане, представляют собой игру фантазии, поток свободных ассоциаций, которые уводят нас от внешней реальности, от настоящего — в прошлое или в будущее. В этих наплывах чув¬
167
ств, в игре фантазии, в причудливом -сочетании ассоциаций истины нет. В них можно только верить.
Единый лоток такого -сознания образуется сам -собой: во-первых, потому что оно перебрасывает мост от настоящего к прошедшему и будущему; -во-вторых, потому, что за личным сознанием всегда скрывается нечто безличное, первобытное — коллективная психика, вливающаяся в бесконечный ряд индивидуальных сознаний, находя в них единственную возможность самопроявления.
Таков психоаналитический вариант концепции «потока сознания». Он исходит из отождествления н-евротика и художника. Само собой разумеется при этом, что больное воображение способно дать лишь искаженную картину мира.
Что касается берпсонианского обоснования «потока сознания», то оно -принадлежит не столько самому 'Бергсону, сколько -его последователям.
Согласно Бергсону, субстанция мира — это энергетический процесс, «чистое» время, длительность как таковая, отдельные мгновения которой выражены пространственно в вещах и состояниях. С помощью интеллекта мы можем механически расположить вещи одну рядом с другой, но это не даст о них истинного знания. Их сущности не поддаются простому наблюдению. Непосредственно доступной оказывается только длительность. «Она является памятью, — пишет Бергсон, — но не памятью личности, внешней по отношению к тому, что она удерживает, и отличной от прошлого, чье сохранение она утверждает, это память внутренне присущая самому изменению» !.
Таким образом, память и есть сама длительность, субстанция, вбирающая в себя все вещные существования и все индивидуальные сознания, объединяя их в нечто общее— -в безличное сознание. Последнее существует объективно — как возможность, вероятность. Оно неизбежно переходит в личное сознание — нечто -субъективное, и тем самым не только выраж-ается, но и растворяется-в нем. Когда мы сидим на берегу-реки, рассуждает Бергсон, то течение воды, движение лодки, п-олет птицы, с одной стороны, и -непрерывный шепот нашей внутренней жизни—с другой, могут быть или различными веща-
1 А. Бергсон, Длительность и одновременность, Пг., 1923, стр. 39.
168
ми или одной и той же вещью. Все зависит от нашего хотения — потому что реальные вещи суть нечто воспринимаемое нами. «... Непосредственно данное мы должны считать реальностью, поскольку у нас нет оснований считать его просто иллюзией»1. Нет оснований потому, что непосредственно данное включено в наш опыт, с помощью интуиции мы извлекаем его из внешнего мира с тем, чтобы понять самих себя, свой внутренний мир, который .постоянно уходит от нас. Так-то и образуется длительность, то есть неразрывная связь между безличным и личным сознанием.
Искусство начинается тогда, когда объективное исчезает в субъективном созерцании. Душа, застывшая в созерцательном бездействии, является душой истинного художника. Отрешаясь от мира, она охватывает лишь его формы, цвета и звуки, беря их в самоценном значении, вкладывая в них самые интимные проявления внутренней жизни.
Именно эти положения Бергсона и были использованы его последователями для обоснования концепции «потока сознания». Так, характеризуя творчество М. Пруста (западная критика считает Пруста одним из первых представителей литературы «потока сознания»), М. Фридман, например, пишет: «Оно близко к попытке превратить бергсонизм в литературный принцип»1 2. Бергсонизм, превращенный в литературный принцип, означает не что иное, как исчезновение всего объективного, растворение его в субъективном. Именно к этому и сводится собственно фиксация «потока сознания».
Р. Хэмфри даст следующее определение: «Поток сознания— это метод описания... это — новое представление о реальности. Искусство всегда стремилось выражать, объективировать динамические процеесы нашей внутренней жизни. Теперь эта «внутренняя жизнь» рассматривается как реальность сознания. Для ее выражения сложилась определенная техника и форма. Искусство подошло к своей цели ближе, чем когда-либо» 3.
Хэмфри различает два уровня сознания: «дорече- вой» и «речевой». Литература «потока сознания» выра-
1 А. Бергсон, Длительность и одновременность, стр. 137.
2 М. Frie.dman, Stream of Consciousness: a Study in Literary ytethocj, New Haven— London, 1955, p. 98.
3 R. Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern Novel, Berkeley and Los-Angeles, 1962, p. 114.
169
жает «доречевой» уровень, на котором сознание ничем и никак не контролируется, поскольку оно логически неупорядочено, лишено каких-либо коммуникативных средств и к тому же обращено внутрь. Если для характеристики сознания можно использовать такие понятия, как «разум» и «психика», отмечает Хэмфри, то литература «потока сознания» определяет свой статус только в границах психического: она фиксирует самые истоки человеческого опыта, всегда незавершенного, стараясь удержать его первоначальные проявления в ощущениях, воспоминаниях, фантазиях, иллюзиях.
Связан ли «незавершенный человеческий опыт» с познанием? Хэмфри полагает, что связан. Но тут же добавляет, что это особое познание, открытое писателями XX века,— познание интуитивное, познание — видение, озарение.
Всякое познание предполагает возможность существования истины. Не исключают этой возможности и представители литературы «потока сознания». Но как они понимают истину? В. Вульф, например, пишет, что в своих романах она стремится зафиксировать «внутреннее проявление истины»1. Другими словами: ее внутреннее ощущение истины — это и есть ее истина. Следовательно, общей, объективной истины просто нет и быть не может. Все, таким образом, представлено, как... у Бергсона.
(Модернистская эстетика ищет объяснения и обоснования концепции «потока сознания» не только в тех или иных философских доктринах, но и в психологических учениях, в частности, в ассоциативной и интроспективной психологии, но это не прибавляет ничего нового к ее объяснениям, потому что сами эти учения основываются опять-таки на махизме, прагматизме, фрейдизме, берпсонианстве... Так все возвращается к субъективизму— на «круги своя», так образуются «общие места», стереотипы, одни и те же фигуры умозрения в философии, психологии, литературоведении, искусствознании, критике. В результате все уравнивается, а живой художественный процесс втискивается в жесткую схему. Так, например, творчество Пруста, Джойса, Вульф, Фолкнера, Хемингуэя, Бёлля и некоторых других западных писателей
1 См.: R. Humphrey, Stream of Consciousness in (the Modern Novel, p. 12.
170
XX века часто привязывается к 'литературе «потока сознания». Расположение в одной обойме столь разных по ориентации, по мировоззрению, стилю, по технике письма авторов вряд ли способствует кристаллизации самой концепции. Конечно, что-то общее в них есть: фиксация свободных ассоциаций; интерес к психической жизни личности; автобиографичность, а значит — интроспек- тивность метода; знакомство с одними и теми же психологическими и философскими^ концепциями и др. Но это еще не дает права (хотя и дает повод) историкам и критикам соединять их вместе на основе одной какой- либо философии. Если даже махизм, прагматизм, фрейдизм, бергсонизм многое и объясняют нам в литературе «потока сознания» (только потому, что эта последняя находит для себя оправдание в субъективистской философии), простой аналогии между этими философскими течениями и одним из самых мощных и разветвленных литературных потоков XX века оказывается все же явно недостаточно для того, чтобы раскрыть его философское содержание.
Метод «потока сознания» распространен потому, что в известном смысле он охватывает собой весь модернизм, все его течения, противопоставляющие принципу объективности стихийное выражение «внутреннего мира», а этот последний оказывается настолько емким, что он вмещает в себя не только тоихическую жизнь, интуицию, бессознательное, но даже простые рефлексы и элементарные физиологические отправления.
При таком расширительном и «заземленном» толковании «внутреннего мира», особое значение приобретает вопрос о том, как этот мир подается, раскрывается. Поэтому теоретики «потока сознания» особо выделяют и даже подчеркивают решающее значение техники письма, более того, возводят ее в принцип, определяющий суть, содержание литературного произведения. Но тут- то и выясняется, что литература «потока сознания» представляет собой лишь «рентгеновский снимок интуиции», то есть такой внутренней монолог, который не предполагает наличия слушателя. Мышление же, ни к кому и ни к чему не обращенное, лишено фокусировки, оно не в состоянии сосредоточиться на своих собственных затруднениях, не способно скорректироваться. Отсюда вытекает отсутствие стремления к истине. Писатель, пользующийся подобным методом, эгоцентрист, к тому
171
же не желающий сообщить что-либо своему читателю, совершенно равнодушный к реальности.
Герберт Уэллс в известном письме Дж. Джойсу дал такую оценку этому методу: «Вы отправляетесь от системы взглядов, резко противопоставленных реальности. Ваше сознание подавлено чудовищными противоречиями... У вас есть дар, выражения, не поддающийся дисциплине. Но не думаю, что это куда-либо приведет вас: вы повернулись спиной к простым людям, их повседневным нуждам и ограниченным возможностям в отношении времени и способности восприятия. И вы начали изощряться. Каков же результат? Сплошные загадки. Ваше творчество — необычайный эксперимент... Но для меня это — тупик»1.
Это письмо дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, что представляет собой «поток сознания» как литературное явление. Ничего нового в сравнении с другими течениями эстетического модернизма оно не содержит в себе. Тогда все-таки в чем же «поток сознания» находит оправдание для своей «отдельности»? Может, в том, что сосредоточивает внимание на «внутреннем человеке»; на его «психическом существовании», на самом функционировании психики и т. д.?— Нет, конечно!
Ларчик открывается просто: представители литературной концепции «потока сознания» претендуют на роль новаторов в области романа, на роль изобретателей ассоциативного, интроспективного письма, техники внутреннего монолога, о помощью которого им якобы впервые удалось раскрыть «текстуру сознания».
Однако еще в XIX веке Стендаль, Л. Толстой, Достоевский, Золя применяли метод и технику внутреннего монолога (конечно, истолковывая его с реалистических позиций). Что же касается романистов XX века, то одни из них, развивая дальше традиции своих великих предшественников, используют их метод для раскрытия духовной драмы человека (Хемингуэй, Бёлль, Фриш, Фуэнтес и другие), а другие, оказавшиеся в бездумном плену этой техники как таковой, безропотно приемлют и переводят на язык искусства махнстскую концепцию ощущения, лрагматистекий «закон» потока сознания, фрейдистский психоанализ, бергсонианские понятия длительности и одно временности и др. В первом 'случае,
1 «Вопросы литературы», № 8, 1959, стр. 163.
172
где «внешний» и «внутренний» человек сливается в одно сущее, внутренний монолог используется как средство познания. Во втором, где отрицается «внешний» человек как предмет искусства, это отрицание заводит художников в лабиринт всяких таинственных вещей, загадок, а также выкрутас, причуд. В итоге искусство превращается в протокольную запись причудливо изменяющихся внутренних состояний индивида.
Миф и действительность
В западной эстетику заметное, если не центральное, место занимает мифологическая критика, объясняющая модернизм как проявление извечно данного человеку стремления к чуду, волшебству, магии, мифотворчеству. Так, например, Р. Чейз утверждает: «Полагаю, что идея законченного в своем развитии мифа дает ключ к объяснению многих тайн современного искусства, возможно даже к явлениям самым аутентичным ему, таким, как «Герника» Пикассо с присущим ей отчаянным отрицанием ранее существовавших форм, подчеркнутым выражением уродства, чудовищного преступления и страдания...» 1. Г. Слокауэр по этому поводу пишет: «В XX веке— веке Ф. Кафки и Т. Манна—мы сталкиваемся с изобилием лжи и созданных мифов»1 2.
Свои доводы мифологическая критика черпает отовсюду: из истории первобытного искусства, из философии Ф. Шеллинга, Ф. Ницше, Э. Кассирера, из психоанализа, из модернистской практики.
Прежде чем познать истинного бога, человеческое сознание, по Шеллингу, проходит мифологическую стадию. Поэтому миф представляет собой необходимое звено в развитии религиозного мышления. Вместе с тем он является первоматерией искусства. Миф — это абсолютная поэзия, поскольку в нем созерцание универсум,а не связано с реальным процессом жизни. Это мир первообразов, имеющих одинаковое значение для .прошлого, настоящего и будущего. Он развертывается в бесконечности пространства и времени — стало быть, выходит за
1 «Myth. A Symposium», Bloomington — London, 1965, р. ,156.
2 Н. S 1 о с h о w е г, The Use of Myth fin Kafka and Mann.— In «Myth land Literature. Contemporary Theory and Practice», Lincoln, 1966, p. 349.
173
пределы реального пространства и времени. Вот почему конкретный и «конечный» рассудок не в состоянии постичь его целиком. Миф не только преодолевает и преобразует реальность природы, он противополагает себя человеческому сознанию. Именно поэтому, по мнению Шеллинга, неуместно ставить вопрос об исторической достоверности мифологии: «...мифологические сказания сами по себе совершенно независимы от подобной истинности и должны рассматриваться исключительно сами по себе» 1.
Таким образом, Шеллинг, оставаясь в пределах гносеологии, интересуется взаимосвязями между мифом и религией, мифом и искусством, мифом и философией. Он рассматривает мифы как реальность в себе, как второй мир, вполне самостоятельный и независимый от исторических ситуаций и поэтому имеющий универсальное значение.
Ницше развивает дальше мысль об универсальности мифологии, но выходит при этом из области гносеологии. Более того, мифология истолковывается им как антигносеология. А современная культура рассматривается под углом зрения пантрагического разлада между теоретическим и практическим человеком, между истиной и красотой, между истиной и деятельностью. Воля к истине — признак вырождения, сама истина — свидетельство ужаса и нелепости бытия. Именно поэтому миф представляется ему как средство, необходимое для того, чтобы встать «над истиной».
Ницше ставит проблему мифологии в идеологическом плане, полагая, что только она в состоянии «преодолеть» как истину, так и историю — в общем, ослабить и разрешить то отчуждение, которое существует в буржуазном обществе между бесцельно блуждающим сознанием и государством.
Кассирер также подчеркивает универсальность мифов, трактуя их в духе модернистской антропологии. По Кассиреру, мифология, язык и искусство уходят своими корнями в функционально нерасчлененное первобытное сознание. Миф — это первый шаг в диалектике ограничения и освобождения, которую переживает человеческий дух, творя свой собственный образ мира. Поэтому
1 Ф. Шеллинг, Философия искусства, М., «Мысль», 1966, стр. 112.
174
миф обладает не космологической, но антропологической ценностью. ,В развитии человеческого сознания он выполняет две функции: метаболическую (вернее, мистическую) и прагматическую. Человек рассматривает себя как соучастника в жизни природы. Он выражает свою причастность к ней, свое нерасчлененное единство, свое тождество с ней в ритуалах магического характера, основная функция которых.—сохранить в человеке способность к выживанию, развить сознание причастности к природе. Миф, следовательно, основан на вере человека в «реальность» своего сознания, в истинность своей интуиции, объединяющей его с окружающими объектами. Прагматическая1 функция мифа состоит в том, что он поддерживает эту веру в «солидарность» субъекта и объекта, преодолевая тем самым страх человека перед смертью.
Согласно Кассиреру, ни историческое, ни каузальное объяснение мифа не имеет силы. Его происхождение и содержание может быть определено только в телеологической интерпретации: миф — это следствие спонтанной, стихийной самодеятельности сознания, конструирующего для себя свою собственную реальность. Отсюда вытекает и решение вопроса об отношении мифа к действительности: миф есть образный мир духа и активной силы выражения, независимый от реальности. В соответствии с этим решением Кассирер развивает теорию символизации человеческой культуры. «Человеческую культуру,— пишет он,— взятую в целом, можно определить как процесс прогрессирующего самоосвобождения человека. Язык, искусство, религия, наука суть различные фазы этого процесса. В каждой из них человек открывает и утверждает новую силу, способную возводить свой собственный мир, «идеальный мир»1. Наиболее всеобъемлющий «идеальный мир1» воплощен в мифологии.
Как уже отмечалось, известное влияние на мифологическую критику оказывает также психоанализ Фрейда и Юнга, ставящий знак равенства между сновидением и искусством, сновидением и мифом. Психоанализ пытается обнаружить в человеке и в его искусстве нечто атавистическое, первобытное, первозданное, что якобы возвращает всю современную культуру вспять, к своим жизненным истокам.
1 Е Cassdrer, An Essay on Man, New Haven, 1947, p. 223.
175
Исходя из 'вышеизложенных предпосылок, мифологическая критика утверждает: мифологическое мышление есть материнская порода, первоисточник, из которого развивается искусство, ^тим объясняется свободное перемещение мифологических сюжетов, героев, тем, образов в пространстве и времени, образующих единое общечеловеческое сознание. Мифология не только постоянно стимулирует творческое воображение художника, но и снабжает его концепциями, глубокий смысл которых раскрывается лишь в подтексте произведения. Способность искусства волновать человека обусловлена не гносеологической, но мифологической природой его, той таинственностью, внутренне присущей всякому творческому акту, перед которой человек всегда испытывает смешанное чувство и благоговейного трепета и ужаса.
Мифологическая критика занята не столько анализом произведения искусства, его художественной ткани, его языка, сколько мифологизацией отношений между человеком и природой, человеком и обществом, человеком и человеком и т. д. Так, например, касаясь творчества Кафки, Г. Слокаузр отмечает: в кафкианском мире— все условно, вое символично. Во что превратился в этом мире закон Моисея, то есть закон, данный ботом? В простой листок бумаги. Идея документа заменила идею закона, а пророка подменил судейский бюрократ. Общество стало олицетворять собой безличную и безответственную силу, которая обвиняет личность и не говорит ей, в чем она виновата. Общество становится воплощением дьявола, зла, силы, враждебной человеку, его врагом номер один. Но зло живет и в самом низведенном до безличности индивиде, равнодушном к насилию. Он не протестует, только жалуется. Он сирота, холостяк, заброшенный, никем не понятый. Он —паразит (как в рассказе '«Превращение»). Единственный способ его «бунта» (в романе «Процесс») — это наложение ареста на самого себя. Он оказывается кругом виновным: и перед обществом и перед самим собой. Он не находит в себе сил не только для того, чтобы бороться, но даже для того, чтобы жить. Он капитулирует, погибает, к чему, собственно, и сводится все его существование.
Разбирая данный случай отчуждения, Олокауэр вовсе и не стремится связать его с исторически конкретной социальной средой, в условиях которой возник и развил-
176
ей конфликт Между Личностью ,и обществом. Он поднимает его над историей, придает ему вневременной, символический характер. Кафкианский Индивид (типичный «неге- рой») воплощает в себе, по трактовке критика, западное начало. А общество Кафки (безличная, дегуманизированная сила)—восточный коллективизм! Вот так-то: за судьбы индивидов на Западе ответственность перелагается на... восточное общество. Произвольно раздвигая пространственно-временные границы «кафкианского мира», Слокауэр полагает, будто творчество Кафки ставит западную цивилизацию перед выбором—между отдельным «я», потерянным в анонимном коллективе, который мы представляем себе как «Восток», и частным )«я», включенным в общество западного образца. «Мы не можем и не должны выбирать между западным «я» и восточной коммуной»1,— заключает он.
Как видим, произвольной подстановкой значений мифологическая критика демонстрирует худшие образцы тенденциозности. Конечно, это алогичная, абсурдная тенденциозность, но чего иного можно ждать от мифологической критики?
Недаром она находит для себя наиболее благоприятный материал в абсурдном искусстве. Здесь легче ловить рыбу в «мутной воде». И мифологическая критика и абсурдное искусство используют символ как искусственное образование, обладающее множественностью значений. Так, 'С. Беккет преднамеренно вводит элемент неопределенности в саму структуру своей трагикомедии «В ожидании Годо». Ни автор пьесы, ни его персонажи не могут сказать, когда происходит действие. Годо сказал Владимиру ш Эстрагону, чтобы его ждали в субботу. Они ждут, но не знают, когда будет суббота. Эстрагон спрашивает Владимира: «И суббота ли сегодня? А разве не воскресенье? (Пауза.) Или понедельник? (Пауза.) Или пятница?» Через некоторое время он опять повторяет: «Или четверг?»1 2 После безуспешных попыток вспомнить, какой сегодня день, они приходят к выводу: «Давай помолчим». В самом деле: какое значение имеет конкретное время, если они пребывают в безвременье? Они ничего не делают, ни к чему ,.не стремятся, ни о чем не думают, поэтому время для них — беосмыс-
1 Н. Slochower, The Use of Myth in Kafka and Mann, p. 355.
2 «Иностранная литература», 1966, № 10, стр. 167.
7 О модернизме
177
Лица, даже большая, чем для камня (ему все рабнб?> он лишен страданий) или тростника, жизнь которого полностью сливается с циклами времен года. Для них же, для людей, время оборачивается трагедией: одни глохнут, другие немеют, третьи теряют память, хотя: и з продолжают жить. Персонаж пьесы Поццо яростно' отвечает Владимиру на /вопрос, когда онемел Лакки: «Когда! Когда! В какой-то день —вам этого' мало?' В какой-то день, такой же, как все другие, у него отнялся язык, в какой-то день я ослеп, в какой-то день мы оглохнем, в какой-то день мы- появились на свет, в какой-то день мы умрем... Вот так рожают распластанные' на могиле, блеснет день на мгновенье, и снова ночь» Г 1 Поццо приходит в ярость не столько от вопроса Владимира, сколько от трагической бессмыслицы самого' времени. Впрочем, он тут же примиряется со своей' участью. «Вперед!» — провозглашает Поццо, устроив свою поклажу на спину Лакки. Когда кто-нибудь везет твою поклажу — зачем бунтовать? Пусть будет все так, как есть!
Пространство в абсурдном искусстве обладает точно' такими же свойствами неопределенности, как и время. Одному и тому же действию (ожидание Годо) соответ-' ствует одно и то же место — проселочная дорога, кочка, дерево. Но ведь такие нехитрые аксессуары пейзажа есть везде! Поэтому персонажи пьесы просто «е заме-’ чают их. А если и замечают, то им тут же приходит В' голову мысль: не повеситься ли на этом дереве?
Что же делать, вешаться или нет? Владимир и Эст*' рагон вообще не знают, как им быть,— ждать Годо или не ждать, уйти или остаться, говорить или молчать, напасть на Лакки и Поццо, .пока один из них спит, или оказать помощь, когда другой просит ее. Итак, перед Владимиром и Эстрагоном открывается возможность совершить зло или добро. Они решают: давай сделаем что-нибудь! Но что? И тут они приходят к выводу, что нужно сделать добро... из подлости! ’
Драматизация неопределенности служит здесь для того, чтобы внушить читателтб или зрителю мысль, будто человек находится во власти судьбы, которая гонит его неизвестно куда и зачем, будто человеку остаётся одно: смириться, идти туда, куда приведет случай/
1 «Иностранная Лйтврату-ра», 1966, № 10,--стр.’ 194'.
17в]
Идея 'непротивления судьбе— это и есть основная идея эстетической «мифологии» XX 'века. В ней ,нет Прометея. Его место занимает типичный не-герой. Причем он предельно схематизирован, язык его условен, намерения неопределенны.
Тем не менее абсурдное искусство заключает <в себе возможность социального прочтения. Например, 'взаимоотношения (Поццо и Лакки довольно* определенны: один из них хозяин, другой — раб. Мышление одного' представляет собой смесь лицемерия и цинизма, софистическое сочетание иолу истин, собранных вместе для того, чтобы поиздеваться над стремлением к истине. Мышление другого — бессвязное, алогичное. Когда Поццо заявляет: «Я уже не совсем помню, что я такое говорил, но вы можете быть уверены, что во всем этом не было ни слова правды» г, то в столь откровенно провозглашаемом праве на антиистину угадывается не что иное, как «современное сознание», уравнивающее истину и ложь. Особенно натренированы в этом представители мифологической критики. П. Вест свидетельствует: «Что ищет мифологическая критика,— так это род философского «камня, с помощью которого можно было бы превратить все конфликты в золотые мифы»1 2.
Мифологическая критика не случайно выдвинулась на одно из первых мест,— ведь эстетика модернизма как раз и устремляется к «философскому камню», пытаясь превратить негативное содержание в позолоченный миф. В настоящее время он явно перекликается с фашистской интерпретацией культуры, которая тоже носила мифологический характер. Поистине беспредельным может быть политический диапазон теории, возвращающей человечество к первоначальной идее судьбы!
Мифология XX века исходит из того, что творчество есть естественное следствие способности человеческого ума создавать духовные ценности по совершенно произвольным, диффузным схемам, позволяющим «привязать» любое значение к любому символу. В этих лишенных логической последовательности н цельности творениях можно встретить самые невероятные отношения и зыбкие связи, при которых все становится возмон;-
1 «Иностранная литература», 1966, № 10, стр. 175.
2 Р. West, The Wine of Absurdity, London, 1966, p. 212.
7*
179
ным. Тем самым мифотворчество претендует на создание картины вечности — в такой же степени фактичной, как и фантастичной, где смешивается универсальное и личное, объективное и субъективное, современное и доисторическое.
Мифологическое мышление, по представлениям некоторых историков, проходит в своем становлении три основных ступени: первичную, когда миф, искусство и язык слиты в нерасчлененном целом (первобытное общество), романтическую, когда миф превращается в собственно эстетическое творчество (начало XIX века) и последнюю, завершающую (XX век), когда миф предстает перед нами как нечто вполне законченное, не лишенное в то же время стремления вернуться к утерянной непосредственности первобытного мышления.
Так модернизм, претендующий на выражение духа современности (и только!), десятки раз провозгласивший полный разрыв с прошлым, в лице мифологической критики соотносит атомизированное искусство XX века с искусством пещерных людей.
Да, мифология берет начало в фетишистском сознании пещерного жителя, еще не способного выделить себя из окружающей среды. Мир представлялся ему в виде всеобщего хаоса, таящего в себе вечную угрозу человеческому существованию; поэтому его воображение населяло мир химерами, чудовищами, оборотнями, демоническими силами и прочей чертовщиной, свидетельствующей о том, сколь сильное влияние на формирование его психики оказывало чувство страха.
Фетишистское сознание, кроме того, эгоцентрично: явления природы и социальной действительности ему открываются как материал, причастный к его собственной самодеятельности. Здесь находятся истоки его безграничной способности к перевоплощениям. Оно видит не мир, отраженный в себе, а себя отраженным в мире. Причем эти «перевернутые» образы-отражения многозначны. Фетишист отождествляет себя со зверем, деревом, камнем, он может перевоплотиться в любой образ своих сородичей и соплеменников — как живых, так и умерших. Во всеобщей связи явлений природы этот человек еще не вычленяет содержательности каждого из них. Для него явления лишены своих сущностных значений, они переливаются, переходят одно в другое.
180
Но фетишистское сознание, проявляющееся таким образом, :не вечно. Оно видоизменяется, перерождается и совсем исчезает. Уже в греческой античности мифология переходит от идеи хаотичного мира к идее мира упорядоченного, от культа природы к культу человека, от идеи судьбы к идее свободы, от неопределенно многозначного к индивидуализированному образу. Именно в этот период она становится лоном, материалом и арсеналом искусства. Поэтическая фантазия становится ее существенным элементом.
Чем теснее связь сознания с жизнью, чем объективнее сознание, чем более оно логически упорядочено, тем меньше возможностей остается у него для мифотворчества.
Развитие науки и современного общества способствует исчезновению мифологии. Буржуазия задерживает этот естественный процесс. Она превращает свою идеологию (в особенности такие понятия, как «свобода», «демократия») в мифологию. Ее фетишистакое сознание основывается на искажениях истины. Вот почему модернизм цепляется за миф, используя его в качестве формулы неопределенности, за которой можно скрыть любые намерения и цели. Тем самым модернизм лишь подтверждает свою собственную фетишистскую природу.
Как система идей, как мировоззрение мифология мертва. Но миф как способ мышления, как преодоление и формирование сил природы «в воображении и с помощью воображения» (К- Маркс) 1 сохраняет поэтическое обаяние и свою неотделимость от искусства. Однако модернизм и подлинное искусство — совершенно разные стихии.
Аксиология против гносеологии
Весьма распространенная в эстетике модернизма аксиологическая концепция искусства ведет свое происхождение от Канта, противопоставившего оценочные суждения познавательным: «Суждение вкуса... не есть познавательнее суждение»,— писал он1 2. В XX веке это про¬
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т'. 12, <стр. 737.
2 И. Кант, Сочинения, т. 5, М., «Мысль», 1966, стр. 203.
181
тивопоставление становится той центральной осью, вокруг которой -вращаются все разновидности эстетического кантианства.
Согласно- кантианству, субъект выводит ценностную значимость объектов, опираясь лишь на свою волю. Одни он оценивает положительно (они приносят удовольствие), другие — отрицательно (они вызывают в нем чувство неудовлетворения). Следовательно, его воля — это и есть последняя, окончательная единственная мера ценностей. В конечном итоге это приводит к выводу, будто только субъект обладает безусловной значимостью. Что же касается всего того, что находится вне субъекта — будь то природный закон или общественная необходимость, то они трактуются при этом как силы, принуждающие субъекта и поэтому не обладающие ценностью. «Суверенная» субъективная воля противопоставляет себя объективному миру. Не находя в нем опоры, она признает столько автономных ценностей и сфер значимости, сколько существует оценивающих субъектов. Каждый из них может добиваться общезначимости для своих суждений, но достичь этого ни он и никто другой не может: ведь общей меры ценностей нет и не может быть. Само собой разумеется, что там, где нет общезначимых ценностей, нет и различий между хорошим и дурным вкусом, между верной и ложной оценкой. Так субъективизм все уравнивает и все смешивает: истину и заблуждение, красоту и безобразие, развитый и примитивный вкус.
О неправомерности таких уравнений и смешений свидетельствует прежде всего стихия речевой практики, в которой фиксируется известная устойчивость ценностных представлений и понятий. Это свидетельствует о том, что общезначимые оценки все же есть и опираются они на существование объективных ценностей. Однако субъективистская аксиология отвергает такое предположение, считая, что индивидуальные оценки не могут быть определены с помощью такого общезначимого и обязательного средства, как язык. Она полагает, будто в опенке нет ничего обязательного. Субъективистская аксиология видит непримиримое противоречие между единичным актом суждения и общезначимыми для той или иной культурной среды критериями. Поэтому всякую культуру она рассматривает как сферу, .чуждую вкусу. Во всякой культуре, согласно этой точке О'рениял
182
аьтб'йомия противостоит гетерономии, самобытность-^ подражанию, свободное проявление инстинкта — авторитету и т. д. Не может быть сомнения в том, что эти антиномии ложны, ибо не существует обязательного антагонизма между обусловленностью и независимостью вкуса, между подражанием и самобытностью, между наличием авторитета и возможностью свободного выражения суждений. Конечно, при известных условиях между ними могут возникнуть противоречия, но именно развитая культура создает предпосылки для их преодоления.
Субъективистская аксиология утверждает, будто объект эстетического суждения не существует независимо от воспринимающего субъекта, будто он возникает в акте восприятия, который именно поэтому и превращается в акт творчества. Если, например, перед субъектом находится произведение искусства, то оно доставляет ему лишь материал, с помощью которого субъект конструирует для себя эстетический объект. Материал этот неосязаем, он слагается из эмоциональных впечатлений, производимых на субъекта, и представляет собой «чистую» духовную сущность, независимую ни от темы, ни от сюжета, ни от самой действительности.
Зависимость от действительности превратила бы произведение искусства в средство, между тем как оно является самоцелью. Искусство создается и воспринимается ради него самого. Сущность его заключается в той иллюзии борьбы, творчества, достижения известной цели, в той активности, которая дана нам лишь в пассивном, незаинтересованном созерцании. Б. Христиансен пишет: «Искусство не дает нам, в действительности, ни идеалов, ни действий. Мы знаем, что нас ведут, что сами мы безмолвно отдаемся; и когда наступит конец, у нас нет новой веры, и мы не знаем, что нам делать? Нам казалось, что мы знаем, но это был обман. В этой обманчивой игре одно мы постигаем несомненно: себя самих»1.
Рассматривая искусство как область призрачных ценностей, субъективистская аксиология не находит в' нем проявлений причинно-следственных связей и поэ-* тому противопоставляет его науке, морали, труду, тех-
ч 1 :Б. X р и с т и а н се в,/4 Философия искусства, Спб.,. 1911, стр. 157—158.
Нйке, Практической Деятельности, всему объективному миру, в котором бесспорно действует принци-m детерминизма. Итак, оказывается, где есть ценность, там нет причинности, и наоборот.
Дж. Сантаяна, например, утверждает, будто принцип детерминизма, последовательно проведенный, ведет к механической картине мира, где сознание рассматривается как нечто несущественное. Детерминизм превращает человека в автомат, неизменно правильно реагирующий на условия окружающей среды, и «лишает» его сознания. Однако сознание, «удаленное» из этого мира, мстит ему тем, что оставляет его без какой бы то ни было ценности. На основе столь странной и мрачной гипотезы Сантаяна приходит к выводу не только о несовместимости детерминизма и гуманизма, но и о /полной противоположности науки и искусства: наука—рациональна, искусство — иррационально, наука имеет дело с механически ми силами, искусство — с духовными ценностями, наука обходится без оценки, искусство не существует /вне ее и т. д. «Ценности возникают из непосредственной и необъяснимой реакции жизненного импульса...» Сформулировав этот тезис, Сантаяне не остается ничего другого, как искать противоречия и несовместимости между искусством (иррациональная ценность) и всеми остальными формами человеческой деятельности (научной, нравственной, трудовой и пр.), где хотя бы в малой степени проявляются (по его мнению) рациональное начало или причинно-следственная связь.
Например, отчуждение между моралью и искусством объясняется им так: искусство есть царство наслаждения и праздной жизни, хотя бы на мгновение освобождающее человека от призрака зла и рабского страха, чтобы дать возможность его склонностям устремиться туда, куда они могут привести; мораль же, напротив, область обязывающей необходимости серьезной жизни, цель которой заключается в том, чтобы избегать зла и страха, внушаемого человеку смертью, голодом, болезнью, усталостью, одиночеством, презрением и т. д. Вывод— искусство и мораль несовместимы.
Подобное противоречие существует и между искусством и трудом. Искусство— бесполезная деятельность,
1 G. San/tayana, The Sense of Beauty, New York, 1956, p. 24.
184
берущая начало в физиологическом побуждении человека, в стремлении разрядить, израсходовать накопившуюся энергию. Оно не обусловлено острой жизненной необходимостью. Труд же — деятельность полезная и необходимая. Искусство — легкомысленно. Труд — серьезен. Искусство — произвольно, оно существует ради него самого, в нем человек обретает счастье. Труд — это эквивалент порабощения, он совершается иод давлением необходимости, в целях самосохранения человека. Все эти весьма умозрительные антиномии приводят субъективистскую аксиологию к выводу, не так уж неожиданному, а именно: поскольку искусство освобождает человека от связи с жизненной необходимостью и потребностью, оно обретает тем самым эстетическую ценность. Банальность этого вывода, внутренне связанного с концепцией 1«искусство для искусства», настолько очевидна, что сам Сантаяна впоследствии решил пересмотреть его, с тем чтобы придать своей теории менее негативный характер.
В работе «Разум в искусстве» он, правда, продолжает утверждать будто источник искусства — в инстинктивной деятельности, в переживании человека, а не в познании. Однако (хоть и не прямо, а косвенно) он открывает в нем и гносеологические аспекты.
Сантаяна начинает эту книгу с изложения бесспорных (и известных) истин: обжитая человеком среда с необходимостью несет на себе отпечатки его присутствия, по которым наблюдатель может сделать выводы о его жизни и поведении. Эти следы, хотя и оставлены человеком неосознанно, представляют собой знаки его целесообразной деятельности, направленной на то, чтобы преобразовать среду, привести ее в соответствие со своими потребностями. Поэтому формы и пропорции, приданные человеком материи, имеют инструментальное значение и свидетельствует о жизни его разума. «Любая операция, которая таким образом гуманизирует и рационализирует объекты, называется искусством»И далее: «Изо всех воплощений разума искусство... самое блестящее и завершенное его воплощение»1 2. «Искусство... полезно и практично, эстетическая ценность,' присущая некоторым произведениям ис¬
1 Cj. Santayana, Reason in Art, New York, 1962, p. 9.
2 I b i d., p. 16,
135
кусства, есть одно из удовлетворений, которое искуост- -во предлагает человеческой природе как целому» 1. «Человек, который захотел бы освободить искусство от дисциплины и разума, попытался бы тем самым уклониться от разумности не только в искусстве, но и в жизни»1 2.
Эти во многом верные положения еще не говорят о том, будто Сантаяна отказался от субъективизма. Нет, он и на этот раз полагает, будто ценности не существуют объективно, будто они свойственны только воображению, составляют момент интуиции и т. д. И все же, рассматривая искусство и как момент в жизни разума, Сантаяна приходит к выводу: польза и логика (так же как искусство) — прекрасны* Тем самым он пытается связать аксиологический подход к искусству с гносеологическим.
Что это — казус Сантаяны или всей субъективистской аксиологии?
Нет, это не частный случай. Неудовлетворенность субъективизмом иногда заставляет представителей аксиологии совершать и более решительные шаги — переносить эстетические ценности в область объективного существования и рассматривать их или в качестве вечных сущностей «прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, грациозное, пленительное, привлекательное и т. д.), или в качестве исторических стилей (барокко, классицизм, романтизм), или в качестве особенных форм (гротеск, фантазия и т. д.), или в качестве отдельных жанров (пейзаж, натюрморт) и т. д.
Конкретизация представлений об эстетической (художественной) ценности могла бы поставить аксиологию на подлинно научную основу, если бы опять-таки не... оубъективизм, который ставит эти ценности в зависимость от адекватно настроенного сознания и противопоставляет их содержательности произведения, его жизненной правдивости, истинности. Считается, будто художественные качества принадлежат лишь форме. Что же касается содержания, то даже в случае его истинности оно не обладает достоинствами эстетической ценнности. Так, Н. Гартман отмечает: «...повсюду ценность проявляет тенденции и действия, направленные на реализацию ценности. Это относится даже к ценности исти-
1 G. S a n -t а у a n a, Reason in Art, р. 16.
2 Ibid., р. 116.
186
вы. Только с эс!,еТ|ИЧеакой цейкостью обстоит йкаче: ойй есть и остается ценностью явления» 1.
В итоге феноменологическая эстетика приходит к выводу: жизненная ценность необратима в эстетическую ценность, моральная ценность тоже необратима в эстетическую ценность; гносеологическая ценность (истина) опять-таки необратима в эстетическую ценность. В чем же тогда выражается истинная сущность эстетической ценности?, В «чистой игре» формы?
Как объект направленного на него и сосредоточенного на нем интереса истина потеряла значение для эстетики модернизма потому, что модернизм возник и развивается как некритическое, неспособное к объективным оценкам направление, потому что в центре модернистского творчества стоит замкнутая в себе личность, разрушающая свои связи с действительностью, потому что он основывается на отрицании познавательной функции искусства. Модернизм отделил ценность от истины и даже противопоставил их.
Между тем в процессе познания (искусство как человековедение включено в этот процесс) выявление истины и оценка действительности даны уже в его исходной точке. Познание — вовсе не безразличный, нейтральный, а избирательный, заинтересованный и уже поэтому оценочный процесс. Ведь человек познает (доходя до сущности первого, второго, третьего и т. д. порядка) не все, что попадается ему под руку, а только то, что имеет или может иметь для него существенно важное значение. Оценка, таким образом, выступает не только как результат или итог, но и как существенный момент движения истины.
Познание, конечно же, стремится «схватить» объект таким, какой он есть на самом деле, поэтому оно предполагает преодоление всякой субъективности. Но преодоление субъективности вовсе не означает устранения ее. В. И. Ленин отмечает: «...мысль ( = человек) не должна представлять себе истину в виде мертвого покоя, в виде простой картины <(образа), бледного (тусклого), без стремления, без движения...»1 2. Движение, с которым имеет дело гносеология, слагается из само¬
1 Н. Гартман, Эстетика, стр. 504.
2 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 176— 177.
,187
движения объекта и стремления к нему субъекта. Только при встрече их рождается истина. Познавая объект, человек выявляет и замкнутые в нем свойства и их значения (биологическое, экономическое, историческое, эстетическое и др.) для себя. Лишь при этом условии реализуется ценность объекта. Вот почему истина есть ценность, а всякое оценочное суждение (это — прекрасно, это — безобразно и т. д.) познавательно, хотя оно и не каждый раз истинно. Совершенно очевидно, что противопоставление эстетической ценности — истине (как это имеет место в модернизме) ложно в самой основе.
Структурализм
Родина эстетического структурализма — Германия и Австрия. Впоследствии его влияние распространилось на страны английского языка и Францию. Он возникает в 20-е годы вследствие кризиса искусствознания, пытавшегося, .исходя из иррационалистических понятий «художественная воля», «воля к форме» и др., объяснить историю искусства как спонтанную смену стилей (Г. Вельфлин). Структуралисты противопоставили волюнтаризму (метод объективного описания внутренней структуры произведения, заимствуя кое-что у гештальт- психологии (идею взаимного соответствия структуры объекта и структуры восприятия).
В современных условиях, особенно во Франции, структурализм противопоставляет себя экзистенциализму. Поэтому поводу философ коммунист Ги Бесс пишет: «Теперь многие молодые интеллигенты видят в структурализме альтернативу экзистенциалистскому субъективизму» Г
В субъективизме все зыбко,, случайно, индивидуально, эмоционально, неопределенно. В науке же, даже в науке о такой эмоциональной и индивидуализированной деятельности, как искусство, нужна определенность. Понятие «структура» должно было внести известную устойчивость в эстетику. Кстати сказать, оно давно уже вошло в научный обиход: биологи задолго до эстетиков говорили о структуре клетки, о структуре организма, физи-
1 «Коммунист», 1968, № 8, стр. 23.
188
кй — о структуре атома, йоЛитэконоМы — о структуре способа производства, общественно-экономической формации и т. д. Но, оказавшись в области эстетики, понятие «структура» потеряло былую стабильность. Эстетический структурализм заимствует свои аргументы и в неокантианстве (прекрасное нравится нам своей чистой формой), и в феноменологии (бытие сущности дано в явлении), и в гештальтпсихологии (сознание — это феноменальное поле, в котором сливаются субъект и объект), и в неопозитивизме (идея принципиальной координации субъекта и объекта), и в других течениях философской мысли. Эта всеядность, видимо, и сделала его столь популярным.
Особенно модным структурализм становится в 60-е годы, когда его начинают рассматривать как ключевой метод, на основе которого должна быть построена теория—-во-первых, строго обоснованная; во-вторых, всеобъемлющая, объединяющая в себе науку и искусство; в-третьих, адекватная современному уровню познания человеком структуры универса и самого себя.
Сам характер этой программы свидетельствует о попытке структуралистов создать универсальную систему знаний (Дж. Кепсш, М. Фуко и другие), охватывающую в едином понятии (структура, человек и др.) все проявления бытия и сознания, как это имело место последний раз в системе Гегеля.
Поиск нового абсолюта структуралисты обосновывают ссылками на «современную гносеологию», которая якобы переходит от принципа атомизма к принципу структурализма.
Атомизм — это сведение бытия к конечному числу устойчивых единиц, не обладающих внутренней, способной к изменениям структурой. Сначала (в классической физике) такие единицы видели в атомах, петом (в квантовой механике) — в элементарных частицах. Но дальнейшими исследованиями было установлено, что атомы— сложные образования, а элементарные частицы — не стабильны, их существование подчинено структурным законам, кстати, еще не познанным. Эта проблема по ряду причин привлекла к себе всеобщее внимание. Именно поэтому понятие «структура» стало центральным в современной науке. Физика, биология, астрономия, ведущие области естествознания исследуют структуры, начиная от бесконечно малых, кончая бесконечно
189
больШимй: элементарная ййстиЦа, ядро атома, атаМ; молекула, биомолекулярный агрегат, клетка, организм, планета, солнечная система, галактика, метагалактика, универсум. 'Один перечень этих понятий производит на модернистов неотразимое впечатление. Они-то и возвели понятие «структура» в некий абсолют и даже наделили его субстанциональным значением. Отныне, утверждают они, атом лишен субстанционального начала, оно' воплощено в структуре.
Но что’ же представляет собой структура?
В этом понятии структуралисты пытаются растворить всякие различия между материей и сознанием. Л. Уайт, например, дает такое определение: «Структура—это форма, увиденная изнутри... Для представителя математической логики структура — это формальная система отношений определенных логических типов. Он ставит акцент скорее на отношения, чем на условия и сущности, которые соотносятся. Структура — это антитеза материи» L
Таким образом, в плане онтологическом структура определяется как картина динамической связи, содержание которой составляет соотношение как таковое (движение), существующее якобы независимо от того, что соотносится, независимо от материи. Структура сводится к взаимодействию пространственно-временных «сил», обнаруживающих свое бытие в бесконечной смене неуловимых состояний. Чтобы выразить особенность существования структуры, структуралисты употребляют не имя существительное (форма), но глагол—формировать. Они преднамеренно ставят ударение на момент текучести, неопределенности, перехода от одного состояния в другое. По этому поводу Кепеш пишет: «Структура... это картина динамической связи, в которой имя существительное и глагол — форма и формировать — сосуществуют как взаимозаменяемые...»1 2.
В плане гносеологическом структура определяется как замкнутость сознания, как модель целостного видения реальности. В этой связи развивается следующий взгляд: человеческая мысль истолковывает, то есть придает или
1 L a ire е 1 о t L. W h у t е, Atomism, Structure and Form. A Report on the Natural Philosophy of Form.—'In «Structure in Art and in Science», London, 1965, p. 21.
2 «Structure in Art and in Science», p. II.
lW
не придает значения сигналам,! без конца .идущим извне. 'Эти сигналы представляют собой какие-то незначительные части и выражают несущественные стороны постоянно, преобразующегося и потому «неуловимого» универса, в котором человек живет и который превосходит его своими масштабами. Отдельные стороны и части универса .даны человеку в отдельных переживаниях и ощущениях. Но человек нуждается в цельной картине мира. Возможность получения такой картины заложена в самой структуре мозга, она обусловлена механизмами генетической информации. Субъект, например, испытывает удовлетворение и наслаждение при восприятии картин и устройств^ несущих в себе признаки различий — локального и дальнодействующего, разветвляющегося и концентрирующегося, порядка и беспорядка и т. д. Удовлетворение приходит к субъекту не от того, что его сознание дает ему адекватную картину объекта или процесса, а потому, что в самом сознании появляются структурные свойства, равнозначные свойствам универса. Сознание и универе сливаются таким образом в единое психофизическое поле. Между ними существует не предметное «совпадение», соответствие, а структурное сходство, представляющее собой... истину иллюзии. Да, да! Все постоянно изменяющиеся в человеческом сознании определения, расчеты, анализы, измерения, описания, предложения, доказательства, утверждения, ответы, даже неуверенность сознания и его проблемы — все суть иллюзии: ведь структура сознания соответствует структуре универса, а та представляет собой нечто стремящееся к неустойчивости, к исчезновению, к аннигиляции. Р. Ли- полд в этой связи пишет: «Несколько десятилетий тому назад такие утверждения могли исходить только из уст -восточных мистиков, но не от западного художника или ученого. Теперь же я, западный художник, основываю эти утверждения не только на модной мистике буддизма, но и почти на идентичных открытиях, сделанных западной наукой» 1.
Если структура, взятая в онтологическом плане, истолковывается как антитеза материи, а структура сознания— как иллюзия или антитеза истины, то вполне понятно, что структуралистам не остается ничего друго-
1 R. L i р р о 1 d, Illusion as Structure.— In «Structure in Art and in Sqierjce?, p.: 153< .j ,.
W
го, кроме как вернуться к... буддизму. Ссылки же на научный прогресс приобретают в этом случае характер произвольных и схоластичных спекуляций.
Теперь остается выяснить: какие же плоды пожинает структурализм в эстетике модернизма?
Говорят, будто подлинно структурное начало преобладает в европейской живописи оо времен Сезанна и кубистов, поскольку их картина передает не столько сам предмет или впечатление от него, сколько архитектонику замкнутого целого, уравновешенного и ритмически упорядоченного. Содержание этой картины выражено не в теме, сюжете, идее, а в единстве ее элементов.
Ну, а как же выглядит это самое структурное начало? На этот вопрос дается следующий ответ: представьте себе сетку, соткадную из идентичных элементов и распростертую в пространстве. Ее можно раздвигать без конца. Назовем такой порядок структурой. Но если произвольно определить границы сетки таким образом, что структура становится воспринимаемой, то в этом случае возникает произведение искусства. Так обыденная структура превращается в эстетическую. Законы этой последней суть ритм, прогрессия, полярность, регулярность, последовательность, аранжировка и т. д. Утверждается также, что эстетическая структура может включать в себя не только геометрически точные, но и аморфные, диффузные формы и отношения, сочетания резких и мягких контуров, линейных сетей и цветных, полей, рельефов, наклеек и т. д. Важно, чтобы они представляли собой нечто целое, обозримое, доступное восприятию и были упорядоченными, уравновешенными.
В общем, согласно струкгуралистической концепции, произведение искусства — это порядок. В соответствии с данным положением эстетика превращается в разновидность геометрии, математики. Так, К. Тэрстон заявляет: «...изучая главным образом отношения между обозримыми элементами в пространстве, эстетика, что вполне естественно, становится более похожей на геометрию, чем на психологию или философию» Г Эту же мысль повторяет Н. Мулу: «Эстетические категории сближаются с геометрическими... в той мере, в какой искусству присуща формальная игра композиции, симметрии, устойчивости и изменчивости; эти последние сближаются
1 С. Thurston, The Strmoture of Art, Chicago, 1940, p. 5.
19?
с категориями физическими, органическими в той мере, в какой игра сил и напряжений в природе достигает живописного порядка» 1.
Сближение эстетики с геометрией вызывает вопрос: не преодолевают ли структуралисты тот барьер, который воздвигает между наукой и искусством иррационализм, идущий от Кроче, Бергсона, Фрейда?
Один из видных представителей современного структурализма П. Франкастель высказывает на этот счет следующее мнение: как математика, так и искусство суть два полюса всякой логической мысли, способы мышления большинства людей. И тот и другой ведет к действиям, не сводимым ни к каким другим. Ученый и художник движутся в разных направлениях, никогда не объединяясь. Но каким бы разительным ни казалось отличие между формами их духовной деятельности, они в одинаковой степени являются создателями интеллектуальных структур, моделей. Только один из них создает модели абстрактные, другой — конкретные, один из них создает объекты материальные, другой — формальные. Следовательно, они дают одно и то же, но пользуются при этом разными языками.
Структурализм сближает науку и искусство, но не на гносеологической (в этом плане они далеки друг от друга), а на формальной основе. Фокусом их сближения является понятие «модель». И ученый и художник создают модели. Чего? Ученый создает модель реальности, а художник— модель способов мышления, которые присущи той или иной исторической эпохе.
Понятие «модель» до сих пор употреблялось в языке математики, физики, кибернетики, биологии, химии, притом в разных, иногда прямо противоположных, значениях. В язык эстетики оно только-только начинает входить. Поэтому у нас нет такого определения-образца или хотя бы такой более или менее удовлетворительной черновой формулировки, опираясь на которую можно б^ыло бы найти эстетический эквивалент этого понятия. То, что сказано по этому вопросу, например, в лекциях по эстетике М. Кагана, нельзя считать приемлемым. Он утверждает: «...искусство как бы «удваивает» реальный мир миром воображаемым. Художественные образы-модели, в отличие от моделей научных, не просто объясняют мир,
1 N. Мои loud, La peinture et l’espace, Paris, 1964, p. 150.
193
но становятся рядом с реально существующим и воспринимаются нами как некая «иллюзорная реальность» ’.
Сказать, что модель (то есть произведение искусства или художественный образ) — это «иллюзорная реальность», которая становится рядом с объективной реальностью, по существу, значит отрицать соответствие- модели моделируемому объекту, искусства — действительности. Не может удовлетворить нас и определение Л. Когана: «Модель в науке — модель определенного, реально существующего объекта. Модель в искусстве — модель человеческих мыслей, чувств, настроений; отношения человека к миру»1 2.
Всякая модель создается человеком ради его стремления приблизиться к объекту, познать его на основе аналогии, сходства, сравнения. Вполне понятно, что человек может принимать во внимание различные проявления, степени, виды сходства между объектами, вплоть до формальных. Каждое из них может иметь значение для него только в том случае, если оно ведет к истине. Конечно, модель еще .не истина, но всегда путь к ней, момент, грань ее постижения, и потому понятие модели неизбежно включает в себя этот момент. Если же определение модели выводит нас за рамки гносеологии (М. Каган) , оно не может быть плодотворным.
Картина живописца как модель, по представлениям структуралистов, есть нечто замкнутое, обладающее формальной целостностью. Характер и содержание этой целостности не зависят ни от объектов, расположенных во внешнем пространстве, ни от сюжета, темы, идеи, присущих самой картине. Картина-модель представляет собой комплекс доступных восприятию, наблюдаемых форм и тональностей, заключенных в раме, упорядоченных с помощью определенного ритма. .Такая формализация произведения искусства не дает основания говорить о том, что оно представляет собою авторскую модель мира. Нет, оно оказывается просто частью природного пространства, объектом, поставленным рядом >с другим объектом. Такой объект представляет собой скорее всего модель воображения. У нее нет ничего общего с познанием.
1 М. Каган, Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч. II, Л., Изд-во Ленинградского университета, 1964, стр, 99.
2 Л. Коган, Сохнет ли сокол без змеи? (Еще раз о знаке,
образе и структурной поэтике).— «Вопросы литературы», 1967, №1, стр. 121. .
,494
«Мы,— пишет И. Мулу,— с1айим- акЦей! йа полйрнбстй формул познания и искусства, объясняющего закона и идеальной формы, мира закона и эстетического присутствия» L
«Мир закона» — это наука; «мир эстетического присутствия»— это искусство. В нем нет закона. И вообще это разные миры. Наука может ставить вопрос о соответствии своих моделей реальности, искусство — нет. Всякая «...оценка произведения искусства с помощью критериев, лежащих вне его самого, как, например, в зависимости от сходства или недостатка сходства его с «природой»—должна быть отброшена»,—диктует С. Но- дельман» 1 2.
Структурализм в конечном итоге противопоставляет искусство действительности, науке, познанию объективной истины. Ничего нового, но сравнению с другими течениями эстетического модернизма, в нем нет. Тем не менее структурализм входит в моду. О чем это свидетельствует? О многом — прежде всего об успехах естественных наук, достигнутых в исследовании структуры материи. И, конечно же, о попытках использовать эги успехи, спекульнуть на них, чтобы вывести эстетику модернизма из давнишнего и глубокого кризиса. Эстетический структурализм ныне провозглашает себя тем универсальным и-абсолютным орудием (таких абсолютов объявилось уже немало), с помощью которого якобы можно объяснить все тайны эстетического опыта и решить любые проблемы.
Конечно, нет и не может быть сомнения в том, что структурный анализ вполне правомерен и необходим. Произведение искусства — это структура, р которой обнаруживается функциональная зависимость между такими элементами, как содержание и форма, объективное и субъективное, познание и оце'нка, осознанное и интуитивное, отражение и выражение, конкретное и абстрактное, идейное и эмоциональное и т. д. Художественный образ есть отражение действительности, а отражение есть структура, которая зависит не только от отобра-. жаемого объекта, но и от оптических, акустических, психологических законов восприятия самого произведения
1 N. М о и 1 о u d, La peinture et -l’espace, p. 154.
2S. Nodelman, Structural ’Anali§is in Art and Antropolo- gy.— «Yale French' Studies», N 36/37. Structuralism, New Haven, 1966, p. 93.
il95
искусства. В эту область эстетика Только-только начинает заглядывать. Этим и пользуется структурализм. Хватаясь за «центральное понятие» нашего века — понятие структуры, он обещает совершить эпохальные открытия. А пока суть да дело он использует структурный анализ, чтобы еще раз «с новой точки зрения» подтвердить те позиции, которые определились в модернизме с самого его возникновения, а именно: произведение искусства, есть форма, замкнутая в себе, независимая от объективной действительности, от познания ее, форма, выражающая только «структуру мышления».
Слова и вещи
Искусство — это интуиция, интуиция — это выражение, выражение — это язык. Отсюда следует отождествление философии языка и философии искусства, завершающееся утверждением, будто лингвистика и эстетика суть одно и то же. Такой ход мысли можно обнаружить у многих представителей самых непохожих друг на друга течений эстетического модернизма — у Кроче, у позитивистов, у феноменологов, экзистенциалистов, структуралистов и других.
Аналогия между языком и искусством — вполне обоснована. В обиходе закрепились такие понятия, как «язык науки», «язык искусства», «язык логики», «язык чувства» и т. д. Каждое из этих понятий подразумевает наличие специфических средств выражения, присущих науке или искусству, логическому или эмоциональному мышлению. Однако это не дает основания утверждать, будто языку свойственна одна-единственная функция — экспрессивная. Язык (слово) связан со всеми внешними и внутренними проявлениями жизни человека, функции его безграничны и изменчивы, как безгранична и изменчива сама человеческая жизнь.
Основное назначение языка — быть средством, орудием, инструментом всюду, где человек устанавливает контакт с другими мыслящими существами. Стало быть, главная функция языка коммуникативная. Но поскольку связи между людьми бесконечно разнообразны, эта функция бесконечно меняет свои ЗхПачения. Язык выступает и как средство информации, и как средство обозначения вещей и событий, и как сигнал, ориентир, условный знак,
196
й как средство обобщения, абстрагирований, и кйк средство внушения, как психотерапевтический фактор, и как средство аккумуляции человеческого опыта, и, следовательно, как фактор культурного развития человека и т. д. Но коль скоро язык всегда связан с мышлением, он выполняет еще одну работу — служит средством объективации мысли, материальным носителем ее.
Функции языка совпадают с функциями искусства (но не отождествляются с ними). Причём язык и искусство обращены к самым широким массам — именно в этой беспредельно развивающейся коммуникативной способности и заключается их жизненный потенциал. Однако эстетика модернизма, проводя аналогию между языком и искусством, ставит акцент на одну единственную экспрессивную функцию. С особым тщанием ее исследуют представители лингвистической эстетики, семантики.
Семантики пытаются подчеркнуть «отдельность», «неповторимость» слов, которыми оперирует эстетика, превращенная ими в область «вербального атомизма». Эстетика, как известно, оперирует такими словами, как «искусство», «прекрасное», «правда», «эстетическое суждение», «ценность», «качество», «реализм», «романтизм», «ритм», «стиль», «содержание», «форма» и т. п. Семантик не разграничивает слово как форму выражения мысли, как непосредственную действительность мысли от самой мысли, от понятия. Он их отождествляет. Вернее: он растворяет понятие в слове, содержание в форме. «Нет такой вещи как смысл слов,— пишет К- Хейл,— оно обладает только тем смыслом, в котором его употребляют»
Итак, слово — это самодовлеющая форма, форма, лишенная смысла. Искусство есть набор таких форм. Формы-символы лишены реального содержания, у них нет прямой связи с действительностью. Уже цитировавшийся Хейл утверждает: «...существует расхождение между символами и вещами, которые они символизируют», мы не можем говорить поэтому, что «символы»... обладают реальным, правильным, точным, истинным значением»1 2. Другими словами: для живописца, например, цвет, рисунок, линия, свет, тень и т. д. суть только символы, не
1 С. Н е у 1, New Bearings in Aesthetics and Art Criticism. A Study in Semantics and Evaluation. New Haven — London, 1943, p. 7.
2 I b i d.
197
связанные с реальностью, а новому художник может произвольно их комбинировать и связывать. Его композиция—это личный, индивидуальный язык, это его «персональная реальность». Те же самые элементы в употреблении другого художника будут означать уже совершенно иную реальность.
То же самое происходит и в эстетике. Ни одно из ее понятий нельзя определить. Возьмем, к примеру, понятие «художественная правда». Оно многозначно, так как один понимает под правдой соответствие фактам, другой — искренность художника, третий — постоянство художника, четвертый говорит об интуитивной правде, пятый — о концептуальной. Было бы догматизмом, рассуждает семантик, признать одно из этих положений истинным, а другое — ложным. Ведь наши суждения суть только предложения того, как нужно понимать то или иное событие. А в наших предложениях может содержаться истина и заблуждение, правда и ложь. Другими словами, семантик в области эстетики занят собиранием и фиксацией того, что было сказано о красоте, об искусстве, о художественной правде в истории развития искусства и науки о нем. Для него все одинаковы, верны -в каждом отдельно/м случае. Его работа, как и работа архивариуса, превращается в дурную бесконечность прибавления еще одной концепции к уже имеющимся. Каждая из них — это инструмент, которым он пользуется для поддержания тех или иных моральных, религиозных, политических целей. И предпочитает он ту теорию, которая наилучшим образом выражает данную цель.
В этой связи необходимо сделать следующие замечания: символы, знаки, слова нельзя отождествлять ни с вещами, ни с мыслями. Они представляют собой лишь созданные человеком материализованные формы мыслей, отражающих объективно существующие вещи. Проблема выразительных возможностей символов, знаков, слов всегда волновала, тревожила художников, поэтов. Ф. Тютчев писал:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь *.
1 Ф. И. Тютчев, Стихотворения. Письма, М., Гослитиздат, 1957, стр. 72.
198
«Мысль изреченная есть ложь» здесь означает, что слово, служа средством выражения чувства и мысли, иногда оказывается не в состоянии выразить все их оттенки и значения, всю сложность этих чувств и мыслей. Доводя это несоответствие между словом и мыслью до .крайности, до полного разрыва, иные субъективисты полагают, что совпадение между ними невозможно, как якобы невозможно совпадение между мыслью и объективной действительностью. Так возникает противопоставление слов вещам.
Есть и другая крайность в решении этого вопроса: мудрецы из Лагадо, описанные Дж. Свифтом в его знаменитом романе, непосредственно соотносят слова с вещами и поэтому полагают, будто вместо слов можно обходиться тем, что они обозначают,— вот почему мудрецы таскали на своих плечах большие узлы с вещами, необходимыми им для выражения мыслей и желаний.
Лингвистическая эстетика мечется между этими двумя крайностями: она или противопоставляет слова вещам или же отождествляет их. Семантики утверждают, будто поэзия пользуется словами не как знаками, а как вещами — она взывает к вещам. Так в лингвистической эстетике вырисовывается проблема отношения поэтического сознания к вещам, к объективному миру.
Как же она решается?
Эстетика модернизма обычно не обнаруживает истинных связей между природой и сознанием, объективным и субъективным. Она ставит ударение на их различия и не видит единства. Она их отождествляет, не замечая различий. Те же самые ошибки совершаются ею и при выяснении взаимосвязи между мыслью и словом, между словом и вещью. Тут тоже обнаруживаются метафизические крайности. Но чаще всего мысль растворяется в слове, слово — в той материальной субстанции, из которой оно образуется. При таком подходе эстетический объект превращается в средство выражения природной вещественности: мрамора, который, будучи скалой, становится потом камнем, заложенным в храме; цвета, обычно второстепенного свойства вещи, приобретающего в живописи первостепенное значение; природного шума, который становится материей, органически слитой с тканью музыкального произведения (особенно в конкретной музыке, в поп-музыке) и т. д. Так свойства вещи, отделяясь от самой вещи, взятой в ее природном, есте- W9
ственном бытии, превращаются в некие самостоятельные сущности, эстетические качества, элементы языка, с которыми художник в процессе самовыражения может обращаться совершенно произвольно.
Эту концепцию М. Фуко, например, обосновывает ссылками на историю мышления, языка и экономического развития «западного человека». По его мнению, «археология знания» выглядит так. Выясняя отношения между словами и вещами, человек эпохи Возрождения стремится обнаружить подобие, сходство. Под влиянием этого стремления и развивается его мышление. Впоследствии, начиная с XVII века, человек живет воображением, видит мир через призму своих представлений. Такое мышление олицетворено в образе Дон-Кихота. И только в XIX веке человек в полном смысле этого слова становится мерой всех вещей. Он очеловечивает, одухотворяет вещи, уподобляя их самому себе. Наконец, в XX веке человек «исчезает», он растворяется в вещах. Вещь становится мерой его существования. Развивается новый принцип мышления, который можно назвать «вещизмом». Такие понятия, как «человек» и «гуманизм», становятся анахронизмом.
Так будто бы возникает вещизм — течение в эстетике модернизма, развивающееся на основе онтологизации искусства, отождествления бытия и сознания (об этом будет сказано ниже).
Вещизм представляет собой следствие технологической трактовки произведения искусства. Поблема отношения сознания к бытию потеряла для вещизма всякий смысл. Она даже не поставлена им. Для вещизма произведение искусства есть нечто или, точнее, все, что может выйти из рук человека. Поэтому всякий материал, которому придана человеком какая-либо форма, есть произведение искусства. Эта концепция пользуется особым признанием в США, поскольку она опирается там на прагматизм.
Любой прагматист скажет: художник — это прежде всего практик, делатель, исполнитель. Он далеко стоит от человека, который знает и учит, какие вещи нужно делать, как делать и т. д. Художник просто делает. И в этом смысле можно провести аналогию между художником и фермером, строителем, солдатом, физиком. Разница между ним и остальными только в том, что «дело» художника представляет собой игру, правила которой 2QQ
условны и меняются чаще, в сравнении с изменениями В технологии производства. В такой трактовке произведение искусства превращается в «кусок реальности», в объект, вещь, имеющую самодовлеющее значение. Развивая концепцию вещизма, американский автор, М. Козлов, пишет: «Такие понятия, как выражение авторского видения, эмоций, или удар кисти, имеющие исключительное значение для производства объектов ручной работы, в современной живописи все более и более дискредитируются» И далее: «...молодые абстракционисты обращаются с наборами красок так, как если бы эго были только вещи; следствием этого является то, что их картины начинают походить «а вещи...» 1 2.
С самими вещами имеют дело представители хепенин- га, поп-арта, оп-арта, кинетического искусства и других течений модернизма, которые выставляют всякий хлам, «чистую» вещественность, извлеченную ими из мусорных ящиков и свалок. Говорят, что такой художник не воспроизводит действительность, а фиксирует свое присутствие в ней. Его связь с современностью выражается в том, что он заостряет внимание не на самой преходящей сущности вещей, а на их подаче, на их композиции, на способе их бытия.
«Основоположник» поп-арта, Р. Раушенберг, утверждает, например, что поп-арт «обеззараживает» современное искусство от «потока сознания» и обращается к самому бытию вещей, технология изготовления которых и является их эстетикой. Тот же Раушенберг заявляет: «Я делаю свои картины из туалетной бумаги, затем повторяю то же самое в ином материале — в золотых листах» и т. д. Он отбрасывает всякую условность, всякую символику. Для него вещь это то, что она есть: случайное сочетание качеств, выражающих обыденность ее функций. Когда представитель конкретной музыки Дж. Кейдж посетил выставку Раушенберга, он написал, что в этой живописи «нет темы, нет образа, нет объекта, нет красоты, нет обращения к кому-либо, нет таланта, нет техники, нет идеи, нет замысла, нет искусства, нет чувства, нет черного, нет белого» 3. Мир, состоящий из
1 М. К о z 1 о f f, The New American Painting.— In «The New American Arts», New York, 1965, p. 88.
2 I b i d., p. 90.'
3 S. N e w m e у e r, Enjoying Modern Art, New York, 1957, p. 226.
201
ИеЩей, лишенных каких-либо рациональных йлй эмоциональных значений, то есть лишенных каких-либо ценностей; является страшным, уродливым миром. Видимо, не случайно Раушенберга однажды спросили: не Кажется ли ему, будто современная жизнь напоминает ад. Он Ответил: «Конечно, нет. Но если кто-либо хочет показать ад, тот должен использовать средства, присущие этому аду» 1.
Обесчеловеченный мир вещей действительно оборачивается для человека адом, вместилищем зла, порока, преступления. И если человек подчиняется этому миру, живет скованный его богатством и нищетой, его пустотой и уродством, то и сам он неминуемо превращается в вещь, то есть в существо, с которым обращаются как с вещью.
-Вещизм — это следствие абсолютизации мира вещей, понимания человеческого счастья как обладания ими, как Потребления их. Но, приписав вещам демоническую Мощь, фетишистское сознание лишает себя тем самым возможности проявить свою собственную силу, свою активность. Поддавшись обаянию вещей, оно в конце концов находит человеческую жизнь лишенной не только творческого, но и всякого смысла. Именно в этом обнаруживается его собственная тщета и призрачность.
Мы рассмотрели некоторые концепции, пытающиеся дать ответ на вопрос, что такое искусство. Ими, конечно, не исчерпывается эстетика модернизма. На самом деле их значительно больше. Но их может быть бесконечно много. Дело в том, что они односторонни и субъективны: в каждой из них раздувается не столько какая- либо черта, особенность, грань искусства, сколько то или иное свойство субъективного опыта, индивидуального восприятия. Поскольку это так, то, казалось бы, здрсь нельзя обнаружить какой-либо иной закономерности, кроме безграничной индивидуализации. Но именно в этих' релятивистских подходах обнаруживается скрытая, унифицирующая эти подходы закономерность, отражающая драматическую судьбу искусства в условиях капитализма.
К. Марке писал о враждебности капитализма искусству, которое под влиянием товарных отношений само
1 i«Art in America», /1966, May-June, p. 84.
202
становится товаром, вещью, лишенной эстетической ценности. Все рассмотренные нами концепции как будто не содержат в себе ни грана этой профанирующей искусство сущности. Более того, в подавляющем большинстве они стремятся подчеркнуть автономность искусства, его независимость не только от практического интереса, но и от каких бы то ни было идеологических значений и политических функций. Между тем, если взять одну из первых концепций («вчувствование») и одну из самых последних («вещизм»), то оказывается: все, что заключено между ними, связано с отрицанием познавательной функции искусства, а это в конечном итоге приводит к стиранию граней между искусством и неискусством.
Рыночные отношения превращают произведение искусства в обыденную вещь. Тем самым создаются предпосылки для превращения любой вещи в произведение искусства. Эти превращения видоизменяют не только искусство, но и самую эстетику, которая в свою очередь во все более усиливающейся степени способствует им и теоретически оправдывает их.
Разные эстетические концепции, исходя из разных предпосылок, приходят к одному и тому же — к отрицанию объективной истины. Такую же точку зрения проповедуют субъективные и объективные идеалисты — здесь как те, так и другие демонстрируют трогательное единодушие. Нередко даже «танцуют от одной печки», то бишь от утверждения, будто искусство включено в контекст жизни (отсюда еще одно название — контекстуализм) и поэтому якобы не существует объективных критериев для 'разграничения эстетического от неэстетического, художественного от обыденного.
Дж. Дьюи, например, пишет: «...любая практическая деятельность имеет эстетическое качество при условии, что она является полной и движима своим собственным стремлением к завершению опыта» !. Его последователь И. Идмен также отождествляет искусство и неискусст- во. Он утверждает, будто «область искусства тождественна с областью свободного человеческого контроля над миром' материалов и движений»2. Таким образом, всякая -линия или цвет,' нанесенные человеком, или движение, направленное им, есть искусство.
1 J. Dewey, Art as! Experience, New York, 1958, p. 39. г 1. E d m a n. Arts and .the Man, New York, 1962, p. 14.
.'2G3
Вплотную к этой концепции подходит и Сантаяна, когда пишет: «Любое действие, которое гуманизирует и рационализирует объекты, называется искусством. Всякое искусство берет начало в инстинктивной деятельности и находит для себя материальное воплощение... Если бы птицы, вьющие гнезда, чувствовали полезность того, что они делают, они, вероятно, создавали бы искусство» Ч
Но вернемся к Дьюи, который наиболее последовательно развивает идею онтологизации искусства. Центральным в его эстетике является понятие опыта. Причем опыт трактуется субъективистски, в духе признания неразрывной связи «я» и «не-я», субъекта и объекта. Свою книгу «Искусство как опыт» Дьюи завершает определением: «Искусство — это качество, проникающее в опыт. Это не сам опыт» 1 2. Другими словами: искусство связано с опытом, в котором проявляется непобедимый жизненный инстинкт, стремление человека к переживанию, доставляющему наслаждение. Если в опыте есть элементы наслаждения, значит можно сказать, что в нем берет начало искусство.
Тот или иной опыт может протекать без деятельного вмешательства субъекта: он или уступает внешнему давлению, или уклоняется от проявления инициативы, или отказывается от воздействия на исход опыта. Суровое воздержание, вынужденная покорность, бесцельная' терпимость, бессвязность в поведении субъекта ведут к однообразному, вялому течению событий, к неопределенности результатов. Такой опыт исключает возможность удовлетворения, его нельзя назвать эстетическим. Но там, где субъект проявляет интерес к завершению опыта, как, например, в деятельности преуспевающих политиков и генералов, там проявляется эстетическое качество.
Цезарь и Наполеон похожи на циркачей: их интерес направлен на завершение переживаний (захват абсолютной власти, создание империи). Такая жизнь полна волнующего риска, неутоленных желаний, захватывающих приключений, неожиданных испытаний и неизбежных страданий. Но разве это что-либо меняет в общей картине, единой и цельной, которая в общем-то приносит
1 G. S а п 4 ,а у a n a, Reason in Art, р. 9.
2 J. Dewey, Art as Experience, p. 326.
204
субъекту удовлетворение? Удовлетворение завершает такие переживания. А все завершенное — прекрасно. По мнению Дьюи, если бы камень катился под гору и с желанием предвкушал конечный результат своего движения, то тогда он обладал бы эстетическим опытом. Общее в действиях Наполеона и в движении камня — выход энергии. Правда, в одном случае, это осознанный процесс, в другом — нет. Но опыт становится эстетическим и без участия сознания.
Человек, как и всякое живое существо, находится в окружении, от которого исходит опасность и из которого он должен брать нечто, чтобы удовлетворить свои потребности. Захватывая окружение, расширяя возможности своего существования, человек приходит к равновесию и гармонии. Его жизненный процесс подчиняется подспудному ритму, заложенному в природе, в которой чередуются день и ночь, дождь и солнечный свет и т. д. Ритм природы переходит в ритм человеческой жизни. Ритм есть проявление субстанциальной энергии, ищущей выхода. Воплощенная в материи, живой или неживой, она представляет собой лишь возможность, обещание искусства. Но там, где энергия «оформилась», эта возможность переходит в действительность. Форма— это свидетельство о победе, одержанной человеком над )материалом. С нее начинается и ею завершается искусство.
В формалистической эстетике исчезает интерес к тому, что принадлежит собственно искусству. Именно потому прагматизм не видит различий между переживанием Наполеона и «опытом» камня, между произведением искусства и обыденной вещью. «Произведение изящного искусства, статуя, сооружение, драма, поэма, роман...—пишет Дьюи,— являются частью объективного мира, так же как локомотив и динамо. И так же, как эти последние, они причинно обусловлены связями материалов и энергией внешнего мира»
Для Дьюи не существует специфики форм человеческой жизнедеятельности; поскольку в ней выражена лишенная качественной определенности энергия, заложенная в природе человека, она представляется ему однородной. Человек не творит, он проявляет энергию. Вся сложность творческого процесса, таким образом, сво-
1 J. D е w е у, Art as Experience, р. 146.
205
дится к выходу энергии. Тем самым помыслы и поступки, свойственные общественному человеку, приравниваются или к инстинктивной деятельности животных или даже к разрешению напряжений, свойственных неживой материи.
Следуя по избранному пути до конца, Льюи приходит к поразительному выводу: не существует различных аспектов, в которых проявляется многообразная и сложная сущность человека, а есть различные сущности индивидов. У одних субстанциональная энергия обнаруживается в форме рефлексии, у других — в форме исполнения, у третьих — в форме эгоизма, у четвертых— в форме самоотречения и т. д. и т. п. Одни склонны к личному, другие — к безличному выражению, одни—к субъективному, другие — к объективному, одни— к конкретному, другие — к абстрактному. Характер каждого такого отдельного, индивидуального опыта выражается в форме, образующей нечто целое, замкнутое, завершенное, что и называется эстетической ценностью. «Когда массы приведены в равновесие,— заключает Дьюи,— цвета — к гармонии, линии и планы встретились и проникли одно в другое,— восприятие будет последовательным, оно охватит целое в каждый последующий момент... Это — форма»1. Форма, таким образом, мыслится как нечто самоценное, абсолютное. Она-то и представляет собой собственно содержание искусства.
Не противоречит ли такое заключение исходному положению самого Дьюи, будто прагматизм — против «искусства для искусства»? Разумеется, нет! Прагматизм создает софистическую и демагогическую эстетику, основанную на отрицании и познавательной функции искусства и его связи с задачами социальной борьбы. Все, что привлекает внимание человеческого уха и глаза, возбуждает его интерес — пожарная машина, проезжающая мимо; экскаватор, выгребающий яму; рассказы о любовных приключениях, убийствах и похождениях гангстеров, которыми так богата буржуазная пресса,— все эти события нашего повседневного опыта ничем не отличаются от произведений искусств, хранящихся в музеях, потому что в том и другом случае в них может фиксироваться единый, нерасчлененный и — что самое важное — внесоциальный процесс выхода энергии; в том
1 J. D е w е у, Art as Experience, р. 136<
Г206
и Другом случае три КюЗерцанйй их у субъекта может1' проявиться интерес к завершению опыта.
Усматривая в любом опыте, ов каждом прикоснове-' нии человека к камню, дереву, металлу возможность, обещающую «произведение искусства», прагматизм уравнивает тем самым идею и матёрию, цель и средство. Более того, он растворяет идею, цёль в самом факте физического существования материала, из которого про-' изведение искусства «сработано»; считает, кто существуют не связанные' с общественной жизнью субъектив-1 ные (стремлениек удовлетворению), инструментальные (материал), формальные (подчинение частей целому, завершенность опыта) основы искусства.
Эта точка зрения и есть не что иное, как сбфисти-’ ческая- апологетика того произвола, которым так бо-' гата буржуазная современность. Чем вульгарнее' опыт, тем больше «чистой» мысли привлекается субъективистами для его объяснения и оправдания.
В настоящее время эстетика модернизма часто выступает под маской «философии простоты». Заботясь о формировании ©кусов «человека с улицы», обладающего «практическим умом», иные буржуазные искусствоведы готовы признать необходимость существования «прикладной эстетики», которая бы выполняла дидактическую функцию и была бы «динамичным и полезным орудием».
Так, Т. Манро пишет: «От Эмерсона до Дьюи в Америке подчеркивается, что философия, так же как и искусство, должна тесно связываться с повседневной жизнью. Философские идеи, так же как и научный опыт, должны вырастать из практики и вернуться опять к ней, чтобы реорганизовать наши мысли и поступки на уровне повседневной жизни» L
«Связь с практикой» прагматизм (и. не только он) понимает как подчинение искусства практицизму, как «очищение» эстетического опыта от идеальных устремлений, как превращение «искусства для искусства» в «искусство для денег», как «снижение» творческого процесса и эстетического восприятия до уровня обыденности, то есть, по сути дела, как ликвидацию искусства.
Уже отмечалось, >что процесс онтологизации искусства обусловлен социально. Эстетика же модернизма,
1 Т« М и и г о, Toward Science dn Aesthetics, New York, 1956, p. 98.
207
Отождествляя сознание и бытие, находит ему гносеологическое оправдание. Не последняя роль в этом принадлежит прагматизму. Поэтому сам собой напрашивается вывод. Прагматисты не скрывают того, что их философия выражает собой «коммерческое сознание» XX века, то есть что она буржуазна по своему содержанию и характеру. В то же время они изо всех сил тщатся доказать, что эта философия наиболее актуальна, отвечает потребности современного человека и выражает его сущность. Придавая таким образом общечеловеческое значение своей релятивистской точке зрения, они тем самым пытаются увековечить ее. Именно здесь-то и совершается переход от релятивизма к метафизике. Но такие переходы совершают не только прагматисты. Вся эстетика модернизма зиждется на подобных переходах и превращениях.
Метафизические акценты
Рассмотренные в предыдущей главе концепции, несмотря на наличие в них некоторых общих черт (антропологизм, противопоставление интуиции интеллекту, отождествление искусства и самовыражения, отрицание познавательной функции искусства, его онтологизация), в общем являют весьма пеструю картину. Она отражает состояние творческой мысли, представители которой убеждены, будто перед ними открывается множество истин и множество путей к ним и ни один из них не является обязательным или необходимым: ведь существуют разные художники, бесконечно индивидуализированные вкусы, многие способы творчества и субъективные восприятия. Модернизм движется, таким образом, в разных, иногда прямо противоположных, сталкивающихся между собой направлениях, вызывая впечатления хаоса, неопределенности, движения в «никуда». Пессимисты называют такое состояние кризисом, «оптимисты» видят в нем проявление романтического духа, который развивается сам по себе, спонтанно, не будучи ни революционным, ни контрреволюционным, ни прогрессивным, ни реакционным, потому что он иррационален и занимает взаимоисключающие позиции одновременно. Он выражает иррациональную сущность самого человека.
8 О модернизме
209
Уже сам ход мысли теоретиков модернизма свидетельствует о том, что от релятивизма к метафизике — всего один шаг. Дальнейший анализ покажет, что этот шаг сделан давно и бесповоротно, что модернизм движется иррациональными путями: он отказывается от разума в пользу веры, от диалектики ради софистики и метафизики, от познания объективной истины для отрицания ее. Иногда эти движения совершаются в открытую, а иногда поистине неисповедимо.
Релятивизм, доведенный до крайности, до признания антиистины в качестве субстанции искусства, подвергается порой резкой критике даже со стороны идеалистической метафизики, с позиций неоплатонизма, неотомизма, неогегельянства, неореализма. Любопытно, например, выступление известного эстетика-неотомиста Г. Зедльмайра: «Никогда и нигде в истории мирового искусства не было такого множества безобразных и парадоксальных, иронических, дьявольских и комических картин. Этот «модерн» (начинается не с 1900 года, но столетием раньше; искусство XX века, по существу, является продолжением романтизма. В современном искусстве, как и во всякой лжи, смешивается все позитивное и негативное» 1.
Метафизика противопоставляет релятивизму и скептицизму поиск абсолюта, который она обычно находит в идее бога, в религии, в библейской истине, которая трактуется при этом как личная истина, предполагающая существование носителя, приверженца ее, то есть верующего. Без веры в нее сама истина исчезает. Напротив, вера в нее внушает мысль о живом боге, оказывает влияние на тот или иной выбор человека. Поэтому истина является экзистенциальной, связанной с тем или иным решением, идущим от человека, она видоизменяется в зависимости от субъекта и т. д. Но при такой постановке вопроса от претензий на абсолютную истину ничего не остается. Современная метафизика оказывается немыслимой без крайностей релятивизма. Она абсолютизирует сами эти крайности. Один из представителей метафизики, У. Хокинг, пишет: «Принцип, благодаря которому совершается открытие Абсолюта посредством Относительности, напоминает слова, произнесенные Паскалем:
1 Н. S ed 1 m ay г, Kunst und Wahriieit, Hamburg, 1959, S. 139
210
мы могли и не искать Абсолют, если бы мы уже не нашли его» 1. Другими словами, если следовать логике рассуждений У. Хокинга, то получится, что найденный абсолют и есть относительность.
Эстетика модернизма и в релятивистском и в метафизическом варианте оказывается не в состоянии обнаружить действительную связь между субъектом и объектом, а также определить характер движения субъекта к объекту: она или растворяет объект в субъекте (теория вчувствования, интуитивизм и др.) или же стремится решить его прямо противоположным образом (оитологи- зация искусства). Двигаясь в замкнутом круге согласно формулы «или — или», она истощает свой жизненный потенциал, ста|вит под сомнение само свое существование. Полностью прав Т. Павлов, подметивший этот процесс: «...когда объект поглощает абсолютно и метафизически субъекта, или же, наоборот, в субъекте будет растворен абсолютно и метафизически объект, исчезает само основное познавательное отношение между объектом и субъектом, соответственно между объективным эстетическим и субъективным его отражением в сознании субъекта, следовательно, исчезает и сама эстетика как особая, самостоятельная наука»1 2.
Эстетика как наука исчезает потому, что в этом противопоставлении субъекта объекту она теряет истинный предмет своего исследования, распредмечивается.
Распредмеченное эстетическое сознание неизбежно сближается и сливается с другим распредмеченным сознанием — религиозным, господствующим в условиях буржуазного общества, где религиозное сознание подчиняет себе эстетическое. Это вызывает — иногда! — внутренний протест художника. Так, например, Ганс Шнир, главный персонаж романа Г. Бёлля «Глазами клоуна», воинствующий нонконформист, заявляет, что католицизм, внушающий чувство долга, необходимость осознания «высших моральных принципов», служения программному искусству и т. д., напоминает ему камеру пыток. Вспоминая об одном вечере, устроенном кружком про¬
1 W. Е. Hocking, History and the Absolute.— In «Philosophy, Religion and ithe Coming World Civilization. Essays in Honor of William Ernest Hocking», The Hague, 1966, p 461.
2 Тодop Павлов, Избранные философские произведения, т. 4, М , Изд-во иностранной литературы, 1963, стр. 139.
8*
211
свещенных католиков, Ганс Шнир говорит: «Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении... Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки...» ’.
Ганс Шнир решительно не приемлет католицизма, отвергает всякую попытку сближения искусства с религией. «Как-то я встретил Зоммервильда,— рассказывает он,— после одного выступления по телевидению («Может ли современное искусство быть религиозным»?) и он меня спросил: «Ну, как я, хорош? Я вам понравился?» Ну в точности те вопросы, какие проститутки задают на прощание своим клиентам. Не хватало еще, чтобы он сказал: «Порекомендуйте меня своим знакомым». Я ему тогда сказал: «Вы мне вообще не нравитесь, так что и вчера понравиться не могли»1 2.
Если художник в буржуазном обществе, читающий к тому же Кьеркегора, дает отрицательный ответ на вопрос: «может ли современное искусство быть религиозным?», то это, конечно, вызывает беспокойство просвещенных зоммервильдов. Потому-то они и прилагают, опираясь на государственную власть, немалые усилия, чтобы превратить современное искусство в разновидность религиозного сознания. Философы и критики, эстетики и общественные деятели все чаще и настойчивее пишут о нерасторжимой связи между религией и музами модернизма. «Искусство стало заменять религию»3; три фактора определяют духовную жизнь нашего времени: «символическая культура церкви, традиции современного искусства, мир техники и пользы»4; мир возвращается «к системе веры и откровения, в которой искусство уже пребывало когда-то »5.
1 «Иностранная литература», 1964, № 3, стр. 24.
2 Та м же, стр. 141.
3 Н. Va n L i er, Les arts de l’espace, Parbs, 1959, p. 8.
4 D. J oh n s, Epoch and Artist, London, 1959, p. 101.
6 H. Read, Philosophy of Modern Art, p. 21.
212
Религиозное сознание и модернизм
У религии и модернистской эстетики действительно много общего. У них одна и та же гносеологическая основа— философский идеализм. Их классовые цели одинаковые: они не открывают, а «закрывают» мир, затемняют его смысл, усыпляют сознание людей, уводят их от реальных противоречий. Вот почему модернизм и религия так легко находят общий язык — язык символов. Ведь символ может означать и то, что есть, и то, чего нет. Религия и модернизм оставляют человека «заплутавшимся на путях земных», в состоянии неопределенности и неуверенности.
«Символ всегда неясен»будь то религиозный или модернистский. И вот неотомисты и неопозитивисты, экзистенциалисты и прагматисты в один голос утверждают, будто между искусством и религией нет существенной разницы: и искусство и религия есть стремление к бесконечному, к идеалу; и искусство и религия — наивны; и искусство и религия суть только формы воспроизведения сверхчеловеческой абстрактной мысли; и искусство и религия суть акты мифологизации природы; и искусство и религия — это откровение, это луч света из сверхъестественного мира; и искусство и религия обнажают мистическую природу человеческого существа. Человек по природе своей мистик, говорят они, ему свойственно психическое влечение — творить богов.
Бог в христианской религии представляет собой абстрактную сущность, отчужденную от объективной действительности, от материи, от человеческого бытия, от реальной жизни. Для бога, творящего материю из ничего, материя есть ничто. Этот же принцип отчуждения от объективной действительности, принцип дематериализации, лежит и в основе модернизма.
Отрицание практического, деятельного, чувственного отношения к окружающей действительности приводит христианство к идее отказа от общения между людьми. «Освобождая» человека от границ действительности, религия оставляет его одиноким, заброшенным, сосредоточенным только на своих помыслах и чувствах. Другими
1 R. В а у е г, Traite d’esth&ique, Paris, 1956, р. 45.
213
словами: из христианской морали вырастает аскетизм — «замкнутый в себе» индивидуализм. Но индивидуализм, перерастающий в субъективистский произвол и анархический нигилизм, является основой основ и модернизма.
Без внутренней потребности общения с другими людьми, подавляя всякое живое побуждение и чувство, христианин становится человеком с неустойчивой психикой, злым и страдающим существом. И модернизм с его деформацией есть тоже не что иное, как проявление склонности к болезненному извращению.
Для некоторых американских авторов вопрос «может ли современное искусство быть религиозным?» не является гипотетическим. Они с полной уверенностью утверждают, что абстрактный экспрессионизм эго и есть подлинно религиозное искусство XX века.
Какое доказательство приводится в пользу этого утверждения?
Прежде всего то, что абстрактный экспрессионизм представляет собой дематериализованное, то есть «энергетическое», безобразное, то есть символическое, искусство. Абстрактный экспрессионизм, рассуждают авторы этой концепции, возникает в самом развитом индустриальном обществе (то есть в США), но не выражает прямо и непосредственно того или иного элемента этого общества, поскольку он стремится упразднить всякую чувственно осязаемую предметность, которая является целью, средством и результатом деятельности индустриального общества. Абстрактный экспрессионизм далек также от духа! современной аналитической мысли — в нем нет строгого порядка линий, цветов, ритмов. В нем отсутствует и та конкретность, которая присуща современной науке. Наконец, абстрактный экспрессионизм нельзя связать и с развитием «массового общества», «массовой культуры», поскольку такое общество и такая культура существуют якобы и во Франции, и в ФРГ, и в Великобритании, между тем как абстрактный экспрессионизм возникает и развивается только в США.
Если происхождение абстрактного экспрессионизма нельзя «вывести» из экономических, политических, научных, технических условий жизни современного общества, то авторам этой концепции остается одно — обратиться к «духовному климату» общества.
Какая же доминанта определяет этот «духовный климат?» «Мы утверждаем,— пишет один из авторов рас¬
214
сматриваемой концепции,— что определенные ценностные ориентации христианской традиции не только благоприятны, но в действительности даже необходимы для возникновения художественного стиля с чертами, присущими абстрактному экспрессионизму» L
Среди этих ценностей упоминаются такие, например, как универсализм, радикальный индивидуализм, активизм, спиритуализм, аскетизм, интуитивизм и др.
Универсализм — это всеобщность символических значений, это претензия на обладание истиной в последней инстанции. Такая ориентация действительно свойственна христианству и абстрактному экспрессионизму, хотя они и развиваются ныне в границах «релятивистского мира», в котором якобы отсутствуют абсолютные идеологии и непререкаемые авторитеты.
Радикальный индивидуализм? Да, это христианская «ценность», связанная с верой в бессмертие души. Вместе с тем она приемлема с точки зрения любого модерниста, верящего в культ оригинальности и безграничного самовыражения. Свою личную цель он стремится представить в качестве цели самого искусства.
Спиритуализм, аскетизм — тоже сугубо религиозные добродетели. Они связаны с представлениями «отцов церкви» — Плотина, Тертуллиана, блаженного Августина и других — о том, что ма,терия, плоть есть вместилище греха и безобразия, в то время как дух выражает деятельное начало, дающее миру форму и красоту.
Как христианин ищет точку опоры личного бытия и спасения в идее бога, так и «абстрактный экспрессионист похож на моряка;, ищущего в центре урагана точку покоя»,— пишет В. Каяволис1 2. И тот и другой не уверены в спасении — это и является источником их психического напряжения.
Можно было бы провести и другие параллели между религиозным сознанием и абстрактным экспрессионизмом, и все они будут свидетельствовать о том, что не только религиозное, но и эстетическое сознание современного буржуа опускается до уровня эгоцентрического мышления, автоматического, неконтролируемого разумом самовыражения, в котором исчезают уже всякие следы
1 «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Spring, 1963, p. 316.
2 Ibid., p. 317.
215
стремлений к каким-либо истинным ценностям. Интуитивная, хаотичная фиксация психической энергии, необремененной мыслью,— вот все, на что оказывается способным модернист, творя «вторую», то есть эстетическую, реальность.
Несколько по-иному подходит к вопросу «может ли современное искусство быть религиозным?» французский эстетик М. Брион. Чтобы утвердительно ответить на него, он прослеживает всю историю искусств, от палеолита до наших дней, присваивая художнику лишь одно неизменное стремление — к самовыражению.
По его мнению, у художника назначение одно — придать форму тому, что есть в нем самом самое неповторимое и интимное. Посредством уникального внутреннего видения художник истолковывает коллективные стремления общества, которое хочет созерцать в произведении искусства движение своих эмоций, а также быть уверенным в том, что его концепция универса соединяет в себе физическое и метафизическое начала. Развивая этот взгляд, Брион утверждает: «В произведении искусства выражается потребность человека открывать или создавать богов, чтобы поклоняться им. Они оправдывают свое присутствие в универсе, устанавливая между ним и человеком гармонию или, наоборот, восставая против нее и разрушая ее» !.
Художник выражает коллективную философию универса бессознательно с помощью знаков, символов, содержащих в себе значения настолько же очевидные, как и таинственные. Он сообщает человеческому коллективу то, что является для всех самым общим, а для каждого в отдельности — самым интимным. Художник говорит на языке намеков даже тогда, когда думает, что не делает ничего другого, кроме как воспроизводит увиденное. Ибо всегда он раскрывает, обнаруживает дух своего времени— это проявляется уже в самом импульсе, заставляющем его взять кисть в руки, а также в той манере, в какой он сжимает кисть.
Для первого художника, человека рисующего, который стал уже человеком разумным и производящим, живопись имела значение постольку, поскольку она занимала определенное место в магических и религиозных об-
1 М. В г i о п, L’oeil, l’esprit et la main du peinture, Paris, 1966, p. 12.
216
рядах, регламентировавших отношения между человеческим обществом и его зримым, а также незримым миром. «...Полотна, находящиеся в самом начале этого великого религиозного искусства,— пишет Брион,— будучи связанными с различными религиями, сохраняют в то же время важное значение: выражать священное содержание в зримом, зримо воспроизводить незримое В этом именно и заключается, в конце концов, основная функция всякого истинного искусства» *.
Истинное искусство, таким образом, выполняет функцию религиозного сознания: выражает священное содержание в зримых формах и символах. Но не лишается ли оно тем самым своей эстетической сущности?
Реалистическое искусство кажется Бриону отступлением от принципа истинного искусства: все, что связано с познанием и воспроизведением «посюстороннего» мира, он рассматривает как неискусство, как иллюзионизм и т. д. Искусству са-мых плодотворных в истории человеческой культуры эпох — античности, Ренессанса, критическому реализму XIX века, а также социалистическому реализму не находится места в ригористической схеме Бриона. С беспощадностью иезуита, нетерпимый к инакомыслящим, он его просто перечеркивает. Зато уделяет много внимания христианскому искусству и модернизму, в которых, по его мнению, адекватно выражается ирреальность реального и реальность ирреального.
Что касается христианского искусства, то из него, утверждает Брион, был изгнан всякий описательный элемент. Чистая духовность и сверхчувственность обретают в нем зримые формы. Христианское искусство не стремится к изображению, обманывающему глаз и рассудок ложным сходством с природными формами. Если христианский художник и воспроизводит предметный мир, то не ради него самого, не ради смакования им и не для получения практической информации. Нет, это воспроизведение должно служить вехой, указывающей дорогу к более высокому и более таинственному миру.
Перейдя к характеристике модернизма, Брион сразу же подчеркивает, что он начинается с отрицания природы, объективного мира, объективной истины. «Абсолютный субъективизм кубистов,— пишет Брион,— предвозвещает безразличие к природе, которое, как у Пикассо,
1 М. В г i о n, L’oeil, l’esprit et la main du peinture, p. 38.
9 О модернизме
217
кажется, доходит до ненависти к ней»1. Из кубизма, как известно, развивается абстракционизм. Именно это течение и дает основание Бриону отождествить искусство с религией. Он пишет: «Повторение у всех этих художников (имеются в виду абстракционисты.—С. М.) одного и того же слова «внутренний», на которое они ставят ударение, свидетельствует о том, что эстетика «Синего всадника» влияла также и на внешнее, формальное выражение; она явилась видом духовной реакции, восстанавливающей священный, религиозный характер искусства» 2.
Модернизм не ищет форму ни в истории искусства, ни во внешнем мире, ни в стилизованных формах природы, он находит свою форму в самом себе. «Искусство,— надеется Брион,—даст форму и нашим научным убеждениям: это — наша религия и наша истина. Она довольно глубока и прочна), чтобы создать самый великий стиль и самую значительную, которую когда-либо видел мир, переоценку формы»3.
Мы стали свидетелями исторического экскурса Брио- на. Читатель, видимо, уже заметил, что этот автор весьма далек от подлинно научного исследования.
Для Бриона не существует объективной истории искусства. Она( вращается у него вокруг трех осей: первобытного, христианского и модернистского видения мира. Все остальное (то есть реализм) рассматривается как «отступление» от принципа истинного искусства — давать зримое выражение незримому миру, находящемуся внутри нас.
Эту точку зрения разделяют представители всех без исключения течений модернизма. Только одни ставят акцент на момент релятивизма, неизбежно вытекающий из нее (у каждого индивида свой внутренний мир), а другие прямо связывают ее с метафизикой. Так, К- Ясперс говорит: «Метафизическое мышление человека настойчиво стремится к искусству. Характер его психики полностью раскрывается в том первобытном состоянии, когда искусство еще имело серьезное значение и было не только украшением, игрой, ощущением, но и включало в себя разгадку зашифрованных письмен» L По его
М. В г ion, L’oeil, l’esprit et la maiin du peinture, p. 38. Ibid., p. 309.
Ibid., p. 308.
218
мнению, настоящее искусство появилось вместе с изобретением шифров бытия, указывающих на существование незримой, трансцендентальной реальности.
Сторонники этой концепции зрят метафизическую сущность во всем — в искусстве примитивных народов, в детских рисунках, в надписях, которые можно прочитать на заборах, тротуарах, в общественных уборных, даже в «искусстве» душевнобольных. Они полагают, что именно к такой культуре и тяготеет «человек XX века».
«Вечные истины» идеализма
Не находя идеи, способной увлечь за собой широкие массы народа, буржуазная, философия и эстетика внушают человеку мысль о бессмысленности бытия, о трагической разорванности его сознания, о неизбежности страдания, о покорности судьбе, о невозможности ответить на вопрос: «Что есть истина?» Но агностицизм в смеси с христианским мироощущением, естественно, не может претендовать на новаторство, выражающее «дух» нашего времени. Именно поэтому в эстетике модернизма наряду с самыми модными «измами» существуют и течения, обращенные к далекому прошлому. Процессы, происходящие в искусстве XX века, она пытается объяснить с позиций давно исчерпавшего себя христианского спиритуализма.
Для теоретического обоснования антиреалистической сущности модернизма современные эстетики обращаются к Платону, Фоме Аквинскому, Беркли, Канту, Гегелю и другим представителям объективного и субъективного идеализма, нередко фальсифицируя их взгляды. Превращая в догмы некоторые положения, произвольно взятые из их философских систем: красота присуща не материи, а идее, искусство — тень тени (Платон); материя— неопределенная возможность (Фома Аквинский); прекрасное — то, что нравится нам без понятия (Канг); вещи — суть комплексы идей (Беркли); искусство — низшая ступень обнаружения абсолютного духа (Гегель) и т. д.,— модернисты тщатся доказать неоспоримость,
1 «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Winter, 1967, p. 182.
9*
219
правомерность противопоставления искусства действительности.
Наиболее рьяно в этой роли выступают представители неоплатонизма, неотомизма, неокантианства. Так, американский эстетик Файбельман полагает: существуют два универсума, два мира — мир возможностей и действительный мир. Мир возможностей — это сфера неизменных идеальных сущностей, мир совершенства, в котором пребывают архетипы абсолютной красоты. Он нереален, он существует идеально. Действительный мир, в котором пребывают люди, содержит в себе лишь ограничения, несовершенства и безобразия. Каждый художник, прозябающий в этом мире, стремится достичь места в иерархии бытия, обусловленного вечным порядком возможности. Судьба гонит обреченного'художника .подражать возможной красоте, абсолютным совершенным архетипам, которых недостает вульгарной действительности.
Так Файбельман пересказывает Платона, пытаясь принять посильное участие в борьбе, которая идет в современной эстетике. Предмет его нападок — теория подражания и будто бы связанный с ней реализм. В тысячу первый раз, вслед за другими антиреалистами, Файбельман повторяет: реализм — фотографичен, ему чуждо стремление к идеалу и т. д.
Хотя Файбельман и слывет знатоком Платона, но пересказывает его неточно: Платон, сторонник теории подражания, не лишал и, как идеалист, не мог лишить искусство идеальных начал. Идеальные начала подчеркивал в «ем и Аристотель, давший материалистическое истолкование теории подражания. Как известно, он считал того поэта хорошим, который изображает вещи не такими, какие они есть, а какими они должны быть; искусство, по его представлению, доставляет людям радость узнавания. А «узнавание» есть познавательный, то есть идеальный процесс. Эта концепция отражает практику греческих художников: Поликлета, Скопаса, Праксителя и других. Создаваемые ими обра|зы общество возводило в норму, в «канон красоты».
Разумеется, эти «каноны» вовсе не похожи (они и не моглц быть похожими) на фактографическое воспроизведение действительности прежде всего потому, что в них выражены идеальные устремления — видеть человека таким, каким он должен быть, каким он кажется, каким он является во мнении других людей и вместе с тем ка-
220
ков он есть на самом деле. «Канон» отражает сущность человека (а не его «фактическую» оболочку) по законам вероятности и необходимости.
Что же касается пресловутого обвинения реализма в фактографичности, то оно тоже не выдерживает критики. Файбельман вкладывает в понятие «фактографичяость» только один, антихудожественный (с его точки зрения) смысл: фотографировать (или расписать «цветенье редьки») — это значит отразить жизнь в ее неопровержимой достоверности. Однако даже фотографическое отражение жизни в формах самой жизни не застывает на стадии бездумной фиксации вещей, фактов, событий; оно подчиняется идеальным целям, обретая в них свой эстетический потенциал. Тем более что за столетие, прошедшее со времени изобретения фотоаппарата, фотография шагнула далеко вперед: она превратилась в искусство.
Хотя платонизм—это традиционная гносеологическая основа христианской религии, реакционеры, подчиняя искусство христианству, возвращаются не только к Пла- •тону, но и к средневековым схоластам.
Так, французский философ, глава неотомизма, Ж. Маритэн, воскрешает эстетические взгляды Фомы Аквинского. Маритэн рассматривает современные эстетические проблемы в духе ортодоксального христианства, требующего от художника «служения богу», «подчинения церкви». Он отвергает доктрину «искусство для искусства», называя ее абсурдной, за то, что в ней раскрывается стремление замкнуться в «башне из слоновой кости», снять с себя ответственность за последствия своей деятельности, исповедовать мораль нарциссизма, ничего не давать людям, кроме опьянения плодами формотворчества. Эту во многом справедливую критику Маритэн, однако, заключает словами: «Было бы безумием думать, будто истинное искусство появляется вследствие... разрыва художника с живыми силами, одухотворяющими человеческое бытие»1. Такими «живыми силами» являются, по мнению философа, христианство и католическая церковь, заинтересованные в обучении народа, перед которым искусство должно предстать в виде «теологии в образах».
Маритэн сводит прекрасное к сумме признаков (целостность, пропорциональность, яркость, ясность), отве-
* J Ma ri t a i п, Ба respons^bilite du l’artis.te,, Karis, 1961, p. 44.
^21
чающих потребностям разума. А разум представляется ему в виде источника света, от которого зависят значение и смысл вещей. Что же касается произведения искусства, то оно ра|ссматривается им прежде всего как вещь — обработанный камень, разрисованное полотно, размалеванная стена и т. д. Его физическая сущносгь неподвижна и неистинна. В момент созерцания физическая сущность превращается в эстетическую — в нечто* изменчивое, духовное^ призрачное: оно умирает и воскрешается в зависимости от восприятия. Оно обретает свою* завершенность как раз в то мгновение,- когда душа наблюдателя переполнена им.
Маритэн устанавливает ответственность художника перед своим произведением, перед людьми, перед общественностью (христианской). Определяя характер этой ответственности, Маритэн приходит к таким выводам, которые сводят на нет его спор со сторонниками «искусства для искусства». Он утверждает: ответственность художника перед произведением искусства обусловлена тем, что он, художник, является пленником аб*- солюта красоты; это требует от него .героической жертвы, аскетического подвижничества, отказа от всяких, земных интересов и целей. В акте самоотречения интуиция полностью порабощает тело и разум художника.
Моральная ответственность художника обосновывается Маритэном с помощью аналогии между деятельностью господа и художника. Посредством своего слова господь правит, несет в бытие то, что ему «нужно». И художник посредством своего искусства должен воздействовать на души и служить идее. Какой именно? Конечно же, идее христианства.
Маритэн резко разграничивает науку и искусство. Они находятся на противоположных полюсах — спекулятивного и практического разума. Эстетическое наслаждение не связано с нравственной сущностью искусства, с правдой отражения действительности, оно вызывается умением делать вещь совершенством выявления ее формы. При этом, «чем более произведение искусства насыщено символизмом (но символизмом стихийным, интуитивно усвоенным, а не иероглифическим), тем огромнее, тем богаче и тем выше будет возможность наслаждения и красоты» 1.
1 «Современная книга по эстетике», стр. 91.
222
Форма — это система спиритуалистических символов, независимая от содержания сущность. Не имеет значения, что хотел сказать художник; важно, чтобы он умел выявить форму «в метафизическом смысле». Маригэн оправдывает декадентскую деформацию: «...если футуристу угодно изобразить даму с одним только глазом или с четвертью глаза, никто не станет отрицать за ним право на это: все, что мы имеем право требовать — и в этом весь вопрос,— это, чтобы в данном случае даме было вполне достаточно этой четверти глаза» 1.
Другими словами: основное в искусстве — формальный момент подчинения частей целому. И если элементы, из которых состоит нарисованная дама с четвертью глаза, образуют некое механическое равновесие, некое замкнутое целое, то этим самым они обнаруживают природу символа, заключающего в себе метафизическое, божественное начало. Так возрождаемый Маритэном схоластицизм Фомы Аквинского становится средством оправдания модернизма. По этому поводу советский эстетик К. Долгов пишет: «В споре, разгоревшемся между христианскими философами и церковниками по поводу абстрактного искусства, Маритэн оказался больше теологом, чем они, он отстаивал идею сверхчувственной красоты, а потому и широкого использования абстрактного искусства в практике католической церкви»1 2.
Кроме неоплатонизма и неотомизма важная роль в современной буржуазной эстетике отводится неокантианству.
Теория И. Канта эклектична. Это подчеркнул В. И. Ленин: «Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений»3.
При этом следует иметь в виду, что в области философии естествознания заметнее выступал материализм Канта, в то время как в области эстетики сильнее проявилась его склонность к субъективизму.
Кант утверждает: никаких объективных правил, норм и законов в искусстве нет. В нем все индивидуально,
1 «Современная книга по эстетике», стр 91.
2К М. Долгов, Социальный смысл эстетической концепции
Жана Маритэна,— «Вопросы литературы», '1963, № 11, стр. 141.
3 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 206.
223
Субъективно, стихийно, бесконтрольно. Правила дйеФ Гений. Он оригинален, самобытен и стоит одиноко, возвышаясь над толпой. В этом заключается возможность его полной раскованности, независимости и абсолютной свободы. Но свободен не только гений в творческом процессе, свободен также зритель в эстетическом суждении. Субъект, произносящий оценочное суждение, не руководствуется никакими правилами.
Кант отождествляет прекрасное с суждением о нем. Этим самым он упраздняет всякие объективные критерии. А там, где этих критериев нет, прекрасное может определить свою сущность, только вглядываясь в самое себя, искусство может обозначить свои функции, рассматривая себя как нечто независимое от объективной действительности. Вот тут-то и проявляется метафизика Канта.
Устанавливая, что прекрасное нравится непосредственно, а суждению о полезном должно предшествовать действие, пользование им, Кант определяет различие между двумя суждениями. Именно на основе этого чисто формального разделения понятий Кант приходит к метафизическому противопоставлению прекрасного полезному.
Прекрасное, по Канту, есть то, что нравится нам без понятия и интереса. Отсюда следует вывод, будто прекрасное заключается в форме, смысл которой состоит только в том, что она вызывает игру ощущений. Кант отождествляет искусство с формой, представляя ее как сущность, независимую от содержания. Именно эти метафизические положения продолжают развивать последователи Канта. Их программа стала широкой и утонченной. Они исследуют не только эстетическое «суждение», но и «эстетический опыт», «эстетический процесс», «эстетическое отношение» и т. д., сводя их в конечном итоге к одной и той же сущности.
Эстетика Канта, разумеется, заключает в себе и положительные моменты: ей присущи просветительские тенденции, она направлена против узкоутилитарного подхода к искусству, против регламентации творческого процесса, в ней встречаются признания того, что прекрасное может существовать вне нае (положение о «связанной» и свободной красоте), вкус рассматривается иногда как явление социальное и т. д. Однако неокантианцы берут у Канта главным образом то, что может быть использо¬
224
вано для обоснования субъективистского произвола и формализма, концепции «искусство для искусства».
Вот один из таких примеров. Читателя убеждают: каждый «организует» свой собственный мир. Первичный элемент бытия выражается в ориентации отдельной личности на что-нибудь или кого-нибудь. Соприкасаясь с объектом, личность испытывает определенное чувство — благоговения или ужаса, презрения или высокомерия, дружелюбия или негодования. В этом уже выражена оценка объекта. Все то, что находится в пределах опыта, образует «индивидуальную реальность». Следовательно, «реальность» обозначает то, что возникает в настоящем,— непосредственно данное.
При определенных условиях чувство, возникающее вследствие соприкосновения человека с объектом, может стать эстетическим. Что это за условия?
Первое условие: нужно, чтобы опыт человека был имманентным, то есть чтобы он вырастал из внутренней непрерывности нарастающих действий. Эстетический опыт возникает не как результат воздействия на человека внешних обстоятельств (объективная действительность), он вырастает «изнутри», под влиянием вечных, присущих природе человека импульсов: полового влечения, чувства жалости, страха, честолюбия, тщеславия.
Следующее условие—незаинтересованность В связи с этим (который раз!) объясняют, будто между практическим и. эстетическим отношением к действительности лежит непроходимая пропасть, так как практическая позиция предполагает наличие цели, а эстетическая — бесцельна. «Описать эстетический процесс, как средство достижения цели, значит окарикатурить его,— пишет Б. Моррис,— его цель есть его собственный процесс, пришедший к завершению» *.
Еще одно условие: единство. Речь идет в данном случае о неразрывности объекта, включенного в опыт, и чувства, испытываемого индивидом. Следствием этой неразрывности объекта и субъекта будет удовлетворенное воображение.
Удовлетворенное воображение позволяет нам рассматривать данный опыт как эстетический. «Эстетическая ценность не может быть ни доказана, ни показана, но только признана,— продолжает Моррис.— Она противо-
1 В Morris, The Aesthetic Process, Ewanston, 1943, p. 100.
225
положна практическим и дидактическим целям» Г Здесь речь идет уже не о том, как человек судит об искусстве, а о том, каким должно быть его суждение.
Как ни далеки были старые философы-идеалисты от истины в объяснении явлений красоты и искусства (одни видели в них выражение идеальной сущности, другие — обнаружение бесцельной «в себе» и «для себя» существующей видимости), им все же была не чужда попытка рассматривать искусство как форму познания, как средство нравственного воздействия на человека, ставить прекрасное рядом с истинным и добрым, видеть в искусстве обнаружение эстетического идеала (Платон, Гегель). Прекрасное искусство выступает у них как проявление положительного начала, как антипод несовершенного, вульгарного, безобразного.
Совсем иные устремления характеризуют представителей современной идеалистической эстетики: они пытаются доказать, будто искусство противоречит морали, прекрасное—'истине. Они произвольно обращаются с наследием, фальсифицируя его, берут из него лишь мертвое, схоластическое и отбрасывают все живое, рациональное. Положения о единстве прекрасного, истины и добра, об искусстве как форме познания, о его гуманистическом значении, о нравственном воздействии искусства, о катарсисе, о подражании природе, которые мы так часто встречаем в старых идеалистических трактатах, обычно не находят для себя места в сочинениях современных идеалистов.
Особое чувство у них вызывает эстетика Гегеля. Она не поддается «модернизации». Гегель подверг уничтожающей критике романтизм, преемниками которого объявляют себя модернисты. «Романтическое искусство,— писал он,— уже больше не имеет своей целью свободную полноту жизни в наличном бытии... Оно не интересуется этой жизнью как таковой в ее подлиннейшем понятии, а поворачивается спиной к этим высотам красоты. Оно переплетает свое внутреннее также и со случайностью внешнего создания и дает достаточно места резко выраженным чертам некрасивого»1 2. Но это же самое можно сказать и о модернизме!
1 В. Morris, The Aesthetic Process, Ewanston, 1943, p. 111.
2 Г.-В-Ф. Гегель, Сочинения, т. XIII, M— Л., Гос. издательство, 1940, стр. 96.
Нет, модернисты отворачиваются от Гегеля не зря. От него дорога ведет и к Марксу и к реалистической эстетике Белинского. Учение Гегеля о связи искусства с исторической деятельностью людей, о гносеологической природе искусства, о единстве формы и содержания, об эстетическом идеале, о пафосе художника, о предметночувственном содержании художественного образа, об объективности эстетических критериев, так же как и его критика эстетического субъективизма, не может быть упомянуто теперь без соотнесения с аналогичными понятиями марксистско-ленинской эстетики.
И все же они стремятся приспособить Гегеля к своим нуждам, предварительно они «перерабатывают» его, как это сделали Кьеркегор, Хайдеггер, Сартр и другие, сводя сознание к трагедии, бытие — к отчуждению, логику— к метафизике, диалектику — к релятивизму и нигилизму.
Антропологизм и модернизм
«Разве к голове с необходимостью не полагается также тело?.. Можешь ли ты приставить голову мыслителя или поэта к желудку мужика? Можешь ли ты ожидать от эскимоса, не знающего ничего лучшего, чем тюлений жир, эстетического чувства? Разве то, что человек есть, не зависит от того, что он ест?» 1
Эти вопросы не могут не вызвать у читателя контрвопрос: какое отношение имеет этот грубый материализм к модернистам с их отрешенностью от практического интереса, с их поисками трансцендентальной реальности, с их тяготением к платонизму и религиозному сознанию?
Создатель антропологического материализма Л. Фейербах, видимо, имел в виду подобных спиритуалистов, когда писал: «Философ, по крайней мере истинный, спекулятивный, платоновский, христианский, еще при жизни лишен вкуса, обоняния, глух, слеп и бесчувствен. Он, правда, ест и пьет, он вообще исполняет все животные функции, как то: видит, слышит, чувствует,
1 Л. Фейербах, Избранные философские произведения, т. 1, М., Госполитиздат, 1955, стр. 315.
227
Любит, ходит, бегает, дышит, но ,6се лишь в состояний духовного отсутствия, то есть без души и без смысла» L
Вот, например, Владимир и Эстрагон, персонажи пьесы С. Беккета «В ожидании Годо». Они ждут мифического Годо как избавителя, как Мессию. Но чего они добиваются? На что надеются? Их желания не идут дальше удовлетворения своих физиологических потребностей. Владимир говорит: «Может быть, сегодня вечером ляжем спать у него, тепло, сухо, на соломе, с набитым животом. Стоит подождать. Разве нет?» 1 2
Почему же нет? И ради этого стоит подождать бога. Но дело в том, что и эти примитивные желания и это заинтересованное ожидание представлено Беккетом как проявление метафизической сущности человека. Владимир и Эстрагон рассуждают, дополняя друг друга: «Сколько ни .выходи из себя». «Останешься, какой есть». «Как ни вертись». «Нутро не меняется». «Ничего не поделаешь»3.
Почти аналогичный разговор происходит и между Жаном и Беранже, персонажами пьесы Э. Ионеско «Носороги». Выступая против носорожества, Беранже выдвигает нравственный, то есть социальный, довод: «...у нас есть своя мораль, которая, по-моему, никак не совместима с моралью животных». На что Жан отвечает: «Надо быть выше всякой морали».
Дальше разговор принимает такой характер:
«Беранже. А что ;вы предлагаете взамен?
Жан (мечется взад и вперед). Природу!
Беранже. Природу?
Жан (продолжает метаться). У природы есть свои законы. А мораль — противоестественна.
Беранже. Насколько я понимаю, вы хотите заменить законы морали законами джунглей?
Жан. Ия там буду жить, буду жить.
Беранже. Это только говорится. На самом же деле никто...
Жан (перебивает его, не переставая метаться). Нужно восстановить основы жизни. Вернуться к первобытной чистоте»4.
1 Л. Фейербах, Избранные философские произведения, т. 1, стр. 325.
2 «Иностранная литература», 1966, № 10, стр. 169.
3 Т а м же, стр. 170.
4 «Иностранная литература», 1965, № 9, стр. 120.
228
Подобные же ctpacfn, как уже отмечалось, обуревают и Мерсо (повесть А. Камю «Посторонний). Единственное наваждение, вечно преследующее и связывающее его с жизнью, это желание плоти осязать мир и тем удостоверяться о своем существовании. Его бытие несложно, как формула: «Ощущаю, следовательно, существую». Перед казнью он вспоминает лишь лицо Мари, в котором воплощаются «горящие краски солнца и пламя желания».
Половое чувство и страх перед смертью кажутся модернистам двумя основными инстинктами (наслаждения и сохранения), определяющими антропологическую сущность всякой человеческой деятельности. Модернисты придали этим чувствам множество оттенков. Они довели до совершенства мастерство в передаче как самого утонченного разврата, так и самого хладнокровного убийства.
Секс и насилие! Две ключевые темы модернизма.
Но как бы выглядели эти темы в интерпретации кубиста, футуриста, пуриста, абстракциониста и других «истов», достойным образом представляющих модернизм? Никак! Эти течения или стремятся к разрушению предметности или олицетворяют собой чистую беспредметность и потому третируют принцип изобразительности как натуралистический, фотографический, устаревший, не соответствующий видению «человека XX столетия», и т. д. Беспредметничество не может вызвать ни эротической эмоции, ни упоения жертвоприношением. Элита понимает это и потому делает исключение для темы секса и насилия. Здесь сохраняется значение принципа изобразительности, фотографизма и единодушно одобряется самый дотошный натурализм. Поэтому во многих произведениях темы секса и насилия так истолкованы и преподнесены, что их соответствие действительности ни у кого не вызывает сомнений. Они не только смакуются, но возбуждают агрессивность со всеми отсюда вытекающими извращениями. Так в пределах модернизма стирается различие между искусством и порнографией, между искусством и уголовной хроникой. Авангардисты же при этом делают вид, будто иначе и быть не может (такова, мол, природа человека!). Правда, теоретически они могут доказать, что искусство и порнография несовместимы (ведь эстетический опыт заключается в упразднении какой бы то ни было прак¬
229
тической, операционной позиции), но какова цена этим доказательствам, если они тут же признают: эротика, даже поглощаемая эстетическими ценностями, неотделима от искусства.
Модернизм исходит из того, будто всякая культура прививает человеку не столько стремление к истине, сколько желание получить удовольствие. Сантаяна, например, утверждает: даже объективная истина — только фактор удовольствия, что же касается эстетики, то она имеет дело не с истинами, но с ценностями, возникающими к тому же «из наших непосредственных и необъяснимых реакций, из действий наших жизненных импульсов, из принципиальных глубин нашей природы» Г
Под влиянием этого взгляда, давно уже ставшего преобладающим, модернисты приходят к выводу, будто эстетика есть антропологическая теория наслаждения красотой. К нему склоняются представители и объективного и субъективного идеализма. Объективный идеалист Файбельман свою книгу начинает с разделов: «Логическая оценка художественных объектов», «Онтология искусства», «Психология художника», «Психология художественной оценки». В эстетическом трактате Р. Байе исследование эстетического опыта начинается с описания «опыта красоты» и «чувства красоты». Книга Н. Гартмана «Эстетика» начинается с тем: «О восприятии вообще», «Эстетическое восприятие», «Созерцание и наслаждение» и т. д. Антология М. Рейдера «Современная книга по эстетике» также с самого начала посвящена выяснению таких проблем, как творческий процесс, интуиция, желание, наслаждение. Т. Манро полагает, что искусство есть род поведения, включающий две фазы: «производства» и «потребления». Что же касается эстетики, то главный ее аспект — психологический. Она исследует выражение эстетического опыта художником и восприятие этого выражения наблюдателем, а также наслаждение, доставляемое человеку выражением и восприятием.
Эстетика модернизма перемещает акцент с объективного на субъективное даже в том случае, когда авторы «уточняют» границы эстетического объекта.
Файбельман, например, определяет «эстетический объект» как то, что нам нравится, что доставляет нас-
G Santayana, The Sense of Beauty, p 24.
230
лаждение. Беря эстетический объект в неразрывной связи с чувством наслаждения, он переводит затем это чувство в план эротической эмоции *, содержание которой будто бы составляет удивление, стремление к идеалу (это в фильмах, например, с участием женщин-вамп, «секс-бомб»!) когда индивид «забывает себя» и не только себя, но и весь окружающий мир.
На вопрос, что такое эстетическое наслаждение, Анри ван Лье отвечает: «Это мгновенно наступающее соответствие между объектом и нашей способностью наслаждаться, когда это соответствие рассматривается в границах созерцания как самоцель»1 2. Но мы знаем, насколько условны эти границы! Практически они беспредельны. Их нет. Придав эстетическому опыту характер наслаждения, модернизм снял всякие табу и запреты — нравственные и даже религиозные — там, где речь идет о чувственном удовольствии. Буржуазия может поступиться своими идеалами, но не чувственностью. Тем не менее ее ученые-эстетики продолжают твердить о самодельном эстетическом созерцании.
Возникает вопрос: созерцание чего? И вот тут-то оказывается, что речь идет о созерцании индивидуалистом своей собственной сущности. Так антропологизм оказывается всего-навсего формой проявления индивидуализма.
Шведский режиссер И. Бергман попытался воплотить эту концепцию в сюжет фильма «Персона». Актриса Фоглер вдруг онемела: она все вкдит, слышит, обо всем догадывается, понимает человеческую речь, но сама молчит. Она отказывается реагировать на жизнь (жизнь — жестока), на обращенное к ней слово (слова— лживы, часто они не совпадают с поступками). Так она «убегает» от обманчивой жизни, ища покой. Она не отвечает даже на вопросы Альмы, медицинской сестры, приставленной к актрисе для ухода и лечения. Альма рассказывает о своих эротических приключениях. Актриса слушает эти рассказы, но сама отказывается от любви, от материнства. Она погружается в «абсолютное» одиночество. Но именно это и выводит из себя Альму, долг и обязанность которой — вернуть пациент¬
1 J. Feibeilman, Aesthetics. A Study of the Fine Arts in Theory and Practice, New York, 1949, p. 149.
2 H. V a n L i e r, Les arts de l’espace, p. 35.
231
ку к нормальному состоянию. Изъятые из социального окружения, одни на берегу моря, женщины терзают друг друга: одна своим бессмысленным молчанием, другая — своим заботливым вниманием. В конце концов Альма добивается от истерзанной актрисы произношения од- ного-единственного слова: «ничто». Режиссер хочет сказать: в этом понятии вся суть жизни и человеческого общения, и фильма—добавим мы. Философская концепция тотальной некоммуникабельности оказалась несостоятельной: в одиночестве человек не может ни наслаждаться, ни страдать.
Страдать и наслаждаться в абсолютном одиночестве человек не может хотя бы потому, что и страдание и наслаждение модернизм ставит на грань греха, а для греха, говорил Гейне, нужны двое (не избежала этой участи и актриса Фоглер). Тем не менее эстетика модернизма не может отказаться от соблазнов некоммуникабельного индивидуализма. Человек сосредоточивается на самом себе, создает для себя воображаемый мир, в котором все его переживания и всякая его деятельность тоже воображаемые. При этом он выражает свои чувства, объективирует их, придавая им форму — это и есть искусство. Все просто: вообразил мир, выразил свои чувства. Ни во что не вмешиваешься, занят только самим собой, да еще объективацией. А главное — никаких социальных проблем, никакой идеологии. Именно этим и устраивает буржуазию теория самовыражения: для художника полная свобода самоосущест- вления, а для нее — покой.
Для модерниста любой объект может стать эстетическим, необходимо только, чтобы объект оставил субъекта безразличным к внешнему миру, чтобы субъект мог сосредоточиться на созерцании собственного существования. «Я рассматриваю всякое мечтание — то ли это будет греза, то ли естественный сон или искусственно вызванное состояние невменяемости как прототип эстетического опыта...»1, пишет один из представителей теории самовыражения.
Интуитивный художник, невменяемое искусство, наслаждение, граничащее с насилием, — это и есть та безграничная свобода (свобода безответственности), которую дарует человечеству модернизм.
1 Цит. по кн : Т. Munro, Toward Science in Aesthetics, p. 59.
232
Проблема самовыражения и самонаслаждения представляет собой главную ось, вокруг которой особенно настойчиво вращается современная буржуазная эстетическая мысль.
Представители эстетики модернизма считают, что создаваемая ими наука включает в себя следующие части или разделы: морфологию, представляющую собой анализ форм и стилей в искусстве, удовлетворяющих потребности самовыражения и наслаждения; психологию, изучающую формы поведения людей, их переживания красоты; логический анализ эстетических объектов, то есть анализ их с точки зрения выразительности, возбуждающей наслаждение; социологию и антропологию искусства, исследующие человеческий опыт с точки зрения различных социальных и биологических групп, так как эстетическое наслаждение протекает у них не одинаково, и, наконец, теорию ценностей, которая выявляет отношения между эстетическими событиями и человеческими существами, обладающими определенными суждениями о ценности наслаждения. Таким образом, выходит, будто все основные части и разделы модернистской эстетики подчинены одной единственной задаче: выявлению различных форм самовыражения и самонаслаждения, как будто искусству свойственна только одна эта функция.
Самую крайнюю позицию в этом вопросе занимает, пожалуй, Р. Коллингвуд, чья книга «Принципы искусства», впервые опубликованная в 1938 году, выдержала уже семь изданий. Он пишет: «Если чувство вызвано ради него самого в пределах переживания, доставляющего наслаждение, то уменье вызывать его будет граничить с развлечением; если оно вызывается ради его практической ценности, то это будет магия... Если интеллектуальные способности пробуждаются только для упражнения, то произведение, вызывающее эту работу, будет загадкой. Если же они пробуждаются для узнавания чего-нибудь, это будет просвещение. Если определенная практическая деятельность стимулируется для какой-то выгоды, то этим стимулятором будет реклама или пропаганда. Если эта деятельность вызывается ради справедливости, то ее можно вызвать только проповедью. Все эти шесть стимулов каждый в отдельности или в определенном сочетании полностью исчерпывают функцию того, что ошибочно присвоило себе в совре¬
233
менном мире имя «искусство». Но ни одна из них не имеет никакого отношения собственно к искусству»1.
Коллингвуд отвергает все эти стимулы только пото- му, что каждый из них исходит от какой-то внешней цели или задачи. Собственно искусство, по его мнению, появляется только тогда, когда эмоция возникает сама собой, изнутри, в процессе ничем извне не понукаемого самовыражения.
Модернистское искусство интроспективно. Оно обращено «внутрь» — к психике, к подсознанию, где человек якобы может «разобраться в себе». Именно эта проблема— самовыражения — и представляет собой ту ось, вокруг которой носится эстетика модернизма. Причем у нее, как и у множества других модернистских проблем, две ипостаси: одна — релятивистская (мы уже касались ее), другая—‘метафизическая. В этом последнем случае модернизм нивелирует все разнообразие форм сознания и чувства, сведя их к наиболее общей, абстрактной, воплощающей в себе «сознание вообще», «чувство вообще». Более того, модернизм упраздняет различие между сознанием и чувством, обнаруживая в них «чистую» субъективность и только. «...Сознание художника (то есть сознание как таковое),— пишет Р. Коллингвуд,— не проводит различий между собой и своим миром, его мир поэтому есть то, что здесь и сейчас составляет его переживание, эта его деятельность не является собственно ни теоретической, ни практической»1 2. Бытие художника — это его переживание, его переживание — это и есть его мир, его мир — это и есть его сознание. Логика таких умозаключений неизбежно приводит автора к выводу: искусство не содержит в себе ничего, что было бы обязано своим существованием интеллекту. Функция разума сводится к деятельности, благодаря которой художник осведомляется о своих собственных эмоциях. Поэтому искусство есть выражение эмоций. И только. Оно ни к кому не обращено. Художник — это индивид, выражающий себя. Ни он сам, ни его самовыражение никак не связаны и не зависят от общества, от публики, от необходимости установления контакта с ней. Человек ведь может говорить что-либо самому себе и быть своим единственным слушателем.
1 lR. Collingwood, The Principles of Art, Oxford, 1963, p. 32.
2 I b i d., p. 290.
234
-В этом пункте эстетический антропологизм доходит до своего предела — до эмотивной концепции искусства.
Эмотивная концепция пользуется предельно упрощенными представлен.ияМ(И о творческом процессе. Она обнаруживает в нем в одном случае два звена: «переживание— выражение», в другом — три: «переживание — выражение—сообщение». Сообщение, естественно, может быть передано от одного индивида к другому только посредством слова или связного предложения (это может быть разговорная речь или язык какого-либо искусства). Чтобы выполнить свою функцию, слово и предложение должны обладать объективными значениями, стало быть, определенным образом 'соотноситься с объектами или объективными ситуациями. Но дело в том, что именно эмотивисты— наиболее последовательные сторонники принципа некоммуникабельности! Они лишают слово его объективных значений.
Эмотивная концепция не учитывает также качественного своеобразия чувств, их градации. Чувство может быть позитивным и негативным, вульгарным и эстетическим, плотским и духовным, искренним и фальшивым. Чувство может быть уклончивым и может перерасти в страсть. Человек, преследуя свои интересы, окрашивает эмоцией мысль, идею, убеждение.
Отождествляя выражение и чувство, эмотивная концепция упускает из виду способность человека скрывать свое чувство. Например, мина, жест, поза лицемерного человека могут быть восприняты как одобрение, в то время как на самом деле он испытывает чувство зависти или вражды. Следовательно, встает вопрос об адекватности данной формы выражения чувству. Здесь мы вступаем в область гносеологии, опять-таки чуждой эмотивной концепции.
Но самая главная трудность для эмотивистов состоит в том, что они не в состоянии связать эмоции человека с его социальной жизнью, соотнести внутренний мир человека с окружающим его внешним миром. Между тем как современное искусство, в той мере, в какой оно отступает от «абсолютного» эмотивизма, дает неопровержимые доказательства социальной обусловленности сознания.
Это можно наблюдать и по фильмам и по романам, фиксирующим наличие в XX веке «драмы человека», крушения «замкнутого в себе» сознания.
235
Глаёный персонаж романа К. Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса» умирает дважды — сначала духовно, потом физически. Что его привязывало к жизни, так это неуемная жажда обладания деньгами, властью, вещами, людьми... Душа его агонизирует, тело разлагается, но он думает перед неотвратимым концом: какое удовольствие, полное и чувственное, могут доставить неодушевленные предметы, какую радость, какое тонкое наслаждение... И тут же рядом с вещами появляются в его угасающей памяти образы людей, которые были для него только вещами. «Все или ничего!» — такова философия его жизни, обеспечившая ему успех в обществе, где каждый видит в другом не цель, а только средство.
Артемио Крус размышляет: он пробивался вверх ценой предательства и обмана, насилия и лжи, вероломства и надругательства. А в результате постиг истину: ты совершил на своем веку столько трусливых поступков, что быть храбрым уже нетрудно. Движимый жаждой обладания, он не считался ни с кем и ни с чем. Но каков его собственный удел? Окружающие Артемио близкие ему люди (жена, дочь и др.) так же обесчеловечены и эгоцентричны, как и он сам. Они его любят, но сама эта любовь очень похожа на выгодное капиталовложение.
Кризис эгоцентрического сознания вызван крушением индивидуалистического, собственнического уклада жизни, о котором рассказывается в романе Фуэнтеса. Собственнический мир исчерпывает свой жизненный потенциал. Это — саморазрушающийся, агонизирующий мир. Вместе с ним агонизирует и его сознание. Но в систему отношений и связей буржуазного мира и соответствующего ему сознания втянуты разнородные силы и факторы. Одни из них центростремительные, другие центробежные, одни устойчивые, другие неустойчивые, одни активные, другие пассивные и т. д. В результате взаимодействия этих сил динамическое равновесие социальной системы постоянно нарушается.
В условиях современного государственно-монополистического, бюрократического капитализма человек превращается в частицу огромной инертной массы. Он то и дело попадает в положение отчуждения по отношению к той системе, к которой привязан. Человек этот уже не играет и не может играть роль субъекта истории, он даже не может выбрать для себя необходимую или хотя
236
бы подходящую норму поведения и бытия. Его нормой становится или стихийное влечение или подчинение системе. Он уже не может быть целостной личностью. Не постигая целостности социальных отношений, он становится их невольником или жертвой. Он принимает в расчет только непосредственные данные личного опыта. Поэтому он считает реальным только то, что дано ему в ощущении. Homo Faber из одноименного романа М. Фриша, олицетворяющий это начало, рассуждает примерно так: Я вижу то, что вижу. Горы есть горы. Самолет для меня есть самолет и т. д. Но при чем здесь переживание? Зачем впадать в истерику? К чему эта женская чувствительность?
В одинаковости вещного мира прагматическое сознание видит доказательство незыблемости своего существования, но оно отказывается признать в этом мире наличие еще «чего-то». Это «что-то» представляет собой чувство, мысль, гуманность, все то, что одухотворяет вещный мир, придает ему те или иные значения, очеловечивает его. Именно оно, человеческое, и представляется человеку-производителю «пустой фантазией» или «просто мистикой».
Homo Faber—человек механической цивилизации. Он скептически относится к искусству, иронизирует над художниками. Об одном музыканте говорит: «Порой он действовал мне на нервы, как все художники, которые, несомненно, мнят себя более глубокими, высшими суще- етвами просто потому, что не знают, что такое электричество»1. Чувства для него всего-навсего результат переутомления. Он совершенно равнодушен к цветам, Любовь воспринимает как необходимость, не всегда к тому же приятную. В друзьях нуждается только в том случае, когда нужно «провести время».
Одиночество — единственно возможное состояние для такой индивидуальности. Но цепь объективных связей все же вовлекает его в систему человеческих взаимоотношений. И только для того, чтобы погубить. Нелепая случайность сводит его, пятидесятилетнего мужчину, со своей собственной дочерью. Трагическая кончина дочери заставляет его почувствовать, что он «покойник среди живых». Это и толкает его опять-таки к... самоанализу, к попытке осмыслить бытие в его целостности.
1 «Иностранная литература», 1966, № 4, стр. 25.
237
После разговора со своей женой Ганной он записывает в дневнике: «Я пережил (по мнению Ганны) такие отношения, о которых понятия не имел, и ложно истолковал их, убедив себя, что влюблен. Это заблуждение не было случайным, напротив, это заблуждение — часть меня (?), как и моя профессия, как вся моя жизнь. Мое заблуждение заключается в том, что мы, техники, пытаемся прожить без смерти. Дословно: ты обращаешься е жизнью не как с созиданием, а как со сложением, у тебя нет чувства времени, оттого, что нет чувства смерти. Жизнь — это созидание во времени» Г
Этот отрывок представляет собой ответ на вопрос «почему?», возникший в процессе самоанализа. Но он идет не от трагического персонажа, даже не от автора, ответ дав как бы посторонним наблюдателем. Поэтому человек-производитель и не рассматривает его как безусловную истину. Он и не безусловен, хотя, указывая на метафизический источник трагедии, .претендует на безусловность. Эгоцентрический человек оказывается неспособным понять жизнь как процесс созидания. Что же его связывает с ней? Материальные потребности? Интересы? Привязанности?
Существует еще одна разновидность эгоцентрического сознания. Абсолютный скептицизм, всеобъемлющая ирония, романтический «бунт», бессмысленная клоунада, сердитое отчаяние, неприкаянность— все это оттенки одного и того же умонастроения, вызванного безысходностью, бессмысленностью, абсурдностью всего происходящего в современном буржуазном обществе, которое основано на лживых, извращающих человеческую сущность отношениях.
Именно эту роковую ложь и ненавидит Ганс Шнир, персонаж из уже упоминавшегося романа Г. Бёлля «Глазами кроуна». Конфликт с «миром» начинается у него с протеста против сомнительной морали своего отца, известного промышленника. Ганс Шнир размышляет: «Откуда у этого милого, любезного человека, моего отца, столько твердости, столько силы, зачем он говорит с телевизионного экрана такие речи о долге перед обществом, о государственной сознательности, о Германии, даже о христианстве, хотя он, по собственному признанию, неверующий,— да еще так говорит, что всех застав¬
1 «Иностранная литература», 1966, № 4, стр. 101.
238
ляет верить ему. Наверно, тоже ради денег — не тех конкретных, на которые покупают молоко, ездят в такси, содержат любовницу и ходят в кино, а ради денег отвлеченных, абстрактных. Я боялся его, а он — меня; мы оба знали, что мы не реалисты, и мы оба презирали тех, кто говорил о «реальной политике». Все было много серьезнее, дуракам этого никак не уразуметь. По его глазам я понял: не может он давать свои деньги клоуну, который с деньгами может сделать только одно — истратить цх, то есть именно то, что надо делать с деньгами» Г
В глазах Ганса Шнир а окружающий мир неразумен, иррационален, и он отплачивает ему бескомпромиссной ненавистью. Впрочем, это негативное чувство не переходит в действие. Оно становится как бы второй натурой художника, видящего некоторое утешение в «злых глупостях», которые он совершает. Клоунада привлекает внимание к нему, но не пугает тех, против кого направлена. В гриме, делающем его поразительно похожим на отца, Ганс Шнир идет на вокзал петь куплеты:
Разнесчастный римский папа,
ХДС с ним мучится:
Не везет он их тележку —- Ничему не учится 1 2.
В этот карнавальный вечер вокруг клоуна шныряли такие же ряженые, как и он сам. Потому-то никто и не узнал в нем «бунтаря». Его приняли за нищего. Когда первая монета в десять пфеннигов упала ему в фуражку, Ганс Шнир перепугался...
Философия, реабилитирующая причуды и фантазии, нелепости и капризы эгоцентрического сознания, видит источник его в некоей антропологической сущности. Но художественная практика открывает за экраном, фиксирующим поток этого сознания, мир общественных отношений, в котором вызревают условия и причины, порождающие кризис эмотивизма и некоммуникативности: люди начинают рассуждать.
Современное буржуазное сознание распадается на бесконечное множество индивидуальных «монад», каждая из которых носит в себе свою «реальность» и «свою
1 «Иностранная литература», 1964, № 3, стр. 105.
2 Т а м же, стр. 142.
239
истину». Оно теряет монолитность, целостность. Эта проблема распадающегося сознания вырисовывается перед буржуазной интеллигенцией в качестве «проблемы века», потому в ее глазах сознание становится «героем современности». Она стремится «исправить» его, придать ему цельность. Но все эти действия замыкаются в рамках того же самого сознания, которым она неудовлетворена. Поэтому буржуазная интеллигенция выражает себя только в индивидуальных актах и ограничивается ими. Вот почему все остается без изменений: сознание продолжает существовать само по себе, действи-. тельность— сама по себе. Разрыв между ними становится «метафизическим», то есть его начинают рассматривать как нечто испокон веку данное, а некоммуникатив- ность—жак норму существования.
«Метафизический» разрыв индивидов вполне даже устраивает носителей эгоцентрического сознания. Ссылаясь на него, они снимают с себя ответственность за положение дел в реальном мире: ведь мир находится «по ту сторону», за границей отчуждения между людьми, преодолеть которую невозможно, да и не хочется. Реальный мир — это реальные заботы, тревоги и страхи. Он пугает. А «своя реальность» (то есть свое сознание) по крайней мере уже «обжита», привычна. Она здесь, сейчас, всегда с нами. Она, как «тихая обитель» или «тихая пристань», успокаивает. Вот почему герои трагикомедии Дж. Патрика «Странная миссис Сэвидж», жильцы «Тихой обители», не спят (пока человек не спит — длится сегодня, но после сна наступает завтра. В сегодняшнем дне он уверен. А что будет завтра?), не слушают радио, газеты читают спустя месяц (событие прошло и уже ничего не поделаешь, нельзя ничего изменить). Эгоцентрическое сознание выключает себя из действительности.
Но если это сознание принадлежит художнику, который стихийно тянется к людям? Как он, художник, выразит объективную реальность? Так же, как это делает миссис Пэдди: она рисует море, хотя никогда не видела его. Если же объективную реальность художник выразить не может, то единственное, что ему остается,— это выражать себя. Для эгоцентрического сознания самовыражение становится единственным средством фиксации своего присутствия в мире.
Проблема самовыражения, выдвинувшаяся на первый план в эстетике модернизма, принимает в ней антропо-
240
логический характер. Она включает в себя множество сторон и аспектов, непосредственно связанных с внутренней жизнью личности, ее мышлением и поведением. Но эту проблему нельзя решить, не выяснив отношения этой внутренней жизни к внешнему миру, окружающему человека. Она решается в той же области науки, которая исследует отношение между субъектом и объектом: в области гносеологии. Хочешь — не хочешь, а «полезай» туда. Однако, рассматривая, по сути дела, гносеологические аспекты искусства, эмотивисты даже боятся назвать их своим именем и в большинстве случаев приходят к... антигносеологическим выводам.
Почему?
Гегель отмечал, что, познавая истину, человек преодолевает свое отчуждение к действительности. В известном смысле это положение бесспорно. Но нужно понять, что эмотивисты не в состоянии преодолеть свое отчуждение. Не только потому, что они не ищут истину. Но главным образом потому, что они не собираются менять действительность. Давно известно, что проще и легче менять свои представления о мире, чем сам порядок мира. Ведь менять мир — значит брать на себя ответственность перед ним. Эгоцентрическое сознание ни перед кем не несет ответственности. Это — безответственное сознание, обращенное внутрь, на самое себя. Известный американский критик Дж. Кенедей отмечает: «Искусство стало формой автопсихиатрии»1. Создаваемое эмотивистами, только таким оно и могло стать.
Антигносеологические выводы эмотивистов согласуются в то же время с социальной политикой... эмогив- ной буржуазии, которая стремится превратить человека в нерассуждающее существо, в робота-исполнителя, в механическую единицу безликой толпы. Буржуазия навязывает «среднему» человеку свои стандарты вкуса и поведения, развращает его инстинкты, соблазняет его возможностью чувственных наслаждений, она обращается главным образом (кино, телевидение, реклама) к его способности аудиовизуальных восприятий, она вызывает в нем строго запланированные рефлексы, она забавляет его, она внушает ему чувотва страха и неуверенности, она без конца повторяет ему, что счастье заключается лишь в обладании вещами и т. д.
1 См.: I Moskiin, Morality in America, New York, 1966, p. 35 241
и т. п. Она только не пробуждает и не развивает в нем способности анализировать и критически мыслить.
Общество, ставящее выгоду выше красоты и добра, толкающее человечество к войне, к самоистреблению, возводящее насилие в принцип государственной политики, само стоящее на грани катастрофы, самим фактом своего существования убеждает иных эмотивистов в том, что истина не имеет наличной стоимости. Следовательно, антигносеологические выводы кажутся им естественными и неизбежными.
Эстетику модернизма по праву называют релятивистской. Говорят, она возникла кай антитеза академическим догмам и метафизическим концепциям искусства. Однако сам модернизм раскрывается именно как метафизика XX века. Во всех своих бесконечных разновидностях он абсолютизирует эгоцентрическое сознание, рассматривая при этом человека как некую внесоциальную, антропологическую сущность. Эта новая метафизика тяготеет к религии и не опровергает, но, наоборот, использует старую метафизику для того, чтобы утвердить свои догмы как нечто «извечно данное».
Вокруг истины
Модернистской эстетике всегда было не чуждо стремление к истине. А в последнее время оно становится все более настойчивым. Достаточно вспомнить в этой связи о книге Э. Дальберга и Г. Рида «Истина — самое святое» (1961) *, о V Международном конгрессе ло эстетике (Амстердам, 1964), на котором были прочитаны доклады: «Истина в искусстве» (А. Гуццо), «Истина и реальность в искусстве» (Г. Мурелос), «Эстетическая проблема истины» (О. Борелло) и др. В 1965 году вышла книга А. Гофстадтера «Истина и искусство»1 2. В 1966 году были опубликованы материалы научной конференции в Кентукки на тему: «Общественные науки и поиск истины»3. Данный перечень можно продолжить, но есть ли в этом надобность? Дело в том, что названия сами по себе еще ни о чем не говорят. В этих изданиях иногда содержатся взаимоисключающие концепции. Так, например, на конференции в Кентукки М. Бердслей высказался в том духе, что литературное
1 Е Dahlberg and Н. Read, Truth is More Sacred. A Critical Exchange on Modern Literature, New York, 1961.
2 A Hofstadter, Truth and Art, New York — London, ,1965.
3 «The Humanities and.the Vnder§tanding of Reality», Lexington
(Ky), 1966. ” '
24-3
произведение следует рассматривать как форму познания мира и человека. «...Способность литературы выполнять эту функцию,— говорил он,— расширяет и совершенствует нашу способность понимать друг друга — это одна из основных и постоянных ценностей ее» 1. Другой участник коференции, Н. Фрай, отстаивал совершенно иную точку зрения: «...искусство не только не пытается искать истину,— утверждал он,— но даже не стремится к этому...»1 2.
Если эти решительно противоположные позиции объяснить только теми крайностями, которые бывают в спорах, то их следует оставить без внимания. Однако дело обстоит значительно сложнее: ведь спорят не только в Кентукки, спорят и в Москве. И несмотря на то, что дискуссии проходят как на основе противоборствующих мировоззрений, так и на одной и той же философской основе,— между эстетиками нет единства по кардинальным вопросам. Что такое искусство — познание или переживание? В чем своеобразие художественной истины? Существует ли гносеологическая связь между истиной и красотой?
Итак, единства нет. А между тем, поэт предупреждает:
Знаю, орды двойников Есть у всех клеветников,
Но двух истин не бывает,
Облик истины таков 3.
В самом деле: правомерна ли сама постановка вопроса об истине в эстетике? Поскольку эстетика это наука о законах красоты (существующих объективно) и теория вкуса (вкусовые оценки субъективны), она неизбежно должна заняться выяснением связи между эстетическим вкусом и объективным законом красоты; к тому же она определяет степень соответствия между искусством и действительностью. Поэтому не может быть никаких сомнений насчет правомерности связей между гносеологией и эстетикой. В свое время эстетика рас¬
1 «The Humanities and the Understanding of Reality», Lexington (Ky), 1966, p. 28.
2 I b i d., p. 34.
3 Расул Гамзатов, Пять пальцев.— «Известия», 1968, 3 февраля.
244
сматривалась как определенная область (или часть) гносеологии, как философия искусства. Она и сейчас остается философской наукой, несмотря на онтологиза- цию ее содержания.
Конечно, проблема истины ставится по-разному в различных философских науках — в этике не так, как в праве, в психологии .не так, как в социологии, в эстетике не так, как в логике, и т. д. Что касается эстетики, то вопрос об .истине на протяжении всей ее истории от Аристотеля до наших дней включается в нее то в виде теории подражания, то в виде теории прекрасного, то в виде теории оценочного суждения (какова природа эстетического объекта и эстетического восприятия?), то в связи с теорией художественного познания (каково отношение искусства к действительности?) и т. д. Это «включение» не произвольно. Оно вызвано не только философскими влияниями, но и внутренней необходимостью развития самой эстетики.
Само собой разумеется, что известное классическое определение истины (соответствие суждений вещам) нельзя отождествлять ни с концепцией подражания искусства природе, ни с теорией искусства как воспроизведения жизни в формах самой жизни, ни тем более — с теорией отражения, истолковывающей искусство как одну из форм общественного сознания. Тем не менее между этими эстетическими теориями и классическим определением истины существует определенная внутренняя связь, поскольку и материалистическая философия и реалистическое искусство объединены общим устремлением к познанию объекта.
Сравнивая науку и искусство, эстетики прежде всего обращают внимание на различия (они очевиднее), существующие между ними. Обычно отмечается, что наука— это мышление в понятиях, искусство — мышление в образах; наука — это мышление аналитическое, искусство— мышление синтетическое; наука объективна, безлична, искусство субъективно, эмоционально, антропо- центрично; ученые начинают с того, чем закончили их предшественники, ,а художники начинают все как бы снова, более того: романтики отрицали классицистов, своих предшественников, реалисты — романтиков, импрессионисты-^-реалистов и т. д. Часто говорят: наука открывает законы природы и общества; если бы искусство вздумало состязаться на этом поприще с наукой,
245
оно перестало бы существовать. И тут же приводят доказательство: коль скоро истина — это соответствие суждений вещам, то о какой истине может идти речь, когда поэт заявляет:
И вечный бой! Покой нам только снится Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль...1
Все здесь противоречит здравому смыслу, нормам элементарной логики: «вечный бой» — такого не бывает, «покой снится сквозь кровь и пыль» — какая-то несуразица, «летит кобылица» — только кобылицы не летают... Не обнаруживая в поэтических суждениях точного «соответствия вещам», можно сделать на первый взгляд правдоподобное умозаключение, а именно: искусство не соответствует действительности, как это имеет место в случаях со «здравЫхМ смыслом» и научным познанием. Оно преодолевает действительность, лишь намекает на нее, оно многозначно, субъективно, его стихия — символизм, то есть в нем нет места истине.
Заметим кстати, это умозаключение является одним из исходных в эстетике модернизма. Так, Пикассо, очень чуткий к «климату эпохи», заявляет: «Искусство не есть истина. Искусство — ложь, но эта ложь учит нас постигать, по крайней мере, ту истину, какую мы, люди, в состоянии постичь. Художник должен найти способ убедить других в правдоподобии своей лжи» 1 2. Это положение— не игра словами, оно заключает в себе весьма определенный смысл: преувеличивая значение условности («лжи»), подчиняя ей искусство, модернизм снимает вопрос об истине, то есть о соответствии искусства объективной действительности, природе. Сам Пикассо уточняет свое положение: «С помощью искусства мы выражаем наше представление о том, что не является природой» 3.
Всякое человеческое представление действительно не является природой, ведь мысль не тождественна мате- р’ии. Но если так, то требование выразить наше пред-
1 А. Блок, Собрание сочинений, т. Ill, М.—Л., Гослитиздат, 1960, стр. 249.
2 «Пикассо. Сборник статей о творчестве», стр. 9—10.
3 Та м же, стр. 10.
246
ставление о том, что не является природой, по существу, сводится к стремлению выразить наше представление о... представлении. Это и есть собственно самовыражение. Оно неизбежно превращает искусство в нечто ирреальное, в фикцию (в ложь), в которой объективная действительность даже не угадывается по той простой причине, что в центре «схваченного» живописцем пространства (картина) будет находиться не объект, а субъект, то есть сам художник, вернее, его представление об объекте (например: «Плачущая женщина» Пикассо, где образ женщины дан анф,ао и в профиль одновременно). Самовыражение связано с «эгоцентрическим затруднением», свидетельствующим о том, что художник, подчиняясь своим навязчивым идеям, взглядам или представлениям, не в состоянии избавиться от них с тем, чтобы изобразить объект так, как он существует «сам по себе».
Французский махист А. Пуанкаре выдвинул положения: «не природа дает (или навязывает) нам понятия пространства и времени, а мы даем их природе»; «все, что не есть мысль, есть чистейшее ничто». В. И. Ленин оценил эти формулы следующим образом: «Это — выводы идеалистические. Логика самых основных принципов доказывает (таков ход мысли Пуанкаре), что эти принципы не какие-нибудь копии, снимки с природы, не изображения чего-то внешнего по отношению к сознанию человека, а продукты этого сознания»1.
Тезис, согласно которому понятия, образы, равно как и знаки, символы, материальные носители понятий, образов, возникают вне гносеологической связи с природой, в конечном итоге ведет к признанию как тождества, так и возможности отчуждения между мышлением и бытием. Отсюда следуют выводы: «искусство — не истина», «наука — система условных обозначений» и т. д.
•Выдвигая свое знаменитое положение: «искусство — ложь», Пикассо стремился выразить специфику искусства, подчеркнуть в нем то, чем оно отличается от науки. При этом он никак не претендовал на истину в ее философском значении. Однако его представление об искусстве полностью совпало со взглядами Пуанкаре, который почти однозначно определил сущность... науки! Случайно ли это совпадение? Конечно, нет! Эти два опре-
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 267.
247
Делений, оказывается, выразили не столько специфику искусства и науки, сколько особенность одного и того же методологического подхода к различным формам сознания. Этот подход—субъективистский, односторонний. И Пикассо и Пуанкаре метафизически отождествили форму и содержание, средство и цель. Условность присуща и языку искусства и языку науки. И Пикассо и Пуанкаре свели искусство и науку к условности. Она заслонила собой, уравняла две несхожие сущности.
Язык науки, пожалуй, в более высокой степени условен в сравнении с языком искусства. Один слагается из знаков, выбор которых может быть произвольным, другой — из образов, выбор которых определяется их сходством с предметной реальностью. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, скажем, «пифагоровы штаны» с «Дорифором» Поликлета или формулу, выражающую зависимость энергии от массы и ее ускорения, с романом Т. Манна «Доктор Фаустус». Поставленные рядом, эти вещи кажутся несравнимыми. Тем не менее многие западные эстетики связывают античное искусство с геометрией Евклида, а современное — с теорией относительности Эйнштейна. Такие аналогии проводятся на основе крайней формализации языка науки и искусства.
Но не будем вникать сейчас в тайны модернистского мышления. Поставим вопрос так: является ли искусство познанием?
Ответить на этот вопрос не так-то просто, потому что он относится к двум субъектам: .к тому, кто создает произведение искусства, и к тому, кто только воспринимает его. Конечно, различия, существующие между ними, можно размыть, упразднить. Говорят же, например, что произведение искусства, вышедшее из рук художника, есть нечто незаконченное, черновик, который необходимо не столько «продолжить», сколько «преодолеть» и завершить. Некоторое «преодоление» произведения действительно осуществляется в момент восприятия, но и само восприятие никогда не завершается. Оно возобновляется каждый раз при новой встрече субъекта с произведением, которое, будучи материальным носителем художественного смысла и значения, существует вне восприятия и независимо от него. Следовательно, граница между писателем и читателем, живописцем и зрителем, композитором и слушателем существует реально, несмотря на
248
попытки ее размыть с помощью принципа нон-финито. А коли так, то вопрос о гносеологической природе искусства по-разному решается для производителя и потребителя его даже в том случае, если это одно и то же лицо.
Репин не ставил под сомнение необходимость изучать природу, общество, человека. В его «Пенатах» висит на стене вставленный в рамку листок бумаги с изречением: «Красота—дело вкуса. Для меня она вся в правде».
Л. Толстой отмечает: художник не стремится к протокольному соответствию действительности. Он не историк. Художник не ставит перед собой задачу бесспорно решить тот или иной социальный вопрос. Он не социолог. Его верность действительности, а значит истине, будет заключаться в том, что он заставит читателя полюбить жизнь. Именно для этого ему и нужен полет воображения.
Полет воображения — это поиск. Поиск той одной единственной истины, которая говорит всем взорам, всем умам, всем воспоминаниям, всем сердцам. Л. Толстой подчеркивал: Читатель, зритель, слушатель сливаются с художником в поиске, то есть они следуют за ним, если он ищет ответ на вопрос, волнующий всех их. Художник открывает истину для себя только затем, чтобы открыть ее другим. Поэтому он думает не только об истине, но и о формах, средствах, способах ее выражения. Само средство, таким образом, включается в его цель.
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, П. Лафарг, Ф. Меринг, Г. Плеханов, А. Луначарский рассматривали искусство как одну из форм общественного сознания, а «сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием»то есть отраженным бытием.
Искусство — познание. Оно является таковым прежде всего для художника. Объект его исследований — «человеческая действительность», то есть человек, взятый во всех его прямых и косвенных взаимосвязях с внешним миром. Объект познания, таким образом, является одновременно и субъектом, формирующим себя в процессе преобразования действительности. Искусство
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., «Искусство: 1967, стр. 80.
Ю О модернизме
249
сосредоточено именно на этом процессе становления человека.
Человек— не абсолютное, суверенное существо. Суверенно только человечество, взятое в его поступательном развитии. Каждая эпоха формирует свой, преходящий тип личности именно таким, каким он «должен быть», как частица, как выразитель абсолютного — человечества. В этой смене эпох и поколений личность изживает в себе животное начало, все более утверждая человеческое. Это необходимость, хотя в ее осуществлении можно наблюдать попятные движения. Искусство неизменно служит ей. Там, где оно изменяет ей, оно изменяет и себе, то есть перестает быть искусством.
Произведение искусства предстает перед личностью прежде всего как объект восприятия. Оно с его внутренними связями реального и идеального, действительного и вымышленного должно быть убедительным для того, кто воспринимает его. Все его элементы должны «сцепляться» по законам зрительных и слуховых восприятий, психологических установок и мотиваций. Гамлета может играть любой актер, лишь бы он убедил зрителя в том, что такой Гамлет возможен. Зритель, таким образом, требует довольно мало, но вместе с тем и слишком много. Его требование-максимум: истина.
Гёте говорил, что истина только тогда истина, когда она для человека. Истина искусства и содержанием своим и своей формой — всем своим естеством— обращена к человеку.
Скептик или невежда может спросить: какая истина содержится в картинах Веласкеса, в Пятой симфонии Бетховена, в «Анне Карениной» Льва Толстого? Что узнает в них человек XX века?
Ответ несложен: он обнаруживает в них то, что принадлежит всему человечеству. Именно это же, общее, искусство пробуждает в нем самом, доставляя человеку, как говорил Аристотель, «радость узнавания».
Зрение Веласкеса было необыкновенно острым: он различал в корзине с лимонами двадцать два оттенка цвета. Музыкальная способность Бетховена была феноменальной: даже глухота не могла помешать ему «высекать огонь из души человеческой». Способность Льва Толстого анализировать и раскрывать «диалектику души» была поразительной. Воспринимая произведения этих художников, зритель, слушатель, читатель как бы
250
начинают видеть мир глазами Веласкеса, проникать в мир звуков вместе с Бетховеном, понимать тончайшие оттенки человеческого чувства во всей их многозначи- мости и содержательности, как их понимал сам Лев Толстой. Другими словами: субъект, воспринимающий произведение искусства, тоже познает мир, но не один, а вместе с художником. Его сила зрения и способность понимания по меньшей мере удваиваются. В произведении он видит отражение своей сущности, обогащенное талантом художника. Это доставляет ему эстетическое наслаждение.
Конечно, познанием не исчерпывается значение искусства. Оно явление многогранное, сложное, синтетическое. В чем заключается его специфика? Каковы его границы? Чем оно отличается от неискусства? На все эти вопросы наши предварительные рассуждения не дают ответа. И не так легко дать его. Эстетическая теория- пытается найти этот ответ вот уже более двух тысяч лет. Судя по тем спорам, которые ведутся в настоящее время, можно подумать, что история эстетики прошла мимо упомянутых вопросов, настолько ныне разноречивы ее понятия.
Однако история эстетики не так уж бесплодна. В ней имеются определения: искусство — подражание жизни по законам гармонии и ритма; воспроизведение жизни в формах самой жизни; учебник жизни; модель действительности; способ творчества по законам красоты; эстетическая ценность; новая реальность; мышление в образах; эстетическое переживание действительности; средство самовыражения художника; средство общения между людьми; средство эстетического наслаждения и т. д. Аристотель сравнивал искусство с философией, Альберти — с природой, Леонардо да Винчи — с зеркалом. Заметим, что в эстетике модернизма модны другие сравнения: с мифом, гипнозом, абстракцией, обыденной вещью, бредом душевнобольного и т. д.
Как отнестись к этому нагромождению сравнений и формулировок?
Допустим, что только одно из приведенных определений истинно, остальные—'ложные. Но такой взгляд при всем его правдоподобии ведет, как правило, к метафизическому омертвлению искусства.
Предположим далее, что все эти определения верны, но мы пользуемся каждым из них в отдельности в за- 10* 251
висимости от ситуации, от точки зрения исследователя, от той цели, которую он преследует при этом, и т. д. Однако такой подход приводит к крайнему релятивизму, который всегда и неизбежно оказывается в плену модного, но преходящего мнения.
Нельзя исчерпать сложную, многогранную, противоречивую природу искусства в каком-либо одном понятии.
Где же в таком случае истина?
Обилие определений свидетельствует как о сложности самого предмета, так и о разноликости тех позиций, с которых люди подходят к искусству, к пониманию его сущности, его роли, его отличительных черт. Именно поэтому для науки очень важно найти в самом предмете такое свойство его, которое было бы наиболее общим, охватывающим другие, отдельные, «частные» свойства. А в разноречивых позициях людей — такую, которая поднималась бы над их частными, преходящими интересами.
Наиболее общим свойством искусства является то, что оно сопряжено с движением общественного сознания, с познанием «человеческой действительности», с эстетическим развитием человека. Именно поэтому вопрос об эстетических отношениях искусства к действительности есть основной вопрос науки о нем. Под этим углом зрения мы и будем исследовать те процессы, которые происходят в модернизме, претендующем быть эстетическим кредо XX века.
В начале XX века неокантианец И. Кон писал: «Слово «истина» применяется при обсуждении произведений искусства в самых различных смыслах...» Г Все эти смыслы были, с его точки зрения, приемлемыми за исключением одного. Он полагал, что о «так называемой правде природы, то есть о согласии художественного изображения с внехудожественной действительностью», в плюралистической эстетике не может быть и речи.
Кон исходил из того, что между созерцанием (искусство) и логическим мышлением (наука) существует радикальная противоположность. Логическая ценность, объявлял он, есть ценность истины, она основывается на согласии понятия с природой. Эстетическая же ценность имманентна, она находит субстанцию в себе са-
1 И. Кон, Общая эстетика, М., Гос. издательство, 1921, стр. 71.
252
мой. Эстетический объект (то есть произведение искусства) замкнут в самом себе и потому не нуждается в согласии ни с природой, ни с социальной действительностью. В соответствии с этим Кон считал уместным говорить лишь о внутренней правде произведения искусства. «Внутренняя правда,— писал он,— есть полная согласованность всех частей с идеей целого, в известной мере жизнеспособность произведения в силу имманентных ему законов»1.
Как уже отмечалось, на V Международном конгрессе по эстетике, состоявшемся в 1964 году в Амстердаме, проблема истины в искусстве занимала одно из важнейших мест. Но, несмотря на то, что она решалась на этот раз виднейшими и крупнейшими представителями эстетики модернизма спустя шестьдесят с лишним лет после выступления ныне уже забытого Кона, теоретический уровень и способ этого решения ничуть не изменились. Все выступавшие опять говорили о многозначности понятия «истина» в искусстве. Истина рассматривалась ими и как согласованность частей произведения искусства, и как искренность художника, и как его средство, материал, и как иллюзия, как ложь, но только не как соответствие искусства действительности, хотя о соответствии модернизма «духу времени» было сказано немало.
В основе релятивистской концепции истины, распространившейся в эстетике модернизма, лежит агностическая идея невозможности познания мира и отказа от его познания. И. Кон писал по этому поводу: «Мир нигде не дан нам просто, так чтобы оставалось только воспроизвести его, всюду нам дается лишь материал, из которого мы лишь должны еще построить мир» 1 2. И еще: «Познание есть прогрессирующее подчинение данности функциям мышления. Но так как самая данность никогда не может разрешиться в функции мышления, то это стремление не имеет никакой надежды на свое выполнение когда-либо» 3.
Современные знаменитости модернизма ни на шаг не отступили от этих положений своего безвестного предшественника.
1 И Кон, Общая эстетика, стр. 73
2 Т а м же, стр. 111.
3 Т а м же, стр. 264.
253
Развитие модернистской эстетики свидетельствует о том, что в ней происходит необратимый процесс отхода от истины, от жизненной правды. Реальность она пытается заменить «иллюзией реальности». Мир непознаваем, утверждает агностическая философия, не только в силу своего непостоянства и своей «неуловимости», но и потому, что стремление человека к познанию приносит ему страдание. Страдание от того, что он не может все узнать. Страдание от того, что познание рождает демонические страсти, с которыми человек не в состоянии справиться. Так как правда приносит страдание- вон правду из искусства! Пусть искусство будет ложью, доставляющей человеку утешительное наслаждение.
В XVIII столетии, когда буржуазия была прогрессивным классом, она проповедовала в качестве основополагающего принципа единство правды и красоты (см., например, «Лаокоон» Лессинга). Теперь же ее идеологи отрицают и правду и красоту. Вот что пишет об этом И. Бэббит, автор «Нового Лаокоона»: «Человеку нравится видеть в себе искателя правды... но находит он скорее всего полуправду. Однако большинство не может даже сказать, что оно любит полуправду: оно стремится... к иллюзии»1. И далее: «Правда — это бесконечная необходимость. Но она не нужна такому бедному, конечному созданию, как человек»1 2. По представлениям Бэббита, та часть правды, которую человек постигает каждый данный момент, по сравнению с еще неоткрытой частью будет только слабым проблеском и бесконечно малым кусочком ее. Если он попытается «схватиться» за это мимолетное впечатление, то неизбежно встанет перед опасностью застыть в ложной конечности. Поэтому, даже найдя кусочек правды, он отказывается от нее ради... бесконечного стремления к иллюзии. Именно на этой основе развивается искусство.
Неизбежность замены правды иллюзией обосновывается еще и другими способами, связанными со спекуляциями такими понятиями, как «современность», «реальность» и др. Вопрос о «природе реальности» начиная с конца XIX века вплоть до наших дней все чаще и чаще ставится на страницах модернистской печати.
1 I. В >а b b i t1, The New Laokoon An Essay on the Confusion of the Arts, Boston — New York, 1934, p. 186.
2 I b i d., p. 189.
254
И чем чаще он фигурирует, тем дальше эстетика модернизма уходит от правды, от жизни, от реальности. Когда-то Дж. Дьюи говорил, что «реальность» — самое опасное понятие из всех философских понятий. Познакомимся с ответами ряда художников, представляющих различные «измы», на вопрос: какое значение они придают слову «реальность» (вопрос был поставлен французским журналом «Aujourd’hui art et architecture»).
Вот они: «Реальность — это результат, который я фиксирую сам для себя в качестве зрителя» L «Реальность произведения искусства прямо противоположна природной реальности вещей». Рисовать реальность — это значит воспроизводить не природную, а... высшую реальность, субъективную реальность духа1 2. Реализм произведения — это «...органическое выражение личности творца»3. «Реальный мир не воспринимается нашими органами чувств. Природа, которую мы видим, не что иное, как иллюзия... ее нельзя понять и воспроизвести иначе, как с помощью... интуиции. Произведение тем прекраснее, чем больше уходит оно от природы и ее форм, которые суть только наши иллюзии». «Реальность в творчестве ничего не означает»4.
Итак, реальность не общезначима. Каждый индивид имеет дело с такой реальностью, какой он ее себе представляет. Следовательно, у каждого — своя реальность. Она может быть произвольной и даже абсурдной. В создании «своей» реальности индивид выражает не столько понимание объективной действительности, сколько веру и откровение. «Созданная» таким образом реальность является не то аналогом, не то простым повторением божественного творческого акта, эвристическим превращением хаоса в порядок. В этой связи утверждается: «Задача заключается в том, чтобы превратить произведение искусства в объект, ничем не обязанный природе. Создать произведение искусства — значит вызвать к жизни новую реальность, прибавить к известным нам наличным предметам непредвиденную вещь»5.
Это и есть концепция антиистины. Ее основные положения суть: искусство не отражает жизни, оно «по-
1 «Aujourd’hui art et architecture», 1961, Juillet, p. 34.
2 I b i d , p. 35.
3 I b i d , p. 36.
4 I b i d., p. 37.
5 «Magazine of Art», 1946, May, p. 188.
255
глощает» ее, давая материал для работы воображения, для развития тех ассоциативных связей, на которые опираются как художник в процессе творчества, так и зритель, слушатель, читатель в процессе восприятия. Именно поэтому мир искусства — это особый мир, в котором нет ничего такого, что находилось бы вне воображения. Это — иллюзорный мир. Искусство черпает свое содержание и свои формы не из объективной действительности, но из самого себя. Искусство, отрешенное от объективной действительности, может включать в себя все: не только иллюзии, но и абсурдное мышление, ни с чем не сопоставимое и поэтому не подлежащее верификации. Искусство, не подлежащее контролю и не поддающееся проверке, «свободно» выбирает то истину, то антиистину (предпочитая все же эту последнюю), то красоту, то безобразие (и все же более склоняется к этому последнему).
Поразительно, но факт: став «абсолютно свободным», «полностью независимым» от природы, общественной жизни, идеологии, политики, то есть от нехудожественных факторов, замкнувшись в себе самом, искусство оказалось ослабленным и к тому же подверженным дурным влияниям лжи и уродства. Его «свобода» превратилась тем самым в несчастный случай, который поставил искусство между жизнью и смертью. Но эта трагедия не поставила самих модернистов перед выбором или хотя бы перед вопросом: что делать? Однако она вывела их из состояния оцепенения. Они теперь говорят сами себе: «Наконец-то с нами что-то случилось!» И даже рады этому: ибо универе — как они и предсказывали— раскрыл перед ними свою угрожающую сущность. В этом открытии они черпают для себя уверенность в том, что .антиискусство — это и есть «реализм» XX века. И с еще большим ожесточением продолжают «творить безобразия».
Какими «формулами красоты» вдохновляются модернисты? Вот они: «Красота — это страшный урод...» (Ш. Бодлер). «Прекрасное будет конвульсивным (то есть оно будет по преимуществу эротическим) или его вовсе не будет» (А. Бретон). «Искусство грубое предпочтительнее искусства культурного» (Ж. Дюбюффе). Разъясняя этот последний тезис, Дж. Ходин пишет: «...искусство людей, не владеющих мастерством, невежд, идиотов, душевнобольных, сексуальные надписи на
256
тротуарах, на стенах, на дверях общественных уборных... предпочтительнее искусства Учелло, Джотто, Дюрера, Веласкеса и т. д.» L
Эти концепции представляют собой образец тех крайностей, которые сами собой возникают в обстановке безответственности и полного произвола. Они являются не только предпосылкой появления абстракционизма, театра абсурда, хепенинга, антиромана, конкретной музыки, поп- арта и т. д., но и неизбежным следствием их развития.
Антиискусство создает новую ситуацию в культурной жизни общества, ничем не похожую на прежние условия оценки и сбыта. «На любой международной выставке,— пишет по этому поводу X. Абрамс,— жюри сталкивается сейчас с вопросами, на которые нет ответа: кого приглашать, кому дать премии. Число молодых художников равно теперь бесконечности, а границы искусства раздвинуты беспредельно. Поэтому любое решение жюри рассматривается как неуместное. Все суть искусство— от работ, сделанных в духе традиции, до самых смелых экспериментов со световыми проекциями и сочетаниями материалов... Но мы не должны идти так далеко, к тому времени, когда будут выставляться только каталоги... не учитывающие того, какой будет реакция публики»1 2.
Трудность, которую создает антиискусство для эстетики модернизма, заключается в том, что оно ликвидирует не только предметные, объективные, но и всякие эстетические критерии оценки произведений искусства, уравнивая тем самым красоту и уродство.
К такому безрадостному концу приходит модернизм, сочетающий в себе самый необузданный релятивизм с самой консервативной метафизикой, самый бесстыдный эротизм с религиозной идеей, самый ультрасовременный «дух времени» с тяготением к первобытному примитиву, самые неожиданные «новаторские» приемы с самой заурядной стилизацией. На этом собственно можно поставить точку.
Но у нас возникает еще один вопрос: модернизм противопоставляет себя классическому искусству, насколько ему удалось преодолеть очарование прошлого?
1 «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Winter, 1967, p 184.
2 H. Abrams, New Art Around the World, New York, 1966,
p. 7.
257
Непреодоленная классика
Классическое искусство, как бы выходя за рамки исторической эпохи, породившей ее, продолжает доставлять эстетическое наслаждение даже ни во что не верящим модернистам (не всем, конечно). В Англии продолжает существовать театр Шекспира, во Франции — театр Мольера. Существует и обогащается новыми именами (Хемингуэй, Чаплин, Ремарк, Бёлль и другие) критический реализм. Даже сами модернисты, если они талантливы, говорят, что они учатся у Босха, Гойи, Делакруа, Достоевского... Релятивистская эстетика не может объяснить этот факт, но она и не в состоянии обойти его молчанием. Классическое искусство напоминает ей о классическом определении истины, о соответствии сознания вещам. И вот волей-неволей приходится размышлять, признавать то, чего, быть может, признавать не хочется. К. Дюкасс, например, признает, что предметное содержание произведения искусства не может быть нейтральным по отношению к эстетическим качествам. Он пишет: «Если бы живопись отбросила изображение драматической сущности и свелась только к передаче цвета и формы, она тем самым произвольно ограничила бы себя в выражении чувств. Часто говорят, что элементы, принадлежащие собственно живописи, суть цвет, очертания, изображение пластических форм. Но это — не что иное, как благочестивое мнение и личное предубеждение чудаков в эстетике, возведенное ими в догму»1. Дюкасс защищает ту мысль, что искусство, если оно даже хочет быть только средством выражения чувств, не может ограничиваться передачей их с помощью одних формализованных элементов: оно неизбежно устремится к объективной действительности, к ее драматической сущности. Это явится источником более сложной и богатой гаммы человеческих чувств.
Такая точка зрения перекликается с классической, традиционной концепцией искусства.
Близко к ней подходят и другие авторы — Т. Грин, Дж. Хосперс, Р. Экман и другие.
Для Грина произведение искусства выступает в единстве трех сторон: как самобытное органичное целое, с
1 «Current Philosophical Issues. Essays in Honor of Curt John Ducasse». Compl. and ed by F. C. Dommeyer, Springfield (Ill.), 1966, p. 164.
258
Присущей только ему одному логикой существования* как продукт определенной культуры и эпохи; как эстетическая ценность, обладающая определенной степенью совершенства, правдивости и значимости. Искусство черпает свой смысл в истолковании внешней и внутренней реальности. Его содержание включает в себя два компонента — объективный и субъективный.
Отвергая формализм, Грин устанавливает наличие функциональной связи между компонентами произведения искусства, которые не существуют и не могут существовать отдельно, независимо друг от друга. «Правдивость и значимость произведения искусства являются основными функциями его содержания, художественное качество является функцией его специфической формы выражения, а стиль является функцией его исторического характера» Г Функциональная зависимость всех художественных компонентов возникает, по мнению Грина, на основе правдивого воссоздания действительности.
Хосперс справедливо полагает, что вопрос о характере человеческих суждений, об их истинности или ложности, не искусственный, не придуман досужей фантазией теоретиков. Он возникает из самой стихии человеческого существования: «В повседневной жизни нас не беспокоит вопрос: что такое истина? Если кто-либо скажет: «снег белый», мы ответим: «да». Если кто-либо скажет: «снег зеленый», мы ответим: «нет». Нас не беспокоит вопрос об определении истины, но человек тем не менее отличает ложное предложение от истинного»1 2. Он отстаивает принцип объективности истины, отвергая крайний релятивизм: «Истина не привязана к индивиду, если это даже истина об индивиде»3.
Хосперс подвергает критике музыкальный формализм, согласно которому музыка «не имеет значений» или «значима сама по себе», как абстрактная сущность, не имеющая аналога в объективной действительности: «...существует таинственное родство между жизненными и музыкальными переживаниями... Печаль, которую мы переживаем, слушая музыку, никогда не бывает той самой печалью, которую мы испытываем при личной тя¬
1 «Современная книга по эстетике», стр. 490.
2 J. Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Englewood Cliffs, 1967, p. 114.
3 I b i d., p. 120.
259
желой утрате, и тем не менее $то слово употребляется для описания данной музыки, потому что между нею и эмоцией повседневной жизни чувствуется определенное сходство. Налицо признанное подобие...» I
Весьма любопытна и заслуживает внимания постановка Хосперсом вопроса о специфике художественной истины. Научная истина, по его мнению, это истина — суждение о вещах, а художественная истина — истина верности вещам. Между художественным образом и отраженным в нем объектом нет и не может быть индивидуального соответствия, тождества. Между ревнивцем в жизни и Отелло существует только общее, психологическое сходство. Ревнивец в произведении искусства приблизительно ведет себя так, как всякий реальный ревнивец. Моделируя индивидуальные мотивы поведения ревнивца, художественное воображение придает ему универсальное, всеобщее, то есть типическое значение. «...Психологическая истина заключается в том факте, что она воспроизводит в конкретной форме то, что есть общего, типичного в различных движениях и позициях мысли»1 2.
Как эти, так и многие другие высказывания в известной степени перекликаются с теми положениями об истине в искусстве, которые можно найти у Аристотеля, Леонардо да Винчи, Буало, Лессинга, Дидро, Белинского и у других мыслителей, отстаивающих принцип связи между искусством и объективной действительностью.
Эта перекличка, как уже отмечалось, во многом объясняется самим жизненным потенциалом классического искусства, которое в рамках релятивистской эстетики превращается в спорную проблему.
О характере этого спора дает представление, например, критический обмен мнениями между американским литературным критиком Э. Дальбергом и его английским коллегой Г. Ридом, нашедший отражение в их совместной книге: «Истина — самое святое».
Дальберг выражает свое беспокойство по поводу судеб искусства в XX веке. Он пишет, обращаясь к Риду: «Боюсь, что в наш век страдания и паники литература может обойти жизнь и после ужасных гекатомб
1 «Современная книга по эстетике», стр. 318.
2 См : R Eckman, Problems and Theories in Modern Aesthetics, Malmo, 1960, p. 115.
прийти к такому состоянию... когда хорошую книгу будет найти труднее, чем тело Озириса» L
Основные его доводы против модернизма сводятся к следующему: искусство прошлого (XVI—XIX вв.) было органично связано с жизнью, современное искусство добровольно обрывает все свои жизненные связи; искусство прошлого стремилось к объективной истине, современное искусство не скрывает своего субъективизма и пользуется всякой возможностью, чтобы противопоставить себя истине; искусство прошлого было социальным, оно учило человека быть гражданином, современное искусство замыкается в кругу сугубо личных проблем; искусство прошлого было создано на высоком профессиональном уровне, современные же художники бравируют потерей профессионализма, мастерства и т. д.
Позиция, занятая Дальбергом, вызывает двойственное отношение. С одной стороны, он прав: искусство прошлого решало великие социальные и эстетические задачи; в сравнении с ним модернизм кажется мертвым. Но, с другой стороны, уж больно просто это —отвернувшись от модернизма, устремить свой взор в прошлое в поисках подходящей вершины, с которой можно, удобно устроясь, обозревать не только настоящее, но и будущее.
Несовершенство этой позиции не мог не заметить такой наблюдательный и острый оппонент, как Рид. Он отвечает Дальбергу: «Вы категоричны в требованиях истины, и, подобно Великому Инквизитору, послали бы на костер любого автора, который в каком-либо отношении погрешил бы против Вашей догмы. Она не является эстетической в собственном смысле слова, наоборот, о самого начала этой переписки Вы все время говорите о добродетели и здоровье. Ваше понятие о великом писателе заключается в том, что он — мудрец или провидец, патриарх, наставляющий свой народ властным голосом и наказывающий его кнутами и презрением, когда он обнаруживает слабость и заблуждение. Ваш идеальный автор — Дж. Свифт, которым Вы восхищаетесь по поводу его негодования так же, как и по поводу его стиля. Вы не находите идеала прекрасного в нашем веке, где все суть продажность и коррупция»* 2.
СЕ. Dahlberg and Н. R е a d, Truth is More Saoread, р. 1,1.
2 I b i d., p 143.
261
Это весьма категоричное высказывание характерно не только для Рида, фрейдиста и убежденного модерниста. Он выражает взгляды той части либеральной интеллигенции, которая не без раздражения воспринимает всякое напоминание (от кого бы оно ни исходило — от правительства или народа) о том, что писатель должен быть мудрецом, провидцем, патриархом, наставником. Всякое долженствование, по ее мнению, выходит за пределы эстетических задач.
Не проводя различий между власть имущими и жаждущими правды, Рид обвиняет народ в эстетическом невежестве, в грубо утилитарном подходе к искусству, в непонимании стремлений современного художника и в других грехах. Вместе с тем Рид признает, что модернизм— ограниченное искусство, не способное возвыситься до объективности. Современный художник не может создать общезначимый образ героя, потому что он неизбежно отождествляет себя с этим героем, он видит мир только через призму своей субъективности. Шекспир же не был тождествен со своими персонажами. Это означает, что он не был ни одним из них. Почему произошли такие перемены в творческой психологии художника? В прошлом, отвечает Рид, художник достигал объективности ценой самоотречения. Теперь же он не в состоянии во имя истины пренебречь преимуществами своего успеха. Он са'м выбрасывает слово «истина» из своего лексикона, поскольку именем истины совершаются сейчас величайшие преступления.
Что можно сказать о таком художнике? Что он «большой ребенок», нелогичен, отчаянный экспериментатор или отступник? Конечно, трудно добиваться успеха, сочетая его с протестом против злоупотреблений тех людей, от которых зависит этот успех. Рид понимает это, потому снижает критический пафос, заявляя: «Я не намерен защищать век. Я фаталист и убежден: то, что происходит с искусством нашего времени, должно происходить, как логическое отражение того, что имеет место в самом обществе» *.
Развивая этот взгляд, Рид характеризует роман Дж. Джойса «Улисс»: поток сознания, выраженный в «Улиссе»—-это грязный поток, больше напоминающий о сточ-
1 Е. Dahlberg and Н. Read, Truth iis More p. 210.
262
Sacread,
ной трубе, чем о движении человеческого ума. Но именно это сходство и делает его романом нашего времени. Джойс родился в болоте, где нет правых и виноватых, где совершенно бесполезно говорить о том, что кому нужно делать. Он потерял веру и в бога и в человека. У него не было никакой надежды исправить человека! Это самосознание и нашло свое выражение в «Улиссе».
Над фаталистами не вершат суда. С ними не спорят. Бесполезно. Особенно тогда, когда фатализм выступает не столько как мировоззрение, сколько в виде умонастроения: будь что будет, все равно. Фаталисты — это смертники, приговоренные к самоистреблению. Но Рид — не фаталист. Он апологет. Он хочет сохранить и болото, где нет правых и виноватых, и его логическое следствие— модернизм, напо'минающий ему грязный поток. Потому и оговаривается: «Я—’релятивист, благодарный за любой проблеск красоты, который встречается мне, когда я читаю книгу, не будучи озабочен тем, чтобы воздвигать на Парнасе монументы из гранита»1. Он релятивист потому, что «реальность имеет только один возможный центр связи —• индивидуальное сознание, но и оно не является постоянным и устойчивым фокусом...» 1 2.
Так завершает Рид свой разговор об ‘истине, самом святом в искусстве.
Буржуазные эстетики, по те'м или иным поводам обращающиеся к опыту классического искусства (Дюкасс, Грин, Хосперс, Дальберг и другие), связывая это обращение с классическим определением истины, как правило, не развивают это определение, не обогащают его. Недовольные крайним субъективизмом, внесенным в эстетику Кроче, Бергсоном, Фрейдом, Кассирером, Дильтеем и другими, они пытаются противопоставить ему объективные критерии. Первое, что они вспоминают в этой связи, это классическое определение истины. Но как часто их объективизм оказывается тождественным объективному идеализму! 'С этих позиций они опять-таки приходят к той множественности определений истины, которой так богата эстетика модернизма. Подтверждение тому дает книга А. Гофстадтера «Истина и искусство». Отправляясь от классического положения:
1 Е. Dahlberg and Н. Read, Truth (is More Sacread, p 143.
2 Ibid., p. 211.
263
«Истина —это соответствие разума вещам»,—автор дает определение трех истин: лингвистической, практической (или прагматической) и духовной.
Лингвистическая истина связана с суждением или высказыванием типа: «Картина висит на стене косо». Речь идет в данном случае о соответствии мысли и языка. Оно может быть правильным и ложным, хорошим и плохим, действительным и недействительным, успешным и безуспешным и т. д. Человек стремится сказать то, что думает. Но насколько правильно ему удается выразить истину? Это можно проверить путем сопоставления высказывания с его объектом. Если картина действительно висит косо, что подтверждается нашим восприятием, то в этой очевидности раскрывается идентичность мысленной и данной сущности. «Истина в ее коренном смысле,— пишет Гофстадтер,—это идеально полное соответствие между сущностью суждения и вещи»1. Две эти сущности обладают вполне самостоятельным бытием, только в одном случае оно интенционально (суждение), в другом — реально (вещь).
Однако эта самостоятельность — только кажущаяся. Что же от чего зависит? Гофстадтер отвечает: «Мысль не только постулирует наличие реального бытия, она ищет это независимое бытие, чтобы соответствовать своему собственному стремлению к нему именно такому, каково оно есть»1 2. Воля к истине, действующая в радиусе собственно человеческого бытия, ищет реальное бытие, чтобы соответствовать тому, что не есть «я». В этом самоотречении воля постигает самое себя, по скольку ее масштаб определяется знанием самой себя. Другими словами: объект теряет свое независимое существование в той степени, в какой он оказывается сопряженным с «волей к истине», направленной на него. Объект становится зеркалом, в котором «я», узнавая себя, превращается в самое себя!
Так Гофстадтер превращает субъект в метафизическую сущность, наделенную «волей к истине». Под воздействием этой воли объект лишается 'своей независимости, а субъект получает ту истину, какая ему нужна.
Весьма откровенно автор заявляет об этом в разделе о прагматической истине. На сей раз речь идет не о со¬
1 A. Hofstadter, Truth and Art, p. 95.
2 I bid., p. 101.
254
ответствии разума вещам, а, наоборот, о соответствии вещей разуму. Если в познании, утверждает Гофстадтер, имея в виду область лингвистической истины, «я» отдает себя существующему, то в области практики «я» требует, чтобы существующее отдало себя ему. Субъект требует должного порядка вещей. Так, в области практики человеческая воля с самого начала ставит себя в положение источника, заключающего в себе возможность истины, поскольку практика представляет собой способ бытия, в котором человеческое существо, наделенное «волей к истине», ищет, как ему управлять существующим. Прагматической истины нет и не может быть без наличия энергии, воли, устанавливающей определенный стандарт — концепцию, в соответствии с которой преобразуется порядок вещей. Так «я» ставит себя в центр бытия. «Оно ставит себя,— пишет Гофстадтер,— в положение причины бытия, определяет основание вещей посредством формы должного, которую оно (то есть «я». — С. М.) навязывает им»1.
В подобной ситуации возникает вполне резонный вопрос: должно ли «я» избрать свое самопроявление, самоутверждение, самоосуществление в качестве стандарта для всего существующего?
Гофстадтер отвечает: человек должен выбирать нечто среднее между самоудовлетворением и самопожертвованием. Однако чем обусловлено само это «долженствование»? Практической жизнью? Нет. «Практическая жизнь не может служить основанием для самой себя»1 2 3. Она осознает свою собственную ограниченность. Но практическая воля, проявляющаяся в стремлении человека управлять существующим,— не ограничена, бесконечна. «Она не способна определять свои границы и обуздывать свою цель. Ей внутренне присуща неопределенность» 1.
Практическая воля оказывается вполне суверенной. Но поскольку это всегда индивидуальная воля, то прагматических 'истин бывает столько, сколько существует осознающих свою суверенность практических воль. Так, Гофстадтер открывает дорогу тому самому субъективизму, который он попытался ограничить.
1 A. Hofstadter, Truth and Art, p. 114.
2 I b i d , p. 125.
3 I b i d, p 127.
265
Ну и, наконец, область духовной истины. По мнению Гофстадтера, она включает в себя два предыдущих принципа —■ соответствия разума вещам и соответствия вещей разуму, объединенных концепцией лично1сти. «Личность— это прежде всего «я» или субъективность, но одной субъективности недостаточно для того, чтобы получить личность. С субъективностью мы встречаемся уже в первой и во второй области истины. Личность же как таковая существует только в контексте, в котором она признает другого в качестве личности. В этих условиях она становится способной сказать «я», отличая себя от «ты», говорить другому и слышать от другого «ты», признавая при этом, что каждый имеет свою собственную самость, свой характер, свое право, свои обязанности, свое счастье и горе, свою ложь и истину» Г
Каждая личность выступает обладательницей своей собственной истины и признает за другой суверенной личностью право на свою субъективную истину. Эта истина раскрывается в этике, эстетике и искусстве в форме красоты. В каждой из этих областей человек отходит от истины. Таким образом, Гофстадтер определяет красоту как эстетическое явление, связанное с восприятием вещей, какими они кажутся, но не с их фактической реальностью. Человек, созерцая красоту, отдаляется от истины. Что же касается собственно искусства, то оно рассматривается как чистая субъективность, «ак воля, импульс, слепое тяготение к существованию. Воля находит для себя в искусстве символическое выражение. Ну, а как быть с изобразительным искусством? Разве его предметное содержание не ставит пределы необузданной субъективности?
Гофстадтер так истолковывает принцип изобразительности: «...то, что оно (то есть произведение.— С. М.) изображает, есть нечто, выполняющее функцию образа. Отсюда следует, что мы можем назвать его образом. Как образ это есть образ чего-то — лошади, например. Но это «что-то» вовсе не свидетельствует ю том, что образ указывает на лошадь, существующую вне образа. Оно напоминает только о том, что в произведении привнесено существование лошади. Единственная вещь, связанная с существованием лошади, которая обнаруживается в самом произведении, есть ее образ, воплощен¬
1 A. Hofstadter, Truth and Art, p. 133.
266
ный в данном значении. Итак, как способ обозначения, изображение не обращено в «реальный» мир, но как раз наоборот: его значение устремляет свой пристальный взгляд из «реального» мира в произведение искусства, стремясь не задерживаться здесь» 1.
В произведении искусства объективная действительность исчезает, преобразуясь в символ, имеющий значение стиля, и только. Следовательно, искусство имеет эстетическое значение лишь в той степени, в какой в нем проявляется стиль, выражающий индивидуальную, неповторимую волю субъекта.
Любопытно отметить, что Гофстадтер начинает свою книгу с критики эстетических концепций Кроче, Кассирера, Лангер и других субъективистов. В ряде случаев он противопоставляет им гегелевскую концепцию истины. Эта критика явно свидетельствует о неудовлетворенности автора релятивизмом, отрицающим истину. Но когда Гофстадтер переходит к изложению позитивной части своей концепции, предназначенной доказать существование истины, то объективный идеализм оказывается бессильным в борьбе против субъективного. Вложив в субстанциональное понятие «дух» значение «субъект», Гофстадтер оказался (как и многие другие авторы) где-то между идеалистической метафизикой и самым крайним релятивизмом. В этих пределах движется, по существу (если не принимать во внимание некие «проблески»), вся модернистская эстетика во всех ее вариантах, даже в тех, которые связаны с поисками истины.
На этом, пожалуй, можно было бы и закончить рассказ о том, какое место занимает классическое определение истины в эстетике модернизма. Модернисты вынуждены признавать это определение так же, как они вынуждены признавать неувядаемое обаяние реалистического искусства. Но дело в том, что они фальсифицируют и то и другое.
По этому поводу необходимо сказать несколько слов. В. Днепров в своей содержательной книге «Черты романа XX века», рассматривая творчество Пруста, Кафки, Стравинского, Пикассо, ставит рядом с ними и творчество Томаса Манна, по сути дела, объединяя их в одном понятии «искусство XX века». По его мнению, у каждого из этих художников можно наблюдать борьбу двух
1 A Hofstadter, Truth and Art, p. 181.
267
начал — модернистского и классического с перевесом то в одну, то в другую сторону. Днепров правильно указывает на противоречивость мировоззрения многих современных художников. Но понятие противоречивости он, на наш взгляд, несколько схематизирует. Так, например, он открывает у Кафки противоречие между модернистской концепцией мира (мир непостижим, беспросветен, бессмыслен, он давит на человека своей объективностью) и классической концепцией человека (человек— пытливо-рассудительное существо, обладающее упорством надежды, неистребимостью идеальных стремлений). Он пишет: «Художественная вселенная Кафки разорвана дуализмом мира и человека»У Пикассо, напротив, автор обнаруживает полную гармонию классического и модернистского начал. «Оригинальность Пикассо состоит, в частности, в том,— пишет Днепров,— что у него модернизм совмещается с поисками новых путей, расширяющих творческое использование классических традиций. Модернизм для него — лишь одно из многих решений, применимое для некоторых частных случаев»1 2.
А что думает об этом сам Пикассо? Да, у Пикассо (как и вообще в модернизме) есть много вариаций на классические темы. Но у него есть и это: «Академические каноны «красоты»'—надувательство»3. «Наши музеи— только кучи лжи...»4. У Пикассо нет гармонии между классическим и модернистским началами. Есть борьба их. Это положение сохраняет свое значение, будучи перенесенным и на эстетику модернизма в целом.
Во всех своих течениях и ответвлениях она стремится (часто безуспешно) ответить на два вопроса: что такое красота? и что такое искусство? Это традиционные вопросы, поставленные еще теми, с чьим именем мы связываем возникновение эстетики как науки. Однако ее методология (крайний релятивизм, метафизика) обнаруживает полную неспособность определить критерии, с помощью которых можно было бы провести грань между красотой и безобразием, между искусством и не- искусством.
1 В. Днепров, Черты романа XX века, М.—Л., «Советский писатель», 1965, стр. 206.
2 Т а м же, стр. 252.
3 «Пикассо. Сборник статей о творчестве», стр. 22.
4 Т а м же, стр. 24.
268
В эстетике модернизма часто стоят рядом Пракситель и Г. Мур, Рафаэль и Дж. Поллок, Делакруа и Ж. Дюбюффе... Но что общего между ними?
Эстетика, обобщающая опыт Праксителя, Рафаэля, Делакруа, рассматривает проблемы прекрасного, отношения искусства к действительности, содержания и формы, специфики художественного образа, творческого процесса и т. д. Именно такая проблематика составляет содержание эстетики как науки. Эстетика же модернизма стремится в той или иной форме обойти все эти вопросы или «снять» их. И поскольку ей удается осуществить свое намерение, она превращается в антинауку. Но может ли быть гармония между наукой и антинаукой, искусством и антиискусством, истиной и антиистиной? Гармонии между ними нет и быть не может. Именно поэтому и существует антагонизм между классикой и модернизмом.
Социальная тема в эстетике модернизма
Есть ряд признаков того, что в эстетике модернизма усиливается интерес к социальной теме. Об этом прежде всего свидетельствует умножение социологических исследований, сопровождающихся критикой концепции «искусство для искусства». Авторы этих исследований отмечают, что истолкование произведения искусства как некоей автономной, замкнутой в себе эстетической сущности, отрыв его от социальной жизни и внешней среды не отвечает современным условиям. Искусство должно выполнять служебные функции. Они определяются обычаями, нравами, верованиями тех или иных социальных групп, слоев, классов или обществом в целом. Функции искусства обновляются в связи со сменой общественных структур: в примитивном обществе искусство выступает как средство общения, в теократическом — как символическое выражение иллюзорных ценностей, в городах-государствах оно превращается в средство самоутверждения личности, в рождающемся буржуазном обществе—>в средство иллюстративного изображения обыденной жизни и т. д.
Эти положения, как видит читатель, весьма спорны, однако одно остается несомненным — они ставят эсте¬
269
тику перед необходимостью отвечать йа вопрос: Как Of* носится искусство к социальной действительности? Не свидетельствует ли сам этот вопрос, что модернизм идет по пути самоотрицания? Сложившись на основе доктрины «искусство для искусства», он оказывается вынужденным вернуться к принципу функционального, служебного искусства, включенного в контекст социальной жизни (об этом свидетельствуют методы самоанализа персонажа в романе, анкеты —в телевидении, опроса и киноправды в кинематографе и др.).
Есть все основания предположить, что внимание и интерес интеллигенции к социальным проблемам и к поиску истины будут возрастать и усиливать друг друга. Уже сейчас наблюдаются всеобщая тяга к анализу условий жизни в буржуазном обществе, стремление к переоценке его ценностей, желание познакомиться ближе •с социалистической культурой. Либеральное сознание встало перед такими острыми проблемами, которые не могут быть разрешены только в «рамках сознания» (война во Вьетнаме, политические убийства в США, возрождение фашизма в ФРГ и т. д.). От того или иного разрешения их зависит «быть или не быть» самому этому сознанию. Один из буржуазных деятелей заявляет: «Мы пытаемся жить, не принимая решений. Мы идем от одного кризиса к другому. Надеясь на лучшее, встречаем худшее» Г Буржуазный либерализм пожинает плоды своей социальной безответственности. Начинается осознание того, что «бегство от действительности» не дает и не может дать никаких реальных решений.
Конечно, неправильно было бы думать, будто интерес, проявленный к социальной теме, сам собой выведет эстетику модернизма из состояния 'кризиса. Нет! Но то, чему он будет несомненно способствовать, так это процессу размежевания сил. Критика доктрины «искусство для искусства» усилит позиции демократической культуры, но и представители реакции постараются вложить максимум социального смысла в искусство, необходимое империалистической буржуазии. Характерный пример в этом плане дают некоторые американские критики и философы.
Недавно в американском журнале «Arts and Architecture», который всегда поддерживал самые крайние
1 I. М о s k i п, Morality in America... р. 36.
270
искейпистские течения в искусстве, появилась статья под необычным для этого журнала заголовком: «Художник как совесть общества». Ссылаясь на исторические примеры, автор статьи Д. Эштон делает прозрачные намеки насчет-современной ситуации. Цитируя слова Гойи: «Дьяволы суть те, кто делает зло или другим мешает делать добро, или те, кто вообще ничего не делает» !, критик дает понять, что доктрина «'бегства от действительности» не так уж нейтральна. Вспоминая о группе художников, живших во 'Флоренции в XVI веке, которые забавлялись тем, что эпатировали буржуазию, но жили как «грубые животные», не умывая рук и лица, автор опять-таки заставляет вспомнить о том, что «чистое искусство» не всегда делается чистыми руками.
Эштон приходит к выводу, что искусство призвано не разрушать, а совершенствовать жизнь, что его следует рассматривать как универсальную силу, объединяющую мир. При этом приводится выдержка из послания Пикассо Американскому конгрессу художников в 1937 году: «Я хочу в это время напомнить вам: я всегда верил и сейчас еще верю в то, что художники, создающие духовные ценности, не могут и не должны оставаться равнодушными к конфликту, в котором высшие ценности человечества и цивилизации поставлены под угрозу»1 2. Далее Эштон говорит о необходимости поднять голос протеста против войны во Вьетнаме.
По всем этим намекам, ссылкам, цитациям, призывам можно судить, что модернисты действительно стоят перед необходимостью дать ответы на вопросы, волнующие все общество, и что некоторые из них склонны к демократическому разрешению социальных конфликтов.
Но вот пример иного рода. На VI Международном конгрессе ио эстетике Т. Манро, один из ведущих американских философов, выступил с докладом на тему: «Искусство и насилие». Манро за искусство, поставленное на службу обществу. Но при этом он весьма своеобразно трактует социальную функцию искусства. Полагая, будто война и преступление стали почти нормальным и постоянным явлением повседневной жизни (в условиях США эта формула, пожалуй, сохраняет свою бесспорность), философ настаивает на том, что искусст¬
1 «Arts and Architecture», 1967, June, p. 28.
2 I b i d., p. 29.
271
во, связанное с жизнью, может все-таки сохранить в себе картины насильственных убийств, поскольку они доставляют определенной части публики наслаждение. Без них драматический конфликт будет ослаблен, а значит, будет ослаблена и сила эстетического наслаждения.
Нет, Манро не призывает к решительным действиям, направленным против насилия, захлестнувшего США. Он предлагает только разработать программу исследований психологического и социального воздействия различных типов (мирного и агрессивного) искусства на человека. Другими словами, когда дьявол делает зло, философа больше всего интересует, какова психология этого зла. Но именно в этом-то и заключается «бегство от действительности», каждый день совершаемое модернизмом на глазах у дьявола.
Социальная тема, проникающая сейчас в эстетику модернизма, ставит буржуазных ученых, критиков, художников перед выбором: действительность или бегство от действительности? Истина или ложь? Уйти от прямых ответов на эти вопросы становится все труднее.
Поиск истины стимулируется теперь многими факторами, в том числе развитием теории информации. Кибернетическое моделирование психики человека заново открывает его в качестве «воспринимающего устройства». Не только перед учеными, но и перед художниками возникают вопросы: чем обусловлено в одних случаях пассивное, рассеянное, в других же — активное, сосредоточенное восприятие? Какую роль при этом играют содержание информации и целевая установка субъекта? А Моль, например, отмечает: «Распространение радио, кино, звукозаписи и так называемой информационной литературы заставило обратить внимание на самостоятельное значение этой связи между индивидуумами, что вернуло к произведениям искусства их значение как источника восприятий, то есть как некоей движущей силы в обществе, а не только сопутствующего общественного явления» !.
Нет нужды прослеживать все связи между теориями информации и эстетического восприятия. Важно другое, а именно: само существование этой связи ставит вопрос о смысле и назначении искусства, о том, в какой сте-
1 А. Моль, Теория информации и эстетическое восприятие, М, «Мир», 1966, стр. 28.
272
пени оно необходимо человеку как источник эстетической информации.
Поскольку язык модернистского искусства деформируется, лишается смысловых значений и логических связей, постольку оно превращается в антиискусство, противоречащее самой сути эстетического восприятия. Знаменательно высказывание по этому поводу Ж. Дювиньо: «...внезапность, необычность, неожиданность стали эстетическими достоинствами выражения до такой степени, что речь идет уже о насилии над устойчивыми структурами и нормами человеческих восприятий» Ч Эта практика вступает в явное противоречие с теорией информации, предполагающей наличие информационного контакта между управляемой и управляющей системами, наличие обратной связи, а значит, определенной цели и программы ее осуществления. Бессмысленная, бесцельная связь между произведением искусства и воспринимающим его субъектом — не функциональна, поэтому она оказывается нежизнеспособной и, стало быть, ненужной.
Современная наука наносит чувствительный удар по эстетике модернизма, вступающей в конфликт с исследованием гносеологических связей между человеком и природой, человеком и человеком, человеком и машиной, человеком и произведением искусства. Разрешение этого конфликта возможно только на основе признания универсального значения истины, по-разному проявляющейся во всех сферах человеческой деятельности. Действие и познание неразрывно связаны между собой.
Как уже отмечалось, эстетика модернизма, представленная основными своими течениями, придерживается того мнения, что произведение искусства — это ложь, иллюзия, миф, условный знак, вещь и т. д., одним словом —1 антиис-тина. Отрицая гносеологические и социальные корни искусства, модернисты тем самым отказываются вынести свой приговор буржуазному обществу, сказать свое суждение о нем, выразить свое отношение к нему. Они отворачиваются от «кошмарной действительности», выражая тем самым свое безучастие, напоминая дьяволов, которые ,не мешают делать зло.
Когда поиск истины сочетается у модернистов с чувством социальной безответственности, складывается та-
J. Duvignaud, Sociologie de Part, Paris, 1967, p. 142.
273
кое впечатление, что этот поиск совершается под давлением внешних обстоятельств. Но, видимо, так оно и есть. А раз это так, то данное обстоятельство не может не наложить догматический отпечаток на исследования последнего времени. Об этом свидетельствуют ничем не обогащающие науку движения вспять — к избитым сравнениям между искусством и наукой, к классическому определению истины, к аристотелевской концепции подражания природе и пр. Причем подражание понимается плоско, вульгарно — как навязчиво точное, натуралистическое воспроизведение природных форм. Сами эти аналогии (наука — искусство, искусство — подражание и т. д.) превратились в эстетике модернизма в «общие места».
Проблема художественной истины сложная, ее нельзя сводить только к выяснению традиционной взаимосвязи «объект — субъект», как это имеет место в классическом определении истины. Она может быть решена только на основе теории отражения. (Отметим, кстати, что даже наиболее эрудированные представители модернизма имеют смутное представление об этой теории.)
В самом деле, признание того положения, что знания соответствуют вещам, предполагает целую серию действий, не совпадающих с течением творческого процесса у художника. А именно: наблюдение, сбор как можно большего числа фактов, анализ их, обобщение, построение рабочих гипотез, экспериментальная проверка их, обработка результатов, определение истины, внедрение в практику, уточнение выводов, корректировка практического использования решений. Таковы звенья научного метода, полностью вкладывающегося в классическое определение истины. Для художника же достаточно одного-единственного наблюдения, чтобы оно вызвало работу воображения, в результате которой появляется опера, роман или картина. Но это наблюдение должно быть подготовлено всей предшествующей жизнью художника. Здесь меньше искусственных и больше естественных, живых, спонтанных сцеплений между художником и действительностью, которые обусловливают соответствие его произведений «вещам». Однако модернизм чужд этим «живым сцеплениям». Он весь — искусственный, спекулятивный. Он выходит не «из сердца», но «из головы». Именно поэтому поиск истины, если юн есть, носит в нем столь умозрительный характер. 274
Многие западные ученые задумываются сейчас над общим состоянием эстетической теории. Картина получается неутешительной. Дж. Ходин, например, отмечает: «В настоящее время нет цельной эстетической теории модернизма, но зато наблюдается извержение различных противоречивых тем. А из теорий, связанных с многочисленными «измами», ни одна не имеет смысла. Наше атомизированное мировоззрение больше принимает в расчет индивидуальности художников и способы переживания»
(Примерно так же представляет себе эстетику модернизма и Т. Манро. Он замечает: «Несмотря на многочисленные попытки обратить ее в лоно науки, эстетика остается отраслью спекулятивной философии»1 2. Манро определяет ее как науку крайне абстрактную, неопределенную. У нее нет связи с тем опытом, который она обобщает. «Современные учебники до этому предмету,—■ пишет Манро,—"обычно не претендуют на законченность, они просто рассказывают о теориях и тенденциях в различных областях искусства, излагая в то же время последние идеи о психологии эстетического опыта... Нет в современной эстетике ничего похожего на конструктивный метод...»3 Что касается художественной критики этой «движущейся эстетики», то положение в ней не лучше. «В общем у художественной критики нет постоянной цели и метода. Критик ставит ударение на свои личные чувства, на виртуозность, на свою способность осмеять, или прославить, или развлечь болтовней...»4.
Отсутствие цели, отсутствие научного метода превращают эстетику модернизма в саморазрушающееся явление. Происходит психологизация ее категорий. Эстетический опыт отождествляется с религиозным откровением. Эстетика шарахается от одной крайности к другой. Искусство или противопоставляется действительности как «новая реальность», или же его произведения отождествляются то с любым переживанием, то с любой вещью. Ощущение объявляется единственной реальностью, и поэтому отпадает вопрос об эстетических отношениях искусства к действительности.
1 См. «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», Winter, 1967, p. 186.
2 T. Мити o, Toward Science in Aesthetics, p. 3.
3 I b i d., p. 4
4 Z bi d., p. 11.
275
Эстетика теряет свое специфическое содержание, свой профессиональный язык. Она растворяется то в конкретно позитивистском эксперименте, то в формальных аналогиях, то в схоластических дефинициях, в которых все случайно и произвольно.
Современную буржуазную эстетику захлестывают противоречия. Действительность ставит перед ней острые проблемы, но, будучи не в состоянии решить их, она пускается в привычное бегство от действительности. Реакционная буржуазия отчуждает художника от искусства. Она пытается превратить его в пророка индивидуализма, в пропагандиста религии, в «реалиста», дедающего деньги на основе коммерческого успеха, в прагматиста, видящего красоту в грубочувственном наслаждении, в человека, принимающего участие в «битве идей» на стороне собственников. Вместе с тем буржуазия хочет обречь на молчание, на пассивную покорность, на отказ от критического осмысления действительности всякое искусство, заключающее в себе возможность обращения к народу.
Модернизм играет роль духовного опиума. В нем мы находим и сосредоточенность на внутреннем мире, и «роковое» одиночество, и безысходную скорбь, и исступление фанатиков, и мистику, отвергающую всякие доводы разума, и мессианизм, и лирические галлюцинации, и, самое главное, «новую реальность», такую же иррациональную, бессвязную, как бред отшельников.
Попятным, реакционным движениям после второй мировой войны соответствует повальное увлечение буржуазной богемы модернизмом, увлечение, принимающее характер истерии, психоза, вызванных «обороной на последних рубежах», обороной буржуазии против революционных преобразований, происходящих в современном мире. Чтобы устоять в «борьбе идей», буржуазия вынуждена иногда обращаться к социальной проблематике. Но эти обращения, как правило, бесплодны и свидетельствуют только о том, что она ничего не в состоянии существенным образом изменить. Ее идеология, а вместе с ней и эстетика, остается лишенной жизненного смысла и творческого потенциала. Она — бесплодна.
Заключение
Чго представляет собой эстетика модернизма, если посмотреть на нее -с той точки зрения, с которой перед взором открывается наиболее общая картина? Она напоминает «Прекрасную Нуазезу», тот неведомый шедевр, о котором рассказал Бальзак в своем одноименном философском этюде.
Читатель помнит, как старик Френхофер рассказывает Порбусу и Пуссену о своей работе: «...я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. ...Натура состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует! Линия есть способ, посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии освещения на облик предмета. Но в природе, где все выпукло, нет линий: только моделированием создается рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует. Только распределение света дает видимость телам! Поэтому я не давал жестких очертаний, я скрыл контуры легкою мглою светлых и теплых полутонов, так что у меня нельзя было бы указать пальцем в точности то место, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется как бы мохнатой, ей словно недостает точности, но если отступить на два шага, то все сразу делается устойчивым, определенным и отчетливым, тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух. И все-таки я еще недоволен, меня мучат сомнения. Может 'быть, не следовало проводить ни единой черты, может быть, лучше начинать фигуру с середины, принимаясь сперва за самые освещенные выпуклости, а затем уже переходить к частям 'более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира? О природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Но вот, поди ж ты,— излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении» !.
Монолог Френхофера и новизной идей и своей экспрессией внушил молодым художникам надежду видеть
1 Оноре Бальзак, Собрание сочинений, т. 13, М, Гослитиздат, 1955, стр. 282.
277
в «Прекрасной Нуазезе» истинный шедевр. Заранее предвкушая победу, Френхофер повел их в свою мастерскую. Что же они увидели на полотне? Какой-то непонятный хаос линий и красок, беспорядочное сочетание мазков, бесформенную туманность. И где-то в углу картины — кончик прелестной, живой ноги. Художники «остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения» 1.
Насколько эта ситуация напоминает положение дел в эстетике модернизма и в модернистском искусстве свидетельствует знаменитый рисунок Пикассо («Неведомый шедевр»: обнаженный художник рисует вполне прилично одетую Нуазезу, занятую рукодельем, но на картине вместо женщины зритель видит что-то похожее на метафизический хаос. Художник так видит мир. Его видение— это и есть его истина.
Да, в речи Френхофера, несмотря на то, что она была произнесена в 1612 году, можно обнаружить многое из того, что эстетика модернизма объясняет условиями XX века. Френхофер прежде всего живет не в реальном мире, а в мире кажущемся. Обремененный «излишними знаниями», он уподобляет себя невежде, сознание которого способно только на негативную акцию. К тому же он во всем сомневается. Он скептик. Все это вместе взятое составляет мироощущение и мировоззрение Френхофера. Именно оно наложило неизгладимую печать на его портрет «Прекрасной Нуазезы». То же самое происходит и с модернистами — художниками и теоретиками искусства в XX веке. Они заражены скептицизмом. Они в состоянии подходить к искусству с разных сторон, затрагивать многие аспекты его — онтологические, психологические, формально-эстетические, аксиологические и т. д. давать порой ценные работы в области специальных исследований. Но коль скоро речь заходит об объективной истине — их продвижение вперед прекращается. Почему? Потому что эстетика модернизма —■ партийная наука. Она служит тому, кто восклицает: «К черту истину!», «Правда только то, о чем не говорят».
1 Оноре Бальзак, Собрание сочинений, т. 13, стр. 394.
278
Предисловие 4
Что такое модернизм? 5
Модернизм как творческий метод 9
Модернизм как мировоззрение 34
Гносеологические подступы к эстетическому релятивизму 67
Релятивистская бесконечность эстетических точек зрения 77
Теория вчувствования 84
Интуитивизм 100
Позитивизм 123
Содержание Феноменология 137
Экзистенциализм 144
«Поток сознания» 163
Миф и действительность 173
Аксиология против гносеологии 181
Структурализм 188
Слова и вещи 196
Метафизические акценты 209
Религиозное сознание и модернизм 213
«Вечные истины» идеализма 219 Антропологизм и модернизм 227
Вокруг истины 243
Непреодоленная классика 258
Социальная тема в эстетике модернизма 269
Заключение
277
Можнягун Сергей Ефимович
«О модернизме» Редактор М. Леренман
Художественный редактор Э. Ринчино Художник Ю. Марков Технический редактор Н. Еремина Корректор Т. Кудрявцева
А07147. Сдано в набор 3/XI 1969 г Подписано к печати 13/IV 1970 г. Формат бумаги 84Х108‘/з2 Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 14,7 Уч.-изд. л 15,376
Тираж 10 000 экз. Изд. № 17231. Издательство «Искусство», Москва, К-51, Цветной бульвар, 25. Московская типография № 20 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, 1-й Рижский ггер., 2. Цена 1 р. 15 к