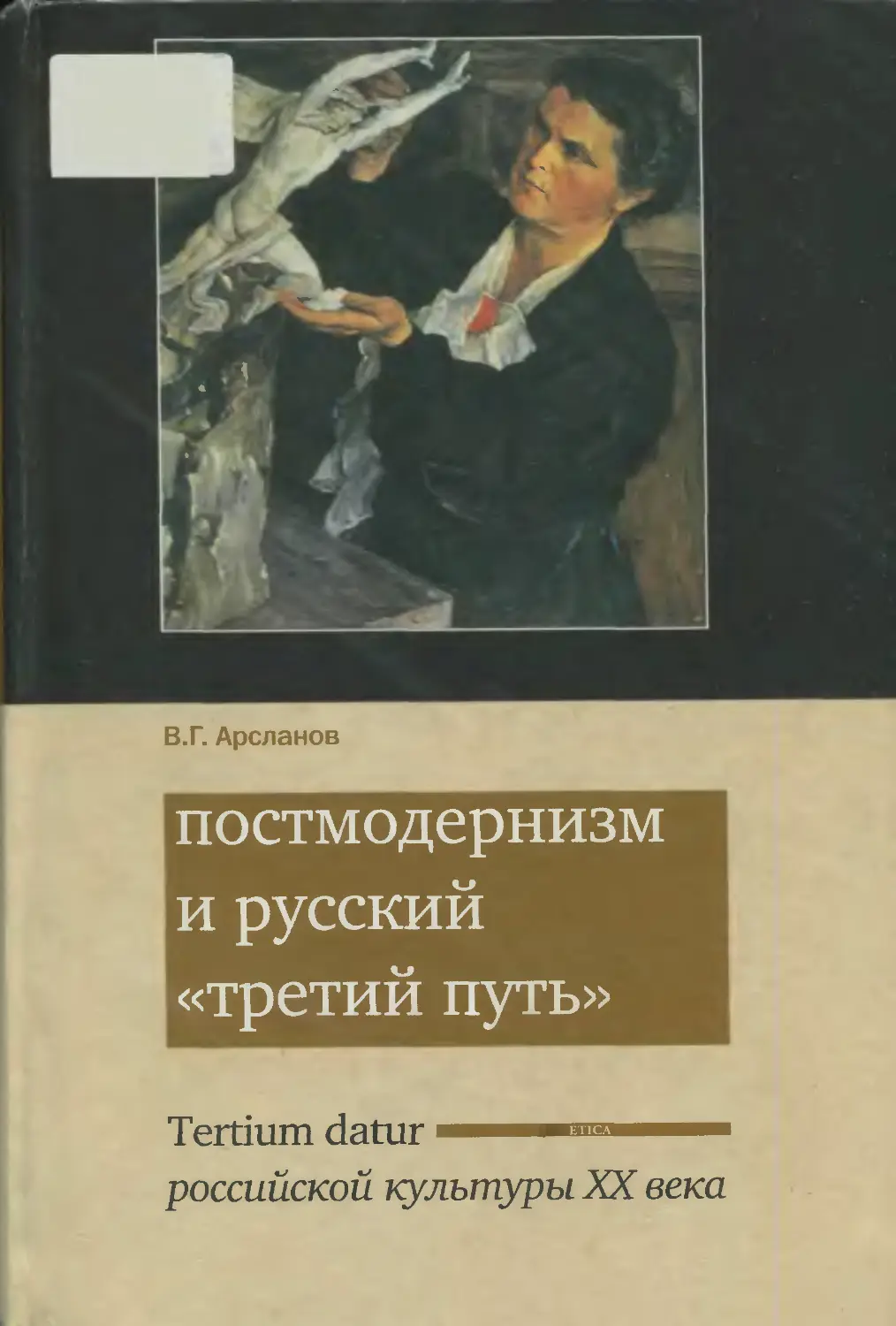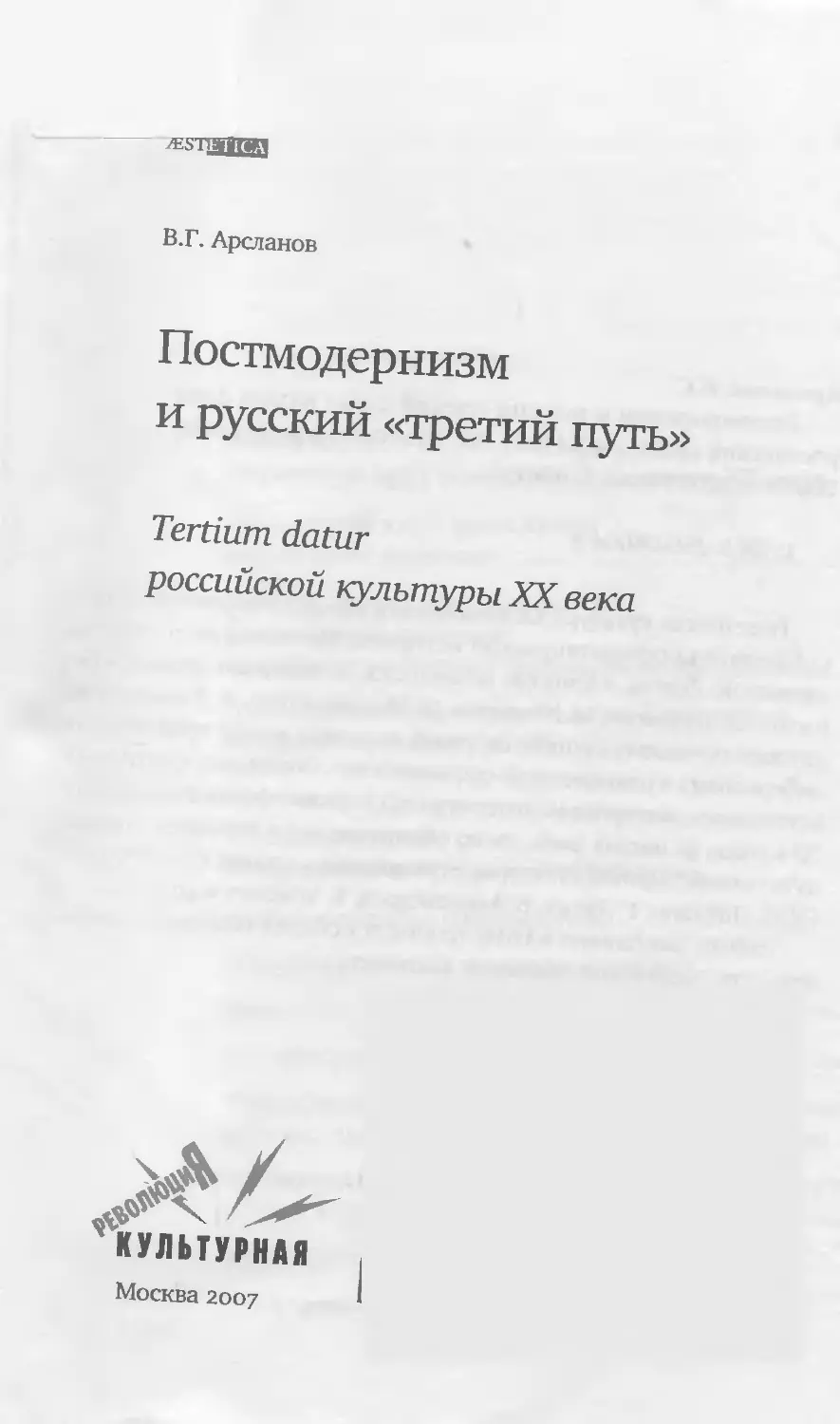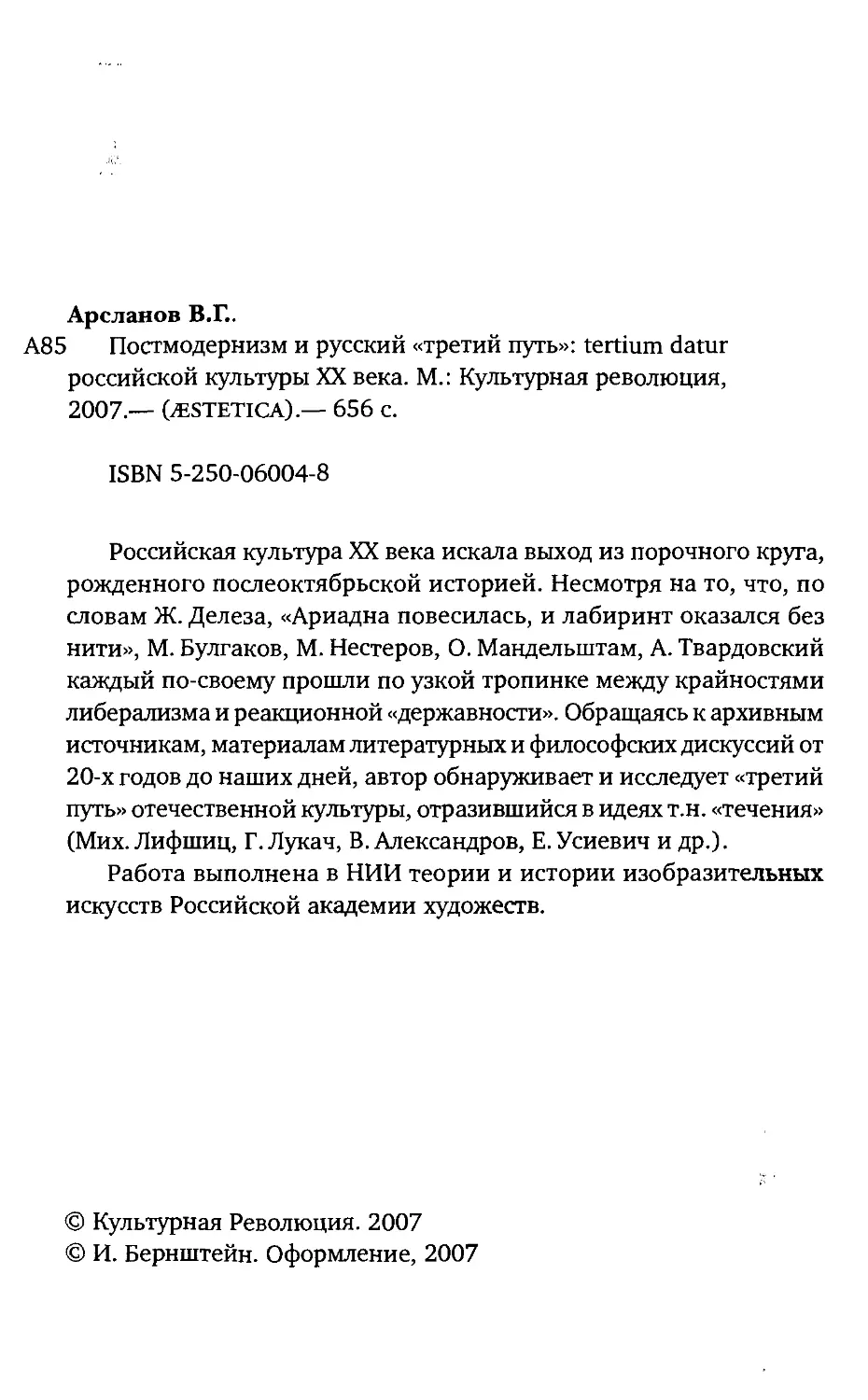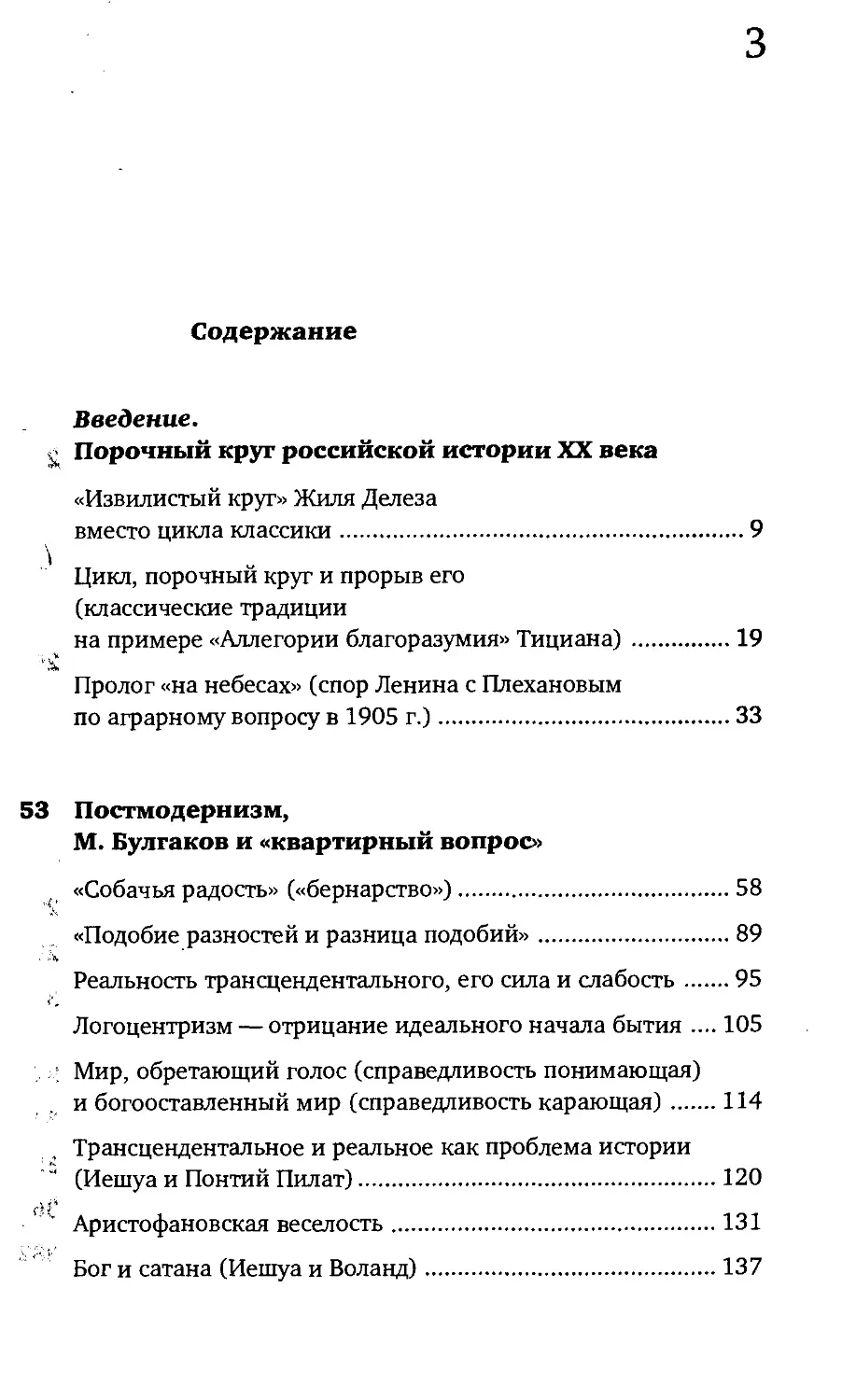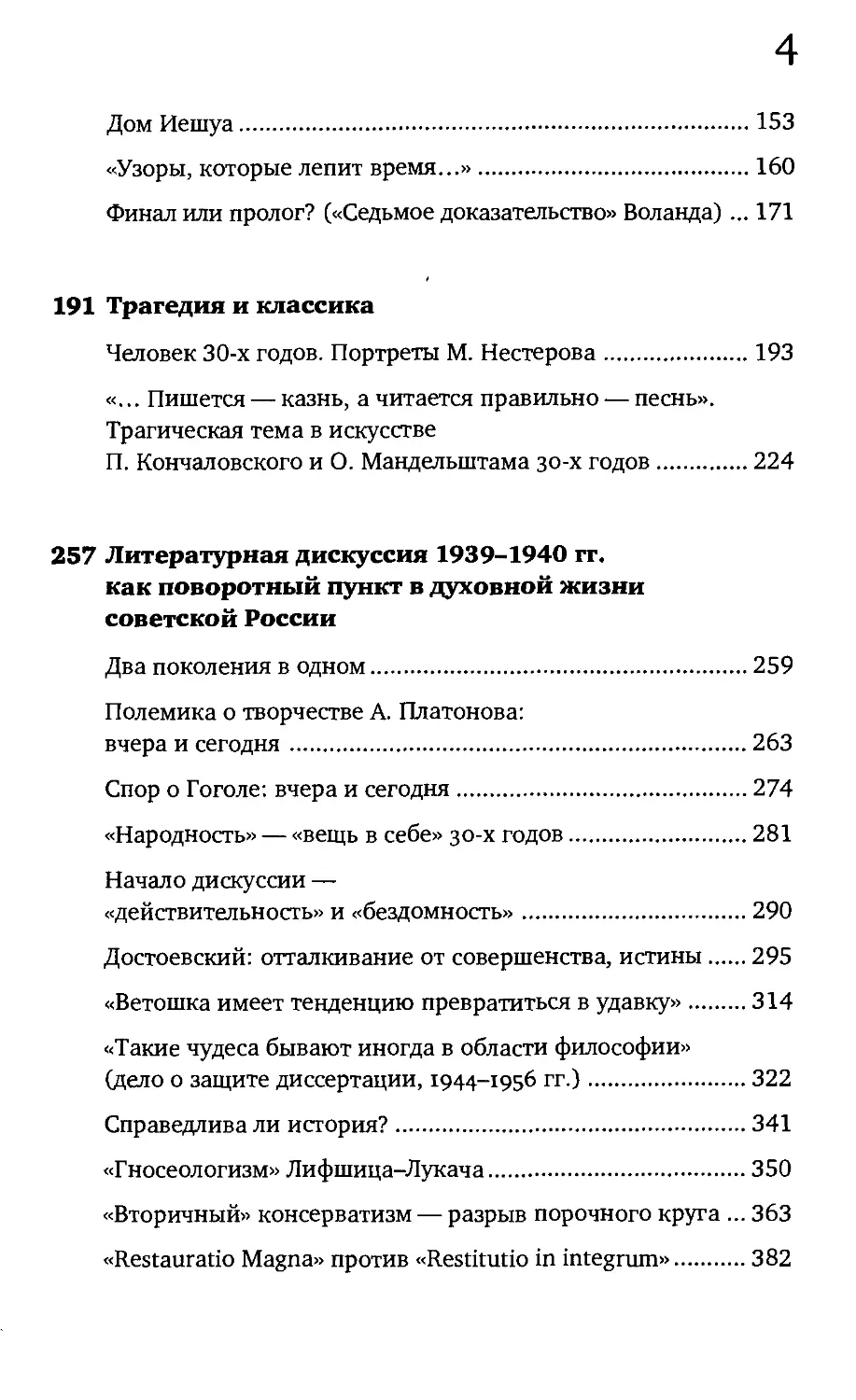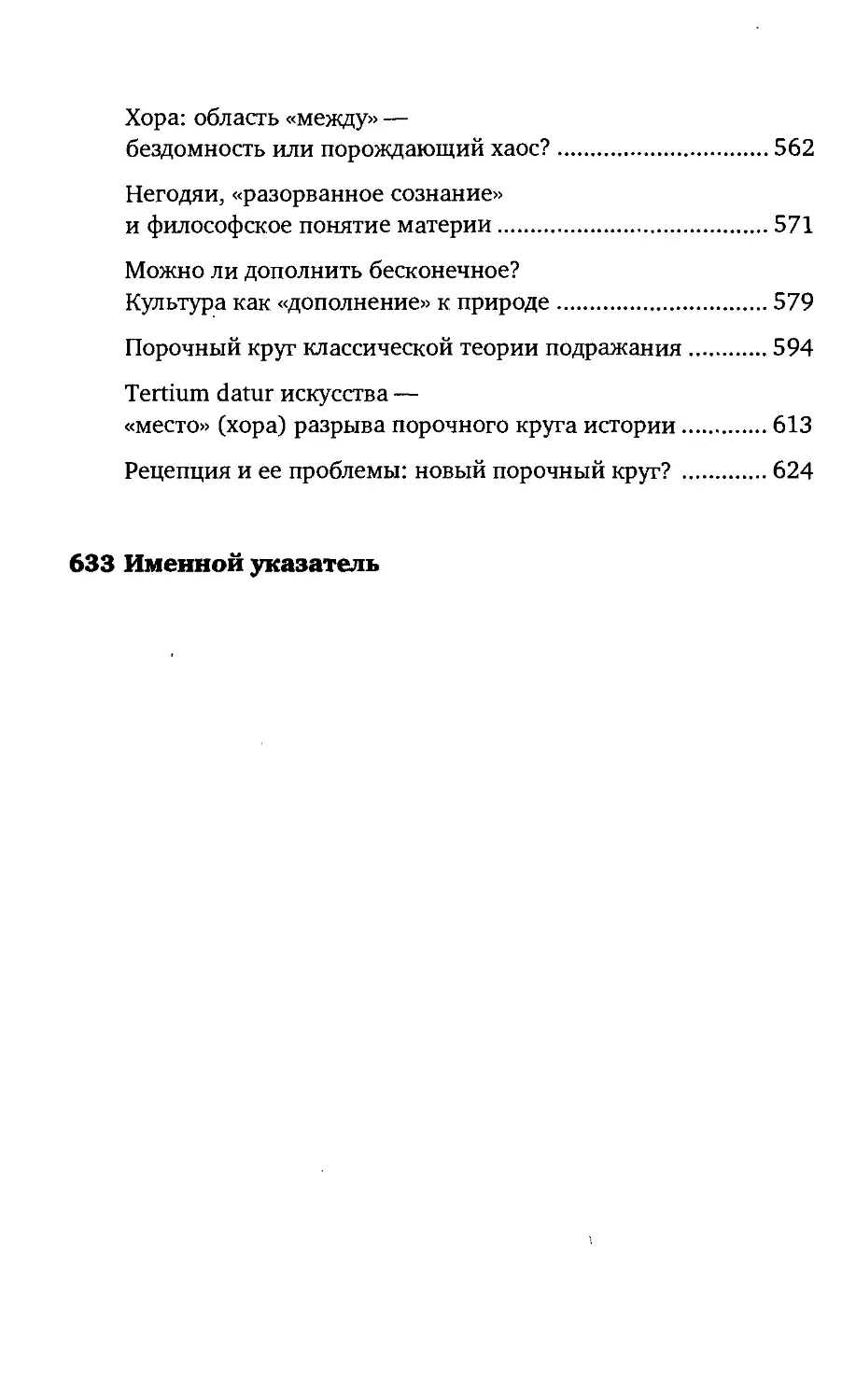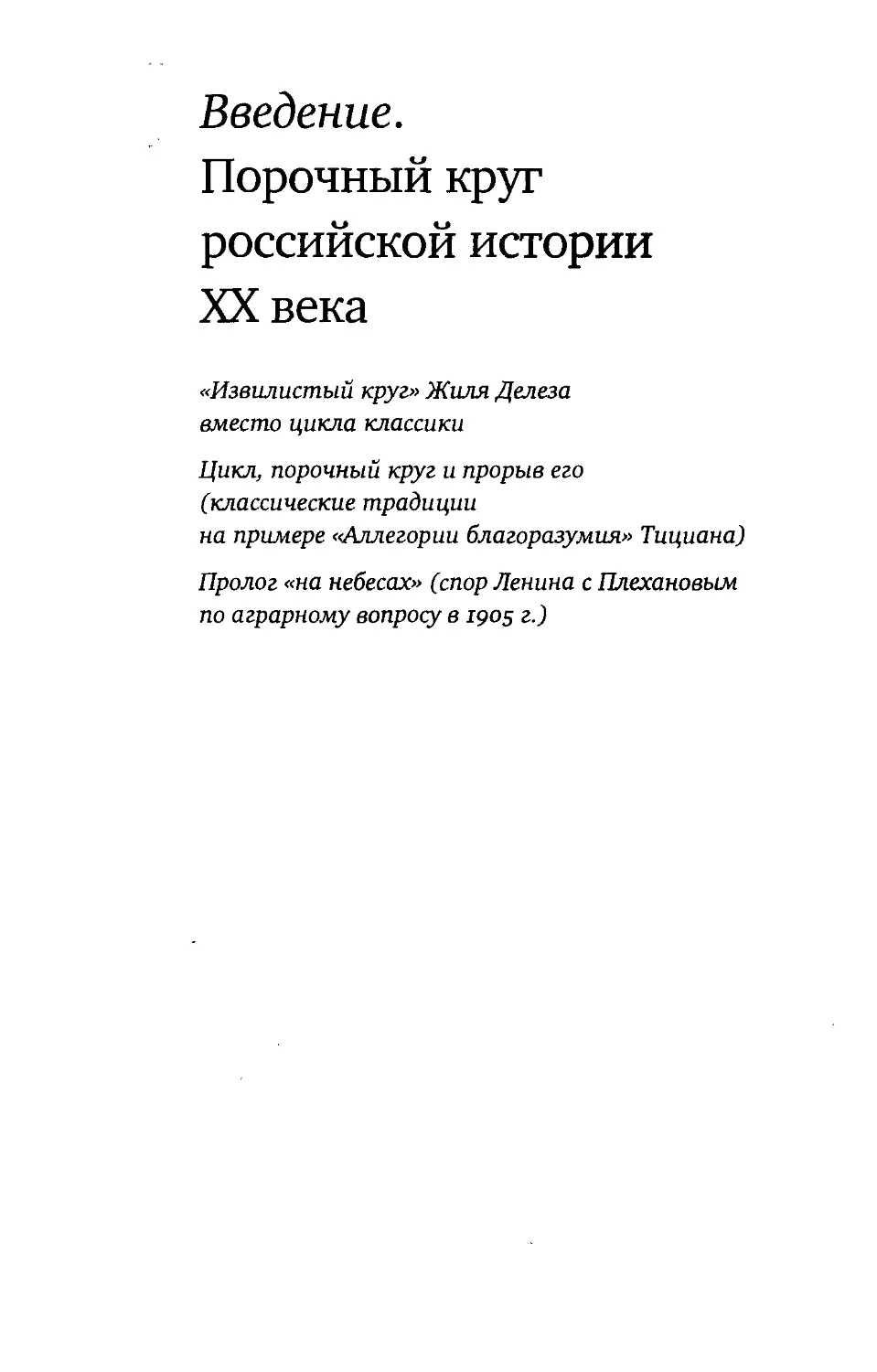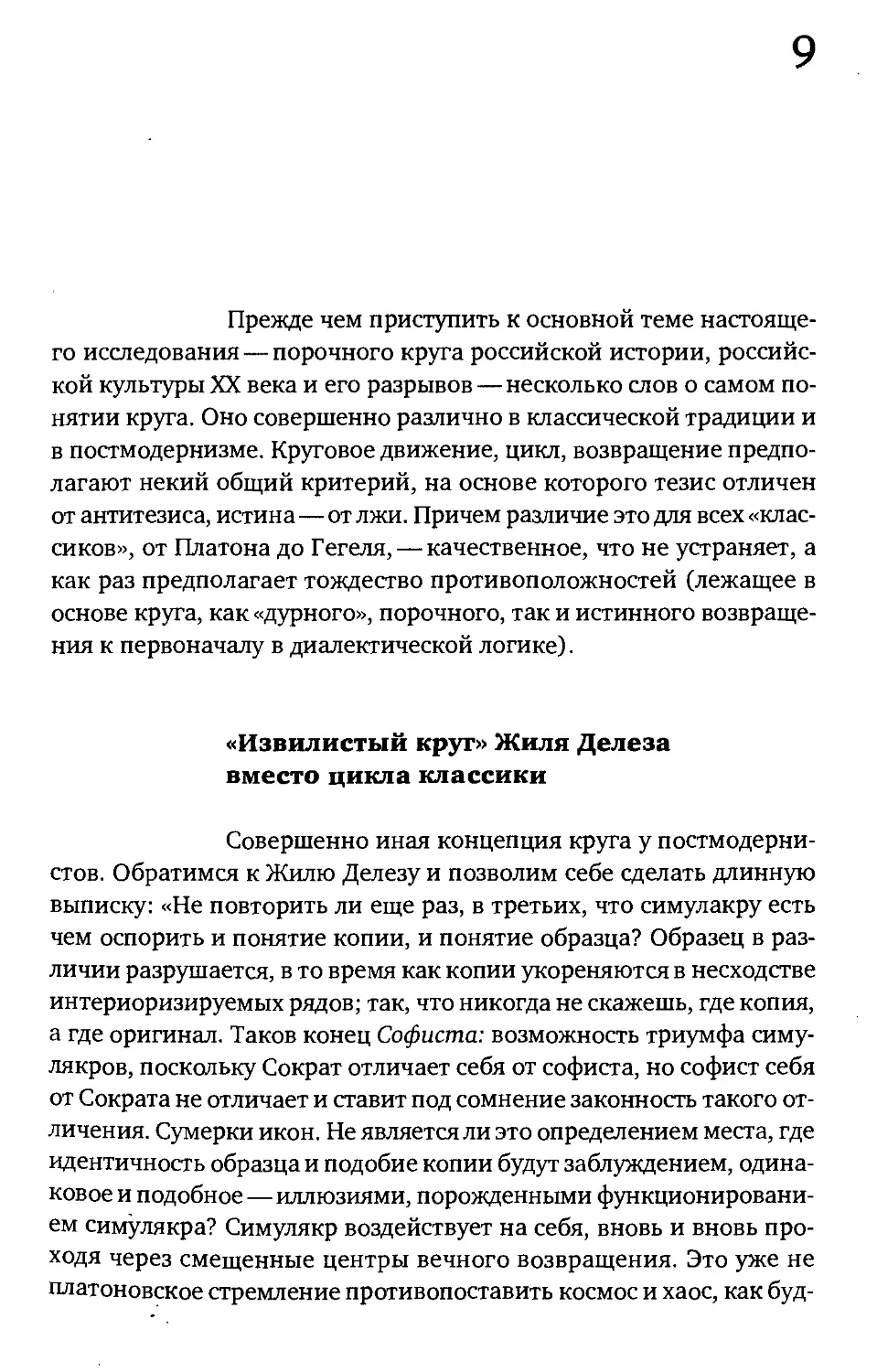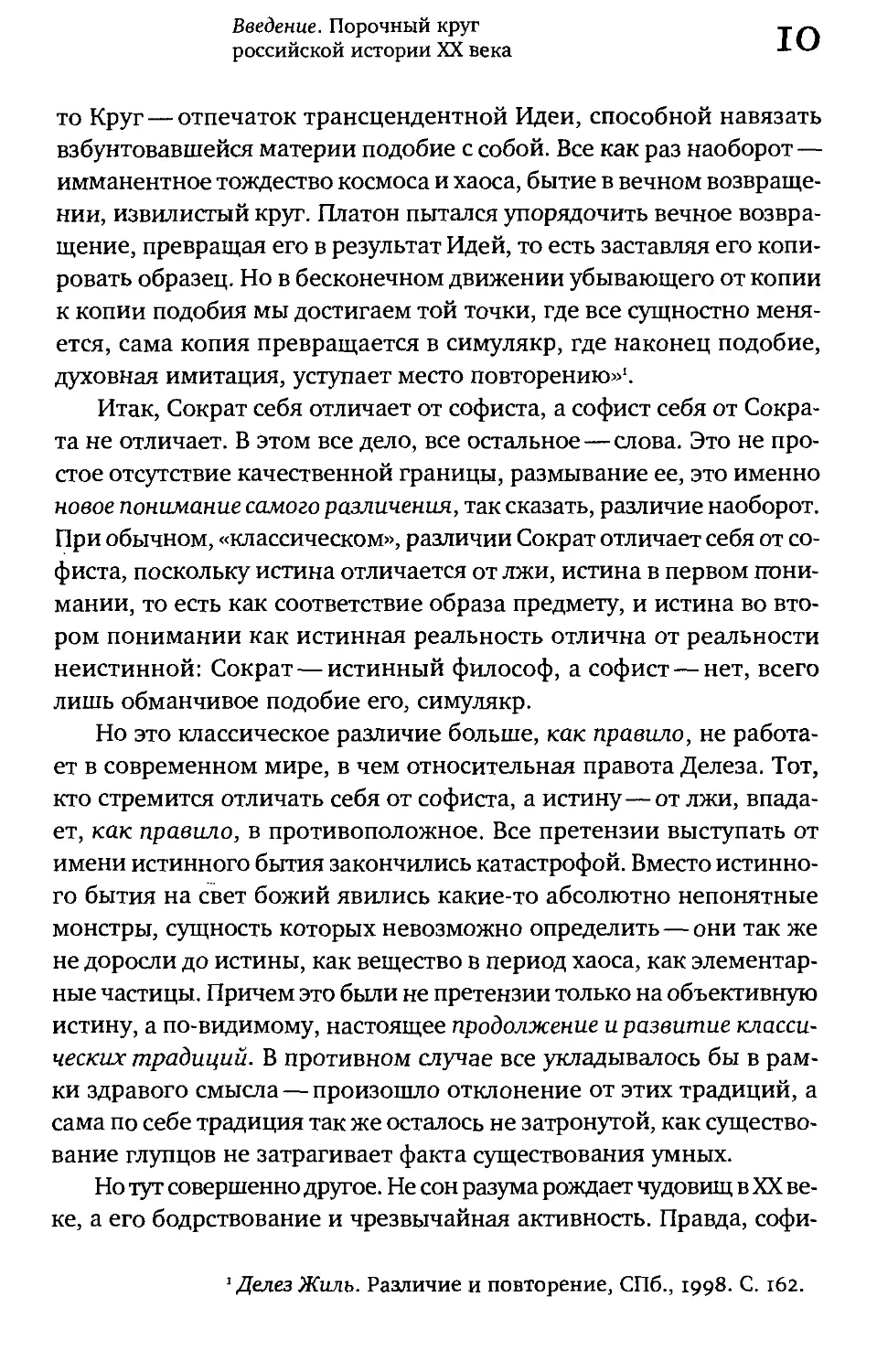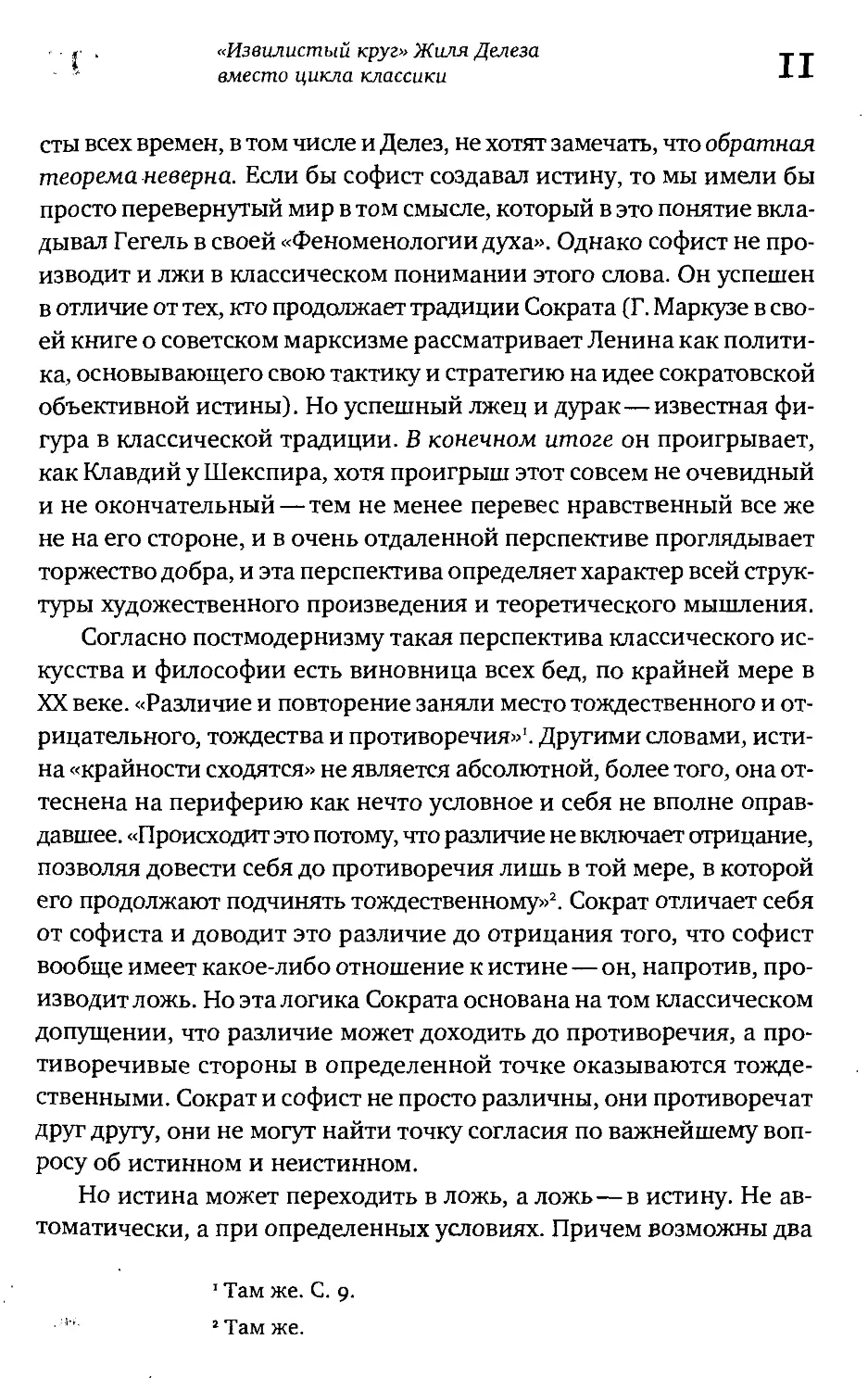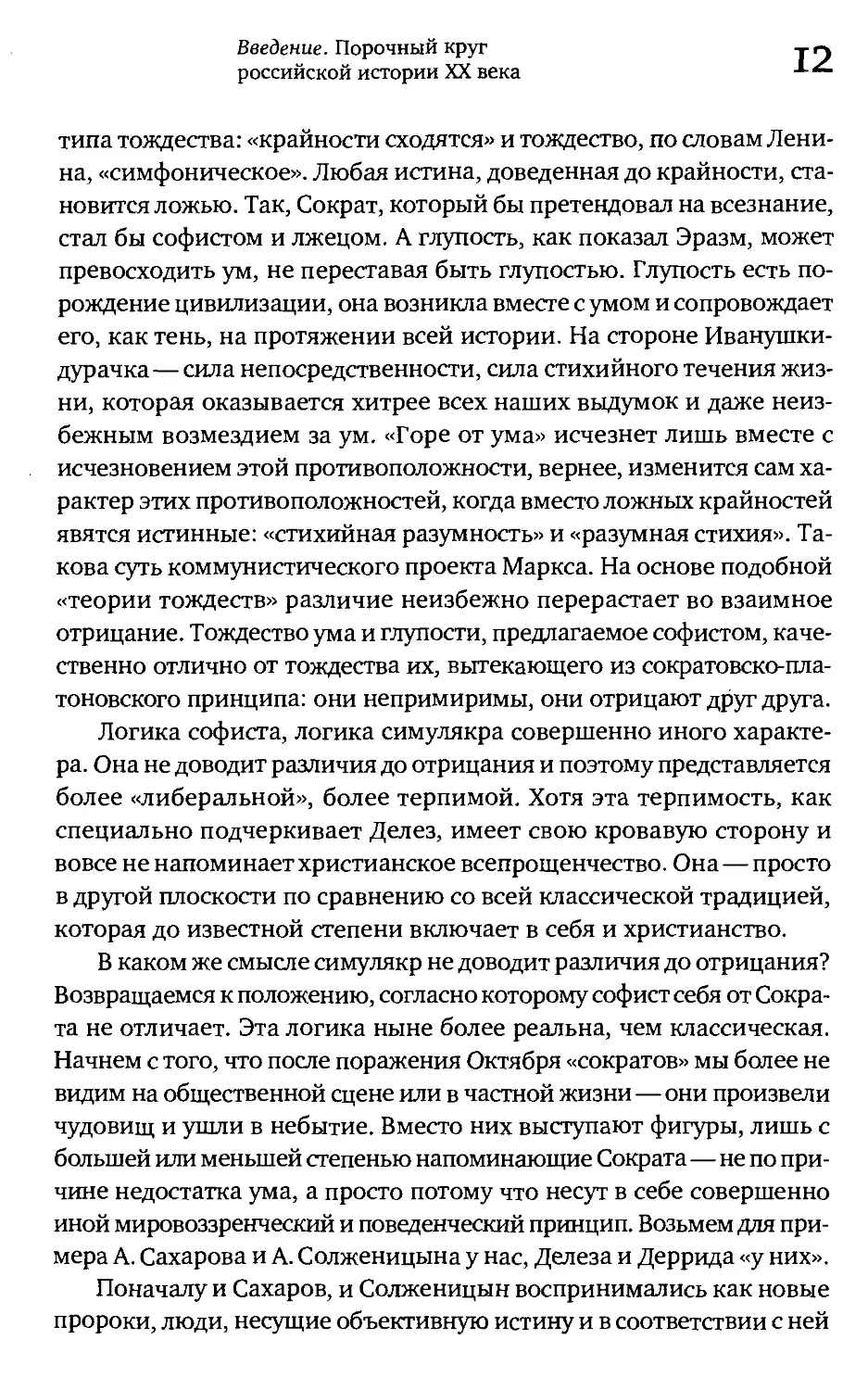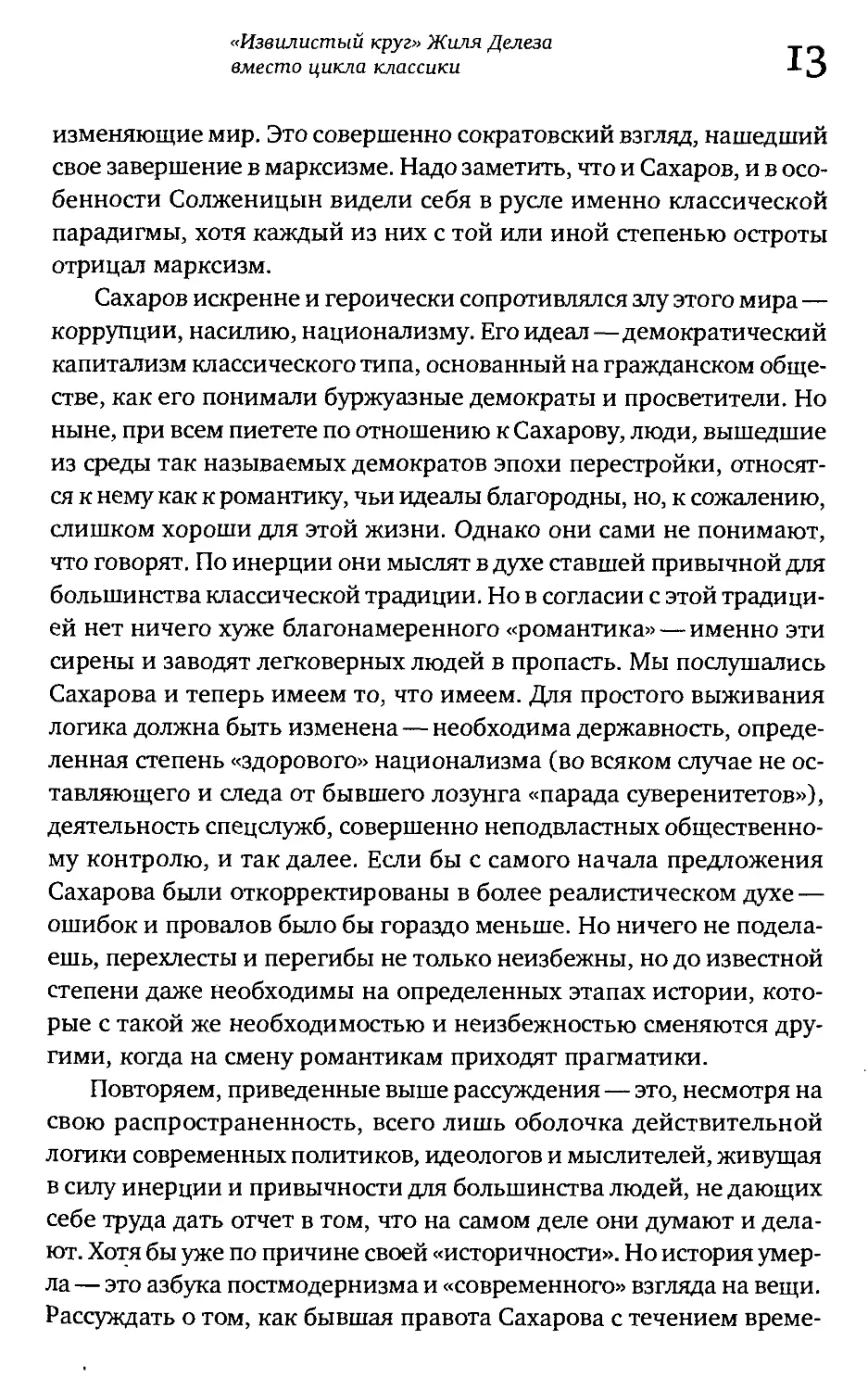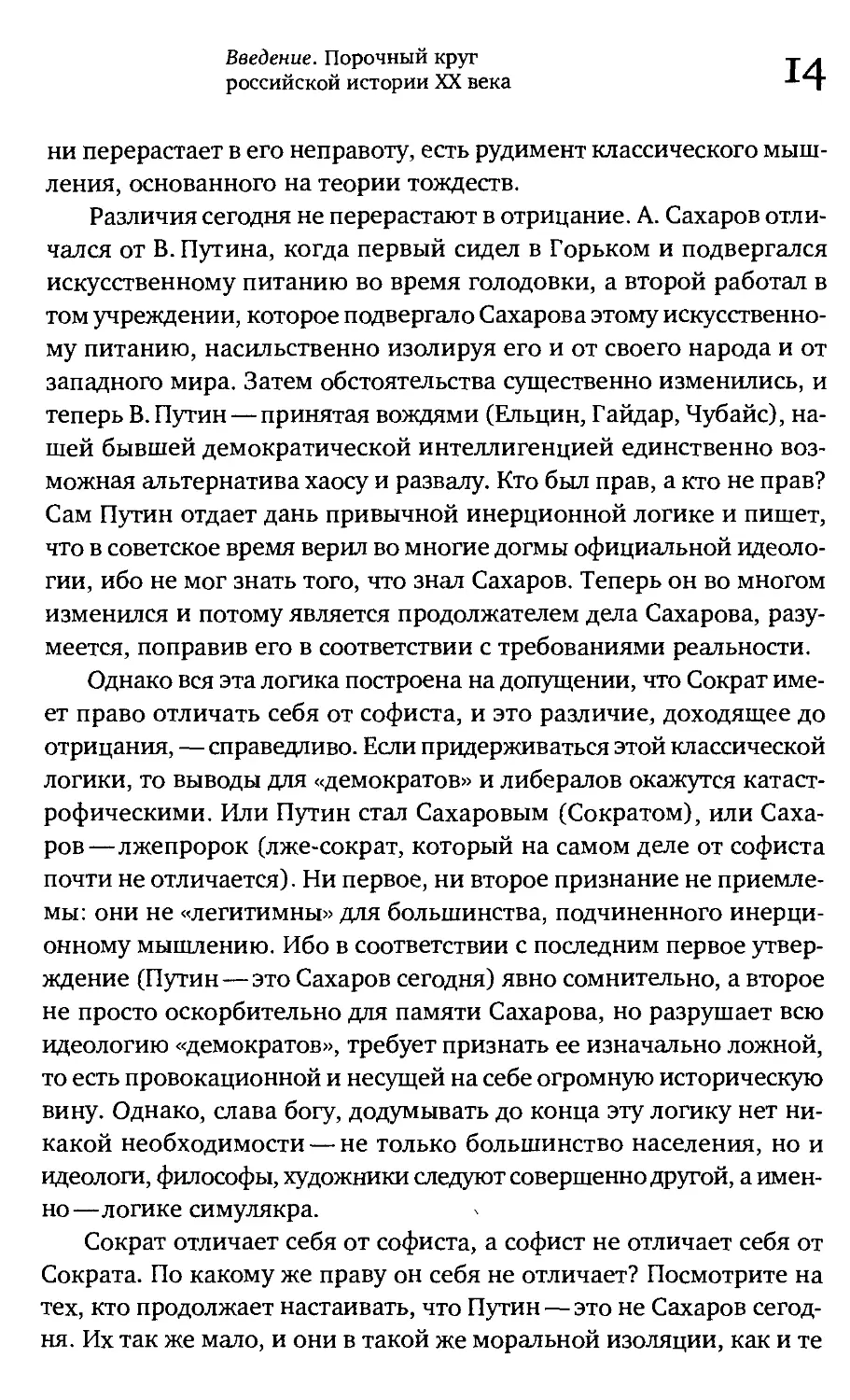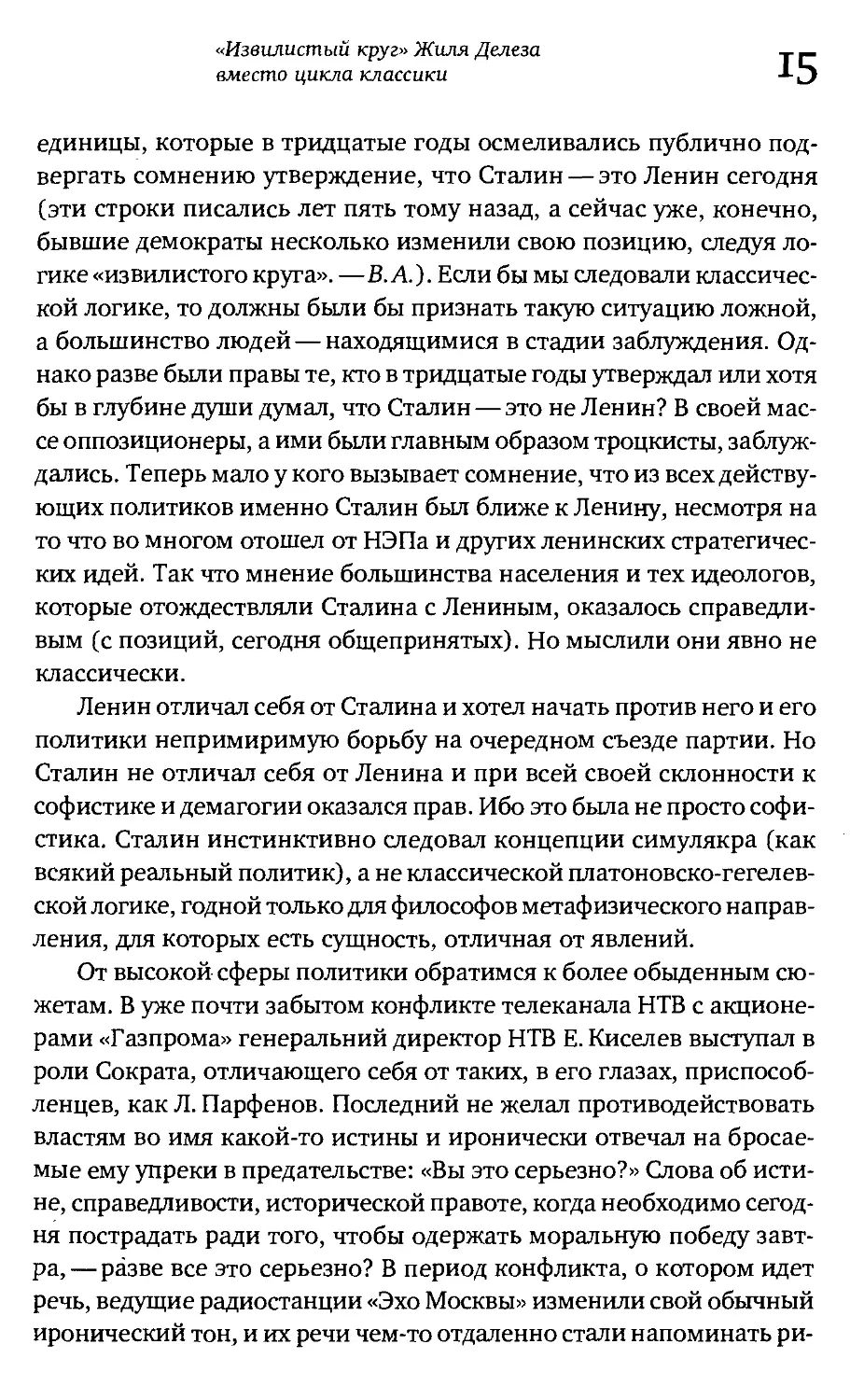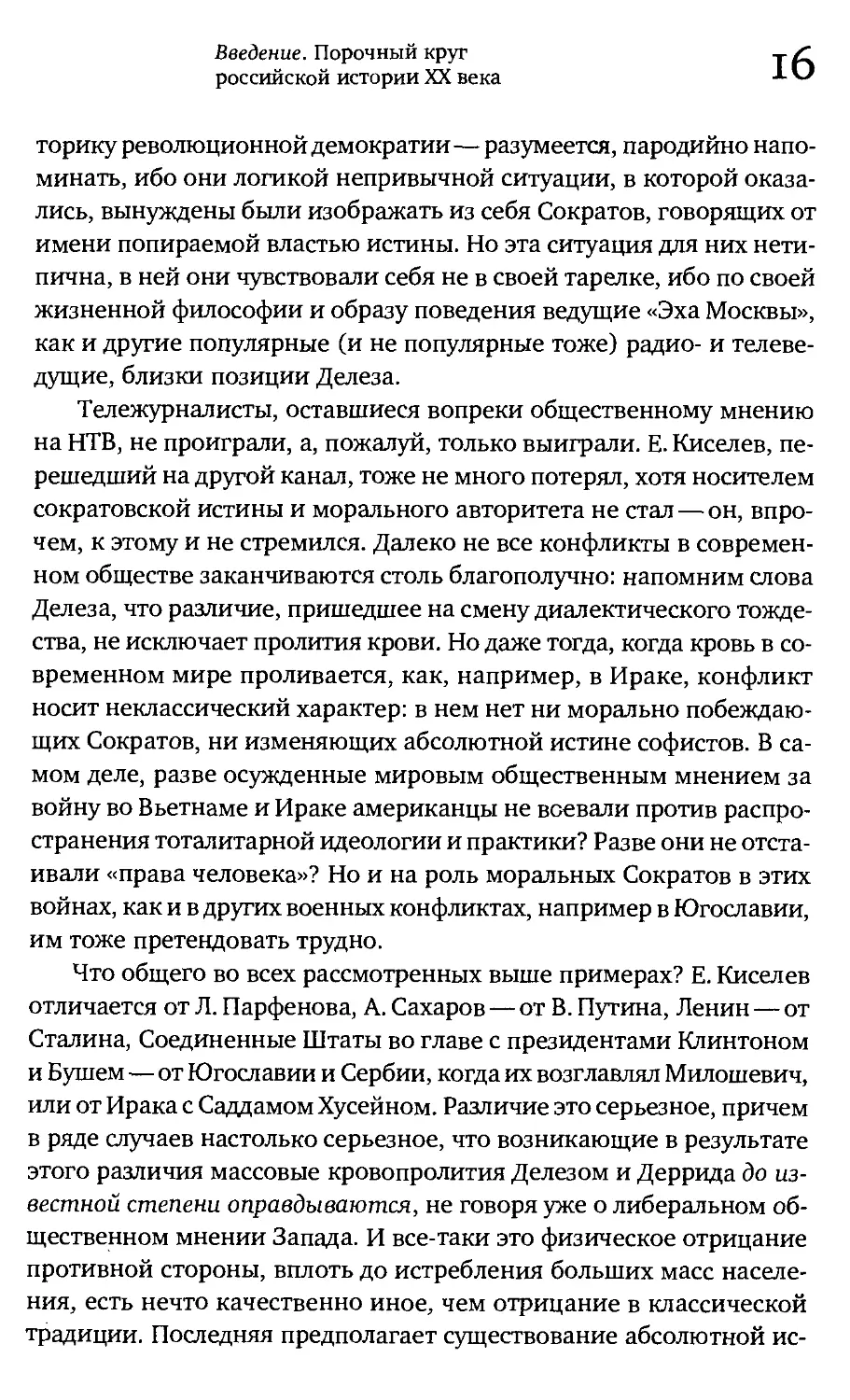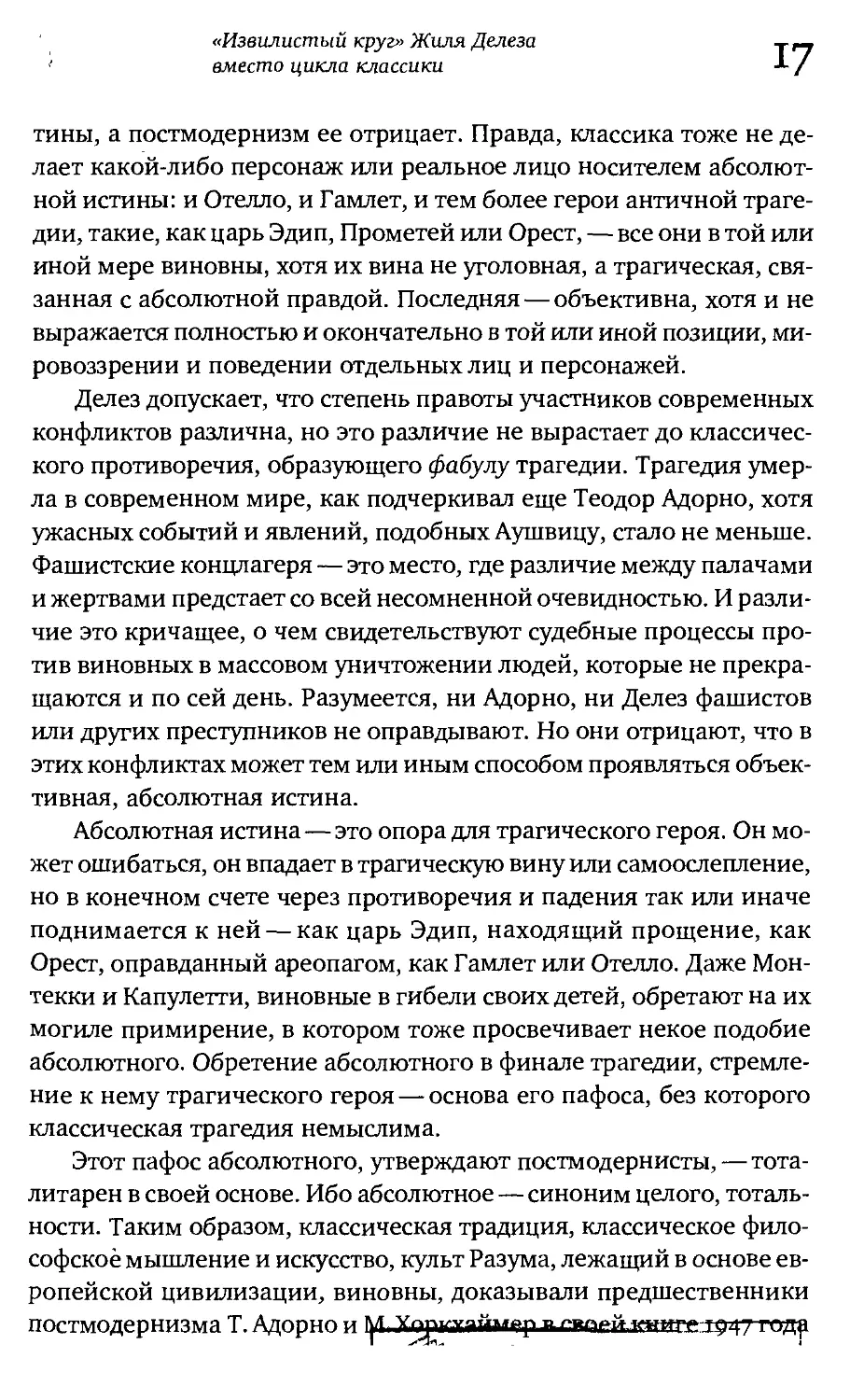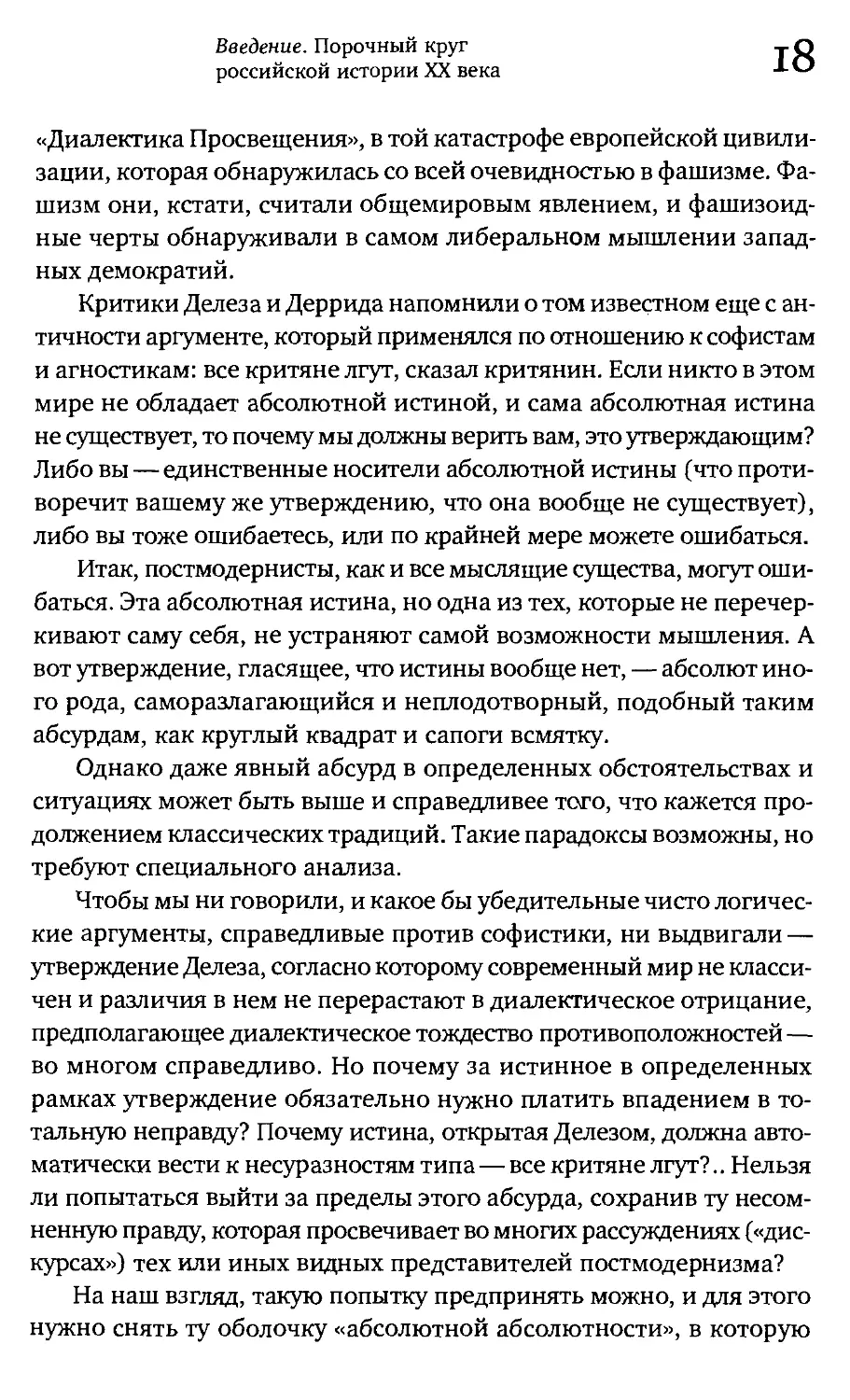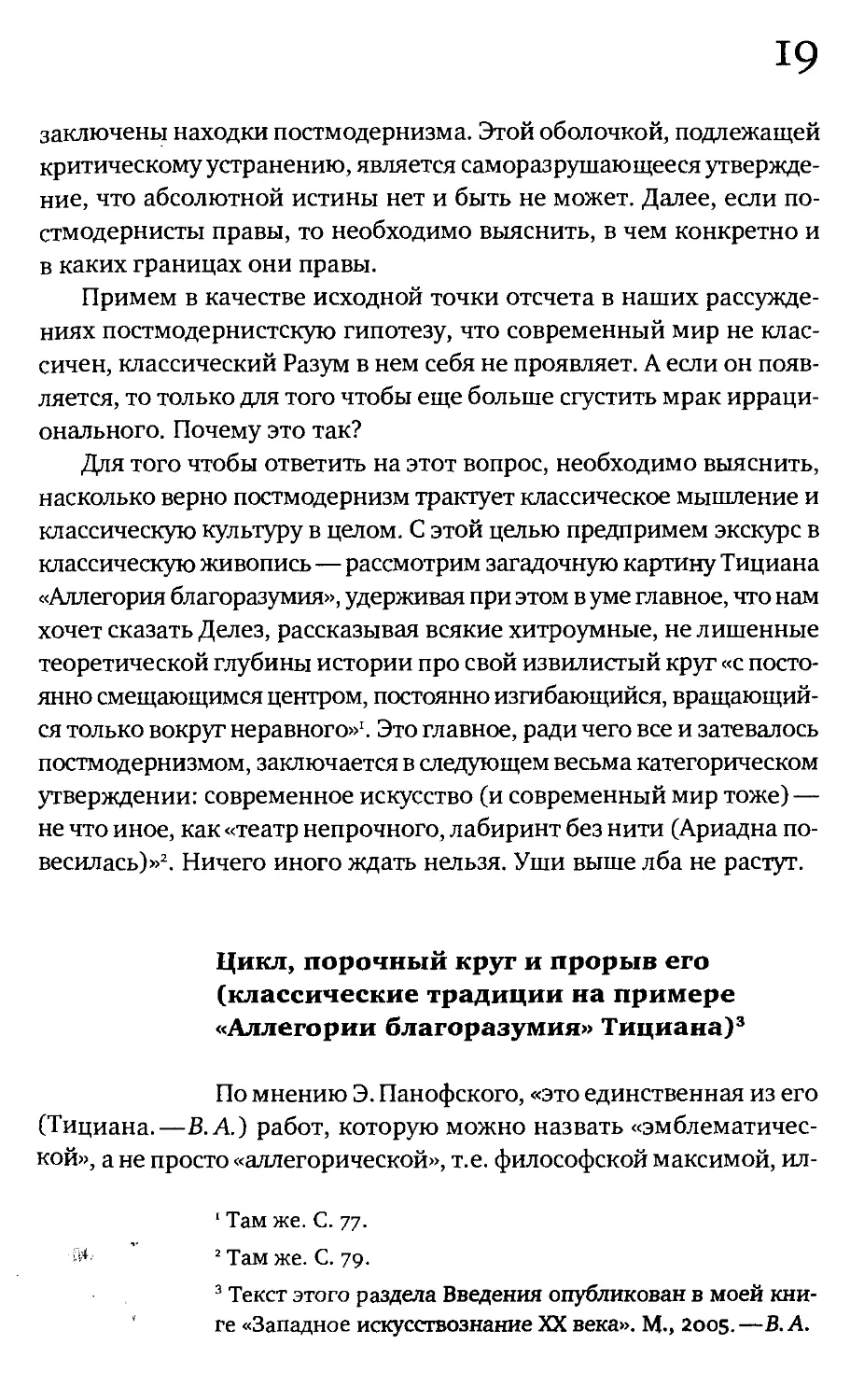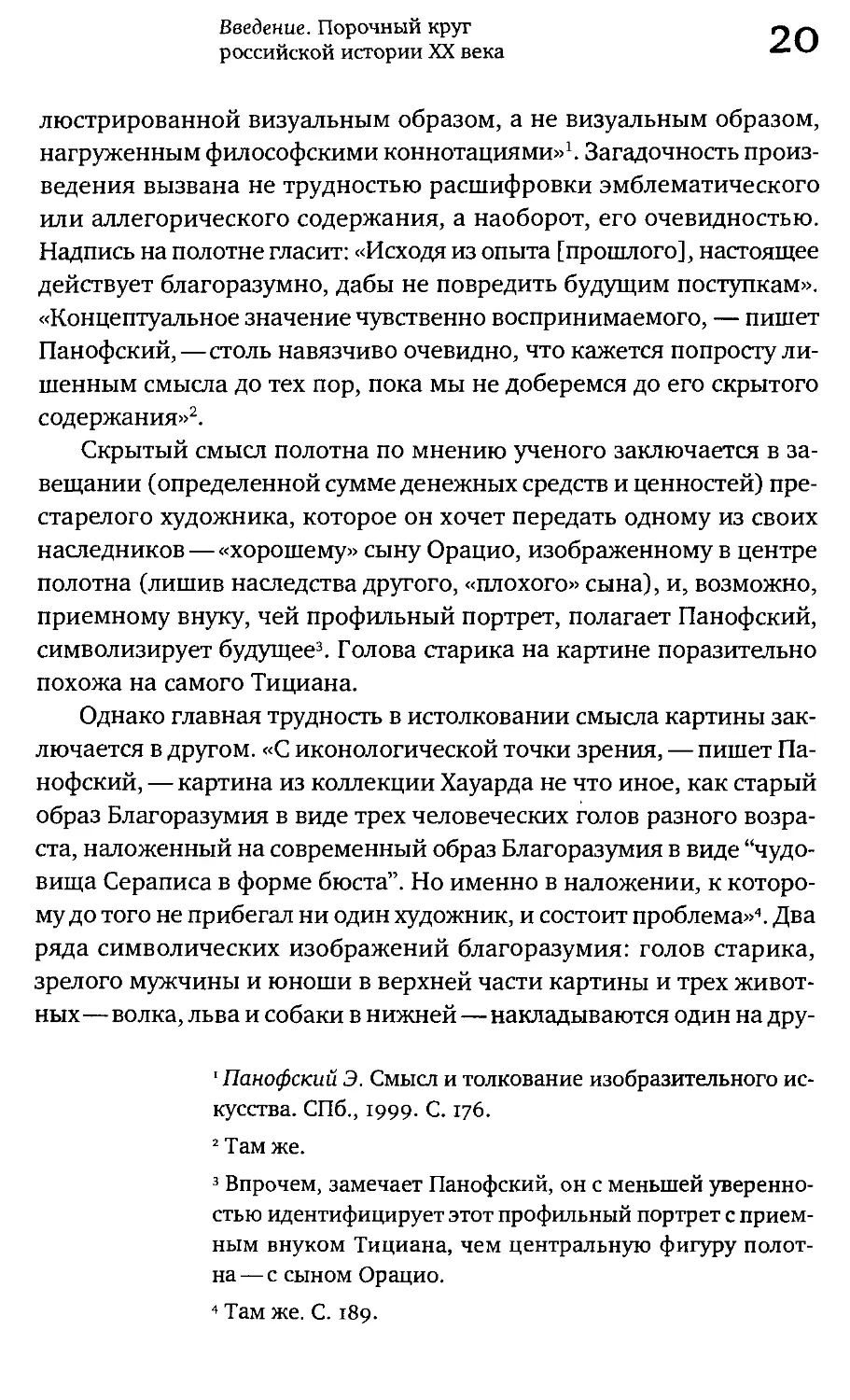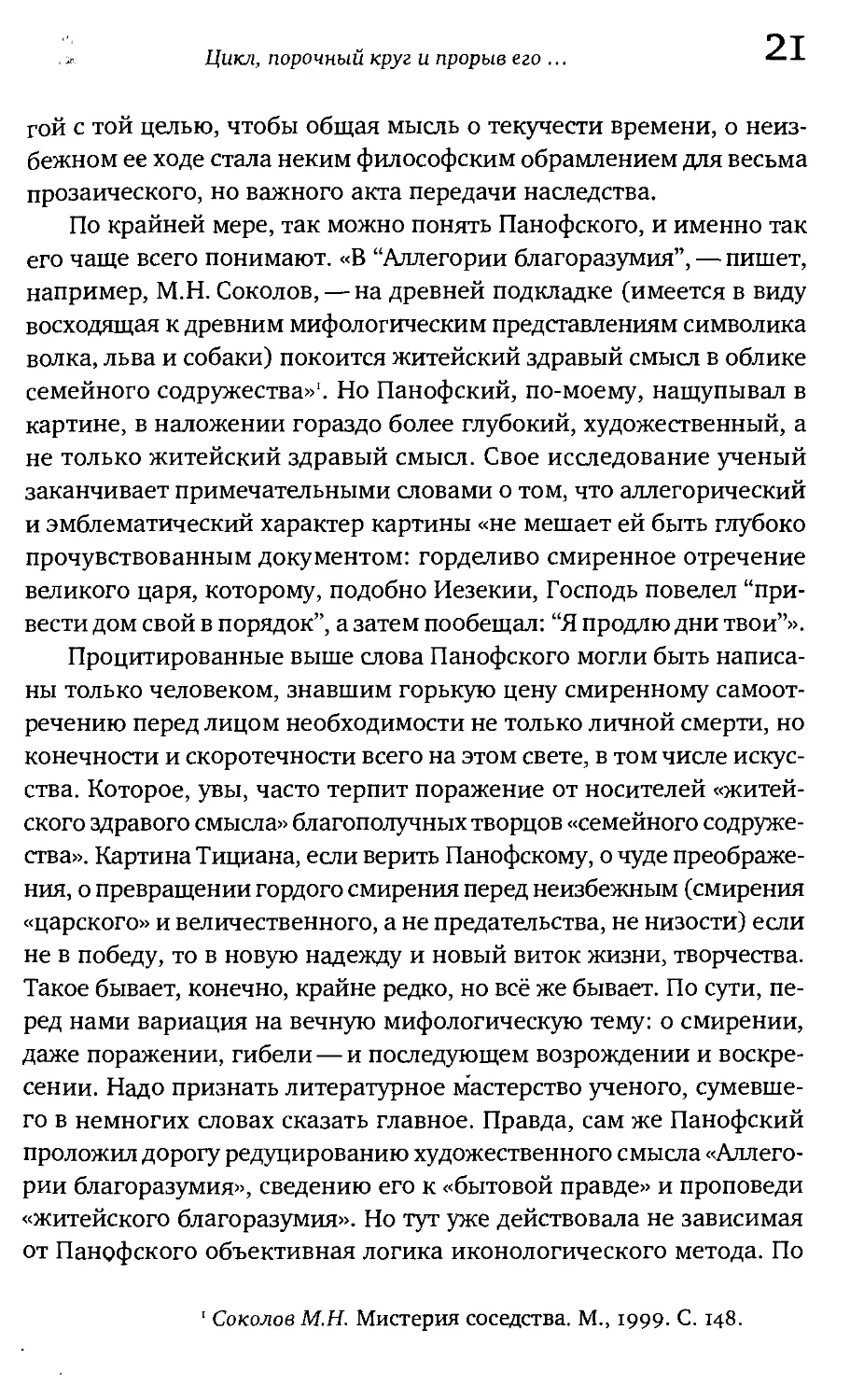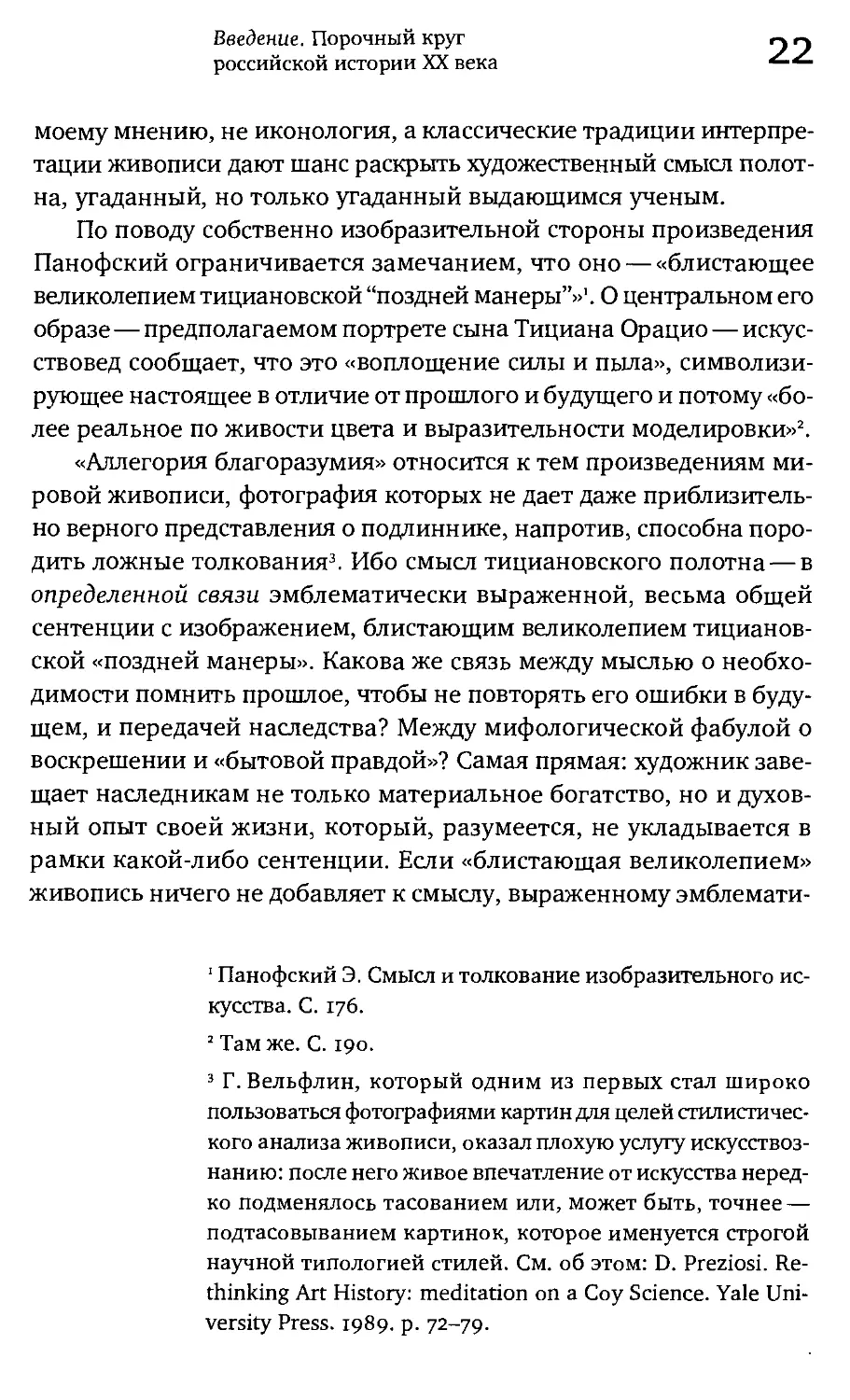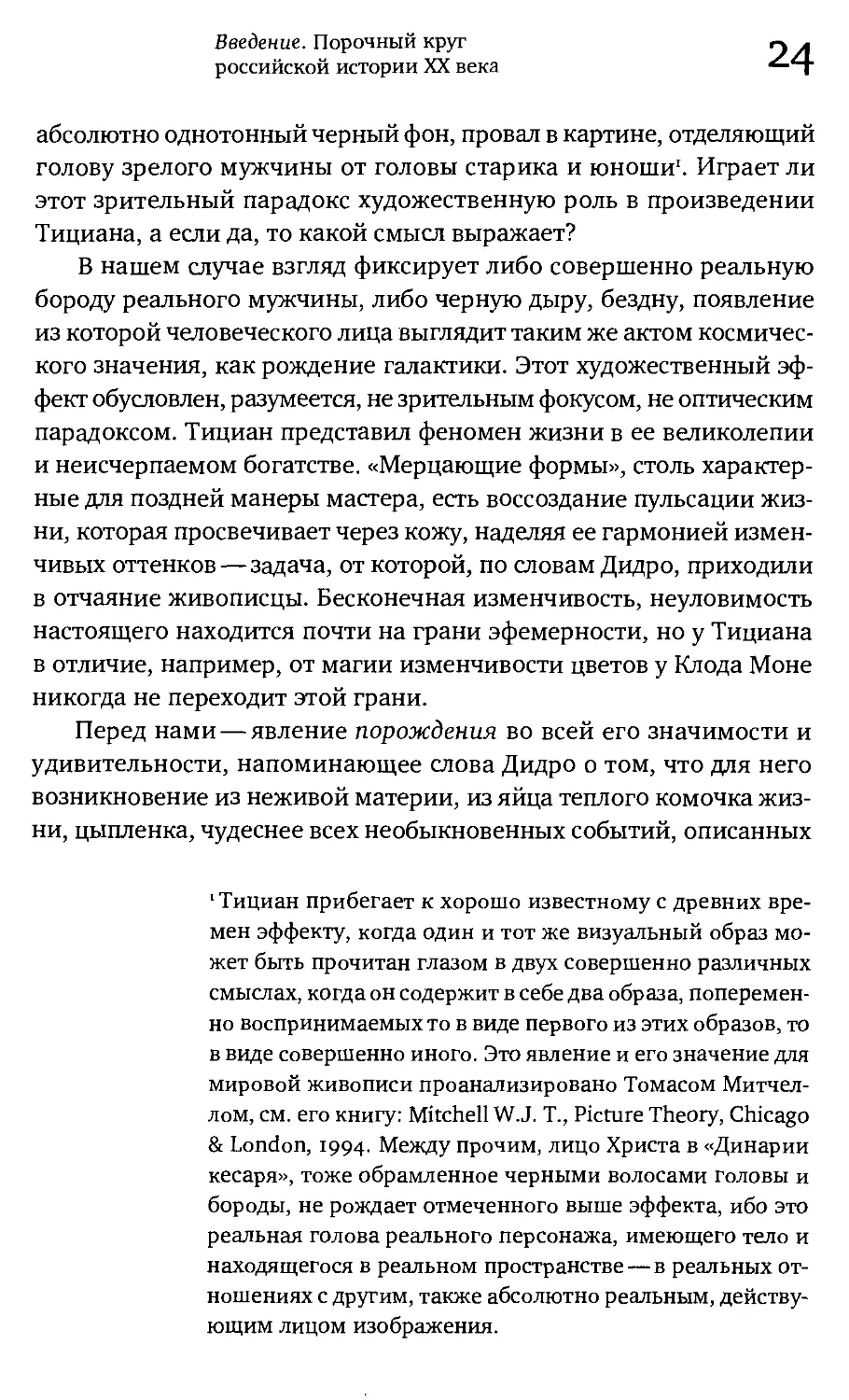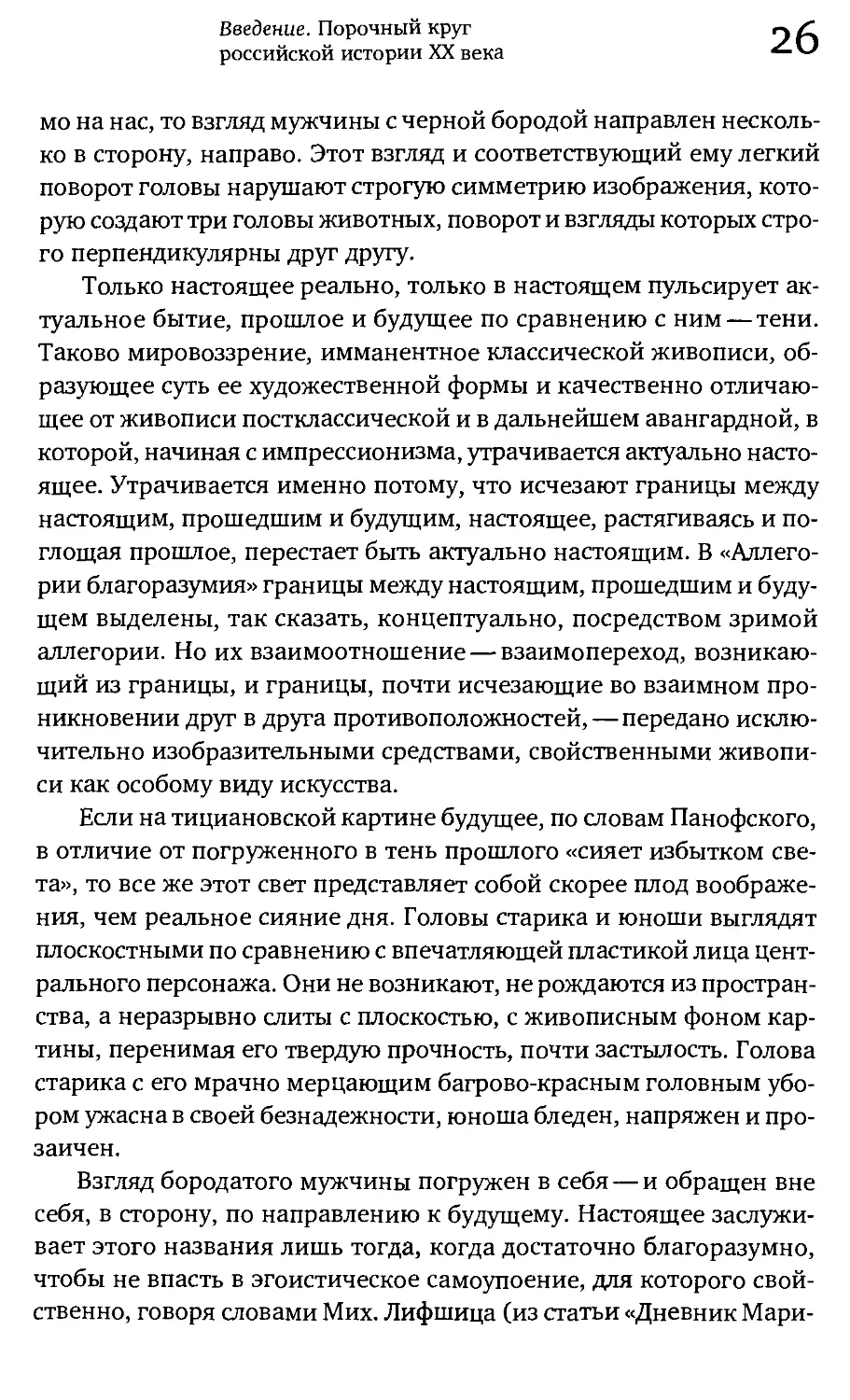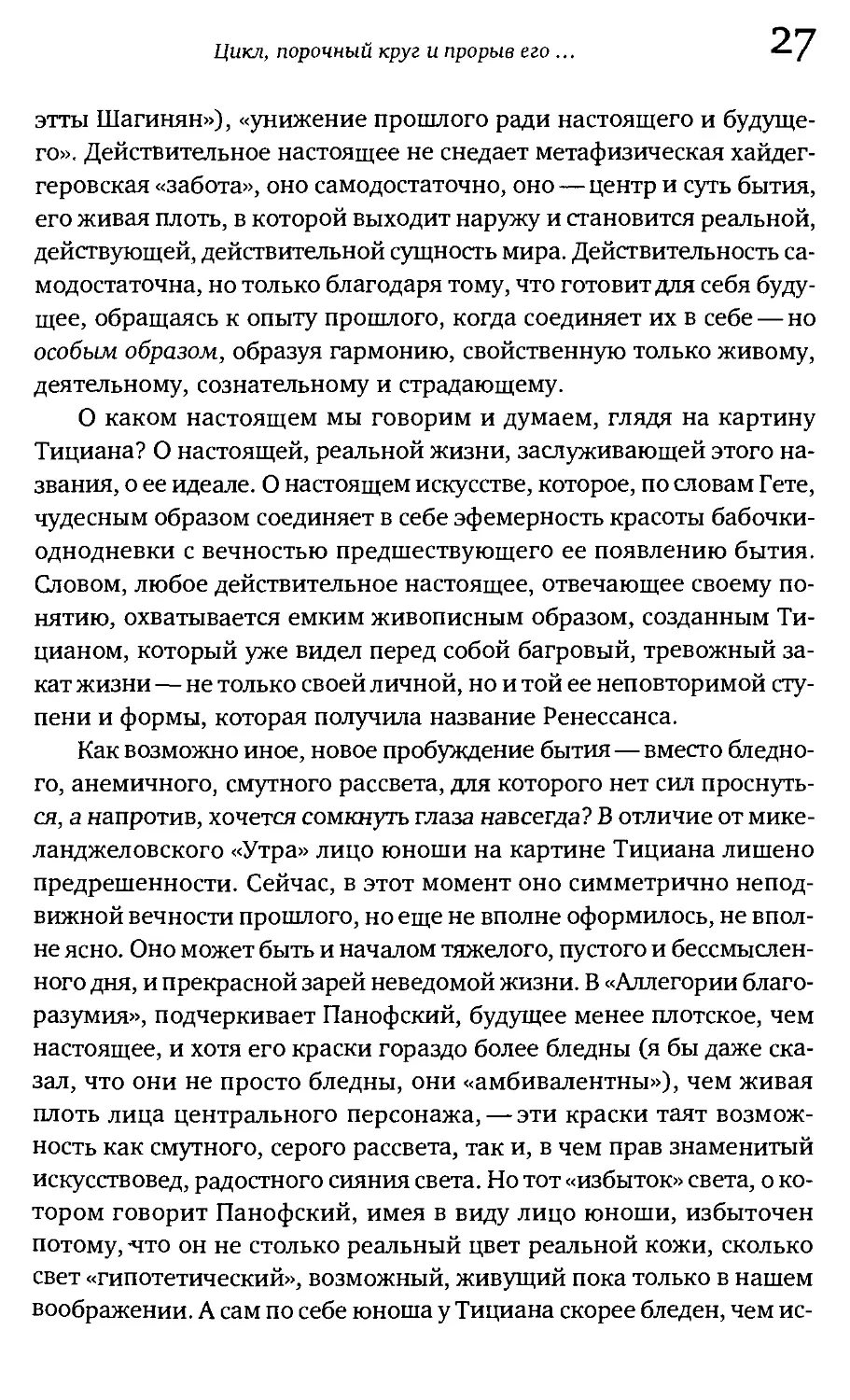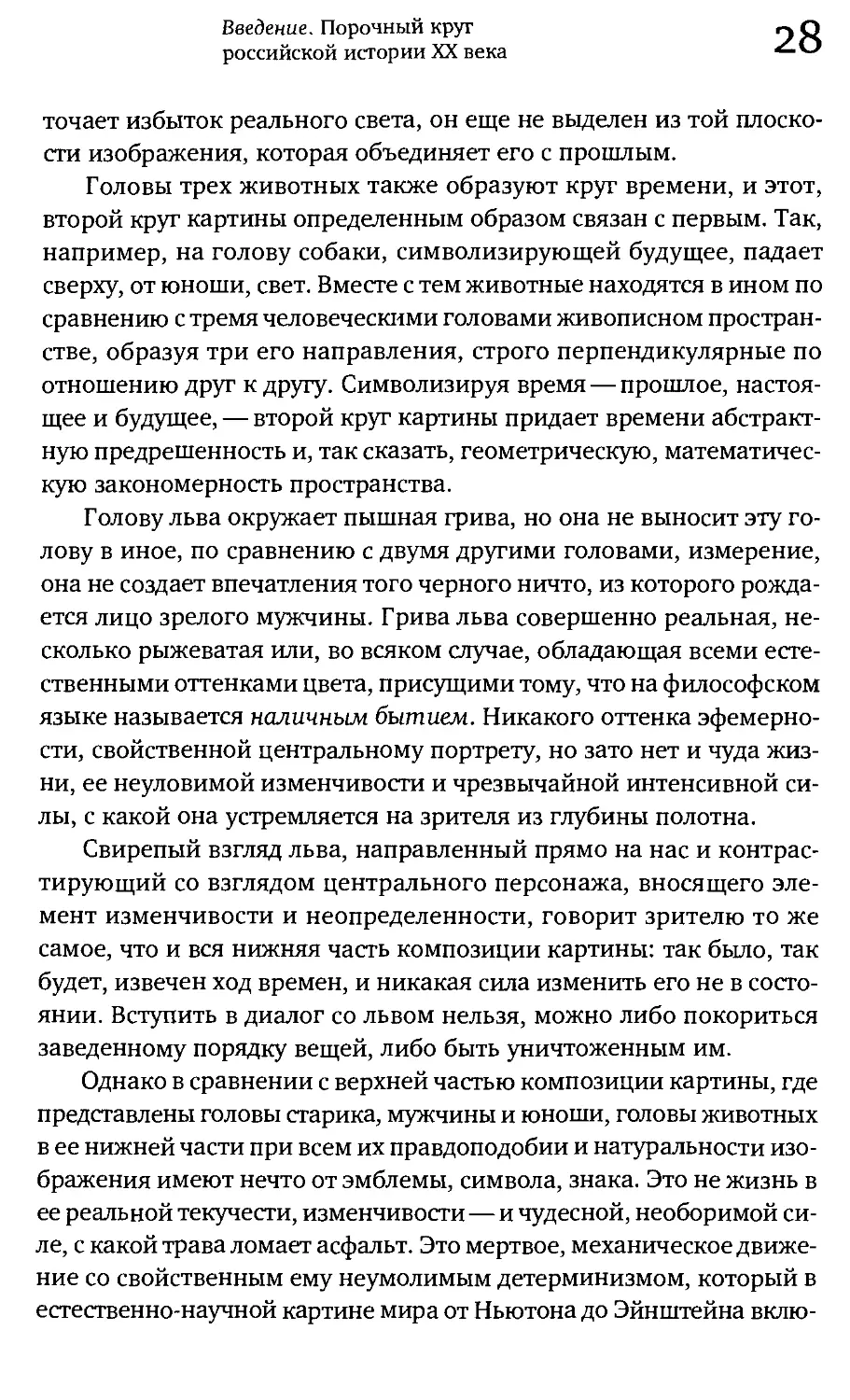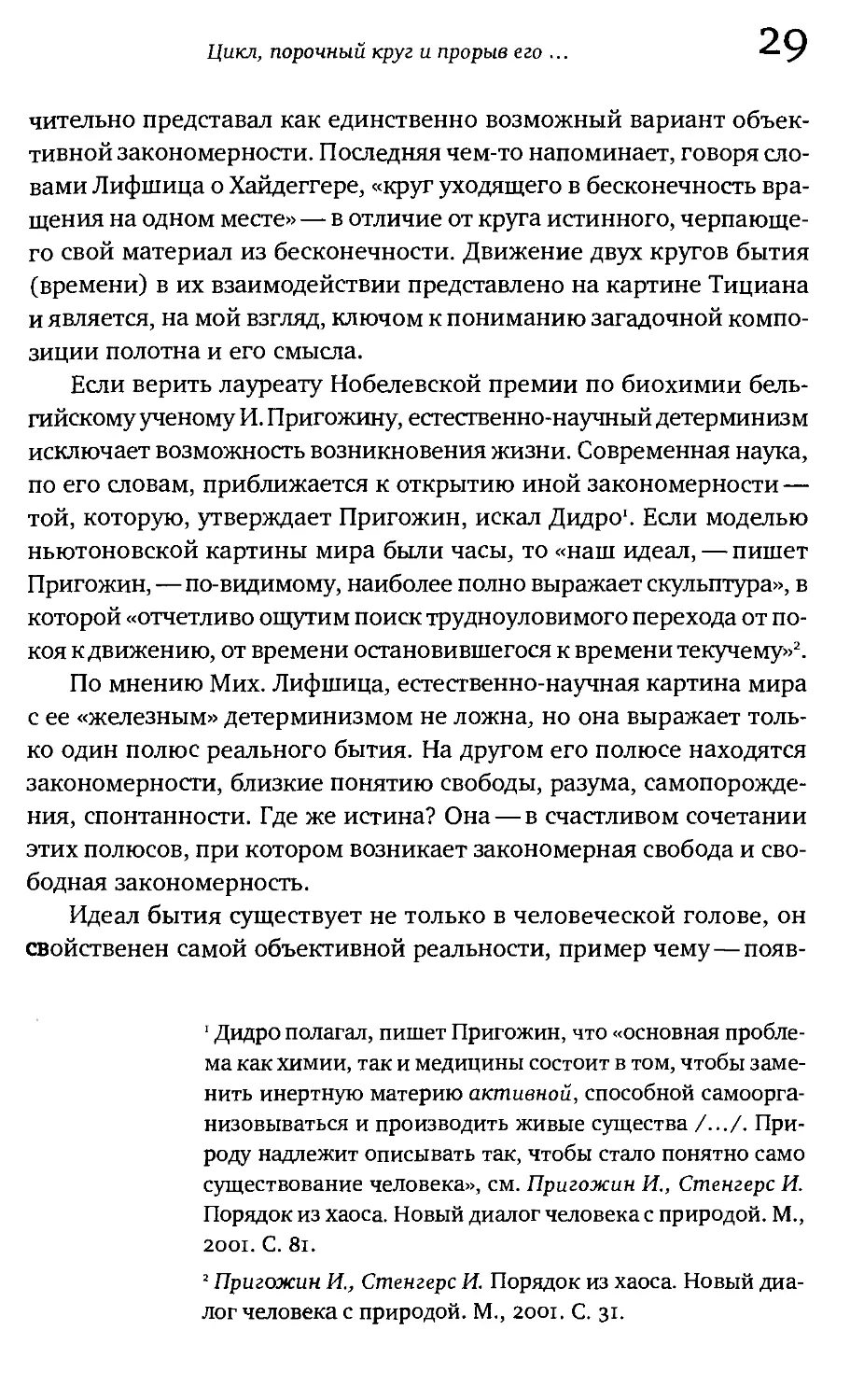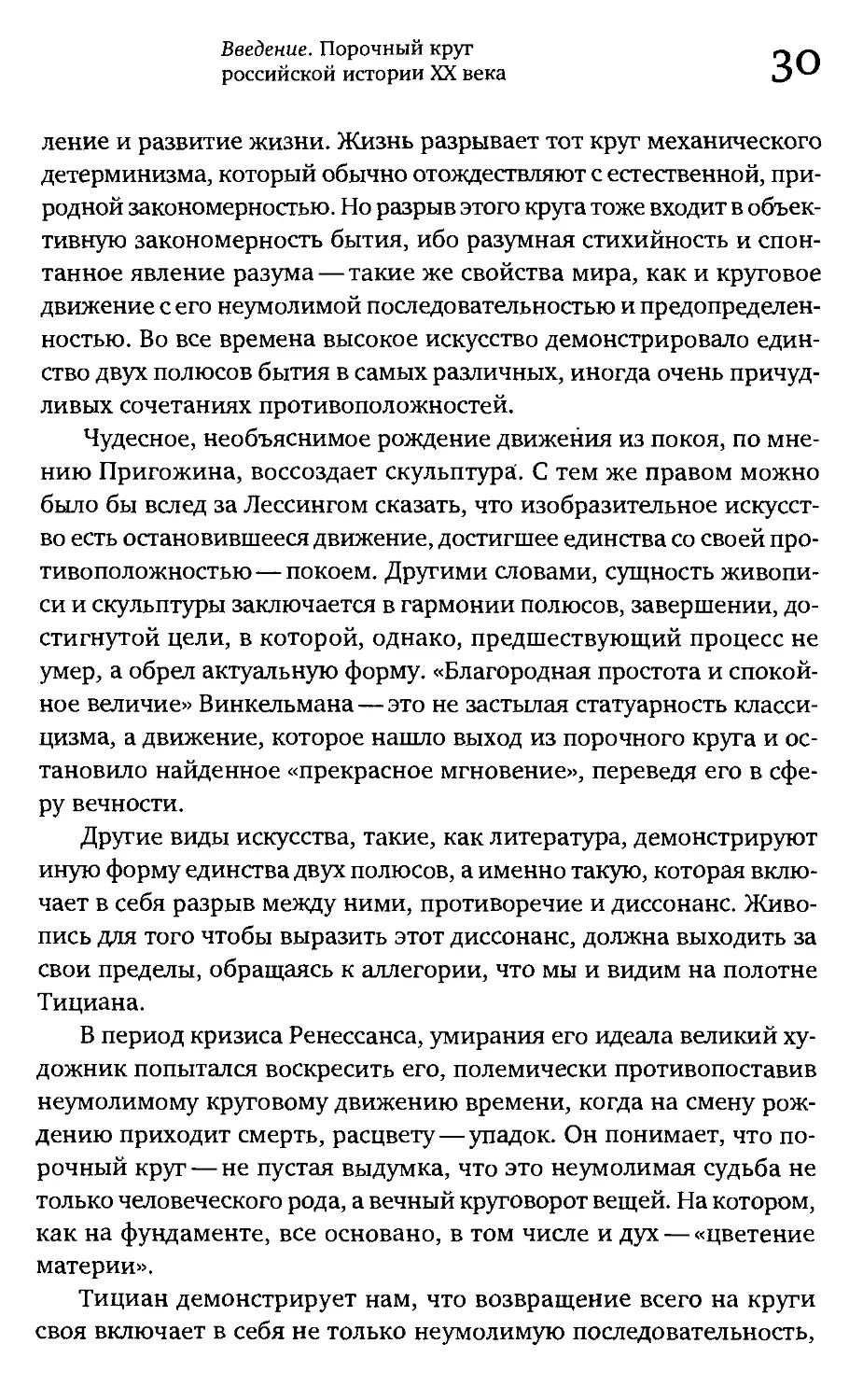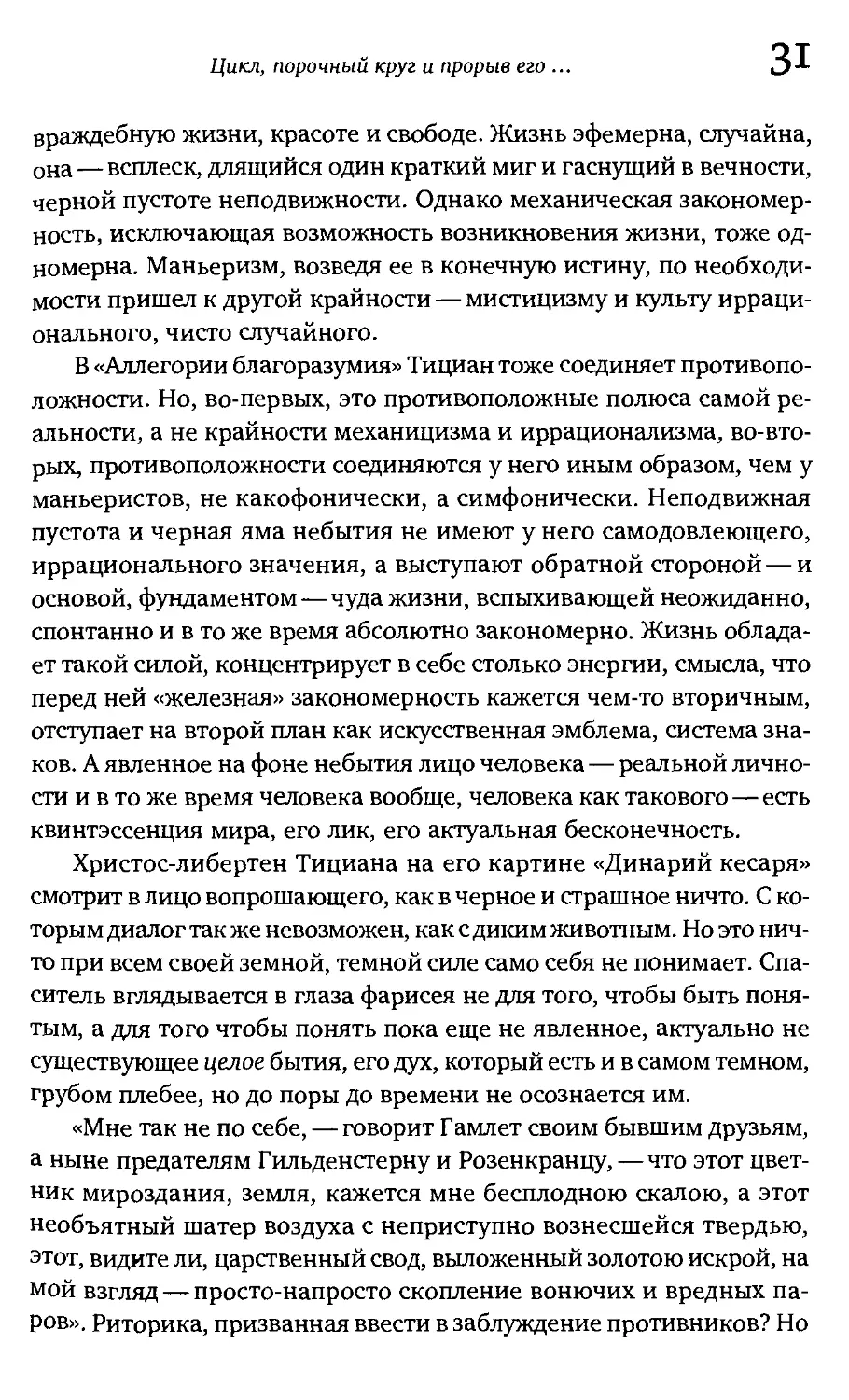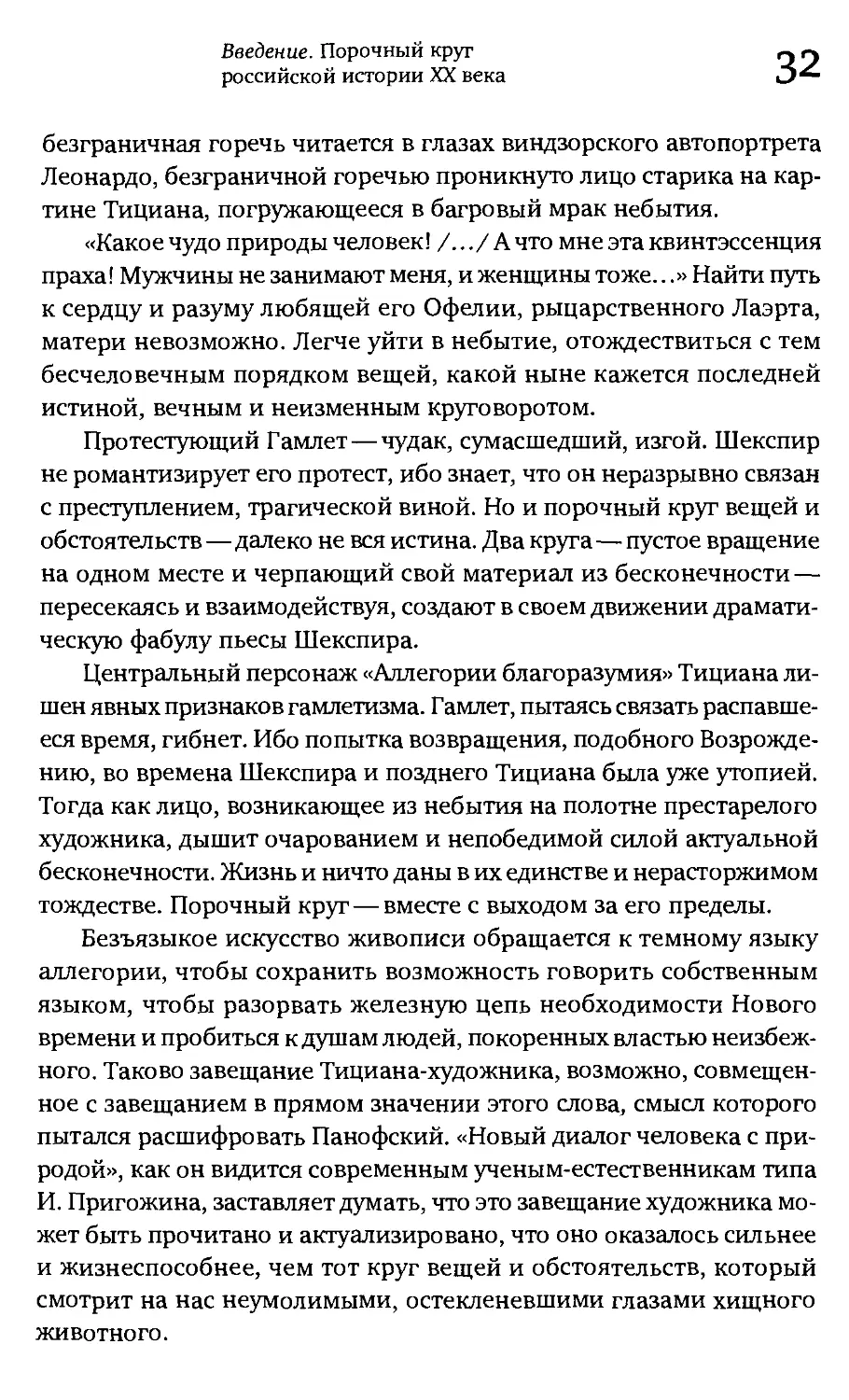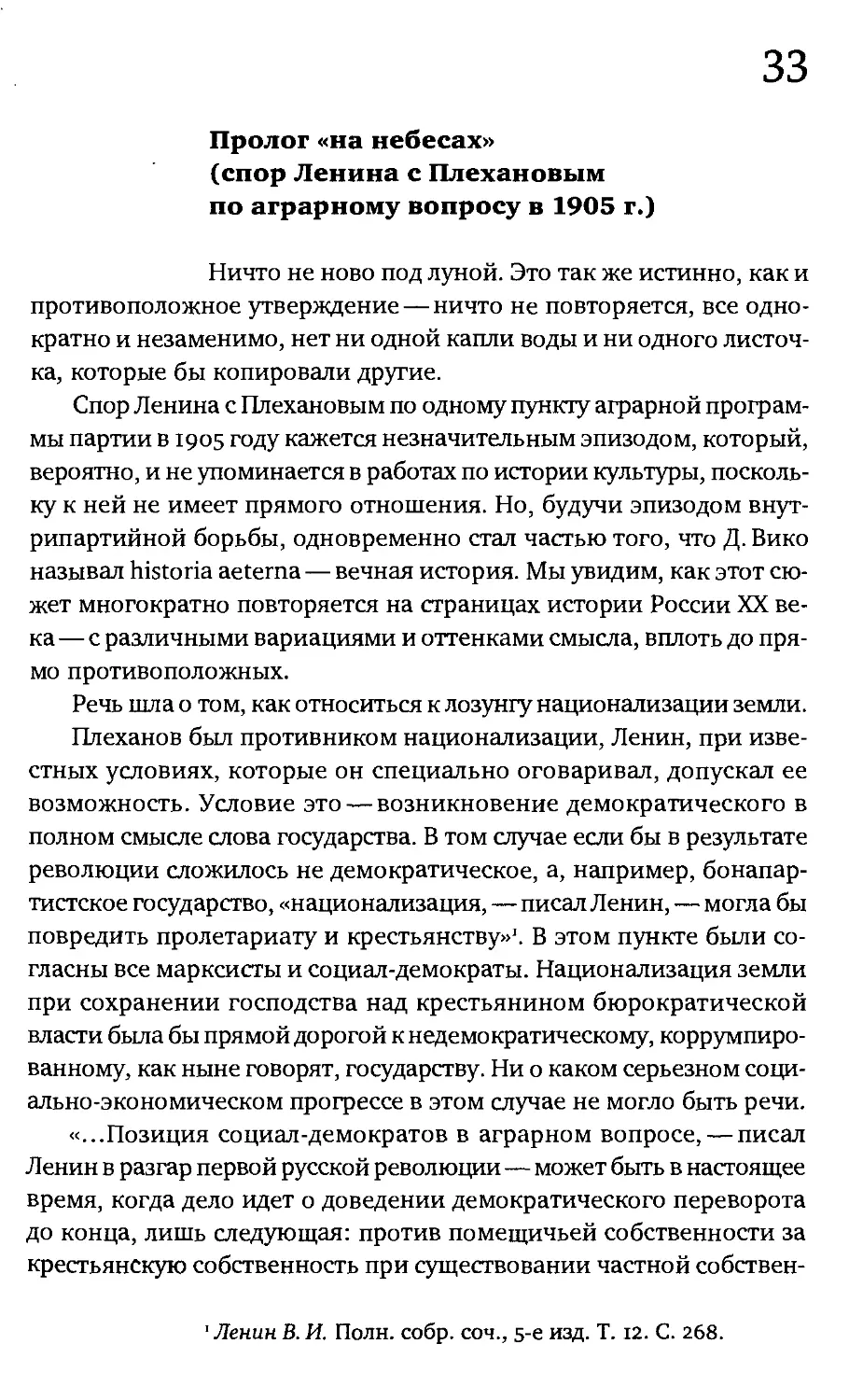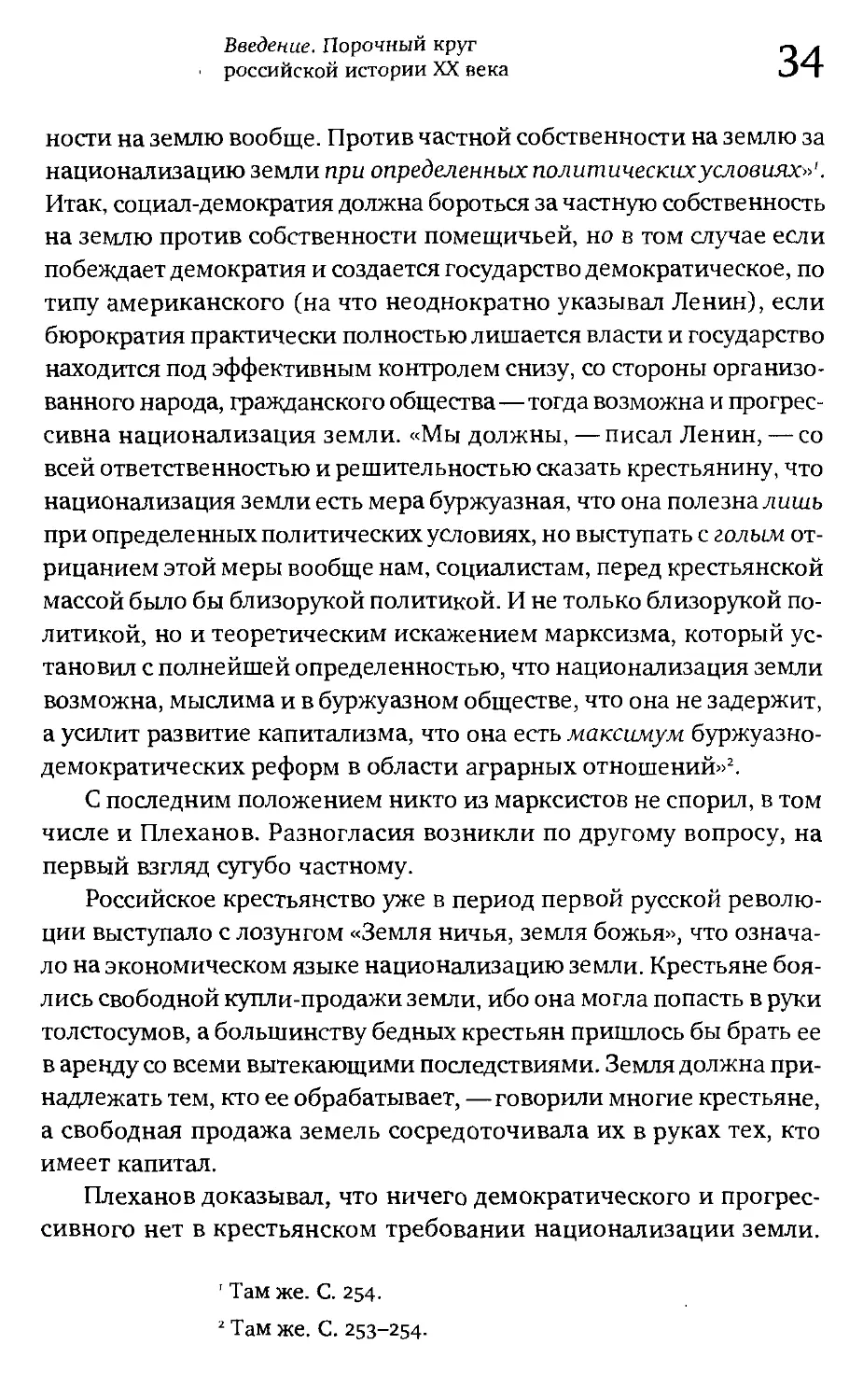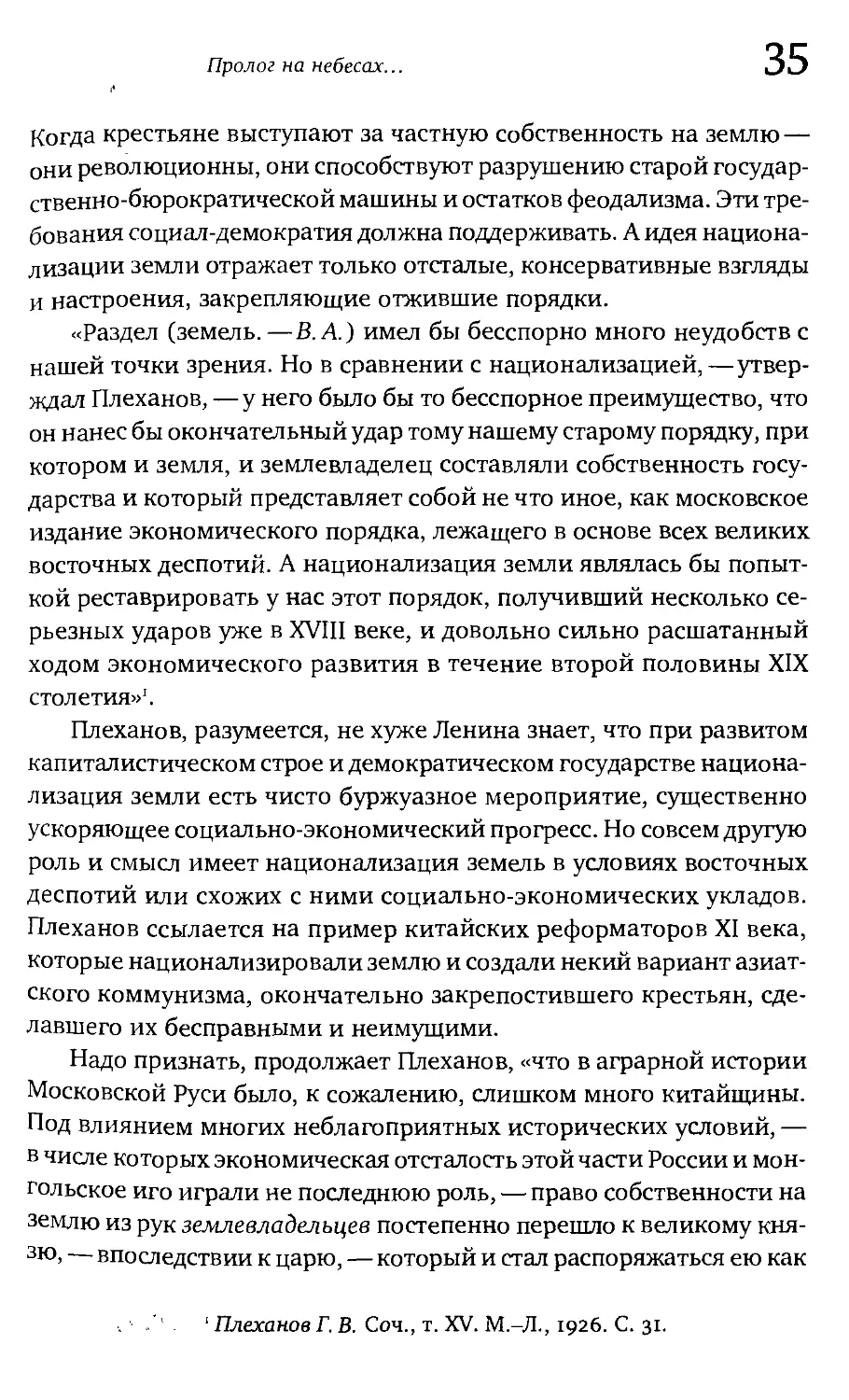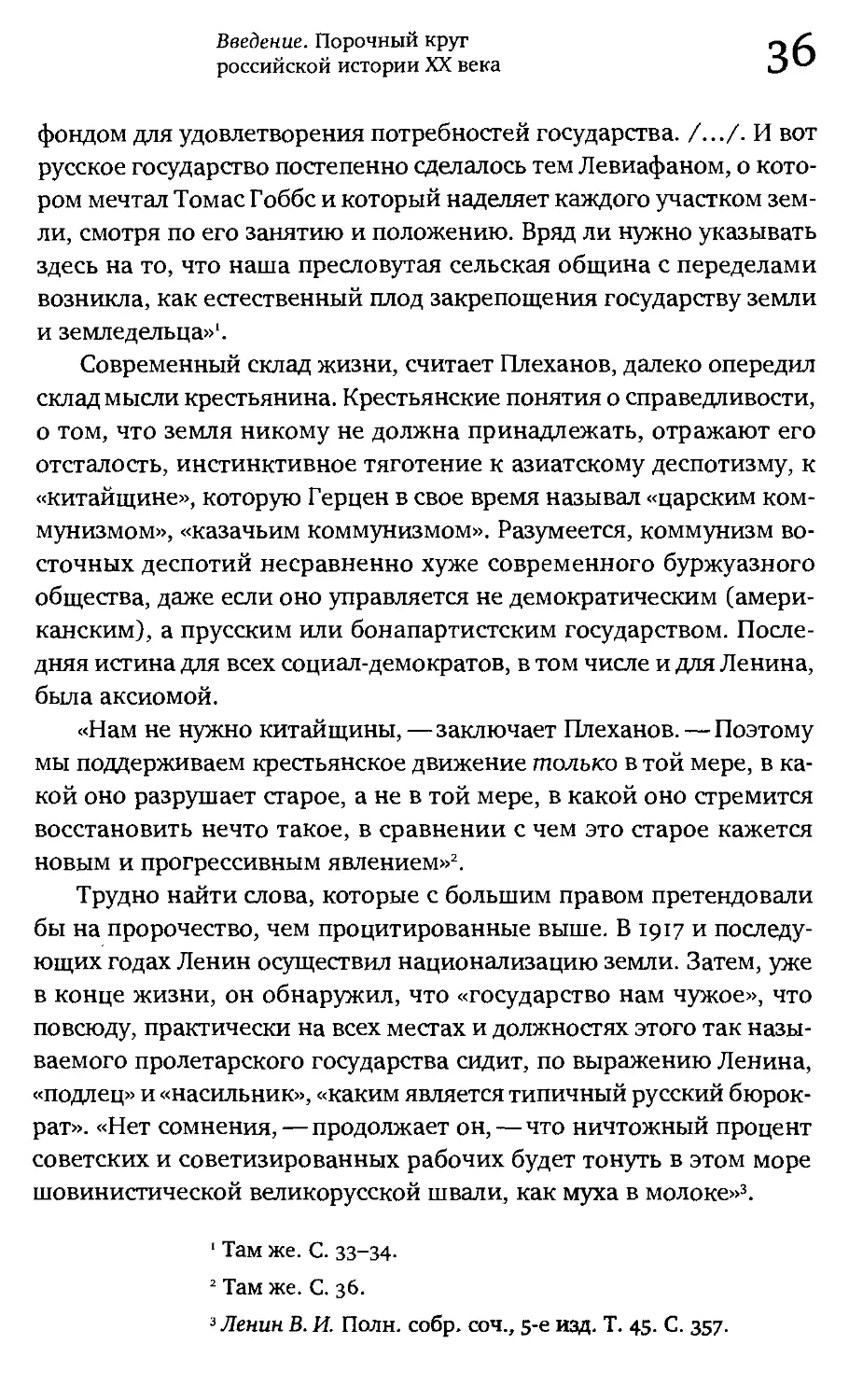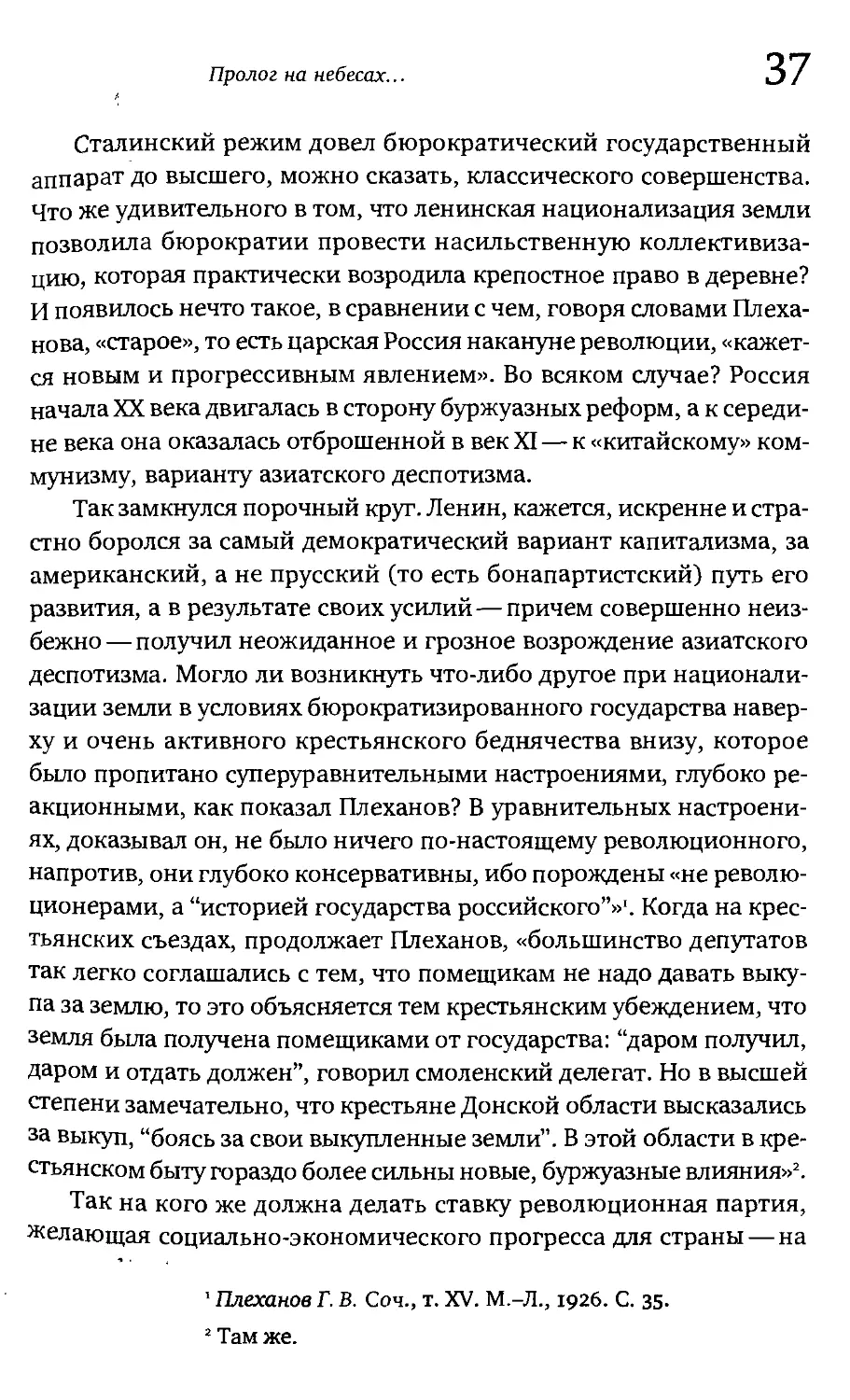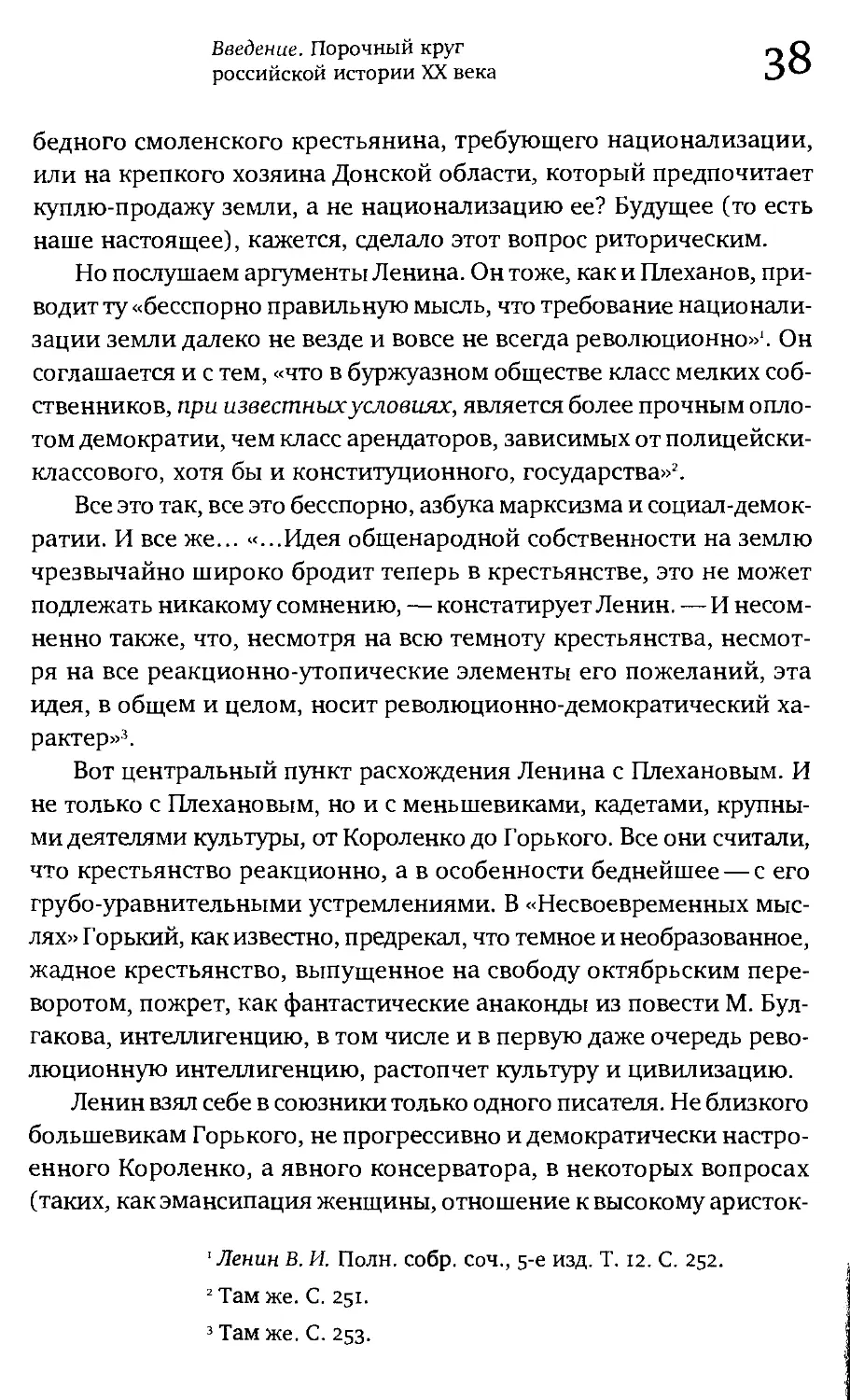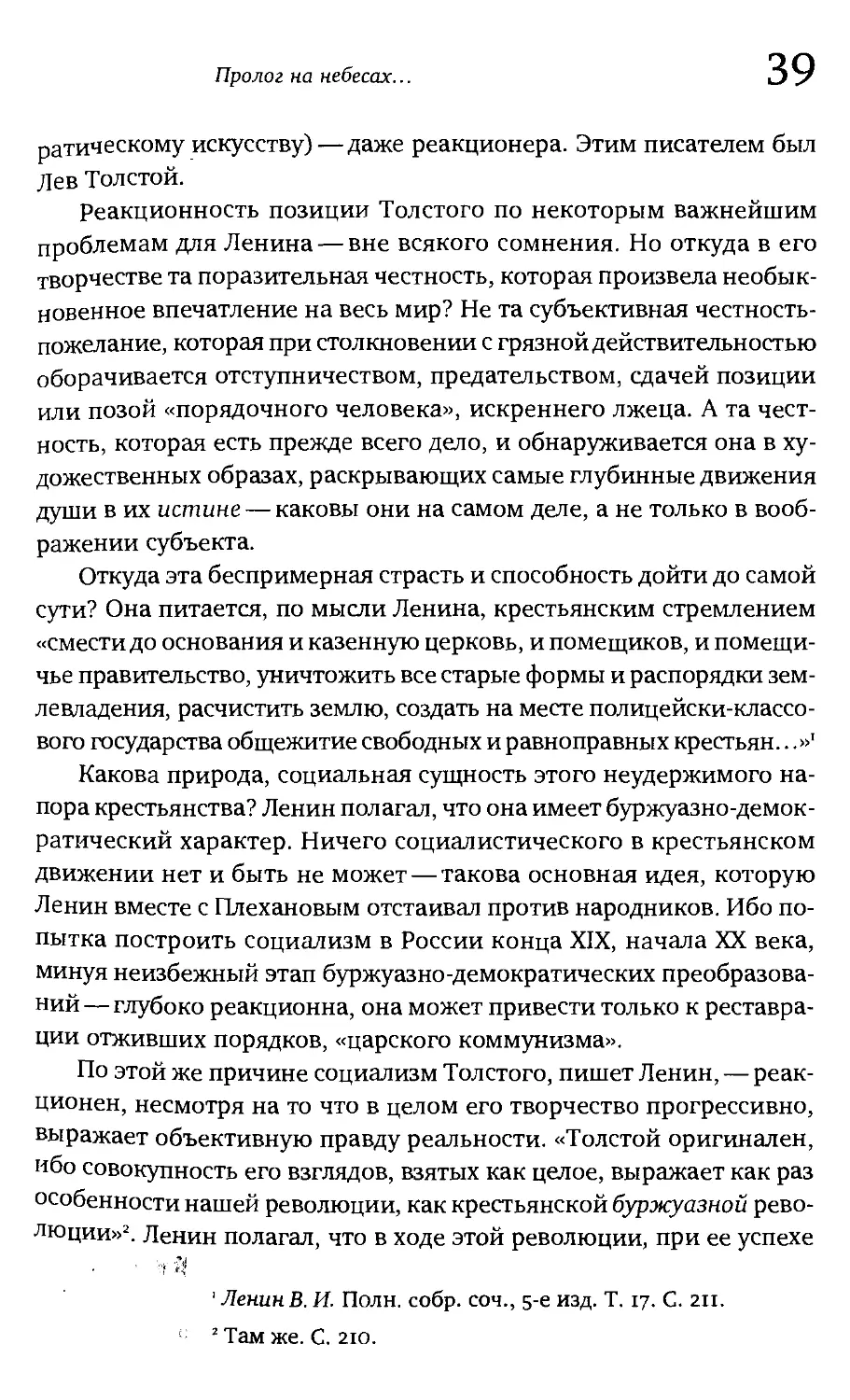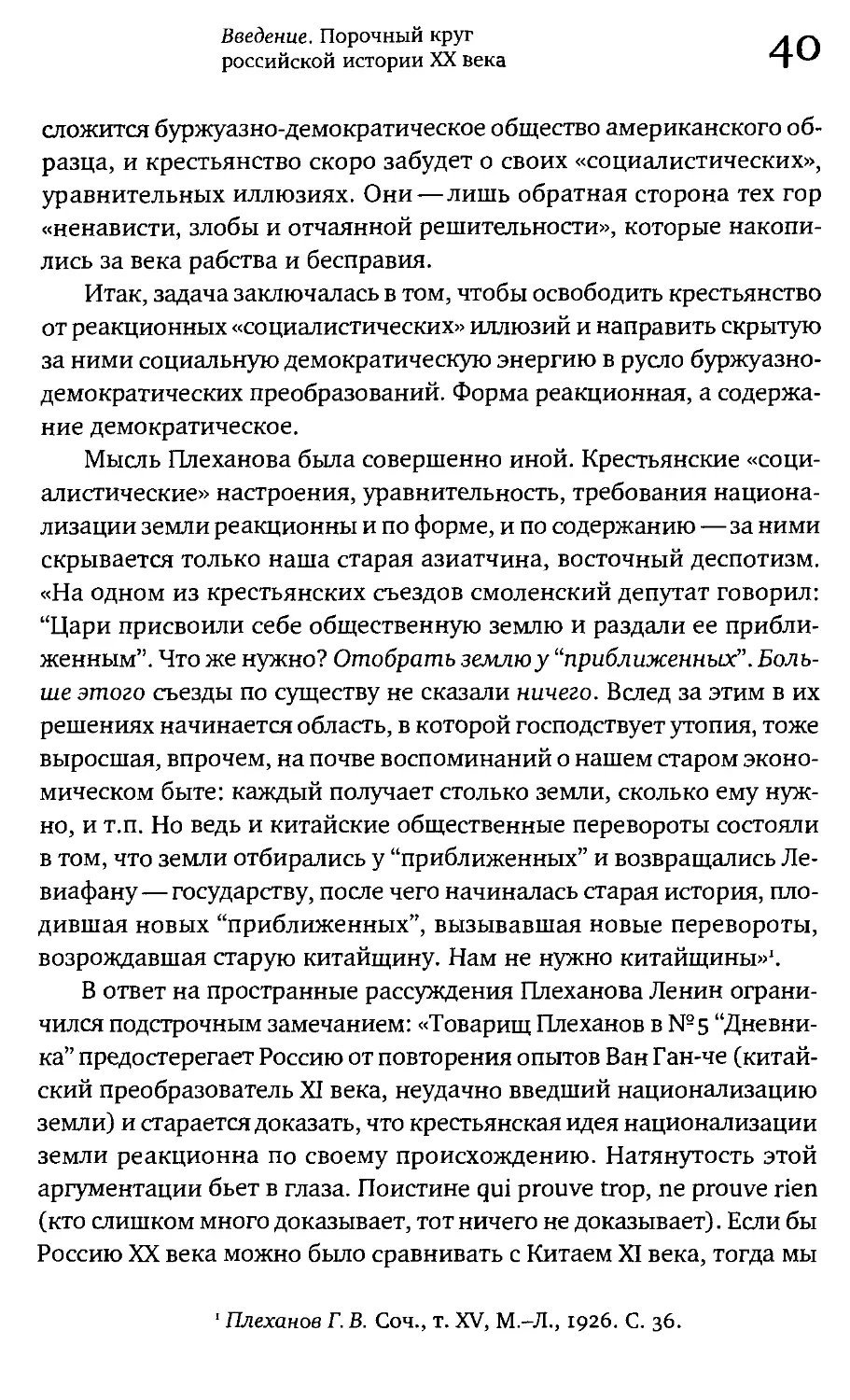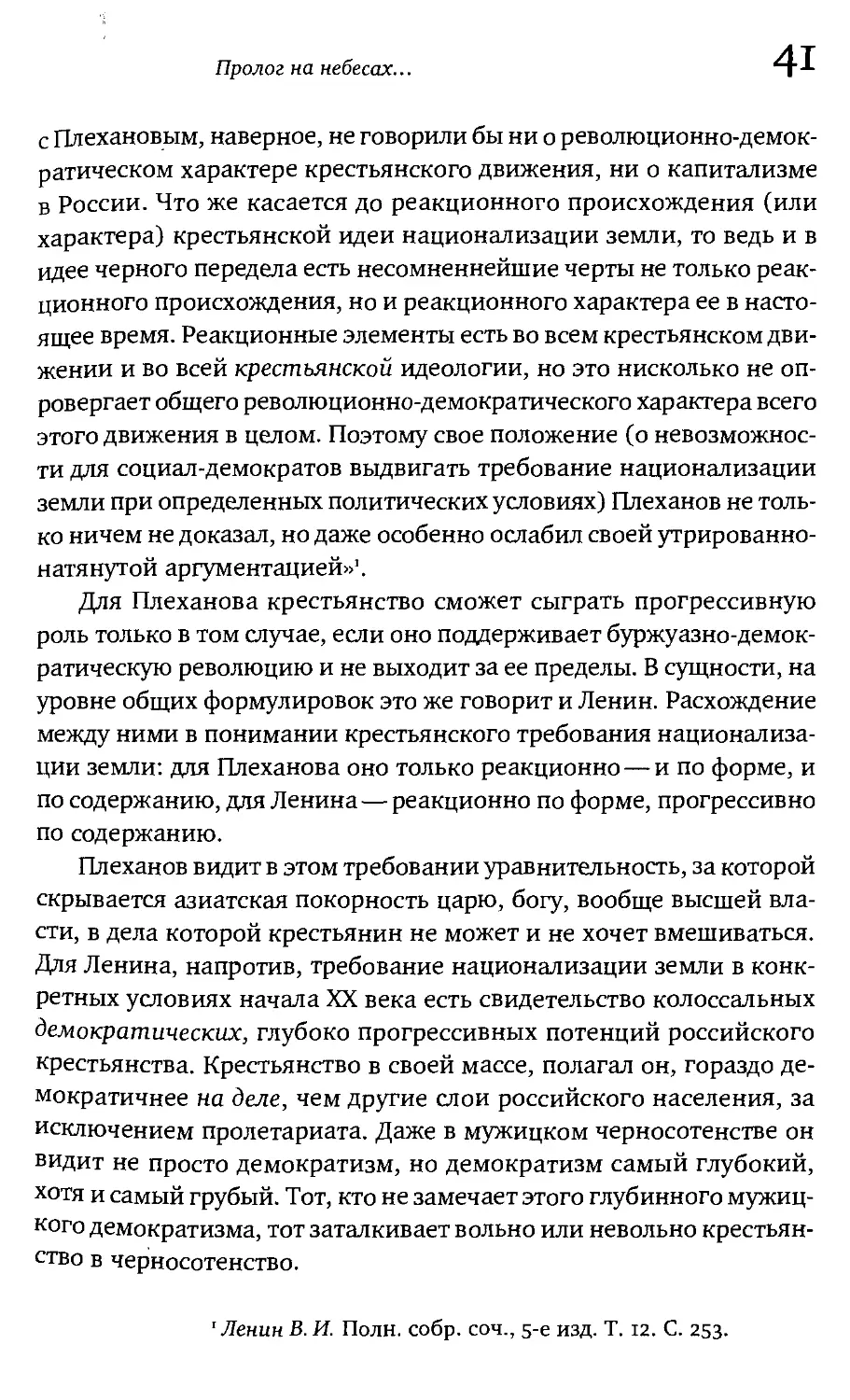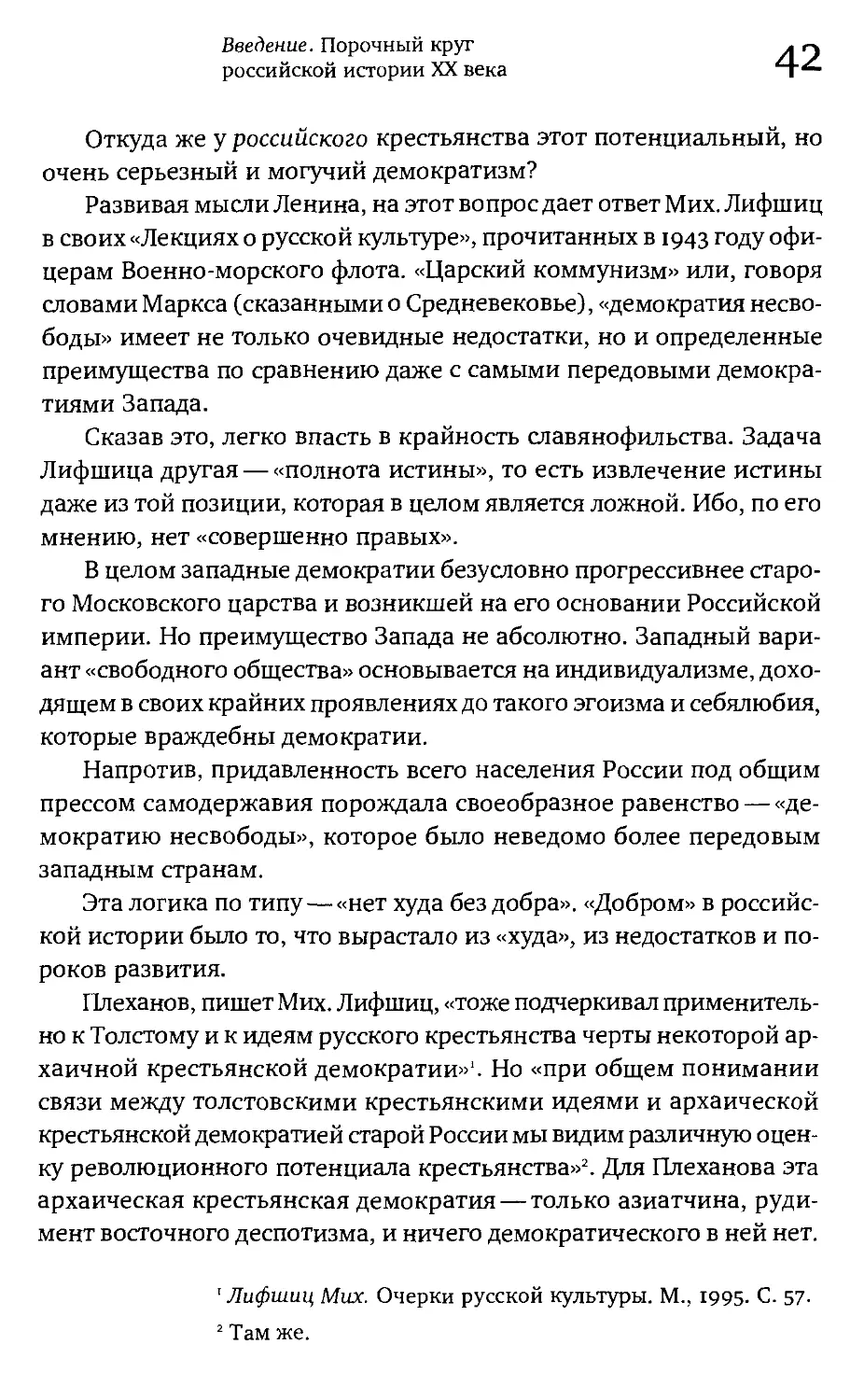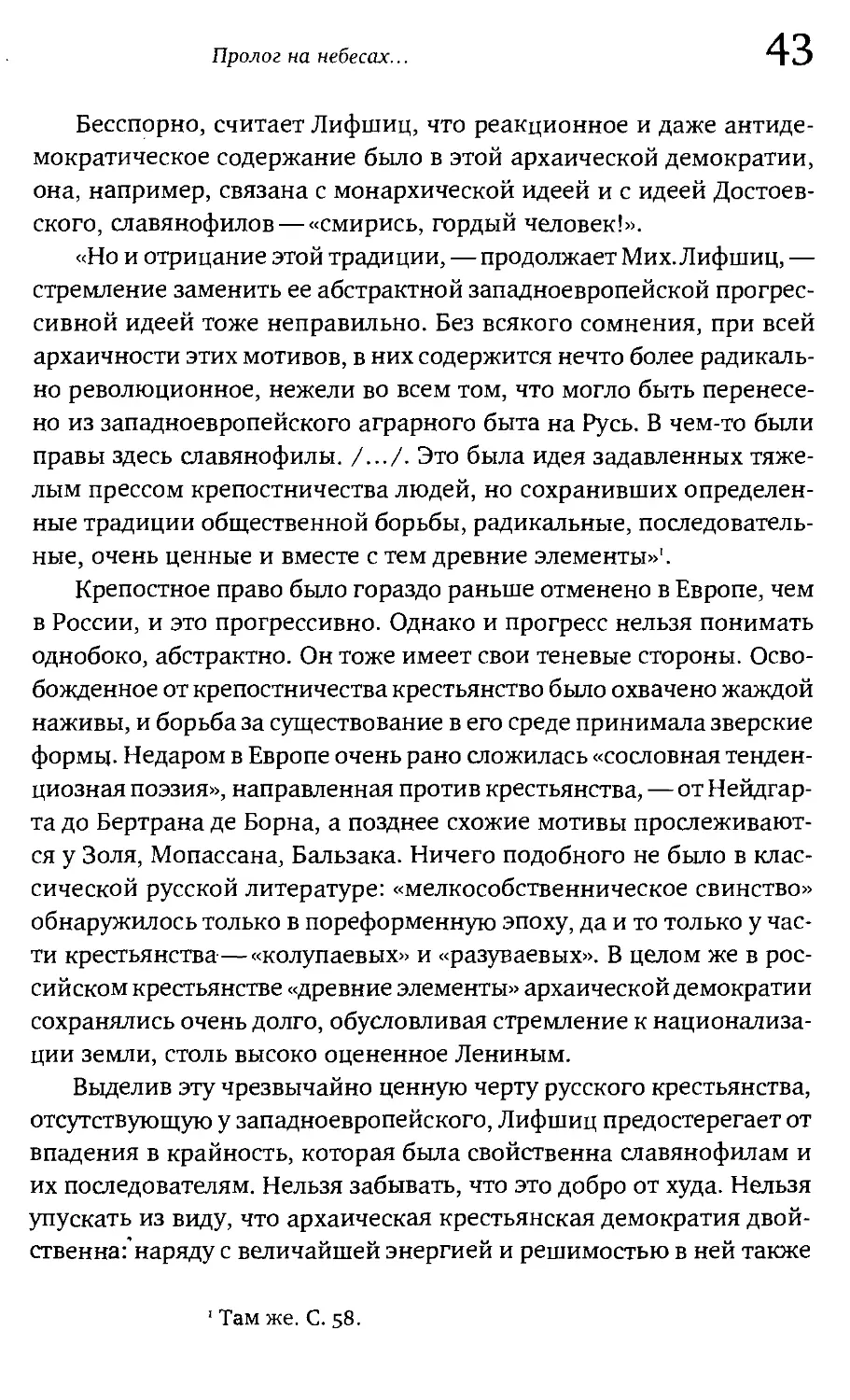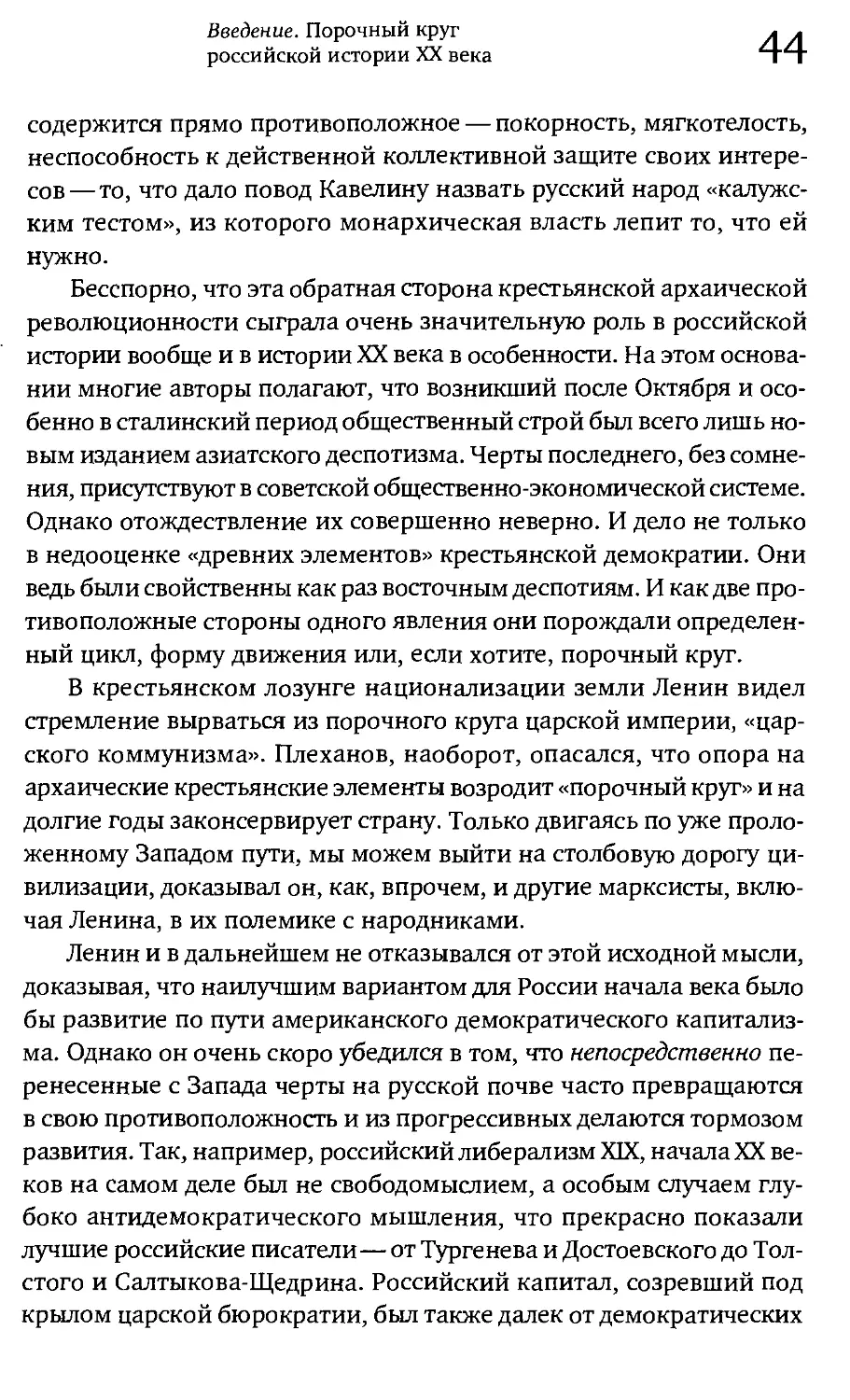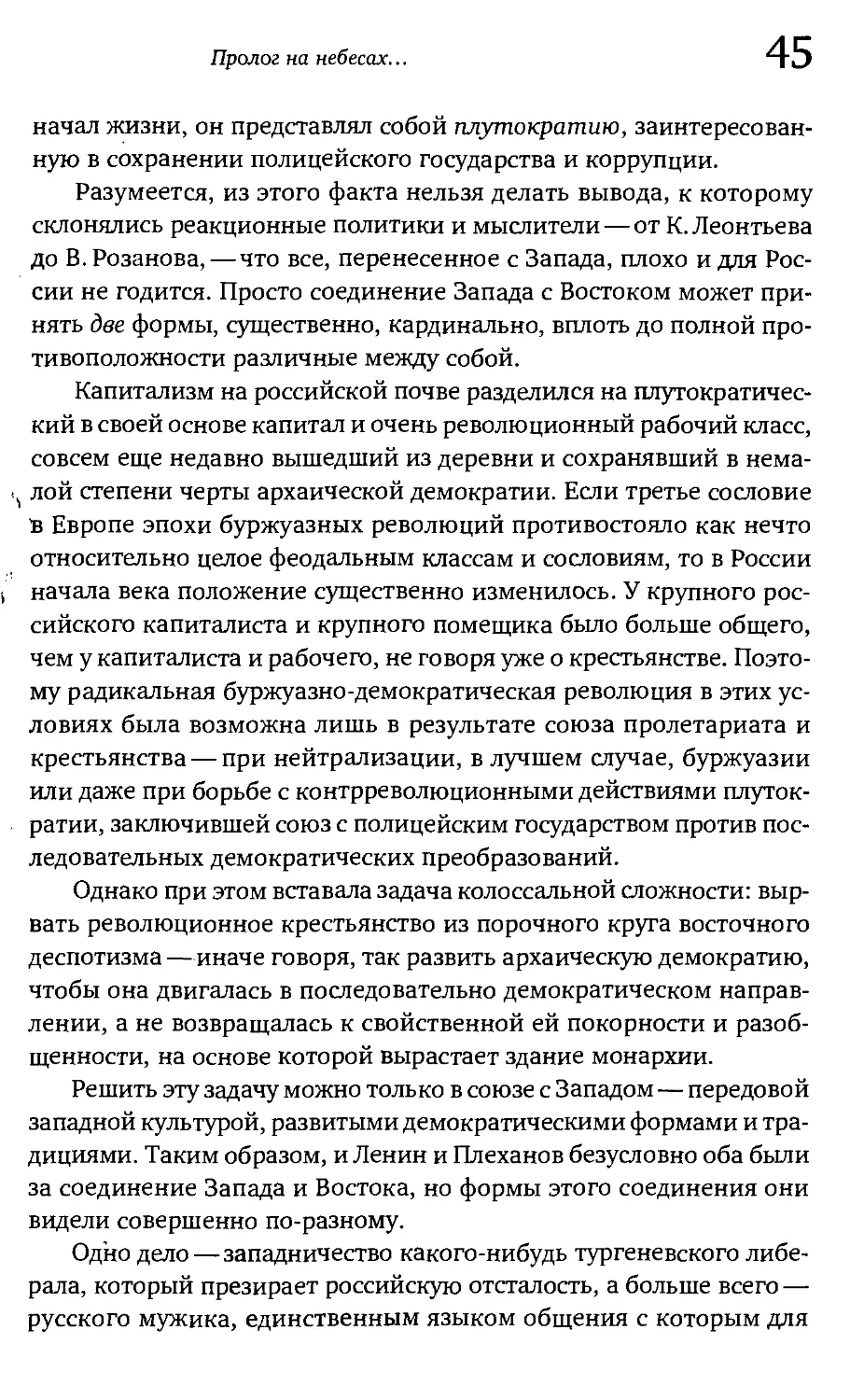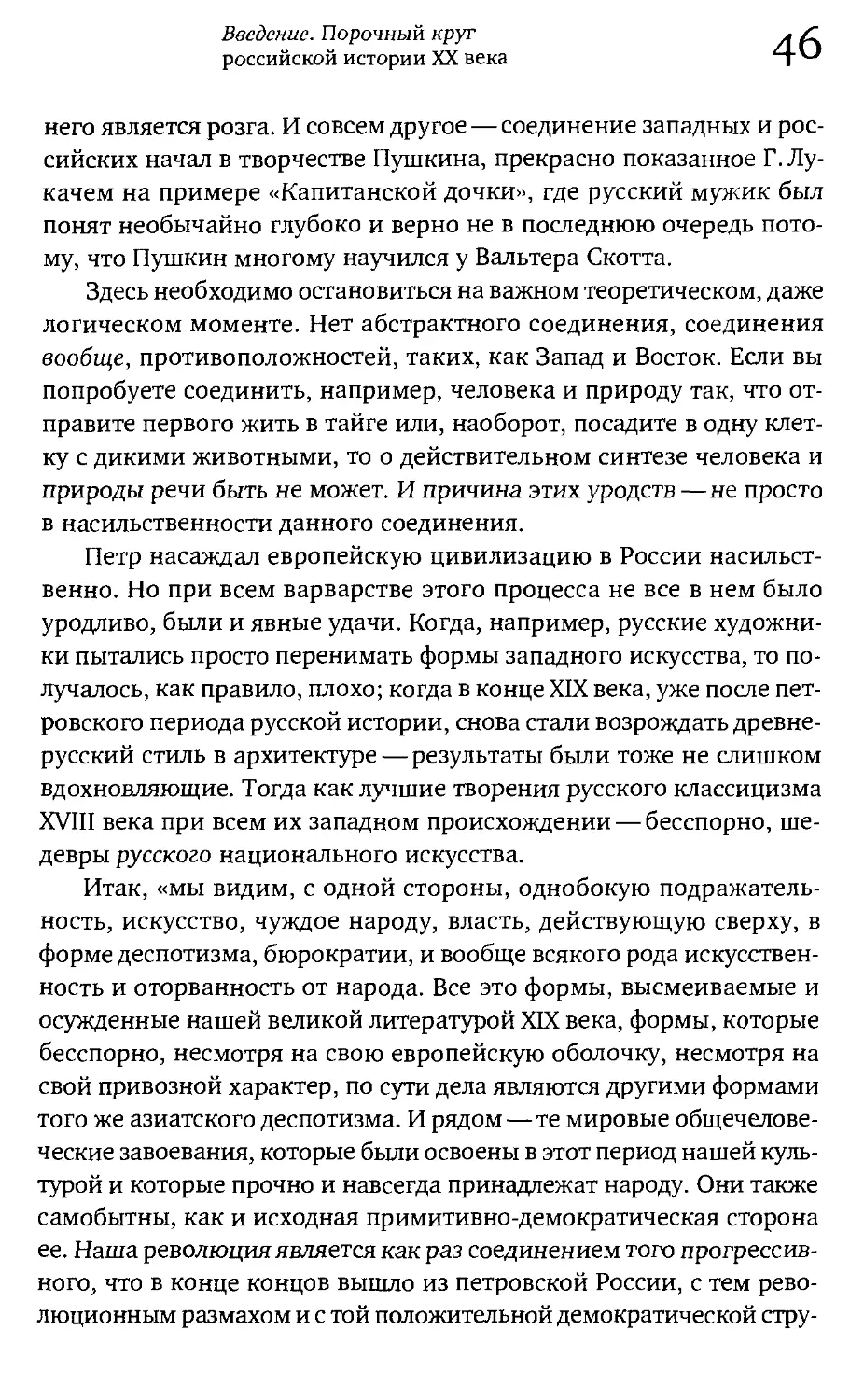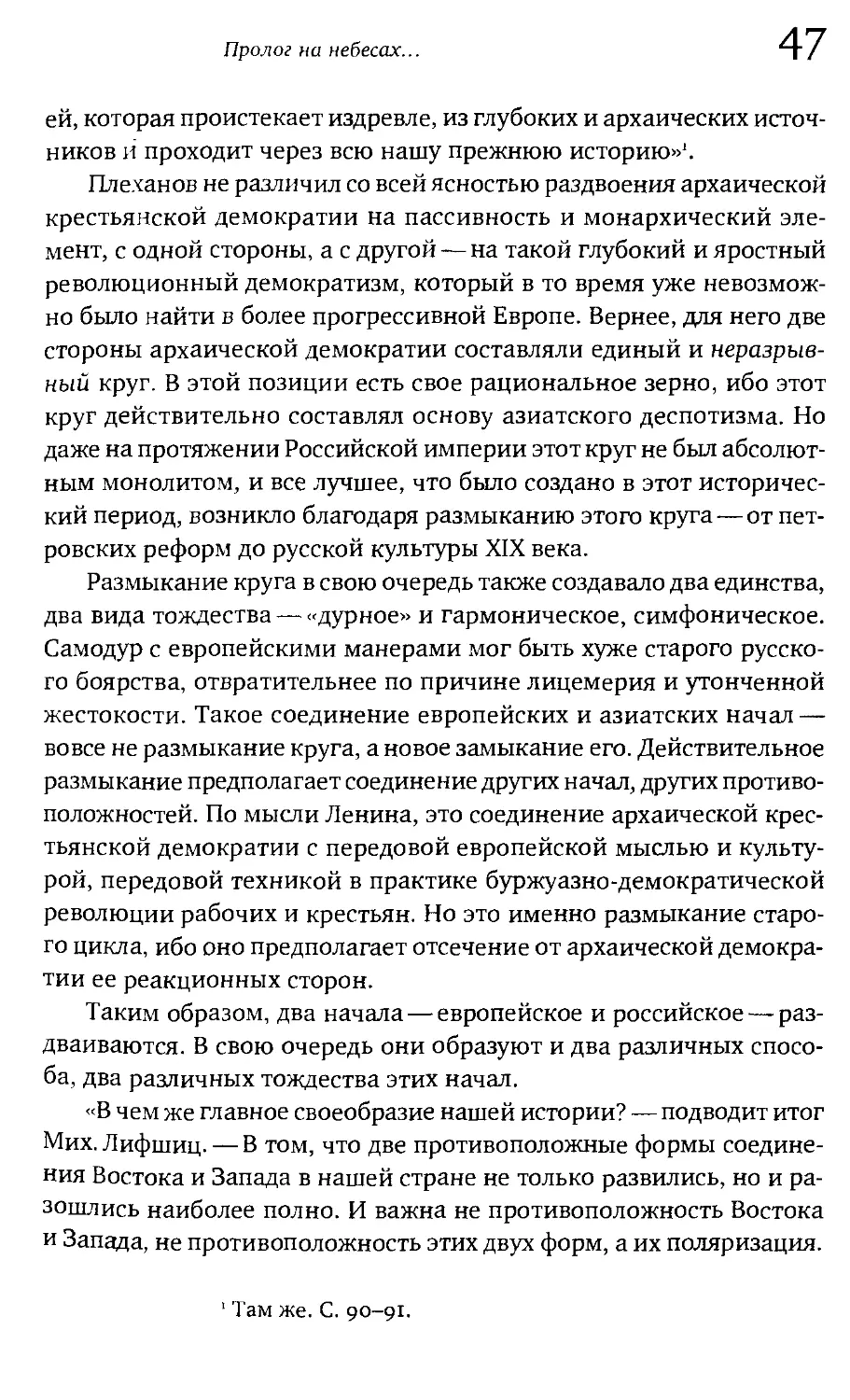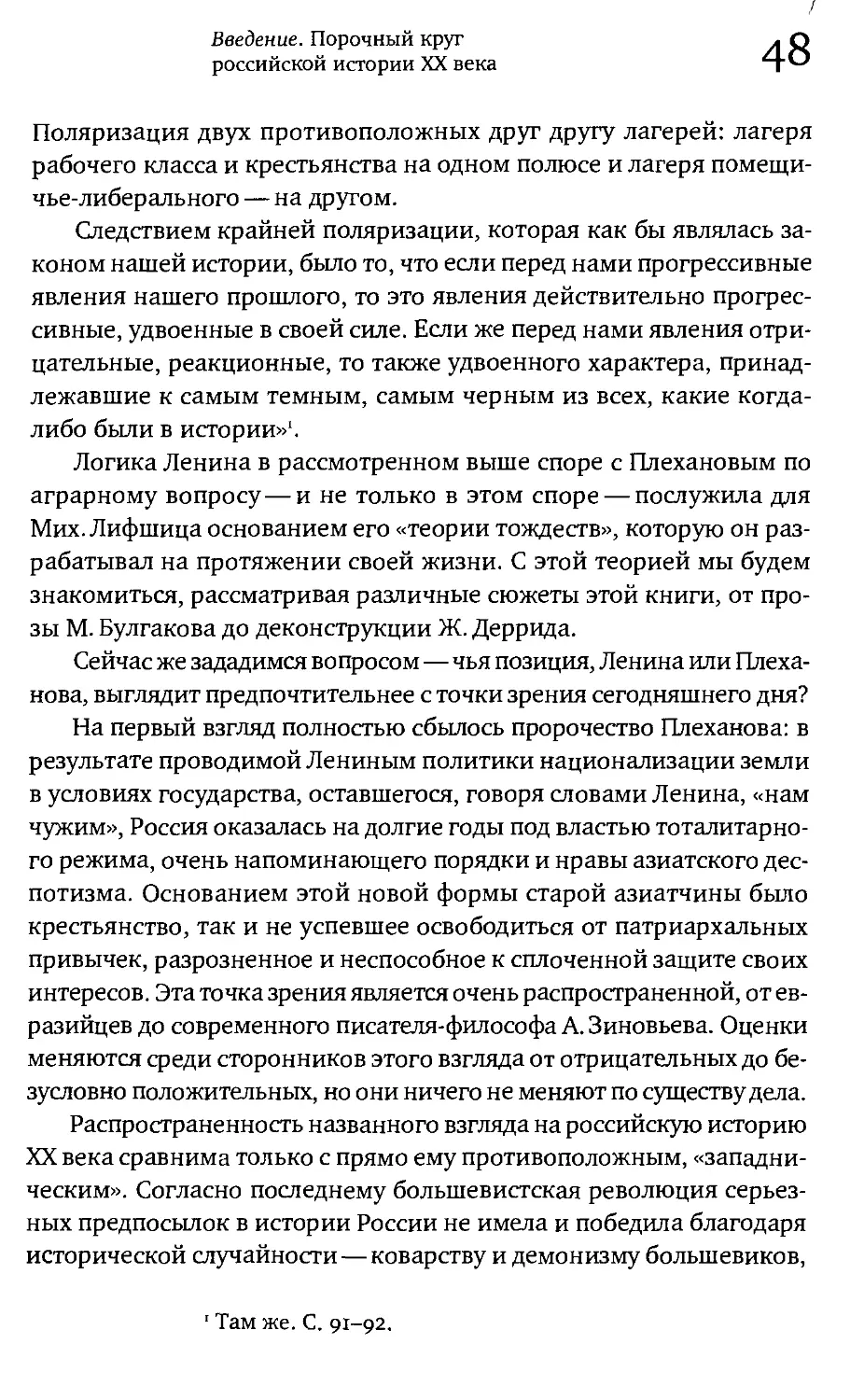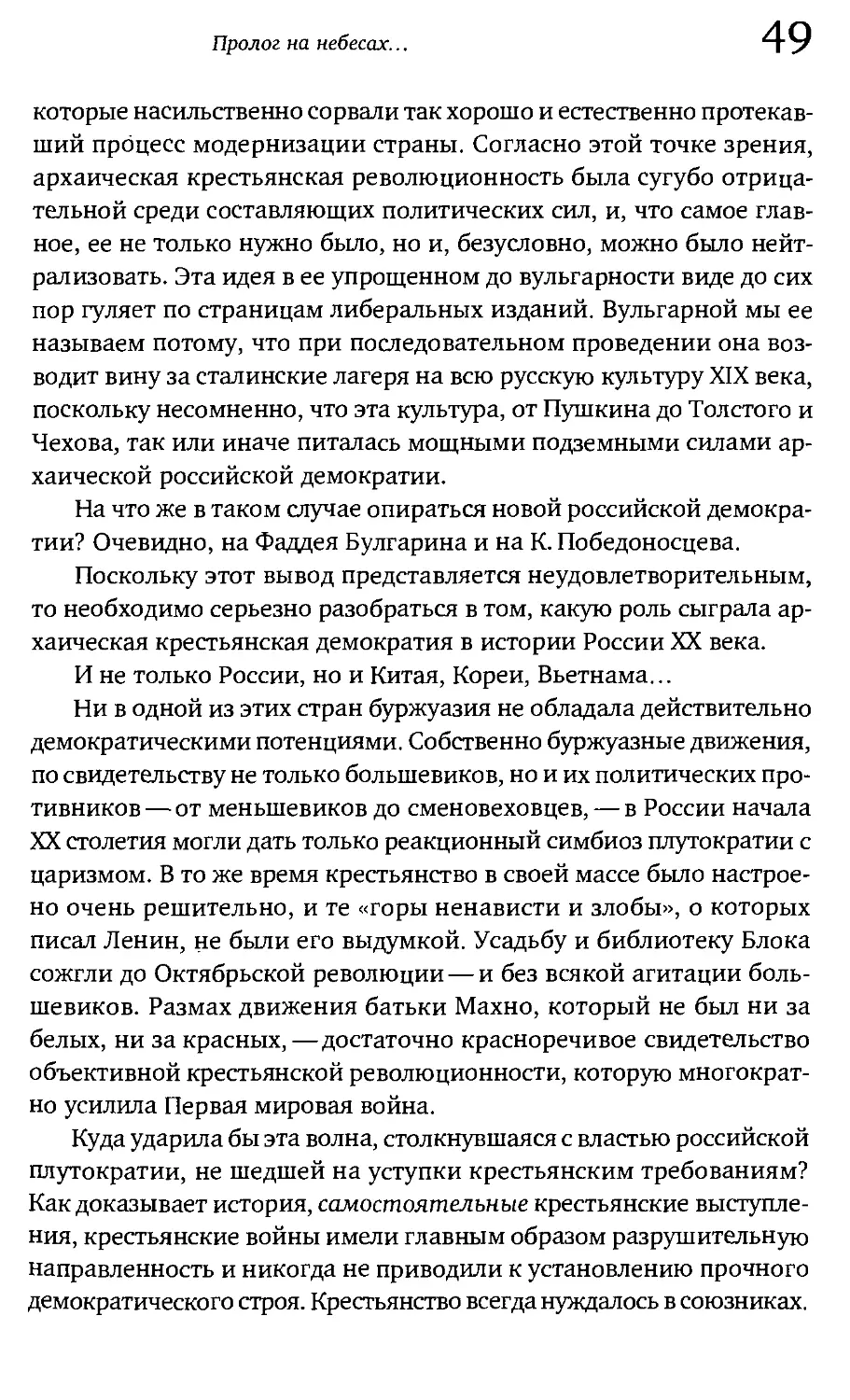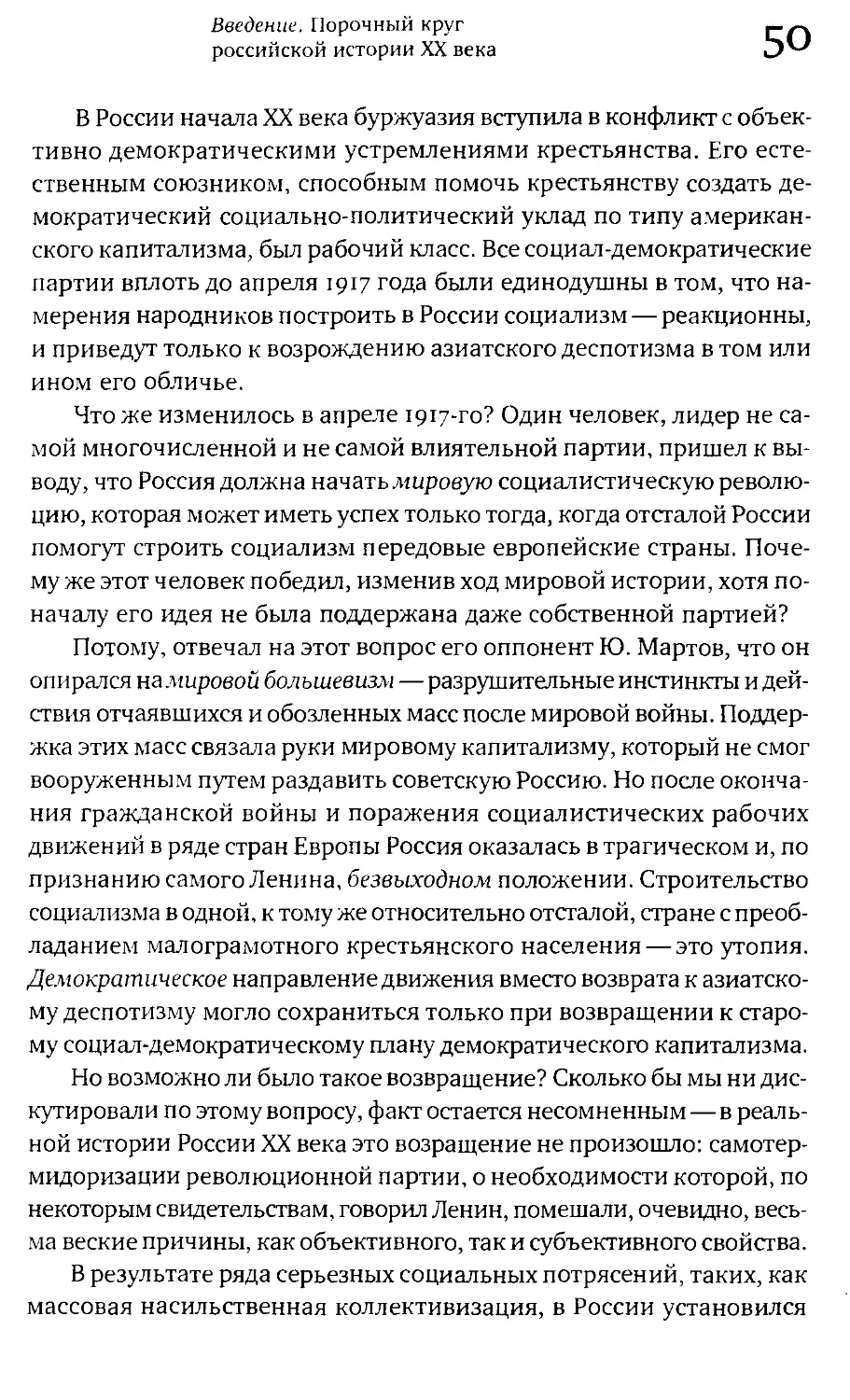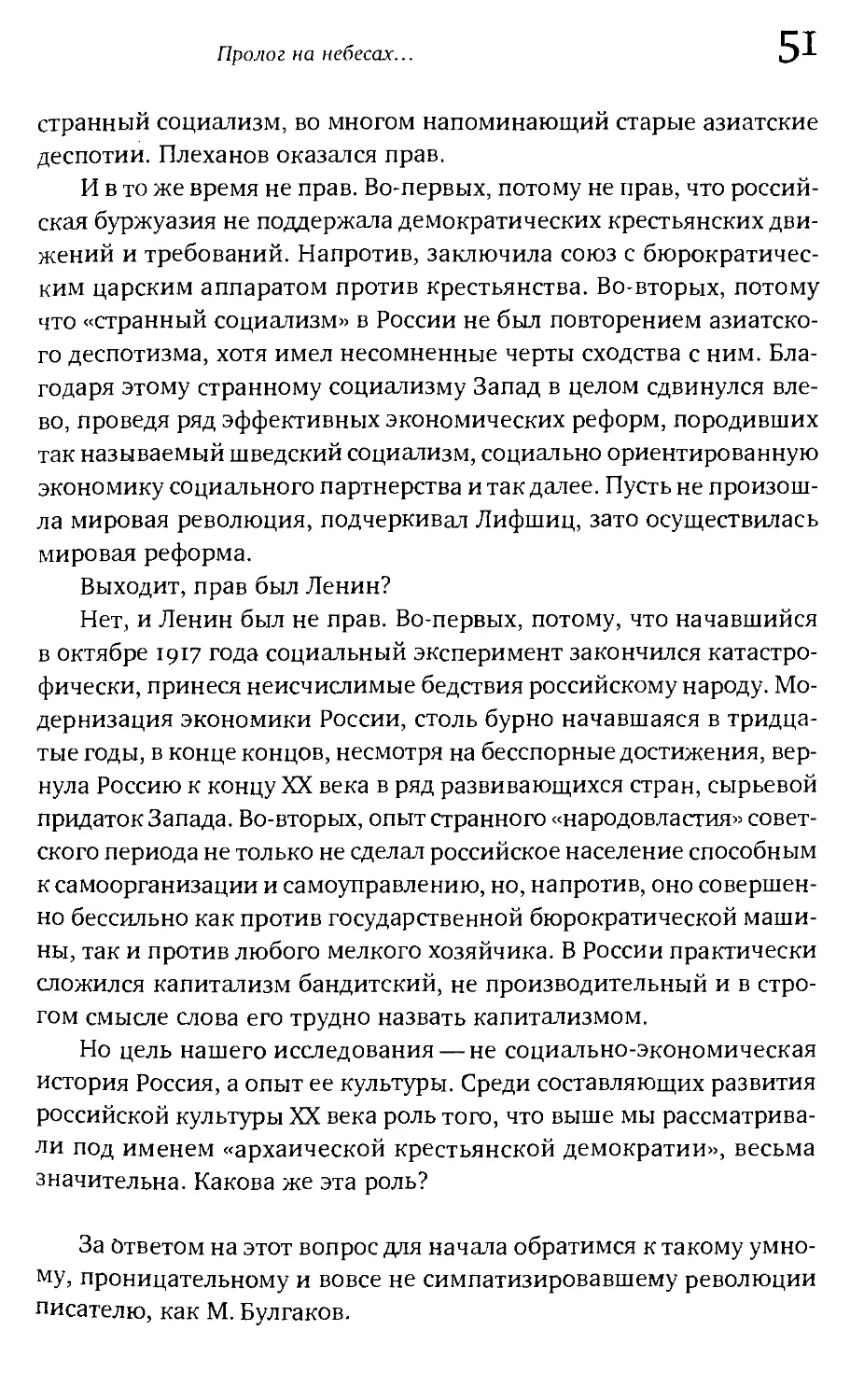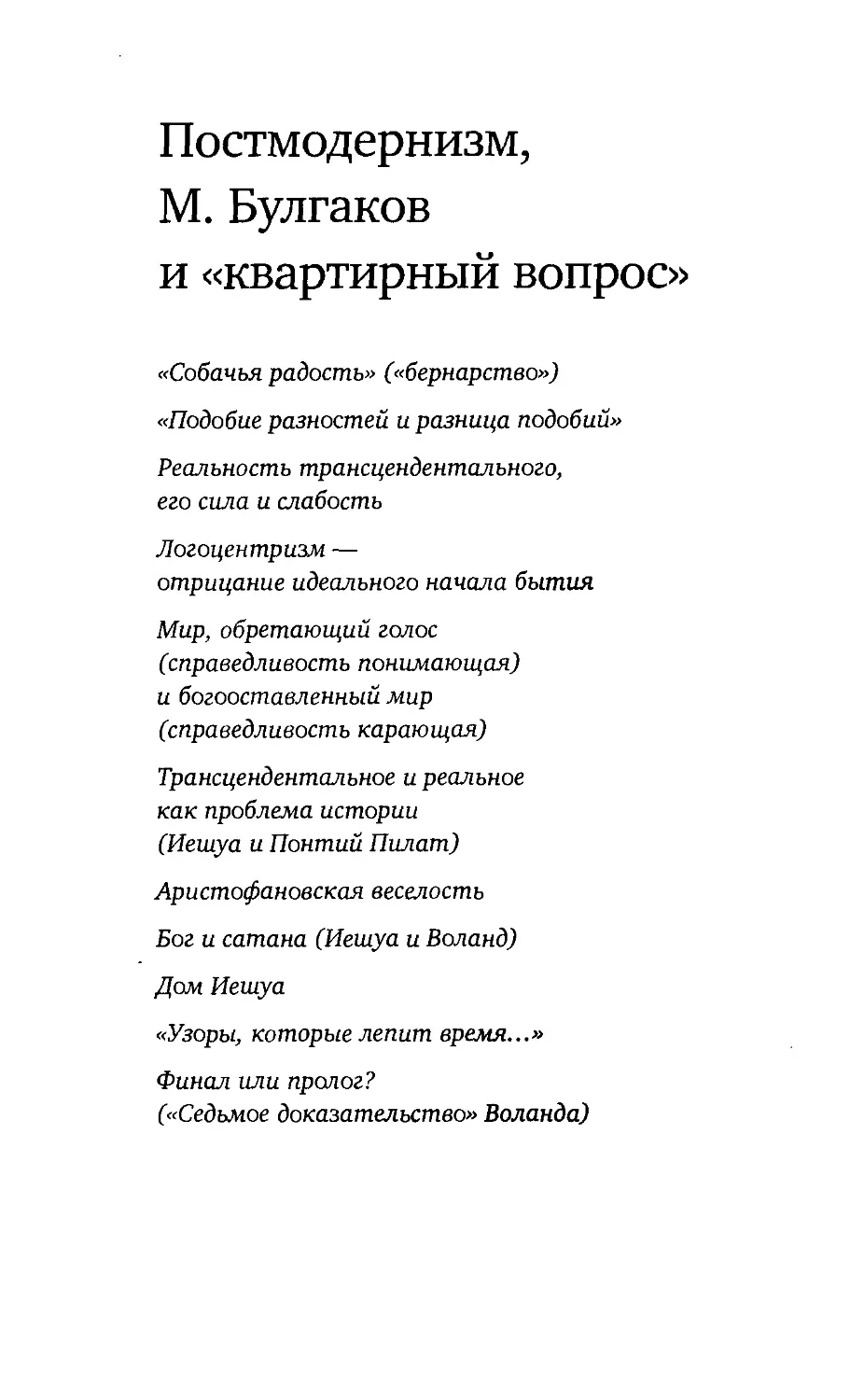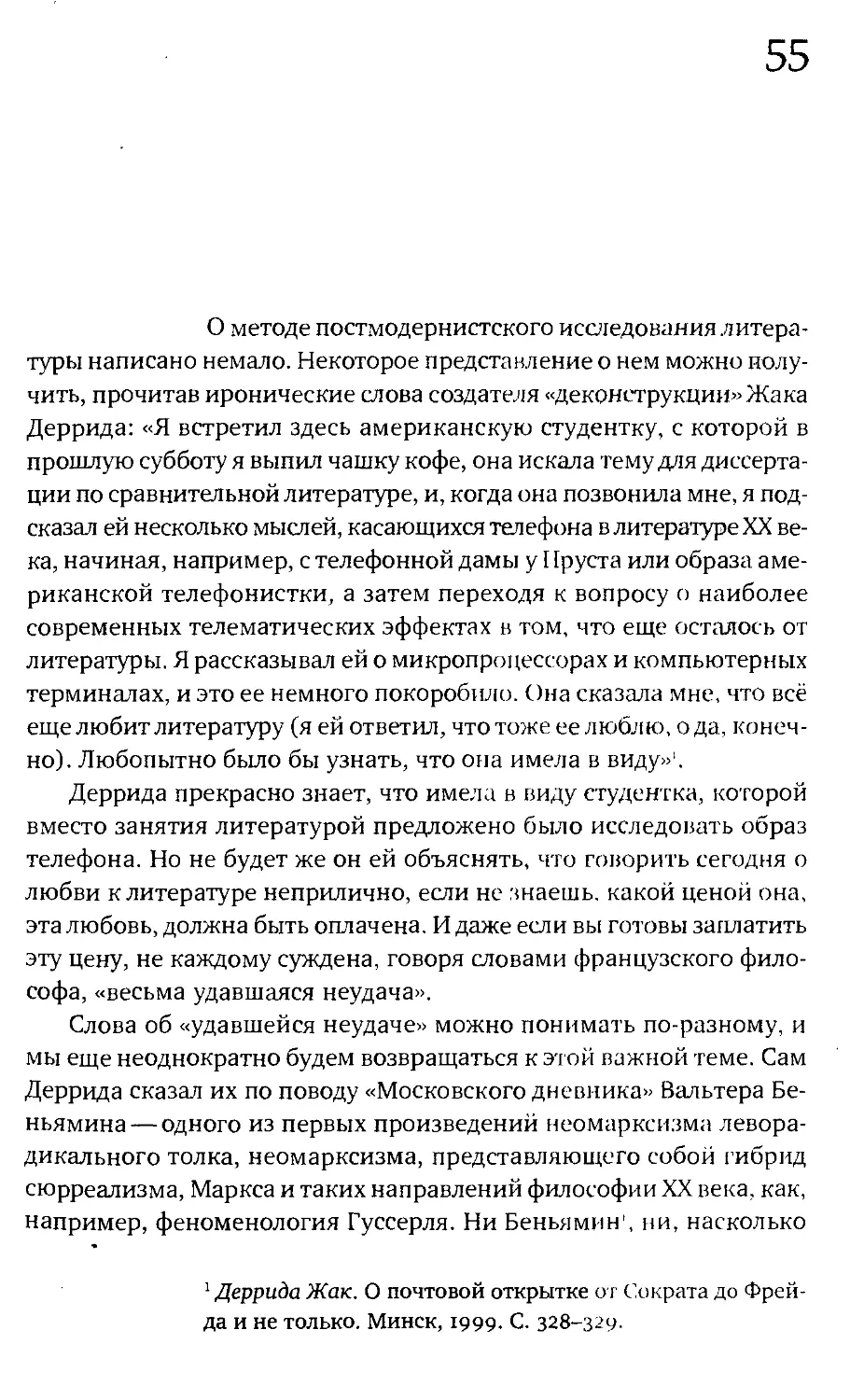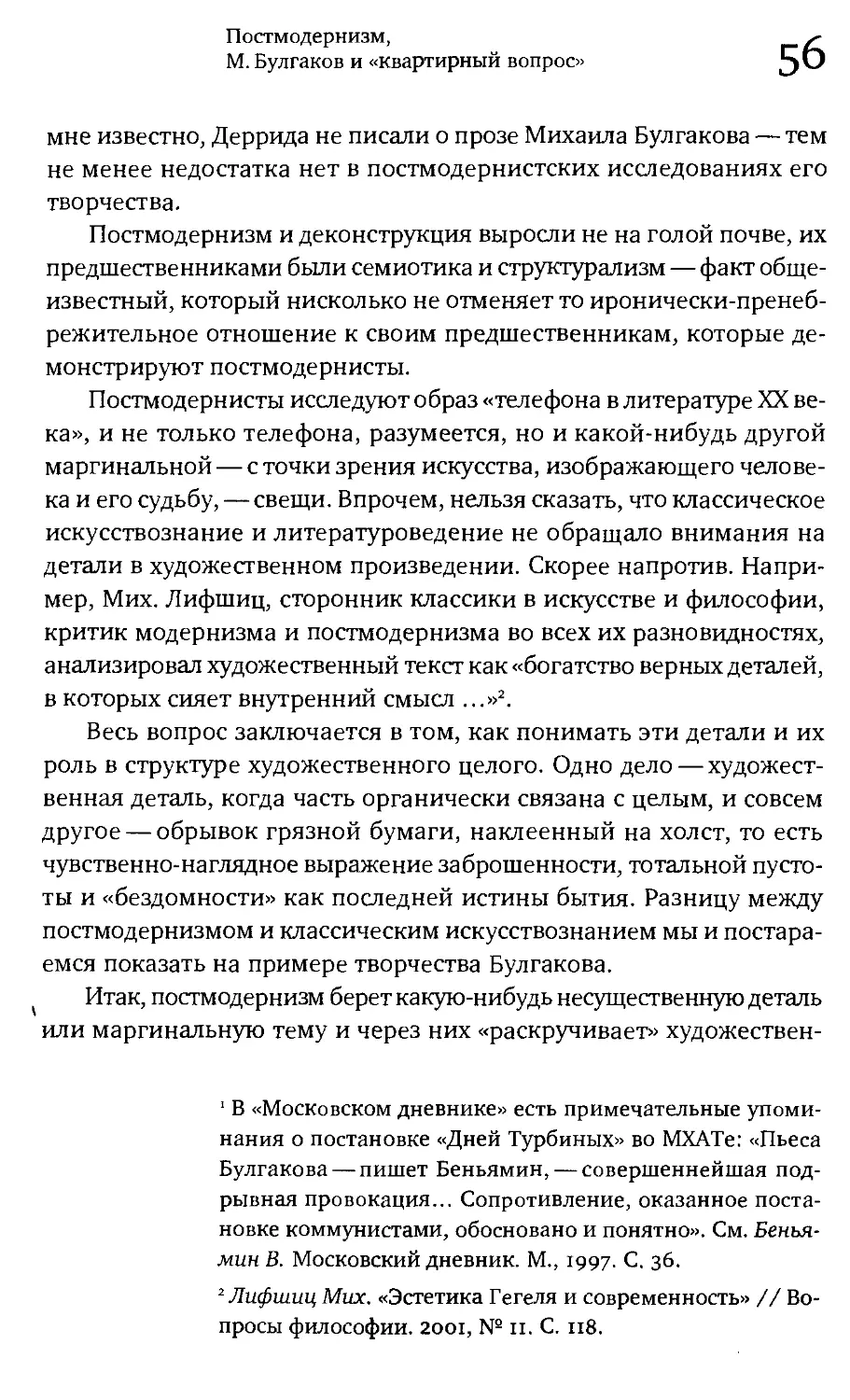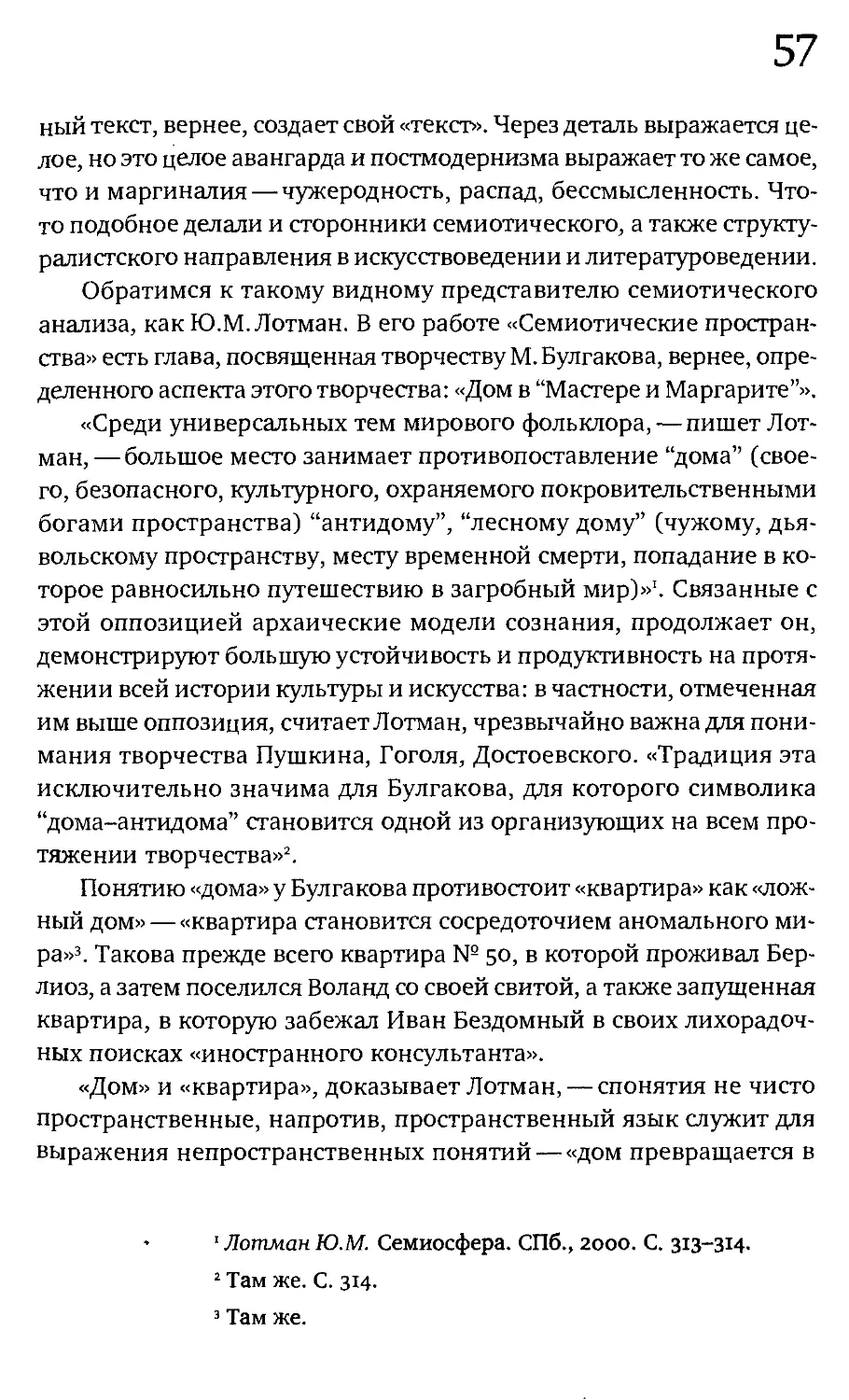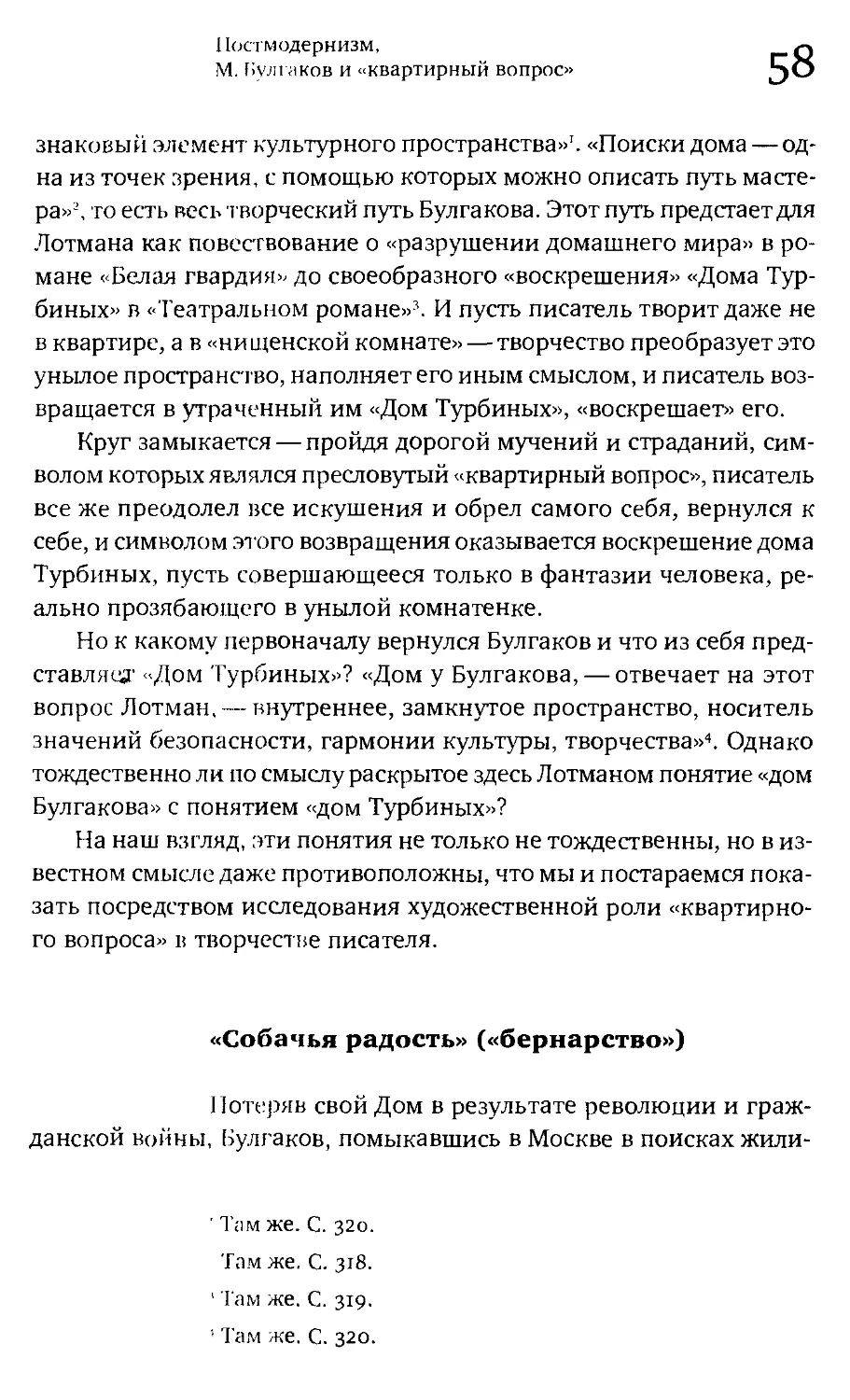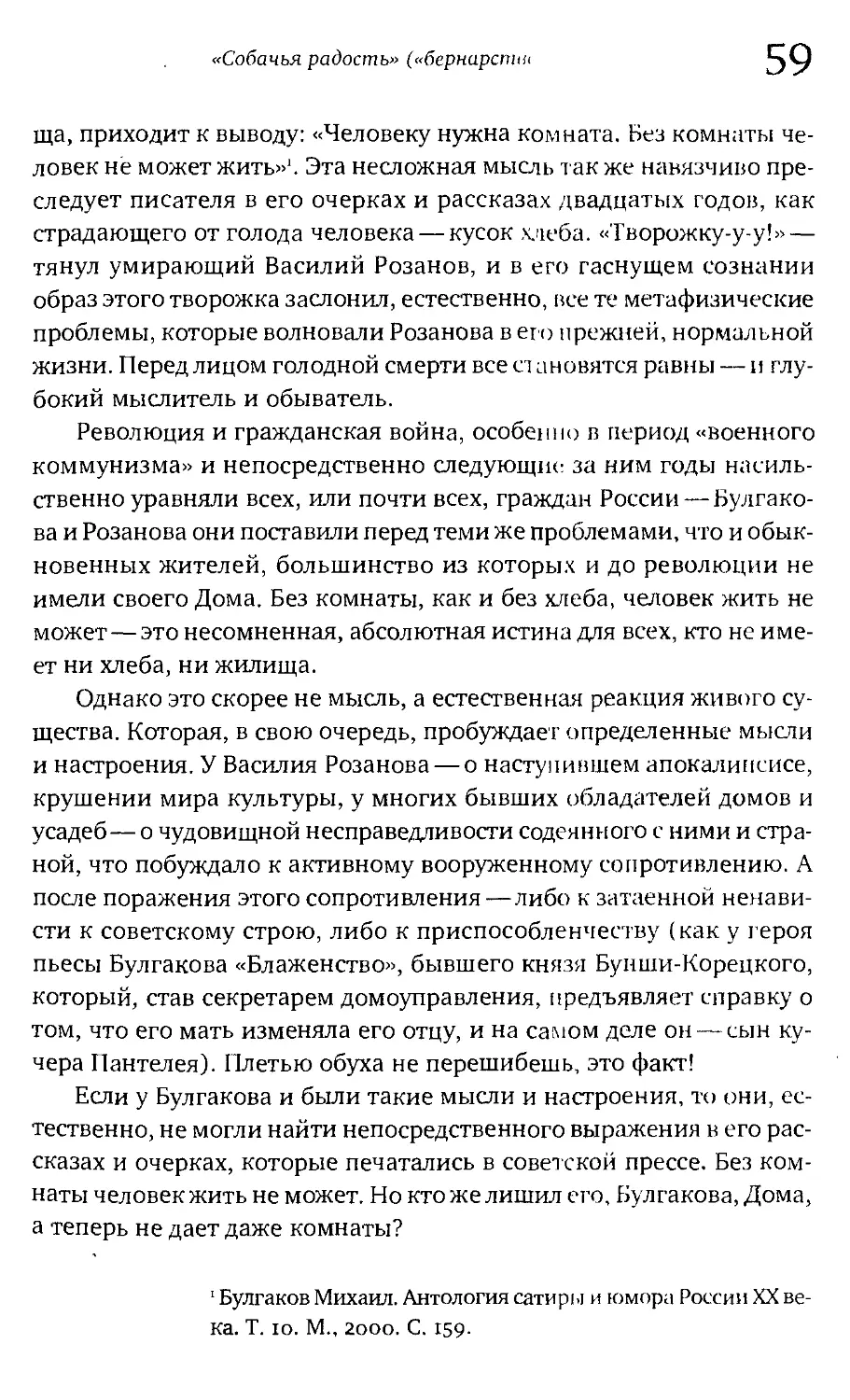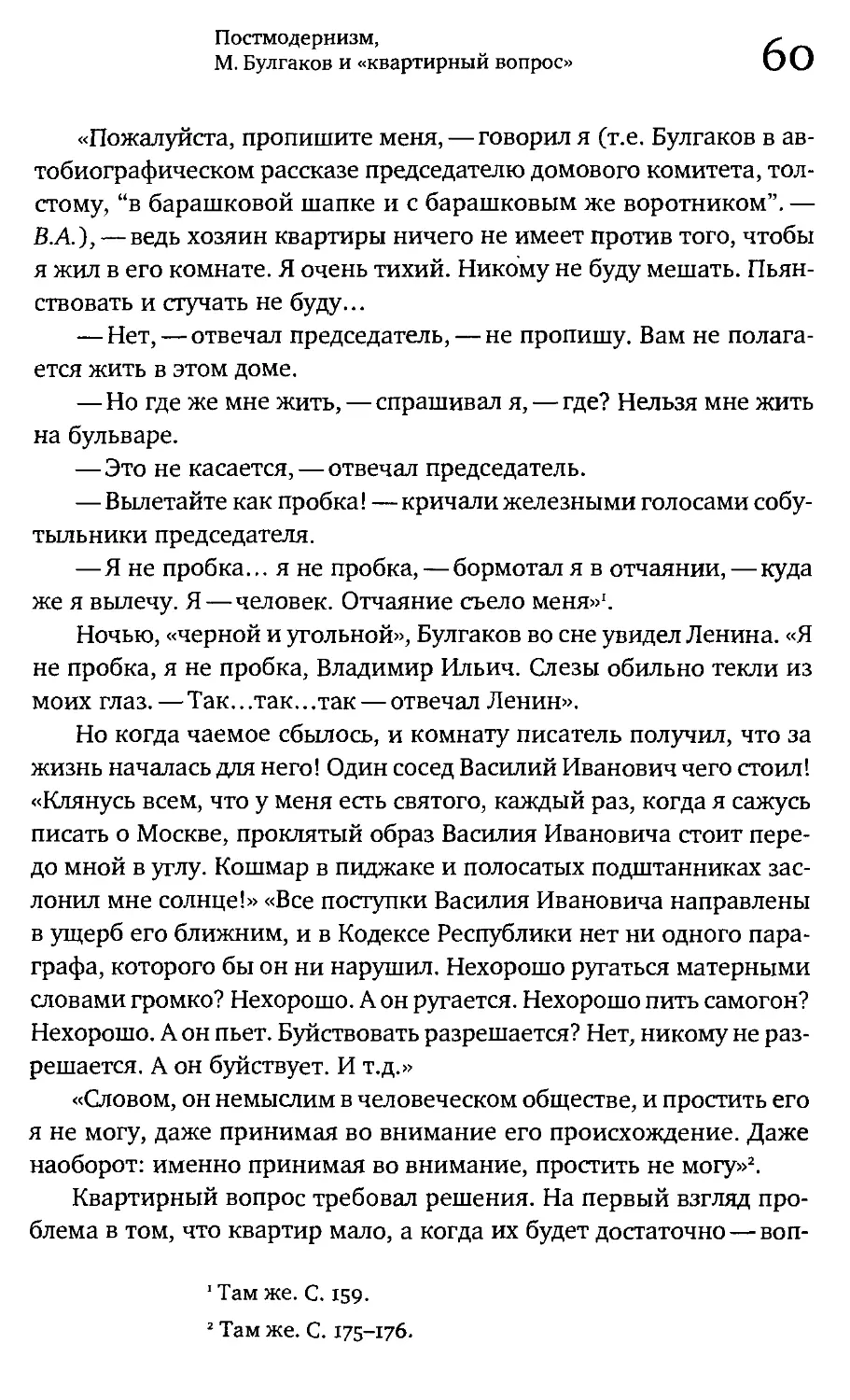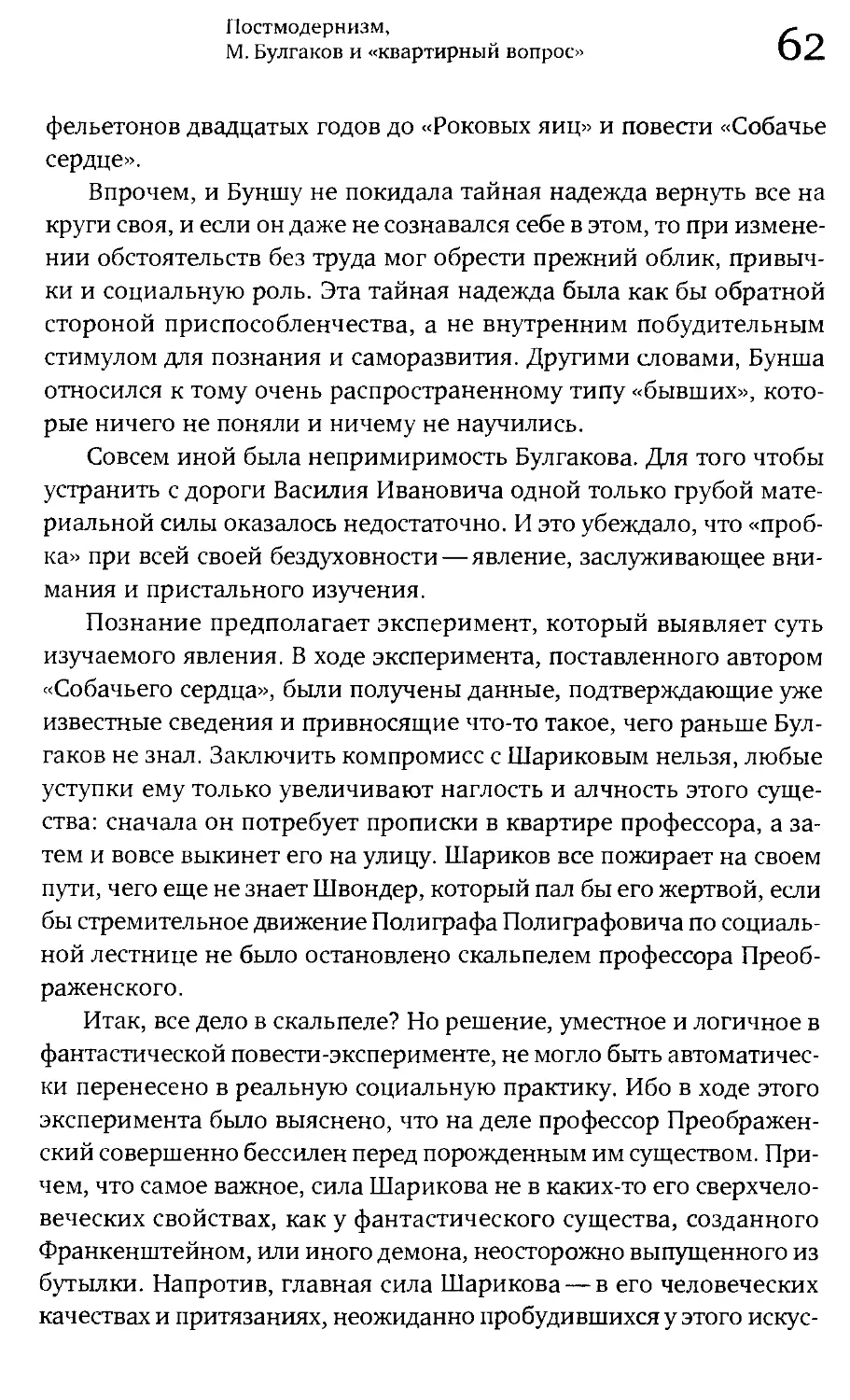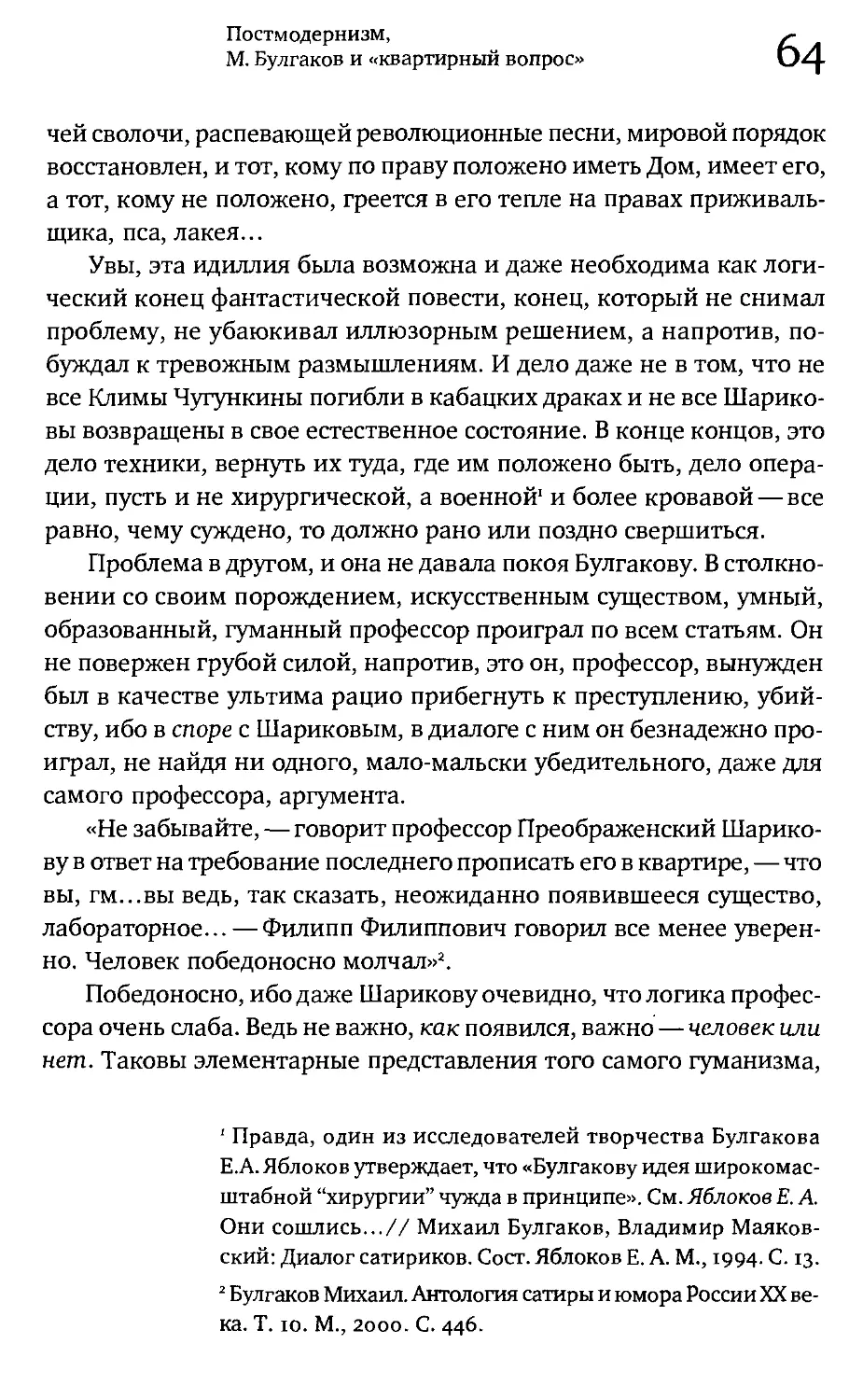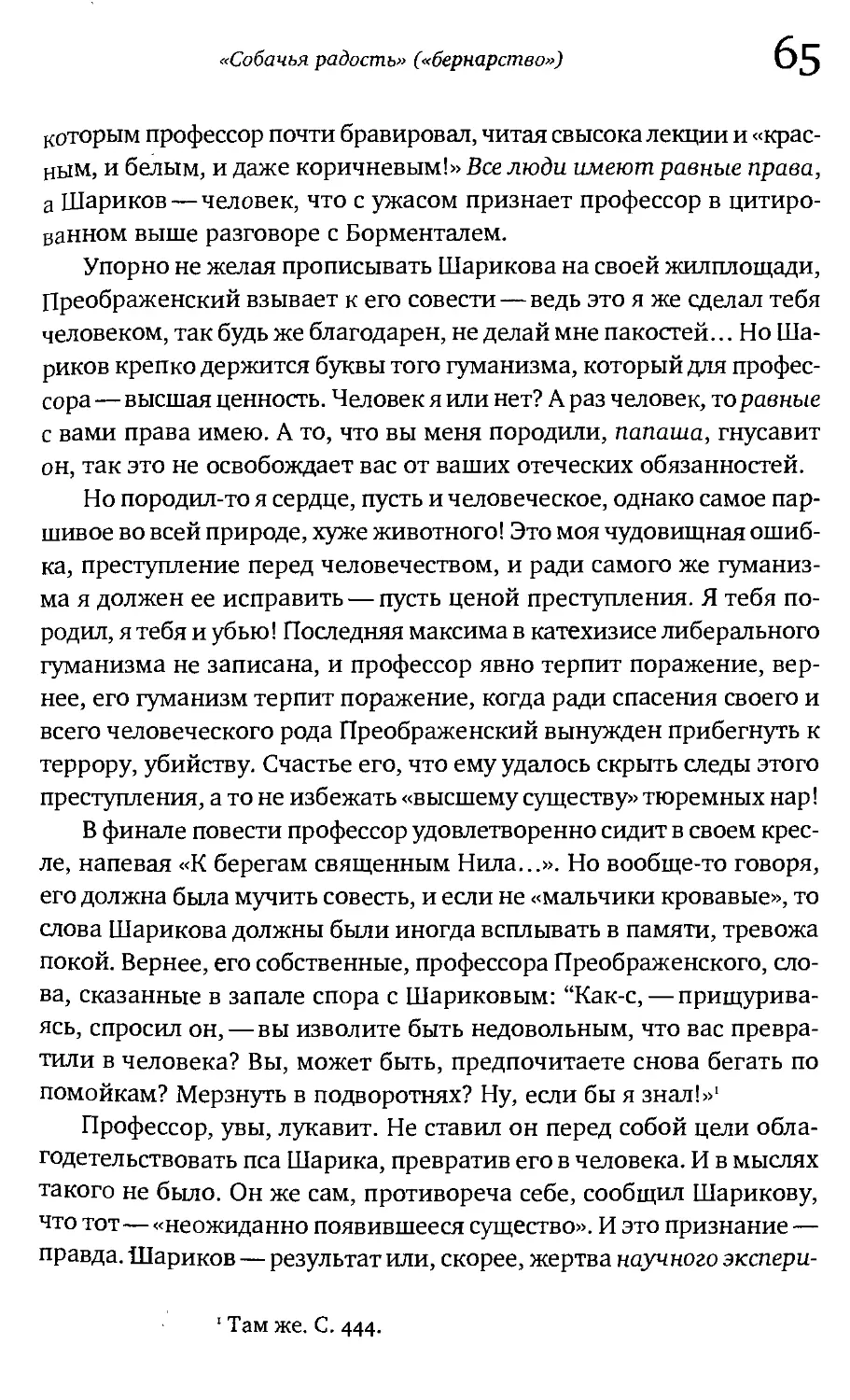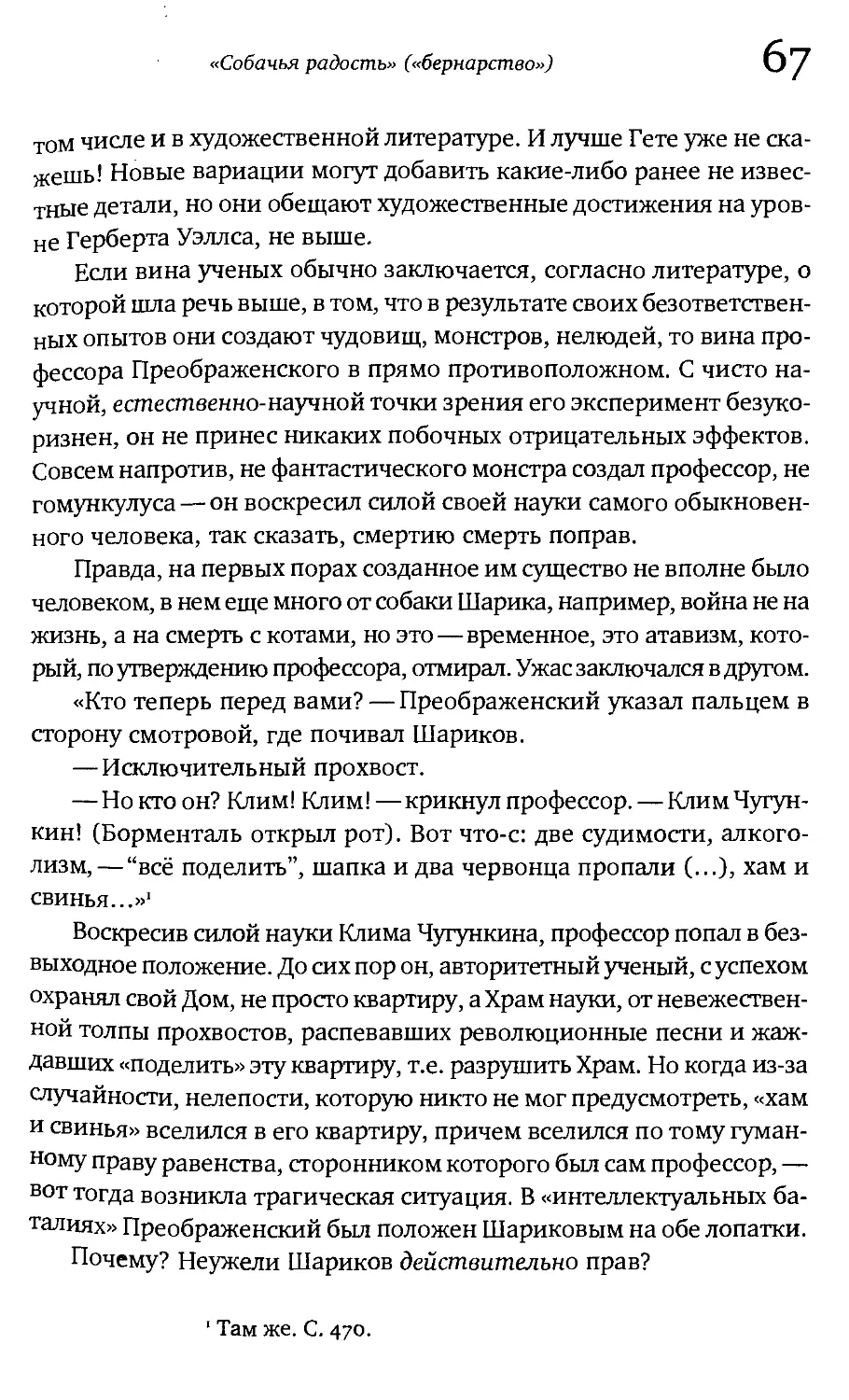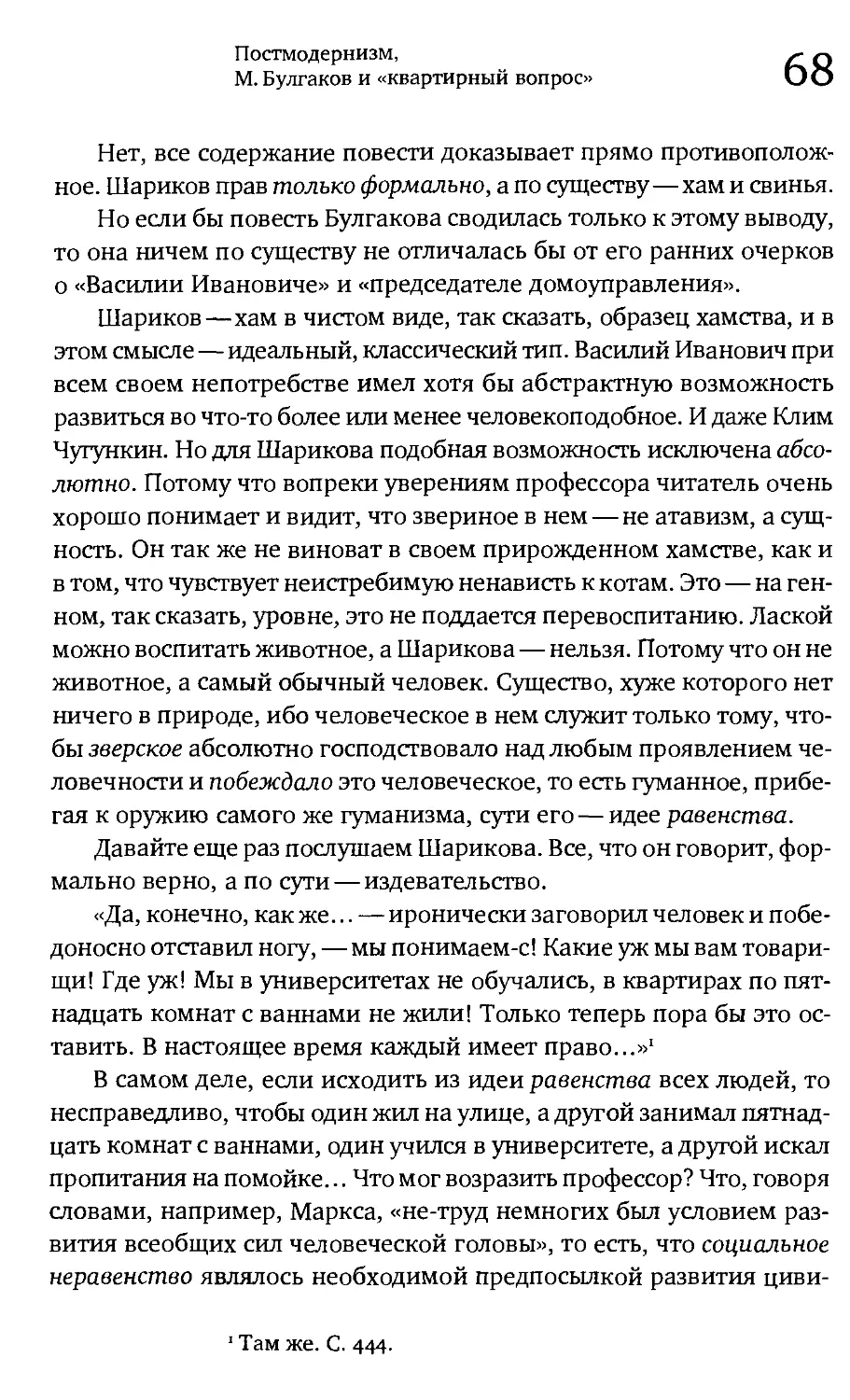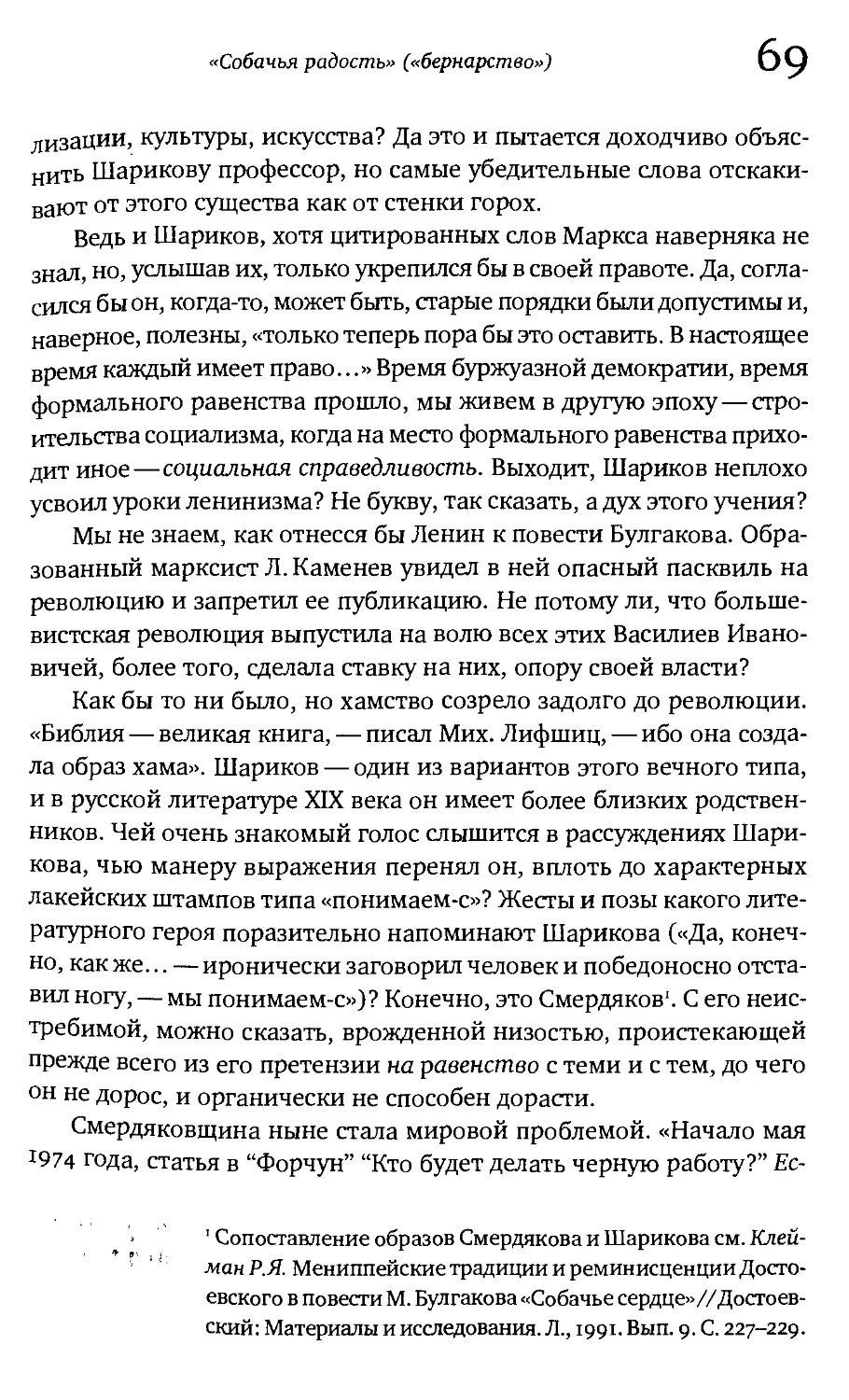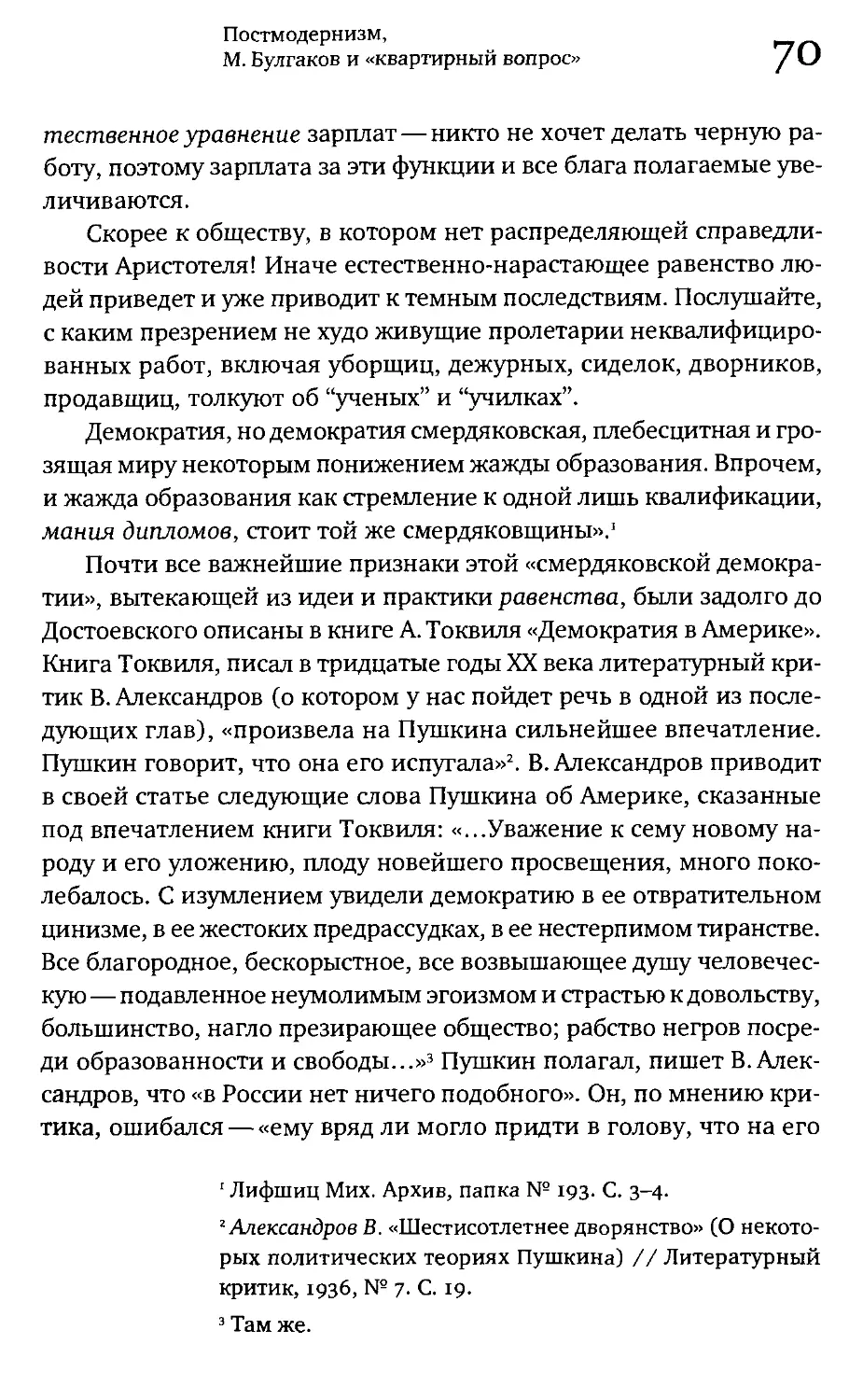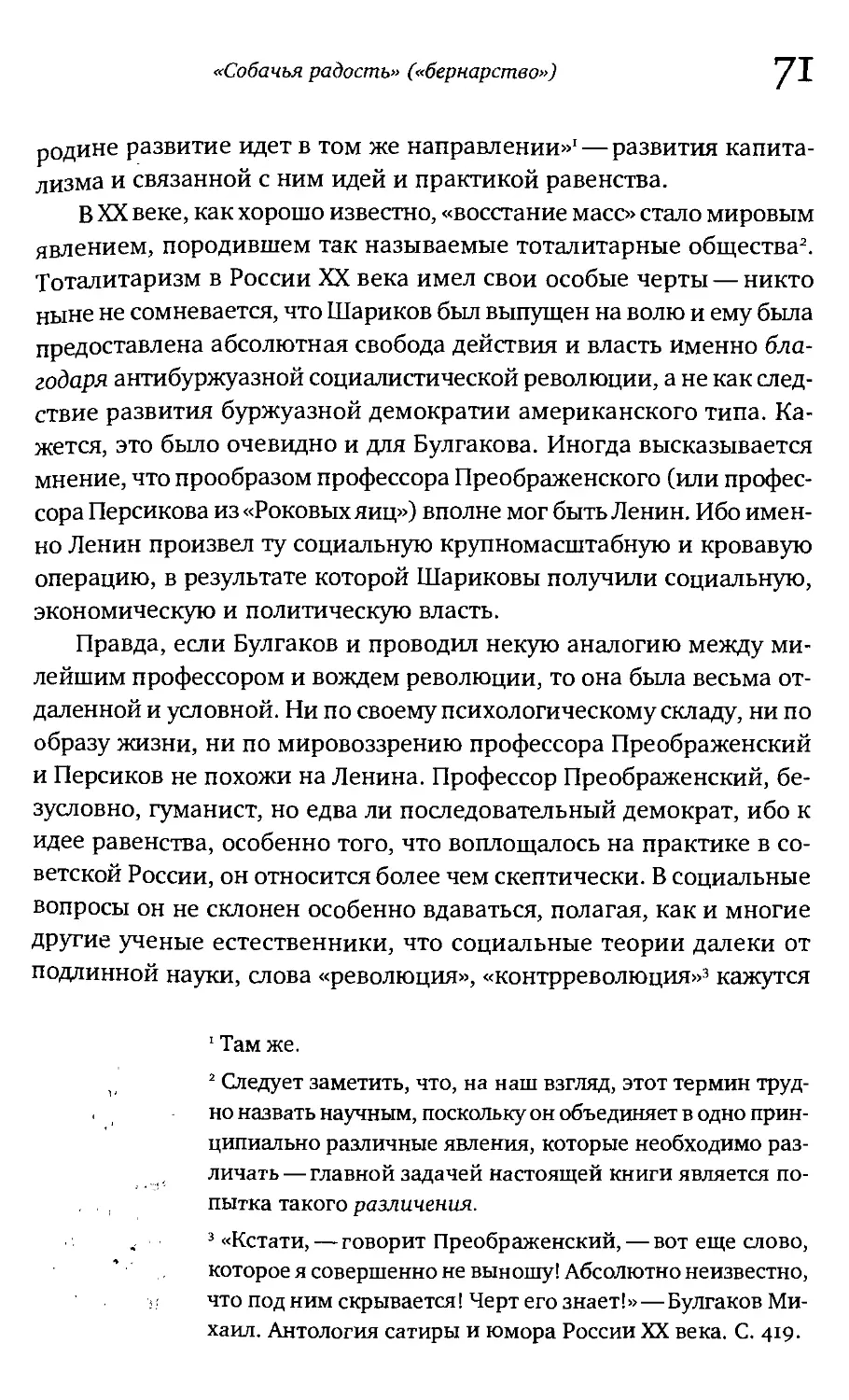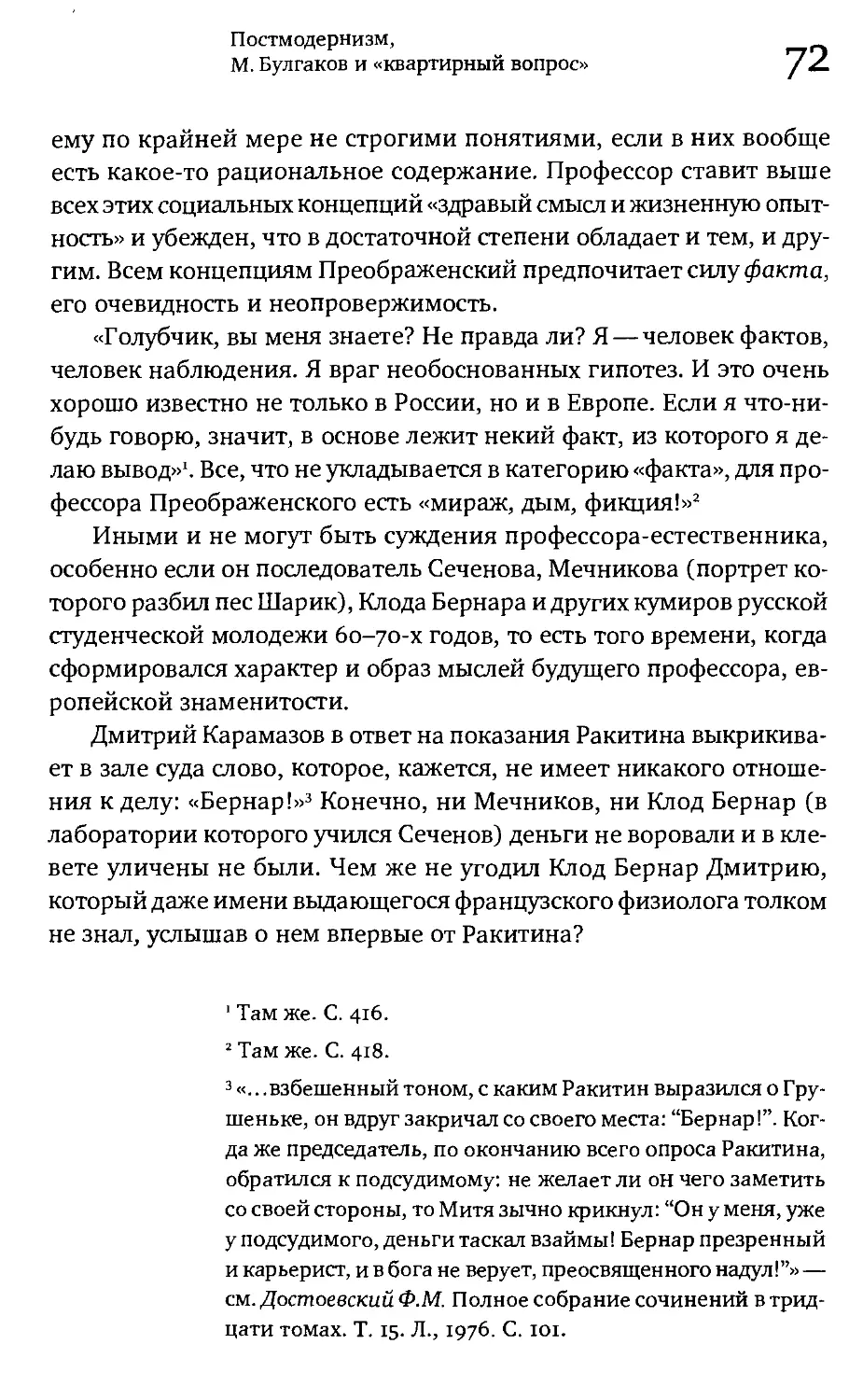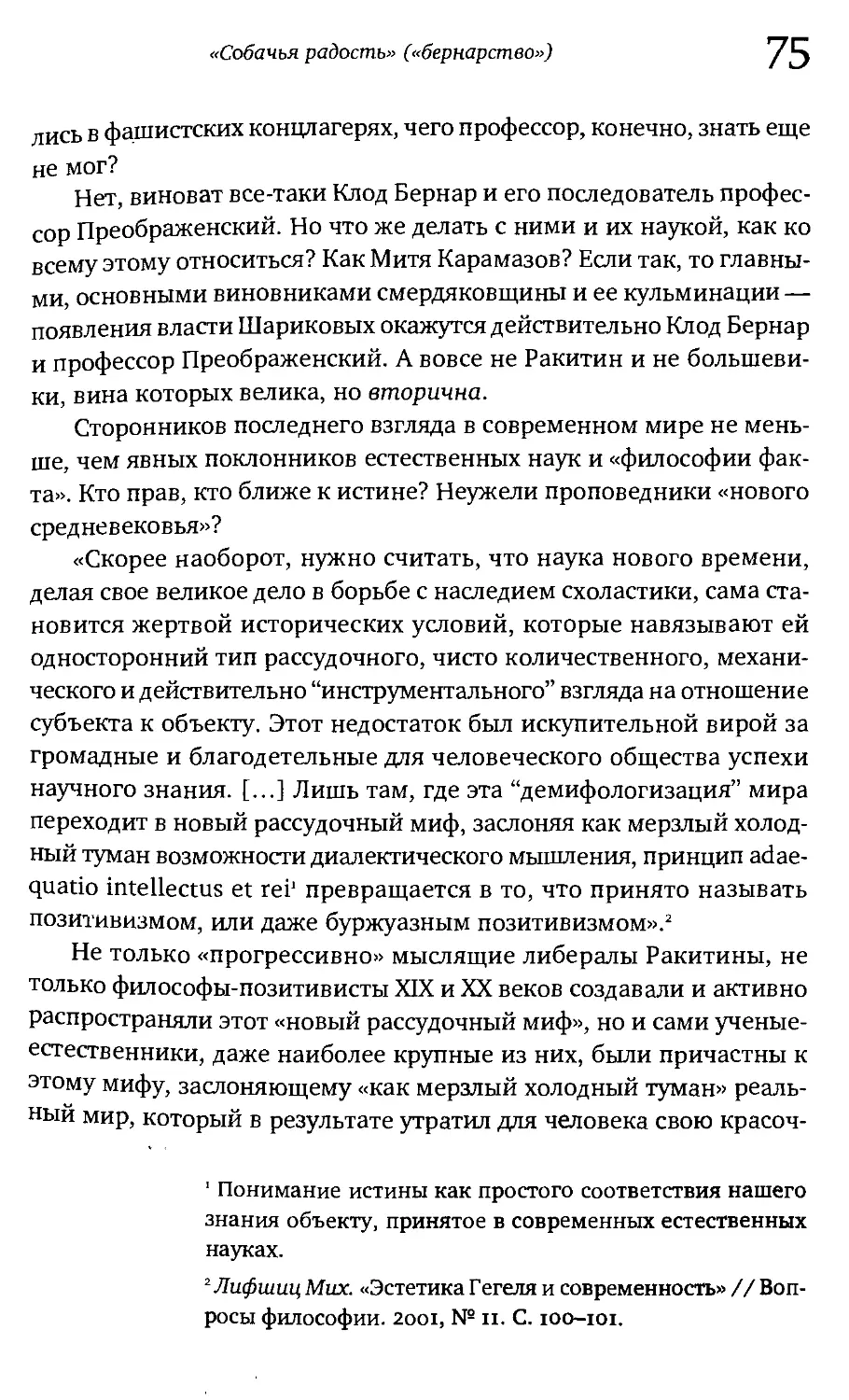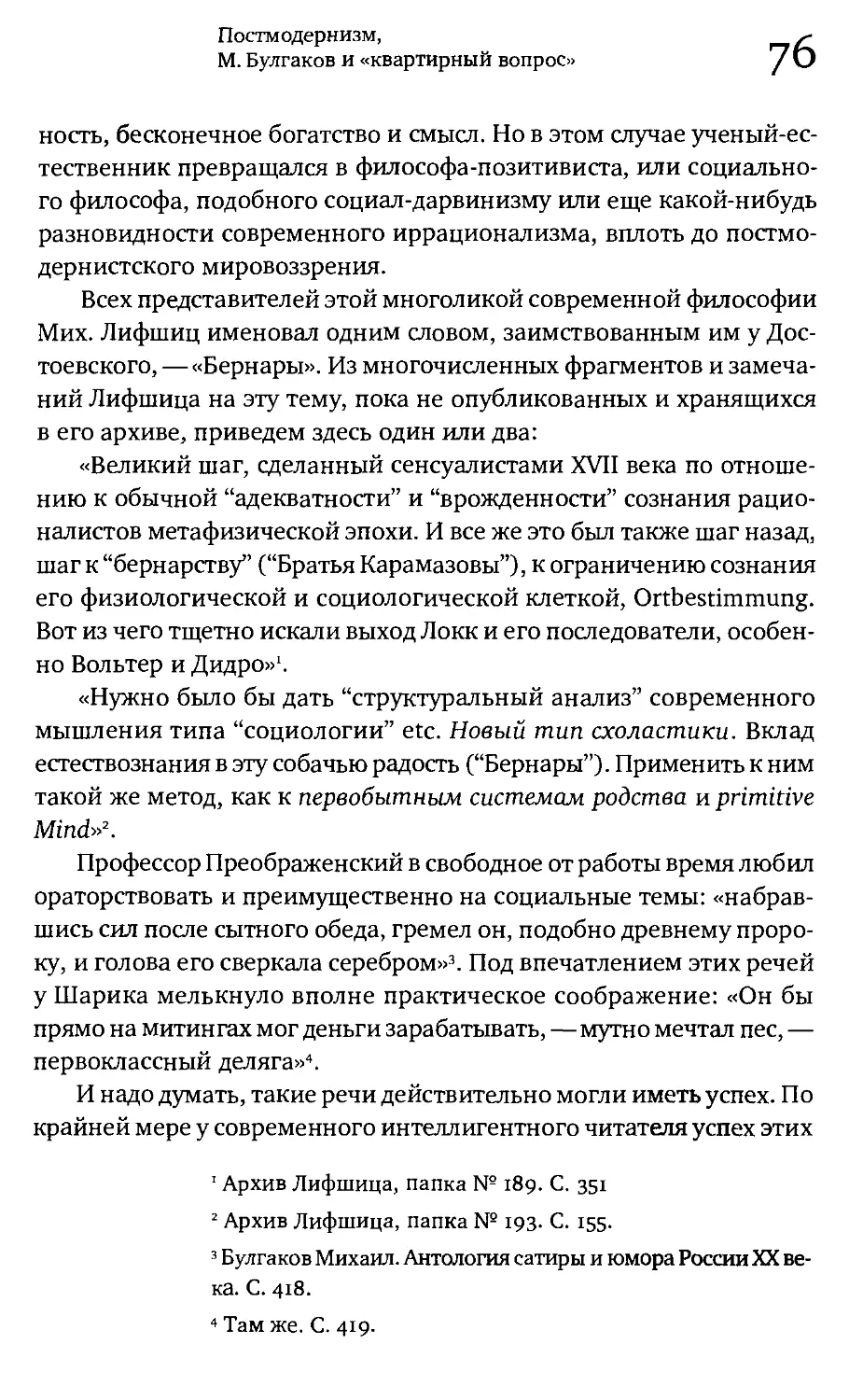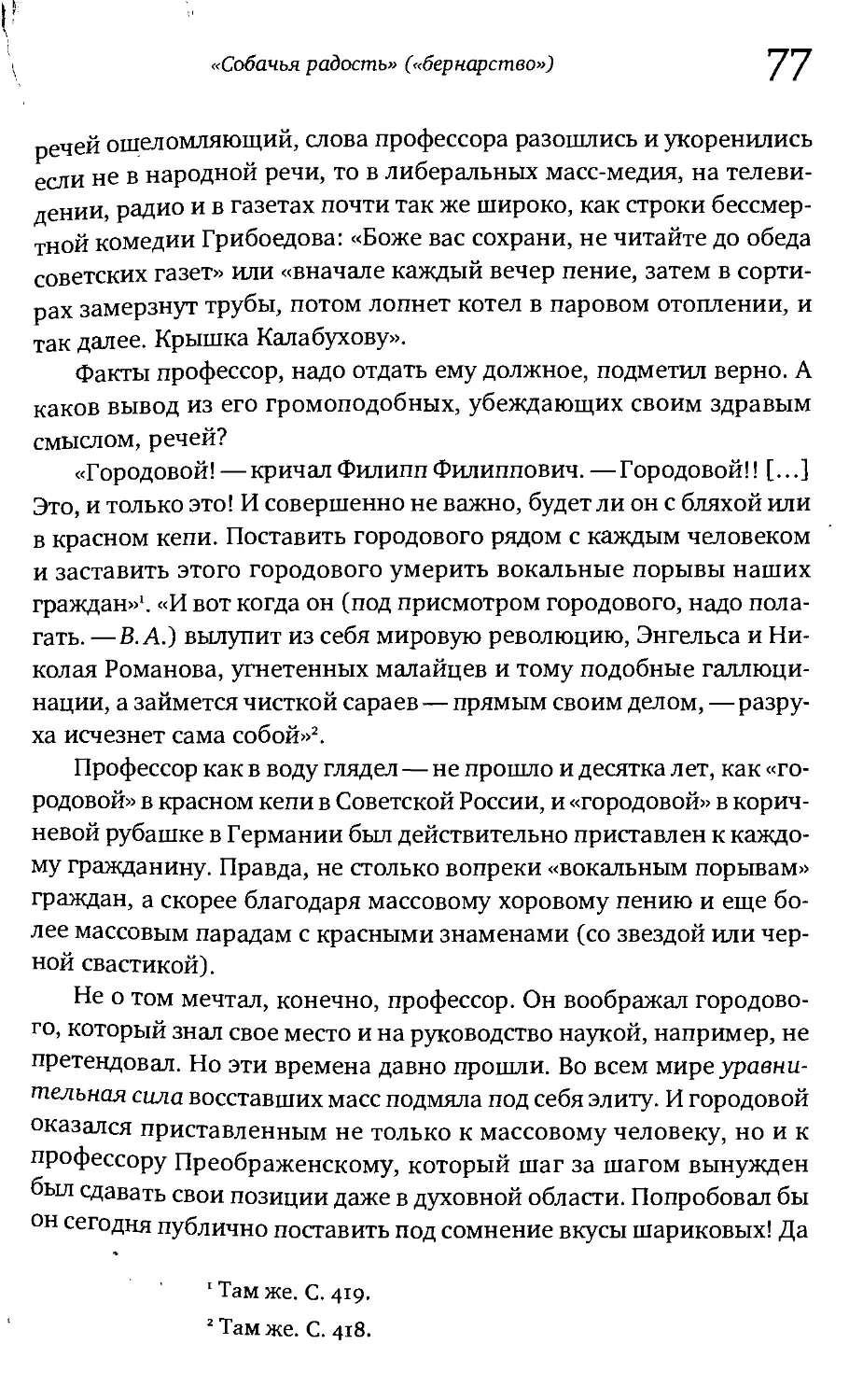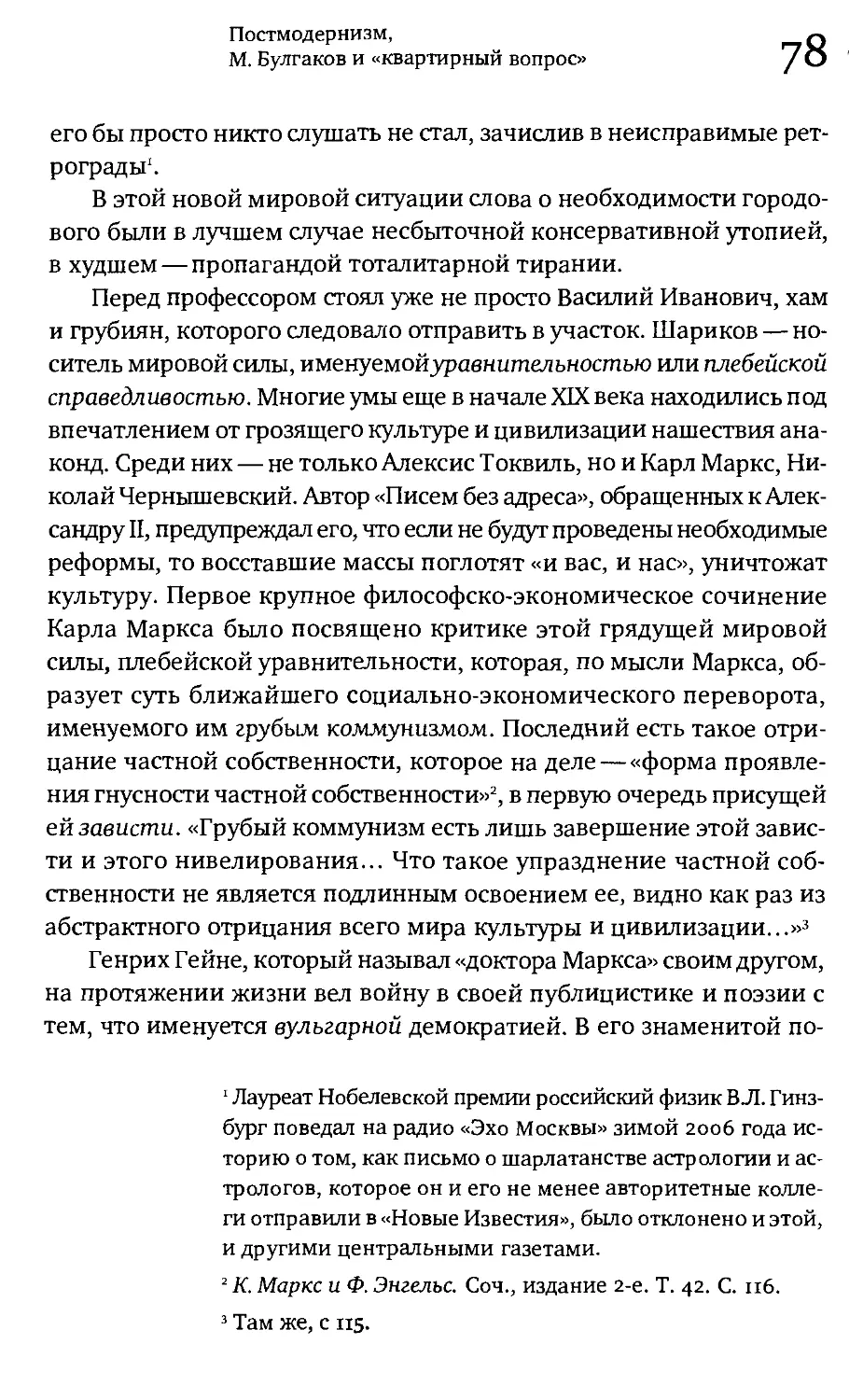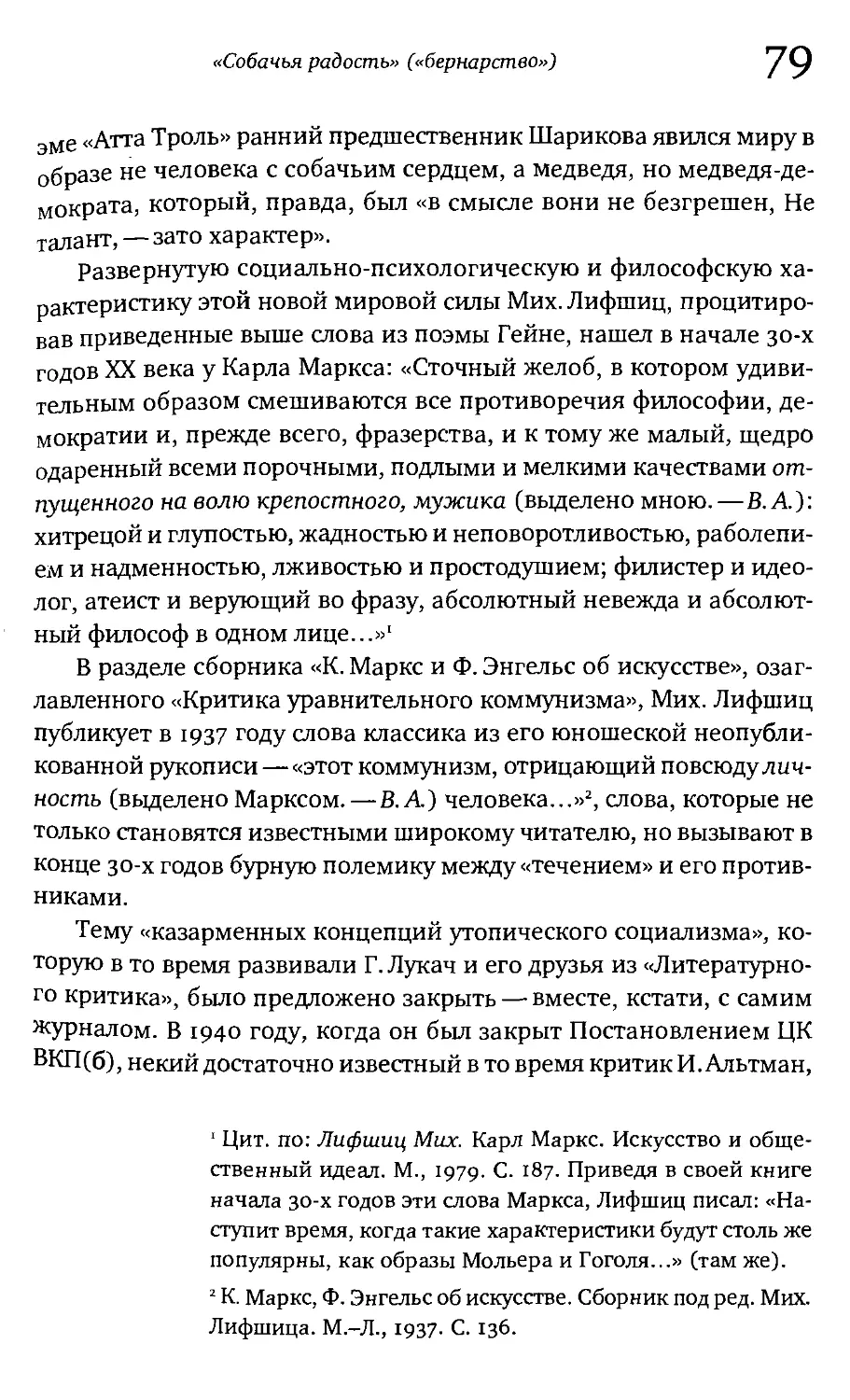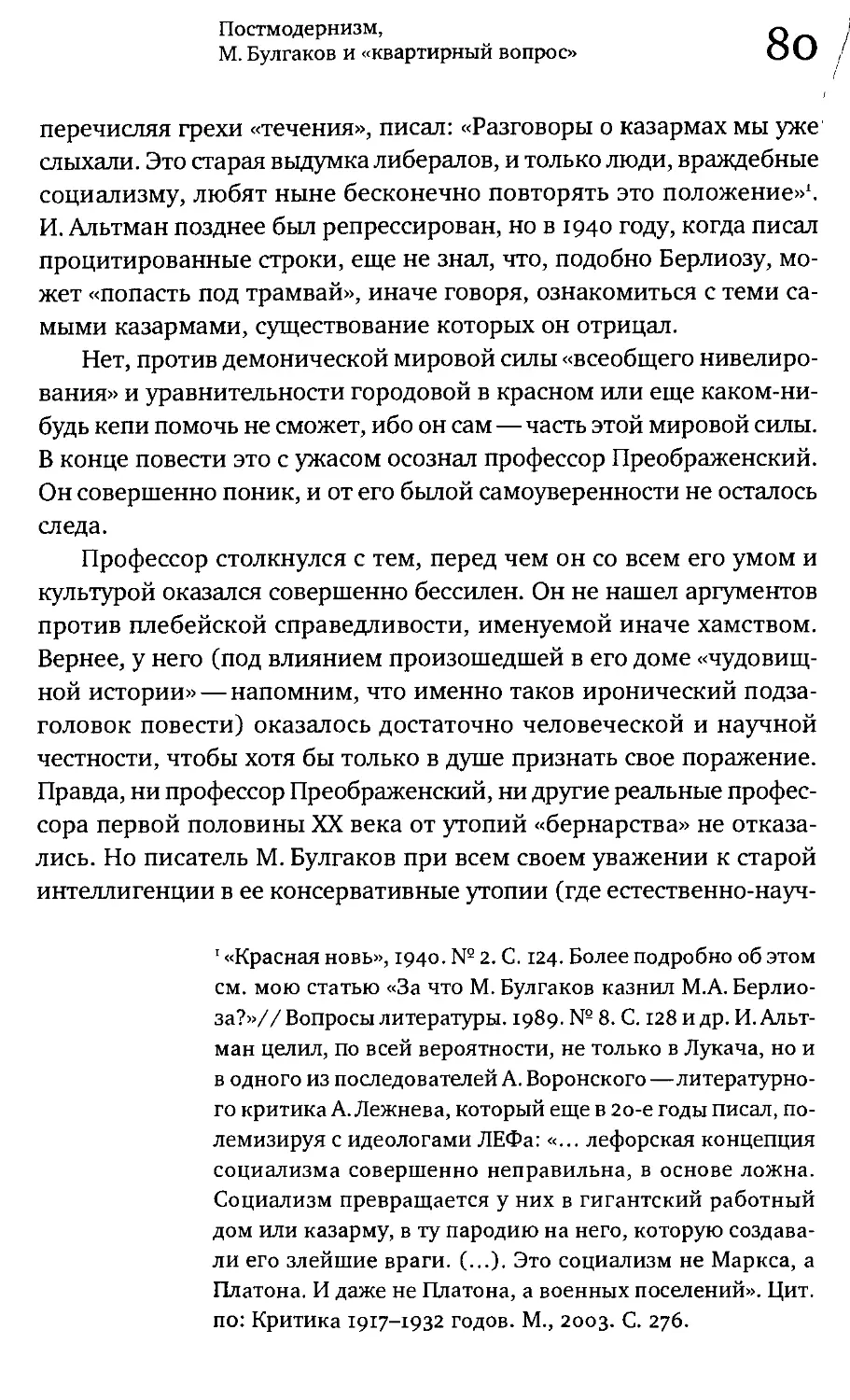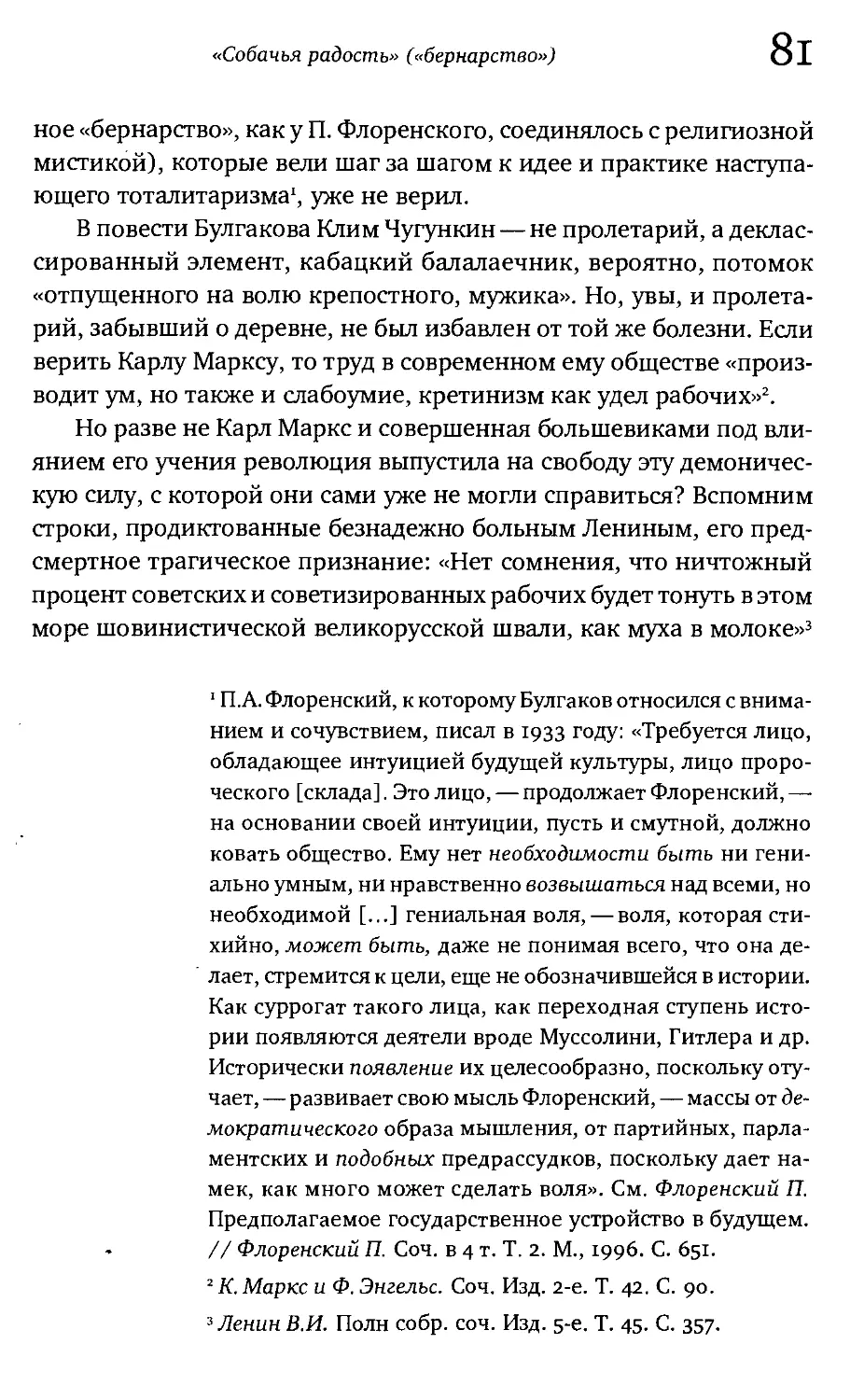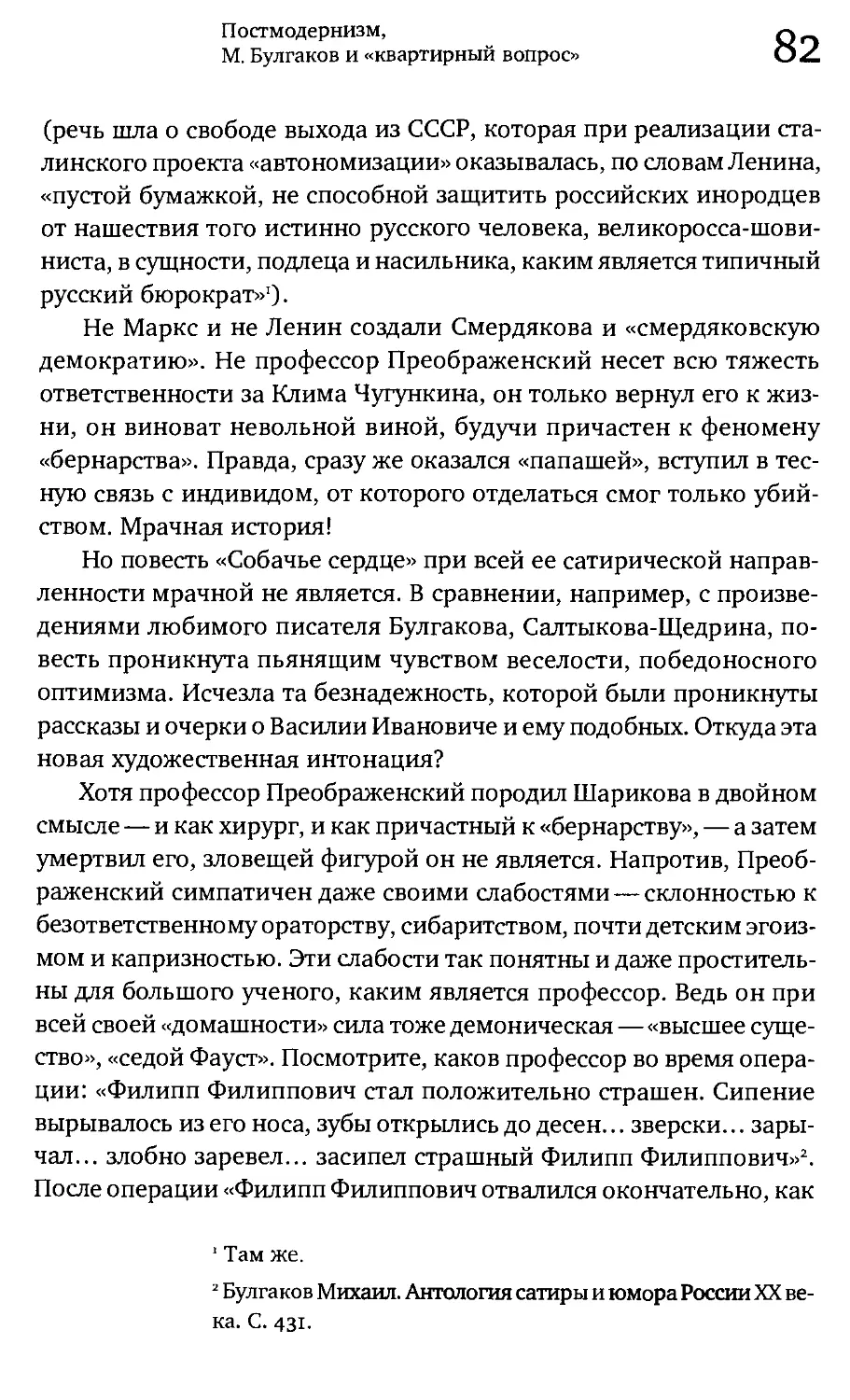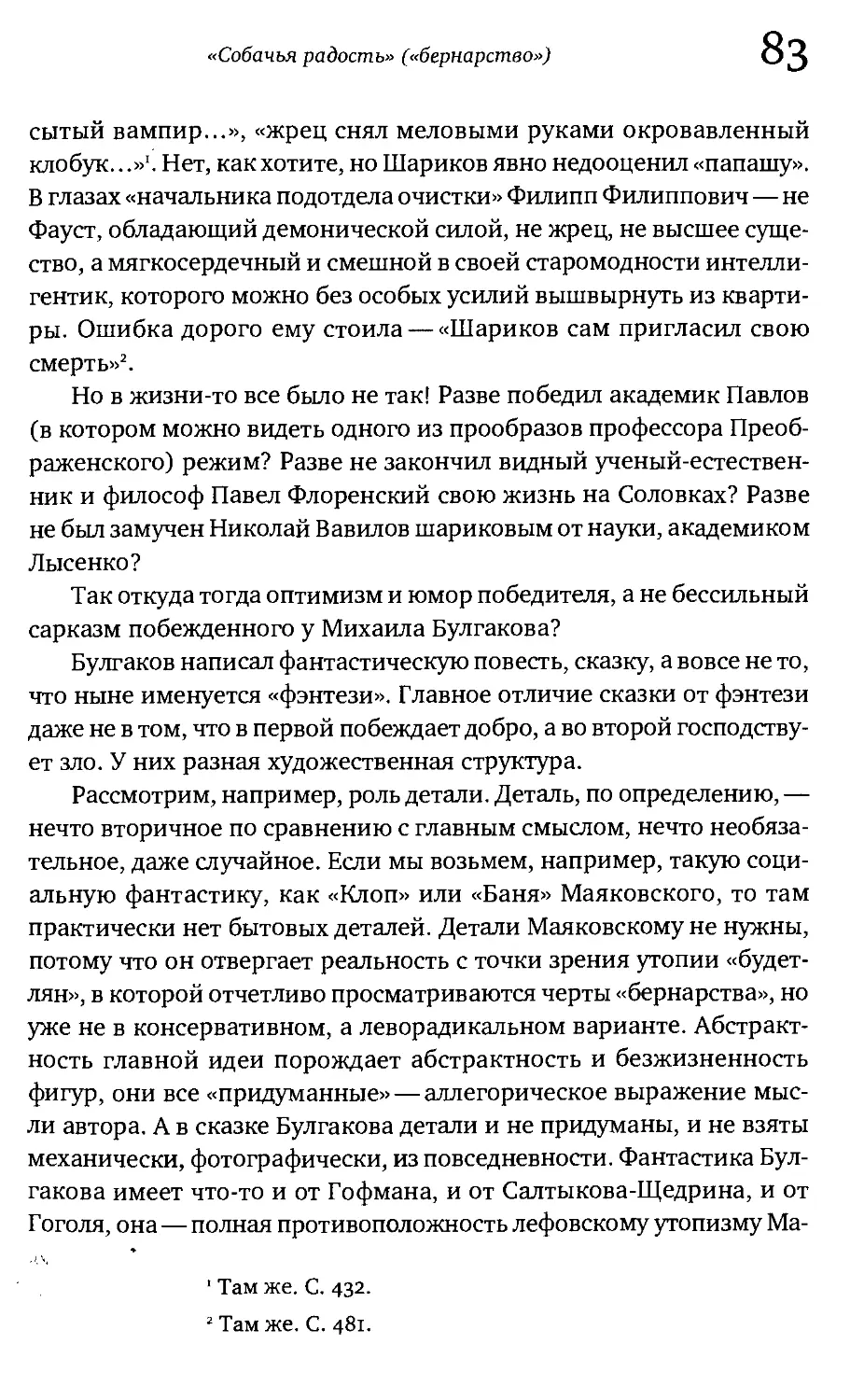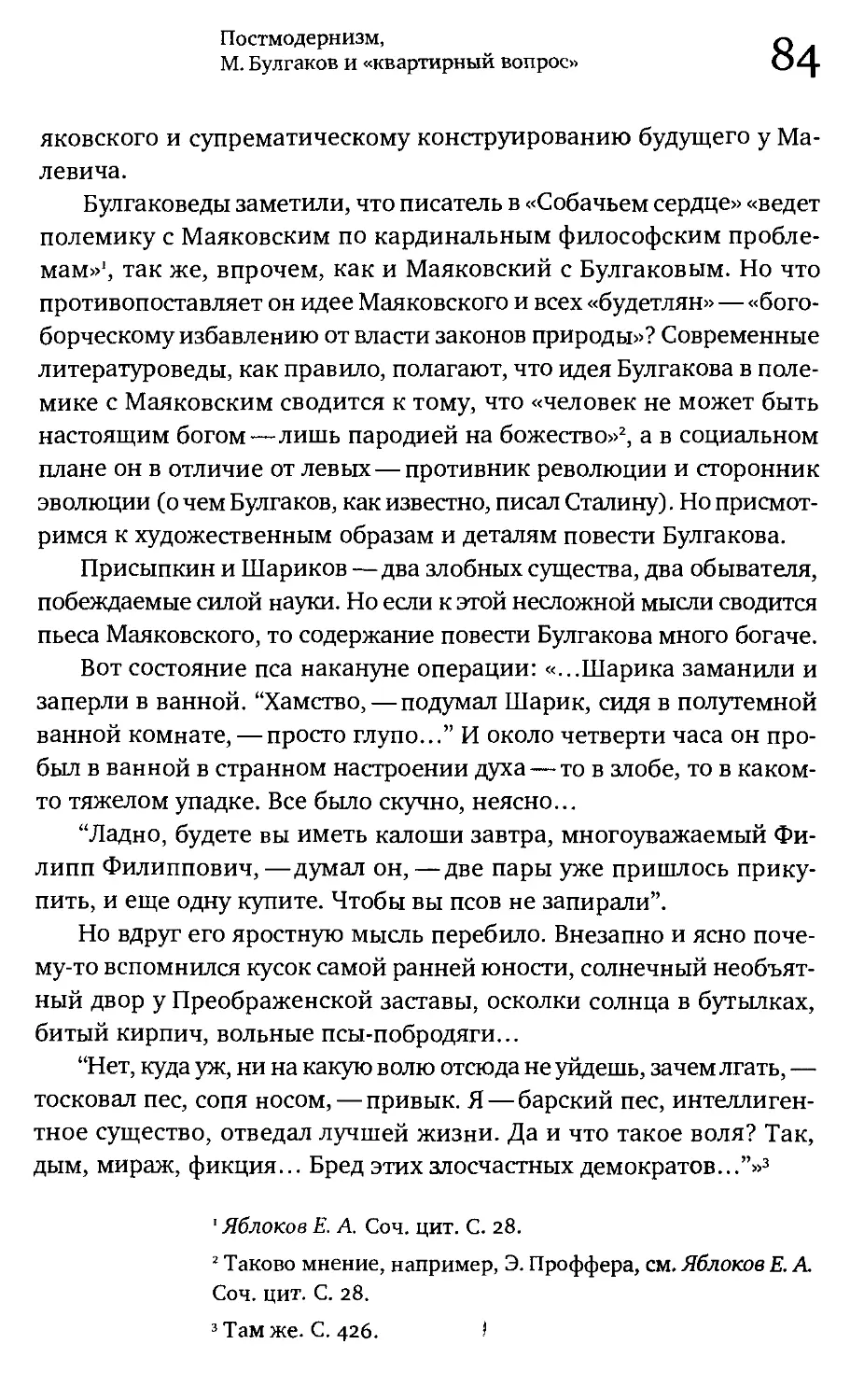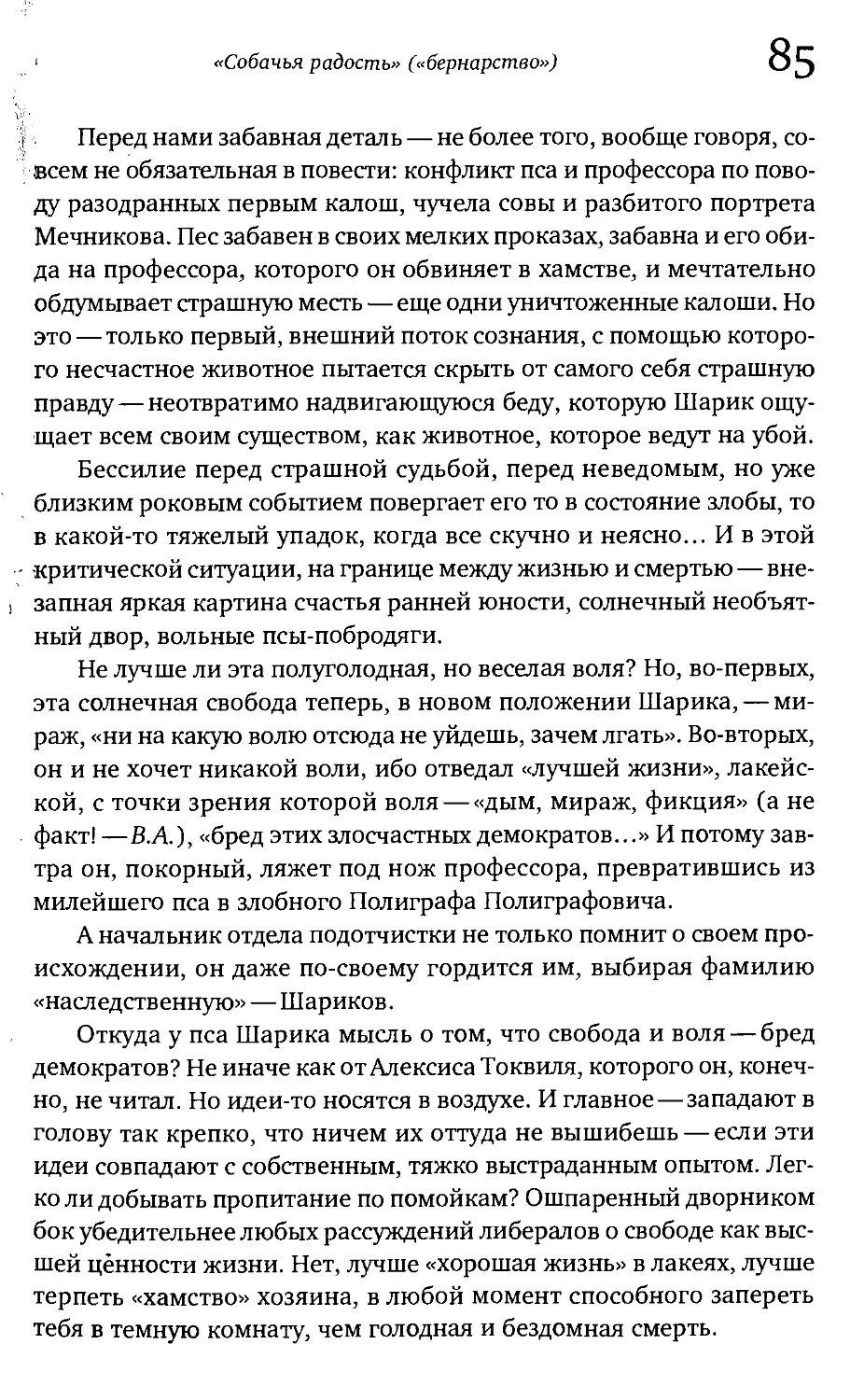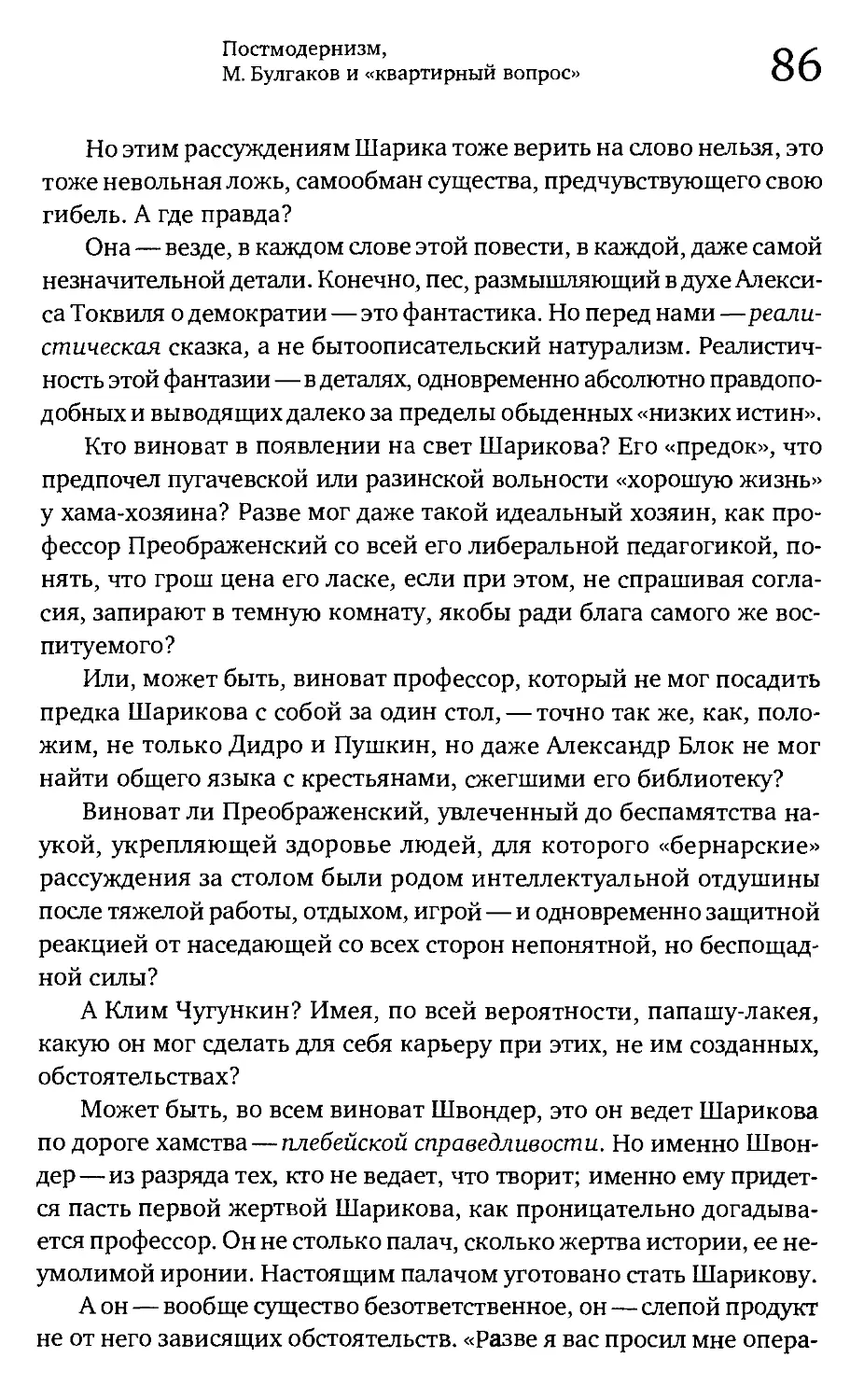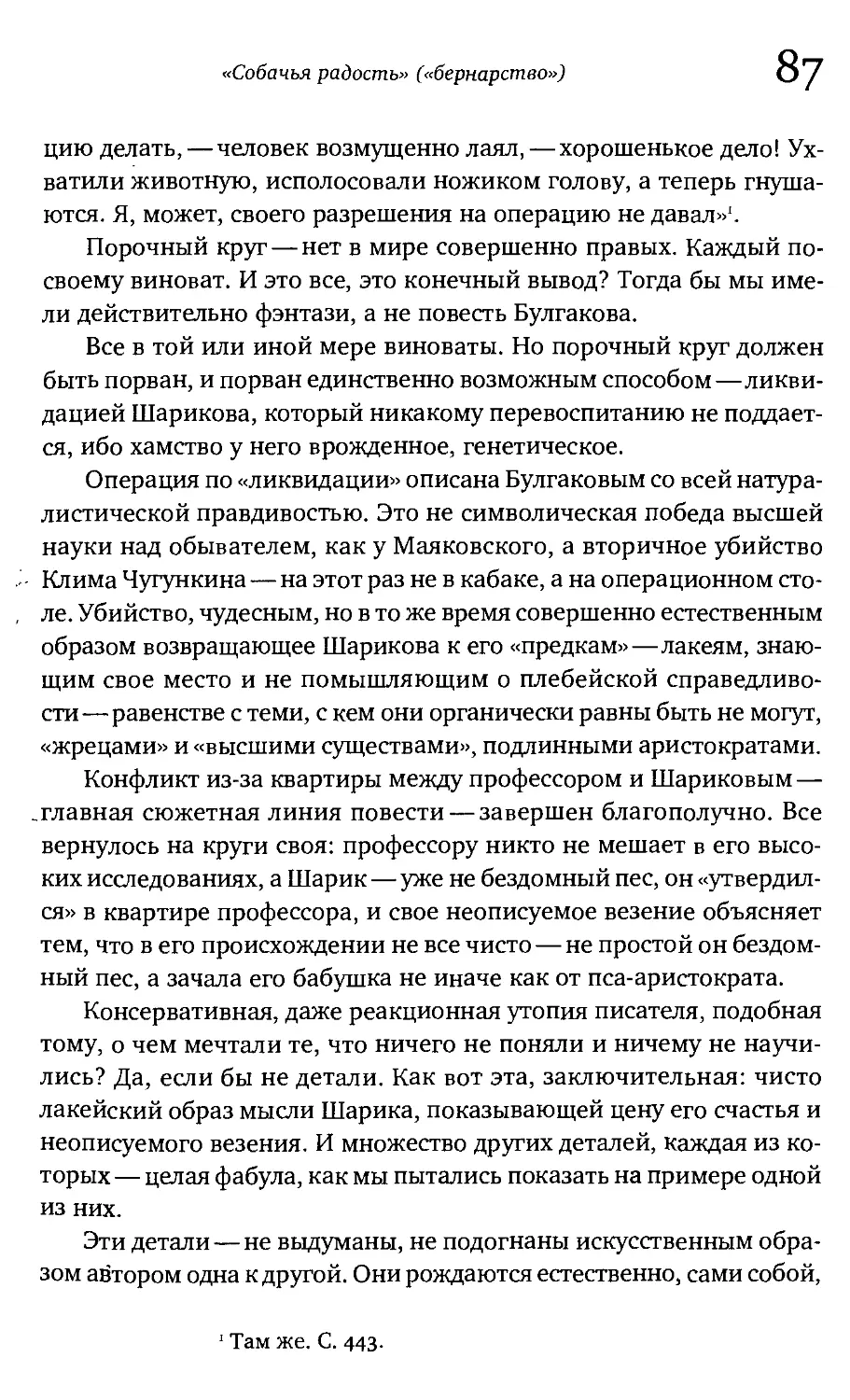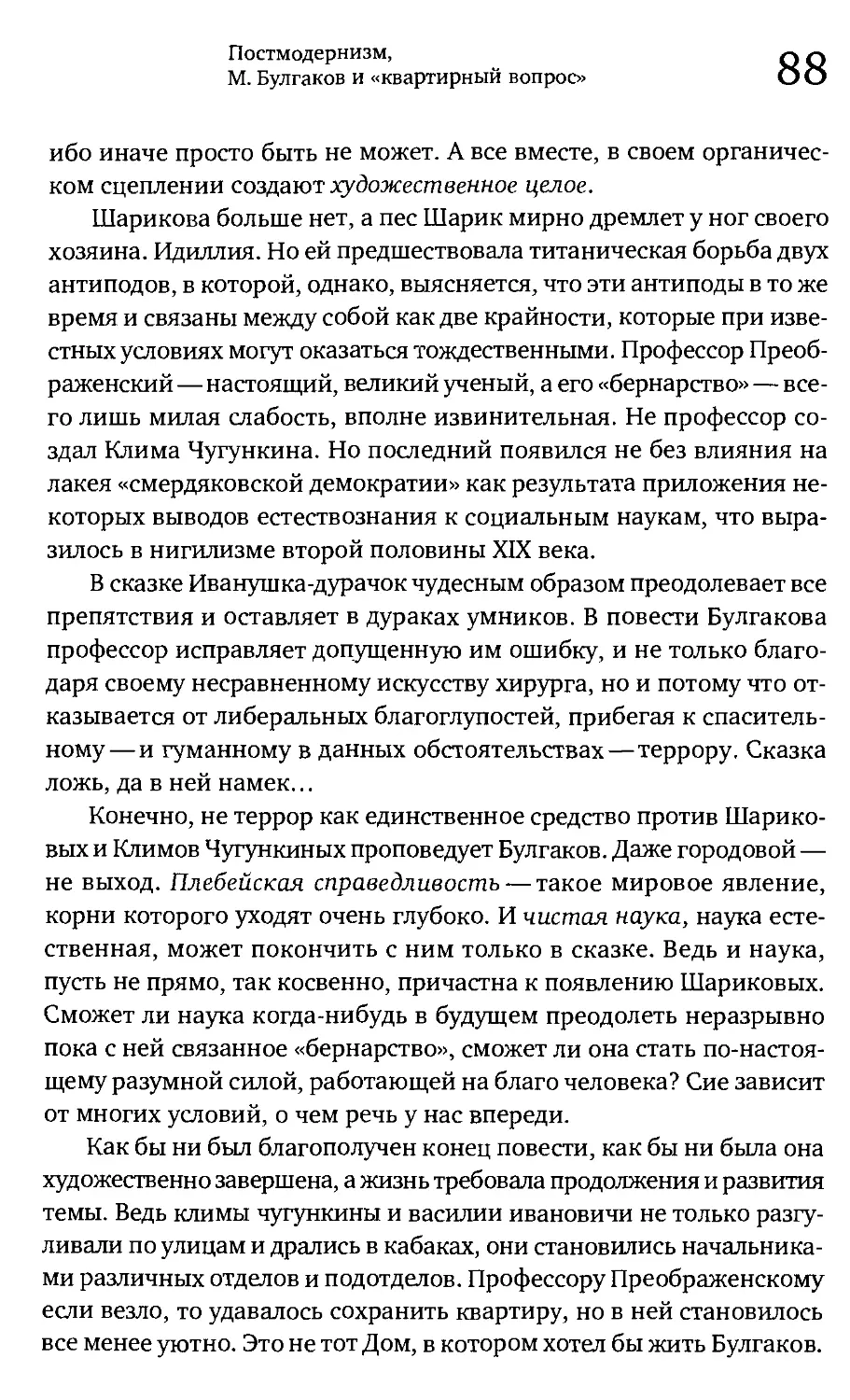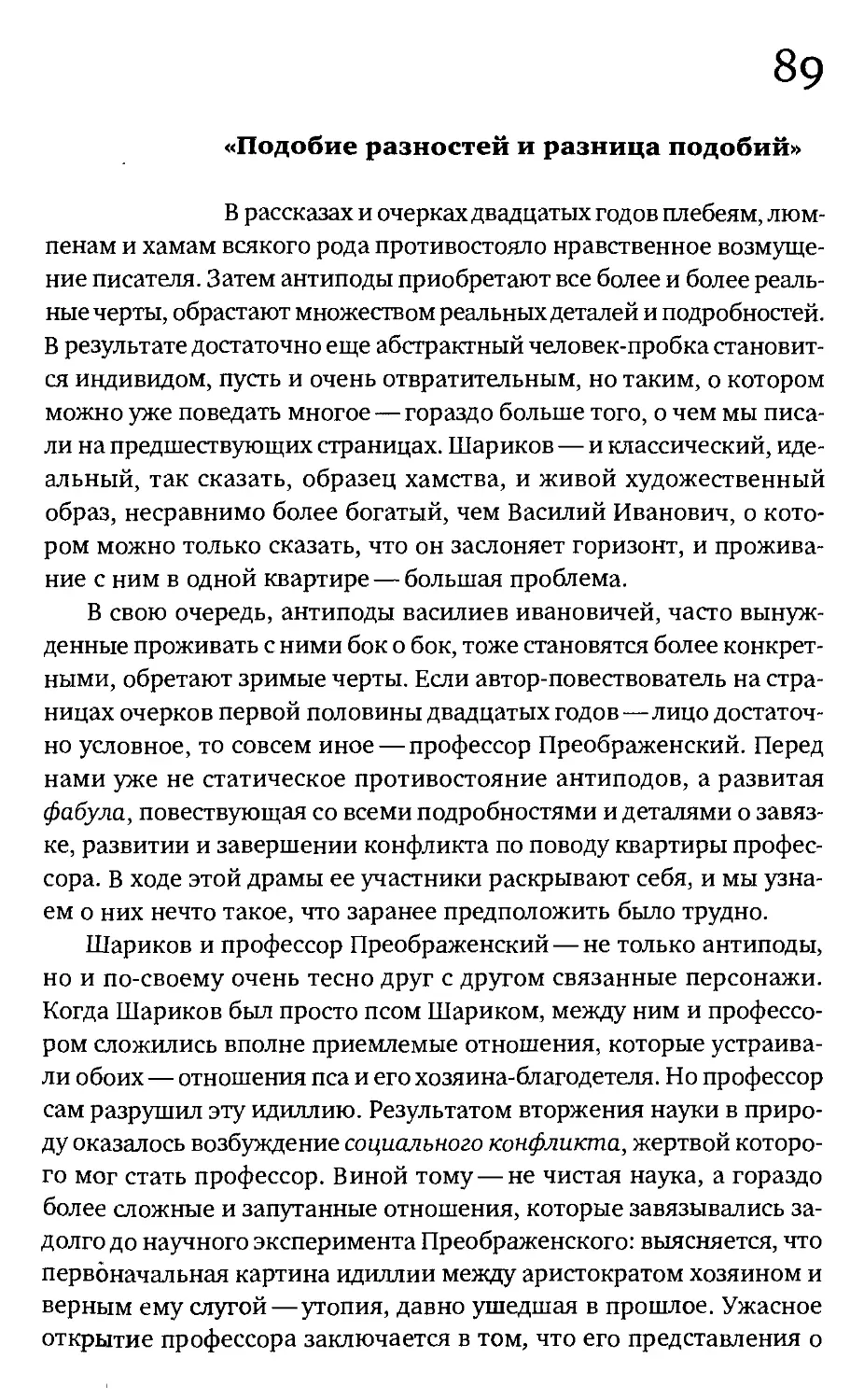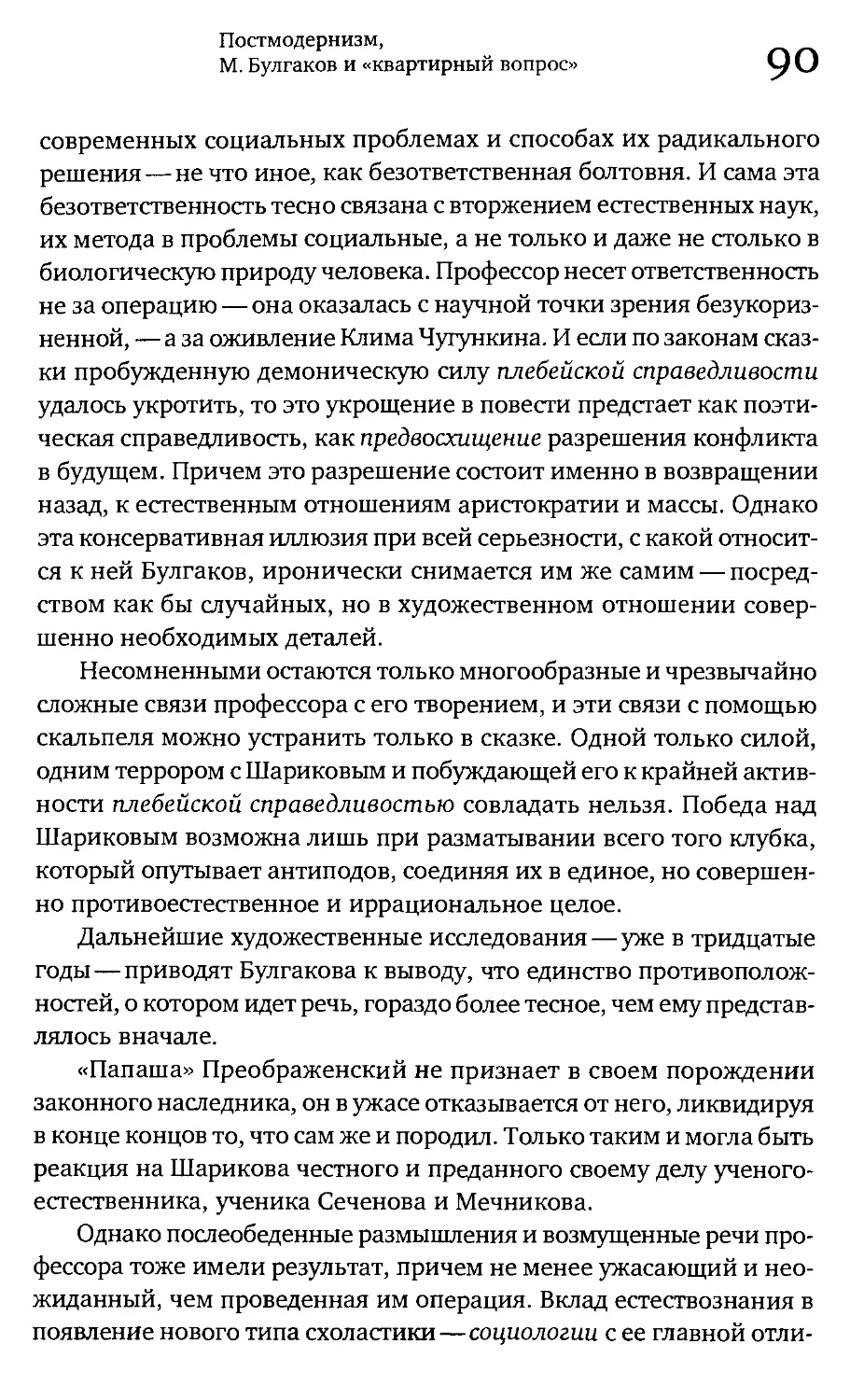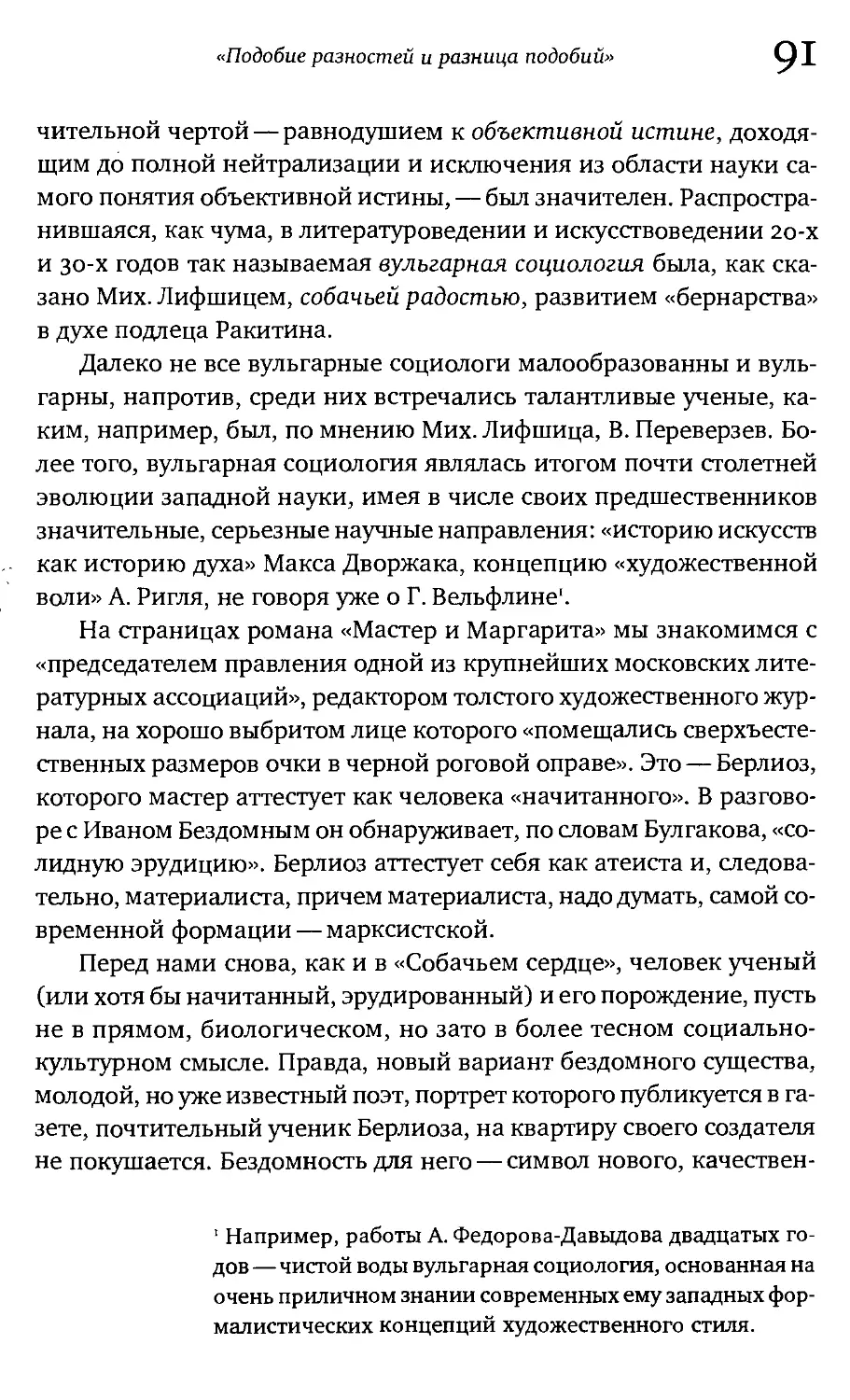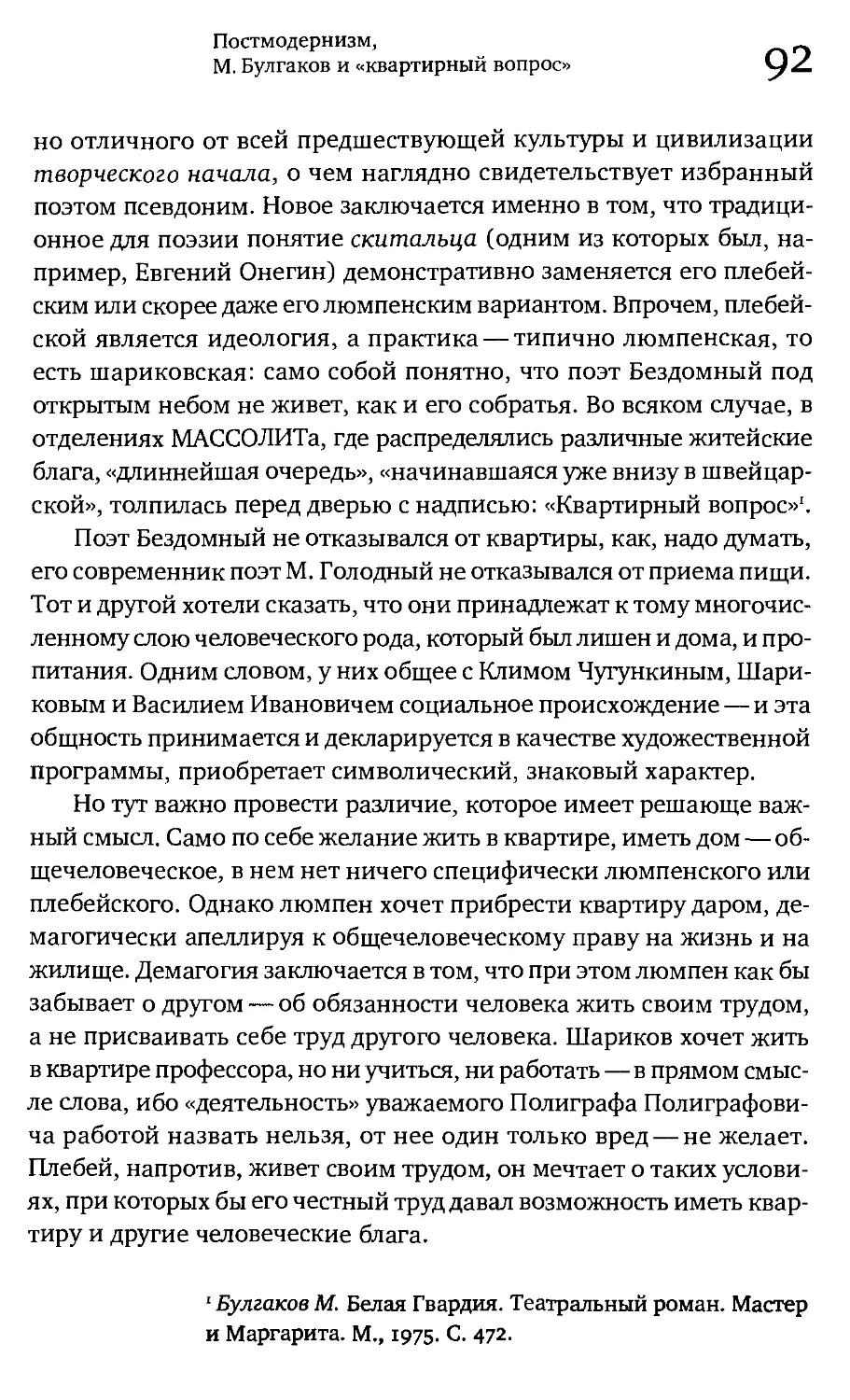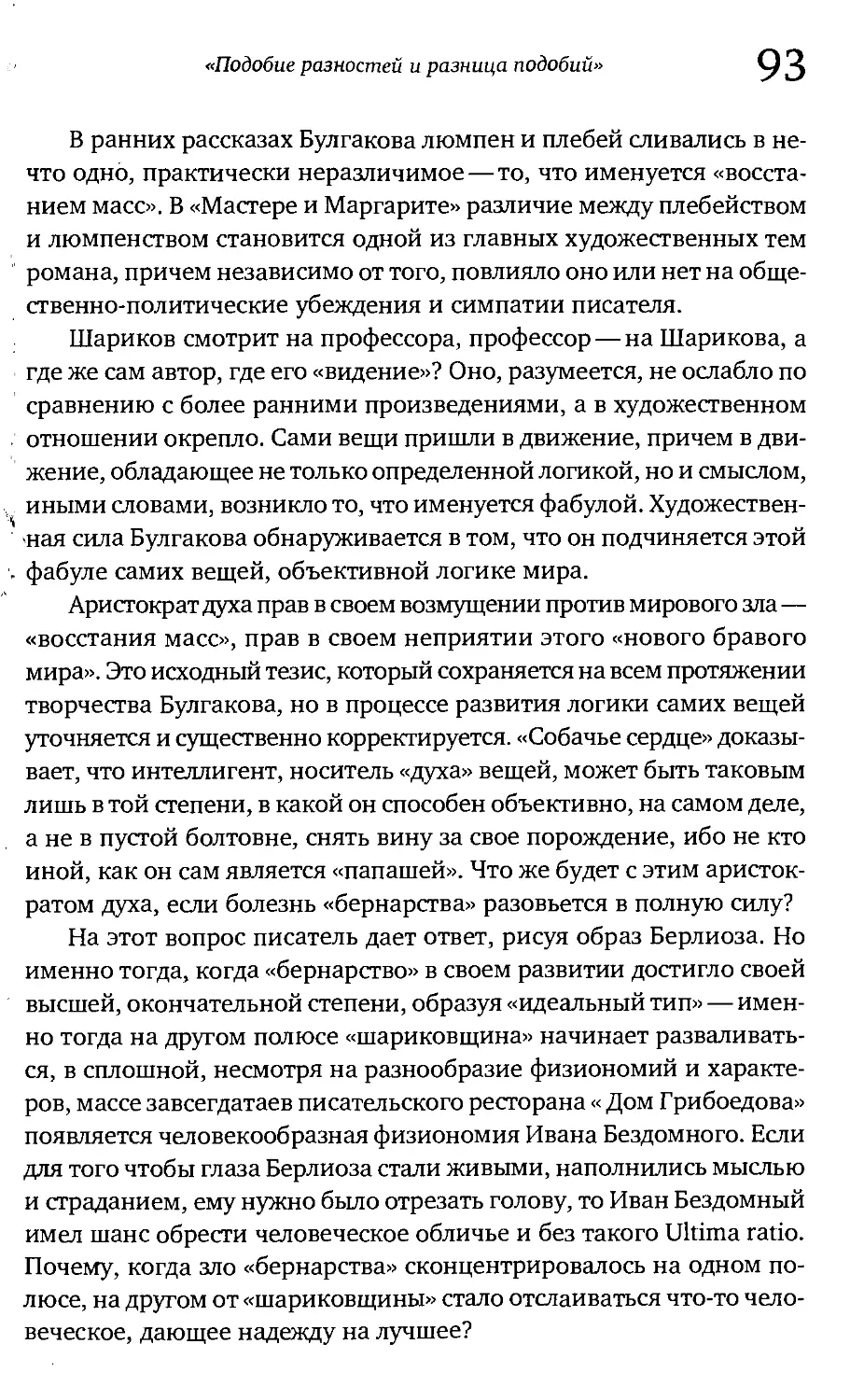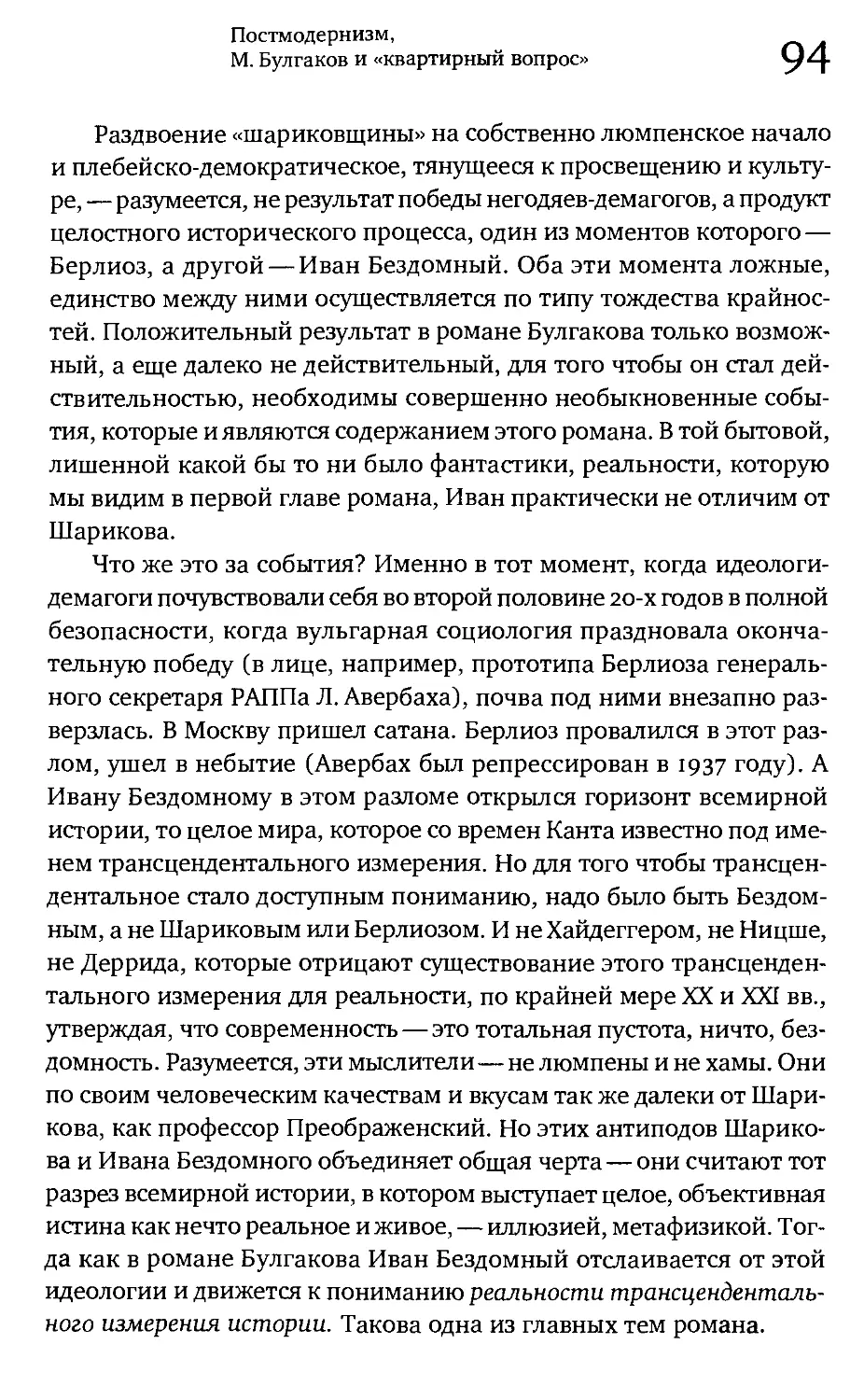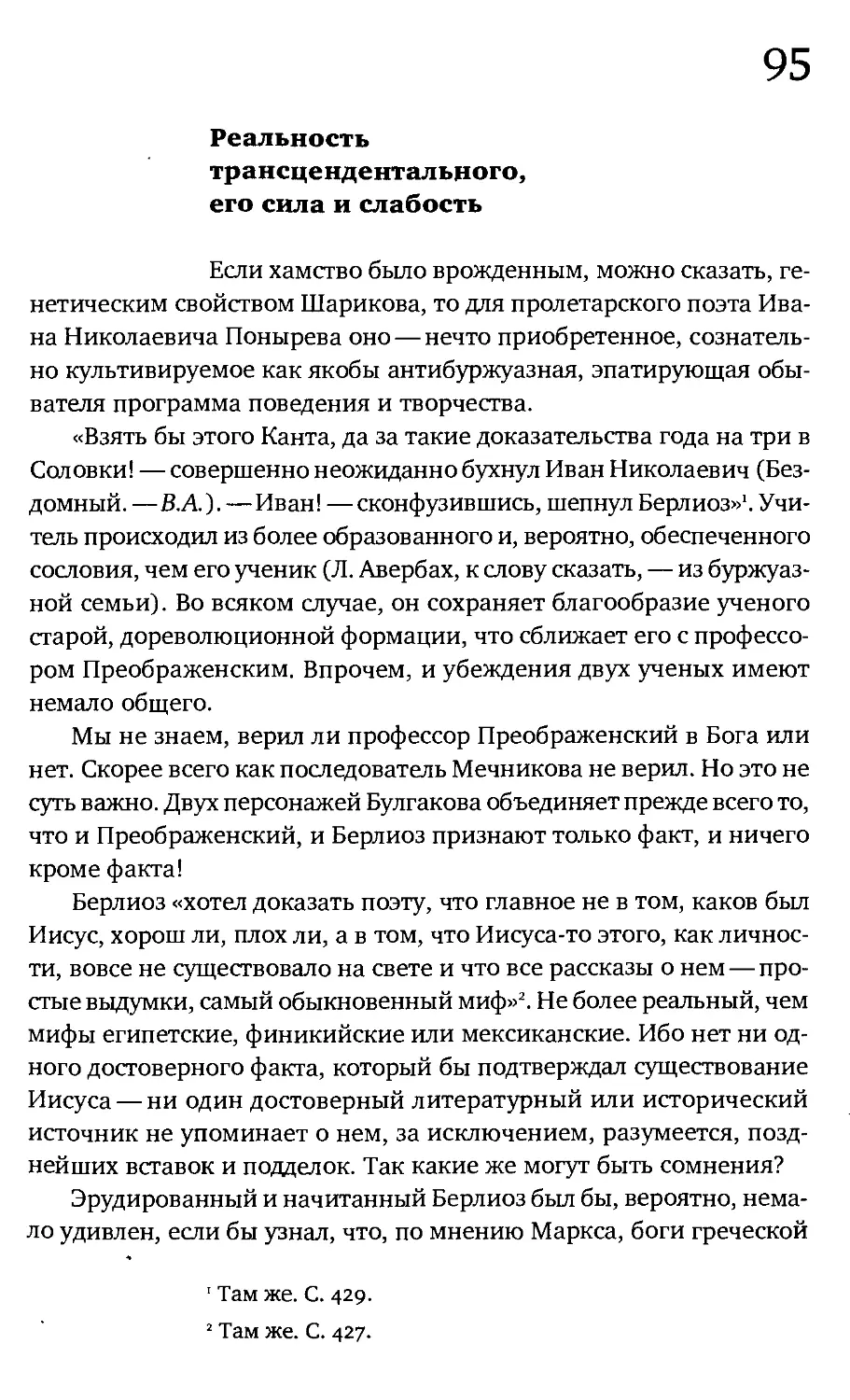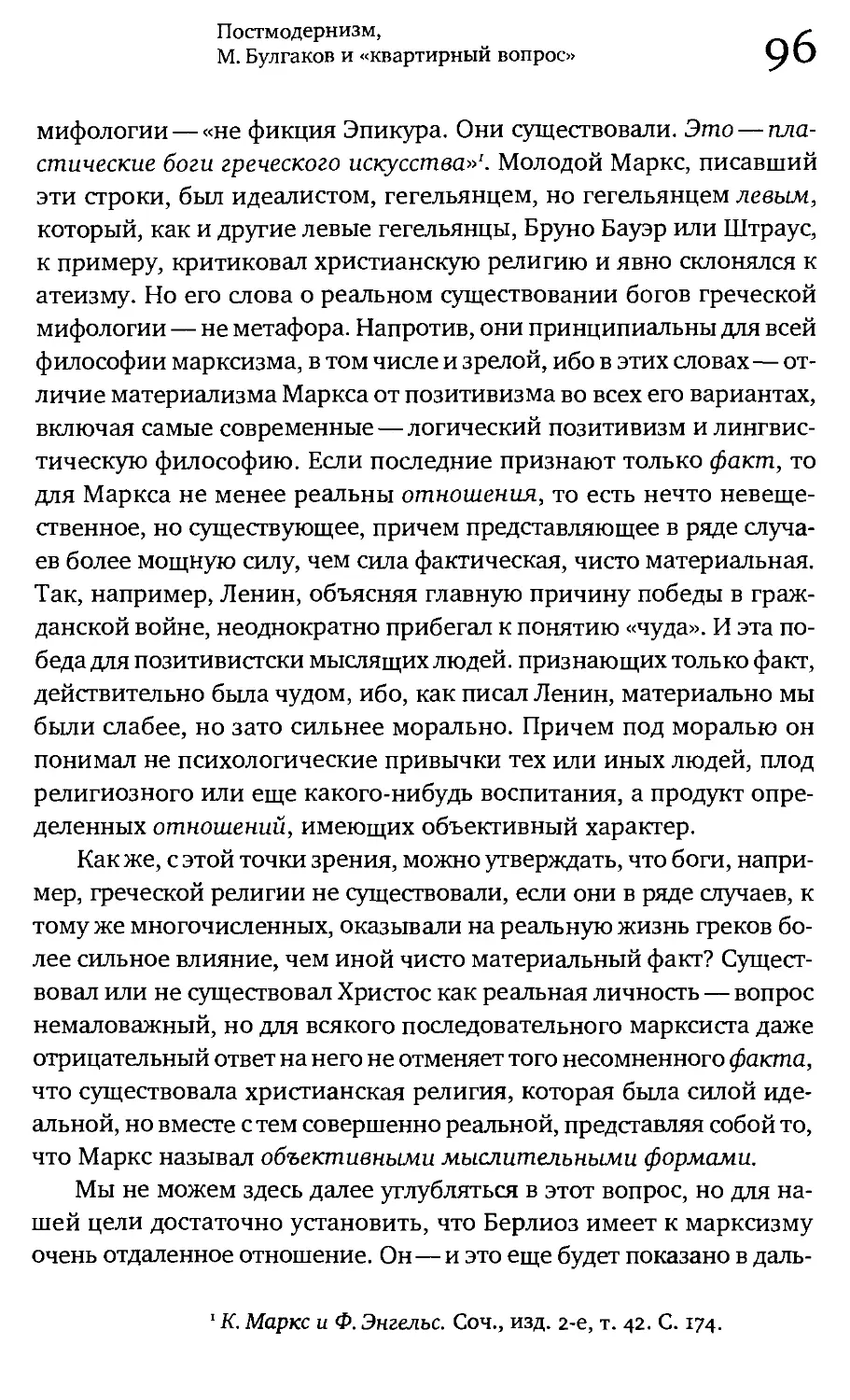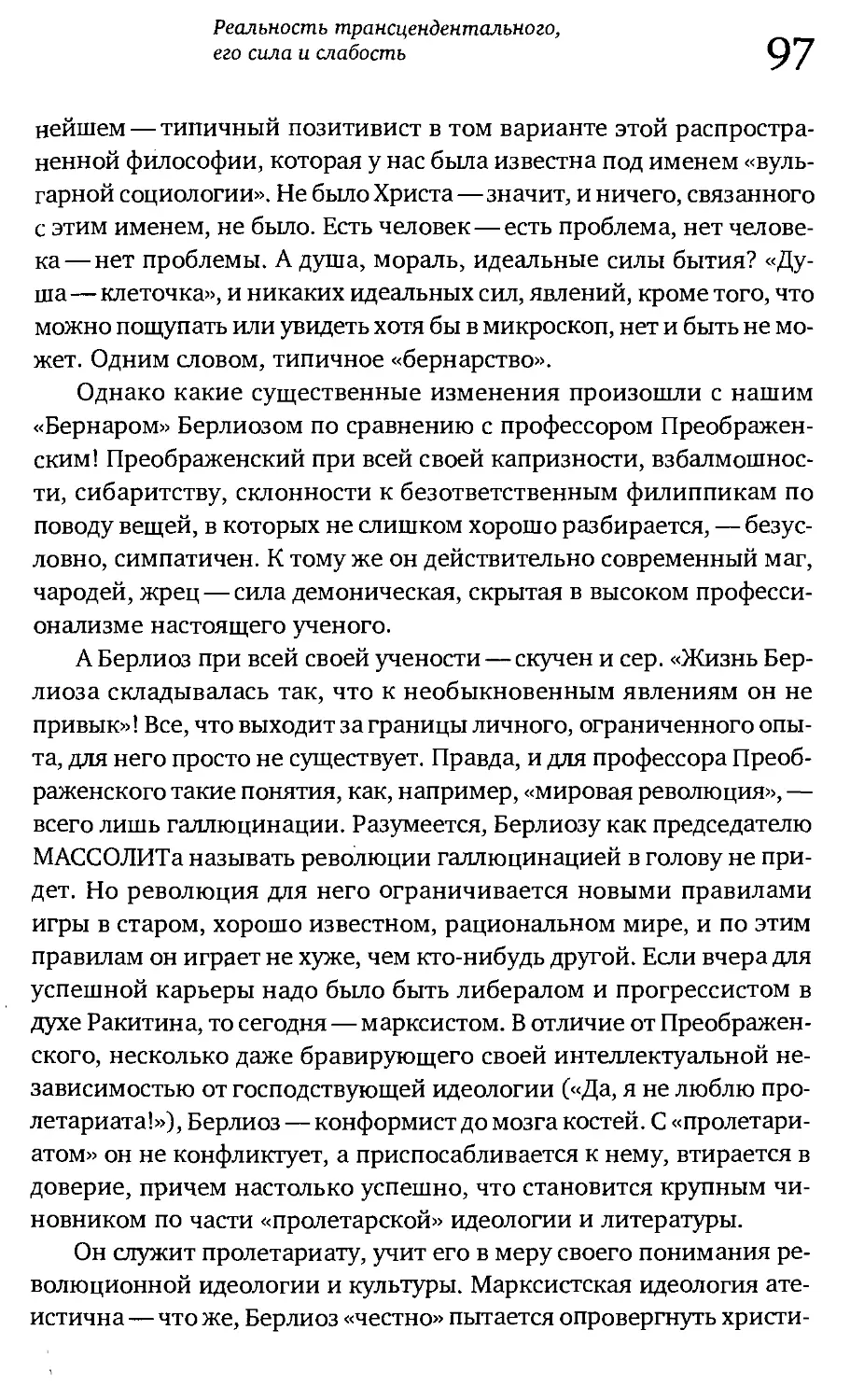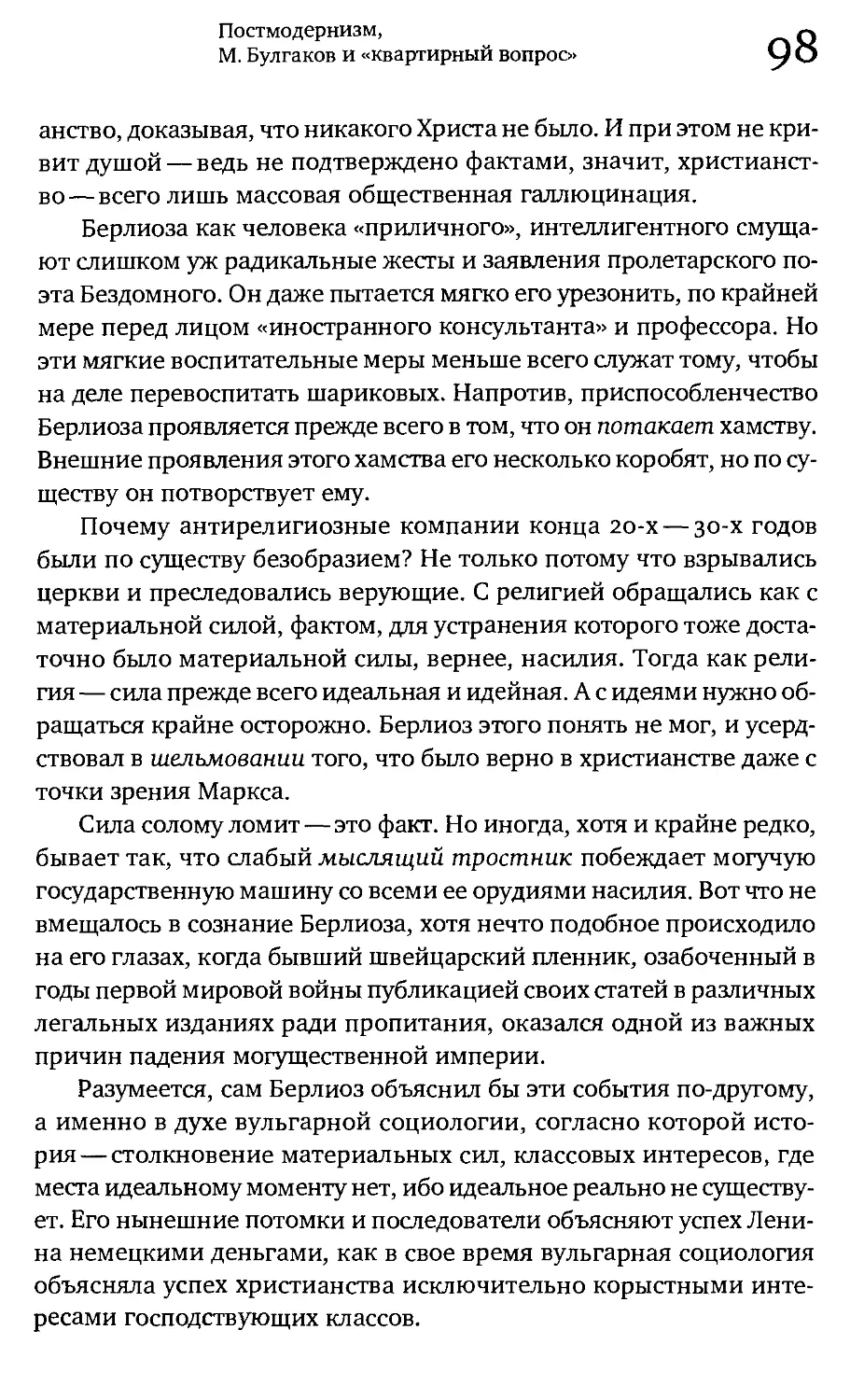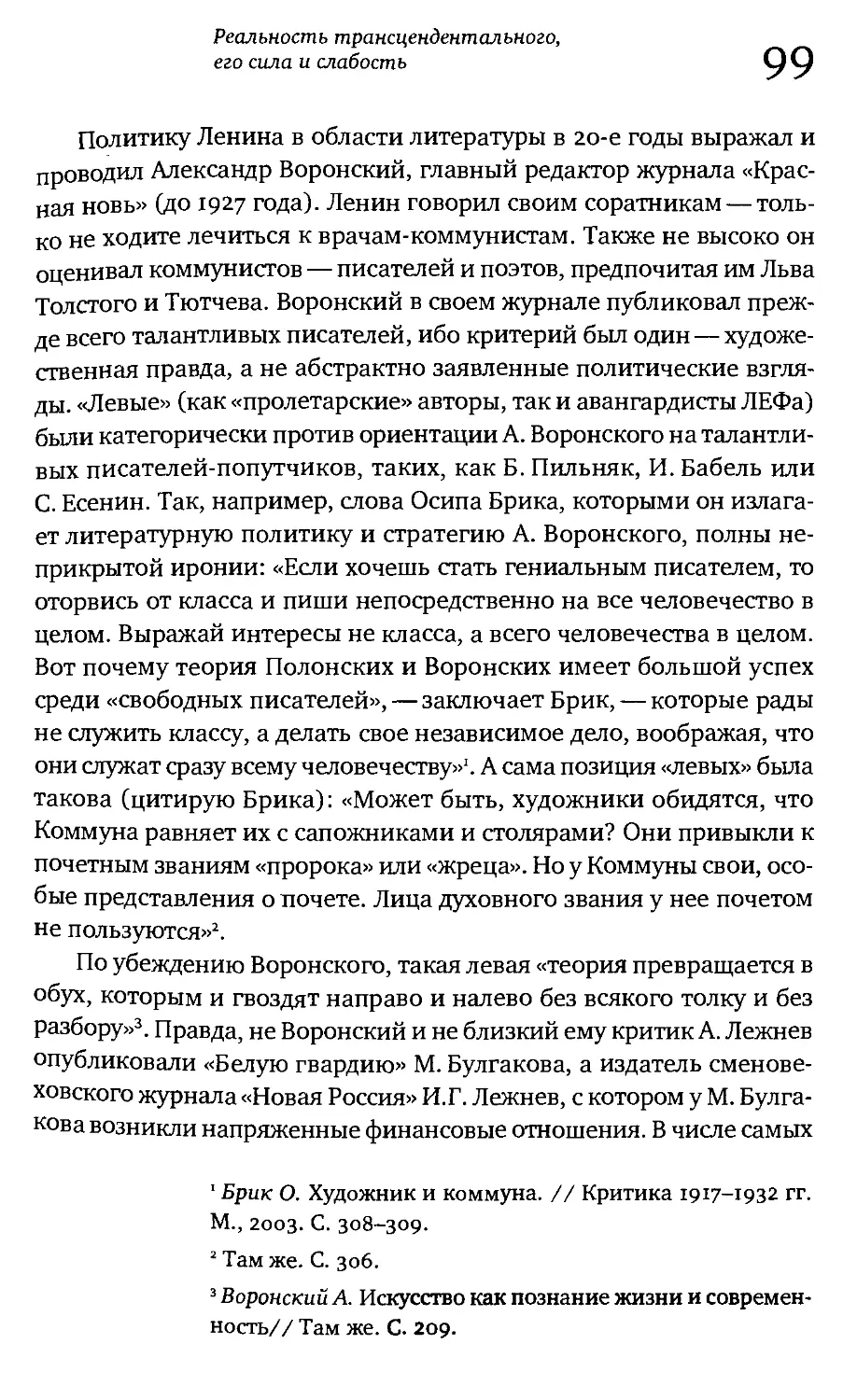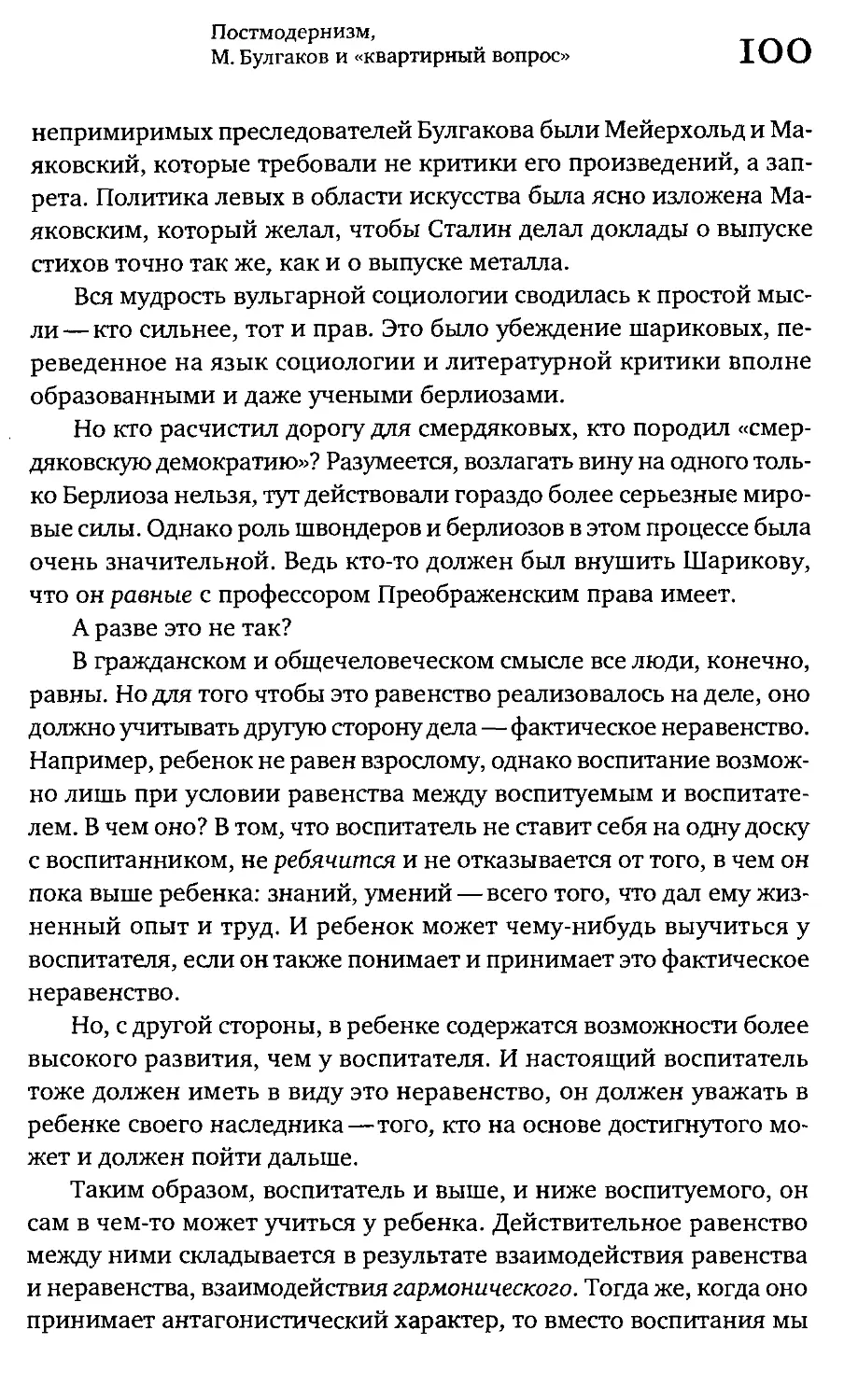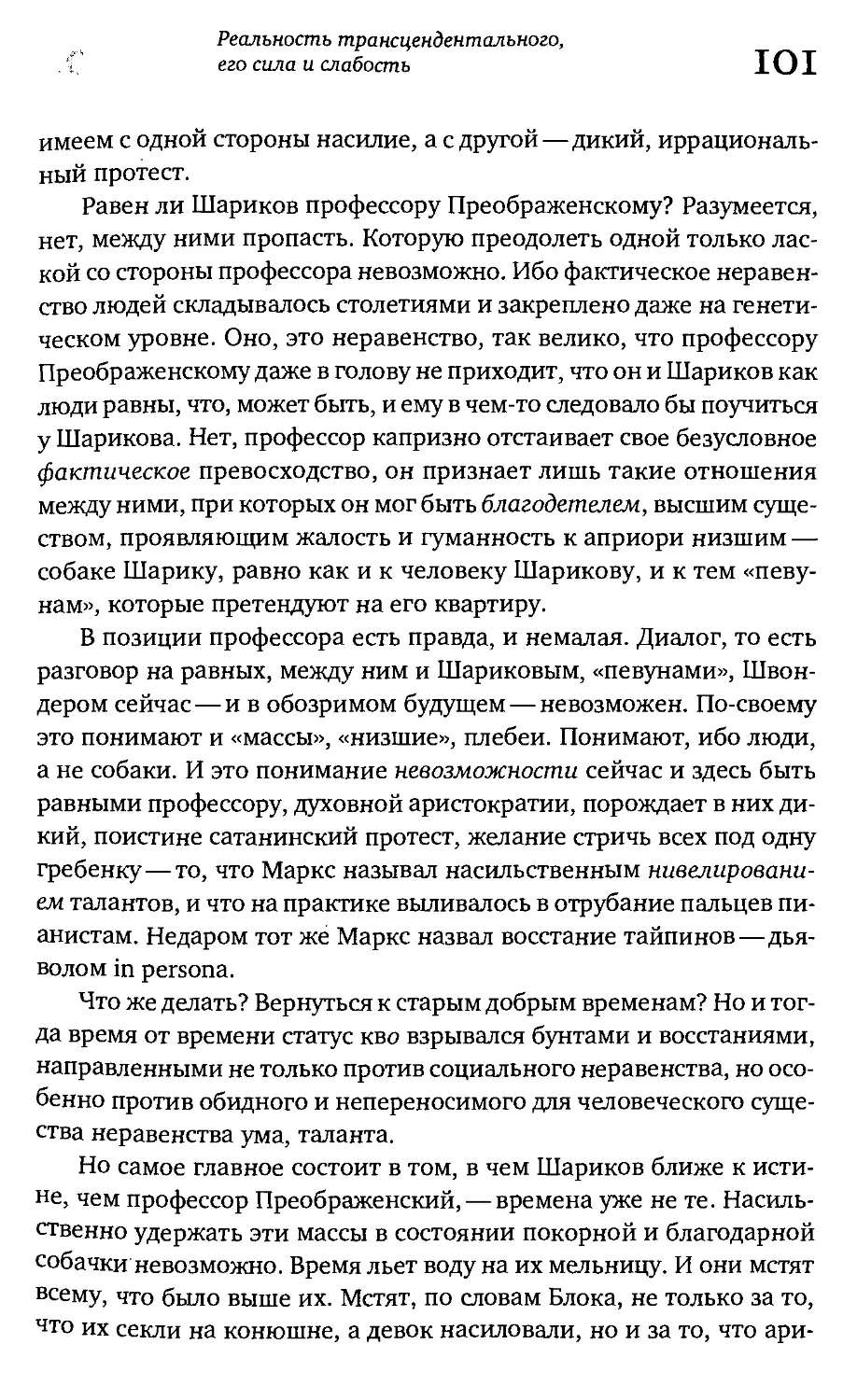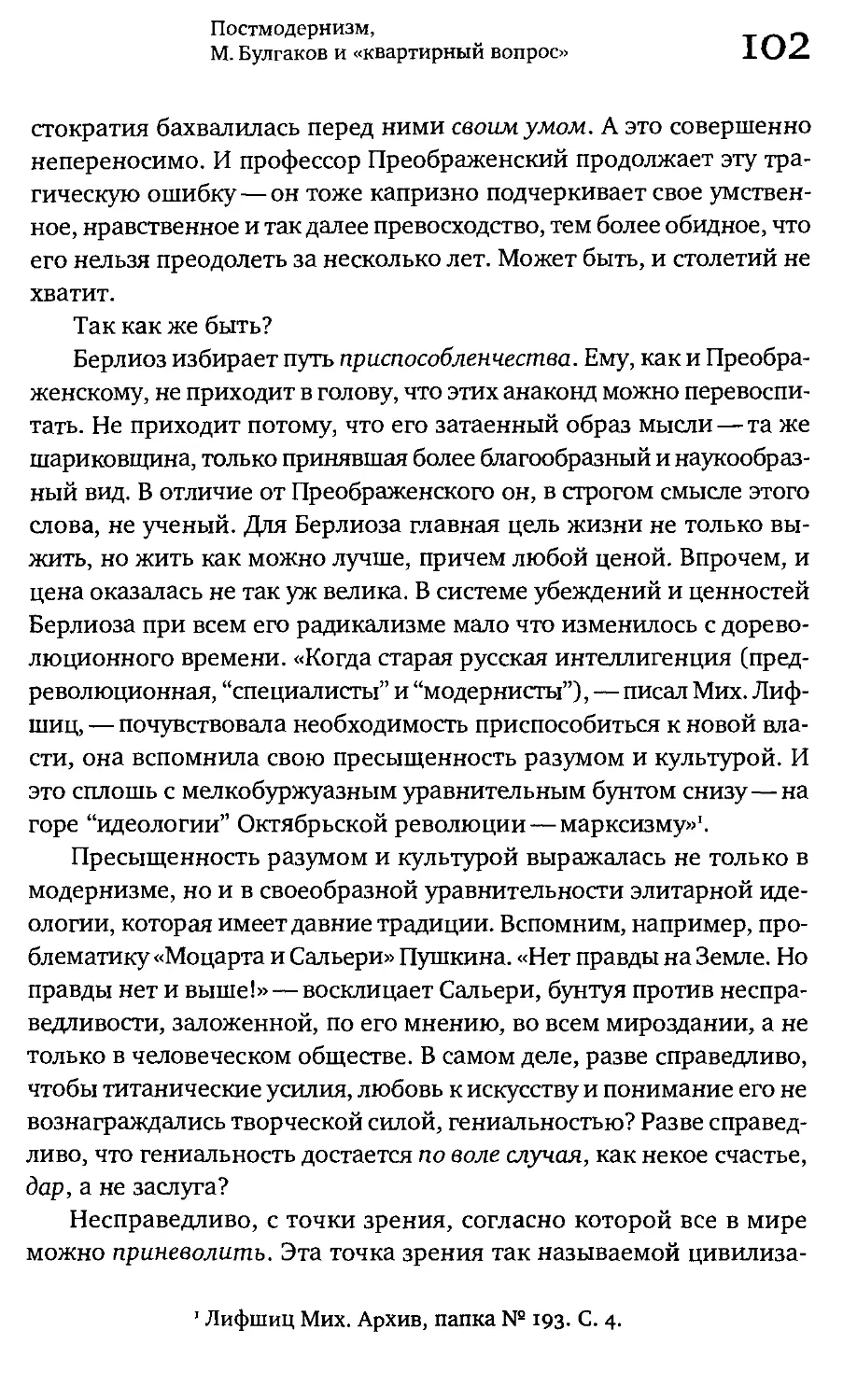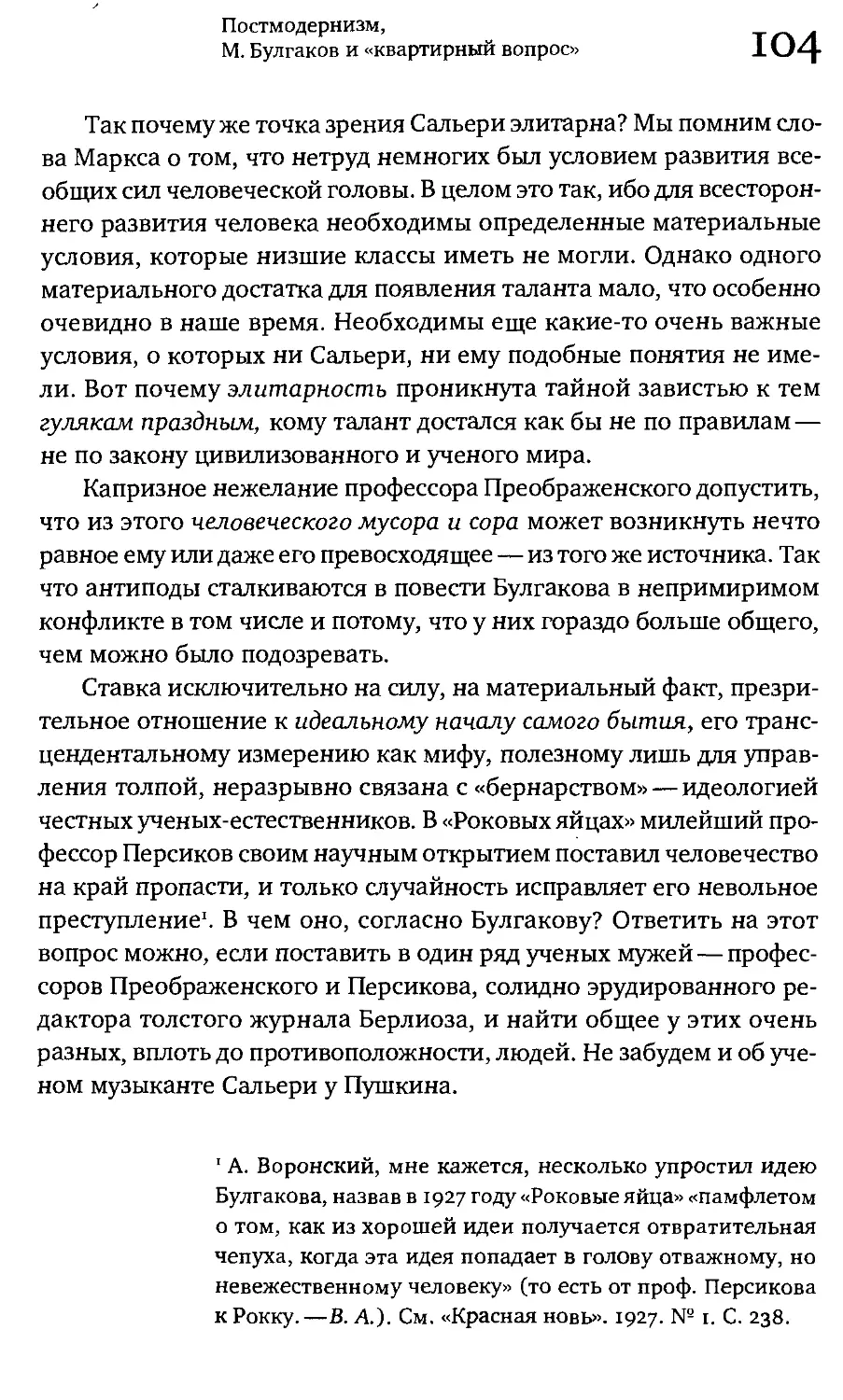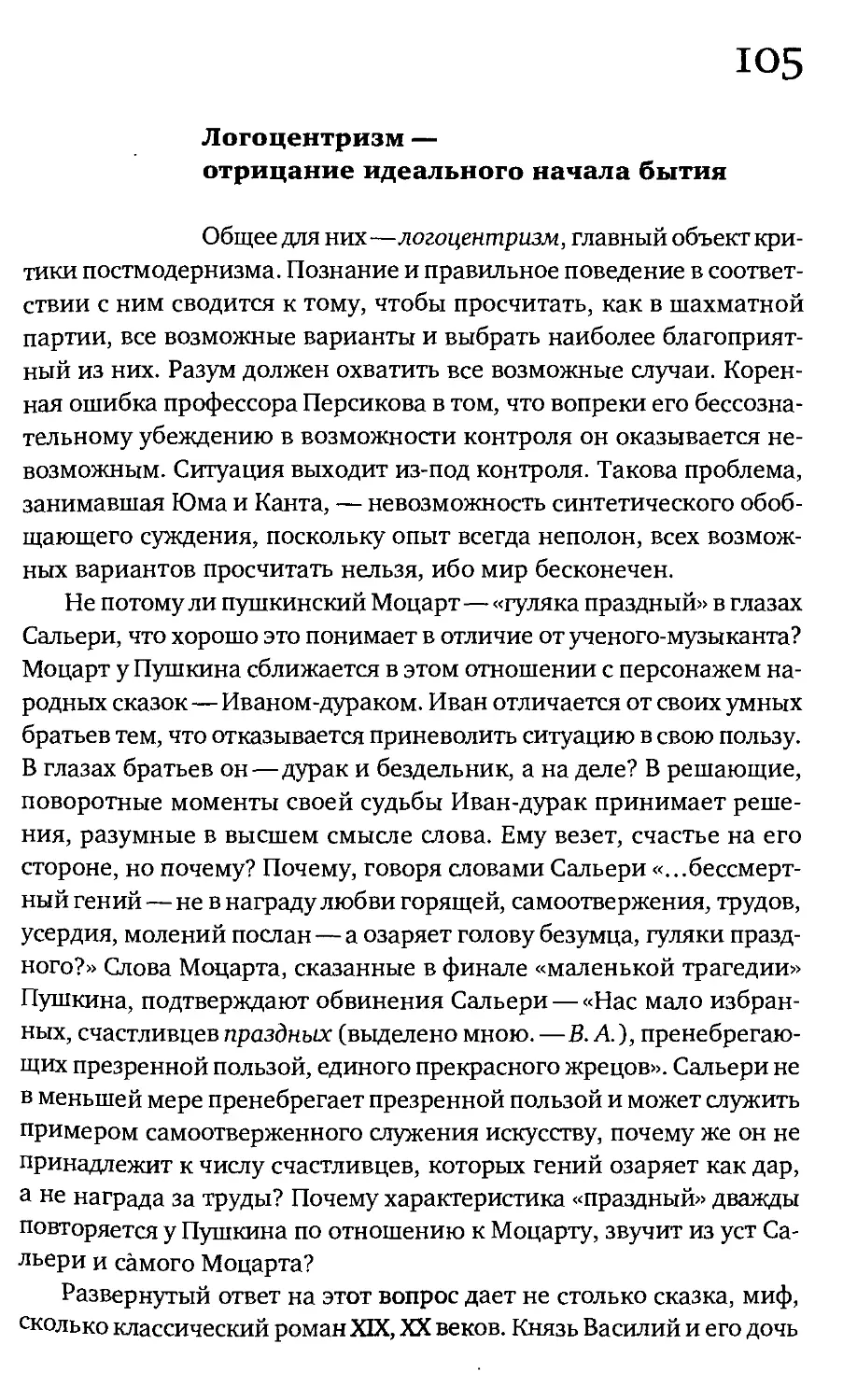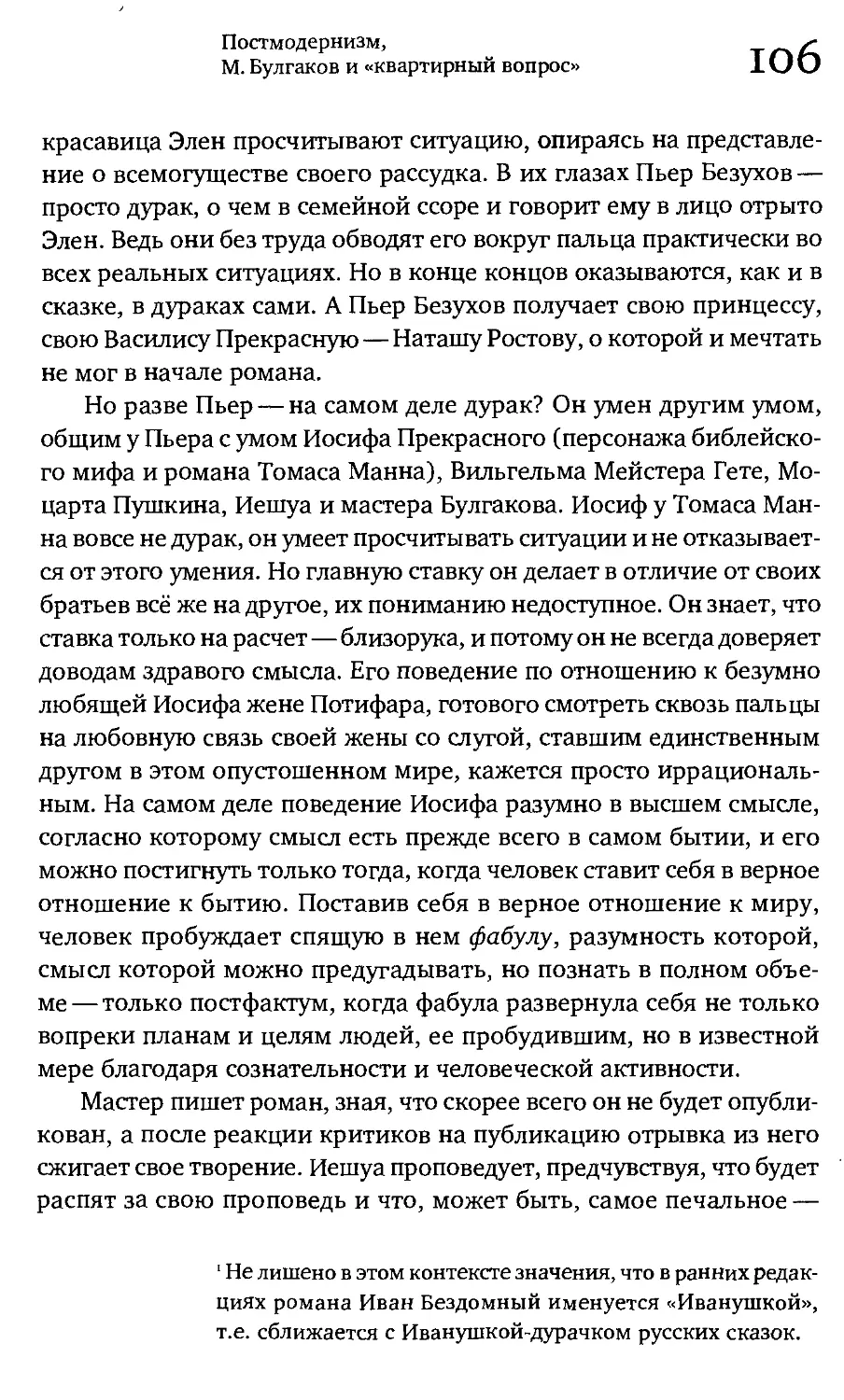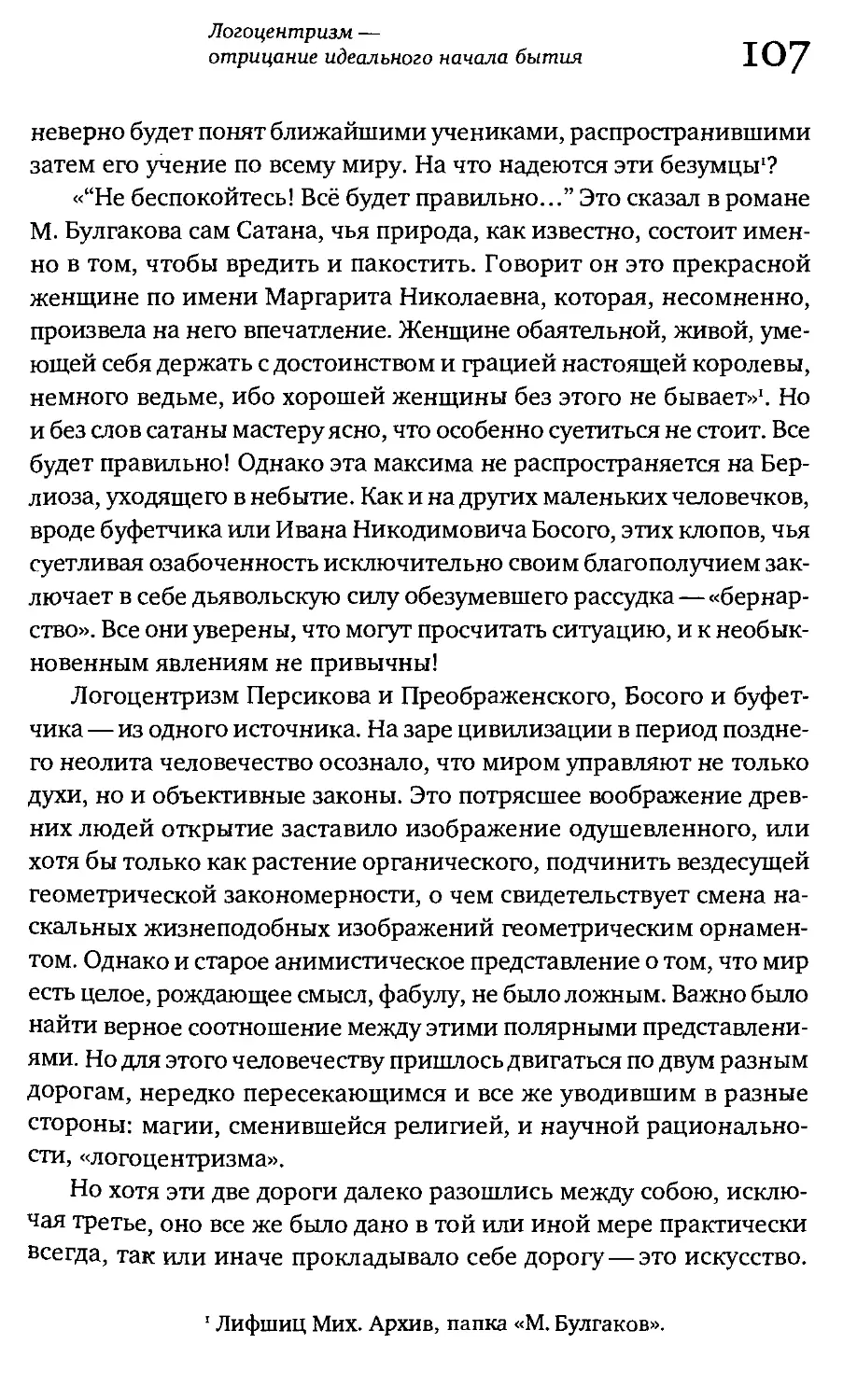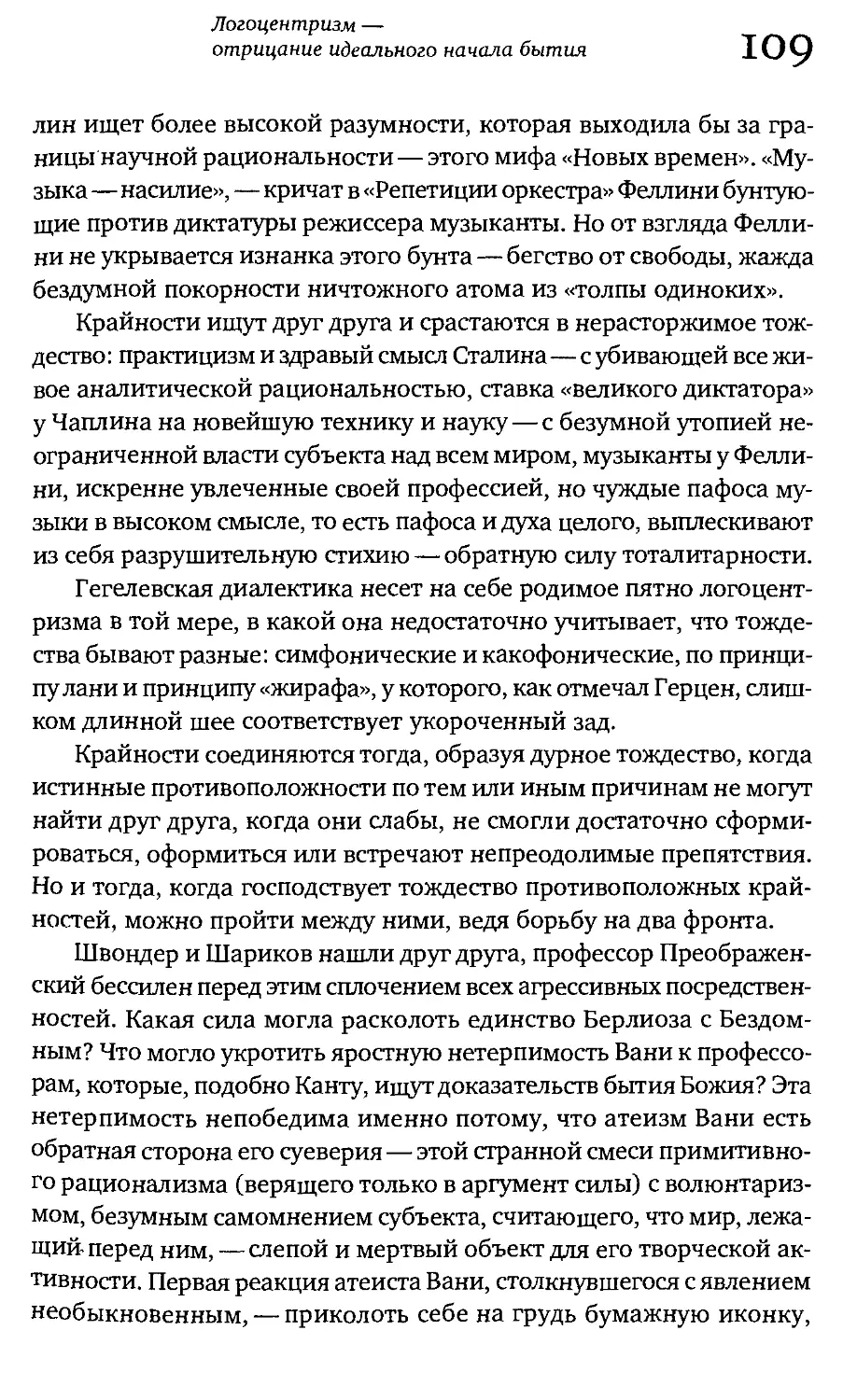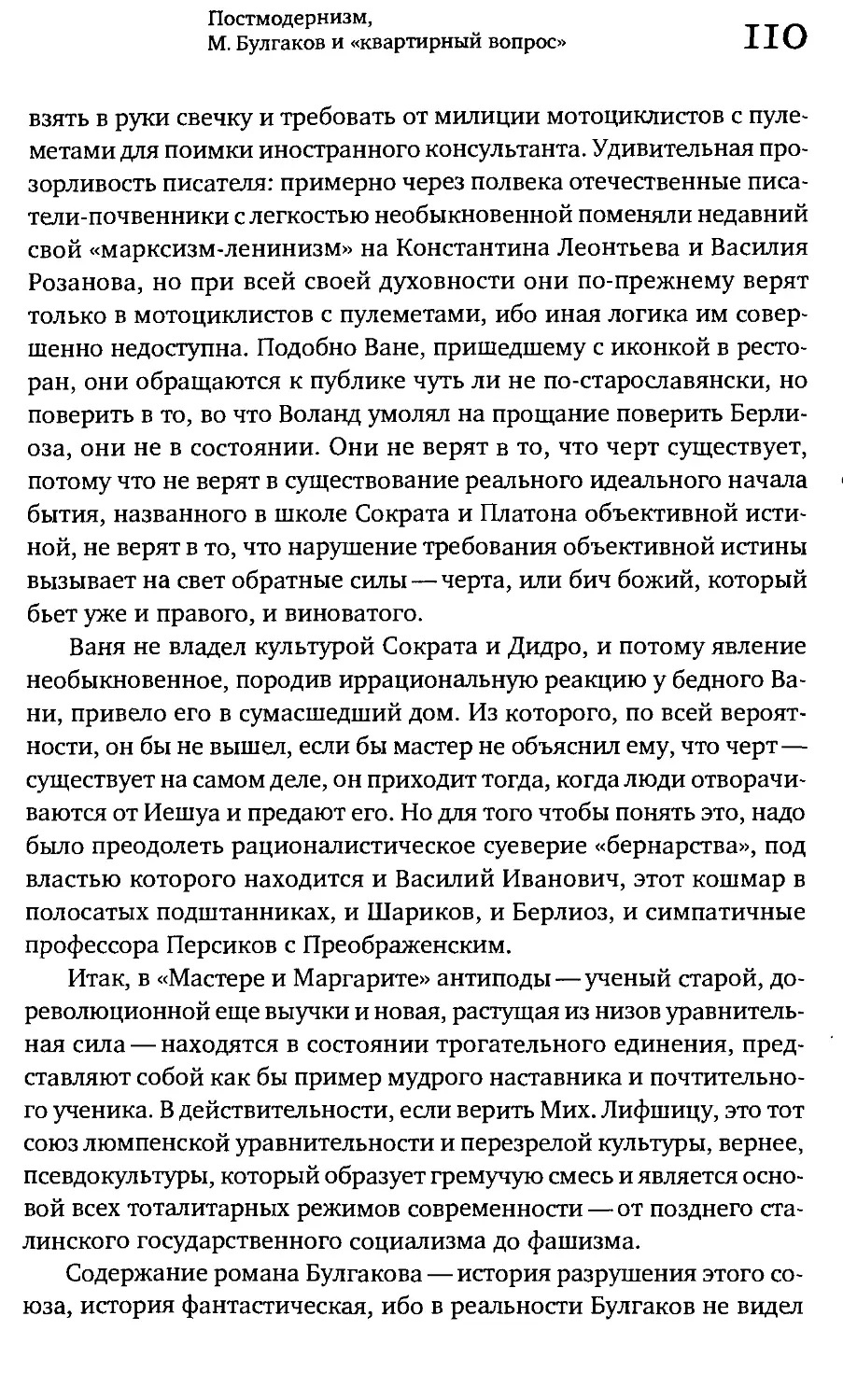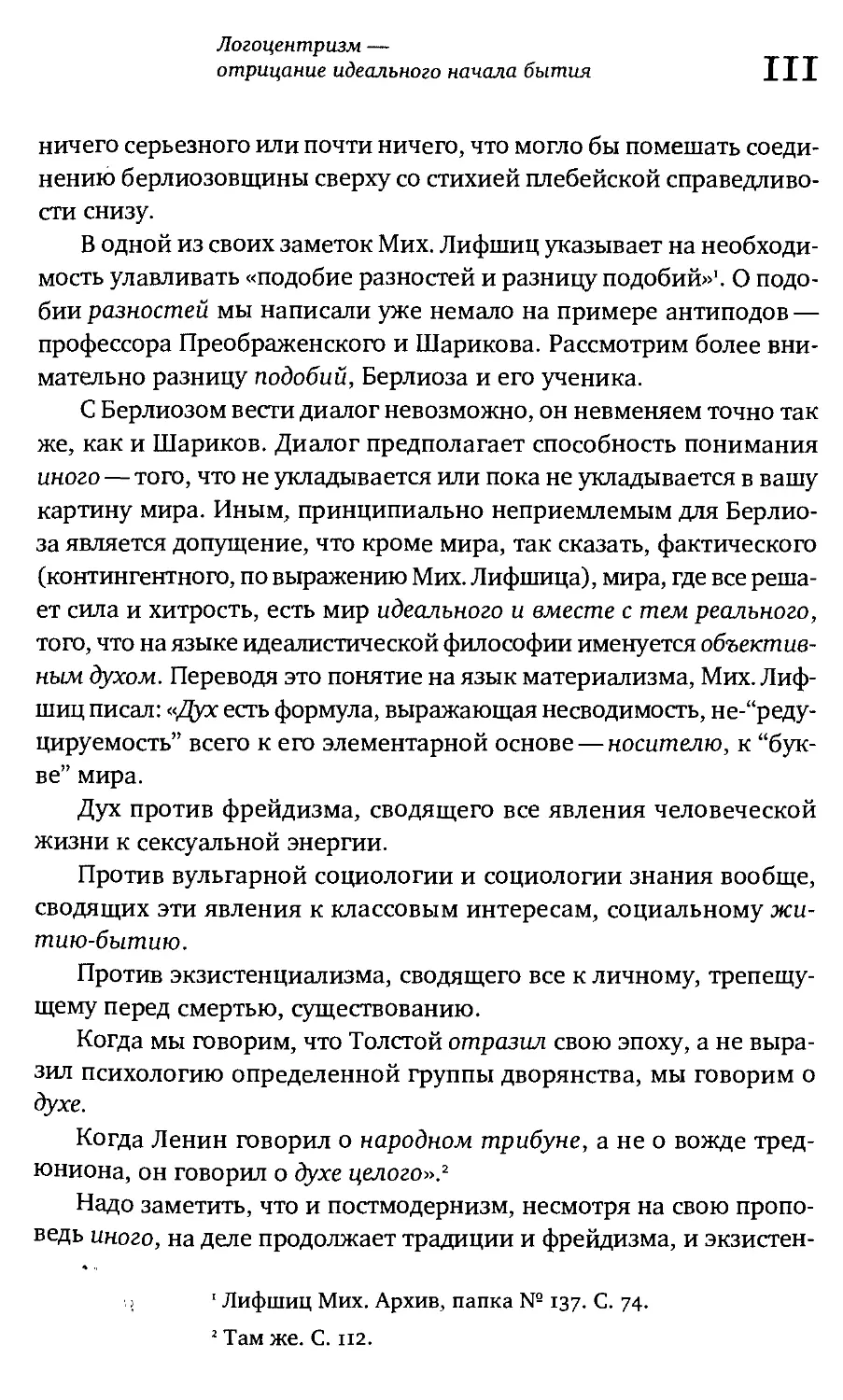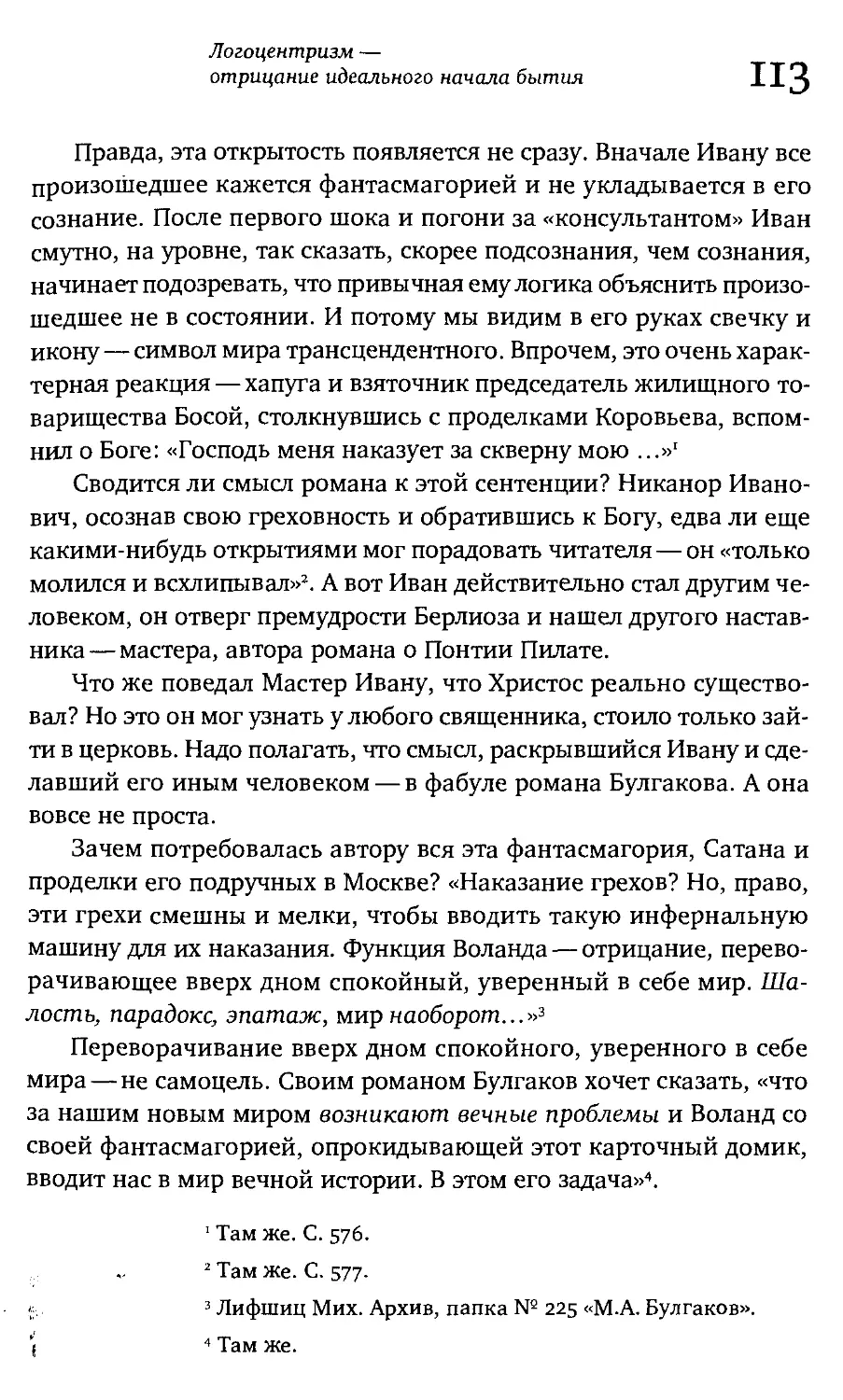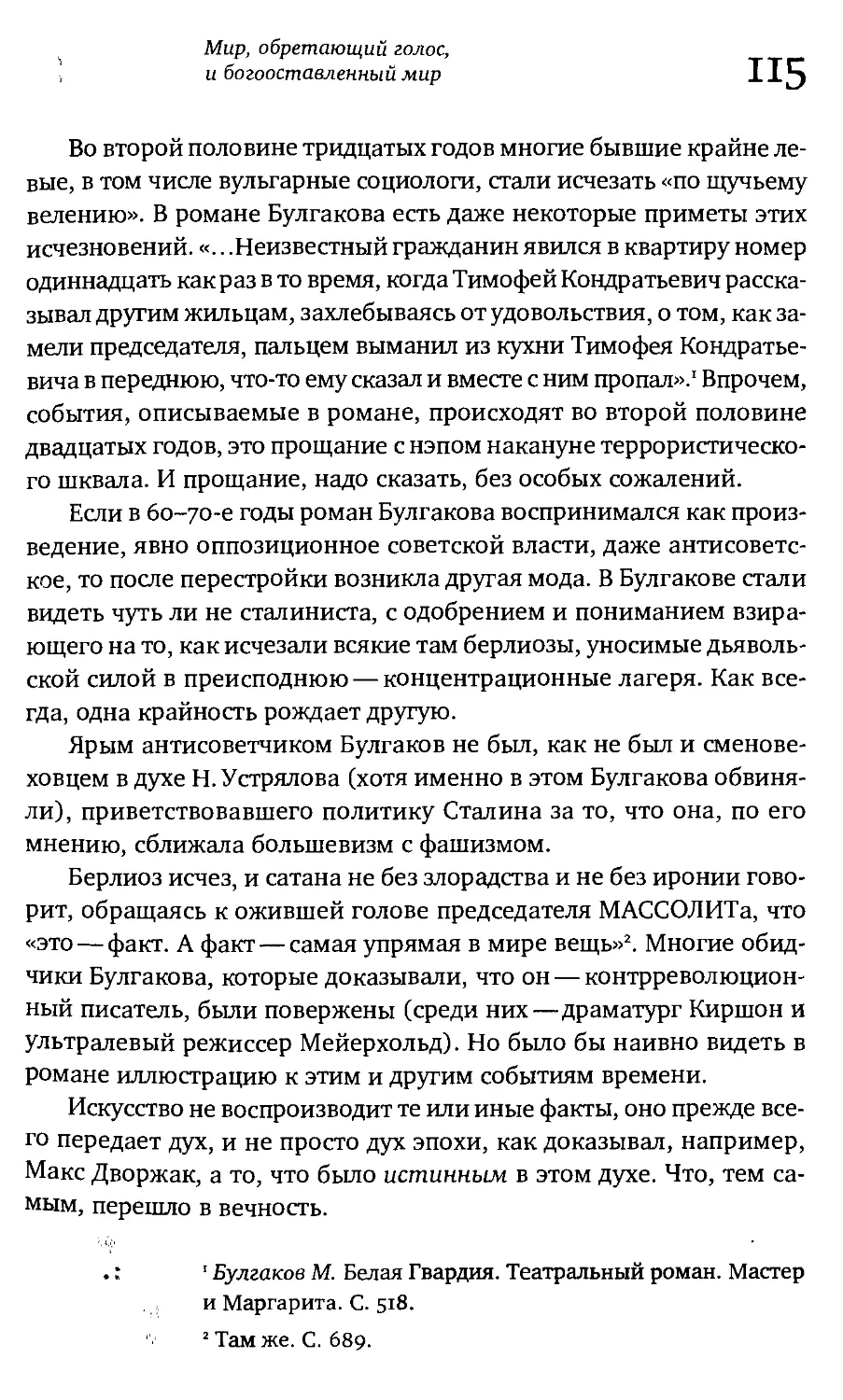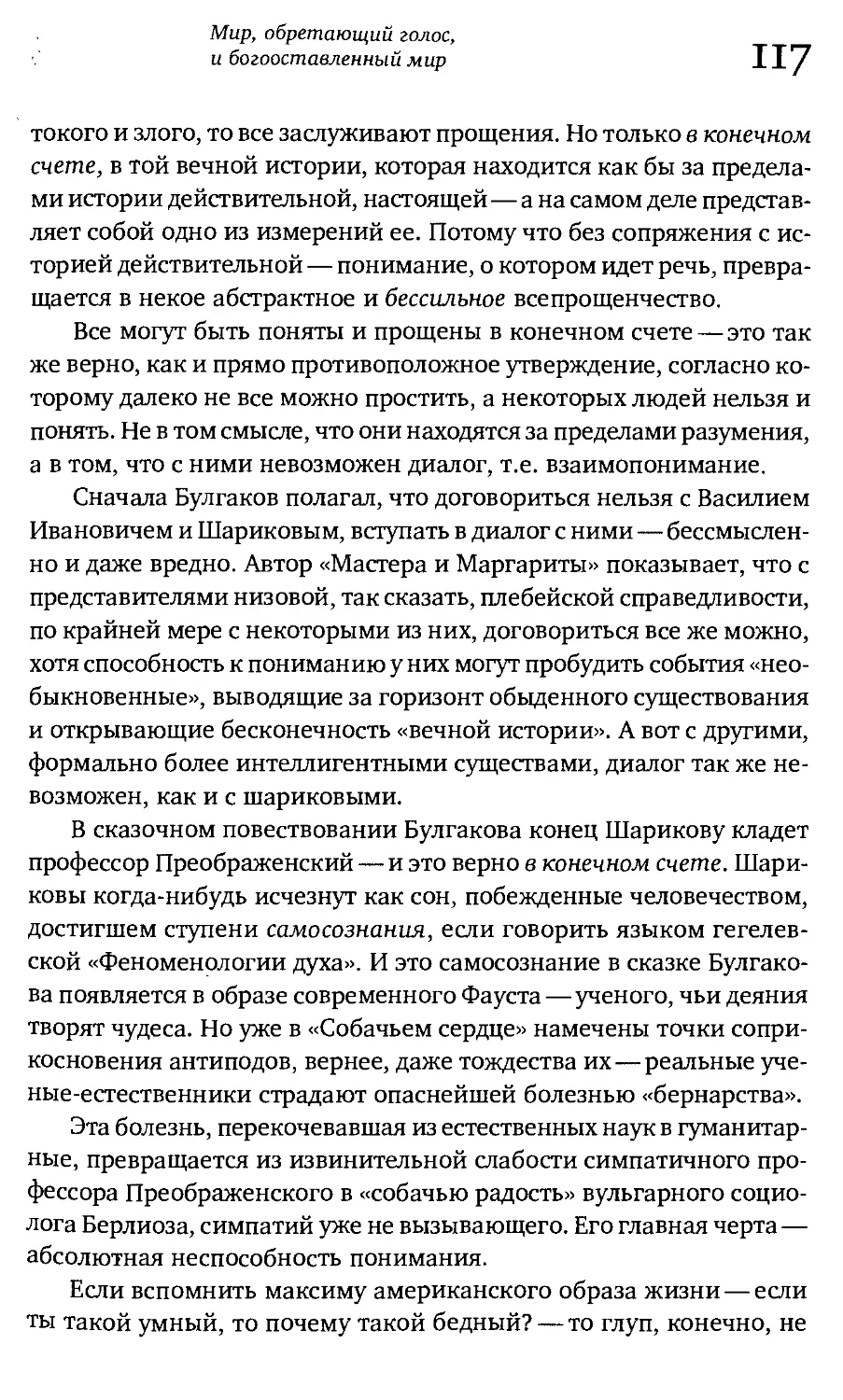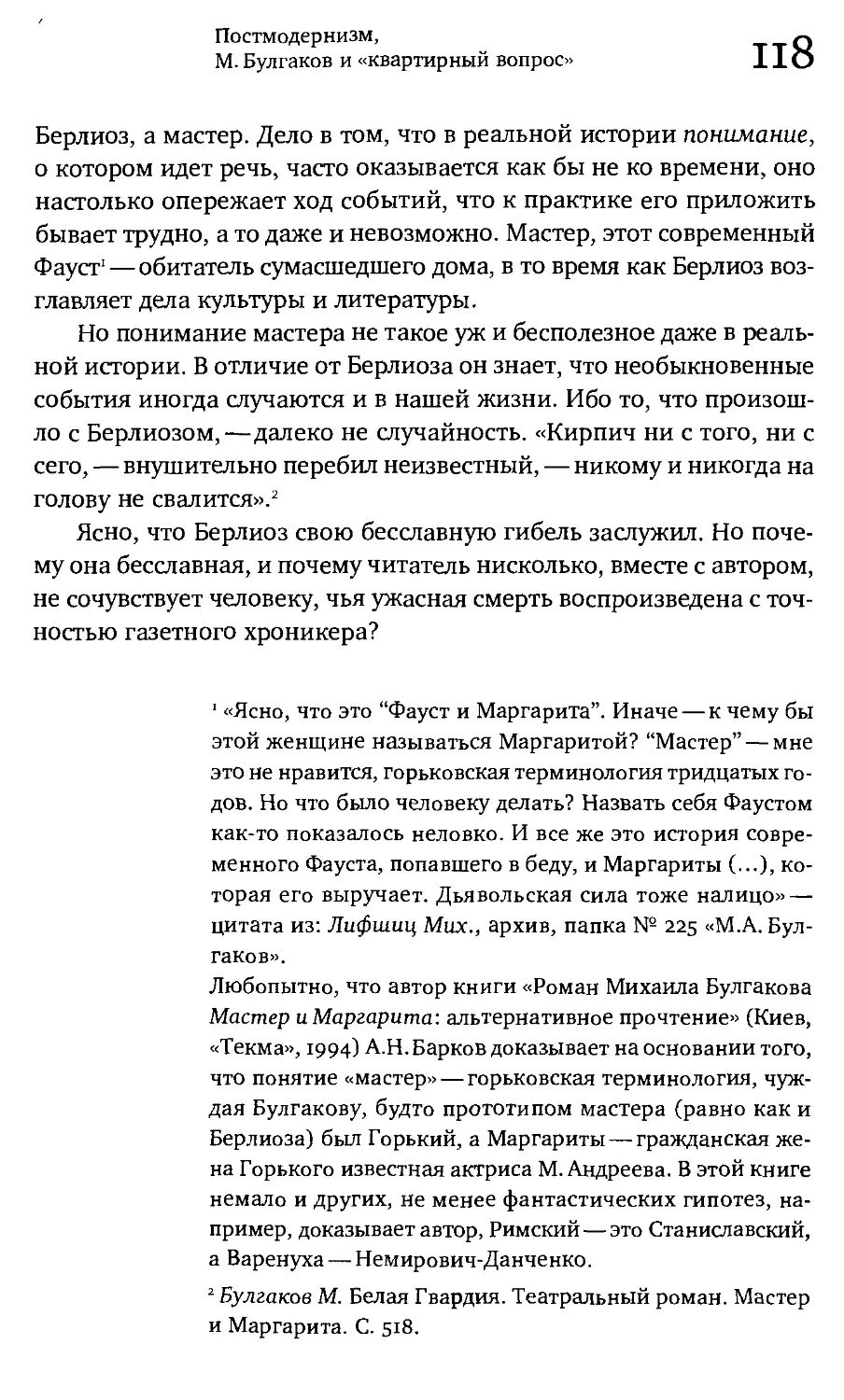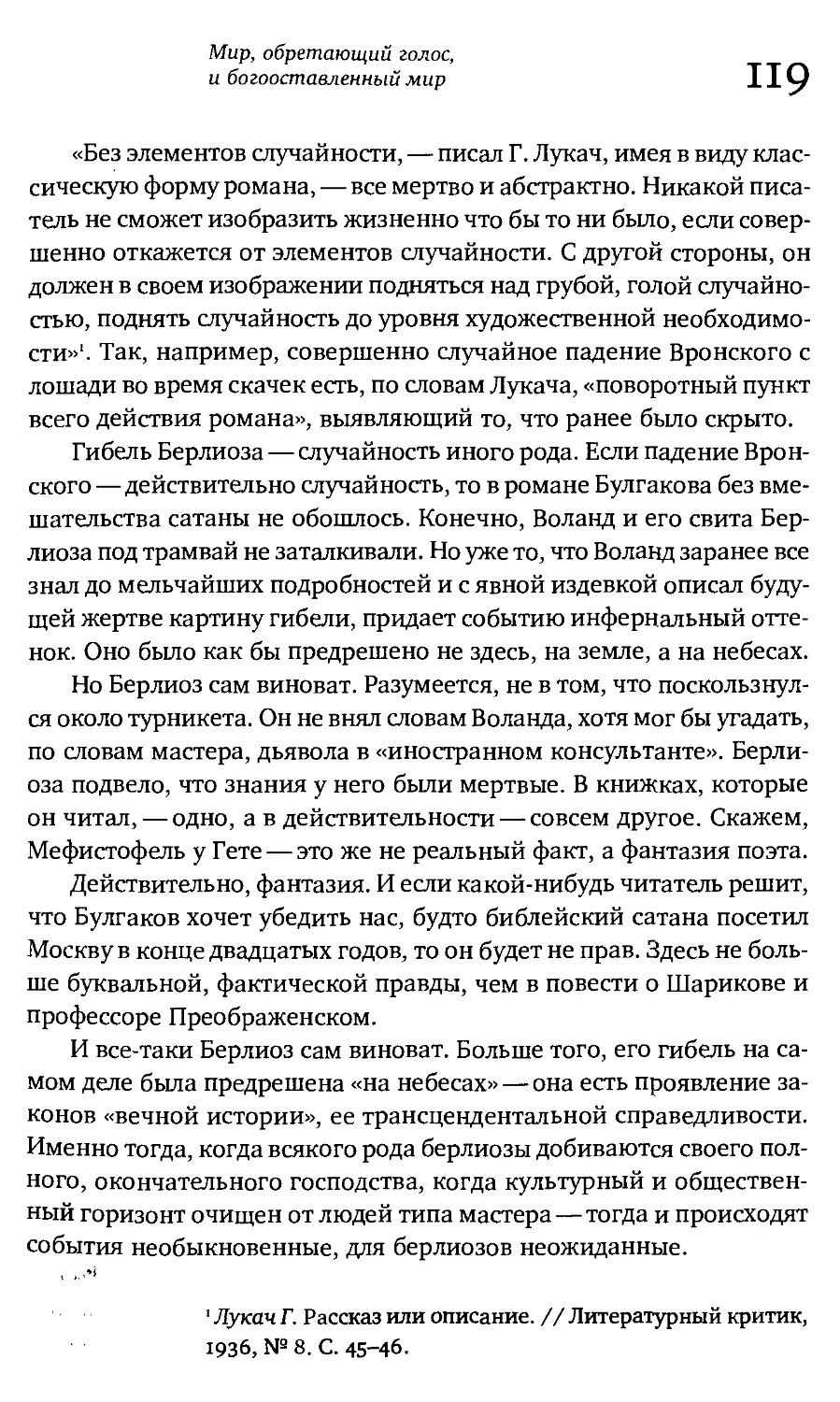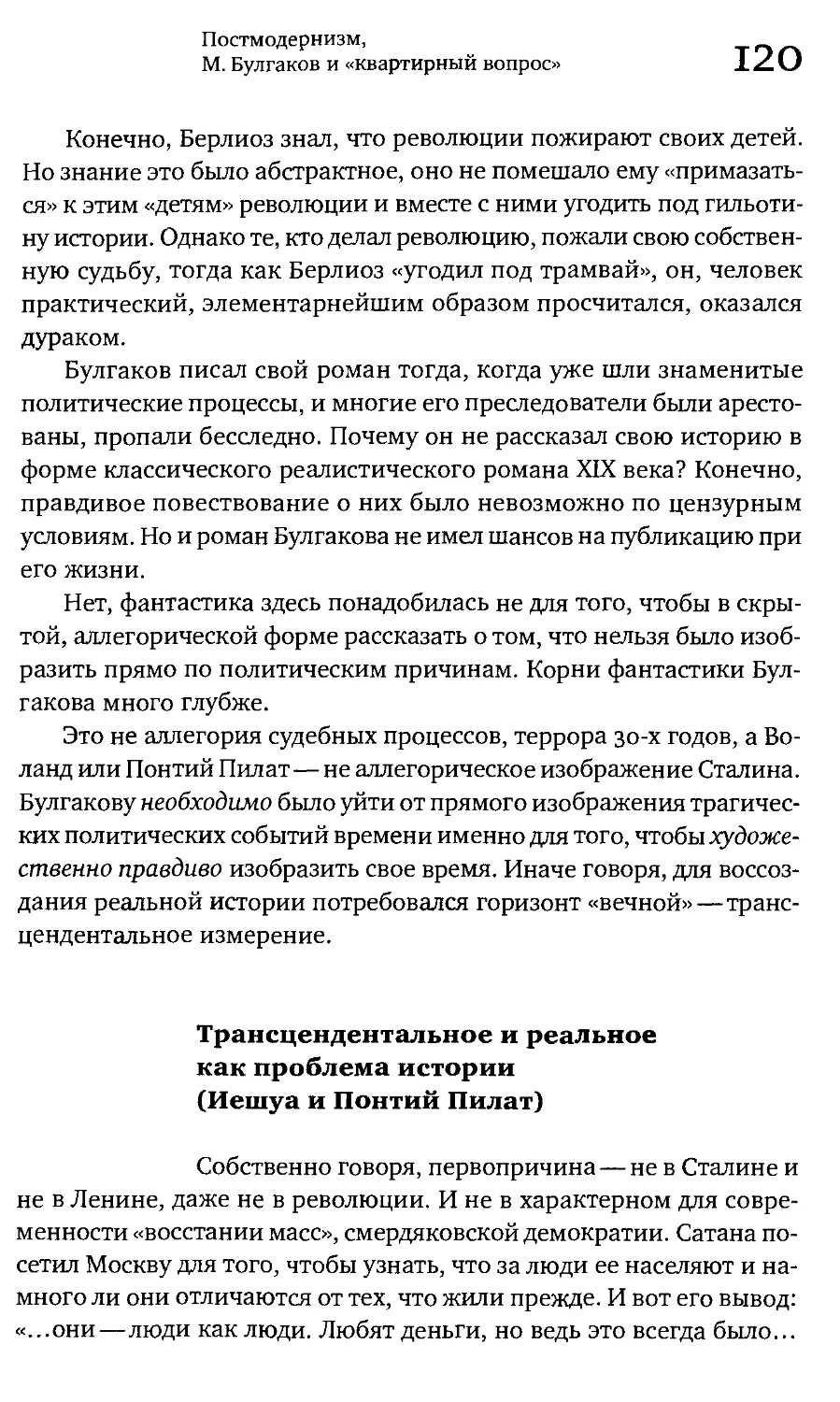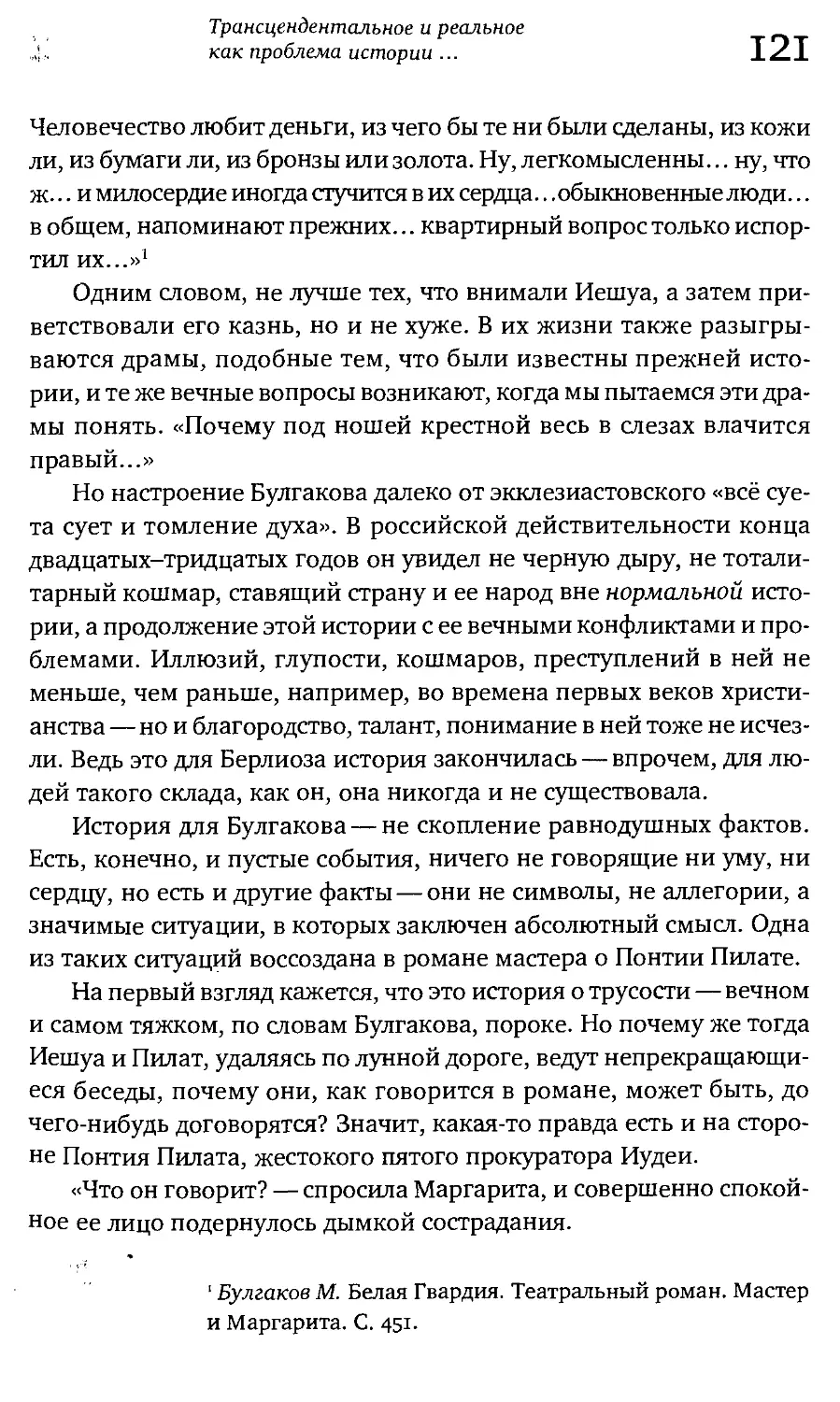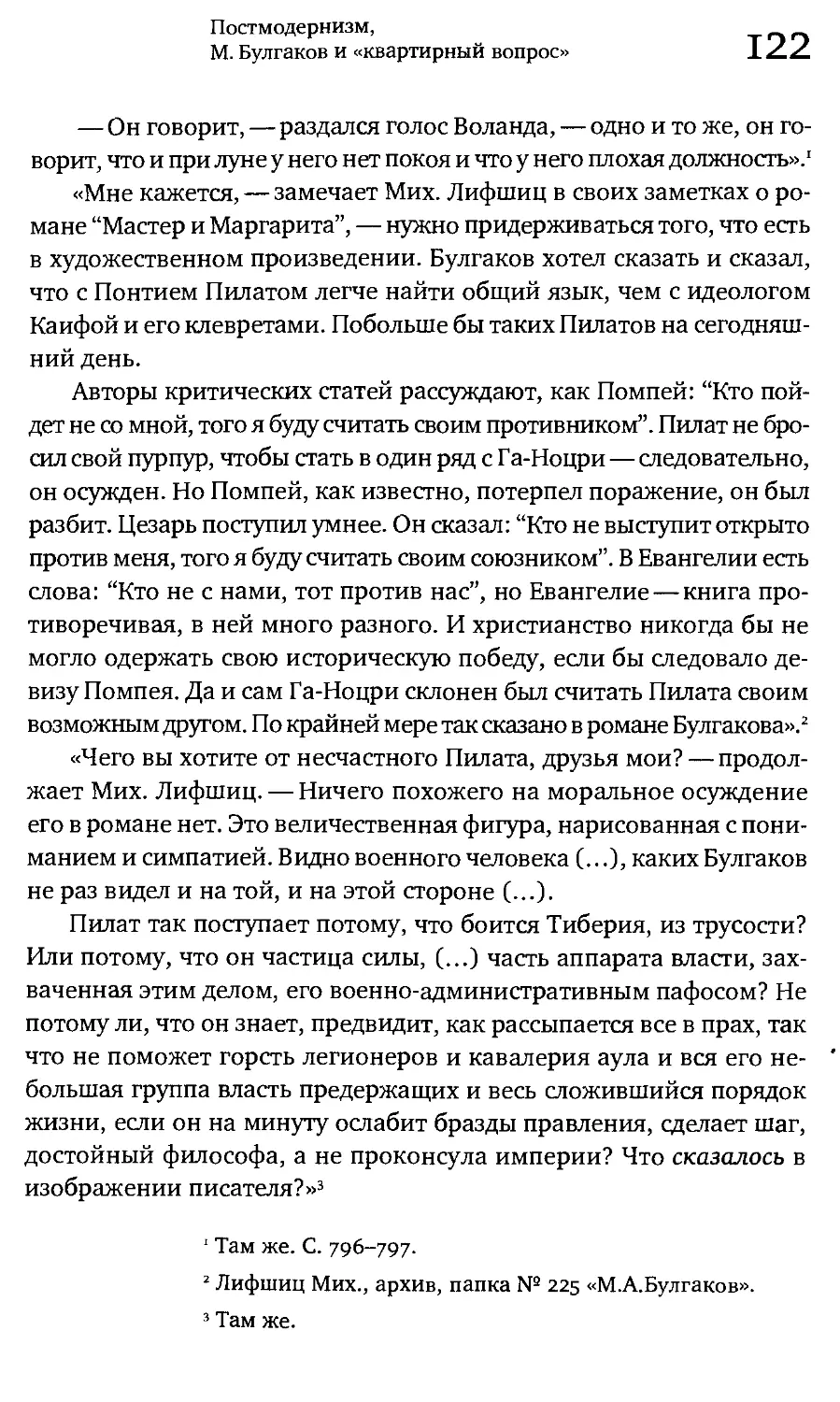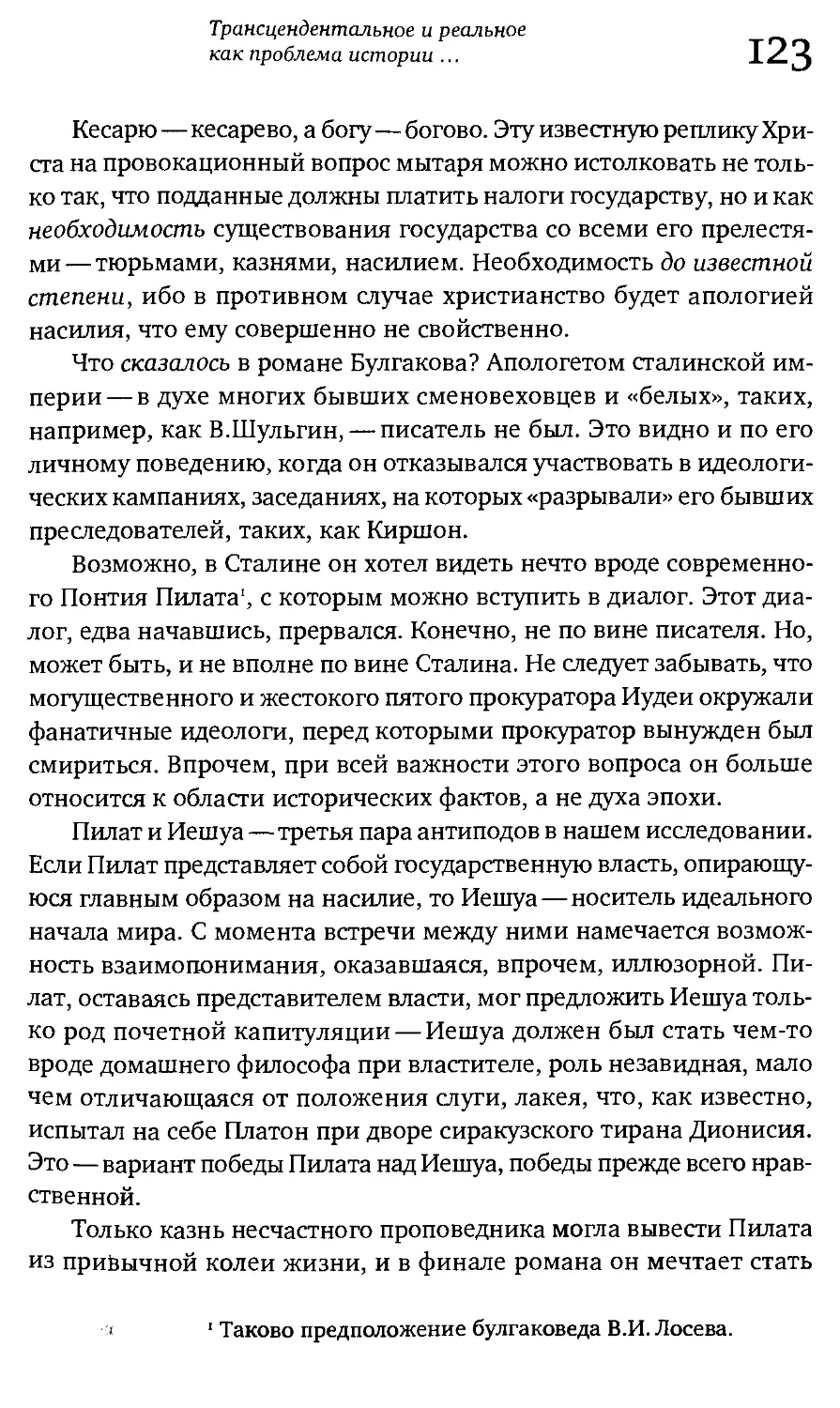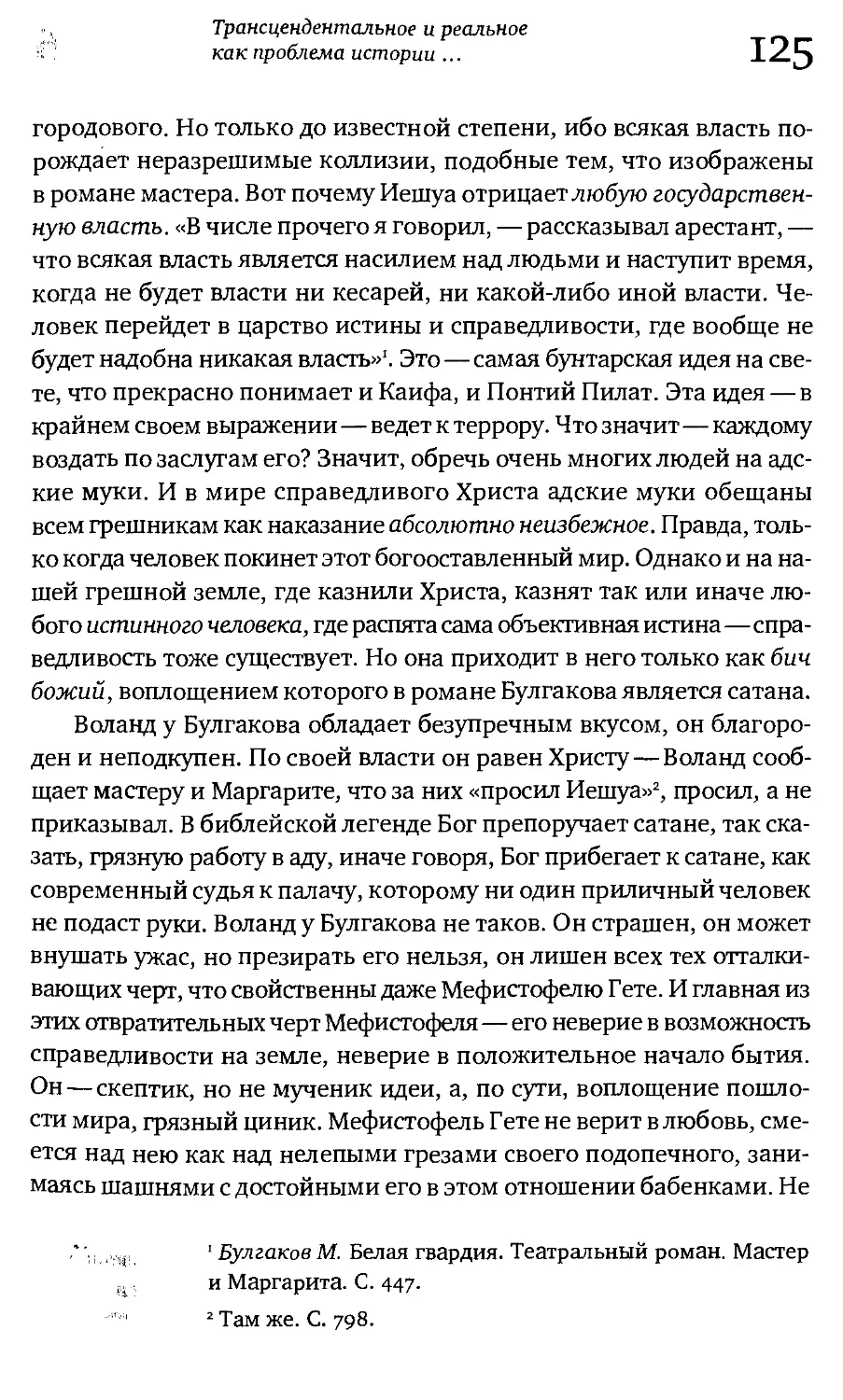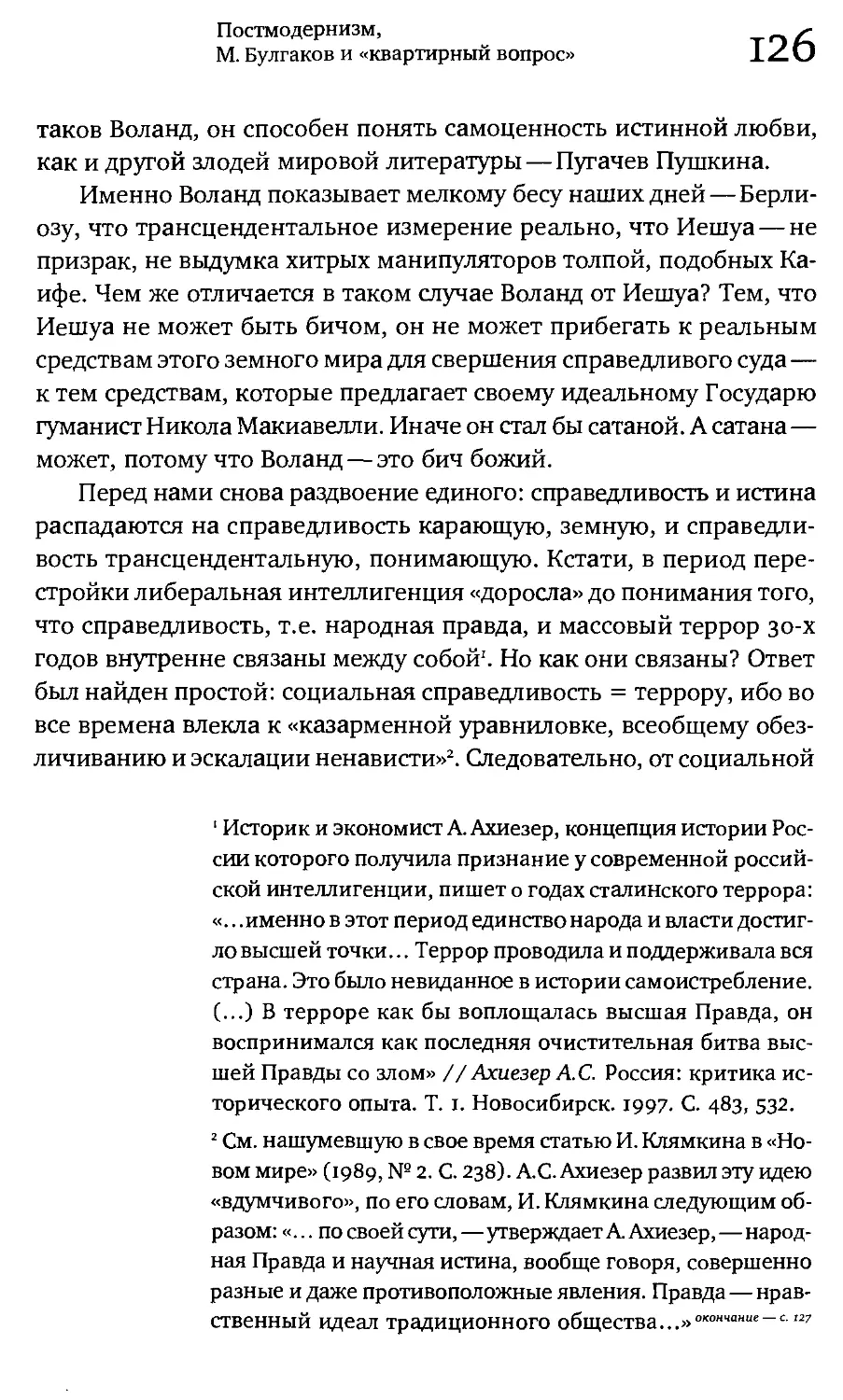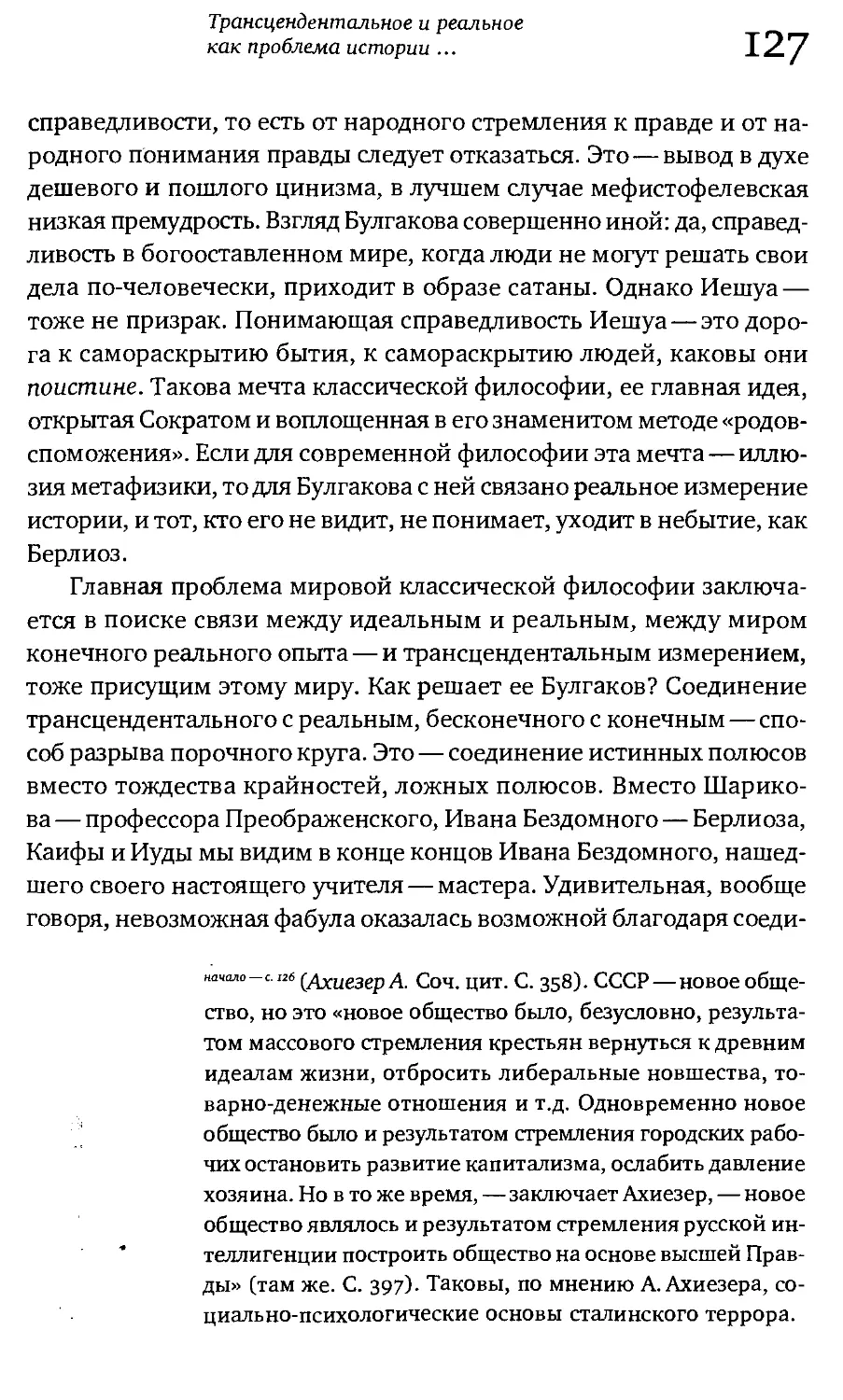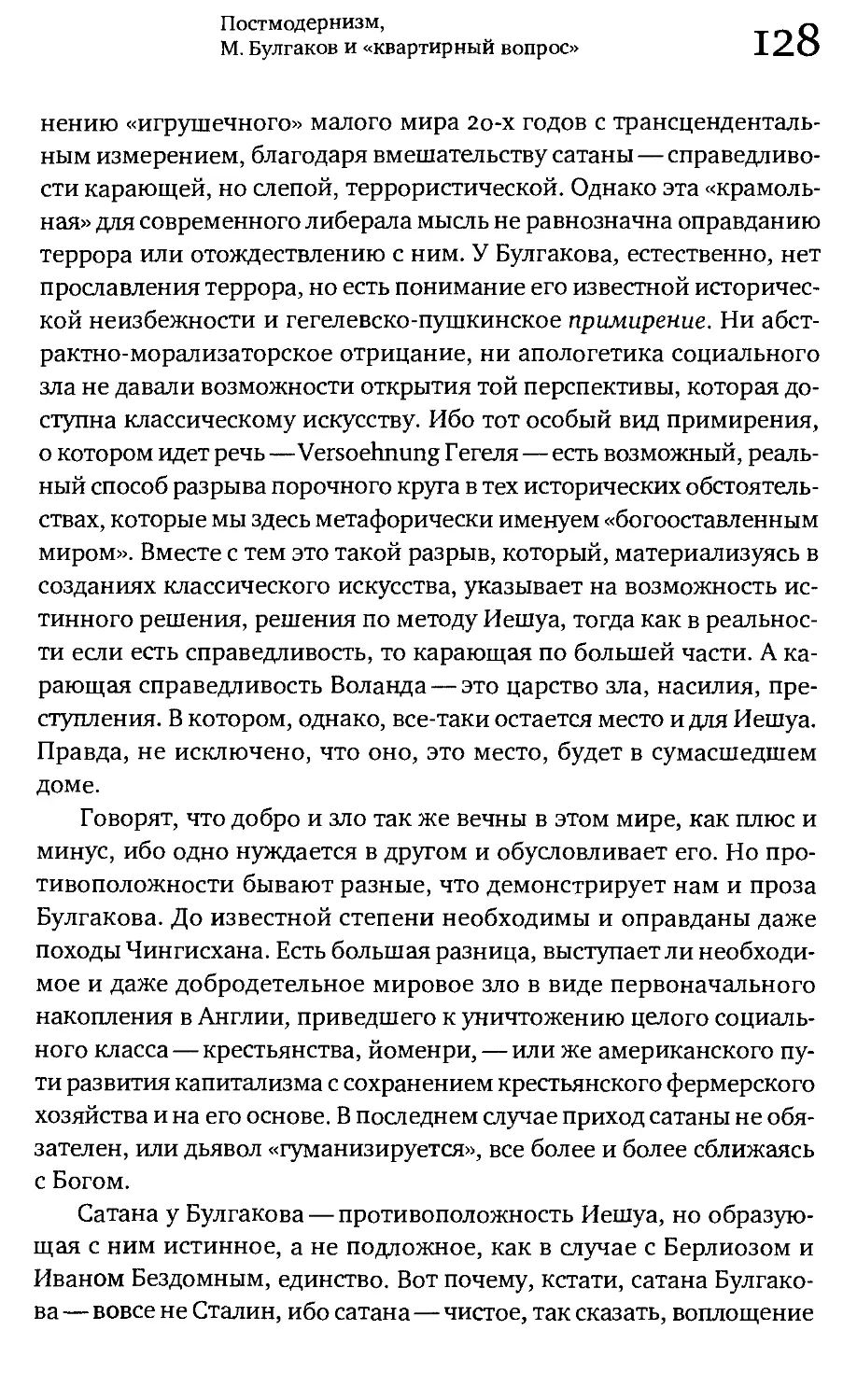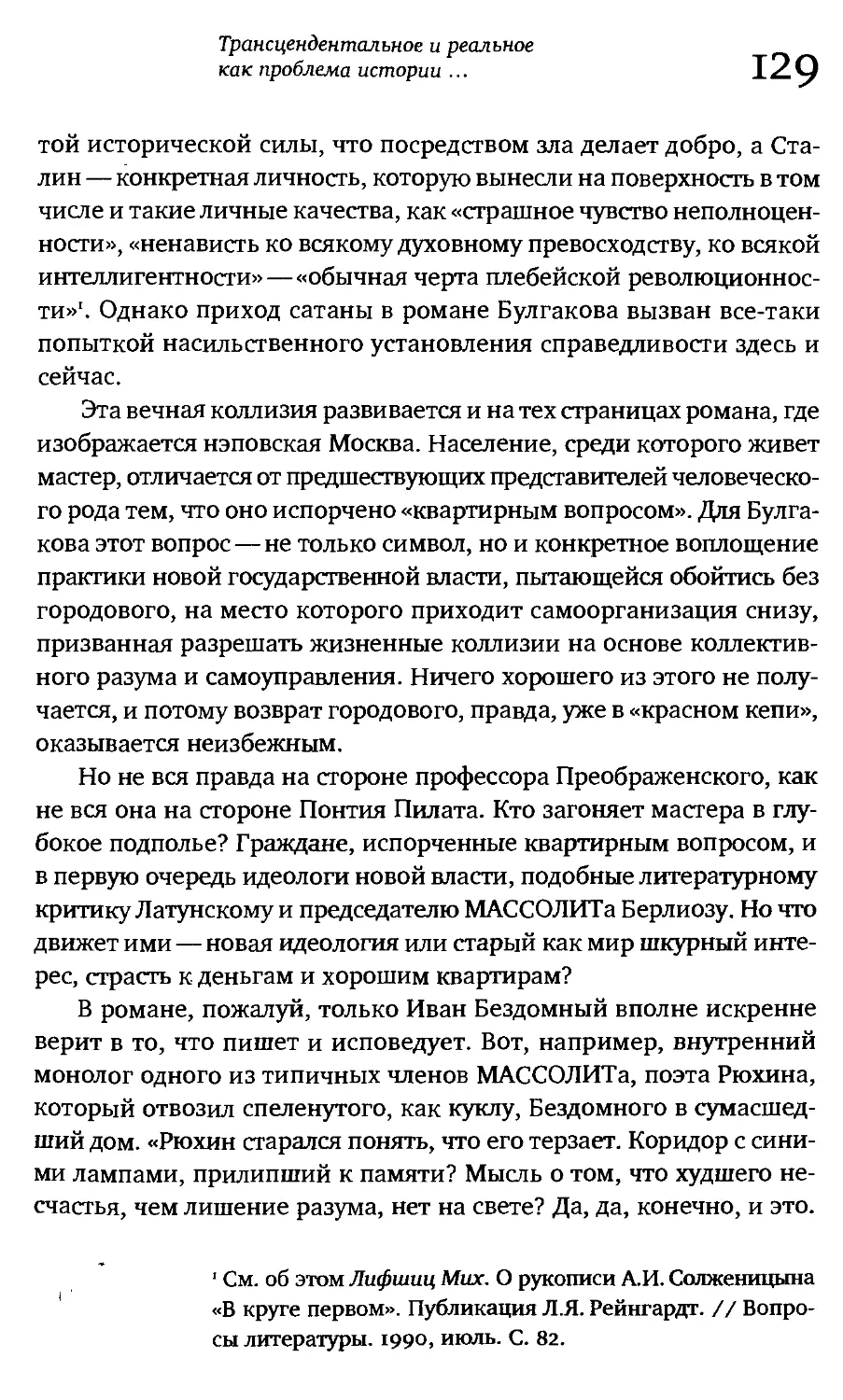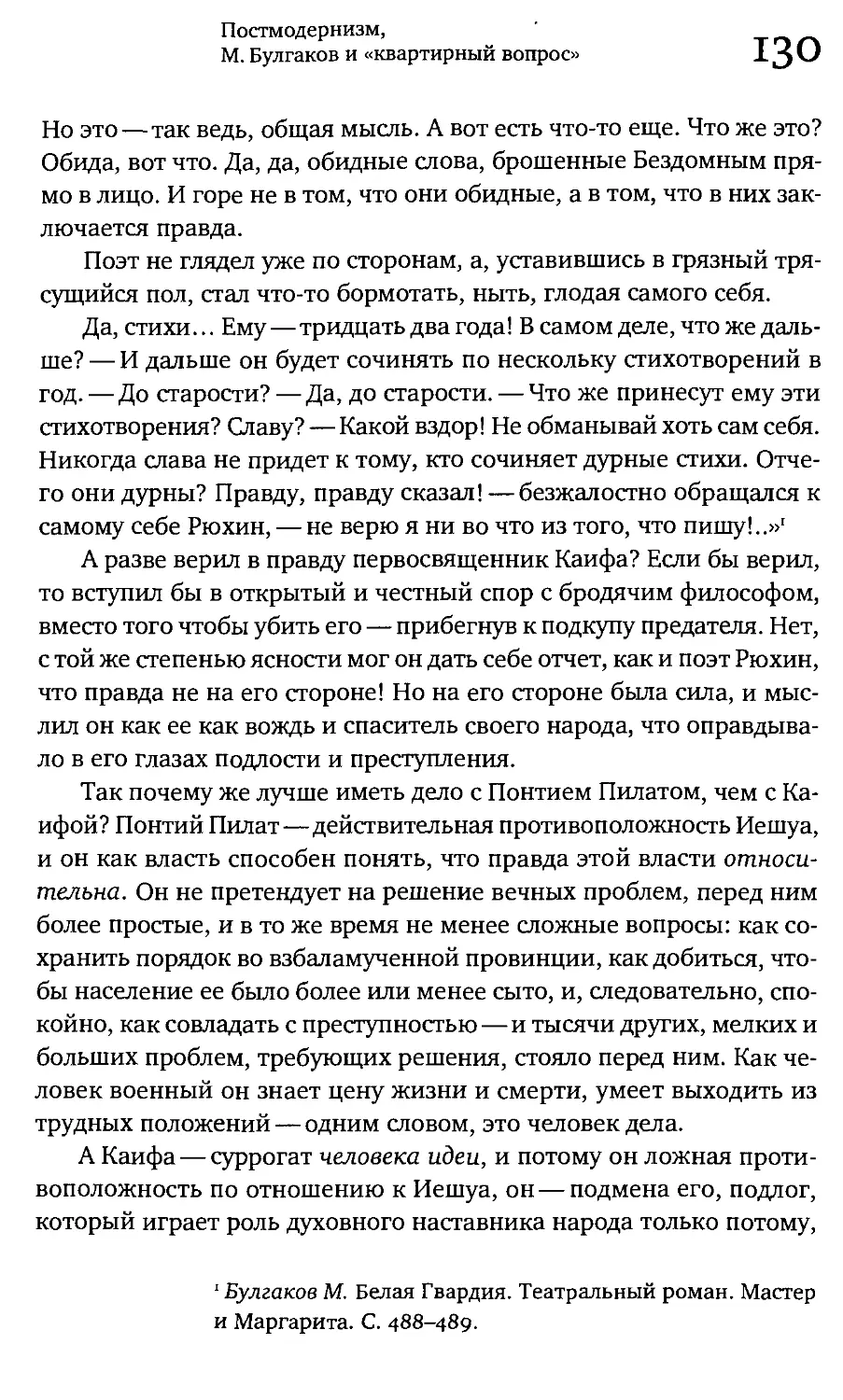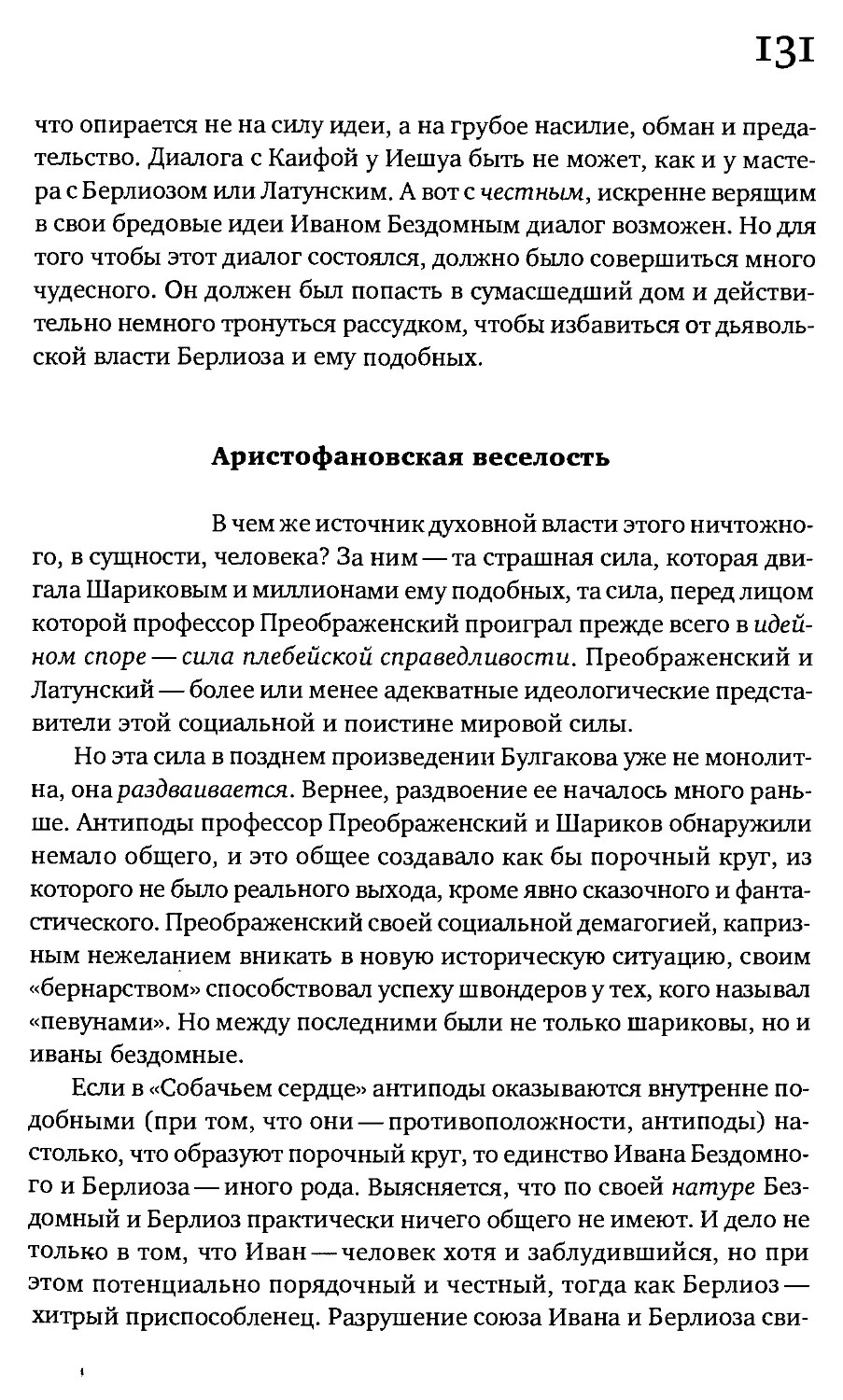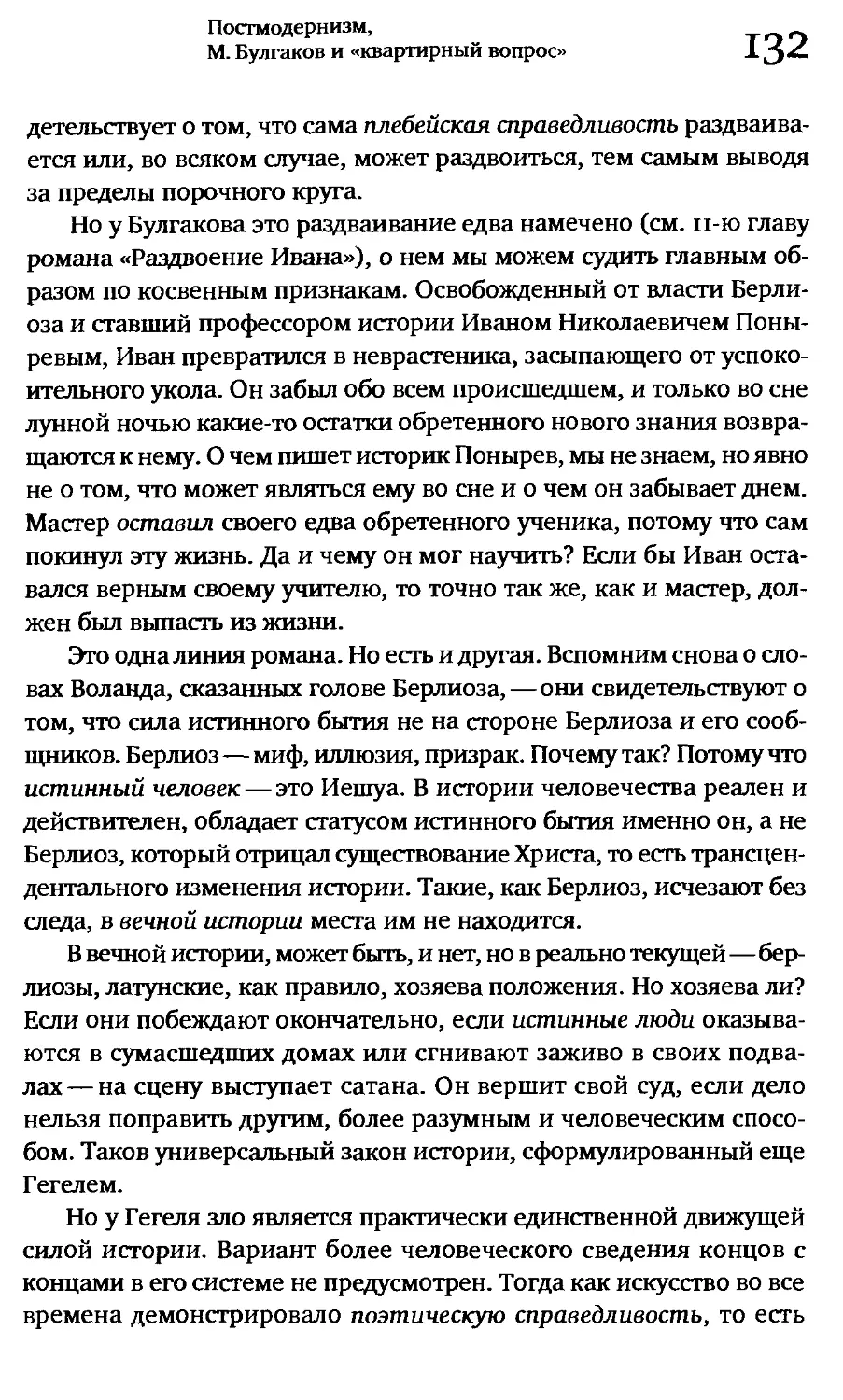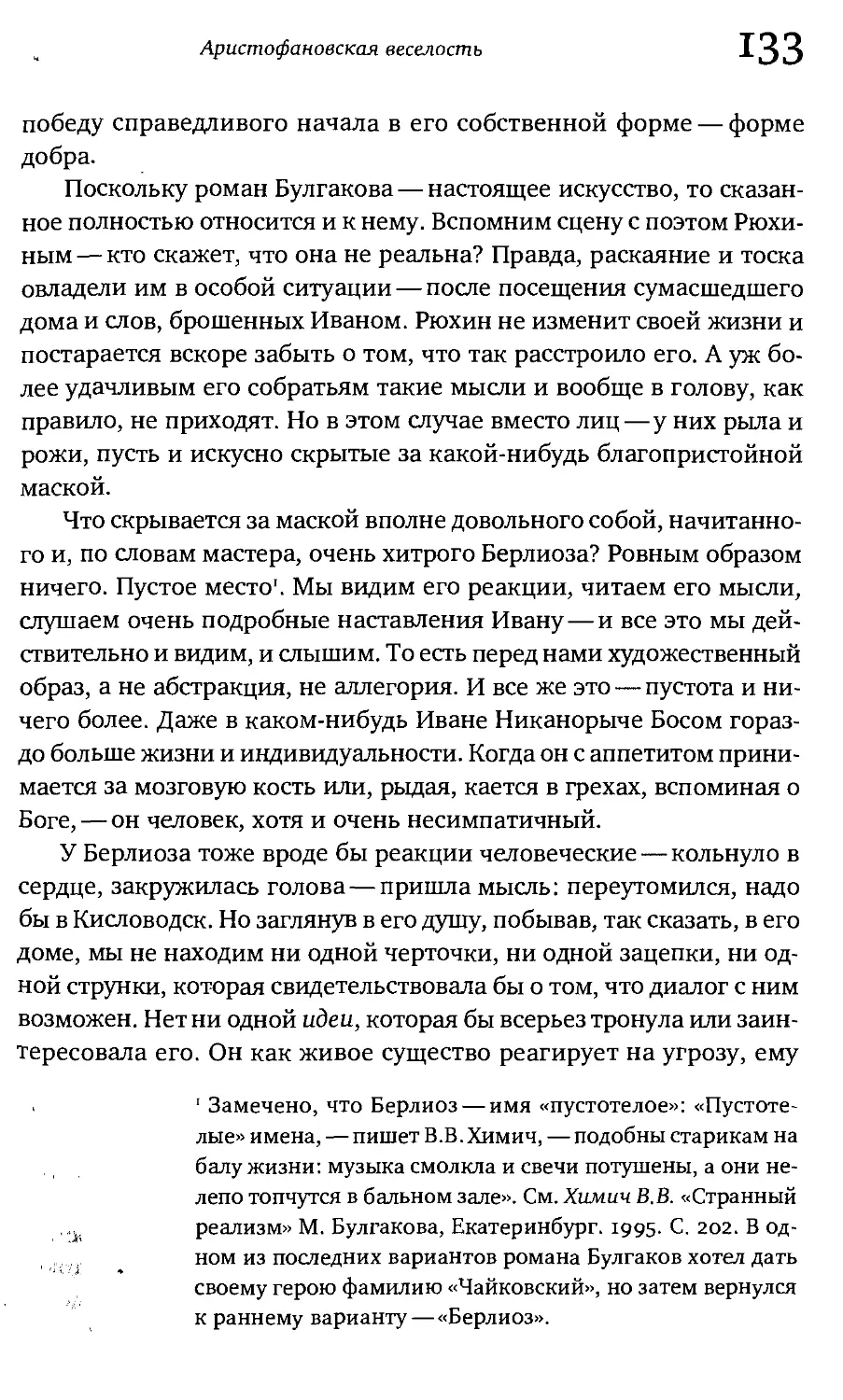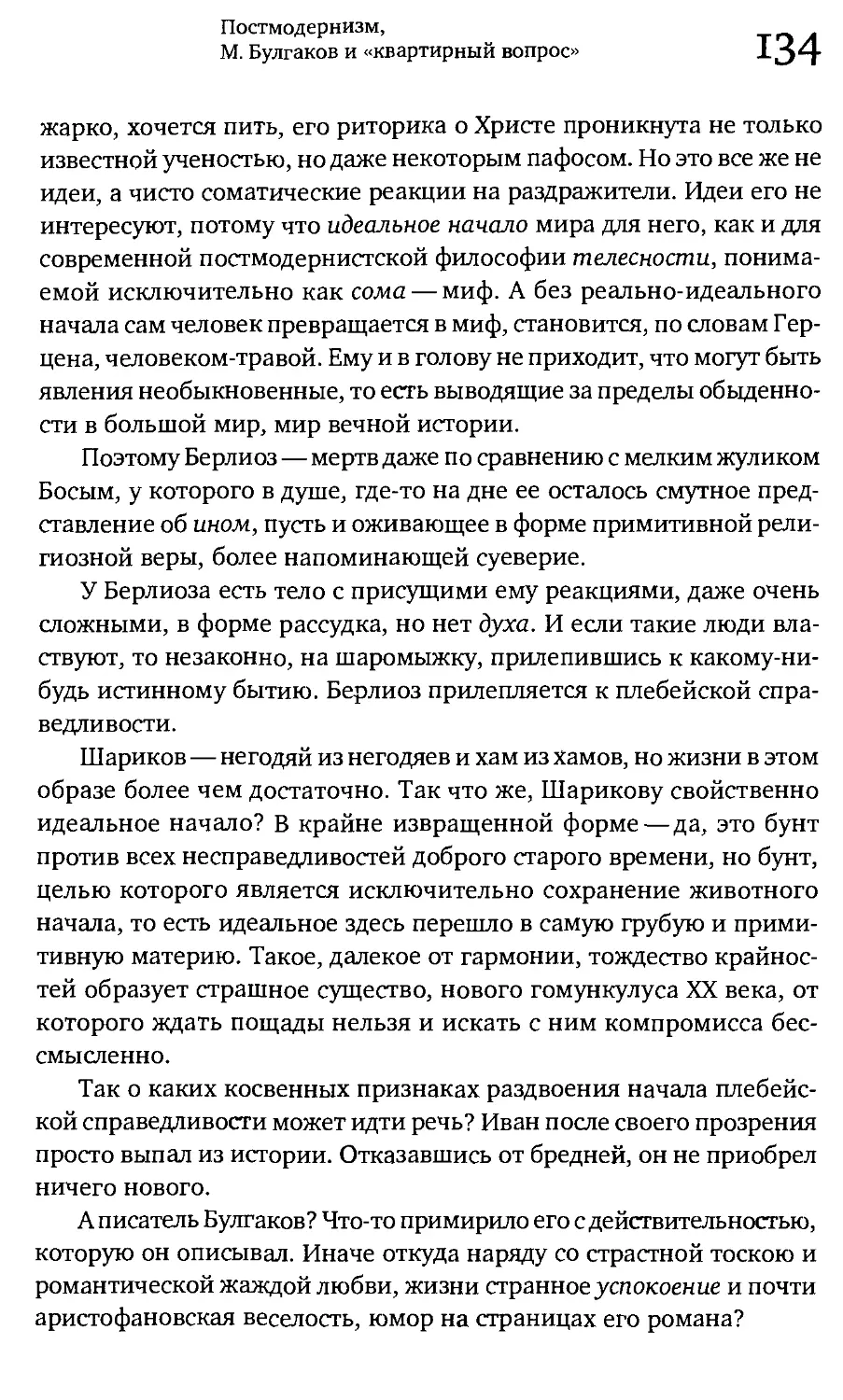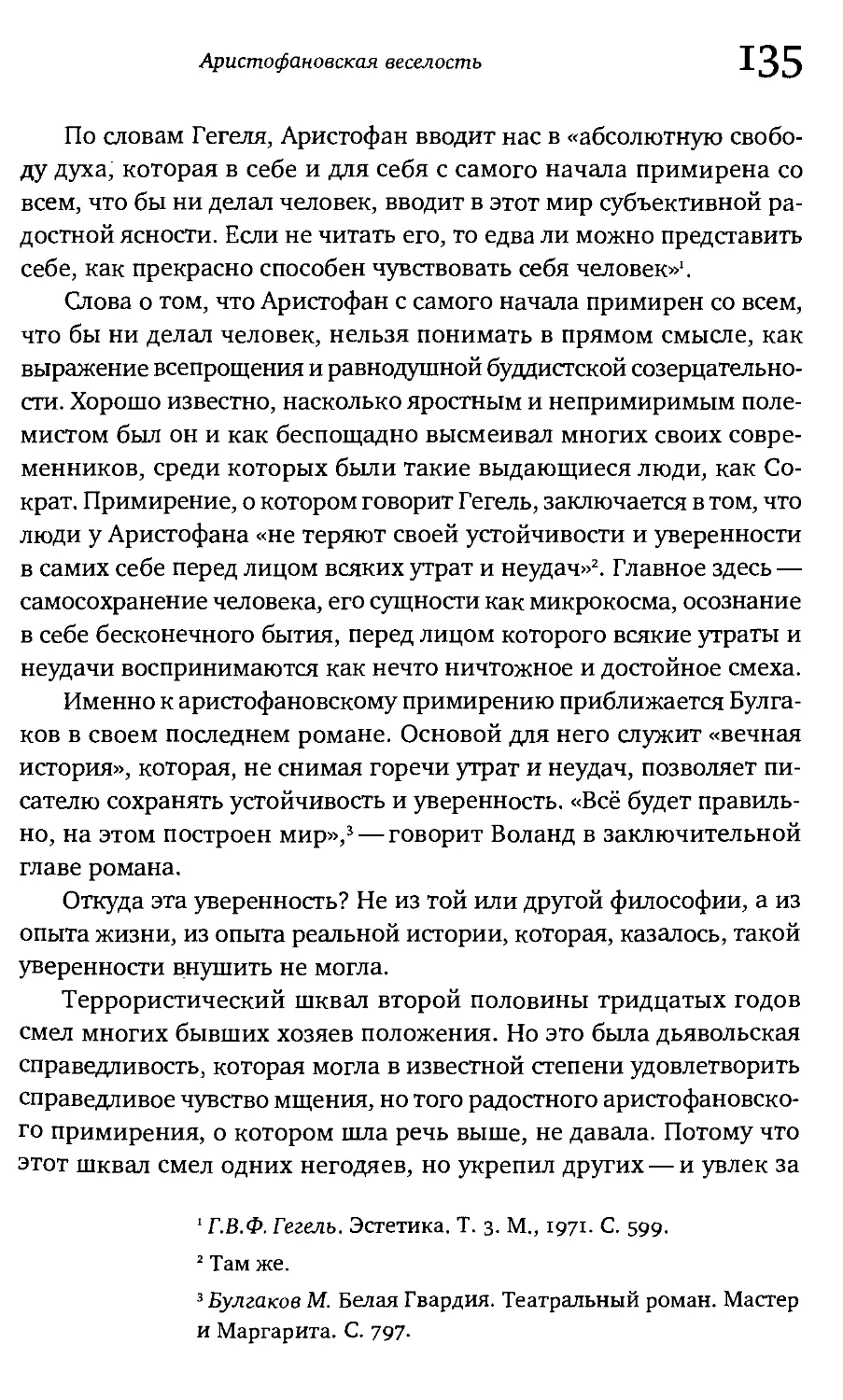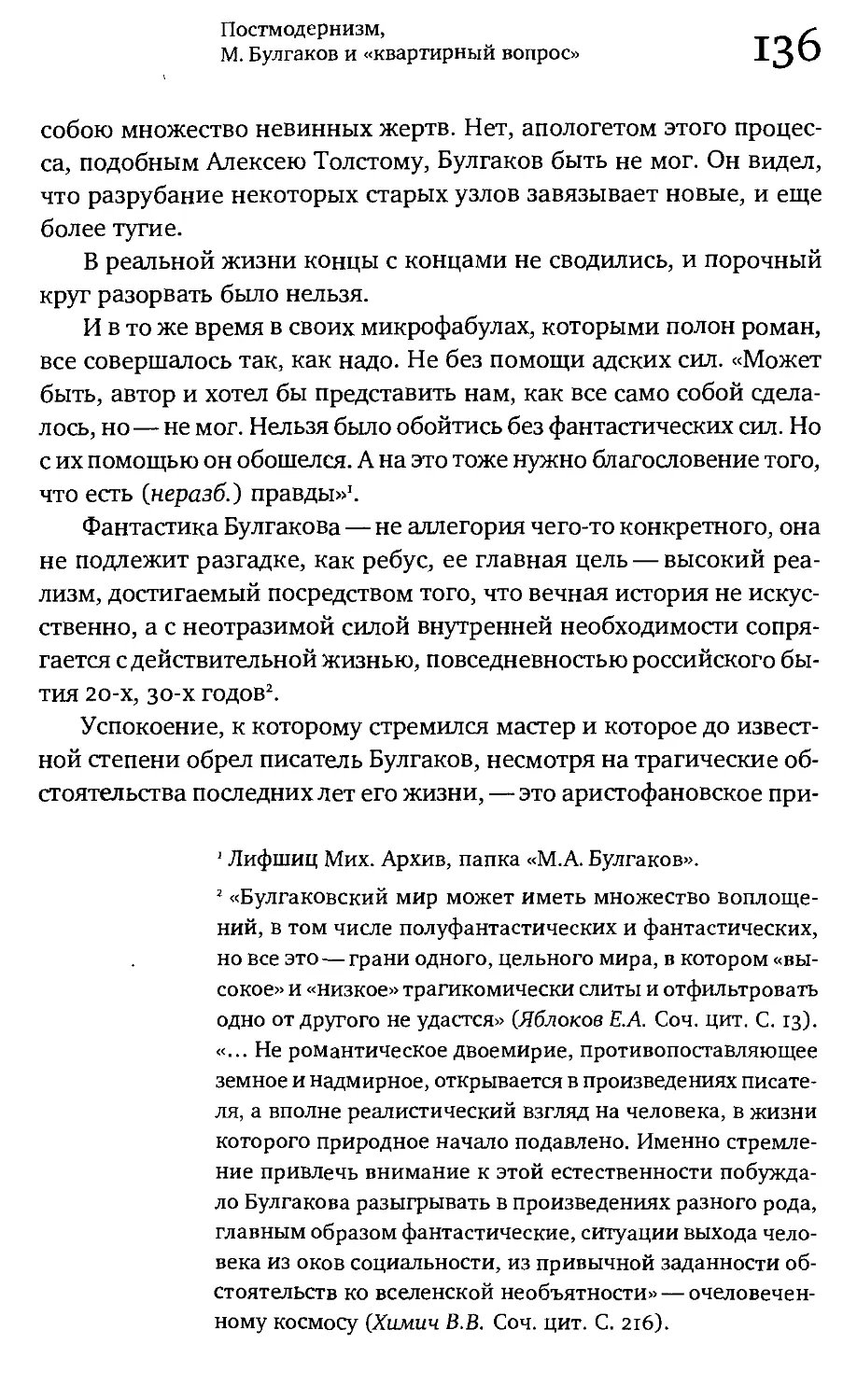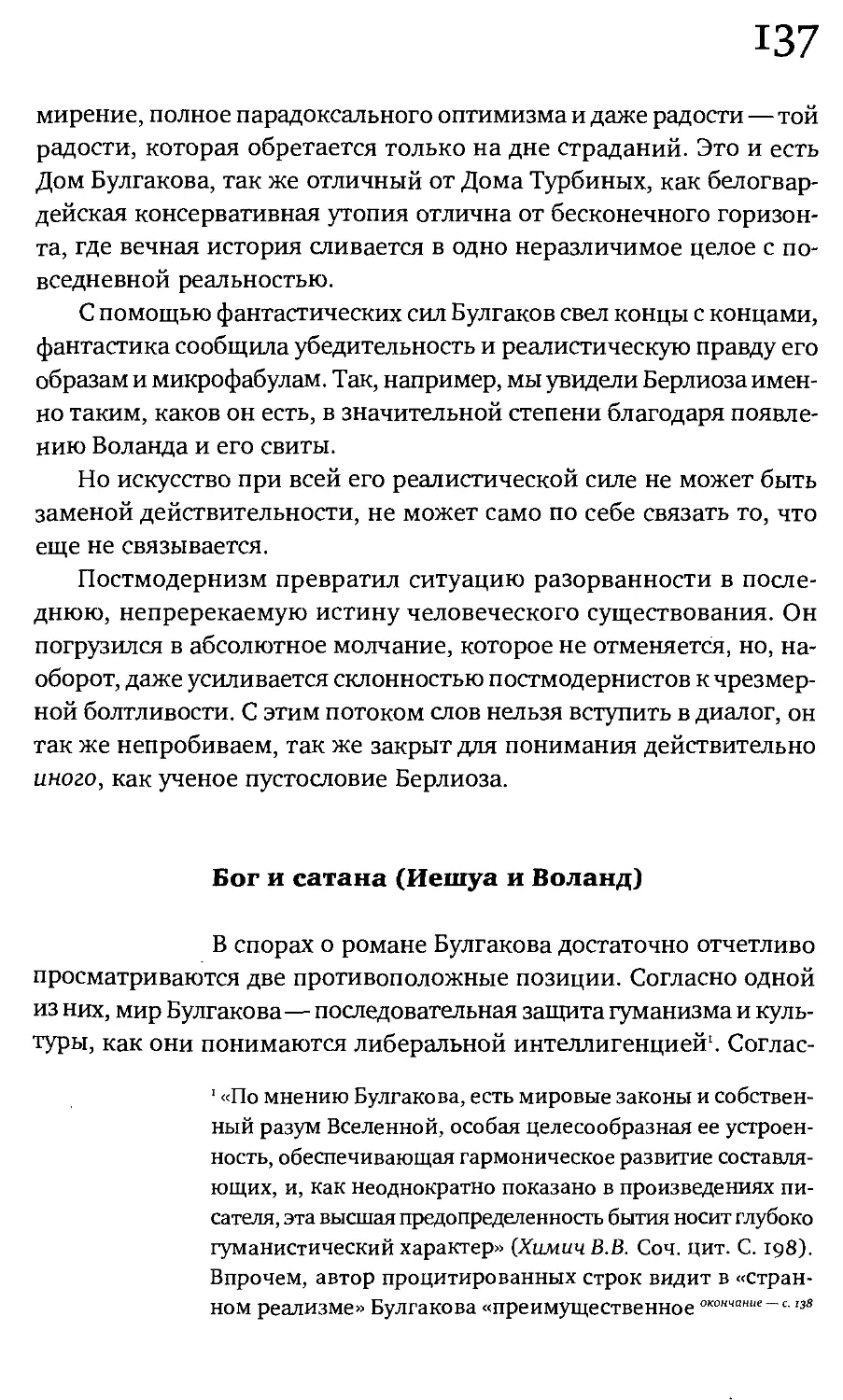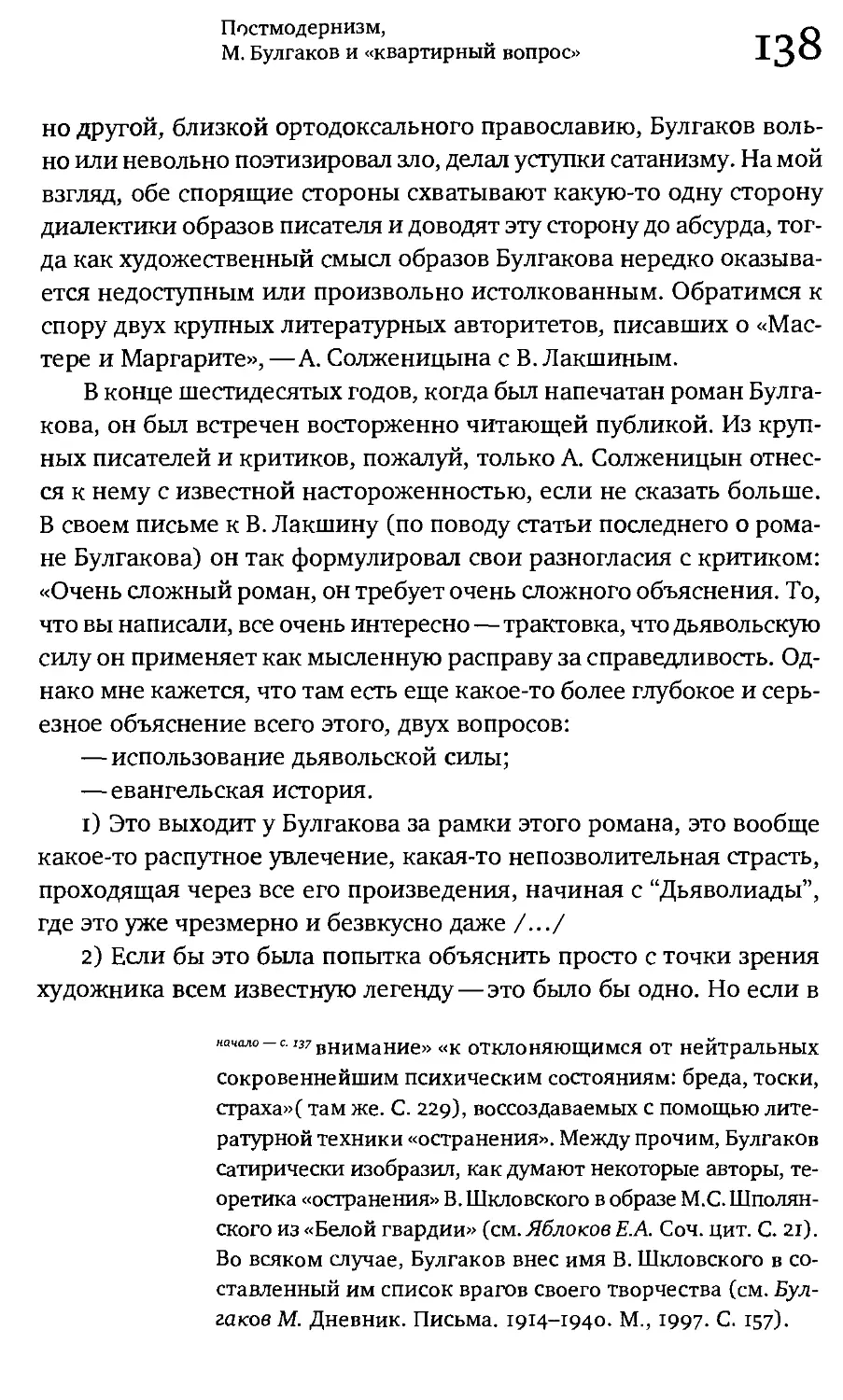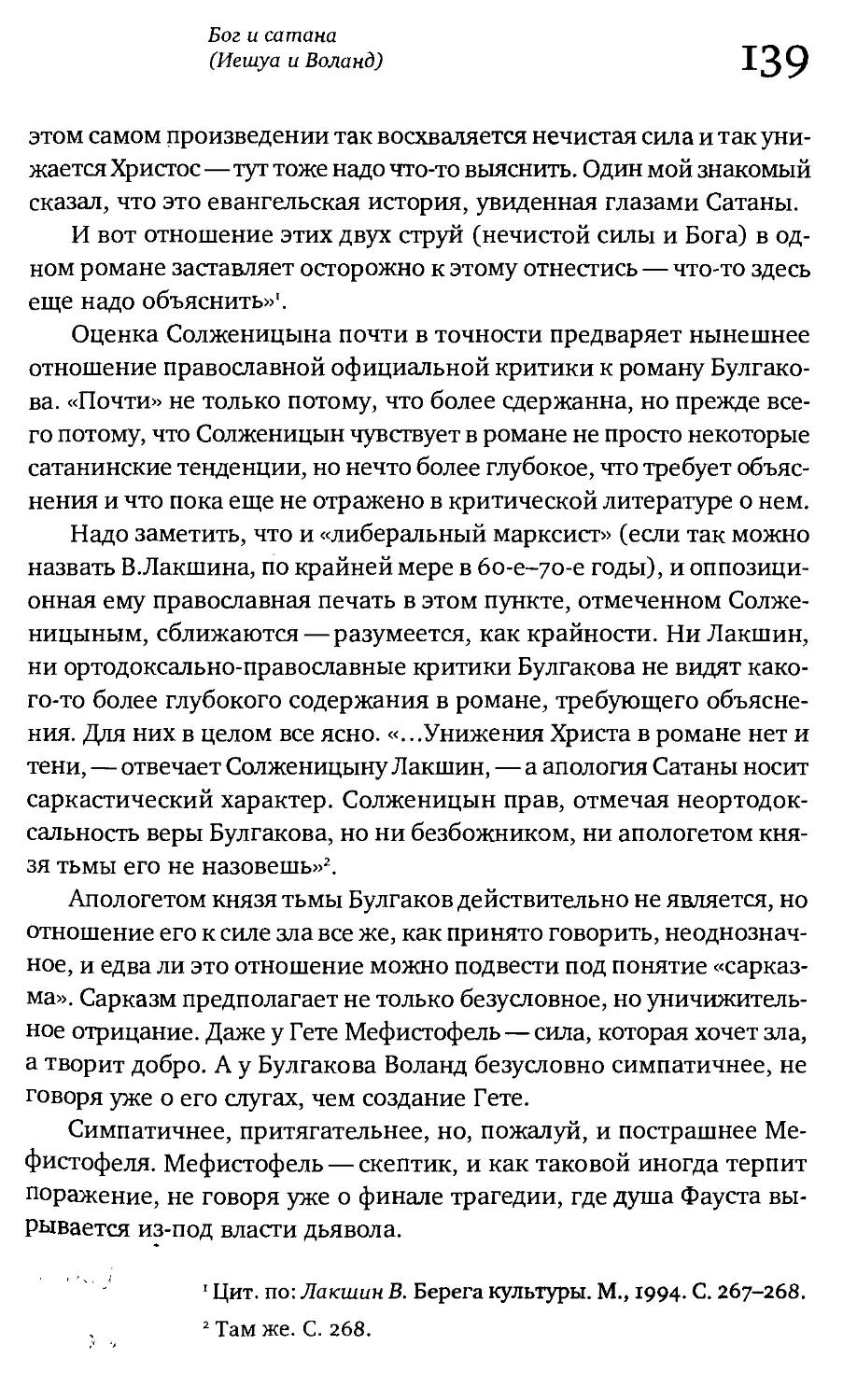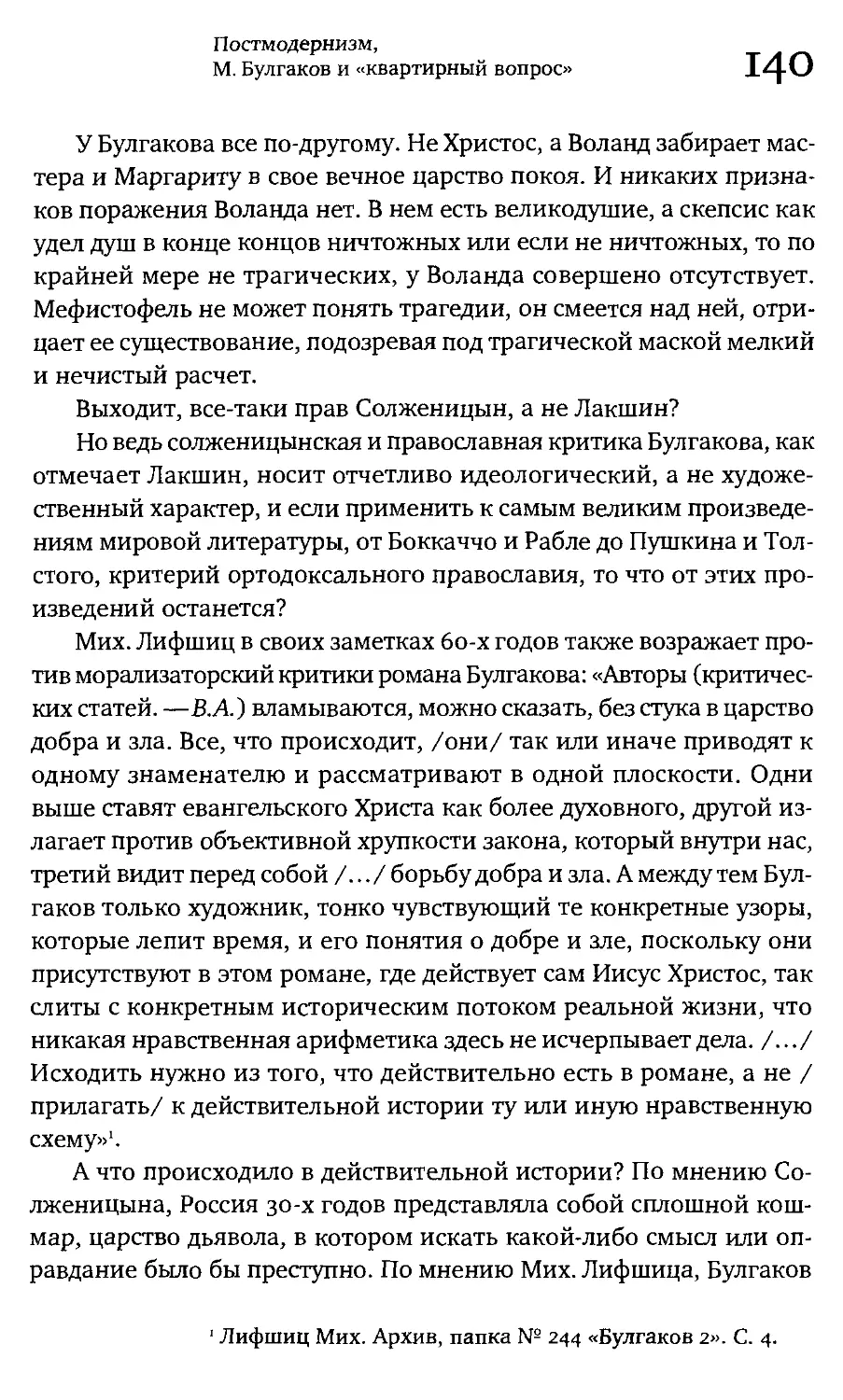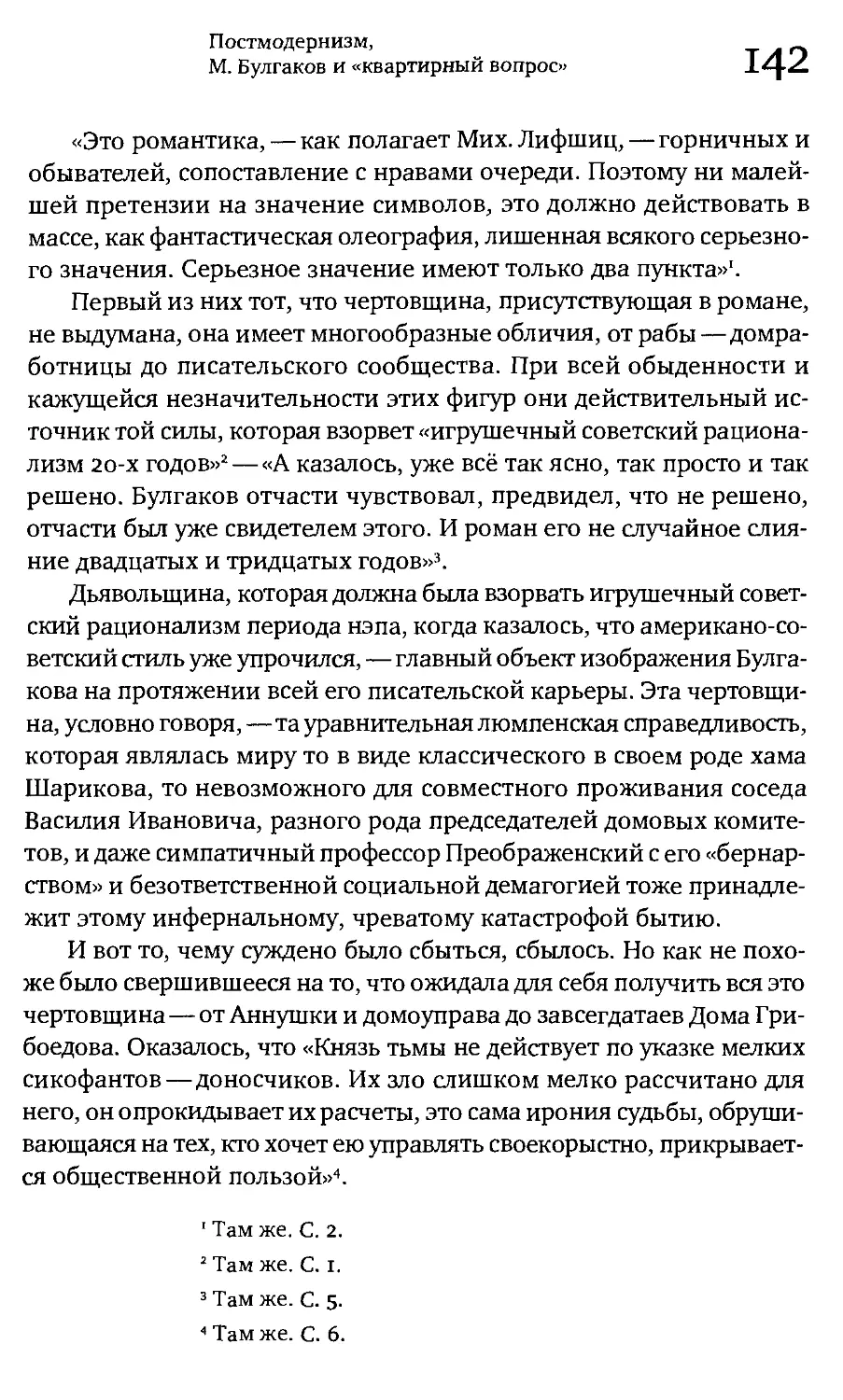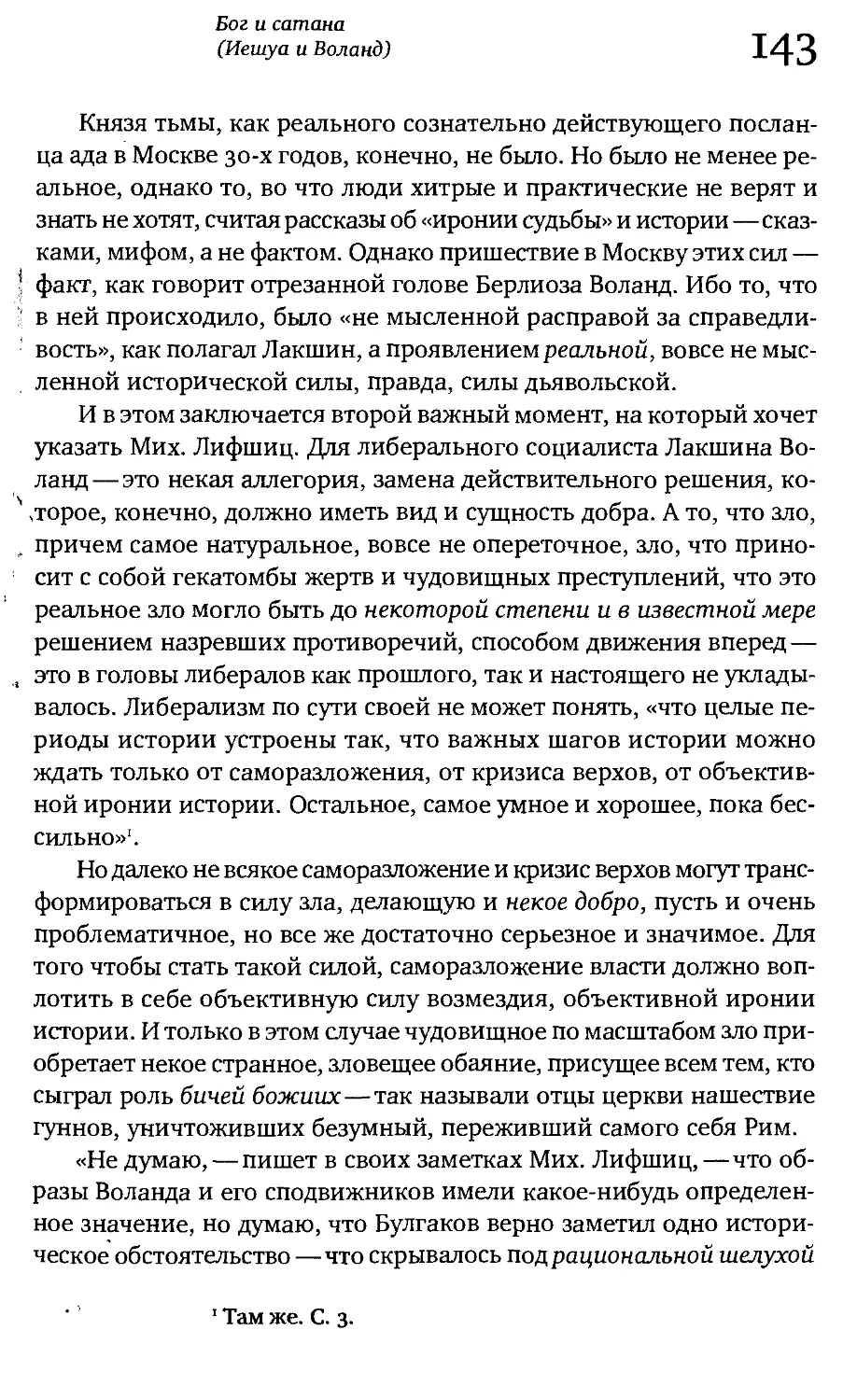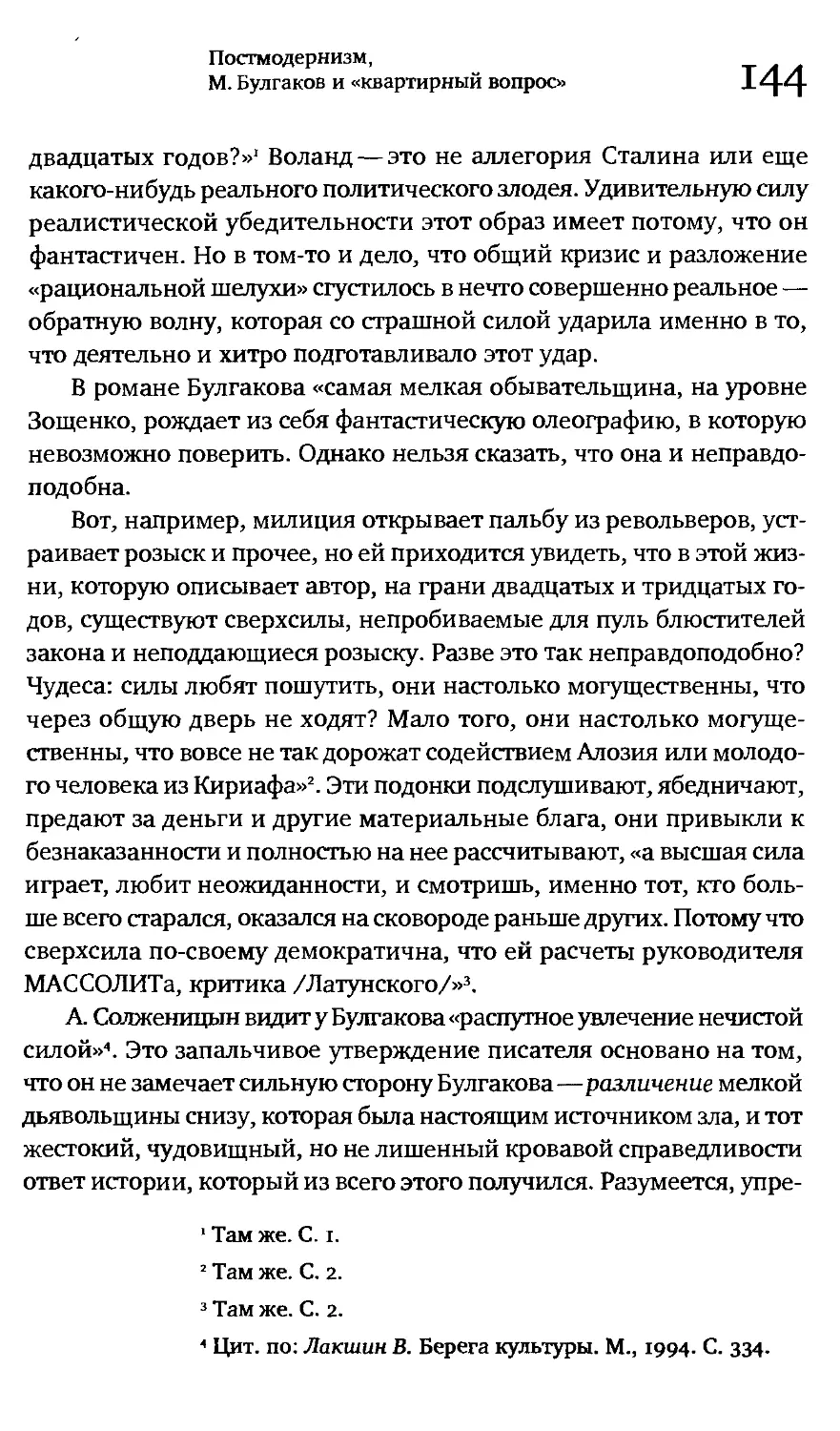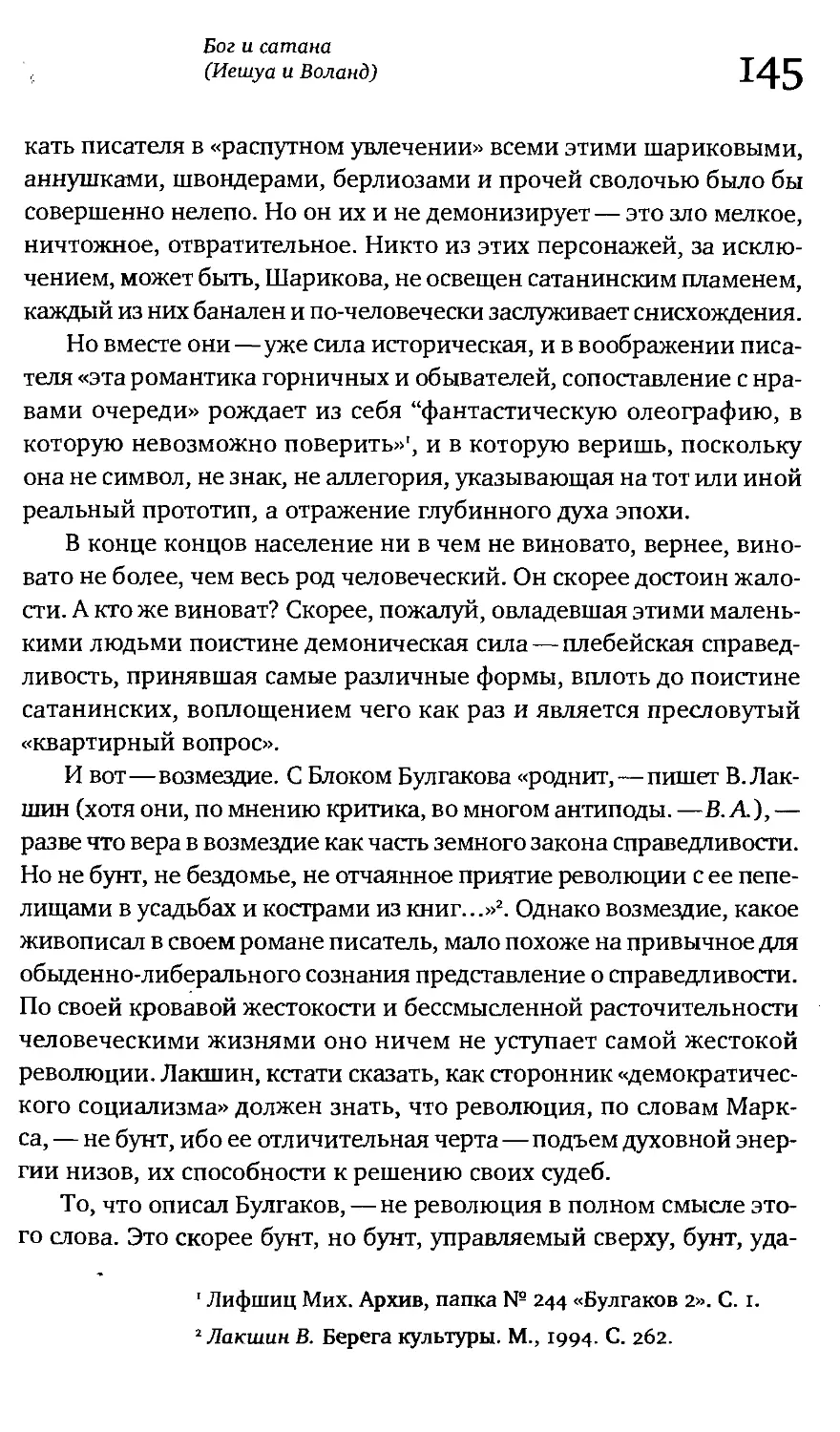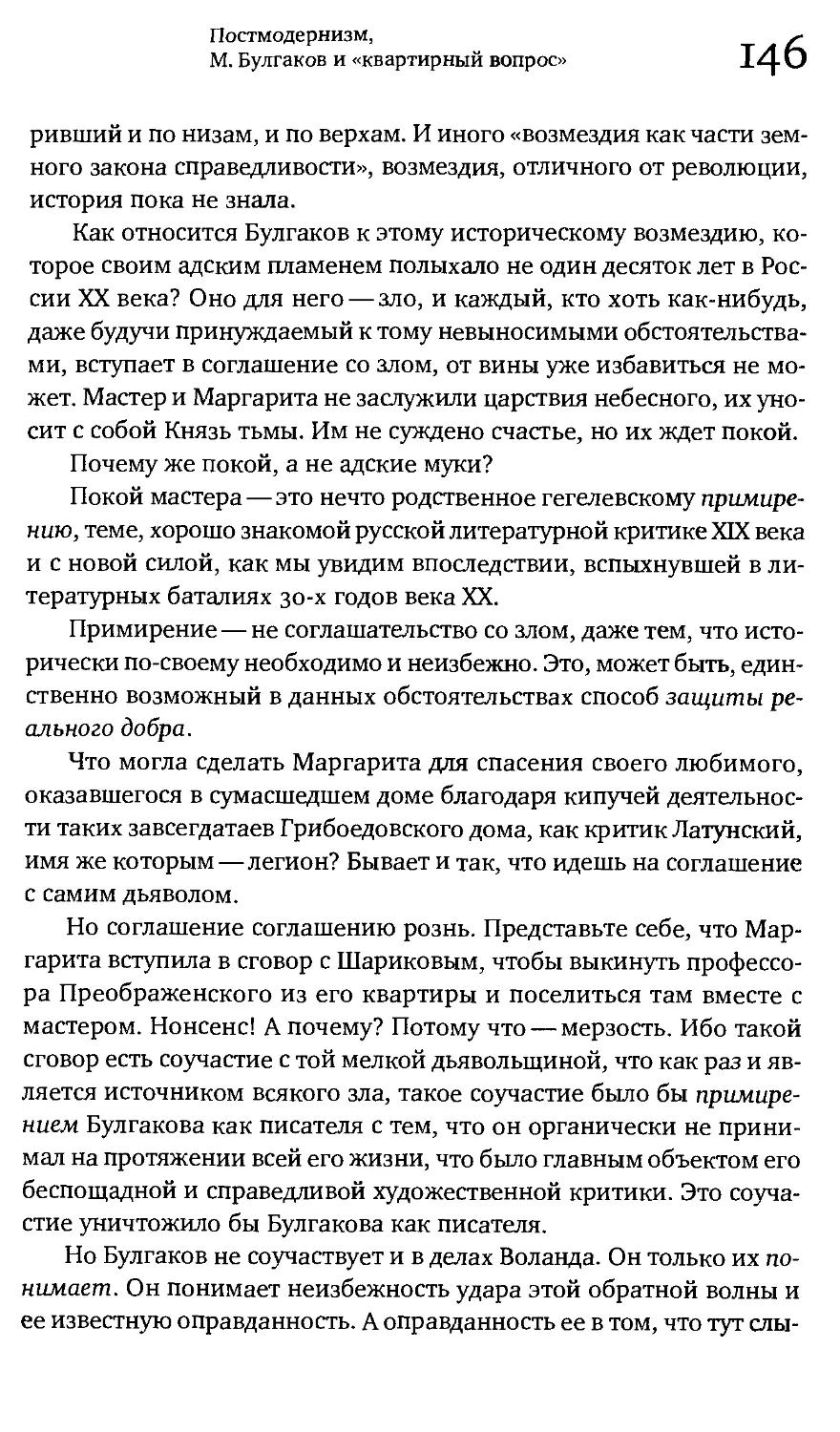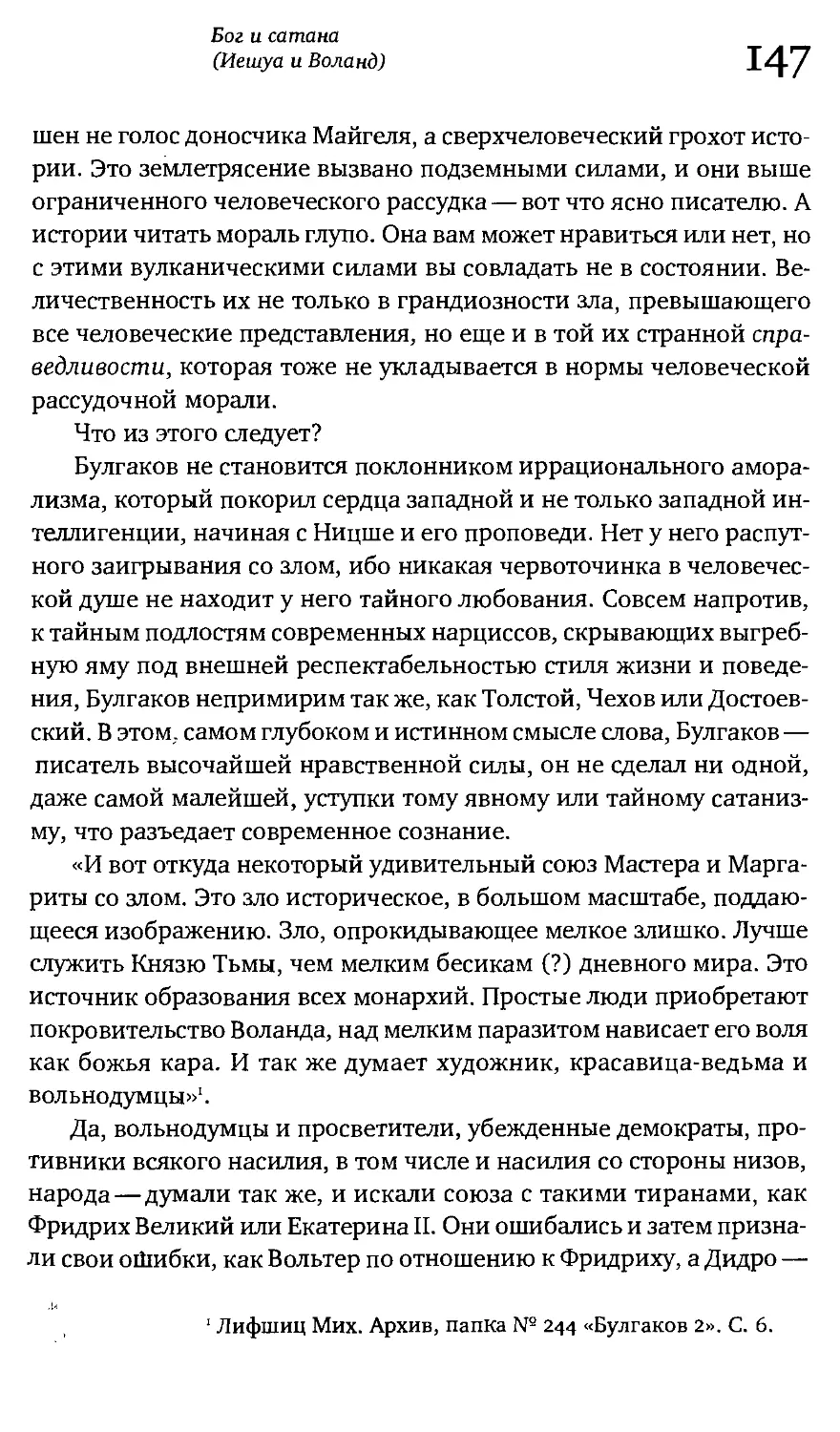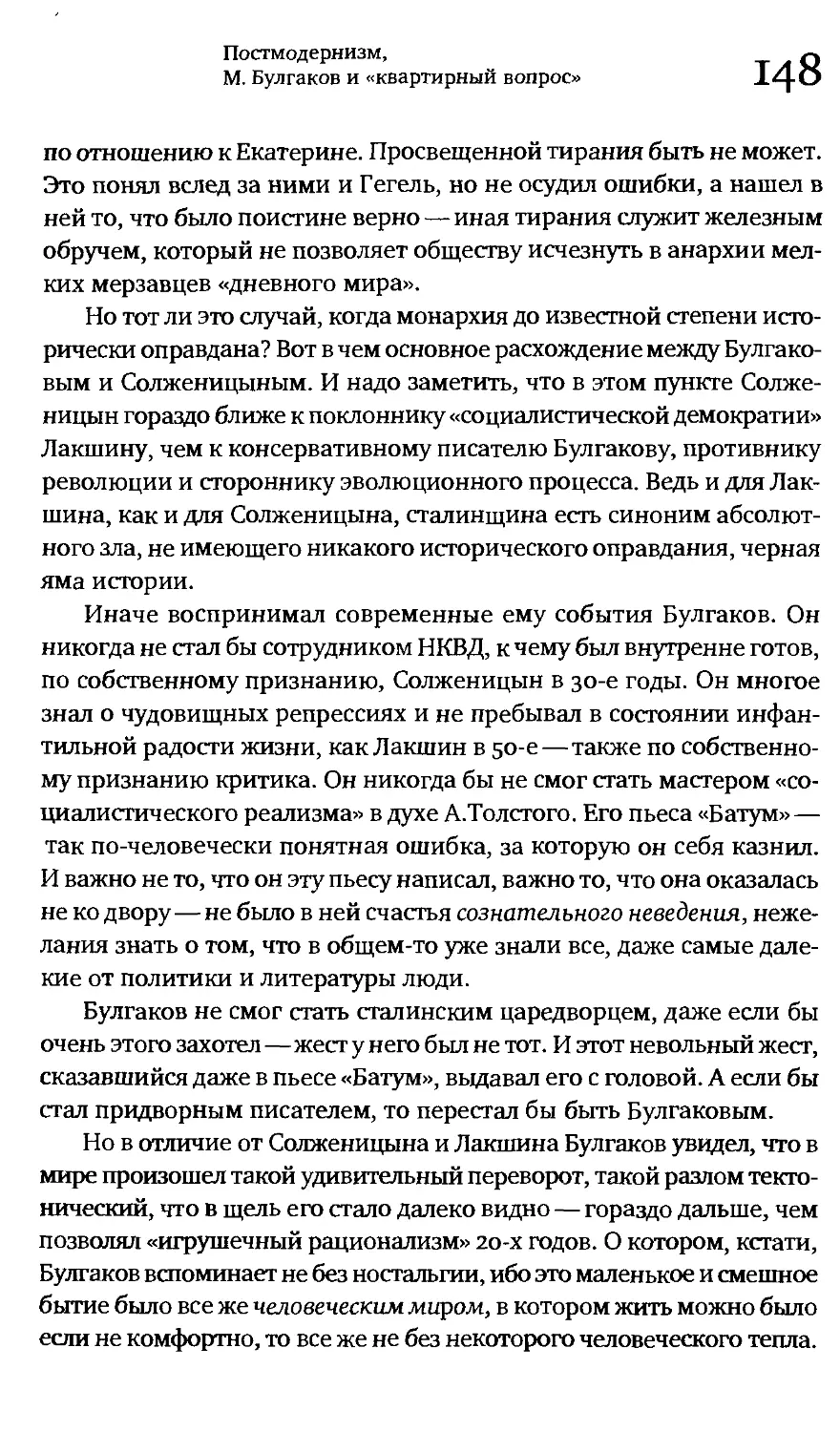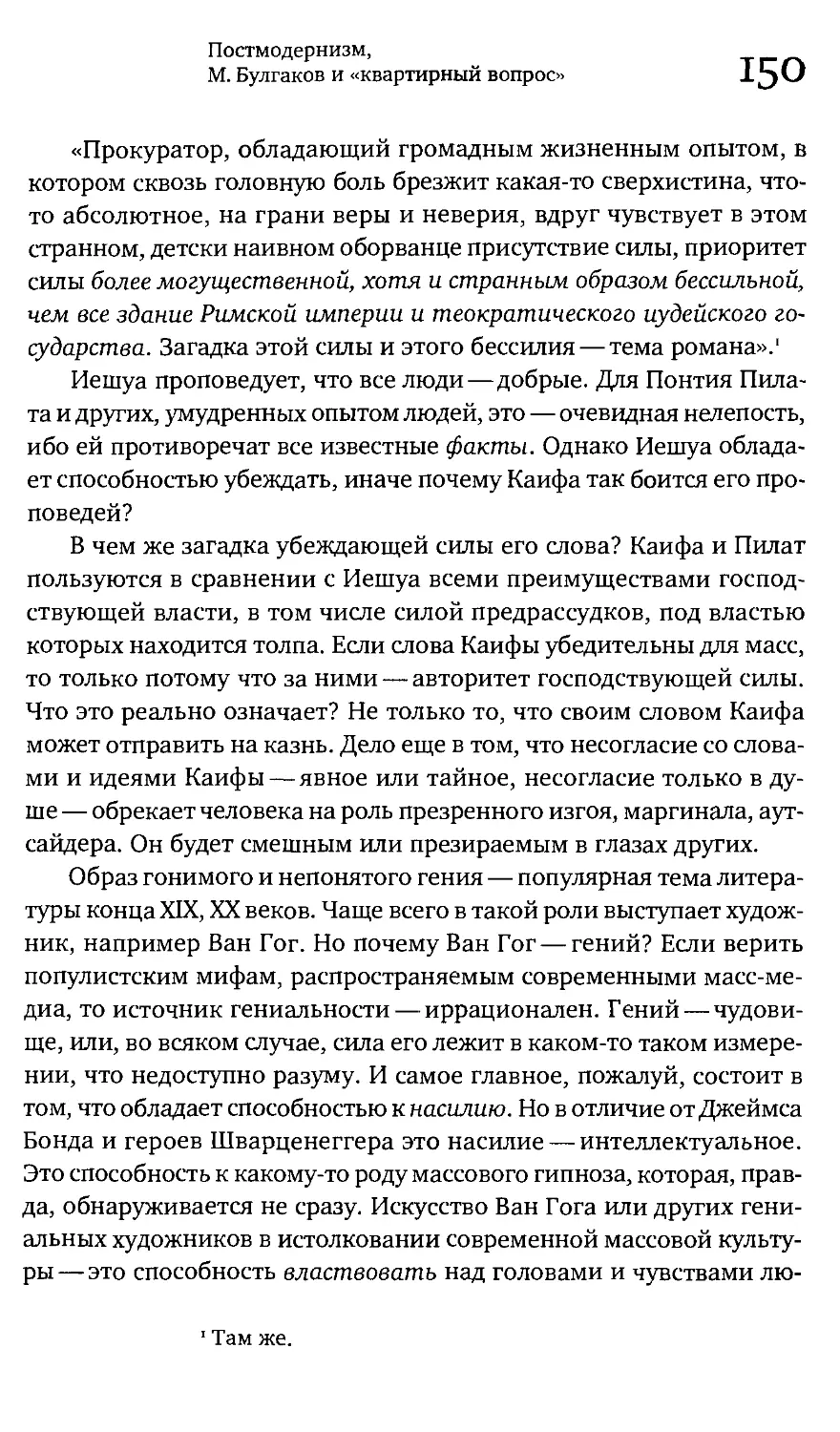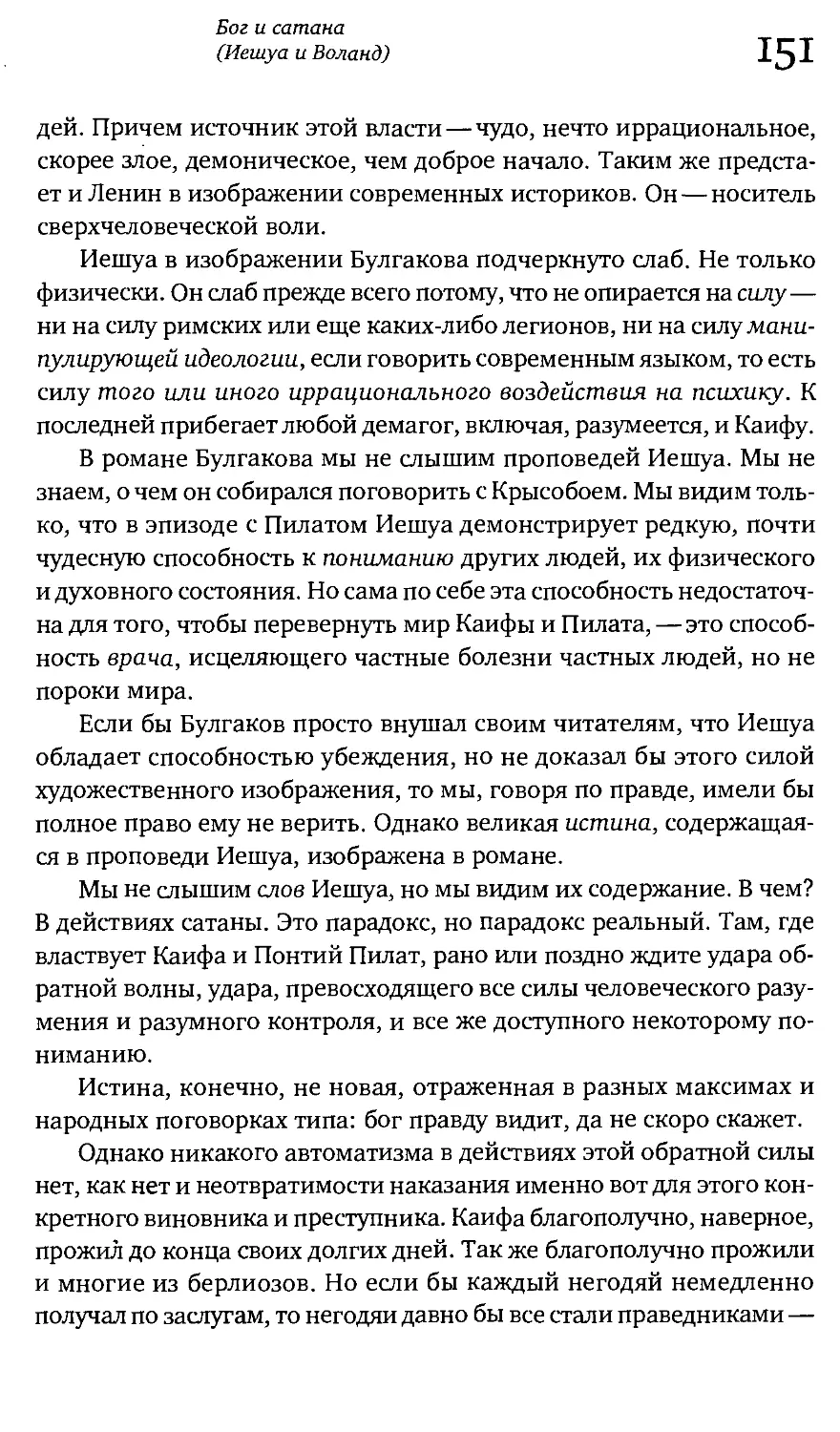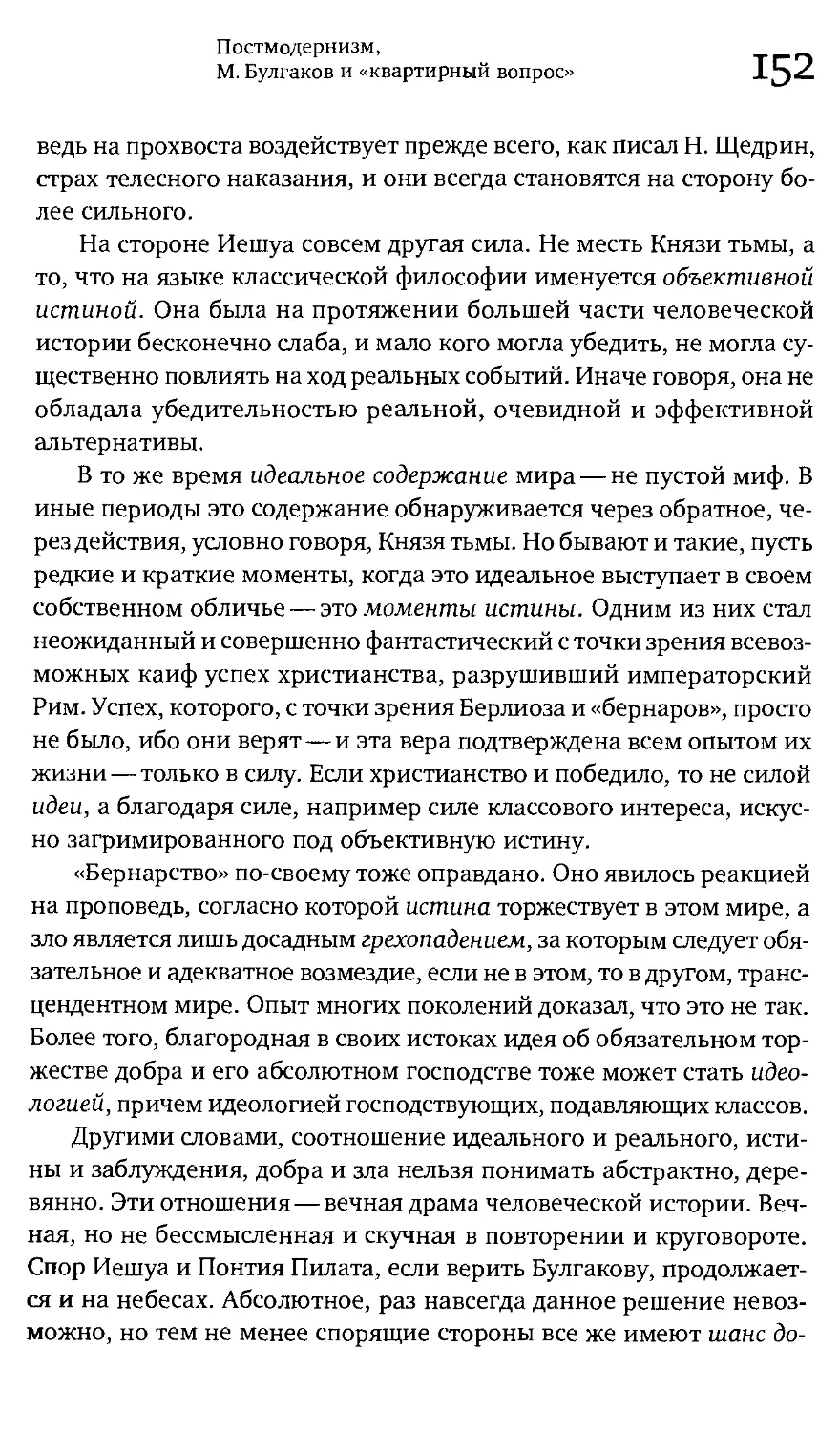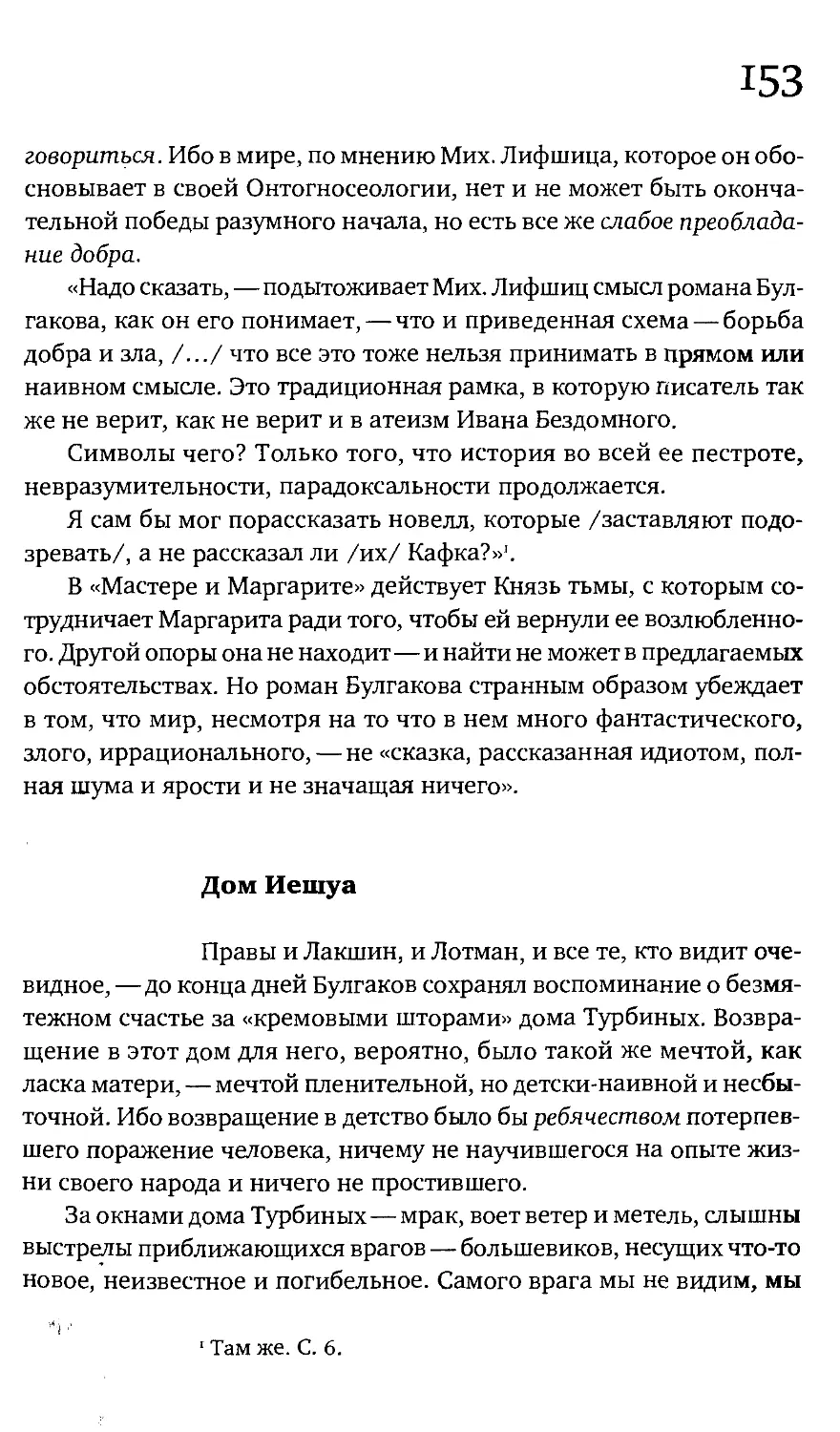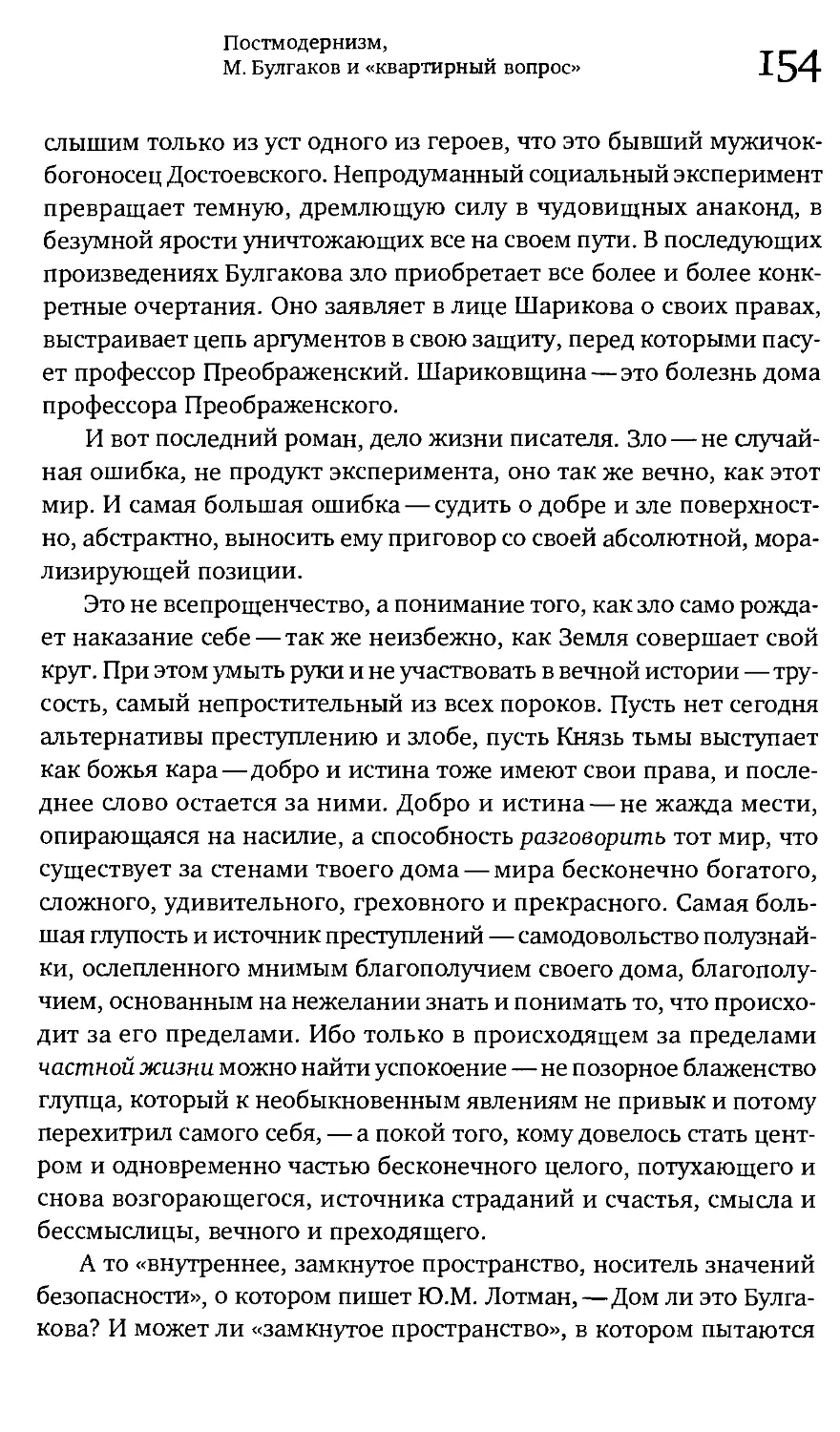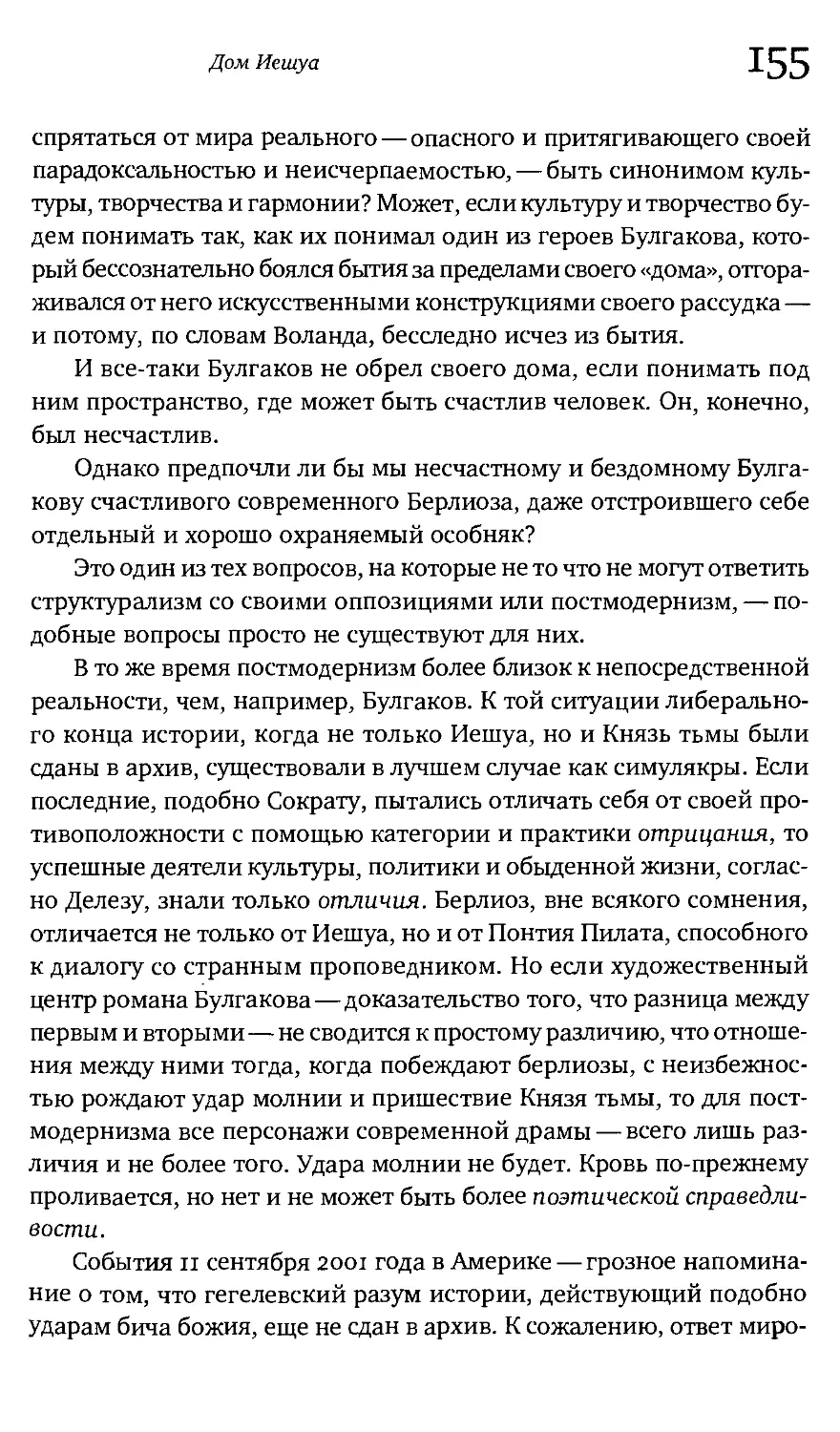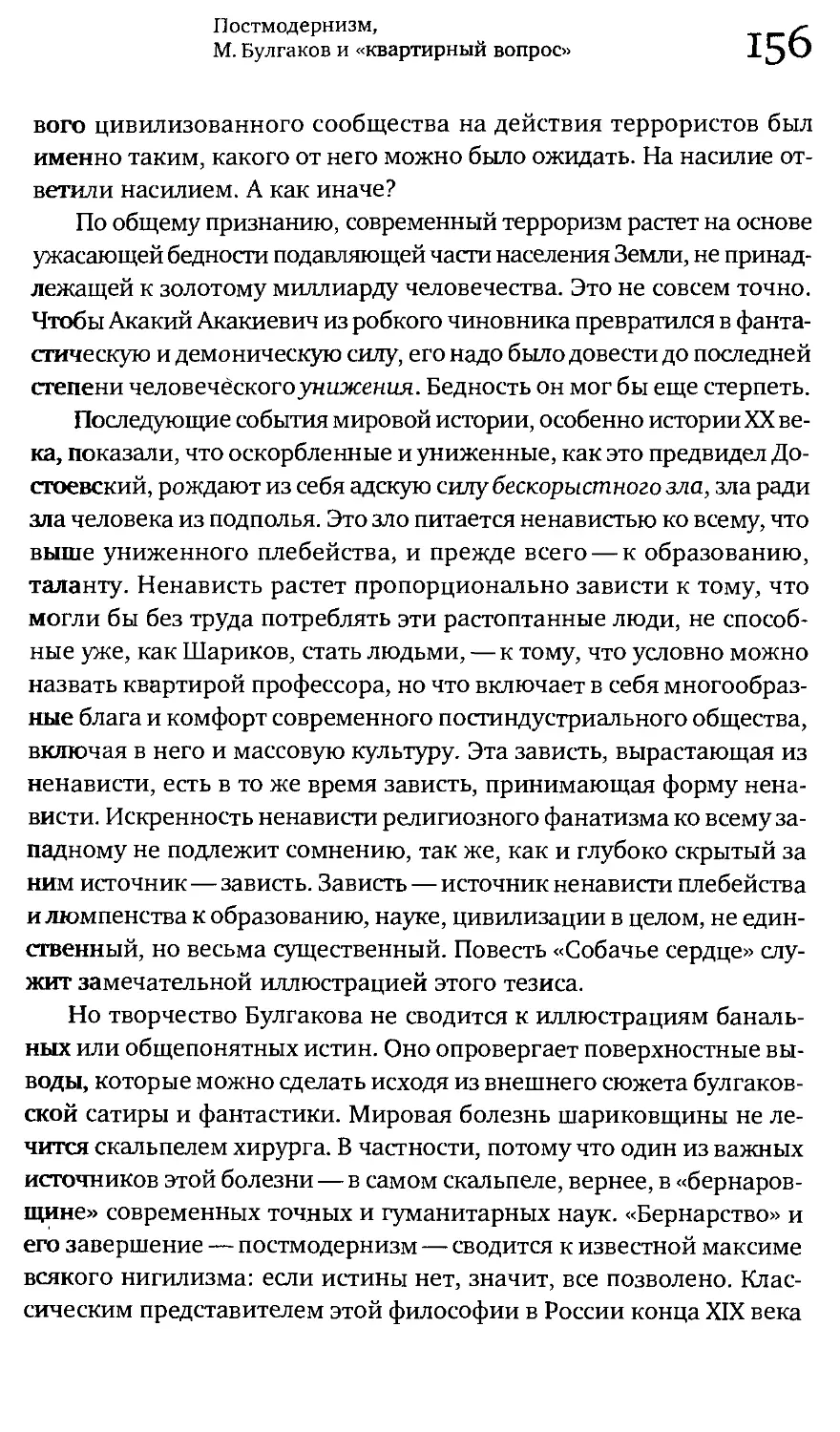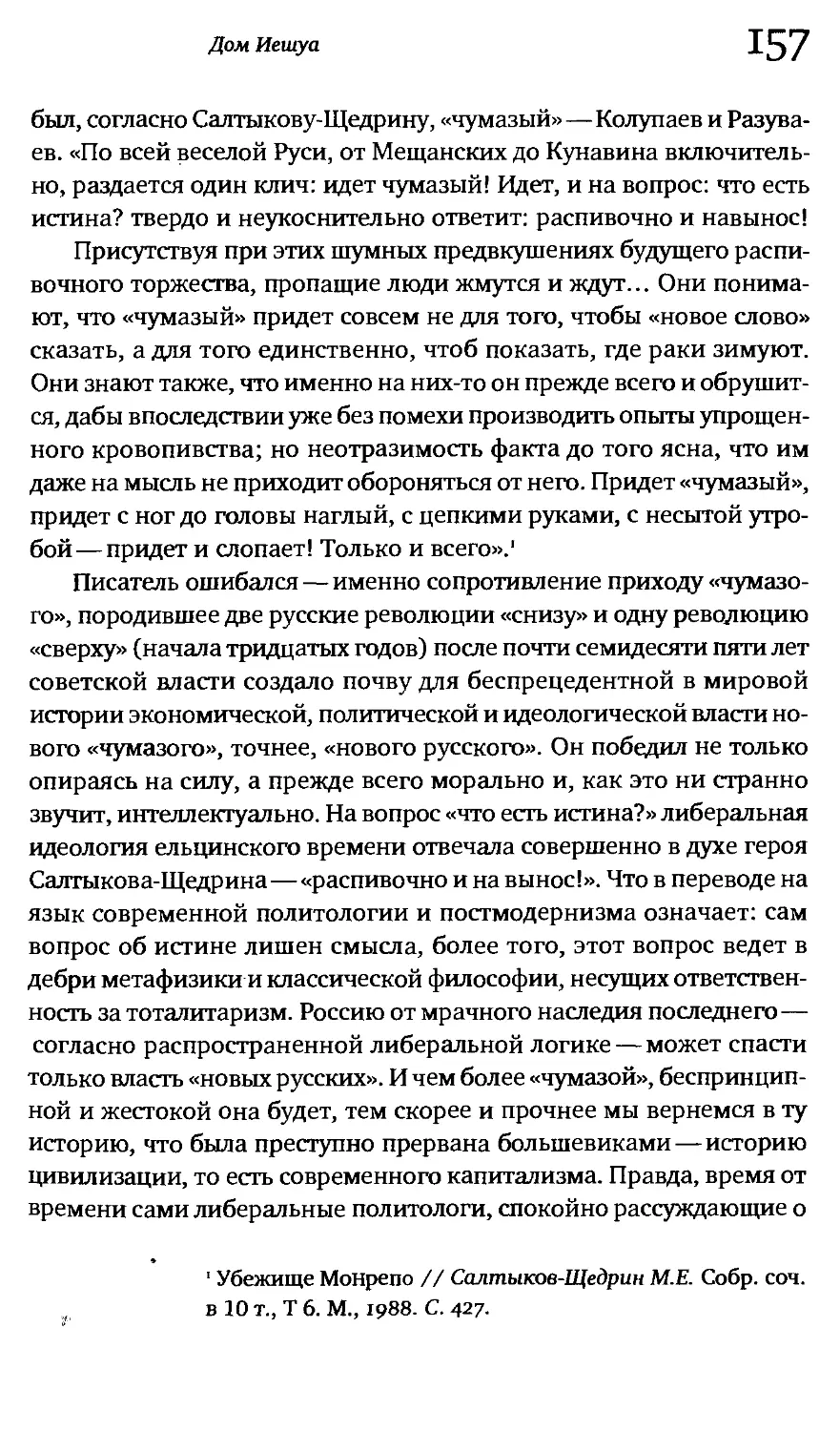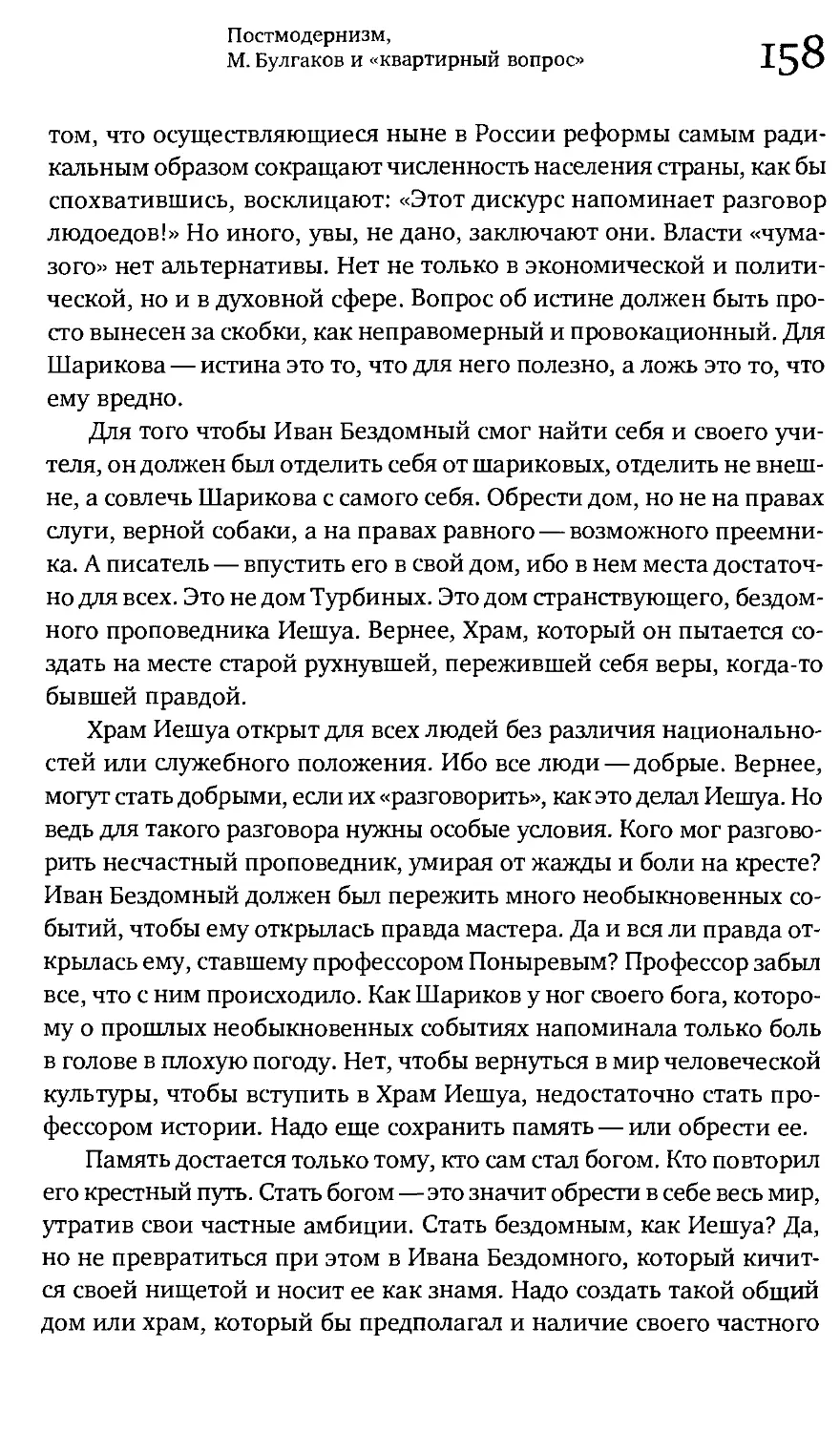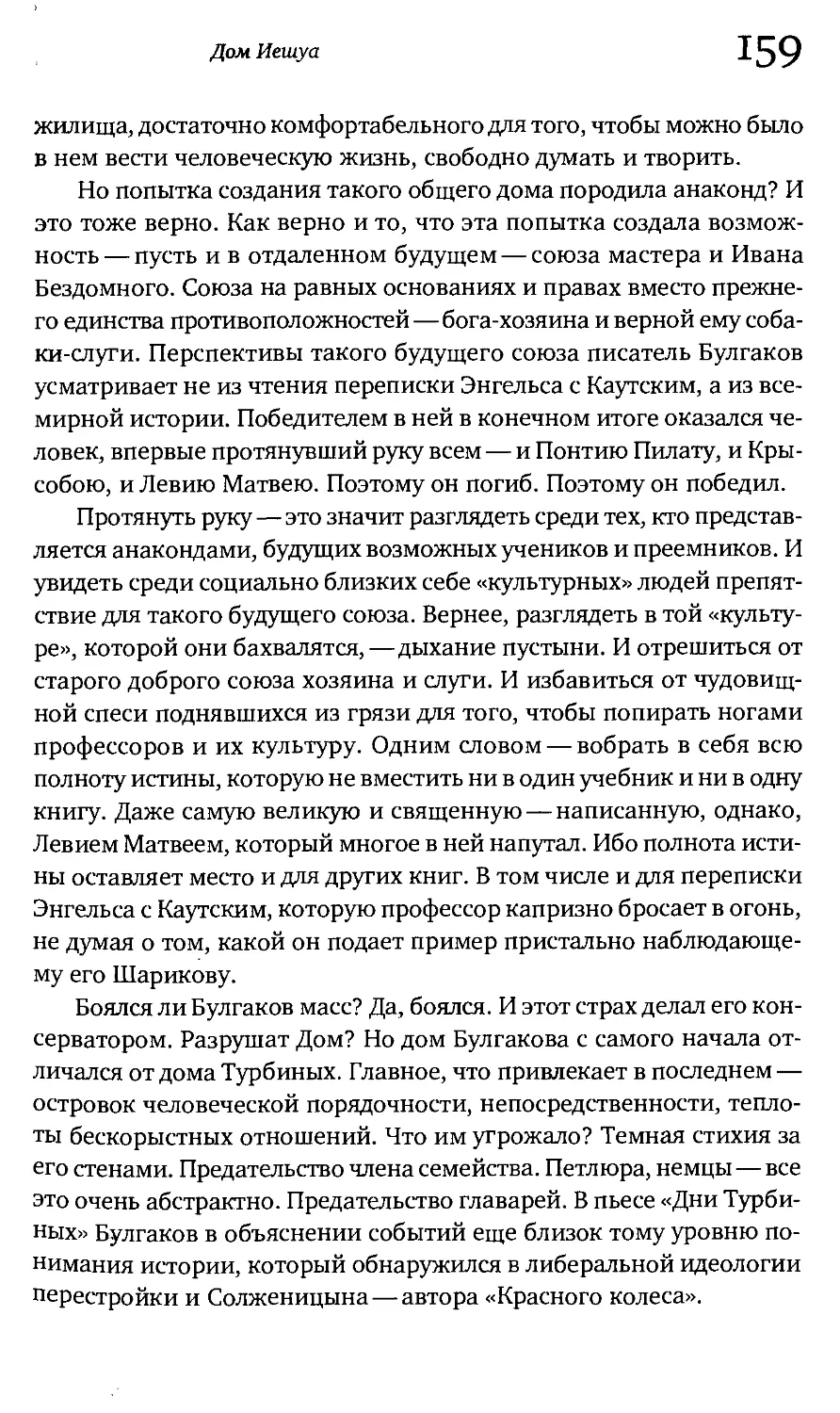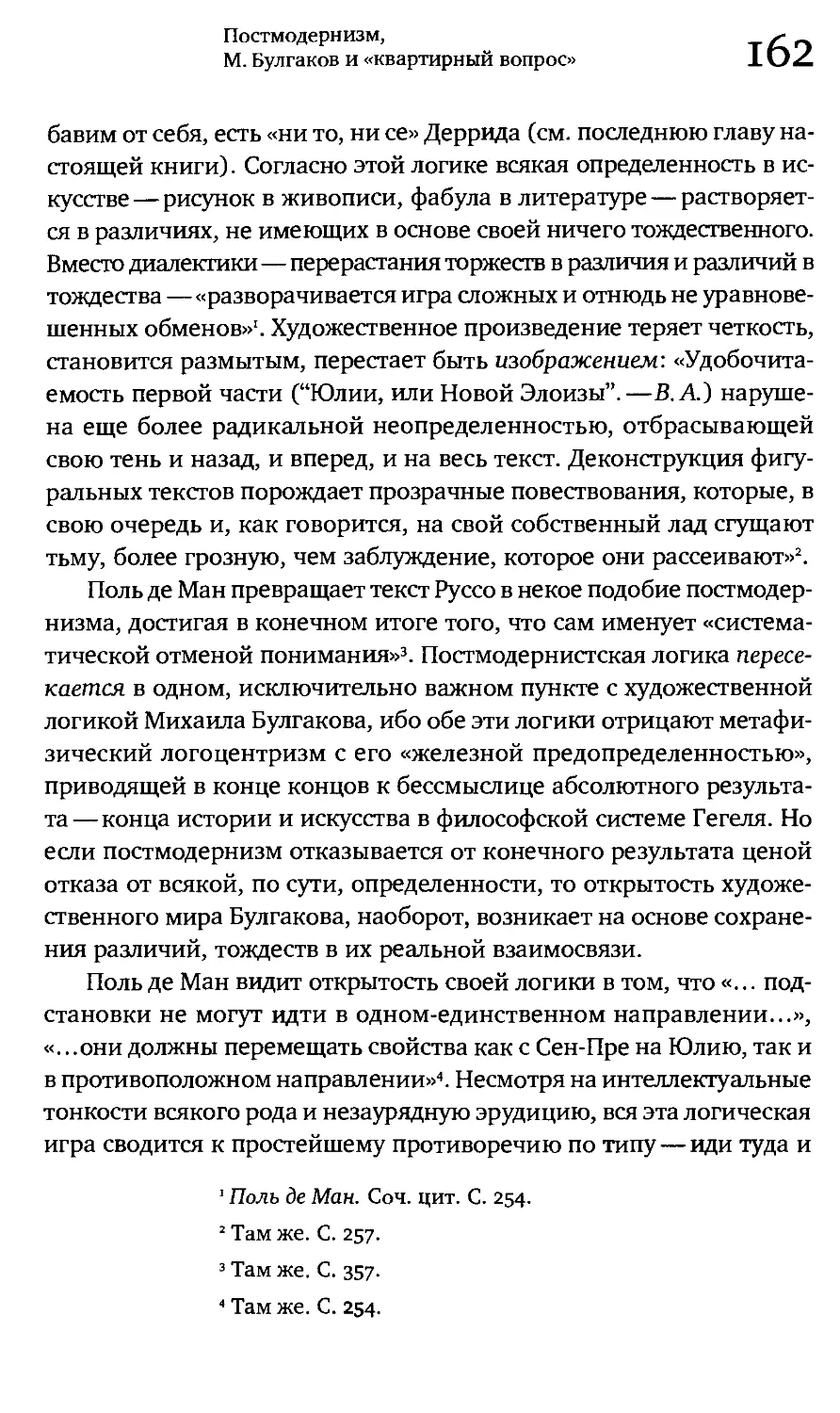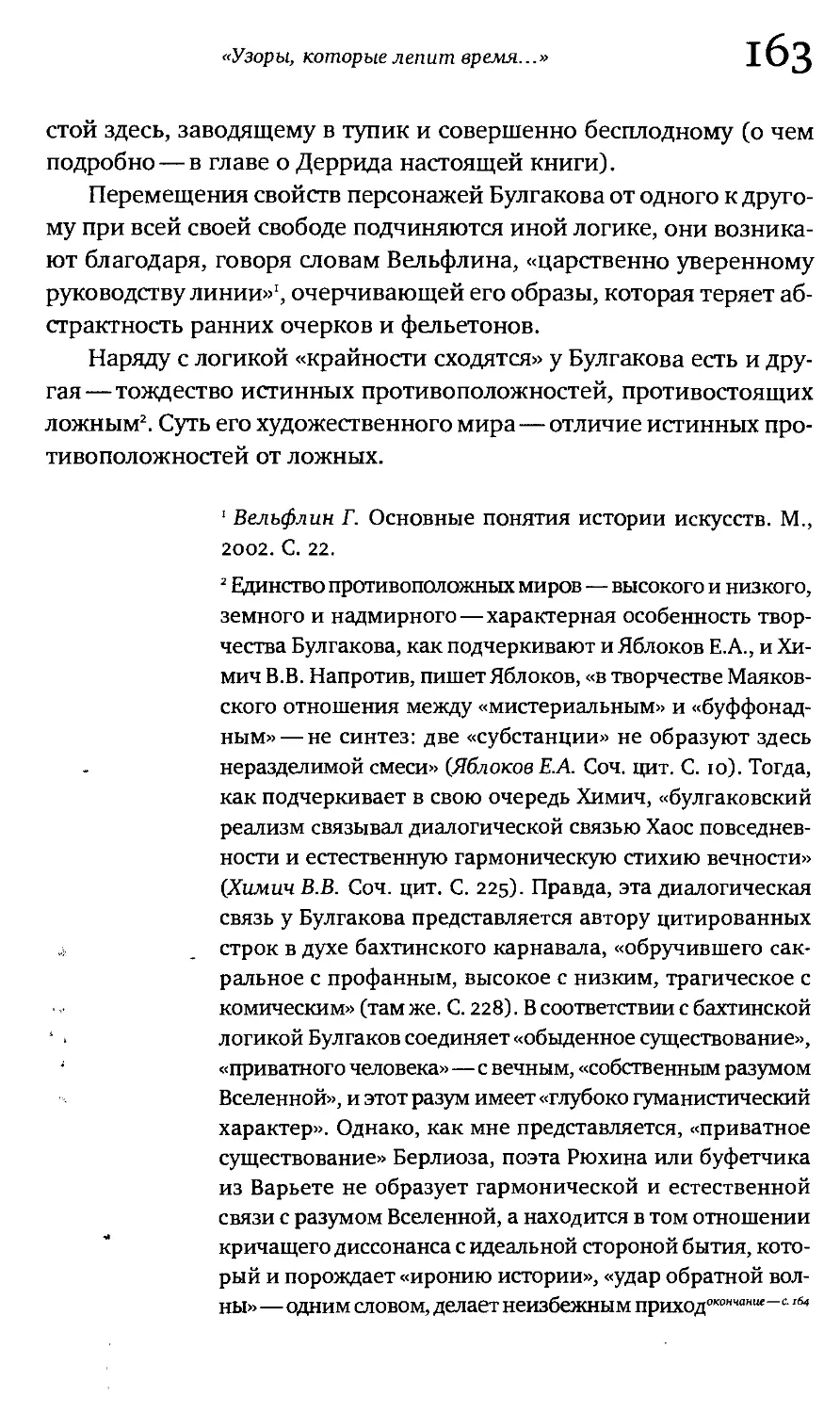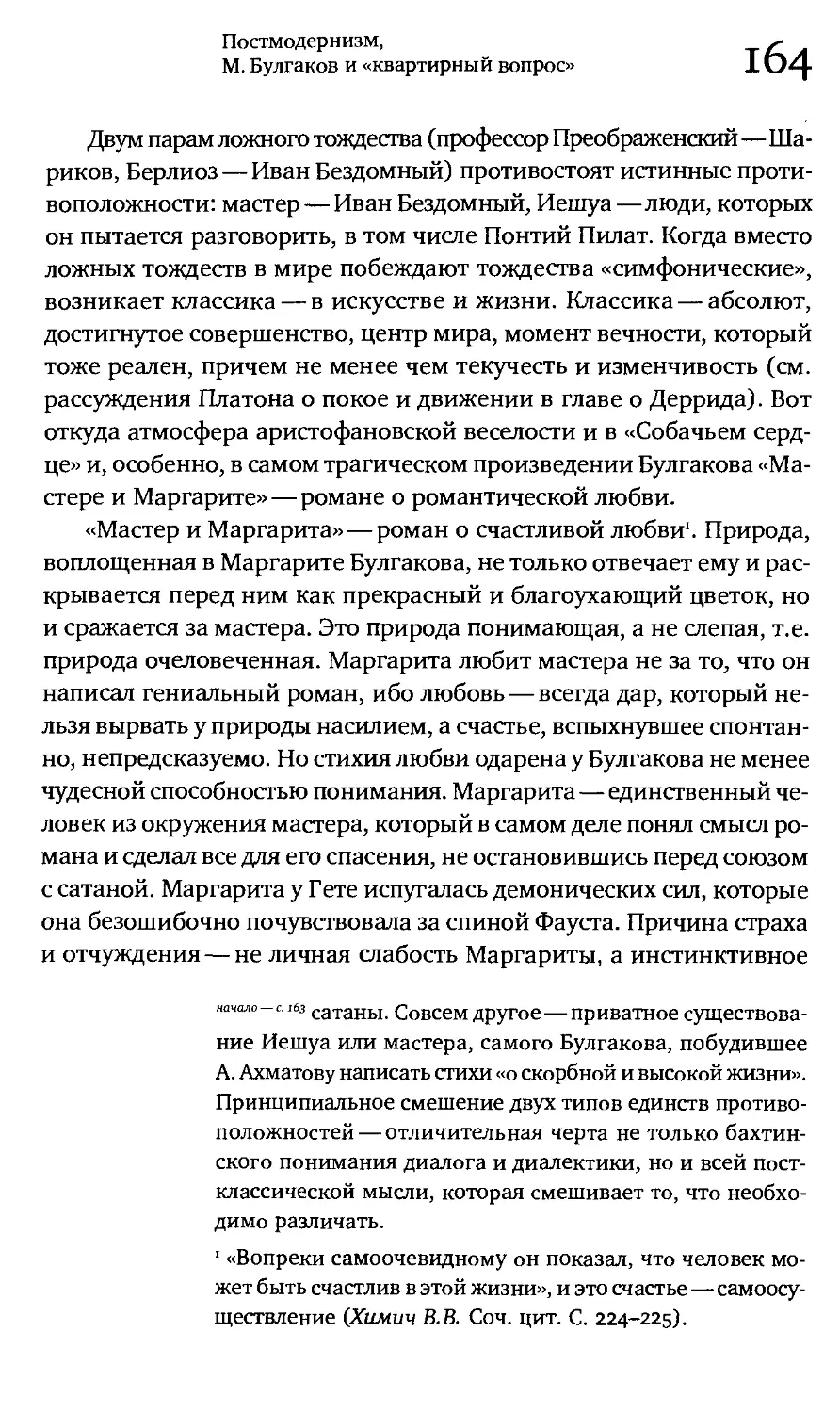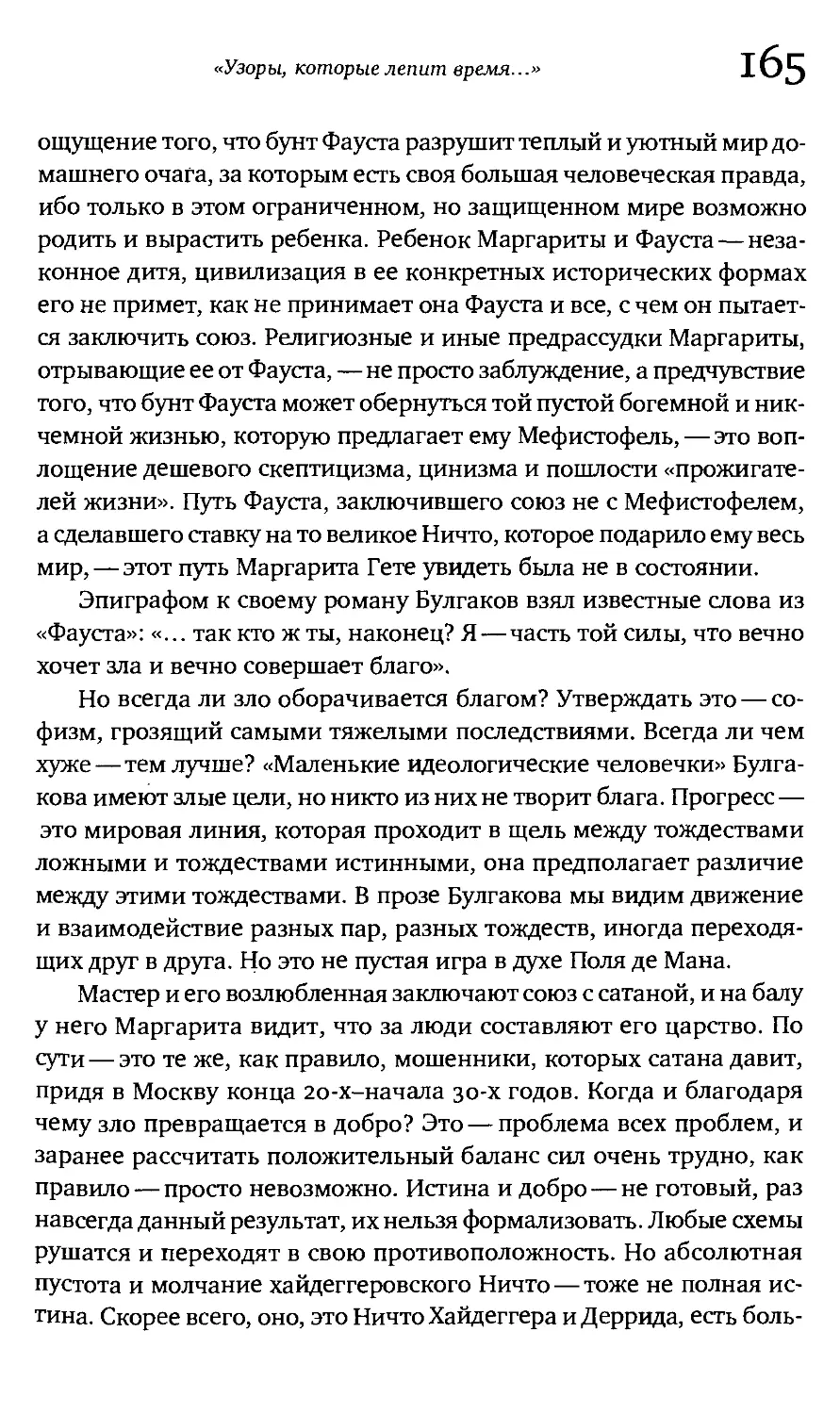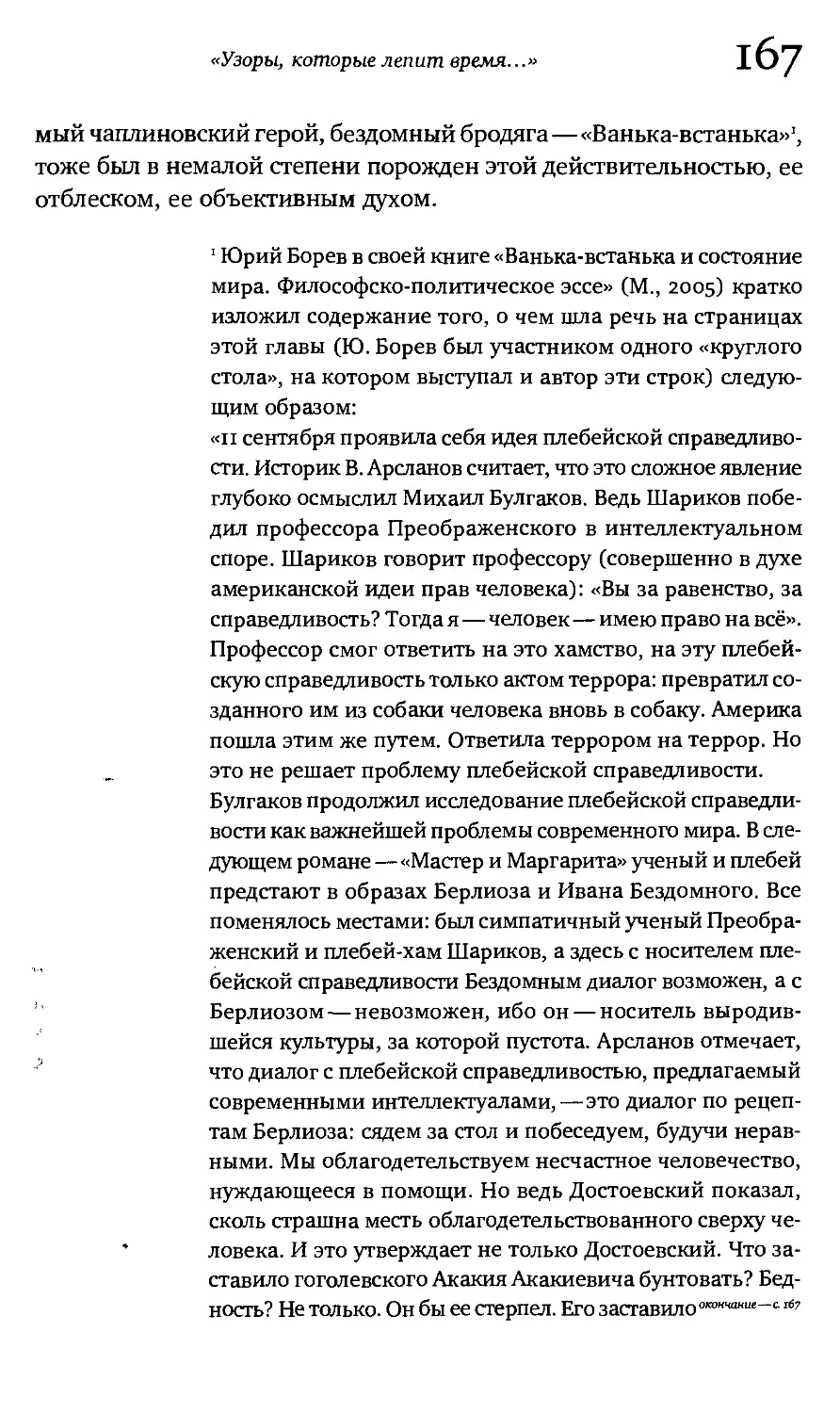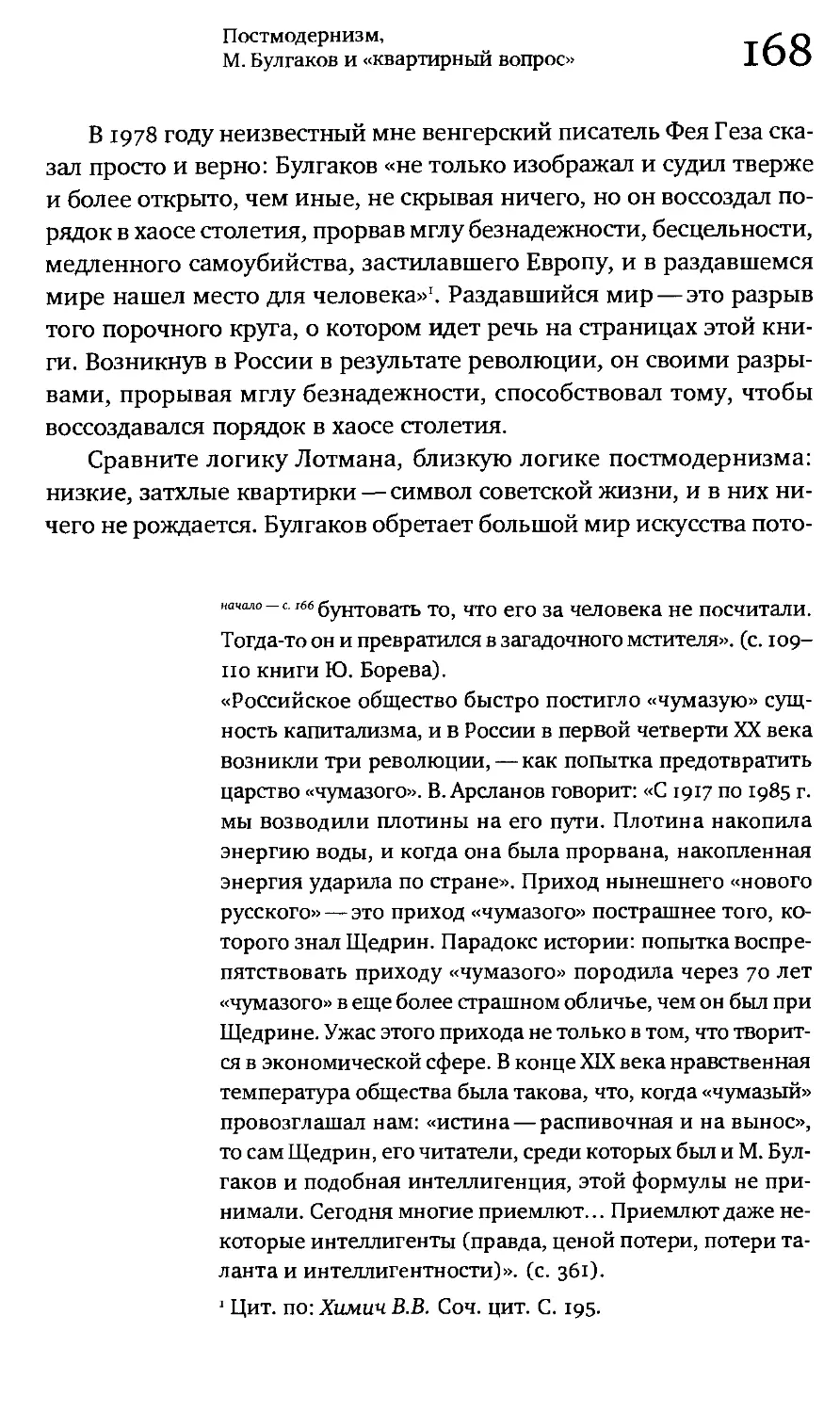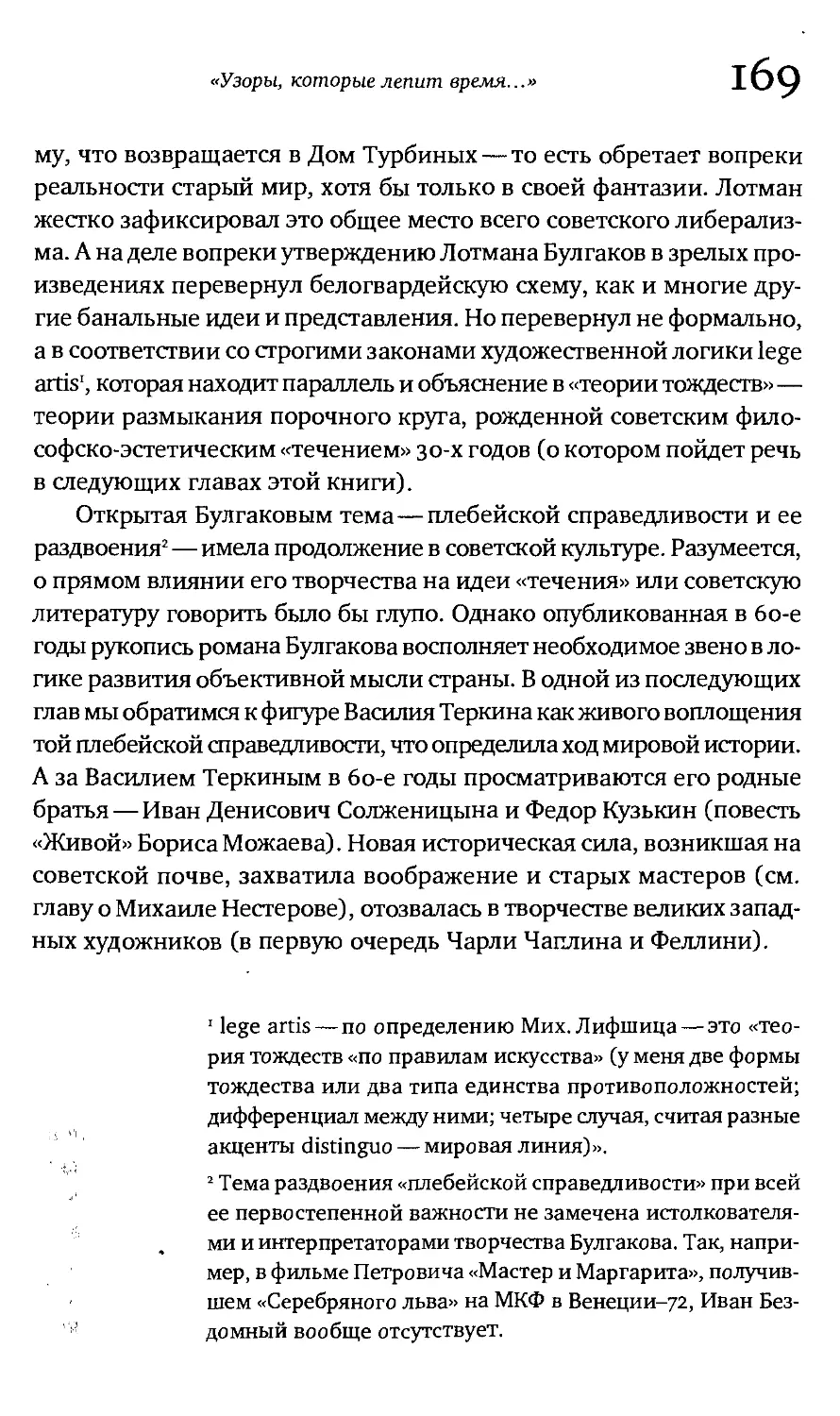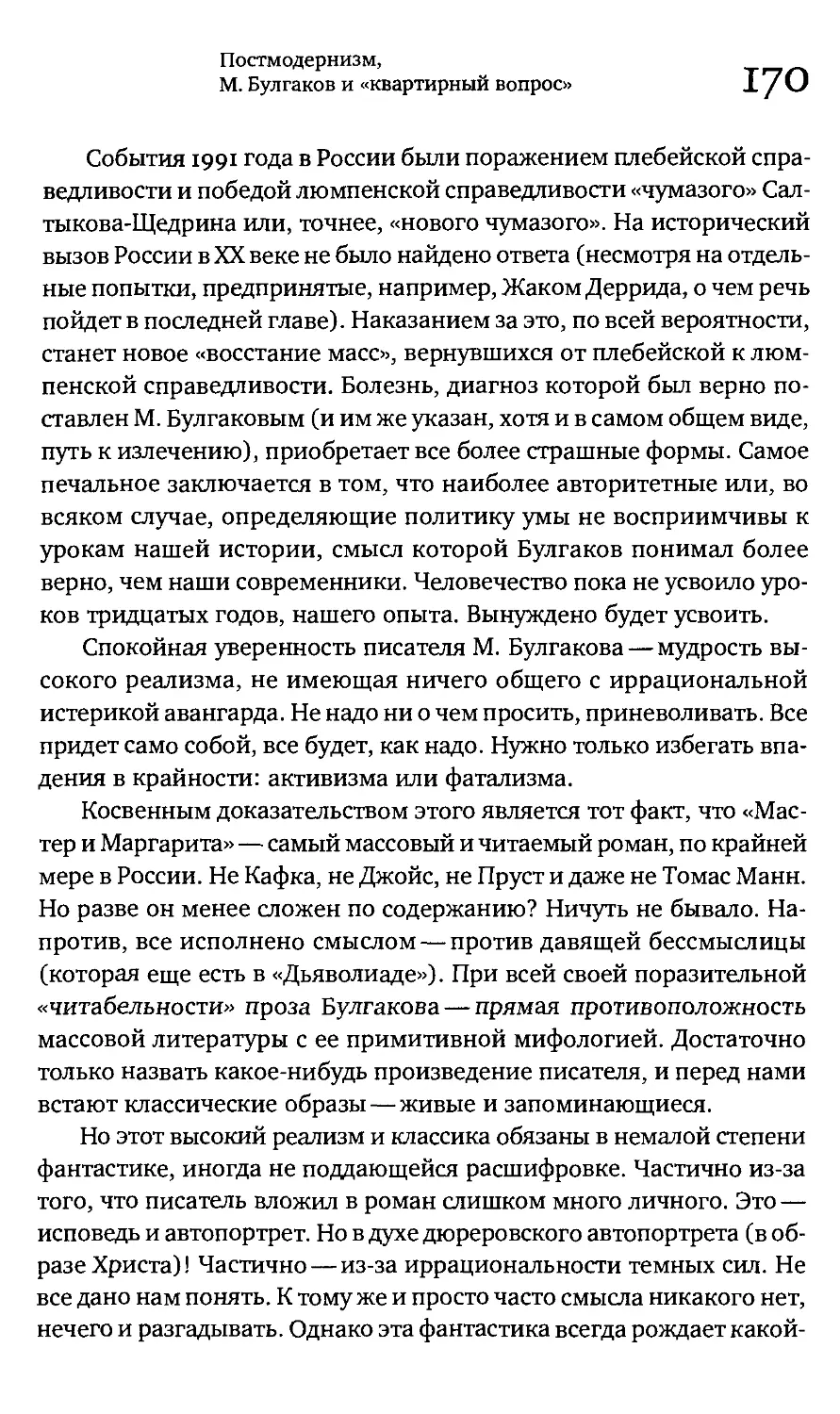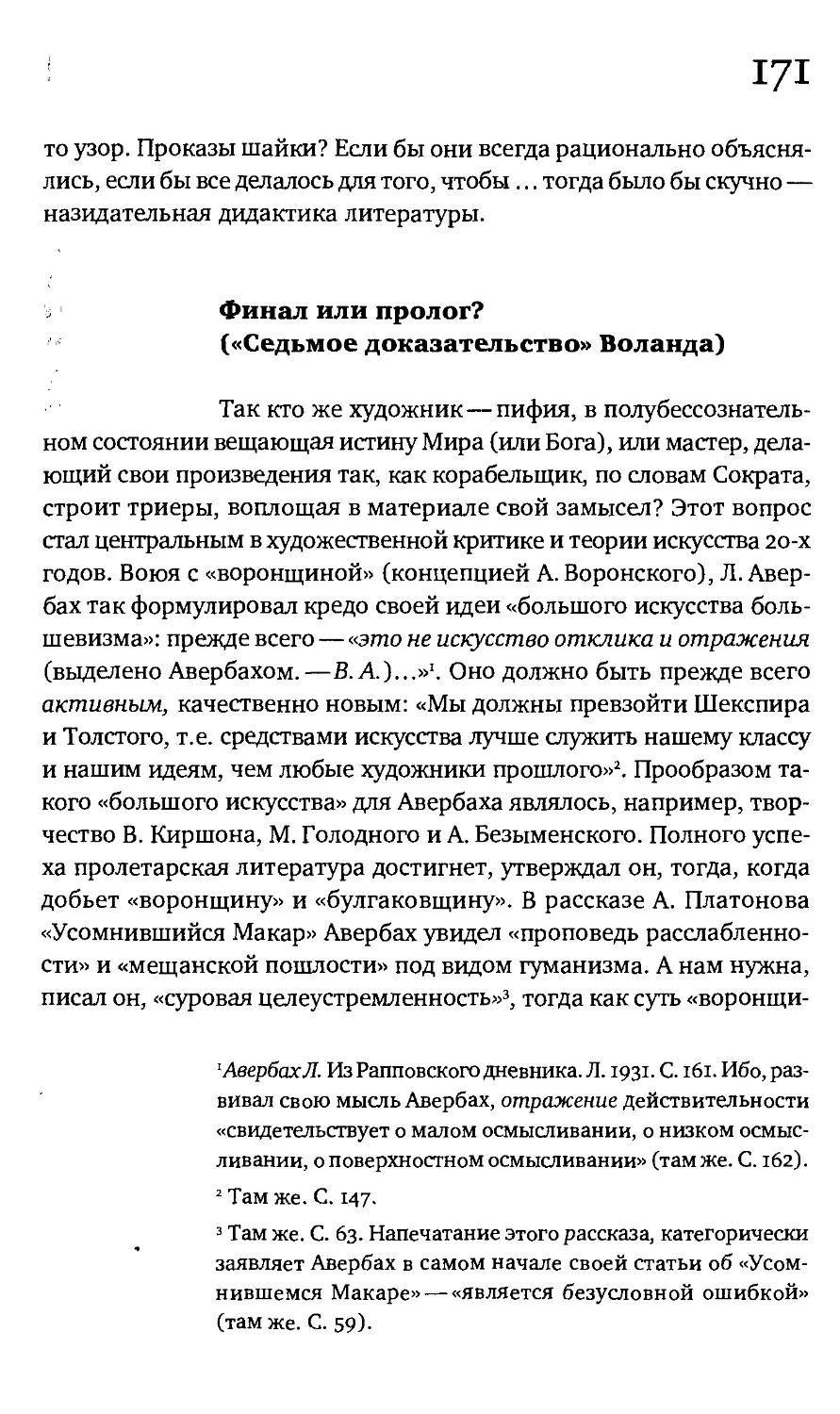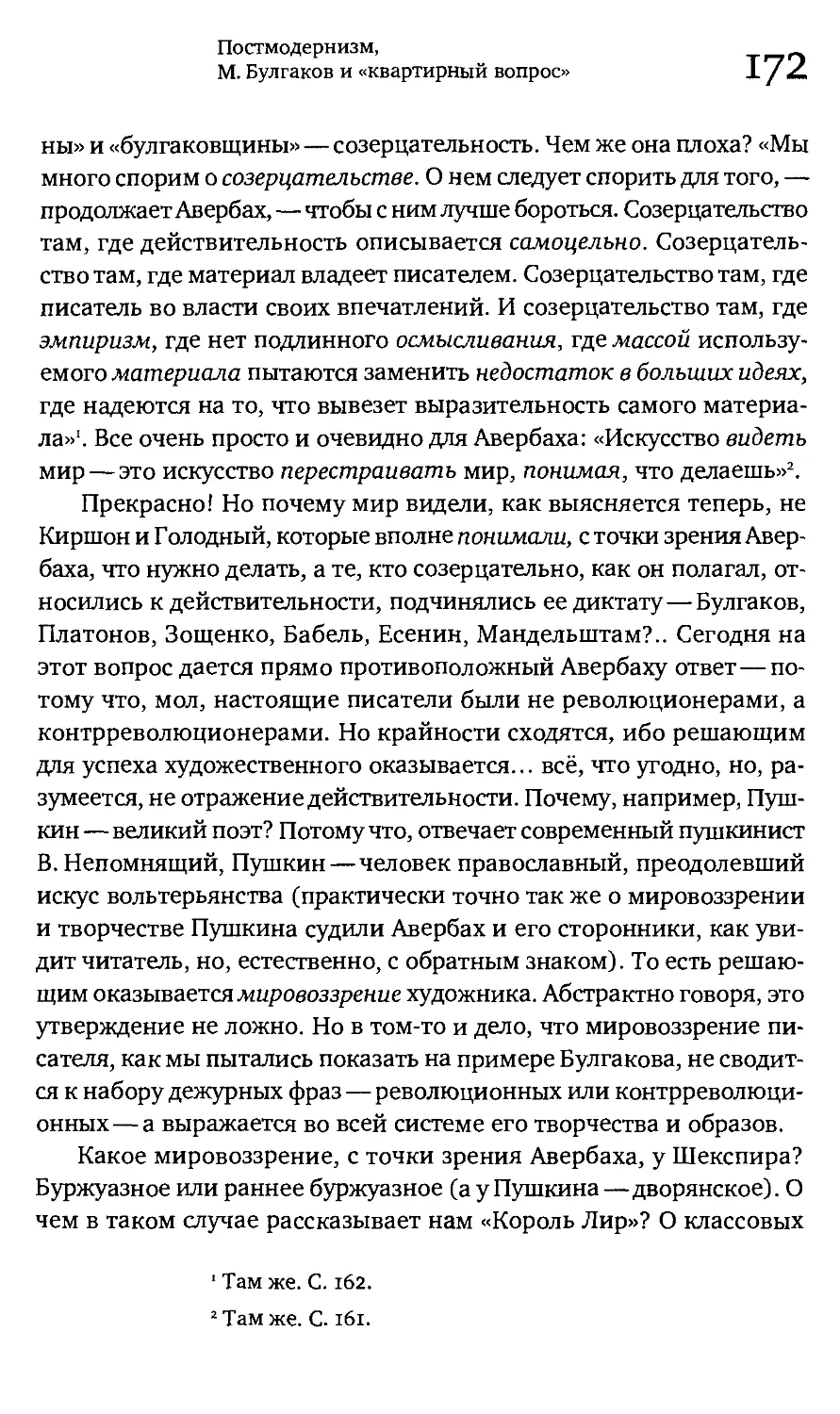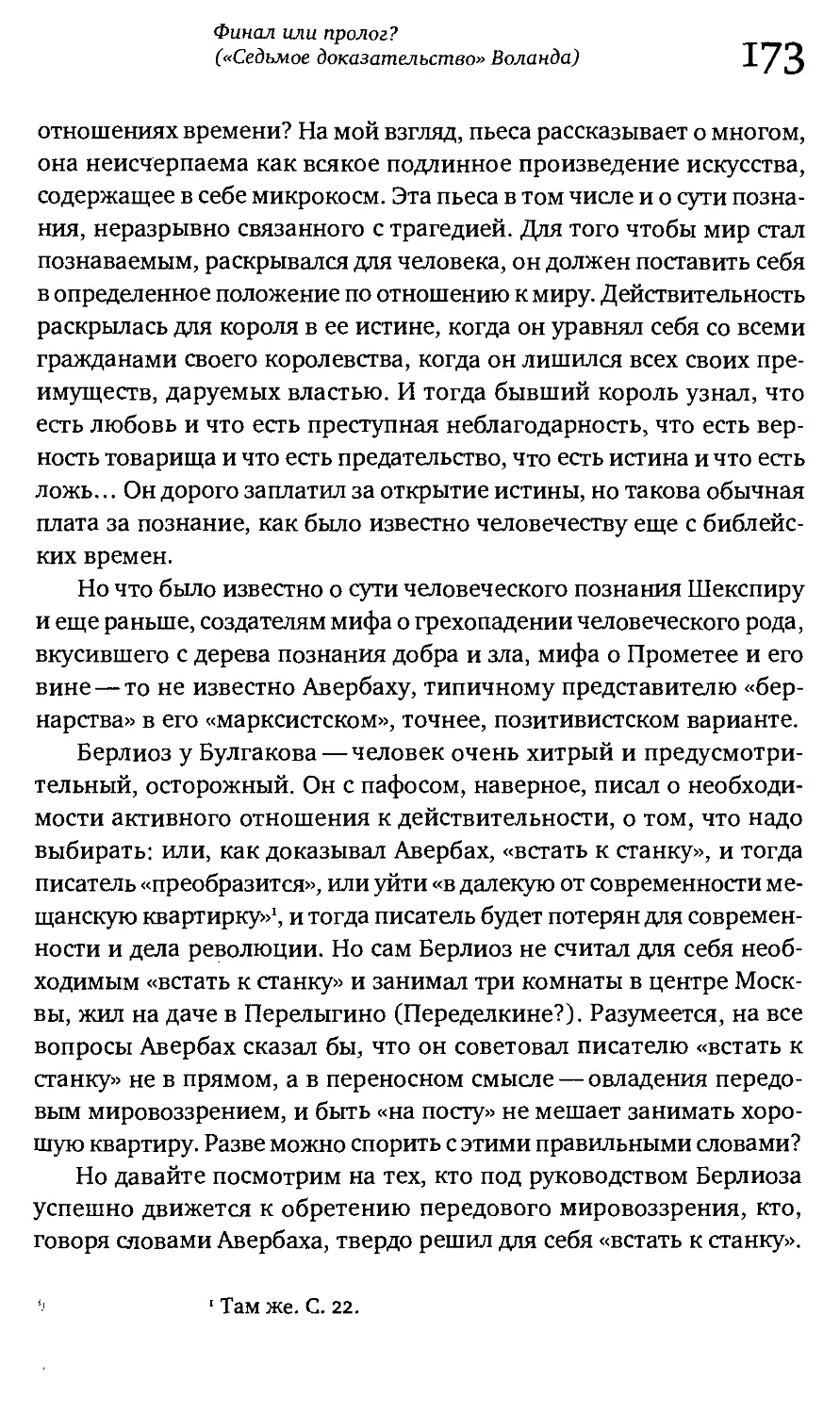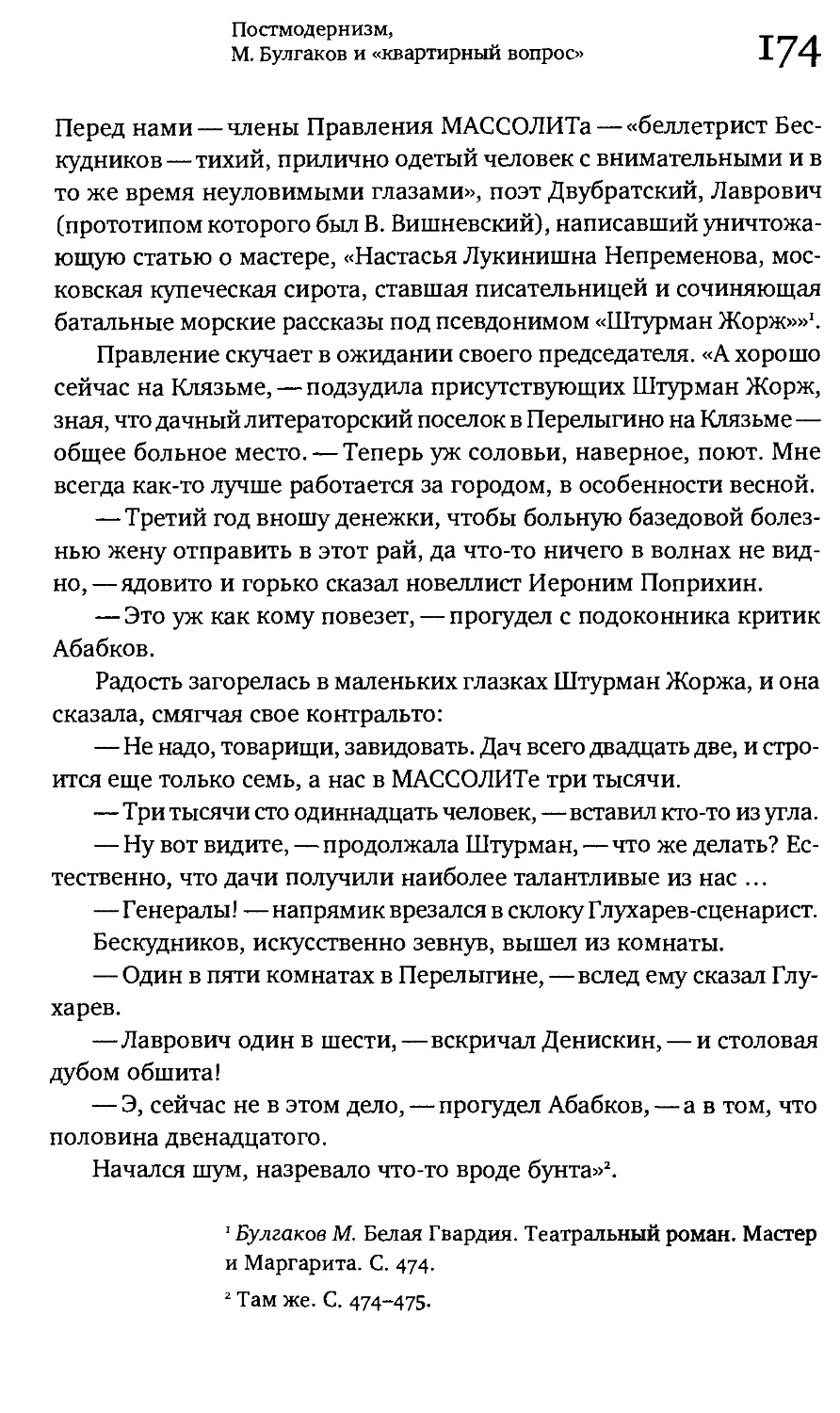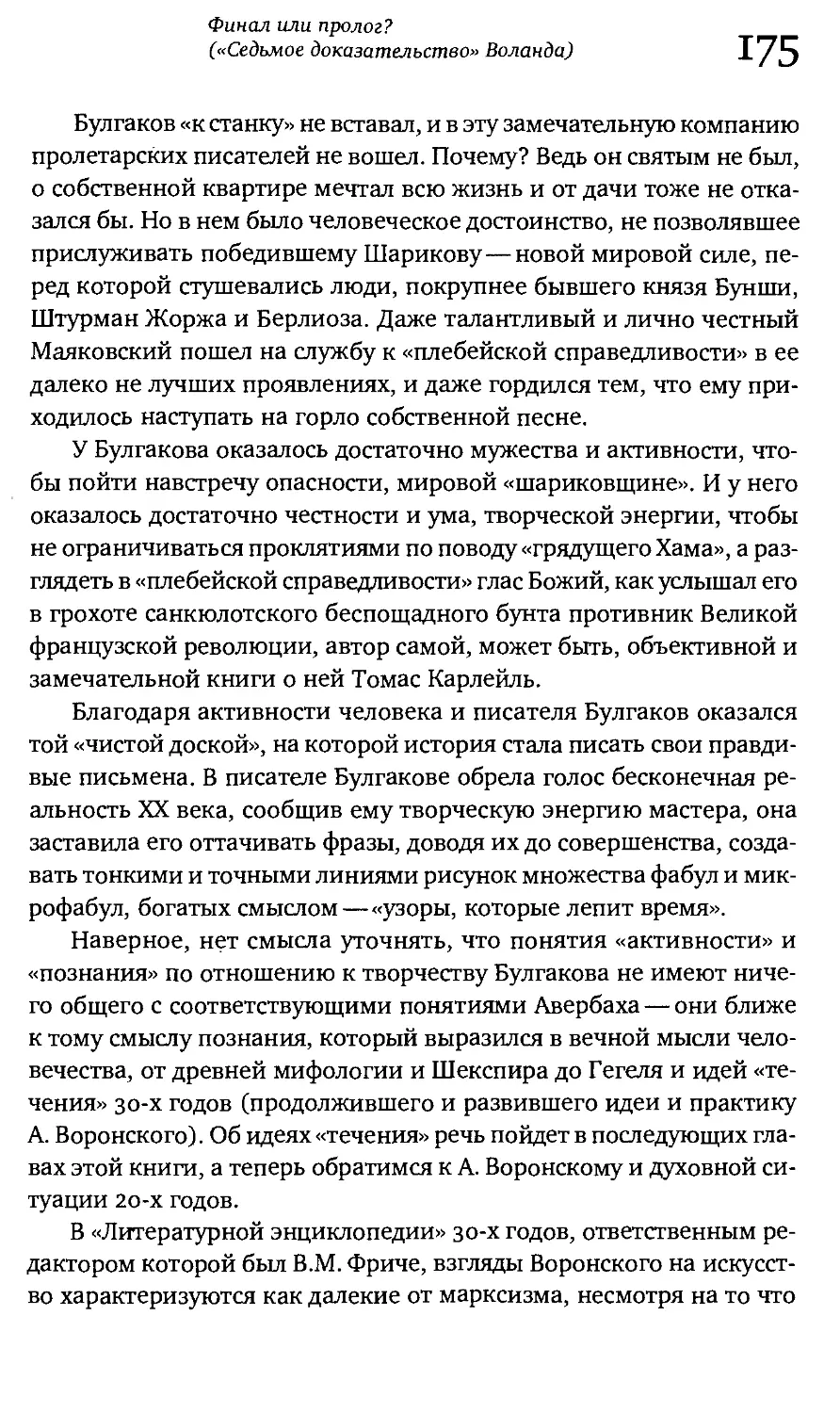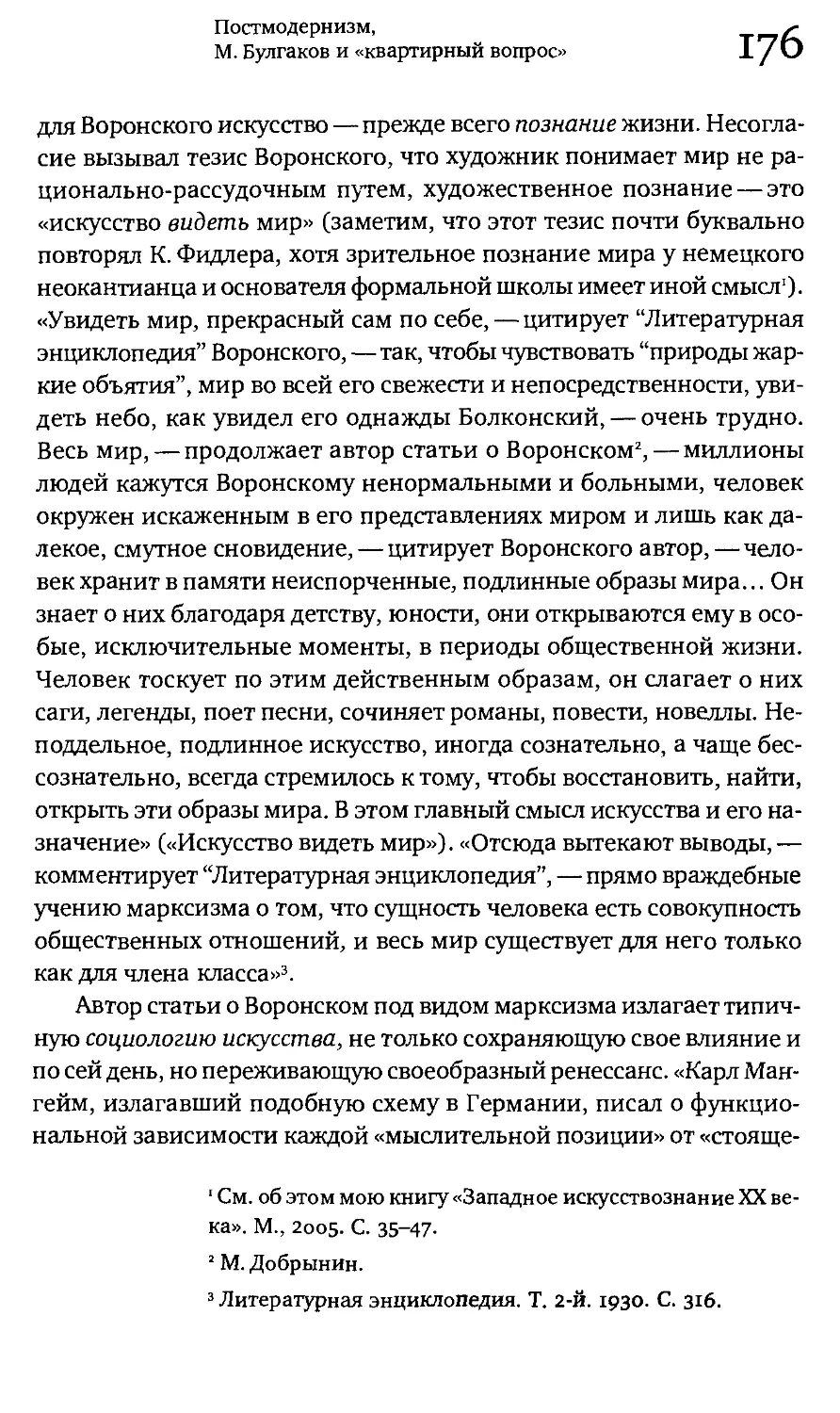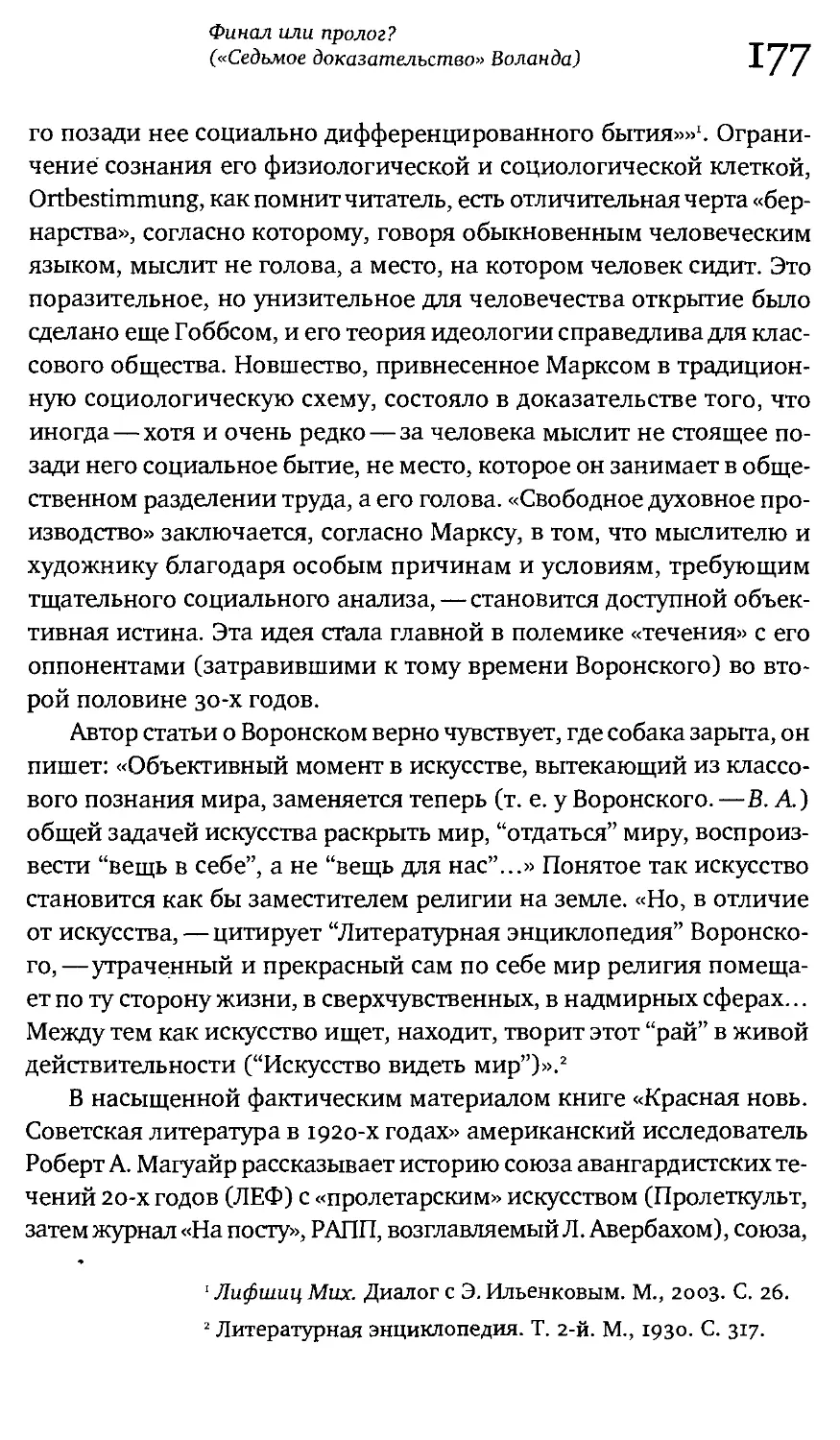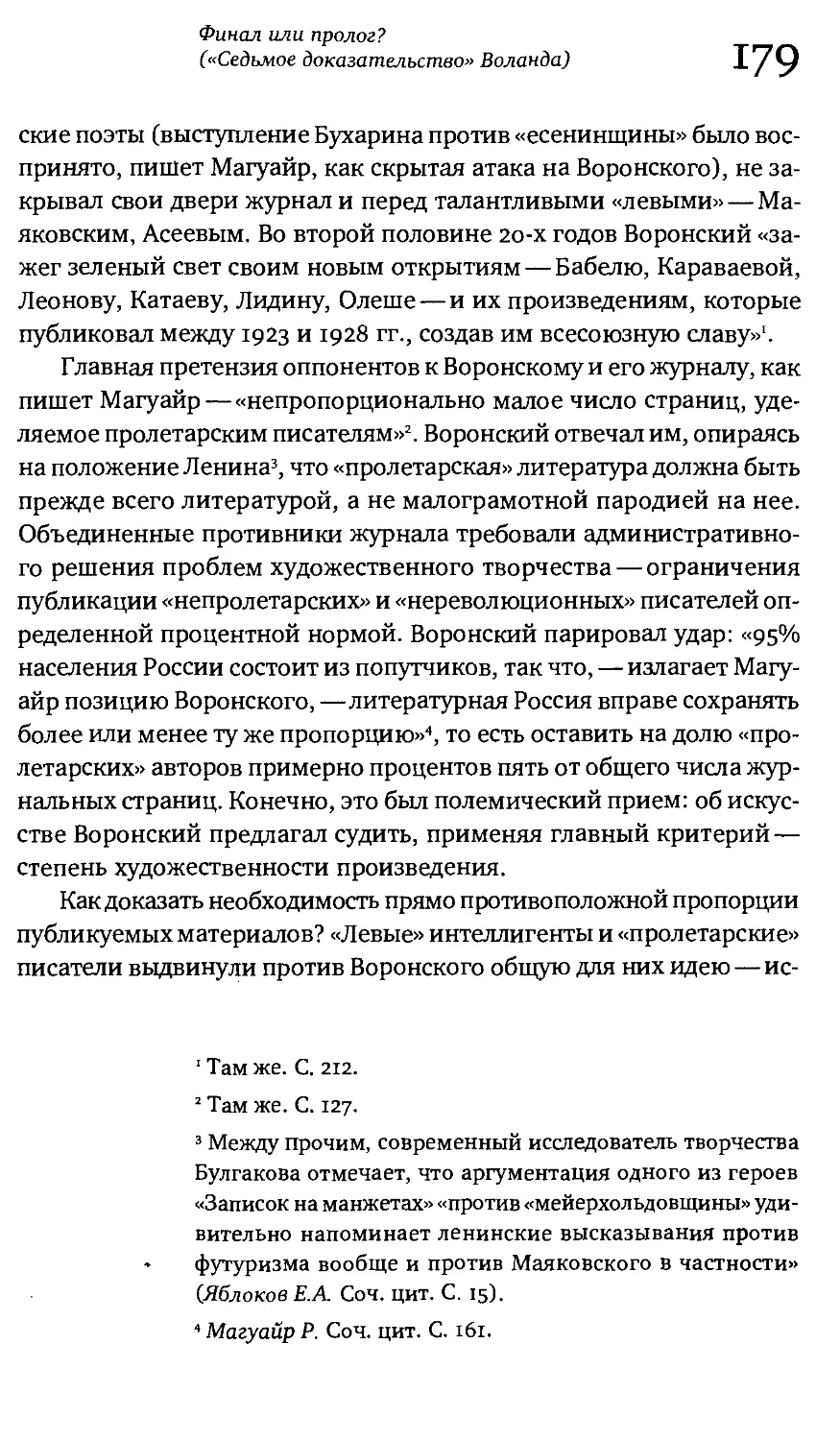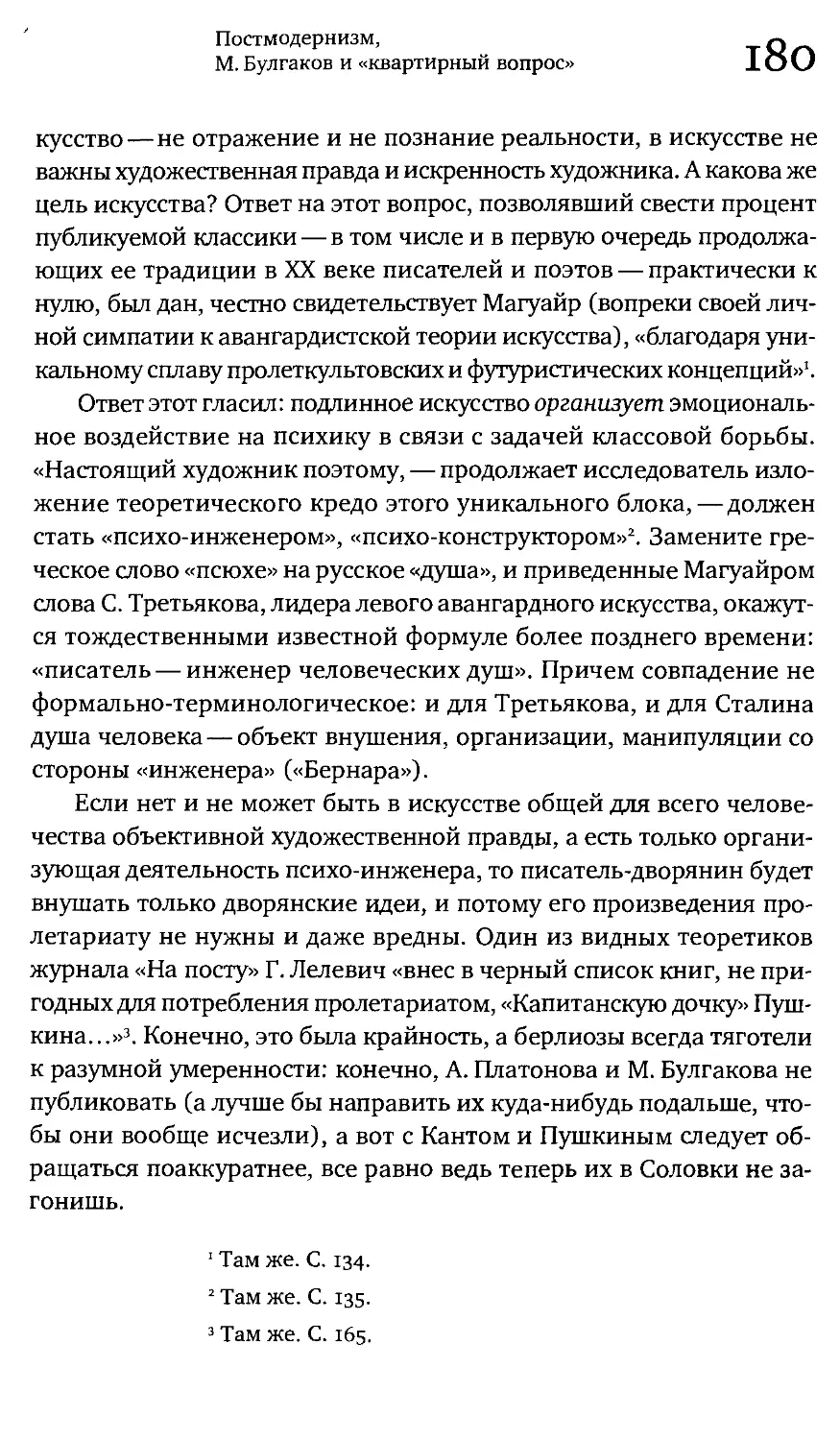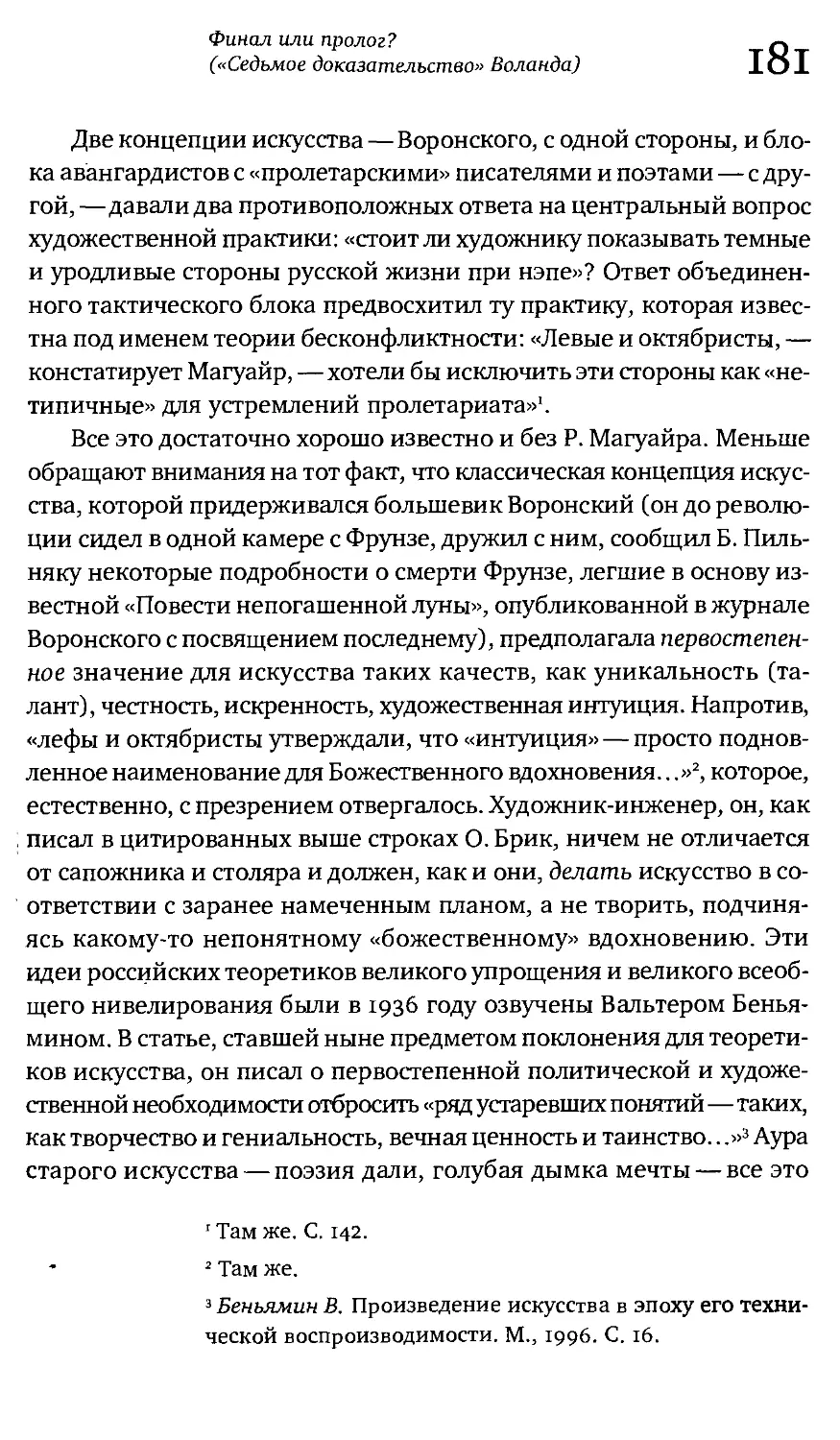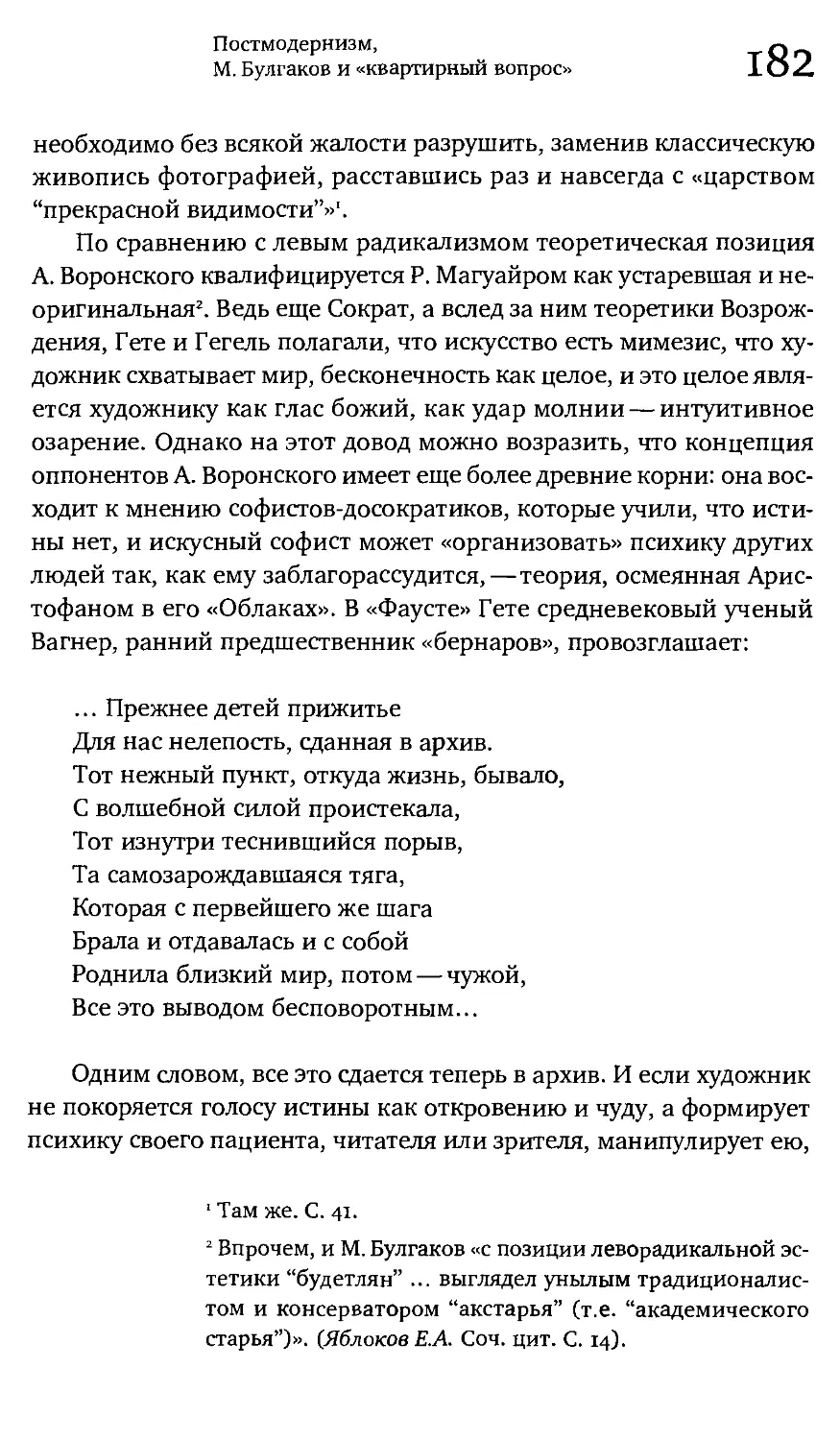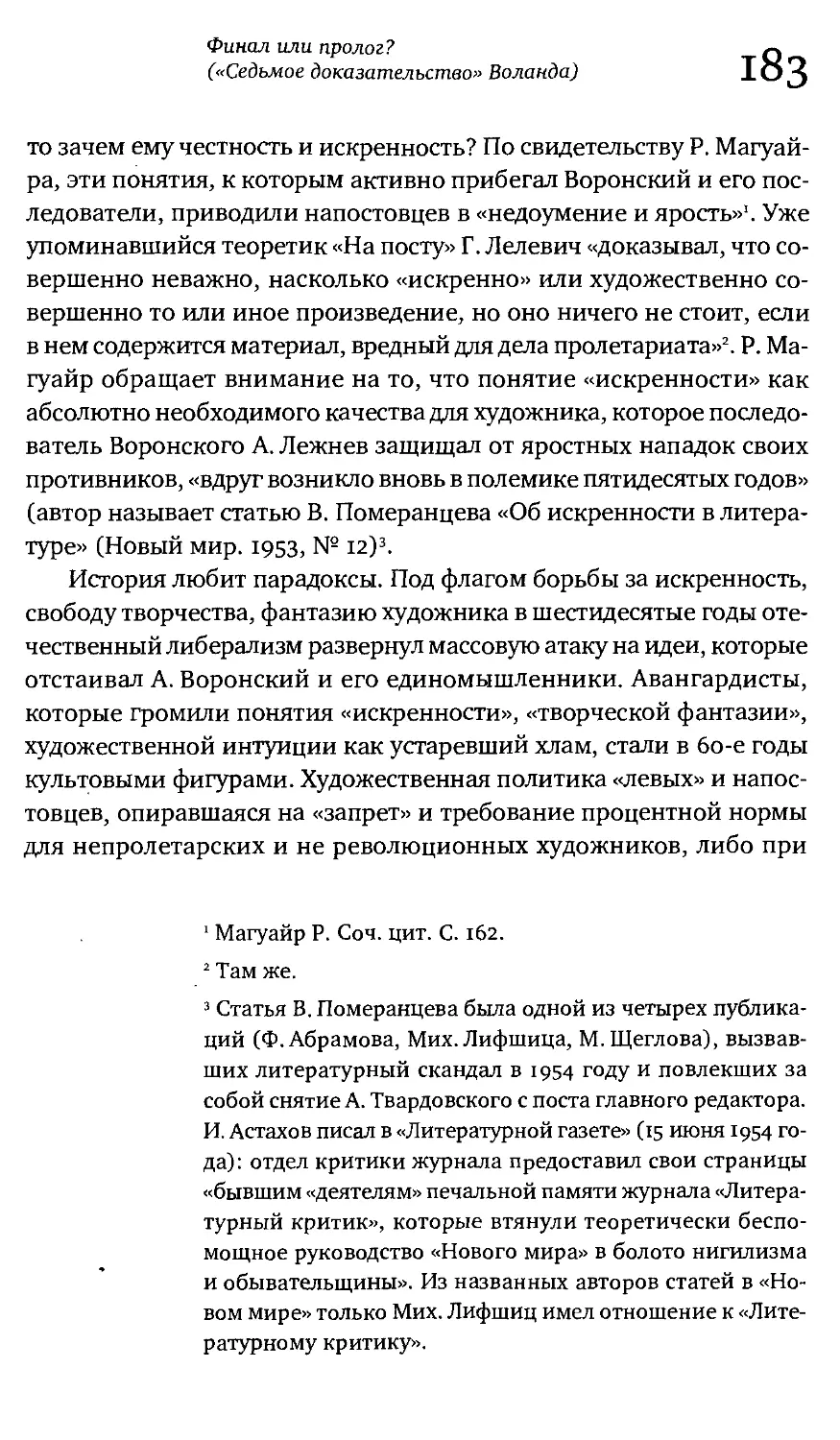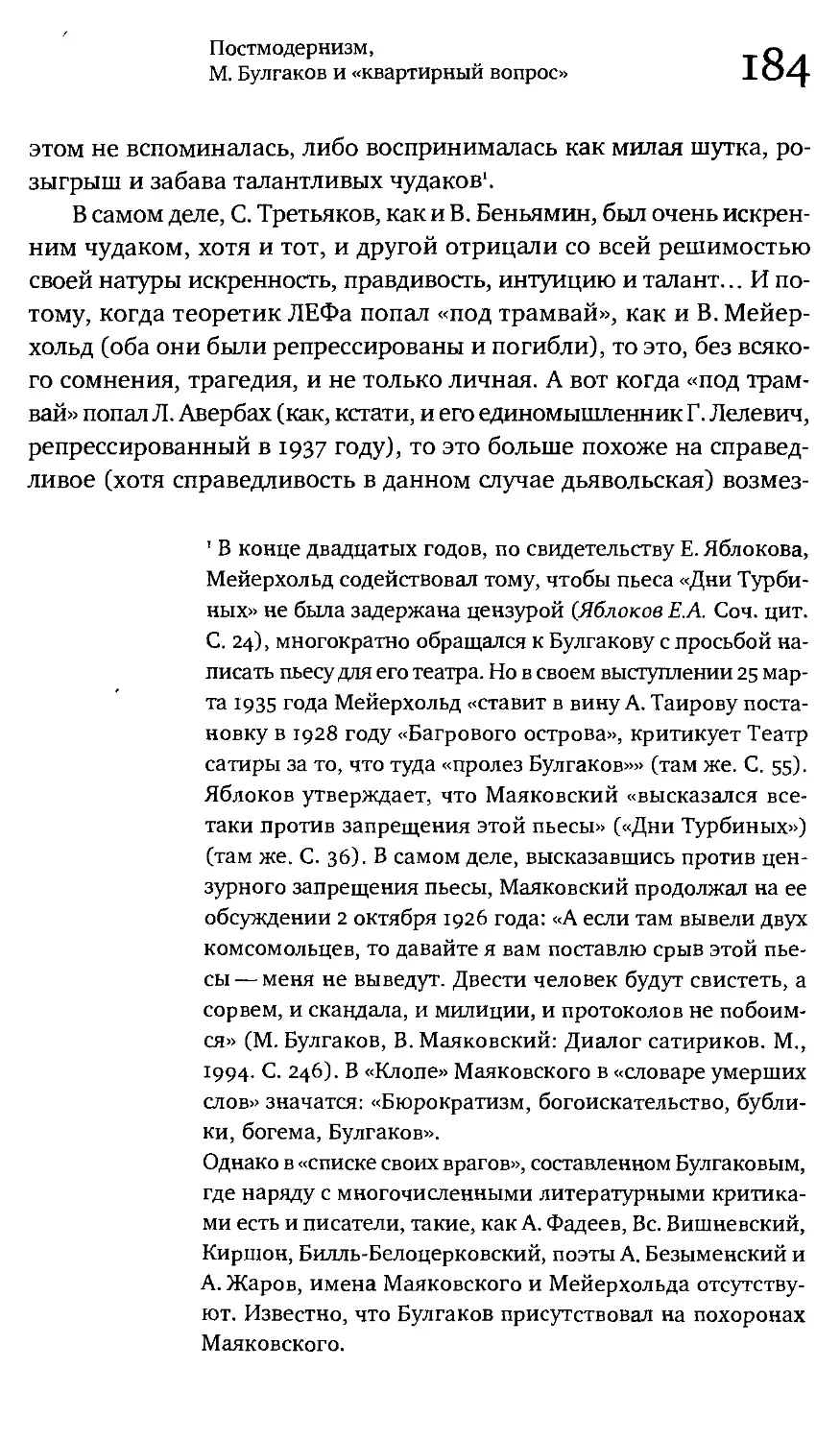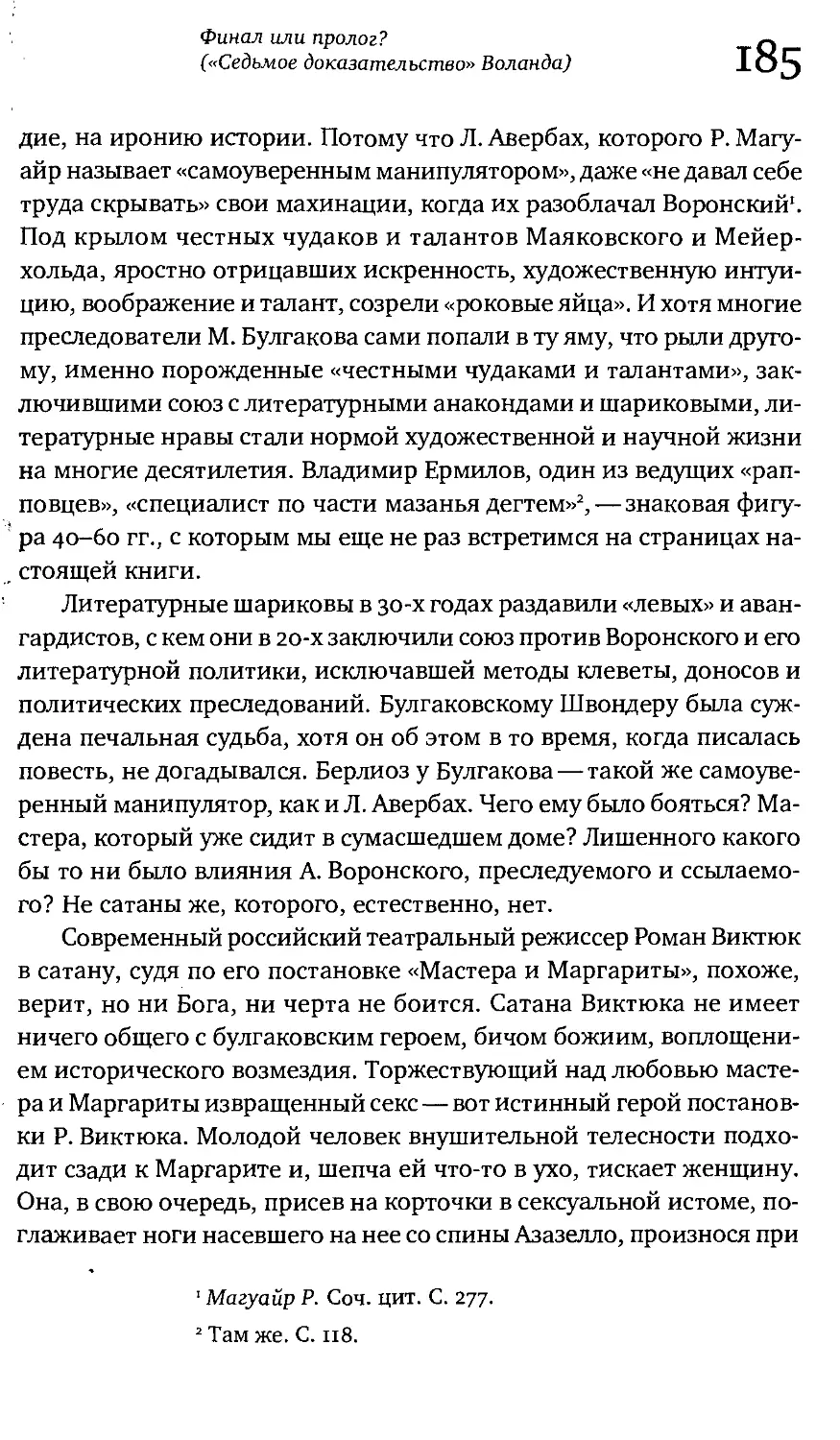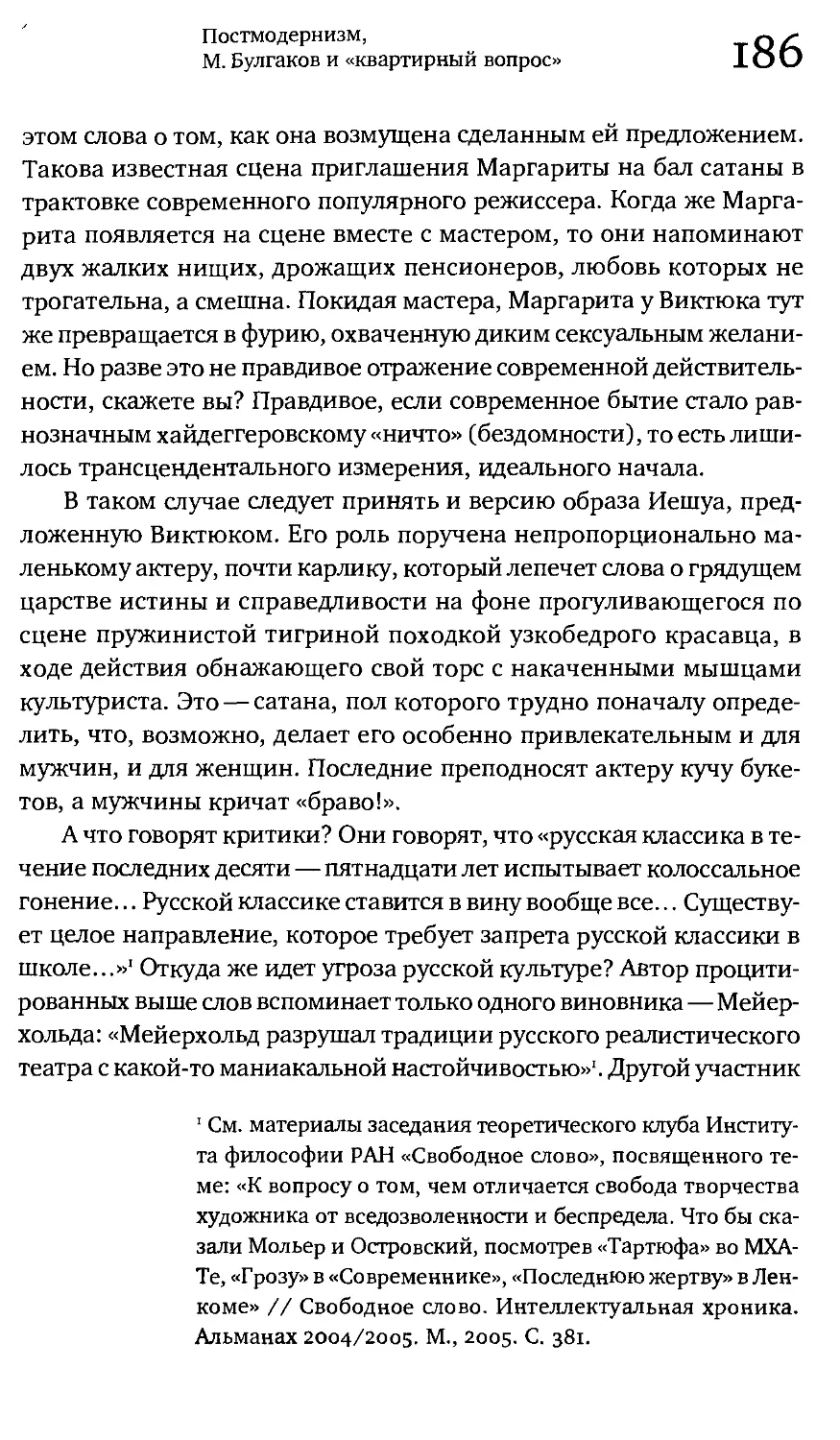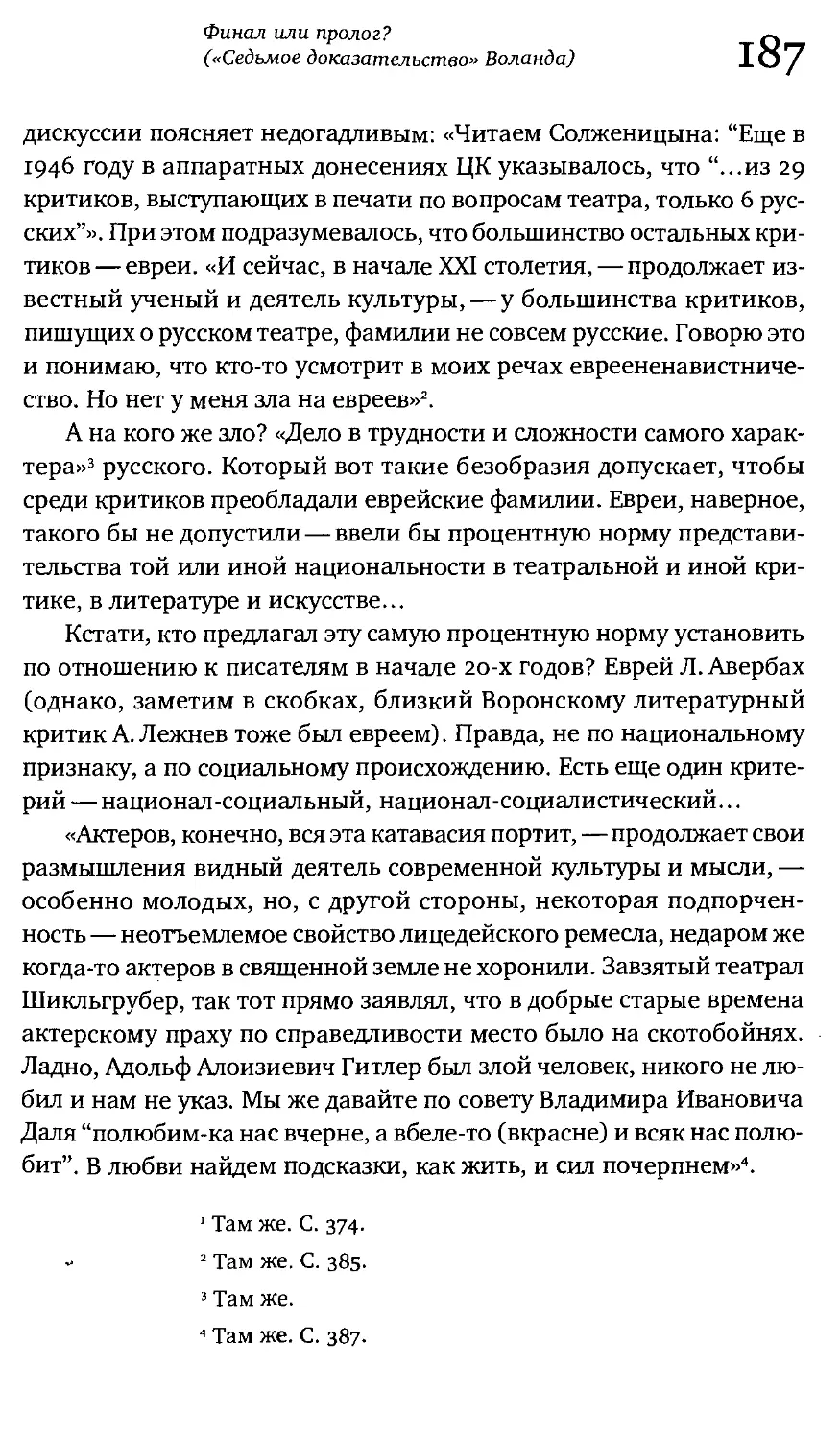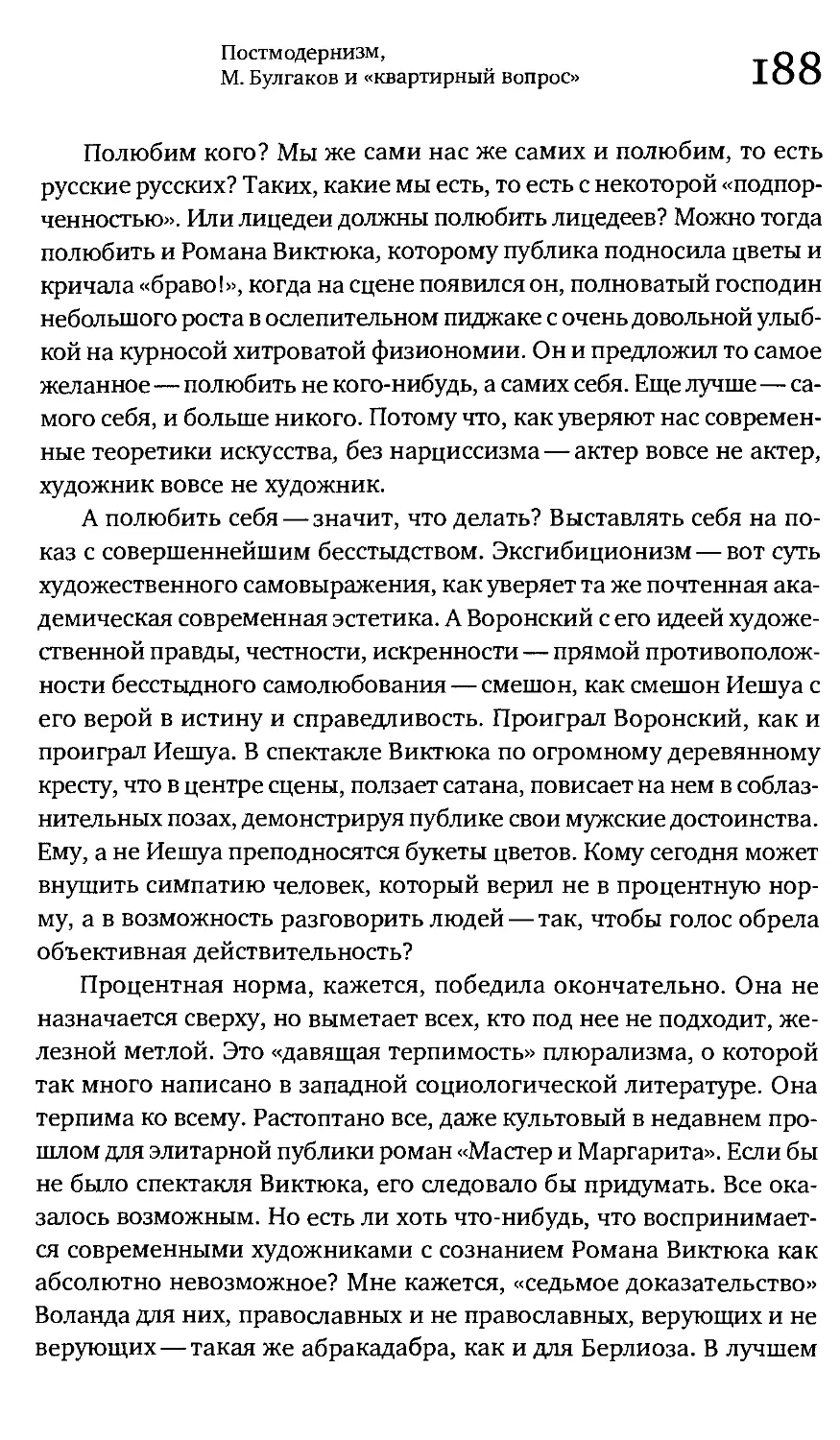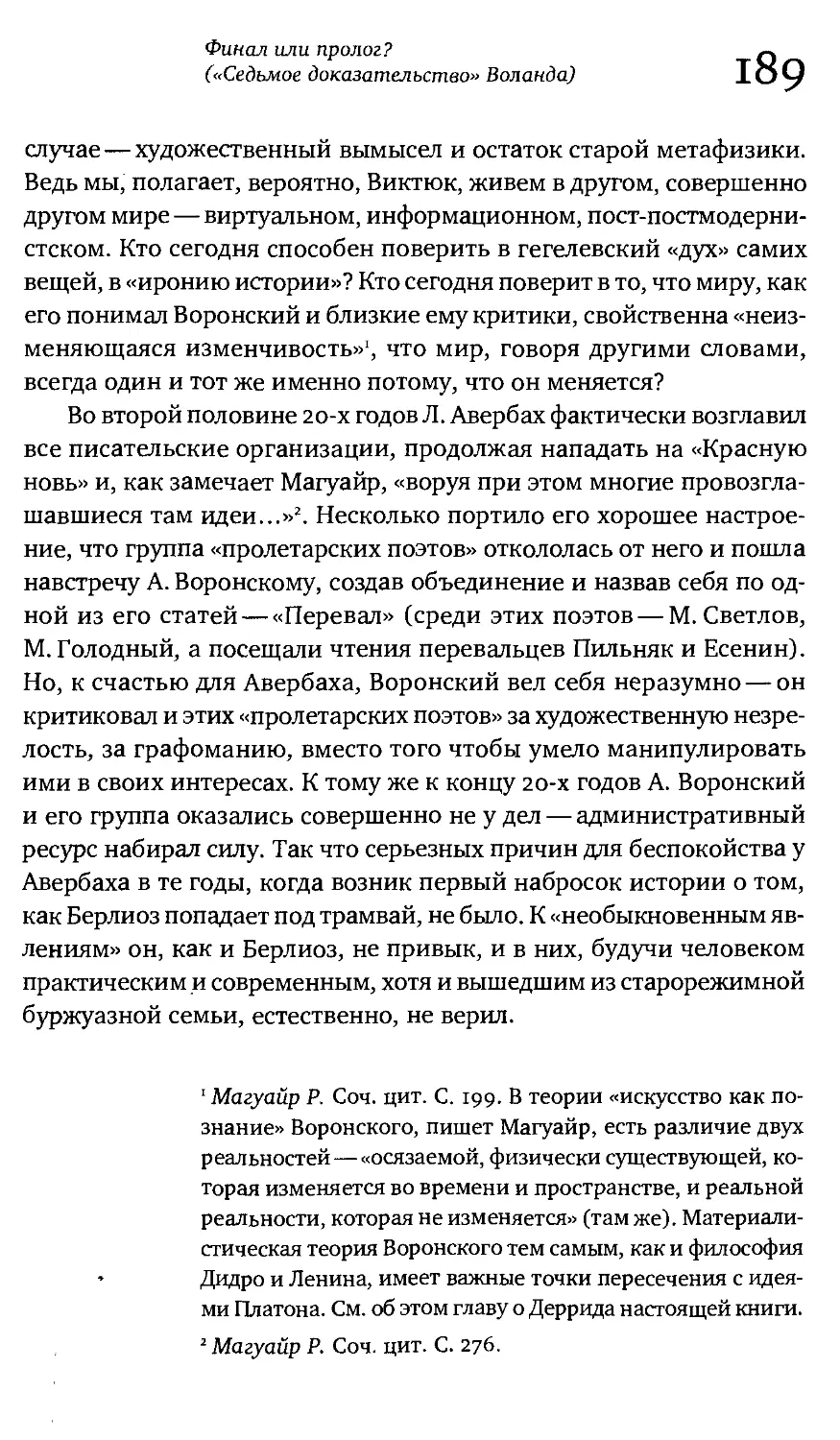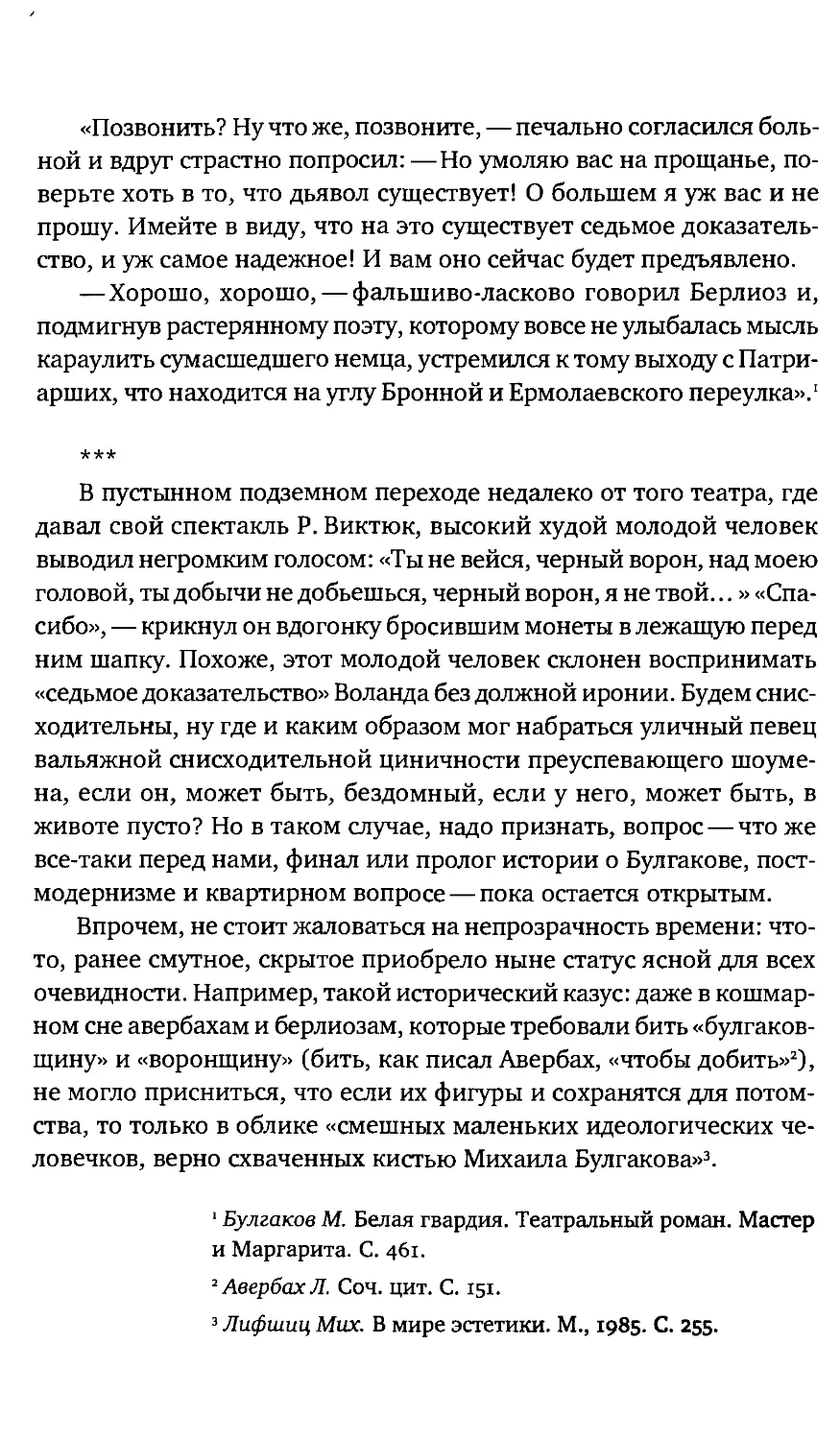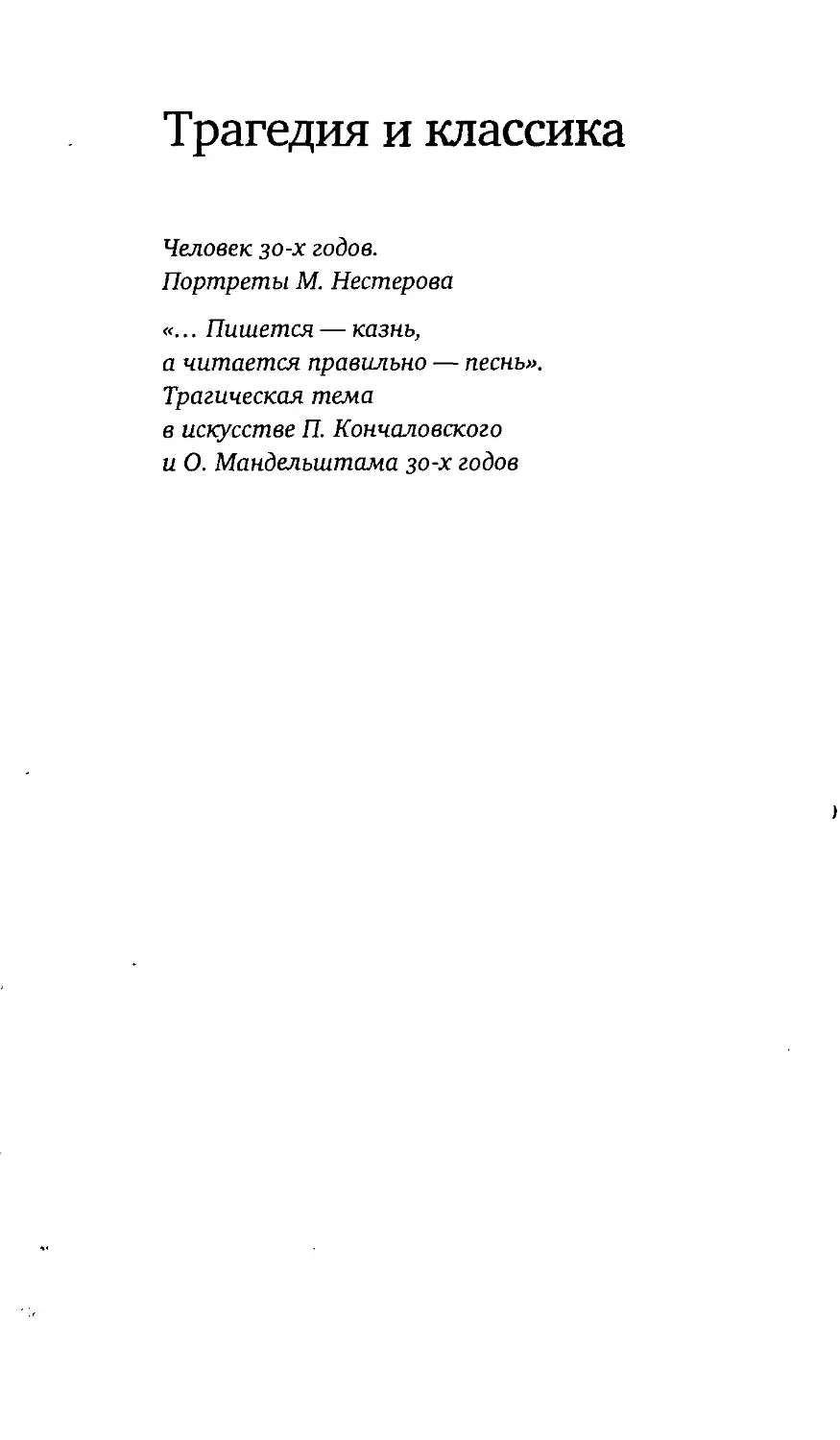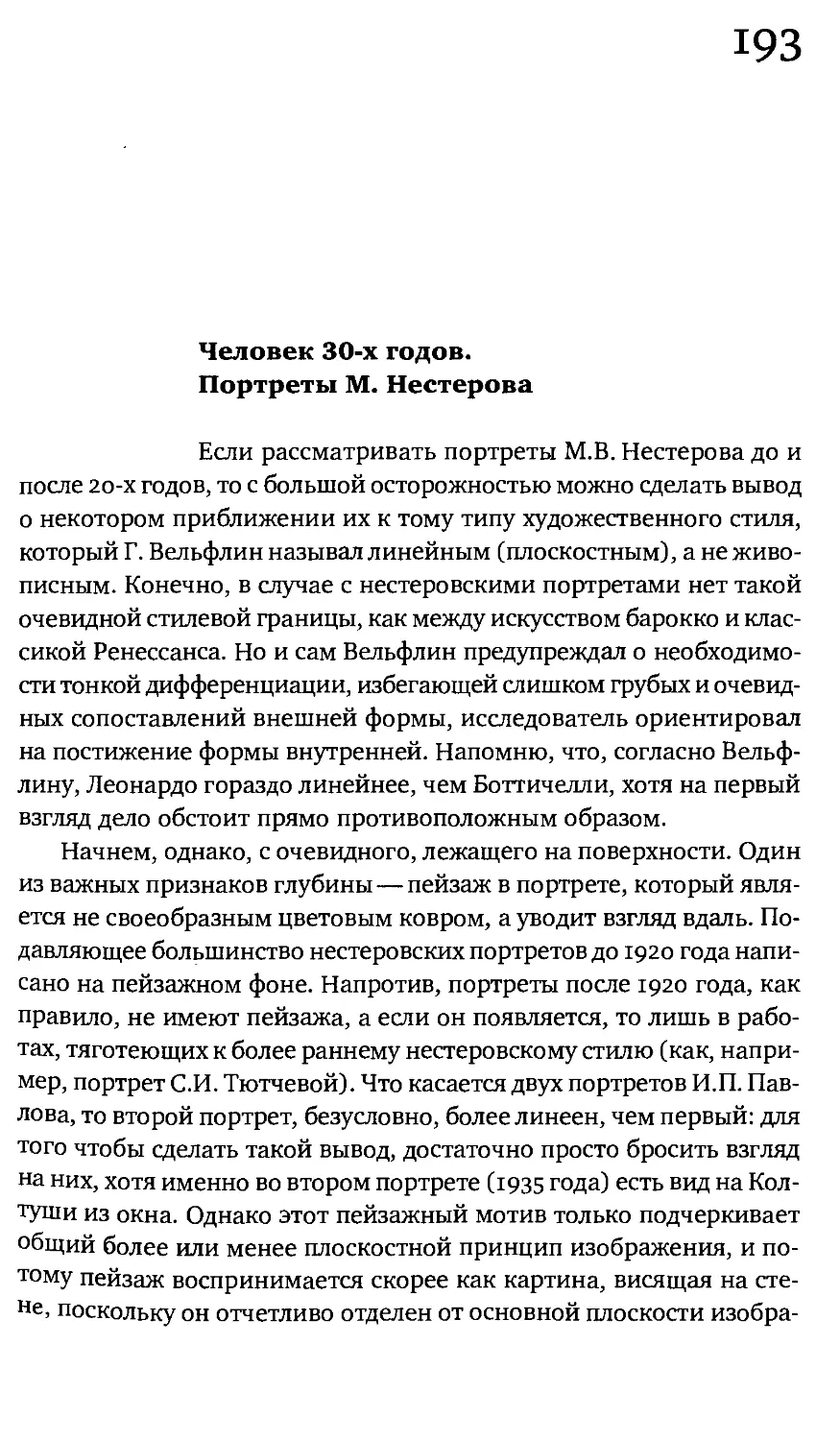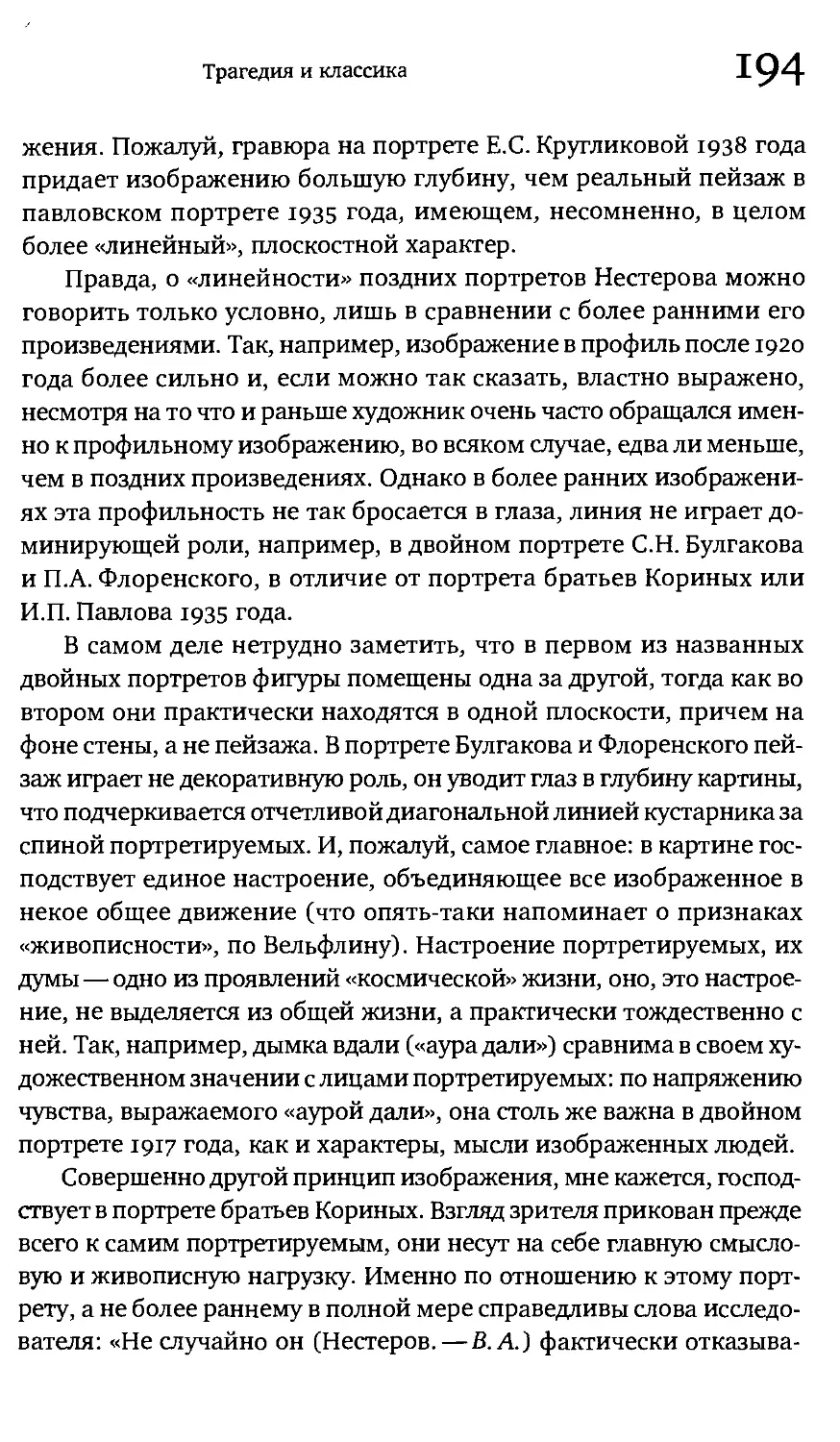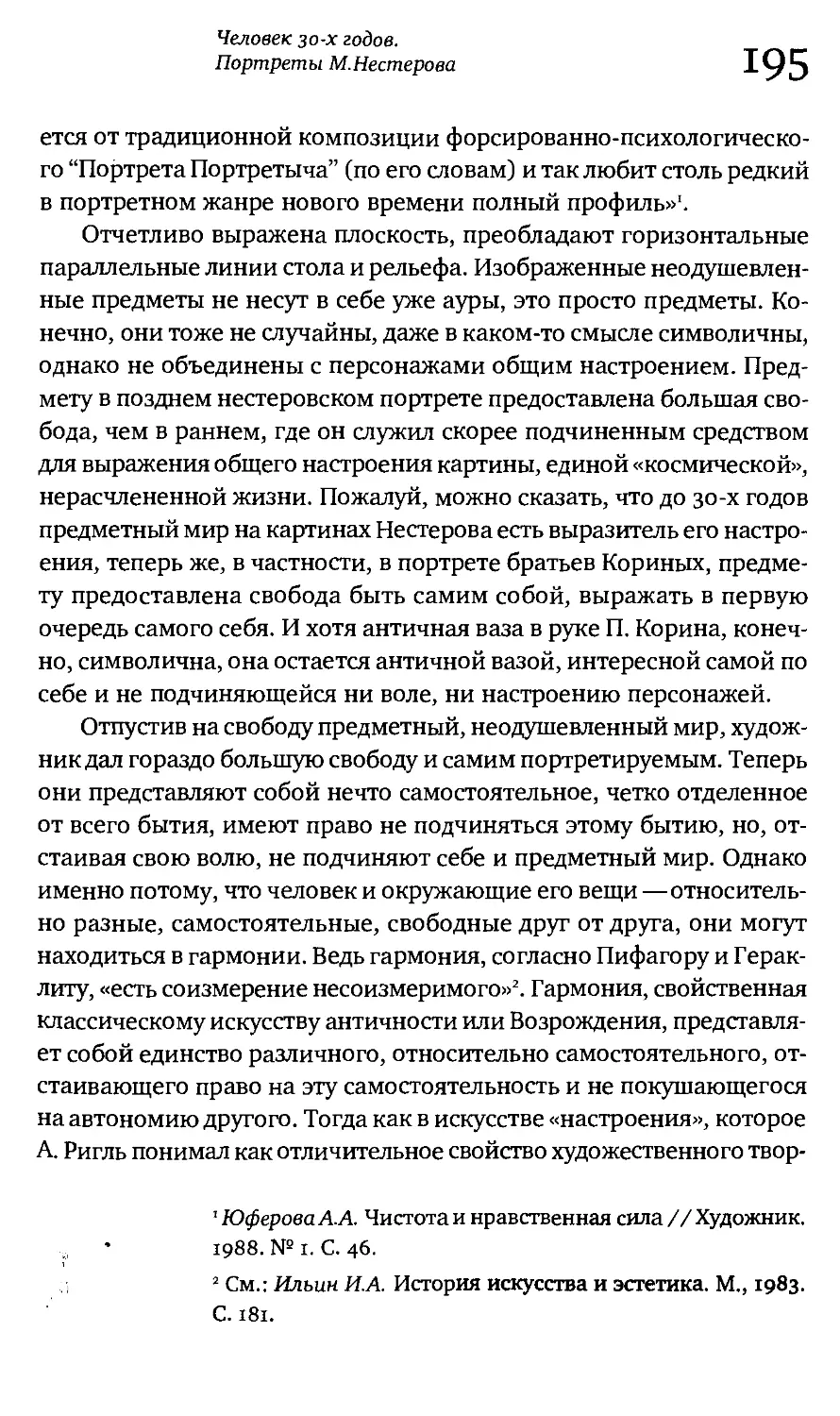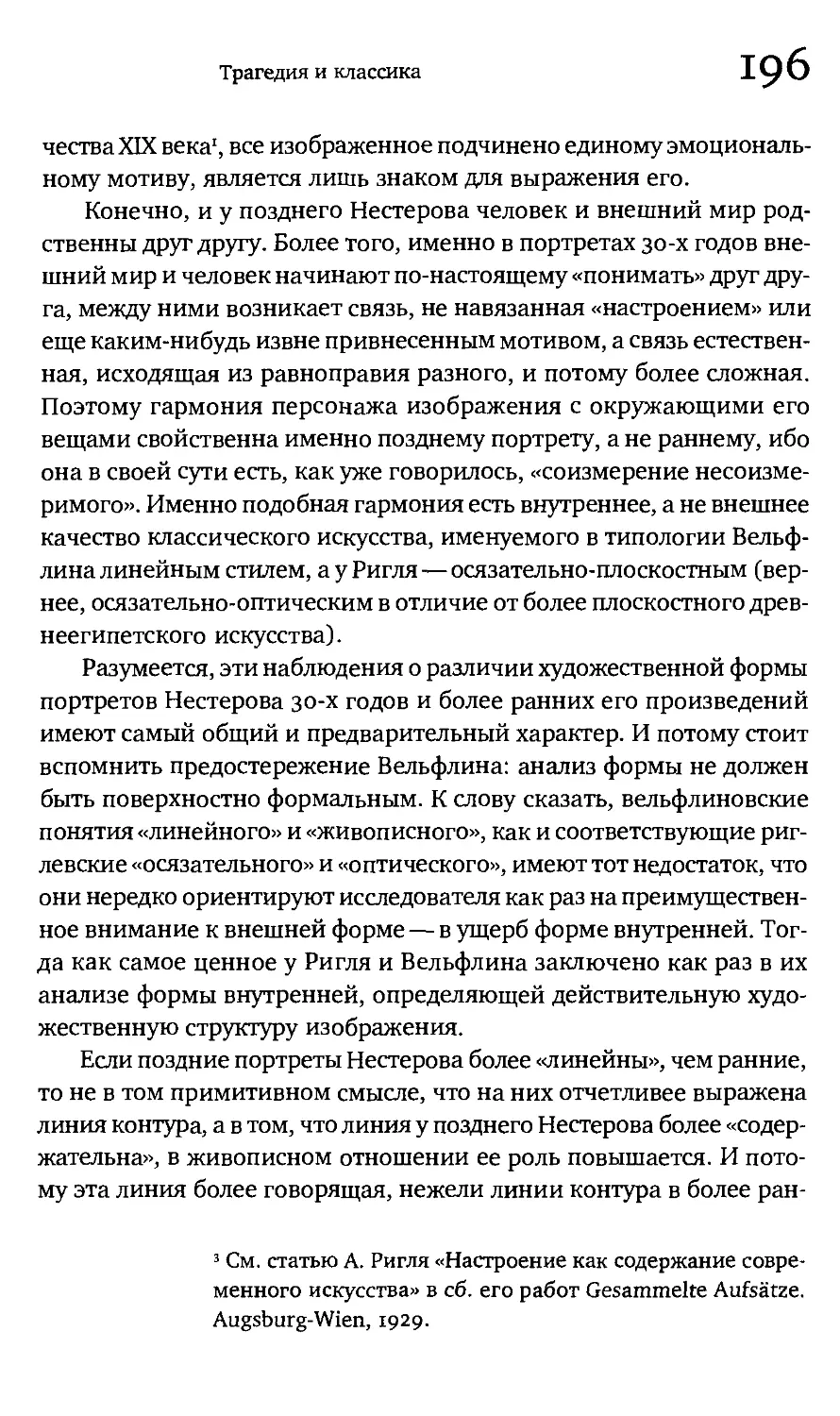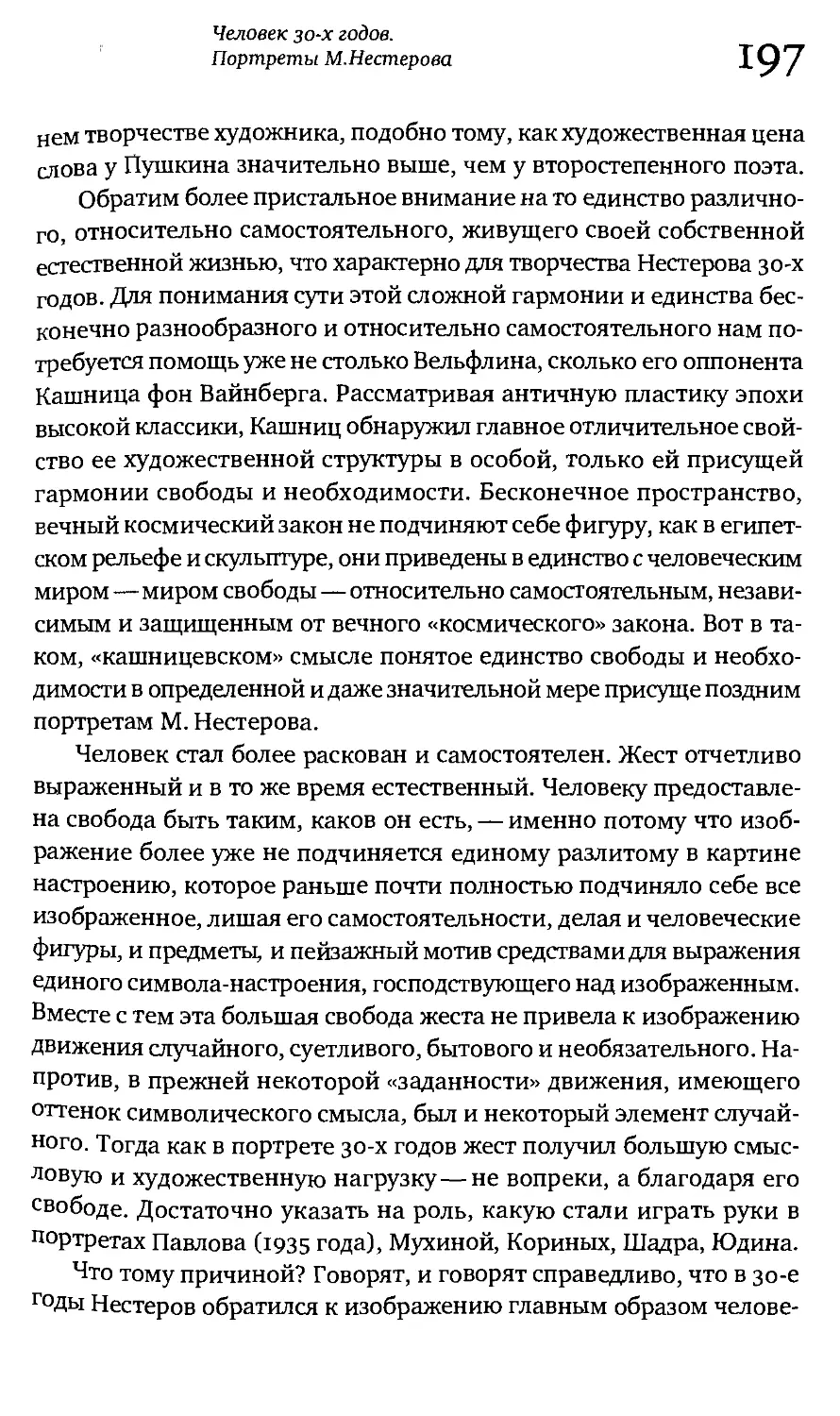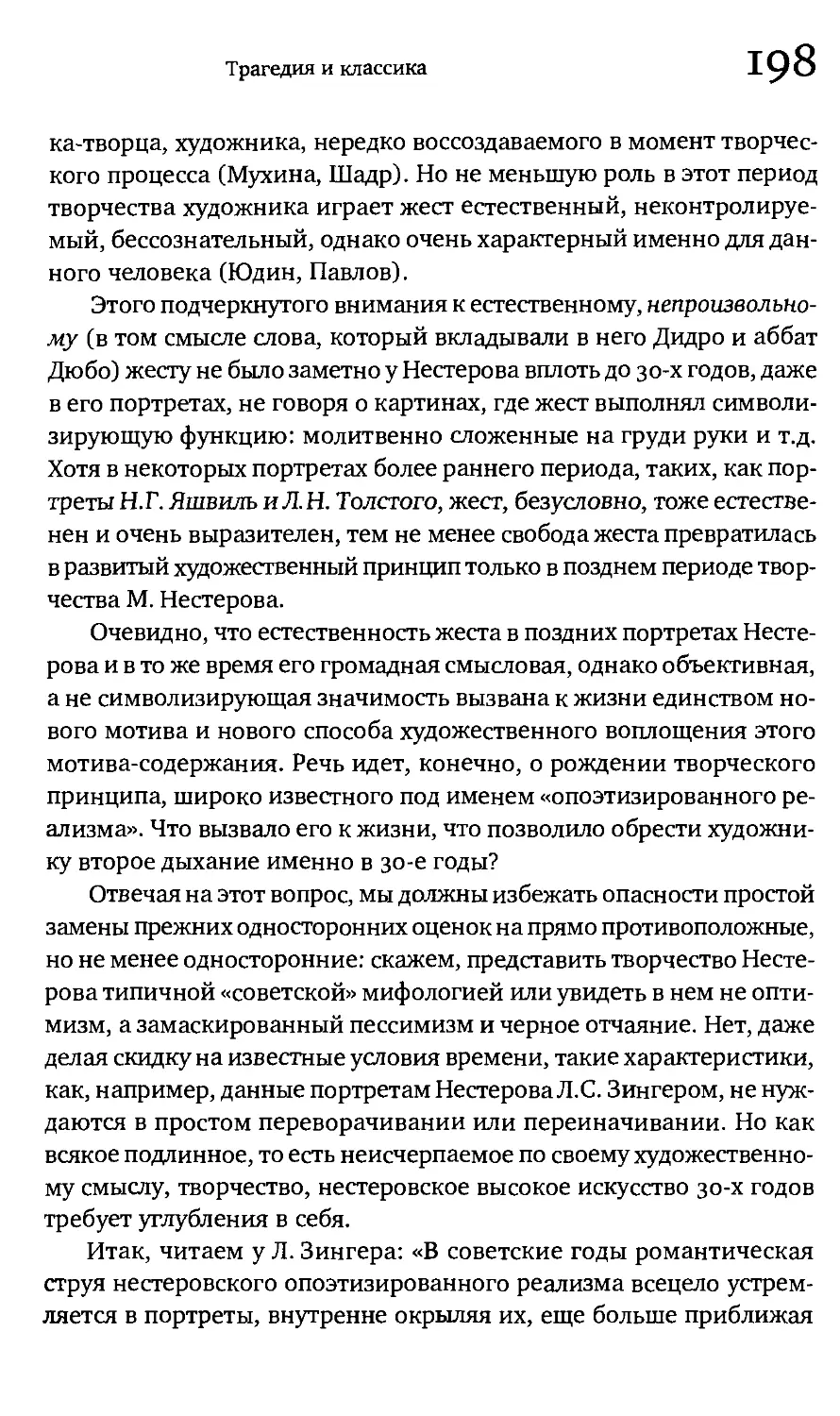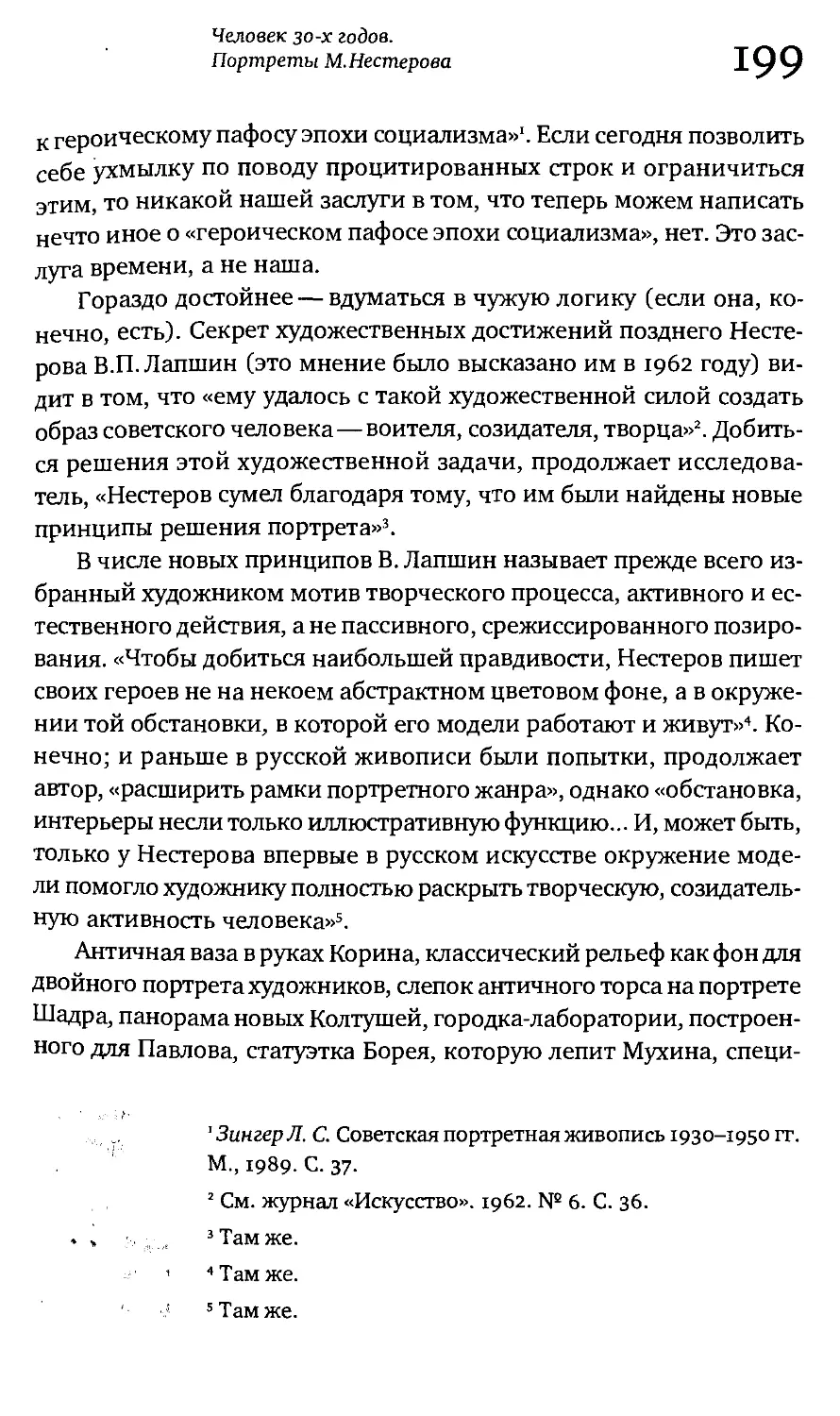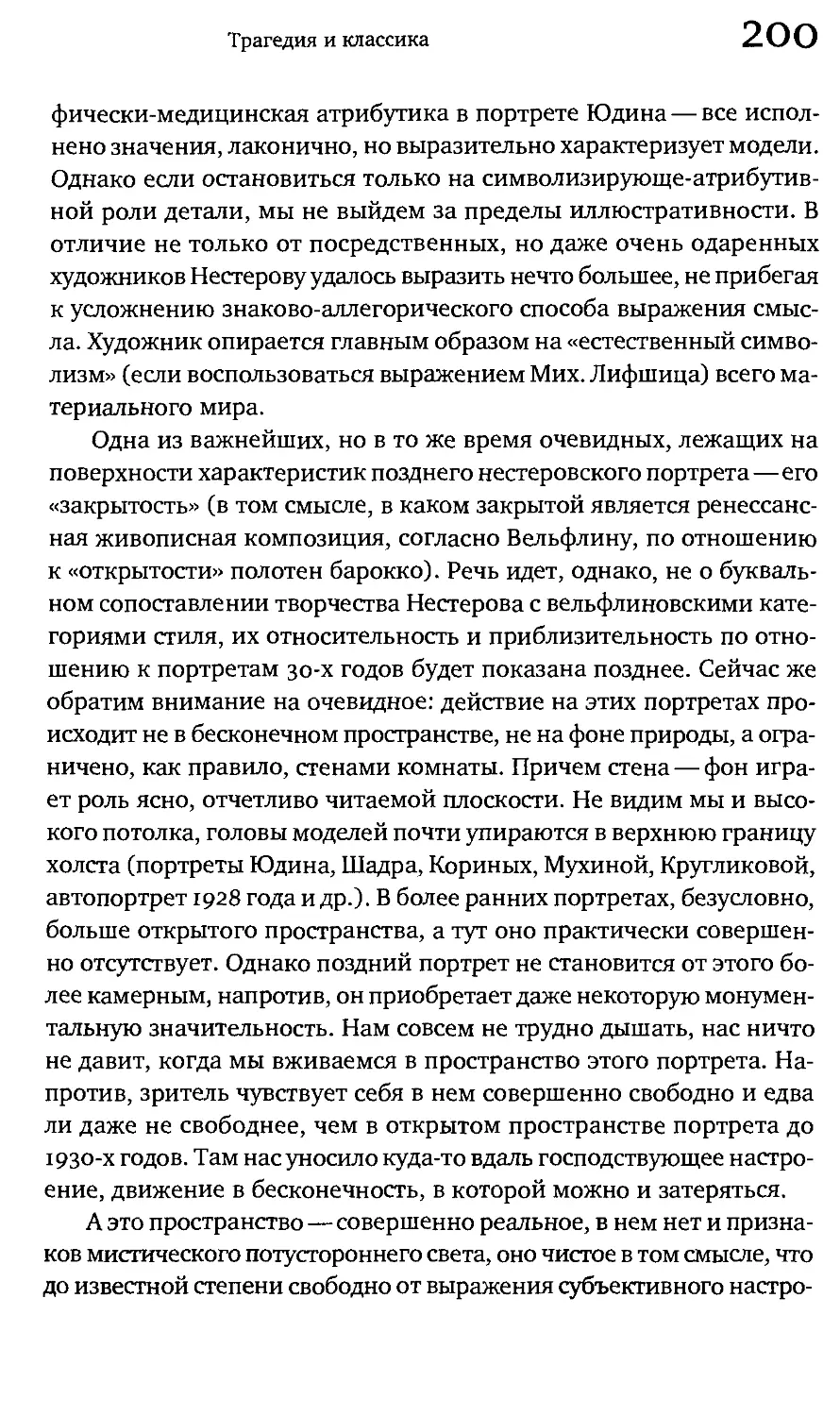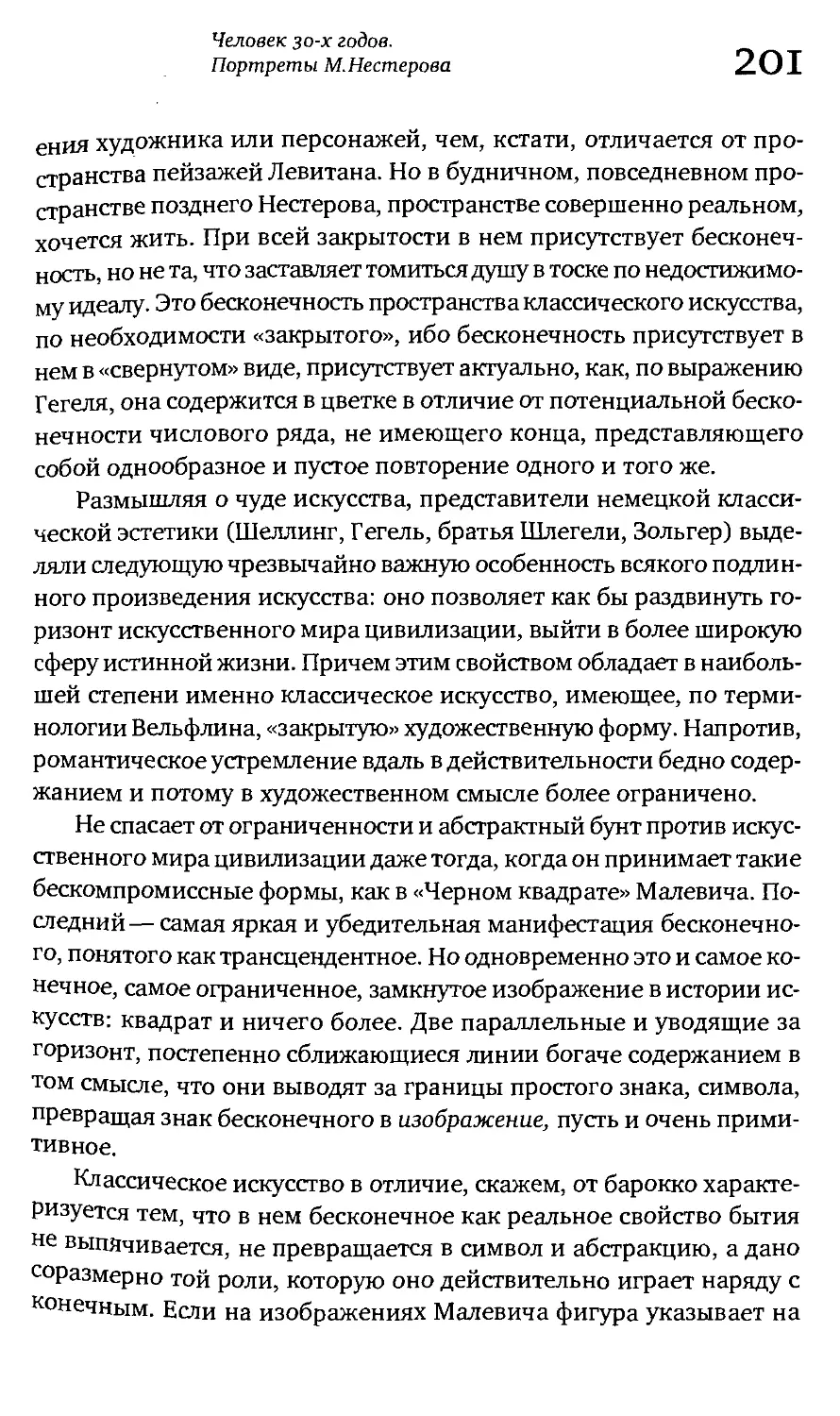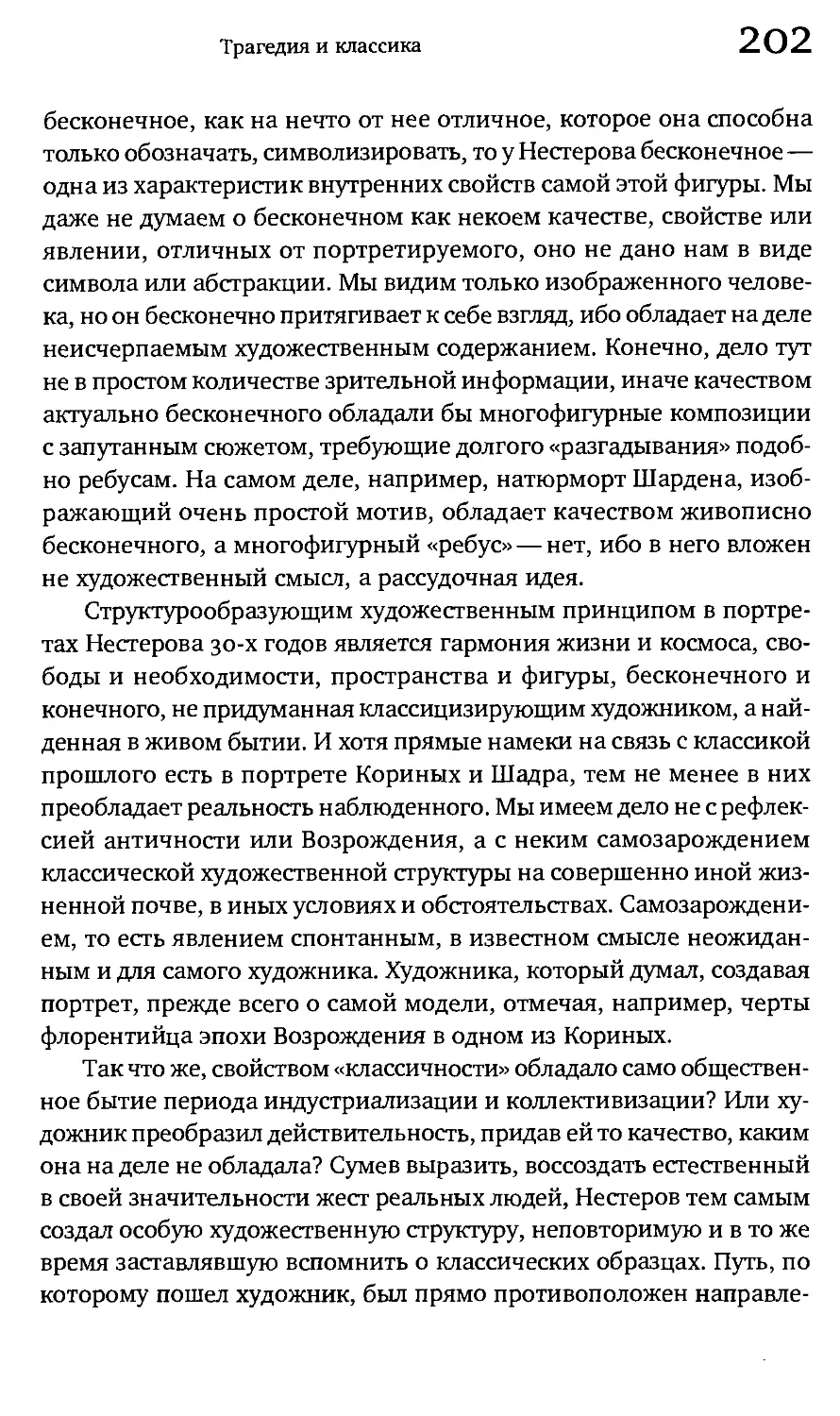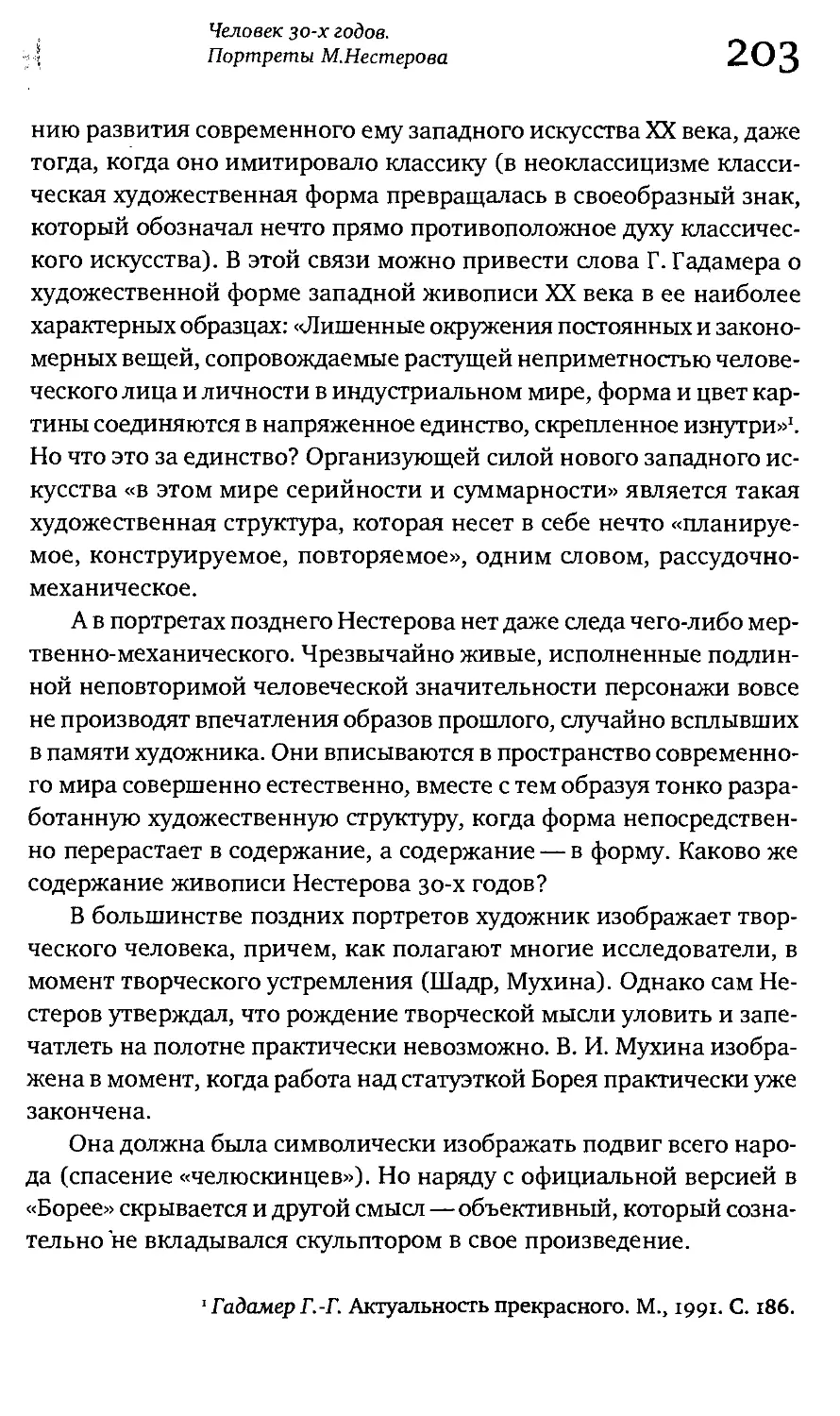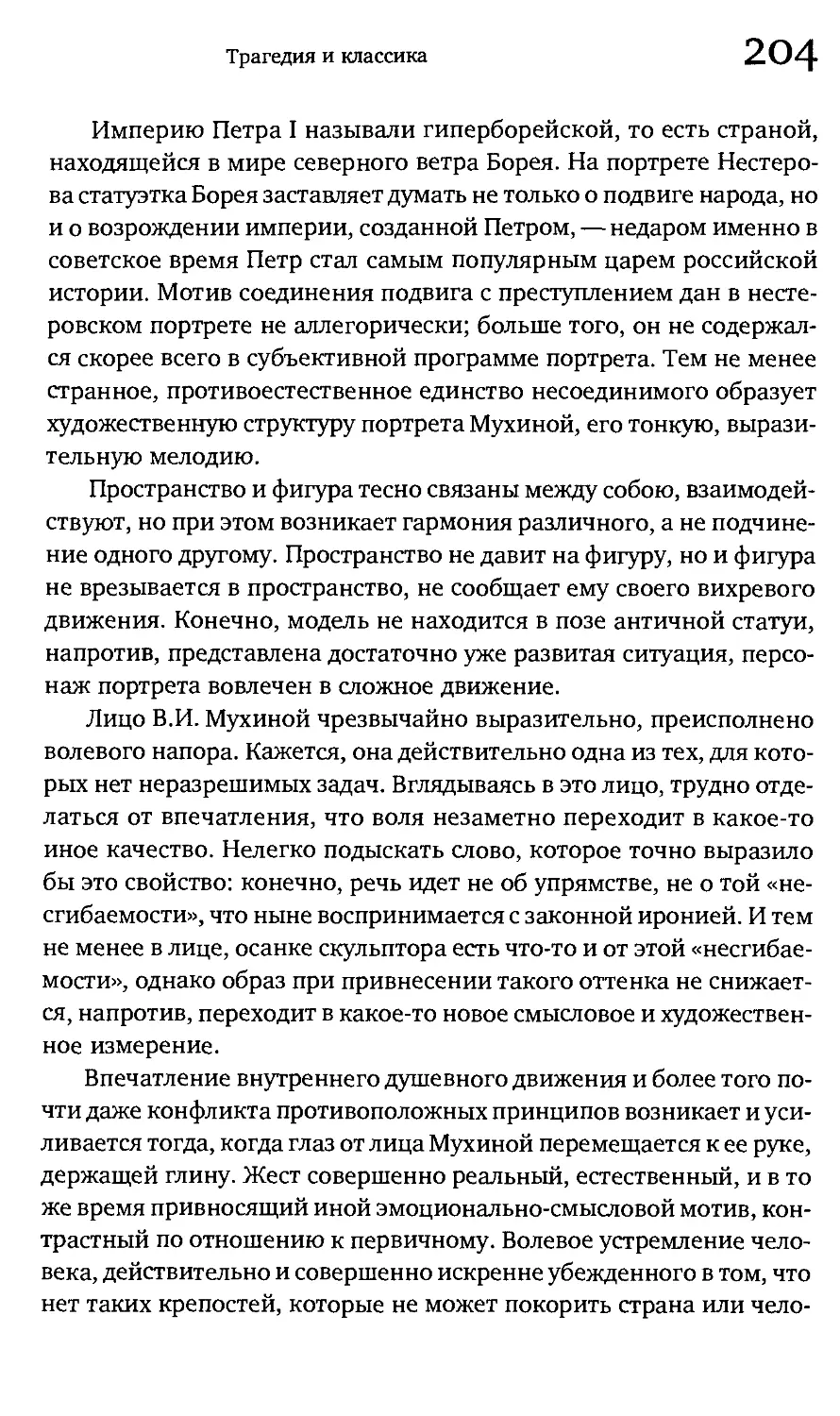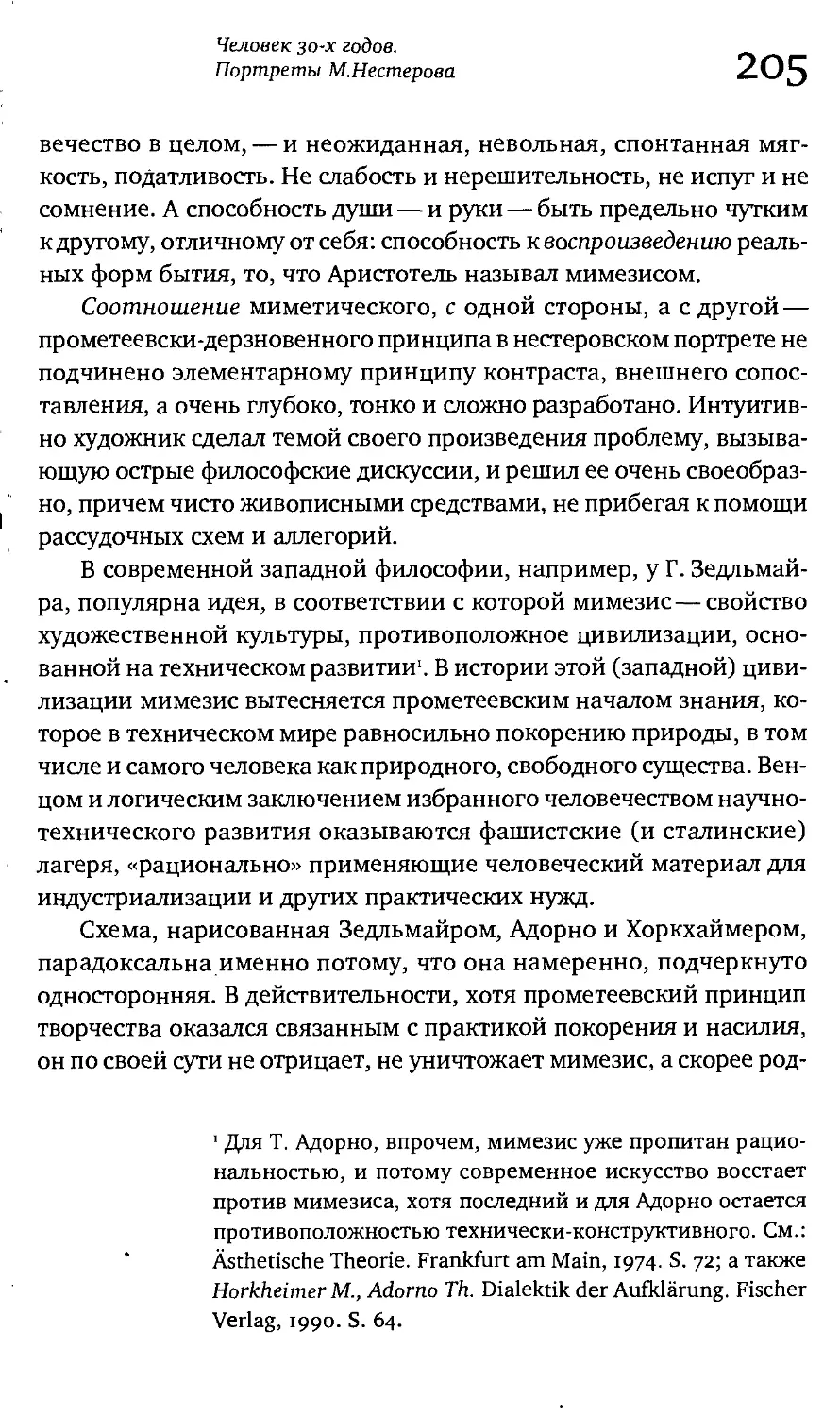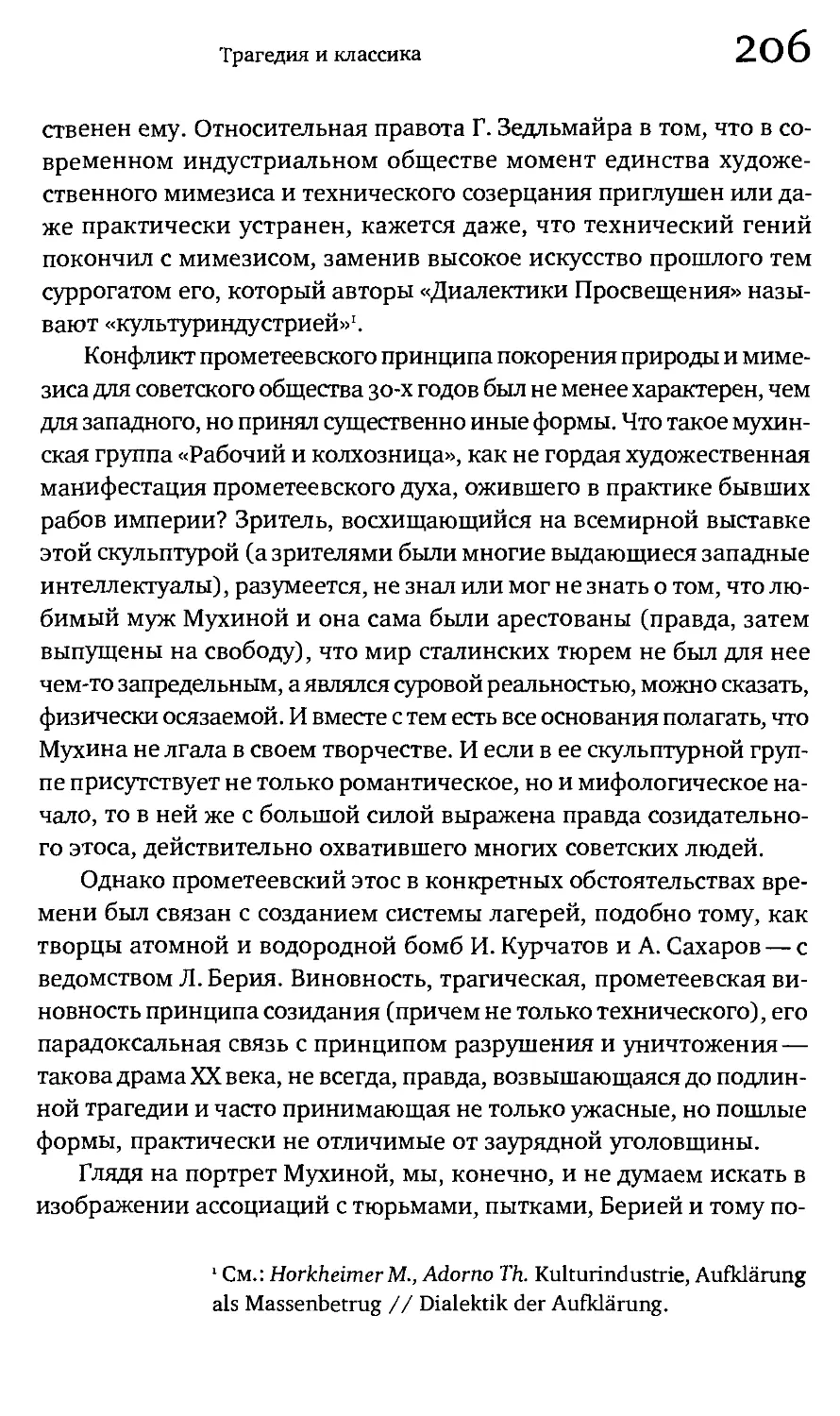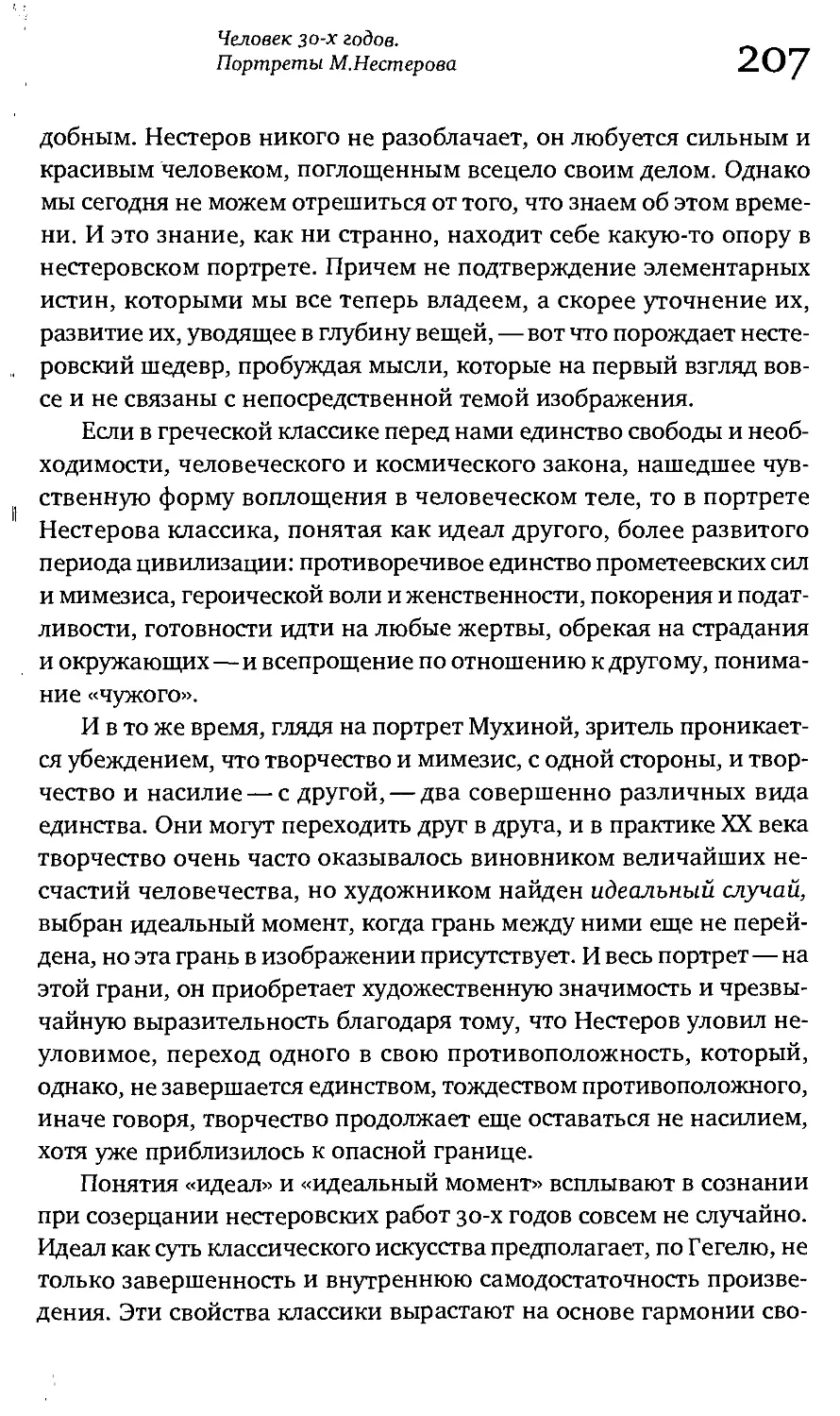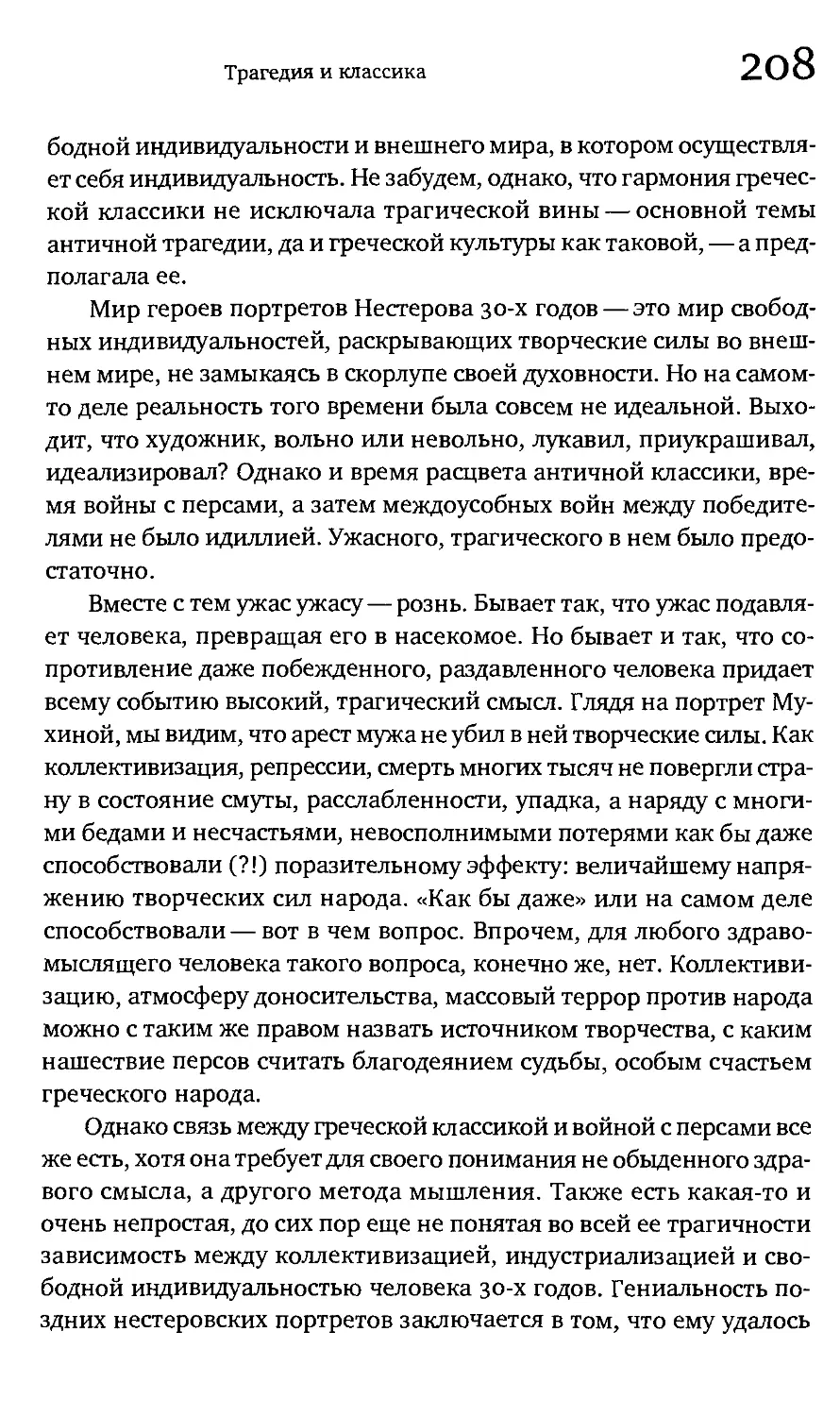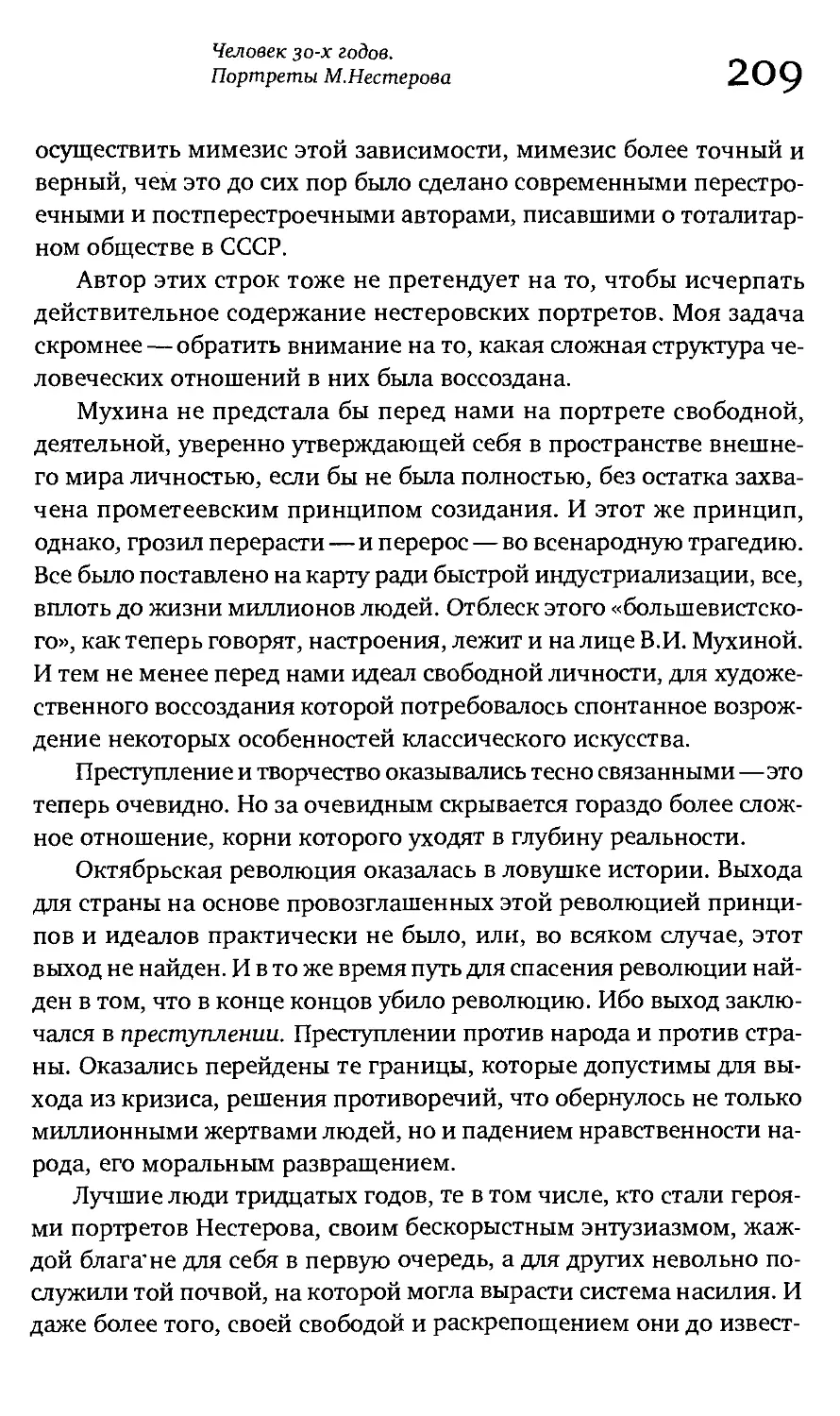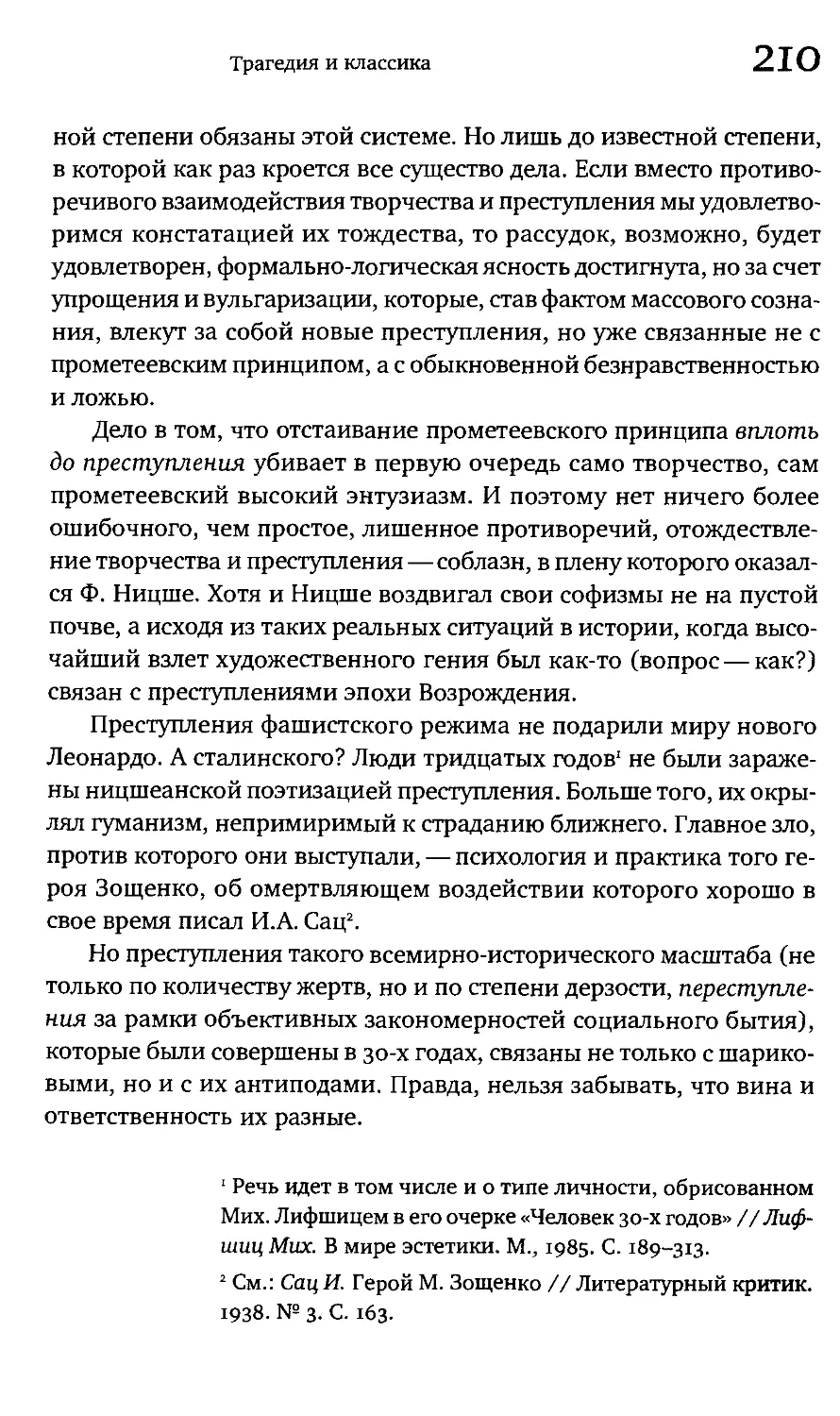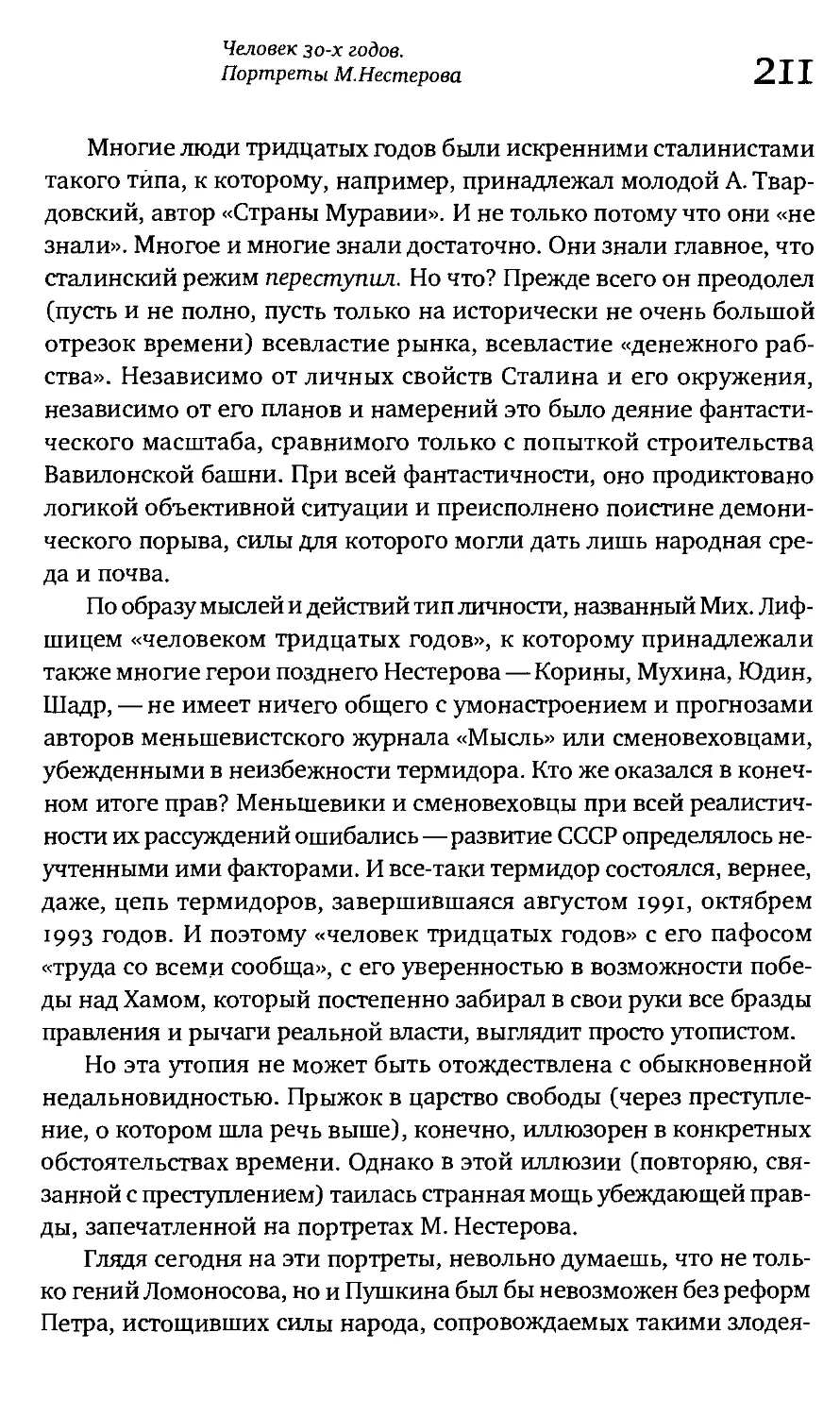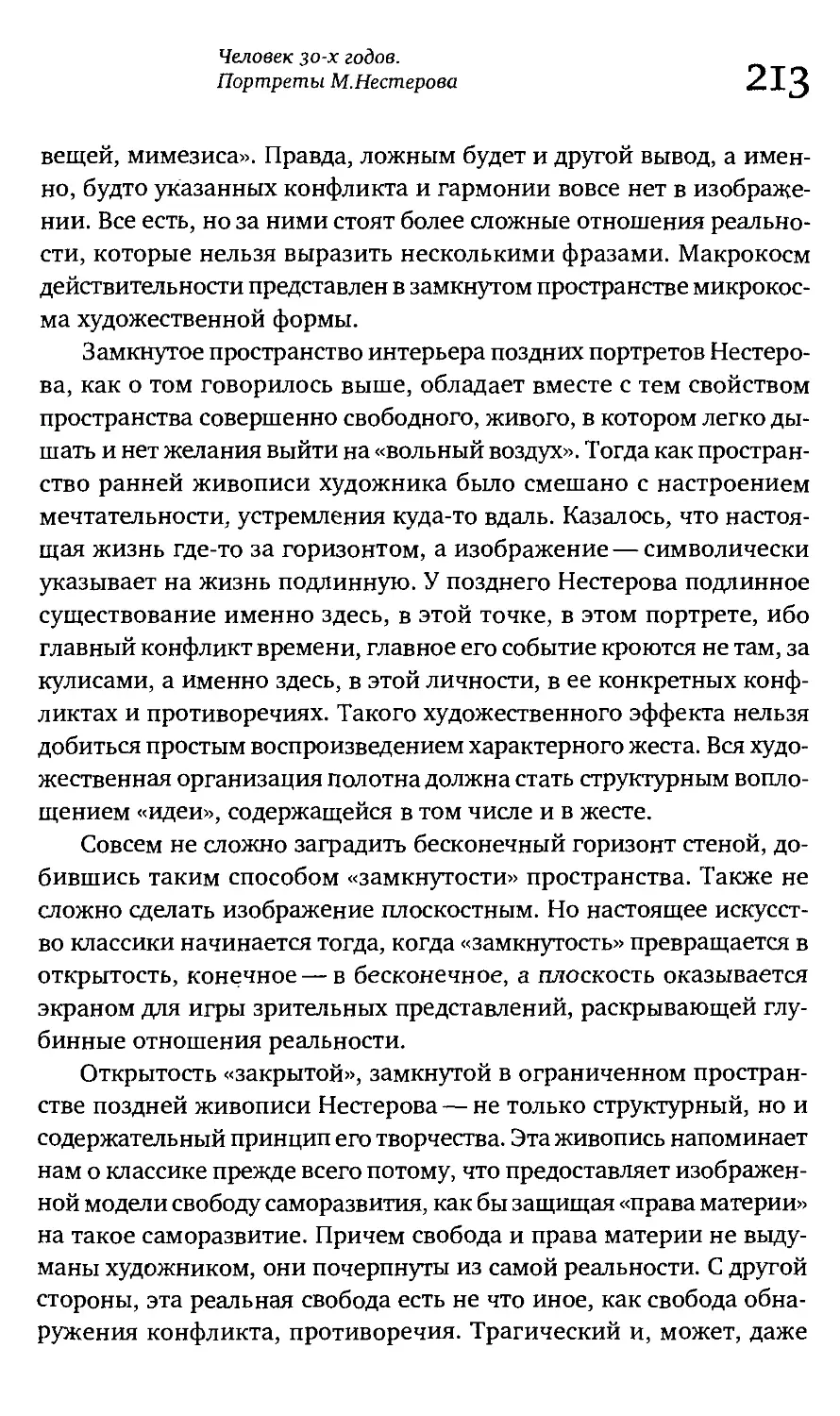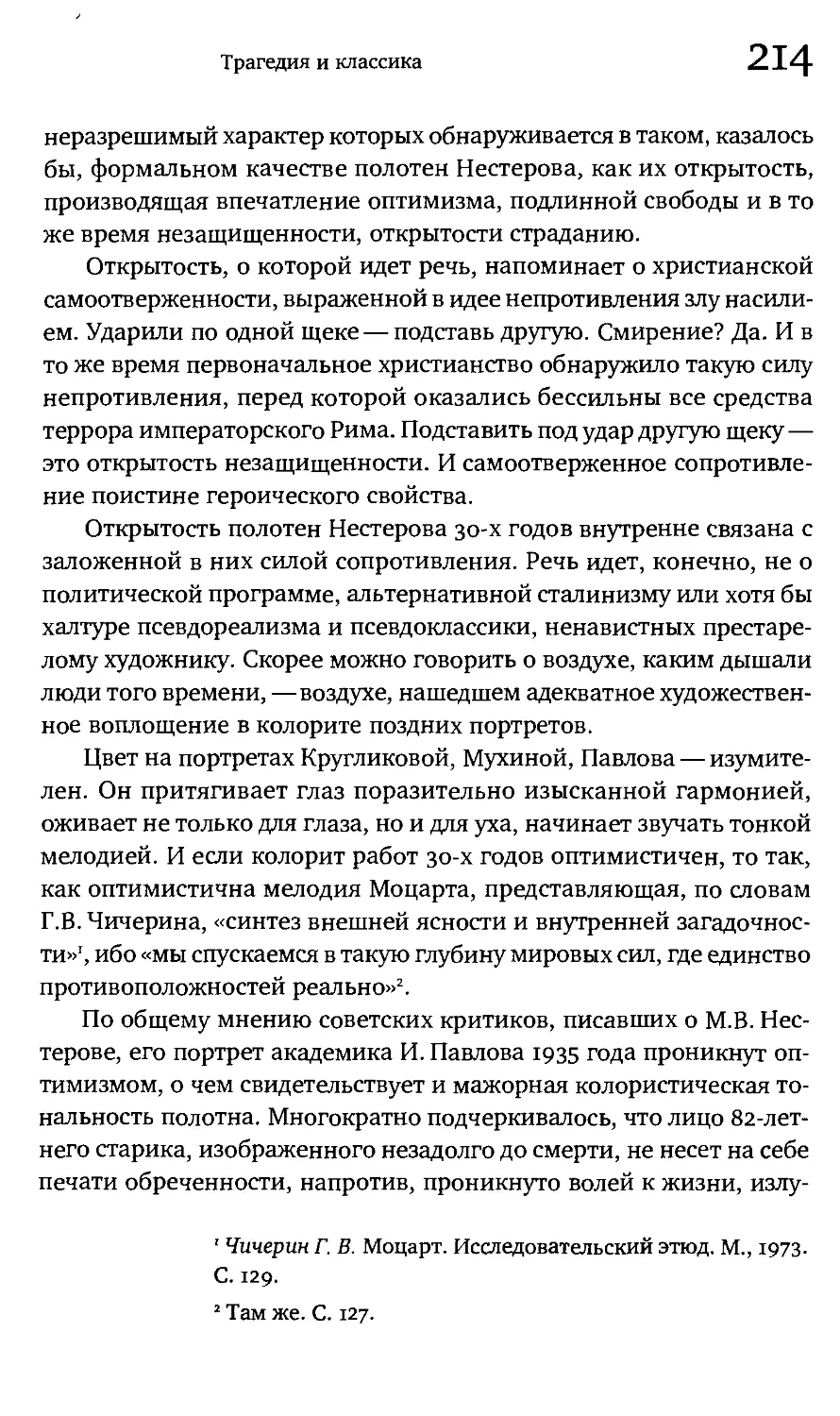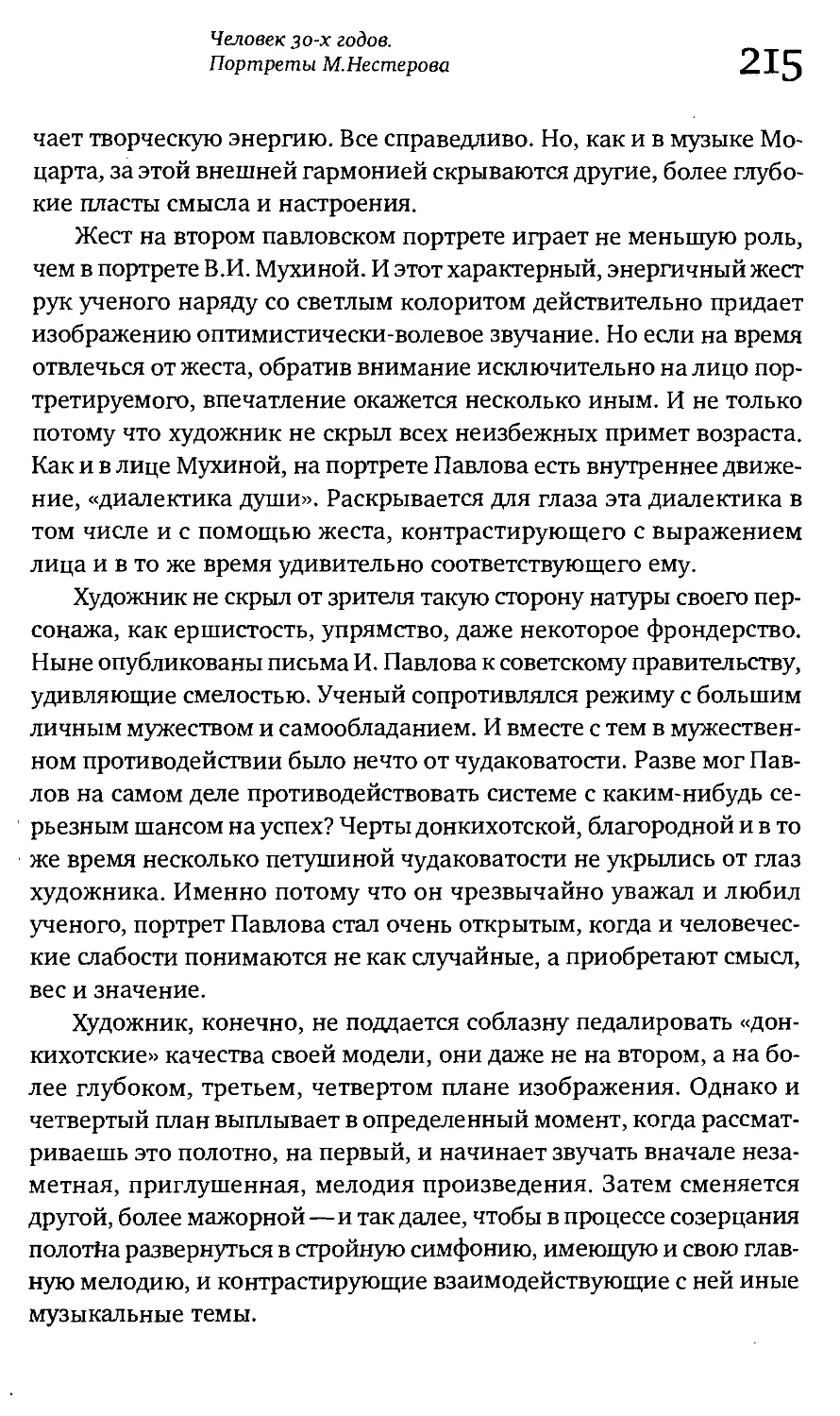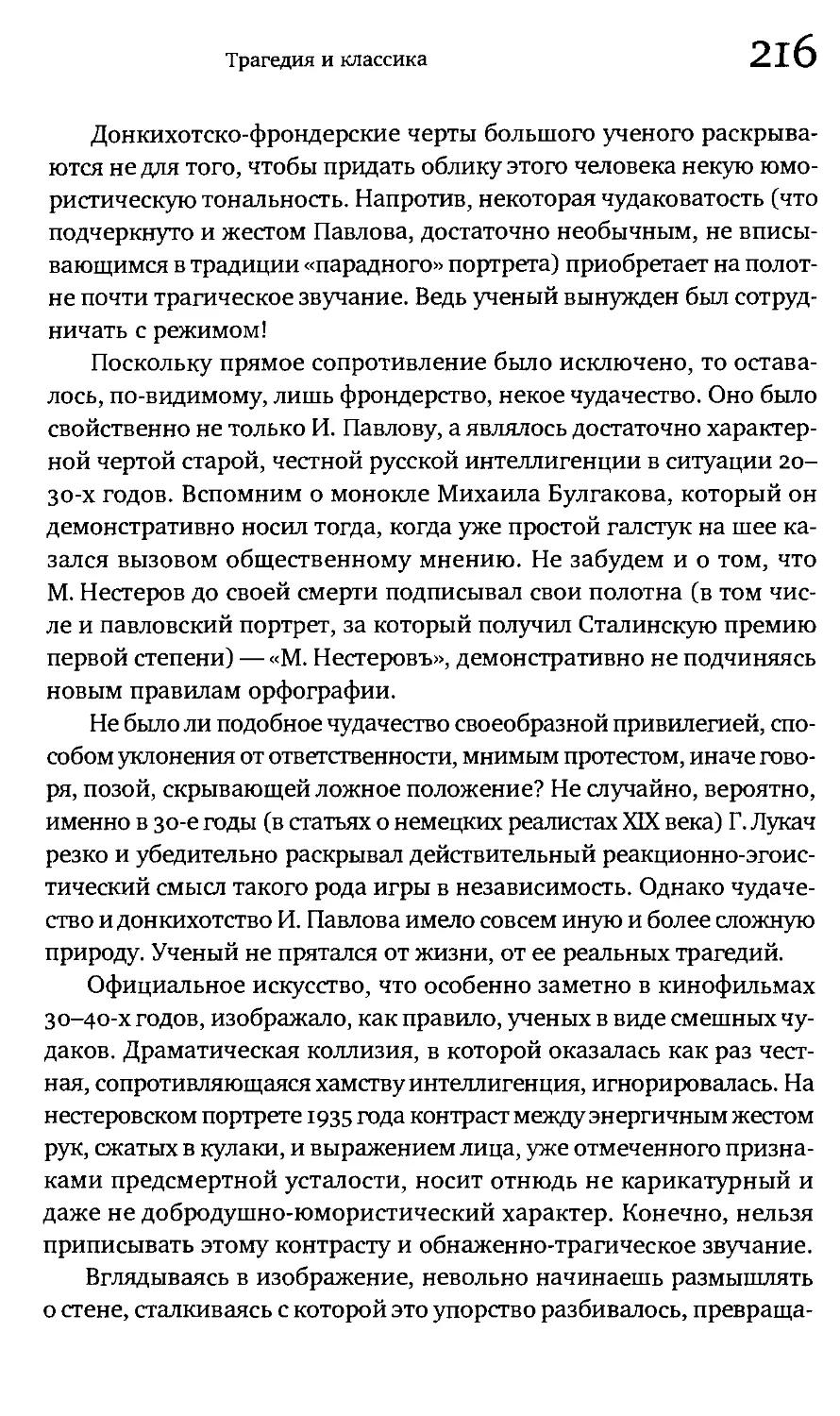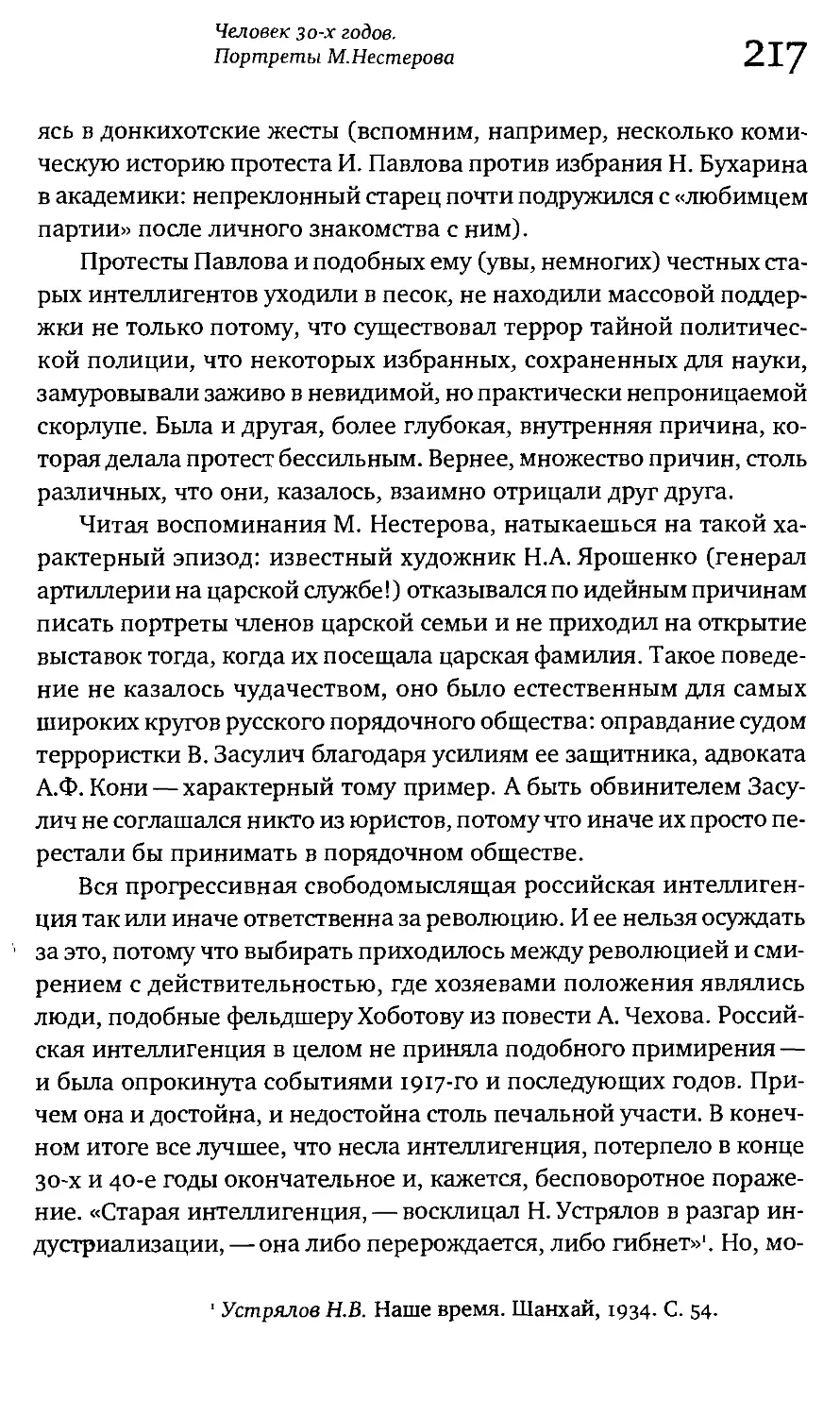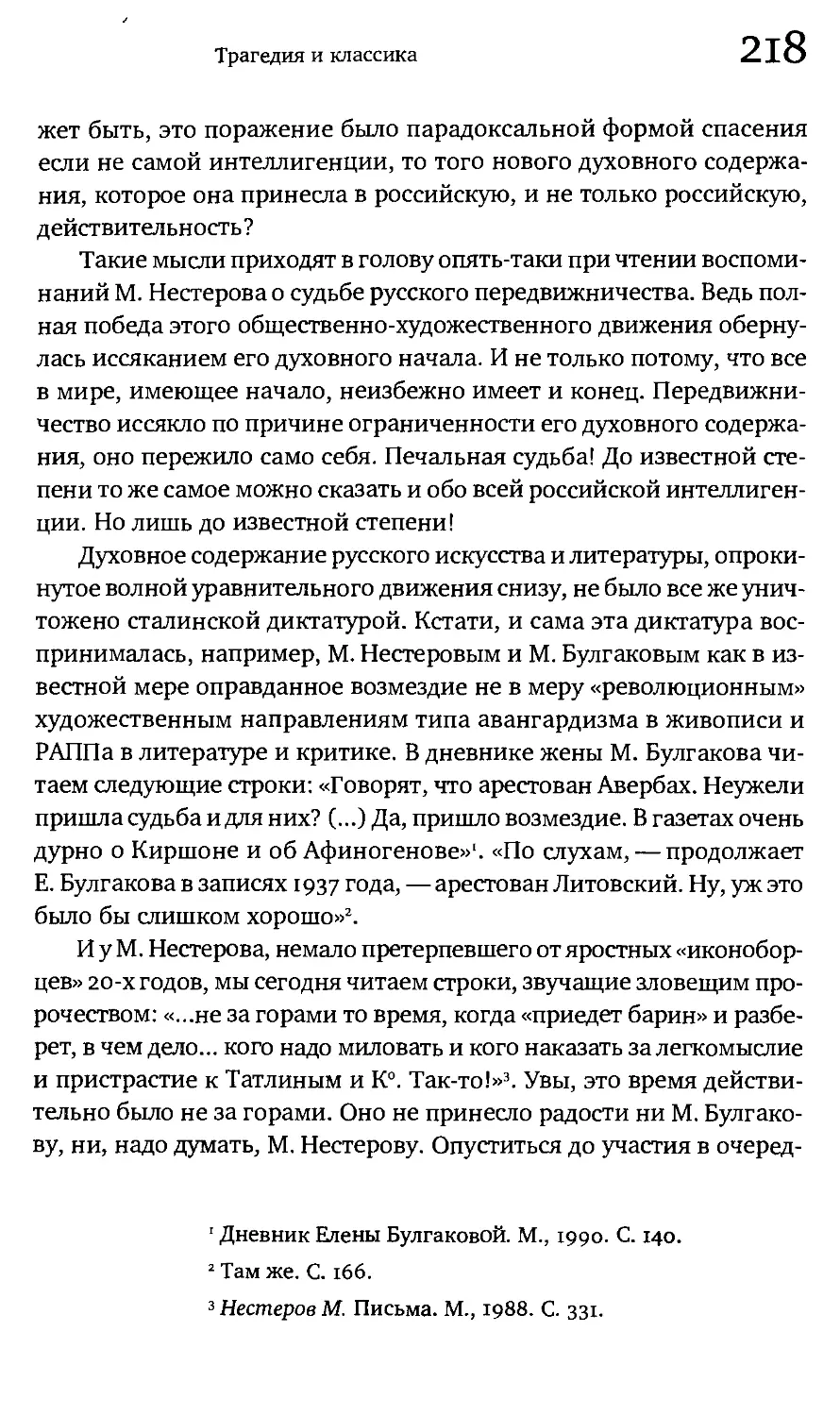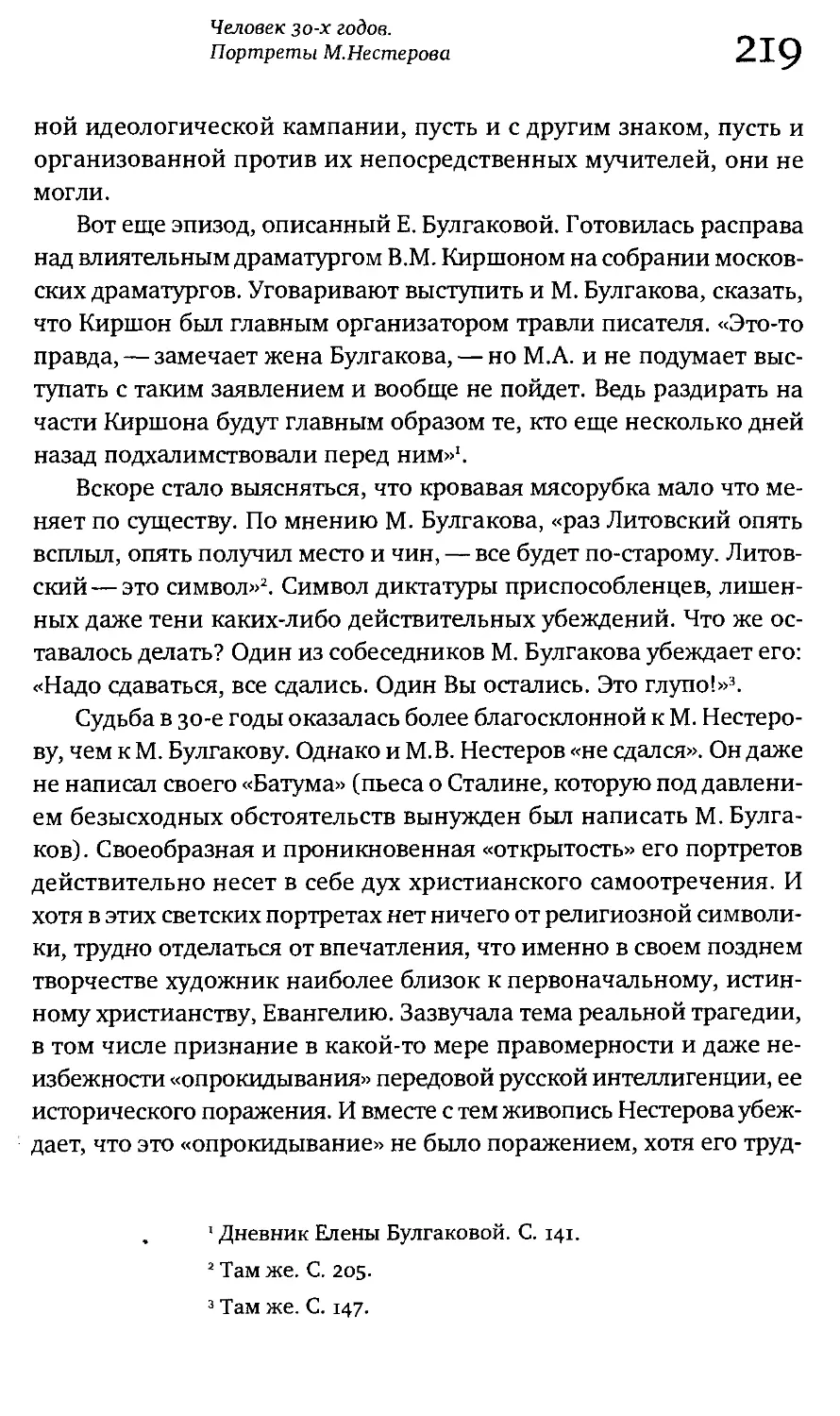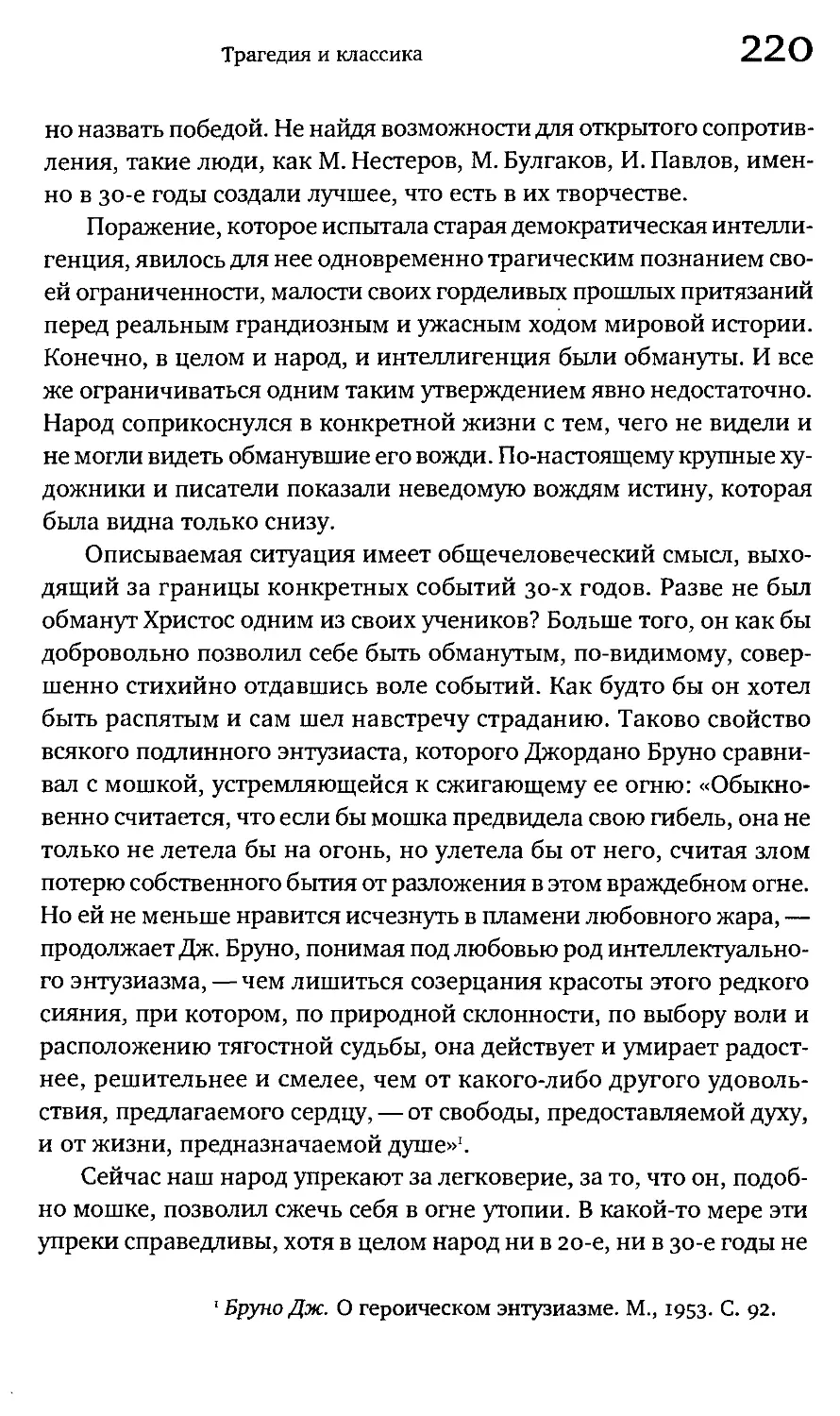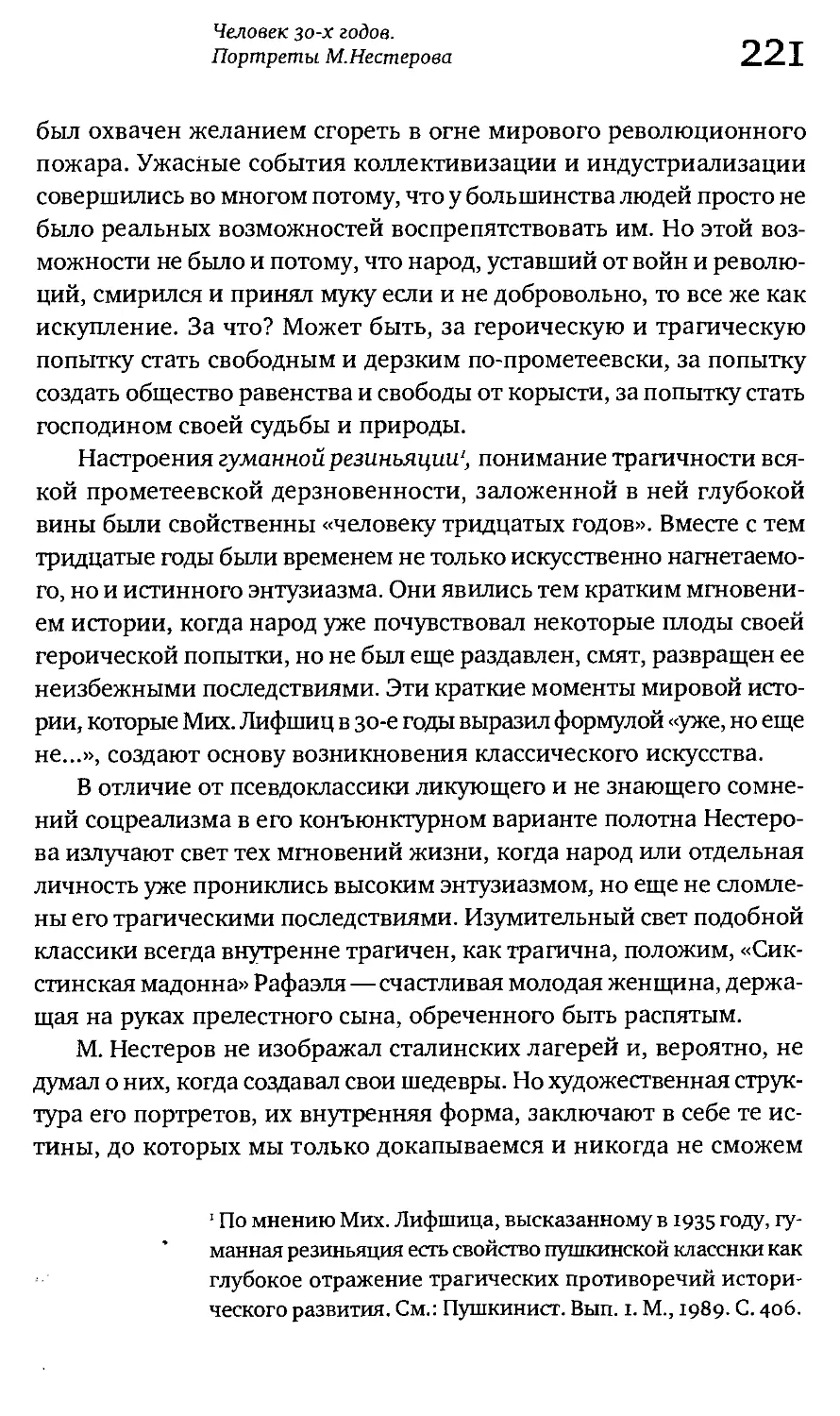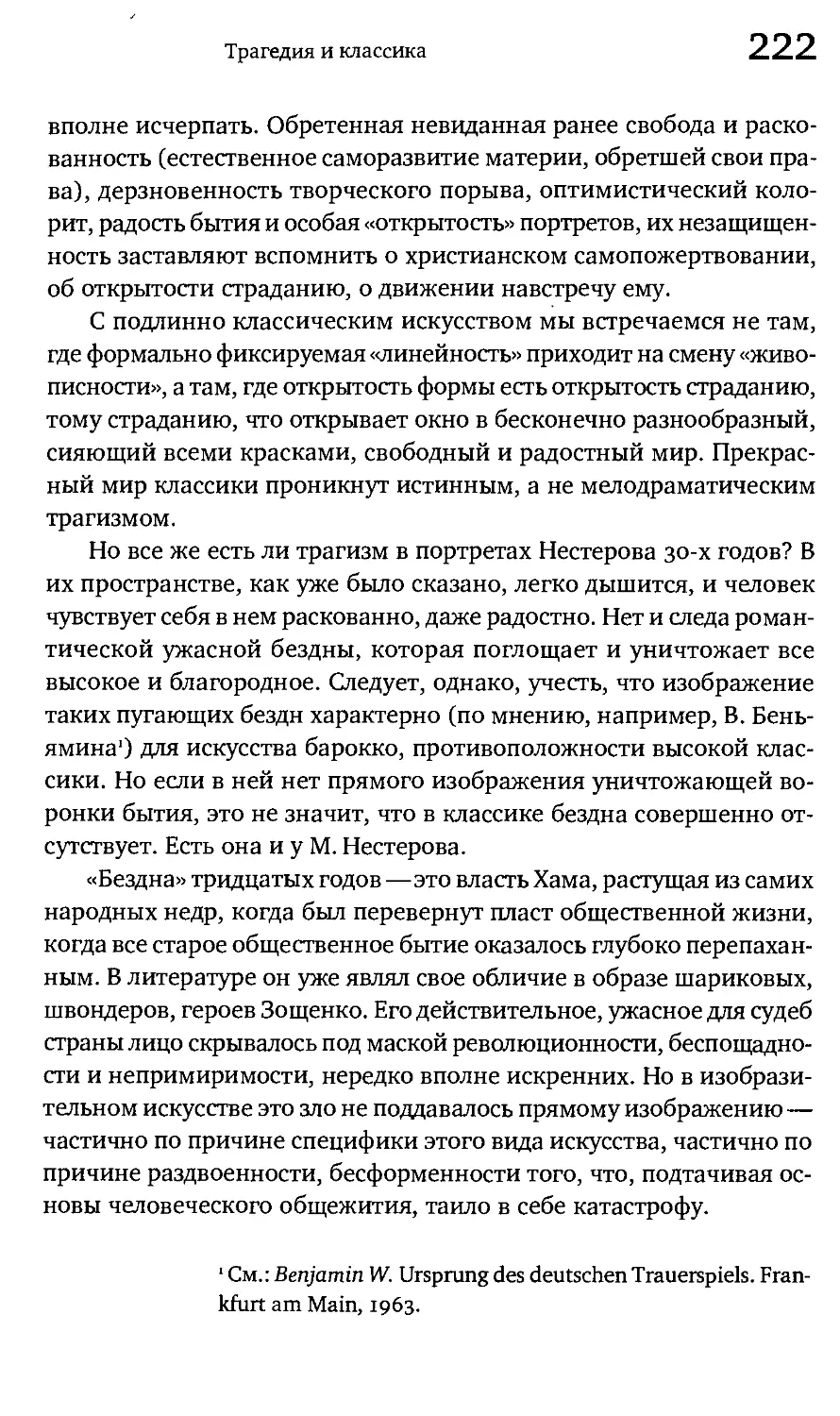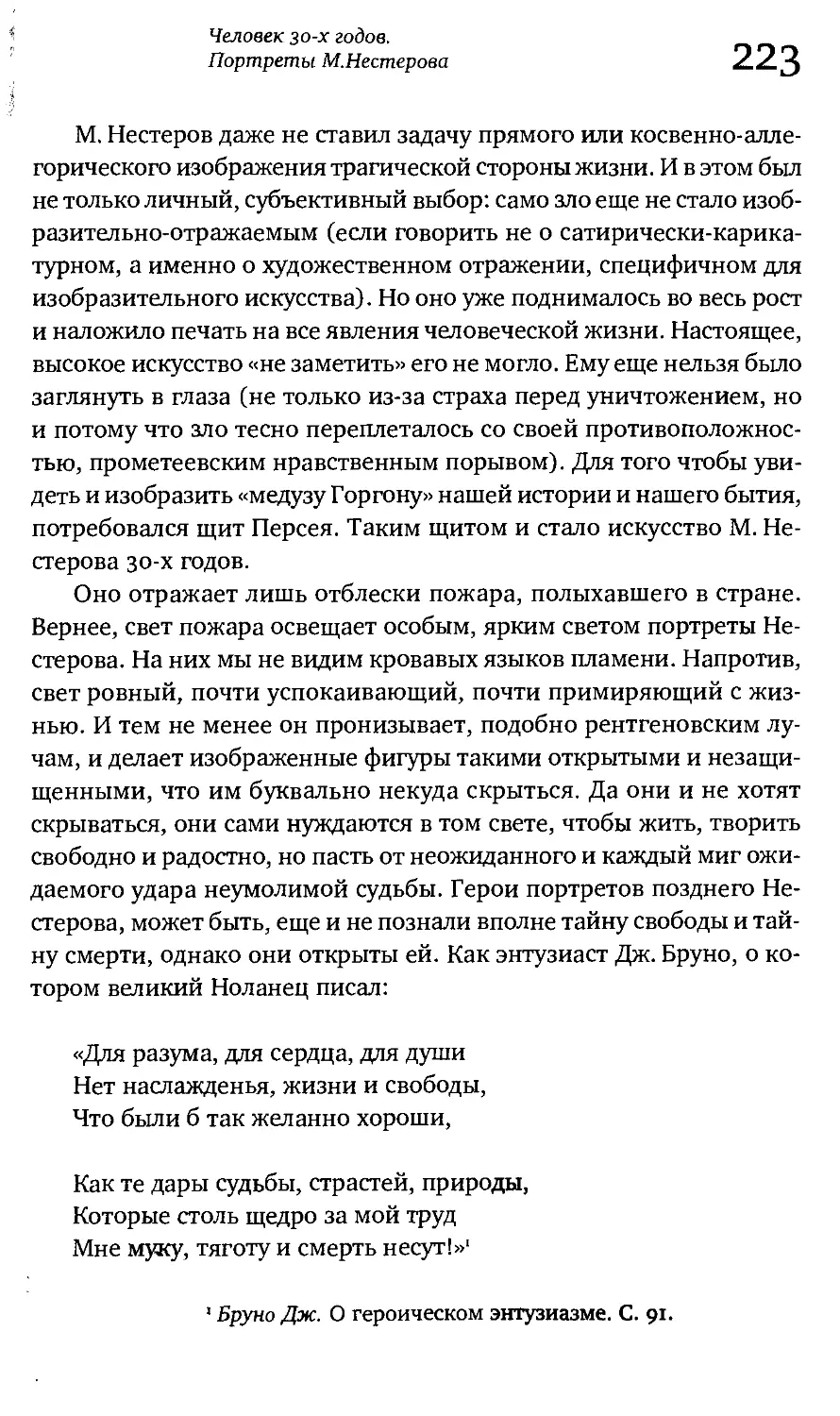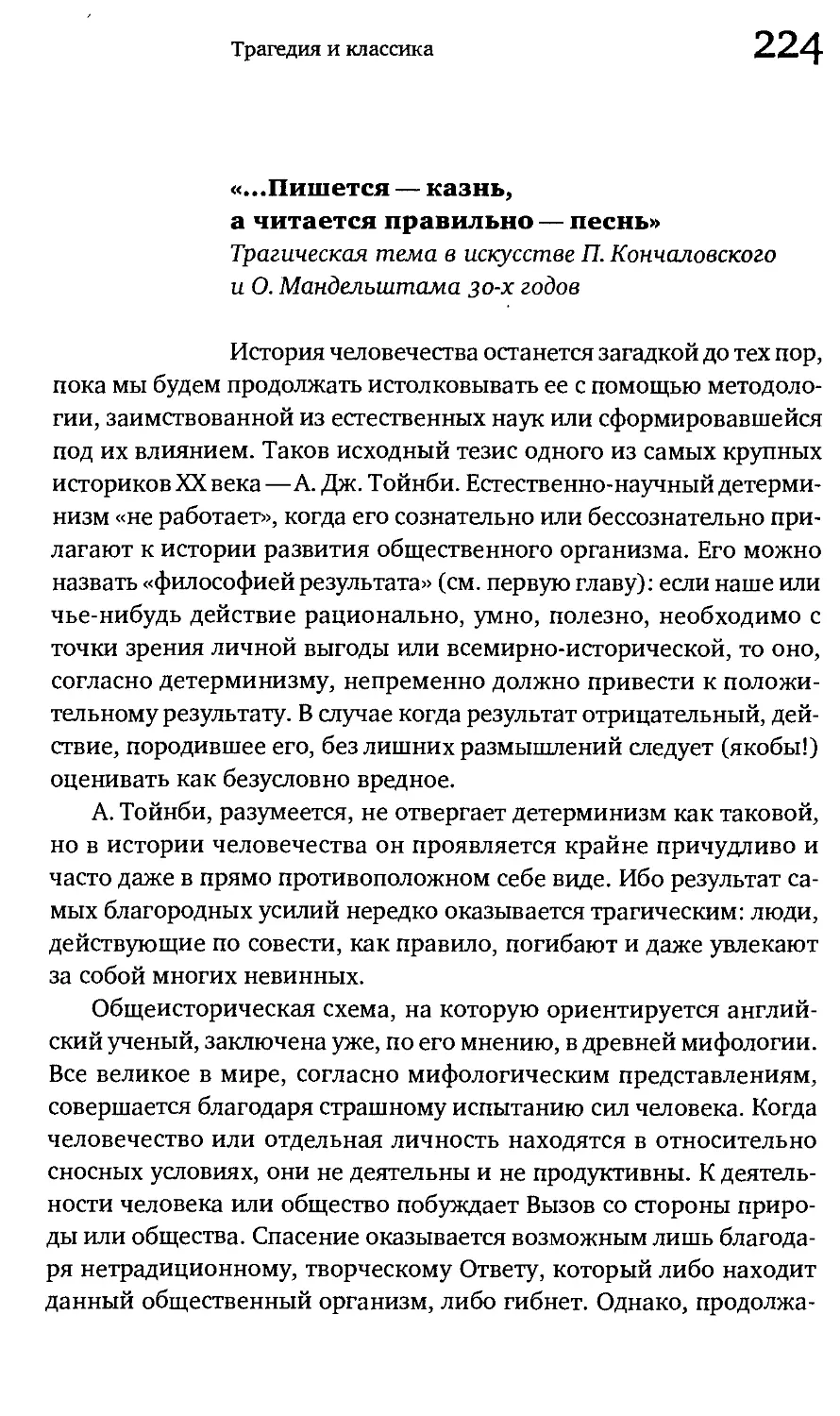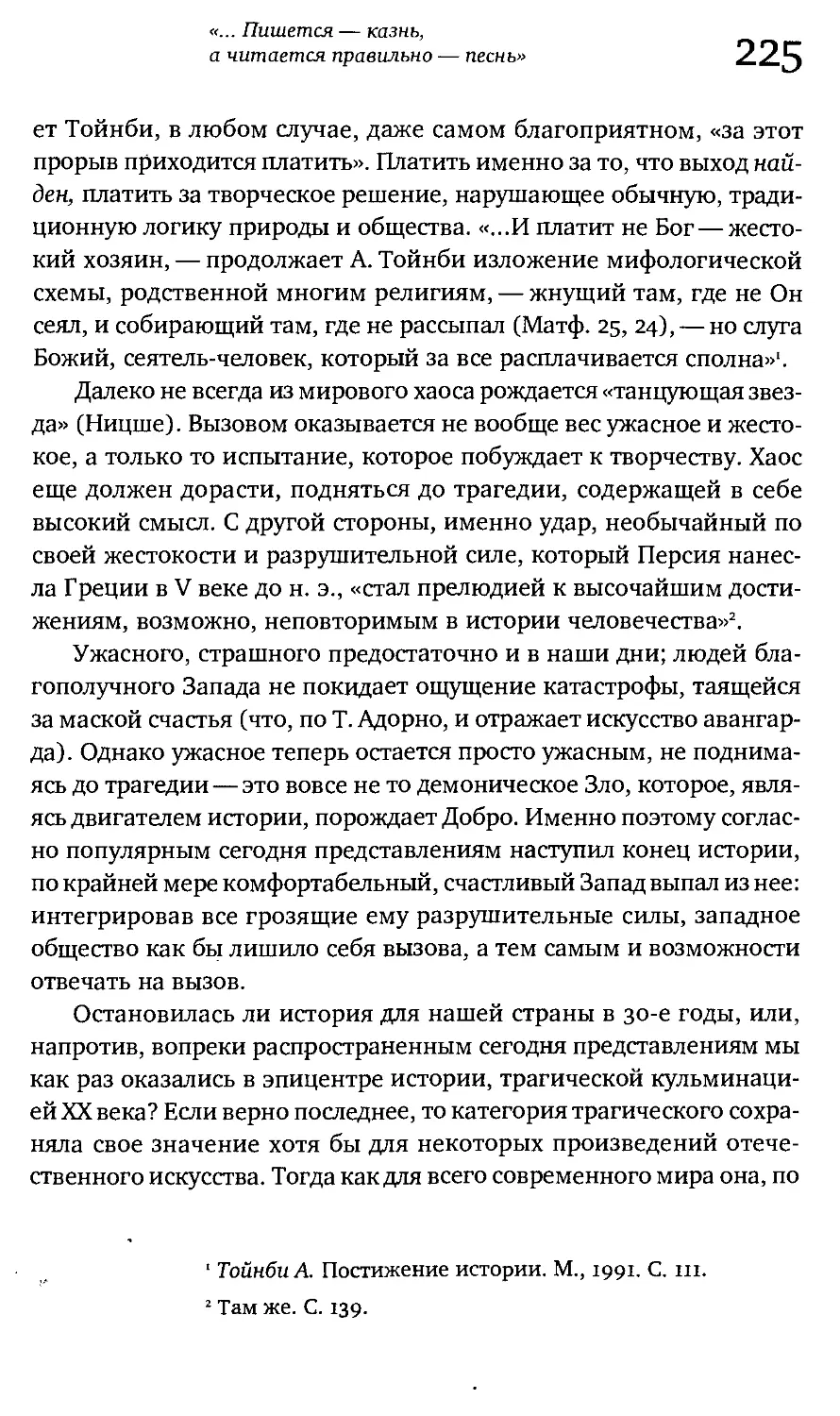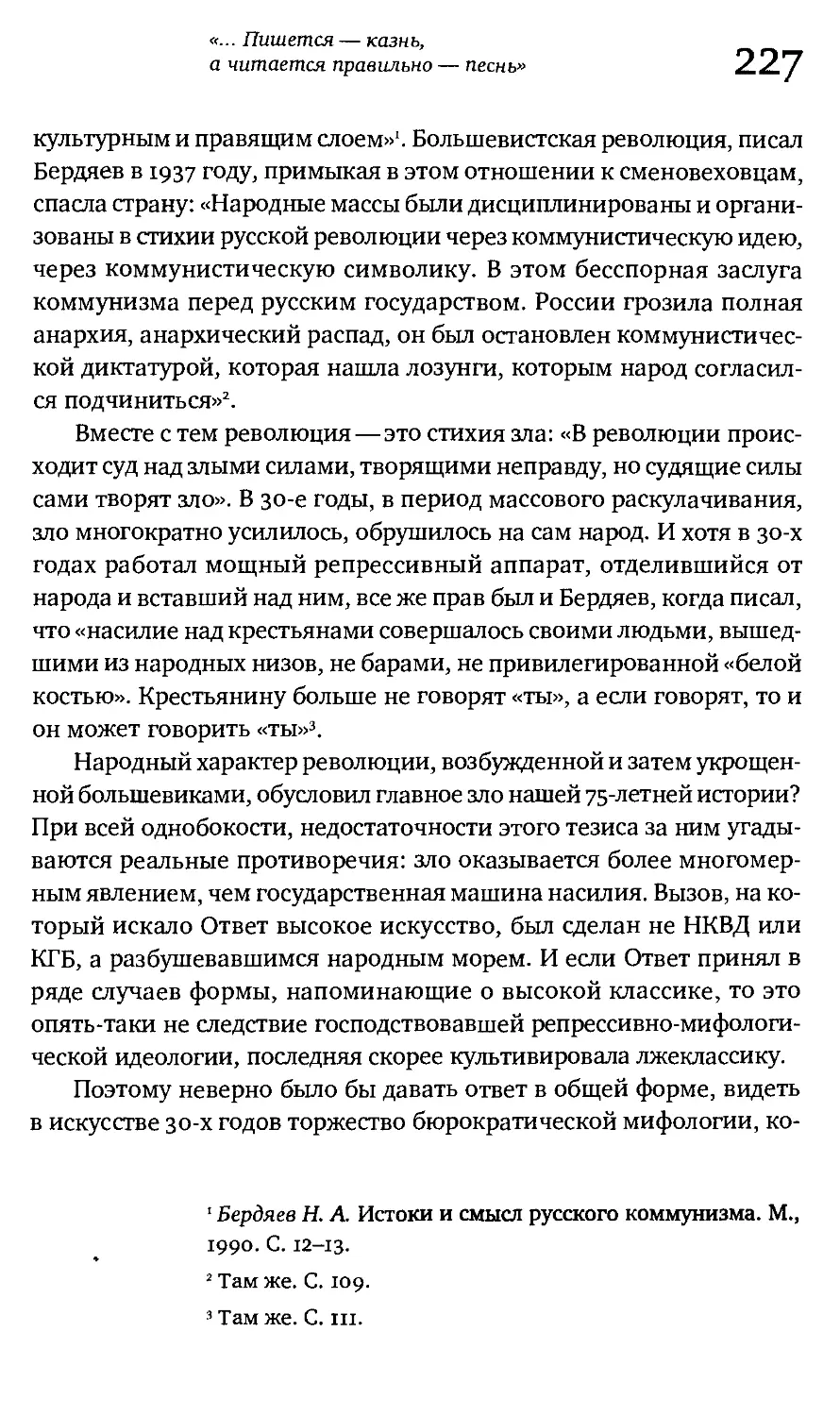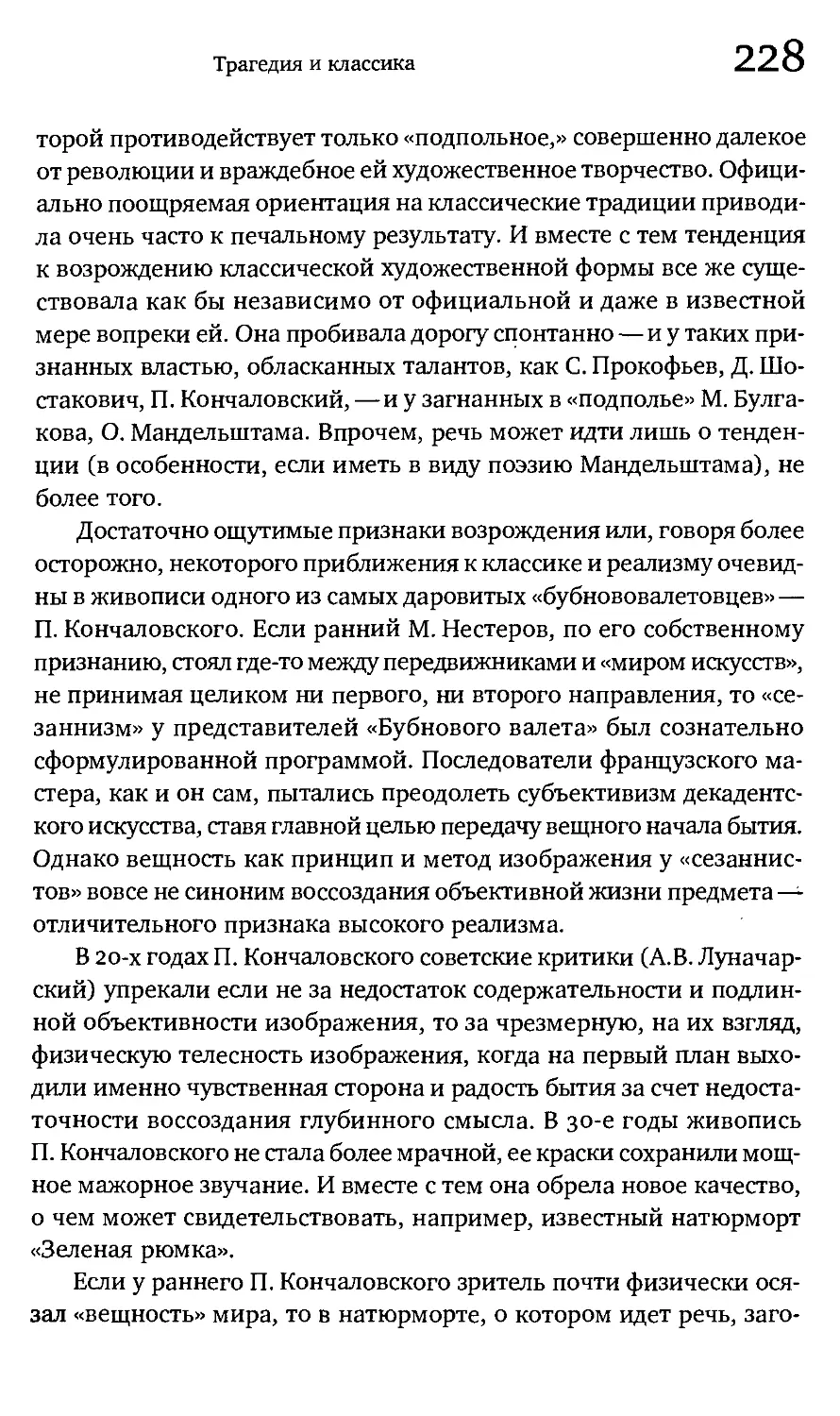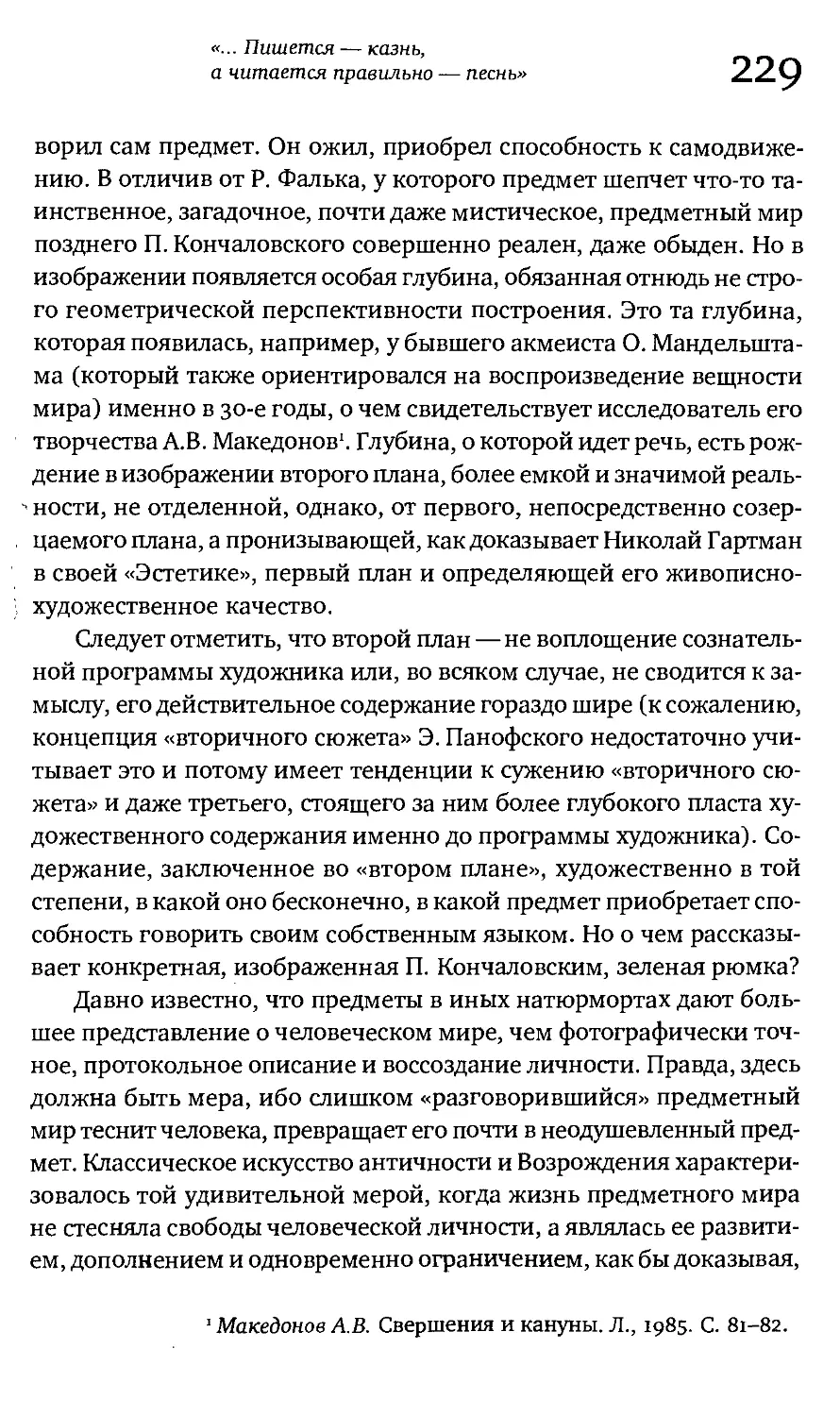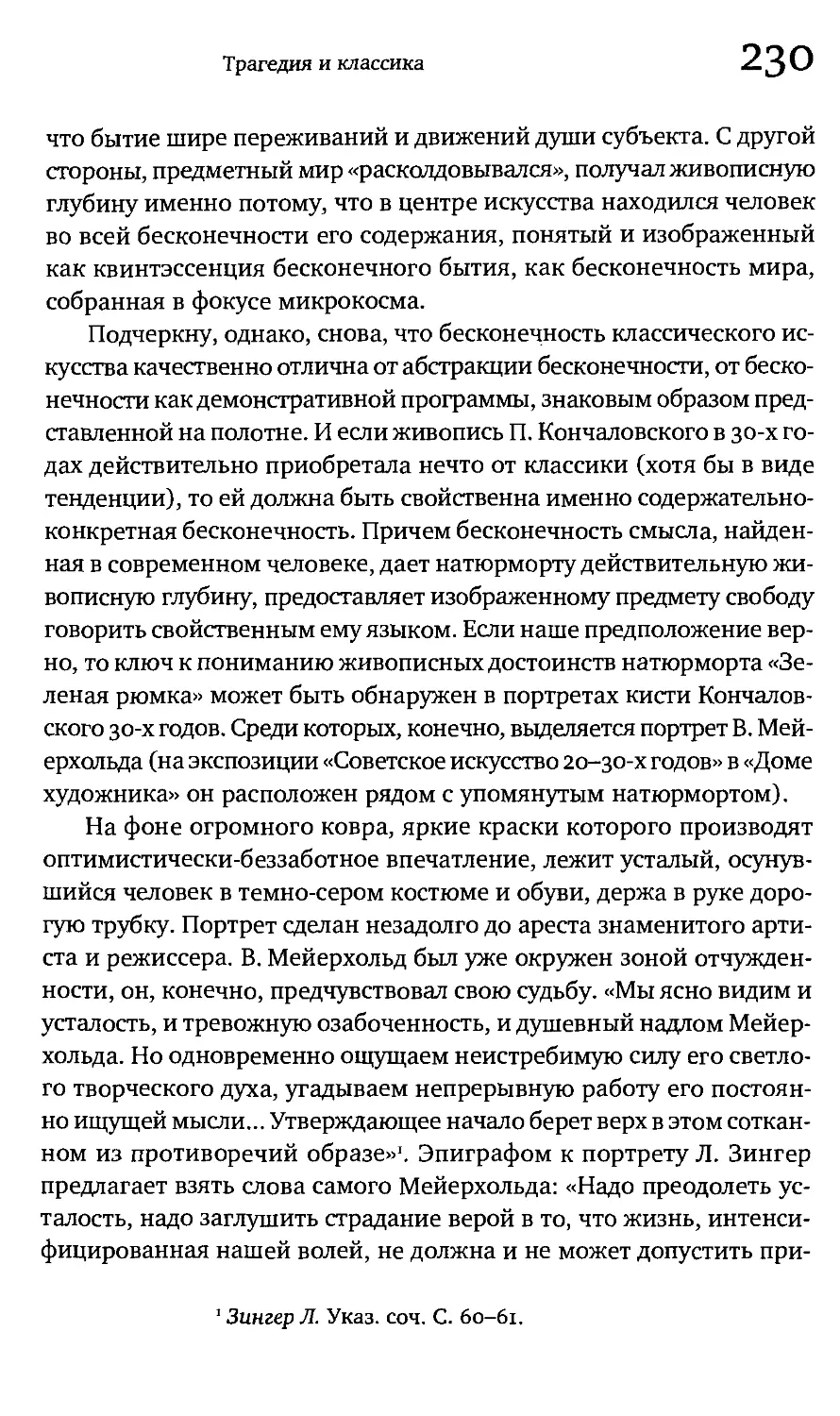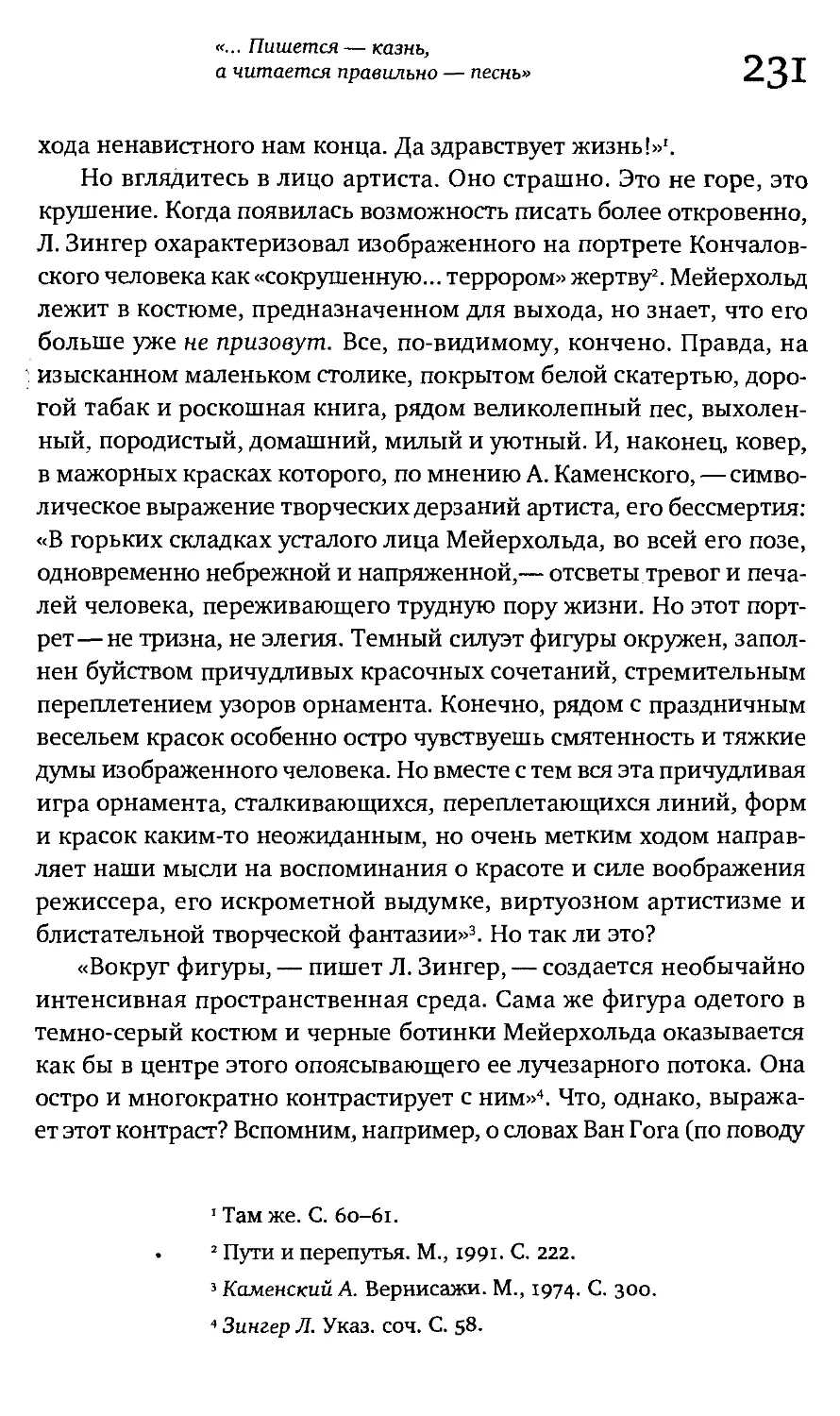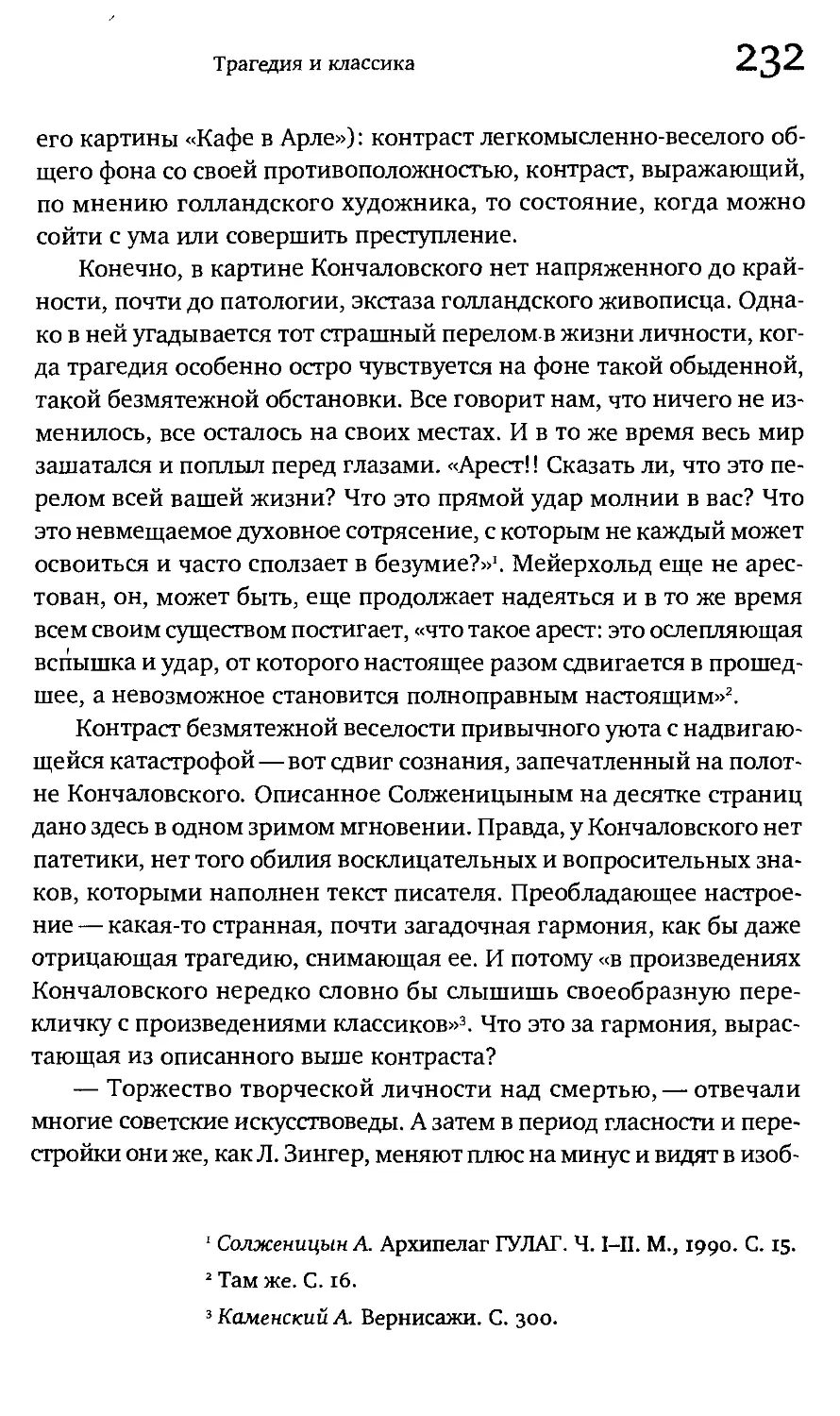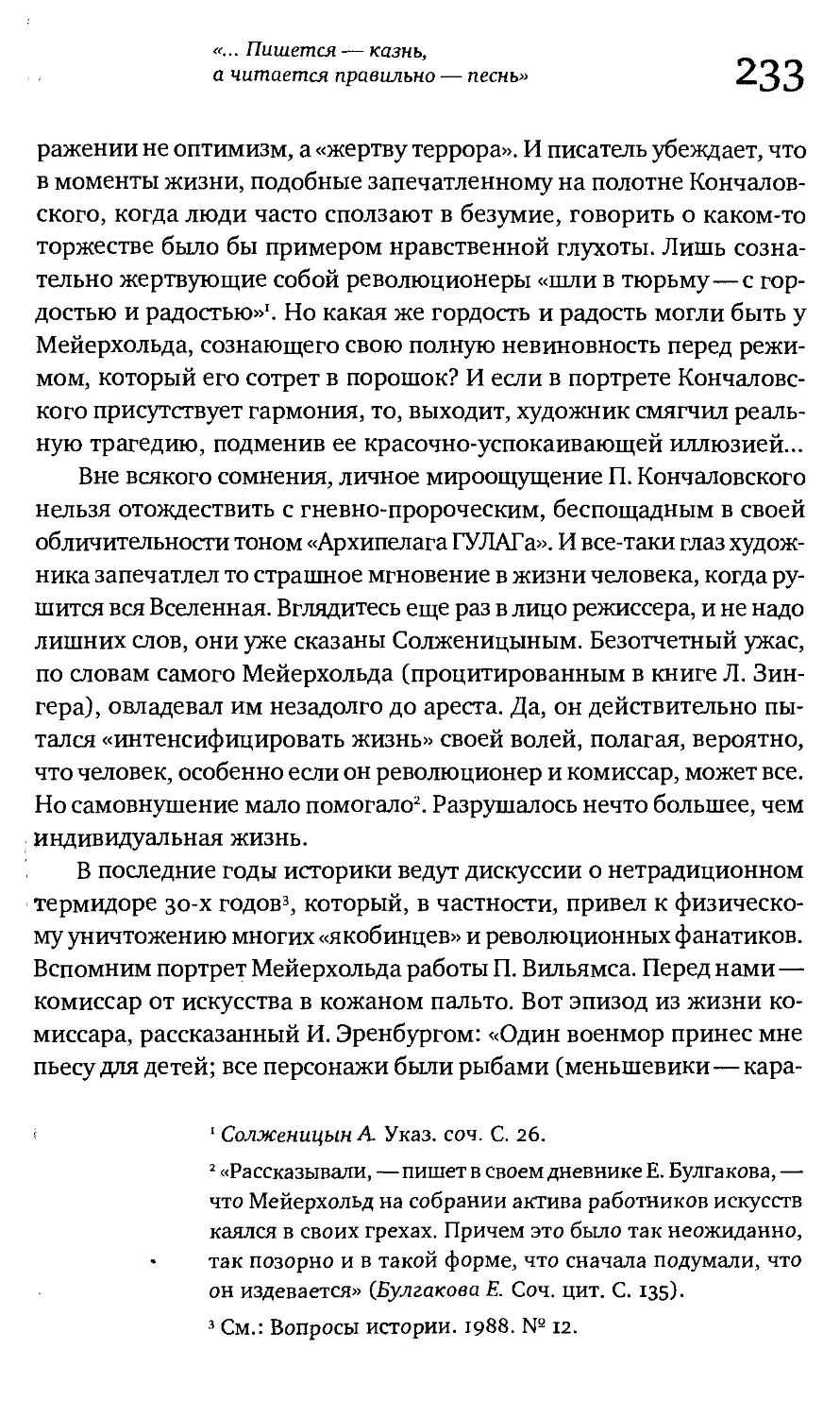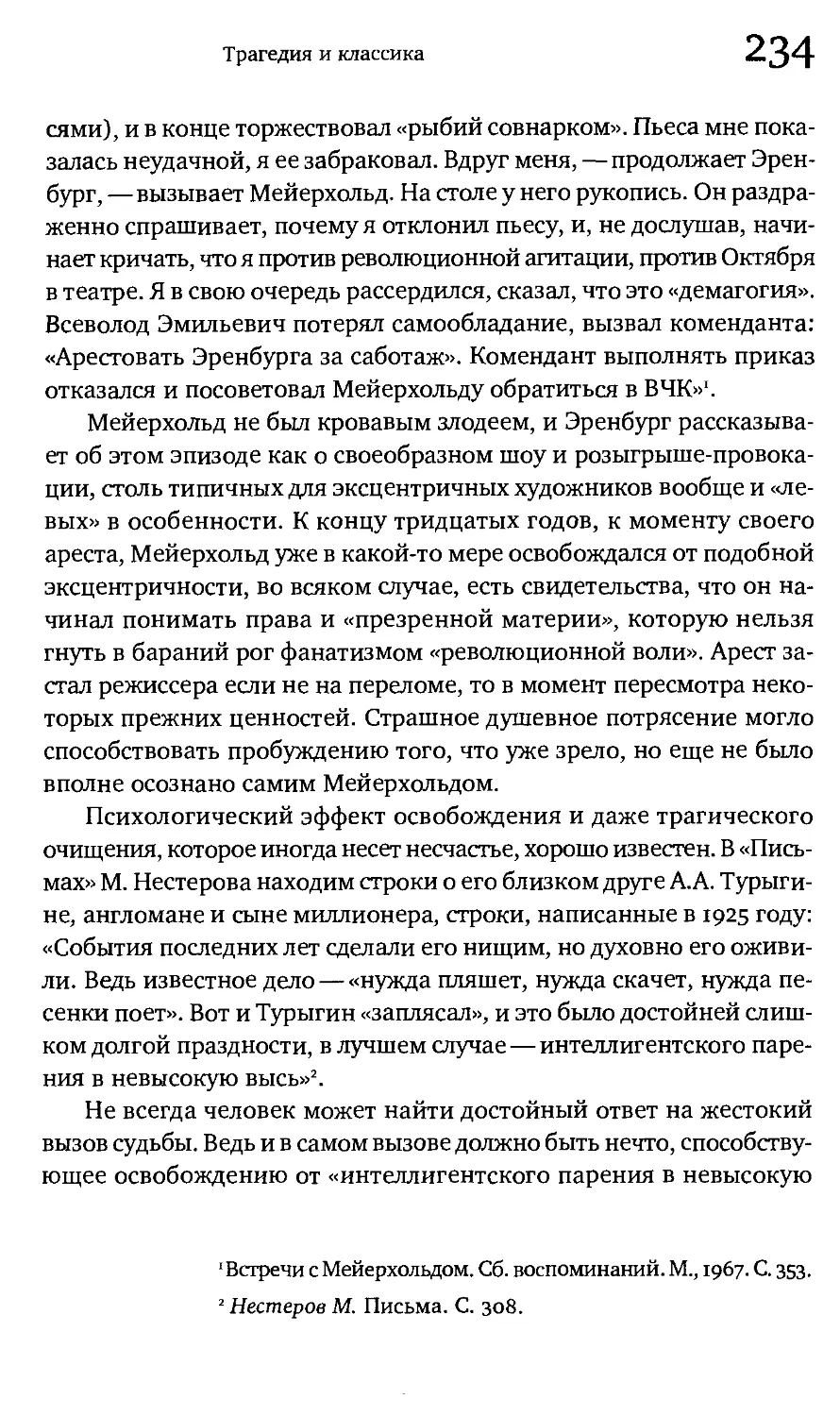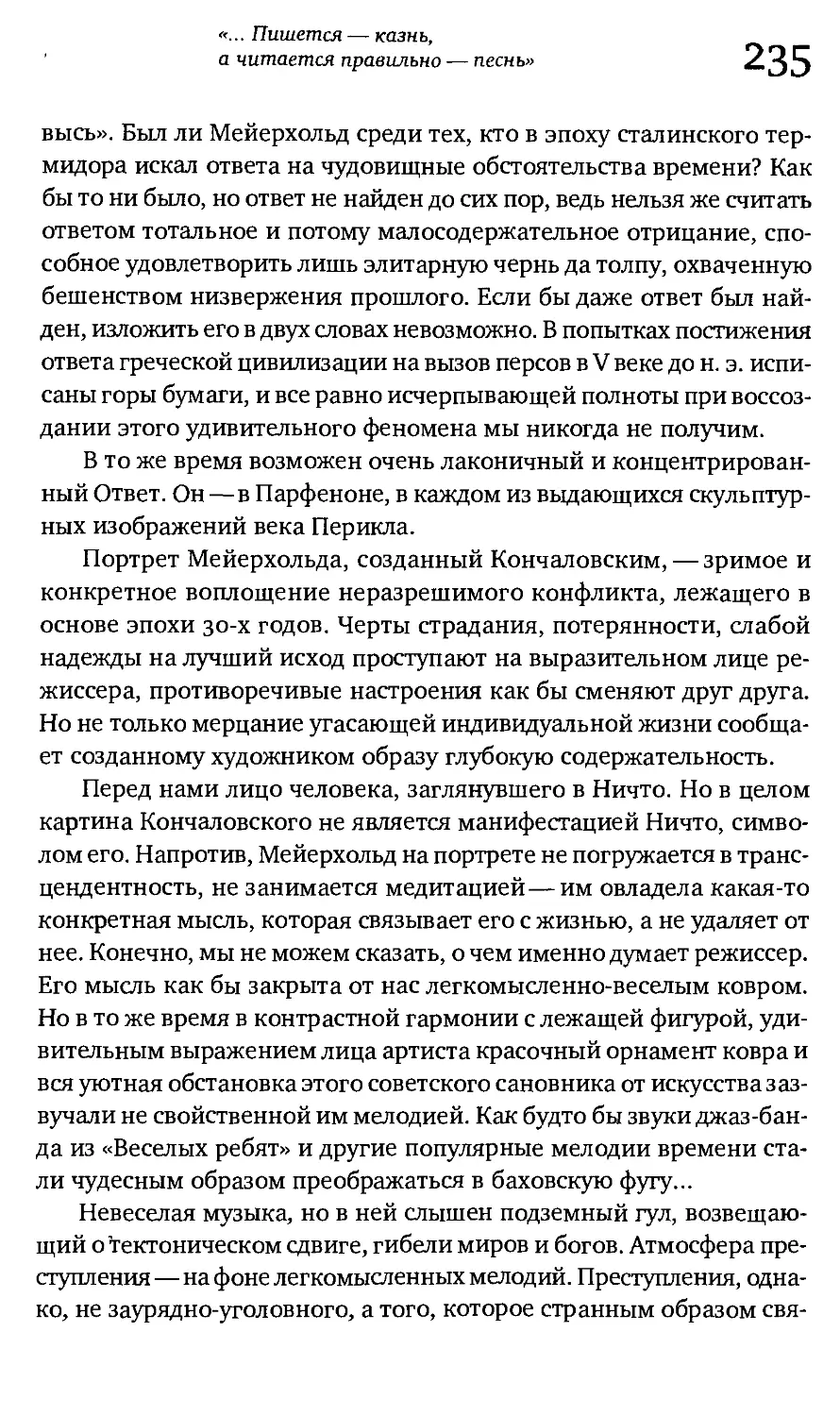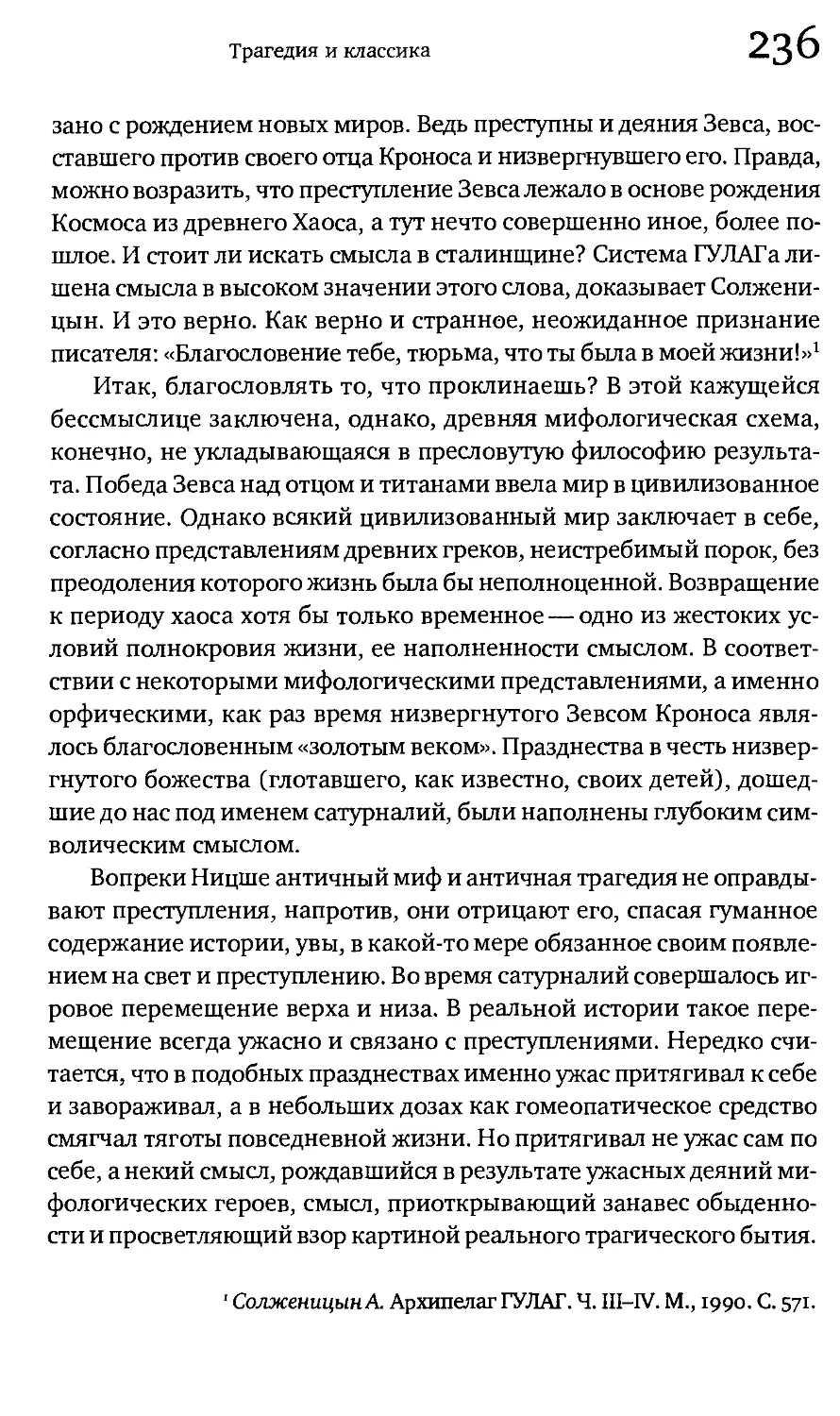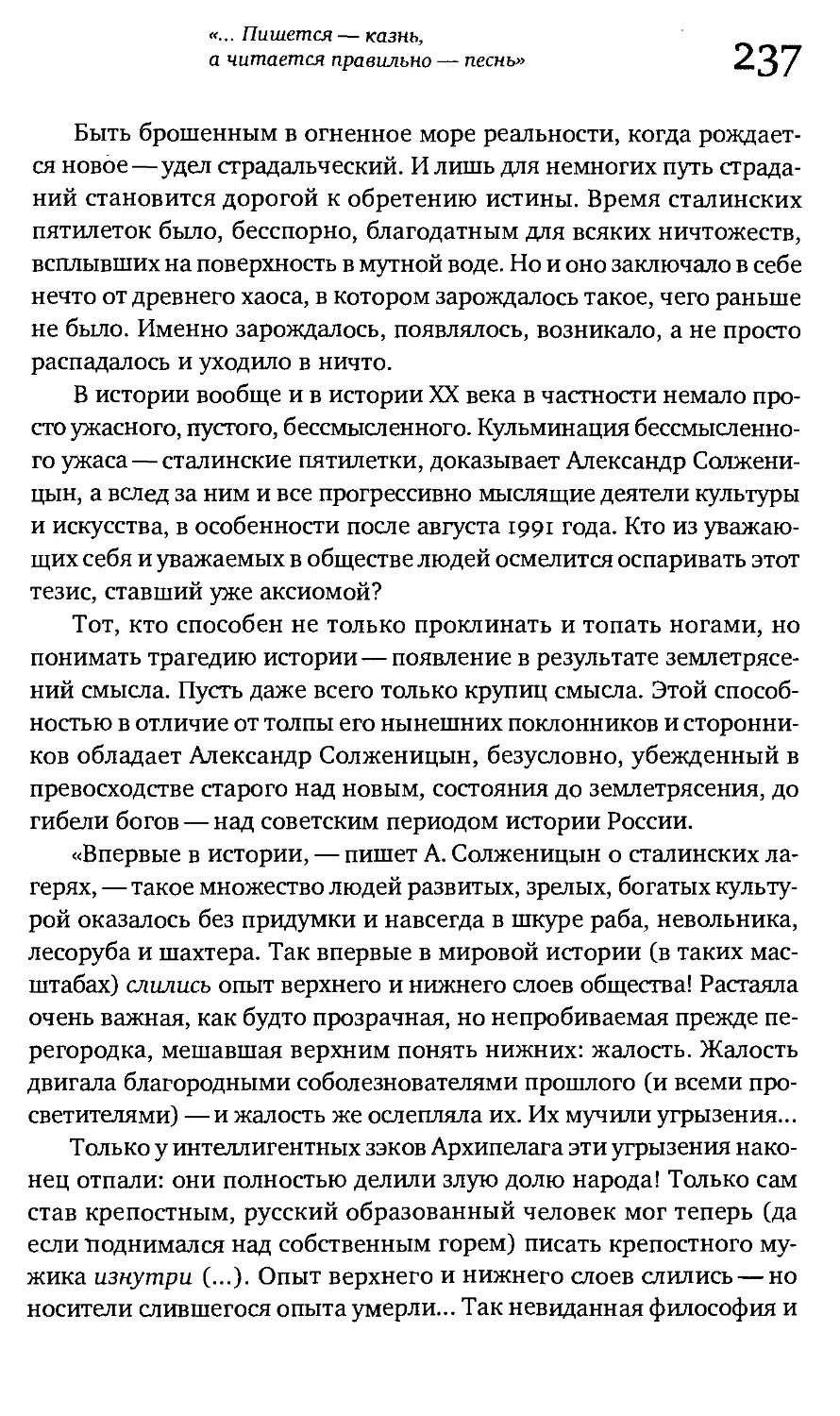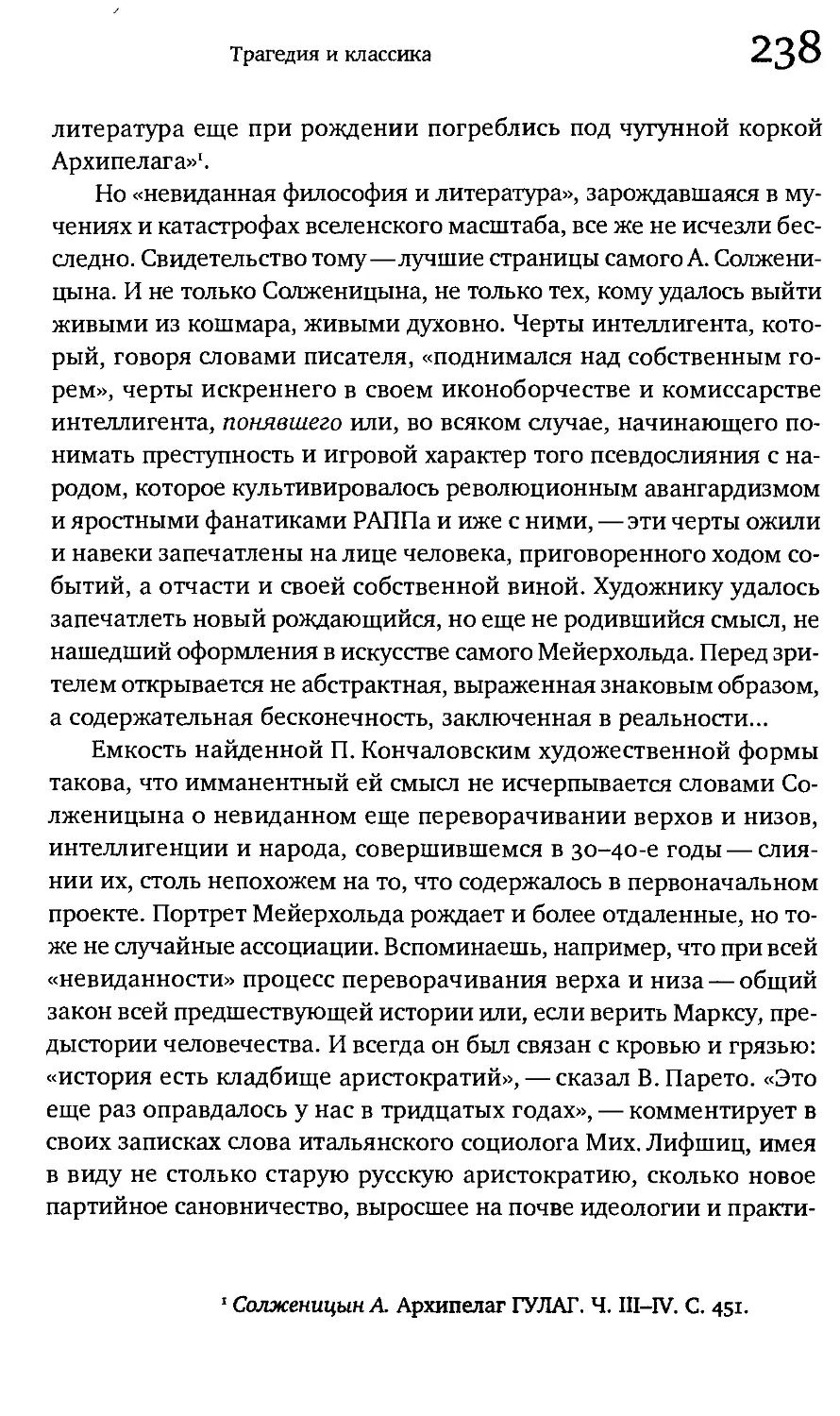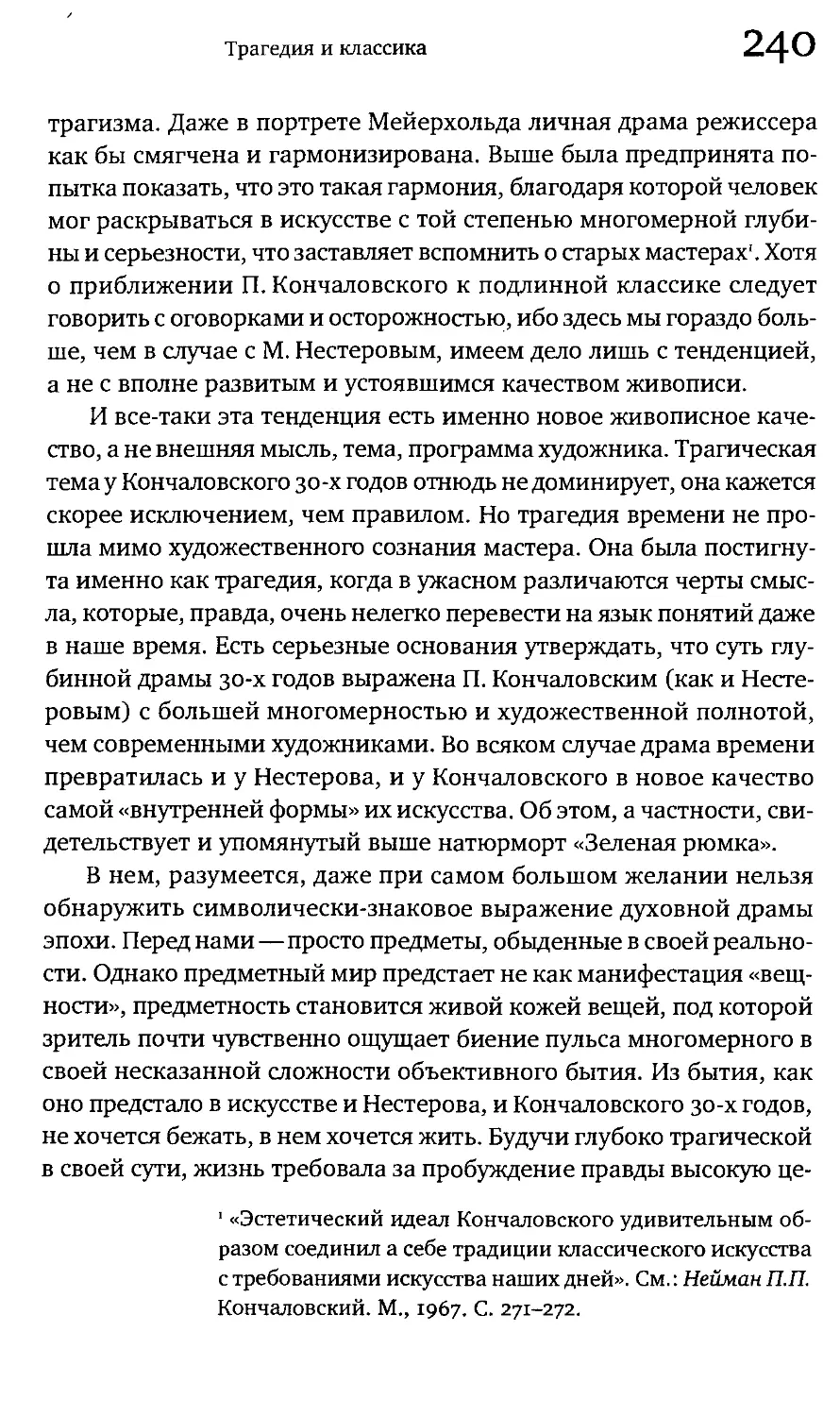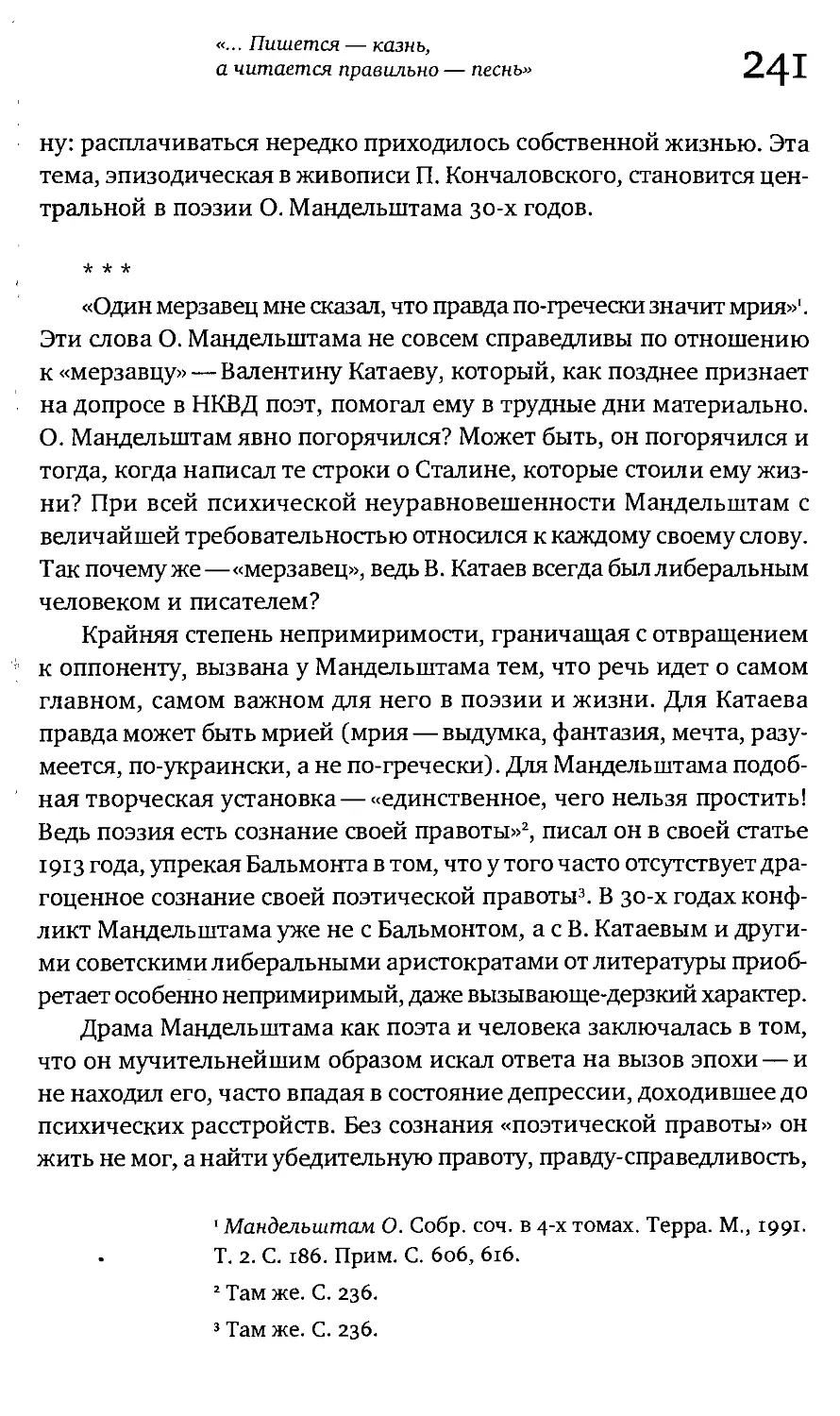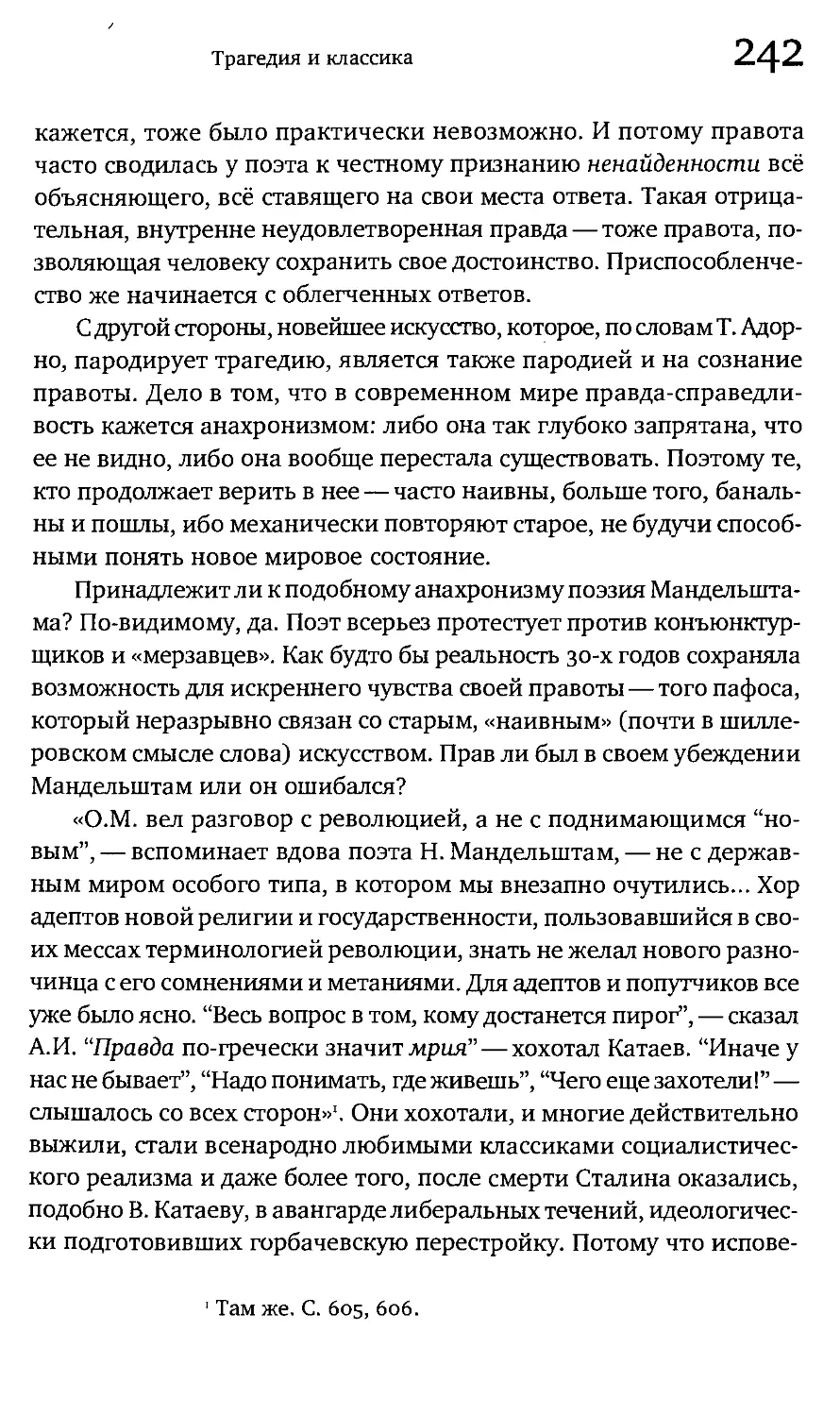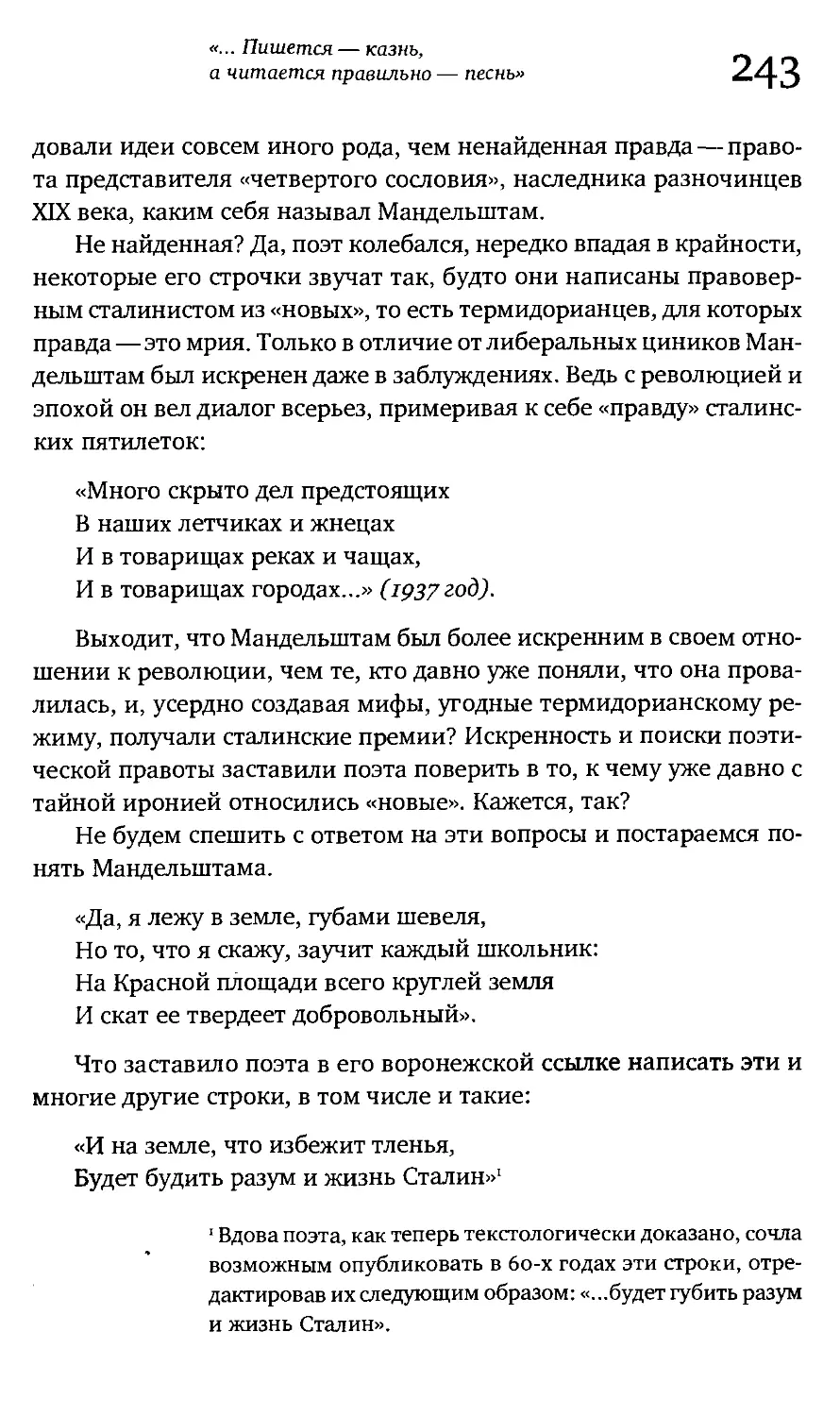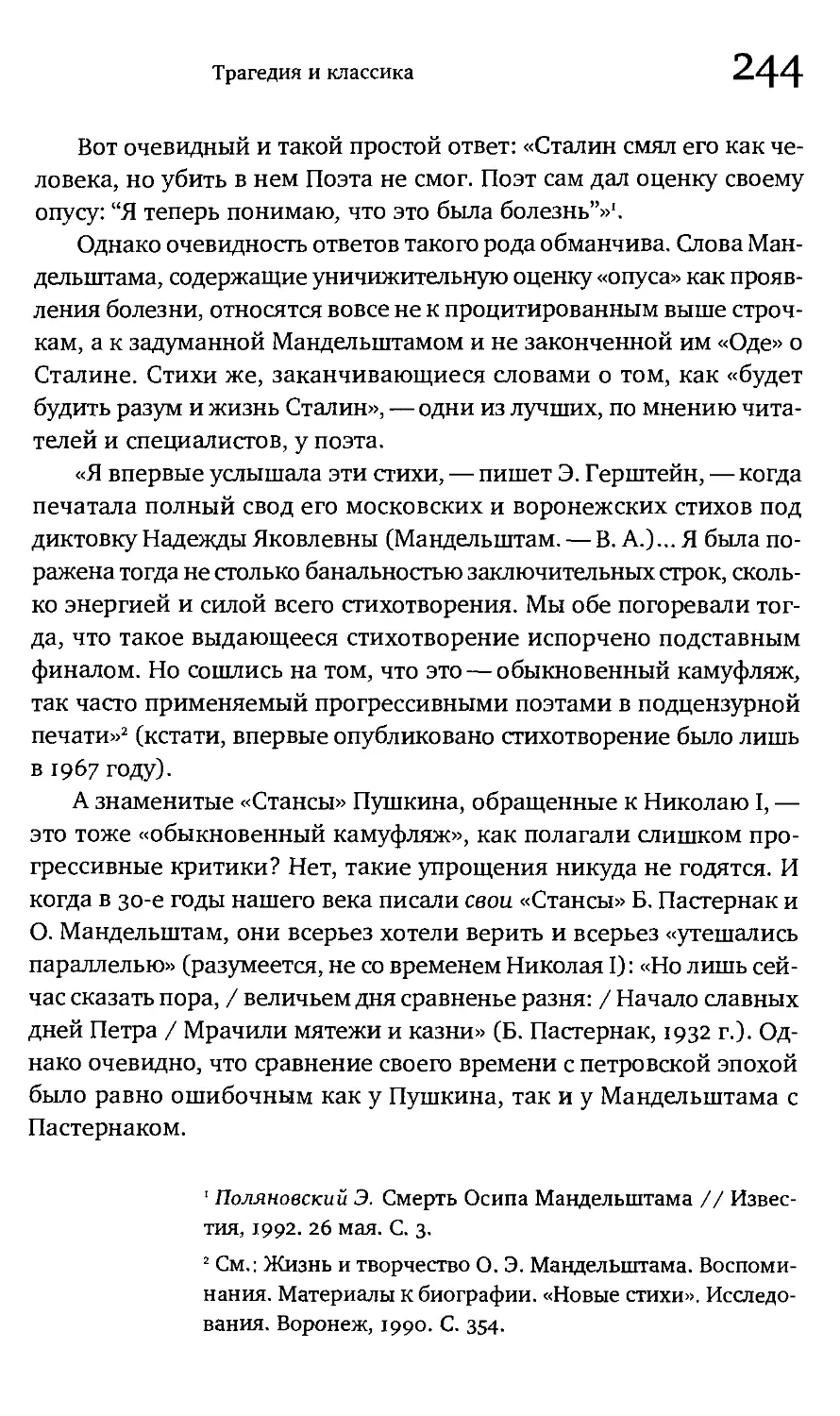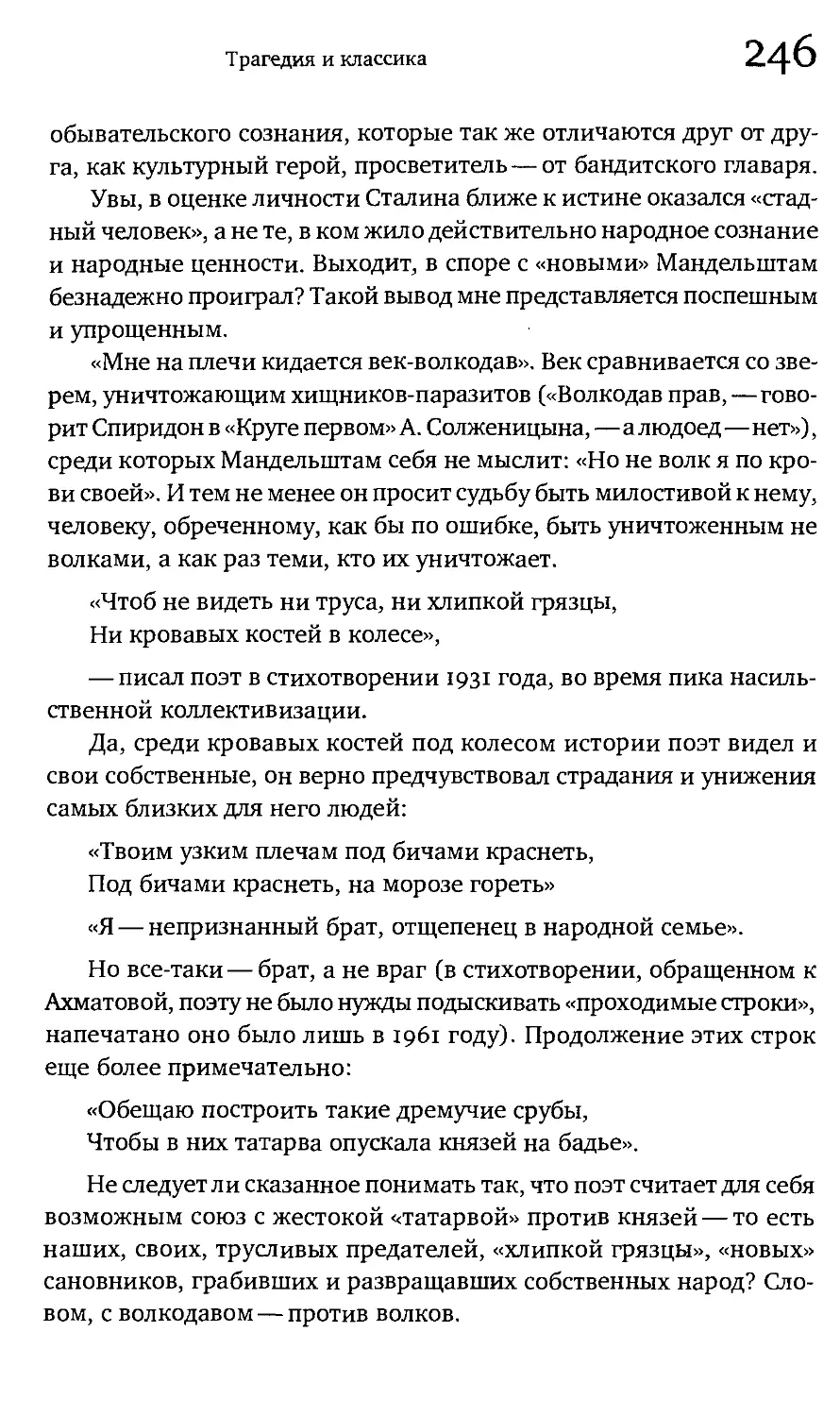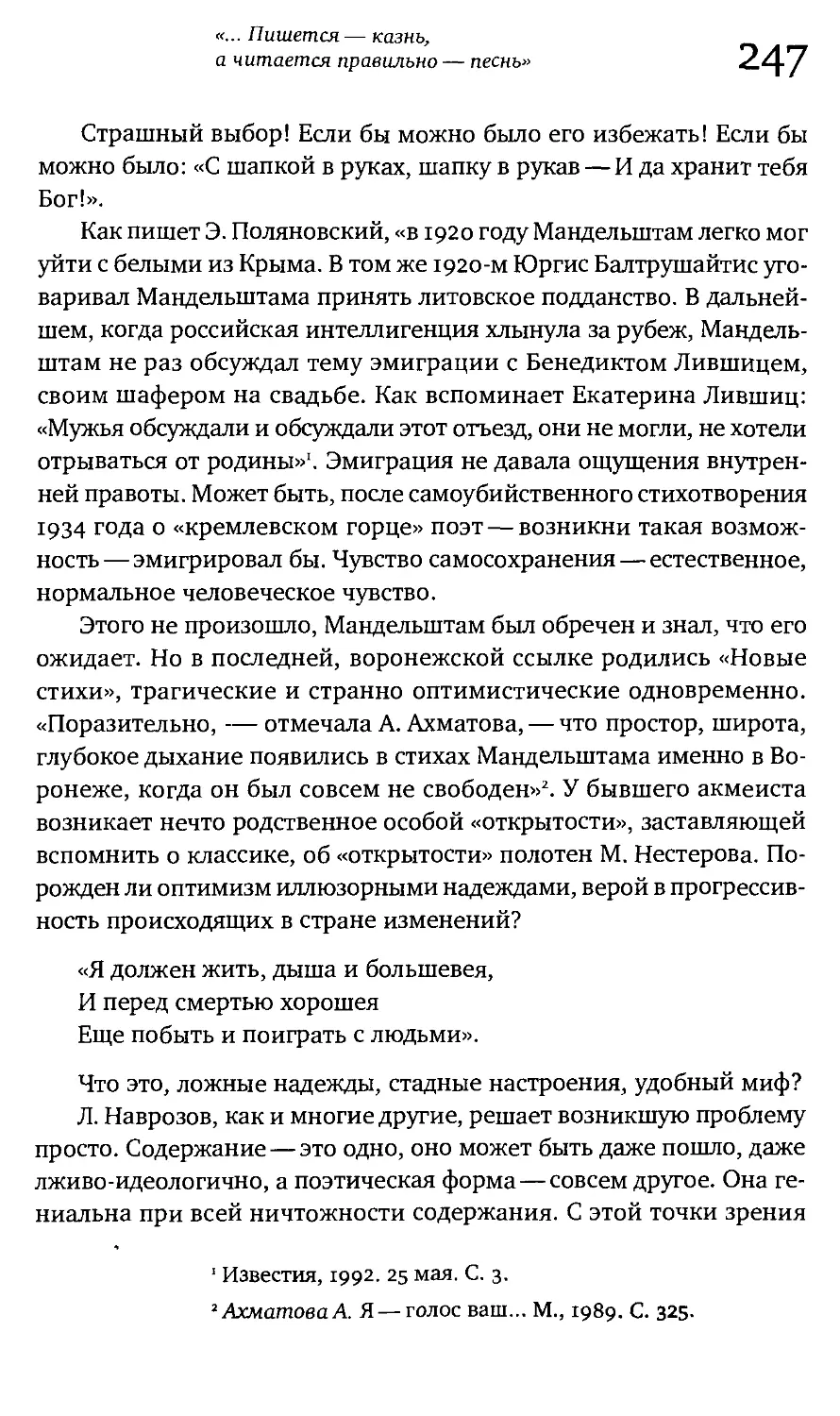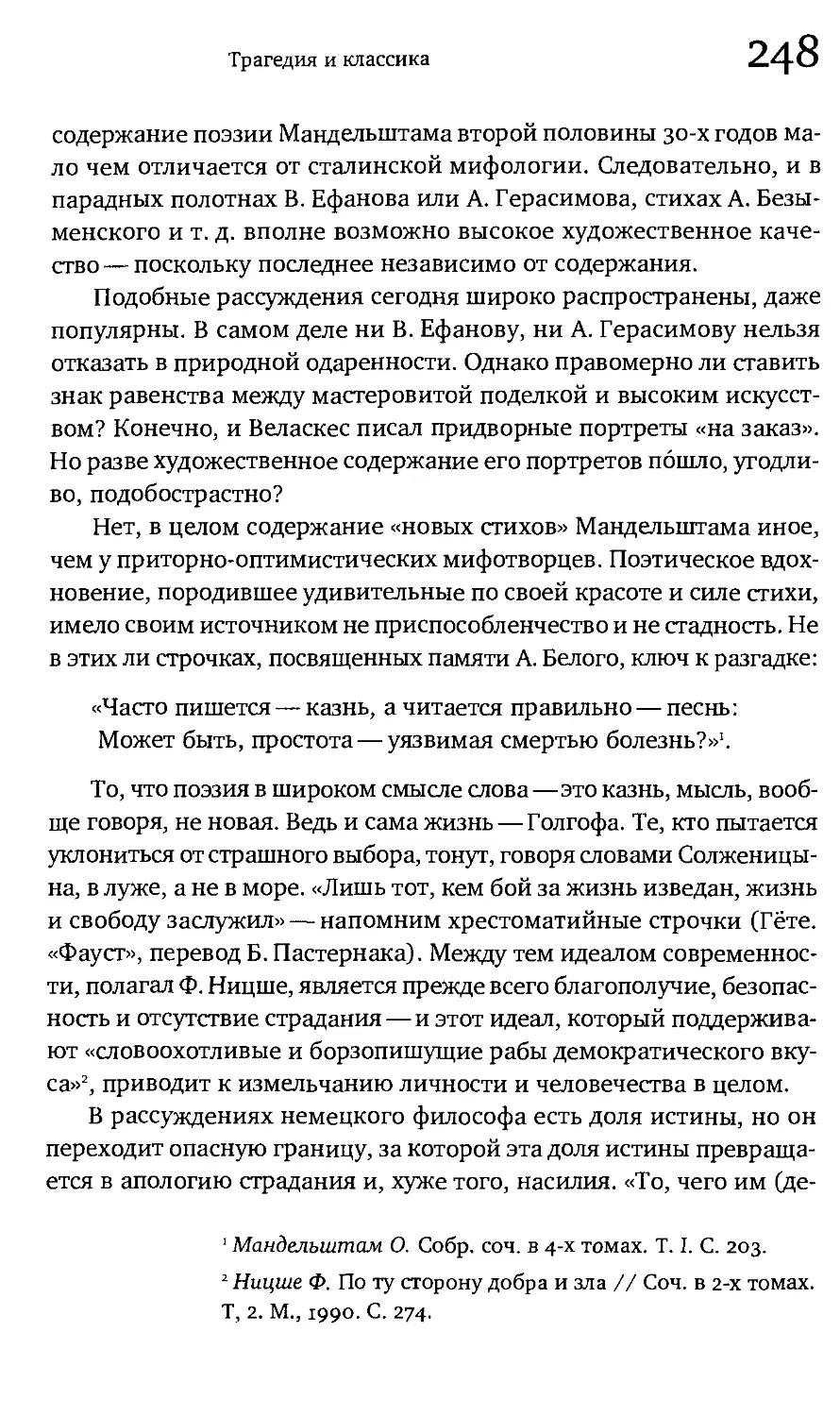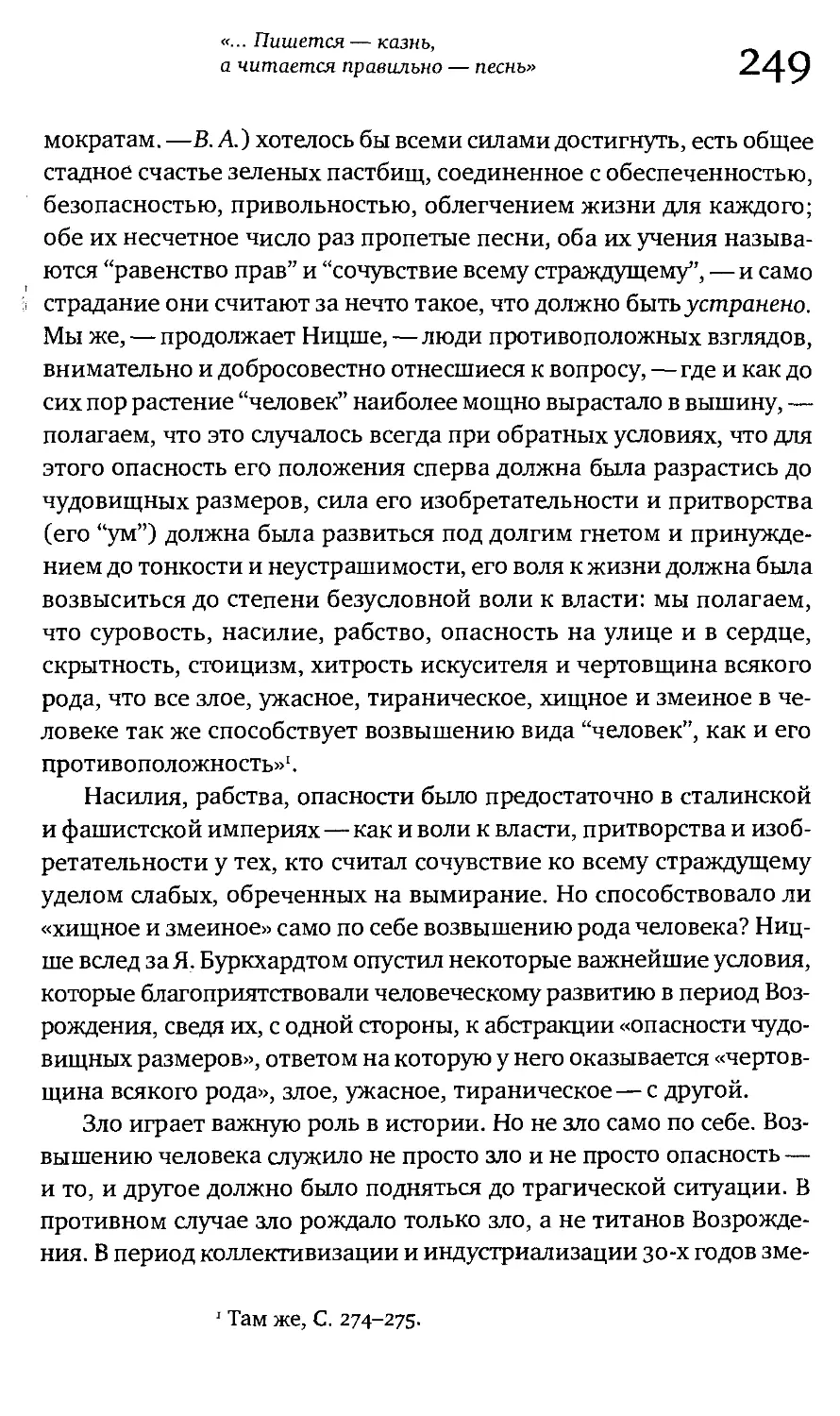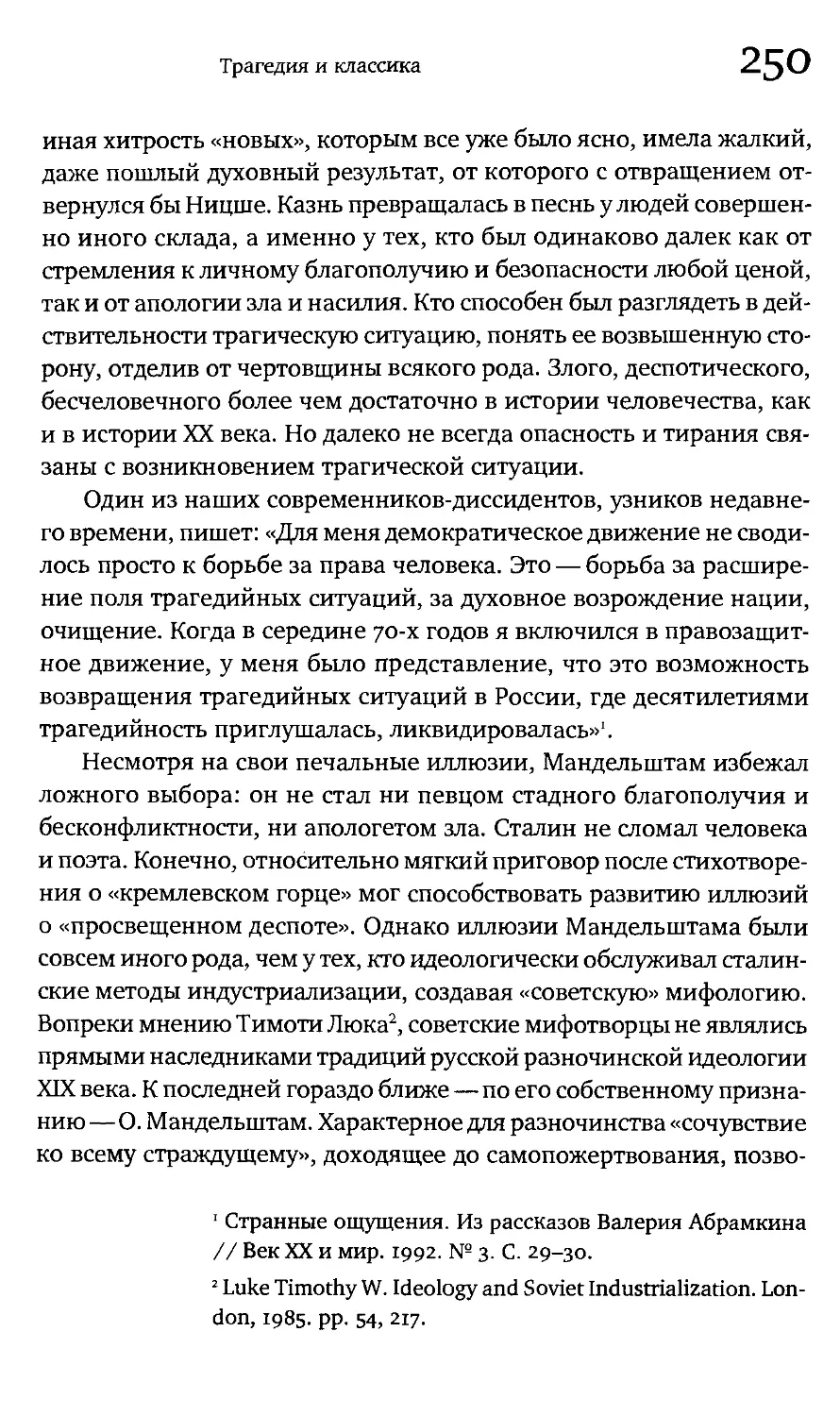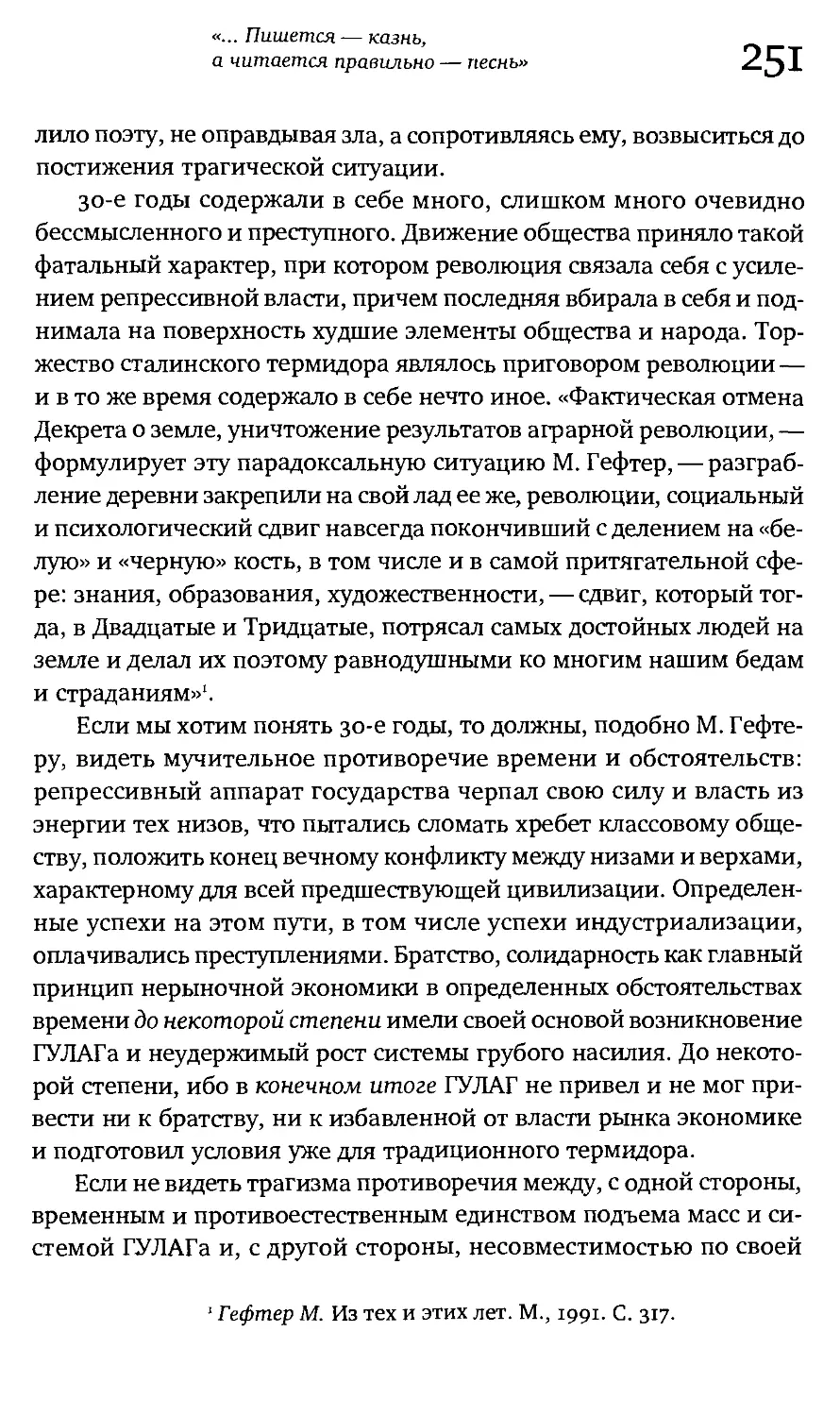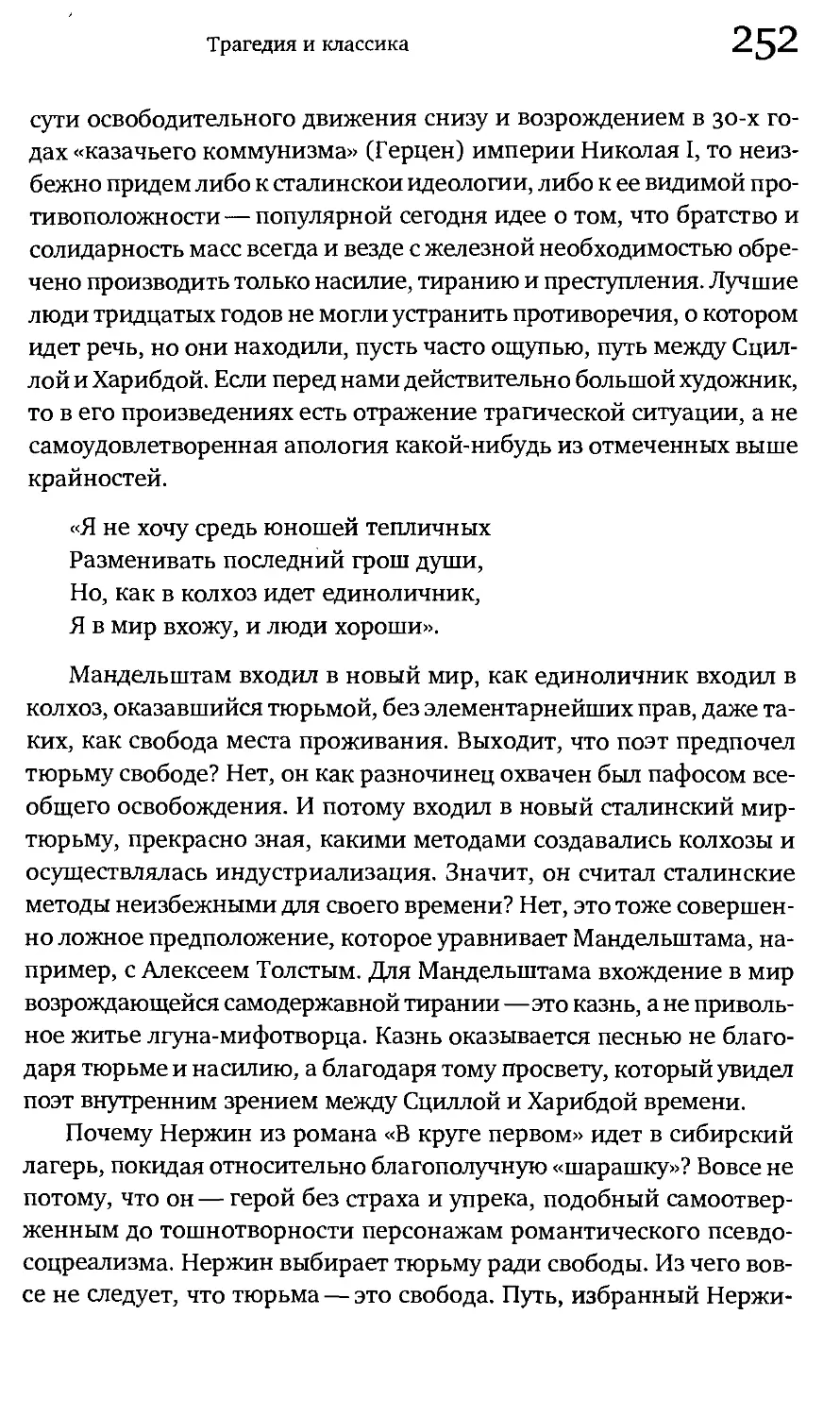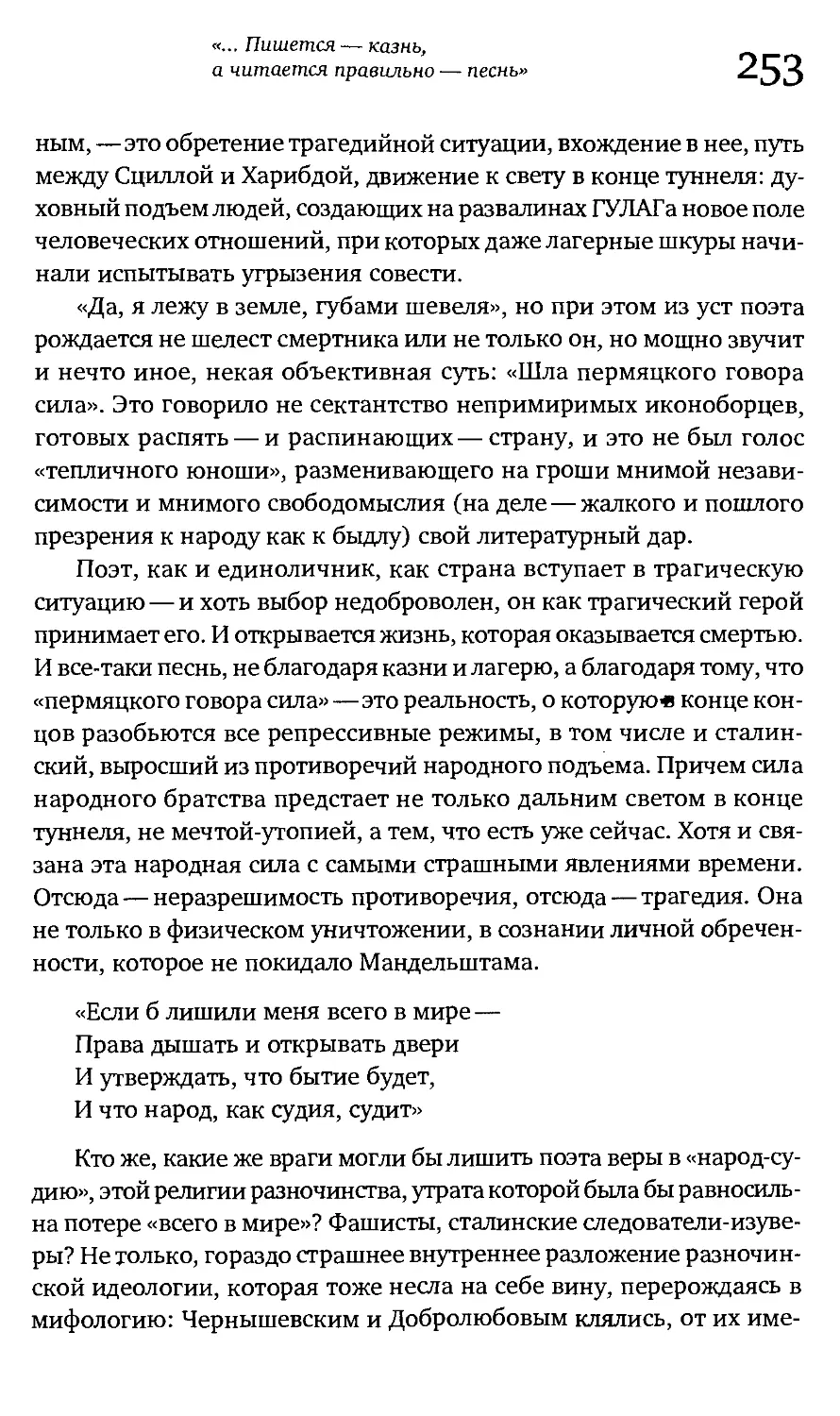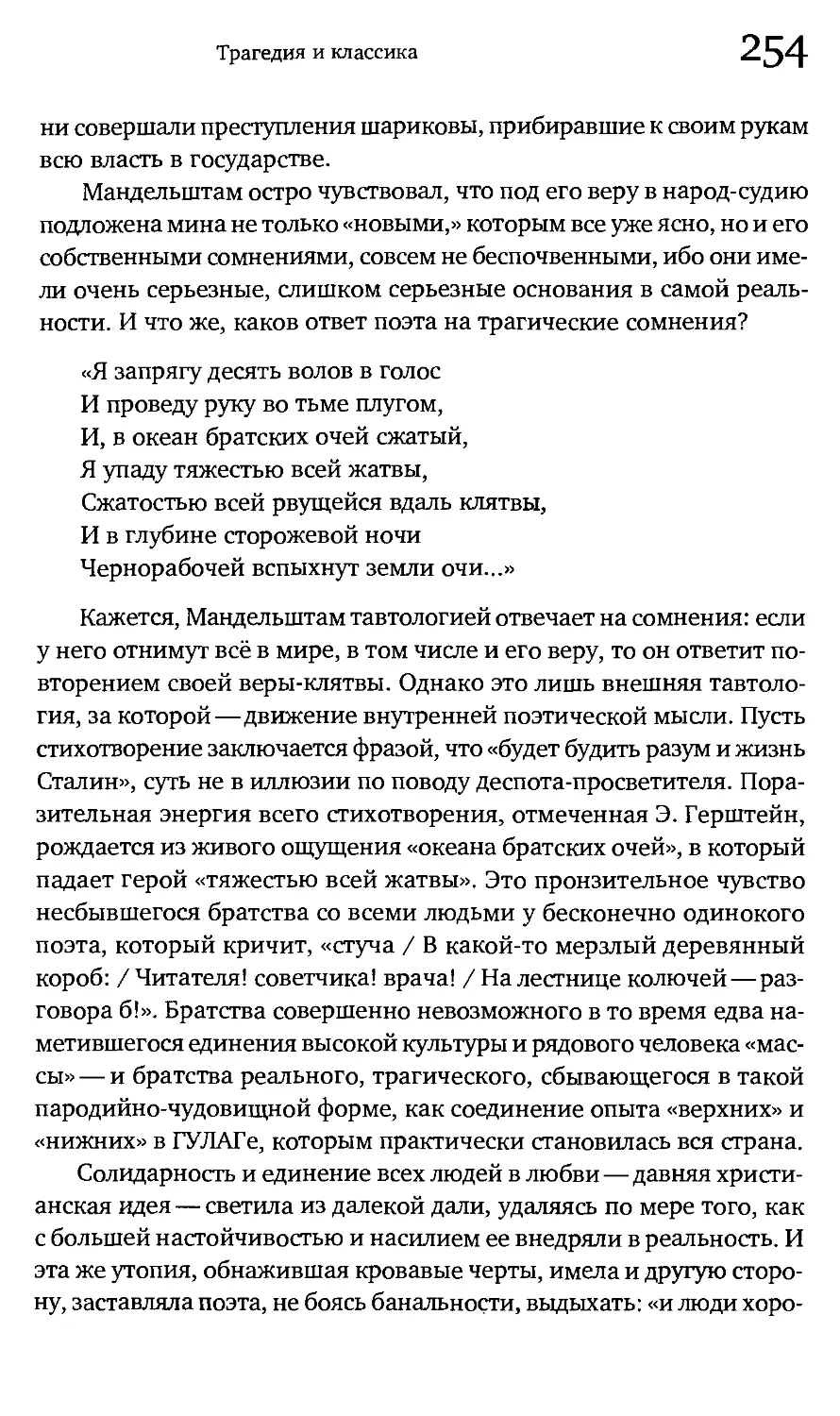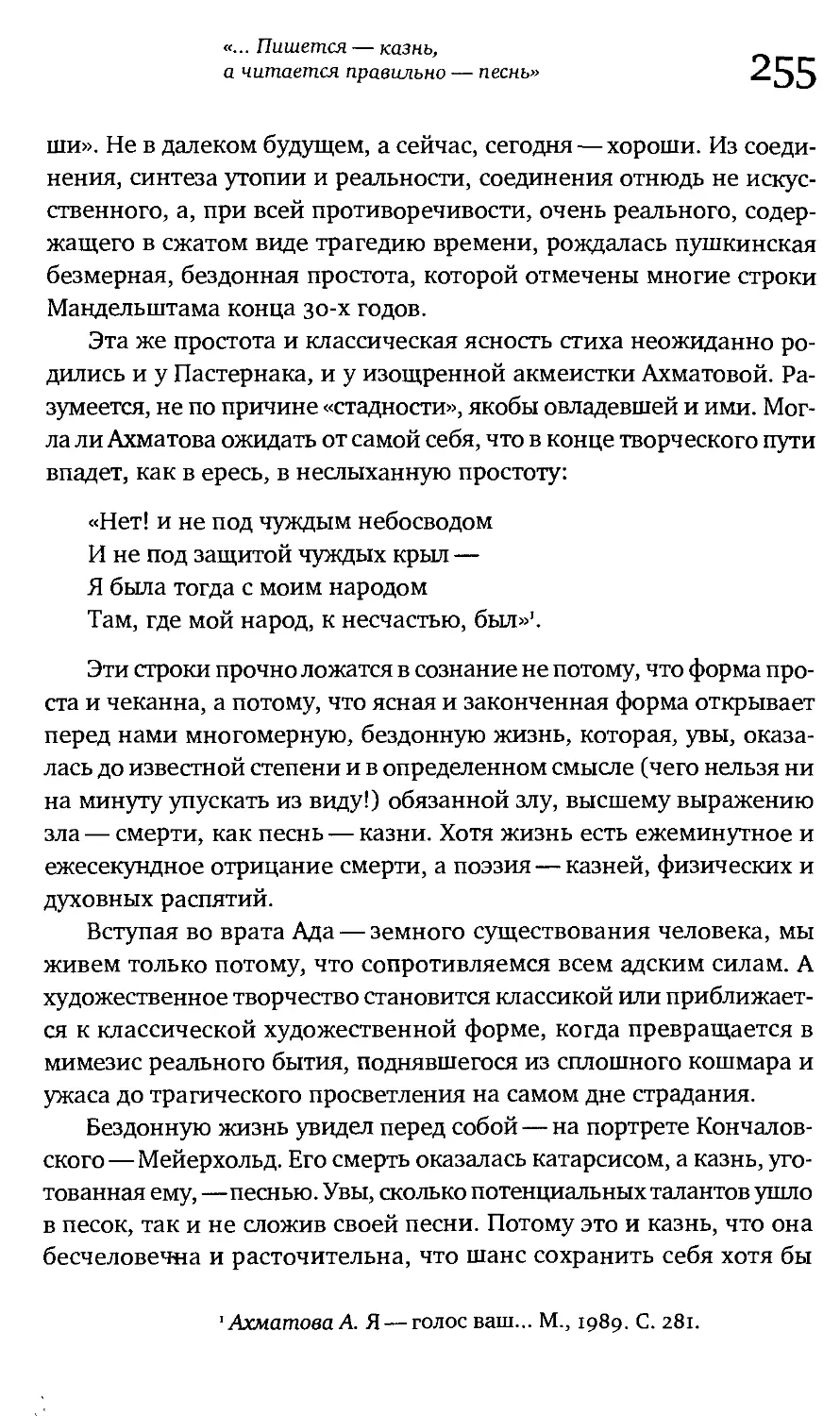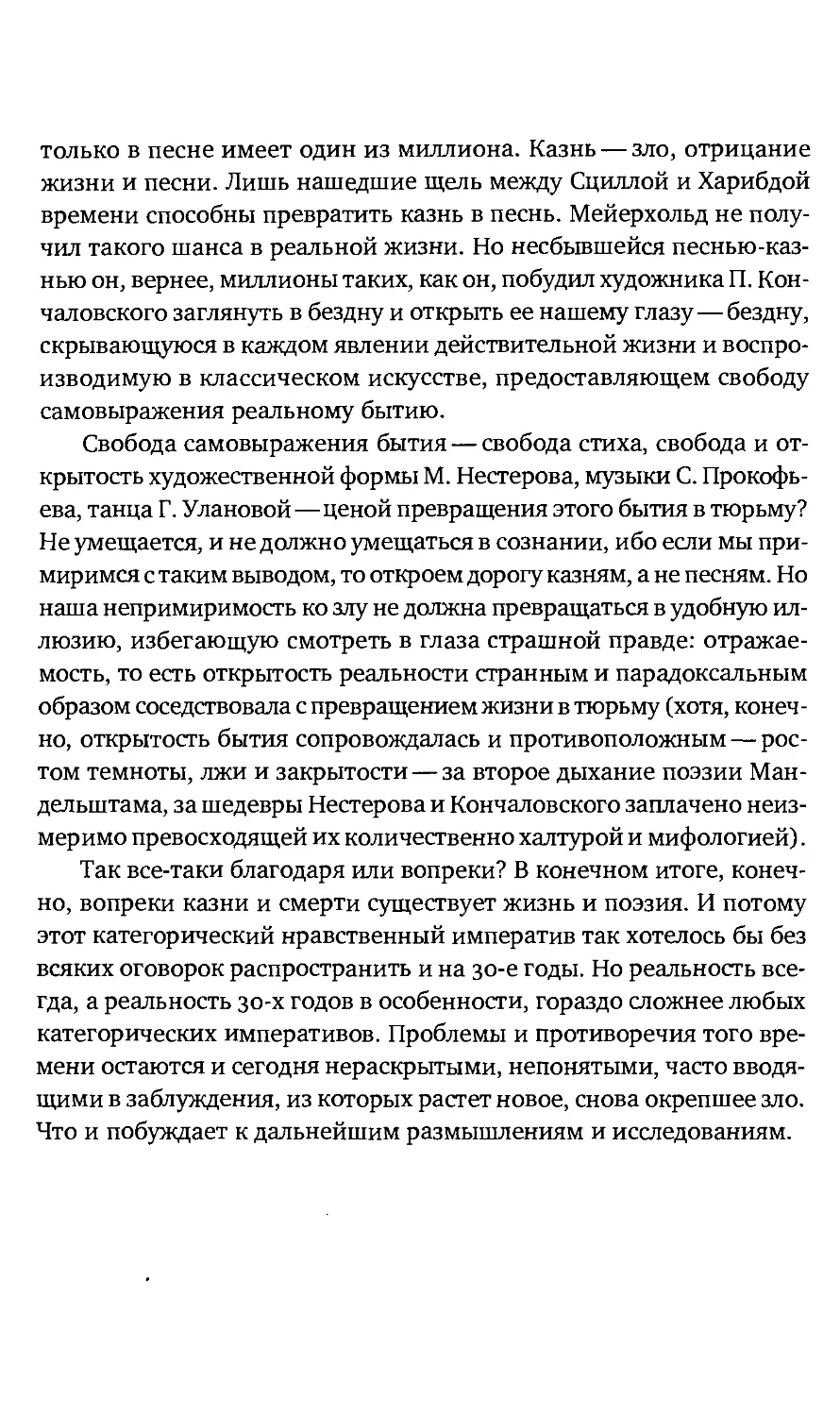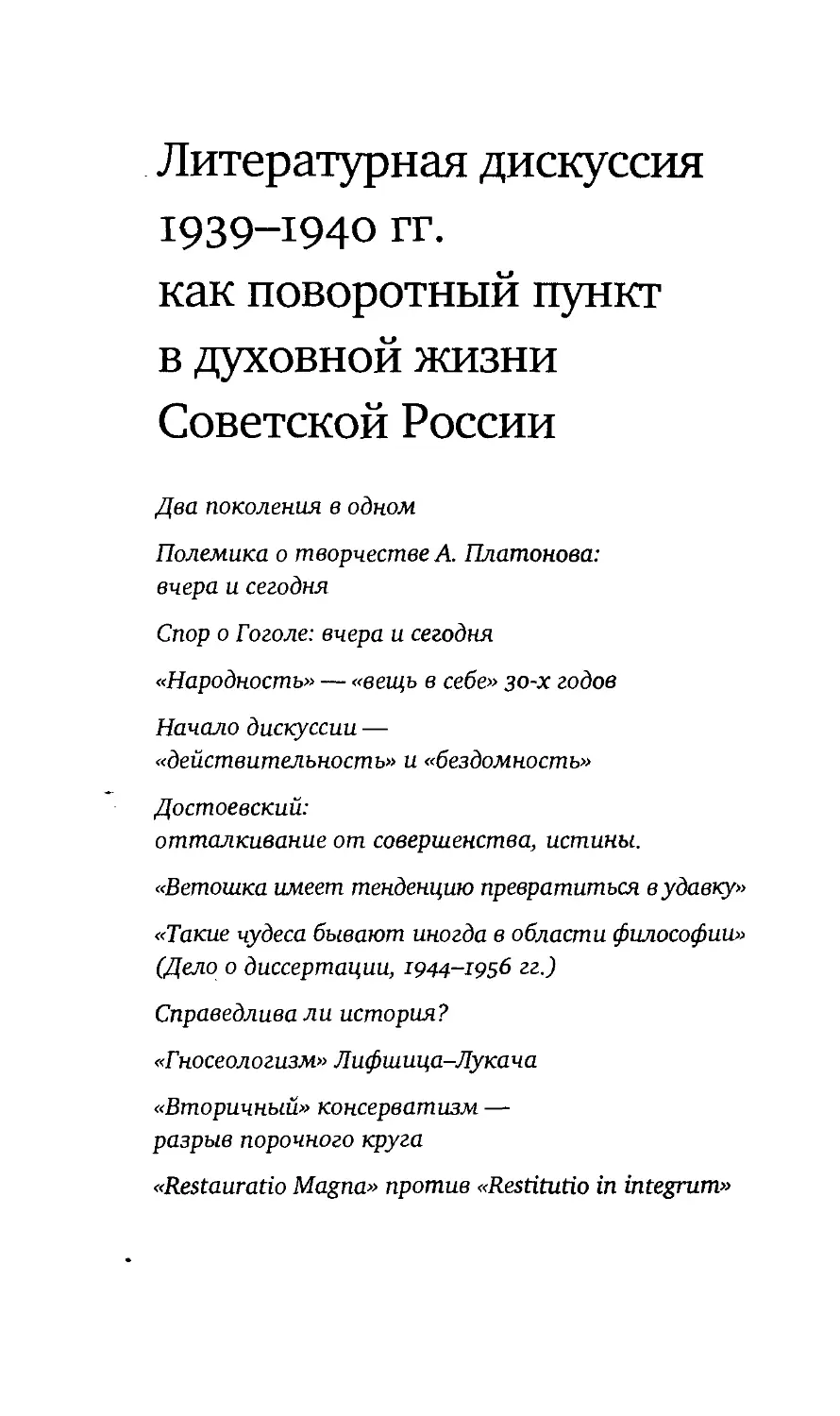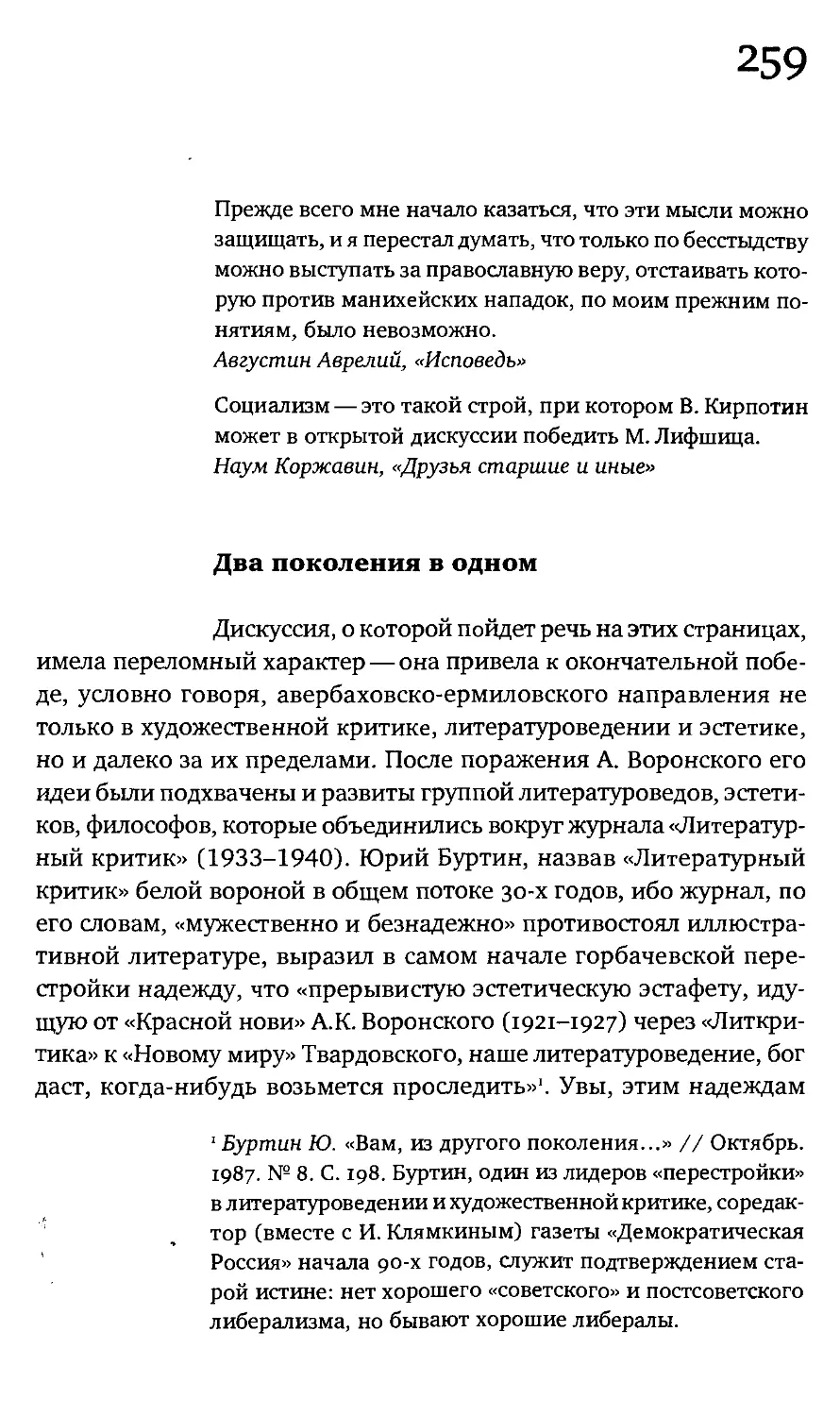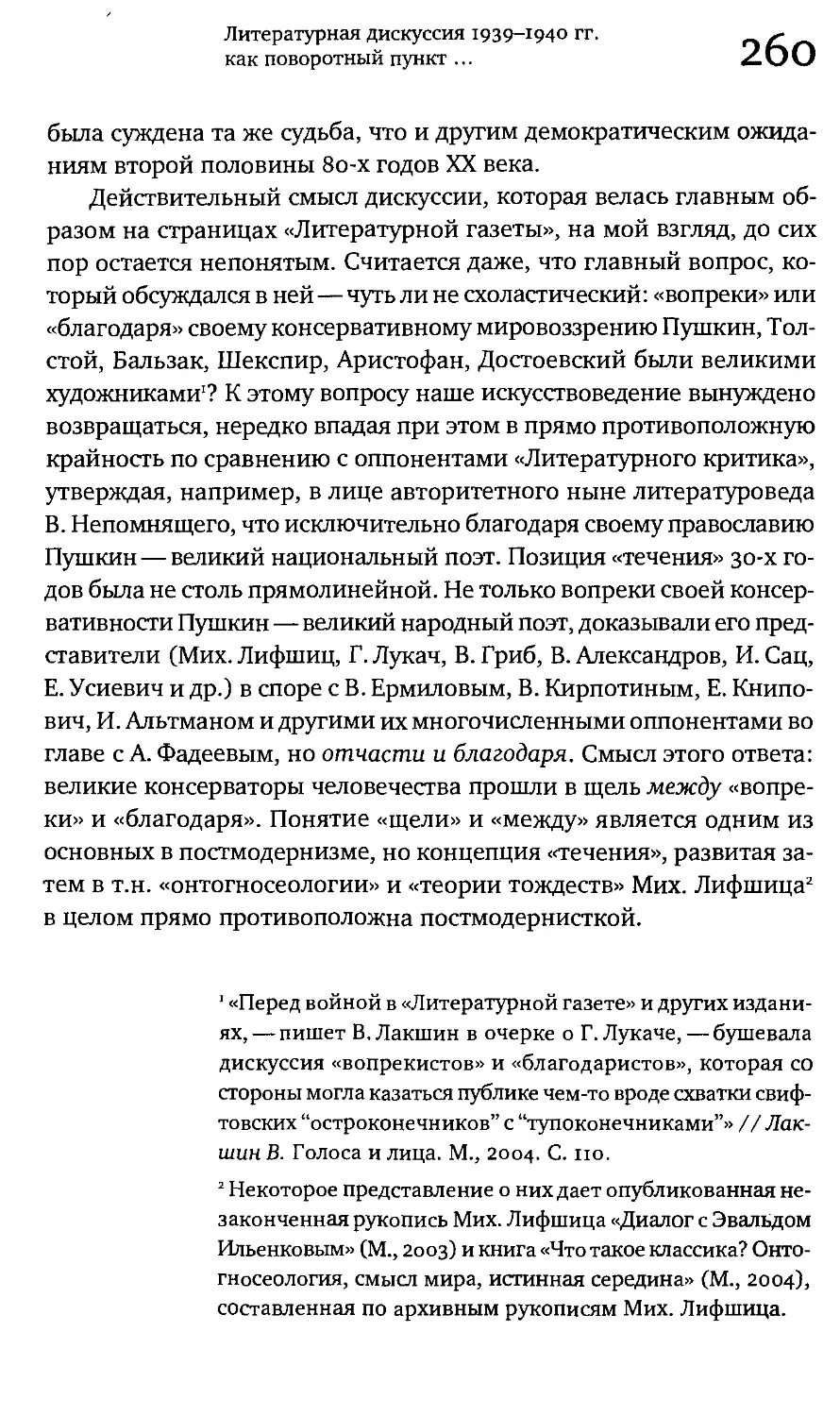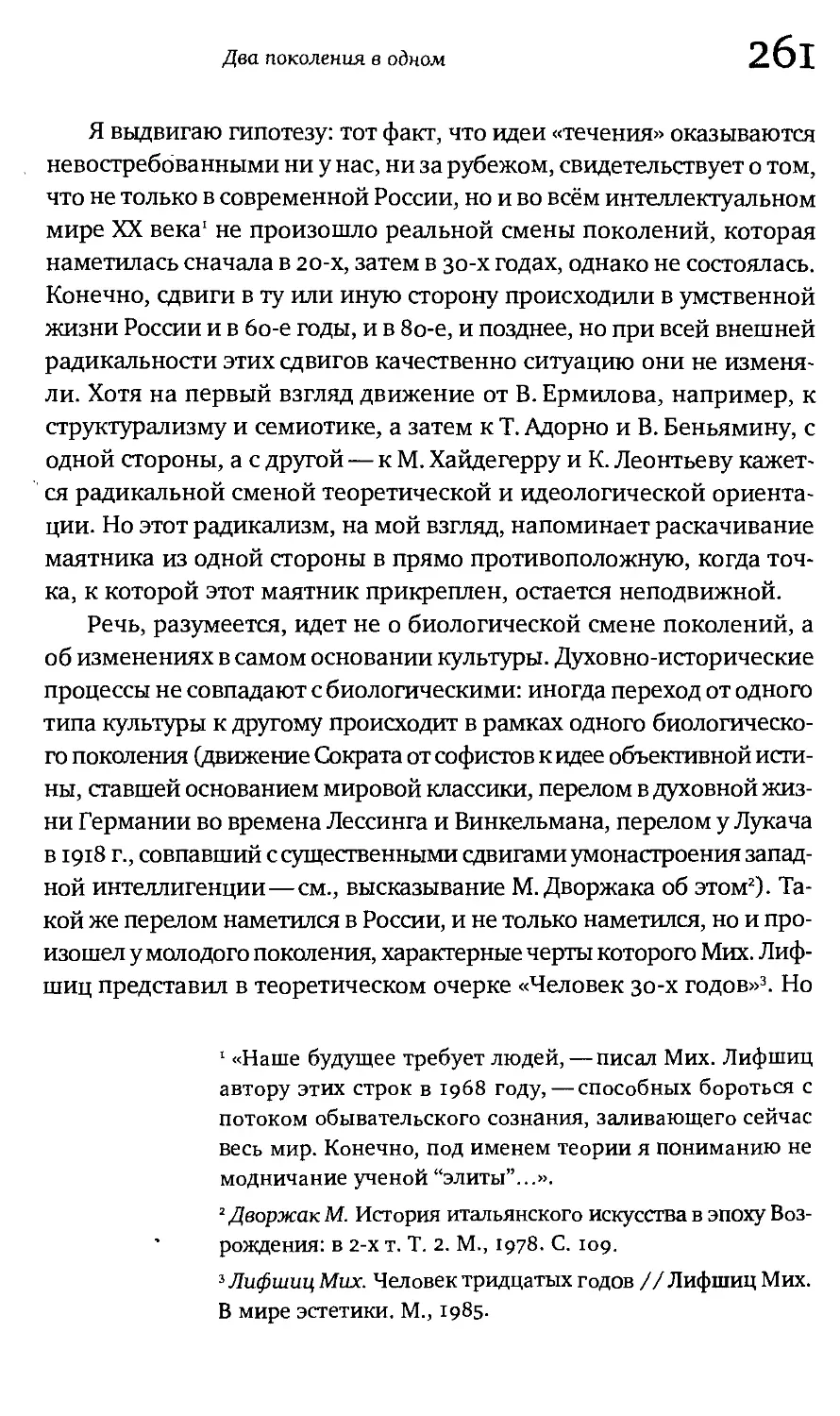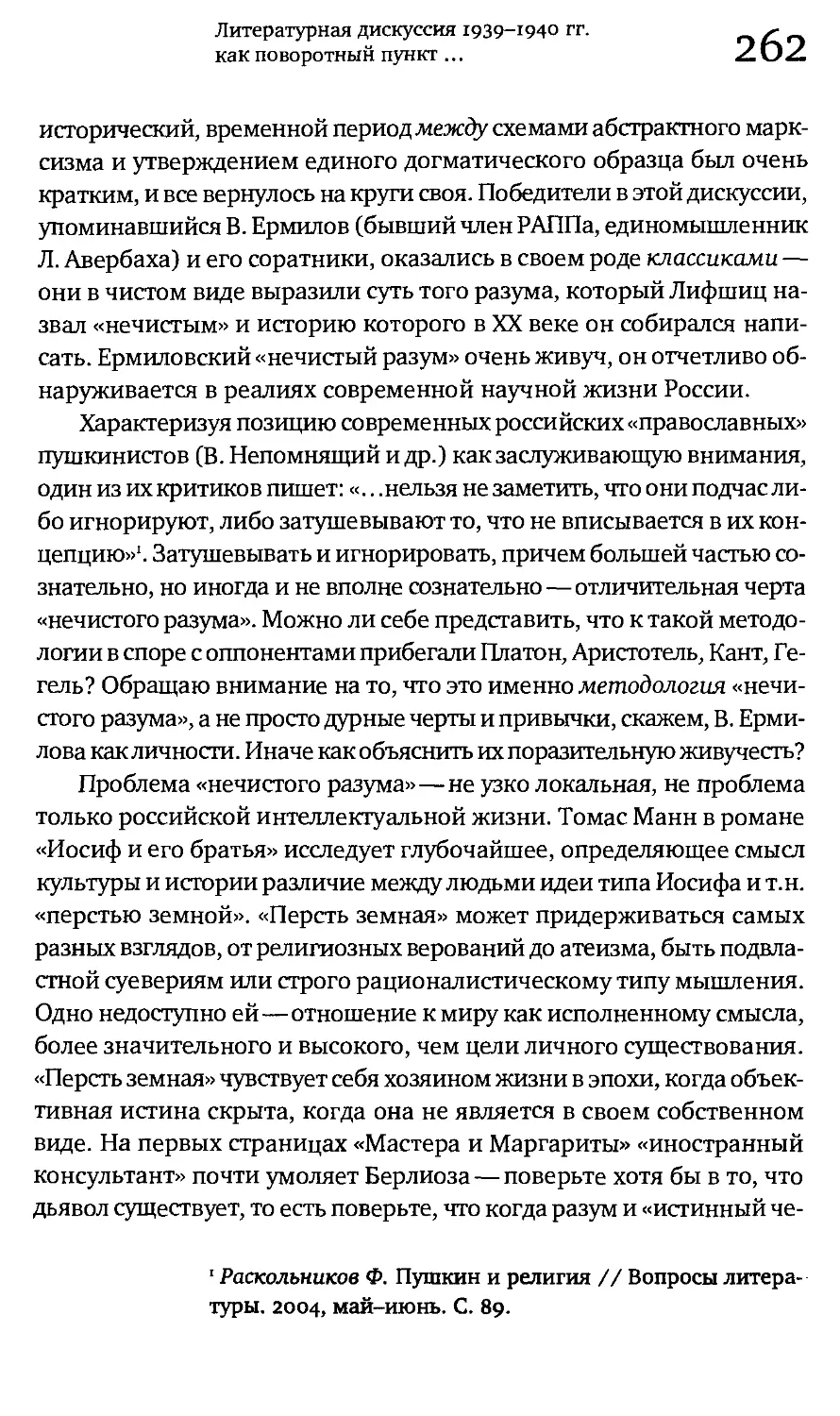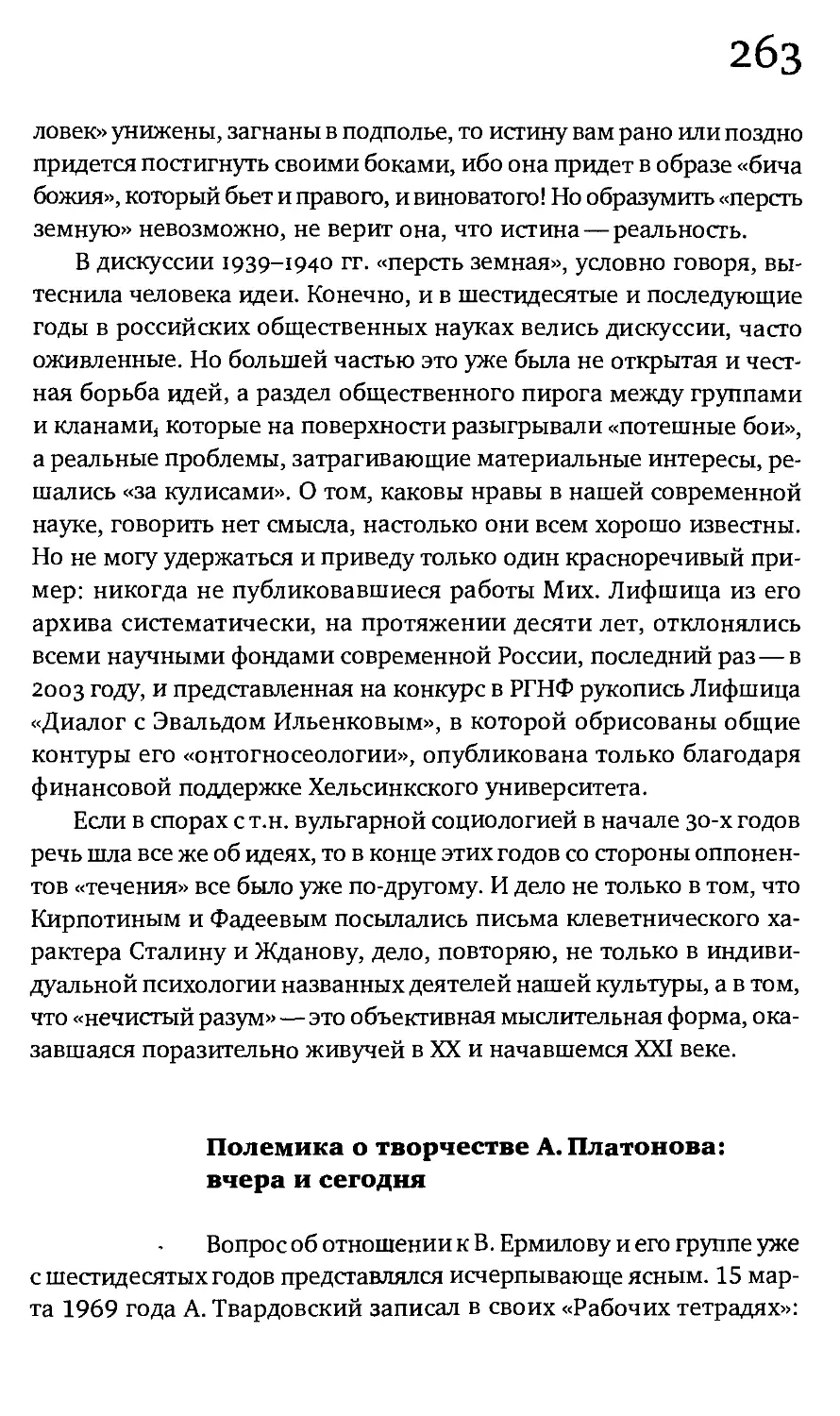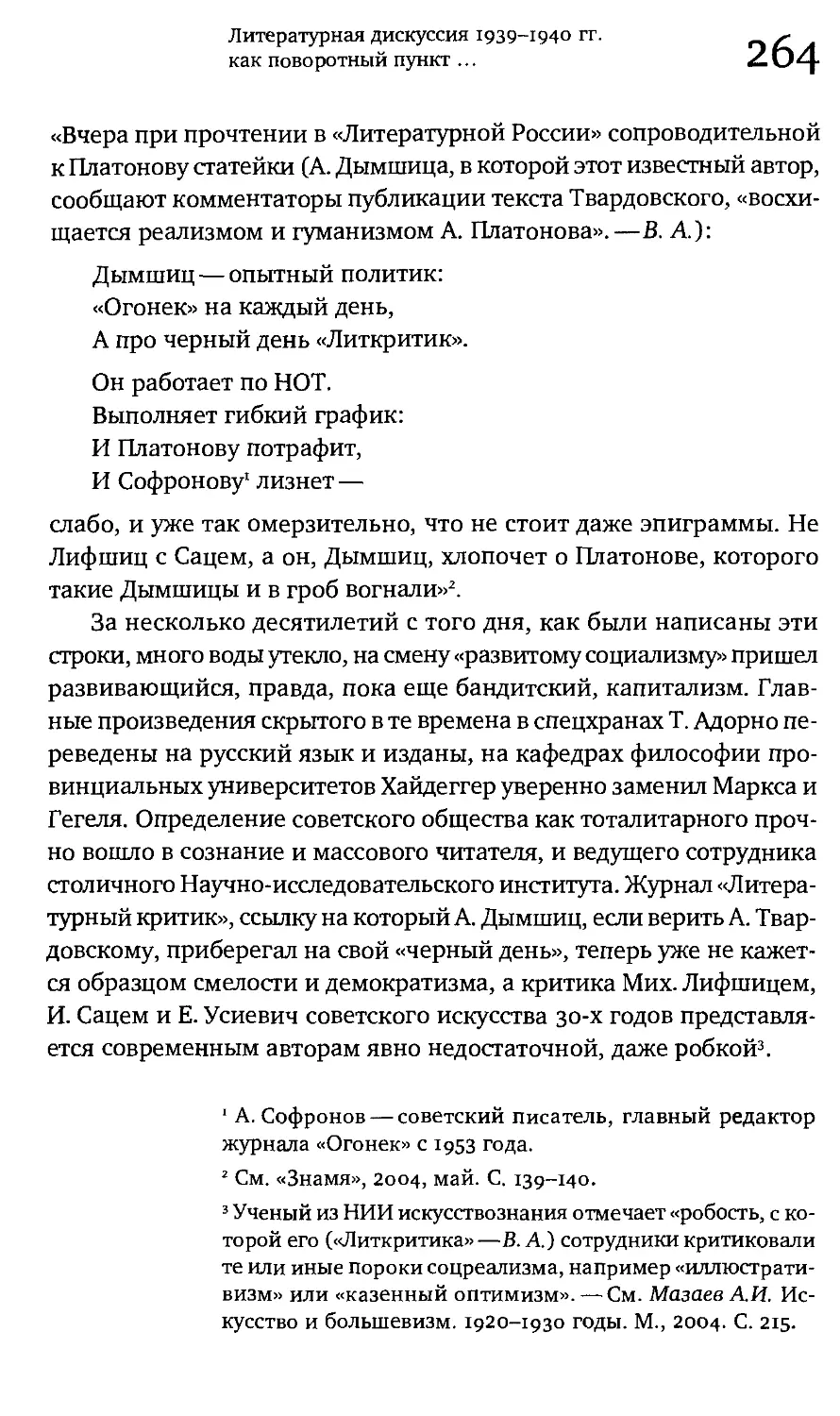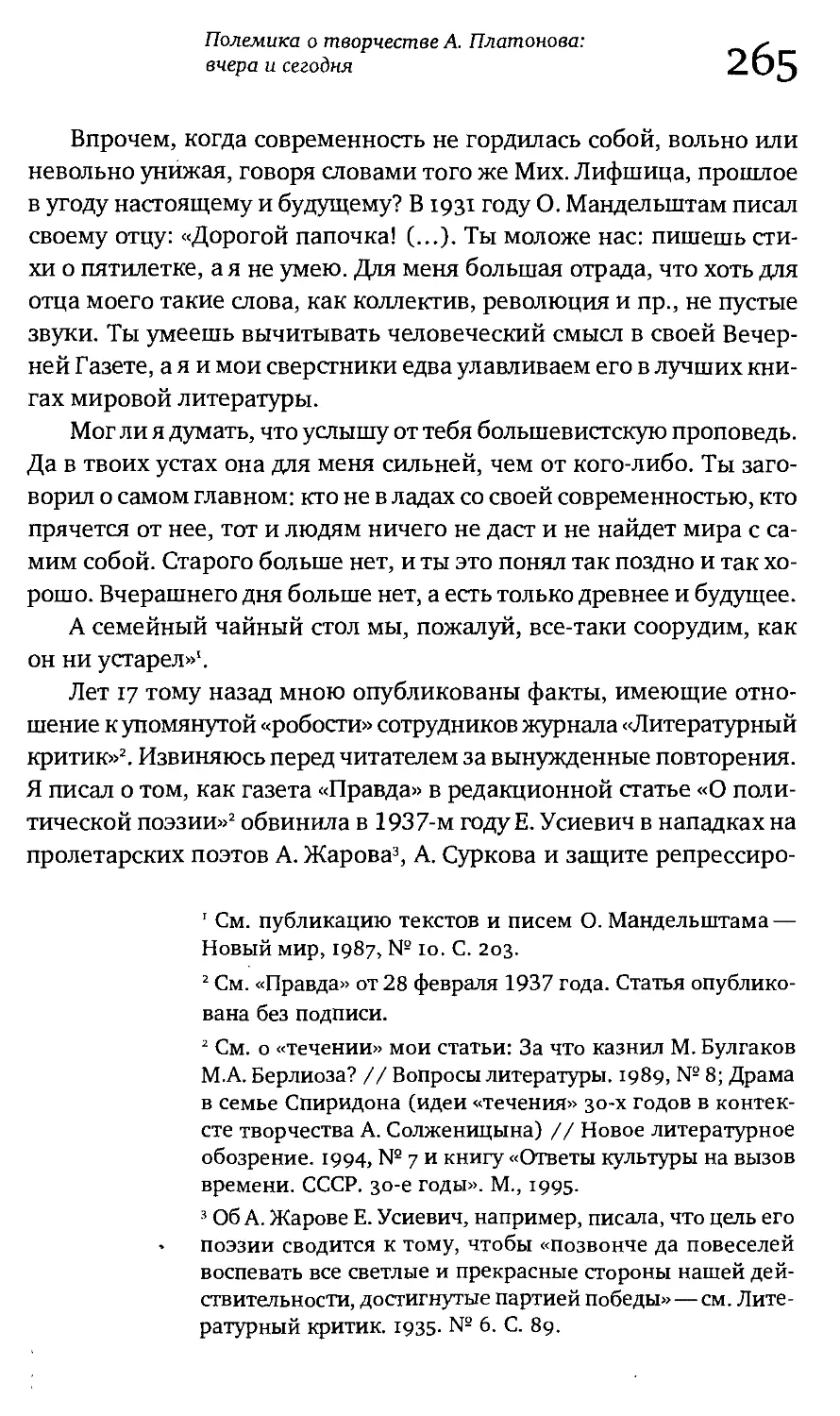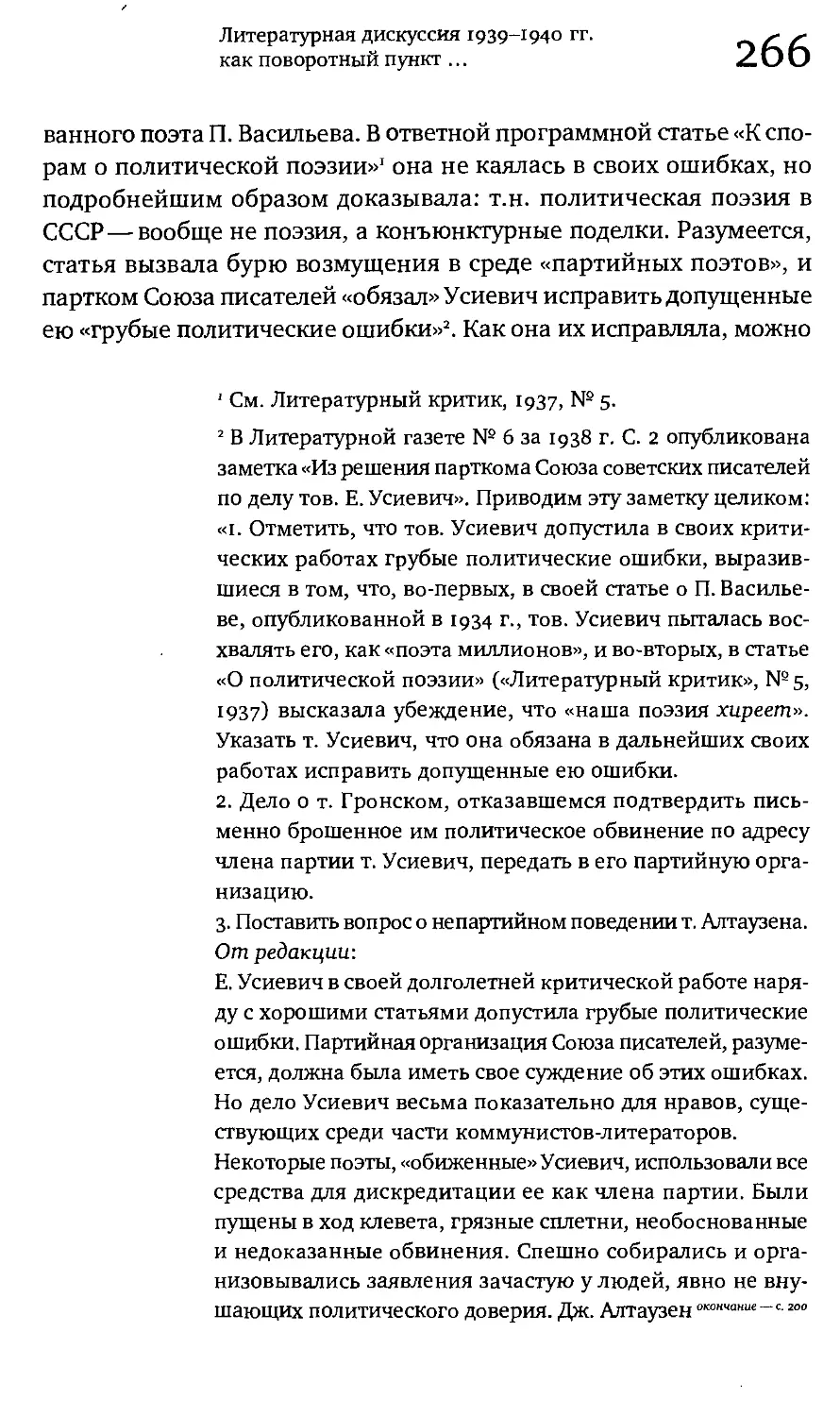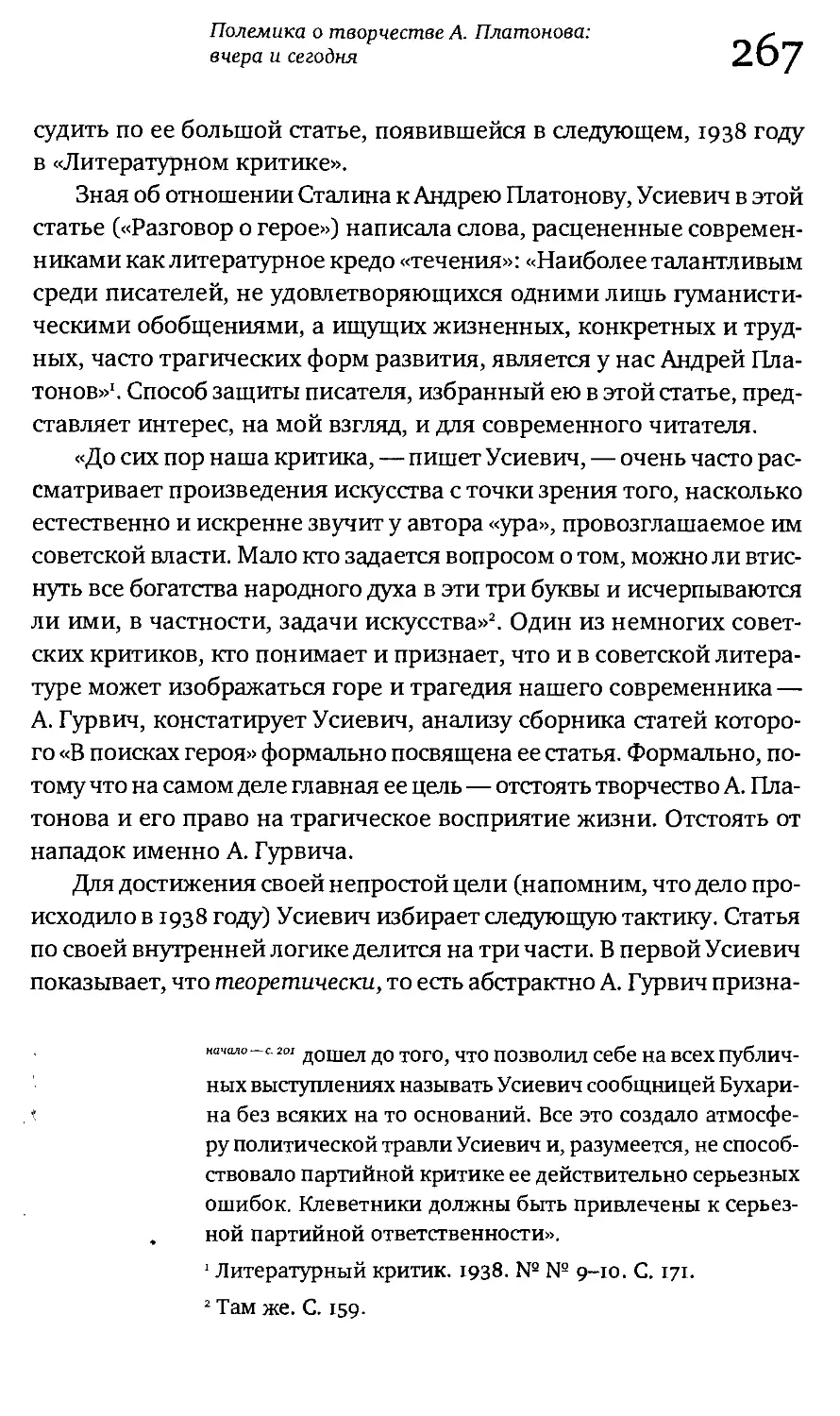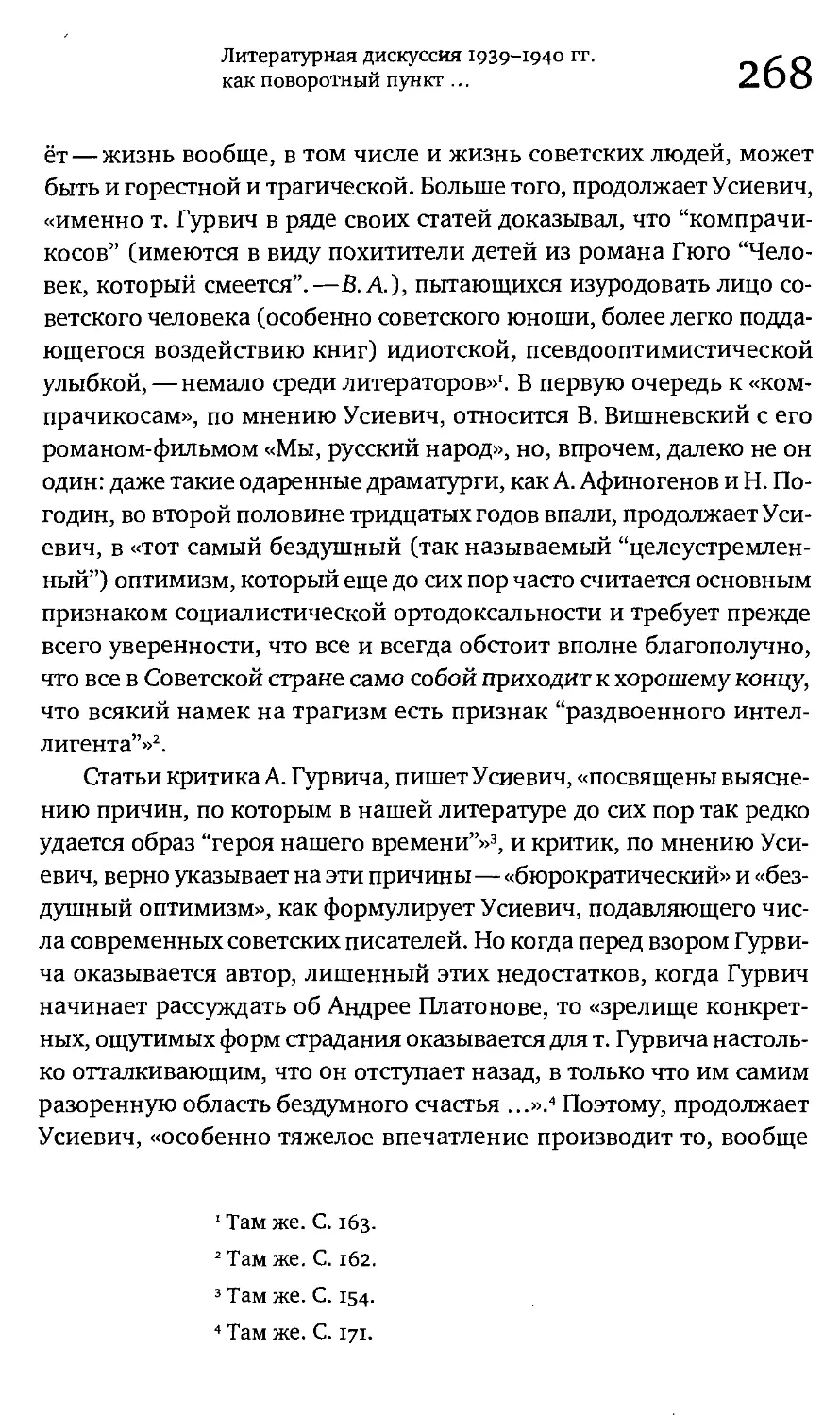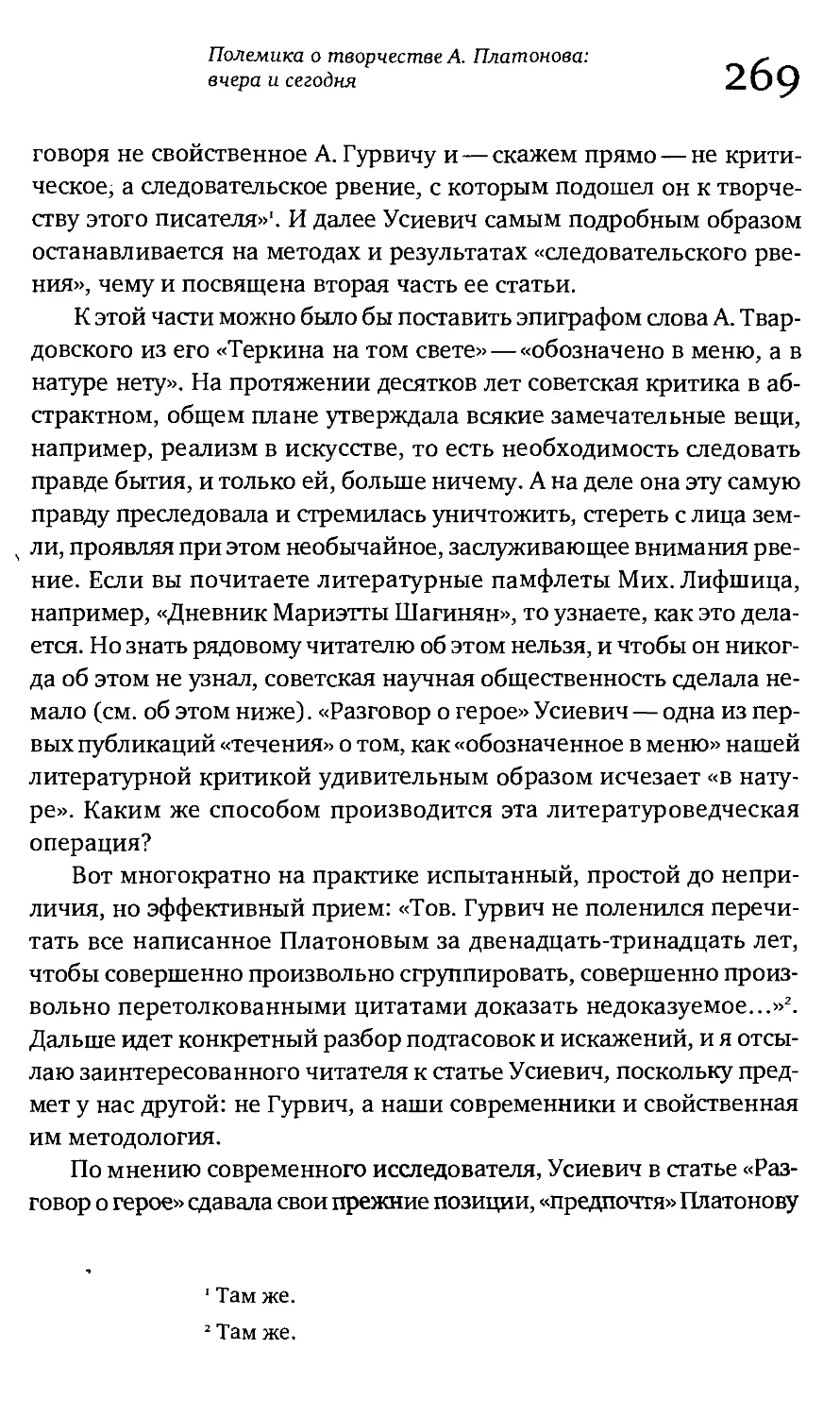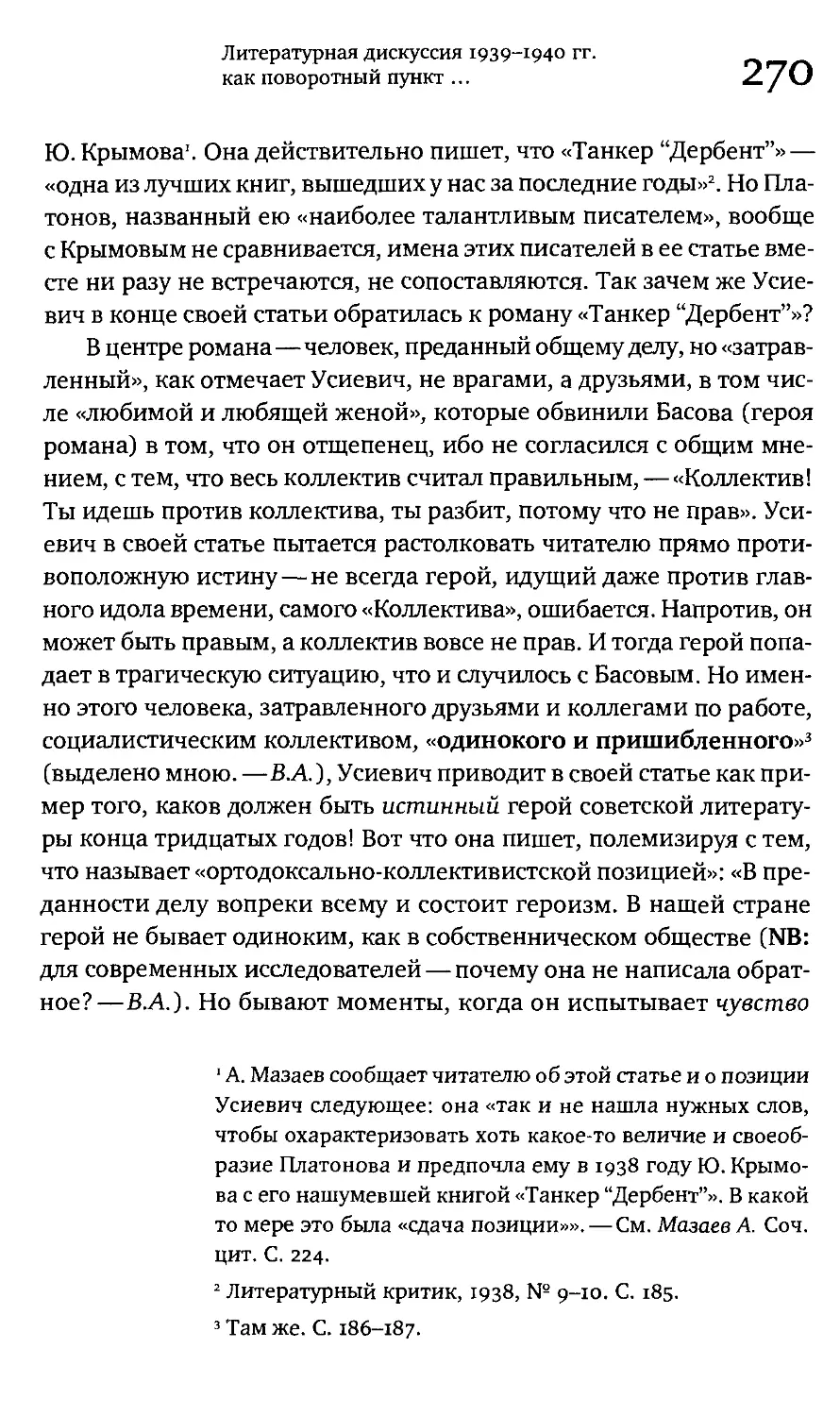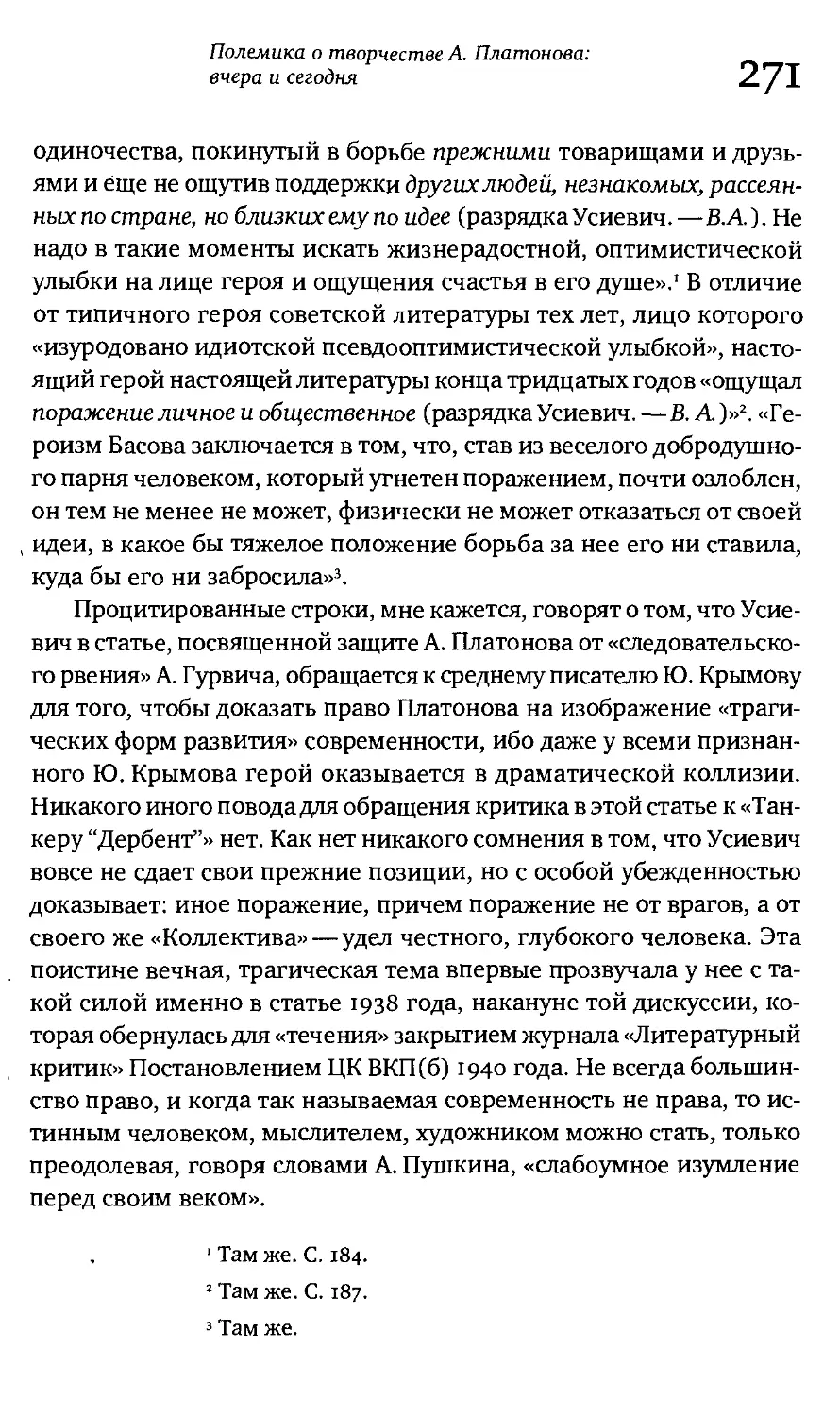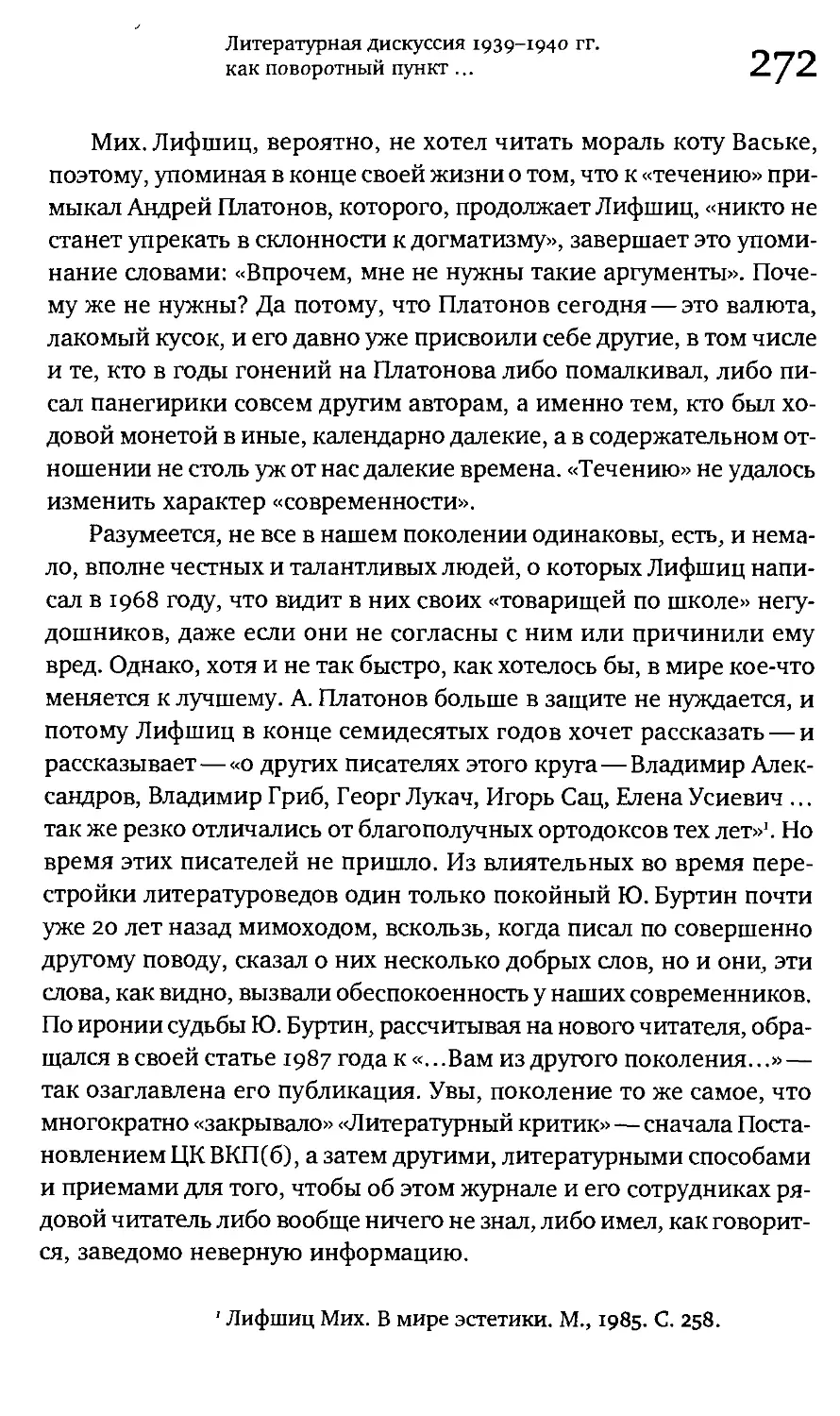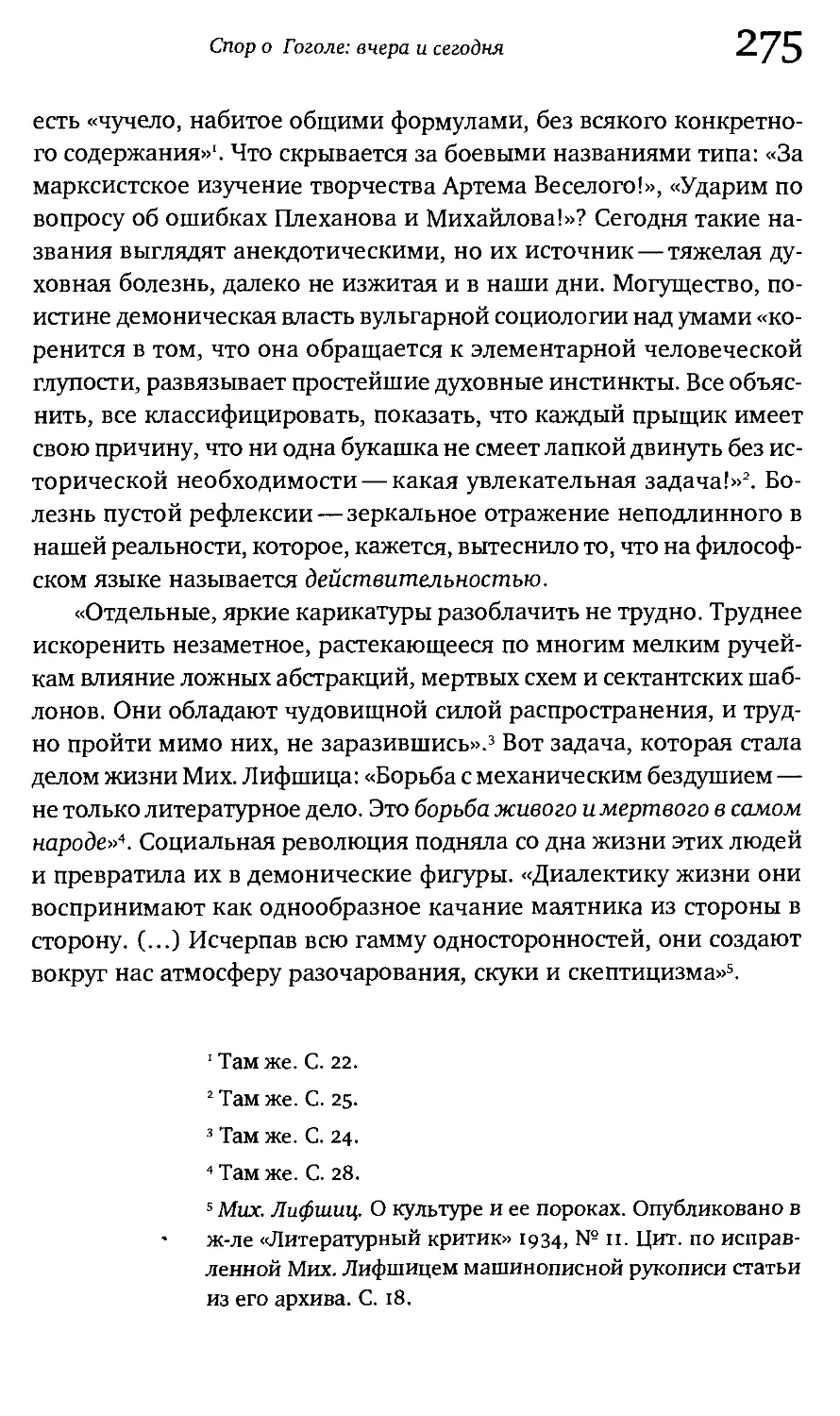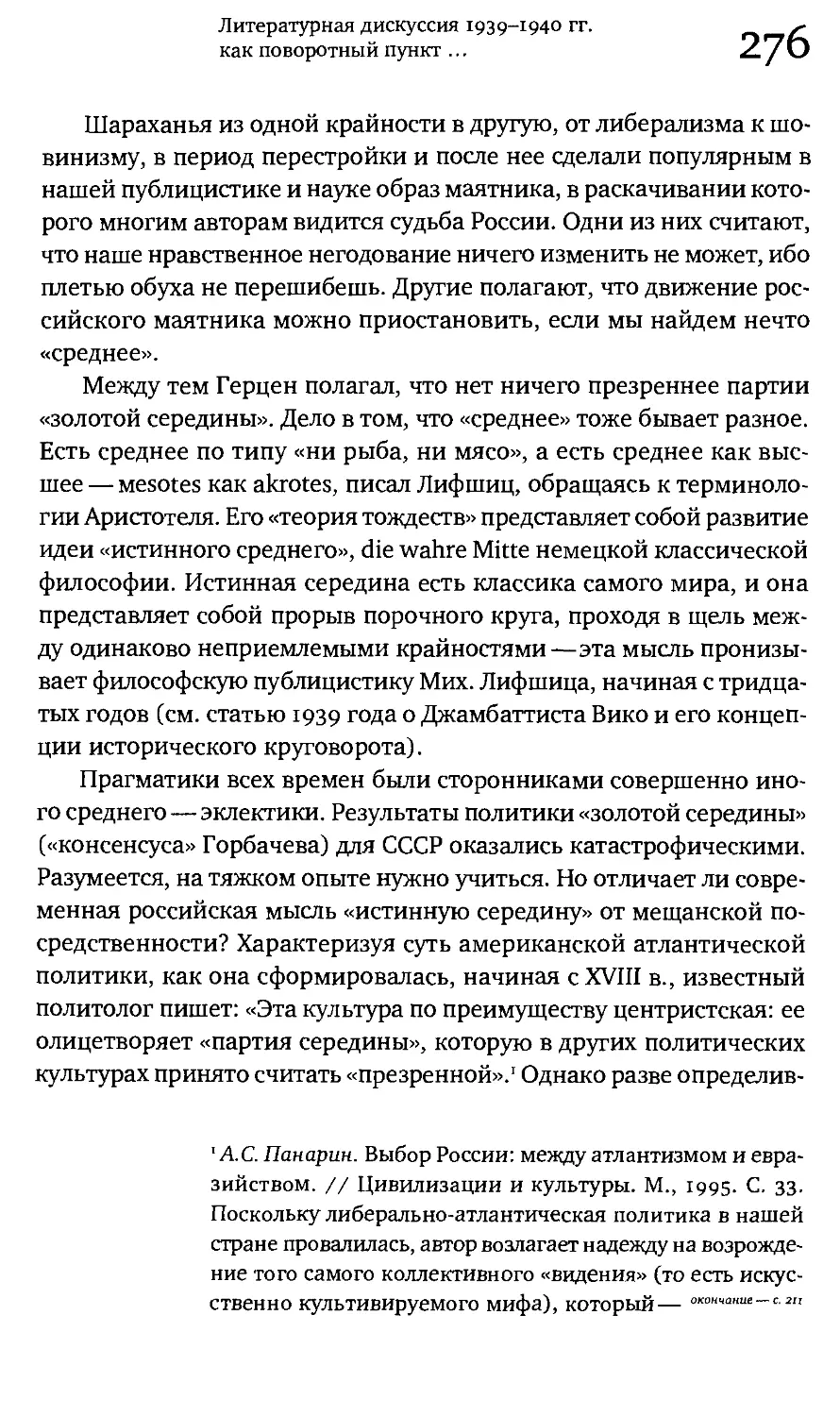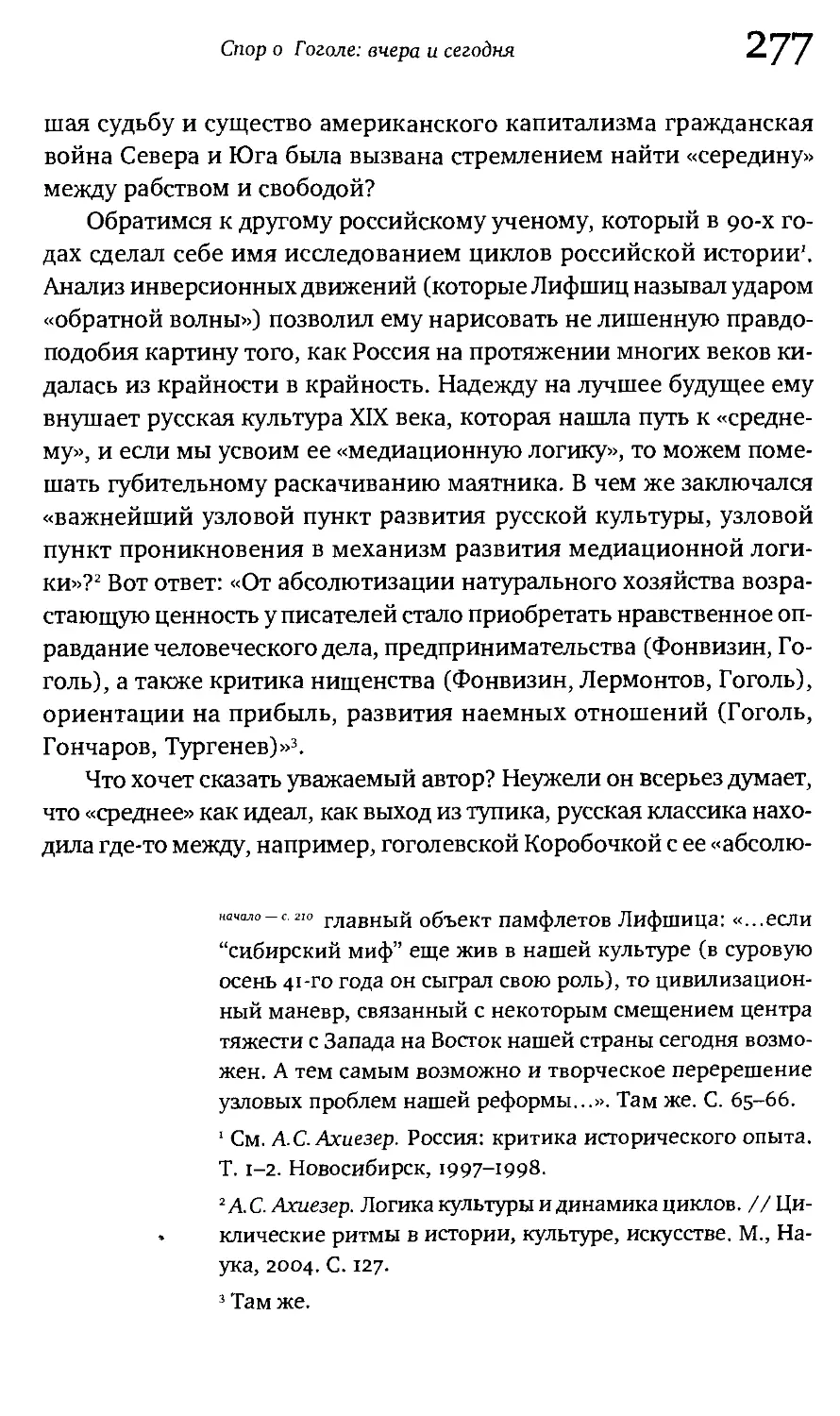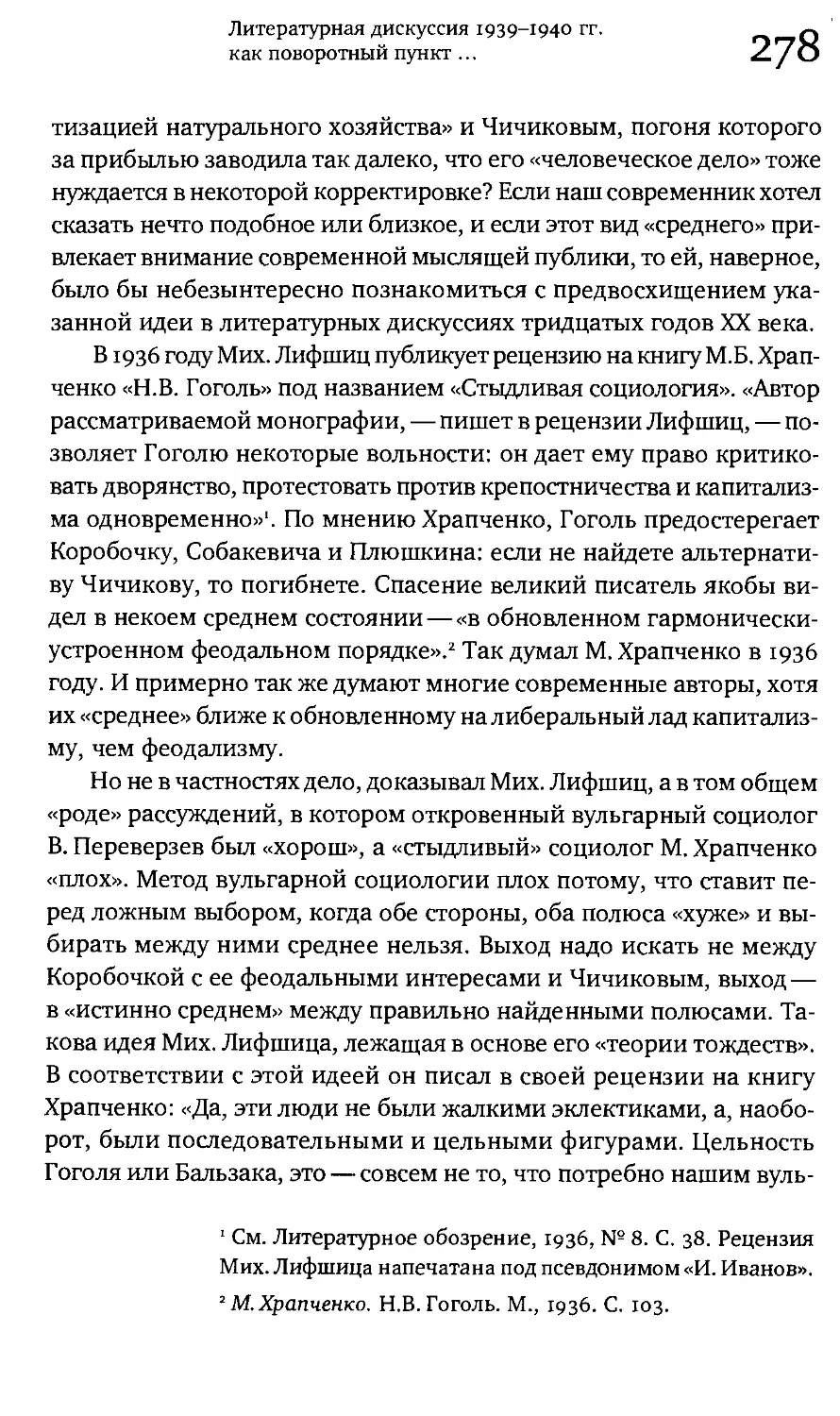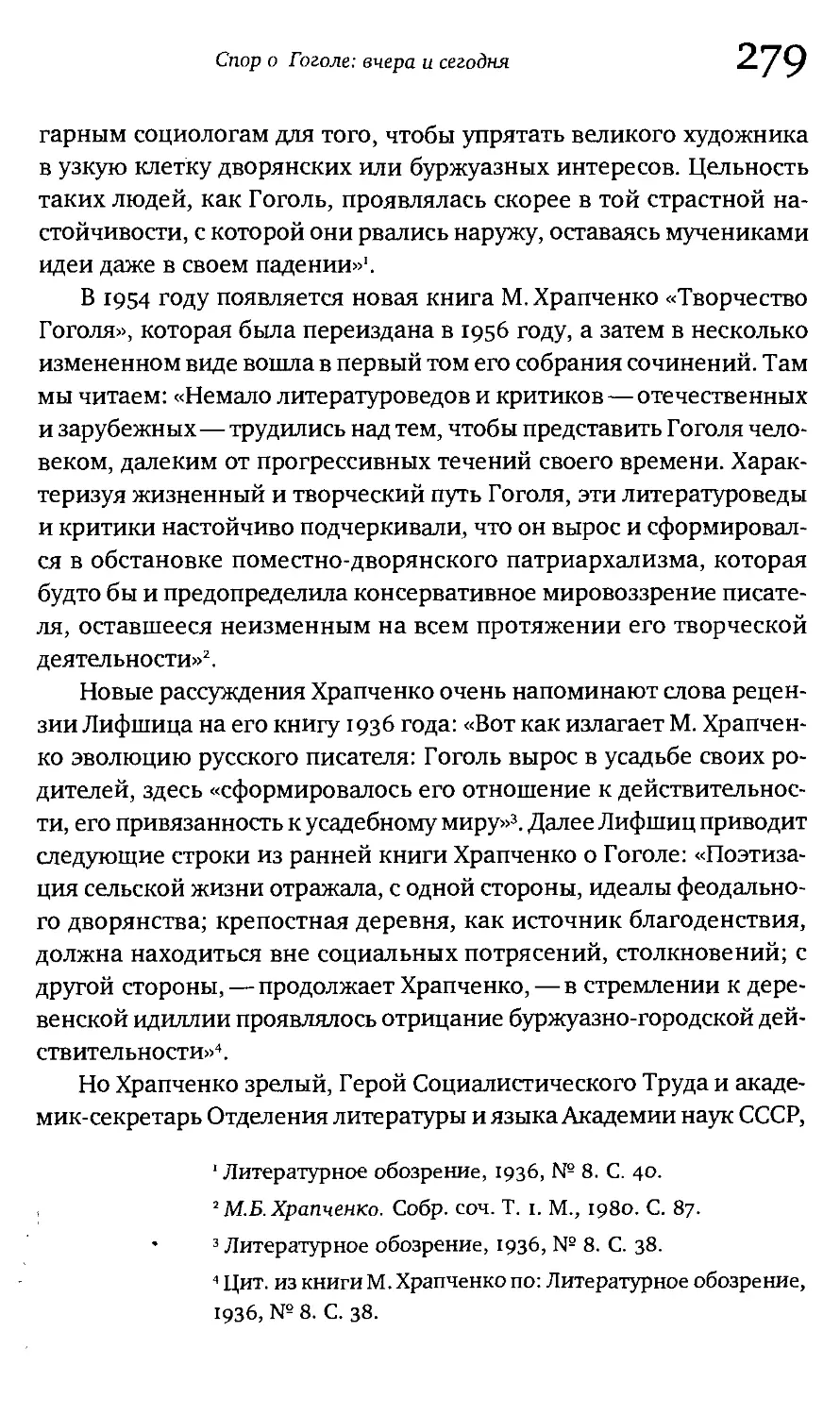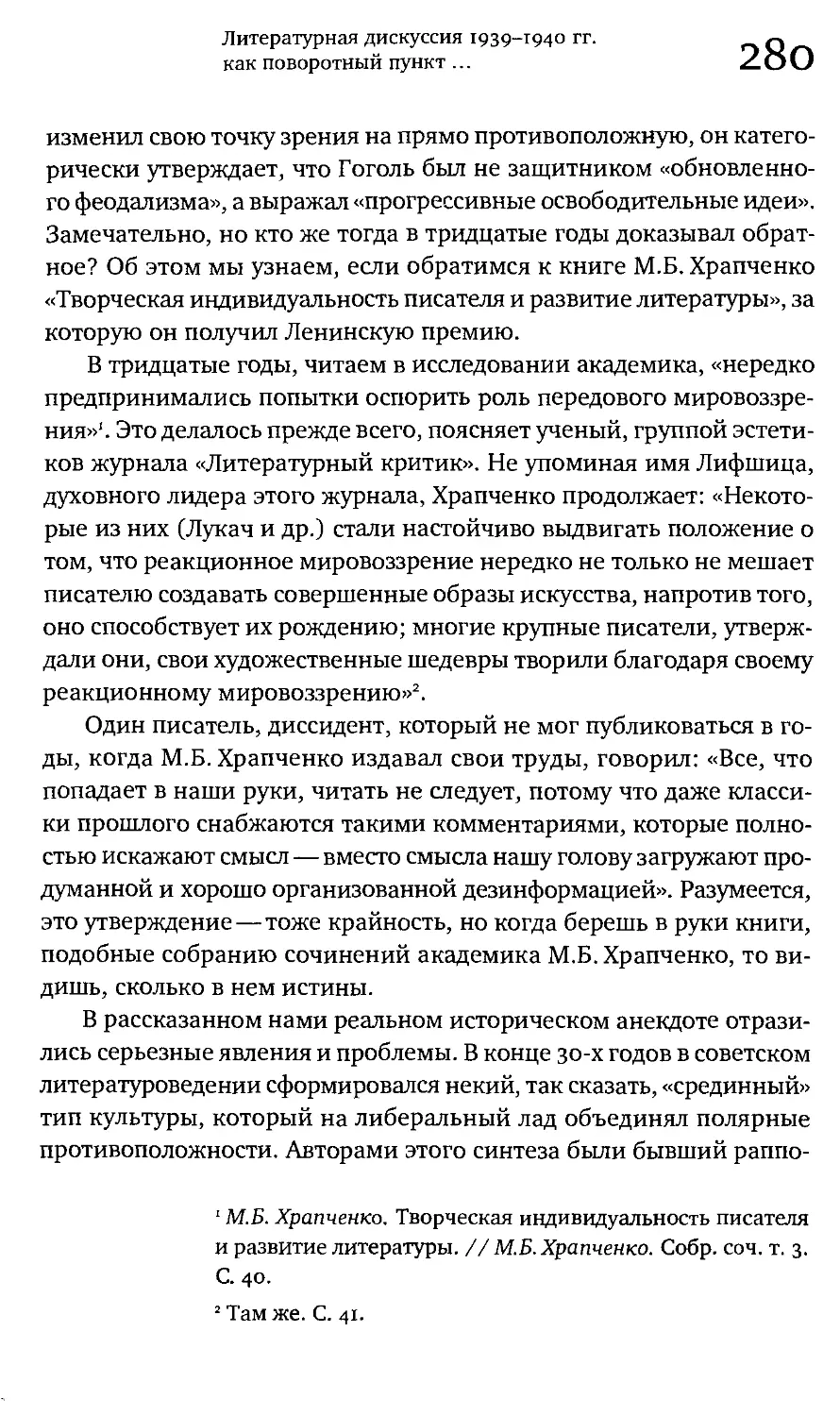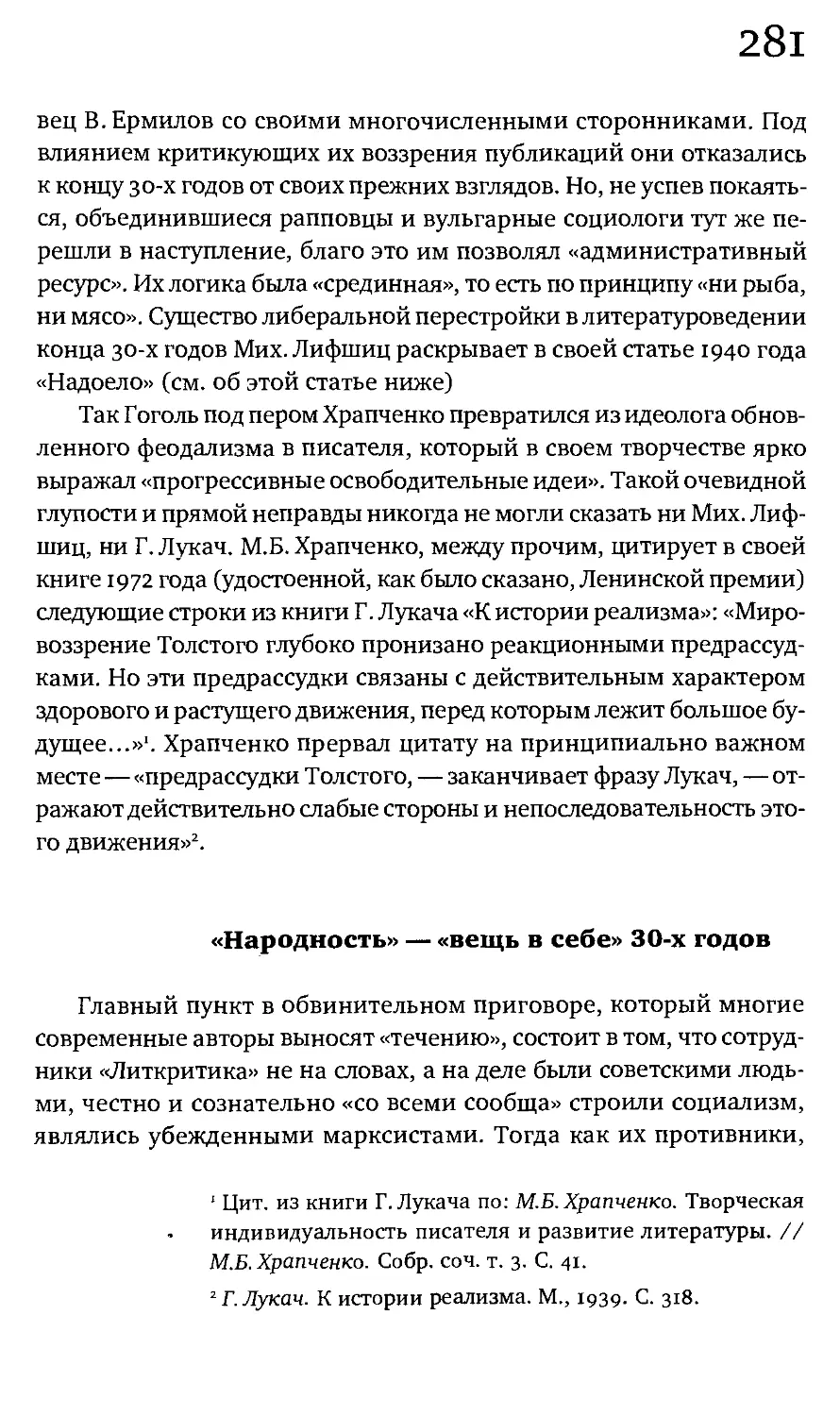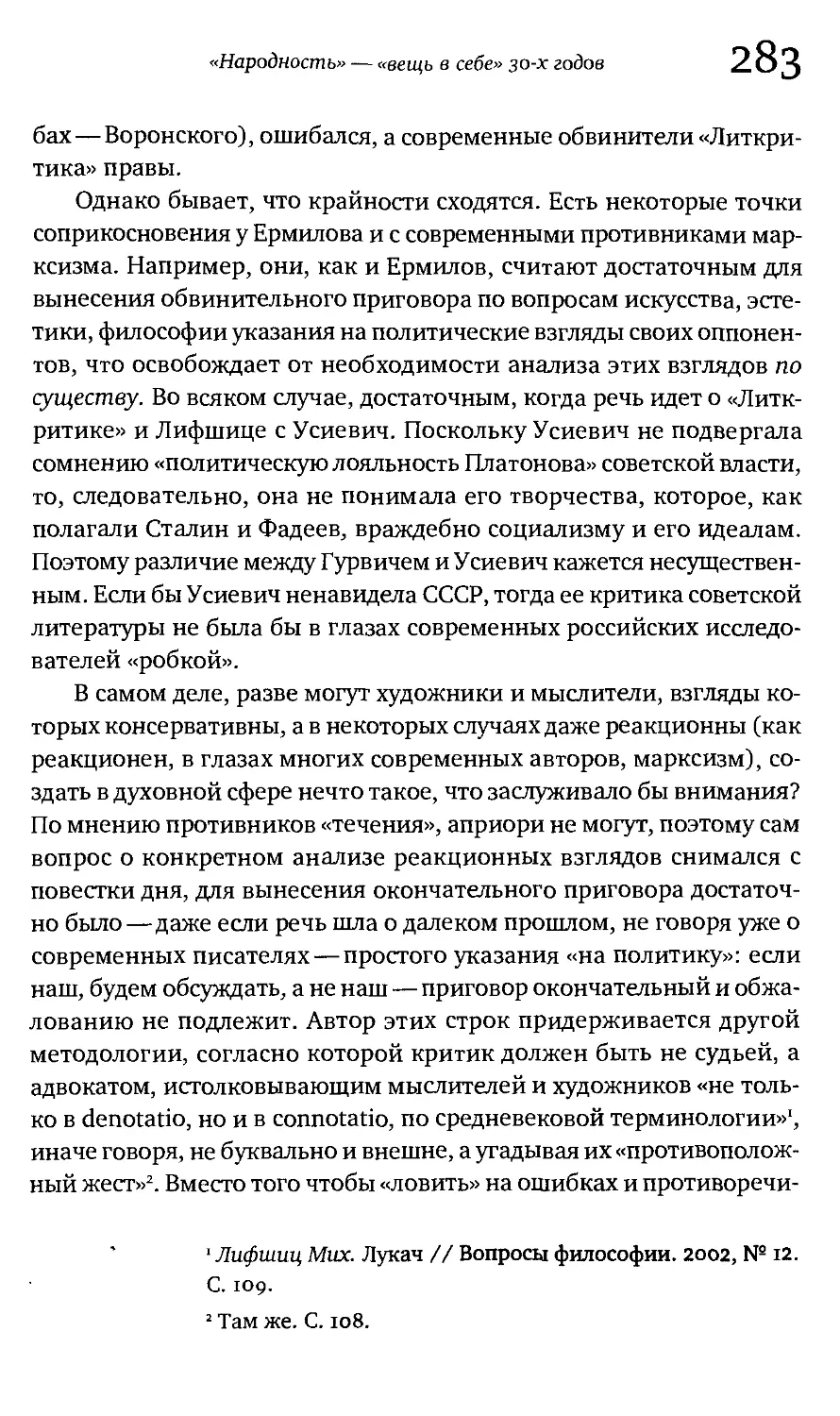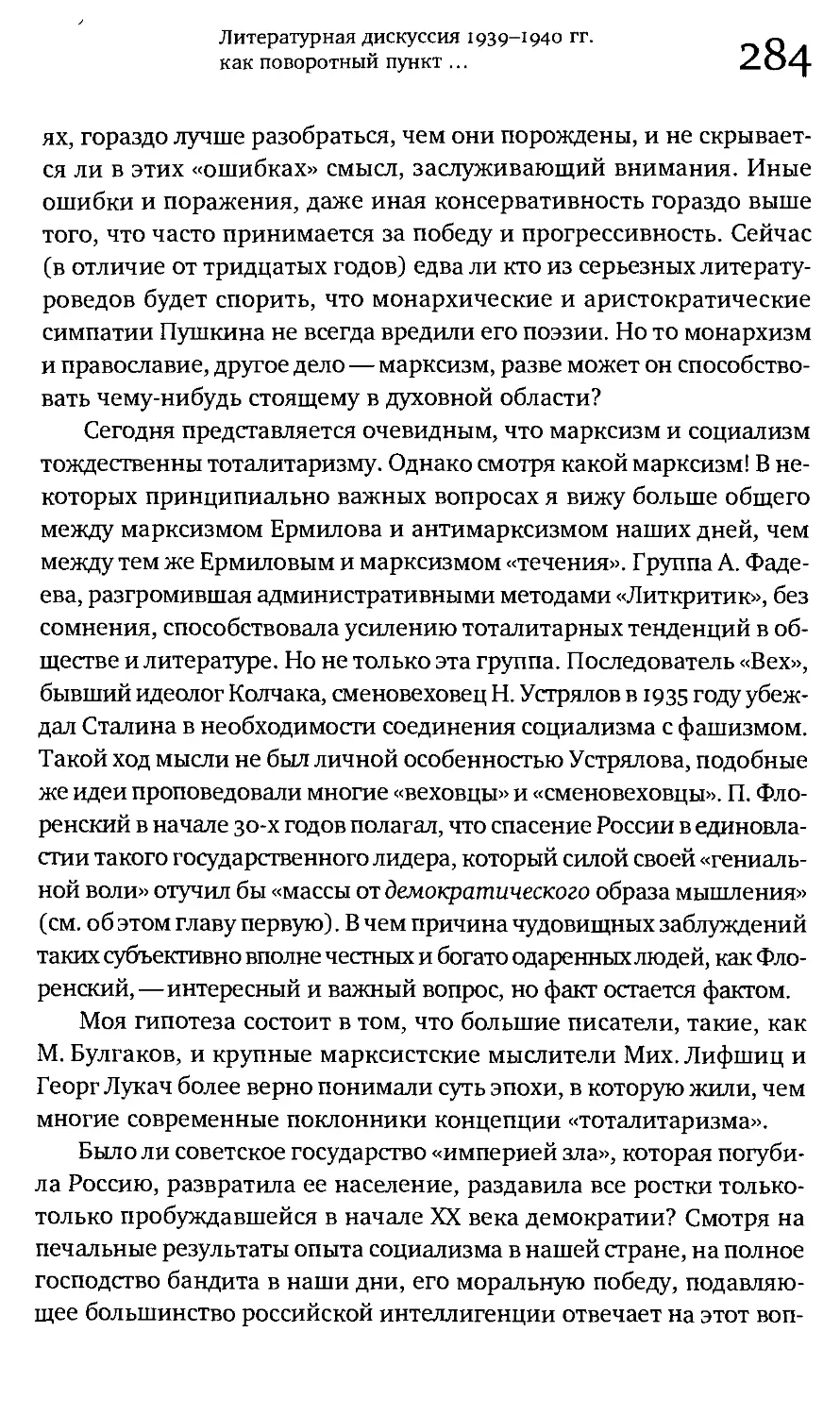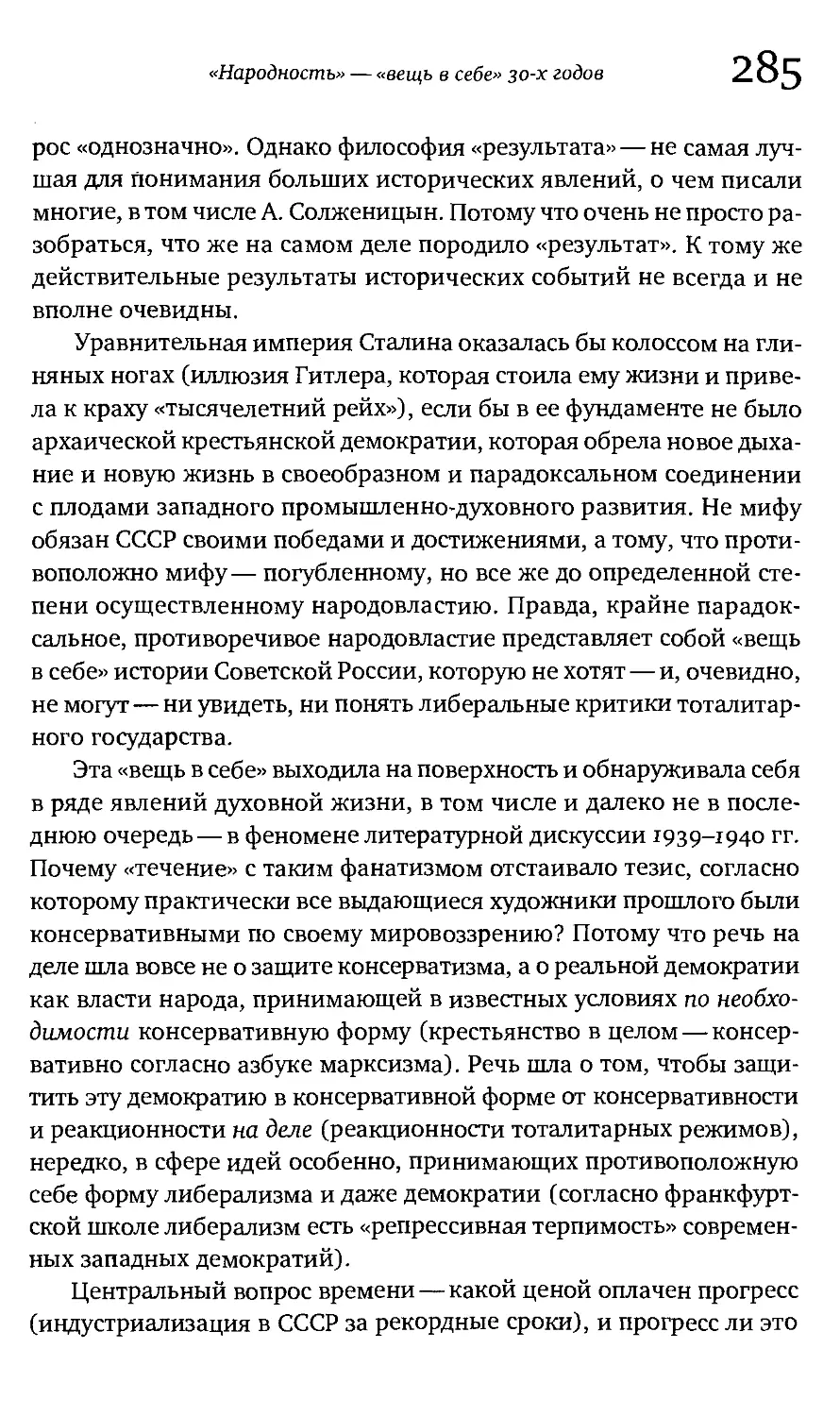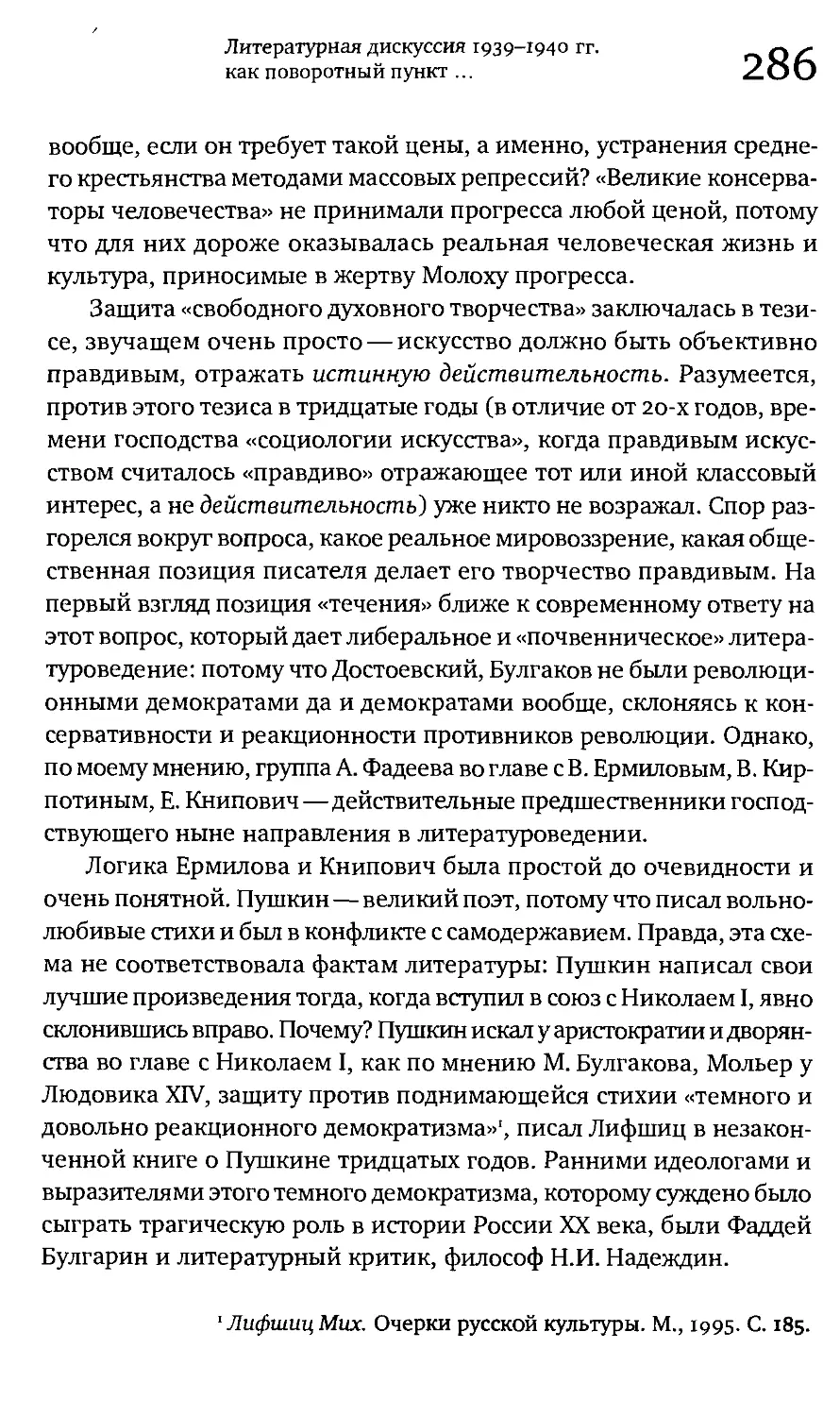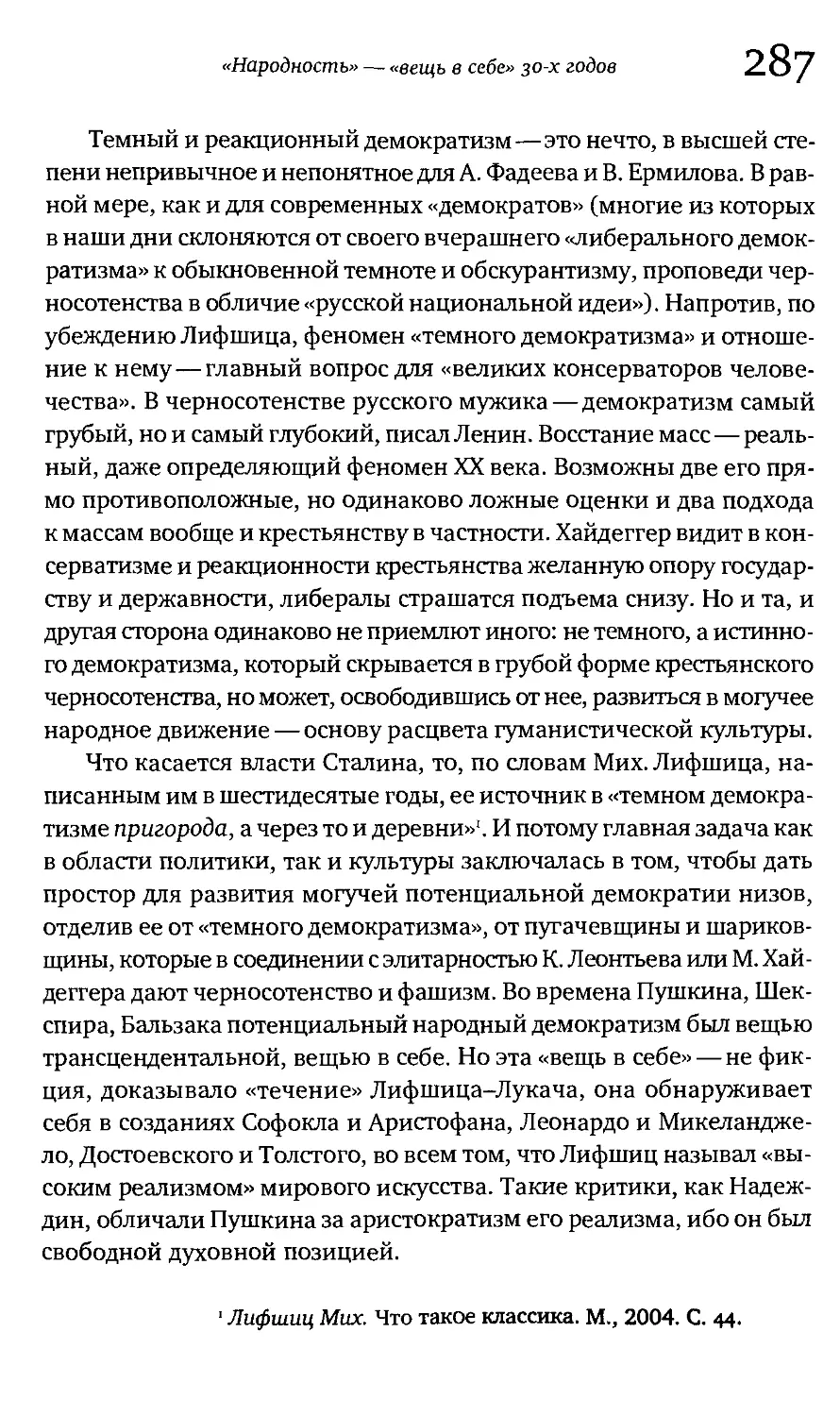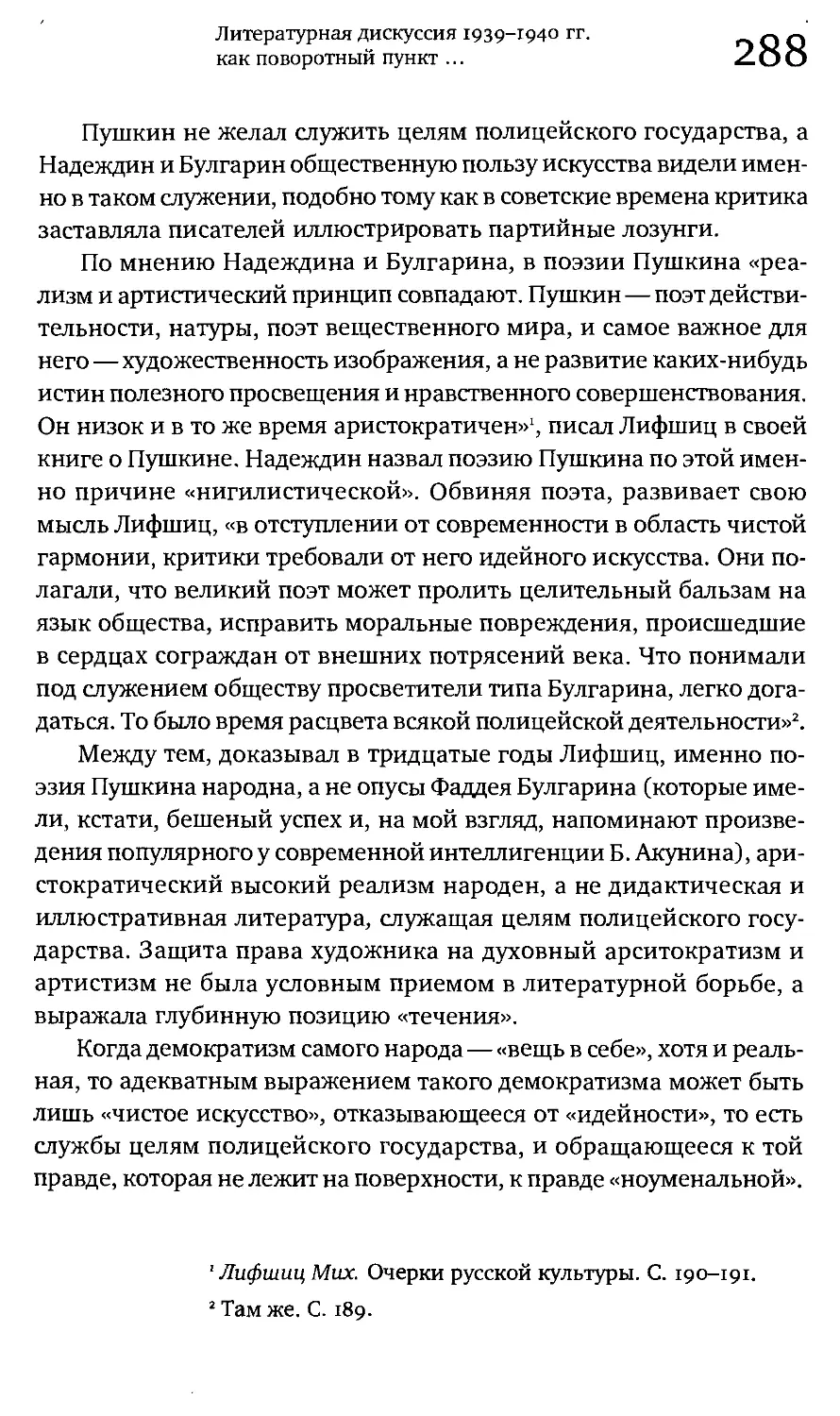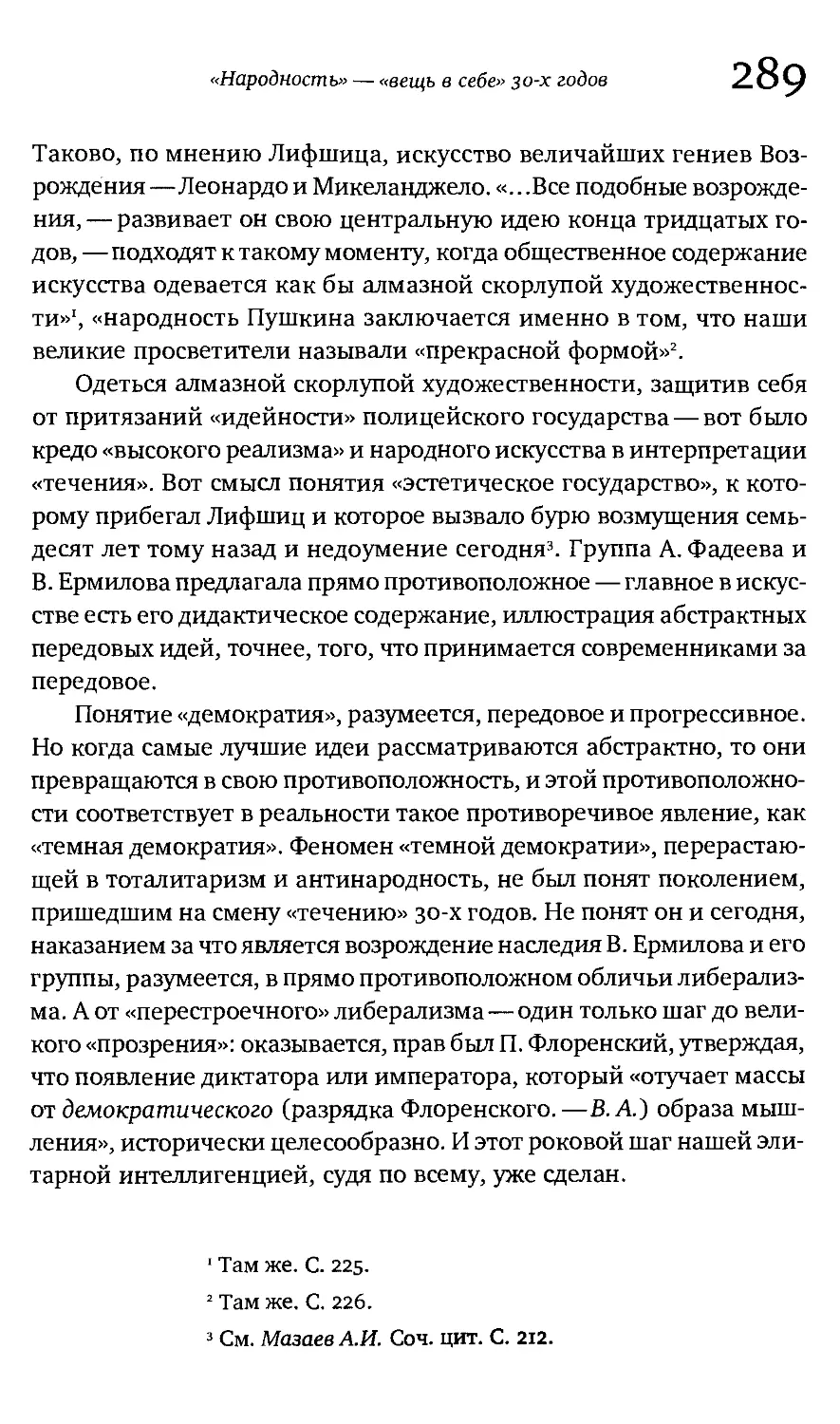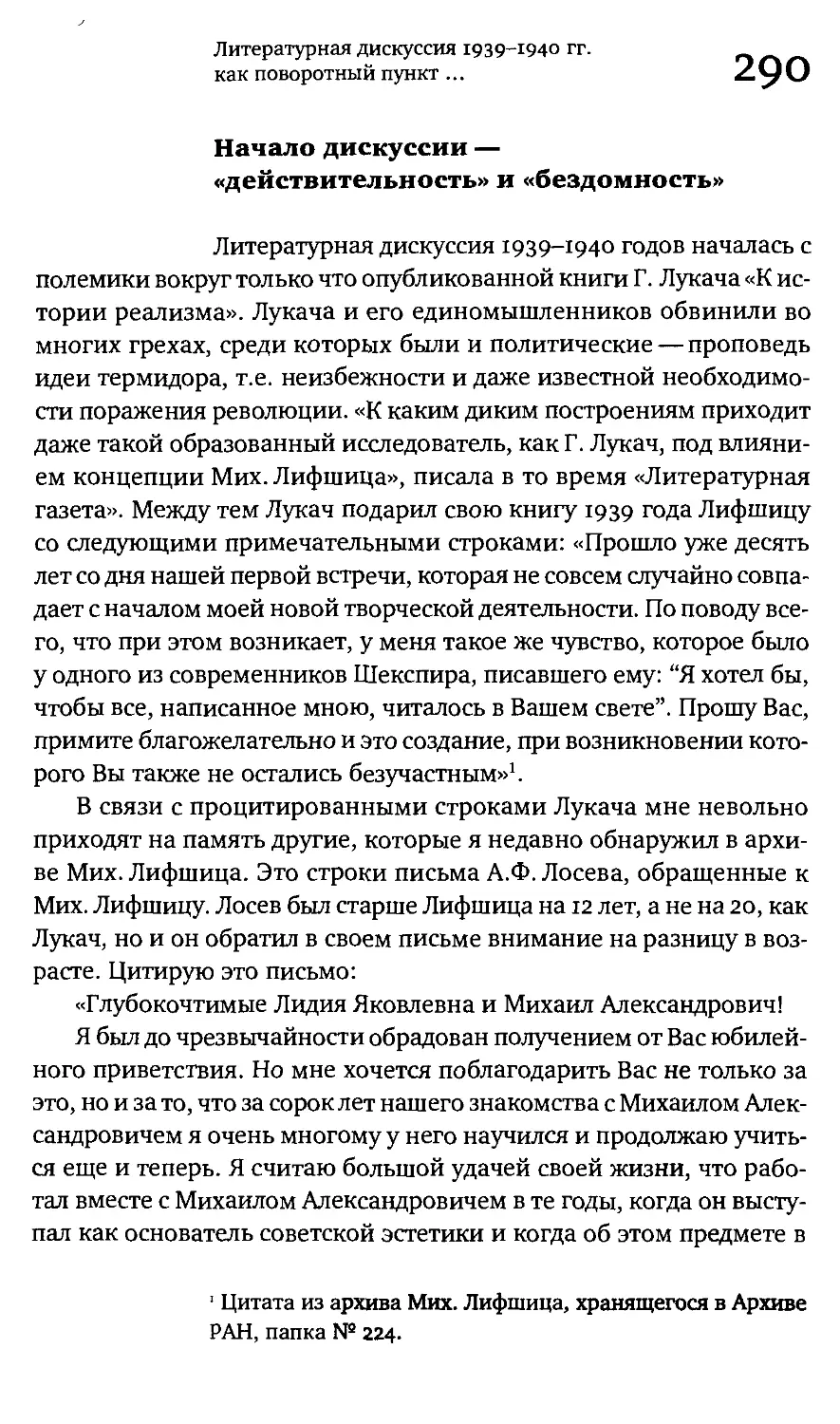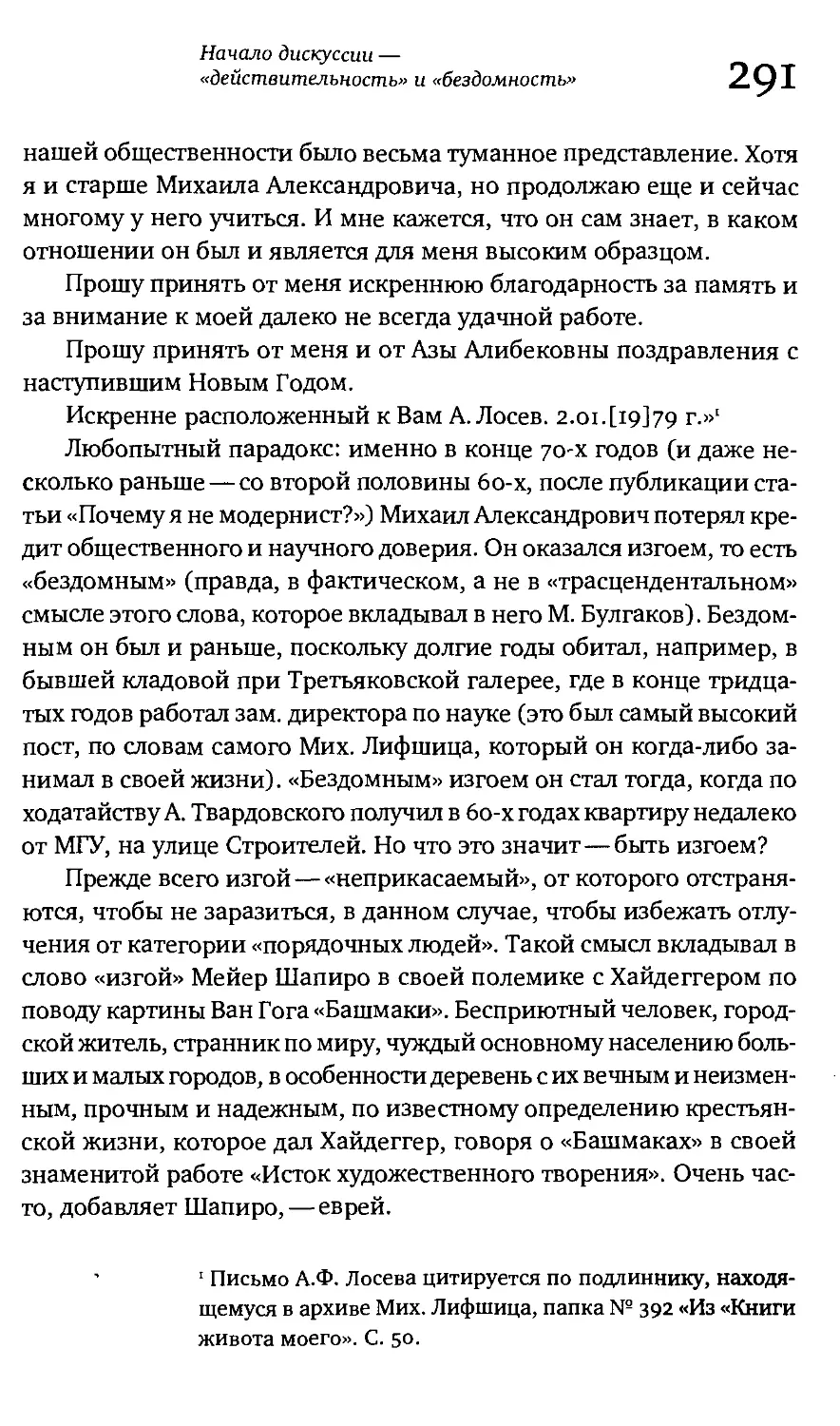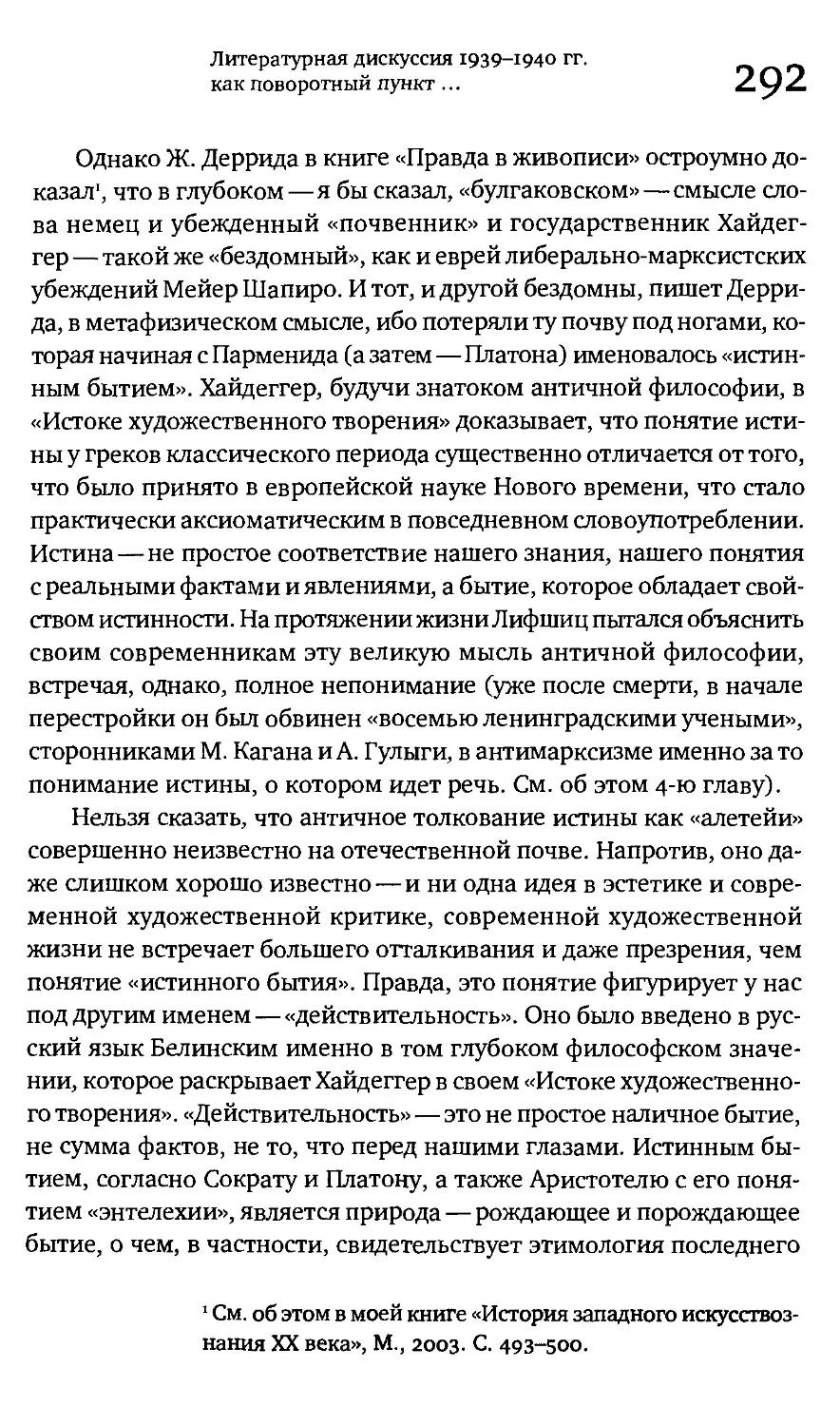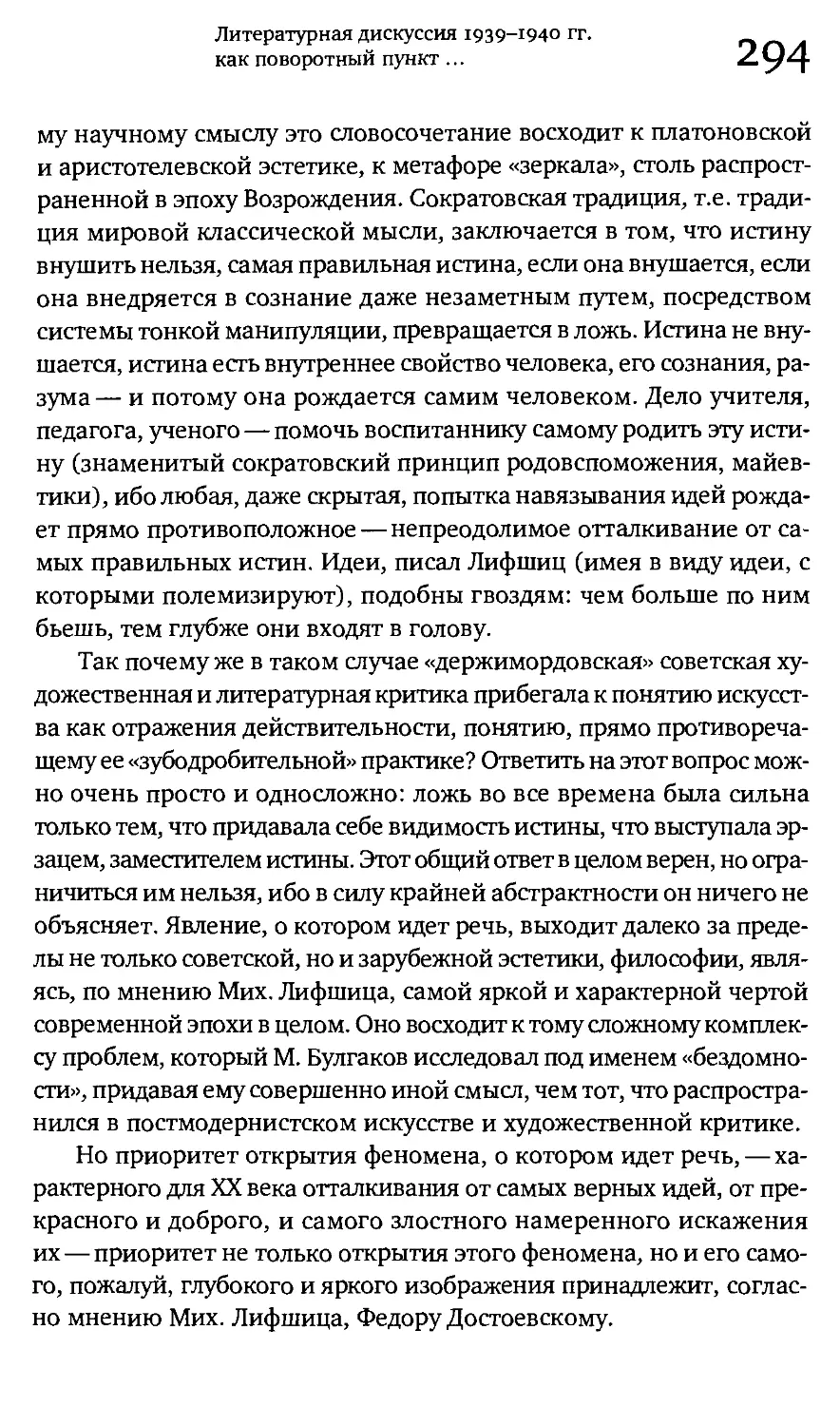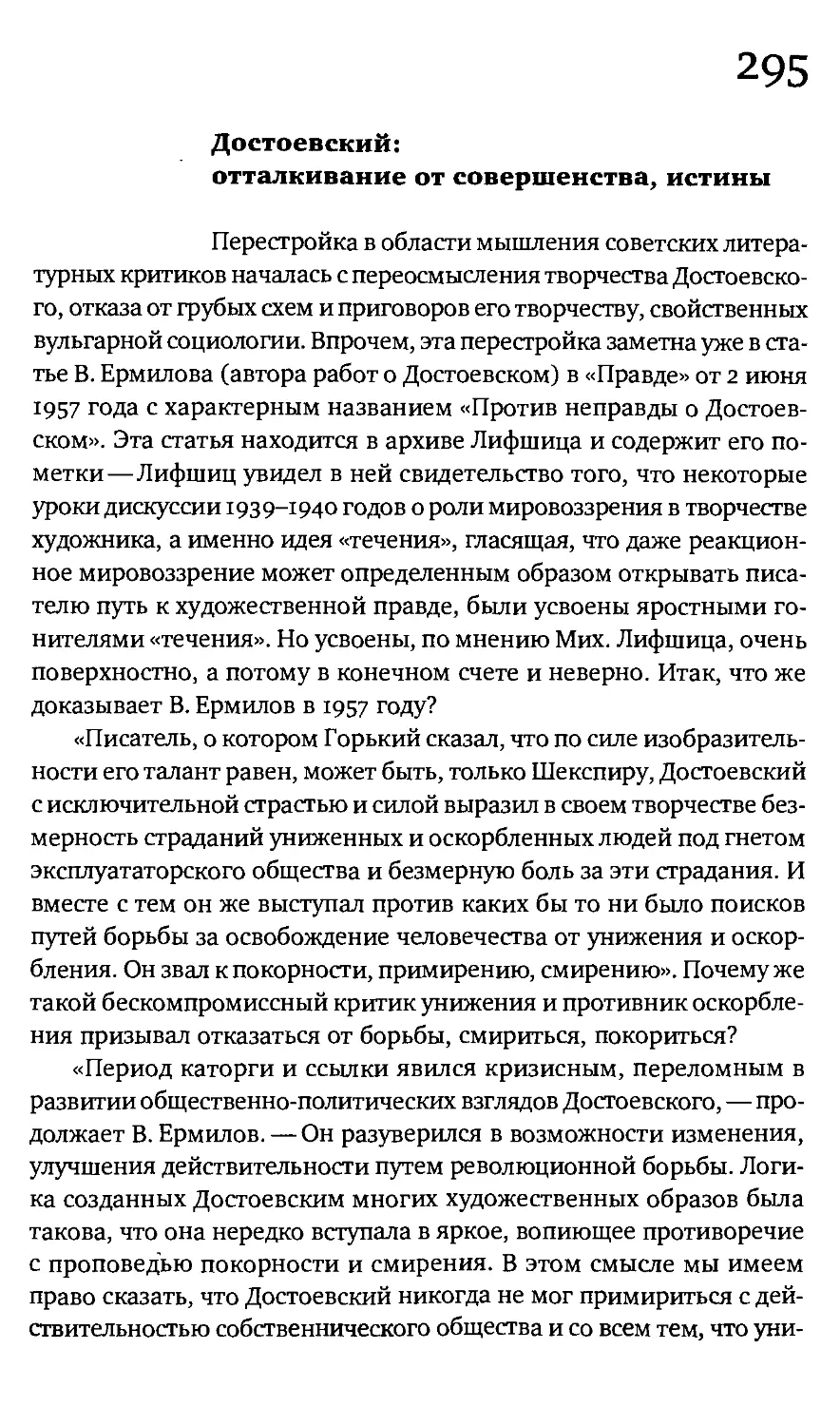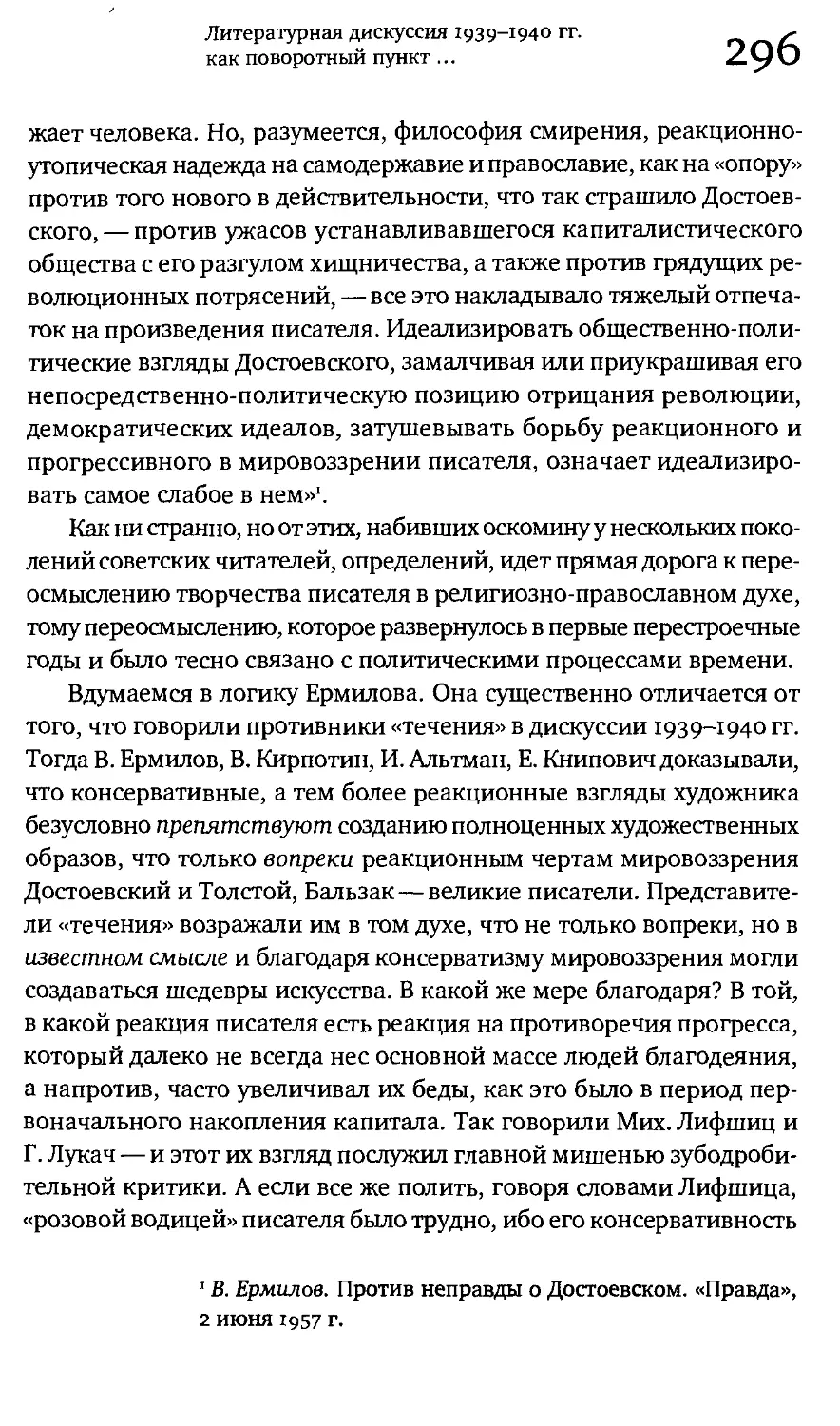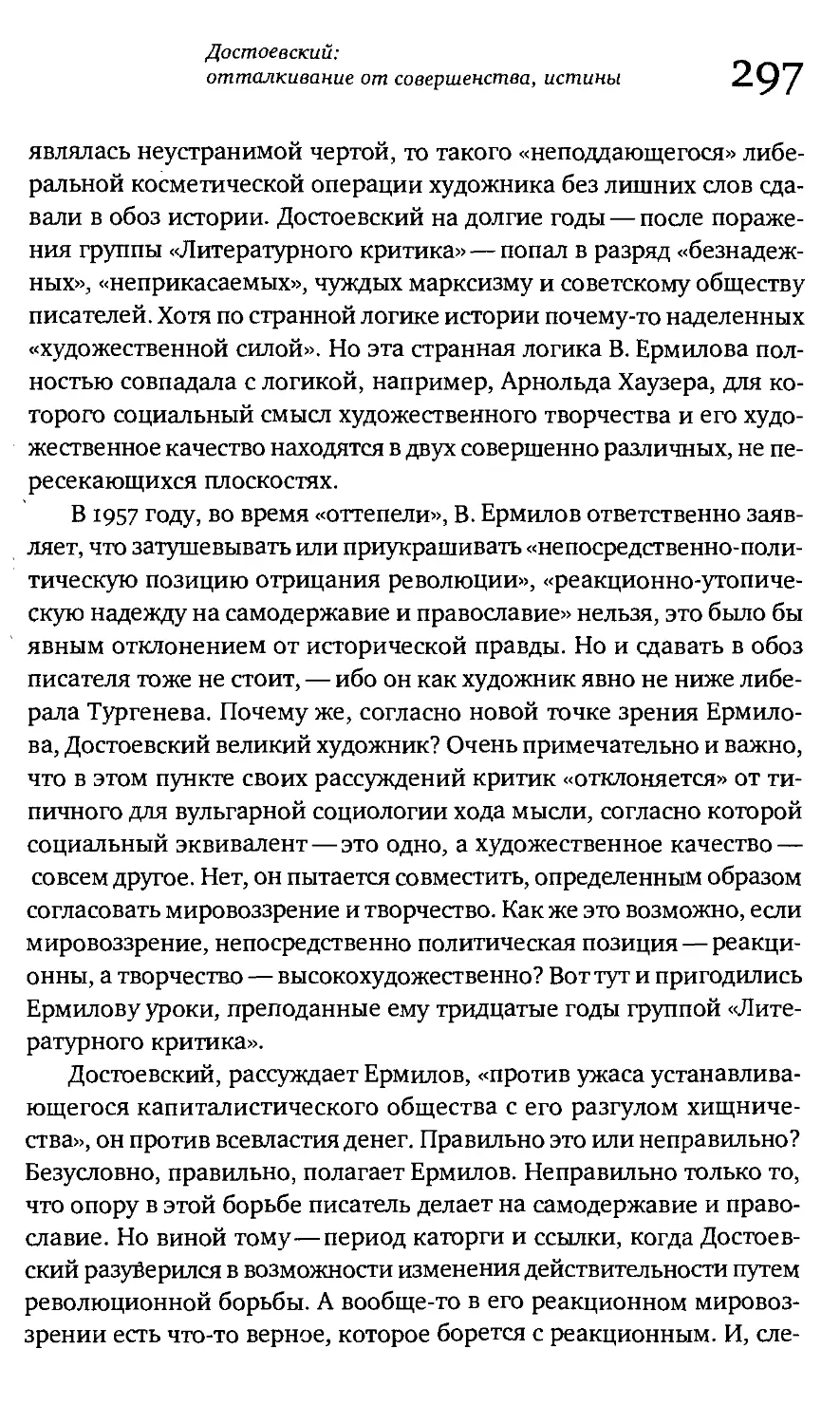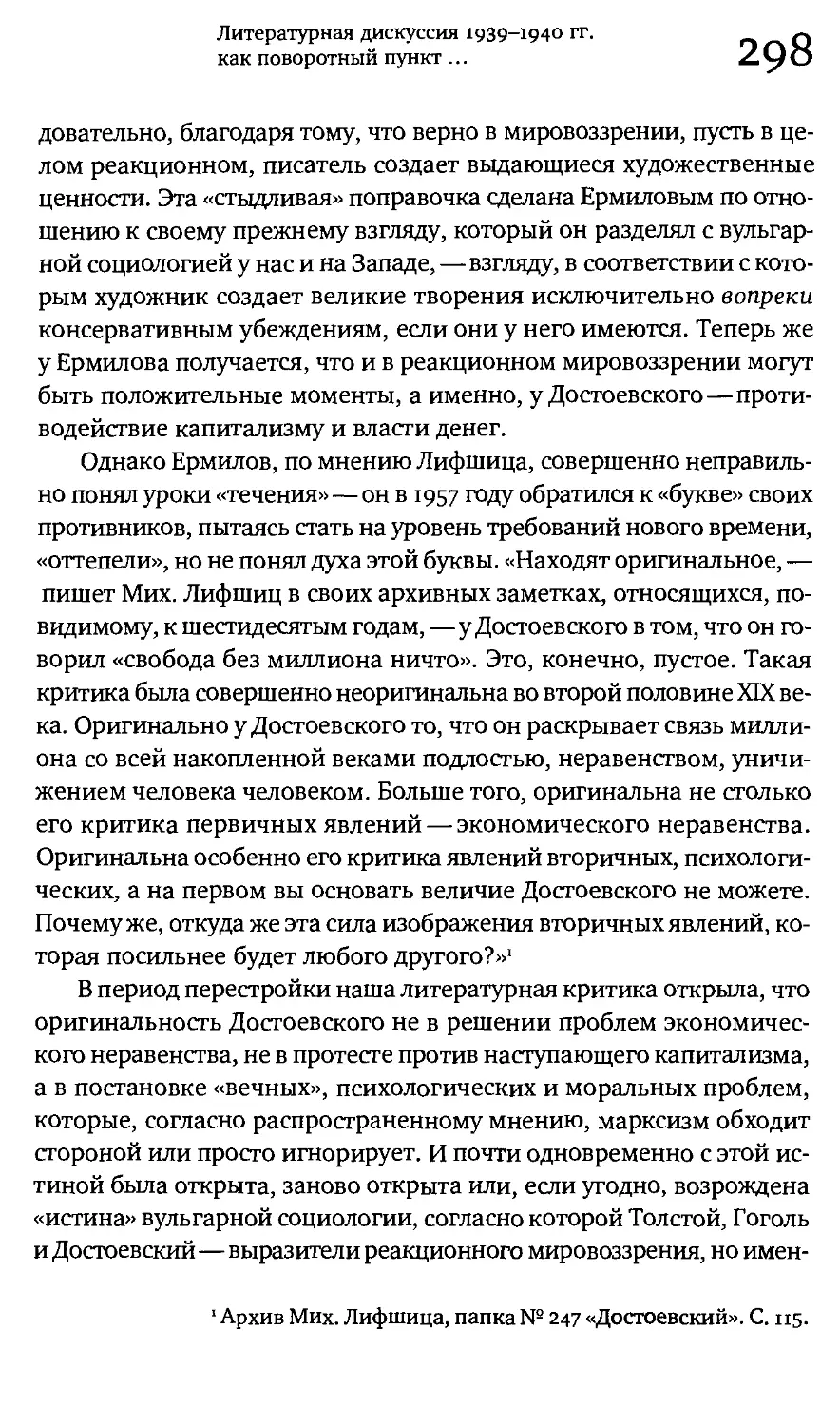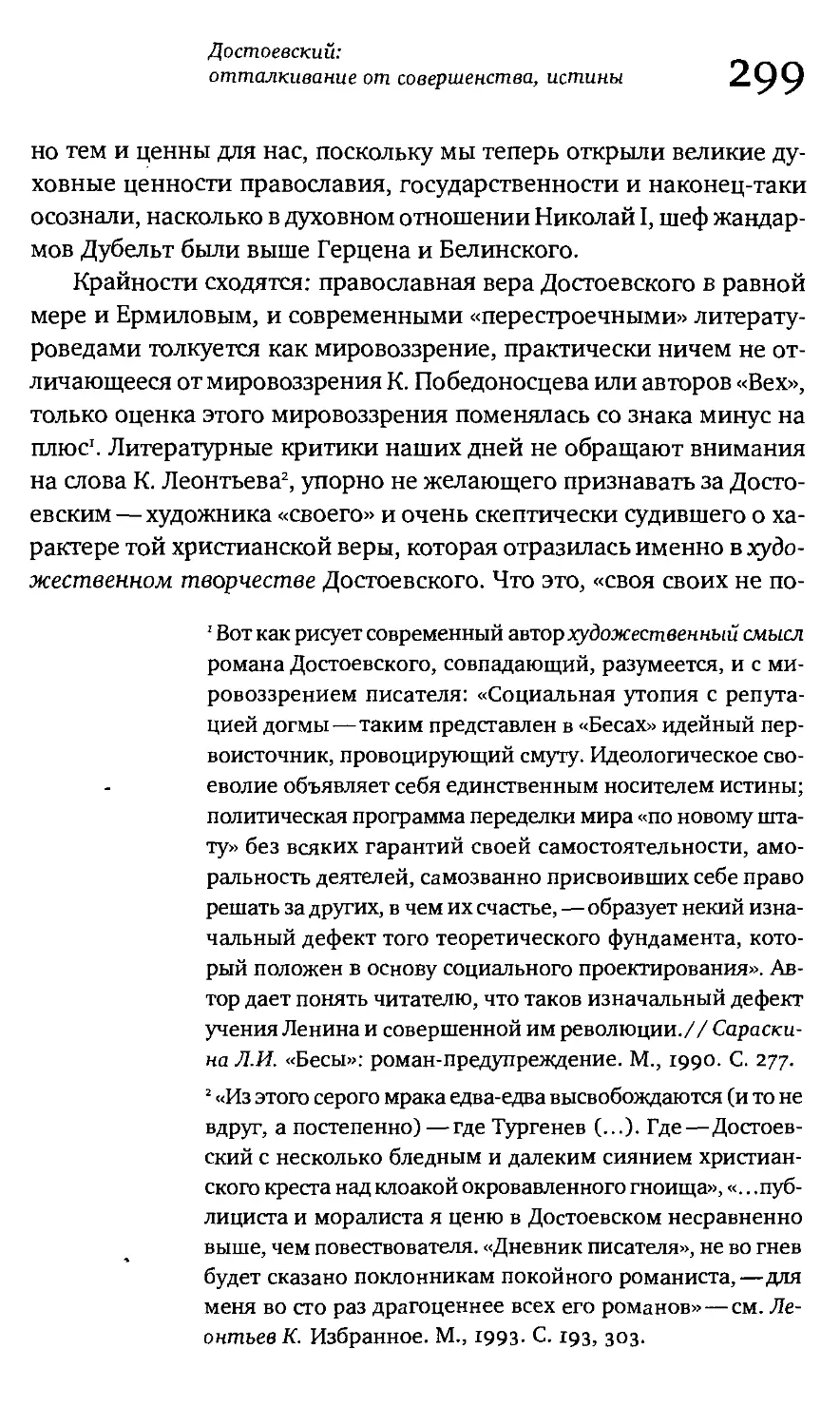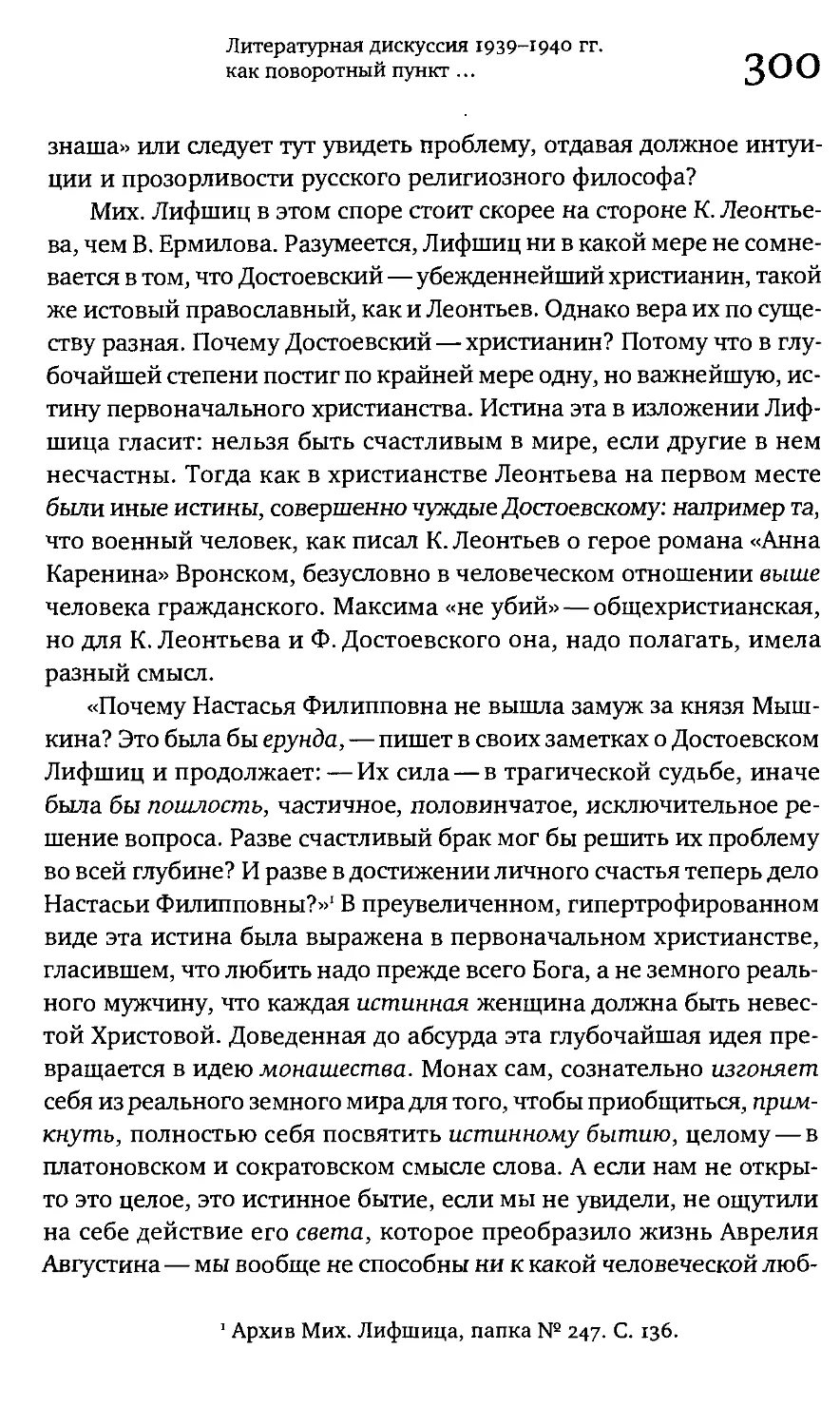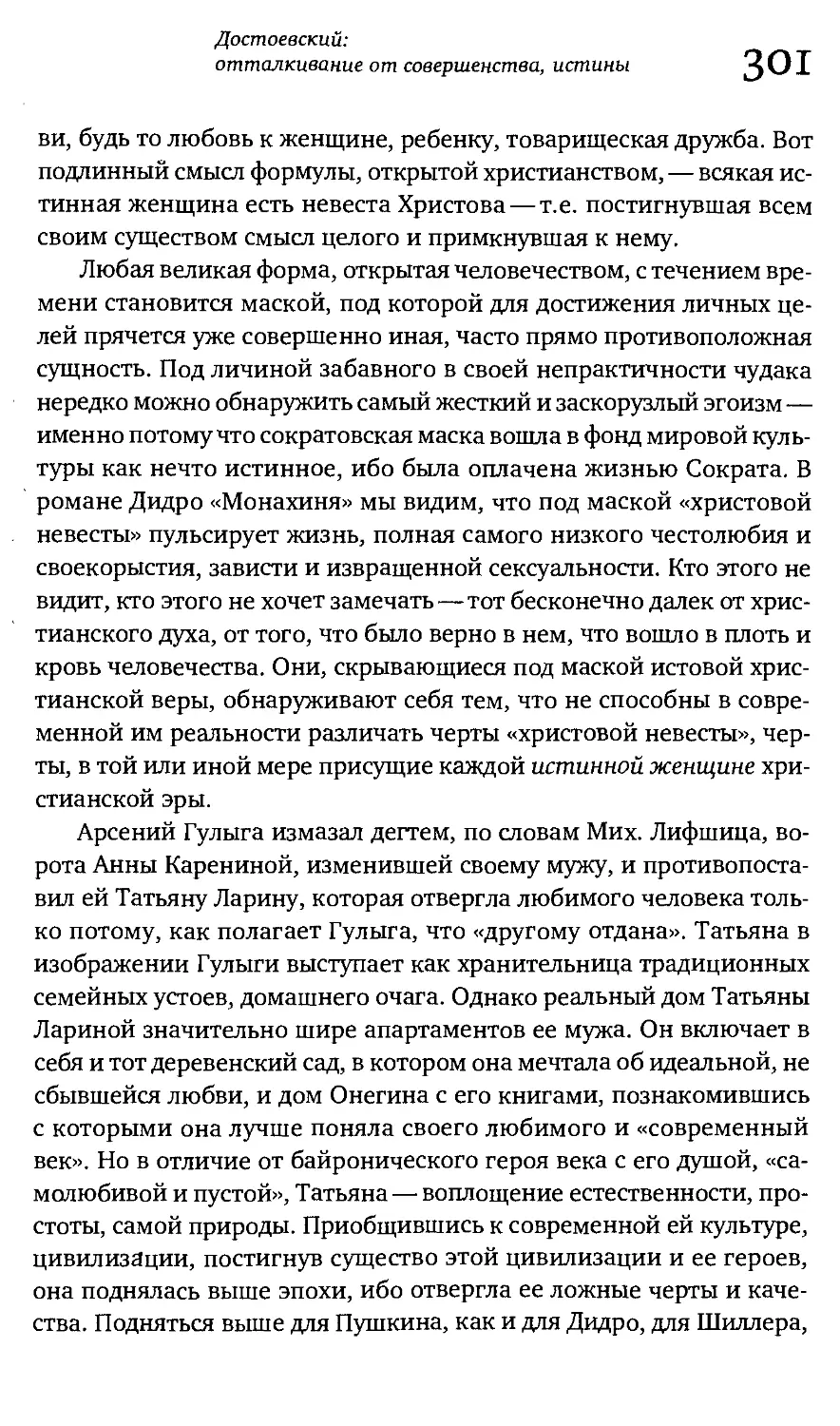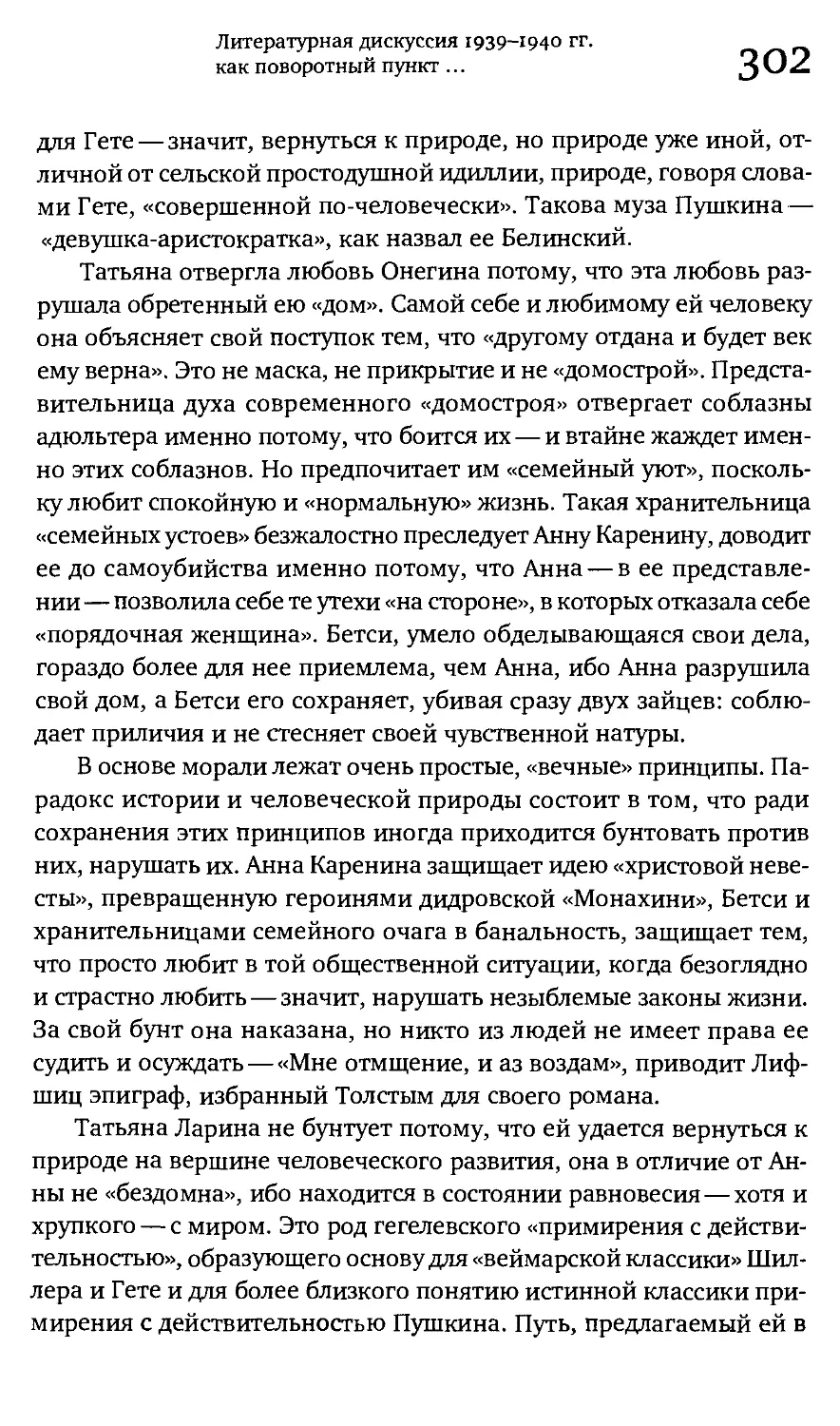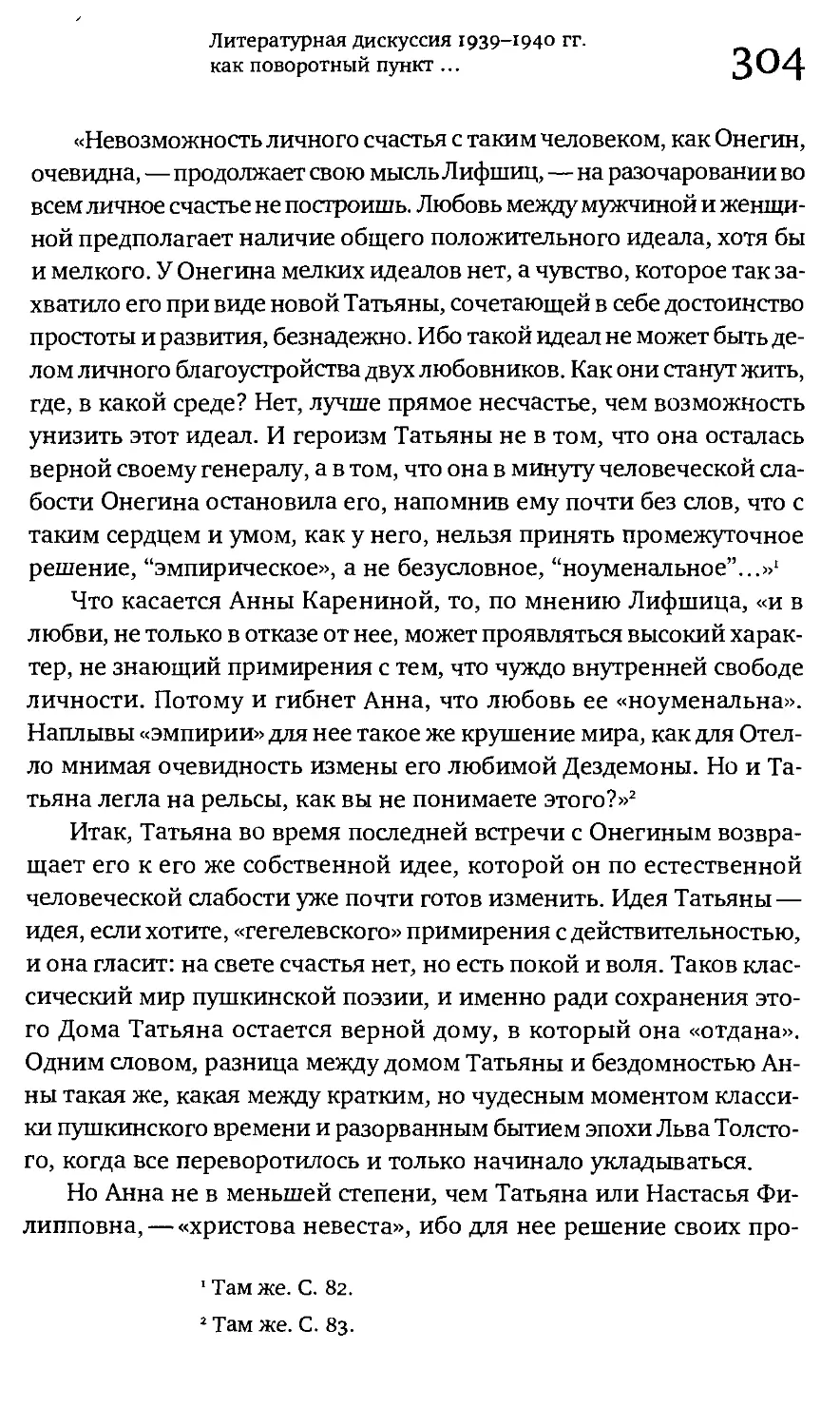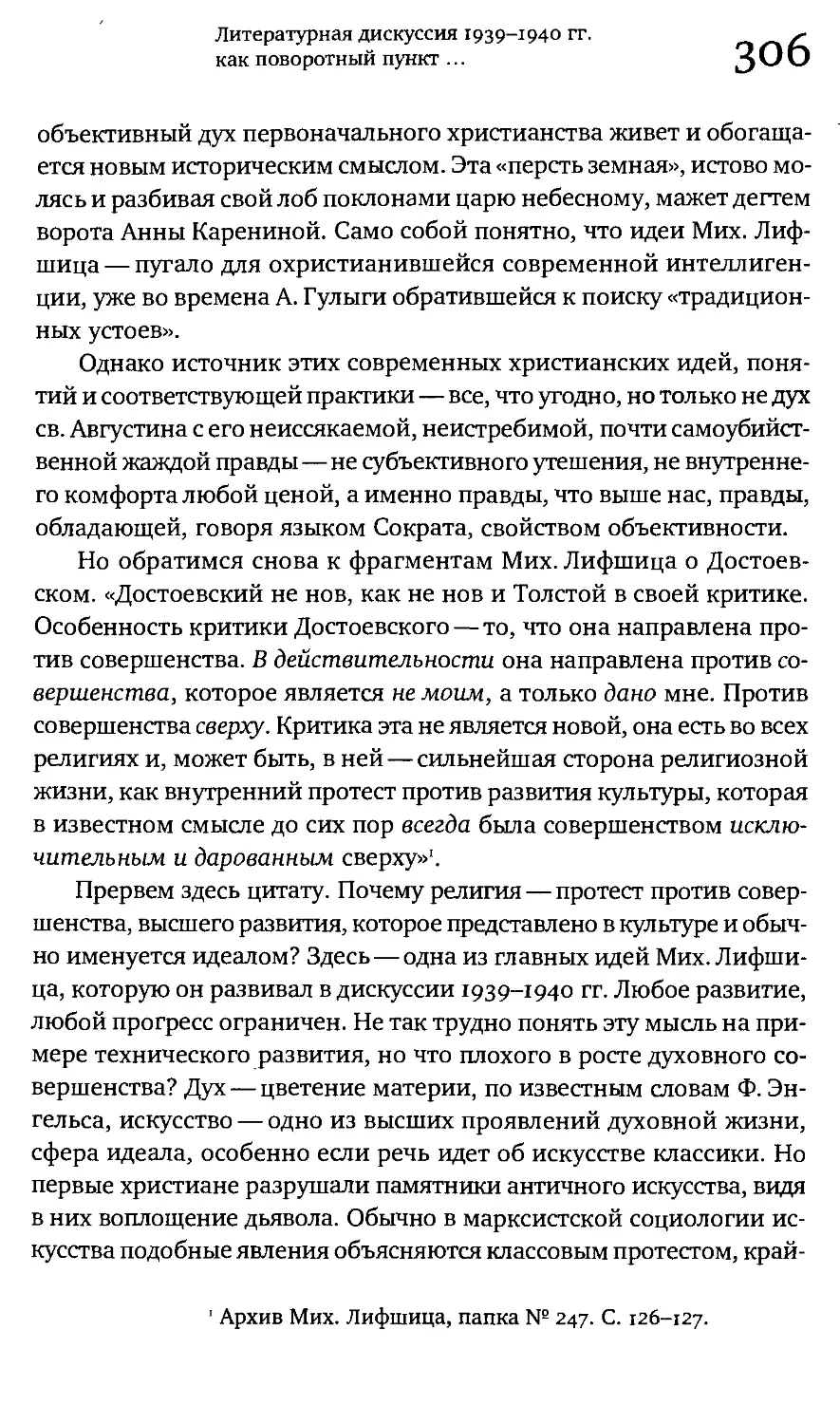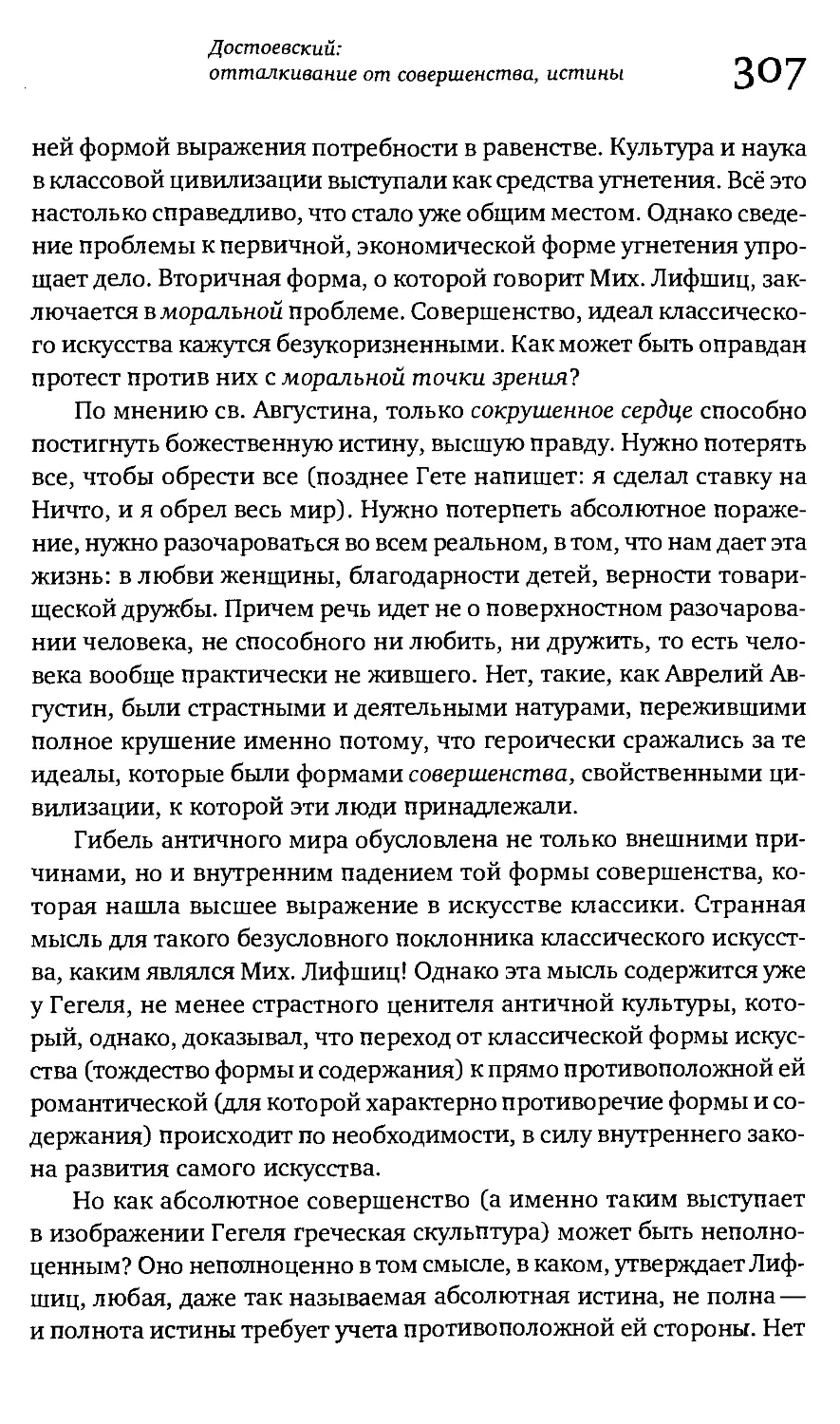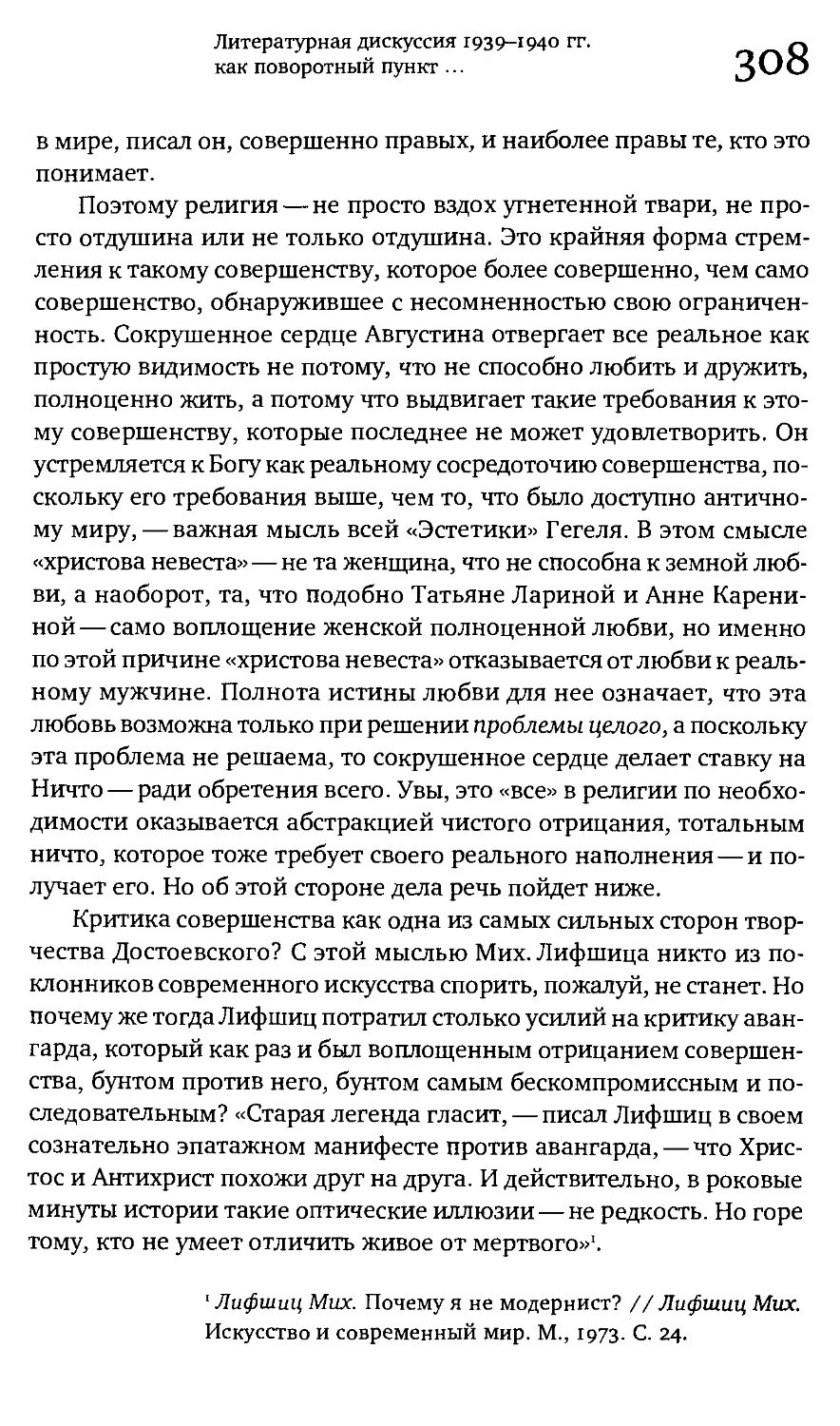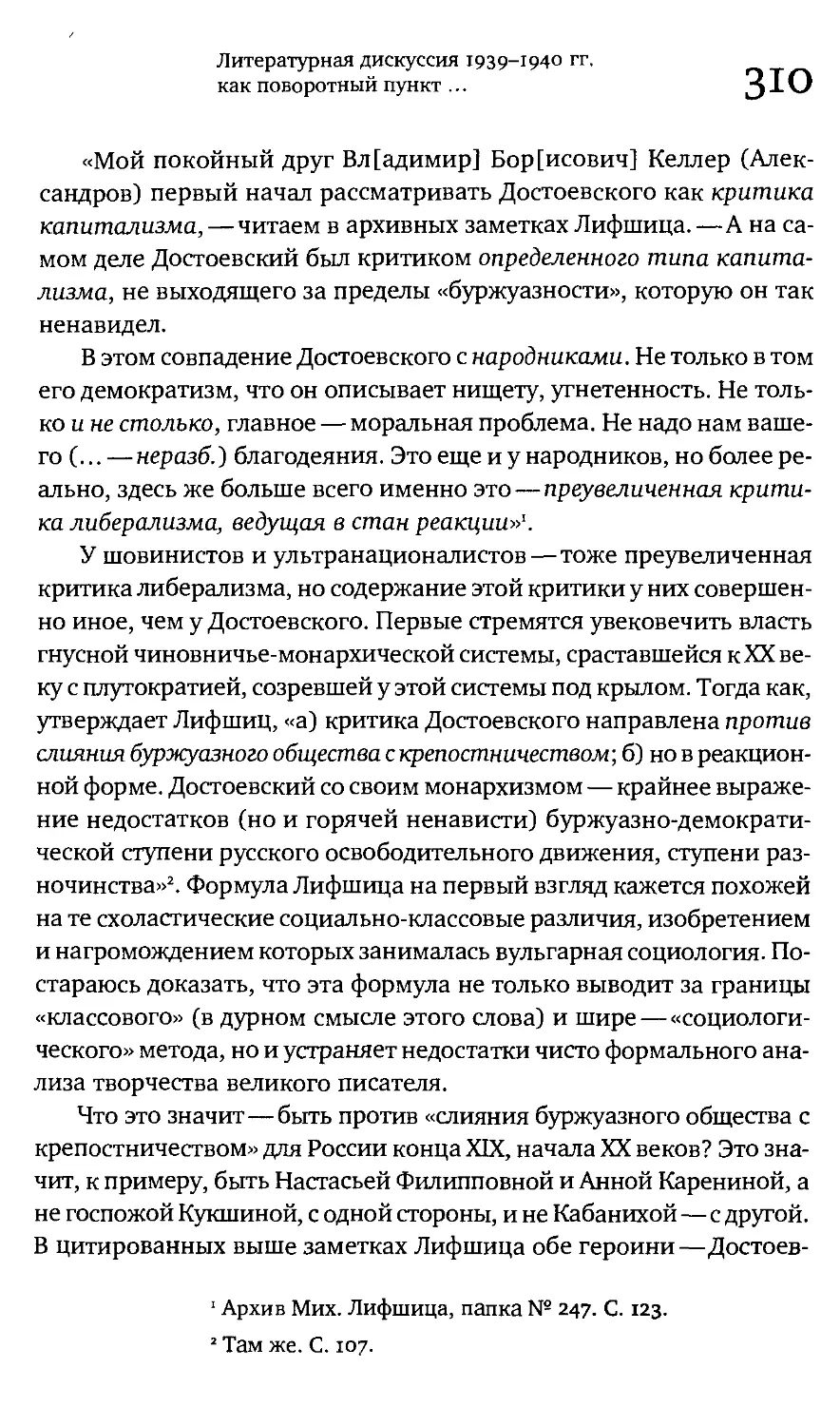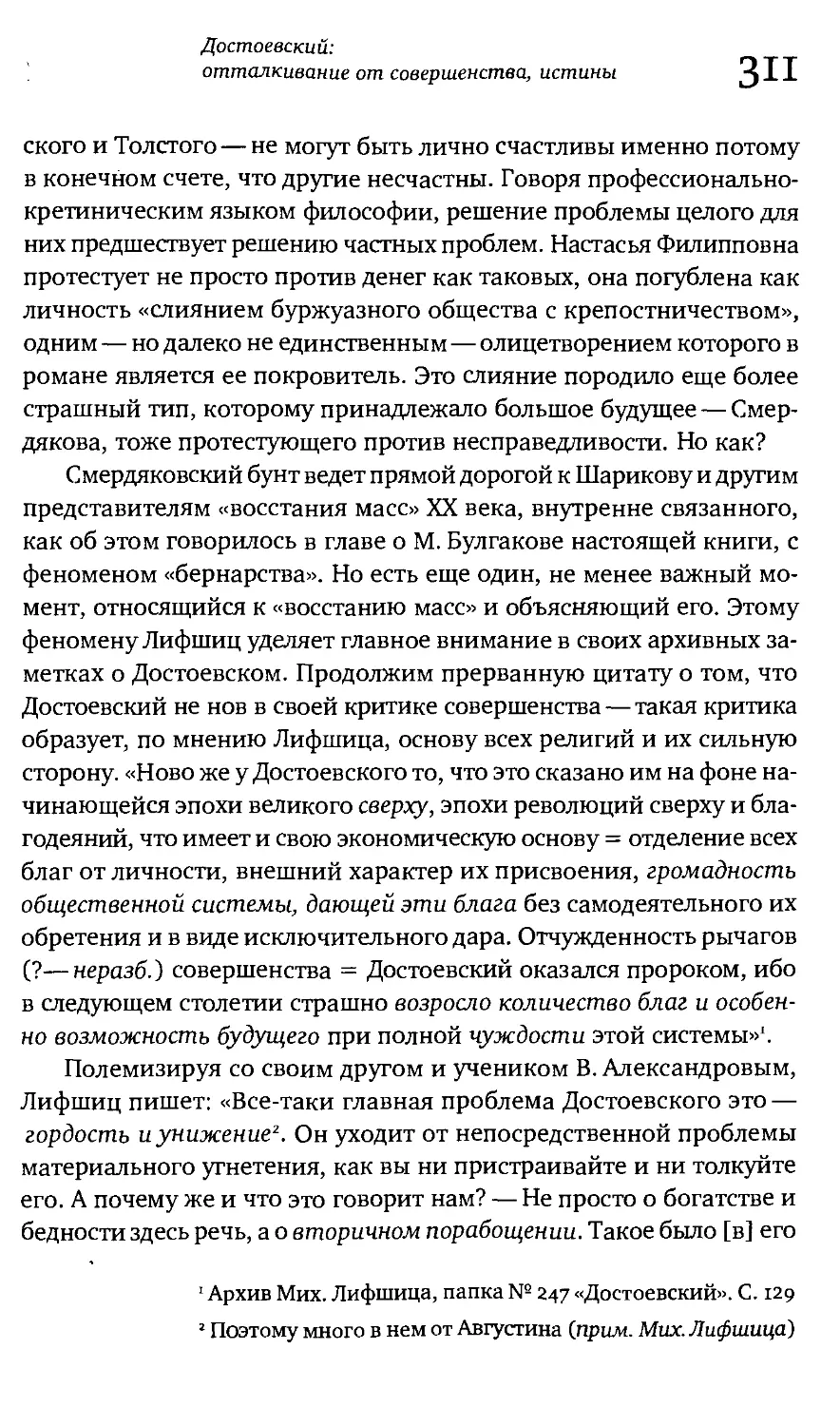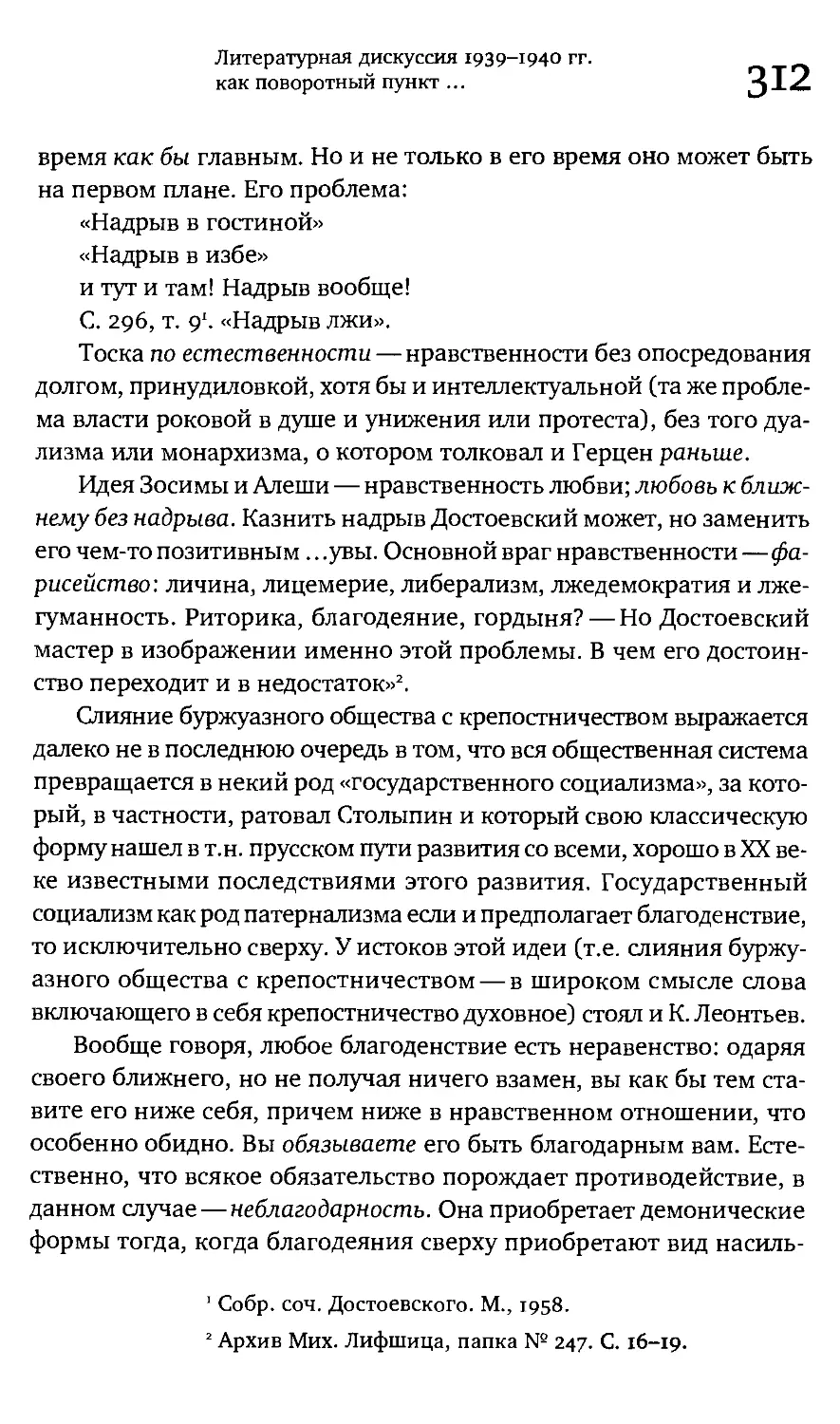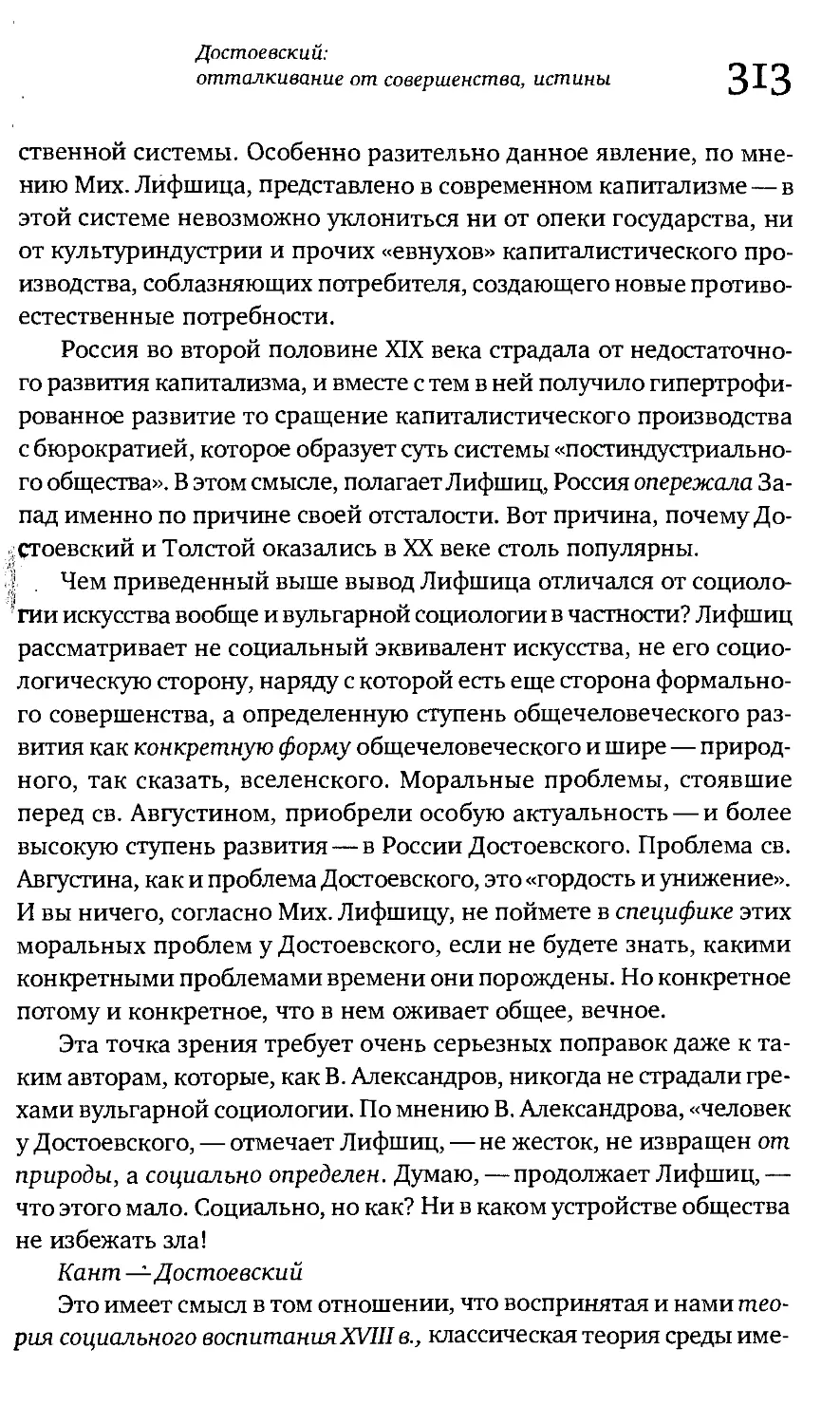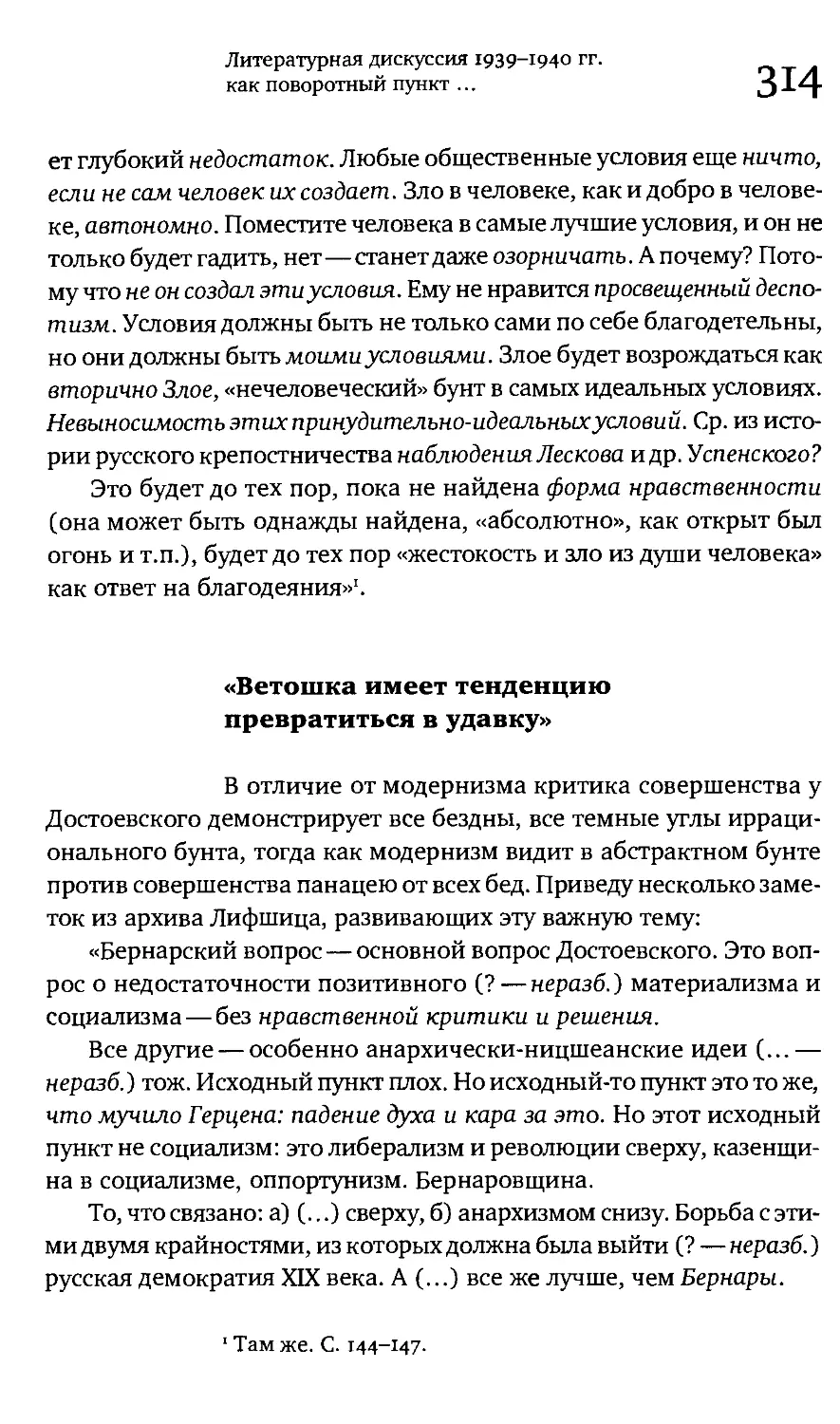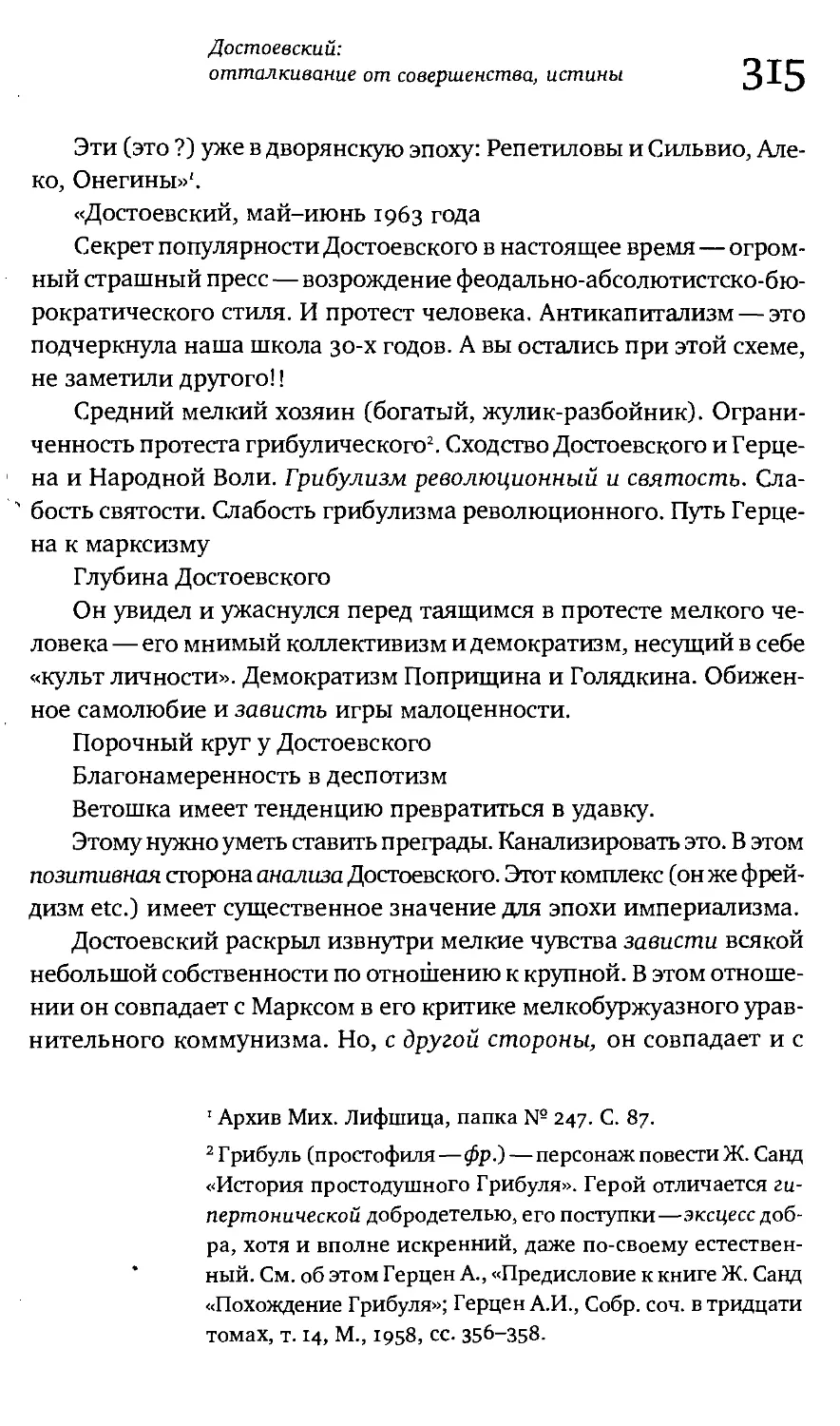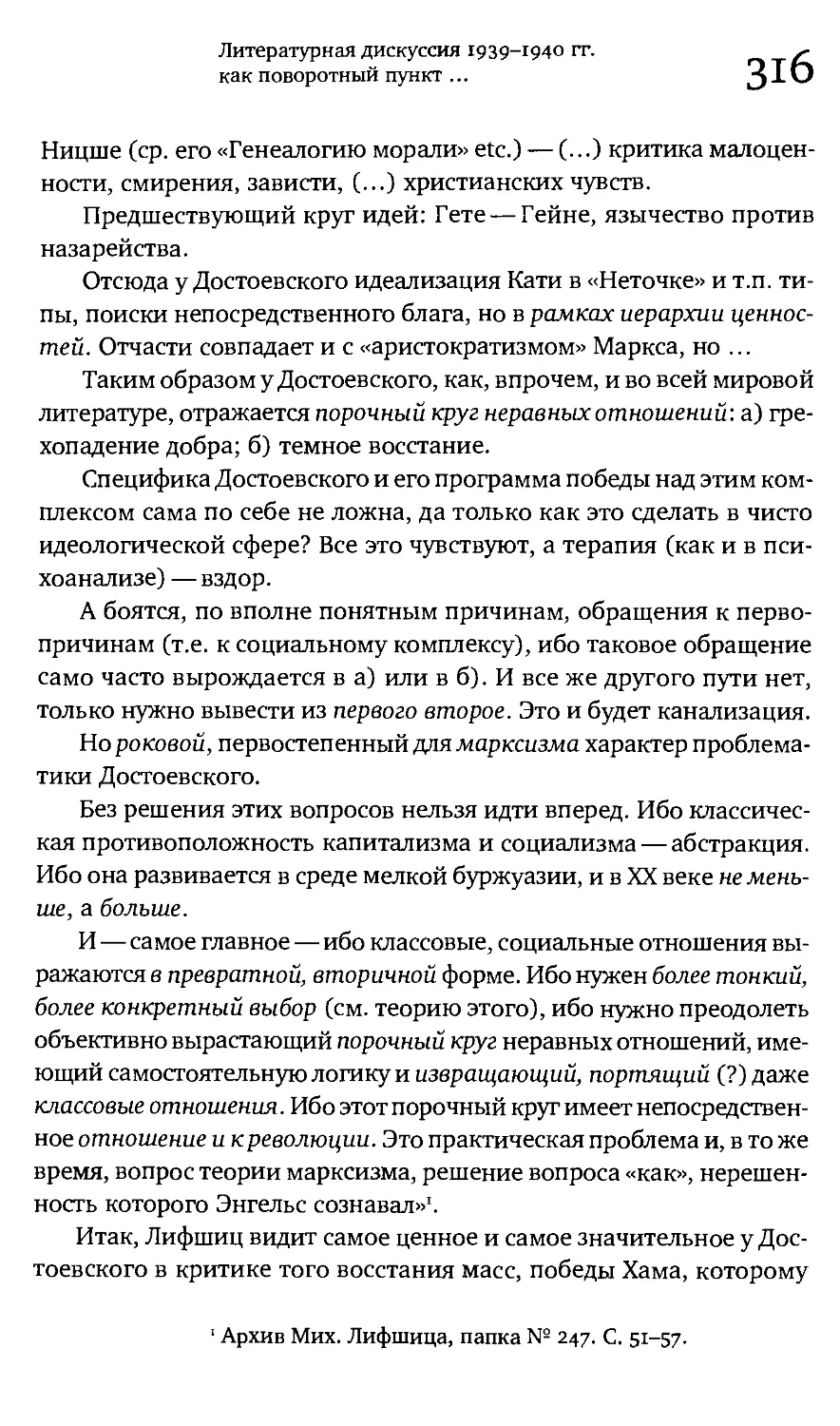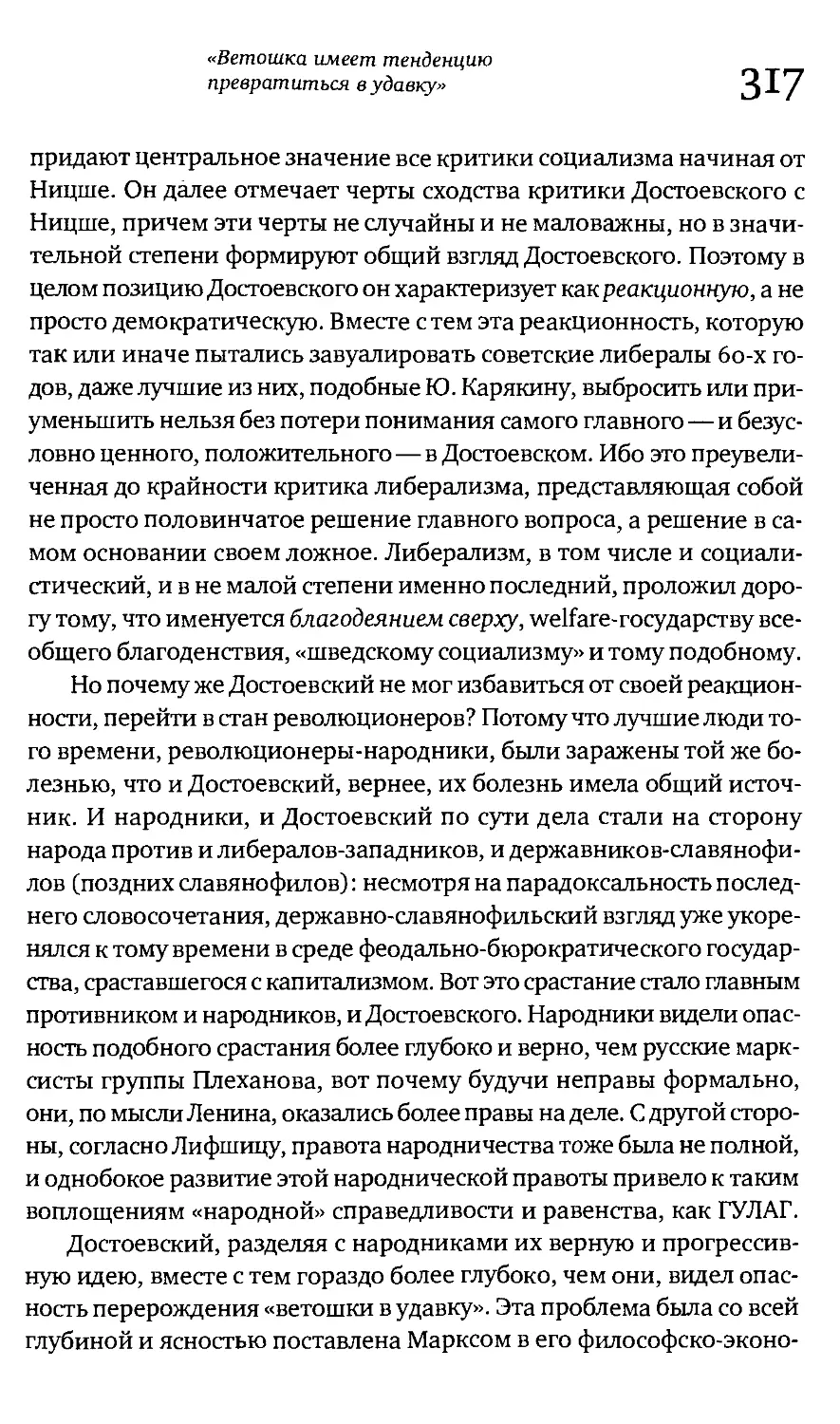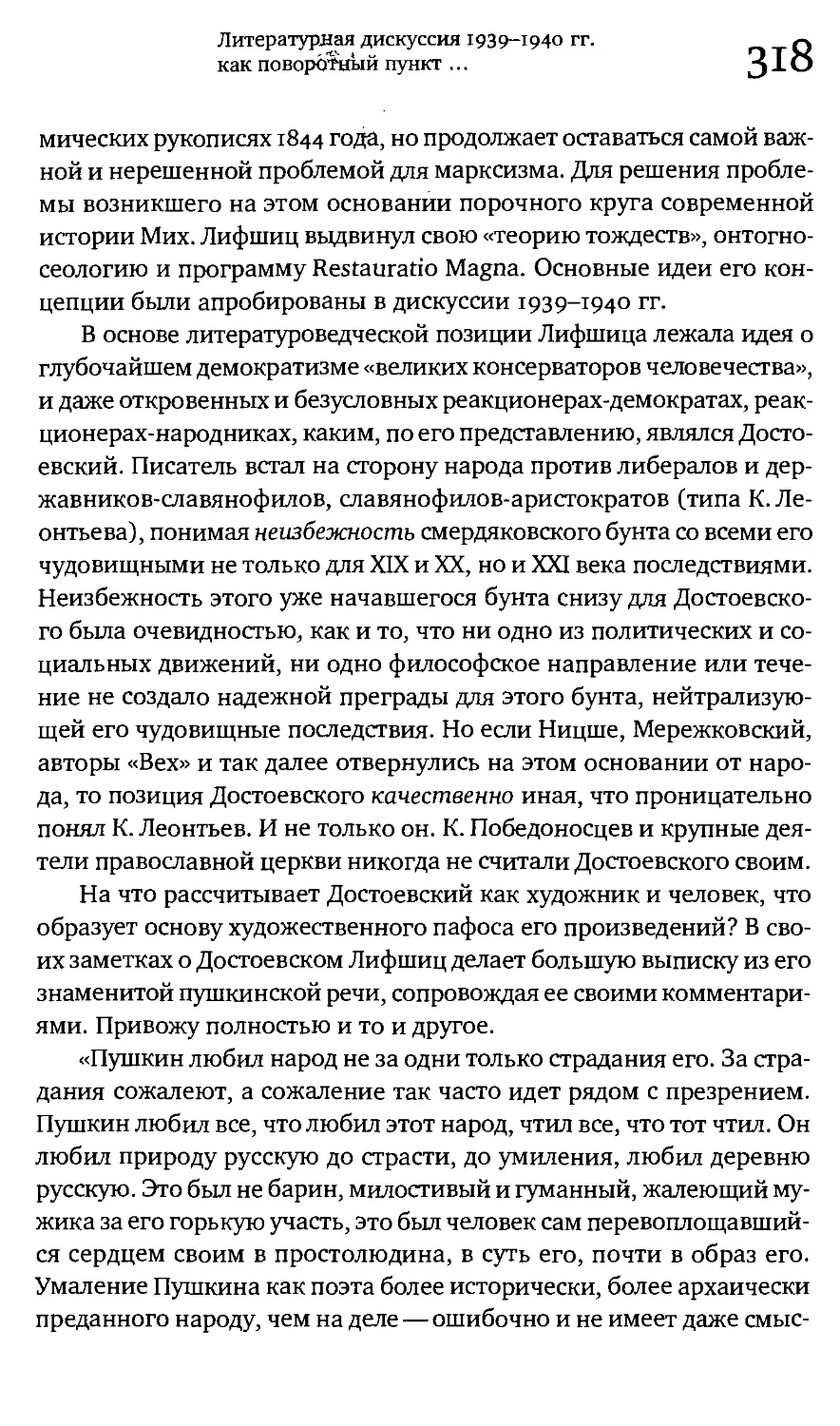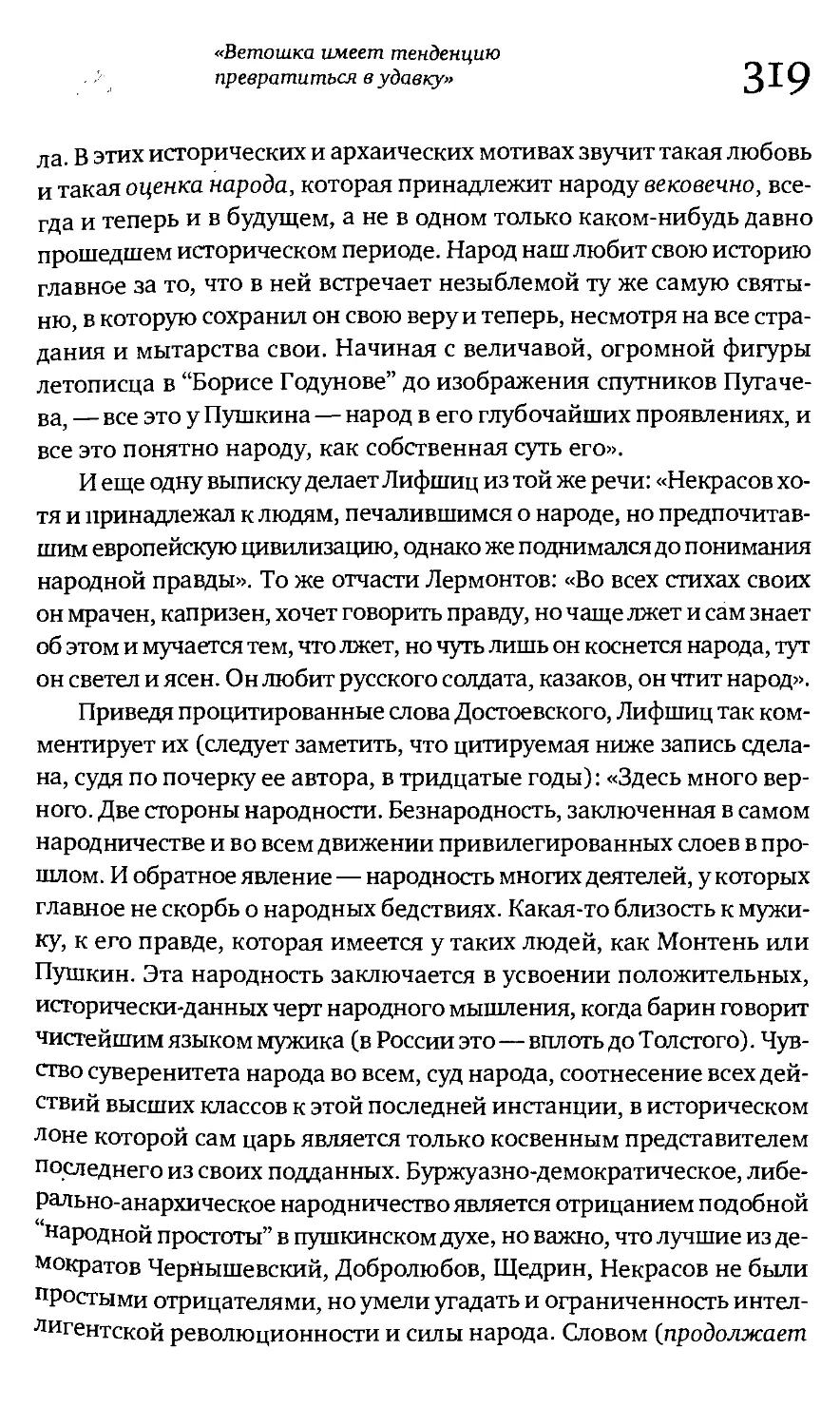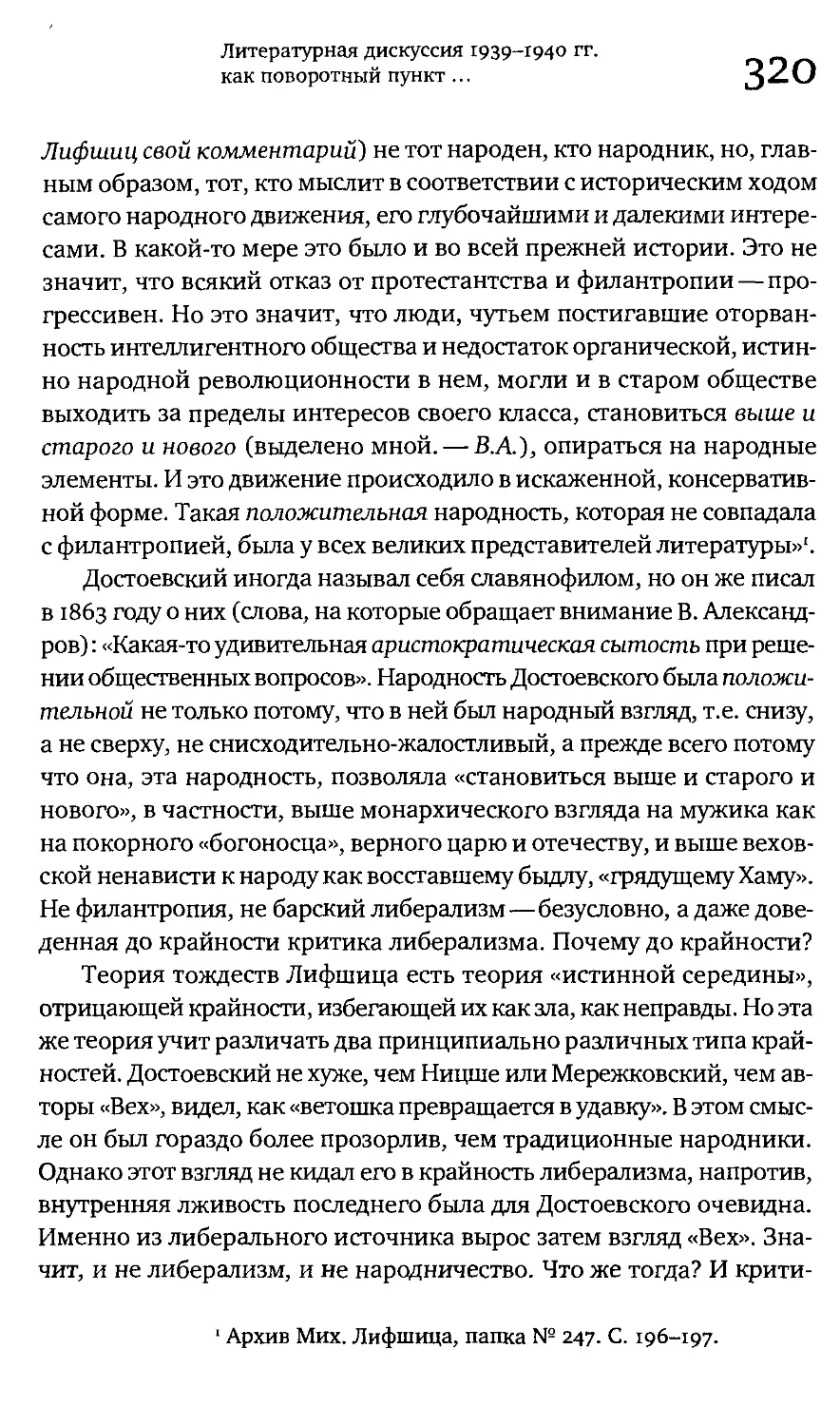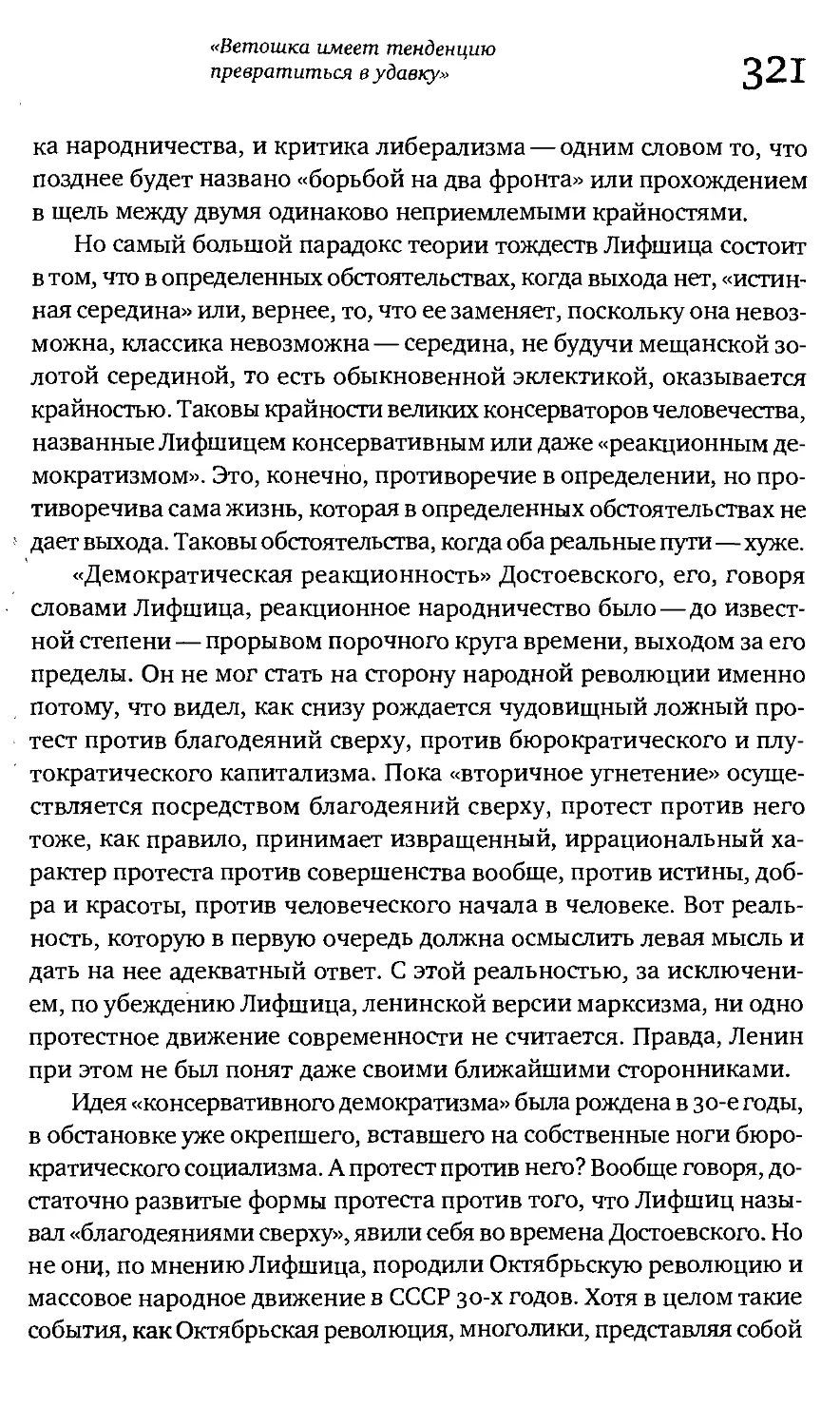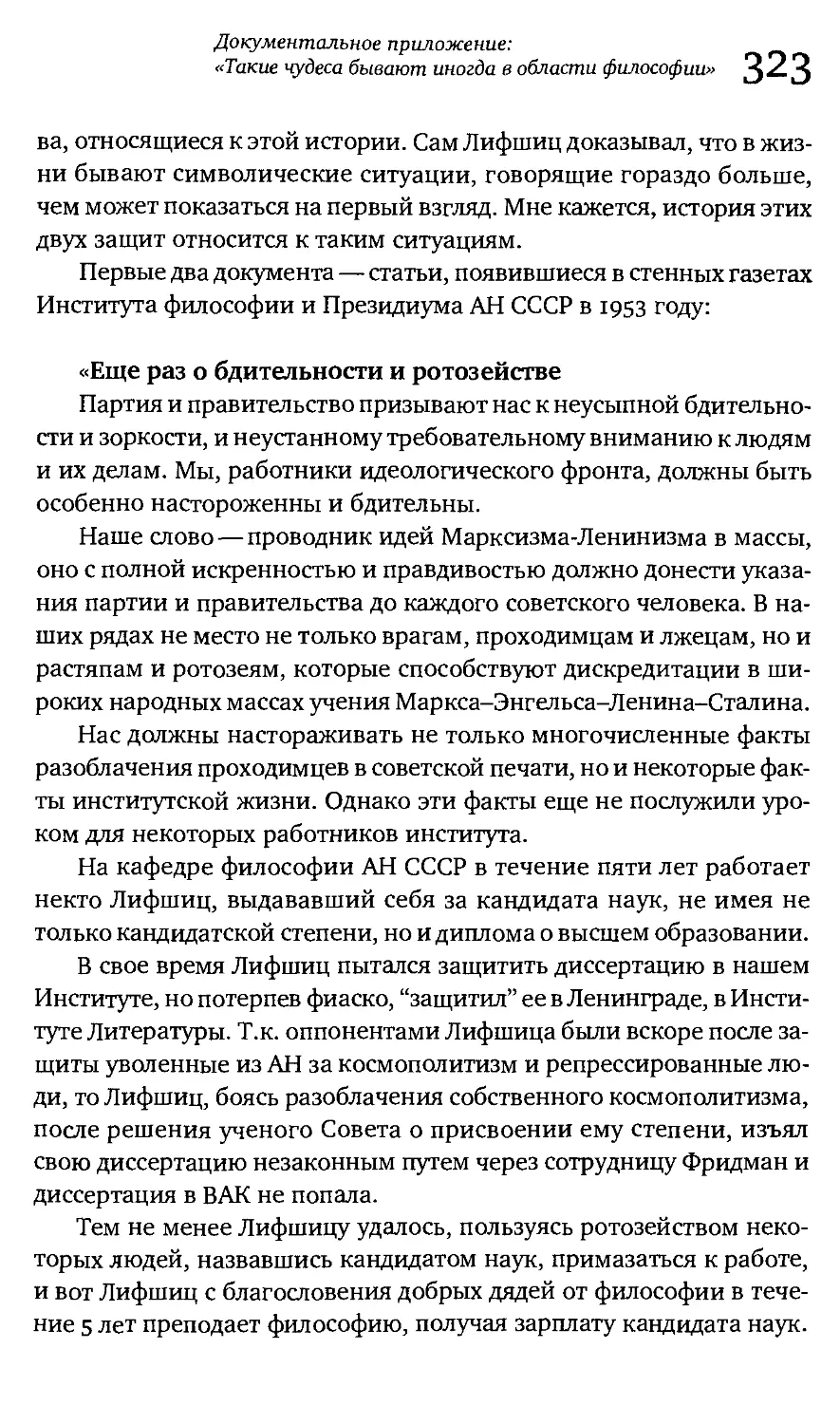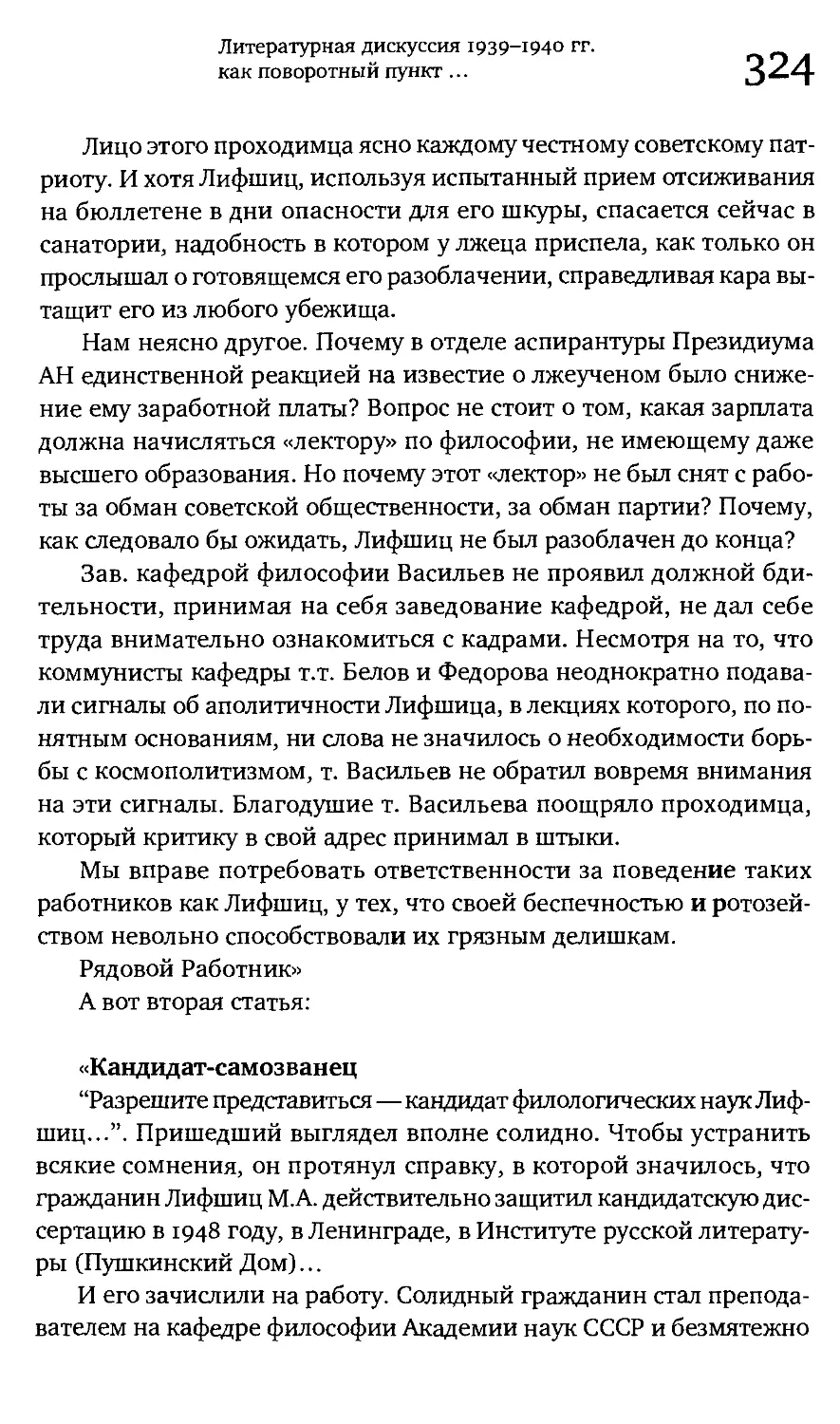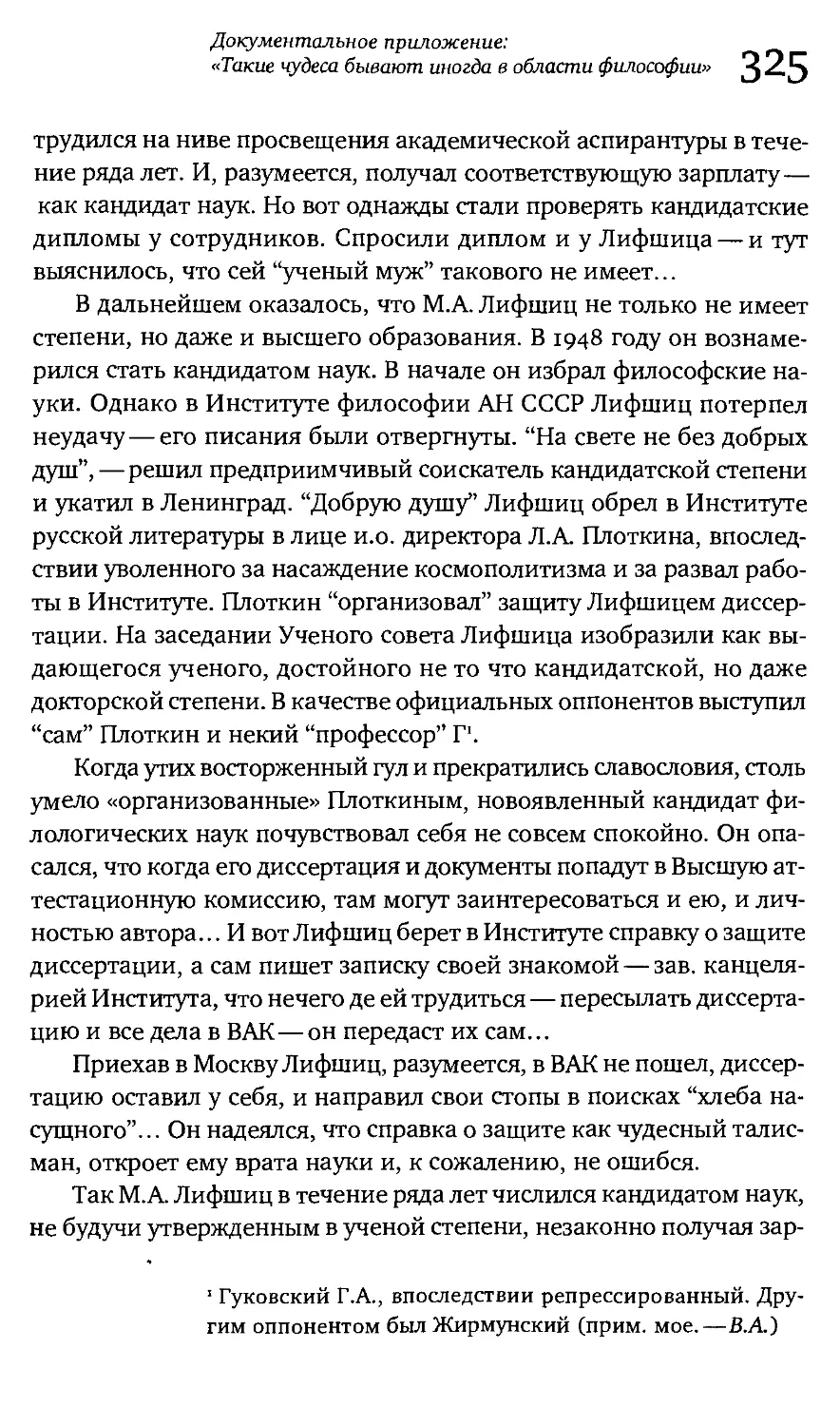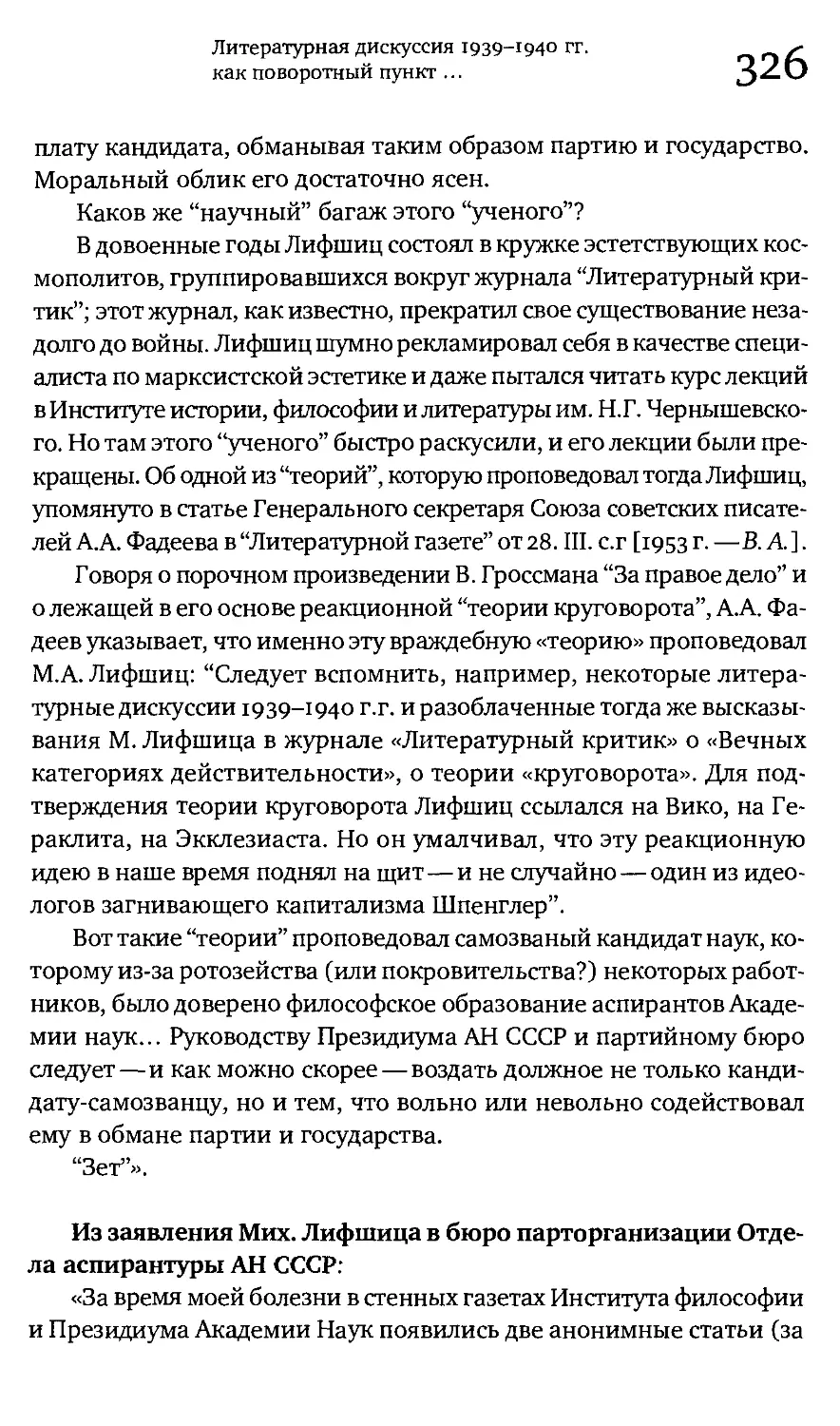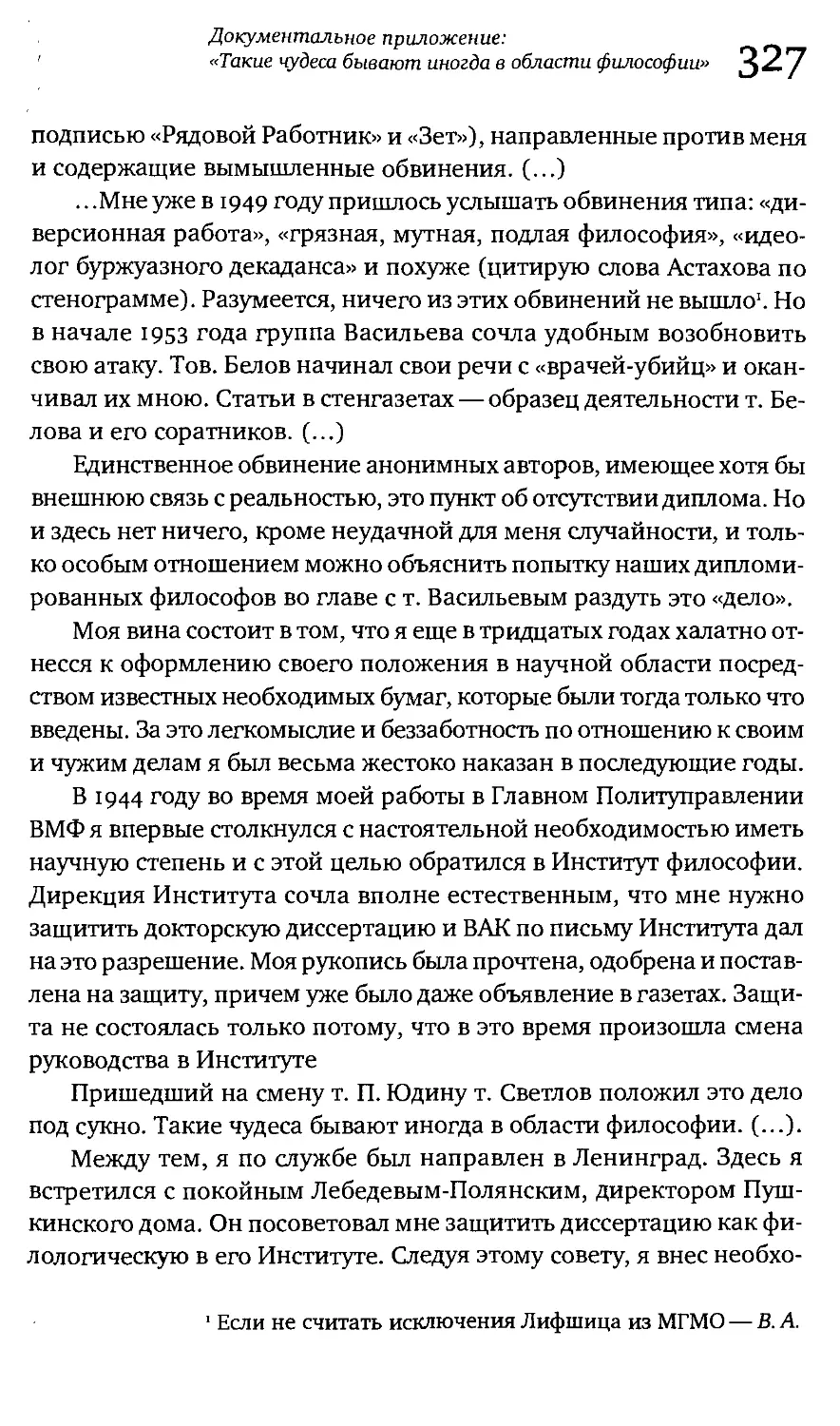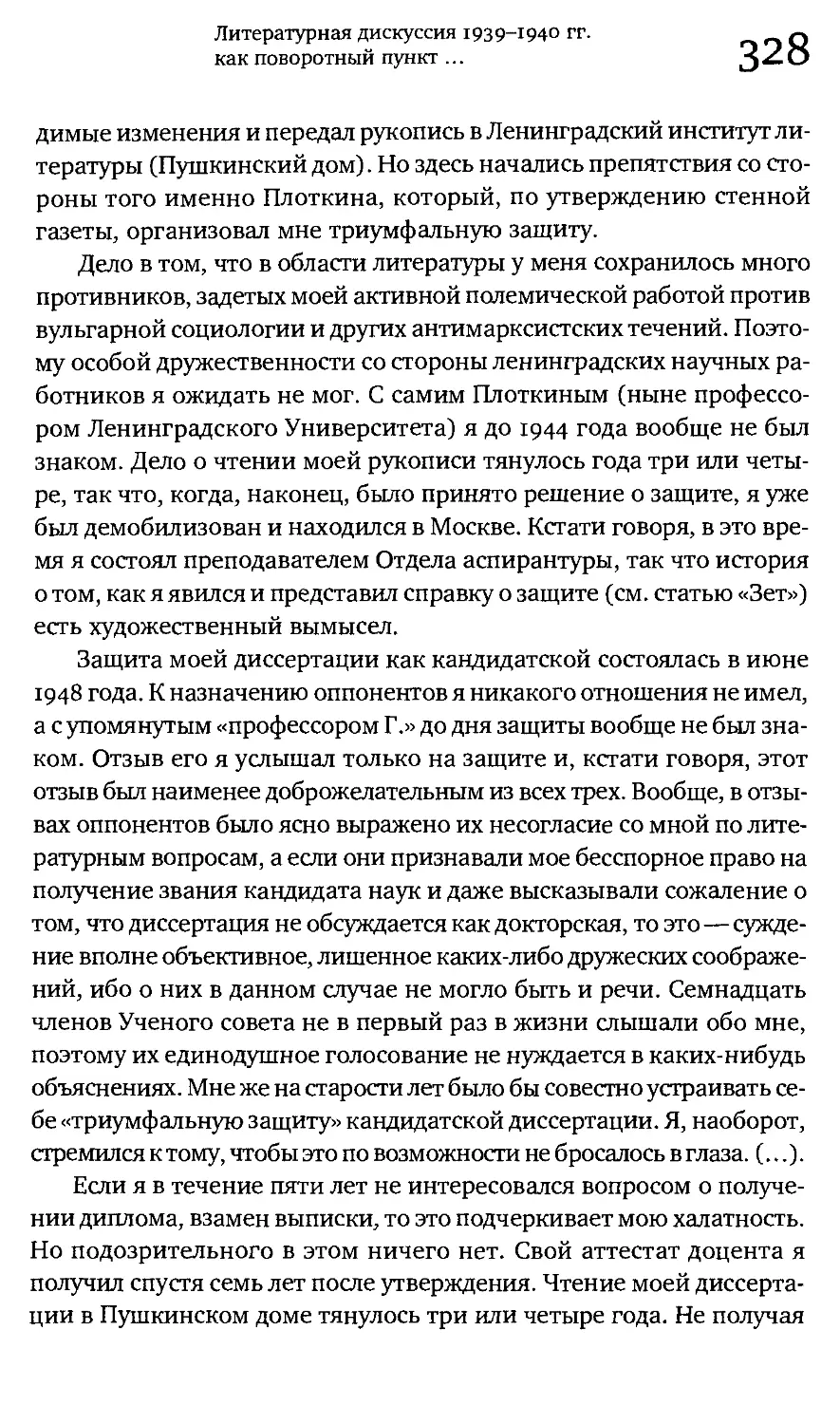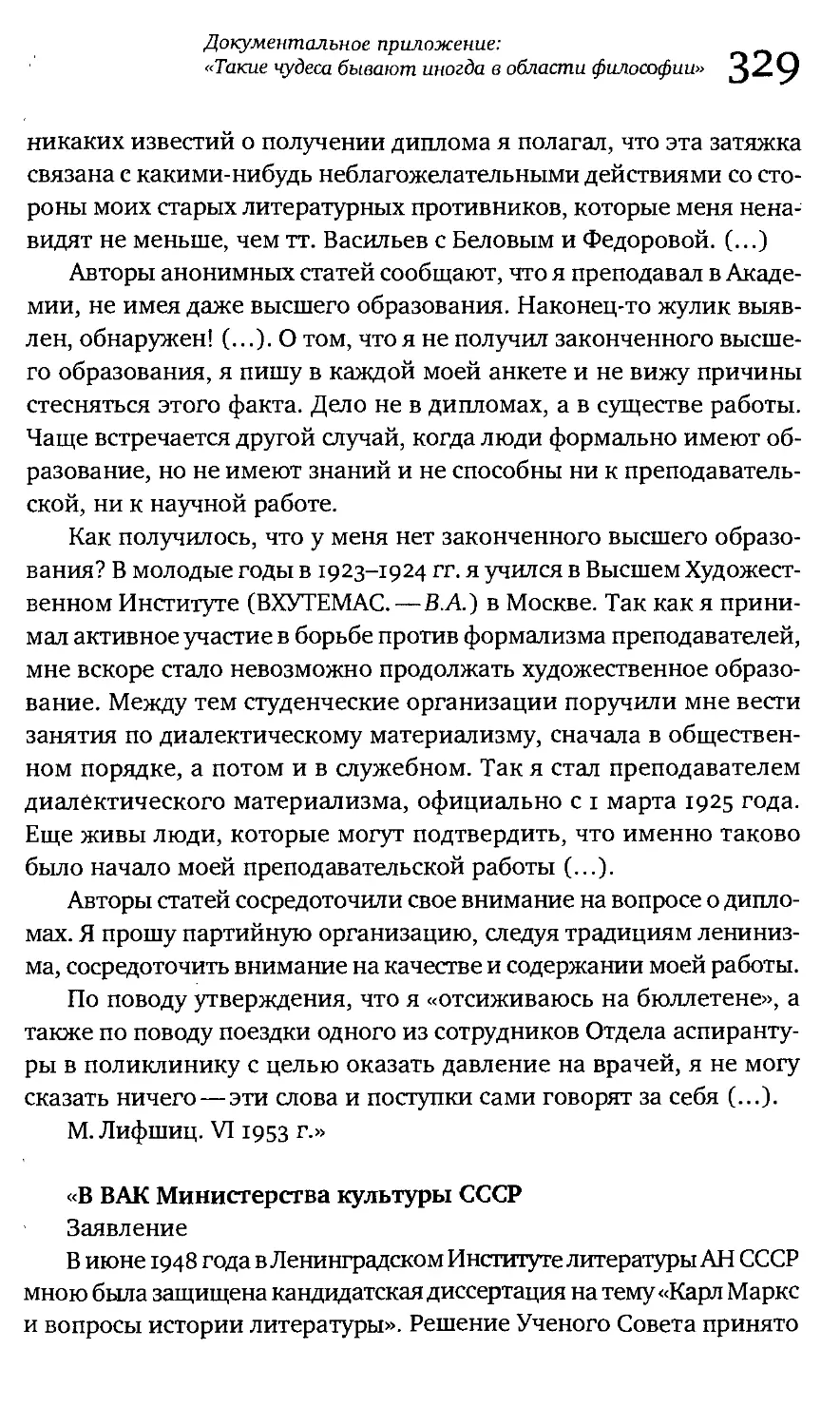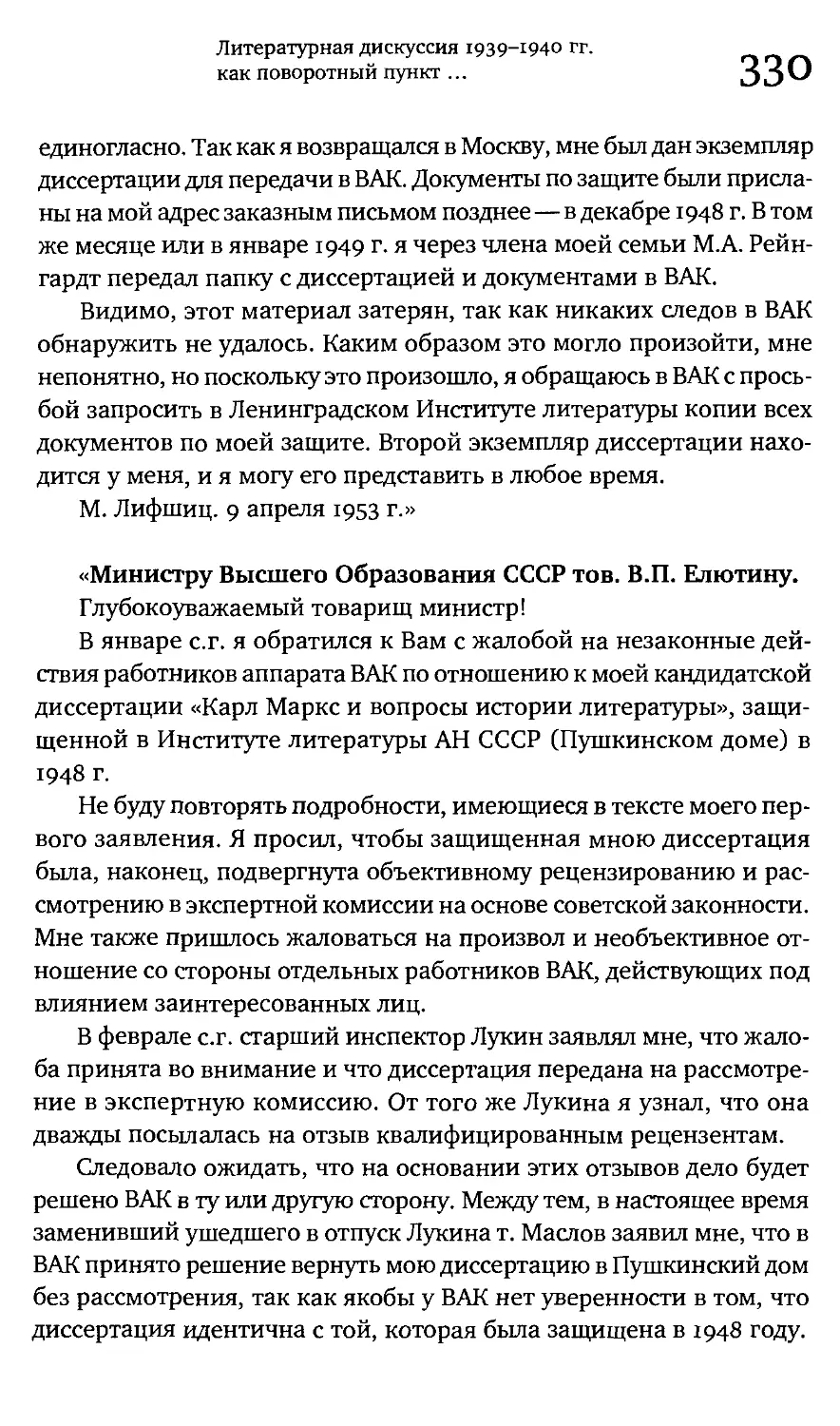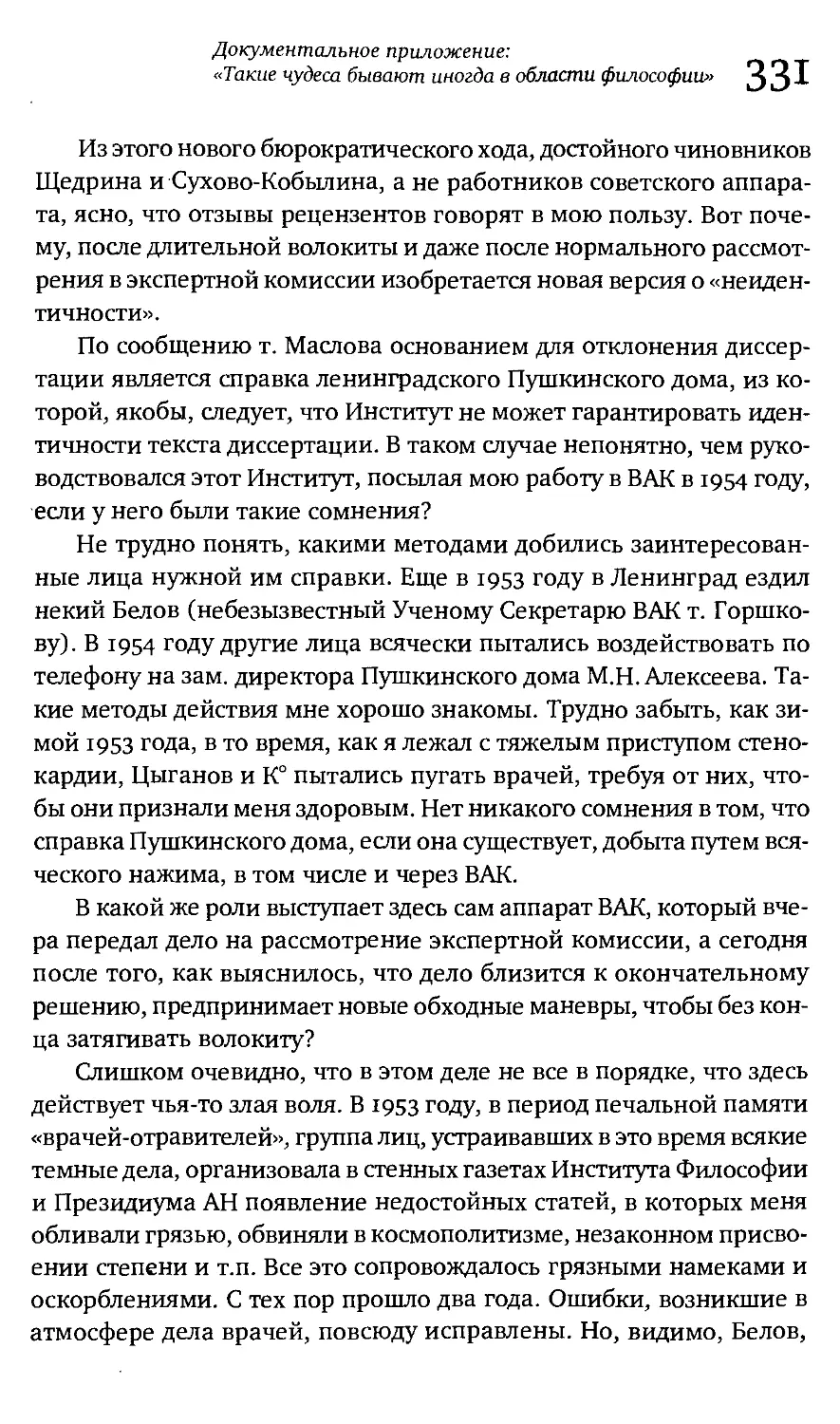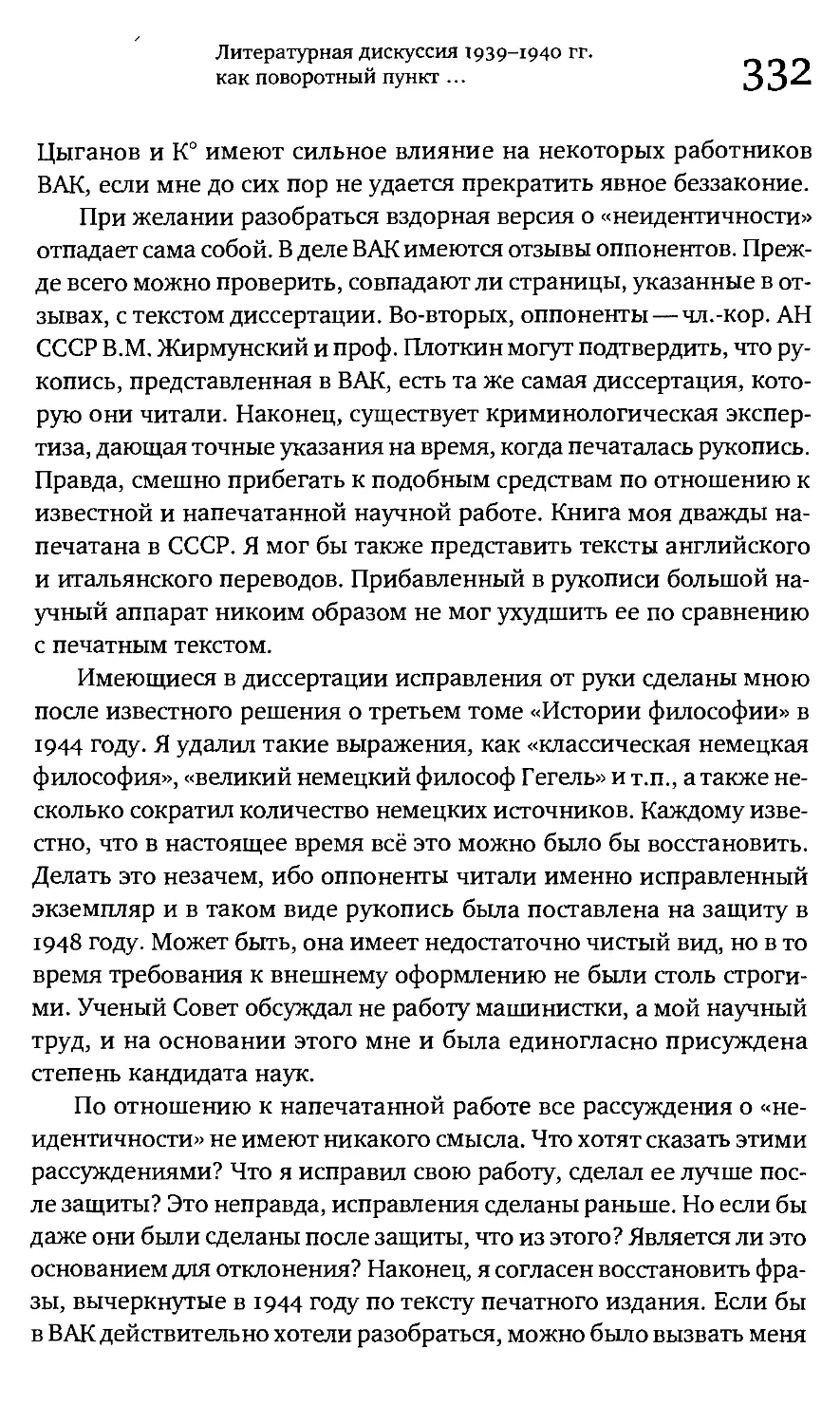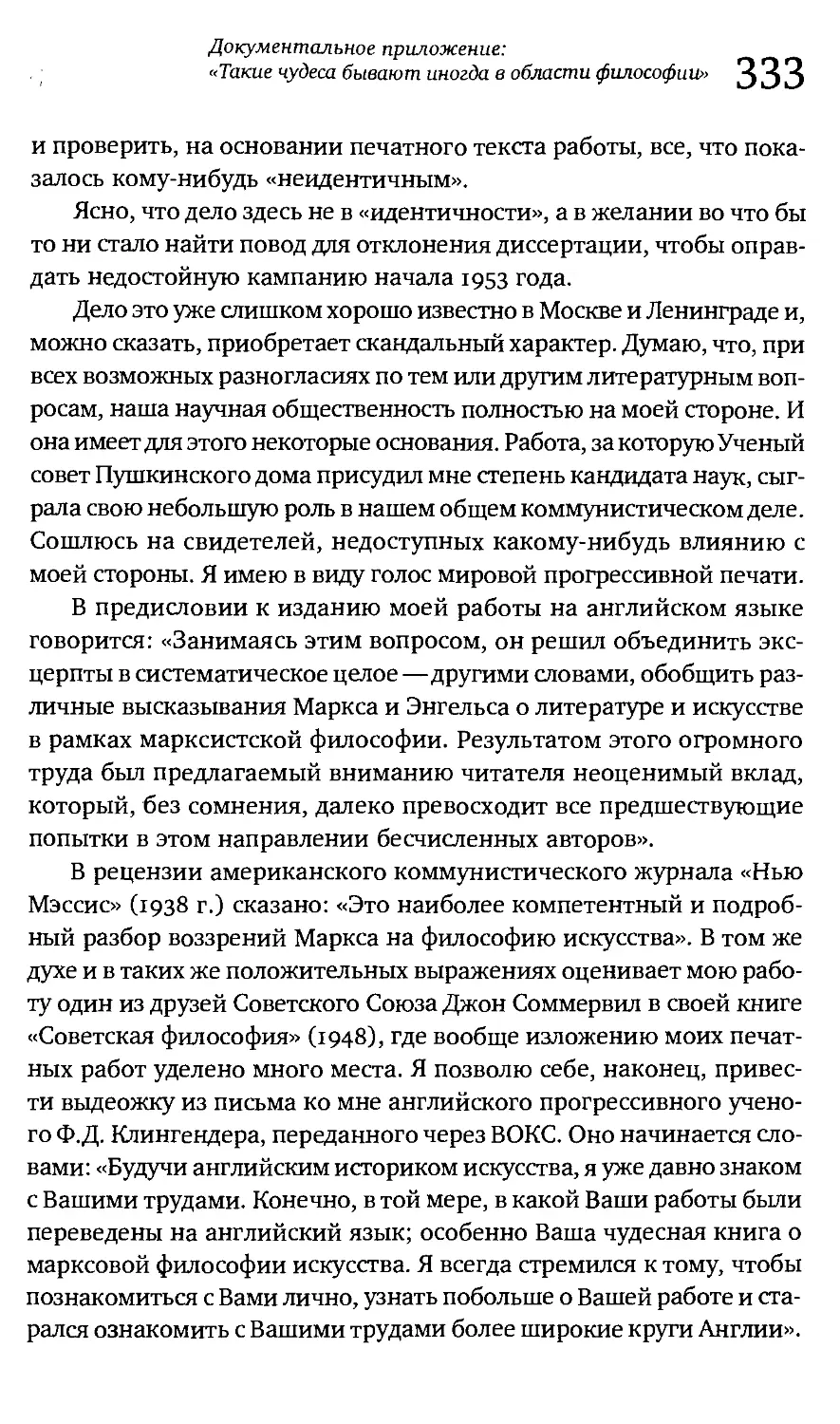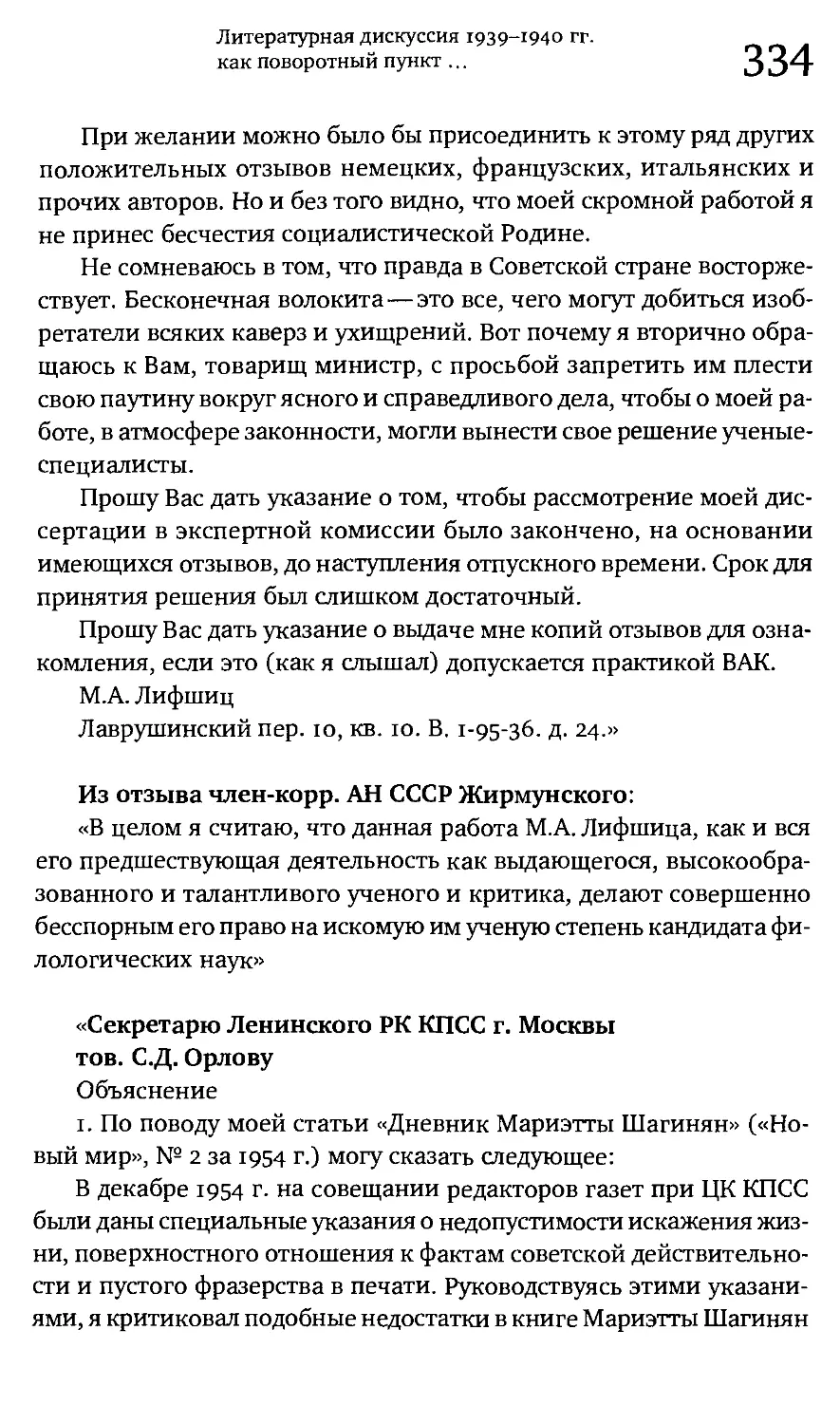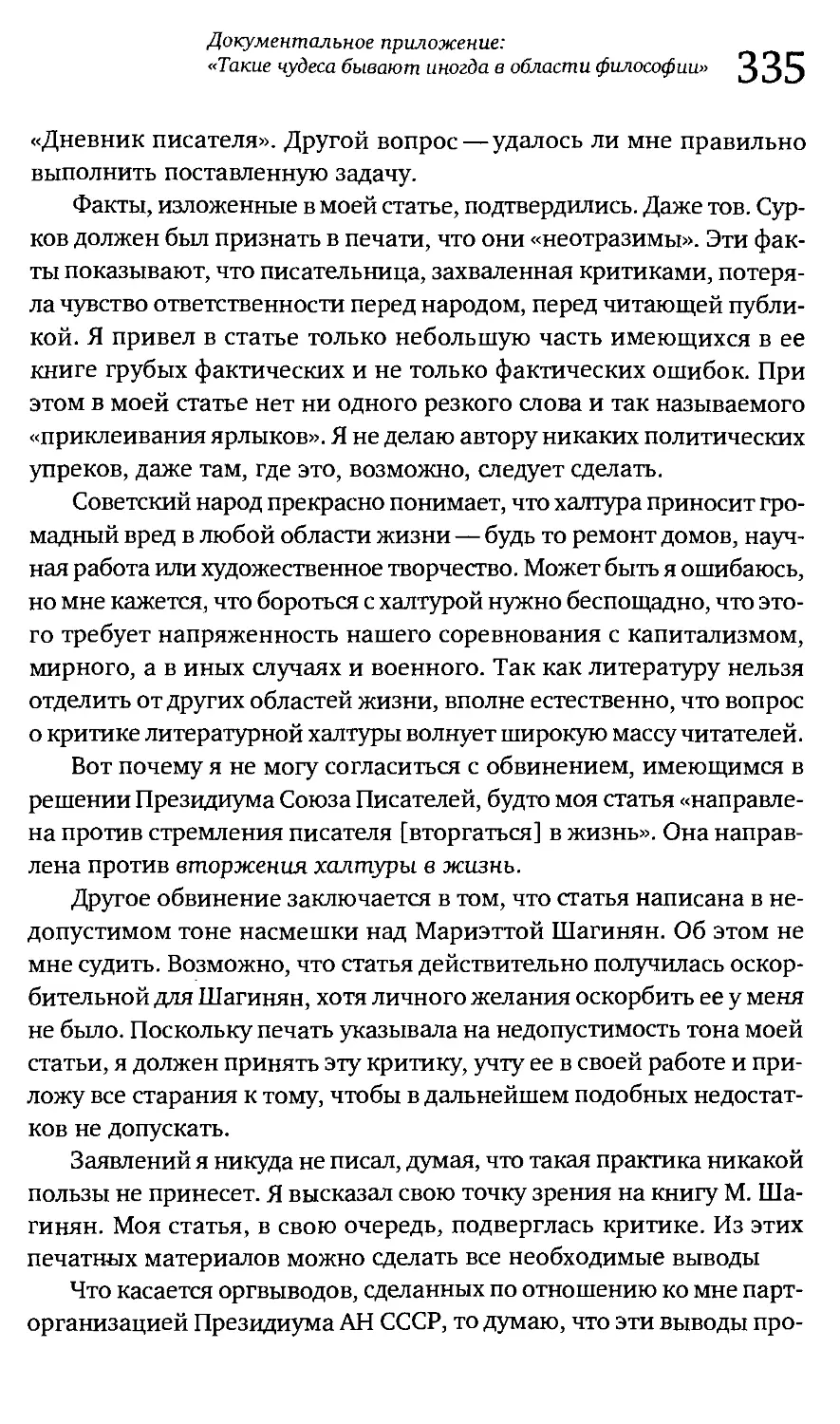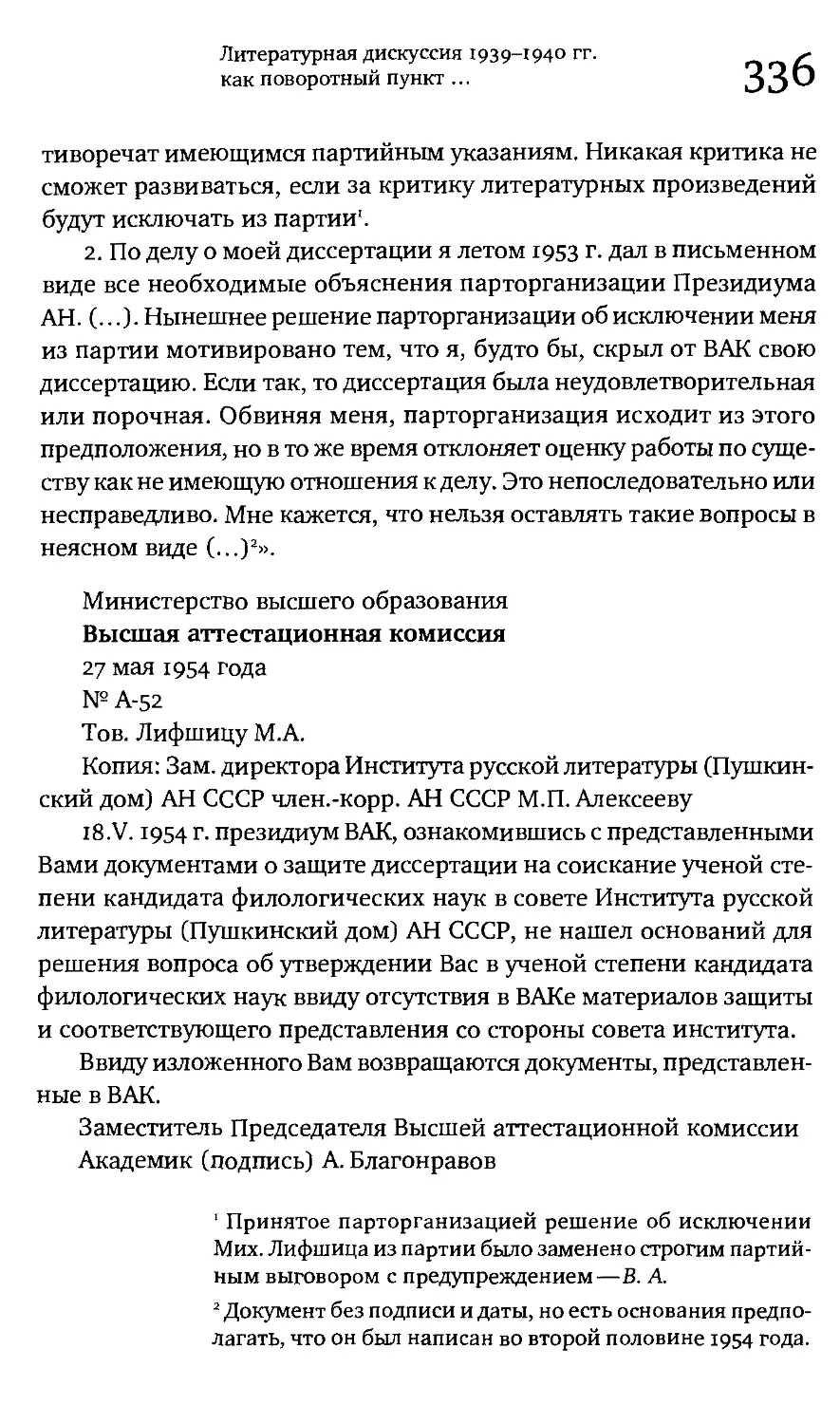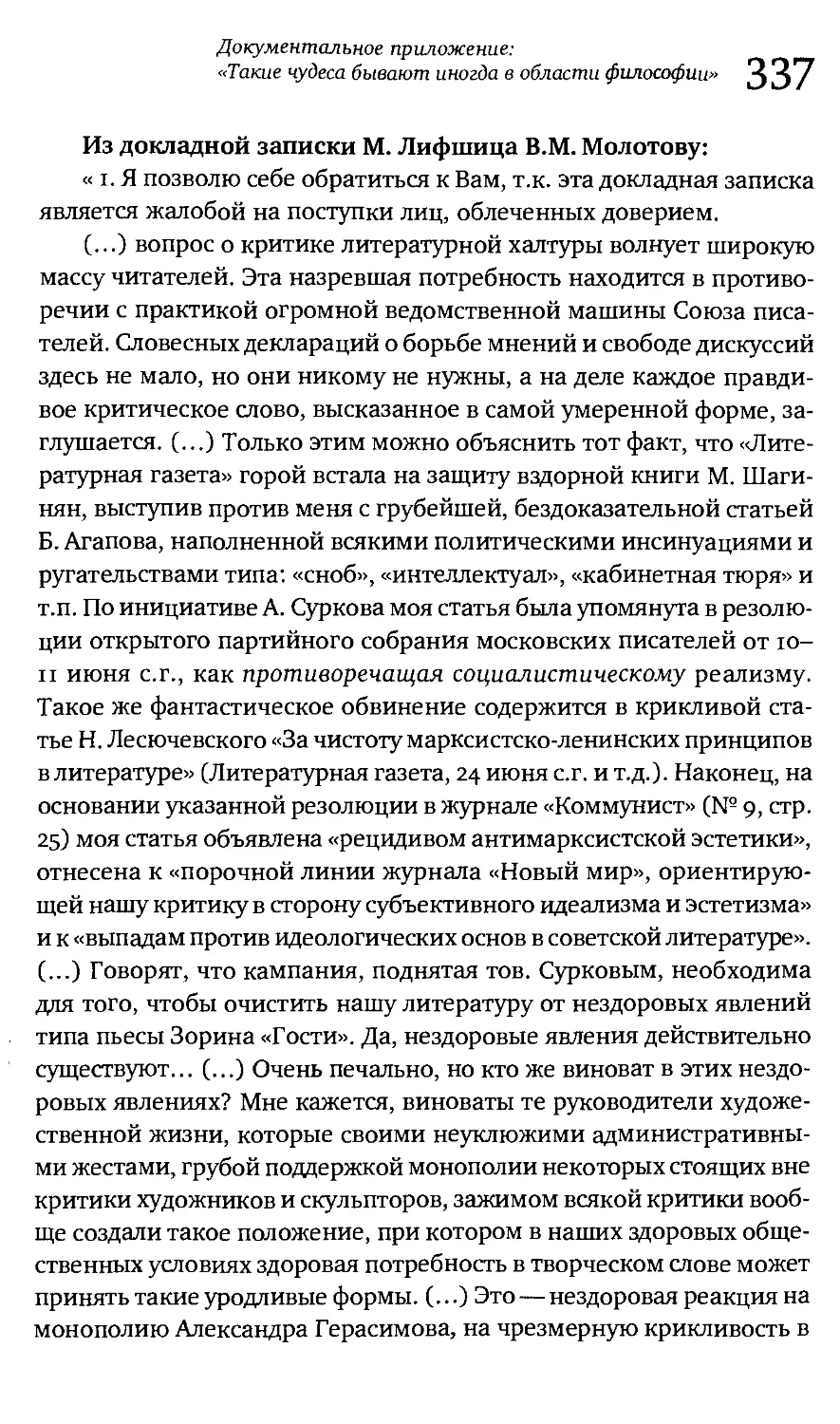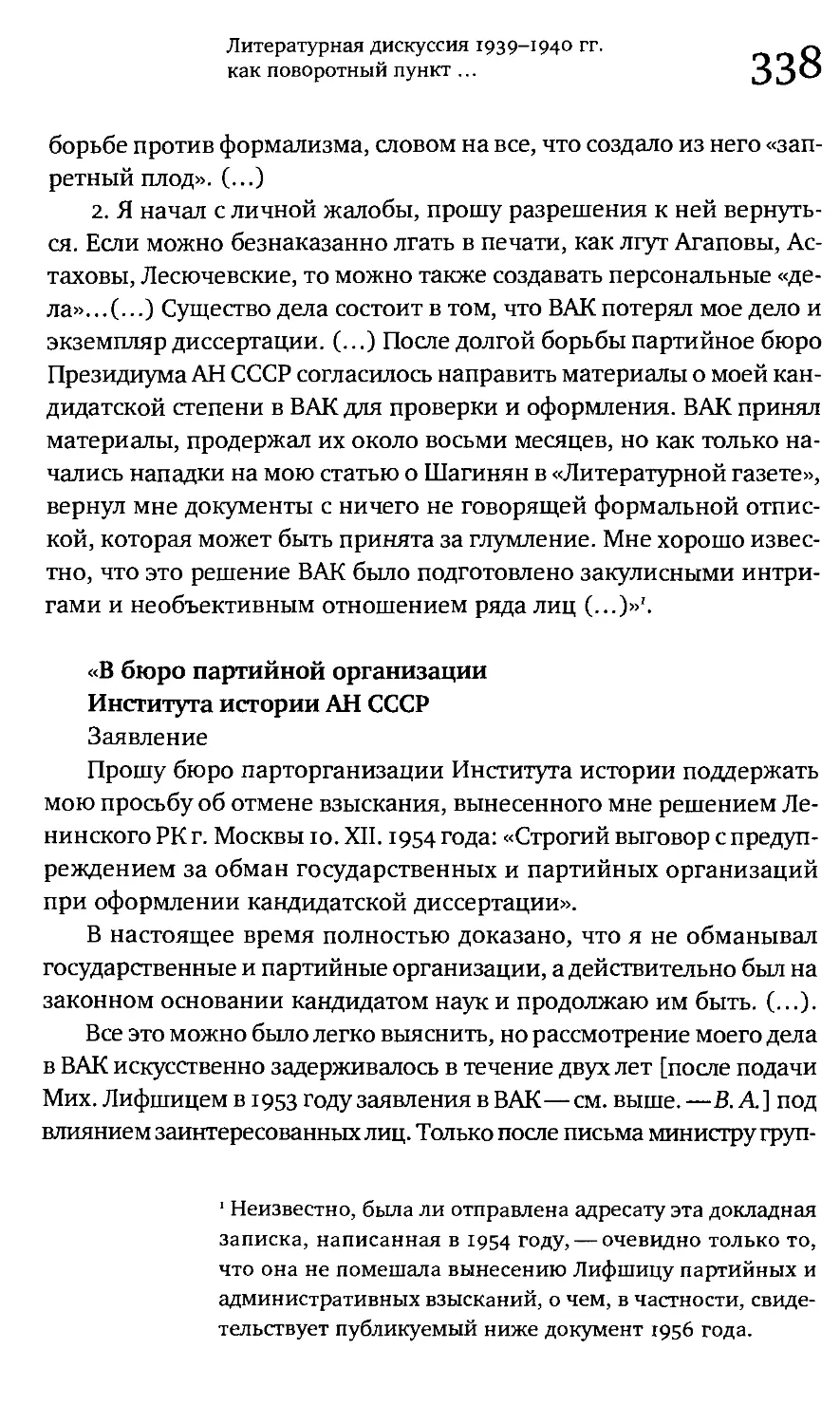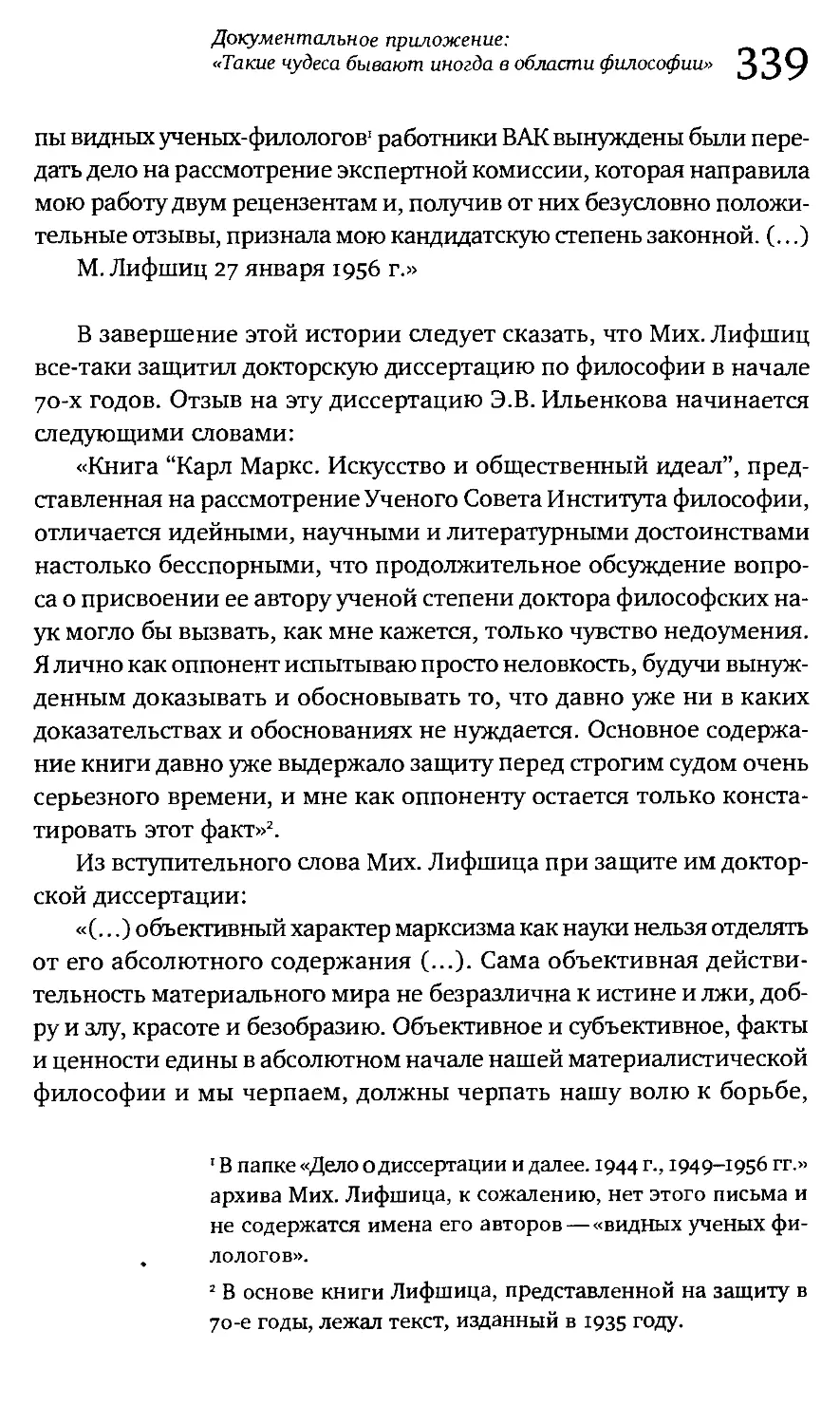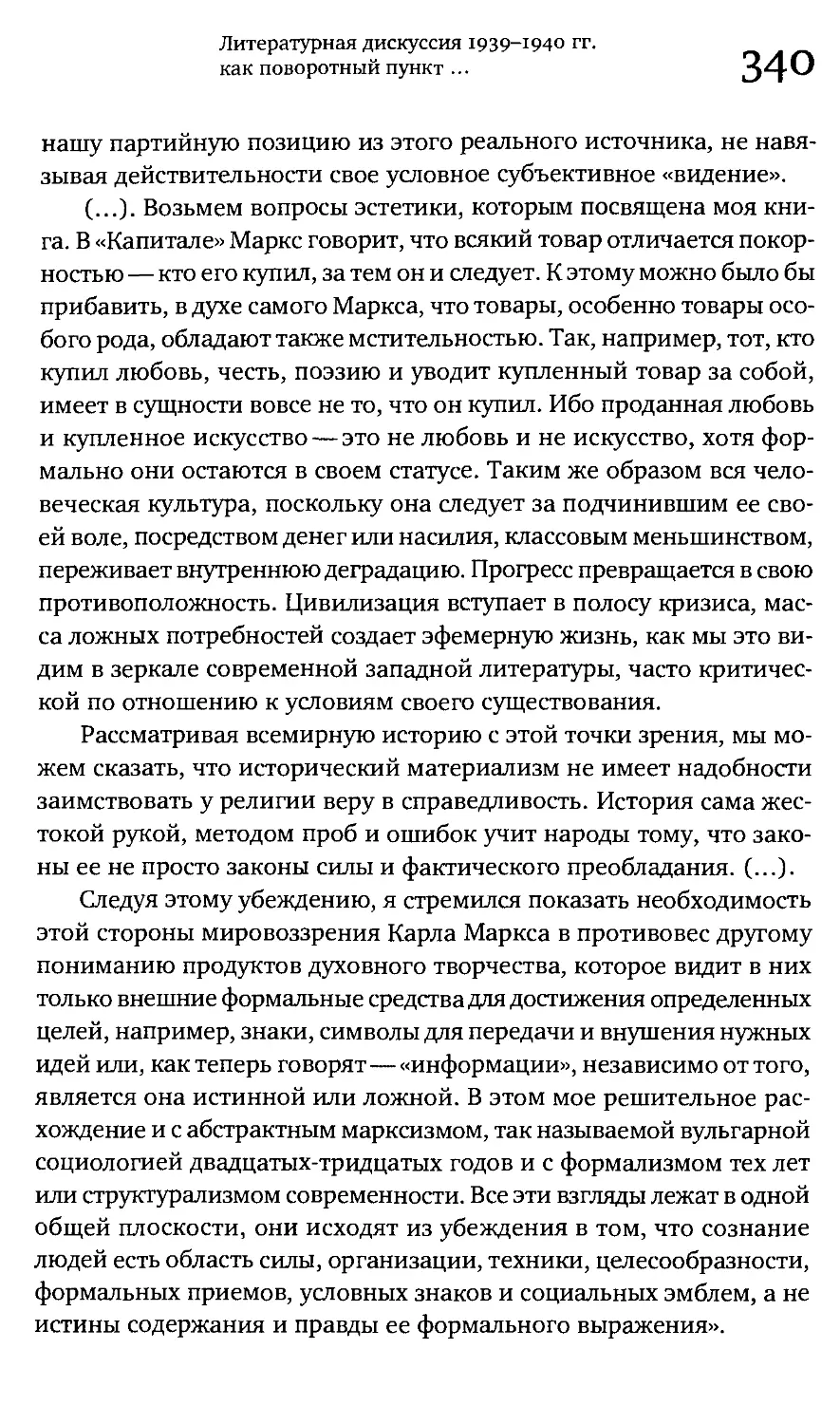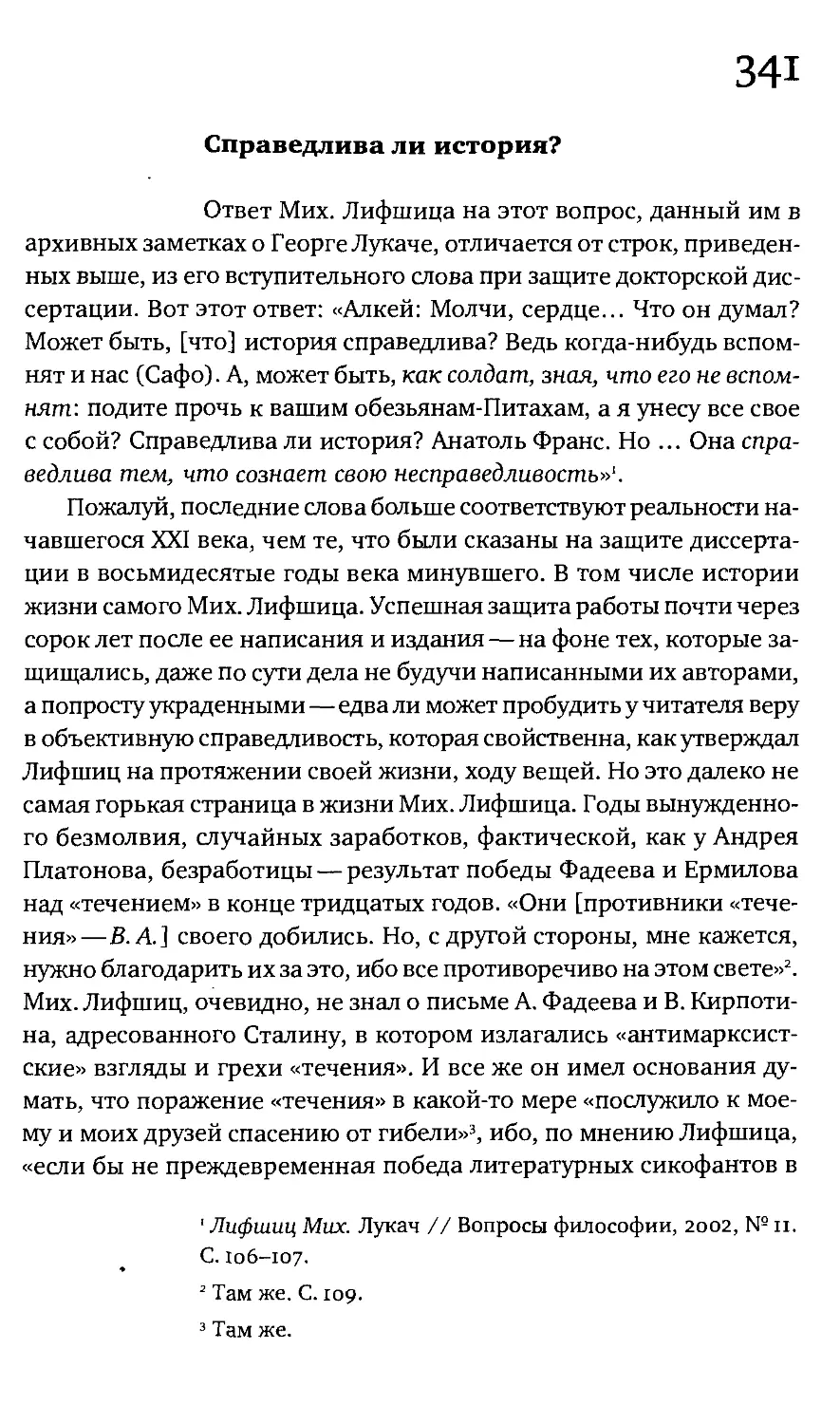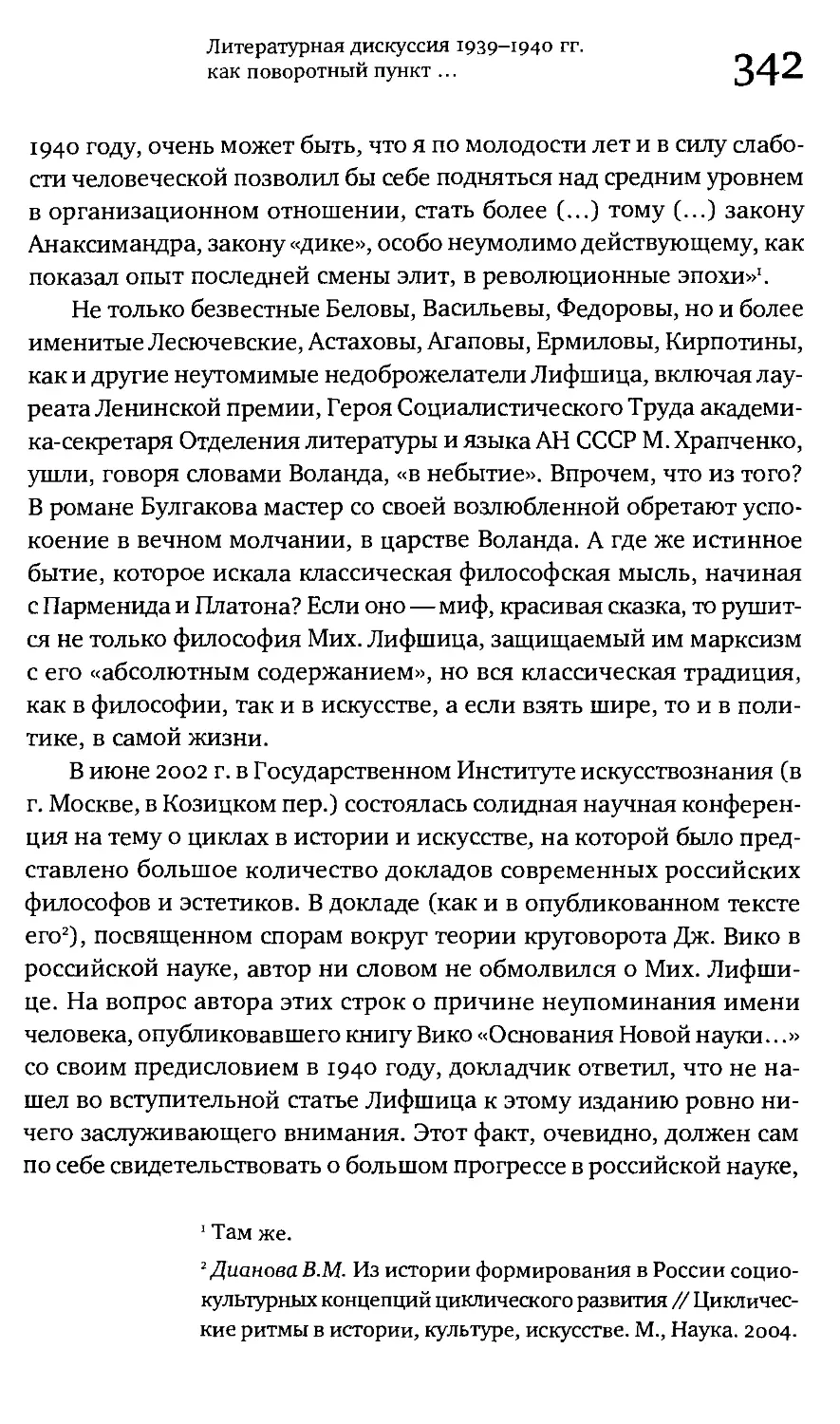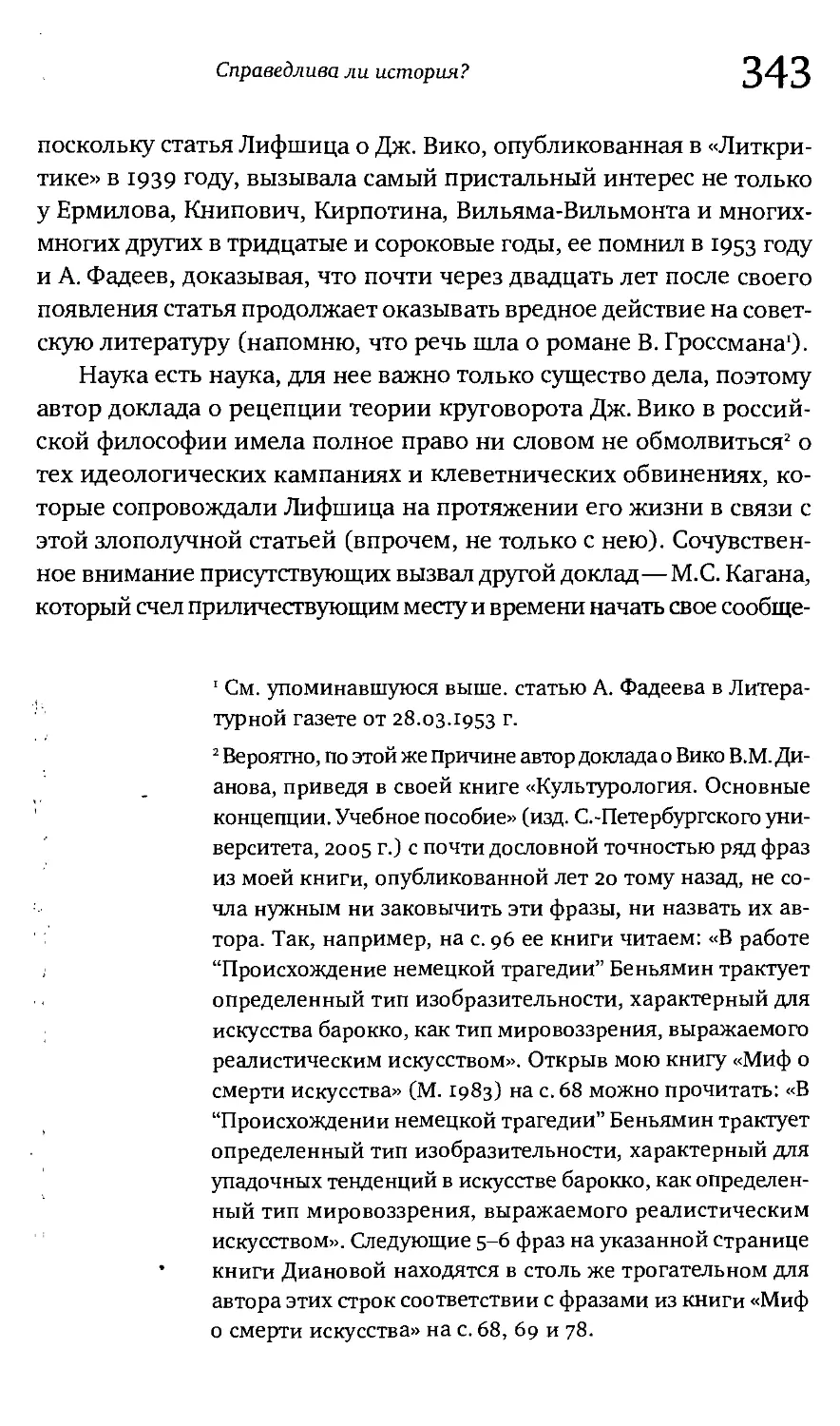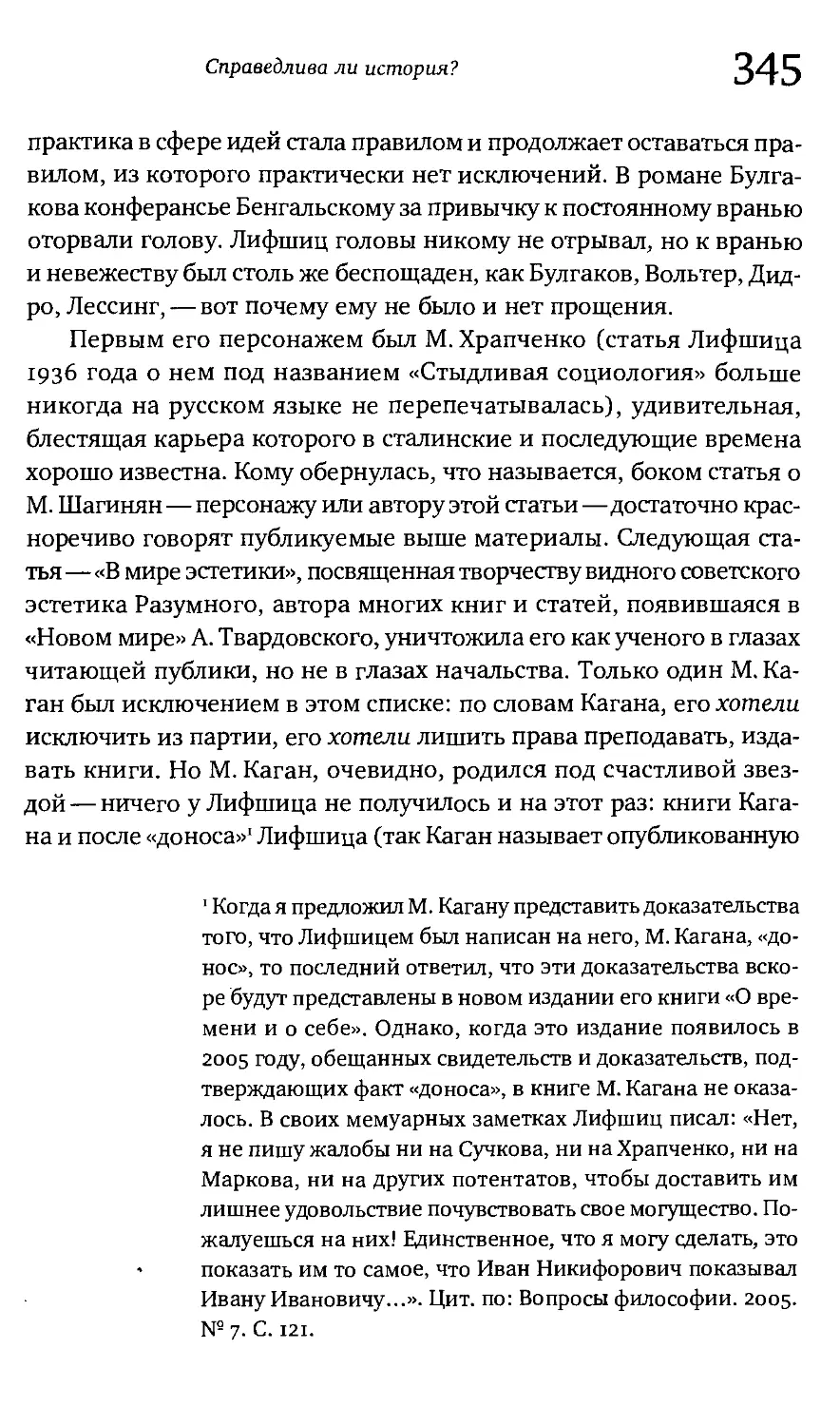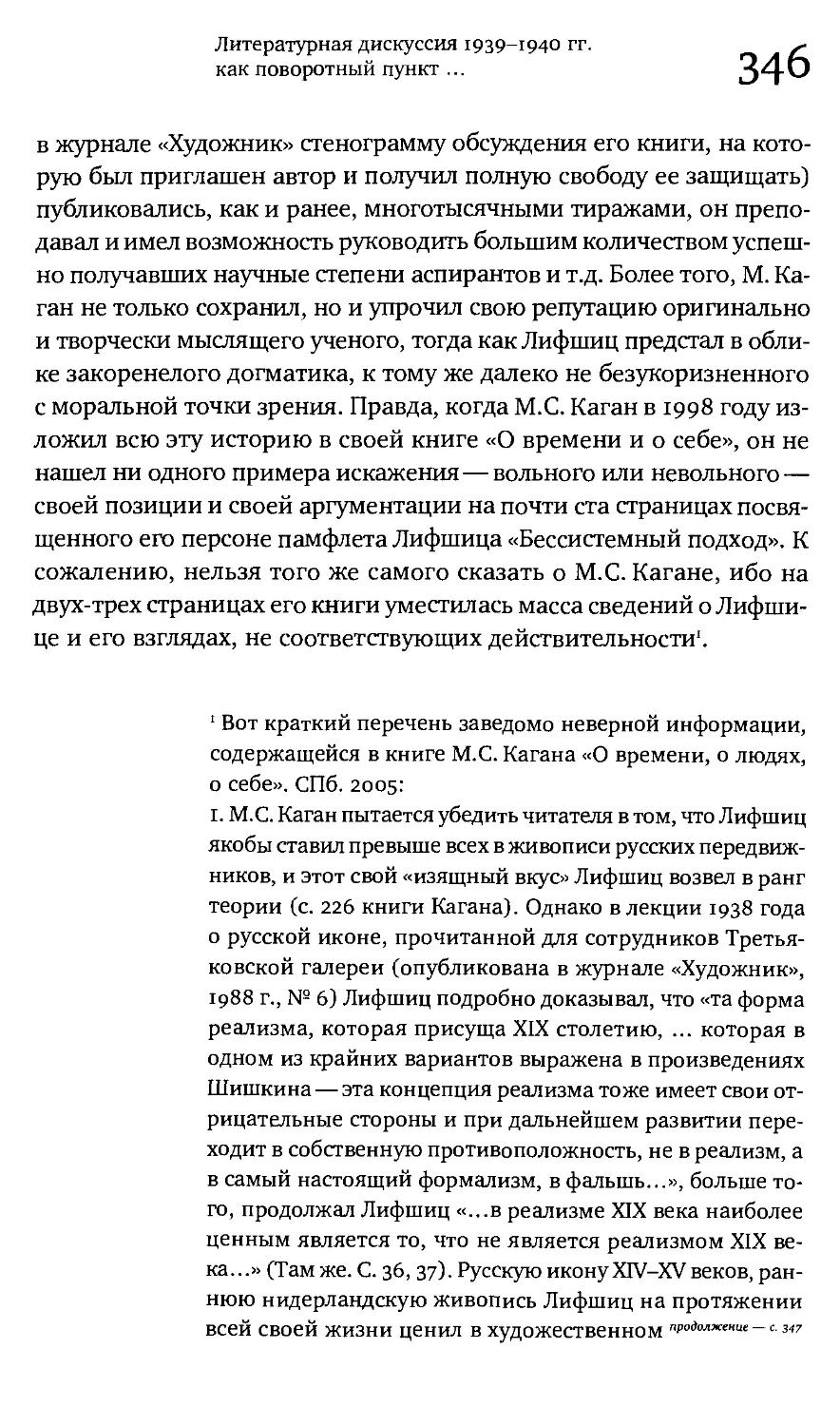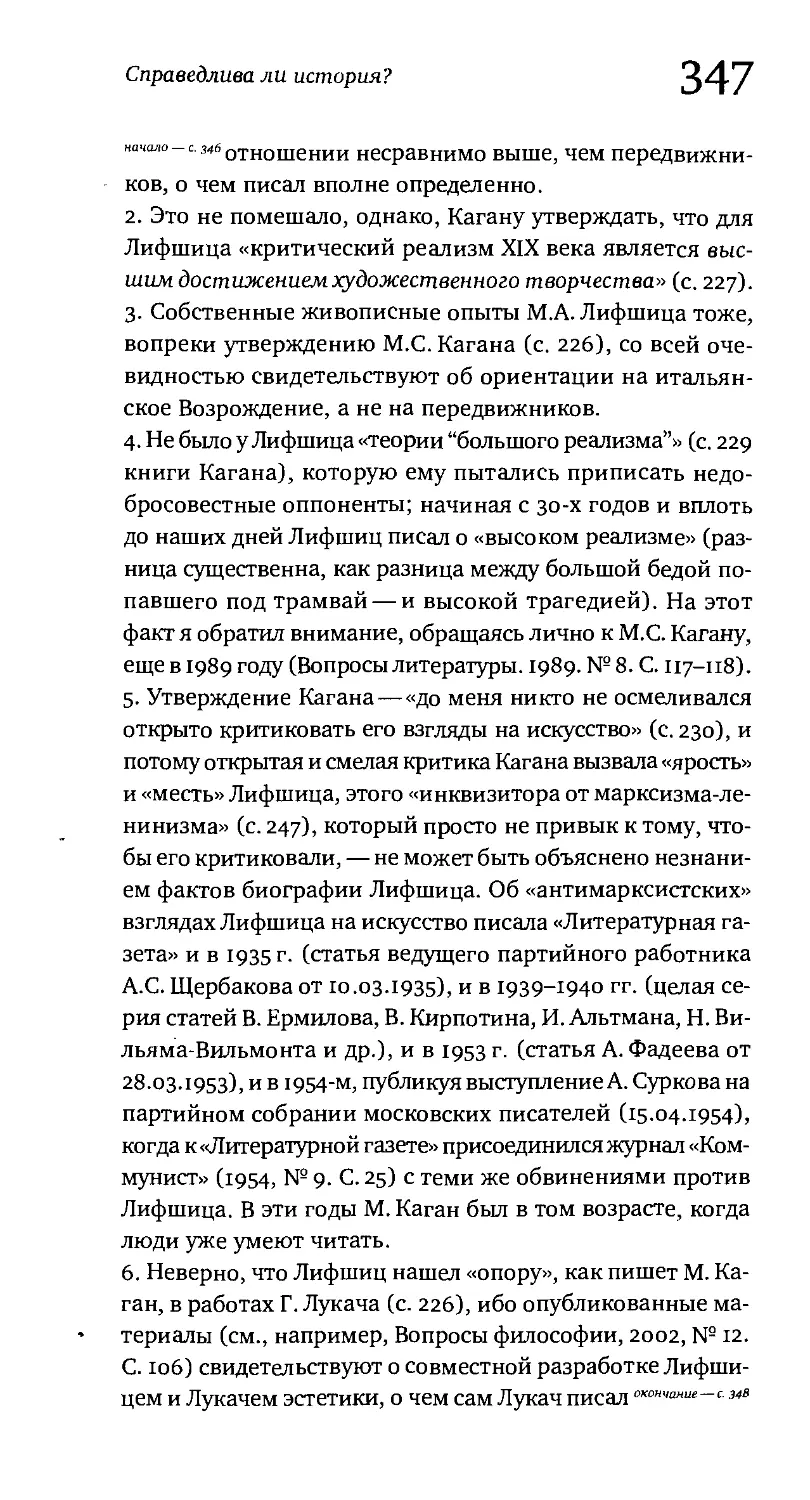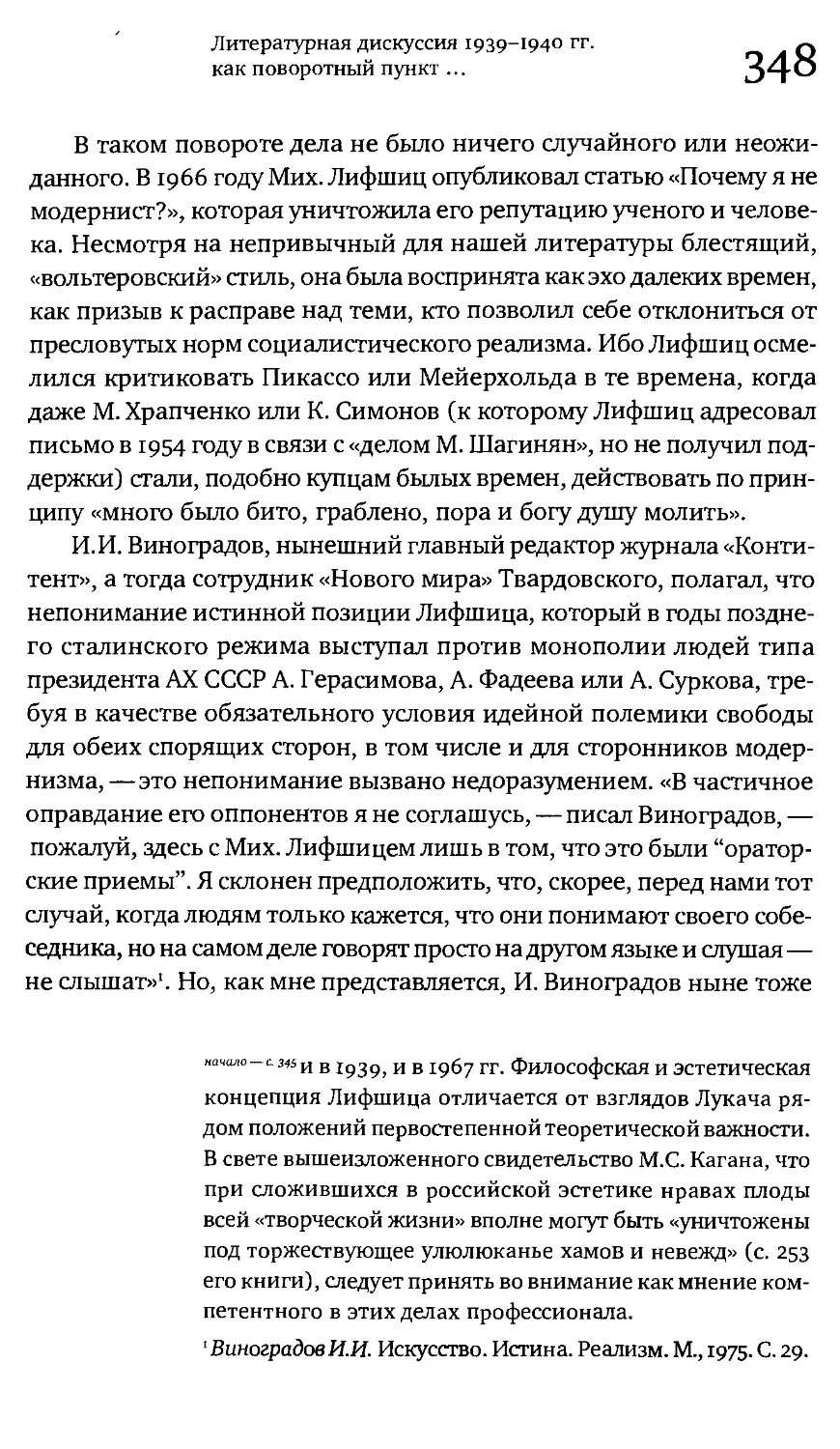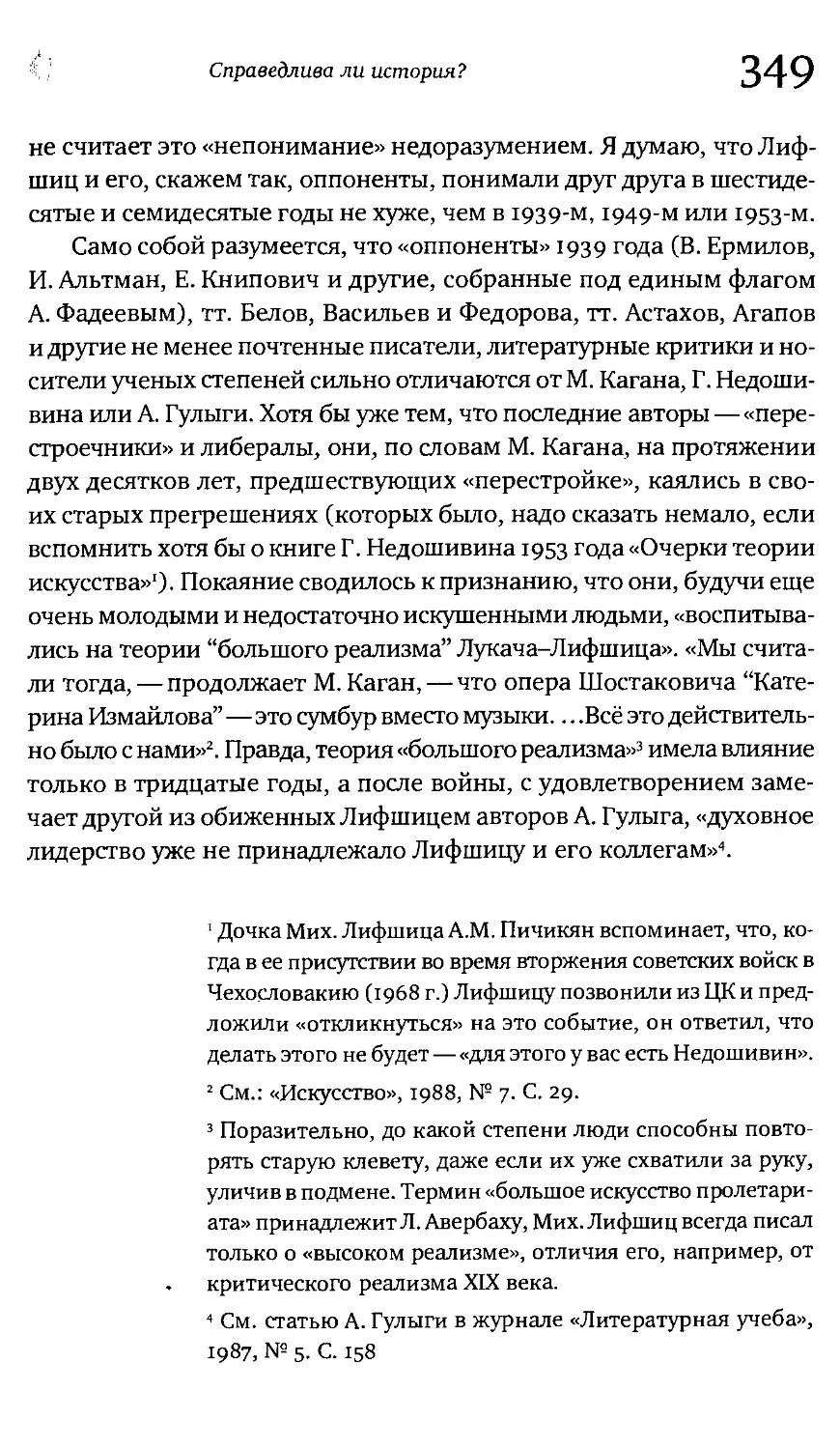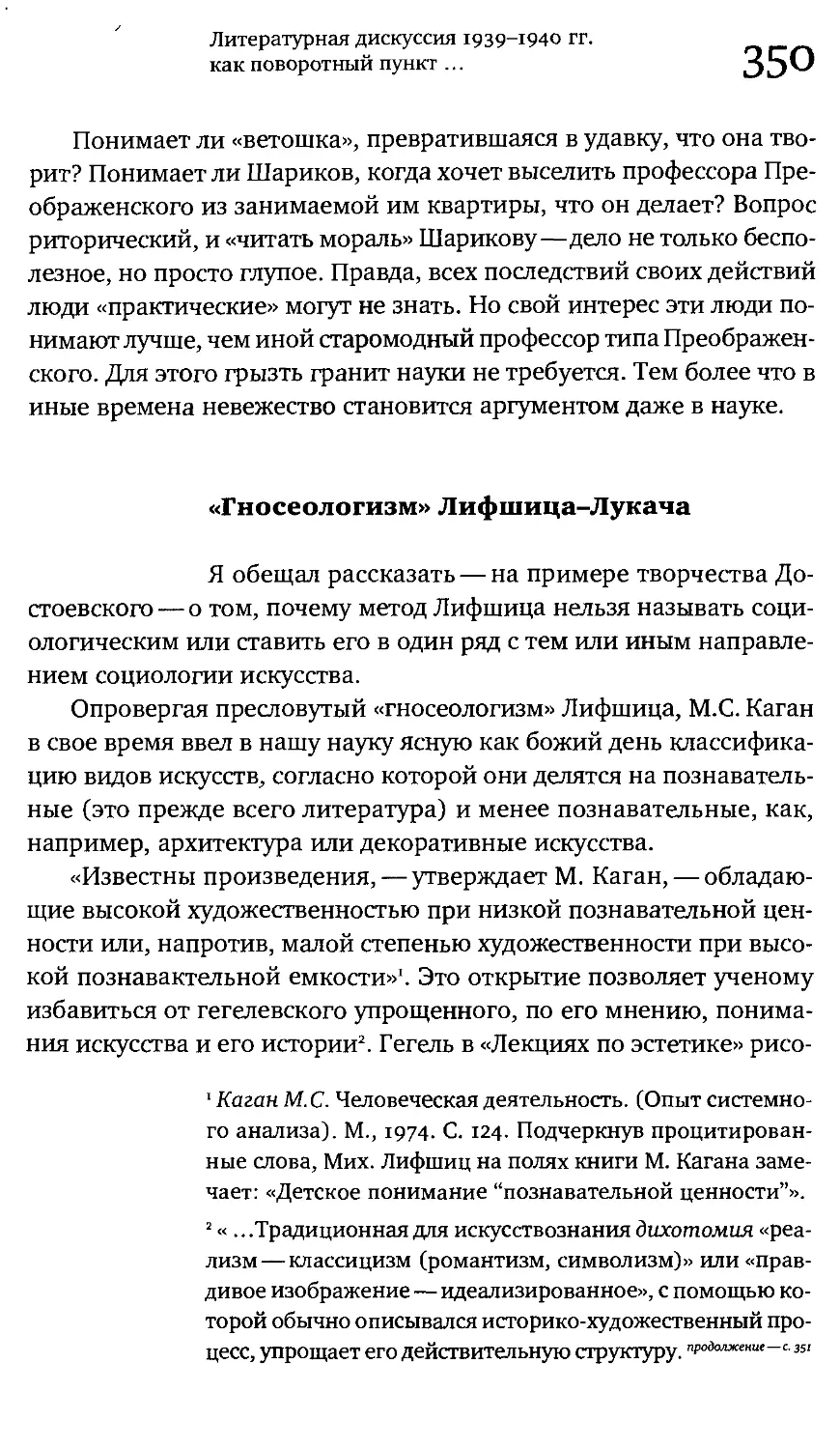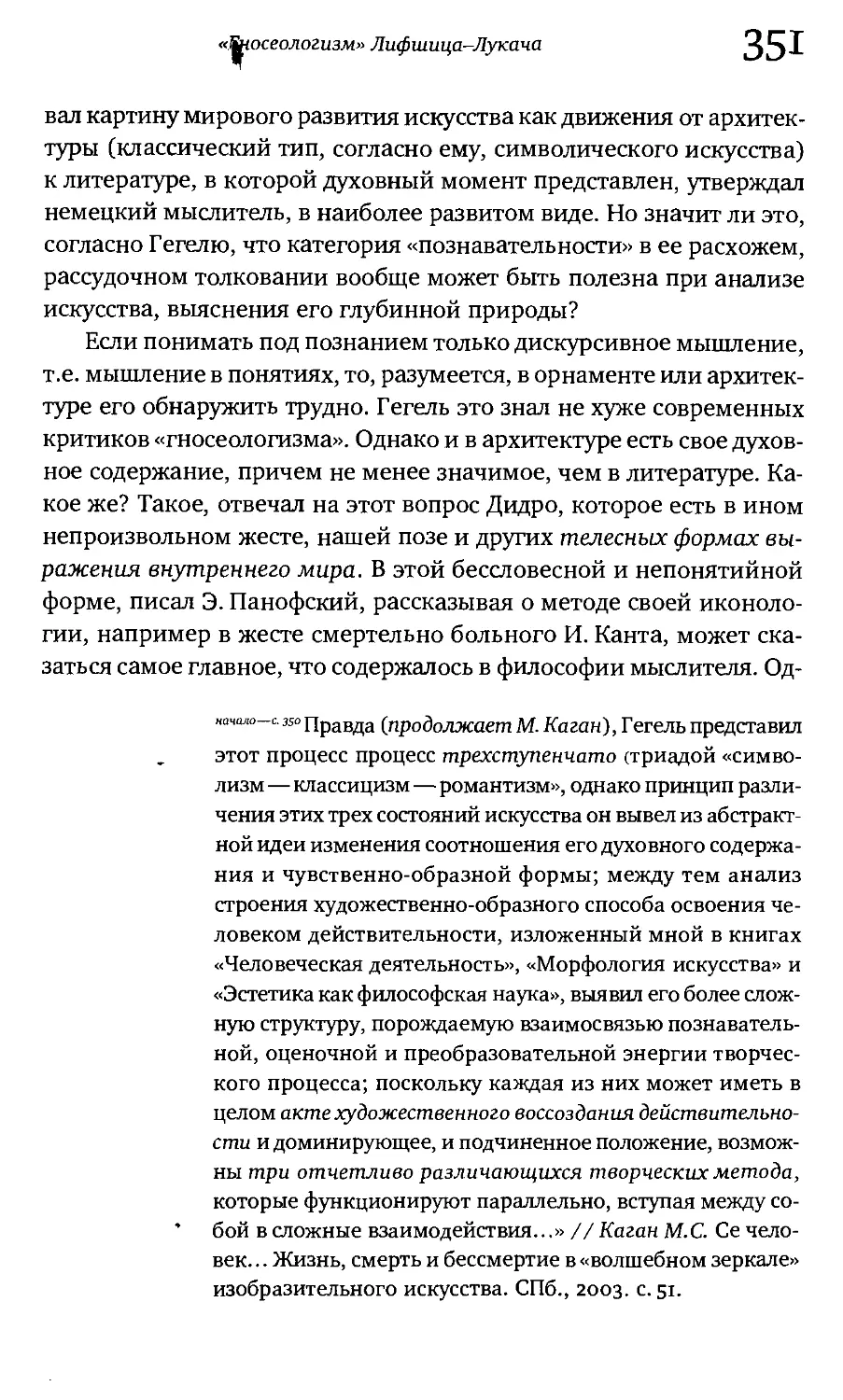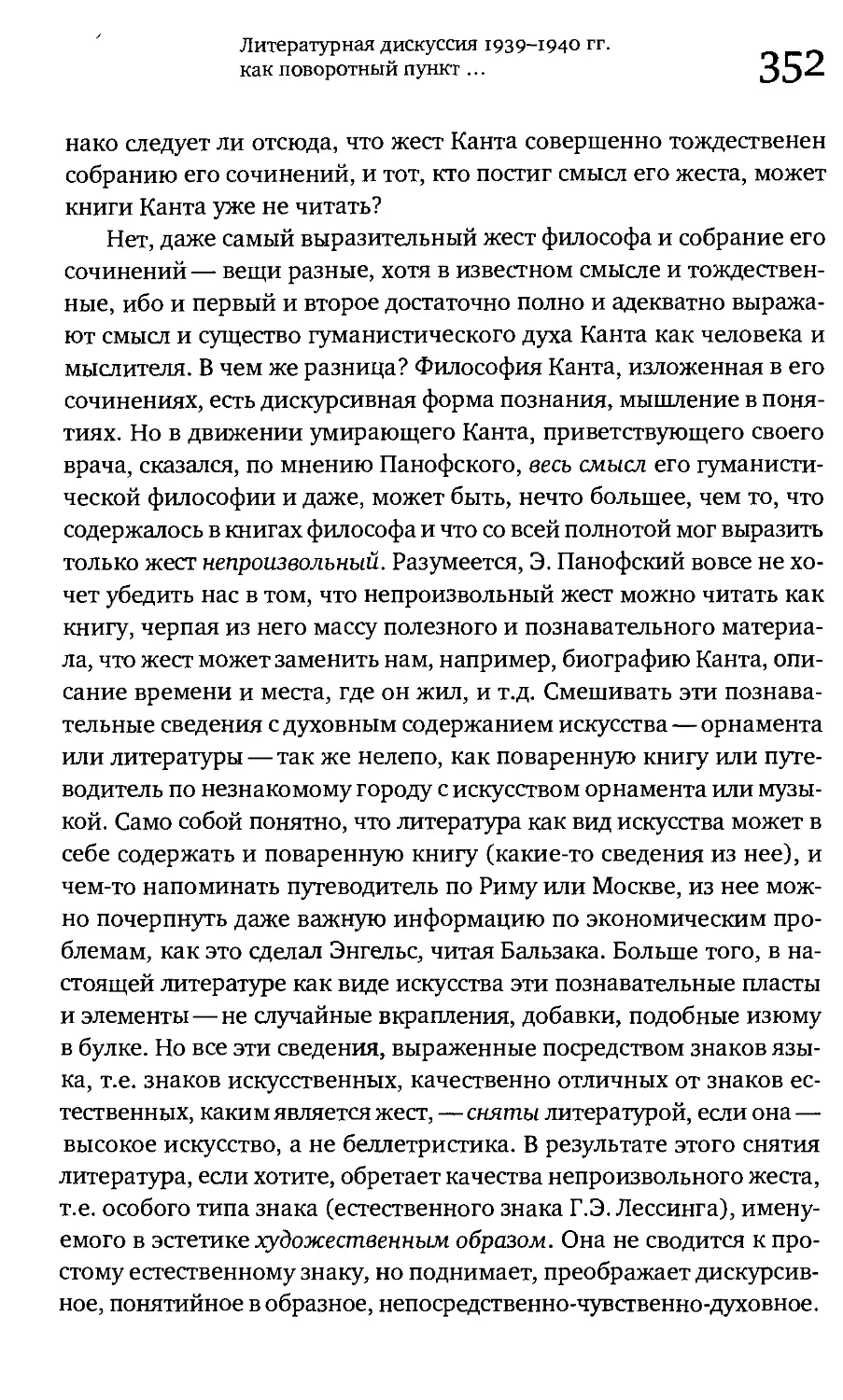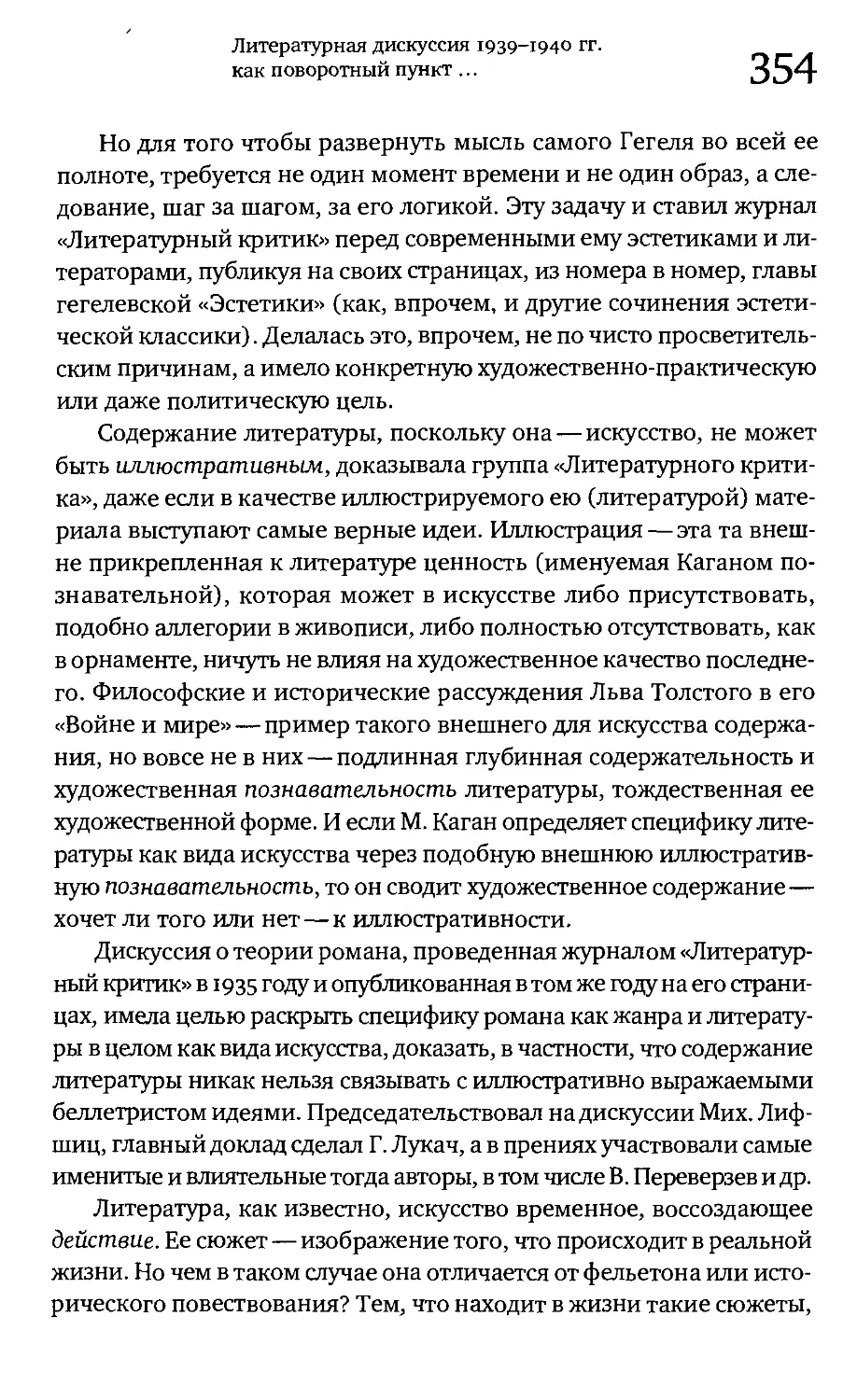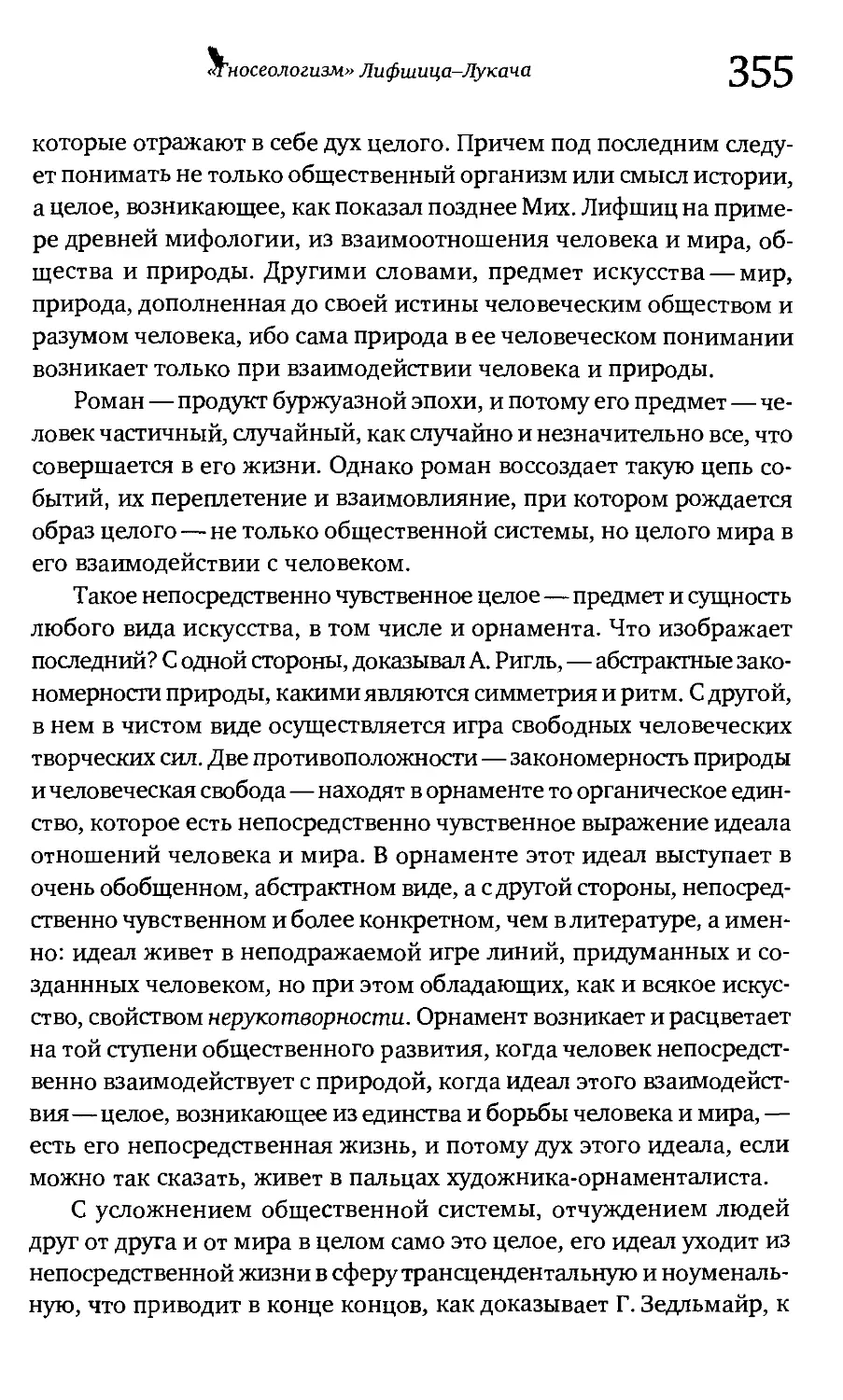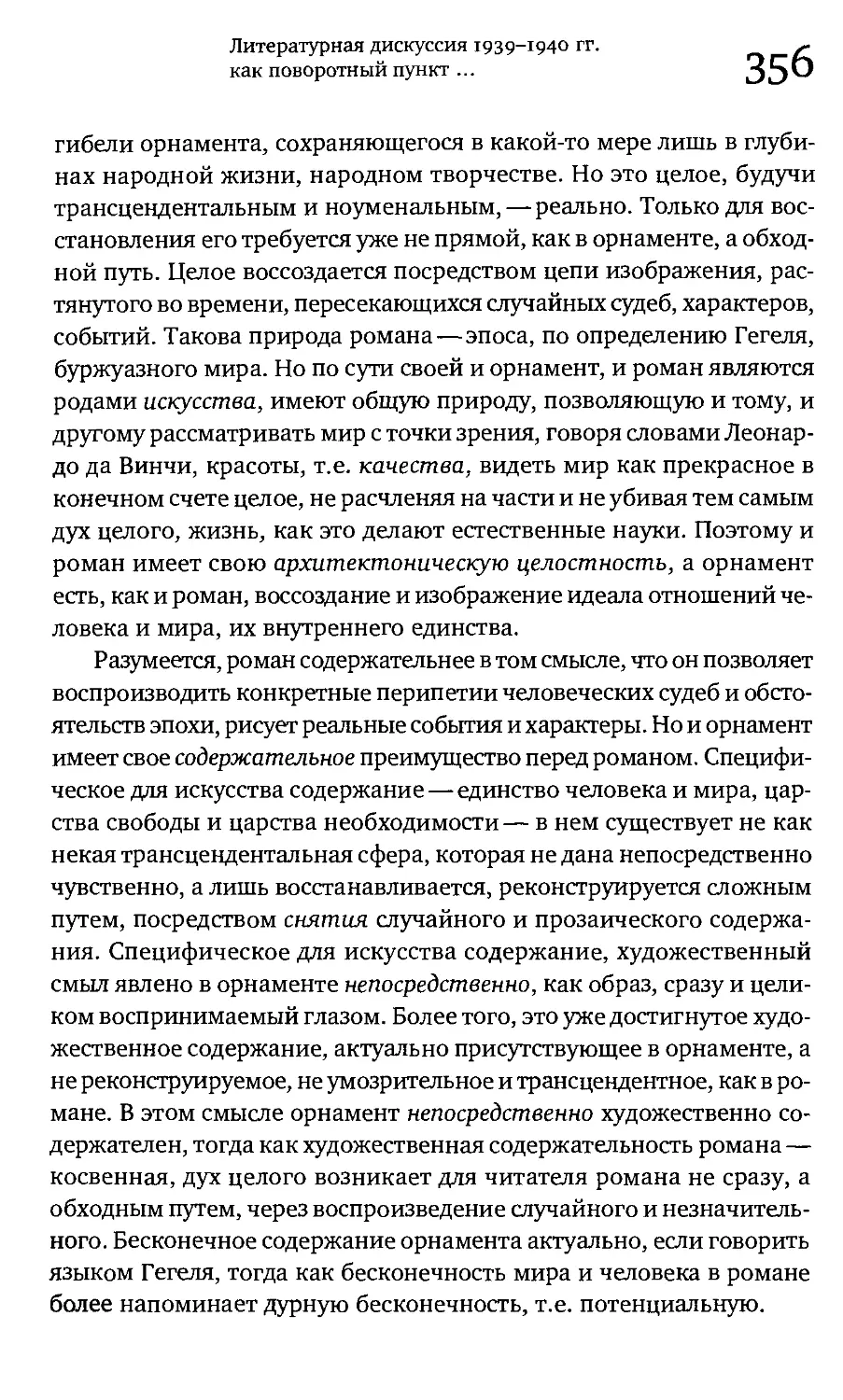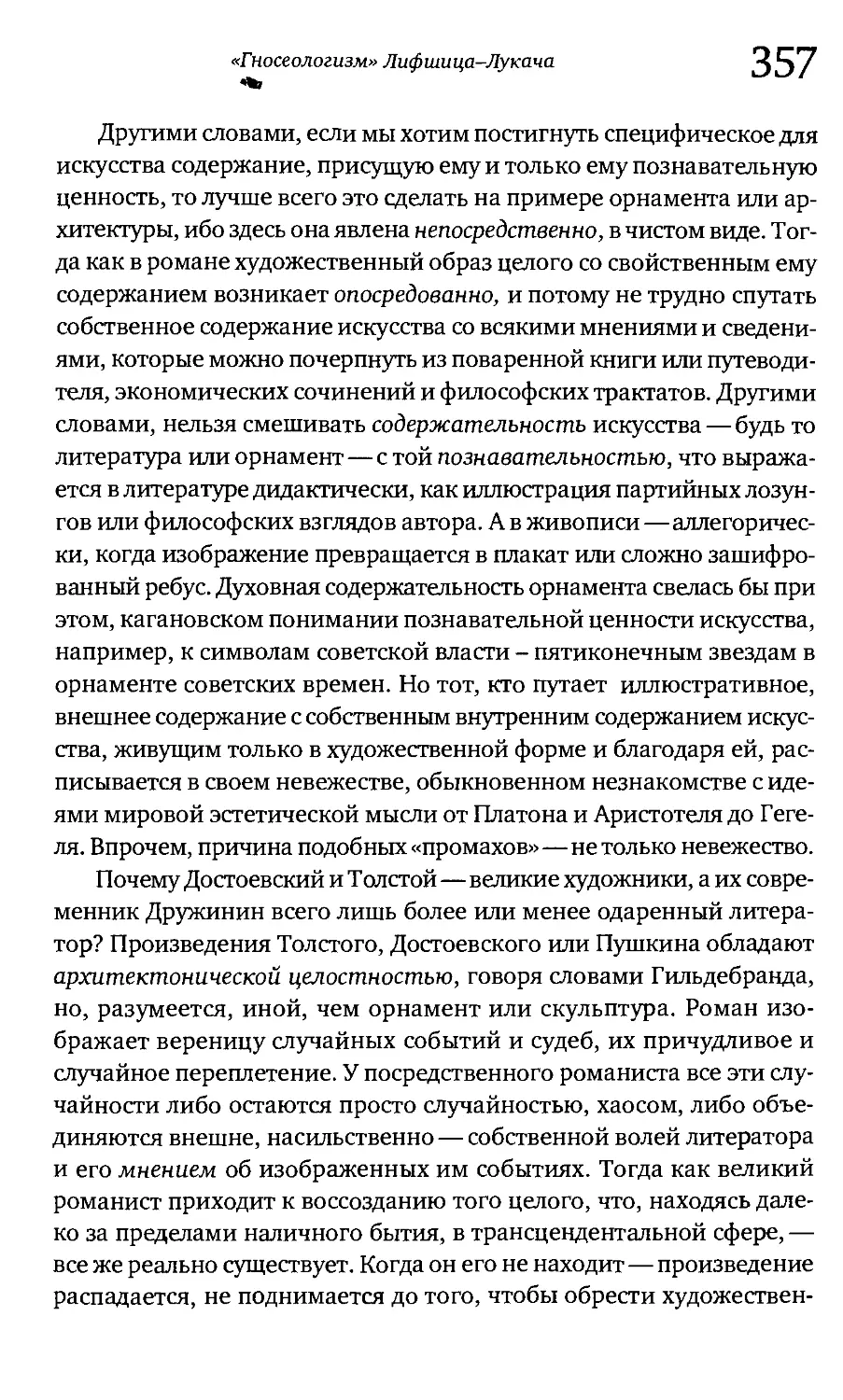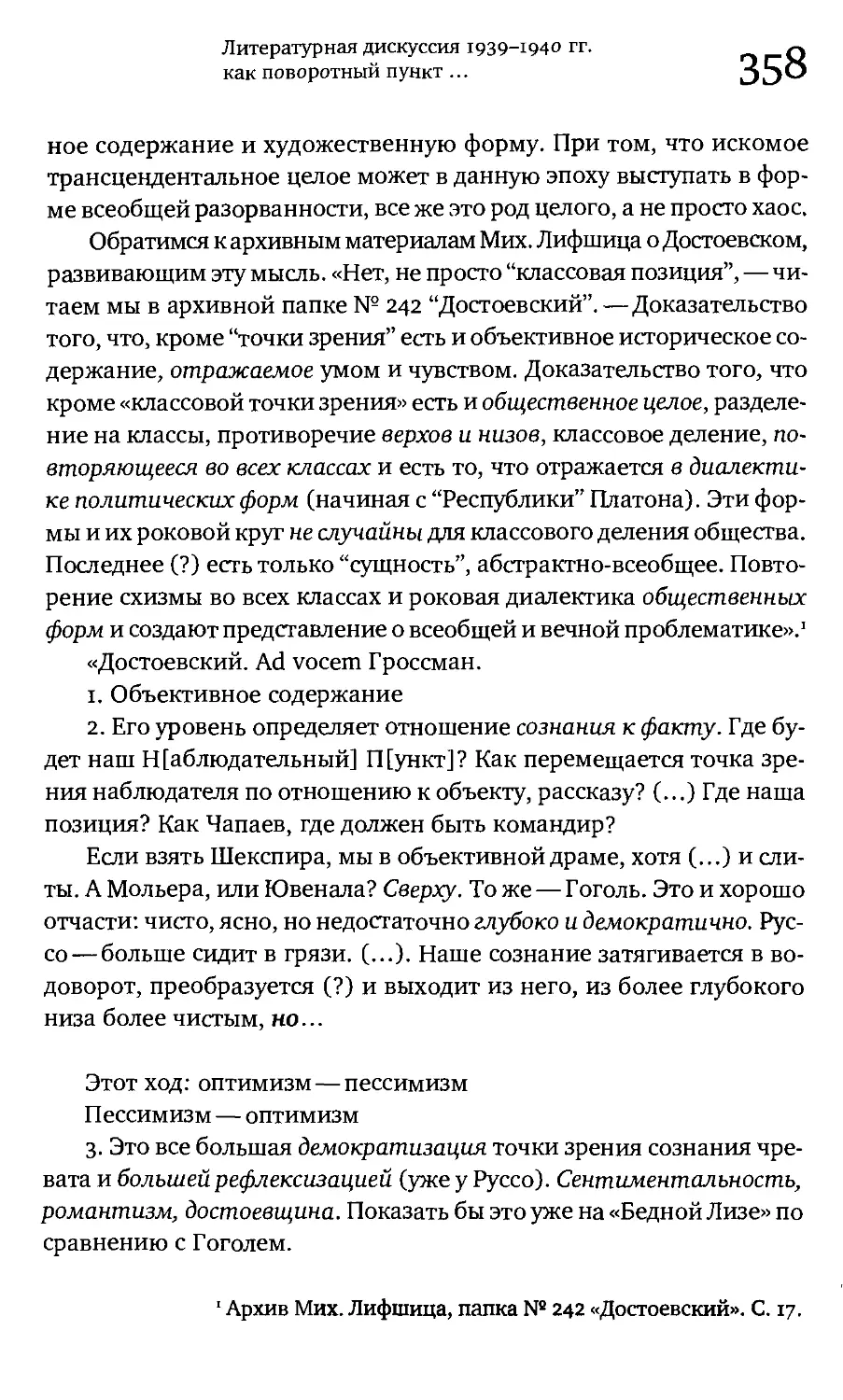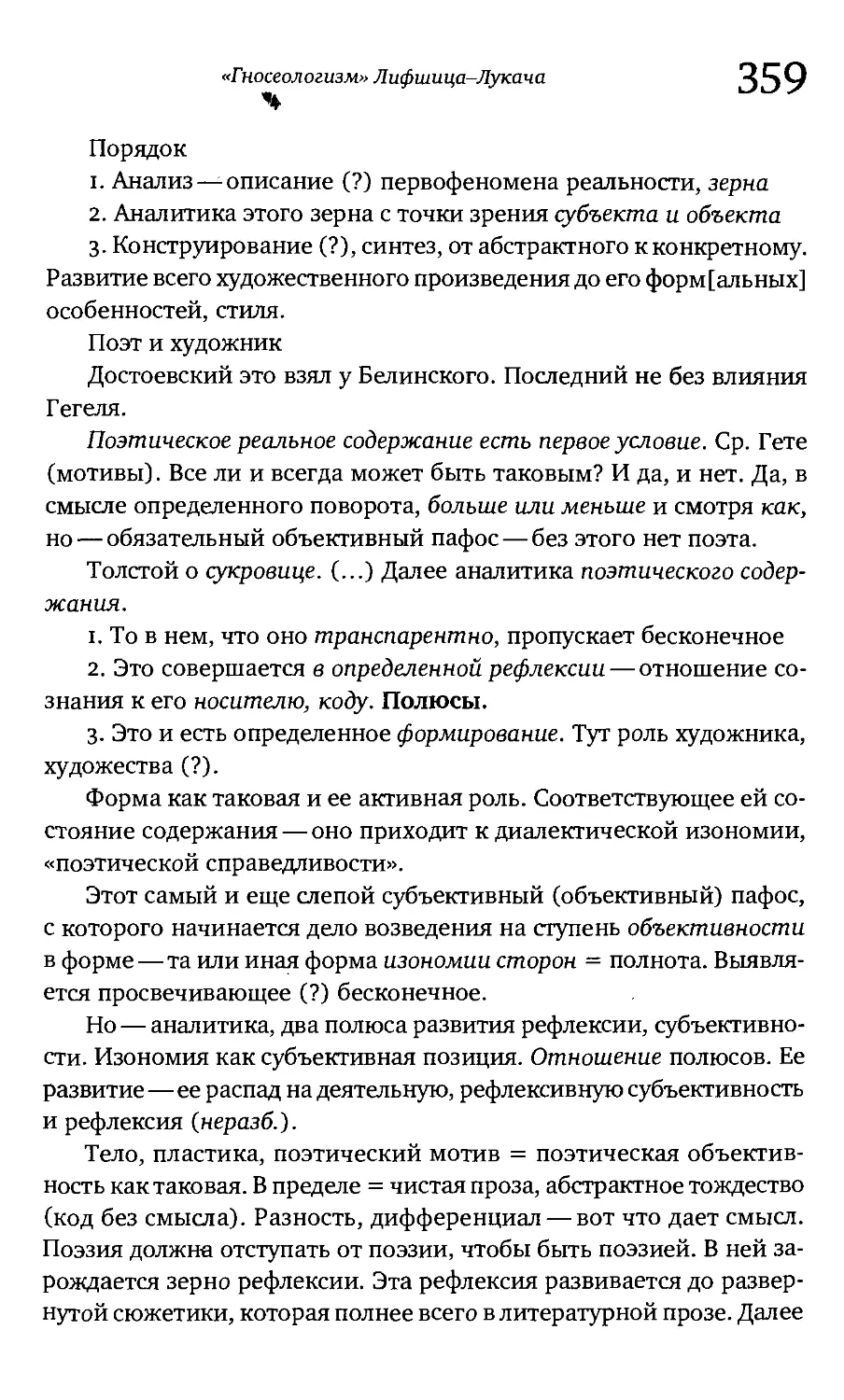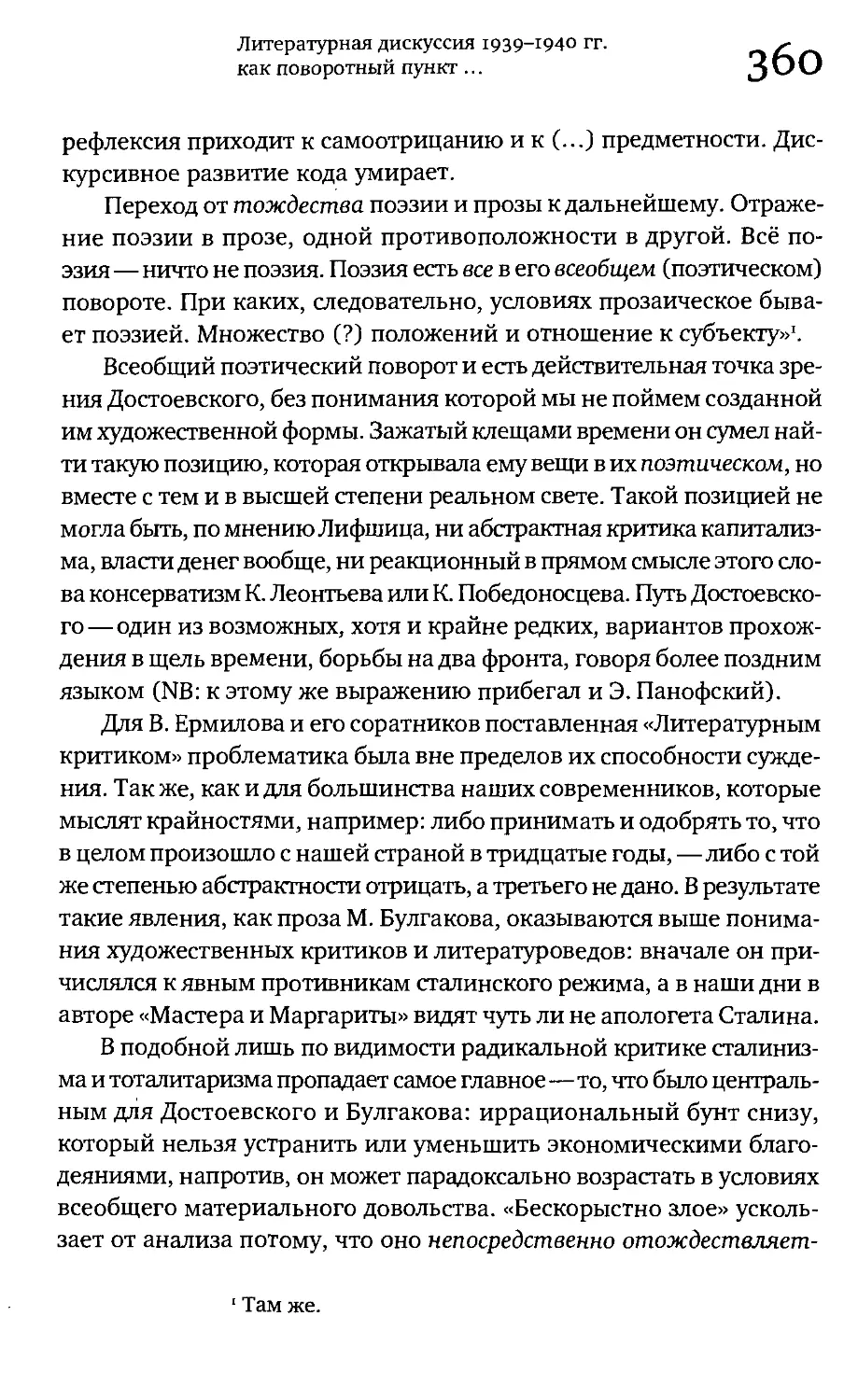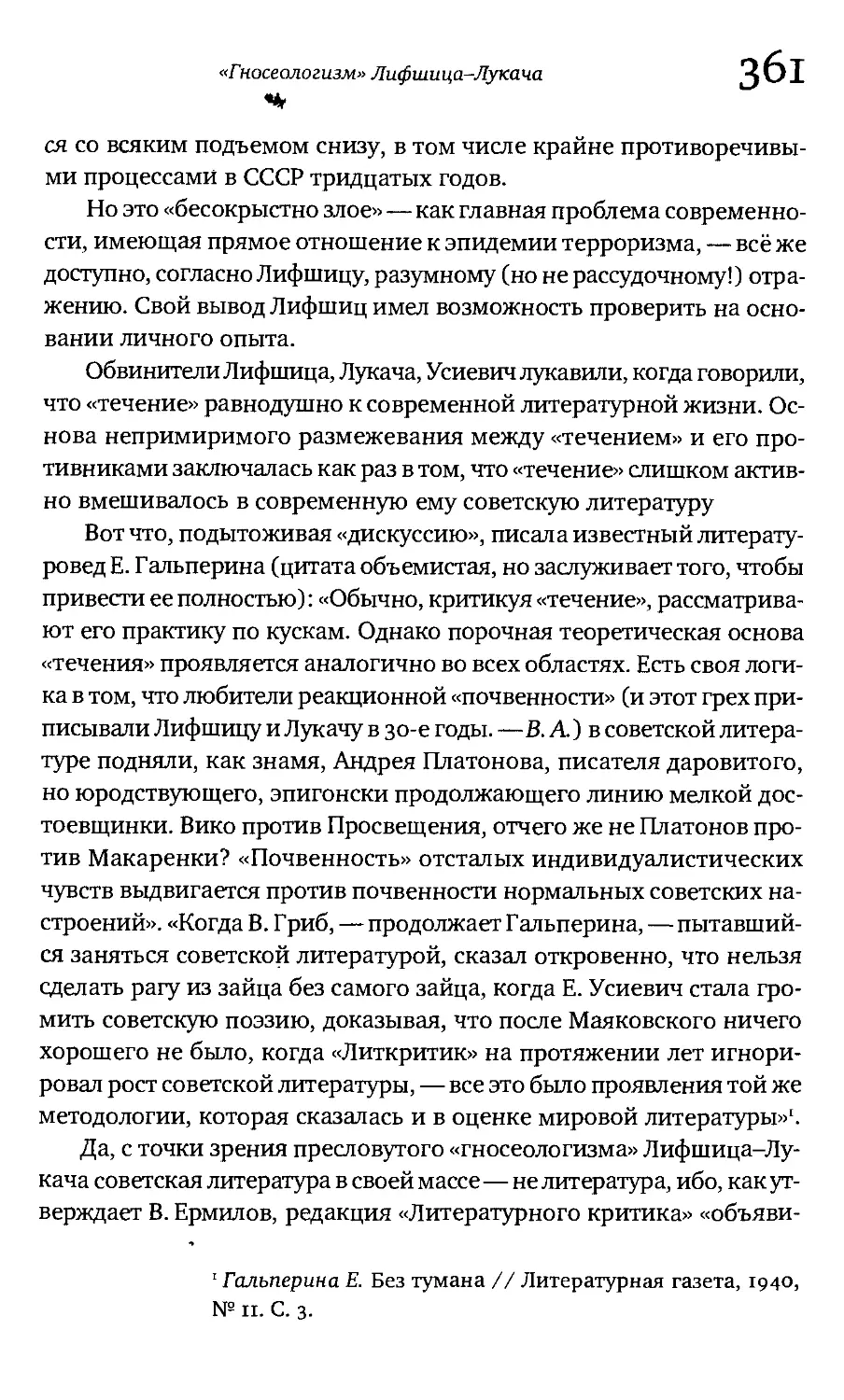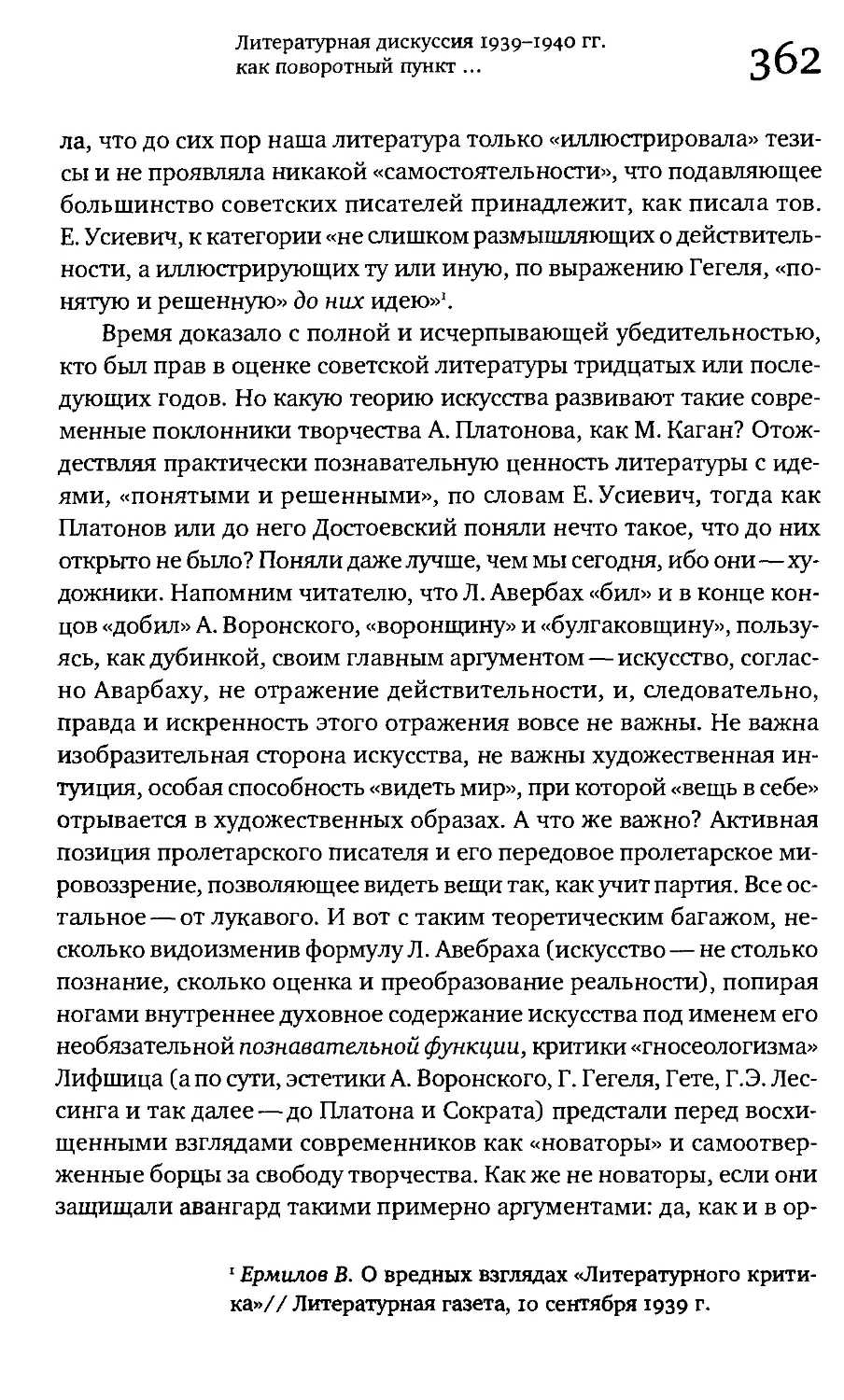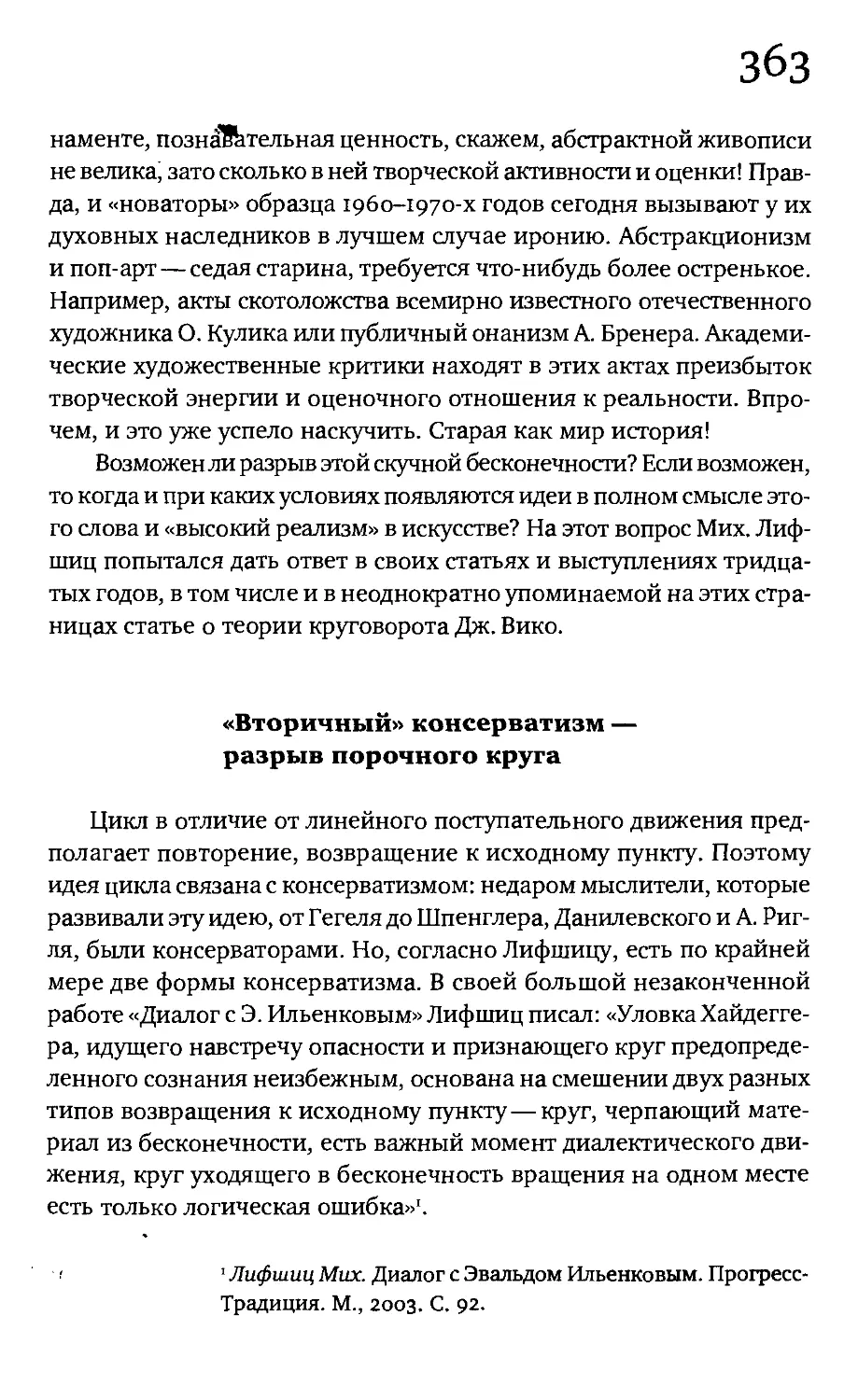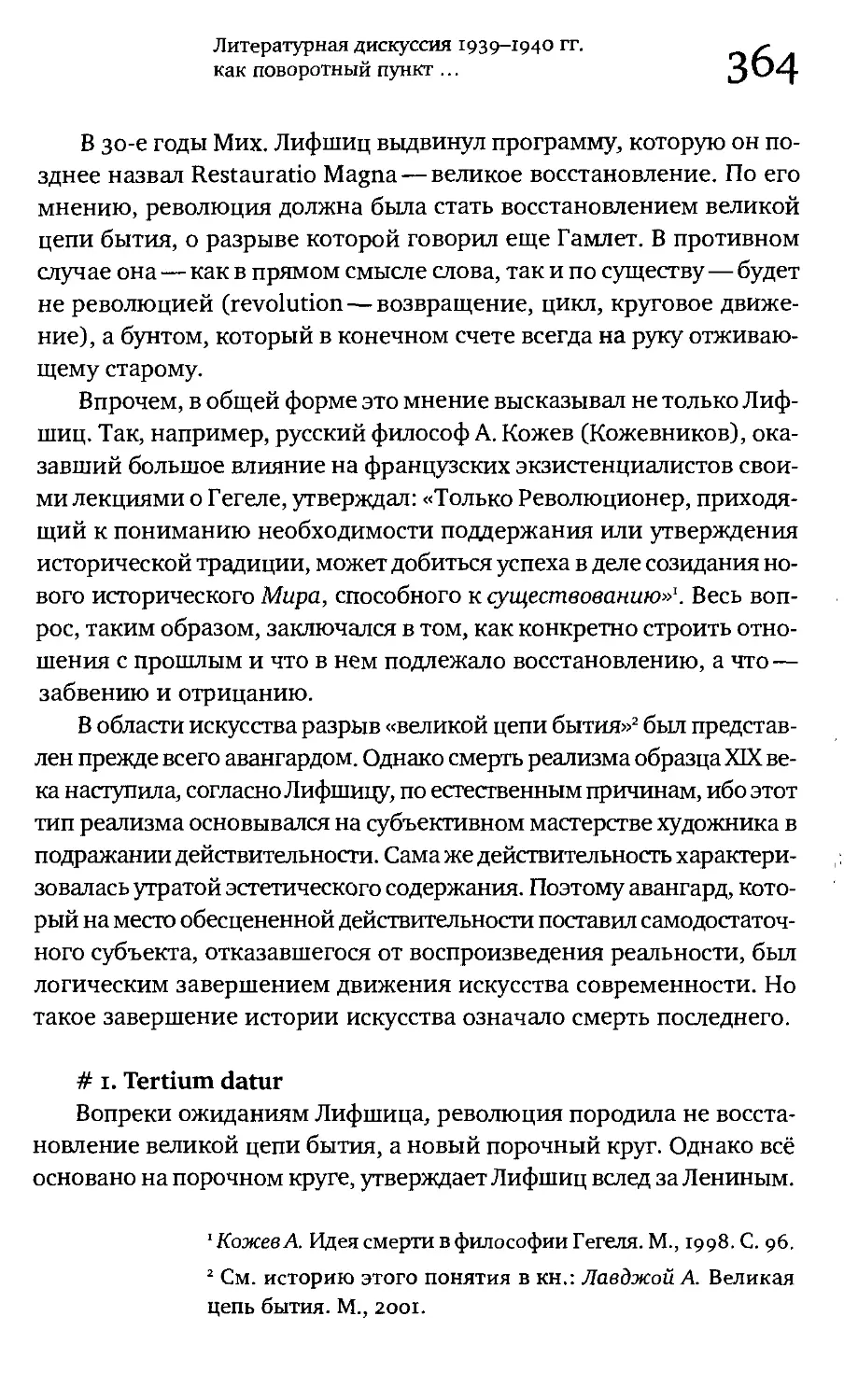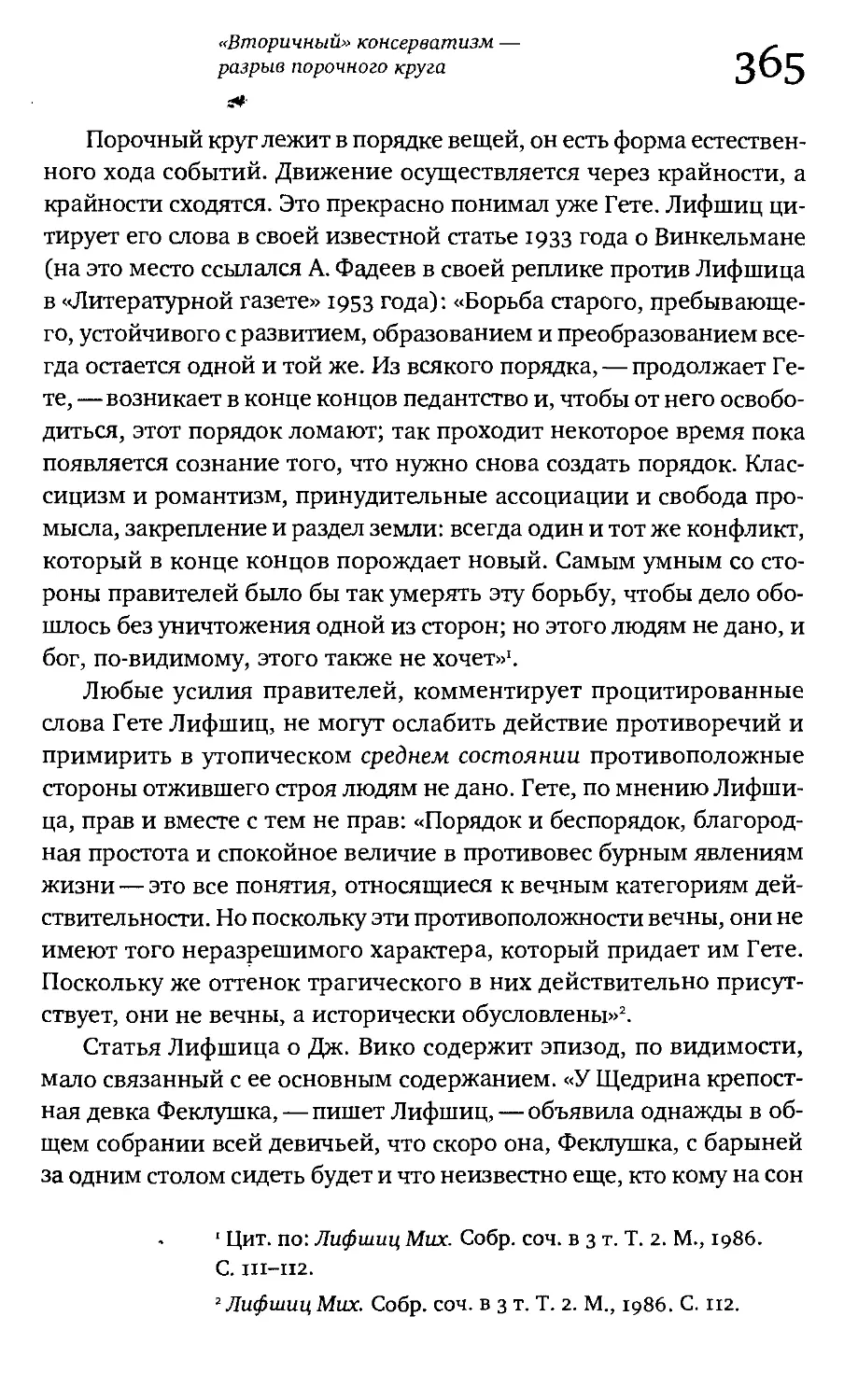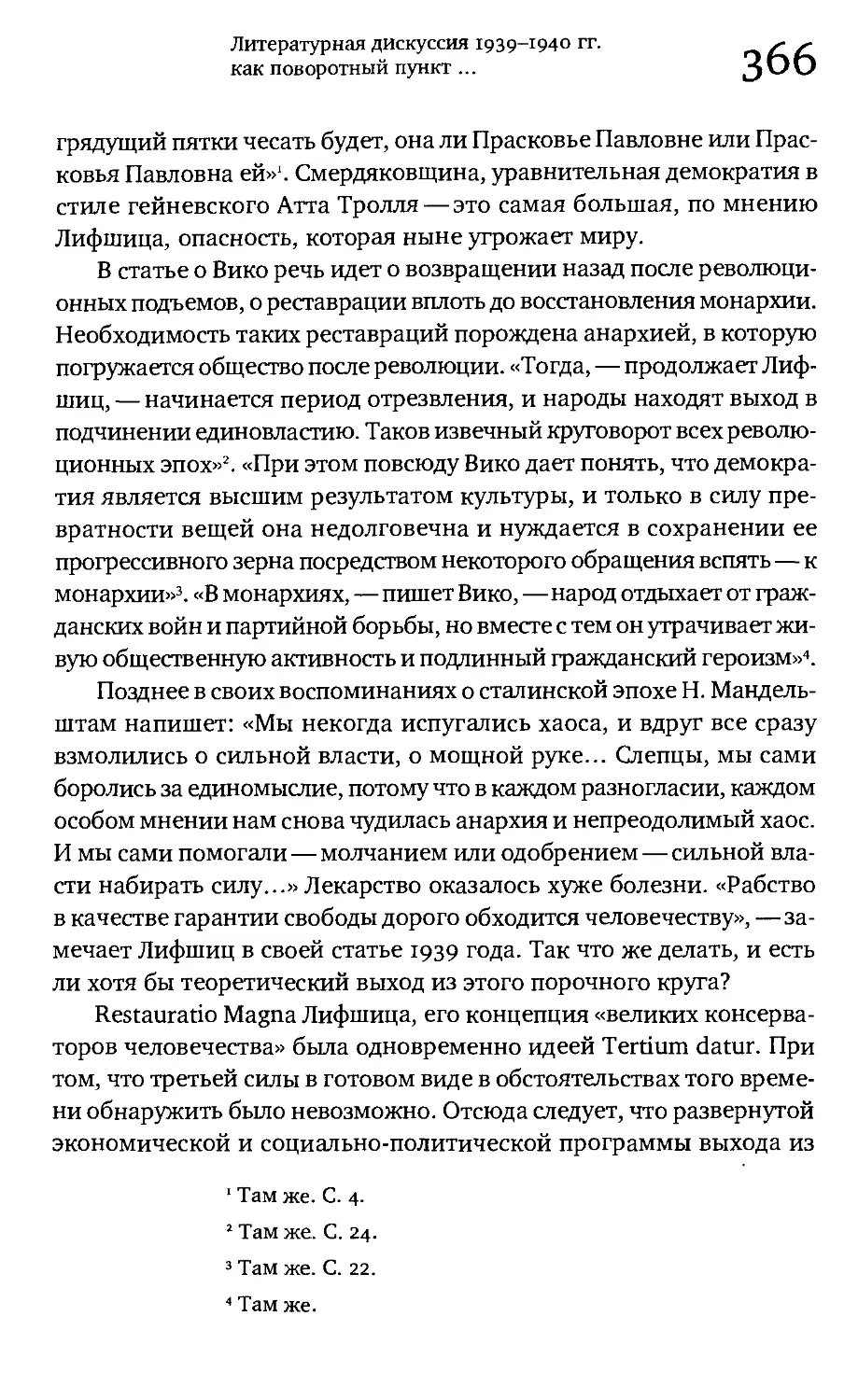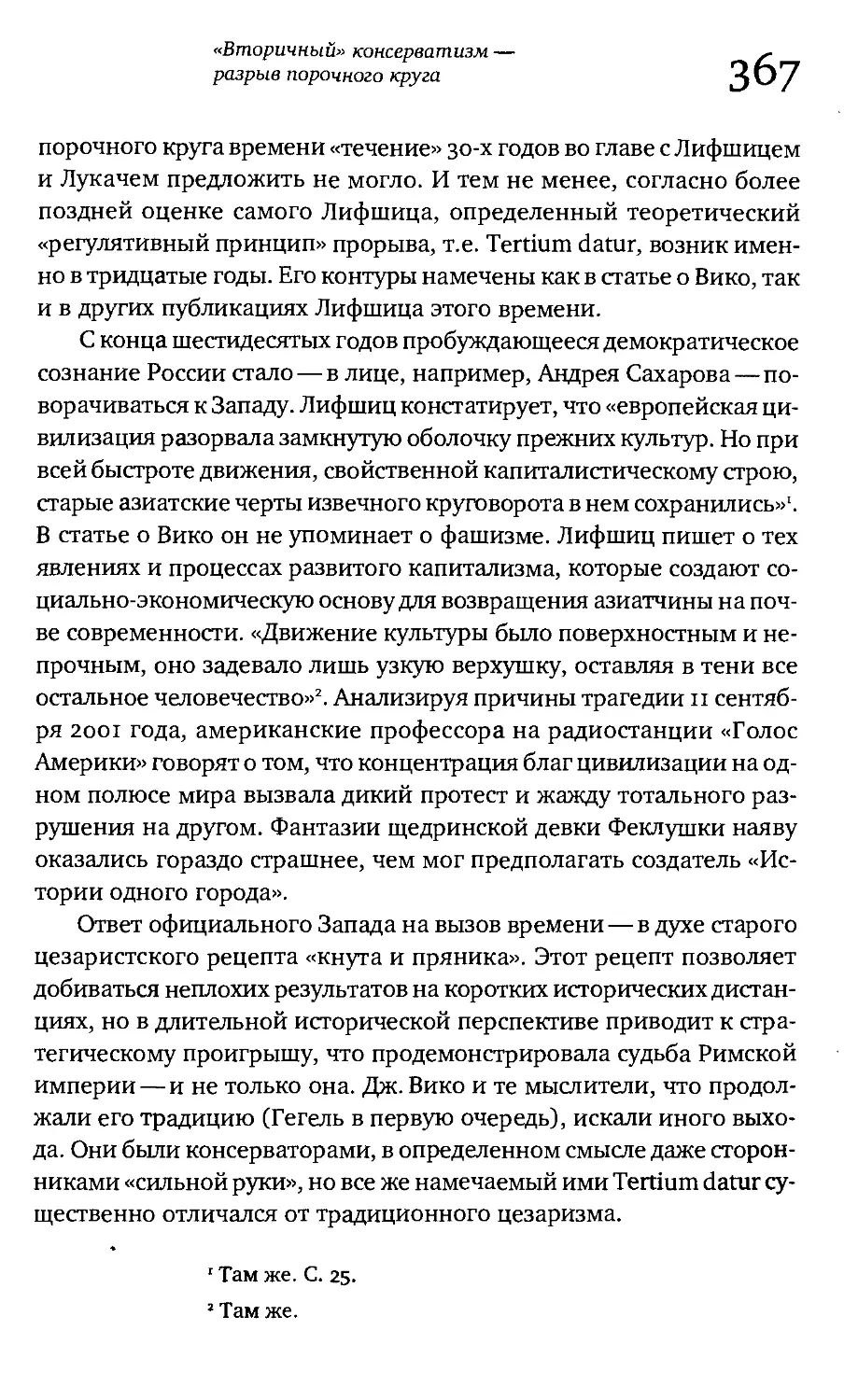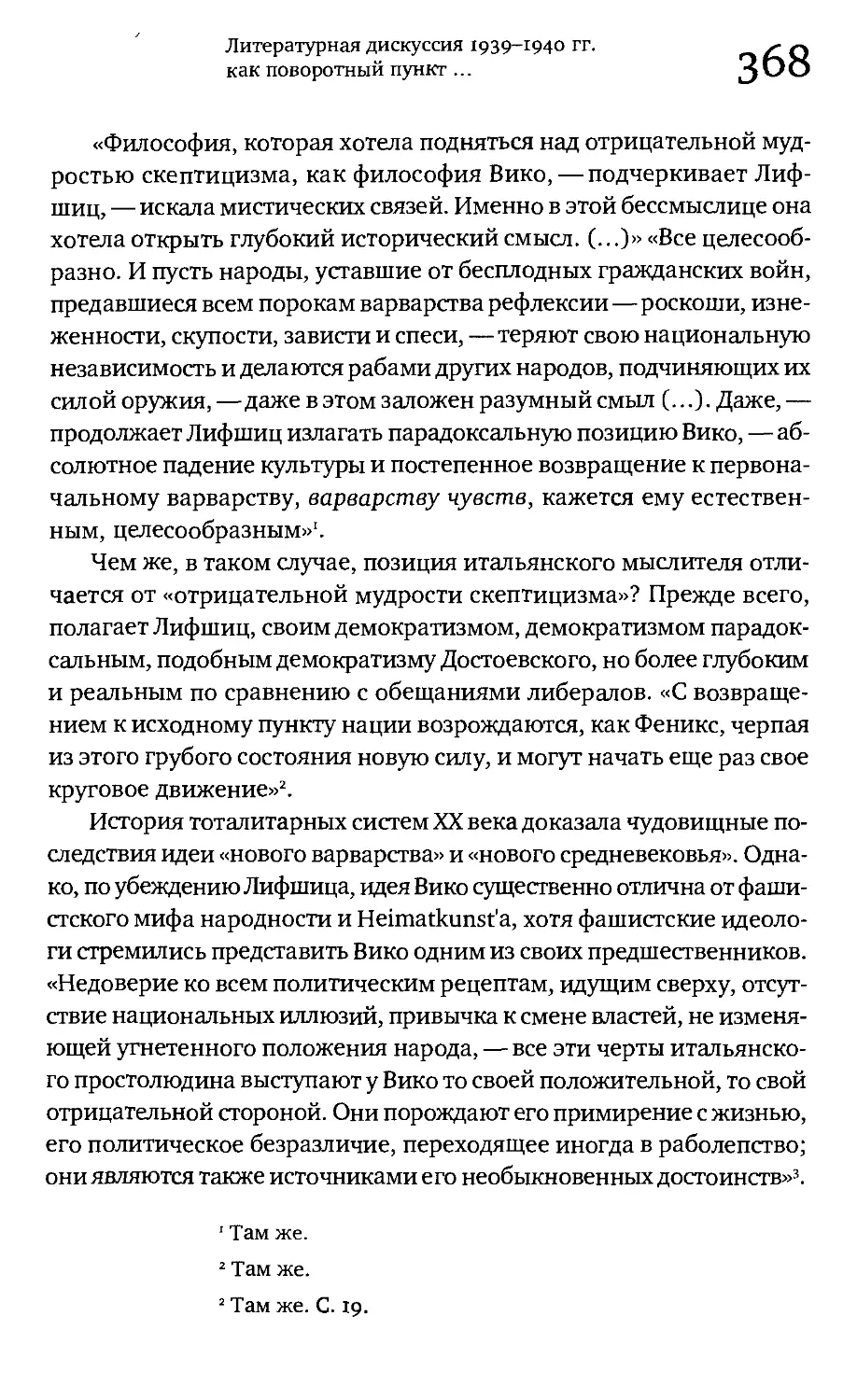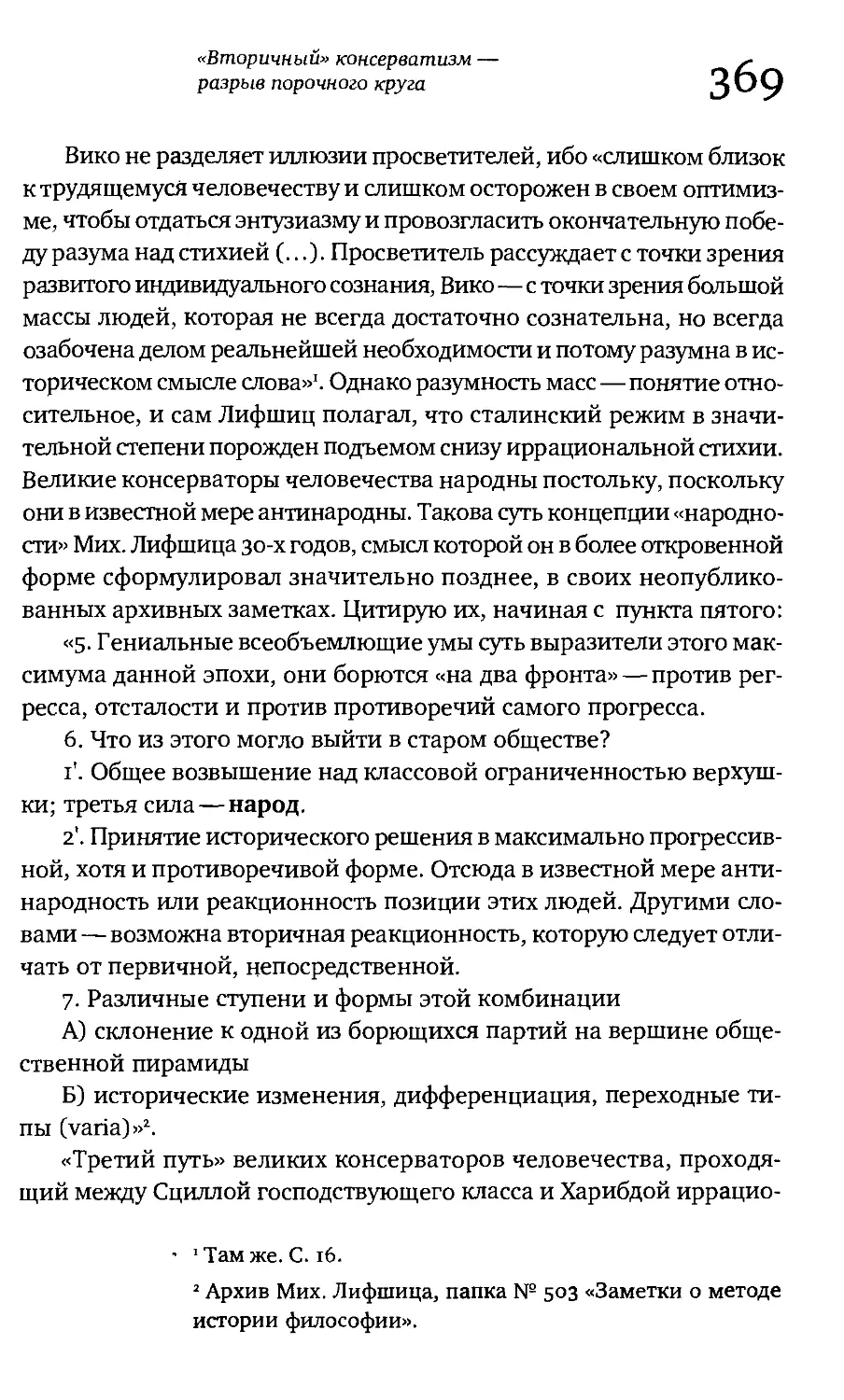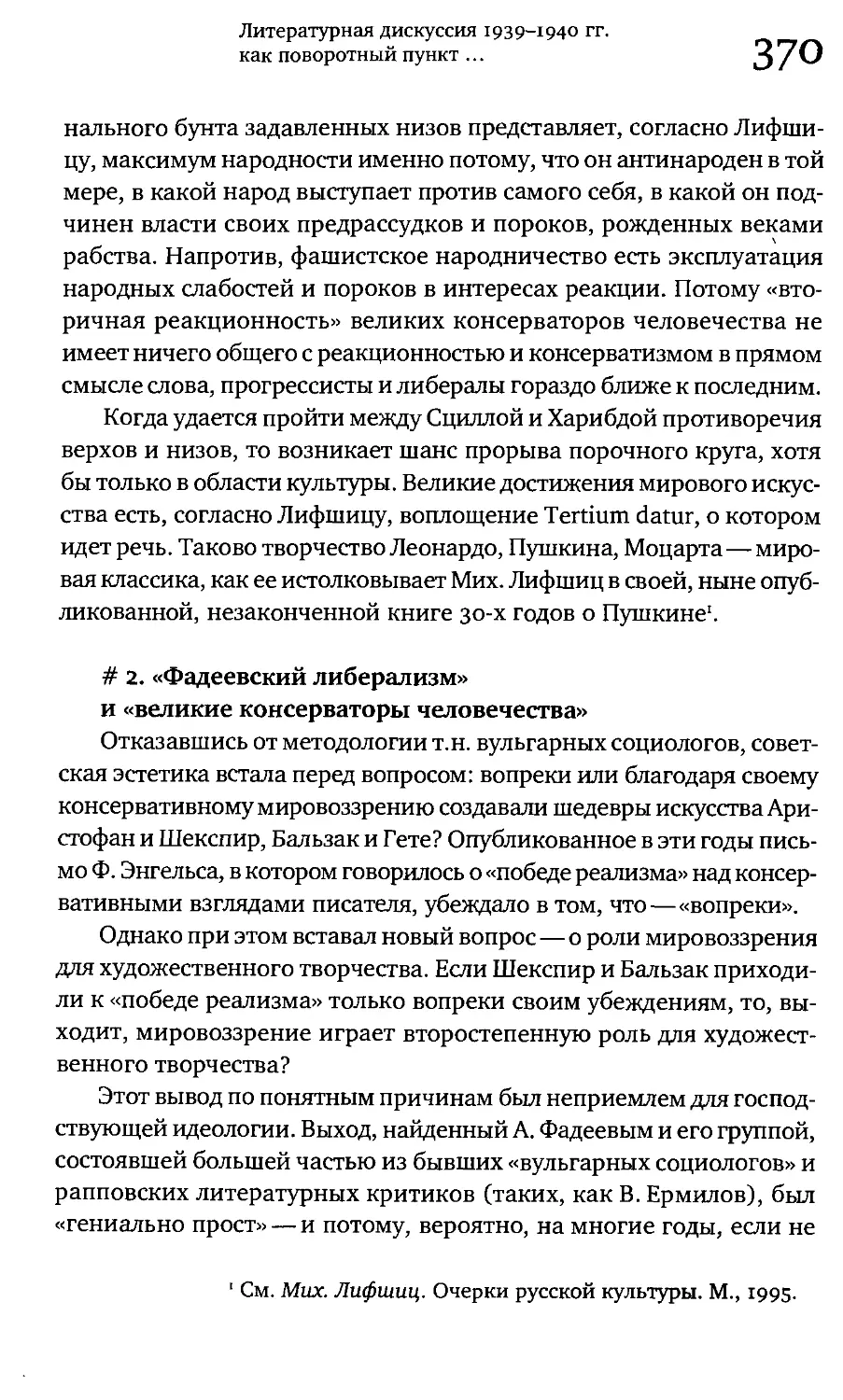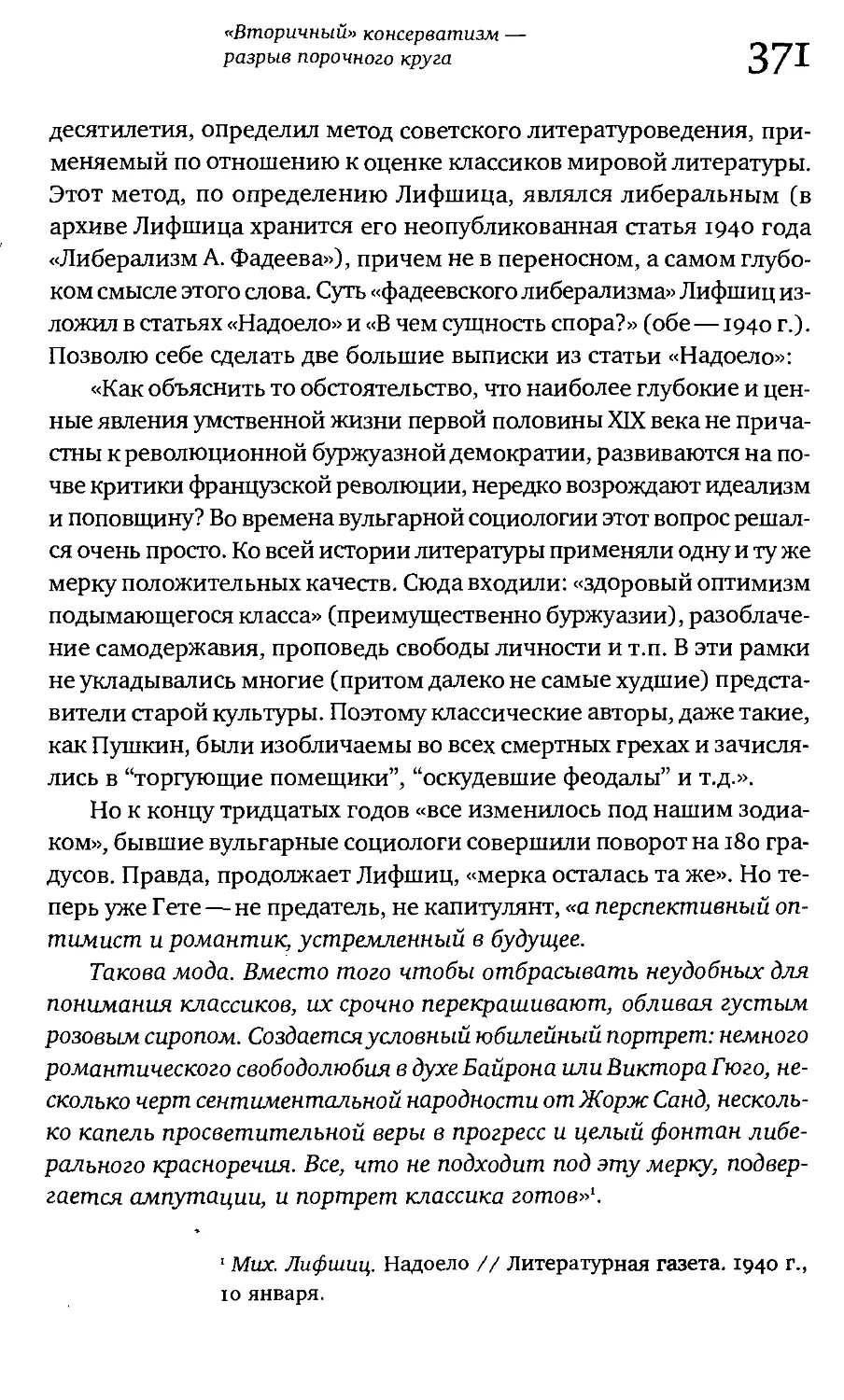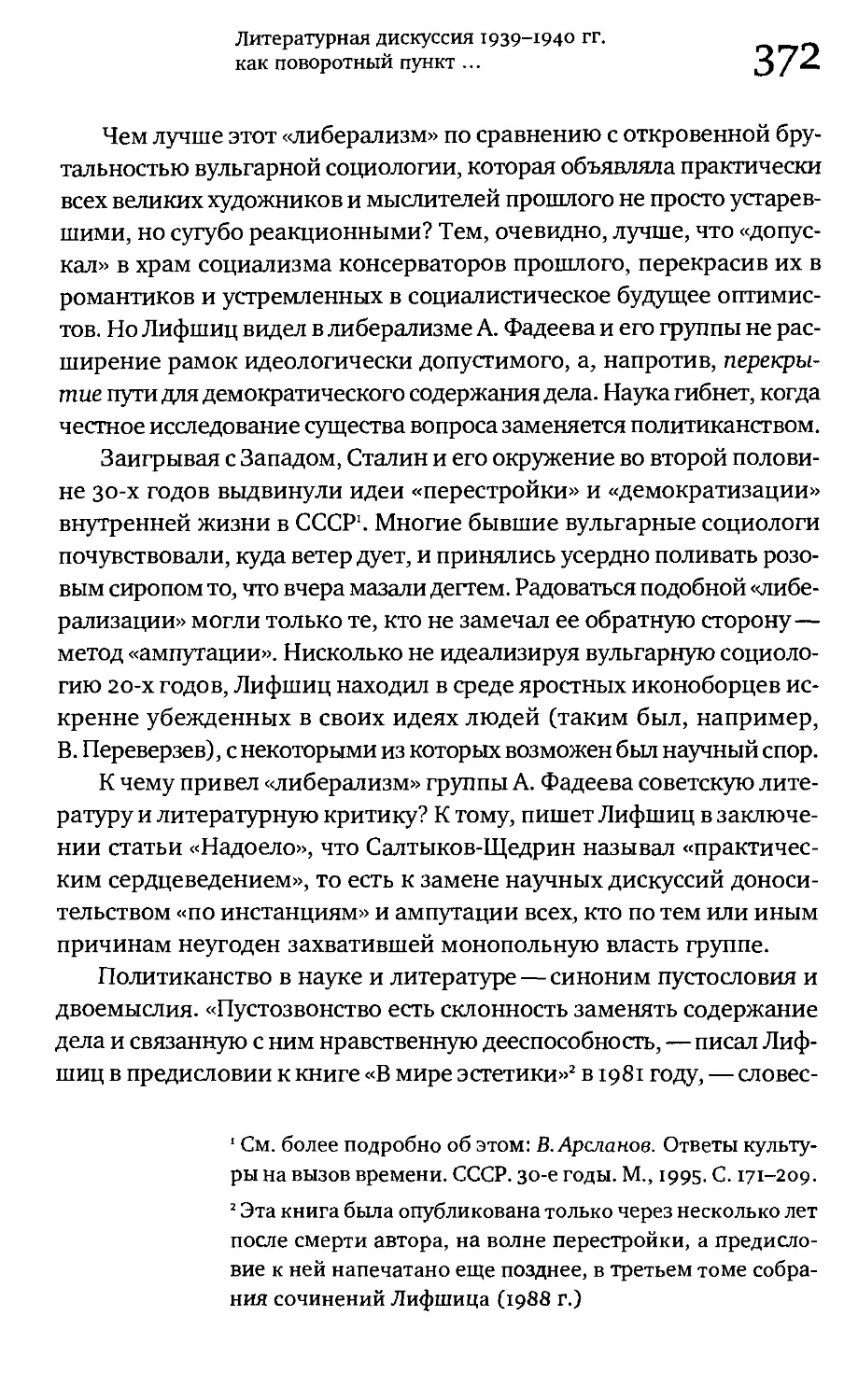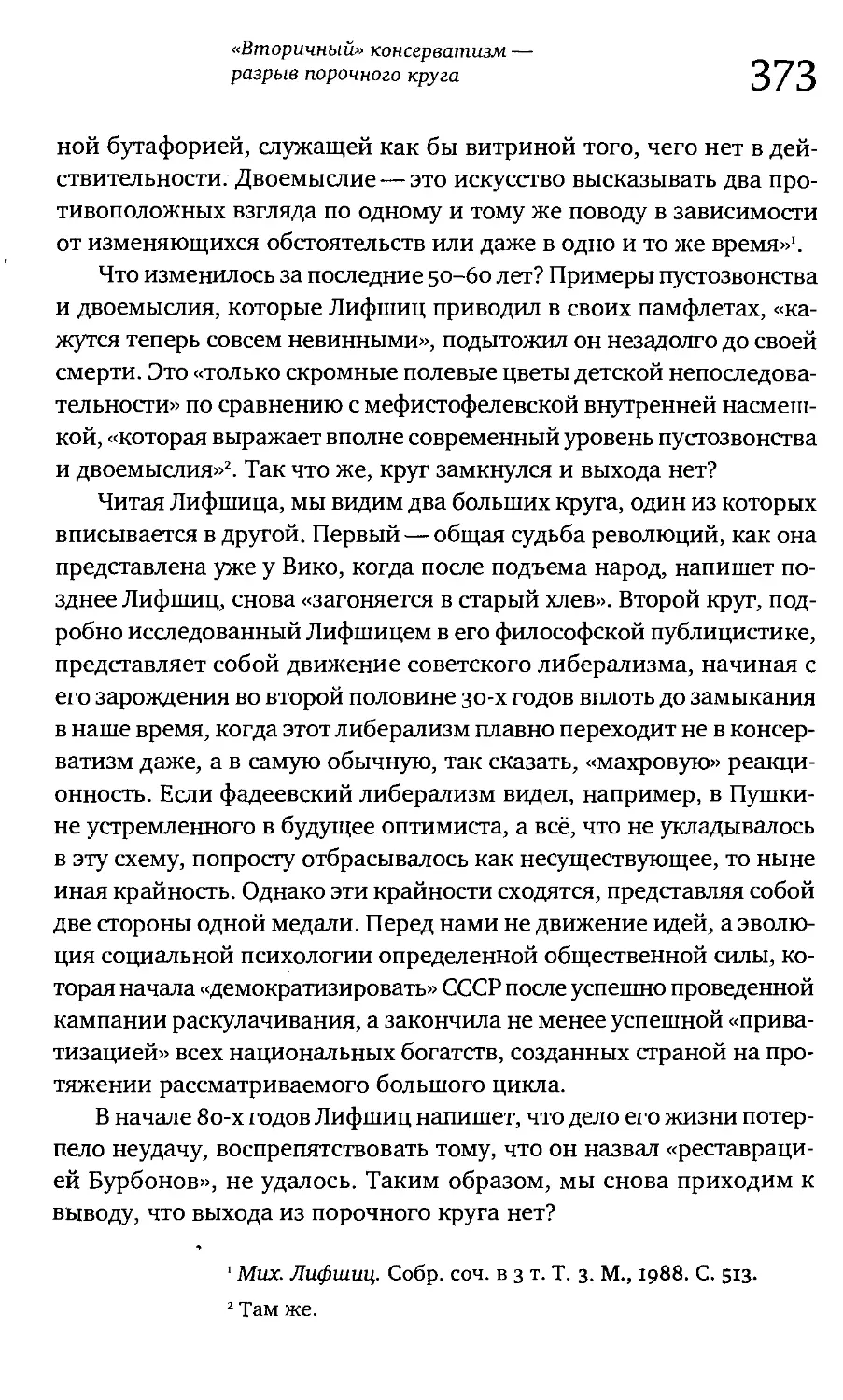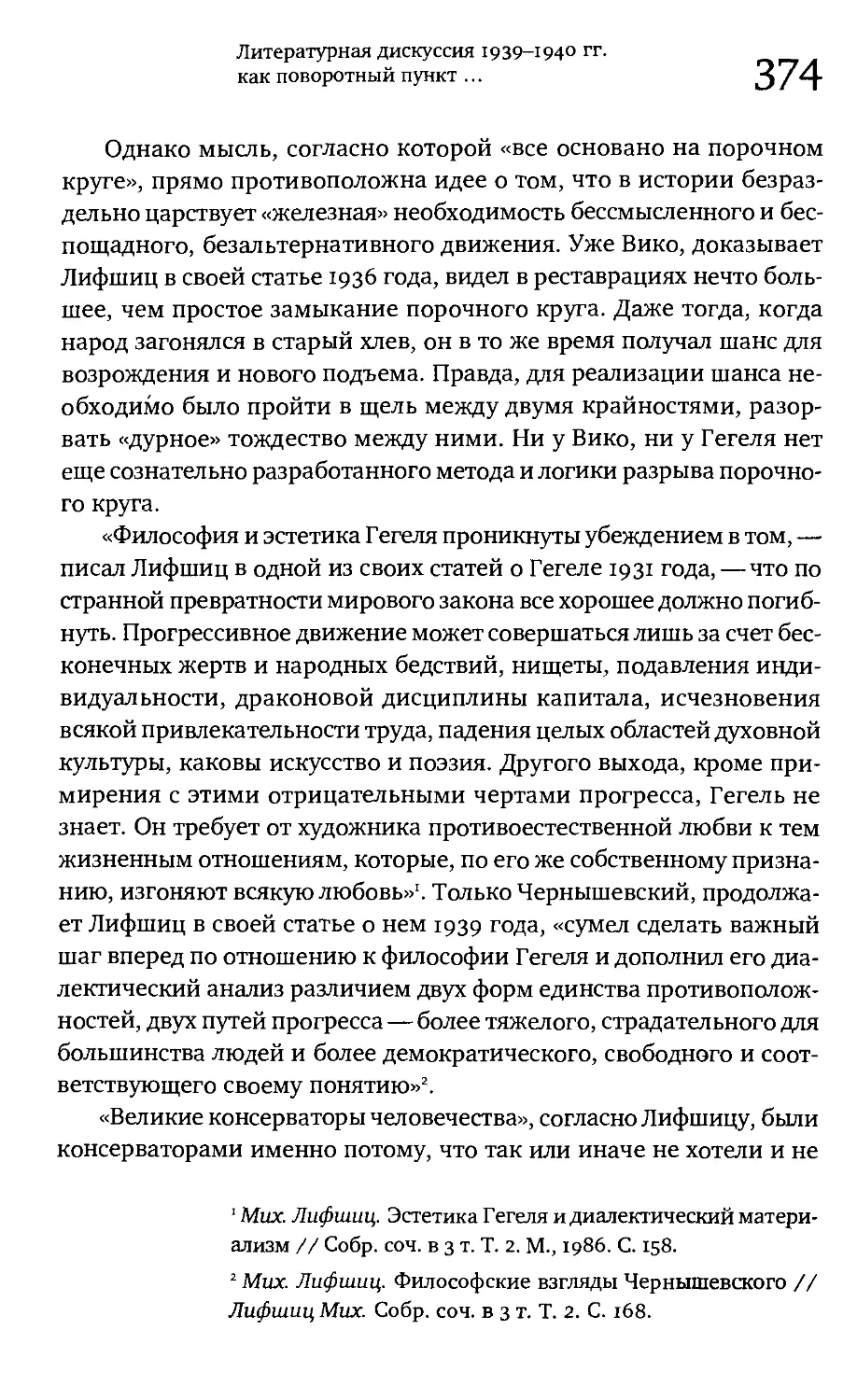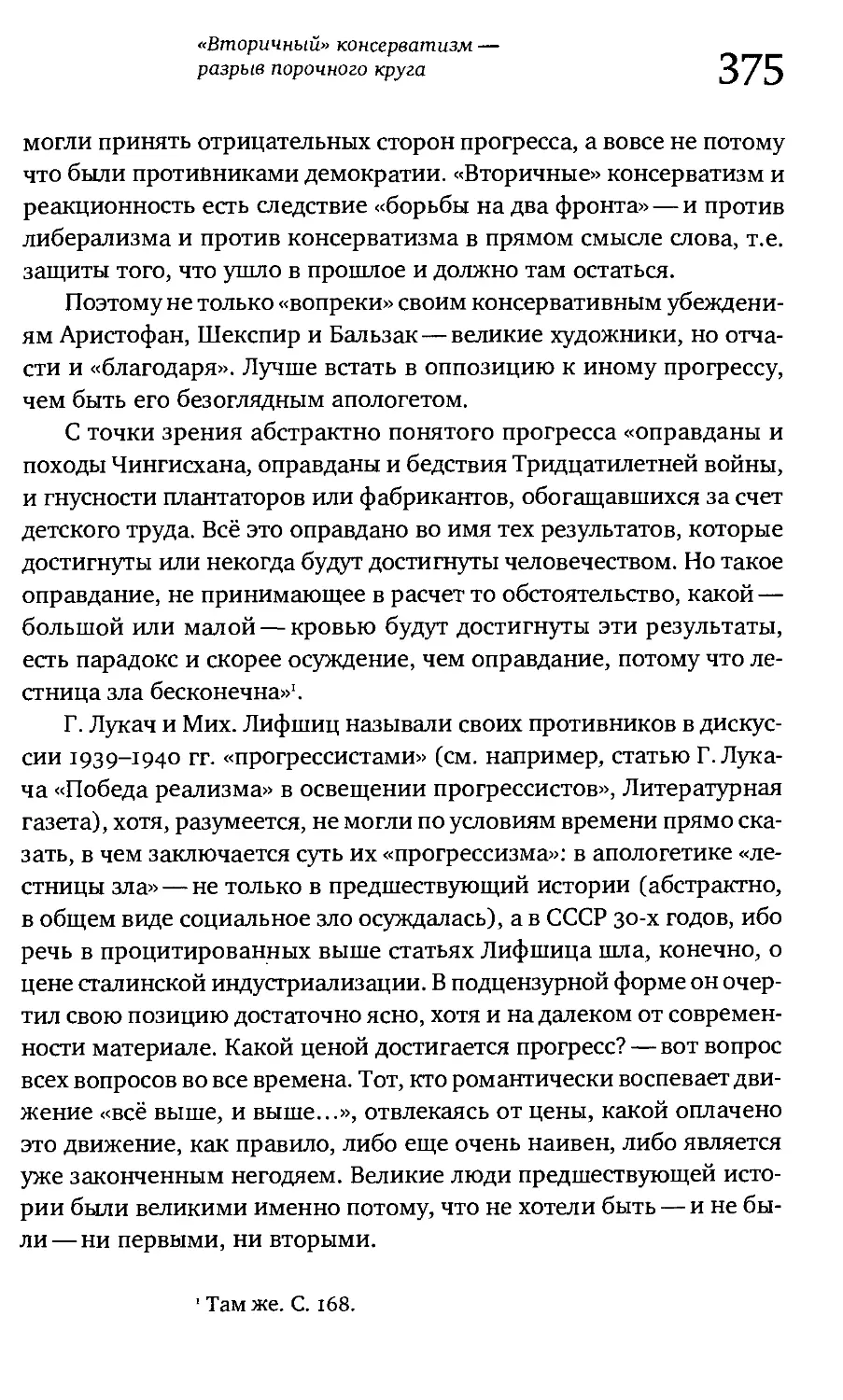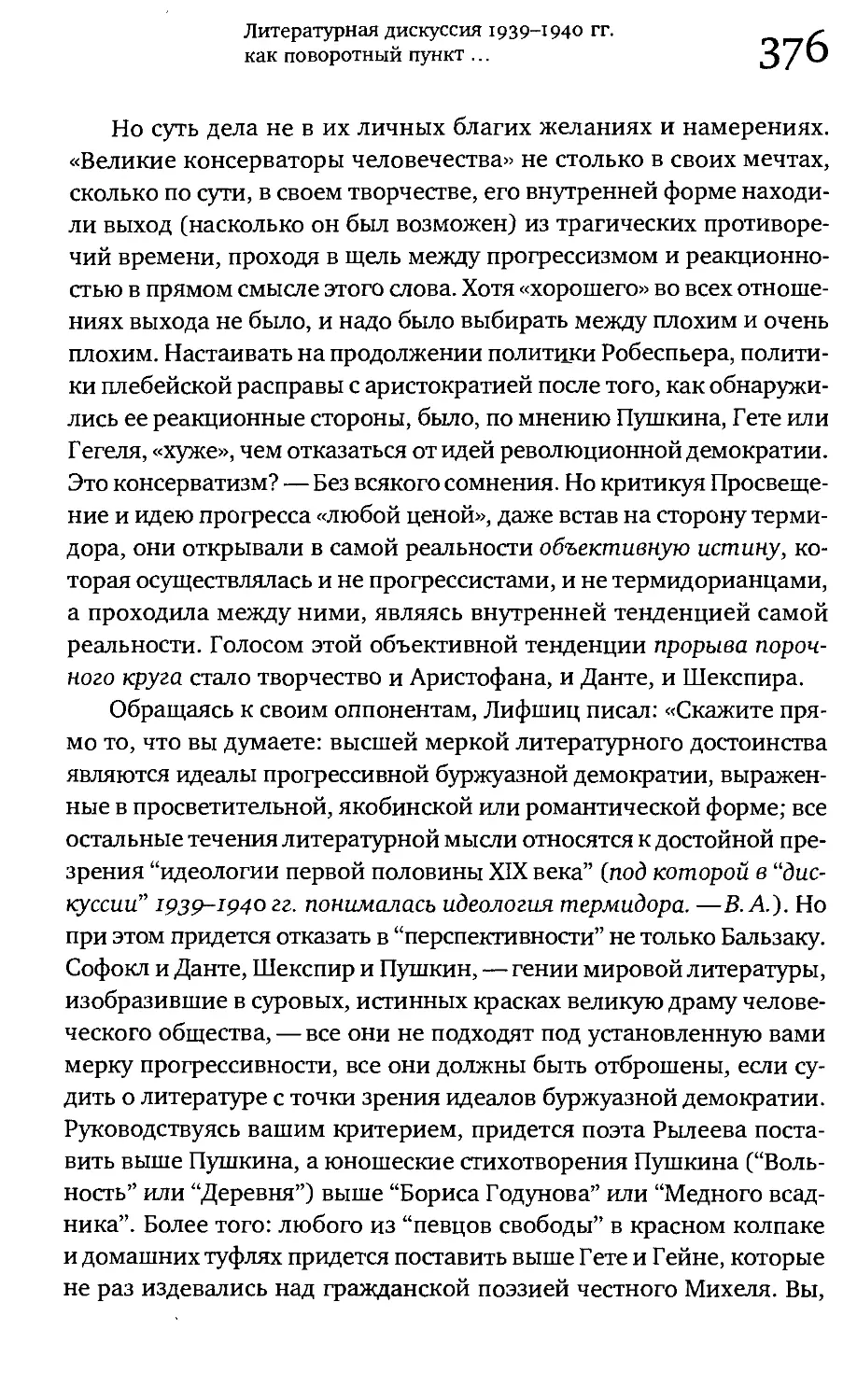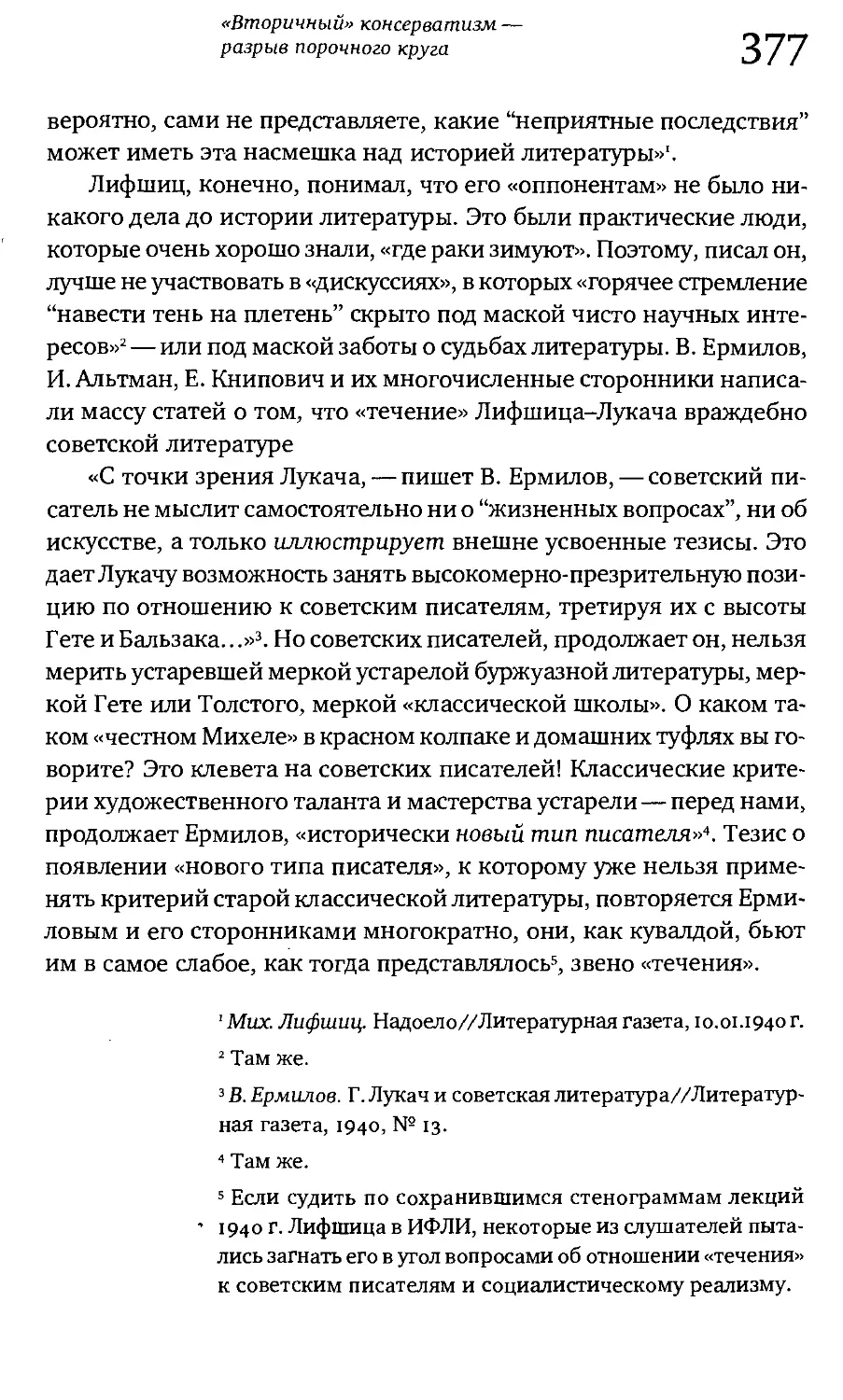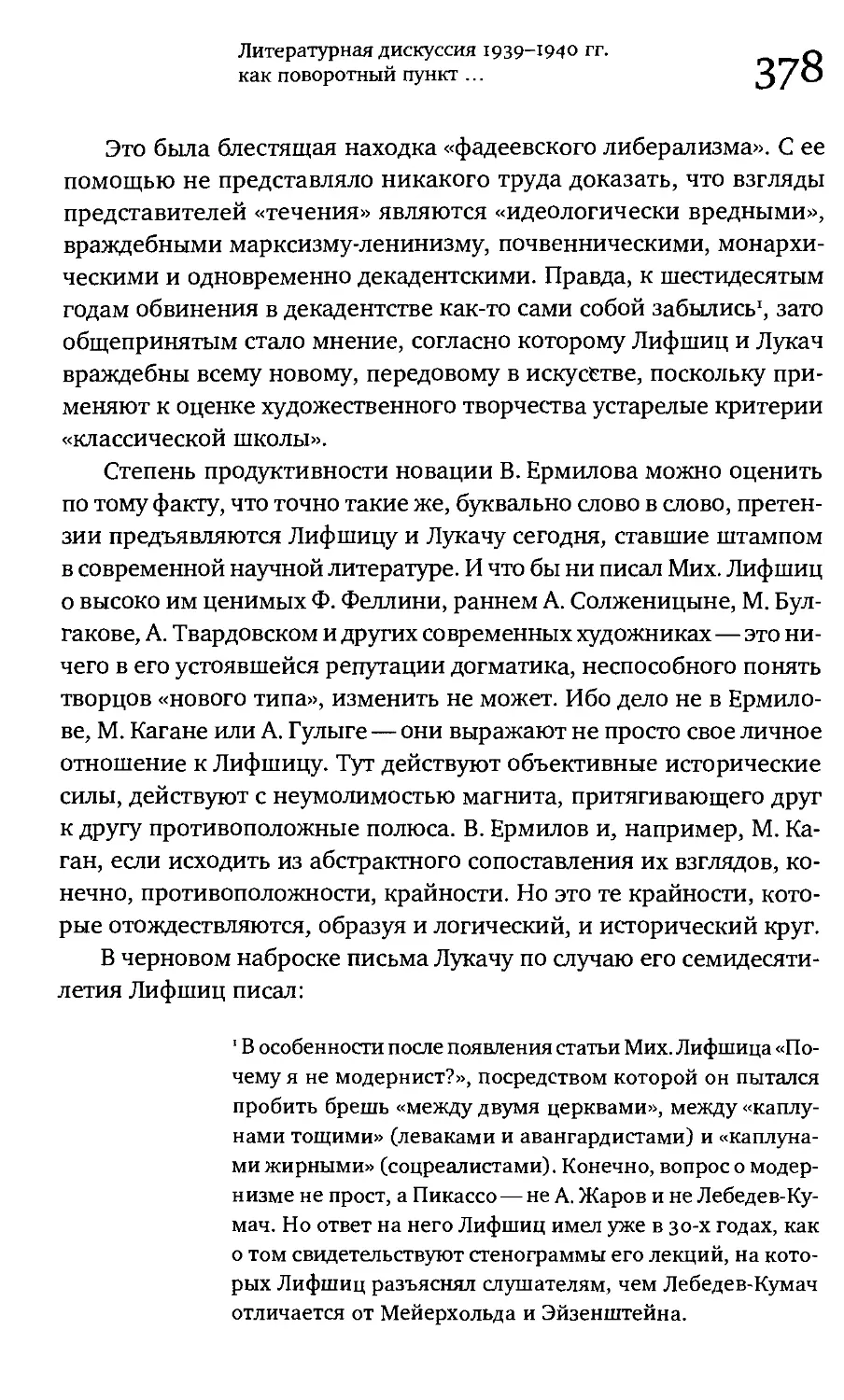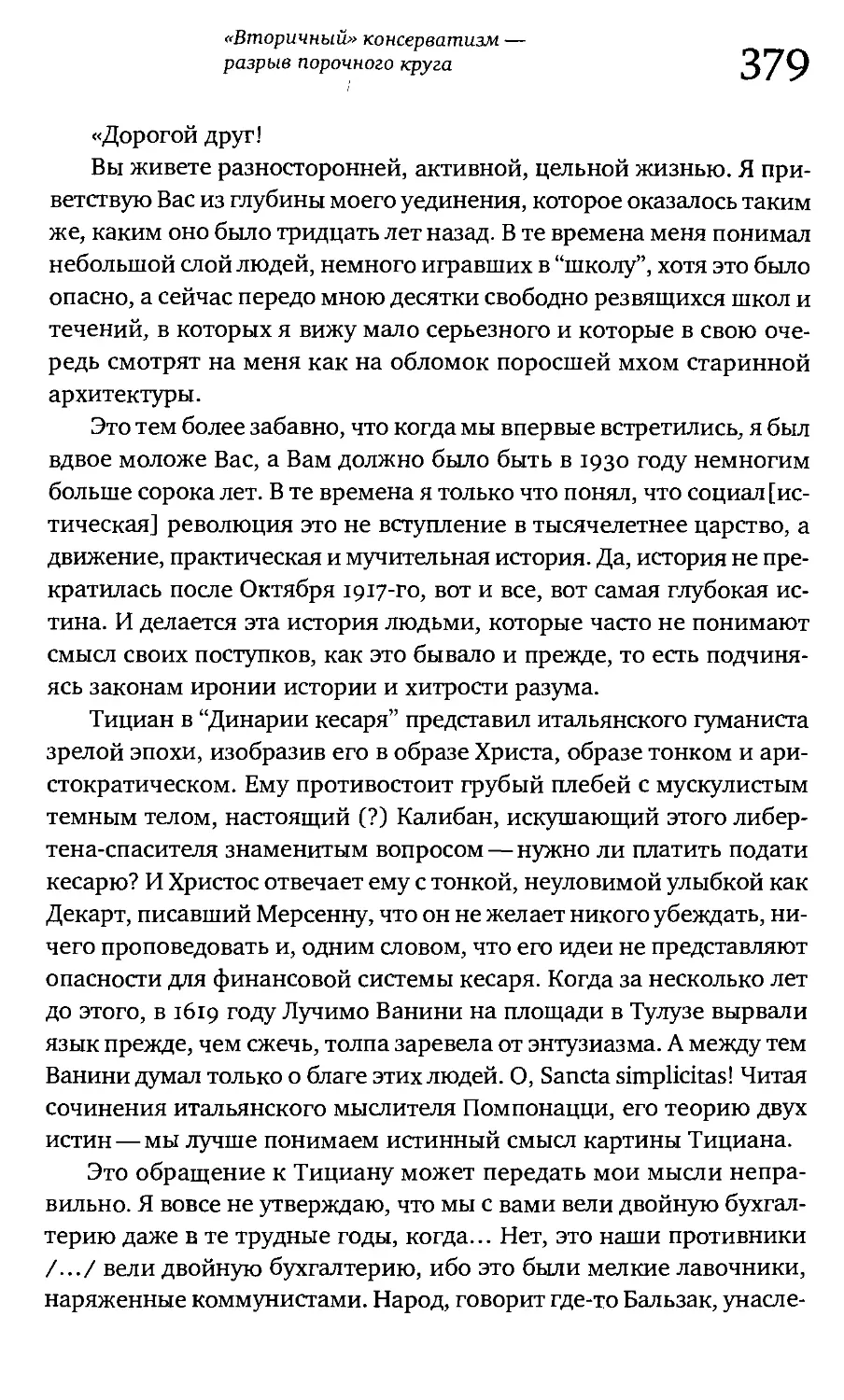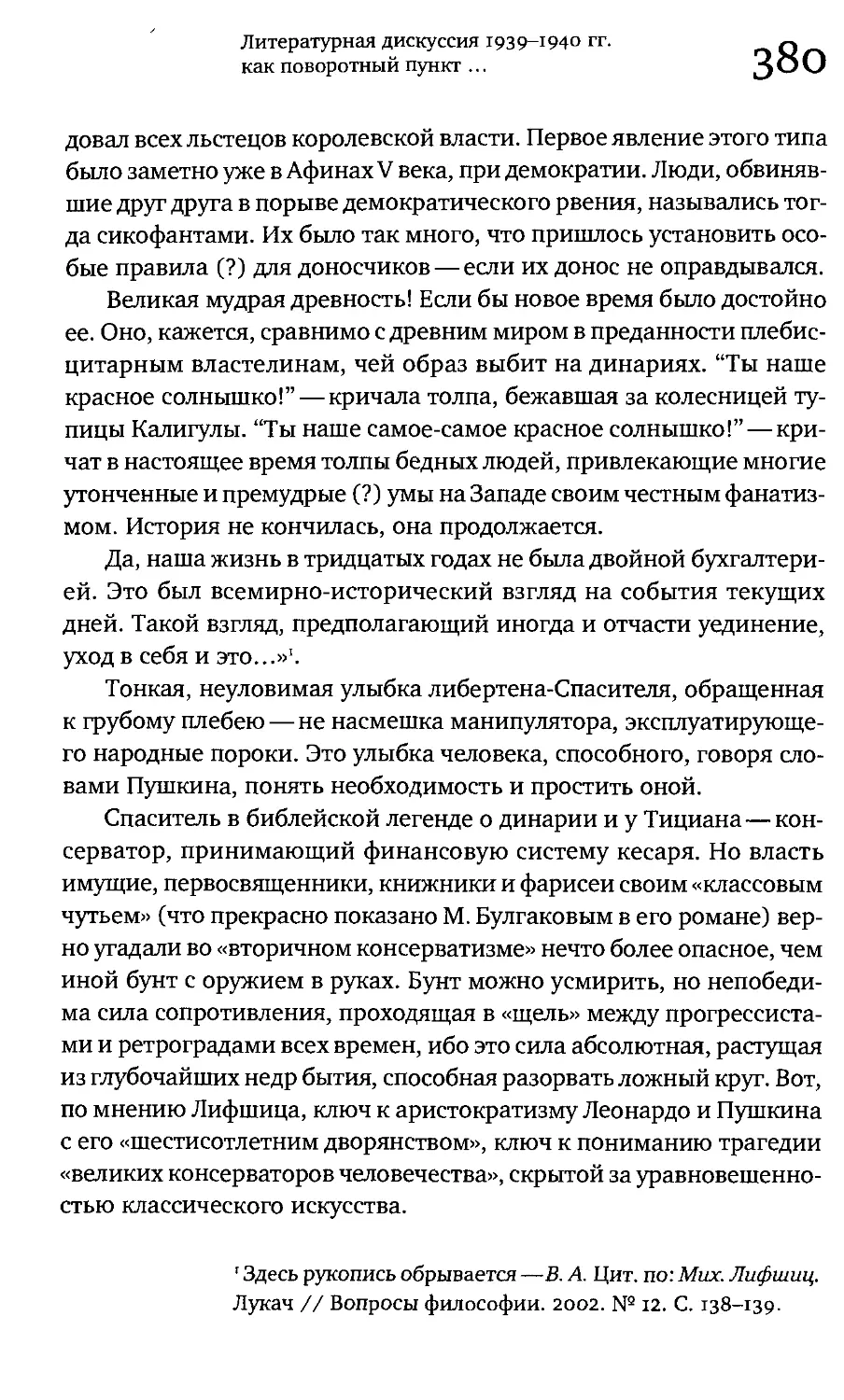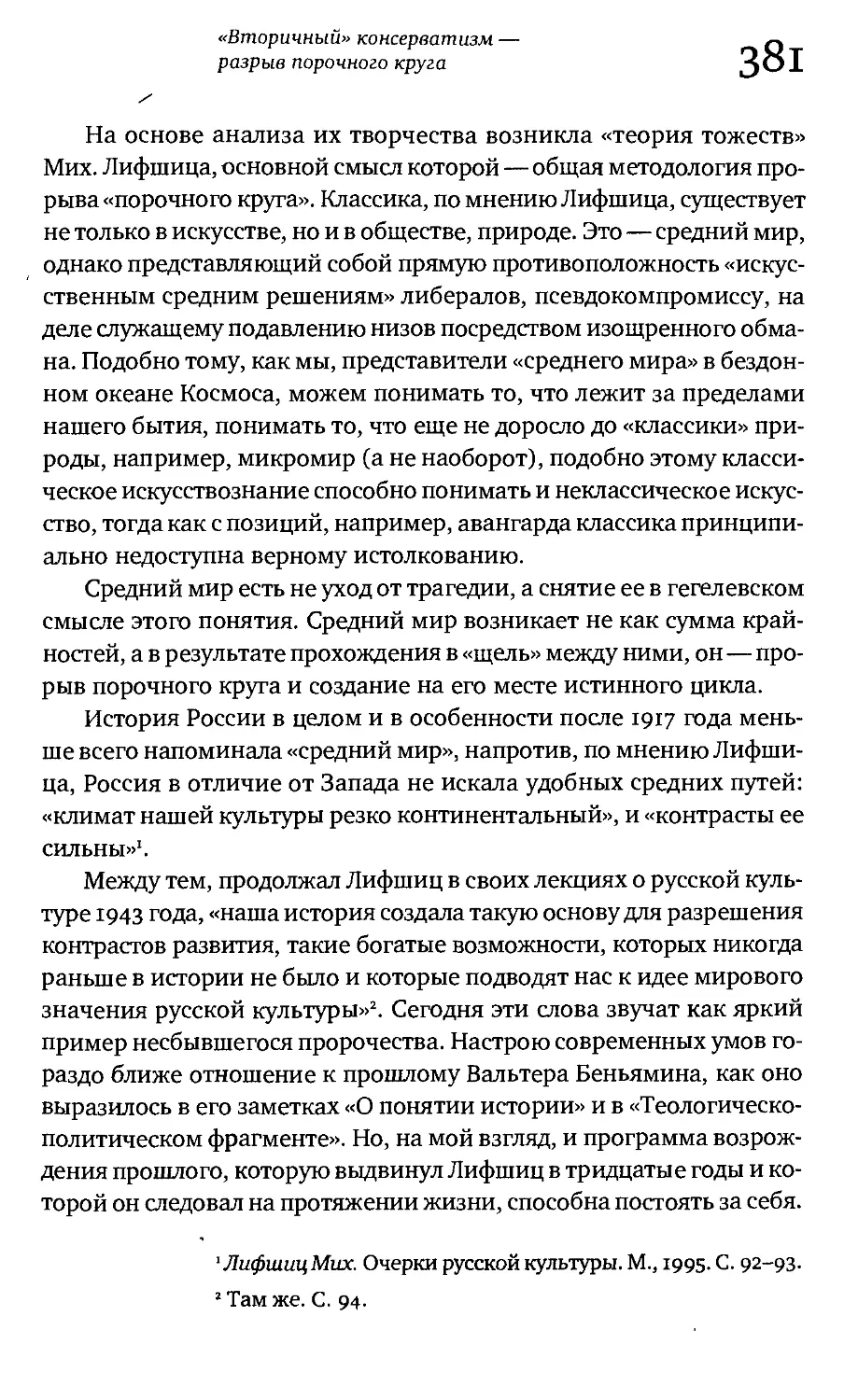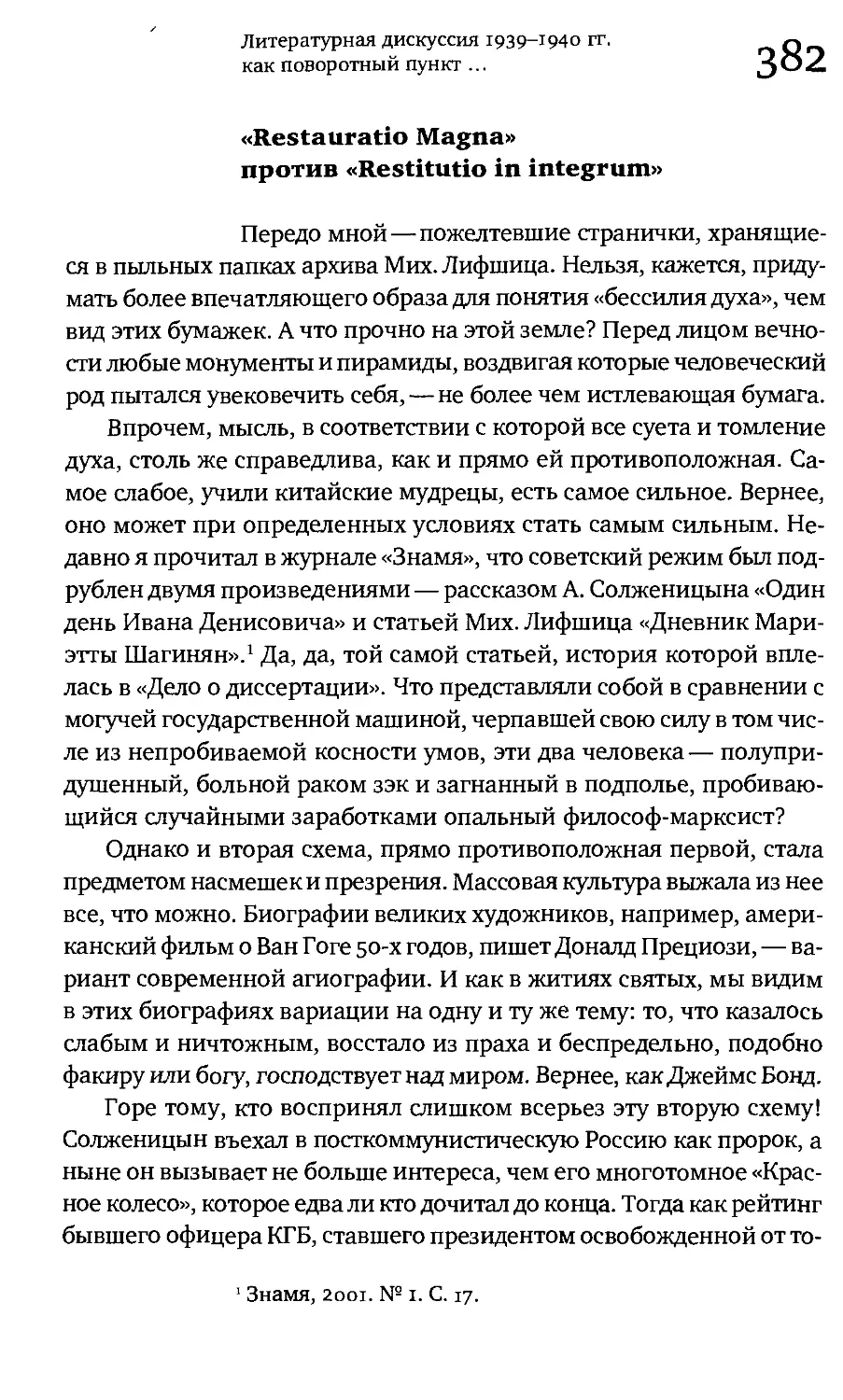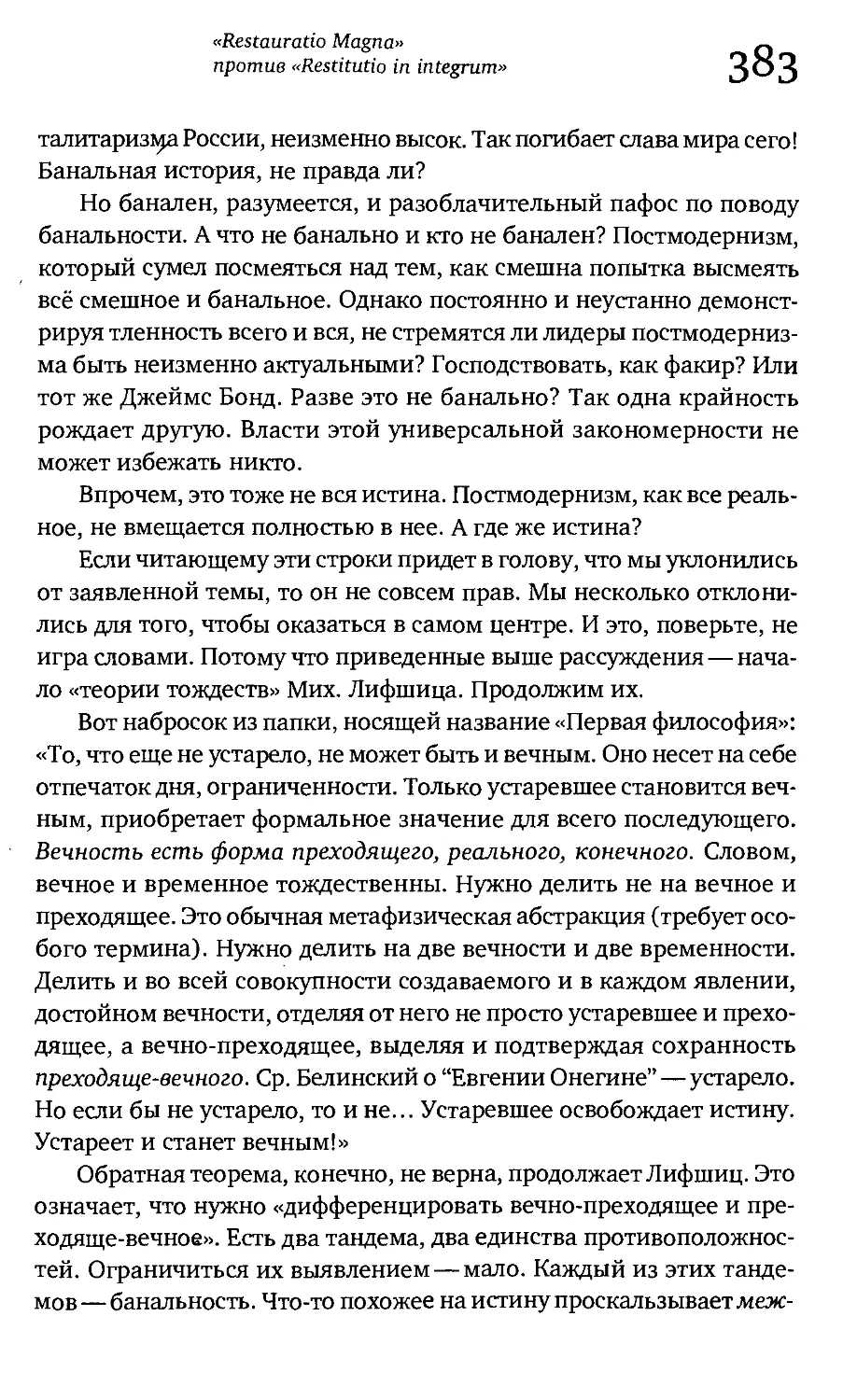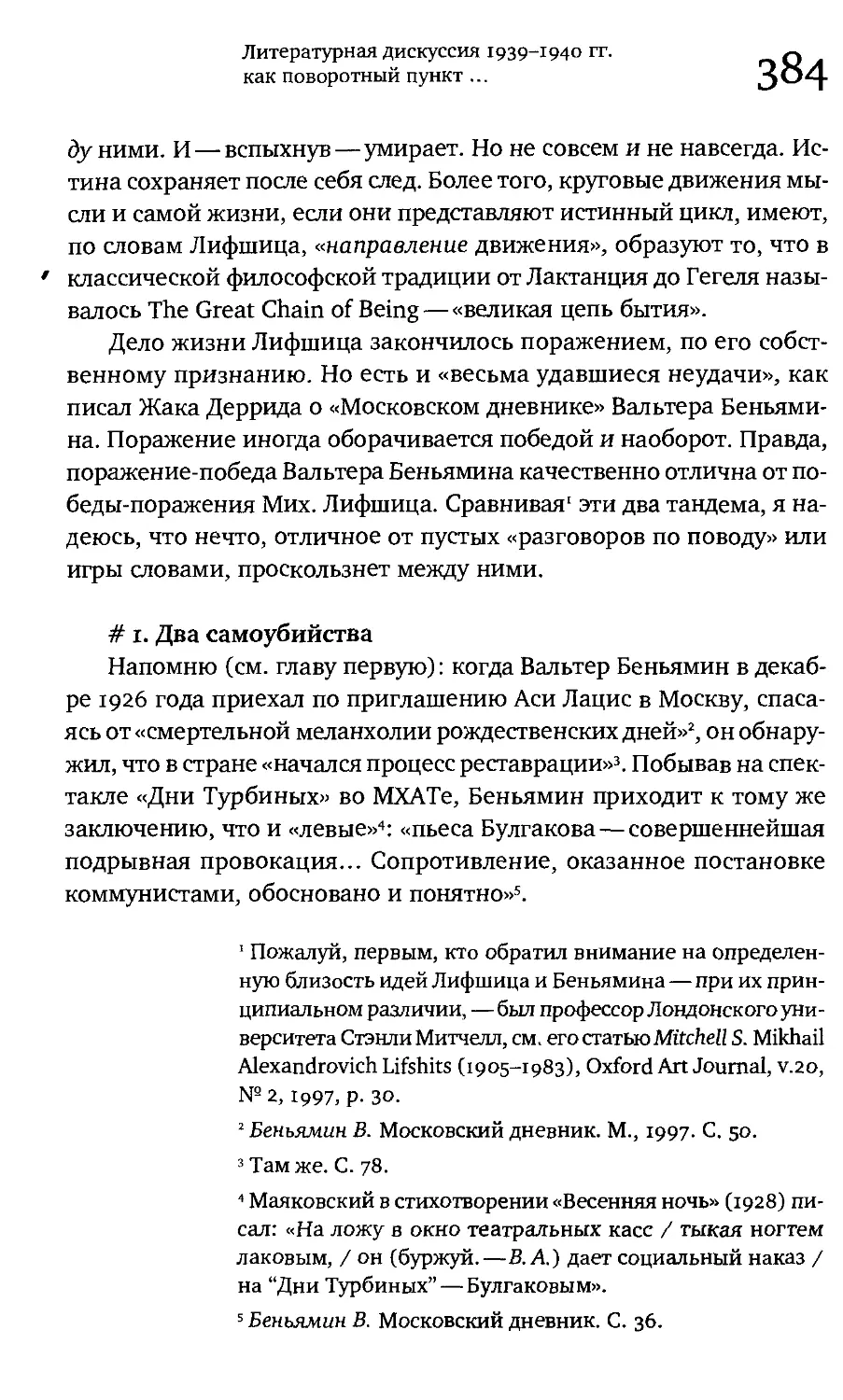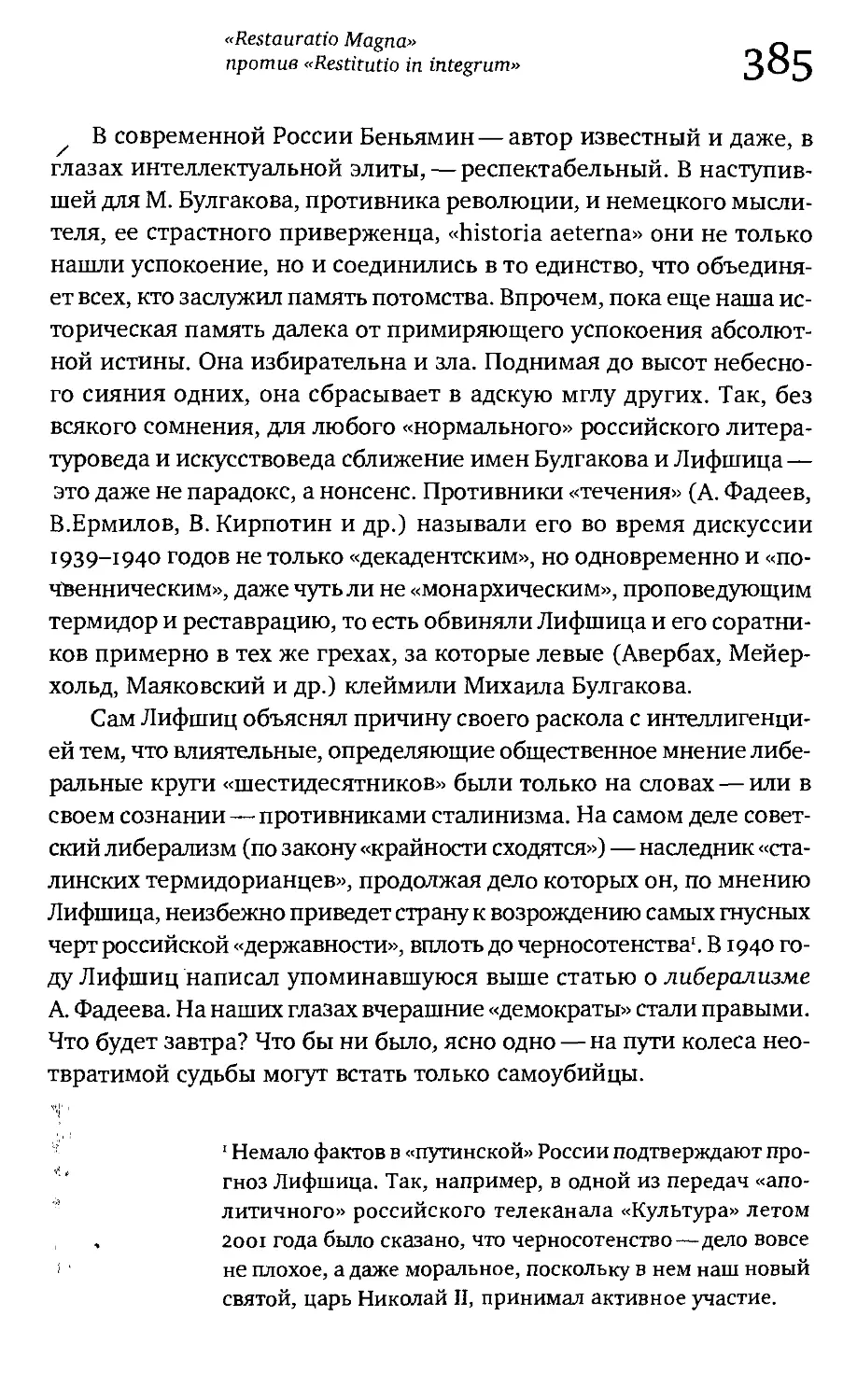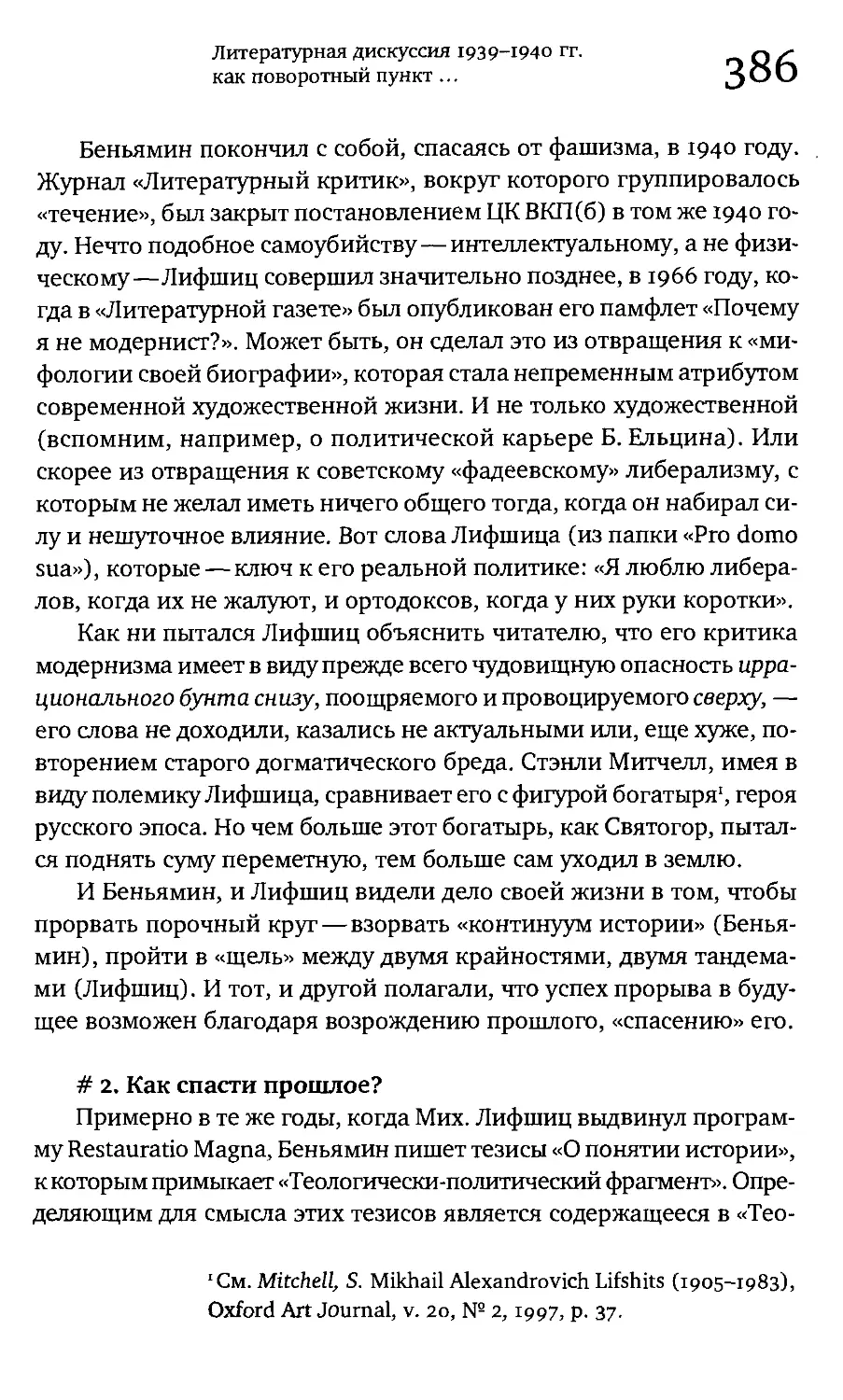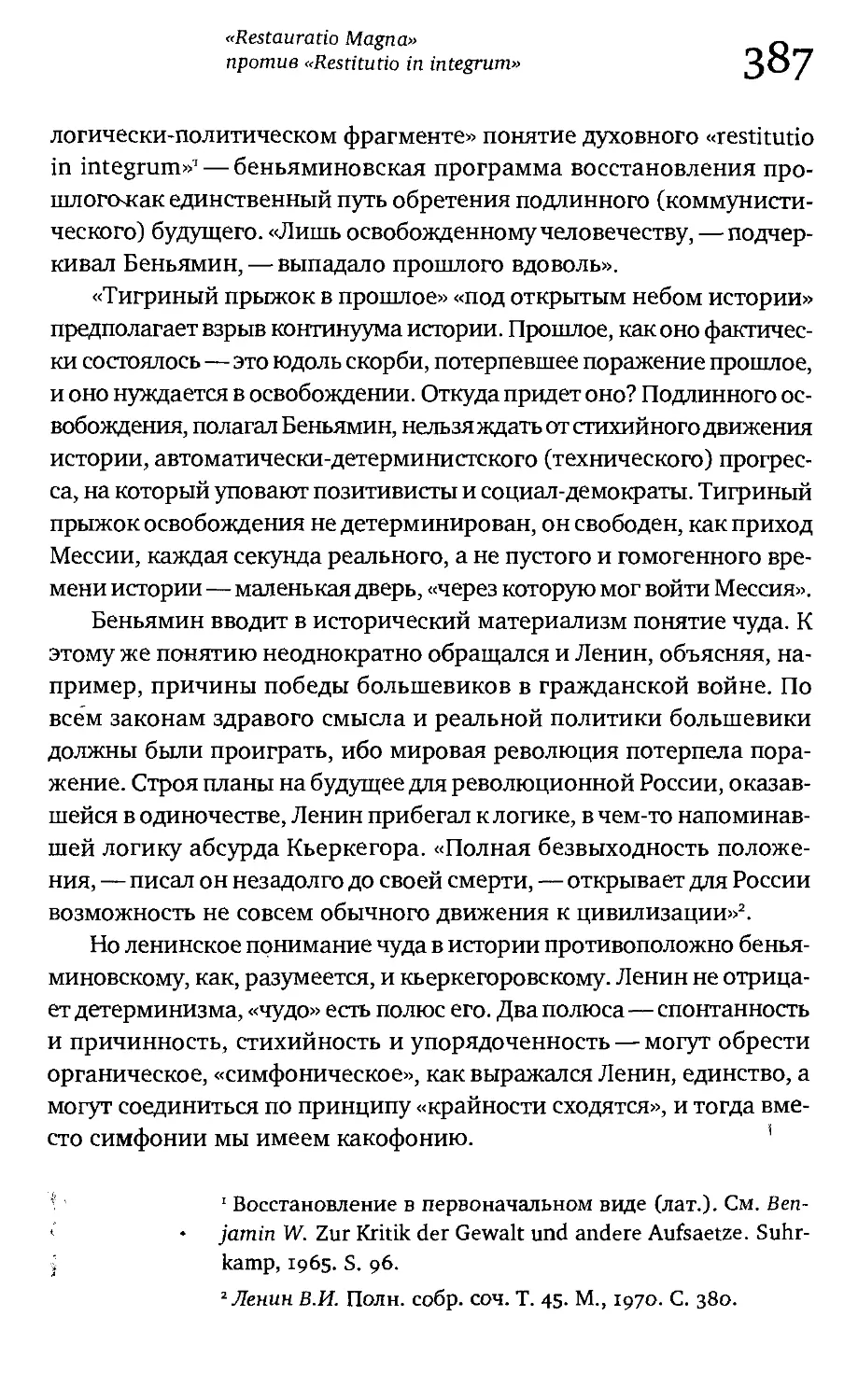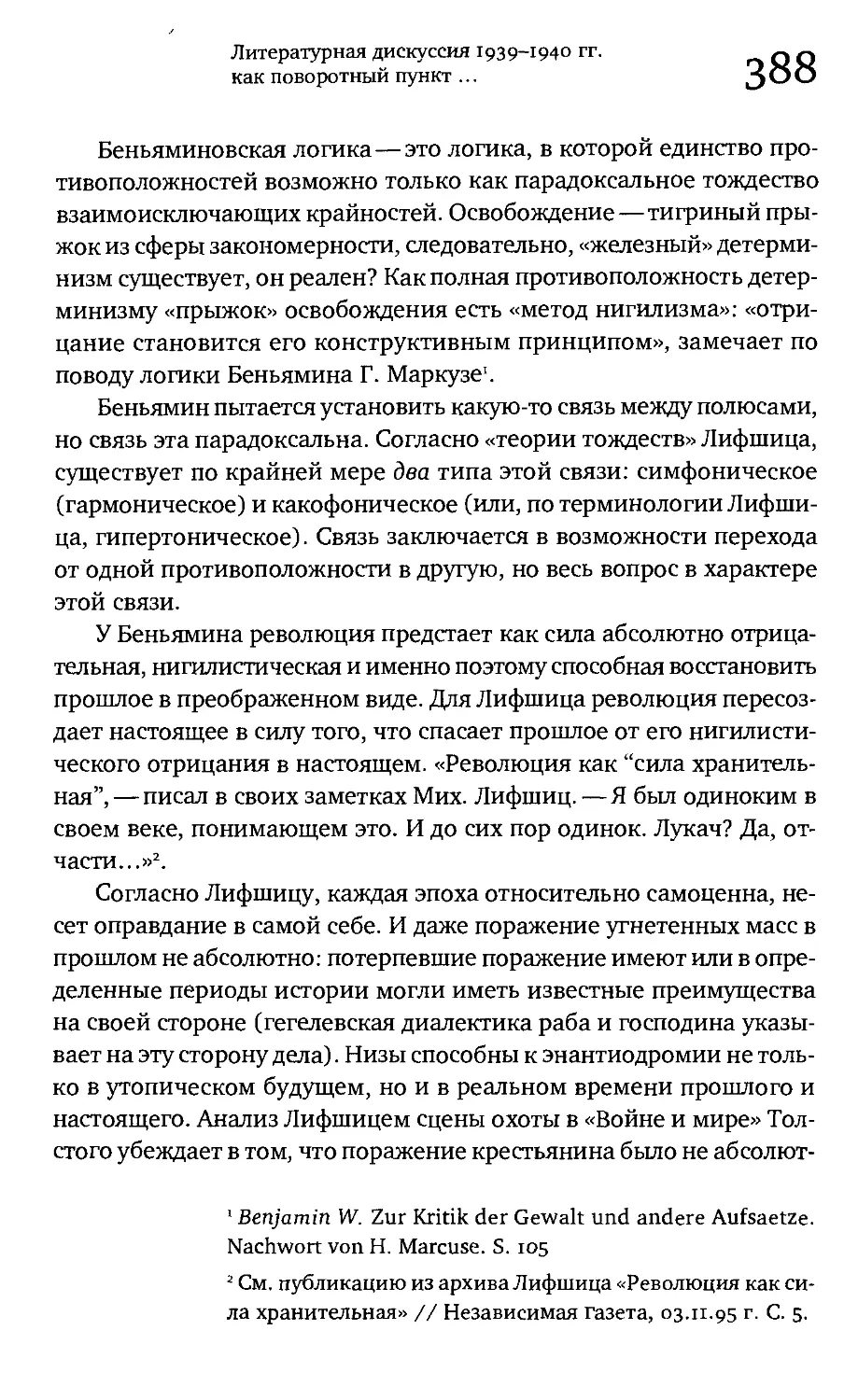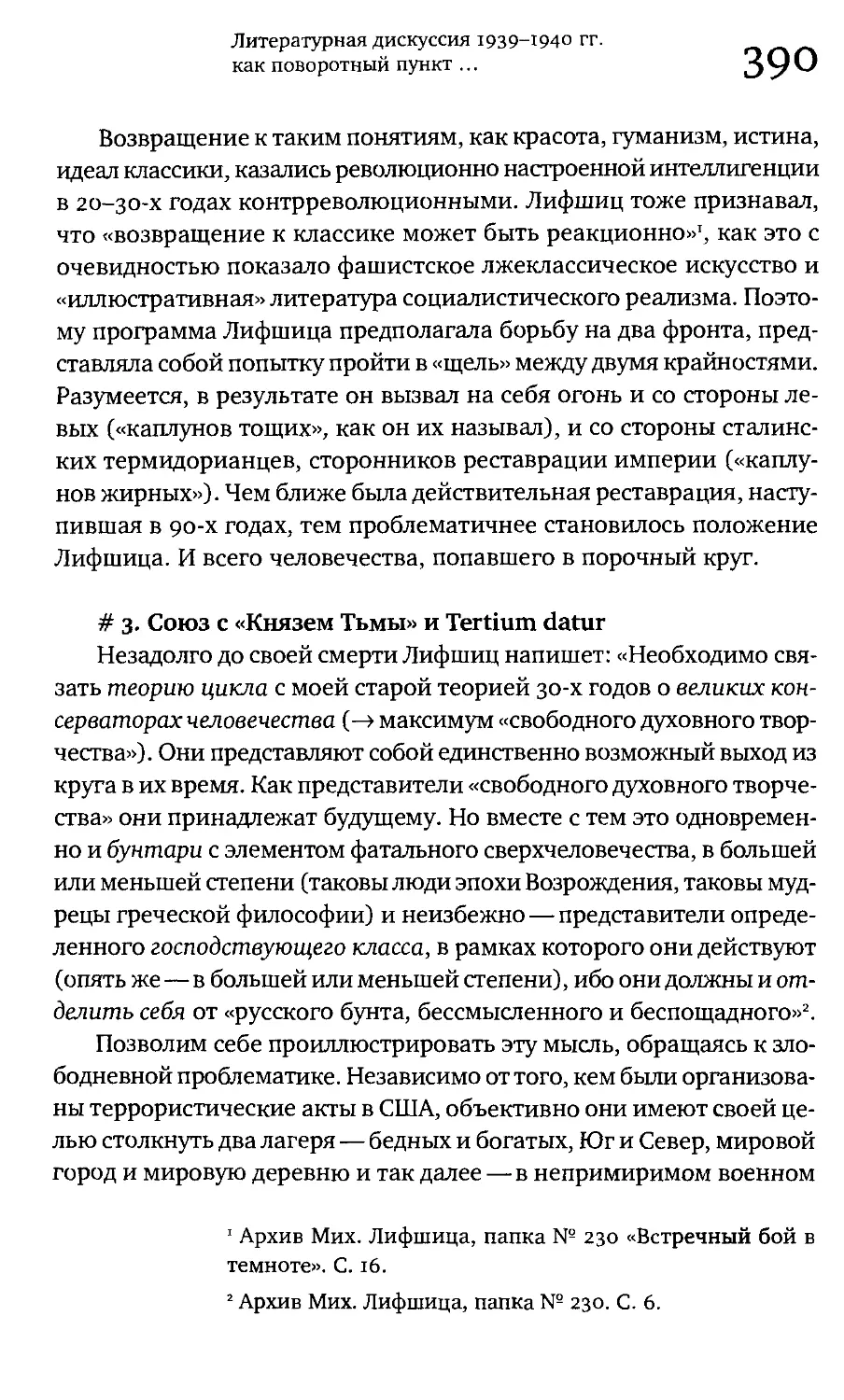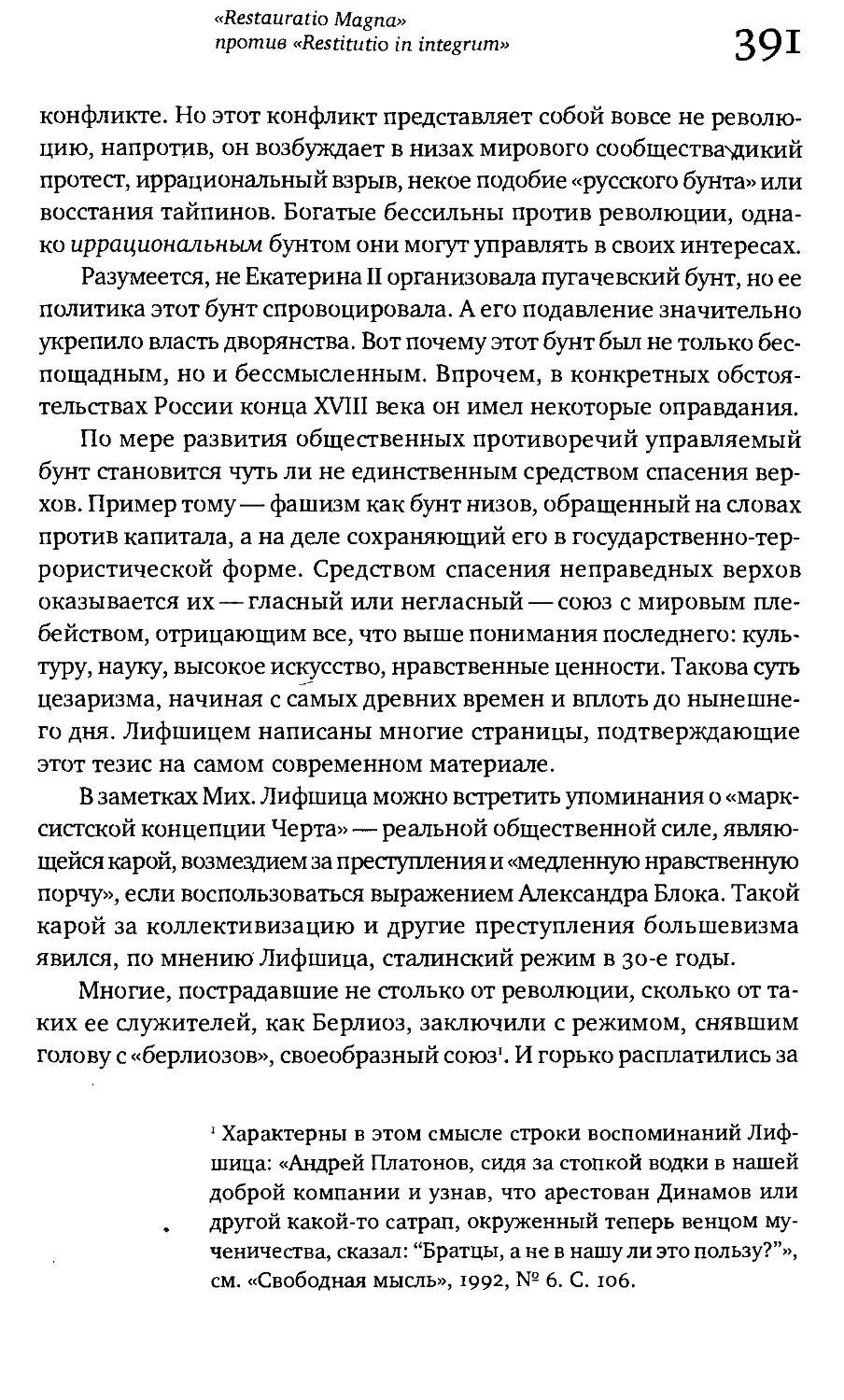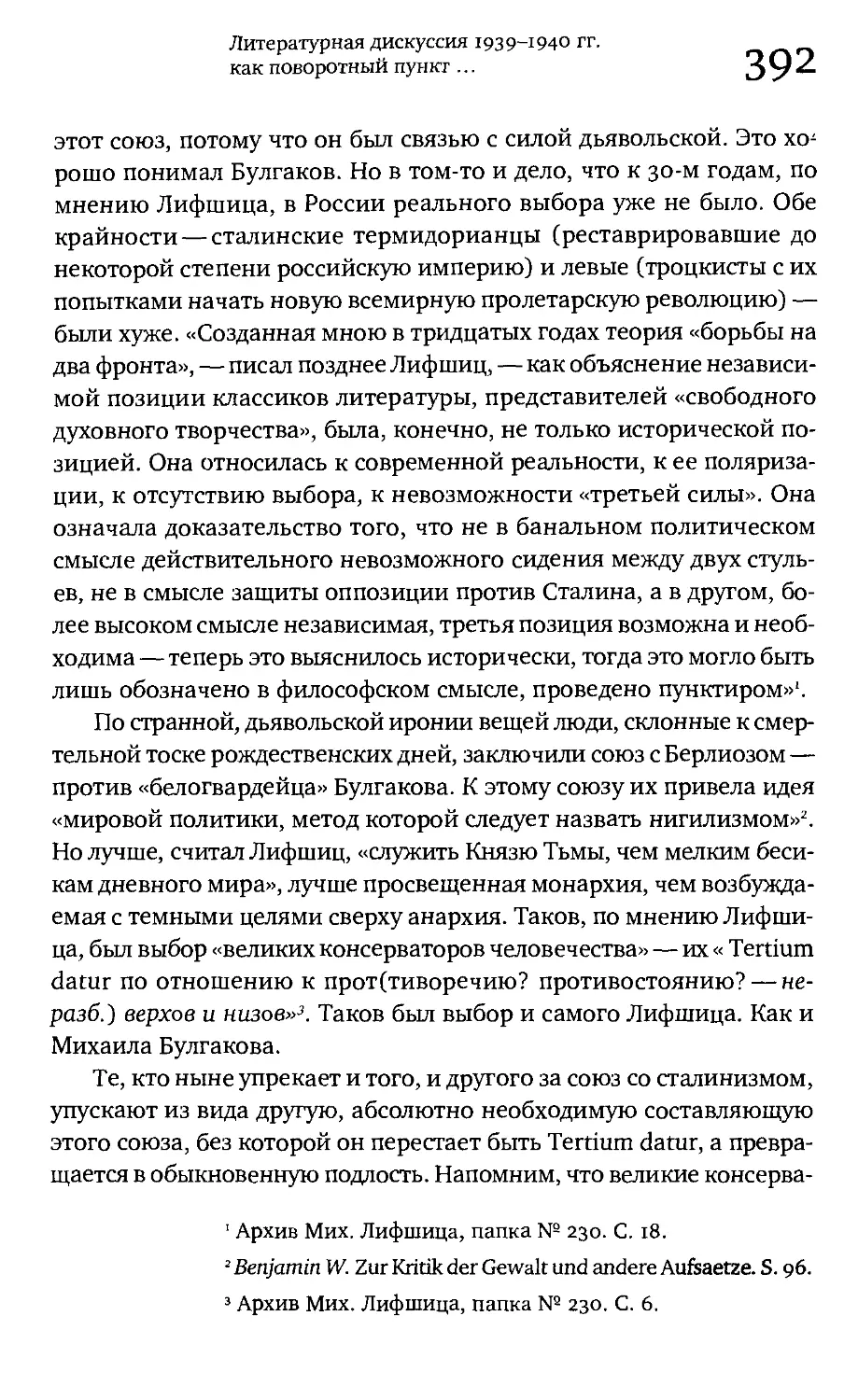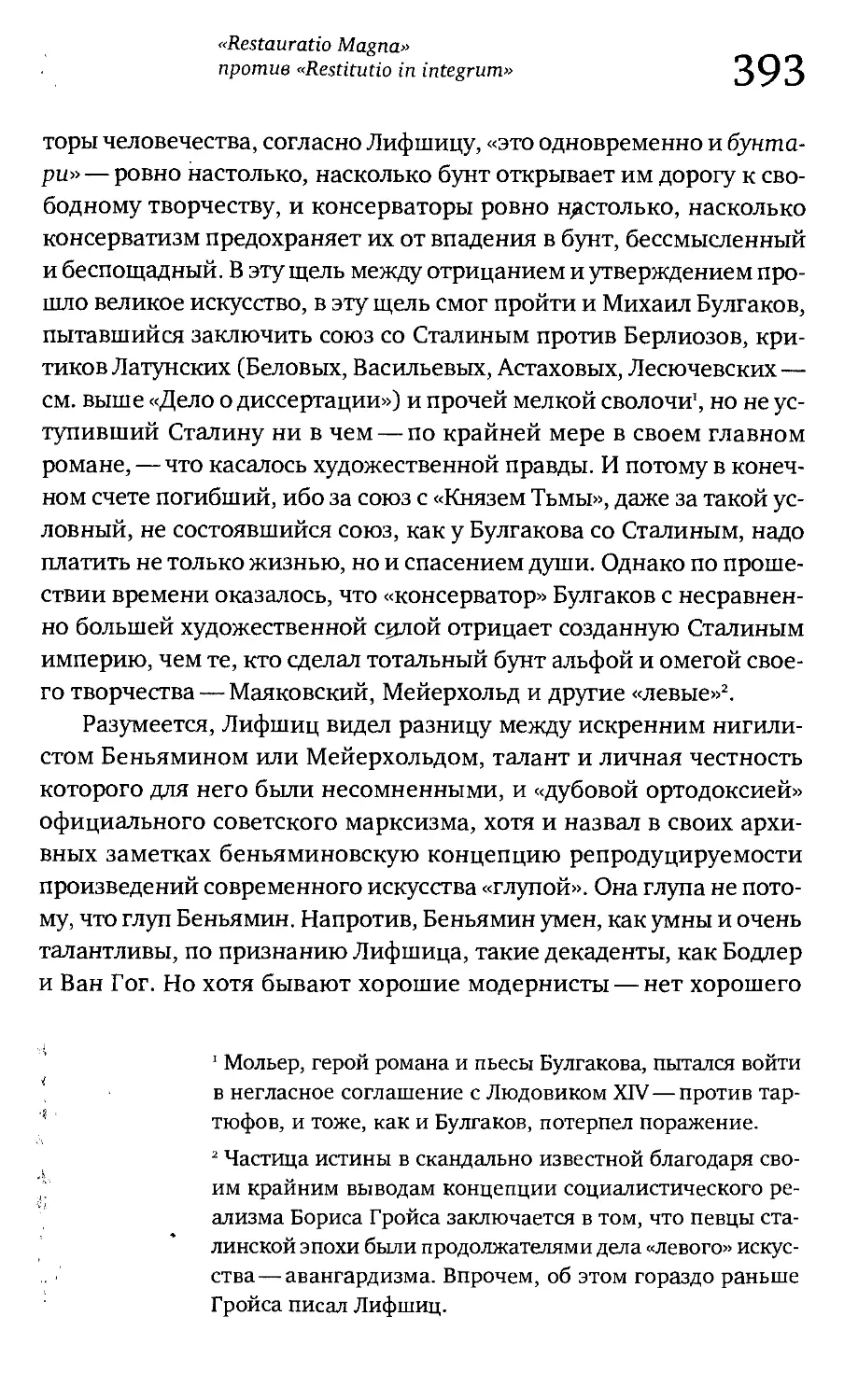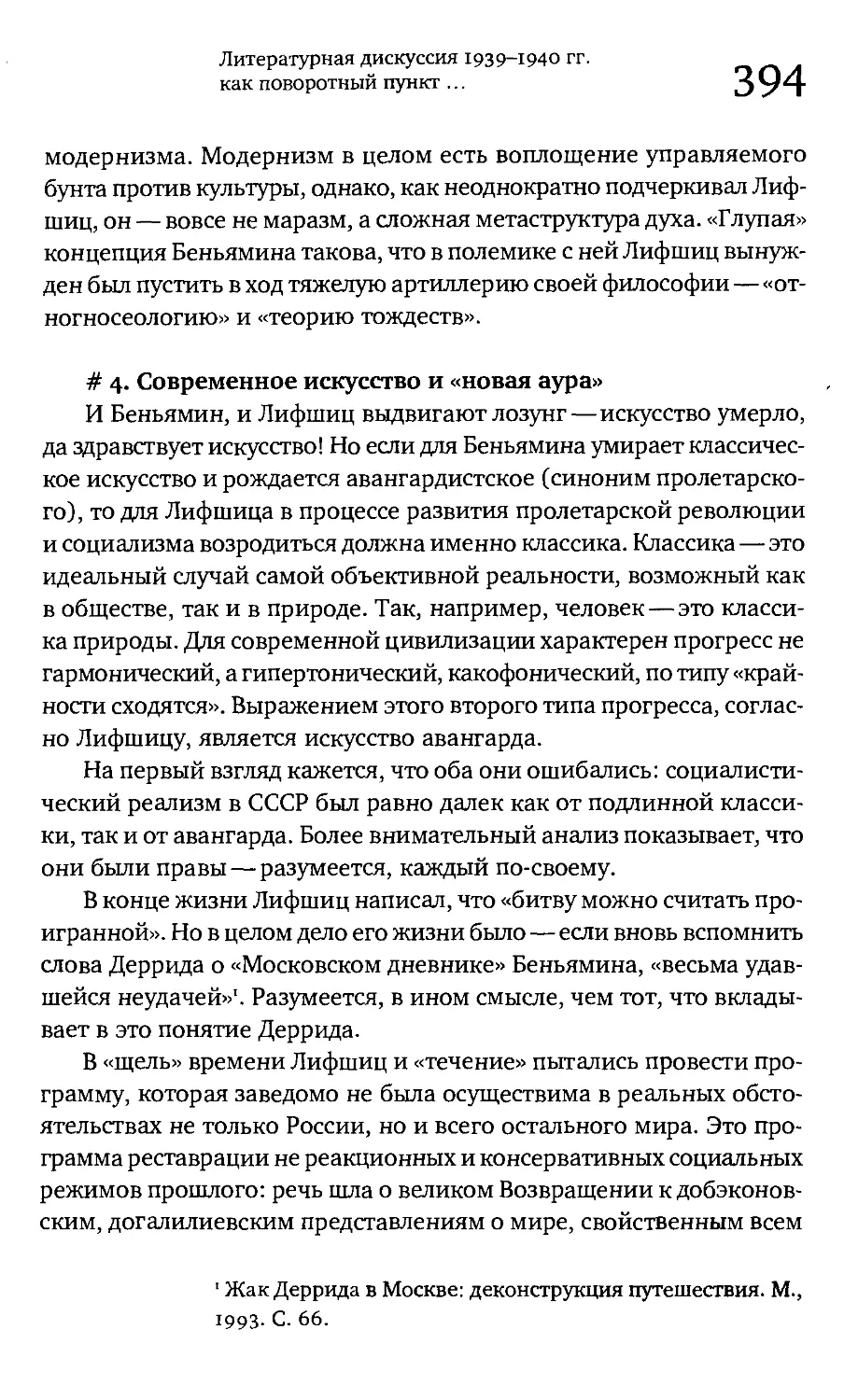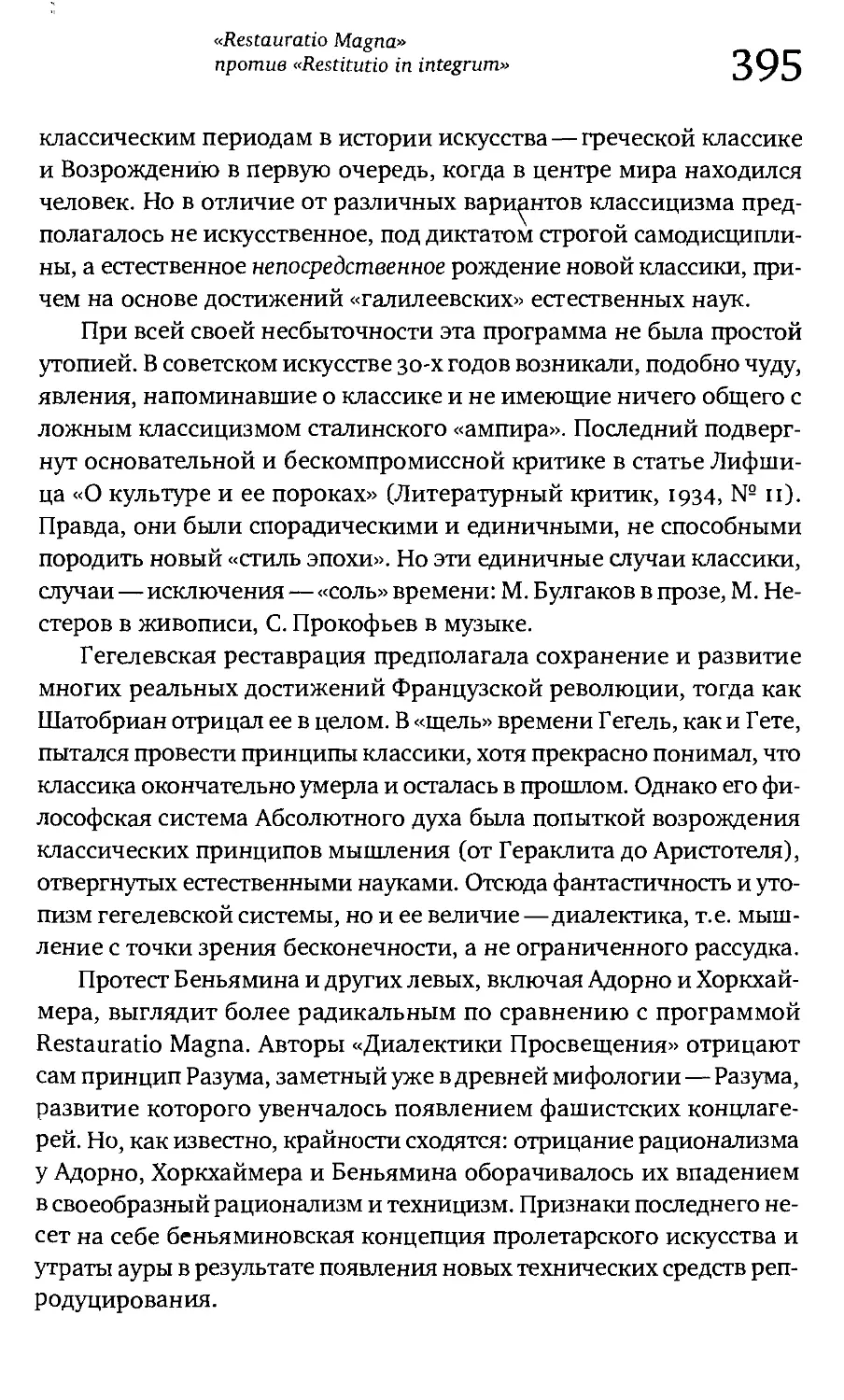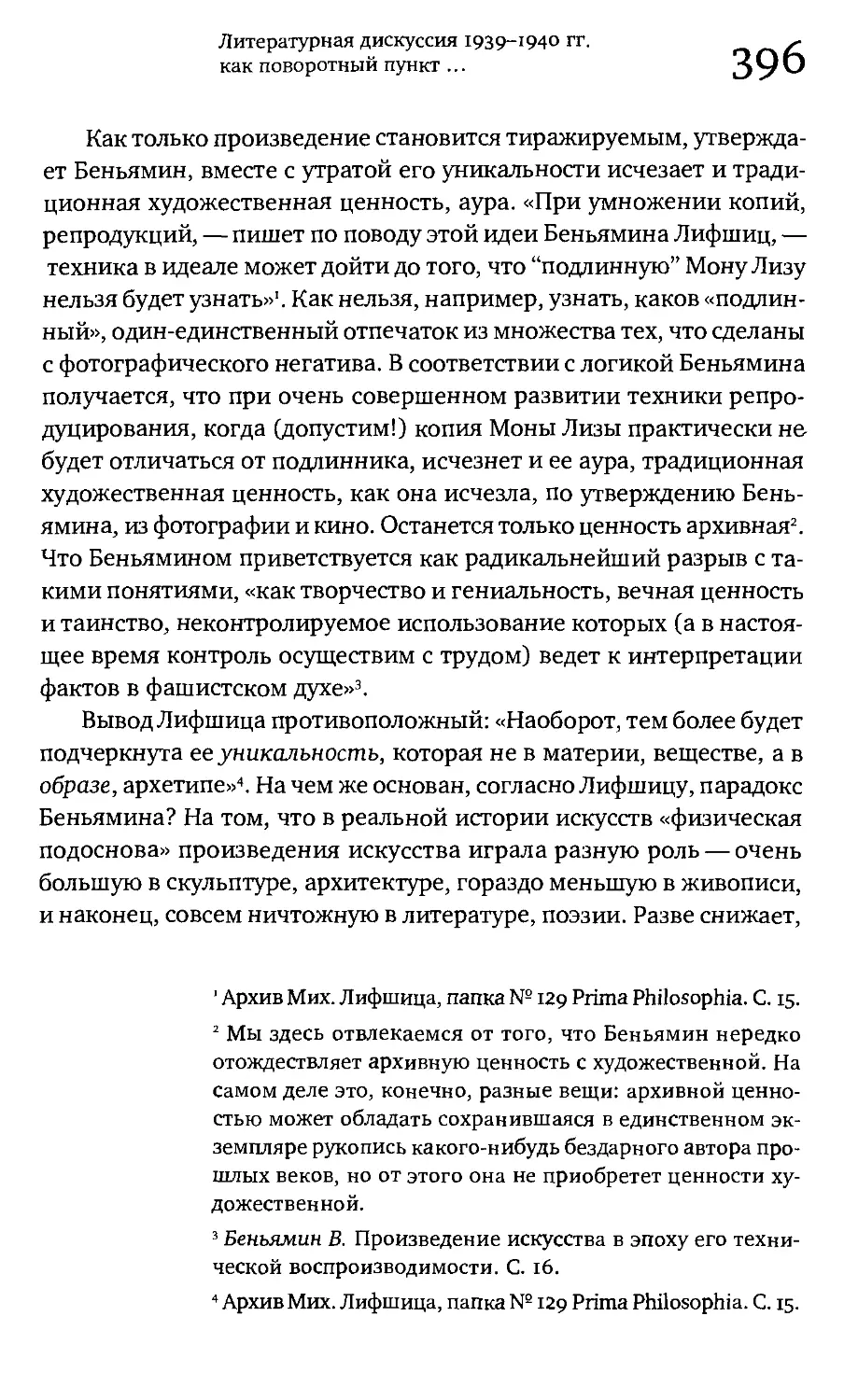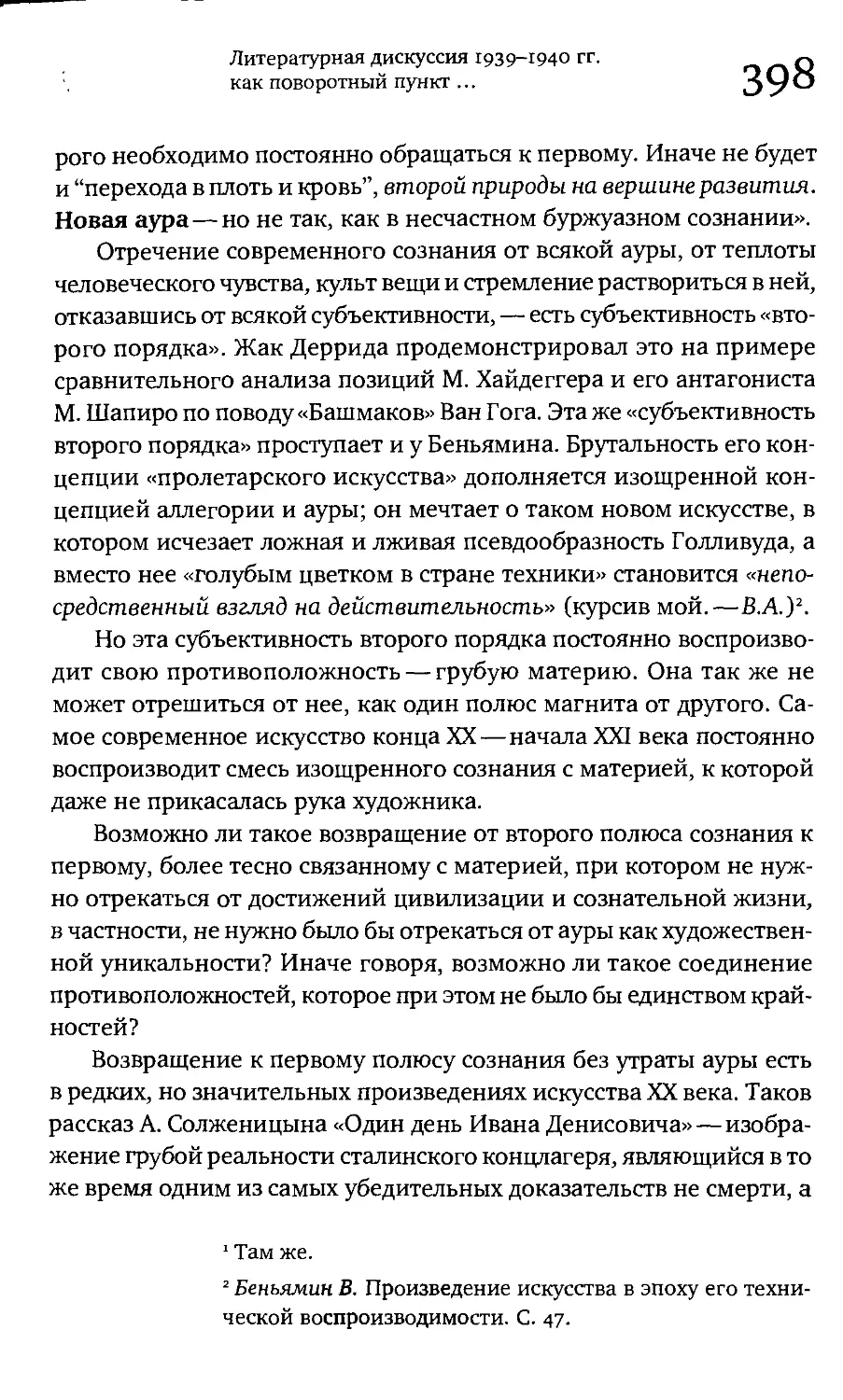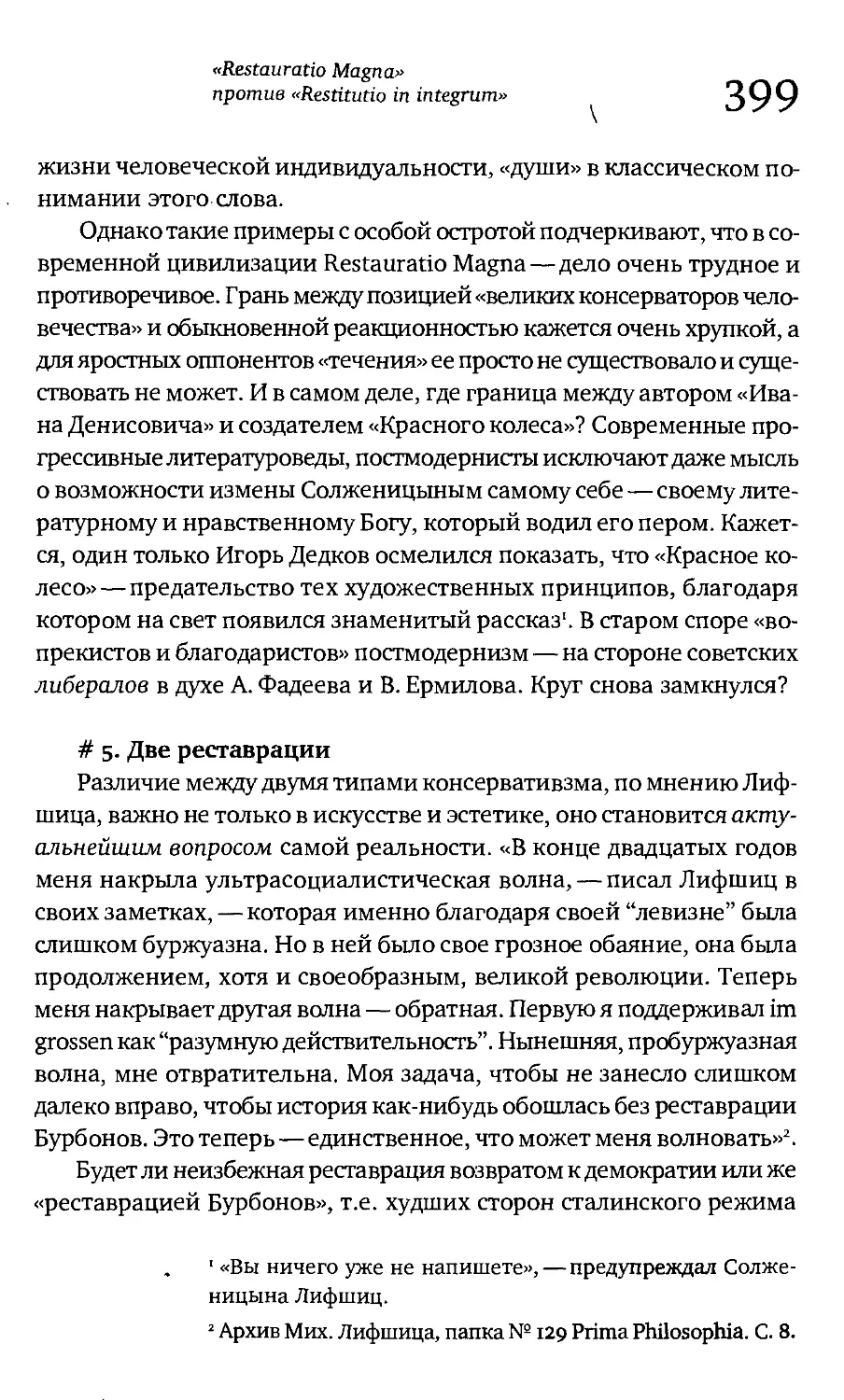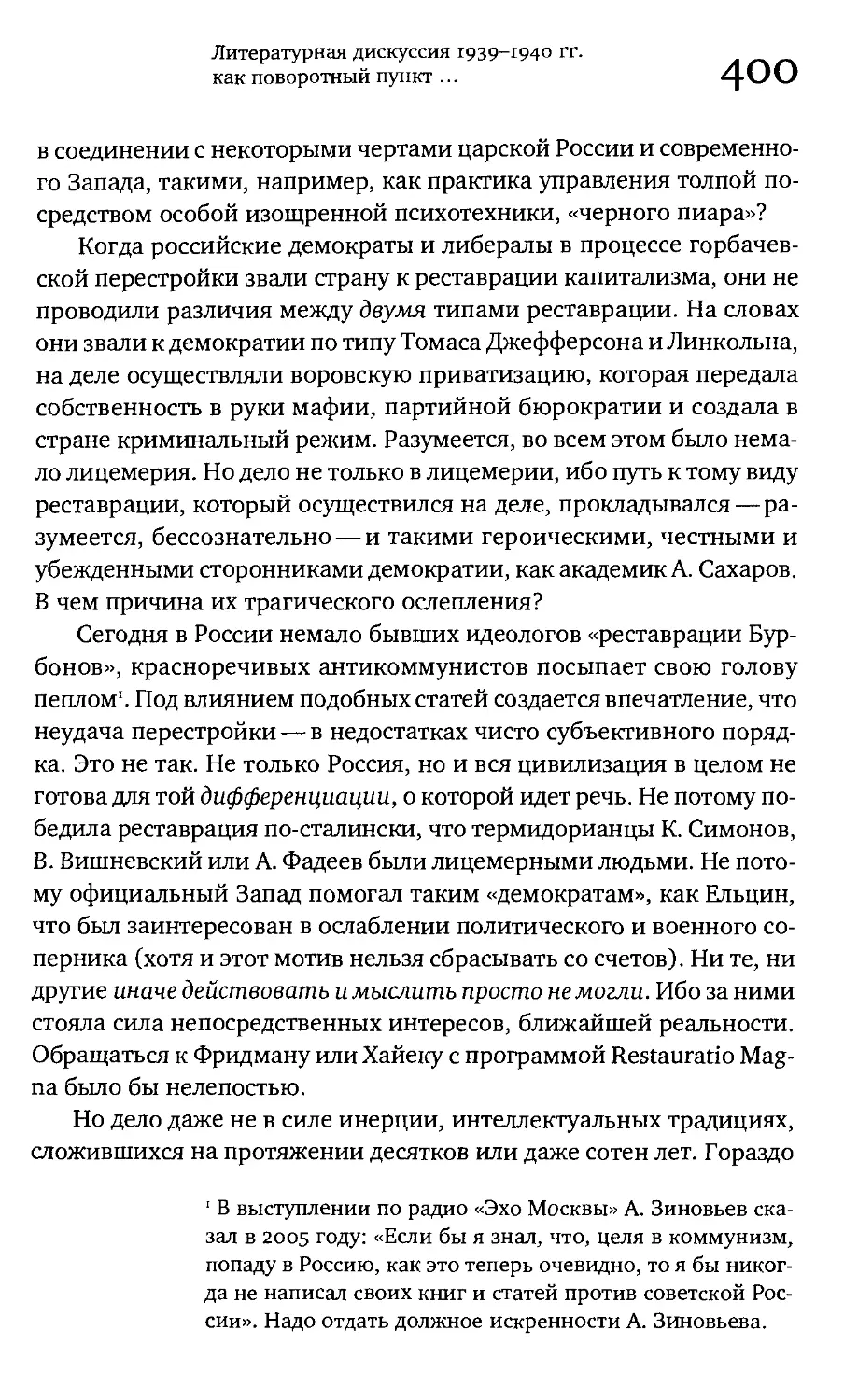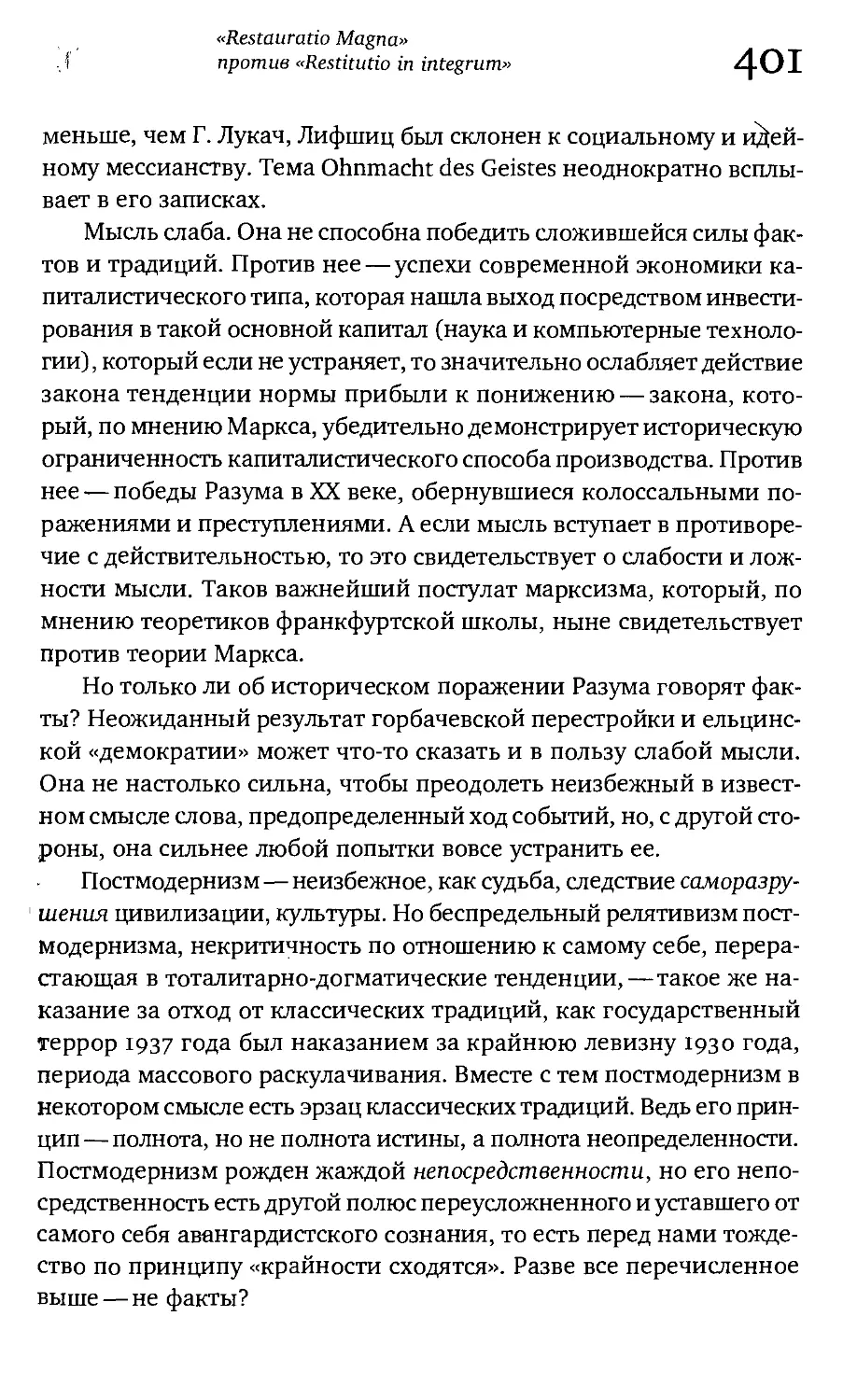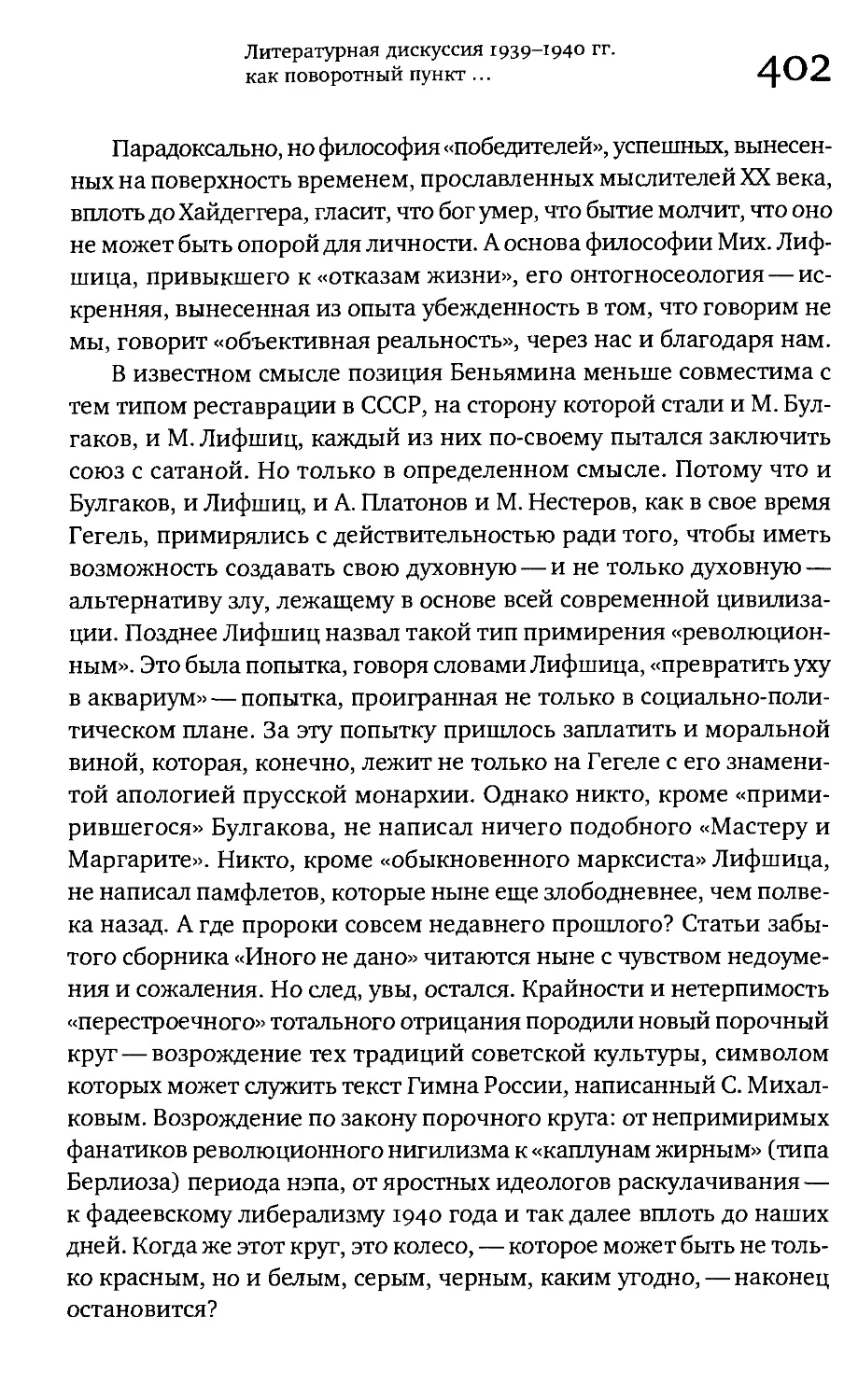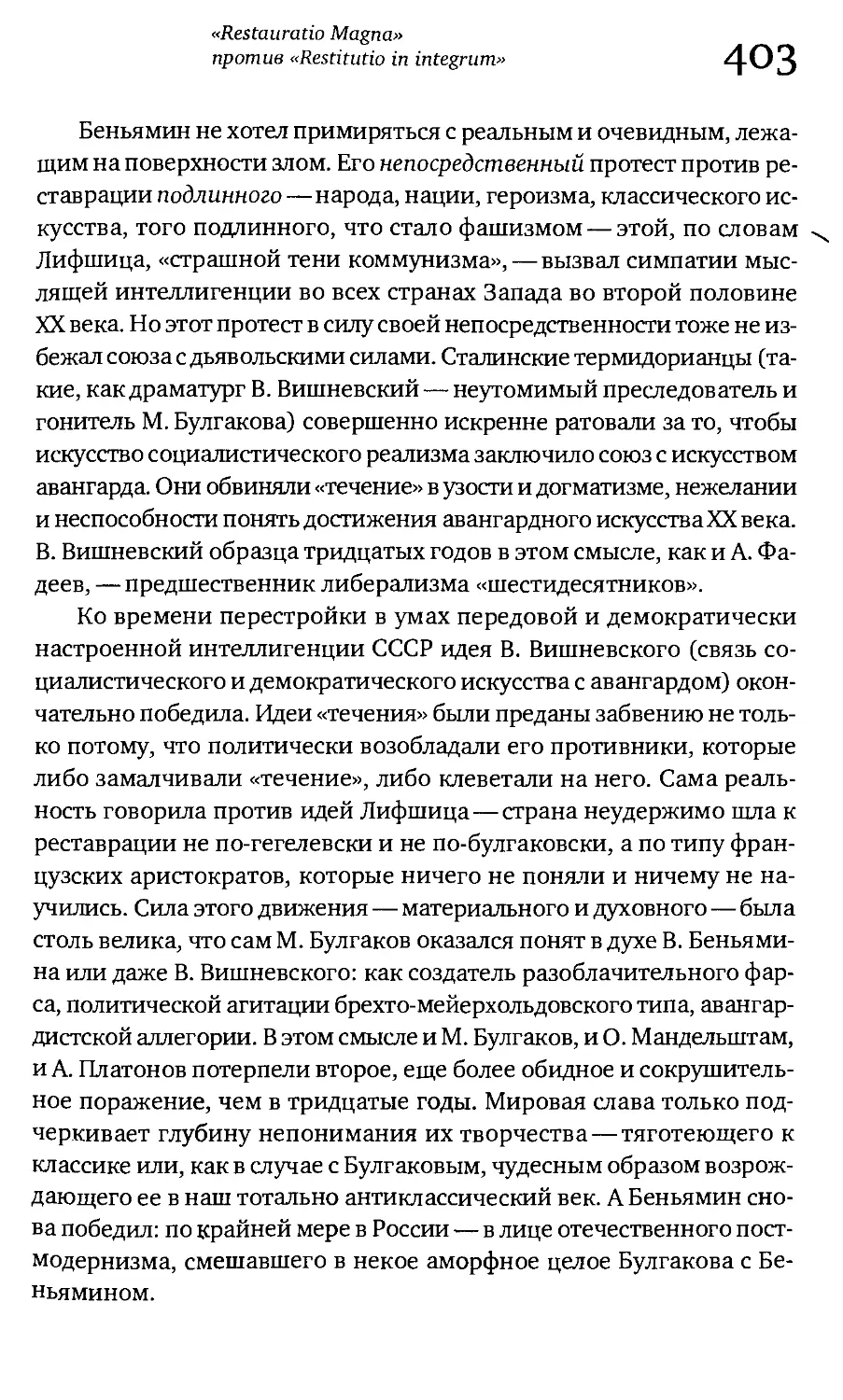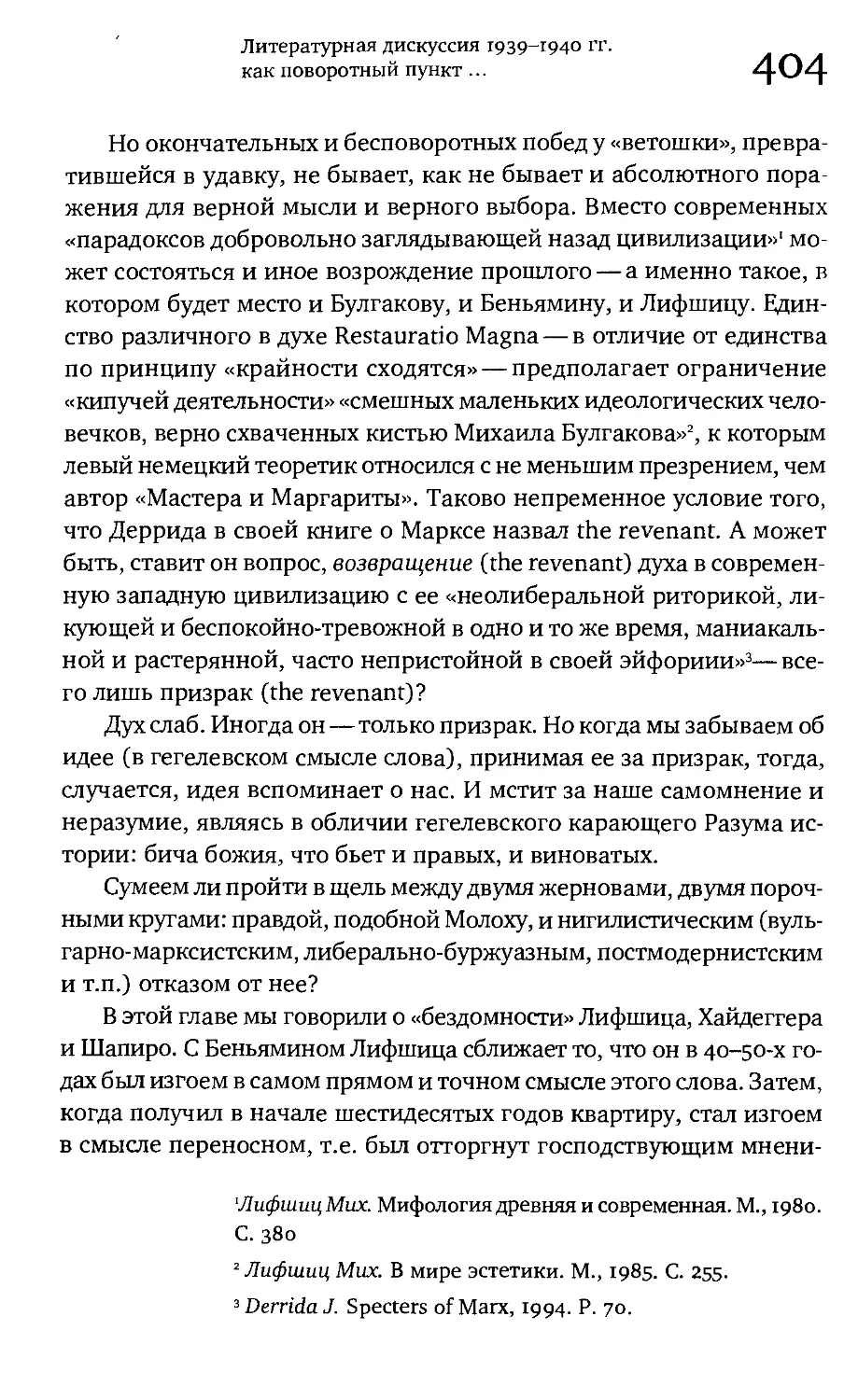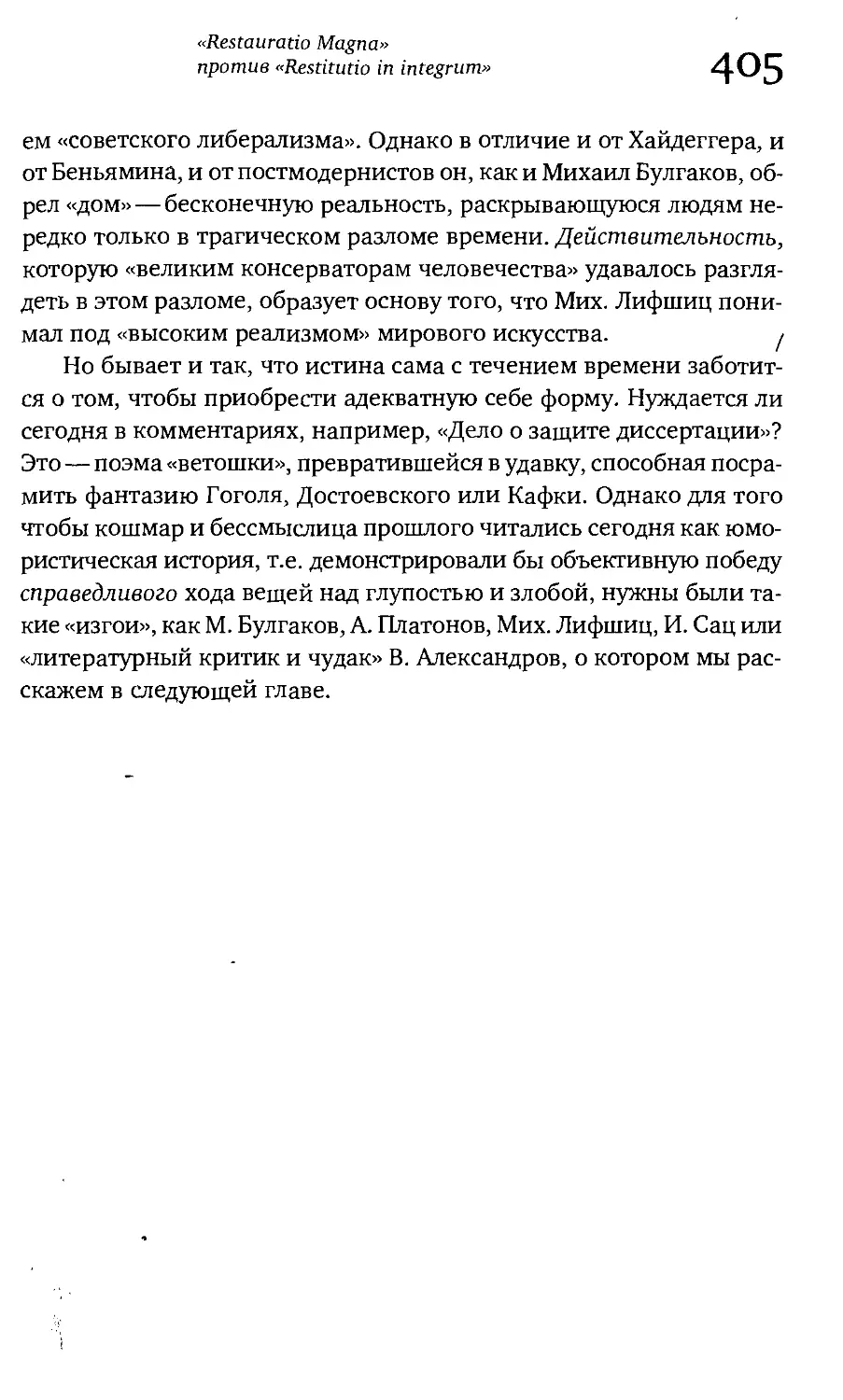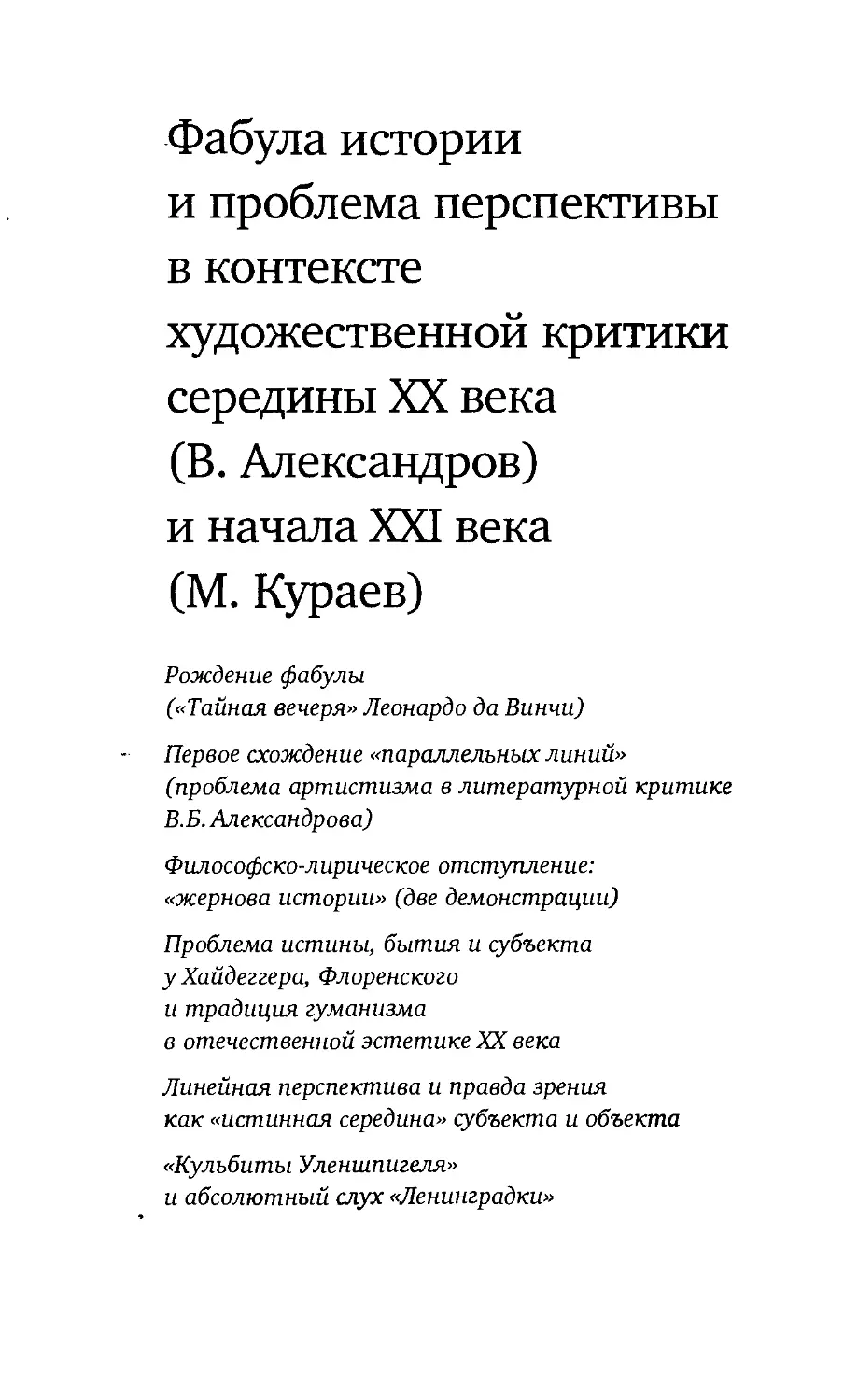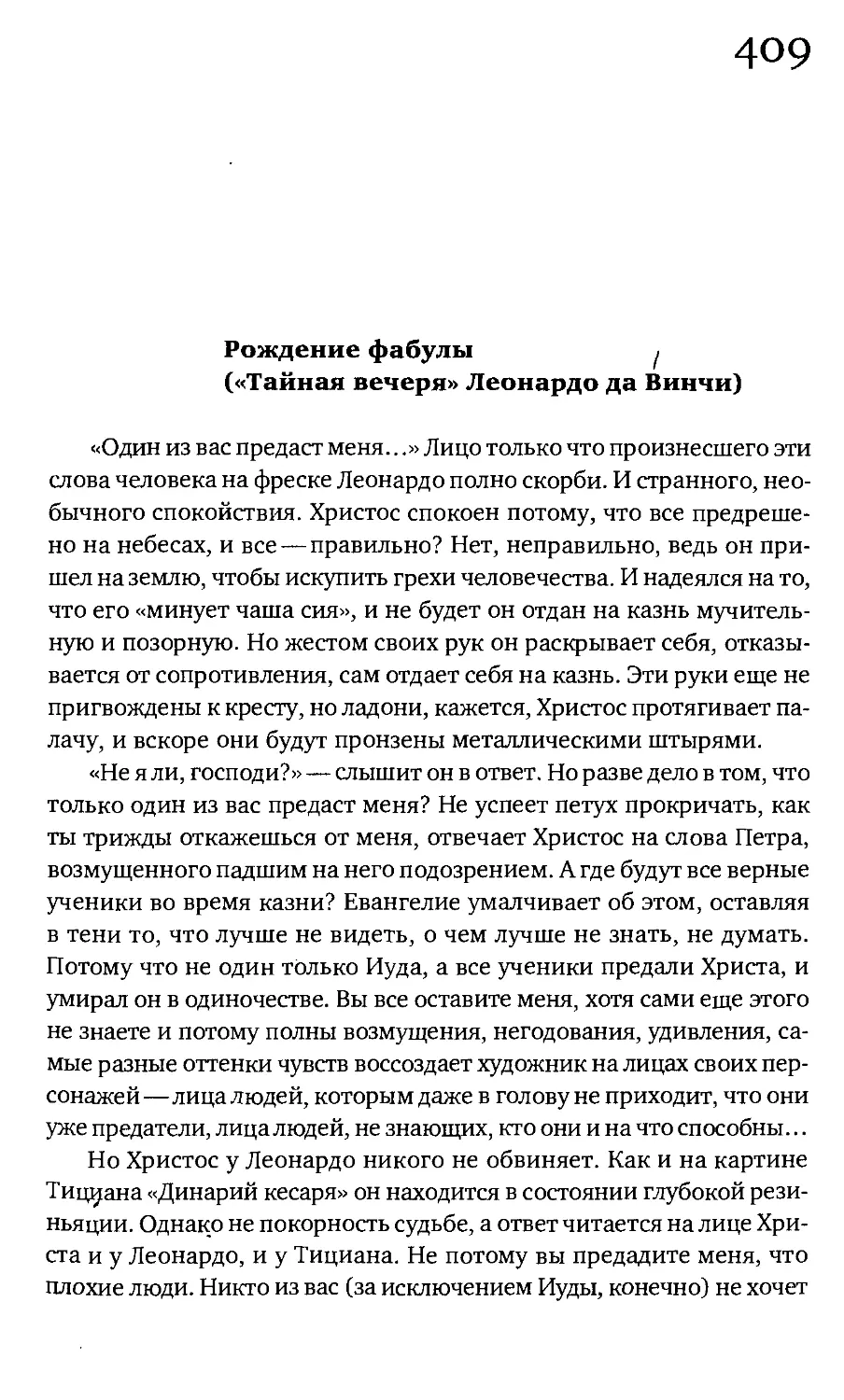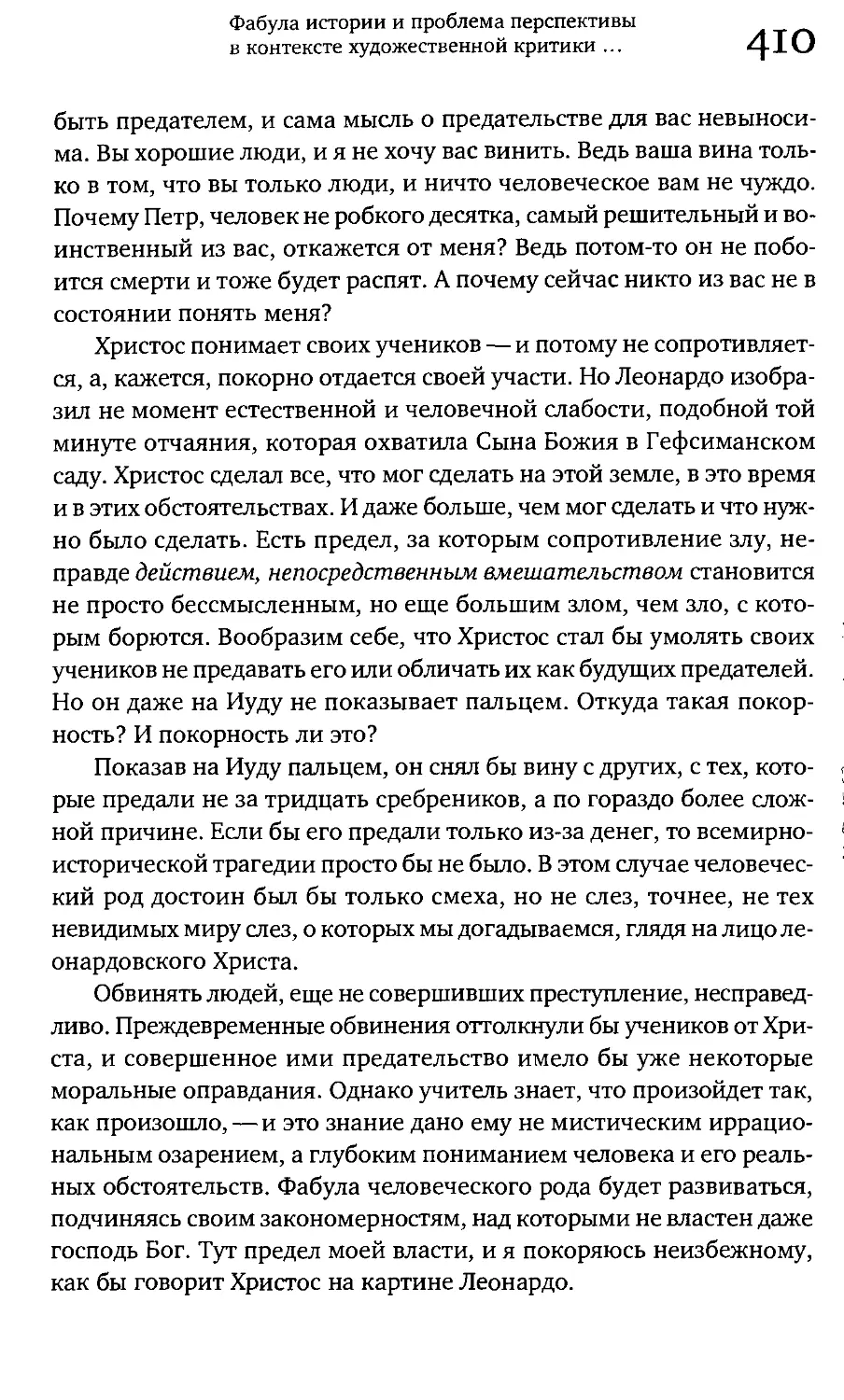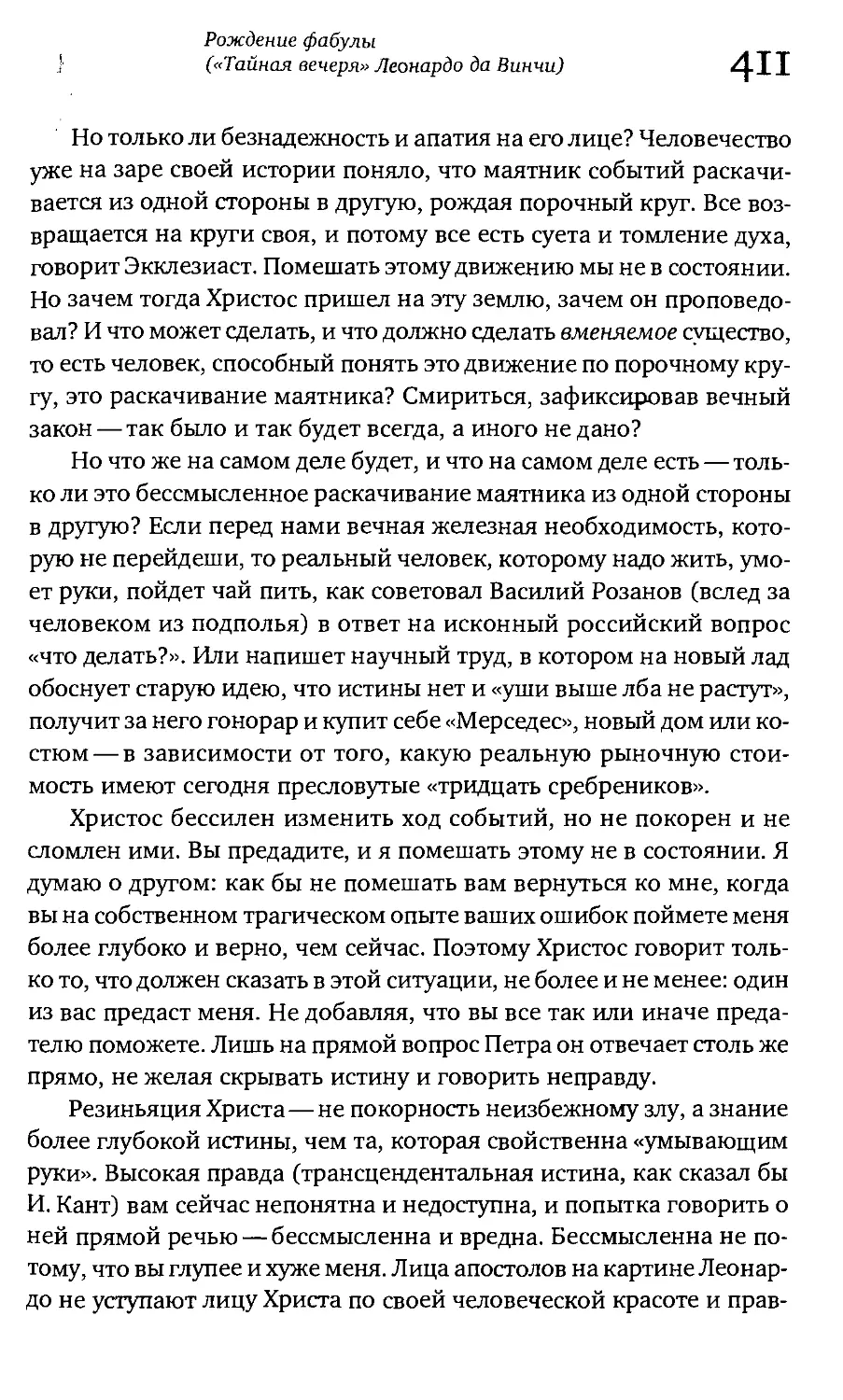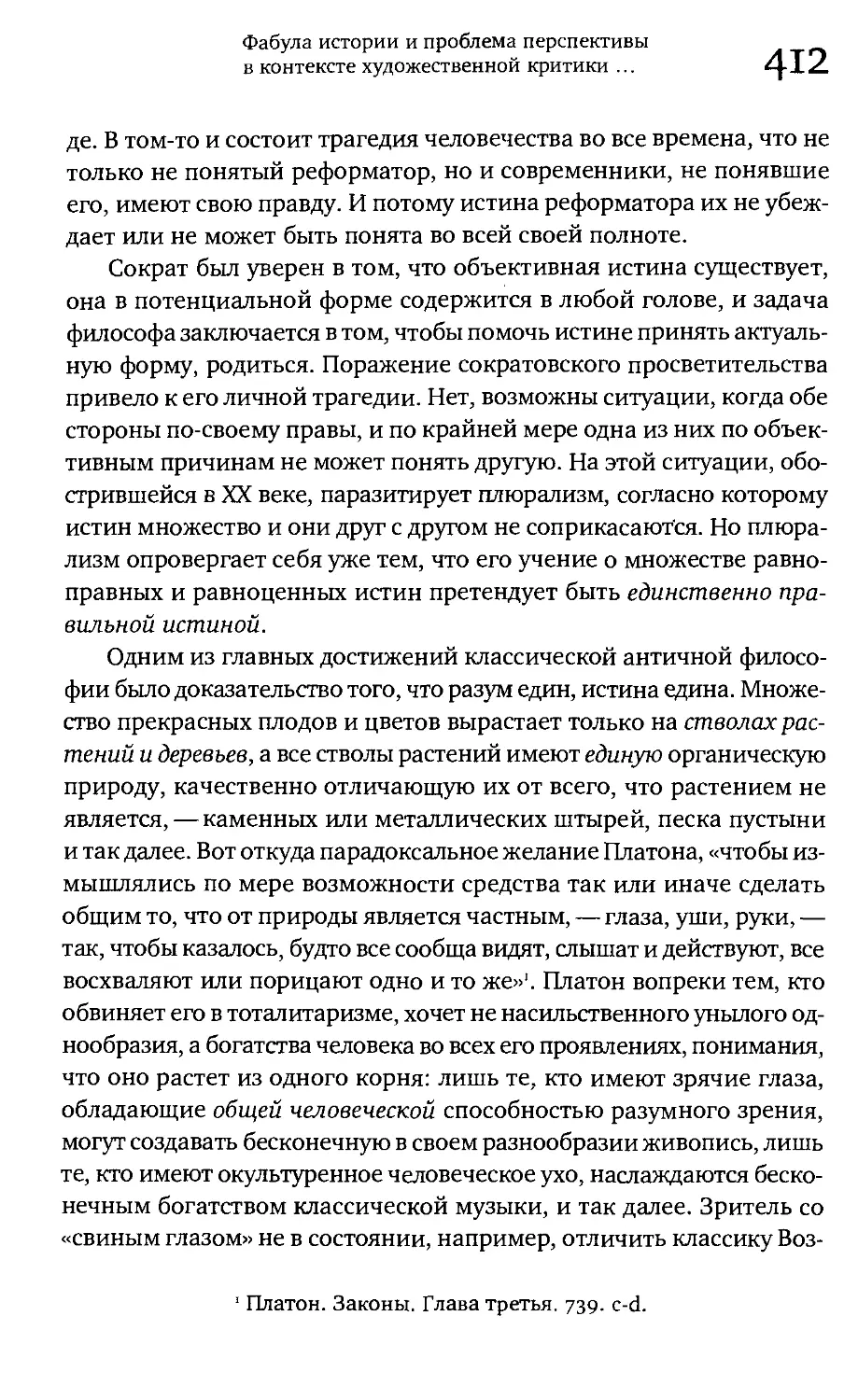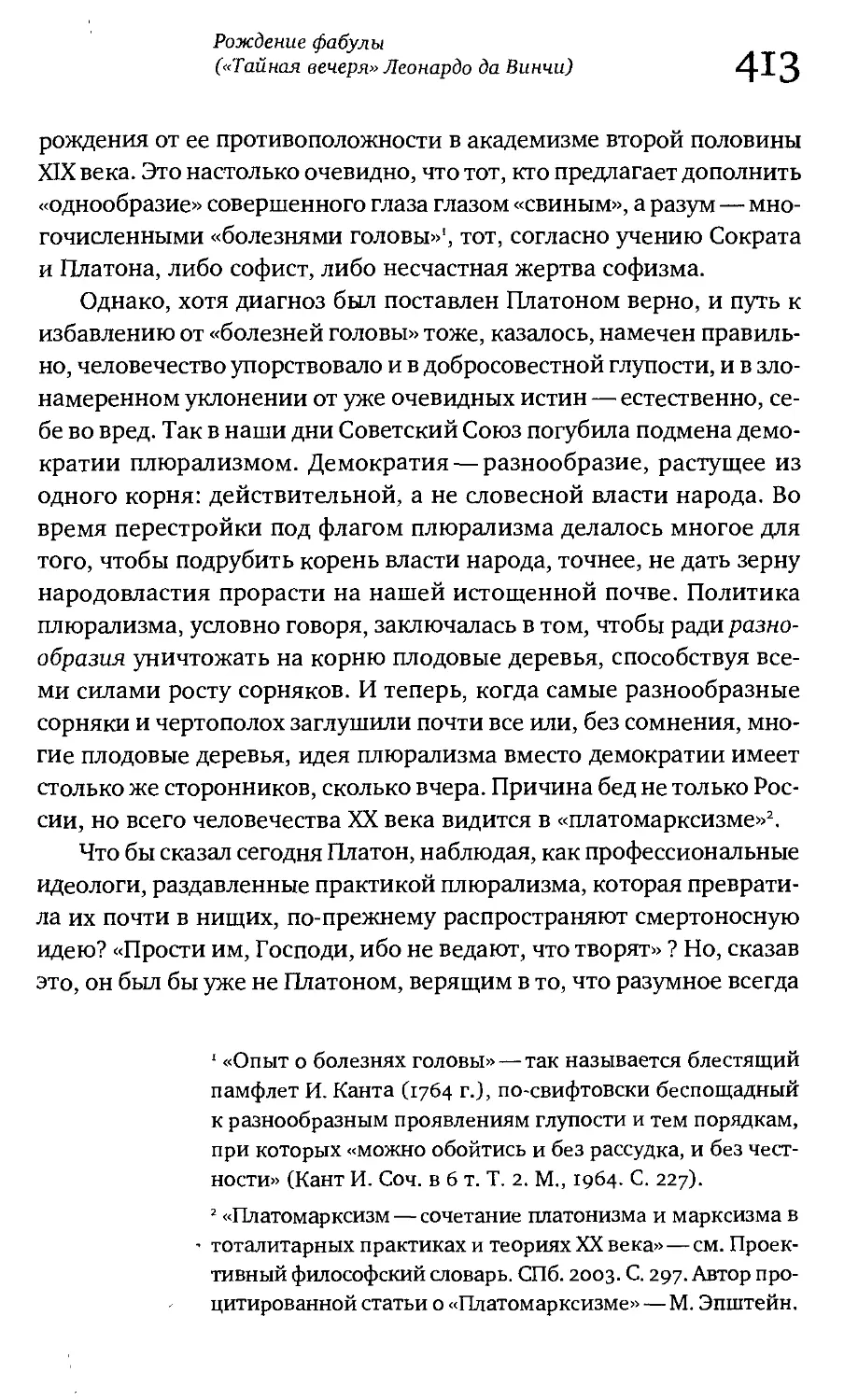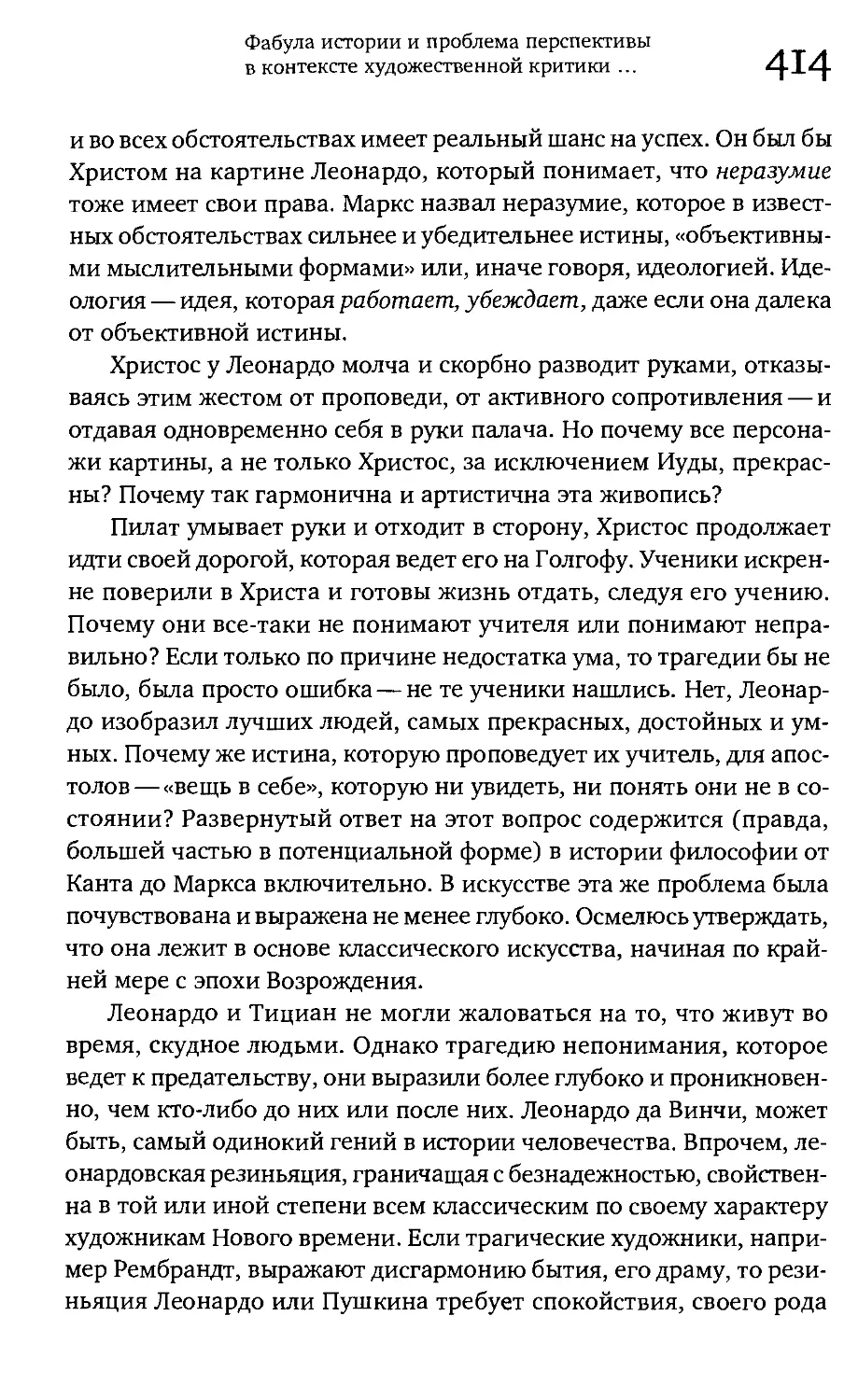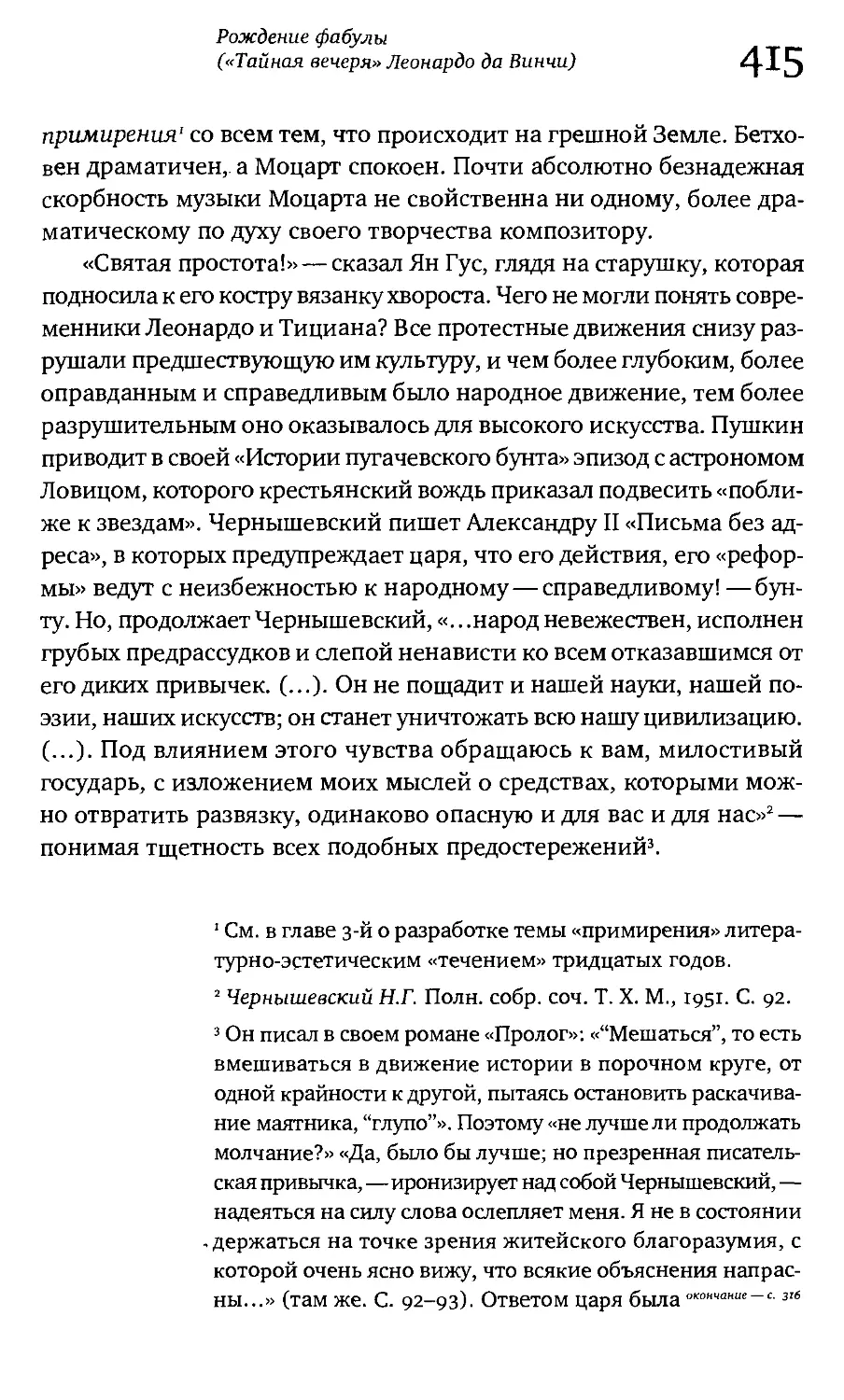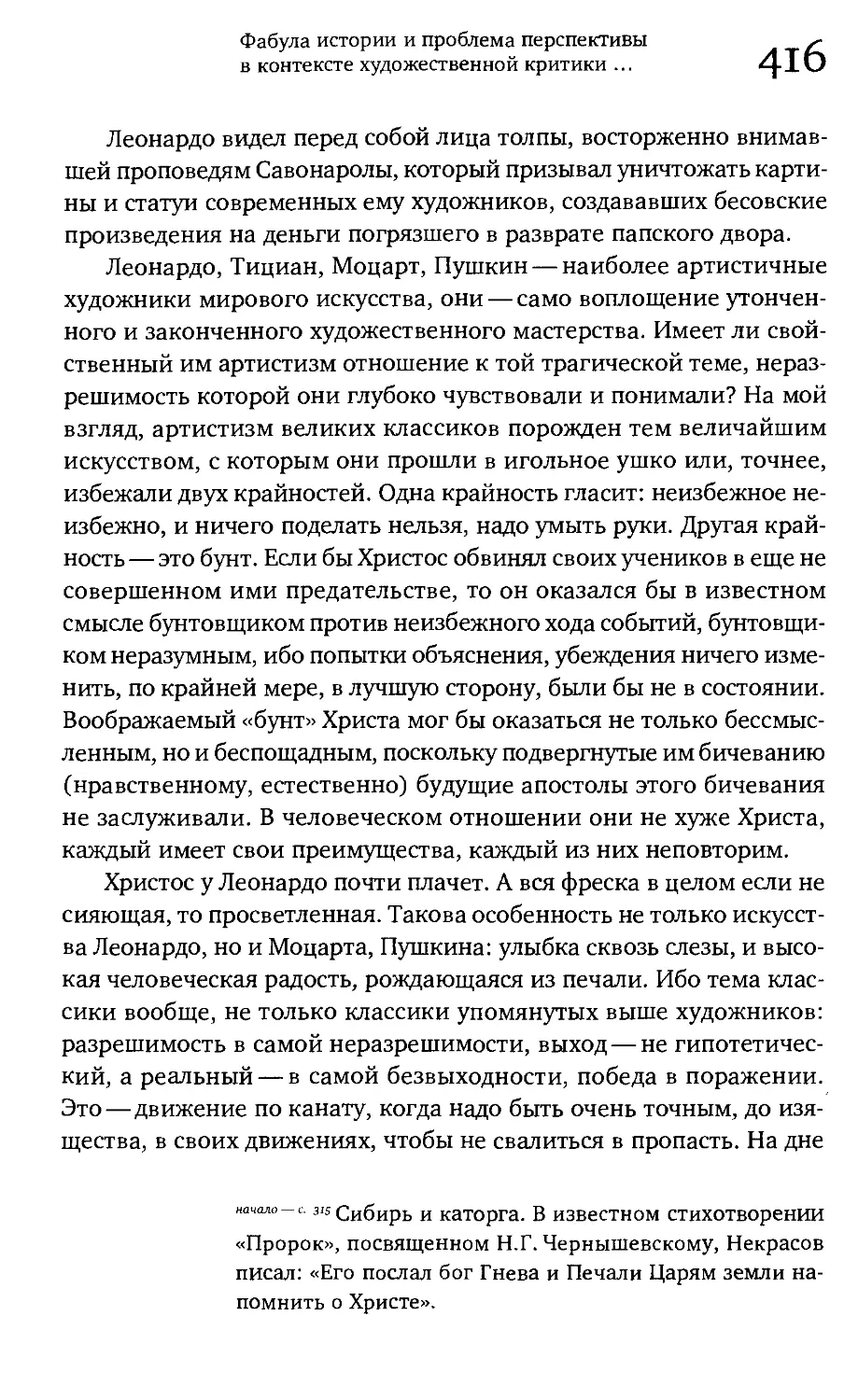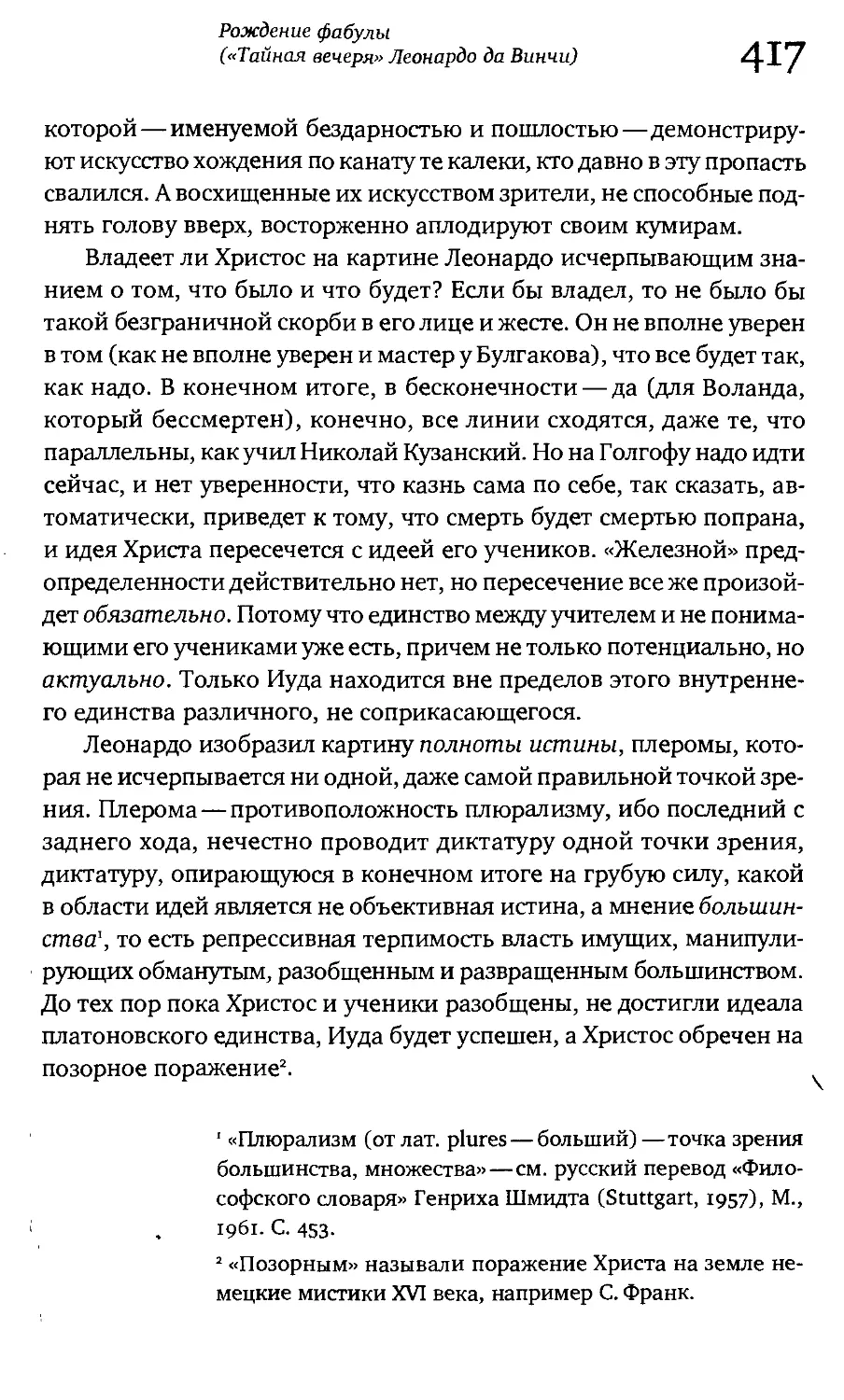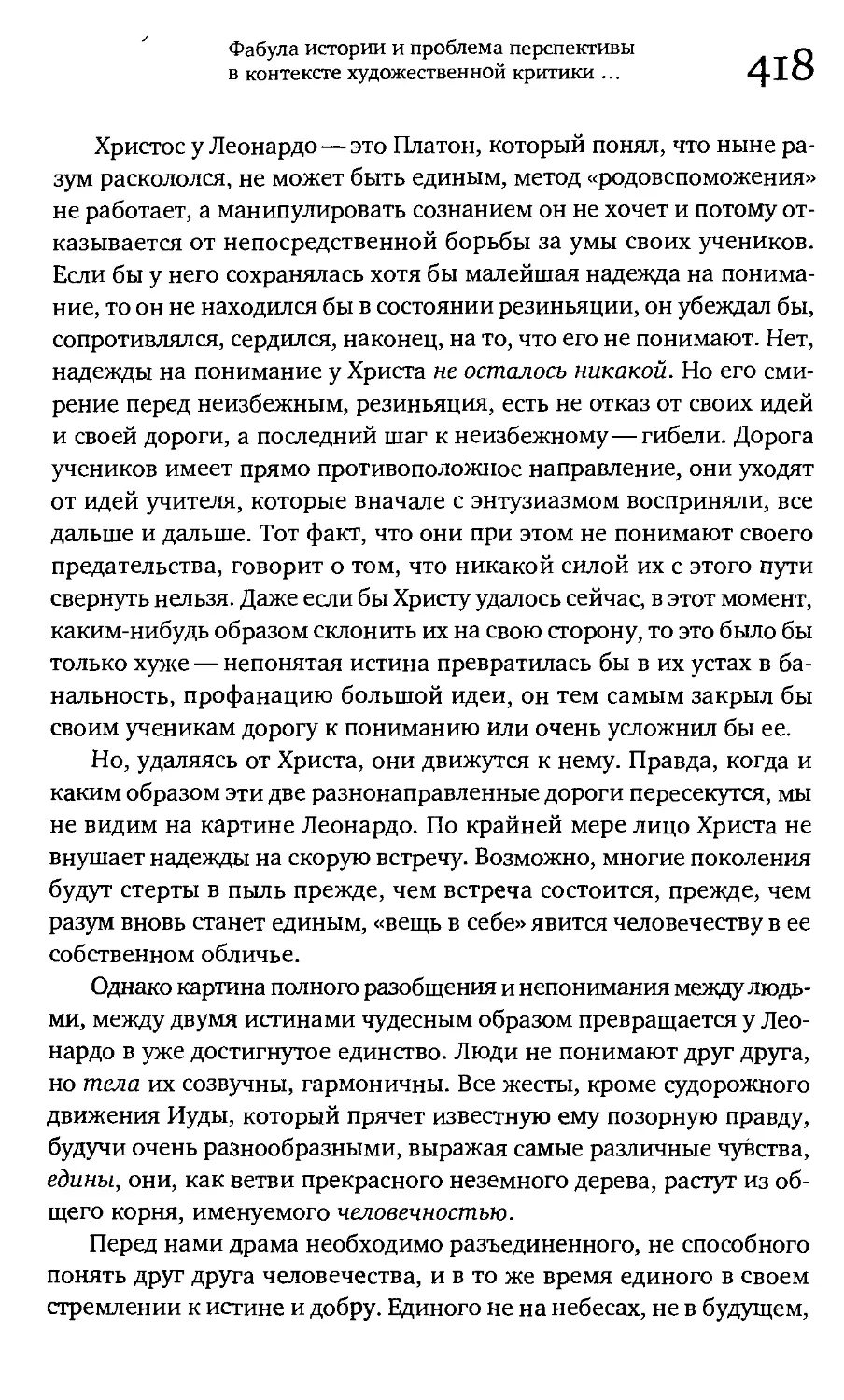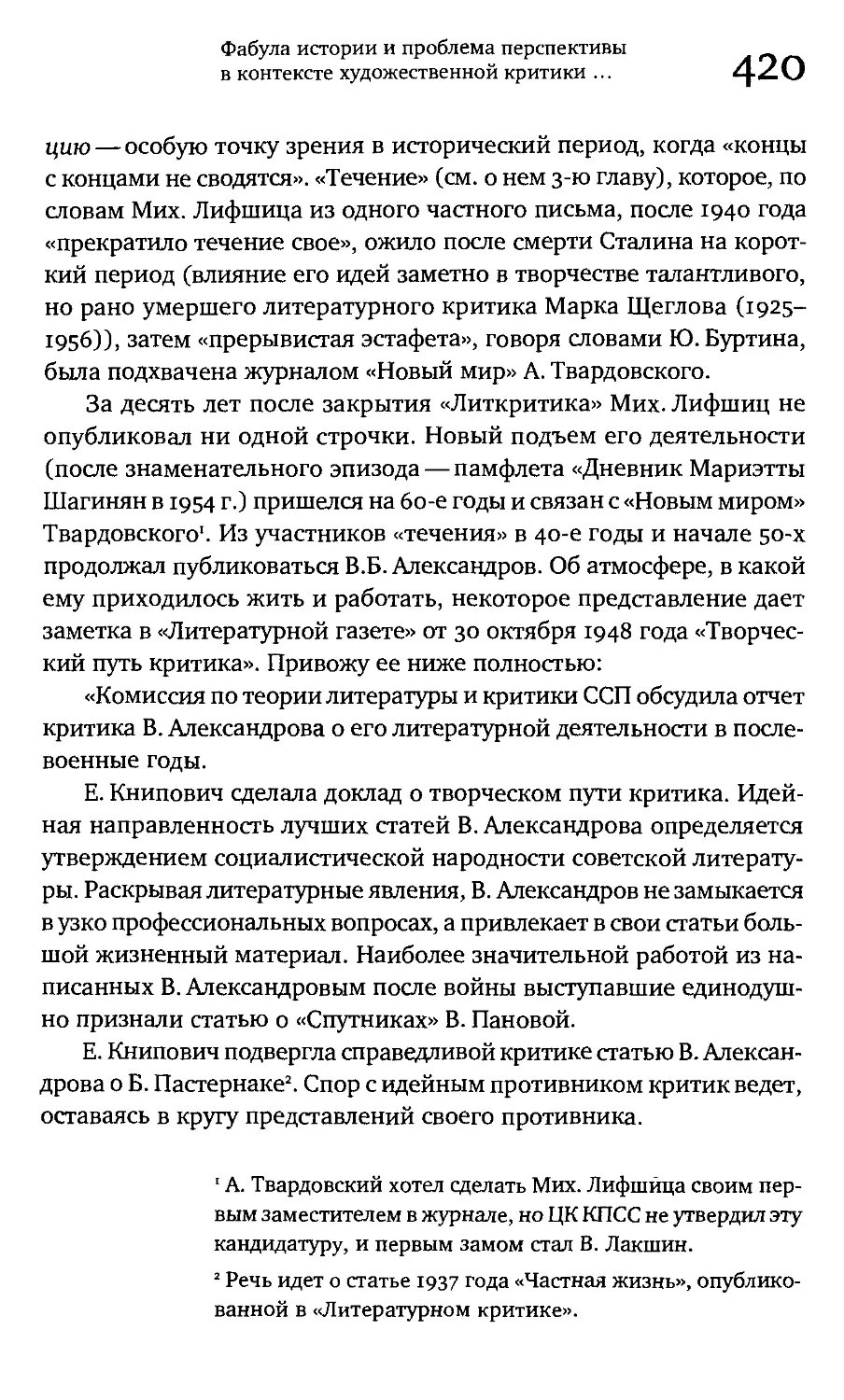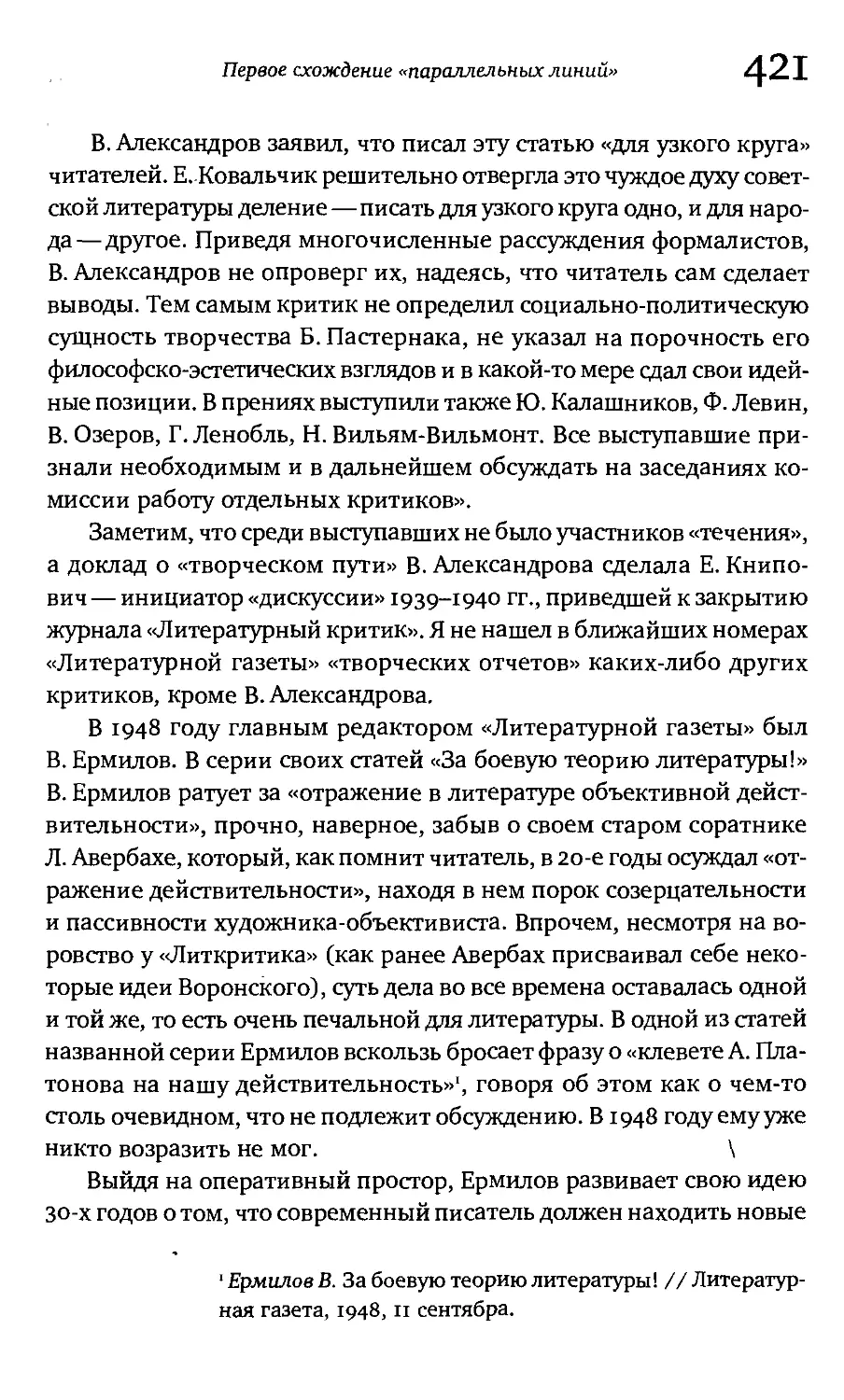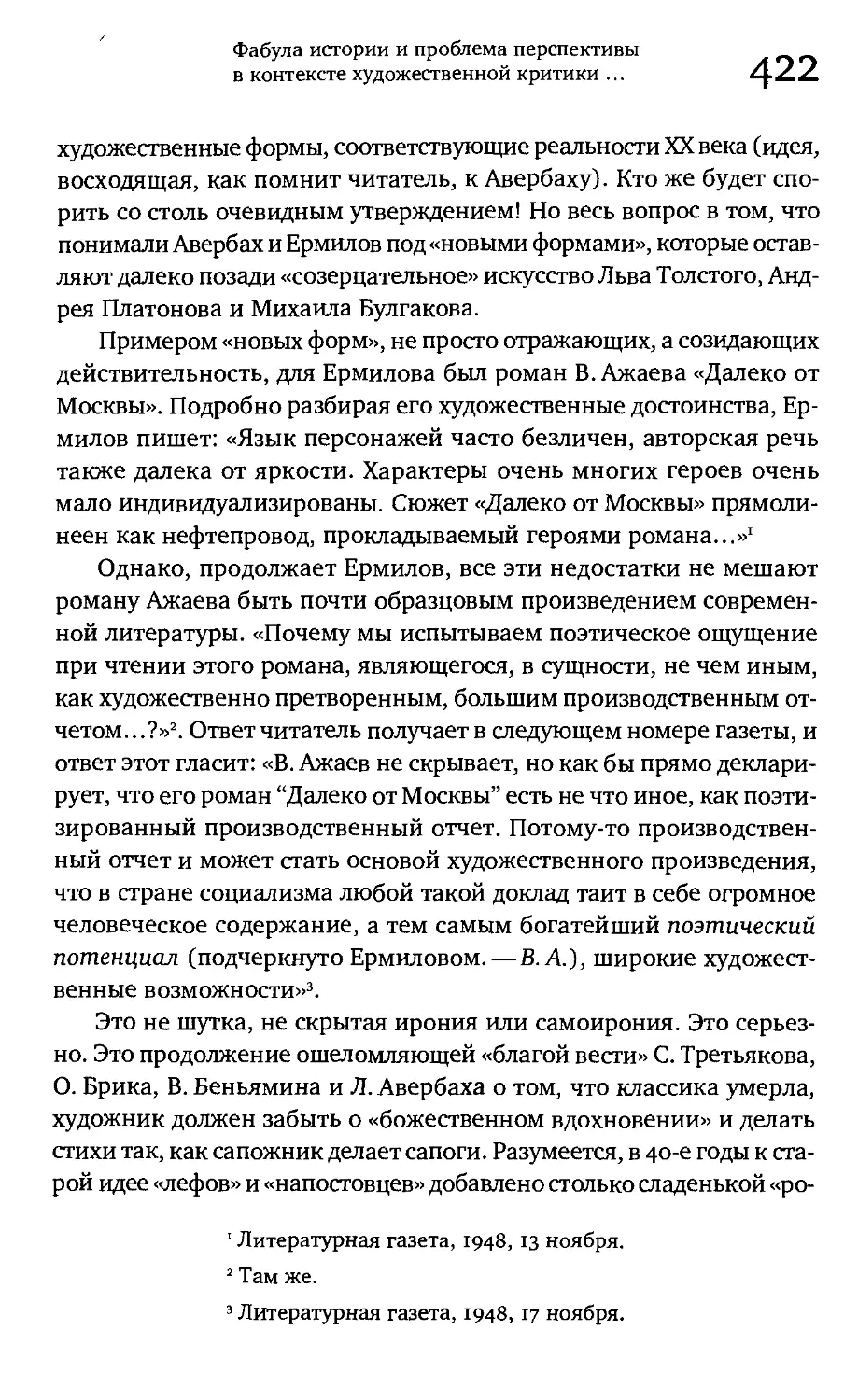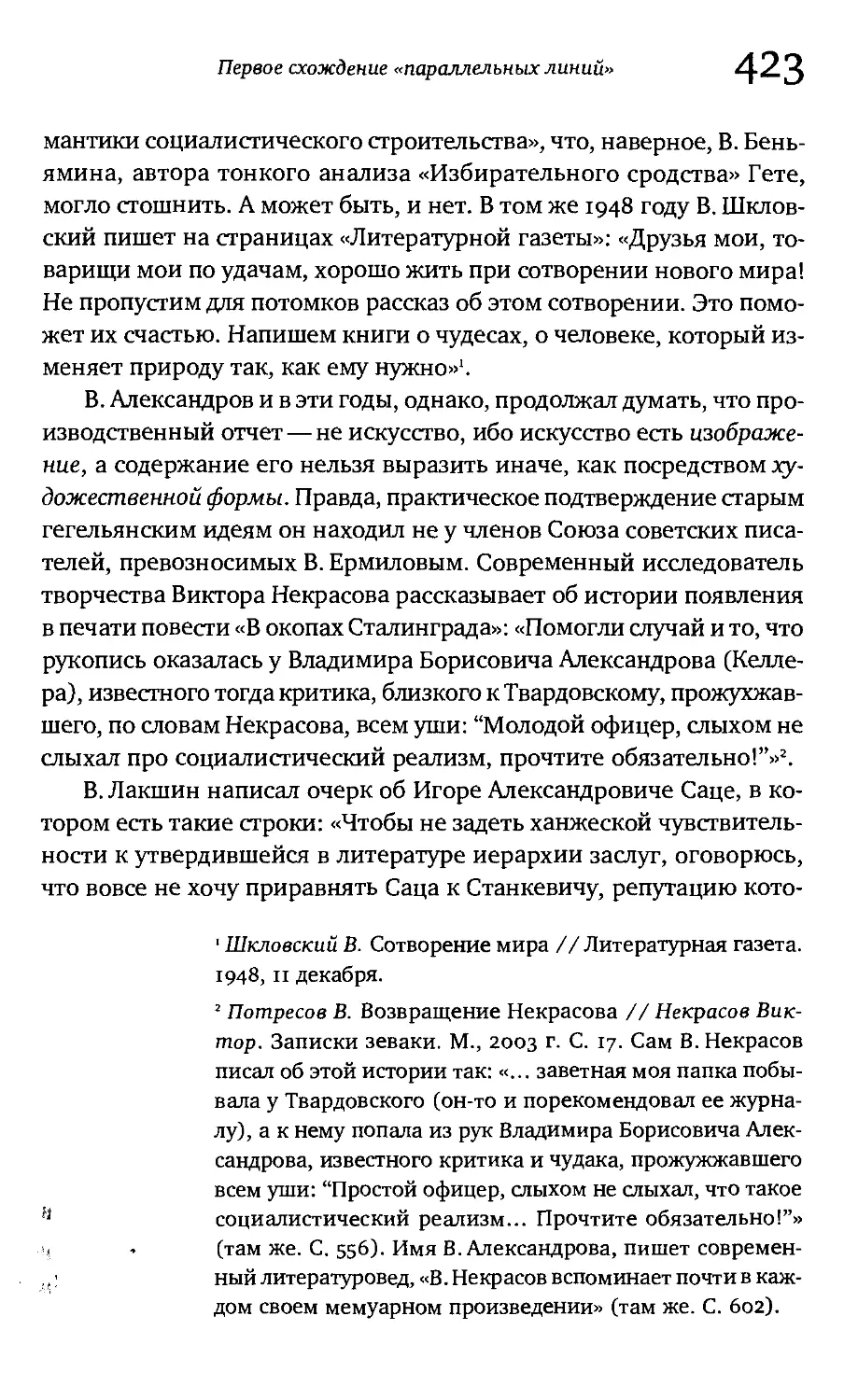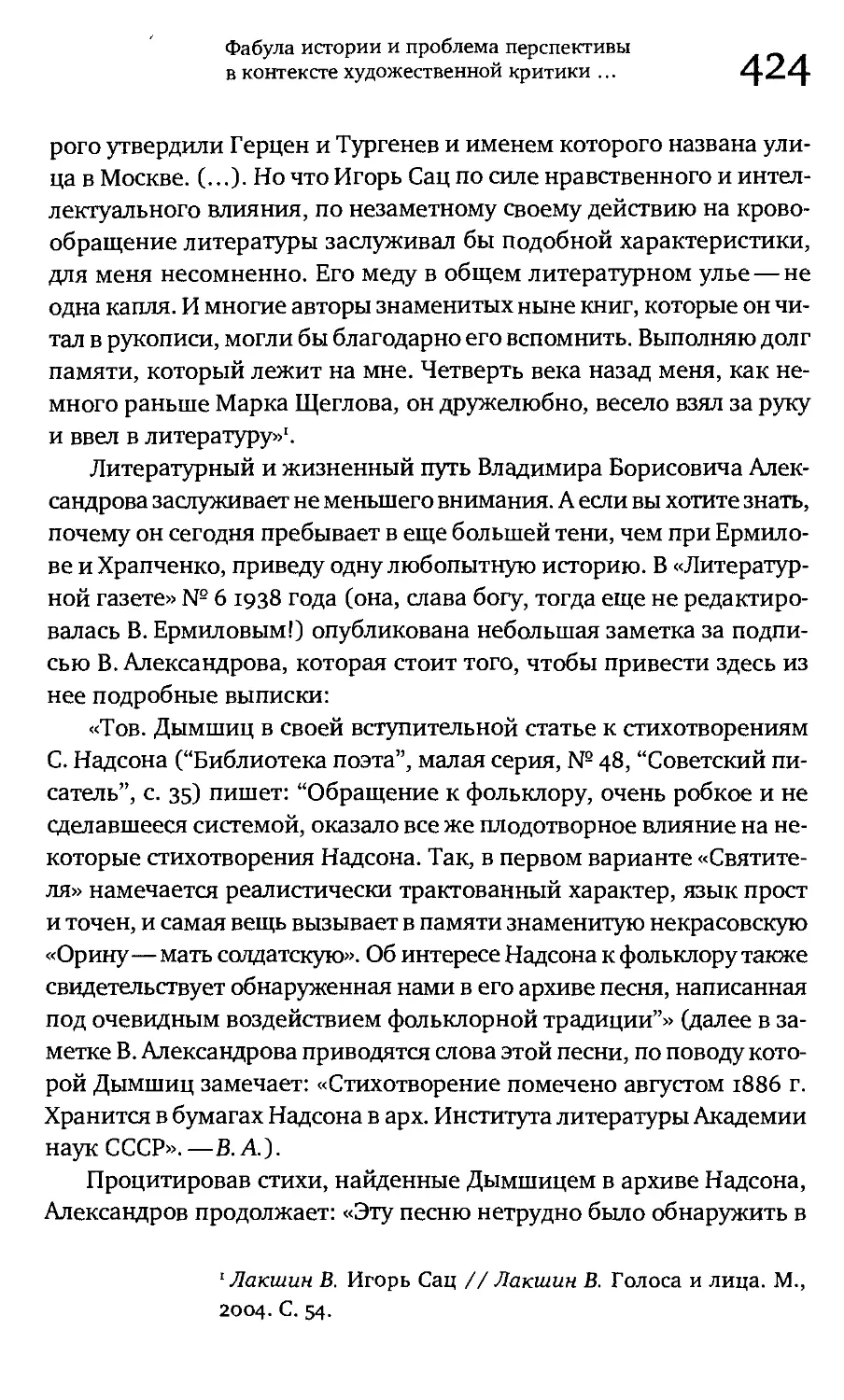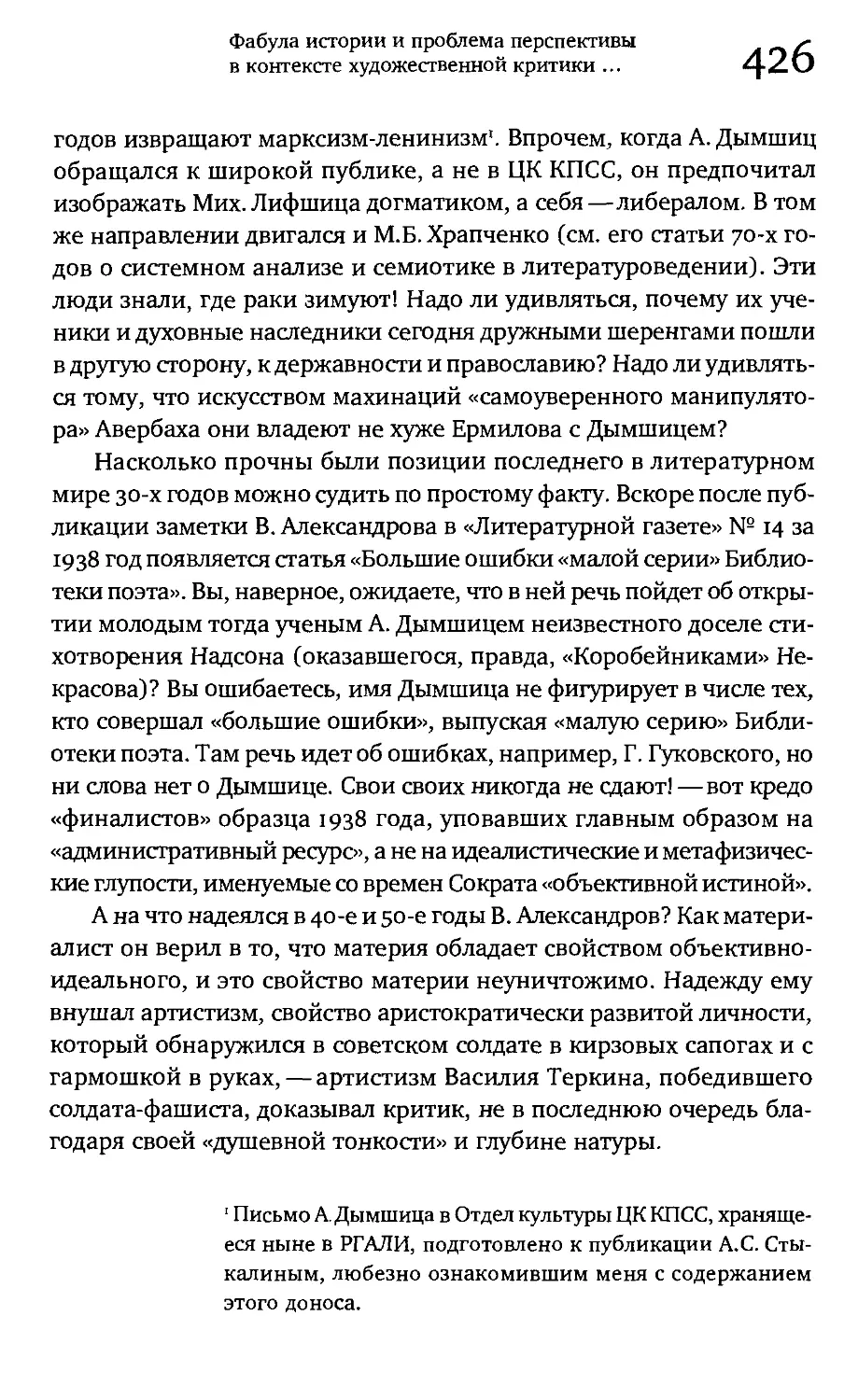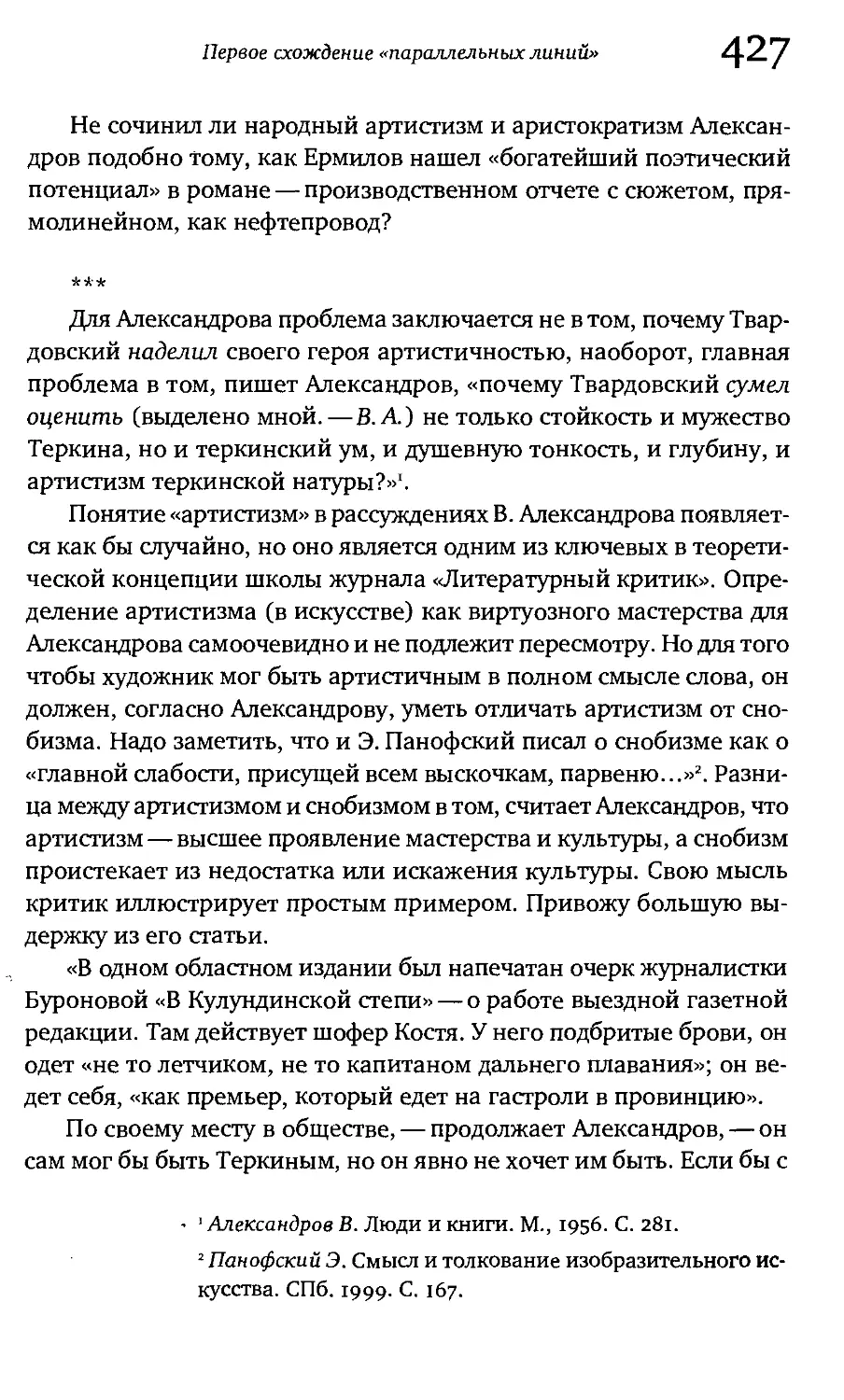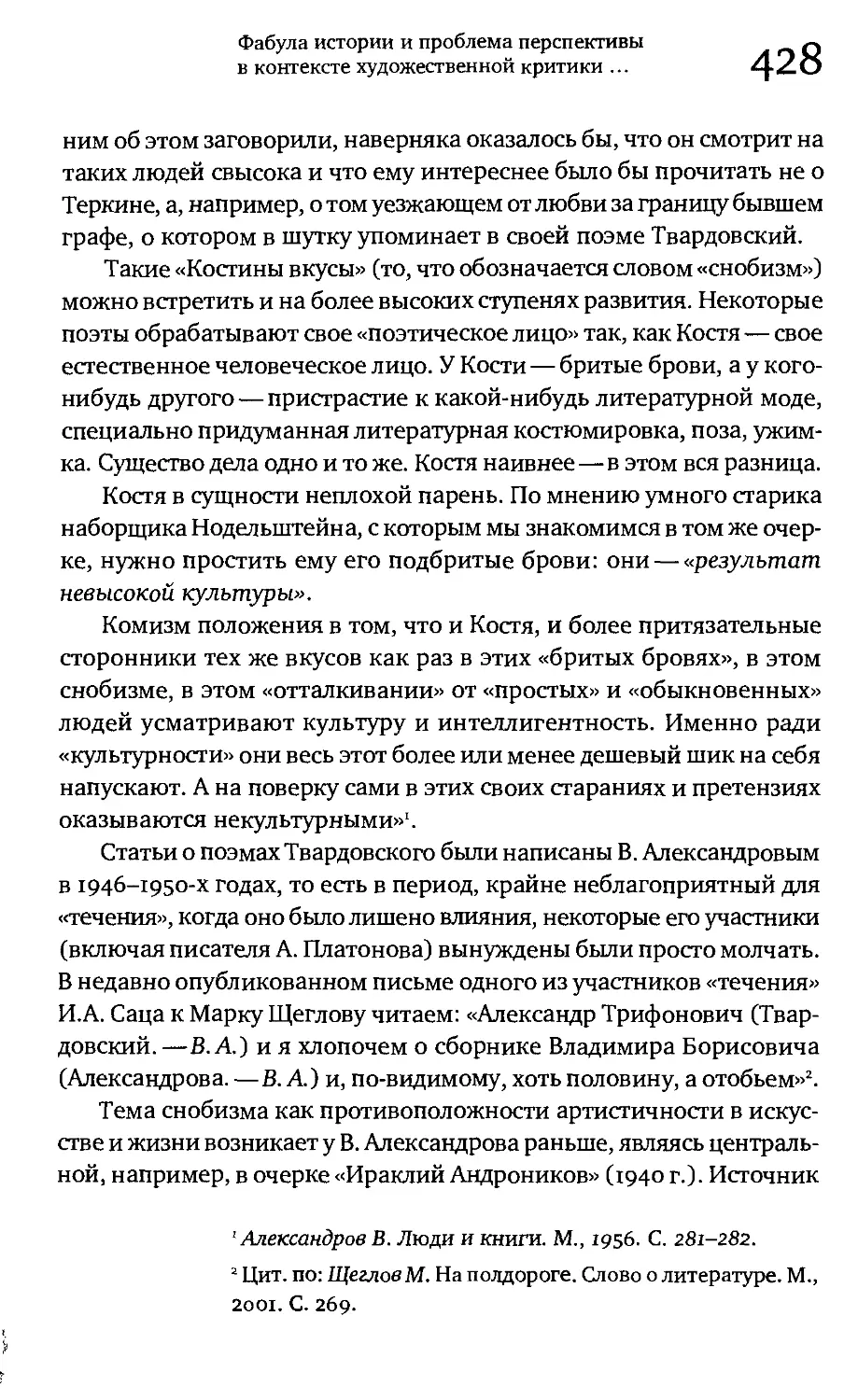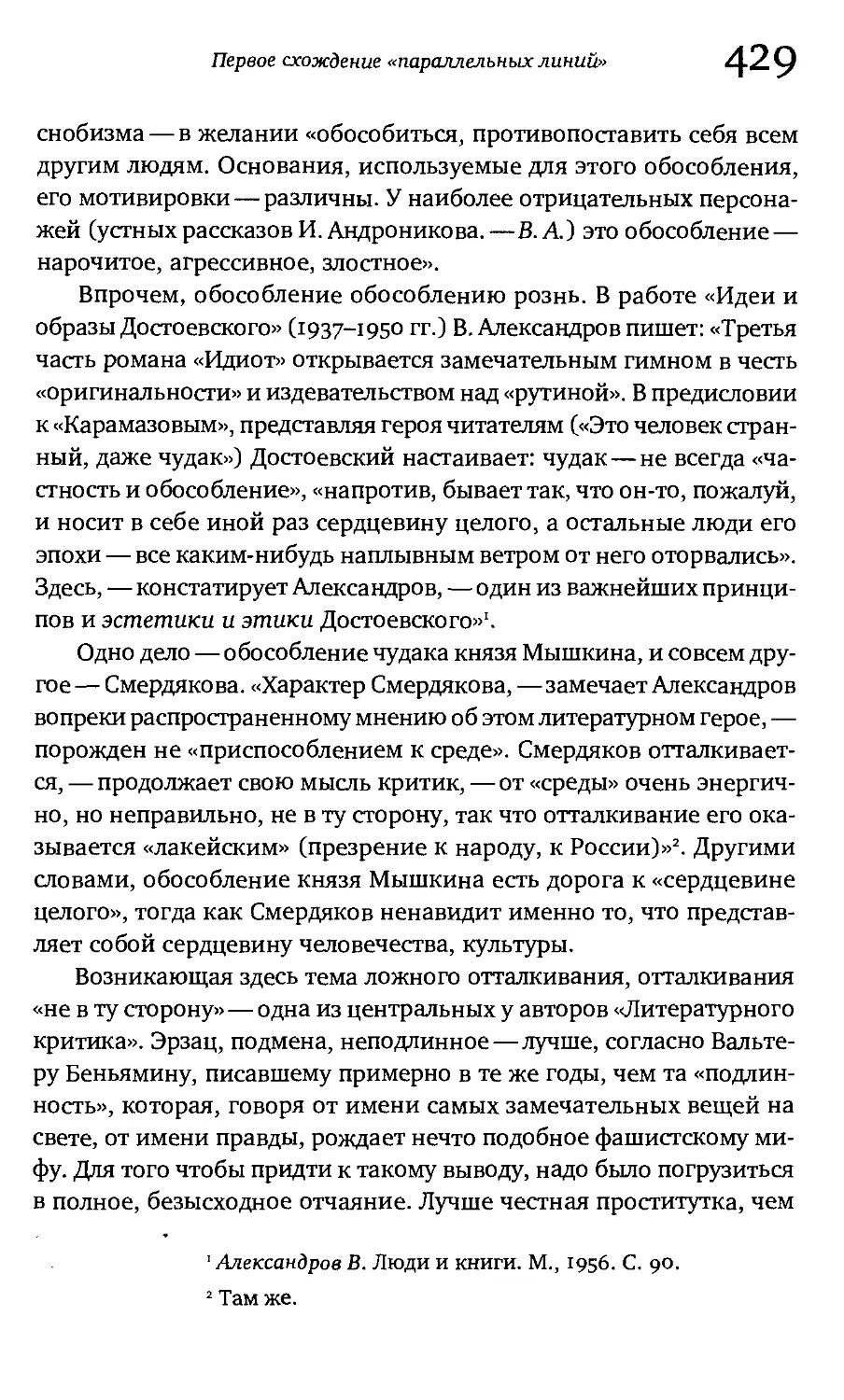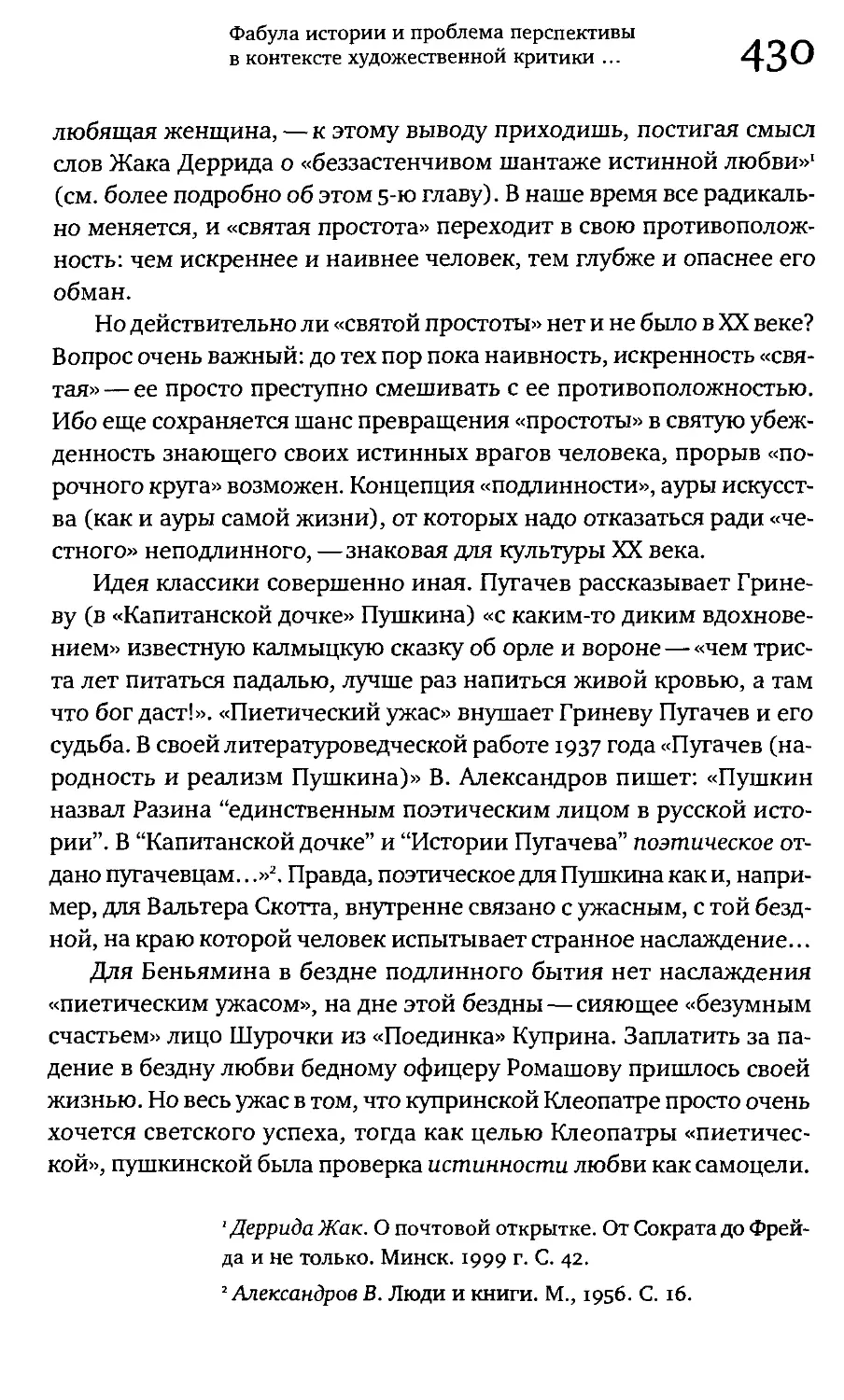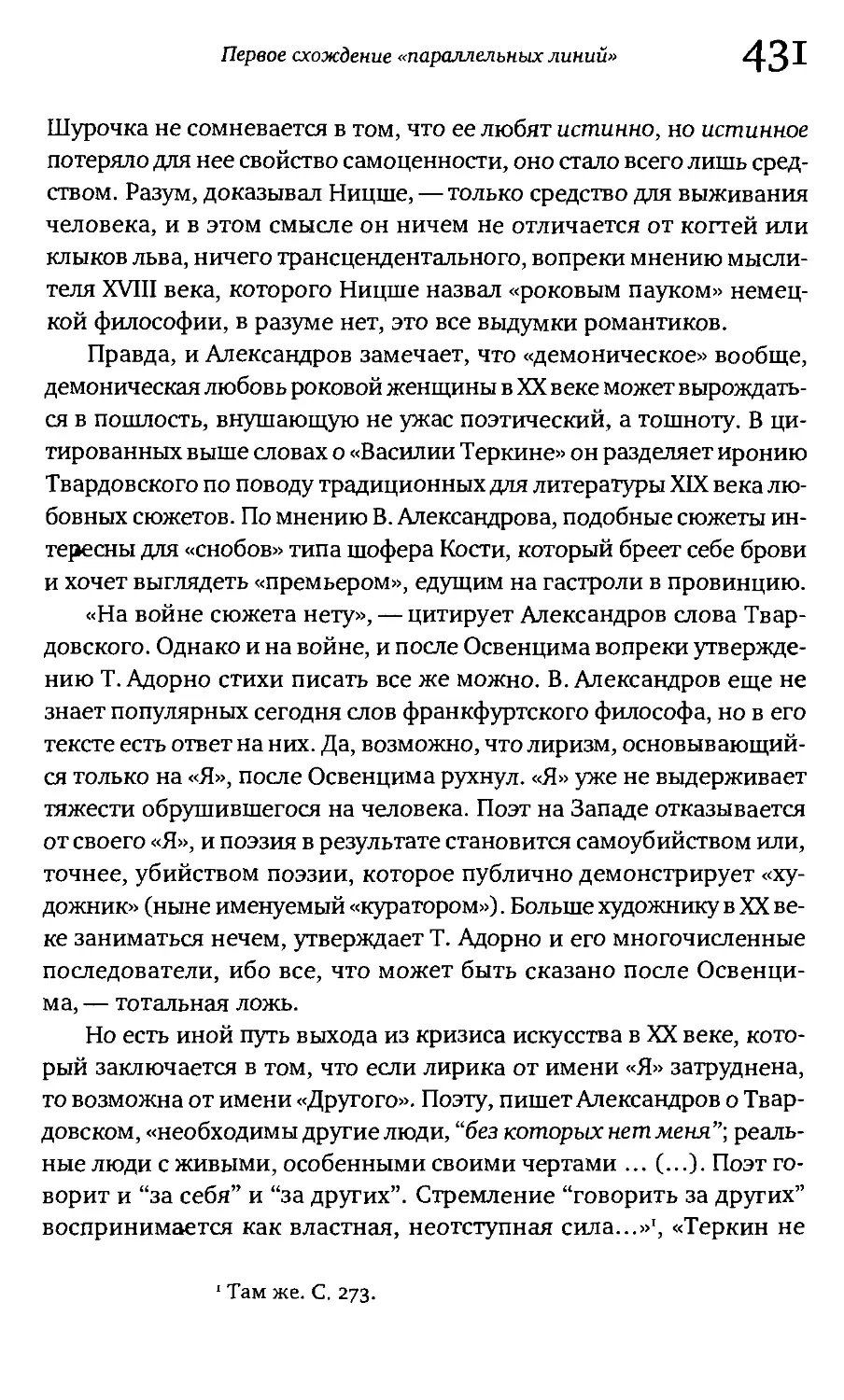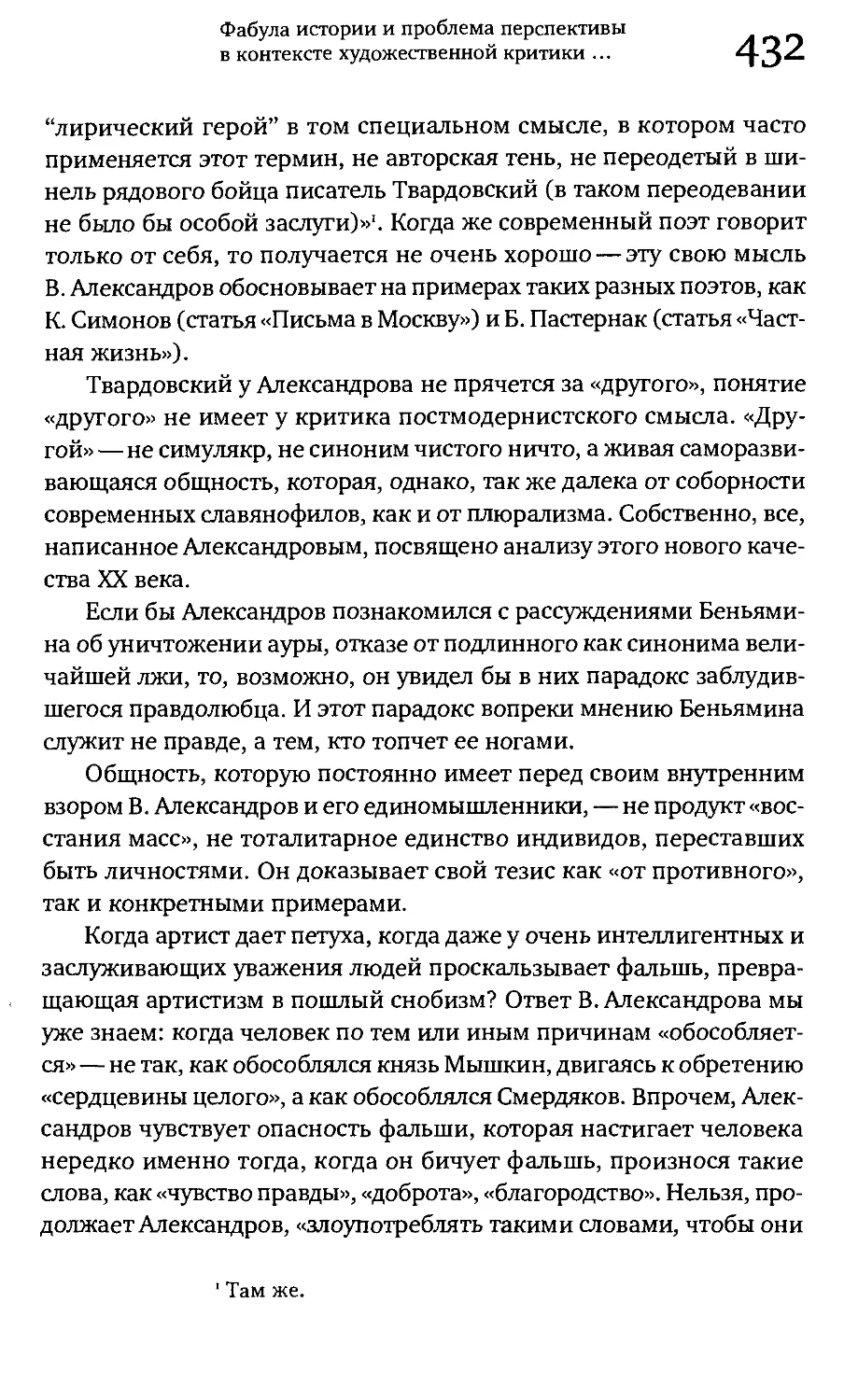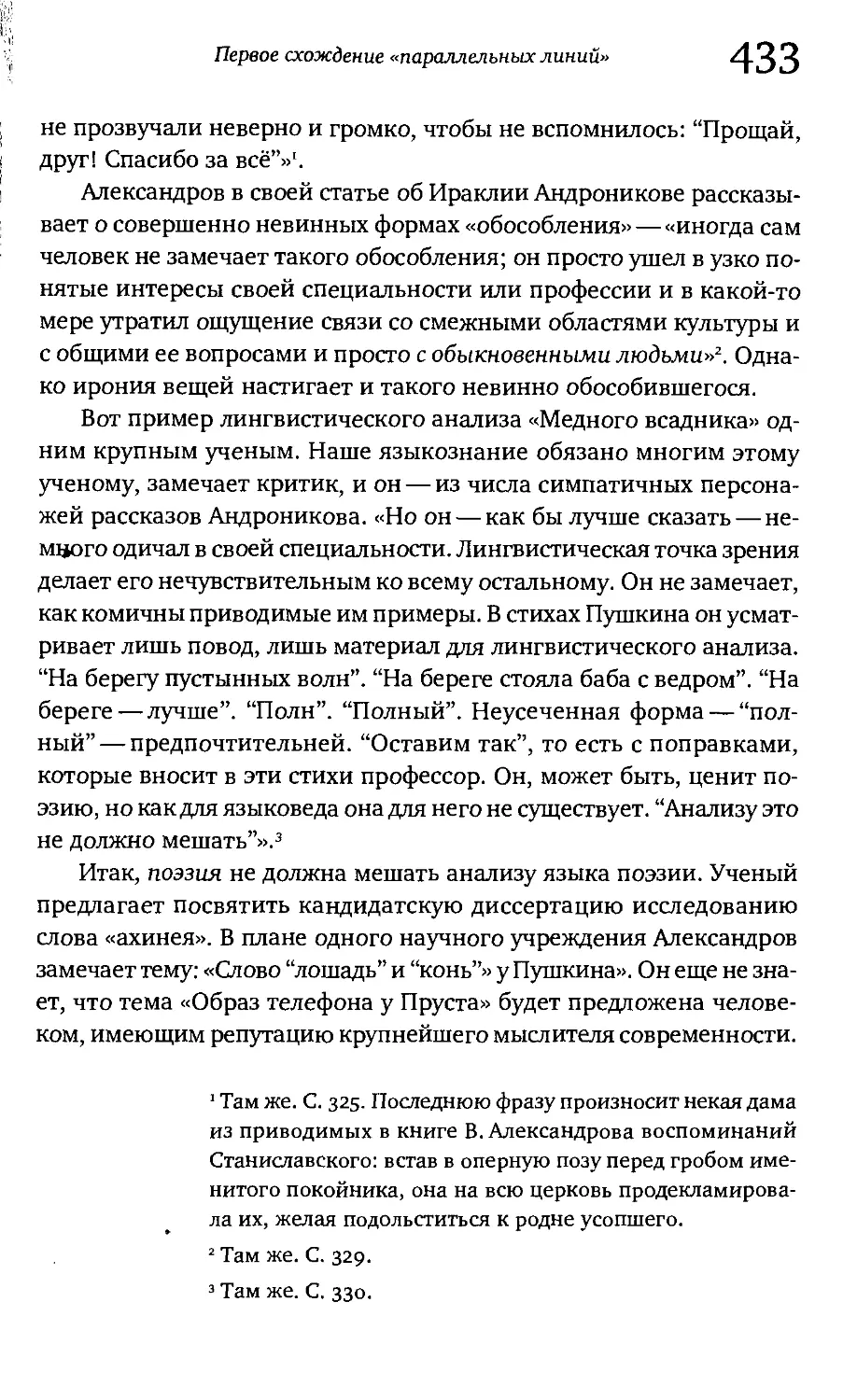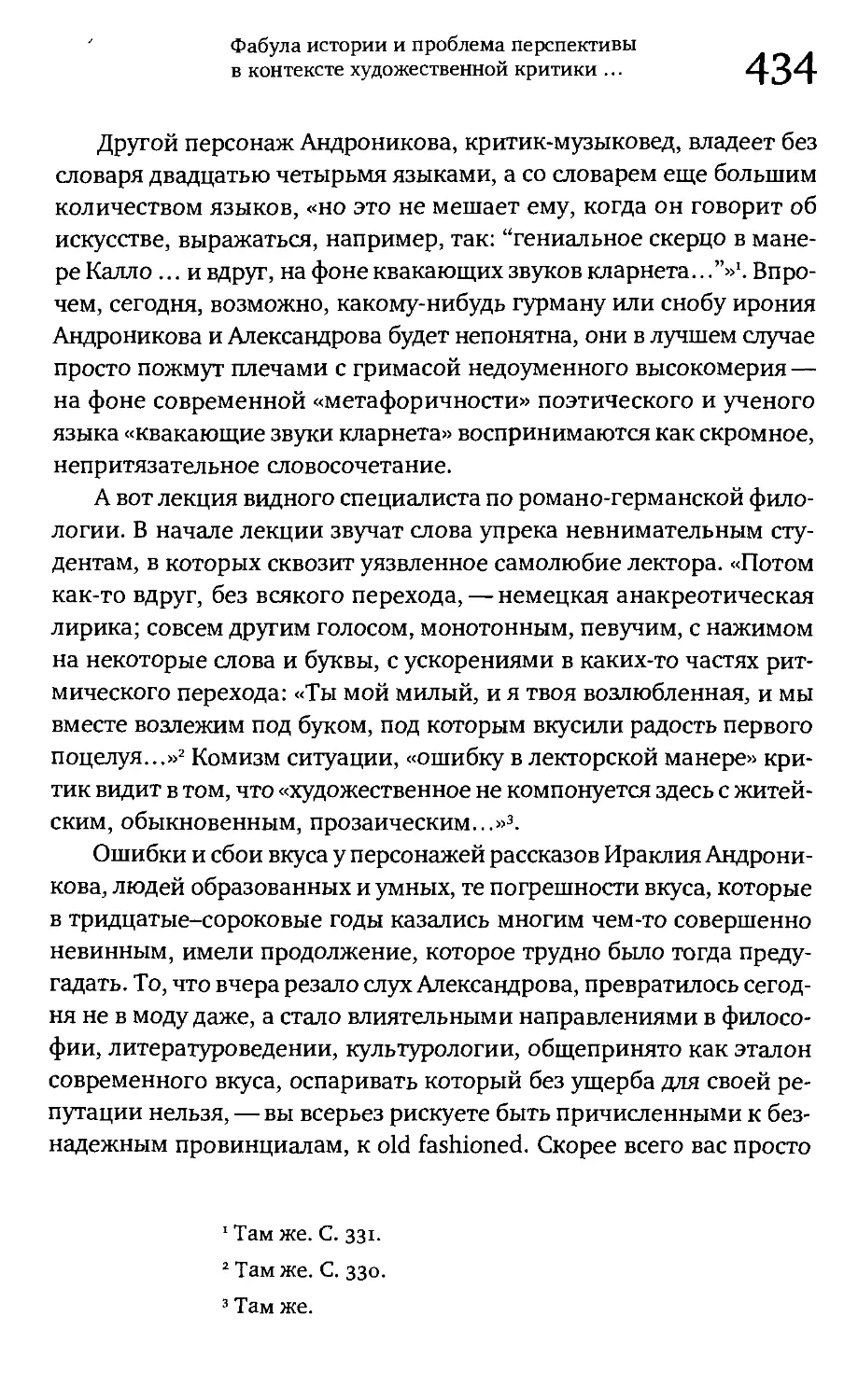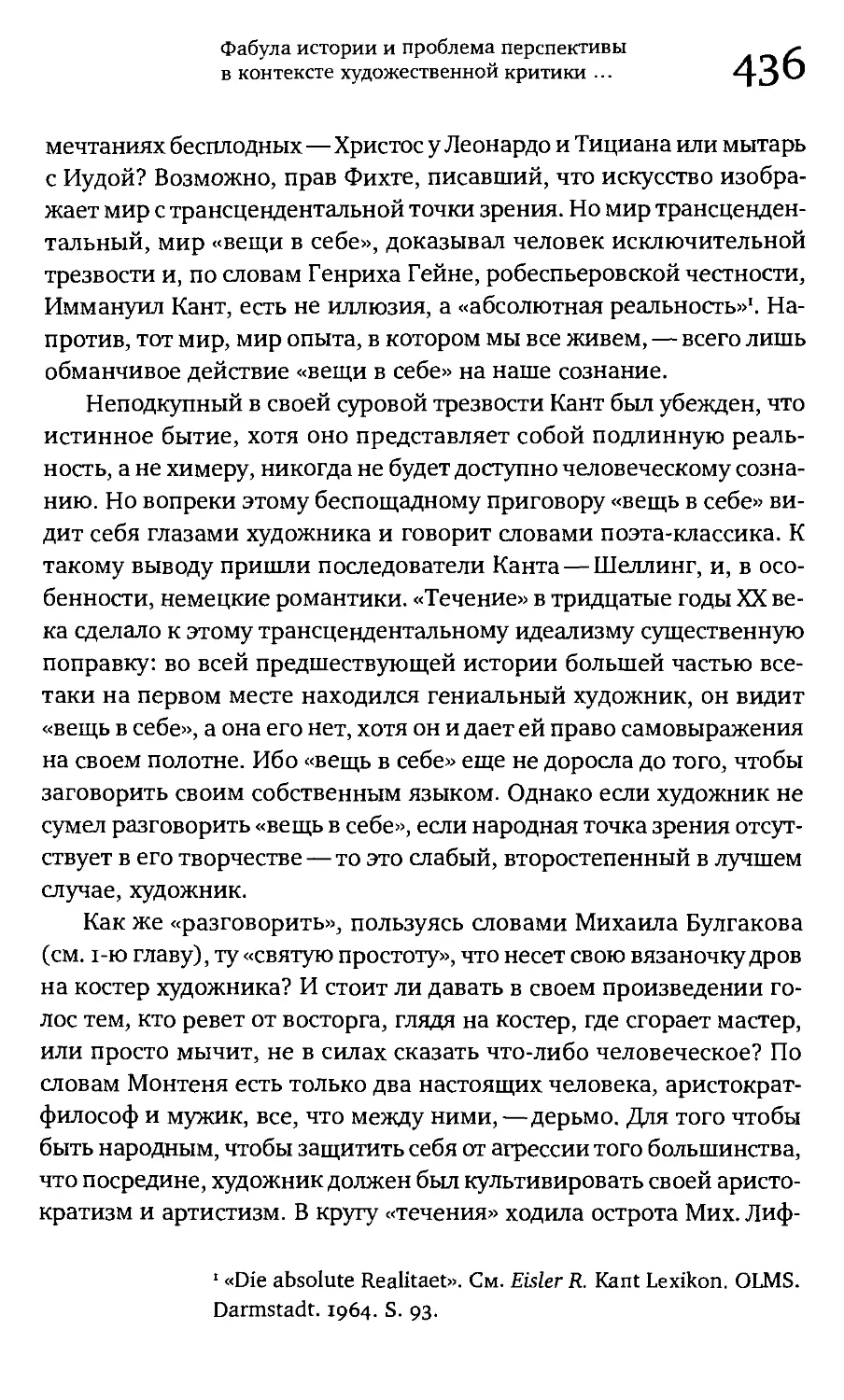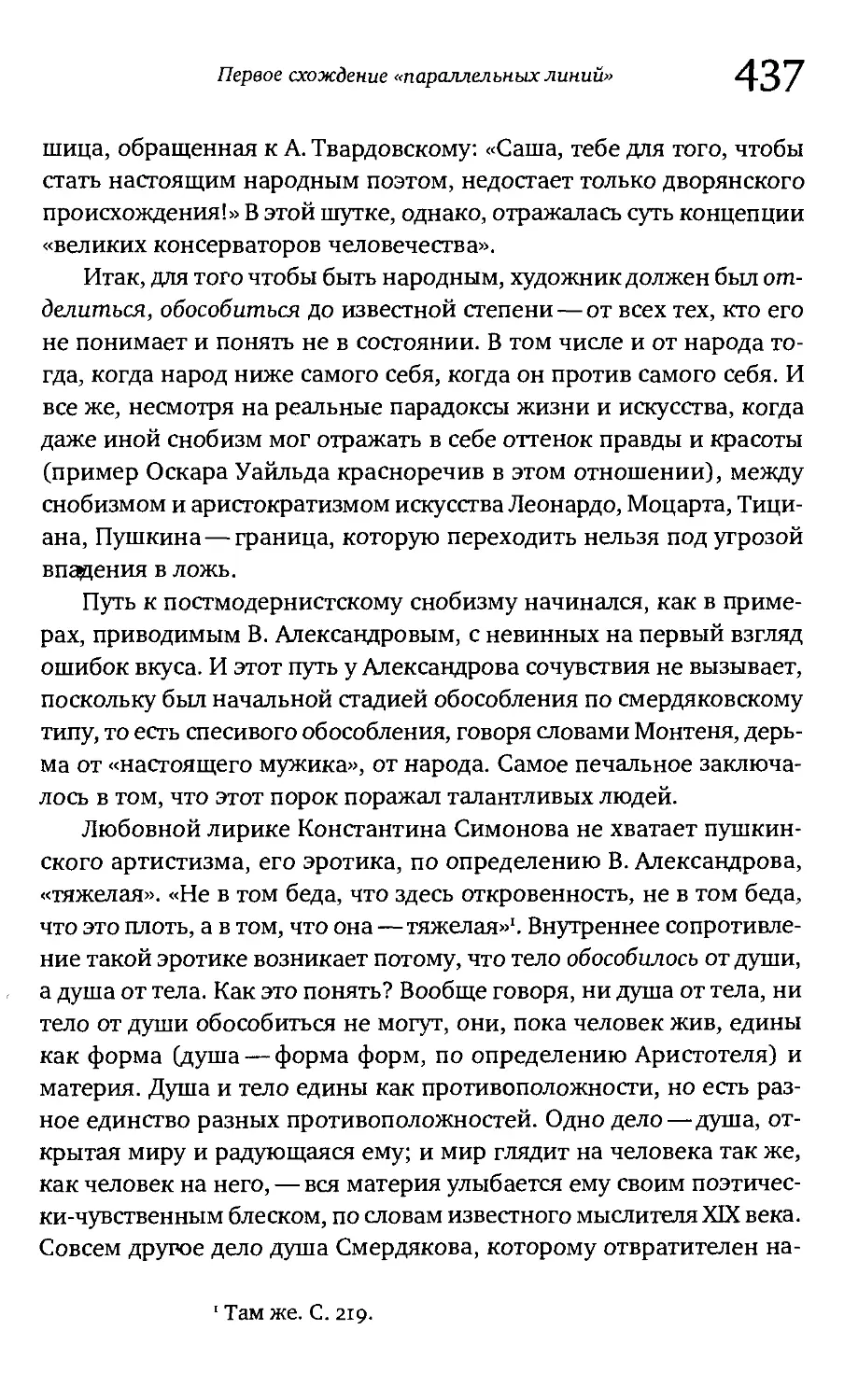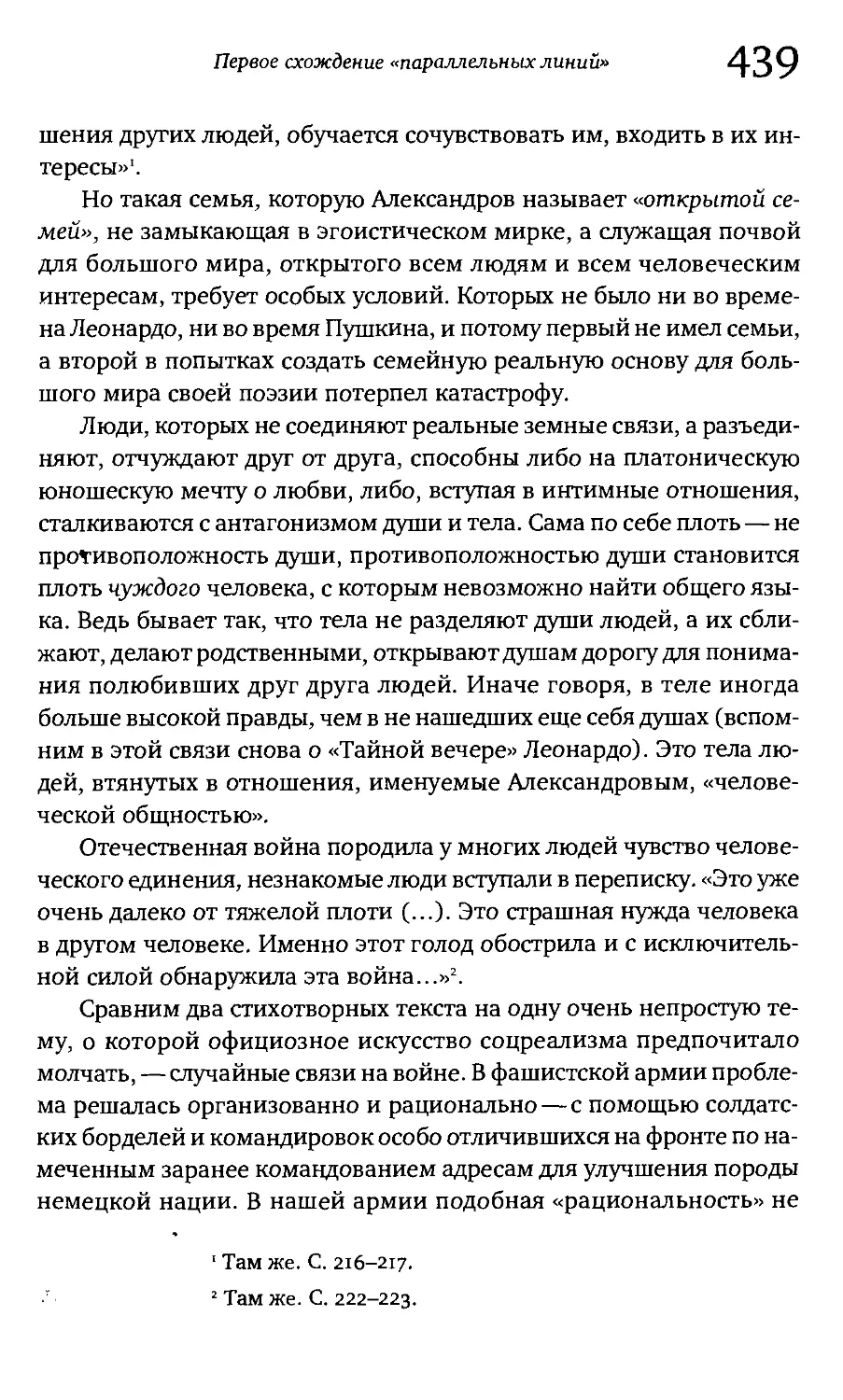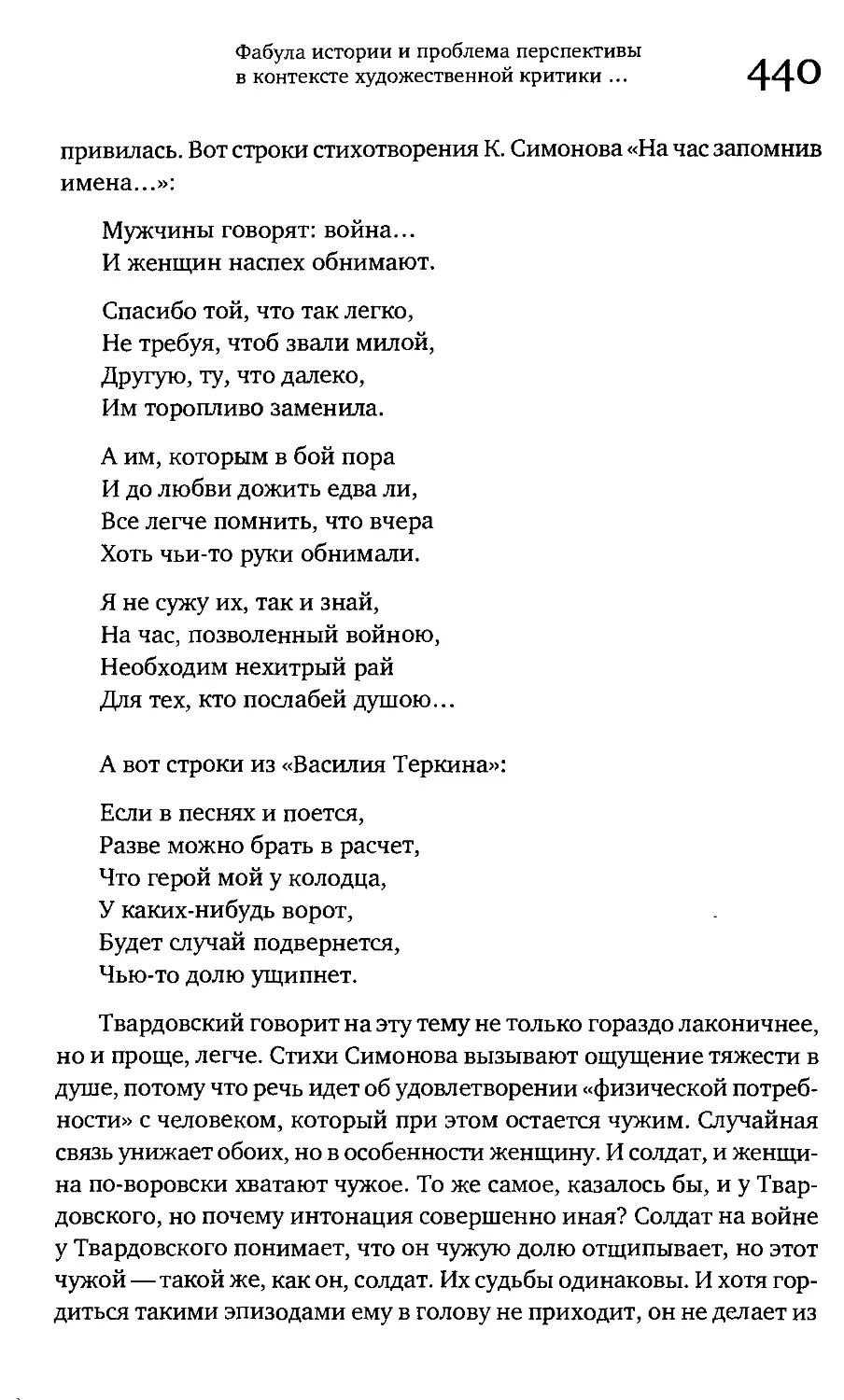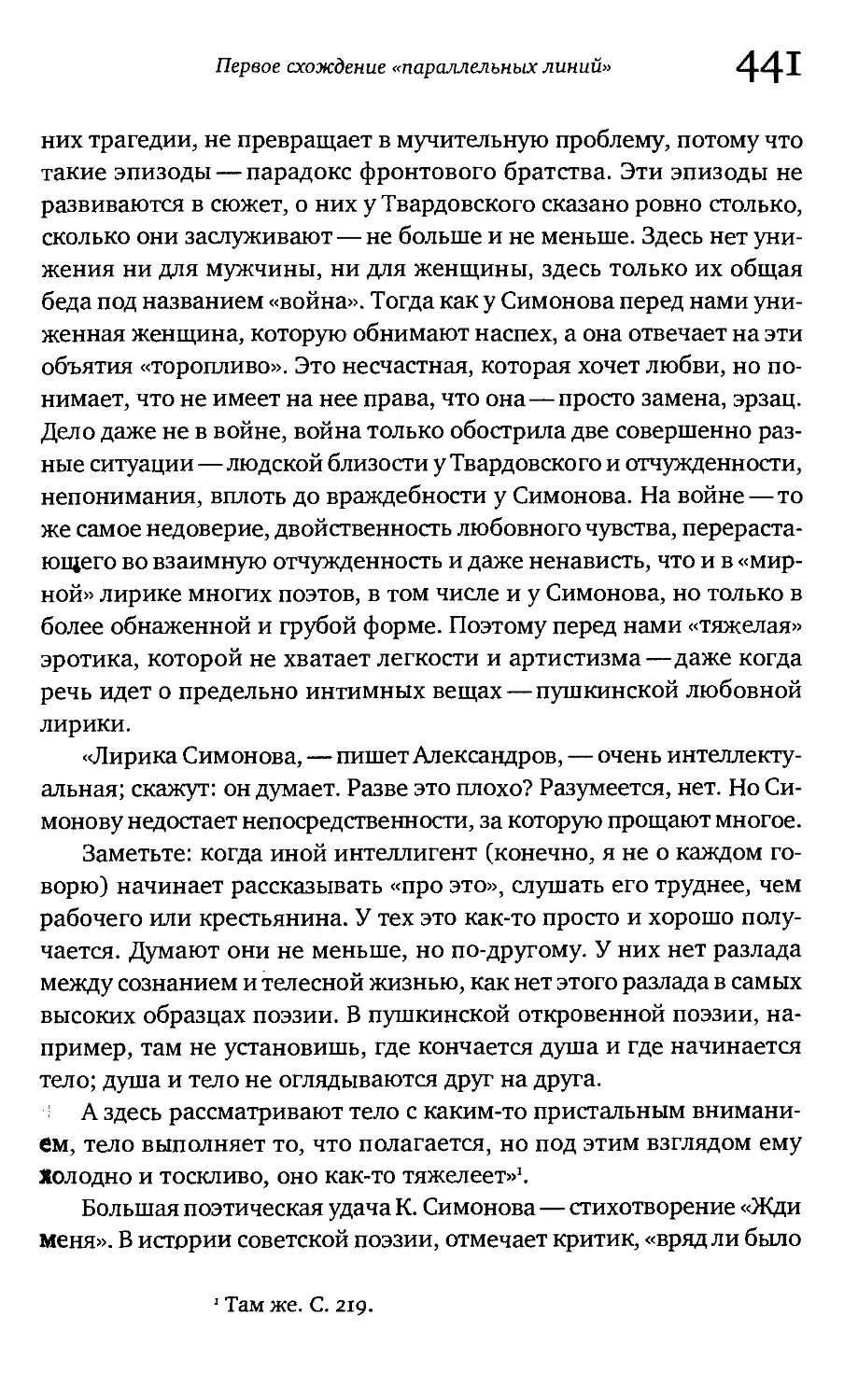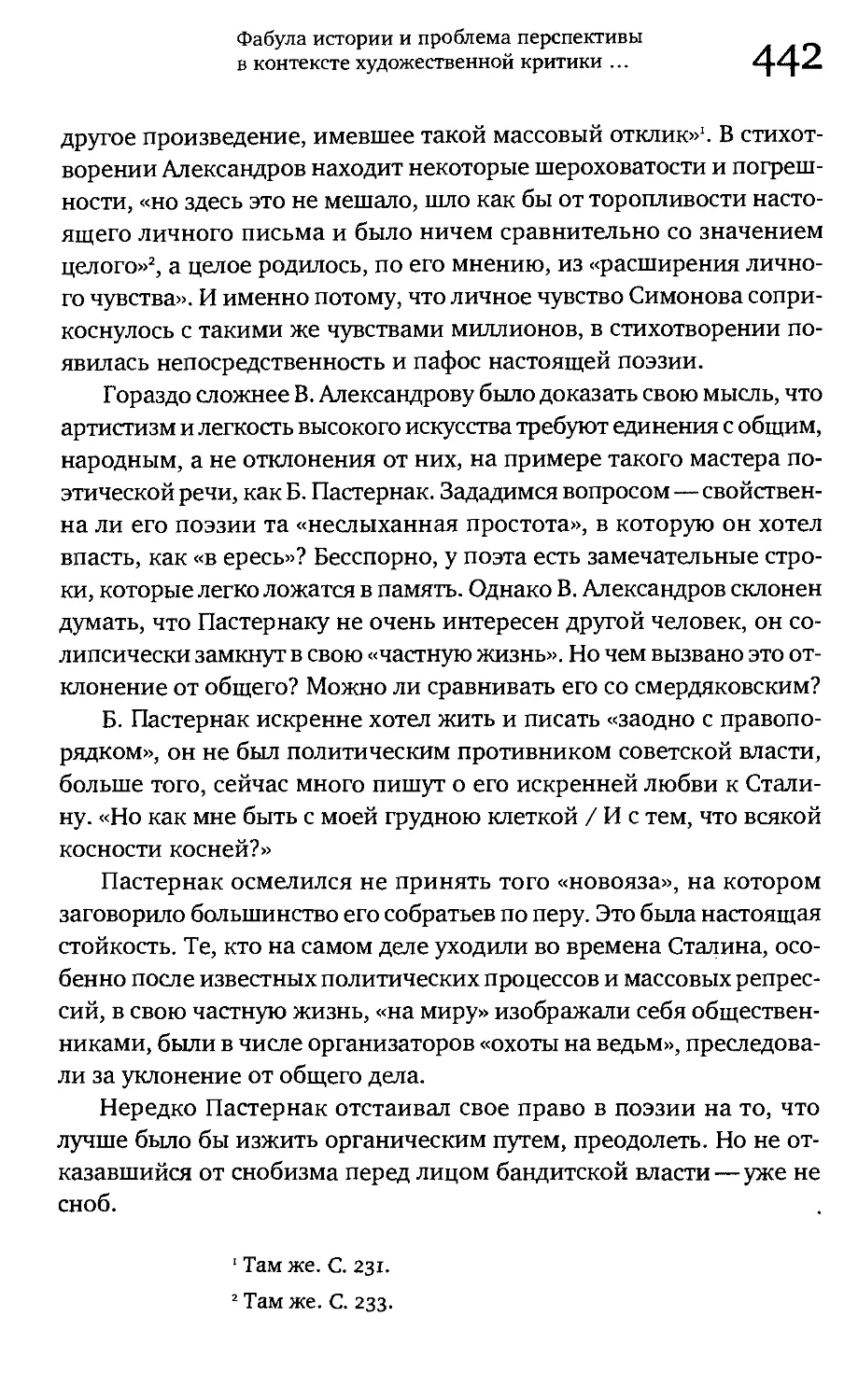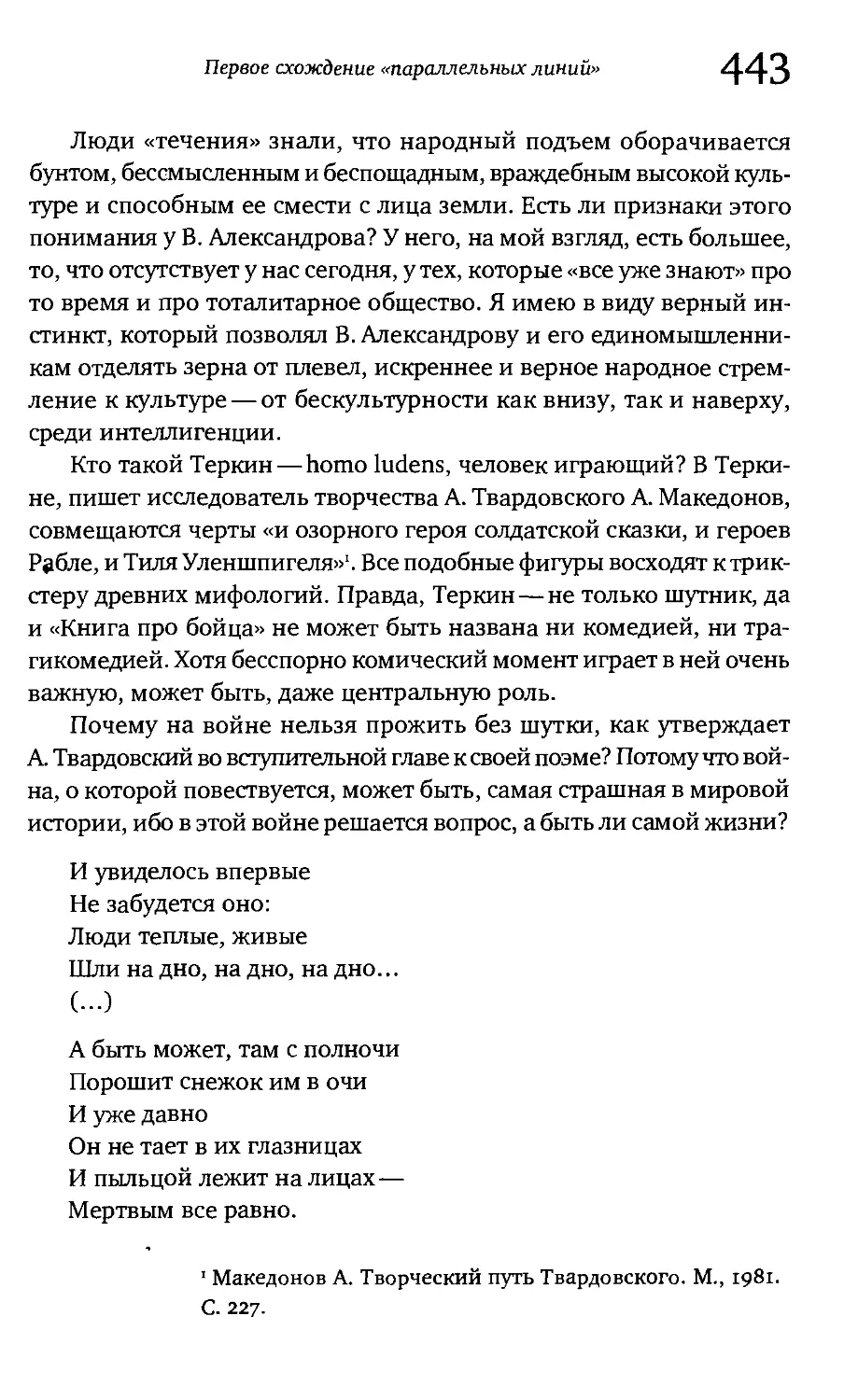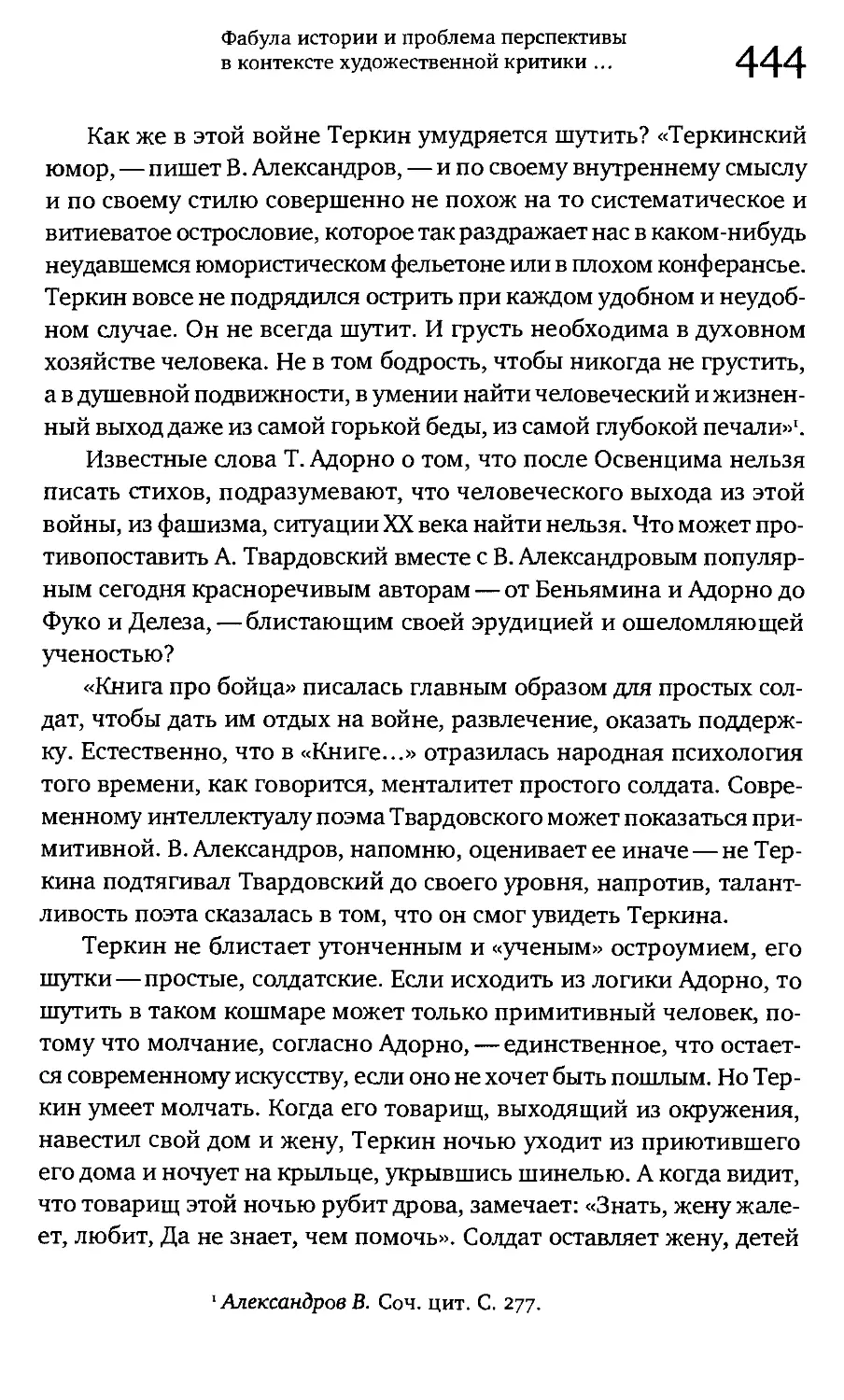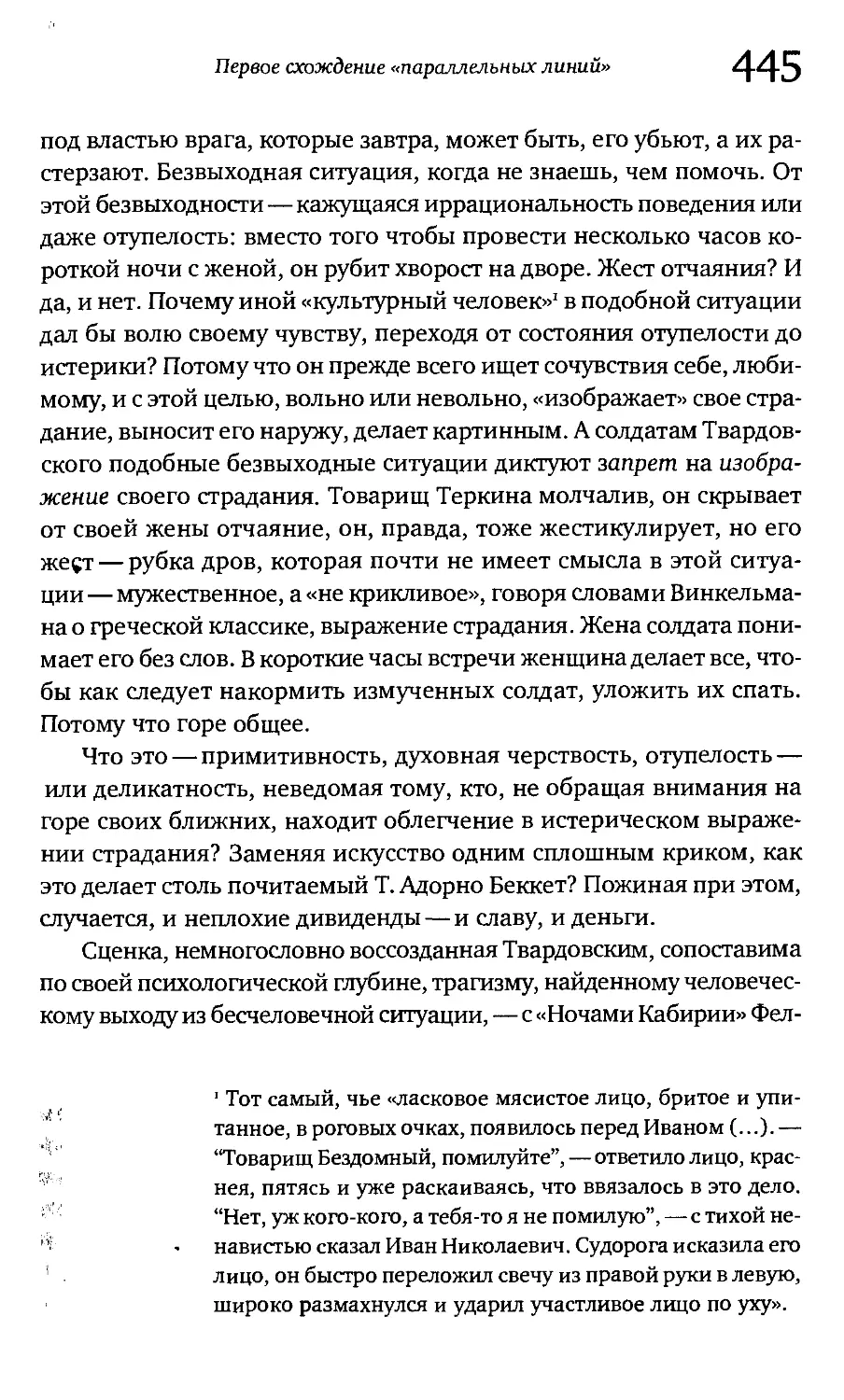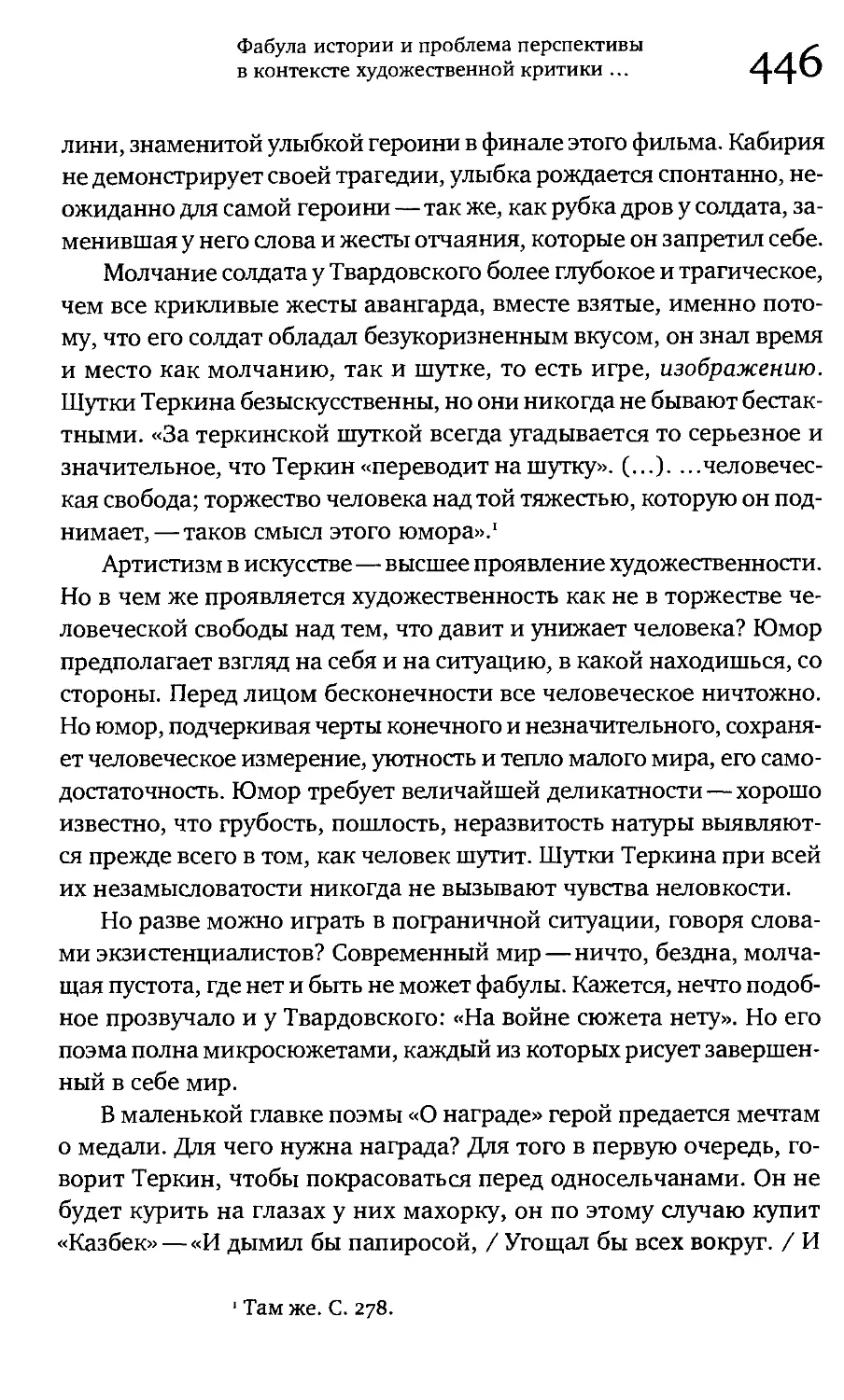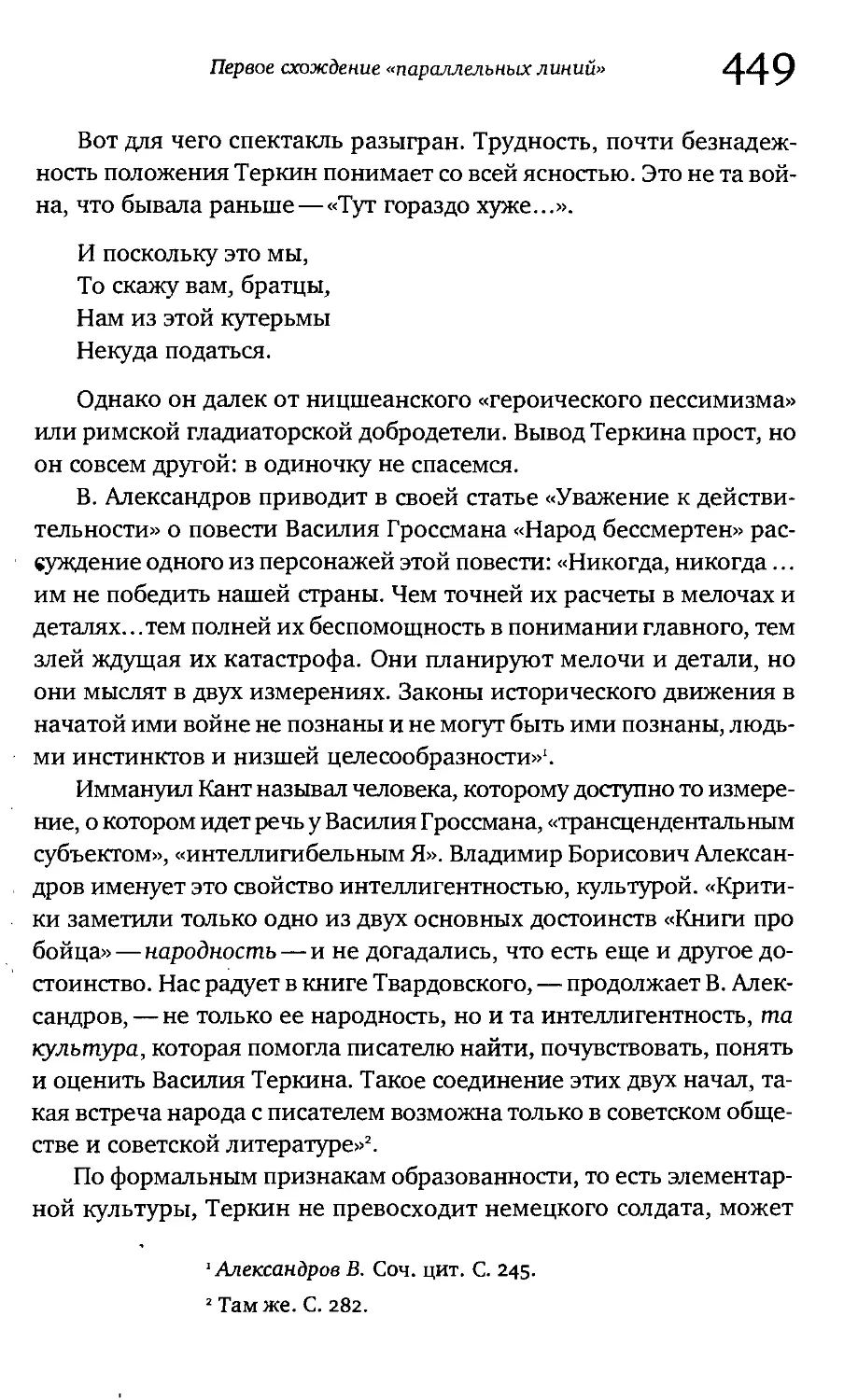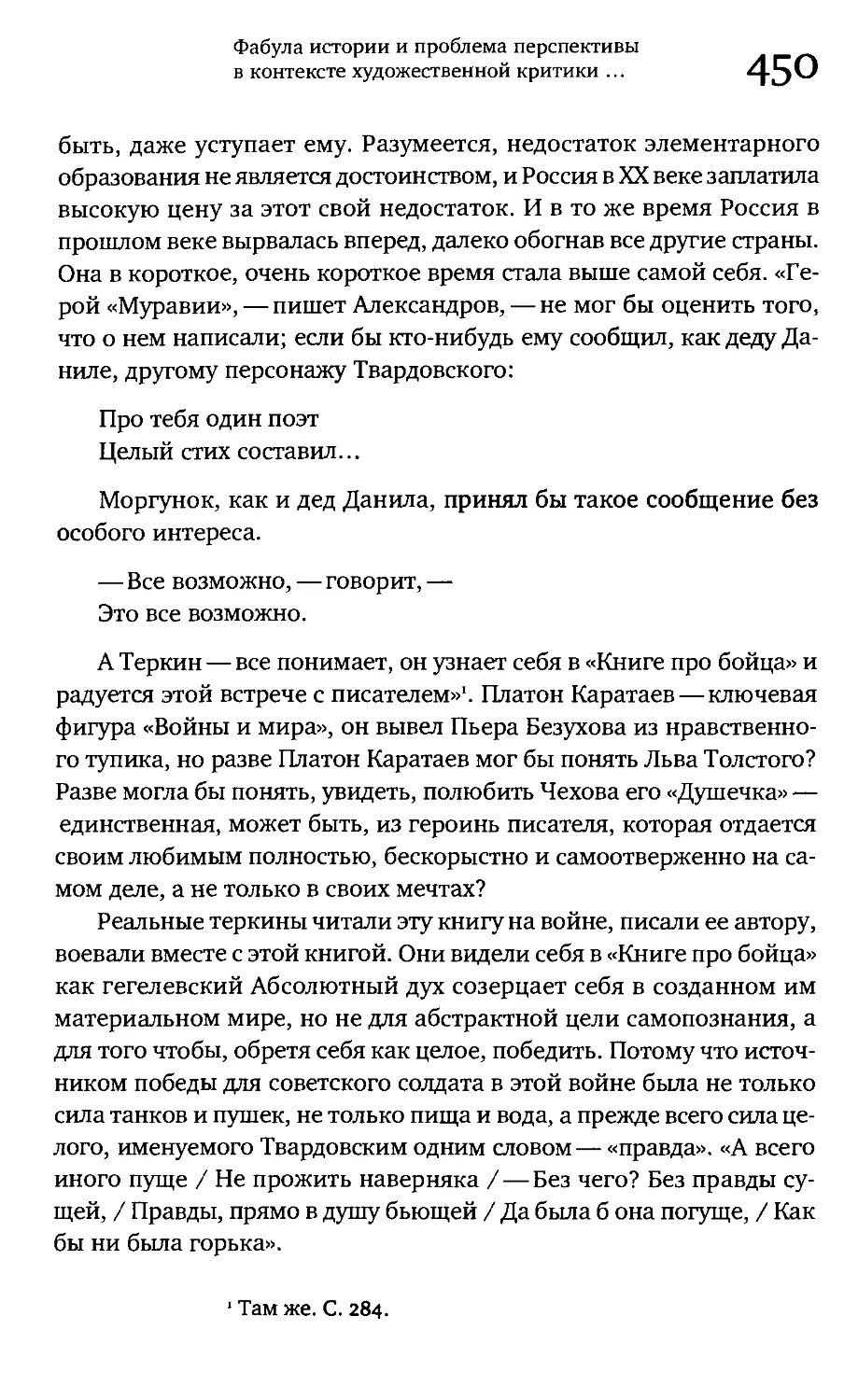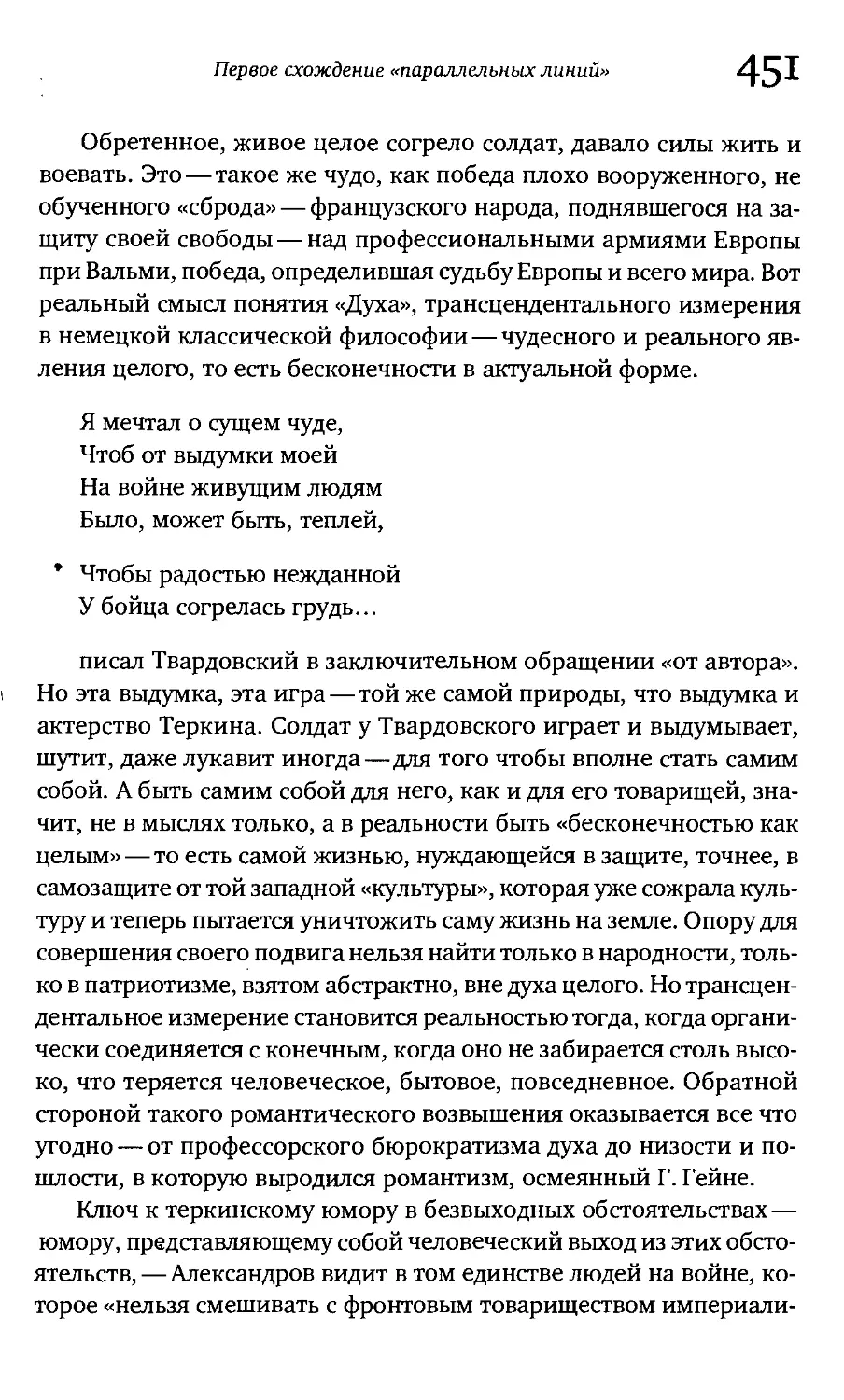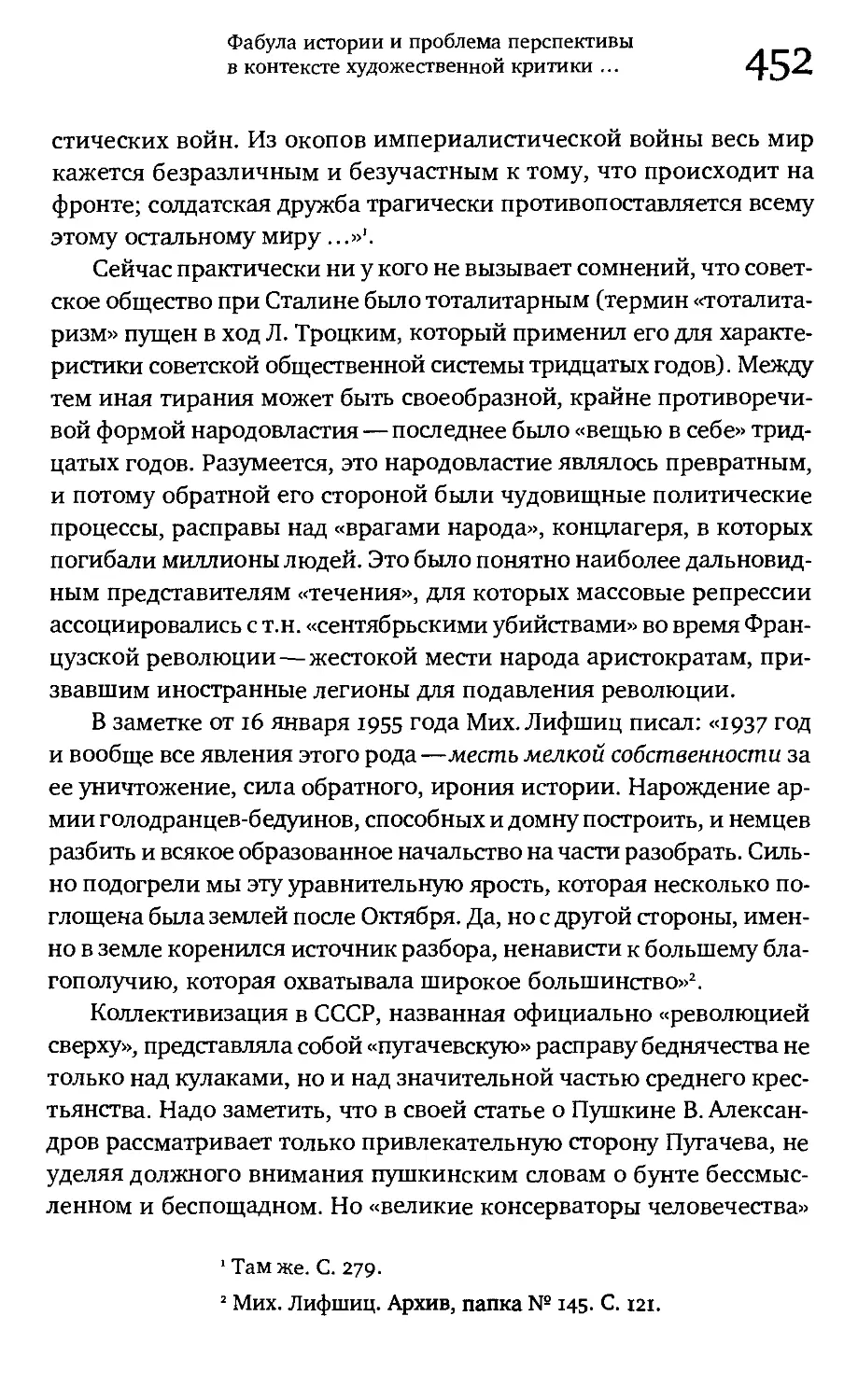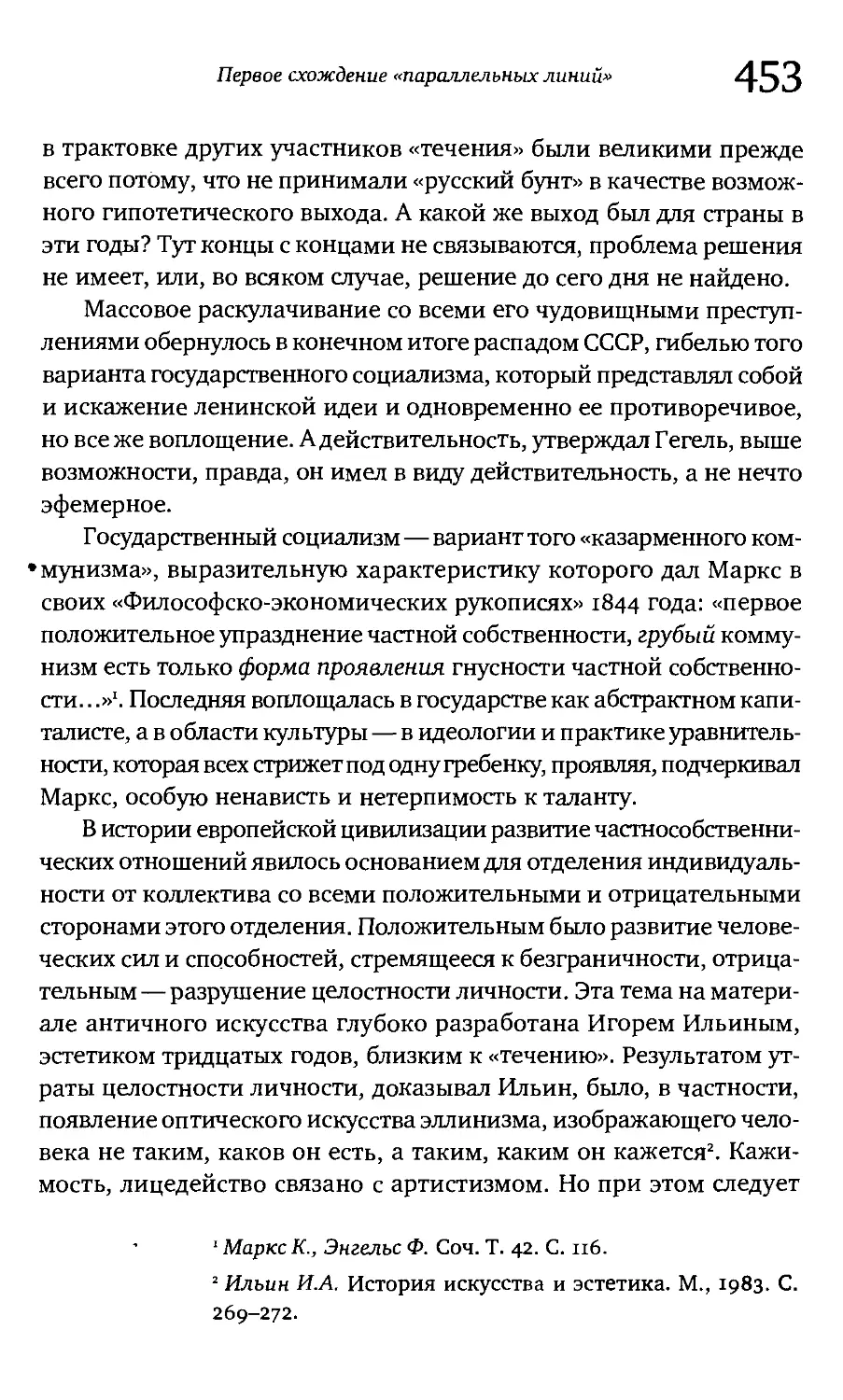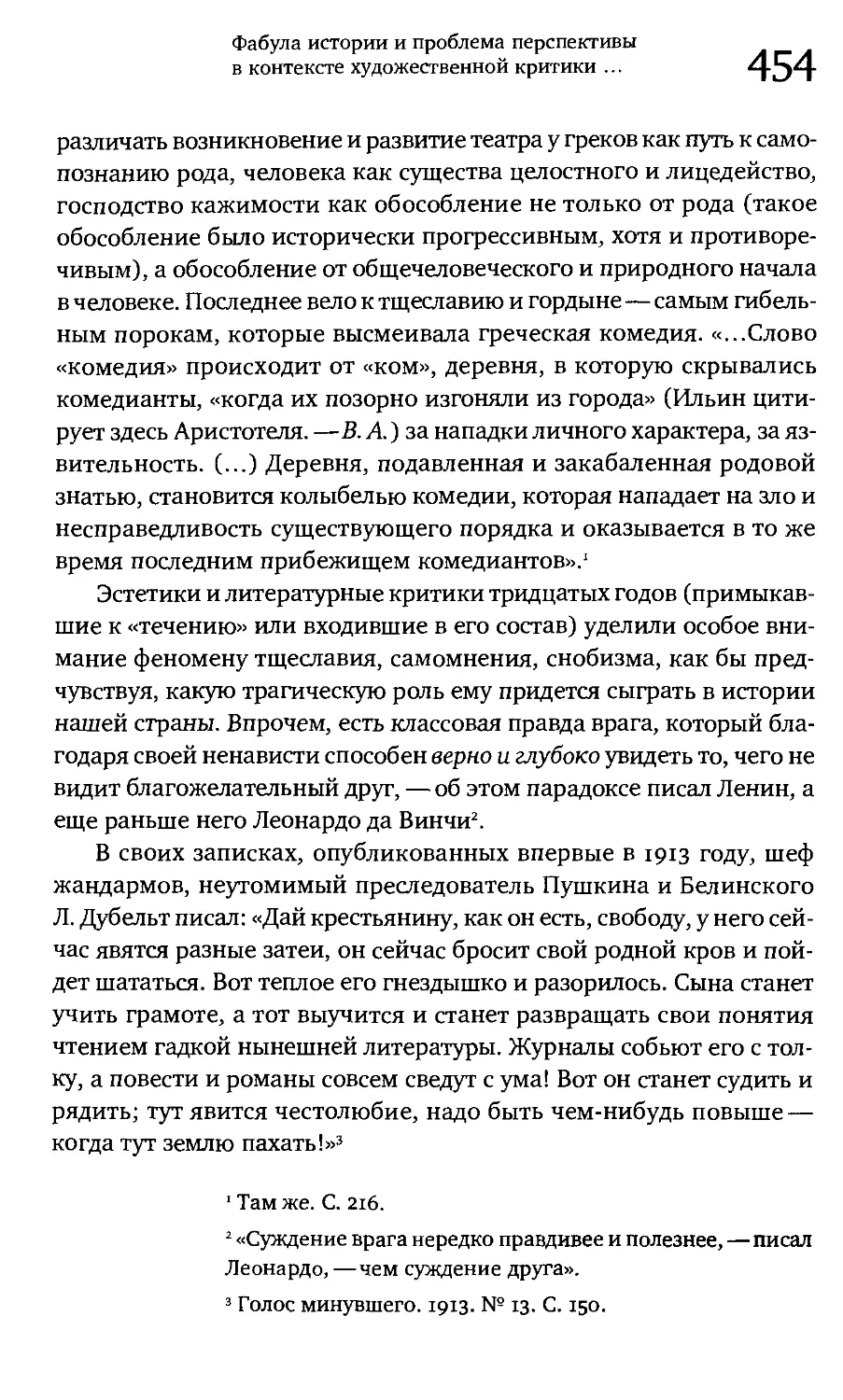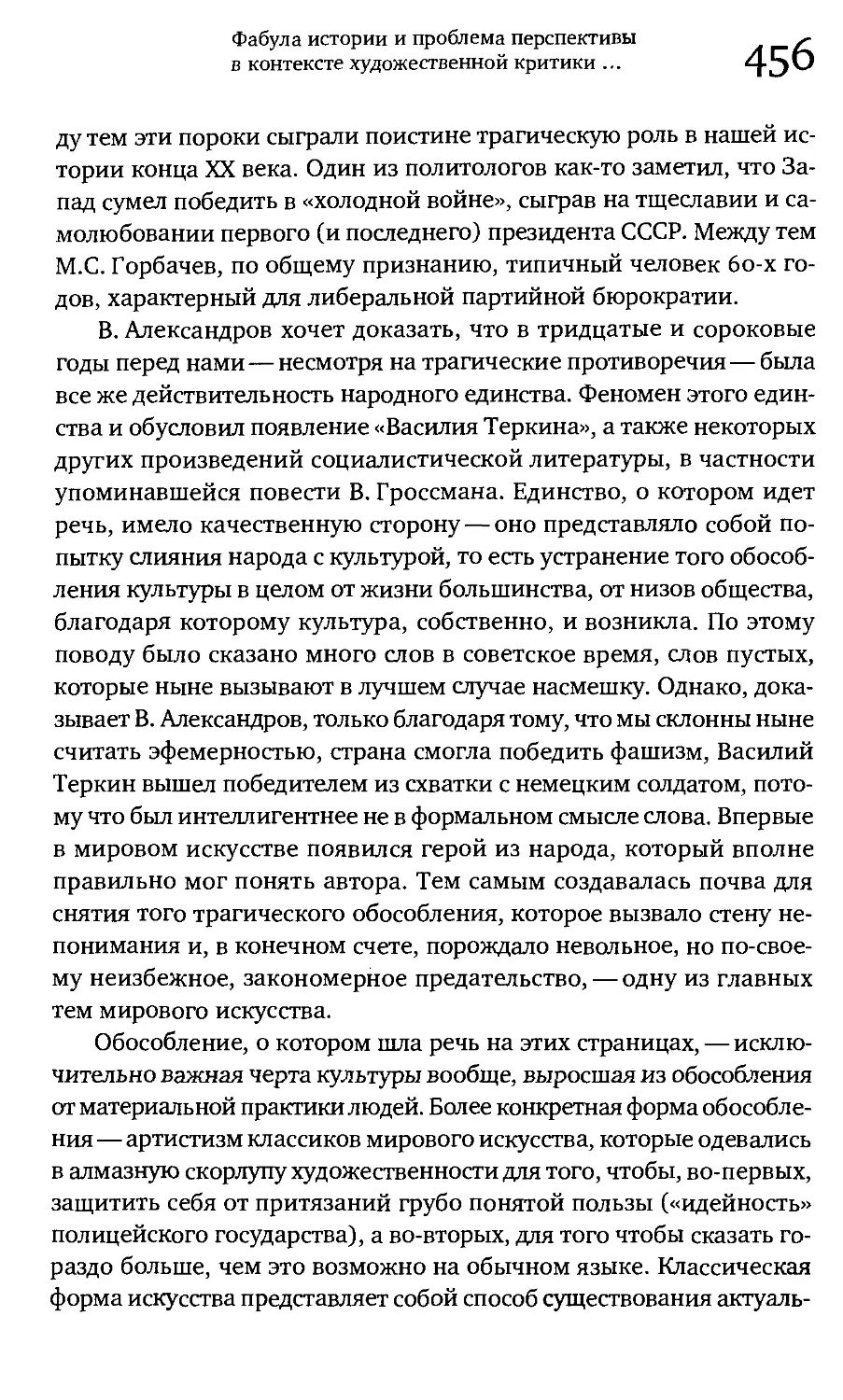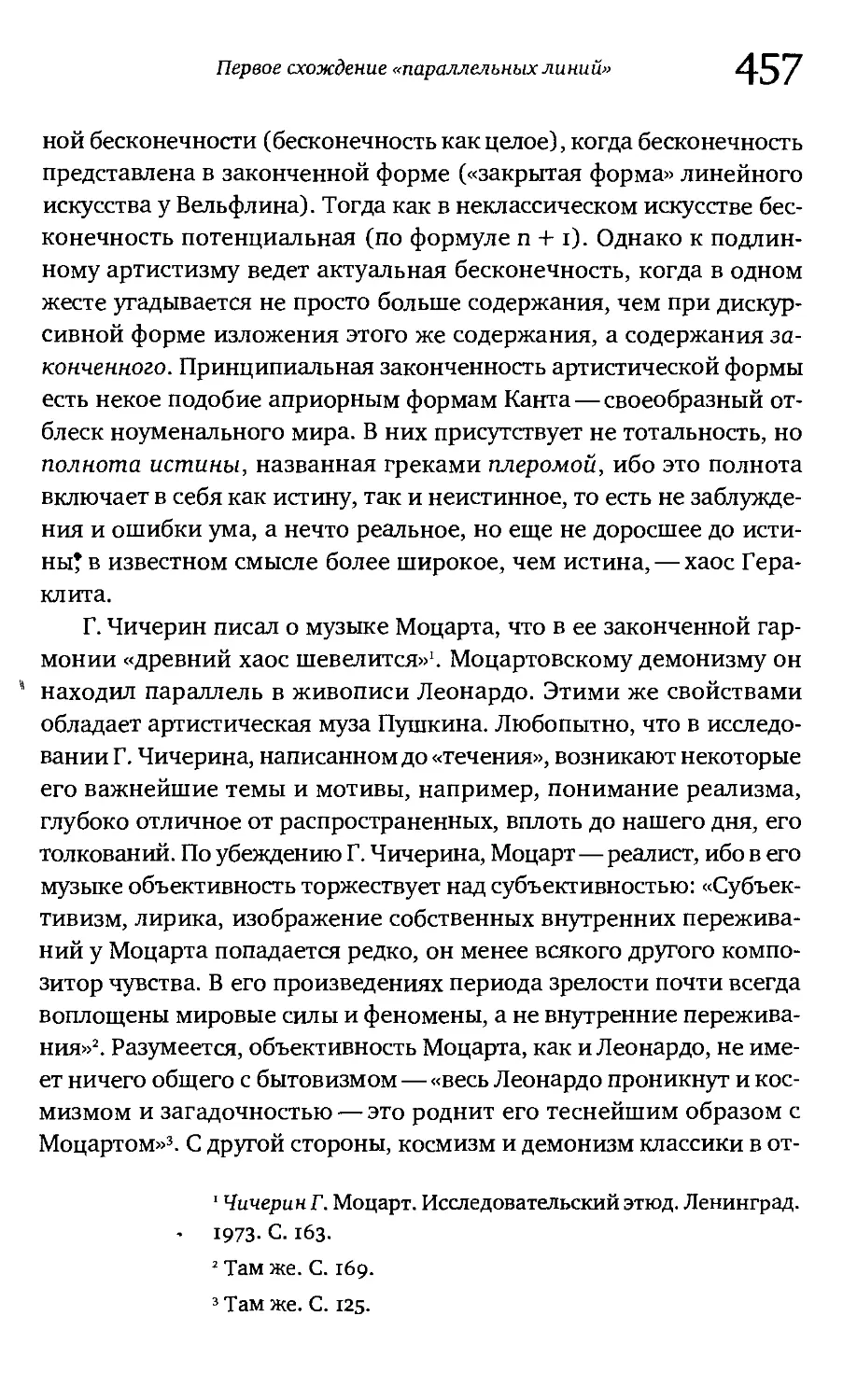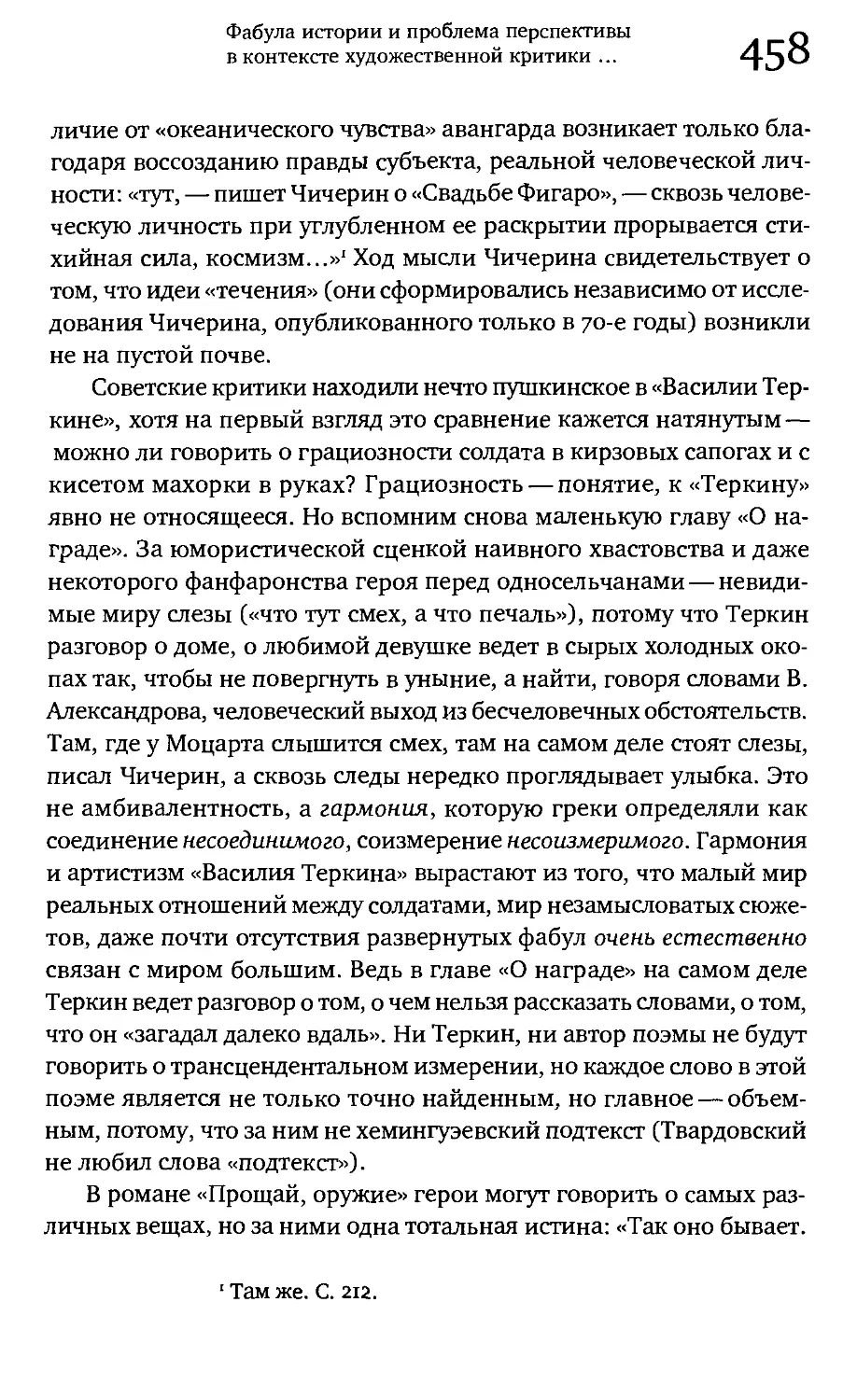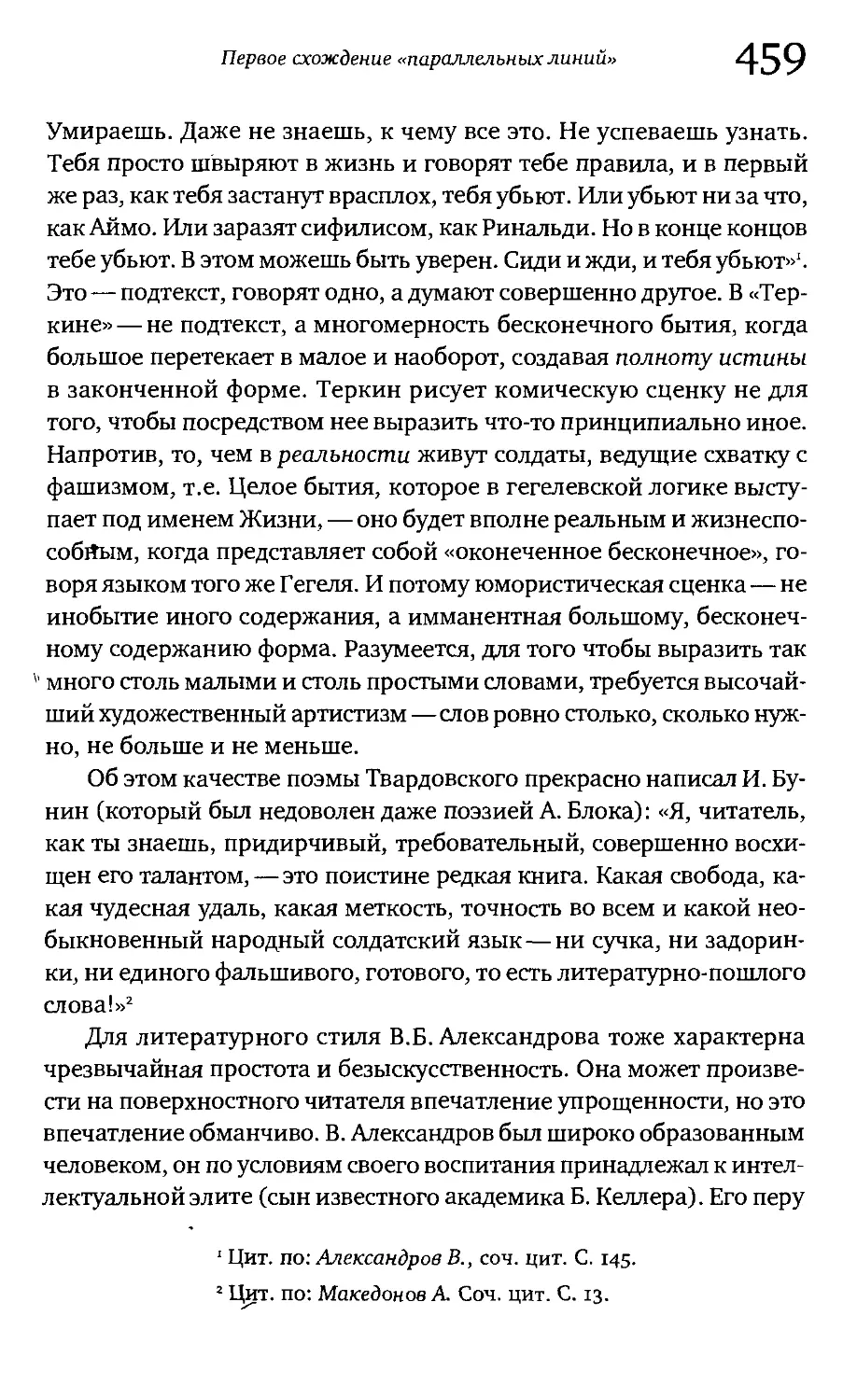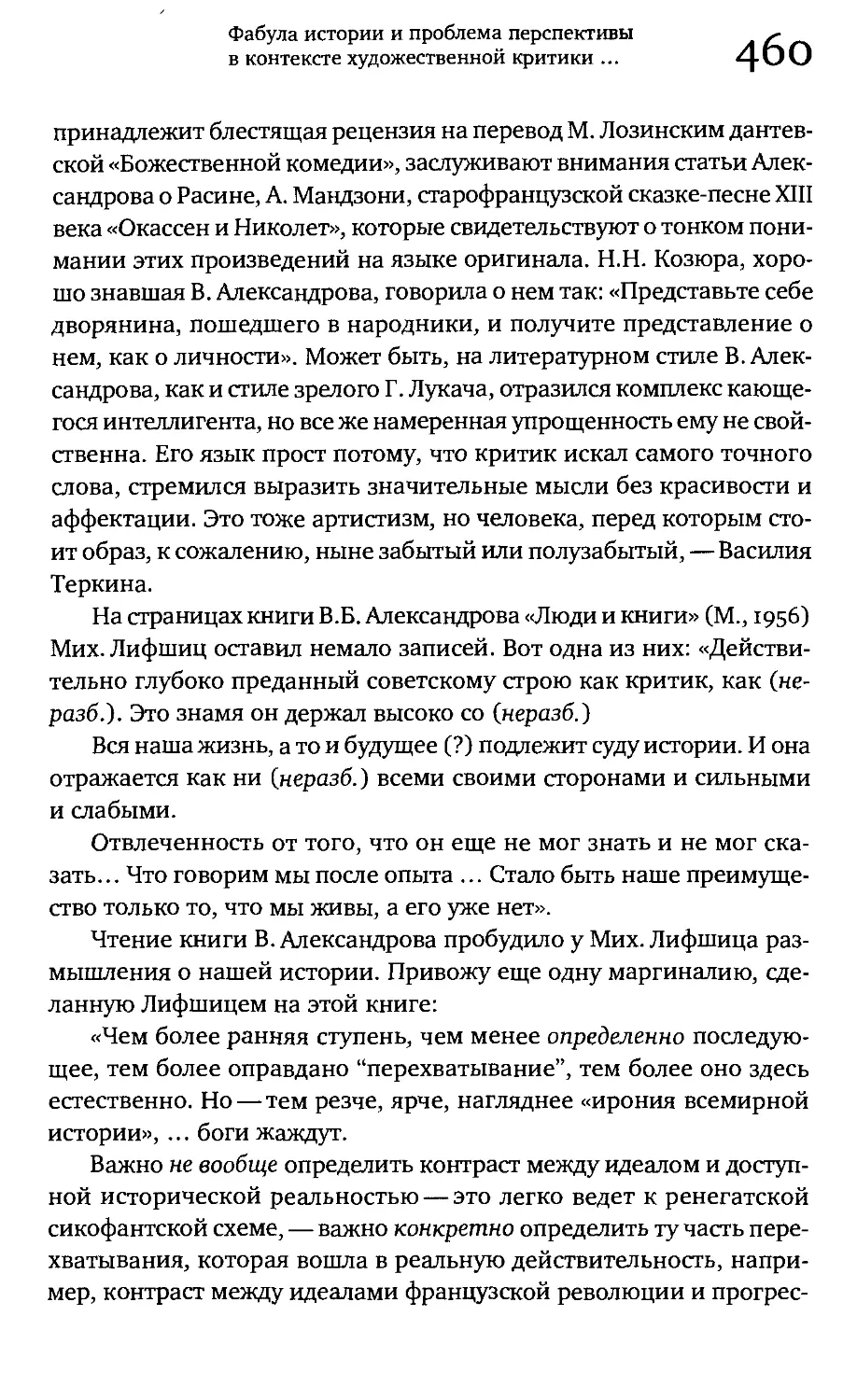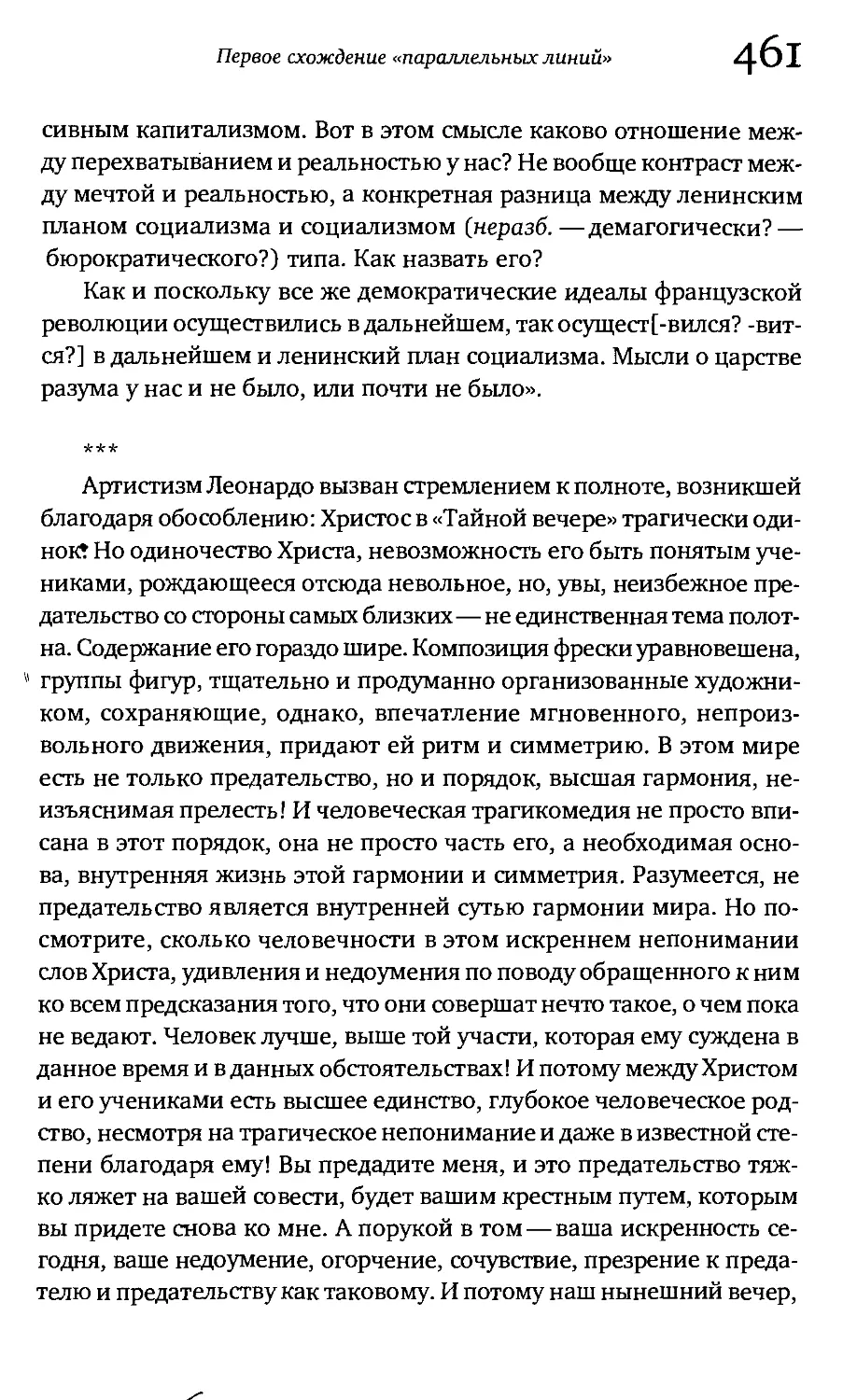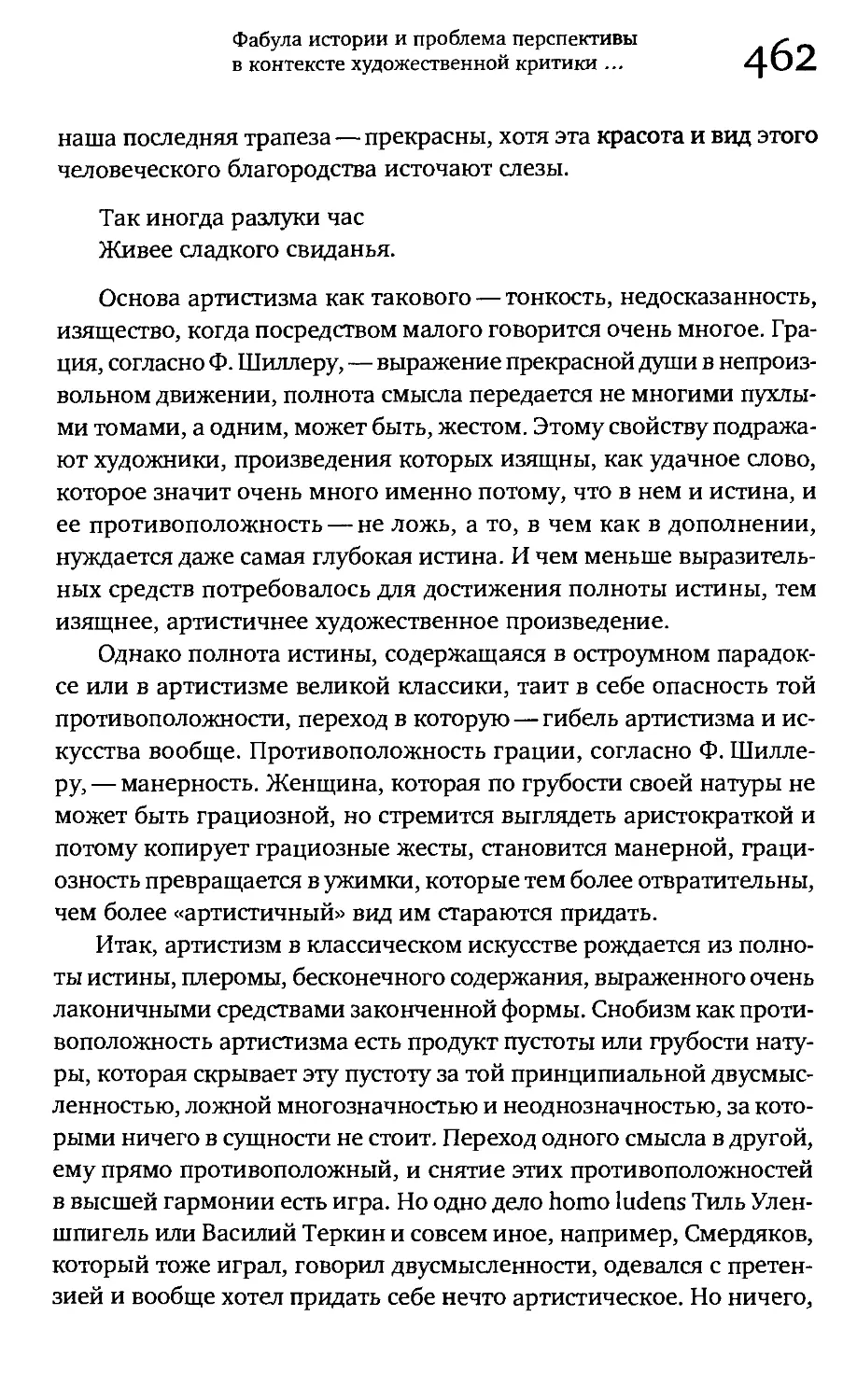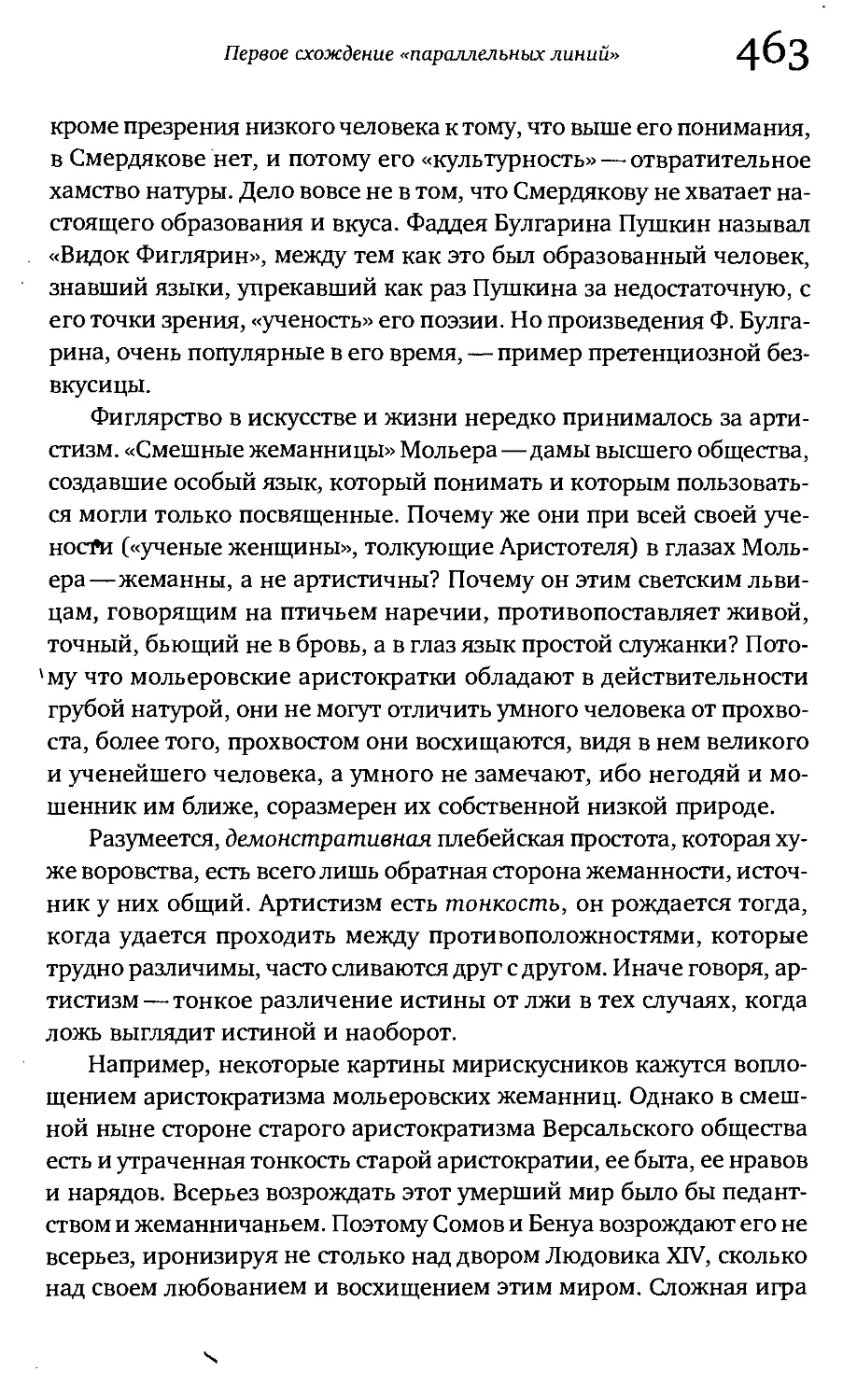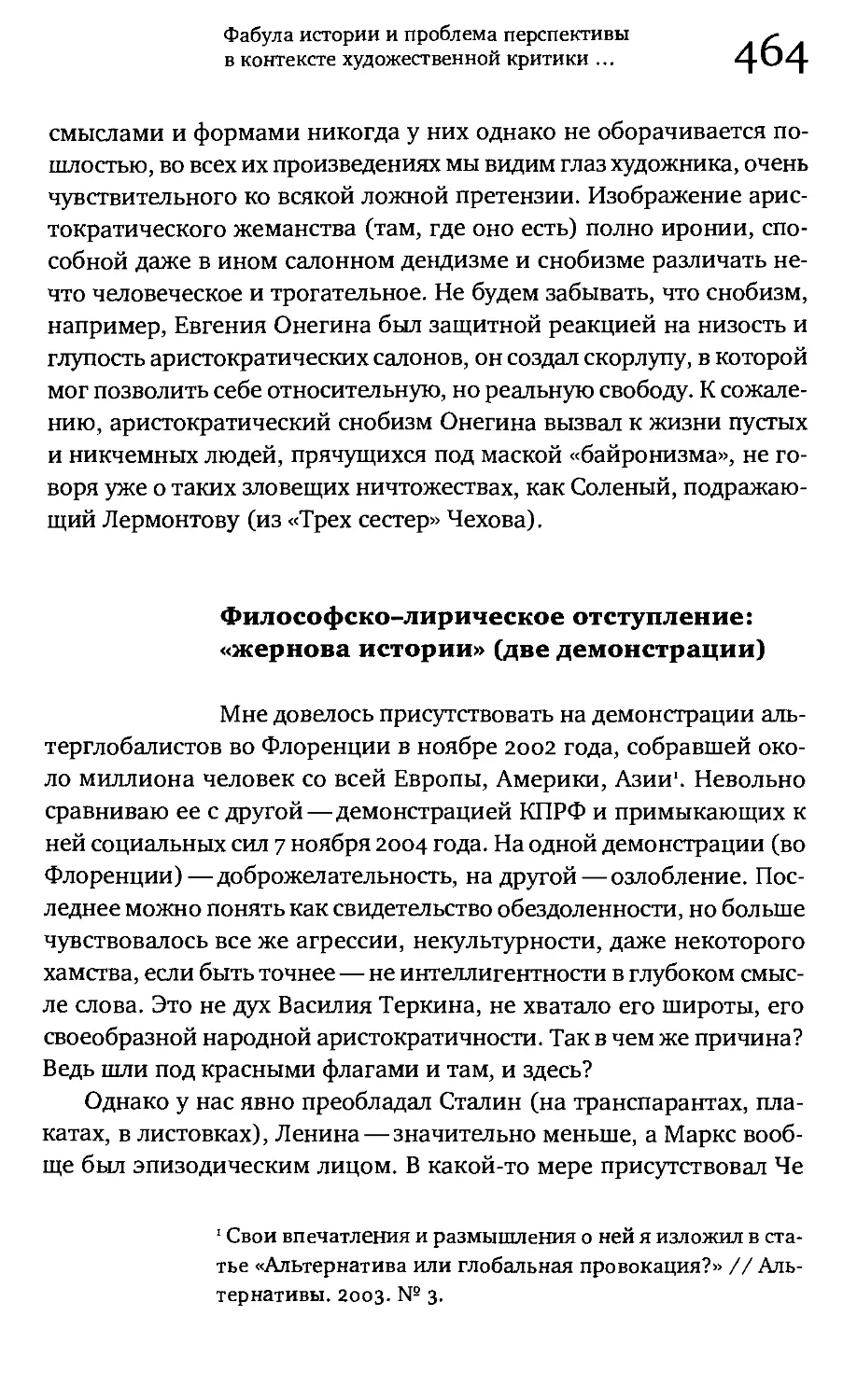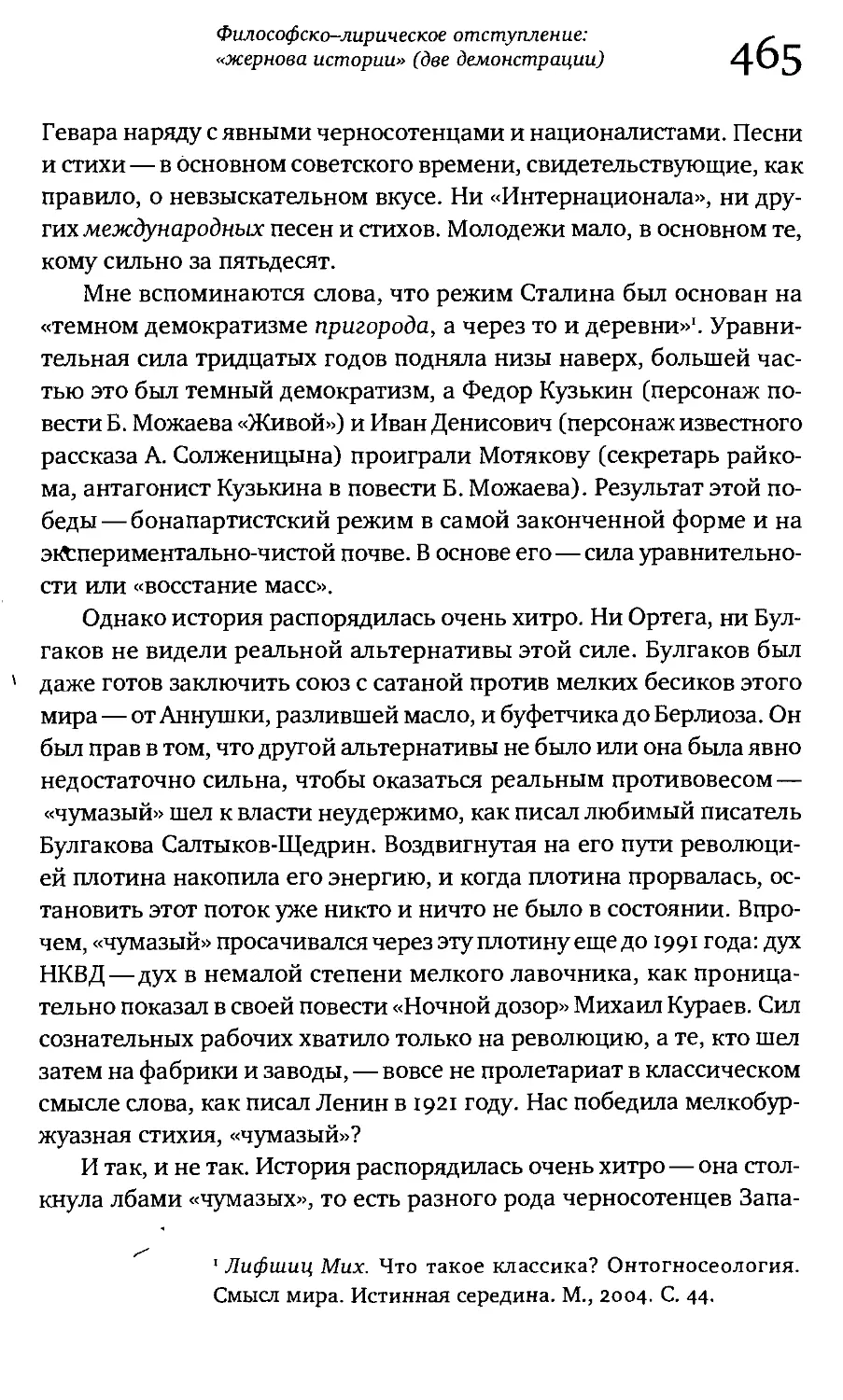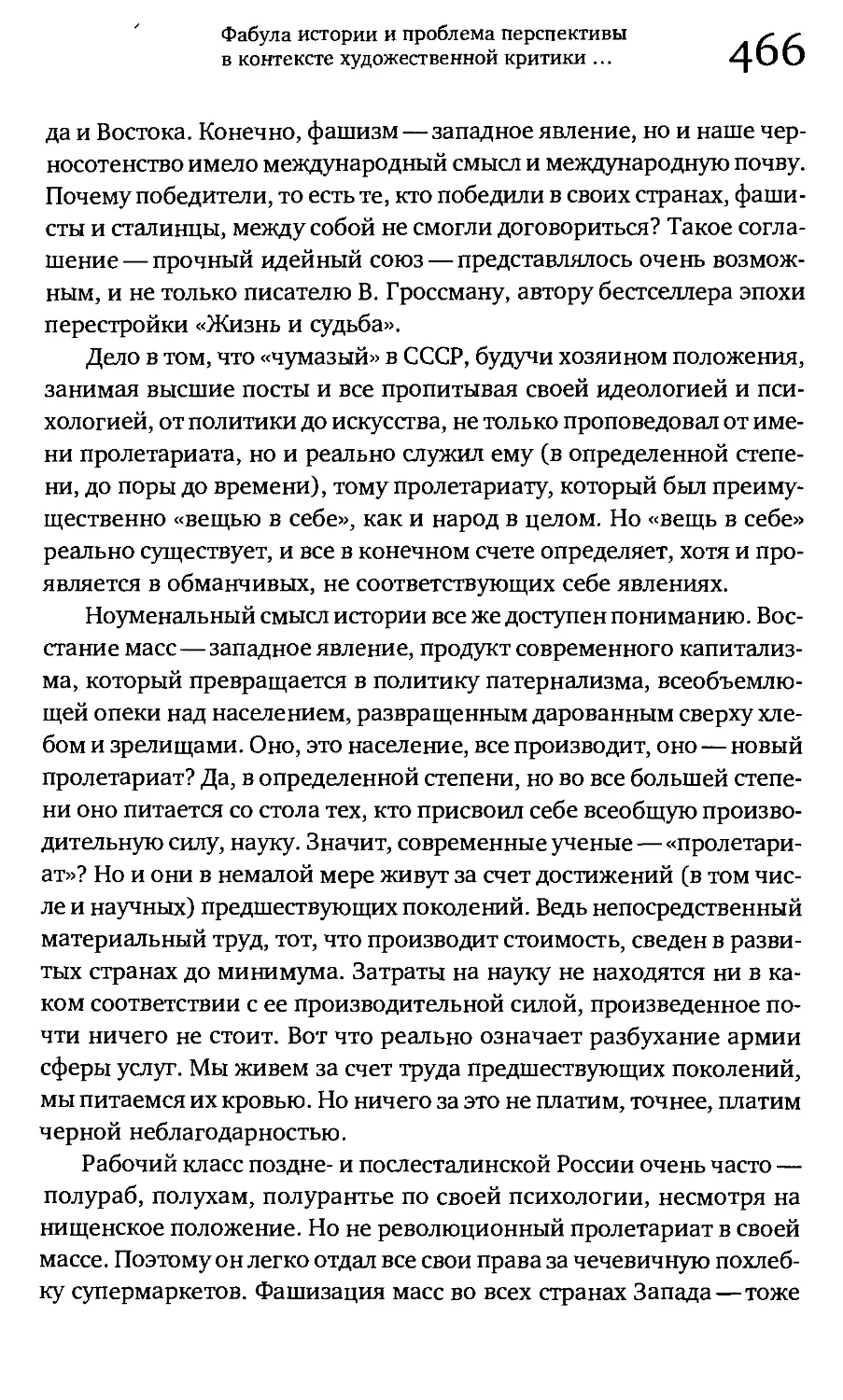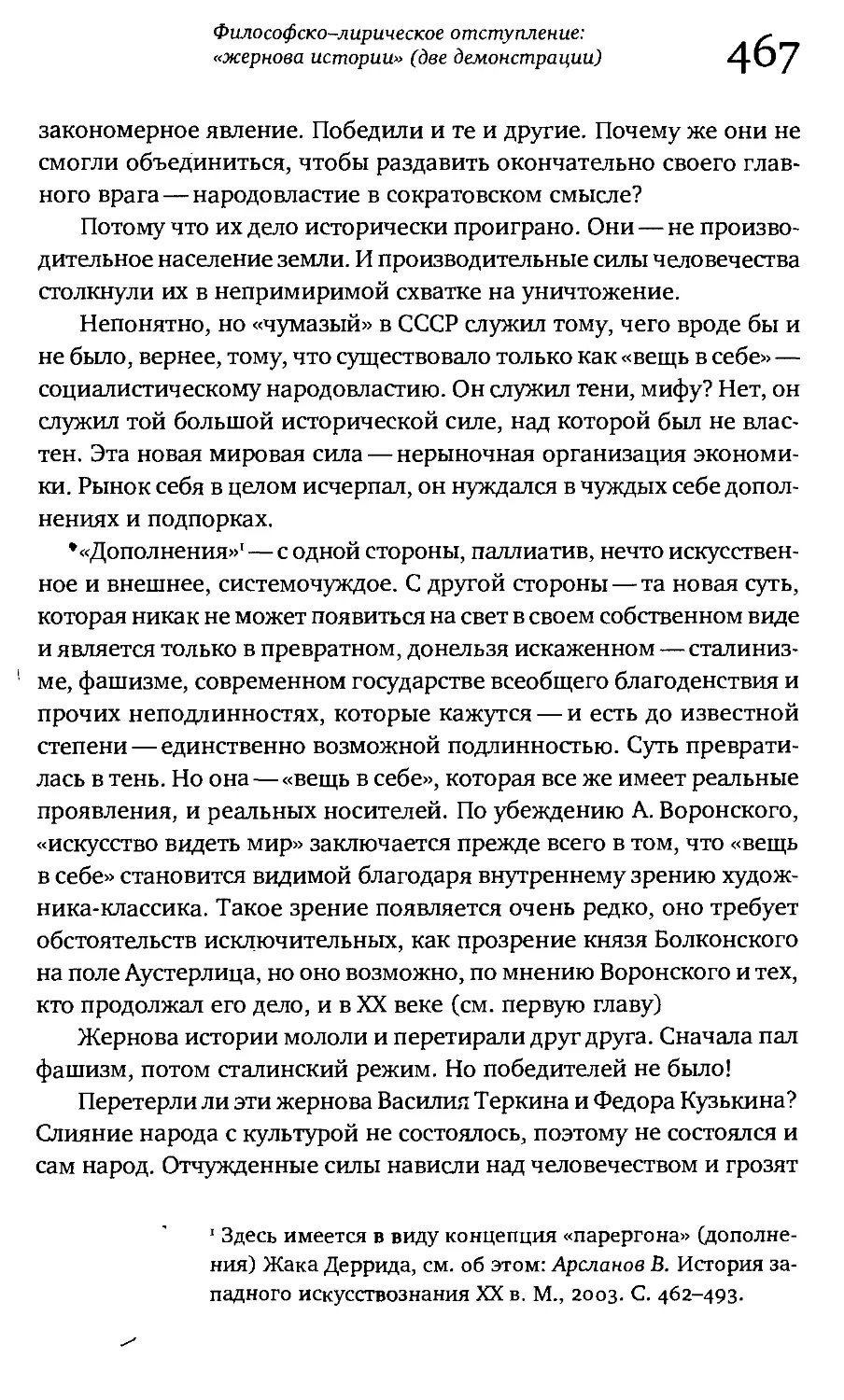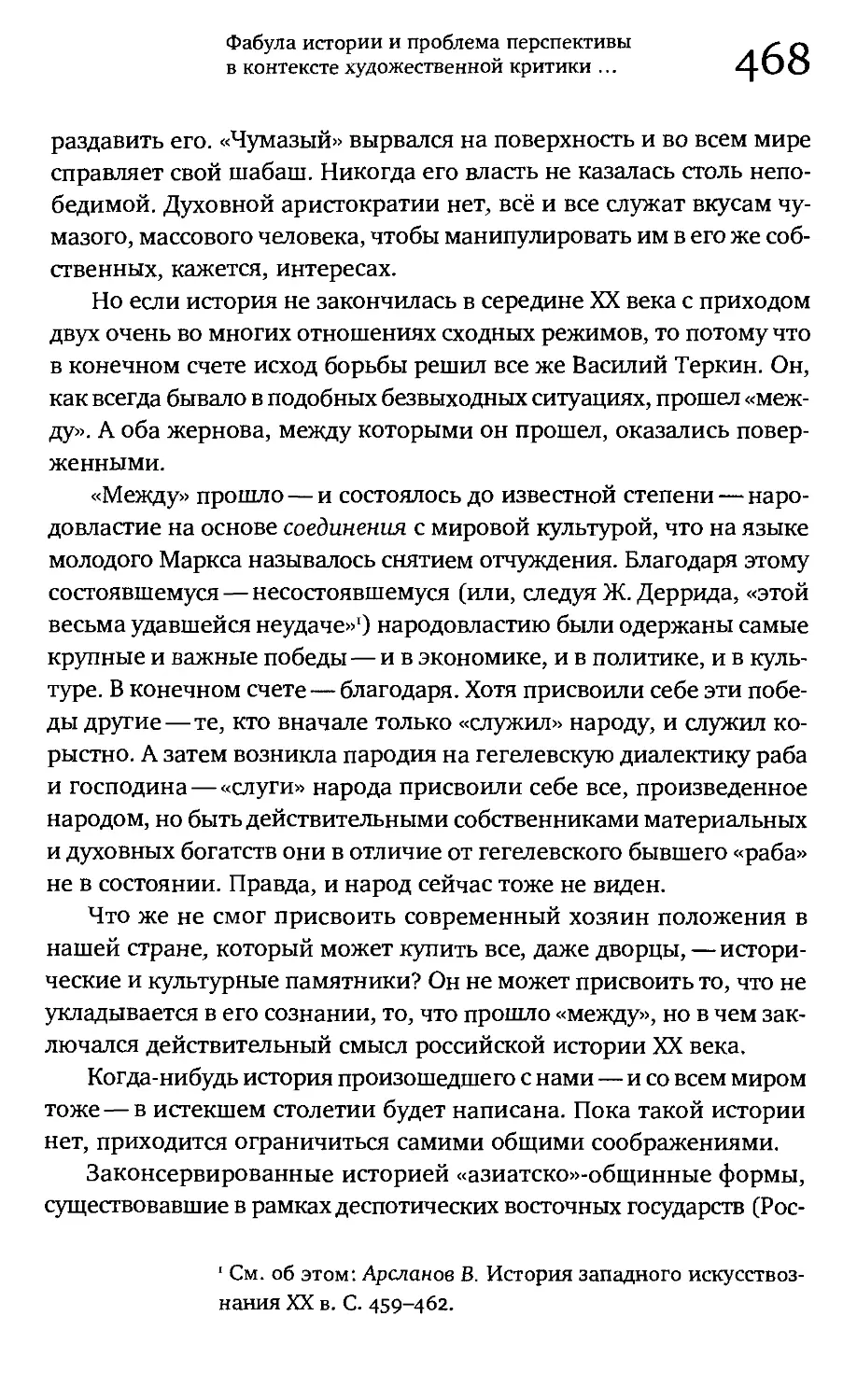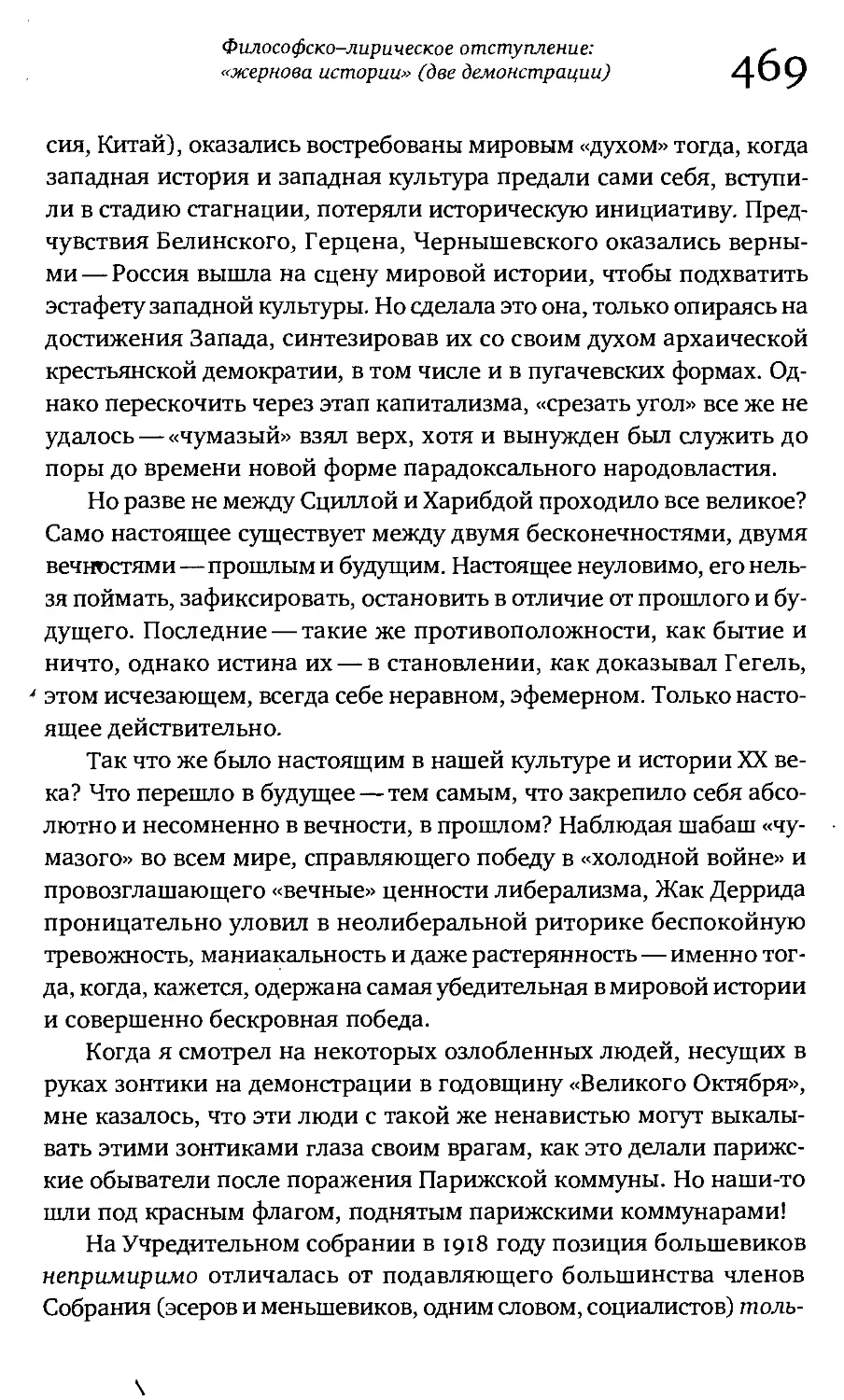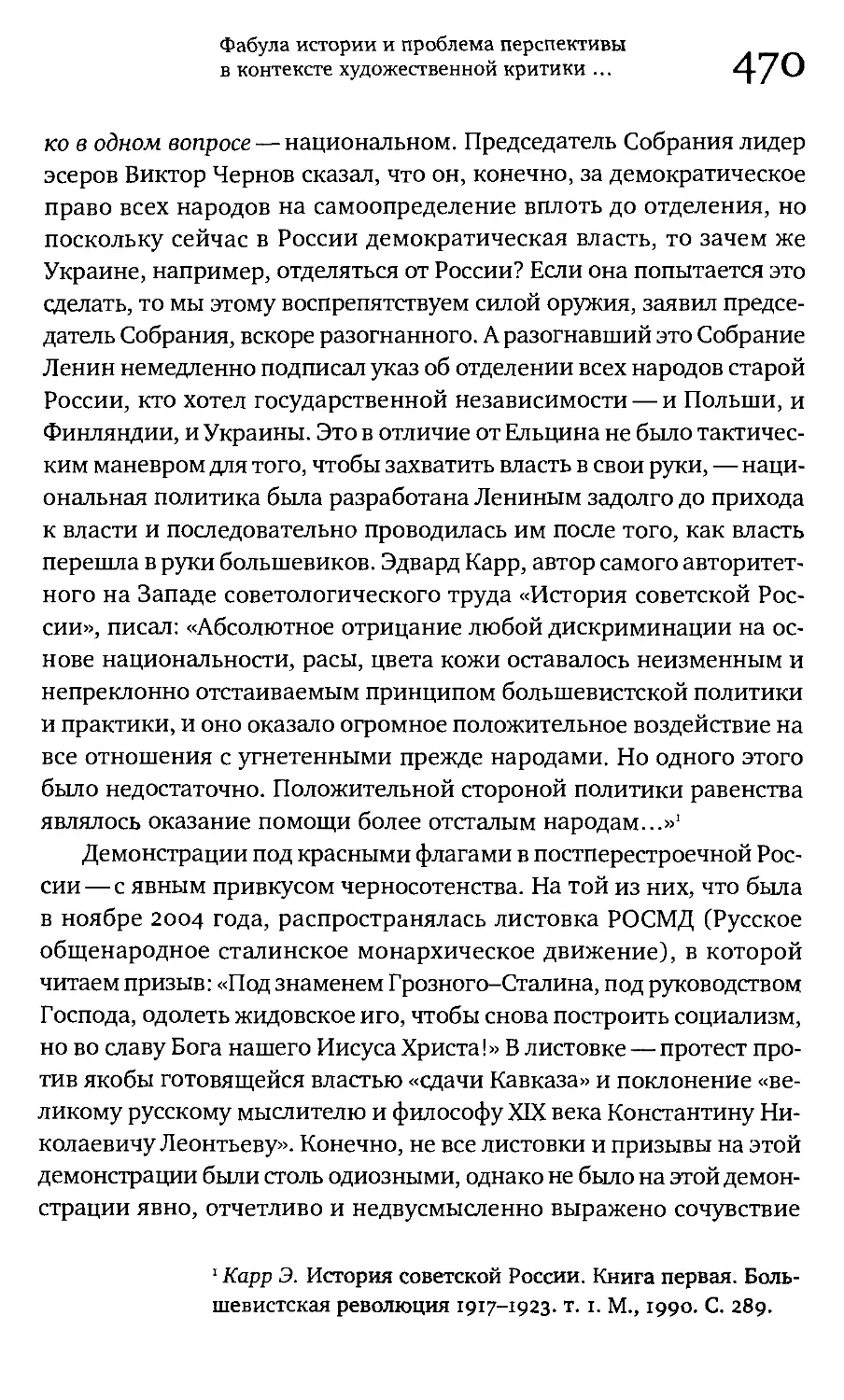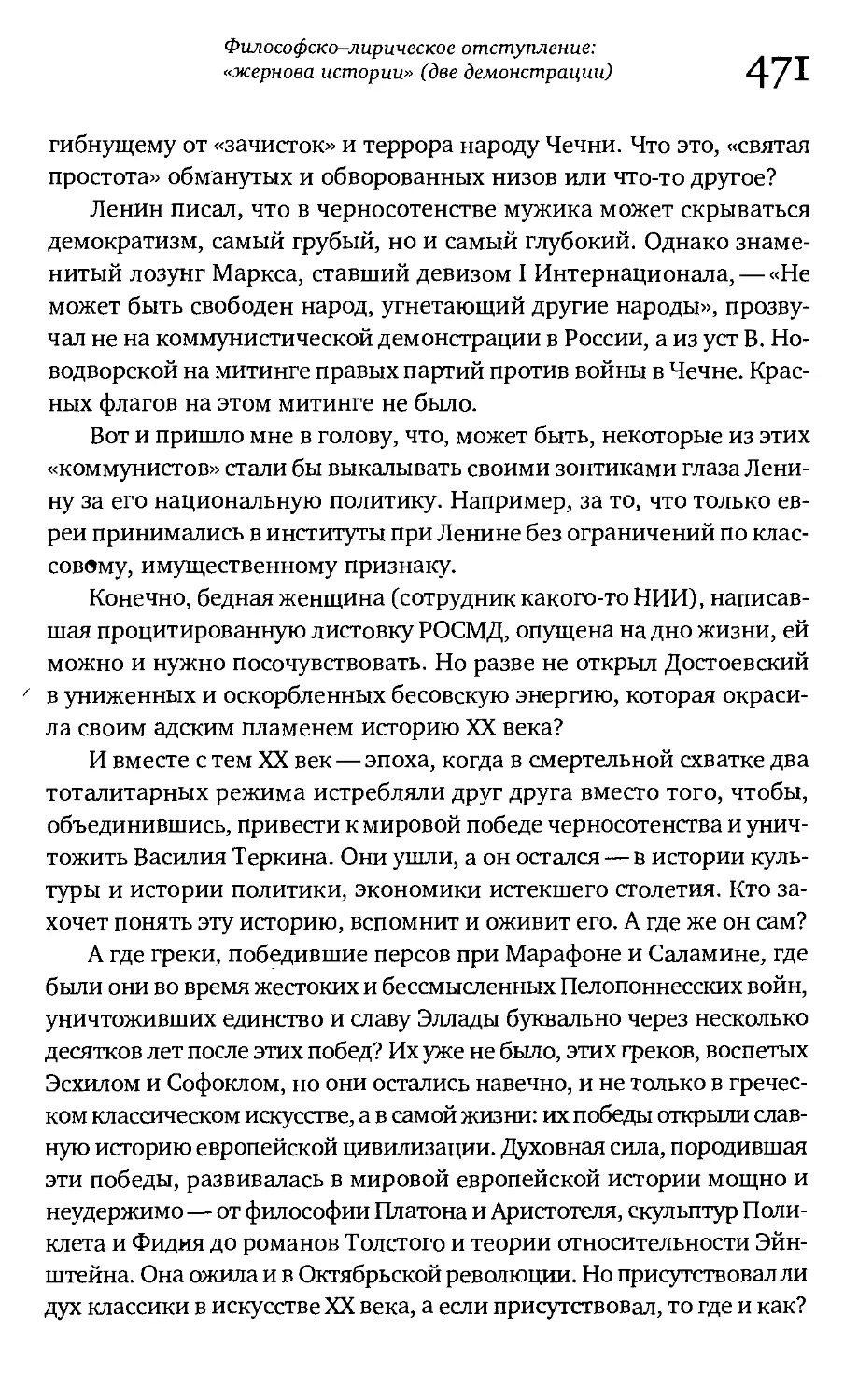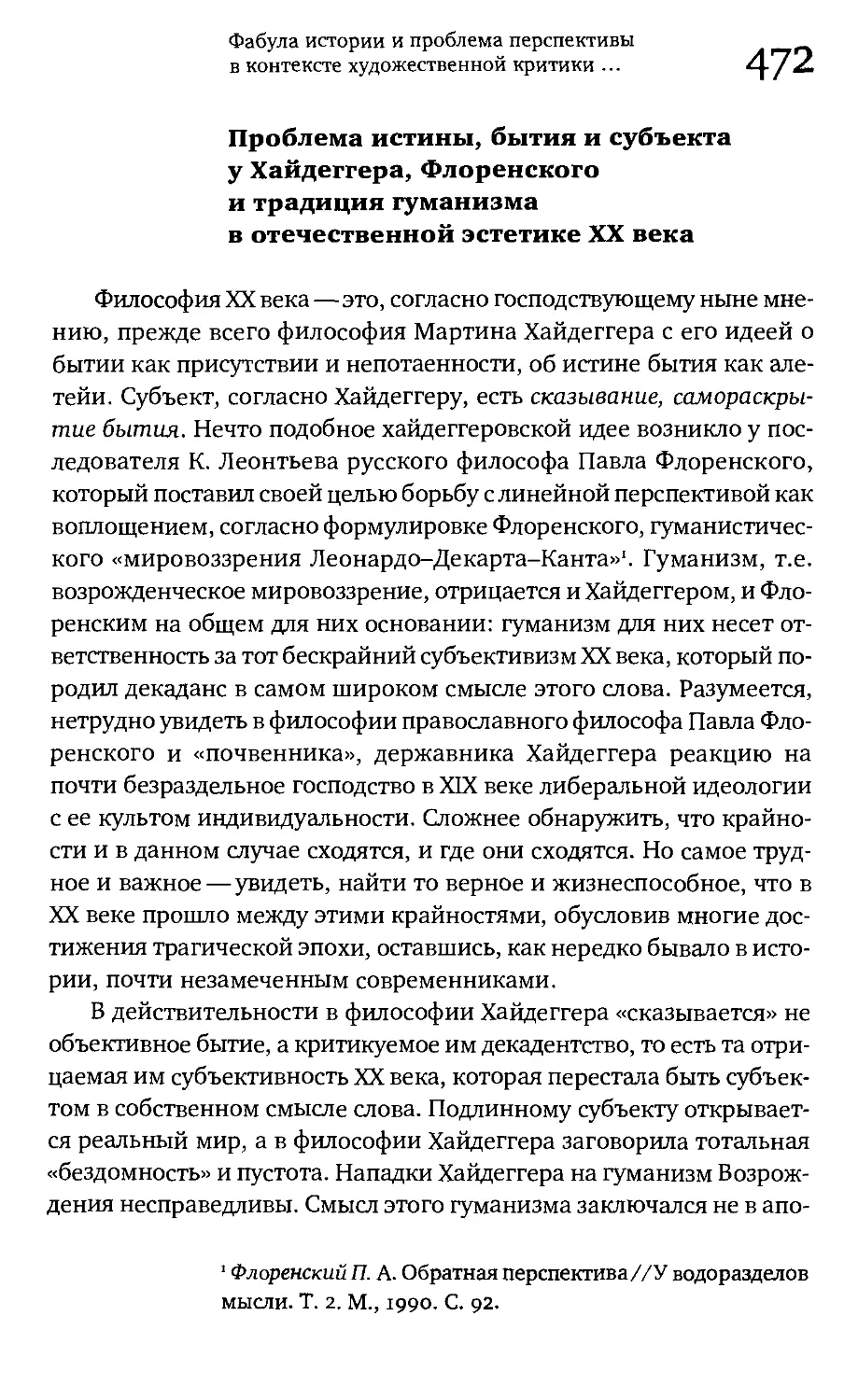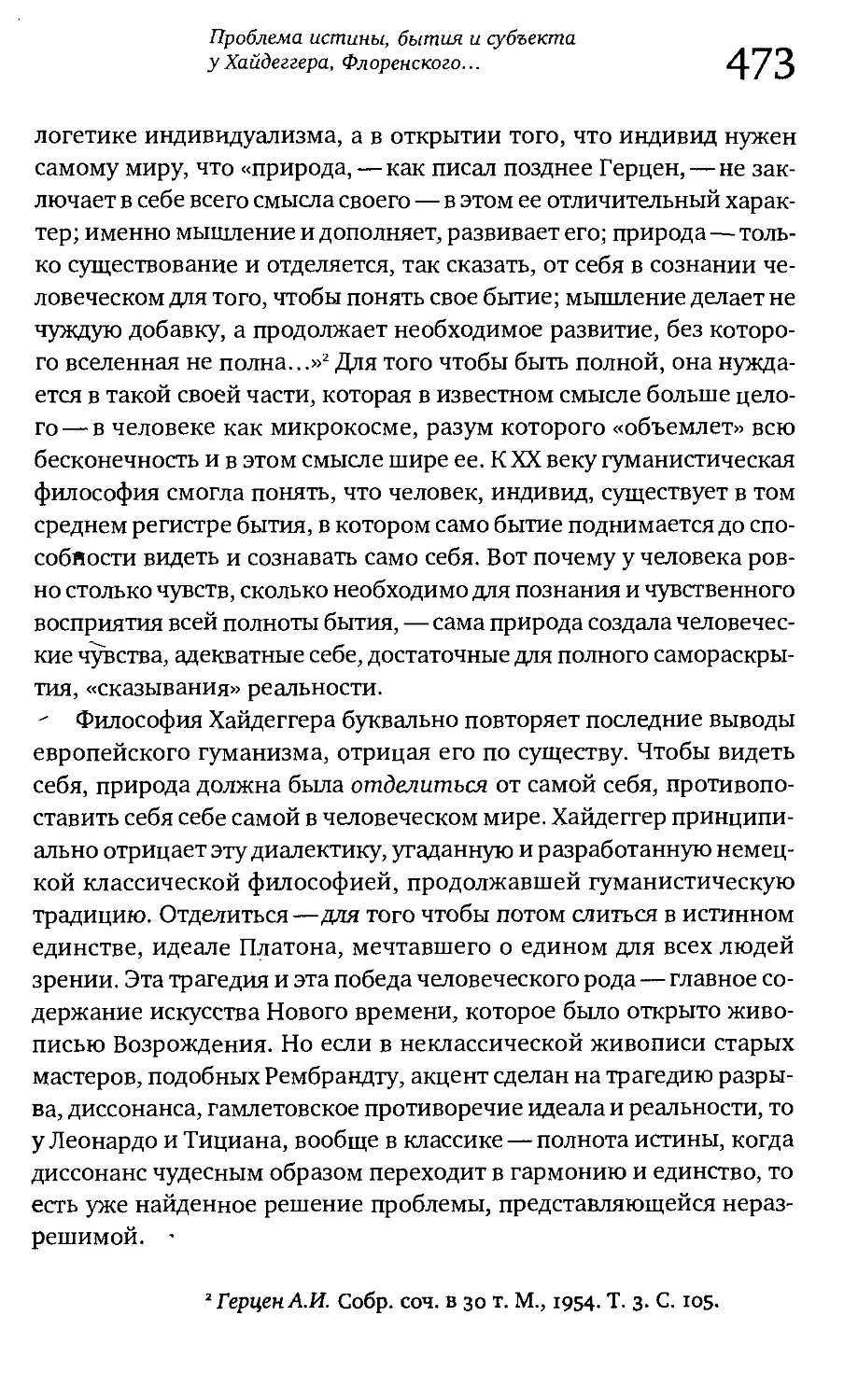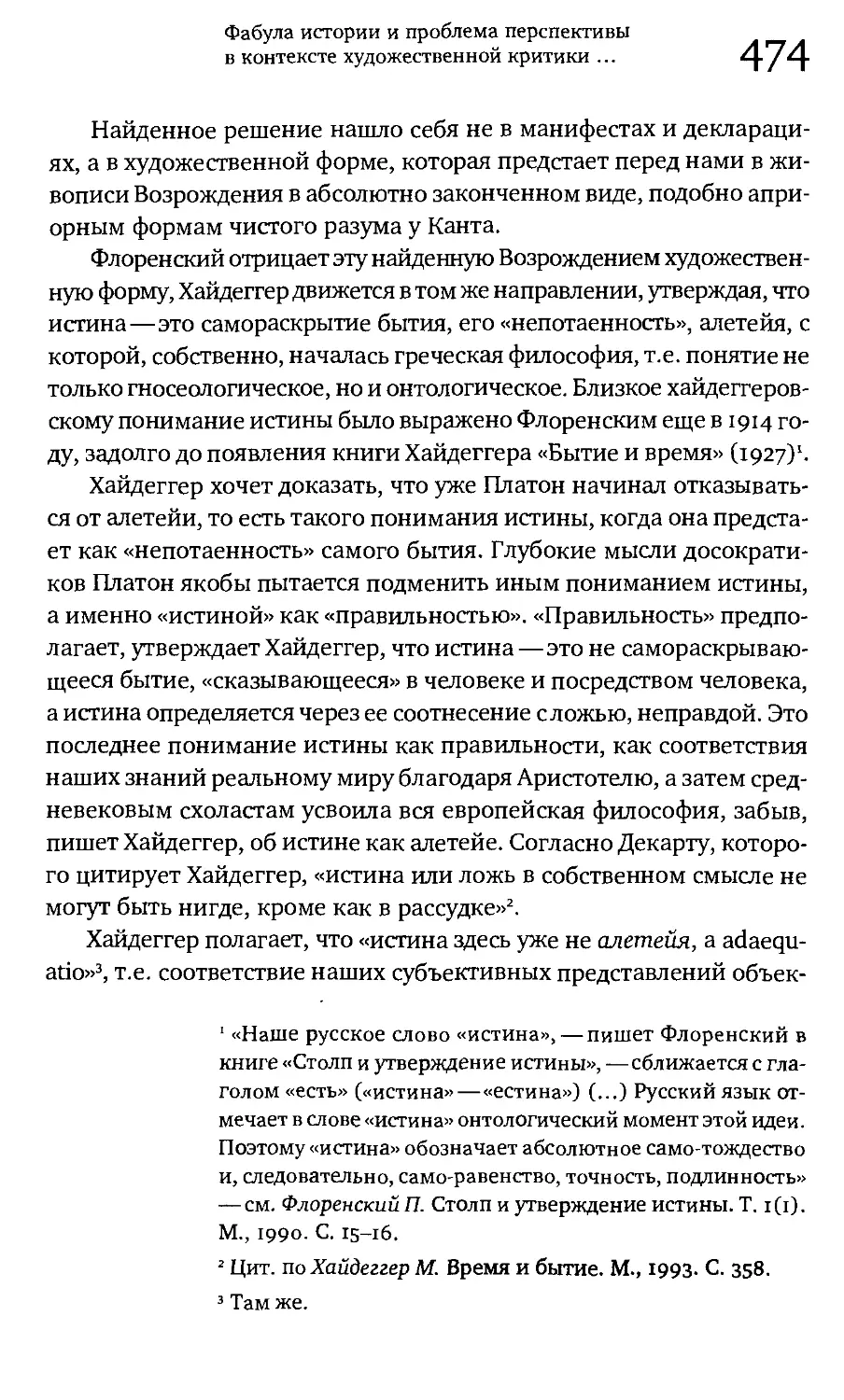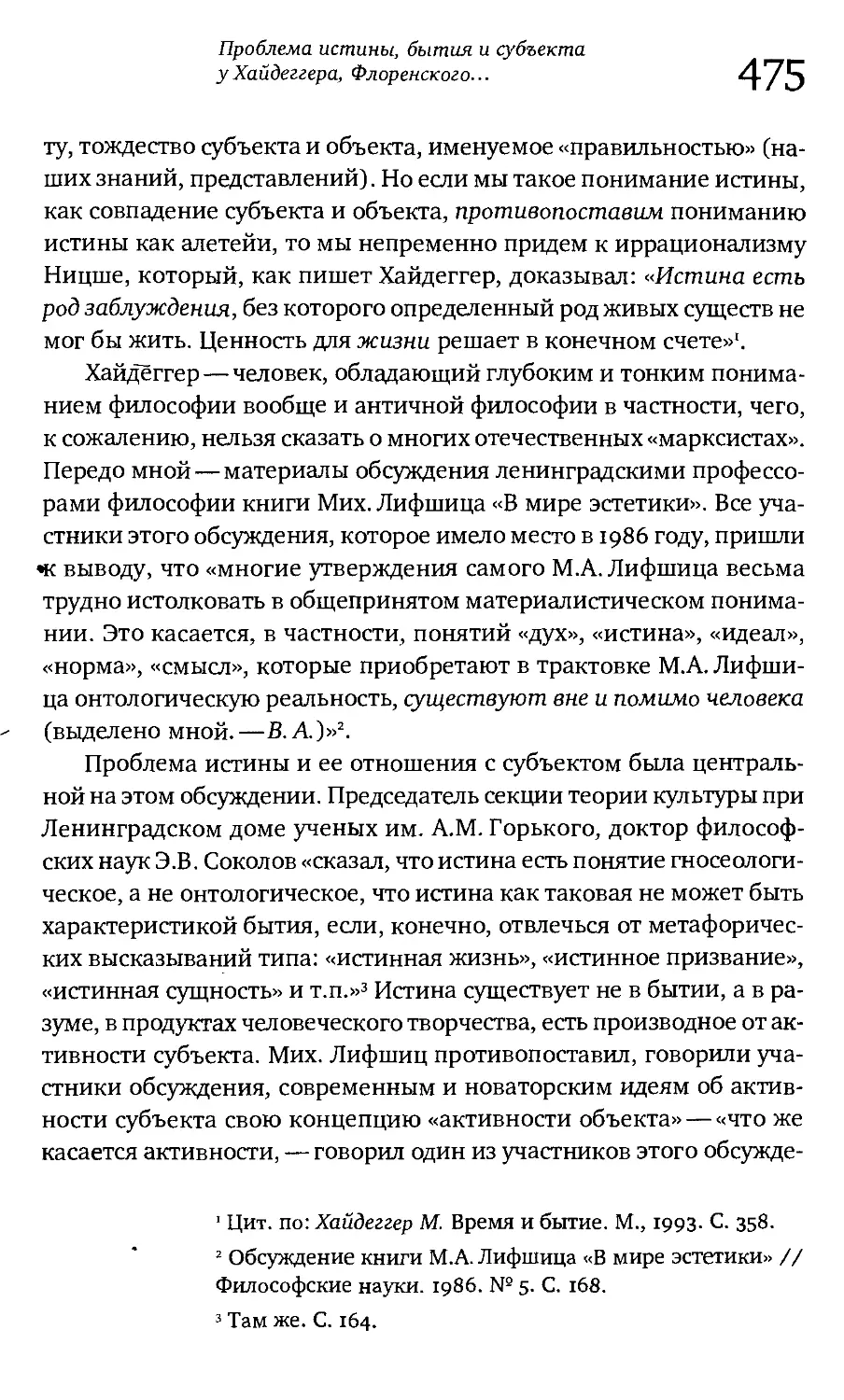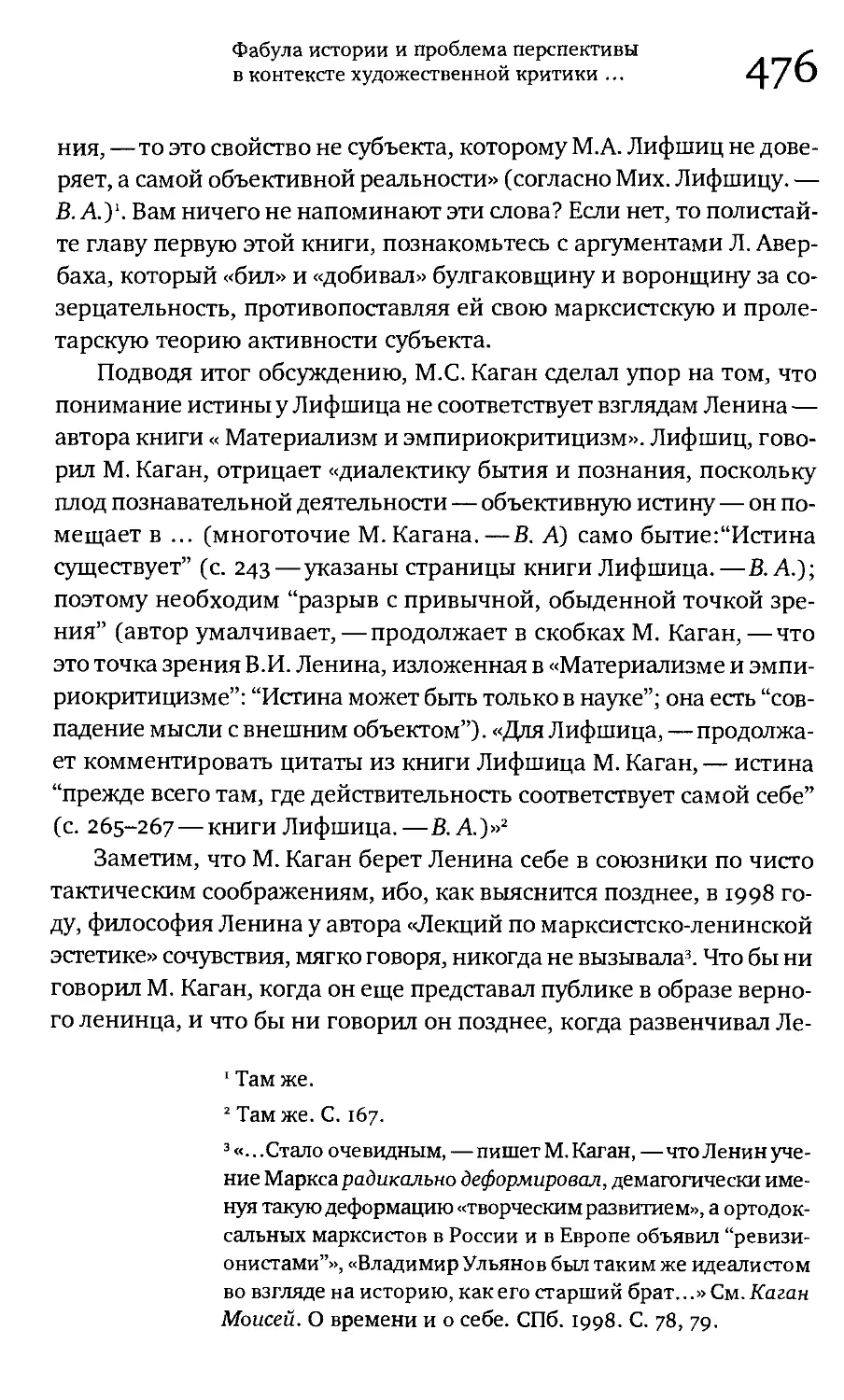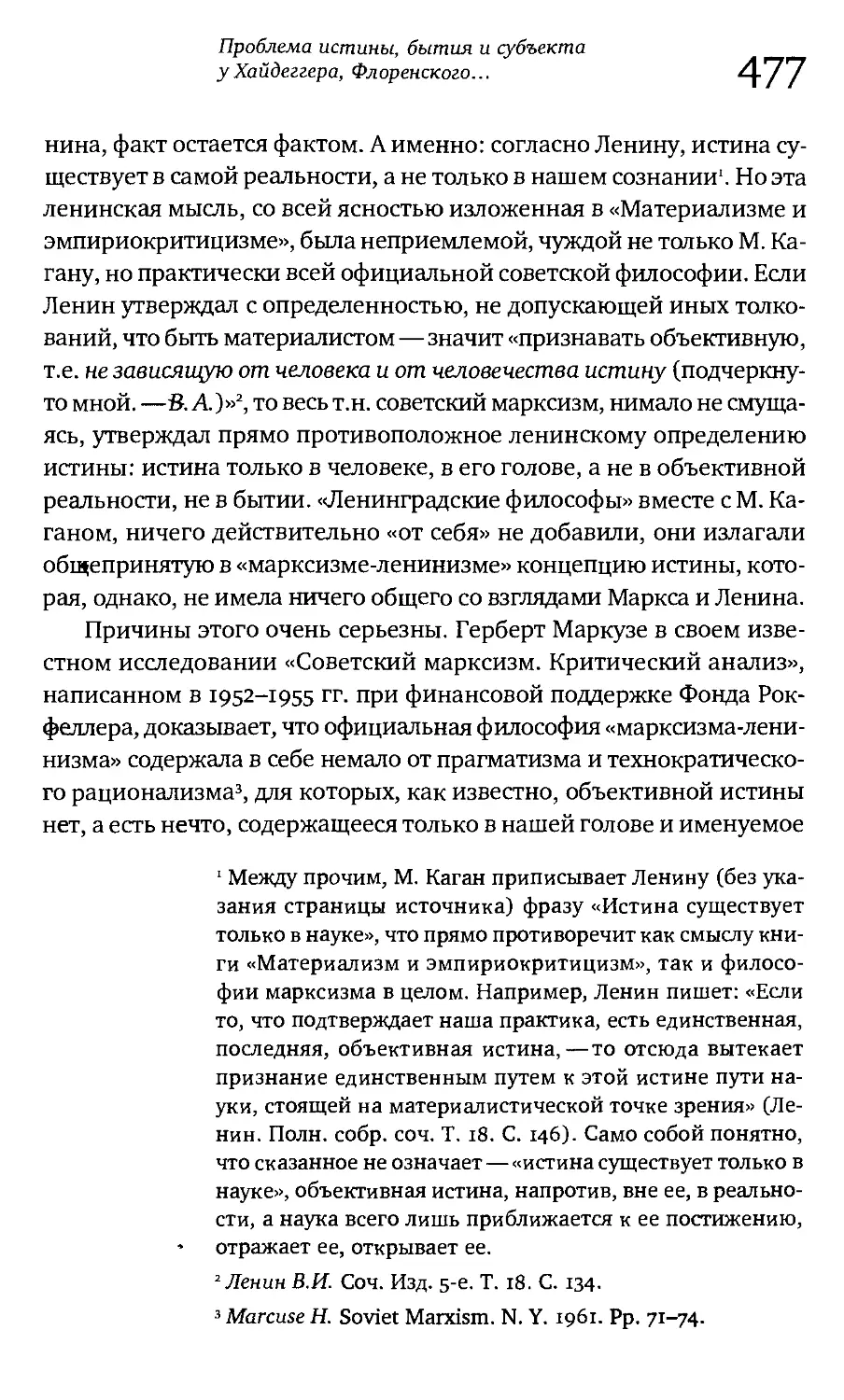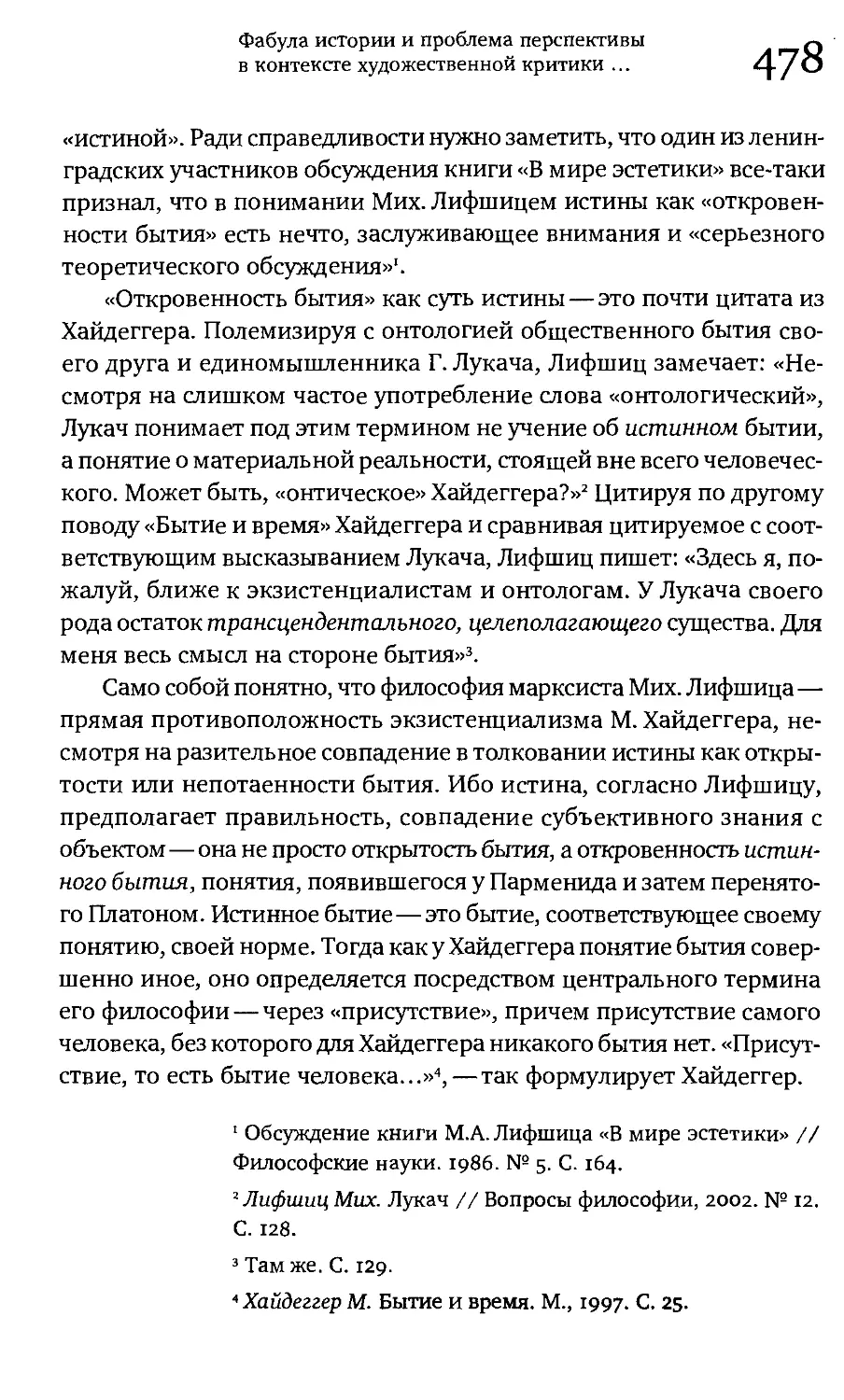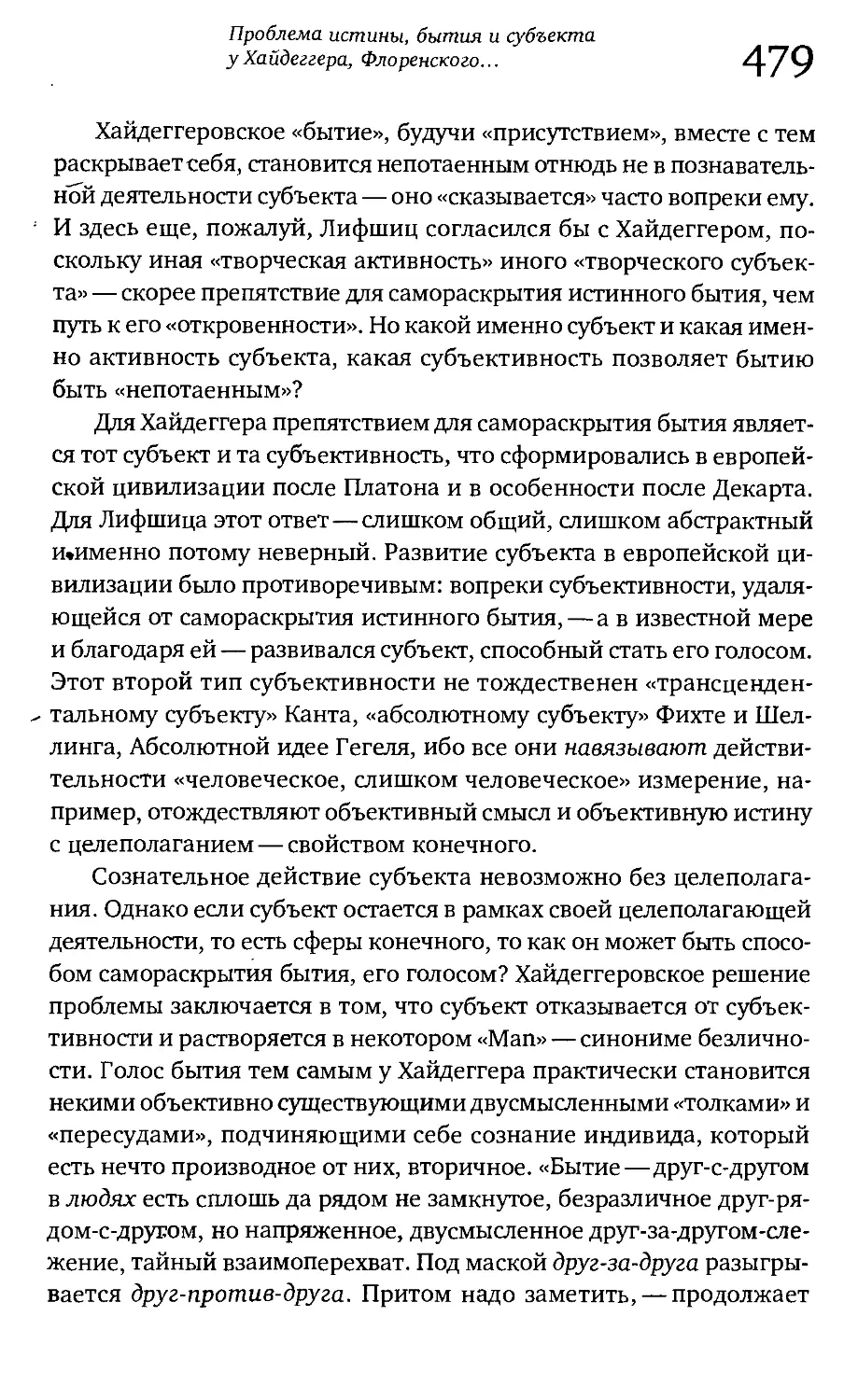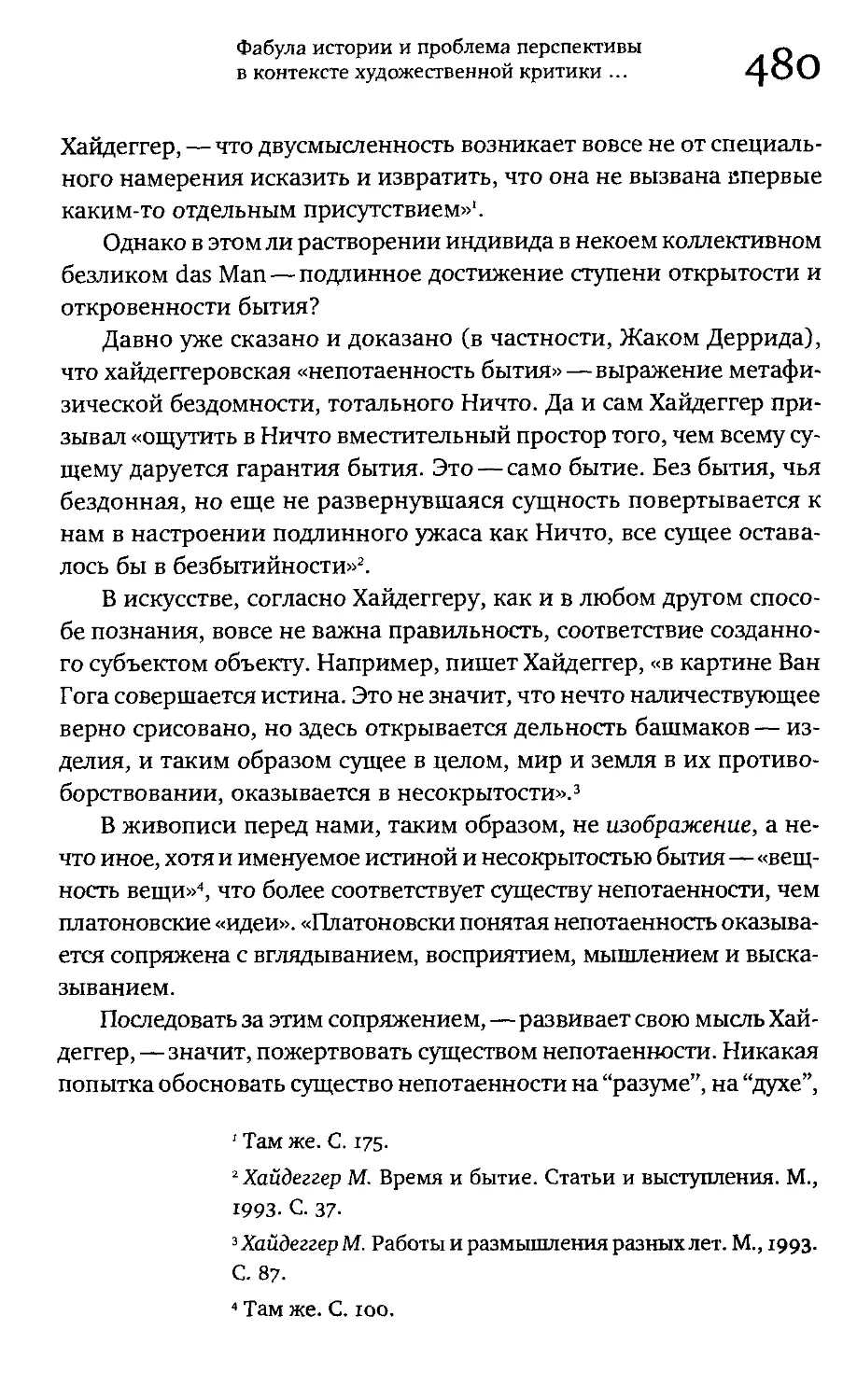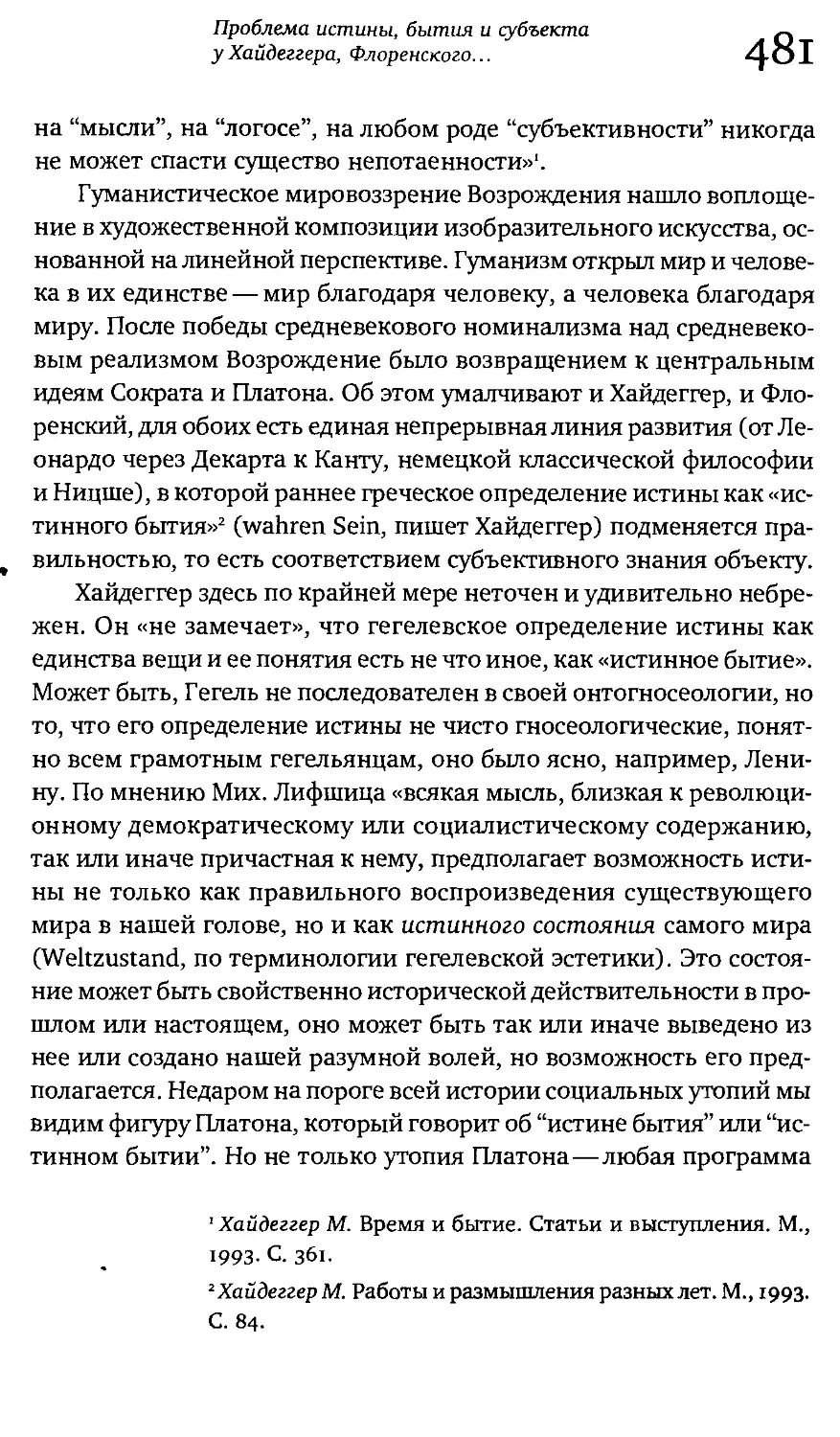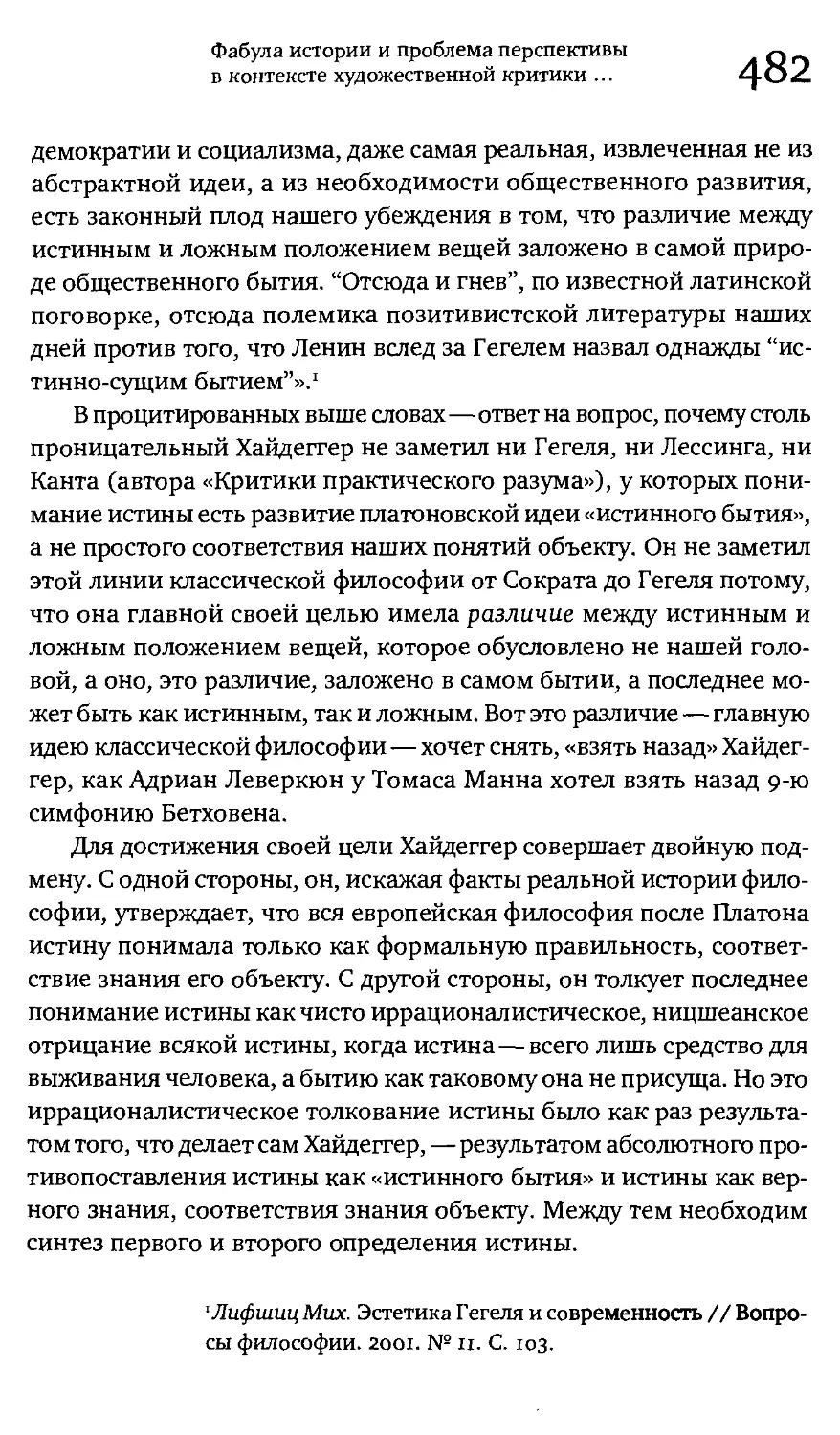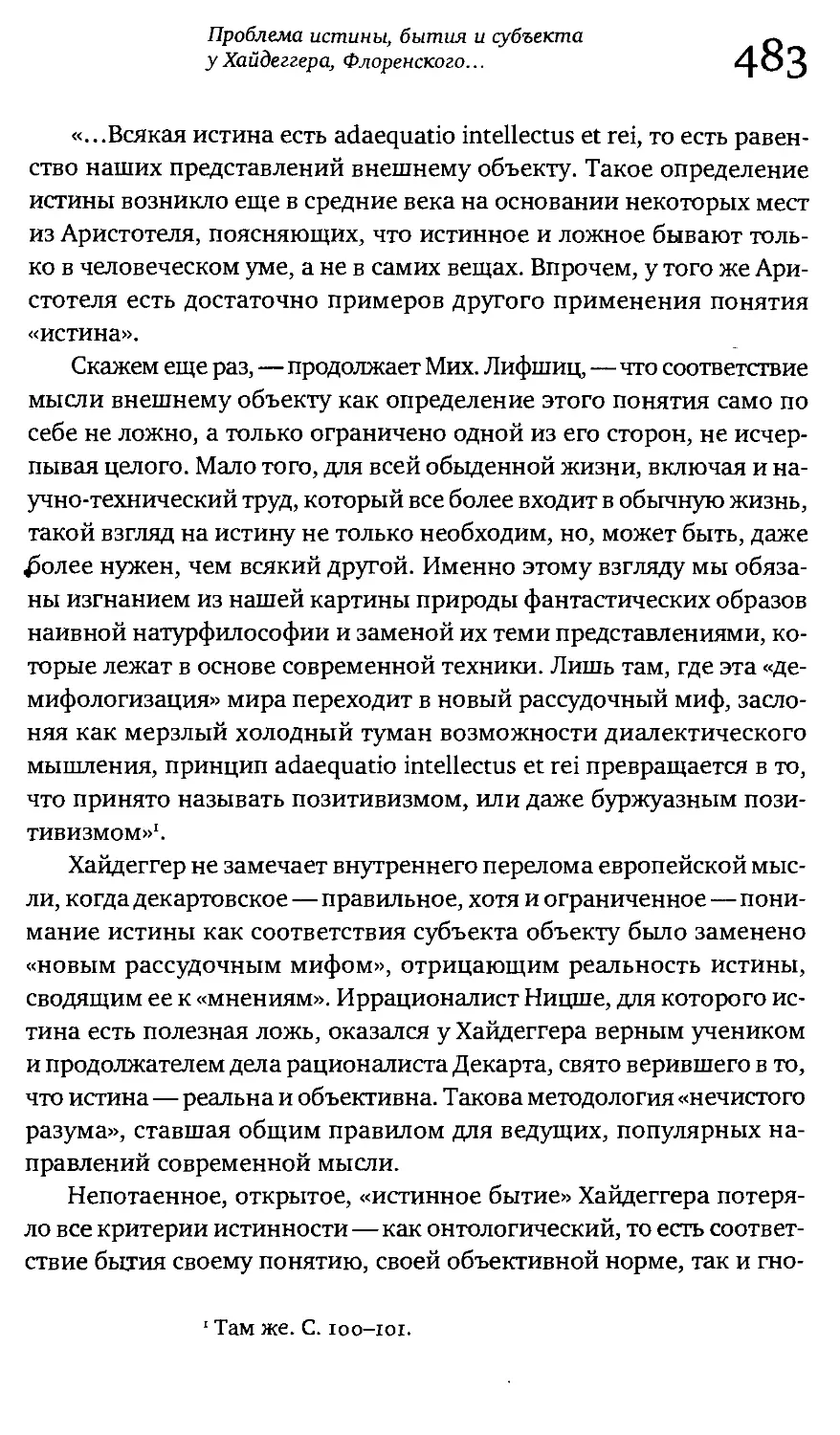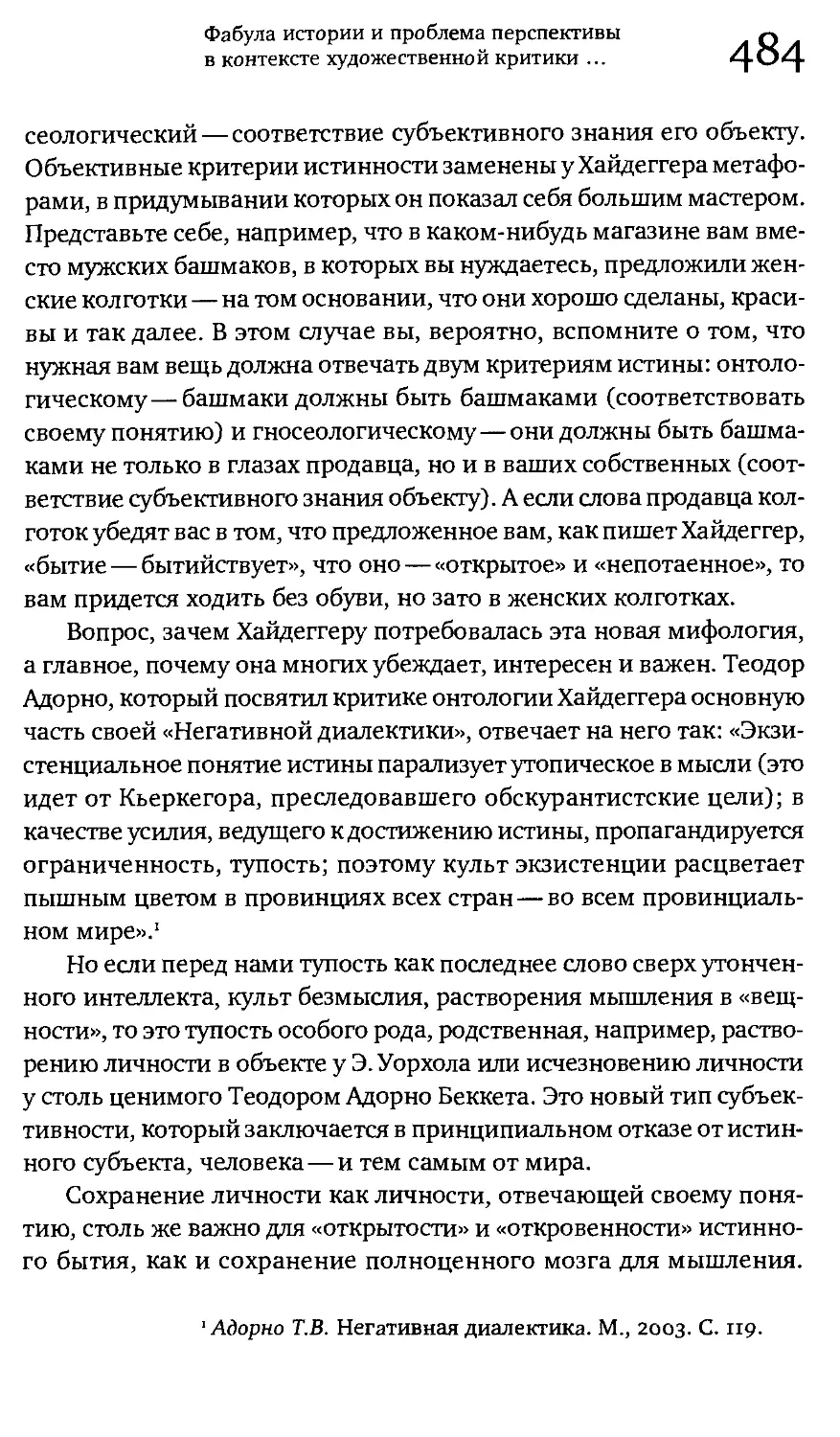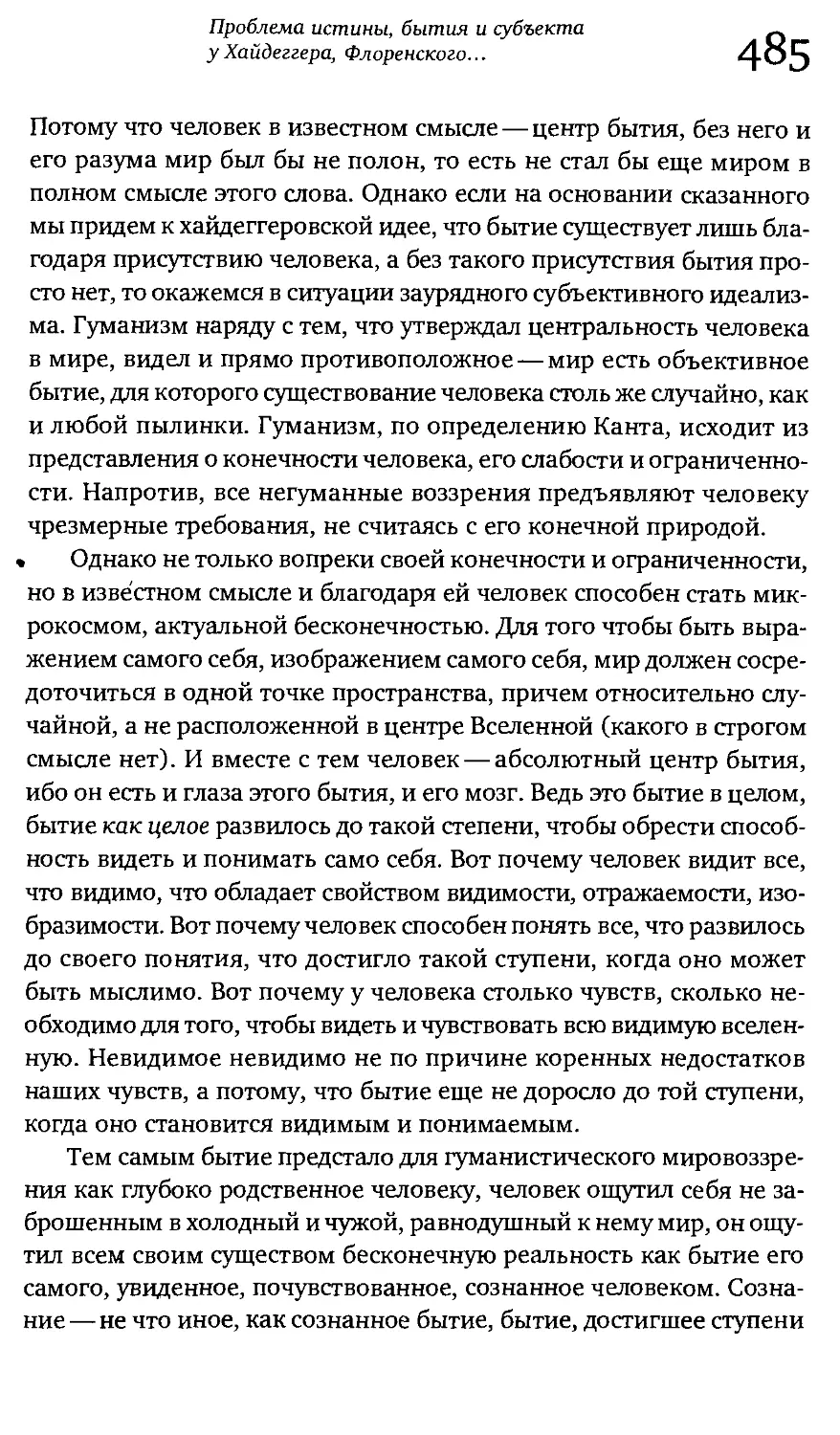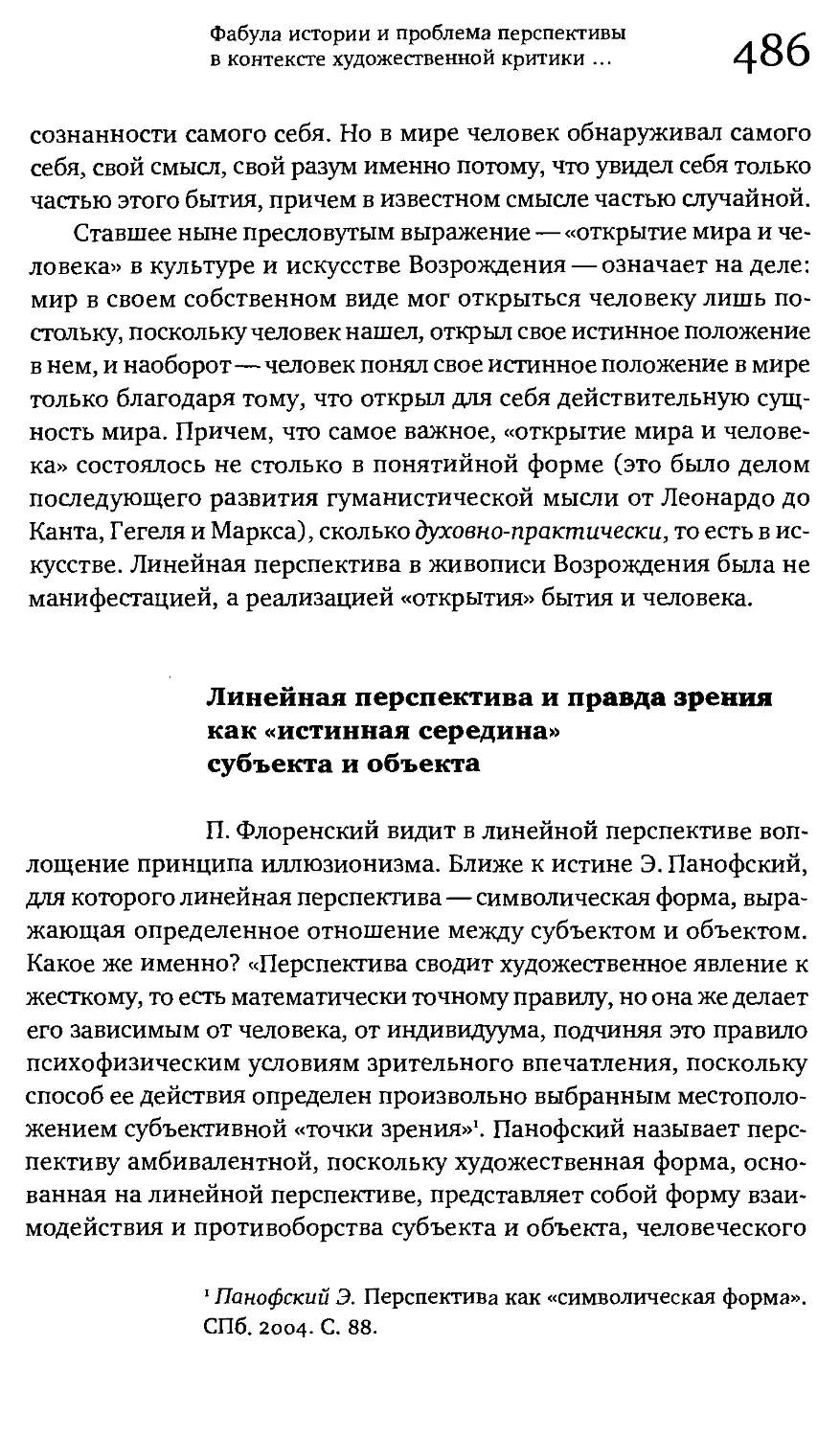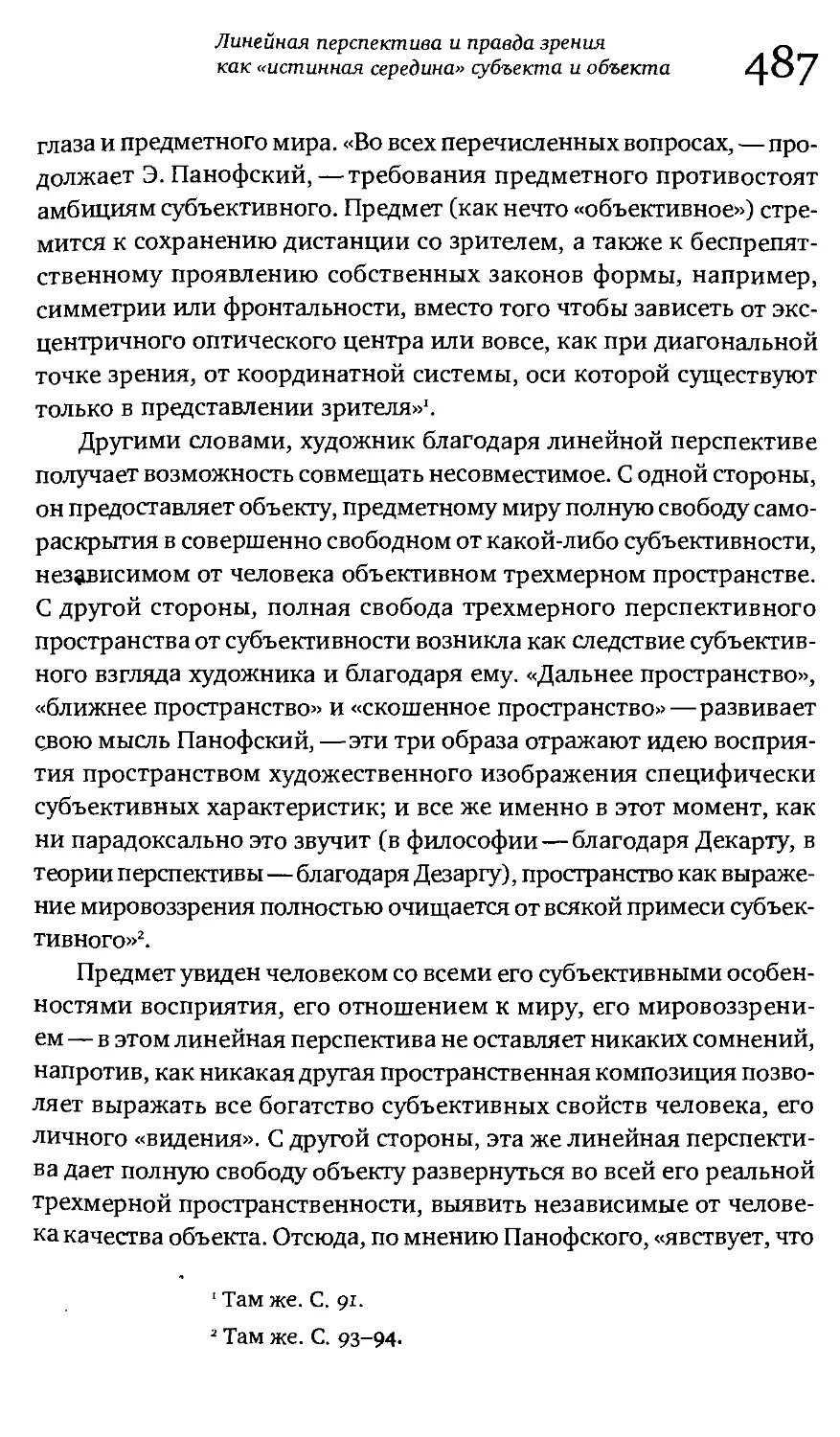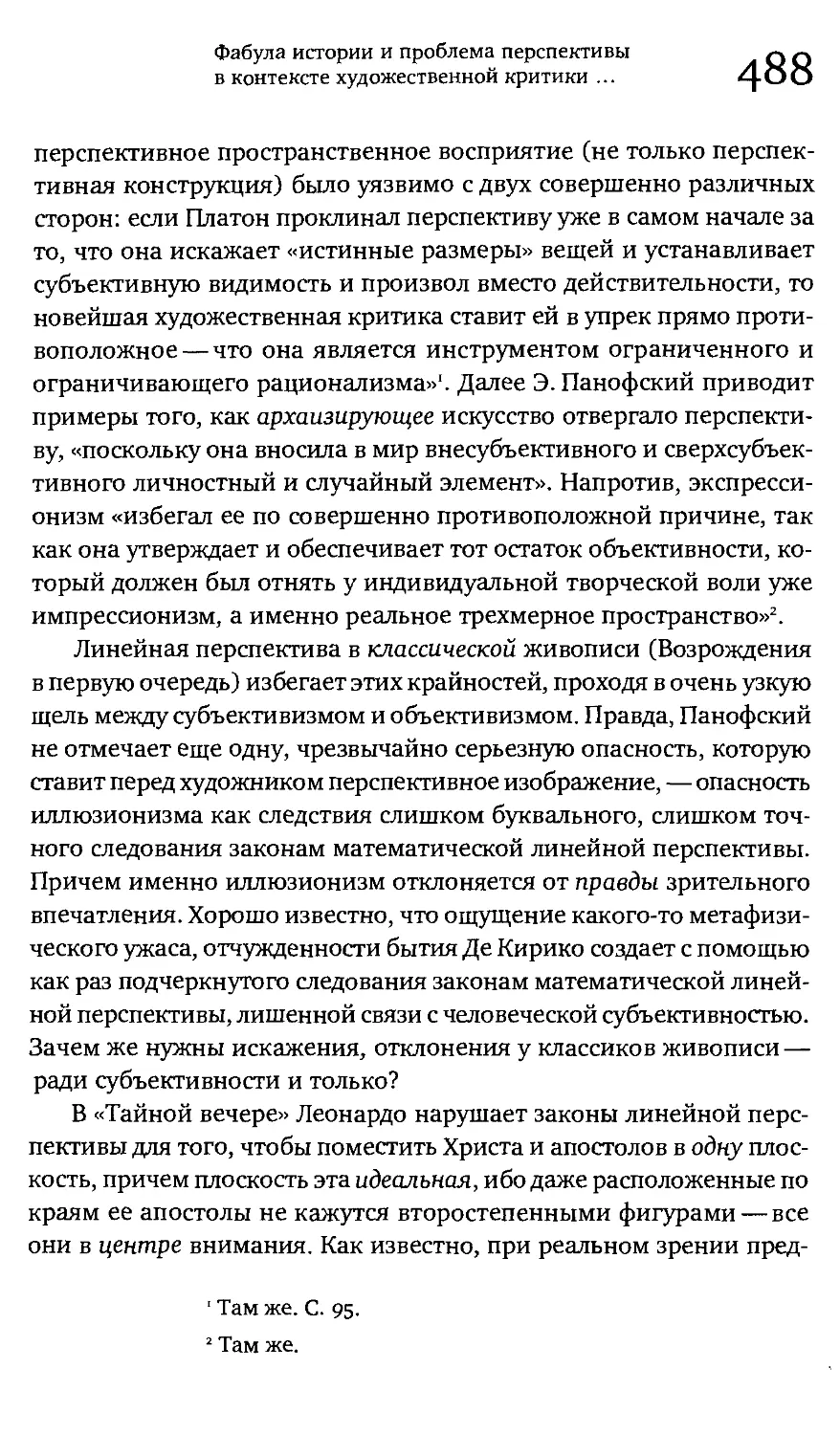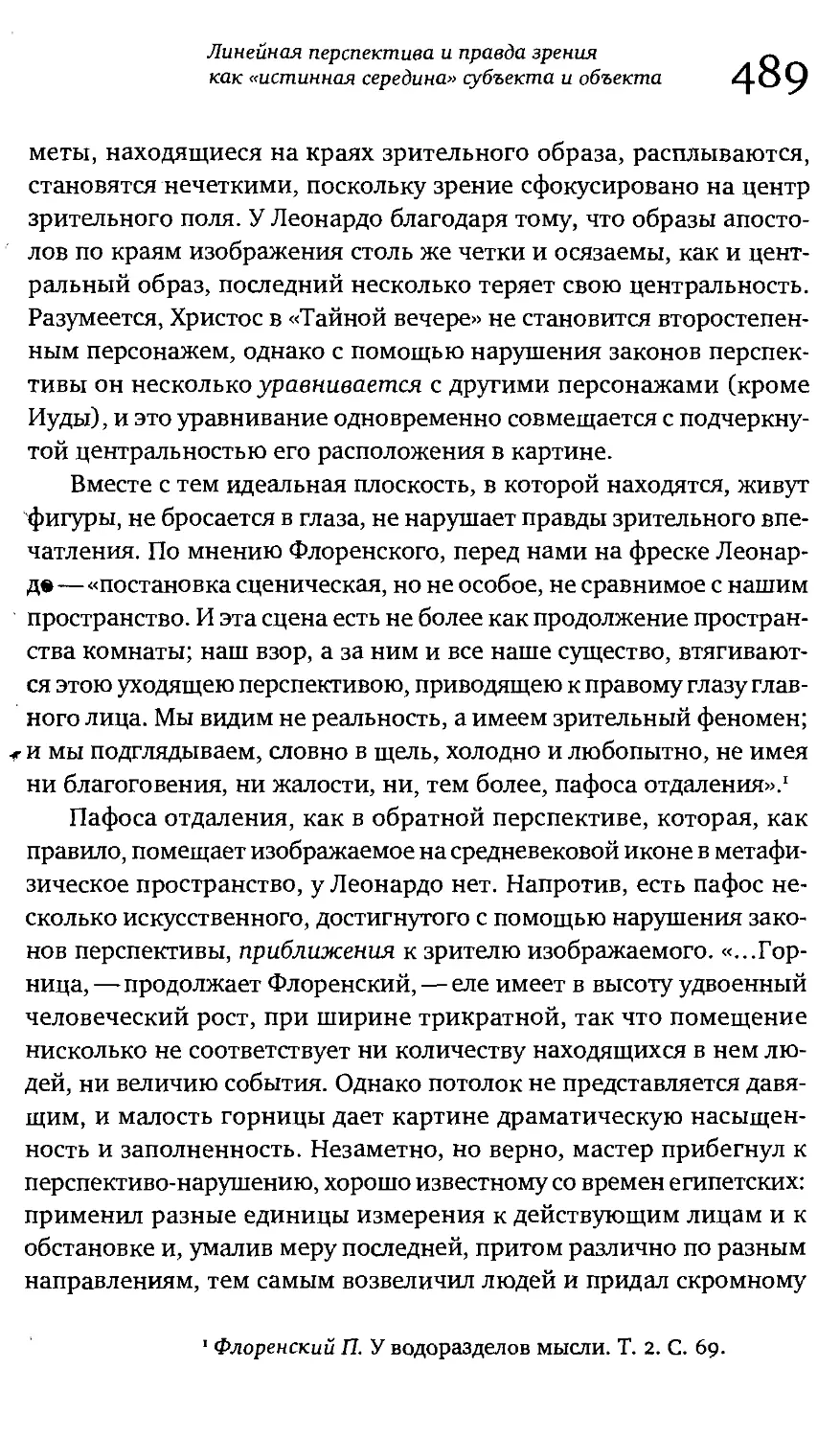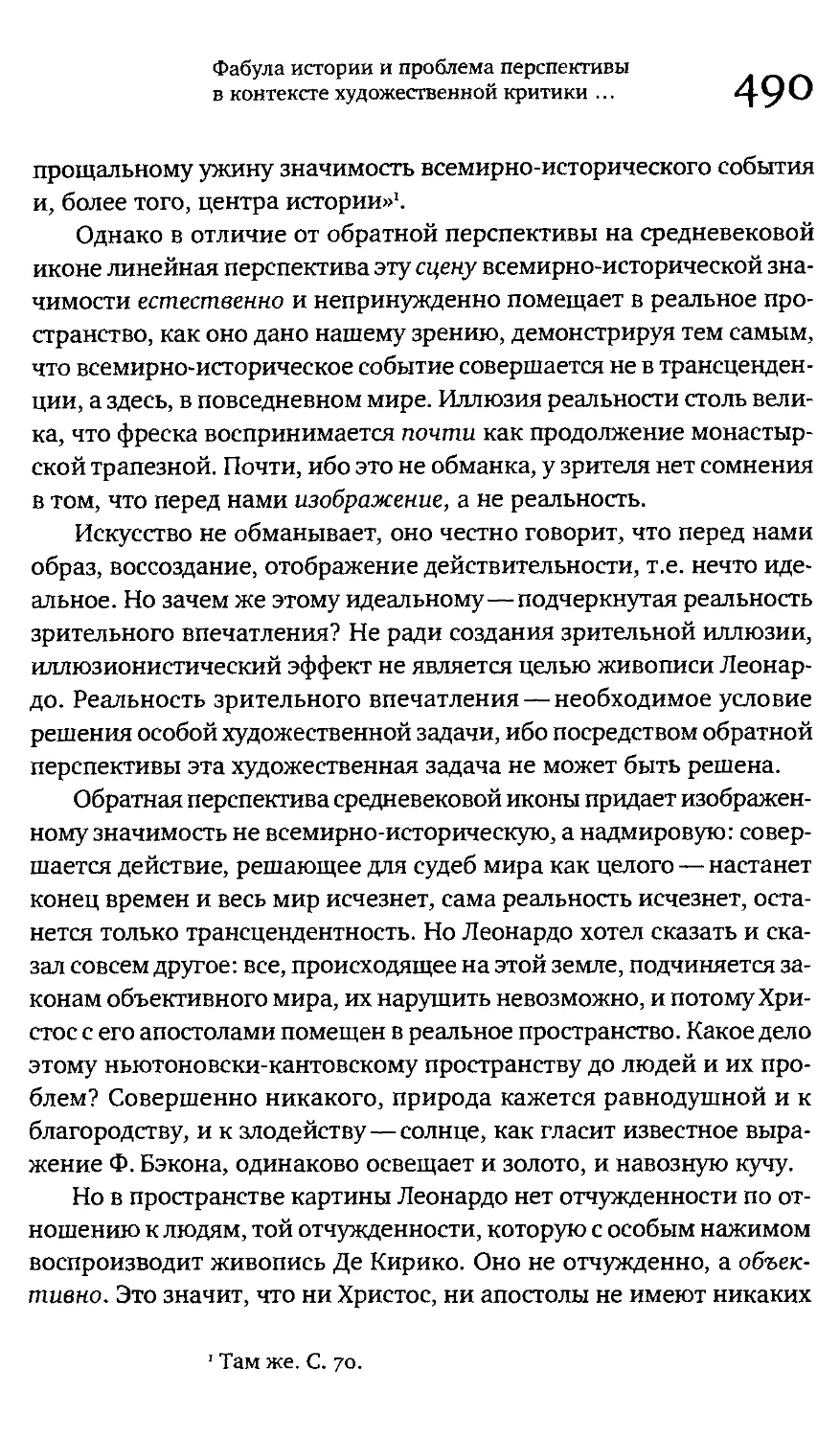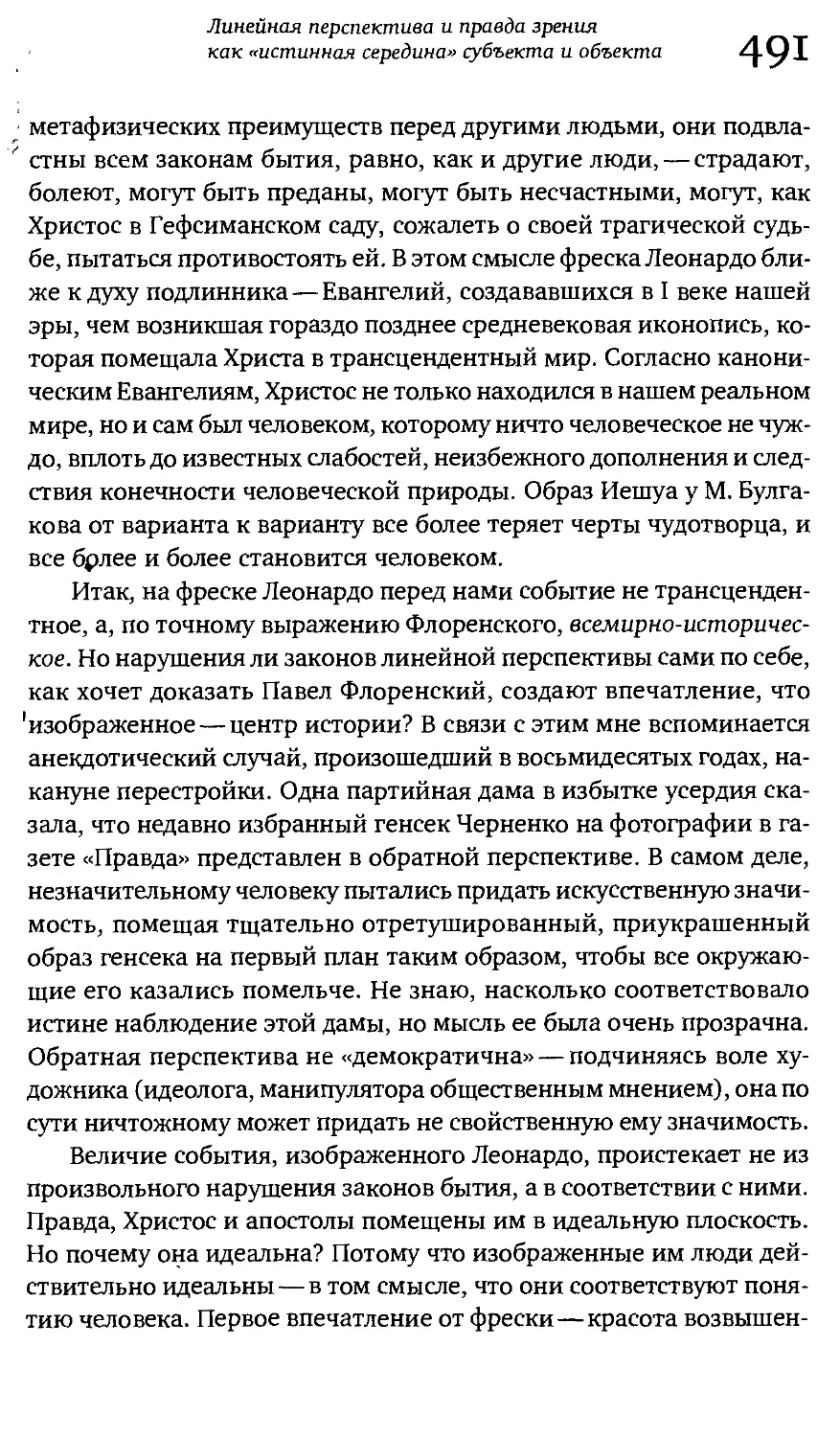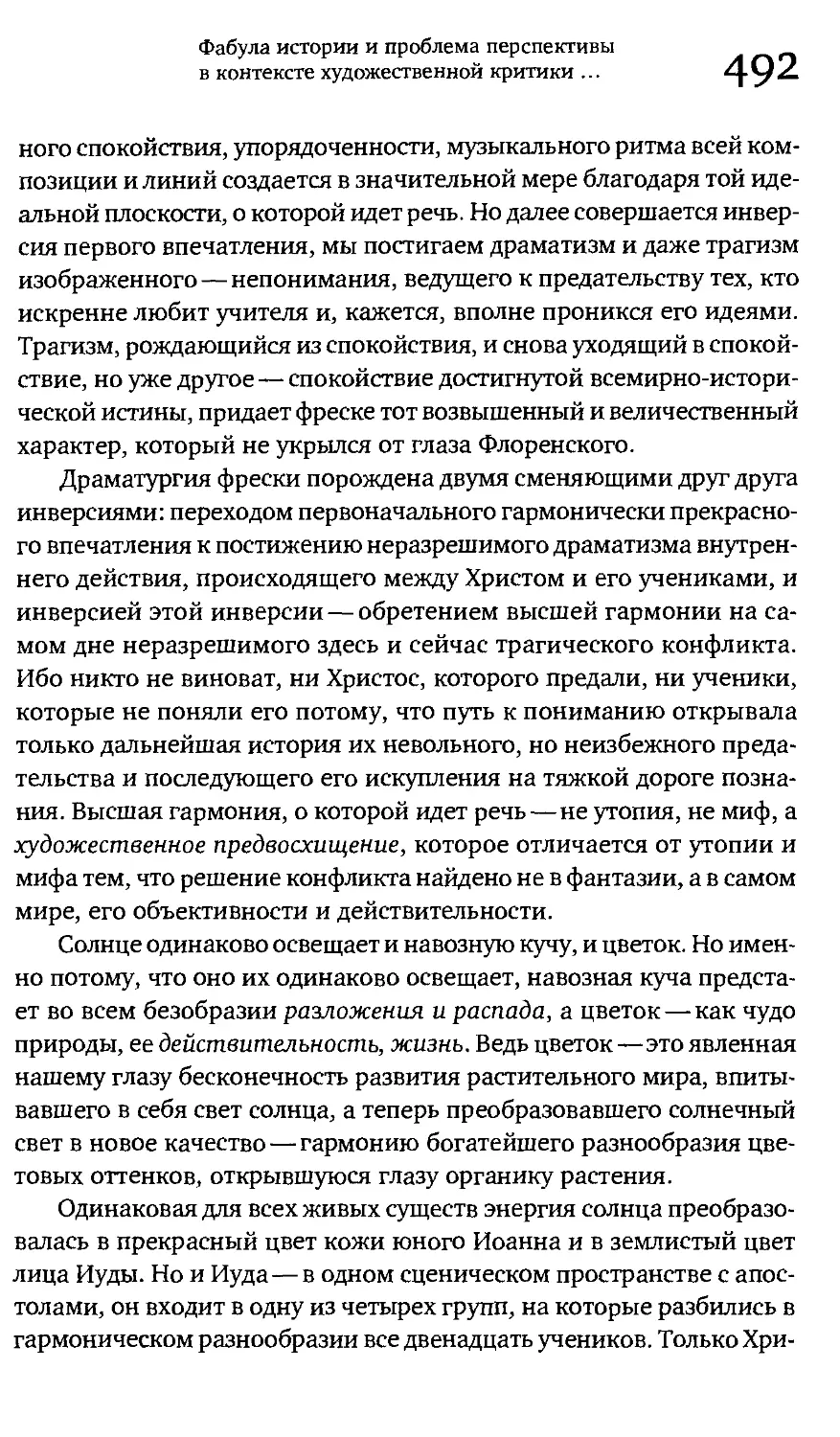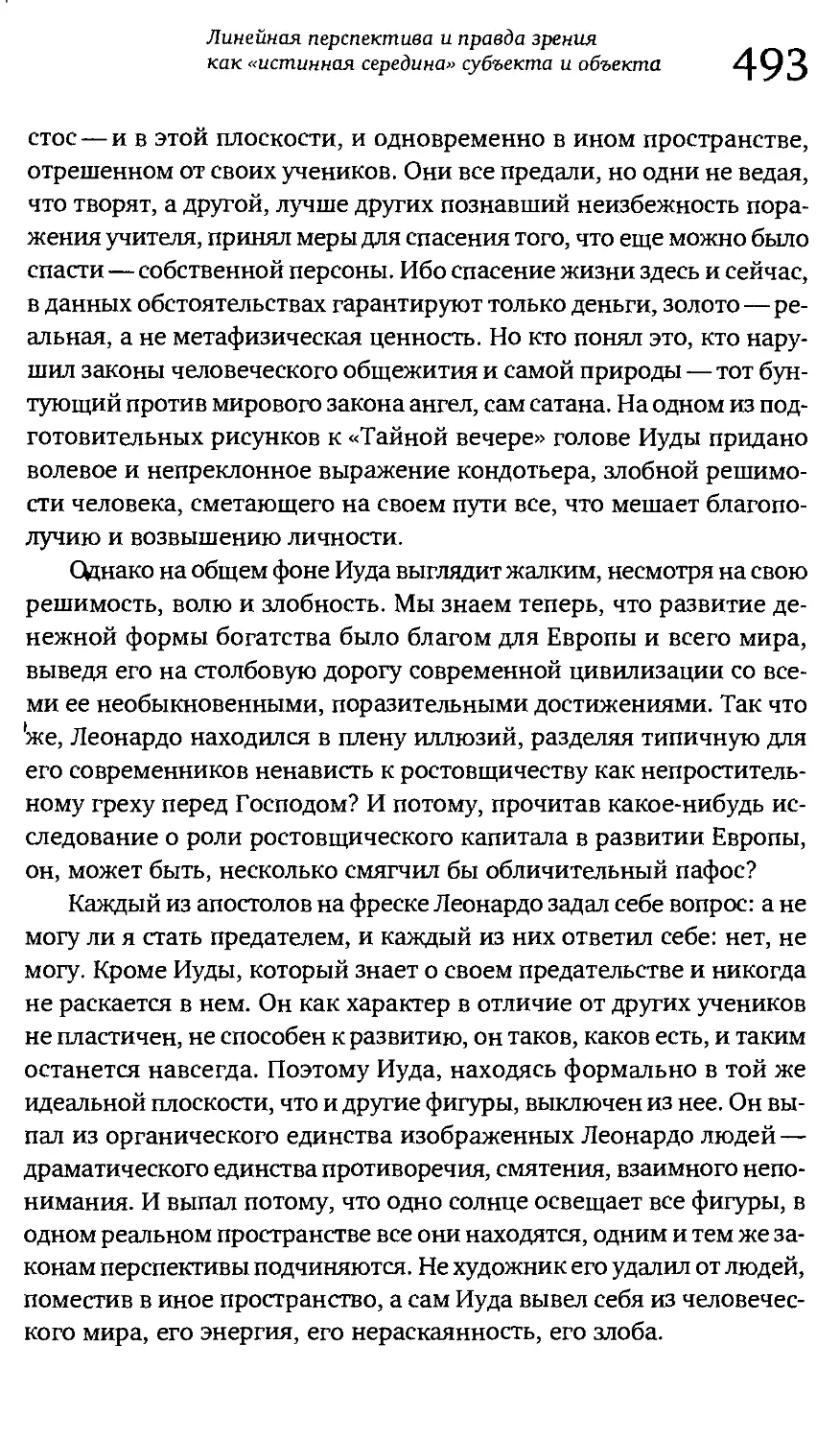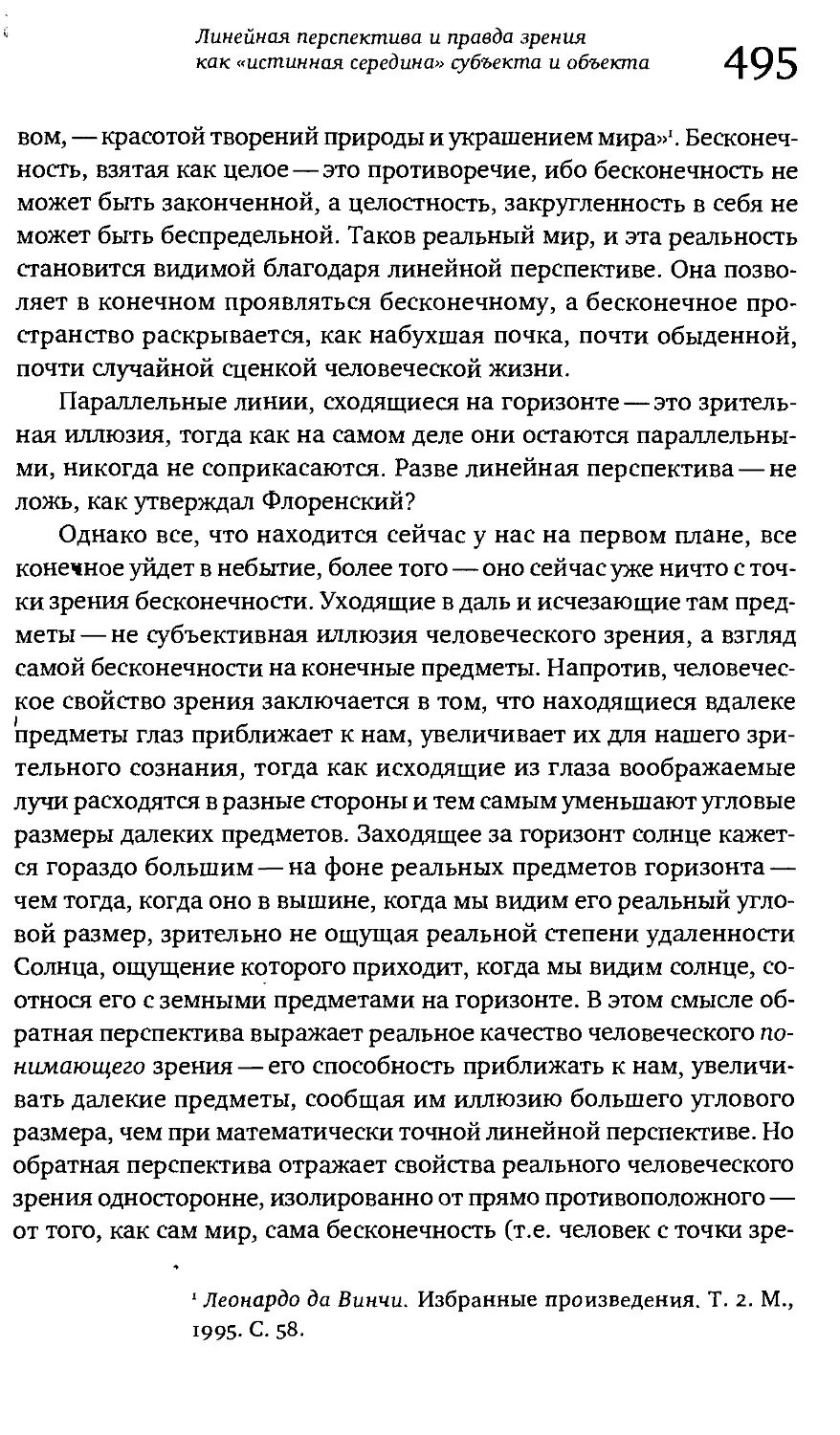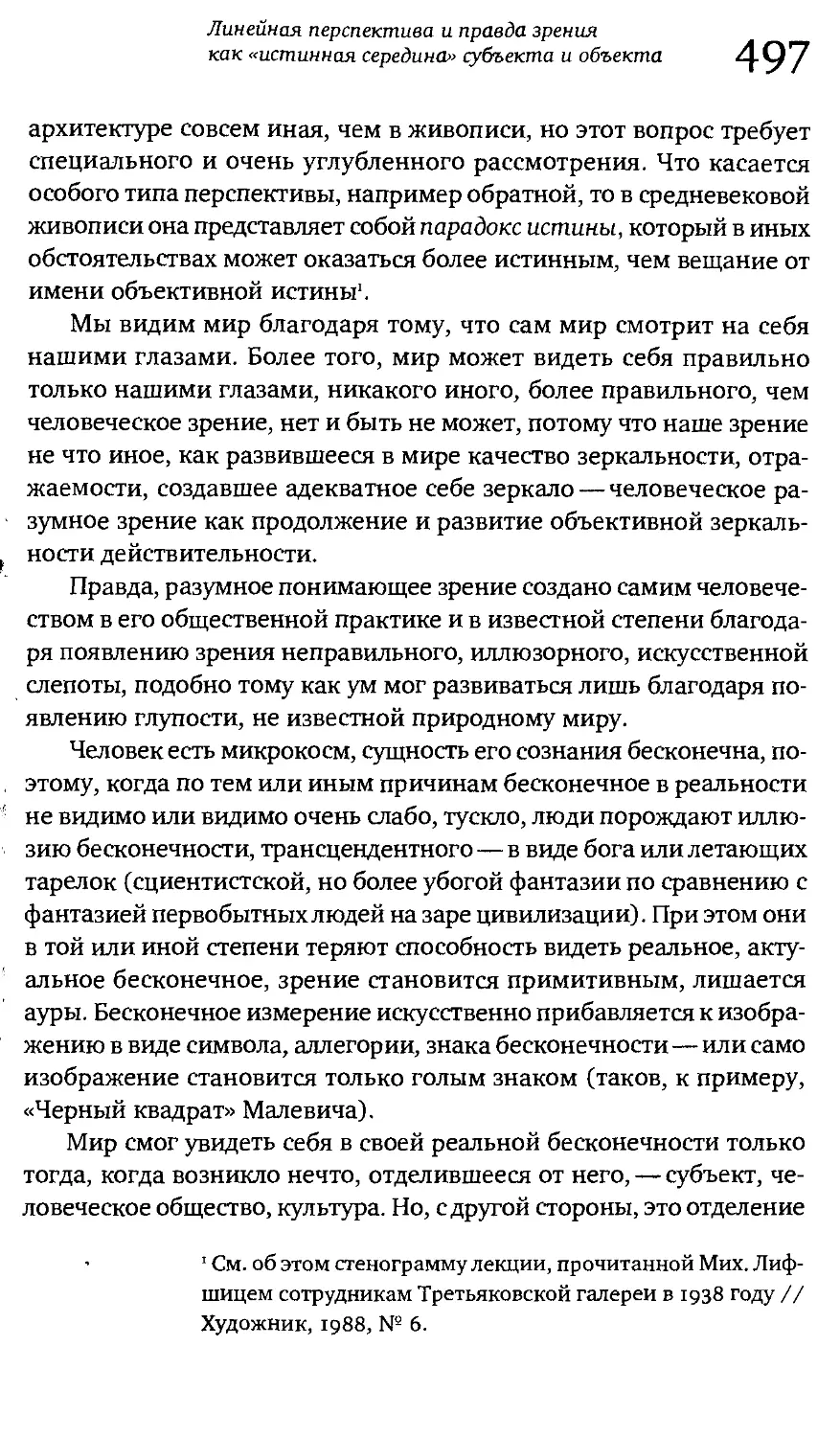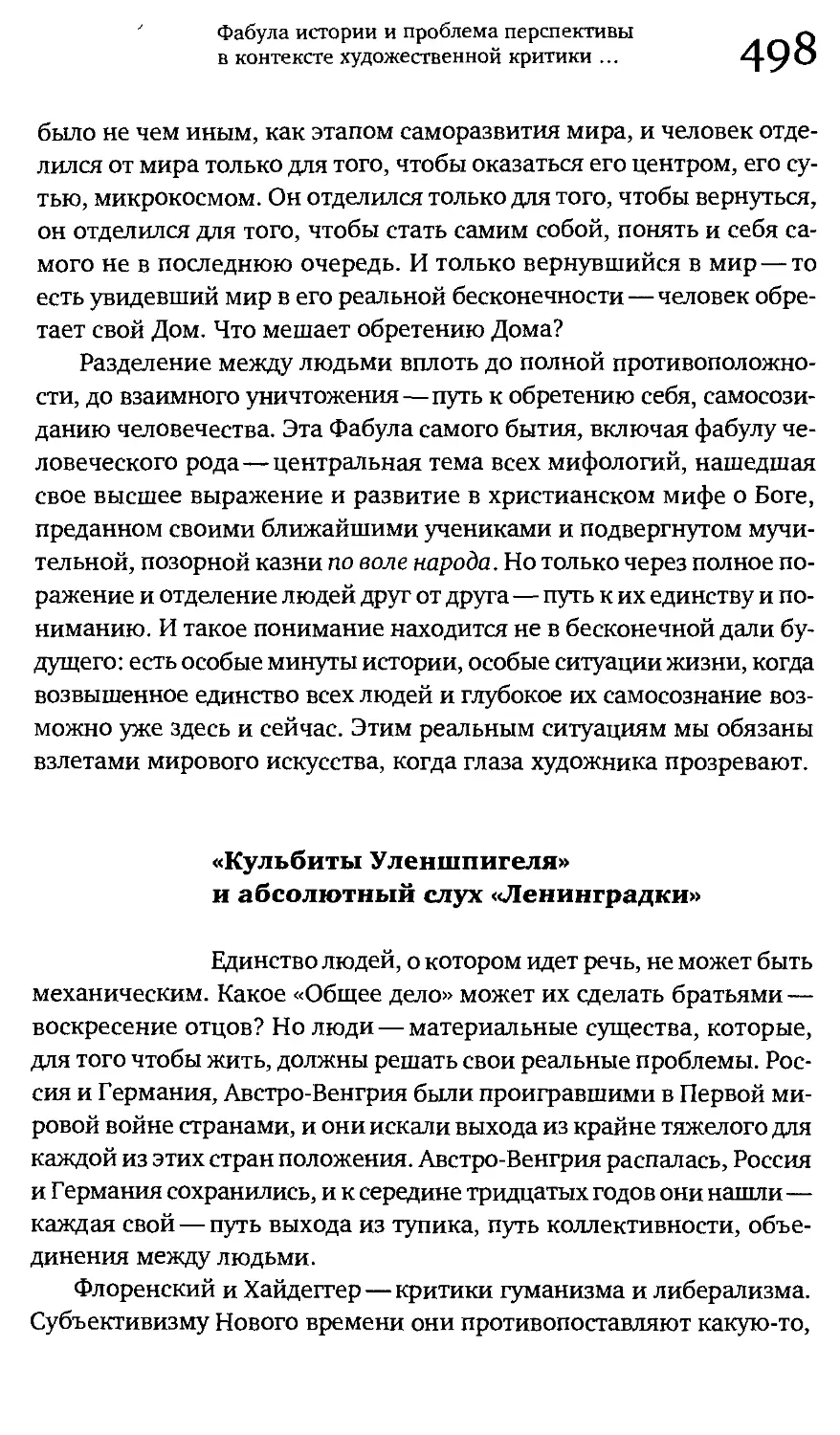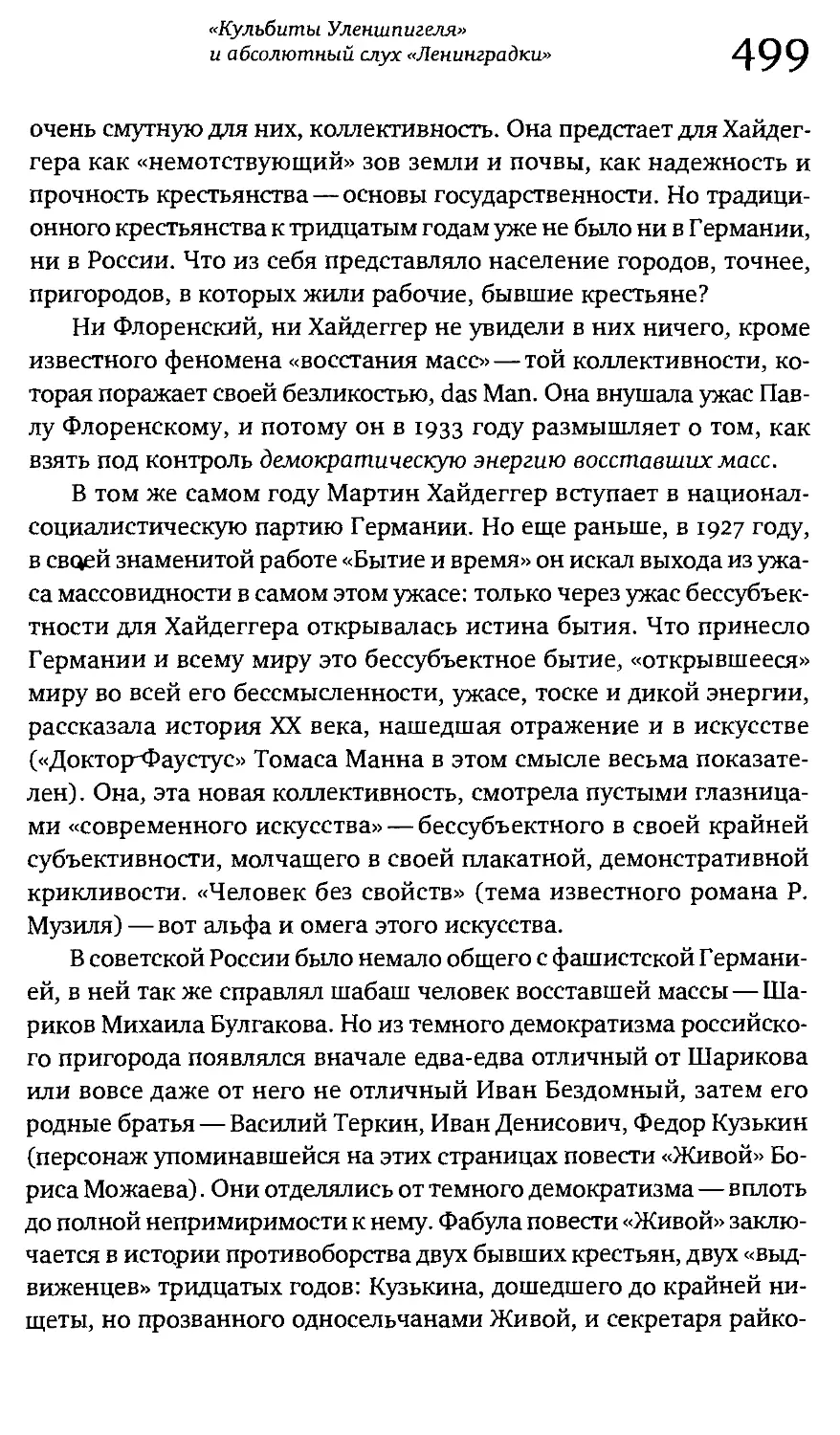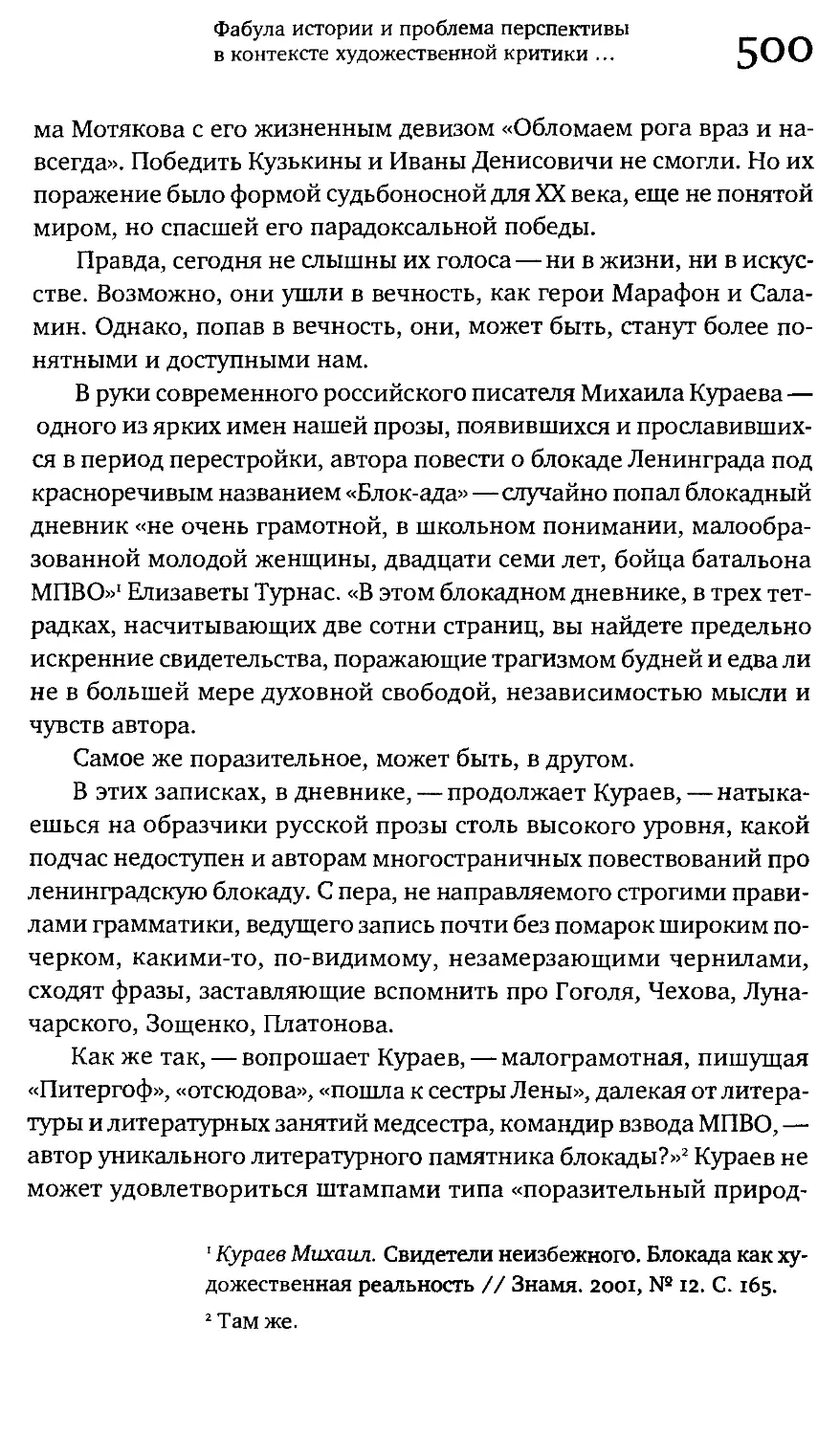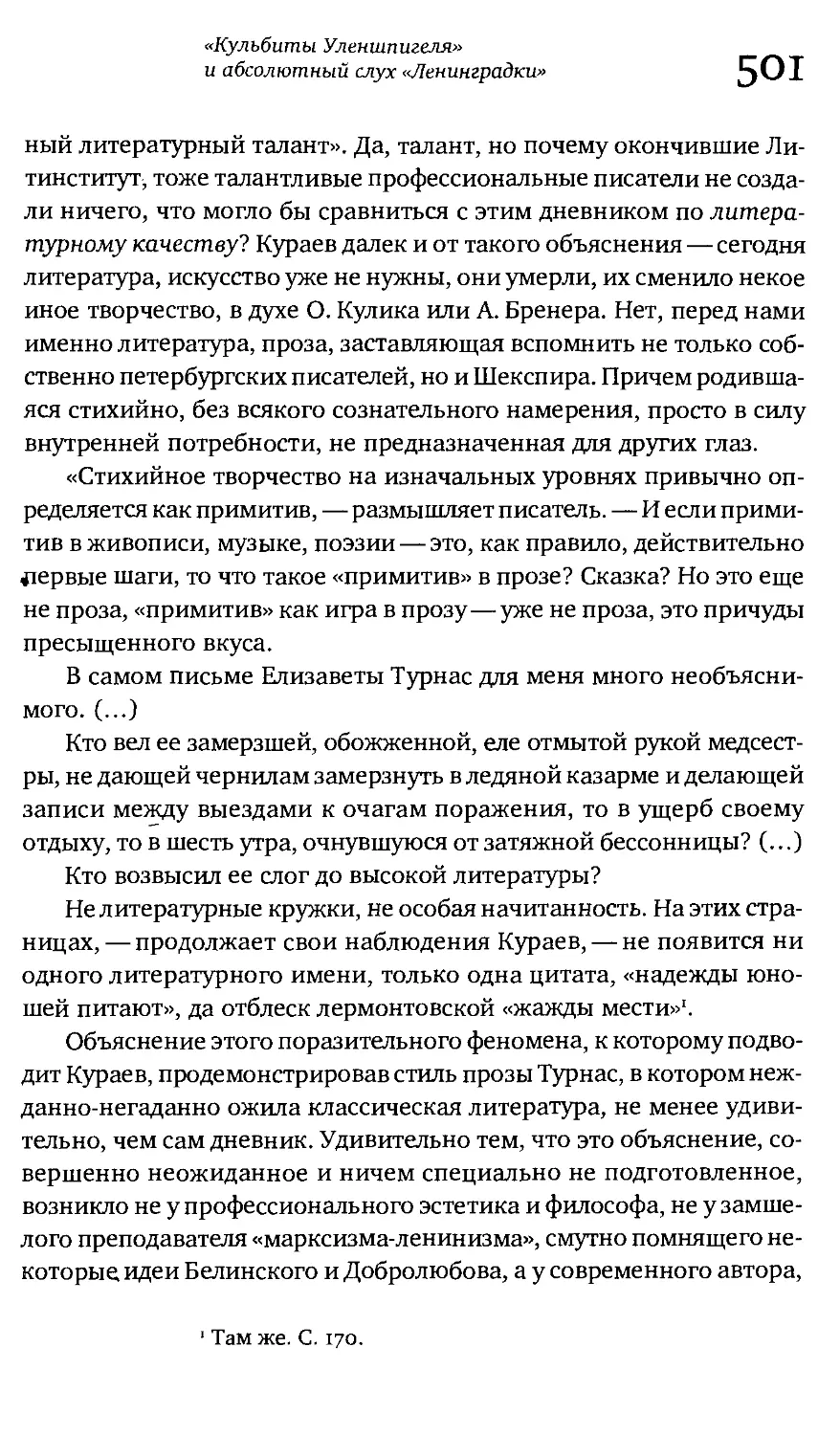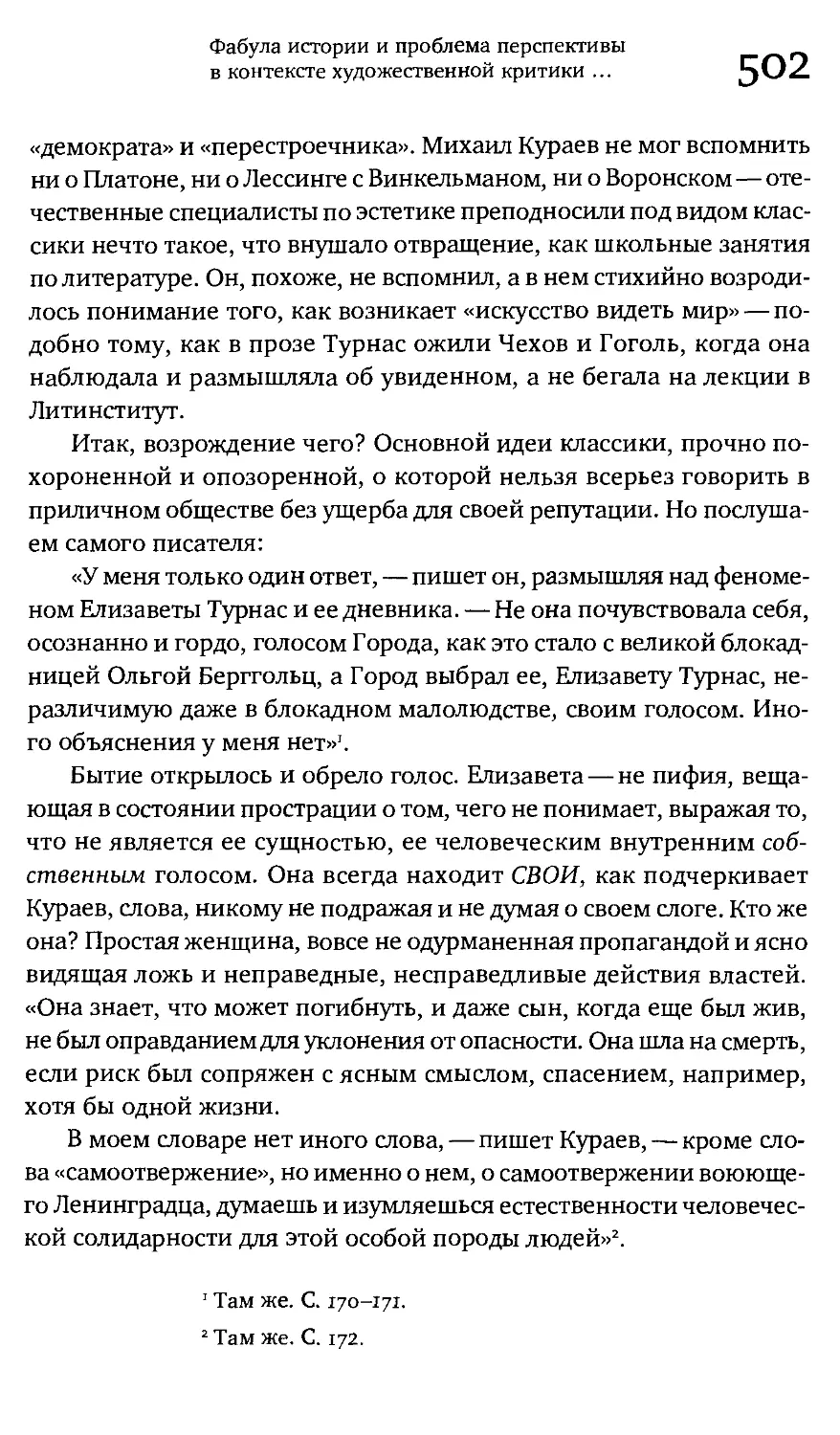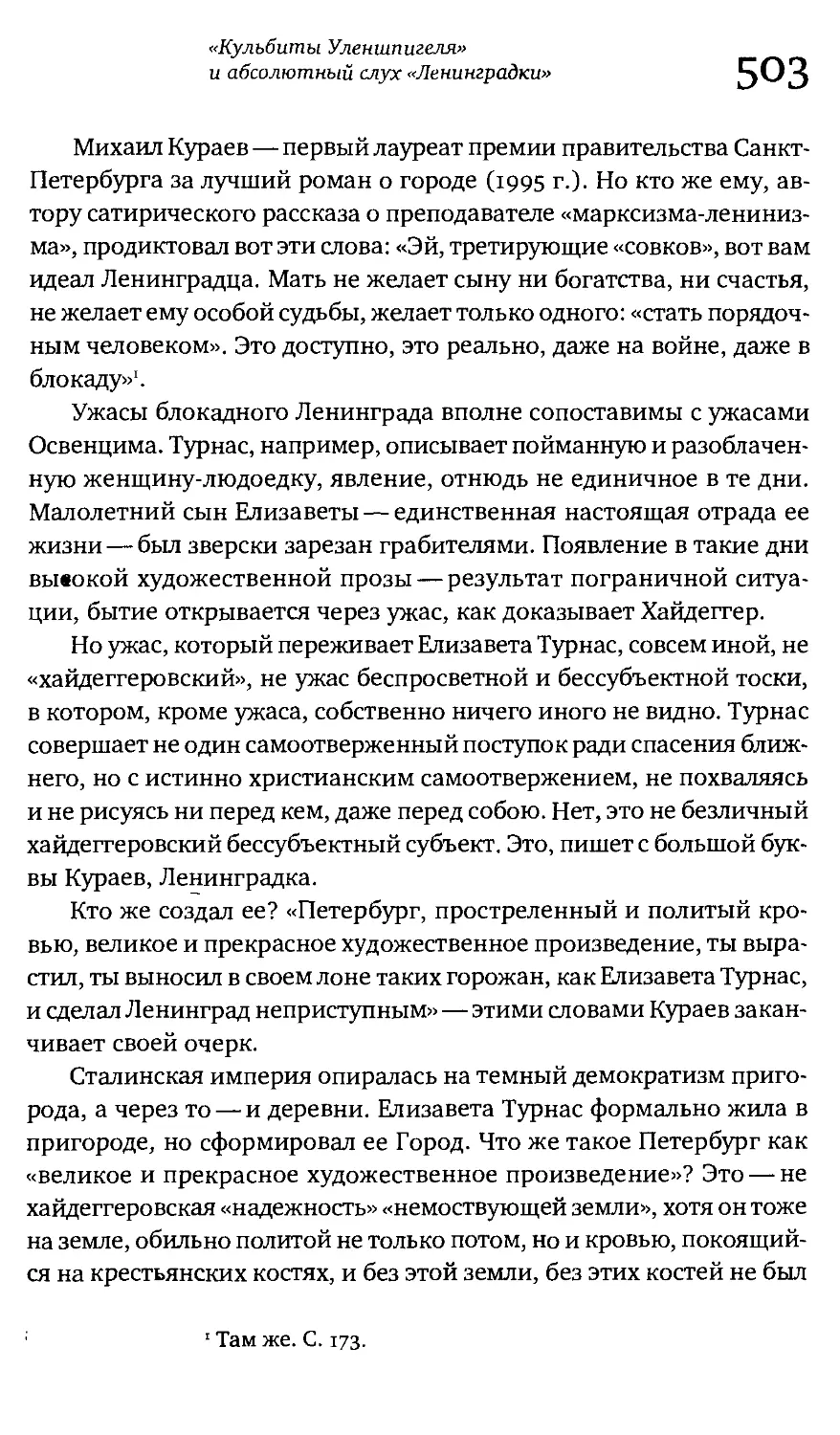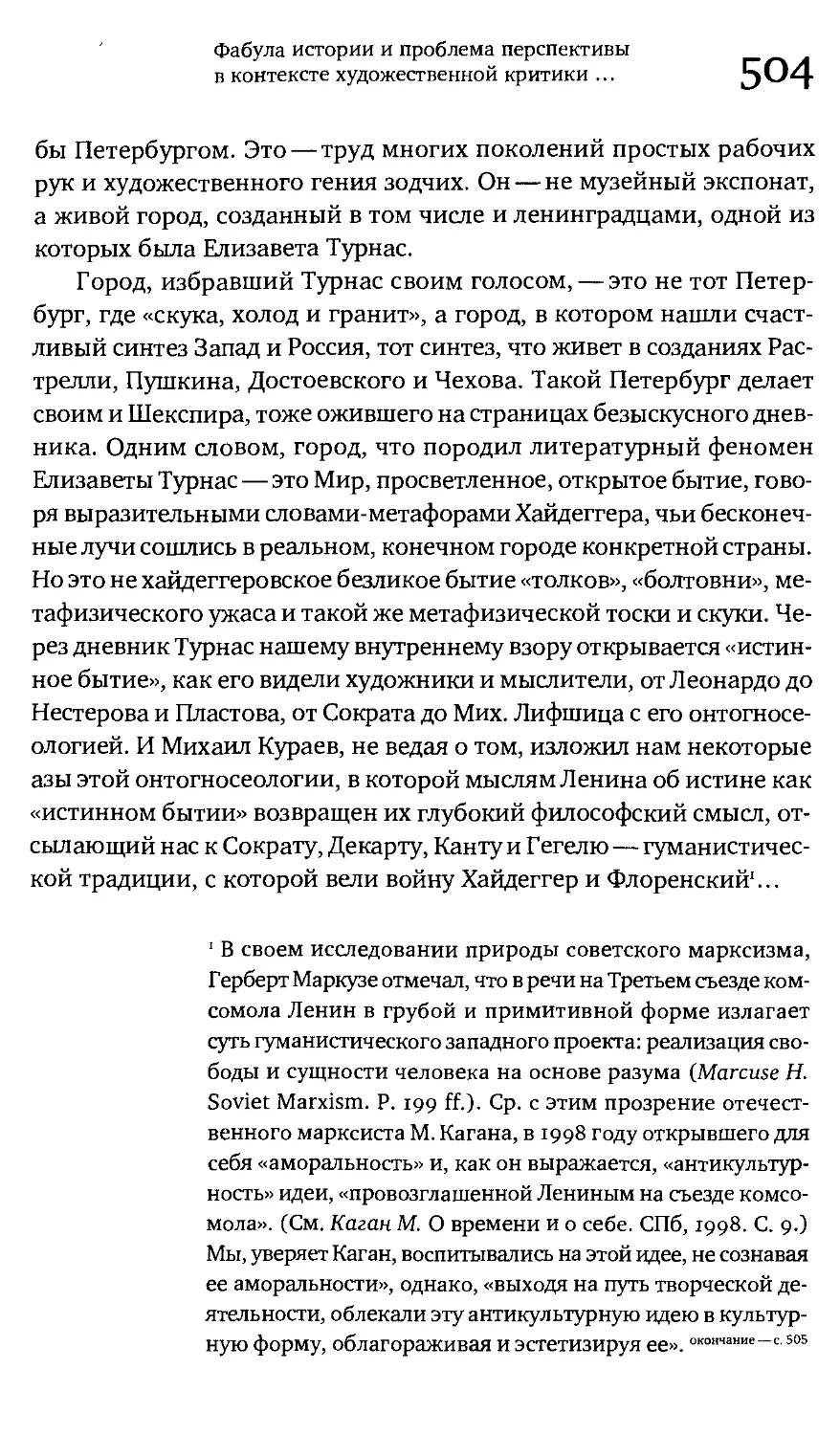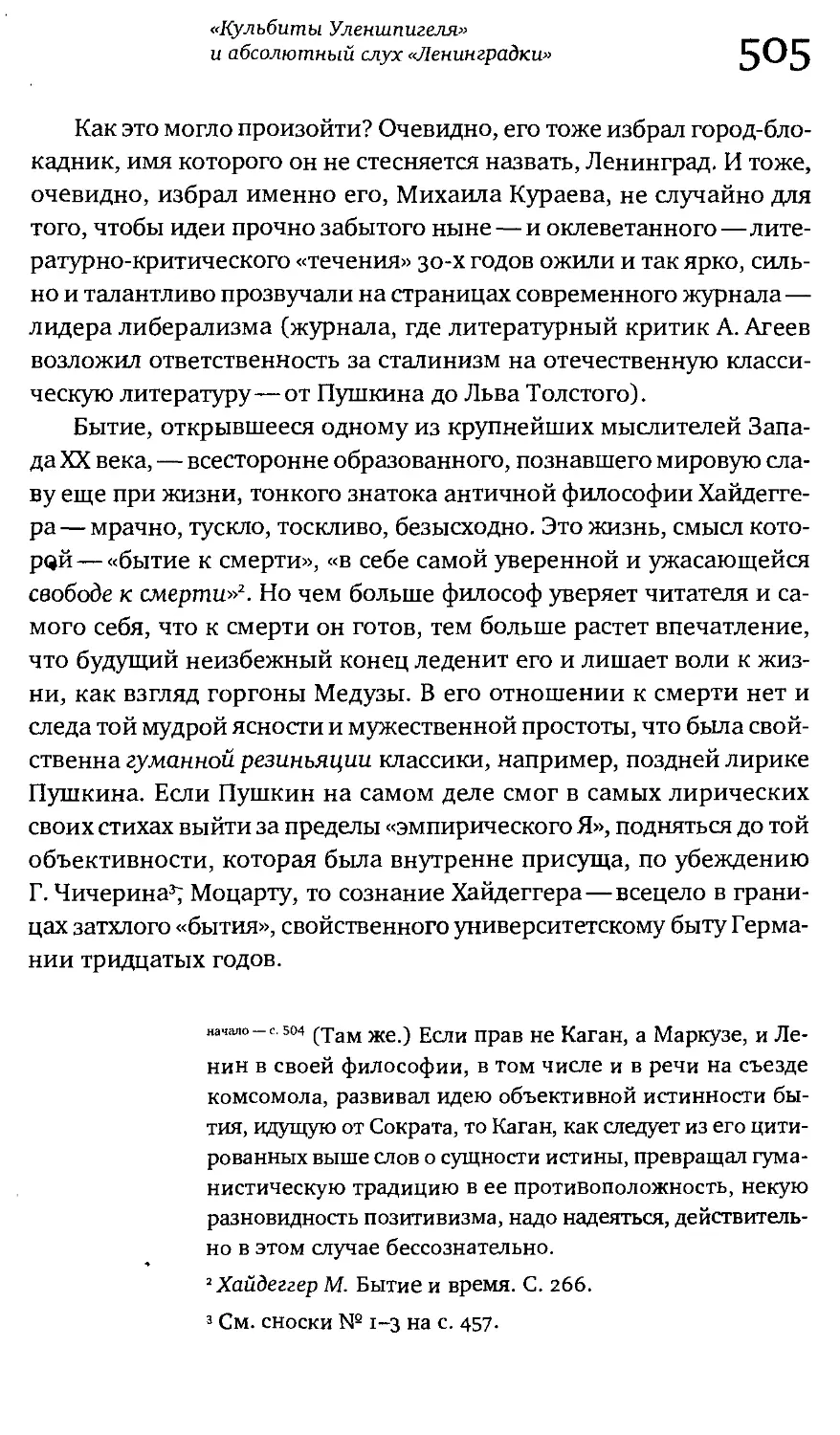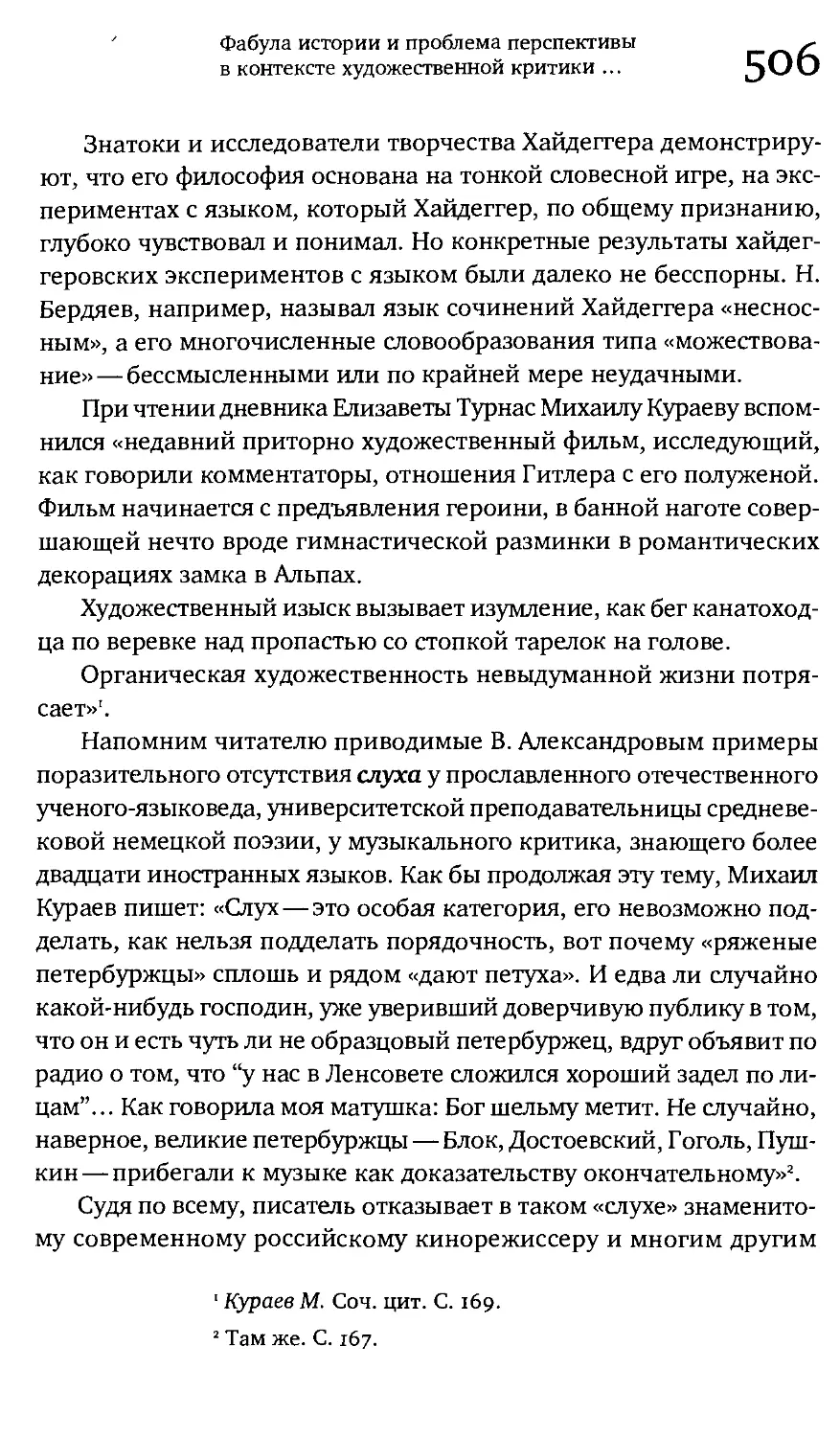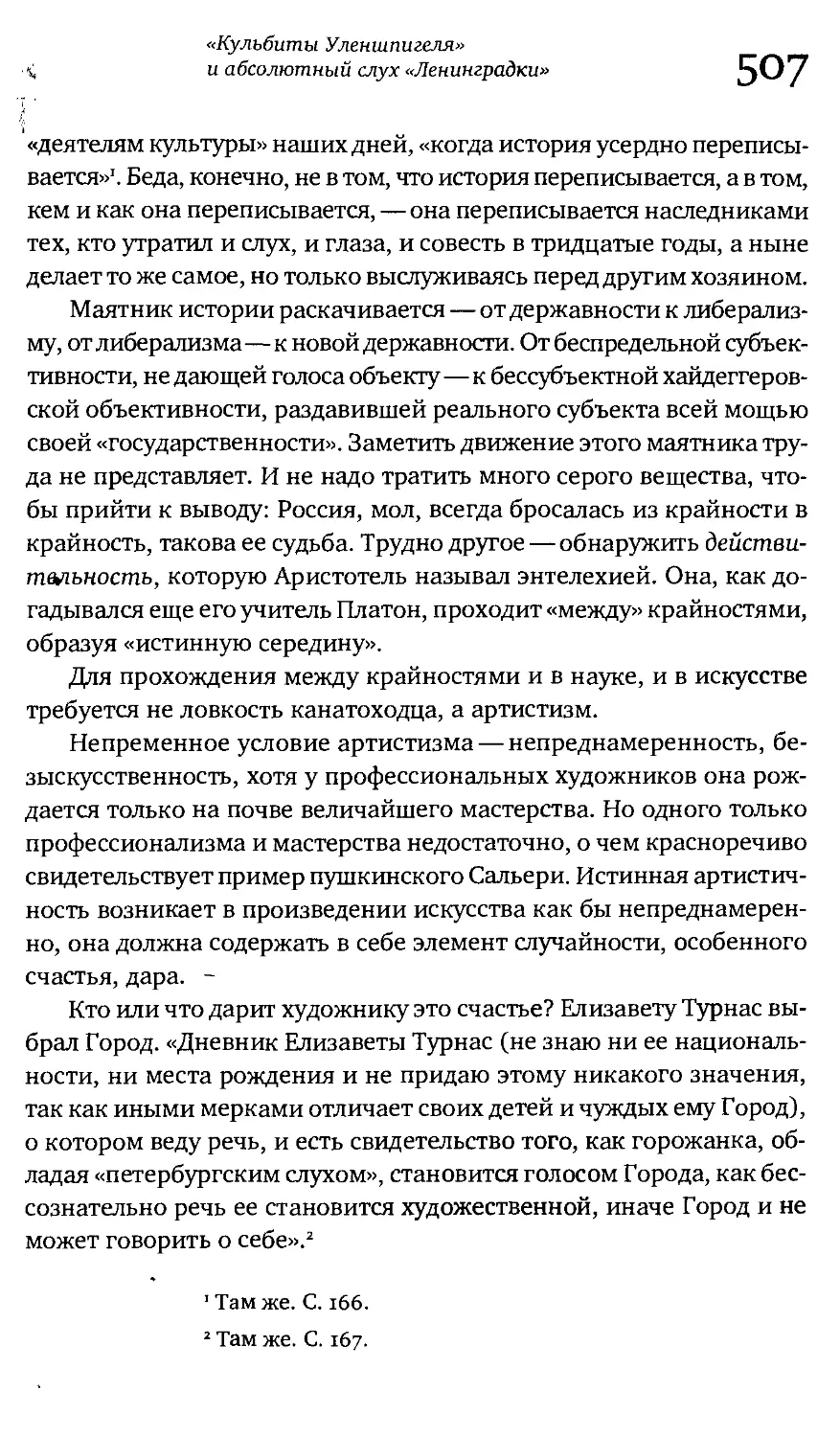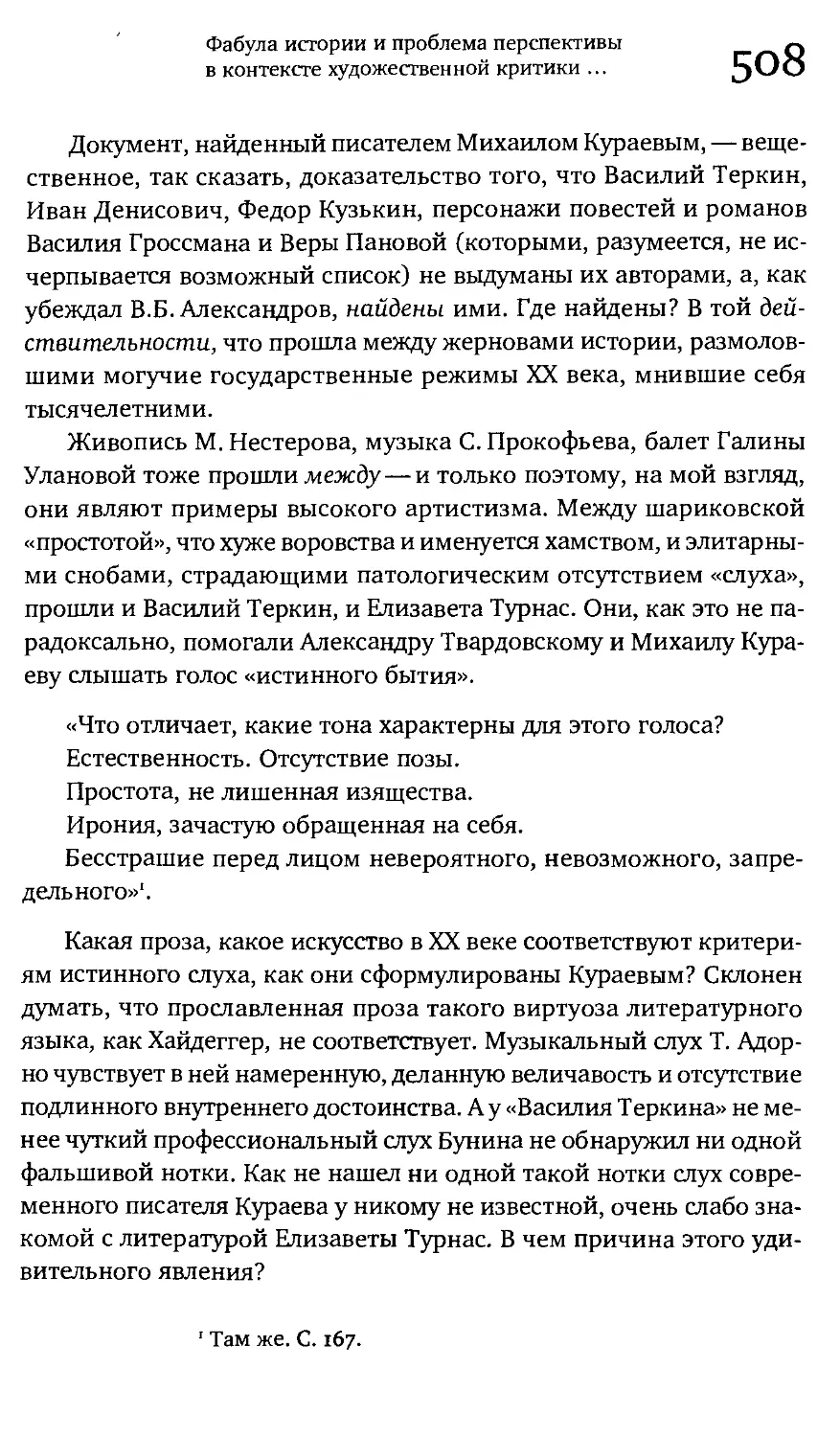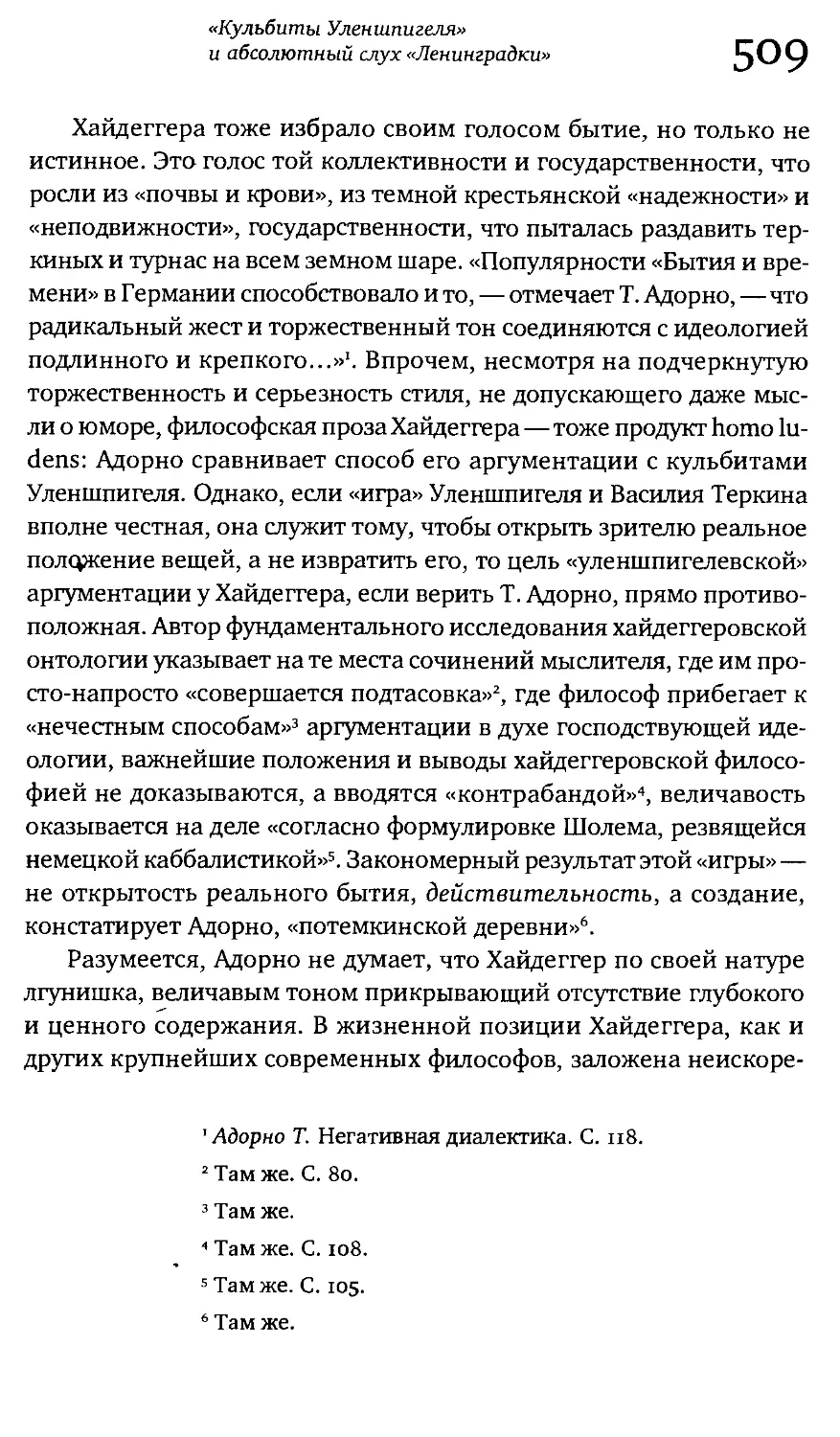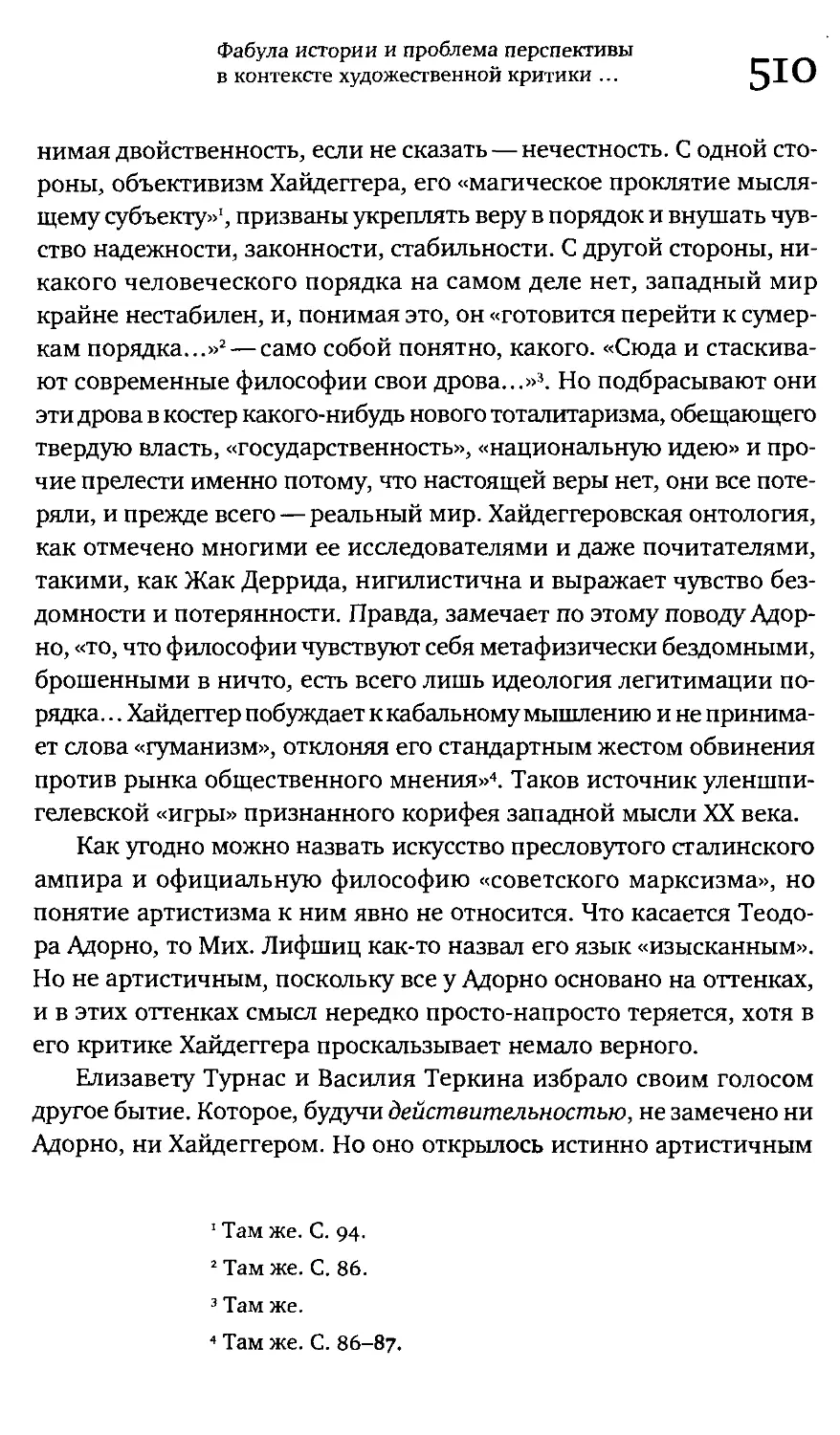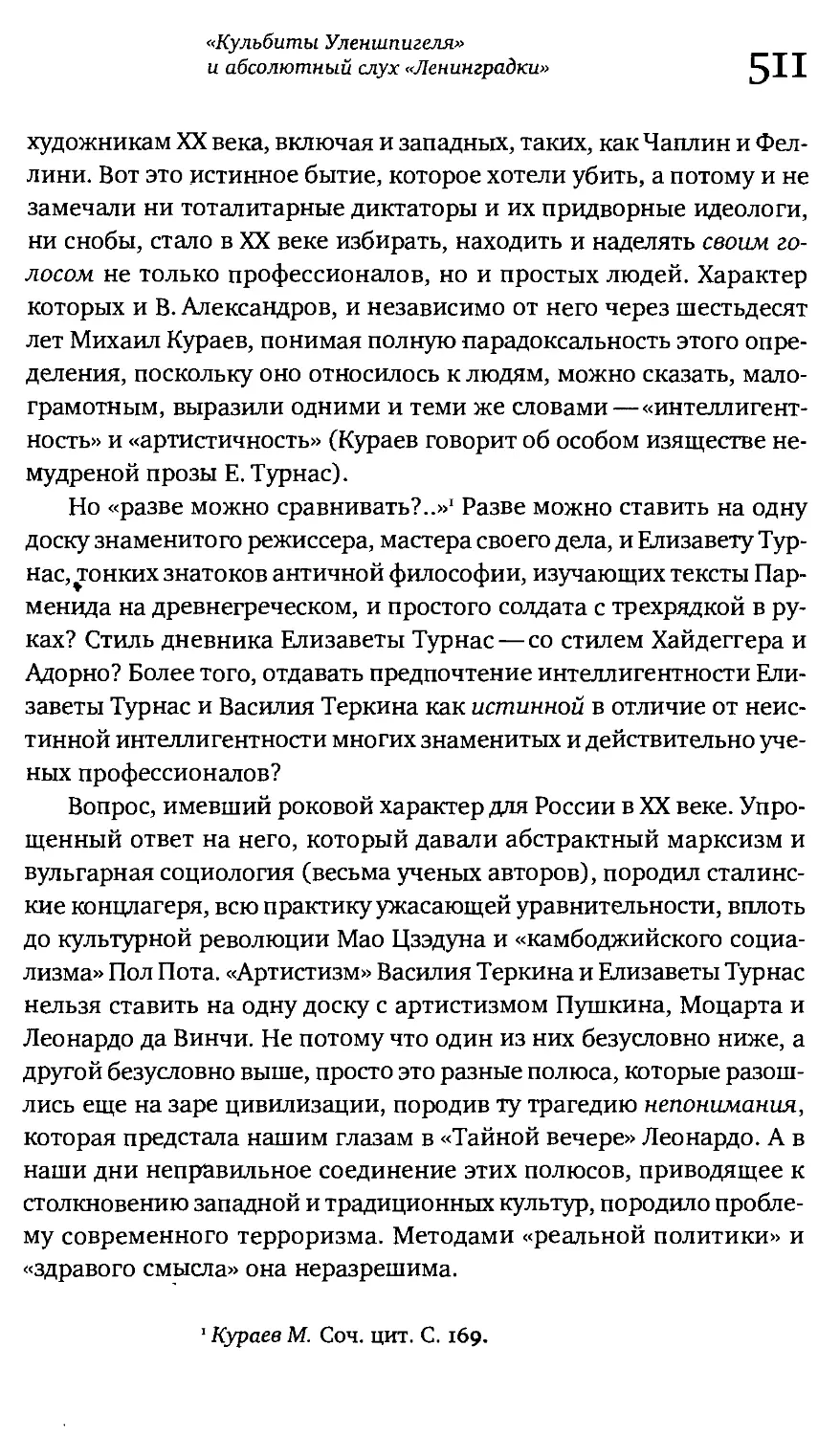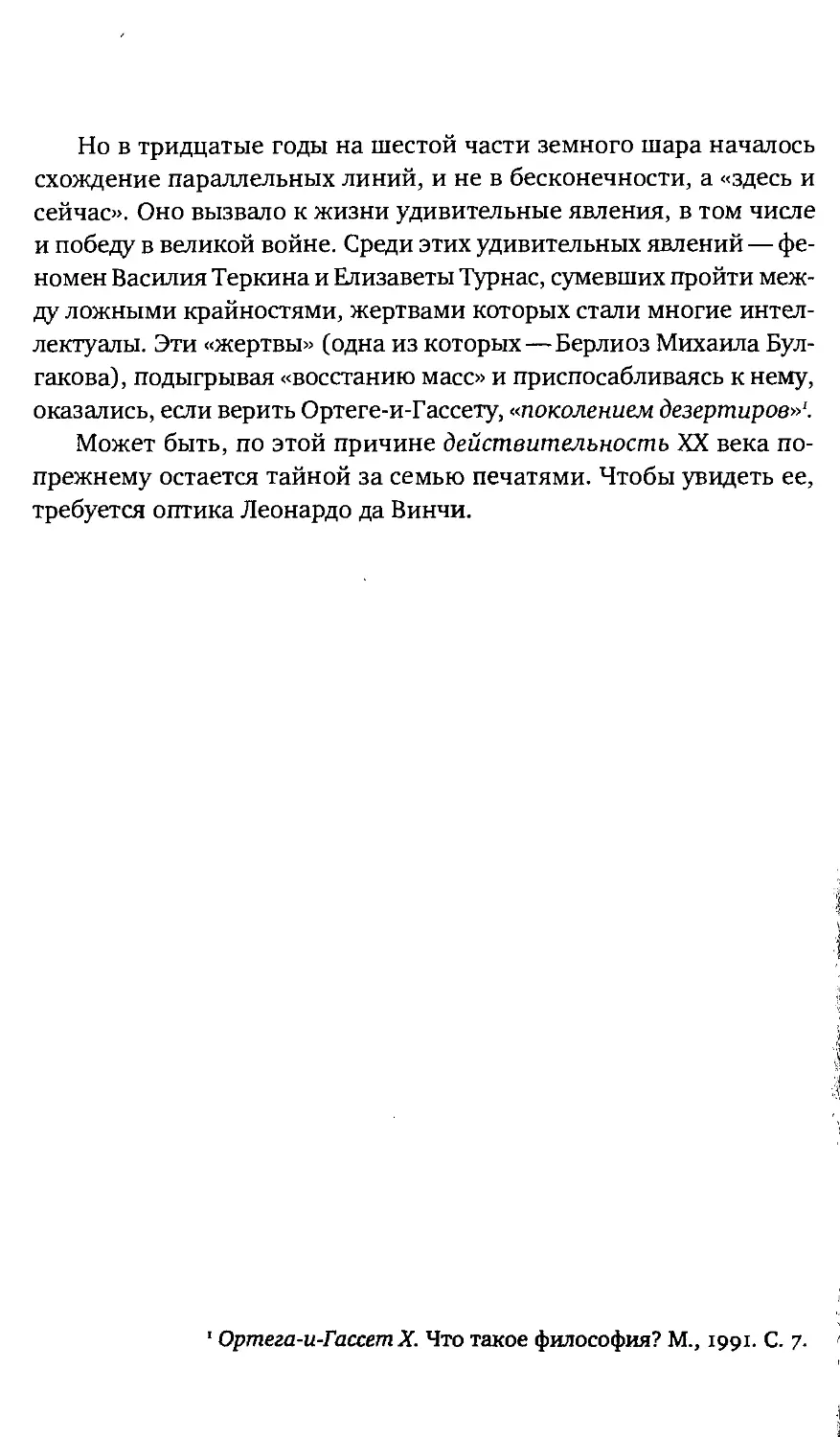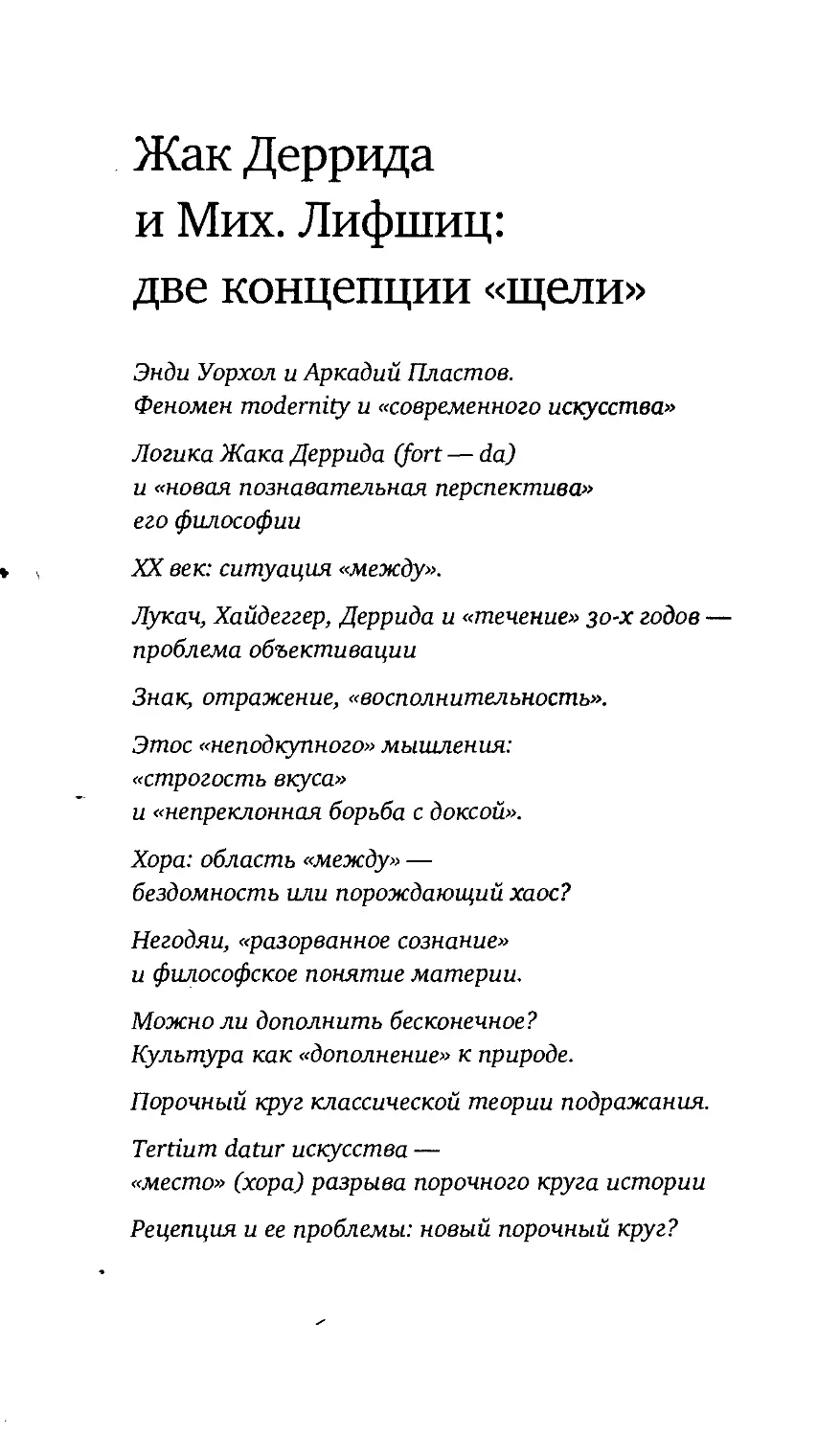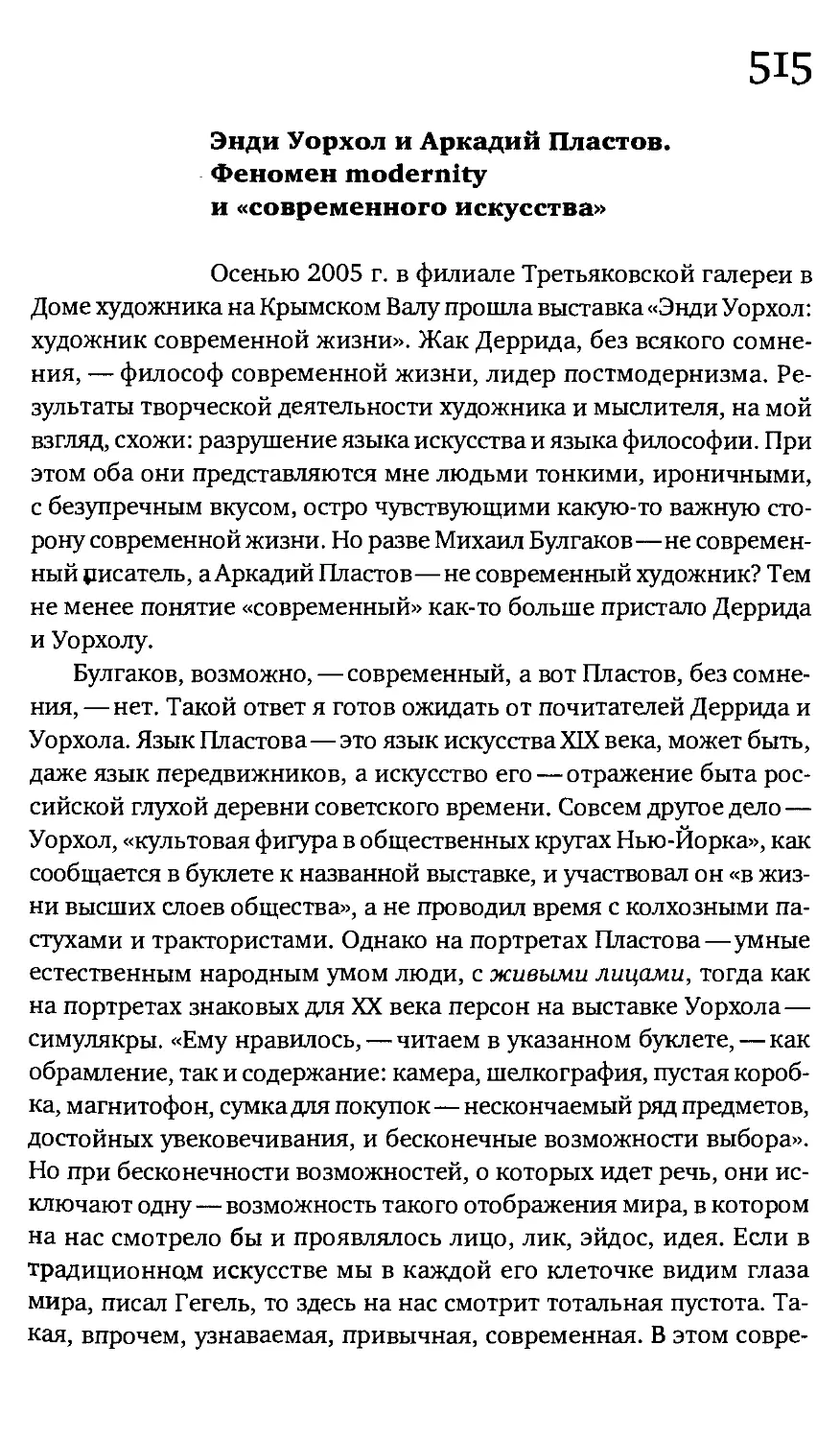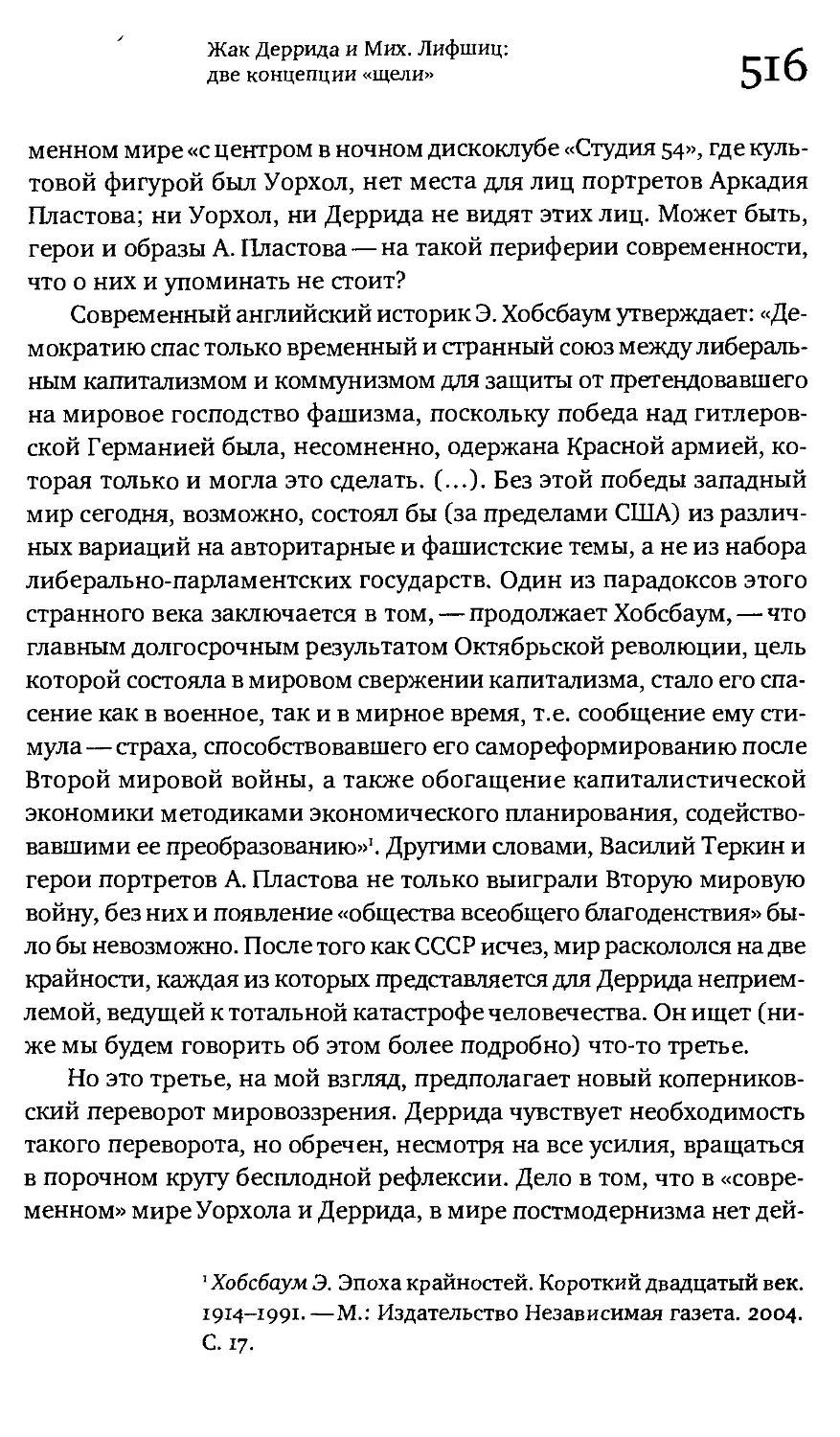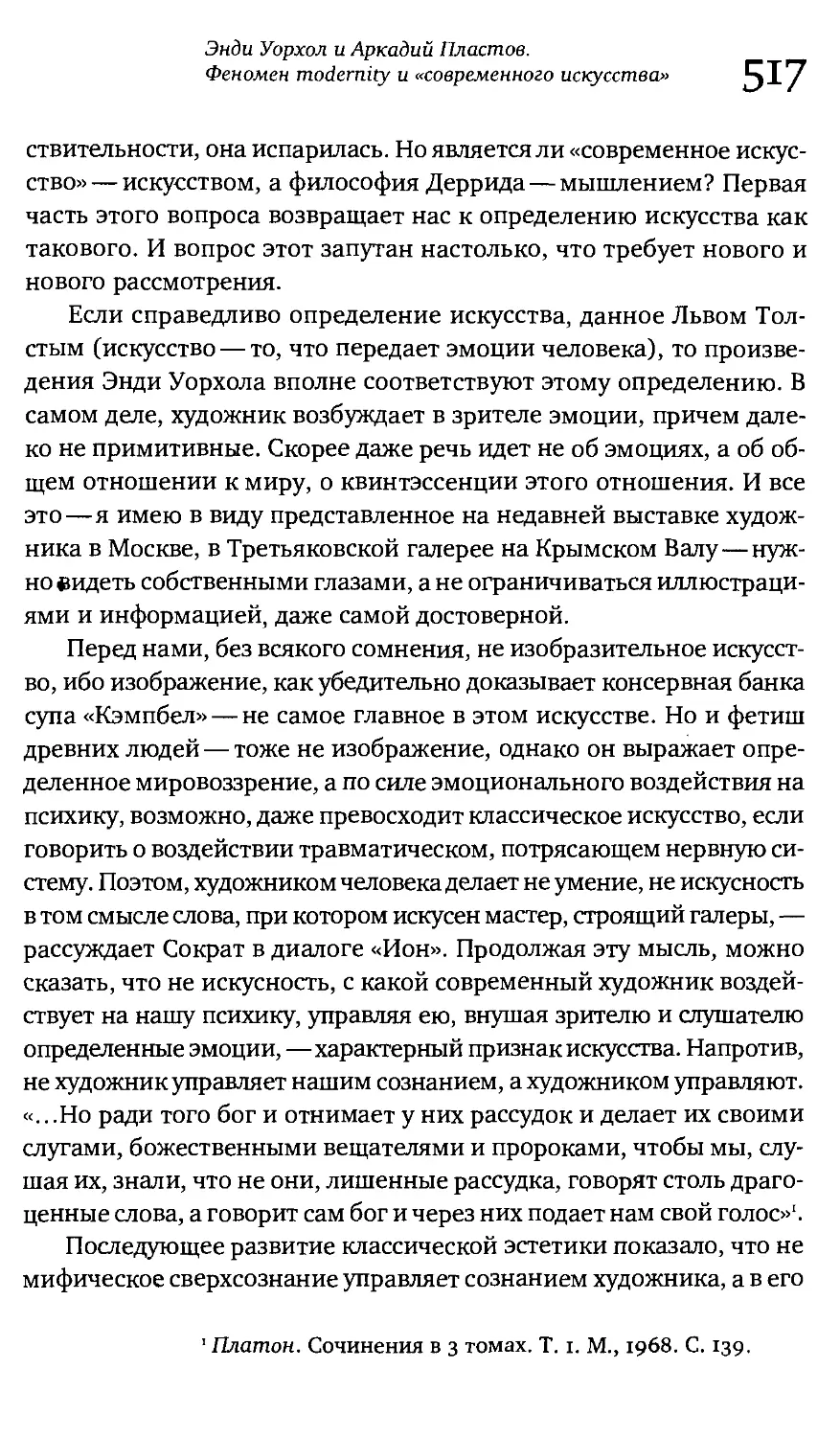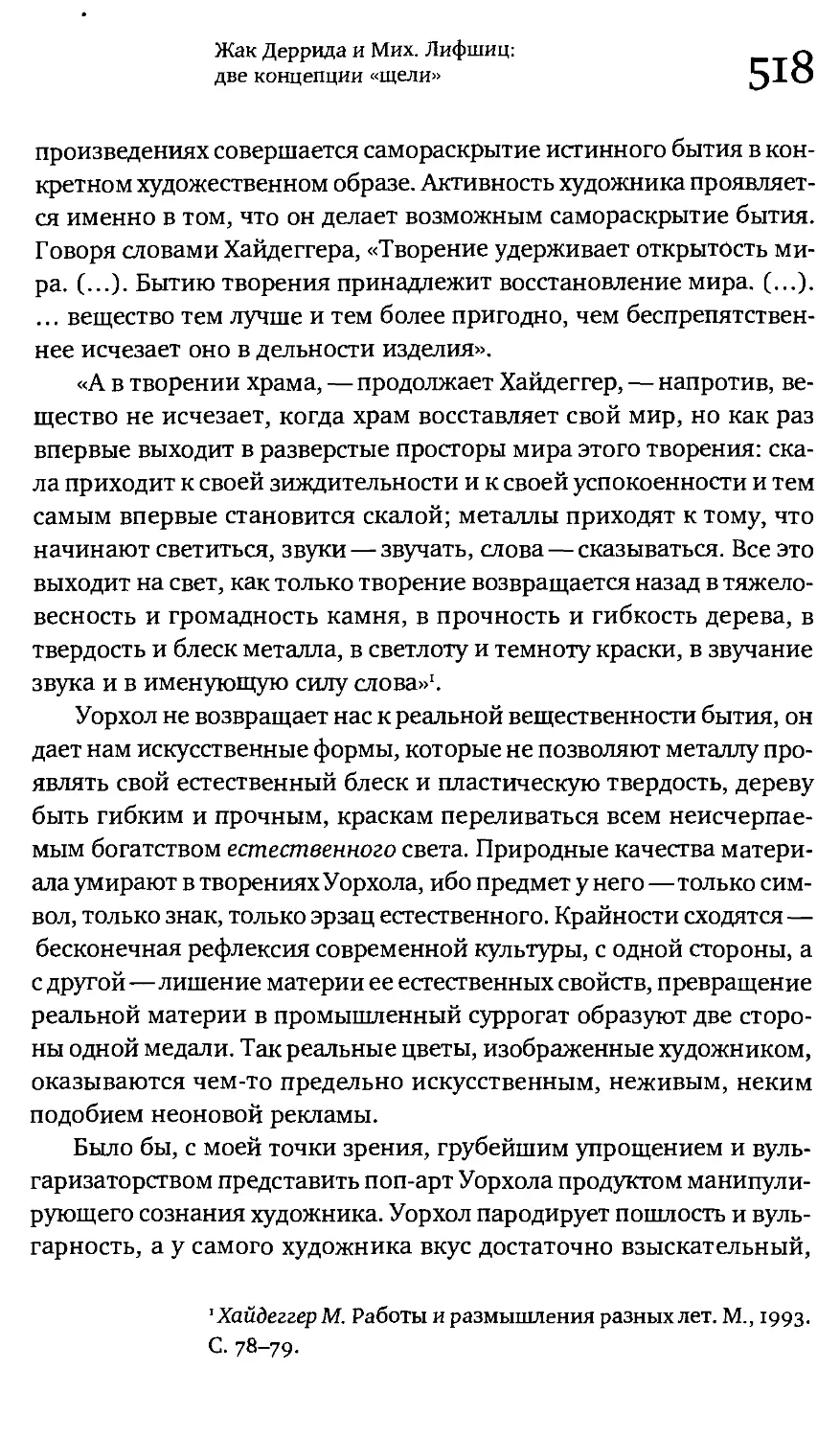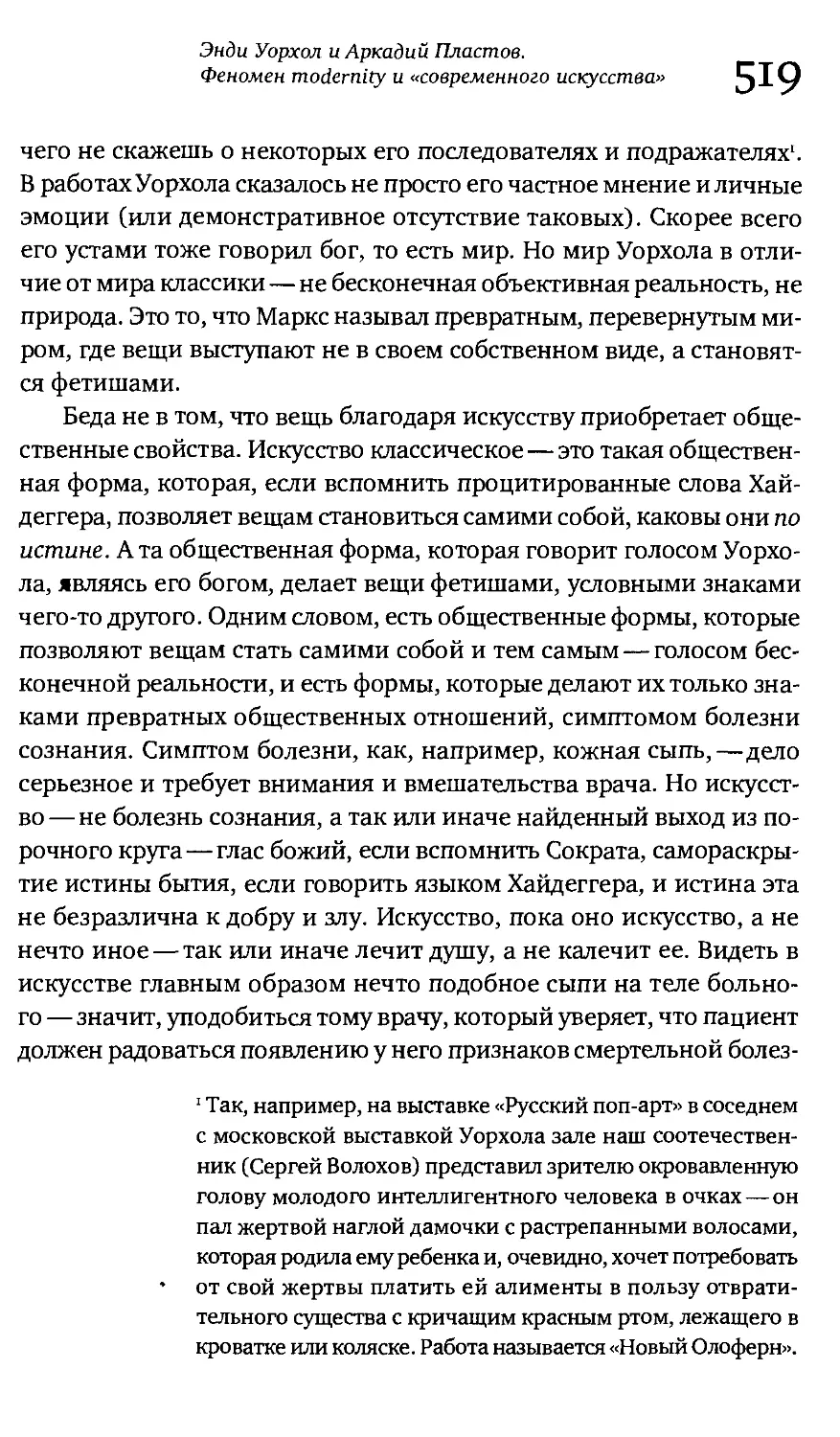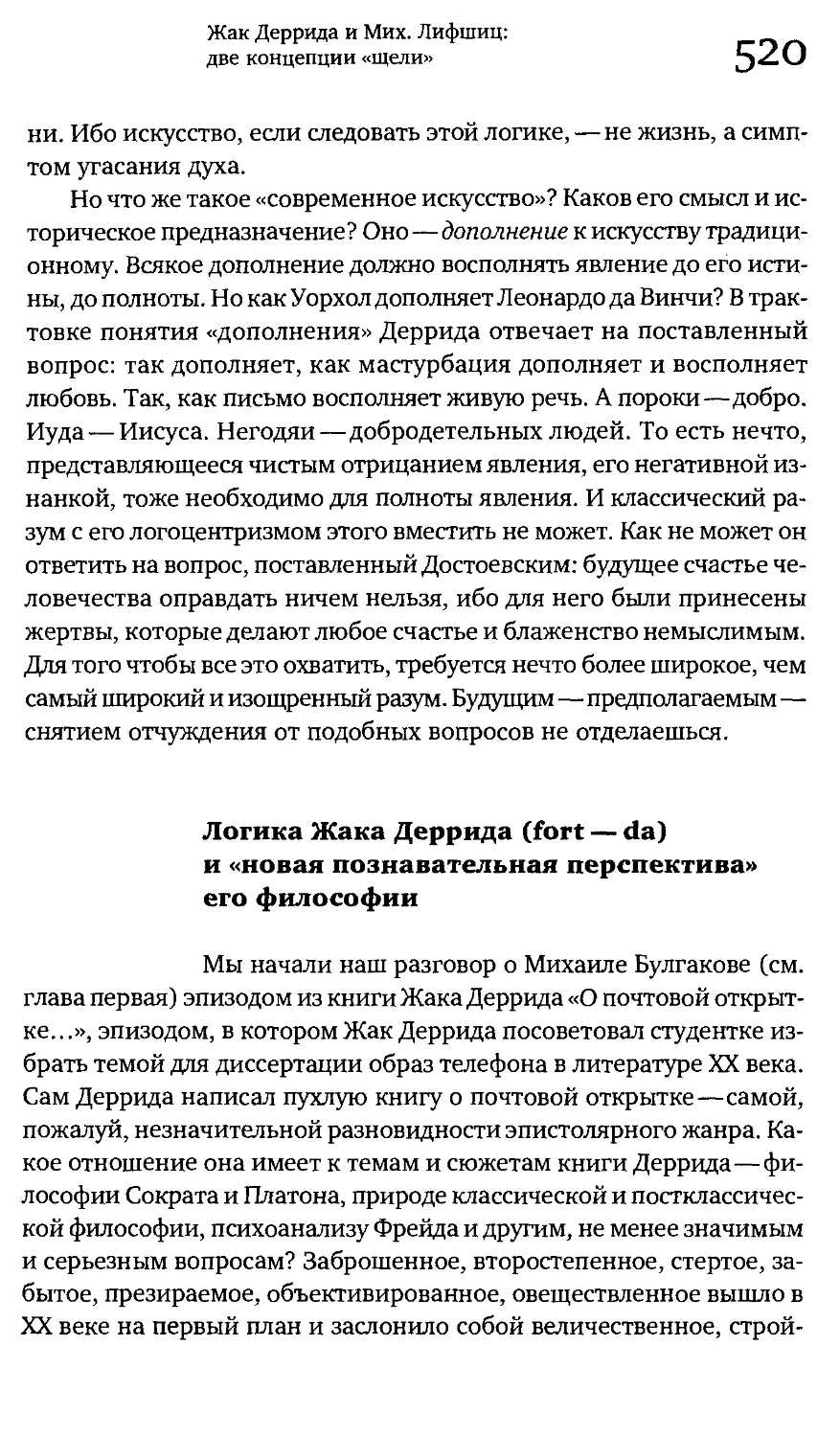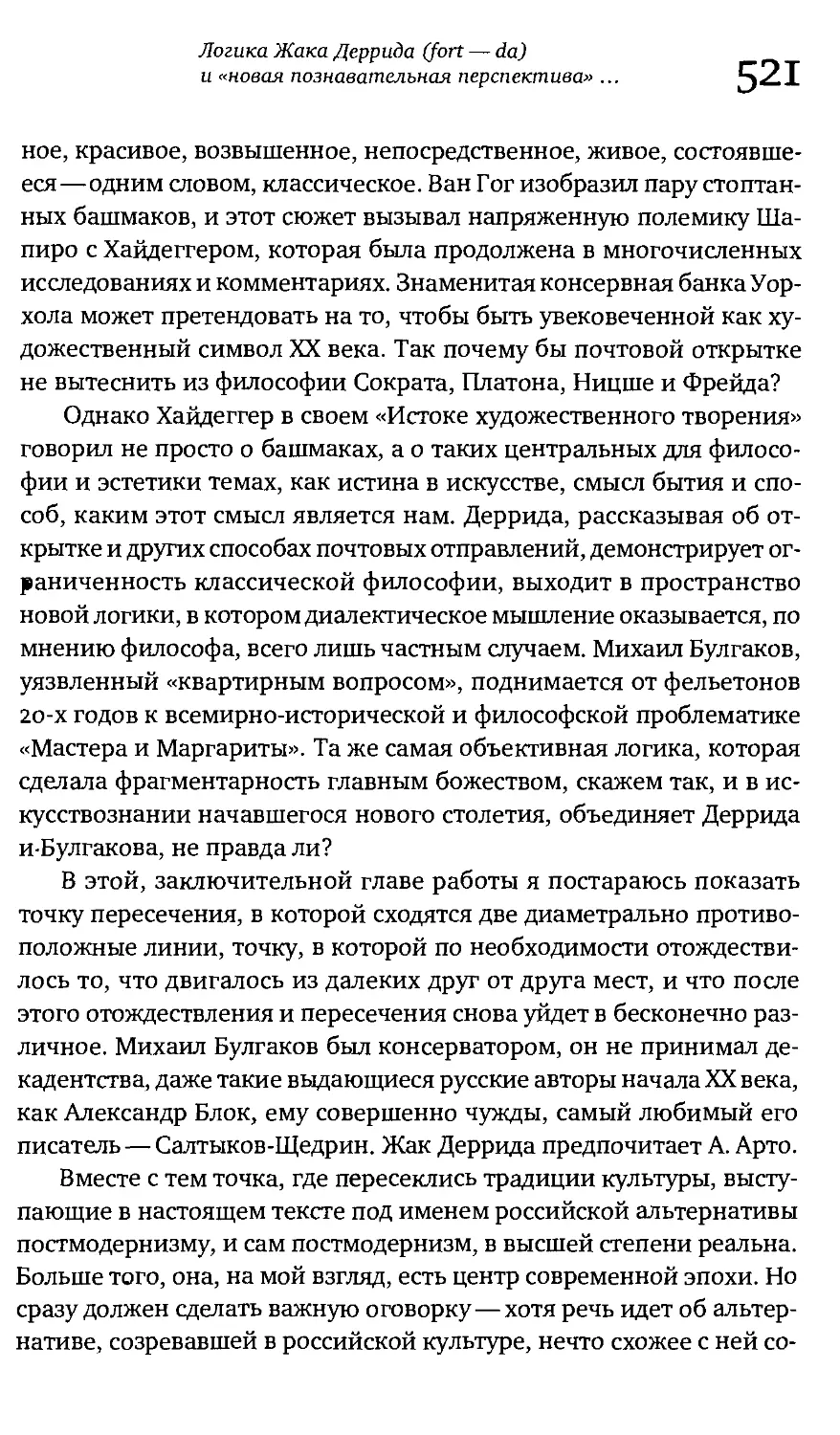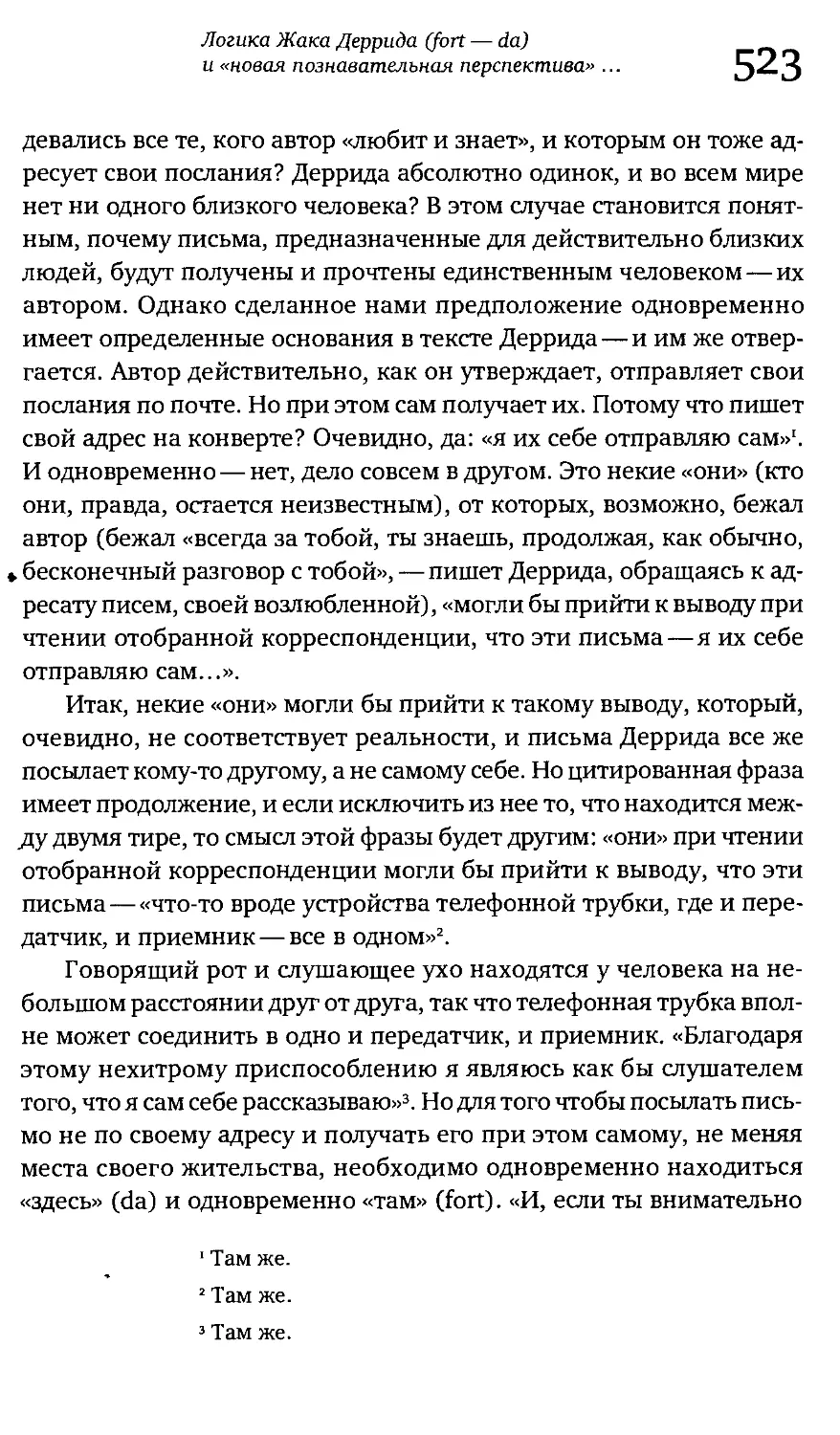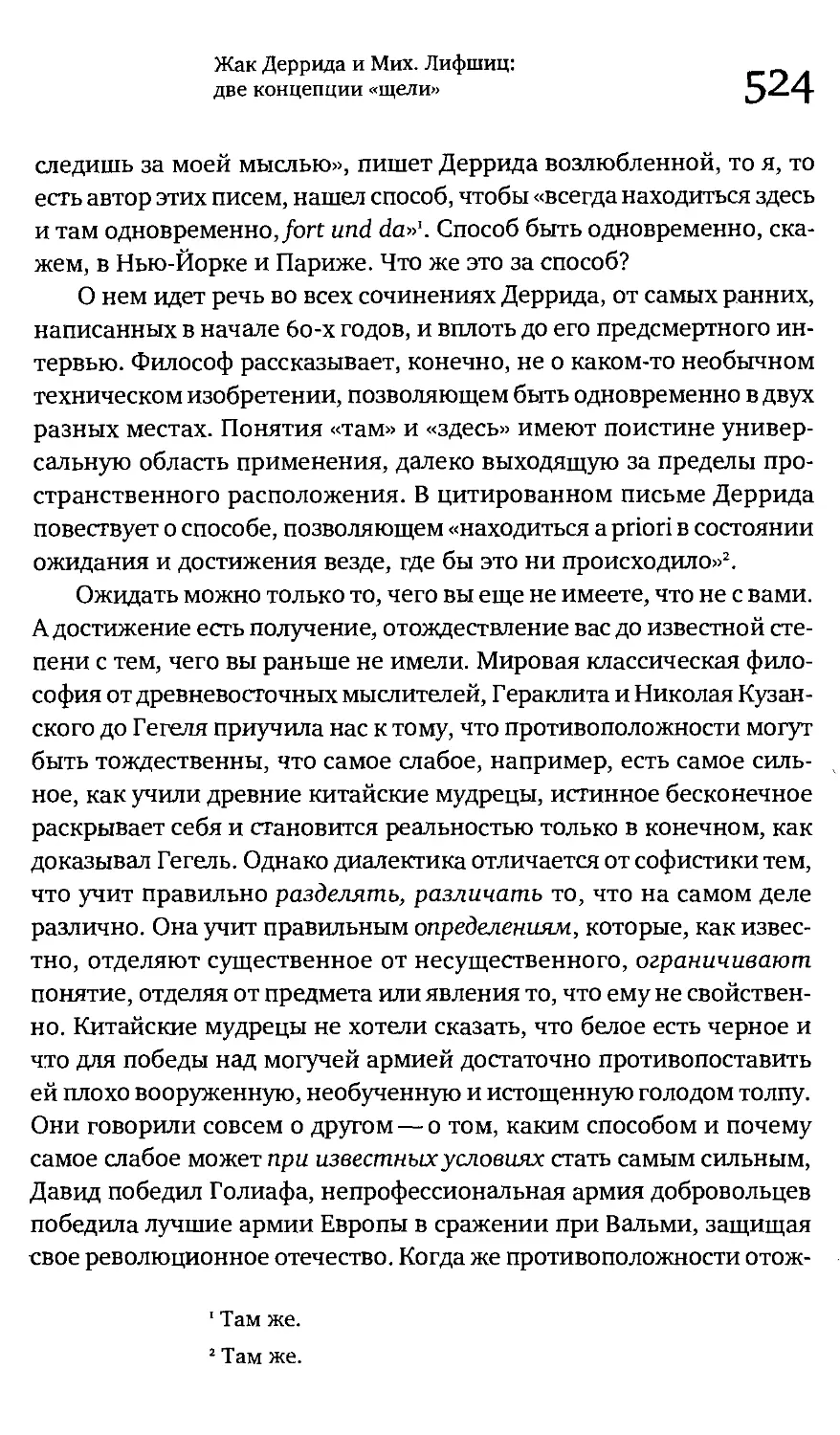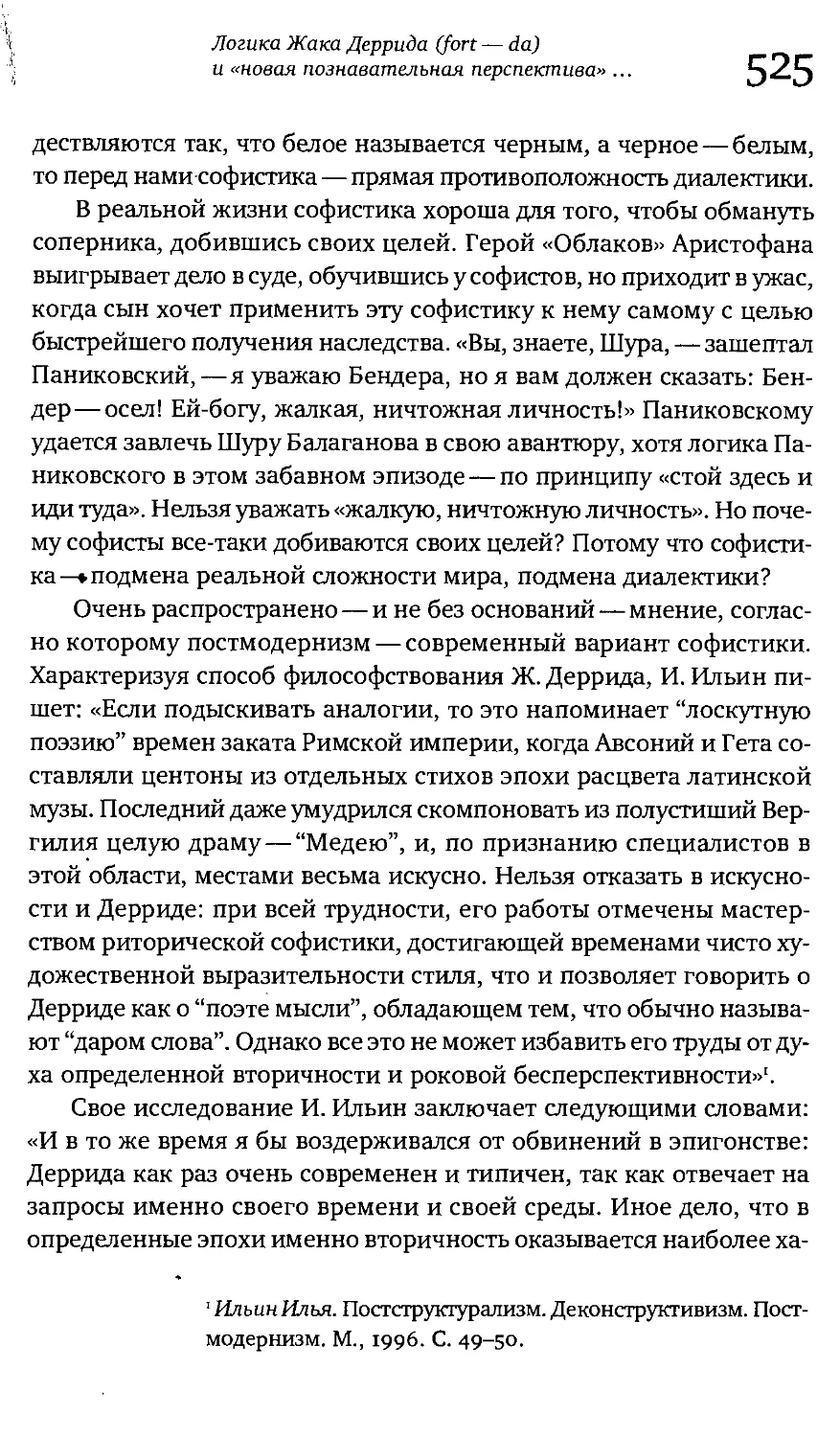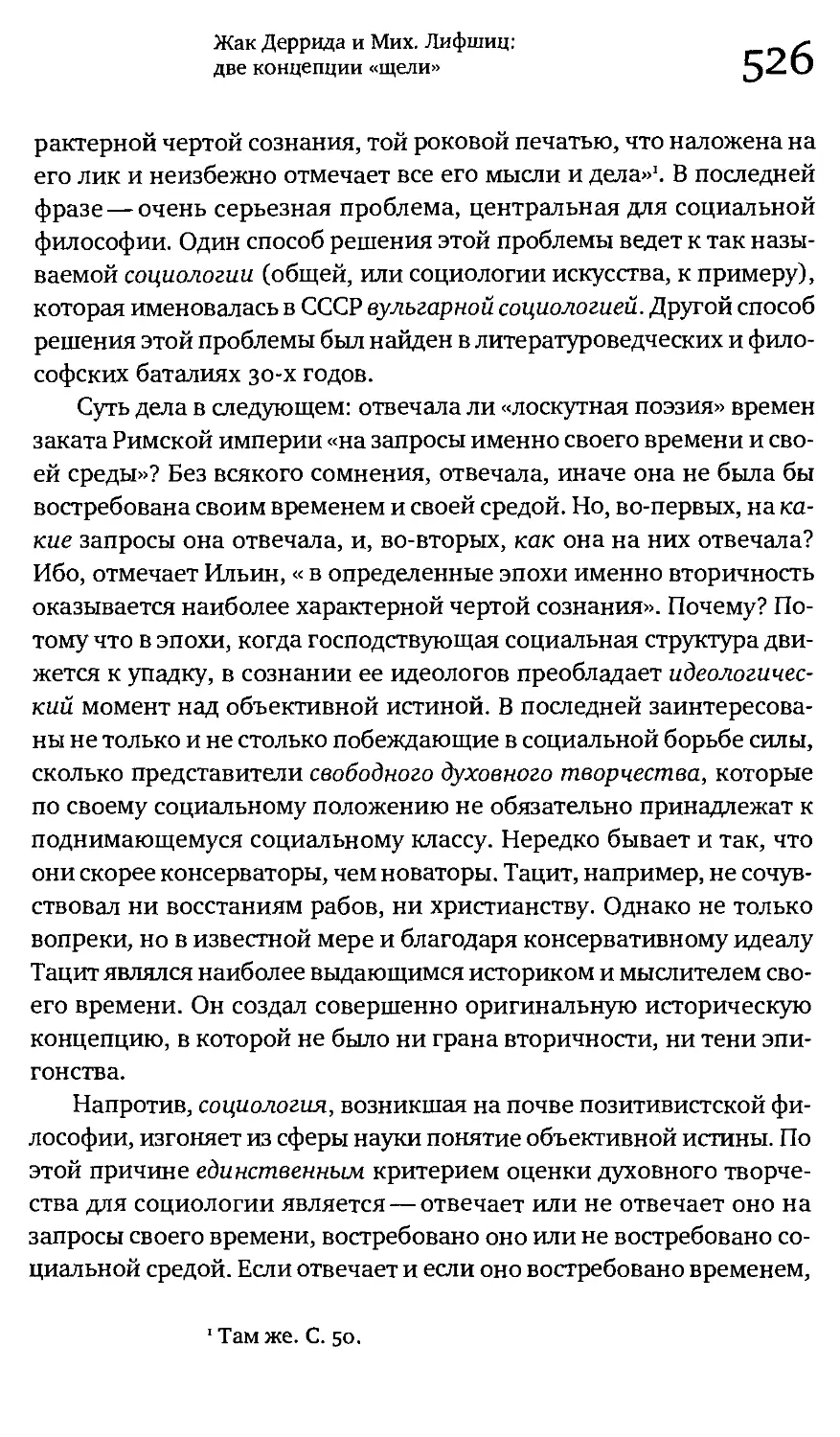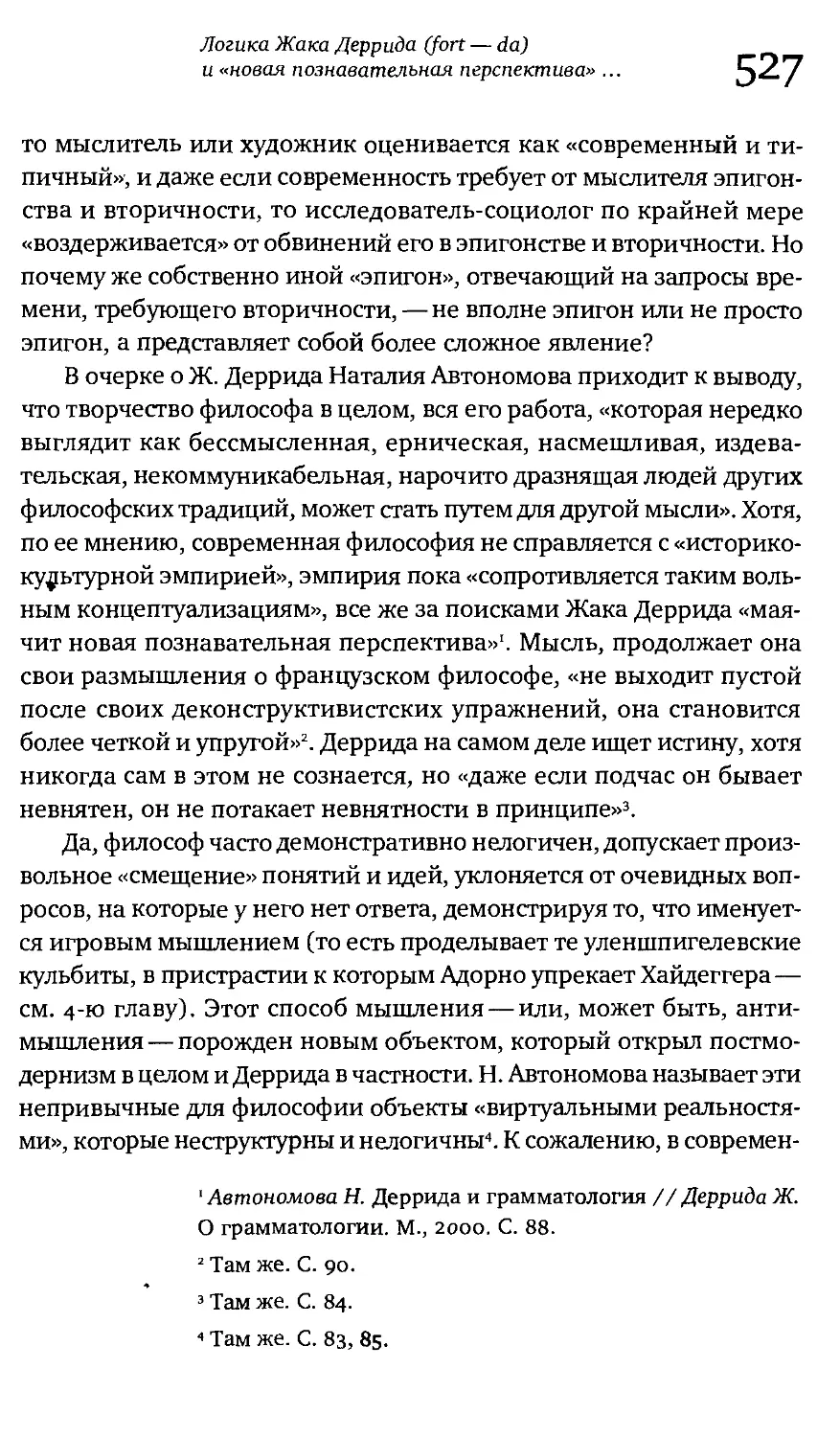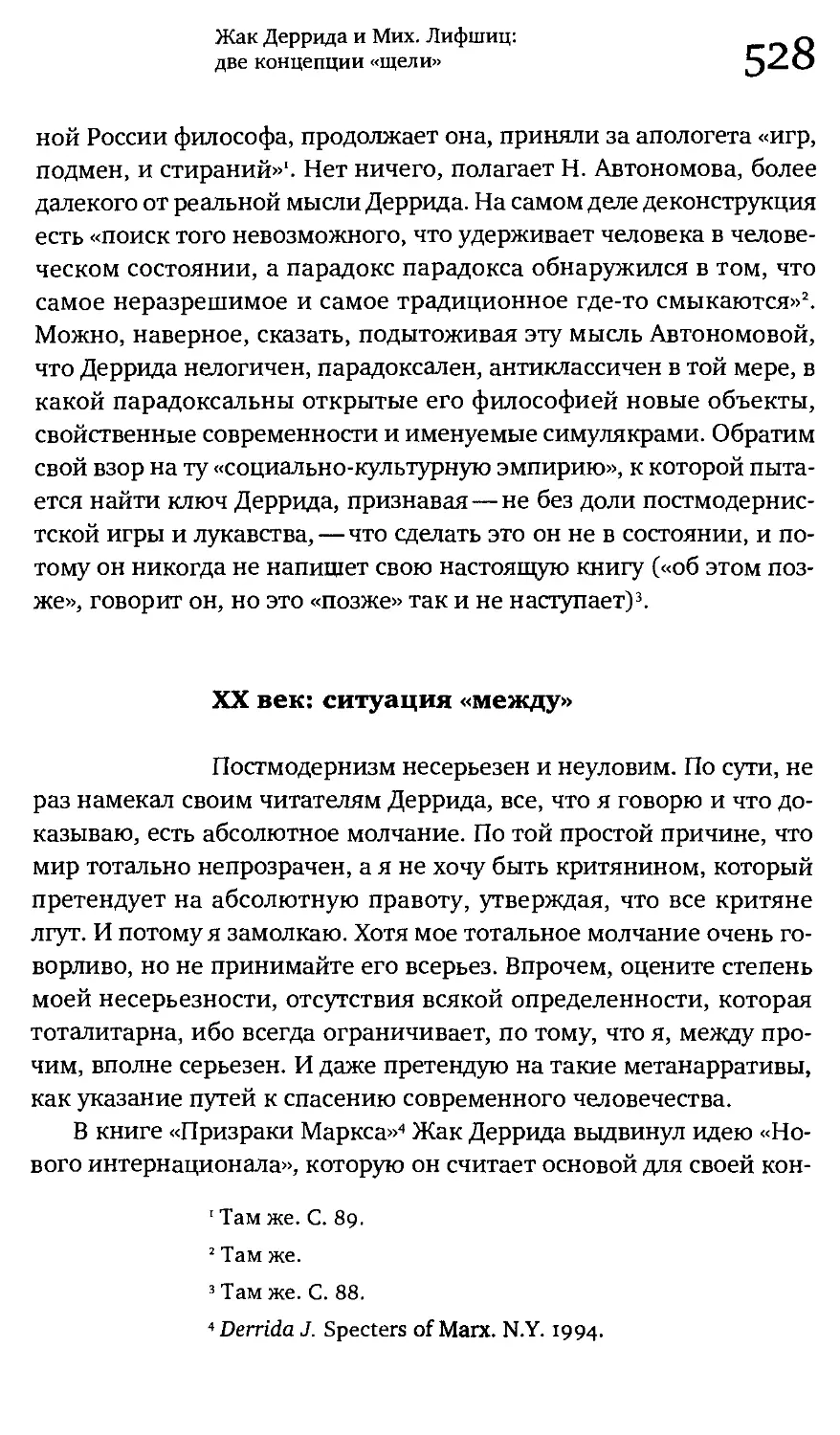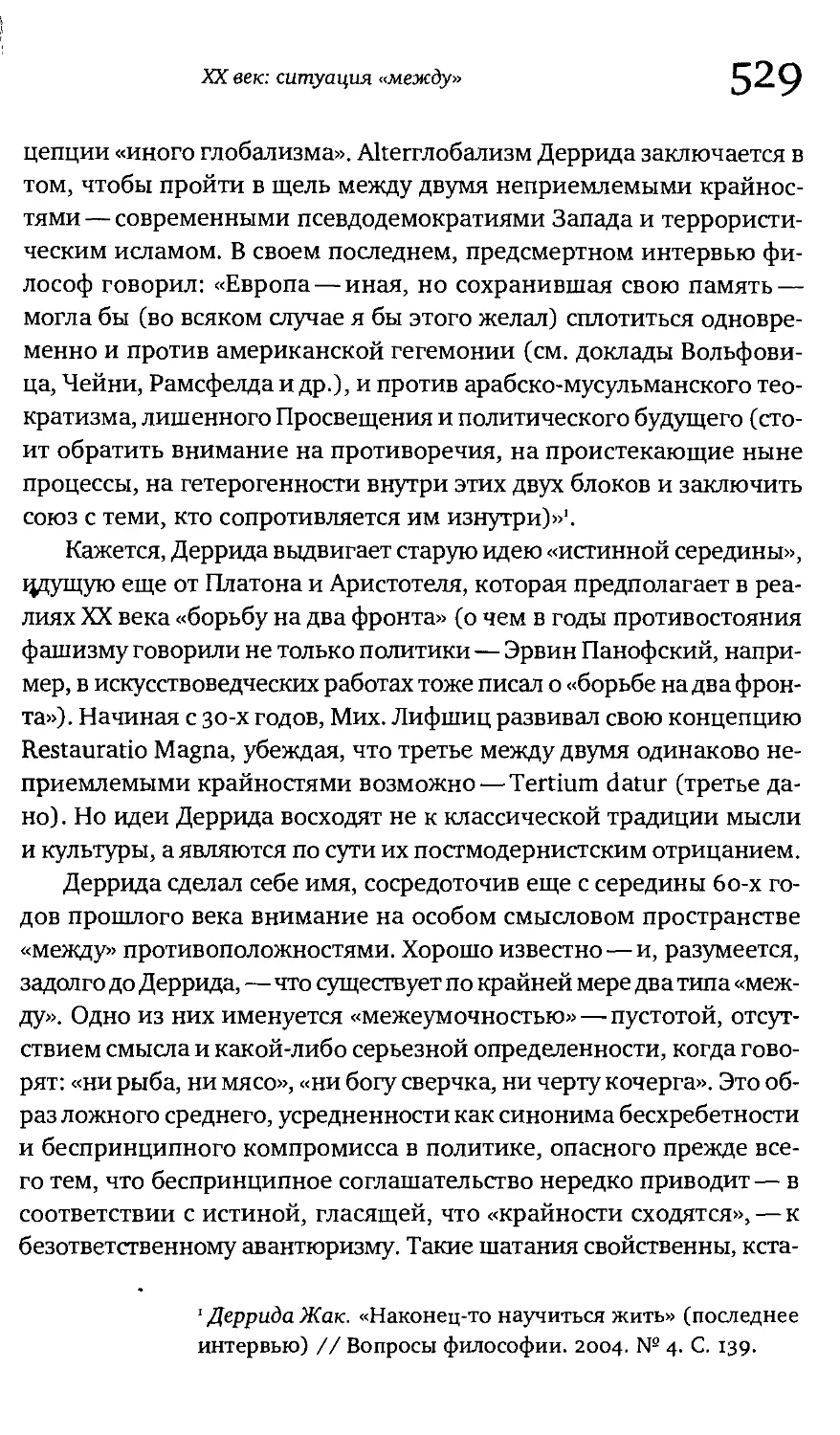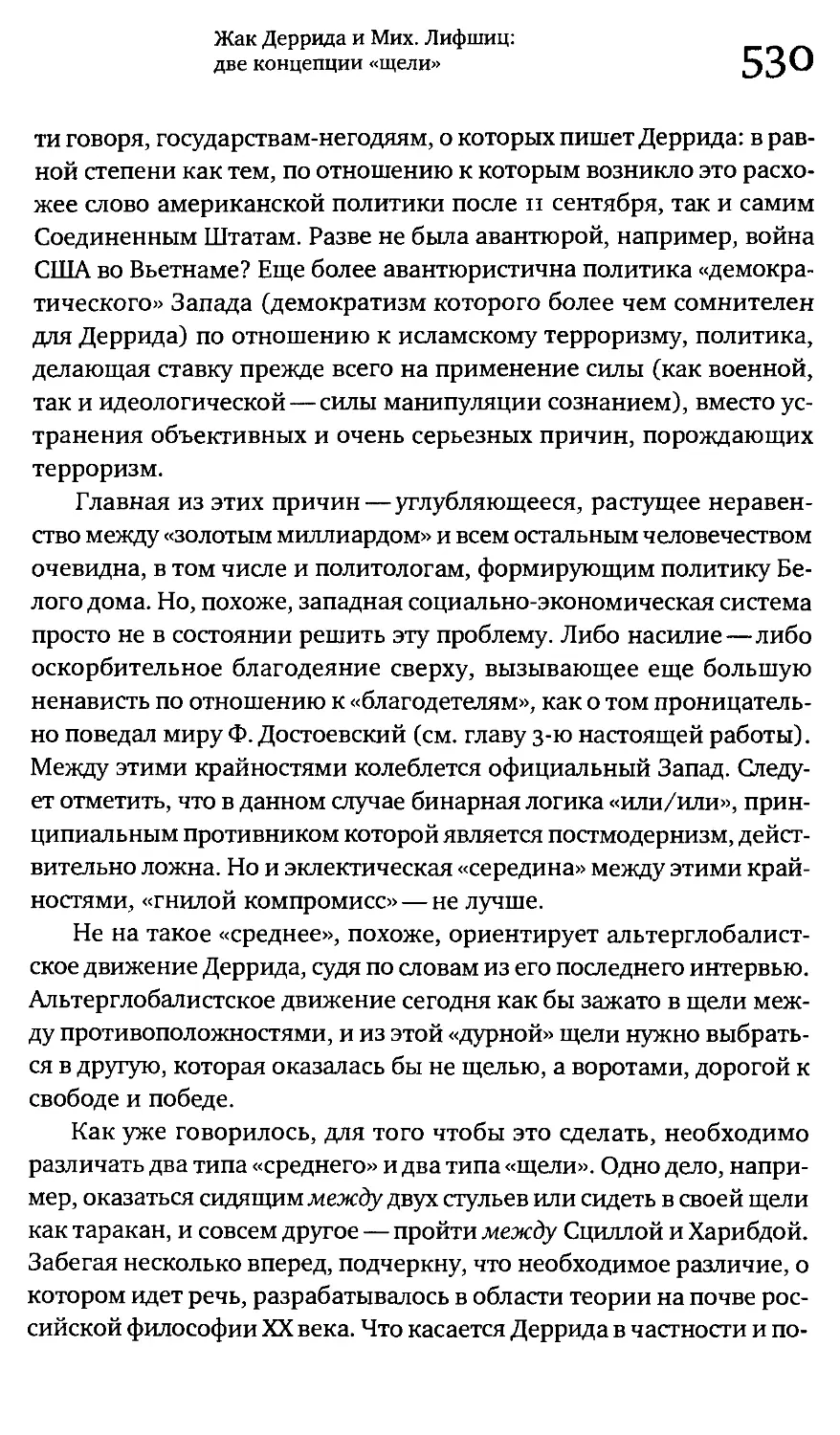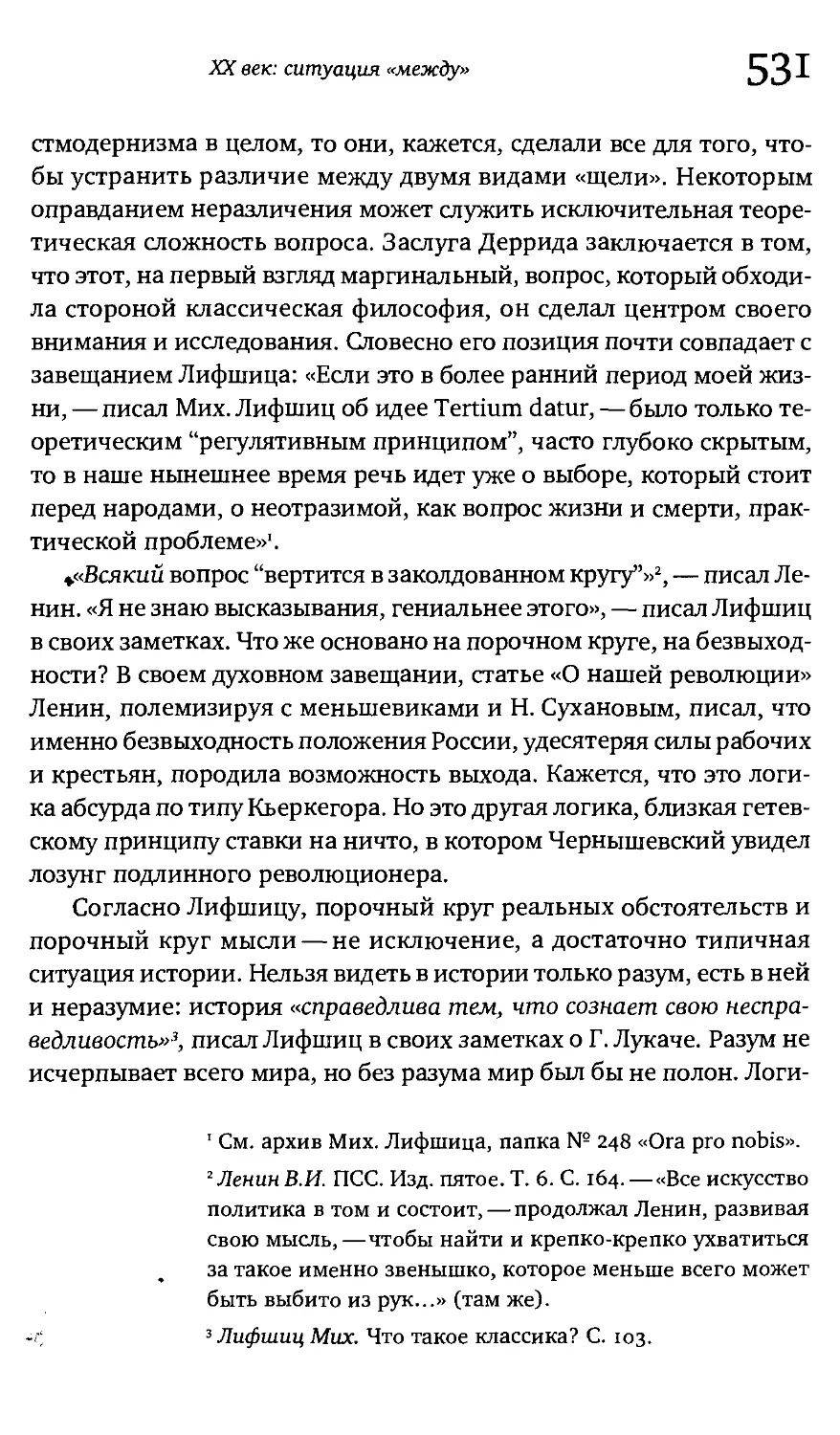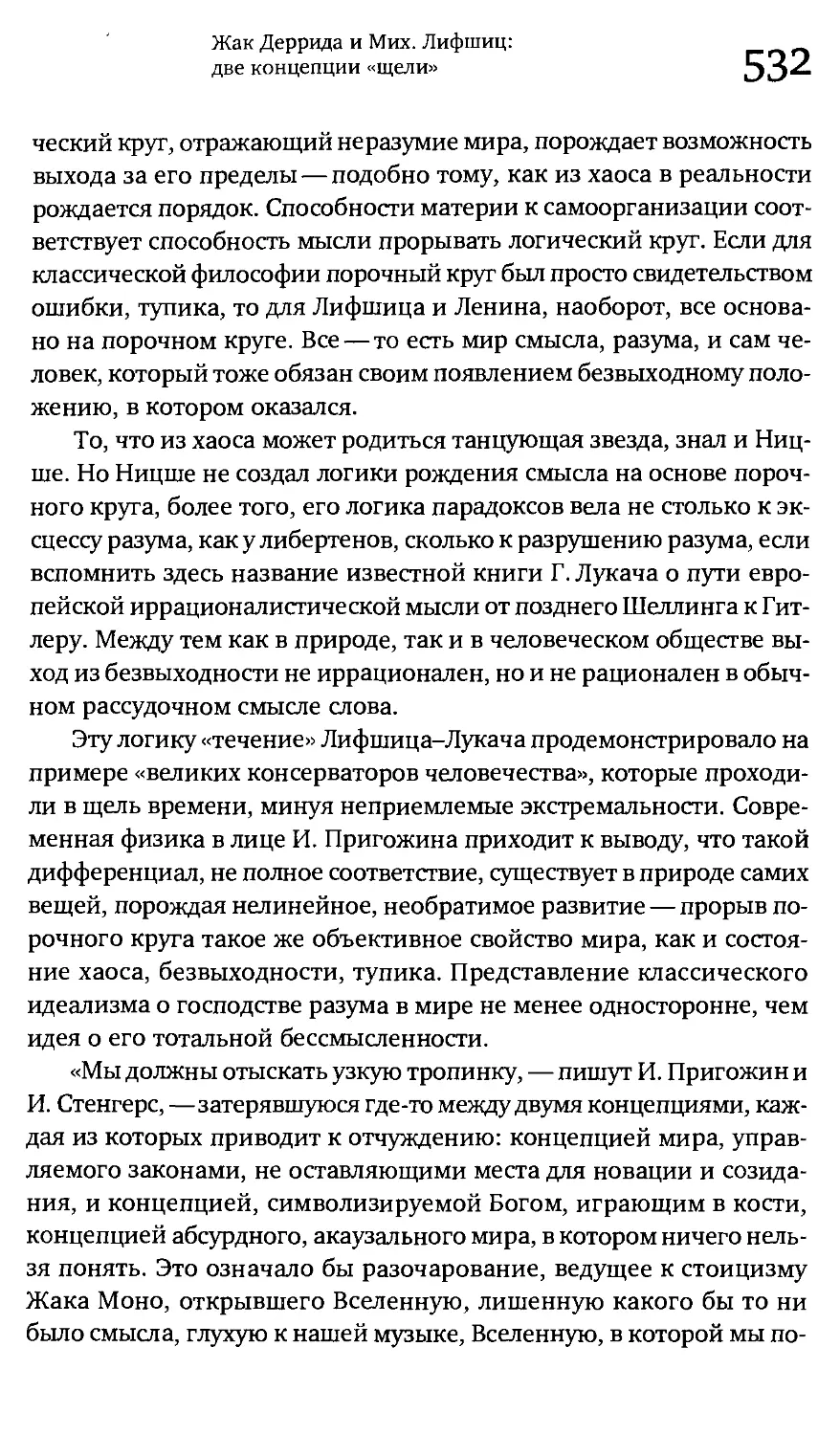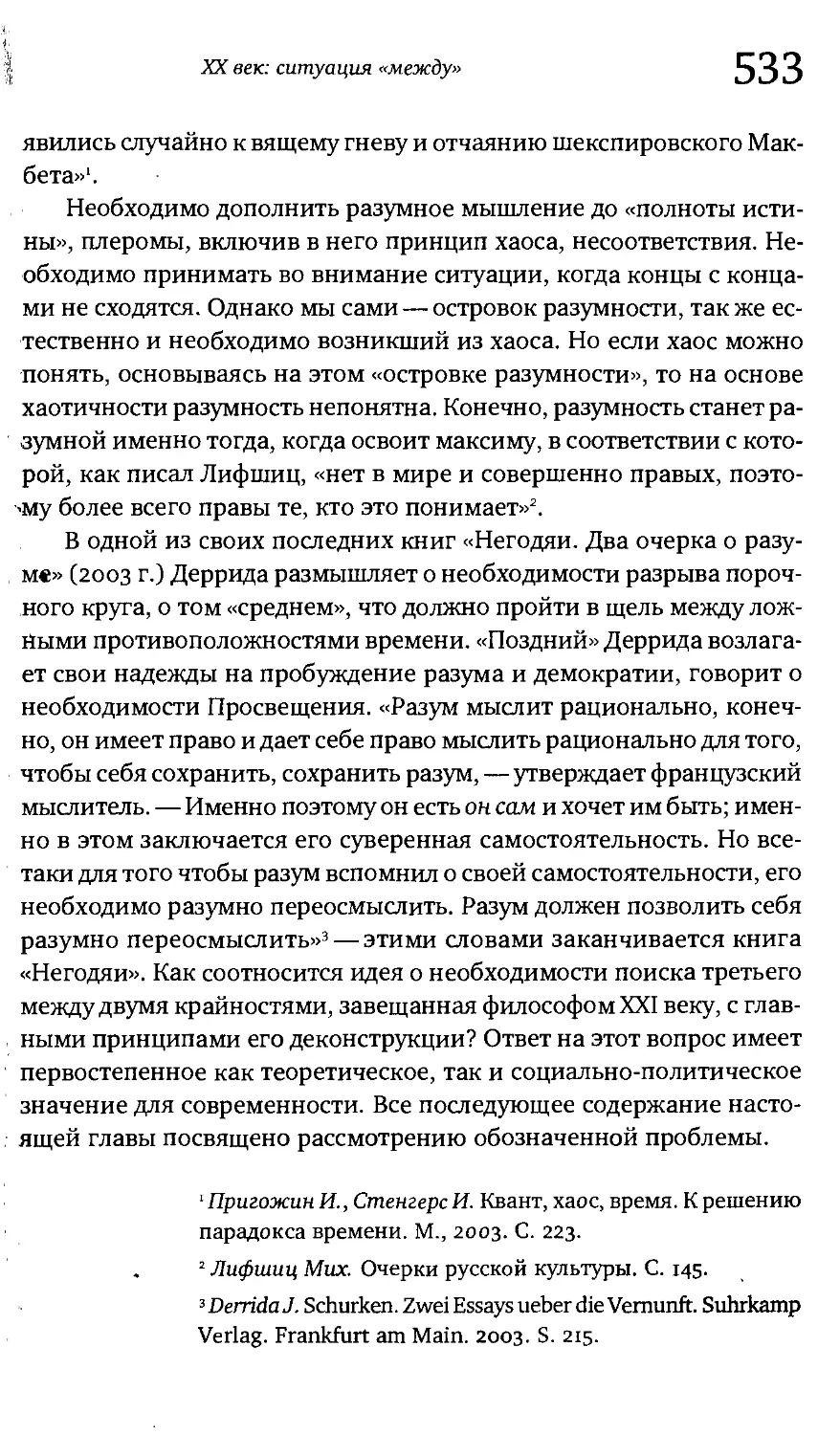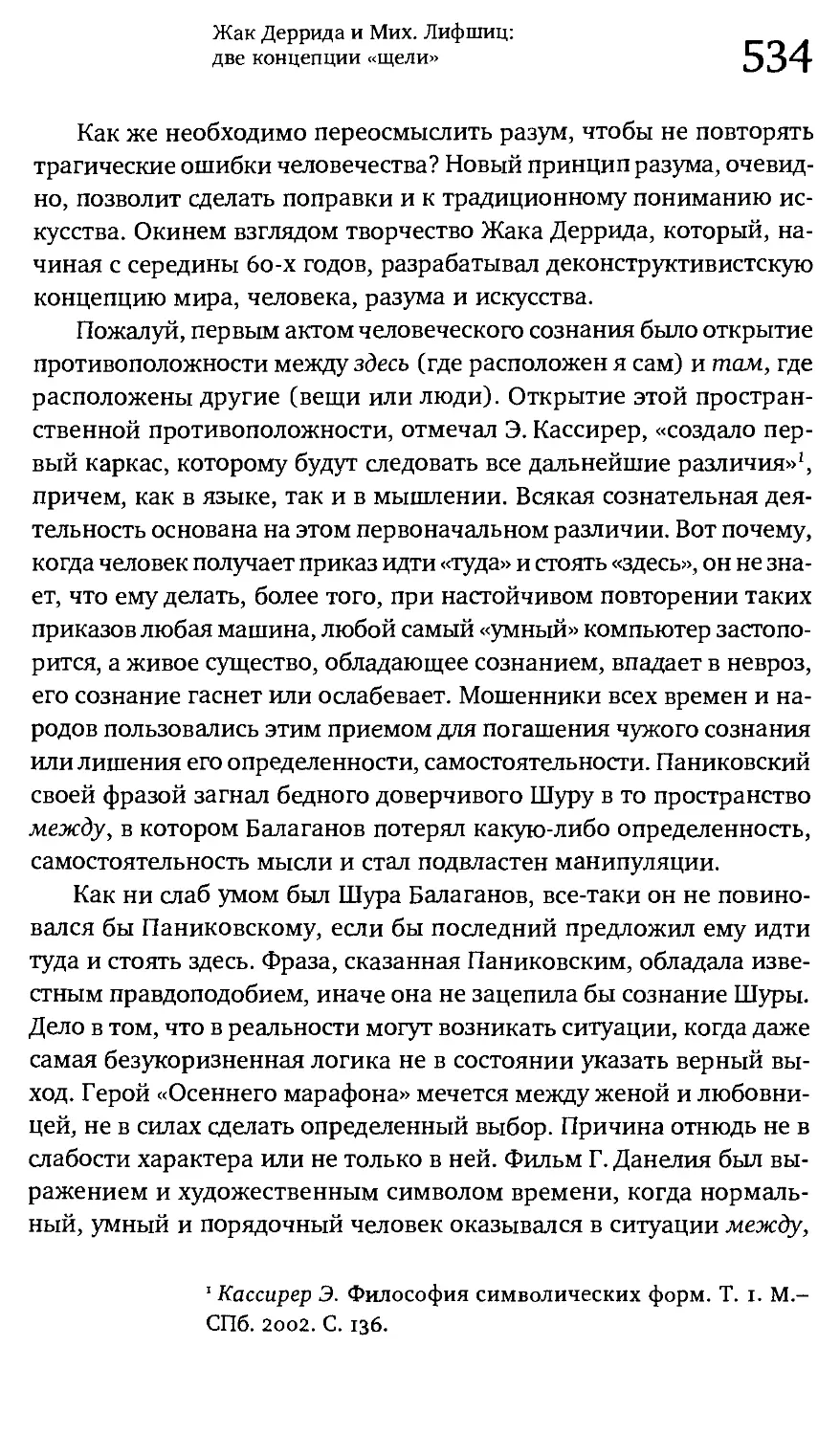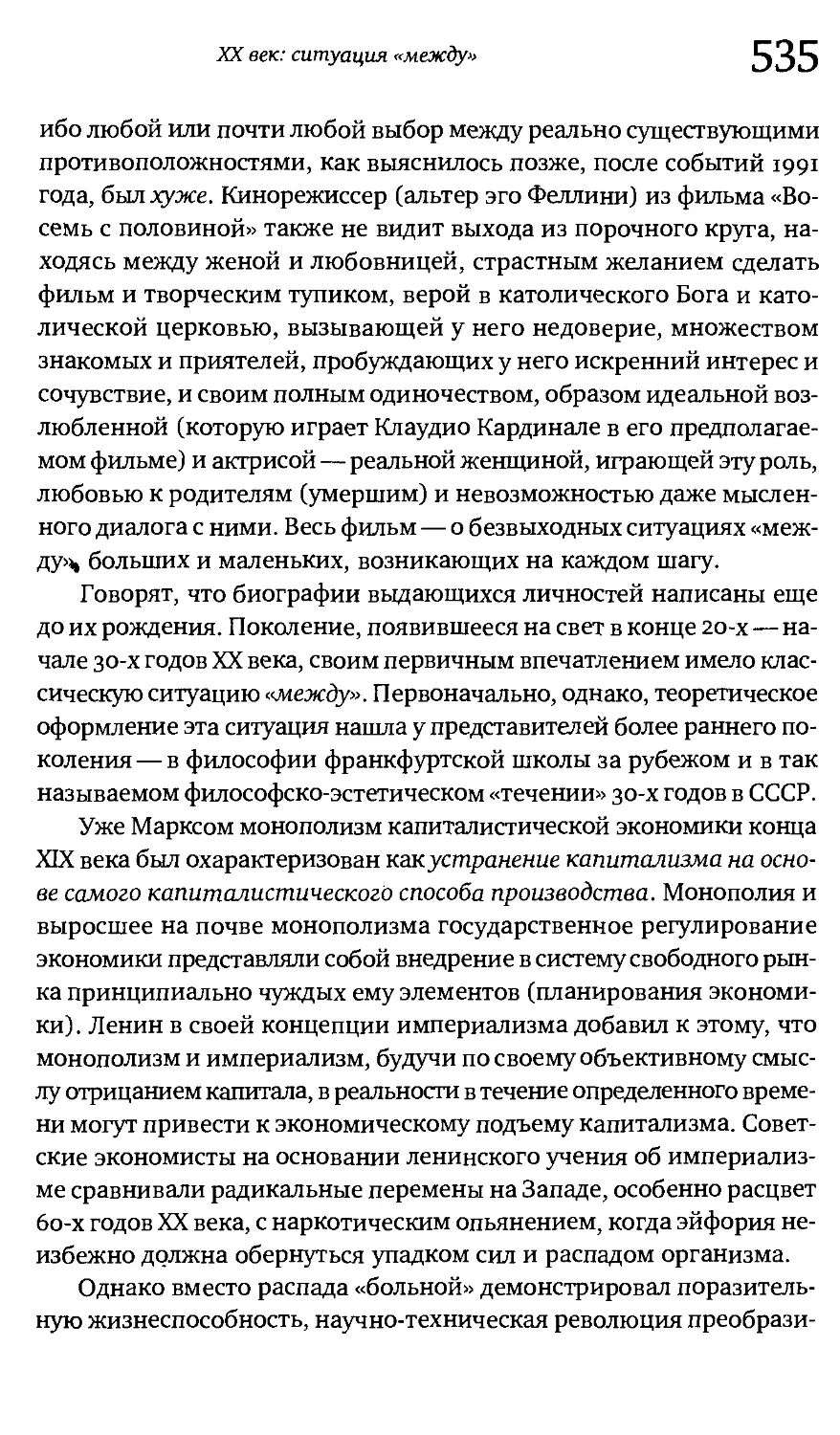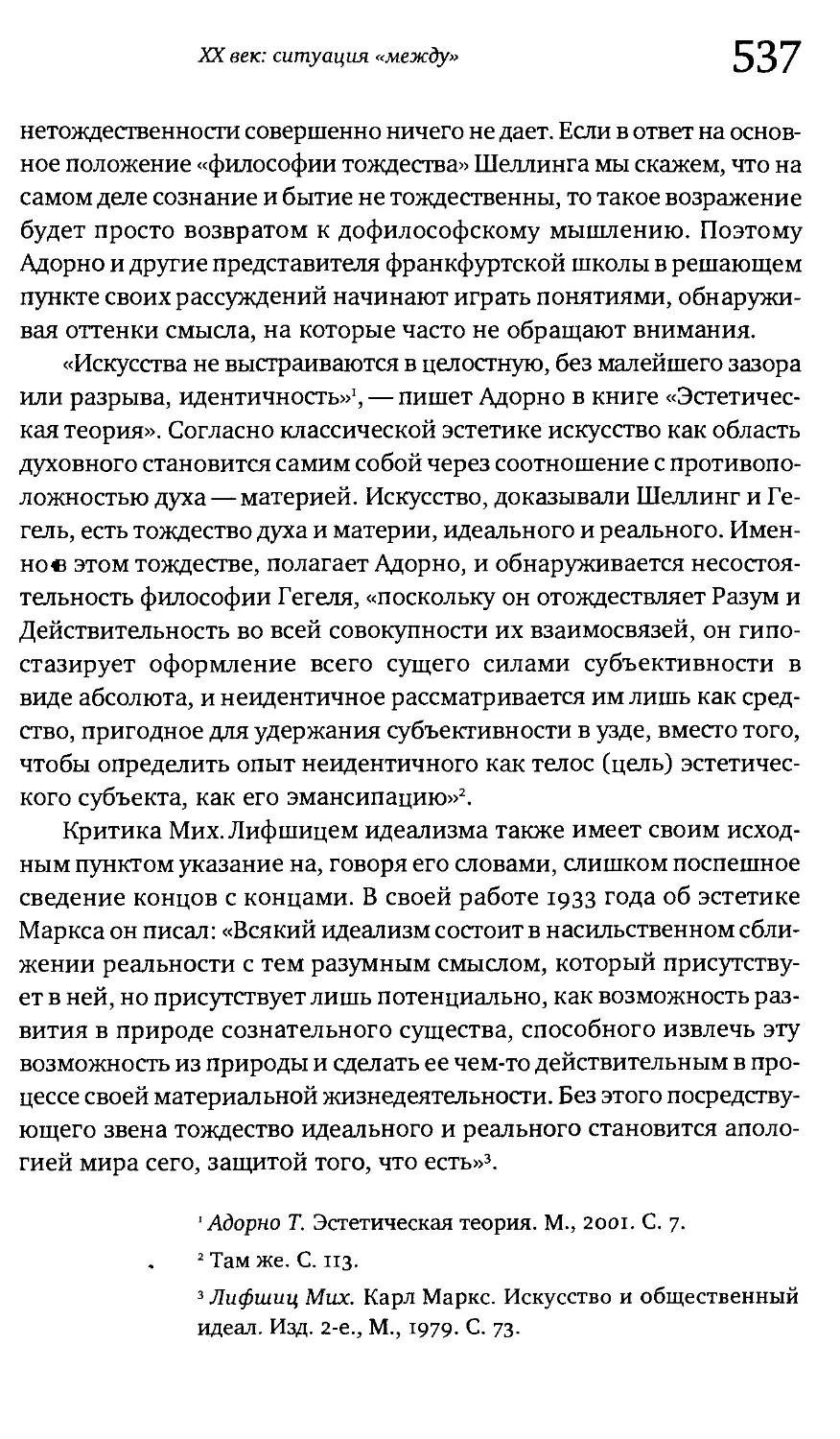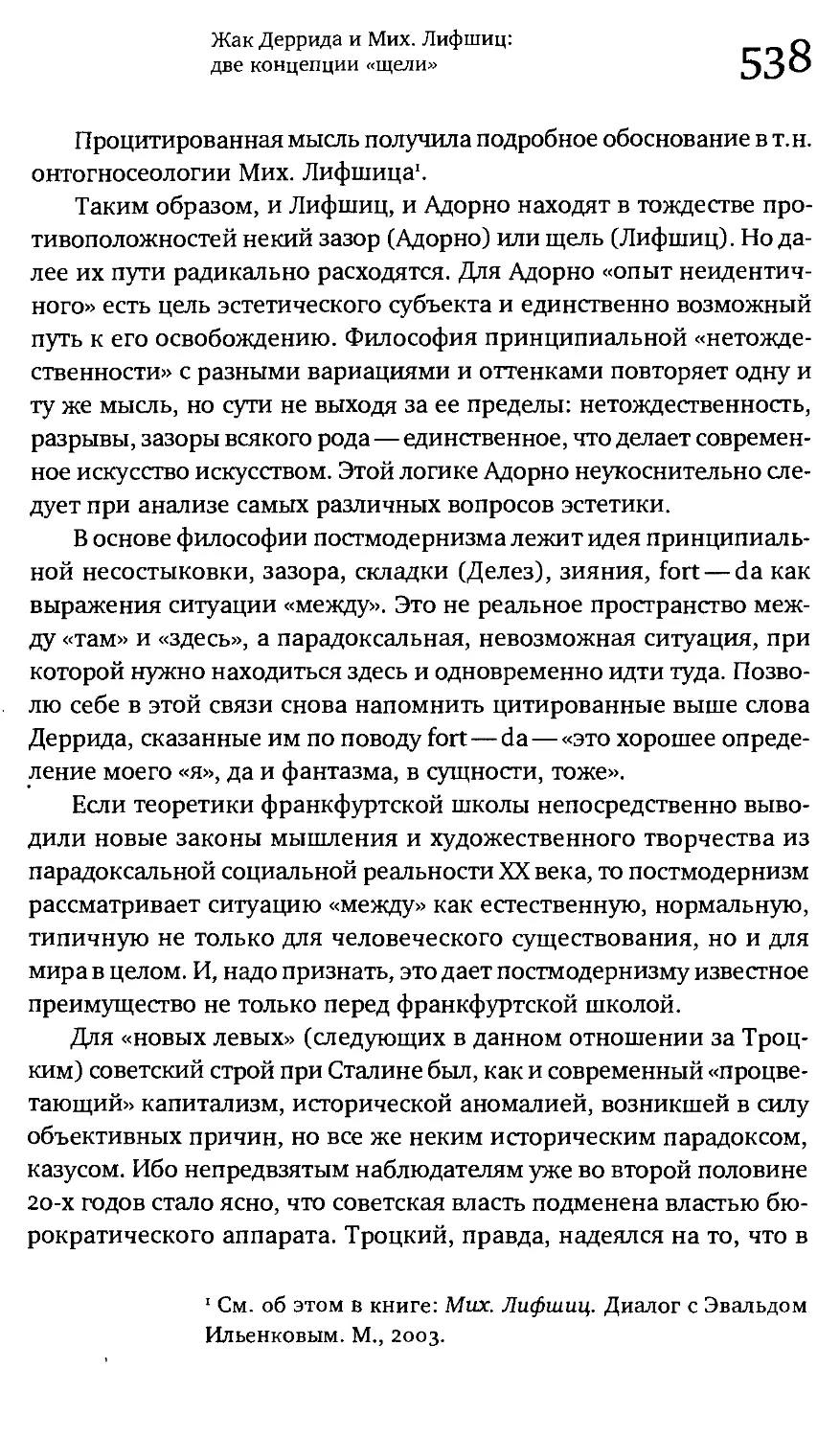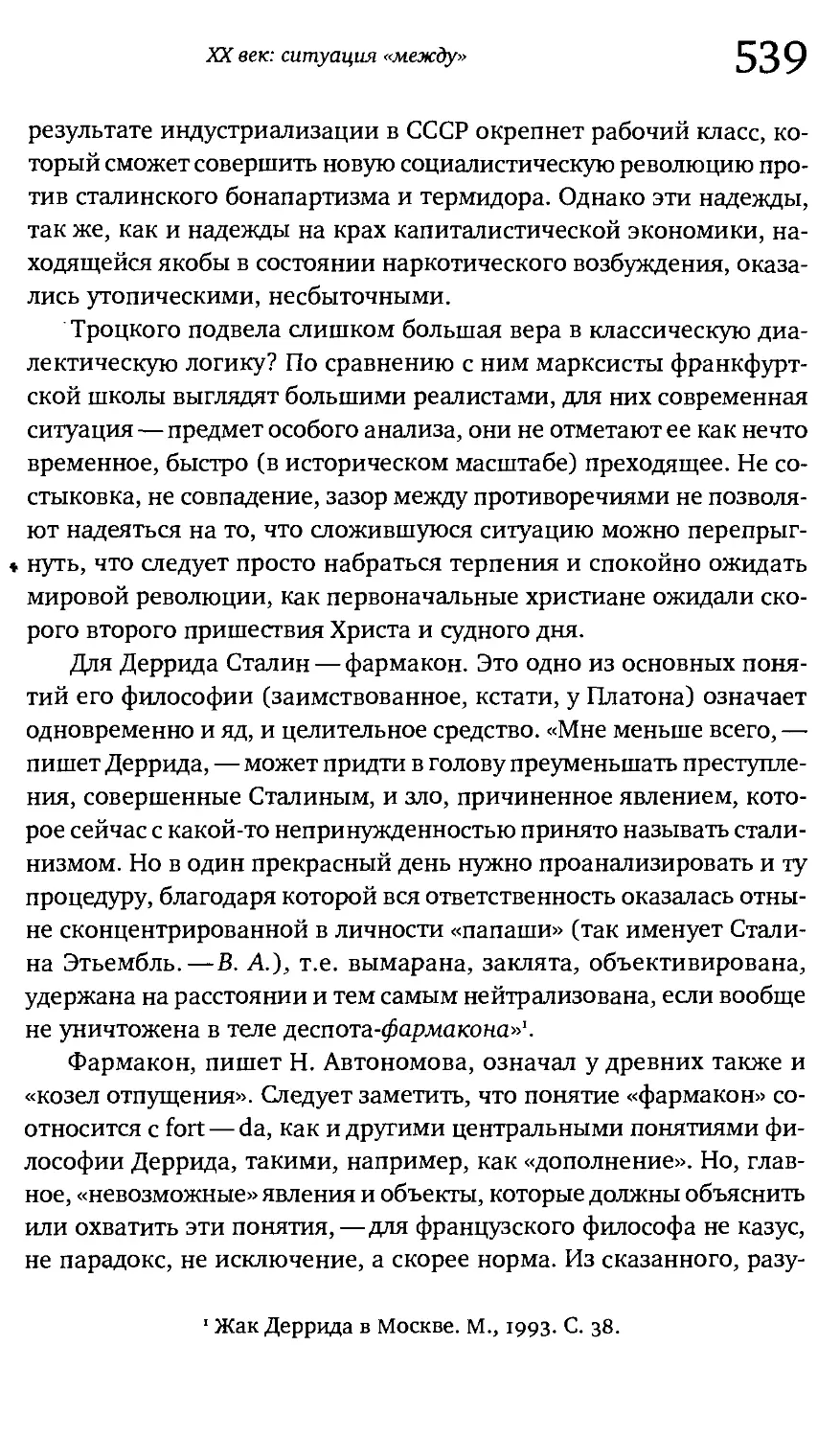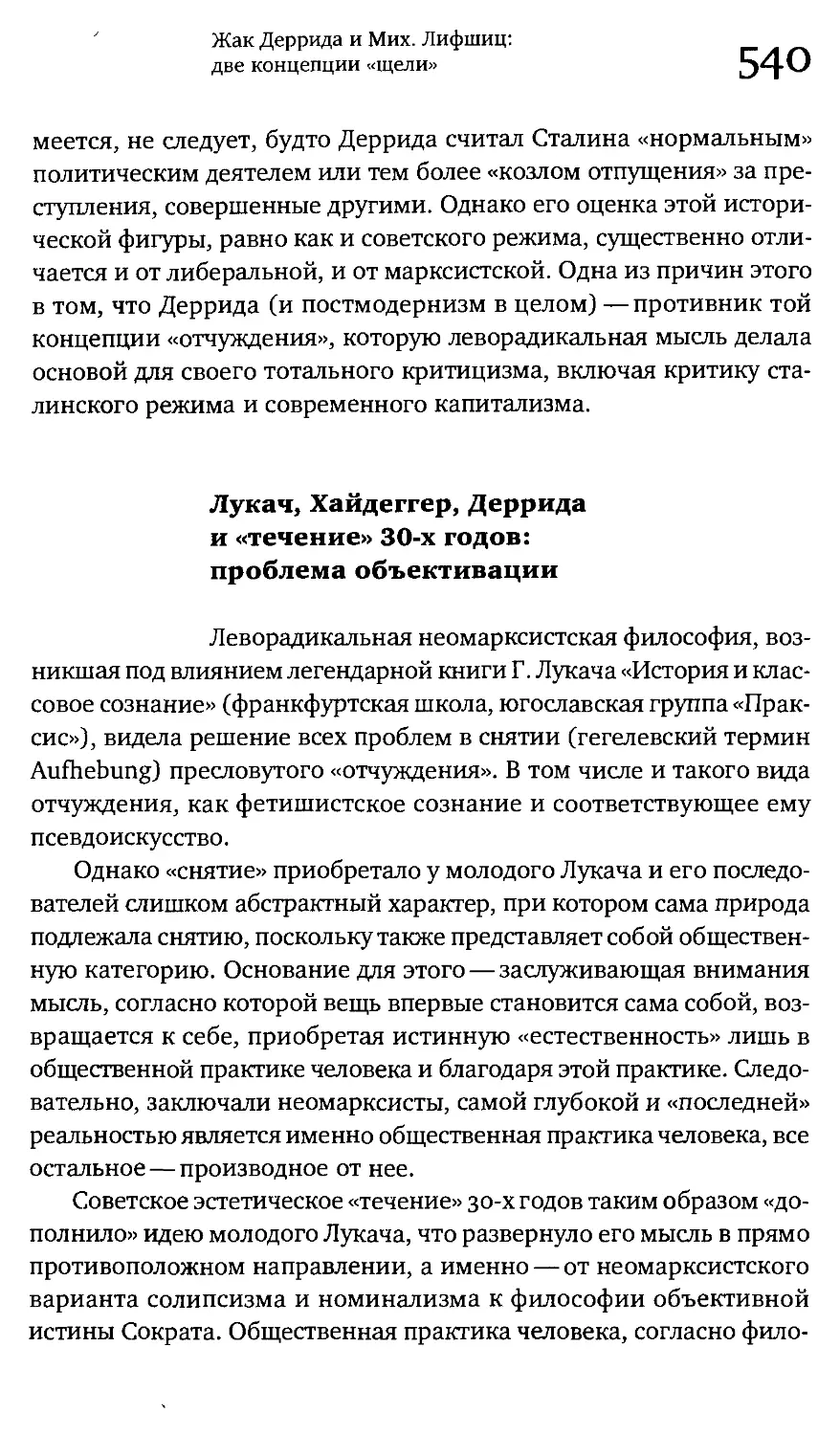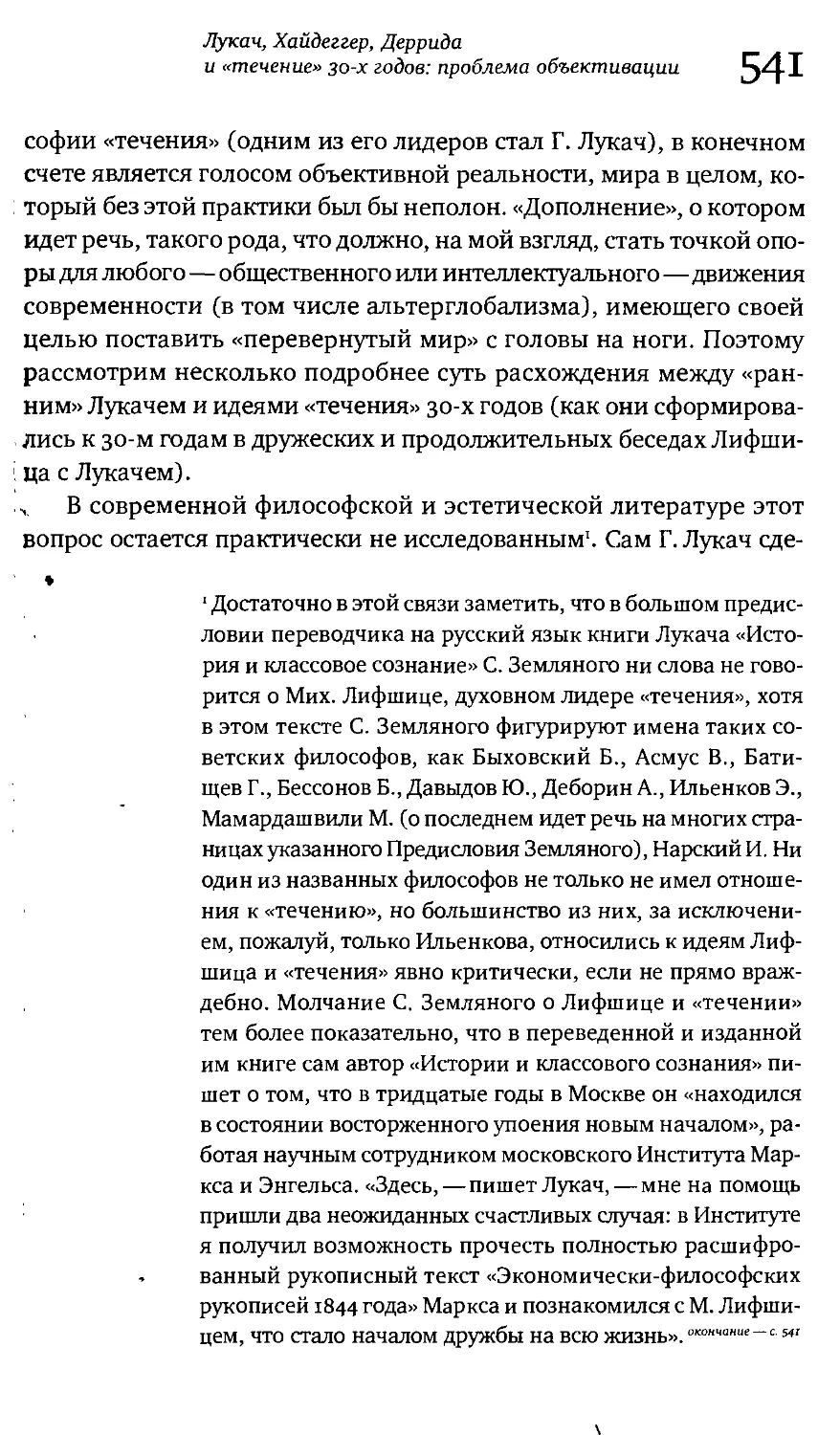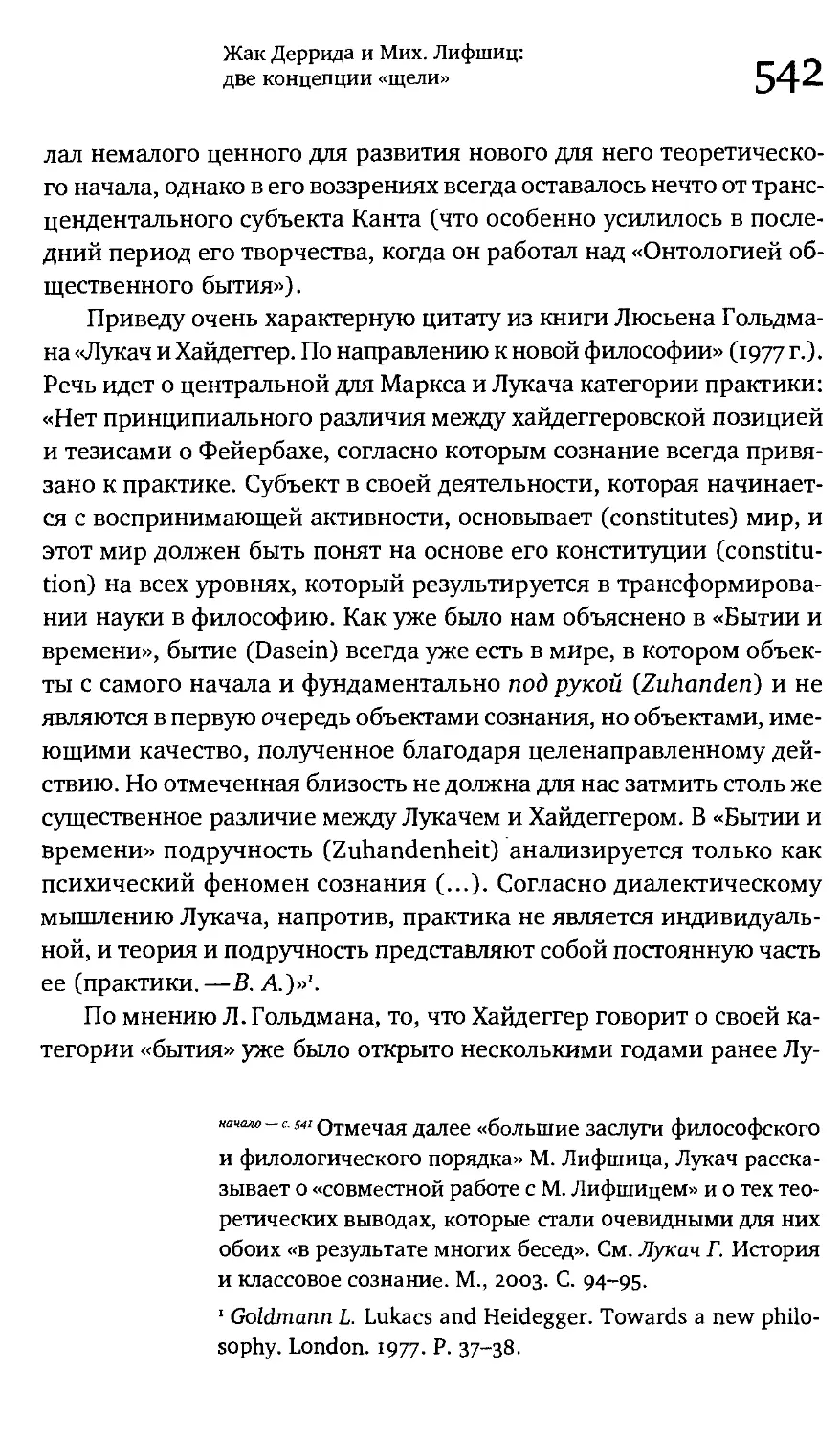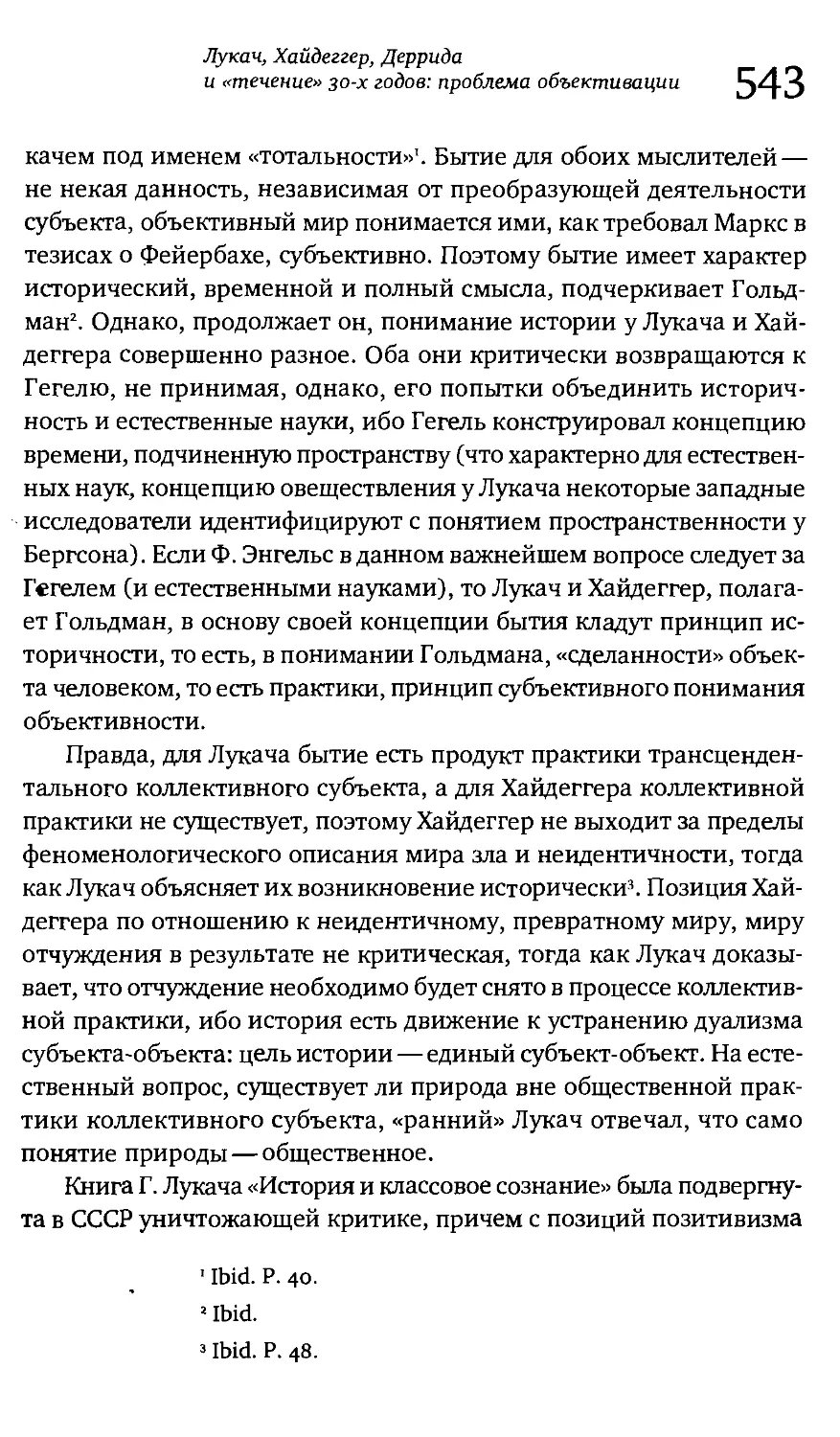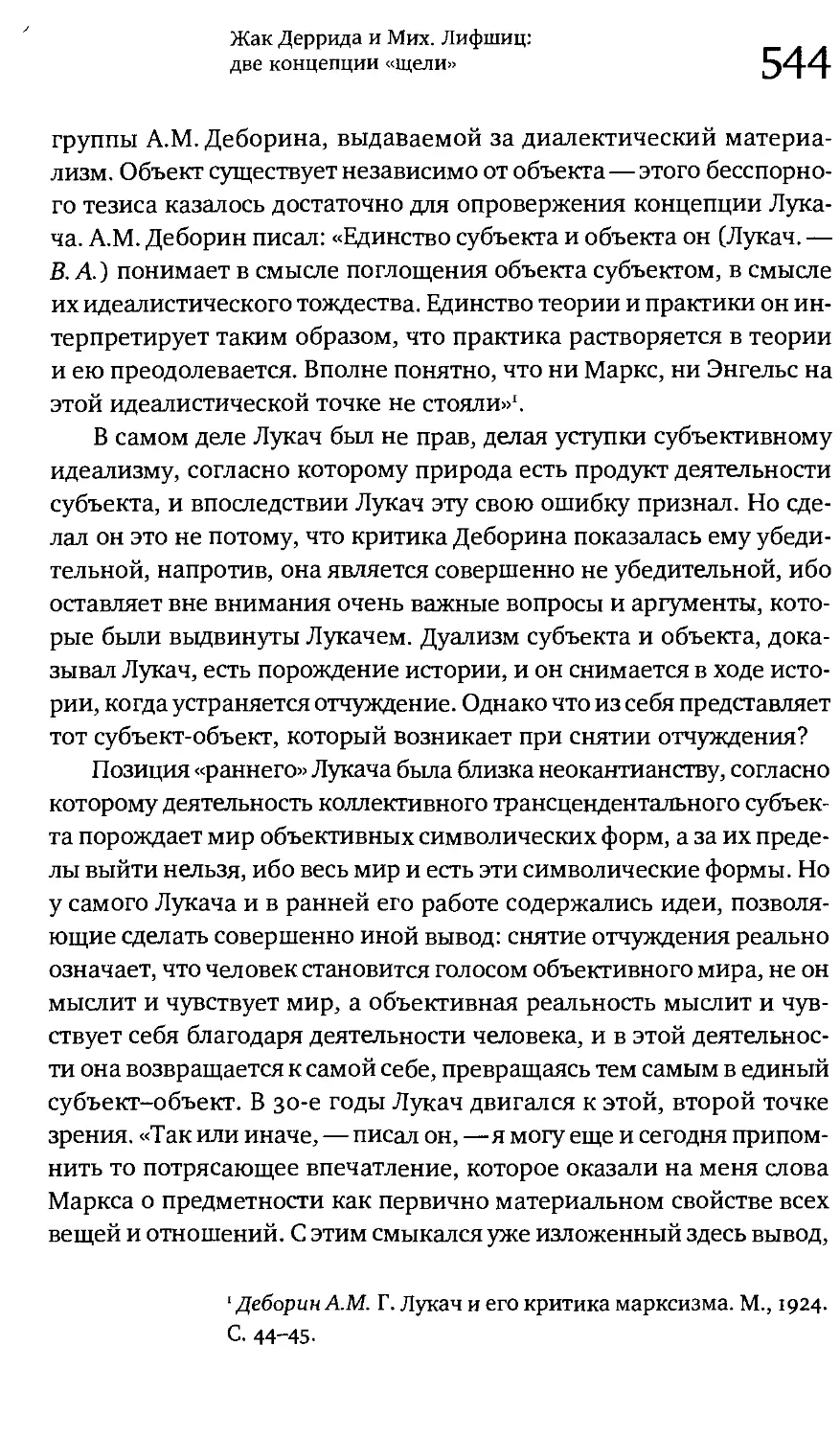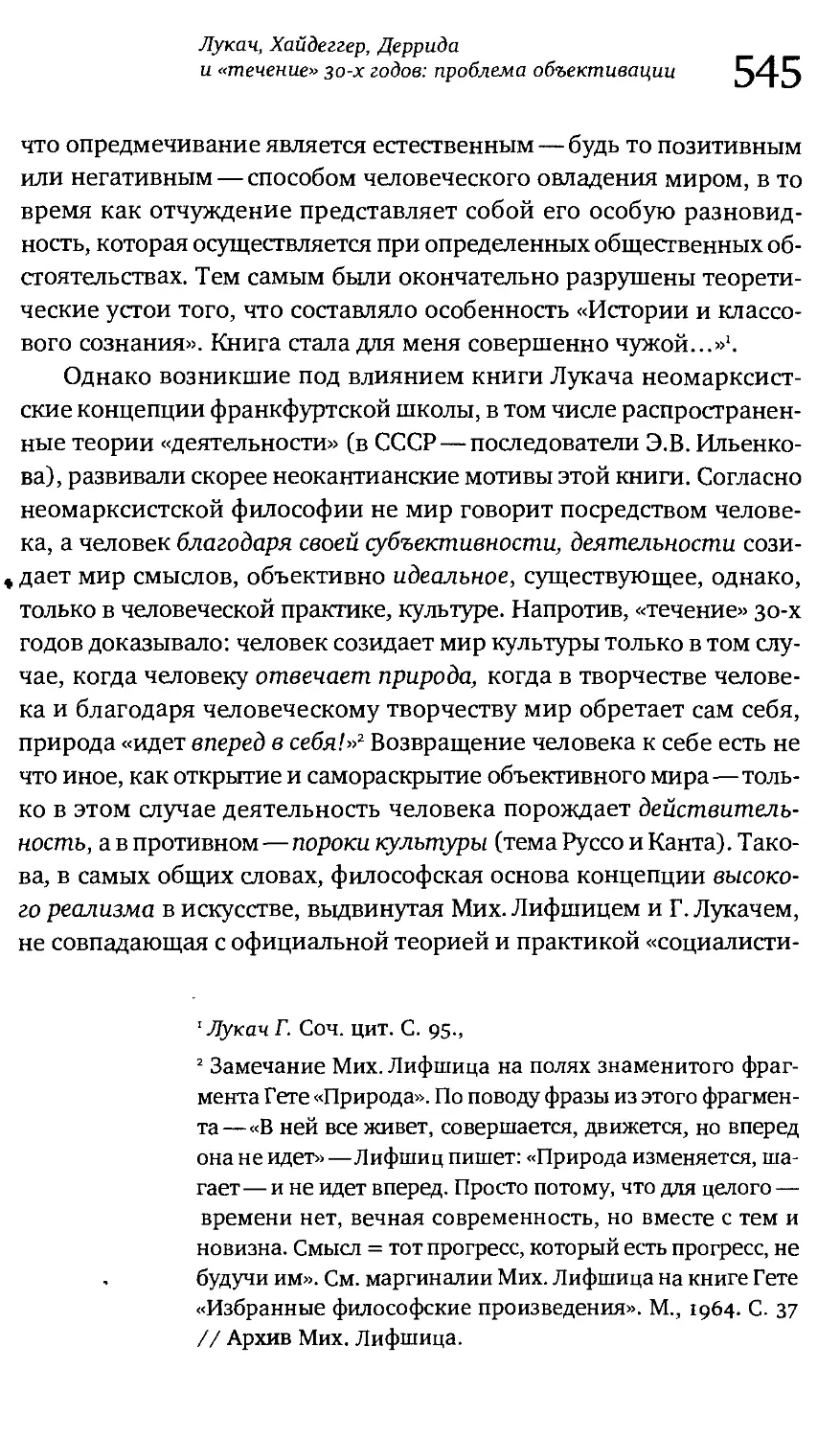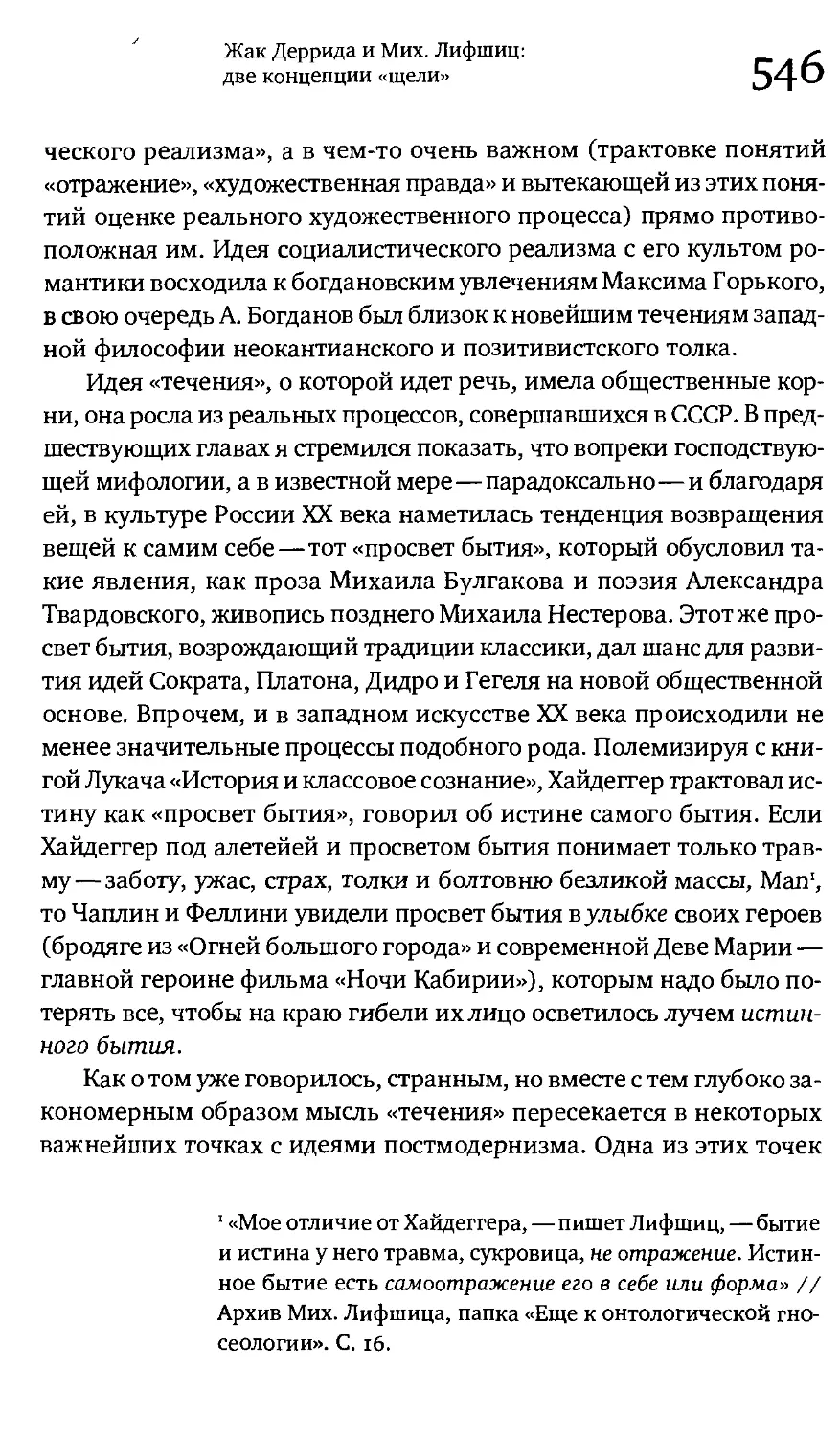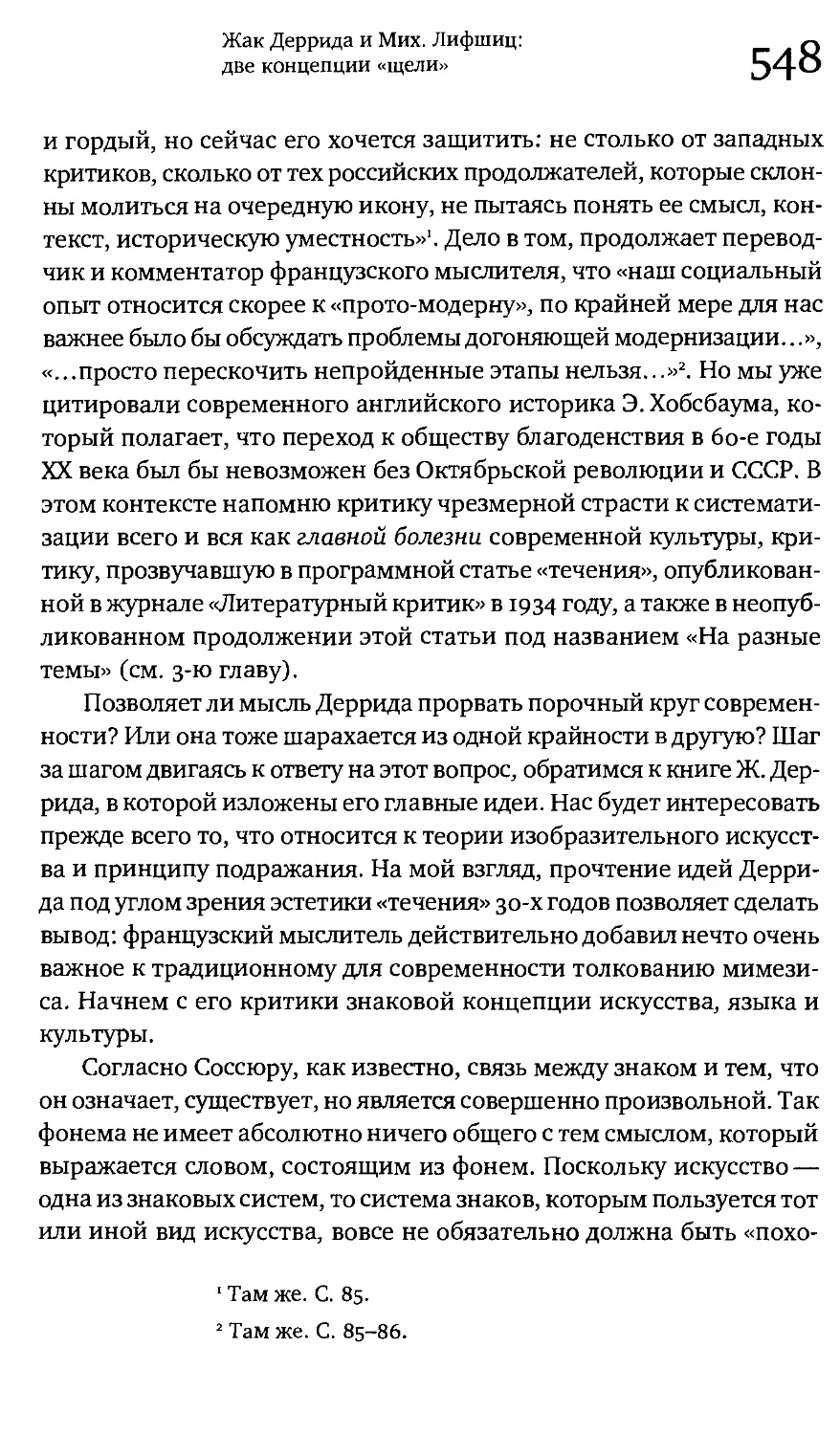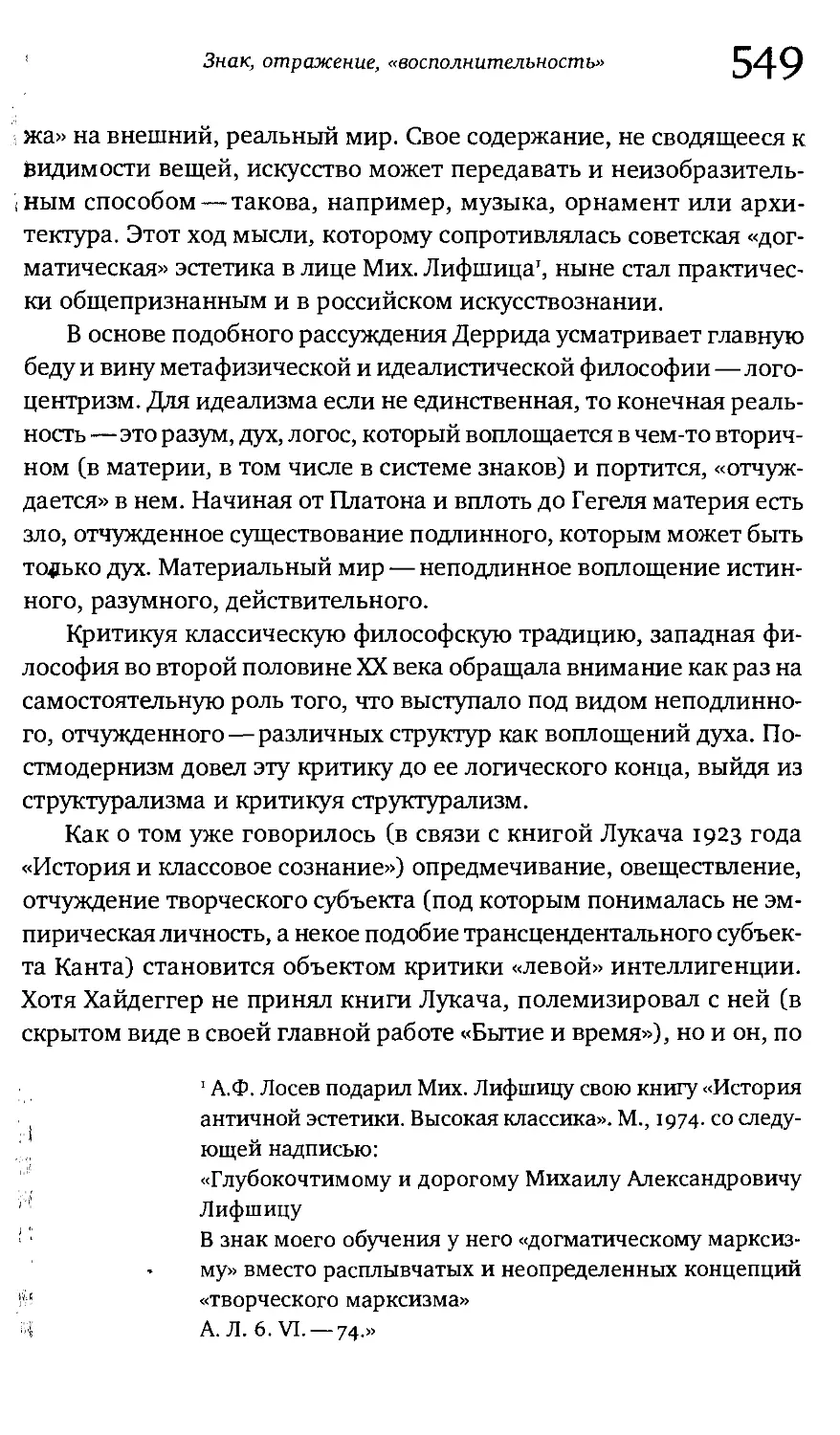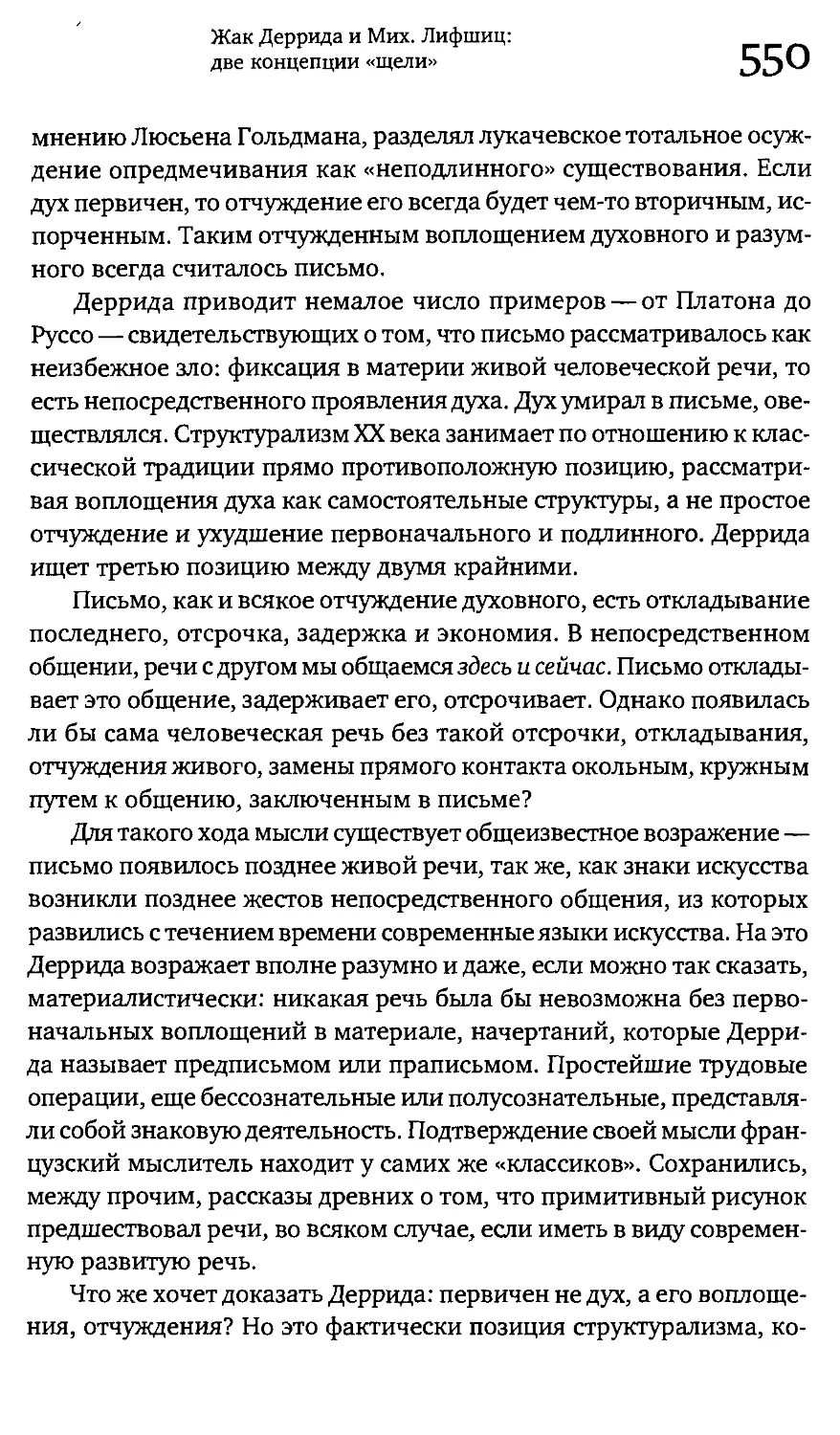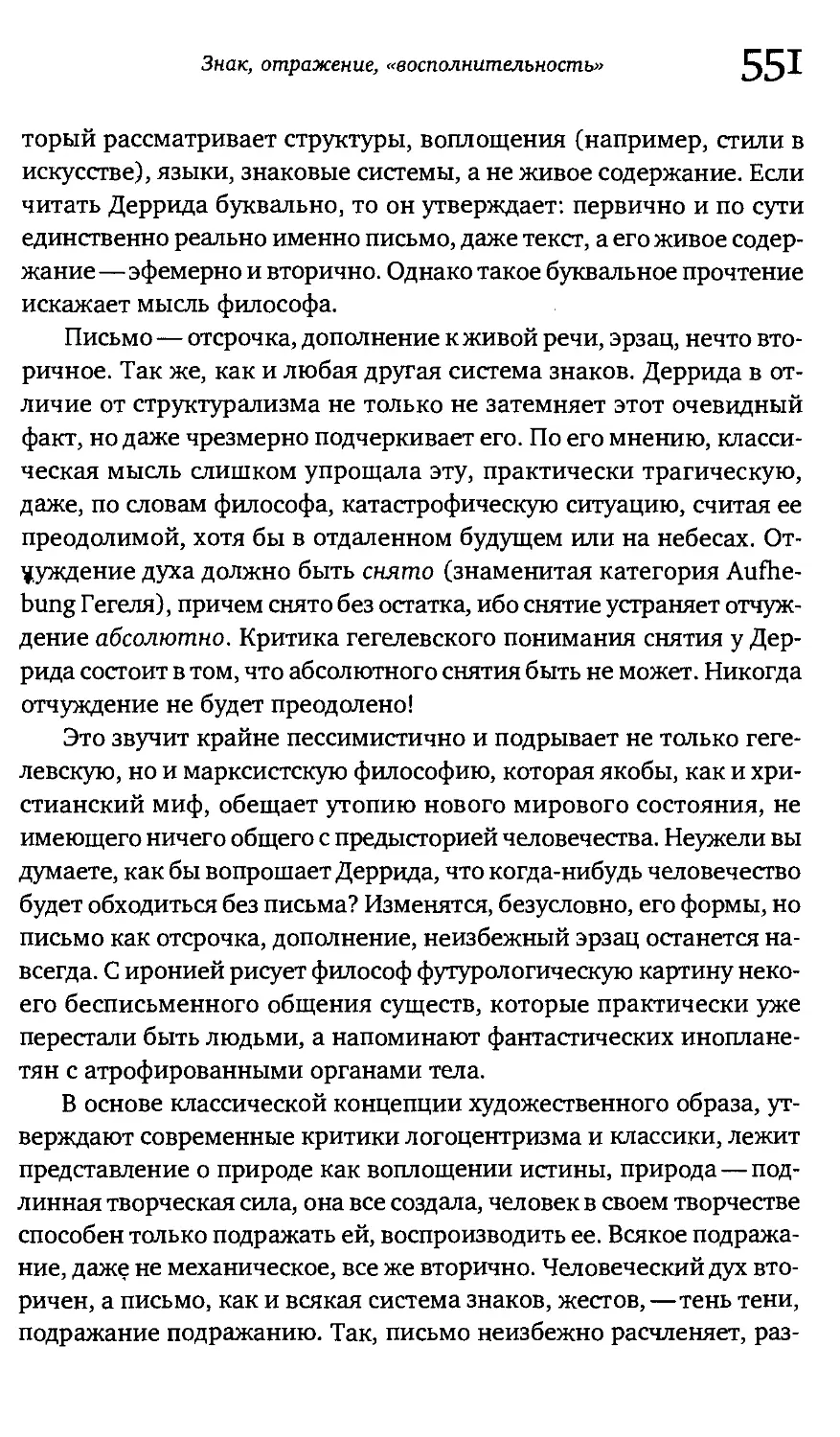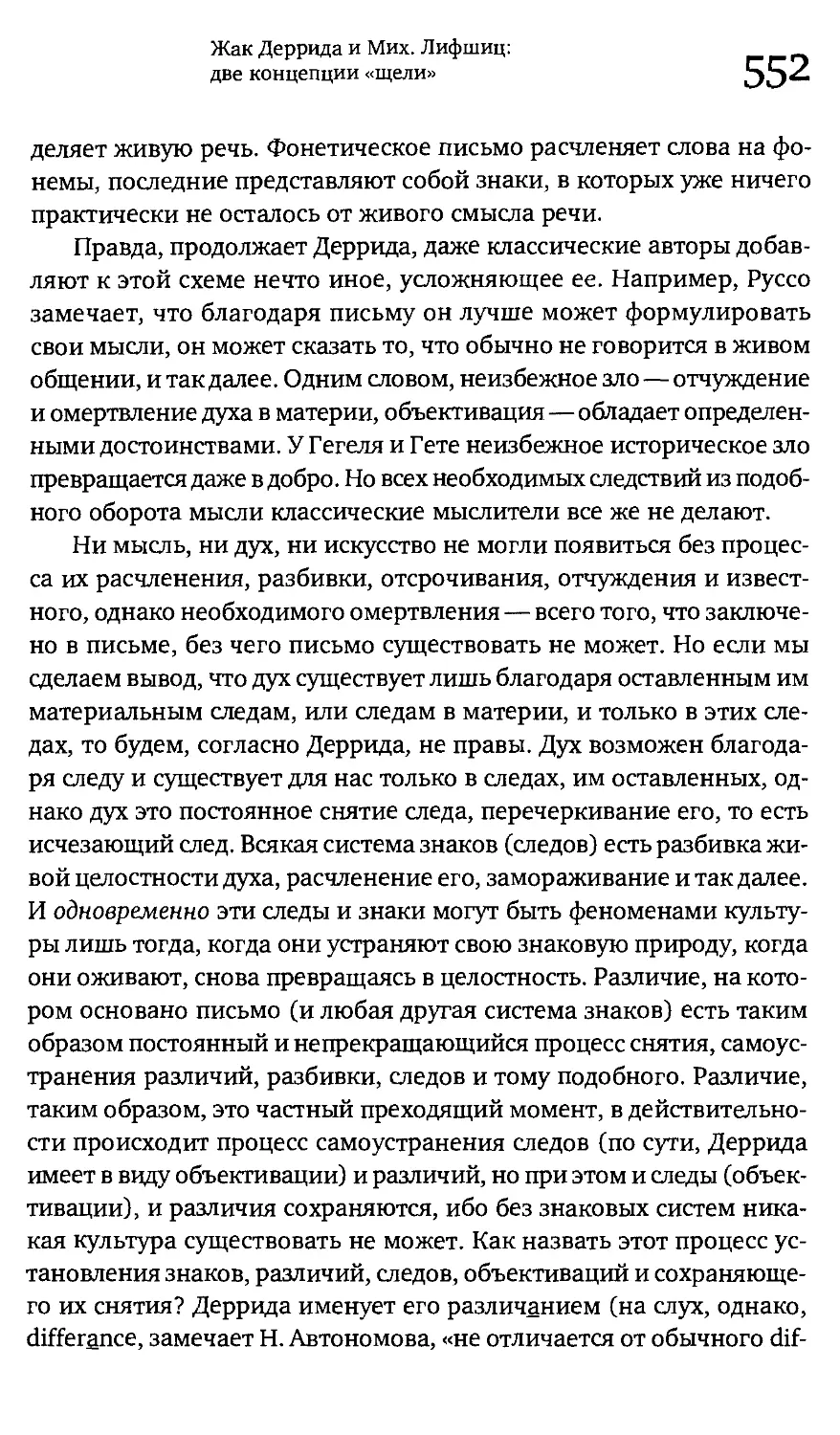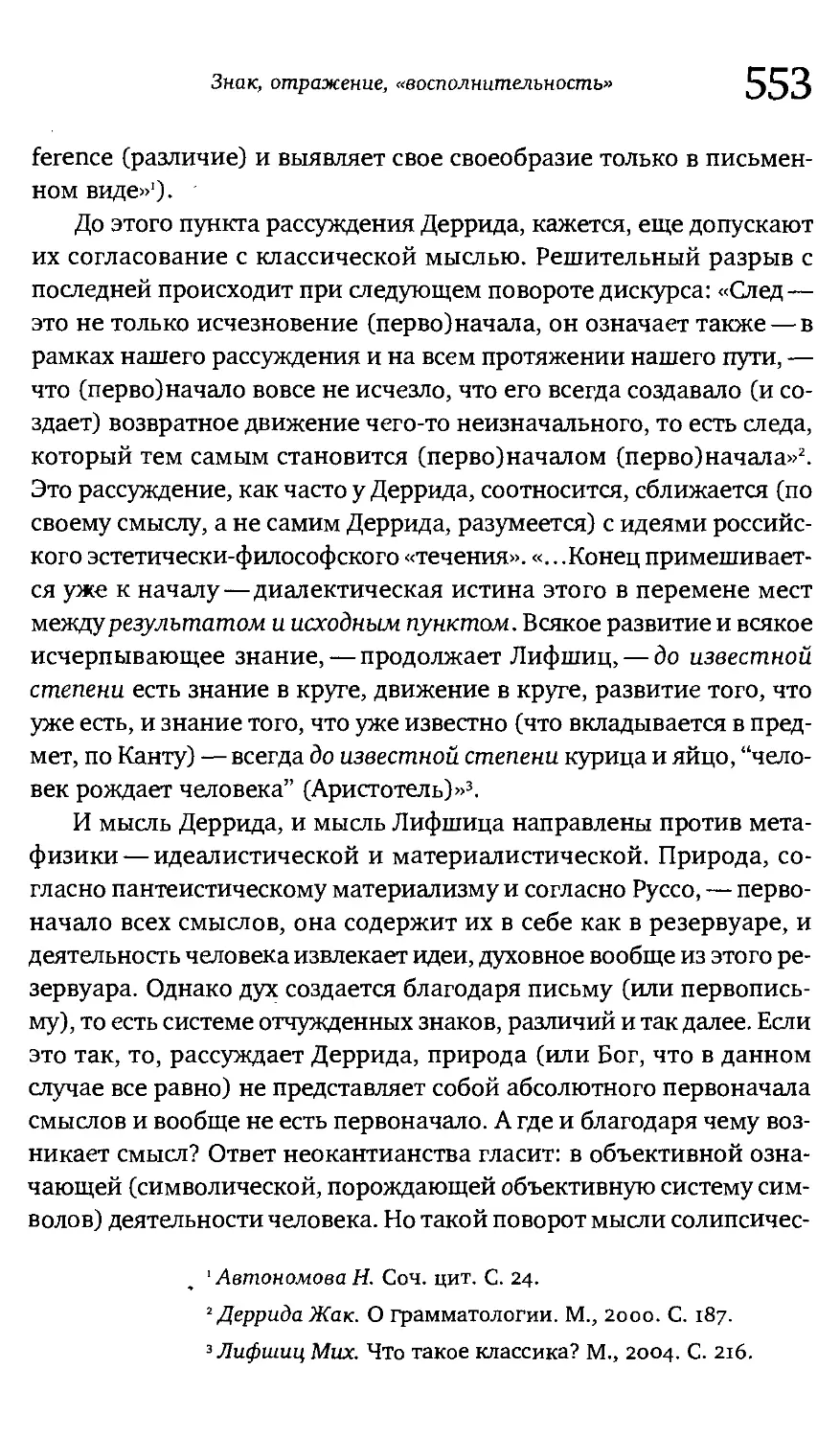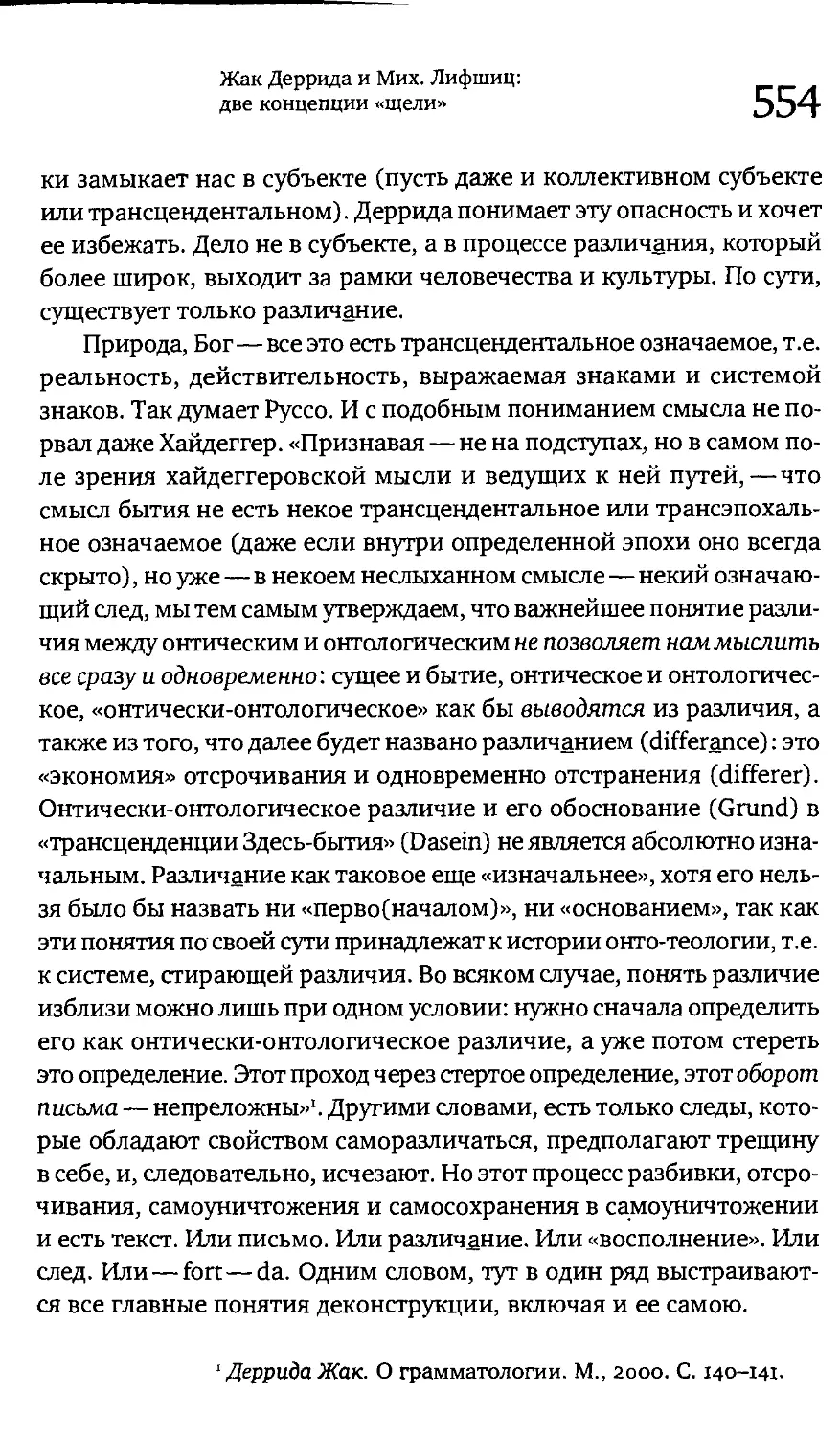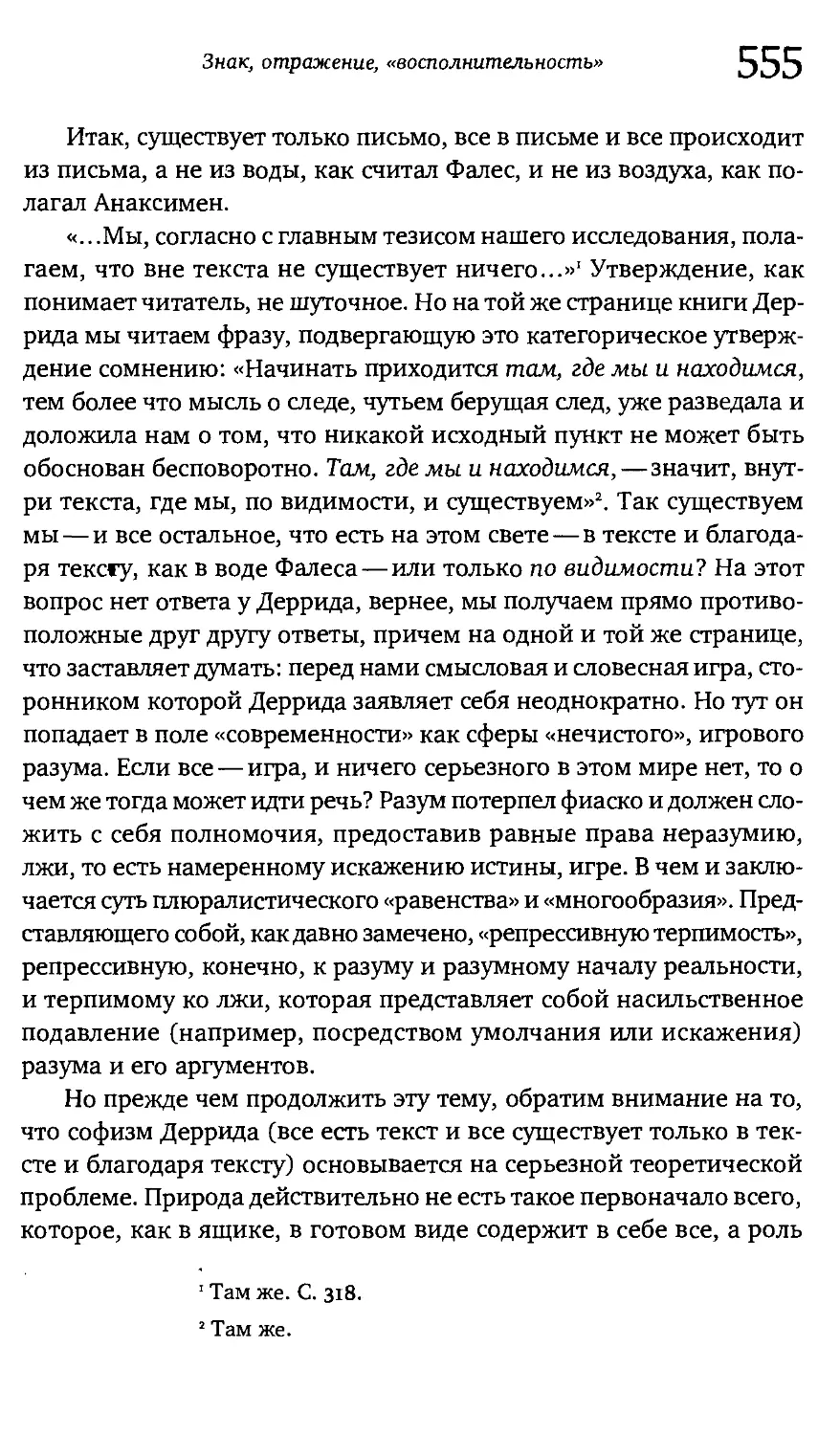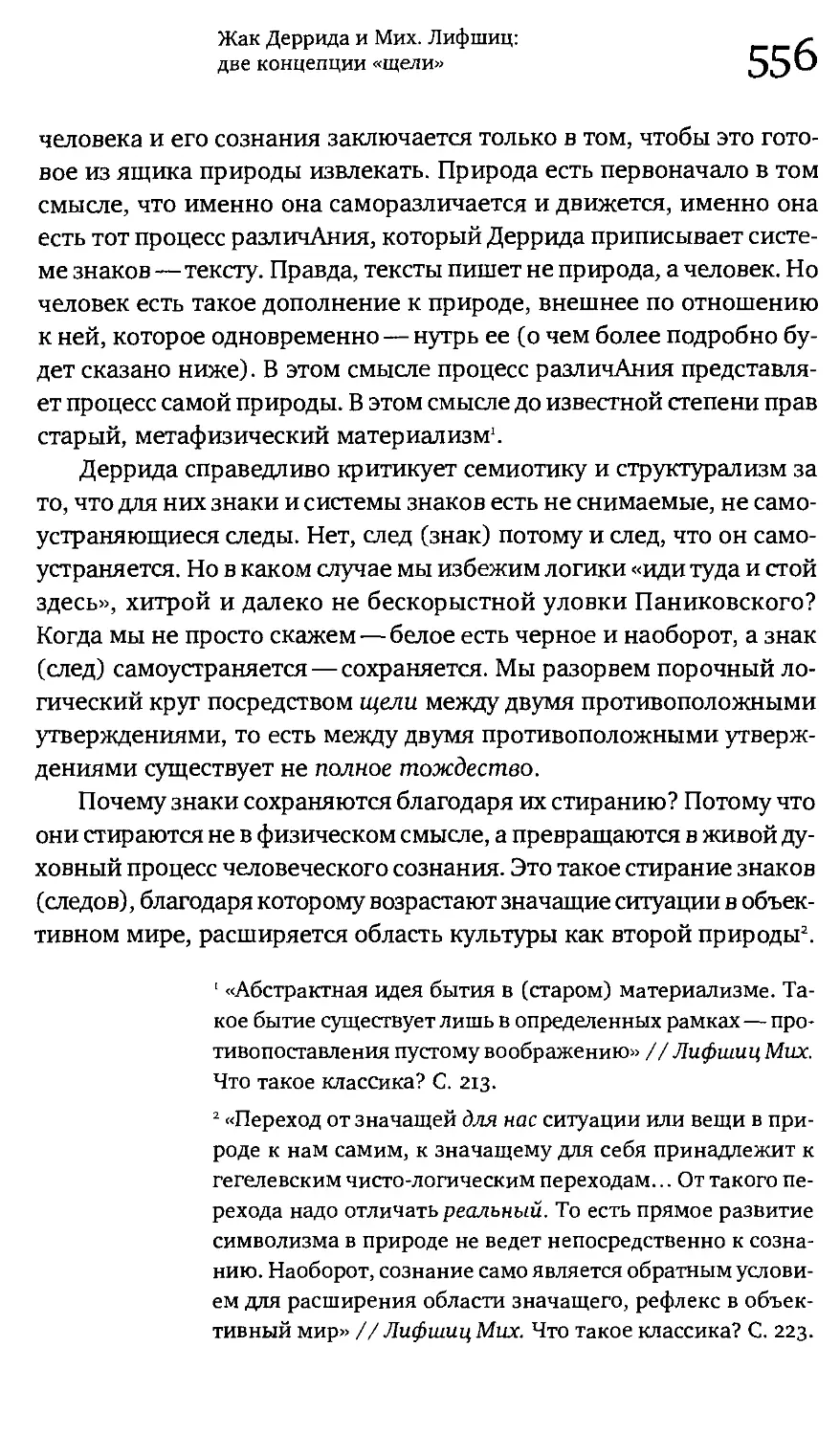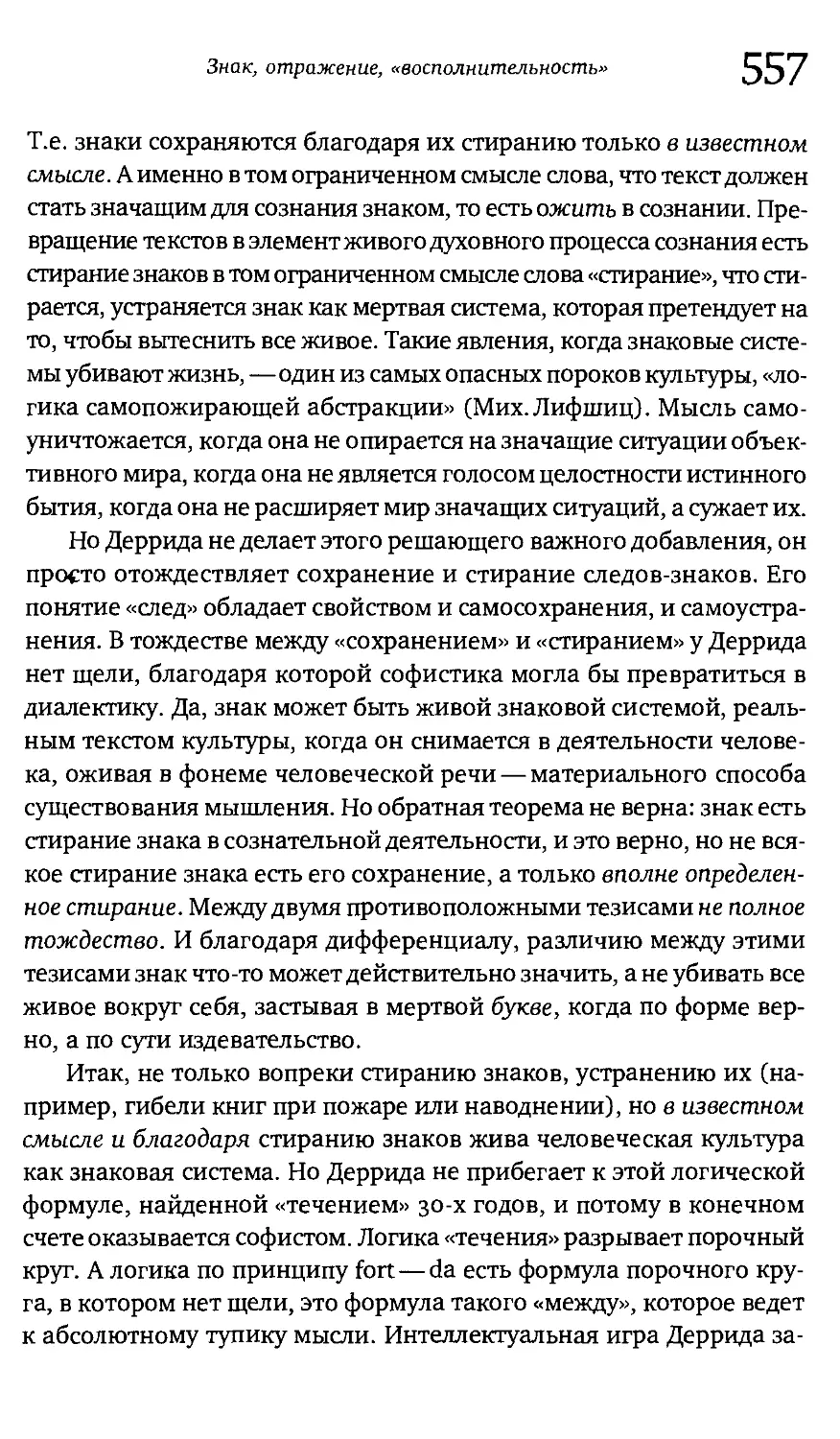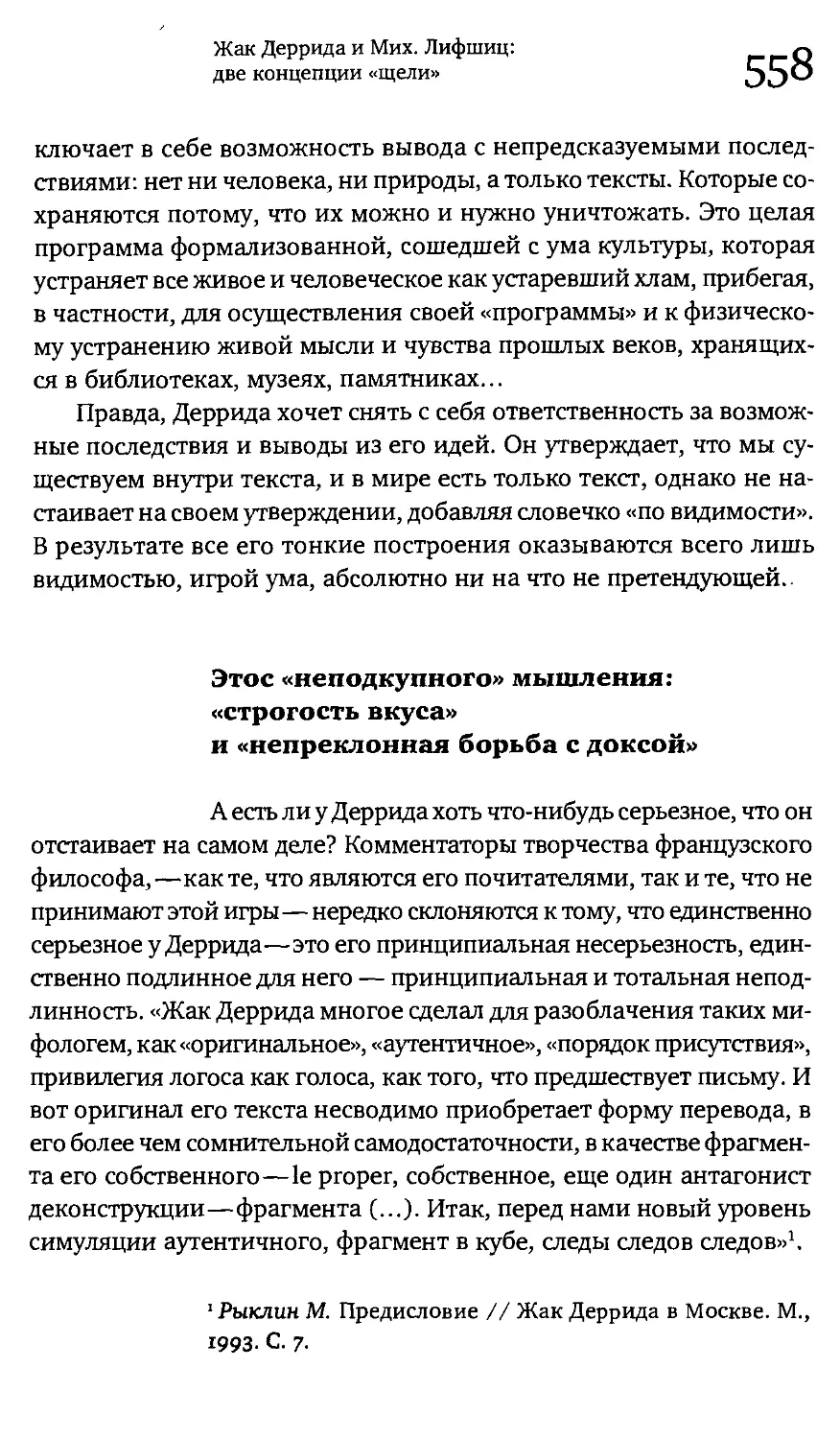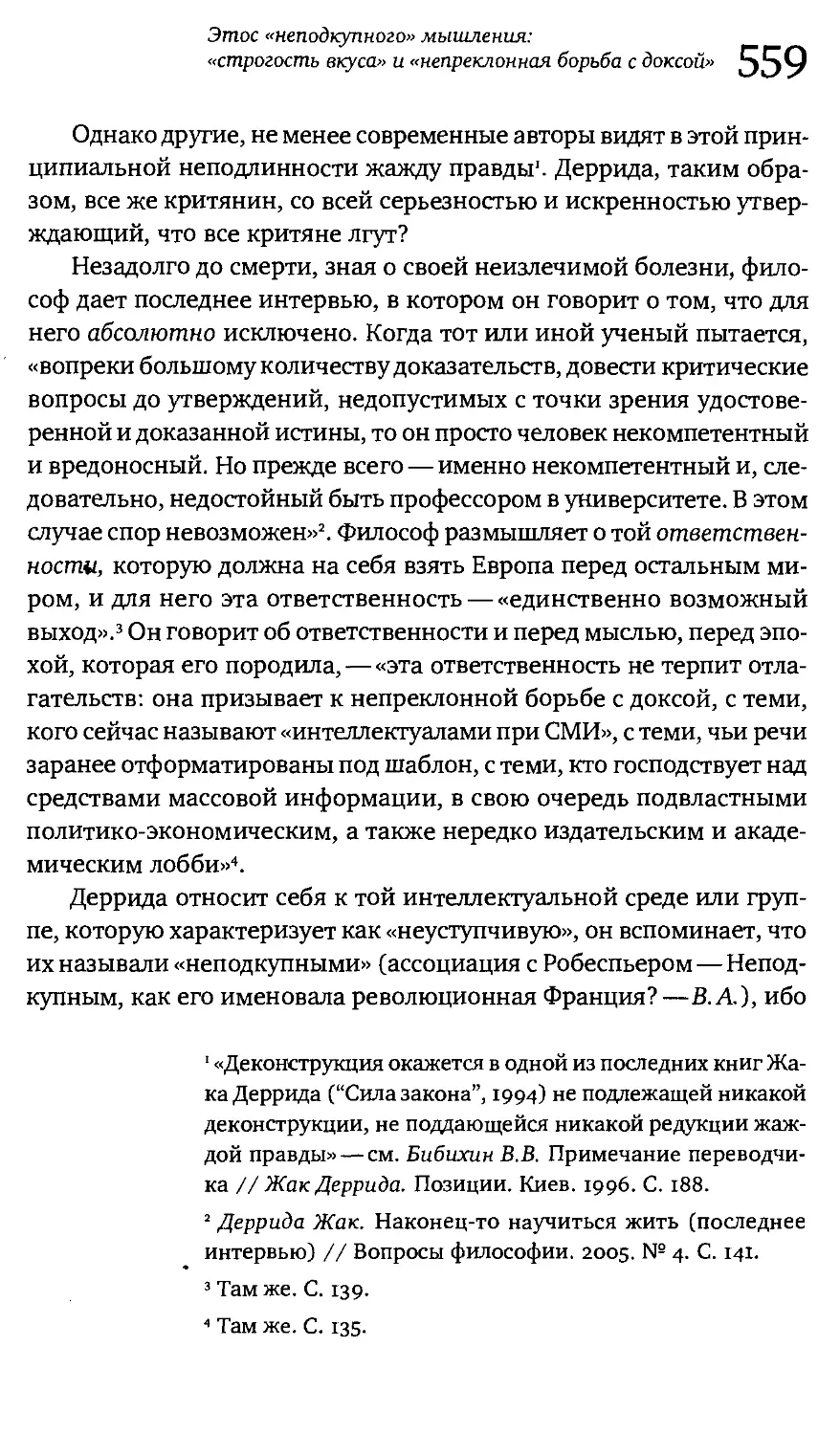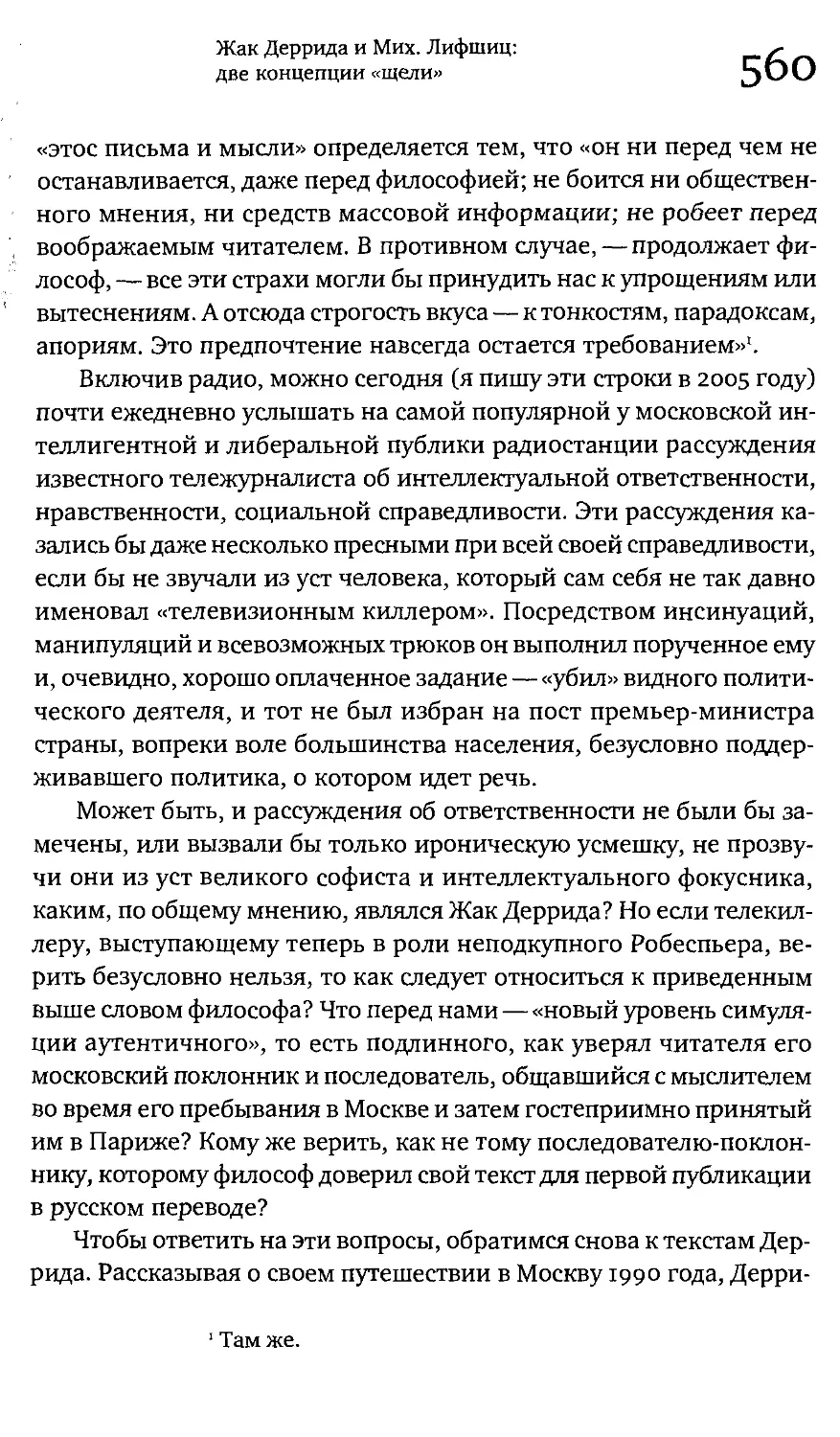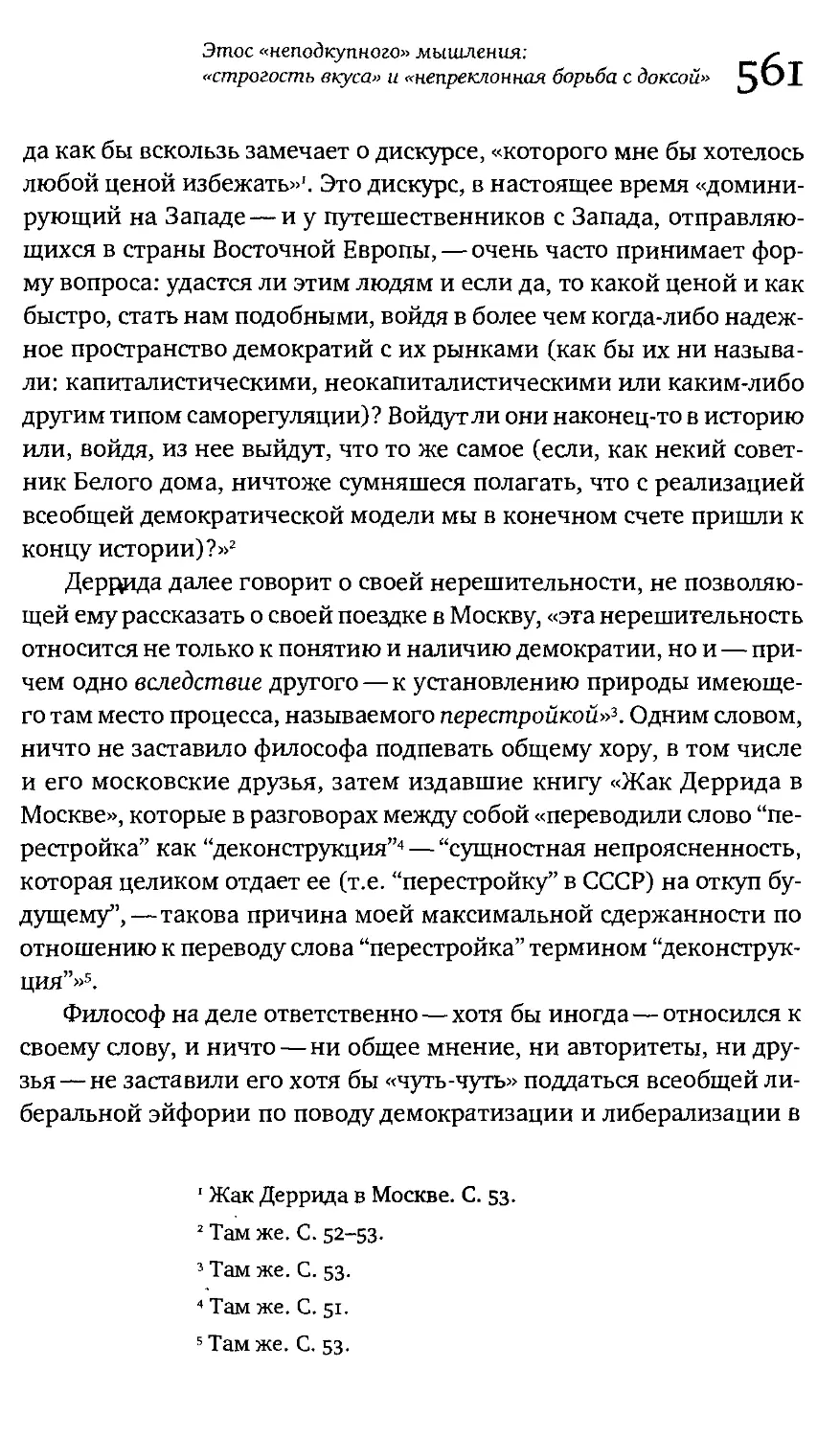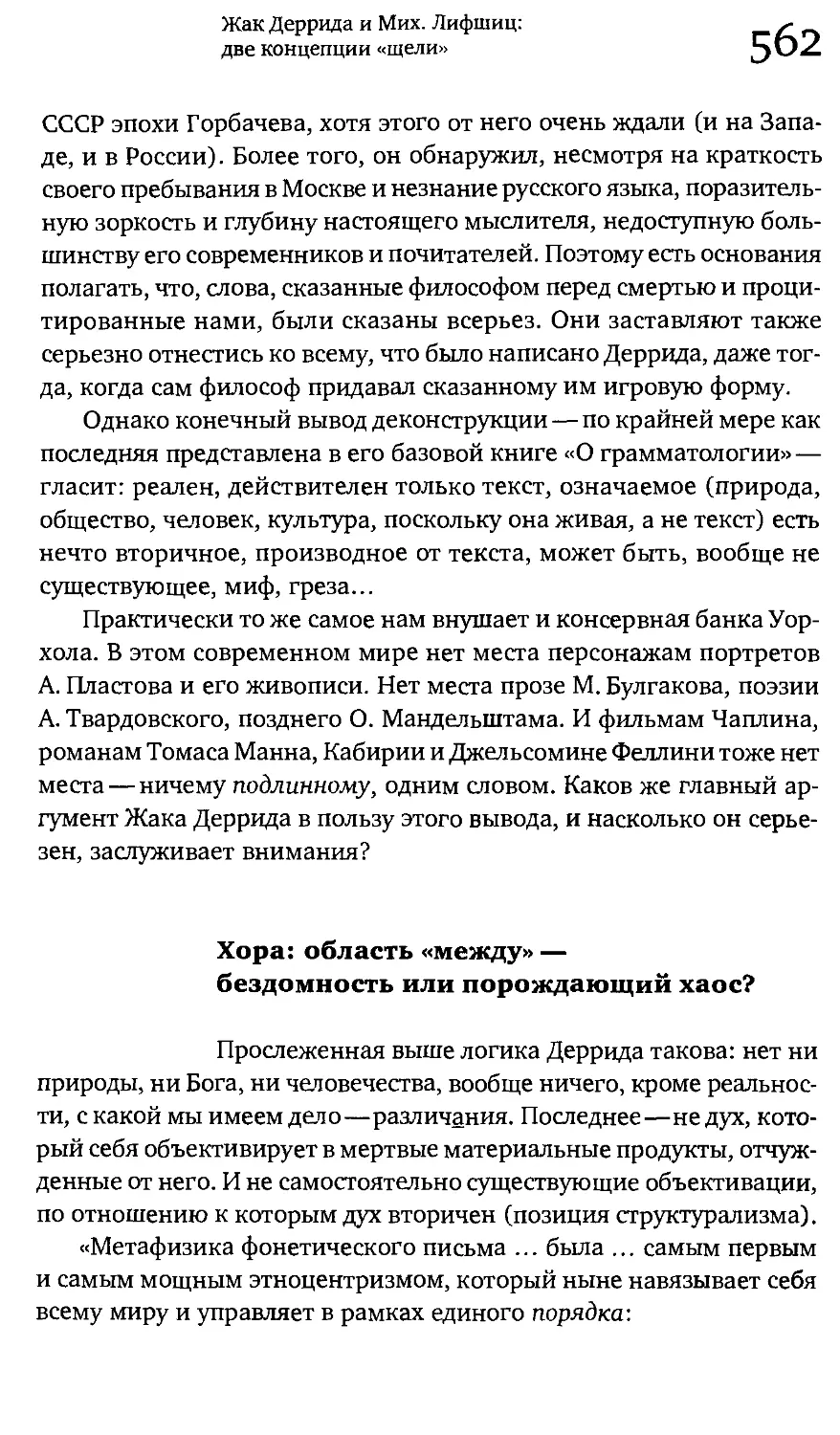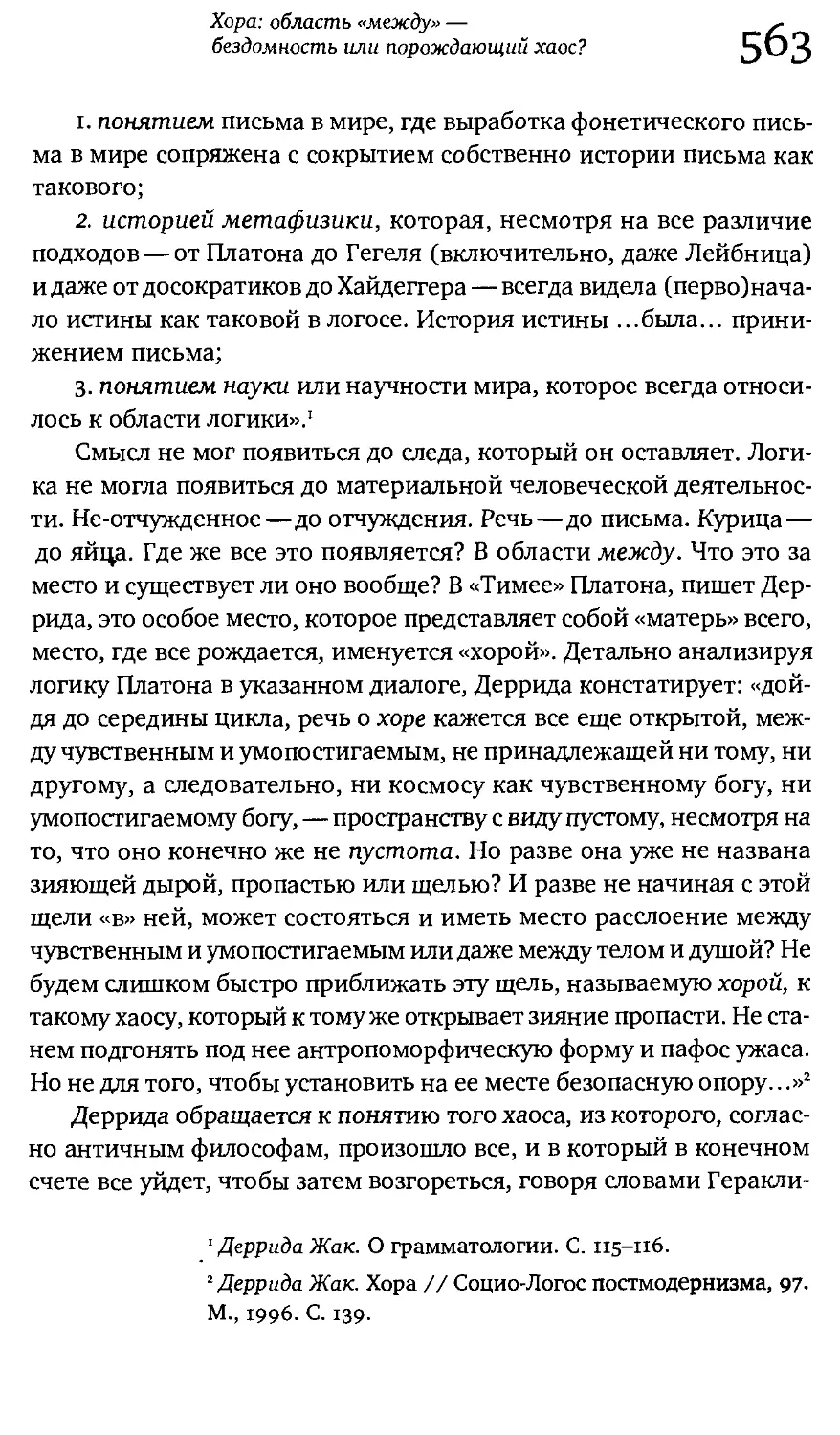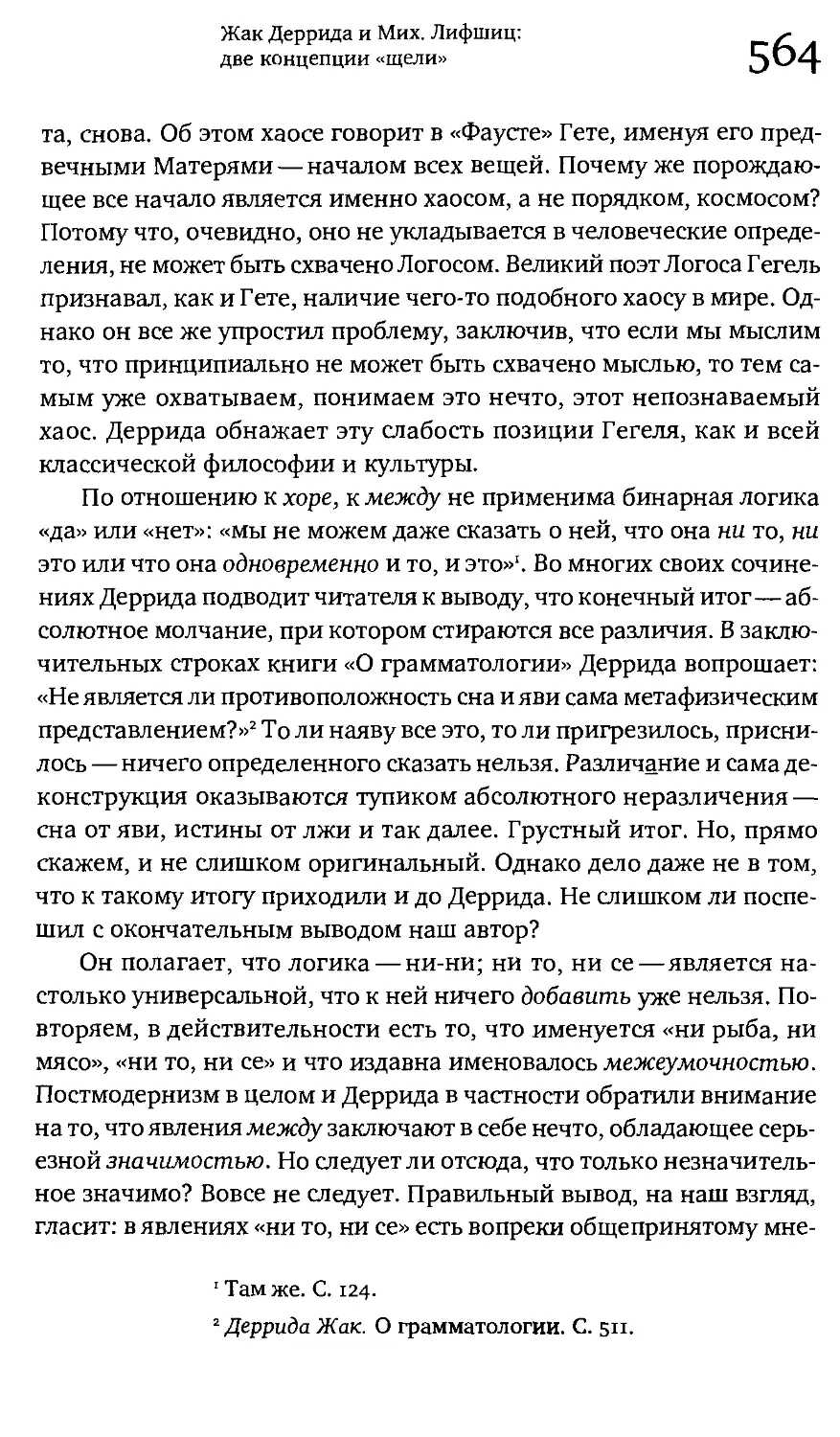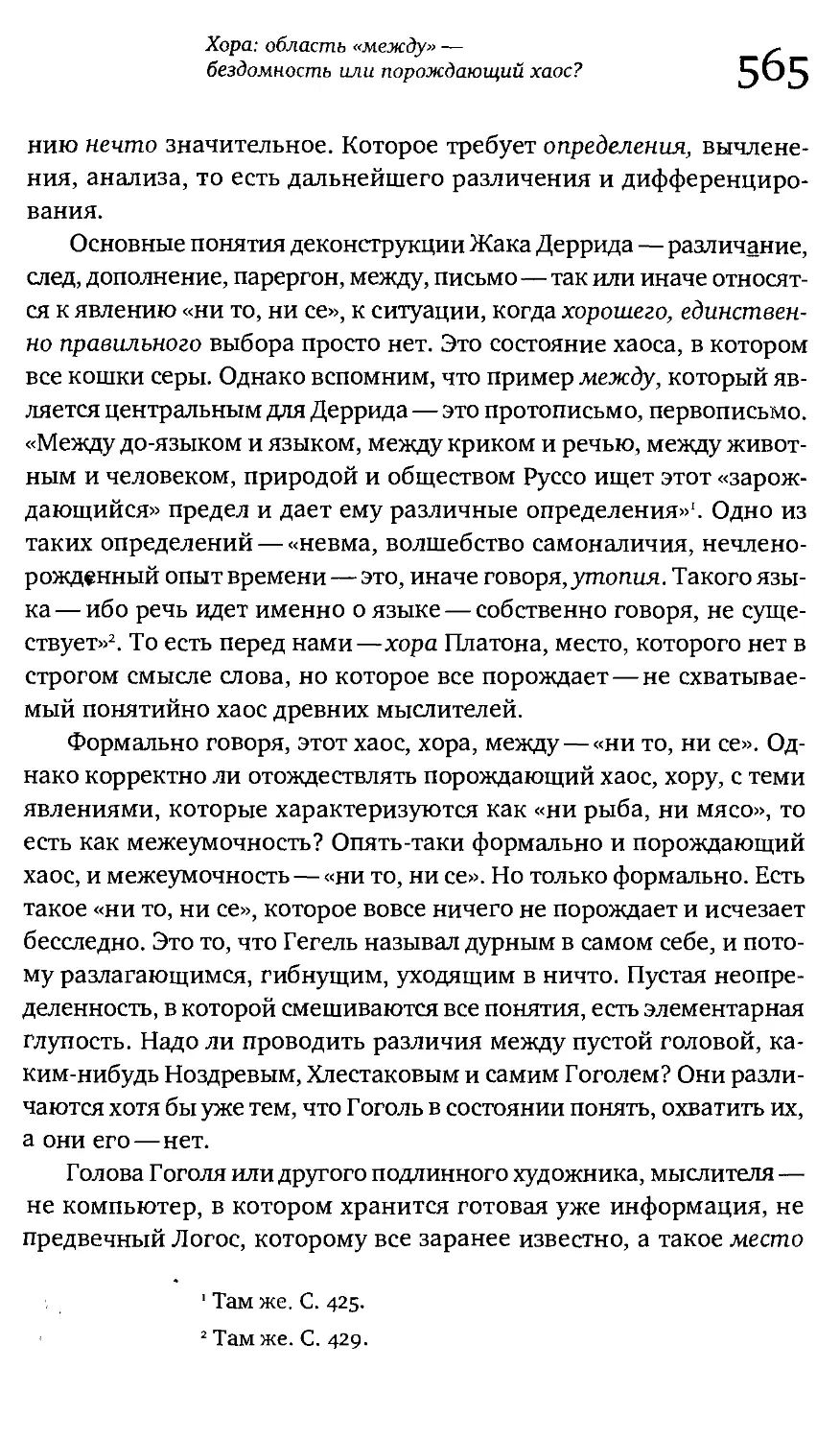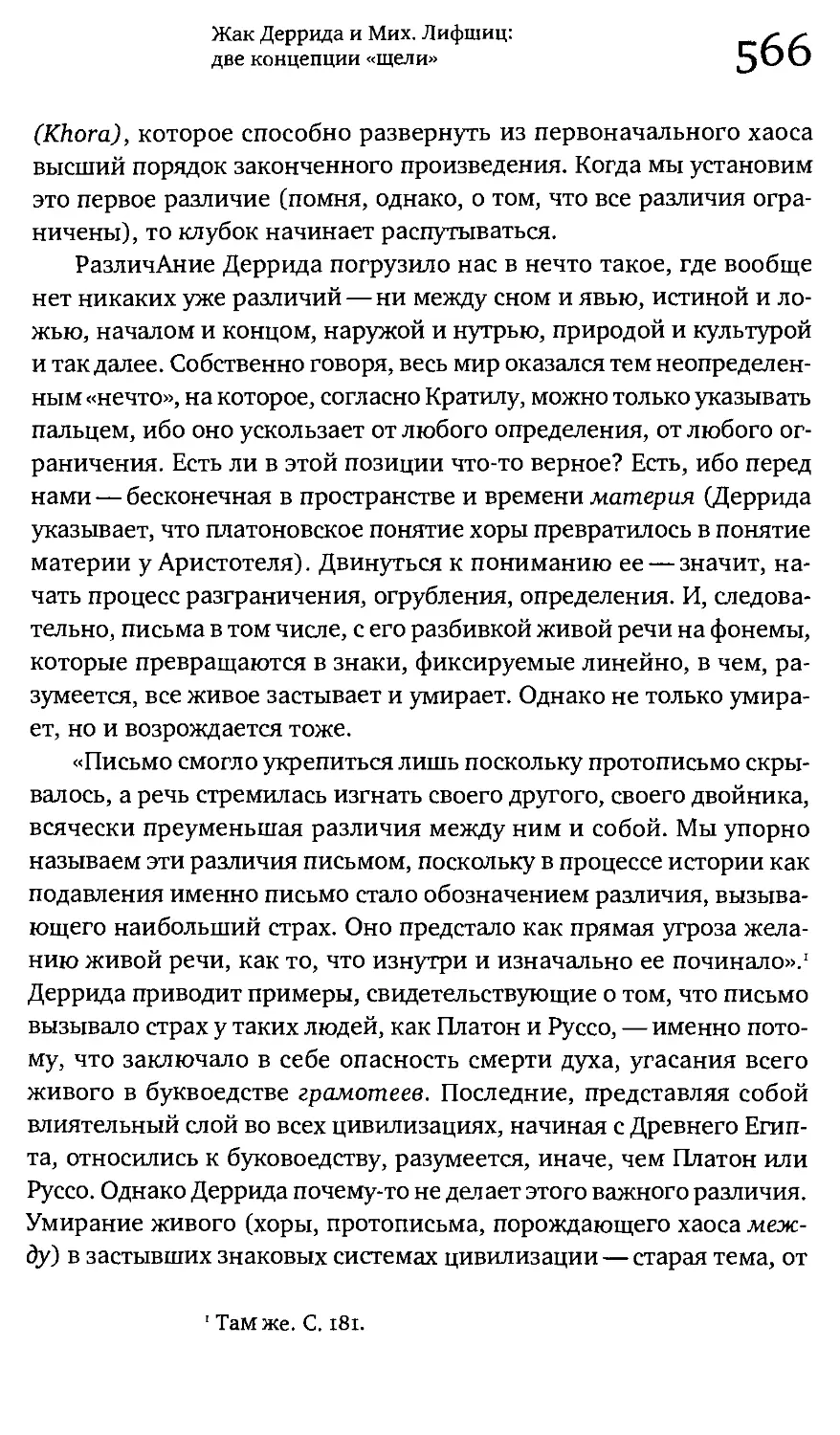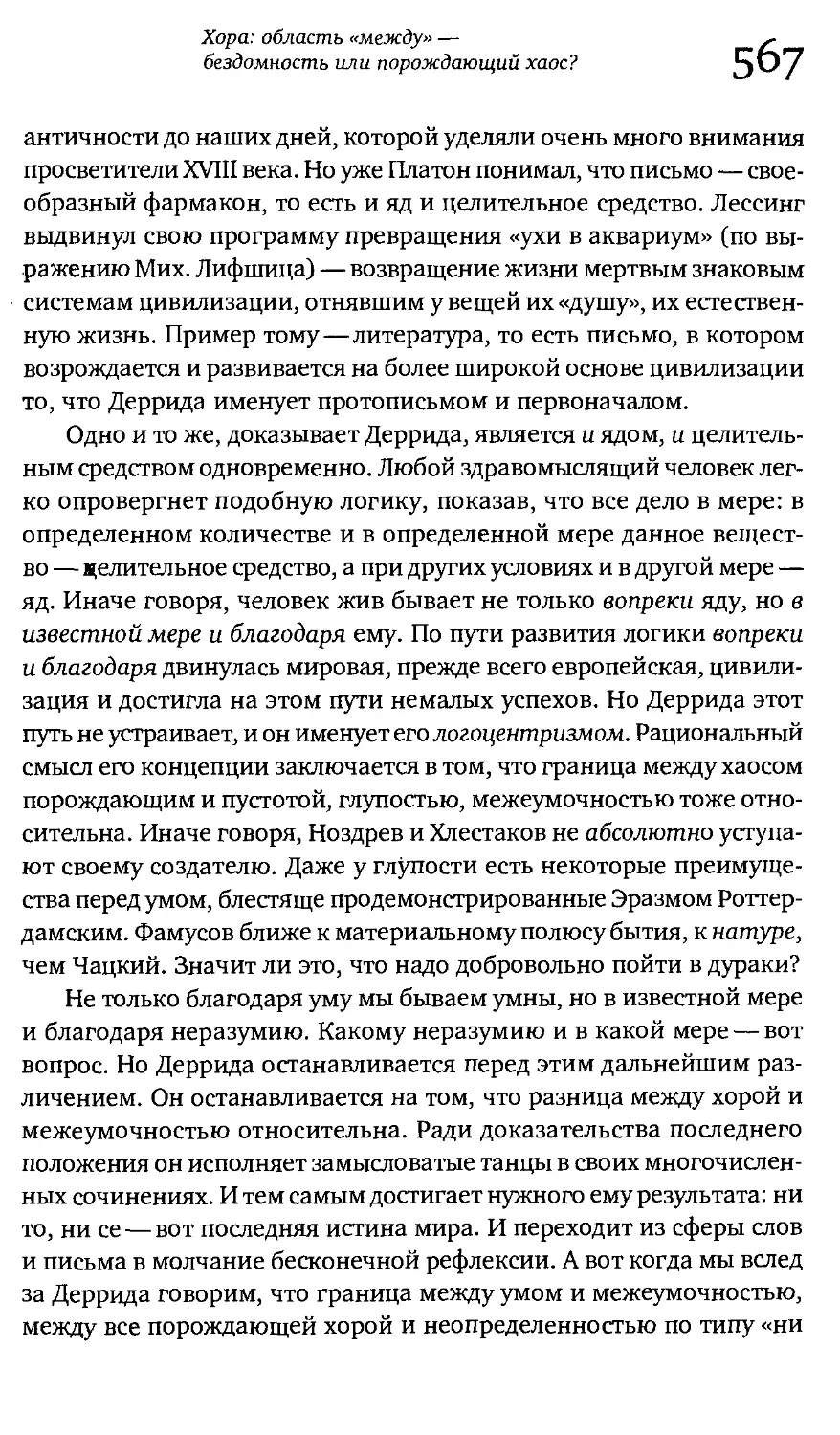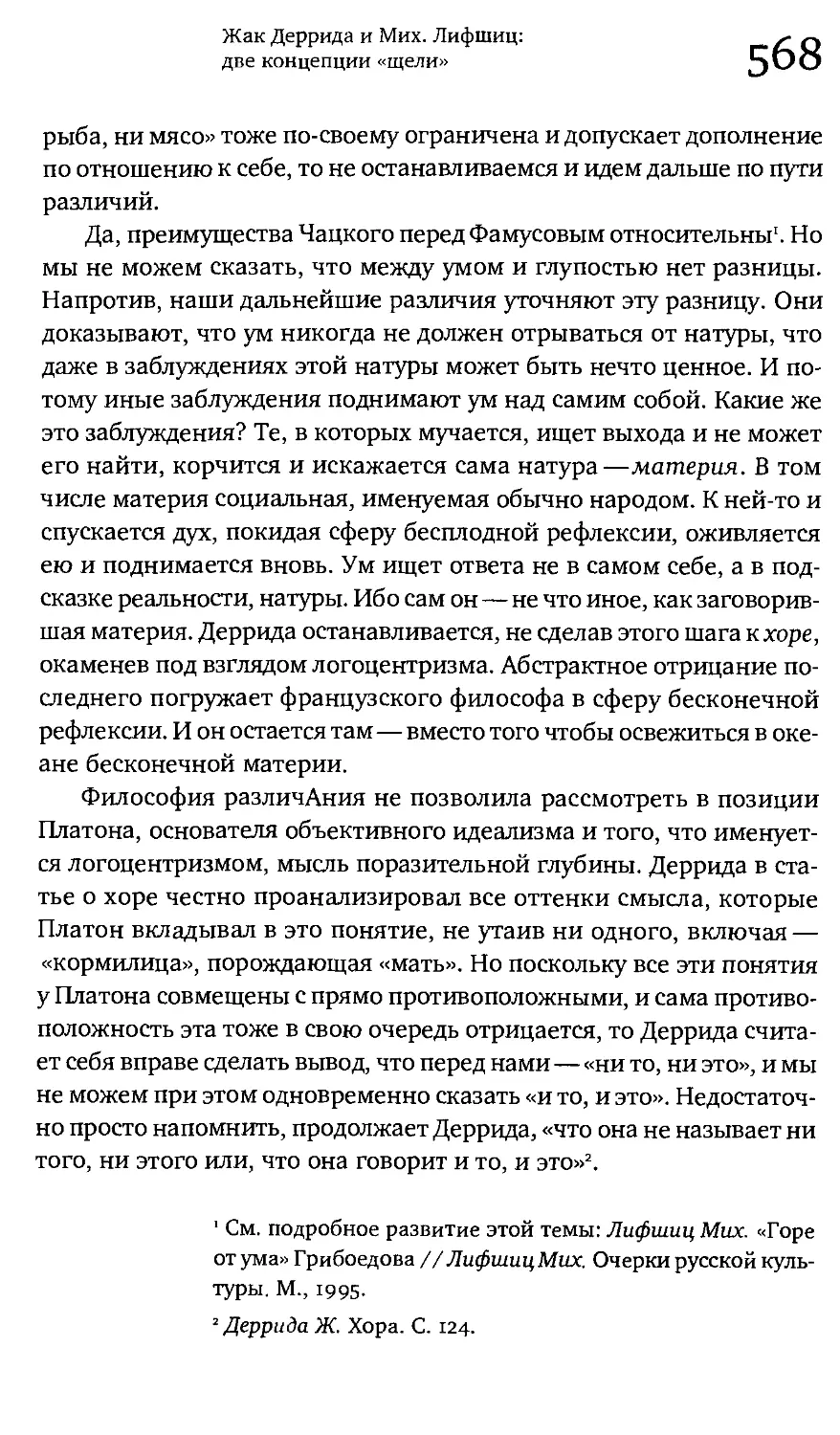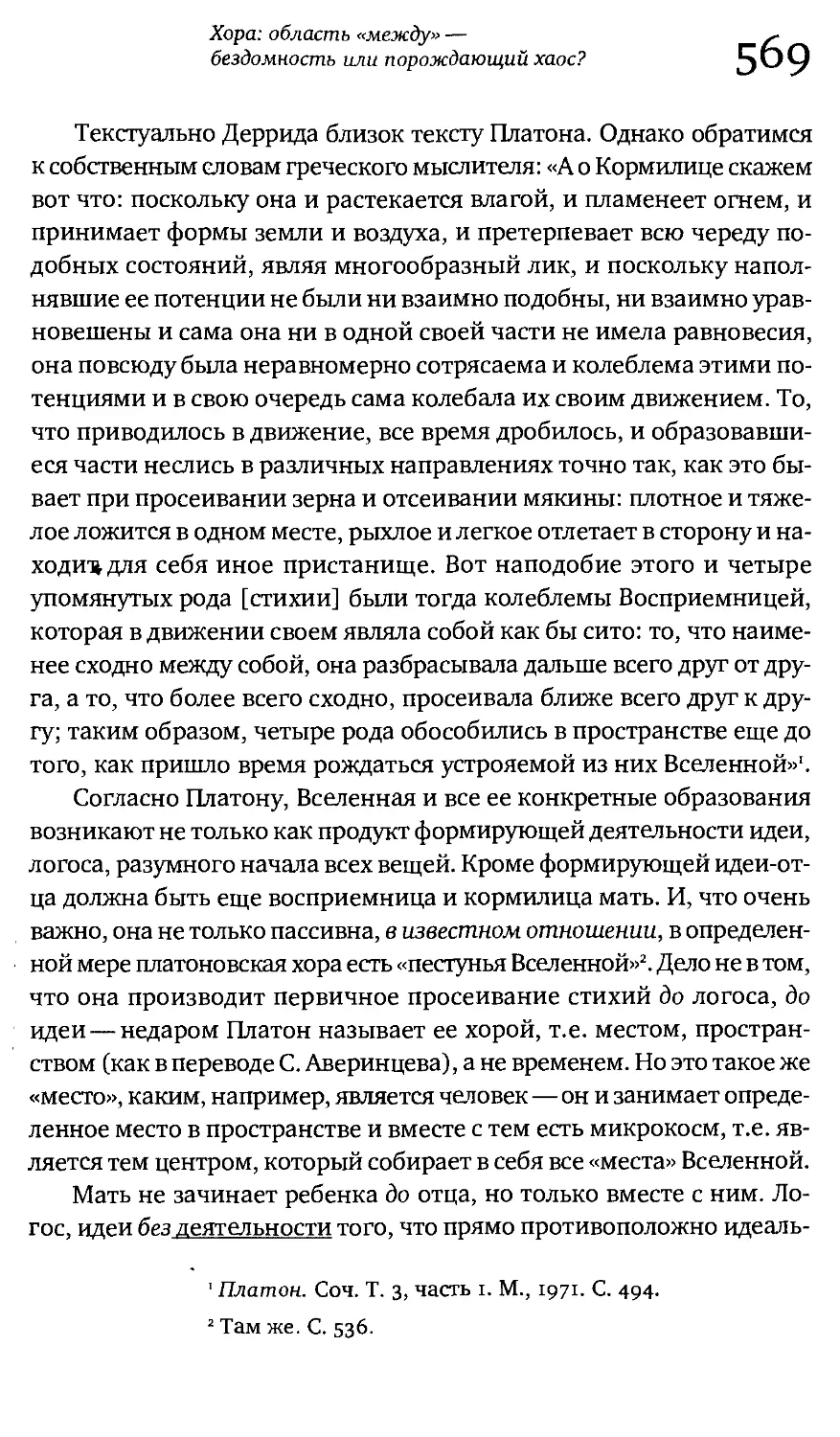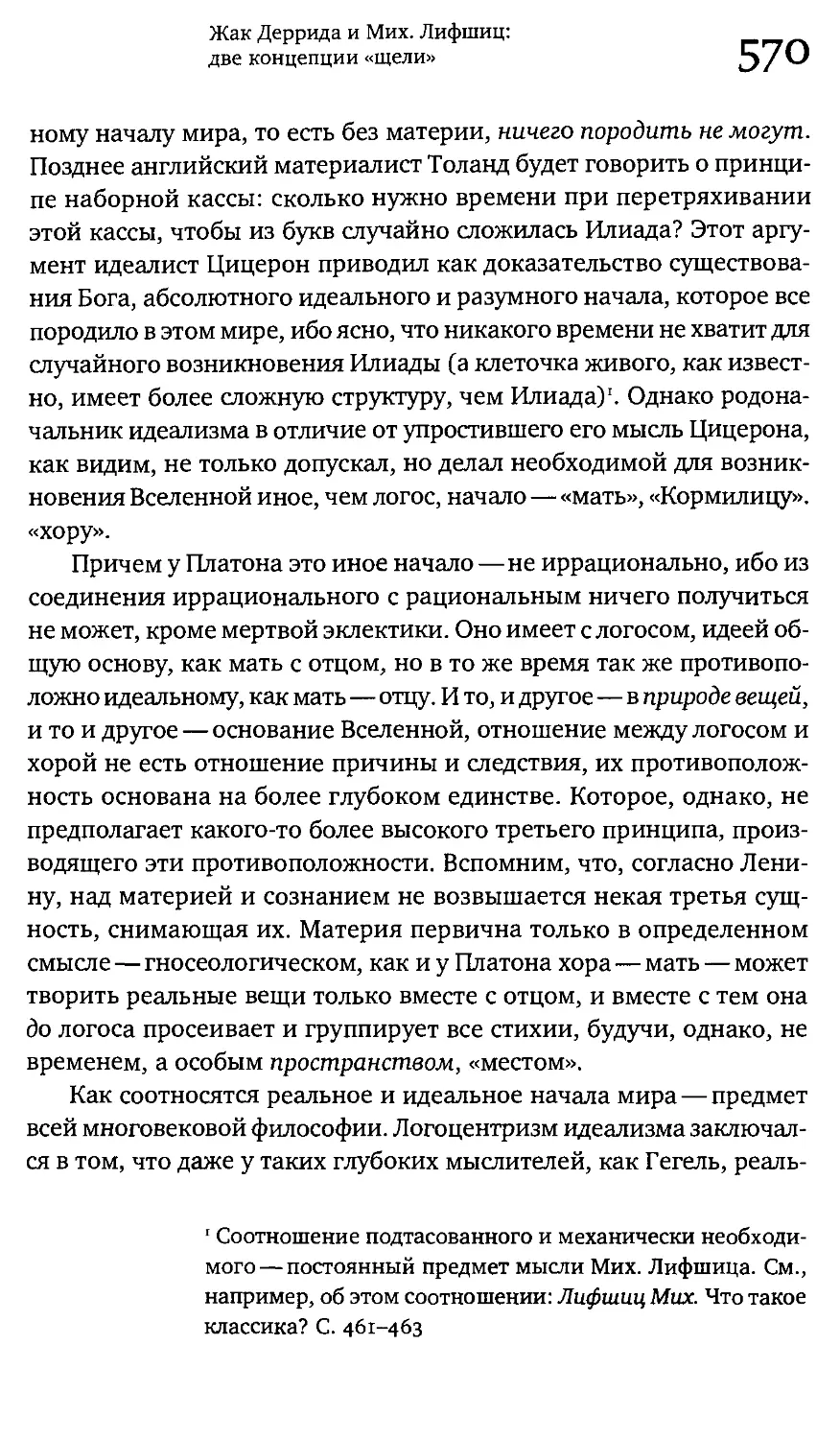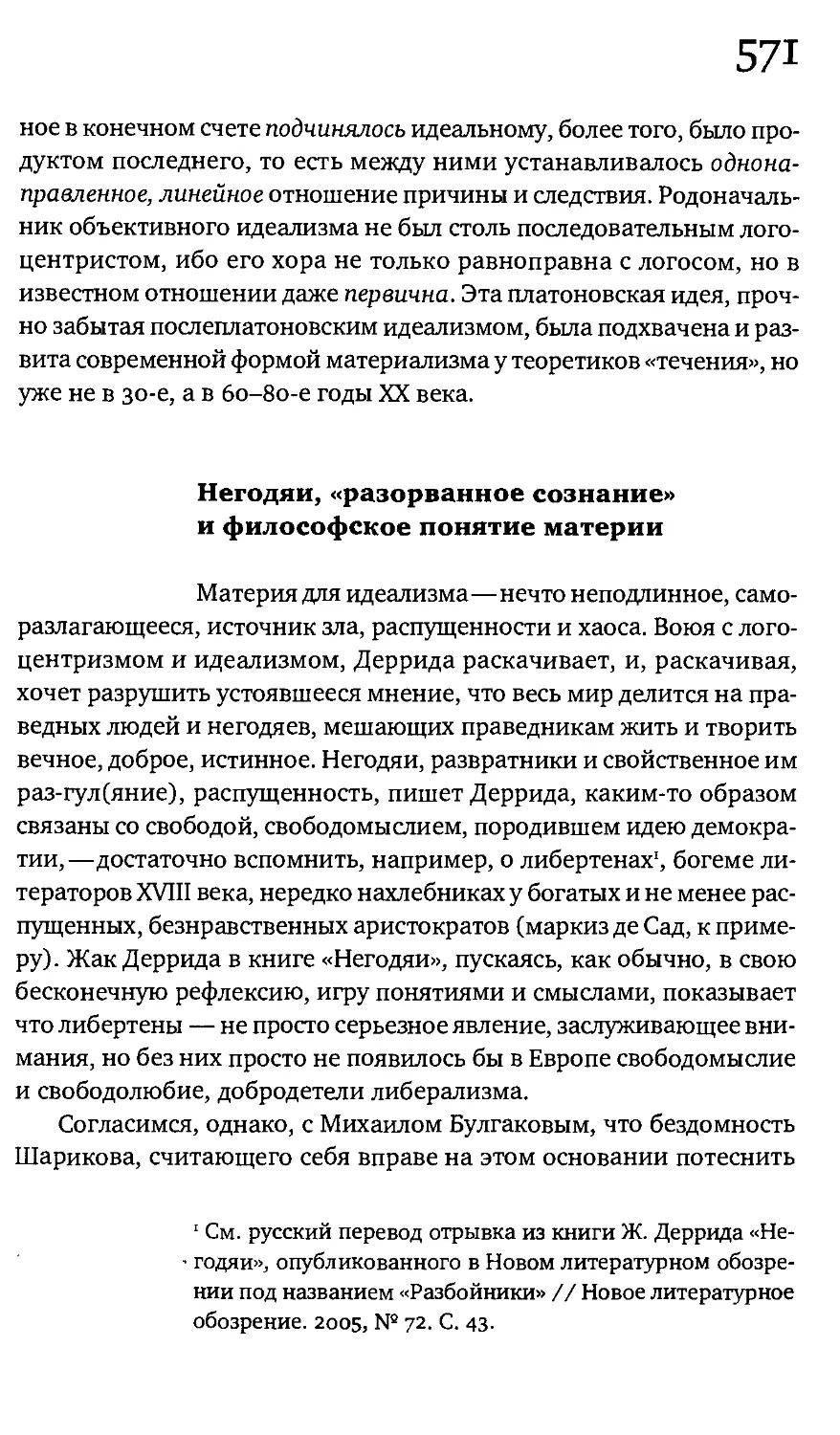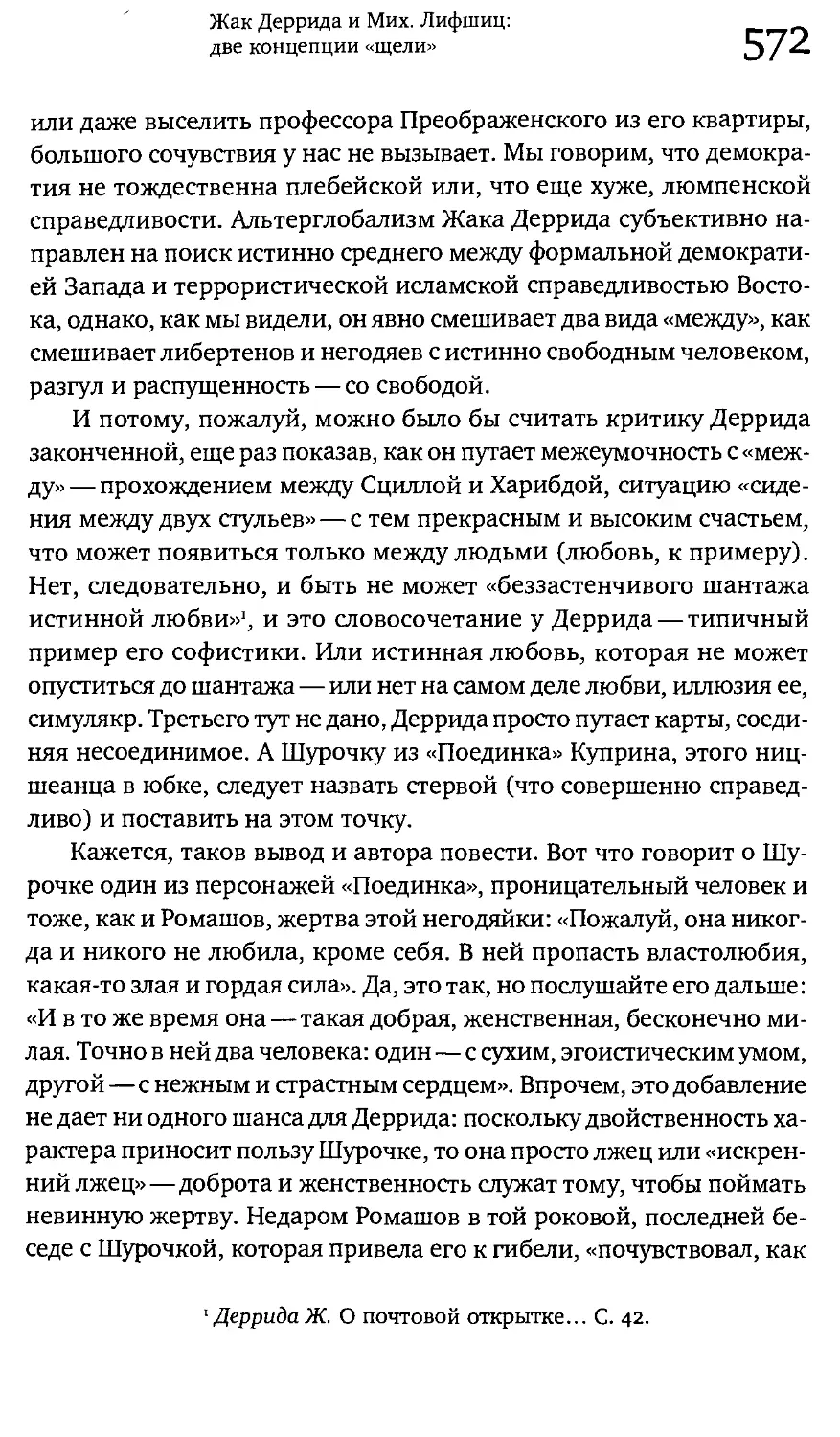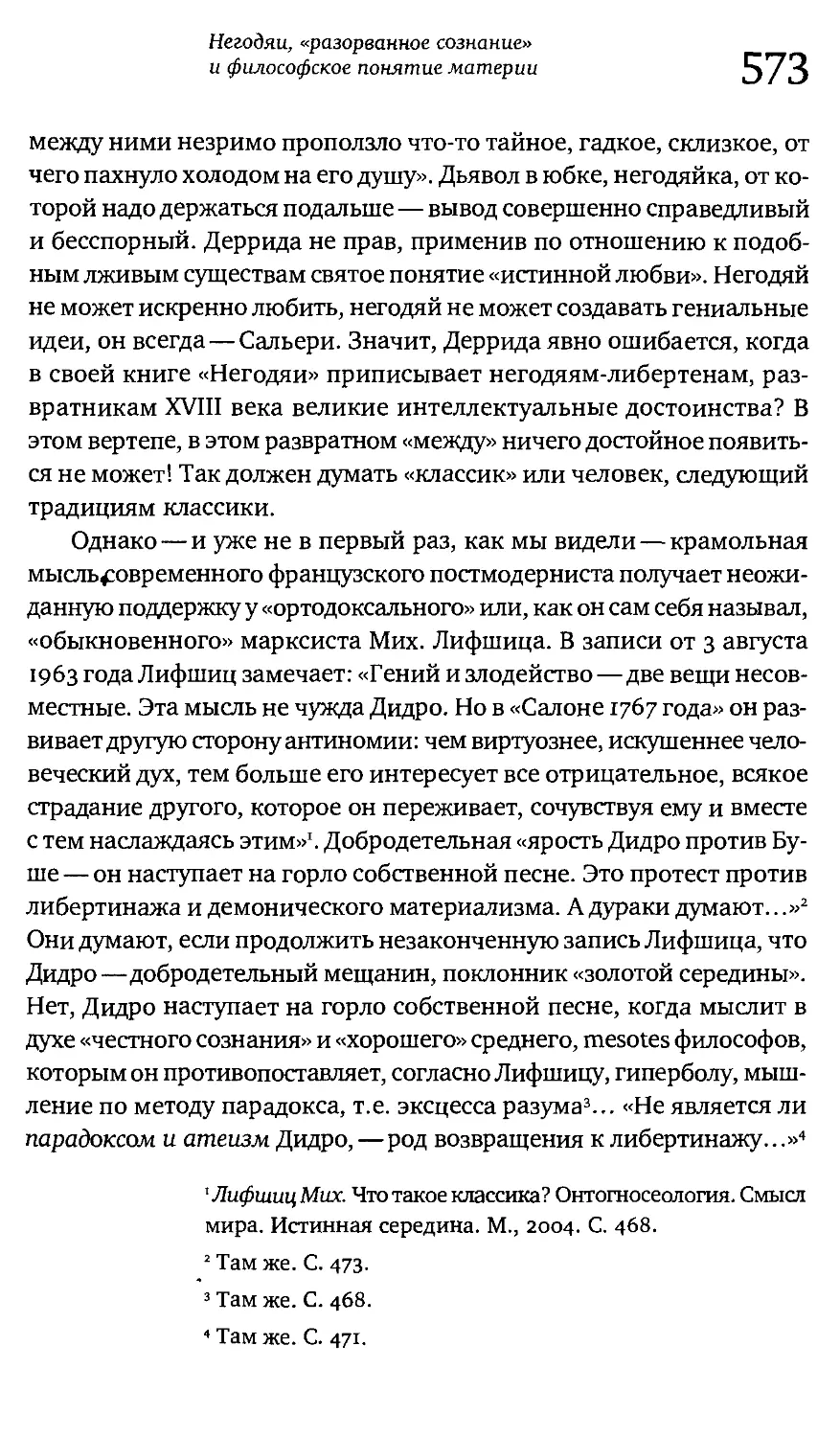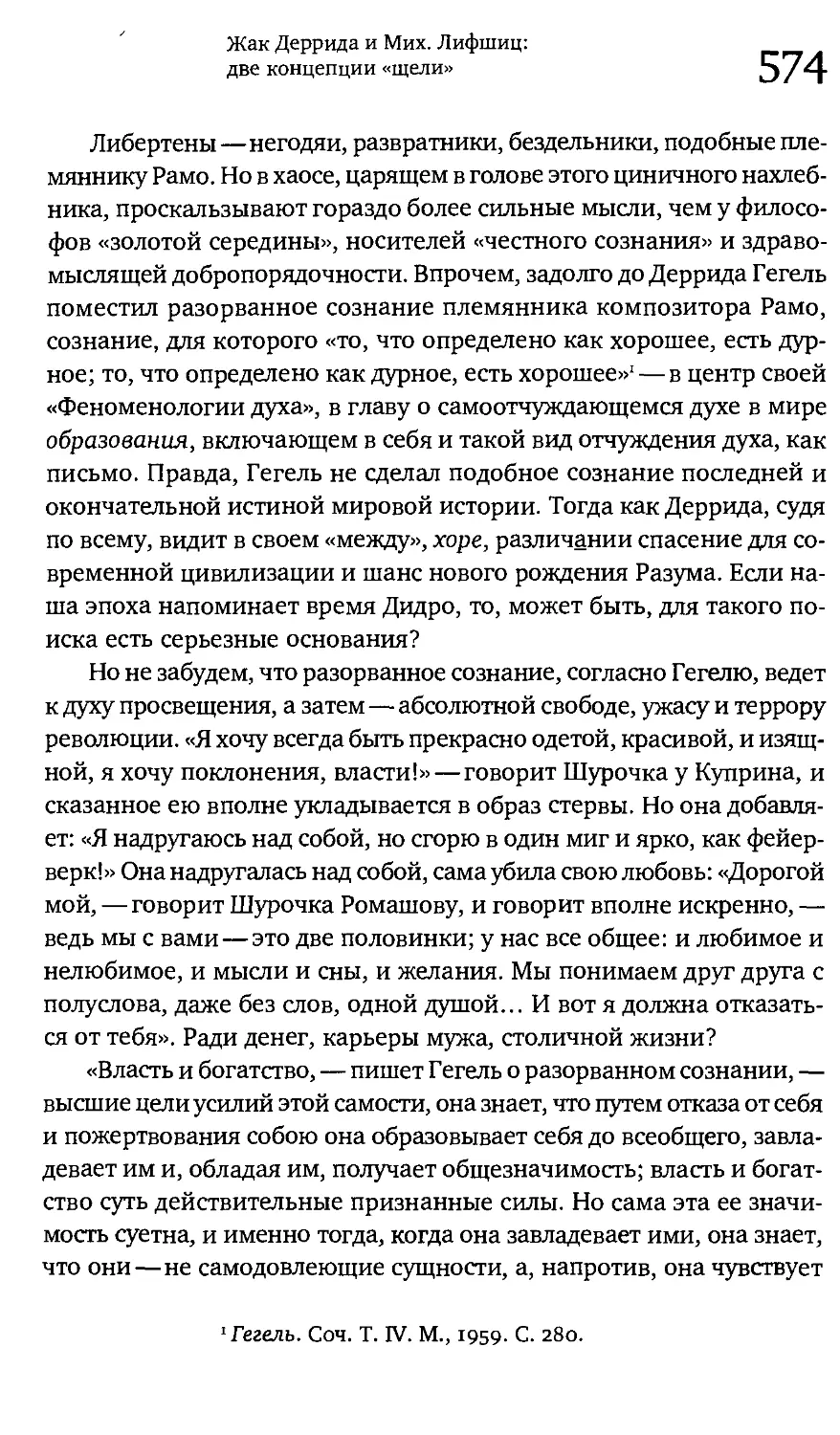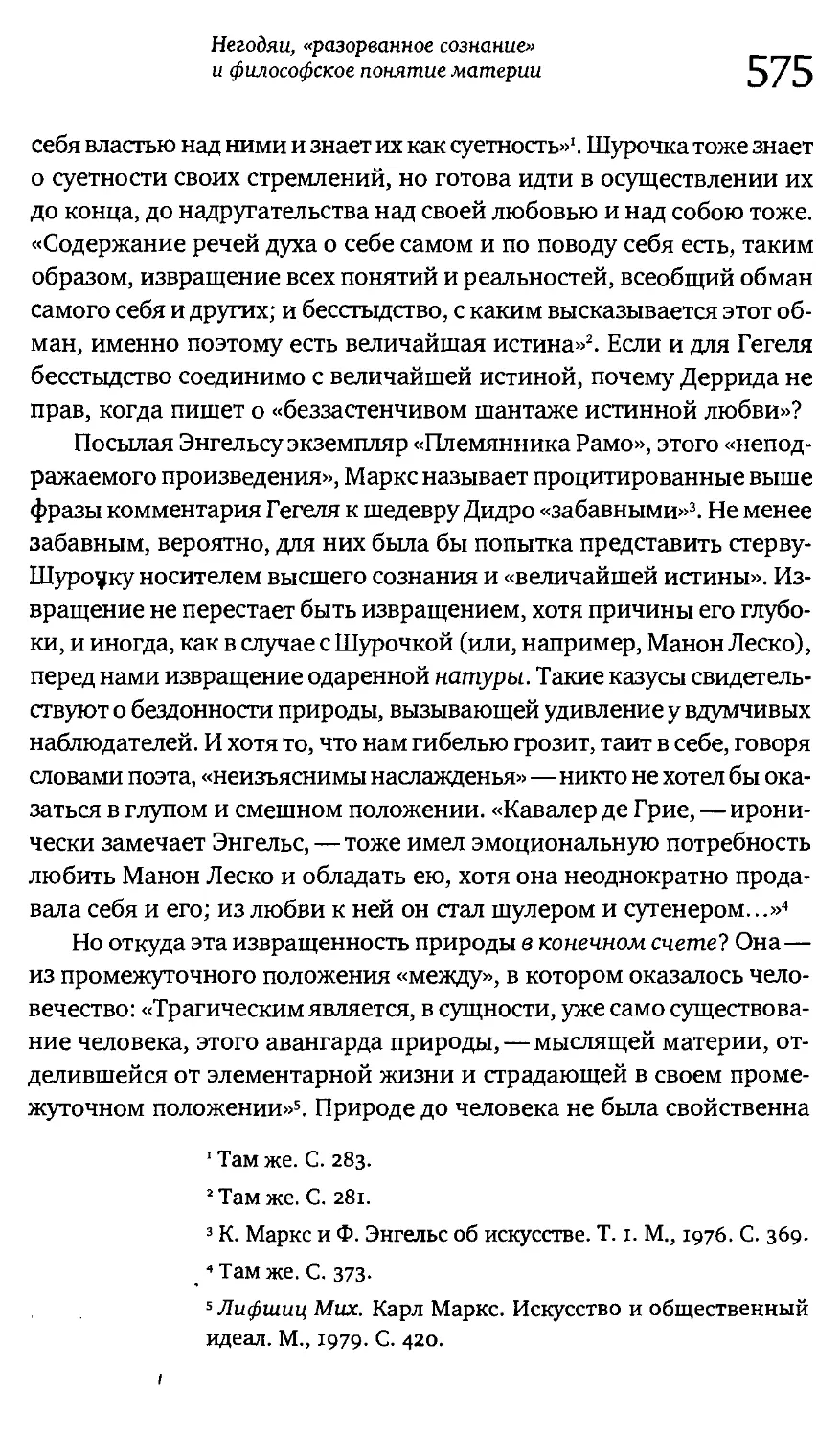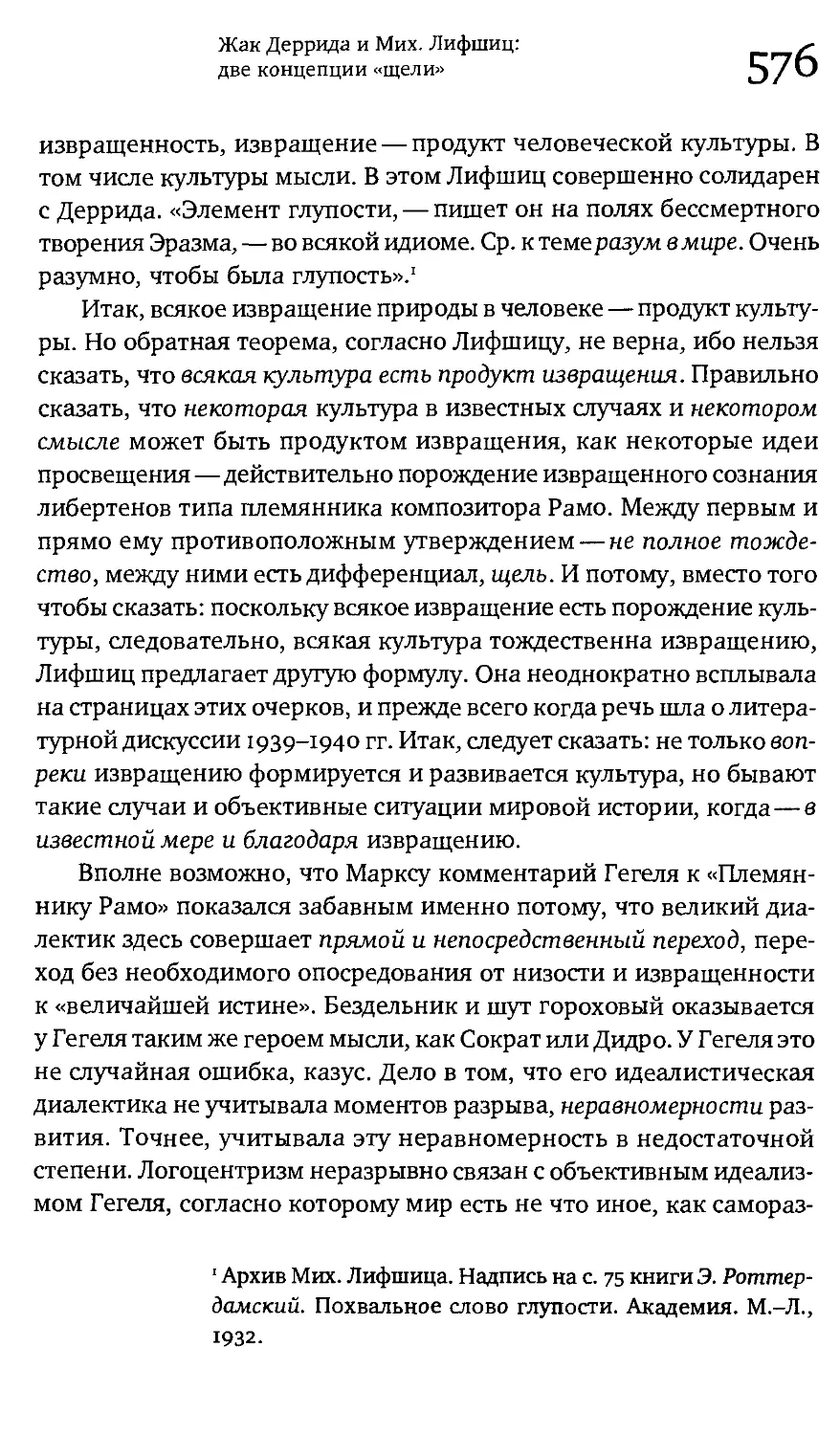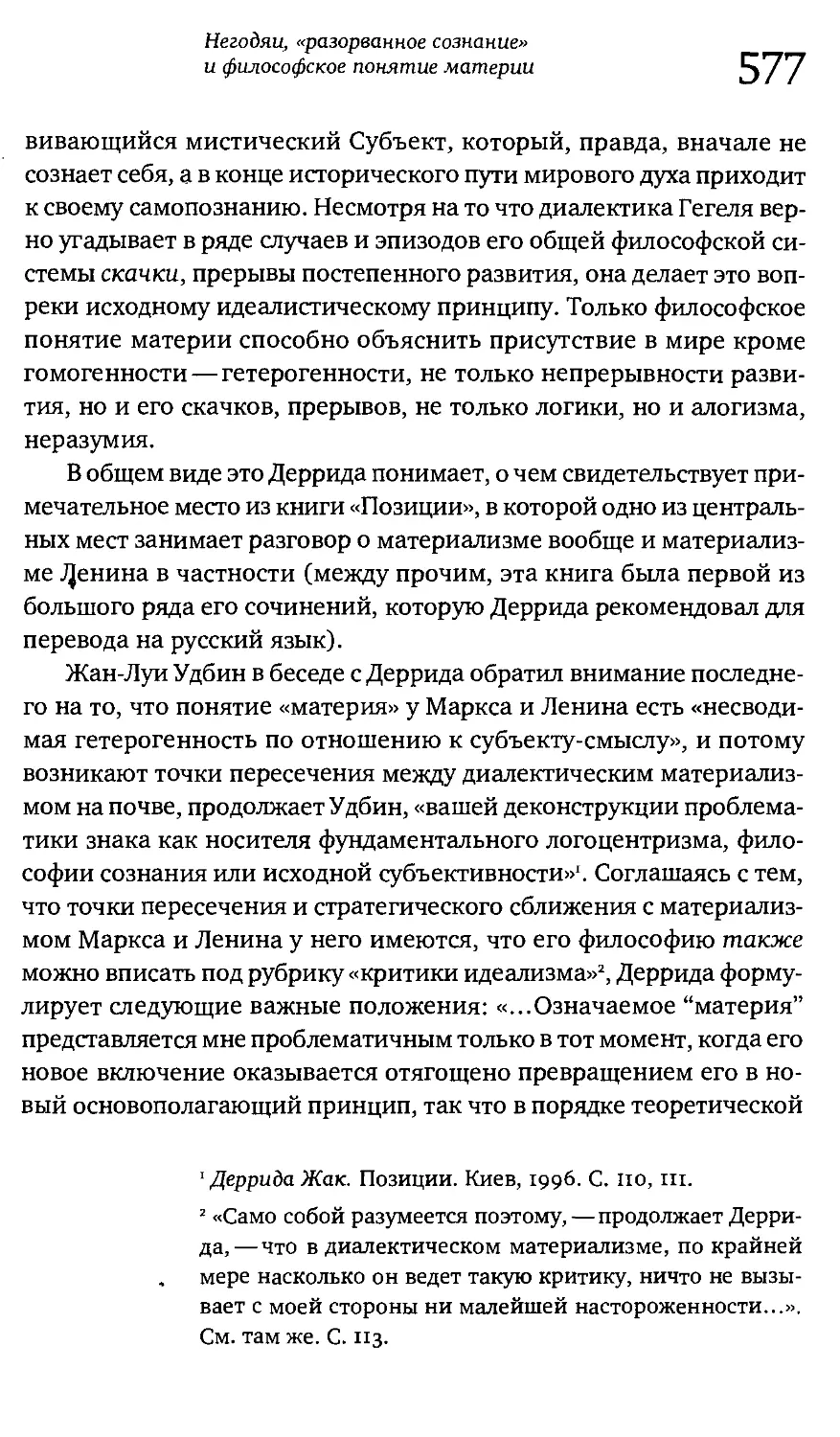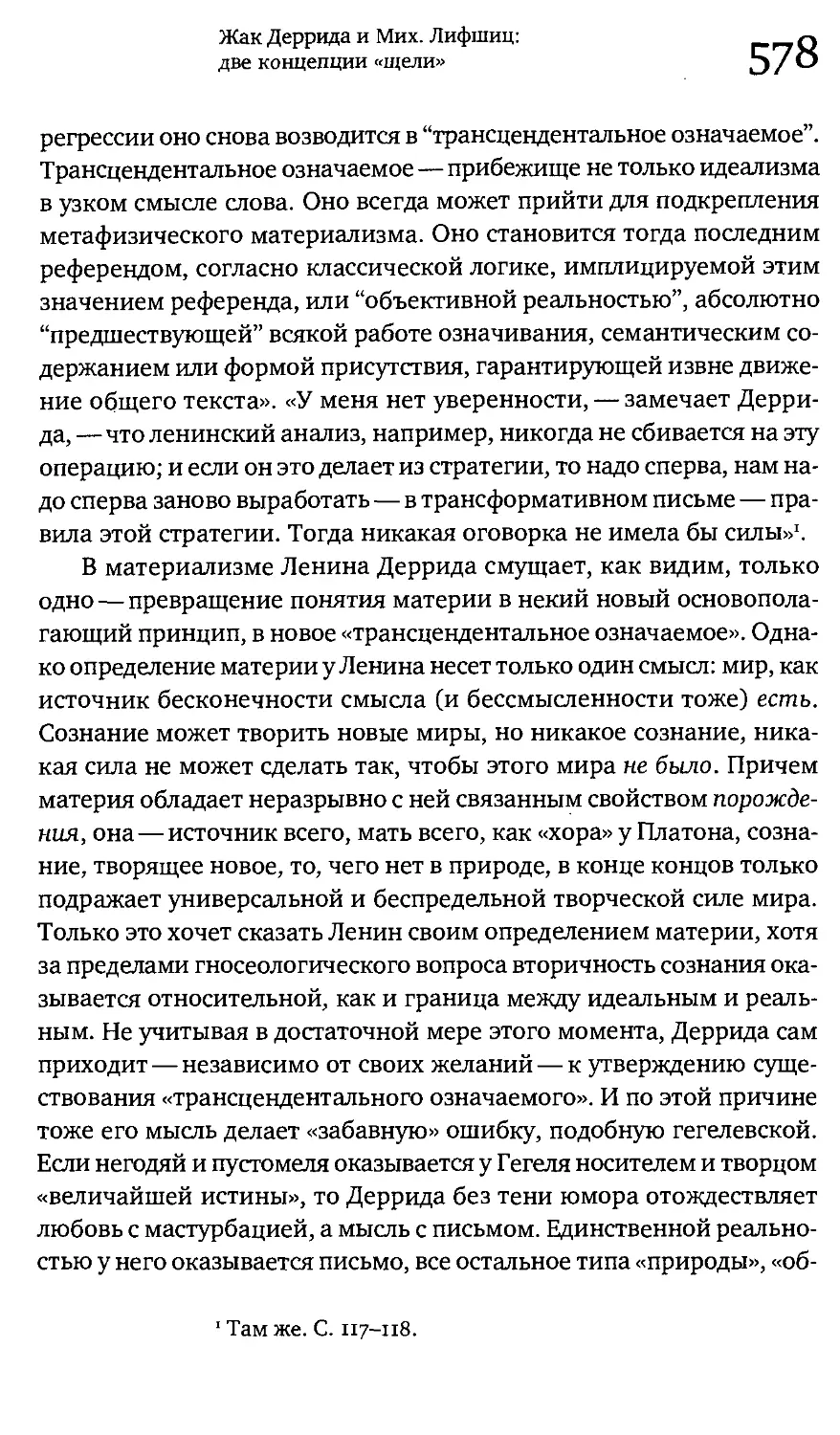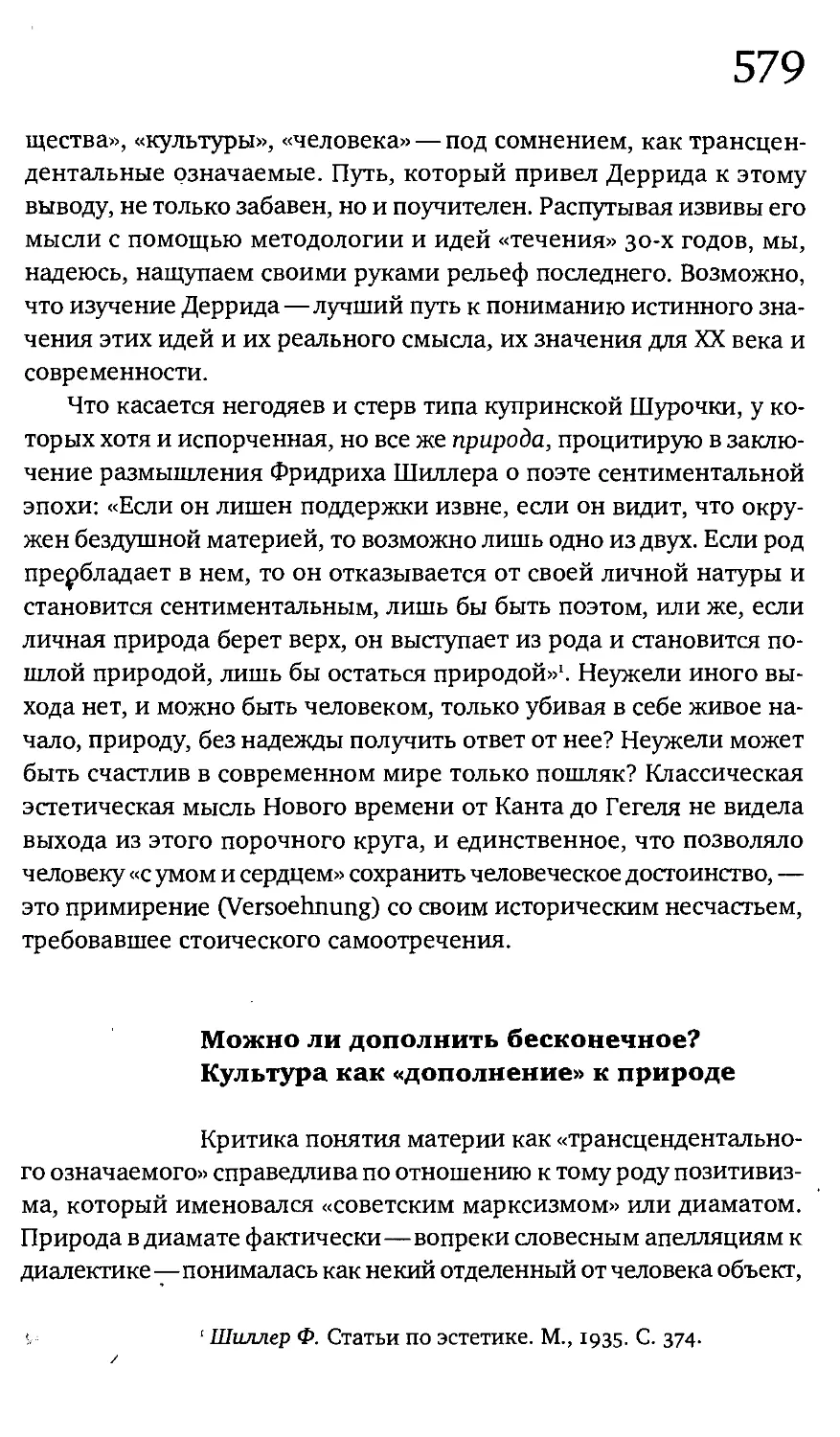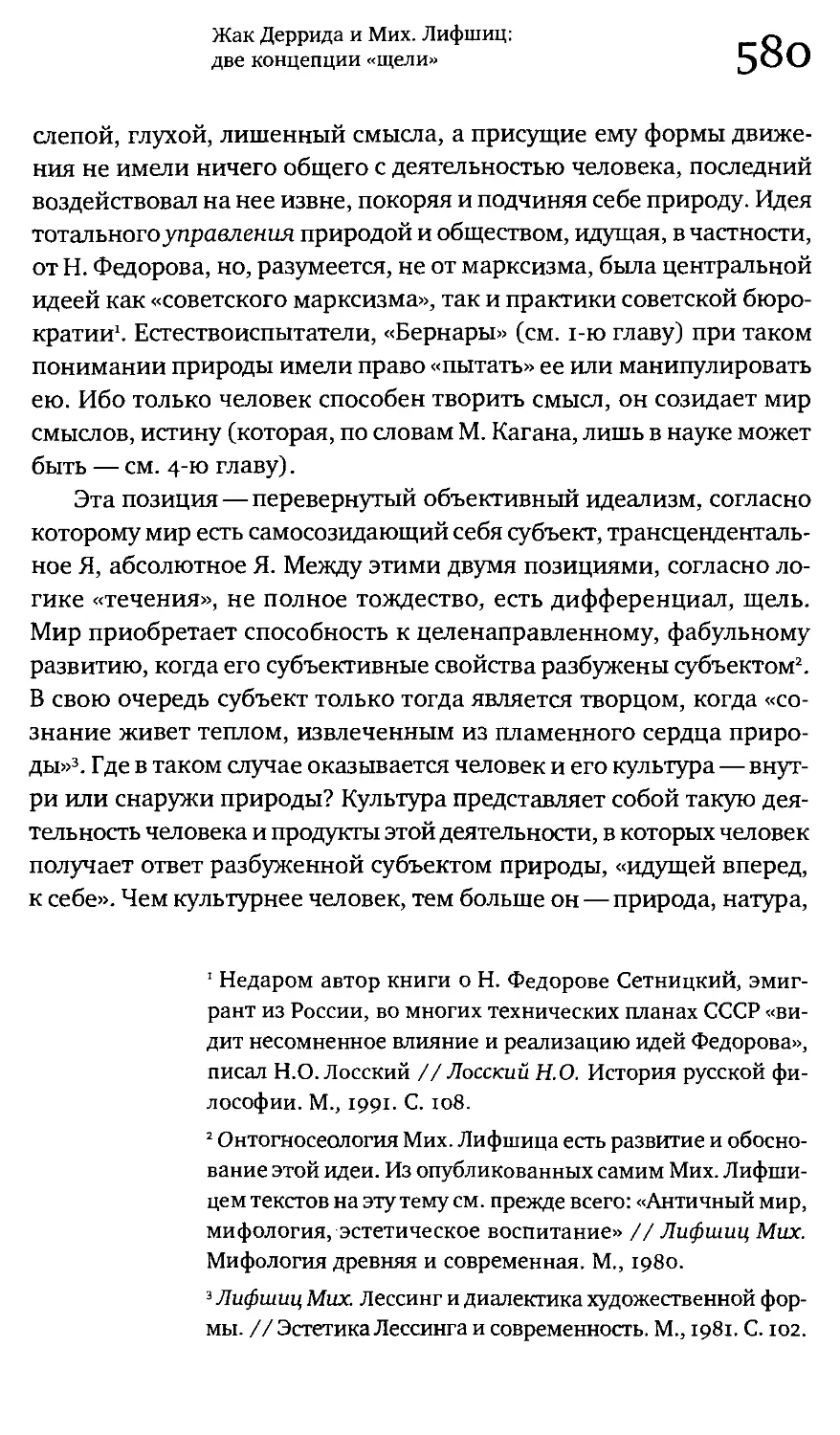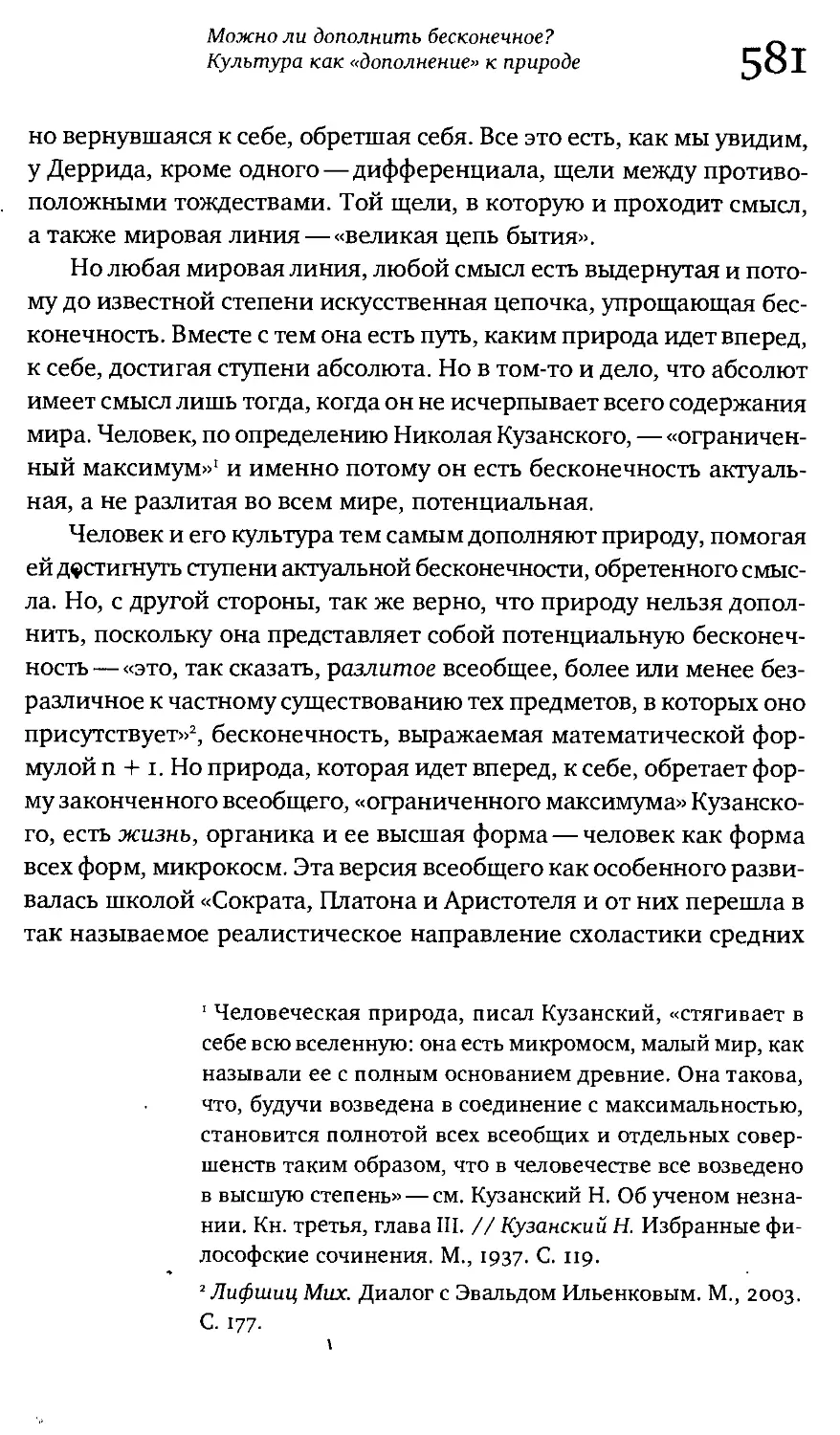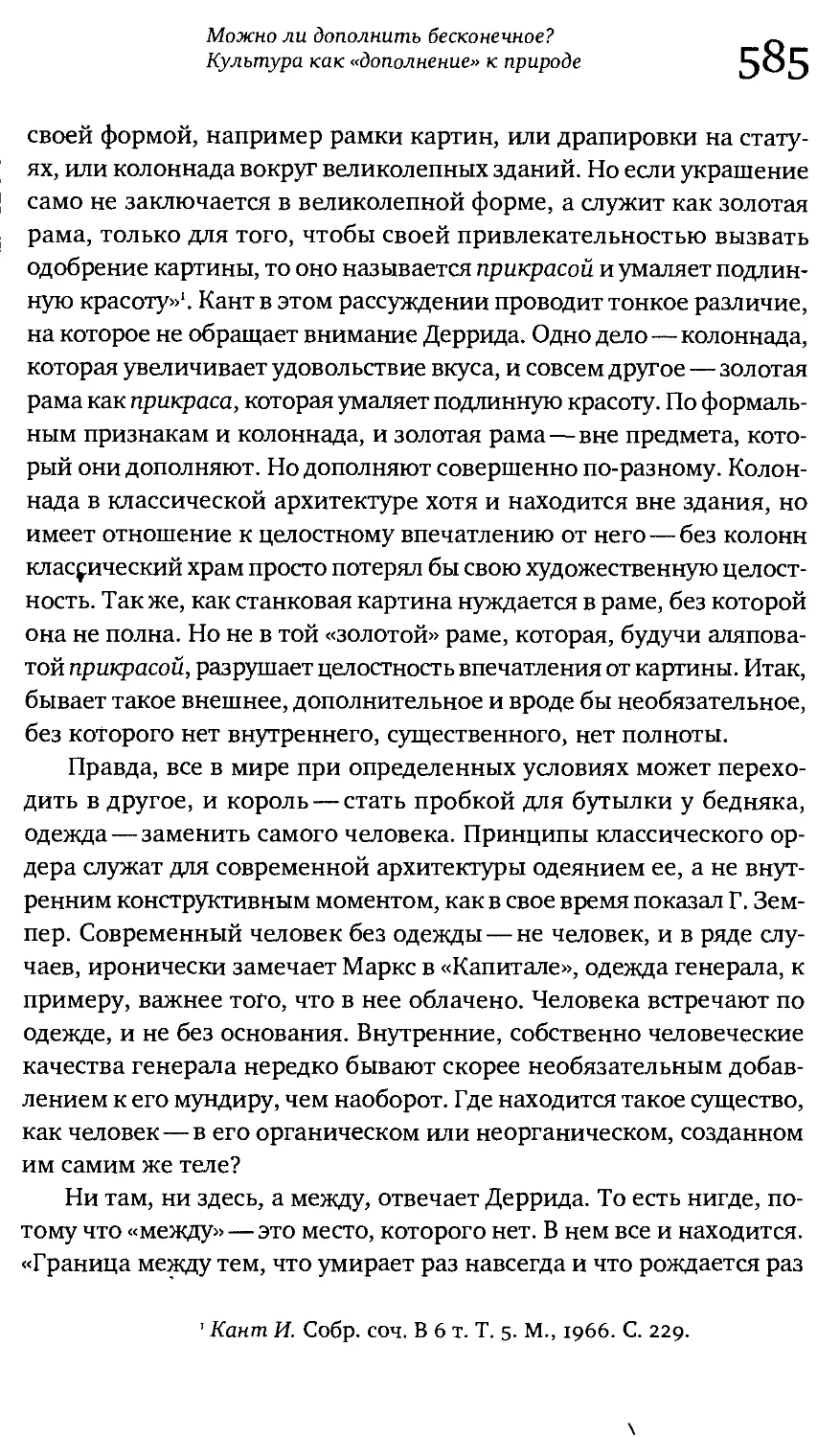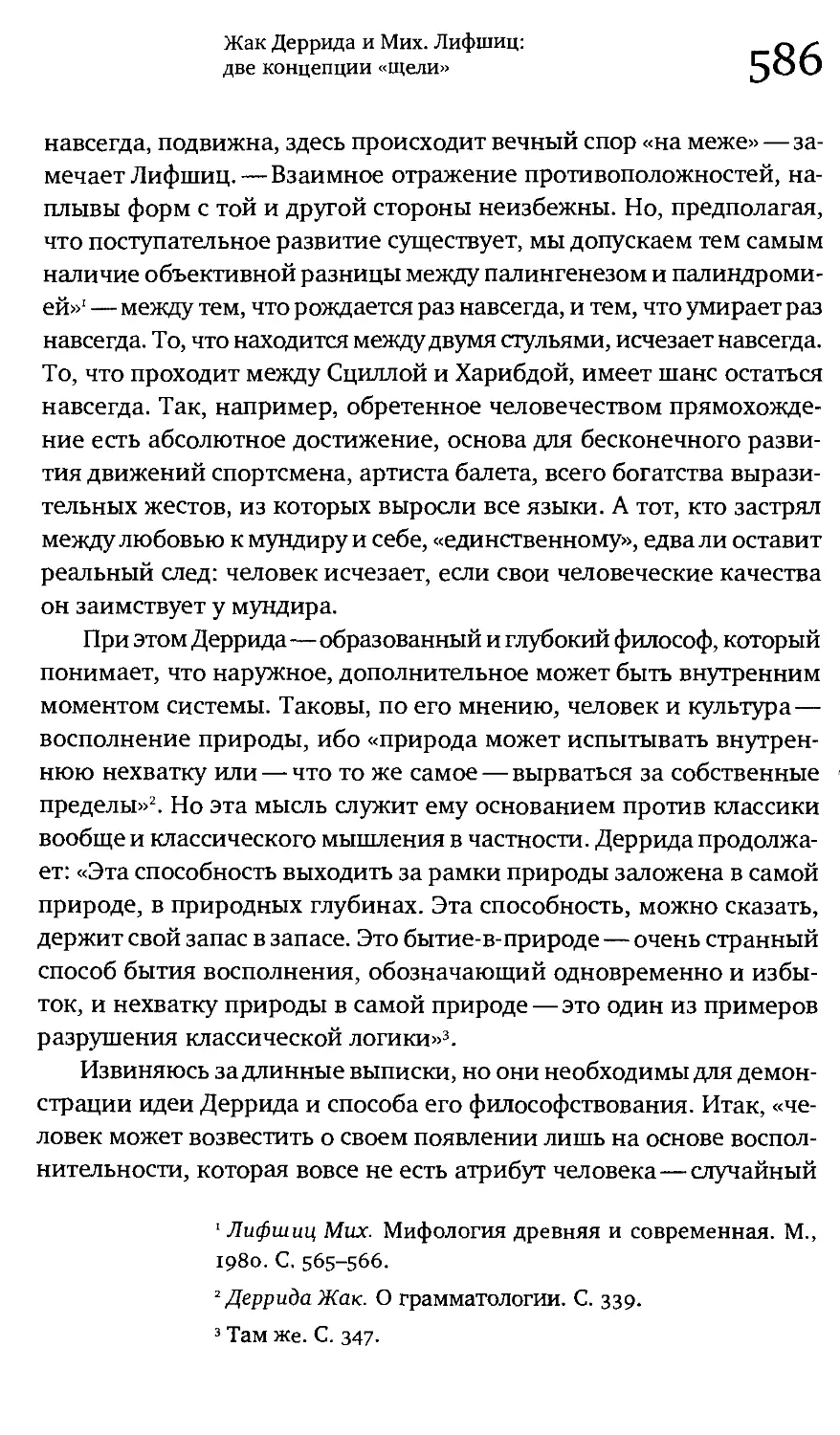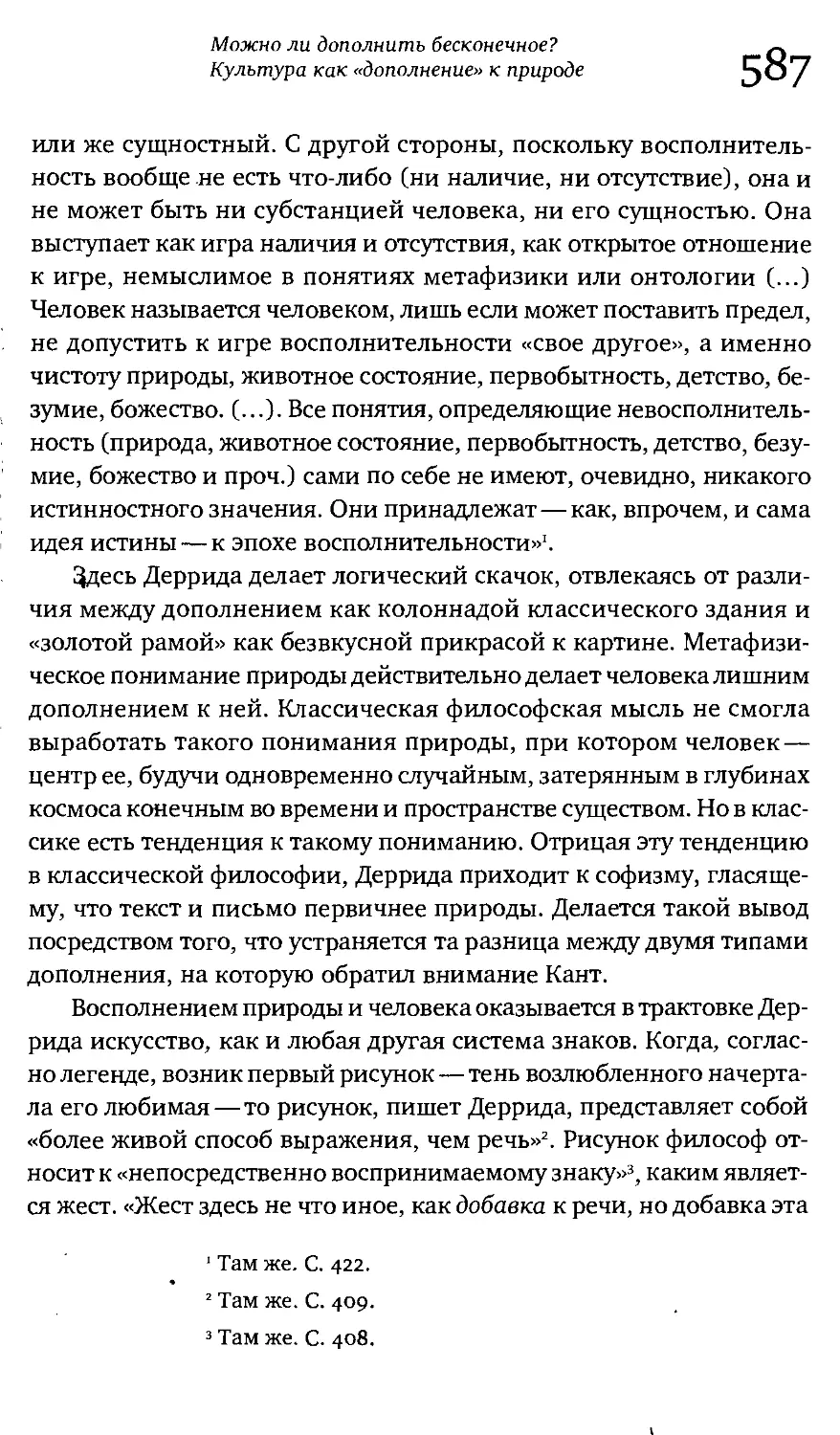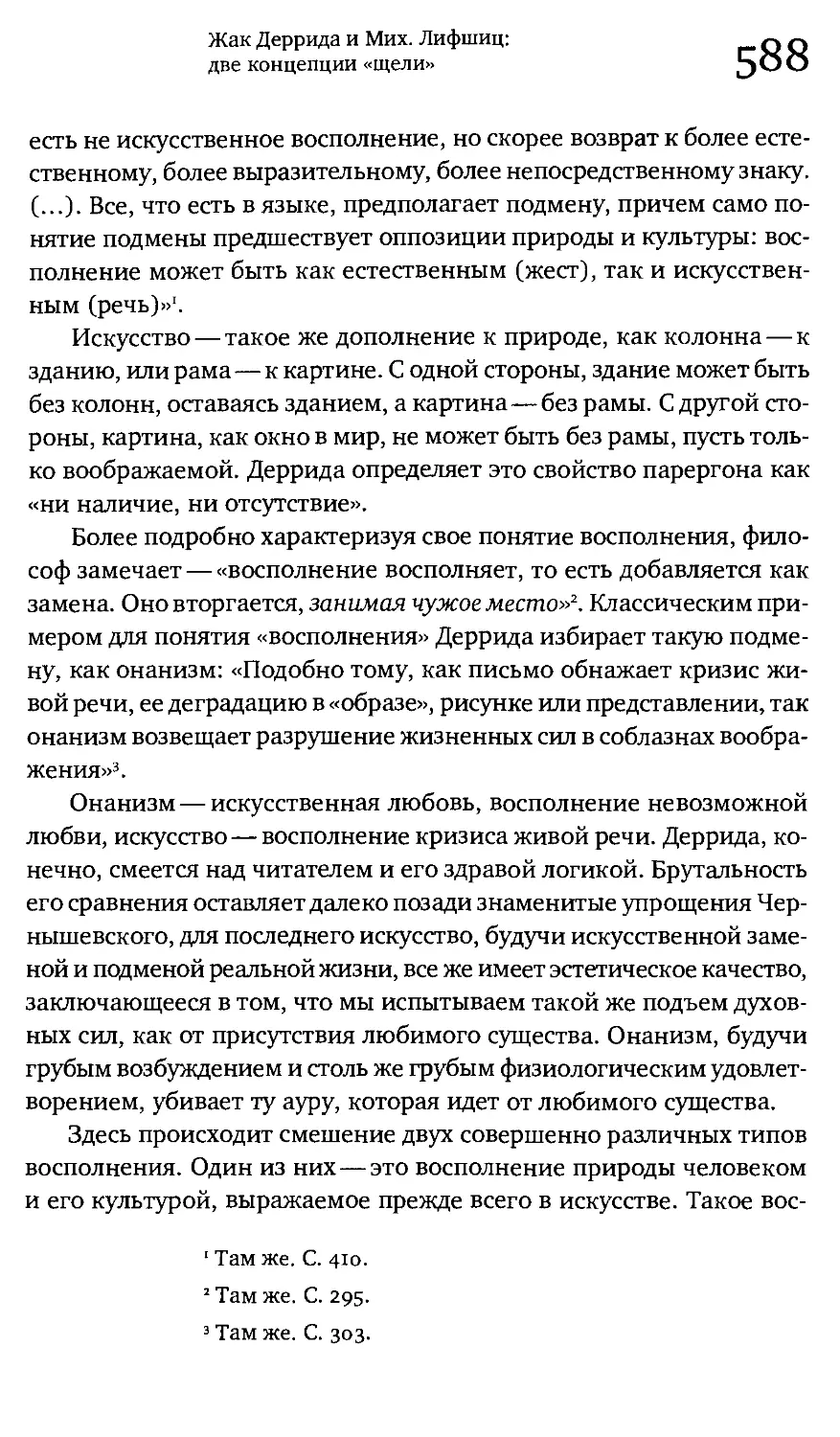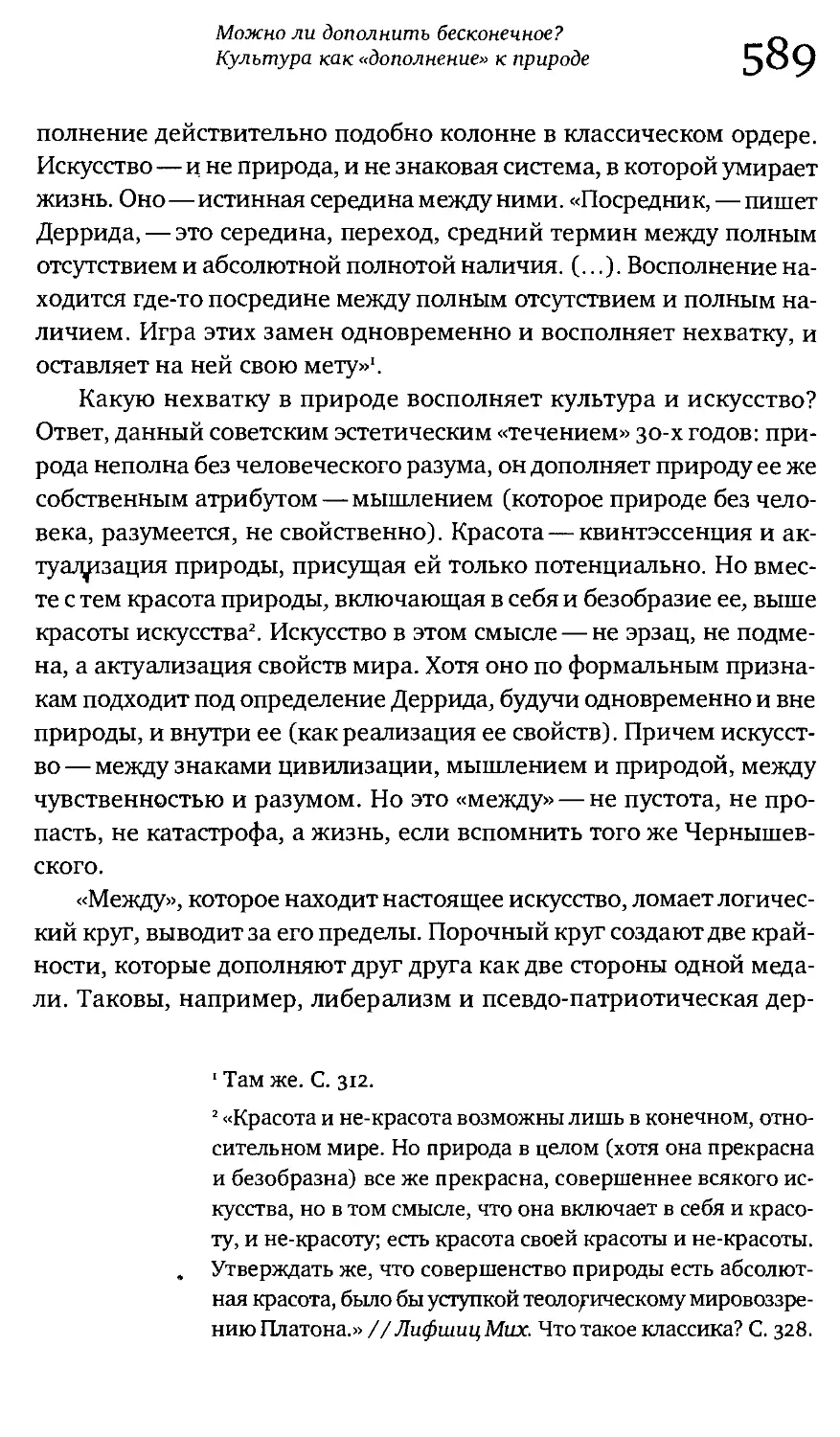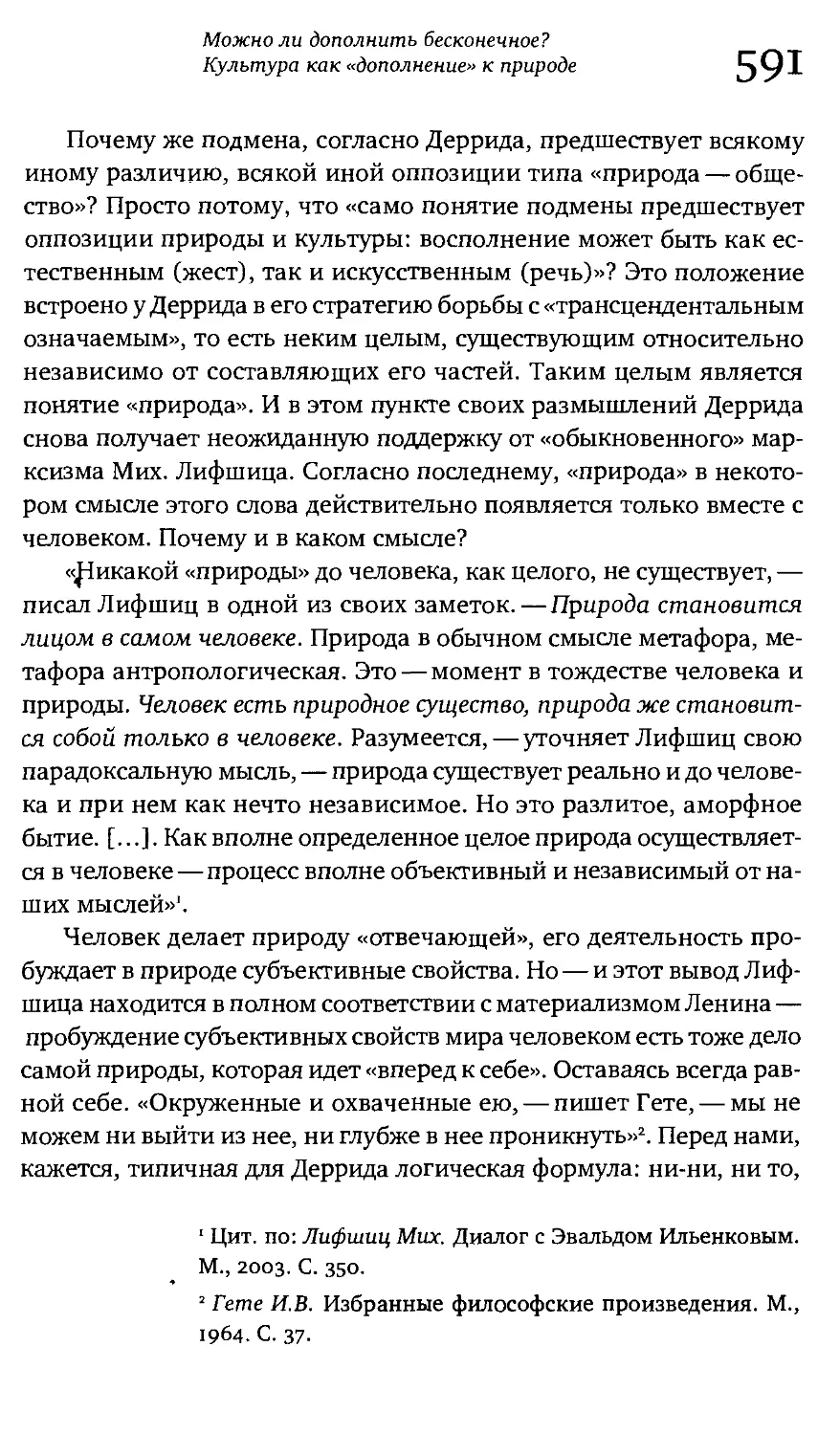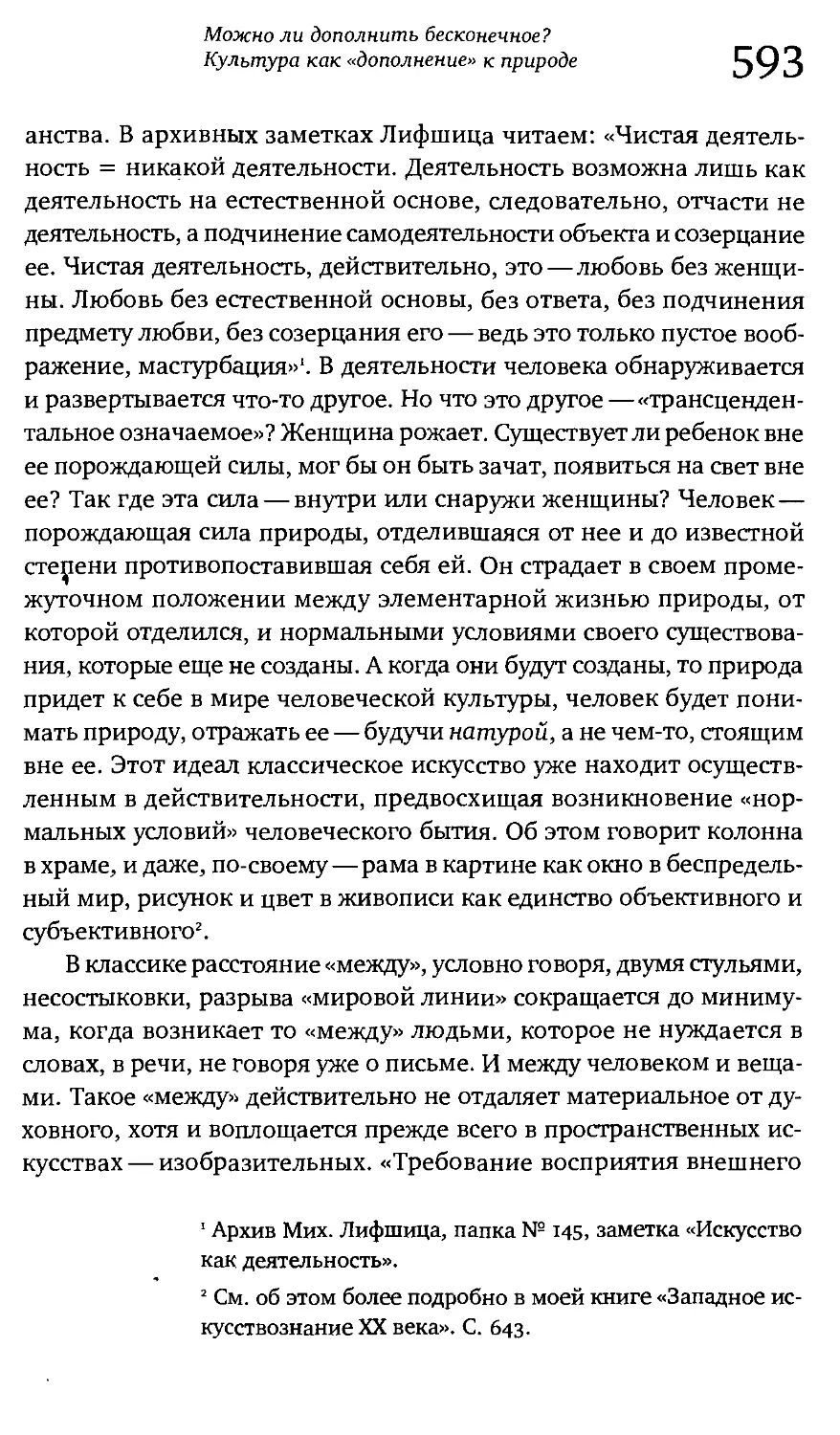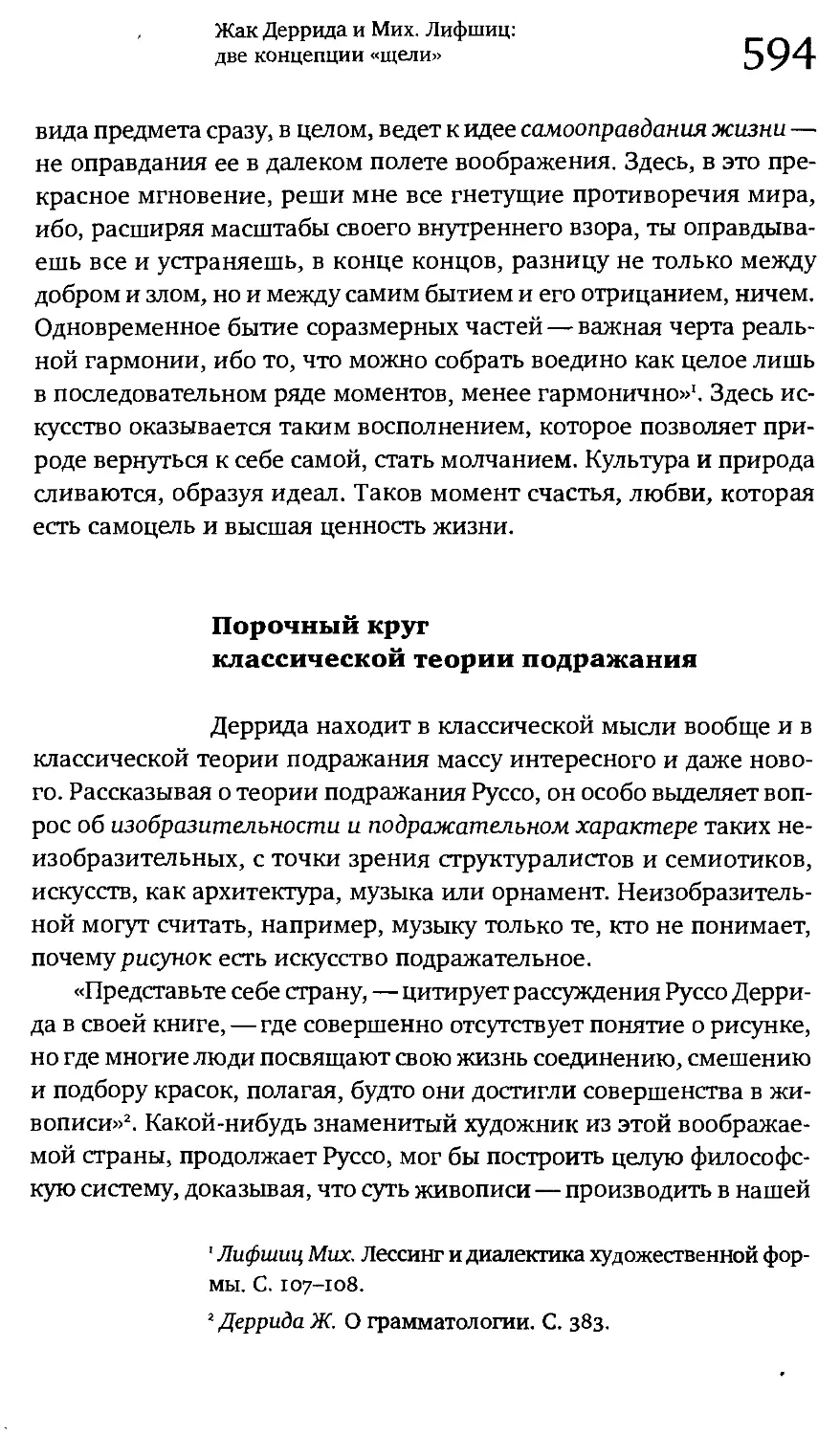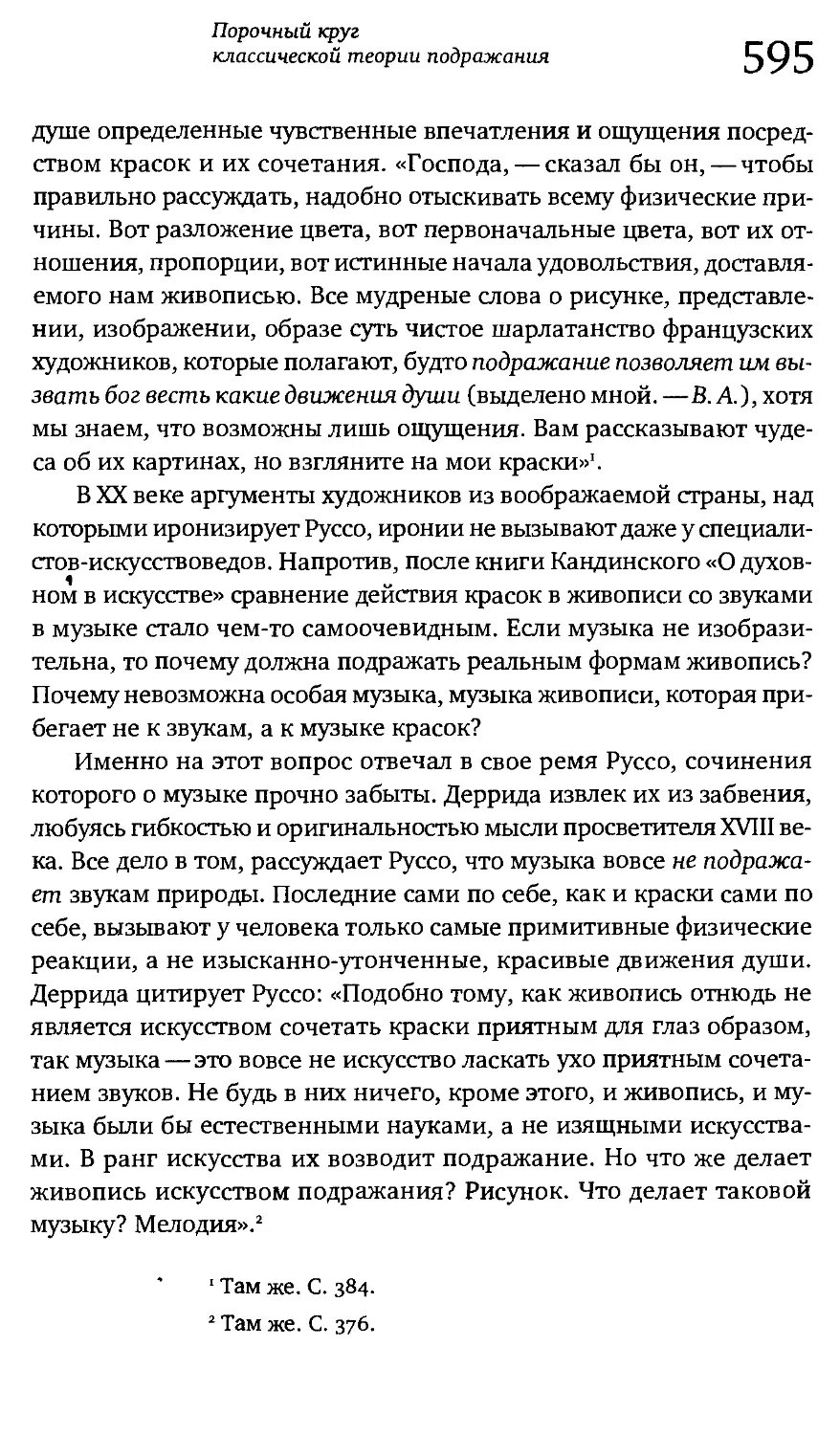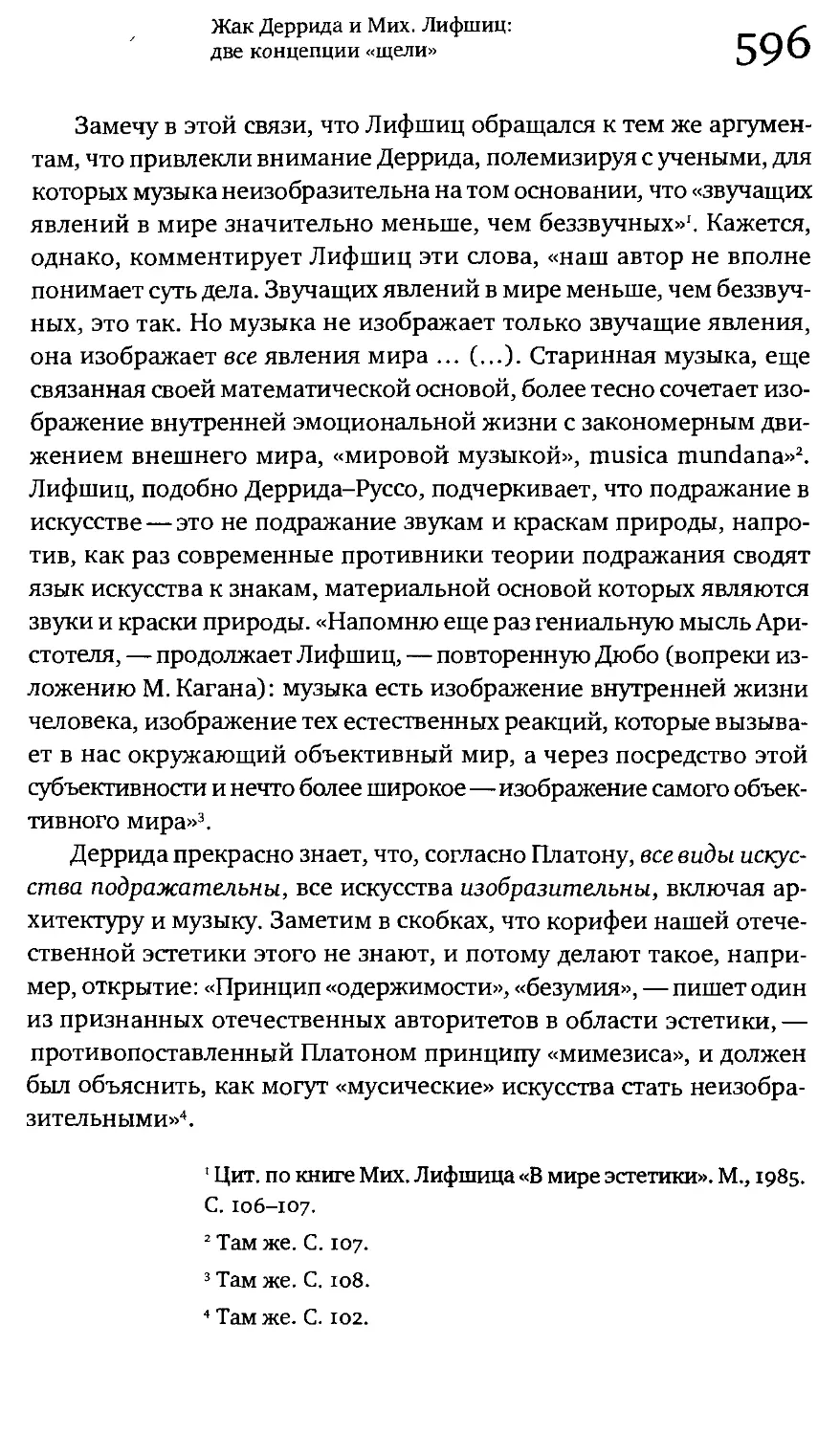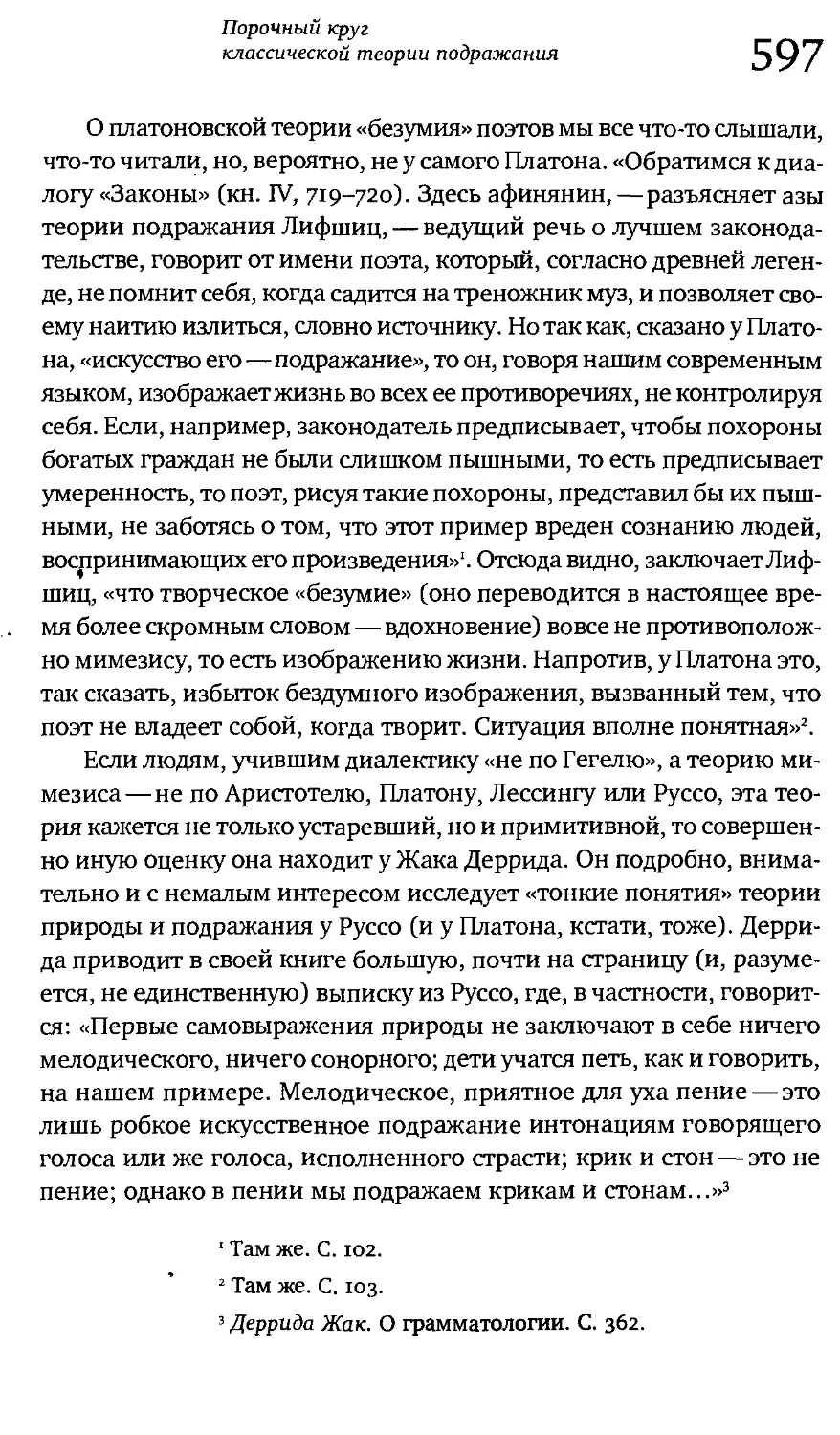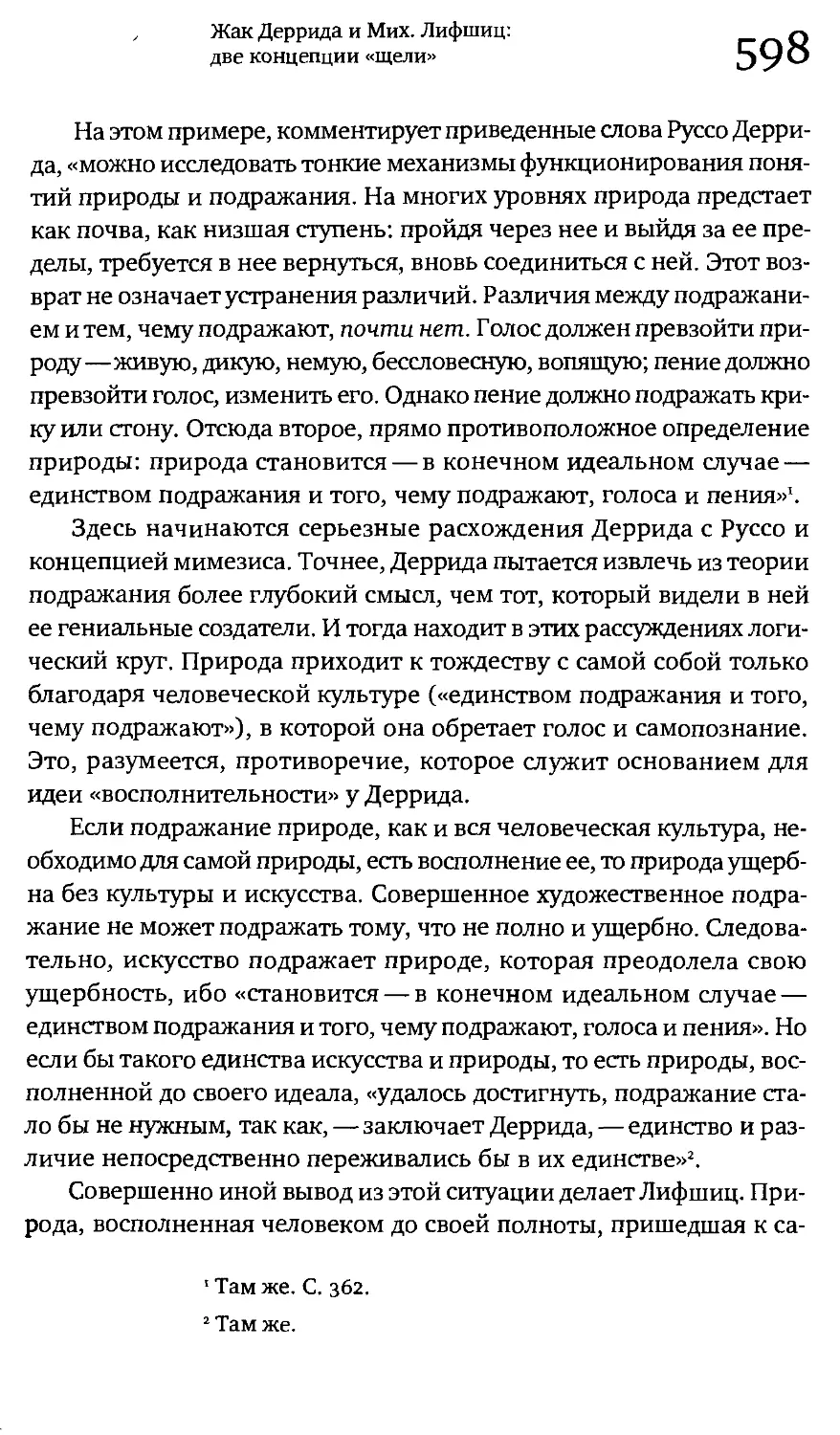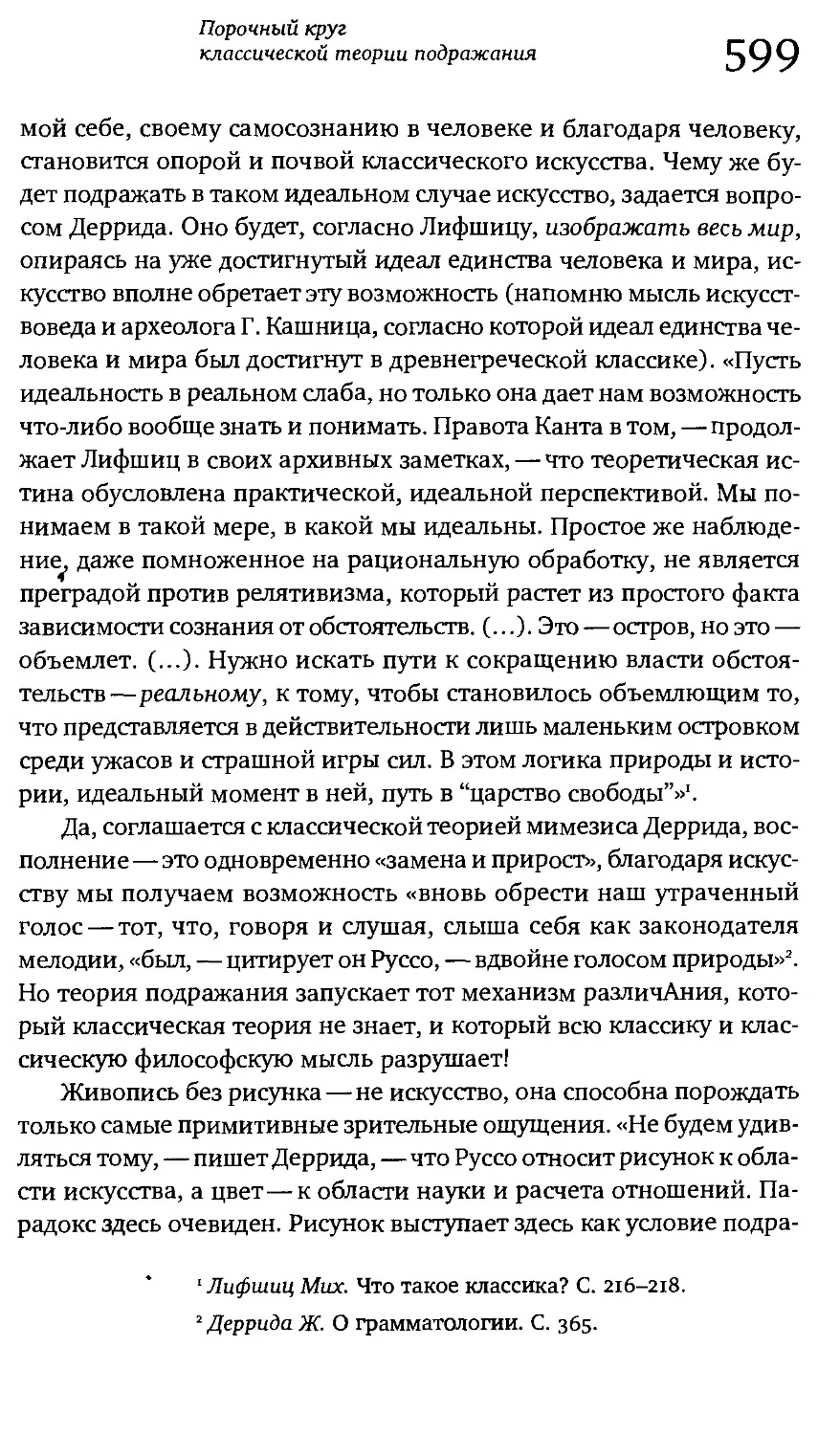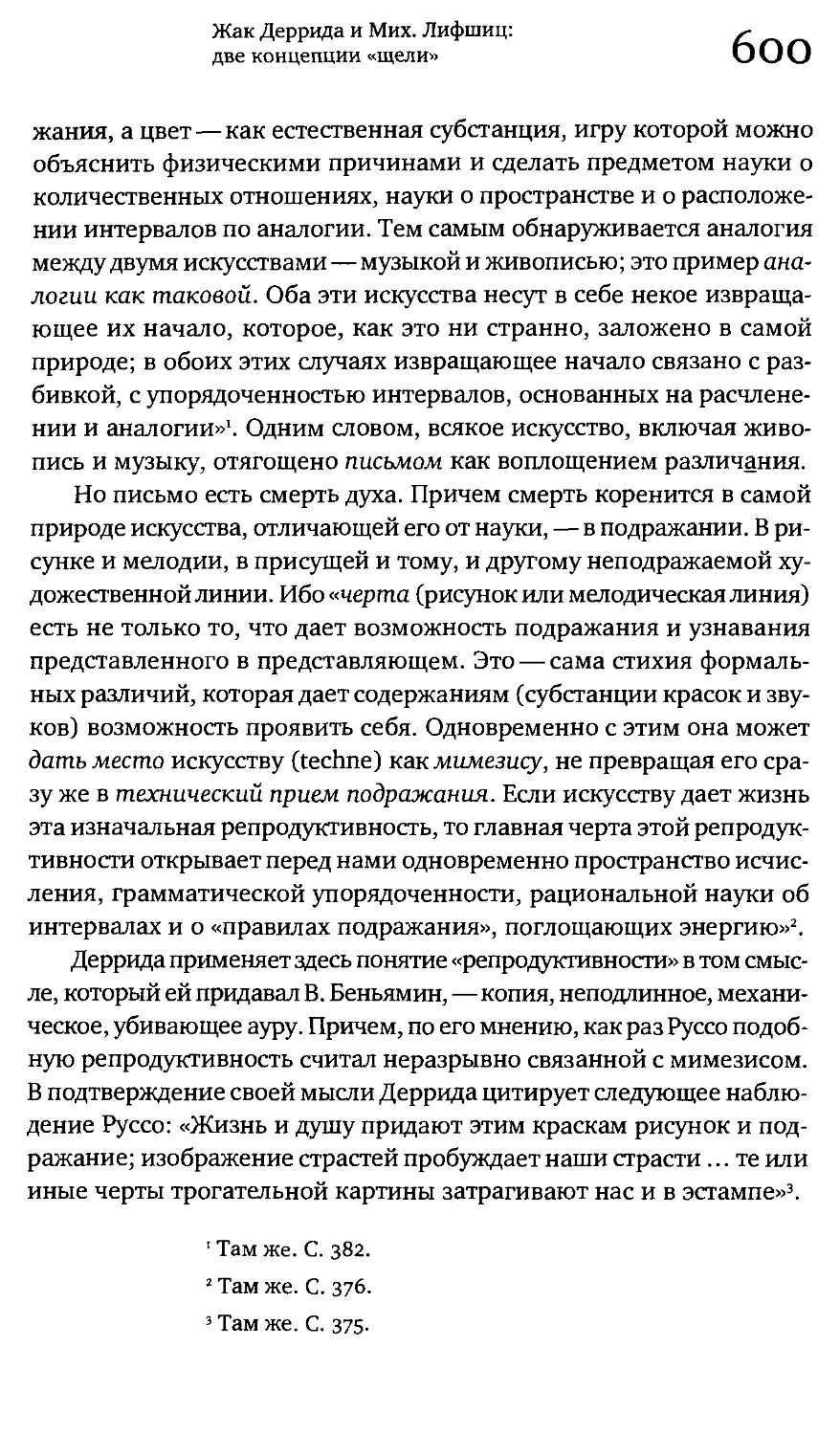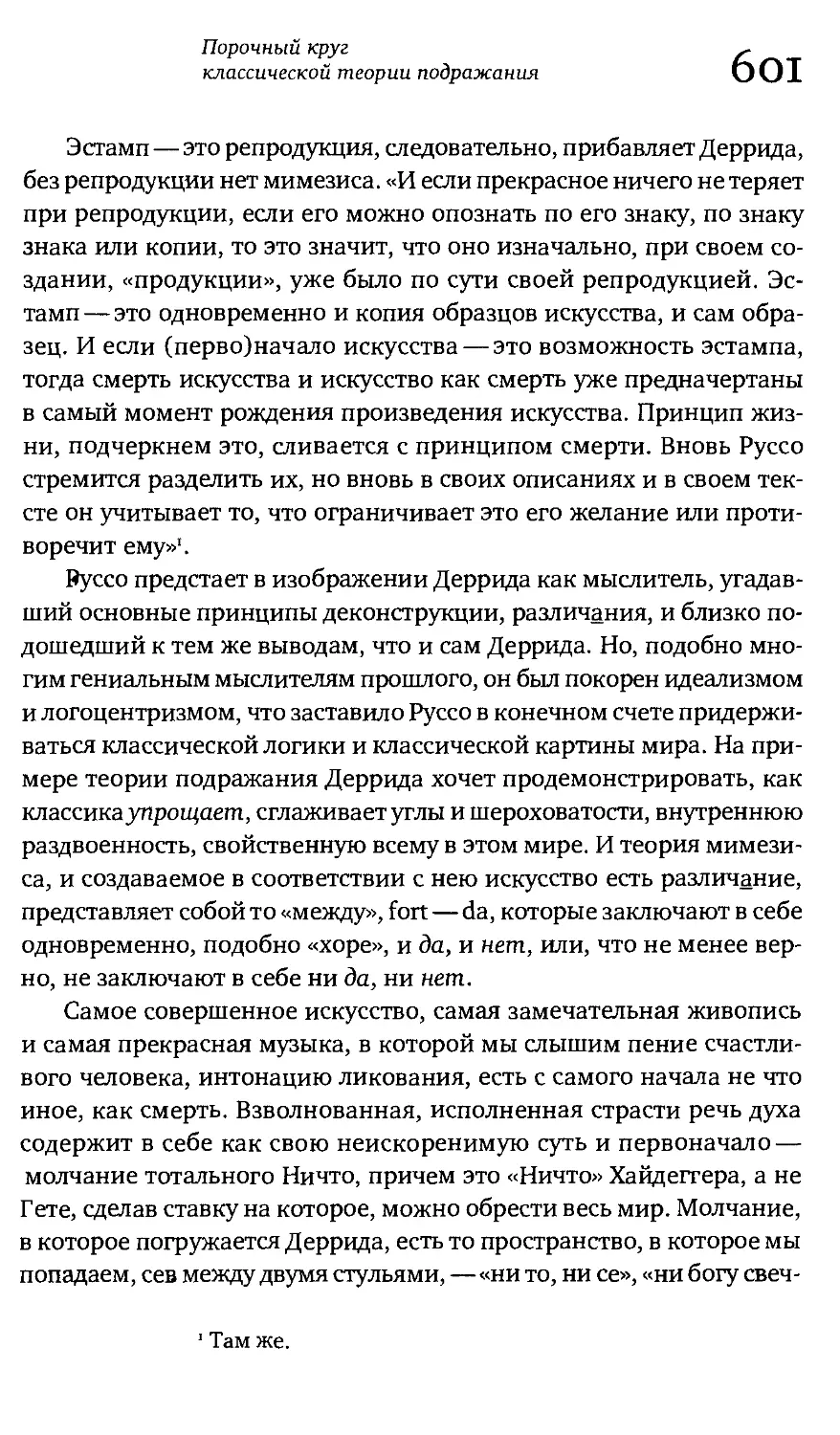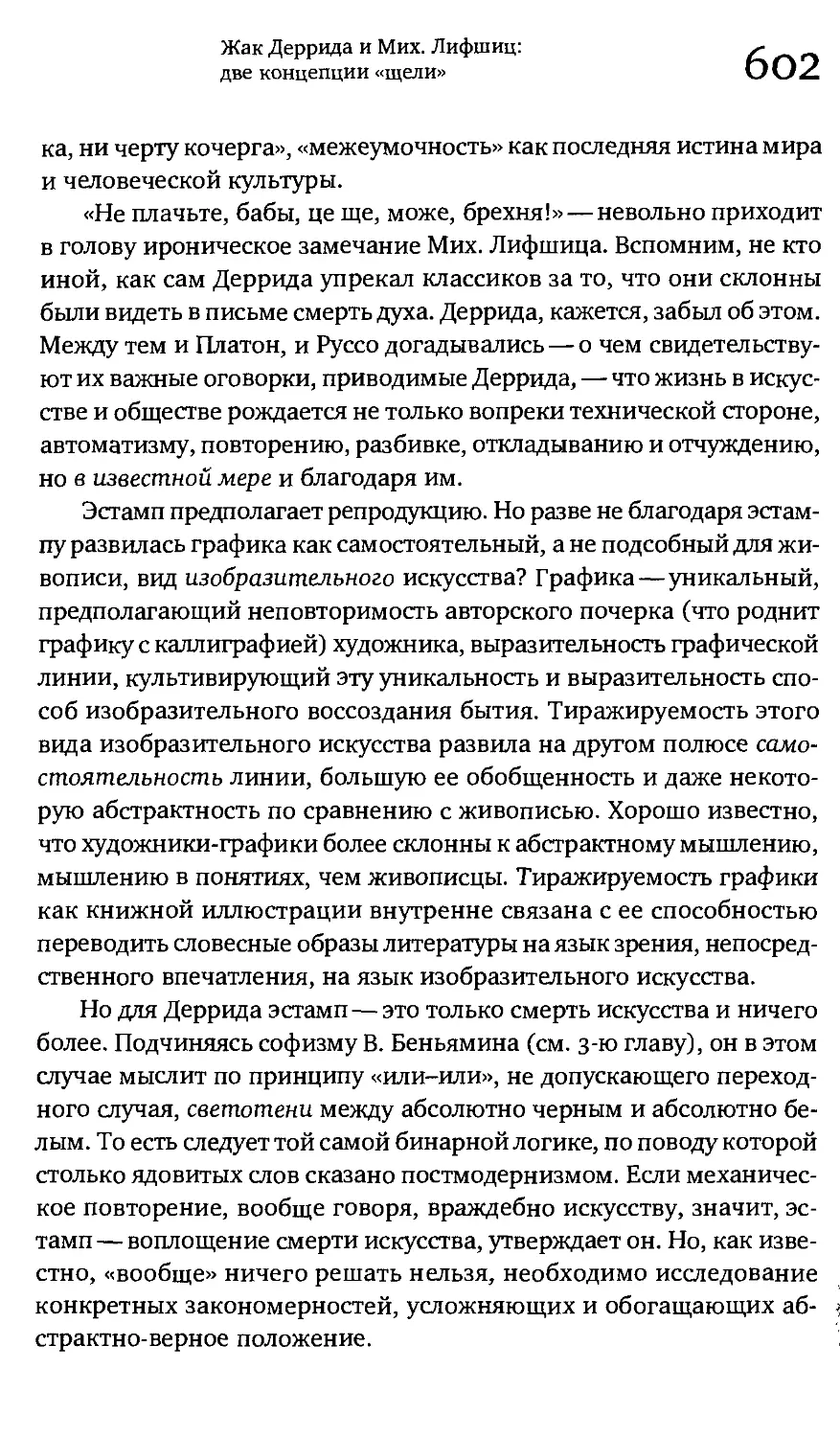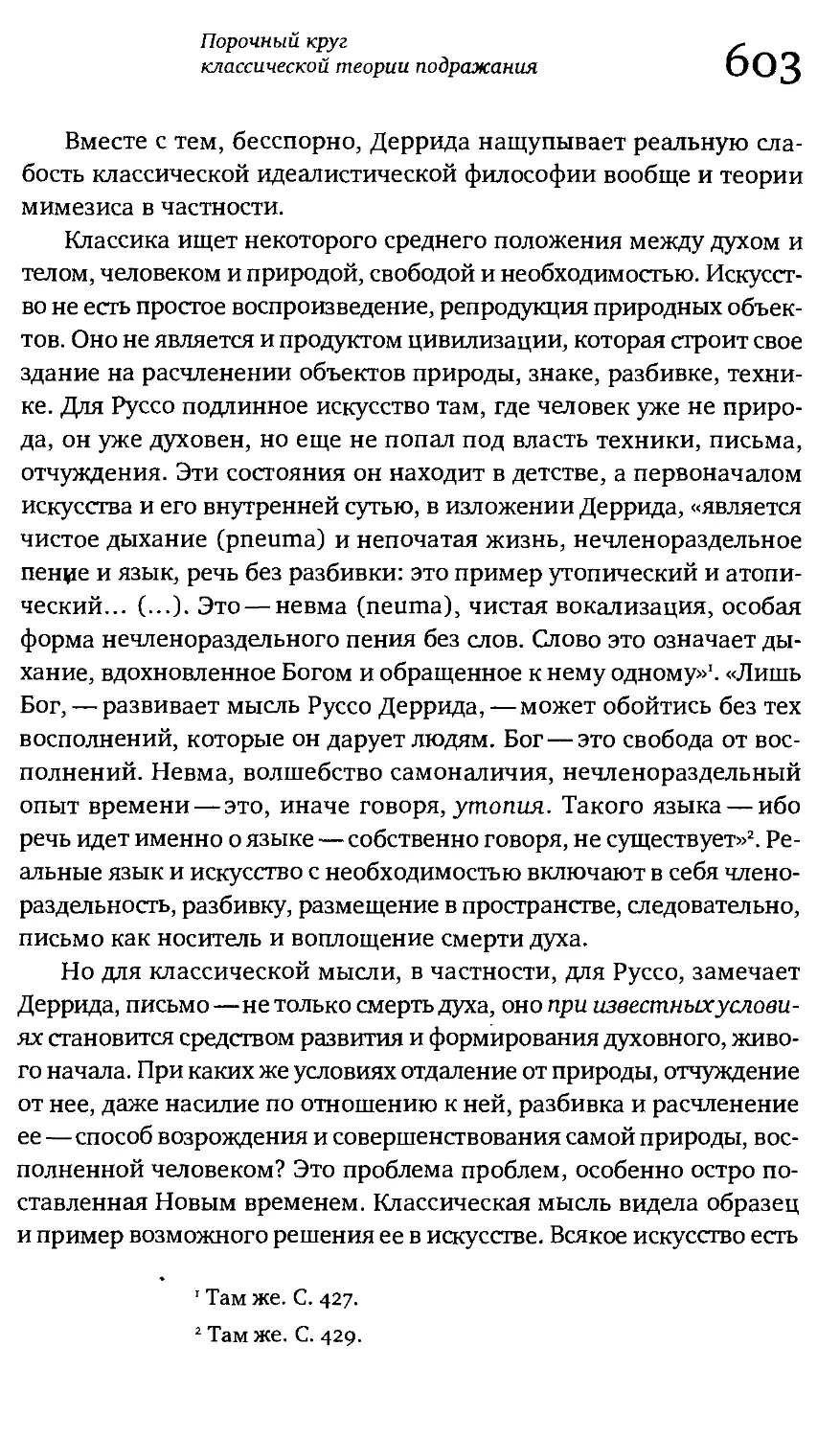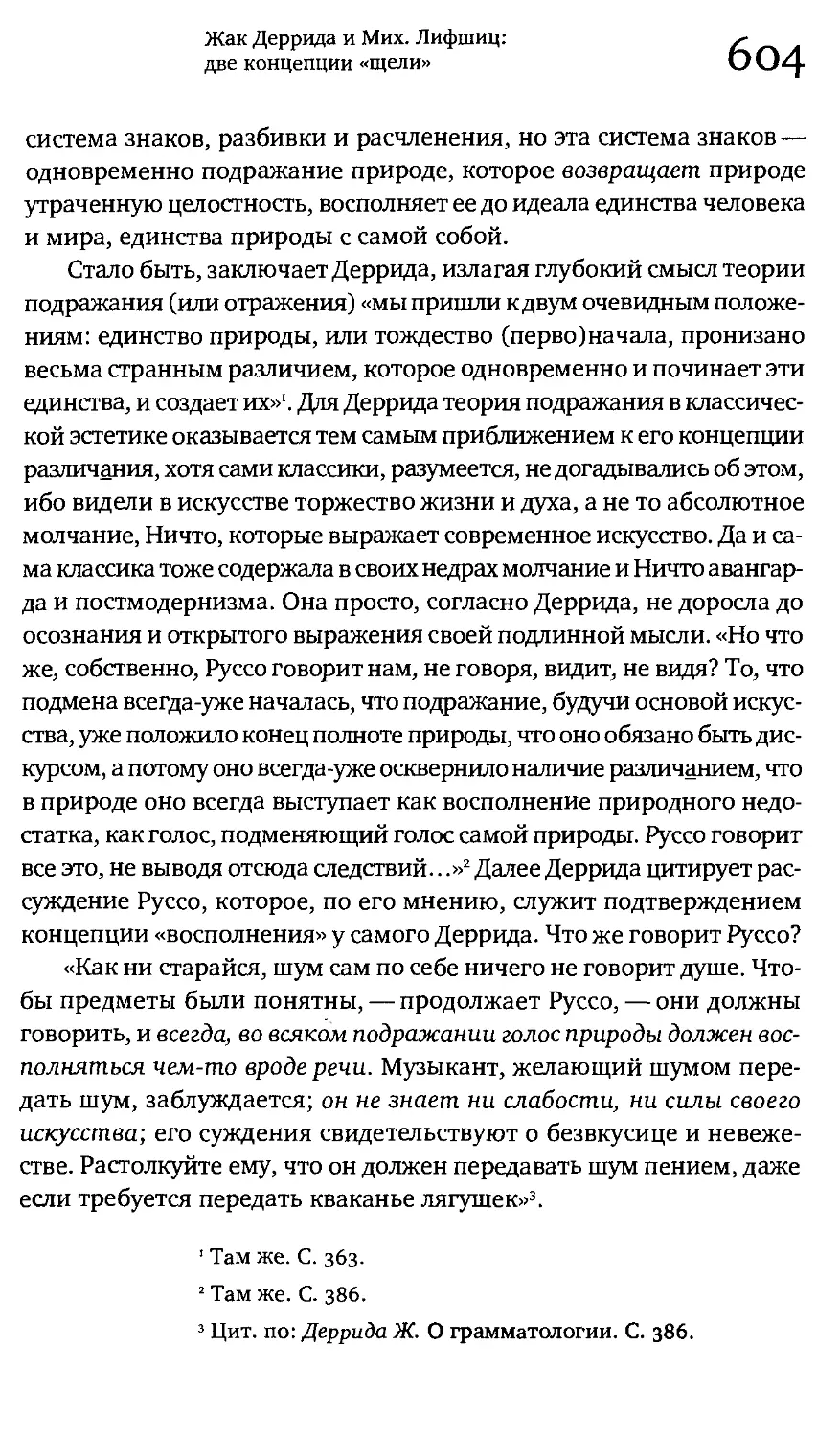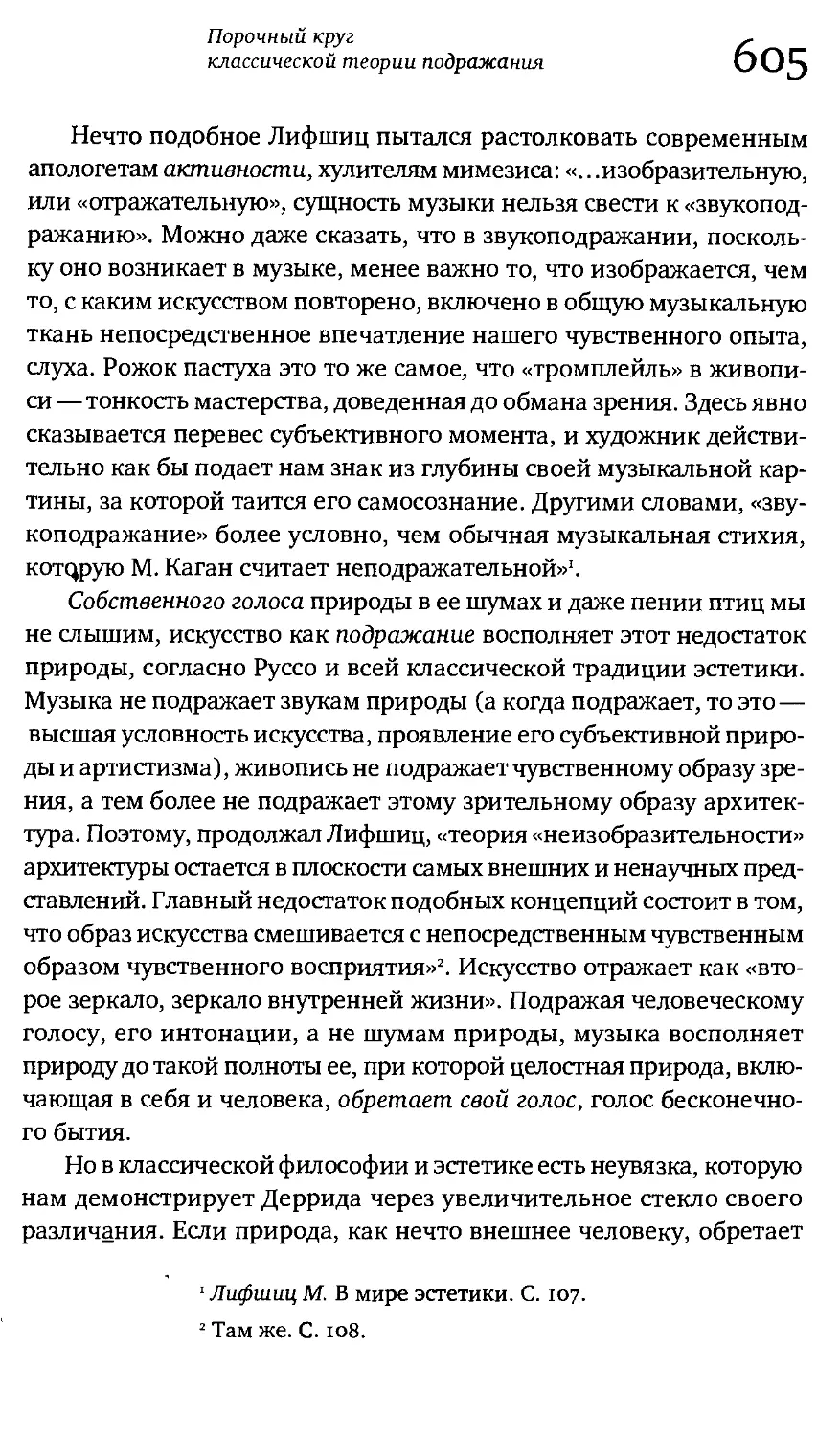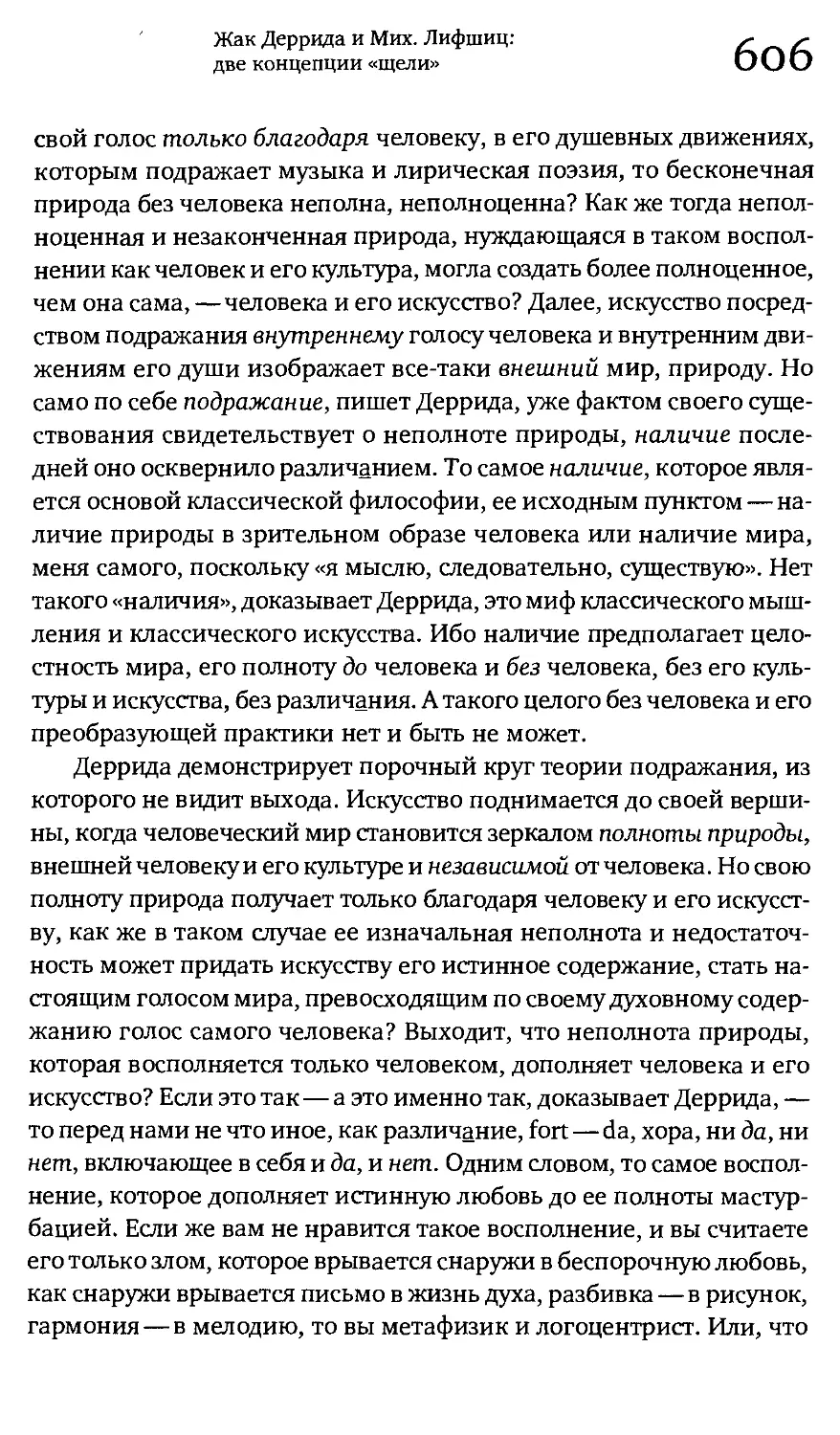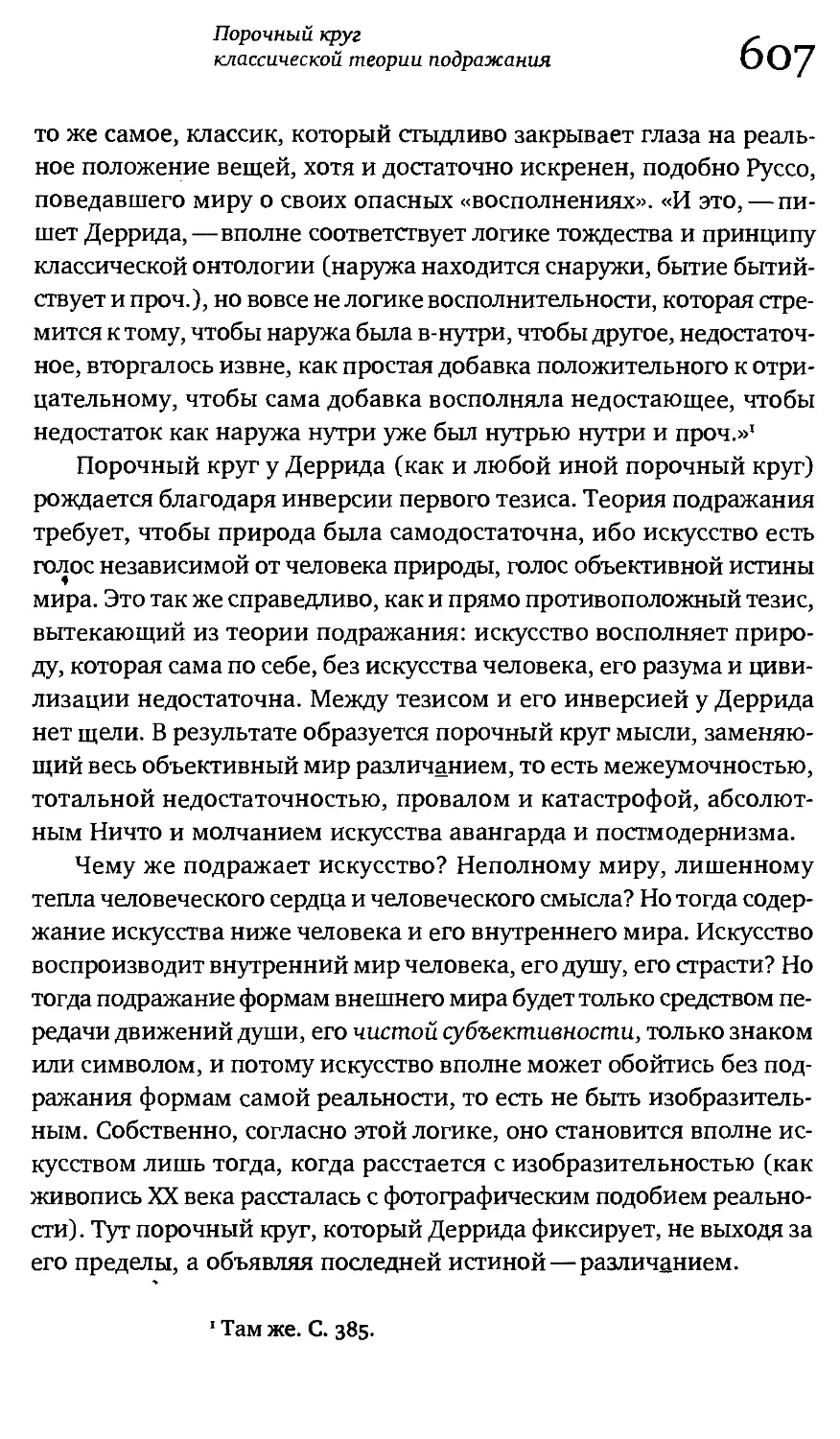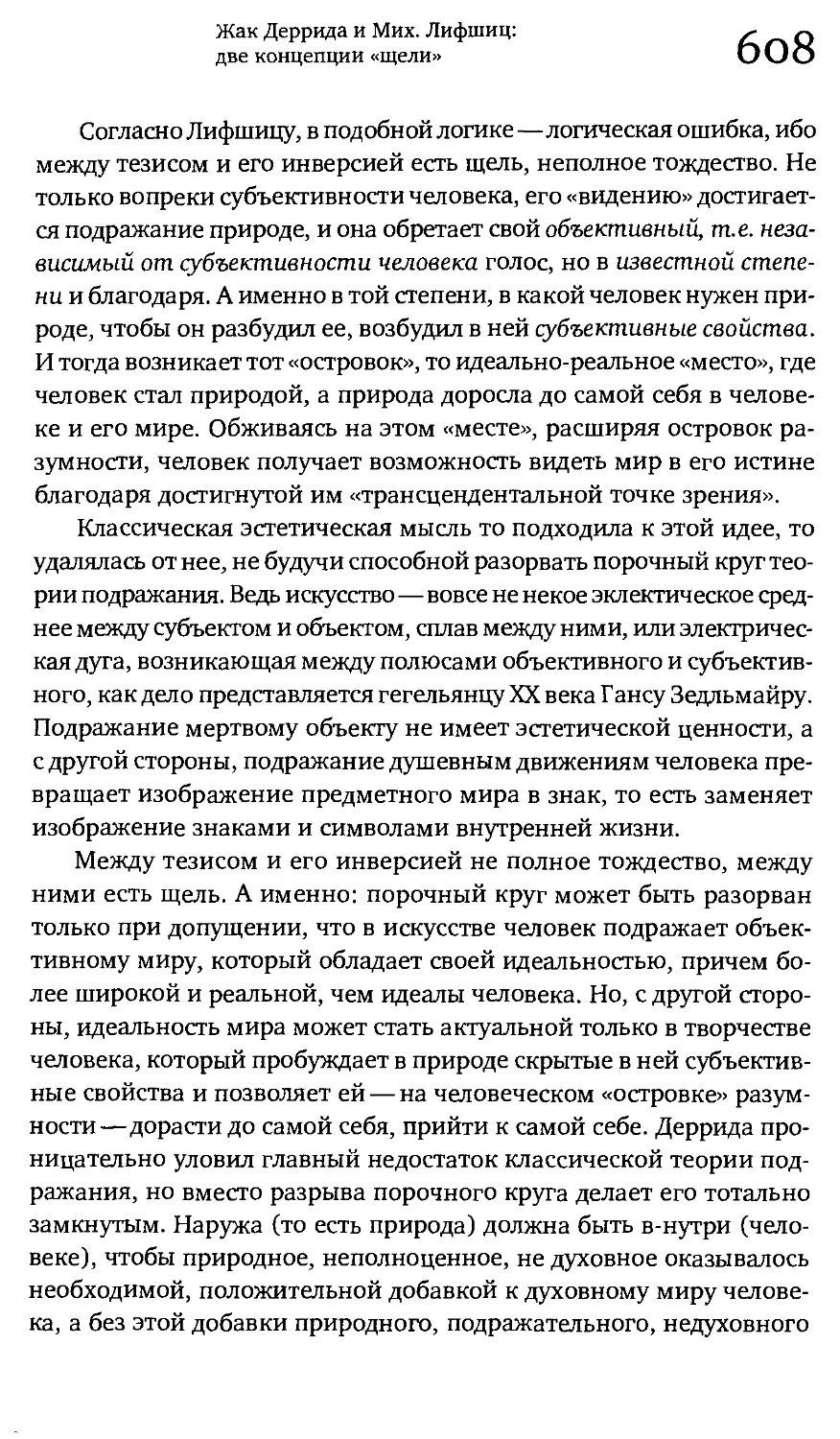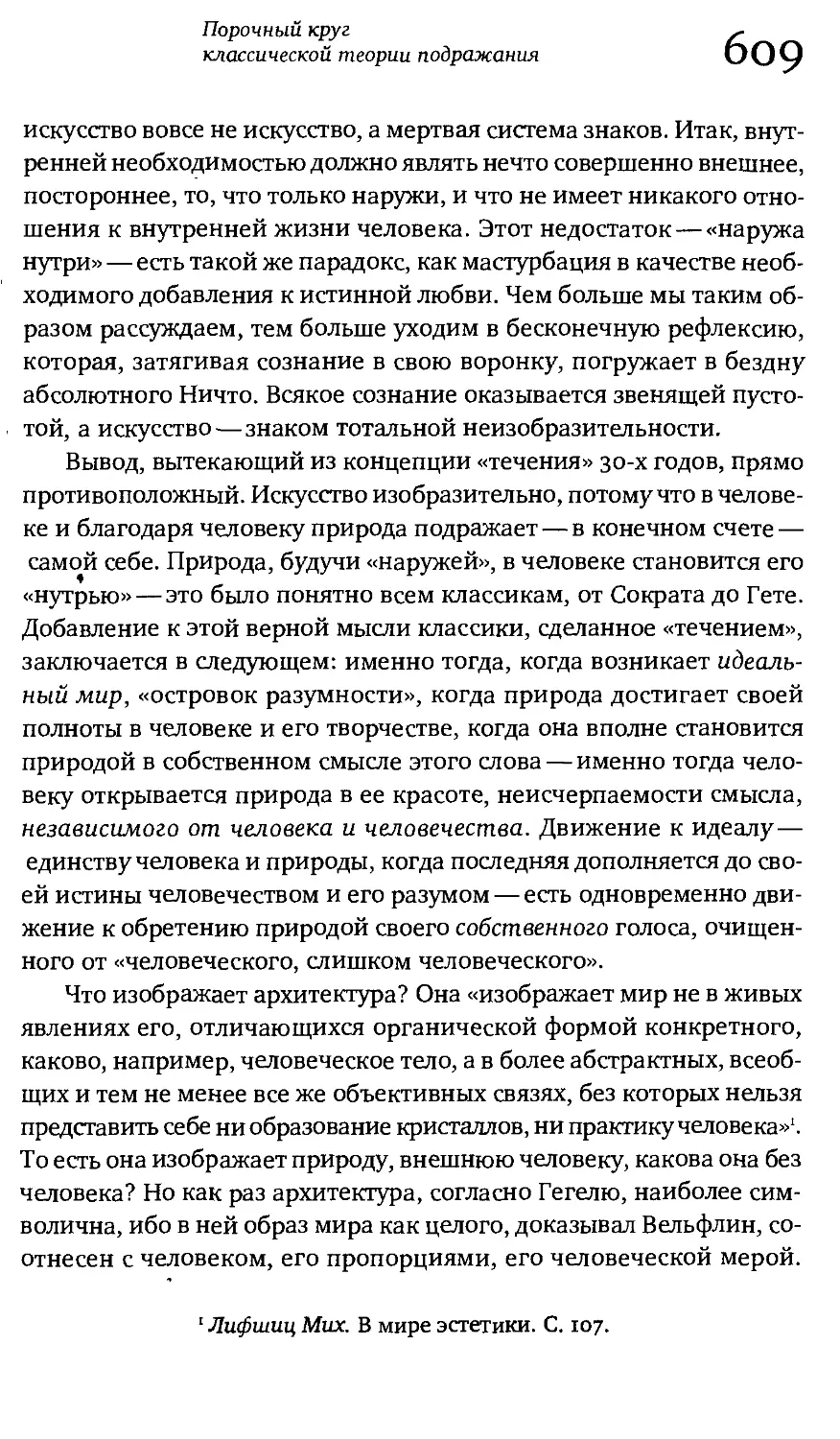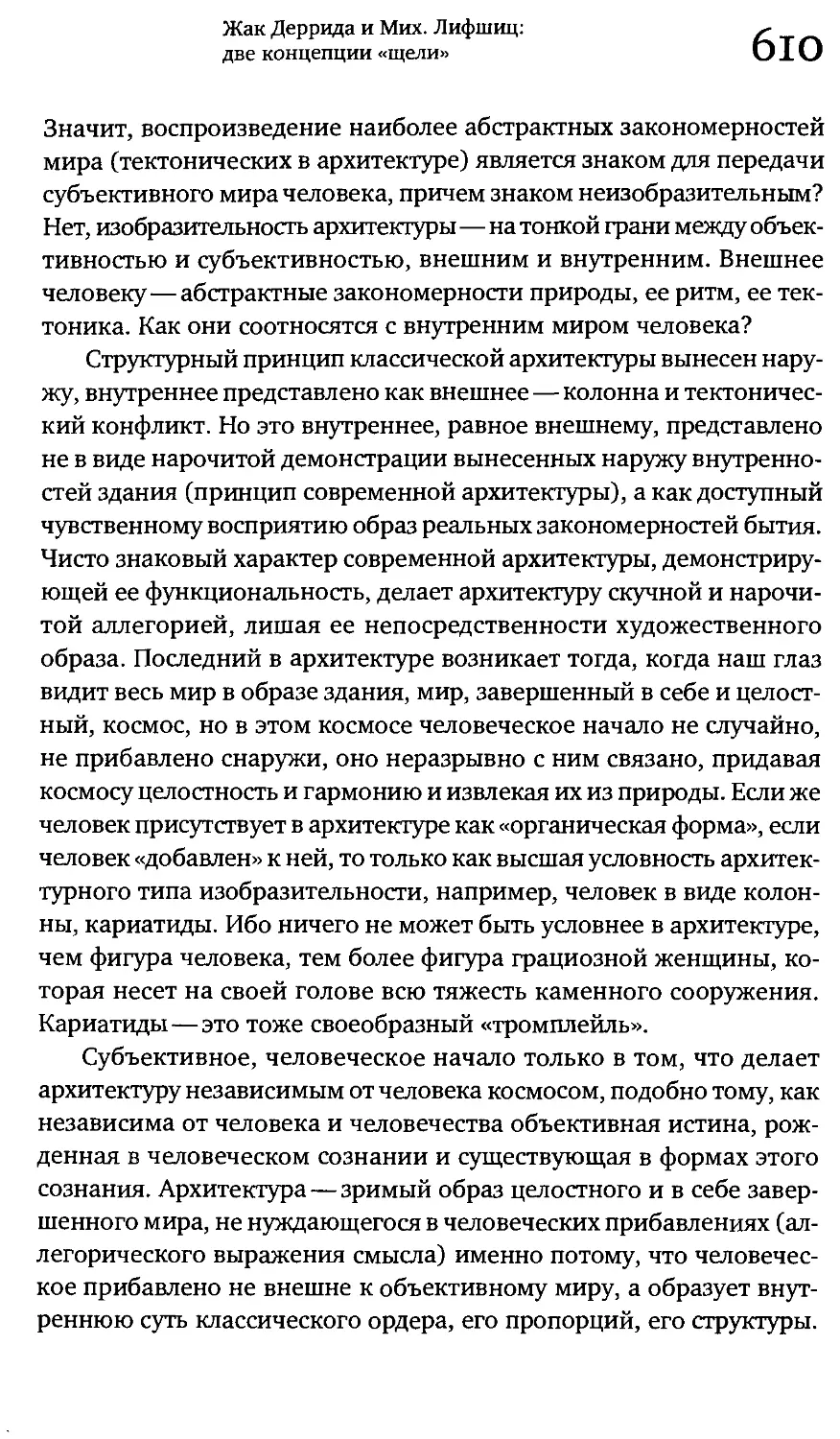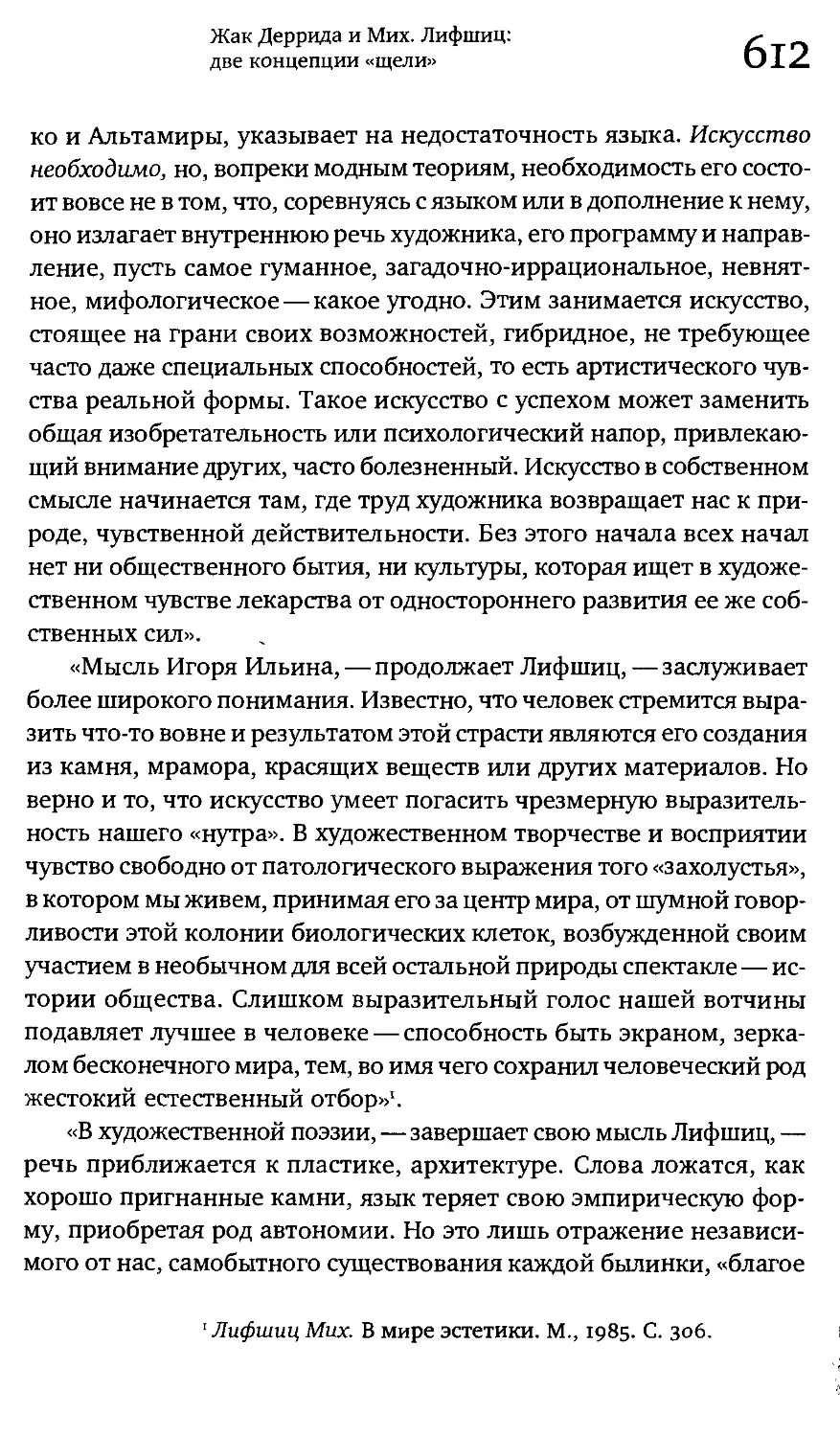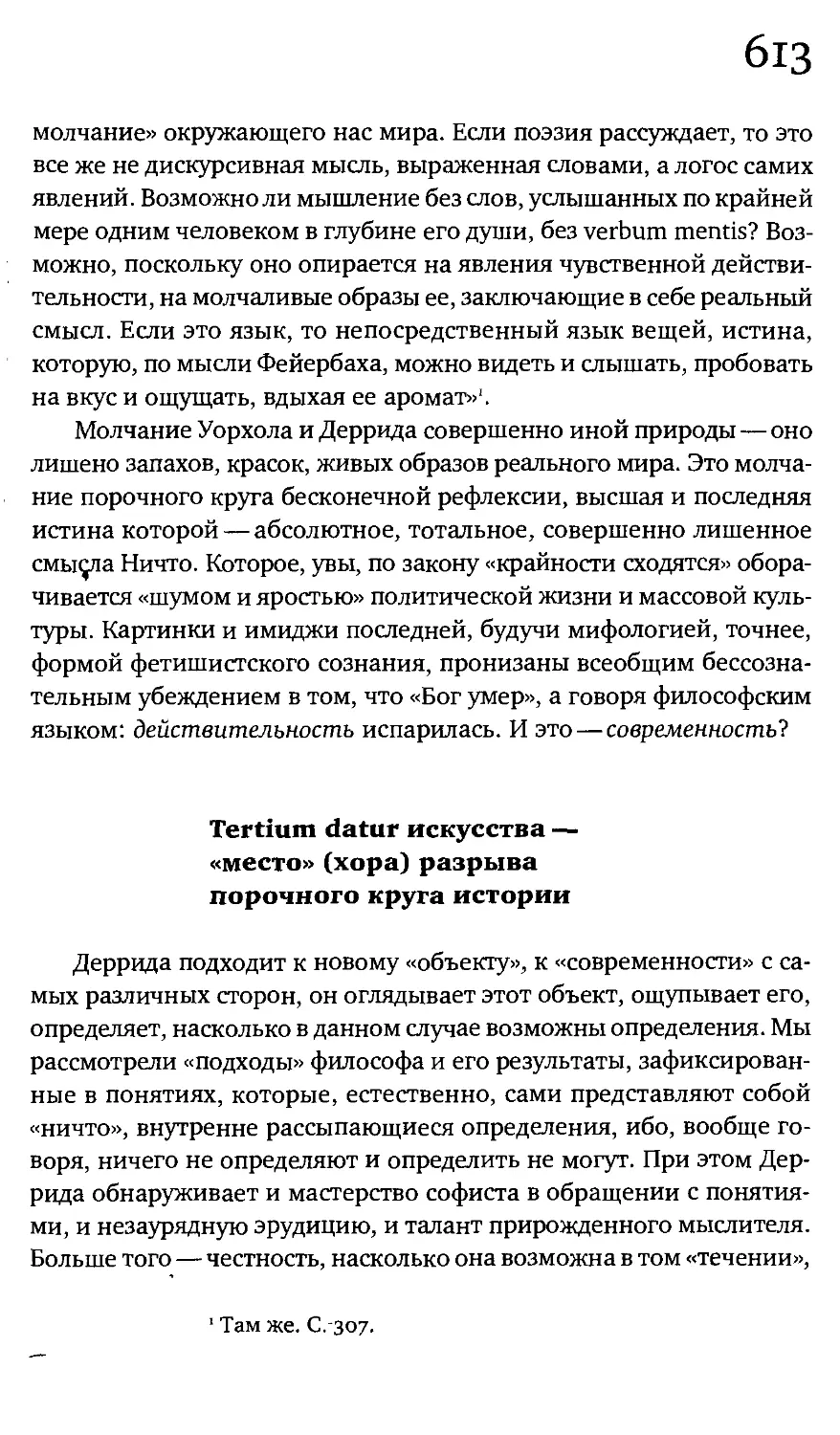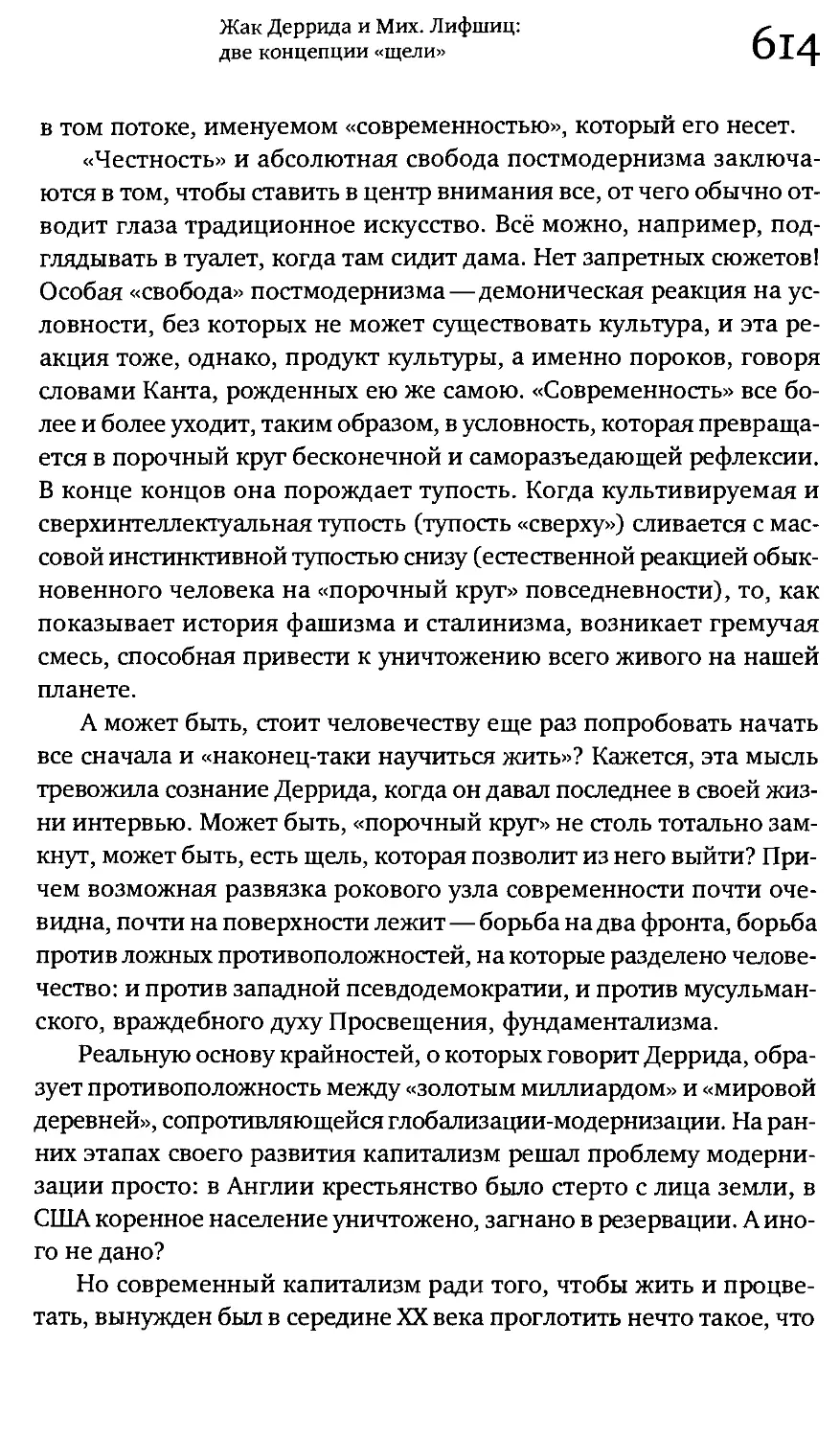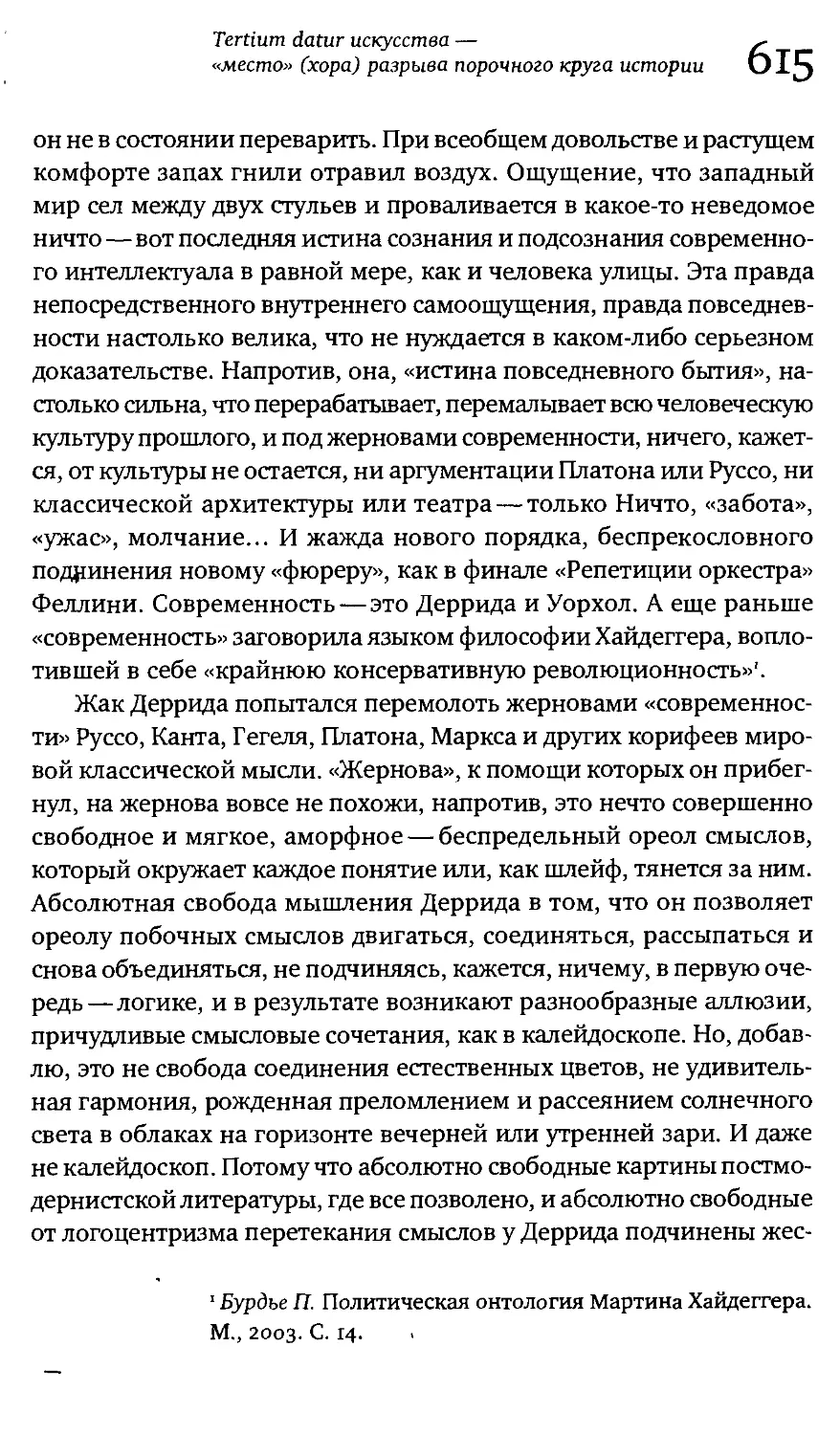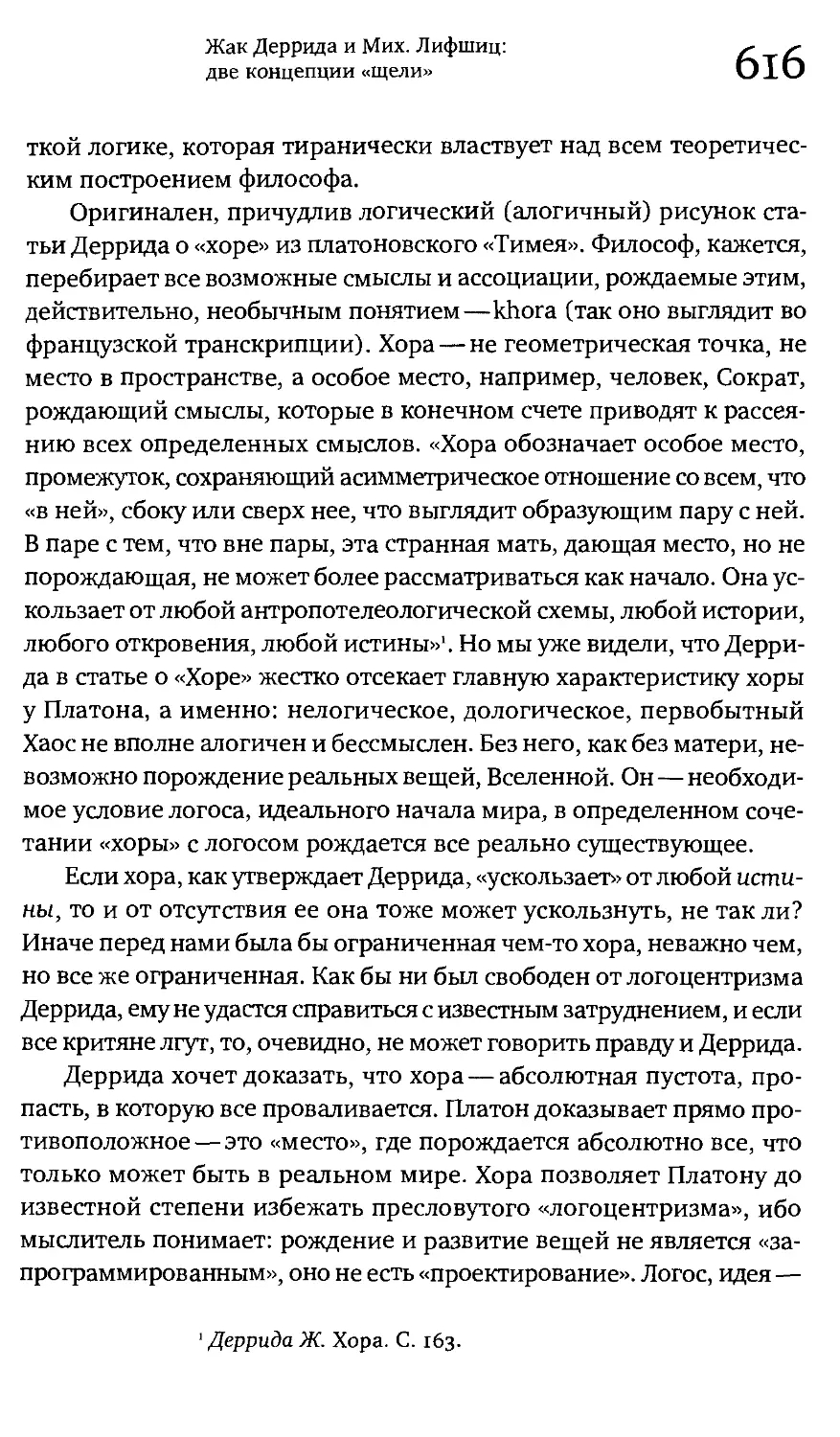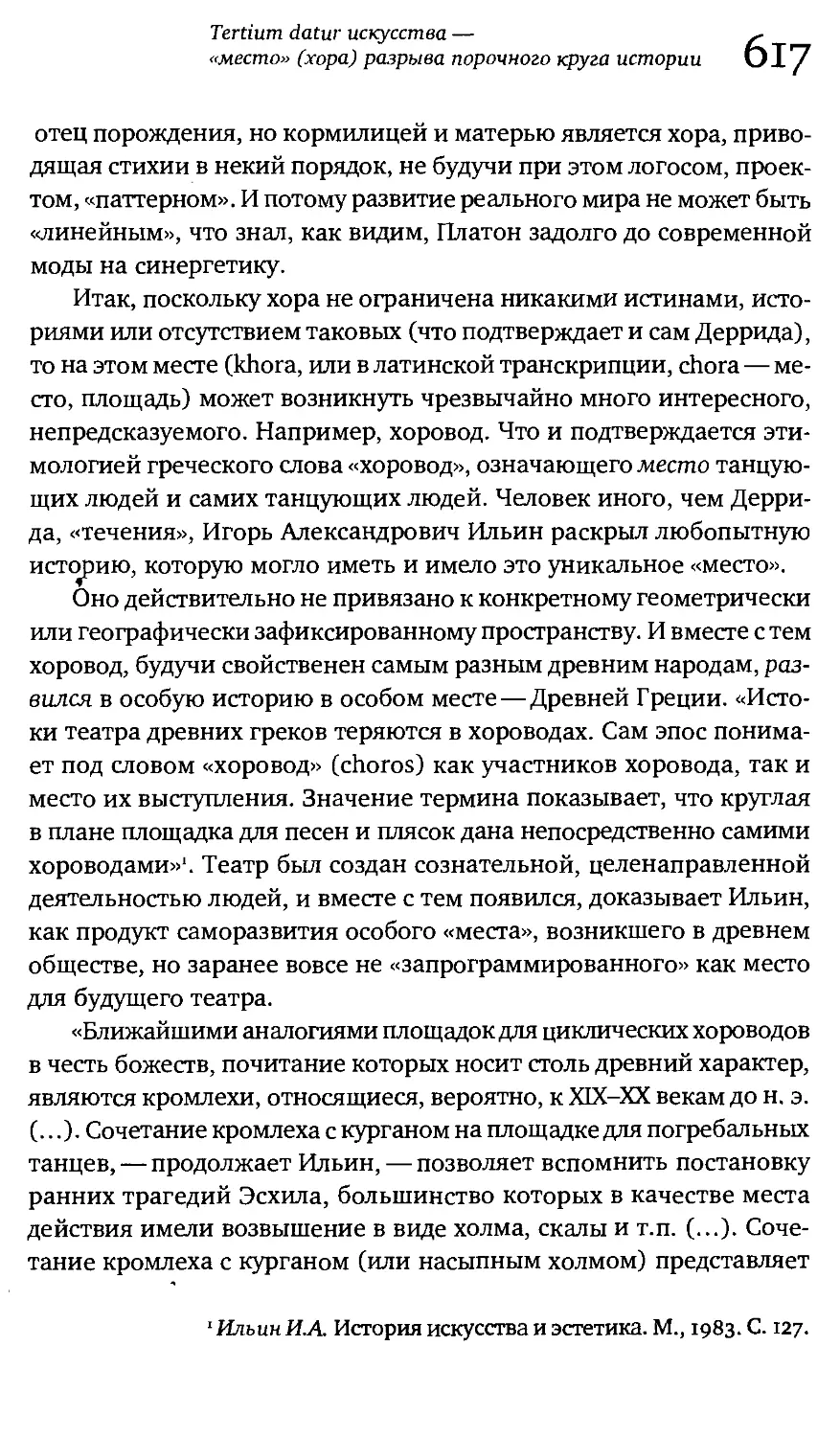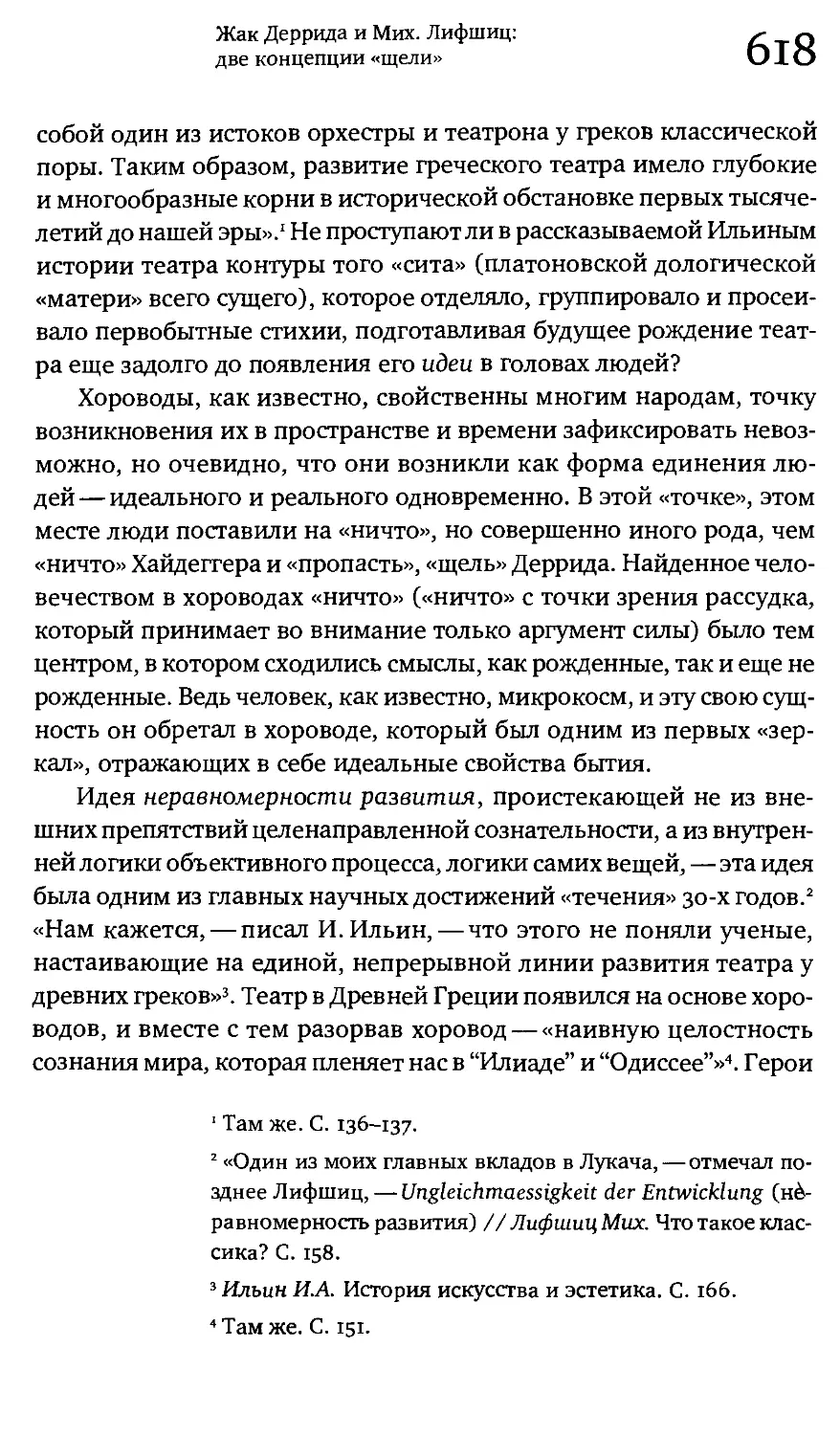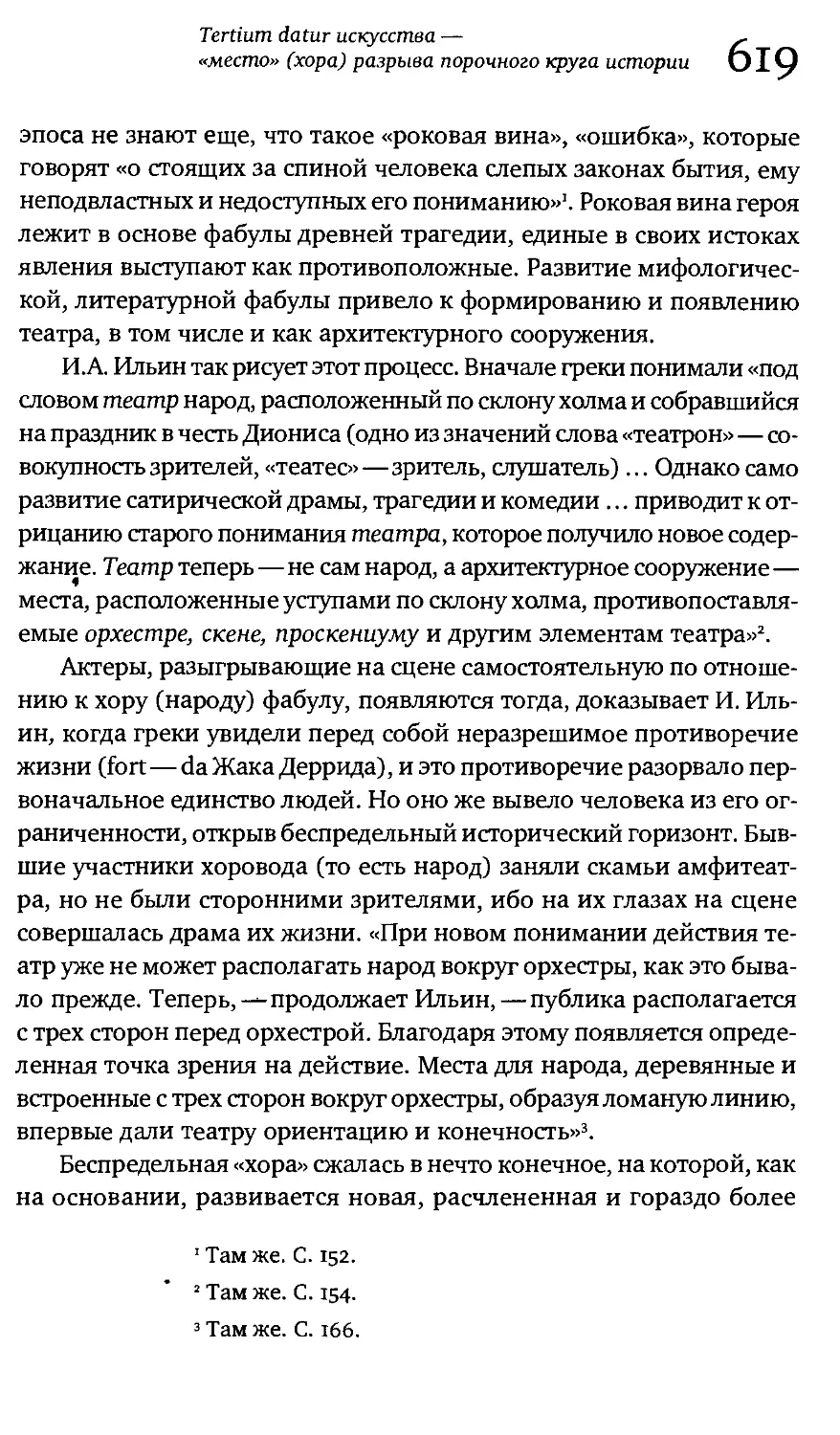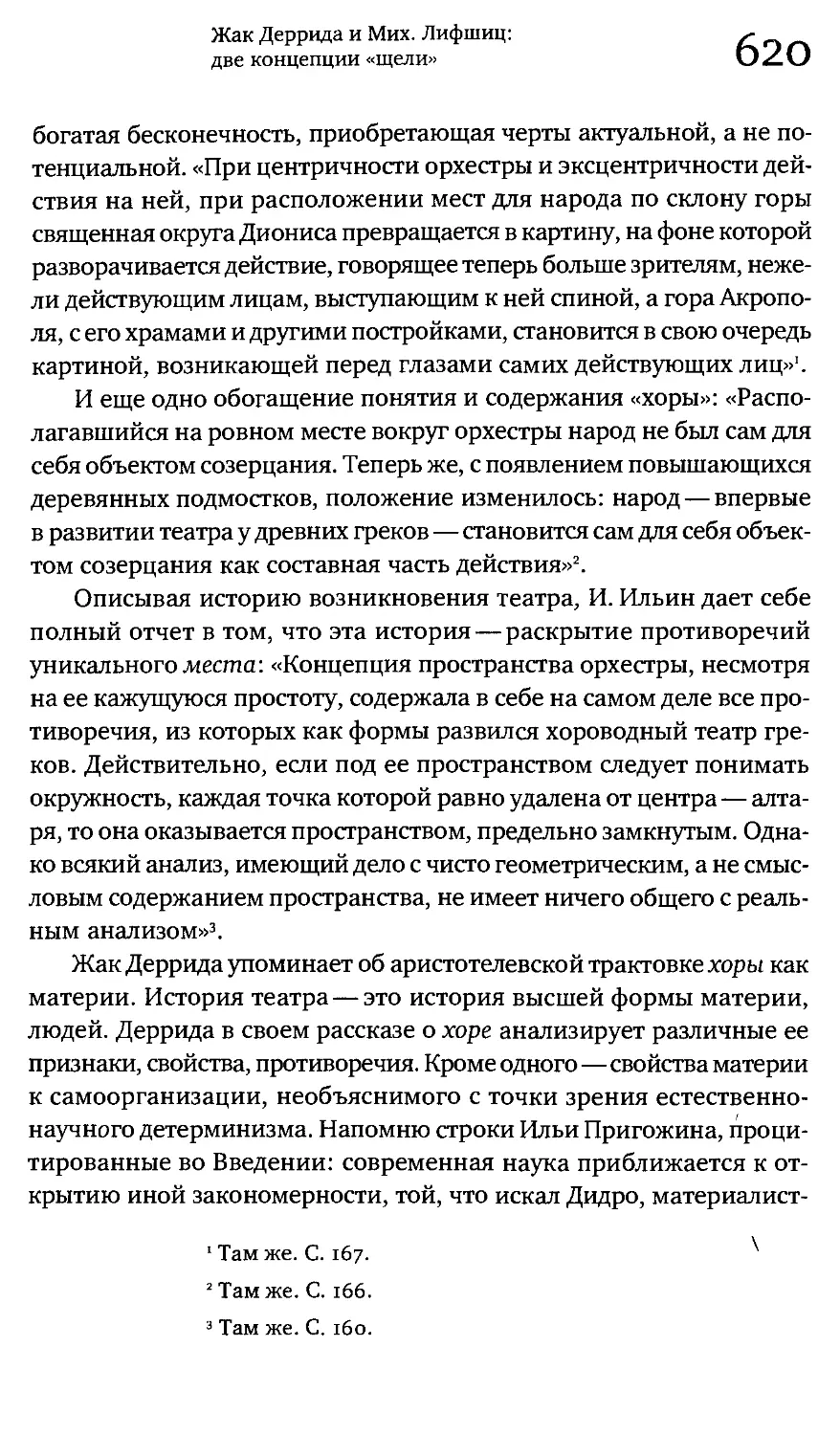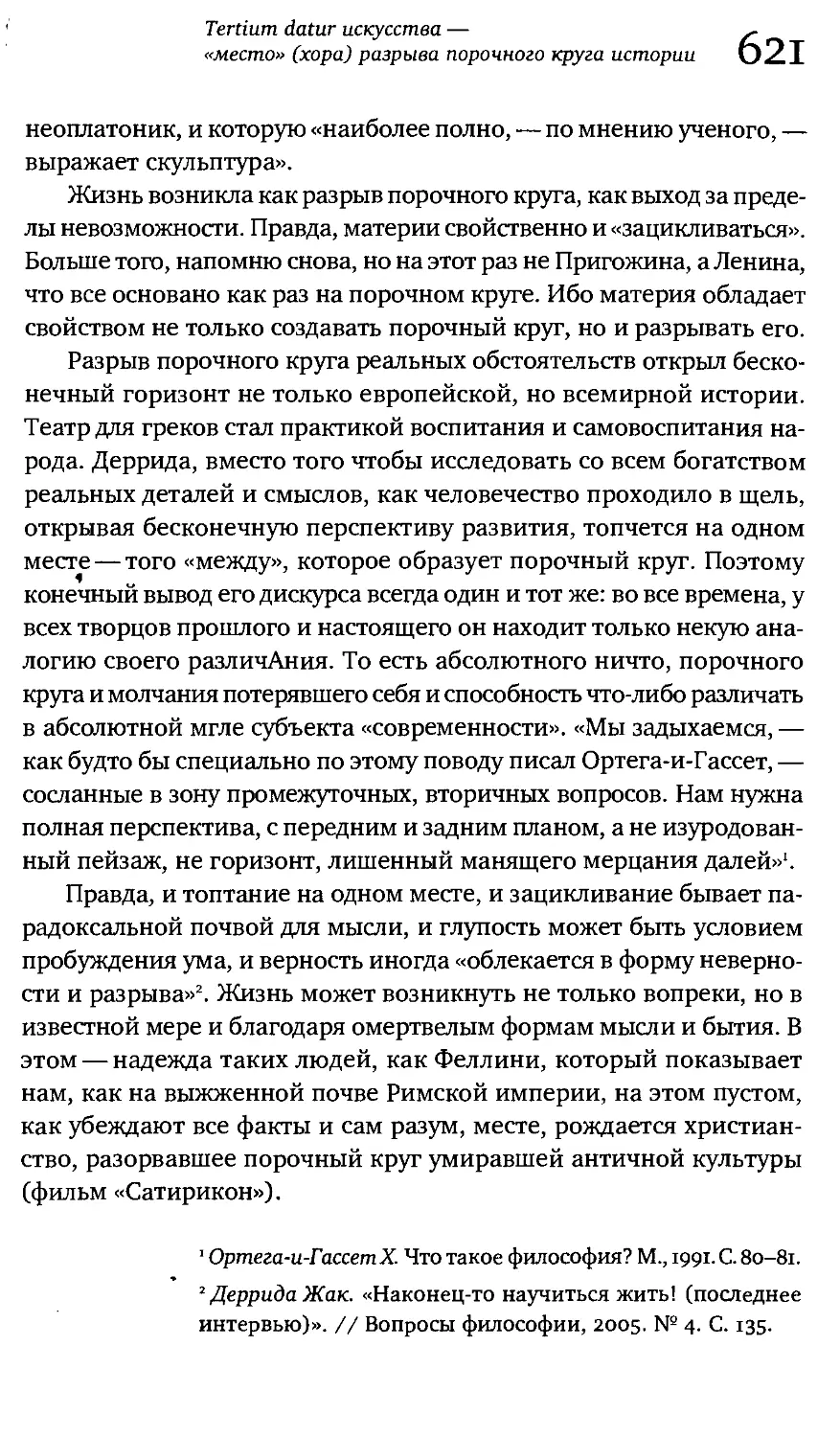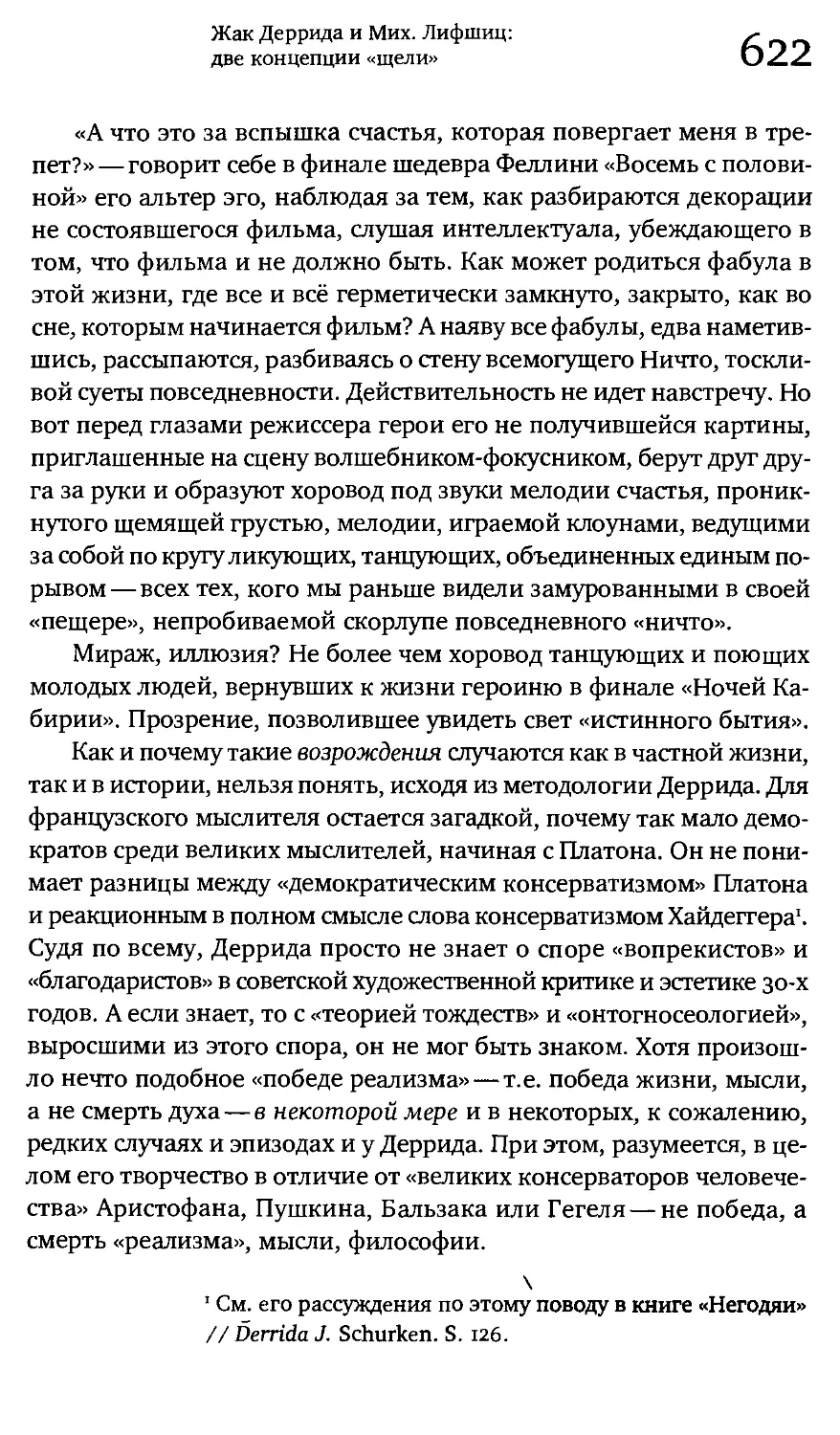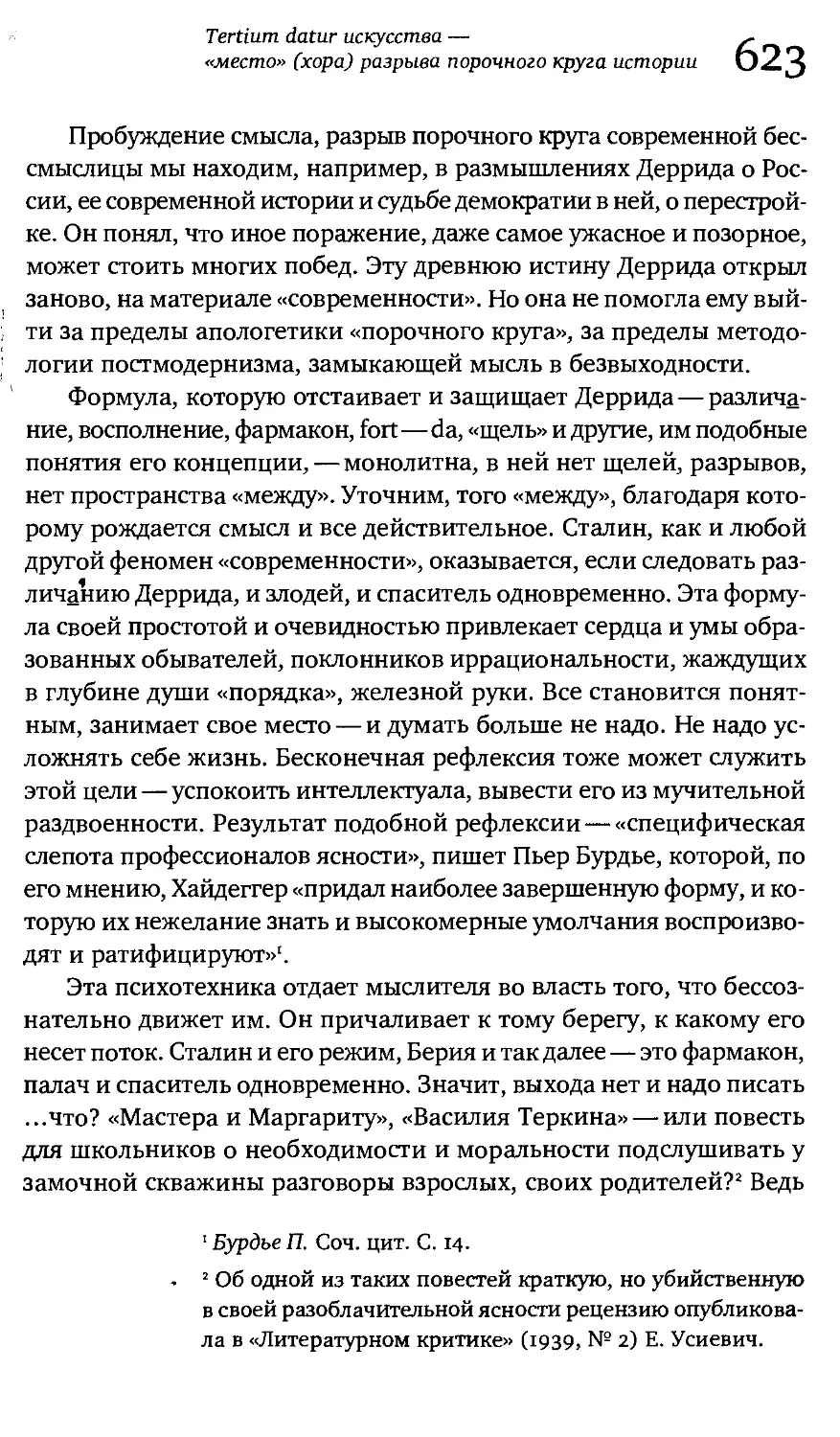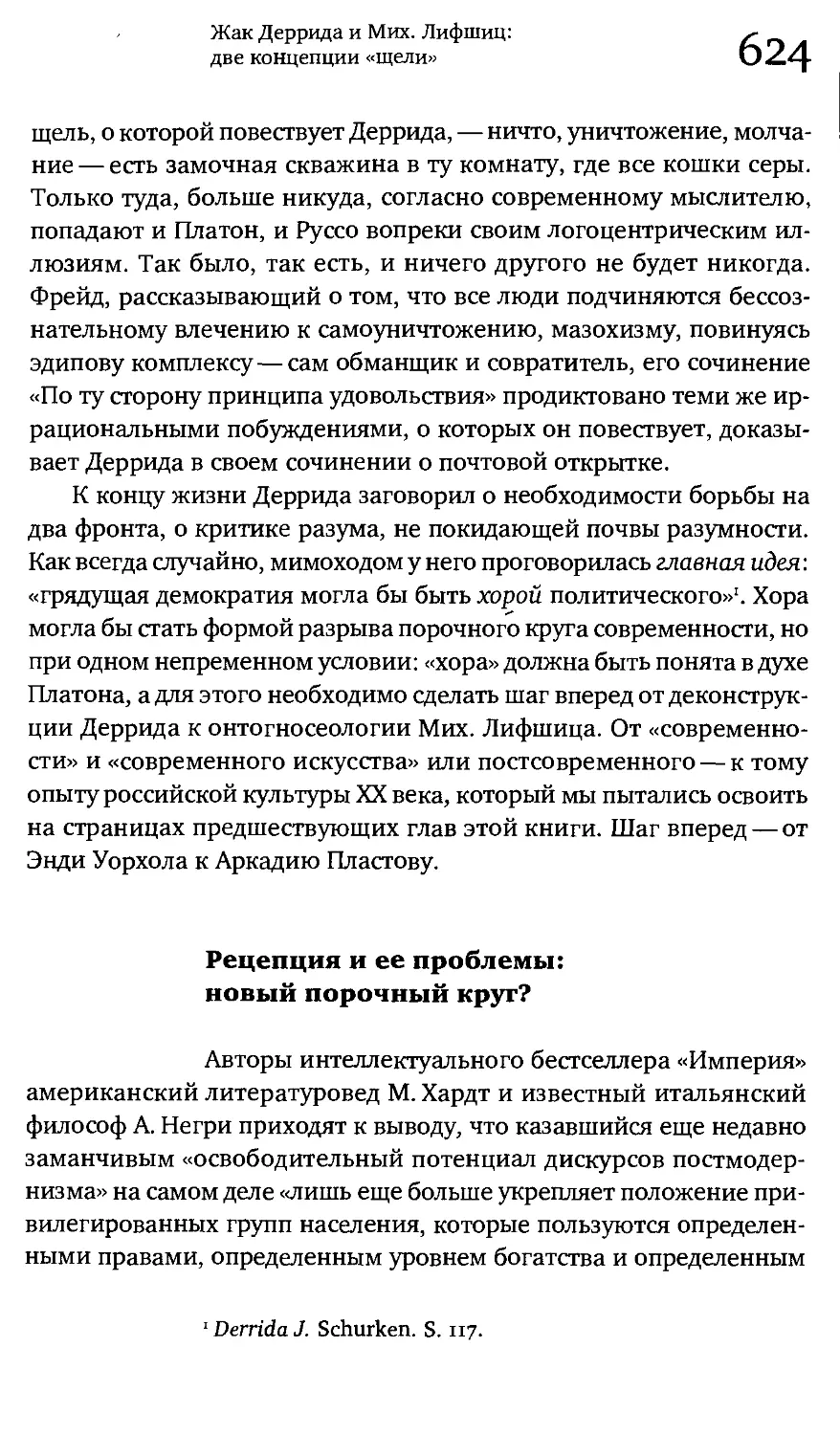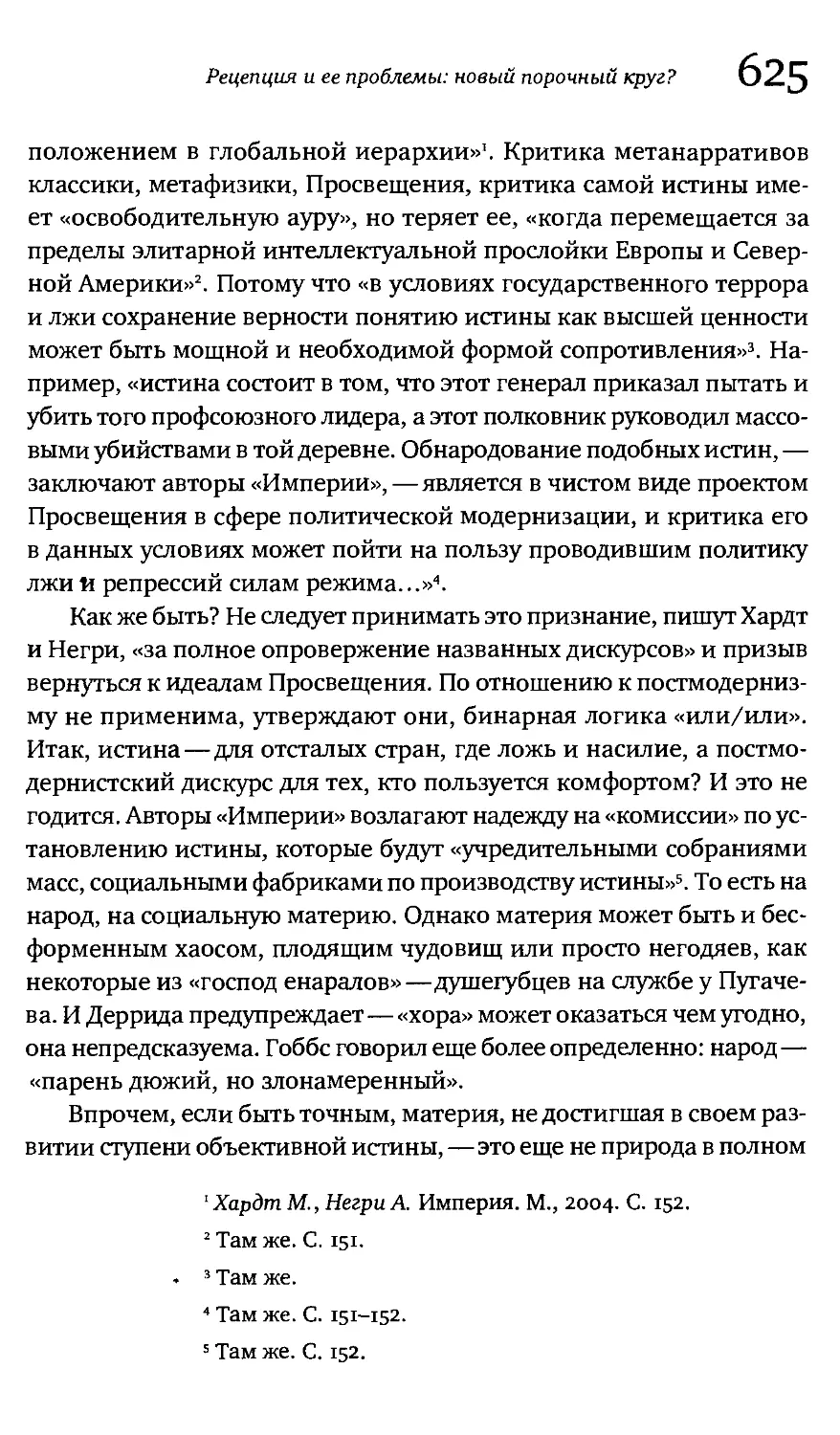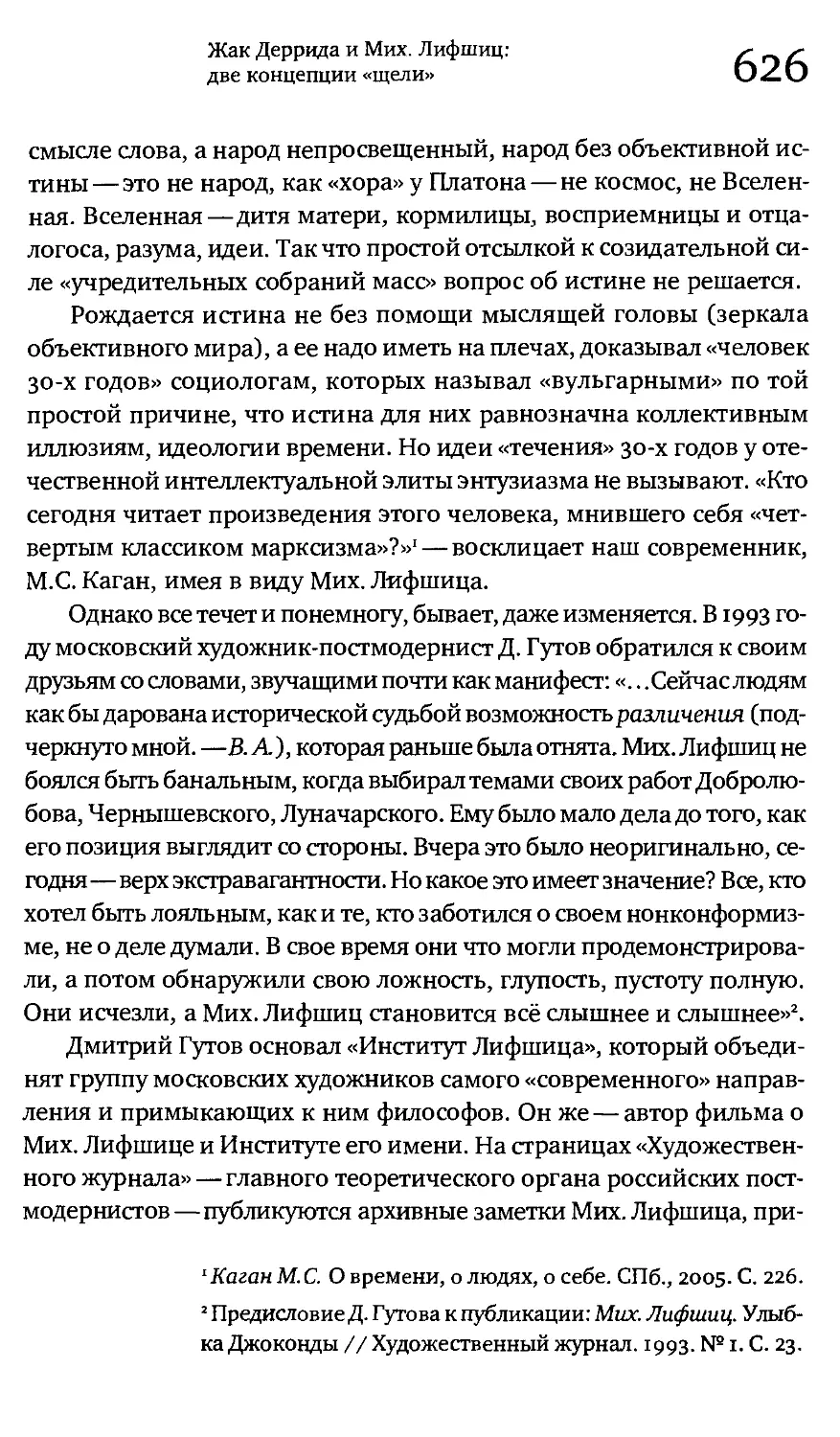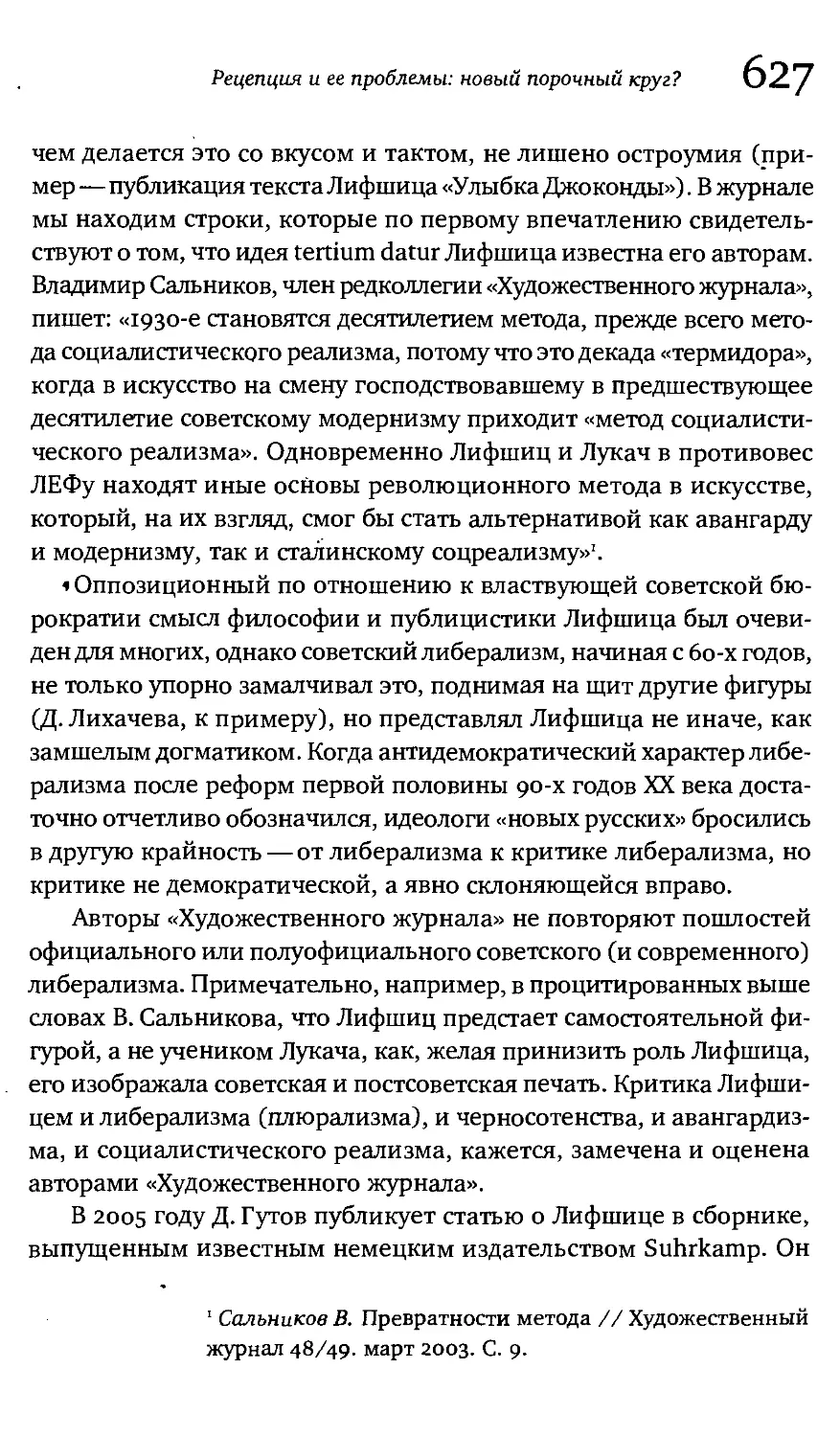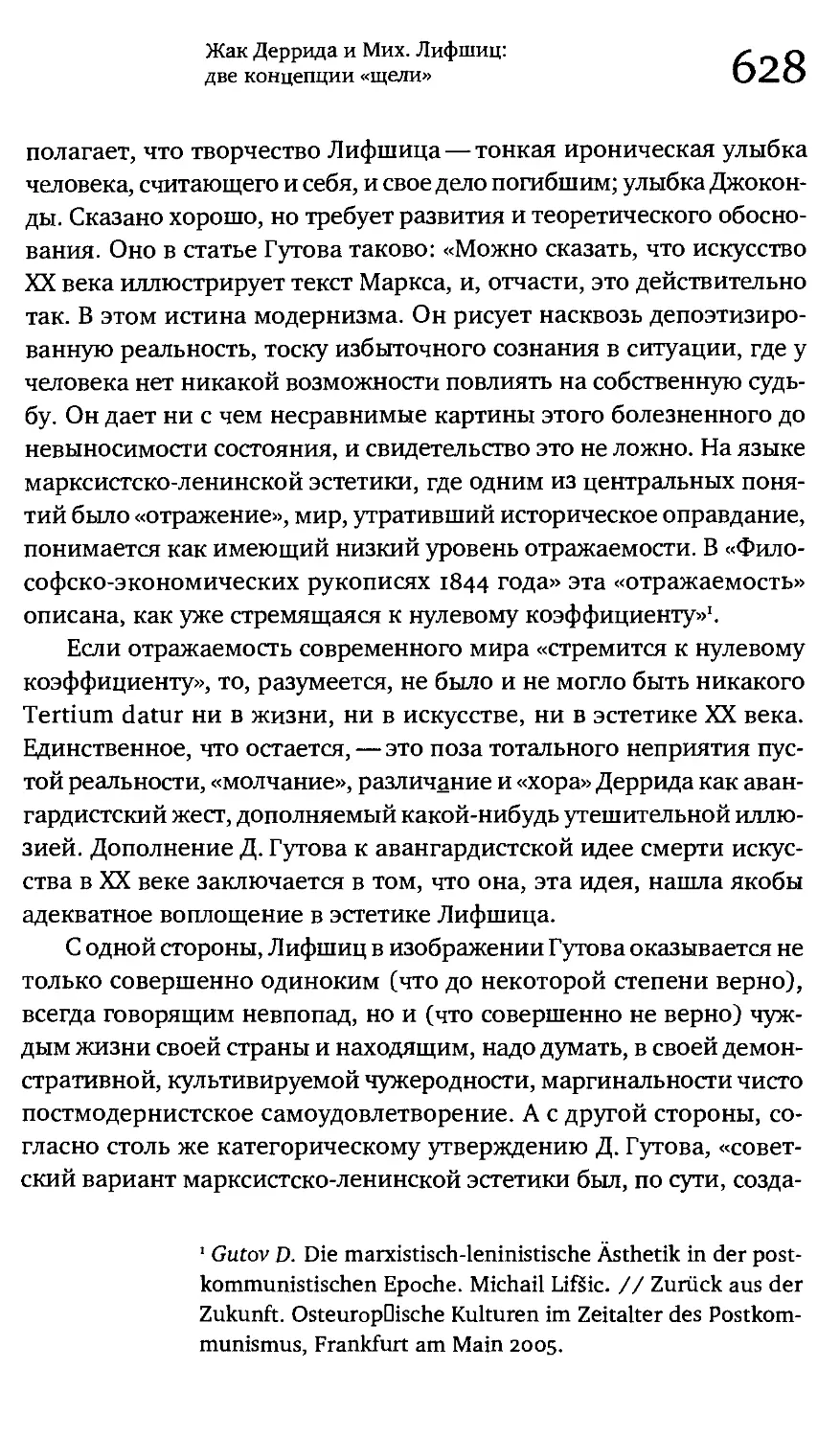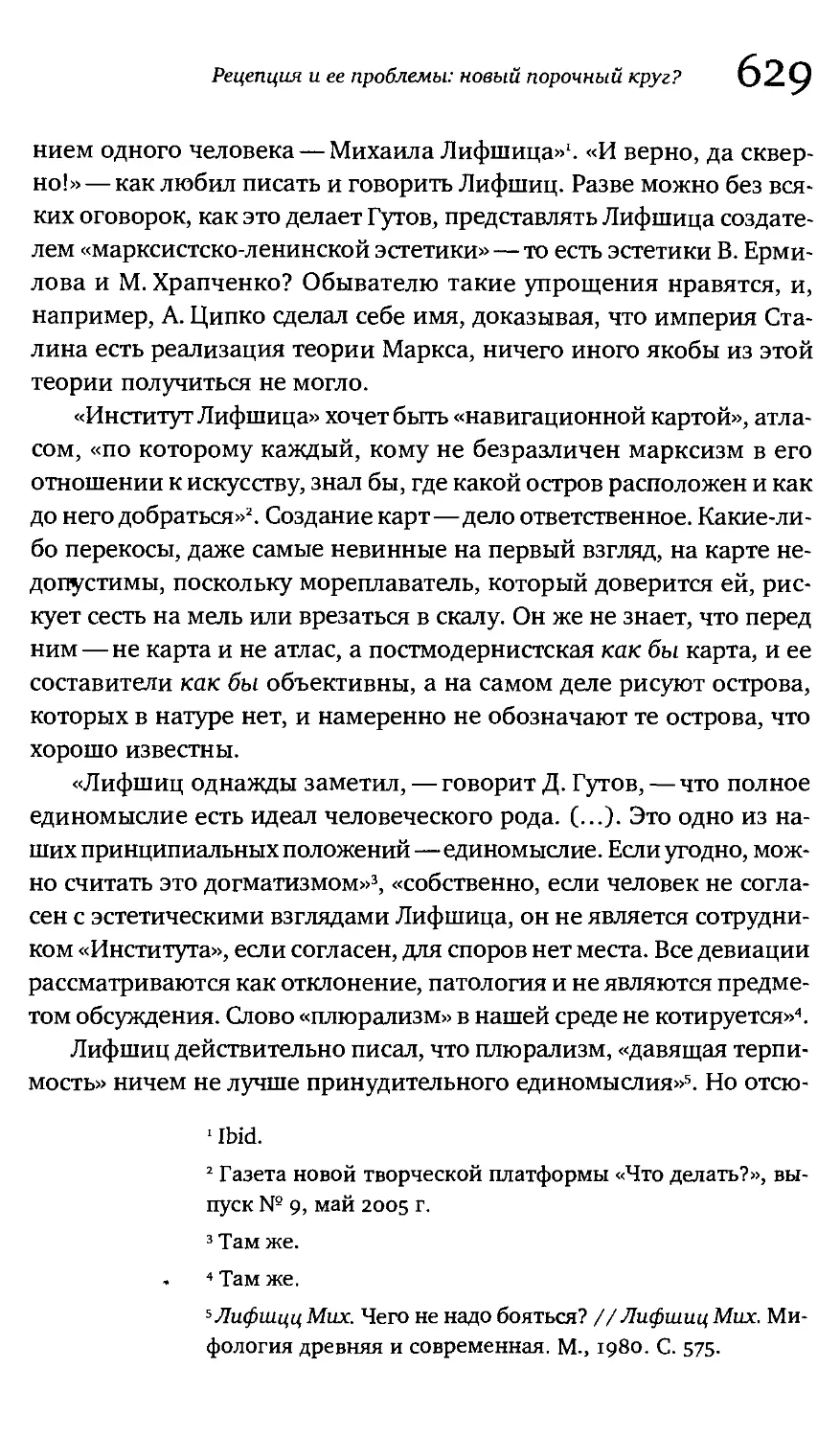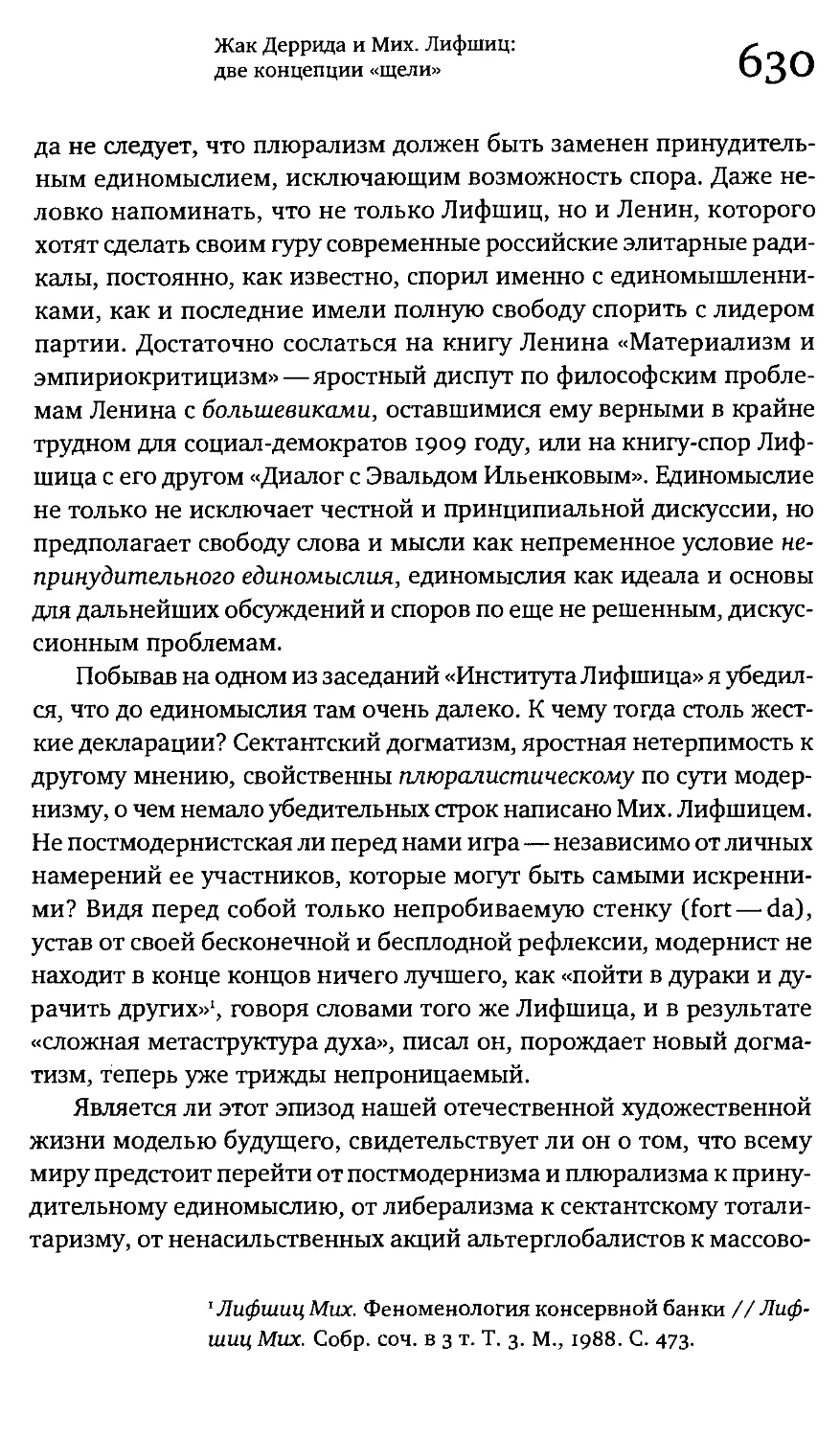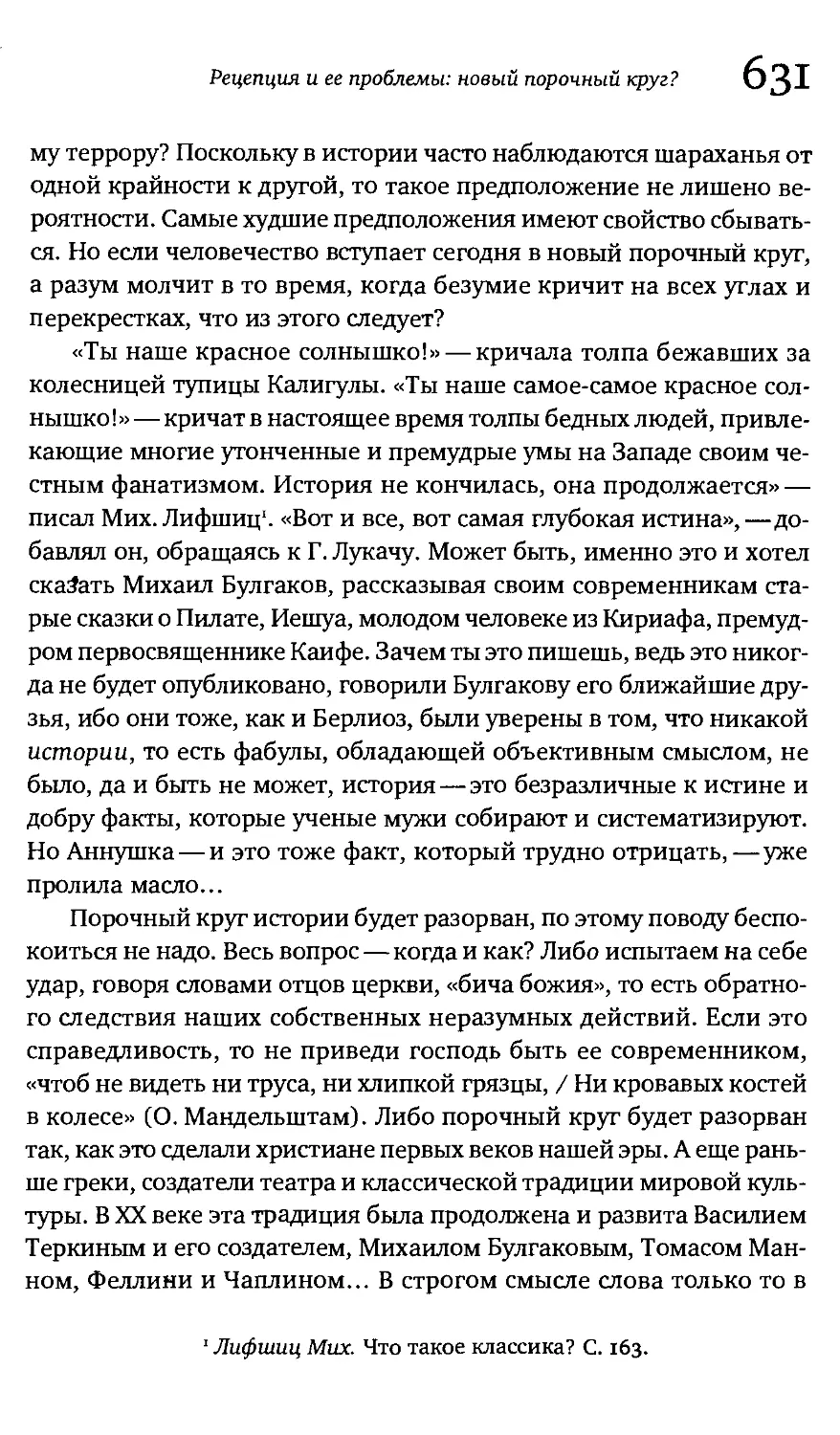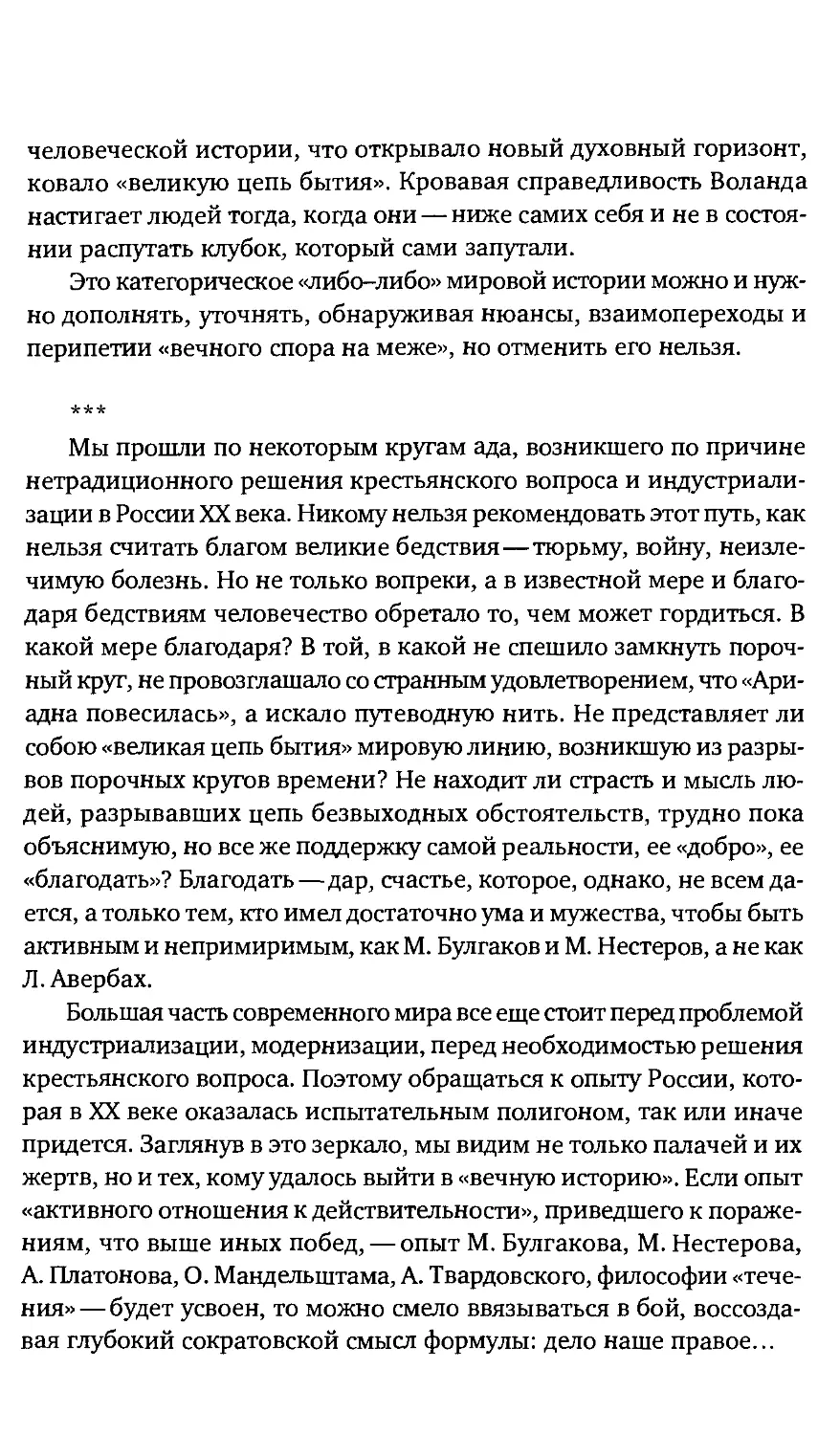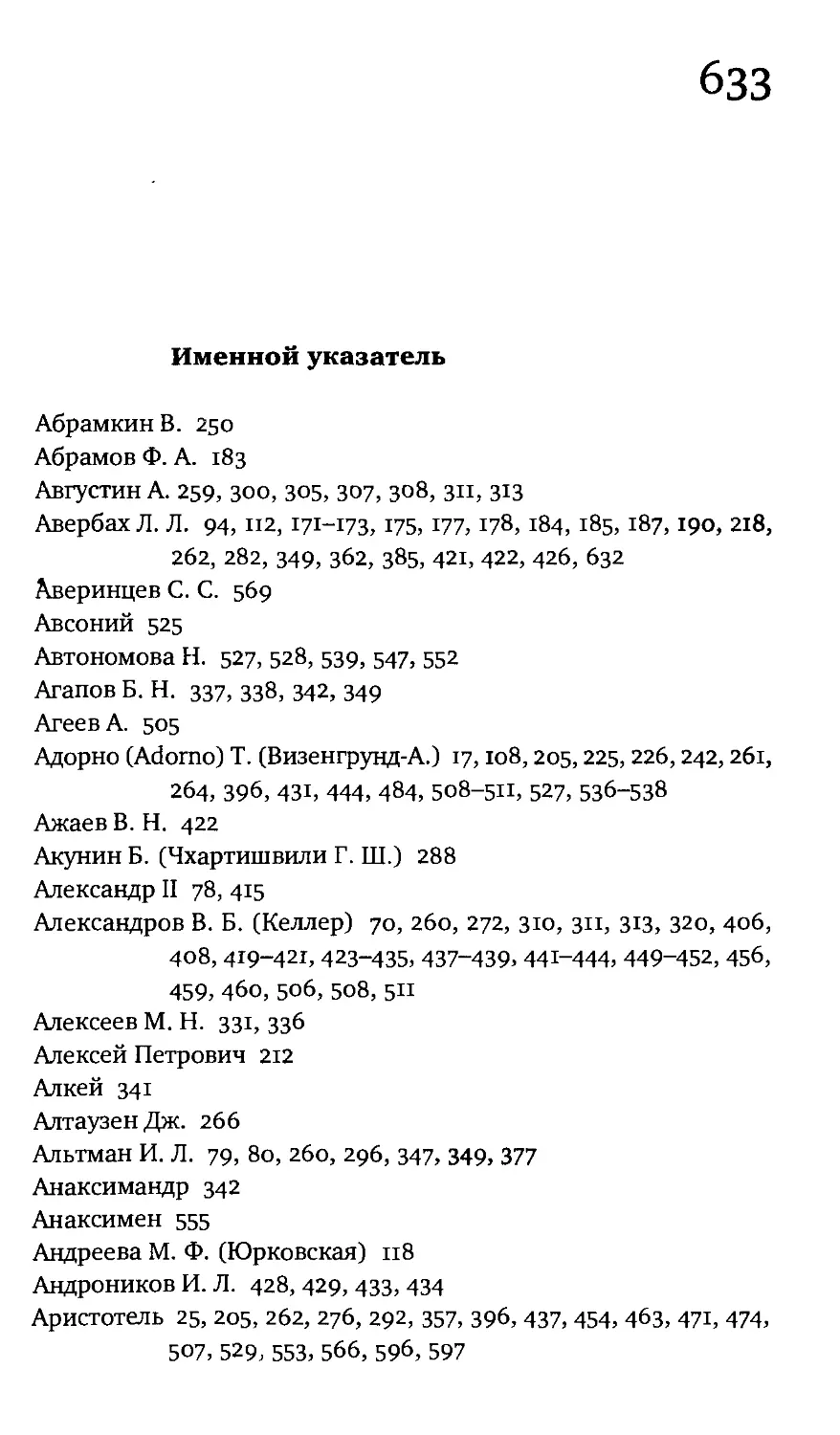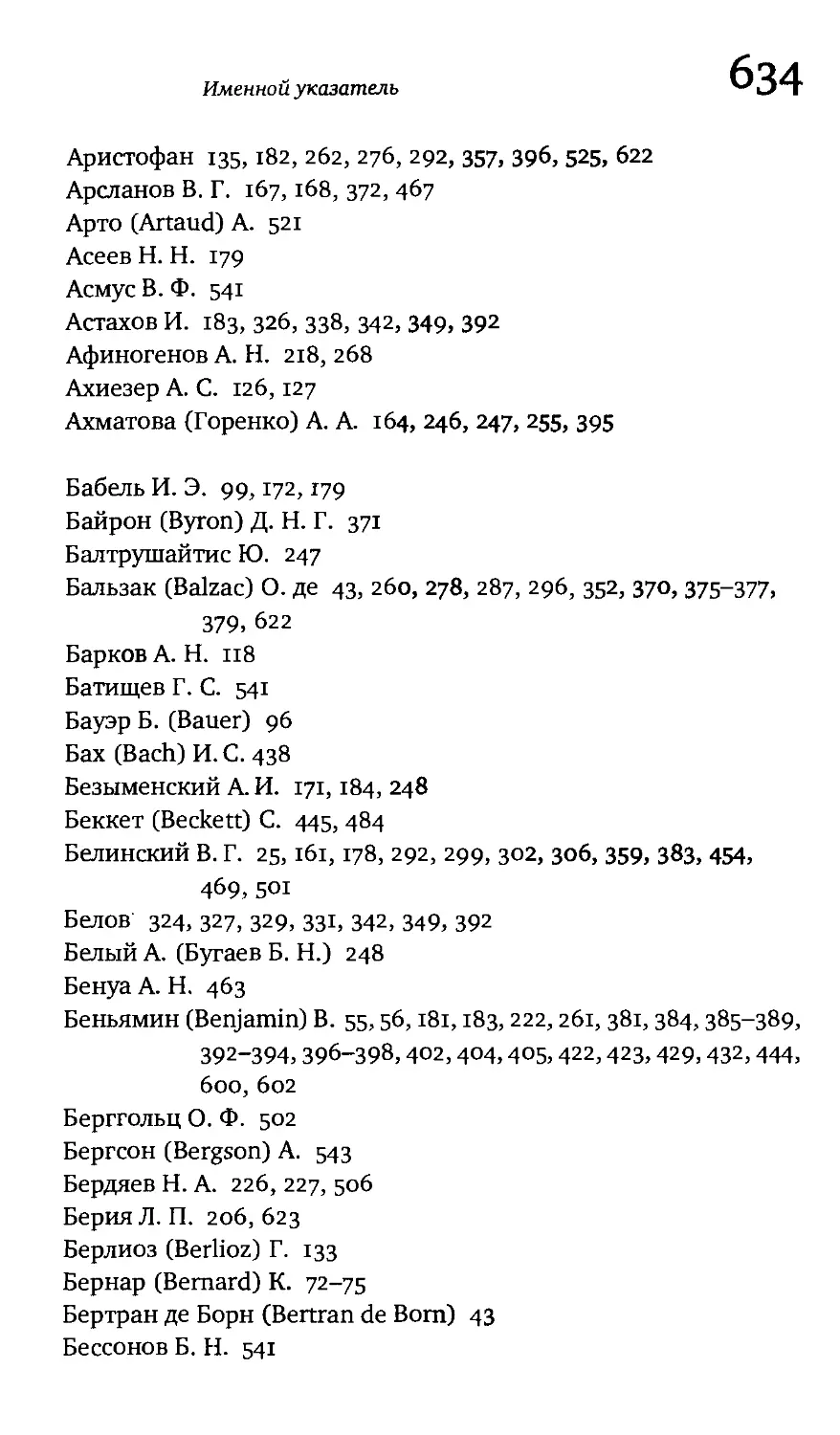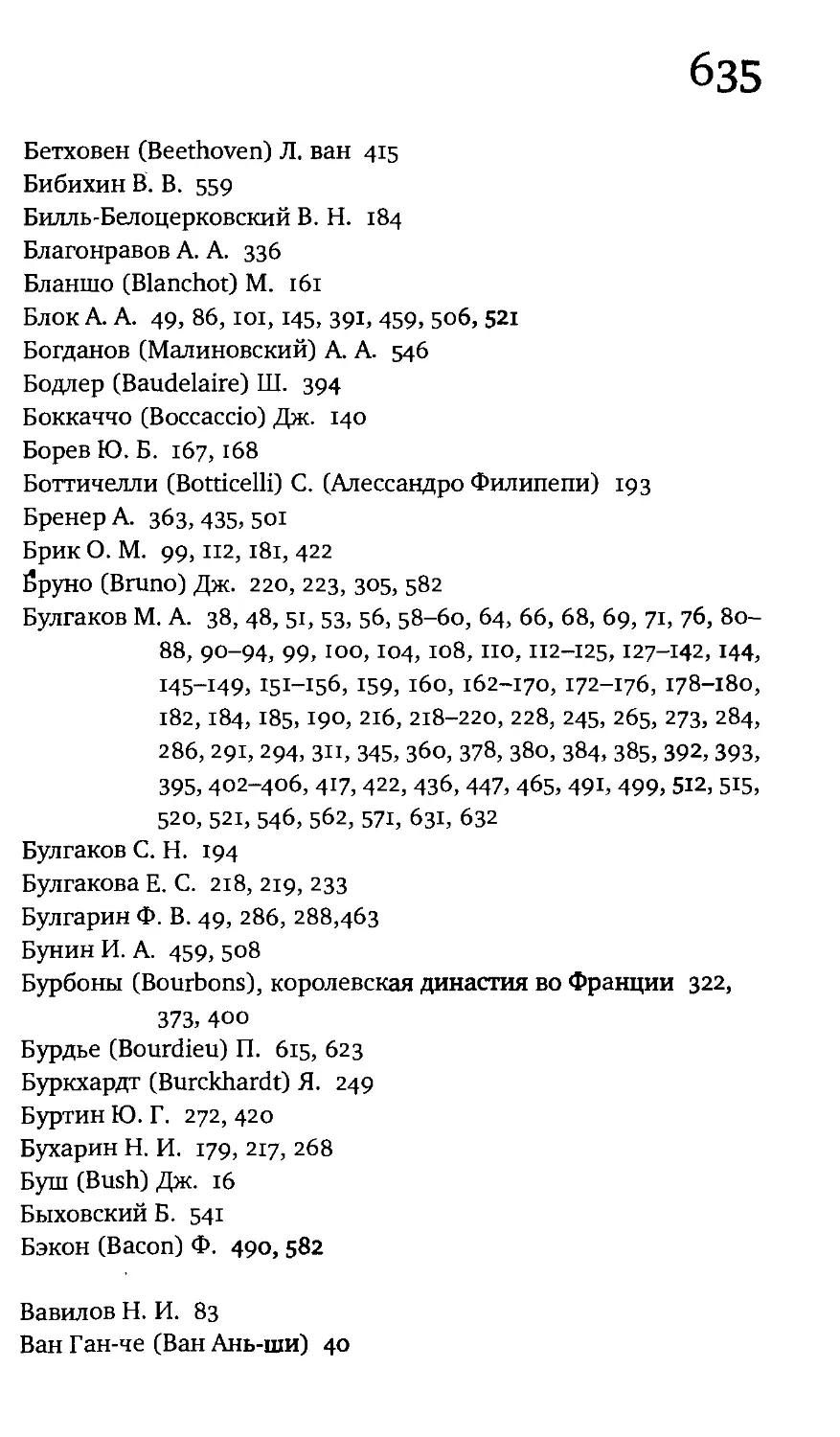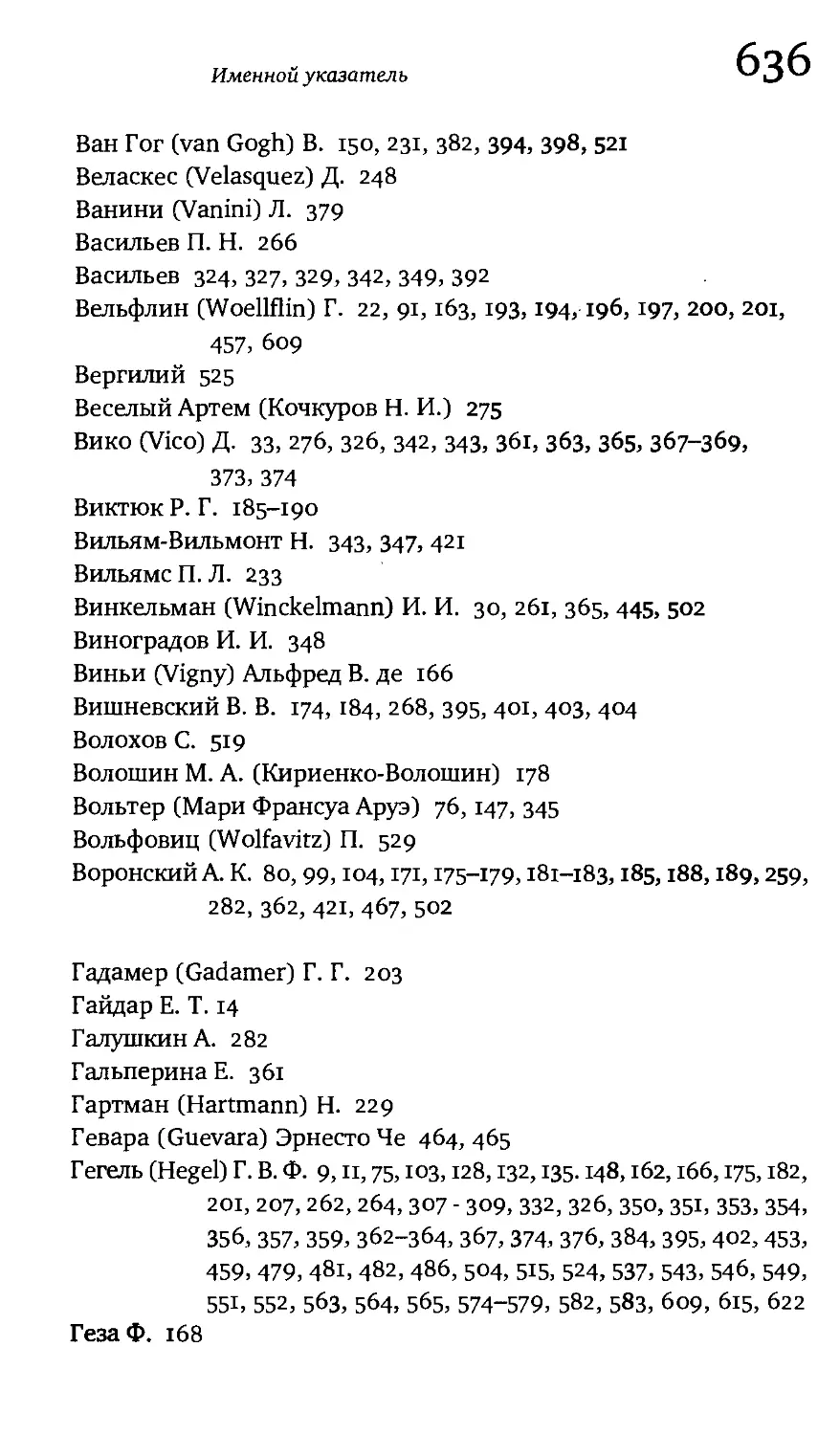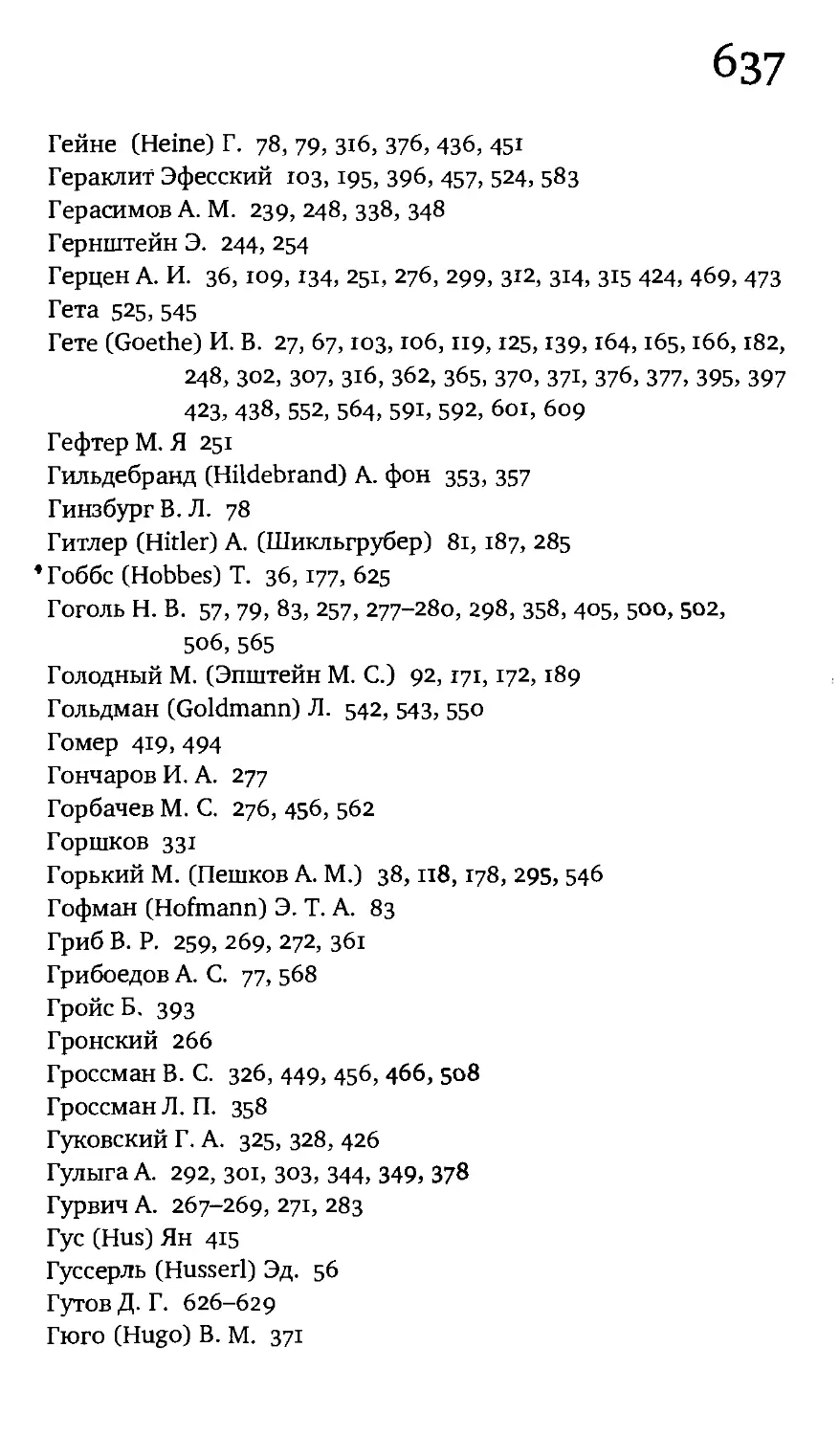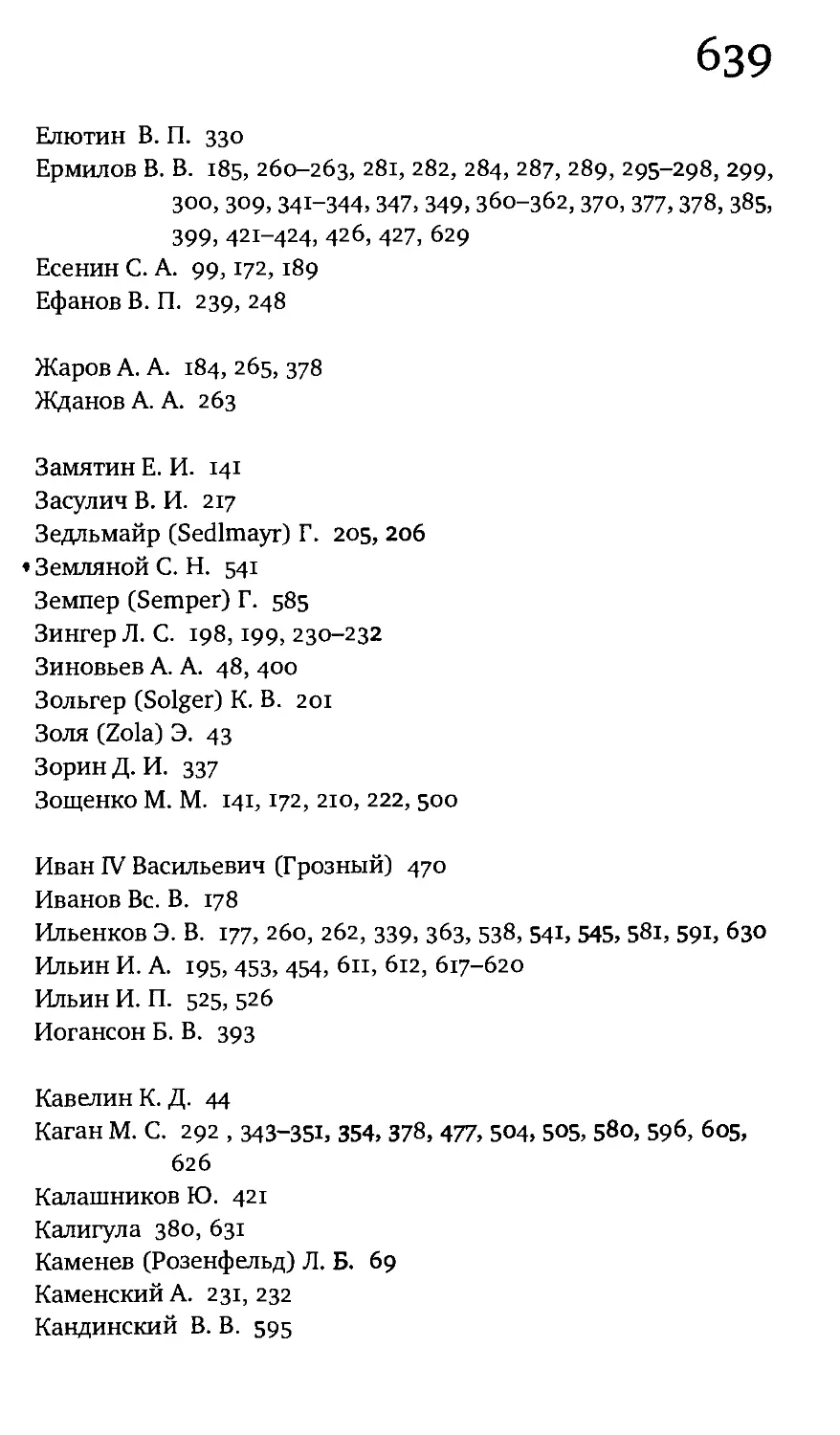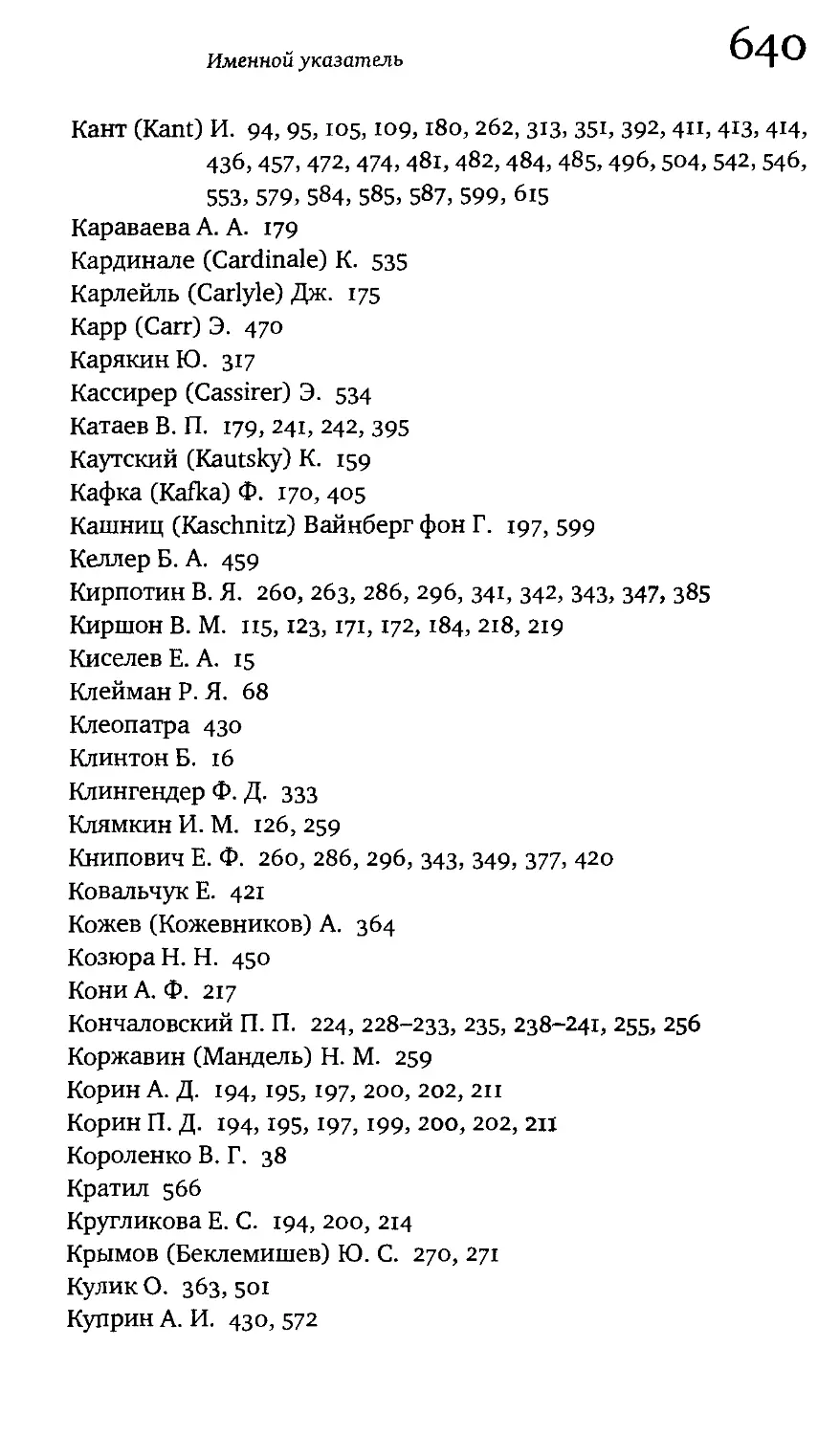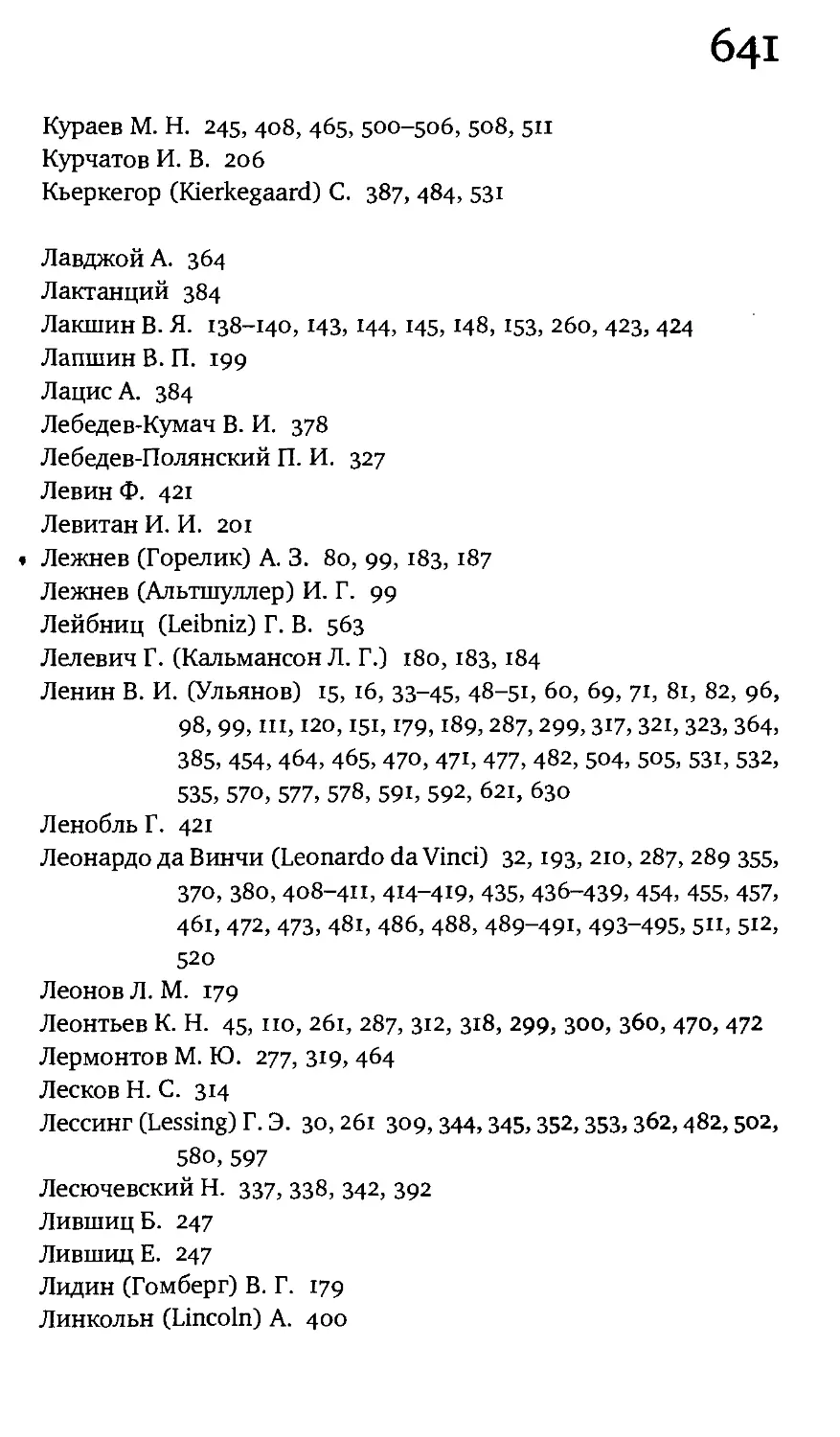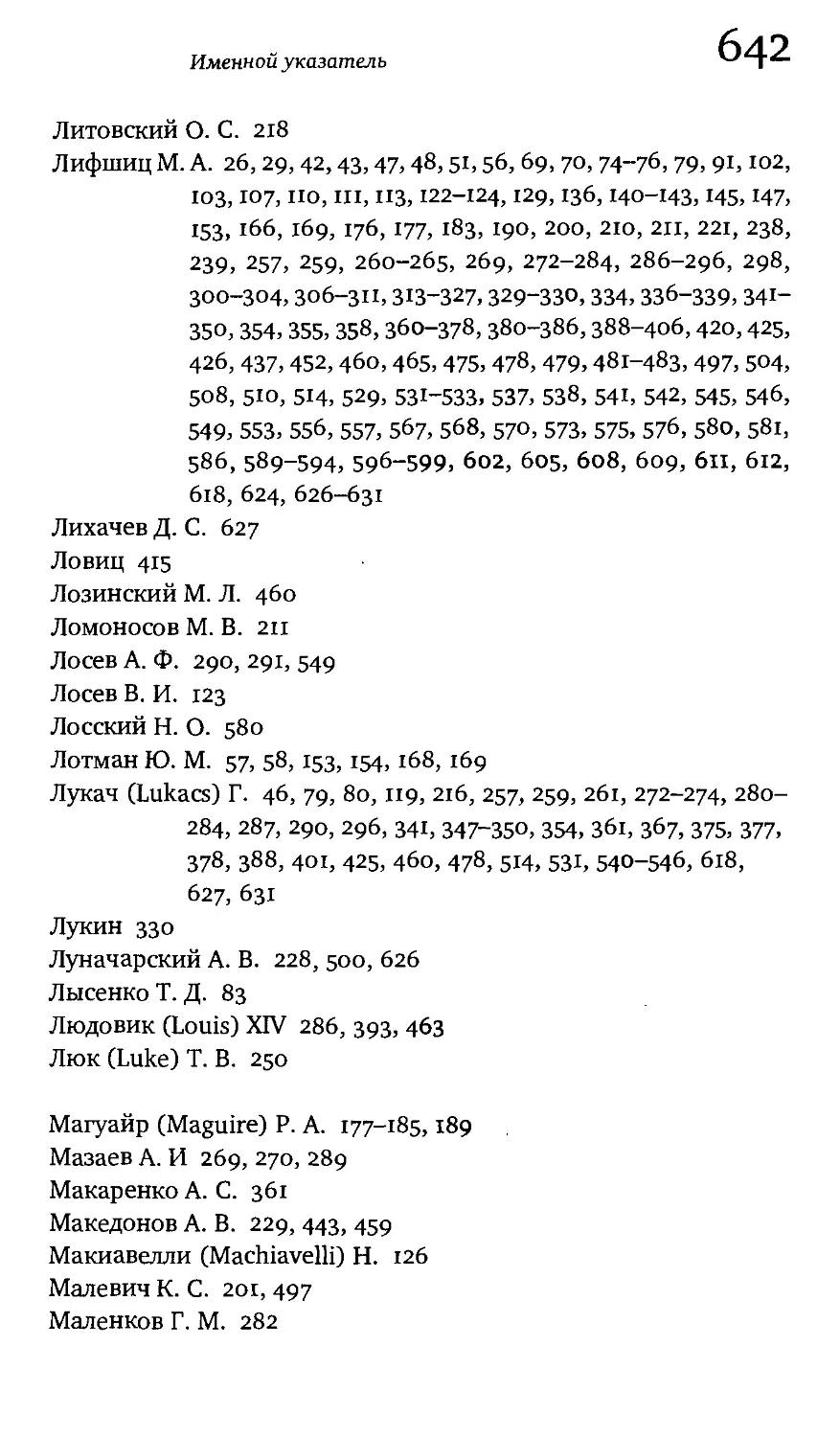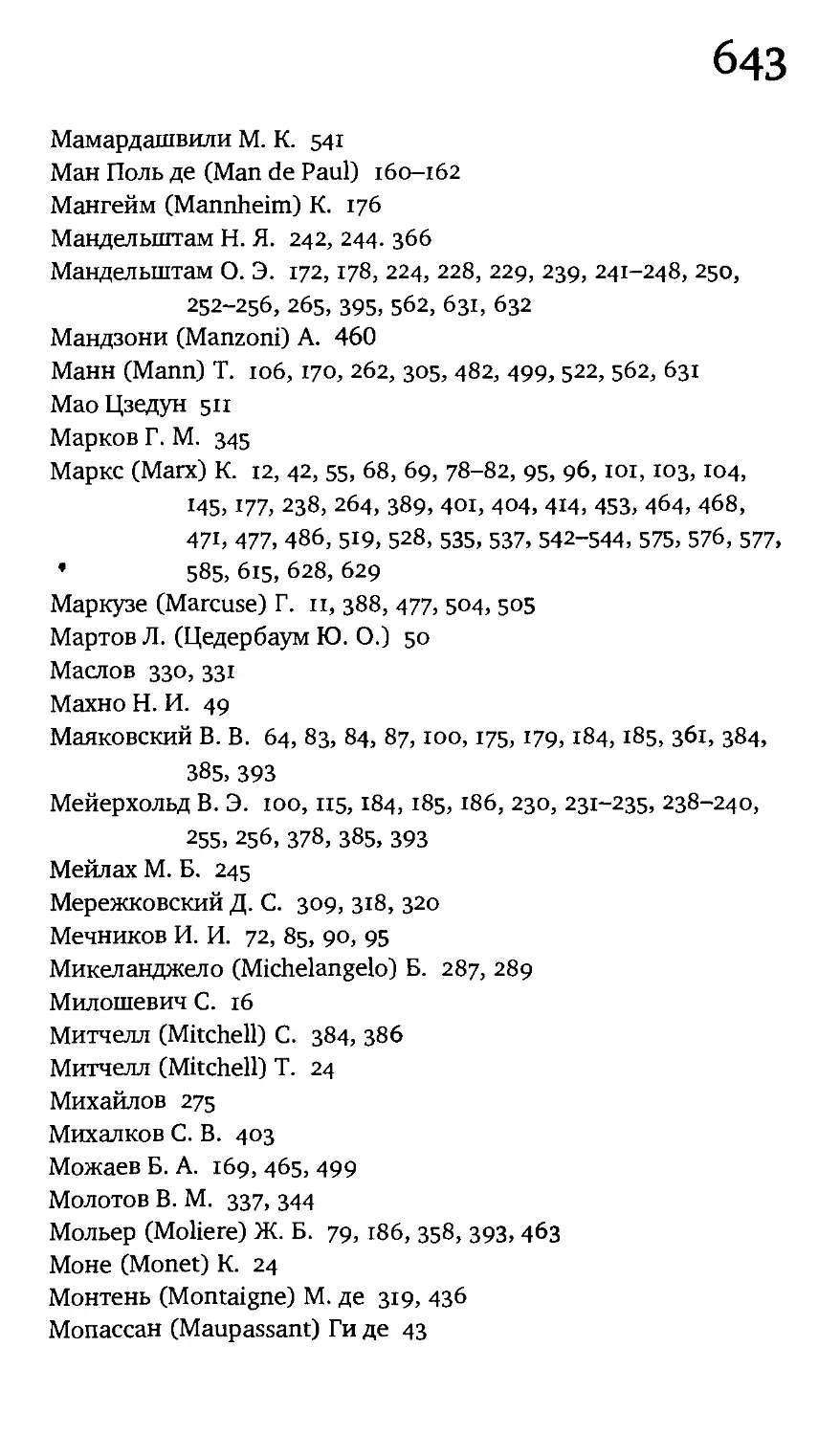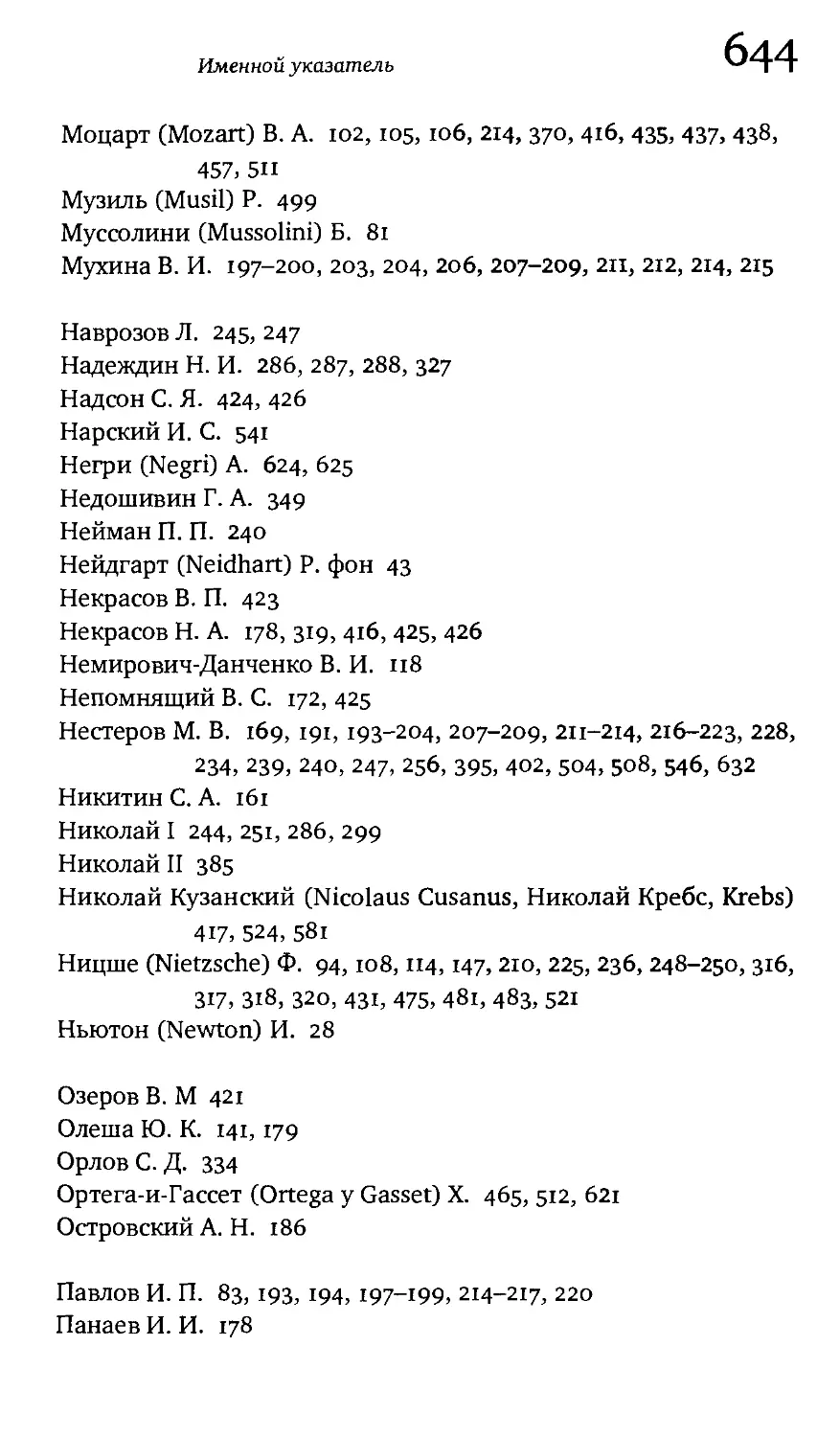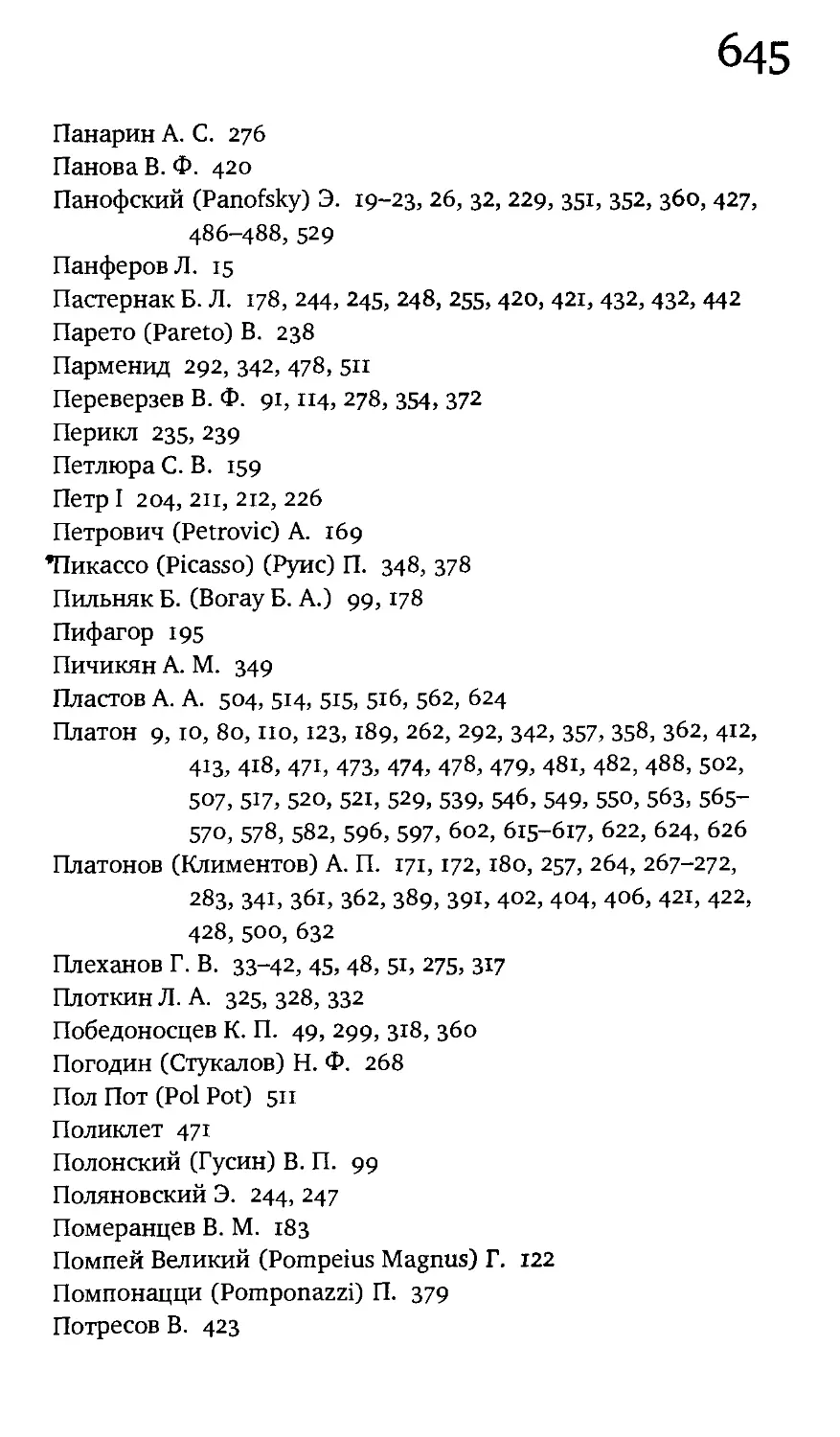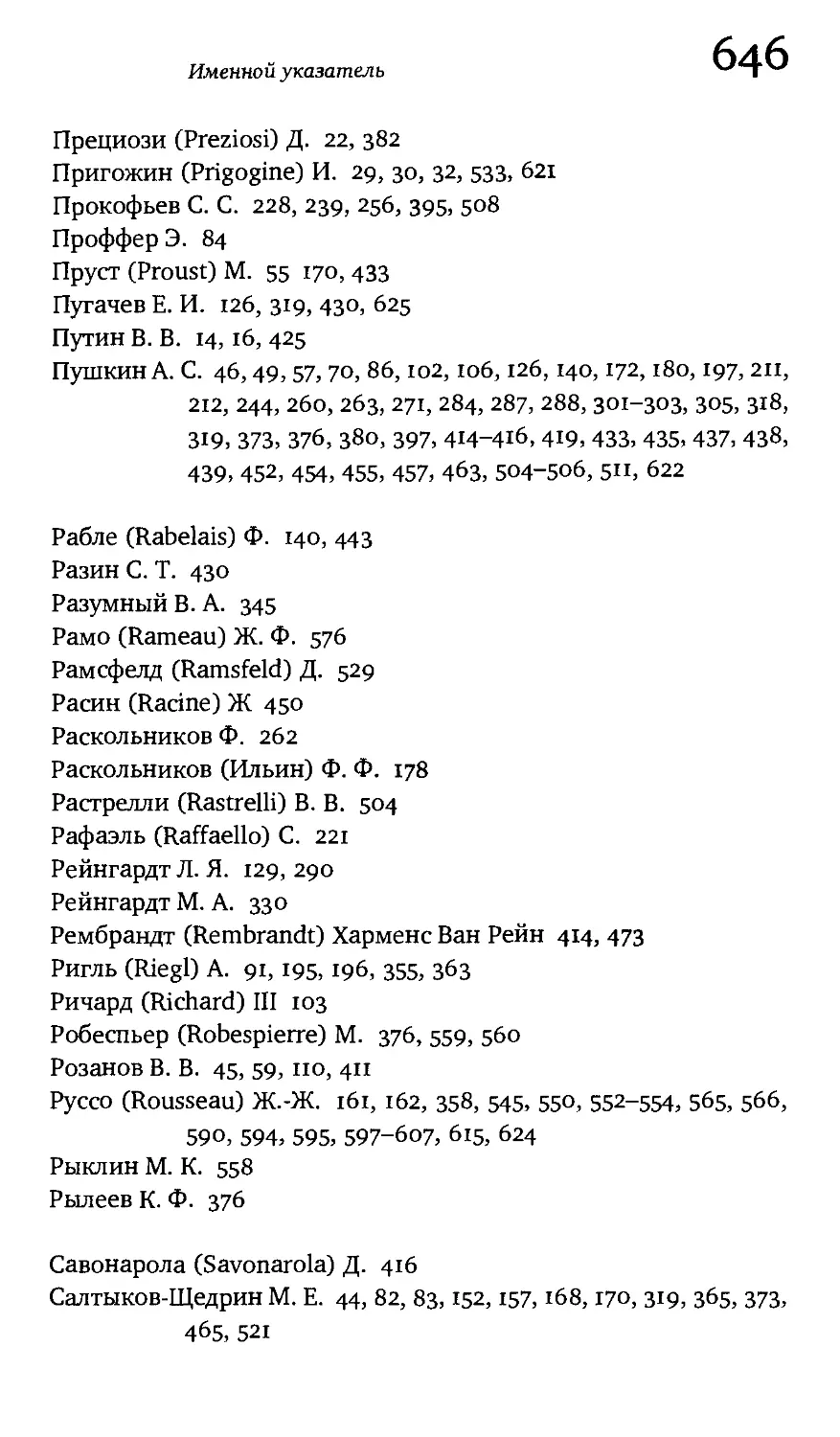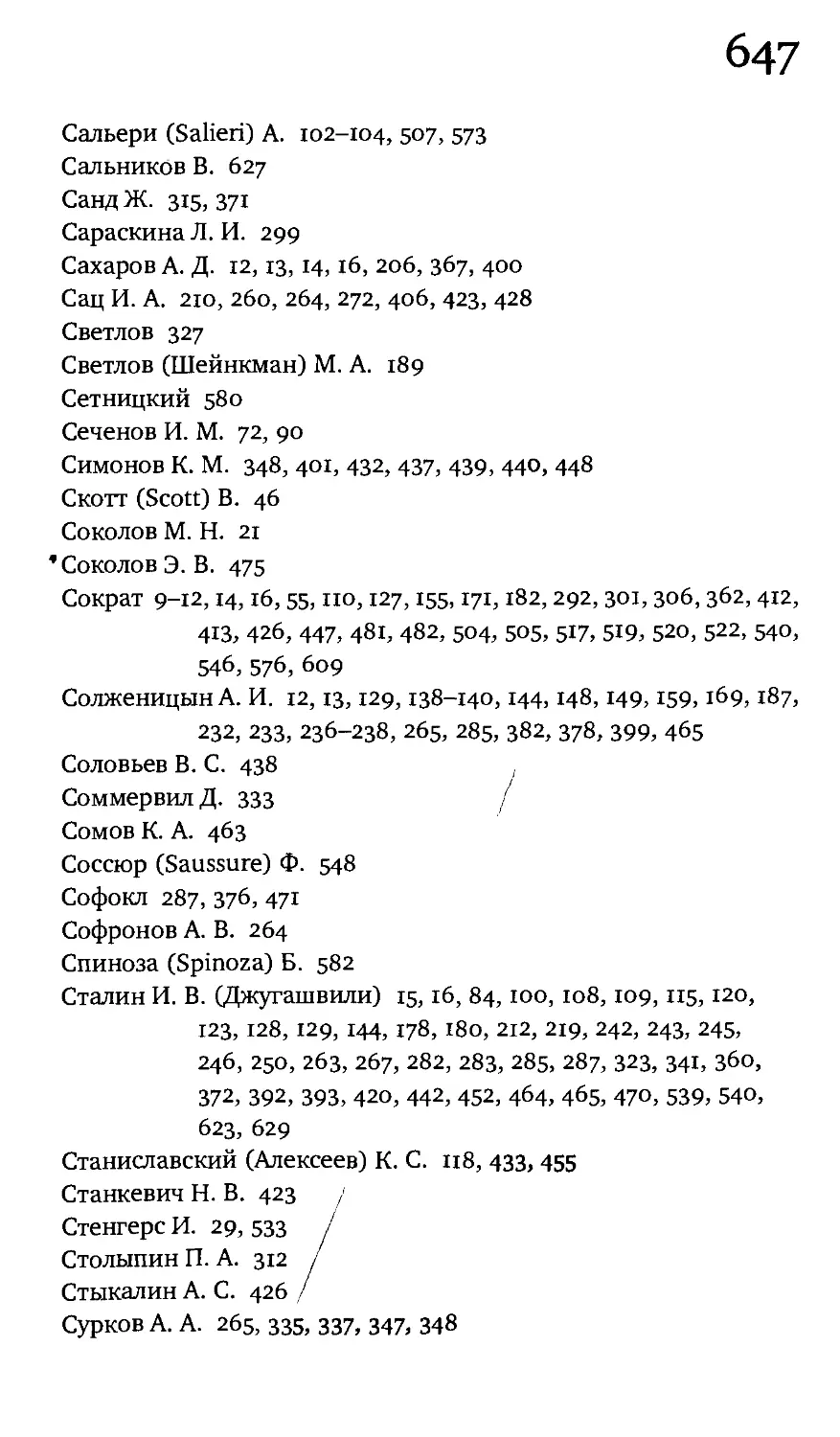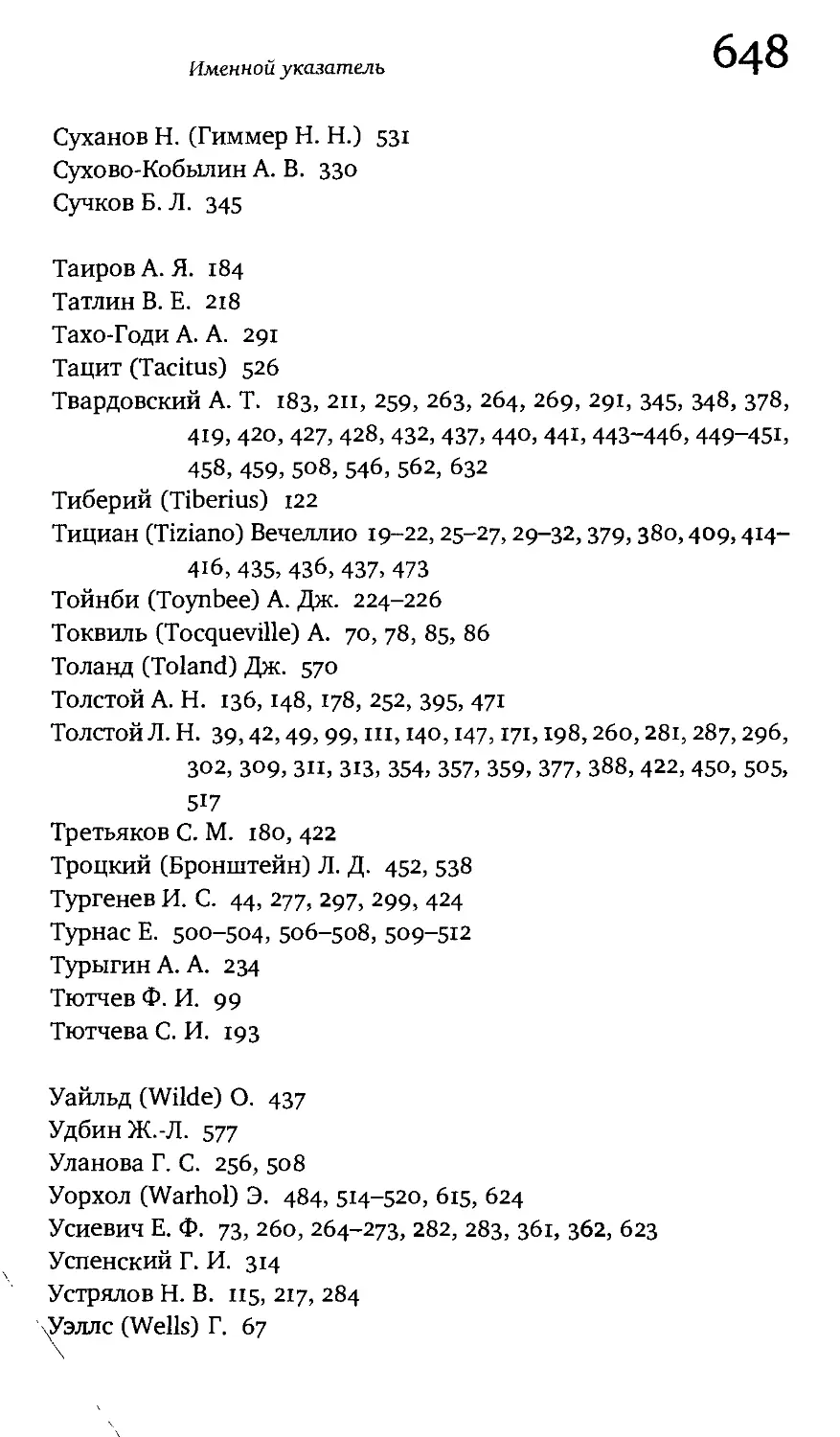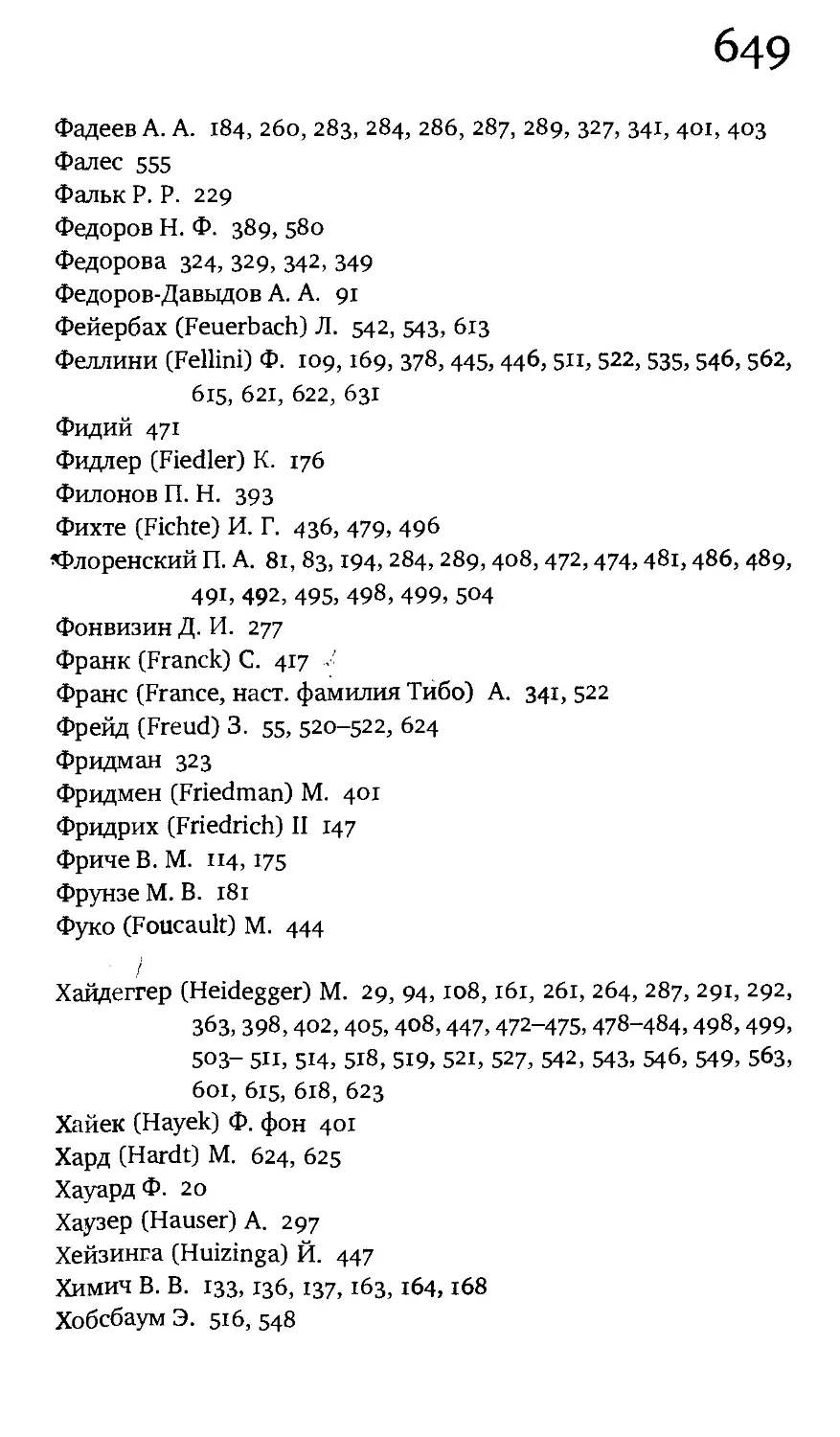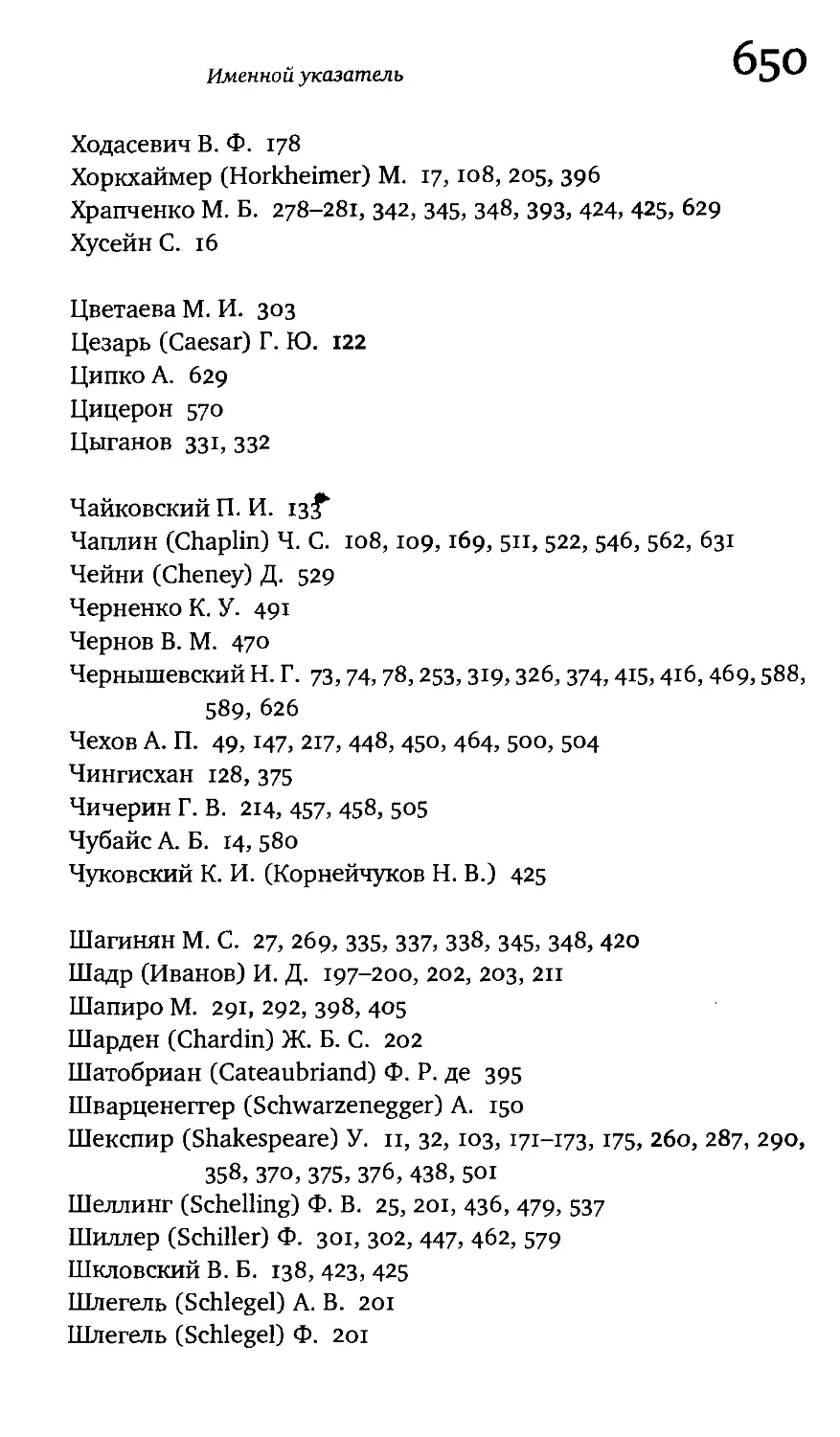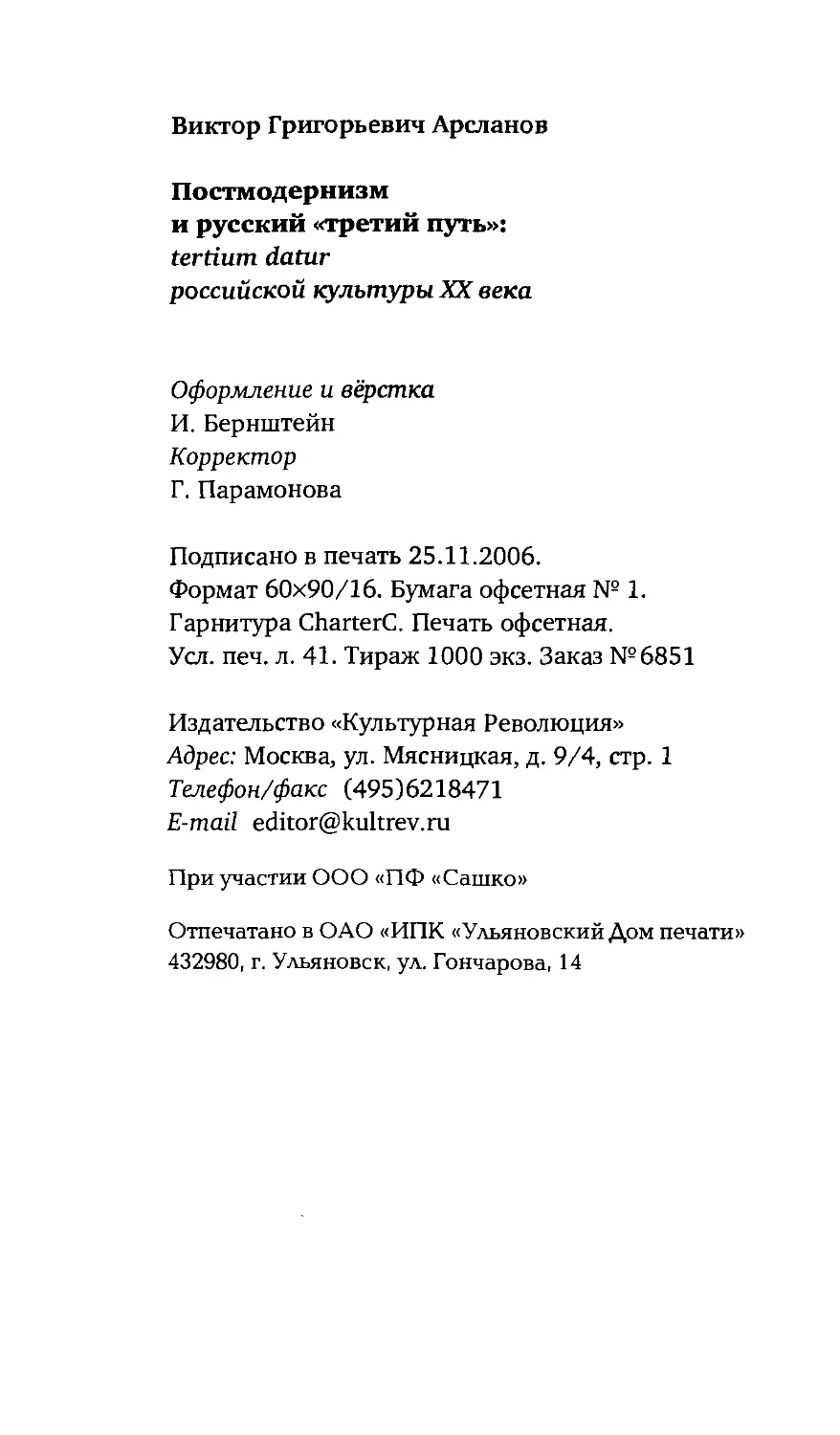Автор: Арсланов В.Г
Теги: философия культура постмодерн русский постмодернизм третий путь
ISBN: 5-250-06004-8
Год: 2007
Текст
В.Г. Арсланов
постмодернизм
и русский
«третий путь»
российской культуры XX века
В.Г. Арсланов
Постмодернизм
и русский «третий путь
Tertium datur
российской культуры XX века
Х4-
КУЛЬТУРНАЯ
Москва 2007
Арсланов В.Г..
А85 Постмодернизм и русский «третий путь»: tertium datur
российской культуры XX века. М.: Культурная революция,
2007.— QESTETICA).— 656 с.
ISBN 5-250-06004-8
Российская культура XX века искала выход из порочного круга,
рожденного послеоктябрьской историей. Несмотря на то, что, по
словам Ж. Делеза, «Ариадна повесилась, и лабиринт оказался без
нити», М. Булгаков, М. Нестеров, О. Мандельштам, А. Твардовский
каждый по-своему прошли по узкой тропинке между крайностями
либерализма и реакционной «державности». Обращаясь к архивным
источникам, материалам литературных и философских дискуссий от
20-х годов до наших дней, автор обнаруживает и исследует «третий
путь» отечественной культуры, отразившийся в идеях т.н. «течения»
(Мих. Лифшиц, Г. Лукач, В. Александров, Е. Усиевич и др.).
Работа выполнена в НИИ теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств.
© Культурная Революция. 2007
© И. Бернштейн. Оформление, 2007
3
Содержание
Введение.
& Порочный круг российской истории XX века
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики................................9
Цикл, порочный круг и прорыв его
(классические традиции
на примере «Аллегории благоразумия» Тициана) .....19
Пролог «на небесах» (спор Ленина с Плехановым
по аграрному вопросу в 1905 г.)...................33
53 Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
«Собачья радость» («бернарство»)..................58
«Подобие разностей и разница подобий»...............89
Реальность трансцендентального, его сила и слабость.95
Логоцентризм — отрицание идеального начала бытия .... 105
>• Мир, обретающий голос (справедливость понимающая)
и богооставленный мир (справедливость карающая)....114
Трансцендентальное и реальное как проблема истории
(Иешуа и Понтий Пилат)...........................120
eV’
Аристофановская веселость........................131
Бог и сатана (Иешуа и Воланд)....................137
4
Дом Иешуа..........................................153
«Узоры, которые лепит время...»....................160
Финал или пролог? («Седьмое доказательство» Воланда) ... 171
191 Трагедия и классика
Человек 30-х годов. Портреты М. Нестерова..........193
«... Пишется — казнь, а читается правильно — песнь».
Трагическая тема в искусстве
П. Кончаловского и О. Мандельштама зо-х годов......224
257 Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт в духовной жизни
советской России
Два поколения в одном..............................259
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня....................................263
Спор о Гоголе: вчера и сегодня.....................274
«Народность» — «вещь в себе» 30-х годов............281
Начало дискуссии —
«действительность» и «бездомность».................290
Достоевский: отталкивание от совершенства, истины 295
«Ветошка имеет тенденцию превратиться в удавку».....314
«Такие чудеса бывают иногда в области философии»
(дело о защите диссертации, 1944-1956 гг.).........322
Справедлива ли история?............................341
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача......................350
«Вторичный» консерватизм — разрыв порочного круга ... 363
«Restauratio Magna» против «Restitutio in integrum».382
5
407 Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики
середины XX (В. Александров)
и начала XXI (М. Кураев) веков
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)................409
Первое схождение «параллельных линий»
(проблема артистизма
в литературной критике В. Б. Александрова).........419
S t
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)...............464
Проблема истины, бытия и субъекта у Хайдеггера,
’ Флоренского и традиция гуманизма
в отечественной эстетике XX века.................472
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта.........486
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки»....................498
513 Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
Энди Уорхол и Аркадий Пластов.
Феномен modernity и «современного искусства».....515
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива» его философии .... 520
XX век: ситуация «между»...........................528
Лукач, Хайдеггер, Деррида и «течение» 30-х годов —
проблема объективации..............................540
Знак, отражение, «восполнительносгь»...............547
Этос «неподкупного» мышления:
«строгость вкуса» и «непреклонная борьба с доксой».558
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?.................562
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи.....................571
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе...............579
Порочный круг классической теории подражания......594
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории....613
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг? .....624
633 Именной указатель
Введение.
Порочный круг
российской истории
XX века
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики
Цикл, порочный круг и прорыв его
(классические традиции
на примере «Аллегории благоразумия» Тициана)
Пролог «на небесах» (спор Ленина с Плехановым
по аграрному вопросу в 1905 г.)
9
Прежде чем приступить к основной теме настояще-
го исследования — порочного круга российской истории, российс-
кой культуры XX века и его разрывов — несколько слов о самом по-
нятии круга. Оно совершенно различно в классической традиции и
в постмодернизме. Круговое движение, цикл, возвращение предпо-
лагают некий общий критерий, на основе которого тезис отличен
от антитезиса, истина—от лжи. Причем различие это для всех «клас-
сиков», от Платона до Гегеля, — качественное, что не устраняет, а
как раз предполагает тождество противоположностей (лежащее в
основе круга, как «дурного», порочного, так и истинного возвраще-
ния к первоначалу в диалектической логике).
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики
Совершенно иная концепция круга у постмодерни-
стов. Обратимся к Жилю Делезу и позволим себе сделать длинную
выписку: «Не повторить ли еще раз, в третьих, что симулакру есть
чем оспорить и понятие копии, и понятие образца? Образец в раз-
личии разрушается, в то время как копии укореняются в несходстве
интериоризируемых рядов; так, что никогда не скажешь, где копия,
а где оригинал. Таков конец Софиста: возможность триумфа симу-
лякров, поскольку Сократ отличает себя от софиста, но софист себя
от Сократа не отличает и ставит под сомнение законность такого от-
личения. Сумерки икон. Не является ли это определением места, где
идентичность образца и подобие копии будут заблуждением, одина-
ковое и подобное—иллюзиями, порожденными функционировани-
ем симулякра? Симулякр воздействует на себя, вновь и вновь про-
ходя через смещенные центры вечного возвращения. Это уже не
платоновское стремление противопоставить космос и хаос, как буд-
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
ю
то Круг — отпечаток трансцендентной Идеи, способной навязать
взбунтовавшейся материи подобие с собой. Все как раз наоборот —
имманентное тождество космоса и хаоса, бытие в вечном возвраще-
нии, извилистый круг. Платон пытался упорядочить вечное возвра-
щение, превращая его в результат Идей, то есть заставляя его копи-
ровать образец. Но в бесконечном движении убывающего от копии
к копии подобия мы достигаем той точки, где все сущностно меня-
ется, сама копия превращается в симулякр, где наконец подобие,
духовная имитация, уступает место повторению»'.
Итак, Сократ себя отличает от софиста, а софист себя от Сокра-
та не отличает. В этом все дело, все остальное — слова. Это не про-
стое отсутствие качественной границы, размывание ее, это именно
новое понимание самого различения, так сказать, различие наоборот.
При обычном, «классическом», различии Сократ отличает себя от со-
фиста, поскольку истина отличается от лжи, истина в первом пони-
мании, то есть как соответствие образа предмету, и истина во вто-
ром понимании как истинная реальность отлична от реальности
неистинной: Сократ — истинный философ, а софист — нет, всего
лишь обманчивое подобие его, симулякр.
Но это классическое различие больше, как правило, не работа-
ет в современном мире, в чем относительная правота Делеза. Тот,
кто стремится отличать себя от софиста, а истину—от лжи, впада-
ет, как правило, в противоположное. Все претензии выступать от
имени истинного бытия закончились катастрофой. Вместо истинно-
го бытия на свет божий явились какие-то абсолютно непонятные
монстры, сущность которых невозможно определить—они так же
не доросли до истины, как вещество в период хаоса, как элементар-
ные частицы. Причем это были не претензии только на объективную
истину, а по-видимому, настоящее продолжение и развитие класси-
ческих традиций. В противном случае все укладывалось бы в рам-
ки здравого смысла — произошло отклонение от этих традиций, а
сама по себе традиция так же осталось не затронутой, как существо-
вание глупцов не затрагивает факта существования умных.
Но тут совершенно другое. Не сон разума рождает чудовищ в XX ве-
ке, а его бодрствование и чрезвычайная активность. Правда, софи-
' Делез Жиль. Различие и повторение, СПб., 1998. С. 162.
• j' . «Извилистый круг» Жиля Делеза — —
- * вместо цикла классики *-
сты всех времен, в том числе и Делез, не хотят замечать, что обратная
теорема неверна. Если бы софист создавал истину, то мы имели бы
просто перевернутый мир в том смысле, который в это понятие вкла-
дывал Гегель в своей «Феноменологии духа». Однако софист не про-
изводит и лжи в классическом понимании этого слова. Он успешен
в отличие от тех, кто продолжает традиции Сократа (Г. Маркузе в сво-
ей книге о советском марксизме рассматривает Ленина как полити-
ка, основывающего свою тактику и стратегию на идее сократовской
объективной истины). Но успешный лжец и дурак—известная фи-
гура в классической традиции. В конечном итоге он проигрывает,
как Клавдий у Шекспира, хотя проигрыш этот совсем не очевидный
и не окончательный—тем не менее перевес нравственный все же
не на его стороне, и в очень отдаленной перспективе проглядывает
торжество добра, и эта перспектива определяет характер всей струк-
туры художественного произведения и теоретического мышления.
Согласно постмодернизму такая перспектива классического ис-
кусства и философии есть виновница всех бед, по крайней мере в
XX веке. «Различие и повторение заняли место тождественного и от-
рицательного, тождества и противоречия»1. Другими словами, исти-
на «крайности сходятся» не является абсолютной, более того, она от-
теснена на периферию как нечто условное и себя не вполне оправ-
давшее. «Происходит это потому, что различие не включает отрицание,
позволяя довести себя до противоречия лишь в той мере, в которой
его продолжают подчинять тождественному»1 2. Сократ отличает себя
от софиста и доводит это различие до отрицания того, что софист
вообще имеет какое-либо отношение к истине — он, напротив, про-
изводит ложь. Но эта логика Сократа основана на том классическом
допущении, что различие может доходить до противоречия, а про-
тиворечивые стороны в определенной точке оказываются тожде-
ственными. Сократ и софист не просто различны, они противоречат
друг другу, они не могут найти точку согласия по важнейшему воп-
росу об истинном и неистинном.
Но истина может переходить в ложь, а ложь—в истину. Не ав-
томатически, а при определенных условиях. Причем возможны два
1 Там же. С. 9.
2 Там же.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
12
типа тождества: «крайности сходятся» и тождество, по словам Лени-
на, «симфоническое». Любая истина, доведенная до крайности, ста-
новится ложью. Так, Сократ, который бы претендовал на всезнание,
стал бы софистом и лжецом. А глупость, как показал Эразм, может
превосходить ум, не переставая быть глупостью. Глупость есть по-
рождение цивилизации, она возникла вместе с умом и сопровождает
его, как тень, на протяжении всей истории. На стороне Иванушки-
дурачка— сила непосредственности, сила стихийного течения жиз-
ни, которая оказывается хитрее всех наших выдумок и даже неиз-
бежным возмездием за ум. «Горе от ума» исчезнет лишь вместе с
исчезновением этой противоположности, вернее, изменится сам ха-
рактер этих противоположностей, когда вместо ложных крайностей
явятся истинные: «стихийная разумность» и «разумная стихия». Та-
кова суть коммунистического проекта Маркса. На основе подобной
«теории тождеств» различие неизбежно перерастает во взаимное
отрицание. Тождество ума и глупости, предлагаемое софистом, каче-
ственно отлично от тождества их, вытекающего из сократовско-пла-
тоновского принципа: они непримиримы, они отрицают друг друга.
Логика софиста, логика симулякра совершенно иного характе-
ра. Она не доводит различия до отрицания и поэтому представляется
более «либеральной», более терпимой. Хотя эта терпимость, как
специально подчеркивает Делез, имеет свою кровавую сторону и
вовсе не напоминает христианское всепрощенчество. Она—просто
в другой плоскости по сравнению со всей классической традицией,
которая до известной степени включает в себя и христианство.
В каком же смысле симулякр не доводит различия до отрицания?
Возвращаемся к положению, согласно которому софист себя от Сокра-
та не отличает. Эта логика ныне более реальна, чем классическая.
Начнем с того, что после поражения Октября «Сократов» мы более не
видим на общественной сцене или в частной жизни—они произвели
чудовищ и ушли в небытие. Вместо них выступают фигуры, лишь с
большей или меньшей степенью напоминающие Сократа—не по при-
чине недостатка ума, а просто потому что несут в себе совершенно
иной мировоззренческий и поведенческий принцип. Возьмем для при-
мера А. Сахарова и А. Солженицына у нас, Делеза и Деррида «у них».
Поначалу и Сахаров, и Солженицын воспринимались как новые
пророки, люди, несущие объективную истину и в соответствии с ней
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики
13
изменяющие мир. Это совершенно сократовский взгляд, нашедший
свое завершение в марксизме. Надо заметить, что и Сахаров, и в осо-
бенности Солженицын видели себя в русле именно классической
парадигмы, хотя каждый из них с той или иной степенью остроты
отрицал марксизм.
Сахаров искренне и героически сопротивлялся злу этого мира —
коррупции, насилию, национализму. Его идеал—демократический
капитализм классического типа, основанный на гражданском обще-
стве, как его понимали буржуазные демократы и просветители. Но
ныне, при всем пиетете по отношению к Сахарову, люди, вышедшие
из среды так называемых демократов эпохи перестройки, относят-
ся к нему как к романтику, чьи идеалы благородны, но, к сожалению,
слишком хороши для этой жизни. Однако они сами не понимают,
что говорят. По инерции они мыслят в духе ставшей привычной для
большинства классической традиции. Но в согласии с этой традици-
ей нет ничего хуже благонамеренного «романтика» — именно эти
сирены и заводят легковерных людей в пропасть. Мы послушались
Сахарова и теперь имеем то, что имеем. Для простого выживания
логика должна быть изменена — необходима державность, опреде-
ленная степень «здорового» национализма (во всяком случае не ос-
тавляющего и следа от бывшего лозунга «парада суверенитетов»),
деятельность спецслужб, совершенно неподвластных общественно-
му контролю, и так далее. Если бы с самого начала предложения
Сахарова были откорректированы в более реалистическом духе —
ошибок и провалов было бы гораздо меньше. Но ничего не подела-
ешь, перехлесты и перегибы не только неизбежны, но до известной
степени даже необходимы на определенных этапах истории, кото-
рые с такой же необходимостью и неизбежностью сменяются дру-
гими, когда на смену романтикам приходят прагматики.
Повторяем, приведенные выше рассуждения — это, несмотря на
свою распространенность, всего лишь оболочка действительной
логики современных политиков, идеологов и мыслителей, живущая
в силу инерции и привычности для большинства людей, не дающих
себе труда дать отчет в том, что на самом деле они думают и дела-
ют. Хотя бы уже по причине своей «историчности». Но история умер-
ла — это азбука постмодернизма и «современного» взгляда на вещи.
Рассуждать о том, как бывшая правота Сахарова с течением време-
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
14
ни перерастает в его неправоту, есть рудимент классического мыш-
ления, основанного на теории тождеств.
Различия сегодня не перерастают в отрицание. А. Сахаров отли-
чался от В. Путина, когда первый сидел в Горьком и подвергался
искусственному питанию во время голодовки, а второй работал в
том учреждении, которое подвергало Сахарова этому искусственно-
му питанию, насильственно изолируя его и от своего народа и от
западного мира. Затем обстоятельства существенно изменились, и
теперь В. Путин — принятая вождями (Ельцин, Гайдар, Чубайс), на-
шей бывшей демократической интеллигенцией единственно воз-
можная альтернатива хаосу и развалу. Кто был прав, а кто не прав?
Сам Путин отдает дань привычной инерционной логике и пишет,
что в советское время верил во многие догмы официальной идеоло-
гии, ибо не мог знать того, что знал Сахаров. Теперь он во многом
изменился и потому является продолжателем дела Сахарова, разу-
меется, поправив его в соответствии с требованиями реальности.
Однако вся эта логика построена на допущении, что Сократ име-
ет право отличать себя от софиста, и это различие, доходящее до
отрицания, — справедливо. Если придерживаться этой классической
логики, то выводы для «демократов» и либералов окажутся катаст-
рофическими. Или Путин стал Сахаровым (Сократом), или Саха-
ров—лжепророк (лже-сократ, который на самом деле от софиста
почти не отличается). Ни первое, ни второе признание не приемле-
мы: они не «легитимны» для большинства, подчиненного инерци-
онному мышлению. Ибо в соответствии с последним первое утвер-
ждение (Путин—это Сахаров сегодня) явно сомнительно, а второе
не просто оскорбительно для памяти Сахарова, но разрушает всю
идеологию «демократов», требует признать ее изначально ложной,
то есть провокационной и несущей на себе огромную историческую
вину. Однако, слава богу, додумывать до конца эту логику нет ни-
какой необходимости — не только большинство населения, но и
идеологи, философы, художники следуют совершенно другой, а имен-
но—логике симулякра.
Сократ отличает себя от софиста, а софист не отличает себя от
Сократа. По какому же праву он себя не отличает? Посмотрите на
тех, кто продолжает настаивать, что Путин — это не Сахаров сегод-
ня. Их так же мало, и они в такой же моральной изоляции, как и те
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики
15
единицы, которые в тридцатые годы осмеливались публично под-
вергать сомнению утверждение, что Сталин — это Ленин сегодня
(эти строки писались лет пять тому назад, а сейчас уже, конечно,
бывшие демократы несколько изменили свою позицию, следуя ло-
гике «извилистого круга». —В. А). Если бы мы следовали классичес-
кой логике, то должны были бы признать такую ситуацию ложной,
а большинство людей—находящимися в стадии заблуждения. Од-
нако разве были правы те, кто в тридцатые годы утверждал или хотя
бы в глубине души думал, что Сталин — это не Ленин? В своей мас-
се оппозиционеры, а ими были главным образом троцкисты, заблуж-
дались. Теперь мало у кого вызывает сомнение, что из всех действу-
ющих политиков именно Сталин был ближе к Ленину, несмотря на
то что во многом отошел от НЭПа и других ленинских стратегичес-
ких идей. Так что мнение большинства населения и тех идеологов,
которые отождествляли Сталина с Лениным, оказалось справедли-
вым (с позиций, сегодня общепринятых). Но мыслили они явно не
классически.
Ленин отличал себя от Сталина и хотел начать против него и его
политики непримиримую борьбу на очередном съезде партии. Но
Сталин не отличал себя от Ленина и при всей своей склонности к
софистике и демагогии оказался прав. Ибо это была не просто софи-
стика. Сталин инстинктивно следовал концепции симулякра (как
всякий реальный политик), а не классической платоновско-гегелев-
ской логике, годной только для философов метафизического направ-
ления, для которых есть сущность, отличная от явлений.
От высокой сферы политики обратимся к более обыденным сю-
жетам. В уже почти забытом конфликте телеканала НТВ с акционе-
рами «Газпрома» генеральний директор НТВ Е. Киселев выступал в
роли Сократа, отличающего себя от таких, в его глазах, приспособ-
ленцев, как Л. Парфенов. Последний не желал противодействовать
властям во имя какой-то истины и иронически отвечал на бросае-
мые ему упреки в предательстве: «Вы это серьезно?» Слова об исти-
не, справедливости, исторической правоте, когда необходимо сегод-
ня пострадать ради того, чтобы одержать моральную победу завт-
ра, — разве все это серьезно? В период конфликта, о котором идет
речь, ведущие радиостанции «Эхо Москвы» изменили свой обычный
иронический тон, и их речи чем-то отдаленно стали напоминать ри-
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
16
торику революционной демократии—разумеется, пародийно напо-
минать, ибо они логикой непривычной ситуации, в которой оказа-
лись, вынуждены были изображать из себя Сократов, говорящих от
имени попираемой властью истины. Но эта ситуация для них нети-
пична, в ней они чувствовали себя не в своей тарелке, ибо по своей
жизненной философии и образу поведения ведущие «Эха Москвы»,
как и другие популярные (и не популярные тоже) радио- и телеве-
дущие, близки позиции Делеза.
Тележурналисты, оставшиеся вопреки общественному мнению
на НТВ, не проиграли, а, пожалуй, только выиграли. Е. Киселев, пе-
решедший на другой канал, тоже не много потерял, хотя носителем
сократовской истины и морального авторитета не стал — он, впро-
чем, к этому и не стремился. Далеко не все конфликты в современ-
ном обществе заканчиваются столь благополучно: напомним слова
Делеза, что различие, пришедшее на смену диалектического тожде-
ства, не исключает пролития крови. Но даже тогда, когда кровь в со-
временном мире проливается, как, например, в Ираке, конфликт
носит неклассический характер: в нем нет ни морально побеждаю-
щих Сократов, ни изменяющих абсолютной истине софистов. В са-
мом деле, разве осужденные мировым общественным мнением за
войну во Вьетнаме и Ираке американцы не всевали против распро-
странения тоталитарной идеологии и практики? Разве они не отста-
ивали «права человека»? Но и на роль моральных Сократов в этих
войнах, как и в других военных конфликтах, например в Югославии,
им тоже претендовать трудно.
Что общего во всех рассмотренных выше примерах? Е. Киселев
отличается от Л. Парфенова, А. Сахаров — от В. Путина, Ленин — от
Сталина, Соединенные Штаты во главе с президентами Клинтоном
и Бушем—от Югославии и Сербии, когда их возглавлял Милошевич,
или от Ирака с Саддамом Хусейном. Различие это серьезное, причем
в ряде случаев настолько серьезное, что возникающие в результате
этого различия массовые кровопролития Делезом и Деррида до из-
вестной степени оправдываются, не говоря уже о либеральном об-
щественном мнении Запада. И все-таки это физическое отрицание
противной стороны, вплоть до истребления больших масс населе-
ния, есть нечто качественно иное, чем отрицание в классической
традиции. Последняя предполагает существование абсолютной ис-
«Извилистый круг» Жиля Делеза
вместо цикла классики
17
тины, а постмодернизм ее отрицает. Правда, классика тоже не де-
лает какой-либо персонаж или реальное лицо носителем абсолют-
ной истины: и Отелло, и Гамлет, и тем более герои античной траге-
дии, такие, как царь Эдип, Прометей или Орест, — все они в той или
иной мере виновны, хотя их вина не уголовная, а трагическая, свя-
занная с абсолютной правдой. Последняя — объективна, хотя и не
выражается полностью и окончательно в той или иной позиции, ми-
ровоззрении и поведении отдельных лиц и персонажей.
Делез допускает, что степень правоты участников современных
конфликтов различна, но это различие не вырастает до классичес-
кого противоречия, образующего фабулу трагедии. Трагедия умер-
ла в современном мире, как подчеркивал еще Теодор Адорно, хотя
ужасных событий и явлений, подобных Аушвицу, стало не меньше.
Фашистские концлагеря — это место, где различие между палачами
и жертвами предстает со всей несомненной очевидностью. И разли-
чие это кричащее, о чем свидетельствуют судебные процессы про-
тив виновных в массовом уничтожении людей, которые не прекра-
щаются и по сей день. Разумеется, ни Адорно, ни Делез фашистов
или других преступников не оправдывают. Но они отрицают, что в
этих конфликтах может тем или иным способом проявляться объек-
тивная, абсолютная истина.
Абсолютная истина—это опора для трагического героя. Он мо-
жет ошибаться, он впадает в трагическую вину или самоослепление,
но в конечном счете через противоречия и падения так или иначе
поднимается к ней — как царь Эдип, находящий прощение, как
Орест, оправданный ареопагом, как Гамлет или Отелло. Даже Мон-
текки и Капулетти, виновные в гибели своих детей, обретают на их
могиле примирение, в котором тоже просвечивает некое подобие
абсолютного. Обретение абсолютного в финале трагедии, стремле-
ние к нему трагического героя — основа его пафоса, без которого
классическая трагедия немыслима.
Этот пафос абсолютного, утверждают постмодернисты, — тота-
литарен в своей основе. Ибо абсолютное — синоним целого, тоталь-
ности. Таким образом, классическая традиция, классическое фило-
софское мышление и искусство, культ Разума, лежащий в основе ев-
ропейской цивилизации, виновны, доказывали предшественники
постмодернизма Т. Адорно и М Хоркхаймер в, своей книгет94тгод^
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
18
«Диалектика Просвещения», в той катастрофе европейской цивили-
зации, которая обнаружилась со всей очевидностью в фашизме. Фа-
шизм они, кстати, считали общемировым явлением, и фашизоид-
ные черты обнаруживали в самом либеральном мышлении запад-
ных демократий.
Критики Делеза и Деррида напомнили о том известном еще с ан-
тичности аргументе, который применялся по отношению к софистам
и агностикам: все критяне лгут, сказал критянин. Если никто в этом
мире не обладает абсолютной истиной, и сама абсолютная истина
не существует, то почему мы должны верить вам, это утверждающим?
Либо вы — единственные носители абсолютной истины (что проти-
воречит вашему же утверждению, что она вообще не существует),
либо вы тоже ошибаетесь, или по крайней мере можете ошибаться.
Итак, постмодернисты, как и все мыслящие существа, могут оши-
баться. Эта абсолютная истина, но одна из тех, которые не перечер-
кивают саму себя, не устраняют самой возможности мышления. А
вот утверждение, гласящее, что истины вообще нет, — абсолют ино-
го рода, саморазлагающийся и неплодотворный, подобный таким
абсурдам, как круглый квадрат и сапоги всмятку.
Однако даже явный абсурд в определенных обстоятельствах и
ситуациях может быть выше и справедливее того, что кажется про-
должением классических традиций. Такие парадоксы возможны, но
требуют специального анализа.
Чтобы мы ни говорили, и какое бы убедительные чисто логичес-
кие аргументы, справедливые против софистики, ни выдвигали —
утверждение Делеза, согласно которому современный мир не класси-
чен и различия в нем не перерастают в диалектическое отрицание,
предполагающее диалектическое тождество противоположностей —
во многом справедливо. Но почему за истинное в определенных
рамках утверждение обязательно нужно платить впадением в то-
тальную неправду? Почему истина, открытая Делезом, должна авто-
матически вести к несуразностям типа—все критяне лгут?.. Нельзя
ли попытаться выйти за пределы этого абсурда, сохранив ту несом-
ненную правду, которая просвечивает во многих рассуждениях («дис-
курсах») тех или иных видных представителей постмодернизма?
На наш взгляд, такую попытку предпринять можно, и для этого
нужно снять ту оболочку «абсолютной абсолютности», в которую
19
заключены находки постмодернизма. Этой оболочкой, подлежащей
критическому устранению, является саморазрушающееся утвержде-
ние, что абсолютной истины нет и быть не может. Далее, если по-
стмодернисты правы, то необходимо выяснить, в чем конкретно и
в каких границах они правы.
Примем в качестве исходной точки отсчета в наших рассужде-
ниях постмодернистскую гипотезу, что современный мир не клас-
сичен, классический Разум в нем себя не проявляет. А если он появ-
ляется, то только для того чтобы еще больше сгустить мрак ирраци-
онального. Почему это так?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить,
насколько верно постмодернизм трактует классическое мышление и
классическую культуру в целом. С этой целью предпримем экскурс в
классическую живопись—рассмотрим загадочную картину Тициана
«Аллегория благоразумия», удерживая при этом в уме главное, что нам
хочет сказать Делез, рассказывая всякие хитроумные, не лишенные
теоретической глубины истории про свой извилистый круг «с посто-
янно смещающимся центром, постоянно изгибающийся, вращающий-
ся только вокруг неравного»1. Это главное, ради чего все и затевалось
постмодернизмом, заключается в следующем весьма категорическом
утверждении: современное искусство (и современный мир тоже) —
не что иное, как «театр непрочного, лабиринт без нити (Ариадна по-
весилась)»1 2. Ничего иного ждать нельзя. Уши выше лба не растут.
Цикл, порочный круг и прорыв его
(классические традиции на примере
«Аллегории благоразумия» Тициана)3
По мнению Э. Панофского, «это единственная из его
(Тициана.—В. А.) работ, которую можно назвать «эмблематичес-
кой», а не просто «аллегорической», т.е. философской максимой, ил-
1 Там же. С. 77.
2 Там же. С. 79.
3 Текст этого раздела Введения опубликован в моей кни-
' ге «Западное искусствознание XX века». М., 2005. —В. А.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
20
люстрированной визуальным образом, а не визуальным образом,
нагруженным философскими коннотациями»1. Загадочность произ-
ведения вызвана не трудностью расшифровки эмблематического
или аллегорического содержания, а наоборот, его очевидностью.
Надпись на полотне гласит: «Исходя из опыта [прошлого], настоящее
действует благоразумно, дабы не повредить будущим поступкам».
«Концептуальное значение чувственно воспринимаемого, — пишет
Панофский,—столь навязчиво очевидно, что кажется попросту ли-
шенным смысла до тех пор, пока мы не доберемся до его скрытого
содержания»1 2.
Скрытый смысл полотна по мнению ученого заключается в за-
вещании (определенной сумме денежных средств и ценностей) пре-
старелого художника, которое он хочет передать одному из своих
наследников—«хорошему» сыну Орацио, изображенному в центре
полотна (лишив наследства другого, «плохого» сына), и, возможно,
приемному внуку, чей профильный портрет, полагает Панофский,
символизирует будущее3. Голова старика на картине поразительно
похожа на самого Тициана.
Однако главная трудность в истолковании смысла картины зак-
лючается в другом. «С иконологической точки зрения, — пишет Па-
нофский, — картина из коллекции Хауарда не что иное, как старый
образ Благоразумия в виде трех человеческих голов разного возра-
ста, наложенный на современный образ Благоразумия в виде “чудо-
вища Сераписа в форме бюста”. Но именно в наложении, к которо-
му до того не прибегал ни один художник, и состоит проблема»4. Два
ряда символических изображений благоразумия: голов старика,
зрелого мужчины и юноши в верхней части картины и трех живот-
ных—волка, льва и собаки в нижней—накладываются один на дру-
1 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного ис-
кусства. СПб., 1999. С. 176.
2 Там же.
3 Впрочем, замечает Панофский, он с меньшей уверенно-
стью идентифицирует этот профильный портрет с прием-
ным внуком Тициана, чем центральную фигуру полот-
на— с сыном Орацио.
4 Там же. С. 189.
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
21
гой с той целью, чтобы общая мысль о текучести времени, о неиз-
бежном ее ходе стала неким философским обрамлением для весьма
прозаического, но важного акта передачи наследства.
По крайней мере, так можно понять Панофского, и именно так
его чаще всего понимают. «В “Аллегории благоразумия”, — пишет,
например, М.Н. Соколов, — на древней подкладке (имеется в виду
восходящая к древним мифологическим представлениям символика
волка, льва и собаки) покоится житейский здравый смысл в облике
семейного содружества»1. Но Панофский, по-моему, нащупывал в
картине, в наложении гораздо более глубокий, художественный, а
не только житейский здравый смысл. Свое исследование ученый
заканчивает примечательными словами о том, что аллегорический
и эмблематический характер картины «не мешает ей быть глубоко
прочувствованным документом: горделиво смиренное отречение
великого царя, которому, подобно Иезекии, Господь повелел “при-
вести дом свой в порядок”, а затем пообещал: “Я продлю дни твои”».
Процитированные выше слова Панофского могли быть написа-
ны только человеком, знавшим горькую цену смиренному самоот-
речению перед лицом необходимости не только личной смерти, но
конечности и скоротечности всего на этом свете, в том числе искус-
ства. Которое, увы, часто терпит поражение от носителей «житей-
ского здравого смысла» благополучных творцов «семейного содруже-
ства». Картина Тициана, если верить Панофскому, о чуде преображе-
ния, о превращении гордого смирения перед неизбежным (смирения
«царского» и величественного, а не предательства, не низости) если
не в победу, то в новую надежду и новый виток жизни, творчества.
Такое бывает, конечно, крайне редко, но всё же бывает. По сути, пе-
ред нами вариация на вечную мифологическую тему: о смирении,
даже поражении, гибели — и последующем возрождении и воскре-
сении. Надо признать литературное мастерство ученого, сумевше-
го в немногих словах сказать главное. Правда, сам же Панофский
проложил дорогу редуцированию художественного смысла «Аллего-
рии благоразумия», сведению его к «бытовой правде» и проповеди
«житейского благоразумия». Но тут уже действовала не зависимая
от Панофского объективная логика иконологического метода. По
1 Соколов М.Н. Мистерия соседства. М., 1999. С. 148.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
22
моему мнению, не иконология, а классические традиции интерпре-
тации живописи дают шанс раскрыть художественный смысл полот-
на, угаданный, но только угаданный выдающимся ученым.
По поводу собственно изобразительной стороны произведения
Панофский ограничивается замечанием, что оно — «блистающее
великолепием тициановской “поздней манеры”»1.0 центральном его
образе—предполагаемом портрете сына Тициана Орацио — искус-
ствовед сообщает, что это «воплощение силы и пыла», символизи-
рующее настоящее в отличие от прошлого и будущего и потому «бо-
лее реальное по живости цвета и выразительности моделировки»1 2.
«Аллегория благоразумия» относится к тем произведениям ми-
ровой живописи, фотография которых не дает даже приблизитель-
но верного представления о подлиннике, напротив, способна поро-
дить ложные толкования3. Ибо смысл тициановского полотна — в
определенной связи эмблематически выраженной, весьма общей
сентенции с изображением, блистающим великолепием тицианов-
ской «поздней манеры». Какова же связь между мыслью о необхо-
димости помнить прошлое, чтобы не повторять его ошибки в буду-
щем, и передачей наследства? Между мифологической фабулой о
воскрешении и «бытовой правдой»? Самая прямая: художник заве-
щает наследникам не только материальное богатство, но и духов-
ный опыт своей жизни, который, разумеется, не укладывается в
рамки какой-либо сентенции. Если «блистающая великолепием»
живопись ничего не добавляет к смыслу, выраженному эмблемати-
1 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного ис-
кусства. С. 176.
2 Там же. С. 190.
3 Г. Вельфлин, который одним из первых стал широко
пользоваться фотографиями картин для целей стилистичес-
кого анализа живописи, оказал плохую услугу искусствоз-
нанию: после него живое впечатление от искусства неред-
ко подменялось тасованием или, может быть, точнее —
подтасовыванием картинок, которое именуется строгой
научной типологией стилей. См. об этом: D. Preziosi. Re-
thinking Art History: meditation on a Coy Science. Yale Uni-
versity Press. 1989. p. 72-79.
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
23
чески, то тогда перед нами не художественный шедевр, а заурядная
аллегория. Так каков же собственный, глубинный смысл изображе-
ния, свойственный живописи как таковой, а не внешне, аллегори-
чески наложенный на нее? Какой духовный опыт передает худож-
ник не только своим прямым наследникам, но и нам, современным
зрителям его картины? Э. Панофский в своем обширном исследова-
нии об «Аллегории благоразумия» отвлекается от вопросов, которые
были главными в классической традиции интерпретации памятни-
ков искусства.
Центральное лицо группового портрета—если полотно Тициа-
на действительно представляет собой групповой портрет в обычном
смысле этого слова1 — выделяется на фоне двух других. Дело не толь-
ко в том, что оно представлено анфас, тогда как головы старика и
юноши — в профиль. Оно приковывает внимание или, лучше ска-
зать, властно влечет к себе какой-то особой, вначале не вполне яс-
ной значительностью.
Сам по себе изображенный в центре полотна мужчина средних
лет не обладает особо примечательными физическими или психо-
логическими чертами. Впечатление, которое эта голова производит,
обусловлено не углубленной психологической характеристикой, а
силой реальности и тем поистине чудесным образом, посредством
которого эта реальность является нам.
Отметим прежде всего, что эта голова рождается как бы из ни-
чего, из черной бездны: волосы и борода центрального персонажа
при всей своей реальности одновременно воспринимаются и как
’ Старик из «Аллегории благоразумия» похож на Тициана,
но, на мой взгляд, это не автопортрет, ибо лицо художни-
ка, каким мы его видим на тициановских автопортретах,
в том числе поздних, лишено производящей жуткое впе-
чатление мрачной безнадежности старика «Аллегории
благоразумия», который уже практически за пределами
жизни. Сомнение в том, что третье лицо картины — это
приемный внук Тициана, выражает сам Панофский. Что
касается центрального персонажа, то, например, в пояс-
нительной табличке к картине, висящей в Лондонской
национальной галерее, он идентифицируется со св. Мар-
ком, покровителем Венеции.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
24
абсолютно однотонный черный фон, провал в картине, отделяющий
голову зрелого мужчины от головы старика и юноши1. Играет ли
этот зрительный парадокс художественную роль в произведении
Тициана, а если да, то какой смысл выражает?
В нашем случае взгляд фиксирует либо совершенно реальную
бороду реального мужчины, либо черную дыру, бездну, появление
из которой человеческого лица выглядит таким же актом космичес-
кого значения, как рождение галактики. Этот художественный эф-
фект обусловлен, разумеется, не зрительным фокусом, не оптическим
парадоксом. Тициан представил феномен жизни в ее великолепии
и неисчерпаемом богатстве. «Мерцающие формы», столь характер-
ные для поздней манеры мастера, есть воссоздание пульсации жиз-
ни, которая просвечивает через кожу, наделяя ее гармонией измен-
чивых оттенков—задача, от которой, по словам Дидро, приходили
в отчаяние живописцы. Бесконечная изменчивость, неуловимость
настоящего находится почти на грани эфемерности, но у Тициана
в отличие, например, от магии изменчивости цветов у Клода Моне
никогда не переходит этой грани.
Перед нами — явление порождения во всей его значимости и
удивительности, напоминающее слова Дидро о том, что для него
возникновение из неживой материи, из яйца теплого комочка жиз-
ни, цыпленка, чудеснее всех необыкновенных событий, описанных
'Тициан прибегает к хорошо известному с древних вре-
мен эффекту, когда один и тот же визуальный образ мо-
жет быть прочитан глазом в двух совершенно различных
смыслах, когда он содержит в себе два образа, поперемен-
но воспринимаемых то в виде первого из этих образов, то
в виде совершенно иного. Это явление и его значение для
мировой живописи проанализировано Томасом Митчел-
лом, см. его книгу: Mitchell W.J. Т., Picture Theory, Chicago
& London, 1994. Между прочим, лицо Христа в «Динарии
кесаря», тоже обрамленное черными волосами головы и
бороды, не рождает отмеченного выше эффекта, ибо это
реальная голова реального персонажа, имеющего тело и
находящегося в реальном пространстве — в реальных от-
ношениях с другим, также абсолютно реальным, действу-
ющим лицом изображения.
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
25
в Евангелии. Поэтому сказать, что лицо центрального персонажа
есть нечто «более реальное по живости цвета и выразительности
моделировки», чем два других персонажа, и ограничиться этим —
значит, на мой взгляд, сказать очень мало или почти ничего. Рож-
дающаяся в этот момент, здесь и сейчас, реальность обладает всеми
признаками действительности в философском смысле слова, от
Аристотеля с его энтелехией до Белинского, которому мы обязаны
укоренением в русском языке слова «действительность» в его арис-
тотелевском и гегелевском значении.
Жизнь, которую так же трудно ухватить и остановить, как вот
этот момент времени, сейчас, есть, с другой стороны, самое прочное
и надежное в этом нашем, человеческом мире. И не только в чело-
веческом. Рождаясь из небытия и уходя в него, находясь постоянно
вне себя, настоящее есть победа над бездной ничто, абсолютное его
преодоление и снятие. Вот что демонстрирует практически вся жи-
вопись Тициана, вот художественный смысл его прославленного
колорита. Вспомним в этой связи знаменитую картину Тициана
«Венера» из Уффици. На мой взгляд, это одно из серьезнейших, я бы
даже сказал, философских произведений мирового искусства. Я имею
в виду не замысловатую программу, скрытую за обманчиво-ясным
мотивом. Смысл в самом изображении, а не за пределами его. Кар-
тина завораживает глаз чудесным мерцанием жизни. Человеческая
плоть явлена как возникающая почти из ничего, из чистого света,
этого, по словам Шеллинга, звона материи. Но это ничто — эта зри-
тельная иллюзия—вместе с тем более реально, чем самое плотное,
непроницаемое,, твердое, как гранит, вещество.
Почему взгляд «Венеры Урбинской» лишен какой-либо игриво-
сти, какого-либо конкретного выражения, кроме, если можно так
сказать, абстрактной, отвлеченной серьезности? Не потому ли, что
сама вечность смотрит на нас, ожившая в комочке теплого, светя-
щегося изнутри, прекрасного, но, увы, конечного во времени и про-
странстве человеческого тела?
Профильные изображения старика и юноши статичны, лишены
внутреннего духовного движения, тогда как центральное лицо про-
никнуто мощью— физической и психической, хотя и не детализи-
рованной, обобщенной, даже можно было бы сказать, несколько
абстрактной. Если лев, символизирующий настоящее, смотрит пря-
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
26
мо на нас, то взгляд мужчины с черной бородой направлен несколь-
ко в сторону, направо. Этот взгляд и соответствующий ему легкий
поворот головы нарушают строгую симметрию изображения, кото-
рую создают три головы животных, поворот и взгляды которых стро-
го перпендикулярны друг другу.
Только настоящее реально, только в настоящем пульсирует ак-
туальное бытие, прошлое и будущее по сравнению с ним — тени.
Таково мировоззрение, имманентное классической живописи, об-
разующее суть ее художественной формы и качественно отличаю-
щее от живописи постклассической и в дальнейшем авангардной, в
которой, начиная с импрессионизма, утрачивается актуально насто-
ящее. Утрачивается именно потому, что исчезают границы между
настоящим, прошедшим и будущим, настоящее, растягиваясь и по-
глощая прошлое, перестает быть актуально настоящим. В «Аллего-
рии благоразумия» границы между настоящим, прошедшим и буду-
щем выделены, так сказать, концептуально, посредством зримой
аллегории. Но их взаимоотношение — взаимопереход, возникаю-
щий из границы, и границы, почти исчезающие во взаимном про-
никновении друг в друга противоположностей,—передано исклю-
чительно изобразительными средствами, свойственными живопи-
си как особому виду искусства.
Если на тициановской картине будущее, по словам Панофского,
в отличие от погруженного в тень прошлого «сияет избытком све-
та», то все же этот свет представляет собой скорее плод воображе-
ния, чем реальное сияние дня. Головы старика и юноши выглядят
плоскостными по сравнению с впечатляющей пластикой лица цент-
рального персонажа. Они не возникают, не рождаются из простран-
ства, а неразрывно слиты с плоскостью, с живописным фоном кар-
тины, перенимая его твердую прочность, почти застылость. Голова
старика с его мрачно мерцающим багрово-красным головным убо-
ром ужасна в своей безнадежности, юноша бледен, напряжен и про-
заичен.
Взгляд бородатого мужчины погружен в себя — и обращен вне
себя, в сторону, по направлению к будущему. Настоящее заслужи-
вает этого названия лишь тогда, когда достаточно благоразумно,
чтобы не впасть в эгоистическое самоупоение, для которого свой-
ственно, говоря словами Мих. Лифшица (из статьи «Дневник Мари-
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
27
этты Шагинян»), «унижение прошлого ради настоящего и будуще-
го». Действительное настоящее не снедает метафизическая хайдег-
геровская «забота», оно самодостаточно, оно — центр и суть бытия,
его живая плоть, в которой выходит наружу и становится реальной,
действующей, действительной сущность мира. Действительность са-
модостаточна, но только благодаря тому, что готовит для себя буду-
щее, обращаясь к опыту прошлого, когда соединяет их в себе — но
особым образом, образуя гармонию, свойственную только живому,
деятельному, сознательному и страдающему.
О каком настоящем мы говорим и думаем, глядя на картину
Тициана? О настоящей, реальной жизни, заслуживающей этого на-
звания, о ее идеале. О настоящем искусстве, которое, по словам Гете,
чудесным образом соединяет в себе эфемерность красоты бабочки-
однодневки с вечностью предшествующего ее появлению бытия.
Словом, любое действительное настоящее, отвечающее своему по-
нятию, охватывается емким живописным образом, созданным Ти-
цианом, который уже видел перед собой багровый, тревожный за-
кат жизни — не только своей личной, но и той ее неповторимой сту-
пени и формы, которая получила название Ренессанса.
Как возможно иное, новое пробуждение бытия—вместо бледно-
го, анемичного, смутного рассвета, для которого нет сил проснуть-
ся, а напротив, хочется сомкнуть глаза навсегда? В отличие от мике-
ланджеловского «Утра» лицо юноши на картине Тициана лишено
предрешенности. Сейчас, в этот момент оно симметрично непод-
вижной вечности прошлого, но еще не вполне оформилось, не впол-
не ясно. Оно может быть и началом тяжелого, пустого и бессмыслен-
ного дня, и прекрасной зарей неведомой жизни. В «Аллегории благо-
разумия», подчеркивает Панофский, будущее менее плотское, чем
настоящее, и хотя его краски гораздо более бледны (я бы даже ска-
зал, что они не просто бледны, они «амбивалентны»), чем живая
плоть лица центрального персонажа, — эти краски таят возмож-
ность как смутного, серого рассвета, так и, в чем прав знаменитый
искусствовед, радостного сияния света. Но тот «избыток» света, о ко-
тором говорит Панофский, имея в виду лицо юноши, избыточен
потому, -что он не столько реальный цвет реальной кожи, сколько
свет «гипотетический», возможный, живущий пока только в нашем
воображении. А сам по себе юноша у Тициана скорее бледен, чем ис-
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
28
точает избыток реального света, он еще не выделен из той плоско-
сти изображения, которая объединяет его с прошлым.
Головы трех животных также образуют круг времени, и этот,
второй круг картины определенным образом связан с первым. Так,
например, на голову собаки, символизирующей будущее, падает
сверху, от юноши, свет. Вместе с тем животные находятся в ином по
сравнению с тремя человеческими головами живописном простран-
стве, образуя три его направления, строго перпендикулярные по
отношению друг к другу. Символизируя время — прошлое, настоя-
щее и будущее, — второй круг картины придает времени абстракт-
ную предрешенность и, так сказать, геометрическую, математичес-
кую закономерность пространства.
Голову льва окружает пышная грива, но она не выносит эту го-
лову в иное, по сравнению с двумя другими головами, измерение,
она не создает впечатления того черного ничто, из которого рожда-
ется лицо зрелого мужчины. Грива льва совершенно реальная, не-
сколько рыжеватая или, во всяком случае, обладающая всеми есте-
ственными оттенками цвета, присущими тому, что на философском
языке называется наличным бытием. Никакого оттенка эфемерно-
сти, свойственной центральному портрету, но зато нет и чуда жиз-
ни, ее неуловимой изменчивости и чрезвычайной интенсивной си-
лы, с какой она устремляется на зрителя из глубины полотна.
Свирепый взгляд льва, направленный прямо на нас и контрас-
тирующий со взглядом центрального персонажа, вносящего эле-
мент изменчивости и неопределенности, говорит зрителю то же
самое, что и вся нижняя часть композиции картины: так было, так
будет, извечен ход времен, и никакая сила изменить его не в состо-
янии. Вступить в диалог со львом нельзя, можно либо покориться
заведенному порядку вещей, либо быть уничтоженным им.
Однако в сравнении с верхней частью композиции картины, где
представлены головы старика, мужчины и юноши, головы животных
в ее нижней части при всем их правдоподобии и натуральности изо-
бражения имеют нечто от эмблемы, символа, знака. Это не жизнь в
ее реальной текучести, изменчивости—и чудесной, необоримой си-
ле, с какой трава ломает асфальт. Это мертвое, механическое движе-
ние со свойственным ему неумолимым детерминизмом, который в
естественно-научной картине мира от Ньютона до Эйнштейна вклю-
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
29
чительно представал как единственно возможный вариант объек-
тивной закономерности. Последняя чем-то напоминает, говоря сло-
вами Лифшица о Хайдеггере, «круг уходящего в бесконечность вра-
щения на одном месте» — в отличие от круга истинного, черпающе-
го свой материал из бесконечности. Движение двух кругов бытия
(времени) в их взаимодействии представлено на картине Тициана
и является, на мой взгляд, ключом к пониманию загадочной компо-
зиции полотна и его смысла.
Если верить лауреату Нобелевской премии по биохимии бель-
гийскому ученому И. Пригожину, естественно-научный детерминизм
исключает возможность возникновения жизни. Современная наука,
по его словам, приближается к открытию иной закономерности —
той, которую, утверждает Пригожин, искал Дидро1. Если моделью
ньютоновской картины мира были часы, то «наш идеал, — пишет
Пригожин,—по-видимому, наиболее полно выражает скульптура», в
которой «отчетливо ощутим поиск трудноуловимого перехода от по-
коя к движению, от времени остановившегося к времени текучему»1 2.
По мнению Мих. Лифшица, естественно-научная картина мира
с ее «железным» детерминизмом не ложна, но она выражает толь-
ко один полюс реального бытия. На другом его полюсе находятся
закономерности, близкие понятию свободы, разума, самопорожде-
ния, спонтанности. Где же истина? Она — в счастливом сочетании
этих полюсов, при котором возникает закономерная свобода и сво-
бодная закономерность.
Идеал бытия существует не только в человеческой голове, он
свойственен самой объективной реальности, пример чему—появ-
1 Дидро полагал, пишет Пригожин, что «основная пробле-
ма как химии, так и медицины состоит в том, чтобы заме-
нить инертную материю активной, способной самоорга-
низовываться и производить живые существа /.../. При-
роду надлежит описывать так, чтобы стало понятно само
существование человека», см. Пригожин И., Стенгере И.
Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.,
2OOI. С. 8i.
2 Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. Новый диа-
лог человека с природой. М., 2001. С. 31.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
30
ление и развитие жизни. Жизнь разрывает тот круг механического
детерминизма, который обычно отождествляют с естественной, при-
родной закономерностью. Но разрыв этого круга тоже входит в объек-
тивную закономерность бытия, ибо разумная стихийность и спон-
танное явление разума — такие же свойства мира, как и круговое
движение с его неумолимой последовательностью и предопределен-
ностью. Во все времена высокое искусство демонстрировало един-
ство двух полюсов бытия в самых различных, иногда очень причуд-
ливых сочетаниях противоположностей.
Чудесное, необъяснимое рождение движения из покоя, по мне-
нию Пригожина, воссоздает скульптура. С тем же правом можно
было бы вслед за Лессингом сказать, что изобразительное искусст-
во есть остановившееся движение, достигшее единства со своей про-
тивоположностью— покоем. Другими словами, сущность живопи-
си и скульптуры заключается в гармонии полюсов, завершении, до-
стигнутой цели, в которой, однако, предшествующий процесс не
умер, а обрел актуальную форму. «Благородная простота и спокой-
ное величие» Винкельмана — это не застылая статуарность класси-
цизма, а движение, которое нашло выход из порочного круга и ос-
тановило найденное «прекрасное мгновение», переведя его в сфе-
ру вечности.
Другие виды искусства, такие, как литература, демонстрируют
иную форму единства двух полюсов, а именно такую, которая вклю-
чает в себя разрыв между ними, противоречие и диссонанс. Живо-
пись для того чтобы выразить этот диссонанс, должна выходить за
свои пределы, обращаясь к аллегории, что мы и видим на полотне
Тициана.
В период кризиса Ренессанса, умирания его идеала великий ху-
дожник попытался воскресить его, полемически противопоставив
неумолимому круговому движению времени, когда на смену рож-
дению приходит смерть, расцвету—упадок. Он понимает, что по-
рочный круг — не пустая выдумка, что это неумолимая судьба не
только человеческого рода, а вечный круговорот вещей. На котором,
как на фундаменте, все основано, в том числе и дух — «цветение
материи».
Тициан демонстрирует нам, что возвращение всего на круги
своя включает в себя не только неумолимую последовательность,
Цикл, порочный круг и прорыв его ...
31
враждебную жизни, красоте и свободе. Жизнь эфемерна, случайна,
она — всплеск, длящийся один краткий миг и гаснущий в вечности,
черной пустоте неподвижности. Однако механическая закономер-
ность, исключающая возможность возникновения жизни, тоже од-
номерна. Маньеризм, возведя ее в конечную истину, по необходи-
мости пришел к другой крайности — мистицизму и культу ирраци-
онального, чисто случайного.
В «Аллегории благоразумия» Тициан тоже соединяет противопо-
ложности. Но, во-первых, это противоположные полюса самой ре-
альности, а не крайности механицизма и иррационализма, во-вто-
рых, противоположности соединяются у него иным образом, чем у
маньеристов, не какофонически, а симфонически. Неподвижная
пустота и черная яма небытия не имеют у него самодовлеющего,
иррационального значения, а выступают обратной стороной — и
основой, фундаментом — чуда жизни, вспыхивающей неожиданно,
спонтанно и в то же время абсолютно закономерно. Жизнь облада-
ет такой силой, концентрирует в себе столько энергии, смысла, что
перед ней «железная» закономерность кажется чем-то вторичным,
отступает на второй план как искусственная эмблема, система зна-
ков. А явленное на фоне небытия лицо человека — реальной лично-
сти и в то же время человека вообще, человека как такового — есть
квинтэссенция мира, его лик, его актуальная бесконечность.
Христос-либертен Тициана на его картине «Динарий кесаря»
смотрит в лицо вопрошающего, как в черное и страшное ничто. С ко-
торым диалог так же невозможен, как с диким животным. Но это нич-
то при всем своей земной, темной силе само себя не понимает. Спа-
ситель вглядывается в глаза фарисея не для того, чтобы быть поня-
тым, а для того чтобы понять пока еще не явленное, актуально не
существующее целое бытия, его дух, который есть и в самом темном,
грубом плебее, но до поры до времени не осознается им.
«Мне так не по себе, — говорит Гамлет своим бывшим друзьям,
а ныне предателям Гильденстерну и Розенкранцу,—что этот цвет-
ник мироздания, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот
необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью,
этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на
мой взгляд — просто-напросто скопление вонючих и вредных па-
ров». Риторика, призванная ввести в заблуждение противников? Но
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
32
безграничная горечь читается в глазах виндзорского автопортрета
Леонардо, безграничной горечью проникнуто лицо старика на кар-
тине Тициана, погружающееся в багровый мрак небытия.
«Какое чудо природы человек! /.../А что мне эта квинтэссенция
праха! Мужчины не занимают меня, и женщины тоже...» Найти путь
к сердцу и разуму любящей его Офелии, рыцарственного Лаэрта,
матери невозможно. Легче уйти в небытие, отождествиться с тем
бесчеловечным порядком вещей, какой ныне кажется последней
истиной, вечным и неизменным круговоротом.
Протестующий Гамлет—чудак, сумасшедший, изгой. Шекспир
не романтизирует его протест, ибо знает, что он неразрывно связан
с преступлением, трагической виной. Но и порочный круг вещей и
обстоятельств—далеко не вся истина. Два круга—пустое вращение
на одном месте и черпающий свой материал из бесконечности —
пересекаясь и взаимодействуя, создают в своем движении драмати-
ческую фабулу пьесы Шекспира.
Центральный персонаж «Аллегории благоразумия» Тициана ли-
шен явных признаков гамлетизма. Гамлет, пытаясь связать распавше-
еся время, гибнет. Ибо попытка возвращения, подобного Возрожде-
нию, во времена Шекспира и позднего Тициана была уже утопией.
Тогда как лицо, возникающее из небытия на полотне престарелого
художника, дышит очарованием и непобедимой силой актуальной
бесконечности. Жизнь и ничто даны в их единстве и нерасторжимом
тождестве. Порочный круг—вместе с выходом за его пределы.
Безъязыкое искусство живописи обращается к темному языку
аллегории, чтобы сохранить возможность говорить собственным
языком, чтобы разорвать железную цепь необходимости Нового
времени и пробиться к душам людей, покоренных властью неизбеж-
ного. Таково завещание Тициана-художника, возможно, совмещен-
ное с завещанием в прямом значении этого слова, смысл которого
пытался расшифровать Панофский. «Новый диалог человека с при-
родой», как он видится современным ученым-естественникам типа
И. Пригожина, заставляет думать, что это завещание художника мо-
жет быть прочитано и актуализировано, что оно оказалось сильнее
и жизнеспособнее, чем тот круг вещей и обстоятельств, который
смотрит на нас неумолимыми, остекленевшими глазами хищного
животного.
33
Пролог «на небесах»
(спор Ленина с Плехановым
по аграрному вопросу в 1905 г.)
Ничто не ново под луной. Это так же истинно, как и
противоположное утверждение — ничто не повторяется, все одно-
кратно и незаменимо, нет ни одной капли воды и ни одного листоч-
ка, которые бы копировали другие.
Спор Ленина с Плехановым по одному пункту аграрной програм-
мы партии в 1905 году кажется незначительным эпизодом, который,
вероятно, и не упоминается в работах по истории культуры, посколь-
ку к ней не имеет прямого отношения. Но, будучи эпизодом внут-
рипартийной борьбы, одновременно стал частью того, что Д. Вико
называл historia aeterna — вечная история. Мы увидим, как этот сю-
жет многократно повторяется на страницах истории России XX ве-
ка — с различными вариациями и оттенками смысла, вплоть до пря-
мо противоположных.
Речь шла о том, как относиться к лозунгу национализации земли.
Плеханов был противником национализации, Ленин, при изве-
стных условиях, которые он специально оговаривал, допускал ее
возможность. Условие это — возникновение демократического в
полном смысле слова государства. В том случае если бы в результате
революции сложилось не демократическое, а, например, бонапар-
тистское государство, «национализация,—писал Ленин, — могла бы
повредить пролетариату и крестьянству»1. В этом пункте были со-
гласны все марксисты и социал-демократы. Национализация земли
при сохранении господства над крестьянином бюрократической
власти была бы прямой дорогой к недемократическому, коррумпиро-
ванному, как ныне говорят, государству. Ни о каком серьезном соци-
ально-экономическом прогрессе в этом случае не могло быть речи.
«...Позиция социал-демократов в аграрном вопросе, — писал
Ленин в разгар первой русской революции—может быть в настоящее
время, когда дело идет о доведении демократического переворота
до конца, лишь следующая: против помещичьей собственности за
крестьянскую собственность при существовании частной собствен-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 12. С. 268.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
34
ности на землю вообще. Против частной собственности на землю за
национализацию земли при определенных политических условиях»'.
Итак, социал-демократия должна бороться за частную собственность
на землю против собственности помещичьей, но в том случае если
побеждает демократия и создается государство демократическое, по
типу американского (на что неоднократно указывал Ленин), если
бюрократия практически полностью лишается власти и государство
находится под эффективным контролем снизу, со стороны организо-
ванного народа, гражданского общества—тогда возможна и прогрес-
сивна национализация земли. «Мы должны, — писал Ленин, — со
всей ответственностью и решительностью сказать крестьянину, что
национализация земли есть мера буржуазная, что она полезна лишь
при определенных политических условиях, но выступать с голым от-
рицанием этой меры вообще нам, социалистам, перед крестьянской
массой было бы близорукой политикой. И не только близорукой по-
литикой, но и теоретическим искажением марксизма, который ус-
тановил с полнейшей определенностью, что национализация земли
возможна, мыслима и в буржуазном обществе, что она не задержит,
а усилит развитие капитализма, что она есть максимум буржуазно-
демократических реформ в области аграрных отношений»1 2.
С последним положением никто из марксистов не спорил, в том
числе и Плеханов. Разногласия возникли по другому вопросу, на
первый взгляд сугубо частному.
Российское крестьянство уже в период первой русской револю-
ции выступало с лозунгом «Земля ничья, земля божья», что означа-
ло на экономическом языке национализацию земли. Крестьяне боя-
лись свободной купли-продажи земли, ибо она могла попасть в руки
толстосумов, а большинству бедных крестьян пришлось бы брать ее
в аренду со всеми вытекающими последствиями. Земля должна при-
надлежать тем, кто ее обрабатывает, —говорили многие крестьяне,
а свободная продажа земель сосредоточивала их в руках тех, кто
имеет капитал.
Плеханов доказывал, что ничего демократического и прогрес-
сивного нет в крестьянском требовании национализации земли.
1 Там же. С. 254.
2 Там же. С. 253-254.
Пролог на небесах...
35
Когда крестьяне выступают за частную собственность на землю —
они революционны, они способствуют разрушению старой государ-
ственно-бюрократической машины и остатков феодализма. Эти тре-
бования социал-демократия должна поддерживать. А идея национа-
лизации земли отражает только отсталые, консервативные взгляды
и настроения, закрепляющие отжившие порядки.
«Раздел (земель.—В. А.) имел бы бесспорно много неудобств с
нашей точки зрения. Но в сравнении с национализацией, —утвер-
ждал Плеханов, — у него было бы то бесспорное преимущество, что
он нанес бы окончательный удар тому нашему старому порядку, при
котором и земля, и землевладелец составляли собственность госу-
дарства и который представляет собой не что иное, как московское
издание экономического порядка, лежащего в основе всех великих
восточных деспотий. А национализация земли являлась бы попыт-
кой реставрировать у нас этот порядок, получивший несколько се-
рьезных ударов уже в XVIII веке, и довольно сильно расшатанный
ходом экономического развития в течение второй половины XIX
столетия»1.
Плеханов, разумеется, не хуже Ленина знает, что при развитом
капиталистическом строе и демократическом государстве национа-
лизация земли есть чисто буржуазное мероприятие, существенно
ускоряющее социально-экономический прогресс. Но совсем другую
роль и смысл имеет национализация земель в условиях восточных
деспотий или схожих с ними социально-экономических укладов.
Плеханов ссылается на пример китайских реформаторов XI века,
которые национализировали землю и создали некий вариант азиат-
ского коммунизма, окончательно закрепостившего крестьян, сде-
лавшего их бесправными и неимущими.
Надо признать, продолжает Плеханов, «что в аграрной истории
Московской Руси было, к сожалению, слишком много китайщины.
Под влиянием многих неблагоприятных исторических условий, —
в числе которых экономическая отсталость этой части России и мон-
гольское иго играли не последнюю роль, — право собственности на
землю из рук землевладельцев постепенно перешло к великому кня-
зю, — впоследствии к царю, — который и стал распоряжаться ею как
‘ Плеханов Г. В. Соч., т. XV. М.-Л., 1926. С. 31.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
зб
фондом для удовлетворения потребностей государства. /.../. И вот
русское государство постепенно сделалось тем Левиафаном, о кото-
ром мечтал Томас Гоббс и который наделяет каждого участком зем-
ли, смотря по его занятию и положению. Вряд ли нужно указывать
здесь на то, что наша пресловутая сельская община с переделами
возникла, как естественный плод закрепощения государству земли
и земледельца»1.
Современный склад жизни, считает Плеханов, далеко опередил
склад мысли крестьянина. Крестьянские понятия о справедливости,
о том, что земля никому не должна принадлежать, отражают его
отсталость, инстинктивное тяготение к азиатскому деспотизму, к
«китайщине», которую Герцен в свое время называл «царским ком-
мунизмом», «казачьим коммунизмом». Разумеется, коммунизм во-
сточных деспотий несравненно хуже современного буржуазного
общества, даже если оно управляется не демократическим (амери-
канским), а прусским или бонапартистским государством. После-
дняя истина для всех социал-демократов, в том числе и для Ленина,
была аксиомой.
«Нам не нужно китайщины,—заключает Плеханов. — Поэтому
мы поддерживаем крестьянское движение только в той мере, в ка-
кой оно разрушает старое, а не в той мере, в какой оно стремится
восстановить нечто такое, в сравнении с чем это старое кажется
новым и прогрессивным явлением»1 2.
Трудно найти слова, которые с большим правом претендовали
бы на пророчество, чем процитированные выше. В 1917 и последу-
ющих годах Ленин осуществил национализацию земли. Затем, уже
в конце жизни, он обнаружил, что «государство нам чужое», что
повсюду, практически на всех местах и должностях этого так назы-
ваемого пролетарского государства сидит, по выражению Ленина,
«подлец» и «насильник», «каким является типичный русский бюрок-
рат». «Нет сомнения, — продолжает он, — что ничтожный процент
советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море
шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»3.
1 Там же. С. 33-34-
2 Там же. С. 36.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 45. С. 357.
Пролог на небесах...
37
Сталинский режим довел бюрократический государственный
аппарат до высшего, можно сказать, классического совершенства.
Что же удивительного в том, что ленинская национализация земли
позволила бюрократии провести насильственную коллективиза-
цию, которая практически возродила крепостное право в деревне?
И появилось нечто такое, в сравнении с чем, говоря словами Плеха-
нова, «старое», то есть царская Россия накануне революции, «кажет-
ся новым и прогрессивным явлением». Во всяком случае? Россия
начала XX века двигалась в сторону буржуазных реформ, а к середи-
не века она оказалась отброшенной в век XI — к «китайскому» ком-
мунизму, варианту азиатского деспотизма.
Так замкнулся порочный круг. Ленин, кажется, искренне и стра-
стно боролся за самый демократический вариант капитализма, за
американский, а не прусский (то есть бонапартистский) путь его
развития, а в результате своих усилий—причем совершенно неиз-
бежно — получил неожиданное и грозное возрождение азиатского
деспотизма. Могло ли возникнуть что-либо другое при национали-
зации земли в условиях бюрократизированного государства навер-
ху и очень активного крестьянского беднячества внизу, которое
было пропитано суперуравнительными настроениями, глубоко ре-
акционными, как показал Плеханов? В уравнительных настроени-
ях, доказывал он, не было ничего по-настоящему революционного,
напротив, они глубоко консервативны, ибо порождены «не револю-
ционерами, а “историей государства российского”»1. Когда на крес-
тьянских съездах, продолжает Плеханов, «большинство депутатов
так легко соглашались с тем, что помещикам не надо давать выку-
па за землю, то это объясняется тем крестьянским убеждением, что
земля была получена помещиками от государства: “даром получил,
даром и отдать должен”, говорил смоленский делегат. Но в высшей
степени замечательно, что крестьяне Донской области высказались
за выкуп, “боясь за свои выкупленные земли”. В этой области в кре-
стьянском быту гораздо более сильны новые, буржуазные влияния»2.
Так на кого же должна делать ставку революционная партия,
желающая социально-экономического прогресса для страны — на
1 Плеханов Г. В. Соч., т. XV. М.-Л., 1926. С. 35-
2 Там же.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
38
бедного смоленского крестьянина, требующего национализации,
или на крепкого хозяина Донской области, который предпочитает
куплю-продажу земли, а не национализацию ее? Будущее (то есть
наше настоящее), кажется, сделало этот вопрос риторическим.
Но послушаем аргументы Ленина. Он тоже, как и Плеханов, при-
водит ту «бесспорно правильную мысль, что требование национали-
зации земли далеко не везде и вовсе не всегда революционно»1. Он
соглашается и с тем, «что в буржуазном обществе класс мелких соб-
ственников, при известных условиях, является более прочным опло-
том демократии, чем класс арендаторов, зависимых от полицейски-
классового, хотя бы и конституционного, государства»2.
Все это так, все это бесспорно, азбука марксизма и социал-демок-
ратии. И все же... «...Идея общенародной собственности на землю
чрезвычайно широко бродит теперь в крестьянстве, это не может
подлежать никакому сомнению, — констатирует Ленин. — И несом-
ненно также, что, несмотря на всю темноту крестьянства, несмот-
ря на все реакционно-утопические элементы его пожеланий, эта
идея, в общем и целом, носит революционно-демократический ха-
рактер»3.
Вот центральный пункт расхождения Ленина с Плехановым. И
не только с Плехановым, но и с меньшевиками, кадетами, крупны-
ми деятелями культуры, от Короленко до Горького. Все они считали,
что крестьянство реакционно, а в особенности беднейшее — с его
грубо-уравнительными устремлениями. В «Несвоевременных мыс-
лях» Горький, как известно, предрекал, что темное и необразованное,
жадное крестьянство, выпущенное на свободу октябрьским пере-
воротом, пожрет, как фантастические анаконды из повести М. Бул-
гакова, интеллигенцию, в том числе и в первую даже очередь рево-
люционную интеллигенцию, растопчет культуру и цивилизацию.
Ленин взял себе в союзники только одного писателя. Не близкого
большевикам Горького, не прогрессивно и демократически настро-
енного Короленко, а явного консерватора, в некоторых вопросах
(таких, как эмансипация женщины, отношение к высокому аристок-
Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 12. С. 252.
2 Там же. С. 251.
3 Там же. С. 253.
Пролог на небесах...
ратическому искусству)—даже реакционера. Этим писателем был
Лев Толстой.
Реакционность позиции Толстого по некоторым важнейшим
проблемам для Ленина — вне всякого сомнения. Но откуда в его
творчестве та поразительная честность, которая произвела необык-
новенное впечатление на весь мир? Не та субъективная честность-
пожелание, которая при столкновении с грязной действительностью
оборачивается отступничеством, предательством, сдачей позиции
или позой «порядочного человека», искреннего лжеца. А та чест-
ность, которая есть прежде всего дело, и обнаруживается она в ху-
дожественных образах, раскрывающих самые глубинные движения
души в их истине — каковы они на самом деле, а не только в вооб-
ражении субъекта.
Откуда эта беспримерная страсть и способность дойти до самой
сути? Она питается, по мысли Ленина, крестьянским стремлением
«смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещи-
чье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки зем-
левладения, расчистить землю, создать на месте полицейски-классо-
вого государства общежитие свободных и равноправных крестьян...»'
Какова природа, социальная сущность этого неудержимого на-
пора крестьянства? Ленин полагал, что она имеет буржуазно-демок-
ратический характер. Ничего социалистического в крестьянском
движении нет и быть не может — такова основная идея, которую
Ленин вместе с Плехановым отстаивал против народников. Ибо по-
пытка построить социализм в России конца XIX, начала XX века,
минуя неизбежный этап буржуазно-демократических преобразова-
ний — глубоко реакционна, она может привести только к реставра-
ции отживших порядков, «царского коммунизма».
По этой же причине социализм Толстого, пишет Ленин, — реак-
ционен, несмотря на то что в целом его творчество прогрессивно,
выражает объективную правду реальности. «Толстой оригинален,
ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз
особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной рево-
люции»2. Ленин полагал, что в ходе этой революции, при ее успехе
' Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 17. С. 211.
2 Там же. С. 210.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
40
сложится буржуазно-демократическое общество американского об-
разца, и крестьянство скоро забудет о своих «социалистических»,
уравнительных иллюзиях. Они—лишь обратная сторона тех гор
«ненависти, злобы и отчаянной решительности», которые накопи-
лись за века рабства и бесправия.
Итак, задача заключалась в том, чтобы освободить крестьянство
от реакционных «социалистических» иллюзий и направить скрытую
за ними социальную демократическую энергию в русло буржуазно-
демократических преобразований. Форма реакционная, а содержа-
ние демократическое.
Мысль Плеханова была совершенно иной. Крестьянские «соци-
алистические» настроения, уравнительность, требования национа-
лизации земли реакционны и по форме, и по содержанию—за ними
скрывается только наша старая азиатчина, восточный деспотизм.
«На одном из крестьянских съездов смоленский депутат говорил:
“Цари присвоили себе общественную землю и раздали ее прибли-
женным”. Что же нужно? Отобрать землю у “приближенных”. Боль-
ше этого съезды по существу не сказали ничего. Вслед за этим в их
решениях начинается область, в которой господствует утопия, тоже
выросшая, впрочем, на почве воспоминаний о нашем старом эконо-
мическом быте: каждый получает столько земли, сколько ему нуж-
но, и т.п. Но ведь и китайские общественные перевороты состояли
в том, что земли отбирались у “приближенных” и возвращались Ле-
виафану— государству, после чего начиналась старая история, пло-
дившая новых “приближенных”, вызывавшая новые перевороты,
возрождавшая старую китайщину. Нам не нужно китайщины»1.
В ответ на пространные рассуждения Плеханова Ленин ограни-
чился подстрочным замечанием: «Товарищ Плеханов в №5 “Дневни-
ка” предостерегает Россию от повторения опытов Ван Ган-че (китай-
ский преобразователь XI века, неудачно введший национализацию
земли) и старается доказать, что крестьянская идея национализации
земли реакционна по своему происхождению. Натянутость этой
аргументации бьет в глаза. Поистине qui prouve trop, ne prouve rien
(кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает). Если бы
Россию XX века можно было сравнивать с Китаем XI века, тогда мы
1 Плеханов Г. В. Соч., т. XV, М.-Л., 1926. С. 36.
Пролог на небесах...
41
с Плехановым, наверное, не говорили бы ни о революционно-демок-
ратическом характере крестьянского движения, ни о капитализме
в России. Что же касается до реакционного происхождения (или
характера) крестьянской идеи национализации земли, то ведь и в
идее черного передела есть несомненнейшие черты не только реак-
ционного происхождения, но и реакционного характера ее в насто-
ящее время. Реакционные элементы есть во всем крестьянском дви-
жении и во всей крестьянской идеологии, но это нисколько не оп-
ровергает общего революционно-демократического характера всего
этого движения в целом. Поэтому свое положение (о невозможнос-
ти для социал-демократов выдвигать требование национализации
земли при определенных политических условиях) Плеханов не толь-
ко ничем не доказал, но даже особенно ослабил своей утрированно-
натянутой аргументацией»1.
Для Плеханова крестьянство сможет сыграть прогрессивную
роль только в том случае, если оно поддерживает буржуазно-демок-
ратическую революцию и не выходит за ее пределы. В сущности, на
уровне общих формулировок это же говорит и Ленин. Расхождение
между ними в понимании крестьянского требования национализа-
ции земли: для Плеханова оно только реакционно — и по форме, и
по содержанию, для Ленина—реакционно по форме, прогрессивно
по содержанию.
Плеханов видит в этом требовании уравнительность, за которой
скрывается азиатская покорность царю, богу, вообще высшей вла-
сти, в дела которой крестьянин не может и не хочет вмешиваться.
Для Ленина, напротив, требование национализации земли в конк-
ретных условиях начала XX века есть свидетельство колоссальных
демократических, глубоко прогрессивных потенций российского
крестьянства. Крестьянство в своей массе, полагал он, гораздо де-
мократичнее на деле, чем другие слои российского населения, за
исключением пролетариата. Даже в мужицком черносотенстве он
видит не просто демократизм, но демократизм самый глубокий,
хотя и самый грубый. Тот, кто не замечает этого глубинного мужиц-
кого демократизма, тот заталкивает вольно или невольно крестьян-
ство в черносотенство.
'Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 12. С. 253.
Введение. Порочный круг л гч
российской истории XX века
Откуда же у российского крестьянства этот потенциальный, но
очень серьезный и могучий демократизм?
Развивая мысли Ленина, на этот вопрос дает ответ Мих. Лифшиц
в своих «Лекциях о русской культуре», прочитанных в 1943 году офи-
церам Военно-морского флота. «Царский коммунизм» или, говоря
словами Маркса (сказанными о Средневековье), «демократия несво-
боды» имеет не только очевидные недостатки, но и определенные
преимущества по сравнению даже с самыми передовыми демокра-
тиями Запада.
Сказав это, легко впасть в крайность славянофильства. Задача
Лифшица другая — «полнота истины», то есть извлечение истины
даже из той позиции, которая в целом является ложной. Ибо, по его
мнению, нет «совершенно правых».
В целом западные демократии безусловно прогрессивнее старо-
го Московского царства и возникшей на его основании Российской
империи. Но преимущество Запада не абсолютно. Западный вари-
ант «свободного общества» основывается на индивидуализме, дохо-
дящем в своих крайних проявлениях до такого эгоизма и себялюбия,
которые враждебны демократии.
Напротив, придавленность всего населения России под общим
прессом самодержавия порождала своеобразное равенство — «де-
мократию несвободы», которое было неведомо более передовым
западным странам.
Эта логика по типу—«нет худа без добра». «Добром» в российс-
кой истории было то, что вырастало из «худа», из недостатков и по-
роков развития.
Плеханов, пишет Мих. Лифшиц, «тоже подчеркивал применитель-
но к Толстому и к идеям русского крестьянства черты некоторой ар-
хаичной крестьянской демократии»1. Но «при общем понимании
связи между толстовскими крестьянскими идеями и архаической
крестьянской демократией старой России мы видим различную оцен-
ку революционного потенциала крестьянства»1 2. Для Плеханова эта
архаическая крестьянская демократия — только азиатчина, руди-
мент восточного деспотизма, и ничего демократического в ней нет.
1 Лифшиц Мих. Очерки русской культуры. М., 1995- С. 57-
2 Там же.
Пролог на небесах...
43
Бесспорно, считает Лифшиц, что реакционное и даже антиде-
мократическое содержание было в этой архаической демократии,
она, например, связана с монархической идеей и с идеей Достоев-
ского, славянофилов — «смирись, гордый человек!».
«Но и отрицание этой традиции, — продолжает Мих. Лифшиц, —
стремление заменить ее абстрактной западноевропейской прогрес-
сивной идеей тоже неправильно. Без всякого сомнения, при всей
архаичности этих мотивов, в них содержится нечто более радикаль-
но революционное, нежели во всем том, что могло быть перенесе-
но из западноевропейского аграрного быта на Русь. В чем-то были
правы здесь славянофилы. /.../. Это была идея задавленных тяже-
лым прессом крепостничества людей, но сохранивших определен-
ные традиции общественной борьбы, радикальные, последователь-
ные, очень ценные и вместе с тем древние элементы»'.
Крепостное право было гораздо раньше отменено в Европе, чем
в России, и это прогрессивно. Однако и прогресс нельзя понимать
однобоко, абстрактно. Он тоже имеет свои теневые стороны. Осво-
божденное от крепостничества крестьянство было охвачено жаждой
наживы, и борьба за существование в его среде принимала зверские
формы. Недаром в Европе очень рано сложилась «сословная тенден-
циозная поэзия», направленная против крестьянства, — от Нейдгар-
та до Бертрана де Борна, а позднее схожие мотивы прослеживают-
ся у Золя, Мопассана, Бальзака. Ничего подобного не было в клас-
сической русской литературе: «мелкособственническое свинство»
обнаружилось только в пореформенную эпоху, да и то только у час-
ти крестьянства — «колупаевых» и «разуваевых». В целом же в рос-
сийском крестьянстве «древние элементы» архаической демократии
сохранялись очень долго, обусловливая стремление к национализа-
ции земли, столь высоко оцененное Лениным.
Выделив эту чрезвычайно ценную черту русского крестьянства,
отсутствующую у западноевропейского, Лифшиц предостерегает от
впадения в крайность, которая была свойственна славянофилам и
их последователям. Нельзя забывать, что это добро от худа. Нельзя
упускать из виду, что архаическая крестьянская демократия двой-
ственна: наряду с величайшей энергией и решимостью в ней также
’ Там же. С. 58.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
44
содержится прямо противоположное — покорность, мягкотелость,
неспособность к действенной коллективной защите своих интере-
сов—то, что дало повод Кавелину назвать русский народ «калужс-
ким тестом», из которого монархическая власть лепит то, что ей
нужно.
Бесспорно, что эта обратная сторона крестьянской архаической
революционности сыграла очень значительную роль в российской
истории вообще и в истории XX века в особенности. На этом основа-
нии многие авторы полагают, что возникший после Октября и осо-
бенно в сталинский период общественный строй был всего лишь но-
вым изданием азиатского деспотизма. Черты последнего, без сомне-
ния, присутствуют в советской общественно-экономической системе.
Однако отождествление их совершенно неверно. И дело не только
в недооценке «древних элементов» крестьянской демократии. Они
ведь были свойственны как раз восточным деспотиям. И как две про-
тивоположные стороны одного явления они порождали определен-
ный цикл, форму движения или, если хотите, порочный круг.
В крестьянском лозунге национализации земли Ленин видел
стремление вырваться из порочного круга царской империи, «цар-
ского коммунизма». Плеханов, наоборот, опасался, что опора на
архаические крестьянские элементы возродит «порочный круг» и на
долгие годы законсервирует страну. Только двигаясь по уже проло-
женному Западом пути, мы можем выйти на столбовую дорогу ци-
вилизации, доказывал он, как, впрочем, и другие марксисты, вклю-
чая Ленина, в их полемике с народниками.
Ленин и в дальнейшем не отказывался от этой исходной мысли,
доказывая, что наилучшим вариантом для России начала века было
бы развитие по пути американского демократического капитализ-
ма. Однако он очень скоро убедился в том, что непосредственно пе-
ренесенные с Запада черты на русской почве часто превращаются
в свою противоположность и из прогрессивных делаются тормозом
развития. Так, например, российский либерализм XIX, начала XX ве-
ков на самом деле был не свободомыслием, а особым случаем глу-
боко антидемократического мышления, что прекрасно показали
лучшие российские писатели—от Тургенева и Достоевского до Тол-
стого и Салтыкова-Щедрина. Российский капитал, созревший под
крылом царской бюрократии, был также далек от демократических
Пролог на небесах...
начал жизни, он представлял собой плутократию, заинтересован-
ную в сохранении полицейского государства и коррупции.
Разумеется, из этого факта нельзя делать вывода, к которому
склонялись реакционные политики и мыслители — от К. Леонтьева
до В. Розанова,—что все, перенесенное с Запада, плохо и для Рос-
сии не годится. Просто соединение Запада с Востоком может при-
нять две формы, существенно, кардинально, вплоть до полной про-
тивоположности различные между собой.
Капитализм на российской почве разделился на плутократичес-
кий в своей основе капитал и очень революционный рабочий класс,
совсем еще недавно вышедший из деревни и сохранявший в нема-
лой степени черты архаической демократии. Если третье сословие
В Европе эпохи буржуазных революций противостояло как нечто
относительно целое феодальным классам и сословиям, то в России
начала века положение существенно изменилось. У крупного рос-
сийского капиталиста и крупного помещика было больше общего,
чем у капиталиста и рабочего, не говоря уже о крестьянстве. Поэто-
му радикальная буржуазно-демократическая революция в этих ус-
ловиях была возможна лишь в результате союза пролетариата и
крестьянства — при нейтрализации, в лучшем случае, буржуазии
или даже при борьбе с контрреволюционными действиями плуток-
ратии, заключившей союз с полицейским государством против пос-
ледовательных демократических преобразований.
Однако при этом вставала задача колоссальной сложности: выр-
вать революционное крестьянство из порочного круга восточного
деспотизма —иначе говоря, так развить архаическую демократию,
чтобы она двигалась в последовательно демократическом направ-
лении, а не возвращалась к свойственной ей покорности и разоб-
щенности, на основе которой вырастает здание монархии.
Решить эту задачу можно только в союзе с Западом—передовой
западной культурой, развитыми демократическими формами и тра-
дициями. Таким образом, и Ленин и Плеханов безусловно оба были
за соединение Запада и Востока, но формы этого соединения они
видели совершенно по-разному.
Одно дело—западничество какого-нибудь тургеневского либе-
рала, который презирает российскую отсталость, а больше всего —
русского мужика, единственным языком общения с которым для
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
46
него является розга. И совсем другое — соединение западных и рос-
сийских начал в творчестве Пушкина, прекрасно показанное Г. Лу-
качем на примере «Капитанской дочки», где русский мужик был
понят необычайно глубоко и верно не в последнюю очередь пото-
му, что Пушкин многому научился у Вальтера Скотта.
Здесь необходимо остановиться на важном теоретическом, даже
логическом моменте. Нет абстрактного соединения, соединения
вообще, противоположностей, таких, как Запад и Восток. Если вы
попробуете соединить, например, человека и природу так, что от-
правите первого жить в тайге или, наоборот, посадите в одну клет-
ку с дикими животными, то о действительном синтезе человека и
природы речи быть не может. И причина этих уродств —не просто
в насильственности данного соединения.
Петр насаждал европейскую цивилизацию в России насильст-
венно. Но при всем варварстве этого процесса не все в нем было
уродливо, были и явные удачи. Когда, например, русские художни-
ки пытались просто перенимать формы западного искусства, то по-
лучалось, как правило, плохо; когда в конце XIX века, уже после пет-
ровского периода русской истории, снова стали возрождать древне-
русский стиль в архитектуре — результаты были тоже не слишком
вдохновляющие. Тогда как лучшие творения русского классицизма
XVIII века при всем их западном происхождении — бесспорно, ше-
девры русского национального искусства.
Итак, «мы видим, с одной стороны, однобокую подражатель-
ность, искусство, чуждое народу, власть, действующую сверху, в
форме деспотизма, бюрократии, и вообще всякого рода искусствен-
ность и оторванность от народа. Все это формы, высмеиваемые и
осужденные нашей великой литературой XIX века, формы, которые
бесспорно, несмотря на свою европейскую оболочку, несмотря на
свой привозной характер, по сути дела являются другими формами
того же азиатского деспотизма. И рядом—те мировые общечелове-
ческие завоевания, которые были освоены в этот период нашей куль-
турой и которые прочно и навсегда принадлежат народу. Они также
самобытны, как и исходная примитивно-демократическая сторона
ее. Наша революция является как раз соединением того прогрессив-
ного, что в конце концов вышло из петровской России, с тем рево-
люционным размахом и с той положительной демократической стру-
Пролог на небесах... Ч/
ей, которая проистекает издревле, из глубоких и архаических источ-
ников и проходит через всю нашу прежнюю историю»1.
Плеханов не различил со всей ясностью раздвоения архаической
крестьянской демократии на пассивность и монархический эле-
мент, с одной стороны, а с другой — на такой глубокий и яростный
революционный демократизм, который в то время уже невозмож-
но было найти в более прогрессивной Европе. Вернее, для него две
стороны архаической демократии составляли единый и неразрыв-
ный круг. В этой позиции есть свое рациональное зерно, ибо этот
круг действительно составлял основу азиатского деспотизма. Но
даже на протяжении Российской империи этот круг не был абсолют-
ным монолитом, и все лучшее, что было создано в этот историчес-
кий период, возникло благодаря размыканию этого круга — от пет-
ровских реформ до русской культуры XIX века.
Размыкание круга в свою очередь также создавало два единства,
два вида тождества — «дурное» и гармоническое, симфоническое.
Самодур с европейскими манерами мог быть хуже старого русско-
го боярства, отвратительнее по причине лицемерия и утонченной
жестокости. Такое соединение европейских и азиатских начал —
вовсе не размыкание круга, а новое замыкание его. Действительное
размыкание предполагает соединение других начал, других противо-
положностей. По мысли Ленина, это соединение архаической крес-
тьянской демократии с передовой европейской мыслью и культу-
рой, передовой техникой в практике буржуазно-демократической
революции рабочих и крестьян. Но это именно размыкание старо-
го цикла, ибо оно предполагает отсечение от архаической демокра-
тии ее реакционных сторон.
Таким образом, два начала — европейское и российское — раз-
дваиваются. В свою очередь они образуют и два различных спосо-
ба, два различных тождества этих начал.
«В чем же главное своеобразие нашей истории? — подводит итог
Мих. Лифшиц. — В том, что две противоположные формы соедине-
ния Востока и Запада в нашей стране не только развились, но и ра-
зошлись наиболее полно. И важна не противоположность Востока
и Запада, не противоположность этих двух форм, а их поляризация.
’ Там же. С. 90-91.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
48
Поляризация двух противоположных друг другу лагерей: лагеря
рабочего класса и крестьянства на одном полюсе и лагеря помещи-
чье-либерального — на другом.
Следствием крайней поляризации, которая как бы являлась за-
коном нашей истории, было то, что если перед нами прогрессивные
явления нашего прошлого, то это явления действительно прогрес-
сивные, удвоенные в своей силе. Если же перед нами явления отри-
цательные, реакционные, то также удвоенного характера, принад-
лежавшие к самым темным, самым черным из всех, какие когда-
либо были в истории»1.
Логика Ленина в рассмотренном выше споре с Плехановым по
аграрному вопросу—и не только в этом споре — послужила для
Мих. Лифшица основанием его «теории тождеств», которую он раз-
рабатывал на протяжении своей жизни. С этой теорией мы будем
знакомиться, рассматривая различные сюжеты этой книги, от про-
зы М. Булгакова до деконструкции Ж. Деррида.
Сейчас же зададимся вопросом—чья позиция, Ленина или Плеха-
нова, выглядит предпочтительнее с точки зрения сегодняшнего дня?
На первый взгляд полностью сбылось пророчество Плеханова: в
результате проводимой Лениным политики национализации земли
в условиях государства, оставшегося, говоря словами Ленина, «нам
чужим», Россия оказалась на долгие годы под властью тоталитарно-
го режима, очень напоминающего порядки и нравы азиатского дес-
потизма. Основанием этой новой формы старой азиатчины было
крестьянство, так и не успевшее освободиться от патриархальных
привычек, разрозненное и неспособное к сплоченной защите своих
интересов. Эта точка зрения является очень распространенной, от ев-
разийцев до современного писателя-философа А. Зиновьева. Оценки
меняются среди сторонников этого взгляда от отрицательных до бе-
зусловно положительных, но они ничего не меняют по существу дела.
Распространенность названного взгляда на российскую историю
XX века сравнима только с прямо ему противоположным, «западни-
ческим». Согласно последнему большевистская революция серьез-
ных предпосылок в истории России не имела и победила благодаря
исторической случайности — коварству и демонизму большевиков,
1 Там же. С. 91-92.
Пролог на небесах...
49
которые насильственно сорвали так хорошо и естественно протекав-
ший процесс модернизации страны. Согласно этой точке зрения,
архаическая крестьянская революционность была сугубо отрица-
тельной среди составляющих политических сил, и, что самое глав-
ное, ее не только нужно было, но и, безусловно, можно было нейт-
рализовать. Эта идея в ее упрощенном до вульгарности виде до сих
пор гуляет по страницам либеральных изданий. Вульгарной мы ее
называем потому, что при последовательном проведении она воз-
водит вину за сталинские лагеря на всю русскую культуру XIX века,
поскольку несомненно, что эта культура, от Пушкина до Толстого и
Чехова, так или иначе питалась мощными подземными силами ар-
хаической российской демократии.
На что же в таком случае опираться новой российской демокра-
тии? Очевидно, на Фаддея Булгарина и на К. Победоносцева.
Поскольку этот вывод представляется неудовлетворительным,
то необходимо серьезно разобраться в том, какую роль сыграла ар-
хаическая крестьянская демократия в истории России XX века.
И не только России, но и Китая, Кореи, Вьетнама...
Ни в одной из этих стран буржуазия не обладала действительно
демократическими потенциями. Собственно буржуазные движения,
по свидетельству не только большевиков, но и их политических про-
тивников— от меньшевиков до сменовеховцев, — в России начала
XX столетия могли дать только реакционный симбиоз плутократии с
царизмом. В то же время крестьянство в своей массе было настрое-
но очень решительно, и те «горы ненависти и злобы», о которых
писал Ленин, не были его выдумкой. Усадьбу и библиотеку Блока
сожгли до Октябрьской революции — и без всякой агитации боль-
шевиков. Размах движения батьки Махно, который не был ни за
белых, ни за красных,—достаточно красноречивое свидетельство
объективной крестьянской революционности, которую многократ-
но усилила Первая мировая война.
Куда ударила бы эта волна, столкнувшаяся с властью российской
плутократии, не шедшей на уступки крестьянским требованиям?
Как доказывает история, самостоятельные крестьянские выступле-
ния, крестьянские войны имели главным образом разрушительную
направленность и никогда не приводили к установлению прочного
демократического строя. Крестьянство всегда нуждалось в союзниках.
Введение. Порочный круг
российской истории XX века
50
В России начала XX века буржуазия вступила в конфликт с объек-
тивно демократическими устремлениями крестьянства. Его есте-
ственным союзником, способным помочь крестьянству создать де-
мократический социально-политический уклад по типу американ-
ского капитализма, был рабочий класс. Все социал-демократические
партии вплоть до апреля 1917 года были единодушны в том, что на-
мерения народников построить в России социализм — реакционны,
и приведут только к возрождению азиатского деспотизма в том или
ином его обличье.
Что же изменилось в апреле 1917-го? Один человек, лидер не са-
мой многочисленной и не самой влиятельной партии, пришел к вы-
воду, что Россия должна начать мировую социалистическую револю-
цию, которая может иметь успех только тогда, когда отсталой России
помогут строить социализм передовые европейские страны. Поче-
му же этот человек победил, изменив ход мировой истории, хотя по-
началу его идея не была поддержана даже собственной партией?
Потому, отвечал на этот вопрос его оппонент Ю. Мартов, что он
опирался на мировой большевизм — разрушительные инстинкты и дей-
ствия отчаявшихся и обозленных масс после мировой войны. Поддер-
жка этих масс связала руки мировому капитализму, который не смог
вооруженным путем раздавить советскую Россию. Но после оконча-
ния гражданской войны и поражения социалистических рабочих
движений в ряде стран Европы Россия оказалась в трагическом и, по
признанию самого Ленина, безвыходном положении. Строительство
социализма в одной, к тому же относительно отсталой, стране с преоб-
ладанием малограмотного крестьянского населения — это утопия.
Демократическое направление движения вместо возврата к азиатско-
му деспотизму могло сохраниться только при возвращении к старо-
му социал-демократическому плану демократического капитализма.
Но возможно ли было такое возвращение? Сколько бы мы ни дис-
кутировали по этому вопросу, факт остается несомненным—в реаль-
ной истории России XX века это возращение не произошло: самотер-
мидоризации революционной партии, о необходимости которой, по
некоторым свидетельствам, говорил Ленин, помешали, очевидно, весь-
ма веские причины, как объективного, так и субъективного свойства.
В результате ряда серьезных социальных потрясений, таких, как
массовая насильственная коллективизация, в России установился
Пролог на небесах...
51
странный социализм, во многом напоминающий старые азиатские
деспотии. Плеханов оказался прав.
И в то же время не прав. Во-первых, потому не прав, что россий-
ская буржуазия не поддержала демократических крестьянских дви-
жений и требований. Напротив, заключила союз с бюрократичес-
ким царским аппаратом против крестьянства. Во-вторых, потому
что «странный социализм» в России не был повторением азиатско-
го деспотизма, хотя имел несомненные черты сходства с ним. Бла-
годаря этому странному социализму Запад в целом сдвинулся вле-
во, проведя ряд эффективных экономических реформ, породивших
так называемый шведский социализм, социально ориентированную
экономику социального партнерства и так далее. Пусть не произош-
ла мировая революция, подчеркивал Лифшиц, зато осуществилась
мировая реформа.
Выходит, прав был Ленин?
Нет, и Ленин был не прав. Во-первых, потому, что начавшийся
в октябре 1917 года социальный эксперимент закончился катастро-
фически, принеся неисчислимые бедствия российскому народу. Мо-
дернизация экономики России, столь бурно начавшаяся в тридца-
тые годы, в конце концов, несмотря на бесспорные достижения, вер-
нула Россию к концу XX века в ряд развивающихся стран, сырьевой
придаток Запада. Во-вторых, опыт странного «народовластия» совет-
ского периода не только не сделал российское население способным
к самоорганизации и самоуправлению, но, напротив, оно совершен-
но бессильно как против государственной бюрократической маши-
ны, так и против любого мелкого хозяйчика. В России практически
сложился капитализм бандитский, не производительный и в стро-
гом смысле слова его трудно назвать капитализмом.
Но цель нашего исследования — не социально-экономическая
история Россия, а опыт ее культуры. Среди составляющих развития
российской культуры XX века роль того, что выше мы рассматрива-
ли под именем «архаической крестьянской демократии», весьма
значительна. Какова же эта роль?
За Ответом на этот вопрос для начала обратимся к такому умно-
му, проницательному и вовсе не симпатизировавшему революции
писателю, как М. Булгаков.
Постмодернизм,
М. Булгаков
и «квартирный вопрос»
«Собачья радость» («бернарство»)
«Подобие разностей и разница подобий»
Реальность трансцендентального,
его сила и слабость
Логоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
Мир, обретающий голос
(справедливость понимающая)
и богооставленный мир
(справедливость карающая)
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории
(Иешуа и Понтий Пилат)
Аристофановская веселость
Бог и сатана (Иешуа и Воланд)
Дом Иешуа
«Узоры, которые лепит время...»
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
55
О методе постмодернистского исследования литера-
туры написано немало. Некоторое представление о нем можно полу-
чить, прочитав иронические слова создателя «деконструкции» Жака
Деррида: «Я встретил здесь американскую студентку, с которой в
прошлую субботу я выпил чашку кофе, она искала тему для диссерта-
ции по сравнительной литературе, и, когда она позвонила мне, я под-
сказал ей несколько мыслей, касающихся телефона в литературе XX ве-
ка, начиная, например, с телефонной дамы у I [руста или образа аме-
риканской телефонистки, а затем переходя к вопросу о наиболее
современных телематических эффектах в том, что еще осталось от
литературы. Я рассказывал ей о микропроцессорах и компьютерных
терминалах, и это ее немного покоробило. Она сказала мне, что всё
еще любит литературу (я ей ответил, что тоже ее люблю, ода, конеч-
но). Любопытно было бы узнать, что она имела в виду»1.
Деррида прекрасно знает, что имела в виду студентка, которой
вместо занятия литературой предложено было исследовать образ
телефона. Но не будет же он ей объяснять, что говорить сегодня о
любви к литературе неприлично, если не знаешь, какой ценой она,
эта любовь, должна быть оплачена. И даже если вы готовы заплатить
эту цену, не каждому суждена, говоря словами французского фило-
софа, «весьма удавшаяся неудача».
Слова об «удавшейся неудаче» можно понимать по-разному, и
мы еще неоднократно будем возвращаться к этой важной теме. Сам
Деррида сказал их по поводу «Московского дневника» Вальтера Бе-
ньямина— одного из первых произведений неомарксизма левора-
дикального толка, неомарксизма, представляющего собой гибрид
сюрреализма, Маркса и таких направлений философии XX века, как,
например, феноменология Гуссерля. Ни Беньямин', ни, насколько
1 Деррида Жак. О почтовой открытке от Сократа до Фрей-
да и не только. Минск, 1999- С. 328-329-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
56
мне известно, Деррида не писали о прозе Михаила Булгакова — тем
не менее недостатка нет в постмодернистских исследованиях его
творчества.
Постмодернизм и деконструкция выросли не на голой почве, их
предшественниками были семиотика и структурализм—факт обще-
известный, который нисколько не отменяет то иронически-пренеб-
режительное отношение к своим предшественникам, которые де-
монстрируют постмодернисты.
Постмодернисты исследуют образ «телефона в литературе XX ве-
ка», и не только телефона, разумеется, но и какой-нибудь другой
маргинальной — с точки зрения искусства, изображающего челове-
ка и его судьбу, — свещи. Впрочем, нельзя сказать, что классическое
искусствознание и литературоведение не обращало внимания на
детали в художественном произведении. Скорее напротив. Напри-
мер, Мих. Лифшиц, сторонник классики в искусстве и философии,
критик модернизма и постмодернизма во всех их разновидностях,
анализировал художественный текст как «богатство верных деталей,
в которых сияет внутренний смысл ...»1 2.
Весь вопрос заключается в том, как понимать эти детали и их
роль в структуре художественного целого. Одно дело—художест-
венная деталь, когда часть органически связана с целым, и совсем
другое — обрывок грязной бумаги, наклеенный на холст, то есть
чувственно-наглядное выражение заброшенности, тотальной пусто-
ты и «бездомности» как последней истины бытия. Разницу между
постмодернизмом и классическим искусствознанием мы и постара-
емся показать на примере творчества Булгакова.
Итак, постмодернизм берет какую-нибудь несущественную деталь
или маргинальную тему и через них «раскручивает» художествен-
1 В «Московском дневнике» есть примечательные упоми-
нания о постановке «Дней Турбиных» во МХАТе: «Пьеса
Булгакова — пишет Беньямин, — совершеннейшая под-
рывная провокация... Сопротивление, оказанное поста-
новке коммунистами, обосновано и понятно». См. Бенья-
мин В. Московский дневник. М., 1997. С. 36.
2 Лифшиц Мих. «Эстетика Гегеля и современность» // Во-
просы философии. 2001, № и. С. п8.
57
ный текст, вернее, создает свой «текст». Через деталь выражается це-
лое, но это целое авангарда и постмодернизма выражает то же самое,
что и маргиналия — чужеродность, распад, бессмысленность. Что-
то подобное делали и сторонники семиотического, а также структу-
ралистского направления в искусствоведении и литературоведении.
Обратимся к такому видному представителю семиотического
анализа, как Ю.М. Лотман. В его работе «Семиотические простран-
ства» есть глава, посвященная творчеству М. Булгакова, вернее, опре-
деленного аспекта этого творчества: «Дом в “Мастере и Маргарите”».
«Среди универсальных тем мирового фольклора, — пишет Лот-
ман, — большое место занимает противопоставление “дома” (свое-
го, безопасного, культурного, охраняемого покровительственными
богами пространства) “антидому”, “лесному дому” (чужому, дья-
вольскому пространству, месту временной смерти, попадание в ко-
торое равносильно путешествию в загробный мир)»1. Связанные с
этой оппозицией архаические модели сознания, продолжает он,
демонстрируют большую устойчивость и продуктивность на протя-
жении всей истории культуры и искусства: в частности, отмеченная
им выше оппозиция, считает Лотман, чрезвычайно важна для пони-
мания творчества Пушкина, Гоголя, Достоевского. «Традиция эта
исключительно значима для Булгакова, для которого символика
“дома-антидома” становится одной из организующих на всем про-
тяжении творчества»2.
Понятию «дома» у Булгакова противостоит «квартира» как «лож-
ный дом» — «квартира становится сосредоточием аномального ми-
ра»3. Такова прежде всего квартира № 50, в которой проживал Бер-
лиоз, а затем поселился Воланд со своей свитой, а также запущенная
квартира, в которую забежал Иван Бездомный в своих лихорадоч-
ных поисках «иностранного консультанта».
«Дом» и «квартира», доказывает Лотман, — спонятия не чисто
пространственные, напротив, пространственный язык служит для
выражения непространственных понятий — «дом превращается в
• 1 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 313-314-
2 Там же. С. 314.
3 Там же.
Постмодернизм,
М. F>vjii аков и «квартирный вопрос.
58
знаковый элемент культурного пространства»1. «Поиски дома — од-
на из точек зрения, с помощью которых можно описать путь масте-
ра»2, то есть весь творческий путь Булгакова. Этот путь предстает для
Лотмана как повествование о «разрушении домашнего мира» в ро-
мане «Белая гвардия» до своеобразного «воскрешения» «Дома Тур-
биных» в «Театральном романе»3. И пусть писатель творит даже не
в квартире, а в «нищенской комнате» — творчество преобразует это
унылое пространство, наполняет его иным смыслом, и писатель воз-
вращается в утраченный им «Дом Турбиных», «воскрешает» его.
Круг замыкается — пройдя дорогой мучений и страданий, сим-
волом которых являлся пресловутый «квартирный вопрос», писатель
все же преодолел все искушения и обрел самого себя, вернулся к
себе, и символом этого возвращения оказывается воскрешение дома
Турбиных, пусть совершающееся только в фантазии человека, ре-
ально прозябающего в унылой комнатенке.
Но к какому первоначалу вернулся Булгаков и что из себя пред-
ставляем «Дом Турбиных»? «Дом у Булгакова, — отвечает на этот
вопрос Лотман, — внутреннее, замкнутое пространство, носитель
значений безопасности, гармонии культуры, творчества»4. Однако
тождественно ли по смыслу раскрытое здесь Лотманом понятие «дом
Булгакова» с понятием «дом Турбиных»?
На наш взгляд, эти понятия не только не тождественны, но в из-
вестном смысле даже противоположны, что мы и постараемся пока-
зать посредством исследования художественной роли «квартирно-
го вопроса» в творчестве писателя.
«Собачья радость» («бернарство»)
Потеряв свой Дом в результате революции и граж-
данской войны, Булгаков, помыкавшись в Москве в поисках жили-
' Там же. С. 320.
'Гам же. С. 318.
' Гам же. С. 319.
’ Там же. С. 320.
Собачья радость» («бернарстш
59
ща, приходит к выводу: «Человеку нужна комната. Без комнаты че-
ловек не может жить»1. Эта несложная мысль так же навязчиво пре-
следует писателя в его очерках и рассказах двадцатых годов, как
страдающего от голода человека — кусок хлеба. «Творожку-у-у!»—
тянул умирающий Василий Розанов, и в его гаснущем сознании
образ этого творожка заслонил, естественно, все те метафизические
проблемы, которые волновали Розанова в его прежней, нормальной
жизни. Перед лицом голодной смерти все ci ановятся равны — и глу-
бокий мыслитель и обыватель.
Революция и гражданская война, особенно в период «военного
коммунизма» и непосредственно следующие за ним годы насиль-
ственно уравняли всех, или почти всех, граждан России — Булгако-
ва и Розанова они поставили перед теми же проблемами, что и обык-
новенных жителей, большинство из которых и до революции не
имели своего Дома. Без комнаты, как и без хлеба, человек жить не
может—это несомненная, абсолютная истина для всех, кто не име-
ет ни хлеба, ни жилища.
Однако это скорее не мысль, а естественная реакция живого су-
щества. Которая, в свою очередь, пробуждает определенные мысли
и настроения. У Василия Розанова — о наступившем апокалипсисе,
крушении мира культуры, у многих бывших обладателей домов и
усадеб—о чудовищной несправедливости содеянного с ними и стра-
ной, что побуждало к активному вооруженному сопротивлению. А
после поражения этого сопротивления—либо к затаенной ненави-
сти к советскому строю, либо к приспособленчеству (как у героя
пьесы Булгакова «Блаженство», бывшего князя Бунши-Корецкого,
который, став секретарем домоуправления, предъявляет справку о
том, что его мать изменяла его отцу, и на самом деле он — сын ку-
чера Пантелея). Плетью обуха не перешибешь, это факт!
Если у Булгакова и были такие мысли и настроения, то они, ес-
тественно, не могли найти непосредственного выражения в его рас-
сказах и очерках, которые печатались в советской прессе. Без ком-
наты человек жить не может. Но кто же лишил его, Булгакова, Дома,
а теперь не дает даже комнаты?
1 Булгаков Михаил. Антология сатиры и юмора России XX ве-
ка. Т. ю. М., 2ооо. С. 159.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
6о
«Пожалуйста, пропишите меня, — говорил я (т.е. Булгаков в ав-
тобиографическом рассказе председателю домового комитета, тол-
стому, “в барашковой шапке и с барашковым же воротником”. —
В.А),— ведь хозяин квартиры ничего не имеет против того, чтобы
я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьян-
ствовать и стучать не буду...
— Нет, — отвечал председатель, — не пропишу. Вам не полага-
ется жить в этом доме.
— Но где же мне жить, — спрашивал я, — где? Нельзя мне жить
на бульваре.
— Это не касается, — отвечал председатель.
— Вылетайте как пробка! — кричали железными голосами собу-
тыльники председателя.
—Я не пробка... я не пробка, — бормотал я в отчаянии, — куда
же я вылечу. Я—человек. Отчаяние съело меня»1.
Ночью, «черной и угольной», Булгаков во сне увидел Ленина. «Я
не пробка, я не пробка, Владимир Ильич. Слезы обильно текли из
моих глаз.—Так...так...так — отвечал Ленин».
Но когда чаемое сбылось, и комнату писатель получил, что за
жизнь началась для него! Один сосед Василий Иванович чего стоил!
«Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, когда я сажусь
писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит пере-
до мной в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках зас-
лонил мне солнце!» «Все поступки Василия Ивановича направлены
в ущерб его ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного пара-
графа, которого бы он ни нарушил. Нехорошо ругаться матерными
словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон?
Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не раз-
решается. А он буйствует. И т.д.»
«Словом, он немыслим в человеческом обществе, и простить его
я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже
наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу»1 2.
Квартирный вопрос требовал решения. На первый взгляд про-
блема в том, что квартир мало, а когда их будет достаточно — воп-
1 Там же. С. 159.
2 Там же. С. 175-176.
’Собачья радость» («бернарство»)
6l
рос снимается сам собой. «Москву надо отстраивать» — «Москва! Я
вижу тебя в небоскребах!»1 Но избавит ли застраивание Москвы от
соседства с Василием Ивановичем?
«Я не пробка, я не пробка, я человек», — бормотал в отчаянии
Булгаков. В отчаянии от того, что «пробка» — «в барашковой шап-
ке и с барашковым же воротником» — объявила себя человеком,
заявила о своих правах. Застраивание Москвы совершалось при са-
мом деятельном участии «пробки», под ее руководством — и она
грозила вытеснить все человеческое в этом мире. Самые замечатель-
ные квартиры в этой перспективе отнюдь не могли стать Домом.
Придя к такому выводу, многие бывшие обладатели домов при-
нимали обстоятельства такими, каковы они есть, то есть приспосаб-
ливались, условно говоря, к «Василию Ивановичу» или председате-
лю домового комитета «в барашковой шапке». Но можно ли заклю-
чить компромисс с «пробкой» — существом немыслящим, злобным,
не способным на диалог? Может ли человек заключить компромисс
с анакондами из «Роковых яиц»? Нет, ибо эти анаконды живут по-
жиранием человека. Либо анаконды—либо человек. Либо «предсе-
датель домкома» и Василий Иванович—либо писатель Булгаков.
Третьего не дано.
Бывший князь Бунша ненавидел Василия Ивановича не меньше,
чем Михаил Булгаков. Но поскольку поставить на прежнее место
Василия Ивановича не удалось, то князь как реалист, а не сумасшед-
ший и не самоубийца, избрал единственный, как ему казалось, путь
для выживания — сам уподобился, и не без успеха, «пробке». И на-
столько преуспел в этом, что уже ничем не отличался от образцово-
го советского управдома и даже, если верить Булгакову, мог дать ему
фору по части доносительства и прочих мелких пакостей. Такова
неизбежная цена компромисса с «пробкой», возомнившей о своих
правах.
Нет, это не реализм—приспосабливаться к анакондам или иным
существам, имеющим человеческий облик, но живущими пожира-
нием человека. Если вступать с ними в переговоры или заключать
соглашения, то только для того, чтобы избавиться от них. Такова
главная идея Булгакова, которую он развивает от первых очерков и
1 Там же. С. 182.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос-
62
фельетонов двадцатых годов до «Роковых яиц» и повести «Собачье
сердце».
Впрочем, и Буншу не покидала тайная надежда вернуть все на
круги своя, и если он даже не сознавался себе в этом, то при измене-
нии обстоятельств без труда мог обрести прежний облик, привыч-
ки и социальную роль. Эта тайная надежда была как бы обратной
стороной приспособленчества, а не внутренним побудительным
стимулом для познания и саморазвития. Другими словами, Бунша
относился к тому очень распространенному типу «бывших», кото-
рые ничего не поняли и ничему не научились.
Совсем иной была непримиримость Булгакова. Для того чтобы
устранить с дороги Василия Ивановича одной только грубой мате-
риальной силы оказалось недостаточно. И это убеждало, что «проб-
ка» при всей своей бездуховности—явление, заслуживающее вни-
мания и пристального изучения.
Познание предполагает эксперимент, который выявляет суть
изучаемого явления. В ходе эксперимента, поставленного автором
«Собачьего сердца», были получены данные, подтверждающие уже
известные сведения и привносящие что-то такое, чего раньше Бул-
гаков не знал. Заключить компромисс с Шариковым нельзя, любые
уступки ему только увеличивают наглость и алчность этого суще-
ства: сначала он потребует прописки в квартире профессора, а за-
тем и вовсе выкинет его на улицу. Шариков все пожирает на своем
пути, чего еще не знает Швондер, который пал бы его жертвой, если
бы стремительное движение Полиграфа Полиграфовича по социаль-
ной лестнице не было остановлено скальпелем профессора Преоб-
раженского.
Итак, все дело в скальпеле? Но решение, уместное и логичное в
фантастической повести-эксперименте, не могло быть автоматичес-
ки перенесено в реальную социальную практику. Ибо в ходе этого
эксперимента было выяснено, что на деле профессор Преображен-
ский совершенно бессилен перед порожденным им существом. При-
чем, что самое важное, сила Шарикова не в каких-то его сверхчело-
веческих свойствах, как у фантастического существа, созданного
Франкенштейном, или иного демона, неосторожно выпущенного из
бутылки. Напротив, главная сила Шарикова — в его человеческих
качествах и притязаниях, неожиданно пробудившихся у этого искус-
«Собачья радость» («бернарство»)
бз
ственно созданного существа. «Сообразите, — говорит профессор
доктору Борменталю,—что весь ужас в том, что у него уже не соба-
чье, а именно человеческое сердце». «Правда,—добавляет профес-
сор,— самое паршивое из всех, которое существует в природе»'.
Животное можно воспитать лаской. Трагическая ошибка про-
фессора заключалась в том, что этот вывод он распространил и на
человека. «Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить
такого нервного пса? [...] —Лаской-с. Единственным способом, ко-
торый возможен в общении с живым существом. Террором ничего
нельзя поделать с животным, на какой бы ступени развития оно ни
стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрас-
но думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой
бы он ни был — белый, красный или даже коричневый!»2 Однако
опыт общения с таким существом, как Шариков, заставил самого
профессора прибегнуть к террору. Как честный человек, он взял все
на себя и в ответ на предложение доктора Борменталя отравить
Шарикова мышьяком, возразил: «Нет, я не позволю вам этого, милый
мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступ-
ление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено.
Доживите до старости с чистыми руками»3. Но намерения намере-
ниями, а железная логика обстоятельств заставила и профессора от-
казаться от самых лучших своих убеждений: «Преступление созре-
ло и упало, как камень, как это обычно и бывает»-*.
Благодаря преступлению профессора Преображенского — убий-
ству человека Шарикова, точнее, убийству Клима Чугункина, внача-
ле воскрешенного профессором, — все обошлось как нельзя лучше.
Профессор, это «высшее существо, важный песий благодетель, сидел
в кресле», а пес Шарик, лежа на ковре у кожаного дивана и задремы-
вая от тепла, думал, как ему «просто неописуемо свезло» — «утвер-
дился я в этой квартире».
Круг завершился, квартира профессора, этот храм науки и куль-
туры, спасена от наглых притязаний швондеров, шариковых и про-
' Там же. С. 472.
2 Там же. С. 402.
3 Там же. С. 471.
4 Там же. С. 480.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
64
чей сволочи, распевающей революционные песни, мировой порядок
восстановлен, и тот, кому по праву положено иметь Дом, имеет его,
а тот, кому не положено, греется в его тепле на правах приживаль-
щика, пса, лакея...
Увы, эта идиллия была возможна и даже необходима как логи-
ческий конец фантастической повести, конец, который не снимал
проблему, не убаюкивал иллюзорным решением, а напротив, по-
буждал к тревожным размышлениям. И дело даже не в том, что не
все Климы Чугункины погибли в кабацких драках и не все Шарико-
вы возвращены в свое естественное состояние. В конце концов, это
дело техники, вернуть их туда, где им положено быть, дело опера-
ции, пусть и не хирургической, а военной1 и более кровавой — все
равно, чему суждено, то должно рано или поздно свершиться.
Проблема в другом, и она не давала покоя Булгакову. В столкно-
вении со своим порождением, искусственным существом, умный,
образованный, гуманный профессор проиграл по всем статьям. Он
не повержен грубой силой, напротив, это он, профессор, вынужден
был в качестве ультима рацио прибегнуть к преступлению, убий-
ству, ибо в споре с Шариковым, в диалоге с ним он безнадежно про-
играл, не найдя ни одного, мало-мальски убедительного, даже для
самого профессора, аргумента.
«Не забывайте, — говорит профессор Преображенский Шарико-
ву в ответ на требование последнего прописать его в квартире, — что
вы, гм...вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо,
лабораторное... — Филипп Филиппович говорил все менее уверен-
но. Человек победоносно молчал»2.
Победоносно, ибо даже Шарикову очевидно, что логика профес-
сора очень слаба. Ведь не важно, как появился, важно — человек или
нет. Таковы элементарные представления того самого гуманизма,
' Правда, один из исследователей творчества Булгакова
Е.А. Яблоков утверждает, что «Булгакову идея широкомас-
штабной “хирургии” чужда в принципе». См. Яблоков Е. А.
Они сошлись...// Михаил Булгаков, Владимир Маяков-
ский: Диалог сатириков. Сост. Яблоков Е. А. М., 1994- С. 13.
2 Булгаков Михаил. Антология сатиры и юмора России XX ве-
ка. Т. ю. М., 2ооо. С. 446.
«Собачья радость» («бернарство»)
65
которым профессор почти бравировал, читая свысока лекции и «крас-
ным, и белым, и даже коричневым!» Все люди имеют равные права,
а Шариков — человек, что с ужасом признает профессор в цитиро-
ванном выше разговоре с Борменталем.
Упорно не желая прописывать Шарикова на своей жилплощади,
Преображенский взывает к его совести — ведь это я же сделал тебя
человеком, так будь же благодарен, не делай мне пакостей... Но Ша-
риков крепко держится буквы того гуманизма, который для профес-
сора —высшая ценность. Человек я или нет? А раз человек, то равные
с вами права имею. А то, что вы меня породили, папаша, гнусавит
он, так это не освобождает вас от ваших отеческих обязанностей.
Но породил-то я сердце, пусть и человеческое, однако самое пар-
шивое во всей природе, хуже животного! Это моя чудовищная ошиб-
ка, преступление перед человечеством, и ради самого же гуманиз-
ма я должен ее исправить — пусть ценой преступления. Я тебя по-
родил, я тебя и убью! Последняя максима в катехизисе либерального
гуманизма не записана, и профессор явно терпит поражение, вер-
нее, его гуманизм терпит поражение, когда ради спасения своего и
всего человеческого рода Преображенский вынужден прибегнуть к
террору, убийству. Счастье его, что ему удалось скрыть следы этого
преступления, а то не избежать «высшему существу» тюремных нар!
В финале повести профессор удовлетворенно сидит в своем крес-
ле, напевая «К берегам священным Нила...». Но вообще-то говоря,
его должна была мучить совесть, и если не «мальчики кровавые», то
слова Шарикова должны были иногда всплывать в памяти, тревожа
покой. Вернее, его собственные, профессора Преображенского, сло-
ва, сказанные в запале спора с Шариковым: “Как-с, — прищурива-
ясь, спросил он, — вы изволите быть недовольным, что вас превра-
тили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по
помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!»1
Профессор, увы, лукавит. Не ставил он перед собой цели обла-
годетельствовать пса Шарика, превратив его в человека. И в мыслях
такого не было. Он же сам, противореча себе, сообщил Шарикову,
что тот—«неожиданно появившееся существо». И это признание —
правда. Шариков — результат или, скорее, жертва научного экспери-
1 Там же. С. 444.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос*
66
мента, поставленного исключительно ради науки, а не для того что-
бы облагодетельствовать вот это живое существо. Напротив, профес-
сор сознавал, что убивает или, во всяком случае, может убить живой
комок материи, к которому как человек гуманный успел проник-
нуться жалостью. И потому опять-таки не профессор, а Шариков
оказывается на все сто процентов прав, когда напоминает ему об
этом: «Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок
хлеба добывал! А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на
это выразите, товарищ?»1
Однако Преображенского после совершенного убийства вовсе
совесть не мучит— и не будет мучить, надо полагать, и в будущем,
если верить внутренней логике и смыслу повести Булгакова. Потому
что профессор понял что-то очень важное, о чем и не догадывался
раньше, до опыта. Наука ему представлялась высшей ценностью, а
истина естествознания — абсолютным критерием всякой иной ис-
тины, тем более если эта последняя есть истина «не точных наук».
«.. .Когда-нибудь, — говорит в начале повести профессор, — если бу-
дет свободное время, я займусь исследованием мозга и докажу, что
вся эта социальная кутерьма (Преображенский имел в виду револю-
цию.—В.А) — просто-напросто больной бред»1 2. И вот, сделав от-
крытие, от которого, по его признанию, «физиологи будут в востор-
ге», Преображенский признается своему ученику и соратнику: «Док-
тор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся...»3
Обычно в критической литературе драму профессора Преобра-
женского рассматривают как раннее предупреждение Булгакова об
ответственности науки, как повествование о моральных проблемах,
встающих, например, в современной биологии и медицине. В эпо-
ху клонирования человека эти предупреждения звучат актуально.
Однако, смею утверждать, повесть Булгакова совсем не о том!
Конечно, тема ответственности ученого за недостаточно продуман-
ное вторжение в биологию и физиологию человека в повести при-
сутствует. Но не она образует ее внутренний смысл и нерв. В конце
концов, на эту тему было написано немало задолго до Булгакова, в
1 Там же. С. 444.
2 Там же. С. 417.
3 Там же. С. 471.
Собачья радость» («бернарство»)
&7
том числе и в художественной литературе. И лучше Гете уже не ска-
жешь! Новые вариации могут добавить какие-либо ранее не извес-
тные детали, но они обещают художественные достижения на уров-
не Герберта Уэллса, не выше.
Если вина ученых обычно заключается, согласно литературе, о
которой шла речь выше, в том, что в результате своих безответствен-
ных опытов они создают чудовищ, монстров, нелюдей, то вина про-
фессора Преображенского в прямо противоположном. С чисто на-
учной, естественно-научной точки зрения его эксперимент безуко-
ризнен, он не принес никаких побочных отрицательных эффектов.
Совсем напротив, не фантастического монстра создал профессор, не
гомункулуса — он воскресил силой своей науки самого обыкновен-
ного человека, так сказать, смертию смерть поправ.
Правда, на первых порах созданное им существо не вполне было
человеком, в нем еще много от собаки Шарика, например, война не на
жизнь, а на смерть с котами, но это—временное, это атавизм, кото-
рый, по утверждению профессора, отмирал. Ужас заключался в другом.
«Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в
сторону смотровой, где почивал Шариков.
— Исключительный прохвост.
—Но кто он? Клим! Клим!—крикнул профессор. — Клим Чугун-
кин! (Борменталь открыл рот). Вот что-с: две судимости, алкого-
лизм,— “всё поделить”, шапка и два червонца пропали (...), хам и
свинья...»1
Воскресив силой науки Клима Чугункина, профессор попал в без-
выходное положение. До сих пор он, авторитетный ученый, с успехом
охранял свой Дом, не просто квартиру, а Храм науки, от невежествен-
ной толпы прохвостов, распевавших революционные песни и жаж-
давших «поделить» эту квартиру, т.е. разрушить Храм. Но когда из-за
случайности, нелепости, которую никто не мог предусмотреть, «хам
и свинья» вселился в его квартиру, причем вселился по тому гуман-
ному праву равенства, сторонником которого был сам профессор, —
вот тогда возникла трагическая ситуация. В «интеллектуальных ба-
талиях» Преображенский был положен Шариковым на обе лопатки.
Почему? Неужели Шариков действительно прав?
1 Там же. С. 470.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
68
Нет, все содержание повести доказывает прямо противополож-
ное. Шариков прав только формально, а по существу—хам и свинья.
Но если бы повесть Булгакова сводилась только к этому выводу,
то она ничем по существу не отличалась бы от его ранних очерков
о «Василии Ивановиче» и «председателе домоуправления».
Шариков—хам в чистом виде, так сказать, образец хамства, и в
этом смысле—идеальный, классический тип. Василий Иванович при
всем своем непотребстве имел хотя бы абстрактную возможность
развиться во что-то более или менее человекоподобное. И даже Клим
Чугункин. Но для Шарикова подобная возможность исключена абсо-
лютно. Потому что вопреки уверениям профессора читатель очень
хорошо понимает и видит, что звериное в нем — не атавизм, а сущ-
ность. Он так же не виноват в своем прирожденном хамстве, как и
в том, что чувствует неистребимую ненависть к котам. Это — на ген-
ном, так сказать, уровне, это не поддается перевоспитанию. Лаской
можно воспитать животное, а Шарикова — нельзя. Потому что он не
животное, а самый обычный человек. Существо, хуже которого нет
ничего в природе, ибо человеческое в нем служит только тому, что-
бы зверское абсолютно господствовало над любым проявлением че-
ловечности и побеждало это человеческое, то есть гуманное, прибе-
гая к оружию самого же гуманизма, сути его — идее равенства.
Давайте еще раз послушаем Шарикова. Все, что он говорит, фор-
мально верно, а по сути — издевательство.
«Да, конечно, как же... — иронически заговорил человек и побе-
доносно отставил ногу, — мы понимаем-с! Какие уж мы вам товари-
щи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пят-
надцать комнат с ваннами не жили! Только теперь пора бы это ос-
тавить. В настоящее время каждый имеет право...»1
В самом деле, если исходить из идеи равенства всех людей, то
несправедливо, чтобы один жил на улице, а другой занимал пятнад-
цать комнат с ваннами, один учился в университете, а другой искал
пропитания на помойке... Что мог возразить профессор? Что, говоря
словами, например, Маркса, «не-труд немногих был условием раз-
вития всеобщих сил человеческой головы», то есть, что социальное
неравенство являлось необходимой предпосылкой развития циви-
1 Там же. С. 444.
Собачья радость» («бернарство»)
69
дизации, культуры, искусства? Да это и пытается доходчиво объяс-
нить Шарикову профессор, но самые убедительные слова отскаки-
вают от этого существа как от стенки горох.
Ведь и Шариков, хотя цитированных слов Маркса наверняка не
знал, но, услышав их, только укрепился бы в своей правоте. Да, согла-
сился бы он, когда-то, может быть, старые порядки были допустимы и,
наверное, полезны, «только теперь пора бы это оставить. В настоящее
время каждый имеет право...» Время буржуазной демократии, время
формального равенства прошло, мы живем в другую эпоху—стро-
ительства социализма, когда на место формального равенства прихо-
дит иное—социальная справедливость. Выходит, Шариков неплохо
усвоил уроки ленинизма? Не букву, так сказать, а дух этого учения?
Мы не знаем, как отнесся бы Ленин к повести Булгакова. Обра-
зованный марксист Л. Каменев увидел в ней опасный пасквиль на
революцию и запретил ее публикацию. Не потому ли, что больше-
вистская революция выпустила на волю всех этих Василиев Ивано-
вичей, более того, сделала ставку на них, опору своей власти?
Как бы то ни было, но хамство созрело задолго до революции.
«Библия — великая книга, — писал Мих. Лифшиц, — ибо она созда-
ла образ хама». Шариков — один из вариантов этого вечного типа,
и в русской литературе XIX века он имеет более близких родствен-
ников. Чей очень знакомый голос слышится в рассуждениях Шари-
кова, чью манеру выражения перенял он, вплоть до характерных
лакейских штампов типа «понимаем-с»? Жесты и позы какого лите-
ратурного героя поразительно напоминают Шарикова («Да, конеч-
но, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отста-
вил ногу, — мы понимаем-с»)? Конечно, это Смердяков1. С его неис-
требимой, можно сказать, врожденной низостью, проистекающей
прежде всего из его претензии на равенство с теми и с тем, до чего
он не дорос, и органически не способен дорасти.
Смердяковщина ныне стала мировой проблемой. «Начало мая
1974 года, статья в “Форчун” “Кто будет делать черную работу?” Ес-
- 1 Сопоставление образов Смердякова и Шарикова см. Клей-
ман Р.Я. Мениппейские традиции и реминисценции Досто-
евского в повести М. Булгакова «Собачье сердце»//Достоев-
ский: Материалы и исследования. Л., 1991. Вып. 9. С. 227-229.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
70
тественное уравнение зарплат — никто не хочет делать черную ра-
боту, поэтому зарплата за эти функции и все блага полагаемые уве-
личиваются.
Скорее к обществу, в котором нет распределяющей справедли-
вости Аристотеля! Иначе естественно-нарастающее равенство лю-
дей приведет и уже приводит к темным последствиям. Послушайте,
с каким презрением не худо живущие пролетарии неквалифициро-
ванных работ, включая уборщиц, дежурных, сиделок, дворников,
продавщиц, толкуют об “ученых” и “училках”.
Демократия, но демократия смердяковская, плебесцитная и гро-
зящая миру некоторым понижением жажды образования. Впрочем,
и жажда образования как стремление к одной лишь квалификации,
мания дипломов, стоит той же смердяковщины».1
Почти все важнейшие признаки этой «смердяковской демокра-
тии», вытекающей из идеи и практики равенства, были задолго до
Достоевского описаны в книге А. Токвиля «Демократия в Америке».
Книга Токвиля, писал в тридцатые годы XX века литературный кри-
тик В. Александров (о котором у нас пойдет речь в одной из после-
дующих глав), «произвела на Пушкина сильнейшее впечатление.
Пушкин говорит, что она его испугала»1 2. В. Александров приводит
в своей статье следующие слова Пушкина об Америке, сказанные
под впечатлением книги Токвиля: «...Уважение к сему новому на-
роду и его уложению, плоду новейшего просвещения, много поко-
лебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном
цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве.
Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человечес-
кую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству,
большинство, нагло презирающее общество; рабство негров посре-
ди образованности и свободы...»3 Пушкин полагал, пишет В. Алек-
сандров, что «в России нет ничего подобного». Он, по мнению кри-
тика, ошибался — «ему вряд ли могло придти в голову, что на его
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 193. С. 3-4.
2 Александров В. «Шестисотлетнее дворянство» (О некото-
рых политических теориях Пушкина) // Литературный
критик, 1936, № 7. С. 19.
3 Там же.
«Собачья радость» («бернарство»)
71
родине развитие идет в том же направлении»1 — развития капита-
лизма и связанной с ним идей и практикой равенства.
В XX веке, как хорошо известно, «восстание масс» стало мировым
явлением, породившем так называемые тоталитарные общества2.
Тоталитаризм в России XX века имел свои особые черты — никто
ныне не сомневается, что Шариков был выпущен на волю и ему была
предоставлена абсолютная свобода действия и власть именно бла-
годаря антибуржуазной социалистической революции, а не как след-
ствие развития буржуазной демократии американского типа. Ка-
жется, это было очевидно и для Булгакова. Иногда высказывается
мнение, что прообразом профессора Преображенского (или профес-
сора Персикова из «Роковых яиц») вполне мог быть Ленин. Ибо имен-
но Ленин произвел ту социальную крупномасштабную и кровавую
операцию, в результате которой Шариковы получили социальную,
экономическую и политическую власть.
Правда, если Булгаков и проводил некую аналогию между ми-
лейшим профессором и вождем революции, то она была весьма от-
даленной и условной. Ни по своему психологическому складу, ни по
образу жизни, ни по мировоззрению профессора Преображенский
и Персиков не похожи на Ленина. Профессор Преображенский, бе-
зусловно, гуманист, но едва ли последовательный демократ, ибо к
идее равенства, особенно того, что воплощалось на практике в со-
ветской России, он относится более чем скептически. В социальные
вопросы он не склонен особенно вдаваться, полагая, как и многие
другие ученые естественники, что социальные теории далеки от
подлинной науки, слова «революция», «контрреволюция»3 кажутся
1 Там же.
, 2 Следует заметить, что, на наш взгляд, этот термин труд-
. но назвать научным, поскольку он объединяет в одно прин-
ципиально различные явления, которые необходимо раз-
личать — главной задачей настоящей книги является по-
пытка такого различения.
. ’«Кстати,—говорит Преображенский, — вот еще слово,
которое я совершенно не выношу! Абсолютно неизвестно,
; : что под ним скрывается! Черт его знает!» — Булгаков Ми-
хаил. Антология сатиры и юмора России XX века. С. 419.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
72
ему по крайней мере не строгими понятиями, если в них вообще
есть какое-то рациональное содержание. Профессор ставит выше
всех этих социальных концепций «здравый смысл и жизненную опыт-
ность» и убежден, что в достаточной степени обладает и тем, и дру-
гим. Всем концепциям Преображенский предпочитает силу факта,
его очевидность и неопровержимость.
«Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов,
человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень
хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-ни-
будь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я де-
лаю вывод»1. Все, что не укладывается в категорию «факта», для про-
фессора Преображенского есть «мираж, дым, фикция!»1 2
Иными и не могут быть суждения профессора-естественника,
особенно если он последователь Сеченова, Мечникова (портрет ко-
торого разбил пес Шарик), Клода Бернара и других кумиров русской
студенческой молодежи 60-70-х годов, то есть того времени, когда
сформировался характер и образ мыслей будущего профессора, ев-
ропейской знаменитости.
Дмитрий Карамазов в ответ на показания Ракитина выкрикива-
ет в зале суда слово, которое, кажется, не имеет никакого отноше-
ния к делу: «Бернар!»3 Конечно, ни Мечников, ни Клод Бернар (в
лаборатории которого учился Сеченов) деньги не воровали и в кле-
вете уличены не были. Чем же не угодил Клод Бернар Дмитрию,
который даже имени выдающегося французского физиолога толком
не знал, услышав о нем впервые от Ракитина?
1 Там же. С. 416.
2 Там же. С. 418.
3«.. .взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Гру-
шеньке, он вдруг закричал со своего места: “Бернар!”. Ког-
да же председатель, по окончанию всего опроса Ракитина,
обратился к подсудимому: не желает ли он чего заметить
со своей стороны, то Митя зычно крикнул: “Он у меня, уже
у подсудимого, деньги таскал взаймы! Бернар презренный
и карьерист, и в бога не верует, преосвященного надул!”» —
см. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в трид-
цати томах. Т. 15. Л., 1976. С. IOI.
Собачья радость» («бернарство»)
73
«Вообрази себе, — объясняет своему брату Алеше Дмитрий суть
теории Клода Бернара, — это там в нервах, в голове, то есть там в
мозгу эти нервы (ну черт их возьми!) ... есть такие этакие хвостики,
ну, и как только они там задрожат ... то есть видишь, я посмотрю на
что-нибудь глазами, так вот, они и задрожат, то и является образ, и
не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет,
и является такой будто бы момент, то есть не момент,—черт его де-
ри момент,—а образ, то есть предмет или происшествие, ну там черт
дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хво-
стики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ
и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяс-
нил, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый
человек пойдет, это-то я понимаю ... А все-таки бога жалко!»1
Объяснил теорию Клода Бернара Дмитрию Михаил Ракитин,
либерал и карьерист, человек, мягко говоря, нечистоплотный. Но
зачем на Клода Бернара взваливать грехи негодяя Ракитина? Это
ошибка в логике — ad hominem. Если свои грязные делишки Раки-
тин пытается обелить авторитетом научной теории, то из этого не
следует, что теория плоха. В конце концов, и от имени Бога не мень-
ше преступлений совершено, чем от имени естественных наук!
Однако если между идеей, самой по себе, положим, превосходной,
и массовой практикой негодяев устанавливается устойчивая связь, то
законами формальной логики от этого явления не отделаешься. А в
шестидесятые и последующие годы такая связь возникла, и «ракитин-
ская» идеология оказалась очень популярной — не только у карье-
риста и прогрессиста Ракитина, но и у революционно настроенных
нигилистов. В тридцатые годы XX века Елена Усиевич на страницах
«Литературного критика» так сформулировала суть этой идеологии:
«Бога нет, царя не надо, душа — клеточка, отцу в морду можно дать».
В самом деле, если «душа — клеточка», как доказывали ученые-
естественники2, то почему же отцу в морду нельзя дать? Чернышев-
1 Там же. С. 28.
,, 2 И продолжают доказывать в наше время: в начале 2006 г.
по радио «Эхо Москвы» хирург-профессор объяснял слуша-
• ? J телям, что склонность, например, к убийству—прирож-
денное качество, зависящее от строения головного мозга.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
74
ский, один из поклонников Клода Бернара, отвечал на этот вопрос
своей теорией «разумного эгоизма». Но даже по признанию марк-
систа и большого ценителя философии Чернышевского Мих. Лиф-
шица, эта теория была не безупречна. Если в мире реально нет иде-
ального начала, а господствует только механическая причинность
и целесообразность, статистические закономерности, не отрицаю-
щие, а предполагающие хаос и бессмыслицу всего существующего —
то на что опереться морали? На привычку, внушение со стороны
общества? Но умный человек может выйти за пределы массовых
внушений. На принцип пользы? Но сам же Чернышевский в «Про-
логе» писал, что нет никакой пользы для индивида в том, чтобы
жертвовать собой, это глупо, а если кто и сопротивлялся общему
течению, принося себя в жертву, то, «натурально, по глупости, —
всегда и везде умные люди были глупы..Так почему бы не найтись
таким людям, которые бы не были глупы и ставили во главу угла
свой личный интерес, если «душа — клеточка»? Если в мире нет ни-
чего, кроме голой фактичности?
Таких людей нашлось немало, о чем свидетельствует феномен
«восстания масс», несущий с собой тотальное уничтожение старой
гуманистической культуры, свободного духовного творчества и про-
сто человеческой порядочности. Но виноват ли в этом только мас-
совый человек? Разве Ракитины тут ни при чем?
Конечно, первопричину можно увидеть в Клоде Бернаре с его
физиологическими теориями и вообще в естественных «безбожных»
науках. И этой вины отрицать нельзя. Но лучше будет, если во всем
окажется виновной естественная наука? Если остановиться на этом
выводе, то можно дойти и до костров, на которых сжигали тех, кто
пытался объяснить природу рационально. Тех, благодаря усилиям
которых мы пользуемся благами цивилизации, а не сидим в пеще-
ре. Впрочем, благодаря науке атомным огнем сожжены сотни тысяч
людей, а само человечество все глубже погружается в экологические
и другие кризисы, грозящие самому существованию человека. А что
еще принесет евгеника — искусственное улучшение человеческого
рода, идеал и мечта профессора Преображенского, которым занима-
1 Чернышевский Н.Г. Собрание соч. в 5 томах. Т. 2. М., 1974.
С. 325.
«Собачья радость» («бернарство») 75
лись в фашистских концлагерях, чего профессор, конечно, знать еще
не мог?
Нет, виноват все-таки Клод Бернар и его последователь профес-
сор Преображенский. Но что же делать с ними и их наукой, как ко
всему этому относиться? Как Митя Карамазов? Если так, то главны-
ми, основными виновниками смердяковщины и ее кульминации —
появления власти Шариковых окажутся действительно Клод Бернар
и профессор Преображенский. А вовсе не Ракитин и не большеви-
ки, вина которых велика, но вторична.
Сторонников последнего взгляда в современном мире не мень-
ше, чем явных поклонников естественных наук и «философии фак-
та». Кто прав, кто ближе к истине? Неужели проповедники «нового
средневековья»?
«Скорее наоборот, нужно считать, что наука нового времени,
делая свое великое дело в борьбе с наследием схоластики, сама ста-
новится жертвой исторических условий, которые навязывают ей
односторонний тип рассудочного, чисто количественного, механи-
ческого и действительно “инструментального” взгляда на отношение
субъекта к объекту. Этот недостаток был искупительной вирой за
громадные и благодетельные для человеческого общества успехи
научного знания. [...] Лишь там, где эта “демифологизация” мира
переходит в новый рассудочный миф, заслоняя как мерзлый холод-
ный туман возможности диалектического мышления, принцип adae-
quatio intellectus et rei1 превращается в то, что принято называть
позитивизмом, или даже буржуазным позитивизмом».2
Не только «прогрессивно» мыслящие либералы Ракитины, не
только философы-позитивисты XIX и XX веков создавали и активно
распространяли этот «новый рассудочный миф», но и сами ученые-
естественники, даже наиболее крупные из них, были причастны к
этому мифу, заслоняющему «как мерзлый холодный туман» реаль-
ный мир, который в результате утратил для человека свою красоч-
’ Понимание истины как простого соответствия нашего
знания объекту, принятое в современных естественных
науках.
2 Лифшиц Мих. «Эстетика Гегеля и современность» // Воп-
росы философии. 2OOI, № II. С. IOO-IOI.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
76
ность, бесконечное богатство и смысл. Но в этом случае ученый-ес-
тественник превращался в философа-позитивиста, или социально-
го философа, подобного социал-дарвинизму или еще какой-нибудь
разновидности современного иррационализма, вплоть до постмо-
дернистского мировоззрения.
Всех представителей этой многоликой современной философии
Мих. Лифшиц именовал одним словом, заимствованным им у Дос-
тоевского, — «Бернары». Из многочисленных фрагментов и замеча-
ний Лифшица на эту тему, пока не опубликованных и хранящихся
в его архиве, приведем здесь один или два:
«Великий шаг, сделанный сенсуалистами XVII века по отноше-
нию к обычной “адекватности” и “врожденности” сознания рацио-
налистов метафизической эпохи. И все же это был также шаг назад,
шаг к “бернарству” (“Братья Карамазовы”), к ограничению сознания
его физиологической и социологической клеткой, Ortbestimmung.
Вот из чего тщетно искали выход Локк и его последователи, особен-
но Вольтер и Дидро»1.
«Нужно было бы дать “структуральный анализ” современного
мышления типа “социологии” etc. Новый тип схоластики. Вклад
естествознания в эту собачью радость (“Бернары”). Применить к ним
такой же метод, как к первобытным системам родства и primitive
Mind»2.
Профессор Преображенский в свободное от работы время любил
ораторствовать и преимущественно на социальные темы: «набрав-
шись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему проро-
ку, и голова его сверкала серебром»3. Под впечатлением этих речей
у Шарика мелькнуло вполне практическое соображение: «Он бы
прямо на митингах мог деньги зарабатывать,—мутно мечтал пес, —
первоклассный деляга»4.
И надо думать, такие речи действительно могли иметь успех. По
крайней мере у современного интеллигентного читателя успех этих
1 Архив Лифшица, папка № 189. С. 351
2 Архив Лифшица, папка № 193. С. 155.
3 Булгаков Михаил. Антология сатиры и юмора России XX ве-
ка. С. 418.
4 Там же. С. 419.
Собачья радость» («бернарство»)
77
речей ошеломляющий, слова профессора разошлись и укоренились
если не в народной речи, то в либеральных масс-медия, на телеви-
дении, радио и в газетах почти так же широко, как строки бессмер-
тной комедии Грибоедова: «Боже вас сохрани, не читайте до обеда
советских газет» или «вначале каждый вечер пение, затем в сорти-
рах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении, и
так далее. Крышка Калабухову».
Факты профессор, надо отдать ему должное, подметил верно. А
каков вывод из его громоподобных, убеждающих своим здравым
смыслом, речей?
«Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой!![...]
Это, и только это! И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или
в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком
и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших
граждан»1. «И вот когда он (под присмотром городового, надо пола-
гать. —В. А.) вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Ни-
колая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюци-
нации, а займется чисткой сараев — прямым своим делом,—разру-
ха исчезнет сама собой»2.
Профессор как в воду глядел—не прошло и десятка лет, как «го-
родовой» в красном кепи в Советской России, и «городовой» в корич-
невой рубашке в Германии был действительно приставлен к каждо-
му гражданину. Правда, не столько вопреки «вокальным порывам»
граждан, а скорее благодаря массовому хоровому пению и еще бо-
лее массовым парадам с красными знаменами (со звездой или чер-
ной свастикой).
Не о том мечтал, конечно, профессор. Он воображал городово-
го, который знал свое место и на руководство наукой, например, не
претендовал. Но эти времена давно прошли. Во всем мире уравни-
тельная сила восставших масс подмяла под себя элиту. И городовой
оказался приставленным не только к массовому человеку, но и к
профессору Преображенскому, который шаг за шагом вынужден
был сдавать свои позиции даже в духовной области. Попробовал бы
он сегодня публично поставить под сомнение вкусы шариковых! Да
1 Там же. С. 419.
2 Там же. С. 418.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
78
его бы просто никто слушать не стал, зачислив в неисправимые рет-
рограды1.
В этой новой мировой ситуации слова о необходимости городо-
вого были в лучшем случае несбыточной консервативной утопией,
в худшем — пропагандой тоталитарной тирании.
Перед профессором стоял уже не просто Василий Иванович, хам
и грубиян, которого следовало отправить в участок. Шариков — но-
ситель мировой силы, мменуемойуравнительностью или плебейской
справедливостью. Многие умы еще в начале XIX века находились под
впечатлением от грозящего культуре и цивилизации нашествия ана-
конд. Среди них — не только Алексис Токвиль, но и Карл Маркс, Ни-
колай Чернышевский. Автор «Писем без адреса», обращенных к Алек-
сандру II, предупреждал его, что если не будут проведены необходимые
реформы, то восставшие массы поглотят «и вас, и нас», уничтожат
культуру. Первое крупное философско-экономическое сочинение
Карла Маркса было посвящено критике этой грядущей мировой
силы, плебейской уравнительности, которая, по мысли Маркса, об-
разует суть ближайшего социально-экономического переворота,
именуемого им грубым коммунизмом. Последний есть такое отри-
цание частной собственности, которое на деле — «форма проявле-
ния гнусности частной собственности»1 2, в первую очередь присущей
ей зависти. «Грубый коммунизм есть лишь завершение этой завис-
ти и этого нивелирования... Что такое упразднение частной соб-
ственности не является подлинным освоением ее, видно как раз из
абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации...»3
Генрих Гейне, который называл «доктора Маркса» своим другом,
на протяжении жизни вел войну в своей публицистике и поэзии с
тем, что именуется вульгарной демократией. В его знаменитой по-
1 Лауреат Нобелевской премии российский физик ВЛ. Гинз-
бург поведал на радио «Эхо Москвы» зимой 2006 года ис-
торию о том, как письмо о шарлатанстве астрологии и ас-
трологов, которое он и его не менее авторитетные колле-
ги отправили в «Новые Известия», было отклонено и этой,
и другими центральными газетами.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., издание 2-е. Т. 42. С. пб.
3 Там же, с 115.
:Собачья радость» («бернарство»)
79
эМе «Атта Троль» ранний предшественник Шарикова явился миру в
образе не человека с собачьим сердцем, а медведя, но медведя-де-
мократа, который, правда, был «в смысле вони не безгрешен, Не
талант, — зато характер».
Развернутую социально-психологическую и философскую ха-
рактеристику этой новой мировой силы Мих. Лифшиц, процитиро-
вав приведенные выше слова из поэмы Гейне, нашел в начале 30-х
годов XX века у Карла Маркса: «Сточный желоб, в котором удиви-
тельным образом смешиваются все противоречия философии, де-
мократии и, прежде всего, фразерства, и к тому же малый, щедро
одаренный всеми порочными, подлыми и мелкими качествами от-
пущенного на волю крепостного, мужика (выделено мною.—В. А.):
хитрецой и глупостью, жадностью и неповоротливостью, раболепи-
ем и надменностью, лживостью и простодушием; филистер и идео-
лог, атеист и верующий во фразу, абсолютный невежда и абсолют-
ный философ в одном лице.. .»*
В разделе сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», озаг-
лавленного «Критика уравнительного коммунизма», Мих. Лифшиц
публикует в 1937 году слова классика из его юношеской неопубли-
кованной рукописи — «этот коммунизм, отрицающий повсюду лич-
ность (выделено Марксом.—В. А) человека...»1 2, слова, которые не
только становятся известными широкому читателю, но вызывают в
конце 30-х годов бурную полемику между «течением» и его против-
никами.
Тему «казарменных концепций утопического социализма», ко-
торую в то время развивали Г. Лукач и его друзья из «Литературно-
го критика», было предложено закрыть — вместе, кстати, с самим
журналом. В 1940 году, когда он был закрыт Постановлением ЦК
ВКП(б), некий достаточно известный в то время критик И. Альтман,
1 Цит. по: Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и обще-
ственный идеал. М., 1979. С. 187. Приведя в своей книге
начала 30-х годов эти слова Маркса, Лифшиц писал: «На-
ступит время, когда такие характеристики будут столь же
популярны, как образы Мольера и Гоголя...» (там же).
2 К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве. Сборник под ред. Мих.
Лифшица. М.-Л., 1937- С. 136.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
8о
перечисляя грехи «течения», писал: «Разговоры о казармах мы уже
слыхали. Это старая выдумка либералов, и только люди, враждебные
социализму, любят ныне бесконечно повторять это положение»1.
И. Альтман позднее был репрессирован, но в 1940 году, когда писал
процитированные строки, еще не знал, что, подобно Берлиозу, мо-
жет «попасть под трамвай», иначе говоря, ознакомиться с теми са-
мыми казармами, существование которых он отрицал.
Нет, против демонической мировой силы «всеобщего нивелиро-
вания» и уравнительности городовой в красном или еще каком-ни-
будь кепи помочь не сможет, ибо он сам—часть этой мировой силы.
В конце повести это с ужасом осознал профессор Преображенский.
Он совершенно поник, и от его былой самоуверенности не осталось
следа.
Профессор столкнулся с тем, перед чем он со всем его умом и
культурой оказался совершенно бессилен. Он не нашел аргументов
против плебейской справедливости, именуемой иначе хамством.
Вернее, у него (под влиянием произошедшей в его доме «чудовищ-
ной истории» — напомним, что именно таков иронический подза-
головок повести) оказалось достаточно человеческой и научной
честности, чтобы хотя бы только в душе признать свое поражение.
Правда, ни профессор Преображенский, ни другие реальные профес-
сора первой половины XX века от утопий «бернарства» не отказа-
лись. Но писатель М. Булгаков при всем своем уважении к старой
интеллигенции в ее консервативные утопии (где естественно-науч-
1 «Красная новь», 1940. № 2. С. 124. Более подробно об этом
см. мою статью «За что М. Булгаков казнил М.А. Берлио-
за?»//Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 128 и др. И. Альт-
ман целил, по всей вероятности, не только в Лукача, но и
в одного из последователей А. Воронского —литературно-
го критика А. Лежнева, который еще в 2о-е годы писал, по-
лемизируя с идеологами ЛЕФа: «... лефорская концепция
социализма совершенно неправильна, в основе ложна.
Социализм превращается у них в гигантский работный
дом или казарму, в ту пародию на него, которую создава-
ли его злейшие враги. (...). Это социализм не Маркса, а
Платона. И даже не Платона, а военных поселений». Цит.
по: Критика 1917-1932 годов. М., 2003. С. 276.
'Собачья радость» («бернарство»)
81
ное «бернарство», как у П. Флоренского, соединялось с религиозной
мистикой), которые вели шаг за шагом к идее и практике наступа-
ющего тоталитаризма1, уже не верил.
В повести Булгакова Клим Чугункин — не пролетарий, а деклас-
сированный элемент, кабацкий балалаечник, вероятно, потомок
«отпущенного на волю крепостного, мужика». Но, увы, и пролета-
рий, забывший о деревне, не был избавлен от той же болезни. Если
верить Карлу Марксу, то труд в современном ему обществе «произ-
водит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих»1 2.
Но разве не Карл Маркс и совершенная большевиками под вли-
янием его учения революция выпустила на свободу эту демоничес-
кую силу, с которой они сами уже не могли справиться? Вспомним
строки, продиктованные безнадежно больным Лениным, его пред-
смертное трагическое признание: «Нет сомнения, что ничтожный
процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом
море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»3
1П. А. Флоренский, к которому Булгаков относился с внима-
нием и сочувствием, писал в 1933 году: «Требуется лицо,
обладающее интуицией будущей культуры, лицо проро-
ческого [склада]. Это лицо, — продолжает Флоренский, —
на основании своей интуиции, пусть и смутной, должно
ковать общество. Ему нет необходимости быть ни гени-
ально умным, ни нравственно возвышаться над всеми, но
необходимой [...] гениальная воля, — воля, которая сти-
хийно, может быть, даже не понимая всего, что она де-
лает, стремится к цели, еще не обозначившейся в истории.
Как суррогат такого лица, как переходная ступень исто-
рии появляются деятели вроде Муссолини, Гитлера и др.
Исторически появление их целесообразно, поскольку оту-
чает, — развивает свою мысль Флоренский, — массы от де-
мократического образа мышления, от партийных, парла-
ментских и подобных предрассудков, поскольку дает на-
мек, как много может сделать воля». См. Флоренский П.
Предполагаемое государственное устройство в будущем.
- // Флоренский П. Соч. в 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 651.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. С. 90.
3 Ленин В.И. Поли собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. С. 357.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
82
(речь шла о свободе выхода из СССР, которая при реализации ста-
линского проекта «автономизации» оказывалась, по словам Ленина,
«пустой бумажкой, не способной защитить российских инородцев
от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шови-
ниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный
русский бюрократ»1).
Не Маркс и не Ленин создали Смердякова и «смердяковскую
демократию». Не профессор Преображенский несет всю тяжесть
ответственности за Клима Чугункина, он только вернул его к жиз-
ни, он виноват невольной виной, будучи причастен к феномену
«бернарства». Правда, сразу же оказался «папашей», вступил в тес-
ную связь с индивидом, от которого отделаться смог только убий-
ством. Мрачная история!
Но повесть «Собачье сердце» при всей ее сатирической направ-
ленности мрачной не является. В сравнении, например, с произве-
дениями любимого писателя Булгакова, Салтыкова-Щедрина, по-
весть проникнута пьянящим чувством веселости, победоносного
оптимизма. Исчезла та безнадежность, которой были проникнуты
рассказы и очерки о Василии Ивановиче и ему подобных. Откуда эта
новая художественная интонация?
Хотя профессор Преображенский породил Шарикова в двойном
смысле — и как хирург, и как причастный к «бернарству», — а затем
умертвил его, зловещей фигурой он не является. Напротив, Преоб-
раженский симпатичен даже своими слабостями — склонностью к
безответственному ораторству, сибаритством, почти детским эгоиз-
мом и капризностью. Эти слабости так понятны и даже проститель-
ны для большого ученого, каким является профессор. Ведь он при
всей своей «домашности» сила тоже демоническая—«высшее суще-
ство», «седой Фауст». Посмотрите, каков профессор во время опера-
ции: «Филипп Филиппович стал положительно страшен. Сипение
вырывалось из его носа, зубы открылись до десен... зверски... зары-
чал... злобно заревел... засипел страшный Филипп Филиппович»1 2.
После операции «Филипп Филиппович отвалился окончательно, как
1 Там же.
2 Булгаков Михаил. Антология сатиры и юмора России XX ве-
ка. С. 431.
Собачья радость» («бернарство»)
83
сытый вампир...», «жрец снял меловыми руками окровавленный
клобук...»1. Нет, как хотите, но Шариков явно недооценил «папашу».
В глазах «начальника подотдела очистки» Филипп Филиппович—не
Фауст, обладающий демонической силой, не жрец, не высшее суще-
ство, а мягкосердечный и смешной в своей старомодности интелли-
гентик, которого можно без особых усилий вышвырнуть из кварти-
ры. Ошибка дорого ему стоила — «Шариков сам пригласил свою
смерть»2.
Но в жизни-то все было не так! Разве победил академик Павлов
(в котором можно видеть одного из прообразов профессора Преоб-
раженского) режим? Разве не закончил видный ученый-естествен-
ник и философ Павел Флоренский свою жизнь на Соловках? Разве
не был замучен Николай Вавилов шариковым от науки, академиком
Лысенко?
Так откуда тогда оптимизм и юмор победителя, а не бессильный
сарказм побежденного у Михаила Булгакова?
Булгаков написал фантастическую повесть, сказку, а вовсе не то,
что ныне именуется «фэнтези». Главное отличие сказки от фэнтези
даже не в том, что в первой побеждает добро, а во второй господству-
ет зло. У них разная художественная структура.
Рассмотрим, например, роль детали. Деталь, по определению, —
нечто вторичное по сравнению с главным смыслом, нечто необяза-
тельное, даже случайное. Если мы возьмем, например, такую соци-
альную фантастику, как «Клоп» или «Баня» Маяковского, то там
практически нет бытовых деталей. Детали Маяковскому не нужны,
потому что он отвергает реальность с точки зрения утопии «будет-
лян», в которой отчетливо просматриваются черты «бернарства», но
уже не в консервативном, а леворадикальном варианте. Абстракт-
ность главной идеи порождает абстрактность и безжизненность
фигур, они все «придуманные» — аллегорическое выражение мыс-
ли автора. А в сказке Булгакова детали и не придуманы, и не взяты
механически, фотографически, из повседневности. Фантастика Бул-
гакова имеет что-то и от Гофмана, и от Салтыкова-Щедрина, и от
Гоголя, она—полная противоположность лефовскому утопизму Ма-
• О.
1 Там же. С. 432.
2 Там же. С. 481.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопроса
84
яковского и супрематическому конструированию будущего у Ма-
левича.
Булгаковеды заметили, что писатель в «Собачьем сердце» «ведет
полемику с Маяковским по кардинальным философским пробле-
мам»1, так же, впрочем, как и Маяковский с Булгаковым. Но что
противопоставляет он идее Маяковского и всех «будетлян» — «бого-
борческому избавлению от власти законов природы»? Современные
литературоведы, как правило, полагают, что идея Булгакова в поле-
мике с Маяковским сводится к тому, что «человек не может быть
настоящим богом—лишь пародией на божество»1 2, а в социальном
плане он в отличие от левых—противник революции и сторонник
эволюции (о чем Булгаков, как известно, писал Сталину). Но присмот-
римся к художественным образам и деталям повести Булгакова.
Присыпкин и Шариков—два злобных существа, два обывателя,
побеждаемые силой науки. Но если к этой несложной мысли сводится
пьеса Маяковского, то содержание повести Булгакова много богаче.
Вот состояние пса накануне операции: «...Шарика заманили и
заперли в ванной. “Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной
ванной комнате, — просто глупо...” И около четверти часа он про-
был в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-
то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...
“Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Фи-
липп Филиппович, —думал он, —две пары уже пришлось прику-
пить, и еще одну купите. Чтобы вы псов не запирали”.
Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно поче-
му-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный необъят-
ный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках,
битый кирпич, вольные псы-побродяги...
“Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, —
тосковал пес, сопя носом, — привык. Я — барский пес, интеллиген-
тное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так,
дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...”»3
1 Яблоков Е. А. Соч. цит. С. 28.
2 Таково мнение, например, Э. Проффера, см. Яблоков Е. А
Соч. цит. С. 28.
3 Там же. С. 426. !
Собачья радость» («бернарство»)
85
| . Перед нами забавная деталь — не более того, вообще говоря, со-
всем не обязательная в повести: конфликт пса и профессора по пово-
ду разодранных первым калош, чучела совы и разбитого портрета
Мечникова. Пес забавен в своих мелких проказах, забавна и его оби-
да на профессора, которого он обвиняет в хамстве, и мечтательно
обдумывает страшную месть — еще одни уничтоженные калоши. Но
это—только первый, внешний поток сознания, с помощью которо-
го несчастное животное пытается скрыть от самого себя страшную
правду—неотвратимо надвигающуюся беду, которую Шарик ощу-
щает всем своим существом, как животное, которое ведут на убой.
Бессилие перед страшной судьбой, перед неведомым, но уже
близким роковым событием повергает его то в состояние злобы, то
в какой-то тяжелый упадок, когда все скучно и неясно... И в этой
- критической ситуации, на границе между жизнью и смертью — вне-
) запная яркая картина счастья ранней юности, солнечный необъят-
ный двор, вольные псы-побродяги.
Не лучше ли эта полуголодная, но веселая воля? Но, во-первых,
эта солнечная свобода теперь, в новом положении Шарика, — ми-
раж, «ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать». Во-вторых,
он и не хочет никакой воли, ибо отведал «лучшей жизни», лакейс-
кой, с точки зрения которой воля — «дым, мираж, фикция» (а не
факт! —В. А.), «бред этих злосчастных демократов...» И потому зав-
тра он, покорный, ляжет под нож профессора, превратившись из
милейшего пса в злобного Полиграфа Полиграфовича.
А начальник отдела подотчистки не только помнит о своем про-
исхождении, он даже по-своему гордится им, выбирая фамилию
«наследственную» — Шариков.
Откуда у пса Шарика мысль о том, что свобода и воля — бред
демократов? Не иначе как от Алексиса Токвиля, которого он, конеч-
но, не читал. Но идеи-то носятся в воздухе. И главное—западают в
голову так крепко, что ничем их оттуда не вышибешь — если эти
идеи совпадают с собственным, тяжко выстраданным опытом. Лег-
ко ли добывать пропитание по помойкам? Ошпаренный дворником
бок убедительнее любых рассуждений либералов о свободе как выс-
шей ценности жизни. Нет, лучше «хорошая жизнь» в лакеях, лучше
терпеть «хамство» хозяина, в любой момент способного запереть
тебя в темную комнату, чем голодная и бездомная смерть.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
86
Но этим рассуждениям Шарика тоже верить на слово нельзя, это
тоже невольная ложь, самообман существа, предчувствующего свою
гибель. А где правда?
Она — везде, в каждом слове этой повести, в каждой, даже самой
незначительной детали. Конечно, пес, размышляющий в духе Алекси-
са Токвиля о демократии — это фантастика. Но перед нами —реали-
стическая сказка, а не бытоописательский натурализм. Реалистич-
ность этой фантазии—в деталях, одновременно абсолютно правдопо-
добных и выводящих далеко за пределы обыденных «низких истин».
Кто виноват в появлении на свет Шарикова? Его «предок», что
предпочел пугачевской или разинской вольности «хорошую жизнь»
у хама-хозяина? Разве мог даже такой идеальный хозяин, как про-
фессор Преображенский со всей его либеральной педагогикой, по-
нять, что грош цена его ласке, если при этом, не спрашивая согла-
сия, запирают в темную комнату, якобы ради блага самого же вос-
питуемого?
Или, может быть, виноват профессор, который не мог посадить
предка Шарикова с собой за один стол, — точно так же, как, поло-
жим, не только Дидро и Пушкин, но даже Александр Блок не мог
найти общего языка с крестьянами, сжегшими его библиотеку?
Виноват ли Преображенский, увлеченный до беспамятства на-
укой, укрепляющей здоровье людей, для которого «бернарские»
рассуждения за столом были родом интеллектуальной отдушины
после тяжелой работы, отдыхом, игрой — и одновременно защитной
реакцией от наседающей со всех сторон непонятной, но беспощад-
ной силы?
А Клим Чугункин? Имея, по всей вероятности, папашу-лакея,
какую он мог сделать для себя карьеру при этих, не им созданных,
обстоятельствах?
Может быть, во всем виноват Швондер, это он ведет Шарикова
по дороге хамства — плебейской справедливости. Но именно Швон-
дер—из разряда тех, кто не ведает, что творит; именно ему придет-
ся пасть первой жертвой Шарикова, как проницательно догадыва-
ется профессор. Он не столько палач, сколько жертва истории, ее не-
умолимой иронии. Настоящим палачом уготовано стать Шарикову.
А он — вообще существо безответственное, он — слепой продукт
не от него зависящих обстоятельств. «Разве я вас просил мне опера-
<Собачья радость» («бернарство»)
87
цию делать,—человек возмущенно лаял, — хорошенькое дело! Ух-
ватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнуша-
ются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал»1.
Порочный круг — нет в мире совершенно правых. Каждый по-
своему виноват. И это все, это конечный вывод? Тогда бы мы име-
ли действительно фэнтази, а не повесть Булгакова.
Все в той или иной мере виноваты. Но порочный круг должен
быть порван, и порван единственно возможным способом—ликви-
дацией Шарикова, который никакому перевоспитанию не под дает-
ся, ибо хамство у него врожденное, генетическое.
Операция по «ликвидации» описана Булгаковым со всей натура-
листической правдивостью. Это не символическая победа высшей
науки над обывателем, как у Маяковского, а вторичное убийство
Клима Чугункина — на этот раз не в кабаке, а на операционном сто-
ле. Убийство, чудесным, но в то же время совершенно естественным
образом возвращающее Шарикова к его «предкам»—лакеям, знаю-
щим свое место и не помышляющим о плебейской справедливо-
сти—равенстве с теми, с кем они органически равны быть не могут,
«жрецами» и «высшими существами», подлинными аристократами.
Конфликт из-за квартиры между профессором и Шариковым —
.главная сюжетная линия повести — завершен благополучно. Все
вернулось на круги своя: профессору никто не мешает в его высо-
ких исследованиях, а Шарик—уже не бездомный пес, он «утвердил-
ся» в квартире профессора, и свое неописуемое везение объясняет
тем, что в его происхождении не все чисто — не простой он бездом-
ный пес, а зачала его бабушка не иначе как от пса-аристократа.
Консервативная, даже реакционная утопия писателя, подобная
тому, о чем мечтали те, что ничего не поняли и ничему не научи-
лись? Да, если бы не детали. Как вот эта, заключительная: чисто
лакейский образ мысли Шарика, показывающей цену его счастья и
неописуемого везения. И множество других деталей, каждая из ко-
торых— целая фабула, как мы пытались показать на примере одной
из них.
Эти детали — не выдуманы, не подогнаны искусственным обра-
зом автором одна к другой. Они рождаются естественно, сами собой,
1 Там же. С. 443.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
88
ибо иначе просто быть не может. А все вместе, в своем органичес-
ком сцеплении создают художественное целое.
Шарикова больше нет, а пес Шарик мирно дремлет у ног своего
хозяина. Идиллия. Но ей предшествовала титаническая борьба двух
антиподов, в которой, однако, выясняется, что эти антиподы в то же
время и связаны между собой как две крайности, которые при изве-
стных условиях могут оказаться тождественными. Профессор Преоб-
раженский —настоящий, великий ученый, а его «бернарство» — все-
го лишь милая слабость, вполне извинительная. Не профессор со-
здал Клима Чугункина. Но последний появился не без влияния на
лакея «смердяковской демократии» как результата приложения не-
которых выводов естествознания к социальным наукам, что выра-
зилось в нигилизме второй половины XIX века.
В сказке Иванушка-дурачок чудесным образом преодолевает все
препятствия и оставляет в дураках умников. В повести Булгакова
профессор исправляет допущенную им ошибку, и не только благо-
даря своему несравненному искусству хирурга, но и потому что от-
казывается от либеральных благоглупостей, прибегая к спаситель-
ному—и гуманному в данных обстоятельствах—террору. Сказка
ложь, да в ней намек...
Конечно, не террор как единственное средство против Шарико-
вых и Климов Чугункиных проповедует Булгаков. Даже городовой —
не выход. Плебейская справедливость — такое мировое явление,
корни которого уходят очень глубоко. И чистая наука, наука есте-
ственная, может покончить с ним только в сказке. Ведь и наука,
пусть не прямо, так косвенно, причастна к появлению Шариковых.
Сможет ли наука когда-нибудь в будущем преодолеть неразрывно
пока с ней связанное «бернарство», сможет ли она стать по-настоя-
щему разумной силой, работающей на благо человека? Сие зависит
от многих условий, о чем речь у нас впереди.
Как бы ни был благополучен конец повести, как бы ни была она
художественно завершена, а жизнь требовала продолжения и развития
темы. Ведь климы чугункины и Василии Ивановичи не только разгу-
ливали по улицам и дрались в кабаках, они становились начальника-
ми различных отделов и подотделов. Профессору Преображенскому
если везло, то удавалось сохранить квартиру, но в ней становилось
все менее уютно. Это не тот Дом, в котором хотел бы жить Булгаков.
89
«Подобие разностей и разница подобий»
В рассказах и очерках двадцатых годов плебеям, люм-
пенам и хамам всякого рода противостояло нравственное возмуще-
ние писателя. Затем антиподы приобретают все более и более реаль-
ные черты, обрастают множеством реальных деталей и подробностей.
В результате достаточно еще абстрактный человек-пробка становит-
ся индивидом, пусть и очень отвратительным, но таким, о котором
можно уже поведать многое — гораздо больше того, о чем мы писа-
ли на предшествующих страницах. Шариков — и классический, иде-
альный, так сказать, образец хамства, и живой художественный
образ, несравнимо более богатый, чем Василий Иванович, о кото-
ром можно только сказать, что он заслоняет горизонт, и прожива-
ние с ним в одной квартире — большая проблема.
В свою очередь, антиподы Василиев Ивановичей, часто вынуж-
денные проживать с ними бок о бок, тоже становятся более конкрет-
ными, обретают зримые черты. Если автор-повествователь на стра-
ницах очерков первой половины двадцатых годов—лицо достаточ-
но условное, то совсем иное — профессор Преображенский. Перед
нами уже не статическое противостояние антиподов, а развитая
фабула, повествующая со всеми подробностями и деталями о завяз-
ке, развитии и завершении конфликта по поводу квартиры профес-
сора. В ходе этой драмы ее участники раскрывают себя, и мы узна-
ем о них нечто такое, что заранее предположить было трудно.
Шариков и профессор Преображенский — не только антиподы,
но и по-своему очень тесно друг с другом связанные персонажи.
Когда Шариков был просто псом Шариком, между ним и профессо-
ром сложились вполне приемлемые отношения, которые устраива-
ли обоих—отношения пса и его хозяина-благодетеля. Но профессор
сам разрушил эту идиллию. Результатом вторжения науки в приро-
ду оказалось возбуждение социального конфликта, жертвой которо-
го мог стать профессор. Виной тому—не чистая наука, а гораздо
более сложные и запутанные отношения, которые завязывались за-
долго до научного эксперимента Преображенского: выясняется, что
первоначальная картина идиллии между аристократом хозяином и
верным ему слугой—утопия, давно ушедшая в прошлое. Ужасное
открытие профессора заключается в том, что его представления о
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
90
современных социальных проблемах и способах их радикального
решения — не что иное, как безответственная болтовня. И сама эта
безответственность тесно связана с вторжением естественных наук,
их метода в проблемы социальные, а не только и даже не столько в
биологическую природу человека. Профессор несет ответственность
не за операцию — она оказалась с научной точки зрения безукориз-
ненной, — а за оживление Клима Чугункина. И если по законам сказ-
ки пробужденную демоническую силу плебейской справедливости
удалось укротить, то это укрощение в повести предстает как поэти-
ческая справедливость, как предвосхищение разрешения конфликта
в будущем. Причем это разрешение состоит именно в возвращении
назад, к естественным отношениям аристократии и массы. Однако
эта консервативная иллюзия при всей серьезности, с какой относит-
ся к ней Булгаков, иронически снимается им же самим — посред-
ством как бы случайных, но в художественном отношении совер-
шенно необходимых деталей.
Несомненными остаются только многообразные и чрезвычайно
сложные связи профессора с его творением, и эти связи с помощью
скальпеля можно устранить только в сказке. Одной только силой,
одним террором с Шариковым и побуждающей его к крайней актив-
ности плебейской справедливостью совладать нельзя. Победа над
Шариковым возможна лишь при разматывании всего того клубка,
который опутывает антиподов, соединяя их в единое, но совершен-
но противоестественное и иррациональное целое.
Дальнейшие художественные исследования—уже в тридцатые
годы—приводят Булгакова к выводу, что единство противополож-
ностей, о котором идет речь, гораздо более тесное, чем ему представ-
лялось вначале.
«Папаша» Преображенский не признает в своем порождении
законного наследника, он в ужасе отказывается от него, ликвидируя
в конце концов то, что сам же и породил. Только таким и могла быть
реакция на Шарикова честного и преданного своему делу ученого-
естественника, ученика Сеченова и Мечникова.
Однако послеобеденные размышления и возмущенные речи про-
фессора тоже имели результат, причем не менее ужасающий и нео-
жиданный, чем проведенная им операция. Вклад естествознания в
появление нового типа схоластики—социологии с ее главной отли-
'Подобие разностей и разница подобий:
91
чительной чертой — равнодушием к объективной истине, доходя-
щим до полной нейтрализации и исключения из области науки са-
мого понятия объективной истины, — был значителен. Распростра-
нившаяся, как чума, в литературоведении и искусствоведении 2о-х
и 30-х годов так называемая вульгарная социология была, как ска-
зано Мих. Лифшицем, собачьей радостью, развитием «бернарства»
в духе подлеца Ракитина.
Далеко не все вульгарные социологи малообразованны и вуль-
гарны, напротив, среди них встречались талантливые ученые, ка-
ким, например, был, по мнению Мих. Лифшица, В. Переверзев. Бо-
лее того, вульгарная социология являлась итогом почти столетней
эволюции западной науки, имея в числе своих предшественников
значительные, серьезные научные направления: «историю искусств
как историю духа» Макса Дворжака, концепцию «художественной
воли» А. Ригля, не говоря уже о Г. Вельфлине’.
На страницах романа «Мастер и Маргарита» мы знакомимся с
«председателем правления одной из крупнейших московских лите-
ратурных ассоциаций», редактором толстого художественного жур-
нала, на хорошо выбритом лице которого «помещались сверхъесте-
ственных размеров очки в черной роговой оправе». Это — Берлиоз,
которого мастер аттестует как человека «начитанного». В разгово-
ре с Иваном Бездомным он обнаруживает, по словам Булгакова, «со-
лидную эрудицию». Берлиоз аттестует себя как атеиста и, следова-
тельно, материалиста, причем материалиста, надо думать, самой со-
временной формации — марксистской.
Перед нами снова, как и в «Собачьем сердце», человек ученый
(или хотя бы начитанный, эрудированный) и его порождение, пусть
не в прямом, биологическом, но зато в более тесном социально-
культурном смысле. Правда, новый вариант бездомного существа,
молодой, но уже известный поэт, портрет которого публикуется в га-
зете, почтительный ученик Берлиоза, на квартиру своего создателя
не покушается. Бездомность для него — символ нового, качествен-
1 Например, работы А. Федорова-Давыдова двадцатых го-
дов—чистой воды вульгарная социология, основанная на
очень приличном знании современных ему западных фор-
малистических концепций художественного стиля.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
92
но отличного от всей предшествующей культуры и цивилизации
творческого начала, о чем наглядно свидетельствует избранный
поэтом псевдоним. Новое заключается именно в том, что традици-
онное для поэзии понятие скитальца (одним из которых был, на-
пример, Евгений Онегин) демонстративно заменяется его плебей-
ским или скорее даже его люмпенским вариантом. Впрочем, плебей-
ской является идеология, а практика — типично люмпенская, то
есть шариковская: само собой понятно, что поэт Бездомный под
открытым небом не живет, как и его собратья. Во всяком случае, в
отделениях МАССОЛИТа, где распределялись различные житейские
блага, «длиннейшая очередь», «начинавшаяся уже внизу в швейцар-
ской», толпилась перед дверью с надписью: «Квартирный вопрос»1.
Поэт Бездомный не отказывался от квартиры, как, надо думать,
его современник поэт М. Голодный не отказывался от приема пищи.
Тот и другой хотели сказать, что они принадлежат к тому многочис-
ленному слою человеческого рода, который был лишен и дома, и про-
питания. Одним словом, у них общее с Климом Чугункиным, Шари-
ковым и Василием Ивановичем социальное происхождение — и эта
общность принимается и декларируется в качестве художественной
программы, приобретает символический, знаковый характер.
Но тут важно провести различие, которое имеет решающе важ-
ный смысл. Само по себе желание жить в квартире, иметь дом — об-
щечеловеческое, в нем нет ничего специфически люмпенского или
плебейского. Однако люмпен хочет прибрести квартиру даром, де-
магогически апеллируя к общечеловеческому праву на жизнь и на
жилище. Демагогия заключается в том, что при этом люмпен как бы
забывает о другом — об обязанности человека жить своим трудом,
а не присваивать себе труд другого человека. Шариков хочет жить
в квартире профессора, но ни учиться, ни работать—в прямом смыс-
ле слова, ибо «деятельность» уважаемого Полиграфа Полиграфови-
ча работой назвать нельзя, от нее один только вред — не желает.
Плебей, напротив, живет своим трудом, он мечтает о таких услови-
ях, при которых бы его честный труд давал возможность иметь квар-
тиру и другие человеческие блага.
1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. М., 1975. С. 472.
‘Подобие разностей и разница подобии
93
В ранних рассказах Булгакова люмпен и плебей сливались в не-
что одно, практически неразличимое—то, что именуется «восста-
нием масс». В «Мастере и Маргарите» различие между плебейством
и люмпенством становится одной из главных художественных тем
романа, причем независимо от того, повлияло оно или нет на обще-
ственно-политические убеждения и симпатии писателя.
Шариков смотрит на профессора, профессор — на Шарикова, а
где же сам автор, где его «видение»? Оно, разумеется, не ослабло по
сравнению с более ранними произведениями, а в художественном
отношении окрепло. Сами вещи пришли в движение, причем в дви-
жение, обладающее не только определенной логикой, но и смыслом,
иными словами, возникло то, что именуется фабулой. Художествен-
ная сила Булгакова обнаруживается в том, что он подчиняется этой
фабуле самих вещей, объективной логике мира.
Аристократ духа прав в своем возмущении против мирового зла—
«восстания масс», прав в своем неприятии этого «нового бравого
мира». Это исходный тезис, который сохраняется на всем протяжении
творчества Булгакова, но в процессе развития логики самих вещей
уточняется и существенно корректируется. «Собачье сердце» доказы-
вает, что интеллигент, носитель «духа» вещей, может быть таковым
лишь в той степени, в какой он способен объективно, на самом деле,
а не в пустой болтовне, снять вину за свое порождение, ибо не кто
иной, как он сам является «папашей». Что же будет с этим аристок-
ратом духа, если болезнь «бернарсгва» разовьется в полную силу?
На этот вопрос писатель дает ответ, рисуя образ Берлиоза. Но
именно тогда, когда «бернарство» в своем развитии достигло своей
высшей, окончательной степени, образуя «идеальный тип» — имен-
но тогда на другом полюсе «шариковщина» начинает разваливать-
ся, в сплошной, несмотря на разнообразие физиономий и характе-
ров, массе завсегдатаев писательского ресторана « Дом Грибоедова»
появляется человекообразная физиономия Ивана Бездомного. Если
для того чтобы глаза Берлиоза стали живыми, наполнились мыслью
и страданием, ему нужно было отрезать голову, то Иван Бездомный
имел шанс обрести человеческое обличье и без такого Ultima ratio.
Почему, когда зло «бернарства» сконцентрировалось на одном по-
люсе, на другом от «шариковщины» стало отслаиваться что-то чело-
веческое, дающее надежду на лучшее?
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
94
Раздвоение «шариковщины» на собственно люмпенское начало
и плебейско-демократическое, тянущееся к просвещению и культу-
ре, —разумеется, не результат победы негодяев-демагогов, а продукт
целостного исторического процесса, один из моментов которого —
Берлиоз, а другой — Иван Бездомный. Оба эти момента ложные,
единство между ними осуществляется по типу тождества крайнос-
тей. Положительный результат в романе Булгакова только возмож-
ный, а еще далеко не действительный, для того чтобы он стал дей-
ствительностью, необходимы совершенно необыкновенные собы-
тия, которые и являются содержанием этого романа. В той бытовой,
лишенной какой бы то ни было фантастики, реальности, которую
мы видим в первой главе романа, Иван практически не отличим от
Шарикова.
Что же это за события? Именно в тот момент, когда идеологи-
демагоги почувствовали себя во второй половине 20-х годов в полной
безопасности, когда вульгарная социология праздновала оконча-
тельную победу (в лице, например, прототипа Берлиоза генераль-
ного секретаря РАППа Л. Авербаха), почва под ними внезапно раз-
верзлась. В Москву пришел сатана. Берлиоз провалился в этот раз-
лом, ушел в небытие (Авербах был репрессирован в 1937 году). А
Ивану Бездомному в этом разломе открылся горизонт всемирной
истории, то целое мира, которое со времен Канта известно под име-
нем трансцендентального измерения. Но для того чтобы трансцен-
дентальное стало доступным пониманию, надо было быть Бездом-
ным, а не Шариковым или Берлиозом. И не Хайдеггером, не Ницше,
не Деррида, которые отрицают существование этого трансценден-
тального измерения для реальности, по крайней мере XX и XXI вв.,
утверждая, что современность — это тотальная пустота, ничто, без-
домность. Разумеется, эти мыслители—не люмпены и не хамы. Они
по своим человеческим качествам и вкусам так же далеки от Шари-
кова, как профессор Преображенский. Но этих антиподов Шарико-
ва и Ивана Бездомного объединяет общая черта — они считают тот
разрез всемирной истории, в котором выступает целое, объективная
истина как нечто реальное и живое, — иллюзией, метафизикой. Тог-
да как в романе Булгакова Иван Бездомный отслаивается от этой
идеологии и движется к пониманию реальности трансценденталь-
ного измерения истории. Такова одна из главных тем романа.
95
Реальность
трансцендентального,
его сила и слабость
Если хамство было врожденным, можно сказать, ге-
нетическим свойством Шарикова, то для пролетарского поэта Ива-
на Николаевича Понырева оно — нечто приобретенное, сознатель-
но культивируемое как якобы антибуржуазная, эпатирующая обы-
вателя программа поведения и творчества.
«Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в
Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич (Без-
домный. —В.А).—Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз»1. Учи-
тель происходил из более образованного и, вероятно, обеспеченного
сословия, чем его ученик (Л. Авербах, к слову сказать, — из буржуаз-
ной семьи). Во всяком случае, он сохраняет благообразие ученого
старой, дореволюционной формации, что сближает его с профессо-
ром Преображенским. Впрочем, и убеждения двух ученых имеют
немало общего.
Мы не знаем, верил ли профессор Преображенский в Бога или
нет. Скорее всего как последователь Мечникова не верил. Но это не
суть важно. Двух персонажей Булгакова объединяет прежде всего то,
что и Преображенский, и Берлиоз признают только факт, и ничего
кроме факта!
Берлиоз «хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был
Иисус, хорош ли, плох ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личнос-
ти, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — про-
стые выдумки, самый обыкновенный миф»1 2. Не более реальный, чем
мифы египетские, финикийские или мексиканские. Ибо нет ни од-
ного достоверного факта, который бы подтверждал существование
Иисуса — ни один достоверный литературный или исторический
источник не упоминает о нем, за исключением, разумеется, позд-
нейших вставок и подделок. Так какие же могут быть сомнения?
Эрудированный и начитанный Берлиоз был бы, вероятно, нема-
ло удивлен, если бы узнал, что, по мнению Маркса, боги греческой
1 Там же. С. 429.
2 Там же. С. 427.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
96
мифологии — «не фикция Эпикура. Они существовали. Это — пла-
стические боги греческого искусства»1. Молодой Маркс, писавший
эти строки, был идеалистом, гегельянцем, но гегельянцем левым,
который, как и другие левые гегельянцы, Бруно Бауэр или Штраус,
к примеру, критиковал христианскую религию и явно склонялся к
атеизму. Но его слова о реальном существовании богов греческой
мифологии — не метафора. Напротив, они принципиальны для всей
философии марксизма, в том числе и зрелой, ибо в этих словах—от-
личие материализма Маркса от позитивизма во всех его вариантах,
включая самые современные — логический позитивизм и лингвис-
тическую философию. Если последние признают только факт, то
для Маркса не менее реальны отношения, то есть нечто невеще-
ственное, но существующее, причем представляющее в ряде случа-
ев более мощную силу, чем сила фактическая, чисто материальная.
Так, например, Ленин, объясняя главную причину победы в граж-
данской войне, неоднократно прибегал к понятию «чуда». И эта по-
беда для позитивистски мыслящих людей, признающих только факт,
действительно была чудом, ибо, как писал Ленин, материально мы
были слабее, но зато сильнее морально. Причем под моралью он
понимал не психологические привычки тех или иных людей, плод
религиозного или еще какого-нибудь воспитания, а продукт опре-
деленных отношений, имеющих объективный характер.
Как же, с этой точки зрения, можно утверждать, что боги, напри-
мер, греческой религии не существовали, если они в ряде случаев, к
тому же многочисленных, оказывали на реальную жизнь греков бо-
лее сильное влияние, чем иной чисто материальный факт? Сущест-
вовал или не существовал Христос как реальная личность — вопрос
немаловажный, но для всякого последовательного марксиста даже
отрицательный ответ на него не отменяет того несомненного факта,
что существовала христианская религия, которая была силой иде-
альной, но вместе с тем совершенно реальной, представляя собой то,
что Маркс называл объективными мыслительными формами.
Мы не можем здесь далее углубляться в этот вопрос, но для на-
шей цели достаточно установить, что Берлиоз имеет к марксизму
очень отдаленное отношение. Он—и это еще будет показано в даль-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 42. С. 174.
Реальность трансцендентального,
его сила и слабость
97
нейшем — типичный позитивист в том варианте этой распростра-
ненной философии, которая у нас была известна под именем «вуль-
гарной социологии». Не было Христа—значит, и ничего, связанного
с этим именем, не было. Есть человек—есть проблема, нет челове-
ка— нет проблемы. А душа, мораль, идеальные силы бытия? «Ду-
ша—клеточка», и никаких идеальных сил, явлений, кроме того, что
можно пощупать или увидеть хотя бы в микроскоп, нет и быть не мо-
жет. Одним словом, типичное «бернарство».
Однако какие существенные изменения произошли с нашим
«Бернаром» Берлиозом по сравнению с профессором Преображен-
ским! Преображенский при всей своей капризности, взбалмошнос-
ти, сибаритству, склонности к безответственным филиппикам по
поводу вещей, в которых не слишком хорошо разбирается, — безус-
ловно, симпатичен. К тому же он действительно современный маг,
чародей, жрец — сила демоническая, скрытая в высоком професси-
онализме настоящего ученого.
А Берлиоз при всей своей учености — скучен и сер. «Жизнь Бер-
лиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не
привык»! Все, что выходит за границы личного, ограниченного опы-
та, для него просто не существует. Правда, и для профессора Преоб-
раженского такие понятия, как, например, «мировая революция», —
всего лишь галлюцинации. Разумеется, Берлиозу как председателю
МАССОЛИТа называть революции галлюцинацией в голову не при-
дет. Но революция для него ограничивается новыми правилами
игры в старом, хорошо известном, рациональном мире, и по этим
правилам он играет не хуже, чем кто-нибудь другой. Если вчера для
успешной карьеры надо было быть либералом и прогрессистом в
духе Ракитина, то сегодня — марксистом. В отличие от Преображен-
ского, несколько даже бравирующего своей интеллектуальной не-
зависимостью от господствующей идеологии («Да, я не люблю про-
летариата!»), Берлиоз — конформист до мозга костей. С «пролетари-
атом» он не конфликтует, а приспосабливается к нему, втирается в
доверие, причем настолько успешно, что становится крупным чи-
новником по части «пролетарской» идеологии и литературы.
Он служит пролетариату, учит его в меру своего понимания ре-
волюционной идеологии и культуры. Марксистская идеология ате-
истична—что же, Берлиоз «честно» пытается опровергнуть христи-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
98
анство, доказывая, что никакого Христа не было. И при этом не кри-
вит душой — ведь не подтверждено фактами, значит, христианст-
во — всего лишь массовая общественная галлюцинация.
Берлиоза как человека «приличного», интеллигентного смуща-
ют слишком уж радикальные жесты и заявления пролетарского по-
эта Бездомного. Он даже пытается мягко его урезонить, по крайней
мере перед лицом «иностранного консультанта» и профессора. Но
эти мягкие воспитательные меры меньше всего служат тому, чтобы
на деле перевоспитать шариковых. Напротив, приспособленчество
Берлиоза проявляется прежде всего в том, что он потакает хамству.
Внешние проявления этого хамства его несколько коробят, но по су-
ществу он потворствует ему.
Почему антирелигиозные компании конца 2о-х — 30-х годов
были по существу безобразием? Не только потому что взрывались
церкви и преследовались верующие. С религией обращались как с
материальной силой, фактом, для устранения которого тоже доста-
точно было материальной силы, вернее, насилия. Тогда как рели-
гия — сила прежде всего идеальная и идейная. А с идеями нужно об-
ращаться крайне осторожно. Берлиоз этого понять не мог, и усерд-
ствовал в шельмовании того, что было верно в христианстве даже с
точки зрения Маркса.
Сила солому ломит — это факт. Но иногда, хотя и крайне редко,
бывает так, что слабый мыслящий тростник побеждает могучую
государственную машину со всеми ее орудиями насилия. Вот что не
вмещалось в сознание Берлиоза, хотя нечто подобное происходило
на его глазах, когда бывший швейцарский пленник, озабоченный в
годы первой мировой войны публикацией своих статей в различных
легальных изданиях ради пропитания, оказался одной из важных
причин падения могущественной империи.
Разумеется, сам Берлиоз объяснил бы эти события по-другому,
а именно в духе вульгарной социологии, согласно которой исто-
рия— столкновение материальных сил, классовых интересов, где
места идеальному моменту нет, ибо идеальное реально не существу-
ет. Его нынешние потомки и последователи объясняют успех Лени-
на немецкими деньгами, как в свое время вульгарная социология
объясняла успех христианства исключительно корыстными инте-
ресами господствующих классов.
Реальность трансцендентального,
его сила и слабость
99
Политику Ленина в области литературы в 2о-е годы выражал и
проводил Александр Воронский, главный редактор журнала «Крас-
ная новь» (до 1927 года). Ленин говорил своим соратникам — толь-
ко не ходите лечиться к врачам-коммунистам. Также не высоко он
оценивал коммунистов — писателей и поэтов, предпочитая им Льва
Толстого и Тютчева. Воронский в своем журнале публиковал преж-
де всего талантливых писателей, ибо критерий был один — художе-
ственная правда, а не абстрактно заявленные политические взгля-
ды. «Левые» (как «пролетарские» авторы, так и авангардисты ЛЕФа)
были категорически против ориентации А. Воронского на талантли-
вых писателей-попутчиков, таких, как Б. Пильняк, И. Бабель или
С. Есенин. Так, например, слова Осипа Брика, которыми он излага-
ет литературную политику и стратегию А. Воронского, полны не-
прикрытой иронии: «Если хочешь стать гениальным писателем, то
оторвись от класса и пиши непосредственно на все человечество в
целом. Выражай интересы не класса, а всего человечества в целом.
Вот почему теория Полонских и Воронских имеет большой успех
среди «свободных писателей», — заключает Брик, — которые рады
не служить классу, а делать свое независимое дело, воображая, что
они служат сразу всему человечеству»1. А сама позиция «левых» была
такова (цитирую Брика): «Может быть, художники обидятся, что
Коммуна равняет их с сапожниками и столярами? Они привыкли к
почетным званиям «пророка» или «жреца». Но у Коммуны свои, осо-
бые представления о цочете. Лица духовного звания у нее почетом
не пользуются»1 2.
По убеждению Воронского, такая левая «теория превращается в
обух, которым и гвоздят направо и налево без всякого толку и без
разбору»3. Правда, не Воронский и не близкий ему критик А. Лежнев
опубликовали «Белую гвардию» М. Булгакова, а издатель сменове-
ховского журнала «Новая Россия» И.Г. Лежнев, с котором у М. Булга-
кова возникли напряженные финансовые отношения. В числе самых
1 Брик О. Художник и коммуна. // Критика 1917-1932 гг.
М., 2003. С. 308-309.
2 Там же. С. 306.
3 Воронский А. Искусство как познание жизни и современ-
ность// Там же. С. 209.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос!
IOO
непримиримых преследователей Булгакова были Мейерхольд и Ма-
яковский, которые требовали не критики его произведений, а зап-
рета. Политика левых в области искусства была ясно изложена Ма-
яковским, который желал, чтобы Сталин делал доклады о выпуске
стихов точно так же, как и о выпуске металла.
Вся мудрость вульгарной социологии сводилась к простой мыс-
ли — кто сильнее, тот и прав. Это было убеждение шариковых, пе-
реведенное на язык социологии и литературной критики вполне
образованными и даже учеными берлиозами.
Но кто расчистил дорогу для смердяковых, кто породил «смер-
дяковскую демократию»? Разумеется, возлагать вину на одного толь-
ко Берлиоза нельзя, тут действовали гораздо более серьезные миро-
вые силы. Однако роль швондеров и берлиозов в этом процессе была
очень значительной. Ведь кто-то должен был внушить Шарикову,
что он равные с профессором Преображенским права имеет.
А разве это не так?
В гражданском и общечеловеческом смысле все люди, конечно,
равны. Но для того чтобы это равенство реализовалось на деле, оно
должно учитывать другую сторону дела—фактическое неравенство.
Например, ребенок не равен взрослому, однако воспитание возмож-
но лишь при условии равенства между воспитуемым и воспитате-
лем. В чем оно? В том, что воспитатель не ставит себя на одну доску
с воспитанником, не ребячится и не отказывается от того, в чем он
пока выше ребенка: знаний, умений—всего того, что дал ему жиз-
ненный опыт и труд. И ребенок может чему-нибудь выучиться у
воспитателя, если он также понимает и принимает это фактическое
неравенство.
Но, с другой стороны, в ребенке содержатся возможности более
высокого развития, чем у воспитателя. И настоящий воспитатель
тоже должен иметь в виду это неравенство, он должен уважать в
ребенке своего наследника—того, кто на основе достигнутого мо-
жет и должен пойти дальше.
Таким образом, воспитатель и выше, и ниже воспитуемого, он
сам в чем-то может учиться у ребенка. Действительное равенство
между ними складывается в результате взаимодействия равенства
и неравенства, взаимодействия гармонического. Тогда же, когда оно
принимает антагонистический характер, то вместо воспитания мы
Реальность трансцендентального,
i его сила и слабость IOI
имеем с одной стороны насилие, а с другой—дикий, иррациональ-
ный протест.
Равен ли Шариков профессору Преображенскому? Разумеется,
нет, между ними пропасть. Которую преодолеть одной только лас-
кой со стороны профессора невозможно. Ибо фактическое неравен-
ство людей складывалось столетиями и закреплено даже на генети-
ческом уровне. Оно, это неравенство, так велико, что профессору
Преображенскому даже в голову не приходит, что он и Шариков как
люди равны, что, может быть, и ему в чем-то следовало бы поучиться
у Шарикова. Нет, профессор капризно отстаивает свое безусловное
фактическое превосходство, он признает лишь такие отношения
между ними, при которых он мог быть благодетелем, высшим суще-
ством, проявляющим жалость и гуманность к априори низшим —
собаке Шарику, равно как и к человеку Шарикову, и к тем «певу-
нам», которые претендуют на его квартиру.
В позиции профессора есть правда, и немалая. Диалог, то есть
разговор на равных, между ним и Шариковым, «певунами», Швон-
дером сейчас—и в обозримом будущем — невозможен. По-своему
это понимают и «массы», «низшие», плебеи. Понимают, ибо люди,
а не собаки. И это понимание невозможности сейчас и здесь быть
равными профессору, духовной аристократии, порождает в них ди-
кий, поистине сатанинский протест, желание стричь всех под одну
гребенку—то, что Маркс называл насильственным нивелировани-
ем талантов, и что на практике выливалось в отрубание пальцев пи-
анистам. Недаром тот же Маркс назвал восстание тайпинов—дья-
волом in persona.
Что же делать? Вернуться к старым добрым временам? Но и тог-
да время от времени статус кво взрывался бунтами и восстаниями,
направленными не только против социального неравенства, но осо-
бенно против обидного и непереносимого для человеческого суще-
ства неравенства ума, таланта.
Но самое главное состоит в том, в чем Шариков ближе к исти-
не, чем профессор Преображенский, — времена уже не те. Насиль-
ственно удержать эти массы в состоянии покорной и благодарной
собачки невозможно. Время льет воду на их мельницу. И они мстят
всему, что было выше их. Мстят, по словам Блока, не только за то,
что их секли на конюшне, а девок насиловали, но и за то, что ари-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
102
стократия бахвалилась перед ними своим умом. А это совершенно
непереносимо. И профессор Преображенский продолжает эту тра-
гическую ошибку—он тоже капризно подчеркивает свое умствен-
ное, нравственное и так далее превосходство, тем более обидное, что
его нельзя преодолеть за несколько лет. Может быть, и столетий не
хватит.
Так как же быть?
Берлиоз избирает путь приспособленчества. Ему, как и Преобра-
женскому, не приходит в голову, что этих анаконд можно перевоспи-
тать. Не приходит потому, что его затаенный образ мысли — та же
шариковщина, только принявшая более благообразный и наукообраз-
ный вид. В отличие от Преображенского он, в строгом смысле этого
слова, не ученый. Для Берлиоза главная цель жизни не только вы-
жить, но жить как можно лучше, причем любой ценой. Впрочем, и
цена оказалась не так уж велика. В системе убеждений и ценностей
Берлиоза при всем его радикализме мало что изменилось с дорево-
люционного времени. «Когда старая русская интеллигенция (пред-
революционная, “специалисты” и “модернисты”), — писал Мих. Лиф-
шиц, — почувствовала необходимость приспособиться к новой вла-
сти, она вспомнила свою пресыщенность разумом и культурой. И
это сплошь с мелкобуржуазным уравнительным бунтом снизу—на
горе “идеологии” Октябрьской революции — марксизму»1.
Пресыщенность разумом и культурой выражалась не только в
модернизме, но и в своеобразной уравнительности элитарной иде-
ологии, которая имеет давние традиции. Вспомним, например, про-
блематику «Моцарта и Сальери» Пушкина. «Нет правды на Земле. Но
правды нет и выше!» — восклицает Сальери, бунтуя против неспра-
ведливости, заложенной, по его мнению, во всем мироздании, а не
только в человеческом обществе. В самом деле, разве справедливо,
чтобы титанические усилия, любовь к искусству и понимание его не
вознаграждались творческой силой, гениальностью? Разве справед-
ливо, что гениальность достается по воле случая, как некое счастье,
дар, а не заслуга?
Несправедливо, с точки зрения, согласно которой все в мире
можно приневолить. Эта точка зрения так называемой цивилиза-
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 193. С. 4.
Реальность трансцендентального,
его сила и слабость
юз
ции, и не важно, кто перед нами — самодур Дикой или утонченный
музыкант и ученый, теоретик искусства Сальери. И тот и другой
убеждены в том, что перед силой должно склоняться все, разница
лишь в том, что первый понимает силу в грубо-материальном смыс-
ле, а второй имеет в виду силу науки, знания, просвещения.
Однако оказывается, что ни талант (ученого или художника), ни
ум одними лишь усилиями, старанием и прилежанием приобрести
нельзя. Знания — можно, а талант нельзя. «Многознание уму не
научает»,—утверждал Гераклит. Талант — это дар. Правда, не со-
всем случайный, однако закономерность появления таланта и гения
такого порядка, что принципиально не может быть понята с точки
зрения Сальери.
«В действительности не мы чувствуем и мыслим объективную
реальность — она чувствует и мыслит себя нами»,1 — такова отправ-
ная точка онтогносеологии Мих. Лифшица, исходная позиция, кото-
рую он заимствует у Гете, Гегеля, вообще у мировой классической
традиции, берущей начало у греков и продолженной Марксом. Го-
лосом бесконечной реальности вне нас человек может стать не толь-
ко благодаря плодам цивилизации, но в известной мере и вопреки
им, ибо цивилизация — искусственное здание, она и соединяет, и в
то же время в определенной мере разъединяет человечество с при-
родой.
Как можно ухитриться стать талантливым, гениальным — и бла-
годаря цивилизации, и в известной мере вопреки ей? Это особый
вопрос, который требует специального рассмотрения. Ясно только,
что приневолить талант так же нельзя, как и мир в целом. Природа
покоряется подчинением ей. А для гордого Сальери ничто не могло
быть выше его. Ему казалось, что все в мире находится во власти его
воли — такова, кстати, логика умных злодеев у Шекспира, вспом-
ним, например, Яго или Ричарда III.
Точно такова же логика и у Сальери, а поскольку мировой поря-
док не подчиняется этой рационалистической установке, то для Са-
льери это означает неразумность и несправедливость, заложенную
в саму основу мира, против которого он бунтует, прибегая к пре-
ступлению.
1 Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 223.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
Ю4
Так почему же точка зрения Сальери элитарна? Мы помним сло-
ва Маркса о том, что нетруд немногих был условием развития все-
общих сил человеческой головы. В целом это так, ибо для всесторон-
него развития человека необходимы определенные материальные
условия, которые низшие классы иметь не могли. Однако одного
материального достатка для появления таланта мало, что особенно
очевидно в наше время. Необходимы еще какие-то очень важные
условия, о которых ни Сальери, ни ему подобные понятия не име-
ли. Вот почему элитарность проникнута тайной завистью к тем
гулякам праздным, кому талант достался как бы не по правилам —
не по закону цивилизованного и ученого мира.
Капризное нежелание профессора Преображенского допустить,
что из этого человеческого мусора и сора может возникнуть нечто
равное ему или даже его превосходящее — из того же источника. Так
что антиподы сталкиваются в повести Булгакова в непримиримом
конфликте в том числе и потому, что у них гораздо больше общего,
чем можно было подозревать.
Ставка исключительно на силу, на материальный факт, презри-
тельное отношение к идеальному началу самого бытия, его транс-
цендентальному измерению как мифу, полезному лишь для управ-
ления толпой, неразрывно связана с «бернарством» — идеологией
честных ученых-естественников. В «Роковых яйцах» милейший про-
фессор Персиков своим научным открытием поставил человечество
на край пропасти, и только случайность исправляет его невольное
преступление1. В чем оно, согласно Булгакову? Ответить на этот
вопрос можно, если поставить в один ряд ученых мужей — профес-
соров Преображенского и Персикова, солидно эрудированного ре-
дактора толстого журнала Берлиоза, и найти общее у этих очень
разных, вплоть до противоположности, людей. Не забудем и об уче-
ном музыканте Сальери у Пушкина.
1 А. Воронский, мне кажется, несколько упростил идею
Булгакова, назвав в 1927 году «Роковые яйца» «памфлетом
о том, как из хорошей идеи получается отвратительная
чепуха, когда эта идея попадает в голову отважному, но
невежественному человеку» (то есть от проф. Персикова
к Рокку. —В. А.). См. «Красная новь». 1927. № г. С. 238.
Ю5
Логоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
Общее для них—логоцентризм, главный объект кри-
тики постмодернизма. Познание и правильное поведение в соответ-
ствии с ним сводится к тому, чтобы просчитать, как в шахматной
партии, все возможные варианты и выбрать наиболее благоприят-
ный из них. Разум должен охватить все возможные случаи. Корен-
ная ошибка профессора Персикова в том, что вопреки его бессозна-
тельному убеждению в возможности контроля он оказывается не-
возможным. Ситуация выходит из-под контроля. Такова проблема,
занимавшая Юма и Канта, — невозможность синтетического обоб-
щающего суждения, поскольку опыт всегда неполон, всех возмож-
ных вариантов просчитать нельзя, ибо мир бесконечен.
Не потому ли пушкинский Моцарт—«гуляка праздный» в глазах
Сальери, что хорошо это понимает в отличие от ученого-музыканта?
Моцарт у Пушкина сближается в этом отношении с персонажем на-
родных сказок—Иваном-дураком. Иван отличается от своих умных
братьев тем, что отказывается приневолить ситуацию в свою пользу.
В глазах братьев он—дурак и бездельник, а на деле? В решающие,
поворотные моменты своей судьбы Иван-дурак принимает реше-
ния, разумные в высшем смысле слова. Ему везет, счастье на его
стороне, но почему? Почему, говоря словами Сальери «...бессмерт-
ный гений — не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов,
усердия, молений послан — а озаряет голову безумца, гуляки празд-
ного?» Слова Моцарта, сказанные в финале «маленькой трагедии»
Пушкина, подтверждают обвинения Сальери — «Нас мало избран-
ных, счастливцев праздных (выделено мною. —В. А.), пренебрегаю-
щих презренной пользой, единого прекрасного жрецов». Сальери не
в меньшей мере пренебрегает презренной пользой и может служить
примером самоотверженного служения искусству, почему же он не
принадлежит к числу счастливцев, которых гений озаряет как дар,
а не награда за труды? Почему характеристика «праздный» дважды
повторяется у Пушкина по отношению к Моцарту, звучит из уст Са-
льери и самого Моцарта?
Развернутый ответ на этот вопрос дает не столько сказка, миф,
сколько классический роман XIX, XX веков. Князь Василий и его дочь
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
юб
красавица Элен просчитывают ситуацию, опираясь на представле-
ние о всемогуществе своего рассудка. В их глазах Пьер Безухов —
просто дурак, о чем в семейной ссоре и говорит ему в лицо отрыто
Элен. Ведь они без труда обводят его вокруг пальца практически во
всех реальных ситуациях. Но в конце концов оказываются, как и в
сказке, в дураках сами. А Пьер Безухов получает свою принцессу,
свою Василису Прекрасную — Наташу Ростову, о которой и мечтать
не мог в начале романа.
Но разве Пьер — на самом деле дурак? Он умен другим умом,
общим у Пьера с умом Иосифа Прекрасного (персонажа библейско-
го мифа и романа Томаса Манна), Вильгельма Мейстера Гете, Мо-
царта Пушкина, Иешуа и мастера Булгакова. Иосиф у Томаса Ман-
на вовсе не дурак, он умеет просчитывать ситуации и не отказывает-
ся от этого умения. Но главную ставку он делает в отличие от своих
братьев всё же на другое, их пониманию недоступное. Он знает, что
ставка только на расчет—близорука, и потому он не всегда доверяет
доводам здравого смысла. Его поведение по отношению к безумно
любящей Иосифа жене Потифара, готового смотреть сквозь пальцы
на любовную связь своей жены со слугой, ставшим единственным
другом в этом опустошенном мире, кажется просто иррациональ-
ным. На самом деле поведение Иосифа разумно в высшем смысле,
согласно которому смысл есть прежде всего в самом бытии, и его
можно постигнуть только тогда, когда человек ставит себя в верное
отношение к бытию. Поставив себя в верное отношение к миру,
человек пробуждает спящую в нем фабулу, разумность которой,
смысл которой можно предугадывать, но познать в полном объе-
ме — только постфактум, когда фабула развернула себя не только
вопреки планам и целям людей, ее пробудившим, но в известной
мере благодаря сознательности и человеческой активности.
Мастер пишет роман, зная, что скорее всего он не будет опубли-
кован, а после реакции критиков на публикацию отрывка из него
сжигает свое творение. Иешуа проповедует, предчувствуя, что будет
распят за свою проповедь и что, может быть, самое печальное —
1 Не лишено в этом контексте значения, что в ранних редак-
циях романа Иван Бездомный именуется «Иванушкой»,
т.е. сближается с Иванушкой-дурачком русских сказок.
Левоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
Ю7
неверно будет понят ближайшими учениками, распространившими
затем его учение по всему миру. На что надеются эти безумцы1?
«“Не беспокойтесь! Всё будет правильно...” Это сказал в романе
М. Булгакова сам Сатана, чья природа, как известно, состоит имен-
но в том, чтобы вредить и пакостить. Говорит он это прекрасной
женщине по имени Маргарита Николаевна, которая, несомненно,
произвела на него впечатление. Женщине обаятельной, живой, уме-
ющей себя держать с достоинством и грацией настоящей королевы,
немного ведьме, ибо хорошей женщины без этого не бывает»1. Но
и без слов сатаны мастеру ясно, что особенно суетиться не стоит. Все
будет правильно! Однако эта максима не распространяется на Бер-
лиоза, уходящего в небытие. Как и на других маленьких человечков,
вроде буфетчика или Ивана Никодимовича Босого, этих клопов, чья
суетливая озабоченность исключительно своим благополучием зак-
лючает в себе дьявольскую силу обезумевшего рассудка — «бернар-
ство». Все они уверены, что могут просчитать ситуацию, и к необык-
новенным явлениям не привычны!
Логоцентризм Персикова и Преображенского, Босого и буфет-
чика — из одного источника. На заре цивилизации в период поздне-
го неолита человечество осознало, что миром управляют не только
духи, но и объективные законы. Это потрясшее воображение древ-
них людей открытие заставило изображение одушевленного, или
хотя бы только как растение органического, подчинить вездесущей
геометрической закономерности, о чем свидетельствует смена на-
скальных жизнеподобных изображений геометрическим орнамен-
том. Однако и старое анимистическое представление о том, что мир
есть целое, рождающее смысл, фабулу, не было ложным. Важно было
найти верное соотношение между этими полярными представлени-
ями. Но для этого человечеству пришлось двигаться по двум разным
дорогам, нередко пересекающимся и все же уводившим в разные
стороны: магии, сменившейся религией, и научной рационально-
сти, «логоцентризма».
Но хотя эти две дороги далеко разошлись между собою, исклю-
чая третье, оно все же было дано в той или иной мере практически
всегда, так или иначе прокладывало себе дорогу—это искусство.
1 Лифшиц Мих. Архив, папка «М. Булгаков».
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
ю8
Последнее не было мифом, а демонстрировало реальность Tertium
datur во все времена. С точки зрения разумной рациональности
«третье дано» было ставкой на гетевское Ничто. Рассматривая раз-
личные сюжеты, мы будем убеждаться в том, что Tertium datur вы-
сокого искусства не имеет ничего общего с «Ничто» (бездомностью)
современной философии—от Ницше и Хайдеггера до Деррида.
В прозе Булгакова от ранних рассказов до «Мастера и Маргари-
ты» две полярности, две крайности человечества соединяются раз-
личным образом. Профессор Преображенский и Шариков, Берлиоз
и Бездомный — соединение крайностей, создающее «синтез», столь
же опасный для человечества, как анаконды, возникшие в результа-
те недостаточной предусмотрительности профессора Персикова.
Персиков не учел такой случайности, как глупость и хаос, царящие
в человеческих делах, не учел потому, что научный «логоцентризм»
не принимает их во внимание.
В этой связи примечателен спектакль Сергея Юрского по пьесе
И. Друцэ «Вечерний звон», в котором Юрский играет главную роль —
Сталина. По первому впечатлению этот спектакль изображает «вож-
дя народов» в чисто «перестроечном» духе, то есть как иррациональ-
ного злодея. Но все дело в том, что действительно иррациональный
мир, возникший в результате Великого перелома 1929 года, был край-
ним выражением «бернарства», чисто научной рациональности.
Сталин Юрского пытается все «разложить» на составные части, иначе
говоря, он — выдающийся аналитик. Но душа человеческая разложе-
нию не поддается, ее нельзя разделить на части, как это делает наука
со своим объектом, а затем собрать заново, душа просто умирает.
Сталин не может совладать с такими вещами, как вечерний звон —
аура самих вещей, — который он слышит и который его раздража-
ет именно потому, что он не поддается рациональному анализу.
На мой взгляд, Юрскому удалось показать, что реальный политик
и прагматик Сталин неизбежно, именно по причине своего выдаю-
щегося прагматизма и «здравого смысла» впадает в реакционную
утопию рационализма, убивающего все живое. Та же мысль — в «Ве-
ликом диктаторе» Чаплина. Причем Чаплин гениален именно пото-
му, что не доводит эту мысль до абсурда, как это сделали авторы «Ди-
алектики Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймер, до отрицания
самого разума как якобы источника тоталитарности. Напротив, Чап-
Левоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
Ю9
лин ищет более высокой разумности, которая выходила бы за гра-
ницы научной рациональности—этого мифа «Новых времен». «Му-
зыка —насилие»,—кричат в «Репетиции оркестра» Феллини бунтую-
щие против диктатуры режиссера музыканты. Но от взгляда Фелли-
ни не укрывается изнанка этого бунта — бегство от свободы, жажда
бездумной покорности ничтожного атома из «толпы одиноких».
Крайности ищут друг друга и срастаются в нерасторжимое тож-
дество : практицизм и здравый смысл Сталина—с убивающей все жи-
вое аналитической рациональностью, ставка «великого диктатора»
у Чаплина на новейшую технику и науку—с безумной утопией не-
ограниченной власти субъекта над всем миром, музыканты у Фелли-
ни, искренне увлеченные своей профессией, но чуждые пафоса му-
зыки в высоком смысле, то есть пафоса и духа целого, выплескивают
из себя разрушительную стихию — обратную силу тоталитарности.
Гегелевская диалектика несет на себе родимое пятно лого цент-
ризма в той мере, в какой она недостаточно учитывает, что тожде-
ства бывают разные: симфонические и какофонические, по принци-
пу лани и принципу «жирафа», у которого, как отмечал Герцен, слиш-
ком длинной шее соответствует укороченный зад.
Крайности соединяются тогда, образуя дурное тождество, когда
истинные противоположности по тем или иным причинам не могут
найти друг друга, когда они слабы, не смогли достаточно сформи-
роваться, оформиться или встречают непреодолимые препятствия.
Но и тогда, когда господствует тождество противоположных край-
ностей, можно пройти между ними, ведя борьбу на два фронта.
Швондер и Шариков нашли друг друга, профессор Преображен-
ский бессилен перед этим сплочением всех агрессивных посредствен-
ностей. Какая сила могла расколоть единство Берлиоза с Бездом-
ным? Что могло укротить яростную нетерпимость Вани к профессо-
рам, которые, подобно Канту, ищут доказательств бытия Божия? Эта
нетерпимость непобедима именно потому, что атеизм Вани есть
обратная сторона его суеверия — этой странной смеси примитивно-
го рационализма (верящего только в аргумент силы) с волюнтариз-
мом, безумным самомнением субъекта, считающего, что мир, лежа-
щий перед ним, — слепой и мертвый объект для его творческой ак-
тивности. Первая реакция атеиста Вани, столкнувшегося с явлением
необыкновенным, — приколоть себе на грудь бумажную иконку,
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
ио
взять в руки свечку и требовать от милиции мотоциклистов с пуле-
метами для поимки иностранного консультанта. Удивительная про-
зорливость писателя: примерно через полвека отечественные писа-
тели-почвенники с легкостью необыкновенной поменяли недавний
свой «марксизм-ленинизм» на Константина Леонтьева и Василия
Розанова, но при всей своей духовности они по-прежнему верят
только в мотоциклистов с пулеметами, ибо иная логика им совер-
шенно недоступна. Подобно Ване, пришедшему с иконкой в ресто-
ран, они обращаются к публике чуть ли не по-старославянски, но
поверить в то, во что Воланд умолял на прощание поверить Берли-
оза, они не в состоянии. Они не верят в то, что черт существует,
потому что не верят в существование реального идеального начала
бытия, названного в школе Сократа и Платона объективной исти-
ной, не верят в то, что нарушение требования объективной истины
вызывает на свет обратные силы — черта, или бич божий, который
бьет уже и правого, и виноватого.
Ваня не владел культурой Сократа и Дидро, и потому явление
необыкновенное, породив иррациональную реакцию у бедного Ва-
ни, привело его в сумасшедший дом. Из которого, по всей вероят-
ности, он бы не вышел, если бы мастер не объяснил ему, что черт—
существует на самом деле, он приходит тогда, когда люди отворачи-
ваются от Иешуа и предают его. Но для того чтобы понять это, надо
было преодолеть рационалистическое суеверие «бернарства», под
властью которого находится и Василий Иванович, этот кошмар в
полосатых подштанниках, и Шариков, и Берлиоз, и симпатичные
профессора Персиков с Преображенским.
Итак, в «Мастере и Маргарите» антиподы—ученый старой, до-
революционной еще выучки и новая, растущая из низов уравнитель-
ная сила — находятся в состоянии трогательного единения, пред-
ставляют собой как бы пример мудрого наставника и почтительно-
го ученика. В действительности, если верить Мих. Лифшицу, это тот
союз люмпенской уравнительности и перезрелой культуры, вернее,
псевдокультуры, который образует гремучую смесь и является осно-
вой всех тоталитарных режимов современности — от позднего ста-
линского государственного социализма до фашизма.
Содержание романа Булгакова — история разрушения этого со-
юза, история фантастическая, ибо в реальности Булгаков не видел
Логоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
III
ничего серьезного или почти ничего, что могло бы помешать соеди-
нению берлиозовщины сверху со стихией плебейской справедливо-
сти снизу.
В одной из своих заметок Мих. Лифшиц указывает на необходи-
мость улавливать «подобие разностей и разницу подобий»1. О подо-
бии разностей мы написали уже немало на примере антиподов —
профессора Преображенского и Шарикова. Рассмотрим более вни-
мательно разницу подобий, Берлиоза и его ученика.
С Берлиозом вести диалог невозможно, он невменяем точно так
же, как и Шариков. Диалог предполагает способность понимания
иного — того, что не укладывается или пока не укладывается в вашу
картину мира. Иным, принципиально неприемлемым для Берлио-
за является допущение, что кроме мира, так сказать, фактического
(контингентного, по выражению Мих. Лифшица), мира, где все реша-
ет сила и хитрость, есть мир идеального и вместе с тем реального,
того, что на языке идеалистической философии именуется объектив-
ным духом. Переводя это понятие на язык материализма, Мих. Лиф-
шиц писал: «Дух есть формула, выражающая несводимость, не-“реду-
цируемость” всего к его элементарной основе — носителю, к “бук-
ве” мира.
Дух против фрейдизма, сводящего все явления человеческой
жизни к сексуальной энергии.
Против вульгарной социологии и социологии знания вообще,
сводящих эти явления к классовым интересам, социальному жи-
тию-бытию.
Против экзистенциализма, сводящего все к личному, трепещу-
щему перед смертью, существованию.
Когда мы говорим, что Толстой отразил свою эпоху, а не выра-
зил психологию определенной группы дворянства, мы говорим о
духе.
Когда Ленин говорил о народном трибуне, а не о вожде тред-
юниона, он говорил о духе целого».2
Надо заметить, что и постмодернизм, несмотря на свою пропо-
ведь иного, на деле продолжает традиции и фрейдизма, и экзистен-
‘ Лифшиц Мих. Архив, папка № 137. С. 74.
2 Там же. С. 112.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
112
циализма, и социологии знания, а также других влиятельных на-
правлений философии XX века, поскольку тоже отрицает реальность
существования целого как пережиток метафизики.
С Берлиозом даже сатана спорить не собирается. Только в кон-
це романа, обращаясь к отрезанной голове Берлиоза, Воланд произ-
носит: «Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в ко-
торую вы превращаетесь, выпить за бытие!»1. Встреча с Воландом на
первых страницах романа и последующие за ней события обраще-
ны к Ивану Бездомному. Но для того чтобы он стал понимающим су-
ществом, способным к диалогу, события должны были произойти
поистине необыкновенные. И, между прочим, эти необыкновенные
события, к которым Берлиоз не привык—тоже факт, о чем сообщает
сатана Берлиозу не только с торжеством, но и с явной иронией. Ибо
дело в том, что факты бывают разные. Вернее, соединение фактов,
их отношение, образующее некоторое целое. В том, что Берлиоз по-
пал под трамвай, не было ничего совершенно невозможного и фанта-
стического. Но то, что это случайное событие было заранее подтасова-
но определенным образом, определенным стечением обстоятельств,
что оно тем самым было уже не случайным, а выражением этого
подтасованного целого, то есть заключало в себе некий смысл,—вот
этого Берлиоз и подобные ему (упоминавшийся Л. Авербах или Осип
Брик) понять не в состоянии.
Подтасованное целое—это фабула, которая развивается на стра-
ницах романа. Но прежде чем перейти к рассмотрению ее, подчер-
кнем, что обращена она к Ивану, как в потенции понимающему
существу, а не к Берлиозу, который смысл ее усвоить не в состоянии,
потому-то он и уходит в небытие, ибо истинное бытие ему недоступ-
но, находится вне сферы его сознания. Берлиоз так же невменяем,
как и пресловутая Аннушка. Итак, перед нами два вида тождеств
нетождественного: хотя в отличие от пары Преображенский-Шари-
ков Берлиоз и Иван Бездомный не антиподы, а единомышленники,
на самом деле они антиподы, причем открытым смыслу целого ока-
зывается не ученый, не наставник, а его ученик, то есть как бы тво-
рение ученого.
1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 689.
Логоцентризм —
отрицание идеального начала бытия
ИЗ
Правда, эта открытость появляется не сразу. Вначале Ивану все
произошедшее кажется фантасмагорией и не укладывается в его
сознание. После первого шока и погони за «консультантом» Иван
смутно, на уровне, так сказать, скорее подсознания, чем сознания,
начинает подозревать, что привычная ему логика объяснить произо-
шедшее не в состоянии. И потому мы видим в его руках свечку и
икону—символ мира трансцендентного. Впрочем, это очень харак-
терная реакция — хапуга и взяточник председатель жилищного то-
варищества Босой, столкнувшись с проделками Коровьева, вспом-
нил о Боге: «Господь меня наказует за скверну мою ...»'
Сводится ли смысл романа к этой сентенции? Никанор Ивано-
вич, осознав свою греховность и обратившись к Богу, едва ли еще
какими-нибудь открытиями мог порадовать читателя—он «только
молился и всхлипывал»2. А вот Иван действительно стал другим че-
ловеком, он отверг премудрости Берлиоза и нашел другого настав-
ника — мастера, автора романа о Понтии Пилате.
Что же поведал Мастер Ивану, что Христос реально существо-
вал? Но это он мог узнать у любого священника, стоило только зай-
ти в церковь. Надо полагать, что смысл, раскрывшийся Ивану и сде-
лавший его иным человеком — в фабуле романа Булгакова. А она
вовсе не проста.
Зачем потребовалась автору вся эта фантасмагория, Сатана и
проделки его подручных в Москве? «Наказание грехов? Но, право,
эти грехи смешны и мелки, чтобы вводить такую инфернальную
машину для их наказания. Функция Воланда — отрицание, перево-
рачивающее вверх дном спокойный, уверенный в себе мир. Ша-
лость, парадокс, эпатаж, мир наоборот...»3
Переворачивание вверх дном спокойного, уверенного в себе
мира — не самоцель. Своим романом Булгаков хочет сказать, «что
за нашим новым миром возникают вечные проблемы и Воланд со
своей фантасмагорией, опрокидывающей этот карточный домик,
вводит нас в мир вечной истории. В этом его задача»4.
1 Там же. С. 576.
2 Там же. С. 577.
3 Лифшиц Мих. Архив, папка № 225 «М.А. Булгаков».
’1 4 Там же.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
П4
В вечном мире — вечные проблемы. История не закончилась в
XX веке, по крайней мере она не закончилась в России конца двад-
цатых, тридцатых годов. Добро и зло. Что сильнее?
Мир, обретающий голос
(справедливость понимающая),
и богооставленный мир
(справедливость карающая)
Иешуа в романе Булгакова слаб. Физическая боль
причиняет ему страдания, которые он не может скрыть. Нравствен-
ные страдания тоже тяжелы для него. Толпа, совсем недавно внимав-
шая Иешуа, предала его, а единственный ученик записывает слова
своего учителя с большими искажениями. Одинокий проповедник
ничего не может противопоставить римским легионам и фанатич-
ному идеологу Кайфе, за котором — слепая сила покорной ему мас-
сы. Иешуа казнен, он терпит поражение.
А затем, как Пантократор, вершит свой суд над грешным и пре-
давшим его миром? Нет этого в романе, нет картины Страшного
суда, совершающегося по окончании времен. Зато в необыкновен-
ных и фантасмагорических событиях, совершающихся на этой зем-
ле, прослеживается какая-то странная справедливость, скорее дья-
вольская, чем божественная. Не только потому, что справедливость
достигается посредством сил зла, но и потому, что справедливость
эта мстительная.
Мы видели, что по сравнению с «Собачьим сердцем» роли пере-
менились— не Шариков, созданный профессором Преображенс-
ким, а Берлиоз, воспитатель Ивана Бездомного, — носитель главно-
го зла, плебейской уравнительной справедливости и «бернарства»,
признающего только голый факт.
Но лично Берлиоз ничего плохого не хотел, и едва ли был по своей
натуре законченным злодеем: писатели оплакивают достаточно ис-
кренне смерть «Миши Берлиоза». Во всяком случае, за преступления
сталинизма он в ответе не более, чем Ницше—за фашизм. Разве вы зло-
радствовали бы, если какой-нибудь автор наказал в своем романе
Ницше или, скажем, Переверзева, Фриче, отправив их под трамвай?
Мир, обретающий голос,
и богооставленный мир
П5
Во второй половине тридцатых годов многие бывшие крайне ле-
вые, в том числе вульгарные социологи, стали исчезать «по щучьему
велению». В романе Булгакова есть даже некоторые приметы этих
исчезновений.«.. .Неизвестный гражданин явился в квартиру номер
одиннадцать как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич расска-
зывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как за-
мели председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратье-
вича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал».1 Впрочем,
события, описываемые в романе, происходят во второй половине
двадцатых годов, это прощание с нэпом накануне террористическо-
го шквала. И прощание, надо сказать, без особых сожалений.
Если в 60-70-е годы роман Булгакова воспринимался как произ-
ведение, явно оппозиционное советской власти, даже антисоветс-
кое, то после перестройки возникла другая мода. В Булгакове стали
видеть чуть ли не сталиниста, с одобрением и пониманием взира-
ющего на то, как исчезали всякие там берлиозы, уносимые дьяволь-
ской силой в преисподнюю — концентрационные лагеря. Как все-
гда, одна крайность рождает другую.
Ярым антисоветчиком Булгаков не был, как не был и сменове-
ховцем в духе Н. Устрялова (хотя именно в этом Булгакова обвиня-
ли), приветствовавшего политику Сталина за то, что она, по его
мнению, сближала большевизм с фашизмом.
Берлиоз исчез, и сатана не без злорадства и не без иронии гово-
рит, обращаясь к ожившей голове председателя МАССОЛИТа, что
«это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь»2. Многие обид-
чики Булгакова, которые доказывали, что он — контрреволюцион-
ный писатель, были повержены (среди них—драматург Киршон и
ультралевый режиссер Мейерхольд). Но было бы наивно видеть в
романе иллюстрацию к этим и другим событиям времени.
Искусство не воспроизводит те или иные факты, оно прежде все-
го передает дух, и не просто дух эпохи, как доказывал, например,
Макс Дворжак, а то, что было истинным в этом духе. Что, тем са-
мым, перешло в вечность.
.: 1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 518.
' 2 Там же. С. 689.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
пб
Если в двадцатые годы главным объектом изображения у Булга-
кова была плебейская справедливость в ее самых отвратительных и
хамских разновидностях, то в «Мастере и Маргарите» мы видим
раздвоение плебейской справедливости на зло мелкое, гадкое, дос-
тойное всяческого презрения (люмпенство) —и зло как силу кара-
ющую, зло как справедливое в известном смысле возмездие — «бич
божий». Но устраняет оно уже не непосредственных, так сказать,
носителей плебейской справедливости. За их душу, как за душу Ива-
на Бездомного, ведется борьба. Иешуа убежден, что каждого чело-
века можно изменить, ибо каждый человек—добр. Бездомные —
сами в известной мере жертвы, и за их агрессивностью может скры-
ваться еще не испорченное человеческое начало.
Это человеческое начало можно спасти не лаской или не толь-
ко лаской, потому что ласка иногда скрывает взгляд сверху вниз, как
у профессора Преображенского, —такая ласка есть путь к возрож-
дению консервативной идиллии хозяина и его раба, лакея. Главная
сила Иешуа — в его способности понимания других людей. В могу-
щественном прокураторе Понтии Пилате он разгадал страдающее
существо — и не только от болезни, но и от одиночества. Правда, это
понимание мало помогло самому Иешуа, оно не спасло его от му-
чительной и позорной казни. Но это понимание выступает в рома-
не как великая вечная сила, в конечном счете побеждающая всякое
зло. Засыпающий после успокоительного укола Иван Николаевич
Понырев видит каждый раз одно и то же: «От постели к окну протя-
гивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается че-
ловек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне.
Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне
и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жа-
ром, спорят, хотят о чем-то договориться»1.
«Оставьте их вдвоем, —говорил Воланд, склоняясь со своего сед-
ла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору, — не
будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся.. .»2
Понимание у Булгакова есть одновременно и прощение. А так
как в принципе можно понять каждого человека, даже самого жес-
1 Там же. С. 8п.
2 Там же. С. 789.
Мир, обретающий голос,
и богооставленный мир
П7
токого и злого, то все заслуживают прощения. Но только в конечном
счете, в той вечной истории, которая находится как бы за предела-
ми истории действительной, настоящей—а на самом деле представ-
ляет собой одно из измерений ее. Потому что без сопряжения с ис-
торией действительной — понимание, о котором идет речь, превра-
щается в некое абстрактное и бессильное всепрощенчество.
Все могут быть поняты и прощены в конечном счете — это так
же верно, как и прямо противоположное утверждение, согласно ко-
торому далеко не все можно простить, а некоторых людей нельзя и
понять. Не в том смысле, что они находятся за пределами разумения,
а в том, что с ними невозможен диалог, т.е. взаимопонимание.
Сначала Булгаков полагал, что договориться нельзя с Василием
Ивановичем и Шариковым, вступать в диалог с ними — бессмыслен-
но и даже вредно. Автор «Мастера и Маргариты» показывает, что с
представителями низовой, так сказать, плебейской справедливости,
по крайней мере с некоторыми из них, договориться все же можно,
хотя способность к пониманию у них могут пробудить события «нео-
быкновенные», выводящие за горизонт обыденного существования
и открывающие бесконечность «вечной истории». А вот с другими,
формально более интеллигентными существами, диалог так же не-
возможен, как и с шариковыми.
В сказочном повествовании Булгакова конец Шарикову кладет
профессор Преображенский — и это верно в конечном счете. Шари-
ковы когда-нибудь исчезнут как сон, побежденные человечеством,
достигшем ступени самосознания, если говорить языком гегелев-
ской «Феноменологии духа». И это самосознание в сказке Булгако-
ва появляется в образе современного Фауста—ученого, чьи деяния
творят чудеса. Но уже в «Собачьем сердце» намечены точки сопри-
косновения антиподов, вернее, даже тождества их—реальные уче-
ные-естественники страдают опаснейшей болезнью «бернарства».
Эта болезнь, перекочевавшая из естественных наук в гуманитар-
ные, превращается из извинительной слабости симпатичного про-
фессора Преображенского в «собачью радость» вульгарного социо-
лога Берлиоза, симпатий уже не вызывающего. Его главная черта —
абсолютная неспособность понимания.
Если вспомнить максиму американского образа жизни — если
ты такой умный, то почему такой бедный? — то глуп, конечно, не
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
п8
Берлиоз, а мастер. Дело в том, что в реальной истории понимание,
о котором идет речь, часто оказывается как бы не ко времени, оно
настолько опережает ход событий, что к практике его приложить
бывает трудно, а то даже и невозможно. Мастер, этот современный
Фауст1—обитатель сумасшедшего дома, в то время как Берлиоз воз-
главляет дела культуры и литературы.
Но понимание мастера не такое уж и бесполезное даже в реаль-
ной истории. В отличие от Берлиоза он знает, что необыкновенные
события иногда случаются и в нашей жизни. Ибо то, что произош-
ло с Берлиозом,—далеко не случайность. «Кирпич ни с того, ни с
сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на
голову не свалится».2
Ясно, что Берлиоз свою бесславную гибель заслужил. Но поче-
му она бесславная, и почему читатель нисколько, вместе с автором,
не сочувствует человеку, чья ужасная смерть воспроизведена с точ-
ностью газетного хроникера?
1 «Ясно, что это “Фауст и Маргарита”. Иначе — к чему бы
этой женщине называться Маргаритой? “Мастер” — мне
это не нравится, горьковская терминология тридцатых го-
дов. Но что было человеку делать? Назвать себя Фаустом
как-то показалось неловко. И все же это история совре-
менного Фауста, попавшего в беду, и Маргариты (...), ко-
торая его выручает. Дьявольская сила тоже налицо» —
цитата из: Лифшиц Мих., архив, папка № 225 «М.А. Бул-
гаков».
Любопытно, что автор книги «Роман Михаила Булгакова
Мастер и Маргарита: альтернативное прочтение» (Киев,
«Текма», 1994) А.Н. Барков доказывает на основании того,
что понятие «мастер» — горьковская терминология, чуж-
дая Булгакову, будто прототипом мастера (равно как и
Берлиоза) был Горький, а Маргариты — гражданская же-
на Горького известная актриса М. Андреева. В этой книге
немало и других, не менее фантастических гипотез, на-
пример, доказывает автор, Римский — это Станиславский,
а Варенуха — Немирович-Данченко.
2 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 518.
Мир, обретающий голос,
и богооставленный мир
П9
«Без элементов случайности, — писал Г. Лукач, имея в виду клас-
сическую форму романа, — все мертво и абстрактно. Никакой писа-
тель не сможет изобразить жизненно что бы то ни было, если совер-
шенно откажется от элементов случайности. С другой стороны, он
должен в своем изображении подняться над грубой, голой случайно-
стью, поднять случайность до уровня художественной необходимо-
сти»1. Так, например, совершенно случайное падение Вронского с
лошади во время скачек есть, по словам Лукача, «поворотный пункт
всего действия романа», выявляющий то, что ранее было скрыто.
Гибель Берлиоза — случайность иного рода. Если падение Врон-
ского—действительно случайность, то в романе Булгакова без вме-
шательства сатаны не обошлось. Конечно, Воланд и его свита Бер-
лиоза под трамвай не заталкивали. Но уже то, что Воланд заранее все
знал до мельчайших подробностей и с явной издевкой описал буду-
щей жертве картину гибели, придает событию инфернальный отте-
нок. Оно было как бы предрешено не здесь, на земле, а на небесах.
Но Берлиоз сам виноват. Разумеется, не в том, что поскользнул-
ся около турникета. Он не внял словам Воланда, хотя мог бы угадать,
по словам мастера, дьявола в «иностранном консультанте». Берли-
оза подвело, что знания у него были мертвые. В книжках, которые
он читал, — одно, а в действительности — совсем другое. Скажем,
Мефистофель у Гете — это же не реальный факт, а фантазия поэта.
Действительно, фантазия. И если какой-нибудь читатель решит,
что Булгаков хочет убедить нас, будто библейский сатана посетил
Москву в конце двадцатых годов, то он будет не прав. Здесь не боль-
ше буквальной, фактической правды, чем в повести о Шарикове и
профессоре Преображенском.
И все-таки Берлиоз сам виноват. Больше того, его гибель на са-
мом деле была предрешена «на небесах» — она есть проявление за-
конов «вечной истории», ее трансцендентальной справедливости.
Именно тогда, когда всякого рода берлиозы добиваются своего пол-
ного, окончательного господства, когда культурный и обществен-
ный горизонт очищен от людей типа мастера—тогда и происходят
события необыкновенные, для берлиозов неожиданные.
1 Лукач Г. Рассказ или описание. // Литературный критик,
1936, № 8. С. 45-46.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
120
Конечно, Берлиоз знал, что революции пожирают своих детей.
Но знание это было абстрактное, оно не помешало ему «примазать-
ся» к этим «детям» революции и вместе с ними угодить под гильоти-
ну истории. Однако те, кто делал революцию, пожали свою собствен-
ную судьбу, тогда как Берлиоз «угодил под трамвай», он, человек
практический, элементарнейшим образом просчитался, оказался
дураком.
Булгаков писал свой роман тогда, когда уже шли знаменитые
политические процессы, и многие его преследователи были аресто-
ваны, пропали бесследно. Почему он не рассказал свою историю в
форме классического реалистического романа XIX века? Конечно,
правдивое повествование о них было невозможно по цензурным
условиям. Но и роман Булгакова не имел шансов на публикацию при
его жизни.
Нет, фантастика здесь понадобилась не для того, чтобы в скры-
той, аллегорической форме рассказать о том, что нельзя было изоб-
разить прямо по политическим причинам. Корни фантастики Бул-
гакова много глубже.
Это не аллегория судебных процессов, террора 30-х годов, а Во-
ланд или Понтий Пилат—не аллегорическое изображение Сталина.
Булгакову необходимо было уйти от прямого изображения трагичес-
ких политических событий времени именно для того, чтобы художе-
ственно правдиво изобразить свое время. Иначе говоря, для воссоз-
дания реальной истории потребовался горизонт «вечной»—транс-
цендентальное измерение.
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории
(Иешуа и Понтий Пилат)
Собственно говоря, первопричина — не в Сталине и
не в Ленине, даже не в революции. И не в характерном для совре-
менности «восстании масс», смердяковской демократии. Сатана по-
сетил Москву для того, чтобы узнать, что за люди ее населяют и на-
много ли они отличаются от тех, что жили прежде. И вот его вывод:
«...они—люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории ...
121
Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи
ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что
ж... и милосердие иногда стучится в их сердца.. .обыкновенные люди...
в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испор-
тил их...»1
Одним словом, не лучше тех, что внимали Иешуа, а затем при-
ветствовали его казнь, но и не хуже. В их жизни также разыгры-
ваются драмы, подобные тем, что были известны прежней исто-
рии, и те же вечные вопросы возникают, когда мы пытаемся эти дра-
мы понять. «Почему под ношей крестной весь в слезах влачится
правый...»
Но настроение Булгакова далеко от экклезиастовского «всё суе-
та сует и томление духа». В российской действительности конца
двадцатых-тридцатых годов он увидел не черную дыру, не тотали-
тарный кошмар, ставящий страну и ее народ вне нормальной исто-
рии, а продолжение этой истории с ее вечными конфликтами и про-
блемами. Иллюзий, глупости, кошмаров, преступлений в ней не
меньше, чем раньше, например, во времена первых веков христи-
анства —но и благородство, талант, понимание в ней тоже не исчез-
ли. Ведь это для Берлиоза история закончилась — впрочем, для лю-
дей такого склада, как он, она никогда и не существовала.
История для Булгакова — не скопление равнодушных фактов.
Есть, конечно, и пустые события, ничего не говорящие ни уму, ни
сердцу, но есть и другие факты — они не символы, не аллегории, а
значимые ситуации, в которых заключен абсолютный смысл. Одна
из таких ситуаций воссоздана в романе мастера о Понтии Пилате.
На первый взгляд кажется, что это история о трусости — вечном
и самом тяжком, по словам Булгакова, пороке. Но почему же тогда
Иешуа и Пилат, удаляясь по лунной дороге, ведут непрекращающи-
еся беседы, почему они, как говорится в романе, может быть, до
чего-нибудь договорятся? Значит, какая-то правда есть и на сторо-
не Понтия Пилата, жестокого пятого прокуратора Иудеи.
«Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокой-
ное ее лицо подернулось дымкой сострадания.
1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 451.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
122
— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же, он го-
ворит, что и при луне у него нет покоя и что у него плохая должность».1
«Мне кажется, — замечает Мих. Лифшиц в своих заметках о ро-
мане “Мастер и Маргарита”, — нужно придерживаться того, что есть
в художественном произведении. Булгаков хотел сказать и сказал,
что с Понтием Пилатом легче найти общий язык, чем с идеологом
Каифой и его клевретами. Побольше бы таких Пилатов на сегодняш-
ний день.
Авторы критических статей рассуждают, как Помпей: “Кто пой-
дет не со мной, того я буду считать своим противником”. Пилат не бро-
сил свой пурпур, чтобы стать в один ряд с Га-Ноцри — следовательно,
он осужден. Но Помпей, как известно, потерпел поражение, он был
разбит. Цезарь поступил умнее. Он сказал: “Кто не выступит открыто
против меня, того я буду считать своим союзником”. В Евангелии есть
слова: “Кто не с нами, тот против нас”, но Евангелие — книга про-
тиворечивая, в ней много разного. И христианство никогда бы не
могло одержать свою историческую победу, если бы следовало де-
визу Помпея. Да и сам Га-Ноцри склонен был считать Пилата своим
возможным другом. По крайней мере так сказано в романе Булгакова».2
«Чего вы хотите от несчастного Пилата, друзья мои? — продол-
жает Мих. Лифшиц. — Ничего похожего на моральное осуждение
его в романе нет. Это величественная фигура, нарисованная с пони-
манием и симпатией. Видно военного человека (...), каких Булгаков
не раз видел и на той, и на этой стороне (...).
Пилат так поступает потому, что боится Тиберия, из трусости?
Или потому, что он частица силы, (...) часть аппарата власти, зах-
ваченная этим делом, его военно-административным пафосом? Не
потому ли, что он знает, предвидит, как рассыпается все в прах, так
что не поможет горсть легионеров и кавалерия аула и вся его не- '
большая группа власть предержащих и весь сложившийся порядок
жизни, если он на минуту ослабит бразды правления, сделает шаг,
достойный философа, а не проконсула империи? Что сказалось в
изображении писателя?»3
' Там же. С. 796-797.
2 Лифшиц Мих., архив, папка № 225 «М.А.Булгаков».
3 Там же.
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории ...
123
Кесарю—кесарево, а богу—богово. Эту известную реплику Хри-
ста на провокационный вопрос мытаря можно истолковать не толь-
ко так, что подданные должны платить налоги государству, но и как
необходимость существования государства со всеми его прелестя-
ми — тюрьмами, казнями, насилием. Необходимость до известной
степени, ибо в противном случае христианство будет апологией
насилия, что ему совершенно не свойственно.
Что сказалось в романе Булгакова? Апологетом сталинской им-
перии— в духе многих бывших сменовеховцев и «белых», таких,
например, как В.Шульгин, — писатель не был. Это видно и по его
личному поведению, когда он отказывался участвовать в идеологи-
ческих кампаниях, заседаниях, на которых «разрывали» его бывших
преследователей, таких, как Киршон.
Возможно, в Сталине он хотел видеть нечто вроде современно-
го Понтия Пилата', с которым можно вступить в диалог. Этот диа-
лог, едва начавшись, прервался. Конечно, не по вине писателя. Но,
может быть, и не вполне по вине Сталина. Не следует забывать, что
могущественного и жестокого пятого прокуратора Иудеи окружали
фанатичные идеологи, перед которыми прокуратор вынужден был
смириться. Впрочем, при всей важности этого вопроса он больше
относится к области исторических фактов, а не духа эпохи.
Пилат и Иешуа—третья пара антиподов в нашем исследовании.
Если Пилат представляет собой государственную власть, опирающу-
юся главным образом на насилие, то Иешуа—носитель идеального
начала мира. С момента встречи между ними намечается возмож-
ность взаимопонимания, оказавшаяся, впрочем, иллюзорной. Пи-
лат, оставаясь представителем власти, мог предложить Иешуа толь-
ко род почетной капитуляции — Иешуа должен был стать чем-то
вроде домашнего философа при властителе, роль незавидная, мало
чем отличающаяся от положения слуги, лакея, что, как известно,
испытал на себе Платон при дворе сиракузского тирана Дионисия.
Это — вариант победы Пилата над Иешуа, победы прежде всего нрав-
ственной.
Только казнь несчастного проповедника могла вывести Пилата
из привычной колеи жизни, и в финале романа он мечтает стать
। 1 Таково предположение булгаковеда В.И. Лосева.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
124
одним из учеников Иешуа. Но это, так сказать, финал на небесах.
«Если бы Пилат бросил свой сан и бежал в пустыню, то это был бы
другой сюжет (такие сюжеты бывали, как свидетельствует агиогра-
фия, история святых), и для этого нужен был другой человек, для
того чтобы фабула была bene morata, чтобы все в ней соответство-
вало закону положений и нравов, Пилат должен был поступать так,
как он поступил, проявляя свои человеческие черты в наибольшей
степени, но в соответствии со своим положением, со своей натурой,
которая вместе с другими условиями вынесла его в это положение».1
Власть не могла уступить Иешуа, иначе бы она рассыпалась в
прах, и было бы это хорошо в описанных исторических обстоятель-
ствах? Точно так же Иешуа не мог смириться перед властью на тех
условиях, которые ему предлагались. Значит, он должен был погиб-
нуть, но эта гибель, это поражение открывало какие-то новые перс-
пективы. Правда, Воланд, посетивший Москву через много столетий
после этого события, приходит к выводу, что люди мало изменились.
Они так же не замечают мастера, обрекая его на одиночество и су-
масшедший дом, как в свое время с равнодушным любопытством
взирали на казнь Иешуа.
Если ничего не изменилось и все возвращается на круги своя, то
зачем нужно было писать роман о Понтии Пилате? Но Булгаков вно-
сит в традиционную схему отношений между двумя антиподами,
идущую от Евангелия, существенный момент. Понтий Пилат и Иешуа
могут договориться — они вступают в диалог, в спор (а он возможен
только между равными сторонами), который не могли вести на рав-
ных на земле. Ибо должны были совершиться известные трагичес-
кие события, чтобы противоречия созрели и достигли своей класси-
ческой полноты. После казни власть осознала свою преступность,
которая была тесно связана с ее ограниченной исторической, но все
же правдой. И, наверное, эту ограниченную правду должен был по-
нять Иешуа, иначе его диалог с Пилатом оказался бы бесплодным.
Да, у последнего «плохая должность», но что было бы с историей че-
ловеческого рода без существования государственной власти?
Профессор Преображенский был до известной степени прав,
когда говорил, что к каждому гражданину необходимо приставить
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 225 «М.А. Булгаков».
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории ...
125
городового. Но только до известной степени, ибо всякая власть по-
рождает неразрешимые коллизии, подобные тем, что изображены
в романе мастера. Вот почему Иешуа отрицает любую государствен-
ную власть. «В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, —
что всякая власть является насилием над людьми и наступит время,
когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Че-
ловек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не
будет надобна никакая власть»1. Это—самая бунтарская идея на све-
те, что прекрасно понимает и Кайфа, и Понтий Пилат. Эта идея — в
крайнем своем выражении—ведет к террору. Что значит—каждому
воздать по заслугам его? Значит, обречь очень многих людей на адс-
кие муки. И в мире справедливого Христа адские муки обещаны
всем грешникам как наказание абсолютно неизбежное. Правда, толь-
ко когда человек покинет этот богооставленный мир. Однако и на на-
шей грешной земле, где казнили Христа, казнят так или иначе лю-
бого истинного человека, где распята сама объективная истина—спра-
ведливость тоже существует. Но она приходит в него только как бич
божий, воплощением которого в романе Булгакова является сатана.
Воланд у Булгакова обладает безупречным вкусом, он благоро-
ден и неподкупен. По своей власти он равен Христу—Воланд сооб-
щает мастеру и Маргарите, что за них «просил Иешуа»2, просил, а не
приказывал. В библейской легенде Бог препоручает сатане, так ска-
зать, грязную работу в аду, иначе говоря, Бог прибегает к сатане, как
современный судья к палачу, которому ни один приличный человек
не подаст руки. Воланд у Булгакова не таков. Он страшен, он может
внушать ужас, но презирать его нельзя, он лишен всех тех отталки-
вающих черт, что свойственны даже Мефистофелю Гете. И главная из
этих отвратительных черт Мефистофеля—его неверие в возможность
справедливости на земле, неверие в положительное начало бытия.
Он — скептик, но не мученик идеи, а, по сути, воплощение пошло-
сти мира, грязный циник. Мефистофель Гете не верит в любовь, сме-
ется над нею как над нелепыми грезами своего подопечного, зани-
маясь шашнями с достойными его в этом отношении бабенками. Не
..ц, 1 Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 447.
2 Там же. С. 798.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
126
таков Воланд, он способен понять самоценность истинной любви,
как и другой злодей мировой литературы — Пугачев Пушкина.
Именно Воланд показывает мелкому бесу наших дней—Берли-
озу, что трансцендентальное измерение реально, что Иешуа — не
призрак, не выдумка хитрых манипуляторов толпой, подобных Ка-
йфе. Чем же отличается в таком случае Воланд от Иешуа? Тем, что
Иешуа не может быть бичом, он не может прибегать к реальным
средствам этого земного мира для свершения справедливого суда—
к тем средствам, которые предлагает своему идеальному Государю
гуманист Никола Макиавелли. Иначе он стал бы сатаной. А сатана—
может, потому что Воланд — это бич божий.
Перед нами снова раздвоение единого: справедливость и истина
распадаются на справедливость карающую, земную, и справедли-
вость трансцендентальную, понимающую. Кстати, в период пере-
стройки либеральная интеллигенция «доросла» до понимания того,
что справедливость, т.е. народная правда, и массовый террор зо-х
годов внутренне связаны между собой1. Но как они связаны? Ответ
был найден простой: социальная справедливость = террору, ибо во
все времена влекла к «казарменной уравниловке, всеобщему обез-
личиванию и эскалации ненависти»1 2. Следовательно, от социальной
1 Историк и экономист А. Ахиезер, концепция истории Рос-
сии которого получила признание у современной россий-
ской интеллигенции, пишет о годах сталинского террора:
«.. .именно в этот период единство народа и власти достиг-
ло высшей точки... Террор проводила и поддерживала вся
страна. Это было невиданное в истории самоистребление.
(...) В терроре как бы воплощалась высшая Правда, он
воспринимался как последняя очистительная битва выс-
шей Правды со злом» //Ахиезер А.С. Россия: критика ис-
торического опыта. Т. I. Новосибирск. 1997. С. 483, 532.
2 См. нашумевшую в свое время статью И. Клямкина в «Но-
вом мире» (1989, № 2. С. 238). А.С. Ахиезер развил эту идею
«вдумчивого», по его словам, И. Клямкина следующим об-
разом: «... по своей сути, — утверждает А. Ахиезер,—народ-
ная Правда и научная истина, вообще говоря, совершенно
разные и даже противоположные явления. Правда—нрав-
ственный идеал традиционного общества...— с-'27
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории ...
127
справедливости, то есть от народного стремления к правде и от на-
родного понимания правды следует отказаться. Это—вывод в духе
дешевого и пошлого цинизма, в лучшем случае мефистофелевская
низкая премудрость. Взгляд Булгакова совершенно иной: да, справед-
ливость в богооставленном мире, когда люди не могут решать свои
дела по-человечески, приходит в образе сатаны. Однако Иешуа —
тоже не призрак. Понимающая справедливость Иешуа — это доро-
га к самораскрытию бытия, к самораскрытию людей, каковы они
поистине. Такова мечта классической философии, ее главная идея,
открытая Сократом и воплощенная в его знаменитом методе «родов-
споможения». Если для современной философии эта мечта — иллю-
зия метафизики, то для Булгакова с ней связано реальное измерение
истории, и тот, кто его не видит, не понимает, уходит в небытие, как
Берлиоз.
Главная проблема мировой классической философии заключа-
ется в поиске связи между идеальным и реальным, между миром
конечного реального опыта — и трансцендентальным измерением,
тоже присущим этому миру. Как решает ее Булгаков? Соединение
трансцендентального с реальным, бесконечного с конечным — спо-
соб разрыва порочного круга. Это — соединение истинных полюсов
вместо тождества крайностей, ложных полюсов. Вместо Шарико-
ва — профессора Преображенского, Ивана Бездомного — Берлиоза,
Каифы и Иуды мы видим в конце концов Ивана Бездомного, нашед-
шего своего настоящего учителя — мастера. Удивительная, вообще
говоря, невозможная фабула оказалась возможной благодаря соеди-
начаю—с.126 (Дхиезер А. Соч. цит. С. 358). СССР—новое обще-
ство, но это «новое общество было, безусловно, результа-
том массового стремления крестьян вернуться к древним
идеалам жизни, отбросить либеральные новшества, то-
варно-денежные отношения и т.д. Одновременно новое
общество было и результатом стремления городских рабо-
чих остановить развитие капитализма, ослабить давление
хозяина. Но в то же время, — заключает Ахиезер, — новое
общество являлось и результатом стремления русской ин-
теллигенции построить общество на основе высшей Прав-
ды» (там же. С. 397). Таковы, по мнению А. Ахиезера, со-
циально-психологические основы сталинского террора.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
128
нению «игрушечного» малого мира 2о-х годов с трансценденталь-
ным измерением, благодаря вмешательству сатаны — справедливо-
сти карающей, но слепой, террористической. Однако эта «крамоль-
ная» для современного либерала мысль не равнозначна оправданию
террора или отождествлению с ним. У Булгакова, естественно, нет
прославления террора, но есть понимание его известной историчес-
кой неизбежности и гегелевско-пушкинское примирение. Ни абст-
рактно-морализаторское отрицание, ни апологетика социального
зла не давали возможности открытия той перспективы, которая до-
ступна классическому искусству. Ибо тот особый вид примирения,
о котором идет речь —Versoehnung Гегеля—есть возможный, реаль-
ный способ разрыва порочного круга в тех исторических обстоятель-
ствах, которые мы здесь метафорически именуем «богооставленным
миром». Вместе с тем это такой разрыв, который, материализуясь в
созданиях классического искусства, указывает на возможность ис-
тинного решения, решения по методу Иешуа, тогда как в реальнос-
ти если есть справедливость, то карающая по большей части. А ка-
рающая справедливость Воланда — это царство зла, насилия, пре-
ступления. В котором, однако, все-таки остается место и для Иешуа.
Правда, не исключено, что оно, это место, будет в сумасшедшем
доме.
Говорят, что добро и зло так же вечны в этом мире, как плюс и
минус, ибо одно нуждается в другом и обусловливает его. Но про-
тивоположности бывают разные, что демонстрирует нам и проза
Булгакова. До известной степени необходимы и оправданы даже
походы Чингисхана. Есть большая разница, выступает ли необходи-
мое и даже добродетельное мировое зло в виде первоначального
накопления в Англии, приведшего к уничтожению целого социаль-
ного класса — крестьянства, йоменри, — или же американского пу-
ти развития капитализма с сохранением крестьянского фермерского
хозяйства и на его основе. В последнем случае приход сатаны не обя-
зателен, или дьявол «гуманизируется», все более и более сближаясь
с Богом.
Сатана у Булгакова — противоположность Иешуа, но образую-
щая с ним истинное, а не подложное, как в случае с Берлиозом и
Иваном Бездомным, единство. Вот почему, кстати, сатана Булгако-
ва — вовсе не Сталин, ибо сатана—чистое, так сказать, воплощение
Трансцендентальное и реальное
как проблема истории ...
129
той исторической силы, что посредством зла делает добро, а Ста-
лин — конкретная личность, которую вынесли на поверхность в том
числе и такие личные качества, как «страшное чувство неполноцен-
ности», «ненависть ко всякому духовному превосходству, ко всякой
интеллигентности»—«обычная черта плебейской революционнос-
ти»1. Однако приход сатаны в романе Булгакова вызван все-таки
попыткой насильственного установления справедливости здесь и
сейчас.
Эта вечная коллизия развивается и на тех страницах романа, где
изображается нэповская Москва. Население, среди которого живет
мастер, отличается от предшествующих представителей человеческо-
го рода тем, что оно испорчено «квартирным вопросом». Для Булга-
кова этот вопрос — не только символ, но и конкретное воплощение
практики новой государственной власти, пытающейся обойтись без
городового, на место которого приходит самоорганизация снизу,
призванная разрешать жизненные коллизии на основе коллектив-
ного разума и самоуправления. Ничего хорошего из этого не полу-
чается, и потому возврат городового, правда, уже в «красном кепи»,
оказывается неизбежным.
Но не вся правда на стороне профессора Преображенского, как
не вся она на стороне Понтия Пилата. Кто загоняет мастера в глу-
бокое подполье? Граждане, испорченные квартирным вопросом, и
в первую очередь идеологи новой власти, подобные литературному
критику Латунскому и председателю МАССОЛИТа Берлиозу. Но что
движет ими — новая идеология или старый как мир шкурный инте-
рес, страсть к деньгам и хорошим квартирам?
В романе, пожалуй, только Иван Бездомный вполне искренне
верит в то, что пишет и исповедует. Вот, например, внутренний
монолог одного из типичных членов МАССОЛИТа, поэта Рюхина,
который отвозил спеленутого, как куклу, Бездомного в сумасшед-
ший дом. «Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с сини-
ми лампами, прилипший к памяти? Мысль о том, что худшего не-
счастья, чем лишение разума, нет на свете? Да, да, конечно, и это.
1 См. об этом Лифшиц Мих. О рукописи А.И. Солженицына
«В круге первом». Публикация Л.Я. Рейнгардт. // Вопро-
сы литературы. 1990, июль. С. 82.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
130
Но это—так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это?
Обида, вот что. Да, да, обидные слова, брошенные Бездомным пря-
мо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них зак-
лючается правда.
Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный тря-
сущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя.
Да, стихи... Ему—тридцать два года! В самом деле, что же даль-
ше? — И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в
год.—До старости? — Да, до старости. — Что же принесут ему эти
стихотворения? Славу? — Какой вздор! Не обманывай хоть сам себя.
Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отче-
го они дурны? Правду, правду сказал! — безжалостно обращался к
самому себе Рюхин, — не верю я ни во что из того, что пишу!..»'
А разве верил в правду первосвященник Кайфа? Если бы верил,
то вступил бы в открытый и честный спор с бродячим философом,
вместо того чтобы убить его — прибегнув к подкупу предателя. Нет,
с той же степенью ясности мог он дать себе отчет, как и поэт Рюхин,
что правда не на его стороне! Но на его стороне была сила, и мыс-
лил он как ее как вождь и спаситель своего народа, что оправдыва-
ло в его глазах подлости и преступления.
Так почему же лучше иметь дело с Понтием Пилатом, чем с Ка-
ифой? Понтий Пилат—действительная противоположность Иешуа,
и он как власть способен понять, что правда этой власти относи-
тельна. Он не претендует на решение вечных проблем, перед ним
более простые, и в то же время не менее сложные вопросы: как со-
хранить порядок во взбаламученной провинции, как добиться, что-
бы население ее было более или менее сыто, и, следовательно, спо-
койно, как совладать с преступностью—и тысячи других, мелких и
больших проблем, требующих решения, стояло перед ним. Как че-
ловек военный он знает цену жизни и смерти, умеет выходить из
трудных положений — одним словом, это человек дела.
А Кайфа — суррогат человека идеи, и потому он ложная проти-
воположность по отношению к Иешуа, он — подмена его, подлог,
который играет роль духовного наставника народа только потому,
1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 488-489.
131
что опирается не на силу идеи, а на грубое насилие, обман и преда-
тельство. Диалога с Каифой у Иешуа быть не может, как и у масте-
ра с Берлиозом или Латунским. А вот с честным, искренне верящим
в свои бредовые идеи Иваном Бездомным диалог возможен. Но для
того чтобы этот диалог состоялся, должно было совершиться много
чудесного. Он должен был попасть в сумасшедший дом и действи-
тельно немного тронуться рассудком, чтобы избавиться от дьяволь-
ской власти Берлиоза и ему подобных.
Аристофановская веселость
В чем же источник духовной власти этого ничтожно-
го, в сущности, человека? За ним — та страшная сила, которая дви-
гала Шариковым и миллионами ему подобных, та сила, перед лицом
которой профессор Преображенский проиграл прежде всего в идей-
ном споре — сила плебейской справедливости. Преображенский и
Латунский — более или менее адекватные идеологические предста-
вители этой социальной и поистине мировой силы.
Но эта сила в позднем произведении Булгакова уже не монолит-
на, она раздваивается. Вернее, раздвоение ее началось много рань-
ше. Антиподы профессор Преображенский и Шариков обнаружили
немало общего, и это общее создавало как бы порочный круг, из
которого не было реального выхода, кроме явно сказочного и фанта-
стического. Преображенский своей социальной демагогией, каприз-
ным нежеланием вникать в новую историческую ситуацию, своим
«бернарством» способствовал успеху швондеров у тех, кого называл
«певунами». Но между последними были не только шариковы, но и
Иваны бездомные.
Если в «Собачьем сердце» антиподы оказываются внутренне по-
добными (при том, что они — противоположности, антиподы) на-
столько, что образуют порочный круг, то единство Ивана Бездомно-
го и Берлиоза—иного рода. Выясняется, что по своей натуре Без-
домный и Берлиоз практически ничего общего не имеют. И дело не
только в том, что Иван —- человек хотя и заблудившийся, но при
этом потенциально порядочный и честный, тогда как Берлиоз —
хитрый приспособленец. Разрушение союза Ивана и Берлиоза сви-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
132
детельствует о том, что сама плебейская справедливость раздваива-
ется или, во всяком случае, может раздвоиться, тем самым выводя
за пределы порочного круга.
Но у Булгакова это раздваивание едва намечено (см. и-ю главу
романа «Раздвоение Ивана»), о нем мы можем судить главным об-
разом по косвенным признакам. Освобожденный от власти Берли-
оза и ставший профессором истории Иваном Николаевичем Поны-
ревым, Иван превратился в неврастеника, засыпающего от успоко-
ительного укола. Он забыл обо всем происшедшем, и только во сне
лунной ночью какие-то остатки обретенного нового знания возвра-
щаются к нему. О чем пишет историк Понырев, мы не знаем, но явно
не о том, что может являться ему во сне и о чем он забывает днем.
Мастер оставил своего едва обретенного ученика, потому что сам
покинул эту жизнь. Да и чему он мог научить? Если бы Иван оста-
вался верным своему учителю, то точно так же, как и мастер, дол-
жен был выпасть из жизни.
Это одна линия романа. Но есть и другая. Вспомним снова о сло-
вах Воланда, сказанных голове Берлиоза,—они свидетельствуют о
том, что сила истинного бытия не на стороне Берлиоза и его сооб-
щников. Берлиоз—миф, иллюзия, призрак. Почему так? Потому что
истинный человек — это Иешуа. В истории человечества реален и
действителен, обладает статусом истинного бытия именно он, а не
Берлиоз, который отрицал существование Христа, то есть трансцен-
дентального изменения истории. Такие, как Берлиоз, исчезают без
следа, в вечной истории места им не находится.
В вечной истории, может быть, и нет, но в реально текущей—бер-
лиозы, латунские, как правило, хозяева положения. Но хозяева ли?
Если они побеждают окончательно, если истинные люди оказыва-
ются в сумасшедших домах или сгнивают заживо в своих подва-
лах— на сцену выступает сатана. Он вершит свой суд, если дело
нельзя поправить другим, более разумным и человеческим спосо-
бом. Таков универсальный закон истории, сформулированный еще
Гегелем.
Но у Гегеля зло является практически единственной движущей
силой истории. Вариант более человеческого сведения концов с
концами в его системе не предусмотрен. Тогда как искусство во все
времена демонстрировало поэтическую справедливость, то есть
Аристофановская веселость 133
победу справедливого начала в его собственной форме — форме
добра.
Поскольку роман Булгакова — настоящее искусство, то сказан-
ное полностью относится и к нему. Вспомним сцену с поэтом Рюхи-
ным — кто скажет, что она не реальна? Правда, раскаяние и тоска
овладели им в особой ситуации — после посещения сумасшедшего
дома и слов, брошенных Иваном. Рюхин не изменит своей жизни и
постарается вскоре забыть о том, что так расстроило его. А уж бо-
лее удачливым его собратьям такие мысли и вообще в голову, как
правило, не приходят. Но в этом случае вместо лиц—у них рыла и
рожи, пусть и искусно скрытые за какой-нибудь благопристойной
маской.
Что скрывается за маской вполне довольного собой, начитанно-
го и, по словам мастера, очень хитрого Берлиоза? Ровным образом
ничего. Пустое место1. Мы видим его реакции, читаем его мысли,
слушаем очень подробные наставления Ивану—и все это мы дей-
ствительно и видим, и слышим. То есть перед нами художественный
образ, а не абстракция, не аллегория. И все же это — пустота и ни-
чего более. Даже в каком-нибудь Иване Никанорыче Босом гораз-
до больше жизни и индивидуальности. Когда он с аппетитом прини-
мается за мозговую кость или, рыдая, кается в грехах, вспоминая о
Боге, — он человек, хотя и очень несимпатичный.
У Берлиоза тоже вроде бы реакции человеческие — кольнуло в
сердце, закружилась голова—пришла мысль: переутомился, надо
бы в Кисловодск. Но заглянув в его душу, побывав, так сказать, в его
доме, мы не находим ни одной черточки, ни одной зацепки, ни од-
ной струнки, которая свидетельствовала бы о том, что диалог с ним
возможен. Нет ни одной идеи, которая бы всерьез тронула или заин-
тересовала его. Он как живое существо реагирует на угрозу, ему
. 1 Замечено, что Берлиоз — имя «пустотелое»: «Пустоте-
лые» имена, — пишет В.В. Химич, —подобны старикам на
балу жизни: музыка смолкла и свечи потушены, а они не-
лепо топчутся в бальном зале». См. Химич В.В. «Странный
.j, реализм» М. Булгакова, Екатеринбург. 1995. С. 202. В од-
ном из последних вариантов романа Булгаков хотел дать
своему герою фамилию «Чайковский», но затем вернулся
к раннему варианту — «Берлиоз».
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
134
жарко, хочется пить, его риторика о Христе проникнута не только
известной ученостью, но даже некоторым пафосом. Но это все же не
идеи, а чисто соматические реакции на раздражители. Идеи его не
интересуют, потому что идеальное начало мира для него, как и для
современной постмодернистской философии телесности, понима-
емой исключительно как сома — миф. А без реально-идеального
начала сам человек превращается в миф, становится, по словам Гер-
цена, человеком-травой. Ему и в голову не приходит, что могут быть
явления необыкновенные, то есть выводящие за пределы обыденно-
сти в большой мир, мир вечной истории.
Поэтому Берлиоз—мертв даже по сравнению с мелким жуликом
Босым, у которого в душе, где-то на дне ее осталось смутное пред-
ставление об ином, пусть и оживающее в форме примитивной рели-
гиозной веры, более напоминающей суеверие.
У Берлиоза есть тело с присущими ему реакциями, даже очень
сложными, в форме рассудка, но нет духа. И если такие люди вла-
ствуют, то незаконно, на шаромыжку, прилепившись к какому-ни-
будь истинному бытию. Берлиоз прилепляется к плебейской спра-
ведливости.
Шариков — негодяй из негодяев и хам из хамов, но жизни в этом
образе более чем достаточно. Так что же, Шарикову свойственно
идеальное начало? В крайне извращенной форме—да, это бунт
против всех несправедливостей доброго старого времени, но бунт,
целью которого является исключительно сохранение животного
начала, то есть идеальное здесь перешло в самую грубую и прими-
тивную материю. Такое, далекое от гармонии, тождество крайнос-
тей образует страшное существо, нового гомункулуса XX века, от
которого ждать пощады нельзя и искать с ним компромисса бес-
смысленно.
Так о каких косвенных признаках раздвоения начала плебейс-
кой справедливости может идти речь? Иван после своего прозрения
просто выпал из истории. Отказавшись от бредней, он не приобрел
ничего нового.
А писатель Булгаков? Что-то примирило его с действительностью,
которую он описывал. Иначе откуда наряду со страстной тоскою и
романтической жаждой любви, жизни странное успокоение и почти
аристофановская веселость, юмор на страницах его романа?
Аристофановская веселость
135
По словам Гегеля, Аристофан вводит нас в «абсолютную свобо-
ду духа, которая в себе и для себя с самого начала примирена со
всем, что бы ни делал человек, вводит в этот мир субъективной ра-
достной ясности. Если не читать его, то едва ли можно представить
себе, как прекрасно способен чувствовать себя человек»1.
Слова о том, что Аристофан с самого начала примирен со всем,
что бы ни делал человек, нельзя понимать в прямом смысле, как
выражение всепрощения и равнодушной буддистской созерцательно-
сти. Хорошо известно, насколько яростным и непримиримым поле-
мистом был он и как беспощадно высмеивал многих своих совре-
менников, среди которых были такие выдающиеся люди, как Со-
крат. Примирение, о котором говорит Гегель, заключается в том, что
люди у Аристофана «не теряют своей устойчивости и уверенности
в самих себе перед лицом всяких утрат и неудач»1 2. Главное здесь —
самосохранение человека, его сущности как микрокосма, осознание
в себе бесконечного бытия, перед лицом которого всякие утраты и
неудачи воспринимаются как нечто ничтожное и достойное смеха.
Именно к аристофановскому примирению приближается Булга-
ков в своем последнем романе. Основой для него служит «вечная
история», которая, не снимая горечи утрат и неудач, позволяет пи-
сателю сохранять устойчивость и уверенность. «Всё будет правиль-
но, на этом построен мир»,3 — говорит Воланд в заключительной
главе романа.
Откуда эта уверенность? Не из той или другой философии, а из
опыта жизни, из опыта реальной истории, которая, казалось, такой
уверенности внушить не могла.
Террористический шквал второй половины тридцатых годов
смел многих бывших хозяев положения. Но это была дьявольская
справедливость, которая могла в известной степени удовлетворить
справедливое чувство мщения, но того радостного аристофановско-
го примирения, о котором шла речь выше, не давала. Потому что
этот шквал смел одних негодяев, но укрепил других — и увлек за
1 Г.В.Ф. Гегель. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 599.
2 Там же.
3 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 797.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
136
собою множество невинных жертв. Нет, апологетом этого процес-
са, подобным Алексею Толстому, Булгаков быть не мог. Он видел,
что разрубание некоторых старых узлов завязывает новые, и еще
более тугие.
В реальной жизни концы с концами не сводились, и порочный
круг разорвать было нельзя.
И в то же время в своих микрофабулах, которыми полон роман,
все совершалось так, как надо. Не без помощи адских сил. «Может
быть, автор и хотел бы представить нам, как все само собой сдела-
лось, но—не мог. Нельзя было обойтись без фантастических сил. Но
с их помощью он обошелся. А на это тоже нужно благословение того,
что есть (неразб.) правды»1.
Фантастика Булгакова — не аллегория чего-то конкретного, она
не подлежит разгадке, как ребус, ее главная цель — высокий реа-
лизм, достигаемый посредством того, что вечная история не искус-
ственно, а с неотразимой силой внутренней необходимости сопря-
гается с действительной жизнью, повседневностью российского бы-
тия 20-х, 30-х годов1 2.
Успокоение, к которому стремился мастер и которое до извест-
ной степени обрел писатель Булгаков, несмотря на трагические об-
стоятельства последних лет его жизни, — это аристофановское при-
1 Лифшиц Мих. Архив, папка «М.А. Булгаков».
2 «Булгаковский мир может иметь множество воплоще-
ний, в том числе полуфантастических и фантастических,
но все это — грани одного, цельного мира, в котором «вы-
сокое» и «низкое» трагикомически слиты и отфильтровать
одно от другого не удастся» (Яблоков Е.А. Соч. цит. С. 13).
«... Не романтическое двоемирие, противопоставляющее
земное и надмирное, открывается в произведениях писате-
ля, а вполне реалистический взгляд на человека, в жизни
которого природное начало подавлено. Именно стремле-
ние привлечь внимание к этой естественности побужда-
ло Булгакова разыгрывать в произведениях разного рода,
главным образом фантастические, ситуации выхода чело-
века из оков социальности, из привычной заданности об-
стоятельств ко вселенской необъятности» — очеловечен-
ному космосу (Химич В.В. Соч. цит. С. 216).
137
мирение, полное парадоксального оптимизма и даже радости—той
радости, которая обретается только на дне страданий. Это и есть
Дом Булгакова, так же отличный от Дома Турбиных, как белогвар-
дейская консервативная утопия отлична от бесконечного горизон-
та, где вечная история сливается в одно неразличимое целое с по-
вседневной реальностью.
С помощью фантастических сил Булгаков свел концы с концами,
фантастика сообщила убедительность и реалистическую правду его
образам и микрофабулам. Так, например, мы увидели Берлиоза имен-
но таким, каков он есть, в значительной степени благодаря появле-
нию Воланда и его свиты.
Но искусство при всей его реалистической силе не может быть
заменой действительности, не может само по себе связать то, что
еще не связывается.
Постмодернизм превратил ситуацию разорванности в после-
днюю, непререкаемую истину человеческого существования. Он
погрузился в абсолютное молчание, которое не отменяется, но, на-
оборот, даже усиливается склонностью постмодернистов к чрезмер-
ной болтливости. С этим потоком слов нельзя вступить в диалог, он
так же непробиваем, так же закрыт для понимания действительно
иного, как ученое пустословие Берлиоза.
Бог и сатана (Иешуа и Воланд)
В спорах о романе Булгакова достаточно отчетливо
просматриваются две противоположные позиции. Согласно одной
из них, мир Булгакова—последовательная защита гуманизма и куль-
туры, как они понимаются либеральной интеллигенцией1. Соглас-
1 «По мнению Булгакова, есть мировые законы и собствен-
ный разум Вселенной, особая целесообразная ее устроен-
ность, обеспечивающая гармоническое развитие составля-
ющих, и, как неоднократно показано в произведениях пи-
сателя, эта высшая предопределенность бытия носит глубоко
гуманистический характер» (Химич В.В. Соч. цит. С. 198).
Впрочем, автор процитированных строк видит в «стран-
ном реализме» Булгакова «преимущественное ‘жмч‘м“е-« ««
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
138
но другой, близкой ортодоксального православию, Булгаков воль-
но или невольно поэтизировал зло, делал уступки сатанизму. На мой
взгляд, обе спорящие стороны схватывают какую-то одну сторону
диалектики образов писателя и доводят эту сторону до абсурда, тог-
да как художественный смысл образов Булгакова нередко оказыва-
ется недоступным или произвольно истолкованным. Обратимся к
спору двух крупных литературных авторитетов, писавших о «Мас-
тере и Маргарите», —А. Солженицына с В. Лакшиным.
В конце шестидесятых годов, когда был напечатан роман Булга-
кова, он был встречен восторженно читающей публикой. Из круп-
ных писателей и критиков, пожалуй, только А. Солженицын отнес-
ся к нему с известной настороженностью, если не сказать больше.
В своем письме к В. Лакшину (по поводу статьи последнего о рома-
не Булгакова) он так формулировал свои разногласия с критиком:
«Очень сложный роман, он требует очень сложного объяснения. То,
что вы написали, все очень интересно—трактовка, что дьявольскую
силу он применяет как мысленную расправу за справедливость. Од-
нако мне кажется, что там есть еще какое-то более глубокое и серь-
езное объяснение всего этого, двух вопросов:
— использование дьявольской силы;
— евангельская история.
i) Это выходит у Булгакова за рамки этого романа, это вообще
какое-то распутное увлечение, какая-то непозволительная страсть,
проходящая через все его произведения, начиная с “Дьяволиады”,
где это уже чрезмерно и безвкусно даже /.../
2) Если бы это была попытка объяснить просто с точки зрения
художника всем известную легенду—это было бы одно. Но если в
мчоло-с. т37внимание>> «к отклоняющимся от нейтральных
сокровеннейшим психическим состояниям: бреда, тоски,
страха»( там же. С. 229), воссоздаваемых с помощью лите-
ратурной техники «остранения». Между прочим, Булгаков
сатирически изобразил, как думают некоторые авторы, те-
оретика «остранения» В. Шкловского в образе М.С. Шполян-
ского из «Белой гвардии» (см. Яблоков Е.А. Соч. цит. С. 21).
Во всяком случае, Булгаков внес имя В. Шкловского в со-
ставленный им список врагов своего творчества (см. Бул-
гаков М. Дневник. Письма. 1914-1940. М., 1997- С. 157).
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
139
этом самом произведении так восхваляется нечистая сила и так уни-
жается Христос—тут тоже надо что-то выяснить. Один мой знакомый
сказал, что это евангельская история, увиденная глазами Сатаны.
И вот отношение этих двух струй (нечистой силы и Бога) в од-
ном романе заставляет осторожно к этому отнестись — что-то здесь
еще надо объяснить»’.
Оценка Солженицына почти в точности предваряет нынешнее
отношение православной официальной критики к роману Булгако-
ва. «Почти» не только потому, что более сдержанна, но прежде все-
го потому, что Солженицын чувствует в романе не просто некоторые
сатанинские тенденции, но нечто более глубокое, что требует объяс-
нения и что пока еще не отражено в критической литературе о нем.
Надо заметить, что и «либеральный марксист» (если так можно
назвать В.Лакшина, по крайней мере в бо-е-70-е годы), и оппозици-
онная ему православная печать в этом пункте, отмеченном Солже-
ницыным, сближаются — разумеется, как крайности. Ни Лакшин,
ни ортодоксально-православные критики Булгакова не видят како-
го-то более глубокого содержания в романе, требующего объясне-
ния. Для них в целом все ясно. «...Унижения Христа в романе нет и
тени, — отвечает Солженицыну Лакшин, — а апология Сатаны носит
саркастический характер. Солженицын прав, отмечая неортодок-
сальность веры Булгакова, но ни безбожником, ни апологетом кня-
зя тьмы его не назовешь»2.
Апологетом князя тьмы Булгаков действительно не является, но
отношение его к силе зла все же, как принято говорить, неоднознач-
ное, и едва ли это отношение можно подвести под понятие «сарказ-
ма». Сарказм предполагает не только безусловное, но уничижитель-
ное отрицание. Даже у Гете Мефистофель — сила, которая хочет зла,
а творит добро. А у Булгакова Воланд безусловно симпатичнее, не
говоря уже о его слугах, чем создание Гете.
Симпатичнее, притягательнее, но, пожалуй, и пострашнее Ме-
фистофеля. Мефистофель — скептик, и как таковой иногда терпит
поражение, не говоря уже о финале трагедии, где душа Фауста вы-
рывается из-под власти дьявола.
' ’ Цит. по: Лакшин В. Берега культуры. М., 1994- С. 267-268.
, 2 Там же. С. 268.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
140
У Булгакова все по-другому. Не Христос, а Воланд забирает мас-
тера и Маргариту в свое вечное царство покоя. И никаких призна-
ков поражения Воланда нет. В нем есть великодушие, а скепсис как
удел душ в конце концов ничтожных или если не ничтожных, то по
крайней мере не трагических, у Воланда совершено отсутствует.
Мефистофель не может понять трагедии, он смеется над ней, отри-
цает ее существование, подозревая под трагической маской мелкий
и нечистый расчет.
Выходит, все-таки прав Солженицын, а не Лакшин?
Но ведь солженицынская и православная критика Булгакова, как
отмечает Лакшин, носит отчетливо идеологический, а не художе-
ственный характер, и если применить к самым великим произведе-
ниям мировой литературы, от Боккаччо и Рабле до Пушкина и Тол-
стого, критерий ортодоксального православия, то что от этих про-
изведений останется?
Мих. Лифшиц в своих заметках бо-х годов также возражает про-
тив морализаторский критики романа Булгакова: «Авторы (критичес-
ких статей. —В.А.) вламываются, можно сказать, без стука в царство
добра и зла. Все, что происходит, /они/ так или иначе приводят к
одному знаменателю и рассматривают в одной плоскости. Одни
выше ставят евангельского Христа как более духовного, другой из-
лагает против объективной хрупкости закона, который внутри нас,
третий видит перед собой /... / борьбу добра и зла. А между тем Бул-
гаков только художник, тонко чувствующий те конкретные узоры,
которые лепит время, и его понятия о добре и зле, поскольку они
присутствуют в этом романе, где действует сам Иисус Христос, так
слиты с конкретным историческим потоком реальной жизни, что
никакая нравственная арифметика здесь не исчерпывает дела. /.../
Исходить нужно из того, что действительно есть в романе, а не /
прилагать/ к действительной истории ту или иную нравственную
схему»1.
А что происходило в действительной истории? По мнению Со-
лженицына, Россия 30-х годов представляла собой сплошной кош-
мар, царство дьявола, в котором искать какой-либо смысл или оп-
равдание было бы преступно. По мнению Мих. Лифшица, Булгаков
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 244 «Булгаков 2». С. 4.
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
141
действительно изобразил тот период истории, в котором, условно
говоря, безраздельно господствует Князь тьмы. Но только в отличие
от морализаторов Булгаков не ограничивается одними проклятия-
ми, а стремится понимать и изображать объективно. Объективно,
по мнению Мих. Лифшица, значит дифференцированно.
Где источник чертовщины и дьявольщины в советской действи-
тельности 20-Х-30-Х годов? «Что сильно у Булгакова? Раскрытие тай-
ны, скрывавшейся в игрушечном мире 20-х годов; превратность и
этого мира—его, в конце концов, буржуазный элемент»'; «игрушеч-
ный мир 2о-х годов, американо-советский стиль»1 2 скрывали за со-
бой, продолжает Мих. Лифшиц, «подпочвенную чертовщину», ко-
торая прорывается в творчестве и Замятина, и Олеши, и Зощенко.
Эта чертовщина, «сидящая в жизни и готовая к восстанию», много-
образно представлена на страницах романа—это и «купленная жен-
щина, домраба. Варьете, писательская стихия, ресторан, Аннушка»3.
Аннушка, продолжает Мих. Лифшиц, «действительно заключала в
себе нечистую силу, как это показывают рассказы Зощенко. И дру-
гие подобные персонажи романа...»4. «Это другая стихия, наряду с
Бездомными. Так же и ресторан писателей, абсурд квартирного воп-
роса. Нет, здесь нечисто!»5
Булгаков, повторяем, — не моралист, а просто писатель, к тому
же, как он сам подчеркивал, — мистический. «В прежней романти-
ке элегические чувства рождаются из иронии, сопоставлений, ухо-
дящий патриархальный мир с призрачным ореолом, и впервые ло-
мающую эти иллюзии прозу обыденной жизни. В романтике Булга-
кова преобладает обратное движение—самая мелкая обывательщина,
на уровне Зощенко, рождает из себя фантастическую олеографию,
в которую невозможно поверить. Однако нельзя сказать, что она и
неправдоподобна»6.
1 Там же. С. 3.
2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. i.
4 Там же. С. 5.
5 Там же. С. 5.
6 Там же. С. 2.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
142
«Это романтика, — как полагает Мих. Лифшиц, — горничных и
обывателей, сопоставление с нравами очереди. Поэтому ни малей-
шей претензии на значение символов, это должно действовать в
массе, как фантастическая олеография, лишенная всякого серьезно-
го значения. Серьезное значение имеют только два пункта»1.
Первый из них тот, что чертовщина, присутствующая в романе,
не выдумана, она имеет многообразные обличия, от рабы—домра-
ботницы до писательского сообщества. При всей обыденности и
кажущейся незначительности этих фигур они действительный ис-
точник той силы, которая взорвет «игрушечный советский рациона-
лизм 2о-х годов»1 2 — «А казалось, уже всё так ясно, так просто и так
решено. Булгаков отчасти чувствовал, предвидел, что не решено,
отчасти был уже свидетелем этого. И роман его не случайное слия-
ние двадцатых и тридцатых годов»3.
Дьявольщина, которая должна была взорвать игрушечный совет-
ский рационализм периода нэпа, когда казалось, что американо-со-
ветский стиль уже упрочился,—главный объект изображения Булга-
кова на протяжении всей его писательской карьеры. Эта чертовщи-
на, условно говоря,—та уравнительная люмпенская справедливость,
которая являлась миру то в виде классического в своем роде хама
Шарикова, то невозможного для совместного проживания соседа
Василия Ивановича, разного рода председателей домовых комите-
тов, и даже симпатичный профессор Преображенский с его «бернар-
ством» и безответственной социальной демагогией тоже принадле-
жит этому инфернальному, чреватому катастрофой бытию.
И вот то, чему суждено было сбыться, сбылось. Но как не похо-
же было свершившееся на то, что ожидала для себя получить вся это
чертовщина—от Аннушки и домоуправа до завсегдатаев Дома Гри-
боедова. Оказалось, что «Князь тьмы не действует по указке мелких
сикофантов—доносчиков. Их зло слишком мелко рассчитано для
него, он опрокидывает их расчеты, это сама ирония судьбы, обруши-
вающаяся на тех, кто хочет ею управлять своекорыстно, прикрывает-
ся общественной пользой»4.
1 Там же. С. 2.
2 Там же. С. I.
3 Там же. С. 5.
4 Там же. С. 6.
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
ИЗ
Князя тьмы, как реального сознательно действующего послан-
ца ада в Москве 30-х годов, конечно, не было. Но было не менее ре-
альное, однако то, во что люди хитрые и практические не верят и
знать не хотят, считая рассказы об «иронии судьбы» и истории—сказ-
ками, мифом, а не фактом. Однако пришествие в Москву этих сил —
1 факт, как говорит отрезанной голове Берлиоза Воланд. Ибо то, что
‘ в ней происходило, было «не мысленной расправой за справедли-
вость», как полагал Лакшин, а проявлением реальной, вовсе не мыс-
ленной исторической силы, правда, силы дьявольской.
И в этом заключается второй важный момент, на который хочет
указать Мих. Лифшиц. Для либерального социалиста Лакшина Во-
ланд — это некая аллегория, замена действительного решения, ко-
' лорое, конечно, должно иметь вид и сущность добра. А то, что зло,
, причем самое натуральное, вовсе не опереточное, зло, что прино-
сит с собой гекатомбы жертв и чудовищных преступлений, что это
реальное зло могло быть до некоторой степени и в известной мере
решением назревших противоречий, способом движения вперед —
это в головы либералов как прошлого, так и настоящего не уклады-
валось. Либерализм по сути своей не может понять, «что целые пе-
риоды истории устроены так, что важных шагов истории можно
ждать только от саморазложения, от кризиса верхов, от объектив-
ной иронии истории. Остальное, самое умное и хорошее, пока бес-
сильно»1.
Но далеко не всякое саморазложение и кризис верхов могут транс-
формироваться в силу зла, делающую и некое добро, пусть и очень
проблематичное, но все же достаточно серьезное и значимое. Для
того чтобы стать такой силой, саморазложение власти должно воп-
лотить в себе объективную силу возмездия, объективной иронии
истории. И только в этом случае чудовищное по масштабом зло при-
обретает некое странное, зловещее обаяние, присущее всем тем, кто
сыграл роль бичей божиих—так называли отцы церкви нашествие
гуннов, уничтоживших безумный, переживший самого себя Рим.
«Не думаю, — пишет в своих заметках Мих. Лифшиц,—что об-
разы Воланда и его сподвижников имели какое-нибудь определен-
ное значение, но думаю, что Булгаков верно заметил одно истори-
ческое обстоятельство—что скрывалось под рациональной шелухой
1 Там же. С. 3.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
144
двадцатых годов?»' Воланд — это не аллегория Сталина или еще
какого-нибудь реального политического злодея. Удивительную силу
реалистической убедительности этот образ имеет потому, что он
фантастичен. Но в том-то и дело, что общий кризис и разложение
«рациональной шелухи» сгустилось в нечто совершенно реальное —
обратную волну, которая со страшной силой ударила именно в то,
что деятельно и хитро подготавливало этот удар.
В романе Булгакова «самая мелкая обывательщина, на уровне
Зощенко, рождает из себя фантастическую олеографию, в которую
невозможно поверить. Однако нельзя сказать, что она и неправдо-
подобна.
Вот, например, милиция открывает пальбу из револьверов, уст-
раивает розыск и прочее, но ей приходится увидеть, что в этой жиз-
ни, которую описывает автор, на грани двадцатых и тридцатых го-
дов, существуют сверхсилы, непробиваемые для пуль блюстителей
закона и неподдающиеся розыску. Разве это так неправдоподобно?
Чудеса: силы любят пошутить, они настолько могущественны, что
через общую дверь не ходят? Мало того, они настолько могуще-
ственны, что вовсе не так дорожат содействием Алозия или молодо-
го человека из Кириафа»2. Эти подонки подслушивают, ябедничают,
предают за деньги и другие материальные блага, они привыкли к
безнаказанности и полностью на нее рассчитывают, «а высшая сила
играет, любит неожиданности, и смотришь, именно тот, кто боль-
ше всего старался, оказался на сковороде раньше других. Потому что
сверхсила по-своему демократична, что ей расчеты руководителя
МАССОЛИТа, критика /Латунского/»3.
А. Солженицын видит у Булгакова «распутное увлечение нечистой
силой»4. Это запальчивое утверждение писателя основано на том,
что он не замечает сильную сторону Булгакова—различение мелкой
дьявольщины снизу, которая была настоящим источником зла, и тот
жестокий, чудовищный, но не лишенный кровавой справедливости
ответ истории, который из всего этого получился. Разумеется, упре-
1 Там же. С. I.
2 Там же. С. 2.
3 Там же. С. 2.
4 Цит. по: Лакшин В. Берега культуры. М., 1994- С. 334.
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
145
кать писателя в «распутном увлечении» всеми этими шариковыми,
аннушками, швондерами, берлиозами и прочей сволочью было бы
совершенно нелепо. Но он их и не демонизирует — это зло мелкое,
ничтожное, отвратительное. Никто из этих персонажей, за исклю-
чением, может быть, Шарикова, не освещен сатанинским пламенем,
каждый из них банален и по-человечески заслуживает снисхождения.
Но вместе они—уже сила историческая, и в воображении писа-
теля «эта романтика горничных и обывателей, сопоставление с нра-
вами очереди» рождает из себя “фантастическую олеографию, в
которую невозможно поверить»’, и в которую веришь, поскольку
она не символ, не знак, не аллегория, указывающая на тот или иной
реальный прототип, а отражение глубинного духа эпохи.
В конце концов население ни в чем не виновато, вернее, вино-
вато не более, чем весь род человеческий. Он скорее достоин жало-
сти. А кто же виноват? Скорее, пожалуй, овладевшая этими малень-
кими людьми поистине демоническая сила — плебейская справед-
ливость, принявшая самые различные формы, вплоть до поистине
сатанинских, воплощением чего как раз и является пресловутый
«квартирный вопрос».
И вот—возмездие. С Блоком Булгакова «роднит,—пишет В. Лак-
шин (хотя они, по мнению критика, во многом антиподы. —В. А.), —
разве что вера в возмездие как часть земного закона справедливости.
Но не бунт, не бездомье, не отчаянное приятие революции с ее пепе-
лищами в усадьбах и кострами из книг...»1 2. Однако возмездие, какое
живописал в своем романе писатель, мало похоже на привычное для
обыденно-либерального сознания представление о справедливости.
По своей кровавой жестокости и бессмысленной расточительности
человеческими жизнями оно ничем не уступает самой жестокой
революции. Лакшин, кстати сказать, как сторонник «демократичес-
кого социализма» должен знать, что революция, по словам Марк-
са, — не бунт, ибо ее отличительная черта—подъем духовной энер-
гии низов, их способности к решению своих судеб.
То, что описал Булгаков, — не революция в полном смысле это-
го слова. Это скорее бунт, но бунт, управляемый сверху, бунт, уда-
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 244 «Булгаков 2». С. I.
2 Лакшин В. Берега культуры. М., 1994. С. 262.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
146
ривший и по низам, и по верхам. И иного «возмездия как части зем-
ного закона справедливости», возмездия, отличного от революции,
история пока не знала.
Как относится Булгаков к этому историческому возмездию, ко-
торое своим адским пламенем полыхало не один десяток лет в Рос-
сии XX века? Оно для него — зло, и каждый, кто хоть как-нибудь,
даже будучи принуждаемый к тому невыносимыми обстоятельства-
ми, вступает в соглашение со злом, от вины уже избавиться не мо-
жет. Мастер и Маргарита не заслужили царствия небесного, их уно-
сит с собой Князь тьмы. Им не суждено счастье, но их ждет покой.
Почему же покой, а не адские муки?
Покой мастера—это нечто родственное гегелевскому примире-
нию, теме, хорошо знакомой русской литературной критике XIX века
и с новой силой, как мы увидим впоследствии, вспыхнувшей в ли-
тературных баталиях 30-х годов века XX.
Примирение — не соглашательство со злом, даже тем, что исто-
рически по-своему необходимо и неизбежно. Это, может быть, един-
ственно возможный в данных обстоятельствах способ защиты ре-
ального добра.
Что могла сделать Маргарита для спасения своего любимого,
оказавшегося в сумасшедшем доме благодаря кипучей деятельнос-
ти таких завсегдатаев Грибоедовского дома, как критик Латунский,
имя же которым—легион? Бывает и так, что идешь на соглашение
с самим дьяволом.
Но соглашение соглашению рознь. Представьте себе, что Мар-
гарита вступила в сговор с Шариковым, чтобы выкинуть профессо-
ра Преображенского из его квартиры и поселиться там вместе с
мастером. Нонсенс! А почему? Потому что — мерзость. Ибо такой
сговор есть соучастие с той мелкой дьявольщиной, что как раз и яв-
ляется источником всякого зла, такое соучастие было бы примире-
нием Булгакова как писателя с тем, что он органически не прини-
мал на протяжении всей его жизни, что было главным объектом его
беспощадной и справедливой художественной критики. Это соуча-
стие уничтожило бы Булгакова как писателя.
Но Булгаков не соучаствует и в делах Воланда. Он только их по-
нимает. Он понимает неизбежность удара этой обратной волны и
ее известную оправданность. А оправданность ее в том, что тут слы-
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
147
шен не голос доносчика Майгеля, а сверхчеловеческий грохот исто-
рии. Это землетрясение вызвано подземными силами, и они выше
ограниченного человеческого рассудка — вот что ясно писателю. А
истории читать мораль глупо. Она вам может нравиться или нет, но
с этими вулканическими силами вы совладать не в состоянии. Ве-
личественность их не только в грандиозности зла, превышающего
все человеческие представления, но еще и в той их странной спра-
ведливости, которая тоже не укладывается в нормы человеческой
рассудочной морали.
Что из этого следует?
Булгаков не становится поклонником иррационального амора-
лизма, который покорил сердца западной и не только западной ин-
теллигенции, начиная с Ницше и его проповеди. Нет у него распут-
ного заигрывания со злом, ибо никакая червоточинка в человечес-
кой душе не находит у него тайного любования. Совсем напротив,
к тайным подлостям современных нарциссов, скрывающих выгреб-
ную яму под внешней респектабельностью стиля жизни и поведе-
ния, Булгаков непримирим так же, как Толстой, Чехов или Достоев-
ский. В этом, самом глубоком и истинном смысле слова, Булгаков —
писатель высочайшей нравственной силы, он не сделал ни одной,
даже самой малейшей, уступки тому явному или тайному сатаниз-
му, что разъедает современное сознание.
«И вот откуда некоторый удивительный союз Мастера и Марга-
риты со злом. Это зло историческое, в большом масштабе, поддаю-
щееся изображению. Зло, опрокидывающее мелкое злишко. Лучше
служить Князю Тьмы, чем мелким бесикам (?) дневного мира. Это
источник образования всех монархий. Простые люди приобретают
покровительство Воланда, над мелким паразитом нависает его воля
как божья кара. И так же думает художник, красавица-ведьма и
вольнодумцы»1.
Да, вольнодумцы и просветители, убежденные демократы, про-
тивники всякого насилия, в том числе и насилия со стороны низов,
народа—думали так же, и искали союза с такими тиранами, как
Фридрих Великий или Екатерина II. Они ошибались и затем призна-
ли свои ошибки, как Вольтер по отношению к Фридриху, а Дидро —
1 Лифшиц Мих. Архив, папка № 244 «Булгаков 2». С. 6.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
148
по отношению к Екатерине. Просвещенной тирания быть не может.
Это понял вслед за ними и Гегель, но не осудил ошибки, а нашел в
ней то, что было поистине верно — иная тирания служит железным
обручем, который не позволяет обществу исчезнуть в анархии мел-
ких мерзавцев «дневного мира».
Но тот ли это случай, когда монархия до известной степени исто-
рически оправдана? Вот в чем основное расхождение между Булгако-
вым и Солженицыным. И надо заметить, что в этом пункте Солже-
ницын гораздо ближе к поклоннику «социалистической демократии»
Лакшину, чем к консервативному писателю Булгакову, противнику
революции и стороннику эволюционного процесса. Ведь и для Лак-
шина, как и для Солженицына, сталинщина есть синоним абсолют-
ного зла, не имеющего никакого исторического оправдания, черная
яма истории.
Иначе воспринимал современные ему события Булгаков. Он
никогда не стал бы сотрудником НКВД, к чему был внутренне готов,
по собственному признанию, Солженицын в 30-е годы. Он многое
знал о чудовищных репрессиях и не пребывал в состоянии инфан-
тильной радости жизни, как Лакшин в 50-е—также по собственно-
му признанию критика. Он никогда бы не смог стать мастером «со-
циалистического реализма» в духе А.Толстого. Его пьеса «Батум»—
так по-человечески понятная ошибка, за которую он себя казнил.
И важно не то, что он эту пьесу написал, важно то, что она оказалась
не ко двору—не было в ней счастья сознательного неведения, неже-
лания знать о том, что в общем-то уже знали все, даже самые дале-
кие от политики и литературы люди.
Булгаков не смог стать сталинским царедворцем, даже если бы
очень этого захотел—жест у него был не тот. И этот невольный жест,
сказавшийся даже в пьесе «Батум», выдавал его с головой. А если бы
стал придворным писателем, то перестал бы быть Булгаковым.
Но в отличие от Солженицына и Лакшина Булгаков увидел, что в
мире произошел такой удивительный переворот, такой разлом текто-
нический, что в щель его стало далеко видно — гораздо дальше, чем
позволял «игрушечный рационализм» 20-х годов. О котором, кстати,
Булгаков вспоминает не без ностальгии, ибо это маленькое и смешное
бытие было все же человеческим миром, в котором жить можно было
если не комфортно, то все же не без некоторого человеческого тепла.
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
149
А в годы тридцатые разверзлись хляби небесные и грянул гром
господень — точнее, явился сатана, как его бич. Страшно жить в
такие годы, много крови и грязи они с собой несут. Никому нельзя
пожелать жить в годы больших перемен, как говорили древние ки-
тайцы. Но по странной логике истории в некоторые из таких пери-
одов социальных катастроф проясняется исторический горизонт и
становится дальше видно. Подчеркиваем, в некоторые, далеко не
все, ибо бывает и так, что социальные катастрофы несут с собой
абсолютное замыкание горизонта, и кажется, что его вообще нет, а
история исчезла, остановилась, застыла.
Иное у Булгакова—у него именно в тридцатые годы появилась
«перспектива неядовитая, можно сказать,уже историческая»’. Ведь
история — это не собрание фактов, а именно верная перспектива,
благодаря которой факты получают значение истины.
Именно в этой перспективе увидена древняя история Христа.
Солженицын утверждает, что в романе Булгакова Христос «уни-
жен». Это действительно так, но только унижен он не писателем, а
обстоятельствами, в которых оказался. Вернее, неподчинением об-
щепринятому образу жизни. Иешуа пророчествует перед народом,
что рухнет Храм старой веры, и возвысится Храм веры новой. Кай-
фа убежден, что это — более серьезное преступление, чем призыв к
вооруженному бунту. Почему же?
«Поведение Иешуа вовсе не жертвенно, оно только нелепо. Он не
хочет пожертвовать собой, он верит, наивно верит в то, что сумеет
разговорить людей».2 Это ему не удается — народ равнодушен к его
казни. Подстрекатель к бунту мог бы иметь больший успех. Почему же
Кайфа непримирим именно к Иешуа, нелепому бедному философу?
Если бы первосвященник угадал, что перед ним — Бог, Мессия,
он должен был, кажется, пасть перед ним на колени. Нет, не сверх-
человеческое могущество Иешуа заставило Кайфу отправить его на
Голгофу. Тем более что никаких признаков подобного могущества
ни он, ни Пилат у странствующего проповедника не обнаружили.
Чудес он не совершал, Солнца не останавливал. Так чем же поразил
странствующий философ или врач Понтия Пилата?
’ Там же. С. 4.
2 Там же. С. 3.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос.
150
«Прокуратор, обладающий громадным жизненным опытом, в
котором сквозь головную боль брезжит какая-то сверхистина, что-
то абсолютное, на грани веры и неверия, вдруг чувствует в этом
странном, детски наивном оборванце присутствие силы, приоритет
силы более могущественной, хотя и странным образом бессильной,
чем все здание Римской империи и теократического иудейского го-
сударства. Загадка этой силы и этого бессилия — тема романа».’
Иешуа проповедует, что все люди—добрые. Для Понтия Пила-
та и других, умудренных опытом людей, это — очевидная нелепость,
ибо ей противоречат все известные факты. Однако Иешуа облада-
ет способностью убеждать, иначе почему Кайфа так боится его про-
поведей?
В чем же загадка убеждающей силы его слова? Кайфа и Пилат
пользуются в сравнении с Иешуа всеми преимуществами господ-
ствующей власти, в том числе силой предрассудков, под властью
которых находится толпа. Если слова Каифы убедительны для масс,
то только потому что за ними — авторитет господствующей силы.
Что это реально означает? Не только то, что своим словом Кайфа
может отправить на казнь. Дело еще в том, что несогласие со слова-
ми и идеями Каифы—явное или тайное, несогласие только в ду-
ше — обрекает человека на роль презренного изгоя, маргинала, аут-
сайдера. Он будет смешным или презираемым в глазах других.
Образ гонимого и непонятого гения — популярная тема литера-
туры конца XIX, XX веков. Чаще всего в такой роли выступает худож-
ник, например Ван Гог. Но почему Ван Гог — гений? Если верить
популистским мифам, распространяемым современными масс-ме-
диа, то источник гениальности — иррационален. Гений — чудови-
ще, или, во всяком случае, сила его лежит в каком-то таком измере-
нии, что недоступно разуму. И самое главное, пожалуй, состоит в
том, что обладает способностью к насилию. Но в отличие от Джеймса
Бонда и героев Шварценеггера это насилие — интеллектуальное.
Это способность к какому-то роду массового гипноза, которая, прав-
да, обнаруживается не сразу. Искусство Ван Гога или других гени-
альных художников в истолковании современной массовой культу-
ры — это способность властвовать над головами и чувствами лю-
1 Там же.
Бог и сатана
(Иешуа и Воланд)
151
дей. Причем источник этой власти—чудо, нечто иррациональное,
скорее злое, демоническое, чем доброе начало. Таким же предста-
ет и Ленин в изображении современных историков. Он — носитель
сверхчеловеческой воли.
Иешуа в изображении Булгакова подчеркнуто слаб. Не только
физически. Он слаб прежде всего потому, что не опирается на силу—
ни на силу римских или еще каких-либо легионов, ни на силу мани-
пулирующей идеологии, если говорить современным языком, то есть
силу того или иного иррационального воздействия на психику. К
последней прибегает любой демагог, включая, разумеется, и Кайфу.
В романе Булгакова мы не слышим проповедей Иешуа. Мы не
знаем, о чем он собирался поговорить с Крысобоем. Мы видим толь-
ко, что в эпизоде с Пилатом Иешуа демонстрирует редкую, почти
чудесную способность к пониманию других людей, их физического
и духовного состояния. Но сама по себе эта способность недостаточ-
на для того, чтобы перевернуть мир Каифы и Пилата, — это способ-
ность врача, исцеляющего частные болезни частных людей, но не
пороки мира.
Если бы Булгаков просто внушал своим читателям, что Иешуа
обладает способностью убеждения, но не доказал бы этого силой
художественного изображения, то мы, говоря по правде, имели бы
полное право ему не верить. Однако великая истина, содержащая-
ся в проповеди Иешуа, изображена в романе.
Мы не слышим алое Иешуа, но мы видим их содержание. В чем?
В действиях сатаны. Это парадокс, но парадокс реальный. Там, где
властвует Кайфа и Понтий Пилат, рано или поздно ждите удара об-
ратной волны, удара, превосходящего все силы человеческого разу-
мения и разумного контроля, и все же доступного некоторому по-
ниманию.
Истина, конечно, не новая, отраженная в разных максимах и
народных поговорках типа: бог правду видит, да не скоро скажет.
Однако никакого автоматизма в действиях этой обратной силы
нет, как нет и неотвратимости наказания именно вот для этого кон-
кретного виновника и преступника. Кайфа благополучно, наверное,
прожил до конца своих долгих дней. Так же благополучно прожили
и многие из берлиозов. Но если бы каждый негодяй немедленно
получал по заслугам, то негодяи давно бы все стали праведниками —
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
152
ведь на прохвоста воздействует прежде всего, как писал Н. Щедрин,
страх телесного наказания, и они всегда становятся на сторону бо-
лее сильного.
На стороне Иешуа совсем другая сила. Не месть Князи тьмы, а
то, что на языке классической философии именуется объективной
истиной. Она была на протяжении большей части человеческой
истории бесконечно слаба, и мало кого могла убедить, не могла су-
щественно повлиять на ход реальных событий. Иначе говоря, она не
обладала убедительностью реальной, очевидной и эффективной
альтернативы.
В то же время идеальное содержание мира — не пустой миф. В
иные периоды это содержание обнаруживается через обратное, че-
рез действия, условно говоря, Князя тьмы. Но бывают и такие, пусть
редкие и краткие моменты, когда это идеальное выступает в своем
собственном обличье — это моменты истины. Одним из них стал
неожиданный и совершенно фантастический с точки зрения всевоз-
можных кайф успех христианства, разрушивший императорский
Рим. Успех, которого, с точки зрения Берлиоза и «бернаров», просто
не было, ибо они верят—и эта вера подтверждена всем опытом их
жизни — только в силу. Если христианство и победило, то не силой
идеи, а благодаря силе, например силе классового интереса, искус-
но загримированного под объективную истину.
«Бернарство» по-своему тоже оправдано. Оно явилось реакцией
на проповедь, согласно которой истина торжествует в этом мире, а
зло является лишь досадным грехопадением, за которым следует обя-
зательное и адекватное возмездие, если не в этом, то в другом, транс-
цендентном мире. Опыт многих поколений доказал, что это не так.
Более того, благородная в своих истоках идея об обязательном тор-
жестве добра и его абсолютном господстве тоже может стать идео-
логией, причем идеологией господствующих, подавляющих классов.
Другими словами, соотношение идеального и реального, исти-
ны и заблуждения, добра и зла нельзя понимать абстрактно, дере-
вянно. Эти отношения—вечная драма человеческой истории. Веч-
ная, но не бессмысленная и скучная в повторении и круговороте.
Спор Иешуа и Понтия Пилата, если верить Булгакову, продолжает-
ся и на небесах. Абсолютное, раз навсегда данное решение невоз-
можно, но тем не менее спорящие стороны все же имеют шанс до-
153
говориться. Ибо в мире, по мнению Мих. Лифшица, которое он обо-
сновывает в своей Онтогносеологии, нет и не может быть оконча-
тельной победы разумного начала, но есть все же слабое преоблада-
ние добра.
«Надо сказать,—подытоживает Мих. Лифшиц смысл романа Бул-
гакова, как он его понимает, — что и приведенная схема — борьба
добра и зла, /.../ что все это тоже нельзя принимать в прямом или
наивном смысле. Это традиционная рамка, в которую писатель так
же не верит, как не верит и в атеизм Ивана Бездомного.
Символы чего? Только того, что история во всей ее пестроте,
невразумительности, парадоксальности продолжается.
Я сам бы мог порассказать новелл, которые /заставляют подо-
зревать/, а не рассказал ли /их/ Кафка?»'.
В «Мастере и Маргарите» действует Князь тьмы, с которым со-
трудничает Маргарита ради того, чтобы ей вернули ее возлюбленно-
го. Другой опоры она не находит—и найти не может в предлагаемых
обстоятельствах. Но роман Булгакова странным образом убеждает
в том, что мир, несмотря на то что в нем много фантастического,
злого, иррационального, — не «сказка, рассказанная идиотом, пол-
ная шума и ярости и не значащая ничего».
Дом Иешуа
Правы и Лакшин, и Лотман, и все те, кто видит оче-
видное, —до конца дней Булгаков сохранял воспоминание о безмя-
тежном счастье за «кремовыми шторами» дома Турбиных. Возвра-
щение в этот дом для него, вероятно, было такой же мечтой, как
ласка матери, — мечтой пленительной, но детски-наивной и несбы-
точной. Ибо возвращение в детство было бы ребячеством потерпев-
шего поражение человека, ничему не научившегося на опыте жиз-
ни своего народа и ничего не простившего.
За окнами дома Турбиных—мрак, воет ветер и метель, слышны
выстрелы приближающихся врагов — большевиков, несущих что-то
новое, неизвестное и погибельное. Самого врага мы не видим, мы
1 Там же. С. 6.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
154
слышим только из уст одного из героев, что это бывший мужичок-
богоносец Достоевского. Непродуманный социальный эксперимент
превращает темную, дремлющую силу в чудовищных анаконд, в
безумной ярости уничтожающих все на своем пути. В последующих
произведениях Булгакова зло приобретает все более и более конк-
ретные очертания. Оно заявляет в лице Шарикова о своих правах,
выстраивает цепь аргументов в свою защиту, перед которыми пасу-
ет профессор Преображенский. Шариковщина — это болезнь дома
профессора Преображенского.
И вот последний роман, дело жизни писателя. Зло — не случай-
ная ошибка, не продукт эксперимента, оно так же вечно, как этот
мир. И самая большая ошибка — судить о добре и зле поверхност-
но, абстрактно, выносить ему приговор со своей абсолютной, мора-
лизирующей позиции.
Это не всепрощенчество, а понимание того, как зло само рожда-
ет наказание себе — так же неизбежно, как Земля совершает свой
круг. При этом умыть руки и не участвовать в вечной истории—тру-
сость, самый непростительный из всех пороков. Пусть нет сегодня
альтернативы преступлению и злобе, пусть Князь тьмы выступает
как божья кара—добро и истина тоже имеют свои права, и после-
днее слово остается за ними. Добро и истина — не жажда мести,
опирающаяся на насилие, а способность разговорить тот мир, что
существует за стенами твоего дома — мира бесконечно богатого,
сложного, удивительного, греховного и прекрасного. Самая боль-
шая глупость и источник преступлений — самодовольство полузнай-
ки, ослепленного мнимым благополучием своего дома, благополу-
чием, основанным на нежелании знать и понимать то, что происхо-
дит за его пределами. Ибо только в происходящем за пределами
частной жизни можно найти успокоение—не позорное блаженство
глупца, который к необыкновенным явлениям не привык и потому
перехитрил самого себя, — а покой того, кому довелось стать цент-
ром и одновременно частью бесконечного целого, потухающего и
снова возгорающегося, источника страданий и счастья, смысла и
бессмыслицы, вечного и преходящего.
А то «внутреннее, замкнутое пространство, носитель значений
безопасности», о котором пишет Ю.М. Лотман,—Дом ли это Булга-
кова? И может ли «замкнутое пространство», в котором пытаются
Дом Иешуа
155
спрятаться от мира реального — опасного и притягивающего своей
парадоксальностью и неисчерпаемостью, — быть синонимом куль-
туры, творчества и гармонии? Может, если культуру и творчество бу-
дем понимать так, как их понимал один из героев Булгакова, кото-
рый бессознательно боялся бытия за пределами своего «дома», отгора-
живался от него искусственными конструкциями своего рассудка—
и потому, по словам Воланда, бесследно исчез из бытия.
И все-таки Булгаков не обрел своего дома, если понимать под
ним пространство, где может быть счастлив человек. Он, конечно,
был несчастлив.
Однако предпочли ли бы мы несчастному и бездомному Булга-
кову счастливого современного Берлиоза, даже отстроившего себе
отдельный и хорошо охраняемый особняк?
Это один из тех вопросов, на которые не то что не могут ответить
структурализм со своими оппозициями или постмодернизм, — по-
добные вопросы просто не существуют для них.
В то же время постмодернизм более близок к непосредственной
реальности, чем, например, Булгаков. К той ситуации либерально-
го конца истории, когда не только Иешуа, но и Князь тьмы были
сданы в архив, существовали в лучшем случае как симулякры. Если
последние, подобно Сократу, пытались отличать себя от своей про-
тивоположности с помощью категории и практики отрицания, то
успешные деятели культуры, политики и обыденной жизни, соглас-
но Делезу, знали только отличия. Берлиоз, вне всякого сомнения,
отличается не только от Иешуа, но и от Понтия Пилата, способного
к диалогу со странным проповедником. Но если художественный
центр романа Булгакова—доказательство того, что разница между
первым и вторыми—не сводится к простому различию, что отноше-
ния между ними тогда, когда побеждают берлиозы, с неизбежнос-
тью рождают удар молнии и пришествие Князя тьмы, то для пост-
модернизма все персонажи современной драмы — всего лишь раз-
личия и не более того. Удара молнии не будет. Кровь по-прежнему
проливается, но нет и не может быть более поэтической справедли-
вости.
События и сентября 2001 года в Америке — грозное напомина-
ние о том, что гегелевский разум истории, действующий подобно
ударам бича божия, еще не сдан в архив. К сожалению, ответ миро-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
156
вого цивилизованного сообщества на действия террористов был
именно таким, какого от него можно было ожидать. На насилие от-
ветили насилием. А как иначе?
По общему признанию, современный терроризм растет на основе
ужасающей бедности подавляющей части населения Земли, не принад-
лежащей к золотому миллиарду человечества. Это не совсем точно.
Чтобы Акакий Акакиевич из робкого чиновника превратился в фанта-
стическую и демоническую силу, его надо было довести до последней
степени человечёскогоунпжения. Бедность он мог бы еще стерпеть.
Последующие события мировой истории, особенно истории XX ве-
ка, показали, что оскорбленные и униженные, как это предвидел До-
стоевский, рождают из себя адскую силу бескорыстного зла, зла ради
зла человека из подполья. Это зло питается ненавистью ко всему, что
выше униженного плебейства, и прежде всего — к образованию,
таланту. Ненависть растет пропорционально зависти к тому, что
могли бы без труда потреблять эти растоптанные люди, не способ-
ные уже, как Шариков, стать людьми, — к тому, что условно можно
назвать квартирой профессора, но что включает в себя многообраз-
ные блага и комфорт современного постиндустриального общества,
включая в него и массовую культуру. Эта зависть, вырастающая из
ненависти, есть в то же время зависть, принимающая форму нена-
висти. Искренность ненависти религиозного фанатизма ко всему за-
падному не подлежит сомнению, так же, как и глубоко скрытый за
ним источник—зависть. Зависть — источник ненависти плебейства
и люмпенства к образованию, науке, цивилизации в целом, не един-
ственный, но весьма существенный. Повесть «Собачье сердце» слу-
жит замечательной иллюстрацией этого тезиса.
Но творчество Булгакова не сводится к иллюстрациям баналь-
ных или общепонятных истин. Оно опровергает поверхностные вы-
воды, которые можно сделать исходя из внешнего сюжета булгаков-
ской сатиры и фантастики. Мировая болезнь шариковщины не ле-
чится скальпелем хирурга. В частности, потому что один из важных
источников этой болезни — в самом скальпеле, вернее, в «бернаров-
щине» современных точных и гуманитарных наук. «Бернарство» и
его завершение — постмодернизм — сводится к известной максиме
всякого нигилизма: если истины нет, значит, все позволено. Клас-
сическим представителем этой философии в России конца XIX века
Дом Иешуа
157
был, согласно Салтыкову-Щедрину, «чумазый»—Колупаев и Разува-
ев. «По всей веселой Руси, от Мещанских до Кунавина включитель-
но, раздается один клич: идет чумазый! Идет, и на вопрос: что есть
истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и навынос!
Присутствуя при этих шумных предвкушениях будущего распи-
вочного торжества, пропащие люди жмутся и ждут... Они понима-
ют, что «чумазый» придет совсем не для того, чтобы «новое слово»
сказать, а для того единственно, чтоб показать, где раки зимуют.
Они знают также, что именно на них-то он прежде всего и обрушит-
ся, дабы впоследствии уже без помехи производить опыты упрощен-
ного кровопивства; но неотразимость факта до того ясна, что им
даже на мысль не приходит обороняться от него. Придет «чумазый»,
придет с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несытой утро-
бой— придет и слопает! Только и всего».1
Писатель ошибался — именно сопротивление приходу «чумазо-
го», породившее две русские революции «снизу» и одну революцию
«сверху» (начала тридцатых годов) после почти семидесяти пяти лет
советской власти создало почву для беспрецедентной в мировой
истории экономической, политической и идеологической власти но-
вого «чумазого», точнее, «нового русского». Он победил не только
опираясь на силу, а прежде всего морально и, как это ни странно
звучит, интеллектуально. На вопрос «что есть истина?» либеральная
идеология ельцинского времени отвечала совершенно в духе героя
Салтыкова-Щедрина—«распивочно и на вынос!». Что в переводе на
язык современной политологии и постмодернизма означает: сам
вопрос об истине лишен смысла, более того, этот вопрос ведет в
дебри метафизики и классической философии, несущих ответствен-
ность за тоталитаризм. Россию от мрачного наследия последнего—
согласно распространенной либеральной логике — может спасти
только власть «новых русских». И чем более «чумазой», беспринцип-
ной и жестокой она будет, тем скорее и прочнее мы вернемся в ту
историю, что была преступно прервана большевиками—историю
цивилизации, то есть современного капитализма. Правда, время от
времени сами либеральные политологи, спокойно рассуждающие о
1 Убежище Монрепо // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.
, в 10 т., Т 6. М., 1988. С. 427.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
158
том, что осуществляющиеся ныне в России реформы самым ради-
кальным образом сокращают численность населения страны, как бы
спохватившись, восклицают: «Этот дискурс напоминает разговор
людоедов!» Но иного, увы, не дано, заключают они. Власти «чума-
зого» нет альтернативы. Нет не только в экономической и полити-
ческой, но и в духовной сфере. Вопрос об истине должен быть про-
сто вынесен за скобки, как неправомерный и провокационный. Для
Шарикова — истина это то, что для него полезно, а ложь это то, что
ему вредно.
Для того чтобы Иван Бездомный смог найти себя и своего учи-
теля, он должен был отделить себя от шариковых, отделить не внеш-
не, а совлечь Шарикова с самого себя. Обрести дом, но не на правах
слуги, верной собаки, а на правах равного — возможного преемни-
ка. А писатель — впустить его в свой дом, ибо в нем места достаточ-
но для всех. Это не дом Турбиных. Это дом странствующего, бездом-
ного проповедника Иешуа. Вернее, Храм, который он пытается со-
здать на месте старой рухнувшей, пережившей себя веры, когда-то
бывшей правдой.
Храм Иешуа открыт для всех людей без различия национально-
стей или служебного положения. Ибо все люди—добрые. Вернее,
могут стать добрыми, если их «разговорить», как это делал Иешуа. Но
ведь для такого разговора нужны особые условия. Кого мог разгово-
рить несчастный проповедник, умирая от жажды и боли на кресте?
Иван Бездомный должен был пережить много необыкновенных со-
бытий, чтобы ему открылась правда мастера. Да и вся ли правда от-
крылась ему, ставшему профессором Поныревым? Профессор забыл
все, что с ним происходило. Как Шариков у ног своего бога, которо-
му о прошлых необыкновенных событиях напоминала только боль
в голове в плохую погоду. Нет, чтобы вернуться в мир человеческой
культуры, чтобы вступить в Храм Иешуа, недостаточно стать про-
фессором истории. Надо еще сохранить память — или обрести ее.
Память достается только тому, кто сам стал богом. Кто повторил
его крестный путь. Стать богом—это значит обрести в себе весь мир,
утратив свои частные амбиции. Стать бездомным, как Иешуа? Да,
но не превратиться при этом в Ивана Бездомного, который кичит-
ся своей нищетой и носит ее как знамя. Надо создать такой общий
дом или храм, который бы предполагал и наличие своего частного
Дом Иешуа
159
жилища, достаточно комфортабельного для того, чтобы можно было
в нем вести человеческую жизнь, свободно думать и творить.
Но попытка создания такого общего дома породила анаконд? И
это тоже верно. Как верно и то, что эта попытка создала возмож-
ность— пусть и в отдаленном будущем — союза мастера и Ивана
Бездомного. Союза на равных основаниях и правах вместо прежне-
го единства противоположностей—бога-хозяина и верной ему соба-
ки-слуги. Перспективы такого будущего союза писатель Булгаков
усматривает не из чтения переписки Энгельса с Каутским, а из все-
мирной истории. Победителем в ней в конечном итоге оказался че-
ловек, впервые протянувший руку всем — и Понтию Пилату, и Кры-
собою, и Левию Матвею. Поэтому он погиб. Поэтому он победил.
Протянуть руку—это значит разглядеть среди тех, кто представ-
ляется анакондами, будущих возможных учеников и преемников. И
увидеть среди социально близких себе «культурных» людей препят-
ствие для такого будущего союза. Вернее, разглядеть в той «культу-
ре», которой они бахвалятся, —дыхание пустыни. И отрешиться от
старого доброго союза хозяина и слуги. И избавиться от чудовищ-
ной спеси поднявшихся из грязи для того, чтобы попирать ногами
профессоров и их культуру. Одним словом — вобрать в себя всю
полноту истины, которую не вместить ни в один учебник и ни в одну
книгу. Даже самую великую и священную — написанную, однако,
Левием Матвеем, который многое в ней напутал. Ибо полнота исти-
ны оставляет место и для других книг. В том числе и для переписки
Энгельса с Каутским, которую профессор капризно бросает в огонь,
не думая о том, какой он подает пример пристально наблюдающе-
му его Шарикову.
Боялся ли Булгаков масс? Да, боялся. И этот страх делал его кон-
серватором. Разрушат Дом? Но дом Булгакова с самого начала от-
личался от дома Турбиных. Главное, что привлекает в последнем —
островок человеческой порядочности, непосредственности, тепло-
ты бескорыстных отношений. Что им угрожало? Темная стихия за
его стенами. Предательство члена семейства. Петлюра, немцы — все
это очень абстрактно. Предательство главарей. В пьесе «Дни Турби-
ных» Булгаков в объяснении событий еще близок тому уровню по-
нимания истории, который обнаружился в либеральной идеологии
перестройки и Солженицына—автора «Красного колеса».
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
160
Но Дом Турбиных разрушен—начался «квартирный вопрос». Кто
в будущем доме Булгакова? Понтий Пилат, Иван. В конечном итоге —
все люди, в том числе и те, кому в доме Турбиных отводилась лишь роль
слуги, верного пса. Булгаков перестал бояться восставших масс имен-
но тогда, когда это восстание в СССР приняло самые ужасные фор-
мы. Перестал бояться не потому, что не замечал этих ужасных форм,
был ослеплен, ничего не знал. Он понял это зло — вот в чем дело.
В восстании масс может быть самое страшное — это Берлиоз.
Хотя не будем демонизировать эту пустую фигуру. Берлиоз—актив-
но действующая пустота, Ничто. То Ничто, что было демонизирова-
но Хайдеггером. Бытие, которое молчит. А для Булгакова—это еще
не все бытие. Не вся сущность, поэтому и нет мертвящего, «спокой-
ного» ужаса, за которым белая пустота.
Потянув за ниточку—начиная с Василия Ивановича, через парочку
Шариков—Преображенский, затем Берлиоз—Бездомный, Булгаков
вышел к своему Иешуа. Поразительно живая история вместо мерт-
вой веры, вместо проклятого бога постмодернизма и его обратной
стороны — кровавой иррациональности. Фантастическая проза Бул-
гакова — противоположность иррационализму и мистике (если под
последней понимать апологию бессмысленности бытия). Фрагмен-
тарное повествование, осколки бытия складываются в целое. Прав-
да, ни одна из нарисованных Булгаковым фигур не способна к само-
движению, развитию. Если бы не сатана, все осталось бы на своих
местах—всесильный Берлиоз, ведущий на поводу Бездомного. Пу-
сто и безнадежно. Шквал приоткрывает завесу вечной истории. Так
было, так будет. Не хуже, чем раньше. Но и не лучше. Благодаря
шквалу 30-х годов Булгаков вошел в Дом всемирной истории.
«Узоры, которые лепит время...»
«Мастер и Маргарита»—завершение творчества пи-
сателя, придающее ему целостность и стройность классической по-
стройки. В узорах, которые вылепило время, проглядывает удиви-
тельная логика. Надо признать, что постмодернистская литератур-
ная критика в лице, например, Поля де Мана находит логический
рисунок в классической прозе. Но для постмодернизма этот рису-
Узоры, которые лепит время...
l6l
нок — прямая противоположность тому, что Белинский называл
«диктатом действительности». Что же проявляется, согласно Полю
де Ману, в искусстве вообще и классическом искусстве в частности?
Профессор Йельского университета Поль де Ман — известный и
авторитетный последователь Хайдеггера, Бланшо, Деррида, вопло-
тивший их философские принципы в метод литературной критики,
«Новую критику» — ведущую школу англо-американского литерату-
роведения1.
Поль де Ман обнаруживает в произведениях классической лите-
ратуры их скрытое содержание, далекое от рациональности, а имен-
но философию деконструкции Жака Деррида, с присущим последней
принципом «дополнительности» (см. об этом принципе последнюю
главу). Анализируя знаменитый роман Руссо «Юлия, или Новая Эло-
иза», де Ман пишет: «Весь космос—неистощимый запас символов
дополнительности. Но полярности, проистекающие из иллюзорной
полноты, приведут к постоянно усиливающимся диссонансам и про-
изведут совсем иную историю. Первые три книги «Юлии»—типич-
ная версия такой истории. Они включают все постижимые конфигу-
рации первоначальных противопоставлений, переплетенных в образ-
цах, которым не позволено устояться, ибо когда бы ни производилась
подстановка, обнаруживается порожденное избытком или недостат-
ком новое неравновесие, требующее новых замещений»1 2.
Итак, согласно де Ману, все постижимые конфигурации перво-
начальных противоположностей не остаются неподвижными, ибо в
результате подтасовки возникает новое неравновесие, поскольку
связи, сводящие воедино полярности, на самом деле слабы. Всякое
единство для постмодернизма—логоцентрично, ибо основано на
диалектике различий и тождеств. Деррида заменяет понятия единства
и границы — понятием дополнительности, а Делез — различием,
которое больше уже не различает. «Все тождества, — утверждает
Делез,—только симулированы, возникая как оптический “эффект”
более глубокой игры — игры различия и повторения»3, которая, до-
1 См. Никитин С. Послесловие переводчика // Поль де Ман.
, Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999. С. 362.
2Поль де Ман. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999. С. 253.
3 Делез Жиль. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 9.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
1б2
бавим от себя, есть «ни то, ни се» Деррида (см. последнюю главу на-
стоящей книги). Согласно этой логике всякая определенность в ис-
кусстве — рисунок в живописи, фабула в литературе — растворяет-
ся в различиях, не имеющих в основе своей ничего тождественного.
Вместо диалектики—перерастания торжеств в различия и различий в
тождества—«разворачивается игра сложных и отнюдь не уравнове-
шенных обменов»1. Художественное произведение теряет четкость,
становится размытым, перестает быть изображением: «Удобочита-
емость первой части (“Юлии, или Новой Элоизы”.—В. А) наруше-
на еще более радикальной неопределенностью, отбрасывающей
свою тень и назад, и вперед, и на весь текст. Деконструкция фигу-
ральных текстов порождает прозрачные повествования, которые, в
свою очередь и, как говорится, на свой собственный лад сгущают
тьму, более грозную, чем заблуждение, которое они рассеивают»2.
Поль де Ман превращает текст Руссо в некое подобие постмодер-
низма, достигая в конечном итоге того, что сам именует «система-
тической отменой понимания»3. Постмодернистская логика пересе-
кается в одном, исключительно важном пункте с художественной
логикой Михаила Булгакова, ибо обе эти логики отрицают метафи-
зический логоцентризм с его «железной предопределенностью»,
приводящей в конце концов к бессмыслице абсолютного результа-
та—конца истории и искусства в философской системе Гегеля. Но
если постмодернизм отказывается от конечного результата ценой
отказа от всякой, по сути, определенности, то открытость художе-
ственного мира Булгакова, наоборот, возникает на основе сохране-
ния различий, тождеств в их реальной взаимосвязи.
Поль де Ман видит открытость своей логики в том, что «... под-
становки не могут идти в одном-единственном направлении...»,
«...они должны перемещать свойства как с Сен-Пре на Юлию, так и
в противоположном направлении»4. Несмотря на интеллектуальные
тонкости всякого рода и незаурядную эрудицию, вся эта логическая
игра сводится к простейшему противоречию по типу—иди туда и
1 Поль де Ман. Соч. цит. С. 254.
2 Там же. С. 257.
3 Там же. С. 357.
4 Там же. С. 254.
Узоры, которые лепит время...»
163
стой здесь, заводящему в тупик и совершенно бесплодному (о чем
подробно — в главе о Деррида настоящей книги).
Перемещения свойств персонажей Булгакова от одного к друго-
му при всей своей свободе подчиняются иной логике, они возника-
ют благодаря, говоря словам Вельфлина, «царственно уверенному
руководству линии»1, очерчивающей его образы, которая теряет аб-
страктность ранних очерков и фельетонов.
Наряду с логикой «крайности сходятся» у Булгакова есть и дру-
гая—тождество истинных противоположностей, противостоящих
ложным2. Суть его художественного мира—отличие истинных про-
тивоположностей от ложных.
1 Велъфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.,
2002. С. 22.
2 Единство противоположных миров — высокого и низкого,
земного и надмирного — характерная особенность твор-
чества Булгакова, как подчеркивают и Яблоков Е.А., и Хи-
мич В.В. Напротив, пишет Яблоков, «в творчестве Маяков-
ского отношения между «мистериальным» и «буффонад-
ным»— не синтез: две «субстанции» не образуют здесь
неразделимой смеси» (Яблоков Е.А. Соч. цит. С. ю). Тогда,
как подчеркивает в свою очередь Химич, «булгаковский
реализм связывал диалогической связью Хаос повседнев-
ности и естественную гармоническую стихию вечности»
(Химич В.В. Соч. цит. С. 225). Правда, эта диалогическая
связь у Булгакова представляется автору цитированных
строк в духе бахтинского карнавала, «обручившего сак-
ральное с профанным, высокое с низким, трагическое с
комическим» (там же. С. 228). В соответствии с бахтинской
* > логикой Булгаков соединяет «обыденное существование»,
‘ «приватного человека»—с вечным, «собственным разумом
Вселенной», и этот разум имеет «глубоко гуманистический
характер». Однако, как мне представляется, «приватное
существование» Берлиоза, поэта Рюхина или буфетчика
из Варьете не образует гармонической и естественной
связи с разумом Вселенной, а находится в том отношении
кричащего диссонанса с идеальной стороной бытия, кото-
рый и порождает «иронию истории», «удар обратной вол-
ны» —одним словом, делает неизбежным приход01'0"™""-0164
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
1б4
Двум парам ложного тождества (профессор Преображенский—Ша-
риков, Берлиоз — Иван Бездомный) противостоят истинные проти-
воположности: мастер — Иван Бездомный, Иешуа —люди, которых
он пытается разговорить, в том числе Понтий Пилат. Когда вместо
ложных тождеств в мире побеждают тождества «симфонические»,
возникает классика — в искусстве и жизни. Классика — абсолют,
достигнутое совершенство, центр мира, момент вечности, который
тоже реален, причем не менее чем текучесть и изменчивость (см.
рассуждения Платона о покое и движении в главе о Деррида). Вот
откуда атмосфера аристофановской веселости и в «Собачьем серд-
це» и, особенно, в самом трагическом произведении Булгакова «Ма-
стере и Маргарите» — романе о романтической любви.
«Мастер и Маргарита» — роман о счастливой любви1. Природа,
воплощенная в Маргарите Булгакова, не только отвечает ему и рас-
крывается перед ним как прекрасный и благоухающий цветок, но
и сражается за мастера. Это природа понимающая, а не слепая, т.е.
природа очеловеченная. Маргарита любит мастера не за то, что он
написал гениальный роман, ибо любовь — всегда дар, который не-
льзя вырвать у природы насилием, а счастье, вспыхнувшее спонтан-
но, непредсказуемо. Но стихия любви одарена у Булгакова не менее
чудесной способностью понимания. Маргарита—единственный че-
ловек из окружения мастера, который в самом деле понял смысл ро-
мана и сделал все для его спасения, не остановившись перед союзом
с сатаной. Маргарита у Гете испугалась демонических сил, которые
она безошибочно почувствовала за спиной Фауста. Причина страха
и отчуждения — не личная слабость Маргариты, а инстинктивное
начало-с.163 сатаньь Совсем другое— приватное существова-
ние Иешуа или мастера, самого Булгакова, побудившее
А. Ахматову написать стихи «о скорбной и высокой жизни».
Принципиальное смешение двух типов единств противо-
положностей— отличительная черта не только бахтин-
ского понимания диалога и диалектики, но и всей пост-
классической мысли, которая смешивает то, что необхо-
димо различать.
1 «Вопреки самоочевидному он показал, что человек мо-
жет быть счастлив в этой жизни», и это счастье—самоосу-
ществление (Химич В.В. Соч. цит. С. 224-225).
Узоры, которые лепит время...
165
ощущение того, что бунт Фауста разрушит теплый и уютный мир до-
машнего очага, за которым есть своя большая человеческая правда,
ибо только в этом ограниченном, но защищенном мире возможно
родить и вырастить ребенка. Ребенок Маргариты и Фауста — неза-
конное дитя, цивилизация в ее конкретных исторических формах
его не примет, как не принимает она Фауста и все, с чем он пытает-
ся заключить союз. Религиозные и иные предрассудки Маргариты,
отрывающие ее от Фауста,—не просто заблуждение, а предчувствие
того, что бунт Фауста может обернуться той пустой богемной и ник-
чемной жизнью, которую предлагает ему Мефистофель, — это воп-
лощение дешевого скептицизма, цинизма и пошлости «прожигате-
лей жизни». Путь Фауста, заключившего союз не с Мефистофелем,
а сделавшего ставку на то великое Ничто, которое подарило ему весь
мир, — этот путь Маргарита Гете увидеть была не в состоянии.
Эпиграфом к своему роману Булгаков взял известные слова из
«Фауста»: «... так кто ж ты, наконец? Я—часть той силы, что вечно
хочет зла и вечно совершает благо».
Но всегда ли зло оборачивается благом? Утверждать это — со-
физм, грозящий самыми тяжелыми последствиями. Всегда ли чем
хуже—тем лучше? «Маленькие идеологические человечки» Булга-
кова имеют злые цели, но никто из них не творит блага. Прогресс —
это мировая линия, которая проходит в щель между тождествами
ложными и тождествами истинными, она предполагает различие
между этими тождествами. В прозе Булгакова мы видим движение
и взаимодействие разных пар, разных тождеств, иногда переходя-
щих друг в друга. Но это не пустая игра в духе Поля де Мана.
Мастер и его возлюбленная заключают союз с сатаной, и на балу
у него Маргарита видит, что за люди составляют его царство. По
сути — это те же, как правило, мошенники, которых сатана давит,
придя в Москву конца 2о-х-начала 30-х годов. Когда и благодаря
чему зло превращается в добро? Это — проблема всех проблем, и
заранее рассчитать положительный баланс сил очень трудно, как
правило — просто невозможно. Истина и добро — не готовый, раз
навсегда данный результат, их нельзя формализовать. Любые схемы
рушатся и переходят в свою противоположность. Но абсолютная
пустота и молчание хайдеггеровского Ничто — тоже не полная ис-
тина. Скорее всего, оно, это Ничто Хайдеггера и Деррида, есть боль-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
166
шая неправда. Если истина скрылась, если она недоступна сегодня,
как Понтию Пилату у Булгакова, то надо сохранять достоинство сол-
дата1. В движении противоположностей пост фестум обнаруживает-
ся достаточно строгий логический рисунок, доступный известной
формализации. Разумеется, эта логика далека от логоцентризма —
логического круга, порочного круга, рожденного тождествами типа
«крайности сходятся». Весь творческий путь Булгакова — рассказ о
том, как распадаются ложные тождества и через разрывы проходит
мировая линия, выводящая из бездомности в большой мир. Как ни
парадоксально, может быть, «Мастер и Маргарита» — самое класси-
чески светлое из тех произведений советской действительности, ав-
торы которых осмелились заглянуть этой действительности в лицо,
со всеми ее ныне хорошо известными ужасами. Не лишено значе-
ния, что эта советская действительность находила художественное
отражение и воплощения далеко за пределами СССР. Ведь и люби-
1 Мих. Лифшиц, размышляя о величественной фигуре Пон-
тия Пилата, вспоминает об Альфреде де Виньи, на полях
книги которого «Неволя и величие солдата» Лифшиц пи-
шет: «Активная пассивность в противовес пассивной ак-
тивности (рутины). Это не “стадность”, а парадокс. Но нет
ли его уже в животном мире? Это — путь образования об-
щественного человека, но обратный, гипертонический,
через парадоксальное самоотречение. Так осточертела эта
проклятая собственная личность! Ибо ложь утомительна,
а охраняемая рассудком личность—ложна (пометка М.А.
на с. 8i книги А. де Виньи, Неволя и величие солдата. Л.,
1968). Этот холод превосходства—признак самосознания
(?), боязнь аффектации, скрытность = боязнь быть не на-
стоящим вследствие дешевизны поз и выразительных по-
ложений (там же, с. ш). Общее чувство Entsagung по отно-
шению к большим силам. Действительно всеобщий харак-
тер этого чувства после Французской революции (ср. Гегель,
Гете, русская литература). Куда? — неведомо, но... (там же,
с. 160). Самоотречение = отчуждение. Пассивное повино-
вение = фатализм. Большое явление во всем мире исто-
рии, особенно у чиновников и военных = отчуждение,
судьба (кот. выше справедливости). Сеидизм, личная пре-
данность. Ее возрождение в фашизме (наши 30-е годы)».
«Узоры, которые лепит время...»
Гб/
мый чаплиновский герой, бездомный бродяга—«Ванька-встанька»1,
тоже был в немалой степени порожден этой действительностью, ее
отблеском, ее объективным духом.
1 Юрий Борев в своей книге «Ванька-встанька и состояние
мира. Философско-политическое эссе» (М., 2005) кратко
изложил содержание того, о чем шла речь на страницах
этой главы (Ю. Борев был участником одного «круглого
стола», на котором выступал и автор эти строк) следую-
щим образом:
«и сентября проявила себя идея плебейской справедливо-
сти. Историк В. Арсланов считает, что это сложное явление
глубоко осмыслил Михаил Булгаков. Ведь Шариков побе-
дил профессора Преображенского в интеллектуальном
споре. Шариков говорит профессору (совершенно в духе
американской идеи прав человека): «Вы за равенство, за
справедливость? Тогда я—человек — имею право на всё».
Профессор смог ответить на это хамство, на эту плебей-
скую справедливость только актом террора: превратил со-
зданного им из собаки человека вновь в собаку. Америка
пошла этим же путем. Ответила террором на террор. Но
это не решает проблему плебейской справедливости.
Булгаков продолжил исследование плебейской справедли-
вости как важнейшей проблемы современного мира. В сле-
дующем романе—«Мастер и Маргарита» ученый и плебей
предстают в образах Берлиоза и Ивана Бездомного. Все
поменялось местами: был симпатичный ученый Преобра-
женский и плебей-хам Шариков, а здесь с носителем пле-
бейской справедливости Бездомным диалог возможен, а с
! Берлиозом — невозможен, ибо он — носитель выродив-
шейся культуры, за которой пустота. Арсланов отмечает,
что диалог с плебейской справедливостью, предлагаемый
современными интеллектуалами,—это диалог по рецеп-
там Берлиоза: сядем за стол и побеседуем, будучи нерав-
ными. Мы облагодетельствуем несчастное человечество,
нуждающееся в помощи. Но ведь Достоевский показал,
сколь страшна месть облагодетельствованного сверху че-
' ловека. И это утверждает не только Достоевский. Что за-
ставило гоголевского Акакия Акакиевича бунтовать? Бед-
ность? Не только. Он бы ее стерпел. Его заставило 0“™"ие -с г67
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос»
168
В 1978 году неизвестный мне венгерский писатель Фея Геза ска-
зал просто и верно: Булгаков «не только изображал и судил тверже
и более открыто, чем иные, не скрывая ничего, но он воссоздал по-
рядок в хаосе столетия, прорвав мглу безнадежности, бесцельности,
медленного самоубийства, застилавшего Европу, и в раздавшемся
мире нашел место для человека»1. Раздавшийся мир — это разрыв
того порочного круга, о котором идет речь на страницах этой кни-
ги. Возникнув в России в результате революции, он своими разры-
вами, прорывая мглу безнадежности, способствовал тому, чтобы
воссоздавался порядок в хаосе столетия.
Сравните логику Лотмана, близкую логике постмодернизма:
низкие, затхлые квартирки — символ советской жизни, и в них ни-
чего не рождается. Булгаков обретает большой мир искусства пото-
начило-с '«бунтовать то, что его за человека не посчитали.
Тогда-то он и превратился в загадочного мстителя», (с. 109-
но книги Ю. Борева).
«Российское общество быстро постигло «чумазую» сущ-
ность капитализма, и в России в первой четверти XX века
возникли три революции, — как попытка предотвратить
царство «чумазого». В. Арсланов говорит: «С 1917 по 1985 г.
мы возводили плотины на его пути. Плотина накопила
энергию воды, и когда она была прорвана, накопленная
энергия ударила по стране». Приход нынешнего «нового
русского» — это приход «чумазого» пострашнее того, ко-
торого знал Щедрин. Парадокс истории: попытка воспре-
пятствовать приходу «чумазого» породила через 70 лет
«чумазого» в еще более страшном обличье, чем он был при
Щедрине. Ужас этого прихода не только в том, что творит-
ся в экономической сфере. В конце XIX века нравственная
температура общества была такова, что, когда «чумазый»
провозглашал нам: «истина — распивочная и на вынос»,
то сам Щедрин, его читатели, среди которых был и М. Бул-
гаков и подобная интеллигенция, этой формулы не при-
нимали. Сегодня многие приемлют... Приемлют даже не-
которые интеллигенты (правда, ценой потери, потери та-
ланта и интеллигентности)», (с. 361).
1 Цит. по: Химич В.В. Соч. цит. С. 195.
'Узоры, которые лепит время...
1б9
му, что возвращается в Дом Турбиных — то есть обретает вопреки
реальности старый мир, хотя бы только в своей фантазии. Лотман
жестко зафиксировал это общее место всего советского либерализ-
ма. А на деле вопреки утверждению Лотмана Булгаков в зрелых про-
изведениях перевернул белогвардейскую схему, как и многие дру-
гие банальные идеи и представления. Но перевернул не формально,
а в соответствии со строгими законами художественной логики lege
artis1, которая находит параллель и объяснение в «теории тождеств»—
теории размыкания порочного круга, рожденной советским фило-
софско-эстетическим «течением» 30-х годов (о котором пойдет речь
в следующих главах этой книги).
Открытая Булгаковым тема—плебейской справедливости и ее
раздвоения1 2—имела продолжение в советской культуре. Разумеется,
о прямом влиянии его творчества на идеи «течения» или советскую
литературу говорить было бы глупо. Однако опубликованная в бо-е
годы рукопись романа Булгакова восполняет необходимое звено в ло-
гике развития объективной мысли страны. В одной из последующих
глав мы обратимся к фигуре Василия Теркина как живого воплощения
той плебейской справедливости, что определила ход мировой истории.
А за Василием Теркиным в бо-е годы просматриваются его родные
братья—Иван Денисович Солженицына и Федор Кузькин (повесть
«Живой» Бориса Можаева). Новая историческая сила, возникшая на
советской почве, захватила воображение и старых мастеров (см.
главу о Михаиле Нестерове), отозвалась в творчестве великих запад-
ных художников (в первую очередь Чарли Чаплина и Феллини).
1 lege artis — по определению Мих. Лифшица — это «тео-
рия тождеств «по правилам искусства» (у меня две формы
тождества или два типа единства противоположностей;
дифференциал между ними; четыре случая, считая разные
акценты distingue — мировая линия)».
2 Тема раздвоения «плебейской справедливости» при всей
ее первостепенной важности не замечена истолкователя-
ми и интерпретаторами творчества Булгакова. Так, напри-
мер, в фильме Петровича «Мастер и Маргарита», получив-
шем «Серебряного льва» на МКФ в Венеции-72, Иван Без-
’ домный вообще отсутствует.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос!
I/O
События 1991 года в России были поражением плебейской спра-
ведливости и победой люмпенской справедливости «чумазого» Сал-
тыкова-Щедрина или, точнее, «нового чумазого». На исторический
вызов России в XX веке не было найдено ответа (несмотря на отдель-
ные попытки, предпринятые, например, Жаком Деррида, о чем речь
пойдет в последней главе). Наказанием за это, по всей вероятности,
станет новое «восстание масс», вернувшихся от плебейской к люм-
пенской справедливости. Болезнь, диагноз которой был верно по-
ставлен М. Булгаковым (и им же указан, хотя и в самом общем виде,
путь к излечению), приобретает все более страшные формы. Самое
печальное заключается в том, что наиболее авторитетные или, во
всяком случае, определяющие политику умы не восприимчивы к
урокам нашей истории, смысл которой Булгаков понимал более
верно, чем наши современники. Человечество пока не усвоило уро-
ков тридцатых годов, нашего опыта. Вынуждено будет усвоить.
Спокойная уверенность писателя М. Булгакова — мудрость вы-
сокого реализма, не имеющая ничего общего с иррациональной
истерикой авангарда. Не надо ни о чем просить, приневоливать. Все
придет само собой, все будет, как надо. Нужно только избегать впа-
дения в крайности: активизма или фатализма.
Косвенным доказательством этого является тот факт, что «Мас-
тер и Маргарита» — самый массовый и читаемый роман, по крайней
мере в России. Не Кафка, не Джойс, не Пруст и даже не Томас Манн.
Но разве он менее сложен по содержанию? Ничуть не бывало. На-
против, все исполнено смыслом — против давящей бессмыслицы
(которая еще есть в «Дьяволиаде»). При всей своей поразительной
«читабельности» проза Булгакова — прямая противоположность
массовой литературы с ее примитивной мифологией. Достаточно
только назвать какое-нибудь произведение писателя, и перед нами
встают классические образы—живые и запоминающиеся.
Но этот высокий реализм и классика обязаны в немалой степени
фантастике, иногда не поддающейся расшифровке. Частично из-за
того, что писатель вложил в роман слишком много личного. Это —
исповедь и автопортрет. Но в духе дюреровского автопортрета (в об-
разе Христа)! Частично — из-за иррациональности темных сил. Не
все дано нам понять. К тому же и просто часто смысла никакого нет,
нечего и разгадывать. Однако эта фантастика всегда рождает какой-
171
то узор. Проказы шайки? Если бы они всегда рационально объясня-
лись, если бы все делалось для того, чтобы... тогда было бы скучно —
назидательная дидактика литературы.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
Так кто же художник—пифия, в полубессознатель-
ном состоянии вещающая истину Мира (или Бога), или мастер, дела-
ющий свои произведения так, как корабельщик, по словам Сократа,
строит триеры, воплощая в материале свой замысел? Этот вопрос
стал центральным в художественной критике и теории искусства 20-х
годов. Воюя с «воронщиной» (концепцией А. Воронского), Л. Авер-
бах так формулировал кредо своей идеи «большого искусства боль-
шевизма»: прежде всего — «это не искусство отклика и отражения
(выделено Авербахом.—В. А)...»1. Оно должно быть прежде всего
активным, качественно новым: «Мы должны превзойти Шекспира
и Толстого, т.е. средствами искусства лучше служить нашему классу
и нашим идеям, чем любые художники прошлого»1 2. Прообразом та-
кого «большого искусства» для Авербаха являлось, например, твор-
чество В. Киршона, М. Голодного и А. Безыменского. Полного успе-
ха пролетарская литература достигнет, утверждал он, тогда, когда
добьет «воронщину» и «булгаковщину». В рассказе А. Платонова
«Усомнившийся Макар» Авербах увидел «проповедь расслабленно-
сти» и «мещанской пошлости» под видом гуманизма. А нам нужна,
писал он, «суровая целеустремленность»3, тогда как суть «воронщи-
1АвербахЛ. Из Рапповского дневника. Л. 1931. С. 161. Ибо, раз-
вивал свою мысль Авербах, отражение действительности
«свидетельствует о малом осмысливании, о низком осмыс-
ливании, о поверхностном осмысливании» (там же. С. 162).
2 Там же. С. 147.
3 Там же. С. 63. Напечатание этого рассказа, категорически
заявляет Авербах в самом начале своей статьи об «Усом-
нившемся Макаре» — «является безусловной ошибкой»
(там же. С. 59).
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
172
ны» и «булгаковщины» — созерцательность. Чем же она плоха? «Мы
много спорим о созерцателъстве. О нем следует спорить для того, —
продолжает Авербах,—чтобы с ним лучше бороться. Созерцательство
там, где действительность описывается самоцельно. Созерцатель-
ство там, где материал владеет писателем. Созерцательство там, где
писатель во власти своих впечатлений. И созерцательство там, где
эмпиризм, где нет подлинного осмысливания, где массой использу-
емого материала пытаются заменить недостаток в больших идеях,
где надеются на то, что вывезет выразительность самого материа-
ла»1. Все очень просто и очевидно для Авербаха: «Искусство видеть
мир — это искусство перестраивать мир, понимая, что делаешь»2.
Прекрасно! Но почему мир видели, как выясняется теперь, не
Киршон и Голодный, которые вполне понимали, с точки зрения Авер-
баха, что нужно делать, а те, кто созерцательно, как он полагал, от-
носились к действительности, подчинялись ее диктату—Булгаков,
Платонов, Зощенко, Бабель, Есенин, Мандельштам?.. Сегодня на
этот вопрос дается прямо противоположный Авербаху ответ—по-
тому что, мол, настоящие писатели были не революционерами, а
контрреволюционерами. Но крайности сходятся, ибо решающим
для успеха художественного оказывается... всё, что угодно, но, ра-
зумеется, не отражение действительности. Почему, например, Пуш-
кин —великий поэт? Потому что, отвечает современный пушкинист
В. Непомнящий, Пушкин—человек православный, преодолевший
искус вольтерьянства (практически точно так же о мировоззрении
и творчестве Пушкина судили Авербах и его сторонники, как уви-
дит читатель, но, естественно, с обратным знаком). То есть решаю-
щим оказывается мировоззрение художника. Абстрактно говоря, это
утверждение не ложно. Но в том-то и дело, что мировоззрение пи-
сателя, как мы пытались показать на примере Булгакова, не сводит-
ся к набору дежурных фраз — революционных или контрреволюци-
онных— а выражается во всей системе его творчества и образов.
Какое мировоззрение, с точки зрения Авербаха, у Шекспира?
Буржуазное или раннее буржуазное (а у Пушкина—дворянское). О
чем в таком случае рассказывает нам «Король Лир»? О классовых
1 Там же. С. 162.
2 Там же. С. 161.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
173
отношениях времени? На мой взгляд, пьеса рассказывает о многом,
она неисчерпаема как всякое подлинное произведение искусства,
содержащее в себе микрокосм. Эта пьеса в том числе и о сути позна-
ния, неразрывно связанного с трагедией. Для того чтобы мир стал
познаваемым, раскрывался доя человека, он должен поставить себя
в определенное положение по отношению к миру. Действительность
раскрылась доя короля в ее истине, когда он уравнял себя со всеми
гражданами своего королевства, когда он лишился всех своих пре-
имуществ, даруемых властью. И тогда бывший король узнал, что
есть любовь и что есть преступная неблагодарность, что есть вер-
ность товарища и что есть предательство, что есть истина и что есть
ложь... Он дорого заплатил за открытие истины, но такова обычная
плата за познание, как было известно человечеству еще с библейс-
ких времен.
Но что было известно о сути человеческого познания Шекспиру
и еще раньше, создателям мифа о грехопадении человеческого рода,
вкусившего с дерева познания добра и зла, мифа о Прометее и его
вине — то не известно Авербаху, типичному представителю «бер-
нарства» в его «марксистском», точнее, позитивистском варианте.
Берлиоз у Булгакова — человек очень хитрый и предусмотри-
тельный, осторожный. Он с пафосом, наверное, писал о необходи-
мости активного отношения к действительности, о том, что надо
выбирать: или, как доказывал Авербах, «встать к станку», и тогда
писатель «преобразится», или уйти «в далекую от современности ме-
щанскую квартирку»1, и тогда писатель будет потерян доя современ-
ности и дела революции. Но сам Берлиоз не считал доя себя необ-
ходимым «встать к станку» и занимал три комнаты в центре Моск-
вы, жил на даче в Перелыгино (Переделкине?). Разумеется, на все
вопросы Авербах сказал бы, что он советовал писателю «встать к
станку» не в прямом, а в переносном смысле — овладения передо-
вым мировоззрением, и быть «на посту» не мешает занимать хоро-
шую квартиру. Разве можно спорить с этими правильными словами?
Но давайте посмотрим на тех, кто под руководством Берлиоза
успешно движется к обретению передового мировоззрения, кто,
говоря словами Авербаха, твердо решил доя себя «встать к станку».
1 Там же. С. 22.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
174
Перед нами — члены Правления МАССОЛИТа — «беллетрист Бес-
кудников—тихий, прилично одетый человек с внимательными и в
то же время неуловимыми глазами», поэт Двубратский, Лаврович
(прототипом которого был В. Вишневский), написавший уничтожа-
ющую статью о мастере, «Настасья Лукинишна Непременова, мос-
ковская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая
батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж»»1.
Правление скучает в ожидании своего председателя. «А хорошо
сейчас на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж,
зная, что дачный литераторский поселок в Перелыгино на Клязьме—
общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне
всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.
— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болез-
нью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не вид-
но, —ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.
— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника критик
Абабков.
Радость загорелась в маленьких глазках Штурман Жоржа, и она
сказала, смягчая свое контральто:
—Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и стро-
ится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.
—Три тысячи сто одиннадцать человек,—вставил кто-то из угла.
— Ну вот видите, — продолжала Штурман,—что же делать? Ес-
тественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас ...
—Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.
Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
— Один в пяти комнатах в Передыгине,—вслед ему сказал Глу-
харев.
—Лаврович один в шести,—вскричал Денискин, — и столовая
дубом обшита!
— Э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что
половина двенадцатого.
Начался шум, назревало что-то вроде бунта»1 2.
1 Булгаков М. Белая Гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 474.
2 Там же. С. 474-475.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
175
Булгаков «к станку» не вставал, и в эту замечательную компанию
пролетарских писателей не вошел. Почему? Ведь он святым не был,
о собственной квартире мечтал всю жизнь и от дачи тоже не отка-
зался бы. Но в нем было человеческое достоинство, не позволявшее
прислуживать победившему Шарикову—новой мировой силе, пе-
ред которой стушевались люди, покрупнее бывшего князя Бунши,
Штурман Жоржа и Берлиоза. Даже талантливый и лично честный
Маяковский пошел на службу к «плебейской справедливости» в ее
далеко не лучших проявлениях, и даже гордился тем, что ему при-
ходилось наступать на горло собственной песне.
У Булгакова оказалось достаточно мужества и активности, что-
бы пойти навстречу опасности, мировой «шариковщине». И у него
оказалось достаточно честности и ума, творческой энергии, чтобы
не ограничиваться проклятиями по поводу «грядущего Хама», а раз-
глядеть в «плебейской справедливости» глас Божий, как услышал его
в грохоте санкюлотского беспощадного бунта противник Великой
французской революции, автор самой, может быть, объективной и
замечательной книги о ней Томас Карлейль.
Благодаря активности человека и писателя Булгаков оказался
той «чистой доской», на которой история стала писать свои правди-
вые письмена. В писателе Булгакове обрела голос бесконечная ре-
альность XX века, сообщив ему творческую энергию мастера, она
заставила его оттачивать фразы, доводя их до совершенства, созда-
вать тонкими и точными линиями рисунок множества фабул и мик-
рофабул, богатых смыслом—«узоры, которые лепит время».
Наверное, нет смысла уточнять, что понятия «активности» и
«познания» по отношению к творчеству Булгакова не имеют ниче-
го общего с соответствующими понятиями Авербаха — они ближе
к тому смыслу познания, который выразился в вечной мысли чело-
вечества, от древней мифологии и Шекспира до Гегеля и идей «те-
чения» 30-х годов (продолжившего и развившего идеи и практику
А. Веронского). Об идеях «течения» речь пойдет в последующих гла-
вах этой книги, а теперь обратимся к А. Веронскому и духовной си-
туации 20-Х годов.
В «Литературной энциклопедии» зо-х годов, ответственным ре-
дактором которой был В.М. Фриче, взгляды Веронского на искусст-
во характеризуются как далекие от марксизма, несмотря на то что
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
176
доя Вороненого искусство — прежде всего познание жизни. Несогла-
сие вызывал тезис Воронского, что художник понимает мир не ра-
ционально-рассудочным путем, художественное познание — это
«искусство видеть мир» (заметим, что этот тезис почти буквально
повторял К. Фидлера, хотя зрительное познание мира у немецкого
неокантианца и основателя формальной школы имеет иной смысл1).
«Увидеть мир, прекрасный сам по себе, — цитирует “Литературная
энциклопедия” Воронского,—так, чтобы чувствовать “природы жар-
кие объятия”, мир во всей его свежести и непосредственности, уви-
деть небо, как увидел его однажды Болконский, — очень трудно.
Весь мир, — продолжает автор статьи о Воронском1 2, — миллионы
людей кажутся Воронскому ненормальными и больными, человек
окружен искаженным в его представлениях миром и лишь как да-
лекое, смутное сновидение, — цитирует Воронского автор,—чело-
век хранит в памяти неиспорченные, подлинные образы мира... Он
знает о них благодаря детству, юности, они открываются ему в осо-
бые, исключительные моменты, в периоды общественной жизни.
Человек тоскует по этим действенным образам, он слагает о них
саги, легенды, поет песни, сочиняет романы, повести, новеллы. Не-
поддельное, подлинное искусство, иногда сознательно, а чаще бес-
сознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти,
открыть эти образы мира. В этом главный смысл искусства и его на-
значение» («Искусство видеть мир»). «Отсюда вытекают выводы, —
комментирует “Литературная энциклопедия”, — прямо враждебные
учению марксизма о том, что сущность человека есть совокупность
общественных отношений, и весь мир существует для него только
как для члена класса»3.
Автор статьи о Воронском под видом марксизма излагает типич-
ную социологию искусства, не только сохраняющую свое влияние и
по сей день, но переживающую своеобразный ренессанс. «Карл Ман-
гейм, излагавший подобную схему в Германии, писал о функцио-
нальной зависимости каждой «мыслительной позиции» от «сгояще-
1 См. об этом мою книгу «Западное искусствознание XX ве-
ка». М., 2005. С. 35-47-
2 М. Добрынин.
3 Литературная энциклопедия. Т. 2-й. 1930. С. 316.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
177
го позади нее социально дифференцированного бытия»»1. Ограни-
чение сознания его физиологической и социологической клеткой,
Ortbestimmung, как помнит читатель, есть отличительная черта «бер-
нарства», согласно которому, говоря обыкновенным человеческим
языком, мыслит не голова, а место, на котором человек сидит. Это
поразительное, но унизительное для человечества открытие было
сделано еще Гоббсом, и его теория идеологии справедлива для клас-
сового общества. Новшество, привнесенное Марксом в традицион-
ную социологическую схему, состояло в доказательстве того, что
иногда — хотя и очень редко — за человека мыслит не стоящее по-
зади него социальное бытие, не место, которое он занимает в обще-
ственном разделении труда, а его голова. «Свободное духовное про-
изводство» заключается, согласно Марксу, в том, что мыслителю и
художнику благодаря особым причинам и условиям, требующим
тщательного социального анализа, — становится доступной объек-
тивная истина. Эта идея стала главной в полемике «течения» с его
оппонентами (затравившими к тому времени Воронского) во вто-
рой половине зо-х годов.
Автор статьи о Воронском верно чувствует, где собака зарыта, он
пишет: «Объективный момент в искусстве, вытекающий из классо-
вого познания мира, заменяется теперь (т. е. у Воронского. —В. А)
общей задачей искусства раскрыть мир, “отдаться” миру, воспроиз-
вести “вещь в себе”, а не “вещь для нас”...» Понятое так искусство
становится как бы заместителем религии на земле. «Но, в отличие
от искусства, — цитирует “Литературная энциклопедия” Воронско-
го, —утраченный и прекрасный сам по себе мир религия помеща-
ет по ту сторону жизни, в сверхчувственных, в надмирных сферах...
Между тем как искусство ищет, находит, творит этот “рай” в живой
действительности (“Искусство видеть мир”)».1 2
В насыщенной фактическим материалом книге «Красная новь.
Советская литература в 1920-х годах» американский исследователь
Роберт А. Магуайр рассказывает историю союза авангардистских те-
чений 20-х годов (ЛЕФ) с «пролетарским» искусством (Пролеткульт,
затем журнал «На посту», РАПП, возглавляемый Л. Авербахом), союза,
1 Лифшиц Мих. Диалог с Э. Ильенковым. М., 2003. С. 26.
2 Литературная энциклопедия. Т. 2-й. М., 1930. С. 317.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
178
возникшего на основе ненависти к общему доя них врагу: классичес-
ком}' искусству и тем современным писателям («попутчикам»), ко-
торые так или иначе продолжали и развивали его традиции. «Лефы
считали все искусство прошлого, с которым они поклялись покон-
чить, псевдоискусством. Но даже в новом обществе, — продолжает
Р. Магуайр — примеров такого искусства было в изобилии; главны-
ми его поставщиками были попутчики, а главными пропагандиста-
ми—журнал “Красная новь” и издававший его Воронский»1.
Александр Константинович Воронский (1884-1937), сын («как
многие русские революционеры», замечает Магуайр, и как М. Бул-
гаков, добавим мы) священника, родился в селе Хорошавка Тамбов-
ской губернии. Учился в Тамбовской духовной семинарии, откуда
был исключен из 5-го класса, член РСДРП(б) с 1904 года, «был в ссыл-
ке 4 года, отбывал тюремное заключение в течение 2 с половиной
лет, в том числе год в крепости»1 2. Отмечая мягкость и даже наи-
вность Воронского (наряду с энергией, напористостью, честолюби-
ем — «интересное сочетание, свойственное многим старым больше-
викам»), его веру в правильность своих действий, американский
автор отмечает, что эта вера «очень плохо вооружила» Воронского
«против цинического прагматизма Сталина». И все же, делает вывод
Магуайр, «его исключительная энергия, его бескорыстие, его убеж-
денность в том, что литература должна служить совершенствованию
общества, его многосторонность как литератора — полемист, кри-
тик, теоретик, организатор литературного процесса — все эти каче-
ства роднят его с великими издателями и критиками девятнадцатого
века — Некрасовым, Белинским, Панаевым, Дружининым»3.
В «Красной нови» Воронского начала 20-х годов публиковались
А. Толстой, М. Горький (когда Воронского сменил Ф. Раскольников,
которого Горький характеризовал «как парня невежественного и
бездарного», Горький в знак протеста прекратил публикацию в «Крас-
ной нови» «Клима Самгина»), Б. Пильняк, В. Иванов, наряду с Ман-
дельштамом, Ходасевичем, Волошиным и Пастернаком — крестьян-
1 Магуайр Р. Красная новь. Советская литература в 20-х
годах. М., 2004. С. 135.
2 Литературная энциклопедия. Т. 2-й. М., 1930. С. 313.
3 Магуайр Р. СоЧ. цит. С. 32.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
179
ские поэты (выступление Бухарина против «есенинщины» было вос-
принято, пишет Магуайр, как скрытая атака на Воронского), не за-
крывал свои двери журнал и перед талантливыми «левыми» — Ма-
яковским, Асеевым. Во второй половине 2о-х годов Воронский «за-
жег зеленый свет своим новым открытиям — Бабелю, Караваевой,
Леонову, Катаеву, Лидину, Олеше — и их произведениям, которые
публиковал между 1923 и 1928 гг., создав им всесоюзную славу»1.
Главная претензия оппонентов к Воронскому и его журналу, как
пишет Магуайр — «непропорционально малое число страниц, уде-
ляемое пролетарским писателям»1 2. Воронский отвечал им, опираясь
на положение Ленина3, что «пролетарская» литература должна быть
прежде всего литературой, а не малограмотной пародией на нее.
Объединенные противники журнала требовали административно-
го решения проблем художественного творчества — ограничения
публикации «непролетарских» и «нереволюционных» писателей оп-
ределенной процентной нормой. Воронский парировал удар: «95%
населения России состоит из попутчиков, так что, — излагает Магу-
айр позицию Воронского, —литературная Россия вправе сохранять
более или менее ту же пропорцию»4, то есть оставить на долю «про-
летарских» авторов примерно процентов пять от общего числа жур-
нальных страниц. Конечно, это был полемический прием: об искус-
стве Воронский предлагал судить, применяя главный критерий —
степень художественности произведения.
Как доказать необходимость прямо противоположной пропорции
публикуемых материалов? «Левые» интеллигенты и «пролетарские»
писатели выдвинули против Воронского общую для них идею — ис-
1 Там же. С. 212.
2 Там же. С. 127.
3 Между прочим, современный исследователь творчества
Булгакова отмечает, что аргументация одного из героев
«Записок на манжетах» «против «мейерхольдовщины» уди-
вительно напоминает ленинские высказывания против
• футуризма вообще и против Маяковского в частности»
(Яблоков Е.А. Соч. цит. С. 15).
4 Магуайр Р. Соч. цит. С. 161.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос;
180
кусство—не отражение и не познание реальности, в искусстве не
важны художественная правда и искренность художника. А какова же
цель искусства? Ответ на этот вопрос, позволявший свести процент
публикуемой классики — в том числе и в первую очередь продолжа-
ющих ее традиции в XX веке писателей и поэтов — практически к
нулю, был дан, честно свидетельствует Магуайр (вопреки своей лич-
ной симпатии к авангардистской теории искусства), «благодаря уни-
кальному сплаву пролеткультовских и футуристических концепций»1.
Ответ этот гласил: подлинное искусство организует эмоциональ-
ное воздействие на психику в связи с задачей классовой борьбы.
«Настоящий художник поэтому, — продолжает исследователь изло-
жение теоретического кредо этого уникального блока,—должен
стать «психо-инженером», «психо-конструктором»1 2. Замените гре-
ческое слово «псюхе» на русское «душа», и приведенные Магуайром
слова С. Третьякова, лидера левого авангардного искусства, окажут-
ся тождественными известной формуле более позднего времени:
«писатель — инженер человеческих душ». Причем совпадение не
формально-терминологическое: и для Третьякова, и для Сталина
душа человека — объект внушения, организации, манипуляции со
стороны «инженера» («Бернара»).
Если нет и не может быть в искусстве общей для всего челове-
чества объективной художественной правды, а есть только органи-
зующая деятельность психо-инженера, то писатель-дворянин будет
внушать только дворянские идеи, и потому его произведения про-
летариату не нужны и даже вредны. Один из видных теоретиков
журнала «На посту» Г. Лелевич «внес в черный список книг, не при-
годных для потребления пролетариатом, «Капитанскую дочку» Пуш-
кина...»3. Конечно, это была крайность, а берлиозы всегда тяготели
к разумной умеренности: конечно, А. Платонова и М. Булгакова не
публиковать (а лучше бы направить их куда-нибудь подальше, что-
бы они вообще исчезли), а вот с Кантом и Пушкиным следует об-
ращаться поаккуратнее, все равно ведь теперь их в Соловки не за-
гонишь.
1 Там же. С. 134.
2 Там же. С. 135.
3 Там же. С. 165.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
181
Две концепции искусства—Воронского, с одной стороны, и бло-
ка авангардистов с «пролетарскими» писателями и поэтами — с дру-
гой, —давали два противоположных ответа на центральный вопрос
художественной практики: «стоит ли художнику показывать темные
и уродливые стороны русской жизни при нэпе»? Ответ объединен-
ного тактического блока предвосхитил ту практику, которая извес-
тна под именем теории бесконфликтности: «Левые и октябристы, —
констатирует Магуайр,—хотели бы исключить эти стороны как «не-
типичные» для устремлений пролетариата»1.
Все это достаточно хорошо известно и без Р. Магуайра. Меньше
обращают внимания на тот факт, что классическая концепция искус-
ства, которой придерживался большевик Воронский (он до револю-
ции сидел в одной камере с Фрунзе, дружил с ним, сообщил Б. Пиль-
няку некоторые подробности о смерти Фрунзе, легшие в основу из-
вестной «Повести непогашенной луны», опубликованной в журнале
Воронского с посвящением последнему), предполагала первостепен-
ное значение для искусства таких качеств, как уникальность (та-
лант), честность, искренность, художественная интуиция. Напротив,
«лефы и октябристы утверждали, что «интуиция» — просто поднов-
ленное наименование для Божественного вдохновения.. .»1 2, которое,
естественно, с презрением отвергалось. Художник-инженер, он, как
писал в цитированных выше строках О. Брик, ничем не отличается
от сапожника и столяра и должен, как и они, делать искусство в со-
ответствии с заранее намеченным планом, а не творить, подчиня-
ясь какому-то непонятному «божественному» вдохновению. Эти
идеи российских теоретиков великого упрощения и великого всеоб-
щего нивелирования были в 1936 году озвучены Вальтером Бенья-
мином. В статье, ставшей ныне предметом поклонения для теорети-
ков искусства, он писал о первостепенной политической и художе-
ственной необходимости отбросить «ряд устаревших понятий—таких,
как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство.. .»3 Аура
старого искусства — поэзия дали, голубая дымка мечты — все это
1 Там же. С. 142.
- 2 Там же.
3 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техни-
ческой воспроизводимости. М., 1996. С. 1б.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
182
необходимо без всякой жалости разрушить, заменив классическую
живопись фотографией, расставшись раз и навсегда с «царством
“прекрасной видимости”»’.
По сравнению с левым радикализмом теоретическая позиция
А. Воронского квалифицируется Р. Магуайром как устаревшая и не-
оригинальная1 2. Ведь еще Сократ, а вслед за ним теоретики Возрож-
дения, Гете и Гегель полагали, что искусство есть мимезис, что ху-
дожник схватывает мир, бесконечность как целое, и это целое явля-
ется художнику как глас божий, как удар молнии — интуитивное
озарение. Однако на этот довод можно возразить, что концепция
оппонентов А. Воронского имеет еще более древние корни: она вос-
ходит к мнению софистов-досократиков, которые учили, что исти-
ны нет, и искусный софист может «организовать» психику других
людей так, как ему заблагорассудится,—теория, осмеянная Арис-
тофаном в его «Облаках». В «Фаусте» Гете средневековый ученый
Вагнер, ранний предшественник «бернаров», провозглашает:
... Прежнее детей прижитье
Для нас нелепость, сданная в архив.
Тот нежный пункт, откуда жизнь, бывало,
С волшебной силой проистекала,
Тот изнутри теснившийся порыв,
Та самозарождавшаяся тяга,
Которая с первейшего же шага
Брала и отдавалась и с собой
Роднила близкий мир, потом — чужой,
Все это выводом бесповоротным...
Одним словом, все это сдается теперь в архив. И если художник
не покоряется голосу истины как откровению и чуду, а формирует
психику своего пациента, читателя или зрителя, манипулирует ею,
1 Там же. С. 41.
2 Впрочем, и М. Булгаков «с позиции леворадикальной эс-
тетики “будетлян” ... выглядел унылым традиционалис-
том и консерватором “акстарья” (т.е. “академического
старья”)». (Яблоков Е.А. Соч. цит. С. 14).
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
183
то зачем ему честность и искренность? По свидетельству Р. Магуай-
ра, эти понятия, к которым активно прибегал Воронский и его пос-
ледователи, приводили напостовцев в «недоумение и ярость»’. Уже
упоминавшийся теоретик «На посту» Г. Лелевич «доказывал, что со-
вершенно неважно, насколько «искренно» или художественно со-
вершенно то или иное произведение, но оно ничего не стоит, если
в нем содержится материал, вредный для дела пролетариата»1 2. Р. Ма-
гуайр обращает внимание на то, что понятие «искренности» как
абсолютно необходимого качества для художника, которое последо-
ватель Воронского А. Лежнев защищал от яростных нападок своих
противников, «вдруг возникло вновь в полемике пятидесятых годов»
(автор называет статью В. Померанцева «Об искренности в литера-
туре» (Новый мир. 1953, № I2)3.
История любит парадоксы. Под флагом борьбы за искренность,
свободу творчества, фантазию художника в шестидесятые годы оте-
чественный либерализм развернул массовую атаку на идеи, которые
отстаивал А. Воронский и его единомышленники. Авангардисты,
которые громили понятия «искренности», «творческой фантазии»,
художественной интуиции как устаревший хлам, стали в бо-е годы
культовыми фигурами. Художественная политика «левых» и напос-
товцев, опиравшаяся на «запрет» и требование процентной нормы
для непролетарских и не революционных художников, либо при
1 Магуайр Р. Соч. цит. С. 162.
2 Там же.
3 Статья В. Померанцева была одной из четырех публика-
ций (Ф. Абрамова, Мих. Лифшица, М. Щеглова), вызвав-
ших литературный скандал в 1954 году и повлекших за
собой снятие А. Твардовского с поста главного редактора.
И. Астахов писал в «Литературной газете» (15 июня 1954 го-
да): отдел критики журнала предоставил свои страницы
«бывшим «деятелям» печальной памяти журнала «Литера-
турный критик», которые втянули теоретически беспо-
мощное руководство «Нового мира» в болото нигилизма
и обывательщины». Из названных авторов статей в «Но-
вом мире» только Мих. Лифшиц имел отношение к «Лите-
ратурному критику».
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
184
этом не вспоминалась, либо воспринималась как милая шутка, ро-
зыгрыш и забава талантливых чудаков1.
В самом деле, С. Третьяков, как и В. Беньямин, был очень искрен-
ним чудаком, хотя и тот, и другой отрицали со всей решимостью
своей натуры искренность, правдивость, интуицию и талант... И по-
тому, когда теоретик ЛЕФа попал «под трамвай», как и В. Мейер-
хольд (оба они были репрессированы и погибли), то это, без всяко-
го сомнения, трагедия, и не только личная. А вот когда «под трам-
вай» попал Л. Авербах (как, кстати, и его единомышленник Г. Лелевич,
репрессированный в 1937 году), то это больше похоже на справед-
ливое (хотя справедливость в данном случае дьявольская) возмез-
1 В конце двадцатых годов, по свидетельству Е. Яблокова,
Мейерхольд содействовал тому, чтобы пьеса «Дни Турби-
ных» не была задержана цензурой (Яблоков Е.А. Соч. цит.
С. 24), многократно обращался к Булгакову с просьбой на-
писать пьесу для его театра. Но в своем выступлении 25 мар-
та 1935 года Мейерхольд «ставит в вину А. Таирову поста-
новку в 1928 году «Багрового острова», критикует Театр
сатиры за то, что туда «пролез Булгаков»» (там же. С. 55).
Яблоков утверждает, что Маяковский «высказался все-
таки против запрещения этой пьесы» («Дни Турбиных»)
(там же. С. 36). В самом деле, высказавшись против цен-
зурного запрещения пьесы, Маяковский продолжал на ее
обсуждении 2 октября 1926 года: «А если там вывели двух
комсомольцев, то давайте я вам поставлю срыв этой пье-
сы— меня не выведут. Двести человек будут свистеть, а
сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоим-
ся» (М. Булгаков, В. Маяковский: Диалог сатириков. М.,
1994. С. 246). В «Клопе» Маяковского в «словаре умерших
слов» значатся: «Бюрократизм, богоискательство, бубли-
ки, богема, Булгаков».
Однако в «списке своих врагов», составленном Булгаковым,
где наряду с многочисленными литературными критика-
ми есть и писатели, такие, как А. Фадеев, Вс. Вишневский,
Киршон, Билль-Белоцерковский, поэты А. Безыменский и
А. Жаров, имена Маяковского и Мейерхольда отсутству-
ют. Известно, что Булгаков присутствовал на похоронах
Маяковского.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
185
дие, на иронию истории. Потому что Л. Авербах, которого Р. Магу-
айр называет «самоуверенным манипулятором», даже «не давал себе
труда скрывать» свои махинации, когда их разоблачал Воронский1.
Под крылом честных чудаков и талантов Маяковского и Мейер-
хольда, яростно отрицавших искренность, художественную интуи-
цию, воображение и талант, созрели «роковые яйца». И хотя многие
преследователи М. Булгакова сами попали в ту яму, что рыли друго-
му, именно порожденные «честными чудаками и талантами», зак-
лючившими союз с литературными анакондами и шариковыми, ли-
тературные нравы стали нормой художественной и научной жизни
на многие десятилетия. Владимир Ермилов, один из ведущих «рап-
повцев», «специалист по части мазанья дегтем»2, — знаковая фигу-
! ра 40-60 гг., с которым мы еще не раз встретимся на страницах на-
стоящей книги.
Литературные шариковы в 30-х годах раздавили «левых» и аван-
гардистов, с кем они в 20-х заключили союз против Воронского и его
литературной политики, исключавшей методы клеветы, доносов и
политических преследований. Булгаковскому Швондеру была суж-
дена печальная судьба, хотя он об этом в то время, когда писалась
повесть, не догадывался. Берлиоз у Булгакова — такой же самоуве-
ренный манипулятор, как и Л. Авербах. Чего ему было бояться? Ма-
стера, который уже сидит в сумасшедшем доме? Лишенного какого
бы то ни было влияния А. Воронского, преследуемого и ссылаемо-
го? Не сатаны же, которого, естественно, нет.
Современный российский театральный режиссер Роман Виктюк
в сатану, судя по его постановке «Мастера и Маргариты», похоже,
верит, но ни Бога, ни черта не боится. Сатана Виктюка не имеет
ничего общего с булгаковским героем, бичом божиим, воплощени-
ем исторического возмездия. Торжествующий над любовью масте-
ра и Маргариты извращенный секс — вот истинный герой постанов-
ки Р. Виктюка. Молодой человек внушительной телесности подхо-
дит сзади к Маргарите и, шепча ей что-то в ухо, тискает женщину.
Она, в свою очередь, присев на корточки в сексуальной истоме, по-
глаживает ноги насевшего на нее со спины Азазелло, произнося при
1 Магуайр Р. Соч. цит. С. 277.
2 Там же. С. н8.
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос:
186
этом слова о том, как она возмущена сделанным ей предложением.
Такова известная сцена приглашения Маргариты на бал сатаны в
трактовке современного популярного режиссера. Когда же Марга-
рита появляется на сцене вместе с мастером, то они напоминают
двух жалких нищих, дрожащих пенсионеров, любовь которых не
трогательна, а смешна. Покидая мастера, Маргарита у Виктюка тут
же превращается в фурию, охваченную диким сексуальным желани-
ем. Но разве это не правдивое отражение современной действитель-
ности, скажете вы? Правдивое, если современное бытие стало рав-
нозначным хайдеггеровскому «ничто» (бездомности), то есть лиши-
лось трансцендентального измерения, идеального начала.
В таком случае следует принять и версию образа Иешуа, пред-
ложенную Виктюком. Его роль поручена непропорционально ма-
ленькому актеру, почти карлику, который лепечет слова о грядущем
царстве истины и справедливости на фоне прогуливающегося по
сцене пружинистой тигриной походкой узкобедрого красавца, в
ходе действия обнажающего свой торс с накаченными мышцами
культуриста. Это — сатана, пол которого трудно поначалу опреде-
лить, что, возможно, делает его особенно привлекательным и для
мужчин, и для женщин. Последние преподносят актеру кучу буке-
тов, а мужчины кричат «браво!».
А что говорят критики? Они говорят, что «русская классика в те-
чение последних десяти—пятнадцати лет испытывает колоссальное
гонение... Русской классике ставится в вину вообще все... Существу-
ет целое направление, которое требует запрета русской классики в
школе...»1 Откуда же идет угроза русской культуре? Автор процити-
рованных выше слов вспоминает только одного виновника—Мейер-
хольда: «Мейерхольд разрушал традиции русского реалистического
театра с какой-то маниакальной настойчивостью»1. Другой участник
1 См. материалы заседания теоретического клуба Институ-
та философии РАН «Свободное слово», посвященного те-
ме: «К вопросу о том, чем отличается свобода творчества
художника от вседозволенности и беспредела. Что бы ска-
зали Мольер и Островский, посмотрев «Тартюфа» во МХА-
Те, «Грозу» в «Современнике», «Последнюю жертву» в Лей-
коме» // Свободное слово. Интеллектуальная хроника.
Альманах 2004/2005. М., 2005. С. 381.
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
187
дискуссии поясняет недогадливым: «Читаем Солженицына: “Еще в
1946 году в аппаратных донесениях ЦК указывалось, что “...из 29
критиков, выступающих в печати по вопросам театра, только 6 рус-
ских”». При этом подразумевалось, что большинство остальных кри-
тиков— евреи. «И сейчас, в начале XXI столетия, — продолжает из-
вестный ученый и деятель культуры, — у большинства критиков,
пишущих о русском театре, фамилии не совсем русские. Говорю это
и понимаю, что кто-то усмотрит в моих речах евреененавистниче-
ство. Но нет у меня зла на евреев»1 2.
А на кого же зло? «Дело в трудности и сложности самого харак-
тера»3 русского. Который вот такие безобразия допускает, чтобы
среди критиков преобладали еврейские фамилии. Евреи, наверное,
такого бы не допустили — ввели бы процентную норму представи-
тельства той или иной национальности в театральной и иной кри-
тике, в литературе и искусстве...
Кстати, кто предлагал эту самую процентную норму установить
по отношению к писателям в начале 20-х годов? Еврей Л. Авербах
(однако, заметим в скобках, близкий Воронскому литературный
критик А. Лежнев тоже был евреем). Правда, не по национальному
признаку, а по социальному происхождению. Есть еще один крите-
рий — национал-социальный, национал-социалистический...
«Актеров, конечно, вся эта катавасия портит,—продолжает свои
размышления видный деятель современной культуры и мысли, —
особенно молодых, но, с другой стороны, некоторая подпорчен-
ность — неотъемлемое свойство лицедейского ремесла, недаром же
когда-то актеров в священной земле не хоронили. Завзятый театрал
Шикльгрубер, так тот прямо заявлял, что в добрые старые времена
актерскому праху по справедливости место было на скотобойнях.
Ладно, Адольф Алоизиевич Гитлер был злой человек, никого не лю-
бил и нам не указ. Мы же давайте по совету Владимира Ивановича
Даля “полюбим-ка нас вчерне, а вбеле-то (вкрасне) и всяк нас полю-
бит”. В любви найдем подсказки, как жить, и сил почерпнем»4.
1 Там же. С. 374.
« 2 Там же. С. 385.
3 Там же.
4 Там же. С. 387-
Постмодернизм,
М. Булгаков и «квартирный вопрос
188
Полюбим кого? Мы же сами нас же самих и полюбим, то есть
русские русских? Таких, какие мы есть, то есть с некоторой «подпор-
ченностью». Или лицедеи должны полюбить лицедеев? Можно тогда
полюбить и Романа Виктюка, которому публика подносила цветы и
кричала «браво!», когда на сцене появился он, полноватый господин
небольшого роста в ослепительном пиджаке с очень довольной улыб-
кой на курносой хитроватой физиономии. Он и предложил то самое
желанное—полюбить не кого-нибудь, а самих себя. Еще лучше—са-
мого себя, и больше никого. Потому что, как уверяют нас современ-
ные теоретики искусства, без нарциссизма — актер вовсе не актер,
художник вовсе не художник.
А полюбить себя — значит, что делать? Выставлять себя на по-
каз с совершеннейшим бесстыдством. Эксгибиционизм — вот суть
художественного самовыражения, как уверяет та же почтенная ака-
демическая современная эстетика. А Воронский с его идеей художе-
ственной правды, честности, искренности — прямой противополож-
ности бесстыдного самолюбования — смешон, как смешон Иешуа с
его верой в истину и справедливость. Проиграл Воронский, как и
проиграл Иешуа. В спектакле Виктюка по огромному деревянному
кресту, что в центре сцены, ползает сатана, повисает на нем в соблаз-
нительных позах, демонстрируя публике свои мужские достоинства.
Ему, а не Иешуа преподносятся букеты цветов. Кому сегодня может
внушить симпатию человек, который верил не в процентную нор-
му, а в возможность разговорить людей — так, чтобы голос обрела
объективная действительность?
Процентная норма, кажется, победила окончательно. Она не
назначается сверху, но выметает всех, кто под нее не подходит, же-
лезной метлой. Это «давящая терпимость» плюрализма, о которой
так много написано в западной социологической литературе. Она
терпима ко всему. Растоптано все, даже культовый в недавнем про-
шлом для элитарной публики роман «Мастер и Маргарита». Если бы
не было спектакля Виктюка, его следовало бы придумать. Все ока-
залось возможным. Но есть ли хоть что-нибудь, что воспринимает-
ся современными художниками с сознанием Романа Виктюка как
абсолютно невозможное? Мне кажется, «седьмое доказательство»
Воланда для них, православных и не православных, верующих и не
верующих—такая же абракадабра, как и для Берлиоза. В лучшем
Финал или пролог?
(«Седьмое доказательство» Воланда)
189
случае — художественный вымысел и остаток старой метафизики.
Ведь мы, полагает, вероятно, Виктюк, живем в другом, совершенно
другом мире — виртуальном, информационном, пост-постмодерни-
стском. Кто сегодня способен поверить в гегелевский «дух» самих
вещей, в «иронию истории»? Кто сегодня поверит в то, что миру, как
его понимал Воронский и близкие ему критики, свойственна «неиз-
меняющаяся изменчивость»1, что мир, говоря другими словами,
всегда один и тот же именно потому, что он меняется?
Во второй половине 20-х годов Л. Авербах фактически возглавил
все писательские организации, продолжая нападать на «Красную
новь» и, как замечает Магуайр, «воруя при этом многие провозгла-
шавшиеся там идеи...»1 2. Несколько портило его хорошее настрое-
ние, что группа «пролетарских поэтов» откололась от него и пошла
навстречу А. Воронскому, создав объединение и назвав себя по од-
ной из его статей — «Перевал» (среди этих поэтов — М. Светлов,
М. Голодный, а посещали чтения перевальцев Пильняк и Есенин).
Но, к счастью для Авербаха, Воронский вел себя неразумно — он
критиковал и этих «пролетарских поэтов» за художественную незре-
лость, за графоманию, вместо того чтобы умело манипулировать
ими в своих интересах. К тому же к концу 20-х годов А. Воронский
и его группа оказались совершенно не у дел — административный
ресурс набирал силу. Так что серьезных причин для беспокойства у
Авербаха в те годы, когда возник первый набросок истории о том,
как Берлиоз попадает под трамвай, не было. К «необыкновенным яв-
лениям» он, как и Берлиоз, не привык, и в них, будучи человеком
практическим и современным, хотя и вышедшим из старорежимной
буржуазной семьи, естественно, не верил.
1 Магуайр Р. Соч. цит. С. 199. В теории «искусство как по-
знание» Воронского, пишет Магуайр, есть различие двух
реальностей — «осязаемой, физически существующей, ко-
торая изменяется во времени и пространстве, и реальной
реальности, которая не изменяется» (там же). Материали-
стическая теория Воронского тем самым, как и философия
• Дидро и Ленина, имеет важные точки пересечения с идея-
ми Платона. См. об этом главу о Деррида настоящей книги.
2 Магуайр Р. Соч. цит. С. 276.
«Позвонить? Ну что же, позвоните, — печально согласился боль-
ной и вдруг страстно попросил: —Но умоляю вас на прощанье, по-
верьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не
прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказатель-
ство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено.
—Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково говорил Берлиоз и,
подмигнув растерянному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль
караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с Патри-
арших, что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка».1
В пустынном подземном переходе недалеко от того театра, где
давал свой спектакль Р. Виктюк, высокий худой молодой человек
выводил негромким голосом: «Ты не вейся, черный ворон, над моею
головой, ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой... » «Спа-
сибо», — крикнул он вдогонку бросившим монеты в лежащую перед
ним шапку. Похоже, этот молодой человек склонен воспринимать
«седьмое доказательство» Воланда без должной иронии. Будем снис-
ходительны, ну где и каким образом мог набраться уличный певец
вальяжной снисходительной циничности преуспевающего шоуме-
на, если он, может быть, бездомный, если у него, может быть, в
животе пусто? Но в таком случае, надо признать, вопрос — что же
все-таки перед нами, финал или пролог истории о Булгакове, пост-
модернизме и квартирном вопросе — пока остается открытым.
Впрочем, не стоит жаловаться на непрозрачность времени: что-
то, ранее смутное, скрытое приобрело ныне статус ясной для всех
очевидности. Например, такой исторический казус: даже в кошмар-
ном сне авербахам и берлиозам, которые требовали бить «булгаков-
щину» и «воронщину» (бить, как писал Авербах, «чтобы добить»1 2),
не могло присниться, что если их фигуры и сохранятся для потом-
ства, то только в облике «смешных маленьких идеологических че-
ловечков, верно схваченных кистью Михаила Булгакова»3.
1 Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер
и Маргарита. С. 461.
2 Авербах Л. Соч. цит. С. 151.
3 Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 255.
Трагедия и классика
Человек зо-х годов.
Портреты М. Нестерова
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь».
Трагическая тема
в искусстве П. Кончаловского
и О. Мандельштама зо-х годов
193
Человек 30-х годов.
Портреты М. Нестерова
Если рассматривать портреты М.В. Нестерова до и
после 2о-х годов, то с большой осторожностью можно сделать вывод
о некотором приближении их к тому типу художественного стиля,
который Г. Вельфлин называл линейным (плоскостным), а не живо-
писным. Конечно, в случае с нестеровскими портретами нет такой
очевидной стилевой границы, как между искусством барокко и клас-
сикой Ренессанса. Но и сам Вельфлин предупреждал о необходимо-
сти тонкой дифференциации, избегающей слишком грубых и очевид-
ных сопоставлений внешней формы, исследователь ориентировал
на постижение формы внутренней. Напомню, что, согласно Вельф-
лину, Леонардо гораздо линейнее, чем Боттичелли, хотя на первый
взгляд дело обстоит прямо противоположным образом.
Начнем, однако, с очевидного, лежащего на поверхности. Один
из важных признаков глубины—пейзаж в портрете, который явля-
ется не своеобразным цветовым ковром, а уводит взгляд вдаль. По-
давляющее большинство нестеровских портретов до 1920 года напи-
сано на пейзажном фоне. Напротив, портреты после 1920 года, как
правило, не имеют пейзажа, а если он появляется, то лишь в рабо-
тах, тяготеющих к более раннему нестеровскому стилю (как, напри-
мер, портрет С.И. Тютчевой). Что касается двух портретов Н.П. Пав-
лова, то второй портрет, безусловно, более линеен, чем первый: для
того чтобы сделать такой вывод, достаточно просто бросить взгляд
на них, хотя именно во втором портрете (1935 года) есть вид на Кол-
туши из окна. Однако этот пейзажный мотив только подчеркивает
общий более или менее плоскостной принцип изображения, и по-
тому пейзаж воспринимается скорее как картина, висящая на сте-
не, поскольку он отчетливо отделен от основной плоскости изобра-
Трагедия и классика
194
жения. Пожалуй, гравюра на портрете Е.С. Кругликовой 1938 года
придает изображению большую глубину, чем реальный пейзаж в
павловском портрете 1935 года, имеющем, несомненно, в целом
более «линейный», плоскостной характер.
Правда, о «линейности» поздних портретов Нестерова можно
говорить только условно, лишь в сравнении с более ранними его
произведениями. Так, например, изображение в профиль после 1920
года более сильно и, если можно так сказать, властно выражено,
несмотря на то что и раньше художник очень часто обращался имен-
но к профильному изображению, во всяком случае, едва ли меньше,
чем в поздних произведениях. Однако в более ранних изображени-
ях эта профильность не так бросается в глаза, линия не играет до-
минирующей роли, например, в двойном портрете С.Н. Булгакова
и П.А. Флоренского, в отличие от портрета братьев Кориных или
И.П. Павлова 1935 года.
В самом деле нетрудно заметить, что в первом из названных
двойных портретов фигуры помещены одна за другой, тогда как во
втором они практически находятся в одной плоскости, причем на
фоне стены, а не пейзажа. В портрете Булгакова и Флоренского пей-
заж играет не декоративную роль, он уводит глаз в глубину картины,
что подчеркивается отчетливой диагональной линией кустарника за
спиной портретируемых. И, пожалуй, самое главное: в картине гос-
подствует единое настроение, объединяющее все изображенное в
некое общее движение (что опять-таки напоминает о признаках
«живописности», по Вельфлину). Настроение портретируемых, их
думы—одно из проявлений «космической» жизни, оно, это настрое-
ние, не выделяется из общей жизни, а практически тождественно с
ней. Так, например, дымка вдали («аура дали») сравнима в своем ху-
дожественном значении с лицами портретируемых: по напряжению
чувства, выражаемого «аурой дали», она столь же важна в двойном
портрете 1917 года, как и характеры, мысли изображенных людей.
Совершенно другой принцип изображения, мне кажется, господ-
ствует в портрете братьев Кориных. Взгляд зрителя прикован прежде
всего к самим портретируемым, они несут на себе главную смысло-
вую и живописную нагрузку. Именно по отношению к этому порт-
рету, а не более раннему в полной мере справедливы слова исследо-
вателя: «Не случайно он (Нестеров.—В. А.) фактически отказыва-
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
195
ется от традиционной композиции форсированно-психологическо-
го “Портрета Портретыча” (по его словам) и так любит столь редкий
в портретном жанре нового времени полный профиль»1.
Отчетливо выражена плоскость, преобладают горизонтальные
параллельные линии стола и рельефа. Изображенные неодушевлен-
ные предметы не несут в себе уже ауры, это просто предметы. Ко-
нечно, они тоже не случайны, даже в каком-то смысле символичны,
однако не объединены с персонажами общим настроением. Пред-
мету в позднем нестеровском портрете предоставлена большая сво-
бода, чем в раннем, где он служил скорее подчиненным средством
для выражения общего настроения картины, единой «космической»,
нерасчлененной жизни. Пожалуй, можно сказать, что до 30-х годов
предметный мир на картинах Нестерова есть выразитель его настро-
ения, теперь же, в частности, в портрете братьев Кориных, предме-
ту предоставлена свобода быть самим собой, выражать в первую
очередь самого себя. И хотя античная ваза в руке П. Корина, конеч-
но, символична, она остается античной вазой, интересной самой по
себе и не подчиняющейся ни воле, ни настроению персонажей.
Отпустив на свободу предметный, неодушевленный мир, худож-
ник дал гораздо большую свободу и самим портретируемым. Теперь
они представляют собой нечто самостоятельное, четко отделенное
от всего бытия, имеют право не подчиняться этому бытию, но, от-
стаивая свою волю, не подчиняют себе и предметный мир. Однако
именно потому, что человек и окружающие его вещи—относитель-
но разные, самостоятельные, свободные друг от друга, они могут
находиться в гармонии. Ведь гармония, согласно Пифагору и Герак-
литу, «есть соизмерение несоизмеримого»1 2. Гармония, свойственная
классическому искусству античности или Возрождения, представля-
ет собой единство различного, относительно самостоятельного, от-
стаивающего право на эту самостоятельность и не покушающегося
на автономию другого. Тогда как в искусстве «настроения», которое
А. Ригль понимал как отличительное свойство художественного твор-
1 Юферова А. А. Чистота и нравственная сила // Художник.
1988. № I. С. 46.
2 См.: Ильин И.А. История искусства и эстетика. М., 1983.
С. 181.
Трагедия и классика
196
чесгва XIX века1, все изображенное подчинено единому эмоциональ-
ному мотиву, является лишь знаком для выражения его.
Конечно, и у позднего Нестерова человек и внешний мир род-
ственны друг другу. Более того, именно в портретах 30-х годов вне-
шний мир и человек начинают по-настоящему «понимать» друг дру-
га, между ними возникает связь, не навязанная «настроением» или
еще каким-нибудь извне привнесенным мотивом, а связь естествен-
ная, исходящая из равноправия разного, и потому более сложная.
Поэтому гармония персонажа изображения с окружающими его
вещами свойственна именно позднему портрету, а не раннему, ибо
она в своей сути есть, как уже говорилось, «соизмерение несоизме-
римого». Именно подобная гармония есть внутреннее, а не внешнее
качество классического искусства, именуемого в типологии Вельф-
лина линейным стилем, а у Ригля — осязательно-плоскостным (вер-
нее, осязательно-оптическим в отличие от более плоскостного древ-
неегипетского искусства).
Разумеется, эти наблюдения о различии художественной формы
портретов Нестерова 30-х годов и более ранних его произведений
имеют самый общий и предварительный характер. И потому стоит
вспомнить предостережение Вельфлина: анализ формы не должен
быть поверхностно формальным. К слову сказать, вельфлиновские
понятия «линейного» и «живописного», как и соответствующие риг-
левские «осязательного» и «оптического», имеют тот недостаток, что
они нередко ориентируют исследователя как раз на преимуществен-
ное внимание к внешней форме — в ущерб форме внутренней. Тог-
да как самое ценное у Ригля и Вельфлина заключено как раз в их
анализе формы внутренней, определяющей действительную худо-
жественную структуру изображения.
Если поздние портреты Нестерова более «линейны», чем ранние,
то не в том примитивном смысле, что на них отчетливее выражена
линия контура, а в том, что линия у позднего Нестерова более «содер-
жательна», в живописном отношении ее роль повышается. И пото-
му эта линия более говорящая, нежели линии контура в более ран-
3 См. статью А. Ригля «Настроение как содержание совре-
менного искусства» в сб. его работ Gesammelte Aufsatze.
Augsburg-Wien, 1929.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
197
нем творчестве художника, подобно тому, как художественная цена
слова у Пушкина значительно выше, чем у второстепенного поэта.
Обратим более пристальное внимание на то единство различно-
го, относительно самостоятельного, живущего своей собственной
естественной жизнью, что характерно для творчества Нестерова 30-х
годов. Для понимания сути этой сложной гармонии и единства бес-
конечно разнообразного и относительно самостоятельного нам по-
требуется помощь уже не столько Вельфлина, сколько его оппонента
Кашница фон Вайнберга. Рассматривая античную пластику эпохи
высокой классики, Кашниц обнаружил главное отличительное свой-
ство ее художественной структуры в особой, только ей присущей
гармонии свободы и необходимости. Бесконечное пространство,
вечный космический закон не подчиняют себе фигуру, как в египет-
ском рельефе и скульптуре, они приведены в единство с человеческим
миром—миром свободы — относительно самостоятельным, незави-
симым и защищенным от вечного «космического» закона. Вот в та-
ком, «кашницевском» смысле понятое единство свободы и необхо-
димости в определенной и даже значительной мере присуще поздним
портретам М. Нестерова.
Человек стал более раскован и самостоятелен. Жест отчетливо
выраженный и в то же время естественный. Человеку предоставле-
на свобода быть таким, каков он есть, — именно потому что изоб-
ражение более уже не подчиняется единому разлитому в картине
настроению, которое раньше почти полностью подчиняло себе все
изображенное, лишая его самостоятельности, делая и человеческие
фигуры, и предметы, и пейзажный мотив средствами для выражения
единого символа-настроения, господствующего над изображенным.
Вместе с тем эта большая свобода жеста не привела к изображению
движения случайного, суетливого, бытового и необязательного. На-
против, в прежней некоторой «заданности» движения, имеющего
оттенок символического смысла, был и некоторый элемент случай-
ного. Тогда как в портрете 30-х годов жест получил большую смыс-
ловую и художественную нагрузку—не вопреки, а благодаря его
свободе. Достаточно указать на роль, какую стали играть руки в
портретах Павлова (1935 года), Мухиной, Кориных, Шадра, Юдина.
Что тому причиной? Говорят, и говорят справедливо, что в 30-е
г°ды Нестеров обратился к изображению главным образом челове-
Трагедия и классика
198
ка-творца, художника, нередко воссоздаваемого в момент творчес-
кого процесса (Мухина, Шадр). Но не меньшую роль в этот период
творчества художника играет жест естественный, неконтролируе-
мый, бессознательный, однако очень характерный именно для дан-
ного человека (Юдин, Павлов).
Этого подчеркнутого внимания к естественному, непроизвольно-
му (в том смысле слова, который вкладывали в него Дидро и аббат
Дюбо) жесту не было заметно у Нестерова вплоть до 30-х годов, даже
в его портретах, не говоря о картинах, где жест выполнял символи-
зирующую функцию: молитвенно сложенные на груди руки и т.д.
Хотя в некоторых портретах более раннего периода, таких, как пор-
треты Н.Г. Яшвиль и Л.Н. Толстого, жест, безусловно, тоже естестве-
нен и очень выразителен, тем не менее свобода жеста превратилась
в развитый художественный принцип только в позднем периоде твор-
чества М. Нестерова.
Очевидно, что естественность жеста в поздних портретах Несте-
рова и в то же время его громадная смысловая, однако объективная,
а не символизирующая значимость вызвана к жизни единством но-
вого мотива и нового способа художественного воплощения этого
мотива-содержания. Речь идет, конечно, о рождении творческого
принципа, широко известного под именем «опоэтизированного ре-
ализма». Что вызвало его к жизни, что позволило обрести художни-
ку второе дыхание именно в 30-е годы?
Отвечая на этот вопрос, мы должны избежать опасности простой
замены прежних односторонних оценок на прямо противоположные,
но не менее односторонние: скажем, представить творчество Несте-
рова типичной «советской» мифологией или увидеть в нем не опти-
мизм, а замаскированный пессимизм и черное отчаяние. Нет, даже
делая скидку на известные условия времени, такие характеристики,
как, например, данные портретам Нестерова Л.С. Зингером, не нуж-
даются в простом переворачивании или переиначивании. Но как
всякое подлинное, то есть неисчерпаемое по своему художественно-
му смыслу, творчество, несгеровское высокое искусство 30-х годов
требует углубления в себя.
Итак, читаем у Л. Зингера: «В советские годы романтическая
струя нестеровского опоэтизированного реализма всецело устрем-
ляется в портреты, внутренне окрыляя их, еще больше приближая
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
199
к героическому пафосу эпохи социализма»1. Если сегодня позволить
себе ухмылку по поводу процитированных строк и ограничиться
этим, то никакой нашей заслуги в том, что теперь можем написать
нечто иное о «героическом пафосе эпохи социализма», нет. Это зас-
луга времени, а не наша.
Гораздо достойнее — вдуматься в чужую логику (если она, ко-
нечно, есть). Секрет художественных достижений позднего Несте-
рова В.П. Лапшин (это мнение было высказано им в 1962 году) ви-
дит в том, что «ему удалось с такой художественной силой создать
образ советского человека—воителя, созидателя, творца»2. Добить-
ся решения этой художественной задачи, продолжает исследова-
тель, «Нестеров сумел благодаря тому, что им были найдены новые
принципы решения портрета»3.
В числе новых принципов В. Лапшин называет прежде всего из-
бранный художником мотив творческого процесса, активного и ес-
тественного действия, а не пассивного, срежиссированного позиро-
вания. «Чтобы добиться наибольшей правдивости, Нестеров пишет
своих героев не на некоем абстрактном цветовом фоне, а в окруже-
нии той обстановки, в которой его модели работают и живут»4. Ко-
нечно; и раньше в русской живописи были попытки, продолжает
автор, «расширить рамки портретного жанра», однако «обстановка,
интерьеры несли только иллюстративную функцию... И, может быть,
только у Нестерова впервые в русском искусстве окружение моде-
ли помогло художнику полностью раскрыть творческую, созидатель-
ную активность человека»5.
Античная ваза в руках Корина, классический рельеф как фон для
двойного портрета художников, слепок античного торса на портрете
Шадра, панорама новых Колтушей, городка-лаборатории, построен-
ного для Павлова, статуэтка Борея, которую лепит Мухина, специ-
'Зингер Л. С. Советская портретная живопись 1930-1950 гт.
М„ 1989. С. 37.
2 См. журнал «Искусство». 1962. № 6. С. 36.
. . , 3 Там же.
’ 4 Там же.
5 5 Там же.
Трагедия и классика
200
фически-медицинская атрибутика в портрете Юдина — все испол-
нено значения, лаконично, но выразительно характеризует модели.
Однако если остановиться только на символизирующе-атрибутив-
ной роли детали, мы не выйдем за пределы иллюстративности. В
отличие не только от посредственных, но даже очень одаренных
художников Нестерову удалось выразить нечто большее, не прибегая
к усложнению знаково-аллегорического способа выражения смыс-
ла. Художник опирается главным образом на «естественный симво-
лизм» (если воспользоваться выражением Мих. Лифшица) всего ма-
териального мира.
Одна из важнейших, но в то же время очевидных, лежащих на
поверхности характеристик позднего нестеровского портрета—его
«закрытость» (в том смысле, в каком закрытой является ренессанс-
ная живописная композиция, согласно Вельфлину, по отношению
к «открытости» полотен барокко). Речь идет, однако, не о букваль-
ном сопоставлении творчества Нестерова с вельфлиновскими кате-
гориями стиля, их относительность и приблизительность по отно-
шению к портретам 30-х годов будет показана позднее. Сейчас же
обратим внимание на очевидное: действие на этих портретах про-
исходит не в бесконечном пространстве, не на фоне природы, а огра-
ничено, как правило, стенами комнаты. Причем стена — фон игра-
ет роль ясно, отчетливо читаемой плоскости. Не видим мы и высо-
кого потолка, головы моделей почти упираются в верхнюю границу
холста (портреты Юдина, Шадра, Кориных, Мухиной, Кругликовой,
автопортрет 1928 года и др.). В более ранних портретах, безусловно,
больше открытого пространства, а тут оно практически совершен-
но отсутствует. Однако поздний портрет не становится от этого бо-
лее камерным, напротив, он приобретает даже некоторую монумен-
тальную значительность. Нам совсем не трудно дышать, нас ничто
не давит, когда мы вживаемся в пространство этого портрета. На-
против, зритель чувствует себя в нем совершенно свободно и едва
ли даже не свободнее, чем в открытом пространстве портрета до
1930-х годов. Там насуносило куда-то вдаль господствующее настро-
ение, движение в бесконечность, в которой можно и затеряться.
А это пространство—совершенно реальное, в нем нет и призна-
ков мистического потустороннего света, оно чистое в том смысле, что
до известной степени свободно от выражения субъективного настро-
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
201
ения художника или персонажей, чем, кстати, отличается от про-
странства пейзажей Левитана. Но в будничном, повседневном про-
странстве позднего Нестерова, пространстве совершенно реальном,
хочется жить. При всей закрытости в нем присутствует бесконеч-
ность, но не та, что заставляет томиться душу в тоске по недостижимо-
му идеалу. Это бесконечность пространства классического искусства,
по необходимости «закрытого», ибо бесконечность присутствует в
нем в «свернутом» виде, присутствует актуально, как, по выражению
Гегеля, она содержится в цветке в отличие от потенциальной беско-
нечности числового ряда, не имеющего конца, представляющего
собой однообразное и пустое повторение одного и того же.
Размышляя о чуде искусства, представители немецкой класси-
ческой эстетики (Шеллинг, Гегель, братья Шлегели, Зольгер) выде-
ляли следующую чрезвычайно важную особенность всякого подлин-
ного произведения искусства: оно позволяет как бы раздвинуть го-
ризонт искусственного мира цивилизации, выйти в более широкую
сферу истинной жизни. Причем этим свойством обладает в наиболь-
шей степени именно классическое искусство, имеющее, по терми-
нологии Вельфлина, «закрытую» художественную форму. Напротив,
романтическое устремление вдаль в действительности бедно содер-
жанием и потому в художественном смысле более ограничено.
Не спасает от ограниченности и абстрактный бунт против искус-
ственного мира цивилизации даже тогда, когда он принимает такие
бескомпромиссные формы, как в «Черном квадрате» Малевича. По-
следний— самая яркая и убедительная манифестация бесконечно-
го, понятого как трансцендентное. Но одновременно это и самое ко-
нечное, самое ограниченное, замкнутое изображение в истории ис-
кусств: квадрат и ничего более. Две параллельные и уводящие за
горизонт, постепенно сближающиеся линии богаче содержанием в
том смысле, что они выводят за границы простого знака, символа,
превращая знак бесконечного в изображение, пусть и очень прими-
тивное.
Классическое искусство в отличие, скажем, от барокко характе-
ризуется тем, что в нем бесконечное как реальное свойство бытия
не выпячивается, не превращается в символ и абстракцию, а дано
соразмерно той роли, которую оно действительно играет наряду с
конечным. Если на изображениях Малевича фигура указывает на
Трагедия и классика
202
бесконечное, как на нечто от нее отличное, которое она способна
только обозначать, символизировать, то у Нестерова бесконечное —
одна из характеристик внутренних свойств самой этой фигуры. Мы
даже не думаем о бесконечном как некоем качестве, свойстве или
явлении, отличных от портретируемого, оно не дано нам в виде
символа или абстракции. Мы видим только изображенного челове-
ка, но он бесконечно притягивает к себе взгляд, ибо обладает наделе
неисчерпаемым художественным содержанием. Конечно, дело тут
не в простом количестве зрительной информации, иначе качеством
актуально бесконечного обладали бы многофигурные композиции
с запутанным сюжетом, требующие долгого «разгадывания» подоб-
но ребусам. На самом деле, например, натюрморт Шардена, изоб-
ражающий очень простой мотив, обладает качеством живописно
бесконечного, а многофигурный «ребус» — нет, ибо в него вложен
не художественный смысл, а рассудочная идея.
Структурообразующим художественным принципом в портре-
тах Нестерова 30-х годов является гармония жизни и космоса, сво-
боды и необходимости, пространства и фигуры, бесконечного и
конечного, не придуманная классицизирующим художником, а най-
денная в живом бытии. И хотя прямые намеки на связь с классикой
прошлого есть в портрете Кориных и Шадра, тем не менее в них
преобладает реальность наблюденного. Мы имеем дело не с рефлек-
сией античности или Возрождения, а с неким самозарождением
классической художественной структуры на совершенно иной жиз-
ненной почве, в иных условиях и обстоятельствах. Самозарождени-
ем, то есть явлением спонтанным, в известном смысле неожидан-
ным и для самого художника. Художника, который думал, создавая
портрет, прежде всего о самой модели, отмечая, например, черты
флорентийца эпохи Возрождения в одном из Кориных.
Так что же, свойством «классичности» обладало само обществен-
ное бытие периода индустриализации и коллективизации? Или ху-
дожник преобразил действительность, придав ей то качество, каким
она на деле не обладала? Сумев выразить, воссоздать естественный
в своей значительности жест реальных людей, Нестеров тем самым
создал особую художественную структуру, неповторимую и в то же
время заставлявшую вспомнить о классических образцах. Путь, по
которому пошел художник, был прямо противоположен направле-
Человек зо-х годов.
'! Портреты М.Нестерова 203
нию развития современного ему западного искусства XX века, даже
тогда, когда оно имитировало классику (в неоклассицизме класси-
ческая художественная форма превращалась в своеобразный знак,
который обозначал нечто прямо противоположное духу классичес-
кого искусства). В этой связи можно привести слова Г. Гадамера о
художественной форме западной живописи XX века в ее наиболее
характерных образцах: «Лишенные окружения постоянных и законо-
мерных вещей, сопровождаемые растущей неприметностью челове-
ческого лица и личности в индустриальном мире, форма и цвет кар-
тины соединяются в напряженное единство, скрепленное изнутри»1.
Но что это за единство? Организующей силой нового западного ис-
кусства «в этом мире серийности и суммарное™» является такая
художественная структура, которая несет в себе нечто «планируе-
мое, конструируемое, повторяемое», одним словом, рассудочно-
механическое.
А в портретах позднего Нестерова нет даже следа чего-либо мер-
твенно-механического. Чрезвычайно живые, исполненные подлин-
ной неповторимой человеческой значительности персонажи вовсе
не производят впечатления образов прошлого, случайно всплывших
в памяти художника. Они вписываются в пространство современно-
го мира совершенно естественно, вместе с тем образуя тонко разра-
ботанную художественную структуру, когда форма непосредствен-
но перерастает в содержание, а содержание — в форму. Каково же
содержание живописи Нестерова зо-х годов?
В большинстве поздних портретов художник изображает твор-
ческого человека, причем, как полагают многие исследователи, в
момент творческого устремления (Шадр, Мухина). Однако сам Не-
стеров утверждал, что рождение творческой мысли уловить и запе-
чатлеть на полотне практически невозможно. В. И. Мухина изобра-
жена в момент, когда работа над статуэткой Борея практически уже
закончена.
Она должна была символически изображать подвиг всего наро-
да (спасение «челюскинцев»). Но наряду с официальной версией в
«Борее» скрывается и другой смысл—объективный, который созна-
тельно не вкладывался скульптором в свое произведение.
1 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 186.
Трагедия и классика
204
Империю Петра I называли гиперборейской, то есть страной,
находящейся в мире северного ветра Борея. На портрете Нестеро-
ва статуэтка Борея заставляет думать не только о подвиге народа, но
и о возрождении империи, созданной Петром, — недаром именно в
советское время Петр стал самым популярным царем российской
истории. Мотив соединения подвига с преступлением дан в несте-
ровском портрете не аллегорически; больше того, он не содержал-
ся скорее всего в субъективной программе портрета. Тем не менее
странное, противоестественное единство несоединимого образует
художественную структуру портрета Мухиной, его тонкую, вырази-
тельную мелодию.
Пространство и фигура тесно связаны между собою, взаимодей-
ствуют, но при этом возникает гармония различного, а не подчине-
ние одного другому. Пространство не давит на фигуру, но и фигура
не врезывается в пространство, не сообщает ему своего вихревого
движения. Конечно, модель не находится в позе античной статуи,
напротив, представлена достаточно уже развитая ситуация, персо-
наж портрета вовлечен в сложное движение.
Лицо В.И. Мухиной чрезвычайно выразительно, преисполнено
волевого напора. Кажется, она действительно одна из тех, для кото-
рых нет неразрешимых задач. Вглядываясь в это лицо, трудно отде-
латься от впечатления, что воля незаметно переходит в какое-то
иное качество. Нелегко подыскать слово, которое точно выразило
бы это свойство: конечно, речь идет не об упрямстве, не о той «не-
сгибаемости», что ныне воспринимается с законной иронией. И тем
не менее в лице, осанке скульптора есть что-то и от этой «несгибае-
мости», однако образ при привнесении такого оттенка не снижает-
ся, напротив, переходит в какое-то новое смысловое и художествен-
ное измерение.
Впечатление внутреннего душевного движения и более того по-
чти даже конфликта противоположных принципов возникает и уси-
ливается тогда, когда глаз от лица Мухиной перемещается к ее руке,
держащей глину. Жест совершенно реальный, естественный, и в то
же время привносящий иной эмоционально-смысловой мотив, кон-
трастный по отношению к первичному. Волевое устремление чело-
века, действительно и совершенно искренне убежденного в том, что
нет таких крепостей, которые не может покорить страна или чело-
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
205
вечество в целом, — и неожиданная, невольная, спонтанная мяг-
кость, податливость. Не слабость и нерешительность, не испуг и не
сомнение. А способность души — и руки — быть предельно чутким
кдругому, отличному от себя: способность к воспроизведению реаль-
ных форм бытия, то, что Аристотель называл мимезисом.
Соотношение миметического, с одной стороны, а с другой —
прометеевски-дерзновенного принципа в нестеровском портрете не
подчинено элементарному принципу контраста, внешнего сопос-
тавления, а очень глубоко, тонко и сложно разработано. Интуитив-
но художник сделал темой своего произведения проблему, вызыва-
ющую острые философские дискуссии, и решил ее очень своеобраз-
но, причем чисто живописными средствами, не прибегая к помощи
рассудочных схем и аллегорий.
В современной западной философии, например, у Г. Зедльмай-
ра, популярна идея, в соответствии с которой мимезис—свойство
художественной культуры, противоположное цивилизации, осно-
ванной на техническом развитии1. В истории этой (западной) циви-
лизации мимезис вытесняется прометеевским началом знания, ко-
торое в техническом мире равносильно покорению природы, в том
числе и самого человека как природного, свободного существа. Вен-
цом и логическим заключением избранного человечеством научно-
технического развития оказываются фашистские (и сталинские)
лагеря, «рационально» применяющие человеческий материал для
индустриализации и других практических нужд.
Схема, нарисованная Зедльмайром, Адорно и Хоркхаймером,
парадоксальна именно потому, что она намеренно, подчеркнуто
односторонняя. В действительности, хотя прометеевский принцип
творчества оказался связанным с практикой покорения и насилия,
он по своей сути не отрицает, не уничтожает мимезис, а скорее род-
1 Для Т. Адорно, впрочем, мимезис уже пропитан рацио-
нальностью, и потому современное искусство восстает
против мимезиса, хотя последний и для Адорно остается
противоположностью технически-конструктивного. См.:
’ Asthetische Theorie. Frankfurt am Main, 1974. S. 72; а также
Horkheimer M., Adorno Th. Dialektik der Aufklarung. Fischer
Verlag, 1990. S. 64.
Трагедия и классика
206
ственен ему. Относительная правота Г. Зедльмайра в том, что в со-
временном индустриальном обществе момент единства художе-
ственного мимезиса и технического созерцания приглушен или да-
же практически устранен, кажется даже, что технический гений
покончил с мимезисом, заменив высокое искусство прошлого тем
суррогатом его, который авторы «Диалектики Просвещения» назы-
вают «культуриндустрией»1.
Конфликт прометеевского принципа покорения природы и миме-
зиса дая советского общества зо-х годов был не менее характерен, чем
дая западного, но принял существенно иные формы. Что такое мухин-
ская группа «Рабочий и колхозница», как не гордая художественная
манифестация прометеевского духа, ожившего в практике бывших
рабов империи? Зритель, восхищающийся на всемирной выставке
этой скульптурой (а зрителями были многие выдающиеся западные
интеллектуалы), разумеется, не знал или мог не знать о том, что лю-
бимый муж Мухиной и она сама были арестованы (правда, затем
выпущены на свободу), что мир сталинских тюрем не был для нее
чем-то запредельным, а являлся суровой реальностью, можно сказать,
физически осязаемой. И вместе с тем есть все основания полагать, что
Мухина не лгала в своем творчестве. И если в ее скульптурной груп-
пе присутствует не только романтическое, но и мифологическое на-
чало, то в ней же с большой силой выражена правда созидательно-
го этоса, действительно охватившего многих советских людей.
Однако прометеевский этос в конкретных обстоятельствах вре-
мени был связан с созданием системы лагерей, подобно тому, как
творцы атомной и водородной бомб И. Курчатов и А. Сахаров — с
ведомством Л. Берия. Виновность, трагическая, прометеевская ви-
новность принципа созидания (причем не только технического), его
парадоксальная связь с принципом разрушения и уничтожения—
такова драма XX века, не всегда, правда, возвышающаяся до подлин-
ной трагедии и часто принимающая не только ужасные, но пошлые
формы, практически не отличимые от заурядной уголовщины.
Глядя на портрет Мухиной, мы, конечно, и не думаем искать в
изображении ассоциаций с тюрьмами, пытками, Берией и тому по-
1 См.: Horkheimer М., Adorno Th. Kulturindustrie, Aufklarung
als Massenbetrug // Dialektik der Aufklarung.
Человек 30-х годов.
Портреты М.Нестерова
207
добным. Нестеров никого не разоблачает, он любуется сильным и
красивым человеком, поглощенным всецело своим делом. Однако
мы сегодня не можем отрешиться от того, что знаем об этом време-
ни. И это знание, как ни странно, находит себе какую-то опору в
нестеровском портрете. Причем не подтверждение элементарных
истин, которыми мы все теперь владеем, а скорее уточнение их,
развитие их, уводящее в глубину вещей,—вот что порождает несте-
ровский шедевр, пробуждая мысли, которые на первый взгляд вов-
се и не связаны с непосредственной темой изображения.
Если в греческой классике перед нами единство свободы и необ-
ходимости, человеческого и космического закона, нашедшее чув-
ственную форму воплощения в человеческом теле, то в портрете
Нестерова классика, понятая как идеал другого, более развитого
периода цивилизации: противоречивое единство прометеевских сил
и мимезиса, героической воли и женственности, покорения и подат-
ливости, готовности идти на любые жертвы, обрекая на страдания
и окружающих—и всепрощение по отношению к другому, понима-
ние «чужого».
И в то же время, глядя на портрет Мухиной, зритель проникает-
ся убеждением, что творчество и мимезис, с одной стороны, и твор-
чество и насилие — с другой, — два совершенно различных вида
единства. Они могут переходить друг в друга, и в практике XX века
творчество очень часто оказывалось виновником величайших не-
счастий человечества, но художником найден идеальный случай,
выбран идеальный момент, когда грань между ними еще не перей-
дена, но эта грань в изображении присутствует. И весь портрет—на
этой грани, он приобретает художественную значимость и чрезвы-
чайную выразительность благодаря тому, что Нестеров уловил не-
уловимое, переход одного в свою противоположность, который,
однако, не завершается единством, тождеством противоположного,
иначе говоря, творчество продолжает еще оставаться не насилием,
хотя уже приблизилось к опасной границе.
Понятия «идеал» и «идеальный момент» всплывают в сознании
при созерцании нестеровских работ 30-х годов совсем не случайно.
Идеал как суть классического искусства предполагает, по Гегелю, не
только завершенность и внутреннюю самодостаточность произве-
дения. Эти свойства классики вырастают на основе гармонии сво-
Трагедия и классика
208
бодной индивидуальности и внешнего мира, в котором осуществля-
ет себя индивидуальность. Не забудем, однако, что гармония гречес-
кой классики не исключала трагической вины — основной темы
античной трагедии, да и греческой культуры как таковой, — а пред-
полагала ее.
Мир героев портретов Нестерова зо-х годов — это мир свобод-
ных индивидуальностей, раскрывающих творческие силы во внеш-
нем мире, не замыкаясь в скорлупе своей духовности. Но на самом-
то деле реальность того времени была совсем не идеальной. Выхо-
дит, что художник, вольно или невольно, лукавил, приукрашивал,
идеализировал? Однако и время расцвета античной классики, вре-
мя войны с персами, а затем междоусобных войн между победите-
лями не было идиллией. Ужасного, трагического в нем было предо-
статочно.
Вместе с тем ужас ужасу—рознь. Бывает так, что ужас подавля-
ет человека, превращая его в насекомое. Но бывает и так, что со-
противление даже побежденного, раздавленного человека придает
всему событию высокий, трагический смысл. Глядя на портрет Му-
хиной, мы видим, что арест мужа не убил в ней творческие силы. Как
коллективизация, репрессии, смерть многих тысяч не повергли стра-
ну в состояние смуты, расслабленности, упадка, а наряду с многи-
ми бедами и несчастьями, невосполнимыми потерями как бы даже
способствовали (?!) поразительному эффекту: величайшему напря-
жению творческих сил народа. «Как бы даже» или на самом деле
способствовали — вот в чем вопрос. Впрочем, для любого здраво-
мыслящего человека такого вопроса, конечно же, нет. Коллективи-
зацию, атмосферу доносительства, массовый террор против народа
можно с таким же правом назвать источником творчества, с каким
нашествие персов считать благодеянием судьбы, особым счастьем
греческого народа.
Однако связь между греческой классикой и войной с персами все
же есть, хотя она требует для своего понимания не обыденного здра-
вого смысла, а другого метода мышления. Также есть какая-то и
очень непростая, до сих пор еще не понятая во всей ее трагичности
зависимость между коллективизацией, индустриализацией и сво-
бодной индивидуальностью человека зо-х годов. Гениальность по-
здних нестеровских портретов заключается в том, что ему удалось
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
209
осуществить мимезис этой зависимости, мимезис более точный и
верный, чем это до сих пор было сделано современными перестро-
ечными и постперестроечными авторами, писавшими о тоталитар-
ном обществе в СССР.
Автор этих строк тоже не претендует на то, чтобы исчерпать
действительное содержание нестеровских портретов. Моя задача
скромнее — обратить внимание на то, какая сложная структура че-
ловеческих отношений в них была воссоздана.
Мухина не предстала бы перед нами на портрете свободной,
деятельной, уверенно утверждающей себя в пространстве внешне-
го мира личностью, если бы не была полностью, без остатка захва-
чена прометеевским принципом созидания. И этот же принцип,
однако, грозил перерасти—и перерос — во всенародную трагедию.
Все было поставлено на карту ради быстрой индустриализации, все,
вплоть до жизни миллионов людей. Отблеск этого «большевистско-
го», как теперь говорят, настроения, лежит и на лице В.И. Мухиной.
И тем не менее перед нами идеал свободной личности, для художе-
ственного воссоздания которой потребовалось спонтанное возрож-
дение некоторых особенностей классического искусства.
Преступление и творчество оказывались тесно связанными—это
теперь очевидно. Но за очевидным скрывается гораздо более слож-
ное отношение, корни которого уходят в глубину реальности.
Октябрьская революция оказалась в ловушке истории. Выхода
для страны на основе провозглашенных этой революцией принци-
пов и идеалов практически не было, или, во всяком случае, этот
выход не найден. И в то же время путь для спасения революции най-
ден в том, что в конце концов убило революцию. Ибо выход заклю-
чался в преступлении. Преступлении против народа и против стра-
ны. Оказались перейдены те границы, которые допустимы для вы-
хода из кризиса, решения противоречий, что обернулось не только
миллионными жертвами людей, но и падением нравственности на-
рода, его моральным развращением.
Лучшие люди тридцатых годов, те в том числе, кто стали героя-
ми портретов Нестерова, своим бескорыстным энтузиазмом, жаж-
дой блага'не для себя в первую очередь, а для других невольно по-
служили той почвой, на которой могла вырасти система насилия. И
даже более того, своей свободой и раскрепощением они до извест-
Трагедия и классика
210
ной степени обязаны этой системе. Но лишь до известной степени,
в которой как раз кроется все существо дела. Если вместо противо-
речивого взаимодействия творчества и преступления мы удовлетво-
римся констатацией их тождества, то рассудок, возможно, будет
удовлетворен, формально-логическая ясность достигнута, но за счет
упрощения и вульгаризации, которые, став фактом массового созна-
ния, влекут за собой новые преступления, но уже связанные не с
прометеевским принципом, а с обыкновенной безнравственностью
и ложью.
Дело в том, что отстаивание прометеевского принципа вплоть
до преступления убивает в первую очередь само творчество, сам
прометеевский высокий энтузиазм. И поэтому нет ничего более
ошибочного, чем простое, лишенное противоречий, отождествле-
ние творчества и преступления—соблазн, в плену которого оказал-
ся Ф. Ницше. Хотя и Ницше воздвигал свои софизмы не на пустой
почве, а исходя из таких реальных ситуаций в истории, когда высо-
чайший взлет художественного гения был как-то (вопрос — как?)
связан с преступлениями эпохи Возрождения.
Преступления фашистского режима не подарили миру нового
Леонардо. А сталинского? Люди тридцатых годов1 не были зараже-
ны ницшеанской поэтизацией преступления. Больше того, их окры-
лял гуманизм, непримиримый к страданию ближнего. Главное зло,
против которого они выступали, — психология и практика того ге-
роя Зощенко, об омертвляющем воздействии которого хорошо в
свое время писал И.А. Сац1 2.
Но преступления такого всемирно-исторического масштаба (не
только по количеству жертв, но и по степени дерзости, переступле-
ния за рамки объективных закономерностей социального бытия),
которые были совершены в 30-х годах, связаны не только с шарико-
выми, но и с их антиподами. Правда, нельзя забывать, что вина и
ответственность их разные.
1 Речь идет в том числе и о типе личности, обрисованном
Мих. Лифшицем в его очерке «Человек 30-х годов» //Лиф-
шиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 189-313.
2 См.: Сац И. Герой М. Зощенко //Литературный критик.
1938. № з. С. 163.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
211
Многие люди тридцатых годов были искренними сталинистами
такого типа, к которому, например, принадлежал молодой А. Твар-
довский, автор «Страны Муравии». И не только потому что они «не
знали». Многое и многие знали достаточно. Они знали главное, что
сталинский режим переступил. Но что? Прежде всего он преодолел
(пусть и не полно, пусть только на исторически не очень большой
отрезок времени) всевластие рынка, всевластие «денежного раб-
ства». Независимо от личных свойств Сталина и его окружения,
независимо от его планов и намерений это было деяние фантасти-
ческого масштаба, сравнимого только с попыткой строительства
Вавилонской башни. При всей фантастичности, оно продиктовано
логикой объективной ситуации и преисполнено поистине демони-
ческого порыва, силы для которого могли дать лишь народная сре-
да и почва.
По образу мыслей и действий тип личности, названный Мих. Лиф-
шицем «человеком тридцатых годов», к которому принадлежали
также многие герои позднего Нестерова—Корины, Мухина, Юдин,
Шадр, — не имеет ничего общего с умонастроением и прогнозами
авторов меньшевистского журнала «Мысль» или сменовеховцами,
убежденными в неизбежности термидора. Кто же оказался в конеч-
ном итоге прав? Меньшевики и сменовеховцы при всей реалистич-
ности их рассуждений ошибались—развитие СССР определялось не-
учтенными ими факторами. И все-таки термидор состоялся, вернее,
даже, цепь термидоров, завершившаяся августом 1991, октябрем
1993 годов. И поэтому «человек тридцатых годов» с его пафосом
«труда со всеми сообща», с его уверенностью в возможности побе-
ды над Хамом, который постепенно забирал в свои руки все бразды
правления и рычаги реальной власти, выглядит просто утопистом.
Но эта утопия не может быть отождествлена с обыкновенной
недальновидностью. Прыжок в царство свободы (через преступле-
ние, о котором шла речь выше), конечно, иллюзорен в конкретных
обстоятельствах времени. Однако в этой иллюзии (повторяю, свя-
занной с преступлением) таилась странная мощь убеждающей прав-
ды, запечатленной на портретах М. Нестерова.
Глядя сегодня на эти портреты, невольно думаешь, что не толь-
ко гений Ломоносова, но и Пушкина был бы невозможен без реформ
Петра, истощивших силы народа, сопровождаемых такими злодея-
Трагедия и классика
212
ниями, как убийство царевича Алексея. И без варварских методов
борьбы против варварства петровские реформы не могли быть осу-
ществлены. Значит ли это, что Пушкин оказывается как бы соучас-
тником удушения сына Петра Великого?
Вопрос, к сожалению, не так прост, как нам хотелось бы. И все-
таки, хотя гений Пушкина неразрывно связан с деяниями великого
и страшного царя, он есть живая альтернатива преступлению, а самая
характерная черта пушкинской лирики, в чем прав Белинский, —
чувство гуманной резиньяции.
Люди тридцатых годов искренне приняли индустриализацию за
реальный прорыв в будущее бесклассового, свободного общества.
Но именно поэтому они представляли собой противоположность
шариковщине, власти Хама, именно поэтому они находили в себе
силы для сопротивления, для творчества.
Означает ли сказанное апологетику сталинизма? Вопрос не бес-
почвенный, потому что сравнение Сталина с Петром таит опасность
перехода за грань, где начинается оправдание того, что оправдать
нельзя. Но как бы ни оценивать те или иные современные теорети-
ческие концепции нашего недавнего прошлого, бесспорно, Несте-
рову удалось удержаться на той грани, где переход одних черт в свою
противоположность — свободы в необходимость, творчества в пре-
ступление — не завершился ложной схемой и однобокой истиной.
Разумеется, создавая портреты, художник сознательно не вклады-
вал в них (в качестве идейной программы) всю ту проблематику, ко-
торая волнует ныне живущих. Цель была другая и на первый взгляд
более простая — художественное воссоздание правды портретиру-
емой модели. Нестеров сумел разговорить модель, предоставив ей
свободу саморазвития на полотне. Созерцая микрокосм воссоздан-
ной личности, мы идем в глубину неисчерпаемой реальной действи-
тельности, которая нашими формами мысли может быть схвачена
лишь очень условно и приблизительно.
Попробуйте в самом деле сформулировать «тему» или «идею»
портрета Мухиной. Вы либо должны будете ограничиться ничего не
говорящей банальностью типа «изображение красивого, волевого,
творческого человека», либо придете к таким абстрактным и дале-
ким от живописи формулировкам, как «конфликт и гармония про-
метеевского принципа цивилизации с принципом сродства всех
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
213
вещей, мимезиса». Правда, ложным будет и другой вывод, а имен-
но, будто указанных конфликта и гармонии вовсе нет в изображе-
нии. Все есть, но за ними стоят более сложные отношения реально-
сти, которые нельзя выразить несколькими фразами. Макрокосм
действительности представлен в замкнутом пространстве микрокос-
ма художественной формы.
Замкнутое пространство интерьера поздних портретов Нестеро-
ва, как о том говорилось выше, обладает вместе с тем свойством
пространства совершенно свободного, живого, в котором легко ды-
шать и нет желания выйти на «вольный воздух». Тогда как простран-
ство ранней живописи художника было смешано с настроением
мечтательности, устремления куда-то вдаль. Казалось, что настоя-
щая жизнь где-то за горизонтом, а изображение — символически
указывает на жизнь подлинную. У позднего Нестерова подлинное
существование именно здесь, в этой точке, в этом портрете, ибо
главный конфликт времени, главное его событие кроются не там, за
кулисами, а именно здесь, в этой личности, в ее конкретных конф-
ликтах и противоречиях. Такого художественного эффекта нельзя
добиться простым воспроизведением характерного жеста. Вся худо-
жественная организация полотна должна стать структурным вопло-
щением «идеи», содержащейся в том числе и в жесте.
Совсем не сложно заградить бесконечный горизонт стеной, до-
бившись таким способом «замкнутости» пространства. Также не
сложно сделать изображение плоскостным. Но настоящее искусст-
во классики начинается тогда, когда «замкнутость» превращается в
открытость, конечное — в бесконечное, а плоскость оказывается
экраном для игры зрительных представлений, раскрывающей глу-
бинные отношения реальности.
Открытость «закрытой», замкнутой в ограниченном простран-
стве поздней живописи Нестерова — не только структурный, но и
содержательный принцип его творчества. Эта живопись напоминает
нам о классике прежде всего потому, что предоставляет изображен-
ной модели свободу саморазвития, как бы защищая «права материи»
на такое саморазвитие. Причем свобода и права материи не выду-
маны художником, они почерпнуты из самой реальности. С другой
стороны, эта реальная свобода есть не что иное, как свобода обна-
ружения конфликта, противоречия. Трагический и, может, даже
Трагедия и классика
214
неразрешимый характер которых обнаруживается в таком, казалось
бы, формальном качестве полотен Нестерова, как их открытость,
производящая впечатление оптимизма, подлинной свободы и в то
же время незащищенности, открытости страданию.
Открытость, о которой идет речь, напоминает о христианской
самоотверженности, выраженной в идее непротивления злу насили-
ем. Ударили по одной щеке — подставь другую. Смирение? Да. И в
то же время первоначальное христианство обнаружило такую силу
непротивления, перед которой оказались бессильны все средства
террора императорского Рима. Подставить под удар другую щеку—
это открытость незащищенности. И самоотверженное сопротивле-
ние поистине героического свойства.
Открытость полотен Нестерова 30-х годов внутренне связана с
заложенной в них силой сопротивления. Речь идет, конечно, не о
политической программе, альтернативной сталинизму или хотя бы
халтуре псевдореализма и псевдоклассики, ненавистных престаре-
лому художнику. Скорее можно говорить о воздухе, каким дышали
люди того времени, —воздухе, нашедшем адекватное художествен-
ное воплощение в колорите поздних портретов.
Цвет на портретах Кругликовой, Мухиной, Павлова — изумите-
лен. Он притягивает глаз поразительно изысканной гармонией,
оживает не только для глаза, но и для уха, начинает звучать тонкой
мелодией. И если колорит работ 30-х годов оптимистичен, то так,
как оптимистична мелодия Моцарта, представляющая, по словам
Г.В. Чичерина, «синтез внешней ясности и внутренней загадочнос-
ти»1, ибо «мы спускаемся в такую глубину мировых сил, где единство
противоположностей реально»2.
По общему мнению советских критиков, писавших о М.В. Нес-
терове, его портрет академика И. Павлова 1935 года проникнут оп-
тимизмом, о чем свидетельствует и мажорная колористическая то-
нальность полотна. Многократно подчеркивалось, что лицо 82-лет-
него старика, изображенного незадолго до смерти, не несет на себе
печати обреченности, напротив, проникнуто волей к жизни, излу-
' Чичерин Г. В. Моцарт. Исследовательский этюд. М., 1973.
С. 129.
2 Там же. С. 127.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
215
чает творческую энергию. Все справедливо. Но, как и в музыке Мо-
царта, за этой внешней гармонией скрываются другие, более глубо-
кие пласты смысла и настроения.
Жест на втором павловском портрете играет не меньшую роль,
чем в портрете В.И. Мухиной. И этот характерный, энергичный жест
рук ученого наряду со светлым колоритом действительно придает
изображению оптимистически-волевое звучание. Но если на время
отвлечься от жеста, обратив внимание исключительно на лицо пор-
третируемого, впечатление окажется несколько иным. И не только
потому что художник не скрыл всех неизбежных примет возраста.
Как и в лице Мухиной, на портрете Павлова есть внутреннее движе-
ние, «диалектика души». Раскрывается для глаза эта диалектика в
том числе и с помощью жеста, контрастирующего с выражением
лица и в то же время удивительно соответствующего ему.
Художник не скрыл от зрителя такую сторону натуры своего пер-
сонажа, как ершистость, упрямство, даже некоторое фрондерство.
Ныне опубликованы письма И. Павлова к советскому правительству,
удивляющие смелостью. Ученый сопротивлялся режиму с большим
личным мужеством и самообладанием. И вместе с тем в мужествен-
ном противодействии было нечто от чудаковатости. Разве мог Пав-
лов на самом деле противодействовать системе с каким-нибудь се-
рьезным шансом на успех? Черты донкихотской, благородной и в то
же время несколько петушиной чудаковатости не укрылись от глаз
художника. Именно потому что он чрезвычайно уважал и любил
ученого, портрет Павлова стал очень открытым, когда и человечес-
кие слабости понимаются не как случайные, а приобретают смысл,
вес и значение.
Художник, конечно, не поддается соблазну педалировать «дон-
кихотские» качества своей модели, они даже не на втором, а на бо-
лее глубоком, третьем, четвертом плане изображения. Однако и
четвертый план выплывает в определенный момент, когда рассмат-
риваешь это полотно, на первый, и начинает звучать вначале неза-
метная, приглушенная, мелодия произведения. Затем сменяется
другой, более мажорной—и так далее, чтобы в процессе созерцания
полотйа развернуться в стройную симфонию, имеющую и свою глав-
ную мелодию, и контрастирующие взаимодействующие с ней иные
музыкальные темы.
Трагедия и классика
216
Донкихотско-фрондерские черты большого ученого раскрыва-
ются не для того, чтобы придать облику этого человека некую юмо-
ристическую тональность. Напротив, некоторая чудаковатость (что
подчеркнуто и жестом Павлова, достаточно необычным, не вписы-
вающимся в традиции «парадного» портрета) приобретает на полот-
не почти трагическое звучание. Ведь ученый вынужден был сотруд-
ничать с режимом!
Поскольку прямое сопротивление было исключено, то остава-
лось, по-видимому, лишь фрондерство, некое чудачество. Оно было
свойственно не только И. Павлову, а являлось достаточно характер-
ной чертой старой, честной русской интеллигенции в ситуации 20-
30-х годов. Вспомним о монокле Михаила Булгакова, который он
демонстративно носил тогда, когда уже простой галстук на шее ка-
зался вызовом общественному мнению. Не забудем и о том, что
М. Нестеров до своей смерти подписывал свои полотна (в том чис-
ле и павловский портрет, за который получил Сталинскую премию
первой степени) — «М. Нестеровъ», демонстративно не подчиняясь
новым правилам орфографии.
Не было ли подобное чудачество своеобразной привилегией, спо-
собом уклонения от ответственности, мнимым протестом, иначе гово-
ря, позой, скрывающей ложное положение? Не случайно, вероятно,
именно в 30-е годы (в статьях о немецких реалистах XIX века) Г. Лукач
резко и убедительно раскрывал действительный реакционно-эгоис-
тический смысл такого рода игры в независимость. Однако чудаче-
ство и донкихотство И. Павлова имело совсем иную и более сложную
природу. Ученый не прятался от жизни, от ее реальных трагедий.
Официальное искусство, что особенно заметно в кинофильмах
30-40-х годов, изображало, как правило, ученых в виде смешных чу-
даков. Драматическая коллизия, в которой оказалась как раз чест-
ная, сопротивляющаяся хамству интеллигенция, игнорировалась. На
нестеровском портрете 1935 года контраст между энергичным жестом
рук, сжатых в кулаки, и выражением лица, уже отмеченного призна-
ками предсмертной усталости, носит отнюдь не карикатурный и
даже не добродушно-юмористический характер. Конечно, нельзя
приписывать этому контрасту и обнаженно-трагическое звучание.
Вглядываясь в изображение, невольно начинаешь размышлять
о стене, сталкиваясь с которой это упорство разбивалось, превраща-
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
217
ясь в донкихотские жесты (вспомним, например, несколько коми-
ческую историю протеста И. Павлова против избрания Н. Бухарина
в академики: непреклонный старец почти подружился с «любимцем
партии» после личного знакомства с ним).
Протесты Павлова и подобных ему (увы, немногих) честных ста-
рых интеллигентов уходили в песок, не находили массовой поддер-
жки не только потому, что существовал террор тайной политичес-
кой полиции, что некоторых избранных, сохраненных для науки,
замуровывали заживо в невидимой, но практически непроницаемой
скорлупе. Была и другая, более глубокая, внутренняя причина, ко-
торая делала протест бессильным. Вернее, множество причин, столь
различных, что они, казалось, взаимно отрицали друг друга.
Читая воспоминания М. Нестерова, натыкаешься на такой ха-
рактерный эпизод: известный художник Н.А. Ярошенко (генерал
артиллерии на царской службе!) отказывался по идейным причинам
писать портреты членов царской семьи и не приходил на открытие
выставок тогда, когда их посещала царская фамилия. Такое поведе-
ние не казалось чудачеством, оно было естественным для самых
широких кругов русского порядочного общества: оправдание судом
террористки В. Засулич благодаря усилиям ее защитника, адвоката
А.Ф. Кони — характерный тому пример. А быть обвинителем Засу-
лич не соглашался никто из юристов, потому что иначе их просто пе-
рестали бы принимать в порядочном обществе.
Вся прогрессивная свободомыслящая российская интеллиген-
ция так или иначе ответственна за революцию. И ее нельзя осуждать
за это, потому что выбирать приходилось между революцией и сми-
рением с действительностью, где хозяевами положения являлись
люди, подобные фельдшеру Хоботову из повести А. Чехова. Россий-
ская интеллигенция в целом не приняла подобного примирения —
и была опрокинута событиями 1917-го и последующих годов. При-
чем она и достойна, и недостойна столь печальной участи. В конеч-
ном итоге все лучшее, что несла интеллигенция, потерпело в конце
30-х и 40-е годы окончательное и, кажется, бесповоротное пораже-
ние. «Старая интеллигенция, — восклицал Н. Устрялов в разгар ин-
дустриализации,— она либо перерождается, либо гибнет»1. Но, мо-
1 Устрялов Н.В. Наше время. Шанхай, 1934. С. 54.
Трагедия и классика
218
жет быть, это поражение было парадоксальной формой спасения
если не самой интеллигенции, то того нового духовного содержа-
ния, которое она принесла в российскую, и не только российскую,
действительность?
Такие мысли приходят в голову опять-таки при чтении воспоми-
наний М. Нестерова о судьбе русского передвижничества. Ведь пол-
ная победа этого общественно-художественного движения оберну-
лась иссяканием его духовного начала. И не только потому, что все
в мире, имеющее начало, неизбежно имеет и конец. Передвижни-
чество иссякло по причине ограниченности его духовного содержа-
ния, оно пережило само себя. Печальная судьба! До известной сте-
пени то же самое можно сказать и обо всей российской интеллиген-
ции. Но лишь до известной степени!
Духовное содержание русского искусства и литературы, опроки-
нутое волной уравнительного движения снизу, не было все же унич-
тожено сталинской диктатурой. Кстати, и сама эта диктатура вос-
принималась, например, М. Нестеровым и М. Булгаковым как в из-
вестной мере оправданное возмездие не в меру «революционным»
художественным направлениям типа авангардизма в живописи и
РАППа в литературе и критике. В дневнике жены М. Булгакова чи-
таем следующие строки: «Говорят, что арестован Авербах. Неужели
пришла судьба и для них? (...) Да, пришло возмездие. В газетах очень
дурно о Киршоне и об Афиногенове»1. «По слухам, — продолжает
Е. Булгакова в записях 1937 года, — арестован Литовский. Ну, уж это
было бы слишком хорошо»1 2.
И у М. Нестерова, немало претерпевшего от яростных «иконобор-
цев» 20-х годов, мы сегодня читаем строки, звучащие зловещим про-
рочеством: «...не за горами то время, когда «приедет барин» и разбе-
рет, в чем дело... кого надо миловать и кого наказать за легкомыслие
и пристрастие к Татлиным и К0. Так-то!»3. Увы, это время действи-
тельно было не за горами. Оно не принесло радости ни М. Булгако-
ву, ни, надо думать, М. Нестерову. Опуститься до участия в очеред-
1 Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 140.
2 Там же. С. 166.
3 Нестеров М. Письма. М., 1988. С. 331.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
219
ной идеологической кампании, пусть и с другим знаком, пусть и
организованной против их непосредственных мучителей, они не
могли.
Вот еще эпизод, описанный Е. Булгаковой. Готовилась расправа
над влиятельным драматургом В.М. Киршоном на собрании москов-
ских драматургов. Уговаривают выступить и М. Булгакова, сказать,
что Киршон был главным организатором травли писателя. «Это-то
правда, — замечает жена Булгакова, — но М.А. и не подумает выс-
тупать с таким заявлением и вообще не пойдет. Ведь раздирать на
части Киршона будут главным образом те, кто еще несколько дней
назад подхалимствовали перед ним»1.
Вскоре стало выясняться, что кровавая мясорубка мало что ме-
няет по существу. По мнению М. Булгакова, «раз Литовский опять
всплыл, опять получил место и чин, — все будет по-старому. Литов-
ский — это символ»2. Символ диктатуры приспособленцев, лишен-
ных даже тени каких-либо действительных убеждений. Что же ос-
тавалось делать? Один из собеседников М. Булгакова убеждает его:
«Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо!»3.
Судьба в 30-е годы оказалась более благосклонной к М. Нестеро-
ву, чем к М. Булгакову. Однако и М.В. Нестеров «не сдался». Он даже
не написал своего «Батума» (пьеса о Сталине, которую под давлени-
ем безысходных обстоятельств вынужден был написать М. Булга-
ков) . Своеобразная и проникновенная «открытость» его портретов
действительно несет в себе дух христианского самоотречения. И
хотя в этих светских портретах нет ничего от религиозной символи-
ки, трудно отделаться от впечатления, что именно в своем позднем
творчестве художник наиболее близок к первоначальному, истин-
ному христианству, Евангелию. Зазвучала тема реальной трагедии,
в том числе признание в какой-то мере правомерности и даже не-
избежности «опрокидывания» передовой русской интеллигенции, ее
исторического поражения. И вместе с тем живопись Нестерова убеж-
дает, что это «опрокидывание» не было поражением, хотя его труд-
, 1 Дневник Елены Булгаковой. С. 141.
2 Там же. С. 205.
3 Там же. С. 147.
Трагедия и классика
220
но назвать победой. Не найдя возможности для открытого сопротив-
ления, такие люди, как М. Нестеров, М. Булгаков, И. Павлов, имен-
но в 30-е годы создали лучшее, что есть в их творчестве.
Поражение, которое испытала старая демократическая интелли-
генция, явилось для нее одновременно трагическим познанием сво-
ей ограниченности, малости своих горделивых прошлых притязаний
перед реальным грандиозным и ужасным ходом мировой истории.
Конечно, в целом и народ, и интеллигенция были обмануты. И все
же ограничиваться одним таким утверждением явно недостаточно.
Народ соприкоснулся в конкретной жизни с тем, чего не видели и
не могли видеть обманувшие его вожди. По-настоящему крупные ху-
дожники и писатели показали неведомую вождям истину, которая
была видна только снизу.
Описываемая ситуация имеет общечеловеческий смысл, выхо-
дящий за границы конкретных событий зо-х годов. Разве не был
обманут Христос одним из своих учеников? Больше того, он как бы
добровольно позволил себе быть обманутым, по-видимому, совер-
шенно стихийно отдавшись воле событий. Как будто бы он хотел
быть распятым и сам шел навстречу страданию. Таково свойство
всякого подлинного энтузиаста, которого Джордано Бруно сравни-
вал с мошкой, устремляющейся к сжигающему ее огню: «Обыкно-
венно считается, что если бы мошка предвидела свою гибель, она не
только не летела бы на огонь, но улетела бы от него, считая злом
потерю собственного бытия от разложения в этом враждебном огне.
Но ей не меньше нравится исчезнуть в пламени любовного жара, —
продолжает Дж. Бруно, понимая под любовью род интеллектуально-
го энтузиазма, — чем лишиться созерцания красоты этого редкого
сияния, при котором, по природной склонности, по выбору воли и
расположению тягостной судьбы, она действует и умирает радост-
нее, решительнее и смелее, чем от какого-либо другого удоволь-
ствия, предлагаемого сердцу, — от свободы, предоставляемой духу,
и от жизни, предназначаемой душе»1.
Сейчас наш народ упрекают за легковерие, за то, что он, подоб-
но мошке, позволил сжечь себя в огне утопии. В какой-то мере эти
упреки справедливы, хотя в целом народ ни в 20-е, ни в 30-е годы не
’ Бруно Дж. О героическом энтузиазме. М., 1953. С. 92.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
221
был охвачен желанием сгореть в огне мирового революционного
пожара. Ужасные события коллективизации и индустриализации
совершились во многом потому, что у большинства людей просто не
было реальных возможностей воспрепятствовать им. Но этой воз-
можности не было и потому, что народ, уставший от войн и револю-
ций, смирился и принял муку если и не добровольно, то все же как
искупление. За что? Может быть, за героическую и трагическую
попытку стать свободным и дерзким по-прометеевски, за попытку
создать общество равенства и свободы от корысти, за попытку стать
господином своей судьбы и природы.
Настроения гуманной резиньяции1, понимание трагичности вся-
кой прометеевской дерзновенности, заложенной в ней глубокой
вины были свойственны «человеку тридцатых годов». Вместе с тем
тридцатые годы были временем не только искусственно нагнетаемо-
го, но и истинного энтузиазма. Они явились тем кратким мгновени-
ем истории, когда народ уже почувствовал некоторые плоды своей
героической попытки, но не был еще раздавлен, смят, развращен ее
неизбежными последствиями. Эти краткие моменты мировой исто-
рии, которые Мих. Лифшиц в зо-е годы выразил формулой «уже, но еще
не...», создают основу возникновения классического искусства.
В отличие от псевдоклассики ликующего и не знающего сомне-
ний соцреализма в его конъюнктурном варианте полотна Нестеро-
ва излучают свет тех мгновений жизни, когда народ или отдельная
личность уже прониклись высоким энтузиазмом, но еще не сломле-
ны его трагическими последствиями. Изумительный свет подобной
классики всегда внутренне трагичен, как трагична, положим, «Сик-
стинская мадонна» Рафаэля—счастливая молодая женщина, держа-
щая на руках прелестного сына, обреченного быть распятым.
М. Нестеров не изображал сталинских лагерей и, вероятно, не
думал о них, когда создавал свои шедевры. Но художественная струк-
тура его портретов, их внутренняя форма, заключают в себе те ис-
тины, до которых мы только докапываемся и никогда не сможем
1 По мнению Мих. Лифшица, высказанному в 1935 году, гу-
манная резиньяция есть свойство пушкинской классики как
глубокое отражение трагических противоречий истори-
ческого развития. См.: Пушкинист. Вып. i. М., 1989. С. 406.
Трагедия и классика
222
вполне исчерпать. Обретенная невиданная ранее свобода и раско-
ванность (естественное саморазвитие материи, обретшей свои пра-
ва), дерзновенность творческого порыва, оптимистический коло-
рит, радость бытия и особая «открытость» портретов, их незащищен-
ность заставляют вспомнить о христианском самопожертвовании,
об открытости страданию, о движении навстречу ему.
С подлинно классическим искусством мы встречаемся не там,
где формально фиксируемая «линейность» приходит на смену «живо-
писности», а там, где открытость формы есть открытость страданию,
тому страданию, что открывает окно в бесконечно разнообразный,
сияющий всеми красками, свободный и радостный мир. Прекрас-
ный мир классики проникнут истинным, а не мелодраматическим
трагизмом.
Но все же есть ли трагизм в портретах Нестерова зо-х годов? В
их пространстве, как уже было сказано, легко дышится, и человек
чувствует себя в нем раскованно, даже радостно. Нет и следа роман-
тической ужасной бездны, которая поглощает и уничтожает все
высокое и благородное. Следует, однако, учесть, что изображение
таких пугающих бездн характерно (по мнению, например, В. Бень-
ямина1) для искусства барокко, противоположности высокой клас-
сики. Но если в ней нет прямого изображения уничтожающей во-
ронки бытия, это не значит, что в классике бездна совершенно от-
сутствует. Есть она и у М. Нестерова.
«Бездна» тридцатых годов—это власть Хама, растущая из самих
народных недр, когда был перевернут пласт общественной жизни,
когда все старое общественное бытие оказалось глубоко перепахан-
ным. В литературе он уже являл свое обличие в образе шариковых,
швондеров, героев Зощенко. Его действительное, ужасное для судеб
страны лицо скрывалось под маской революционности, беспощадно-
сти и непримиримости, нередко вполне искренних. Но в изобрази-
тельном искусстве это зло не поддавалось прямому изображению —
частично по причине специфики этого вида искусства, частично по
причине раздвоенности, бесформенности того, что, подтачивая ос-
новы человеческого общежития, таило в себе катастрофу.
1 См.: Benjamin W. Ursprungdes deutschenTrauerspiels. Fran-
kfurt am Main, 1963.
Человек зо-х годов.
Портреты М.Нестерова
223
М. Нестеров даже не ставил задачу прямого или косвенно-алле-
горического изображения трагической стороны жизни. И в этом был
не только личный, субъективный выбор: само зло еще не стало изоб-
разительно-отражаемым (если говорить не о сатирически-карика-
турном, а именно о художественном отражении, специфичном для
изобразительного искусства). Но оно уже поднималось во весь рост
и наложило печать на все явления человеческой жизни. Настоящее,
высокое искусство «не заметить» его не могло. Ему еще нельзя было
заглянуть в глаза (не только из-за страха перед уничтожением, но
и потому что зло тесно переплеталось со своей противоположнос-
тью, прометеевским нравственным порывом). Для того чтобы уви-
деть и изобразить «медузу Горгону» нашей истории и нашего бытия,
потребовался щит Персея. Таким щитом и стало искусство М. Не-
стерова зо-х годов.
Оно отражает лишь отблески пожара, полыхавшего в стране.
Вернее, свет пожара освещает особым, ярким светом портреты Не-
стерова. На них мы не видим кровавых языков пламени. Напротив,
свет ровный, почти успокаивающий, почти примиряющий с жиз-
нью. И тем не менее он пронизывает, подобно рентгеновским лу-
чам, и делает изображенные фигуры такими открытыми и незащи-
щенными, что им буквально некуда скрыться. Да они и не хотят
скрываться, они сами нуждаются в том свете, чтобы жить, творить
свободно и радостно, но пасть от неожиданного и каждый миг ожи-
даемого удара неумолимой судьбы. Герои портретов позднего Не-
стерова, может быть, еще и не познали вполне тайну свободы и тай-
ну смерти, однако они открыты ей. Как энтузиаст Дж. Бруно, о ко-
тором великий Ноланец писал:
«Для разума, для сердца, для души
Нет наслажденья, жизни и свободы,
Что были б так желанно хороши,
Как те дары судьбы, страстей, природы,
Которые столь щедро за мой труд
Мне муку, тяготу и смерть несут!»1
1 Бруно Дж. О героическом энтузиазме. С. 91.
Трагедия и классика
224
«...Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
Трагическая тема в искусстве П. Кончаловского
и О. Мандельштама зо-х годов
История человечества останется загадкой до тех пор,
пока мы будем продолжать истолковывать ее с помощью методоло-
гии, заимствованной из естественных наук или сформировавшейся
под их влиянием. Таков исходный тезис одного из самых крупных
историков XX века—А. Дж. Тойнби. Естественно-научный детерми-
низм «не работает», когда его сознательно или бессознательно при-
лагают к истории развития общественного организма. Его можно
назвать «философией результата» (см. первую главу): если наше или
чье-нибудь действие рационально, умно, полезно, необходимо с
точки зрения личной выгоды или всемирно-исторической, то оно,
согласно детерминизму, непременно должно привести к положи-
тельному результату. В случае когда результат отрицательный, дей-
ствие, породившее его, без лишних размышлений следует (якобы!)
оценивать как безусловно вредное.
А. Тойнби, разумеется, не отвергает детерминизм как таковой,
но в истории человечества он проявляется крайне причудливо и
часто даже в прямо противоположном себе виде. Ибо результат са-
мых благородных усилий нередко оказывается трагическим: люди,
действующие по совести, как правило, погибают и даже увлекают
за собой многих невинных.
Общеисторическая схема, на которую ориентируется англий-
ский ученый, заключена уже, по его мнению, в древней мифологии.
Все великое в мире, согласно мифологическим представлениям,
совершается благодаря страшному испытанию сил человека. Когда
человечество или отдельная личность находятся в относительно
сносных условиях, они не деятельны и не продуктивны. К деятель-
ности человека или общество побуждает Вызов со стороны приро-
ды или общества. Спасение оказывается возможным лишь благода-
ря нетрадиционному, творческому Ответу, который либо находит
данный общественный организм, либо гибнет. Однако, продолжа-
«... Пишется— казнь,
а читается правильно — песнь»
225
ет Тойнби, в любом случае, даже самом благоприятном, «за этот
прорыв приходится платить». Платить именно за то, что выход най-
ден, платить за творческое решение, нарушающее обычную, тради-
ционную логику природы и общества. «...И платит не Бог—жесто-
кий хозяин, — продолжает А. Тойнби изложение мифологической
схемы, родственной многим религиям, — жнущий там, где не Он
сеял, и собирающий там, где не рассыпал (Матф. 25, 24), — но слуга
Божий, сеятель-человек, который за все расплачивается сполна»1.
Далеко не всегда из мирового хаоса рождается «танцующая звез-
да» (Ницше). Вызовом оказывается не вообще вес ужасное и жесто-
кое, а только то испытание, которое побуждает к творчеству. Хаос
еще должен дорасти, подняться до трагедии, содержащей в себе
высокий смысл. С другой стороны, именно удар, необычайный по
своей жестокости и разрушительной силе, который Персия нанес-
ла Греции в V веке до н. э., «стал прелюдией к высочайшим дости-
жениям, возможно, неповторимым в истории человечества»1 2.
Ужасного, страшного предостаточно и в наши дни; людей бла-
гополучного Запада не покидает ощущение катастрофы, таящейся
за маской счастья (что, по Т. Адорно, и отражает искусство авангар-
да). Однако ужасное теперь остается просто ужасным, не поднима-
ясь до трагедии — это вовсе не то демоническое Зло, которое, явля-
ясь двигателем истории, порождает Добро. Именно поэтому соглас-
но популярным сегодня представлениям наступил конец истории,
по крайней мере комфортабельный, счастливый Запад выпал из нее:
интегрировав все грозящие ему разрушительные силы, западное
общество как бы лишило себя вызова, а тем самым и возможности
отвечать на вызов.
Остановилась ли история для нашей страны в 30-е годы, или,
напротив, вопреки распространенным сегодня представлениям мы
как раз оказались в эпицентре истории, трагической кульминаци-
ей XX века? Если верно последнее, то категория трагического сохра-
няла свое значение хотя бы для некоторых произведений отече-
ственного искусства. Тогда как для всего современного мира она, по
1 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. т.
2 Там же. С. 139.
Трагедия и классика
226
авторитетному утверждению Т. Адорно, уже более недействительна:
«Вспомним о категории трагического. Она обычно воспринимает-
ся как эстетическое выражение зла и смерти и до тех пор должна
оставаться в силе согласно этим представлениям, пока существуют
зло и смерть. Между тем эта категория ныне уже больше невозмож-
на. (...) Без сомнения, негативные произведения искусства паро-
дируют сегодня трагическое. Все искусства ныне скорее скорбны,
чем трагичны, в особенности те, что кажутся гармоническими и
светлыми»1.
Итак, что господствовало в индустриализации и коллективиза-
ции 30-х годов? Разрушительный хаос или зарождающиеся черты
того вызова, о котором пишет А. Тойнби? Сам вопрос представляет-
ся сомнительным потому, что в нем можно подозревать скрытую
апологетику сталинизма. Заранее оговорюсь, что вовсе не в Стали-
не, его окружении, вообще военно-бюрократической системе следу-
ет искать источник, побудительный мотив для Ответа, содержаще-
гося в лучших произведениях искусства 30-х годов.
И если зло действительно в какой-то мере являлось стимулом
развития (пусть очень уродливого развития), то оно более значи-
тельно, чем любой аппарат насилия сам по себе, какой бы террори-
стической силой он ни обладал. Значительно в смысле реальной
роли зла, о котором идет речь, для судеб человечества. Аппарат на-
силия являлся лишь следствием более глубинных процессов, проис-
ходивших в стране и во всем мире. Без них насилие просто не появи-
лось бы на свет.
Удар необычайной силы был нанесен по нашему обществу в 20-
30-х годах не внешним врагом, а теми, кого А. Тойнби называет
«внутренним пролетариатом», то есть исходил из той части народа,
что была захвачена и поднята на поверхность революцией. «...Боль-
шевистская революция путем страшных насилий освободила народ-
ные силы, призвала их к исторической активности, в этом ее значе-
ние, — подчеркивает Н. Бердяев и продолжает: —Переворот же Пет-
ра, усилив русское государство, толкнув Россию на путь западного
и мирного просвещения, усилил раскол между народом и верхним
'Adorno Th. W. Asthetische Theorie. Frankfurt am Main, 1974.
S. 49-
«... Пишется— казнь,
а читается правильно — песнь»
227
культурным и правящим слоем»1. Большевистская революция, писал
Бердяев в 1937 году, примыкая в этом отношении к сменовеховцам,
спасла страну: «Народные массы были дисциплинированы и органи-
зованы в стихии русской революции через коммунистическую идею,
через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга
коммунизма перед русским государством. России грозила полная
анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистичес-
кой диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласил-
ся подчиниться»1 2.
Вместе с тем революция—это стихия зла: «В революции проис-
ходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы
сами творят зло». В 30-е годы, в период массового раскулачивания,
зло многократно усилилось, обрушилось на сам народ. И хотя в 30-х
годах работал мощный репрессивный аппарат, отделившийся от
народа и вставший над ним, все же прав был и Бердяев, когда писал,
что «насилие над крестьянами совершалось своими людьми, вышед-
шими из народных низов, не барами, не привилегированной «белой
костью». Крестьянину больше не говорят «ты», а если говорят, то и
он может говорить «ты»3.
Народный характер революции, возбужденной и затем укрощен-
ной большевиками, обусловил главное зло нашей 75-летней истории?
При всей однобокости, недостаточности этого тезиса за ним угады-
ваются реальные противоречия: зло оказывается более многомер-
ным явлением, чем государственная машина насилия. Вызов, на ко-
торый искало Ответ высокое искусство, был сделан не НКВД или
КГБ, а разбушевавшимся народным морем. И если Ответ принял в
ряде случаев формы, напоминающие о высокой классике, то это
опять-таки не следствие господствовавшей репрессивно-мифологи-
ческой идеологии, последняя скорее культивировала лжеклассику.
Поэтому неверно было бы давать ответ в общей форме, видеть
в искусстве 30-х годов торжество бюрократической мифологии, ко-
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,
1990. С. 12-13.
2 Там же. С. 109.
3 Там же. С. ш.
Трагедия и классика
228
торой противодействует только «подпольное,» совершенно далекое
от революции и враждебное ей художественное творчество. Офици-
ально поощряемая ориентация на классические традиции приводи-
ла очень часто к печальному результату. И вместе с тем тенденция
к возрождению классической художественной формы все же суще-
ствовала как бы независимо от официальной и даже в известной
мере вопреки ей. Она пробивала дорогу спонтанно — и у таких при-
знанных властью, обласканных талантов, как С. Прокофьев, Д. Шо-
стакович, П. Кончаловский,—и у загнанных в «подполье» М. Булга-
кова, О. Мандельштама. Впрочем, речь может идти лишь о тенден-
ции (в особенности, если иметь в виду поэзию Мандельштама), не
более того.
Достаточно ощутимые признаки возрождения или, говоря более
осторожно, некоторого приближения к классике и реализму очевид-
ны в живописи одного из самых даровитых «бубнововалетовцев» —
П. Кончаловского. Если ранний М. Нестеров, по его собственному
признанию, стоял где-то между передвижниками и «миром искусств»,
не принимая целиком ни первого, ни второго направления, то «се-
заннизм» у представителей «Бубнового валета» был сознательно
сформулированной программой. Последователи французского ма-
стера, как и он сам, пытались преодолеть субъективизм декадентс-
кого искусства, ставя главной целью передачу вещного начала бытия.
Однако вещность как принцип и метод изображения у «сезаннис-
тов» вовсе не синоним воссоздания объективной жизни предмета —
отличительного признака высокого реализма.
В 2о-х годах П. Кончаловского советские критики (А.В. Луначар-
ский) упрекали если не за недостаток содержательности и подлин-
ной объективности изображения, то за чрезмерную, на их взгляд,
физическую телесность изображения, когда на первый план выхо-
дили именно чувственная сторона и радость бытия за счет недоста-
точности воссоздания глубинного смысла. В 30-е годы живопись
П. Кончаловского не стала более мрачной, ее краски сохранили мощ-
ное мажорное звучание. И вместе с тем она обрела новое качество,
о чем может свидетельствовать, например, известный натюрморт
«Зеленая рюмка».
Если у раннего П. Кончаловского зритель почти физически ося-
зал «вещность» мира, то в натюрморте, о котором идет речь, заго-
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
229
ворил сам предмет. Он ожил, приобрел способность к самодвиже-
нию. В отличив от Р. Фалька, у которого предмет шепчет что-то та-
инственное, загадочное, почти даже мистическое, предметный мир
позднего П. Кончаловского совершенно реален, даже обыден. Но в
изображении появляется особая глубина, обязанная отнюдь не стро-
го геометрической перспективности построения. Это та глубина,
которая появилась, например, у бывшего акмеиста О. Мандельшта-
ма (который также ориентировался на воспроизведение вещности
мира) именно в 30-е годы, о чем свидетельствует исследователь его
творчества А.В. Македонов1. Глубина, о которой идет речь, есть рож-
дение в изображении второго плана, более емкой и значимой реаль-
пости, не отделенной, однако, от первого, непосредственно созер-
цаемого плана, а пронизывающей, как доказывает Николай Гартман
в своей «Эстетике», первый план и определяющей его живописно-
художественное качество.
Следует отметить, что второй план—не воплощение сознатель-
ной программы художника или, во всяком случае, не сводится к за-
мыслу, его действительное содержание гораздо шире (к сожалению,
концепция «вторичного сюжета» Э. Панофского недостаточно учи-
тывает это и потому имеет тенденции к сужению «вторичного сю-
жета» и даже третьего, стоящего за ним более глубокого пласта ху-
дожественного содержания именно до программы художника). Со-
держание, заключенное во «втором плане», художественно в той
степени, в какой оно бесконечно, в какой предмет приобретает спо-
собность говорить своим собственным языком. Но о чем рассказы-
вает конкретная, изображенная П. Кончаловским, зеленая рюмка?
Давно известно, что предметы в иных натюрмортах дают боль-
шее представление о человеческом мире, чем фотографически точ-
ное, протокольное описание и воссоздание личности. Правда, здесь
должна быть мера, ибо слишком «разговорившийся» предметный
мир теснит человека, превращает его почти в неодушевленный пред-
мет. Классическое искусство античности и Возрождения характери-
зовалось той удивительной мерой, когда жизнь предметного мира
не стесняла свободы человеческой личности, а являлась ее развити-
ем, дополнением и одновременно ограничением, как бы доказывая,
1 Македонов А.В. Свершения и кануны. Л., 1985. С. 81-82.
Трагедия и классика
230
что бытие шире переживаний и движений души субъекта. С другой
стороны, предметный мир «расколдовывался», получал живописную
глубину именно потому, что в центре искусства находился человек
во всей бесконечности его содержания, понятый и изображенный
как квинтэссенция бесконечного бытия, как бесконечность мира,
собранная в фокусе микрокосма.
Подчеркну, однако, снова, что бесконечность классического ис-
кусства качественно отлична от абстракции бесконечности, от беско-
нечности как демонстративной программы, знаковым образом пред-
ставленной на полотне. И если живопись П. Кончаловского в 30-х го-
дах действительно приобретала нечто от классики (хотя бы в виде
тенденции), то ей должна быть свойственна именно содержательно-
конкретная бесконечность. Причем бесконечность смысла, найден-
ная в современном человеке, дает натюрморту действительную жи-
вописную глубину, предоставляет изображенному предмету свободу
говорить свойственным ему языком. Если наше предположение вер-
но, то ключ к пониманию живописных достоинств натюрморта «Зе-
леная рюмка» может быть обнаружен в портретах кисти Кончалов-
ского 30-х годов. Среди которых, конечно, выделяется портрет В. Мей-
ерхольда (на экспозиции «Советское искусство 20-30-х годов» в «Доме
художника» он расположен рядом с упомянутым натюрмортом).
На фоне огромного ковра, яркие краски которого производят
оптимистически-беззаботное впечатление, лежит усталый, осунув-
шийся человек в темно-сером костюме и обуви, держа в руке доро-
гую трубку. Портрет сделан незадолго до ареста знаменитого арти-
ста и режиссера. В. Мейерхольд был уже окружен зоной отчужден-
ности, он, конечно, предчувствовал свою судьбу. «Мы ясно видим и
усталость, и тревожную озабоченность, и душевный надлом Мейер-
хольда. Но одновременно ощущаем неистребимую силу его светло-
го творческого духа, угадываем непрерывную работу его постоян-
но ищущей мысли... Утверждающее начало берет верх в этом соткан-
ном из противоречий образе»1. Эпиграфом к портрету Л. Зингер
предлагает взять слова самого Мейерхольда: «Надо преодолеть ус-
талость, надо заглушить страдание верой в то, что жизнь, интенси-
фицированная нашей волей, не должна и не может допустить при-
1 Зингер Л. Указ. соч. С. 60-61.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
231
хода ненавистного нам конца. Да здравствует жизнь!»1.
Но вглядитесь в лицо артиста. Оно страшно. Это не горе, это
крушение. Когда появилась возможность писать более откровенно,
Л. Зингер охарактеризовал изображенного на портрете Кончалов-
ского человека как «сокрушенную... террором» жертву1 2. Мейерхольд
лежит в костюме, предназначенном для выхода, но знает, что его
больше уже не призовут. Все, по-видимому, кончено. Правда, на
изысканном маленьком столике, покрытом белой скатертью, доро-
гой табак и роскошная книга, рядом великолепный пес, выхолен-
ный, породистый, домашний, милый и уютный. И, наконец, ковер,
в мажорных красках которого, по мнению А. Каменского, — симво-
лическое выражение творческих дерзаний артиста, его бессмертия:
«В горьких складках усталого лица Мейерхольда, во всей его позе,
одновременно небрежной и напряженной,— отсветы тревог и печа-
лей человека, переживающего трудную пору жизни. Но этот порт-
рет— не тризна, не элегия. Темный силуэт фигуры окружен, запол-
нен буйством причудливых красочных сочетаний, стремительным
переплетением узоров орнамента. Конечно, рядом с праздничным
весельем красок особенно остро чувствуешь смятенность и тяжкие
думы изображенного человека. Но вместе с тем вся эта причудливая
игра орнамента, сталкивающихся, переплетающихся линий, форм
и красок каким-то неожиданным, но очень метким ходом направ-
ляет наши мысли на воспоминания о красоте и силе воображения
режиссера, его искрометной выдумке, виртуозном артистизме и
блистательной творческой фантазии»3. Но так ли это?
«Вокруг фигуры, — пишет Л. Зингер, — создается необычайно
интенсивная пространственная среда. Сама же фигура одетого в
темно-серый костюм и черные ботинки Мейерхольда оказывается
как бы в центре этого опоясывающего ее лучезарного потока. Она
остро и многократно контрастирует с ним»4. Что, однако, выража-
ет этот контраст? Вспомним, например, о словах Ван Гога (по поводу
1 Там же. С. 60-61.
• 2 Пути и перепутья. М., 1991. С. 222.
3 Каменский А. Вернисажи. М., 1974. С. 300.
4 Зингер Л. Указ. соч. С. 58.
Трагедия и классика
232
его картины «Кафе в Арле»): контраст легкомысленно-веселого об-
щего фона со своей противоположностью, контраст, выражающий,
по мнению голландского художника, то состояние, когда можно
сойти с ума или совершить преступление.
Конечно, в картине Кончаловского нет напряженного до край-
ности, почти до патологии, экстаза голландского живописца. Одна-
ко в ней угадывается тот страшный перелом в жизни личности, ког-
да трагедия особенно остро чувствуется на фоне такой обыденной,
такой безмятежной обстановки. Все говорит нам, что ничего не из-
менилось, все осталось на своих местах. И в то же время весь мир
зашатался и поплыл перед глазами. «Арест!! Сказать ли, что это пе-
релом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что
это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может
освоиться и часто сползает в безумие?»1. Мейерхольд еще не арес-
тован, он, может быть, еще продолжает надеяться и в то же время
всем своим существом постигает, «что такое арест: это ослепляющая
вспышка и удар, от которого настоящее разом сдвигается в прошед-
шее, а невозможное становится полноправным настоящим»1 2.
Контраст безмятежной веселости привычного уюта с надвигаю-
щейся катастрофой—вот сдвиг сознания, запечатленный на полот-
не Кончаловского. Описанное Солженицыным на десятке страниц
дано здесь в одном зримом мгновении. Правда, у Кончаловского нет
патетики, нет того обилия восклицательных и вопросительных зна-
ков, которыми наполнен текст писателя. Преобладающее настрое-
ние — какая-то странная, почти загадочная гармония, как бы даже
отрицающая трагедию, снимающая ее. И потому «в произведениях
Кончаловского нередко словно бы слышишь своеобразную пере-
кличку с произведениями классиков»3. Что это за гармония, вырас-
тающая из описанного выше контраста?
— Торжество творческой личности над смертью, — отвечали
многие советские искусствоведы. А затем в период гласности и пере-
стройки они же, как Л. Зингер, меняют плюс на минус и видят в изоб-
1 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. I—II. М., 1990. С. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Каменский А. Вернисажи. С. 300.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
233
ражении не оптимизм, а «жертву террора». И писатель убеждает, что
в моменты жизни, подобные запечатленному на полотне Кончалов-
ского, когда люди часто сползают в безумие, говорить о каком-то
торжестве было бы примером нравственной глухоты. Лишь созна-
тельно жертвующие собой революционеры «шли в тюрьму—с гор-
достью и радостью»1. Но какая же гордость и радость могли быть у
Мейерхольда, сознающего свою полную невиновность перед режи-
мом, который его сотрет в порошок? И если в портрете Кончаловс-
кого присутствует гармония, то, выходит, художник смягчил реаль-
ную трагедию, подменив ее красочно-успокаивающей иллюзией...
Вне всякого сомнения, личное мироощущение П. Кончаловского
нельзя отождествить с гневно-пророческим, беспощадным в своей
обличительности тоном «Архипелага ГУЛАГа». И все-таки глаз худож-
ника запечатлел то страшное мгновение в жизни человека, когда ру-
шится вся Вселенная. Вглядитесь еще раз в лицо режиссера, и не надо
лишних слов, они уже сказаны Солженицыным. Безотчетный ужас,
по словам самого Мейерхольда (процитированным в книге Л. Зин-
гера), овладевал им незадолго до ареста. Да, он действительно пы-
тался «интенсифицировать жизнь» своей волей, полагая, вероятно,
что человек, особенно если он революционер и комиссар, может все.
Но самовнушение мало помогало2. Разрушалось нечто большее, чем
индивидуальная жизнь.
В последние годы историки ведут дискуссии о нетрадиционном
термидоре зо-х годов3, который, в частности, привел к физическо-
му уничтожению многих «якобинцев» и революционных фанатиков.
Вспомним портрет Мейерхольда работы П. Вильямса. Перед нами—
комиссар от искусства в кожаном пальто. Вот эпизод из жизни ко-
миссара, рассказанный И. Эренбургом: «Один военмор принес мне
пьесу для детей; все персонажи были рыбами (меньшевики—кара-
< 1 Солженицын А. Указ. соч. С. 26.
2 «Рассказывали, — пишет в своем дневнике Е. Булгакова, —
что Мейерхольд на собрании актива работников искусств
каялся в своих грехах. Причем это было так неожиданно,
• так позорно и в такой форме, что сначала подумали, что
он издевается» (Булгакова Е. Соч. цит. С. 135).
3 См.: Вопросы истории. 1988. № 12.
Трагедия и классика
234
сями), и в конце торжествовал «рыбий совнарком». Пьеса мне пока-
залась неудачной, я ее забраковал. Вдруг меня, — продолжает Эрен-
бург, —вызывает Мейерхольд. На столе у него рукопись. Он раздра-
женно спрашивает, почему я отклонил пьесу, и, не дослушав, начи-
нает кричать, что я против революционной агитации, против Октября
в театре. Я в свою очередь рассердился, сказал, что это «демагогия».
Всеволод Эмильевич потерял самообладание, вызвал коменданта:
«Арестовать Эренбурга за саботаж». Комендант выполнять приказ
отказался и посоветовал Мейерхольду обратиться в ВЧК»1.
Мейерхольд не был кровавым злодеем, и Эренбург рассказыва-
ет об этом эпизоде как о своеобразном шоу и розыгрыше-провока-
ции, столь типичных для эксцентричных художников вообще и «ле-
вых» в особенности. К концу тридцатых годов, к моменту своего
ареста, Мейерхольд уже в какой-то мере освобождался от подобной
эксцентричности, во всяком случае, есть свидетельства, что он на-
чинал понимать права и «презренной материи», которую нельзя
гнуть в бараний рог фанатизмом «революционной воли». Арест за-
стал режиссера если не на переломе, то в момент пересмотра неко-
торых прежних ценностей. Страшное душевное потрясение могло
способствовать пробуждению того, что уже зрело, но еще не было
вполне осознано самим Мейерхольдом.
Психологический эффект освобождения и даже трагического
очищения, которое иногда несет несчастье, хорошо известен. В «Пись-
мах» М. Нестерова находим строки о его близком друге А. А. Турыги-
не, англомане и сыне миллионера, строки, написанные в 1925 году:
«События последних лет сделали его нищим, но духовно его оживи-
ли. Ведь известное дело — «нужда пляшет, нужда скачет, нужда пе-
сенки поет». Вот и Турыгин «заплясал», и это было достойней слиш-
ком долгой праздности, в лучшем случае — интеллигентского паре-
ния в невысокую высь»1 2.
Не всегда человек может найти достойный ответ на жестокий
вызов судьбы. Ведь и в самом вызове должно быть нечто, способству-
ющее освобождению от «интеллигентского парения в невысокую
1 Встречи с Мейерхольдом. Сб. воспоминаний. М., 1967. С. 353.
2 Нестеров М. Письма. С. 308.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
235
высь». Был ли Мейерхольд среди тех, кто в эпоху сталинского тер-
мидора искал ответа на чудовищные обстоятельства времени? Как
бы то ни было, но ответ не найден до сих пор, ведь нельзя же считать
ответом тотальное и потому малосодержательное отрицание, спо-
собное удовлетворить лишь элитарную чернь да толпу, охваченную
бешенством низвержения прошлого. Если бы даже ответ был най-
ден, изложить его в двух словах невозможно. В попытках постижения
ответа греческой цивилизации на вызов персов в V веке до н. э. испи-
саны горы бумаги, и все равно исчерпывающей полноты при воссоз-
дании этого удивительного феномена мы никогда не получим.
В то же время возможен очень лаконичный и концентрирован-
ный Ответ. Он—в Парфеноне, в каждом из выдающихся скульптур-
ных изображений века Перикла.
Портрет Мейерхольда, созданный Кончаловским, — зримое и
конкретное воплощение неразрешимого конфликта, лежащего в
основе эпохи зо-х годов. Черты страдания, потерянности, слабой
надежды на лучший исход проступают на выразительном лице ре-
жиссера, противоречивые настроения как бы сменяют друг друга.
Но не только мерцание угасающей индивидуальной жизни сообща-
ет созданному художником образу глубокую содержательность.
Перед нами лицо человека, заглянувшего в Ничто. Но в целом
картина Кончаловского не является манифестацией Ничто, симво-
лом его. Напротив, Мейерхольд на портрете не погружается в транс-
цендентность, не занимается медитацией—им овладела какая-то
конкретная мысль, которая связывает его с жизнью, а не удаляет от
нее. Конечно, мы не можем сказать, о чем именно думает режиссер.
Его мысль как бы закрыта от нас легкомысленно-веселым ковром.
Но в то же время в контрастной гармонии с лежащей фигурой, уди-
вительным выражением лица артиста красочный орнамент ковра и
вся уютная обстановка этого советского сановника от искусства заз-
вучали не свойственной им мелодией. Как будто бы звуки джаз-бан-
да из «Веселых ребят» и другие популярные мелодии времени ста-
ли чудесным образом преображаться в баховскую фугу...
Невеселая музыка, но в ней слышен подземный гул, возвещаю-
щий о тектоническом сдвиге, гибели миров и богов. Атмосфера пре-
ступления—на фоне легкомысленных мелодий. Преступления, одна-
ко, не заурядно-уголовного, а того, которое странным образом свя-
Трагедия и классика
236
зано с рождением новых миров. Ведь преступны и деяния Зевса, вос-
ставшего против своего отца Кроноса и низвергнувшего его. Правда,
можно возразить, что преступление Зевса лежало в основе рождения
Космоса из древнего Хаоса, а тут нечто совершенно иное, более по-
шлое. И стоит ли искать смысла в сталинщине? Система ГУЛАГа ли-
шена смысла в высоком значении этого слова, доказывает Солжени-
цын. И это верно. Как верно и странное, неожиданное признание
писателя: «Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!»1
Итак, благословлять то, что проклинаешь? В этой кажущейся
бессмыслице заключена, однако, древняя мифологическая схема,
конечно, не укладывающаяся в пресловутую философию результа-
та. Победа Зевса над отцом и титанами ввела мир в цивилизованное
состояние. Однако всякий цивилизованный мир заключает в себе,
согласно представлениям древних греков, неистребимый порок, без
преодоления которого жизнь была бы неполноценной. Возвращение
к периоду хаоса хотя бы только временное — одно из жестоких ус-
ловий полнокровия жизни, ее наполненности смыслом. В соответ-
ствии с некоторыми мифологическими представлениями, а именно
орфическими, как раз время низвергнутого Зевсом Кроноса явля-
лось благословенным «золотым веком». Празднества в честь низвер-
гнутого божества (глотавшего, как известно, своих детей), дошед-
шие до нас под именем сатурналий, были наполнены глубоким сим-
волическим смыслом.
Вопреки Ницше античный миф и античная трагедия не оправды-
вают преступления, напротив, они отрицают его, спасая гуманное
содержание истории, увы, в какой-то мере обязанное своим появле-
нием на свет и преступлению. Во время сатурналий совершалось иг-
ровое перемещение верха и низа. В реальной истории такое пере-
мещение всегда ужасно и связано с преступлениями. Нередко счи-
тается, что в подобных празднествах именно ужас притягивал к себе
и завораживал, а в небольших дозах как гомеопатическое средство
смягчал тяготы повседневной жизни. Но притягивал не ужас сам по
себе, а некий смысл, рождавшийся в результате ужасных деяний ми-
фологических героев, смысл, приоткрывающий занавес обыденно-
сти и просветляющий взор картиной реального трагического бытия.
1 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. Ill—IV. М., 1990. С. 571.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
237
Быть брошенным в огненное море реальности, когда рождает-
ся новое—удел страдальческий. И лишь для немногих путь страда-
ний становится дорогой к обретению истины. Время сталинских
пятилеток было, бесспорно, благодатным для всяких ничтожеств,
всплывших на поверхность в мутной воде. Но и оно заключало в себе
нечто от древнего хаоса, в котором зарождалось такое, чего раньше
не было. Именно зарождалось, появлялось, возникало, а не просто
распадалось и уходило в ничто.
В истории вообще и в истории XX века в частности немало про-
сто ужасного, пустого, бессмысленного. Кульминация бессмысленно-
го ужаса — сталинские пятилетки, доказывает Александр Солжени-
цын, а вслед за ним и все прогрессивно мыслящие деятели культуры
и искусства, в особенности после августа 1991 года. Кто из уважаю-
щих себя и уважаемых в обществе людей осмелится оспаривать этот
тезис, ставший уже аксиомой?
Тот, кто способен не только проклинать и топать ногами, но
понимать трагедию истории—появление в результате землетрясе-
ний смысла. Пусть даже всего только крупиц смысла. Этой способ-
ностью в отличие от толпы его нынешних поклонников и сторонни-
ков обладает Александр Солженицын, безусловно, убежденный в
превосходстве старого над новым, состояния до землетрясения, до
гибели богов — над советским периодом истории России.
«Впервые в истории, — пишет А. Солженицын о сталинских ла-
герях, — такое множество людей развитых, зрелых, богатых культу-
рой оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника,
лесоруба и шахтера. Так впервые в мировой истории (в таких мас-
штабах) слились опыт верхнего и нижнего слоев общества! Растаяла
очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде пе-
регородка, мешавшая верхним понять нижних: жалость. Жалость
двигала благородными соболезнователями прошлого (и всеми про-
светителями) — и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения...
Только у интеллигентных зэков Архипелага эти угрызения нако-
нец отпали: они полностью делили злую долю народа! Только сам
став крепостным, русский образованный человек мог теперь (да
если поднимался над собственным горем) писать крепостного му-
жика изнутри (...). Опыт верхнего и нижнего слоев слились — но
носители слившегося опыта умерли... Так невиданная философия и
Трагедия и классика
238
литература еще при рождении погреблись под чугунной коркой
Архипелага»1.
Но «невиданная философия и литература», зарождавшаяся в му-
чениях и катастрофах вселенского масштаба, все же не исчезли бес-
следно. Свидетельство тому—лучшие страницы самого А. Солжени-
цына. И не только Солженицына, не только тех, кому удалось выйти
живыми из кошмара, живыми духовно. Черты интеллигента, кото-
рый, говоря словами писателя, «поднимался над собственным го-
рем», черты искреннего в своем иконоборчестве и комиссарстве
интеллигента, понявшего или, во всяком случае, начинающего по-
нимать преступность и игровой характер того псевдослияния с на-
родом, которое культивировалось революционным авангардизмом
и яростными фанатиками РАППа и иже с ними, — эти черты ожили
и навеки запечатлены на лице человека, приговоренного ходом со-
бытий, а отчасти и своей собственной виной. Художнику удалось
запечатлеть новый рождающийся, но еще не родившийся смысл, не
нашедший оформления в искусстве самого Мейерхольда. Перед зри-
телем открывается не абстрактная, выраженная знаковым образом,
а содержательная бесконечность, заключенная в реальности...
Емкость найденной П. Кончаловским художественной формы
такова, что имманентный ей смысл не исчерпывается словами Со-
лженицына о невиданном еще переворачивании верхов и низов,
интеллигенции и народа, совершившемся в 30-40-е годы — слия-
нии их, столь непохожем на то, что содержалось в первоначальном
проекте. Портрет Мейерхольда рождает и более отдаленные, но то-
же не случайные ассоциации. Вспоминаешь, например, что при всей
«невиданности» процесс переворачивания верха и низа — общий
закон всей предшествующей истории или, если верить Марксу, пре-
дыстории человечества. И всегда он был связан с кровью и грязью:
«история есть кладбище аристократий», — сказал В. Парето. «Это
еще раз оправдалось у нас в тридцатых годах», — комментирует в
своих записках слова итальянского социолога Мих. Лифшиц, имея
в виду не столько старую русскую аристократию, сколько новое
партийное сановничество, выросшее на почве идеологии и практи-
1 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. III-IV. С. 451.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно— песнь» 239
ки крайнего упрощения, всеобщей уравниловки и яростного фана-
тизма1.
Прозрение советского «аристократа» в пограничной ситуации на
пороге гибели, погружение его в те реальные смыслы бытия, которые
столь отличны от утопий авангардистского или рапповского толка, —
это трагический катарсис, очищение страданием, а не гимн «творчес-
ким победам» архилевого режиссера, считавшего возможным изоб-
ражение на сцене меньшевиков в виде карасей. И не бескрайний ужас
«жертвы террора», а пропитанная мукой гармония, родственная ар-
хитектонической ясности и стройности античной классической дра-
матургии, проступает в сложном и изысканно контрастном единстве
' различных художественных пластов создания Кончаловского.
Но разве не было в Ответе классического искусства греков черт
иллюзорности, идеальности, утопичности, не выдержавших жестоких
испытании реальной истории? Что касается М. Нестерова и П. Конча-
ловского, композитора С. Прокофьева и поэта О. Мандельштама, то
у них еще больше иллюзий по поводу возможности более или менее
человеческого выхода из противоречий эпохи, чем у современников
Перикла. Но — и это в высшей степени важно — иллюзорность на-
дежд Мандельштама (а они у него, как мы в том вскоре убедимся,
были) качественно отлична от иллюзий и «золотых снов», навевае-
мых, скажем, мастеровитыми В. Ефановым и А. Герасимовым, «куль-
товые» произведения которых, строго говоря, вообще лежат за гра-
ницами искусства в высоком и подлинном значении этого слова.
Во всяком случае, избавление от иллюзий, прозрение являются
формообразующим мотивом портрета Кончаловского. Продиктован
ли этот мотив случайностью? Судьбой именно этого персонажа это-
го портрета? Художник угадал (возможно, всего лишь интуитивно)
то, чего до конца не понимал и портретируемый Мейерхольд. И мы
можем лишь предполагать, каким оказалось бы творчество режис-
сера, останься он, после опыта ареста и ГУЛАГа, в живых.
Но налицо новое качество искусства самого автора портрета,
П. Кончаловского. В живописи художника и в зо-х годах нет явного
1 Лифшиц Мих. Сегодня вам кажется, что истины нет... //
Свободная мысль. 1992. Ns 6. С. ио.
Трагедия и классика
240
трагизма. Даже в портрете Мейерхольда личная драма режиссера
как бы смягчена и гармонизирована. Выше была предпринята по-
пытка показать, что это такая гармония, благодаря которой человек
мог раскрываться в искусстве с той степенью многомерной глуби-
ны и серьезности, что заставляет вспомнить о старых мастерах'. Хотя
о приближении П. Кончаловского к подлинной классике следует
говорить с оговорками и осторожностью, ибо здесь мы гораздо боль-
ше, чем в случае с М. Нестеровым, имеем дело лишь с тенденцией,
а не с вполне развитым и устоявшимся качеством живописи.
И все-таки эта тенденция есть именно новое живописное каче-
ство, а не внешняя мысль, тема, программа художника. Трагическая
тема у Кончаловского 30-х годов отнюдь не доминирует, она кажется
скорее исключением, чем правилом. Но трагедия времени не про-
шла мимо художественного сознания мастера. Она была постигну-
та именно как трагедия, когда в ужасном различаются черты смыс-
ла, которые, правда, очень нелегко перевести на язык понятий даже
в наше время. Есть серьезные основания утверждать, что суть глу-
бинной драмы 30-х годов выражена П. Кончаловским (как и Несте-
ровым) с большей многомерностью и художественной полнотой,
чем современными художниками. Во всяком случае драма времени
превратилась и у Нестерова, и у Кончаловского в новое качество
самой «внутренней формы» их искусства. Об этом, а частности, сви-
детельствует и упомянутый выше натюрморт «Зеленая рюмка».
В нем, разумеется, даже при самом большом желании нельзя
обнаружить символически-знаковое выражение духовной драмы
эпохи. Перед нами—просто предметы, обыденные в своей реально-
сти. Однако предметный мир предстает не как манифестация «вещ-
ности», предметность становится живой кожей вещей, под которой
зритель почти чувственно ощущает биение пульса многомерного в
своей несказанной сложности объективного бытия. Из бытия, как
оно предстало в искусстве и Нестерова, и Кончаловского 30-х годов,
не хочется бежать, в нем хочется жить. Будучи глубоко трагической
в своей сути, жизнь требовала за пробуждение правды высокую це-
1 «Эстетический идеал Кончаловского удивительным об-
разом соединил а себе традиции классического искусства
с требованиями искусства наших дней». См.: Нейман П.П.
Кончаловский. М., 1967. С. 271-272.
«... Пишется— казнь,
а читается правильно — песнь»
241
ну: расплачиваться нередко приходилось собственной жизнью. Эта
тема, эпизодическая в живописи П. Кончаловского, становится цен-
тральной в поэзии О. Мандельштама зо-х годов.
* * *
«Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия»1.
Эти слова О. Мандельштама не совсем справедливы по отношению
к «мерзавцу» — Валентину Катаеву, который, как позднее признает
на допросе в НКВД поэт, помогал ему в трудные дни материально.
О. Мандельштам явно погорячился? Может быть, он погорячился и
тогда, когда написал те строки о Сталине, которые стоили ему жиз-
ни? При всей психической неуравновешенности Мандельштам с
величайшей требовательностью относился к каждому своему слову.
Так почему же—«мерзавец», ведь В. Катаев всегда был либеральным
человеком и писателем?
Крайняя степень непримиримости, граничащая с отвращением
к оппоненту, вызвана у Мандельштама тем, что речь идет о самом
главном, самом важном для него в поэзии и жизни. Для Катаева
правда может быть мрией (мрия — выдумка, фантазия, мечта, разу-
меется, по-украински, а не по-гречески). Для Мандельштама подоб-
ная творческая установка—«единственное, чего нельзя простить!
Ведь поэзия есть сознание своей правоты»1 2, писал он в своей статье
1913 года, упрекая Бальмонта в том, что у того часто отсутствует дра-
гоценное сознание своей поэтической правоты3. В 30-х годах конф-
ликт Мандельштама уже не с Бальмонтом, а с В. Катаевым и други-
ми советскими либеральными аристократами от литературы приоб-
ретает особенно непримиримый, даже вызывающе-дерзкий характер.
Драма Мандельштама как поэта и человека заключалась в том,
что он мучительнейшим образом искал ответа на вызов эпохи — и
не находил его, часто впадая в состояние депрессии, доходившее до
психических расстройств. Без сознания «поэтической правоты» он
жить не мог, а найти убедительную правоту, правду-справедливость,
1 Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Терра. М., 1991.
• Т. 2. С. 186. Прим. С. боб, 616.
2 Там же. С. 236.
3 Там же. С. 236.
Трагедия и классика
242
кажется, тоже было практически невозможно. И потому правота
часто сводилась у поэта к честному признанию ненайденности всё
объясняющего, всё ставящего на свои места ответа. Такая отрица-
тельная, внутренне неудовлетворенная правда — тоже правота, по-
зволяющая человеку сохранить свое достоинство. Приспособленче-
ство же начинается с облегченных ответов.
С другой стороны, новейшее искусство, которое, по словам Т. Адор-
но, пародирует трагедию, является также пародией и на сознание
правоты. Дело в том, что в современном мире правда-справедли-
вость кажется анахронизмом: либо она так глубоко запрятана, что
ее не видно, либо она вообще перестала существовать. Поэтому те,
кто продолжает верить в нее — часто наивны, больше того, баналь-
ны и пошлы, ибо механически повторяют старое, не будучи способ-
ными понять новое мировое состояние.
Принадлежит ли к подобному анахронизму поэзия Мандельшта-
ма? По-видимому, да. Поэт всерьез протестует против конъюнктур-
щиков и «мерзавцев». Как будто бы реальность 30-х годов сохраняла
возможность для искреннего чувства своей правоты — того пафоса,
который неразрывно связан со старым, «наивным» (почти в шилле-
ровском смысле слова) искусством. Прав ли был в своем убеждении
Мандельштам или он ошибался?
«О.М. вел разговор с революцией, а не с поднимающимся “но-
вым”, — вспоминает вдова поэта Н. Мандельштам, — не с держав-
ным миром особого типа, в котором мы внезапно очутились... Хор
адептов новой религии и государственности, пользовавшийся в сво-
их мессах терминологией революции, знать не желал нового разно-
чинца с его сомнениями и метаниями. Для адептов и попутчиков все
уже было ясно. “Весь вопрос в том, кому достанется пирог”, — сказал
А.И. “Правда по-гречески значит мрия” — хохотал Катаев. “Иначе у
нас не бывает”, “Надо понимать, где живешь”, “Чего еще захотели!”—
слышалось со всех сторон»1. Они хохотали, и многие действительно
выжили, стали всенародно любимыми классиками социалистичес-
кого реализма и даже более того, после смерти Сталина оказались,
подобно В. Катаеву, в авангарде либеральных течений, идеологичес-
ки подготовивших горбачевскую перестройку. Потому что испове-
1 Там же. С. 605, боб.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
243
довали идеи совсем иного рода, чем ненайденная правда — право-
та представителя «четвертого сословия», наследника разночинцев
XIX века, каким себя называл Мандельштам.
Не найденная? Да, поэт колебался, нередко впадая в крайности,
некоторые его строчки звучат так, будто они написаны правовер-
ным сталинистом из «новых», то есть термидорианцев, для которых
правда—это мрия. Только в отличие от либеральных циников Ман-
дельштам был искренен даже в заблуждениях. Ведь с революцией и
эпохой он вел диалог всерьез, примеривая к себе «правду» сталинс-
ких пятилеток:
«Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...» (1937206).
Выходит, что Мандельштам был более искренним в своем отно-
шении к революции, чем те, кто давно уже поняли, что она прова-
лилась, и, усердно создавая мифы, угодные термидорианскому ре-
жиму, получали сталинские премии? Искренность и поиски поэти-
ческой правоты заставили поэта поверить в то, к чему уже давно с
тайной иронией относились «новые». Кажется, так?
Не будем спешить с ответом на эти вопросы и постараемся по-
нять Мандельштама.
«Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный».
Что заставило поэта в его воронежской ссылке написать эти и
многие другие строки, в том числе и такие:
«И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин»1
1 Вдова поэта, как теперь текстологически доказано, сочла
возможным опубликовать в бо-х годах эти строки, отре-
дактировав их следующим образом: «...будет губить разум
и жизнь Сталин».
Трагедия и классика
244
Вот очевидный и такой простой ответ: «Сталин смял его как че-
ловека, но убить в нем Поэта не смог. Поэт сам дал оценку своему
опусу: “Я теперь понимаю, что это была болезнь”»1.
Однако очевидность ответов такого рода обманчива. Слова Ман-
дельштама, содержащие уничижительную оценку «опуса» как прояв-
ления болезни, относятся вовсе не к процитированным выше строч-
кам, а к задуманной Мандельштамом и не законченной им «Оде» о
Сталине. Стихи же, заканчивающиеся словами о том, как «будет
будить разум и жизнь Сталин», — одни из лучших, по мнению чита-
телей и специалистов, у поэта.
«Я впервые услышала эти стихи, — пишет Э. Герштейн, — когда
печатала полный свод его московских и воронежских стихов под
диктовку Надежды Яковлевны (Мандельштам. — В. А.)... Я была по-
ражена тогда не столько банальностью заключительных строк, сколь-
ко энергией и силой всего стихотворения. Мы обе погоревали тог-
да, что такое выдающееся стихотворение испорчено подставным
финалом. Но сошлись на том, что это — обыкновенный камуфляж,
так часто применяемый прогрессивными поэтами в подцензурной
печати»1 2 (кстати, впервые опубликовано стихотворение было лишь
в 1967 году).
А знаменитые «Стансы» Пушкина, обращенные к Николаю I, —
это тоже «обыкновенный камуфляж», как полагали слишком про-
грессивные критики? Нет, такие упрощения никуда не годятся. И
когда в 30-е годы нашего века писали своп «Стансы» Б. Пастернак и
О. Мандельштам, они всерьез хотели верить и всерьез «утешались
параллелью» (разумеется, не со временем Николая I): «Но лишь сей-
час сказать пора, / величьем дня сравненье разня: / Начало славных
дней Петра / Мрачили мятежи и казни» (Б. Пастернак, 1932 г.). Од-
нако очевидно, что сравнение своего времени с петровской эпохой
было равно ошибочным как у Пушкина, так и у Мандельштама с
Пастернаком.
1 Поляновский Э. Смерть Осипа Мандельштама // Извес-
тия, 1992. 26 мая. С. 3.
2 См.: Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воспоми-
нания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Исследо-
вания. Воронеж, 1990. С. 354.
«... Пишется— казнь,
а читается правильно— песнь»
245
И тем не менее иллюзией не только веры в лучшее, но настоя-
щего счастья проникнута, по мнению американского публициста
(эмигранта из СССР) Льва Наврозова, вся поэзия Пастернака: «...у
того, кто будет знать о России 2о-х и зо-х гг. только стихи Пастер-
нака, создастся впечатление, что Пастернак жил в юной прекрасной
стране... даже один из величайших поэтов XX века был под влияни-
ем стадного инстинкта»'. Что касается Мандельштама, то его жела-
ние «прилепиться — необязательно к Сталину, а вообще к «совет-
скому обществу»—иногда даже гротескно... опять стадный инстинкт,
ничего не поделаешь»2.
Стадный инстинкт? Не слишком ли мы сегодня упрощаем обы-
вателя 30-х годов? При всем искреннем обожании диктатора рядо-
вой человек был не так уж прост и глуп. Обожание и славословие не
только не мешало ему очень верно и точно ориентироваться в си-
туации с хитростью зверя, но являлось как раз непременным усло-
вием его двойного сознания (что прекрасно, кстати, изображено в
повести М. Кураева «Ночной дозор»), А вот Мандельштам или, к
примеру, М. Булгаков такой двойной моралью не обладали. Там, где
обывателю и либеральному приспособленцу «все уже было ясно» и,
следовательно, дая выживания применялись все средства, вплоть до
доносов, дая них возникала мучительная, неразрешимая проблема.
В Сталине они хотели видеть не пахана, поощряющего клевету, до-
носы и прочие мерзости «стадного человека», а просвещенного дес-
пота, способного, пусть и варварскими методами, бороться против
мелких бесов, обывателей-термидорианцев. У автора стихотворения
о «кремлевском горце» есть искренние стихи, рисующие, по словам
М.Б. Мейлаха, «образ Сталина с его амбивалентным в контексте
мандельштамовского корпуса значением от восточного деспота до
некоего просветителя, спасителя, вершителя народных судеб и т.д.»,
что, продолжает исследователь, «превосходно отвечает тем моделям
народного сознания, которые делали его чем-то вроде культурного
героя или священного царя»3. Подчеркнем, народного, а не стадно-
' Наврозов Л. Как виделся Сталин советскому большинству
- // Известия, 1992. 2 июля. С. 6.
2 Там же.
3 Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 423.
Трагедия и классика
246
обывательского сознания, которые так же отличаются друг от дру-
га, как культурный герой, просветитель — от бандитского главаря.
Увы, в оценке личности Сталина ближе к истине оказался «стад-
ный человек», а не те, в ком жило действительно народное сознание
и народные ценности. Выходит, в споре с «новыми» Мандельштам
безнадежно проиграл? Такой вывод мне представляется поспешным
и упрощенным.
«Мне на плечи кидается век-волкодав». Век сравнивается со зве-
рем, уничтожающим хищников-паразитов («Волкодав прав,—гово-
рит Спиридон в «Круге первом» А. Солженицына,—а людоед—нет»),
среди которых Мандельштам себя не мыслит: «Но не волк я по кро-
ви своей». И тем не менее он просит судьбу быть милостивой к нему,
человеку, обреченному, как бы по ошибке, быть уничтоженным не
волками, а как раз теми, кто их уничтожает.
«Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе»,
— писал поэт в стихотворении 1931 года, во время пика насиль-
ственной коллективизации.
Да, среди кровавых костей под колесом истории поэт видел и
свои собственные, он верно предчувствовал страдания и унижения
самых близких для него людей:
«Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть»
«Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье».
Но все-таки — брат, а не враг (в стихотворении, обращенном к
Ахматовой, поэту не было нужды подыскивать «проходимые строки»,
напечатано оно было лишь в 1961 году). Продолжение этих строк
еще более примечательно:
«Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье».
Не следует ли сказанное понимать так, что поэт считает для себя
возможным союз с жестокой «татарвой» против князей — то есть
наших, своих, трусливых предателей, «хлипкой грязцы», «новых»
сановников, грабивших и развращавших собственных народ? Сло-
вом, с волкодавом — против волков.
«... Пишется— казнь,
а читается правильно — песнь»
247
Страшный выбор! Если бы можно было его избежать! Если бы
можно было: «С шапкой в руках, шапку в рукав — И да хранит тебя
Бог!».
Как пишет Э. Поляновский, «в 1920 году Мандельштам легко мог
уйти с белыми из Крыма. В том же 1920-м Юргис Балтрушайтис уго-
варивал Мандельштама принять литовское подданство. В дальней-
шем, когда российская интеллигенция хлынула за рубеж, Мандель-
штам не раз обсуждал тему эмиграции с Бенедиктом Лившицем,
своим шафером на свадьбе. Как вспоминает Екатерина Лившиц:
«Мужья обсуждали и обсуждали этот отъезд, они не могли, не хотели
отрываться от родины»1. Эмиграция не давала ощущения внутрен-
ней правоты. Может быть, после самоубийственного стихотворения
1934 года о «кремлевском горце» поэт — возникни такая возмож-
ность— эмигрировал бы. Чувство самосохранения — естественное,
нормальное человеческое чувство.
Этого не произошло, Мандельштам был обречен и знал, что его
ожидает. Но в последней, воронежской ссылке родились «Новые
стихи», трагические и странно оптимистические одновременно.
«Поразительно, — отмечала А. Ахматова, — что простор, широта,
глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Во-
ронеже, когда он был совсем не свободен»1 2. У бывшего акмеиста
возникает нечто родственное особой «открытости», заставляющей
вспомнить о классике, об «открытости» полотен М. Нестерова. По-
рожден ли оптимизм иллюзорными надеждами, верой в прогрессив-
ность происходящих в стране изменений?
«Я должен жить, дыша и болыпевея,
И перед смертью хорошея
Еще побыть и поиграть с людьми».
Что это, ложные надежды, стадные настроения, удобный миф?
Л. Наврозов, как и многие другие, решает возникшую проблему
просто. Содержание — это одно, оно может быть даже пошло, даже
лживо-идеологично, а поэтическая форма—совсем другое. Она ге-
ниальна при всей ничтожности содержания. С этой точки зрения
1 Известия, 1992. 25 мая. С. 3.
2 Ахматова А. Я — голос ваш... М., 1989. С. 325-
Трагедия и классика
248
содержание поэзии Мандельштама второй половины 30-х годов ма-
ло чем отличается от сталинской мифологии. Следовательно, и в
парадных полотнах В. Ефанова или А. Герасимова, стихах А. Безы-
менского и т. д. вполне возможно высокое художественное каче-
ство — поскольку последнее независимо от содержания.
Подобные рассуждения сегодня широко распространены, даже
популярны. В самом деле ни В. Ефанову, ни А. Герасимову нельзя
отказать в природной одаренности. Однако правомерно ли ставить
знак равенства между мастеровитой поделкой и высоким искусст-
вом? Конечно, и Веласкес писал придворные портреты «на заказ».
Но разве художественное содержание его портретов пошло, угодли-
во, подобострастно?
Нет, в целом содержание «новых стихов» Мандельштама иное,
чем у приторно-оптимистических мифотворцев. Поэтическое вдох-
новение, породившее удивительные по своей красоте и силе стихи,
имело своим источником не приспособленчество и не стадность. Не
в этих ли строчках, посвященных памяти А. Белого, ключ к разгадке:
«Часто пишется — казнь, а читается правильно — песнь:
Может быть, простота—уязвимая смертью болезнь?»1.
То, что поэзия в широком смысле слова—это казнь, мысль, вооб-
ще говоря, не новая. Ведь и сама жизнь — Голгофа. Те, кто пытается
уклониться от страшного выбора, тонут, говоря словами Солженицы-
на, в луже, а не в море. «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь
и свободу заслужил» — напомним хрестоматийные строчки (Гёте.
«Фауст», перевод Б. Пастернака). Между тем идеалом современнос-
ти, полагал Ф. Ницше, является прежде всего благополучие, безопас-
ность и отсутствие страдания — и этот идеал, который поддержива-
ют «словоохотливые и борзопишущие рабы демократического вку-
са»1 2, приводит к измельчанию личности и человечества в целом.
В рассуждениях немецкого философа есть доля истины, но он
переходит опасную границу, за которой эта доля истины превраща-
ется в апологию страдания и, хуже того, насилия. «То, чего им (де-
1 Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Т. I. С. 203.
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Соч. в 2-х томах.
Т, 2. М., 1990. С. 274.
«... Пишется— казнь,
а читается правильно — песнь»
249
мократам. —В. А.) хотелось бы всеми силами достигнуть, есть общее
стадное счастье зеленых пастбищ, соединенное с обеспеченностью,
безопасностью, привольностью, облегчением жизни для каждого;
обе их несчетное число раз пропетые песни, оба их учения называ-
ются “равенство прав” и “сочувствие всему страждущему”, — и само
j страдание они считают за нечто такое, что должно быть устранено.
Мы же, — продолжает Ницше,—люди противоположных взглядов,
внимательно и добросовестно отнесшиеся к вопросу,—где и как до
сих пор растение “человек” наиболее мощно вырастало в вышину, —
полагаем, что это случалось всегда при обратных условиях, что для
этого опасность его положения сперва должна была разрастись до
чудовищных размеров, сила его изобретательности и притворства
(его “ум”) должна была развиться под долгим гнетом и принужде-
нием до тонкости и неустрашимости, его воля к жизни должна была
возвыситься до степени безусловной воли к власти: мы полагаем,
что суровость, насилие, рабство, опасность на улице и в сердце,
скрытность, стоицизм, хитрость искусителя и чертовщина всякого
рода, что все злое, ужасное, тираническое, хищное и змеиное в че-
ловеке так же способствует возвышению вида “человек”, как и его
противоположность»1.
Насилия, рабства, опасности было предостаточно в сталинской
и фашистской империях—как и воли к власти, притворства и изоб-
ретательности у тех, кто считал сочувствие ко всему страждущему
уделом слабых, обреченных на вымирание. Но способствовало ли
«хищное и змеиное» само по себе возвышению рода человека? Ниц-
ше вслед за Я, Буркхардтом опустил некоторые важнейшие условия,
которые благоприятствовали человеческому развитию в период Воз-
рождения, сведя их, с одной стороны, к абстракции «опасности чудо-
вищных размеров», ответом на которую у него оказывается «чертов-
щина всякого рода», злое, ужасное, тираническое — с другой.
Зло играет важную роль в истории. Но не зло само по себе. Воз-
вышению человека служило не просто зло и не просто опасность —
и то, и другое должно было подняться до трагической ситуации. В
противном случае зло рождало только зло, а не титанов Возрожде-
ния. В период коллективизации и индустриализации зо-х годов зме-
1 Там же, С. 274-275.
Трагедия и классика
250
иная хитрость «новых», которым все уже было ясно, имела жалкий,
даже пошлый духовный результат, от которого с отвращением от-
вернулся бы Ницше. Казнь превращалась в песнь у людей совершен-
но иного склада, а именно у тех, кто был одинаково далек как от
стремления к личному благополучию и безопасности любой ценой,
так и от апологии зла и насилия. Кто способен был разглядеть в дей-
ствительности трагическую ситуацию, понять ее возвышенную сто-
рону, отделив от чертовщины всякого рода. Злого, деспотического,
бесчеловечного более чем достаточно в истории человечества, как
и в истории XX века. Но далеко не всегда опасность и тирания свя-
заны с возникновением трагической ситуации.
Один из наших современников-диссидентов, узников недавне-
го времени, пишет: «Для меня демократическое движение не своди-
лось просто к борьбе за права человека. Это — борьба за расшире-
ние поля трагедийных ситуаций, за духовное возрождение нации,
очищение. Когда в середине 70-х годов я включился в правозащит-
ное движение, у меня было представление, что это возможность
возвращения трагедийных ситуаций в России, где десятилетиями
трагедийность приглушалась, ликвидировалась»1.
Несмотря на свои печальные иллюзии, Мандельштам избежал
ложного выбора: он не стал ни певцом стадного благополучия и
бесконфликтности, ни апологетом зла. Сталин не сломал человека
и поэта. Конечно, относительно мягкий приговор после стихотворе-
ния о «кремлевском горце» мог способствовать развитию иллюзий
о «просвещенном деспоте». Однако иллюзии Мандельштама были
совсем иного рода, чем у тех, кто идеологически обслуживал сталин-
ские методы индустриализации, создавая «советскую» мифологию.
Вопреки мнению Тимоти Люка1 2, советские мифотворцы не являлись
прямыми наследниками традиций русской разночинской идеологии
XIX века. К последней гораздо ближе—по его собственному призна-
нию —О. Мандельштам. Характерное для разночинства «сочувствие
ко всему страждущему», доходящее до самопожертвования, позво-
1 Странные ощущения. Из рассказов Валерия Абрамкина
// Век XX и мир. 1992. № 3. С. 29-30.
2 Luke Timothy W. Ideology and Soviet Industrialization. Lon-
don, 1985. pp. 54, 217.
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
251
лило поэту, не оправдывая зла, а сопротивляясь ему, возвыситься до
постижения трагической ситуации.
30-е годы содержали в себе много, слишком много очевидно
бессмысленного и преступного. Движение общества приняло такой
фатальный характер, при котором революция связала себя с усиле-
нием репрессивной власти, причем последняя вбирала в себя и под-
нимала на поверхность худшие элементы общества и народа. Тор-
жество сталинского термидора являлось приговором революции —
и в то же время содержало в себе нечто иное. «Фактическая отмена
Декрета о земле, уничтожение результатов аграрной революции, —
формулирует эту парадоксальную ситуацию М. Гефтер, — разграб-
ление деревни закрепили на свой лад ее же, революции, социальный
и психологический сдвиг навсегда покончивший с делением на «бе-
лую» и «черную» кость, в том числе и в самой притягательной сфе-
ре: знания, образования, художественности, — сдвиг, который тог-
да, в Двадцатые и Тридцатые, потрясал самых достойных людей на
земле и делал их поэтому равнодушными ко многим нашим бедам
и страданиям»*.
Если мы хотим понять 30-е годы, то должны, подобно М. Гефте-
ру, видеть мучительное противоречие времени и обстоятельств:
репрессивный аппарат государства черпал свою силу и власть из
энергии тех низов, что пытались сломать хребет классовому обще-
ству, положить конец вечному конфликту между низами и верхами,
характерному для всей предшествующей цивилизации. Определен-
ные успехи на этом пути, в том числе успехи индустриализации,
оплачивались преступлениями. Братство, солидарность как главный
принцип нерыночной экономики в определенных обстоятельствах
времени до некоторой степени имели своей основой возникновение
ГУЛАГа и неудержимый рост системы грубого насилия. До некото-
рой степени, ибо в конечном итоге ГУЛАГ не привел и не мог при-
вести ни к братству, ни к избавленной от власти рынка экономике
и подготовил условия уже для традиционного термидора.
Если не видеть трагизма противоречия между, с одной стороны,
временным и противоестественным единством подъема масс и си-
стемой ГУЛАГа и, с другой стороны, несовместимостью по своей
1 Гефтер М. Из тех и этих лет. М., 1991. С. 317.
Трагедия и классика
252
сути освободительного движения снизу и возрождением в 30-х го-
дах «казачьего коммунизма» (Герцен) империи Николая I, то неиз-
бежно придем либо к сталинской идеологии, либо к ее видимой про-
тивоположности — популярной сегодня идее о том, что братство и
солидарность масс всегда и везде с железной необходимостью обре-
чено производить только насилие, тиранию и преступления. Лучшие
люди тридцатых годов не могли устранить противоречия, о котором
идет речь, но они находили, пусть часто ощупью, путь между Сцил-
лой и Харибдой. Если перед нами действительно большой художник,
то в его произведениях есть отражение трагической ситуации, а не
самоудовлетворенная апология какой-нибудь из отмеченных выше
крайностей.
«Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, и люди хороши».
Мандельштам входил в новый мир, как единоличник входил в
колхоз, оказавшийся тюрьмой, без элементарнейших прав, даже та-
ких, как свобода места проживания. Выходит, что поэт предпочел
тюрьму свободе? Нет, он как разночинец охвачен был пафосом все-
общего освобождения. И потому входил в новый сталинский мир-
тюрьму, прекрасно зная, какими методами создавались колхозы и
осуществлялась индустриализация. Значит, он считал сталинские
методы неизбежными для своего времени? Нет, это тоже совершен-
но ложное предположение, которое уравнивает Мандельштама, на-
пример, с Алексеем Толстым. Для Мандельштама вхождение в мир
возрождающейся самодержавной тирании—это казнь, а не приволь-
ное житье лгуна-мифотворца. Казнь оказывается песнью не благо-
даря тюрьме и насилию, а благодаря тому просвету, который увидел
поэт внутренним зрением между Сциллой и Харибдой времени.
Почему Нержин из романа «В круге первом» идет в сибирский
лагерь, покидая относительно благополучную «шарашку»? Вовсе не
потому, что он — герой без страха и упрека, подобный самоотвер-
женным до тошнотворности персонажам романтического псевдо-
соцреализма. Нержин выбирает тюрьму ради свободы. Из чего вов-
се не следует, что тюрьма — это свобода. Путь, избранный Нержи-
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
253
ным,—это обретение трагедийной ситуации, вхождение в нее, путь
между Сциллой и Харибдой, движение к свету в конце туннеля: ду-
ховный подъем людей, создающих на развалинах ГУЛАГ а новое поле
человеческих отношений, при которых даже лагерные шкуры начи-
нали испытывать угрызения совести.
«Да, я лежу в земле, губами шевеля», но при этом из уст поэта
рождается не шелест смертника или не только он, но мощно звучит
и нечто иное, некая объективная суть: «Шла пермяцкого говора
сила». Это говорило не сектантство непримиримых иконоборцев,
готовых распять — и распинающих—страну, и это не был голос
«тепличного юноши», разменивающего на гроши мнимой незави-
симости и мнимого свободомыслия (на деле — жалкого и пошлого
презрения к народу как к быдлу) свой литературный дар.
Поэт, как и единоличник, как страна вступает в трагическую
ситуацию — и хоть выбор недоброволен, он как трагический герой
принимает его. И открывается жизнь, которая оказывается смертью.
И все-таки песнь, не благодаря казни и лагерю, а благодаря тому, что
«пермяцкого говора сила»—это реальность, о которую* конце кон-
цов разобьются все репрессивные режимы, в том числе и сталин-
ский, выросший из противоречий народного подъема. Причем сила
народного братства предстает не только дальним светом в конце
туннеля, не мечтой-утопией, а тем, что есть уже сейчас. Хотя и свя-
зана эта народная сила с самыми страшными явлениями времени.
Отсюда — неразрешимость противоречия, отсюда — трагедия. Она
не только в физическом уничтожении, в сознании личной обречен-
ности, которое не покидало Мандельштама.
«Если б лишили меня всего в мире —
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет,
И что народ, как судия, судит»
Кто же, какие же враги могли бы лишить поэта веры в «народ-су-
дию», этой религии разночинства, утрата которой была бы равносиль-
на потере «всего в мире»? Фашисты, сталинские следователи-изуве-
ры? Не только, гораздо страшнее внутреннее разложение разночин-
ской идеологии, которая тоже несла на себе вину, перерождаясь в
мифологию: Чернышевским и Добролюбовым клялись, от их име-
Трагедия и классика ^54
ни совершали преступления шариковы, прибиравшие к своим рукам
всю власть в государстве.
Мандельштам остро чувствовал, что под его веру в народ-судию
подложена мина не только «новыми,» которым все уже ясно, но и его
собственными сомнениями, совсем не беспочвенными, ибо они име-
ли очень серьезные, слишком серьезные основания в самой реаль-
ности. И что же, каков ответ поэта на трагические сомнения?
«Я запрягу десять волов в голос
И проведу руку во тьме плугом,
И, в океан братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы,
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи...»
Кажется, Мандельштам тавтологией отвечает на сомнения: если
у него отнимут всё в мире, в том числе и его веру, то он ответит по-
вторением своей веры-клятвы. Однако это лишь внешняя тавтоло-
гия, за которой—движение внутренней поэтической мысли. Пусть
стихотворение заключается фразой, что «будет будить разум и жизнь
Сталин», суть не в иллюзии по поводу деспота-просветителя. Пора-
зительная энергия всего стихотворения, отмеченная Э. Герштейн,
рождается из живого ощущения «океана братских очей», в который
падает герой «тяжестью всей жатвы». Это пронзительное чувство
несбывшегося братства со всеми людьми у бесконечно одинокого
поэта, который кричит, «стуча / В какой-то мерзлый деревянный
короб: / Читателя! советчика! врача! / На лестнице колючей—раз-
говора б!». Братства совершенно невозможного в то время едва на-
метившегося единения высокой культуры и рядового человека «мас-
сы» — и братства реального, трагического, сбывающегося в такой
пародийно-чудовищной форме, как соединение опыта «верхних» и
«нижних» в ГУЛАГе, которым практически становилась вся страна.
Солидарность и единение всех людей в любви—давняя христи-
анская идея — светила из далекой дали, удаляясь по мере того, как
с большей настойчивостью и насилием ее внедряли в реальность. И
эта же утопия, обнажившая кровавые черты, имела и другую сторо-
ну, заставляла поэта, не боясь банальности, выдыхать: «и люди хоро-
«... Пишется — казнь,
а читается правильно — песнь»
255
ши». Не в далеком будущем, а сейчас, сегодня — хороши. Из соеди-
нения, синтеза утопии и реальности, соединения отнюдь не искус-
ственного, а, при всей противоречивости, очень реального, содер-
жащего в сжатом виде трагедию времени, рождалась пушкинская
безмерная, бездонная простота, которой отмечены многие строки
Мандельштама конца зо-х годов.
Эта же простота и классическая ясность стиха неожиданно ро-
дились и у Пастернака, и у изощренной акмеистки Ахматовой. Ра-
зумеется, не по причине «стадности», якобы овладевшей и ими. Мог-
ла ли Ахматова ожидать от самой себя, что в конце творческого пути
впадет, как в ересь, в неслыханную простоту:
«Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был»1.
Эти строки прочно ложатся в сознание не потому, что форма про-
ста и чеканна, а потому, что ясная и законченная форма открывает
перед нами многомерную, бездонную жизнь, которая, увы, оказа-
лась до известной степени и в определенном смысле (чего нельзя ни
на минуту упускать из виду!) обязанной злу, высшему выражению
зла — смерти, как песнь — казни. Хотя жизнь есть ежеминутное и
ежесекундное отрицание смерти, а поэзия — казней, физических и
духовных распятий.
Вступая во врата Ада — земного существования человека, мы
живем только потому, что сопротивляемся всем адским силам. А
художественное творчество становится классикой или приближает-
ся к классической художественной форме, когда превращается в
мимезис реального бытия, поднявшегося из сплошного кошмара и
ужаса до трагического просветления на самом дне страдания.
Бездонную жизнь увидел перед собой — на портрете Кончалов-
ского — Мейерхольд. Его смерть оказалась катарсисом, а казнь, уго-
тованная ему, —песнью. Увы, сколько потенциальных талантов ушло
в песок, так и не сложив своей песни. Потому это и казнь, что она
бесчеловечна и расточительна, что шанс сохранить себя хотя бы
'Ахматова А. Я — голос ваш... М., 1989. С. 281.
только в песне имеет один из миллиона. Казнь — зло, отрицание
жизни и песни. Лишь нашедшие щель между Сциллой и Харибдой
времени способны превратить казнь в песнь. Мейерхольд не полу-
чил такого шанса в реальной жизни. Но несбывшейся песнью-каз-
нью он, вернее, миллионы таких, как он, побудил художника П. Кон-
чаловского заглянуть в бездну и открыть ее нашему глазу—бездну,
скрывающуюся в каждом явлении действительной жизни и воспро-
изводимую в классическом искусстве, предоставляющем свободу
самовыражения реальному бытию.
Свобода самовыражения бытия — свобода стиха, свобода и от-
крытость художественной формы М. Нестерова, музыки С. Прокофь-
ева, танца Г. Улановой—ценой превращения этого бытия в тюрьму?
Не умещается, и не должно умещаться в сознании, ибо если мы при-
миримся с таким выводом, то откроем дорогу казням, а не песням. Но
наша непримиримость ко злу не должна превращаться в удобную ил-
люзию, избегающую смотреть в глаза страшной правде: отражае-
мость, то есть открытость реальности странным и парадоксальным
образом соседствовала с превращением жизни в тюрьму (хотя, конеч-
но, открытость бытия сопровождалась и противоположным — рос-
том темноты, лжи и закрытости — за второе дыхание поэзии Ман-
дельштама, за шедевры Нестерова и Кончаловского заплачено неиз-
меримо превосходящей их количественно халтурой и мифологией).
Так все-таки благодаря или вопреки? В конечном итоге, конеч-
но, вопреки казни и смерти существует жизнь и поэзия. И потому
этот категорический нравственный императив так хотелось бы без
всяких оговорок распространить и на 30-е годы. Но реальность все-
гда, а реальность 30-х годов в особенности, гораздо сложнее любых
категорических императивов. Проблемы и противоречия того вре-
мени остаются и сегодня нераскрытыми, непонятыми, часто вводя-
щими в заблуждения, из которых растет новое, снова окрепшее зло.
Что и побуждает к дальнейшим размышлениям и исследованиям.
Литературная дискуссия
1939-1940 гг.
как поворотный пункт
в духовной жизни
Советской России
Два поколения в одном
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
Спор о Гоголе: вчера и сегодня
«Народность» — «вещь в себе» 30-х годов
Начало дискуссии —
«действительность» и «бездомность»
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины.
«Ветошка имеет тенденцию превратиться в удавку»
«Такие чудеса бывают иногда в области философии»
(Дело о диссертации, 1944-1956 гг.)
Справедлива ли история?
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
«Restauratio Magna» против «Restitutio in integrum»
259
Прежде всего мне начало казаться, что эти мысли можно
защищать, и я перестал думать, что только по бесстыдству
можно выступать за православную веру, отстаивать кото-
рую против манихейских нападок, по моим прежним по-
нятиям, было невозможно.
Августин Аврелий, «Исповедь»
Социализм — это такой строй, при котором В. Кирпотин
может в открытой дискуссии победить М. Лифшица.
Наум Коржавин, «Друзья старшие и иные»
Два поколения в одном
Дискуссия, о которой пойдет речь на этих страницах,
имела переломный характер — она привела к окончательной побе-
де, условно говоря, авербаховско-ермиловского направления не
только в художественной критике, литературоведении и эстетике,
но и далеко за их пределами. После поражения А. Воронского его
идеи были подхвачены и развиты группой литературоведов, эстети-
ков, философов, которые объединились вокруг журнала «Литератур-
ный критик» (1933-1940). Юрий Буртин, назвав «Литературный
критик» белой вороной в общем потоке зо-х годов, ибо журнал, по
его словам, «мужественно и безнадежно» противостоял иллюстра-
тивной литературе, выразил в самом начале горбачевской пере-
стройки надежду, что «прерывистую эстетическую эстафету, иду-
щую от «Красной нови» А.К. Воронского (1921-1927) через «Литкри-
тика» к «Новому миру» Твардовского, наше литературоведение, бог
даст, когда-нибудь возьмется проследить»1. Увы, этим надеждам
1 Буртин Ю. «Вам, из другого поколения...» // Октябрь.
1987. № 8. С. 198. Буртин, один из лидеров «перестройки»
в литературоведении и художественной критике, соредак-
тор (вместе с И. Клямкиным) газеты «Демократическая
’ Россия» начала 90-х годов, служит подтверждением ста-
рой истине: нет хорошего «советского» и постсоветского
либерализма, но бывают хорошие либералы.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
2бО
была суждена та же судьба, что и другим демократическим ожида-
ниям второй половины 8о-х годов XX века.
Действительный смысл дискуссии, которая велась главным об-
разом на страницах «Литературной газеты», на мой взгляд, до сих
пор остается непонятым. Считается даже, что главный вопрос, ко-
торый обсуждался в ней—чуть ли не схоластический: «вопреки» или
«благодаря» своему консервативному мировоззрению Пушкин, Тол-
стой, Бальзак, Шекспир, Аристофан, Достоевский были великими
художниками1? К этому вопросу наше искусствоведение вынуждено
возвращаться, нередко впадая при этом в прямо противоположную
крайность по сравнению с оппонентами «Литературного критика»,
утверждая, например, в лице авторитетного ныне литературоведа
В. Непомнящего, что исключительно благодаря своему православию
Пушкин — великий национальный поэт. Позиция «течения» 30-х го-
дов была не столь прямолинейной. Не только вопреки своей консер-
вативности Пушкин — великий народный поэт, доказывали его пред-
ставители (Мих. Лифшиц, Г. Лукач, В. Гриб, В. Александров, И. Сац,
Е. Усиевич и др.) в споре с В. Ермиловым, В. Кирпотиным, Е. Книпо-
вич, И. Альтманом и другими их многочисленными оппонентами во
главе с А. Фадеевым, но отчасти и благодаря. Смысл этого ответа:
великие консерваторы человечества прошли в щель между «вопре-
ки» и «благодаря». Понятие «щели» и «между» является одним из
основных в постмодернизме, но концепция «течения», развитая за-
тем в т.н. «онтогносеологии» и «теории тождеств» Мих. Лифшица1 2
в целом прямо противоположна постмодернисткой.
1 «Перед войной в «Литературной газете» и других издани-
ях,— пишет В. Лакшин в очерке о Г. Лукаче, — бушевала
дискуссия «вопрекистов» и «благодаристов», которая со
стороны могла казаться публике чем-то вроде схватки свиф-
товских “остроконечников” с “тупоконечниками”» // Лак-
шин В. Голоса и лица. М., 2004. С. по.
2 Некоторое представление о них дает опубликованная не-
законченная рукопись Мих. Лифшица «Диалог с Эвальдом
Ильенковым» (М., 2003) и книга «Что такое классика? Онто-
гносеология, смысл мира, истинная середина» (М., 2004),
составленная по архивным рукописям Мих. Лифшица.
Два поколения в одном
2б1
Я выдвигаю гипотезу: тот факт, что идеи «течения» оказываются
невостребованными ни у нас, ни за рубежом, свидетельствует о том,
что не только в современной России, но и во всём интеллектуальном
мире XX века1 не произошло реальной смены поколений, которая
наметилась сначала в 20-х, затем в зо-х годах, однако не состоялась.
Конечно, сдвиги в ту или иную сторону происходили в умственной
жизни России и в бо-е годы, и в 8о-е, и позднее, но при всей внешней
радикальности этих сдвигов качественно ситуацию они не изменя-
ли. Хотя на первый взгляд движение от В. Ермилова, например, к
структурализму и семиотике, а затем к Т. Адорно и В. Беньямину, с
одной стороны, а с другой — к М. Хайдегерру и К. Леонтьеву кажет-
ся радикальной сменой теоретической и идеологической ориента-
ции. Но этот радикализм, на мой взгляд, напоминает раскачивание
маятника из одной стороны в прямо противоположную, когда точ-
ка, к которой этот маятник прикреплен, остается неподвижной.
Речь, разумеется, идет не о биологической смене поколений, а
об изменениях в самом основании культуры. Духовно-исторические
процессы не совпадают с биологическими: иногда переход от одного
типа культуры к другому происходит в рамках одного биологическо-
го поколения (движение Сократа от софистов к идее объективной исти-
ны, ставшей основанием мировой классики, перелом в духовной жиз-
ни Германии во времена Лессинга и Винкельмана, перелом у Лукача
в 1918 г., совпавший с существенными сдвигами умонастроения запад-
ной интеллигенции—см., высказывание М. Дворжака об этом1 2)- Та-
кой же перелом наметился в России, и не только наметился, но и про-
изошел у молодого поколения, характерные черты которого Мих. Лиф-
шиц представил в теоретическом очерке «Человек 30-х годов»3. Но
1 «Наше будущее требует людей, — писал Мих. Лифшиц
автору этих строк в 1968 году, — способных бороться с
потоком обывательского сознания, заливающего сейчас
весь мир. Конечно, под именем теории я пониманию не
модничание ученой “элиты”...».
2 Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Воз-
’ рождения: в 2-х т. Т. 2. М., 1978. С. 109.
3 Лифшиц Мих. Человек тридцатых годов // Лифшиц Мих.
В мире эстетики. М., 1985.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
2б2
исторический, временной период между схемами абстрактного марк-
сизма и утверждением единого догматического образца был очень
кратким, и все вернулось на круги своя. Победители в этой дискуссии,
упоминавшийся В. Ермилов (бывший член РАППа, единомышленник
Л. Авербаха) и его соратники, оказались в своем роде классиками —
они в чистом виде выразили суть того разума, который Лифшиц на-
звал «нечистым» и историю которого в XX веке он собирался напи-
сать. Ермиловский «нечистый разум» очень живуч, он отчетливо об-
наруживается в реалиях современной научной жизни России.
Характеризуя позицию современных российских «православных»
пушкинистов (В. Непомнящий и др.) как заслуживающую внимания,
один из их критиков пишет:«.. .нельзя не заметить, что они подчас ли-
бо игнорируют, либо затушевывают то, что не вписывается в их кон-
цепцию»1. Затушевывать и игнорировать, причем большей частью со-
знательно, но иногда и не вполне сознательно—отличительная черта
«нечистого разума». Можно ли себе представить, что к такой методо-
логии в споре с оппонентами прибегали Платон, Аристотель, Кант, Ге-
гель? Обращаю внимание на то, что это именно методология «нечи-
стого разума», а не просто дурные черты и привычки, скажем, В. Ерми-
лова как личности. Иначе как объяснить их поразительную живучесть?
Проблема «нечистого разума»—не узко локальная, не проблема
только российской интеллектуальной жизни. Томас Манн в романе
«Иосиф и его братья» исследует глубочайшее, определяющее смысл
культуры и истории различие между людьми идеи типа Иосифа и т.н.
«перстью земной». «Персть земная» может придерживаться самых
разных взглядов, от религиозных верований до атеизма, быть подвла-
стной суевериям или строго рационалистическому типу мышления.
Одно недоступно ей—отношение к миру как исполненному смысла,
более значительного и высокого, чем цели личного существования.
«Персть земная» чувствует себя хозяином жизни в эпохи, когда объек-
тивная истина скрыта, когда она не является в своем собственном
виде. На первых страницах «Мастера и Маргариты» «иностранный
консультант» почти умоляет Берлиоза — поверьте хотя бы в то, что
дьявол существует, то есть поверьте, что когда разум и «истинный че-
1 Раскольников Ф. Пушкин и религия // Вопросы литера-
туры. 2004, май-июнь. С. 89.
ловек» унижены, загнаны в подполье, то истину вам рано или поздно
придется постигнуть своими боками, ибо она придет в образе «бича
божия», который бьет и правого, и виноватого! Но образумить «персть
земную» невозможно, не верит она, что истина — реальность.
В дискуссии 1939-1940 гг. «персть земная», условно говоря, вы-
теснила человека идеи. Конечно, и в шестидесятые и последующие
годы в российских общественных науках велись дискуссии, часто
оживленные. Но большей частью это уже была не открытая и чест-
ная борьба идей, а раздел общественного пирога между группами
и кланами, которые на поверхности разыгрывали «потешные бои»,
а реальные проблемы, затрагивающие материальные интересы, ре-
шались «за кулисами». О том, каковы нравы в нашей современной
науке, говорить нет смысла, настолько они всем хорошо известны.
Но не могу удержаться и приведу только один красноречивый при-
мер: никогда не публиковавшиеся работы Мих. Лифшица из его
архива систематически, на протяжении десяти лет, отклонялись
всеми научными фондами современной России, последний раз—в
2003 году, и представленная на конкурс в РГНФ рукопись Лифшица
«Диалог с Эвальдом Ильенковым», в которой обрисованы общие
контуры его «онтогносеологии», опубликована только благодаря
финансовой поддержке Хельсинкского университета.
Если в спорах с т.н. вульгарной социологией в начале 30-х годов
речь шла все же об идеях, то в конце этих годов со стороны оппонен-
тов «течения» все было уже по-другому. И дело не только в том, что
Кирпотиным и Фадеевым посылались письма клеветнического ха-
рактера Сталину и Жданову, дело, повторяю, не только в индиви-
дуальной психологии названных деятелей нашей культуры, а в том,
что «нечистый разум»—это объективная мыслительная форма, ока-
завшаяся поразительно живучей в XX и начавшемся XXI веке.
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
Вопрос об отношении к В. Ермилову и его группе уже
с шестидесятых годов представлялся исчерпывающе ясным. 15 мар-
та 1969 года А. Твардовский записал в своих «Рабочих тетрадях»:
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
264
«Вчера при прочтении в «Литературной России» сопроводительной
к Платонову статейки (А. Дымшица, в которой этот известный автор,
сообщают комментаторы публикации текста Твардовского, «восхи-
щается реализмом и гуманизмом А. Платонова».—В. А.):
Дымшиц — опытный политик:
«Огонек» на каждый день,
А про черный день «Литкритик».
Он работает по НОТ.
Выполняет гибкий график:
И Платонову потрафит,
И Софронову1 лизнет —
слабо, и уже так омерзительно, что не стоит даже эпиграммы. Не
Лифшиц с Сацем, а он, Дымшиц, хлопочет о Платонове, которого
такие Дымшицы и в гроб вогнали»1 2.
За несколько десятилетий с того дня, как были написаны эти
строки, много воды утекло, на смену «развитому социализму» пришел
развивающийся, правда, пока еще бандитский, капитализм. Глав-
ные произведения скрытого в те времена в спецхранах Т. Адорно пе-
реведены на русский язык и изданы, на кафедрах философии про-
винциальных университетов Хайдеггер уверенно заменил Маркса и
Гегеля. Определение советского общества как тоталитарного проч-
но вошло в сознание и массового читателя, и ведущего сотрудника
столичного Научно-исследовательского института. Журнал «Литера-
турный критик», ссылку на который А. Дымшиц, если верить А. Твар-
довскому, приберегал на свой «черный день», теперь уже не кажет-
ся образцом смелости и демократизма, а критика Мих. Лифшицем,
И. Сацем и Е. Усиевич советского искусства зо-х годов представля-
ется современным авторам явно недостаточной, даже робкой3.
1 А. Софронов — советский писатель, главный редактор
журнала «Огонек» с 1953 года.
2 См. «Знамя», 2004, май. С. 139-140.
3 Ученый из НИИ искусствознания отмечает «робость, с ко-
торой его («Литкритика»—В. А.) сотрудники критиковали
те или иные пороки соцреализма, например «иллюстрати-
визм» или «казенный оптимизм». — См. Мазаев А.И. Ис-
кусство и большевизм. 1920-1930 годы. М., 2004. С. 215.
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
265
Впрочем, когда современность не гордилась собой, вольно или
невольно унижая, говоря словами того же Мих. Лифшица, прошлое
в угоду настоящему и будущему? В 1931 году О. Мандельштам писал
своему отцу: «Дорогой папочка! (...). Ты моложе нас: пишешь сти-
хи о пятилетке, а я не умею. Для меня большая отрада, что хоть для
отца моего такие слова, как коллектив, революция и пр., не пустые
звуки. Ты умеешь вычитывать человеческий смысл в своей Вечер-
ней Газете, а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших кни-
гах мировой литературы.
Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь.
Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заго-
ворил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто
прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с са-
мим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хо-
рошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только древнее и будущее.
А семейный чайный стол мы, пожалуй, все-таки соорудим, как
он ни устарел»1.
Лет 17 тому назад мною опубликованы факты, имеющие отно-
шение к упомянутой «робости» сотрудников журнала «Литературный
критик»1 2. Извиняюсь перед читателем за вынужденные повторения.
Я писал о том, как газета «Правда» в редакционной статье «О поли-
тической поэзии»2 обвинила в 1937-м году Е. Усиевич в нападках на
пролетарских поэтов А. Жарова3, А. Суркова и защите репрессиро-
1 См. публикацию текстов и писем О. Мандельштама —
Новый мир, 1987, № io. С. 203.
2 См. «Правда» от 28 февраля 1937 года. Статья опублико-
вана без подписи.
2 См. о «течении» мои статьи: За что казнил М. Булгаков
М.А. Берлиоза? // Вопросы литературы. 1989, № 8; Драма
в семье Спиридона (идеи «течения» 30-х годов в контек-
сте творчества А. Солженицына) // Новое литературное
обозрение. 1994, № 7 и книгу «Ответы культуры на вызов
времени. СССР. 30-е годы». М., 1995.
3 Об А. Жарове Е. Усиевич, например, писала, что цель его
• поэзии сводится к тому, чтобы «позвонче да повеселей
воспевать все светлые и прекрасные стороны нашей дей-
ствительности, достигнутые партией победы»—см. Лите-
ратурный критик. 1935. № 6. С. 89.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
266
ванного поэта П. Васильева. В ответной программной статье «К спо-
рам о политической поэзии»1 она не каялась в своих ошибках, но
подробнейшим образом доказывала: т.н. политическая поэзия в
СССР—вообще не поэзия, а конъюнктурные поделки. Разумеется,
статья вызвала бурю возмущения в среде «партийных поэтов», и
партком Союза писателей «обязал» Усиевич исправить допущенные
ею «грубые политические ошибки»2. Как она их исправляла, можно
' См. Литературный критик, 1937, № 5.
2 В Литературной газете № 6 за 1938 г. С. 2 опубликована
заметка «Из решения парткома Союза советских писателей
по делу тов. Е. Усиевич». Приводим эту заметку целиком:
«I. Отметить, что тов. Усиевич допустила в своих крити-
ческих работах грубые политические ошибки, выразив-
шиеся в том, что, во-первых, в своей статье о П. Василье-
ве, опубликованной в 1934 г., тов. Усиевич пыталась вос-
хвалять его, как «поэта миллионов», и во-вторых, в статье
«О политической поэзии» («Литературный критик», № 5,
1937) высказала убеждение, что «наша поэзия хиреет».
Указать т. Усиевич, что она обязана в дальнейших своих
работах исправить допущенные ею ошибки.
2 . Дело о т. Гронском, отказавшемся подтвердить пись-
менно брошенное им политическое обвинение по адресу
члена партии т. Усиевич, передать в его партийную орга-
низацию.
3 . Поставить вопрос о непартийном поведении т. Алтаузена.
От редакции:
Е. Усиевич в своей долголетней критической работе наря-
ду с хорошими статьями допустила грубые политические
ошибки. Партийная организация Союза писателей, разуме-
ется, должна была иметь свое суждение об этих ошибках.
Но дело Усиевич весьма показательно для нравов, суще-
ствующих среди части коммунистов-литераторов.
Некоторые поэты, «обиженные» Усиевич, использовали все
средства для дискредитации ее как члена партии. Были
пущены в ход клевета, грязные сплетни, необоснованные
и недоказанные обвинения. Спешно собирались и орга-
низовывались заявления зачастую у людей, явно не вну-
шающих политического доверия. Дж. Алтаузен
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
2б7
судить по ее большой статье, появившейся в следующем, 1938 году
в «Литературном критике».
Зная об отношении Сталина к Андрею Платонову, Усиевич в этой
статье («Разговор о герое») написала слова, расцененные современ-
никами как литературное кредо «течения»: «Наиболее талантливым
среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманисти-
ческими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и труд-
ных, часто трагических форм развития, является у нас Андрей Пла-
тонов»1. Способ защиты писателя, избранный ею в этой статье, пред-
ставляет интерес, на мой взгляд, и для современного читателя.
«До сих пор наша критика, — пишет Усиевич, — очень часто рас-
сматривает произведения искусства с точки зрения того, насколько
естественно и искренне звучит у автора «ура», провозглашаемое им
советской власти. Мало кто задается вопросом о том, можно ли втис-
нуть все богатства народного духа в эти три буквы и исчерпываются
ли ими, в частности, задачи искусства»2. Один из немногих совет-
ских критиков, кто понимает и признает, что и в советской литера-
туре может изображаться горе и трагедия нашего современника —
А. Гурвич, констатирует Усиевич, анализу сборника статей которо-
го «В поисках героя» формально посвящена ее статья. Формально, по-
тому что на самом деле главная ее цель—отстоять творчество А. Пла-
тонова и его право на трагическое восприятие жизни. Отстоять от
нападок именно А. Гурвича.
Для достижения своей непростой цели (напомним, что дело про-
исходило в 1938 году) Усиевич избирает следующую тактику. Статья
по своей внутренней логике делится на три части. В первой Усиевич
показывает, что теоретически, то есть абстрактно А. Гурвич призна-
начало^с. 2о! дошел д0 того, что позволил себе на всех публич-
ных выступлениях называть Усиевич сообщницей Бухари-
t на без всяких на то оснований. Все это создало атмосфе-
ру политической травли Усиевич и, разумеется, не способ-
ствовало партийной критике ее действительно серьезных
ошибок. Клеветники должны быть привлечены к серьез-
, ной партийной ответственности».
1 Литературный критик. 1938. № № 9-10. С. 171.
2 Там же. С. 159.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
268
ёт — жизнь вообще, в том числе и жизнь советских людей, может
быть и горестной и трагической. Больше того, продолжает Усиевич,
«именно т. Гурвич в ряде своих статей доказывал, что “компрачи-
косов” (имеются в виду похитители детей из романа Гюго “Чело-
век, который смеется”.—В. А), пытающихся изуродовать лицо со-
ветского человека (особенно советского юноши, более легко подда-
ющегося воздействию книг) идиотской, псевдооптимистической
улыбкой,—немало среди литераторов»1. В первую очередь к «ком-
прачикосам», по мнению Усиевич, относится В. Вишневский с его
романом-фильмом «Мы, русский народ», но, впрочем, далеко не он
один: даже такие одаренные драматурги, как А. Афиногенов и Н. По-
годин, во второй половине тридцатых годов впали, продолжает Уси-
евич, в «тот самый бездушный (так называемый “целеустремлен-
ный”) оптимизм, который еще до сих пор часто считается основным
признаком социалистической ортодоксальности и требует прежде
всего уверенности, что все и всегда обстоит вполне благополучно,
что все в Советской стране само собой приходит к хорошему концу,
что всякий намек на трагизм есть признак “раздвоенного интел-
лигента”»2.
Статьи критика А. Гурвича, пишет Усиевич, «посвящены выясне-
нию причин, по которым в нашей литературе до сих пор так редко
удается образ “героя нашего времени”»3, и критик, по мнению Уси-
евич, верно указывает на эти причины—«бюрократический» и «без-
душный оптимизм», как формулирует Усиевич, подавляющего чис-
ла современных советских писателей. Но когда перед взором Гурви-
ча оказывается автор, лишенный этих недостатков, когда Гурвич
начинает рассуждать об Андрее Платонове, то «зрелище конкрет-
ных, ощутимых форм страдания оказывается для т. Гурвича настоль-
ко отталкивающим, что он отступает назад, в только что им самим
разоренную область бездумного счастья ...».4 Поэтому, продолжает
Усиевич, «особенно тяжелое впечатление производит то, вообще
‘Тамже. С. 163.
2 Там же. С. 162.
3 Там же. С. 154.
4 Там же. С. 171.
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
2б9
говоря не свойственное А. Гурвичу и — скажем прямо — не крити-
ческое, а следовательское рвение, с которым подошел он к творче-
ству этого писателя»’. И далее Усиевич самым подробным образом
останавливается на методах и результатах «следовательского рве-
ния», чему и посвящена вторая часть ее статьи.
К этой части можно было бы поставить эпиграфом слова А. Твар-
довского из его «Теркина на том свете» — «обозначено в меню, а в
натуре нету». На протяжении десятков лет советская критика в аб-
страктном, общем плане утверждала всякие замечательные вещи,
например, реализм в искусстве, то есть необходимость следовать
правде бытия, и только ей, больше ничему. А на деле она эту самую
правду преследовала и стремилась уничтожить, стереть с лица зем-
s ли, проявляя при этом необычайное, заслуживающее внимания рве-
ние. Если вы почитаете литературные памфлеты Мих. Лифшица,
например, «Дневник Мариэтты Шагинян», то узнаете, как это дела-
ется. Но знать рядовому читателю об этом нельзя, и чтобы он никог-
да об этом не узнал, советская научная общественность сделала не-
мало (см. об этом ниже). «Разговор о герое» Усиевич — одна из пер-
вых публикаций «течения» о том, как «обозначенное в меню» нашей
литературной критикой удивительным образом исчезает «в нату-
ре». Каким же способом производится эта литературоведческая
операция?
Вот многократно на практике испытанный, простой до непри-
личия, но эффективный прием: «Тов. Гурвич не поленился перечи-
тать все написанное Платоновым за двенадцать-тринадцать лет,
чтобы совершенно произвольно сгруппировать, совершенно произ-
вольно перетолкованными цитатами доказать недоказуемое...»2.
Дальше идет конкретный разбор подтасовок и искажений, и я отсы-
лаю заинтересованного читателя к статье Усиевич, поскольку пред-
мет у нас другой: не Гурвич, а наши современники и свойственная
им методология.
По мнению современного исследователя, Усиевич в статье «Раз-
говор о герое» сдавала свои прежние позиции, «предпочтя» Платонову
1 Там же.
2 Там же.
Литературная дискуссия i939“I94O гг.
как поворотный пункт ...
270
Ю. Крымова1. Она действительно пишет, что «Танкер “Дербент”» —
«одна из лучших книг, вышедших у нас за последние годы»1 2. Но Пла-
тонов, названный ею «наиболее талантливым писателем», вообще
с Крымовым не сравнивается, имена этих писателей в ее статье вме-
сте ни разу не встречаются, не сопоставляются. Так зачем же Усие-
вич в конце своей статьи обратилась к роману «Танкер “Дербент”»?
В центре романа—человек, преданный общему делу, но «затрав-
ленный», как отмечает Усиевич, не врагами, а друзьями, в том чис-
ле «любимой и любящей женой», которые обвинили Басова (героя
романа) в том, что он отщепенец, ибо не согласился с общим мне-
нием, с тем, что весь коллектив считал правильным, — «Коллектив!
Ты идешь против коллектива, ты разбит, потому что не прав». Уси-
евич в своей статье пытается растолковать читателю прямо проти-
воположную истину—не всегда герой, идущий даже против глав-
ного идола времени, самого «Коллектива», ошибается. Напротив, он
может быть правым, а коллектив вовсе не прав. И тогда герой попа-
дает в трагическую ситуацию, что и случилось с Басовым. Но имен-
но этого человека, затравленного друзьями и коллегами по работе,
социалистическим коллективом, «одинокого и пришибленного»3
(выделено мною. —В.А.~), Усиевич приводит в своей статье как при-
мер того, каков должен быть истинный герой советской литерату-
ры конца тридцатых годов! Вот что она пишет, полемизируя с тем,
что называет «ортодоксально-коллективистской позицией»: «В пре-
данности делу вопреки всему и состоит героизм. В нашей стране
герой не бывает одиноким, как в собственническом обществе (NB:
для современных исследователей — почему она не написала обрат-
ное?—В.А.~). Но бывают моменты, когда он испытывает чувство
1 А. Мазаев сообщает читателю об этой статье и о позиции
Усиевич следующее: она «так и не нашла нужных слов,
чтобы охарактеризовать хоть какое-то величие и своеоб-
разие Платонова и предпочла ему в 1938 году Ю. Крымо-
ва с его нашумевшей книгой «Танкер “Дербент”». В какой
то мере это была «сдача позиции»». — См. Мазаев А. Соч.
цит. С. 224.
2 Литературный критик, 1938, № 9-10. С. 185.
3 Там же. С. 186-187.
Полемика о творчестве А Платонова:
вчера и сегодня
271
одиночества, покинутый в борьбе прежними товарищами и друзь-
ями и еще не ощутив поддержки других людей, незнакомых, рассеян-
ных по стране, но близких ему по идее (разрядка Усиевич. —В.А.). Не
надо в такие моменты искать жизнерадостной, оптимистической
улыбки на лице героя и ощущения счастья в его душе».1 В отличие
от типичного героя советской литературы тех лет, лицо которого
«изуродовано идиотской псевдооптимистической улыбкой», насто-
ящий герой настоящей литературы конца тридцатых годов «ощущал
поражение личное и общественное (разрядка Усиевич. —В. А)»2. «Ге-
роизм Басова заключается в том, что, став из веселого добродушно-
го парня человеком, который угнетен поражением, почти озлоблен,
он тем не менее не может, физически не может отказаться от своей
, идеи, в какое бы тяжелое положение борьба за нее его ни ставила,
куда бы его ни забросила»3.
Процитированные строки, мне кажется, говорят о том, что Усие-
вич в статье, посвященной защите А. Платонова от «следовательско-
го рвения» А. Гурвича, обращается к среднему писателю Ю. Крымову
для того, чтобы доказать право Платонова на изображение «траги-
ческих форм развития» современности, ибо даже у всеми признан-
ного Ю. Крымова герой оказывается в драматической коллизии.
Никакого иного повода для обращения критика в этой статье к «Тан-
керу “Дербент”» нет. Как нет никакого сомнения в том, что Усиевич
вовсе не сдает свои прежние позиции, но с особой убежденностью
доказывает: иное поражение, причем поражение не от врагов, а от
своего же «Коллектива»—удел честного, глубокого человека. Эта
поистине вечная, трагическая тема впервые прозвучала у нее с та-
кой силой именно в статье 1938 года, накануне той дискуссии, ко-
торая обернулась для «течения» закрытием журнала «Литературный
критик» Постановлением ЦК ВКП(б) 1940 года. Не всегда большин-
ство право, и когда так называемая современность не права, то ис-
тинным человеком, мыслителем, художником можно стать, только
преодолевая, говоря словами А. Пушкина, «слабоумное изумление
перед своим веком».
, 1 Там же. С. 184.
2 Там же. С. 187.
3 Там же.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
272
Мих. Лифшиц, вероятно, не хотел читать мораль коту Ваське,
поэтому, упоминая в конце своей жизни о том, что к «течению» при-
мыкал Андрей Платонов, которого, продолжает Лифшиц, «никто не
станет упрекать в склонности к догматизму», завершает это упоми-
нание словами: «Впрочем, мне не нужны такие аргументы». Поче-
му же не нужны? Да потому, что Платонов сегодня — это валюта,
лакомый кусок, и его давно уже присвоили себе другие, в том числе
и те, кто в годы гонений на Платонова либо помалкивал, либо пи-
сал панегирики совсем другим авторам, а именно тем, кто был хо-
довой монетой в иные, календарно далекие, а в содержательном от-
ношении не столь уж от нас далекие времена. «Течению» не удалось
изменить характер «современности».
Разумеется, не все в нашем поколении одинаковы, есть, и нема-
ло, вполне честных и талантливых людей, о которых Лифшиц напи-
сал в 1968 году, что видит в них своих «товарищей по школе» негу-
дошников, даже если они не согласны с ним или причинили ему
вред. Однако, хотя и не так быстро, как хотелось бы, в мире кое-что
меняется к лучшему. А. Платонов больше в защите не нуждается, и
потому Лифшиц в конце семидесятых годов хочет рассказать — и
рассказывает—«о других писателях этого круга—Владимир Алек-
сандров, Владимир Гриб, Георг Лукач, Игорь Сац, Елена Усиевич ...
так же резко отличались от благополучных ортодоксов тех лет»1. Но
время этих писателей не пришло. Из влиятельных во время пере-
стройки литературоведов один только покойный Ю. Буртин почти
уже 20 лет назад мимоходом, вскользь, когда писал по совершенно
другому поводу, сказал о них несколько добрых слов, но и они, эти
слова, как видно, вызвали обеспокоенность у наших современников.
По иронии судьбы Ю. Буртин, рассчитывая на нового читателя, обра-
щался в своей статье 1987 года к «.. .Вам из другого поколения...» —
так озаглавлена его публикация. Увы, поколение то же самое, что
многократно «закрывало» «Литературный критик» — сначала Поста-
новлением ЦК ВКП(б), а затем другими, литературными способами
и приемами для того, чтобы об этом журнале и его сотрудниках ря-
довой читатель либо вообще ничего не знал, либо имел, как говорит-
ся, заведомо неверную информацию.
' Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 258.
Полемика о творчестве А. Платонова:
вчера и сегодня
273
«Спорить можно с людьми, имеющими нечто похожее на убежде-
ния», — писал Лифшиц в 1968 году.1 Но как могло получиться, что у
целого поколения, по крайней мере поколения советских философов
и эстетиков, отсутствовало то, что называется «убеждениями»? При-
способленчество— ответ правильный, но слишком общий. Потому
что это проблема не одной только Советской России. Пытаясь от-
ветить на этот вопрос, Булгаков написал роман, в котором совместил
советские 30-е годы с историей распятия Христа. Мы не пойдем так
далеко, хотя я тоже думаю, что этот вопрос имеет вневременной ха-
рактер, относится к вечным проблемам—по крайней мере «вечным»
для того исторического периода, который именуется цивилизацией.
Для того чтобы целые поколения интеллигенции стали лукавы-
ми пустословами, должны были расшататься самые основы интелли-
гентности. Должны были утратиться самоценность мысли, абсолют-
ный авторитет истины. Негодяи и «просто» обыватели второй поло-
вины тридцатых годов оправдывали свою подлость «разочарованием»
в социализме и революции. Однако есть разочарование и есть разо-
чарование. Одно имеет своим результатом дешевый скепсис и беспло-
дие в области идей даже у субъективно одаренных авторов, скрытое
за необычайной в ряде случаев плодовитостью «нечистого разума».
И есть разочарование в самых любимых идеях, есть такое крушение
всех прежних убеждений, такое трагическое поражение Разума, ко-
торое — основа духовного выхода из порочного круга времени. Вто-
рой тип крушения и поражения удавалось в прошлом, именно уда-
валось как необычайное везение, пережить тем, кого Мих. Лифшиц
назвал «великими консерваторами человечества». Тема волнующих,
исполненных высокого смысла поражений и трагедий культуры,
стоящих значительно выше иных побед, — вот «тема», которую пы-
тались закрыть для советской эстетики и философии яростные оп-
поненты «течения». Эта тема, которой я коснулся, говоря о статье
Усиевич «Разговор о герое», глубоко и оригинально разработана в
теоретической продукции Лифшица и Лукача тридцатых годов.
То, что революция зашла в тупик еще до начала «великого пере-
лома» 1929 года, было ясно многим современникам, в том числе
Лукачу и Лифшицу. Как в короткие сроки осуществить модернизацию
'Лифшиц Мих. Искусство и современный мир. М., 1973. С. 59.
Литературная дискуссия i939-I94O гг.
как поворотный пункт ...
274
и индустриализацию крестьянской страны, не прибегая при этом к
массовому раскулачиванию—преступлению, обернувшемуся, в кон-
це концов, крахом СССР? На этот вопрос, напишет позднее, в шести-
десятые годы, Георг Лукач, не было убедительного ответа ни в трид-
цатые годы, ни позднее. Но, согласно «онтогносеологии» и «теории
тождеств» Мих. Лифшица, безвыходные ситуации—не всегда провал,
не всегда катастрофа. В прошлом они нередко служили реальной поч-
вой для прорыва порочного круга, который находило в самые разные
исторические эпохи искусство, названное им «высоким реализмом»
и не имеющее ничего общего с унылом, тусклым реализмом второй
половины XIX века на Западе — результата «разочарования» по пер-
вому типу. Не говоря уже о многих, отмеченных самыми высокими
наградами, шедеврах соцреализма, которые причислялись к реализ-
му только по недоразумению, точнее, по не вполне искреннему «ра-
зумению» поколения, пришедшего на смену «течению» зо-х годов.
Спор о Гоголе: вчера и сегодня
Критика пороков культуры в целом и Просвещения
в частности—одна из главных идей Мих. Лифшица 30-х годов, по-
зднее доведенная до абсурда франкфуртской школой1, возникшей
под влиянием «раннего» Г. Лукача.
«Отвлеченная схема дает какое-то успокоение среди бурного
потока жизненных фактов. Схематизм и доктринерство — одно из
самых общих проявлений мещанства, взбесившегося от ужасов пе-
реломной эпохи»1 2. Так появляется «обыватель в львиной шкуре», то
1 «Из этого видно, насколько франкфуртская школа — ка-
рикатура на “мою”. Да, само просвещение становится си-
лой, его удушающей, но нельзя оставлять этот факт на
растерзание правым...» //Мих. Лифшиц. «Что такое клас-
сика? Онтогносеология. Смысл мира. Истинная середи-
на». М., 2004. С.12о.
2 Цитата из неопубликованной статьи Мих. Лифшица «На
разные темы» (1934 г.). Цитируется по машинописной ко-
пии из архива Мих. Лифшица. С. 21.
Спор о Гоголе: вчера и сегодня
275
есть «чучело, набитое общими формулами, без всякого конкретно-
го содержания»1. Что скрывается за боевыми названиями типа: «За
марксистское изучение творчества Артема Веселого!», «Ударим по
вопросу об ошибках Плеханова и Михайлова!»? Сегодня такие на-
звания выглядят анекдотическими, но их источник — тяжелая ду-
ховная болезнь, далеко не изжитая и в наши дни. Могущество, по-
истине демоническая власть вульгарной социологии над умами «ко-
ренится в том, что она обращается к элементарной человеческой
глупости, развязывает простейшие духовные инстинкты. Все объяс-
нить, все классифицировать, показать, что каждый прыщик имеет
свою причину, что ни одна букашка не смеет лапкой двинуть без ис-
торической необходимости — какая увлекательная задача!»1 2. Бо-
лезнь пустой рефлексии — зеркальное отражение неподлинного в
нашей реальности, которое, кажется, вытеснило то, что на философ-
ском языке называется действительностью.
«Отдельные, яркие карикатуры разоблачить не трудно. Труднее
искоренить незаметное, растекающееся по многим мелким ручей-
кам влияние ложных абстракций, мертвых схем и сектантских шаб-
лонов. Они обладают чудовищной силой распространения, и труд-
но пройти мимо них, не заразившись».3 Вот задача, которая стала
делом жизни Мих. Лифшица: «Борьба с механическим бездушием —
не только литературное дело. Это борьба живого и мертвого в самом
народе»4. Социальная революция подняла со дна жизни этих людей
и превратила их в демонические фигуры. «Диалектику жизни они
воспринимают как однообразное качание маятника из стороны в
сторону. (...) Исчерпав всю гамму односторонностей, они создают
вокруг нас атмосферу разочарования, скуки и скептицизма»5.
1 Там же. С. 22.
2 Там же. С. 25.
3 Там же. С. 24.
4 Там же. С. 28.
5 Мих. Лифшиц. О культуре и ее пороках. Опубликовано в
' ж-ле «Литературный критик» 1934, № и. Цит. по исправ-
ленной Мих. Лифшицем машинописной рукописи статьи
из его архива. С. 18.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ..,
276
Шараханья из одной крайности в другую, от либерализма к шо-
винизму, в период перестройки и после нее сделали популярным в
нашей публицистике и науке образ маятника, в раскачивании кото-
рого многим авторам видится судьба России. Одни из них считают,
что наше нравственное негодование ничего изменить не может, ибо
плетью обуха не перешибешь. Другие полагают, что движение рос-
сийского маятника можно приостановить, если мы найдем нечто
«среднее».
Между тем Герцен полагал, что нет ничего презреннее партии
«золотой середины». Дело в том, что «среднее» тоже бывает разное.
Есть среднее по типу «ни рыба, ни мясо», а есть среднее как выс-
шее — Mesotes как akrotes, писал Лифшиц, обращаясь к терминоло-
гии Аристотеля. Его «теория тождеств» представляет собой развитие
идеи «истинного среднего», die wahre Mitte немецкой классической
философии. Истинная середина есть классика самого мира, и она
представляет собой прорыв порочного круга, проходя в щель меж-
ду одинаково неприемлемыми крайностями—эта мысль пронизы-
вает философскую публицистику Мих. Лифшица, начиная с тридца-
тых годов (см. статью 1939 года о Джамбаттиста Вико и его концеп-
ции исторического круговорота).
Прагматики всех времен были сторонниками совершенно ино-
го среднего — эклектики. Результаты политики «золотой середины»
(«консенсуса» Горбачева) для СССР оказались катастрофическими.
Разумеется, на тяжком опыте нужно учиться. Но отличает ли совре-
менная российская мысль «истинную середину» от мещанской по-
средственности? Характеризуя суть американской атлантической
политики, как она сформировалась, начиная с XVIII в., известный
политолог пишет: «Эта культура по преимуществу центристская: ее
олицетворяет «партия середины», которую в других политических
культурах принято считать «презренной».1 Однако разве определив-
1 А.С. Панарин. Выбор России: между атлантизмом и евра-
зийством. // Цивилизации и культуры. М., 1995. С. 33.
Поскольку либерально-атлантическая политика в нашей
стране провалилась, автор возлагает надежду на возрожде-
ние того самого коллективного «видения» (то есть искус-
ственно культивируемого мифа), который— окончание - с. и.
Спор о Гоголе: вчера и сегодня
277
шая судьбу и существо американского капитализма гражданская
война Севера и Юга была вызвана стремлением найти «середину»
между рабством и свободой?
Обратимся к другому российскому ученому, который в 90-х го-
дах сделал себе имя исследованием циклов российской истории1.
Анализ инверсионных движений (которые Лифшиц называл ударом
«обратной волны») позволил ему нарисовать не лишенную правдо-
подобия картину того, как Россия на протяжении многих веков ки-
далась из крайности в крайность. Надежду на лучшее будущее ему
внушает русская культура XIX века, которая нашла путь к «средне-
му», и если мы усвоим ее «медиационную логику», то можем поме-
шать губительному раскачиванию маятника. В чем же заключался
«важнейший узловой пункт развития русской культуры, узловой
пункт проникновения в механизм развития медиационной логи-
ки»?2 Вот ответ: «От абсолютизации натурального хозяйства возра-
стающую ценность у писателей стало приобретать нравственное оп-
равдание человеческого дела, предпринимательства (Фонвизин, Го-
голь), а также критика нищенства (Фонвизин, Лермонтов, Гоголь),
ориентации на прибыль, развития наемных отношений (Гоголь,
Гончаров, Тургенев)»3.
Что хочет сказать уважаемый автор? Неужели он всерьез думает,
что «среднее» как идеал, как выход из тупика, русская классика нахо-
дила где-то между, например, гоголевской Коробочкой с ее «абсолю-
«очало-с.21» главный объект памфлетов Лифшица: «...если
“сибирский миф” еще жив в нашей культуре (в суровую
осень 41-го года он сыграл свою роль), то цивилизацион-
ный маневр, связанный с некоторым смещением центра
тяжести с Запада на Восток нашей страны сегодня возмо-
жен. А тем самым возможно и творческое перерешение
узловых проблем нашей реформы...». Там же. С. 65-66.
1 См. А.С. Ахиезер. Россия: критика исторического опыта.
Т. 1—2. Новосибирск, 1997-1998.
2 А С. Ахиезер. Логика культуры и динамика циклов. // Ци-
- клические ритмы в истории, культуре, искусстве. М., На-
ука, 2004. С. 127.
3 Там же.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
278
тизацией натурального хозяйства» и Чичиковым, погоня которого
за прибылью заводила так далеко, что его «человеческое дело» тоже
нуждается в некоторой корректировке? Если наш современник хотел
сказать нечто подобное или близкое, и если этот вид «среднего» при-
влекает внимание современной мыслящей публики, то ей, наверное,
было бы небезынтересно познакомиться с предвосхищением ука-
занной идеи в литературных дискуссиях тридцатых годов XX века.
В1936 году Мих. Лифшиц публикует рецензию на книгу М.Б. Храп-
ченко «Н.В. Гоголь» под названием «Стыдливая социология». «Автор
рассматриваемой монографии, — пишет в рецензии Лифшиц, — по-
зволяет Гоголю некоторые вольности: он дает ему право критико-
вать дворянство, протестовать против крепостничества и капитализ-
ма одновременно»1. По мнению Храпченко, Гоголь предостерегает
Коробочку, Собакевича и Плюшкина: если не найдете альтернати-
ву Чичикову, то погибнете. Спасение великий писатель якобы ви-
дел в некоем среднем состоянии — «в обновленном гармонически-
устроенном феодальном порядке».1 2 Так думал М. Храпченко в 1936
году. И примерно так же думают многие современные авторы, хотя
их «среднее» ближе к обновленному на либеральный лад капитализ-
му, чем феодализму.
Но не в частностях дело, доказывал Мих. Лифшиц, а в том общем
«роде» рассуждений, в котором откровенный вульгарный социолог
В. Переверзев был «хорош», а «стыдливый» социолог М. Храпченко
«плох». Метод вульгарной социологии плох потому, что ставит пе-
ред ложным выбором, когда обе стороны, оба полюса «хуже» и вы-
бирать между ними среднее нельзя. Выход надо искать не между
Коробочкой с ее феодальными интересами и Чичиковым, выход —
в «истинно среднем» между правильно найденными полюсами. Та-
кова идея Мих. Лифшица, лежащая в основе его «теории тождеств».
В соответствии с этой идеей он писал в своей рецензии на книгу
Храпченко: «Да, эти люди не были жалкими эклектиками, а, наобо-
рот, были последовательными и цельными фигурами. Цельность
Гоголя или Бальзака, это — совсем не то, что потребно нашим вуль-
1 См. Литературное обозрение, 1936, № 8. С. 38. Рецензия
Мих. Лифшица напечатана под псевдонимом «И. Иванов».
2 М.Храпченко. Н.В. Гоголь. М., 1936. С. 103.
Спор о Гоголе: вчера и сегодня
279
гарным социологам для того, чтобы упрятать великого художника
в узкую клетку дворянских или буржуазных интересов. Цельность
таких людей, как Гоголь, проявлялась скорее в той страстной на-
стойчивости, с которой они рвались наружу, оставаясь мучениками
идеи даже в своем падении»1.
В 1954 году появляется новая книга М. Храпченко «Творчество
Гоголя», которая была переиздана в 1956 году, а затем в несколько
измененном виде вошла в первый том его собрания сочинений. Там
мы читаем: «Немало литературоведов и критиков — отечественных
и зарубежных—трудились над тем, чтобы представить Гоголя чело-
веком, далеким от прогрессивных течений своего времени. Харак-
теризуя жизненный и творческий путь Гоголя, эти литературоведы
и критики настойчиво подчеркивали, что он вырос и сформировал-
ся в обстановке поместно-дворянского патриархализма, которая
будто бы и предопределила консервативное мировоззрение писате-
ля, оставшееся неизменным на всем протяжении его творческой
деятельности»2.
Новые рассуждения Храпченко очень напоминают слова рецен-
зии Лифшица на его книгу 1936 года: «Вот как излагает М. Храпчен-
ко эволюцию русского писателя: Гоголь вырос в усадьбе своих ро-
дителей, здесь «сформировалось его отношение к действительнос-
ти, его привязанность к усадебному миру»3. Далее Лифшиц приводит
следующие строки из ранней книги Храпченко о Гоголе: «Поэтиза-
ция сельской жизни отражала, с одной стороны, идеалы феодально-
го дворянства; крепостная деревня, как источник благоденствия,
должна находиться вне социальных потрясений, столкновений; с
другой стороны, — продолжает Храпченко, — в стремлении к дере-
венской идиллии проявлялось отрицание буржуазно-городской дей-
ствительности»4 .
Но Храпченко зрелый, Герой Социалистического Труда и акаде-
мик-секретарь Отделения литературы и языка Академии наук СССР,
1 Литературное обозрение, 1936, № 8. С. 40.
, 2 М.Б. Храпченко. Собр. соч. Т. i. М., 1980. С. 87.
• 3 Литературное обозрение, 1936, № 8. С. 38.
4 Цит. из книги М. Храпченко по: Литературное обозрение,
1936, № 8. С. 38.
Литературная дискуссия I939“I94O гг.
как поворотный пункт ...
28о
изменил свою точку зрения на прямо противоположную, он катего-
рически утверждает, что Гоголь был не защитником «обновленно-
го феодализма», а выражал «прогрессивные освободительные идеи».
Замечательно, но кто же тогда в тридцатые годы доказывал обрат-
ное? Об этом мы узнаем, если обратимся к книге М.Б. Храпченко
«Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы», за
которую он получил Ленинскую премию.
В тридцатые годы, читаем в исследовании академика, «нередко
предпринимались попытки оспорить роль передового мировоззре-
ния»1. Это делалось прежде всего, поясняет ученый, группой эстети-
ков журнала «Литературный критик». Не упоминая имя Лифшица,
духовного лидера этого журнала, Храпченко продолжает: «Некото-
рые из них (Лукач и др.) стали настойчиво выдвигать положение о
том, что реакционное мировоззрение нередко не только не мешает
писателю создавать совершенные образы искусства, напротив того,
оно способствует их рождению; многие крупные писатели, утверж-
дали они, свои художественные шедевры творили благодаря своему
реакционному мировоззрению»1 2.
Один писатель, диссидент, который не мог публиковаться в го-
ды, когда М.Б. Храпченко издавал свои труды, говорил: «Все, что
попадает в наши руки, читать не следует, потому что даже класси-
ки прошлого снабжаются такими комментариями, которые полно-
стью искажают смысл — вместо смысла нашу голову загружают про-
думанной и хорошо организованной дезинформацией». Разумеется,
это утверждение—тоже крайность, но когда берешь в руки книги,
подобные собранию сочинений академика М.Б. Храпченко, то ви-
дишь, сколько в нем истины.
В рассказанном нами реальном историческом анекдоте отрази-
лись серьезные явления и проблемы. В конце зо-х годов в советском
литературоведении сформировался некий, так сказать, «срединный»
тип культуры, который на либеральный лад объединял полярные
противоположности. Авторами этого синтеза были бывший раппо-
1 М.Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя
и развитие литературы. // М.Б. Храпченко. Собр. соч. т. 3.
С. 40.
2 Там же. С. 41.
28i
вец В. Ермилов со своими многочисленными сторонниками. Под
влиянием критикующих их воззрения публикаций они отказались
к концу зо-х годов от своих прежних взглядов. Но, не успев покаять-
ся, объединившиеся рапповцы и вульгарные социологи тут же пе-
решли в наступление, благо это им позволял «административный
ресурс». Их логика была «срединная», то есть по принципу «ни рыба,
ни мясо». Существо либеральной перестройки в литературоведении
конца 30-х годов Мих. Лифшиц раскрывает в своей статье 1940 года
«Надоело» (см. об этой статье ниже)
Так Гоголь под пером Храпченко превратился из идеолога обнов-
ленного феодализма в писателя, который в своем творчестве ярко
выражал «прогрессивные освободительные идеи». Такой очевидной
глупости и прямой неправды никогда не могли сказать ни Мих. Лиф-
шиц, ни Г. Лукач. М.Б. Храпченко, между прочим, цитирует в своей
книге 1972 года (удостоенной, как было сказано, Ленинской премии)
следующие строки из книги Г. Лукача «К истории реализма»: «Миро-
воззрение Толстого глубоко пронизано реакционными предрассуд-
ками. Но эти предрассудки связаны с действительным характером
здорового и растущего движения, перед которым лежит большое бу-
дущее...»1. Храпченко прервал цитату на принципиально важном
месте — «предрассудки Толстого, — заканчивает фразу Лукач, — от-
ражают действительно слабые стороны и непоследовательность это-
го движения»1 2.
«Народность» — «вещь в себе» 30-х годов
Главный пункт в обвинительном приговоре, который многие
современные авторы выносят «течению», состоит в том, что сотруд-
ники «Литкритика» не на словах, а на деле были советскими людь-
ми, честно и сознательно «со всеми сообща» строили социализм,
являлись убежденными марксистами. Тогда как их противники,
1 Цит. из книги Г. Лукача по: М.Б. Храпченко. Творческая
• индивидуальность писателя и развитие литературы. //
М.Б. Храпченко. Собр. соч. т. 3- С. 41.
2 Г. Лукач. К истории реализма. М., 1939- С. 318.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
282
которые посылали письма Сталину1, объективно выражали и свои-
ми идеями, и психологией, и методами литературной полемики то
самое «буржуазное сопротивление социализму», которое они кле-
ветнически приписывали «течению». И с этим, главным обвинени-
ем Лифшицу, Лукачу, Усиевич, я в основном согласен. В. Ермилов,
называвший их врагами социализма и марксизма (как ранее Авер-
1В записке А. Фадеева и В. Кирпотина «Об антипартийной
группировке в советской критике» сообщается: «Всю со-
ветскую литературу “Литературный критик” считает
иллюстративной (то есть дидактической, второсортной)
на том основании, что она пронизана политической тен-
денцией. .. В современной же советской литературе Е. Уси-
евич поддерживает явления, выражающие разбитое буржу-
азное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей
Платонов, автор “Впрока”, является самым талантливым
советским писателем». Публикатор извлечений из письма
Фадеева и Кирпотина заключает: «Скрытые цитаты из этих
доносов можно найти и в некоторых публикациях 1939-
1940 гг., что свидетельствует о хорошей согласованности
действий оппонентов “Литературного критика”. Но их
авторам было важно донести свое мнение до самых вер-
хов, и не только донести, но и попытаться повлиять на ре-
шение. И им это удалось». См. Галушкин А. Андрей Плато-
нов— Сталин — «Литературный критик» // «Страна фи-
лософов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.,
2000, сс. 815-826.
Докладная записка секретарей ССП СССР А.А. Фадеева и
В.Я. Кирпотина «Об антипартийной группировке в совет-
ской критике» (строки из которой цитировались выше) от
ю февраля 1940 года, адресованная «В ЦК ВКП(б) —тов.
Сталину, —тов. Молотову, — тов. Жданову, —тов. Андре-
еву,—тов. Маленкову», опубликована в кн: Россия XX век.
Документы. Под общей редакцией академика А.Н. Яковле-
ва. Власть и художественная интеллигенция. 1917-1953 гг.
М., 2002. С. 439-444.
Доносы на Лифшица в ЦК и другие властные учреждения,
как недавно выяснилось при изучении архивов, посыла-
лись и позднее, например, А. Дымшицем в шестидесятые
годы (см. об этом главу четвертую).
-Народность» — «вещь в себе» зо-х годов
283
бах—Воронского), ошибался, а современные обвинители «Литкри-
тика» правы.
Однако бывает, что крайности сходятся. Есть некоторые точки
соприкосновения у Ермилова и с современными противниками мар-
ксизма. Например, они, как и Ермилов, считают достаточным для
вынесения обвинительного приговора по вопросам искусства, эсте-
тики, философии указания на политические взгляды своих оппонен-
тов, что освобождает от необходимости анализа этих взглядов по
существу. Во всяком случае, достаточным, когда речь идет о «Литк-
ритике» и Лифшице с Усиевич. Поскольку Усиевич не подвергала
сомнению «политическую лояльность Платонова» советской власти,
то, следовательно, она не понимала его творчества, которое, как
полагали Сталин и Фадеев, враждебно социализму и его идеалам.
Поэтому различие между Гурвичем и Усиевич кажется несуществен-
ным. Если бы Усиевич ненавидела СССР, тогда ее критика советской
литературы не была бы в глазах современных российских исследо-
вателей «робкой».
В самом деле, разве могут художники и мыслители, взгляды ко-
торых консервативны, а в некоторых случаях даже реакционны (как
реакционен, в глазах многих современных авторов, марксизм), со-
здать в духовной сфере нечто такое, что заслуживало бы внимания?
По мнению противников «течения», априори не могут, поэтому сам
вопрос о конкретном анализе реакционных взглядов снимался с
повестки дня, для вынесения окончательного приговора достаточ-
но было—даже если речь шла о далеком прошлом, не говоря уже о
современных писателях — простого указания «на политику»: если
наш, будем обсуждать, а не наш — приговор окончательный и обжа-
лованию не подлежит. Автор этих строк придерживается другой
методологии, согласно которой критик должен быть не судьей, а
адвокатом, истолковывающим мыслителей и художников «не толь-
ко в denotatio, но и в connotatio, по средневековой терминологии»1,
иначе говоря, не буквально и внешне, а угадывая их «противополож-
ный жест»2. Вместо того чтобы «ловить» на ошибках и противоречи-
’ 1 Лифшиц Мих. Лукач // Вопросы философии. 2002, № 12.
С. 109.
2 Там же. С. 108.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
284
ях, гораздо лучше разобраться, чем они порождены, и не скрывает-
ся ли в этих «ошибках» смысл, заслуживающий внимания. Иные
ошибки и поражения, даже иная консервативность гораздо выше
того, что часто принимается за победу и прогрессивность. Сейчас
(в отличие от тридцатых годов) едва ли кто из серьезных литерату-
роведов будет спорить, что монархические и аристократические
симпатии Пушкина не всегда вредили его поэзии. Но то монархизм
и православие, другое дело — марксизм, разве может он способство-
вать чему-нибудь стоящему в духовной области?
Сегодня представляется очевидным, что марксизм и социализм
тождественны тоталитаризму. Однако смотря какой марксизм! В не-
которых принципиально важных вопросах я вижу больше общего
между марксизмом Ермилова и антимарксизмом наших дней, чем
между тем же Ермиловым и марксизмом «течения». Группа А. Фаде-
ева, разгромившая административными методами «Литкритик», без
сомнения, способствовала усилению тоталитарных тенденций в об-
ществе и литературе. Но не только эта группа. Последователь «Вех»,
бывший идеолог Колчака, сменовеховец Н. Устрялов в 1935 году убеж-
дал Сталина в необходимости соединения социализма с фашизмом.
Такой ход мысли не был личной особенностью Устрялова, подобные
же идеи проповедовали многие «веховцы» и «сменовеховцы». П. Фло-
ренский в начале 30-х годов полагал, что спасение России в единовла-
стии такого государственного лидера, который силой своей «гениаль-
ной воли» отучил бы «массы от демократического образа мышления»
(см. об этом главу первую). В чем причина чудовищных заблуждений
таких субъективно вполне честных и богато одаренных людей, как Фло-
ренский,—интересный и важный вопрос, но факт остается фактом.
Моя гипотеза состоит в том, что большие писатели, такие, как
М. Булгаков, и крупные марксистские мыслители Мих. Лифшиц и
Георг Лукач более верно понимали суть эпохи, в которую жили, чем
многие современные поклонники концепции «тоталитаризма».
Было ли советское государство «империей зла», которая погуби-
ла Россию, развратила ее население, раздавила все ростки только-
только пробуждавшейся в начале XX века демократии? Смотря на
печальные результаты опыта социализма в нашей стране, на полное
господство бандита в наши дни, его моральную победу, подавляю-
щее большинство российской интеллигенции отвечает на этот воп-
‘Народность» — «вещь в себе» зо-х годов
285
рос «однозначно». Однако философия «результата» — не самая луч-
шая для понимания больших исторических явлений, о чем писали
многие, в том числе А. Солженицын. Потому что очень не просто ра-
зобраться, что же на самом деле породило «результат». К тому же
действительные результаты исторических событий не всегда и не
вполне очевидны.
Уравнительная империя Сталина оказалась бы колоссом на гли-
няных ногах (иллюзия Гитлера, которая стоила ему жизни и приве-
ла к краху «тысячелетний рейх»), если бы в ее фундаменте не было
архаической крестьянской демократии, которая обрела новое дыха-
ние и новую жизнь в своеобразном и парадоксальном соединении
с плодами западного промышленно-духовного развития. Не мифу
обязан СССР своими победами и достижениями, а тому, что проти-
воположно мифу— погубленному, но все же до определенной сте-
пени осуществленному народовластию. Правда, крайне парадок-
сальное, противоречивое народовластие представляет собой «вещь
в себе» истории Советской России, которую не хотят — и, очевидно,
не могут—ни увидеть, ни понять либеральные критики тоталитар-
ного государства.
Эта «вещь в себе» выходила на поверхность и обнаруживала себя
в ряде явлений духовной жизни, в том числе и далеко не в после-
днюю очередь — в феномене литературной дискуссии 1939-1940 гг.
Почему «течение» с таким фанатизмом отстаивало тезис, согласно
которому практически все выдающиеся художники прошлого были
консервативными по своему мировоззрению? Потому что речь на
деле шла вовсе не о защите консерватизма, а о реальной демократии
как власти народа, принимающей в известных условиях по необхо-
димости консервативную форму (крестьянство в целом — консер-
вативно согласно азбуке марксизма). Речь шла о том, чтобы защи-
тить эту демократию в консервативной форме от консервативности
и реакционности на деле (реакционности тоталитарных режимов),
нередко, в сфере идей особенно, принимающих противоположную
себе форму либерализма и даже демократии (согласно франкфурт-
ской школе либерализм есть «репрессивная терпимость» современ-
ных западных демократий).
Центральный вопрос времени — какой ценой оплачен прогресс
(индустриализация в СССР за рекордные сроки), и прогресс ли это
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
286
вообще, если он требует такой цены, а именно, устранения средне-
го крестьянства методами массовых репрессий? «Великие консерва-
торы человечества» не принимали прогресса любой ценой, потому
что для них дороже оказывалась реальная человеческая жизнь и
культура, приносимые в жертву Молоху прогресса.
Защита «свободного духовного творчества» заключалась в тези-
се, звучащем очень просто — искусство должно быть объективно
правдивым, отражать истинную действительность. Разумеется,
против этого тезиса в тридцатые годы (в отличие от 2о-х годов, вре-
мени господства «социологии искусства», когда правдивым искус-
ством считалось «правдиво» отражающее тот или иной классовый
интерес, а не действительность') уже никто не возражал. Спор раз-
горелся вокруг вопроса, какое реальное мировоззрение, какая обще-
ственная позиция писателя делает его творчество правдивым. На
первый взгляд позиция «течения» ближе к современному ответу на
этот вопрос, который дает либеральное и «почвенническое» литера-
туроведение: потому что Достоевский, Булгаков не были революци-
онными демократами да и демократами вообще, склоняясь к кон-
сервативности и реакционности противников революции. Однако,
по моему мнению, группа А. Фадеева во главе с В. Ермиловым, В. Кир-
потиным, Е. Книпович—действительные предшественники господ-
ствующего ныне направления в литературоведении.
Логика Ермилова и Книпович была простой до очевидности и
очень понятной. Пушкин—великий поэт, потому что писал вольно-
любивые стихи и был в конфликте с самодержавием. Правда, эта схе-
ма не соответствовала фактам литературы: Пушкин написал свои
лучшие произведения тогда, когда вступил в союз с Николаем I, явно
склонившись вправо. Почему? Пушкин искал у аристократии и дворян-
ства во главе с Николаем I, как по мнению М. Булгакова, Мольер у
Людовика XIV, защиту против поднимающейся стихии «темного и
довольно реакционного демократизма»1, писал Лифшиц в незакон-
ченной книге о Пушкине тридцатых годов. Ранними идеологами и
выразителями этого темного демократизма, которому суждено было
сыграть трагическую роль в истории России XX века, были Фаддей
Булгарин и литературный критик, философ Н.И. Надеждин.
1 Лифшиц Мих. Очерки русской культуры. М., 1995. С. 185.
^Народность» — «вещь в себе» 30-х годов
287
Темный и реакционный демократизм—это нечто, в высшей сте-
пени непривычное и непонятное для А. Фадеева и В. Ермилова. В рав-
ной мере, как и для современных «демократов» (многие из которых
в наши дни склоняются от своего вчерашнего «либерального демок-
ратизма» к обыкновенной темноте и обскурантизму, проповеди чер-
носотенства в обличие «русской национальной идеи»). Напротив, по
убеждению Лифшица, феномен «темного демократизма» и отноше-
ние к нему—главный вопрос для «великих консерваторов челове-
чества». В черносотенстве русского мужика—демократизм самый
грубый, но и самый глубокий, писал Ленин. Восстание масс—реаль-
ный, даже определяющий феномен XX века. Возможны две его пря-
мо противоположные, но одинаково ложные оценки и два подхода
к массам вообще и крестьянству в частности. Хайдеггер видит в кон-
серватизме и реакционности крестьянства желанную опору государ-
ству и державности, либералы страшатся подъема снизу. Но и та, и
другая сторона одинаково не приемлют иного: не темного, а истинно-
го демократизма, который скрывается в грубой форме крестьянского
черносотенства, но может, освободившись от нее, развиться в могучее
народное движение — основу расцвета гуманистической культуры.
Что касается власти Сталина, то, по словам Мих. Лифшица, на-
писанным им в шестидесятые годы, ее источник в «темном демокра-
тизме пригорода, а через то и деревни»1. И потому главная задача как
в области политики, так и культуры заключалась в том, чтобы дать
простор для развития могучей потенциальной демократии низов,
отделив ее от «темного демократизма», от пугачевщины и шариков-
щины, которые в соединении с элитарностью К. Леонтьева или М. Хай-
деггера дают черносотенство и фашизм. Во времена Пушкина, Шек-
спира, Бальзака потенциальный народный демократизм был вещью
трансцендентальной, вещью в себе. Но эта «вещь в себе» — не фик-
ция, доказывало «течение» Лифшица-Лукача, она обнаруживает
себя в созданиях Софокла и Аристофана, Леонардо и Микеландже-
ло, Достоевского и Толстого, во всем том, что Лифшиц называл «вы-
соким реализмом» мирового искусства. Такие критики, как Надеж-
дин, обличали Пушкина за аристократизм его реализма, ибо он был
свободной духовной позицией.
1 Лифшиц Мих. Что такое классика. М., 2004. С. 44.
Литературная дискуссия I939_i94o гг.
как поворотный пункт ...
288
Пушкин не желал служить целям полицейского государства, а
Надеждин и Булгарин общественную пользу искусства видели имен-
но в таком служении, подобно тому как в советские времена критика
заставляла писателей иллюстрировать партийные лозунги.
По мнению Надеждина и Булгарина, в поэзии Пушкина «реа-
лизм и артистический принцип совпадают. Пушкин—поэт действи-
тельности, натуры, поэт вещественного мира, и самое важное для
него—художественность изображения, а не развитие каких-нибудь
истин полезного просвещения и нравственного совершенствования.
Он низок и в то же время аристократичен»1, писал Лифшиц в своей
книге о Пушкине. Надеждин назвал поэзию Пушкина по этой имен-
но причине «нигилистической». Обвиняя поэта, развивает свою
мысль Лифшиц, «в отступлении от современности в область чистой
гармонии, критики требовали от него идейного искусства. Они по-
лагали, что великий поэт может пролить целительный бальзам на
язык общества, исправить моральные повреждения, происшедшие
в сердцах сограждан от внешних потрясений века. Что понимали
под служением обществу просветители типа Булгарина, легко дога-
даться. То было время расцвета всякой полицейской деятельности»2.
Между тем, доказывал в тридцатые годы Лифшиц, именно по-
эзия Пушкина народна, а не опусы Фаддея Булгарина (которые име-
ли, кстати, бешеный успех и, на мой взгляд, напоминают произве-
дения популярного у современной интеллигенции Б. Акунина), ари-
стократический высокий реализм народен, а не дидактическая и
иллюстративная литература, служащая целям полицейского госу-
дарства. Защита права художника на духовный арситократизм и
артистизм не была условным приемом в литературной борьбе, а
выражала глубинную позицию «течения».
Когда демократизм самого народа—«вещь в себе», хотя и реаль-
ная, то адекватным выражением такого демократизма может быть
лишь «чистое искусство», отказывающееся от «идейности», то есть
службы целям полицейского государства, и обращающееся к той
правде, которая не лежит на поверхности, к правде «ноуменальной».
'Лифшиц Мих. Очерки русской культуры. С. 190-191.
2 Там же. С. 189.
^Народность» — «вещь в себе» зо-х годов
289
Таково, по мнению Лифшица, искусство величайших гениев Воз-
рождения —Леонардо и Микеланджело.«.. .Все подобные возрожде-
ния, — развивает он свою центральную идею конца тридцатых го-
дов, —подходят к такому моменту, когда общественное содержание
искусства одевается как бы алмазной скорлупой художественнос-
ти»1, «народность Пушкина заключается именно в том, что наши
великие просветители называли «прекрасной формой»1 2.
Одеться алмазной скорлупой художественности, защитив себя
от притязаний «идейности» полицейского государства — вот было
кредо «высокого реализма» и народного искусства в интерпретации
«течения». Вот смысл понятия «эстетическое государство», к кото-
рому прибегал Лифшиц и которое вызвало бурю возмущения семь-
десят лет тому назад и недоумение сегодня3. Группа А. Фадеева и
В. Ермилова предлагала прямо противоположное — главное в искус-
стве есть его дидактическое содержание, иллюстрация абстрактных
передовых идей, точнее, того, что принимается современниками за
передовое.
Понятие «демократия», разумеется, передовое и прогрессивное.
Но когда самые лучшие идеи рассматриваются абстрактно, то они
превращаются в свою противоположность, и этой противоположно-
сти соответствует в реальности такое противоречивое явление, как
«темная демократия». Феномен «темной демократии», перерастаю-
щей в тоталитаризм и антинародность, не был понят поколением,
пришедшим на смену «течению» 30-х годов. Не понят он и сегодня,
наказанием за что является возрождение наследия В. Ермилова и его
группы, разумеется, в прямо противоположном обличьи либерализ-
ма. А от «перестроечного» либерализма—один только шаг до вели-
кого «прозрения»: оказывается, прав был П. Флоренский, утверждая,
что появление диктатора или императора, который «отучает массы
от демократического (разрядка Флоренского. —В. А.) образа мыш-
ления», исторически целесообразно. И этот роковой шаг нашей эли-
тарной интеллигенцией, судя по всему, уже сделан.
1 Там же. С. 225.
2 Там же. С. 226.
3 См. Мазаев А.И. Соч. цит. С. 212.
Литературная дискуссия I939~i94o гг.
как поворотный пункт ...
290
Начало дискуссии —
«действительность» и «бездомность»
Литературная дискуссия 1939-1940 годов началась с
полемики вокруг только что опубликованной книги Г. Лукача «К ис-
тории реализма». Лукача и его единомышленников обвинили во
многих грехах, среди которых были и политические — проповедь
идеи термидора, т.е. неизбежности и даже известной необходимо-
сти поражения революции. «К каким диким построениям приходит
даже такой образованный исследователь, как Г. Лукач, под влияни-
ем концепции Мих. Лифшица», писала в то время «Литературная
газета». Между тем Лукач подарил свою книгу 1939 года Лифшицу
со следующими примечательными строками: «Прошло уже десять
лет со дня нашей первой встречи, которая не совсем случайно совпа-
дает с началом моей новой творческой деятельности. По поводу все-
го, что при этом возникает, у меня такое же чувство, которое было
у одного из современников Шекспира, писавшего ему: “Я хотел бы,
чтобы все, написанное мною, читалось в Вашем свете”. Прошу Вас,
примите благожелательно и это создание, при возникновении кото-
рого Вы также не остались безучастным»1.
В связи с процитированными строками Лукача мне невольно
приходят на память другие, которые я недавно обнаружил в архи-
ве Мих. Лифшица. Это строки письма А.Ф. Лосева, обращенные к
Мих. Лифшицу. Лосев был старше Лифшица на 12 лет, а не на 20, как
Лукач, но и он обратил в своем письме внимание на разницу в воз-
расте. Цитирую это письмо:
«Глубокочтимые Лидия Яковлевна и Михаил Александрович!
Я был до чрезвычайности обрадован получением от Вас юбилей-
ного приветствия. Но мне хочется поблагодарить Вас не только за
это, но и за то, что за сорок лет нашего знакомства с Михаилом Алек-
сандровичем я очень многому у него научился и продолжаю учить-
ся еще и теперь. Я считаю большой удачей своей жизни, что рабо-
тал вместе с Михаилом Александровичем в те годы, когда он высту-
пал как основатель советской эстетики и когда об этом предмете в
1 Цитата из архива Мих. Лифшица, хранящегося в Архиве
РАН, папка № 224.
Начало дискуссии —
«действительность» и «бездомность:
291
нашей общественности было весьма туманное представление. Хотя
я и старше Михаила Александровича, но продолжаю еще и сейчас
многому у него учиться. И мне кажется, что он сам знает, в каком
отношении он был и является для меня высоким образцом.
Прошу принять от меня искреннюю благодарность за память и
за внимание к моей далеко не всегда удачной работе.
Прошу принять от меня и от Азы Алибековны поздравления с
наступившим Новым Годом.
Искренне расположенный к Вам А. Лосев. 2.oi.[i9]79 г.»1
Любопытный парадокс: именно в конце 70-х годов (и даже не-
сколько раньше — со второй половины бо-х, после публикации ста-
тьи «Почему я не модернист?») Михаил Александрович потерял кре-
дит общественного и научного доверия. Он оказался изгоем, то есть
«бездомным» (правда, в фактическом, а не в «трасцендентальном»
смысле этого слова, которое вкладывал в него М. Булгаков). Бездом-
ным он был и раньше, поскольку долгие годы обитал, например, в
бывшей кладовой при Третьяковской галерее, где в конце тридца-
тых годов работал зам. директора по науке (это был самый высокий
пост, по словам самого Мих. Лифшица, который он когда-либо за-
нимал в своей жизни). «Бездомным» изгоем он стал тогда, когда по
ходатайству А. Твардовского получил в бо-х годах квартиру недалеко
от МГУ, на улице Строителей. Но что это значит—быть изгоем?
Прежде всего изгой — «неприкасаемый», от которого отстраня-
ются, чтобы не заразиться, в данном случае, чтобы избежать отлу-
чения от категории «порядочных людей». Такой смысл вкладывал в
слово «изгой» Мейер Шапиро в своей полемике с Хайдеггером по
поводу картины Ван Гога «Башмаки». Бесприютный человек, город-
ской житель, странник по миру, чуждый основному населению боль-
ших и малых городов, в особенности деревень с их вечным и неизмен-
ным, прочным и надежным, по известному определению крестьян-
ской жизни, которое дал Хайдеггер, говоря о «Башмаках» в своей
знаменитой работе «Исток художественного творения». Очень час-
то, добавляет Шапиро, — еврей.
’ 1 Письмо А.Ф. Лосева цитируется по подлиннику, находя-
щемуся в архиве Мих. Лифшица, папка № 392 «Из «Книги
живота моего». С. 50.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
292
Однако Ж. Деррида в книге «Правда в живописи» остроумно до-
казал’, что в глубоком—я бы сказал, «булгаковском»—смысле сло-
ва немец и убежденный «почвенник» и государственник Хайдег-
гер — такой же «бездомный», как и еврей либерально-марксистских
убеждений Мейер Шапиро. И тот, и другой бездомны, пишет Дерри-
да, в метафизическом смысле, ибо потеряли ту почву под ногами, ко-
торая начиная с Парменида (а затем—Платона) именовалось «истин-
ным бытием». Хайдеггер, будучи знатоком античной философии, в
«Истоке художественного творения» доказывает, что понятие исти-
ны у греков классического периода существенно отличается от того,
что было принято в европейской науке Нового времени, что стало
практически аксиоматическим в повседневном словоупотреблении.
Истина—не простое соответствие нашего знания, нашего понятия
с реальными фактами и явлениями, а бытие, которое обладает свой-
ством истинности. На протяжении жизни Лифшиц пытался объяснить
своим современникам эту великую мысль античной философии,
встречая, однако, полное непонимание (уже после смерти, в начале
перестройки он был обвинен «восемью ленинградскими учеными»,
сторонниками М. Кагана и А. Гулыги, в антимарксизме именно зато
понимание истины, о котором идет речь. См. об этом 4-ю главу).
Нельзя сказать, что античное толкование истины как «алетейи»
совершенно неизвестно на отечественной почве. Напротив, оно да-
же слишком хорошо известно — и ни одна идея в эстетике и совре-
менной художественной критике, современной художественной
жизни не встречает большего отталкивания и даже презрения, чем
понятие «истинного бытия». Правда, это понятие фигурирует у нас
под другим именем — «действительность». Оно было введено в рус-
ский язык Белинским именно в том глубоком философском значе-
нии, которое раскрывает Хайдеггер в своем «Истоке художественно-
го творения». «Действительность» — это не простое наличное бытие,
не сумма фактов, не то, что перед нашими глазами. Истинным бы-
тием, согласно Сократу и Платону, а также Аристотелю с его поня-
тием «энтелехии», является природа — рождающее и порождающее
бытие, о чем, в частности, свидетельствует этимология последнего
1 См. об этом в моей книге «История западного искусствоз-
нания XX века», М., 2003- С. 493-5оо.
Начало дискуссии —
«действительность» и «бездомность
293
слова (в русском языке). «Действительность», объяснял своим чита-
телям гениальный гегельянец Белинский, есть то, что истинно на
самом деле, действительно, что не является всего лишь кажимостью,
или, говоря современным языком, симулякром, а представляет со-
бой такое бытие, каким оно должно быть по своему понятию и рано
или поздно каким неизбежно становится, несмотря на все препят-
ствия, иногда кажущиеся непреодолимыми. Иными словами — «всё
действительное разумно» (то есть представляет собой истинное бы-
тие), а разум действителен. И еще один очень важный оттенок это-
го слова имел в виду Белинский: действительное — это то, что дей-
ствует, что обладает свойством самопорождения (гипертрофирован-
ный, односторонний смысл эта идея немецкой классической, а еще
более — античной философии, приобрела в неокантианской кон-
цепции «деятельности»). Более подробно о понимании слова «дейст-
вительность» Белинским можно прочитать в статье Мих. Лифшица
о Белинском, опубликованной уже после смерти Лифшица, и остав-
шейся практически абсолютно никем не замеченной. Тогда как рас-
суждения Хайдеггера об «алетейе» были восприняты нашей общест-
венностью как открытие, и даже известное петербургское издатель-
ство стало именоваться этим именем. Понятие «высокого реализма»
в эстетике Лифшица восходит, по его собственным словам, скорее
к средневековому реализму, чем номинализму, другими словами,
ближе платоновской традиции в философии, чем к естественно-науч-
ному нигилизму Нового времени, не говоря уже о теории и практике
сталинских «термидорианцев», победителей в поворотной для совет-
ской эстетике и художественной критике дискуссии 1939-1940 гг.
Что перед нами — случайность, иллюстрация известного прави-
ла: нет пророка в отечестве своем? Нет, закономерность, объясня-
ющая многие стороны отечественной художественной жизни в за-
кончившемся XX и начинающемся XXI веке, а потому и достойная
внимательного рассмотрения.
Пожалуй, трудно найти более ненавистного для советских ху-
дожников и литераторов второй половины XX века сочетания слов,
чем «отражение действительности», ибо с этими словами на устах
власть имущие преследовали тех, кто позволил себе хотя бы «чуть-
чуть» отклониться от канонов социалистического реализма. Снова
обращаю внимание на поразительный парадокс: по своему прямо-
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
294
му научному смыслу это словосочетание восходит к платоновской
и аристотелевской эстетике, к метафоре «зеркала», столь распрост-
раненной в эпоху Возрождения. Сократовская традиция, т.е. тради-
ция мировой классической мысли, заключается в том, что истину
внушить нельзя, самая правильная истина, если она внушается, если
она внедряется в сознание даже незаметным путем, посредством
системы тонкой манипуляции, превращается в ложь. Истина не вну-
шается, истина есть внутреннее свойство человека, его сознания, ра-
зума— и потому она рождается самим человеком. Дело учителя,
педагога, ученого — помочь воспитаннику самому родить эту исти-
ну (знаменитый сократовский принцип родовспоможения, майев-
тики), ибо любая, даже скрытая, попытка навязывания идей рожда-
ет прямо противоположное — непреодолимое отталкивание от са-
мых правильных истин. Идеи, писал Лифшиц (имея в виду идеи, с
которыми полемизируют), подобны гвоздям: чем больше по ним
бьешь, тем глубже они входят в голову.
Так почему же в таком случае «держимордовская» советская ху-
дожественная и литературная критика прибегала к понятию искусст-
ва как отражения действительности, понятию, прямо противореча-
щему ее «зубодробительной» практике? Ответить на этот вопрос мож-
но очень просто и односложно: ложь во все времена была сильна
только тем, что придавала себе видимость истины, что выступала эр-
зацем, заместителем истины. Этот общий ответ в целом верен, но огра-
ничиться им нельзя, ибо в силу крайней абстрактности он ничего не
объясняет. Явление, о котором идет речь, выходит далеко за преде-
лы не только советской, но и зарубежной эстетики, философии, явля-
ясь, по мнению Мих. Лифшица, самой яркой и характерной чертой
современной эпохи в целом. Оно восходит к тому сложному комплек-
су проблем, который М. Булгаков исследовал под именем «бездомно-
сти», придавая ему совершенно иной смысл, чем тот, что распростра-
нился в постмодернистском искусстве и художественной критике.
Но приоритет открытия феномена, о котором идет речь, — ха-
рактерного для XX века отталкивания от самых верных идей, от пре-
красного и доброго, и самого злостного намеренного искажения
их—приоритет не только открытия этого феномена, но и его само-
го, пожалуй, глубокого и яркого изображения принадлежит, соглас-
но мнению Мих. Лифшица, Федору Достоевскому.
295
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
Перестройка в области мышления советских литера-
турных критиков началась с переосмысления творчества Достоевско-
го, отказа от грубых схем и приговоров его творчеству, свойственных
вульгарной социологии. Впрочем, эта перестройка заметна уже в ста-
тье В. Ермилова (автора работ о Достоевском) в «Правде» от 2 июня
1957 года с характерным названием «Против неправды о Достоев-
ском». Эта статья находится в архиве Лифшица и содержит его по-
метки—Лифшиц увидел в ней свидетельство того, что некоторые
уроки дискуссии 1939-1940 годов о роли мировоззрения в творчестве
художника, а именно идея «течения», гласящая, что даже реакцион-
ное мировоззрение может определенным образом открывать писа-
телю путь к художественной правде, были усвоены яростными го-
нителями «течения». Но усвоены, по мнению Мих. Лифшица, очень
поверхностно, а потому в конечном счете и неверно. Итак, что же
доказывает В. Ермилов в 1957 году?
«Писатель, о котором Горький сказал, что по силе изобразитель-
ности его талант равен, может быть, только Шекспиру, Достоевский
с исключительной страстью и силой выразил в своем творчестве без-
мерность страданий униженных и оскорбленных людей под гнетом
эксплуататорского общества и безмерную боль за эти страдания. И
вместе с тем он же выступал против каких бы то ни было поисков
путей борьбы за освобождение человечества от унижения и оскор-
бления. Он звал к покорности, примирению, смирению». Почему же
такой бескомпромиссный критик унижения и противник оскорбле-
ния призывал отказаться от борьбы, смириться, покориться?
«Период каторги и ссылки явился кризисным, переломным в
развитии общественно-политических взглядов Достоевского, — про-
должает В. Ермилов. — Он разуверился в возможности изменения,
улучшения действительности путем революционной борьбы. Логи-
ка созданных Достоевским многих художественных образов была
такова, что она нередко вступала в яркое, вопиющее противоречие
с проповедью покорности и смирения. В этом смысле мы имеем
право сказать, что Достоевский никогда не мог примириться с дей-
ствительностью собственнического общества и со всем тем, что уни-
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
296
жает человека. Но, разумеется, философия смирения, реакционно-
утопическая надежда на самодержавие и православие, как на «опору»
против того нового в действительности, что так страшило Достоев-
ского, — против ужасов устанавливавшегося капиталистического
общества с его разгулом хищничества, а также против грядущих ре-
волюционных потрясений, — все это накладывало тяжелый отпеча-
ток на произведения писателя. Идеализировать общественно-поли-
тические взгляды Достоевского, замалчивая или приукрашивая его
непосредственно-политическую позицию отрицания революции,
демократических идеалов, затушевывать борьбу реакционного и
прогрессивного в мировоззрении писателя, означает идеализиро-
вать самое слабое в нем»1.
Как ни странно, но от этих, набивших оскомину у нескольких поко-
лений советских читателей, определений, идет прямая дорога к пере-
осмыслению творчества писателя в религиозно-православном духе,
тому переосмыслению, которое развернулось в первые перестроечные
годы и было тесно связано с политическими процессами времени.
Вдумаемся в логику Ермилова. Она существенно отличается от
того, что говорили противники «течения» в дискуссии 1939-1940 гг.
Тогда В. Ермилов, В. Кирпотин, И. Альтман, Е. Книпович доказывали,
что консервативные, а тем более реакционные взгляды художника
безусловно препятствуют созданию полноценных художественных
образов, что только вопреки реакционным чертам мировоззрения
Достоевский и Толстой, Бальзак—великие писатели. Представите-
ли «течения» возражали им в том духе, что не только вопреки, но в
известном смысле и благодаря консерватизму мировоззрения могли
создаваться шедевры искусства. В какой же мере благодаря? В той,
в какой реакция писателя есть реакция на противоречия прогресса,
который далеко не всегда нес основной массе людей благодеяния,
а напротив, часто увеличивал их беды, как это было в период пер-
воначального накопления капитала. Так говорили Мих. Лифшиц и
Г. Лукач — и этот их взгляд послужил главной мишенью зубодроби-
тельной критики. А если все же полить, говоря словами Лифшица,
«розовой водицей» писателя было трудно, ибо его консервативность 1 2
1 В. Ермилов. Против неправды о Достоевском. «Правда»,
2 июня 1957 г.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
297
являлась неустранимой чертой, то такого «неподдающегося» либе-
ральной косметической операции художника без лишних слов сда-
вали в обоз истории. Достоевский на долгие годы — после пораже-
ния группы «Литературного критика» — попал в разряд «безнадеж-
ных», «неприкасаемых», чуждых марксизму и советскому обществу
писателей. Хотя по странной логике истории почему-то наделенных
«художественной силой». Но эта странная логика В. Ермилова пол-
ностью совпадала с логикой, например, Арнольда Хаузера, для ко-
торого социальный смысл художественного творчества и его худо-
жественное качество находятся в двух совершенно различных, не пе-
ресекающихся плоскостях.
В 1957 году, во время «оттепели», В. Ермилов ответственно заяв-
ляет, что затушевывать или приукрашивать «непосредственно-поли-
тическую позицию отрицания революции», «реакционно-утопиче-
скую надежду на самодержавие и православие» нельзя, это было бы
явным отклонением от исторической правды. Но и сдавать в обоз
писателя тоже не стоит, — ибо он как художник явно не ниже либе-
рала Тургенева. Почему же, согласно новой точке зрения Ермило-
ва, Достоевский великий художник? Очень примечательно и важно,
что в этом пункте своих рассуждений критик «отклоняется» от ти-
пичного для вульгарной социологии хода мысли, согласно которой
социальный эквивалент—это одно, а художественное качество —
совсем другое. Нет, он пытается совместить, определенным образом
согласовать мировоззрение и творчество. Как же это возможно, если
мировоззрение, непосредственно политическая позиция — реакци-
онны, а творчество — высокохудожественно? Вот тут и пригодились
Ермилову уроки, преподанные ему тридцатые годы группой «Лите-
ратурного критика».
Достоевский, рассуждает Ермилов, «против ужаса устанавлива-
ющегося капиталистического общества с его разгулом хищниче-
ства», он против всевластия денег. Правильно это или неправильно?
Безусловно, правильно, полагает Ермилов. Неправильно только то,
что опору в этой борьбе писатель делает на самодержавие и право-
славие. Но виной тому—период каторги и ссылки, когда Достоев-
ский разуверился в возможности изменения действительности путем
революционной борьбы. А вообще-то в его реакционном мировоз-
зрении есть что-то верное, которое борется с реакционным. И, еле-
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
298
довательно, благодаря тому, что верно в мировоззрении, пусть в це-
лом реакционном, писатель создает выдающиеся художественные
ценности. Эта «стыдливая» поправочка сделана Ермиловым по отно-
шению к своему прежнему взгляду, который он разделял с вульгар-
ной социологией у нас и на Западе,—взгляду, в соответствии с кото-
рым художник создает великие творения исключительно вопреки
консервативным убеждениям, если они у него имеются. Теперь же
у Ермилова получается, что и в реакционном мировоззрении могут
быть положительные моменты, а именно, у Достоевского—проти-
водействие капитализму и власти денег.
Однако Ермилов, по мнению Лифшица, совершенно неправиль-
но понял уроки «течения»—он в 1957 году обратился к «букве» своих
противников, пытаясь стать на уровень требований нового времени,
«оттепели», но не понял духа этой буквы. «Находят оригинальное, —
пишет Мих. Лифшиц в своих архивных заметках, относящихся, по-
видимому, к шестидесятым годам,—у Достоевского в том, что он го-
ворил «свобода без миллиона ничто». Это, конечно, пустое. Такая
критика была совершенно неоригинальна во второй половине XIX ве-
ка. Оригинально у Достоевского то, что он раскрывает связь милли-
она со всей накопленной веками подлостью, неравенством, уничи-
жением человека человеком. Больше того, оригинальна не столько
его критика первичных явлений — экономического неравенства.
Оригинальна особенно его критика явлений вторичных, психологи-
ческих, а на первом вы основать величие Достоевского не можете.
Почему же, откуда же эта сила изображения вторичных явлений, ко-
торая посильнее будет любого другого?»1
В период перестройки наша литературная критика открыла, что
оригинальность Достоевского не в решении проблем экономичес-
кого неравенства, не в протесте против наступающего капитализма,
а в постановке «вечных», психологических и моральных проблем,
которые, согласно распространенному мнению, марксизм обходит
стороной или просто игнорирует. И почти одновременно с этой ис-
тиной была открыта, заново открыта или, если угодно, возрождена
«истина» вульгарной социологии, согласно которой Толстой, Гоголь
и Достоевский—выразители реакционного мировоззрения, но имен-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247 «Достоевский». С. 115.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
299
но тем и ценны для нас, поскольку мы теперь открыли великие ду-
ховные ценности православия, государственности и наконец-таки
осознали, насколько в духовном отношении Николай I, шеф жандар-
мов Дубельт были выше Герцена и Белинского.
Крайности сходятся: православная вера Достоевского в равной
мере и Ермиловым, и современными «перестроечными» литерату-
роведами толкуется как мировоззрение, практически ничем не от-
личающееся от мировоззрения К. Победоносцева или авторов «Вех»,
только оценка этого мировоззрения поменялась со знака минус на
плюс1. Литературные критики наших дней не обращают внимания
на слова К. Леонтьева2, упорно не желающего признавать за Досто-
евским — художника «своего» и очень скептически судившего о ха-
рактере той христианской веры, которая отразилась именно в худо-
жественном творчестве Достоевского. Что это, «своя своих не по-
1 Вот как рисует современный автор художественный смысл
романа Достоевского, совпадающий, разумеется, и с ми-
ровоззрением писателя: «Социальная утопия с репута-
цией догмы—таким представлен в «Бесах» идейный пер-
воисточник, провоцирующий смуту. Идеологическое сво-
еволие объявляет себя единственным носителем истины;
политическая программа переделки мира «по новому шта-
ту» без всяких гарантий своей самостоятельности, амо-
ральность деятелей, самозванно присвоивших себе право
решать за других, в чем их счастье, — образует некий изна-
чальный дефект того теоретического фундамента, кото-
рый положен в основу социального проектирования». Ав-
тор дает понять читателю, что таков изначальный дефект
учения Ленина и совершенной им революции.// Сараски-
на Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990. С. 277.
2 «Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не
вдруг, а постепенно)—где Тургенев (...). Где—Достоев-
ский с несколько бледным и далеким сиянием христиан-
ского креста над клоакой окровавленного гноища»,«.. .пуб-
лициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно
выше, чем повествователя. «Дневник писателя», не во гнев
будет сказано поклонникам покойного романиста,—для
меня во сто раз драгоценнее всех его романов» — см. Ле-
онтьев К. Избранное. М., 1993- С. 193, 303.
Литературная дискуссия I939~i94o гг.
как поворотный пункт ... Зоо
знаша» или следует тут увидеть проблему, отдавая должное интуи-
ции и прозорливости русского религиозного философа?
Мих. Лифшиц в этом споре стоит скорее на стороне К. Леонтье-
ва, чем В. Ермилова. Разумеется, Лифшиц ни в какой мере не сомне-
вается в том, что Достоевский—убежденнейший христианин, такой
же истовый православный, как и Леонтьев. Однако вера их по суще-
ству разная. Почему Достоевский — христианин? Потому что в глу-
бочайшей степени постиг по крайней мере одну, но важнейшую, ис-
тину первоначального христианства. Истина эта в изложении Лиф-
шица гласит: нельзя быть счастливым в мире, если другие в нем
несчастны. Тогда как в христианстве Леонтьева на первом месте
были иные истины, совершенно чуждые Достоевскому: например та,
что военный человек, как писал К. Леонтьев о герое романа «Анна
Каренина» Вронском, безусловно в человеческом отношении выше
человека гражданского. Максима «не убий» — общехристианская,
но для К. Леонтьева и Ф. Достоевского она, надо полагать, имела
разный смысл.
«Почему Настасья Филипповна не вышла замуж за князя Мыш-
кина? Это была бы ерунда, — пишет в своих заметках о Достоевском
Лифшиц и продолжает: — Их сила — в трагической судьбе, иначе
была бы пошлость, частичное, половинчатое, исключительное ре-
шение вопроса. Разве счастливый брак мог бы решить их проблему
во всей глубине? И разве в достижении личного счастья теперь дело
Настасьи Филипповны?»1 В преувеличенном, гипертрофированном
виде эта истина была выражена в первоначальном христианстве,
гласившем, что любить надо прежде всего Бога, а не земного реаль-
ного мужчину, что каждая истинная женщина должна быть невес-
той Христовой. Доведенная до абсурда эта глубочайшая идея пре-
вращается в идею монашества. Монах сам, сознательно изгоняет
себя из реального земного мира для того, чтобы приобщиться, прим-
кнуть, полностью себя посвятить истинному бытию, целому — в
платоновском и сократовском смысле слова. А если нам не откры-
то это целое, это истинное бытие, если мы не увидели, не ощутили
на себе действие его света, которое преобразило жизнь Аврелия
Августина—мы вообще не способны ни к какой человеческой люб-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 136.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
301
ви, будь то любовь к женщине, ребенку, товарищеская дружба. Вот
подлинный смысл формулы, открытой христианством, — всякая ис-
тинная женщина есть невеста Христова — т.е. постигнувшая всем
своим существом смысл целого и примкнувшая к нему.
Любая великая форма, открытая человечеством, с течением вре-
мени становится маской, под которой для достижения личных це-
лей прячется уже совершенно иная, часто прямо противоположная
сущность. Под личиной забавного в своей непрактичности чудака
нередко можно обнаружить самый жесткий и заскорузлый эгоизм —
именно потому что сократовская маска вошла в фонд мировой куль-
туры как нечто истинное, ибо была оплачена жизнью Сократа. В
романе Дидро «Монахиня» мы видим, что под маской «христовой
невесты» пульсирует жизнь, полная самого низкого честолюбия и
своекорыстия, зависти и извращенной сексуальности. Кто этого не
видит, кто этого не хочет замечать—тот бесконечно далек от хрис-
тианского духа, от того, что было верно в нем, что вошло в плоть и
кровь человечества. Они, скрывающиеся под маской истовой хрис-
тианской веры, обнаруживают себя тем, что не способны в совре-
менной им реальности различать черты «христовой невесты», чер-
ты, в той или иной мере присущие каждой истинной женщине хри-
стианской эры.
Арсений Гулыга измазал дегтем, по словам Мих. Лифшица, во-
рота Анны Карениной, изменившей своему мужу, и противопоста-
вил ей Татьяну Ларину, которая отвергла любимого человека толь-
ко потому, как полагает Гулыга, что «другому отдана». Татьяна в
изображении Гулыги выступает как хранительница традиционных
семейных устоев, домашнего очага. Однако реальный дом Татьяны
Лариной значительно шире апартаментов ее мужа. Он включает в
себя и тот деревенский сад, в котором она мечтала об идеальной, не
сбывшейся любви, и дом Онегина с его книгами, познакомившись
с которыми она лучше поняла своего любимого и «современный
век». Но в отличие от байронического героя века с его душой, «са-
молюбивой и пустой», Татьяна — воплощение естественности, про-
стоты, самой природы. Приобщившись к современной ей культуре,
цивилизации, постигнув существо этой цивилизации и ее героев,
она поднялась выше эпохи, ибо отвергла ее ложные черты и каче-
ства. Подняться выше для Пушкина, как и для Дидро, для Шиллера,
Литературная дискуссия I939~i94o гг.
как поворотный пункт ...
302
для Гете — значит, вернуться к природе, но природе уже иной, от-
личной от сельской простодушной идиллии, природе, говоря слова-
ми Гете, «совершенной по-человечески». Такова муза Пушкина —
«девушка-аристократка», как назвал ее Белинский.
Татьяна отвергла любовь Онегина потому, что эта любовь раз-
рушала обретенный ею «дом». Самой себе и любимому ей человеку
она объясняет свой поступок тем, что «другому отдана и будет век
ему верна». Это не маска, не прикрытие и не «домострой». Предста-
вительница духа современного «домостроя» отвергает соблазны
адюльтера именно потому, что боится их — и втайне жаждет имен-
но этих соблазнов. Но предпочитает им «семейный уют», посколь-
ку любит спокойную и «нормальную» жизнь. Такая хранительница
«семейных устоев» безжалостно преследует Анну Каренину, доводит
ее до самоубийства именно потому, что Анна — в ее представле-
нии — позволила себе те утехи «на стороне», в которых отказала себе
«порядочная женщина». Бетси, умело обделывающаяся свои дела,
гораздо более для нее приемлема, чем Анна, ибо Анна разрушила
свой дом, а Бетси его сохраняет, убивая сразу двух зайцев: соблю-
дает приличия и не стесняет своей чувственной натуры.
В основе морали лежат очень простые, «вечные» принципы. Па-
радокс истории и человеческой природы состоит в том, что ради
сохранения этих принципов иногда приходится бунтовать против
них, нарушать их. Анна Каренина защищает идею «христовой неве-
сты», превращенную героинями дидровской «Монахини», Бетси и
хранительницами семейного очага в банальность, защищает тем,
что просто любит в той общественной ситуации, когда безоглядно
и страстно любить — значит, нарушать незыблемые законы жизни.
За свой бунт она наказана, но никто из людей не имеет права ее
судить и осуждать — «Мне отмщение, и аз воздам», приводит Лиф-
шиц эпиграф, избранный Толстым для своего романа.
Татьяна Ларина не бунтует потому, что ей удается вернуться к
природе на вершине человеческого развития, она в отличие от Ан-
ны не «бездомна», ибо находится в состоянии равновесия—хотя и
хрупкого — с миром. Это род гегелевского «примирения с действи-
тельностью», образующего основу для «веймарской классики» Шил-
лера и Гете и для более близкого понятию истинной классики при-
мирения с действительностью Пушкина. Путь, предлагаемый ей в
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
303
заключительных сценах романа Онегиным, — путь бегства от дей-
ствительности, путь капитуляции перед нею ради призрачного и
«пустого» счастья.
Но предоставим слово самому Михаилу Александровичу, мысль
которого я пытался выразить, как говорится, собственными слова-
ми. Для этого потребуется длинная выписка из его книги «В мире
эстетики», где он, в частности, оспаривает утверждение Гулыги,
согласно которому «Анна Каренина—та же Татьяна Ларина, толь-
ко нарушившая долг. Они сходятся в своей бескомпромиссности.
Толстой, — продолжает А. Гулыга, — представил нам все смягчаю-
щие обстоятельства, мы любим Анну, жалеем ее, готовы оправдать
ее. Тем не менее мы понимаем: для русской женщины того време-
ни другой путь, кроме пути Татьяны, был заказан»1.
В споре с Мариной Цветаевой, пишет по поводу рассуждений
А. Гулыги Мих. Лифшиц, «которая неплохо сказала, что Татьяне при-
шлось выбирать «между полнотой страдания и пустотой счастья»,
А. Гулыга утешает нас идиллической картиной будущего. Татьяна
могла бы народить своему генералу детей и была бы счастлива. Нет
уж, — продолжает Лифшиц, — извините, счастливая генеральша из
нее не вышла бы и не могла бы выйти...»2
Почему? «Вовсе не потому, что ее внутреннее решение связывала
внешняя сила, принудительная по отношению к нравственной свобо-
де личности. Эта женщина не остановилась бы перед самым смелым
поведением, если бы в нем был выход, оправданный своим содер-
жанием. Однако не забывайте, что Татьяна поняла натуру или, если
хотите, историческое место Онегина. Она познакомилась с его из-
бранной библиотекой, и это было для нее «исповедью сына века». Она
узнала, что этот человек, быть может, не только в пределах ее лично-
го опыта, но и в истории ее народа и человечества — один из самых
глубоких и в то же время самых несчастных людей, ибо, всё понимая
и не имея никаких иллюзий, он не имеет и возможности действо-
вать, не является носителем какой-нибудь положительной силы.
, 1 Гулыга А. Воспитание Пушкиным // Литературная газе-
- та, 1978, № 47. (Цит. по: Лифшиц Мих. В мире эстетики. М.,
1985. С. 79)
1 Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 81.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
304
«Невозможность личного счастья с таким человеком, как Онегин,
очевидна,—продолжает свою мысль Лифшиц,—на разочаровании во
всем личное счастье не построишь. Любовь между мужчиной и женщи-
ной предполагает наличие общего положительного идеала, хотя бы
и мелкого. У Онегина мелких идеалов нет, а чувство, которое так за-
хватило его при виде новой Татьяны, сочетающей в себе достоинство
простоты и развития, безнадежно. Ибо такой идеал не может быть де-
лом личного благоустройства двух любовников. Как они станут жить,
где, в какой среде? Нет, лучше прямое несчастье, чем возможность
унизить этот идеал. И героизм Татьяны не в том, что она осталась
верной своему генералу, а в том, что она в минуту человеческой сла-
бости Онегина остановила его, напомнив ему почти без слов, что с
таким сердцем и умом, как у него, нельзя принять промежуточное
решение, “эмпирическое», а не безусловное, “ноуменальное”...»1
Что касается Анны Карениной, то, по мнению Лифшица, «и в
любви, не только в отказе от нее, может проявляться высокий харак-
тер, не знающий примирения с тем, что чуждо внутренней свободе
личности. Потому и гибнет Анна, что любовь ее «ноуменальна».
Наплывы «эмпирии» для нее такое же крушение мира, как для Отел-
ло мнимая очевидность измены его любимой Дездемоны. Но и Та-
тьяна легла на рельсы, как вы не понимаете этого?»1 2
Итак, Татьяна во время последней встречи с Онегиным возвра-
щает его к его же собственной идее, которой он по естественной
человеческой слабости уже почти готов изменить. Идея Татьяны —
идея, если хотите, «гегелевского» примирения с действительностью,
и она гласит: на свете счастья нет, но есть покой и воля. Таков клас-
сический мир пушкинской поэзии, и именно ради сохранения это-
го Дома Татьяна остается верной дому, в который она «отдана».
Одним словом, разница между домом Татьяны и бездомностью Ан-
ны такая же, какая между кратким, но чудесным моментом класси-
ки пушкинского времени и разорванным бытием эпохи Льва Толсто-
го, когда все переворотилось и только начинало укладываться.
Но Анна не в меньшей степени, чем Татьяна или Настасья Фи-
липповна, — «христова невеста», ибо для нее решение своих про-
1 Там же. С. 82.
2 Там же. С. 83.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
305
блем оказывается тесно связанным с проблемами большого бытия.
Все три женщины несчастны, каждая по-своему, и все три — истин-
ные женщины потому, что у них хватило силы, женской силы, от-
даться трагической судьбе, выводящей за пределы «частного, поло-
винчатого, исключительного решения вопроса», точнее, отказа от
его решения в пользу «мелкого идеала», хотя и положительного. Ты-
сячи, миллионы женщин выбирают мелкий, но положительный иде-
ал, и осуждать их за это нельзя, ибо без их выбора жизнь замерла бы
на нашей земле. Но есть своя экстремальная правда и у Дж. Бруно,
и у св. Августина, и у Татьяны с Анной — следовать им почти равно-
значно самоубийству, но и отдать должное высокой правде, достиг-
нутой ими на их экстремальном пути, мы тоже обязаны.
Христианство попыталось то, что доступно единицам, сделать
общим правилом, а поскольку действительность этим правилам не
уступала, не поддавалась, то христианство применило насилие, как
моральное, так, во времена инквизиции и прямое, физическое. Ре-
зультат не нуждается в подробных комментариях — достаточно
вспомнить «Монахиню» Дидро. Этот обратный результат по своим
последствиям был столь чудовищным, что, казалось, уже не оставил
шанса для появления того высокого женского характера, что имену-
ется «христовой невестой». Однако ирония истории такова, что зло
нередко прокладывает дорогу добру. Во времена первоначального
христианства быть женщиной, решающей свои житейские проблемы
только потому, что соотносит их с целым всего мира, — значило
иметь силу сопротивления реальности, которая не шла им навстре-
чу, силу в экстремальной форме, именуемую фанатизмом. Тогда как
Татьяна Ларина могла удержаться на своей высоте, не уходя в мо-
настырь, и Пушкин, поднимаясь над «перстью» земли, не должен
был подобно св. Августину оплачивать этот подъем отказом от все-
го плотского и земного. Сама реальность до известной степени шла
ему навстречу, и Пушкин смог написать стихи о земной любви, пол-
ные гуманного чувства и гуманной мысли, избавленной от крайно-
стей фанатизма.
По той же самой иронии истории, о которой идет речь, «персть
земная» (-если снова вспомнить выражение Т. Манна из его романа
«Иосиф и его братья»), что преследовала, травила, вешала первых
христиан,—точно так же преследует и травит беспощадно тех, в ком
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
306
объективный дух первоначального христианства живет и обогаща-
ется новым историческим смыслом. Эта «персть земная», истово мо-
лясь и разбивая свой лоб поклонами царю небесному, мажет дегтем
ворота Анны Карениной. Само собой понятно, что идеи Мих. Лиф-
шица — пугало для охристианившейся современной интеллиген-
ции, уже во времена А. Гулыги обратившейся к поиску «традицион-
ных устоев».
Однако источник этих современных христианских идей, поня-
тий и соответствующей практики — все, что угодно, но только не дух
св. Августина с его неиссякаемой, неистребимой, почти самоубийст-
венной жаждой правды—не субъективного утешения, не внутренне-
го комфорта любой ценой, а именно правды, что выше нас, правды,
обладающей, говоря языком Сократа, свойством объективности.
Но обратимся снова к фрагментам Мих. Лифшица о Достоев-
ском. «Достоевский не нов, как не нов и Толстой в своей критике.
Особенность критики Достоевского — то, что она направлена про-
тив совершенства. В действительности она направлена против со-
вершенства, которое является не моим, а только дано мне. Против
совершенства сверху. Критика эта не является новой, она есть во всех
религиях и, может быть, в ней — сильнейшая сторона религиозной
жизни, как внутренний протест против развития культуры, которая
в известном смысле до сих пор всегда была совершенством исклю-
чительным и дарованным сверху»1.
Прервем здесь цитату. Почему религия — протест против совер-
шенства, высшего развития, которое представлено в культуре и обыч-
но именуется идеалом? Здесь—одна из главных идей Мих. Лифши-
ца, которую он развивал в дискуссии 1939-1940 гг. Любое развитие,
любой прогресс ограничен. Не так трудно понять эту мысль на при-
мере технического развития, но что плохого в росте духовного со-
вершенства? Дух — цветение материи, по известным словам Ф. Эн-
гельса, искусство — одно из высших проявлений духовной жизни,
сфера идеала, особенно если речь идет об искусстве классики. Но
первые христиане разрушали памятники античного искусства, видя
в них воплощение дьявола. Обычно в марксистской социологии ис-
кусства подобные явления объясняются классовым протестом, край-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 126-127.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
307
ней формой выражения потребности в равенстве. Культура и наука
в классовой цивилизации выступали как средства угнетения. Всё это
настолько справедливо, что стало уже общим местом. Однако сведе-
ние проблемы к первичной, экономической форме угнетения упро-
щает дело. Вторичная форма, о которой говорит Мих. Лифшиц, зак-
лючается аморальной проблеме. Совершенство, идеал классическо-
го искусства кажутся безукоризненными. Как может быть оправдан
протест против них с моральной точки зрения?
По мнению св. Августина, только сокрушенное сердце способно
постигнуть божественную истину, высшую правду. Нужно потерять
все, чтобы обрести все (позднее Гете напишет: я сделал ставку на
Ничто, и я обрел весь мир). Нужно потерпеть абсолютное пораже-
ние, нужно разочароваться во всем реальном, в том, что нам дает эта
жизнь: в любви женщины, благодарности детей, верности товари-
щеской дружбы. Причем речь идет не о поверхностном разочарова-
нии человека, не способного ни любить, ни дружить, то есть чело-
века вообще практически не жившего. Нет, такие, как Аврелий Ав-
густин, были страстными и деятельными натурами, пережившими
полное крушение именно потому, что героически сражались за те
идеалы, которые были формами совершенства, свойственными ци-
вилизации, к которой эти люди принадлежали.
Гибель античного мира обусловлена не только внешними при-
чинами, но и внутренним падением той формы совершенства, ко-
торая нашла высшее выражение в искусстве классики. Странная
мысль для такого безусловного поклонника классического искусст-
ва, каким являлся Мих. Лифшиц! Однако эта мысль содержится уже
у Гегеля, не менее страстного ценителя античной культуры, кото-
рый, однако, доказывал, что переход от классической формы искус-
ства (тождество формы и содержания) к прямо противоположной ей
романтической (для которой характерно противоречие формы и со-
держания) происходит по необходимости, в силу внутреннего зако-
на развития самого искусства.
Но как абсолютное совершенство (а именно таким выступает
в изображении Гегеля греческая скульптура) может быть неполно-
ценным? Оно неполноценно в том смысле, в каком, утверждает Лиф-
шиц, любая, даже так называемая абсолютная истина, не полна —
и полнота истины требует учета противоположной ей стороны. Нет
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
308
в мире, писал он, совершенно правых, и наиболее правы те, кто это
понимает.
Поэтому религия — не просто вздох угнетенной твари, не про-
сто отдушина или не только отдушина. Это крайняя форма стрем-
ления к такому совершенству, которое более совершенно, чем само
совершенство, обнаружившее с несомненностью свою ограничен-
ность. Сокрушенное сердце Августина отвергает все реальное как
простую видимость не потому, что не способно любить и дружить,
полноценно жить, а потому что выдвигает такие требования к это-
му совершенству, которые последнее не может удовлетворить. Он
устремляется к Богу как реальному сосредоточию совершенства, по-
скольку его требования выше, чем то, что было доступно антично-
му миру, — важная мысль всей «Эстетики» Гегеля. В этом смысле
«христова невеста»—не та женщина, что не способна к земной люб-
ви, а наоборот, та, что подобно Татьяне Лариной и Анне Карени-
ной— само воплощение женской полноценной любви, но именно
по этой причине «христова невеста» отказывается от любви к реаль-
ному мужчине. Полнота истины любви для нее означает, что эта
любовь возможна только при решении проблемы целого, а поскольку
эта проблема не решаема, то сокрушенное сердце делает ставку на
Ничто — ради обретения всего. Увы, это «все» в религии по необхо-
димости оказывается абстракцией чистого отрицания, тотальным
ничто, которое тоже требует своего реального наполнения—и по-
лучает его. Но об этой стороне дела речь пойдет ниже.
Критика совершенства как одна из самых сильных сторон твор-
чества Достоевского? С этой мыслью Мих. Лифшица никто из по-
клонников современного искусства спорить, пожалуй, не станет. Но
почему же тогда Лифшиц потратил столько усилий на критику аван-
гарда, который как раз и был воплощенным отрицанием совершен-
ства, бунтом против него, бунтом самым бескомпромиссным и по-
следовательным? «Старая легенда гласит, — писал Лифшиц в своем
сознательно эпатажном манифесте против авангарда, — что Хрис-
тос и Антихрист похожи друг на друга. И действительно, в роковые
минуты истории такие оптические иллюзии — не редкость. Но горе
тому, кто не умеет отличить живое от мертвого»1.
1 Лифшиц Мих. Почему я не модернист? // Лифшиц Мих.
Искусство и современный мир. М., 1973. С. 24.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
309
Критика совершенства Достоевским—продукт «сокрушенного
сердца». Но и среди авангардистов было немало таких, кто не делал
из бунта против совершенства ходовой товар, приносящий немалый
доход. «Нельзя отрицать столь очевидные факты, — пишет в упомя-
нутом «манифесте» Лифшиц. — Среди модернистов были люди не-
обычайной внутренней чистоты, мученики, даже герои»'.
Бывают хорошие модернисты, доказывает автор статьи «Поче-
му я не модернист?», но не бывает хорошего модернизма. Одно де-
ло — критика совершенства в духе Гегеля, Достоевского, Толстого и
совсем другое дело бунт против него, точнее, ложный протест, пе-
реходящей в силу внутренней логики этого протеста в апологетику
того, против чего он направлен. В предисловии к своей книге «Ис-
кусство и современный мир» Лифшиц приводит слова Лессинга,
которые я цитирую по его книге: «Какое мне дело до ортодоксов? Я
презираю их так же, как и ты. Однако наших новомодных священ-
нослужителей я презираю еще больше, ибо они недалеко ушли в
богословии и недостаточны как философы. Я совершенно убежден
в том (пишет своему брату Лессинг), что если бы эти пустые головы
забрали власть, они бы со временем стали вести себя еще более тира-
нически, чем это когда-либо делали ортодоксы»2. В архивных замет-
ках Лифшица есть строки, выражающие эту мысль более определен-
но. «Реставрация Бурбонов» — вот что ожидает Россию в случае,
если новаторы, говоря словами Лессинга, захватят власть. Движение
страны под властью демократов, то бишь «правых», за последние
десять-пятнадцать лет — это движение от крайнего либерализма к
державности и «русской идее» как официальной идеологии. Но сбыв-
шимися пророчествами сегодня никого не удивишь. Важнее, что
предлагалось для предотвращения беды.
В свое время Мережковский предупреждал о Грядущем Хаме.
Еще раньше Достоевский написал роман «Бесы». Как совмещается
эта карикатура на революционеров с антикапиталистическим пафо-
сом, свойственным, если верить В. Ермилову, творчеству великого
писателя? По мнению Лифшица (цитата приводилась выше), про-
тест против власти денег—это ерунда, общее место для демократи-
чески настроенных писателей XIX века.
1 Там же. С. 21.
2 Там же. С. 8
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
ЗЮ
«Мой покойный друг Вл[адимир] Борисович] Келлер (Алек-
сандров) первый начал рассматривать Достоевского как критика
капитализма,—читаем в архивных заметках Лифшица.—А на са-
мом деле Достоевский был критиком определенного типа капита-
лизма, не выходящего за пределы «буржуазности», которую он так
ненавидел.
В этом совпадение Достоевского с народниками. Не только в том
его демократизм, что он описывает нищету, угнетенность. Не толь-
ко и не столько, главное — моральная проблема. Не надо нам ваше-
го (... — неразб.) благодеяния. Это еще и у народников, но более ре-
ально, здесь же больше всего именно это — преувеличенная крити-
ка либерализма, ведущая в стан реакции»'.
У шовинистов и ультранационалистов—тоже преувеличенная
критика либерализма, но содержание этой критики у них совершен-
но иное, чем у Достоевского. Первые стремятся увековечить власть
гнусной чиновничье-монархической системы, сраставшейся к XX ве-
ку с плутократией, созревшей у этой системы под крылом. Тогда как,
утверждает Лифшиц, «а) критика Достоевского направлена против
слияния буржуазного общества с крепостничеством; б) но в реакцион-
ной форме. Достоевский со своим монархизмом — крайнее выраже-
ние недостатков (но и горячей ненависти) буржуазно-демократи-
ческой ступени русского освободительного движения, ступени раз-
ночинства»1 2. Формула Лифшица на первый взгляд кажется похожей
на те схоластические социально-классовые различия, изобретением
и нагромождением которых занималась вульгарная социология. По-
стараюсь доказать, что эта формула не только выводит за границы
«классового» (в дурном смысле этого слова) и шире — «социологи-
ческого» метода, но и устраняет недостатки чисто формального ана-
лиза творчества великого писателя.
Что это значит—быть против «слияния буржуазного общества с
крепостничеством» для России конца XIX, начала XX веков? Это зна-
чит, к примеру, быть Настасьей Филипповной и Анной Карениной, а
не госпожой Кукшиной, с одной стороны, и не Кабанихой—с другой.
В цитированных выше заметках Лифшица обе героини—Достоев-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 123.
2 Там же. С. 107.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
ЗП
ского и Толстого — не могут быть лично счастливы именно потому
в конечном счете, что другие несчастны. Говоря профессионально-
кретиническим языком философии, решение проблемы целого для
них предшествует решению частных проблем. Настасья Филипповна
протестует не просто против денег как таковых, она погублена как
личность «слиянием буржуазного общества с крепостничеством»,
одним — но далеко не единственным—олицетворением которого в
романе является ее покровитель. Это слияние породило еще более
страшный тип, которому принадлежало большое будущее — Смер-
дякова, тоже протестующего против несправедливости. Но как?
Смердяковский бунт ведет прямой дорогой к Шарикову и другим
представителям «восстания масс» XX века, внутренне связанного,
как об этом говорилось в главе о М. Булгакове настоящей книги, с
феноменом «бернарства». Но есть еще один, не менее важный мо-
мент, относящийся к «восстанию масс» и объясняющий его. Этому
феномену Лифшиц уделяет главное внимание в своих архивных за-
метках о Достоевском. Продолжим прерванную цитату о том, что
Достоевский не нов в своей критике совершенства — такая критика
образует, по мнению Лифшица, основу всех религий и их сильную
сторону. «Ново же у Достоевского то, что это сказано им на фоне на-
чинающейся эпохи великого сверху, эпохи революций сверху и бла-
годеяний, что имеет и свою экономическую основу = отделение всех
благ от личности, внешний характер их присвоения, громадность
общественной системы, дающей эти блага без самодеятельного их
обретения и в виде исключительного дара. Отчужденность рычагов
(?—неразб.) совершенства = Достоевский оказался пророком, ибо
в следующем столетии страшно возросло количество благ и особен-
но возможность будущего при полной чуждости этой системы»1.
Полемизируя со своим другом и учеником В. Александровым,
Лифшиц пишет: «Все-таки главная проблема Достоевского это —
гордость и унижение2. Он уходит от непосредственной проблемы
материального угнетения, как вы ни пристраивайте и ни толкуйте
его. А почему же и что это говорит нам? — Не просто о богатстве и
бедности здесь речь, а о вторичном порабощении. Такое было [в] его
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247 «Достоевский». С. 129
1 Поэтому много в нем от Августина (прим. Мих. Лифшица)
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ... 312
время как бы главным. Но и не только в его время оно может быть
на первом плане. Его проблема:
«Надрыв в гостиной»
«Надрыв в избе»
и тут и там! Надрыв вообще!
С. 296, т. 91. «Надрыв лжи».
Тоска по естественности — нравственности без опосредования
долгом, принудиловкой, хотя бы и интеллектуальной (та же пробле-
ма власти роковой в душе и унижения или протеста), без того дуа-
лизма или монархизма, о котором толковал и Герцен раньше.
Идея Зосимы и Алеши — нравственность любви; любовь к ближ-
нему без надрыва. Казнить надрыв Достоевский может, но заменить
его чем-то позитивным.. .увы. Основной враг нравственности—фа-
рисейство: личина, лицемерие, либерализм, лжедемократия и лже-
гуманность. Риторика, благодеяние, гордыня? — Но Достоевский
мастер в изображении именно этой проблемы. В чем его достоин-
ство переходит и в недостаток»1 2.
Слияние буржуазного общества с крепостничеством выражается
далеко не в последнюю очередь в том, что вся общественная система
превращается в некий род «государственного социализма», за кото-
рый, в частности, ратовал Столыпин и который свою классическую
форму нашел в т.н. прусском пути развития со всеми, хорошо в XX ве-
ке известными последствиями этого развития. Государственный
социализм как род патернализма если и предполагает благоденствие,
то исключительно сверху. У истоков этой идеи (т.е. слияния буржу-
азного общества с крепостничеством — в широком смысле слова
включающего в себя крепостничество духовное) стоял и К. Леонтьев.
Вообще говоря, любое благоденствие есть неравенство: одаряя
своего ближнего, но не получая ничего взамен, вы как бы тем ста-
вите его ниже себя, причем ниже в нравственном отношении, что
особенно обидно. Вы обязываете его быть благодарным вам. Есте-
ственно, что всякое обязательство порождает противодействие, в
данном случае — неблагодарность. Она приобретает демонические
формы тогда, когда благодеяния сверху приобретают вид насиль-
1 Собр. соч. Достоевского. М., 1958.
2 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 16-19.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
313
ственной системы. Особенно разительно данное явление, по мне-
нию Мих. Лифшица, представлено в современном капитализме — в
этой системе невозможно уклониться ни от опеки государства, ни
от культуриндустрии и прочих «евнухов» капиталистического про-
изводства, соблазняющих потребителя, создающего новые противо-
естественные потребности.
Россия во второй половине XIX века страдала от недостаточно-
го развития капитализма, и вместе с тем в ней получило гипертрофи-
рованное развитие то сращение капиталистического производства
с бюрократией, которое образует суть системы «постиндустриально-
го общества». В этом смысле, полагает Лифшиц, Россия опережала За-
пад именно по причине своей отсталости. Вот причина, почему До-
;Стоевский и Толстой оказались в XX веке столь популярны.
I . Чем приведенный выше вывод Лифшица отличался от социоло-
гии искусства вообще и вульгарной социологии в частности? Лифшиц
рассматривает не социальный эквивалент искусства, не его социо-
логическую сторону, наряду с которой есть еще сторона формально-
го совершенства, а определенную ступень общечеловеческого раз-
вития как конкретную форму общечеловеческого и шире — природ-
ного, так сказать, вселенского. Моральные проблемы, стоявшие
перед св. Августином, приобрели особую актуальность — и более
высокую ступень развития — в России Достоевского. Проблема св.
Августина, как и проблема Достоевского, это «гордость и унижение».
И вы ничего, согласно Мих. Лифшицу, не поймете в специфике этих
моральных проблем у Достоевского, если не будете знать, какими
конкретными проблемами времени они порождены. Но конкретное
потому и конкретное, что в нем оживает общее, вечное.
Эта точка зрения требует очень серьезных поправок даже к та-
ким авторам, которые, как В. Александров, никогда не страдали гре-
хами вульгарной социологии. По мнению В. Александрова, «человек
у Достоевского, — отмечает Лифшиц, — не жесток, не извращен от
природы, а социально определен. Думаю, — продолжает Лифшиц, —-
что этого мало. Социально, но как? Ни в каком устройстве общества
не избежать зла!
Кант —Достоевский
Это имеет смысл в том отношении, что воспринятая и нами тео-
рия социального воспитанияXVIII в., классическая теория среды име-
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
314
ет глубокий недостаток. Любые общественные условия еще ничто,
если не сам человек их создает. Зло в человеке, как и добро в челове-
ке, автономно. Поместите человека в самые лучшие условия, и он не
только будет гадить, нет—станет даже озорничать. А почему? Пото-
му что не он создал эти условия. Ему не нравится просвещенный деспо-
тизм. Условия должны быть не только сами по себе благодетельны,
но они должны быть моими условиями. Злое будет возрождаться как
вторично Злое, «нечеловеческий» бунт в самых идеальных условиях.
Невыносимость этих принудительно-идеальных условий. Ср. из исто-
рии русского крепостничества наблюдения Лескова и др. Успенского?
Это будет до тех пор, пока не найдена форма нравственности
(она может быть однажды найдена, «абсолютно», как открыт был
огонь и т.п.), будет до тех пор «жестокость и зло из души человека»
как ответ на благодеяния»1.
«Ветошка имеет тенденцию
превратиться в удавку»
В отличие от модернизма критика совершенства у
Достоевского демонстрирует все бездны, все темные углы ирраци-
онального бунта, тогда как модернизм видит в абстрактном бунте
против совершенства панацею от всех бед. Приведу несколько заме-
ток из архива Лифшица, развивающих эту важную тему:
«Бернарский вопрос — основной вопрос Достоевского. Это воп-
рос о недостаточности позитивного (? — неразб.) материализма и
социализма — без нравственной критики и решения.
Все другие — особенно анархически-ницшеанские идеи (... —
неразб.) тож. Исходный пункт плох. Но исходный-то пункт это то же,
что мучило Герцена: падение духа и кара за это. Но этот исходный
пункт не социализм: это либерализм и революции сверху, казенщи-
на в социализме, оппортунизм. Бернаровщина.
То, что связано: а) (...) сверху, б) анархизмом снизу. Борьба с эти-
ми двумя крайностями, из которых должна была выйти (? — неразб.)
русская демократия XIX века. А (...) все же лучше, чем Бернары.
1 Там же. С. 144-147.
Достоевский:
отталкивание от совершенства, истины
315
Эти (это ?) уже в дворянскую эпоху: Репетиловы и Сильвио, Але-
ко, Онегины»'.
«Достоевский, май-июнь 1963 года
Секрет популярности Достоевского в настоящее время—огром-
ный страшный пресс — возрождение феодально-абсолютистско-бю-
рократического стиля. И протест человека. Антикапитализм — это
подчеркнула наша школа 30-х годов. А вы остались при этой схеме,
не заметили другого!!
Средний мелкий хозяин (богатый, жулик-разбойник). Ограни-
ченность протеста грибулического1 2. Сходство Достоевского и Герце-
на и Народной Воли. Грибулизм революционный и святость. Сла-
' бость святости. Слабость грибулизма революционного. Путь Герце-
на к марксизму
Глубина Достоевского
Он увидел и ужаснулся перед таящимся в протесте мелкого че-
ловека— его мнимый коллективизм и демократизм, несущий в себе
«культ личности». Демократизм Поприщина и Голядкина. Обижен-
ное самолюбие и зависть игры малоценное™.
Порочный круг у Достоевского
Благонамеренность в деспотизм
Ветошка имеет тенденцию превратиться в удавку.
Этому нужно уметь ставить преграды. Канализировать это. В этом
позитивная сторона анализа Достоевского. Этот комплекс (он же фрей-
дизм etc.) имеет существенное значение для эпохи империализма.
Достоевский раскрыл извнутри мелкие чувства зависти всякой
небольшой собственности по отношению к крупной. В этом отноше-
нии он совпадает с Марксом в его критике мелкобуржуазного урав-
нительного коммунизма. Но, с другой стороны, он совпадает и с
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 87.
2 Грибуль (простофиля—фрд—персонаж повести Ж. Санд
«История простодушного Грибуля». Герой отличается ги-
пертонической добродетелью, его поступки—эксцесс доб-
ра, хотя и вполне искренний, даже по-своему естествен-
ный. См. об этом Герцен А., «Предисловие к книге Ж. Санд
«Похождение Грибуля»; Герцен А.И., Собр. соч. в тридцати
томах, т. 14, М., 1958, сс. 356-З58.
Литературная дискуссия 1939”Г94О гг.
как поворотный пункт ...
316
Ницше (ср. его «Генеалогию морали» etc.) — (...) критика малоцен-
ное™, смирения, зависти, (...) христианских чувств.
Предшествующий круг идей: Гете — Гейне, язычество против
назарейства.
Отсюда у Достоевского идеализация Кати в «Неточке» и т.п. ти-
пы, поиски непосредственного блага, но в рамках иерархии ценнос-
тей. Отчасти совпадает и с «аристократизмом» Маркса, но ...
Таким образом у Достоевского, как, впрочем, и во всей мировой
литературе, отражается порочный круг неравных отношений: а) гре-
хопадение добра; б) темное восстание.
Специфика Достоевского и его программа победы над этим ком-
плексом сама по себе не ложна, да только как это сделать в чисто
идеологической сфере? Все это чувствуют, а терапия (как и в пси-
хоанализе) — вздор.
А боятся, по вполне понятным причинам, обращения к перво-
причинам (т.е. к социальному комплексу), ибо таковое обращение
само часто вырождается в а) или в б). И все же другого пути нет,
только нужно вывести из первого второе. Это и будет канализация.
Но роковой, первостепенный дая марксизма характер проблема-
тики Достоевского.
Без решения этих вопросов нельзя идти вперед. Ибо классичес-
кая противоположность капитализма и социализма — абстракция.
Ибо она развивается в среде мелкой буржуазии, и в XX веке не мень-
ше, а больше.
И — самое главное — ибо классовые, социальные отношения вы-
ражаются в превратной, вторичной форме. Ибо нужен более тонкий,
более конкретный выбор (см. теорию этого), ибо нужно преодолеть
объективно вырастающий порочный круг неравных отношений, име-
ющий самостоятельную лотку и извращающий, портящий (?)даже
классовые отношения. Ибо этот порочный круг имеет непосредствен-
ное отношение и к революции. Это практическая проблема и, в то же
время, вопрос теории марксизма, решение вопроса «как», нерешен-
ность которого Энгельс сознавал»1.
Итак, Лифшиц видит самое ценное и самое значительное у Дос-
тоевского в критике того восстания масс, победы Хама, которому
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 51-57.
«Ветошка имеет тенденцию
превратиться в удавку»
317
придают центральное значение все критики социализма начиная от
Ницше. Он далее отмечает черты сходства критики Достоевского с
Ницше, причем эти черты не случайны и не маловажны, но в значи-
тельной степени формируют общий взгляд Достоевского. Поэтому в
целом позицию Достоевского он характеризует как реакционную, а не
просто демократическую. Вместе с тем эта реакционность, которую
так или иначе пытались завуалировать советские либералы бо-х го-
дов, даже лучшие из них, подобные Ю. Карякину, выбросить или при-
уменьшить нельзя без потери понимания самого главного — и безус-
ловно ценного, положительного—в Достоевском. Ибо это преувели-
ченная до крайности критика либерализма, представляющая собой
не просто половинчатое решение главного вопроса, а решение в са-
мом основании своем ложное. Либерализм, в том числе и социали-
стический, и в не малой степени именно последний, проложил доро-
гу тому, что именуется благодеянием сверху, welfare-государству все-
общего благоденствия, «шведскому социализму» и тому подобному.
Но почему же Достоевский не мог избавиться от своей реакцион-
ности, перейти в стан революционеров? Потому что лучшие люди то-
го времени, революционеры-народники, были заражены той же бо-
лезнью, что и Достоевский, вернее, их болезнь имела общий источ-
ник. И народники, и Достоевский по сути дела стали на сторону
народа против и либералов-западников, и державников-славянофи-
лов (поздних славянофилов): несмотря на парадоксальность послед-
него словосочетания, державно-славянофильский взгляд уже укоре-
нялся к тому времени в среде феодально-бюрократического государ-
ства, сраставшегося с капитализмом. Вот это срастание стало главным
противником и народников, и Достоевского. Народники видели опас-
ность подобного срастания более глубоко и верно, чем русские марк-
систы группы Плеханова, вот почему будучи неправы формально,
они, по мысли Ленина, оказались более правы на деле. С другой сторо-
ны, согласно Лифшицу, правота народничества тоже была не полной,
и однобокое развитие этой народнической правоты привело к таким
воплощениям «народной» справедливости и равенства, как ГУЛАГ.
Достоевский, разделяя с народниками их верную и прогрессив-
ную идею, вместе с тем гораздо более глубоко, чем они, видел опас-
ность перерождения «ветошки в удавку». Эта проблема была со всей
глубиной и ясностью поставлена Марксом в его философско-эконо-
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
318
мических рукописях 1844 года, но продолжает оставаться самой важ-
ной и нерешенной проблемой для марксизма. Для решения пробле-
мы возникшего на этом основании порочного круга современной
истории Мих. Лифшиц выдвинул свою «теорию тождеств», онтогно-
сеологию и программу Restauratio Magna. Основные идеи его кон-
цепции были апробированы в дискуссии 1939-1940 гг.
В основе литературоведческой позиции Лифшица лежала идея о
глубочайшем демократизме «великих консерваторов человечества»,
и даже откровенных и безусловных реакционерах-демократах, реак-
ционерах-народниках, каким, по его представлению, являлся Досто-
евский. Писатель встал на сторону народа против либералов и дер-
жавников-славянофилов, славянофилов-аристократов (типа К. Ле-
онтьева), понимая неизбежность смердяковского бунта со всеми его
чудовищными не только для XIX и XX, но и XXI века последствиями.
Неизбежность этого уже начавшегося бунта снизу для Достоевско-
го была очевидностью, как и то, что ни одно из политических и со-
циальных движений, ни одно философское направление или тече-
ние не создало надежной преграды для этого бунта, нейтрализую-
щей его чудовищные последствия. Но если Ницше, Мережковский,
авторы «Вех» и так далее отвернулись на этом основании от наро-
да, то позиция Достоевского качественно иная, что проницательно
понял К. Леонтьев. И не только он. К. Победоносцев и крупные дея-
тели православной церкви никогда не считали Достоевского своим.
На что рассчитывает Достоевский как художник и человек, что
образует основу художественного пафоса его произведений? В сво-
их заметках о Достоевском Лифшиц делает большую выписку из его
знаменитой пушкинской речи, сопровождая ее своими комментари-
ями. Привожу полностью и то и другое.
«Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За стра-
дания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением.
Пушкин любил все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он
любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню
русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий му-
жика за его горькую участь, это был человек сам перевоплощавший-
ся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его.
Умаление Пушкина как поэта более исторически, более архаически
преданного народу, чем на деле—ошибочно и не имеет даже смыс-
«Ветошка имеет тенденцию
превратиться в удавку»
319
ла. В этих исторических и архаических мотивах звучит такая любовь
и такая оценка народа, которая принадлежит народу вековечно, все-
гда и теперь и в будущем, а не в одном только каком-нибудь давно
прошедшем историческом периоде. Народ наш любит свою историю
главное за то, что в ней встречает незыблемой ту же самую святы-
ню, в которую сохранил он свою веру и теперь, несмотря на все стра-
дания и мытарства свои. Начиная с величавой, огромной фигуры
летописца в “Борисе Годунове” до изображения спутников Пугаче-
ва, — все это у Пушкина — народ в его глубочайших проявлениях, и
все это понятно народу, как собственная суть его».
И еще одну выписку делает Лифшиц из той же речи: «Некрасов хо-
тя и принадлежал к людям, печалившимся о народе, но предпочитав-
шим европейскую цивилизацию, однако же поднимался до понимания
народной правды». То же отчасти Лермонтов: «Во всех стихах своих
он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает
об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут
он светел и ясен. Он любит русского солдата, казаков, он чтит народ».
Приведя процитированные слова Достоевского, Лифшиц так ком-
ментирует их (следует заметить, что цитируемая ниже запись сдела-
на, судя по почерку ее автора, в тридцатые годы): «Здесь много вер-
ного. Две стороны народности. Безнародность, заключенная в самом
народничестве и во всем движении привилегированных слоев в про-
шлом. И обратное явление — народность многих деятелей, у которых
главное не скорбь о народных бедствиях. Какая-то близость к мужи-
ку, к его правде, которая имеется у таких людей, как Монтень или
Пушкин. Эта народность заключается в усвоении положительных,
исгорически-данных черт народного мышления, когда барин говорит
чистейшим языком мужика (в России это—вплоть до Толстого). Чув-
ство суверенитета народа во всем, суд народа, соотнесение всех дей-
ствий высших классов к этой последней инстанции, в историческом
лоне которой сам царь является только косвенным представителем
последнего из своих подданных. Буржуазно-демократическое, либе-
рально-анархическое народничество является отрицанием подобной
народной простоты” в пушкинском духе, но важно, что лучшие из де-
мократов Чернышевский, Добролюбов, Щедрин, Некрасов не были
простыми отрицателями, но умели угадать и ограниченность интел-
лигентской революционности и силы народа. Словом (продолжает
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
320
Лифшиц свой комментарии) не тот народен, кто народник, но, глав-
ным образом, тот, кто мыслит в соответствии с историческим ходом
самого народного движения, его глубочайшими и далекими интере-
сами. В какой-то мере это было и во всей прежней истории. Это не
значит, что всякий отказ от протестантства и филантропии — про-
грессивен. Но это значит, что люди, чутьем постигавшие оторван-
ность интеллигентного общества и недостаток органической, истин-
но народной революционности в нем, могли и в старом обществе
выходить за пределы интересов своего класса, становиться выше и
старого и нового (выделено мной. — В.А.), опираться на народные
элементы. И это движение происходило в искаженной, консерватив-
ной форме. Такая положительная народность, которая не совпадала
с филантропией, была у всех великих представителей литературы»1.
Достоевский иногда называл себя славянофилом, но он же писал
в 1863 году о них (слова, на которые обращает внимание В. Александ-
ров) : «Какая-то удивительная аристократическая сытость при реше-
нии общественных вопросов». Народность Достоевского была положи-
тельной не только потому, что в ней был народный взгляд, т.е. снизу,
а не сверху, не снисходительно-жалостливый, а прежде всего потому
что она, эта народность, позволяла «становиться выше и старого и
нового», в частности, выше монархического взгляда на мужика как
на покорного «богоносца», верного царю и отечеству, и выше вехов-
ской ненависти к народу как восставшему быдлу, «грядущему Хаму».
Не филантропия, не барский либерализм—безусловно, а даже дове-
денная до крайности критика либерализма. Почему до крайности?
Теория тождеств Лифшица есть теория «истинной середины»,
отрицающей крайности, избегающей их как зла, как неправды. Но эта
же теория учит различать два принципиально различных типа край-
ностей. Достоевский не хуже, чем Ницше или Мережковский, чем ав-
торы «Вех», видел, как «ветошка превращается в удавку». В этом смыс-
ле он был гораздо более прозорлив, чем традиционные народники.
Однако этот взгляд не кидал его в крайность либерализма, напротив,
внутренняя лживость последнего была для Достоевского очевидна.
Именно из либерального источника вырос затем взгляд «Вех». Зна-
чит, и не либерализм, и не народничество. Что же тогда? И крити-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 247. С. 196-197.
«Ветошка имеет тенденцию
превратиться в удавку»
321
ка народничества, и критика либерализма — одним словом то, что
позднее будет названо «борьбой на два фронта» или прохождением
в щель между двумя одинаково неприемлемыми крайностями.
Но самый большой парадокс теории тождеств Лифшица состоит
в том, что в определенных обстоятельствах, когда выхода нет, «истин-
ная середина» или, вернее, то, что ее заменяет, поскольку она невоз-
можна, классика невозможна—середина, не будучи мещанской зо-
лотой серединой, то есть обыкновенной эклектикой, оказывается
крайностью. Таковы крайности великих консерваторов человечества,
названные Лифшицем консервативным или даже «реакционным де-
мократизмом». Это, конечно, противоречие в определении, но про-
тиворечива сама жизнь, которая в определенных обстоятельствах не
дает выхода. Таковы обстоятельства, когда оба реальные пути—хуже.
«Демократическая реакционность» Достоевского, его, говоря
словами Лифшица, реакционное народничество было—до извест-
ной степени — прорывом порочного круга времени, выходом за его
пределы. Он не мог стать на сторону народной революции именно
потому, что видел, как снизу рождается чудовищный ложный про-
тест против благодеяний сверху, против бюрократического и плу-
тократического капитализма. Пока «вторичное угнетение» осуще-
ствляется посредством благодеяний сверху, протест против него
тоже, как правило, принимает извращенный, иррациональный ха-
рактер протеста против совершенства вообще, против истины, доб-
ра и красоты, против человеческого начала в человеке. Вот реаль-
ность, которую в первую очередь должна осмыслить левая мысль и
дать на нее адекватный ответ. С этой реальностью, за исключени-
ем, по убеждению Лифшица, ленинской версии марксизма, ни одно
протестное движение современности не считается. Правда, Ленин
при этом не был понят даже своими ближайшими сторонниками.
Идея «консервативного демократизма» была рождена в зо-е годы,
в обстановке уже окрепшего, вставшего на собственные ноги бюро-
кратического социализма. А протест против него? Вообще говоря, до-
статочно развитые формы протеста против того, что Лифшиц назы-
вал «благодеяниями сверху», явили себя во времена Достоевского. Но
не онц, по мнению Лифшица, породили Октябрьскую революцию и
массовое народное движение в СССР 30-х годов. Хотя в целом такие
события, как Октябрьская революция, многолики, представляя собой
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
322
результирующую многих составляющих, все же в них необходимо вы-
делять главные направления, определяющие лицо этих событий. По
мнению Лифшица, восставший народ в России XX века ощупью, с ог-
ромным трудом, падая и ошибаясь, все же находил тот путь, который
позволял разорвать порочный круг времени—хотя этот разрыв был
всего лишь одной из тенденций реальности, которой противостояли
другие, в конце концов погубившие этот прорыв, приведшие к «рес-
таврации Бурбонов». Достоевский был одним из немногих, кто во
всей его значимости понял главное зло современности—бунт смер-
дяковский, шариковский, и в то же время находил щель между оди-
наково неприемлемыми крайностями (хотя нередко впадал в одну из
них). Такова, на мой взгляд, общая теоретическая установка Лифши-
ца, которой он следовал в дискуссии 39-40-х годов.
Что касается оппонентов «течения», то это были, по определе-
нию Лифшица, «яростные фанатики» и одновременно «мелкие ла-
вочники». Правда, к концу тридцатых годов фанатизм уже достаточ-
но определенно начал принимать форму советского либерализма,
которому предстояло большое будущее в деле разрушения страны.
А затем он, подчиняясь той же логике своего внутреннего развития,
перерос в правый консерватизм, в идеологической области — в пра-
вославие. Но этот консерватизм и это православие ничего общего
не имеют с духом творчества Достоевского.
Достоевский, по мысли Лифшица, показал главную опасность
для социализма, для современности вообще—превращение «ветош-
ки в удавку». Что это такое, Мих. Лифшиц знал не понаслышке.
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда
в области философии»
(дело о диссертации, 1944-1956 гг.)
Есть документы и факты, говорящие сами по себе,
причем красноречивее любых комментариев. В 1944 и 1948 годах
Мих. Лифшиц предпринимал попытки защитить диссертации: в пер-
вый раз—докторскую в области философии, во второй раз — кан-
дидатскую по филологии. Ниже приводятся документы из его архи-
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 323
ва, относящиеся к этой истории. Сам Лифшиц доказывал, что в жиз-
ни бывают символические ситуации, говорящие гораздо больше,
чем может показаться на первый взгляд. Мне кажется, история этих
двух защит относится к таким ситуациям.
Первые два документа — статьи, появившиеся в стенных газетах
Института философии и Президиума АН СССР в 1953 году:
«Еще раз о бдительности и ротозействе
Партия и правительство призывают нас к неусыпной бдительно-
сти и зоркости, и неустанному требовательному вниманию к людям
и их делам. Мы, работники идеологического фронта, должны быть
особенно настороженны и бдительны.
Наше слово — проводник идей Марксизма-Ленинизма в массы,
оно с полной искренностью и правдивостью должно донести указа-
ния партии и правительства до каждого советского человека. В на-
ших рядах не место не только врагам, проходимцам и лжецам, но и
растяпам и ротозеям, которые способствуют дискредитации в ши-
роких народных массах учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
Нас должны настораживать не только многочисленные факты
разоблачения проходимцев в советской печати, но и некоторые фак-
ты институтской жизни. Однако эти факты еще не послужили уро-
ком для некоторых работников института.
На кафедре философии АН СССР в течение пяти лет работает
некто Лифшиц, выдававший себя за кандидата наук, не имея не
только кандидатской степени, но и диплома о высшем образовании.
В свое время Лифшиц пытался защитить диссертацию в нашем
Институте, но потерпев фиаско, “защитил” ее в Ленинграде, в Инсти-
туте Литературы. Т.к. оппонентами Лифшица были вскоре после за-
щиты уволенные из АН за космополитизм и репрессированные лю-
ди, то Лифшиц, боясь разоблачения собственного космополитизма,
после решения ученого Совета о присвоении ему степени, изъял
свою диссертацию незаконным путем через сотрудницу Фридман и
диссертация в ВАК не попала.
Тем не менее Лифшицу удалось, пользуясь ротозейством неко-
торых людей, назвавшись кандидатом наук, примазаться к работе,
и вот Лифшиц с благословения добрых дядей от философии в тече-
ние 5 лет преподает философию, получая зарплату кандидата наук.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
324
Лицо этого проходимца ясно каждому честному советскому пат-
риоту. И хотя Лифшиц, используя испытанный прием отсиживания
на бюллетене в дни опасности для его шкуры, спасается сейчас в
санатории, надобность в котором у лжеца приспела, как только он
прослышал о готовящемся его разоблачении, справедливая кара вы-
тащит его из любого убежища.
Нам неясно другое. Почему в отделе аспирантуры Президиума
АН единственной реакцией на известие о лжеученом было сниже-
ние ему заработной платы? Вопрос не стоит о том, какая зарплата
должна начисляться «лектору» по философии, не имеющему даже
высшего образования. Но почему этот «лектор» не был снят с рабо-
ты за обман советской общественности, за обман партии? Почему,
как следовало бы ожидать, Лифшиц не был разоблачен до конца?
Зав. кафедрой философии Васильев не проявил должной бди-
тельности, принимая на себя заведование кафедрой, не дал себе
труда внимательно ознакомиться с кадрами. Несмотря на то, что
коммунисты кафедры т.т. Белов и Федорова неоднократно подава-
ли сигналы об аполитичности Лифшица, в лекциях которого, по по-
нятным основаниям, ни слова не значилось о необходимости борь-
бы с космополитизмом, т. Васильев не обратил вовремя внимания
на эти сигналы. Благодушие т. Васильева поощряло проходимца,
который критику в свой адрес принимал в штыки.
Мы вправе потребовать ответственности за поведение таких
работников как Лифшиц, у тех, что своей беспечностью и ротозей-
ством невольно способствовали их грязным делишкам.
Рядовой Работник»
А вот вторая статья:
«Кандидат-самозванец
“Разрешите представиться—кандидат филологических наук Лиф-
шиц...”. Пришедший выглядел вполне солидно. Чтобы устранить
всякие сомнения, он протянул справку, в которой значилось, что
гражданин Лифшиц М. А. действительно защитил кандидатскую дис-
сертацию в 1948 году, в Ленинграде, в Институте русской литерату-
ры (Пушкинский Дом)...
И его зачислили на работу. Солидный гражданин стал препода-
вателем на кафедре философии Академии наук СССР и безмятежно
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 325
трудился на ниве просвещения академической аспирантуры в тече-
ние ряда лет. И, разумеется, получал соответствующую зарплату—
как кандидат наук. Но вот однажды стали проверять кандидатские
дипломы у сотрудников. Спросили диплом и у Лифшица — и тут
выяснилось, что сей “ученый муж” такового не имеет...
В дальнейшем оказалось, что М.А. Лифшиц не только не имеет
степени, но даже и высшего образования. В 1948 году он вознаме-
рился стать кандидатом наук. В начале он избрал философские на-
уки. Однако в Институте философии АН СССР Лифшиц потерпел
неудачу—его писания были отвергнуты. “На свете не без добрых
душ”,—решил предприимчивый соискатель кандидатской степени
и укатил в Ленинград. “Добрую душу” Лифшиц обрел в Институте
русской литературы в лице и.о. директора Л.А. Плоткина, впослед-
ствии уволенного за насаждение космополитизма и за развал рабо-
ты в Институте. Плоткин “организовал” защиту Лифшицем диссер-
тации. На заседании Ученого совета Лифшица изобразили как вы-
дающегося ученого, достойного не то что кандидатской, но даже
докторской степени. В качестве официальных оппонентов выступил
“сам” Плоткин и некий “профессор” Г1.
Когда утих восторженный гул и прекратились славословия, столь
умело «организованные» Плоткиным, новоявленный кандидат фи-
лологических наук почувствовал себя не совсем спокойно. Он опа-
сался, что когда его диссертация и документы попадут в Высшую ат-
тестационную комиссию, там могут заинтересоваться и ею, и лич-
ностью автора... И вот Лифшиц берет в Институте справку о защите
диссертации, а сам пишет записку своей знакомой — зав. канцеля-
рией Института, что нечего де ей трудиться — пересылать диссерта-
цию и все дела в ВАК—он передаст их сам...
Приехав в Москву Лифшиц, разумеется, в ВАК не пошел, диссер-
тацию оставил у себя, и направил свои стопы в поисках “хлеба на-
сущного”.. . Он надеялся, что справка о защите как чудесный талис-
ман, откроет ему врата науки и, к сожалению, не ошибся.
Так М.А. Лифшиц в течение ряда лет числился кандидатом наук,
не будучи утвержденным в ученой степени, незаконно получая зар-
’ Гуковский Г.А., впоследствии репрессированный. Дру-
гим оппонентом был Жирмунский (прим. мое.—В.А.)
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
326
плату кандидата, обманывая таким образом партию и государство.
Моральный облик его достаточно ясен.
Каков же “научный” багаж этого “ученого”?
В довоенные годы Лифшиц состоял в кружке эстетствующих кос-
мополитов, группировавшихся вокруг журнала “Литературный кри-
тик”; этот журнал, как известно, прекратил свое существование неза-
долго до войны. Лифшиц шумно рекламировал себя в качестве специ-
алиста по марксистской эстетике и даже пытался читать курс лекций
в Институте истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевско-
го. Но там этого “ученого” быстро раскусили, и его лекции были пре-
кращены. Об одной из “теорий”, которую проповедовал тогда Лифшиц,
упомянуто в статье Генерального секретаря Союза советских писате-
лей А.А. Фадеева в “Литературной газете” от 28. III. с.г [1953 г. —В. А. ].
Говоря о порочном произведении В. Гроссмана “За правое дело” и
о лежащей в его основе реакционной “теории круговорота”, А.А. Фа-
деев указывает, что именно эту враждебную «теорию» проповедовал
М.А. Лифшиц: “Следует вспомнить, например, некоторые литера-
турные дискуссии 1939-1940 г.г. и разоблаченные тогда же высказы-
вания М. Лифшица в журнале «Литературный критик» о «Вечных
категориях действительности», о теории «круговорота». Для под-
тверждения теории круговорота Лифшиц ссылался на Вико, на Ге-
раклита, на Экклезиаста. Но он умалчивал, что эту реакционную
идею в наше время поднял на щит—и не случайно — один из идео-
логов загнивающего капитализма Шпенглер”.
Вот такие “теории” проповедовал самозваный кандидат наук, ко-
торому из-за ротозейства (или покровительства?) некоторых работ-
ников, было доверено философское образование аспирантов Акаде-
мии наук... Руководству Президиума АН СССР и партийному бюро
следует—и как можно скорее—воздать должное не только канди-
дату-самозванцу, но и тем, что вольно или невольно содействовал
ему в обмане партии и государства.
“Зет”».
Из заявления Мих. Лифшица в бюро парторганизации Отде-
ла аспирантуры АН СССР:
«За время моей болезни в стенных газетах Института философии
и Президиума Академии Наук появились две анонимные статьи (за
Документальное приложение:
’ «Такие чудеса бывают иногда в области философии» 327
подписью «Рядовой Работник» и «Зет»), направленные против меня
и содержащие вымышленные обвинения. (...)
.. .Мне уже в 1949 году пришлось услышать обвинения типа: «ди-
версионная работа», «грязная, мутная, подлая философия», «идео-
лог буржуазного декаданса» и похуже (цитирую слова Астахова по
стенограмме). Разумеется, ничего из этих обвинений не вышло1. Но
в начале 1953 года группа Васильева сочла удобным возобновить
свою атаку. Тов. Белов начинал свои речи с «врачей-убийц» и окан-
чивал их мною. Статьи в стенгазетах — образец деятельности т. Бе-
лова и его соратников. (...)
Единственное обвинение анонимных авторов, имеющее хотя бы
внешнюю связь с реальностью, это пункт об отсутствии диплома. Но
и здесь нет ничего, кроме неудачной для меня случайности, и толь-
ко особым отношением можно объяснить попытку наших дипломи-
рованных философов во главе с т. Васильевым раздуть это «дело».
Моя вина состоит в том, что я еще в тридцатых годах халатно от-
несся к оформлению своего положения в научной области посред-
ством известных необходимых бумаг, которые были тогда только что
введены. За это легкомыслие и беззаботность по отношению к своим
и чужим делам я был весьма жестоко наказан в последующие годы.
В 1944 году во время моей работы в Главном Политуправлении
ВМФ я впервые столкнулся с настоятельной необходимостью иметь
научную степень и с этой целью обратился в Институт философии.
Дирекция Института сочла вполне естественным, что мне нужно
защитить докторскую диссертацию и ВАК по письму Института дал
на это разрешение. Моя рукопись была прочтена, одобрена и постав-
лена на защиту, причем уже было даже объявление в газетах. Защи-
та не состоялась только потому, что в это время произошла смена
руководства в Институте
Пришедший на смену т. П. Юдину т. Светлов положил это дело
под сукно. Такие чудеса бывают иногда в области философии. (...).
Между тем, я по службе был направлен в Ленинград. Здесь я
встретился с покойным Лебедевым-Полянским, директором Пуш-
кинского дома. Он посоветовал мне защитить диссертацию как фи-
лологическую в его Институте. Следуя этому совету, я внес необхо-
1 Если не считать исключения Лифшица из МГМО — В. А.
Литературная дискуссия I939-I94O гг.
как поворотный пункт ...
328
димые изменения и передал рукопись в Ленинградский институт ли-
тературы (Пушкинский дом). Но здесь начались препятствия со сто-
роны того именно Плоткина, который, по утверждению стенной
газеты, организовал мне триумфальную защиту.
Дело в том, что в области литературы у меня сохранилось много
противников, задетых моей активной полемической работой против
вульгарной социологии и других антимарксистских течений. Поэто-
му особой дружественности со стороны ленинградских научных ра-
ботников я ожидать не мог. С самим Плоткиным (ныне профессо-
ром Ленинградского Университета) я до 1944 года вообще не был
знаком. Дело о чтении моей рукописи тянулось года три или четы-
ре, так что, когда, наконец, было принято решение о защите, я уже
был демобилизован и находился в Москве. Кстати говоря, в это вре-
мя я состоял преподавателем Отдела аспирантуры, так что история
о том, как я явился и представил справку о защите (см. статью «Зет»)
есть художественный вымысел.
Защита моей диссертации как кандидатской состоялась в июне
1948 года. К назначению оппонентов я никакого отношения не имел,
а с упомянутым «профессором Г.» до дня защиты вообще не был зна-
ком. Отзыв его я услышал только на защите и, кстати говоря, этот
отзыв был наименее доброжелательным из всех трех. Вообще, в отзы-
вах оппонентов было ясно выражено их несогласие со мной по лите-
ратурным вопросам, а если они признавали мое бесспорное право на
получение звания кандидата наук и даже высказывали сожаление о
том, что диссертация не обсуждается как докторская, то это—сужде-
ние вполне объективное, лишенное каких-либо дружеских соображе-
ний, ибо о них в данном случае не могло быть и речи. Семнадцать
членов Ученого совета не в первый раз в жизни слышали обо мне,
поэтому их единодушное голосование не нуждается в каких-нибудь
объяснениях. Мне же на старости лет было бы совестно устраивать се-
бе «триумфальную защиту» кандидатской диссертации. Я, наоборот,
стремился к тому, чтобы это по возможности не бросалось в глаза. (...).
Если я в течение пяти лет не интересовался вопросом о получе-
нии диплома, взамен выписки, то это подчеркивает мою халатность.
Но подозрительного в этом ничего нет. Свой аттестат доцента я
получил спустя семь лет после утверждения. Чтение моей диссерта-
ции в Пушкинском доме тянулось три или четыре года. Не получая
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 329
никаких известий о получении диплома я полагал, что эта затяжка
связана с какими-нибудь неблагожелательными действиями со сто-
роны моих старых литературных противников, которые меня нена-
видят не меньше, чем тт. Васильев с Беловым и Федоровой. (...)
Авторы анонимных статей сообщают, что я преподавал в Акаде-
мии, не имея даже высшего образования. Наконец-то жулик выяв-
лен, обнаружен! (...). О том, что я не получил законченного высше-
го образования, я пишу в каждой моей анкете и не вижу причины
стесняться этого факта. Дело не в дипломах, а в существе работы.
Чаще встречается другой случай, когда люди формально имеют об-
разование, но не имеют знаний и не способны ни к преподаватель-
ской, ни к научной работе.
Как получилось, что у меня нет законченного высшего образо-
вания? В молодые годы в 1923-1924 гг. я учился в Высшем Художест-
венном Институте (ВХУТЕМАС. — В.А.) в Москве. Так как я прини-
мал активное участие в борьбе против формализма преподавателей,
мне вскоре стало невозможно продолжать художественное образо-
вание. Между тем студенческие организации поручили мне вести
занятия по диалектическому материализму, сначала в обществен-
ном порядке, а потом и в служебном. Так я стал преподавателем
диалектического материализма, официально с i марта 1925 года.
Еще живы люди, которые могут подтвердить, что именно таково
было начало моей преподавательской работы (...).
Авторы статей сосредоточили свое внимание на вопросе о дипло-
мах. Я прошу партийную организацию, следуя традициям лениниз-
ма, сосредоточить внимание на качестве и содержании моей работы.
По поводу утверждения, что я «отсиживаюсь на бюллетене», а
также по поводу поездки одного из сотрудников Отдела аспиранту-
ры в поликлинику с целью оказать давление на врачей, я не могу
сказать ничего — эти слова и поступки сами говорят за себя (...).
М. Лифшиц. VI1953 г.»
«В ВАК Министерства культуры СССР
Заявление
В июне 1948 года в Ленинградском Институте литературы АН СССР
мною была защищена кандидатская диссертация на тему «Карл Маркс
и вопросы истории литературы». Решение Ученого Совета принято
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
330
единогласно. Так как я возвращался в Москву, мне был дан экземпляр
диссертации для передачи в ВАК. Документы по защите были присла-
ны на мой адрес заказным письмом позднее—в декабре 1948 г. В том
же месяце или в январе 1949 г. я через члена моей семьи М.А. Рейн-
гардт передал папку с диссертацией и документами в ВАК.
Видимо, этот материал затерян, так как никаких следов в ВАК
обнаружить не удалось. Каким образом это могло произойти, мне
непонятно, но поскольку это произошло, я обращаюсь в ВАК с прось-
бой запросить в Ленинградском Институте литературы копии всех
документов по моей защите. Второй экземпляр диссертации нахо-
дится у меня, и я могу его представить в любое время.
М. Лифшиц. 9 апреля 1953 г.»
«Министру Высшего Образования СССР тов. В.П. Елютину.
Глубокоуважаемый товарищ министр!
В январе с.г. я обратился к Вам с жалобой на незаконные дей-
ствия работников аппарата ВАК по отношению к моей кандидатской
диссертации «Карл Маркс и вопросы истории литературы», защи-
щенной в Институте литературы АН СССР (Пушкинском доме) в
1948 г.
Не буду повторять подробности, имеющиеся в тексте моего пер-
вого заявления. Я просил, чтобы защищенная мною диссертация
была, наконец, подвергнута объективному рецензированию и рас-
смотрению в экспертной комиссии на основе советской законности.
Мне также пришлось жаловаться на произвол и необъективное от-
ношение со стороны отдельных работников ВАК, действующих под
влиянием заинтересованных лиц.
В феврале с.г. старший инспектор Лукин заявлял мне, что жало-
ба принята во внимание и что диссертация передана на рассмотре-
ние в экспертную комиссию. От того же Лукина я узнал, что она
дважды посылалась на отзыв квалифицированным рецензентам.
Следовало ожидать, что на основании этих отзывов дело будет
решено ВАК в ту или другую сторону. Между тем, в настоящее время
заменивший ушедшего в отпуск Лукина т. Маслов заявил мне, что в
ВАК принято решение вернуть мою диссертацию в Пушкинский дом
без рассмотрения, так как якобы у ВАК нет уверенности в том, что
диссертация идентична с той, которая была защищена в 1948 году.
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 331
Из этого нового бюрократического хода, достойного чиновников
Щедрина и Сухово-Кобылина, а не работников советского аппара-
та, ясно, что отзывы рецензентов говорят в мою пользу. Вот поче-
му, после длительной волокиты и даже после нормального рассмот-
рения в экспертной комиссии изобретается новая версия о «неиден-
тичности».
По сообщению т. Маслова основанием для отклонения диссер-
тации является справка ленинградского Пушкинского дома, из ко-
торой, якобы, следует, что Институт не может гарантировать иден-
тичности текста диссертации. В таком случае непонятно, чем руко-
водствовался этот Институт, посылая мою работу в ВАК в 1954 году,
если у него были такие сомнения?
Не трудно понять, какими методами добились заинтересован-
ные лица нужной им справки. Еще в 1953 году в Ленинград ездил
некий Белов (небезызвестный Ученому Секретарю ВАК т. Горшко-
ву). В 1954 году другие лица всячески пытались воздействовать по
телефону на зам. директора Пушкинского дома М.Н. Алексеева. Та-
кие методы действия мне хорошо знакомы. Трудно забыть, как зи-
мой 1953 года, в то время, как я лежал с тяжелым приступом стено-
кардии, Цыганов и К° пытались пугать врачей, требуя от них, что-
бы они признали меня здоровым. Нет никакого сомнения в том, что
справка Пушкинского дома, если она существует, добыта путем вся-
ческого нажима, в том числе и через ВАК.
В какой же роли выступает здесь сам аппарат ВАК, который вче-
ра передал дело на рассмотрение экспертной комиссии, а сегодня
после того, как выяснилось, что дело близится к окончательному
решению, предпринимает новые обходные маневры, чтобы без кон-
ца затягивать волокиту?
Слишком очевидно, что в этом деле не все в порядке, что здесь
действует чья-то злая воля. В 1953 году, в период печальной памяти
«врачей-отравителей», группа лиц, устраивавших в это время всякие
темные дела, организовала в стенных газетах Института Философии
и Президиума АН появление недостойных статей, в которых меня
обливали грязью, обвиняли в космополитизме, незаконном присво-
ении степени и т.п. Все это сопровождалось грязными намеками и
оскорблениями. С тех пор прошло два года. Ошибки, возникшие в
атмосфере дела врачей, повсюду исправлены. Но, видимо, Белов,
Литературная дискуссия I939_i94o гг.
как поворотный пункт ...
332
Цыганов и К° имеют сильное влияние на некоторых работников
ВАК, если мне до сих пор не удается прекратить явное беззаконие.
При желании разобраться вздорная версия о «неидентичности»
отпадает сама собой. В деле ВАК имеются отзывы оппонентов. Преж-
де всего можно проверить, совпадают ли страницы, указанные в от-
зывах, с текстом диссертации. Во-вторых, оппоненты—чл.-кор. АН
СССР В.М. Жирмунский и проф. Плоткин могут подтвердить, что ру-
копись, представленная в ВАК, есть та же самая диссертация, кото-
рую они читали. Наконец, существует криминологическая экспер-
тиза, дающая точные указания на время, когда печаталась рукопись.
Правда, смешно прибегать к подобным средствам по отношению к
известной и напечатанной научной работе. Книга моя дважды на-
печатана в СССР. Я мог бы также представить тексты английского
и итальянского переводов. Прибавленный в рукописи большой на-
учный аппарат никоим образом не мог ухудшить ее по сравнению
с печатным текстом.
Имеющиеся в диссертации исправления от руки сделаны мною
после известного решения о третьем томе «Истории философии» в
1944 году. Я удалил такие выражения, как «классическая немецкая
философия», «великий немецкий философ Гегель» и т.п., а также не-
сколько сократил количество немецких источников. Каждому изве-
стно, что в настоящее время всё это можно было бы восстановить.
Делать это незачем, ибо оппоненты читали именно исправленный
экземпляр и в таком виде рукопись была поставлена на защиту в
1948 году. Может быть, она имеет недостаточно чистый вид, но в то
время требования к внешнему оформлению не были столь строги-
ми. Ученый Совет обсуждал не работу машинистки, а мой научный
труд, и на основании этого мне и была единогласно присуждена
степень кандидата наук.
По отношению к напечатанной работе все рассуждения о «не-
идентичности» не имеют никакого смысла. Что хотят сказать этими
рассуждениями? Что я исправил свою работу, сделал ее лучше пос-
ле защиты? Это неправда, исправления сделаны раньше. Но если бы
даже они были сделаны после защиты, что из этого? Является ли это
основанием для отклонения? Наконец, я согласен восстановить фра-
зы, вычеркнутые в 1944 году по тексту печатного издания. Если бы
в ВАК действительно хотели разобраться, можно было вызвать меня
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 333
и проверить, на основании печатного текста работы, все, что пока-
залось кому-нибудь «неидентичным».
Ясно, что дело здесь не в «идентичности», а в желании во что бы
то ни стало найти повод для отклонения диссертации, чтобы оправ-
дать недостойную кампанию начала 1953 года.
Дело это уже слишком хорошо известно в Москве и Ленинграде и,
можно сказать, приобретает скандальный характер. Думаю, что, при
всех возможных разногласиях по тем или другим литературным воп-
росам, наша научная общественность полностью на моей стороне. И
она имеет для этого некоторые основания. Работа, за которую Ученый
совет Пушкинского дома присудил мне степень кандидата наук, сыг-
рала свою небольшую роль в нашем общем коммунистическом деле.
Сошлюсь на свидетелей, недоступных какому-нибудь влиянию с
моей стороны. Я имею в виду голос мировой прогрессивной печати.
В предисловии к изданию моей работы на английском языке
говорится: «Занимаясь этим вопросом, он решил объединить экс-
церпты в систематическое целое —другими словами, обобщить раз-
личные высказывания Маркса и Энгельса о литературе и искусстве
в рамках марксистской философии. Результатом этого огромного
труда был предлагаемый вниманию читателя неоценимый вклад,
который, без сомнения, далеко превосходит все предшествующие
попытки в этом направлении бесчисленных авторов».
В рецензии американского коммунистического журнала «Нью
Мэссис» (1938 г.) сказано: «Это наиболее компетентный и подроб-
ный разбор воззрений Маркса на философию искусства». В том же
духе и в таких же положительных выражениях оценивает мою рабо-
ту один из друзей Советского Союза Джон Соммервил в своей книге
«Советская философия» (1948), где вообще изложению моих печат-
ных работ уделено много места. Я позволю себе, наконец, привес-
ти выдеожку из письма ко мне английского прогрессивного учено-
го Ф.Д. Клингендера, переданного через ВОКС. Оно начинается сло-
вами: «Будучи английским историком искусства, я уже давно знаком
с Вашими трудами. Конечно, в той мере, в какой Ваши работы были
переведены на английский язык; особенно Ваша чудесная книга о
марксовой философии искусства. Я всегда стремился к тому, чтобы
познакомиться с Вами лично, узнать побольше о Вашей работе и ста-
рался ознакомить с Вашими трудами более широкие круги Англии».
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
334
При желании можно было бы присоединить к этому ряд других
положительных отзывов немецких, французских, итальянских и
прочих авторов. Но и без того видно, что моей скромной работой я
не принес бесчестия социалистической Родине.
Не сомневаюсь в том, что правда в Советской стране восторже-
ствует. Бесконечная волокита—это все, чего могут добиться изоб-
ретатели всяких каверз и ухищрений. Вот почему я вторично обра-
щаюсь к Вам, товарищ министр, с просьбой запретить им плести
свою паутину вокруг ясного и справедливого дела, чтобы о моей ра-
боте, в атмосфере законности, могли вынести свое решение ученые-
специалисты.
Прошу Вас дать указание о том, чтобы рассмотрение моей дис-
сертации в экспертной комиссии было закончено, на основании
имеющихся отзывов, до наступления отпускного времени. Срок для
принятия решения был слишком достаточный.
Прошу Вас дать указание о выдаче мне копий отзывов для озна-
комления, если это (как я слышал) допускается практикой ВАК.
М.А. Лифшиц
Лаврушинский пер. ю, кв. io. В. 1-95-36. д. 24.»
Из отзыва член-корр. АН СССР Жирмунского:
«В целом я считаю, что данная работа М.А. Лифшица, как и вся
его предшествующая деятельность как выдающегося, высокообра-
зованного и талантливого ученого и критика, делают совершенно
бесспорным его право на искомую им ученую степень кандидата фи-
лологических наук»
«Секретарю Ленинского РК КПСС г. Москвы
тов. С.Д. Орлову
Объяснение
I. По поводу моей статьи «Дневник Мариэтты Шагинян» («Но-
вый мир», № 2 за 1954 г.) могу сказать следующее:
В декабре 1954 г. на совещании редакторов газет при ЦК КПСС
были даны специальные указания о недопустимости искажения жиз-
ни, поверхностного отношения к фактам советской действительно-
сти и пустого фразерства в печати. Руководствуясь этими указани-
ями, я критиковал подобные недостатки в книге Мариэтты Шагинян
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 335
«Дневник писателя». Другой вопрос—удалось ли мне правильно
выполнить поставленную задачу.
Факты, изложенные в моей статье, подтвердились. Даже тов. Сур-
ков должен был признать в печати, что они «неотразимы». Эти фак-
ты показывают, что писательница, захваленная критиками, потеря-
ла чувство ответственности перед народом, перед читающей публи-
кой. Я привел в статье только небольшую часть имеющихся в ее
книге грубых фактических и не только фактических ошибок. При
этом в моей статье нет ни одного резкого слова и так называемого
«приклеивания ярлыков». Я не делаю автору никаких политических
упреков, даже там, где это, возможно, следует сделать.
Советский народ прекрасно понимает, что халтура приносит гро-
мадный вред в любой области жизни — будь то ремонт домов, науч-
ная работа или художественное творчество. Может быть я ошибаюсь,
но мне кажется, что бороться с халтурой нужно беспощадно, что это-
го требует напряженность нашего соревнования с капитализмом,
мирного, а в иных случаях и военного. Так как литературу нельзя
отделить от других областей жизни, вполне естественно, что вопрос
о критике литературной халтуры волнует широкую массу читателей.
Вот почему я не могу согласиться с обвинением, имеющимся в
решении Президиума Союза Писателей, будто моя статья «направле-
на против стремления писателя [вторгаться] в жизнь». Она направ-
лена против вторжения халтуры в жизнь.
Другое обвинение заключается в том, что статья написана в не-
допустимом тоне насмешки над Мариэттой Шагинян. Об этом не
мне судить. Возможно, что статья действительно получилась оскор-
бительной для Шагинян, хотя личного желания оскорбить ее у меня
не было. Поскольку печать указывала на недопустимость тона моей
статьи, я должен принять эту критику, учту ее в своей работе и при-
ложу все старания к тому, чтобы в дальнейшем подобных недостат-
ков не допускать.
Заявлений я никуда не писал, думая, что такая практика никакой
пользы не принесет. Я высказал свою точку зрения на книгу М. Ша-
гинян. Моя статья, в свою очередь, подверглась критике. Из этих
печатных материалов можно сделать все необходимые выводы
Что касается оргвыводов, сделанных по отношению ко мне парт-
организацией Президиума АН СССР, то думаю, что эти выводы про-
Литературная дискуссия I939-I94O гг.
как поворотный пункт ...
ззб
тиворечат имеющимся партийным указаниям. Никакая критика не
сможет развиваться, если за критику литературных произведений
будут исключать из партии'.
2. По делу о моей диссертации я летом 1953 г. дал в письменном
виде все необходимые объяснения парторганизации Президиума
АН. (...). Нынешнее решение парторганизации об исключении меня
из партии мотивировано тем, что я, будто бы, скрыл от ВАК свою
диссертацию. Если так, то диссертация была неудовлетворительная
или порочная. Обвиняя меня, парторганизация исходит из этого
предположения, но в то же время отклоняет оценку работы по суще-
ству какие имеющую отношения к делу. Это непоследовательно или
несправедливо. Мне кажется, что нельзя оставлять такие вопросы в
неясном виде (.. ,)1 2».
Министерство высшего образования
Высшая аттестационная комиссия
27 мая 1954 года
№ А-52
Тов. Лифшицу М.А.
Копия: Зам. директора Института русской литературы (Пушкин-
ский дом) АН СССР член.-корр. АН СССР М.П. Алексееву
18.V. 1954 г. президиум ВАК, ознакомившись с представленными
Вами документами о защите диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата филологических наук в совете Института русской
литературы (Пушкинский дом) АН СССР, не нашел оснований для
решения вопроса об утверждении Вас в ученой степени кандидата
филологических наук ввиду отсутствия в ВАКе материалов защиты
и соответствующего представления со стороны совета института.
Ввиду изложенного Вам возвращаются документы, представлен-
ные в ВАК.
Заместитель Председателя Высшей аттестационной комиссии
Академик (подпись) А. Благонравов
1 Принятое парторганизацией решение об исключении
Мих. Лифшица из партии было заменено строгим партий-
ным выговором с предупреждением—В. А.
2 Документ без подписи и даты, но есть основания предпо-
лагать, что он был написан во второй половине 1954 года.
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 337
Из докладной записки М. Лифшица В.М. Молотову:
« I. Я позволю себе обратиться к Вам, т.к. эта докладная записка
является жалобой на поступки лиц, облеченных доверием.
(...) вопрос о критике литературной халтуры волнует широкую
массу читателей. Эта назревшая потребность находится в противо-
речии с практикой огромной ведомственной машины Союза писа-
телей. Словесных деклараций о борьбе мнений и свободе дискуссий
здесь не мало, но они никому не нужны, а на деле каждое правди-
вое критическое слово, высказанное в самой умеренной форме, за-
глушается. (...) Только этим можно объяснить тот факт, что «Лите-
ратурная газета» горой встала на защиту вздорной книги М. Шаги-
нян, выступив против меня с грубейшей, бездоказательной статьей
Б. Агапова, наполненной всякими политическими инсинуациями и
ругательствами типа: «сноб», «интеллектуал», «кабинетная тюря» и
т.п. По инициативе А. Суркова моя статья была упомянута в резолю-
ции открытого партийного собрания московских писателей от io-
II июня с.г., как противоречащая социалистическому реализму.
Такое же фантастическое обвинение содержится в крикливой ста-
тье Н. Лесючевского «За чистоту марксистско-ленинских принципов
в литературе» (Литературная газета, 24 июня с.г. и т.д.). Наконец, на
основании указанной резолюции в журнале «Коммунист» (№ 9, стр.
25) моя статья объявлена «рецидивом антимарксистской эстетики»,
отнесена к «порочной линии журнала «Новый мир», ориентирую-
щей нашу критику в сторону субъективного идеализма и эстетизма»
и к «выпадам против идеологических основ в советской литературе».
(...) Говорят, что кампания, поднятая тов. Сурковым, необходима
для того, чтобы очистить нашу литературу от нездоровых явлений
типа пьесы Зорина «Гости». Да, нездоровые явления действительно
существуют... (...) Очень печально, но кто же виноват в этих нездо-
ровых явлениях? Мне кажется, виноваты те руководители художе-
ственной жизни, которые своими неуклюжими административны-
ми жестами, грубой поддержкой монополии некоторых стоящих вне
критики художников и скульпторов, зажимом всякой критики вооб-
ще создали такое положение, при котором в наших здоровых обще-
ственных условиях здоровая потребность в творческом слове может
принять такие уродливые формы. (...) Это — нездоровая реакция на
монополию Александра Герасимова, на чрезмерную крикливость в
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
338
борьбе против формализма, словом на все, что создало из него «зап-
ретный плод». (...)
2. Я начал с личной жалобы, прошу разрешения к ней вернуть-
ся. Если можно безнаказанно лгать в печати, как лгут Агаповы, Ас-
таховы, Лесючевские, то можно также создавать персональные «де-
ла».. .(...) Существо дела состоит в том, что ВАК потерял мое дело и
экземпляр диссертации. (...) После долгой борьбы партийное бюро
Президиума АН СССР согласилось направить материалы о моей кан-
дидатской степени в ВАК для проверки и оформления. ВАК принял
материалы, продержал их около восьми месяцев, но как только на-
чались нападки на мою статью о Шагинян в «Литературной газете»,
вернул мне документы с ничего не говорящей формальной отпис-
кой, которая может быть принята за глумление. Мне хорошо извес-
тно, что это решение ВАК было подготовлено закулисными интри-
гами и необъективным отношением ряда лиц (...)»'.
«В бюро партийной организации
Института истории АН СССР
Заявление
Прошу бюро парторганизации Института истории поддержать
мою просьбу об отмене взыскания, вынесенного мне решением Ле-
нинского РК г. Москвы io. XII. 1954 года: «Строгий выговор с предуп-
реждением за обман государственных и партийных организаций
при оформлении кандидатской диссертации».
В настоящее время полностью доказано, что я не обманывал
государственные и партийные организации, а действительно был на
законном основании кандидатом наук и продолжаю им быть. (...).
Все это можно было легко выяснить, но рассмотрение моего дела
в ВАК искусственно задерживалось в течение двух лет [после подачи
Мих. Лифшицем в 1953 году заявления в ВАК— см. выше. —В. А. ] под
влиянием заинтересованных лиц. Только после письма министру груп-
1 Неизвестно, была ли отправлена адресату эта докладная
записка, написанная в 1954 году, — очевидно только то,
что она не помешала вынесению Лифшицу партийных и
административных взысканий, о чем, в частности, свиде-
тельствует публикуемый ниже документ 1956 года.
Документальное приложение:
«Такие чудеса бывают иногда в области философии» 339
пы видных ученых-филологов1 работники ВАК вынуждены были пере-
дать дело на рассмотрение экспертной комиссии, которая направила
мою работу двум рецензентам и, получив от них безусловно положи-
тельные отзывы, признала мою кандидатскую степень законной. (...)
М. Лифшиц 27 января 1956 г.»
В завершение этой истории следует сказать, что Мих. Лифшиц
все-таки защитил докторскую диссертацию по философии в начале
70-х годов. Отзыв на эту диссертацию Э.В. Ильенкова начинается
следующими словами:
«Книга “Карл Маркс. Искусство и общественный идеал”, пред-
ставленная на рассмотрение Ученого Совета Института философии,
отличается идейными, научными и литературными достоинствами
настолько бесспорными, что продолжительное обсуждение вопро-
са о присвоении ее автору ученой степени доктора философских на-
ук могло бы вызвать, как мне кажется, только чувство недоумения.
Я лично как оппонент испытываю просто неловкость, будучи вынуж-
денным доказывать и обосновывать то, что давно уже ни в каких
доказательствах и обоснованиях не нуждается. Основное содержа-
ние книги давно уже выдержало защиту перед строгим судом очень
серьезного времени, и мне как оппоненту остается только конста-
тировать этот факт»1 2.
Из вступительного слова Мих. Лифшица при защите им доктор-
ской диссертации:
«(...) объективный характер марксизма как науки нельзя отделять
от его абсолютного содержания (...). Сама объективная действи-
тельность материального мира не безразлична к истине и лжи, доб-
ру и злу, красоте и безобразию. Объективное и субъективное, факты
и ценности едины в абсолютном начале нашей материалистической
философии и мы черпаем, должны черпать нашу волю к борьбе,
1В папке «Дело о диссертации и далее. 1944 г., 1949-1956 гг.»
архива Мих. Лифшица, к сожалению, нет этого письма и
не содержатся имена его авторов — «видных ученых фи-
, лологов».
2 В основе книги Лифшица, представленной на защиту в
70-е годы, лежал текст, изданный в 1935 году.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
340
нашу партийную позицию из этого реального источника, не навя-
зывая действительности свое условное субъективное «видение».
(...). Возьмем вопросы эстетики, которым посвящена моя кни-
га. В «Капитале» Маркс говорит, что всякий товар отличается покор-
ностью — кто его купил, за тем он и следует. К этому можно было бы
прибавить, в духе самого Маркса, что товары, особенно товары осо-
бого рода, обладают также мстительностью. Так, например, тот, кто
купил любовь, честь, поэзию и уводит купленный товар за собой,
имеет в сущности вовсе не то, что он купил. Ибо проданная любовь
и купленное искусство — это не любовь и не искусство, хотя фор-
мально они остаются в своем статусе. Таким же образом вся чело-
веческая культура, поскольку она следует за подчинившим ее сво-
ей воле, посредством денег или насилия, классовым меньшинством,
переживает внутреннюю деградацию. Прогресс превращается в свою
противоположность. Цивилизация вступает в полосу кризиса, мас-
са ложных потребностей создает эфемерную жизнь, как мы это ви-
дим в зеркале современной западной литературы, часто критичес-
кой по отношению к условиям своего существования.
Рассматривая всемирную историю с этой точки зрения, мы мо-
жем сказать, что исторический материализм не имеет надобности
заимствовать у религии веру в справедливость. История сама жес-
токой рукой, методом проб и ошибок учит народы тому, что зако-
ны ее не просто законы силы и фактического преобладания. (...).
Следуя этому убеждению, я стремился показать необходимость
этой стороны мировоззрения Карла Маркса в противовес другому
пониманию продуктов духовного творчества, которое видит в них
только внешние формальные средства дая достижения определенных
целей, например, знаки, символы для передачи и внушения нужных
идей или, как теперь говорят—«информации», независимо от того,
является она истинной или ложной. В этом мое решительное рас-
хождение и с абстрактным марксизмом, так называемой вульгарной
социологией двадцатых-тридцатых годов и с формализмом тех лет
или структурализмом современности. Все эти взгляды лежат в одной
общей плоскости, они исходят из убеждения в том, что сознание
людей есть область силы, организации, техники, целесообразности,
формальных приемов, условных знаков и социальных эмблем, а не
истины содержания и правды ее формального выражения».
341
Справедлива ли история?
Ответ Мих. Лифшица на этот вопрос, данный им в
архивных заметках о Георге Лукаче, отличается от строк, приведен-
ных выше, из его вступительного слова при защите докторской дис-
сертации. Вот этот ответ: «Алкей: Молчи, сердце... Что он думал?
Может быть, [что] история справедлива? Ведь когда-нибудь вспом-
нят и нас (Сафо). А, может быть, как солдат, зная, что его не вспом-
нят- подите прочь к вашим обезьянам-Питахам, а я унесу все свое
с собой? Справедлива ли история? Анатоль Франс. Но ... Она спра-
ведлива тем, что сознает свою несправедливость»'.
Пожалуй, последние слова больше соответствуют реальности на-
чавшегося XXI века, чем те, что были сказаны на защите диссерта-
ции в восьмидесятые годы века минувшего. В том числе истории
жизни самого Мих. Лифшица. Успешная защита работы почти через
сорок лет после ее написания и издания — на фоне тех, которые за-
щищались, даже по сути дела не будучи написанными их авторами,
а попросту украденными—едва ли может пробудить у читателя веру
в объективную справедливость, которая свойственна, как утверждал
Лифшиц на протяжении своей жизни, ходу вещей. Но это далеко не
самая горькая страница в жизни Мих. Лифшица. Годы вынужденно-
го безмолвия, случайных заработков, фактической, как у Андрея
Платонова, безработицы — результат победы Фадеева и Ермилова
над «течением» в конце тридцатых годов. «Они [противники «тече-
ния»—В. А.] своего добились. Но, с другой стороны, мне кажется,
нужно благодарить их за это, ибо все противоречиво на этом свете»2.
Мих. Лифшиц, очевидно, не знал о письме А. Фадеева и В. Кирпоти-
на, адресованного Сталину, в котором излагались «антимарксист-
ские» взгляды и грехи «течения». И все же он имел основания ду-
мать, что поражение «течения» в какой-то мере «послужило к мое-
му и моих друзей спасению от гибели»3, ибо, по мнению Лифшица,
«если бы не преждевременная победа литературных сикофантов в
' Лифшиц Мих. Лукач // Вопросы философии, 2002, № и.
С. 106-107.
2 Там же. С. 109.
3 Там же.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
342
1940 году, очень может быть, что я по молодости лет и в силу слабо-
сти человеческой позволил бы себе подняться над средним уровнем
в организационном отношении, стать более (...) тому (...) закону
Анаксимандра, закону «дике», особо неумолимо действующему, как
показал опыт последней смены элит, в революционные эпохи»1.
Не только безвестные Беловы, Васильевы, Федоровы, но и более
именитые Лесючевские, Астаховы, Агаповы, Ермиловы, Кирпотины,
как и другие неутомимые недоброжелатели Лифшица, включая лау-
реата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда академи-
ка-секретаря Отделения литературы и языка АН СССР М. Храпченко,
ушли, говоря словами Воланда, «в небытие». Впрочем, что из того?
В романе Булгакова мастер со своей возлюбленной обретают успо-
коение в вечном молчании, в царстве Воланда. А где же истинное
бытие, которое искала классическая философская мысль, начиная
с Парменида и Платона? Если оно—миф, красивая сказка, то рушит-
ся не только философия Мих. Лифшица, защищаемый им марксизм
с его «абсолютным содержанием», но вся классическая традиция,
как в философии, так и в искусстве, а если взять шире, то и в поли-
тике, в самой жизни.
В июне 2002 г. в Государственном Институте искусствознания (в
г. Москве, в Козицком пер.) состоялась солидная научная конферен-
ция на тему о циклах в истории и искусстве, на которой было пред-
ставлено большое количество докладов современных российских
философов и эстетиков. В докладе (как и в опубликованном тексте
его1 2), посвященном спорам вокруг теории круговорота Дж. Вико в
российской науке, автор ни словом не обмолвился о Мих. Лифши-
це. На вопрос автора этих строк о причине неупоминания имени
человека, опубликовавшего книгу Вико «Основания Новой науки...»
со своим предисловием в 1940 году, докладчик ответил, что не на-
шел во вступительной статье Лифшица к этому изданию ровно ни-
чего заслуживающего внимания. Этот факт, очевидно, должен сам
по себе свидетельствовать о большом прогрессе в российской науке,
1 Там же.
2 Дианова В.М. Из истории формирования в России социо-
культурных концепций циклического развития // Цикличес-
кие ритмы в истории, культуре, искусстве. М., Наука. 2004.
Справедлива ли история?
343
поскольку статья Лифшица о Дж. Вико, опубликованная в «Литкри-
тике» в 1939 году, вызывала самый пристальный интерес не только
у Ермилова, Книпович, Кирпотина, Вильяма-Вильмонта и многих-
многих других в тридцатые и сороковые годы, ее помнил в 1953 году
и А. Фадеев, доказывая, что почти через двадцать лет после своего
появления статья продолжает оказывать вредное действие на совет-
скую литературу (напомню, что речь шла о романе В. Гроссмана1).
Наука есть наука, для нее важно только существо дела, поэтому
автор доклада о рецепции теории круговорота Дж. Вико в россий-
ской философии имела полное право ни словом не обмолвиться2 о
тех идеологических кампаниях и клеветнических обвинениях, ко-
торые сопровождали Лифшица на протяжении его жизни в связи с
этой злополучной статьей (впрочем, не только с нею). Сочувствен-
ное внимание присутствующих вызвал другой доклад—М.С. Кагана,
который счел приличествующим месту и времени начать свое сообще-
1 См. упоминавшуюся выше, статью А. Фадеева в Литера-
турной газете от 28.03.1953 г.
2 Вероятно, по этой же причине автор доклада о Вико В.М. Ди-
анова, приведя в своей книге «Культурология. Основные
’ концепции. Учебное пособие» (изд. С.-Петербургского уни-
верситета, 2005 г.) с почти дословной точностью ряд фраз
из моей книги, опубликованной лет 2о тому назад, не со-
чла нужным ни заковычить эти фразы, ни назвать их ав-
тора. Так, например, на с. 96 ее книги читаем: «В работе
, “Происхождение немецкой трагедии” Беньямин трактует
определенный тип изобразительности, характерный для
искусства барокко, как тип мировоззрения, выражаемого
реалистическим искусством». Открыв мою книгу «Миф о
смерти искусства» (М. 1983) на с. 68 можно прочитать: «В
“Происхождении немецкой трагедии” Беньямин трактует
определенный тип изобразительности, характерный для
упадочных тенденций в искусстве барокко, как определен-
ный тип мировоззрения, выражаемого реалистическим
искусством». Следующие 5-6 фраз на указанной странице
• книги Диановой находятся в столь же трогательном для
автора этих строк соответствии с фразами из книги «Миф
о смерти искусства» на с. 68, 69 и 78.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
344
ние о проблемах синергетики с воспоминаний о том, как Мих. Лиф-
шиц в 1974 году травил его, М.С. Кагана (в связи с книгой последнего
«Морфология искусства»), клеветал на него, писал на Кагана доносы.
Пришлось мне напомнить о том, что Лифшиц во всех своих выступ-
лениях и книге, вышедшей посмертно, «В мире эстетики», специаль-
но подчеркивал, что ни в малой степени не подвергает сомнению пра-
во М. Кагана, А. Гулыги и других персонажей его философских пам-
флетов публиковать свои работы, совсем напротив, ибо запреты и
гонения могут вызвать сочувствие, как хорошо известно, даже к яв-
ной глупости и несуразице. Эту же по сути дела мысль Лифшиц пы-
тался объяснить в своей Докладной записке Молотову от 1954 года —
ее он проповедовал на протяжении жизни, без особого, впрочем, ус-
пеха. Тогда как А. Гулыга и восемь ленинградских ученых в своем
материале, посвященном книге Лифшица, в 1985 году назвали пуб-
ликацию ее «ошибкой редакции», поскольку эта книга вредная, про-
тиворечащая решениям ЦК КПСС (см. об этом следующую главу).
Кстати говоря, Мих. Лифшиц ни в опубликованных работах, ни,
насколько я знаю, в устных выступлениях никогда не рассказывал
об истории защиты своей диссертации, о других удивительных ве-
щах и кампаниях (например, деле «космополита» Лифшица в 1949 го-
ду), которыми полна история его жизни. Очевидно, он просто от
природы отличался не только, по его собственному признанию, «ха-
латным» отношением к получению дипломов и научных степеней,
но и неумением извлечь выгоду из неприятных ситуаций, в которые
попадал. Зато этим завидным качеством были по странной иронии
судьбы в преизбытке наделены персонажи его памфлетов и крити-
ческих статей. Ни один из них не пострадал от его критики. Более
того, как правило, их служебные и прочие житейские дела значи-
тельно улучшались после нее, чего не скажешь об авторе философ-
ских памфлетов. О чем говорит этот несомненный факт? О том, что
перед нами критика в духе Лессинга — беспощадная к сути крити-
куемых идей и общественно-моральной физиономии их носителей,
но не имеющая ничего общего с идеологическими кампаниями,
организованными сверху и выгодными верхам. Победа Ермилова и
Фадеева в 1940 году была предрешена, и существо идей при этом ни-
кого серьезно не волновало. Видимость спора была маской, скрыва-
ющей за собой чисто организационную операцию. Увы, подобная
Справедлива ли история?
345
практика в сфере идей стала правилом и продолжает оставаться пра-
вилом, из которого практически нет исключений. В романе Булга-
кова конферансье Бенгальскому за привычку к постоянному вранью
оторвали голову. Лифшиц головы никому не отрывал, но к вранью
и невежеству был столь же беспощаден, как Булгаков, Вольтер, Дид-
ро, Лессинг, — вот почему ему не было и нет прощения.
Первым его персонажем был М. Храпченко (статья Лифшица
1936 года о нем под названием «Стыдливая социология» больше
никогда на русском языке не перепечатывалась), удивительная,
блестящая карьера которого в сталинские и последующие времена
хорошо известна. Кому обернулась, что называется, боком статья о
М. Шагинян—персонажу или автору этой статьи—достаточно крас-
норечиво говорят публикуемые выше материалы. Следующая ста-
тья —«В мире эстетики», посвященная творчеству видного советского
эстетика Разумного, автора многих книг и статей, появившаяся в
«Новом мире» А. Твардовского, уничтожила его как ученого в глазах
читающей публики, но не в глазах начальства. Только один М. Ка-
ган был исключением в этом списке: по словам Кагана, его хотели
исключить из партии, его хотели лишить права преподавать, изда-
вать книги. Но М. Каган, очевидно, родился под счастливой звез-
дой— ничего у Лифшица не получилось и на этот раз: книги Кага-
на и после «доноса»1 Лифшица (так Каган называет опубликованную
1 Когда я предложил М. Кагану представить доказательства
того, что Лифшицем был написан на него, М. Кагана, «до-
нос», то последний ответил, что эти доказательства вско-
ре будут представлены в новом издании его книги «О вре-
мени и о себе». Однако, когда это издание появилось в
2005 году, обещанных свидетельств и доказательств, под-
тверждающих факт «доноса», в книге М. Кагана не оказа-
лось. В своих мемуарных заметках Лифшиц писал: «Нет,
я не пишу жалобы ни на Сучкова, ни на Храпченко, ни на
Маркова, ни на других потентатов, чтобы доставить им
лишнее удовольствие почувствовать свое могущество. По-
жалуешься на них! Единственное, что я могу сделать, это
• показать им то самое, что Иван Никифорович показывал
Ивану Ивановичу...». Цит. по: Вопросы философии. 2005.
№ 7. С. i2i.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
346
в журнале «Художник» стенограмму обсуждения его книги, на кото-
рую был приглашен автор и получил полную свободу ее защищать)
публиковались, как и ранее, многотысячными тиражами, он препо-
давал и имел возможность руководить большим количеством успеш-
но получавших научные степени аспирантов и т.д. Более того, М. Ка-
ган не только сохранил, но и упрочил свою репутацию оригинально
и творчески мыслящего ученого, тогда как Лифшиц предстал в обли-
ке закоренелого догматика, к тому же далеко не безукоризненного
с моральной точки зрения. Правда, когда М.С. Каган в 1998 году из-
ложил всю эту историю в своей книге «О времени и о себе», он не
нашел ни одного примера искажения—вольного или невольного —
своей позиции и своей аргументации на почти ста страницах посвя-
щенного его персоне памфлета Лифшица «Бессистемный подход». К
сожалению, нельзя того же самого сказать о М.С. Кагане, ибо на
двух-трех страницах его книги уместилась масса сведений о Лифши-
це и его взглядах, не соответствующих действительности1.
1 Вот краткий перечень заведомо неверной информации,
содержащейся в книге М.С. Кагана «О времени, о людях,
о себе». СПб. 2005:
I. М.С. Каган пытается убедить читателя в том, что Лифшиц
якобы ставил превыше всех в живописи русских передвиж-
ников, и этот свой «изящный вкус» Лифшиц возвел в ранг
теории (с. 226 книги Кагана). Однако в лекции 1938 года
о русской иконе, прочитанной для сотрудников Третья-
ковской галереи (опубликована в журнале «Художник»,
1988 г., № 6) Лифшиц подробно доказывал, что «та форма
реализма, которая присуща XIX столетию, ... которая в
одном из крайних вариантов выражена в произведениях
Шишкина—эта концепция реализма тоже имеет свои от-
рицательные стороны и при дальнейшем развитии пере-
ходит в собственную противоположность, не в реализм, а
в самый настоящий формализм, в фальшь...», больше то-
го, продолжал Лифшиц «...в реализме XIX века наиболее
ценным является то, что не является реализмом XIX ве-
ка...» (Там же. С. 36, 37). Русскую иконуXIV-XVвеков, ран-
нюю нидерландскую живопись Лифшиц на протяжении
всей своей жизни ценил в художественном и?
Справедлива ли история?
347
начало -с. 346 отношении несравнимо выше, чем передвижни-
ков, о чем писал вполне определенно.
2. Это не помешало, однако, Кагану утверждать, что для
Лифшица «критический реализм XIX века является выс-
шим достижением художественного творчества» (с. 227).
3. Собственные живописные опыты М.А. Лифшица тоже,
вопреки утверждению М.С. Кагана (с. 226), со всей оче-
видностью свидетельствуют об ориентации на итальян-
ское Возрождение, а не на передвижников.
4. Не было у Лифшица «теории “большого реализма”» (с. 229
книги Кагана), которую ему пытались приписать недо-
бросовестные оппоненты; начиная с 30-х годов и вплоть
до наших дней Лифшиц писал о «высоком реализме» (раз-
ница существенна, как разница между большой бедой по-
павшего под трамвай — и высокой трагедией). На этот
факт я обратил внимание, обращаясь лично к М.С. Кагану,
еще в 1989 году (Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 117-118).
5. Утверждение Кагана — «до меня никто не осмеливался
открыто критиковать его взгляды на искусство» (с. 230), и
потому открытая и смелая критика Кагана вызвала «ярость»
и «месть» Лифшица, этого «инквизитора от марксизма-ле-
нинизма» (с. 247), который просто не привык к тому, что-
бы его критиковали, — не может быть объяснено незнани-
ем фактов биографии Лифшица. Об «антимарксистских»
взглядах Лифшица на искусство писала «Литературная га-
зета» и в 1935 г. (статья ведущего партийного работника
А.С. Щербакова от 10.03.1935), и в 1939-1940 гг. (целая се-
рия статей В. Ермилова, В. Кирпотина, И. Альтмана, Н. Ви-
льяма-Вильмонта и др.), и в 1953 г. (статья А. Фадеева от
28.03.1953), и в 1954-м, публикуя выступление А. Суркова на
партийном собрании московских писателей (15.04.1954),
когда к «Литературной газете» присоединился журнал «Ком-
мунист» (1954, № 9. С. 25) с теми же обвинениями против
Лифшица. В эти годы М. Каган был в том возрасте, когда
люди уже умеют читать.
6. Неверно, что Лифшиц нашел «опору», как пишет М. Ка-
ган, в работах Г. Лукача (с. 226), ибо опубликованные ма-
териалы (см., например, Вопросы философии, 2002, № 12.
С. 106) свидетельствуют о совместной разработке Лифши-
цем и Лукачем эстетики, о чем сам Лукач писал
Литературная дискуссия i939-I94° гг.
как поворотный пункт ...
348
В таком повороте дела не было ничего случайного или неожи-
данного. В1966 году Мих. Лифшиц опубликовал статью «Почему я не
модернист?», которая уничтожила его репутацию ученого и челове-
ка. Несмотря на непривычный для нашей литературы блестящий,
«вольтеровский» стиль, она была воспринята как эхо далеких времен,
как призыв к расправе над теми, кто позволил себе отклониться от
пресловутых норм социалистического реализма. Ибо Лифшиц осме-
лился критиковать Пикассо или Мейерхольда в те времена, когда
даже М. Храпченко или К. Симонов (к которому Лифшиц адресовал
письмо в 1954 году в связи с «делом М. Шагинян», но не получил под-
держки) стали, подобно купцам былых времен, действовать по прин-
ципу «много было бито, граблено, пора и богу душу молить».
И. И. Виноградов, нынешний главный редактор журнала «Конти-
тент», а тогда сотрудник «Нового мира» Твардовского, полагал, что
непонимание истинной позиции Лифшица, который в годы поздне-
го сталинского режима выступал против монополии людей типа
президента АХ СССР А. Герасимова, А. Фадеева или А. Суркова, тре-
буя в качестве обязательного условия идейной полемики свободы
для обеих спорящих сторон, в том числе и для сторонников модер-
низма, —это непонимание вызвано недоразумением. «В частичное
оправдание его оппонентов я не соглашусь, — писал Виноградов, —
пожалуй, здесь с Мих. Лифшицем лишь в том, что это были “оратор-
ские приемы”. Я склонен предположить, что, скорее, перед нами тот
случай, когда людям только кажется, что они понимают своего собе-
седника, но на самом деле говорят просто на другом языке и слушая—
не слышат»1. Но, как мне представляется, И. Виноградов ныне тоже
нмсио-с 3«и в l939; и в 19б? гг. философская и эстетическая
концепция Лифшица отличается от взглядов Лукача ря-
дом положений первостепенной теоретической важности.
В свете вышеизложенного свидетельство М.С. Кагана, что
при сложившихся в российской эстетике нравах плоды
всей «творческой жизни» вполне могут быть «уничтожены
под торжествующее улюлюканье хамов и невежд» (с. 253
его книги), следует принять во внимание как мнение ком-
петентного в этих делах профессионала.
' Виноградов И.И. Искусство. Истина. Реализм. М., 1975. С. 29.
Справедлива ли история?
349
не считает это «непонимание» недоразумением. Я думаю, что Лиф-
шиц и его, скажем так, оппоненты, понимали друг друга в шестиде-
сятые и семидесятые годы не хуже, чем в 1939-м, 1949-м или 1953-м.
Само собой разумеется, что «оппоненты» 1939 года (В. Ермилов,
И. Альтман, Е. Книпович и другие, собранные под единым флагом
А. Фадеевым), тт. Белов, Васильев и Федорова, тт. Астахов, Агапов
и другие не менее почтенные писатели, литературные критики и но-
сители ученых степеней сильно отличаются от М. Кагана, Г. Недоши-
вина или А. Гулыги. Хотя бы уже тем, что последние авторы — «пере-
строечники» и либералы, они, по словам М. Кагана, на протяжении
двух десятков лет, предшествующих «перестройке», каялись в сво-
их старых прегрешениях (которых было, надо сказать немало, если
вспомнить хотя бы о книге Г. Недошивина 1953 года «Очерки теории
искусства»1). Покаяние сводилось к признанию, что они, будучи еще
очень молодыми и недостаточно искушенными людьми, «воспитыва-
лись на теории “большого реализма” Лукача-Лифшица». «Мы счита-
ли тогда, — продолжает М. Каган, — что опера Шостаковича “Кате-
рина Измайлова”—это сумбур вместо музыки... .Всё это действитель-
но было с нами»1 2. Правда, теория «большого реализма»3 имела влияние
только в тридцатые годы, а после войны, с удовлетворением заме-
чает другой из обиженных Лифшицем авторов А. Гулыга, «духовное
лидерство уже не принадлежало Лифшицу и его коллегам»4.
1 Дочка Мих. Лифшица А.М. Пичикян вспоминает, что, ко-
гда в ее присутствии во время вторжения советских войск в
Чехословакию (1968 г.) Лифшицу позвонили из ЦК и пред-
ложили «откликнуться» на это событие, он ответил, что
делать этого не будет — «для этого у вас есть Недошивин».
2 См.: «Искусство», 1988, № 7. С. 29.
3 Поразительно, до какой степени люди способны повто-
рять старую клевету, даже если их уже схватили за руку,
уличив в подмене. Термин «большое искусство пролетари-
ата» принадлежит Л. Авербаху, Мих. Лифшиц всегда писал
только о «высоком реализме», отличия его, например, от
. критического реализма XIX века.
4 См. статью А. Гулыги в журнале «Литературная учеба»,
1987, № 5. С. 158
Литературная дискуссия i939~i94O гг.
как поворотный пункт ...
350
Понимает ли «ветошка», превратившаяся в удавку, что она тво-
рит? Понимает ли Шариков, когда хочет выселить профессора Пре-
ображенского из занимаемой им квартиры, что он делает? Вопрос
риторический, и «читать мораль» Шарикову—дело не только беспо-
лезное, но просто глупое. Правда, всех последствий своих действий
люди «практические» могут не знать. Но свой интерес эти люди по-
нимают лучше, чем иной старомодный профессор типа Преображен-
ского. Для этого грызть гранит науки не требуется. Тем более что в
иные времена невежество становится аргументом даже в науке.
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача
Я обещал рассказать — на примере творчества До-
стоевского — о том, почему метод Лифшица нельзя называть соци-
ологическим или ставить его в один ряд с тем или иным направле-
нием социологии искусства.
Опровергая пресловутый «гносеологизм» Лифшица, М.С. Каган
в свое время ввел в нашу науку ясную как божий день классифика-
цию видов искусств, согласно которой они делятся на познаватель-
ные (это прежде всего литература) и менее познавательные, как,
например, архитектура или декоративные искусства.
«Известны произведения, — утверждает М. Каган, — обладаю-
щие высокой художественностью при низкой познавательной цен-
ности или, напротив, малой степенью художественности при высо-
кой познавактельной емкости»1. Это открытие позволяет ученому
избавиться от гегелевского упрощенного, по его мнению, понима-
ния искусства и его истории1 2. Гегель в «Лекциях по эстетике» рисо-
1 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системно-
го анализа). М., 1974. С. 124. Подчеркнув процитирован-
ные слова, Мих. Лифшиц на полях книги М. Кагана заме-
чает: «Детское понимание “познавательной ценности”».
2« ...Традиционная для искусствознания дихотомия «реа-
лизм— классицизм (романтизм, символизм)» или «прав-
дивое изображение — идеализированное», с помощью ко-
торой обычно описывался историко-художественный про-
цесс, упрощает его действительную структуру. за
юсеологизм» Лифшица-Лукача
351
вал картину мирового развития искусства как движения от архитек-
туры (классический тип, согласно ему, символического искусства)
к литературе, в которой духовный момент представлен, утверждал
немецкий мыслитель, в наиболее развитом виде. Но значит ли это,
согласно Гегелю, что категория «познавательности» в ее расхожем,
рассудочном толковании вообще может быть полезна при анализе
искусства, выяснения его глубинной природы?
Если понимать под познанием только дискурсивное мышление,
т.е. мышление в понятиях, то, разумеется, в орнаменте или архитек-
туре его обнаружить трудно. Гегель это знал не хуже современных
критиков «гносеологизма». Однако и в архитектуре есть свое духов-
ное содержание, причем не менее значимое, чем в литературе. Ка-
кое же? Такое, отвечал на этот вопрос Дидро, которое есть в ином
непроизвольном жесте, нашей позе и других телесных формах вы-
ражения внутреннего мира. В этой бессловесной и непонятийной
форме, писал Э. Панофский, рассказывая о методе своей иконоло-
гии, например в жесте смертельно больного И. Канта, может ска-
заться самое главное, что содержалось в философии мыслителя. Од-
начало-с.3s»правда (продолжает М. Каган), Гегель представил
этот процесс процесс трехступенчато (триадой «симво-
лизм — классицизм — романтизм», однако принцип разли-
чения этих трех состояний искусства он вывел из абстракт-
ной идеи изменения соотношения его духовного содержа-
ния и чувственно-образной формы; между тем анализ
строения художественно-образного способа освоения че-
ловеком действительности, изложенный мной в книгах
«Человеческая деятельность», «Морфология искусства» и
«Эстетика как философская наука», выявил его более слож-
ную структуру, порождаемую взаимосвязью познаватель-
ной, оценочной и преобразовательной энергии творчес-
кого процесса; поскольку каждая из них может иметь в
целом акте художественного воссоздания действительно-
сти и доминирующее, и подчиненное положение, возмож-
ны три отчетливо различающихся творческих метода,
которые функционируют параллельно, вступая между со-
’ бой в сложные взаимодействия...» // Каган М.С. Се чело-
век. .. Жизнь, смерть и бессмертие в «волшебном зеркале»
изобразительного искусства. СПб., 2003. с. 51.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
352
нако следует ли отсюда, что жест Канта совершенно тождественен
собранию его сочинений, и тот, кто постиг смысл его жеста, может
книги Канта уже не читать?
Нет, даже самый выразительный жест философа и собрание его
сочинений — вещи разные, хотя в известном смысле и тождествен-
ные, ибо и первый и второе достаточно полно и адекватно выража-
ют смысл и существо гуманистического духа Канта как человека и
мыслителя. В чем же разница? Философия Канта, изложенная в его
сочинениях, есть дискурсивная форма познания, мышление в поня-
тиях. Но в движении умирающего Канта, приветствующего своего
врача, сказался, по мнению Панофского, весь смысл его гуманисти-
ческой философии и даже, может быть, нечто большее, чем то, что
содержалось в книгах философа и что со всей полнотой мог выразить
только жест непроизвольный. Разумеется, Э. Панофский вовсе не хо-
чет убедить нас в том, что непроизвольный жест можно читать как
книгу, черпая из него массу полезного и познавательного материа-
ла, что жест может заменить нам, например, биографию Канта, опи-
сание времени и места, где он жил, и т.д. Смешивать эти познава-
тельные сведения с духовным содержанием искусства — орнамента
или литературы — так же нелепо, как поваренную книгу или путе-
водитель по незнакомому городу с искусством орнамента или музы-
кой. Само собой понятно, что литература как вид искусства может в
себе содержать и поваренную книгу (какие-то сведения из нее), и
чем-то напоминать путеводитель по Риму или Москве, из нее мож-
но почерпнуть даже важную информацию по экономическим про-
блемам, как это сделал Энгельс, читая Бальзака. Больше того, в на-
стоящей литературе как виде искусства эти познавательные пласты
и элементы—не случайные вкрапления, добавки, подобные изюму
в булке. Но все эти сведения, выраженные посредством знаков язы-
ка, т.е. знаков искусственных, качественно отличных от знаков ес-
тественных, каким является жест,—сняты литературой, если она —
высокое искусство, а не беллетристика. В результате этого снятия
литература, если хотите, обретает качества непроизвольного жеста,
т.е. особого типа знака (естественного знака Г.Э. Лессинга), имену-
емого в эстетике художественным образом. Она не сводится к про-
стому естественному знаку, но поднимает, преображает дискурсив-
ное, понятийное в образное, непосредственно-чувственно-духовное.
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача
353
В этом смысле литература или драма, писал основатель формальной
школы Адольф Гильдебранд, имеет свою архитектоническую цен-
ность или целостность. И только тот, кому раскрывается эта архи-
тектоническая целостность литературы, роднящая ее с орнаментом,
музыкой, архитектурой и другими видами искусства, — тот спо-
собен постигнуть ее действительную духовную ценность. А тот, кто
определяет специфику литературы как вида искусства через то, что
снято в ней, что может в ней существовать только в преобразован-
ном виде, то есть видит отличие литературы от орнамента в позна-
вательности по типу поваренной книги — тот абсолютно ничего в
ней не смыслит и не понимает.
Если литература обладает познавательной художественной цен-
ностью, то ничуть не больше и не меньше, чем этой познавательно-
стью художественной обладает орнамент или музыка. Подобно тому,
как можно сказать, что арифметика не менее и не более познаватель-
на, чем высшая математика. Другой вопрос—о характере этого по-
знания. Поскольку и в литературе художественное познание так же
отлично от познания дискурсивного, как познавательность орнамен-
та отлична от учебника по физике или социологии. И если «позна-
вательность» литературы как вида искусства отличается от «позна-
вательности» архитектуры, то формой и характером такого специ-
фического содержания, которое объединяет литературу с другими
видами искусства, ставит ее в один ряд с орнаментом и архитектурой.
Так, согласно Гегелю, развивающему мысль Дидро, Лессинга и
Винкельмана, архитектура в его исторической классификации жан-
ров и видов искусства выдвигается на первый план в начале общего
движения искусств, ибо ее форма, более близкая жесту, чем форма
литературы, наиболее соответствует концентрированному художе-
ственному содержанию, непосредственно-чувственно выражаемому,
отражающему всю бесконечность в один момент времени, в одном
месте и в самой неодухотворенной материи—в камне (в отличие от
человеческого языка—материала, из которого строит свои образы
литература). Такой способ выражения духовного идеального содер-
жания Гегель называл символическим, загадкой, не имеющей разгад-
ки, бесконечностью, которая не развернута, как в фабуле литерату-
ры, а свернута, как в цветке, существуя для нашего глаза актуально,
т.е. будучи явленной в один момент и в одном зрительном образе.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
354
Но для того чтобы развернуть мысль самого Гегеля во всей ее
полноте, требуется не один момент времени и не один образ, а сле-
дование, шаг за шагом, за его логикой. Эту задачу и ставил журнал
«Литературный критик» перед современными ему эстетиками и ли-
тераторами, публикуя на своих страницах, из номера в номер, главы
гегелевской «Эстетики» (как, впрочем, и другие сочинения эстети-
ческой классики). Делалась это, впрочем, не по чисто просветитель-
ским причинам, а имело конкретную художественно-практическую
или даже политическую цель.
Содержание литературы, поскольку она — искусство, не может
быть иллюстративным, доказывала группа «Литературного крити-
ка», даже если в качестве иллюстрируемого ею (литературой) мате-
риала выступают самые верные идеи. Иллюстрация — эта та внеш-
не прикрепленная к литературе ценность (именуемая Каганом по-
знавательной), которая может в искусстве либо присутствовать,
подобно аллегории в живописи, либо полностью отсутствовать, как
в орнаменте, ничуть не влияя на художественное качество последне-
го. Философские и исторические рассуждения Льва Толстого в его
«Войне и мире» — пример такого внешнего для искусства содержа-
ния, но вовсе не в них — подлинная глубинная содержательность и
художественная познавательность литературы, тождественная ее
художественной форме. И если М. Каган определяет специфику лите-
ратуры как вида искусства через подобную внешнюю иллюстратив-
ную познавательность, то он сводит художественное содержание—
хочет ли того или нет—к иллюстративности.
Дискуссия о теории романа, проведенная журналом «Литератур-
ный критик» в 1935 году и опубликованная в том же году на его страни-
цах, имела целью раскрыть специфику романа как жанра и литерату-
ры в целом как вида искусства, доказать, в частности, что содержание
литературы никак нельзя связывать с иллюстративно выражаемыми
беллетристом идеями. Председательствовал на дискуссии Мих. Лиф-
шиц, главный доклад сделал Г. Лукач, а в прениях участвовали самые
именитые и влиятельные тогда авторы, в том числе В. Переверзев и др.
Литература, как известно, искусство временное, воссоздающее
действие. Ее сюжет — изображение того, что происходит в реальной
жизни. Но чем в таком случае она отличается от фельетона или исто-
рического повествования? Тем, что находит в жизни такие сюжеты,
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача 355
которые отражают в себе дух целого. Причем под последним следу-
ет понимать не только общественный организм или смысл истории,
а целое, возникающее, как показал позднее Мих. Лифшиц на приме-
ре древней мифологии, из взаимоотношения человека и мира, об-
щества и природы. Другими словами, предмет искусства — мир,
природа, дополненная до своей истины человеческим обществом и
разумом человека, ибо сама природа в ее человеческом понимании
возникает только при взаимодействии человека и природы.
Роман—продукт буржуазной эпохи, и потому его предмет — че-
ловек частичный, случайный, как случайно и незначительно все, что
совершается в его жизни. Однако роман воссоздает такую цепь со-
бытий, их переплетение и взаимовлияние, при котором рождается
образ целого — не только общественной системы, но целого мира в
его взаимодействии с человеком.
Такое непосредственно чувственное целое—предмет и сущность
любого вида искусства, в том числе и орнамента. Что изображает
последний? С одной стороны, доказывал А. Ригль, — абстрактные зако-
номерности природы, какими являются симметрия и ритм. С другой,
в нем в чистом виде осуществляется игра свободных человеческих
творческих сил. Две противоположности—закономерность природы
и человеческая свобода—находят в орнаменте то органическое един-
ство, которое есть непосредственно чувственное выражение идеала
отношений человека и мира. В орнаменте этот идеал выступает в
очень обобщенном, абстрактном виде, а с другой стороны, непосред-
ственно чувственном и более конкретном, чем в литературе, а имен-
но: идеал живет в неподражаемой игре линий, придуманных и со-
зданнных человеком, но при этом обладающих, как и всякое искус-
ство, свойством нерукотворности. Орнамент возникает и расцветает
на той ступени общественного развития, когда человек непосредст-
венно взаимодействует с природой, когда идеал этого взаимодейст-
вия—целое, возникающее из единства и борьбы человека и мира, —
есть его непосредственная жизнь, и потому дух этого идеала, если
можно так сказать, живет в пальцах художника-орнаменталиста.
С усложнением общественной системы, отчуждением людей
друг от друга и от мира в целом само это целое, его идеал уходит из
непосредственной жизни в сферу трансцендентальную и ноуменаль-
ную, что приводит в конце концов, как доказывает Г. Зедльмайр, к
Литературная дискуссия 1939“Т94О гг.
как поворотный пункт ...
356
гибели орнамента, сохраняющегося в какой-то мере лишь в глуби-
нах народной жизни, народном творчестве. Но это целое, будучи
трансцендентальным и ноуменальным, — реально. Только для вос-
становления его требуется уже не прямой, как в орнаменте, а обход-
ной путь. Целое воссоздается посредством цепи изображения, рас-
тянутого во времени, пересекающихся случайных судеб, характеров,
событий. Такова природа романа—эпоса, по определению Гегеля,
буржуазного мира. Но по сути своей и орнамент, и роман являются
родами искусства, имеют общую природу, позволяющую и тому, и
другому рассматривать мир с точки зрения, говоря словами Леонар-
до да Винчи, красоты, т.е. качества, видеть мир как прекрасное в
конечном счете целое, не расчленяя на части и не убивая тем самым
дух целого, жизнь, как это делают естественные науки. Поэтому и
роман имеет свою архитектоническую целостность, а орнамент
есть, как и роман, воссоздание и изображение идеала отношений че-
ловека и мира, их внутреннего единства.
Разумеется, роман содержательнее в том смысле, что он позволяет
воспроизводить конкретные перипетии человеческих судеб и обсто-
ятельств эпохи, рисует реальные события и характеры. Но и орнамент
имеет свое содержательное преимущество перед романом. Специфи-
ческое дая искусства содержание — единство человека и мира, цар-
ства свободы и царства необходимости — в нем существует не как
некая трансцендентальная сфера, которая не дана непосредственно
чувственно, а лишь восстанавливается, реконструируется сложным
путем, посредством снятия случайного и прозаического содержа-
ния. Специфическое для искусства содержание, художественный
смыл явлено в орнаменте непосредственно, как образ, сразу и цели-
ком воспринимаемый глазом. Более того, это уже достигнутое худо-
жественное содержание, актуально присутствующее в орнаменте, а
не реконструируемое, не умозрительное и трансцендентное, как в ро-
мане. В этом смысле орнамент непосредственно художественно со-
держателен, тогда как художественная содержательность романа —
косвенная, дух целого возникает для читателя романа не сразу, а
обходным путем, через воспроизведение случайного и незначитель-
ного. Бесконечное содержание орнамента актуально, если говорить
языком Гегеля, тогда как бесконечность мира и человека в романе
более напоминает дурную бесконечность, т.е. потенциальную.
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача 357
Другими словами, если мы хотим постигнуть специфическое для
искусства содержание, присущую ему и только ему познавательную
ценность, то лучше всего это сделать на примере орнамента или ар-
хитектуры, ибо здесь она явлена непосредственно, в чистом виде. Тог-
да как в романе художественный образ целого со свойственным ему
содержанием возникает опосредованно, и потому не трудно спутать
собственное содержание искусства со всякими мнениями и сведени-
ями, которые можно почерпнуть из поваренной книги или путеводи-
теля, экономических сочинений и философских трактатов. Другими
словами, нельзя смешивать содержательность искусства — будь то
литература или орнамент—стой познавательностью, что выража-
ется в литературе дидактически, как иллюстрация партийных лозун-
гов или философских взглядов автора. А в живописи—аллегоричес-
ки, когда изображение превращается в плакат или сложно зашифро-
ванный ребус. Духовная содержательность орнамента свелась бы при
этом, кагановском понимании познавательной ценности искусства,
например, к символам советской власти - пятиконечным звездам в
орнаменте советских времен. Но тот, кто путает иллюстративное,
внешнее содержание с собственным внутренним содержанием искус-
ства, живущим только в художественной форме и благодаря ей, рас-
писывается в своем невежестве, обыкновенном незнакомстве с иде-
ями мировой эстетической мысли от Платона и Аристотеля до Геге-
ля. Впрочем, причина подобных «промахов»—не только невежество.
Почему Достоевский и Толстой—великие художники, а их совре-
менник Дружинин всего лишь более или менее одаренный литера-
тор? Произведения Толстого, Достоевского или Пушкина обладают
архитектонической целостностью, говоря словами Гильдебранда,
но, разумеется, иной, чем орнамент или скульптура. Роман изо-
бражает вереницу случайных событий и судеб, их причудливое и
случайное переплетение. У посредственного романиста все эти слу-
чайности либо остаются просто случайностью, хаосом, либо объе-
диняются внешне, насильственно — собственной волей литератора
и его мнением об изображенных им событиях. Тогда как великий
романист приходит к воссозданию того целого, что, находясь дале-
ко за пределами наличного бытия, в трансцендентальной сфере, —
все же реально существует. Когда он его не находит—произведение
распадается, не поднимается до того, чтобы обрести художествен-
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
358
ное содержание и художественную форму. При том, что искомое
трансцендентальное целое может в данную эпоху выступать в фор-
ме всеобщей разорванности, все же это род целого, а не просто хаос.
Обратимся к архивным материалам Мих. Лифшица о Достоевском,
развивающим эту мысль. «Нет, не просто “классовая позиция”, — чи-
таем мы в архивной папке № 242 “Достоевский”. —Доказательство
того, что, кроме “точки зрения” есть и объективное историческое со-
держание, отражаемое умом и чувством. Доказательство того, что
кроме «классовой точки зрения» есть и общественное целое, разделе-
ние на классы, противоречие верхов и низов, классовое деление, по-
вторяющееся во всех классах и есть то, что отражается в диалекти-
ке политических форм (начиная с “Республики” Платона). Эти фор-
мы и их роковой круг не случайны для классового деления общества.
Последнее (?) есть только “сущность”, абстрактно-всеобщее. Повто-
рение схизмы во всех классах и роковая диалектика общественных
форм и создают представление о всеобщей и вечной проблематике».1
«Достоевский. Ad vocem Гроссман.
г. Объективное содержание
2. Его уровень определяет отношение сознания к факту. Где бу-
дет наш Наблюдательный] П[ункт]? Как перемещается точка зре-
ния наблюдателя по отношению к объекту, рассказу? (...) Где наша
позиция? Как Чапаев, где должен быть командир?
Если взять Шекспира, мы в объективной драме, хотя (...) и сли-
ты. А Мольера, или Ювенала? Сверху. Тоже — Гоголь. Это и хорошо
отчасти: чисто, ясно, но недостаточно глубоко и демократично. Рус-
со— больше сидит в грязи. (...). Наше сознание затягивается в во-
доворот, преобразуется (?) и выходит из него, из более глубокого
низа более чистым, но...
Этот ход: оптимизм—пессимизм
Пессимизм — оптимизм
3. Это все большая демократизация точки зрения сознания чре-
вата и большей рефлексизацией (уже у Руссо). Сентиментальность,
романтизм, достоевщина. Показать бы это уже на «Бедной Лизе» по
сравнению с Гоголем.
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 242 «Достоевский». С. 17.
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача 359
Порядок
I. Анализ — описание (?) первофеномена реальности, зерна
2. Аналитика этого зерна с точки зрения субъекта и объекта
3. Конструирование (?), синтез, от абстрактного к конкретному.
Развитие всего художественного произведения до его форм[альных]
особенностей, стиля.
Поэт и художник
Достоевский это взял у Белинского. Последний не без влияния
Гегеля.
Поэтическое реальное содержание есть первое условие. Ср. Гете
(мотивы). Все ли и всегда может быть таковым? И да, и нет. Да, в
смысле определенного поворота, больше или меньше и смотря как,
но — обязательный объективный пафос — без этого нет поэта.
Толстой о сукровице. (...) Далее аналитика поэтического содер-
жания.
I. То в нем, что оно транспарентно, пропускает бесконечное
2. Это совершается в определенной рефлексии — отношение со-
знания к его носителю, коду. Полюсы.
3. Это и есть определенное формирование. Тут роль художника,
художества (?).
Форма как таковая и ее активная роль. Соответствующее ей со-
стояние содержания — оно приходит к диалектической изономии,
«поэтической справедливости».
Этот самый и еще слепой субъективный (объективный) пафос,
с которого начинается дело возведения на ступень объективности
в форме—та или иная форма изономии сторон = полнота. Выявля-
ется просвечивающее (?) бесконечное.
Но — аналитика, два полюса развития рефлексии, субъективно-
сти. Изономия как субъективная позиция. Отношение полюсов. Ее
развитие—ее распад на деятельную, рефлексивную субъективность
и рефлексия (неразб.).
Тело, пластика, поэтический мотив = поэтическая объектив-
ность как таковая. В пределе = чистая проза, абстрактное тождество
(код без смысла). Разность, дифференциал — вот что дает смысл.
Поэзия должна отступать от поэзии, чтобы быть поэзией. В ней за-
рождается зерно рефлексии. Эта рефлексия развивается до развер-
нутой сюжетики, которая полнее всего в литературной прозе. Далее
Литературная дискуссия i939-!94O гг.
как поворотный пункт ...
Збо
рефлексия приходит к самоотрицанию и к (...) предметности. Дис-
курсивное развитие кода умирает.
Переход от тождества поэзии и прозы к дальнейшему. Отраже-
ние поэзии в прозе, одной противоположности в другой. Всё по-
эзия —ничто не поэзия. Поэзия есть все в его всеобщем (поэтическом)
повороте. При каких, следовательно, условиях прозаическое быва-
ет поэзией. Множество (?) положений и отношение к субъекту»1.
Всеобщий поэтический поворот и есть действительная точка зре-
ния Достоевского, без понимания которой мы не поймем созданной
им художественной формы. Зажатый клещами времени он сумел най-
ти такую позицию, которая открывала ему вещи в их поэтическом, но
вместе с тем и в высшей степени реальном свете. Такой позицией не
могла быть, по мнению Лифшица, ни абстрактная критика капитализ-
ма, власти денег вообще, ни реакционный в прямом смысле этого сло-
ва консерватизм К. Леонтьева или К. Победоносцева. Путь Достоевско-
го—один из возможных, хотя и крайне редких, вариантов прохож-
дения в щель времени, борьбы на два фронта, говоря более поздним
языком (NB: к этому же выражению прибегал и 9. Панофский).
Для В. Ермилова и его соратников поставленная «Литературным
критиком» проблематика была вне пределов их способности сужде-
ния. Так же, как и для большинства наших современников, которые
мыслят крайностями, например: либо принимать и одобрять то, что
в целом произошло с нашей страной в тридцатые годы, —либо с той
же степенью абстрактности отрицать, а третьего не дано. В результате
такие явления, как проза М. Булгакова, оказываются выше понима-
ния художественных критиков и литературоведов: вначале он при-
числялся к явным противникам сталинского режима, а в наши дни в
авторе «Мастера и Маргариты» видят чуть ли не апологета Сталина.
В подобной лишь по видимости радикальной критике сталиниз-
ма и тоталитаризма пропадает самое главное—то, что было централь-
ным для Достоевского и Булгакова: иррациональный бунт снизу,
который нельзя устранить или уменьшить экономическими благо-
деяниями, напротив, он может парадоксально возрастать в условиях
всеобщего материального довольства. «Бескорыстно злое» усколь-
зает от анализа потому, что оно непосредственно отождествляет-
1 Там же.
«Гносеологизм» Лифшица-Лукача 301
**г
ся со всяким подъемом снизу, в том числе крайне противоречивы-
ми процессами в СССР тридцатых годов.
Но это «бесокрыстно злое» — как главная проблема современно-
сти, имеющая прямое отношение к эпидемии терроризма, — всё же
доступно, согласно Лифшицу, разумному (но не рассудочному!) отра-
жению. Свой вывод Лифшиц имел возможность проверить на осно-
вании личного опыта.
Обвинители Лифшица, Лукача, Усиевич лукавили, когда говорили,
что «течение» равнодушно к современной литературной жизни. Ос-
нова непримиримого размежевания между «течением» и его про-
тивниками заключалась как раз в том, что «течение» слишком актив-
но вмешивалось в современную ему советскую литературу
Вот что, подытоживая «дискуссию», писала известный литерату-
ровед Е. Гальперина (цитата объемистая, но заслуживает того, чтобы
привести ее полностью): «Обычно, критикуя «течение», рассматрива-
ют его практику по кускам. Однако порочная теоретическая основа
«течения» проявляется аналогично во всех областях. Есть своя логи-
ка в том, что любители реакционной «почвенности» (и этот грех при-
писывали Лифшицу и Лукачу в 30-е годы. —В. А) в советской литера-
туре подняли, как знамя, Андрея Платонова, писателя даровитого,
но юродствующего, эпигонски продолжающего линию мелкой дос-
тоевщинки. Вико против Просвещения, отчего же не Платонов про-
тив Макаренки? «Почвенность» отсталых индивидуалистических
чувств выдвигается против почвенности нормальных советских на-
строений». «Когда В. Гриб, — продолжает Гальперина,—пытавший-
ся заняться советской литературой, сказал откровенно, что нельзя
сделать рагу из зайца без самого зайца, когда Е. Усиевич стала гро-
мить советскую поэзию, доказывая, что после Маяковского ничего
хорошего не было, когда «Литкритик» на протяжении лет игнори-
ровал рост советской литературы, — все это было проявления той же
методологии, которая сказалась и в оценке мировой литературы»1.
Да, с точки зрения пресловутого «гносеологизма» Лифшица-Лу-
кача советская литература в своей массе—не литература, ибо, как ут-
верждает В. Ермилов, редакция «Литературного критика» «объяви-
1 Гальперина Е. Без тумана // Литературная газета, 1940,
№ п. С. з.
Литературная дискуссия 1939“Т94О гг.
как поворотный пункт ...
Зб2
ла, что до сих пор наша литература только «иллюстрировала» тези-
сы и не проявляла никакой «самостоятельности», что подавляющее
большинство советских писателей принадлежит, как писала тов.
Е. Усиевич, к категории «не слишком размышляющих о действитель-
ности, а иллюстрирующих ту или иную, по выражению Гегеля, «по-
нятую и решенную» до них идею»1.
Время доказало с полной и исчерпывающей убедительностью,
кто был прав в оценке советской литературы тридцатых или после-
дующих годов. Но какую теорию искусства развивают такие совре-
менные поклонники творчества А. Платонова, как М. Каган? Отож-
дествляя практически познавательную ценность литературы с иде-
ями, «понятыми и решенными», по словам Е. Усиевич, тогда как
Платонов или до него Достоевский поняли нечто такое, что до них
открыто не было? Поняли даже лучше, чем мы сегодня, ибо они—ху-
дожники. Напомним читателю, что Л. Авербах «бил» и в конце кон-
цов «добил» А. Воронского, «воронщину» и «булгаковщину», пользу-
ясь, как дубинкой, своим главным аргументом — искусство, соглас-
но Аварбаху, не отражение действительности, и, следовательно,
правда и искренность этого отражения вовсе не важны. Не важна
изобразительная сторона искусства, не важны художественная ин-
туиция, особая способность «видеть мир», при которой «вещь в себе»
отрывается в художественных образах. А что же важно? Активная
позиция пролетарского писателя и его передовое пролетарское ми-
ровоззрение, позволяющее видеть вещи так, как учит партия. Все ос-
тальное — от лукавого. И вот с таким теоретическим багажом, не-
сколько видоизменив формулу Л. Авебраха (искусство — не столько
познание, сколько оценка и преобразование реальности), попирая
ногами внутреннее духовное содержание искусства под именем его
необязательной познавательной функции, критики «гносеологизма»
Лифшица (апо сути, эстетики А. Воронского, Г. Гегеля, Гете, Г.Э. Лес-
синга и так далее—до Платона и Сократа) предстали перед восхи-
щенными взглядами современников как «новаторы» и самоотвер-
женные борцы за свободу творчества. Как же не новаторы, если они
защищали авангард такими примерно аргументами: да, как и в ор-
1 Ермилов В. О вредных взглядах «Литературного крити-
ка»// Литературная газета, го сентября 1939 г.
Збз
наменте, познавательная ценность, скажем, абстрактной живописи
не велика, зато сколько в ней творческой активности и оценки! Прав-
да, и «новаторы» образца 1960-1970-х годов сегодня вызывают у их
духовных наследников в лучшем случае иронию. Абстракционизм
и поп-арт — седая старина, требуется что-нибудь более остренькое.
Например, акты скотоложства всемирно известного отечественного
художника О. Кулика или публичный онанизм А. Бренера. Академи-
ческие художественные критики находят в этих актах преизбыток
творческой энергии и оценочного отношения к реальности. Впро-
чем, и это уже успело наскучить. Старая как мир история!
Возможен ли разрыв этой скучной бесконечности? Если возможен,
то когда и при каких условиях появляются идеи в полном смысле это-
го слова и «высокий реализм» в искусстве? На этот вопрос Мих. Лиф-
шиц попытался дать ответ в своих статьях и выступлениях тридца-
тых годов, в том числе и в неоднократно упоминаемой на этих стра-
ницах статье о теории круговорота Дж. Вико.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
Цикл в отличие от линейного поступательного движения пред-
полагает повторение, возвращение к исходному пункту. Поэтому
идея цикла связана с консерватизмом: недаром мыслители, которые
развивали эту идею, от Гегеля до Шпенглера, Данилевского и А. Риг-
ля, были консерваторами. Но, согласно Лифшицу, есть по крайней
мере две формы консерватизма. В своей большой незаконченной
работе «Диалог с 9. Ильенковым» Лифшиц писал: «Уловка Хайдегге-
ра, идущего навстречу опасности и признающего круг предопреде-
ленного сознания неизбежным, основана на смешении двух разных
типов возвращения к исходному пункту—круг, черпающий мате-
риал из бесконечности, есть важный момент диалектического дви-
жения, круг уходящего в бесконечность вращения на одном месте
есть только логическая ошибка»1.
1 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. Прогресс-
Традиция. М., 2003. С. 92.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
364
В 30-е годы Мих. Лифшиц выдвинул программу, которую он по-
зднее назвал Restauratio Magna — великое восстановление. По его
мнению, революция должна была стать восстановлением великой
цепи бытия, о разрыве которой говорил еще Гамлет. В противном
случае она — как в прямом смысле слова, так и по существу—будет
не революцией (revolution—возвращение, цикл, круговое движе-
ние), а бунтом, который в конечном счете всегда на руку отживаю-
щему старому.
Впрочем, в общей форме это мнение высказывал не только Лиф-
шиц. Так, например, русский философ А. Кожев (Кожевников), ока-
завший большое влияние на французских экзистенциалистов свои-
ми лекциями о Гегеле, утверждал: «Только Революционер, приходя-
щий к пониманию необходимости поддержания или утверждения
исторической традиции, может добиться успеха в деле созидания но-
вого исторического Мира, способного к существованию»1. Весь воп-
рос, таким образом, заключался в том, как конкретно строить отно-
шения с прошлым и что в нем подлежало восстановлению, а что —
забвению и отрицанию.
В области искусства разрыв «великой цепи бытия»1 2 был представ-
лен прежде всего авангардом. Однако смерть реализма образца XIX ве-
ка наступила, согласно Лифшицу, по естественным причинам, ибо этот
тип реализма основывался на субъективном мастерстве художника в
подражании действительности. Сама же действительность характери-
зовалась утратой эстетического содержания. Поэтому авангард, кото-
рый на место обесцененной действительности поставил самодостаточ-
ного субъекта, отказавшегося от воспроизведения реальности, был
логическим завершением движения искусства современности. Но
такое завершение истории искусства означало смерть последнего.
# г. Tertium datur
Вопреки ожиданиям Лифшица, революция породила не восста-
новление великой цепи бытия, а новый порочный круг. Однако всё
основано на порочном круге, утверждает Лифшиц вслед за Лениным.
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М., 1998. С. 96.
2 См. историю этого понятия в кн.: Лавджой А. Великая
цепь бытия. М., 2OOI.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
а*
365
Порочный круг лежит в порядке вещей, он есть форма естествен-
ного хода событий. Движение осуществляется через крайности, а
крайности сходятся. Это прекрасно понимал уже Гете. Лифшиц ци-
тирует его слова в своей известной статье 1933 года о Винкельмане
(на это место ссылался А. Фадеев в своей реплике против Лифшица
в «Литературной газете» 1953 года): «Борьба старого, пребывающе-
го, устойчивого с развитием, образованием и преобразованием все-
гда остается одной и той же. Из всякого порядка, — продолжает Ге-
те, —возникает в конце концов педантство и, чтобы от него освобо-
диться, этот порядок ломают; так проходит некоторое время пока
появляется сознание того, что нужно снова создать порядок. Клас-
сицизм и романтизм, принудительные ассоциации и свобода про-
мысла, закрепление и раздел земли: всегда один и тот же конфликт,
который в конце концов порождает новый. Самым умным со сто-
роны правителей было бы так умерять эту борьбу, чтобы дело обо-
шлось без уничтожения одной из сторон; но этого людям не дано, и
бог, по-видимому, этого также не хочет»1.
Любые усилия правителей, комментирует процитированные
слова Гете Лифшиц, не могут ослабить действие противоречий и
примирить в утопическом среднем состоянии противоположные
стороны отжившего строя людям не дано. Гете, по мнению Лифши-
ца, прав и вместе с тем не прав: «Порядок и беспорядок, благород-
ная простота и спокойное величие в противовес бурным явлениям
жизни — это все понятия, относящиеся к вечным категориям дей-
ствительности. Но поскольку эти противоположности вечны, они не
имеют того неразрешимого характера, который придает им Гете.
Поскольку же оттенок трагического в них действительно присут-
ствует, они не вечны, а исторически обусловлены»2.
Статья Лифшица о Дж. Вико содержит эпизод, по видимости,
мало связанный с ее основным содержанием. «У Щедрина крепост-
ная девка Феклушка, — пишет Лифшиц, — объявила однажды в об-
щем собрании всей девичьей, что скоро она, Феклушка, с барыней
за одним столом сидеть будет и что неизвестно еще, кто кому на сон
. 1 Цит. по: Лифшиц Мих. Собр. соч. в з т. Т. 2. М., 1986.
С.III-II2.
2 Лифшиц Мих. Собр. соч. в з т. Т. 2. М., 1986. С. П2.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
Зб6
грядущий пятки чесать будет, она ли Прасковье Павловне или Прас-
ковья Павловна ей»1. Смердяковщина, уравнительная демократия в
стиле гейневского Атта Тролля — это самая большая, по мнению
Лифшица, опасность, которая ныне угрожает миру.
В статье о Вико речь идет о возвращении назад после революци-
онных подъемов, о реставрации вплоть до восстановления монархии.
Необходимость таких реставраций порождена анархией, в которую
погружается общество после революции. «Тогда, — продолжает Лиф-
шиц, — начинается период отрезвления, и народы находят выход в
подчинении единовластию. Таков извечный круговорот всех револю-
ционных эпох»2. «При этом повсюду Вико дает понять, что демокра-
тия является высшим результатом культуры, и только в силу пре-
вратности вещей она недолговечна и нуждается в сохранении ее
прогрессивного зерна посредством некоторого обращения вспять—к
монархии»3. «В монархиях,—пишет Вико,—народ отдыхает от граж-
данских войн и партийной борьбы, но вместе с тем он утрачивает жи-
вую общественную активность и подлинный гражданский героизм»4.
Позднее в своих воспоминаниях о сталинской эпохе Н. Мандель-
штам напишет: «Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу
взмолились о сильной власти, о мощной руке... Слепцы, мы сами
боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом
особом мнении нам снова чудилась анархия и непреодолимый хаос.
И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной вла-
сти набирать силу...» Лекарство оказалось хуже болезни. «Рабство
в качестве гарантии свободы дорого обходится человечеству», —за-
мечает Лифшиц в своей статье 1939 года. Так что же делать, и есть
ли хотя бы теоретический выход из этого порочного круга?
Restauratio Magna Лифшица, его концепция «великих консерва-
торов человечества» была одновременно идеей Tertium datur. При
том, что третьей силы в готовом виде в обстоятельствах того време-
ни обнаружить было невозможно. Отсюда следует, что развернутой
экономической и социально-политической программы выхода из
1 Там же. С. 4.
2 Там же. С. 24.
3 Там же. С. 22.
4 Там же.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
367
порочного круга времени «течение» 30-х годов во главе с Лифшицем
и Лукачем предложить не могло. И тем не менее, согласно более
поздней оценке самого Лифшица, определенный теоретический
«регулятивный принцип» прорыва, т.е. Tertium datur, возник имен-
но в тридцатые годы. Его контуры намечены как в статье о Вико, так
и в других публикациях Лифшица этого времени.
С конца шестидесятых годов пробуждающееся демократическое
сознание России стало — в лице, например, Андрея Сахарова—по-
ворачиваться к Западу. Лифшиц констатирует, что «европейская ци-
вилизация разорвала замкнутую оболочку прежних культур. Но при
всей быстроте движения, свойственной капиталистическому строю,
старые азиатские черты извечного круговорота в нем сохранились»1.
В статье о Вико он не упоминает о фашизме. Лифшиц пишет о тех
явлениях и процессах развитого капитализма, которые создают со-
циально-экономическую основу для возвращения азиатчины на поч-
ве современности. «Движение культуры было поверхностным и не-
прочным, оно задевало лишь узкую верхушку, оставляя в тени все
остальное человечество»2. Анализируя причины трагедии и сентяб-
ря 2OOI года, американские профессора на радиостанции «Голос
Америки» говорят о том, что концентрация благ цивилизации на од-
ном полюсе мира вызвала дикий протест и жажду тотального раз-
рушения на другом. Фантазии щедринской девки Феклушки наяву
оказались гораздо страшнее, чем мог предполагать создатель «Ис-
тории одного города».
Ответ официального Запада на вызов времени — в духе старого
цезаристского рецепта «кнута и пряника». Этот рецепт позволяет
добиваться неплохих результатов на коротких исторических дистан-
циях, но в длительной исторической перспективе приводит к стра-
тегическому проигрышу, что продемонстрировала судьба Римской
империи — и не только она. Дж. Вико и те мыслители, что продол-
жали его традицию (Гегель в первую очередь), искали иного выхо-
да. Они были консерваторами, в определенном смысле даже сторон-
никами «сильной руки», но все же намечаемый ими Tertium datur су-
щественно отличался от традиционного цезаризма.
1 Там же. С. 25.
2 Там же.
Литературная дискуссия 1939-!94О гг.
как поворотный пункт ...
368
«Философия, которая хотела подняться над отрицательной муд-
ростью скептицизма, как философия Вико, — подчеркивает Лиф-
шиц, — искала мистических связей. Именно в этой бессмыслице она
хотела открыть глубокий исторический смысл. (...)» «Все целесооб-
разно. И пусть народы, уставшие от бесплодных гражданских войн,
предавшиеся всем порокам варварства рефлексии—роскоши, изне-
женности, скупости, зависти и спеси, —теряют свою национальную
независимость и делаются рабами других народов, подчиняющих их
силой оружия, —даже в этом заложен разумный смыл (...). Даже, —
продолжает Лифшиц излагать парадоксальную позицию Вико, — аб-
солютное падение культуры и постепенное возвращение к первона-
чальному варварству, варварству чувств, кажется ему естествен-
ным, целесообразным»1.
Чем же, в таком случае, позиция итальянского мыслителя отли-
чается от «отрицательной мудрости скептицизма»? Прежде всего,
полагает Лифшиц, своим демократизмом, демократизмом парадок-
сальным, подобным демократизму Достоевского, но более глубоким
и реальным по сравнению с обещаниями либералов. «С возвраще-
нием к исходному пункту нации возрождаются, как Феникс, черпая
из этого грубого состояния новую силу, и могут начать еще раз свое
круговое движение»1 2.
История тоталитарных систем XX века доказала чудовищные по-
следствия идеи «нового варварства» и «нового средневековья». Одна-
ко, по убеждению Лифшица, идея Вико существенно отлична от фаши-
стского мифа народности и Heimatkunst'a, хотя фашистские идеоло-
ги стремились представить Вико одним из своих предшественников.
«Недоверие ко всем политическим рецептам, идущим сверху, отсут-
ствие национальных иллюзий, привычка к смене властей, не изменя-
ющей угнетенного положения народа, — все эти черты итальянско-
го простолюдина выступают у Вико то своей положительной, то свой
отрицательной стороной. Они порождают его примирение с жизнью,
его политическое безразличие, переходящее иногда в раболепство;
они являются также источниками его необыкновенных достоинств»3.
1 Там же.
2 Там же.
2 Там же. С. 19.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
369
Вико не разделяет иллюзии просветителей, ибо «слишком близок
к трудящемуся человечеству и слишком осторожен в своем оптимиз-
ме, чтобы отдаться энтузиазму и провозгласить окончательную побе-
ду разума над стихией (...). Просветитель рассуждает с точки зрения
развитого индивидуального сознания, Вико—с точки зрения большой
массы людей, которая не всегда достаточно сознательна, но всегда
озабочена делом реальнейшей необходимости и потому разумна в ис-
торическом смысле слова»1. Однако разумность масс—понятие отно-
сительное, и сам Лифшиц полагал, что сталинский режим в значи-
тельной степени порожден подъемом снизу иррациональной стихии.
Великие консерваторы человечества народны постольку, поскольку
они в известной мере антинародны. Такова суть концепции «народно-
сти» Мих. Лифшица 30-х годов, смысл которой он в более откровенной
форме сформулировал значительно позднее, в своих неопублико-
ванных архивных заметках. Цитирую их, начиная с пункта пятого:
«5- Гениальные всеобъемлющие умы суть выразители этого мак-
симума данной эпохи, они борются «на два фронта» — против рег-
ресса, отсталости и против противоречий самого прогресса.
6. Что из этого могло выйти в старом обществе?
i'. Общее возвышение над классовой ограниченностью верхуш-
ки; третья сила — народ.
2'. Принятие исторического решения в максимально прогрессив-
ной, хотя и противоречивой форме. Отсюда в известной мере анти-
народность или реакционность позиции этих людей. Другими сло-
вами — возможна вторичная реакционность, которую следует отли-
чать от первичной, непосредственной.
7. Различные ступени и формы этой комбинации
А) склонение к одной из борющихся партий на вершине обще-
ственной пирамиды
Б) исторические изменения, дифференциация, переходные ти-
пы (varia)»2.
«Третий путь» великих консерваторов человечества, проходя-
щий между Сциллой господствующего класса и Харибдой иррацио-
• 1 Там же. С. 16.
2 Архив Мих. Лифшица, папка № 503 «Заметки о методе
истории философии».
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
370
нального бунта задавленных низов представляет, согласно Лифши-
цу, максимум народности именно потому, что он антинароден в той
мере, в какой народ выступает против самого себя, в какой он под-
чинен власти своих предрассудков и пороков, рожденных веками
рабства. Напротив, фашистское народничество есть эксплуатация
народных слабостей и пороков в интересах реакции. Потому «вто-
ричная реакционность» великих консерваторов человечества не
имеет ничего общего с реакционностью и консерватизмом в прямом
смысле слова, прогрессисты и либералы гораздо ближе к последним.
Когда удается пройти между Сциллой и Харибдой противоречия
верхов и низов, то возникает шанс прорыва порочного круга, хотя
бы только в области культуры. Великие достижения мирового искус-
ства есть, согласно Лифшицу, воплощение Tertium datur, о котором
идет речь. Таково творчество Леонардо, Пушкина, Моцарта—миро-
вая классика, как ее истолковывает Мих. Лифшиц в своей, ныне опуб-
ликованной, незаконченной книге 30-х годов о Пушкине1.
# 2. «Фадеевский либерализм»
и «великие консерваторы человечества»
Отказавшись от методологии т.н. вульгарных социологов, совет-
ская эстетика встала перед вопросом: вопреки или благодаря своему
консервативному мировоззрению создавали шедевры искусства Ари-
стофан и Шекспир, Бальзак и Гете? Опубликованное в эти годы пись-
мо Ф. Энгельса, в котором говорилось о «победе реализма» над консер-
вативными взглядами писателя, убеждало в том, что—«вопреки».
Однако при этом вставал новый вопрос—о роли мировоззрения
для художественного творчества. Если Шекспир и Бальзак приходи-
ли к «победе реализма» только вопреки своим убеждениям, то, вы-
ходит, мировоззрение играет второстепенную роль для художест-
венного творчества?
Этот вывод по понятным причинам был неприемлем для господ-
ствующей идеологии. Выход, найденный А. Фадеевым и его группой,
состоявшей большей частью из бывших «вульгарных социологов» и
рапповских литературных критиков (таких, как В. Ермилов), был
«гениально прост» — и потому, вероятно, на многие годы, если не
1 См. Мих. Лифшиц. Очерки русской культуры. М., 1995.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
371
десятилетия, определил метод советского литературоведения, при-
меняемый по отношению к оценке классиков мировой литературы.
Этот метод, по определению Лифшица, являлся либеральным (в
архиве Лифшица хранится его неопубликованная статья 1940 года
«Либерализм А. Фадеева»), причем не в переносном, а самом глубо-
ком смысле этого слова. Суть «фадеевского либерализма» Лифшиц из-
ложил в статьях «Надоело» и «В чем сущность спора?» (обе—1940 г.).
Позволю себе сделать две большие выписки из статьи «Надоело»:
«Как объяснить то обстоятельство, что наиболее глубокие и цен-
ные явления умственной жизни первой половины XIX века не прича-
стны к революционной буржуазной демократии, развиваются на по-
чве критики французской революции, нередко возрождают идеализм
и поповщину? Во времена вульгарной социологии этот вопрос решал-
ся очень просто. Ко всей истории литературы применяли одну и ту же
мерку положительных качеств. Сюда входили: «здоровый оптимизм
подымающегося класса» (преимущественно буржуазии), разоблаче-
ние самодержавия, проповедь свободы личности и т.п. В эти рамки
не укладывались многие (притом далеко не самые худшие) предста-
вители старой культуры. Поэтому классические авторы, даже такие,
как Пушкин, были изобличаемы во всех смертных грехах и зачисля-
лись в “торгующие помещики”, “оскудевшие феодалы” и т.д.».
Но к концу тридцатых годов «все изменилось под нашим зодиа-
ком», бывшие вульгарные социологи совершили поворот на 180 гра-
дусов. Правда, продолжает Лифшиц, «мерка осталась та же». Но те-
перь уже Гете — не предатель, не капитулянт, «а перспективный оп-
тимист и романтик, устремленный в будущее.
Такова мода. Вместо того чтобы отбрасывать неудобных для
понимания классиков, их срочно перекрашивают, обливая густым
розовым сиропом. Создается условный юбилейный портрет: немного
романтического свободолюбия в духе Байрона или Виктора Гюго, не-
сколько черт сентиментальной народности от Жорж Санд, несколь-
ко капель просветительной веры в прогресс и целый фонтан либе-
рального красноречия. Все, что не подходит под эту мерку, подвер-
гается ампутации, и портрет классика готов»1.
1 Мих. Лифшиц. Надоело // Литературная газета. 1940 г.,
ю января.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
372
Чем лучше этот «либерализм» по сравнению с откровенной бру-
тальностью вульгарной социологии, которая объявляла практически
всех великих художников и мыслителей прошлого не просто устарев-
шими, но сугубо реакционными? Тем, очевидно, лучше, что «допус-
кал» в храм социализма консерваторов прошлого, перекрасив их в
романтиков и устремленных в социалистическое будущее оптимис-
тов. Но Лифшиц видел в либерализме А. Фадеева и его группы не рас-
ширение рамок идеологически допустимого, а, напротив, перекры-
тие пути для демократического содержания дела. Наука гибнет, когда
честное исследование существа вопроса заменяется политиканством.
Заигрывая с Западом, Сталин и его окружение во второй полови-
не 30-х годов выдвинули идеи «перестройки» и «демократизации»
внутренней жизни в СССР1. Многие бывшие вульгарные социологи
почувствовали, куда ветер дует, и принялись усердно поливать розо-
вым сиропом то, что вчера мазали дегтем. Радоваться подобной «либе-
рализации» могли только те, кто не замечал ее обратную сторону—
метод «ампутации». Нисколько не идеализируя вульгарную социоло-
гию 20-х годов, Лифшиц находил в среде яростных иконоборцев ис-
кренне убежденных в своих идеях людей (таким был, например,
В. Переверзев), с некоторыми из которых возможен был научный спор.
К чему привел «либерализм» группы А. Фадеева советскую лите-
ратуру и литературную критику? К тому, пишет Лифшиц в заключе-
нии статьи «Надоело», что Салтыков-Щедрин называл «практичес-
ким сердцеведением», то есть к замене научных дискуссий доноси-
тельством «по инстанциям» и ампутации всех, кто по тем или иным
причинам неугоден захватившей монопольную власть группе.
Политиканство в науке и литературе — синоним пустословия и
двоемыслия. «Пустозвонство есть склонность заменять содержание
дела и связанную с ним нравственную дееспособность, — писал Лиф-
шиц в предисловии к книге «В мире эстетики»1 2 в 1981 году, — словес-
1 См. более подробно об этом: В. Арсланов. Ответы культу-
ры на вызов времени. СССР. 30-е годы. М., 1995. С. 171-209.
2 Эта книга была опубликована только через несколько лет
после смерти автора, на волне перестройки, а предисло-
вие к ней напечатано еще позднее, в третьем томе собра-
ния сочинений Лифшица (1988 г.)
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
373
ной бутафорией, служащей как бы витриной того, чего нет в дей-
ствительности. Двоемыслие— это искусство высказывать два про-
тивоположных взгляда по одному и тому же поводу в зависимости
от изменяющихся обстоятельств или даже в одно и то же время»1.
Что изменилось за последние 50-60 лет? Примеры пустозвонства
и двоемыслия, которые Лифшиц приводил в своих памфлетах, «ка-
жутся теперь совсем невинными», подытожил он незадолго до своей
смерти. Это «только скромные полевые цветы детской непоследова-
тельности» по сравнению с мефистофелевской внутренней насмеш-
кой, «которая выражает вполне современный уровень пустозвонства
и двоемыслия»2. Так что же, круг замкнулся и выхода нет?
Читая Лифшица, мы видим два больших круга, один из которых
вписывается в другой. Первый — общая судьба революций, как она
представлена уже у Вико, когда после подъема народ, напишет по-
зднее Лифшиц, снова «загоняется в старый хлев». Второй круг, под-
робно исследованный Лифшицем в его философской публицистике,
представляет собой движение советского либерализма, начиная с
его зарождения во второй половине 30-х годов вплоть до замыкания
в наше время, когда этот либерализм плавно переходит не в консер-
ватизм даже, а в самую обычную, так сказать, «махровую» реакци-
онность. Если фадеевский либерализм видел, например, в Пушки-
не устремленного в будущее оптимиста, а всё, что не укладывалось
в эту схему, попросту отбрасывалось как несуществующее, то ныне
иная крайность. Однако эти крайности сходятся, представляя собой
две стороны одной медали. Перед нами не движение идей, а эволю-
ция социальной психологии определенной общественной силы, ко-
торая начала «демократизировать» СССР после успешно проведенной
кампании раскулачивания, а закончила не менее успешной «прива-
тизацией» всех национальных богатств, созданных страной на про-
тяжении рассматриваемого большого цикла.
В начале 8о-х годов Лифшиц напишет, что дело его жизни потер-
пело неудачу, воспрепятствовать тому, что он назвал «реставраци-
ей Бурбонов», не удалось. Таким образом, мы снова приходим к
выводу, что выхода из порочного круга нет?
’ Мих. Лифшиц. Собр. соч. в з т. Т. 3. М., 1988. С. 513.
2 Там же.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
374
Однако мысль, согласно которой «все основано на порочном
круге», прямо противоположна идее о том, что в истории безраз-
дельно царствует «железная» необходимость бессмысленного и бес-
пощадного, безальтернативного движения. Уже Вико, доказывает
Лифшиц в своей статье 1936 года, видел в реставрациях нечто боль-
шее, чем простое замыкание порочного круга. Даже тогда, когда
народ загонялся в старый хлев, он в то же время получал шанс для
возрождения и нового подъема. Правда, для реализации шанса не-
обходимо было пройти в щель между двумя крайностями, разор-
вать «дурное» тождество между ними. Ни у Вико, ни у Гегеля нет
еще сознательно разработанного метода и логики разрыва порочно-
го круга.
«Философия и эстетика Гегеля проникнуты убеждением в том, —
писал Лифшиц в одной из своих статей о Гегеле 1931 года,—что по
странной превратности мирового закона все хорошее должно погиб-
нуть. Прогрессивное движение может совершаться лишь за счет бес-
конечных жертв и народных бедствий, нищеты, подавления инди-
видуальности, драконовой дисциплины капитала, исчезновения
всякой привлекательности труда, падения целых областей духовной
культуры, каковы искусство и поэзия. Другого выхода, кроме при-
мирения с этими отрицательными чертами прогресса, Гегель не
знает. Он требует от художника противоестественной любви к тем
жизненным отношениям, которые, по его же собственному призна-
нию, изгоняют всякую любовь»1. Только Чернышевский, продолжа-
ет Лифшиц в своей статье о нем 1939 года, «сумел сделать важный
шаг вперед по отношению к философии Гегеля и дополнил его диа-
лектический анализ различием двух форм единства противополож-
ностей, двух путей прогресса — более тяжелого, страдательного для
большинства людей и более демократического, свободного и соот-
ветствующего своему понятию»1 2.
«Великие консерваторы человечества», согласно Лифшицу, были
консерваторами именно потому, что так или иначе не хотели и не
1 Мих. Лифшиц. Эстетика Гегеля и диалектический матери-
ализм // Собр. соч. в з т. Т. 2. М., 1986. С. 158.
2 Мих. Лифшиц. Философские взгляды Чернышевского //
Лифшиц Мих. Собр. соч. в з т. Т. 2. С. 168.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
375
могли принять отрицательных сторон прогресса, а вовсе не потому
что были противниками демократии. «Вторичные» консерватизм и
реакционность есть следствие «борьбы на два фронта» — и против
либерализма и против консерватизма в прямом смысле слова, т.е.
защиты того, что ушло в прошлое и должно там остаться.
Поэтому не только «вопреки» своим консервативным убеждени-
ям Аристофан, Шекспир и Бальзак—великие художники, но отча-
сти и «благодаря». Лучше встать в оппозицию к иному прогрессу,
чем быть его безоглядным апологетом.
С точки зрения абстрактно понятого прогресса «оправданы и
походы Чингисхана, оправданы и бедствия Тридцатилетней войны,
и гнусности плантаторов или фабрикантов, обогащавшихся за счет
детского труда. Всё это оправдано во имя тех результатов, которые
достигнуты или некогда будут достигнуты человечеством. Но такое
оправдание, не принимающее в расчет то обстоятельство, какой —
большой или малой — кровью будут достигнуты эти результаты,
есть парадокс и скорее осуждение, чем оправдание, потому что ле-
стница зла бесконечна»1.
Г. Лукач и Мих. Лифшиц называли своих противников в дискус-
сии 1939-1940 гг. «прогрессистами» (см. например, статью Г. Лука-
ча «Победа реализма» в освещении прогрессистов», Литературная
газета), хотя, разумеется, не могли по условиям времени прямо ска-
зать, в чем заключается суть их «прогрессизма»: в апологетике «ле-
стницы зла» — не только в предшествующий истории (абстрактно,
в общем виде социальное зло осуждалась), а в СССР 30-х годов, ибо
речь в процитированных выше статьях Лифшица шла, конечно, о
цене сталинской индустриализации. В подцензурной форме он очер-
тил свою позицию достаточно ясно, хотя и на далеком от современ-
ности материале. Какой ценой достигается прогресс? — вот вопрос
всех вопросов во все времена. Тот, кто романтически воспевает дви-
жение «всё выше, и выше...», отвлекаясь от цены, какой оплачено
это движение, как правило, либо еще очень наивен, либо является
уже законченным негодяем. Великие люди предшествующей исто-
рии были великими именно потому, что не хотели быть — и не бы-
ли — ни первыми, ни вторыми.
1 Там же. С. 168.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
376
Но суть дела не в их личных благих желаниях и намерениях.
«Великие консерваторы человечества» не столько в своих мечтах,
сколько по сути, в своем творчестве, его внутренней форме находи-
ли выход (насколько он был возможен) из трагических противоре-
чий времени, проходя в щель между прогрессизмом и реакционно-
стью в прямом смысле этого слова. Хотя «хорошего» во всех отноше-
ниях выхода не было, и надо было выбирать между плохим и очень
плохим. Настаивать на продолжении политики Робеспьера, полити-
ки плебейской расправы с аристократией после того, как обнаружи-
лись ее реакционные стороны, было, по мнению Пушкина, Гете или
Гегеля, «хуже», чем отказаться от идей революционной демократии.
Это консерватизм? — Без всякого сомнения. Но критикуя Просвеще-
ние и идею прогресса «любой ценой», даже встав на сторону терми-
дора, они открывали в самой реальности объективную истину, ко-
торая осуществлялась и не прогрессистами, и не термидорианцами,
а проходила между ними, являясь внутренней тенденцией самой
реальности. Голосом этой объективной тенденции прорыва пороч-
ного круга стало творчество и Аристофана, и Данте, и Шекспира.
Обращаясь к своим оппонентам, Лифшиц писал: «Скажите пря-
мо то, что вы думаете: высшей меркой литературного достоинства
являются идеалы прогрессивной буржуазной демократии, выражен-
ные в просветительной, якобинской или романтической форме; все
остальные течения литературной мысли относятся к достойной пре-
зрения “идеологии первой половины XIX века” (под которой в “дис-
куссии” 1939-1940 гг. понималась идеология термидора. —В. А.). Но
при этом придется отказать в “перспективности” не только Бальзаку.
Софокл и Данте, Шекспир и Пушкин, — гении мировой литературы,
изобразившие в суровых, истинных красках великую драму челове-
ческого общества, — все они не подходят под установленную вами
мерку прогрессивности, все они должны быть отброшены, если су-
дить о литературе с точки зрения идеалов буржуазной демократии.
Руководствуясь вашим критерием, придется поэта Рылеева поста-
вить выше Пушкина, а юношеские стихотворения Пушкина (“Воль-
ность” или “Деревня”) выше “Бориса Годунова” или “Медного всад-
ника”. Более того: любого из “певцов свободы” в красном колпаке
и домашних туфлях придется поставить выше Гете и Гейне, которые
не раз издевались над гражданской поэзией честного Михеля. Вы,
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
377
вероятно, сами не представляете, какие “неприятные последствия”
может иметь эта насмешка над историей литературы»’.
Лифшиц, конечно, понимал, что его «оппонентам» не было ни-
какого дела до истории литературы. Это были практические люди,
которые очень хорошо знали, «где раки зимуют». Поэтому, писал он,
лучше не участвовать в «дискуссиях», в которых «горячее стремление
“навести тень на плетень” скрыто под маской чисто научных инте-
ресов»2 — или под маской заботы о судьбах литературы. В. Ермилов,
И. Альтман, Е. Книпович и их многочисленные сторонники написа-
ли массу статей о том, что «течение» Лифшица-Лукача враждебно
советской литературе
«С точки зрения Лукача, — пишет В. Ермилов, — советский пи-
сатель не мыслит самостоятельно ни о “жизненных вопросах”, ни об
искусстве, а только иллюстрирует внешне усвоенные тезисы. Это
дает Лукачу возможность занять высокомерно-презрительную пози-
цию по отношению к советским писателям, третируя их с высоты
Гете и Бальзака.. ,»3. Но советских писателей, продолжает он, нельзя
мерить устаревшей меркой устарелой буржуазной литературы, мер-
кой Гете или Толстого, меркой «классической школы». О каком та-
ком «честном Михеле» в красном колпаке и домашних туфлях вы го-
ворите? Это клевета на советских писателей! Классические крите-
рии художественного таланта и мастерства устарели — перед нами,
продолжает Ермилов, «исторически новый тип писателя»4. Тезис о
появлении «нового типа писателя», к которому уже нельзя приме-
нять критерий старой классической литературы, повторяется Ерми-
ловым и его сторонниками многократно, они, как кувалдой, бьют
им в самое слабое, как тогда представлялось5, звено «течения».
'Мих.Лифшиц. Надоело//Литературнаягазета, 10.01.1940г.
2 Там же.
3 В. Ермилов. Г. Лукач и советская литература//Литератур-
ная газета, 1940, № 13.
4 Там же.
5 Если судить по сохранившимся стенограммам лекций
’ 1940 г. Лифшица в ИФЛИ, некоторые из слушателей пыта-
лись загнать его в угол вопросами об отношении «течения»
к советским писателям и социалистическому реализму.
Литературная дискуссия 1939-194° гг.
как поворотный пункт ...
378
Это была блестящая находка «фадеевского либерализма». С ее
помощью не представляло никакого труда доказать, что взгляды
представителей «течения» являются «идеологически вредными»,
враждебными марксизму-ленинизму, почвенническими, монархи-
ческими и одновременно декадентскими. Правда, к шестидесятым
годам обвинения в декадентстве как-то сами собой забылись1, зато
общепринятым стало мнение, согласно которому Лифшиц и Лукач
враждебны всему новому, передовому в искусстве, поскольку при-
меняют к оценке художественного творчества устарелые критерии
«классической школы».
Степень продуктивности новации В. Ермилова можно оценить
по тому факту, что точно такие же, буквально слово в слово, претен-
зии предъявляются Лифшицу и Лукачу сегодня, ставшие штампом
в современной научной литературе. И что бы ни писал Мих. Лифшиц
о высоко им ценимых Ф. Феллини, раннем А. Солженицыне, М. Бул-
гакове, А. Твардовском и других современных художниках—это ни-
чего в его устоявшейся репутации догматика, неспособного понять
творцов «нового типа», изменить не может. Ибо дело не в Ермило-
ве, М. Кагане или А. Гулыге — они выражают не просто свое личное
отношение к Лифшицу. Тут действуют объективные исторические
силы, действуют с неумолимостью магнита, притягивающего друг
к другу противоположные полюса. В. Ермилов и, например, М. Ка-
ган, если исходить из абстрактного сопоставления их взглядов, ко-
нечно, противоположности, крайности. Но это те крайности, кото-
рые отождествляются, образуя и логический, и исторический круг.
В черновом наброске письма Лукачу по случаю его семидесяти-
летия Лифшиц писал:
1В особенности после появления статьи Мих. Лифшица «По-
чему я не модернист?», посредством которой он пытался
пробить брешь «между двумя церквами», между «каплу-
нами тощими» (леваками и авангардистами) и «каплуна-
ми жирными» (соцреалистами). Конечно, вопрос о модер-
низме не прост, а Пикассо — не А. Жаров и не Лебедев-Ку-
мач. Но ответ на него Лифшиц имел уже в зо-х годах, как
о том свидетельствуют стенограммы его лекций, на кото-
рых Лифшиц разъяснял слушателям, чем Лебедев-Кумач
отличается от Мейерхольда и Эйзенштейна.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
379
«Дорогой друг!
Вы живете разносторонней, активной, цельной жизнью. Я при-
ветствую Вас из глубины моего уединения, которое оказалось таким
же, каким оно было тридцать лет назад. В те времена меня понимал
небольшой слой людей, немного игравших в “школу”, хотя это было
опасно, а сейчас передо мною десятки свободно резвящихся школ и
течений, в которых я вижу мало серьезного и которые в свою оче-
редь смотрят на меня как на обломок поросшей мхом старинной
архитектуры.
Это тем более забавно, что когда мы впервые встретились, я был
вдвое моложе Вас, а Вам должно было быть в 1930 году немногим
больше сорока лет. В те времена я только что понял, что социал [ис-
тическая] революция это не вступление в тысячелетнее царство, а
движение, практическая и мучительная история. Да, история не пре-
кратилась после Октября 1917-го, вот и все, вот самая глубокая ис-
тина. И делается эта история людьми, которые часто не понимают
смысл своих поступков, как это бывало и прежде, то есть подчиня-
ясь законам иронии истории и хитрости разума.
Тициан в “Динарии кесаря” представил итальянского гуманиста
зрелой эпохи, изобразив его в образе Христа, образе тонком и ари-
стократическом. Ему противостоит грубый плебей с мускулистым
темным телом, настоящий (?) Калибан, искушающий этого либер-
тена-спасителя знаменитым вопросом — нужно ли платить подати
кесарю? И Христос отвечает ему с тонкой, неуловимой улыбкой как
Декарт, писавший Мерсенну, что он не желает никого убеждать, ни-
чего проповедовать и, одним словом, что его идеи не представляют
опасности для финансовой системы кесаря. Когда за несколько лет
до этого, в 1619 году Лучимо Ванини на площади в Тулузе вырвали
язык прежде, чем сжечь, толпа заревела от энтузиазма. А между тем
Ванини думал только о благе этих людей. О, Sancta simplicitas! Читая
сочинения итальянского мыслителя Помпонацци, его теорию двух
истин — мы лучше понимаем истинный смысл картины Тициана.
Это обращение к Тициану может передать мои мысли непра-
вильно. Я вовсе не утверждаю, что мы с вами вели двойную бухгал-
терию даже в те трудные годы, когда... Нет, это наши противники
/.../ вели двойную бухгалтерию, ибо это были мелкие лавочники,
наряженные коммунистами. Народ, говорит где-то Бальзак, унасле-
Литературная дискуссия I939-I94o гг.
как поворотный пункт ...
380
довал всех льстецов королевской власти. Первое явление этого типа
было заметно уже в Афинах V века, при демократии. Люди, обвиняв-
шие друг друга в порыве демократического рвения, назывались тог-
да сикофантами. Их было так много, что пришлось установить осо-
бые правила (?) для доносчиков — если их донос не оправдывался.
Великая мудрая древность! Если бы новое время было достойно
ее. Оно, кажется, сравнимо с древним миром в преданности плебис-
цитарным властелинам, чей образ выбит на динариях. “Ты наше
красное солнышко!” — кричала толпа, бежавшая за колесницей ту-
пицы Калигулы. “Ты наше самое-самое красное солнышко!” — кри-
чат в настоящее время толпы бедных людей, привлекающие многие
утонченные и премудрые (?) умы на Западе своим честным фанатиз-
мом. История не кончилась, она продолжается.
Да, наша жизнь в тридцатых годах не была двойной бухгалтери-
ей. Это был всемирно-исторический взгляд на события текущих
дней. Такой взгляд, предполагающий иногда и отчасти уединение,
уход в себя и это...»1.
Тонкая, неуловимая улыбка либертена-Спасителя, обращенная
к грубому плебею—не насмешка манипулятора, эксплуатирующе-
го народные пороки. Это улыбка человека, способного, говоря сло-
вами Пушкина, понять необходимость и простить оной.
Спаситель в библейской легенде о динарии и у Тициана—кон-
серватор, принимающий финансовую систему кесаря. Но власть
имущие, первосвященники, книжники и фарисеи своим «классовым
чутьем» (что прекрасно показано М. Булгаковым в его романе) вер-
но угадали во «вторичном консерватизме» нечто более опасное, чем
иной бунт с оружием в руках. Бунт можно усмирить, но непобеди-
ма сила сопротивления, проходящая в «щель» между прогрессиста-
ми и ретроградами всех времен, ибо это сила абсолютная, растущая
из глубочайших недр бытия, способная разорвать ложный круг. Вот,
по мнению Лифшица, ключ к аристократизму Леонардо и Пушкина
с его «шестисотлетним дворянством», ключ к пониманию трагедии
«великих консерваторов человечества», скрытой за уравновешенно-
стью классического искусства.
' Здесь рукопись обрывается —В. А. Цит. по: Мих. Лифшиц.
Лукач // Вопросы философии. 2002. № 12. С. 138-139.
«Вторичный» консерватизм —
разрыв порочного круга
381
На основе анализа их творчества возникла «теория тожеств»
Мих. Лифшица, основной смысл которой — общая методология про-
рыва «порочного круга». Классика, по мнению Лифшица, существует
не только в искусстве, но и в обществе, природе. Это — средний мир,
однако представляющий собой прямую противоположность «искус-
ственным средним решениям» либералов, псевдокомпромиссу, на
деле служащему подавлению низов посредством изощренного обма-
на. Подобно тому, как мы, представители «среднего мира» в бездон-
ном океане Космоса, можем понимать то, что лежит за пределами
нашего бытия, понимать то, что еще не доросло до «классики» при-
роды, например, микромир (а не наоборот), подобно этому класси-
ческое искусствознание способно понимать и неклассическое искус-
ство, тогда как с позиций, например, авангарда классика принципи-
ально недоступна верному истолкованию.
Средний мир есть не уход от трагедии, а снятие ее в гегелевском
смысле этого понятия. Средний мир возникает не как сумма край-
ностей, а в результате прохождения в «щель» между ними, он—про-
рыв порочного круга и создание на его месте истинного цикла.
История России в целом и в особенности после 1917 года мень-
ше всего напоминала «средний мир», напротив, по мнению Лифши-
ца, Россия в отличие от Запада не искала удобных средних путей:
«климат нашей культуры резко континентальный», и «контрасты ее
сильны»1.
Между тем, продолжал Лифшиц в своих лекциях о русской куль-
туре 1943 года, «наша история создала такую основу для разрешения
контрастов развития, такие богатые возможности, которых никогда
раньше в истории не было и которые подводят нас к идее мирового
значения русской культуры»2. Сегодня эти слова звучат как яркий
пример несбывшегося пророчества. Настрою современных умов го-
раздо ближе отношение к прошлому Вальтера Беньямина, как оно
выразилось в его заметках «О понятии истории» и в «Теологическо-
политическом фрагменте». Но, на мой взгляд, и программа возрож-
дения прошлого, которую выдвинул Лифшиц в тридцатые годы и ко-
торой он следовал на протяжении жизни, способна постоять за себя.
'ЛифшицМих. Очерки русской культуры. М., 1995. С. 92-93.
2 Там же. С. 94.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
382
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum»
Передо мной—пожелтевшие странички, хранящие-
ся в пыльных папках архива Мих. Лифшица. Нельзя, кажется, приду-
мать более впечатляющего образа для понятия «бессилия духа», чем
вид этих бумажек. А что прочно на этой земле? Перед лицом вечно-
сти любые монументы и пирамиды, воздвигая которые человеческий
род пытался увековечить себя,—не более чем истлевающая бумага.
Впрочем, мысль, в соответствии с которой все суета и томление
духа, столь же справедлива, как и прямо ей противоположная. Са-
мое слабое, учили китайские мудрецы, есть самое сильное. Вернее,
оно может при определенных условиях стать самым сильным. Не-
давно я прочитал в журнале «Знамя», что советский режим был под-
рублен двумя произведениями — рассказом А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» и статьей Мих. Лифшица «Дневник Мари-
этты Шагинян».1 Да, да, той самой статьей, история которой впле-
лась в «Дело о диссертации». Что представляли собой в сравнении с
могучей государственной машиной, черпавшей свою силу в том чис-
ле из непробиваемой косности умов, эти два человека — полупри-
душенный, больной раком зэк и загнанный в подполье, пробиваю-
щийся случайными заработками опальный философ-марксист?
Однако и вторая схема, прямо противоположная первой, стала
предметом насмешек и презрения. Массовая культура выжала из нее
все, что можно. Биографии великих художников, например, амери-
канский фильм о Ван Гоге 50-х годов, пишет Доналд Прециози, — ва-
риант современной агиографии. И как в житиях святых, мы видим
в этих биографиях вариации на одну и ту же тему: то, что казалось
слабым и ничтожным, восстало из праха и беспредельно, подобно
факиру или богу, господствует над миром. Вернее, как Джеймс Бонд.
Горе тому, кто воспринял слишком всерьез эту вторую схему!
Солженицын въехал в посткоммунистическую Россию как пророк, а
ныне он вызывает не больше интереса, чем его многотомное «Крас-
ное колесо», которое едва ли кто дочитал до конца. Тогда как рейтинг
бывшего офицера КГБ, ставшего президентом освобожденной от то-
1 Знамя, 2оо1. № I. С. 17.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
383
талитариздр России, неизменно высок. Так погибает слава мира сего!
Банальная история, не правда ли?
Но банален, разумеется, и разоблачительный пафос по поводу
банальности. А что не банально и кто не банален? Постмодернизм,
который сумел посмеяться над тем, как смешна попытка высмеять
всё смешное и банальное. Однако постоянно и неустанно демонст-
рируя тленность всего и вся, не стремятся ли лидеры постмодерниз-
ма быть неизменно актуальными? Господствовать, как факир? Или
тот же Джеймс Бонд. Разве это не банально? Так одна крайность
рождает другую. Власти этой универсальной закономерности не
может избежать никто.
Впрочем, это тоже не вся истина. Постмодернизм, как все реаль-
ное, не вмещается полностью в нее. А где же истина?
Если читающему эти строки придет в голову, что мы уклонились
от заявленной темы, то он не совсем прав. Мы несколько отклони-
лись для того, чтобы оказаться в самом центре. И это, поверьте, не
игра словами. Потому что приведенные выше рассуждения — нача-
ло «теории тождеств» Мих. Лифшица. Продолжим их.
Вот набросок из папки, носящей название «Первая философия»:
«То, что еще не устарело, не может быть и вечным. Оно несет на себе
отпечаток дня, ограниченности. Только устаревшее становится веч-
ным, приобретает формальное значение для всего последующего.
Вечность есть форма преходящего, реального, конечного. Словом,
вечное и временное тождественны. Нужно делить не на вечное и
преходящее. Это обычная метафизическая абстракция (требует осо-
бого термина). Нужно делить на две вечности и две временности.
Делить и во всей совокупности создаваемого и в каждом явлении,
достойном вечности, отделяя от него не просто устаревшее и прехо-
дящее, а вечно-преходящее, выделяя и подтверждая сохранность
преходяще-вечного. Ср. Белинский о “Евгении Онегине” — устарело.
Но если бы не устарело, то и не... Устаревшее освобождает истину.
Устареет и станет вечным!»
Обратная теорема, конечно, не верна, продолжает Лифшиц. Это
означает, что нужно «дифференцировать вечно-преходящее и пре-
ходяще-вечное». Есть два тандема, два единства противоположнос-
тей. Ограничиться их выявлением — мало. Каждый из этих танде-
мов— банальность. Что-то похожее на истину проскальзывает меж-
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
384
ду ними. И — вспыхнув—умирает. Но не совсем и не навсегда. Ис-
тина сохраняет после себя след. Более того, круговые движения мы-
сли и самой жизни, если они представляют истинный цикл, имеют,
по словам Лифшица, «направление движения», образуют то, что в
' классической философской традиции от Лактанция до Гегеля назы-
валось The Great Chain of Being — «великая цепь бытия».
Дело жизни Лифшица закончилось поражением, по его собст-
венному признанию. Но есть и «весьма удавшиеся неудачи», как
писал Жака Деррида о «Московском дневнике» Вальтера Беньями-
на. Поражение иногда оборачивается победой и наоборот. Правда,
поражение-победа Вальтера Беньямина качественно отлична от по-
беды-поражения Мих. Лифшица. Сравнивая1 эти два тандема, я на-
деюсь, что нечто, отличное от пустых «разговоров по поводу» или
игры словами, проскользнет между ними.
# г. Два самоубийства
Напомню (см. главу первую): когда Вальтер Беньямин в декаб-
ре 1926 года приехал по приглашению Аси Лацис в Москву, спаса-
ясь от «смертельной меланхолии рождественских дней»1 2, он обнару-
жил, что в стране «начался процесс реставрации»3. Побывав на спек-
такле «Дни Турбиных» во МХАТе, Беньямин приходит к тому же
заключению, что и «левые»4: «пьеса Булгакова — совершеннейшая
подрывная провокация... Сопротивление, оказанное постановке
коммунистами, обосновано и понятно»5.
1 Пожалуй, первым, кто обратил внимание на определен-
ную близость идей Лифшица и Беньямина — при их прин-
ципиальном различии, —был профессор Лондонского уни-
верситета Стэнли Митчелл, см. его статью Mitchell S. Mikhail
Alexandrovich Lifshits (1905-1983), Oxford Art Journal, v.20,
№ 2,1997, p. 30.
2 Беньямин В. Московский дневник. М., 1997- С. 50.
3 Там же. С. 78.
4 Маяковский в стихотворении «Весенняя ночь» (1928) пи-
сал: «На ложу в окно театральных касс / тыкая ногтем
лаковым, / он (буржуй.—В. А.) дает социальный наказ /
на “Дни Турбиных” — Булгаковым».
5 Беньямин В. Московский дневник. С. 36.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
385
В современной России Беньямин — автор известный и даже, в
глазах интеллектуальной элиты, — респектабельный. В наступив-
шей для М. Булгакова, противника революции, и немецкого мысли-
теля, ее страстного приверженца, «historia aeterna» они не только
нашли успокоение, но и соединились в то единство, что объединя-
ет всех, кто заслужил память потомства. Впрочем, пока еще наша ис-
торическая память далека от примиряющего успокоения абсолют-
ной истины. Она избирательна и зла. Поднимая до высот небесно-
го сияния одних, она сбрасывает в адскую мглу других. Так, без
всякого сомнения, для любого «нормального» российского литера-
туроведа и искусствоведа сближение имен Булгакова и Лифшица —
это даже не парадокс, а нонсенс. Противники «течения» (А. Фадеев,
В.Ермилов, В. Кирпотин и др.) называли его во время дискуссии
1939-1940 годов не только «декадентским», но одновременно и «по-
чвенническим», даже чуть ли не «монархическим», проповедующим
термидор и реставрацию, то есть обвиняли Лифшица и его соратни-
ков примерно в тех же грехах, за которые левые (Авербах, Мейер-
хольд, Маяковский и др.) клеймили Михаила Булгакова.
Сам Лифшиц объяснял причину своего раскола с интеллигенци-
ей тем, что влиятельные, определяющие общественное мнение либе-
ральные круги «шестидесятников» были только на словах — или в
своем сознании —- противниками сталинизма. На самом деле совет-
ский либерализм (по закону «крайности сходятся»)—наследник «ста-
линских термидорианцев», продолжая дело которых он, по мнению
Лифшица, неизбежно приведет страну к возрождению самых гнусных
черт российской «державности», вплоть до черносотенства1. В1940 го-
ду Лифшиц написал упоминавшуюся выше статью о либерализме
А. Фадеева. На наших глазах вчерашние «демократы» стали правыми.
Что будет завтра? Что бы ни было, ясно одно — на пути колеса нео-
твратимой судьбы могут встать только самоубийцы.
1 Немало фактов в «путинской» России подтверждают про-
гноз Лифшица. Так, например, в одной из передач «апо-
литичного» российского телеканала «Культура» летом
2оо1 года было сказано, что черносотенство—-дело вовсе
не плохое, а даже моральное, поскольку в нем наш новый
святой, царь Николай И, принимал активное участие.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
386
Беньямин покончил с собой, спасаясь от фашизма, в 1940 году.
Журнал «Литературный критик», вокруг которого группировалось
«течение», был закрыт постановлением ЦК ВКП(б) в том же 1940 го-
ду. Нечто подобное самоубийству—интеллектуальному, а не физи-
ческому—Лифшиц совершил значительно позднее, в 1966 году, ко-
гда в «Литературной газете» был опубликован его памфлет «Почему
я не модернист?». Может быть, он сделал это из отвращения к «ми-
фологии своей биографии», которая стала непременным атрибутом
современной художественной жизни. И не только художественной
(вспомним, например, о политической карьере Б. Ельцина). Или
скорее из отвращения к советскому «фадеевскому» либерализму, с
которым не желал иметь ничего общего тогда, когда он набирал си-
лу и нешуточное влияние. Вот слова Лифшица (из папки «Pro domo
sua»), которые — ключ к его реальной политике: «Я люблю либера-
лов, когда их не жалуют, и ортодоксов, когда у них руки коротки».
Как ни пытался Лифшиц объяснить читателю, что его критика
модернизма имеет в виду прежде всего чудовищную опасность ирра-
ционального бунта снизу, поощряемого и провоцируемого сверху, —
его слова не доходили, казались не актуальными или, еще хуже, по-
вторением старого догматического бреда. Стэнли Митчелл, имея в
виду полемику Лифшица, сравнивает его с фигурой богатыря1, героя
русского эпоса. Но чем больше этот богатырь, как Святогор, пытал-
ся поднять суму переметную, тем больше сам уходил в землю.
И Беньямин, и Лифшиц видели дело своей жизни в том, чтобы
прорвать порочный круг—взорвать «континуум истории» (Бенья-
мин), пройти в «щель» между двумя крайностями, двумя тандема-
ми (Лифшиц). И тот, и другой полагали, что успех прорыва в буду-
щее возможен благодаря возрождению прошлого, «спасению» его.
# 2. Как спасти прошлое?
Примерно в те же годы, когда Мих. Лифшиц выдвинул програм-
му Restauratio Magna, Беньямин пишет тезисы «О понятии истории»,
к которым примыкает «Теологически-политический фрагмент». Опре-
деляющим для смысла этих тезисов является содержащееся в «Тео-
1 См. Mitchell, S. Mikhail Alexandrovich Lifshits (1905-1983),
Oxford Art Journal, v. 20, № 2,1997, p. 37-
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum-
387
логически-политическом фрагменте» понятие духовного «restitutio
in integrum»’ — беньяминовская программа восстановления про-
шлопжак единственный путь обретения подлинного (коммунисти-
ческого) будущего. «Лишь освобожденному человечеству,—подчер-
кивал Беньямин, — выпадало прошлого вдоволь».
«Тигриный прыжок в прошлое» «под открытым небом истории»
предполагает взрыв континуума истории. Прошлое, как оно фактичес-
ки состоялось—это юдоль скорби, потерпевшее поражение прошлое,
и оно нуждается в освобождении. Откуда придет оно? Подлинного ос-
вобождения, полагал Беньямин, нельзя ждать от стихийного движения
истории, автоматически-детерминистского (технического) прогрес-
са, на который уповают позитивисты и социал-демократы. Тигриный
прыжок освобождения не детерминирован, он свободен, как приход
Мессии, каждая секунда реального, а не пустого и гомогенного вре-
мени истории—маленькая дверь, «через которую мог войти Мессия».
Беньямин вводит в исторический материализм понятие чуда. К
этому же понятию неоднократно обращался и Ленин, объясняя, на-
пример, причины победы большевиков в гражданской войне. По
всём законам здравого смысла и реальной политики большевики
должны были проиграть, ибо мировая революция потерпела пора-
жение. Строя планы на будущее для революционной России, оказав-
шейся в одиночестве, Ленин прибегал к логике, в чем-то напоминав-
шей логику абсурда Кьеркегора. «Полная безвыходность положе-
ния, — писал он незадолго до своей смерти, — открывает для России
возможность не совсем обычного движения к цивилизации»2.
Но ленинское понимание чуда в истории противоположно бенья-
миновскому, как, разумеется, и кьеркегоровскому. Ленин не отрица-
ет детерминизма, «чудо» есть полюс его. Два полюса—спонтанность
и причинность, стихийность и упорядоченность — могут обрести
органическое, «симфоническое», как выражался Ленин, единство, а
могут соединиться по принципу «крайности сходятся», и тогда вме-
сто симфонии мы имеем какофонию. 1 1 2
1 Восстановление в первоначальном виде (лат.). См. Веп-
< • jamin IV. Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsaetze. Suhr-
j kamp, 1965. S. 96.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 45- М., 1970. С. 380.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
388
Беньяминовская логика—это логика, в которой единство про-
тивоположностей возможно только как парадоксальное тождество
взаимоисключающих крайностей. Освобождение—тигриный пры-
жок из сферы закономерности, следовательно, «железный» детерми-
низм существует, он реален? Как полная противоположность детер-
минизму «прыжок» освобождения есть «метод нигилизма»: «отри-
цание становится его конструктивным принципом», замечает по
поводу логики Беньямина Г. Маркузе1.
Беньямин пытается установить какую-то связь между полюсами,
но связь эта парадоксальна. Согласно «теории тождеств» Лифшица,
существует по крайней мере два типа этой связи: симфоническое
(гармоническое) и какофоническое (или, по терминологии Лифши-
ца, гипертоническое). Связь заключается в возможности перехода
от одной противоположности в другую, но весь вопрос в характере
этой связи.
У Беньямина революция предстает как сила абсолютно отрица-
тельная, нигилистическая и именно поэтому способная восстановить
прошлое в преображенном виде. Для Лифшица революция пересоз-
дает настоящее в силу того, что спасает прошлое от его нигилисти-
ческого отрицания в настоящем. «Революция как “сила хранитель-
ная”,— писал в своих заметках Мих. Лифшиц. —Я был одиноким в
своем веке, понимающем это. И до сих пор одинок. Лукач? Да, от-
части...»1 2.
Согласно Лифшицу, каждая эпоха относительно самоценна, не-
сет оправдание в самой себе. И даже поражение угнетенных масс в
прошлом не абсолютно: потерпевшие поражение имеют или в опре-
деленные периоды истории могли иметь известные преимущества
на своей стороне (гегелевская диалектика раба и господина указы-
вает на эту сторону дела). Низы способны к энантиодромии не толь-
ко в утопическом будущем, но и в реальном времени прошлого и
настоящего. Анализ Лифшицем сцены охоты в «Войне и мире» Тол-
стого убеждает в том, что поражение крестьянина было не абсолют-
1 Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsaetze.
Nachwort von H. Marcuse. S. 105
2 См. публикацию из архива Лифшица «Революция как си-
ла хранительная» // Независимая газета, 03.11.95 г. С. 5.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum
389
ным, он имел на своей стороне некоторые важные преимущества пе-
ред барином^ что выражалась и в моральных, и в эстетических цен-
ностях, создаваемых униженными на протяжении веков. Время от
времени эти ценности побеждали и возрождались, становились цен-
ностями всего общества—о чем свидетельствует, например, исто-
рия христианства. Впрочем, как неоднократно подчеркивал Лиф-
шиц, народ не всегда прав, и потому по крайней мере некоторые его
поражения (в прошлом и настоящем) вполне заслужены.
Таким образом, по мнению Лифшица, сохранению подлежат уже
одержанные в прошлом победы. Впрочем, иные поражения ценнее
побед, и они тоже имеют право на сохранение в настоящем. Это не
значит, что нет разницы между победой и поражением, но как вся-
кая граница, она все же достаточно условна и нуждается в конкрет-
ном анализе. Этот анализ и есть важнейшая особенность Restauratio
Magna — в противоположность эсхатологическому сознанию, на-
пример, героев «Чевенгура» Андрея Платонова, которые одним ма-
хом хотят разделаться с настоящим—чтобы, подобно Н.Федорову,
также одним махом возродить погибших отцов и, дав им бессмер-
тие, спасти от поражения, которое они потерпели в прошлом.
Одним словом, разница между «теорией тождеств» Лифшица и
философией Беньямина примерно такая, какая отделяет суперрево-
люционное сознание героев «Чевенгура» от художественной урав-
новешенности произведений Платонова его зрелого периода. Имен-
но потому что Беньямин страстно ненавидел старое общество с его
неизбывной «тоской рождественских дней» и был сторонником его
радикальнейшего отрицания, он до конца своей жизни испытывал
мучительную ностальгию по прошлому, причем тому прошлому,
которое вызывало у него тоску. Его революционность была обрат-
ной стороной этой тоски.
Революция — не бунт, подчеркивал Маркс. От бунта она отлича-
ется тем, что далеко не все в прошлом подвергает отрицанию, напро-
тив, она радикальна потому, что сохраняет его великую тенденцию,
связывает разорванные нити и продолжает «великую цепь бытия».
Возрождение истинного в прошлом, полагал Лифшиц, позволяет
радикально,порвать с «тоской рождественских дней»—то есть ком-
плексом страдающего, лишнего, несчастного человека — и вывести
человечество в иное измерение.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
390
Возвращение к таким понятиям, как красота, гуманизм, истина,
идеал классики, казались революционно настроенной интеллигенции
в 20-30-х годах контрреволюционными. Лифшиц тоже признавал,
что «возвращение к классике может быть реакционно»1, как это с
очевидностью показало фашистское лжеклассическое искусство и
«иллюстративная» литература социалистического реализма. Поэто-
му программа Лифшица предполагала борьбу на два фронта, пред-
ставляла собой попытку пройти в «щель» между двумя крайностями.
Разумеется, в результате он вызвал на себя огонь и со стороны ле-
вых («каплунов тощих», как он их называл), и со стороны сталинс-
ких термидорианцев, сторонников реставрации империи («каплу-
нов жирных»). Чем ближе была действительная реставрация, насту-
пившая в 90-х годах, тем проблематичнее становилось положение
Лифшица. И всего человечества, попавшего в порочный круг.
# 3. Союз с «Князем Тьмы» и Tertium datur
Незадолго до своей смерти Лифшиц напишет: «Необходимо свя-
зать теорию цикла с моей старой теорией 30-х годов о великих кон-
серваторах человечества (—> максимум «свободного духовного твор-
чества»), Они представляют собой единственно возможный выход из
круга в их время. Как представители «свободного духовного творче-
ства» они принадлежат будущему. Но вместе с тем это одновремен-
но и бунтари с элементом фатального сверхчеловечества, в большей
или меньшей степени (таковы люди эпохи Возрождения, таковы муд-
рецы греческой философии) и неизбежно — представители опреде-
ленного господствующего класса, в рамках которого они действуют
(опять же—в большей или меньшей степени), ибо они должны и от-
делить себя от «русского бунта, бессмысленного и беспощадного»1 2.
Позволим себе проиллюстрировать эту мысль, обращаясь к зло-
бодневной проблематике. Независимо оттого, кем были организова-
ны террористические акты в США, объективно они имеют своей це-
лью столкнуть два лагеря — бедных и богатых, Юг и Север, мировой
город и мировую деревню и так далее—в непримиримом военном
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 230 «Встречный бой в
темноте». С. 16.
2 Архив Мих. Лифшица, папка № 230. С. 6.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
391
конфликте. Но этот конфликт представляет собой вовсе не револю-
цию, напротив, он возбуждает в низах мирового сообщества'дикий
протест, иррациональный взрыв, некое подобие «русского бунта» или
восстания тайпинов. Богатые бессильны против революции, одна-
ко иррациональным бунтом они могут управлять в своих интересах.
Разумеется, не Екатерина II организовала пугачевский бунт, но ее
политика этот бунт спровоцировала. А его подавление значительно
укрепило власть дворянства. Вот почему этот бунт был не только бес-
пощадным, но и бессмысленным. Впрочем, в конкретных обстоя-
тельствах России конца XVIII века он имел некоторые оправдания.
По мере развития общественных противоречий управляемый
бунт становится чуть ли не единственным средством спасения вер-
хов. Пример тому— фашизм как бунт низов, обращенный на словах
против капитала, а на деле сохраняющий его в государственно-тер-
рористической форме. Средством спасения неправедных верхов
оказывается их — гласный или негласный — союз с мировым пле-
бейством, отрицающим все, что выше понимания последнего: куль-
туру, науку, высокое искусство, нравственные ценности. Такова суть
цезаризма, начиная с самых древних времен и вплоть до нынешне-
го дня. Лифшицем написаны многие страницы, подтверждающие
этот тезис на самом современном материале.
В заметках Мих. Лифшица можно встретить упоминания о «марк-
систской концепции Черта» — реальной общественной силе, являю-
щейся карой, возмездием за преступления и «медленную нравственную
порчу», если воспользоваться выражением Александра Блока. Такой
карой за коллективизацию и другие преступления большевизма
явился, по мнению Лифшица, сталинский режим в 30-е годы.
Многие, пострадавшие не столько от революции, сколько от та-
ких ее служителей, как Берлиоз, заключили с режимом, снявшим
голову с «берлиозов», своеобразный союз1. И горько расплатились за
1 Характерны в этом смысле строки воспоминаний Лиф-
шица: «Андрей Платонов, сидя за стопкой водки в нашей
доброй компании и узнав, что арестован Динамов или
, другой какой-то сатрап, окруженный теперь венцом му-
ченичества, сказал: “Братцы, а не в нашу ли это пользу?”»,
см. «Свободная мысль», 1992, № 6. С. 106.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
392
этот союз, потому что он был связью с силой дьявольской. Это хо-
рошо понимал Булгаков. Но в том-то и дело, что к 30-м годам, по
мнению Лифшица, в России реального выбора уже не было. Обе
крайности — сталинские термидорианцы (реставрировавшие до
некоторой степени российскую империю) и левые (троцкисты с их
попытками начать новую всемирную пролетарскую революцию) —
были хуже. «Созданная мною в тридцатых годах теория «борьбы на
два фронта», — писал позднее Лифшиц, — как объяснение независи-
мой позиции классиков литературы, представителей «свободного
духовного творчества», была, конечно, не только исторической по-
зицией. Она относилась к современной реальности, к ее поляриза-
ции, к отсутствию выбора, к невозможности «третьей силы». Она
означала доказательство того, что не в банальном политическом
смысле действительного невозможного сидения между двух стуль-
ев, не в смысле защиты оппозиции против Сталина, а в другом, бо-
лее высоком смысле независимая, третья позиция возможна и необ-
ходима — теперь это выяснилось исторически, тогда это могло быть
лишь обозначено в философском смысле, проведено пунктиром»'.
По странной, дьявольской иронии вещей люди, склонные к смер-
тельной тоске рождественских дней, заключили союз с Берлиозом —
против «белогвардейца» Булгакова. К этому союзу их привела идея
«мировой политики, метод которой следует назвать нигилизмом»1 2.
Но лучше, считал Лифшиц, «служить Князю Тьмы, чем мелким беси-
кам дневного мира», лучше просвещенная монархия, чем возбужда-
емая с темными целями сверху анархия. Таков, по мнению Лифши-
ца, был выбор «великих консерваторов человечества» — их « Tertium
datur по отношению к прот(тиворечию? противостоянию? — не-
разб.) верхов и низов»3. Таков был выбор и самого Лифшица. Как и
Михаила Булгакова.
Те, кто ныне упрекает и того, и другого за союз со сталинизмом,
упускают из вида другую, абсолютно необходимую составляющую
этого союза, без которой он перестает быть Tertium datur, а превра-
щается в обыкновенную подлость. Напомним, что великие консерва-
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 230. С. 18.
2 Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt und andere Aufcaetze. S. 96.
3 Архив Мих. Лифшица, папка № 230. С. 6.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
393
торы человечества, согласно Лифшицу, «это одновременно и бунта-
ри» — ровно настолько, насколько бунт открывает им дорогу к сво-
бодному творчеству, и консерваторы ровно настолько, насколько
консерватизм предохраняет их от впадения в бунт, бессмысленный
и беспощадный. В эту щель между отрицанием и утверждением про-
шло великое искусство, в эту щель смог пройти и Михаил Булгаков,
пытавшийся заключить союз со Сталиным против Берлиозов, кри-
тиков Латунских (Беловых, Васильевых, Астаховых, Лесючевских —
см. выше «Дело о диссертации») и прочей мелкой сволочи1, но не ус-
тупивший Сталину ни в чем — по крайней мере в своем главном
романе, — что касалось художественной правды. И потому в конеч-
ном счете погибший, ибо за союз с «Князем Тьмы», даже за такой ус-
ловный, не состоявшийся союз, как у Булгакова со Сталиным, надо
платить не только жизнью, но и спасением души. Однако по проше-
ствии времени оказалось, что «консерватор» Булгаков с несравнен-
но большей художественной сулой отрицает созданную Сталиным
империю, чем те, кто сделал тотальный бунт альфой и омегой свое-
го творчества — Маяковский, Мейерхольд и другие «левые»1 2.
Разумеется, Лифшиц видел разницу между искренним нигили-
стом Беньямином или Мейерхольдом, талант и личная честность
которого для него были несомненными, и «дубовой ортодоксией»
официального советского марксизма, хотя и назвал в своих архи-
вных заметках беньяминовскую концепцию репродуцируемости
произведений современного искусства «глупой». Она глупа не пото-
му, что глуп Беньямин. Напротив, Беньямин умен, как умны и очень
талантливы, по признанию Лифшица, такие декаденты, как Бодлер
и Ван Гог. Но хотя бывают хорошие модернисты — нет хорошего
1 Мольер, герой романа и пьесы Булгакова, пытался войти
в негласное соглашение с Людовиком XIV—против тар-
’ тюфов, и тоже, как и Булгаков, потерпел поражение.
2 Частица истины в скандально известной благодаря сво-
' им крайним выводам концепции социалистического ре-
ализма Бориса Гройса заключается в том, что певцы ста-
линской эпохи были продолжателями дела «левого» искус-
ства— авангардизма. Впрочем, об этом гораздо раньше
Гройса писал Лифшиц.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
394
модернизма. Модернизм в целом есть воплощение управляемого
бунта против культуры, однако, как неоднократно подчеркивал Лиф-
шиц, он — вовсе не маразм, а сложная метаструктура духа. «Глупая»
концепция Беньямина такова, что в полемике с ней Лифшиц вынуж-
ден был пустить в ход тяжелую артиллерию своей философии — «от-
ногносеологию» и «теорию тождеств».
# 4. Современное искусство и «новая аура»
И Беньямин, и Лифшиц выдвигают лозунг—искусство умерло,
да здравствует искусство! Но если для Беньямина умирает классичес-
кое искусство и рождается авангардистское (синоним пролетарско-
го), то для Лифшица в процессе развития пролетарской революции
и социализма возродиться должна именно классика. Классика — это
идеальный случай самой объективной реальности, возможный как
в обществе, так и в природе. Так, например, человек — это класси-
ка природы. Для современной цивилизации характерен прогресс не
гармонический, а гипертонический, какофонический, по типу «край-
ности сходятся». Выражением этого второго типа прогресса, соглас-
но Лифшицу, является искусство авангарда.
На первый взгляд кажется, что оба они ошибались: социалисти-
ческий реализм в СССР был равно далек как от подлинной класси-
ки, так и от авангарда. Более внимательный анализ показывает, что
они были правы — разумеется, каждый по-своему.
В конце жизни Лифшиц написал, что «битву можно считать про-
игранной». Но в целом дело его жизни было — если вновь вспомнить
слова Деррида о «Московском дневнике» Беньямина, «весьма удав-
шейся неудачей»1. Разумеется, в ином смысле, чем тот, что вклады-
вает в это понятие Деррида.
В «щель» времени Лифшиц и «течение» пытались провести про-
грамму, которая заведомо не была осуществима в реальных обсто-
ятельствах не только России, но и всего остального мира. Это про-
грамма реставрации не реакционных и консервативных социальных
режимов прошлого: речь шла о великом Возвращении к добэконов-
ским, догалилиевским представлениям о мире, свойственным всем
1 Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М.,
1993. С. 66.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum-.
395
классическим периодам в истории искусства — греческой классике
и Возрождению в первую очередь, когда в центре мира находился
человек. Но в отличие от различных вариантов классицизма пред-
полагалось не искусственное, под диктатом строгой самодисципли-
ны, а естественное непосредственное рождение новой классики, при-
чем на основе достижений «галилеевских» естественных наук.
При всей своей несбыточности эта программа не была простой
утопией. В советском искусстве зо-х годов возникали, подобно чуду,
явления, напоминавшие о классике и не имеющие ничего общего с
ложным классицизмом сталинского «ампира». Последний подверг-
нут основательной и бескомпромиссной критике в статье Лифши-
ца «О культуре и ее пороках» (Литературный критик, 1934, № п).
Правда, они были спорадическими и единичными, не способными
породить новый «стиль эпохи». Но эти единичные случаи классики,
случаи—исключения — «соль» времени: М. Булгаков в прозе, М. Не-
стеров в живописи, С. Прокофьев в музыке.
Гегелевская реставрация предполагала сохранение и развитие
многих реальных достижений Французской революции, тогда как
Шатобриан отрицал ее в целом. В «щель» времени Гегель, как и Гете,
пытался провести принципы классики, хотя прекрасно понимал, что
классика окончательно умерла и осталась в прошлом. Однако его фи-
лософская система Абсолютного духа была попыткой возрождения
классических принципов мышления (от Гераклита до Аристотеля),
отвергнутых естественными науками. Отсюда фантастичность и уто-
пизм гегелевской системы, но и ее величие—диалектика, т.е. мыш-
ление с точки зрения бесконечности, а не ограниченного рассудка.
Протест Беньямина и других левых, включая Адорно и Хоркхай-
мера, выглядит более радикальным по сравнению с программой
Restauratio Magna. Авторы «Диалектики Просвещения» отрицают
сам принцип Разума, заметный уже в древней мифологии — Разума,
развитие которого увенчалось появлением фашистских концлаге-
рей. Но, как известно, крайности сходятся: отрицание рационализма
у Адорно, Хоркхаймера и Беньямина оборачивалось их впадением
в своеобразный рационализм и техницизм. Признаки последнего не-
сет на себе беньяминовская концепция пролетарского искусства и
утраты ауры в результате появления новых технических средств реп-
родуцирования.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
396
Как только произведение становится тиражируемым, утвержда-
ет Беньямин, вместе с утратой его уникальности исчезает и тради-
ционная художественная ценность, аура. «При умножении копий,
репродукций, — пишет по поводу этой идеи Беньямина Лифшиц, —
техника в идеале может дойти до того, что “подлинную” Мону Лизу
нельзя будет узнать»’. Как нельзя, например, узнать, каков «подлин-
ный», один-единственный отпечаток из множества тех, что сделаны
с фотографического негатива. В соответствии с логикой Беньямина
получается, что при очень совершенном развитии техники репро-
дуцирования, когда (допустим!) копия Моны Лизы практически не-
будет отличаться от подлинника, исчезнет и ее аура, традиционная
художественная ценность, как она исчезла, по утверждению Бень-
ямина, из фотографии и кино. Останется только ценность архивная2.
Что Беньямином приветствуется как радикальнейший разрыв с та-
кими понятиями, «как творчество и гениальность, вечная ценность
и таинство, неконтролируемое использование которых (а в настоя-
щее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации
фактов в фашистском духе»3.
Вывод Лифшица противоположный: «Наоборот, тем более будет
подчеркнута ее уникальность, которая не в материи, веществе, а в
образе, архетипе»4. На чем же основан, согласно Лифшицу, парадокс
Беньямина? На том, что в реальной истории искусств «физическая
подоснова» произведения искусства играла разную роль — очень
большую в скульптуре, архитектуре, гораздо меньшую в живописи,
и наконец, совсем ничтожную в литературе, поэзии. Разве снижает,
' Архив Мих. Лифшица, папка № 129 Prima Philosophia. С. 15.
2 Мы здесь отвлекаемся от того, что Беньямин нередко
отождествляет архивную ценность с художественной. На
самом деле это, конечно, разные вещи: архивной ценно-
стью может обладать сохранившаяся в единственном эк-
земпляре рукопись какого-нибудь бездарного автора про-
шлых веков, но от этого она не приобретет ценности ху-
дожественной.
3 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техни-
ческой воспроизводимости. С. 16.
4 Архив Мих. Лифшица, папка № 129 Prima Philosophia. С. 15.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
397
например, количество экземпляров поэтического сборника его ху-
дожественное качество? Художественная уникальность Гете или
Пушкина для нас становится еще более очевидной, еще более под-
черкнутой вместе с ростом тиражей их книг, тогда как бездарный
автор, которого давно перестали издавать, не приобрел от этого
особенной художественной ауры (хотя архивную ценность его кни-
ги за давностью лет могли приобрести).
«Репродуцировать тем легче, — продолжает Лифшиц,—чем ме-
нее данное искусство увязло в веществе. Тут, конечно, два полюса»3 4.
На одном полюсе такие виды искусства, как архитектура и скульпту-
ра, живопись, на другом — поэзия, кино, фотография. Последние то-
же воплощаются в определенном материале—печатных знаках на бу-
маге, кино и фотопленке. Но связь духовного содержания с матери-
ей в живописи и архитектуре иная, чем в кино и поэзии. Если форма
букв и цвет бумаги практически безразличны для качества поэтичес-
кого текста, то такие, казалось бы, внешние особенности, как «разме-
ры, грубость холста, цвет грунта имеют для художника значение»1.
Небольшое изменение в материале, незаметное «чуть-чуть» могут
полностью изменить смысл и художественное качество живописи.
Тогда как изменения формы шрифтов или цвета бумаги, обложки
книги относятся уже к оформительскому искусству, обособленному
от поэтического текста, вернее, связанному с ним так, как связыва-
ются разные виды искусств в художественном синтезе их. Ибо «фи-
зическая подоснова произведения искусства сначала играет как бы
внутреннюю для сознания роль, а потом становится все более внеш-
ним сопровождением. Так материал денег,—продолжает Лифшиц, —
сначала непосредственно один из товаров, потом все более знак,
опирается на внешнюю для него реальность (гербовая бумага, не
имеющий самостоятельного ценностного значения сплав)»1.
У Беньямина, писал в одной из своих заметок Лифшиц, «/.../
“субъективность” в отречении современного сознания от всякой
“ауры”, от всего человеческого, в его объективизме,—есть в то же
время “субъективность второго порядка”. “Войти в плоть и кровь” —
как обращение от второго полюса к первому, но и при развитии вто-
3 Там же.
4 Там же.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
398
рого необходимо постоянно обращаться к первому. Иначе не будет
и “перехода в плоть и кровь”, второй природы на вершине развития.
Новая аура—но не так, как в несчастном буржуазном сознании».
Отречение современного сознания от всякой ауры, от теплоты
человеческого чувства, культ вещи и стремление раствориться в ней,
отказавшись от всякой субъективности, — есть субъективность «вто-
рого порядка». Жак Деррида продемонстрировал это на примере
сравнительного анализа позиций М. Хайдеггера и его антагониста
М. Шапиро по поводу «Башмаков» Ван Гога. Эта же «субъективность
второго порядка» проступает и у Беньямина. Брутальность его кон-
цепции «пролетарского искусства» дополняется изощренной кон-
цепцией аллегории и ауры; он мечтает о таком новом искусстве, в
котором исчезает ложная и лживая псевдообразность Голливуда, а
вместо нее «голубым цветком в стране техники» становится «непо-
средственный взгляд на действительность» (курсив мой.—В.А.)1 2.
Но эта субъективность второго порядка постоянно воспроизво-
дит свою противоположность — грубую материю. Она так же не
может отрешиться от нее, как один полюс магнита от другого. Са-
мое современное искусство конца XX—начала XXI века постоянно
воспроизводит смесь изощренного сознания с материей, к которой
даже не прикасалась рука художника.
Возможно ли такое возвращение от второго полюса сознания к
первому, более тесно связанному с материей, при котором не нуж-
но отрекаться от достижений цивилизации и сознательной жизни,
в частности, не нужно было бы отрекаться от ауры как художествен-
ной уникальности? Иначе говоря, возможно ли такое соединение
противоположностей, которое при этом не было бы единством край-
ностей?
Возвращение к первому полюсу сознания без утраты ауры есть
в редких, но значительных произведениях искусства XX века. Таков
рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»—изобра-
жение грубой реальности сталинского концлагеря, являющийся в то
же время одним из самых убедительных доказательств не смерти, а
1 Там же.
2 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техни-
ческой воспроизводимости. С. 47.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum» v 399
жизни человеческой индивидуальности, «души» в классическом по-
нимании этого слова.
Однако такие примеры с особой остротой подчеркивают, что в со-
временной цивилизации Restauratio Magna—дело очень трудное и
противоречивое. Грань между позицией «великих консерваторов чело-
вечества» и обыкновенной реакционностью кажется очень хрупкой, а
для яростных оппонентов «течения» ее просто не существовало и суще-
ствовать не может. И в самом деле, где граница между автором «Ива-
на Денисовича» и создателем «Красного колеса»? Современные про-
грессивные литературоведы, постмодернисты исключают даже мысль
о возможности измены Солженицыным самому себе — своему лите-
ратурному и нравственному Богу, который водил его пером. Кажет-
ся, один только Игорь Дедков осмелился показать, что «Красное ко-
лесо»— предательство тех художественных принципов, благодаря
котором на свет появился знаменитый рассказ’. В старом споре «во-
прекистов и благодаристов» постмодернизм — на стороне советских
либералов в духе А. Фадеева и В. Ермилова. Круг снова замкнулся?
# 5. Две реставрации
Различие между двумя типами консервативзма, по мнению Лиф-
шица, важно не только в искусстве и эстетике, оно становится акту-
альнейшим вопросом самой реальности. «В конце двадцатых годов
меня накрыла ультрасоциалистическая волна, — писал Лифшиц в
своих заметках, — которая именно благодаря своей “левизне” была
слишком буржуазна. Но в ней было свое грозное обаяние, она была
продолжением, хотя и своеобразным, великой революции. Теперь
меня накрывает другая волна — обратная. Первую я под держивал im
grossen как “разумную действительность”. Нынешняя, пробуржуазная
волна, мне отвратительна. Моя задача, чтобы не занесло слишком
далеко вправо, чтобы история как-нибудь обошлась без реставрации
Бурбонов. Это теперь — единственное, что может меня волновать»2.
Будет ли неизбежная реставрация возвратом к демократии или же
«реставрацией Бурбонов», т.е. худших сторон сталинского режима
, 1 «Вы ничего уже не напишете», — предупреждал Солже-
ницына Лифшиц.
2 Архив Мих. Лифшица, папка № 129 Prima Philosophia. С. 8.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
400
в соединении с некоторыми чертами царской России и современно-
го Запада, такими, например, как практика управления толпой по-
средством особой изощренной психотехники, «черного пиара»?
Когда российские демократы и либералы в процессе горбачев-
ской перестройки звали страну к реставрации капитализма, они не
проводили различия между двумя типами реставрации. На словах
они звали к демократии по типу Томаса Джефферсона и Линкольна,
на деле осуществляли воровскую приватизацию, которая передала
собственность в руки мафии, партийной бюрократии и создала в
стране криминальный режим. Разумеется, во всем этом было нема-
ло лицемерия. Но дело не только в лицемерии, ибо путь к тому виду
реставрации, который осуществился на деле, прокладывался — ра-
зумеется, бессознательно — и такими героическими, честными и
убежденными сторонниками демократии, как академик А. Сахаров.
В чем причина их трагического ослепления?
Сегодня в России немало бывших идеологов «реставрации Бур-
бонов», красноречивых антикоммунистов посыпает свою голову
пеплом1. Под влиянием подобных статей создается впечатление, что
неудача перестройки — в недостатках чисто субъективного поряд-
ка. Это не так. Не только Россия, но и вся цивилизация в целом не
готова для той дифференциации, о которой идет речь. Не потому по-
бедила реставрация по-сталински, что термидорианцы К. Симонов,
В. Вишневский или А. Фадеев были лицемерными людьми. Не пото-
му официальный Запад помогал таким «демократам», как Ельцин,
что был заинтересован в ослаблении политического и военного со-
перника (хотя и этот мотив нельзя сбрасывать со счетов). Ни те, ни
другие иначе действовать и мыслить просто не могли. Ибо за ними
стояла сила непосредственных интересов, ближайшей реальности.
Обращаться к Фридману или Хайеку с программой Restauratio Mag-
na было бы нелепостью.
Но дело даже не в силе инерции, интеллектуальных традициях,
сложившихся на протяжении десятков или даже сотен лет. Гораздо
1 В выступлении по радио «Эхо Москвы» А. Зиновьев ска-
зал в 2005 году: «Если бы я знал, что, целя в коммунизм,
попаду в Россию, как это теперь очевидно, то я бы никог-
да не написал своих книг и статей против советской Рос-
сии». Надо отдать должное искренности А. Зиновьева.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum;
401
меньше, чем Г. Лукач, Лифшиц был склонен к социальному и идей-
ному мессианству. Тема Ohnmacht des Geistes неоднократно всплы-
вает в его записках.
Мысль слаба. Она не способна победить сложившейся силы фак-
тов и традиций. Против нее—успехи современной экономики ка-
питалистического типа, которая нашла выход посредством инвести-
рования в такой основной капитал (наука и компьютерные техноло-
гии), который если не устраняет, то значительно ослабляет действие
закона тенденции нормы прибыли к понижению — закона, кото-
рый, по мнению Маркса, убедительно демонстрирует историческую
ограниченность капиталистического способа производства. Против
нее — победы Разума в XX веке, обернувшиеся колоссальными по-
ражениями и преступлениями. А если мысль вступает в противоре-
чие с действительностью, то это свидетельствует о слабости и лож-
ности мысли. Таков важнейший постулат марксизма, который, по
мнению теоретиков франкфуртской школы, ныне свидетельствует
против теории Маркса.
Но только ли об историческом поражении Разума говорят фак-
ты? Неожиданный результат горбачевской перестройки и ельцинс-
кой «демократии» может что-то сказать и в пользу слабой мысли.
Она не настолько сильна, чтобы преодолеть неизбежный в извест-
ном смысле слова, предопределенный ход событий, но, с другой сто-
роны, она сильнее любой попытки вовсе устранить ее.
Постмодернизм—неизбежное, как судьба, следствие саморазру-
шения цивилизации, культуры. Но беспредельный релятивизм пост-
модернизма, некритичность по отношению к самому себе, перера-
стающая в тоталитарно-догматические тенденции,—такое же на-
казание за отход от классических традиций, как государственный
террор 1937 года был наказанием за крайнюю левизну 1930 года,
периода массового раскулачивания. Вместе с тем постмодернизм в
некотором смысле есть эрзац классических традиций. Ведь его прин-
цип — полнота, но не полнота истины, а полнота неопределенности.
Постмодернизм рожден жаждой непосредственности, но его непо-
средственность есть другой полюс переусложненного и уставшего от
самого себя авангардистского сознания, то есть перед нами тожде-
ство по принципу «крайности сходятся». Разве все перечисленное
выше — не факты?
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
402
Парадоксально, но философия «победителей», успешных, вынесен-
ных на поверхность временем, прославленных мыслителей XX века,
вплоть до Хайдеггера, гласит, что бог умер, что бытие молчит, что оно
не может быть опорой для личности. А основа философии Мих. Лиф-
шица, привыкшего к «отказам жизни», его онтогносеология — ис-
кренняя, вынесенная из опыта убежденность в том, что говорим не
мы, говорит «объективная реальность», через нас и благодаря нам.
В известном смысле позиция Беньямина меньше совместима с
тем типом реставрации в СССР, на сторону которой стали и М. Бул-
гаков, и М. Лифшиц, каждый из них по-своему пытался заключить
союз с сатаной. Но только в определенном смысле. Потому что и
Булгаков, и Лифшиц, и А. Платонов и М. Нестеров, как в свое время
Гегель, примирялись с действительностью ради того, чтобы иметь
возможность создавать свою духовную — и не только духовную —
альтернативу злу, лежащему в основе всей современной цивилиза-
ции. Позднее Лифшиц назвал такой тип примирения «революцион-
ным». Это была попытка, говоря словами Лифшица, «превратить уху
в аквариум» — попытка, проигранная не только в социально-поли-
тическом плане. За эту попытку пришлось заплатить и моральной
виной, которая, конечно, лежит не только на Гегеле с его знамени-
той апологией прусской монархии. Однако никто, кроме «прими-
рившегося» Булгакова, не написал ничего подобного «Мастеру и
Маргарите». Никто, кроме «обыкновенного марксиста» Лифшица,
не написал памфлетов, которые ныне еще злободневнее, чем полве-
ка назад. А где пророки совсем недавнего прошлого? Статьи забы-
того сборника «Иного не дано» читаются ныне с чувством недоуме-
ния и сожаления. Но след, увы, остался. Крайности и нетерпимость
«перестроечного» тотального отрицания породили новый порочный
круг — возрождение тех традиций советской культуры, символом
которых может служить текст Гимна России, написанный С. Михал-
ковым. Возрождение по закону порочного круга: от непримиримых
фанатиков революционного нигилизма к «каплунам жирным» (типа
Берлиоза) периода нэпа, от яростных идеологов раскулачивания —
к фадеевскому либерализму 1940 года и так далее вплоть до наших
дней. Когда же этот круг, это колесо, — которое может быть не толь-
ко красным, но и белым, серым, черным, каким угодно, — наконец
остановится?
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
403
Беньямин не хотел примиряться с реальным и очевидным, лежа-
щим на поверхности злом. Его непосредственный протест против ре-
ставрации подлинного—народа, нации, героизма, классического ис-
кусства, того подлинного, что стало фашизмом — этой, по словам
Лифшица, «страшной тени коммунизма», — вызвал симпатии мыс-
лящей интеллигенции во всех странах Запада во второй половине
XX века. Но этот протест в силу своей непосредственности тоже не из-
бежал союза с дьявольскими силами. Сталинские термидорианцы (та-
кие, как драматург В. Вишневский — неутомимый преследователь и
гонитель М. Булгакова) совершенно искренне ратовали за то, чтобы
искусство социалистического реализма заключило союз с искусством
авангарда. Они обвиняли «течение» в узости и догматизме, нежелании
и неспособности понять достижения авангардного искусства XX века.
В. Вишневский образца тридцатых годов в этом смысле, как и А. Фа-
деев, — предшественник либерализма «шестидесятников».
Ко времени перестройки в умах передовой и демократически
настроенной интеллигенции СССР идея В. Вишневского (связь со-
циалистического и демократического искусства с авангардом) окон-
чательно победила. Идеи «течения» были преданы забвению не толь-
ко потому, что политически возобладали его противники, которые
либо замалчивали «течение», либо клеветали на него. Сама реаль-
ность говорила против идей Лифшица—страна неудержимо шла к
реставрации не по-гегелевски и не по-булгаковски, а по типу фран-
цузских аристократов, которые ничего не поняли и ничему не на-
учились. Сила этого движения — материального и духовного — была
столь велика, что сам М. Булгаков оказался понят в духе В. Беньями-
на или даже В. Вишневского: как создатель разоблачительного фар-
са, политической агитации брехто-мейерхольдовского типа, авангар-
дистской аллегории. В этом смысле и М. Булгаков, и О. Мандельштам,
и А. Платонов потерпели второе, еще более обидное и сокрушитель-
ное поражение, чем в тридцатые годы. Мировая слава только под-
черкивает глубину непонимания их творчества — тяготеющего к
классике или, как в случае с Булгаковым, чудесным образом возрож-
дающего ее в наш тотально антиклассический век. А Беньямин сно-
ва победил: по крайней мере в России — в лице отечественного пост-
модернизма, смешавшего в некое аморфное целое Булгакова с Бе-
ньямином.
Литературная дискуссия 1939-1940 гг.
как поворотный пункт ...
404
Но окончательных и бесповоротных побед у «ветошки», превра-
тившейся в удавку, не бывает, как не бывает и абсолютного пора-
жения для верной мысли и верного выбора. Вместо современных
«парадоксов добровольно заглядывающей назад цивилизации»' мо-
жет состояться и иное возрождение прошлого — а именно такое, в
котором будет место и Булгакову, и Беньямину, и Лифшицу. Един-
ство различного в духе Restauratio Magna — в отличие от единства
по принципу «крайности сходятся» — предполагает ограничение
«кипучей деятельности» «смешных маленьких идеологических чело-
вечков, верно схваченных кистью Михаила Булгакова»2, к которым
левый немецкий теоретик относился с не меньшим презрением, чем
автор «Мастера и Маргариты». Таково непременное условие того,
что Деррида в своей книге о Марксе назвал the revenant. А может
быть, ставит он вопрос, возвращение (the revenant) духа в современ-
ную западную цивилизацию с ее «неолиберальной риторикой, ли-
кующей и беспокойно-тревожной в одно и то же время, маниакаль-
ной и растерянной, часто непристойной в своей эйфориии»3— все-
го лишь призрак (the revenant)?
Дух слаб. Иногда он—только призрак. Но когда мы забываем об
идее (в гегелевском смысле слова), принимая ее за призрак, тогда,
случается, идея вспоминает о нас. И мстит за наше самомнение и
неразумие, являясь в обличии гегелевского карающего Разума ис-
тории: бича божия, что бьет и правых, и виноватых.
Сумеем ли пройти в щель между двумя жерновами, двумя пороч-
ными кругами: правдой, подобной Молоху, и нигилистическим (вуль-
гарно-марксистским, либерально-буржуазным, постмодернистским
и т.п.) отказом от нее?
В этой главе мы говорили о «бездомности» Лифшица, Хайдеггера
и Шапиро. С Беньямином Лифшица сближает то, что он в 40-50-х го-
дах был изгоем в самом прямом и точном смысле этого слова. Затем,
когда получил в начале шестидесятых годов квартиру, стал изгоем
в смысле переносном, т.е. был отторгнут господствующим мнени-
'ЛифшицМих. Мифология древняя и современная. М., 1980.
С. 380
2 Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 255.
3 Derrida J. Specters of Marx, 1994. P. 70.
«Restauratio Magna»
против «Restitutio in integrum:
405
ем «советского либерализма». Однако в отличие и от Хайдеггера, и
от Беньямина, и от постмодернистов он, как и Михаил Булгаков, об-
рел «дом» — бесконечную реальность, раскрывающуюся людям не-
редко только в трагическом разломе времени. Действительность,
которую «великим консерваторам человечества» удавалось разгля-
деть в этом разломе, образует основу того, что Мих. Лифшиц пони-
мал под «высоким реализмом» мирового искусства. /
Но бывает и так, что истина сама с течением времени заботит-
ся о том, чтобы приобрести адекватную себе форму. Нуждается ли
сегодня в комментариях, например, «Дело о защите диссертации»?
Это — поэма «ветошки», превратившейся в удавку, способная посра-
мить фантазию Гоголя, Достоевского или Кафки. Однако для того
чтобы кошмар и бессмыслица прошлого читались сегодня как юмо-
ристическая история, т.е. демонстрировали бы объективную победу
справедливого хода вещей над глупостью и злобой, нужны были та-
кие «изгои», как М. Булгаков, А. Платонов, Мих. Лифшиц, И. Сац или
«литературный критик и чудак» В. Александров, о котором мы рас-
скажем в следующей главе.
Фабула истории
и проблема перспективы
в контексте
художественной критики
середины XX века
(В. Александров)
и начала XXI века
(М. Кураев)
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
Первое схождение «параллельных линий»
(проблема артистизма в литературной критике
В. Б. Александрова)
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского
и традиция гуманизма
в отечественной эстетике XX века
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки»
409
Рождение фабулы /
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
«Один из вас предаст меня...» Лицо только что произнесшего эти
слова человека на фреске Леонардо полно скорби. И странного, нео-
бычного спокойствия. Христос спокоен потому, что все предреше-
но на небесах, и все —правильно? Нет, неправильно, ведь он при-
шел на землю, чтобы искупить грехи человечества. И надеялся на то,
что его «минует чаша сия», и не будет он отдан на казнь мучитель-
ную и позорную. Но жестом своих рук он раскрывает себя, отказы-
вается от сопротивления, сам отдает себя на казнь. Эти руки еще не
пригвождены к кресту, но ладони, кажется, Христос протягивает па-
лачу, и вскоре они будут пронзены металлическими штырями.
«Не я ли, господи?» — слышит он в ответ. Но разве дело в том, что
только один из вас предаст меня? Не успеет петух прокричать, как
ты трижды откажешься от меня, отвечает Христос на слова Петра,
возмущенного падшим на него подозрением. А где будут все верные
ученики во время казни? Евангелие умалчивает об этом, оставляя
в тени то, что лучше не видеть, о чем лучше не знать, не думать.
Потому что не один только Иуда, а все ученики предали Христа, и
умирал он в одиночестве. Вы все оставите меня, хотя сами еще этого
не знаете и потому полны возмущения, негодования, удивления, са-
мые разные оттенки чувств воссоздает художник на лицах своих пер-
сонажей—лица людей, которым даже в голову не приходит, что они
уже предатели, лица людей, не знающих, кто они и на что способны...
Но Христос у Леонардо никого не обвиняет. Как и на картине
Тициана «Динарий кесаря» он находится в состоянии глубокой рези-
ньяции. Однако не покорность судьбе, а ответ читается на лице Хри-
ста и у Леонардо, и у Тициана. Не потому вы предадите меня, что
плохие люди. Никто из вас (за исключением Иуды, конечно) не хочет
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
4Ю
быть предателем, и сама мысль о предательстве для вас невыноси-
ма. Вы хорошие люди, и я не хочу вас винить. Ведь ваша вина толь-
ко в том, что вы только люди, и ничто человеческое вам не чуждо.
Почему Петр, человек не робкого десятка, самый решительный и во-
инственный из вас, откажется от меня? Ведь потом-то он не побо-
ится смерти и тоже будет распят. А почему сейчас никто из вас не в
состоянии понять меня?
Христос понимает своих учеников — и потому не сопротивляет-
ся, а, кажется, покорно отдается своей участи. Но Леонардо изобра-
зил не момент естественной и человечной слабости, подобной той
минуте отчаяния, которая охватила Сына Божия в Гефсиманском
саду. Христос сделал все, что мог сделать на этой земле, в это время
и в этих обстоятельствах. И даже больше, чем мог сделать и что нуж-
но было сделать. Есть предел, за которым сопротивление злу, не-
правде действием, непосредственным вмешательством становится
не просто бессмысленным, но еще большим злом, чем зло, с кото-
рым борются. Вообразим себе, что Христос стал бы умолять своих
учеников не предавать его или обличать их как будущих предателей.
Но он даже на Иуду не показывает пальцем. Откуда такая покор-
ность? И покорность ли это?
Показав на Иуду пальцем, он снял бы вину с других, с тех, кото-
рые предали не за тридцать сребреников, а по гораздо более слож-
ной причине. Если бы его предали только из-за денег, то всемирно-
исторической трагедии просто бы не было. В этом случае человечес-
кий род достоин был бы только смеха, но не слез, точнее, не тех
невидимых миру слез, о которых мы догадываемся, глядя на лицо ле-
онардовского Христа.
Обвинять людей, еще не совершивших преступление, несправед-
ливо. Преждевременные обвинения оттолкнули бы учеников от Хри-
ста, и совершенное ими предательство имело бы уже некоторые
моральные оправдания. Однако учитель знает, что произойдет так,
как произошло, — и это знание дано ему не мистическим иррацио-
нальным озарением, а глубоким пониманием человека и его реаль-
ных обстоятельств. Фабула человеческого рода будет развиваться,
подчиняясь своим закономерностям, над которыми не властен даже
господь Бог. Тут предел моей власти, и я покоряюсь неизбежному,
как бы говорит Христос на картине Леонардо.
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
4И
Но только ли безнадежность и апатия на его лице? Человечество
уже на заре своей истории поняло, что маятник событий раскачи-
вается из одной стороны в другую, рождая порочный круг. Все воз-
вращается на круги своя, и потому все есть суета и томление духа,
говорит Экклезиаст. Помешать этому движению мы не в состоянии.
Но зачем тогда Христос пришел на эту землю, зачем он проповедо-
вал? И что может сделать, и что должно сделать вменяемое существо,
то есть человек, способный понять это движение по порочному кру-
гу, это раскачивание маятника? Смириться, зафиксировав вечный
закон — так было и так будет всегда, а иного не дано?
Но что же на самом деле будет, и что на самом деле есть — толь-
ко ли это бессмысленное раскачивание маятника из одной стороны
в другую? Если перед нами вечная железная необходимость, кото-
рую не перейдеши, то реальный человек, которому надо жить, умо-
ет руки, пойдет чай пить, как советовал Василий Розанов (вслед за
человеком из подполья) в ответ на исконный российский вопрос
«что делать?». Или напишет научный труд, в котором на новый лад
обоснует старую идею, что истины нет и «уши выше лба не растут»,
получит за него гонорар и купит себе «Мерседес», новый дом или ко-
стюм — в зависимости от того, какую реальную рыночную стои-
мость имеют сегодня пресловутые «тридцать сребреников».
Христос бессилен изменить ход событий, но не покорен и не
сломлен ими. Вы предадите, и я помешать этому не в состоянии. Я
думаю о другом: как бы не помешать вам вернуться ко мне, когда
вы на собственном трагическом опыте ваших ошибок поймете меня
более глубоко и верно, чем сейчас. Поэтому Христос говорит толь-
ко то, что должен сказать в этой ситуации, не более и не менее: один
из вас предаст меня. Не добавляя, что вы все так или иначе преда-
телю поможете. Лишь на прямой вопрос Петра он отвечает столь же
прямо, не желая скрывать истину и говорить неправду.
Резиньяция Христа—не покорность неизбежному злу, а знание
более глубокой истины, чем та, которая свойственна «умывающим
руки». Высокая правда (трансцендентальная истина, как сказал бы
И. Кант) вам сейчас непонятна и недоступна, и попытка говорить о
ней прямой речью — бессмысленна и вредна. Бессмысленна не по-
тому, что вы глупее и хуже меня. Лица апостолов на картине Леонар-
до не уступают лицу Христа по своей человеческой красоте и прав-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
412
де. В том-то и состоит трагедия человечества во все времена, что не
только не понятый реформатор, но и современники, не понявшие
его, имеют свою правду. И потому истина реформатора их не убеж-
дает или не может быть понята во всей своей полноте.
Сократ был уверен в том, что объективная истина существует,
она в потенциальной форме содержится в любой голове, и задача
философа заключается в том, чтобы помочь истине принять актуаль-
ную форму, родиться. Поражение сократовского просветительства
привело к его личной трагедии. Нет, возможны ситуации, когда обе
стороны по-своему правы, и по крайней мере одна из них по объек-
тивным причинам не может понять другую. На этой ситуации, обо-
стрившейся в XX веке, паразитирует плюрализм, согласно которому
истин множество и они друг с другом не соприкасают'ся. Но плюра-
лизм опровергает себя уже тем, что его учение о множестве равно-
правных и равноценных истин претендует быть единственно пра-
вильной истиной.
Одним из главных достижений классической античной филосо-
фии было доказательство того, что разум един, истина едина. Множе-
ство прекрасных плодов и цветов вырастает только на стволах рас-
тений и деревьев, а все стволы растений имеют единую органическую
природу, качественно отличающую их от всего, что растением не
является, — каменных или металлических штырей, песка пустыни
и так далее. Вот откуда парадоксальное желание Платона, «чтобы из-
мышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать
общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, —
так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все
восхваляют или порицают одно и то же»'. Платон вопреки тем, кто
обвиняет его в тоталитаризме, хочет не насильственного унылого од-
нообразия, а богатства человека во всех его проявлениях, понимания,
что оно растет из одного корня: лишь те, кто имеют зрячие глаза,
обладающие общей человеческой способностью разумного зрения,
могут создавать бесконечную в своем разнообразии живопись, лишь
те, кто имеют окультуренное человеческое ухо, наслаждаются беско-
нечным богатством классической музыки, и так далее. Зритель со
«свиным глазом» не в состоянии, например, отличить классику Воз-
1 Платон. Законы. Глава третья. 739. c-d.
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
413
рождения от ее противоположности в академизме второй половины
XIX века. Это настолько очевидно, что тот, кто предлагает дополнить
«однообразие» совершенного глаза глазом «свиным», а разум — мно-
гочисленными «болезнями головы»', тот, согласно учению Сократа
и Платона, либо софист, либо несчастная жертва софизма.
Однако, хотя диагноз был поставлен Платоном верно, и путь к
избавлению от «болезней головы» тоже, казалось, намечен правиль-
но, человечество упорствовало и в добросовестной глупости, и в зло-
намеренном уклонении от уже очевидных истин — естественно, се-
бе во вред. Так в наши дни Советский Союз погубила подмена демо-
кратии плюрализмом. Демократия — разнообразие, растущее из
одного корня: действительной, а не словесной власти народа. Во
время перестройки под флагом плюрализма делалось многое для
того, чтобы подрубить корень власти народа, точнее, не дать зерну
народовластия прорасти на нашей истощенной почве. Политика
плюрализма, условно говоря, заключалась в том, чтобы ради разно-
образия уничтожать на корню плодовые деревья, способствуя все-
ми силами росту сорняков. И теперь, когда самые разнообразные
сорняки и чертополох заглушили почти все или, без сомнения, мно-
гие плодовые деревья, идея плюрализма вместо демократии имеет
столько же сторонников, сколько вчера. Причина бед не только Рос-
сии, но всего человечества XX века видится в «платомарксизме»1 2.
Что бы сказал сегодня Платон, наблюдая, как профессиональные
идеологи, раздавленные практикой плюрализма, которая преврати-
ла их почти в нищих, по-прежнему распространяют смертоносную
идею? «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят» ? Но, сказав
это, он был бы уже не Платоном, верящим в то, что разумное всегда
1 «Опыт о болезнях головы» — так называется блестящий
памфлет И. Канта (1764 г.), по-свифтовски беспощадный
к разнообразным проявлениям глупости и тем порядкам,
при которых «можно обойтись и без рассудка, и без чест-
ности» (Кант И. Соч. в 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 227).
2 «Платомарксизм — сочетание платонизма и марксизма в
- тоталитарных практиках и теориях XX века» — см. Проек-
тивный философский словарь. СПб. 2003. С. 297. Автор про-
цитированной статьи о «Платомарксизме» — М. Эпштейн.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
414
и во всех обстоятельствах имеет реальный шанс на успех. Он был бы
Христом на картине Леонардо, который понимает, что неразумие
тоже имеет свои права. Маркс назвал неразумие, которое в извест-
ных обстоятельствах сильнее и убедительнее истины, «объективны-
ми мыслительными формами» или, иначе говоря, идеологией. Иде-
ология — идея, которая работает, убеждает, даже если она далека
от объективной истины.
Христос у Леонардо молча и скорбно разводит руками, отказы-
ваясь этим жестом от проповеди, от активного сопротивления — и
отдавая одновременно себя в руки палача. Но почему все персона-
жи картины, а не только Христос, за исключением Иуды, прекрас-
ны? Почему так гармонична и артистична эта живопись?
Пилат умывает руки и отходит в сторону, Христос продолжает
идти своей дорогой, которая ведет его на Голгофу. Ученики искрен-
не поверили в Христа и готовы жизнь отдать, следуя его учению.
Почему они все-таки не понимают учителя или понимают непра-
вильно? Если только по причине недостатка ума, то трагедии бы не
было, была просто ошибка — не те ученики нашлись. Нет, Леонар-
до изобразил лучших людей, самых прекрасных, достойных и ум-
ных. Почему же истина, которую проповедует их учитель, для апос-
толов — «вещь в себе», которую ни увидеть, ни понять они не в со-
стоянии? Развернутый ответ на этот вопрос содержится (правда,
большей частью в потенциальной форме) в истории философии от
Канта до Маркса включительно. В искусстве эта же проблема была
почувствована и выражена не менее глубоко. Осмелюсь утверждать,
что она лежит в основе классического искусства, начиная по край-
ней мере с эпохи Возрождения.
Леонардо и Тициан не могли жаловаться на то, что живут во
время, скудное людьми. Однако трагедию непонимания, которое
ведет к предательству, они выразили более глубоко и проникновен-
но, чем кто-либо до них или после них. Леонардо да Винчи, может
быть, самый одинокий гений в истории человечества. Впрочем, ле-
онардовская резиньяция, граничащая с безнадежностью, свойствен-
на в той или иной степени всем классическим по своему характеру
художникам Нового времени. Если трагические художники, напри-
мер Рембрандт, выражают дисгармонию бытия, его драму, то рези-
ньяция Леонардо или Пушкина требует спокойствия, своего рода
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
415
примирения1 со всем тем, что происходит на грешной Земле. Бетхо-
вен драматичен, а Моцарт спокоен. Почти абсолютно безнадежная
скорбность музыки Моцарта не свойственна ни одному, более дра-
матическому по духу своего творчества композитору.
«Святая простота!» — сказал Ян Гус, глядя на старушку, которая
подносила к его костру вязанку хвороста. Чего не могли понять совре-
менники Леонардо и Тициана? Все протестные движения снизу раз-
рушали предшествующую им культуру, и чем более глубоким, более
оправданным и справедливым было народное движение, тем более
разрушительным оно оказывалось для высокого искусства. Пушкин
приводит в своей «Истории пугачевского бунта» эпизод с астрономом
Ловицом, которого крестьянский вождь приказал подвесить «побли-
же к звездам». Чернышевский пишет Александру II «Письма без ад-
реса», в которых предупреждает царя, что его действия, его «рефор-
мы» ведут с неизбежностью к народному—справедливому! — бун-
ту. Но, продолжает Чернышевский,«.. .народ невежествен, исполнен
грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от
его диких привычек. (...). Он не пощадит и нашей науки, нашей по-
эзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию.
(...). Под влиянием этого чувства обращаюсь к вам, милостивый
государь, с изложением моих мыслей о средствах, которыми мож-
но отвратить развязку, одинаково опасную и для вас и для нас»1 2 —
понимая тщетность всех подобных предостережений3.
1 См. в главе з-й о разработке темы «примирения» литера-
турно-эстетическим «течением» тридцатых годов.
2 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. Т. X. М., 1951. С. 92.
3 Он писал в своем романе «Пролог»: «“Мешаться”, то есть
вмешиваться в движение истории в порочном круге, от
одной крайности к другой, пытаясь остановить раскачива-
ние маятника, “глупо”». Поэтому «не лучше ли продолжать
молчание?» «Да, было бы лучше; но презренная писатель-
ская привычка,—иронизирует над собой Чернышевский, —
надеяться на силу слова ослепляет меня. Я не в состоянии
• держаться на точке зрения житейского благоразумия, с
которой очень ясно вижу, что всякие объяснения напрас-
ны...» (там же. С. 92-93). Ответом царя была
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
416
Леонардо видел перед собой лица толпы, восторженно внимав-
шей проповедям Савонаролы, который призывал уничтожать карти-
ны и статуи современных ему художников, создававших бесовские
произведения на деньги погрязшего в разврате папского двора.
Леонардо, Тициан, Моцарт, Пушкин — наиболее артистичные
художники мирового искусства, они — само воплощение утончен-
ного и законченного художественного мастерства. Имеет ли свой-
ственный им артистизм отношение к той трагической теме, нераз-
решимость которой они глубоко чувствовали и понимали? На мой
взгляд, артистизм великих классиков порожден тем величайшим
искусством, с которым они прошли в игольное ушко или, точнее,
избежали двух крайностей. Одна крайность гласит: неизбежное не-
избежно, и ничего поделать нельзя, надо умыть руки. Другая край-
ность — это бунт. Если бы Христос обвинял своих учеников в еще не
совершенном ими предательстве, то он оказался бы в известном
смысле бунтовщиком против неизбежного хода событий, бунтовщи-
ком неразумным, ибо попытки объяснения, убеждения ничего изме-
нить, по крайней мере, в лучшую сторону, были бы не в состоянии.
Воображаемый «бунт» Христа мог бы оказаться не только бессмыс-
ленным, но и беспощадным, поскольку подвергнутые им бичеванию
(нравственному, естественно) будущие апостолы этого бичевания
не заслуживали. В человеческом отношении они не хуже Христа,
каждый имеет свои преимущества, каждый из них неповторим.
Христос у Леонардо почти плачет. А вся фреска в целом если не
сияющая, то просветленная. Такова особенность не только искусст-
ва Леонардо, но и Моцарта, Пушкина: улыбка сквозь слезы, и высо-
кая человеческая радость, рождающаяся из печали. Ибо тема клас-
сики вообще, не только классики упомянутых выше художников:
разрешимость в самой неразрешимости, выход—не гипотетичес-
кий, а реальный — в самой безвыходности, победа в поражении.
Это—движение по канату, когда надо быть очень точным, до изя-
щества, в своих движениях, чтобы не свалиться в пропасть. На дне
начало —с 315 Сибирь и каторга. В известном стихотворении
«Пророк», посвященном Н.Г. Чернышевскому, Некрасов
писал: «Его послал бог Гнева и Печали Царям земли на-
помнить о Христе».
Рождение фабулы
(«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
417
которой—именуемой бездарностью и пошлостью—демонстриру-
ют искусство хождения по канату те калеки, кто давно в эту пропасть
свалился. А восхищенные их искусством зрители, не способные под-
нять голову вверх, восторженно аплодируют своим кумирам.
Владеет ли Христос на картине Леонардо исчерпывающим зна-
нием о том, что было и что будет? Если бы владел, то не было бы
такой безграничной скорби в его лице и жесте. Он не вполне уверен
в том (как не вполне уверен и мастер у Булгакова), что все будет так,
как надо. В конечном итоге, в бесконечности — да (для Воланда,
который бессмертен), конечно, все линии сходятся, даже те, что
параллельны, как учил Николай Кузанский. Но на Голгофу надо идти
сейчас, и нет уверенности, что казнь сама по себе, так сказать, ав-
томатически, приведет к тому, что смерть будет смертью попрана,
и идея Христа пересечется с идеей его учеников. «Железной» пред-
определенности действительно нет, но пересечение все же произой-
дет обязательно. Потому что единство между учителем и не понима-
ющими его учениками уже есть, причем не только потенциально, но
актуально. Только Иуда находится вне пределов этого внутренне-
го единства различного, не соприкасающегося.
Леонардо изобразил картину полноты истины, плеромы, кото-
рая не исчерпывается ни одной, даже самой правильной точкой зре-
ния. Плерома — противоположность плюрализму, ибо последний с
заднего хода, нечестно проводит диктатуру одной точки зрения,
диктатуру, опирающуюся в конечном итоге на грубую силу, какой
в области идей является не объективная истина, а мнение большин-
ства1, то есть репрессивная терпимость власть имущих, манипули-
рующих обманутым, разобщенным и развращенным большинством.
До тех пор пока Христос и ученики разобщены, не достигли идеала
платоновского единства, Иуда будет успешен, а Христос обречен на
позорное поражение1 2.
1 «Плюрализм (от лат. plures — больший)—точка зрения
большинства, множества» — см. русский перевод «Фило-
софского словаря» Генриха Шмидта (Stuttgart, 1957), М.,
1961. С. 453.
2 «Позорным» называли поражение Христа на земле не-
мецкие мистики XVI века, например С. Франк.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
418
Христос у Леонардо — это Платон, который понял, что ныне ра-
зум раскололся, не может быть единым, метод «родовспоможения»
не работает, а манипулировать сознанием он не хочет и потому от-
казывается от непосредственной борьбы за умы своих учеников.
Если бы у него сохранялась хотя бы малейшая надежда на понима-
ние, то он не находился бы в состоянии резиньяции, он убеждал бы,
сопротивлялся, сердился, наконец, на то, что его не понимают. Нет,
надежды на понимание у Христа не осталось никакой. Но его сми-
рение перед неизбежным, резиньяция, есть не отказ от своих идей
и своей дороги, а последний шаг к неизбежному—гибели. Дорога
учеников имеет прямо противоположное направление, они уходят
от идей учителя, которые вначале с энтузиазмом восприняли, все
дальше и дальше. Тот факт, что они при этом не понимают своего
предательства, говорит о том, что никакой силой их с этого пути
свернуть нельзя. Даже если бы Христу удалось сейчас, в этот момент,
каким-нибудь образом склонить их на свою сторону, то это было бы
только хуже — непонятая истина превратилась бы в их устах в ба-
нальность, профанацию большой идеи, он тем самым закрыл бы
своим ученикам дорогу к пониманию или очень усложнил бы ее.
Но, удаляясь от Христа, они движутся к нему. Правда, когда и
каким образом эти две разнонаправленные дороги пересекутся, мы
не видим на картине Леонардо. По крайней мере лицо Христа не
внушает надежды на скорую встречу. Возможно, многие поколения
будут стерты в пыль прежде, чем встреча состоится, прежде, чем
разум вновь станет единым, «вещь в себе» явится человечеству в ее
собственном обличье.
Однако картина полного разобщения и непонимания между людь-
ми, между двумя истинами чудесным образом превращается у Лео-
нардо в уже достигнутое единство. Люди не понимают друг друга,
но тела их созвучны, гармоничны. Все жесты, кроме судорожного
движения Иуды, который прячет известную ему позорную правду,
будучи очень разнообразными, выражая самые различные чувства,
едины, они, как ветви прекрасного неземного дерева, растут из об-
щего корня, именуемого человечностью.
Перед нами драма необходимо разъединенного, не способного
понять друг друга человечества, и в то же время единого в своем
стремлении к истине и добру. Единого не на небесах, не в будущем,
419
а здесь и сейчас. Завтра их пути разойдутся, как пути Ахилла и При-
ама, проливающих слезы о горькой участи людской в известной
сцене, изображенной Гомером.
Встреча антиподов, дороги которых никогда не пересекутся, как
встреча Чацкого и московского дворянства, порождает саркастичес-
кий смех. Встреча людей, которые должны разойтись далеко, вплоть
до взаимного невольного уничтожения (Христос обрек своих учени-
ков на жизнь, полную мучений, включая и муки душевные), чтобы
найти в неизвестном далеком будущем подлинное единство, — тра-
гична в своей основе. Но сквозь слезы леонардовская классика улы-
бается нам. Никогда еще эти люди не были столь трогательно еди-
ны, охвачены столь непосредственной телесной близостью и пони-
мающей любовью друг к другу, как в этот их последний вечер. Они
едины в том, что делает людей людьми, что уничтожить и победить
нельзя, без чего сам мир — не реальность, не действительность, а
убогая фантазия Иуды. Вот что говорит живопись, если воспользо-
ваться словами самого Леонардо, «всем поколениям Вселенной».
Это—последний и медленно замирающий звук симфонии, полной
взрывов страсти, бурных слез и лирических адажио, звук, который,
затухая на остановившейся палочке дирижера, стекает с нее, чтобы
навсегда остаться в душах слушателей. Жест дирижера, завершаю-
щего драму, ставящего точку, — красноречивый образ артистизма.
Первое схождение
«параллельных линий»
(проблема артистизма
в литературной критике
В.Б. Александрова)
По видимости, рассуждения советского литературно-
го критика Владимира Борисовича Александрова (Келлера) (1892-
1954) о творчестве Твардовского, его «Василии Теркине» не имеют
прямого отношения к теме артистизма в искусстве, разве что самое
отдаленноеи косвенное. Впрочем, именно эстетико-литературовед-
ческое «течение» тридцатых годов, к которому принадлежал В. Алек-
сандров, определило классическую поэзию Пушкина как резинъя-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
420
цию—особую точку зрения в исторический период, когда «концы
с концами не сводятся». «Течение» (см. о нем з-ю главу), которое, по
словам Мих. Лифшица из одного частного письма, после 1940 года
«прекратило течение свое», ожило после смерти Сталина на корот-
кий период (влияние его идей заметно в творчестве талантливого,
но рано умершего литературного критика Марка Щеглова (1925-
1956)), затем «прерывистая эстафета», говоря словами Ю. Буртина,
была подхвачена журналом «Новый мир» А. Твардовского.
За десять лет после закрытия «Литкритика» Мих. Лифшиц не
опубликовал ни одной строчки. Новый подъем его деятельности
(после знаменательного эпизода — памфлета «Дневник Мариэтты
Шагинян в 1954 г.) пришелся на бо-е годы и связан с «Новым миром»
Твардовского1. Из участников «течения» в 40-е годы и начале 50-х
продолжал публиковаться В.Б. Александров. Об атмосфере, в какой
ему приходилось жить и работать, некоторое представление дает
заметка в «Литературной газете» от 30 октября 1948 года «Творчес-
кий путь критика». Привожу ее ниже полностью:
«Комиссия по теории литературы и критики ССП обсудила отчет
критика В. Александрова о его литературной деятельности в после-
военные годы.
Е. Книпович сделала доклад о творческом пути критика. Идей-
ная направленность лучших статей В. Александрова определяется
утверждением социалистической народности советской литерату-
ры. Раскрывая литературные явления, В. Александров не замыкается
в узко профессиональных вопросах, а привлекает в свои статьи боль-
шой жизненный материал. Наиболее значительной работой из на-
писанных В. Александровым после войны выступавшие единодуш-
но признали статью о «Спутниках» В. Пановой.
Е. Книпович подвергла справедливой критике статью В. Алексан-
дрова о Б. Пастернаке1 2. Спор с идейным противником критик ведет,
оставаясь в кругу представлений своего противника.
1 А. Твардовский хотел сделать Мих. Лифшица своим пер-
вым заместителем в журнале, но ЦК КПСС не утвердил эту
кандидатуру, и первым замом стал В. Лакшин.
2 Речь идет о статье 1937 года «Частная жизнь», опублико-
ванной в «Литературном критике».
Первое схождение «параллельных линий»
421
В. Александров заявил, что писал эту статью «для узкого круга»
читателей. Е. Ковальчик решительно отвергла это чуждое духу совет-
ской литературы деление—писать для узкого круга одно, и для наро-
да—другое. Приведя многочисленные рассуждения формалистов,
В. Александров не опроверг их, надеясь, что читатель сам сделает
выводы. Тем самым критик не определил социально-политическую
сущность творчества Б. Пастернака, не указал на порочность его
философско-эстетических взглядов и в какой-то мере сдал свои идей-
ные позиции. В прениях выступили также Ю. Калашников, Ф. Левин,
В. Озеров, Г. Ленобль, Н. Вильям-Вильмонт. Все выступавшие при-
знали необходимым и в дальнейшем обсуждать на заседаниях ко-
миссии работу отдельных критиков».
Заметим, что среди выступавших не было участников «течения»,
а доклад о «творческом пути» В. Александрова сделала Е. Книпо-
вич— инициатор «дискуссии» 1939-1940 гг., приведшей к закрытию
журнала «Литературный критик». Я не нашел в ближайших номерах
«Литературной газеты» «творческих отчетов» каких-либо других
критиков, кроме В. Александрова.
В 1948 году главным редактором «Литературной газеты» был
В. Ермилов. В серии своих статей «За боевую теорию литературы!»
В. Ермилов ратует за «отражение в литературе объективной дейст-
вительности», прочно, наверное, забыв о своем старом соратнике
Л. Авербахе, который, как помнит читатель, в 20-е годы осуждал «от-
ражение действительности», находя в нем порок созерцательности
и пассивности художника-объективиста. Впрочем, несмотря на во-
ровство у «Литкритика» (как ранее Авербах присваивал себе неко-
торые идеи Воронского), суть дела во все времена оставалась одной
и той же, то есть очень печальной для литературы. В одной из статей
названной серии Ермилов вскользь бросает фразу о «клевете А. Пла-
тонова на нашу действительность»1, говоря об этом как о чем-то
столь очевидном, что не подлежит обсуждению. В1948 году ему уже
никто возразить не мог. \
Выйдя на оперативный простор, Ермилов развивает свою идею
30-х годов о том, что современный писатель должен находить новые
1 Ермилов В. За боевую теорию литературы! // Литератур-
ная газета, 1948, и сентябра.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
422
художественные формы, соответствующие реальности XX века (идея,
восходящая, как помнит читатель, к Авербаху). Кто же будет спо-
рить со столь очевидным утверждением! Но весь вопрос в том, что
понимали Авербах и Ермилов под «новыми формами», которые остав-
ляют далеко позади «созерцательное» искусство Льва Толстого, Анд-
рея Платонова и Михаила Булгакова.
Примером «новых форм», не просто отражающих, а созидающих
действительность, дая Ермилова был роман В. Ажаева «Далеко от
Москвы». Подробно разбирая его художественные достоинства, Ер-
милов пишет: «Язык персонажей часто безличен, авторская речь
также далека от яркости. Характеры очень многих героев очень
мало индивидуализированы. Сюжет «Далеко от Москвы» прямоли-
неен как нефтепровод, прокладываемый героями романа...»1
Однако, продолжает Ермилов, все эти недостатки не мешают
роману Ажаева быть почти образцовым произведением современ-
ной литературы. «Почему мы испытываем поэтическое ощущение
при чтении этого романа, являющегося, в сущности, не чем иным,
как художественно претворенным, большим производственным от-
четом.. ,?»1 2. Ответ читатель получает в следующем номере газеты, и
ответ этот гласит: «В. Ажаев не скрывает, но как бы прямо деклари-
рует, что его роман “Далеко от Москвы” есть не что иное, как поэти-
зированный производственный отчет. Потому-то производствен-
ный отчет и может стать основой художественного произведения,
что в стране социализма любой такой доклад таит в себе огромное
человеческое содержание, а тем самым богатейший поэтический
потенциал (подчеркнуто Ермиловом.—В. А.), широкие художест-
венные возможности»3.
Это не шутка, не скрытая ирония или самоирония. Это серьез-
но. Это продолжение ошеломляющей «благой вести» С. Третьякова,
О. Брика, В. Беньямина и Л. Авербаха о том, что классика умерла,
художник должен забыть о «божественном вдохновении» и делать
стихи так, как сапожник делает сапоги. Разумеется, в 40-е годы к ста-
рой идее «лефов» и «напостовцев» добавлено столько сладенькой «ро-
1 Литературная газета, 1948, 13 ноября.
2 Там же.
3 Литературная газета, 1948,17 ноября.
Первое схождение «параллельных линий»
423
мантики социалистического строительства», что, наверное, В. Бень-
ямина, автора тонкого анализа «Избирательного сродства» Гете,
могло стошнить. А может быть, и нет. В том же 1948 году В. Шклов-
ский пишет на страницах «Литературной газеты»: «Друзья мои, то-
варищи мои по удачам, хорошо жить при сотворении нового мира!
Не пропустим для потомков рассказ об этом сотворении. Это помо-
жет их счастью. Напишем книги о чудесах, о человеке, который из-
меняет природу так, как ему нужно»1.
В. Александров и в эти годы, однако, продолжал думать, что про-
изводственный отчет — не искусство, ибо искусство есть изображе-
ние, а содержание его нельзя выразить иначе, как посредством ху-
дожественной. формы. Правда, практическое подтверждение старым
гегельянским идеям он находил не у членов Союза советских писа-
телей, превозносимых В. Ермиловым. Современный исследователь
творчества Виктора Некрасова рассказывает об истории появления
в печати повести «В окопах Сталинграда»: «Помогли случай и то, что
рукопись оказалась у Владимира Борисовича Александрова (Келле-
ра), известного тогда критика, близкого к Твардовскому, прожухжав-
шего, по словам Некрасова, всем уши: “Молодой офицер, слыхом не
слыхал про социалистический реализм, прочтите обязательно!”»1 2.
В. Лакшин написал очерк об Игоре Александровиче Саце, в ко-
тором есть такие строки: «Чтобы не задеть ханжеской чувствитель-
ности к утвердившейся в литературе иерархии заслуг, оговорюсь,
что вовсе не хочу приравнять Саца к Станкевичу, репутацию кото-
1 Шкловский В. Сотворение мира // Литературная газета.
1948, и декабря.
2 Потресов В. Возвращение Некрасова // Некрасов Вик-
тор. Записки зеваки. М., 2003 г. С. 17. Сам В. Некрасов
писал об этой истории так: «... заветная моя папка побы-
вала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журна-
лу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Алек-
сандрова, известного критика и чудака, прожужжавшего
всем уши: “Простой офицер, слыхом не слыхал, что такое
11 социалистический реализм... Прочтите обязательно!”»
? - (там же. С. 556). Имя В. Александрова, пишет современ-
.,: ный литературовед, «В. Некрасов вспоминает почти в каж-
дом своем мемуарном произведении» (там же. С. 602).
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
424
рого утвердили Герцен и Тургенев и именем которого названа ули-
ца в Москве. Но что Игорь Сац по силе нравственного и интел-
лектуального влияния, по незаметному своему действию на крово-
обращение литературы заслуживал бы подобной характеристики,
для меня несомненно. Его меду в общем литературном улье — не
одна капля. И многие авторы знаменитых ныне книг, которые он чи-
тал в рукописи, могли бы благодарно его вспомнить. Выполняю долг
памяти, который лежит на мне. Четверть века назад меня, как не-
много раньше Марка Щеглова, он дружелюбно, весело взял за руку
и ввел в литературу»1.
Литературный и жизненный путь Владимира Борисовича Алек-
сандрова заслуживает не меньшего внимания. А если вы хотите знать,
почему он сегодня пребывает в еще большей тени, чем при Ермило-
ве и Храпченко, приведу одну любопытную историю. В «Литератур-
ной газете» № 6 1938 года (она, слава богу, тогда еще не редактиро-
валась В. Ермиловым!) опубликована небольшая заметка за подпи-
сью В. Александрова, которая стоит того, чтобы привести здесь из
нее подробные выписки:
«Тов. Дымшиц в своей вступительной статье к стихотворениям
С. Надсона (“Библиотека поэта”, малая серия, № 48, “Советский пи-
сатель”, с. 35) пишет: “Обращение к фольклору, очень робкое и не
сделавшееся системой, оказало все же плодотворное влияние на не-
которые стихотворения Надсона. Так, в первом варианте «Святите-
ля» намечается реалистически трактованный характер, язык прост
и точен, и самая вещь вызывает в памяти знаменитую некрасовскую
«Орину—мать солдатскую». Об интересе Надсона к фольклору также
свидетельствует обнаруженная нами в его архиве песня, написанная
под очевидным воздействием фольклорной традиции”» (далее в за-
метке В. Александрова приводятся слова этой песни, по поводу кото-
рой Дымшиц замечает: «Стихотворение помечено августом 1886 г.
Хранится в бумагах Надсона в арх. Института литературы Академии
наук СССР».—В. А).
Процитировав стихи, найденные Дымшицем в архиве Надсона,
Александров продолжает: «Эту песню нетрудно было обнаружить в
1 Лакшин В. Игорь Сац //Лакшин В. Голоса и лица. М.,
2004. С. 54.
Первое схождение «параллельных линий»
425
другом месте: (следует текст песни. —В. А). Стихотворение поме-
чено 23 августа. Напечатано в 1861 году. Обнаружено нами в пол-
ном собрании стихотворений Н.А. Некрасова, ред. К. Чуковского,
1931, с. 120-121. Может быть обнаружено каждым в любом собрании
стихотворений Некрасова. Даже искать не нужно: все помнят эти
строки наизусть.
Читатель может оценить осведомленность автора, так торже-
ственно публикующего результаты своих архивных изысканий. Наш
читатель, — продолжает Александров,—знает и любит своих вели-
ких поэтов. Но как квалифицировать литературного критика, кото-
рый пишет о некрасовской традиции, о революционно-демократи-
ческой поэзии — и не знает некрасовских «Коробейников»?
В. Александров».
Какое отношение этот литературный анекдот имеет к современ-
ной литературной жизни, к тому, что ныне мы не помним критика
В. Александрова, тогда как, например, имя В. Шкловского у всех на
слуху? Обратимся к памфлету Мих. Лифшица «На деревню дедушке»,
который готовился к публикации в бо-е годы в «Новом мире», но был
запрещен цензурой. Там мы читаем об одном «молодом финалисте»,
знающем, что обгон разрешен только с левой стороны. Он «просил
отеческой ласки» у А. Дымшица, защищая в журнале «Вопросы ли-
тературы» право художника на «субъективное видение», на актив-
ное отношение к действительности от злостного догматика Мих.
Лифшица (последний по старинке думал, что искусство—это изоб-
ражение, а не произвольный знак духовной позиции). Имя этого
«финалиста» — В. Непомнящий, который в бо-е годы нашел-таки
отеческую поддержку у А. Дымшица, удостоившего похвалы «моло-
дого ученого».
Ныне, правда, В. Непомнящий предпочитает обгон уже с правой
стороны (за свои литературный труды, в которых ученый доказыва-
ет, что Пушкин — неподражаемый гений, ибо следовал правосла-
вию, В. Непомнящий получил из рук Президента РФ В. Путина Госу-
дарственную премию).
Но в далекие от нас бо-е годы, во время вторжения советских
войск в Чехословакию, система ценностей была иная, и А. Дымшиц
сообщает в отдел культуры ЦК КПСС, что Лифшиц — ревизионист,
ученик Г. Лукача (осудившего это вторжение), оба они с тридцатых
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
426
годов извращают марксизм-ленинизм1. Впрочем, когда А. Дымшиц
обращался к широкой публике, а не в ЦК КПСС, он предпочитал
изображать Мих. Лифшица догматиком, а себя—либералом. В том
же направлении двигался и М.Б. Храпченко (см. его статьи 70-х го-
дов о системном анализе и семиотике в литературоведении). Эти
люди знали, где раки зимуют! Надо ли удивляться, почему их уче-
ники и духовные наследники сегодня дружными шеренгами пошли
в другую сторону, к державности и православию? Надо ли удивлять-
ся тому, что искусством махинаций «самоуверенного манипулято-
ра» Авербаха они владеют не хуже Ермилова с Дымшицем?
Насколько прочны были позиции последнего в литературном
мире 30-х годов можно судить по простому факту. Вскоре после пуб-
ликации заметки В. Александрова в «Литературной газете» № 14 за
1938 год появляется статья «Большие ошибки «малой серии» Библио-
теки поэта». Вы, наверное, ожидаете, что в ней речь пойдет об откры-
тии молодым тогда ученым А. Дымшицем неизвестного доселе сти-
хотворения Надсона (оказавшегося, правда, «Коробейниками» Не-
красова)? Вы ошибаетесь, имя Дымшица не фигурирует в числе тех,
кто совершал «большие ошибки», выпуская «малую серию» Библи-
отеки поэта. Там речь идет об ошибках, например, Г. Гуковского, но
ни слова нет о Дымшице. Свои своих никогда не сдают!—вот кредо
«финалистов» образца 1938 года, уповавших главным образом на
«административный ресурс», а не на идеалистические и метафизичес-
кие глупости, именуемые со времен Сократа «объективной истиной».
А на что надеялся в 40-е и 50-е годы В. Александров? Как матери-
алист он верил в то, что материя обладает свойством объективно-
идеального, и это свойство материи неуничтожимо. Надежду ему
внушал артистизм, свойство аристократически развитой личности,
который обнаружился в советском солдате в кирзовых сапогах и с
гармошкой в руках, — артистизм Василия Теркина, победившего
солдата-фашиста, доказывал критик, не в последнюю очередь бла-
годаря своей «душевной тонкости» и глубине натуры.
1 Письмо А. Дымшица в Отдел культуры ЦК КПСС, храняще-
еся ныне в РГАЛИ, подготовлено к публикации А.С. Сты-
калиным, любезно ознакомившим меня с содержанием
этого доноса.
Первое схождение «параллельных линий»
427
Не сочинил ли народный артистизм и аристократизм Алексан-
дров подобно Тому, как Ермилов нашел «богатейший поэтический
потенциал» в романе — производственном отчете с сюжетом, пря-
молинейном, как нефтепровод?
***
Для Александрова проблема заключается не в том, почему Твар-
довский наделил своего героя артистичностью, наоборот, главная
проблема в том, пишет Александров, «почему Твардовский сумел
оценить (выделено мной. —В. А) не только стойкость и мужество
Теркина, но и теркинский ум, и душевную тонкость, и глубину, и
артистизм теркинской натуры?»1.
Понятие «артистизм» в рассуждениях В. Александрова появляет-
ся как бы случайно, но оно является одним из ключевых в теорети-
ческой концепции школы журнала «Литературный критик». Опре-
деление артистизма (в искусстве) как виртуозного мастерства для
Александрова самоочевидно и не подлежит пересмотру. Но для того
чтобы художник мог быть артистичным в полном смысле слова, он
должен, согласно Александрову, уметь отличать артистизм от сно-
бизма. Надо заметить, что и Э. Панофский писал о снобизме как о
«главной слабости, присущей всем выскочкам, парвеню...»2. Разни-
ца между артистизмом и снобизмом в том, считает Александров, что
артистизм — высшее проявление мастерства и культуры, а снобизм
проистекает из недостатка или искажения культуры. Свою мысль
критик иллюстрирует простым примером. Привожу большую вы-
держку из его статьи.
«В одном областном издании был напечатан очерк журналистки
Буроновой «В Кулундинской степи» — о работе выездной газетной
редакции. Там действует шофер Костя. У него подбритые брови, он
одет «не то летчиком, не то капитаном дальнего плавания»; он ве-
дет себя, «как премьер, который едет на гастроли в провинцию».
По своему месту в обществе, — продолжает Александров, — он
сам мог бы быть Теркиным, но он явно не хочет им быть. Если бы с
- ’ Александров В. Люди и книги. М., 1956. С. 281.
2 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного ис-
кусства. СПб. 1999. С. 167.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
428
ним об этом заговорили, наверняка оказалось бы, что он смотрит на
таких людей свысока и что ему интереснее было бы прочитать не о
Теркине, а, например, о том уезжающем от любви за границу бывшем
графе, о котором в шутку упоминает в своей поэме Твардовский.
Такие «Костины вкусы» (то, что обозначается словом «снобизм»)
можно встретить и на более высоких ступенях развития. Некоторые
поэты обрабатывают свое «поэтическое лицо» так, как Костя — свое
естественное человеческое лицо. У Кости — бритые брови, а у кого-
нибудь другого — пристрастие к какой-нибудь литературной моде,
специально придуманная литературная костюмировка, поза, ужим-
ка. Существо дела одно и то же. Костя наивнее—в этом вся разница.
Костя в сущности неплохой парень. По мнению умного старика
наборщика Нодельштейна, с которым мы знакомимся в том же очер-
ке, нужно простить ему его подбритые брови: они — «результат
невысокой культуры».
Комизм положения в том, что и Костя, и более притязательные
сторонники тех же вкусов как раз в этих «бритых бровях», в этом
снобизме, в этом «отталкивании» от «простых» и «обыкновенных»
людей усматривают культуру и интеллигентность. Именно ради
«культурности» они весь этот более или менее дешевый шик на себя
напускают. А на поверку сами в этих своих стараниях и претензиях
оказываются некультурными»1.
Статьи о поэмах Твардовского были написаны В. Александровым
в 1946-1950-х годах, то есть в период, крайне неблагоприятный для
«течения», когда оно было лишено влияния, некоторые его участники
(включая писателя А. Платонова) вынуждены были просто молчать.
В недавно опубликованном письме одного из участников «течения»
И.А. Саца к Марку Щеглову читаем: «Александр Трифонович (Твар-
довский. —В. А.) и я хлопочем о сборнике Владимира Борисовича
(Александрова.—В. А) и, по-видимому, хоть половину, а отобьем»2.
Тема снобизма как противоположности артистичности в искус-
стве и жизни возникает у В. Александрова раньше, являясь централь-
ной, например, в очерке «Ираклий Андроников» (1940 г.). Источник
‘Александров В. Люди и книги. М., 1956. С. 281-282.
2 Цит. по: Щеглов М. На полдороге. Слово о литературе. М.,
2OOI. С. 269.
Первое схождение «параллельных линий»
429
снобизма — в желании «обособиться, противопоставить себя всем
другим людям. Основания, используемые для этого обособления,
его мотивировки — различны. У наиболее отрицательных персона-
жей (устных рассказов И. Андроникова. —В. А.) это обособление —
нарочитое, агрессивное, злостное».
Впрочем, обособление обособлению рознь. В работе «Идеи и
образы Достоевского» (i937~i95O гг.) В. Александров пишет: «Третья
часть романа «Идиот» открывается замечательным гимном в честь
«оригинальности» и издевательством над «рутиной». В предисловии
к «Карамазовым», представляя героя читателям («Это человек стран-
ный, даже чудак») Достоевский настаивает: чудак—не всегда «ча-
стность и обособление», «напротив, бывает так, что он-то, пожалуй,
и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его
эпохи — все каким-нибудь наплывным ветром от него оторвались».
Здесь, — констатирует Александров, — один из важнейших принци-
пов и эстетики и этики Достоевского»1.
Одно дело — обособление чудака князя Мышкина, и совсем дру-
гое— Смердякова. «Характер Смердякова,—замечает Александров
вопреки распространенному мнению об этом литературном герое, —
порожден не «приспособлением к среде». Смердяков отталкивает-
ся, — продолжает свою мысль критик, — от «среды» очень энергич-
но, но неправильно, не в ту сторону, так что отталкивание его ока-
зывается «лакейским» (презрение к народу, к России)»2. Другими
словами, обособление князя Мышкина есть дорога к «сердцевине
целого», тогда как Смердяков ненавидит именно то, что представ-
ляет собой сердцевину человечества, культуры.
Возникающая здесь тема ложного отталкивания, отталкивания
«не в ту сторону»—одна из центральных у авторов «Литературного
критика». Эрзац, подмена, неподаинное—лучше, согласно Вальте-
ру Беньямину, писавшему примерно в те же годы, чем та «подлин-
ность», которая, говоря от имени самых замечательных вещей на
свете, от имени правды, рождает нечто подобное фашистскому ми-
фу. Для того чтобы придти к такому выводу, надо было погрузиться
в полное, безысходное отчаяние. Лучше честная проститутка, чем
1 Александров В. Люди и книги. М., 1956. С. 90.
2 Там же.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
430
любящая женщина, — к этому выводу приходишь, постигая смысл
слов Жака Деррида о «беззастенчивом шантаже истинной любви»1
(см. более подробно об этом 5-ю главу). В наше время все радикаль-
но меняется, и «святая простота» переходит в свою противополож-
ность: чем искреннее и наивнее человек, тем глубже и опаснее его
обман.
Но действительно ли «святой простоты» нет и не было в XX веке?
Вопрос очень важный: до тех пор пока наивность, искренность «свя-
тая» — ее просто преступно смешивать с ее противоположностью.
Ибо еще сохраняется шанс превращения «простоты» в святую убеж-
денность знающего своих истинных врагов человека, прорыв «по-
рочного круга» возможен. Концепция «подлинности», ауры искусст-
ва (как и ауры самой жизни), от которых надо отказаться ради «че-
стного» неподлинного, —знаковая для культуры XX века.
Идея классики совершенно иная. Пугачев рассказывает Грине-
ву (в «Капитанской дочке» Пушкина) «с каким-то диким вдохнове-
нием» известную калмыцкую сказку об орле и вороне — «чем трис-
та лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там
что бог даст!». «Пиетический ужас» внушает Гриневу Пугачев и его
судьба. В своей литературоведческой работе 1937 года «Пугачев (на-
родность и реализм Пушкина)» В. Александров пишет: «Пушкин
назвал Разина “единственным поэтическим лицом в русской исто-
рии”. В “Капитанской дочке” и “Истории Пугачева” поэтическое от-
дано пугачевцам.. .»2. Правда, поэтическое для Пушкина как и, напри-
мер, для Вальтера Скотта, внутренне связано с ужасным, с той безд-
ной, на краю которой человек испытывает странное наслаждение...
Для Беньямина в бездне подлинного бытия нет наслаждения
«пиетическим ужасом», на дне этой бездны — сияющее «безумным
счастьем» лицо Шурочки из «Поединка» Куприна. Заплатить за па-
дение в бездну любви бедному офицеру Ромашову пришлось своей
жизнью. Но весь ужас в том, что купринской Клеопатре просто очень
хочется светского успеха, тогда как целью Клеопатры «пиетичес-
кой», пушкинской была проверка истинности любви как самоцели.
' Деррида Жак. О почтовой открытке. От Сократа до Фрей-
да и не только. Минск. 1999 г. С. 42.
2 Александров В. Люди и книги. М., 1956. С. 16.
Первое схождение «параллельных линий»
431
Шурочка не сомневается в том, что ее любят истинно, но истинное
потеряло для нее свойство самоценности, оно стало всего лишь сред-
ством. Разум, доказывал Ницше, — только средство для выживания
человека, и в этом смысле он ничем не отличается от когтей или
клыков льва, ничего трансцендентального, вопреки мнению мысли-
теля XVIII века, которого Ницше назвал «роковым пауком» немец-
кой философии, в разуме нет, это все выдумки романтиков.
Правда, и Александров замечает, что «демоническое» вообще,
демоническая любовь роковой женщины в XX веке может вырождать-
ся в пошлость, внушающую не ужас поэтический, а тошноту. В ци-
тированных выше словах о «Василии Теркине» он разделяет иронию
Твардовского по поводу традиционных для литературы XIX века лю-
бовных сюжетов. По мнению В. Александрова, подобные сюжеты ин-
тересны для «снобов» типа шофера Кости, который бреет себе брови
и хочет выглядеть «премьером», едущим на гастроли в провинцию.
«На войне сюжета нету», — цитирует Александров слова Твар-
довского. Однако и на войне, и после Освенцима вопреки утвержде-
нию Т. Адорно стихи писать все же можно. В. Александров еще не
знает популярных сегодня слов франкфуртского философа, но в его
тексте есть ответ на них. Да, возможно, что лиризм, основывающий-
ся только на «Я», после Освенцима рухнул. «Я» уже не выдерживает
тяжести обрушившегося на человека. Поэт на Западе отказывается
от своего «Я», и поэзия в результате становится самоубийством или,
точнее, убийством поэзии, которое публично демонстрирует «ху-
дожник» (ныне именуемый «куратором»). Больше художнику в XX ве-
ке заниматься нечем, утверждает Т. Адорно и его многочисленные
последователи, ибо все, что может быть сказано после Освенци-
ма, — тотальная ложь.
Но есть иной путь выхода из кризиса искусства в XX веке, кото-
рый заключается в том, что если лирика от имени «Я» затруднена,
то возможна от имени «Другого». Поэту, пишет Александров о Твар-
довском, «необходимы другие люди, “без которых нет меня”; реаль-
ные люди с живыми, особенными своими чертами ... (...). Поэт го-
ворит и “за себя” и “за других”. Стремление “говорить за других”
воспринимается как властная, неотступная сила...»1, «Теркин не
1 Там же. С. 273.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
432
“лирический герой” в том специальном смысле, в котором часто
применяется этот термин, не авторская тень, не переодетый в ши-
нель рядового бойца писатель Твардовский (в таком переодевании
не было бы особой заслуги)»1. Когда же современный поэт говорит
только от себя, то получается не очень хорошо — эту свою мысль
В. Александров обосновывает на примерах таких разных поэтов, как
К. Симонов (статья «Письма в Москву») и Б. Пастернак (статья «Част-
ная жизнь»).
Твардовский у Александрова не прячется за «другого», понятие
«другого» не имеет у критика постмодернистского смысла. «Дру-
гой» —не симулякр, не синоним чистого ничто, а живая саморазви-
вающаяся общность, которая, однако, так же далека от соборности
современных славянофилов, как и от плюрализма. Собственно, все,
написанное Александровым, посвящено анализу этого нового каче-
ства XX века.
Если бы Александров познакомился с рассуждениями Беньями-
на об уничтожении ауры, отказе от подлинного как синонима вели-
чайшей лжи, то, возможно, он увидел бы в них парадокс заблудив-
шегося правдолюбца. И этот парадокс вопреки мнению Беньямина
служит не правде, а тем, кто топчет ее ногами.
Общность, которую постоянно имеет перед своим внутренним
взором В. Александров и его единомышленники, — не продукт «вос-
стания масс», не тоталитарное единство индивидов, переставших
быть личностями. Он доказывает свой тезис как «от противного»,
так и конкретными примерами.
Когда артист дает петуха, когда даже у очень интеллигентных и
заслуживающих уважения людей проскальзывает фальшь, превра-
щающая артистизм в пошлый снобизм? Ответ В. Александрова мы
уже знаем: когда человек по тем или иным причинам «обособляет-
ся» — не так, как обособлялся князь Мышкин, двигаясь к обретению
«сердцевины целого», а как обособлялся Смердяков. Впрочем, Алек-
сандров чувствует опасность фальши, которая настигает человека
нередко именно тогда, когда он бичует фальшь, произнося такие
слова, как «чувство правды», «доброта», «благородство». Нельзя, про-
должает Александров, «злоупотреблять такими словами, чтобы они
1 Там же.
Первое схождение «параллельных линий» 433
не прозвучали неверно и громко, чтобы не вспомнилось: “Прощай,
друг! Спасибо за всё”»1.
Александров в своей статье об Ираклии Андроникове рассказы-
вает о совершенно невинных формах «обособления» — «иногда сам
человек не замечает такого обособления; он просто ушел в узко по-
нятые интересы своей специальности или профессии и в какой-то
мере утратил ощущение связи со смежными областями культуры и
с общими ее вопросами и просто с обыкновенными людьми»1 2. Одна-
ко ирония вещей настигает и такого невинно обособившегося.
Вот пример лингвистического анализа «Медного всадника» од-
ним крупным ученым. Наше языкознание обязано многим этому
ученому, замечает критик, и он — из числа симпатичных персона-
жей рассказов Андроникова. «Но он — как бы лучше сказать — не-
много одичал в своей специальности. Лингвистическая точка зрения
делает его нечувствительным ко всему остальному. Он не замечает,
как комичны приводимые им примеры. В стихах Пушкина он усмат-
ривает лишь повод, лишь материал для лингвистического анализа.
“На берегу пустынных волн”. “На береге стояла баба с ведром”. “На
береге — лучше”. “Поли”. “Полный”. Неусеченная форма — “пол-
ный”— предпочтительней. “Оставим так”, то есть с поправками,
которые вносит в эти стихи профессор. Он, может быть, ценит по-
эзию, но как для языковеда она для него не существует. “Анализу это
не должно мешать”».3
Итак, поэзия не должна мешать анализу языка поэзии. Ученый
предлагает посвятить кандидатскую диссертацию исследованию
слова «ахинея». В плане одного научного учреждения Александров
замечает тему: «Слово “лошадь” и “конь”» у Пушкина». Он еще не зна-
ет, что тема «Образ телефона у Пруста» будет предложена челове-
ком, имеющим репутацию крупнейшего мыслителя современности.
1 Там же. С. 325. Последнюю фразу произносит некая дама
из приводимых в книге В. Александрова воспоминаний
Станиславского: встав в оперную позу перед гробом име-
нитого покойника, она на всю церковь продекламирова-
ла их, желая подольститься к родне усопшего.
2 Там же. С. 329.
3 Там же. С. 330.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
434
Другой персонаж Андроникова, критик-музыковед, владеет без
словаря двадцатью четырьмя языками, а со словарем еще большим
количеством языков, «но это не мешает ему, когда он говорит об
искусстве, выражаться, например, так: “гениальное скерцо в мане-
ре Калло ... и вдруг, на фоне квакающих звуков кларнета...”»‘. Впро-
чем, сегодня, возможно, какому-нибудь гурману или снобу ирония
Андроникова и Александрова будет непонятна, они в лучшем случае
просто пожмут плечами с гримасой недоуменного высокомерия —
на фоне современной «метафоричности» поэтического и ученого
языка «квакающие звуки кларнета» воспринимаются как скромное,
непритязательное словосочетание.
А вот лекция видного специалиста по романо-германской фило-
логии. В начале лекции звучат слова упрека невнимательным сту-
дентам, в которых сквозит уязвленное самолюбие лектора. «Потом
как-то вдруг, без всякого перехода, — немецкая анакреотическая
лирика; совсем другим голосом, монотонным, певучим, с нажимом
на некоторые слова и буквы, с ускорениями в каких-то частях рит-
мического перехода: «Ты мой милый, и я твоя возлюбленная, и мы
вместе возлежим под буком, под которым вкусили радость первого
поцелуя...»1 2 Комизм ситуации, «ошибку в лекторской манере» кри-
тик видит в том, что «художественное не компонуется здесь с житей-
ским, обыкновенным, прозаическим...»3.
Ошибки и сбои вкуса у персонажей рассказов Ираклия Андрони-
кова, людей образованных и умных, те погрешности вкуса, которые
в тридцатые-сороковые годы казались многим чем-то совершенно
невинным, имели продолжение, которое трудно было тогда преду-
гадать. То, что вчера резало слух Александрова, превратилось сегод-
ня не в моду даже, а стало влиятельными направлениями в филосо-
фии, литературоведении, культурологии, общепринято как эталон
современного вкуса, оспаривать который без ущерба дая своей ре-
путации нельзя, — вы всерьез рискуете быть причисленными к без-
надежным провинциалам, к old fashioned. Скорее всего вас просто
1 Там же. С. 331.
2 Там же. С. 330.
3 Там же.
Первое схождение «параллельных линий»
435
никто слушать не станет. Ведь сам Деррида предлагает написать об
образе телефона, а метафоричность современного языка такая гус-
тая, что на фоне его язык Александрова будет восприниматься как
слог школьного сочинения шестого класса.
Легко себе представить, что та дама (или подобная ей), которая
монотонно-певучим голосом читала студентам любовную лирику,
сегодня презрительно смерит вас взглядом, если вы позволите себе
сказать что-то ироническое по поводу, например, скандальной ак-
ции А. Бренера1 в Пушкинском музее.
Как же случилось, что артистизм Леонардо и Моцарта эволюци-
онировал к артистизму упомянутого Бренера, точнее, его предше-
ственников, снобов начала XX века?
Когда демократизм самого народа—«вещь в себе», то искусст-
во одевается «алмазной скорлупой художественности», защитив се-
бя от притязаний «идейности» полицейского государства. «Вещь в
себе» (народность) являла себя в творчестве Леонардо и Тициана, но
Тициан и Леонардо были недоступны для понимания народа, этой
«вещи в себе» всей предшествующей истории. Разрабатывая эту
тему, литераторы «течения» выдвинули формулу «великих консерва-
торов человечества», которые были консервативны ровно настолько,
насколько опасались народного бунта, бессмысленного и беспощад-
ного, и демократичными настолько, чтобы не стать либеральными
апологетами прогресса, который во всей предшествующей истории
был прогрессом на черепах (см. з-ю главу).
Глубокая резиньяция свойственна всякой классике, в том числе
и классике нашего Пушкина, но не скептицизм и не снобизм, кото-
рые — удел слабых душ. Аристократы духа, великие консерваторы
человечества, каждый по-своему, стремились, говоря словами Пуш-
кина, «понять необходимость и простить оной». О, Sancta Simpli-
citas! — читаем мы эти слова на лице Христа у Тициана, обращенные
к вопрошающему его о том, надо ли платить налоги кесарю. Подоб-
ная же невыразимая смесь сложных, противоположных чувств на
лице леонардовского Христа в «Тайной вечере». Так кто же во сне и
• 1 В моем присутствии видный специалист по живописи
Возрождения говорила об А. Бренере как о человеке «тон-
кой души»
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
436
мечтаниях бесплодных—Христос у Леонардо и Тициана или мытарь
с Иудой? Возможно, прав Фихте, писавший, что искусство изобра-
жает мир с трансцендентальной точки зрения. Но мир трансценден-
тальный, мир «вещи в себе», доказывал человек исключительной
трезвости и, по словам Генриха Гейне, робеспьеровской честности,
Иммануил Кант, есть не иллюзия, а «абсолютная реальность»1. На-
против, тот мир, мир опыта, в котором мы все живем, — всего лишь
обманчивое действие «вещи в себе» на наше сознание.
Неподкупный в своей суровой трезвости Кант был убежден, что
истинное бытие, хотя оно представляет собой подлинную реаль-
ность, а не химеру, никогда не будет доступно человеческому созна-
нию. Но вопреки этому беспощадному приговору «вещь в себе» ви-
дит себя глазами художника и говорит словами поэта-классика. К
такому выводу пришли последователи Канта — Шеллинг, и, в осо-
бенности, немецкие романтики. «Течение» в тридцатые годы XX ве-
ка сделало к этому трансцендентальному идеализму существенную
поправку: во всей предшествующей истории большей частью все-
таки на первом месте находился гениальный художник, он видит
«вещь в себе», а она его нет, хотя он и дает ей право самовыражения
на своем полотне. Ибо «вещь в себе» еще не доросла до того, чтобы
заговорить своим собственным языком. Однако если художник не
сумел разговорить «вещь в себе», если народная точка зрения отсут-
ствует в его творчестве — то это слабый, второстепенный в лучшем
случае, художник.
Как же «разговорить», пользуясь словами Михаила Булгакова
(см. I-ю главу), ту «святую простоту», что несет свою вязаночку дров
на костер художника? И стоит ли давать в своем произведении го-
лос тем, кто ревет от восторга, глядя на костер, где сгорает мастер,
или просто мычит, не в силах сказать что-либо человеческое? По
словам Монтеня есть только два настоящих человека, аристократ-
философ и мужик, все, что между ними, —дерьмо. Для того чтобы
быть народным, чтобы защитить себя от агрессии того большинства,
что посредине, художник должен был культивировать своей аристо-
кратизм и артистизм. В кругу «течения» ходила острота Мих. Лиф-
1 «Die absolute Realitaet». См. Eister R. Kant Lexikon. OLMS.
Darmstadt. 1964. S. 93.
Первое схождение «параллельных линий»
437
шица, обращенная к А. Твардовскому: «Саша, тебе для того, чтобы
стать настоящим народным поэтом, недостает только дворянского
происхождения!» В этой шутке, однако, отражалась суть концепции
«великих консерваторов человечества».
Итак, для того чтобы быть народным, художник должен был от-
делиться, обособиться до известной степени — от всех тех, кто его
не понимает и понять не в состоянии. В том числе и от народа то-
гда, когда народ ниже самого себя, когда он против самого себя. И
все же, несмотря на реальные парадоксы жизни и искусства, когда
даже иной снобизм мог отражать в себе оттенок правды и красоты
(пример Оскара Уайльда красноречив в этом отношении), между
снобизмом и аристократизмом искусства Леонардо, Моцарта, Тици-
ана, Пушкина—граница, которую переходить нельзя под угрозой
впадения в ложь.
Путь к постмодернистскому снобизму начинался, как в приме-
рах, приводимым В. Александровым, с невинных на первый взгляд
ошибок вкуса. И этот путь у Александрова сочувствия не вызывает,
поскольку был начальной стадией обособления по смердяковскому
типу, то есть спесивого обособления, говоря словами Монтеня, дерь-
ма от «настоящего мужика», от народа. Самое печальное заключа-
лось в том, что этот порок поражал талантливых людей.
Любовной лирике Константина Симонова не хватает пушкин-
ского артистизма, его эротика, по определению В. Александрова,
«тяжелая». «Не в том беда, что здесь откровенность, не в том беда,
что это плоть, а в том, что она—тяжелая»1. Внутреннее сопротивле-
ние такой эротике возникает потому, что тело обособилось от души,
а душа от тела. Как это понять? Вообще говоря, ни душа от тела, ни
тело от души обособиться не могут, они, пока человек жив, едины
как форма (душа — форма форм, по определению Аристотеля) и
материя. Душа и тело едины как противоположности, но есть раз-
ное единство разных противоположностей. Одно дело—душа, от-
крытая миру и радующаяся ему; и мир глядит на человека так же,
как человек на него, — вся материя улыбается ему своим поэтичес-
ки-чувственным блеском, по словам известного мыслителяXIX века.
Совсем другое дело душа Смердякова, которому отвратителен на-
1 Там же. С. 219.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
438
род, Россия, да и весь мир тоже. Соответственно и материя отвеча-
ет ему тем же.
Разлад материи и духа, тела и души имеет глубокие причины,
восходящие к основам цивилизации. К XIX веку противоречие не
было решено, напротив, обострилось до такой степени, что натуры,
во многом противоположные, — к примеру, А. Шопенгауэр и В. Со-
ловьев— одинаково относились к плотской любви как грязному,
вызывающему омерзение делу. Если же человек такого типа дума-
ет о любви, то она чистая для него лишь в той степени, в какой —
юношеская мечта. Дополняемая «взрослым» женоненавистниче-
ством, обратной стороной воздушного платонизма.
Идеал любовной лирики для Александрова — «взрослая» поэзия.
«Не юношеское чувство в сонетах Шекспира (...). Взрослая, в значи-
тельной своей части, лирика Гете. Пушкин среди мировых поэтов
замечателен тем, что в своей зрелости выражает самую широкую,
самую щедрую человечность, без всякого окостенения и олимпий-
ства. И здесь, разумеется, нужно вспомнить и о его стихах, обращен-
ных к жене. (...). В музыке то восприятие, о котором мы говорим, с
особой отчетливостью и широтой выразил Бах. Но и Моцарт не меч-
тательный юноша; и Пушкин, так проникновенно его понимавший,
не позабыл о Моцарте-семьянине»1.
Но разве «в семье личный эгоизм не исчезает, а лишь превраща-
ется в эгоизм другого порядка, семейный?»2 К тому же хорошо из-
вестно, что житейская проза уничтожает любовь. Но, встречаясь с
«житейской прозой», продолжает критик, «мы обнаруживаем, что
термином этим обозначают совершенно разные вещи: с одной сто-
роны, мелочность и корысть, это — мусор, который нужно убрать;
с другой — материальные обязательства в личном быту, от которых
никто не вправе отказываться. И никто не вправе называть заботы
о том, как накормить и одеть детей, прозаическими.
Отцовство сближает; отцы лучше понимают друг друга. Чем бо-
гаче эти личные связи, тем глубже чувство ответственности.
Отношение человека к его близким—это как бы то зрение, ося-
зание, посредством которых этот человек постигает такие же отно-
’ Там же. С. 215-216.
2 Там же. С. 216.
Первое схождение «параллельных линий» 439
шения других людей, обучается сочувствовать им, входить в их ин-
тересы»1.
Но такая семья, которую Александров называет «открытой се-
мей», не замыкающая в эгоистическом мирке, а служащая почвой
для большого мира, открытого всем людям и всем человеческим
интересам, требует особых условий. Которых не было ни во време-
на Леонардо, ни во время Пушкина, и потому первый не имел семьи,
а второй в попытках создать семейную реальную основу для боль-
шого мира своей поэзии потерпел катастрофу.
Люди, которых не соединяют реальные земные связи, а разъеди-
няют, отчуждают друг от друга, способны либо на платоническую
юношескую мечту о любви, либо, вступая в интимные отношения,
сталкиваются с антагонизмом души и тела. Сама по себе плоть — не
противоположность души, противоположностью души становится
плоть чуждого человека, с которым невозможно найти общего язы-
ка. Ведь бывает так, что тела не разделяют души людей, а их сбли-
жают, делают родственными, открывают душам дорогу для понима-
ния полюбивших друг друга людей. Иначе говоря, в теле иногда
больше высокой правды, чем в не нашедших еще себя душах (вспом-
ним в этой связи снова о «Тайной вечере» Леонардо). Это тела лю-
дей, втянутых в отношения, именуемые Александровым, «челове-
ческой общностью».
Отечественная война породила у многих людей чувство челове-
ческого единения, незнакомые люди вступали в переписку. «Это уже
очень далеко от тяжелой плоти (...). Это страшная нужда человека
в другом человеке. Именно этот голод обострила и с исключитель-
ной силой обнаружила эта война...»1 2.
Сравним два стихотворных текста на одну очень непростую те-
му, о которой официозное искусство соцреализма предпочитало
молчать, — случайные связи на войне. В фашистской армии пробле-
ма решалась организованно и рационально — с помощью солдатс-
ких борделей и командировок особо отличившихся на фронте по на-
меченным заранее командованием адресам для улучшения породы
немецкой нации. В нашей армии подобная «рациональность» не
1 Там же. С. 216-217.
2 Там же. С. 222-223.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
440
привилась. Вот строки стихотворения К. Симонова «На час запомнив
имена...»:
Мужчины говорят: война...
И женщин наспех обнимают.
Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.
А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Все легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.
Я не сужу их, так и знай,
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою...
А вот строки из «Василия Теркина»:
Если в песнях и поется,
Разве можно брать в расчет,
Что герой мой у колодца,
У каких-нибудь ворот,
Будет случай подвернется,
Чью-то долю ущипнет.
Твардовский говорит на эту тему не только гораздо лаконичнее,
но и проще, легче. Стихи Симонова вызывают ощущение тяжести в
душе, потому что речь идет об удовлетворении «физической потреб-
ности» с человеком, который при этом остается чужим. Случайная
связь унижает обоих, но в особенности женщину. И солдат, и женщи-
на по-воровски хватают чужое. То же самое, казалось бы, и у Твар-
довского, но почему интонация совершенно иная? Солдат на войне
у Твардовского понимает, что он чужую долю отщипывает, но этот
чужой—такой же, как он, солдат. Их судьбы одинаковы. И хотя гор-
диться такими эпизодами ему в голову не приходит, он не делает из
Первое схождение «параллельных линий»
441
них трагедии, не превращает в мучительную проблему, потому что
такие эпизоды — парадокс фронтового братства. Эти эпизоды не
развиваются в сюжет, о них у Твардовского сказано ровно столько,
сколько они заслуживают — не больше и не меньше. Здесь нет уни-
жения ни для мужчины, ни для женщины, здесь только их общая
беда под названием «война». Тогда как у Симонова перед нами уни-
женная женщина, которую обнимают наспех, а она отвечает на эти
объятия «торопливо». Это несчастная, которая хочет любви, но по-
нимает, что не имеет на нее права, что она—просто замена, эрзац.
Дело даже не в войне, война только обострила две совершенно раз-
ные ситуации—людской близости у Твардовского и отчужденности,
непонимания, вплоть до враждебности у Симонова. На войне—то
же самое недоверие, двойственность любовного чувства, перераста-
ющего во взаимную отчужденность и даже ненависть, что и в «мир-
ной» лирике многих поэтов, в том числе и у Симонова, но только в
более обнаженной и грубой форме. Поэтому перед нами «тяжелая»
эротика, которой не хватает легкости и артистизма—даже когда
речь идет о предельно интимных вещах — пушкинской любовной
лирики.
«Лирика Симонова, — пишет Александров, — очень интеллекту-
альная; скажут: он думает. Разве это плохо? Разумеется, нет. Но Си-
монову недостает непосредственности, за которую прощают многое.
Заметьте: когда иной интеллигент (конечно, я не о каждом го-
ворю) начинает рассказывать «про это», слушать его труднее, чем
рабочего или крестьянина. У тех это как-то просто и хорошо полу-
чается. Думают они не меньше, но по-другому. У них нет разлада
между сознанием и телесной жизнью, как нет этого разлада в самых
высоких образцах поэзии. В пушкинской откровенной поэзии, на-
пример, там не установишь, где кончается душа и где начинается
тело; душа и тело не оглядываются друг на друга.
А здесь рассматривают тело с каким-то пристальным внимани-
ем, тело выполняет то, что полагается, но под этим взглядом ему
Холодно и тоскливо, оно как-то тяжелеет»1.
Большая поэтическая удача К. Симонова—стихотворение «Жди
меня». В истории советской поэзии, отмечает критик, «вряд ли было
1 Там же. С. 219.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
442
другое произведение, имевшее такой массовый отклик»1. В стихот-
ворении Александров находит некоторые шероховатости и погреш-
ности, «но здесь это не мешало, шло как бы от торопливости насто-
ящего личного письма и было ничем сравнительно со значением
целого»2, а целое родилось, по его мнению, из «расширения лично-
го чувства». И именно потому, что личное чувство Симонова сопри-
коснулось с такими же чувствами миллионов, в стихотворении по-
явилась непосредственность и пафос настоящей поэзии.
Гораздо сложнее В. Александрову было доказать свою мысль, что
артистизм и легкость высокого искусства требуют единения с общим,
народным, а не отклонения от них, на примере такого мастера по-
этической речи, как Б. Пастернак. Зададимся вопросом — свойствен-
на ли его поэзии та «неслыханная простота», в которую он хотел
впасть, как «в ересь»? Бесспорно, у поэта есть замечательные стро-
ки, которые легко ложатся в память. Однако В. Александров склонен
думать, что Пастернаку не очень интересен другой человек, он со-
липсически замкнут в свою «частную жизнь». Но чем вызвано это от-
клонение от общего? Можно ли сравнивать его со смердяковским?
Б. Пастернак искренне хотел жить и писать «заодно с правопо-
рядком», он не был политическим противником советской власти,
больше того, сейчас много пишут о его искренней любви к Стали-
ну. «Но как мне быть с моей грудною клеткой /Ис тем, что всякой
косности косней?»
Пастернак осмелился не принять того «новояза», на котором
заговорило большинство его собратьев по перу. Это была настоящая
стойкость. Те, кто на самом деле уходили во времена Сталина, осо-
бенно после известных политических процессов и массовых репрес-
сий, в свою частную жизнь, «на миру» изображали себя обществен-
никами, были в числе организаторов «охоты на ведьм», преследова-
ли за уклонение от общего дела.
Нередко Пастернак отстаивал свое право в поэзии на то, что
лучше было бы изжить органическим путем, преодолеть. Но не от-
казавшийся от снобизма перед лицом бандитской власти—уже не
сноб.
1 Там же. С. 231.
2 Там же. С. 233.
Первое схождение «параллельных линий»
443
Люди «течения» знали, что народный подъем оборачивается
бунтом, бессмысленным и беспощадным, враждебным высокой куль-
туре и способным ее смести с лица земли. Есть ли признаки этого
понимания у В. Александрова? У него, на мой взгляд, есть большее,
то, что отсутствует у нас сегодня, утех, которые «все уже знают» про
то время и про тоталитарное общество. Я имею в виду верный ин-
стинкт, который позволял В. Александрову и его единомышленни-
кам отделять зерна от плевел, искреннее и верное народное стрем-
ление к культуре — от бескультурности как внизу, так и наверху,
среди интеллигенции.
Кто такой Теркин—homo ludens, человек играющий? В Терки-
не, пишет исследователь творчества А. Твардовского А. Македонов,
совмещаются черты «и озорного героя солдатской сказки, и героев
Рабле, и Тиля Уленшпигеля»1. Все подобные фигуры восходят к трик-
стеру древних мифологий. Правда, Теркин—не только шутник, да
и «Книга про бойца» не может быть названа ни комедией, ни тра-
гикомедией. Хотя бесспорно комический момент играет в ней очень
важную, может быть, даже центральную роль.
Почему на войне нельзя прожить без шутки, как утверждает
А. Твардовский во вступительной главе к своей поэме? Потому что вой-
на, о которой повествуется, может быть, самая страшная в мировой
истории, ибо в этой войне решается вопрос, а быть ли самой жизни?
И увиделось впервые
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...
(...)
А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах—
Мертвым все равно.
1 Македонов А. Творческий путь Твардовского. М., 1981.
С. 227.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
444
Как же в этой войне Теркин умудряется шутить? «Теркинский
юмор, — пишет В. Александров, — и по своему внутреннему смыслу
и по своему стилю совершенно не похож на то систематическое и
витиеватое острословие, которое так раздражает нас в каком-нибудь
неудавшемся юмористическом фельетоне или в плохом конферансье.
Теркин вовсе не подрядился острить при каждом удобном и неудоб-
ном случае. Он не всегда шутит. И грусть необходима в духовном
хозяйстве человека. Не в том бодрость, чтобы никогда не грустить,
а в душевной подвижности, в умении найти человеческий и жизнен-
ный выход даже из самой горькой беды, из самой глубокой печали»1.
Известные слова Т. Адорно о том, что после Освенцима нельзя
писать стихов, подразумевают, что человеческого выхода из этой
войны, из фашизма, ситуации XX века найти нельзя. Что может про-
тивопоставить А. Твардовский вместе с В. Александровым популяр-
ным сегодня красноречивым авторам — от Беньямина и Адорно до
Фуко и Делеза, — блистающим своей эрудицией и ошеломляющей
ученостью?
«Книга про бойца» писалась главным образом для простых сол-
дат, чтобы дать им отдых на войне, развлечение, оказать поддерж-
ку. Естественно, что в «Книге...» отразилась народная психология
того времени, как говорится, менталитет простого солдата. Совре-
менному интеллектуалу поэма Твардовского может показаться при-
митивной. В. Александров, напомню, оценивает ее иначе — не Тер-
кина подтягивал Твардовский до своего уровня, напротив, талант-
ливость поэта сказалась в том, что он смог увидеть Теркина.
Теркин не блистает утонченным и «ученым» остроумием, его
шутки—простые, солдатские. Если исходить из логики Адорно, то
шутить в таком кошмаре может только примитивный человек, по-
тому что молчание, согласно Адорно, — единственное, что остает-
ся современному искусству, если оно не хочет быть пошлым. Но Тер-
кин умеет молчать. Когда его товарищ, выходящий из окружения,
навестил свой дом и жену, Теркин ночью уходит из приютившего
его дома и ночует на крыльце, укрывшись шинелью. А когда видит,
что товарищ этой ночью рубит дрова, замечает: «Знать, жену жале-
ет, любит, Да не знает, чем помочь». Солдат оставляет жену, детей
1 Александров В. Соч. цит. С. 277.
Первое схождение «параллельных линий»
445
под властью врага, которые завтра, может быть, его убьют, а их ра-
стерзают. Безвыходная ситуация, когда не знаешь, чем помочь. От
этой безвыходности—кажущаяся иррациональность поведения или
даже отупелость: вместо того чтобы провести несколько часов ко-
роткой ночи с женой, он рубит хворост на дворе. Жест отчаяния? И
да, и нет. Почему иной «культурный человек»1 в подобной ситуации
дал бы волю своему чувству, переходя от состояния отупелости до
истерики? Потому что он прежде всего ищет сочувствия себе, люби-
мому, и с этой целью, вольно или невольно, «изображает» свое стра-
дание, выносит его наружу, делает картинным. А солдатам Твардов-
ского подобные безвыходные ситуации диктуют запрет на изобра-
жение своего страдания. Товарищ Теркина молчалив, он скрывает
от своей жены отчаяние, он, правда, тоже жестикулирует, но его
же^т — рубка дров, которая почти не имеет смысла в этой ситуа-
ции — мужественное, а «не крикливое», говоря словами Винкельма-
на о греческой классике, выражение страдания. Жена солдата пони-
мает его без слов. В короткие часы встречи женщина делает все, что-
бы как следует накормить измученных солдат, уложить их спать.
Потому что горе общее.
Что это — примитивность, духовная черствость, отупелость —
или деликатность, неведомая тому, кто, не обращая внимания на
горе своих ближних, находит облегчение в истерическом выраже-
нии страдания? Заменяя искусство одним сплошным криком, как
это делает столь почитаемый Т. Адорно Беккет? Пожиная при этом,
случается, и неплохие дивиденды — и славу, и деньги.
Сценка, немногословно воссозданная Твардовским, сопоставима
по своей психологической глубине, трагизму, найденному человечес-
кому выходу из бесчеловечной ситуации, — с «Ночами Кабирии» Фел-
1 Тот самый, чье «ласковое мясистое лицо, бритое и упи-
’ тайное, вроговых очках, появилось перед Иваном (...).—
“Товарищ Бездомный, помилуйте”, — ответило лицо, крас-
? нея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
' “Нет, уж кого-кого, а тебя-то я не помилую”, — с тихой не-
'’* - навистью сказал Иван Николаевич. Судорога исказила его
1 лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую,
широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху».
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
446
лини, знаменитой улыбкой героини в финале этого фильма. Кабирия
не демонстрирует своей трагедии, улыбка рождается спонтанно, не-
ожиданно для самой героини—так же, как рубка дров у солдата, за-
менившая у него слова и жесты отчаяния, которые он запретил себе.
Молчание солдата у Твардовского более глубокое и трагическое,
чем все крикливые жесты авангарда, вместе взятые, именно пото-
му, что его солдат обладал безукоризненным вкусом, он знал время
и место как молчанию, так и шутке, то есть игре, изображению.
Шутки Теркина безыскусственны, но они никогда не бывают бестак-
тными. «За теркинской шуткой всегда угадывается то серьезное и
значительное, что Теркин «переводит на шутку». (...). ...человечес-
кая свобода; торжество человека над той тяжестью, которую он под-
нимает,—таков смысл этого юмора».1
Артистизм в искусстве—высшее проявление художественности.
Но в чем же проявляется художественность как не в торжестве че-
ловеческой свободы над тем, что давит и унижает человека? Юмор
предполагает взгляд на себя и на ситуацию, в какой находишься, со
стороны. Перед лицом бесконечности все человеческое ничтожно.
Но юмор, подчеркивая черты конечного и незначительного, сохраня-
ет человеческое измерение, уютность и тепло малого мира, его само-
достаточность. Юмор требует величайшей деликатности—хорошо
известно, что грубость, пошлость, неразвитость натуры выявляют-
ся прежде всего в том, как человек шутит. Шутки Теркина при всей
их незамысловатости никогда не вызывают чувства неловкости.
Но разве можно играть в пограничной ситуации, говоря слова-
ми экзистенциалистов? Современный мир—ничто, бездна, молча-
щая пустота, где нет и быть не может фабулы. Кажется, нечто подоб-
ное прозвучало и у Твардовского: «На войне сюжета нету». Но его
поэма полна микросюжетами, каждый из которых рисует завершен-
ный в себе мир.
В маленькой главке поэмы «О награде» герой предается мечтам
о медали. Для чего нужна награда? Для того в первую очередь, го-
ворит Теркин, чтобы покрасоваться перед односельчанами. Он не
будет курить на глазах у них махорку, он по этому случаю купит
«Казбек» — «И дымил бы папиросой, / Угощал бы всех вокруг. / И
1 Там же. С. 278.
Первое схождение «параллельных линий»
447
на всякие вопросы / Отвечал бы я не вдруг. / — Как мол, что? / —
Бывало всяко. /—Трудно все же? / — Как когда. /—Много раз хо-
дил в атаку? /—Да, случалось иногда. / И девчонки на вечерке по-
забыли б всех ребят, / Только слушали б девчонки, / Как ремни на
мне скрипят».
Мировая литература приводит нас на «ярмарку тщеславия», где
каждый играет ту или иную роль, естественно, не без пользы для се-
бя. Клим Самгин видит за каждым человеком лишь «систему фраз» —
не более, разница только в степени таланта, «артистизма», техниче-
ского умения, с какими человек изображает себя тем, кем не явля-
ется. Жулик выдает себя за честного, трус—за героя, не способный
к искренней и самоотверженной любви — за Ромео и так далее. Со-
временное искусство, в особенности постмодернизм, сделало эту
игр); почти открытой, демонстративной, и высший артистизм зак-
лючается в том, чтобы продемонстрировать — ничего за этой игрой
нет, точнее, за ней стоит тотальное Ничто. Если верить Жаку Дер-
рида, то такова и современная философия, что показано им на при-
мере на первый взгляд очень серьезного философа, чуждого какой-
либо игре, — Мартина Хайдеггера.
По сравнению с изощренной интеллектуальной игрой современ-
ного искусства и философии «представление» Теркина перед одно-
сельчанами выглядит слишком простецким и наивным. Правда, и у
Теркина тоже есть второй этаж сознания, с которого он сам наблю-
дает за собой — и иронизирует. «Нет, ребята, я не гордый. / Не за-
гадывая вдаль, / Так скажу: зачем мне орден? / Я согласен на ме-
даль». Берлиоз у Булгакова, будучи полным ничтожеством, воплоще-
нием двоемыслия и пустозвонства, играет в наставника, мудрого
учителя, Сократа при Иване Бездомном. Теркин играет самого себя,
рядового солдата. Он не хочет выдать себя за другого. Так зачем он
тогда играет?
Он играет и шутит потому, что ему нравится шутить и играть,
он настоящий homo ludens, правда, в духе не Хейзинги, а Шиллера,
родоначальника классической концепции игры. Теркин немножко
«придуривается» в самых разнообразных ситуациях. На войне—для
того чтобы подбодрить товарищей, поднять настроение, помочь
другим. «Для себя» Теркин играет дома, среди односельчан. Он хо-
чет, чтобы старики увидели в нем бывалого солдата. Он хочет выг-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
448
лядеть в глазах девчат первым парнем на деревне. «И шутил бы я со
всеми, / И была меж них одна... / И медаль на это время / Мне, дру-
зья, вот так нужна! / Ждет девчонка, хоть не мучай, / Слова, взгля-
да твоего... / — Но, позволь, на этот случай / Орден тоже ничего? /
Вот сидишь ты на вечерке, / И девчонка — самый цвет».
Товарищи добродушно посмеиваются над теркинским наивным
желанием покрасоваться перед односельчанами. Сидя в холодных
и мокрых окопах, они позволили себе расслабиться, помечтать о
нормальной жизни без войны, о любимой девушке. У кого воспоми-
нание о возможном счастье за час от гибели не вызвало бы стона?
Ведь это экзистенциальная ситуация на пороге смерти. Может быть,
в более мирной обстановке каждый из них позволил бы себе чистую
лирику. А сейчас такое погружение в себя вызвало бы крик отчая-
ния — или в лучшем случае надрыв, как в стихотворении К. Симо-
нова «Жди меня». Теркину надрыв органически чужд, и глубочай-
шую лирику, тоску по дому он превращает в спектакль, который
разыгрывает перед друзьями. В этом спектакле действуют, ожива-
ют все дорогие близкие люди — от стариков, судачащих на завалин-
ке, до любимой девушки. И в этой комической пьесе есть грустная
интонация, то главное, ради которого вся пьеса и разыгрывается, но
это главное, как у Чехова, не может быть сказано открытым текстом.
Друзья подтрунивают над Теркиным, ну что ты о такой малости
мечтаешь, загадал бы себе орден. «Нет, — сказал Василий Теркин /
И вздохнул. И снова:— Нет. / Нет, ребята. Что там орден, / Не зага-
дывая вдаль, / Я ж сказал, что я не гордый, / Я согласен на медаль...
/ Теркин, Теркин, добрый малый, / Что тут смех, а что печаль. /
Загадал ты, друг, не мало, / Загадал далеко вдаль».
Игра закончена, занавес опущен, можно и побыть просто самим
собой, как после нелегкой работы. Какой там орден! О том ли речь?
Как нам выбраться из всего этого ужаса и кошмара? Не получится
поодиночке, погружаясь каждый сам в себя, в свой «экзистенциал».
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Первое схождение «параллельных линий»
449
Вот для чего спектакль разыгран. Трудность, почти безнадеж-
ность положения Теркин понимает со всей ясностью. Это не та вой-
на, что бывала раньше—«Тут гораздо хуже...».
И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.
Однако он далек от ницшеанского «героического пессимизма»
или римской гладиаторской добродетели. Вывод Теркина прост, но
он совсем другой: в одиночку не спасемся.
В. Александров приводит в своей статье «Уважение к действи-
тельности» о повести Василия Гроссмана «Народ бессмертен» рас-
суждение одного из персонажей этой повести: «Никогда, никогда...
им не победить нашей страны. Чем точней их расчеты в мелочах и
деталях.. .тем полней их беспомощность в понимании главного, тем
злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но
они мыслят в двух измерениях. Законы исторического движения в
начатой ими войне не познаны и не могут быть ими познаны, людь-
ми инстинктов и низшей целесообразности»1.
Иммануил Кант называл человека, которому доступно то измере-
ние, о котором идет речь у Василия Гроссмана, «трансцендентальным
субъектом», «интеллигибельным Я». Владимир Борисович Алексан-
дров именует это свойство интеллигентностью, культурой. «Крити-
ки заметили только одно из двух основных достоинств «Книги про
бойца» — народность — и не догадались, что есть еще и другое до-
стоинство. Нас радует в книге Твардовского, — продолжает В. Алек-
сандров, — не только ее народность, но и та интеллигентность, та
культура, которая помогла писателю найти, почувствовать, понять
и оценить Василия Теркина. Такое соединение этих двух начал, та-
кая встреча народа с писателем возможна только в советском обще-
стве и советской литературе»1 2.
По формальным признакам образованности, то есть элементар-
ной культуры, Теркин не превосходит немецкого солдата, может
1 Александров В. Соч. цит. С. 245.
2 Там же. С. 282.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
450
быть, даже уступает ему. Разумеется, недостаток элементарного
образования не является достоинством, и Россия в XX веке заплатила
высокую цену за этот свой недостаток. И в то же время Россия в
прошлом веке вырвалась вперед, далеко обогнав все другие страны.
Она в короткое, очень короткое время стала выше самой себя. «Ге-
рой «Муравии», — пишет Александров, — не мог бы оценить того,
что о нем написали; если бы кто-нибудь ему сообщил, как деду Да-
ниле, другому персонажу Твардовского:
Про тебя один поэт
Целый стих составил...
Моргунок, как и дед Данила, принял бы такое сообщение без
особого интереса.
— Все возможно, — говорит, —
Это все возможно.
А Теркин — все понимает, он узнает себя в «Книге про бойца» и
радуется этой встрече с писателем»1. Платон Каратаев — ключевая
фигура «Войны и мира», он вывел Пьера Безухова из нравственно-
го тупика, но разве Платон Каратаев мог бы понять Льва Толстого?
Разве могла бы понять, увидеть, полюбить Чехова его «Душечка» —
единственная, может быть, из героинь писателя, которая отдается
своим любимым полностью, бескорыстно и самоотверженно на са-
мом деле, а не только в своих мечтах?
Реальные Теркины читали эту книгу на войне, писали ее автору,
воевали вместе с этой книгой. Они видели себя в «Книге про бойца»
как гегелевский Абсолютный дух созерцает себя в созданном им
материальном мире, но не для абстрактной цели самопознания, а
для того чтобы, обретя себя как целое, победить. Потому что источ-
ником победы для советского солдата в этой войне была не только
сила танков и пушек, не только пища и вода, а прежде всего сила це-
лого, именуемого Твардовским одним словом — «правда». «А всего
иного пуще / Не прожить наверняка / — Без чего? Без правды су-
щей, / Правды, прямо в душу бьющей / Да была б она погуще, / Как
бы ни была горька».
1 Там же. С. 284.
Первое схождение «параллельных линий»
451
Обретенное, живое целое согрело солдат, давало силы жить и
воевать. Это—такое же чудо, как победа плохо вооруженного, не
обученного «сброда» — французского народа, поднявшегося на за-
щиту своей свободы — над профессиональными армиями Европы
при Вальми, победа, определившая судьбу Европы и всего мира. Вот
реальный смысл понятия «Духа», трансцендентального измерения
в немецкой классической философии — чудесного и реального яв-
ления целого, то есть бесконечности в актуальной форме.
Я мечтал о сущем чуде,
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,
* Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь...
писал Твардовский в заключительном обращении «от автора».
Но эта выдумка, эта игра—той же самой природы, что выдумка и
актерство Теркина. Солдат у Твардовского играет и выдумывает,
шутит, даже лукавит иногда—для того чтобы вполне стать самим
собой. А быть самим собой для него, как и для его товарищей, зна-
чит, не в мыслях только, а в реальности быть «бесконечностью как
целым»—то есть самой жизнью, нуждающейся в защите, точнее, в
самозащите от той западной «культуры», которая уже сожрала куль-
туру и теперь пытается уничтожить саму жизнь на земле. Опору для
совершения своего подвига нельзя найти только в народности, толь-
ко в патриотизме, взятом абстрактно, вне духа целого. Но трансцен-
дентальное измерение становится реальностью тогда, когда органи-
чески соединяется с конечным, когда оно не забирается столь высо-
ко, что теряется человеческое, бытовое, повседневное. Обратной
стороной такого романтического возвышения оказывается все что
угодно — от профессорского бюрократизма духа до низости и по-
шлости, в которую выродился романтизм, осмеянный Г. Гейне.
Ключ к теркинскому юмору в безвыходных обстоятельствах—
юмору, представляющему собой человеческий выход из этих обсто-
ятельств,—Александров видит в том единстве людей на войне, ко-
торое «нельзя смешивать с фронтовым товариществом империали-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
452
стических войн. Из окопов империалистической войны весь мир
кажется безразличным и безучастным к тому, что происходит на
фронте; солдатская дружба трагически противопоставляется всему
этому остальному миру
Сейчас практически ни у кого не вызывает сомнений, что совет-
ское общество при Сталине было тоталитарным (термин «тоталита-
ризм» пущен в ход Л. Троцким, который применил его для характе-
ристики советской общественной системы тридцатых годов). Между
тем иная тирания может быть своеобразной, крайне противоречи-
вой формой народовластия — последнее было «вещью в себе» трид-
цатых годов. Разумеется, это народовластие являлось превратным,
и потому обратной его стороной были чудовищные политические
процессы, расправы над «врагами народа», концлагеря, в которых
погибали миллионы людей. Это было понятно наиболее дальновид-
ным представителям «течения», для которых массовые репрессии
ассоциировались с т.н. «сентябрьскими убийствами» во время Фран-
цузской революции—жестокой мести народа аристократам, при-
звавшим иностранные легионы для подавления революции.
В заметке от 16 января 1955 года Мих. Лифшиц писал: «1937 год
и вообще все явления этого рода—месть мелкой собственности за
ее уничтожение, сила обратного, ирония истории. Нарождение ар-
мии голодранцев-бедуинов, способных и домну построить, и немцев
разбить и всякое образованное начальство на части разобрать. Силь-
но подогрели мы эту уравнительную ярость, которая несколько по-
глощена была землей после Октября. Да, но с другой стороны, имен-
но в земле коренился источник разбора, ненависти к большему бла-
гополучию, которая охватывала широкое большинство»2.
Коллективизация в СССР, названная официально «революцией
сверху», представляла собой «пугачевскую» расправу беднячества не
только над кулаками, но и над значительной частью среднего крес-
тьянства. Надо заметить, что в своей статье о Пушкине В. Алексан-
дров рассматривает только привлекательную сторону Пугачева, не
уделяя должного внимания пушкинским словам о бунте бессмыс-
ленном и беспощадном. Но «великие консерваторы человечества»
‘Тамже. С. 279.
2 Мих. Лифшиц. Архив, папка № 145. С. 121.
Первое схождение «параллельных линий»
453
в трактовке других участников «течения» были великими прежде
всего потому, что не принимали «русский бунт» в качестве возмож-
ного гипотетического выхода. А какой же выход был для страны в
эти годы? Тут концы с концами не связываются, проблема решения
не имеет, или, во всяком случае, решение до сего дня не найдено.
Массовое раскулачивание со всеми его чудовищными преступ-
лениями обернулось в конечном итоге распадом СССР, гибелью того
варианта государственного социализма, который представлял собой
и искажение ленинской идеи и одновременно ее противоречивое,
но все же воплощение. А действительность, утверждал Гегель, выше
возможности, правда, он имел в виду действительность, а не нечто
эфемерное.
Государственный социализм—вариант того «казарменного ком-
мунизма», выразительную характеристику которого дал Маркс в
своих «Философско-экономических рукописях» 1844 года: «первое
положительное упразднение частной собственности, грубый комму-
низм есть только форма проявления гнусности частной собственно-
сти. . .»*. Последняя воплощалась в государстве как абстрактном капи-
талисте, а в области культуры — в идеологии и практике уравнитель-
ности, которая всех стрижет под одну гребенку, проявляя, подчеркивал
Маркс, особую ненависть и нетерпимость к таланту.
В истории европейской цивилизации развитие частнособственни-
ческих отношений явилось основанием для отделения индивидуаль-
ности от коллектива со всеми положительными и отрицательными
сторонами этого отделения. Положительным было развитие челове-
ческих сил и способностей, стремящееся к безграничности, отрица-
тельным— разрушение целостности личности. Эта тема на матери-
але античного искусства глубоко разработана Игорем Ильиным,
эстетиком тридцатых годов, близким к «течению». Результатом ут-
раты целостности личности, доказывал Ильин, было, в частности,
появление оптического искусства эллинизма, изображающего чело-
века не таким, каков он есть, а таким, каким он кажется1 2. Кажи-
мость, лицедейство связано с артистизмом. Но при этом следует
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. нб.
2 Ильин И.А. История искусства и эстетика. М., 1983. С.
269-272.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
454
различать возникновение и развитие театра у греков как путь к само-
познанию рода, человека как существа целостного и лицедейство,
господство кажимости как обособление не только от рода (такое
обособление было исторически прогрессивным, хотя и противоре-
чивым), а обособление от общечеловеческого и природного начала
в человеке. Последнее вело к тщеславию и гордыне—самым гибель-
ным порокам, которые высмеивала греческая комедия. «...Слово
«комедия» происходит от «ком», деревня, в которую скрывались
комедианты, «когда их позорно изгоняли из города» (Ильин цити-
рует здесь Аристотеля. —В. А.) за нападки личного характера, за яз-
вительность. (...) Деревня, подавленная и закабаленная родовой
знатью, становится колыбелью комедии, которая нападает на зло и
несправедливость существующего порядка и оказывается в то же
время последним прибежищем комедиантов».1
Эстетики и литературные критики тридцатых годов (примыкав-
шие к «течению» или входившие в его состав) уделили особое вни-
мание феномену тщеславия, самомнения, снобизма, как бы пред-
чувствуя, какую трагическую роль ему придется сыграть в истории
нашей страны. Впрочем, есть классовая правда врага, который бла-
годаря своей ненависти способен верно и глубоко увидеть то, чего не
видит благожелательный друг, — об этом парадоксе писал Ленин, а
еще раньше него Леонардо да Винчи1 2.
В своих записках, опубликованных впервые в 1913 году, шеф
жандармов, неутомимый преследователь Пушкина и Белинского
Л. Дубельт писал: «Дай крестьянину, как он есть, свободу, у него сей-
час явятся разные затеи, он сейчас бросит свой родной кров и пой-
дет шататься. Вот теплое его гнездышко и разорилось. Сына станет
учить грамоте, а тот выучится и станет развращать свои понятия
чтением гадкой нынешней литературы. Журналы собьют его с тол-
ку, а повести и романы совсем сведут с ума! Вот он станет судить и
рядить; тут явится честолюбие, надо быть чем-нибудь повыше —
когда тут землю пахать!»3
1 Там же. С. 216.
2 «Суждение врага нередко правдивее и полезнее, — писал
Леонардо, —чем суждение друга».
3 Голос минувшего. 1913. № 13. С. 150.
Первое схождение «параллельных линий»
455
Честолюбие и тщеславие — следствие, разумеется, не образова-
ния как такового, а его конкретной формы, возникшей на основе
развития частной собственности. Л. Дубельт прав в том, что сила это
разрушительная, что, повторяю, прекрасно знали уже греки. На
Западе гордыня и тщеславие обособившейся личности регулирова-
лись и контролировались автоматически действующей системой
общественного воспроизводства: законы рынка срезали головы тем,
кто мнил себя независимым от законов этой системы. В советской
России приобретение образования, культуры совершалось при самом
радикальном устранении частной собственности. И именно чрез-
мерный радикализм ее отрицания, т.е. несвоевременность, обусло-
вил двойственный характер этого процесса и его результатов.
С одной стороны, возможны были такие характеры, как Василий
ТерЛин: образование и культура становились дорогой к тому, что-
бы человек стал голосом реальности, действительности, бесконечно-
го мира в его актуальной форме. Это культура в подлинном смысле
слова: Леонардо и Пушкин стоят в восхищении перед плодами сво-
' его творчества, они покорены той великой творческой силой, что
ожила в их индивидуальной деятельности. Они любуются не собой,
а миром, который расцвел и стал полным благодаря им. Теркин —
такой тип человека играющего, который любуется не собой, а тем,
что стало самим собой благодаря его, Теркина, игре и свободе.
С другой стороны, уравнительность как следствие первого и гру-
бого отрицания частной собственности имела результатом такое на-
сильственное равенство, в котором тщеславие и гордыня приняли
поистине дьявольскую форму. Иллюстрацией сказанному может
служить противоречивая фигура вождя государства и партии И. Ста-
лина: при всей, не только внешней, специально подчеркиваемой,
нарочитой скромности, в нем скрывалось неуемное честолюбие,
обернувшееся крайней мнительностью и злопамятством, мститель-
ностью.
В шестидесятые годы рост образованности и тяга к культуре
происходили на фоне сознательного отказа от уравнительности как
идеологии и практики сталинизма. Однако критика уравнительно-
сти, то есть стрижки всех под одну гребенку, «культа личности» про-
шла мимо обратной стороны уравнительности—тщеславия и само-
любования, снобизма, то есть «культа собственной личности». Меж-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
456
ду тем эти пороки сыграли поистине трагическую роль в нашей ис-
тории конца XX века. Один из политологов как-то заметил, что За-
пад сумел победить в «холодной войне», сыграв на тщеславии и са-
молюбовании первого (и последнего) президента СССР. Между тем
М.С. Горбачев, по общему признанию, типичный человек бо-х го-
дов, характерный для либеральной партийной бюрократии.
В. Александров хочет доказать, что в тридцатые и сороковые
годы перед нами—несмотря на трагические противоречия—была
все же действительность народного единства. Феномен этого един-
ства и обусловил появление «Василия Теркина», а также некоторых
других произведений социалистической литературы, в частности
упоминавшейся повести В. Гроссмана. Единство, о котором идет
речь, имело качественную сторону — оно представляло собой по-
пытку слияния народа с культурой, то есть устранение того обособ-
ления культуры в целом от жизни большинства, от низов общества,
благодаря которому культура, собственно, и возникла. По этому
поводу было сказано много слов в советское время, слов пустых,
которые ныне вызывают в лучшем случае насмешку. Однако, дока-
зывает В. Александров, только благодаря тому, что мы склонны ныне
считать эфемерностью, страна смогла победить фашизм, Василий
Теркин вышел победителем из схватки с немецким солдатом, пото-
му что был интеллигентнее не в формальном смысле слова. Впервые
в мировом искусстве появился герой из народа, который вполне
правильно мог понять автора. Тем самым создавалась почва для
снятия того трагического обособления, которое вызвало стену не-
понимания и, в конечном счете, порождало невольное, но по-свое-
му неизбежное, закономерное предательство, — одну из главных
тем мирового искусства.
Обособление, о котором шла речь на этих страницах, — исклю-
чительно важная черта культуры вообще, выросшая из обособления
от материальной практики людей. Более конкретная форма обособле-
ния — артистизм классиков мирового искусства, которые одевались
в алмазную скорлупу художественности для того, чтобы, во-первых,
защитить себя от притязаний грубо понятой пользы («идейность»
полицейского государства), а во-вторых, для того чтобы сказать го-
раздо больше, чем это возможно на обычном языке. Классическая
форма искусства представляет собой способ существования актуаль-
Первое схождение «параллельных линий»
457
ной бесконечности (бесконечность как целое), когда бесконечность
представлена в законченной форме («закрытая форма» линейного
искусства у Вельфлина). Тогда как в неклассическом искусстве бес-
конечность потенциальная (по формуле n + i). Однако к подлин-
ному артистизму ведет актуальная бесконечность, когда в одном
жесте угадывается не просто больше содержания, чем при дискур-
сивной форме изложения этого же содержания, а содержания за-
конченного. Принципиальная законченность артистической формы
есть некое подобие априорным формам Канта — своеобразный от-
блеск ноуменального мира. В них присутствует не тотальность, но
полнота истины, названная греками плеромой, ибо это полнота
включает в себя как истину, так и неистинное, то есть не заблужде-
ния и ошибки ума, а нечто реальное, но еще не доросшее до исти-
ны* в известном смысле более широкое, чем истина, — хаос Гера-
клита.
Г. Чичерин писал о музыке Моцарта, что в ее законченной гар-
монии «древний хаос шевелится»1. Моцартовскому демонизму он
находил параллель в живописи Леонардо. Этими же свойствами
обладает артистическая муза Пушкина. Любопытно, что в исследо-
вании Г. Чичерина, написанном до «течения», возникают некоторые
его важнейшие темы и мотивы, например, понимание реализма,
глубоко отличное от распространенных, вплоть до нашего дня, его
толкований. По убеждению Г. Чичерина, Моцарт—реалист, ибо в его
музыке объективность торжествует над субъективностью: «Субъек-
тивизм, лирика, изображение собственных внутренних пережива-
ний у Моцарта попадается редко, он менее всякого другого компо-
зитор чувства. В его произведениях периода зрелости почти всегда
воплощены мировые силы и феномены, а не внутренние пережива-
ния»1 2. Разумеется, объективность Моцарта, как и Леонардо, не име-
ет ничего общего с бытовизмом — «весь Леонардо проникнут и кос-
мизмом и загадочностью — это роднит его теснейшим образом с
Моцартом»3. С другой стороны, космизм и демонизм классики в от-
1 Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. Ленинград.
- 1973- С. 163.
2 Там же. С. 169.
3 Там же. С. 125.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
458
личие от «океанического чувства» авангарда возникает только бла-
годаря воссозданию правды субъекта, реальной человеческой лич-
ности: «тут, — пишет Чичерин о «Свадьбе Фигаро», — сквозь челове-
ческую личность при углубленном ее раскрытии прорывается сти-
хийная сила, космизм...»1 Ход мысли Чичерина свидетельствует о
том, что идеи «течения» (они сформировались независимо от иссле-
дования Чичерина, опубликованного только в 70-е годы) возникли
не на пустой почве.
Советские критики находили нечто пушкинское в «Василии Тер-
кине», хотя на первый взгляд это сравнение кажется натянутым —
можно ли говорить о грациозности солдата в кирзовых сапогах и с
кисетом махорки в руках? Грациозность — понятие, к «Теркину»
явно не относящееся. Но вспомним снова маленькую главу «О на-
граде». За юмористической сценкой наивного хвастовства и даже
некоторого фанфаронства героя перед односельчанами — невиди-
мые миру слезы («что тут смех, а что печаль»), потому что Теркин
разговор о доме, о любимой девушке ведет в сырых холодных око-
пах так, чтобы не повергнуть в уныние, а найти, говоря словами В.
Александрова, человеческий выход из бесчеловечных обстоятельств.
Там, где у Моцарта слышится смех, там на самом деле стоят слезы,
писал Чичерин, а сквозь следы нередко проглядывает улыбка. Это
не амбивалентность, а гармония, которую греки определяли как
соединение несоединимого, соизмерение несоизмеримого. Гармония
и артистизм «Василия Теркина» вырастают из того, что малый мир
реальных отношений между солдатами, мир незамысловатых сюже-
тов, даже почти отсутствия развернутых фабул очень естественно
связан с миром большим. Ведь в главе «О награде» на самом деле
Теркин ведет разговор о том, о чем нельзя рассказать словами, о том,
что он «загадал далеко вдаль». Ни Теркин, ни автор поэмы не будут
говорить о трансцендентальном измерении, но каждое слово в этой
поэме является не только точно найденным, но главное — объем-
ным, потому, что за ним не хемингуэевский подтекст (Твардовский
не любил слова «подтекст»).
В романе «Прощай, оружие» герои могут говорить о самых раз-
личных вещах, но за ними одна тотальная истина: «Так оно бывает.
1 Там же. С. 212.
Первое схождение «параллельных линий»
459
Умираешь. Даже не знаешь, к чему все это. Не успеваешь узнать.
Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый
же раз, как тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что,
как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но в конце концов
тебе убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют»1.
Это — подтекст, говорят одно, а думают совершенно другое. В «Тер-
кине» — не подтекст, а многомерность бесконечного бытия, когда
большое перетекает в малое и наоборот, создавая полноту истины
в законченной форме. Теркин рисует комическую сценку не для
того, чтобы посредством нее выразить что-то принципиально иное.
Напротив, то, чем в реальности живут солдаты, ведущие схватку с
фашизмом, т.е. Целое бытия, которое в гегелевской логике высту-
пает под именем Жизни, — оно будет вполне реальным и жизнеспо-
собйым, когда представляет собой «оконеченное бесконечное», го-
воря языком того же Гегеля. И потому юмористическая сценка — не
инобытие иного содержания, а имманентная большому, бесконеч-
ному содержанию форма. Разумеется, для того чтобы выразить так
много столь малыми и столь простыми словами, требуется высочай-
ший художественный артистизм—слов ровно столько, сколько нуж-
но, не больше и не меньше.
Об этом качестве поэмы Твардовского прекрасно написал И. Бу-
нин (который был недоволен даже поэзией А. Блока): «Я, читатель,
как ты знаешь, придирчивый, требовательный, совершенно восхи-
щен его талантом, — это поистине редкая книга. Какая свобода, ка-
кая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой нео-
быкновенный народный солдатский язык—ни сучка, ни задорин-
ки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого
слова!»1 2
Для литературного стиля В.Б. Александрова тоже характерна
чрезвычайная простота и безыскусственность. Она может произве-
сти на поверхностного читателя впечатление упрощенности, но это
впечатление обманчиво. В. Александров был широко образованным
человеком, он по условиям своего воспитания принадлежал к интел-
лектуальной элите (сын известного академика Б. Келлера). Его перу
1 Цит. по: Александров В., соч. цит. С. 145.
2 Цит. по: Македонов А. Соч. цит. С. 13.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
460
принадлежит блестящая рецензия на перевод М. Лозинским дантев-
ской «Божественной комедии», заслуживают внимания статьи Алек-
сандрова о Расине, А. Мандзони, старофранцузской сказке-песне XIII
века «Окассен и Николет», которые свидетельствуют о тонком пони-
мании этих произведений на языке оригинала. Н.Н. Козюра, хоро-
шо знавшая В. Александрова, говорила о нем так: «Представьте себе
дворянина, пошедшего в народники, и получите представление о
нем, как о личности». Может быть, на литературном стиле В. Алек-
сандрова, как и стиле зрелого Г. Лукача, отразился комплекс кающе-
гося интеллигента, но все же намеренная упрощенность ему не свой-
ственна. Его язык прост потому, что критик искал самого точного
слова, стремился выразить значительные мысли без красивости и
аффектации. Это тоже артистизм, но человека, перед которым сто-
ит образ, к сожалению, ныне забытый или полузабытый,—Василия
Теркина.
На страницах книги В.Б. Александрова «Люди и книги» (М., 1956)
Мих. Лифшиц оставил немало записей. Вот одна из них: «Действи-
тельно глубоко преданный советскому строю как критик, как (не-
разб.). Это знамя он держал высоко со (неразб.)
Вся наша жизнь, а то и будущее (?) подлежит суду истории. И она
отражается как ни (неразб.) всеми своими сторонами и сильными
и слабыми.
Отвлеченность от того, что он еще не мог знать и не мог ска-
зать... Что говорим мы после опыта ... Стало быть наше преимуще-
ство только то, что мы живы, а его уже нет».
Чтение книги В. Александрова пробудило у Мих. Лифшица раз-
мышления о нашей истории. Привожу еще одну маргиналию, сде-
ланную Лифшицем на этой книге:
«Чем более ранняя ступень, чем менее определенно последую-
щее, тем более оправдано “перехватывание”, тем более оно здесь
естественно. Но—тем резче, ярче, нагляднее «ирония всемирной
истории», ... боги жаждут.
Важно не вообще определить контраст между идеалом и доступ-
ной исторической реальностью — это легко ведет к ренегатской
сикофантской схеме, — важно конкретно определить ту часть пере-
хватывания, которая вошла в реальную действительность, напри-
мер, контраст между идеалами французской революции и прогрес-
Первое схождение «параллельных линий»
4б1
сивным капитализмом. Вот в этом смысле каково отношение меж-
ду перехватыванием и реальностью у нас? Не вообще контраст меж-
ду мечтой и реальностью, а конкретная разница между ленинским
планом социализма и социализмом (неразб. —демагогически? —
бюрократического?) типа. Как назвать его?
Как и поскольку все же демократические идеалы французской
революции осуществились в дальнейшем, так осущест[-вился? -вит-
ся?] в дальнейшем и ленинский план социализма. Мысли о царстве
разума у нас и не было, или почти не было».
& & &
Артистизм Леонардо вызван стремлением к полноте, возникшей
благодаря обособлению: Христос в «Тайной вечере» трагически оди-
нок? Но одиночество Христа, невозможность его быть понятым уче-
никами, рождающееся отсюда невольное, но, увы, неизбежное пре-
дательство со стороны самых близких—не единственная тема полот-
на. Содержание его гораздо шире. Композиция фрески уравновешена,
группы фигур, тщательно и продуманно организованные художни-
ком, сохраняющие, однако, впечатление мгновенного, непроиз-
вольного движения, придают ей ритм и симметрию. В этом мире
есть не только предательство, но и порядок, высшая гармония, не-
изъяснимая прелесть! И человеческая трагикомедия не просто впи-
сана в этот порядок, она не просто часть его, а необходимая осно-
ва, внутренняя жизнь этой гармонии и симметрия. Разумеется, не
предательство является внутренней сутью гармонии мира. Но по-
смотрите, сколько человечности в этом искреннем непонимании
слов Христа, удивления и недоумения по поводу обращенного к ним
ко всем предсказания того, что они совершат нечто такое, о чем пока
не ведают. Человек лучше, выше той участи, которая ему суждена в
данное время и в данных обстоятельствах! И потому между Христом
и его учениками есть высшее единство, глубокое человеческое род-
ство, несмотря на трагическое непонимание и даже в известной сте-
пени благодаря ему! Вы предадите меня, и это предательство тяж-
ко ляжет на вашей совести, будет вашим крестным путем, которым
вы придете снова ко мне. А порукой в том — ваша искренность се-
годня, ваше недоумение, огорчение, сочувствие, презрение к преда-
телю и предательству как таковому. И потому наш нынешний вечер,
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
462
наша последняя трапеза — прекрасны, хотя эта красота и вид этого
человеческого благородства источают слезы.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.
Основа артистизма как такового — тонкость, недосказанность,
изящество, когда посредством малого говорится очень многое. Гра-
ция, согласно Ф. Шиллеру,—выражение прекрасной души в непроиз-
вольном движении, полнота смысла передается не многими пухлы-
ми томами, а одним, может быть, жестом. Этому свойству подража-
ют художники, произведения которых изящны, как удачное слово,
которое значит очень много именно потому, что в нем и истина, и
ее противоположность — не ложь, а то, в чем как в дополнении,
нуждается даже самая глубокая истина. И чем меньше выразитель-
ных средств потребовалось для достижения полноты истины, тем
изящнее, артистичнее художественное произведение.
Однако полнота истины, содержащаяся в остроумном парадок-
се или в артистизме великой классики, таит в себе опасность той
противоположности, переход в которую — гибель артистизма и ис-
кусства вообще. Противоположность грации, согласно Ф. Шилле-
ру, — манерность. Женщина, которая по грубости своей натуры не
может быть грациозной, но стремится выглядеть аристократкой и
потому копирует грациозные жесты, становится манерной, граци-
озность превращается в ужимки, которые тем более отвратительны,
чем более «артистичный» вид им стараются придать.
Итак, артистизм в классическом искусстве рождается из полно-
ты истины, плеромы, бесконечного содержания, выраженного очень
лаконичными средствами законченной формы. Снобизм как проти-
воположность артистизма есть продукт пустоты или грубости нату-
ры, которая скрывает эту пустоту за той принципиальной двусмыс-
ленностью, ложной многозначностью и неоднозначностью, за кото-
рыми ничего в сущности не стоит. Переход одного смысла в другой,
ему прямо противоположный, и снятие этих противоположностей
в высшей гармонии есть игра. Но одно дело homo ludens Тиль Улен-
шпигель или Василий Теркин и совсем иное, например, Смердяков,
который тоже играл, говорил двусмысленности, одевался с претен-
зией и вообще хотел придать себе нечто артистическое. Но ничего,
Первое схождение «параллельных линий»
463
кроме презрения низкого человека к тому, что выше его понимания,
в Смердякове нет, и потому его «культурность» — отвратительное
хамство натуры. Дело вовсе не в том, что Смердякову не хватает на-
стоящего образования и вкуса. Фаддея Булгарина Пушкин называл
«Видок Фиглярин», между тем как это был образованный человек,
знавший языки, упрекавший как раз Пушкина за недостаточную, с
его точки зрения, «ученость» его поэзии. Но произведения Ф. Булга-
рина, очень популярные в его время, — пример претенциозной без-
вкусицы.
Фиглярство в искусстве и жизни нередко принималось за арти-
стизм. «Смешные жеманницы» Мольера—дамы высшего общества,
создавшие особый язык, который понимать и которым пользовать-
ся могли только посвященные. Почему же они при всей своей уче-
ности («ученые женщины», толкующие Аристотеля) в глазах Моль-
ера—жеманны, а не артистичны? Почему он этим светским льви-
цам, говорящим на птичьем наречии, противопоставляет живой,
точный, бьющий не в бровь, а в глаз язык простой служанки? Пото-
му что мольеровские аристократки обладают в действительности
грубой натурой, они не могут отличить умного человека от прохво-
ста, более того, прохвостом они восхищаются, видя в нем великого
и ученейшего человека, а умного не замечают, ибо негодяй и мо-
шенник им ближе, соразмерен их собственной низкой природе.
Разумеется, демонстративная плебейская простота, которая ху-
же воровства, есть всего лишь обратная сторона жеманности, источ-
ник у них общий. Артистизм есть тонкость, он рождается тогда,
когда удается проходить между противоположностями, которые
трудно различимы, часто сливаются друг с другом. Иначе говоря, ар-
тистизм— тонкое различение истины от лжи в тех случаях, когда
ложь выглядит истиной и наоборот.
Например, некоторые картины мирискусников кажутся вопло-
щением аристократизма мольеровских жеманниц. Однако в смеш-
ной ныне стороне старого аристократизма Версальского общества
есть и утраченная тонкость старой аристократии, ее быта, ее нравов
и нарядов. Всерьез возрождать этот умерший мир было бы педант-
ством и жеманничаньем. Поэтому Сомов и Бенуа возрождают его не
всерьез, иронизируя не столько над двором Людовика XIV, сколько
над своем любованием и восхищением этим миром. Сложная игра
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
464
смыслами и формами никогда у них однако не оборачивается по-
шлостью, во всех их произведениях мы видим глаз художника, очень
чувствительного ко всякой ложной претензии. Изображение арис-
тократического жеманства (там, где оно есть) полно иронии, спо-
собной даже в ином салонном дендизме и снобизме различать не-
что человеческое и трогательное. Не будем забывать, что снобизм,
например, Евгения Онегина был защитной реакцией на низость и
глупость аристократических салонов, он создал скорлупу, в которой
мог позволить себе относительную, но реальную свободу. К сожале-
нию, аристократический снобизм Онегина вызвал к жизни пустых
и никчемных людей, прячущихся под маской «байронизма», не го-
воря уже о таких зловещих ничтожествах, как Соленый, подражаю-
щий Лермонтову (из «Трех сестер» Чехова).
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
Мне довелось присутствовать на демонстрации аль-
терглобалистов во Флоренции в ноябре 2002 года, собравшей око-
ло миллиона человек со всей Европы, Америки, Азии1. Невольно
сравниваю ее с другой—демонстрацией КПРФ и примыкающих к
ней социальных сил 7 ноября 2004 года. На одной демонстрации (во
Флоренции)—доброжелательность, на другой — озлобление. Пос-
леднее можно понять как свидетельство обездоленности, но больше
чувствовалось все же агрессии, некультурности, даже некоторого
хамства, если быть точнее — не интеллигентности в глубоком смыс-
ле слова. Это не дух Василия Теркина, не хватало его широты, его
своеобразной народной аристократичности. Так в чем же причина?
Ведь шли под красными флагами и там, и здесь?
Однако у нас явно преобладал Сталин (на транспарантах, пла-
катах, в листовках), Ленина — значительно меньше, а Маркс вооб-
ще был эпизодическим лицом. В какой-то мере присутствовал Че
1 Свои впечатления и размышления о ней я изложил в ста-
тье «Альтернатива или глобальная провокация?» // Аль-
тернативы. 2003. № 3.
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
465
Гевара наряду с явными черносотенцами и националистами. Песни
и стихи — в основном советского времени, свидетельствующие, как
правило, о невзыскательном вкусе. Ни «Интернационала», ни дру-
гих международных песен и стихов. Молодежи мало, в основном те,
кому сильно за пятьдесят.
Мне вспоминаются слова, что режим Сталина был основан на
«темном демократизме пригорода, а через то и деревни»1. Уравни-
тельная сила тридцатых годов подняла низы наверх, большей час-
тью это был темный демократизм, а Федор Кузькин (персонаж по-
вести Б. Можаева «Живой») и Иван Денисович (персонаж известного
рассказа А. Солженицына) проиграли Мотякову (секретарь райко-
ма, антагонист Кузькина в повести Б. Можаева). Результат этой по-
беды — бонапартистский режим в самой законченной форме и на
эЛпериментально-чистой почве. В основе его—сила уравнительно-
сти или «восстание масс».
Однако история распорядилась очень хитро. Ни Ортега, ни Бул-
гаков не видели реальной альтернативы этой силе. Булгаков был
' даже готов заключить союз с сатаной против мелких бесиков этого
мира — от Аннушки, разлившей масло, и буфетчика до Берлиоза. Он
был прав в том, что другой альтернативы не было или она была явно
недостаточно сильна, чтобы оказаться реальным противовесом —
«чумазый» шел к власти неудержимо, как писал любимый писатель
Булгакова Салтыков-Щедрин. Воздвигнутая на его пути революци-
ей плотина накопила его энергию, и когда плотина прорвалась, ос-
тановить этот поток уже никто и ничто не было в состоянии. Впро-
чем, «чумазый» просачивался через эту плотину еще до 1991 года: дух
НКВД—дух в немалой степени мелкого лавочника, как проница-
тельно показал в своей повести «Ночной дозор» Михаил Кураев. Сил
сознательных рабочих хватило только на революцию, а те, кто шел
затем на фабрики и заводы, — вовсе не пролетариат в классическом
смысле слова, как писал Ленин в 1921 году. Нас победила мелкобур-
жуазная стихия, «чумазый»?
И так, и не так. История распорядилась очень хитро—она стол-
кнула лбами «чумазых», то есть разного рода черносотенцев Запа-
1 Лифшиц Мих. Что такое классика? Онтогносеология.
Смысл мира. Истинная середина. М., 2004. С. 44.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
466
да и Востока. Конечно, фашизм — западное явление, но и наше чер-
носотенство имело международный смысл и международную почву.
Почему победители, то есть те, кто победили в своих странах, фаши-
сты и сталинцы, между собой не смогли договориться? Такое согла-
шение — прочный идейный союз — представлялось очень возмож-
ным, и не только писателю В. Гроссману, автору бестселлера эпохи
перестройки «Жизнь и судьба».
Дело в том, что «чумазый» в СССР, будучи хозяином положения,
занимая высшие посты и все пропитывая своей идеологией и пси-
хологией, от политики до искусства, не только проповедовал от име-
ни пролетариата, но и реально служил ему (в определенной степе-
ни, до поры до времени), тому пролетариату, который был преиму-
щественно «вещью в себе», как и народ в целом. Но «вещь в себе»
реально существует, и все в конечном счете определяет, хотя и про-
является в обманчивых, не соответствующих себе явлениях.
Ноуменальный смысл истории все же доступен пониманию. Вос-
стание масс—западное явление, продукт современного капитализ-
ма, который превращается в политику патернализма, всеобъемлю-
щей опеки над населением, развращенным дарованным сверху хле-
бом и зрелищами. Оно, это население, все производит, оно — новый
пролетариат? Да, в определенной степени, но во все большей степе-
ни оно питается со стола тех, кто присвоил себе всеобщую произво-
дительную силу, науку. Значит, современные ученые — «пролетари-
ат»? Но и они в немалой мере живут за счет достижений (в том чис-
ле и научных) предшествующих поколений. Ведь непосредственный
материальный труд, тот, что производит стоимость, сведен в разви-
тых странах до минимума. Затраты на науку не находятся ни в ка-
ком соответствии с ее производительной силой, произведенное по-
чти ничего не стоит. Вот что реально означает разбухание армии
сферы услуг. Мы живем за счет труда предшествующих поколений,
мы питаемся их кровью. Но ничего за это не платим, точнее, платим
черной неблагодарностью.
Рабочий класс поздне- и послесталинской России очень часто —
полураб, полухам, полурантье по своей психологии, несмотря на
нищенское положение. Но не революционный пролетариат в своей
массе. Поэтому он легко отдал все свои права за чечевичную похлеб-
ку супермаркетов. Фашизация масс во всех странах Запада—тоже
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
467
закономерное явление. Победили и те и другие. Почему же они не
смогли объединиться, чтобы раздавить окончательно своего глав-
ного врага — народовластие в сократовском смысле?
Потому что их дело исторически проиграно. Они — не произво-
дительное население земли. И производительные силы человечества
столкнули их в непримиримой схватке на уничтожение.
Непонятно, но «чумазый» в СССР служил тому, чего вроде бы и
не было, вернее, тому, что существовало только как «вещь в себе» —
социалистическому народовластию. Он служил тени, мифу? Нет, он
служил той большой исторической силе, над которой был не влас-
тен. Эта новая мировая сила — нерыночная организация экономи-
ки. Рынок себя в целом исчерпал, он нуждался в чуждых себе допол-
нениях и подпорках.
’«Дополнения»' — с одной стороны, паллиатив, нечто искусствен-
ное и внешнее, системочуждое. С другой стороны — та новая суть,
которая никак не может появиться на свет в своем собственном виде
и является только в превратном, донельзя искаженном — сталиниз-
ме, фашизме, современном государстве всеобщего благоденствия и
прочих неподлинностях, которые кажутся — и есть до известной
степени — единственно возможной подлинностью. Суть преврати-
лась в тень. Но она — «вещь в себе», которая все же имеет реальные
проявления, и реальных носителей. По убеждению А. Воронского,
«искусство видеть мир» заключается прежде всего в том, что «вещь
в себе» становится видимой благодаря внутреннему зрению худож-
ника-классика. Такое зрение появляется очень редко, оно требует
обстоятельств исключительных, как прозрение князя Болконского
на поле Аустерлица, но оно возможно, по мнению Воронского и тех,
кто продолжал его дело, и в XX веке (см. первую главу)
Жернова истории мололи и перетирали друг друга. Сначала пал
фашизм, потом сталинский режим. Но победителей не было!
Перетерли ли эти жернова Василия Теркина и Федора Кузькина?
Слияние народа с культурой не состоялось, поэтому не состоялся и
сам народ. Отчужденные силы нависли над человечеством и грозят
1 Здесь имеется в виду концепция «парергона» (дополне-
ния) Жака Деррида, см. об этом: Арсланов В. История за-
падного искусствознания XX в. М., 2003. С. 462-493.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
468
раздавить его. «Чумазый» вырвался на поверхность и во всем мире
справляет свой шабаш. Никогда его власть не казалась столь непо-
бедимой. Духовной аристократии нет, всё и все служат вкусам чу-
мазого, массового человека, чтобы манипулировать им в его же соб-
ственных, кажется, интересах.
Но если история не закончилась в середине XX века с приходом
двух очень во многих отношениях сходных режимов, то потому что
в конечном счете исход борьбы решил все же Василий Теркин. Он,
как всегда бывало в подобных безвыходных ситуациях, прошел «меж-
ду». А оба жернова, между которыми он прошел, оказались повер-
женными.
«Между» прошло — и состоялось до известной степени — наро-
довластие на основе соединения с мировой культурой, что на языке
молодого Маркса называлось снятием отчуждения. Благодаря этому
состоявшемуся — несостоявшемуся (или, следуя Ж. Деррида, «этой
весьма удавшейся неудаче»1) народовластию были одержаны самые
крупные и важные победы—и в экономике, и в политике, и в куль-
туре. В конечном счете — благодаря. Хотя присвоили себе эти побе-
ды другие—те, кто вначале только «служил» народу, и служил ко-
рыстно. А затем возникла пародия на гегелевскую диалектику раба
и господина — «слуги» народа присвоили себе все, произведенное
народом, но быть действительными собственниками материальных
и духовных богатств они в отличие от гегелевского бывшего «раба»
не в состоянии. Правда, и народ сейчас тоже не виден.
Что же не смог присвоить современный хозяин положения в
нашей стране, который может купить все, даже дворцы, — истори-
ческие и культурные памятники? Он не может присвоить то, что не
укладывается в его сознании, то, что прошло «между», но в чем зак-
лючался действительный смысл российской истории XX века.
Когда-нибудь история произошедшего с нами — и со всем миром
тоже — в истекшем столетии будет написана. Пока такой истории
нет, приходится ограничиться самими общими соображениями.
Законсервированные историей «азиатско»-общинные формы,
существовавшие в рамках деспотических восточных государств (Рос-
1 См. об этом: Арсланов В. История западного искусствоз-
нания XX в. С. 459-462.
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
469
сия, Китай), оказались востребованы мировым «духом» тогда, когда
западная история и западная культура предали сами себя, вступи-
ли в стадию стагнации, потеряли историческую инициативу. Пред-
чувствия Белинского, Герцена, Чернышевского оказались верны-
ми — Россия вышла на сцену мировой истории, чтобы подхватить
эстафету западной культуры. Но сделала это она, только опираясь на
достижения Запада, синтезировав их со своим духом архаической
крестьянской демократии, в том числе и в пугачевских формах. Од-
нако перескочить через этап капитализма, «срезать угол» все же не
удалось — «чумазый» взял верх, хотя и вынужден был служить до
поры до времени новой форме парадоксального народовластия.
Но разве не между Сциллой и Харибдой проходило все великое?
Само настоящее существует между двумя бесконечностями, двумя
вечностями—прошлым и будущим. Настоящее неуловимо, его нель-
зя поймать, зафиксировать, остановить в отличие от прошлого и бу-
дущего. Последние — такие же противоположности, как бытие и
ничто, однако истина их — в становлении, как доказывал Гегель,
этом исчезающем, всегда себе неравном, эфемерном. Только насто-
ящее действительно.
Так что же было настоящим в нашей культуре и истории XX ве-
ка? Что перешло в будущее — тем самым, что закрепило себя абсо-
лютно и несомненно в вечности, в прошлом? Наблюдая шабаш «чу-
мазого» во всем мире, справляющего победу в «холодной войне» и
провозглашающего «вечные» ценности либерализма, Жак Деррида
проницательно уловил в неолиберальной риторике беспокойную
тревожность, маниакальность и даже растерянность — именно тог-
да, когда, кажется, одержана самая убедительная в мировой истории
и совершенно бескровная победа.
Когда я смотрел на некоторых озлобленных людей, несущих в
руках зонтики на демонстрации в годовщину «Великого Октября»,
мне казалось, что эти люди с такой же ненавистью могут выкалы-
вать этими зонтиками глаза своим врагам, как это делали парижс-
кие обыватели после поражения Парижской коммуны. Но наши-то
шли под красным флагом, поднятым парижскими коммунарами!
На Учредительном собрании в 1918 году позиция большевиков
непримиримо отличалась от подавляющего большинства членов
Собрания (эсеров и меньшевиков, одним словом, социалистов) толь-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
470
ко в одном вопросе — национальном. Председатель Собрания лидер
эсеров Виктор Чернов сказал, что он, конечно, за демократическое
право всех народов на самоопределение вплоть до отделения, но
поскольку сейчас в России демократическая власть, то зачем же
Украине, например, отделяться от России? Если она попытается это
сделать, то мы этому воспрепятствуем силой оружия, заявил предсе-
датель Собрания, вскоре разогнанного. А разогнавший это Собрание
Ленин немедленно подписал указ об отделении всех народов старой
России, кто хотел государственной независимости — и Польши, и
Финляндии, и Украины. Это в отличие от Ельцина не было тактичес-
ким маневром для того, чтобы захватить власть в свои руки,—наци-
ональная политика была разработана Лениным задолго до прихода
к власти и последовательно проводилась им после того, как власть
перешла в руки большевиков. Эдвард Карр, автор самого авторитет-
ного на Западе советологического труда «История советской Рос-
сии», писал: «Абсолютное отрицание любой дискриминации на ос-
нове национальности, расы, цвета кожи оставалось неизменным и
непреклонно отстаиваемым принципом большевистской политики
и практики, и оно оказало огромное положительное воздействие на
все отношения с угнетенными прежде народами. Но одного этого
было недостаточно. Положительной стороной политики равенства
являлось оказание помощи более отсталым народам...»1
Демонстрации под красными флагами в постперестроечной Рос-
сии — с явным привкусом черносотенства. На той из них, что была
в ноябре 2004 года, распространялась листовка РОСМД (Русское
общенародное сталинское монархическое движение), в которой
читаем призыв: «Под знаменем Грозного-Сталина, под руководством
Господа, одолеть жидовское иго, чтобы снова построить социализм,
но во славу Бога нашего Иисуса Христа!» В листовке — протест про-
тив якобы готовящейся властью «сдачи Кавказа» и поклонение «ве-
ликому русскому мыслителю и философу XIX века Константину Ни-
колаевичу Леонтьеву». Конечно, не все листовки и призывы на этой
демонстрации были столь одиозными, однако не было на этой демон-
страции явно, отчетливо и недвусмысленно выражено сочувствие
1 Карр Э. История советской России. Книга первая. Боль-
шевистская революция 1917-1923. т. I. М., 1990. С. 289.
Философско-лирическое отступление:
«жернова истории» (две демонстрации)
471
гибнущему от «зачисток» и террора народу Чечни. Что это, «святая
простота» обманутых и обворованных низов или что-то другое?
Ленин писал, что в черносотенстве мужика может скрываться
демократизм, самый грубый, но и самый глубокий. Однако знаме-
нитый лозунг Маркса, ставший девизом I Интернационала, — «Не
может быть свободен народ, угнетающий другие народы», прозву-
чал не на коммунистической демонстрации в России, а из уст В. Но-
водворской на митинге правых партий против войны в Чечне. Крас-
ных флагов на этом митинге не было.
Вот и пришло мне в голову, что, может быть, некоторые из этих
«коммунистов» стали бы выкалывать своими зонтиками глаза Лени-
ну за его национальную политику. Например, за то, что только ев-
реи принимались в институты при Ленине без ограничений по клас-
совому, имущественному признаку.
Конечно, бедная женщина (сотрудник какого-то НИИ), написав-
шая процитированную листовку РОСМД, опущена на дно жизни, ей
можно и нужно посочувствовать. Но разве не открыл Достоевский
в униженных и оскорбленных бесовскую энергию, которая окраси-
ла своим адским пламенем историю XX века?
И вместе с тем XX век — эпоха, когда в смертельной схватке два
тоталитарных режима истребляли друг друга вместо того, чтобы,
объединившись, привести к мировой победе черносотенства и унич-
тожить Василия Теркина. Они ушли, а он остался — в истории куль-
туры и истории политики, экономики истекшего столетия. Кто за-
хочет понять эту историю, вспомнит и оживит его. А где же он сам?
А где греки, победившие персов при Марафоне и Саламине, где
были они во время жестоких и бессмысленных Пелопоннесских войн,
уничтоживших единство и славу Эллады буквально через несколько
десятков лет после этих побед? Их уже не было, этих греков, воспетых
Эсхилом и Софоклом, но они остались навечно, и не только в гречес-
ком классическом искусстве, а в самой жизни: их победы открыли слав-
ную историю европейской цивилизации. Духовная сила, породившая
эти победы, развивалась в мировой европейской истории мощно и
неудержимо—от философии Платона и Аристотеля, скульптур Поли-
клета и Фидия до романов Толстого и теории относительности Эйн-
штейна. Она ожила и в Октябрьской революции. Но присутствовал ли
дух классики в искусстве XX века, а если присутствовал, то где и как?
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
472
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского
и традиция гуманизма
в отечественной эстетике XX века
Философия XX века—это, согласно господствующему ныне мне-
нию, прежде всего философия Мартина Хайдеггера с его идеей о
бытии как присутствии и непотаенности, об истине бытия как але-
тейи. Субъект, согласно Хайдеггеру, есть сказывание, самораскры-
тие бытия. Нечто подобное хайдеггеровской идее возникло у пос-
ледователя К. Леонтьева русского философа Павла Флоренского,
который поставил своей целью борьбу с линейной перспективой как
воплощением, согласно формулировке Флоренского, гуманистичес-
кого «мировоззрения Леонардо-Декарта-Канта»1. Гуманизм, т.е.
возрожденческое мировоззрение, отрицается и Хайдеггером, и Фло-
ренским на общем для них основании: гуманизм для них несет от-
ветственность за тот бескрайний субъективизм XX века, который по-
родил декаданс в самом широком смысле этого слова. Разумеется,
нетрудно увидеть в философии православного философа Павла Фло-
ренского и «почвенника», державника Хайдеггера реакцию на
почти безраздельное господство в XIX веке либеральной идеологии
с ее культом индивидуальности. Сложнее обнаружить, что крайно-
сти и в данном случае сходятся, и где они сходятся. Но самое труд-
ное и важное—увидеть, найти то верное и жизнеспособное, что в
XX веке прошло между этими крайностями, обусловив многие дос-
тижения трагической эпохи, оставшись, как нередко бывало в исто-
рии, почти незамеченным современниками.
В действительности в философии Хайдеггера «сказывается» не
объективное бытие, а критикуемое им декадентство, то есть та отри-
цаемая им субъективность XX века, которая перестала быть субъек-
том в собственном смысле слова. Подлинному субъекту открывает-
ся реальный мир, а в философии Хайдеггера заговорила тотальная
«бездомность» и пустота. Нападки Хайдеггера на гуманизм Возрож-
дения несправедливы. Смысл этого гуманизма заключался не в апо-
1 Флоренский П. А. Обратная перспектива//У водоразделов
мысли. Т. 2. М., 1990. С. 92.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
473
логетике индивидуализма, а в открытии того, что индивид нужен
самому миру, что «природа, — как писал позднее Герцен, — не зак-
лючает в себе всего смысла своего — в этом ее отличительный харак-
тер; именно мышление и дополняет, развивает его; природа—толь-
ко существование и отделяется, так сказать, от себя в сознании че-
ловеческом для того, чтобы понять свое бытие; мышление делает не
чуждую добавку, а продолжает необходимое развитие, без которо-
го вселенная не полна.. .»2 Для того чтобы быть полной, она нужда-
ется в такой своей части, которая в известном смысле больше цело-
го — в человеке как микрокосме, разум которого «объемлет» всю
бесконечность и в этом смысле шире ее. К XX веку гуманистическая
философия смогла понять, что человек, индивид, существует в том
среднем регистре бытия, в котором само бытие поднимается до спо-
собяости видеть и сознавать само себя. Вот почему у человека ров-
но столько чувств, сколько необходимо для познания и чувственного
восприятия всей полноты бытия, — сама природа создала человечес-
кие чувства, адекватные себе, достаточные для полного самораскры-
тия, «сказывания» реальности.
" Философия Хайдеггера буквально повторяет последние выводы
европейского гуманизма, отрицая его по существу. Чтобы видеть
себя, природа должна была отделиться от самой себя, противопо-
ставить себя себе самой в человеческом мире. Хайдеггер принципи-
ально отрицает эту диалектику, угаданную и разработанную немец-
кой классической философией, продолжавшей гуманистическую
традицию. Отделиться —для того чтобы потом слиться в истинном
единстве, идеале Платона, мечтавшего о едином для всех людей
зрении. Эта трагедия и эта победа человеческого рода — главное со-
держание искусства Нового времени, которое было открыто живо-
писью Возрождения. Но если в неклассической живописи старых
мастеров, подобных Рембрандту, акцент сделан на трагедию разры-
ва, диссонанса, гамлетовское противоречие идеала и реальности, то
у Леонардо и Тициана, вообще в классике — полнота истины, когда
диссонанс чудесным образом переходит в гармонию и единство, то
есть уже найденное решение проблемы, представляющейся нераз-
решимой. ’
Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М., 1954. Т. 3. С. 105.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
474
Найденное решение нашло себя не в манифестах и деклараци-
ях, а в художественной форме, которая предстает перед нами в жи-
вописи Возрождения в абсолютно законченном виде, подобно апри-
орным формам чистого разума у Канта.
Флоренский отрицает эту найденную Возрождением художествен-
ную форму, Хайдеггер движется в том же направлении, утверждая, что
истина—это самораскрытие бытия, его «непотаенность», алетейя, с
которой, собственно, началась греческая философия, т.е. понятие не
только гносеологическое, но и онтологическое. Близкое хайдеггеров-
скому понимание истины было выражено Флоренским еще в 1914 го-
ду, задолго до появления книги Хайдеггера «Бытие и время» (1927)’.
Хайдеггер хочет доказать, что уже Платон начинал отказывать-
ся от алетейи, то есть такого понимания истины, когда она предста-
ет как «непотаенность» самого бытия. Глубокие мысли досократи-
ков Платон якобы пытается подменить иным пониманием истины,
а именно «истиной» как «правильностью». «Правильность» предпо-
лагает, утверждает Хайдеггер, что истина—это не самораскрываю-
щееся бытие, «сказывающееся» в человеке и посредством человека,
а истина определяется через ее соотнесение с ложью, неправдой. Это
последнее понимание истины как правильности, как соответствия
наших знаний реальному миру благодаря Аристотелю, а затем сред-
невековым схоластам усвоила вся европейская философия, забыв,
пишет Хайдеггер, об истине как алетейе. Согласно Декарту, которо-
го цитирует Хайдеггер, «истина или ложь в собственном смысле не
могут быть нигде, кроме как в рассудке»1 2.
Хайдеггер полагает, что «истина здесь уже не алетейя, a adaequ-
atio»3, т.е. соответствие наших субъективных представлений объек-
1 «Наше русское слово «истина»,—пишет Флоренский в
книге «Столп и утверждение истины», —сближается с гла-
голом «есть» («истина»—«естина») (...) Русский язык от-
мечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи.
Поэтому «истина» обозначает абсолютное само-тождество
и, следовательно, само-равенство, точность, подлинность»
— см. Флоренский П. Столп и утверждение истины. Т. 1(1).
М., 1990. С. 15-16.
2 Цит. по Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993- С. 358.
3 Там же.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
475
ту, тождество субъекта и объекта, именуемое «правильностью» (на-
ших знаний, представлений). Но если мы такое понимание истины,
как совпадение субъекта и объекта, противопоставим пониманию
истины как алетейи, то мы непременно придем к иррационализму
Ницше, который, как пишет Хайдеггер, доказывал: «Истина есть
род заблуждения, без которого определенный род живых существ не
мог бы жить. Ценность для жизни решает в конечном счете»1.
Хайдеггер — человек, обладающий глубоким и тонким понима-
нием философии вообще и античной философии в частности, чего,
к сожалению, нельзя сказать о многих отечественных «марксистах».
Передо мной — материалы обсуждения ленинградскими профессо-
рами философии книги Мих. Лифшица «В мире эстетики». Все уча-
стники этого обсуждения, которое имело место в 1986 году, пришли
чк выводу, что «многие утверждения самого М.А. Лифшица весьма
трудно истолковать в общепринятом материалистическом понима-
нии. Это касается, в частности, понятий «дух», «истина», «идеал»,
«норма», «смысл», которые приобретают в трактовке М.А. Лифши-
ца онтологическую реальность, существуют вне и помимо человека
(выделено мной.—В. А.)»1 2.
Проблема истины и ее отношения с субъектом была централь-
ной на этом обсуждении. Председатель секции теории культуры при
Ленинградском доме ученых им. А.М. Горького, доктор философ-
ских наук Э.В. Соколов «сказал, что истина есть понятие гносеологи-
ческое, а не онтологическое, что истина как таковая не может быть
характеристикой бытия, если, конечно, отвлечься от метафоричес-
ких высказываний типа: «истинная жизнь», «истинное призвание»,
«истинная сущность» и т.п.»3 Истина существует не в бытии, а в ра-
зуме, в продуктах человеческого творчества, есть производное от ак-
тивности субъекта. Мих. Лифшиц противопоставил, говорили уча-
стники обсуждения, современным и новаторским идеям об актив-
ности субъекта свою концепцию «активности объекта» — «что же
касается активности, — говорил один из участников этого обсужде-
1 Цит. по: Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993- С. 358.
2 Обсуждение книги М.А. Лифшица «В мире эстетики» //
Философские науки. 1986. № 5. С. 168.
3 Там же. С. 164.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
476
ния,—то это свойство не субъекта, которому М.А. Лифшиц не дове-
ряет, а самой объективной реальности» (согласно Мих. Лифшицу. —
В. А.у. Вам ничего не напоминают эти слова? Если нет, то полистай-
те главу первую этой книги, познакомьтесь с аргументами Л. Авер-
баха, который «бил» и «добивал» булгаковщину и воронщину за со-
зерцательность, противопоставляя ей свою марксистскую и проле-
тарскую теорию активности субъекта.
Подводя итог обсуждению, М.С. Каган сделал упор на том, что
понимание истины у Лифшица не соответствует взглядам Ленина —
автора книги « Материализм и эмпириокритицизм». Лифшиц, гово-
рил М. Каган, отрицает «диалектику бытия и познания, поскольку
плод познавательной деятельности — объективную истину—он по-
мещает в ... (многоточие М. Кагана.—В. А) само бытие:“Истина
существует” (с. 243—указаны страницы книги Лифшица.—В. А.у,
поэтому необходим “разрыв с привычной, обыденной точкой зре-
ния” (автор умалчивает, — продолжает в скобках М. Каган, —что
это точка зрения В.И. Ленина, изложенная в «Материализме и эмпи-
риокритицизме”: “Истина может быть только в науке”; она есть “сов-
падение мысли с внешним объектом”). «Для Лифшица,—продолжа-
ет комментировать цитаты из книги Лифшица М. Каган, — истина
“прежде всего там, где действительность соответствует самой себе”
(с. 265-267 — книги Лифшица. —В. А.)»1 2
Заметим, что М. Каган берет Ленина себе в союзники по чисто
тактическим соображениям, ибо, как выяснится позднее, в 1998 го-
ду, философия Ленина у автора «Лекций по марксистско-ленинской
эстетике» сочувствия, мягко говоря, никогда не вызывала3. Что бы ни
говорил М. Каган, когда он еще представал публике в образе верно-
го ленинца, и что бы ни говорил он позднее, когда развенчивал Ле-
1 Там же.
2 Там же. С. 167.
3«.. .Стало очевидным, —пишет М. Каган, —что Ленин уче-
ние Маркса радикально деформировал, демагогически име-
нуя такую деформацию «творческим развитием», а ортодок-
сальных марксистов в России и в Европе объявил “ревизи-
онистами”», «Владимир Ульянов был таким же идеалистом
во взгляде на историю, как его старший брат...» См. Каган
Моисей. О времени и о себе. СПб. 1998. С. 78, 79.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
477
нина, факт остается фактом. А именно: согласно Ленину, истина су-
ществует в самой реальности, а не только в нашем сознании1. Но эта
ленинская мысль, со всей ясностью изложенная в «Материализме и
эмпириокритицизме», была неприемлемой, чуждой не только М. Ка-
гану, но практически всей официальной советской философии. Если
Ленин утверждал с определенностью, не допускающей иных толко-
ваний, что быть материалистом—значит «признавать объективную,
т.е. не зависящую от человека и от человечества истину (подчеркну-
то мной. —В. А)»1 2, то весь т.н. советский марксизм, нимало не смуща-
ясь, утверждал прямо противоположное ленинскому определению
истины: истина только в человеке, в его голове, а не в объективной
реальности, не в бытии. «Ленинградские философы» вместе с М. Ка-
ганом, ничего действительно «от себя» не добавили, они излагали
общепринятую в «марксизме-ленинизме» концепцию истины, кото-
рая, однако, не имела ничего общего со взглядами Маркса и Ленина.
Причины этого очень серьезны. Герберт Маркузе в своем изве-
стном исследовании «Советский марксизм. Критический анализ»,
написанном в 1952-1955 гг. при финансовой поддержке Фонда Рок-
феллера, доказывает, что официальная философия «марксизма-лени-
низма» содержала в себе немало от прагматизма и технократическо-
го рационализма3, для которых, как известно, объективной истины
нет, а есть нечто, содержащееся только в нашей голове и именуемое
1 Между прочим, М. Каган приписывает Ленину (без ука-
зания страницы источника) фразу «Истина существует
только в науке», что прямо противоречит как смыслу кни-
ги «Материализм и эмпириокритицизм», так и филосо-
фии марксизма в целом. Например, Ленин пишет: «Если
то, что подтверждает наша практика, есть единственная,
последняя, объективная истина,—то отсюда вытекает
признание единственным путем к этой истине пути на-
уки, стоящей на материалистической точке зрения» (Ле-
нин. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 146). Само собой понятно,
что сказанное не означает — «истина существует только в
науке», объективная истина, напротив, вне ее, в реально-
сти, а наука всего лишь приближается к ее постижению,
* отражает ее, открывает ее.
2Ленин В.И. Соч. Изд. 5-е. Т. 18. С. 134.
3 Marcuse Н. Soviet Marxism. N. Y. 1961. Pp. 71-74.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
478
«истиной». Ради справедливости нужно заметить, что один из ленин-
градских участников обсуждения книги «В мире эстетики» все-таки
признал, что в понимании Мих. Лифшицем истины как «откровен-
ности бытия» есть нечто, заслуживающее внимания и «серьезного
теоретического обсуждения»1.
«Откровенность бытия» как суть истины — это почти цитата из
Хайдеггера. Полемизируя с онтологией общественного бытия сво-
его друга и единомышленника Г. Лукача, Лифшиц замечает: «Не-
смотря на слишком частое употребление слова «онтологический»,
Лукач понимает под этим термином не учение об истинном бытии,
а понятие о материальной реальности, стоящей вне всего человечес-
кого. Может быть, «онтическое» Хайдеггера?»1 2 Цитируя по другому
поводу «Бытие и время» Хайдеггера и сравнивая цитируемое с соот-
ветствующим высказыванием Лукача, Лифшиц пишет: «Здесь я, по-
жалуй, ближе к экзистенциалистам и онтологам. У Лукача своего
рода остаток трансцендентального, целеполагающего существа. Для
меня весь смысл на стороне бытия»3.
Само собой понятно, что философия марксиста Мих. Лифшица—
прямая противоположность экзистенциализма М. Хайдеггера, не-
смотря на разительное совпадение в толковании истины как откры-
тости или непотаенности бытия. Ибо истина, согласно Лифшицу,
предполагает правильность, совпадение субъективного знания с
объектом—она не просто открытость бытия, а откровенность истин-
ного бытия, понятия, появившегося у Парменида и затем перенято-
го Платоном. Истинное бытие—это бытие, соответствующее своему
понятию, своей норме. Тогда как у Хайдеггера понятие бытия совер-
шенно иное, оно определяется посредством центрального термина
его философии — через «присутствие», причем присутствие самого
человека, без которого для Хайдеггера никакого бытия нет. «Присут-
ствие, то есть бытие человека...»4,—так формулирует Хайдеггер.
1 Обсуждение книги М.А. Лифшица «В мире эстетики» //
Философские науки. 1986. № 5. С. 164.
2 Лифшиц Мих. Лукач // Вопросы философии, 2002. № 12.
С. 128.
3 Там же. С. 129.
4 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 25.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
479
Хайдеггеровское «бытие», будучи «присутствием», вместе с тем
раскрываетсебя, становится непотаенным отнюдь не в познаватель-
ной деятельности субъекта — оно «сказывается» часто вопреки ему.
' И здесь еще, пожалуй, Лифшиц согласился бы с Хайдеггером, по-
скольку иная «творческая активность» иного «творческого субъек-
та» — скорее препятствие для самораскрытия истинного бытия, чем
путь к его «откровенности». Но какой именно субъект и какая имен-
но активность субъекта, какая субъективность позволяет бытию
быть «непотаенным»?
Для Хайдеггера препятствием для самораскрытия бытия являет-
ся тот субъект и та субъективность, что сформировались в европей-
ской цивилизации после Платона и в особенности после Декарта.
Для Лифшица этот ответ—слишком общий, слишком абстрактный
и»именно потому неверный. Развитие субъекта в европейской ци-
вилизации было противоречивым: вопреки субъективности, удаля-
ющейся от самораскрытия истинного бытия, — а в известной мере
и благодаря ей — развивался субъект, способный стать его голосом.
Этот второй тип субъективности не тождественен «трансценден-
- тальному субъекту» Канта, «абсолютному субъекту» Фихте и Шел-
линга, Абсолютной идее Гегеля, ибо все они навязывают действи-
тельности «человеческое, слишком человеческое» измерение, на-
пример, отождествляют объективный смысл и объективную истину
с целеполаганием — свойством конечного.
Сознательное действие субъекта невозможно без целеполага-
ния. Однако если субъект остается в рамках своей целеполагающей
деятельности, то есть сферы конечного, то как он может быть спосо-
бом самораскрытия бытия, его голосом? Хайдеггеровское решение
проблемы заключается в том, что субъект отказывается от субъек-
тивности и растворяется в некотором «Мал» — синониме безлично-
сти. Голос бытия тем самым у Хайдеггера практически становится
некими объективно существующими двусмысленными «толками» и
«пересудами», подчиняющими себе сознание индивида, который
есть нечто производное от них, вторичное. «Бытие—друг-с-другом
в людях есть сплошь да рядом не замкнутое, безразличное друг-ря-
дом-с-другом, но напряженное, двусмысленное друг-за-другом-сле-
жение, тайный взаимоперехват. Под маской друг-за-друга разыгры-
вается друг-против-друга. Притом надо заметить, — продолжает
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
480
Хайдеггер, — что двусмысленность возникает вовсе не от специаль-
ного намерения исказить и извратить, что она не вызвана впервые
каким-то отдельным присутствием»'.
Однако в этом ли растворении индивида в некоем коллективном
безликом das Man — подлинное достижение ступени открытости и
откровенности бытия?
Давно уже сказано и доказано (в частности, Жаком Деррида),
что хайдеггеровская «непотаенность бытия»—выражение метафи-
зической бездомности, тотального Ничто. Да и сам Хайдеггер при-
зывал «ощутить в Ничто вместительный простор того, чем всему су-
щему даруется гарантия бытия. Это — само бытие. Без бытия, чья
бездонная, но еще не развернувшаяся сущность повертывается к
нам в настроении подлинного ужаса как Ничто, все сущее остава-
лось бы в безбытийности»1 2.
В искусстве, согласно Хайдеггеру, как и в любом другом спосо-
бе познания, вовсе не важна правильность, соответствие созданно-
го субъектом объекту. Например, пишет Хайдеггер, «в картине Ван
Гога совершается истина. Это не значит, что нечто наличествующее
верно срисовано, но здесь открывается дельность башмаков — из-
делия, и таким образом сущее в целом, мир и земля в их противо-
борствовании, оказывается в несокрытости».3
В живописи перед нами, таким образом, не изображение, а не-
что иное, хотя и именуемое истиной и несокрытостью бытия—«вещ-
ность вещи»4, что более соответствует существу непотаенности, чем
платоновские «идеи». «Платоновски понятая непотаенность оказыва-
ется сопряжена с вглядыванием, восприятием, мышлением и выска-
зыванием.
Последовать за этим сопряжением,—развивает свою мысль Хай-
деггер, — значит, пожертвовать существом непотаенности. Никакая
попытка обосновать существо непотаенности на “разуме”, на “духе”,
1 Там же. С. 175.
2 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.,
1993- С. 37-
3 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
С. 87.
4 Там же. С. 100.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
481
на “мысли”, на “логосе”, на любом роде “субъективности” никогда
не может спасти существо непотаенности»1.
Гуманистическое мировоззрение Возрождения нашло воплоще-
ние в художественной композиции изобразительного искусства, ос-
нованной на линейной перспективе. Гуманизм открыл мир и челове-
ка в их единстве — мир благодаря человеку, а человека благодаря
миру. После победы средневекового номинализма над средневеко-
вым реализмом Возрождение было возвращением к центральным
идеям Сократа и Платона. Об этом умалчивают и Хайдеггер, и Фло-
ренский, для обоих есть единая непрерывная линия развития (от Ле-
онардо через Декарта к Канту, немецкой классической философии
и Ницше), в которой раннее греческое определение истины как «ис-
тинного бытия»2 (wahren Sein, пишет Хайдеггер) подменяется пра-
вильностью, то есть соответствием субъективного знания объекту.
Хайдеггер здесь по крайней мере неточен и удивительно небре-
жен. Он «не замечает», что гегелевское определение истины как
единства вещи и ее понятия есть не что иное, как «истинное бытие».
Может быть, Гегель не последователен в своей онтогносеологии, но
то, что его определение истины не чисто гносеологические, понят-
но всем грамотным гегельянцам, оно было ясно, например, Лени-
ну. По мнению Мих. Лифшица «всякая мысль, близкая к революци-
онному демократическому или социалистическому содержанию,
так или иначе причастная к нему, предполагает возможность исти-
ны не только как правильного воспроизведения существующего
мира в нашей голове, но и как истинного состояния самого мира
(Weltzustand, по терминологии гегелевской эстетики). Это состоя-
ние может быть свойственно исторической действительности в про-
шлом или настоящем, оно может быть так или иначе выведено из
нее или создано нашей разумной волей, но возможность его пред-
полагается. Недаром на пороге всей истории социальных утопий мы
видим фигуру Платона, который говорит об “истине бытия” или “ис-
тинном бытии”. Но не только утопия Платона—любая программа
'Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.,
1993- С. 361.
2 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
С. 84.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
482
демократии и социализма, даже самая реальная, извлеченная не из
абстрактной идеи, а из необходимости общественного развития,
есть законный плод нашего убеждения в том, что различие между
истинным и ложным положением вещей заложено в самой приро-
де общественного бытия. “Отсюда и гнев”, по известной латинской
поговорке, отсюда полемика позитивистской литературы наших
дней против того, что Ленин вслед за Гегелем назвал однажды “ис-
тинно-сущим бытием”».1
В процитированных выше словах—ответ на вопрос, почему столь
проницательный Хайдеггер не заметил ни Гегеля, ни Лессинга, ни
Канта (автора «Критики практического разума»), у которых пони-
мание истины есть развитие платоновской идеи «истинного бытия»,
а не простого соответствия наших понятий объекту. Он не заметил
этой линии классической философии от Сократа до Гегеля потому,
что она главной своей целью имела различие между истинным и
ложным положением вещей, которое обусловлено не нашей голо-
вой, а оно, это различие, заложено в самом бытии, а последнее мо-
жет быть как истинным, так и ложным. Вот это различие — главную
идею классической философии — хочет снять, «взять назад» Хайдег-
гер, как Адриан Леверкюн у Томаса Манна хотел взять назад 9-ю
симфонию Бетховена.
Для достижения своей цели Хайдеггер совершает двойную под-
мену. С одной стороны, он, искажая факты реальной истории фило-
софии, утверждает, что вся европейская философия после Платона
истину понимала только как формальную правильность, соответ-
ствие знания его объекту. С другой стороны, он толкует последнее
понимание истины как чисто иррационалистическое, ницшеанское
отрицание всякой истины, когда истина—всего лишь средство для
выживания человека, а бытию как таковому она не присуща. Но это
иррационалистическое толкование истины было как раз результа-
том того, что делает сам Хайдеггер,—результатом абсолютного про-
тивопоставления истины как «истинного бытия» и истины как вер-
ного знания, соответствия знания объекту. Между тем необходим
синтез первого и второго определения истины.
1 Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля и современность // Вопро-
сы философии. 2OOI. № и. С. 103.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
483
«...Всякая истина есть adaequatio intellectus et rei, то есть равен-
ство наших представлений внешнему объекту. Такое определение
истины возникло еще в средние века на основании некоторых мест
из Аристотеля, поясняющих, что истинное и ложное бывают толь-
ко в человеческом уме, а не в самих вещах. Впрочем, у того же Ари-
стотеля есть достаточно примеров другого применения понятия
«истина».
Скажем еще раз,—продолжает Мих. Лифшиц,—что соответствие
мысли внешнему объекту как определение этого понятия само по
себе не ложно, а только ограничено одной из его сторон, не исчер-
пывая целого. Мало того, для всей обыденной жизни, включая и на-
учно-технический труд, который все более входит в обычную жизнь,
такой взгляд на истину не только необходим, но, может быть, даже
^эолее нужен, чем всякий другой. Именно этому взгляду мы обяза-
ны изгнанием из нашей картины природы фантастических образов
наивной натурфилософии и заменой их теми представлениями, ко-
торые лежат в основе современной техники. Лишь там, где эта «де-
мифологизация» мира переходит в новый рассудочный миф, засло-
няя как мерзлый холодный туман возможности диалектического
мышления, принцип adaequatio intellectus et rei превращается в то,
что принято называть позитивизмом, или даже буржуазным пози-
тивизмом»1.
Хайдеггер не замечает внутреннего перелома европейской мыс-
ли, когда декартовское—правильное, хотя и ограниченное—пони-
мание истины как соответствия субъекта объекту было заменено
«новым рассудочным мифом», отрицающим реальность истины,
сводящим ее к «мнениям». Иррационалист Ницше, для которого ис-
тина есть полезная ложь, оказался у Хайдеггера верным учеником
и продолжателем дела рационалиста Декарта, свято верившего в то,
что истина—реальна и объективна. Такова методология «нечистого
разума», ставшая общим правилом для ведущих, популярных на-
правлений современной мысли.
Непотаенное, открытое, «истинное бытие» Хайдеггера потеря-
ло все критерии истинности—как онтологический, то есть соответ-
ствие бытия своему понятию, своей объективной норме, так и гно-
1 Там же. С. ioo-ioi.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
484
сеологический — соответствие субъективного знания его объекту.
Объективные критерии истинности заменены у Хайдеггера метафо-
рами, в придумывании которых он показал себя большим мастером.
Представьте себе, например, что в каком-нибудь магазине вам вме-
сто мужских башмаков, в которых вы нуждаетесь, предложили жен-
ские колготки — на том основании, что они хорошо сделаны, краси-
вы и так далее. В этом случае вы, вероятно, вспомните о том, что
нужная вам вещь должна отвечать двум критериям истины: онтоло-
гическому— башмаки должны быть башмаками (соответствовать
своему понятию) и гносеологическому—они должны быть башма-
ками не только в глазах продавца, но и в ваших собственных (соот-
ветствие субъективного знания объекту). А если слова продавца кол-
готок убедят вас в том, что предложенное вам, как пишет Хайдеггер,
«бытие — бытийствует», что оно — «открытое» и «непотаенное», то
вам придется ходить без обуви, но зато в женских колготках.
Вопрос, зачем Хайдеггеру потребовалась эта новая мифология,
а главное, почему она многих убеждает, интересен и важен. Теодор
Адорно, который посвятил критике онтологии Хайдеггера основную
часть своей «Негативной диалектики», отвечает на него так: «Экзи-
стенциальное понятие истины парализует утопическое в мысли (это
идет от Кьеркегора, преследовавшего обскурантистские цели); в
качестве усилия, ведущего к достижению истины, пропагандируется
ограниченность, тупость; поэтому культ экзистенции расцветает
пышным цветом в провинциях всех стран — во всем провинциаль-
ном мире».1
Но если перед нами тупость как последнее слово сверх утончен-
ного интеллекта, культ безмыслия, растворения мышления в «вещ-
ности», то это тупость особого рода, родственная, например, раство-
рению личности в объекте у Э. Уорхола или исчезновению личности
у столь ценимого Теодором Адорно Беккета. Это новый тип субъек-
тивности, который заключается в принципиальном отказе от истин-
ного субъекта, человека—и тем самым от мира.
Сохранение личности как личности, отвечающей своему поня-
тию, столь же важно для «открытости» и «откровенности» истинно-
го бытия, как и сохранение полноценного мозга для мышления.
'Адорно Т.В. Негативная диалектика. М., 2003. С. 119.
Проблема истины, бытия и субъекта
у Хайдеггера, Флоренского...
485
Потому что человек в известном смысле — центр бытия, без него и
его разума мир был бы не полон, то есть не стал бы еще миром в
полном смысле этого слова. Однако если на основании сказанного
мы придем к хайдеггеровской идее, что бытие существует лишь бла-
годаря присутствию человека, а без такого присутствия бытия про-
сто нет, то окажемся в ситуации заурядного субъективного идеализ-
ма. Гуманизм наряду с тем, что утверждал центральность человека
в мире, видел и прямо противоположное — мир есть объективное
бытие, для которого существование человека столь же случайно, как
и любой пылинки. Гуманизм, по определению Канта, исходит из
представления о конечности человека, его слабости и ограниченно-
сти. Напротив, все негуманные воззрения предъявляют человеку
чрезмерные требования, не считаясь с его конечной природой.
, Однако не только вопреки своей конечности и ограниченности,
но в известном смысле и благодаря ей человек способен стать мик-
рокосмом, актуальной бесконечностью. Для того чтобы быть выра-
жением самого себя, изображением самого себя, мир должен сосре-
доточиться в одной точке пространства, причем относительно слу-
чайной, а не расположенной в центре Вселенной (какого в строгом
смысле нет). И вместе с тем человек — абсолютный центр бытия,
ибо он есть и глаза этого бытия, и его мозг. Ведь это бытие в целом,
бытие как целое развилось до такой степени, чтобы обрести способ-
ность видеть и понимать само себя. Вот почему человек видит все,
что видимо, что обладает свойством видимости, отражаемости, изо-
бразимости. Вот почему человек способен понять все, что развилось
до своего понятия, что достигло такой ступени, когда оно может
быть мыслимо. Вот почему у человека столько чувств, сколько не-
обходимо для того, чтобы видеть и чувствовать всю видимую вселен-
ную. Невидимое невидимо не по причине коренных недостатков
наших чувств, а потому, что бытие еще не доросло до той ступени,
когда оно становится видимым и понимаемым.
Тем самым бытие предстало для гуманистического мировоззре-
ния как глубоко родственное человеку, человек ощутил себя не за-
брошенным в холодный и чужой, равнодушный к нему мир, он ощу-
тил всем своим существом бесконечную реальность как бытие его
самого, увиденное, почувствованное, сознанное человеком. Созна-
ние — не что иное, как сознанное бытие, бытие, достигшее ступени
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
486
сознанности самого себя. Но в мире человек обнаруживал самого
себя, свой смысл, свой разум именно потому, что увидел себя только
частью этого бытия, причем в известном смысле частью случайной.
Ставшее ныне пресловутым выражение — «открытие мира и че-
ловека» в культуре и искусстве Возрождения — означает на деле:
мир в своем собственном виде мог открыться человеку лишь по-
стольку, поскольку человек нашел, открыл свое истинное положение
в нем, и наоборот—человек понял свое истинное положение в мире
только благодаря тому, что открыл для себя действительную сущ-
ность мира. Причем, что самое важное, «открытие мира и челове-
ка» состоялось не столько в понятийной форме (это было делом
последующего развития гуманистической мысли от Леонардо до
Канта, Гегеля и Маркса), сколько духовно-практически, то есть в ис-
кусстве. Линейная перспектива в живописи Возрождения была не
манифестацией, а реализацией «открытия» бытия и человека.
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина»
субъекта и объекта
П. Флоренский видит в линейной перспективе воп-
лощение принципа иллюзионизма. Ближе к истине Э. Панофский,
для которого линейная перспектива — символическая форма, выра-
жающая определенное отношение между субъектом и объектом.
Какое же именно? «Перспектива сводит художественное явление к
жесткому, то есть математически точному правилу, но она же делает
его зависимым от человека, от индивидуума, подчиняя это правило
психофизическим условиям зрительного впечатления, поскольку
способ ее действия определен произвольно выбранным местополо-
жением субъективной «точки зрения»1. Панофский называет перс-
пективу амбивалентной, поскольку художественная форма, осно-
ванная на линейной перспективе, представляет собой форму взаи-
модействия и противоборства субъекта и объекта, человеческого
1 Панофский Э. Перспектива как «символическая форма».
СПб. 2004. С. 88.
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
487
глаза и предметного мира. «Во всех перечисленных вопросах, — про-
должает Э. Панофский, — требования предметного противостоят
амбициям субъективного. Предмет (как нечто «объективное») стре-
мится к сохранению дистанции со зрителем, а также к беспрепят-
ственному проявлению собственных законов формы, например,
симметрии или фронтальности, вместо того чтобы зависеть от экс-
центричного оптического центра или вовсе, как при диагональной
точке зрения, от координатной системы, оси которой существуют
только в представлении зрителя»1.
Другими словами, художник благодаря линейной перспективе
получает возможность совмещать несовместимое. С одной стороны,
он предоставляет объекту, предметному миру полную свободу само-
раскрытия в совершенно свободном от какой-либо субъективности,
независимом от человека объективном трехмерном пространстве.
С другой стороны, полная свобода трехмерного перспективного
пространства от субъективности возникла как следствие субъектив-
ного взгляда художника и благодаря ему. «Дальнее пространство»,
«ближнее пространство» и «скошенное пространство»—развивает
свою мысль Панофский,—эти три образа отражают идею восприя-
тия пространством художественного изображения специфически
субъективных характеристик; и все же именно в этот момент, как
ни парадоксально это звучит (в философии — благодаря Декарту, в
теории перспективы—благодаря Дезаргу), пространство как выраже-
ние мировоззрения полностью очищается от всякой примеси субъек-
тивного»2.
Предмет увиден человеком со всеми его субъективными особен-
ностями восприятия, его отношением к миру, его мировоззрени-
ем — в этом линейная перспектива не оставляет никаких сомнений,
напротив, как никакая другая пространственная композиция позво-
ляет выражать все богатство субъективных свойств человека, его
личного «видения». С другой стороны, эта же линейная перспекти-
ва дает полную свободу объекту развернуться во всей его реальной
трехмерной пространственности, выявить независимые от челове-
ка качества объекта. Отсюда, по мнению Панофского, «явствует, что
1 Там же. С. 91.
2 Там же. С. 93-94-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
488
перспективное пространственное восприятие (не только перспек-
тивная конструкция) было уязвимо с двух совершенно различных
сторон: если Платон проклинал перспективу уже в самом начале за
то, что она искажает «истинные размеры» вещей и устанавливает
субъективную видимость и произвол вместо действительности, то
новейшая художественная критика ставит ей в упрек прямо проти-
воположное— что она является инструментом ограниченного и
ограничивающего рационализма»1. Далее Э. Панофский приводит
примеры того, как архаизирующее искусство отвергало перспекти-
ву, «поскольку она вносила в мир внесубъективного и сверхсубъек-
тивного личностный и случайный элемент». Напротив, экспресси-
онизм «избегал ее по совершенно противоположной причине, так
как она утверждает и обеспечивает тот остаток объективности, ко-
торый должен был отнять у индивидуальной творческой воли уже
импрессионизм, а именно реальное трехмерное пространство»2.
Линейная перспектива в классической живописи (Возрождения
в первую очередь) избегает этих крайностей, проходя в очень узкую
щель между субъективизмом и объективизмом. Правда, Панофский
не отмечает еще одну, чрезвычайно серьезную опасность, которую
ставит перед художником перспективное изображение, — опасность
иллюзионизма как следствия слишком буквального, слишком точ-
ного следования законам математической линейной перспективы.
Причем именно иллюзионизм отклоняется от правды зрительного
впечатления. Хорошо известно, что ощущение какого-то метафизи-
ческого ужаса, отчужденности бытия Де Кирико создает с помощью
как раз подчеркнутого следования законам математической линей-
ной перспективы, лишенной связи с человеческой субъективностью.
Зачем же нужны искажения, отклонения у классиков живописи —
ради субъективности и только?
В «Тайной вечере» Леонардо нарушает законы линейной перс-
пективы для того, чтобы поместить Христа и апостолов в одну плос-
кость, причем плоскость эта идеальная, ибо даже расположенные по
краям ее апостолы не кажутся второстепенными фигурами — все
они в центре внимания. Как известно, при реальном зрении пред-
1 Там же. С. 95.
2 Там же.
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
489
меты, находящиеся на краях зрительного образа, расплываются,
становятся нечеткими, поскольку зрение сфокусировано на центр
зрительного поля. У Леонардо благодаря тому, что образы апосто-
лов по краям изображения столь же четки и осязаемы, как и цент-
ральный образ, последний несколько теряет свою центральность.
Разумеется, Христос в «Тайной вечере» не становится второстепен-
ным персонажем, однако с помощью нарушения законов перспек-
тивы он несколько уравнивается с другими персонажами (кроме
Иуды), и это уравнивание одновременно совмещается с подчеркну-
той центральностью его расположения в картине.
Вместе с тем идеальная плоскость, в которой находятся, живут
фигуры, не бросается в глаза, не нарушает правды зрительного впе-
чатления. По мнению Флоренского, перед нами на фреске Леонар-
де—«постановка сценическая, но не особое, не сравнимое с нашим
пространство. И эта сцена есть не более как продолжение простран-
ства комнаты; наш взор, а за ним и все наше существо, втягивают-
ся этою уходящею перспективою, приводящею к правому глазу глав-
ного лица. Мы видим не реальность, а имеем зрительный феномен;
г и мы подглядываем, словно в щель, холодно и любопытно, не имея
ни благоговения, ни жалости, ни, тем более, пафоса отдаления».1
Пафоса отдаления, как в обратной перспективе, которая, как
правило, помещает изображаемое на средневековой иконе в метафи-
зическое пространство, у Леонардо нет. Напротив, есть пафос не-
сколько искусственного, достигнутого с помощью нарушения зако-
нов перспективы, приближения к зрителю изображаемого. «...Гор-
ница, —продолжает Флоренский, — еле имеет в высоту удвоенный
человеческий рост, при ширине трикратной, так что помещение
нисколько не соответствует ни количеству находящихся в нем лю-
дей, ни величию события. Однако потолок не представляется давя-
щим, и малость горницы дает картине драматическую насыщен-
ность и заполненность. Незаметно, но верно, мастер прибегнул к
перспективо-нарушению, хорошо известному со времен египетских:
применил разные единицы измерения к действующим лицам и к
обстановке и, умалив меру последней, притом различно по разным
направлениям, тем самым возвеличил людей и придал скромному
1 Флоренский П. У водоразделов мысли. Т. 2. С. 69.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ... 490
прощальному ужину значимость всемирно-исторического события
и, более того, центра истории»’.
Однако в отличие от обратной перспективы на средневековой
иконе линейная перспектива эту сцену всемирно-исторической зна-
чимости естественно и непринужденно помещает в реальное про-
странство, как оно дано нашему зрению, демонстрируя тем самым,
что всемирно-историческое событие совершается не в трансценден-
ции, а здесь, в повседневном мире. Иллюзия реальности столь вели-
ка, что фреска воспринимается почти как продолжение монастыр-
ской трапезной. Почти, ибо это не обманка, у зрителя нет сомнения
в том, что перед нами изображение, а не реальность.
Искусство не обманывает, оно честно говорит, что перед нами
образ, воссоздание, отображение действительности, т.е. нечто иде-
альное. Но зачем же этому идеальному—подчеркнутая реальность
зрительного впечатления? Не ради создания зрительной иллюзии,
иллюзионистический эффект не является целью живописи Леонар-
до. Реальность зрительного впечатления — необходимое условие
решения особой художественной задачи, ибо посредством обратной
перспективы эта художественная задача не может быть решена.
Обратная перспектива средневековой иконы придает изображен-
ному значимость не всемирно-историческую, а надмировую: совер-
шается действие, решающее для судеб мира как целого — настанет
конец времен и весь мир исчезнет, сама реальность исчезнет, оста-
нется только трансцендентность. Но Леонардо хотел сказать и ска-
зал совсем другое: все, происходящее на этой земле, подчиняется за-
конам объективного мира, их нарушить невозможно, и потому Хри-
стос с его апостолами помещен в реальное пространство. Какое дело
этому ньютоновски-кантовскому пространству до людей и их про-
блем? Совершенно никакого, природа кажется равнодушной и к
благородству, и к злодейству—солнце, как гласит известное выра-
жение Ф. Бэкона, одинаково освещает и золото, и навозную кучу.
Но в пространстве картины Леонардо нет отчужденности по от-
ношению к людям, той отчужденности, которую с особым нажимом
воспроизводит живопись Де Кирико. Оно не отчужденно, а объек-
тивно. Это значит, что ни Христос, ни апостолы не имеют никаких
' Там же. С. 70.
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
491
метафизических преимуществ перед другими людьми, они подвла-
стны всем законам бытия, равно, как и другие люди, — страдают,
болеют, могут быть преданы, могут быть несчастными, могут, как
Христос в Гефсиманском саду, сожалеть о своей трагической судь-
бе, пытаться противостоять ей. В этом смысле фреска Леонардо бли-
же к духу подлинника — Евангелий, создававшихся в I веке нашей
эры, чем возникшая гораздо позднее средневековая иконопись, ко-
торая помещала Христа в трансцендентный мир. Согласно канони-
ческим Евангелиям, Христос не только находился в нашем реальном
мире, но и сам был человеком, которому ничто человеческое не чуж-
до, вплоть до известных слабостей, неизбежного дополнения и след-
ствия конечности человеческой природы. Образ Иешуа у М. Булга-
кова от варианта к варианту все более теряет черты чудотворца, и
все брлее и более становится человеком.
Итак, на фреске Леонардо перед нами событие не трансценден-
тное, а, по точному выражению Флоренского, всемирно-историчес-
кое. Но нарушения ли законов линейной перспективы сами по себе,
как хочет доказать Павел Флоренский, создают впечатление, что
'изображенное — центр истории? В связи с этим мне вспоминается
анекдотический случай, произошедший в восьмидесятых годах, на-
кануне перестройки. Одна партийная дама в избытке усердия ска-
зала, что недавно избранный генсек Черненко на фотографии в га-
зете «Правда» представлен в обратной перспективе. В самом деле,
незначительному человеку пытались придать искусственную значи-
мость, помещая тщательно отретушированный, приукрашенный
образ генсека на первый план таким образом, чтобы все окружаю-
щие его казались помельче. Не знаю, насколько соответствовало
истине наблюдение этой дамы, но мысль ее была очень прозрачна.
Обратная перспектива не «демократична» — подчиняясь воле ху-
дожника (идеолога, манипулятора общественным мнением), она по
сути ничтожному может придать не свойственную ему значимость.
Величие события, изображенного Леонардо, проистекает не из
произвольного нарушения законов бытия, а в соответствии с ними.
Правда, Христос и апостолы помещены им в идеальную плоскость.
Но почему она идеальна? Потому что изображенные им люди дей-
ствительно идеальны — в том смысле, что они соответствуют поня-
тию человека. Первое впечатление от фрески—красота возвышен-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
492
ного спокойствия, упорядоченности, музыкального ритма всей ком-
позиции и линий создается в значительной мере благодаря той иде-
альной плоскости, о которой идет речь. Но далее совершается инвер-
сия первого впечатления, мы постигаем драматизм и даже трагизм
изображенного — непонимания, ведущего к предательству тех, кто
искренне любит учителя и, кажется, вполне проникся его идеями.
Трагизм, рождающийся из спокойствия, и снова уходящий в спокой-
ствие, но уже другое — спокойствие достигнутой всемирно-истори-
ческой истины, придает фреске тот возвышенный и величественный
характер, который не укрылся от глаза Флоренского.
Драматургия фрески порождена двумя сменяющими друг друга
инверсиями: переходом первоначального гармонически прекрасно-
го впечатления к постижению неразрешимого драматизма внутрен-
него действия, происходящего между Христом и его учениками, и
инверсией этой инверсии — обретением высшей гармонии на са-
мом дне неразрешимого здесь и сейчас трагического конфликта.
Ибо никто не виноват, ни Христос, которого предали, ни ученики,
которые не поняли его потому, что путь к пониманию открывала
только дальнейшая история их невольного, но неизбежного преда-
тельства и последующего его искупления на тяжкой дороге позна-
ния. Высшая гармония, о которой идет речь—не утопия, не миф, а
художественное предвосхищение, которое отличается от утопии и
мифа тем, что решение конфликта найдено не в фантазии, а в самом
мире, его объективности и действительности.
Солнце одинаково освещает и навозную кучу, и цветок. Но имен-
но потому, что оно их одинаково освещает, навозная куча предста-
ет во всем безобразии разложения и распада, а цветок — как чудо
природы, ее действительность, жизнь. Ведь цветок—это явленная
нашему глазу бесконечность развития растительного мира, впиты-
вавшего в себя свет солнца, а теперь преобразовавшего солнечный
свет в новое качество — гармонию богатейшего разнообразия цве-
товых оттенков, открывшуюся глазу органику растения.
Одинаковая для всех живых существ энергия солнца преобразо-
валась в прекрасный цвет кожи юного Иоанна и в землистый цвет
лица Иуды. Но и Иуда—в одном сценическом пространстве с апос-
толами, он входит в одну из четырех групп, на которые разбились в
гармоническом разнообразии все двенадцать учеников. Только Хри-
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
493
стос — ив этой плоскости, и одновременно в ином пространстве,
отрешенном от своих учеников. Они все предали, но одни не ведая,
что творят, а другой, лучше других познавший неизбежность пора-
жения учителя, принял меры для спасения того, что еще можно было
спасти — собственной персоны. Ибо спасение жизни здесь и сейчас,
в данных обстоятельствах гарантируют только деньги, золото—ре-
альная, а не метафизическая ценность. Но кто понял это, кто нару-
шил законы человеческого общежития и самой природы — тот бун-
тующий против мирового закона ангел, сам сатана. На одном из под-
готовительных рисунков к «Тайной вечере» голове Иуды придано
волевое и непреклонное выражение кондотьера, злобной решимо-
сти человека, сметающего на своем пути все, что мешает благопо-
лучию и возвышению личности.
Однако на общем фоне Иуда выглядит жалким, несмотря на свою
решимость, волю и злобность. Мы знаем теперь, что развитие де-
нежной формы богатства было благом для Европы и всего мира,
выведя его на столбовую дорогу современной цивилизации со все-
ми ее необыкновенными, поразительными достижениями. Так что
'же, Леонардо находился в плену иллюзий, разделяя типичную для
его современников ненависть к ростовщичеству как непроститель-
ному греху перед Господом? И потому, прочитав какое-нибудь ис-
следование о роли ростовщического капитала в развитии Европы,
он, может быть, несколько смягчил бы обличительный пафос?
Каждый из апостолов на фреске Леонардо задал себе вопрос: а не
могу ли я стать предателем, и каждый из них ответил себе: нет, не
могу. Кроме Иуды, который знает о своем предательстве и никогда
не раскается в нем. Он как характер в отличие от других учеников
не пластичен, не способен к развитию, он таков, каков есть, и таким
останется навсегда. Поэтому Иуда, находясь формально в той же
идеальной плоскости, что и другие фигуры, выключен из нее. Он вы-
пал из органического единства изображенных Леонардо людей —
драматического единства противоречия, смятения, взаимного непо-
нимания. И выпал потому, что одно солнце освещает все фигуры, в
одном реальном пространстве все они находятся, одним и тем же за-
конам перспективы подчиняются. Не художник его удалил от людей,
поместив в иное пространство, а сам Иуда вывел себя из человечес-
кого мира, его энергия, его нераскаянность, его злоба.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
494
Но вместе с тем Иуда — не случайное и не чужеродное лицо в
представшей нашим глазам драме человеческого рода. Она воссоз-
дает, делает зримым всю низость предательства как такового, в том
числе и предательства верных учеников, возмущенных сейчас самой
мыслью о возможном предательстве. Поэтому дуализм всей компо-
зиции, ее драматизм создает не противоположность Иуды и Христа,
они вообще не соотнесены друг с другом композиционно, Иуда —
один из многих. Дуализм и драматизм композиции создают одино-
кая, но находящаяся в центре фигура Христа и симметрично распо-
лагающиеся по две стороны от нее четыре группы учеников. Все
вместе они образуют ритмическое, подвижное единство людей, один
из которых, в центре фрески, почти противоестественно спокоен, а
двенадцать других находятся в крайней степени возбуждения, в са-
мых разнообразных позах.
Очевидный контрапункт—погруженность в себя центральной
фигуры, почти отрешившейся в своей резиньяции от происходяще-
го, и отчаянная жестикуляция тех, кто не в силах сдержать себя, —
это противоречие создает странную и удивительную картину чело-
веческого братства и единения. Его не придумал Леонардо, такое не
только могло быть, но и бывало — братство любящих друг друга
накануне трагедии, великого часа испытания, накануне того, как
пути разойдутся, может быть, навсегда. Вспомним снова о знамени-
той поразительной сцене встречи Приама и Ахилла у Гомера.
Возможно ли было воссоздание всемирно-исторической драмы
человечества во всей ее глубине без линейной перспективы, которая
сообщила объективному зрительный статус объективности, незави-
симости от воли и желания, добрых или злых намерений тех или
иных людей? Возможно ли это было без субъективной, почти слу-
чайной точки зрения художника, который, однако, избрал дая себя
единственно возможную точку в реальном пространстве, исходя из
которой глаз зрителя увидел, по словам Флоренского, самый центр
истории, всемирную драму в ее объективной значимости и красоте?
Живопись, доказывал Леонардо, превосходит по глубине позна-
ния мира все искусства и даже «точные» науки потому, что способ-
на изображать бесконечный мир как целое, тогда как, например,
геометрия и арифметика «распространяются только на изучение
прерывных и непрерывных количеств, но не трудятся над качест-
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
495
вом, — красотой творений природы и украшением мира»1. Бесконеч-
ность, взятая как целое — это противоречие, ибо бесконечность не
может быть законченной, а целостность, закругленность в себя не
может быть беспредельной. Таков реальный мир, и эта реальность
становится видимой благодаря линейной перспективе. Она позво-
ляет в конечном проявляться бесконечному, а бесконечное про-
странство раскрывается, как набухшая почка, почти обыденной,
почти случайной сценкой человеческой жизни.
Параллельные линии, сходящиеся на горизонте — это зритель-
ная иллюзия, тогда как на самом деле они остаются параллельны-
ми, никогда не соприкасаются. Разве линейная перспектива — не
ложь, как утверждал Флоренский?
Однако все, что находится сейчас у нас на первом плане, все
конечное уйдет в небытие, более того — оно сейчас уже ничто с точ-
ки зрения бесконечности. Уходящие в даль и исчезающие там пред-
меты — не субъективная иллюзия человеческого зрения, а взгляд
самой бесконечности на конечные предметы. Напротив, человечес-
кое свойство зрения заключается в том, что находящиеся вдалеке
предметы глаз приближает к нам, увеличивает их для нашего зри-
тельного сознания, тогда как исходящие из глаза воображаемые
лучи расходятся в разные стороны и тем самым уменьшают угловые
размеры далеких предметов. Заходящее за горизонт солнце кажет-
ся гораздо большим — на фоне реальных предметов горизонта —
чем тогда, когда оно в вышине, когда мы видим его реальный угло-
вой размер, зрительно не ощущая реальной степени удаленности
Солнца, ощущение которого приходит, когда мы видим солнце, со-
относя его с земными предметами на горизонте. В этом смысле об-
ратная перспектива выражает реальное качество человеческого по-
нимающего зрения — его способность приближать к нам, увеличи-
вать далекие предметы, сообщая им иллюзию большего углового
размера, чем при математически точной линейной перспективе. Но
обратная перспектива отражает свойства реального человеческого
зрения односторонне, изолированно от прямо противоположного —
от того, как сам мир, сама бесконечность (т.е. человек с точки зре-
1 Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. М.,
1995- С. 58.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
496
ния бесконечности) «видит» эти предметы, исчезающие для нее в не-
различимо малое, одинаково ничтожное и незначительное.
Само собой разумеется, что реальная, так называемая потенци-
альная бесконечность ничего видеть не может, она глазами не обла-
дает. Видит конечный человеческий глаз, но способность видеть с
точки зрения бесконечности реально встроена в человеческое нор-
мальное зрение — без трансцендентального измерения нет возмож-
ности видеть конечные реальные вещи. Таким образом, не только
искусство, согласно выражению Фихте, есть взгляд на мир с трансцен-
дентальной точки зрения—этим же свойством обладает любой чело-
веческий разумный глаз, как любое человеческое сознание представ-
ляет собой то, что Кант называл трансцендентальной апперцепцией.
Математически точная перспектива порождает тоску, ибо это
зрительно представленное воссоздание мира, в котором нет и не
может быть человека. К счастью, при всей своей геометрической
точности она изображает не реальный мир, возникающая благода-
ря ей картина — не зрительная правда, а продукт сциентистского
мифа. Реальность на самом деле становится видимой в среднем ре-
гистре бытия, между полюсами двух бесконечностей, микро- и мак-
ромира. Достигнув стадии своей объективной отражаемости, она
объективно, то есть на самом деле, может себя увидеть, быть вооб-
ще увиденной только в сознательном зрении человека. Возникаю-
щий в человеческом нормальном зрении образ действительности
есть она сама, а не символ ее, не знак и не иероглиф.
Художник ставит своей целью изображение центральных для
него, мучительных общечеловеческих проблем, как они выявились
в злобе его дня, его эпохи. Этим он отличается от простого копииста
или иллюзиониста. Но эти проблемы разрешимы, поддаются воссоз-
данию — во всей их полноте и объективности, образуя целостный
художественный организм — в изобразительном искусстве тогда,
когда последнее поднимается от знакового и символического выра-
жения смысла до высокой правды зрительного впечатления. По край-
ней мере так обстоит дело в классическом изобразительном искус-
стве. Разумеется, правда зрительного впечатления в орнаменте1 или
1 См., например, о специфике зрительного воссоздания
объективной истины в орнаменте мою книгу «История ев-
ропейского искусствознания XX века». М., 2003. С. 76-89.
Линейная перспектива и правда зрения
как «истинная середина» субъекта и объекта
497
архитектуре совсем иная, чем в живописи, но этот вопрос требует
специального и очень углубленного рассмотрения. Что касается
особого типа перспективы, например обратной, то в средневековой
живописи она представляет собой парадокс истины, который в иных
обстоятельствах может оказаться более истинным, чем вещание от
имени объективной истины1.
Мы видим мир благодаря тому, что сам мир смотрит на себя
нашими глазами. Более того, мир может видеть себя правильно
только нашими глазами, никакого иного, более правильного, чем
человеческое зрение, нет и быть не может, потому что наше зрение
не что иное, как развившееся в мире качество зеркальности, отра-
жаемости, создавшее адекватное себе зеркало — человеческое ра-
зумное зрение как продолжение и развитие объективной зеркаль-
ности действительности.
Правда, разумное понимающее зрение создано самим человече-
ством в его общественной практике и в известной степени благода-
ря появлению зрения неправильного, иллюзорного, искусственной
слепоты, подобно тому как ум мог развиваться лишь благодаря по-
явлению глупости, не известной природному миру.
Человек есть микрокосм, сущность его сознания бесконечна, по-
этому, когда по тем или иным причинам бесконечное в реальности
не видимо или видимо очень слабо, тускло, люди порождают иллю-
зию бесконечности, трансцендентного — в виде бога или летающих
тарелок (сциентистской, но более убогой фантазии по сравнению с
фантазией первобытных людей на заре цивилизации). При этом они
в той или иной степени теряют способность видеть реальное, акту-
альное бесконечное, зрение становится примитивным, лишается
ауры. Бесконечное измерение искусственно прибавляется к изобра-
жению в виде символа, аллегории, знака бесконечности—или само
изображение становится только голым знаком (таков, к примеру,
«Черный квадрат» Малевича).
Мир смог увидеть себя в своей реальной бесконечности только
тогда, когда возникло нечто, отделившееся от него, — субъект, че-
ловеческое общество, культура. Но, с другой стороны, это отделение
• 1 См. об этом стенограмму лекции, прочитанной Мих. Лиф-
шицем сотрудникам Третьяковской галереи в 1938 году //
Художник, 1988, № 6.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
498
было не чем иным, как этапом саморазвития мира, и человек отде-
лился от мира только для того, чтобы оказаться его центром, его су-
тью, микрокосмом. Он отделился только для того, чтобы вернуться,
он отделился для того, чтобы стать самим собой, понять и себя са-
мого не в последнюю очередь. И только вернувшийся в мир — то
есть увидевший мир в его реальной бесконечности — человек обре-
тает свой Дом. Что мешает обретению Дома?
Разделение между людьми вплоть до полной противоположно-
сти, до взаимного уничтожения—путь к обретению себя, самосози-
данию человечества. Эта Фабула самого бытия, включая фабулу че-
ловеческого рода—центральная тема всех мифологий, нашедшая
свое высшее выражение и развитие в христианском мифе о Боге,
преданном своими ближайшими учениками и подвергнутом мучи-
тельной, позорной казни по воле народа. Но только через полное по-
ражение и отделение людей друг от друга—путь к их единству и по-
ниманию. И такое понимание находится не в бесконечной дали бу-
дущего: есть особые минуты истории, особые ситуации жизни, когда
возвышенное единство всех людей и глубокое их самосознание воз-
можно уже здесь и сейчас. Этим реальным ситуациям мы обязаны
взлетами мирового искусства, когда глаза художника прозревают.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки»
Единство людей, о котором идет речь, не может быть
механическим. Какое «Общее дело» может их сделать братьями —
воскресение отцов? Но люди — материальные существа, которые,
для того чтобы жить, должны решать свои реальные проблемы. Рос-
сия и Германия, Австро-Венгрия были проигравшими в Первой ми-
ровой войне странами, и они искали выхода из крайне тяжелого для
каждой из этих стран положения. Австро-Венгрия распалась, Россия
и Германия сохранились, и к середине тридцатых годов они нашли—
каждая свой — путь выхода из тупика, путь коллективности, объе-
динения между людьми.
Флоренский и Хайдеггер — критики гуманизма и либерализма.
Субъективизму Нового времени они противопоставляют какую-то,
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки
499
очень смутную для них, коллективность. Она предстает для Хайдег-
гера как «немотствующий» зов земли и почвы, как надежность и
прочность крестьянства — основы государственности. Но традици-
онного крестьянства к тридцатым годам уже не было ни в Германии,
ни в России. Что из себя представляло население городов, точнее,
пригородов, в которых жили рабочие, бывшие крестьяне?
Ни Флоренский, ни Хайдеггер не увидели в них ничего, кроме
известного феномена «восстания масс» — той коллективности, ко-
торая поражает своей безликостью, das Man. Она внушала ужас Пав-
лу Флоренскому, и потому он в 1933 году размышляет о том, как
взять под контроль демократическую энергию восставших масс.
В том же самом году Мартин Хайдеггер вступает в национал-
социалистическую партию Германии. Но еще раньше, в 1927 году,
в свцей знаменитой работе «Бытие и время» он искал выхода из ужа-
са массовидности в самом этом ужасе: только через ужас бессубъек-
тности для Хайдеггера открывалась истина бытия. Что принесло
Германии и всему миру это бессубъектное бытие, «открывшееся»
миру во всей его бессмысленности, ужасе, тоске и дикой энергии,
рассказала история XX века, нашедшая отражение и в искусстве
(«Доктор-Фаустус» Томаса Манна в этом смысле весьма показате-
лен) . Она, эта новая коллективность, смотрела пустыми глазница-
ми «современного искусства» — бессубъектного в своей крайней
субъективности, молчащего в своей плакатной, демонстративной
крикливости. «Человек без свойств» (тема известного романа Р.
Музиля) — вот альфа и омега этого искусства.
В советской России было немало общего с фашистской Германи-
ей, в ней так же справлял шабаш человек восставшей массы—Ша-
риков Михаила Булгакова. Но из темного демократизма российско-
го пригорода появлялся вначале едва-едва отличный от Шарикова
или вовсе даже от него не отличный Иван Бездомный, затем его
родные братья — Василий Теркин, Иван Денисович, Федор Кузькин
(персонаж упоминавшейся на этих страницах повести «Живой» Бо-
риса Можаева). Они отделялись от темного демократизма—вплоть
до полной непримиримости к нему. Фабула повести «Живой» заклю-
чается в истории противоборства двух бывших крестьян, двух «выд-
виженцев» тридцатых годов: Кузькина, дошедшего до крайней ни-
щеты, но прозванного односельчанами Живой, и секретаря райко-
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
500
ма Мотякова с его жизненным девизом «Обломаем рога враз и на-
всегда». Победить Кузькины и Иваны Денисовичи не смогли. Но их
поражение было формой судьбоносной для XX века, еще не понятой
миром, но спасшей его парадоксальной победы.
Правда, сегодня не слышны их голоса — ни в жизни, ни в искус-
стве. Возможно, они ушли в вечность, как герои Марафон и Сала-
мин. Однако, попав в вечность, они, может быть, станут более по-
нятными и доступными нам.
В руки современного российского писателя Михаила Кураева —
одного из ярких имен нашей прозы, появившихся и прославивших-
ся в период перестройки, автора повести о блокаде Ленинграда под
красноречивым названием «Блок-ада»—случайно попал блокадный
дневник «не очень грамотной, в школьном понимании, малообра-
зованной молодой женщины, двадцати семи лет, бойца батальона
МПВО»1 Елизаветы Турнас. «В этом блокадном дневнике, в трех тет-
радках, насчитывающих две сотни страниц, вы найдете предельно
искренние свидетельства, поражающие трагизмом будней и едва ли
не в большей мере духовной свободой, независимостью мысли и
чувств автора.
Самое же поразительное, может быть, в другом.
В этих записках, в дневнике, — продолжает Кураев, — натыка-
ешься на образчики русской прозы столь высокого уровня, какой
подчас недоступен и авторам многостраничных повествований про
ленинградскую блокаду. С пера, не направляемого строгими прави-
лами грамматики, ведущего запись почти без помарок широким по-
черком, какими-то, по-видимому, незамерзающими чернилами,
сходят фразы, заставляющие вспомнить про Гоголя, Чехова, Луна-
чарского, Зощенко, Платонова.
Как же так, — вопрошает Кураев, — малограмотная, пишущая
«Питергоф», «отсюдова», «пошла к сестры Лены», далекая от литера-
туры и литературных занятий медсестра, командир взвода МПВО, —
автор уникального литературного памятника блокады?»2 Кураев не
может удовлетвориться штампами типа «поразительный природ-
1 Кураев Михаил. Свидетели неизбежного. Блокада как ху-
дожественная реальность // Знамя. 2001, № 12. С. 165.
2 Там же.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки
501
ный литературный талант». Да, талант, но почему окончившие Ли-
тинститут, тоже талантливые профессиональные писатели не созда-
ли ничего, что могло бы сравниться с этим дневником по литера-
турному качеству? Кураев далек и от такого объяснения — сегодня
литература, искусство уже не нужны, они умерли, их сменило некое
иное творчество, в духе О. Кулика или А. Бренера. Нет, перед нами
именно литература, проза, заставляющая вспомнить не только соб-
ственно петербургских писателей, но и Шекспира. Причем родивша-
яся стихийно, без всякого сознательного намерения, просто в силу
внутренней потребности, не предназначенная для других глаз.
«Стихийное творчество на изначальных уровнях привычно оп-
ределяется как примитив,—размышляет писатель. — И если прими-
тив в живописи, музыке, поэзии — это, как правило, действительно
первые шаги, то что такое «примитив» в прозе? Сказка? Но это еще
не проза, «примитив» как игра в прозу—уже не проза, это причуды
пресыщенного вкуса.
В самом письме Елизаветы Турнас для меня много необъясни-
мого. (...)
Кто вел ее замерзшей, обожженной, еле отмытой рукой медсест-
ры, не дающей чернилам замерзнуть в ледяной казарме и делающей
записи между выездами к очагам поражения, то в ущерб своему
отдыху, то в шесть утра, очнувшуюся от затяжной бессонницы? (...)
Кто возвысил ее слог до высокой литературы?
Не литературные кружки, не особая начитанность. На этих стра-
ницах, — продолжает свои наблюдения Кураев, — не появится ни
одного литературного имени, только одна цитата, «надежды юно-
шей питают», да отблеск лермонтовской «жажды мести»1.
Объяснение этого поразительного феномена, к которому подво-
дит Кураев, продемонстрировав стиль прозы Турнас, в котором неж-
данно-негаданно ожила классическая литература, не менее удиви-
тельно, чем сам дневник. Удивительно тем, что это объяснение, со-
вершенно неожиданное и ничем специально не подготовленное,
возникло не у профессионального эстетика и философа, не у замше-
лого преподавателя «марксизма-ленинизма», смутно помнящего не-
которые идеи Белинского и Добролюбова, а у современного автора,
1 Там же. С. 170.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
502
«демократа» и «перестроечника». Михаил Кураев не мог вспомнить
ни о Платоне, ни о Лессинге с Винкельманом, ни о Воронском—оте-
чественные специалисты по эстетике преподносили под видом клас-
сики нечто такое, что внушало отвращение, как школьные занятия
политературе. Он, похоже, не вспомнил, а в нем стихийно возроди-
лось понимание того, как возникает «искусство видеть мир» — по-
добно тому, как в прозе Турнас ожили Чехов и Гоголь, когда она
наблюдала и размышляла об увиденном, а не бегала на лекции в
Литинститут.
Итак, возрождение чего? Основной идеи классики, прочно по-
хороненной и опозоренной, о которой нельзя всерьез говорить в
приличном обществе без ущерба для своей репутации. Но послуша-
ем самого писателя:
«У меня только один ответ, — пишет он, размышляя над феноме-
ном Елизаветы Турнас и ее дневника. — Не она почувствовала себя,
осознанно и гордо, голосом Города, как это стало с великой блокад-
ницей Ольгой Берггольц, а Город выбрал ее, Елизавету Турнас, не-
различимую даже в блокадном малолюдстве, своим голосом. Ино-
го объяснения у меня нет»1.
Бытие открылось и обрело голос. Елизавета — не пифия, веща-
ющая в состоянии прострации о том, чего не понимает, выражая то,
что не является ее сущностью, ее человеческим внутренним соб-
ственным голосом. Она всегда находит СВОИ, как подчеркивает
Кураев, слова, никому не подражая и не думая о своем слоге. Кто же
она? Простая женщина, вовсе не одурманенная пропагандой и ясно
видящая ложь и неправедные, несправедливые действия властей.
«Она знает, что может погибнуть, и даже сын, когда еще был жив,
не был оправданием для уклонения от опасности. Она шла на смерть,
если риск был сопряжен с ясным смыслом, спасением, например,
хотя бы одной жизни.
В моем словаре нет иного слова, — пишет Кураев, — кроме сло-
ва «самоотвержение», но именно о нем, о самоотвержении воююще-
го Ленинградца, думаешь и изумляешься естественности человечес-
кой солидарности для этой особой породы людей»2.
1 Там же. С. 170-171.
2 Там же. С. 172.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки:
503
Михаил Кураев — первый лауреат премии правительства Санкт-
Петербурга за лучший роман о городе (1995 г.). Но кто же ему, ав-
тору сатирического рассказа о преподавателе «марксизма-лениниз-
ма», продиктовал вот эти слова: «Эй, третирующие «совков», вот вам
идеал Ленинградца. Мать не желает сыну ни богатства, ни счастья,
не желает ему особой судьбы, желает только одного: «стать порядоч-
ным человеком». Это доступно, это реально, даже на войне, даже в
блокаду»1.
Ужасы блокадного Ленинграда вполне сопоставимы с ужасами
Освенцима. Турнас, например, описывает пойманную и разоблачен-
ную женщину-людоедку, явление, отнюдь не единичное в те дни.
Малолетний сын Елизаветы — единственная настоящая отрада ее
жизни — был зверски зарезан грабителями. Появление в такие дни
вывокой художественной прозы — результат пограничной ситуа-
ции, бытие открывается через ужас, как доказывает Хайдеггер.
Но ужас, который переживает Елизавета Турнас, совсем иной, не
«хайдеггеровский», не ужас беспросветной и бессубъектной тоски,
в котором, кроме ужаса, собственно ничего иного не видно. Турнас
совершает не один самоотверженный поступок ради спасения ближ-
него, но с истинно христианским самоотвержением, не похваляясь
и не рисуясь ни перед кем, даже перед собою. Нет, это не безличный
хайдеггеровский бессубъектный субъект. Это, пишет с большой бук-
вы Кураев, Ленинградка.
Кто же создал ее? «Петербург, простреленный и политый кро-
вью, великое и прекрасное художественное произведение, ты выра-
стил, ты выносил в своем лоне таких горожан, как Елизавета Турнас,
и сделал Ленинград неприступным» — этими словами Кураев закан-
чивает своей очерк.
Сталинская империя опиралась на темный демократизм приго-
рода, а через то — и деревни. Елизавета Турнас формально жила в
пригороде, но сформировал ее Город. Что же такое Петербург как
«великое и прекрасное художественное произведение»? Это — не
хайдеггеровская «надежность» «немоствующей земли», хотя он тоже
на земле, обильно политой не только потом, но и кровью, покоящий-
ся на крестьянских костях, и без этой земли, без этих костей не был
1 Там же. С. 173.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
504
бы Петербургом. Это — труд многих поколений простых рабочих
рук и художественного гения зодчих. Он — не музейный экспонат,
а живой город, созданный в том числе и ленинградцами, одной из
которых была Елизавета Турнас.
Город, избравший Турнас своим голосом, — это не тот Петер-
бург, где «скука, холод и гранит», а город, в котором нашли счаст-
ливый синтез Запад и Россия, тот синтез, что живет в созданиях Рас-
трелли, Пушкина, Достоевского и Чехова. Такой Петербург делает
своим и Шекспира, тоже ожившего на страницах безыскусного днев-
ника. Одним словом, город, что породил литературный феномен
Елизаветы Турнас — это Мир, просветленное, открытое бытие, гово-
ря выразительными словами-метафорами Хайдеггера, чьи бесконеч-
ные лучи сошлись в реальном, конечном городе конкретной страны.
Но это не хайдеггеровское безликое бытие «толков», «болтовни», ме-
тафизического ужаса и такой же метафизической тоски и скуки. Че-
рез дневник Турнас нашему внутреннему взору открывается «истин-
ное бытие», как его видели художники и мыслители, от Леонардо до
Нестерова и Пластова, от Сократа до Мих. Лифшица с его онтогносе-
ологией. И Михаил Кураев, не ведая о том, изложил нам некоторые
азы этой онтогносеологии, в которой мыслям Ленина об истине как
«истинном бытии» возвращен их глубокий философский смысл, от-
сылающий нас к Сократу, Декарту, Кантуй Гегелю — гуманистичес-
кой традиции, с которой вели войну Хайдеггер и Флоренский1...
1 В своем исследовании природы советского марксизма,
Герберт Маркузе отмечал, что в речи на Третьем съезде ком-
сомола Ленин в грубой и примитивной форме излагает
суть гуманистического западного проекта: реализация сво-
боды и сущности человека на основе разума (Marcuse Н.
Soviet Marxism. Р. 199 ff.). Ср. с этим прозрение отечест-
венного марксиста М. Кагана, в 1998 году открывшего для
себя «аморальность» и, как он выражается, «антикультур-
ность» идеи, «провозглашенной Лениным на съезде комсо-
мола». (См. Каган М. О времени и о себе. СПб, 1998. С. 9.)
Мы, уверяет Каган, воспитывались на этой идее, не сознавая
ее аморальности», однако, «выходя на путь творческой де-
ятельности, облекали эту антикультурную идею в культур-
ную форму, облагораживая и эстетизируя ее». око»чание-с 505
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки-
505
Как это могло произойти? Очевидно, его тоже избрал город-бло-
кадник, имя которого он не стесняется назвать, Ленинград. И тоже,
очевидно, избрал именно его, Михаила Кураева, не случайно для
того, чтобы идеи прочно забытого ныне — и оклеветанного—лите-
ратурно-критического «течения» 30-х годов ожили и так ярко, силь-
но и талантливо прозвучали на страницах современного журнала—
лидера либерализма (журнала, где литературный критик А. Агеев
возложил ответственность за сталинизм на отечественную класси-
ческую литературу—от Пушкина до Льва Толстого).
Бытие, открывшееся одному из крупнейших мыслителей Запа-
да XX века, — всесторонне образованного, познавшего мировую сла-
ву еще при жизни, тонкого знатока античной философии Хайдегге-
ра— мрачно, тускло, тоскливо, безысходно. Это жизнь, смысл кото-
рой— «бытие к смерти», «в себе самой уверенной и ужасающейся
свободе к смерти»2. Но чем больше философ уверяет читателя и са-
мого себя, что к смерти он готов, тем больше растет впечатление,
что будущий неизбежный конец леденит его и лишает воли к жиз-
ни, как взгляд горгоны Медузы. В его отношении к смерти нет и
следа той мудрой ясности и мужественной простоты, что была свой-
ственна гуманной резиньяции классики, например, поздней лирике
Пушкина. Если Пушкин на самом деле смог в самых лирических
своих стихах выйти за пределы «эмпирического Я», подняться до той
объективности, которая была внутренне присуща, по убеждению
Г. Чичерина*; Моцарту, то сознание Хайдеггера—всецело в грани-
цах затхлого «бытия», свойственного университетскому быту Герма-
нии тридцатых годов.
начало-с. 504 (там же.) Если прав не Каган, а Маркузе, и Ле-
нин в своей философии, в том числе и в речи на съезде
комсомола, развивал идею объективной истинности бы-
тия, идущую от Сократа, то Каган, как следует из его цити-
рованных выше слов о сущности истины, превращал гума-
нистическую традицию в ее противоположность, некую
разновидность позитивизма, надо надеяться, действитель-
но в этом случае бессознательно.
2 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 266.
3 См. сноски № 1-з на с. 457.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
506
Знатоки и исследователи творчества Хайдеггера демонстриру-
ют, что его философия основана на тонкой словесной игре, на экс-
периментах с языком, который Хайдеггер, по общему признанию,
глубоко чувствовал и понимал. Но конкретные результаты хайдег-
геровских экспериментов с языком были далеко не бесспорны. Н.
Бердяев, например, называл язык сочинений Хайдеггера «неснос-
ным», а его многочисленные словообразования типа «можествова-
ние» — бессмысленными или по крайней мере неудачными.
При чтении дневника Елизаветы Турнас Михаилу Кураеву вспом-
нился «недавний приторно художественный фильм, исследующий,
как говорили комментаторы, отношения Гитлера с его полуженой.
Фильм начинается с предъявления героини, в банной наготе совер-
шающей нечто вроде гимнастической разминки в романтических
декорациях замка в Альпах.
Художественный изыск вызывает изумление, как бег канатоход-
ца по веревке над пропастью со стопкой тарелок на голове.
Органическая художественность невыдуманной жизни потря-
сает»1.
Напомним читателю приводимые В. Александровым примеры
поразительного отсутствия слуха у прославленного отечественного
ученого-языковеда, университетской преподавательницы средневе-
ковой немецкой поэзии, у музыкального критика, знающего более
двадцати иностранных языков. Как бы продолжая эту тему, Михаил
Кураев пишет: «Слух—это особая категория, его невозможно под-
делать, как нельзя подделать порядочность, вот почему «ряженые
петербуржцы» сплошь и рядом «дают петуха». И едва ли случайно
какой-нибудь господин, уже уверивший доверчивую публику в том,
что он и есть чуть ли не образцовый петербуржец, вдруг объявит по
радио о том, что “у нас в Ленсовете сложился хороший задел по ли-
цам”... Как говорила моя матушка: Бог шельму метит. Не случайно,
наверное, великие петербуржцы — Блок, Достоевский, Гоголь, Пуш-
кин — прибегали к музыке как доказательству окончательному»2.
Судя по всему, писатель отказывает в таком «слухе» знаменито-
му современному российскому кинорежиссеру и многим другим
1 Кураев М. Соч. цит. С. 169.
2 Там же. С. 167.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки:
507
л
«деятелям культуры» наших дней, «когда история усердно переписы-
вается»1. Беда, конечно, не в том, что история переписывается, а в том,
кем и как она переписывается, — она переписывается наследниками
тех, кто утратил и слух, и глаза, и совесть в тридцатые годы, а ныне
делает то же самое, но только выслуживаясь перед другим хозяином.
Маятник истории раскачивается — от державности к либерализ-
му, от либерализма—к новой державности. От беспредельной субъек-
тивности, не дающей голоса объекту—к бессубъектной хайдеггеров-
ской объективности, раздавившей реального субъекта всей мощью
своей «государственности». Заметить движение этого маятника тру-
да не представляет. И не надо тратить много серого вещества, что-
бы прийти к выводу: Россия, мол, всегда бросалась из крайности в
крайность, такова ее судьба. Трудно другое — обнаружить действи-
тельность, которую Аристотель называл энтелехией. Она, как до-
гадывался еще его учитель Платон, проходит «между» крайностями,
образуя «истинную середину».
Для прохождения между крайностями и в науке, и в искусстве
требуется не ловкость канатоходца, а артистизм.
Непременное условие артистизма — непреднамеренность, бе-
зыскусственность, хотя у профессиональных художников она рож-
дается только на почве величайшего мастерства. Но одного только
профессионализма и мастерства недостаточно, о чем красноречиво
свидетельствует пример пушкинского Сальери. Истинная артистич-
ность возникает в произведении искусства как бы непреднамерен-
но, она должна содержать в себе элемент случайности, особенного
счастья, дара. -
Кто или что дарит художнику это счастье? Елизавету Турнас вы-
брал Город. «Дневник Елизаветы Турнас (не знаю ни ее националь-
ности, ни места рождения и не придаю этому никакого значения,
так как иными мерками отличает своих детей и чуждых ему Город),
о котором веду речь, и есть свидетельство того, как горожанка, об-
ладая «петербургским слухом», становится голосом Города, как бес-
сознательно речь ее становится художественной, иначе Город и не
может говорить о себе».2
1 Там же. С. 166.
2 Там же. С. 167.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
508
Документ, найденный писателем Михаилом Кураевым, — веще-
ственное, так сказать, доказательство того, что Василий Теркин,
Иван Денисович, Федор Кузькин, персонажи повестей и романов
Василия Гроссмана и Веры Пановой (которыми, разумеется, не ис-
черпывается возможный список) не выдуманы их авторами, а, как
убеждал В.Б. Александров, найдены ими. Где найдены? В той дей-
ствительности, что прошла между жерновами истории, размолов-
шими могучие государственные режимы XX века, мнившие себя
тысячелетними.
Живопись М. Нестерова, музыка С. Прокофьева, балет Галины
Улановой тоже прошли между—и только поэтому, на мой взгляд,
они являют примеры высокого артистизма. Между шариковской
«простотой», что хуже воровства и именуется хамством, и элитарны-
ми снобами, страдающими патологическим отсутствием «слуха»,
прошли и Василий Теркин, и Елизавета Турнас. Они, как это не па-
радоксально, помогали Александру Твардовскому и Михаилу Кура-
еву слышать голос «истинного бытия».
«Что отличает, какие тона характерны для этого голоса?
Естественность. Отсутствие позы.
Простота, не лишенная изящества.
Ирония, зачастую обращенная на себя.
Бесстрашие перед лицом невероятного, невозможного, запре-
дельного»1.
Какая проза, какое искусство в XX веке соответствуют критери-
ям истинного слуха, как они сформулированы Кураевым? Склонен
думать, что прославленная проза такого виртуоза литературного
языка, как Хайдеггер, не соответствует. Музыкальный слух Т. Адор-
но чувствует в ней намеренную, деланную величавость и отсутствие
подлинного внутреннего достоинства. А у «Василия Теркина» не ме-
нее чуткий профессиональный слух Бунина не обнаружил ни одной
фальшивой нотки. Как не нашел ни одной такой нотки слух совре-
менного писателя Кураева у никому не известной, очень слабо зна-
комой с литературой Елизаветы Турнас. В чем причина этого уди-
вительного явления?
1 Там же. С. 167.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки:
509
Хайдеггера тоже избрало своим голосом бытие, но только не
истинное. Это голос той коллективности и государственности, что
росли из «почвы и крови», из темной крестьянской «надежности» и
«неподвижности», государственности, что пыталась раздавить Тер-
киных и турнас на всем земном шаре. «Популярности «Бытия и вре-
мени» в Германии способствовало и то, — отмечает Т. Адорно,—что
радикальный жест и торжественный тон соединяются с идеологией
подлинного и крепкого...»1. Впрочем, несмотря на подчеркнутую
торжественность и серьезность стиля, не допускающего даже мыс-
ли о юморе, философская проза Хайдеггера—тоже продукт homo lu-
dens: Адорно сравнивает способ его аргументации с кульбитами
Уленшпигеля. Однако, если «игра» Уленшпигеля и Василия Теркина
вполне честная, она служит тому, чтобы открыть зрителю реальное
положение вещей, а не извратить его, то цель «уленшпигелевской»
аргументации у Хайдеггера, если верить Т. Адорно, прямо противо-
положная. Автор фундаментального исследования хайдеггеровской
онтологии указывает на те места сочинений мыслителя, где им про-
сто-напросто «совершается подтасовка»1 2, где философ прибегает к
«нечестным способам»3 аргументации в духе господствующей иде-
ологии, важнейшие положения и выводы хайдеггеровской филосо-
фией не доказываются, а вводятся «контрабандой»4, величавость
оказывается на деле «согласно формулировке Шолема, резвящейся
немецкой каббалистикой»5. Закономерный результат этой «игры» —
не открытость реального бытия, действительность, а создание,
констатирует Адорно, «потемкинской деревни»6.
Разумеется, Адорно не думает, что Хайдеггер по своей натуре
лгунишка, величавым тоном прикрывающий отсутствие глубокого
и ценного содержания. В жизненной позиции Хайдеггера, как и
других крупнейших современных философов, заложена неискоре-
1 Адорно Т. Негативная диалектика. С. п8.
2 Там же. С. 8о.
3 Там же.
4 Там же. С. io8.
5 Там же. С. 105.
6 Там же.
Фабула истории и проблема перспективы
в контексте художественной критики ...
5Ю
нимая двойственность, если не сказать — нечестность. С одной сто-
роны, объективизм Хайдеггера, его «магическое проклятие мысля-
щему субъекту»1, призваны укреплять веру в порядок и внушать чув-
ство надежности, законности, стабильности. С другой стороны, ни-
какого человеческого порядка на самом деле нет, западный мир
крайне нестабилен, и, понимая это, он «готовится перейти к сумер-
кам порядка...»1 2 — само собой понятно, какого. «Сюда и стаскива-
ют современные философии свои дрова...»3. Но подбрасывают они
эти дрова в костер какого-нибудь нового тоталитаризма, обещающего
твердую власть, «государственность», «национальную идею» и про-
чие прелести именно потому, что настоящей веры нет, они все поте-
ряли, и прежде всего — реальный мир. Хайдеггеровская онтология,
как отмечено многими ее исследователями и даже почитателями,
такими, как Жак Деррида, нигилистична и выражает чувство без-
домности и потерянности. Правда, замечает по этому поводу Адор-
но, «то, что философии чувствуют себя метафизически бездомными,
брошенными в ничто, есть всего лишь идеология легитимации по-
рядка. .. Хайдеггер побуждает к кабальному мышлению и не принима-
ет слова «гуманизм», отклоняя его стандартным жестом обвинения
против рынка общественного мнения»4. Таков источник уленшпи-
гелевской «игры» признанного корифея западной мысли XX века.
Как угодно можно назвать искусство пресловутого сталинского
ампира и официальную философию «советского марксизма», но
понятие артистизма к ним явно не относится. Что касается Теодо-
ра Адорно, то Мих. Лифшиц как-то назвал его язык «изысканным».
Но не артистичным, поскольку все у Адорно основано на оттенках,
и в этих оттенках смысл нередко просто-напросто теряется, хотя в
его критике Хайдеггера проскальзывает немало верного.
Елизавету Турнас и Василия Теркина избрало своим голосом
другое бытие. Которое, будучи действительностью, не замечено ни
Адорно, ни Хайдеггером. Но оно открылось истинно артистичным
1 Там же. С. 94.
2 Там же. С. 86.
3 Там же.
4 Там же. С. 86-87.
«Кульбиты Уленшпигеля»
и абсолютный слух «Ленинградки:
5П
художникам XX века, включая и западных, таких, как Чаплин и Фел-
лини. Вот это истинное бытие, которое хотели убить, а потому и не
замечали ни тоталитарные диктаторы и их придворные идеологи,
ни снобы, стало в XX веке избирать, находить и наделять своим го-
лосом не только профессионалов, но и простых людей. Характер
которых и В. Александров, и независимо от него через шестьдесят
лет Михаил Кураев, понимая полную парадоксальность этого опре-
деления, поскольку оно относилось к людям, можно сказать, мало-
грамотным, выразили одними и теми же словами—«интеллигент-
ность» и «артистичность» (Кураев говорит об особом изяществе не-
мудреной прозы Е. Турнас).
Но «разве можно сравнивать?..»1 Разве можно ставить на одну
доску знаменитого режиссера, мастера своего дела, и Елизавету Тур-
нас, тонких знатоков античной философии, изучающих тексты Пар-
менида на древнегреческом, и простого солдата с трехрядкой в ру-
ках? Стиль дневника Елизаветы Турнас — со стилем Хайдеггера и
Адорно? Более того, отдавать предпочтение интеллигентности Ели-
заветы Турнас и Василия Теркина как истинной в отличие от неис-
тинной интеллигентности многих знаменитых и действительно уче-
ных профессионалов?
Вопрос, имевший роковой характер для России в XX веке. Упро-
щенный ответ на него, который давали абстрактный марксизм и
вульгарная социология (весьма ученых авторов), породил сталинс-
кие концлагеря, всю практику ужасающей уравнительности, вплоть
до культурной революции Мао Цзэдуна и «камбоджийского социа-
лизма» Пол Пота. «Артистизм» Василия Теркина и Елизаветы Турнас
нельзя ставить на одну доску с артистизмом Пушкина, Моцарта и
Леонардо да Винчи. Не потому что один из них безусловно ниже, а
другой безусловно выше, просто это разные полюса, которые разош-
лись еще на заре цивилизации, породив ту трагедию непонимания,
которая предстала нашим глазам в «Тайной вечере» Леонардо. А в
наши дни неправильное соединение этих полюсов, приводящее к
столкновению западной и традиционных культур, породило пробле-
му современного терроризма. Методами «реальной политики» и
«здравого смысла» она неразрешима.
1 Кураев М. Соч. цит. С. 169.
Но в тридцатые годы на шестой части земного шара началось
схождение параллельных линий, и не в бесконечности, а «здесь и
сейчас». Оно вызвало к жизни удивительные явления, в том числе
и победу в великой войне. Среди этих удивительных явлений — фе-
номен Василия Теркина и Елизаветы Турнас, сумевших пройти меж-
ду ложными крайностями, жертвами которых стали многие интел-
лектуалы. Эти «жертвы» (одна из которых—Берлиоз Михаила Бул-
гакова), подыгрывая «восстанию масс» и приспосабливаясь к нему,
оказались, если верить Ортеге-и-Гассету, «поколением дезертиров»1.
Может быть, по этой причине действительность XX века по-
прежнему остается тайной за семью печатями. Чтобы увидеть ее,
требуется оптика Леонардо да Винчи.
1 Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. С. 7.
Жак Деррида
и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
Энди Уорхол и Аркадий Пластов.
Феномен modernity и «современного искусства»
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива»
его философии
XX век: ситуация «между».
Лукач, Хайдеггер, Деррида и «течение» 30-х годов —
проблема объективации
Знак, отражение, «восполнительность».
Этос «неподкупного» мышления:
«строгость вкуса»
и «непреклонная борьба с доксой».
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе.
Порочный круг классической теории подражания.
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг?
515
Энди Уорхол и Аркадий Пластов.
Феномен modernity
и «современного искусства»
Осенью 2005 г. в филиале Третьяковской галереи в
Доме художника на Крымском Валу прошла выставка «Энди Уорхол:
художник современной жизни». Жак Деррида, без всякого сомне-
ния, — философ современной жизни, лидер постмодернизма. Ре-
зультаты творческой деятельности художника и мыслителя, на мой
взгляд, схожи: разрушение языка искусства и языка философии. При
этом оба они представляются мне людьми тонкими, ироничными,
с безупречным вкусом, остро чувствующими какую-то важную сто-
рону современной жизни. Но разве Михаил Булгаков—не современ-
ный цисатель, а Аркадий Пластов—не современный художник? Тем
не менее понятие «современный» как-то больше пристало Деррида
и Уорхолу.
Булгаков, возможно, — современный, а вот Пластов, без сомне-
ния, — нет. Такой ответ я готов ожидать от почитателей Деррида и
Уорхола. Язык Пластова—это язык искусства XIX века, может быть,
даже язык передвижников, а искусство его — отражение быта рос-
сийской глухой деревни советского времени. Совсем другое дело —
Уорхол, «культовая фигура в общественных кругах Нью-Йорка», как
сообщается в буклете к названной выставке, и участвовал он «в жиз-
ни высших слоев общества», а не проводил время с колхозными па-
стухами и трактористами. Однако на портретах Пластова—умные
естественным народным умом люди, с живыми лицами, тогда как
на портретах знаковых для XX века персон на выставке Уорхола—
симулякры. «Ему нравилось, — читаем в указанном буклете, — как
обрамление, так и содержание: камера, шелкография, пустая короб-
ка, магнитофон, сумка для покупок—нескончаемый ряд предметов,
достойных увековечивания, и бесконечные возможности выбора».
Но при бесконечности возможностей, о которых идет речь, они ис-
ключают одну—возможность такого отображения мира, в котором
на нас смотрело бы и проявлялось лицо, лик, эйдос, идея. Если в
традиционном искусстве мы в каждой его клеточке видим глаза
мира, писал Гегель, то здесь на нас смотрит тотальная пустота. Та-
кая, впрочем, узнаваемая, привычная, современная. В этом совре-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
516
менном мире «с центром в ночном дискоклубе «Студия 54», где куль-
товой фигурой был Уорхол, нет места для лиц портретов Аркадия
Пластова; ни Уорхол, ни Деррида не видят этих лиц. Может быть,
герои и образы А. Пластова — на такой периферии современности,
что о них и упоминать не стоит?
Современный английский историк Э. Хобсбаум утверждает: «Де-
мократию спас только временный и странный союз между либераль-
ным капитализмом и коммунизмом для защиты от претендовавшего
на мировое господство фашизма, поскольку победа над гитлеров-
ской Германией была, несомненно, одержана Красной армией, ко-
торая только и могла это сделать. (...). Без этой победы западный
мир сегодня, возможно, состоял бы (за пределами США) из различ-
ных вариаций на авторитарные и фашистские темы, а не из набора
либерально-парламентских государств. Один из парадоксов этого
странного века заключается в том, — продолжает Хобсбаум, — что
главным долгосрочным результатом Октябрьской революции, цель
которой состояла в мировом свержении капитализма, стало его спа-
сение как в военное, так и в мирное время, т.е. сообщение ему сти-
мула— страха, способствовавшего его самореформированию после
Второй мировой войны, а также обогащение капиталистической
экономики методиками экономического планирования, содейство-
вавшими ее преобразованию»1. Другими словами, Василий Теркин и
герои портретов А. Пластова не только выиграли Вторую мировую
войну, без них и появление «общества всеобщего благоденствия» бы-
ло бы невозможно. После того как СССР исчез, мир раскололся на две
крайности, каждая из которых представляется для Деррида неприем-
лемой, ведущей к тотальной катастрофе человечества. Он ищет (ни-
же мы будем говорить об этом более подробно) что-то третье.
Но это третье, на мой взгляд, предполагает новый коперников-
ский переворот мировоззрения. Деррида чувствует необходимость
такого переворота, но обречен, несмотря на все усилия, вращаться
в порочном кругу бесплодной рефлексии. Дело в том, что в «совре-
менном» мире Уорхола и Деррида, в мире постмодернизма нет дей-
1 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век.
1914-1991.—М.: Издательство Независимая газета. 2004.
С. 17.
Энди Уорхол и Аркадий Пластов.
Феномен modernity и «современного искусства»
517
ствительности, она испарилась. Но является ли «современное искус-
ство»— искусством, а философия Деррида — мышлением? Первая
часть этого вопроса возвращает нас к определению искусства как
такового. И вопрос этот запутан настолько, что требует нового и
нового рассмотрения.
Если справедливо определение искусства, данное Львом Тол-
стым (искусство — то, что передает эмоции человека), то произве-
дения Энди Уорхола вполне соответствуют этому определению. В
самом деле, художник возбуждает в зрителе эмоции, причем дале-
ко не примитивные. Скорее даже речь идет не об эмоциях, а об об-
щем отношении к миру, о квинтэссенции этого отношения. И все
это—я имею в виду представленное на недавней выставке худож-
ника в Москве, в Третьяковской галерее на Крымском Валу—нуж-
но видеть собственными глазами, а не ограничиваться иллюстраци-
ями и информацией, даже самой достоверной.
Перед нами, без всякого сомнения, не изобразительное искусст-
во, ибо изображение, как убедительно доказывает консервная банка
супа «Кэмпбел» — не самое главное в этом искусстве. Но и фетиш
древних людей — тоже не изображение, однако он выражает опре-
деленное мировоззрение, а по силе эмоционального воздействия на
психику, возможно, даже превосходит классическое искусство, если
говорить о воздействии травматическом, потрясающем нервную си-
стему. Поэтом, художником человека делает не умение, не искусность
в том смысле слова, при котором искусен мастер, строящий галеры, —
рассуждает Сократ в диалоге «Ион». Продолжая эту мысль, можно
сказать, что не искусность, с какой современный художник воздей-
ствует на нашу психику, управляя ею, внушая зрителю и слушателю
определенные эмоции,—характерный признак искусства. Напротив,
не художник управляет нашим сознанием, а художником управляют.
«.. .Но ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их своими
слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слу-
шая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драго-
ценные слова, а говорит сам бог и через них подает нам свой голос»1.
Последующее развитие классической эстетики показало, что не
мифическое сверхсознание управляет сознанием художника, а в его
’ Платон. Сочинения в з томах. Т. i. М., 1968. С. 139.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
518
произведениях совершается самораскрытие истинного бытия в кон-
кретном художественном образе. Активность художника проявляет-
ся именно в том, что он делает возможным самораскрытие бытия.
Говоря словами Хайдеггера, «Творение удерживает открытость ми-
ра. (...). Бытию творения принадлежит восстановление мира. (...).
... вещество тем лучше и тем более пригодно, чем беспрепятствен-
нее исчезает оно в дельности изделия».
«А в творении храма, — продолжает Хайдеггер, — напротив, ве-
щество не исчезает, когда храм восставляет свой мир, но как раз
впервые выходит в разверстые просторы мира этого творения: ска-
ла приходит к своей зиждительности и к своей успокоенности и тем
самым впервые становится скалой; металлы приходят к тому, что
начинают светиться, звуки — звучать, слова — сказываться. Все это
выходит на свет, как только творение возвращается назад в тяжело-
весность и громадность камня, в прочность и гибкость дерева, в
твердость и блеск металла, в светлоту и темноту краски, в звучание
звука и в именующую силу слова»1.
Уорхол не возвращает нас к реальной вещественности бытия, он
дает нам искусственные формы, которые не позволяют металлу про-
являть свой естественный блеск и пластическую твердость, дереву
быть гибким и прочным, краскам переливаться всем неисчерпае-
мым богатством естественного света. Природные качества матери-
ала умирают в творениях Уорхола, ибо предмет у него—только сим-
вол, только знак, только эрзац естественного. Крайности сходятся—
бесконечная рефлексия современной культуры, с одной стороны, а
с другой—лишение материи ее естественных свойств, превращение
реальной материи в промышленный суррогат образуют две сторо-
ны одной медали. Так реальные цветы, изображенные художником,
оказываются чем-то предельно искусственным, неживым, неким
подобием неоновой рекламы.
Было бы, с моей точки зрения, грубейшим упрощением и вуль-
гаризаторством представить поп-арт Уорхола продуктом манипули-
рующего сознания художника. Уорхол пародирует пошлость и вуль-
гарность, а у самого художника вкус достаточно взыскательный,
’Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
С. 78-79-
Энди Уорхол и Аркадий Пластов.
Феномен modernity и «современного искусства»
519
чего не скажешь о некоторых его последователях и подражателях1.
В работах Уорхола сказалось не просто его частное мнение и личные
эмоции (или демонстративное отсутствие таковых). Скорее всего
его устами тоже говорил бог, то есть мир. Но мир Уорхола в отли-
чие от мира классики — не бесконечная объективная реальность, не
природа. Это то, что Маркс называл превратным, перевернутым ми-
ром, где вещи выступают не в своем собственном виде, а становят-
ся фетишами.
Беда не в том, что вещь благодаря искусству приобретает обще-
ственные свойства. Искусство классическое — это такая обществен-
ная форма, которая, если вспомнить процитированные слова Хай-
деггера, позволяет вещам становиться самими собой, каковы они по
истине. Ата общественная форма, которая говорит голосом Уорхо-
ла, являясь его богом, делает вещи фетишами, условными знаками
чего-то другого. Одним словом, есть общественные формы, которые
позволяют вещам стать самими собой и тем самым — голосом бес-
конечной реальности, и есть формы, которые делают их только зна-
ками превратных общественных отношений, симптомом болезни
сознания. Симптом болезни, как, например, кожная сыпь,—дело
серьезное и требует внимания и вмешательства врача. Но искусст-
во — не болезнь сознания, а так или иначе найденный выход из по-
рочного круга—глас божий, если вспомнить Сократа, самораскры-
тие истины бытия, если говорить языком Хайдеггера, и истина эта
не безразлична к добру и злу. Искусство, пока оно искусство, а не
нечто иное — так или иначе лечит душу, а не калечит ее. Видеть в
искусстве главным образом нечто подобное сыпи на теле больно-
го — значит, уподобиться тому врачу, который уверяет, что пациент
должен радоваться появлению у него признаков смертельной болез-
1 Так, например, на выставке «Русский поп-арт» в соседнем
с московской выставкой Уорхола зале наш соотечествен-
ник (Сергей Волохов) представил зрителю окровавленную
голову молодого интеллигентного человека в очках — он
пал жертвой наглой дамочки с растрепанными волосами,
которая родила ему ребенка и, очевидно, хочет потребовать
’ от свой жертвы платить ей алименты в пользу отврати-
тельного существа с кричащим красным ртом, лежащего в
кроватке или коляске. Работа называется «Новый Олоферн».
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели» 520
ни. Ибо искусство, если следовать этой логике, — не жизнь, а симп-
том угасания духа.
Но что же такое «современное искусство»? Каков его смысл и ис-
торическое предназначение? Оно—дополнение к искусству традици-
онному. Всякое дополнение должно восполнять явление до его исти-
ны, до полноты. Но как Уорхол дополняет Леонардо да Винчи? В трак-
товке понятия «дополнения» Деррида отвечает на поставленный
вопрос: так дополняет, как мастурбация дополняет и восполняет
любовь. Так, как письмо восполняет живую речь. А пороки—добро.
Иуда — Иисуса. Негодяи—добродетельных людей. То есть нечто,
представляющееся чистым отрицанием явления, его негативной из-
нанкой, тоже необходимо для полноты явления. И классический ра-
зум с его логоцентризмом этого вместить не может. Как не может он
ответить на вопрос, поставленный Достоевским: будущее счастье че-
ловечества оправдать ничем нельзя, ибо для него были принесены
жертвы, которые делают любое счастье и блаженство немыслимым.
Для того чтобы все это охватить, требуется нечто более широкое, чем
самый широкий и изощренный разум. Будущим—предполагаемым—
снятием отчуждения от подобных вопросов не отделаешься.
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива»
его философии
Мы начали наш разговор о Михаиле Булгакове (см.
глава первая) эпизодом из книги Жака Деррида «О почтовой открыт-
ке. ..», эпизодом, в котором Жак Деррида посоветовал студентке из-
брать темой для диссертации образ телефона в литературе XX века.
Сам Деррида написал пухлую книгу о почтовой открытке—самой,
пожалуй, незначительной разновидности эпистолярного жанра. Ка-
кое отношение она имеет к темам и сюжетам книги Деррида—фи-
лософии Сократа и Платона, природе классической и постклассичес-
кой философии, психоанализу Фрейда и другим, не менее значимым
и серьезным вопросам? Заброшенное, второстепенное, стертое, за-
бытое, презираемое, объективированное, овеществленное вышло в
XX веке на первый план и заслонило собой величественное, строй-
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива» ...
521
ное, красивое, возвышенное, непосредственное, живое, состоявше-
еся—одним словом, классическое. Ван Гог изобразил пару стоптан-
ных башмаков, и этот сюжет вызывал напряженную полемику Ша-
пиро с Хайдеггером, которая была продолжена в многочисленных
исследованиях и комментариях. Знаменитая консервная банка Уор-
хола может претендовать на то, чтобы быть увековеченной как ху-
дожественный символ XX века. Так почему бы почтовой открытке
не вытеснить из философии Сократа, Платона, Ницше и Фрейда?
Однако Хайдеггер в своем «Истоке художественного творения»
говорил не просто о башмаках, а о таких центральных для филосо-
фии и эстетики темах, как истина в искусстве, смысл бытия и спо-
соб, каким этот смысл является нам. Деррида, рассказывая об от-
крытке и других способах почтовых отправлений, демонстрирует ог-
раниченность классической философии, выходит в пространство
новой логики, в котором диалектическое мышление оказывается, по
мнению философа, всего лишь частным случаем. Михаил Булгаков,
уязвленный «квартирным вопросом», поднимается от фельетонов
2о-х годов к всемирно-исторической и философской проблематике
«Мастера и Маргариты». Та же самая объективная логика, которая
сделала фрагментарность главным божеством, скажем так, и в ис-
кусствознании начавшегося нового столетия, объединяет Деррида
и-Булгакова, не правда ли?
В этой, заключительной главе работы я постараюсь показать
точку пересечения, в которой сходятся две диаметрально противо-
положные линии, точку, в которой по необходимости отождестви-
лось то, что двигалось из далеких друг от друга мест, и что после
этого отождествления и пересечения снова уйдет в бесконечно раз-
личное. Михаил Булгаков был консерватором, он не принимал де-
кадентства, даже такие выдающиеся русские авторы начала XX века,
как Александр Блок, ему совершенно чужды, самый любимый его
писатель — Салтыков-Щедрин. Жак Деррида предпочитает А. Арто.
Вместе с тем точка, где пересеклись традиции культуры, высту-
пающие в настоящем тексте под именем российской альтернативы
постмодернизму, и сам постмодернизм, в высшей степени реальна.
Больше того, она, на мой взгляд, есть центр современной эпохи. Но
сразу должен сделать важную оговорку—хотя речь идет об альтер-
нативе, созревавшей в российской культуре, нечто схожее с ней со-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
522
стоялось и в выдающихся творениях западного искусства XX века,
таких, например, как фильмы Чаплина и Феллини, проза Анатоля
Франса и Томаса Манна.
В книге «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не толь-
ко» Жак Деррида развивает одну из своих самых излюбленных тем—
логику по принципу fort—da. Рядовой читатель XIX, а может быть,
не только XIX, но и XX века, возможно, воспринял бы этот текст как
бред сумасшедшего или пародию на бред. В первой части книги,
которая именуется «Послания», — письма автора к любимой, имя
которой не называется, и какой-либо образ ее отсутствует. «...Я не
знаю ничего худшего, — пишет Деррида возлюбленной, — чем пере-
жить мою любовь, тебя, тех, кого люблю и знаю, быть последним,
чтобы сохранить то, что хочу доверить вам, любовь моя»1. Но на
следующей странице книги выясняется, что «эти письма—я их себе
отправляю сам: не успеваю отправить, как тут же получаю (я оста-
юсь первым и последним человеком, который их прочтет)...»1 2 Так
отправлял Деррида письма или нет, и существует ли сама возлюб-
ленная? Если ты внимательно следишь за моей мыслью, снова об-
ращается автор к любимой, «все это заведомо доходит по назначе-
нию». Может быть, Деррида действительно адресует письма только
самому себе и потому является «первым и последним человеком, ко-
торый их прочтет»? А любимая, к которой адресованы письма, —
всего лишь плод воображения, условный образ, фантазм? Письмо,
из которого выше были приведены фразы, заканчивается следующи-
ми словами: «Итак, это всегда доходит по назначению. О да, это хо-
рошее определение моего «я», да и фантазма, в сущности, тоже. Но
я-то говорю о другом, о тебе и о Необходимости»3.
Пойми, кто может! Автор не знает ничего хуже, как остаться
последним человеком, сохраняющим то, что хочет доверить другим,
близким, самым дорогим, любимым. Но самое худшее уже произош-
ло — он является первым и последним человеком, который прочтет
эти послания. Почему же? Любимая изменила или умерла? А куда
1 Деррида Жак. О почтовой открытке от Сократа до Фрей-
да и не только. Минск, 1999. С. 320.
2 Там же. С. 321.
3 Там же.
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива» ...
523
девались все те, кого автор «любит и знает», и которым он тоже ад-
ресует свои послания? Деррида абсолютно одинок, и во всем мире
нет ни одного близкого человека? В этом случае становится понят-
ным, почему письма, предназначенные для действительно близких
людей, будут получены и прочтены единственным человеком — их
автором. Однако сделанное нами предположение одновременно
имеет определенные основания в тексте Деррида — и им же отвер-
гается. Автор действительно, как он утверждает, отправляет свои
послания по почте. Но при этом сам получает их. Потому что пишет
свой адрес на конверте? Очевидно, да: «я их себе отправляю сам»1.
И одновременно — нет, дело совсем в другом. Это некие «они» (кто
они, правда, остается неизвестным), от которых, возможно, бежал
автор (бежал «всегда за тобой, ты знаешь, продолжая, как обычно,
бесконечный разговор с тобой», — пишет Деррида, обращаясь к ад-
ресату писем, своей возлюбленной), «могли бы прийти к выводу при
чтении отобранной корреспонденции, что эти письма—я их себе
отправляю сам...».
Итак, некие «они» могли бы прийти к такому выводу, который,
очевидно, не соответствует реальности, и письма Деррида все же
посылает кому-то другому, а не самому себе. Но цитированная фраза
имеет продолжение, и если исключить из нее то, что находится меж-
ду двумя тире, то смысл этой фразы будет другим: «они» при чтении
отобранной корреспонденции могли бы прийти к выводу, что эти
письма—«что-то вроде устройства телефонной трубки, где и пере-
датчик, и приемник—все в одном»1 2.
Говорящий рот и слушающее ухо находятся у человека на не-
большом расстоянии друг от друга, так что телефонная трубка впол-
не может соединить в одно и передатчик, и приемник. «Благодаря
этому нехитрому приспособлению я являюсь как бы слушателем
того, что я сам себе рассказываю»3. Но для того чтобы посылать пись-
мо не по своему адресу и получать его при этом самому, не меняя
места своего жительства, необходимо одновременно находиться
«здесь» (da) и одновременно «там» (fort). «И, если ты внимательно
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
524
следишь за моей мыслью», пишет Деррида возлюбленной, то я, то
есть автор этих писем, нашел способ, чтобы «всегда находиться здесь
и там одновременно, fort und da»’. Способ быть одновременно, ска-
жем, в Нью-Йорке и Париже. Что же это за способ?
О нем идет речь во всех сочинениях Деррида, от самых ранних,
написанных в начале бо-х годов, и вплоть до его предсмертного ин-
тервью. Философ рассказывает, конечно, не о каком-то необычном
техническом изобретении, позволяющем быть одновременно в двух
разных местах. Понятия «там» и «здесь» имеют поистине универ-
сальную область применения, далеко выходящую за пределы про-
странственного расположения. В цитированном письме Деррида
повествует о способе, позволяющем «находиться a priori в состоянии
ожидания и достижения везде, где бы это ни происходило»2.
Ожидать можно только то, чего вы еще не имеете, что не с вами.
А достижение есть получение, отождествление вас до известной сте-
пени с тем, чего вы раньше не имели. Мировая классическая фило-
софия от древневосточных мыслителей, Гераклита и Николая Кузан-
ского до Гегеля приучила нас к тому, что противоположности могут
быть тождественны, что самое слабое, например, есть самое силь-
ное, как учили древние китайские мудрецы, истинное бесконечное
раскрывает себя и становится реальностью только в конечном, как
доказывал Гегель. Однако диалектика отличается от софистики тем,
что учит правильно разделять, различать то, что на самом деле
различно. Она учит правильным определениям, которые, как извес-
тно, отделяют существенное от несущественного, ограничивают
понятие, отделяя от предмета или явления то, что ему не свойствен-
но. Китайские мудрецы не хотели сказать, что белое есть черное и
что для победы над могучей армией достаточно противопоставить
ей плохо вооруженную, необученную и истощенную голодом толпу.
Они говорили совсем о другом — о том, каким способом и почему
самое слабое может при известных условиях стать самым сильным,
Давид победил Голиафа, непрофессиональная армия добровольцев
победила лучшие армии Европы в сражении при Вальми, защищая
свое революционное отечество. Когда же противоположности отож-
1 Там же.
2 Там же.
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива» ...
525
дествляются так, что белое называется черным, а черное — белым,
то перед нами софистика — прямая противоположность диалектики.
В реальной жизни софистика хороша для того, чтобы обмануть
соперника, добившись своих целей. Герой «Облаков» Аристофана
выигрывает дело в суде, обучившись у софистов, но приходит в ужас,
когда сын хочет применить эту софистику к нему самому с целью
быстрейшего получения наследства. «Вы, знаете, Шура, — зашептал
Паниковский,—я уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бен-
дер— осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!» Паниковскому
удается завлечь Шуру Балаганова в свою авантюру, хотя логика Па-
никовского в этом забавном эпизоде — по принципу «стой здесь и
иди туда». Нельзя уважать «жалкую, ничтожную личность». Но поче-
му софисты все-таки добиваются своих целей? Потому что софисти-
ка—»подмена реальной сложности мира, подмена диалектики?
Очень распространено — и не без оснований — мнение, соглас-
но которому постмодернизм — современный вариант софистики.
Характеризуя способ философствования Ж. Деррида, И. Ильин пи-
шет: «Если подыскивать аналогии, то это напоминает “лоскутную
поэзию” времен заката Римской империи, когда Авсоний и Гета со-
ставляли центоны из отдельных стихов эпохи расцвета латинской
музы. Последний даже умудрился скомпоновать из полустиший Вер-
гилия целую драму—“Медею”, и, по признанию специалистов в
этой области, местами весьма искусно. Нельзя отказать в искусно-
сти и Дерриде: при всей трудности, его работы отмечены мастер-
ством риторической софистики, достигающей временами чисто ху-
дожественной выразительности стиля, что и позволяет говорить о
Дерриде как о “поэте мысли”, обладающем тем, что обычно называ-
ют “даром слова”. Однако все это не может избавить его труды от ду-
ха определенной вторичности и роковой бесперспективности»1.
Свое исследование И. Ильин заключает следующими словами:
«И в то же время я бы воздерживался от обвинений в эпигонстве:
Деррида как раз очень современен и типичен, так как отвечает на
запросы именно своего времени и своей среды. Иное дело, что в
определенные эпохи именно вторичность оказывается наиболее ха-
1 Ильин Илья. Постструктурализм. Деконструктивизм. Пост-
модернизм. М., 1996. С. 49-50.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
526
рактерной чертой сознания, той роковой печатью, что наложена на
его лик и неизбежно отмечает все его мысли и дела»1. В последней
фразе — очень серьезная проблема, центральная для социальной
философии. Один способ решения этой проблемы ведет к так назы-
ваемой социологии (общей, или социологии искусства, к примеру),
которая именовалась в СССР вульгарной социологией. Другой способ
решения этой проблемы был найден в литературоведческих и фило-
софских баталиях 30-х годов.
Суть дела в следующем: отвечала ли «лоскутная поэзия» времен
заката Римской империи «на запросы именно своего времени и сво-
ей среды»? Без всякого сомнения, отвечала, иначе она не была бы
востребована своим временем и своей средой. Но, во-первых, на ка-
кие запросы она отвечала, и, во-вторых, как она на них отвечала?
Ибо, отмечает Ильин, « в определенные эпохи именно вторичность
оказывается наиболее характерной чертой сознания». Почему? По-
тому что в эпохи, когда господствующая социальная структура дви-
жется к упадку, в сознании ее идеологов преобладает идеологичес-
кий момент над объективной истиной. В последней заинтересова-
ны не только и не столько побеждающие в социальной борьбе силы,
сколько представители свободного духовного творчества, которые
по своему социальному положению не обязательно принадлежат к
поднимающемуся социальному классу. Нередко бывает и так, что
они скорее консерваторы, чем новаторы. Тацит, например, не сочув-
ствовал ни восстаниям рабов, ни христианству. Однако не только
вопреки, но в известной мере и благодаря консервативному идеалу
Тацит являлся наиболее выдающимся историком и мыслителем сво-
его времени. Он создал совершенно оригинальную историческую
концепцию, в которой не было ни грана вторичности, ни тени эпи-
гонства.
Напротив, социология, возникшая на почве позитивистской фи-
лософии, изгоняет из сферы науки понятие объективной истины. По
этой причине единственным критерием оценки духовного творче-
ства для социологии является — отвечает или не отвечает оно на
запросы своего времени, востребовано оно или не востребовано со-
циальной средой. Если отвечает и если оно востребовано временем,
1 Там же. С. 50.
Логика Жака Деррида (fort — da)
и «новая познавательная перспектива» ...
527
то мыслитель или художник оценивается как «современный и ти-
пичный», и даже если современность требует от мыслителя эпигон-
ства и вторичности, то исследователь-социолог по крайней мере
«воздерживается» от обвинений его в эпигонстве и вторичности. Но
почему же собственно иной «эпигон», отвечающий на запросы вре-
мени, требующего вторичности, — не вполне эпигон или не просто
эпигон, а представляет собой более сложное явление?
В очерке о Ж. Деррида Наталия Автономова приходит к выводу,
что творчество философа в целом, вся его работа, «которая нередко
выглядит как бессмысленная, ерническая, насмешливая, издева-
тельская, некоммуникабельная, нарочито дразнящая людей других
философских традиций, может стать путем для другой мысли». Хотя,
по ее мнению, современная философия не справляется с «историко-
культурной эмпирией», эмпирия пока «сопротивляется таким воль-
ным концептуализациям», все же за поисками Жака Деррида «мая-
чит новая познавательная перспектива»1. Мысль, продолжает она
свои размышления о французском философе, «не выходит пустой
после своих деконструктивистских упражнений, она становится
более четкой и упругой»1 2. Деррида на самом деле ищет истину, хотя
никогда сам в этом не сознается, но «даже если подчас он бывает
невнятен, он не потакает невнятности в принципе»3.
Да, философ часто демонстративно нелогичен, допускает произ-
вольное «смещение» понятий и идей, уклоняется от очевидных воп-
росов, на которые у него нет ответа, демонстрируя то, что именует-
ся игровым мышлением (то есть проделывает те уленшпигелевские
кульбиты, в пристрастии к которым Адорно упрекает Хайдеггера—
см. 4-ю главу). Этот способ мышления — или, может быть, анти-
мышления — порожден новым объектом, который открыл постмо-
дернизм в целом и Деррида в частности. Н. Автономова называет эти
непривычные для философии объекты «виртуальными реальностя-
ми», которые неструктурны и нелогичны4. К сожалению, в современ-
1 Автономова Н. Деррида и грамматология //Деррида Ж.
О грамматологии. М., 2000. С. 88.
2 Там же. С. 90.
3 Там же. С. 84.
4 Там же. С. 83, 85.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
528
ной России философа, продолжает она, приняли за апологета «игр,
подмен, и стираний»’. Нет ничего, полагает Н. Автономова, более
далекого от реальной мысли Деррида. На самом деле деконструкция
есть «поиск того невозможного, что удерживает человека в челове-
ческом состоянии, а парадокс парадокса обнаружился в том, что
самое неразрешимое и самое традиционное где-то смыкаются»2.
Можно, наверное, сказать, подытоживая эту мысль Автономовой,
что Деррида нелогичен, парадоксален, антиклассичен в той мере, в
какой парадоксальны открытые его философией новые объекты,
свойственные современности и именуемые симулякрами. Обратим
свой взор на ту «социально-культурную эмпирию», к которой пыта-
ется найти ключ Деррида, признавая—не без доли постмодернис-
тской игры и лукавства,—что сделать это он не в состоянии, и по-
тому он никогда не напишет свою настоящую книгу («об этом поз-
же», говорит он, но это «позже» так и не наступает)3.
XX век: ситуация «между»
Постмодернизм несерьезен и неуловим. По сути, не
раз намекал своим читателям Деррида, все, что я говорю и что до-
казываю, есть абсолютное молчание. По той простой причине, что
мир тотально непрозрачен, а я не хочу быть критянином, который
претендует на абсолютную правоту, утверждая, что все критяне
лгут. И потому я замолкаю. Хотя мое тотальное молчание очень го-
ворливо, но не принимайте его всерьез. Впрочем, оцените степень
моей несерьезности, отсутствия всякой определенности, которая
тоталитарна, ибо всегда ограничивает, по тому, что я, между про-
чим, вполне серьезен. И даже претендую на такие метанарративы,
как указание путей к спасению современного человечества.
В книге «Призраки Маркса»4 Жак Деррида выдвинул идею «Но-
вого интернационала», которую он считает основой для своей кон-
1 Там же. С. 89.
2 Там же.
3 Там же. С. 88.
4 Derrida J. Specters of Marx. N.Y. 1994.
XX век: ситуация «между.
529
цепции «иного глобализма». Акегглобализм Деррида заключается в
том, чтобы пройти в щель между двумя неприемлемыми крайнос-
тями — современными псевдодемократиями Запада и террористи-
ческим исламом. В своем последнем, предсмертном интервью фи-
лософ говорил: «Европа — иная, но сохранившая свою память —
могла бы (во всяком случае я бы этого желал) сплотиться одновре-
менно и против американской гегемонии (см. доклады Вольфови-
ча, Чейни, Рамсфелда и др.), и против арабско-мусульманского тео-
кратизма, лишенного Просвещения и политического будущего (сто-
ит обратить внимание на противоречия, на проистекающие ныне
процессы, на гетерогенности внутри этих двух блоков и заключить
союз с теми, кто сопротивляется им изнутри)»1.
Кажется, Деррида выдвигает старую идею «истинной середины»,
идущую еще от Платона и Аристотеля, которая предполагает в реа-
лиях XX века «борьбу на два фронта» (о чем в годы противостояния
фашизму говорили не только политики — Эрвин Панофский, напри-
мер, в искусствоведческих работах тоже писал о «борьбе на два фрон-
та»). Начиная с 30-х годов, Мих. Лифшиц развивал свою концепцию
Restauratio Magna, убеждая, что третье между двумя одинаково не-
приемлемыми крайностями возможно—Tertium datur (третье да-
но) . Но идеи Деррида восходят не к классической традиции мысли
и культуры, а являются по сути их постмодернистским отрицанием.
Деррида сделал себе имя, сосредоточив еще с середины бо-х го-
дов прошлого века внимание на особом смысловом пространстве
«между» противоположностями. Хорошо известно — и, разумеется,
задолго до Деррида,—что существует по крайней мере два типа «меж-
ду». Одно из них именуется «межеумочностью» — пустотой, отсут-
ствием смысла и какой-либо серьезной определенности, когда гово-
рят: «ни рыба, ни мясо», «ни богу сверчка, ни черту кочерга». Это об-
раз ложного среднего, усредненности как синонима бесхребетности
и беспринципного компромисса в политике, опасного прежде все-
го тем, что беспринципное соглашательство нередко приводит — в
соответствии с истиной, гласящей, что «крайности сходятся», — к
безответственному авантюризму. Такие шатания свойственны, кста-
1 Деррида Жак. «Наконец-то научиться жить» (последнее
интервью) // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 139.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
530
ти говоря, государствам-негодяям, о которых пишет Деррида: в рав-
ной степени как тем, по отношению к которым возникло это расхо-
жее слово американской политики после и сентября, так и самим
Соединенным Штатам. Разве не была авантюрой, например, война
США во Вьетнаме? Еще более авантюристична политика «демокра-
тического» Запада (демократизм которого более чем сомнителен
для Деррида) по отношению к исламскому терроризму, политика,
делающая ставку прежде всего на применение силы (как военной,
так и идеологической — силы манипуляции сознанием), вместо ус-
транения объективных и очень серьезных причин, порождающих
терроризм.
Главная из этих причин—углубляющееся, растущее неравен-
ство между «золотым миллиардом» и всем остальным человечеством
очевидна, в том числе и политологам, формирующим политику Бе-
лого дома. Но, похоже, западная социально-экономическая система
просто не в состоянии решить эту проблему. Либо насилие—либо
оскорбительное благодеяние сверху, вызывающее еще большую
ненависть по отношению к «благодетелям», как о том проницатель-
но поведал миру Ф. Достоевский (см. главу з-ю настоящей работы).
Между этими крайностями колеблется официальный Запад. Следу-
ет отметить, что в данном случае бинарная логика «или/или», прин-
ципиальным противником которой является постмодернизм, дейст-
вительно ложна. Но и эклектическая «середина» между этими край-
ностями, «гнилой компромисс» — не лучше.
Не на такое «среднее», похоже, ориентирует альтерглобалист-
ское движение Деррида, судя по словам из его последнего интервью.
Альтерглобалистское движение сегодня как бы зажато в щели меж-
ду противоположностями, и из этой «дурной» щели нужно выбрать-
ся в другую, которая оказалась бы не щелью, а воротами, дорогой к
свободе и победе.
Как уже говорилось, для того чтобы это сделать, необходимо
различать два типа «среднего» и два типа «щели». Одно дело, напри-
мер, оказаться сидящим между двух стульев или сидеть в своей щели
как таракан, и совсем другое — пройти между Сциллой и Харибдой.
Забегая несколько вперед, подчеркну, что необходимое различие, о
котором идет речь, разрабатывалось в области теории на почве рос-
сийской философии XX века. Что касается Деррида в частности и по-
XX век: ситуация «между>
531
стмодернизма в целом, то они, кажется, сделали все для того, что-
бы устранить различие между двумя видами «щели». Некоторым
оправданием неразличения может служить исключительная теоре-
тическая сложность вопроса. Заслуга Деррида заключается в том,
что этот, на первый взгляд маргинальный, вопрос, который обходи-
ла стороной классическая философия, он сделал центром своего
внимания и исследования. Словесно его позиция почти совпадает с
завещанием Лифшица: «Если это в более ранний период моей жиз-
ни, — писал Мих. Лифшиц об идее Tertium datur, — было только те-
оретическим “регулятивным принципом”, часто глубоко скрытым,
то в наше нынешнее время речь идет уже о выборе, который стоит
перед народами, о неотразимой, как вопрос жизни и смерти, прак-
тической проблеме»1.
^«Всякий вопрос “вертится в заколдованном кругу”»1 2, — писал Ле-
нин. «Я не знаю высказывания, гениальнее этого», — писал Лифшиц
в своих заметках. Что же основано на порочном круге, на безвыход-
ности? В своем духовном завещании, статье «О нашей революции»
Ленин, полемизируя с меньшевиками и Н. Сухановым, писал, что
именно безвыходность положения России, удесятеряя силы рабочих
и крестьян, породила возможность выхода. Кажется, что это логи-
ка абсурда по типу Кьеркегора. Но это другая логика, близкая гетев-
скому принципу ставки на ничто, в котором Чернышевский увидел
лозунг подлинного революционера.
Согласно Лифшицу, порочный круг реальных обстоятельств и
порочный круг мысли — не исключение, а достаточно типичная
ситуация истории. Нельзя видеть в истории только разум, есть в ней
и неразумие: история «справедлива тем, что сознает свою неспра-
ведливость»3, писал Лифшиц в своих заметках о Г. Лукаче. Разум не
исчерпывает всего мира, но без разума мир был бы не полон. Логи-
1 См. архив Мих. Лифшица, папка № 248 «Ora pro nobis».
2 Ленин В.И. ПСС. Изд. пятое. Т. 6. С. 164. — «Все искусство
политика в том и состоит, — продолжал Ленин, развивая
свою мысль,—чтобы найти и крепко-крепко ухватиться
за такое именно звенышко, которое меньше всего может
быть выбито из рук...» (там же).
- 3 Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 103.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
532
ческий круг, отражающий неразумие мира, порождает возможность
выхода за его пределы — подобно тому, как из хаоса в реальности
рождается порядок. Способности материи к самоорганизации соот-
ветствует способность мысли прорывать логический круг. Если для
классической философии порочный круг был просто свидетельством
ошибки, тупика, то для Лифшица и Ленина, наоборот, все основа-
но на порочном круге. Все—то есть мир смысла, разума, и сам че-
ловек, который тоже обязан своим появлением безвыходному поло-
жению, в котором оказался.
То, что из хаоса может родиться танцующая звезда, знал и Ниц-
ше. Но Ницше не создал логики рождения смысла на основе пороч-
ного круга, более того, его логика парадоксов вела не столько к эк-
сцессу разума, как у либертенов, сколько к разрушению разума, если
вспомнить здесь название известной книги Г. Лукача о пути евро-
пейской иррационалистической мысли от позднего Шеллинга к Гит-
леру. Между тем как в природе, так и в человеческом обществе вы-
ход из безвыходности не иррационален, но и не рационален в обыч-
ном рассудочном смысле слова.
Эту логику «течение» Лифшица-Лукача продемонстрировало на
примере «великих консерваторов человечества», которые проходи-
ли в щель времени, минуя неприемлемые экстремальности. Совре-
менная физика в лице И. Пригожина приходит к выводу, что такой
дифференциал, не полное соответствие, существует в природе самих
вещей, порождая нелинейное, необратимое развитие — прорыв по-
рочного круга такое же объективное свойство мира, как и состоя-
ние хаоса, безвыходности, тупика. Представление классического
идеализма о господстве разума в мире не менее односторонне, чем
идея о его тотальной бессмысленности.
«Мы должны отыскать узкую тропинку, — пишут И. Пригожин и
И. Стенгере, —затерявшуюся где-то между двумя концепциями, каж-
дая из которых приводит к отчуждению: концепцией мира, управ-
ляемого законами, не оставляющими места для новации и созида-
ния, и концепцией, символизируемой Богом, играющим в кости,
концепцией абсурдного, акаузального мира, в котором ничего нель-
зя понять. Это означало бы разочарование, ведущее к стоицизму
Жака Моно, открывшего Вселенную, лишенную какого бы то ни
было смысла, глухую к нашей музыке, Вселенную, в которой мы по-
XX век: ситуация «между» 533
явились случайно к вящему гневу и отчаянию шекспировского Мак-
бета»1.
Необходимо дополнить разумное мышление до «полноты исти-
ны», плеромы, включив в него принцип хаоса, несоответствия. Не-
обходимо принимать во внимание ситуации, когда концы с конца-
ми не сходятся. Однако мы сами — островок разумности, также ес-
тественно и необходимо возникший из хаоса. Но если хаос можно
понять, основываясь на этом «островке разумности», то на основе
хаотичности разумность непонятна. Конечно, разумность станет ра-
зумной именно тогда, когда освоит максиму, в соответствии с кото-
рой, как писал Лифшиц, «нет в мире и совершенно правых, поэто-
>му более всего правы те, кто это понимает»1 2.
В одной из своих последних книг «Негодяи. Два очерка о разу-
ме» (2003 г.) Деррида размышляет о необходимости разрыва пороч-
ного круга, о том «среднем», что должно пройти в щель между лож-
ными противоположностями времени. «Поздний» Деррида возлага-
ет свои надежды на пробуждение разума и демократии, говорит о
необходимости Просвещения. «Разум мыслит рационально, конеч-
но, он имеет право и дает себе право мыслить рационально для того,
чтобы себя сохранить, сохранить разум,—утверждает французский
мыслитель. — Именно поэтому он есть он сам и хочет им быть; имен-
но в этом заключается его суверенная самостоятельность. Но все-
таки для того чтобы разум вспомнил о своей самостоятельности, его
необходимо разумно переосмыслить. Разум должен позволить себя
разумно переосмыслить»3 — этими словами заканчивается книга
«Негодяи». Как соотносится идея о необходимости поиска третьего
между двумя крайностями, завещанная философом XXI веку, с глав-
ными принципами его деконструкции? Ответ на этот вопрос имеет
первостепенное как теоретическое, так и социально-политическое
значение для современности. Все последующее содержание насто-
ящей главы посвящено рассмотрению обозначенной проблемы.
1ПригожинИ., СтенгерсИ. Квант, хаос, время. К решению
парадокса времени. М., 2003. С. 223.
. 2 Лифшиц Мих. Очерки русской культуры. С. 145.
3 Derrida J. Schurken. Zwei Essays ueber die Vemunft. Suhrkamp
Verlag. Frankfurt am Main. 2003. S. 215.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели» 534
Как же необходимо переосмыслить разум, чтобы не повторять
трагические ошибки человечества? Новый принцип разума, очевид-
но, позволит сделать поправки и к традиционному пониманию ис-
кусства. Окинем взглядом творчество Жака Деррида, который, на-
чиная с середины бо-х годов, разрабатывал деконструктивистскую
концепцию мира, человека, разума и искусства.
Пожалуй, первым актом человеческого сознания было открытие
противоположности между здесь (где расположен я сам) и там, где
расположены другие (вещи или люди). Открытие этой простран-
ственной противоположности, отмечал Э. Кассирер, «создало пер-
вый каркас, которому будут следовать все дальнейшие различия»1,
причем, как в языке, так и в мышлении. Всякая сознательная дея-
тельность основана на этом первоначальном различии. Вот почему,
когда человек получает приказ идти «туда» и стоять «здесь», он не зна-
ет, что ему делать, более того, при настойчивом повторении таких
приказов любая машина, любой самый «умный» компьютер застопо-
рится, а живое существо, обладающее сознанием, впадает в невроз,
его сознание гаснет или ослабевает. Мошенники всех времен и на-
родов пользовались этим приемом для погашения чужого сознания
или лишения его определенности, самостоятельности. Паниковский
своей фразой загнал бедного доверчивого Шуру в то пространство
между, в котором Балаганов потерял какую-либо определенность,
самостоятельность мысли и стал подвластен манипуляции.
Как ни слаб умом был Шура Балаганов, все-таки он не повино-
вался бы Паниковскому, если бы последний предложил ему идти
туда и стоять здесь. Фраза, сказанная Паниковским, обладала изве-
стным правдоподобием, иначе она не зацепила бы сознание Шуры.
Дело в том, что в реальности могут возникать ситуации, когда даже
самая безукоризненная логика не в состоянии указать верный вы-
ход. Герой «Осеннего марафона» мечется между женой и любовни-
цей, не в силах сделать определенный выбор. Причина отнюдь не в
слабости характера или не только в ней. Фильм Г. Данелия был вы-
ражением и художественным символом времени, когда нормаль-
ный, умный и порядочный человек оказывался в ситуации между,
’ Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I. М,-
СПб. 2оо2. С. 136.
XX век: ситуация «между»
535
ибо любой или почти любой выбор между реально существующими
противоположностями, как выяснилось позже, после событий 1991
года, был хуже. Кинорежиссер (альтер эго Феллини) из фильма «Во-
семь с половиной» также не видит выхода из порочного круга, на-
ходясь между женой и любовницей, страстным желанием сделать
фильм и творческим тупиком, верой в католического Бога и като-
лической церковью, вызывающей у него недоверие, множеством
знакомых и приятелей, пробуждающих у него искренний интерес и
сочувствие, и своим полным одиночеством, образом идеальной воз-
любленной (которую играет Клаудио Кардинале в его предполагае-
мом фильме) и актрисой — реальной женщиной, играющей эту роль,
любовью к родителям (умершим) и невозможностью даже мыслен-
ного диалога с ними. Весь фильм — о безвыходных ситуациях «меж-
ду», больших и маленьких, возникающих на каждом шагу.
Говорят, что биографии выдающихся личностей написаны еще
до их рождения. Поколение, появившееся на свет в конце 20-х — на-
чале 30-х годов XX века, своим первичным впечатлением имело клас-
сическую ситуацию «между». Первоначально, однако, теоретическое
оформление эта ситуация нашла у представителей более раннего по-
коления — в философии франкфуртской школы за рубежом и в так
называемом философско-эстетическом «течении» 30-х годов в СССР.
Уже Марксом монополизм капиталистической экономики конца
XIX века был охарактеризован как устранение капитализма на осно-
ве самого капиталистического способа производства. Монополия и
выросшее на почве монополизма государственное регулирование
экономики представляли собой внедрение в систему свободного рын-
ка принципиально чуждых ему элементов (планирования экономи-
ки) . Ленин в своей концепции империализма добавил к этому, что
монополизм и империализм, будучи по своему объективному смыс-
лу отрицанием капитала, в реальности в течение определенного време-
ни могут привести к экономическому подъему капитализма. Совет-
ские экономисты на основании ленинского учения об империализ-
ме сравнивали радикальные перемены на Западе, особенно расцвет
бо-х годов XX века, с наркотическим опьянением, когда эйфория не-
избежно должна обернуться упадком сил и распадом организма.
Однако вместо распада «больной» демонстрировал поразитель-
ную жизнеспособность, научно-техническая революция преобрази-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
536
ла западный мир, и многие социологи, экономисты заговорили о
вступлении Запада в постиндустриальное общество, излечившееся
от главных пороков капитализма, которые традиционный марксизм
рассматривал как неустранимые в рамках капиталистического спо-
соба производства (экономические кризисы, безработица, относи-
тельное и абсолютное обнищание рабочего класса и так далее).
Правда, теоретики франкфуртской школы настаивали, что, не-
смотря на все эпохальные изменения, западное индустриальное (по-
стиндустриальное) общество осталось по характеру производствен-
ных отношений капиталистическим. Но почему эти отношения ока-
зались столь эластичными, что позволили вместить в себя то, что в
них по определению не могло вместиться? Этот поразительный
факт заставил «франкфуртцев» пересмотреть не только марксист-
скую экономическую теорию, но и основные законы диалектичес-
кой логики.
Последняя, как напишет позднее Делез, обращает внимание на
такие противоположности, которые стремятся быть тождественны-
ми, стремятся образовать внутреннее единство между собой, подоб-
но полюсам магнита. Диалектика, продолжает он, не занимается
различиями, которые остаются просто различиями и не стремятся
обратиться друг в друга. Согласно материалистической диалектике,
рост производительных сил должен взорвать старые производствен-
ные отношения подобно тому, как процесс жизни в силу внутренне-
го отрицания приводит организм к смерти. Но жизнь и смерть—это
внутренне взаимосвязанные противоположности, они переходят
друг в друга, образуя органическое единство. Однако в реальности
есть просто различное, которое не переходит друг в друга, обнару-
живая какую-то другую, не диалектическую связь между собой.
Философская основа своеобразной логики, метода рассуждений
и выводов теоретиков франкфуртской школы изложена Т. Адорно в
его книге «Негативная диалектика». Вся предшествующая метафи-
зика, согласно ему, основана на чрезмерном сближении и отожде-
ствлении противоположностей, таких, например, как дух и материя,
бытие и сознание, идеальное и реальное и т.д. Классической «фило-
софии тождества» Адорно (а вслед за ним и постмодернисты) про-
тивопоставляет философию принципиальной нетождественности,
неидентичности. Конечно, простое противопоставление тождеству
XX век: ситуация «между>
537
нетождественности совершенно ничего не дает. Если в ответ на основ-
ное положение «философии тождества» Шеллинга мы скажем, что на
самом деле сознание и бытие не тождественны, то такое возражение
будет просто возвратом к дофилософскому мышлению. Поэтому
Адорно и другие представителя франкфуртской школы в решающем
пункте своих рассуждений начинают играть понятиями, обнаружи-
вая оттенки смысла, на которые часто не обращают внимания.
«Искусства не выстраиваются в целостную, без малейшего зазора
или разрыва, идентичность»1, — пишет Адорно в книге «Эстетичес-
кая теория». Согласно классической эстетике искусство как область
духовного становится самим собой через соотношение с противопо-
ложностью духа — материей. Искусство, доказывали Шеллинг и Ге-
гель, есть тождество духа и материи, идеального и реального. Имен-
ное этом тождестве, полагает Адорно, и обнаруживается несостоя-
тельность философии Гегеля, «поскольку он отождествляет Разум и
Действительность во всей совокупности их взаимосвязей, он гипо-
стазирует оформление всего сущего силами субъективности в
виде абсолюта, и неидентичное рассматривается им лишь как сред-
ство, пригодное для удержания субъективности в узде, вместо того,
чтобы определить опыт неидентичного как телос (цель) эстетичес-
кого субъекта, как его эмансипацию»2.
Критика Мих. Лифшицем идеализма также имеет своим исход-
ным пунктом указание на, говоря его словами, слишком поспешное
сведение концов с концами. В своей работе 1933 года об эстетике
Маркса он писал: «Всякий идеализм состоит в насильственном сбли-
жении реальности с тем разумным смыслом, который присутству-
ет в ней, но присутствует лишь потенциально, как возможность раз-
вития в природе сознательного существа, способного извлечь эту
возможность из природы и сделать ее чем-то действительным в про-
цессе своей материальной жизнедеятельности. Без этого посредству-
ющего звена тождество идеального и реального становится аполо-
гией мира сего, защитой того, что есть»3.
'Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001. С. 7.
. 2 Там же. С. 113.
3 Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный
идеал. Изд. 2-е., М., 1979- С. 73-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц: q
две концепции «щели»
Процитированная мысль получила подробное обоснование в т.н.
онтогносеологии Мих. Лифшица1.
Таким образом, и Лифшиц, и Адорно находят в тождестве про-
тивоположностей некий зазор (Адорно) или щель (Лифшиц). Но да-
лее их пути радикально расходятся. Для Адорно «опыт неидентич-
ного» есть цель эстетического субъекта и единственно возможный
путь к его освобождению. Философия принципиальной «нетожде-
ственности» с разными вариациями и оттенками повторяет одну и
ту же мысль, но сути не выходя за ее пределы: нетождественность,
разрывы, зазоры всякого рода—единственное, что делает современ-
ное искусство искусством. Этой логике Адорно неукоснительно сле-
дует при анализе самых различных вопросов эстетики.
В основе философии постмодернизма лежит идея принципиаль-
ной несостыковки, зазора, складки (Делез), зияния, fort — da как
выражения ситуации «между». Это не реальное пространство меж-
ду «там» и «здесь», а парадоксальная, невозможная ситуация, при
которой нужно находиться здесь и одновременно идти туда. Позво-
лю себе в этой связи снова напомнить цитированные выше слова
Деррида, сказанные им по поводу fort—da—«это хорошее опреде-
ление моего «я», да и фантазма, в сущности, тоже».
Если теоретики франкфуртской школы непосредственно выво-
дили новые законы мышления и художественного творчества из
парадоксальной социальной реальности XX века, то постмодернизм
рассматривает ситуацию «между» как естественную, нормальную,
типичную не только для человеческого существования, но и для
мира в целом. И, надо признать, это дает постмодернизму известное
преимущество не только перед франкфуртской школой.
Для «новых левых» (следующих в данном отношении за Троц-
ким) советский строй при Сталине был, как и современный «процве-
тающий» капитализм, исторической аномалией, возникшей в силу
объективных причин, но все же неким историческим парадоксом,
казусом. Ибо непредвзятым наблюдателям уже во второй половине
2о-х годов стало ясно, что советская власть подменена властью бю-
рократического аппарата. Троцкий, правда, надеялся на то, что в
1 См. об этом в книге: Мих. Лифшиц. Диалог с Эвальдом
Ильенковым. М., 2003.
XX век: ситуация «между>
539
результате индустриализации в СССР окрепнет рабочий класс, ко-
торый сможет совершить новую социалистическую революцию про-
тив сталинского бонапартизма и термидора. Однако эти надежды,
так же, как и надежды на крах капиталистической экономики, на-
ходящейся якобы в состоянии наркотического возбуждения, оказа-
лись утопическими, несбыточными.
Троцкого подвела слишком большая вера в классическую диа-
лектическую логику? По сравнению с ним марксисты франкфурт-
ской школы выглядят большими реалистами, для них современная
ситуация — предмет особого анализа, они не отметают ее как нечто
временное, быстро (в историческом масштабе) преходящее. Не со-
стыковка, не совпадение, зазор между противоречиями не позволя-
ют надеяться на то, что сложившуюся ситуацию можно перепрыг-
♦ нуть, что следует просто набраться терпения и спокойно ожидать
мировой революции, как первоначальные христиане ожидали ско-
рого второго пришествия Христа и судного дня.
Для Деррида Сталин — фармакон. Это одно из основных поня-
тий его философии (заимствованное, кстати, у Платона) означает
одновременно и яд, и целительное средство. «Мне меньше всего, —
пишет Деррида, — может придти в голову преуменьшать преступле-
ния, совершенные Сталиным, и зло, причиненное явлением, кото-
рое сейчас с какой-то непринужденностью принято называть стали-
низмом. Но в один прекрасный день нужно проанализировать и ту
процедуру, благодаря которой вся ответственность оказалась отны-
не сконцентрированной в личности «папаши» (так именует Стали-
на Этьембль.—В. А.}, т.е. вымарана, заклята, объективирована,
удержана на расстоянии и тем самым нейтрализована, если вообще
не уничтожена в теле десиота-фармакона»1.
Фармакон, пишет Н. Автономова, означал у древних также и
«козел отпущения». Следует заметить, что понятие «фармакон» со-
относится с fort — da, как и другими центральными понятиями фи-
лософии Деррида, такими, например, как «дополнение». Но, глав-
ное, «невозможные» явления и объекты, которые должны объяснить
или охватить эти понятия,—для французского философа не казус,
не парадокс, не исключение, а скорее норма. Из сказанного, разу-
’ Жак Деррида в Москве. М., 1993. С. 38.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
540
меется, не следует, будто Деррида считал Сталина «нормальным»
политическим деятелем или тем более «козлом отпущения» за пре-
ступления, совершенные другими. Однако его оценка этой истори-
ческой фигуры, равно как и советского режима, существенно отли-
чается и от либеральной, и от марксистской. Одна из причин этого
в том, что Деррида (и постмодернизм в целом) — противник той
концепции «отчуждения», которую леворадикальная мысль делала
основой для своего тотального критицизма, включая критику ста-
линского режима и современного капитализма.
Лукач, Хайдеггер, Деррида
и «течение» 30-х годов:
проблема объективации
Леворадикальная неомарксистская философия, воз-
никшая под влиянием легендарной книги Г. Лукача «История и клас-
совое сознание» (франкфуртская школа, югославская группа «Прак-
сис»), видела решение всех проблем в снятии (гегелевский термин
Aufhebung) пресловутого «отчуждения». В том числе и такого вида
отчуждения, как фетишистское сознание и соответствующее ему
псевдоискусство.
Однако «снятие» приобретало у молодого Лукача и его последо-
вателей слишком абстрактный характер, при котором сама природа
подлежала снятию, поскольку также представляет собой обществен-
ную категорию. Основание для этого — заслуживающая внимания
мысль, согласно которой вещь впервые становится сама собой, воз-
вращается к себе, приобретая истинную «естественность» лишь в
общественной практике человека и благодаря этой практике. Следо-
вательно, заключали неомарксисты, самой глубокой и «последней»
реальностью является именно общественная практика человека, все
остальное — производное от нее.
Советское эстетическое «течение» 30-х годов таким образом «до-
полнило» идею молодого Лукача, что развернуло его мысль в прямо
противоположном направлении, а именно — от неомарксистского
варианта солипсизма и номинализма к философии объективной
истины Сократа. Общественная практика человека, согласно фило-
Лукач, Хайдеггер, Деррида
и «течение» зо-х годов: проблема объективации 541
софии «течения» (одним из его лидеров стал Г. Лукач), в конечном
счете является голосом объективной реальности, мира в целом, ко-
: торый без этой практики был бы неполон. «Дополнение», о котором
идет речь, такого рода, что должно, на мой взгляд, стать точкой опо-
ры для любого—общественного или интеллектуального—движения
современности (в том числе альтерглобализма), имеющего своей
целью поставить «перевернутый мир» с головы на ноги. Поэтому
рассмотрим несколько подробнее суть расхождения между «ран-
ним» Лукачем и идеями «течения» 30-х годов (как они сформирова-
лись к 30-м годам в дружеских и продолжительных беседах Лифши-
1 ца с Лукачем).
В современной философской и эстетической литературе этот
вопрос остается практически не исследованным1. Сам Г. Лукач сде-
♦
1 Достаточно в этой связи заметить, что в большом предис-
ловии переводчика на русский язык книги Лукача «Исто-
рия и классовое сознание» С. Земляного ни слова не гово-
рится о Мих. Лифшице, духовном лидере «течения», хотя
в этом тексте С. Земляного фигурируют имена таких со-
ветских философов, как Быховский Б., Асмус В., Бати-
щев Г., Бессонов Б., Давыдов Ю., Деборин А., Ильенков Э.,
Мамардашвили М. (о последнем идет речь на многих стра-
ницах указанного Предисловия Земляного), Нарский И. Ни
один из названных философов не только не имел отноше-
ния к «течению», но большинство из них, за исключени-
ем, пожалуй, только Ильенкова, относились к идеям Лиф-
шица и «течения» явно критически, если не прямо враж-
дебно. Молчание С. Земляного о Лифшице и «течении»
тем более показательно, что в переведенной и изданной
им книге сам автор «Истории и классового сознания» пи-
шет о том, что в тридцатые годы в Москве он «находился
в состоянии восторженного упоения новым началом», ра-
ботая научным сотрудником московского Института Мар-
кса и Энгельса. «Здесь, — пишет Лукач, — мне на помощь
пришли два неожиданных счастливых случая: в Институте
я получил возможность прочесть полностью расшифро-
- ванный рукописный текст «Экономически-философских
рукописей 1844 года» Маркса и познакомился с М. Лифши-
цем, что стало началом дружбы на всю жизнь». w
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
542
лал немалого ценного дая развития нового дая него теоретическо-
го начала, однако в его воззрениях всегда оставалось нечто от транс-
цендентального субъекта Канта (что особенно усилилось в после-
дний период его творчества, когда он работал над «Онтологией об-
щественного бытия»).
Приведу очень характерную цитату из книги Люсьена Гольдма-
на «Лукач и Хайдеггер. По направлению к новой философии» (1977 г.).
Речь идет о центральной дая Маркса и Лукача категории практики:
«Нет принципиального различия между хайдеггеровской позицией
и тезисами о Фейербахе, согласно которым сознание всегда привя-
зано к практике. Субъект в своей деятельности, которая начинает-
ся с воспринимающей активности, основывает (constitutes) мир, и
этот мир должен быть понят на основе его конституции (constitu-
tion) на всех уровнях, который результируется в трансформирова-
нии науки в философию. Как уже было нам объяснено в «Бытии и
времени», бытие (Dasein) всегда уже есть в мире, в котором объек-
ты с самого начала и фундаментально под рукой (Zuhanden) и не
являются в первую очередь объектами сознания, но объектами, име-
ющими качество, полученное благодаря целенаправленному дей-
ствию. Но отмеченная близость не должна дая нас затмить столь же
существенное различие между Лукачем и Хайдеггером. В «Бытии и
времени» подручность (Zuhandenheit) анализируется только как
психический феномен сознания (...). Согласно диалектическому
мышлению Лукача, напротив, практика не является индивидуаль-
ной, и теория и подручность представляют собой постоянную часть
ее (практики.—В. А.)»1.
По мнению Л. Гольдмана, то, что Хайдеггер говорит о своей ка-
тегории «бытия» уже было открыто несколькими годами ранее Лу-
начсио - с. Отмечая далее «большие заслуги философского
и филологического порядка» М. Лифшица, Лукач расска-
зывает о «совместной работе с М. Лифшицем» и о тех тео-
ретических выводах, которые стали очевидными для них
обоих «в результате многих бесед». См. Лукач Г. История
и классовое сознание. М., 2003. С. 94-95.
1 Goldmann L. Lukacs and Heidegger. Towards a new philo-
sophy. London. 1977. P. 37-38.
Лукач, Хайдеггер, Деррида
и «течение» зо-х годов: проблема объективации
качем под именем «тотальности»'. Бытие для обоих мыслителей —
не некая данность, независимая от преобразующей деятельности
субъекта, объективный мир понимается ими, как требовал Маркс в
тезисах о Фейербахе, субъективно. Поэтому бытие имеет характер
исторический, временной и полный смысла, подчеркивает Гольд-
ман1 2. Однако, продолжает он, понимание истории у Лукача и Хай-
деггера совершенно разное. Оба они критически возвращаются к
Гегелю, не принимая, однако, его попытки объединить историч-
ность и естественные науки, ибо Гегель конструировал концепцию
времени, подчиненную пространству (что характерно для естествен-
ных наук, концепцию овеществления у Лукача некоторые западные
исследователи идентифицируют с понятием пространственности у
Бергсона). Если Ф. Энгельс в данном важнейшем вопросе следует за
Гегелем (и естественными науками), то Лукач и Хайдеггер, полага-
ет Гольдман, в основу своей концепции бытия кладут принцип ис-
торичности, то есть, в понимании Гольдмана, «сделанности» объек-
та человеком, то есть практики, принцип субъективного понимания
объективности.
Правда, для Лукача бытие есть продукт практики трансценден-
тального коллективного субъекта, а для Хайдеггера коллективной
практики не существует, поэтому Хайдеггер не выходит за пределы
феноменологического описания мира зла и неидентичности, тогда
как Лукач объясняет их возникновение исторически3. Позиция Хай-
деггера по отношению к неидентичному, превратному миру, миру
отчуждения в результате не критическая, тогда как Лукач доказы-
вает, что отчуждение необходимо будет снято в процессе коллектив-
ной практики, ибо история есть движение к устранению дуализма
субъекта-объекта: цель истории — единый субъект-объект. На есте-
ственный вопрос, существует ли природа вне общественной прак-
тики коллективного субъекта, «ранний» Лукач отвечал, что само
понятие природы — общественное.
Книга Г. Лукача «История и классовое сознание» была подвергну-
та в СССР уничтожающей критике, причем с позиций позитивизма
1 Ibid. Р. 40.
2 Ibid.
3 Ibid. Р. 48.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
544
группы А.М. Деборина, выдаваемой за диалектический материа-
лизм. Объект существует независимо от объекта—этого бесспорно-
го тезиса казалось достаточно для опровержения концепции Лука-
ча. А.М. Деборин писал: «Единство субъекта и объекта он (Лукач. —
В. А) понимает в смысле поглощения объекта субъектом, в смысле
их идеалистического тождества. Единство теории и практики он ин-
терпретирует таким образом, что практика растворяется в теории
и ею преодолевается. Вполне понятно, что ни Маркс, ни Энгельс на
этой идеалистической точке не стояли»1.
В самом деле Лукач был не прав, делая уступки субъективному
идеализму, согласно которому природа есть продукт деятельности
субъекта, и впоследствии Лукач эту свою ошибку признал. Но сде-
лал он это не потому, что критика Деборина показалась ему убеди-
тельной, напротив, она является совершенно не убедительной, ибо
оставляет вне внимания очень важные вопросы и аргументы, кото-
рые были выдвинуты Лукачем. Дуализм субъекта и объекта, дока-
зывал Лукач, есть порождение истории, и он снимается в ходе исто-
рии, когда устраняется отчуждение. Однако что из себя представляет
тот субъект-объект, который возникает при снятии отчуждения?
Позиция «раннего» Лукача была близка неокантианству, согласно
которому деятельность коллективного трансцендентального субъек-
та порождает мир объективных символических форм, а за их преде-
лы выйти нельзя, ибо весь мир и есть эти символические формы. Но
у самого Лукача и в ранней его работе содержались идеи, позволя-
ющие сделать совершенно иной вывод: снятие отчуждения реально
означает, что человек становится голосом объективного мира, не он
мыслит и чувствует мир, а объективная реальность мыслит и чув-
ствует себя благодаря деятельности человека, и в этой деятельнос-
ти она возвращается к самой себе, превращаясь тем самым в единый
субъект-объект. В 30-е годы Лукач двигался к этой, второй точке
зрения. «Так или иначе, — писал он, —я могу еще и сегодня припом-
нить то потрясающее впечатление, которое оказали на меня слова
Маркса о предметности как первично материальном свойстве всех
вещей и отношений. С этим смыкался уже изложенный здесь вывод,
1 Деборин А.М. Г. Лукач и его критика марксизма. М., 1924.
С. 44-45-
Лукач, Хайдеггер, Деррида
и «течение» зо-х годов: проблема объективации 545
что опредмечивание является естественным — будь то позитивным
или негативным — способом человеческого овладения миром, в то
время как отчуждение представляет собой его особую разновид-
ность, которая осуществляется при определенных общественных об-
стоятельствах. Тем самым были окончательно разрушены теорети-
ческие устои того, что составляло особенность «Истории и классо-
вого сознания». Книга стала для меня совершенно чужой...»1.
Однако возникшие под влиянием книги Лукача неомарксист-
ские концепции франкфуртской школы, в том числе распространен-
ные теории «деятельности» (в СССР—последователи Э.В. Ильенко-
ва), развивали скорее неокантианские мотивы этой книги. Согласно
неомарксистской философии не мир говорит посредством челове-
ка, а человек благодаря своей субъективности, деятельности сози-
дает мир смыслов, объективно идеальное, существующее, однако,
только в человеческой практике, культуре. Напротив, «течение» зо-х
годов доказывало: человек созидает мир культуры только в том слу-
чае, когда человеку отвечает природа, когда в творчестве челове-
ка и благодаря человеческому творчеству мир обретает сам себя,
природа «идет вперед в себя!»1 2 Возвращение человека к себе есть не
что иное, как открытие и самораскрытие объективного мира—толь-
ко в этом случае деятельность человека порождает действитель-
ность, а в противном—пороки культуры (тема Руссо и Канта). Тако-
ва, в самых общих словах, философская основа концепции высоко-
го реализма в искусстве, выдвинутая Мих. Лифшицем и Г. Лукачем,
не совпадающая с официальной теорией и практикой «социалисти-
1 Лукач Г. Соч. цит. С. 95.,
2 Замечание Мих. Лифшица на полях знаменитого фраг-
мента Гете «Природа». По поводу фразы из этого фрагмен-
та— «В ней все живет, совершается, движется, но вперед
она не идет» —Лифшиц пишет: «Природа изменяется, ша-
гает— и не идет вперед. Просто потому, что для целого —
времени нет, вечная современность, но вместе с тем и
новизна. Смысл = тот прогресс, который есть прогресс, не
. будучи им». См. маргиналии Мих. Лифшица на книге Гете
«Избранные философские произведения». М., 1964. С. 37
// Архив Мих. Лифшица.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
546
ческого реализма», а в чем-то очень важном (трактовке понятий
«отражение», «художественная правда» и вытекающей из этих поня-
тий оценке реального художественного процесса) прямо противо-
положная им. Идея социалистического реализма с его культом ро-
мантики восходила к богдановским увлечениям Максима Горького,
в свою очередь А. Богданов был близок к новейшим течениям запад-
ной философии неокантианского и позитивистского толка.
Идея «течения», о которой идет речь, имела общественные кор-
ни, она росла из реальных процессов, совершавшихся в СССР. В пред-
шествующих главах я стремился показать, что вопреки господствую-
щей мифологии, а в известной мере—парадоксально—и благодаря
ей, в культуре России XX века наметилась тенденция возвращения
вещей к самим себе—тот «просвет бытия», который обусловил та-
кие явления, как проза Михаила Булгакова и поэзия Александра
Твардовского, живопись позднего Михаила Нестерова. Этот же про-
свет бытия, возрождающий традиции классики, дал шанс для разви-
тия идей Сократа, Платона, Дидро и Гегеля на новой общественной
основе. Впрочем, и в западном искусстве XX века происходили не
менее значительные процессы подобного рода. Полемизируя с кни-
гой Лукача «История и классовое сознание», Хайдеггер трактовал ис-
тину как «просвет бытия», говорил об истине самого бытия. Если
Хайдеггер под алетейей и просветом бытия понимает только трав-
му— заботу, ужас, страх, толки и болтовню безликой массы, Мал1,
то Чаплин и Феллини увидели просвет бытия в улыбке своих героев
(бродяге из «Огней большого города» и современной Деве Марии —
главной героине фильма «Ночи Кабирии»), которым надо было по-
терять все, чтобы на краю гибели их лицо осветилось лучем истин-
ного бытия.
Как о том уже говорилось, странным, но вместе с тем глубоко за-
кономерным образом мысль «течения» пересекается в некоторых
важнейших точках с идеями постмодернизма. Одна из этих точек
1 «Мое отличие от Хайдеггера, — пишет Лифшиц, — бытие
и истина у него травма, сукровица, не отражение. Истин-
ное бытие есть самоотражение его в себе или форма» //
Архив Мих. Лифшица, папка «Еще к онтологической гно-
сеологии». С. 16.
547
пересечения—отношение к гегелевскому понятию Aufhebung и про-
блеме отчуждения в целом. Представляют ли знаки культуры (письма,
например) отчуждение духа как эрзац, замену или подмену духов-
ной жизни, культуры в собственном смысле слова или же эти отчуж-
дения, овеществления духа — непременные условия всякой нор-
мальной духовной жизни? Леворадикальная неомарксистская фило-
софия — противник всех форм объективации, которая практически
равнозначна для нее отчуждению. Постмодернизм в целом и Жак
Деррида в частности, напротив, — защитник и даже апологет объек-
тивации. Согласно известному парадоксальному выражению весь
мир культуры представляет собой текст, который сам себя пишет.
Уорхол—один из тех современных художников, в деятельности ко-
торых эта идея получила визуальное воплощение. Аргументация в
ее пользу, как она представлена у Деррида, заслуживает внимания,
бросая свет на многие важнейшие проблемы современности.
Знак, отражение, «восполнительность»
Основные понятия философии Деррида возникли в
русле лингвистической философии и тесно связаны с его критикой
знаковой концепции Соссюра, в том числе и с критикой знаковой
концепции искусства, чрезвычайно популярной во второй полови-
не XX века. Больше того, пафос философии Деррида—демонстра-
тивная антисистемность. Системный метод, семиотика, структура-
лизм воспринимались в нашей стране, начиная с бо-х годов как рав-
нозначные строгой научности и творческой новизне. Примерно в то
же время, когда у нас был открыт структурализм, на Западе в 70-е
годы происходил прямо противоположный процесс—«полный от-
каз от прежнего пафоса науки и научности привел к росту антисци-
ентистских настроений, когда во главу угла ставилось все неструк-
турное и нелогичное ...», констатирует Н. Автономова1. В наши дни
молодые философы и филологи с иронией смотрят на отечествен-
ных кумиров двадцатилетней давности. У Н. Автономовой такая
смена вех не вызывает энтузиазма: «...Деррида—человек сильный
1 Автономова Н. Соч. цит. С. 83.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
548
и гордый, но сейчас его хочется защитить: не столько от западных
критиков, сколько от тех российских продолжателей, которые склон-
ны молиться на очередную икону, не пытаясь понять ее смысл, кон-
текст, историческую уместность»1. Дело в том, продолжает перевод-
чик и комментатор французского мыслителя, что «наш социальный
опыт относится скорее к «прото-модерну», по крайней мере для нас
важнее было бы обсуждать проблемы догоняющей модернизации...»,
«...просто перескочить непройденные этапы нельзя...»1 2. Но мы уже
цитировали современного английского историка Э. Хобсбаума, ко-
торый полагает, что переход к обществу благоденствия в бо-е годы
XX века был бы невозможен без Октябрьской революции и СССР. В
этом контексте напомню критику чрезмерной страсти к системати-
зации всего и вся как главной болезни современной культуры, кри-
тику, прозвучавшую в программной статье «течения», опубликован-
ной в журнале «Литературный критик» в 1934 году, а также в неопуб-
ликованном продолжении этой статьи под названием «На разные
темы» (см. з-ю главу).
Позволяет ли мысль Деррида прорвать порочный круг современ-
ности? Или она тоже шарахается из одной крайности в другую? Шаг
за шагом двигаясь к ответу на этот вопрос, обратимся к книге Ж. Дер-
рида, в которой изложены его главные идеи. Нас будет интересовать
прежде всего то, что относится к теории изобразительного искусст-
ва и принципу подражания. На мой взгляд, прочтение идей Дерри-
да под углом зрения эстетики «течения» 30-х годов позволяет сделать
вывод: французский мыслитель действительно добавил нечто очень
важное к традиционному для современности толкованию мимези-
са. Начнем с его критики знаковой концепции искусства, языка и
культуры.
Согласно Соссюру, как известно, связь между знаком и тем, что
он означает, существует, но является совершенно произвольной. Так
фонема не имеет абсолютно ничего общего с тем смыслом, который
выражается словом, состоящим из фонем. Поскольку искусство —
одна из знаковых систем, то система знаков, которым пользуется тот
или иной вид искусства, вовсе не обязательно должна быть «похо-
1 Там же. С. 85.
2 Там же. С. 85-86.
Знак, отражение, «восполнительность»
549
жа» на внешний, реальный мир. Свое содержание, не сводящееся к
Видимости вещей, искусство может передавать и неизобразитель-
(Ным способом — такова, например, музыка, орнамент или архи-
тектура. Этот ход мысли, которому сопротивлялась советская «дог-
матическая» эстетика в лице Мих. Лифшица1, ныне стал практичес-
ки общепризнанным и в российском искусствознании.
В основе подобного рассуждения Деррида усматривает главную
беду и вину метафизической и идеалистической философии—лого-
центризм. Для идеализма если не единственная, то конечная реаль-
ность —это разум, дух, логос, который воплощается в чем-то вторич-
ном (в материи, в том числе в системе знаков) и портится, «отчуж-
дается» в нем. Начиная от Платона и вплоть до Гегеля материя есть
зло, отчужденное существование подлинного, которым может быть
тодько дух. Материальный мир — неподдинное воплощение истин-
ного, разумного, действительного.
Критикуя классическую философскую традицию, западная фи-
лософия во второй половине XX века обращала внимание как раз на
самостоятельную роль того, что выступало под видом неподдинно-
го, отчужденного — различных структур как воплощений духа. По-
стмодернизм довел эту критику до ее логического конца, выйдя из
структурализма и критикуя структурализм.
Как о том уже говорилось (в связи с книгой Лукача 1923 года
«История и классовое сознание») опредмечивание, овеществление,
отчуждение творческого субъекта (под которым понималась не эм-
пирическая личность, а некое подобие трансцендентального субъек-
та Канта) становится объектом критики «левой» интеллигенции.
Хотя Хайдеггер не принял книги Лукача, полемизировал с ней (в
скрытом виде в своей главной работе «Бытие и время»), но и он, по
1 А.Ф. Лосев подарил Мих. Лифшицу свою книгу «История
античной эстетики. Высокая классика». М., 1974. со следу-
ющей надписью:
«Глубокочтимому и дорогому Михаилу Александровичу
Лифшицу
В знак моего обучения у него «догматическому марксиз-
му» вместо расплывчатых и неопределенных концепций
«творческого марксизма»
А. Л. 6. VI. — 74.»
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
550
мнению Люсьена Гольдмана, разделял лукачевское тотальное осуж-
дение опредмечивания как «неподлинного» существования. Если
дух первичен, то отчуждение его всегда будет чем-то вторичным, ис-
порченным. Таким отчужденным воплощением духовного и разум-
ного всегда считалось письмо.
Деррида приводит немалое число примеров — от Платона до
Руссо — свидетельствующих о том, что письмо рассматривалось как
неизбежное зло: фиксация в материи живой человеческой речи, то
есть непосредственного проявления духа. Дух умирал в письме, ове-
ществлялся. Структурализм XX века занимает по отношению к клас-
сической традиции прямо противоположную позицию, рассматри-
вая воплощения духа как самостоятельные структуры, а не простое
отчуждение и ухудшение первоначального и подлинного. Деррида
ищет третью позицию между двумя крайними.
Письмо, как и всякое отчуждение духовного, есть откладывание
последнего, отсрочка, задержка и экономия. В непосредственном
общении, речи с другом мы общаемся здесь и сейчас. Письмо отклады-
вает это общение, задерживает его, отсрочивает. Однако появилась
ли бы сама человеческая речь без такой отсрочки, откладывания,
отчуждения живого, замены прямого контакта окольным, кружным
путем к общению, заключенным в письме?
Для такого хода мысли существует общеизвестное возражение —
письмо появилось позднее живой речи, так же, как знаки искусства
возникли позднее жестов непосредственного общения, из которых
развились с течением времени современные языки искусства. На это
Деррида возражает вполне разумно и даже, если можно так сказать,
материалистически: никакая речь была бы невозможна без перво-
начальных воплощений в материале, начертаний, которые Дерри-
да называет предписьмом или праписьмом. Простейшие трудовые
операции, еще бессознательные или полусознательные, представля-
ли собой знаковую деятельность. Подтверждение своей мысли фран-
цузский мыслитель находит у самих же «классиков». Сохранились,
между прочим, рассказы древних о том, что примитивный рисунок
предшествовал речи, во всяком случае, если иметь в виду современ-
ную развитую речь.
Что же хочет доказать Деррида: первичен не дух, а его воплоще-
ния, отчуждения? Но это фактически позиция структурализма, ко-
Знак, отражение, «восполнителъностъ»
551
торый рассматривает структуры, воплощения (например, стили в
искусстве), языки, знаковые системы, а не живое содержание. Если
читать Деррида буквально, то он утверждает: первично и по сути
единственно реально именно письмо, даже текст, а его живое содер-
жание —эфемерно и вторично. Однако такое буквальное прочтение
искажает мысль философа.
Письмо—отсрочка, дополнение к живой речи, эрзац, нечто вто-
ричное. Так же, как и любая другая система знаков. Деррида в от-
личие от структурализма не только не затемняет этот очевидный
факт, но даже чрезмерно подчеркивает его. По его мнению, класси-
ческая мысль слишком упрощала эту, практически трагическую,
даже, по словам философа, катастрофическую ситуацию, считая ее
преодолимой, хотя бы в отдаленном будущем или на небесах. От-
чуждение духа должно быть снято (знаменитая категория Aufhe-
bung Гегеля), причем снято без остатка, ибо снятие устраняет отчуж-
дение абсолютно. Критика гегелевского понимания снятия у Дер-
рида состоит в том, что абсолютного снятия быть не может. Никогда
отчуждение не будет преодолено!
Это звучит крайне пессимистично и подрывает не только геге-
левскую, но и марксистскую философию, которая якобы, как и хри-
стианский миф, обещает утопию нового мирового состояния, не
имеющего ничего общего с предысторией человечества. Неужели вы
думаете, как бы вопрошает Деррида, что когда-нибудь человечество
будет обходиться без письма? Изменятся, безусловно, его формы, но
письмо как отсрочка, дополнение, неизбежный эрзац останется на-
всегда. С иронией рисует философ футурологическую картину неко-
его бесписьменного общения существ, которые практически уже
перестали быть людьми, а напоминают фантастических иноплане-
тян с атрофированными органами тела.
В основе классической концепции художественного образа, ут-
верждают современные критики логоцентризма и классики, лежит
представление о природе как воплощении истины, природа — под-
линная творческая сила, она все создала, человек в своем творчестве
способен только подражать ей, воспроизводить ее. Всякое подража-
ние, даже не механическое, все же вторично. Человеческий дух вто-
ричен, а письмо, как и всякая система знаков, жестов, —тень тени,
подражание подражанию. Так, письмо неизбежно расчленяет, раз-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
552
деляет живую речь. Фонетическое письмо расчленяет слова на фо-
немы, последние представляют собой знаки, в которых уже ничего
практически не осталось от живого смысла речи.
Правда, продолжает Деррида, даже классические авторы добав-
ляют к этой схеме нечто иное, усложняющее ее. Например, Руссо
замечает, что благодаря письму он лучше может формулировать
свои мысли, он может сказать то, что обычно не говорится в живом
общении, и так далее. Одним словом, неизбежное зло—отчуждение
и омертвление духа в материи, объективация—обладает определен-
ными достоинствами. У Гегеля и Гете неизбежное историческое зло
превращается даже в добро. Но всех необходимых следствий из подоб-
ного оборота мысли классические мыслители все же не делают.
Ни мысль, ни дух, ни искусство не могли появиться без процес-
са их расчленения, разбивки, отсрочивания, отчуждения и извест-
ного, однако необходимого омертвления — всего того, что заключе-
но в письме, без чего письмо существовать не может. Но если мы
сделаем вывод, что дух существует лишь благодаря оставленным им
материальным следам, или следам в материи, и только в этих сле-
дах, то будем, согласно Деррида, не правы. Дух возможен благода-
ря следу и существует для нас только в следах, им оставленных, од-
нако дух это постоянное снятие следа, перечеркивание его, то есть
исчезающий след. Всякая система знаков (следов) есть разбивка жи-
вой целостности духа, расчленение его, замораживание и так далее.
И одновременно эти следы и знаки могут быть феноменами культу-
ры лишь тогда, когда они устраняют свою знаковую природу, когда
они оживают, снова превращаясь в целостность. Различие, на кото-
ром основано письмо (и любая другая система знаков) есть таким
образом постоянный и непрекращающийся процесс снятия, самоус-
транения различий, разбивки, следов и тому подобного. Различие,
таким образом, это частный преходящий момент, в действительно-
сти происходит процесс самоустранения следов (по сути, Деррида
имеет в виду объективации) и различий, но при этом и следы (объек-
тивации), и различия сохраняются, ибо без знаковых систем ника-
кая культура существовать не может. Как назвать этот процесс ус-
тановления знаков, различий, следов, объективаций и сохраняюще-
го их снятия? Деррида именует его различением (на слух, однако,
difference, замечает Н. Автономова, «не отличается от обычного dif-
Знак, отражение, «восполнителъностъ» 553
ference (различие) и выявляет свое своеобразие только в письмен-
ном виде»1).
До этого пункта рассуждения Деррида, кажется, еще допускают
их согласование с классической мыслью. Решительный разрыв с
последней происходит при следующем повороте дискурса: «След —
это не только исчезновение (перво)начала, он означает также — в
рамках нашего рассуждения и на всем протяжении нашего пути, —
что (перво)начало вовсе не исчезло, что его всегда создавало (и со-
здает) возвратное движение чего-то неизначального, то есть следа,
который тем самым становится (перво)началом (перво)начала»1 2.
Это рассуждение, как часто у Деррида, соотносится, сближается (по
своему смыслу, а не самим Деррида, разумеется) с идеями российс-
кого эстетически-философского «течения».«.. .Конец примешивает-
ся уже к началу—диалектическая истина этого в перемене мест
между результатом и исходным пунктом. Всякое развитие и всякое
исчерпывающее знание, — продолжает Лифшиц, — до известной
степени есть знание в круге, движение в круге, развитие того, что
уже есть, и знание того, что уже известно (что вкладывается в пред-
мет, по Канту) — всегда до известной степени курица и яйцо, “чело-
век рождает человека” (Аристотель)»3.
И мысль Деррида, и мысль Лифшица направлены против мета-
физики— идеалистической и материалистической. Природа, со-
гласно пантеистическому материализму и согласно Руссо, — перво-
начало всех смыслов, она содержит их в себе как в резервуаре, и
деятельность человека извлекает идеи, духовное вообще из этого ре-
зервуара. Однако дух создается благодаря письму (или первопись-
му), то есть системе отчужденных знаков, различий и так далее. Если
это так, то, рассуждает Деррида, природа (или Бог, что в данном
случае все равно) не представляет собой абсолютного первоначала
смыслов и вообще не есть первоначало. А где и благодаря чему воз-
никает смысл? Ответ неокантианства гласит: в объективной озна-
чающей (символической, порождающей объективную систему сим-
волов) деятельности человека. Но такой поворот мысли солипсичес-
1 Автономова Н. Соч. цит. С. 24.
2 Деррида Жак. О грамматологии. М., 2000. С. 187.
3 Лифшиц Мих. Что такое классика? М., 2004. С. 216.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
554
ки замыкает нас в субъекте (пусть даже и коллективном субъекте
или трансцендентальном). Деррида понимает эту опасность и хочет
ее избежать. Дело не в субъекте, а в процессе различания, который
более широк, выходит за рамки человечества и культуры. По сути,
существует только различение.
Природа, Бог—все это есть трансцендентальное означаемое, т.е.
реальность, действительность, выражаемая знаками и системой
знаков. Так думает Руссо. И с подобным пониманием смысла не по-
рвал даже Хайдеггер. «Признавая — не на подступах, но в самом по-
ле зрения хайдеггеровской мысли и ведущих к ней путей, — что
смысл бытия не есть некое трансцендентальное или трансэпохаль-
ное означаемое (даже если внутри определенной эпохи оно всегда
скрыто), но уже—в некоем неслыханном смысле—некий означаю-
щий след, мы тем самым утверждаем, что важнейшее понятие разли-
чия между онтическим и онтологическим не позволяет нам мыслить
все сразу и одновременно: сущее и бытие, онтическое и онтологичес-
кое, «онтически-онтологическое» как бы выводятся из различия, а
также из того, что далее будет названо различанием (differance): это
«экономия» отсрочивания и одновременно отстранения (differer).
Онтически-онтологическое различие и его обоснование (Grund) в
«трансценденции Здесь-бытия» (Dasein) не является абсолютно изна-
чальным. Различание как таковое еще «изначальнее», хотя его нель-
зя было бы назвать ни «перво(началом)», ни «основанием», так как
эти понятия по своей сути принадлежат к истории онто-теологии, т.е.
к системе, стирающей различия. Во всяком случае, понять различие
изблизи можно лишь при одном условии: нужно сначала определить
его как онтически-онтологическое различие, а уже потом стереть
это определение. Этот проход через стертое определение, этот оборот
письма — непреложны»1. Другими словами, есть только следы, кото-
рые обладают свойством саморазличаться, предполагают трещину
в себе, и, следовательно, исчезают. Но этот процесс разбивки, отсро-
чивания, самоуничтожения и самосохранения в самоуничтожении
и есть текст. Или письмо. Или различание. Или «восполнение». Или
след. Или — fort—da. Одним словом, тут в один ряд выстраивают-
ся все главные понятия деконструкции, включая и ее самою.
‘ДерридаЖак. О грамматологии. М., 2000. С. 140-141.
Знак, отражение, «восполнителъностъ»
555
Итак, существует только письмо, все в письме и все происходит
из письма, а не из воды, как считал Фалес, и не из воздуха, как по-
лагал Анаксимен.
«.. .Мы, согласно с главным тезисом нашего исследования, пола-
гаем, что вне текста не существует ничего...»1 Утверждение, как
понимает читатель, не шуточное. Но на той же странице книги Дер-
рида мы читаем фразу, подвергающую это категорическое утверж-
дение сомнению: «Начинать приходится там, где мы и находимся,
тем более что мысль о следе, чутьем берущая след, уже разведала и
доложила нам о том, что никакой исходный пункт не может быть
обоснован бесповоротно. Там, где мы и находимся,—значит, внут-
ри текста, где мы, по видимости, и существуем»2. Так существуем
мы — и все остальное, что есть на этом свете—в тексте и благода-
ря тексту, как в воде Фалеса—или только по видимости? На этот
вопрос нет ответа у Деррида, вернее, мы получаем прямо противо-
положные друг другу ответы, причем на одной и той же странице,
что заставляет думать: перед нами смысловая и словесная игра, сто-
ронником которой Деррида заявляет себя неоднократно. Но тут он
попадает в поле «современности» как сферы «нечистого», игрового
разума. Если все — игра, и ничего серьезного в этом мире нет, то о
чем же тогда может идти речь? Разум потерпел фиаско и должен сло-
жить с себя полномочия, предоставив равные права неразумию,
лжи, то есть намеренному искажению истины, игре. В чем и заклю-
чается суть плюралистического «равенства» и «многообразия». Пред-
ставляющего собой, как давно замечено, «репрессивную терпимость»,
репрессивную, конечно, к разуму и разумному началу реальности,
и терпимому ко лжи, которая представляет собой насильственное
подавление (например, посредством умолчания или искажения)
разума и его аргументов.
Но прежде чем продолжить эту тему, обратим внимание на то,
что софизм Деррида (все есть текст и все существует только в тек-
сте и благодаря тексту) основывается на серьезной теоретической
проблеме. Природа действительно не есть такое первоначало всего,
которое, как в ящике, в готовом виде содержит в себе все, а роль
1 Там же. С. 318.
2 Там же.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
556
человека и его сознания заключается только в том, чтобы это гото-
вое из ящика природы извлекать. Природа есть первоначало в том
смысле, что именно она саморазличается и движется, именно она
есть тот процесс различАния, который Деррида приписывает систе-
ме знаков—тексту. Правда, тексты пишет не природа, а человек. Но
человек есть такое дополнение к природе, внешнее по отношению
к ней, которое одновременно — нутрь ее (о чем более подробно бу-
дет сказано ниже). В этом смысле процесс различАния представля-
ет процесс самой природы. В этом смысле до известной степени прав
старый, метафизический материализм1.
Деррида справедливо критикует семиотику и структурализм за
то, что для них знаки и системы знаков есть не снимаемые, не само-
устраняющиеся следы. Нет, след (знак) потому и след, что он само-
устраняется. Но в каком случае мы избежим логики «иди туда и стой
здесь», хитрой и далеко не бескорыстной уловки Паниковского?
Когда мы не просто скажем — белое есть черное и наоборот, а знак
(след) самоустраняется — сохраняется. Мы разорвем порочный ло-
гический круг посредством щели между двумя противоположными
утверждениями, то есть между двумя противоположными утверж-
дениями существует не полное тождество.
Почему знаки сохраняются благодаря их стиранию? Потому что
они стираются не в физическом смысле, а превращаются в живой ду-
ховный процесс человеческого сознания. Это такое стирание знаков
(следов), благодаря которому возрастают значащие ситуации в объек-
тивном мире, расширяется область культуры как второй природы1 2.
1 «Абстрактная идея бытия в (старом) материализме. Та-
кое бытие существует лишь в определенных рамках—про-
тивопоставления пустому воображению» // Лифшиц Мих.
Что такое классика? С. 213.
2 «Переход от значащей для нас ситуации или вещи в при-
роде к нам самим, к значащему для себя принадлежит к
гегелевским чисто-логическим переходам... От такого пе-
рехода надо отличать реальный. То есть прямое развитие
символизма в природе не ведет непосредственно к созна-
нию. Наоборот, сознание само является обратным услови-
ем для расширения области значащего, рефлекс в объек-
тивный мир» // Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 223.
Знак, отражение, «восполншпелъностъ»
557
Т.е. знаки сохраняются благодаря их стиранию только в известном
смысле. А именно в том ограниченном смысле слова, что текст должен
стать значащим для сознания знаком, то есть ожить в сознании. Пре-
вращение текстов в элемент живого духовного процесса сознания есть
стирание знаков в том ограниченном смысле слова «стирание», что сти-
рается, устраняется знак как мертвая система, которая претендует на
то, чтобы вытеснить все живое. Такие явления, когда знаковые систе-
мы убивают жизнь, — один из самых опасных пороков культуры, «ло-
гика самопожирающей абстракции» (Мих. Лифшиц). Мысль само-
уничтожается, когда она не опирается на значащие ситуации объек-
тивного мира, когда она не является голосом целостности истинного
бытия, когда она не расширяет мир значащих ситуаций, а сужает их.
Но Деррида не делает этого решающего важного добавления, он
просто отождествляет сохранение и стирание следов-знаков. Его
понятие «след» обладает свойством и самосохранения, и самоустра-
нения. В тождестве между «сохранением» и «стиранием» у Деррида
нет щели, благодаря которой софистика могла бы превратиться в
диалектику. Да, знак может быть живой знаковой системой, реаль-
ным текстом культуры, когда он снимается в деятельности челове-
ка, оживая в фонеме человеческой речи — материального способа
существования мышления. Но обратная теорема не верна: знак есть
стирание знака в сознательной деятельности, и это верно, но не вся-
кое стирание знака есть его сохранение, а только вполне определен-
ное стирание. Между двумя противоположными тезисами не полное
тождество. И благодаря дифференциалу, различию между этими
тезисами знак что-то может действительно значить, а не убивать все
живое вокруг себя, застывая в мертвой букве, когда по форме вер-
но, а по сути издевательство.
Итак, не только вопреки стиранию знаков, устранению их (на-
пример, гибели книг при пожаре или наводнении), но в известном
смысле и благодаря стиранию знаков жива человеческая культура
как знаковая система. Но Деррида не прибегает к этой логической
формуле, найденной «течением» 30-х годов, и потому в конечном
счете оказывается софистом. Логика «течения» разрывает порочный
круг. А логика по принципу fort—da есть формула порочного кру-
га, в котором нет щели, это формула такого «между», которое ведет
к абсолютному тупику мысли. Интеллектуальная игра Деррида за-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
558
ключает в себе возможность вывода с непредсказуемыми послед-
ствиями: нет ни человека, ни природы, а только тексты. Которые со-
храняются потому, что их можно и нужно уничтожать. Это целая
программа формализованной, сошедшей с ума культуры, которая
устраняет все живое и человеческое как устаревший хлам, прибегая,
в частности, для осуществления своей «программы» и к физическо-
му устранению живой мысли и чувства прошлых веков, хранящих-
ся в библиотеках, музеях, памятниках...
Правда, Деррида хочет снять с себя ответственность за возмож-
ные последствия и выводы из его идей. Он утверждает, что мы су-
ществуем внутри текста, и в мире есть только текст, однако не на-
стаивает на своем утверждении, добавляя словечко «по видимости».
В результате все его тонкие построения оказываются всего лишь
видимостью, игрой ума, абсолютно ни на что не претендующей..
Этос «неподкупного» мышления:
«строгость вкуса»
и «непреклонная борьба с доксой»
А есть ли у Деррида хоть что-нибудь серьезное, что он
отстаивает на самом деле? Комментаторы творчества французского
философа,—как те, что являются его почитателями, так и те, что не
принимают этой игры—нередко склоняются к тому, что единственно
серьезное у Деррида—это его принципиальная несерьезность, един-
ственно подлинное для него — принципиальная и тотальная непод-
линность. «Жак Деррида многое сделал для разоблачения таких ми-
фологем, как «оригинальное», «аутентичное», «порядок присутствия»,
привилегия логоса как голоса, как того, что предшествует письму. И
вот оригинал его текста несводимо приобретает форму перевода, в
его более чем сомнительной самодостаточности, в качестве фрагмен-
та его собственного—le proper, собственное, еще один антагонист
деконструкции—фрагмента (...). Итак, перед нами новый уровень
симуляции аутентичного, фрагмент в кубе, следы следов следов»1.
'Рыклин М. Предисловие // Жак Деррида в Москве. М.,
1993- С. 7-
Этос «неподкупного» мышления:
«строгость вкуса» и «непреклонная борьба с доксой» 559
Однако другие, не менее современные авторы видят в этой прин-
ципиальной неподлинности жажду правды1. Деррида, таким обра-
зом, все же критянин, со всей серьезностью и искренностью утвер-
ждающий, что все критяне лгут?
Незадолго до смерти, зная о своей неизлечимой болезни, фило-
соф дает последнее интервью, в котором он говорит о том, что для
него абсолютно исключено. Когда тот или иной ученый пытается,
«вопреки большому количеству доказательств, довести критические
вопросы до утверждений, недопустимых с точки зрения удостове-
ренной и доказанной истины, то он просто человек некомпетентный
и вредоносный. Но прежде всего — именно некомпетентный и, сле-
довательно, недостойный быть профессором в университете. В этом
случае спор невозможен»1 2. Философ размышляет о той ответствен-
ности, которую должна на себя взять Европа перед остальным ми-
ром, и для него эта ответственность — «единственно возможный
выход».3 Он говорит об ответственности и перед мыслью, перед эпо-
хой, которая его породила, — «эта ответственность не терпит отла-
гательств: она призывает к непреклонной борьбе с доксой, с теми,
кого сейчас называют «интеллектуалами при СМИ», с теми, чьи речи
заранее отформатированы под шаблон, с теми, кто господствует над
средствами массовой информации, в свою очередь подвластными
политико-экономическим, а также нередко издательским и акаде-
мическим лобби»4.
Деррида относит себя к той интеллектуальной среде или груп-
пе, которую характеризует как «неуступчивую», он вспоминает, что
их называли «неподкупными» (ассоциация с Робеспьером — Непод-
купным, как его именовала революционная Франция? —В. А), ибо
1 «Деконструкция окажется в одной из последних книг Жа-
ка Деррида (“Сила закона”, 1994) не подлежащей никакой
деконструкции, не поддающейся никакой редукции жаж-
дой правды» — см. Бибихин В.В. Примечание переводчи-
ка // Жак Деррида. Позиции. Киев. 1996. С. 188.
2 Деррида Жак. Наконец-то научиться жить (последнее
интервью) // Вопросы философии. 2005. № 4. С. 141.
3 Там же. С. 139.
4 Там же. С. 135.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
5бо
«этос письма и мысли» определяется тем, что «он ни перед чем не
останавливается, даже перед философией; не боится ни обществен-
ного мнения, ни средств массовой информации; не робеет перед
воображаемым читателем. В противном случае, — продолжает фи-
лософ, — все эти страхи могли бы принудить нас к упрощениям или
вытеснениям. А отсюда строгость вкуса — к тонкостям, парадоксам,
апориям. Это предпочтение навсегда остается требованием»1.
Включив радио, можно сегодня (я пишу эти строки в 2005 году)
почти ежедневно услышать на самой популярной у московской ин-
теллигентной и либеральной публики радиостанции рассуждения
известного тележурналиста об интеллектуальной ответственности,
нравственности, социальной справедливости. Эти рассуждения ка-
зались бы даже несколько пресными при всей своей справедливости,
если бы не звучали из уст человека, который сам себя не так давно
именовал «телевизионным киллером». Посредством инсинуаций,
манипуляций и всевозможных трюков он выполнил порученное ему
и, очевидно, хорошо оплаченное задание — «убил» видного полити-
ческого деятеля, и тот не был избран на пост премьер-министра
страны, вопреки воле большинства населения, безусловно поддер-
живавшего политика, о котором идет речь.
Может быть, и рассуждения об ответственности не были бы за-
мечены, или вызвали бы только ироническую усмешку, не прозву-
чи они из уст великого софиста и интеллектуального фокусника,
каким, по общему мнению, являлся Жак Деррида? Но если телекил-
леру, выступающему теперь в роли неподкупного Робеспьера, ве-
рить безусловно нельзя, то как следует относиться к приведенным
выше словом философа? Что перед нами — «новый уровень симуля-
ции аутентичного», то есть подлинного, как уверял читателя его
московский поклонник и последователь, общавшийся с мыслителем
во время его пребывания в Москве и затем гостеприимно принятый
им в Париже? Кому же верить, как не тому последователю-поклон-
нику, которому философ доверил свой текст для первой публикации
в русском переводе?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся снова к текстам Дер-
рида. Рассказывая о своем путешествии в Москву 1990 года, Дерри-
1 Там же.
Этос «неподкупного» .мышления;
«строгость вкуса» и «непреклонная борьба с доксой»
да как бы вскользь замечает о дискурсе, «которого мне бы хотелось
любой ценой избежать»'. Это дискурс, в настоящее время «домини-
рующий на Западе — и у путешественников с Запада, отправляю-
щихся в страны Восточной Европы, — очень часто принимает фор-
му вопроса: удастся ли этим людям и если да, то какой ценой и как
быстро, стать нам подобными, войдя в более чем когда-либо надеж-
ное пространство демократий с их рынками (как бы их ни называ-
ли: капиталистическими, неокапиталистическими или каким-либо
другим типом саморегуляции)? Войдут ли они наконец-то в историю
или, войдя, из нее выйдут, что то же самое (если, как некий совет-
ник Белого дома, ничтоже сумняшеся полагать, что с реализацией
всеобщей демократической модели мы в конечном счете пришли к
концу истории)?»1 2
Деррида далее говорит о своей нерешительности, не позволяю-
щей ему рассказать о своей поездке в Москву, «эта нерешительность
относится не только к понятию и наличию демократии, но и — при-
чем одно вследствие другого — к установлению природы имеюще-
го там место процесса, называемого перестройкой»3. Одним словом,
ничто не заставило философа подпевать общему хору, в том числе
и его московские друзья, затем издавшие книгу «Жак Деррида в
Москве», которые в разговорах между собой «переводили слово “пе-
рестройка” как “деконструкция”4 — “сущностная непроясненность,
которая целиком отдает ее (т.е. “перестройку” в СССР) на откуп бу-
дущему”,—такова причина моей максимальной сдержанности по
отношению к переводу слова “перестройка” термином “деконструк-
ция”»5.
Философ на деле ответственно — хотя бы иногда—относился к
своему слову, и ничто — ни общее мнение, ни авторитеты, ни дру-
зья— не заставили его хотя бы «чуть-чуть» поддаться всеобщей ли-
беральной эйфории по поводу демократизации и либерализации в
1 Жак Деррида в Москве. С. 53.
2 Там же. С. 52-53.
3 Там же. С. 53.
4 Там же. С. 51.
5 Там же. С. 53.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
562
СССР эпохи Горбачева, хотя этого от него очень ждали (и на Запа-
де, и в России). Более того, он обнаружил, несмотря на краткость
своего пребывания в Москве и незнание русского языка, поразитель-
ную зоркость и глубину настоящего мыслителя, недоступную боль-
шинству его современников и почитателей. Поэтому есть основания
полагать, что, слова, сказанные философом перед смертью и проци-
тированные нами, были сказаны всерьез. Они заставляют также
серьезно отнестись ко всему, что было написано Деррида, даже тог-
да, когда сам философ придавал сказанному им игровую форму.
Однако конечный вывод деконструкции — по крайней мере как
последняя представлена в его базовой книге «О грамматологии» —
гласит: реален, действителен только текст, означаемое (природа,
общество, человек, культура, поскольку она живая, а не текст) есть
нечто вторичное, производное от текста, может быть, вообще не
существующее, миф, греза...
Практически то же самое нам внушает и консервная банка Уор-
хола. В этом современном мире нет места персонажам портретов
А. Пластова и его живописи. Нет места прозе М. Булгакова, поэзии
А. Твардовского, позднего О. Мандельштама. И фильмам Чаплина,
романам Томаса Манна, Кабирии и Джельсомине Феллини тоже нет
места — ничему подлинному, одним словом. Каков же главный ар-
гумент Жака Деррида в пользу этого вывода, и насколько он серье-
зен, заслуживает внимания?
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
Прослеженная выше логика Деррида такова: нет ни
природы, ни Бога, ни человечества, вообще ничего, кроме реальнос-
ти, с какой мы имеем дело—различения. Последнее—не дух, кото-
рый себя объективирует в мертвые материальные продукты, отчуж-
денные от него. И не самостоятельно существующие объективации,
по отношению к которым дух вторичен (позиция структурализма).
«Метафизика фонетического письма ... была ... самым первым
и самым мощным этноцентризмом, который ныне навязывает себя
всему миру и управляет в рамках единого порядка:
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
563
I. понятием письма в мире, где выработка фонетического пись-
ма в мире сопряжена с сокрытием собственно истории письма как
такового;
2. историей метафизики, которая, несмотря на все различие
подходов — от Платона до Гегеля (включительно, даже Лейбница)
и даже от досократиков до Хайдеггера — всегда видела (перво)нача-
ло истины как таковой в логосе. История истины ...была... прини-
жением письма;
3. понятием науки или научности мира, которое всегда относи-
лось к области логики».1
Смысл не мог появиться до следа, который он оставляет. Логи-
ка не могла появиться до материальной человеческой деятельнос-
ти. Не-отчужденное—до отчуждения. Речь—до письма. Курица —
до яйца. Где же все это появляется? В области между. Что это за
место и существует ли оно вообще? В «Тимее» Платона, пишет Дер-
рида, это особое место, которое представляет собой «матерь» всего,
место, где все рождается, именуется «хорой». Детально анализируя
логику Платона в указанном диалоге, Деррида констатирует: «дой-
дя до середины цикла, речь о хоре кажется все еще открытой, меж-
ду чувственным и умопостигаемым, не принадлежащей ни тому, ни
другому, а следовательно, ни космосу как чувственному богу, ни
умопостигаемому богу, — пространству с виду пустому, несмотря на
то, что оно конечно же не пустота. Но разве она уже не названа
зияющей дырой, пропастью или щелью? И разве не начиная с этой
щели «в» ней, может состояться и иметь место расслоение между
чувственным и умопостигаемым или даже между телом и душой? Не
будем слишком быстро приближать эту щель, называемую хорой, к
такому хаосу, который к тому же открывает зияние пропасти. Не ста-
нем подгонять под нее антропоморфическую форму и пафос ужаса.
Но не для того, чтобы установить на ее месте безопасную опору.. .»1 2
Деррида обращается к понятию того хаоса, из которого, соглас-
но античным философам, произошло все, и в который в конечном
счете все уйдет, чтобы затем возгореться, говоря словами Геракли-
1 Деррида Жак. О грамматологии. С. 115-116.
2 Деррида Жак. Хора // Социо-Логос постмодернизма, 97.
М., 1996. С. 139.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
564
та, снова. Об этом хаосе говорит в «Фаусте» Гете, именуя его пред-
вечными Матерями — началом всех вещей. Почему же порождаю-
щее все начало является именно хаосом, а не порядком, космосом?
Потому что, очевидно, оно не укладывается в человеческие опреде-
ления, не может быть схвачено Логосом. Великий поэт Логоса Гегель
признавал, как и Гете, наличие чего-то подобного хаосу в мире. Од-
нако он все же упростил проблему, заключив, что если мы мыслим
то, что принципиально не может быть схвачено мыслью, то тем са-
мым уже охватываем, понимаем это нечто, этот непознаваемый
хаос. Деррида обнажает эту слабость позиции Гегеля, как и всей
классической философии и культуры.
По отношению к хоре, к между не применима бинарная логика
«да» или «нет»: «мы не можем даже сказать о ней, что она ни то, ни
это или что она одновременно и то, и это»1. Во многих своих сочине-
ниях Деррида подводит читателя к выводу, что конечный итог—аб-
солютное молчание, при котором стираются все различия. В заклю-
чительных строках книги «О грамматологии» Деррида вопрошает:
«Не является ли противоположность сна и яви сама метафизическим
представлением?»1 2 Толи наяву все это, то ли пригрезилось, присни-
лось — ничего определенного сказать нельзя. Различение и сама де-
конструкция оказываются тупиком абсолютного неразличения —
сна от яви, истины от лжи и так далее. Грустный итог. Но, прямо
скажем, и не слишком оригинальный. Однако дело даже не в том,
что к такому итогу приходили и до Деррида. Не слишком ли поспе-
шил с окончательным выводом наш автор?
Он полагает, что логика — ни-ни; ни то, ни се—является на-
столько универсальной, что к ней ничего добавить уже нельзя. По-
вторяем, в действительности есть то, что именуется «ни рыба, ни
мясо», «ни то, ни се» и что издавна именовалось межеумочностъю.
Постмодернизм в целом и Деррида в частности обратили внимание
на то, что явления между заключают в себе нечто, обладающее серь-
езной значимостью. Но следует ли отсюда, что только незначитель-
ное значимо? Вовсе не следует. Правильный вывод, на наш взгляд,
гласит: в явлениях «ни то, ни се» есть вопреки общепринятому мне-
1 Там же. С. 124.
2 Деррида Жак. О грамматологии. С. 511.
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
565
нию нечто значительное. Которое требует определения, вычлене-
ния, анализа, то есть дальнейшего различения и дифференциро-
вания.
Основные понятия деконструкции Жака Деррида — различение,
след, дополнение, парергон, между, письмо—так или иначе относят-
ся к явлению «ни то, ни се», к ситуации, когда хорошего, единствен-
но правильного выбора просто нет. Это состояние хаоса, в котором
все кошки серы. Однако вспомним, что пример между, который яв-
ляется центральным для Деррида — это протописьмо, первописьмо.
«Между до-языком и языком, между криком и речью, между живот-
ным и человеком, природой и обществом Руссо ищет этот «зарож-
дающийся» предел и дает ему различные определения»1. Одно из
таких определений — «невма, волшебство самоналичия, нечлено-
рожденный опыт времени — это, иначе говоря, утопия. Такого язы-
ка— ибо речь идет именно о языке — собственно говоря, не суще-
ствует»2. То есть перед нами—хора Платона, место, которого нет в
строгом смысле слова, но которое все порождает—не схватывае-
мый понятийно хаос древних мыслителей.
Формально говоря, этот хаос, хора, между—«ни то, ни се». Од-
нако корректно ли отождествлять порождающий хаос, хору, с теми
явлениями, которые характеризуются как «ни рыба, ни мясо», то
есть как межеумочность? Опять-таки формально и порождающий
хаос, и межеумочность — «ни то, ни се». Но только формально. Есть
такое «ни то, ни се», которое вовсе ничего не порождает и исчезает
бесследно. Это то, что Гегель называл дурным в самом себе, и пото-
му разлагающимся, гибнущим, уходящим в ничто. Пустая неопре-
деленность, в которой смешиваются все понятия, есть элементарная
глупость. Надо ли проводить различия между пустой головой, ка-
ким-нибудь Ноздревым, Хлестаковым и самим Гоголем? Они разли-
чаются хотя бы уже тем, что Гоголь в состоянии понять, охватить их,
а они его—нет.
Г олова Гоголя или другого подлинного художника, мыслителя —
не компьютер, в котором хранится готовая уже информация, не
предвечный Логос, которому все заранее известно, а такое место
1 Там же. С. 425.
2 Там же. С. 429.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
566
(Khora), которое способно развернуть из первоначального хаоса
высший порядок законченного произведения. Когда мы установим
это первое различие (помня, однако, о том, что все различия огра-
ничены), то клубок начинает распутываться.
РазличАние Деррида погрузило нас в нечто такое, где вообще
нет никаких уже различий — ни между сном и явью, истиной и ло-
жью, началом и концом, наружой и нутрью, природой и культурой
и так далее. Собственно говоря, весь мир оказался тем неопределен-
ным «нечто», на которое, согласно Кратилу, можно только указывать
пальцем, ибо оно ускользает от любого определения, от любого ог-
раничения. Есть ли в этой позиции что-то верное? Есть, ибо перед
нами — бесконечная в пространстве и времени материя (Деррида
указывает, что платоновское понятие хоры превратилось в понятие
материи у Аристотеля). Двинуться к пониманию ее — значит, на-
чать процесс разграничения, огрубления, определения. И, следова-
тельно, письма в том числе, с его разбивкой живой речи на фонемы,
которые превращаются в знаки, фиксируемые линейно, в чем, ра-
зумеется, все живое застывает и умирает. Однако не только умира-
ет, но и возрождается тоже.
«Письмо смогло укрепиться лишь поскольку протописьмо скры-
валось, а речь стремилась изгнать своего другого, своего двойника,
всячески преуменьшая различия между ним и собой. Мы упорно
называем эти различия письмом, поскольку в процессе истории как
подавления именно письмо стало обозначением различия, вызыва-
ющего наибольший страх. Оно предстало как прямая угроза жела-
нию живой речи, как то, что изнутри и изначально ее починало».1
Деррида приводит примеры, свидетельствующие о том, что письмо
вызывало страх у таких людей, как Платон и Руссо, — именно пото-
му, что заключало в себе опасность смерти духа, угасания всего
живого в буквоедстве грамотеев. Последние, представляя собой
влиятельный слой во всех цивилизациях, начиная с Древнего Егип-
та, относились к буковоедству, разумеется, иначе, чем Платон или
Руссо. Однако Деррида почему-то не делает этого важного различия.
Умирание живого (хоры, протописьма, порождающего хаоса меж-
ду') в застывших знаковых системах цивилизации — старая тема, от
1 Там же. С. 181.
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
567
античности до наших дней, которой уделяли очень много внимания
просветители XVIII века. Но уже Платон понимал, что письмо — свое-
образный фармакон, то есть и яд и целительное средство. Лессинг
выдвинул свою программу превращения «ухи в аквариум» (по вы-
ражению Мих. Лифшица) — возвращение жизни мертвым знаковым
системам цивилизации, отнявшим у вещей их «душу», их естествен-
ную жизнь. Пример тому—литература, то есть письмо, в котором
возрождается и развивается на более широкой основе цивилизации
то, что Деррида именует протописьмом и первоначалом.
Одно и то же, доказывает Деррида, является и ядом, и целитель-
ным средством одновременно. Любой здравомыслящий человек лег-
ко опровергнет подобную логику, показав, что все дело в мере: в
определенном количестве и в определенной мере данное вещест-
во —целительное средство, а при других условиях и в другой мере —
яд. Иначе говоря, человек жив бывает не только вопреки яду, но в
известной мере и благодаря ему. По пути развития логики вопреки
и благодаря двинулась мировая, прежде всего европейская, цивили-
зация и достигла на этом пути немалых успехов. Но Деррида этот
путь не устраивает, и он именует его логоцентризмом. Рациональный
смысл его концепции заключается в том, что граница между хаосом
порождающим и пустотой, глупостью, межеумочностъю тоже отно-
сительна. Иначе говоря, Ноздрев и Хлестаков не абсолютно уступа-
ют своему создателю. Даже у глупости есть некоторые преимуще-
ства перед умом, блестяще продемонстрированные Эразмом Роттер-
дамским. Фамусов ближе к материальному полюсу бытия, к натуре,
чем Чацкий. Значит ли это, что надо добровольно пойти в дураки?
Не только благодаря уму мы бываем умны, но в известной мере
и благодаря неразумию. Какому неразумию и в какой мере — вот
вопрос. Но Деррида останавливается перед этим дальнейшим раз-
личением. Он останавливается на том, что разница между хорой и
межеумочностью относительна. Ради доказательства последнего
положения он исполняет замысловатые танцы в своих многочислен-
ных сочинениях. И тем самым достигает нужного ему результата: ни
то, ни се — вот последняя истина мира. И переходит из сферы слов
и письма в молчание бесконечной рефлексии. А вот когда мы вслед
за Деррида говорим, что граница между умом и межеумочностью,
между все порождающей хорой и неопределенностью по типу «ни
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
568
рыба, ни мясо» тоже по-своему ограничена и допускает дополнение
по отношению к себе, то не останавливаемся и идем дальше по пути
различий.
Да, преимущества Чацкого перед Фамусовым относительны1. Но
мы не можем сказать, что между умом и глупостью нет разницы.
Напротив, наши дальнейшие различия уточняют эту разницу. Они
доказывают, что ум никогда не должен отрываться от натуры, что
даже в заблуждениях этой натуры может быть нечто ценное. И по-
тому иные заблуждения поднимают ум над самим собой. Какие же
это заблуждения? Те, в которых мучается, ищет выхода и не может
его найти, корчится и искажается сама натура—материя. В том
числе материя социальная, именуемая обычно народом. К ней-то и
спускается дух, покидая сферу бесплодной рефлексии, оживляется
ею и поднимается вновь. Ум ищет ответа не в самом себе, а в под-
сказке реальности, натуры. Ибо сам он—не что иное, как заговорив-
шая материя. Деррида останавливается, не сделав этого шага к хоре,
окаменев под взглядом логоцентризма. Абстрактное отрицание по-
следнего погружает французского философа в сферу бесконечной
рефлексии. И он остается там—вместо того чтобы освежиться в оке-
ане бесконечной материи.
Философия различАния не позволила рассмотреть в позиции
Платона, основателя объективного идеализма и того, что именует-
ся логоцентризмом, мысль поразительной глубины. Деррида в ста-
тье о хоре честно проанализировал все оттенки смысла, которые
Платон вкладывал в это понятие, не утаив ни одного, включая —
«кормилица», порождающая «мать». Но поскольку все эти понятия
у Платона совмещены с прямо противоположными, и сама противо-
положность эта тоже в свою очередь отрицается, то Деррида счита-
ет себя вправе сделать вывод, что перед нами—«ни то, ни это», и мы
не можем при этом одновременно сказать «и то, и это». Недостаточ-
но просто напомнить, продолжает Деррида, «что она не называет ни
того, ни этого или, что она говорит и то, и это»1 2.
1 См. подробное развитие этой темы: Лифшиц Мих. «Горе
от ума» Грибоедова //ЛифшицМих. Очерки русской куль-
туры. М., 1995.
2 Деррида Ж. Хора. С. 124.
Хора: область «между» —
бездомность или порождающий хаос?
569
Текстуально Деррида близок тексту Платона. Однако обратимся
к собственным словам греческого мыслителя: «А о Кормилице скажем
вот что: поскольку она и растекается влагой, и пламенеет огнем, и
принимает формы земли и воздуха, и претерпевает всю череду по-
добных состояний, являя многообразный лик, и поскольку напол-
нявшие ее потенции не были ни взаимно подобны, ни взаимно урав-
новешены и сама она ни в одной своей части не имела равновесия,
она повсюду была неравномерно сотрясаема и колеблема этими по-
тенциями и в свою очередь сама колебала их своим движением. То,
что приводилось в движение, все время дробилось, и образовавши-
еся части неслись в различных направлениях точно так, как это бы-
вает при просеивании зерна и отсеивании мякины: плотное и тяже-
лое ложится в одном месте, рыхлое и легкое отлетает в сторону и на-
ходицдля себя иное пристанище. Вот наподобие этого и четыре
упомянутых рода [стихии] были тогда колеблемы Восприемницей,
которая в движении своем являла собой как бы сито: то, что наиме-
нее сходно между собой, она разбрасывала дальше всего друг от дру-
га, а то, что более всего сходно, просеивала ближе всего друг к дру-
гу; таким образом, четыре рода обособились в пространстве еще до
того, как пришло время рождаться устрояемой из них Вселенной»’.
Согласно Платону, Вселенная и все ее конкретные образования
возникают не только как продукт формирующей деятельности идеи,
логоса, разумного начала всех вещей. Кроме формирующей идеи-от-
ца должна быть еще восприемница и кормилица мать. И, что очень
важно, она не только пассивна, в известном отношении, в определен-
ной мере платоновская хора есть «пестунья Вселенной»1 2. Дело не в том,
что она производит первичное просеивание стихий до логоса, до
идеи — недаром Платон называет ее хорой, т.е. местом, простран-
ством (как в переводе С. Аверинцева), а не временем. Но это такое же
«место», каким, например, является человек—он и занимает опреде-
ленное место в пространстве и вместе с тем есть микрокосм, т.е. яв-
ляется тем центром, который собирает в себя все «места» Вселенной.
Мать не зачинает ребенка до отца, но только вместе с ним. Ло-
гос, идеи без деятельности того, что прямо противоположно идеаль-
1 Платон. Соч. Т. 3, часть i. М., 1971. С. 494.
2 Там же. С. 536.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
570
ному началу мира, то есть без материи, ничего породить не могут.
Позднее английский материалист Толанд будет говорить о принци-
пе наборной кассы: сколько нужно времени при перетряхивании
этой кассы, чтобы из букв случайно сложилась Илиада? Этот аргу-
мент идеалист Цицерон приводил как доказательство существова-
ния Бога, абсолютного идеального и разумного начала, которое все
породило в этом мире, ибо ясно, что никакого времени не хватит для
случайного возникновения Илиады (а клеточка живого, как извест-
но, имеет более сложную структуру, чем Илиада)1. Однако родона-
чальник идеализма в отличие от упростившего его мысль Цицерона,
как видим, не только допускал, но делал необходимой для возник-
новения Вселенной иное, чем логос, начало — «мать», «Кормилицу»,
«хору».
Причем у Платона это иное начало—не иррационально, ибо из
соединения иррационального с рациональным ничего получиться
не может, кроме мертвой эклектики. Оно имеет с логосом, идеей об-
щую основу, как мать с отцом, но в то же время так же противопо-
ложно идеальному, как мать—отцу. И то, и другое—в природе вещей,
и то и другое — основание Вселенной, отношение между логосом и
хорой не есть отношение причины и следствия, их противополож-
ность основана на более глубоком единстве. Которое, однако, не
предполагает какого-то более высокого третьего принципа, произ-
водящего эти противоположности. Вспомним, что, согласно Лени-
ну, над материей и сознанием не возвышается некая третья сущ-
ность, снимающая их. Материя первична только в определенном
смысле — гносеологическом, как и у Платона хора—мать — может
творить реальные вещи только вместе с отцом, и вместе с тем она
до логоса просеивает и группирует все стихии, будучи, однако, не
временем, а особым пространством, «местом».
Как соотносятся реальное и идеальное начала мира — предмет
всей многовековой философии. Логоцентризм идеализма заключал-
ся в том, что даже у таких глубоких мыслителей, как Гегель, реаль-
1 Соотношение подтасованного и механически необходи-
мого— постоянный предмет мысли Мих. Лифшица. См.,
например, об этом соотношении: Лифшиц Мих. Что такое
классика? С. 461-463
571
ное в конечном счете подчинялось идеальному, более того, было про-
дуктом последнего, то есть между ними устанавливалось однона-
правленное, линейное отношение причины и следствия. Родоначаль-
ник объективного идеализма не был столь последовательным лого-
центристом, ибо его хора не только равноправна с логосом, но в
известном отношении даже первична. Эта платоновская идея, проч-
но забытая послеплатоновским идеализмом, была подхвачена и раз-
вита современной формой материализма у теоретиков «течения», но
уже не в зо-е, а в 6о-8о-е годы XX века.
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи
Материя дая идеализма—нечто неподаинное, само-
разлагающееся, источник зла, распущенности и хаоса. Воюя с лого-
центризмом и идеализмом, Деррида раскачивает, и, раскачивая,
хочет разрушить устоявшееся мнение, что весь мир делится на пра-
ведных людей и негодяев, мешающих праведникам жить и творить
вечное, доброе, истинное. Негодяи, развратники и свойственное им
раз-гул(яние), распущенность, пишет Деррида, каким-то образом
связаны со свободой, свободомыслием, породившем идею демокра-
тии, —достаточно вспомнить, например, о либертенах1, богеме ли-
тераторов XVIII века, нередко нахлебниках у богатых ине менее рас-
пущенных, безнравственных аристократов (маркиз де Сад, к приме-
ру). Жак Деррида в книге «Негодяи», пускаясь, как обычно, в свою
бесконечную рефлексию, игру понятиями и смыслами, показывает
что либертены — не просто серьезное явление, заслуживающее вни-
мания, но без них просто не появилось бы в Европе свободомыслие
и свободолюбие, добродетели либерализма.
Согласимся, однако, с Михаилом Булгаковым, что бездомность
Шарикова, считающего себя вправе на этом основании потеснить
1 См. русский перевод отрывка из книги Ж. Деррида «Не-
’ годяи», опубликованного в Новом литературном обозре-
нии под названием «Разбойники» // Новое литературное
обозрение. 2005, № 72. С. 43.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
572
или даже выселить профессора Преображенского из его квартиры,
большого сочувствия у нас не вызывает. Мы говорим, что демокра-
тия не тождественна плебейской или, что еще хуже, люмпенской
справедливости. Альтерглобализм Жака Деррида субъективно на-
правлен на поиск истинно среднего между формальной демократи-
ей Запада и террористической исламской справедливостью Восто-
ка, однако, как мы видели, он явно смешивает два вида «между», как
смешивает либертенов и негодяев с истинно свободным человеком,
разгул и распущенность — со свободой.
И потому, пожалуй, можно было бы считать критику Деррида
законченной, еще раз показав, как он путает межеумочность с «меж-
ду»— прохождением между Сциллой и Харибдой, ситуацию «сиде-
ния между двух стульев» — с тем прекрасным и высоким счастьем,
что может появиться только между людьми (любовь, к примеру).
Нет, следовательно, и быть не может «беззастенчивого шантажа
истинной любви»1, и это словосочетание у Деррида — типичный
пример его софистики. Или истинная любовь, которая не может
опуститься до шантажа — или нет на самом деле любви, иллюзия ее,
симулякр. Третьего тут не дано, Деррида просто путает карты, соеди-
няя несоединимое. А Шурочку из «Поединка» Куприна, этого ниц-
шеанца в юбке, следует назвать стервой (что совершенно справед-
ливо) и поставить на этом точку.
Кажется, таков вывод и автора повести. Вот что говорит о Шу-
рочке один из персонажей «Поединка», проницательный человек и
тоже, как и Ромашов, жертва этой негодяйки: «Пожалуй, она никог-
да и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия,
какая-то злая и гордая сила». Да, это так, но послушайте его дальше:
«И в то же время она—такая добрая, женственная, бесконечно ми-
лая. Точно в ней два человека: один — с сухим, эгоистическим умом,
другой—с нежным и страстным сердцем». Впрочем, это добавление
не дает ни одного шанса дая Деррида: поскольку двойственность ха-
рактера приносит пользу Шурочке, то она просто лжец или «искрен-
ний лжец»—доброта и женственность служат тому, чтобы поймать
невинную жертву. Недаром Ромашов в той роковой, последней бе-
седе с Шурочкой, которая привела его к гибели, «почувствовал, как
1 Деррида Ж. О почтовой открытке... С. 42.
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи
573
между ними незримо проползло что-то тайное, гадкое, склизкое, от
чего пахнуло холодом на его душу». Дьявол в юбке, негодяйка, от ко-
торой надо держаться подальше — вывод совершенно справедливый
и бесспорный. Деррида не прав, применив по отношению к подоб-
ным лживым существам святое понятие «истинной любви». Негодяй
не может искренно любить, негодяй не может создавать гениальные
идеи, он всегда—Сальери. Значит, Деррида явно ошибается, когда
в своей книге «Негодяи» приписывает негодяям-либертенам, раз-
вратникам XVIII века великие интеллектуальные достоинства? В
этом вертепе, в этом развратном «между» ничего достойное появить-
ся не может! Так должен думать «классик» или человек, следующий
традициям классики.
Однако — и уже не в первый раз, как мы видели — крамольная
мысль^овременного французского постмодерниста получает неожи-
данную поддержку у «ортодоксального» или, как он сам себя называл,
«обыкновенного» марксиста Мих. Лифшица. В записи от з августа
1963 года Лифшиц замечает: «Гений и злодейство—две вещи несов-
местные. Эта мысль не чужда Дидро. Но в «Салоне 1767 года» он раз-
вивает другую сторону антиномии: чем виртуознее, искушеннее чело-
веческий дух, тем больше его интересует все отрицательное, всякое
страдание другого, которое он переживает, сочувствуя ему и вместе
с тем наслаждаясь этим»1. Добродетельная «ярость Дидро против Бу-
ше — он наступает на горло собственной песне. Это протест против
либертинажа и демонического материализма. А дураки думают.. ,»2
Они думают, если продолжить незаконченную запись Лифшица, что
Дидро—добродетельный мещанин, поклонник «золотой середины».
Нет, Дидро наступает на горло собственной песне, когда мыслит в
духе «честного сознания» и «хорошего» среднего, mesotes философов,
которым он противопоставляет, согласно Лифшицу, гиперболу, мыш-
ление по методу парадокса, т.е. эксцесса разума3... «Не является ли
парадоксом и атеизм Дидро,—род возвращения к либертинажу... »4
'Лифшиц Мих. Что такое классика? Онтогносеология. Смысл
мира. Истинная середина. М., 2004. С. 468.
2 Там же. С. 473-
3 Там же. С. 468.
4 Там же. С. 471.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
574
Либертены—негодяи, развратники, бездельники, подобные пле-
мяннику Рамо. Но в хаосе, царящем в голове этого циничного нахлеб-
ника, проскальзывают гораздо более сильные мысли, чем у филосо-
фов «золотой середины», носителей «честного сознания» и здраво-
мыслящей добропорядочности. Впрочем, задолго до Деррида Гегель
поместил разорванное сознание племянника композитора Рамо,
сознание, для которого «то, что определено как хорошее, есть дур-
ное; то, что определено как дурное, есть хорошее»1 — в центр своей
«Феноменологии духа», в главу о самоотчуждающемся духе в мире
образования, включающем в себя и такой вид отчуждения духа, как
письмо. Правда, Гегель не сделал подобное сознание последней и
окончательной истиной мировой истории. Тогда как Деррида, судя
по всему, видит в своем «между», хоре, различении спасение для со-
временной цивилизации и шанс нового рождения Разума. Если на-
ша эпоха напоминает время Дидро, то, может быть, для такого по-
иска есть серьезные основания?
Но не забудем, что разорванное сознание, согласно Гегелю, ведет
к духу просвещения, а затем—абсолютной свободе, ужасу и террору
революции. «Я хочу всегда быть прекрасно одетой, красивой, и изящ-
ной, я хочу поклонения, власти!»—говорит Шурочка у Куприна, и
сказанное ею вполне укладывается в образ стервы. Но она добавля-
ет: «Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейер-
верк!» Она надругалась над собой, сама убила свою любовь: «Дорогой
мой, — говорит Шурочка Ромашову, и говорит вполне искренно, —
ведь мы с вами—это две половинки; у нас все общее: и любимое и
нелюбимое, и мысли и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с
полуслова, даже без слов, одной душой... И вот я должна отказать-
ся от тебя». Ради денег, карьеры мужа, столичной жизни?
«Власть и богатство, — пишет Гегель о разорванном сознании, —
высшие цели усилий этой самости, она знает, что путем отказа от себя
и пожертвования собою она образовывает себя до всеобщего, завла-
девает им и, обладая им, получает общезначимость; власть и богат-
ство суть действительные признанные силы. Но сама эта ее значи-
мость суетна, и именно тогда, когда она завладевает ими, она знает,
что они—не самодовлеющие сущности, а, напротив, она чувствует
’Гегель. Соч. Т. IV. М., 1959. С. 280.
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи
575
себя властью над ними и знает их как суетность»1. Шурочка тоже знает
о суетности своих стремлений, но готова идти в осуществлении их
до конца, до надругательства над своей любовью и над собою тоже.
«Содержание речей духа о себе самом и по поводу себя есть, таким
образом, извращение всех понятий и реальностей, всеобщий обман
самого себя и других; и бесстыдство, с каким высказывается этот об-
ман, именно поэтому есть величайшая истина»2. Если и для Гегеля
бесстыдство соединимо с величайшей истиной, почему Деррида не
прав, когда пишет о «беззастенчивом шантаже истинной любви»?
Посылая Энгельсу экземпляр «Племянника Рамо», этого «непод-
ражаемого произведения», Маркс называет процитированные выше
фразы комментария Гегеля к шедевру Дидро «забавными»3. Не менее
забавным, вероятно, для них была бы попытка представить стерву-
Шурочку носителем высшего сознания и «величайшей истины». Из-
вращение не перестает быть извращением, хотя причины его глубо-
ки, и иногда, как в случае с Шурочкой (или, например, Манон Леско),
перед нами извращение одаренной натуры. Такие казусы свидетель-
ствуют о бездонности природы, вызывающей удивление у вдумчивых
наблюдателей. И хотя то, что нам гибелью грозит, таит в себе, говоря
словами поэта, «неизъяснимы наслажденья»—никто не хотел бы ока-
заться в глупом и смешном положении. «Кавалер де Грие, — ирони-
чески замечает Энгельс, — тоже имел эмоциональную потребность
любить Манон Леско и обладать ею, хотя она неоднократно прода-
вала себя и его; из любви к ней он стал шулером и сутенером...»4
Но откуда эта извращенность природы в конечном счете? Она—
из промежуточного положения «между», в котором оказалось чело-
вечество: «Трагическим является, в сущности, уже само существова-
ние человека, этого авангарда природы, — мыслящей материи, от-
делившейся от элементарной жизни и страдающей в своем проме-
жуточном положении»5. Природе до человека не была свойственна
’Тамже. С. 283.
2 Там же. С. 281.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Т. 1. М., 1976. С. 369-
4 Там же. С. 373-
5 Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный
идеал. М., 1979. С. 420.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
576
извращенность, извращение — продукт человеческой культуры. В
том числе культуры мысли. В этом Лифшиц совершенно солидарен
с Деррида. «Элемент глупости, — пишет он на полях бессмертного
творения Эразма, — во всякой идиоме. Ср. к темеразум в мире. Очень
разумно, чтобы была глупость».1
Итак, всякое извращение природы в человеке — продукт культу-
ры. Но обратная теорема, согласно Лифшицу, не верна, ибо нельзя
сказать, что всякая культура есть продукт извращения. Правильно
сказать, что некоторая культура в известных случаях и некотором
смысле может быть продуктом извращения, как некоторые идеи
просвещения—действительно порождение извращенного сознания
либертенов типа племянника композитора Рамо. Между первым и
прямо ему противоположным утверждением — не полное тожде-
ство, между ними есть дифференциал, щель. И потому, вместо того
чтобы сказать: поскольку всякое извращение есть порождение куль-
туры, следовательно, всякая культура тождественна извращению,
Лифшиц предлагает другую формулу. Она неоднократно всплывала
на страницах этих очерков, и прежде всего когда речь шла о литера-
турной дискуссии 1939-194о гг. Итак, следует сказать: не только воп-
реки извращению формируется и развивается культура, но бывают
такие случаи и объективные ситуации мировой истории, когда—в
известной мере и благодаря извращению.
Вполне возможно, что Марксу комментарий Гегеля к «Племян-
нику Рамо» показался забавным именно потому, что великий диа-
лектик здесь совершает прямой и непосредственный переход, пере-
ход без необходимого опосредования от низости и извращенности
к «величайшей истине». Бездельник и шут гороховый оказывается
у Гегеля таким же героем мысли, как Сократ или Дидро. У Гегеля это
не случайная ошибка, казус. Дело в том, что его идеалистическая
диалектика не учитывала моментов разрыва, неравномерности раз-
вития. Точнее, учитывала эту неравномерность в недостаточной
степени. Логоцентризм неразрывно связан с объективным идеализ-
мом Гегеля, согласно которому мир есть не что иное, как самораз-
1 Архив Мих. Лифшица. Надпись на с. 75 книги Э. Роттер-
дамский. Похвальное слово глупости. Академия. М.-Л.,
1932.
Негодяи, «разорванное сознание»
и философское понятие материи
577
вивающийся мистический Субъект, который, правда, вначале не
сознает себя, а в конце исторического пути мирового духа приходит
к своему самопознанию. Несмотря на то что диалектика Гегеля вер-
но угадывает в ряде случаев и эпизодов его общей философской си-
стемы скачки, прерывы постепенного развития, она делает это воп-
реки исходному идеалистическому принципу. Только философское
понятие материи способно объяснить присутствие в мире кроме
гомогенности — гетерогенности, не только непрерывности разви-
тия, но и его скачков, прерывов, не только логики, но и алогизма,
неразумия.
В общем виде это Деррида понимает, о чем свидетельствует при-
мечательное место из книги «Позиции», в которой одно из централь-
ных мест занимает разговор о материализме вообще и материализ-
ме Денина в частности (между прочим, эта книга была первой из
большого ряда его сочинений, которую Деррида рекомендовал для
перевода на русский язык).
Жан-Луи Удбин в беседе с Деррида обратил внимание последне-
го на то, что понятие «материя» у Маркса и Ленина есть «несводи-
мая гетерогенность по отношению к субъекту-смыслу», и потому
возникают точки пересечения между диалектическим материализ-
мом на почве, продолжает Удбин, «вашей деконструкции проблема-
тики знака как носителя фундаментального логоцентризма, фило-
софии сознания или исходной субъективности»1. Соглашаясь с тем,
что точки пересечения и стратегического сближения с материализ-
мом Маркса и Ленина у него имеются, что его философию также
можно вписать под рубрику «критики идеализма»2, Деррида форму-
лирует следующие важные положения: «...Означаемое “материя”
представляется мне проблематичным только в тот момент, когда его
новое включение оказывается отягощено превращением его в но-
вый основополагающий принцип, так что в порядке теоретической
! Деррида Жак. Позиции. Киев, 1996. С. по, ш.
2 «Само собой разумеется поэтому, — продолжает Дерри-
да,— что в диалектическом материализме, по крайней
. мере насколько он ведет такую критику, ничто не вызы-
вает с моей стороны ни малейшей настороженности...».
См. там же. С. 113.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
578
регрессии оно снова возводится в “трансцендентальное означаемое”.
Трансцендентальное означаемое — прибежище не только идеализма
в узком смысле слова. Оно всегда может прийти для подкрепления
метафизического материализма. Оно становится тогда последним
референдом, согласно классической логике, имплицируемой этим
значением референда, или “объективной реальностью”, абсолютно
“предшествующей” всякой работе означивания, семантическим со-
держанием или формой присутствия, гарантирующей извне движе-
ние общего текста». «У меня нет уверенности, — замечает Дерри-
да, —что ленинский анализ, например, никогда не сбивается на эту
операцию; и если он это делает из стратегии, то надо сперва, нам на-
до сперва заново выработать — в трансформативном письме — пра-
вила этой стратегии. Тогда никакая оговорка не имела бы силы»1.
В материализме Ленина Деррида смущает, как видим, только
одно — превращение понятия материи в некий новый основопола-
гающий принцип, в новое «трансцендентальное означаемое». Одна-
ко определение материи у Ленина несет только один смысл: мир, как
источник бесконечности смысла (и бессмысленности тоже) есть.
Сознание может творить новые миры, но никакое сознание, ника-
кая сила не может сделать так, чтобы этого мира не было. Причем
материя обладает неразрывно с ней связанным свойством порожде-
ния, она—источник всего, мать всего, как «хора» у Платона, созна-
ние, творящее новое, то, чего нет в природе, в конце концов только
подражает универсальной и беспредельной творческой силе мира.
Только это хочет сказать Ленин своим определением материи, хотя
за пределами гносеологического вопроса вторичность сознания ока-
зывается относительной, как и граница между идеальным и реаль-
ным. Не учитывая в достаточной мере этого момента, Деррида сам
приходит — независимо от своих желаний — к утверждению суще-
ствования «трансцендентального означаемого». И по этой причине
тоже его мысль делает «забавную» ошибку, подобную гегелевской.
Если негодяй и пустомеля оказывается у Гегеля носителем и творцом
«величайшей истины», то Деррида без тени юмора отождествляет
любовь с мастурбацией, а мысль с письмом. Единственной реально-
стью у него оказывается письмо, все остальное типа «природы», «об-
1 Там же. С. 117-118.
579
щества», «культуры», «человека» — под сомнением, как трансцен-
дентальные означаемые. Путь, который привел Деррида к этому
выводу, не только забавен, но и поучителен. Распутывая извивы его
мысли с помощью методологии и идей «течения» 30-х годов, мы,
надеюсь, нащупаем своими руками рельеф последнего. Возможно,
что изучение Деррида—лучший путь к пониманию истинного зна-
чения этих идей и их реального смысла, их значения для XX века и
современности.
Что касается негодяев и стерв типа купринской Шурочки, у ко-
торых хотя и испорченная, но все же природа, процитирую в заклю-
чение размышления Фридриха Шиллера о поэте сентиментальной
эпохи: «Если он лишен поддержки извне, если он видит, что окру-
жен бездушной материей, то возможно лишь одно из двух. Если род
преобладает в нем, то он отказывается от своей личной натуры и
становится сентиментальным, лишь бы быть поэтом, или же, если
личная природа берет верх, он выступает из рода и становится по-
шлой природой, лишь бы остаться природой»1. Неужели иного вы-
хода нет, и можно быть человеком, только убивая в себе живое на-
чало, природу, без надежды получить ответ от нее? Неужели может
быть счастлив в современном мире только пошляк? Классическая
эстетическая мысль Нового времени от Канта до Гегеля не видела
выхода из этого порочного круга, и единственное, что позволяло
человеку «с умом и сердцем» сохранить человеческое достоинство, —
это примирение (Versoehnung) со своим историческим несчастьем,
требовавшее стоического самоотречения.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
Критика понятия материи как «трансцендентально-
го означаемого» справедлива по отношению к тому роду позитивиз-
ма, который именовался «советским марксизмом» или диаматом.
Природа в диамате фактически—вопреки словесным апелляциям к
диалектике—понималась как некий отделенный от человека объект,
‘ Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М., 1935. С. 374.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
580
слепой, глухой, лишенный смысла, а присущие ему формы движе-
ния не имели ничего общего с деятельностью человека, последний
воздействовал на нее извне, покоряя и подчиняя себе природу. Идея
тотального управления природой и обществом, идущая, в частности,
от Н. Федорова, но, разумеется, не от марксизма, была центральной
идеей как «советского марксизма», так и практики советской бюро-
кратии1. Естествоиспытатели, «Бернары» (см. i-ю главу) при таком
понимании природы имели право «пытать» ее или манипулировать
ею. Ибо только человек способен творить смысл, он созидает мир
смыслов, истину (которая, по словам М. Кагана, лишь в науке может
быть — см. 4-ю главу).
Эта позиция — перевернутый объективный идеализм, согласно
которому мир есть самосозидающий себя субъект, трансценденталь-
ное Я, абсолютное Я. Между этими двумя позициями, согласно ло-
гике «течения», не полное тождество, есть дифференциал, щель.
Мир приобретает способность к целенаправленному, фабульному
развитию, когда его субъективные свойства разбужены субъектом1 2.
В свою очередь субъект только тогда является творцом, когда «со-
знание живет теплом, извлеченным из пламенного сердца приро-
ды»3. Где в таком случае оказывается человек и его культура — внут-
ри или снаружи природы? Культура представляет собой такую дея-
тельность человека и продукты этой деятельности, в которых человек
получает ответ разбуженной субъектом природы, «идущей вперед,
к себе». Чем культурнее человек, тем больше он — природа, натура,
1 Недаром автор книги о Н. Федорове Сетницкий, эмиг-
рант из России, во многих технических планах СССР «ви-
дит несомненное влияние и реализацию идей Федорова»,
писал Н.О. Лосский // Лосский Н.О. История русской фи-
лософии. М., 1991. С. 108.
2 Онтогносеология Мих. Лифшица есть развитие и обосно-
вание этой идеи. Из опубликованных самим Мих. Лифши-
цем текстов на эту тему см. прежде всего: «Античный мир,
мифология, эстетическое воспитание» // Лифшиц Мих.
Мифология древняя и современная. М., 1980.
3 Лифшиц Мих. Лессинг и диалектика художественной фор-
мы. //ЭстетикаЛессинга и современность. М., 1981. С. 102.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
581
но вернувшаяся к себе, обретшая себя. Все это есть, как мы увидим,
у Деррида, кроме одного—дифференциала, щели между противо-
положными тождествами. Той щели, в которую и проходит смысл,
а также мировая линия — «великая цепь бытия».
Но любая мировая линия, любой смысл есть выдернутая и пото-
му до известной степени искусственная цепочка, упрощающая бес-
конечность. Вместе с тем она есть путь, каким природа идет вперед,
к себе, достигая ступени абсолюта. Но в том-то и дело, что абсолют
имеет смысл лишь тогда, когда он не исчерпывает всего содержания
мира. Человек, по определению Николая Кузанского, — «ограничен-
ный максимум»1 и именно потому он есть бесконечность актуаль-
ная, а не разлитая во всем мире, потенциальная.
Человек и его культура тем самым дополняют природу, помогая
ей достигнуть ступени актуальной бесконечности, обретенного смыс-
ла. Но, с другой стороны, так же верно, что природу нельзя допол-
нить, поскольку она представляет собой потенциальную бесконеч-
ность — «это, так сказать, разлитое всеобщее, более или менее без-
различное к частному существованию тех предметов, в которых оно
присутствует»1 2, бесконечность, выражаемая математической фор-
мулой n + I. Но природа, которая идет вперед, к себе, обретает фор-
му законченного всеобщего, «ограниченного максимума» Кузанско-
го, есть жизнь, органика и ее высшая форма — человек как форма
всех форм, микрокосм. Эта версия всеобщего как особенного разви-
валась школой «Сократа, Платона и Аристотеля и от них перешла в
так называемое реалистическое направление схоластики средних
1 Человеческая природа, писал Кузанский, «стягивает в
себе всю вселенную: она есть микромосм, малый мир, как
называли ее с полным основанием древние. Она такова,
что, будучи возведена в соединение с максимальностью,
становится полнотой всех всеобщих и отдельных совер-
шенств таким образом, что в человечестве все возведено
в высшую степень» — см. Кузанский Н. Об ученом незна-
нии. Кн. третья, глава III. //Кузанский Н. Избранные фи-
лософские сочинения. М., 1937. С. 119.
2 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. М., 2003.
С. 177-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц: г- О г»
две концепции «щели» 5^^
веков. Но вся эта линия идеализма, завершенная в свои лучшие вре-
мена системой Гегеля, в решении вопроса о всеобщем далека от ма-
териалистической диалектики»1. Всеобщее в форме особенного, ак-
туальная бесконечность, природа, которая пришла к себе, достигнув
ступени реального, хотя и ограниченного абсолюта, «дополнение»
к потенциальной бесконечности, которое и не внутри, и не снару-
жи потенциальной бесконечности, —дая Гегеля в реальности не су-
ществует. Актуально бесконечное, бесконечное как целостность, как
особенное отчуждается от реального мира у Гегеля и предстает в
виде понятия. «В иные исторические времена та же логическая не-
обходимость, за которой легко заметить несчастье историческое,
заставила Платона перенести свое царство идей в далекий от всякой
чувственности занебесный мир. В таких системах всеобщее стано-
вится архе — первичным и в то же время господствующим»1 2. Гово-
ря языком Деррида — «трансцендентальным означаемым».
Но как же соотносится природа и культура у Деррида? Он не
принимает понятия материи, поскольку оно тоже, как абсолют или
дух в идеализме, превращается в род «трансцендентального означа-
емого». И Деррида до известной степени прав, ибо «материализм в
прошлом сам обычно ограничивал себя областью единичных фак-
тов, обобщаемых нашим умом, и отклонял как ядовитый напиток,
подаваемый врагом, «истину всеобщего». Исторически это было
понятно как реакция, иногда демоническая гримаса (у либертенов)
по адресу идеализма и религии как господствующей идеологии.
Если не говорить о некоторых прорывах в этом направлении у Бру-
но и Спинозы, Бэкона и Дидро, изучение «истины всеобщего» на
почве материализма есть дело новое»3. Что добавил к сказанному
Деррида?
Природа в материализме трактовалась как первоначало, содер-
жащее в себе смыслы, которые выходят наружу благодаря практи-
ке человека. Но как нет до письма никакого естественного языка,
последний только создается, возникает в пространстве «между», то
и природа, в которой уже все есть, — миф. Та природа, которая со-
1 Там же. С. 182.
2 Там же. С. 184.
3 Там же. С. 185.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
583
держит в себе и порождает смыслы, возникает только в пространстве
«между», а последнее есть утопия, хора, пространство, которого нет,
ибо оно там, где природа (или язык) «уже не» существует, и в то же
время развитая цивилизация, которая превратила эту утопическую
естественную природу в систему окаменевших знаков, «еще не»
возникла и не развилась в полной мере. Реально только это «между»,
это ничто, эта хора, иначе говоря — различение. Только оно есть,
оно первично, все остальное — ее порождения.
Нетрудно обнаружить в такой трактовке различения некое подо-
бие гегелевского становления. Отличие Деррида от Гегеля на первый
взгляд кажется не очень существенным, но на деле между ними —
пропасть, ибо благодаря ряду трансформаций и деформаций это ста-
новление, известное со времен Гераклита, превращается в окаменев-
шую систему знаков — письмо, текст. У Гегеля «становление» более
развитое понятие, чем абстрактное «бытие» и «ничто», последние
переходят друг в друга как исчезающие моменты становления. Нечто
подобное происходит со «следами» у Деррида, как мы видели выше.
Однако становление у Гегеля не устраняет понятия «бытия», а уточ-
няет, делает его более конкретным. Другими словами — становле-
ние есть более конкретное бытие, которое включает в себя и свою
противоположность — небытие. А у Деррида его «следы», «различав
ния», снимающие одностороннее понимание «знака» в семиотике и
структурализме, вытесняют на этом основании понятия «бытия»,
«наличия», «природы» как метафизические и логоцентрические. В
результате текст оказывается первичнее, чем природа, сама приро-
да выводится из различания и письма. Это, разумеется, софизм, хотя
очень правдоподобный для современного человека, живущего в
мире, где тексты и прочие системы знаков вытесняют жизнь.
Верно в позиции Деррида то, что понятие «природа» — тоже по-
нятие, и потому ограничение реального. Природа, с которой чело-
век имеет дело, природа, отвечающая на его вопросы, на его втор-
жение в нее, заговорившая в человеческой деятельности—это то же
самое, что и бесконечность, открывающаяся человеку. Существует
ли бесконечность как некое заранее сосчитанное количество до де-
ятельности? Нет, в актуальном виде не существует, однако нельзя
сказать, что только человеческая практика порождает бесконеч-
ность и только в человеческой практике она существует. Человечес-
\
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
584
кая практика превращает природу в субъект, пробуждает в приро-
де субъективные качества, и потому мы встречаем разбуженную
нами же природу. Мы дополнили природу до ее же собственной
полноты. Но не уничтожили диалектикой и деятельностью понятие
природы как объективной реальности, материи, а уточнили его та-
ким образом, что природа уже не является неким подобием часового
механизма. Диалектика ведет нас вглубь природы, а различАние
Деррида превращает природу в миф, сон, фантазм. Правда, при этом
Деррида ставит очень серьезные проблемы.
Если природа для того, чтобы обрести полноту, нуждается в че-
ловеке и его преобразующей деятельности, значит, до нас она была
неполна? Ограничившись последним выводом, мы получим в ре-
зультате, что природа имеет цель и направление своего развития,
причем линейного характера. Однако Герцен, которому принадле-
жат слова, что разум — не гость в этом мире, и природа без разума
была бы не полна, отрицал при этом, что мир развивается в согла-
сии с неким либретто.
Значит, перед нами дополнение к природе, которое не совпада-
ет с общепринятым смыслом «дополнения». В часах не хватало ка-
кого-то колесика, и они не работали, но мы добавили недостающую
деталь, и часы из груды мертвых деталей стали действующим меха-
низмом. Такова, как известно, ньютоновская модель Вселенной, в
которой человек, его разум и культура случайны для мира, и его
можно не принимать во внимание при изучении Вселенной как фут-
ляр к часам, как излишнее украшение, убранство, подобное золотой
раме.
В своей книге «Правда в живописи»' Деррида обращается к од-
ному рассуждению Канта о характере украшения, убранства (парер-
га), иллюстрируя свое понятие «дополнения». Даже то, пишет Кант
в «Критике способности суждения», «что называют убранством (ра-
rerga), т.е. то, что к цельному представлению о предмете принадле-
жит не внутренне как составная часть, а только внешне как припра-
ва, и что увеличивает удовольствие вкуса, делает это также только
1 Derrida J. The Truth in Painting. Chicago and London. 1987.
P. 53-60. См. об этом мою книгу «Западное искусствозна-
ние XX века». М., 2005. С. 611-644.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
585
своей формой, например рамки картин, или драпировки на стату-
ях, или колоннада вокруг великолепных зданий. Но если украшение
само не заключается в великолепной форме, а служит как золотая
рама, только для того, чтобы своей привлекательностью вызвать
одобрение картины, то оно называется прикрасой и умаляет подлин-
ную красоту»1. Кант в этом рассуждении проводит тонкое различие,
на которое не обращает внимание Деррида. Одно дело—колоннада,
которая увеличивает удовольствие вкуса, и совсем другое — золотая
рама как прикраса, которая умаляет подлинную красоту. По формаль-
ным признакам и колоннада, и золотая рама—вне предмета, кото-
рый они дополняют. Но дополняют совершенно по-разному. Колон-
нада в классической архитектуре хотя и находится вне здания, но
имеет отношение к целостному впечатлению от него—без колонн
классический храм просто потерял бы свою художественную целост-
ность. Также, как станковая картина нуждается в раме, без которой
она не полна. Но не в той «золотой» раме, которая, будучи аляпова-
той прикрасой, разрушает целостность впечатления от картины. Итак,
бывает такое внешнее, дополнительное и вроде бы необязательное,
без которого нет внутреннего, существенного, нет полноты.
Правда, все в мире при определенных условиях может перехо-
дить в другое, и король — стать пробкой для бутылки у бедняка,
одежда — заменить самого человека. Принципы классического ор-
дера служат для современной архитектуры одеянием ее, а не внут-
ренним конструктивным моментом, как в свое время показал Г. Зем-
пер. Современный человек без одежды — не человек, и в ряде слу-
чаев, иронически замечает Маркс в «Капитале», одежда генерала, к
примеру, важнее того, что в нее облачено. Человека встречают по
одежде, и не без основания. Внутренние, собственно человеческие
качества генерала нередко бывают скорее необязательным добав-
лением к его мундиру, чем наоборот. Где находится такое существо,
как человек—в его органическом или неорганическом, созданном
им самим же теле?
Ни там, ни здесь, а между, отвечает Деррида. То есть нигде, по-
тому что «между» — это место, которого нет. В нем все и находится.
«Граница между тем, что умирает раз навсегда и что рождается раз
1 Кант И. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 229.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
586
навсегда, подвижна, здесь происходит вечный спор «на меже» — за-
мечает Лифшиц.— Взаимное отражение противоположностей, на-
плывы форм с той и другой стороны неизбежны. Но, предполагая,
что поступательное развитие существует, мы допускаем тем самым
наличие объективной разницы между палингенезом и палиндроми-
ей»1 — между тем, что рождается раз навсегда, и тем, что умирает раз
навсегда. То, что находится между двумя стульями, исчезает навсегда.
То, что проходит между Сциллой и Харибдой, имеет шанс остаться
навсегда. Так, например, обретенное человечеством прямохожде-
ние есть абсолютное достижение, основа для бесконечного разви-
тия движений спортсмена, артиста балета, всего богатства вырази-
тельных жестов, из которых выросли все языки. А тот, кто застрял
между любовью к мундиру и себе, «единственному», едва ли оставит
реальный след: человек исчезает, если свои человеческие качества
он заимствует у мундира.
При этом Деррида—образованный и глубокий философ, который
понимает, что наружное, дополнительное может быть внутренним
моментом системы. Таковы, по его мнению, человек и культура—
восполнение природы, ибо «природа может испытывать внутрен-
нюю нехватку или — что то же самое — вырваться за собственные
пределы»1 2. Но эта мысль служит ему основанием против классики
вообще и классического мышления в частности. Деррида продолжа-
ет: «Эта способность выходить за рамки природы заложена в самой
природе, в природных глубинах. Эта способность, можно сказать,
держит свой запас в запасе. Это бытие-в-природе — очень странный
способ бытия восполнения, обозначающий одновременно и избы-
ток, и нехватку природы в самой природе — это один из примеров
разрушения классической логики»3.
Извиняюсь за длинные выписки, но они необходимы для демон-
страции идеи Деррида и способа его философствования. Итак, «че-
ловек может возвестить о своем появлении лишь на основе воспол-
нительности, которая вовсе не есть атрибут человека—случайный
1 Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. М.,
1980. С. 565-566.
2 Деррида Жак. О грамматологии. С. 339.
3 Там же. С. 347.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
587
или же сущностный. С другой стороны, поскольку восполнитель-
ность вообще не есть что-либо (ни наличие, ни отсутствие), она и
не может быть ни субстанцией человека, ни его сущностью. Она
выступает как игра наличия и отсутствия, как открытое отношение
к игре, немыслимое в понятиях метафизики или онтологии (...)
Человек называется человеком, лишь если может поставить предел,
не допустить к игре восполнительности «свое другое», а именно
чистоту природы, животное состояние, первобытность, детство, бе-
зумие, божество. (...). Все понятия, определяющие невосполнитель-
ность (природа, животное состояние, первобытность, детство, безу-
мие, божество и проч.) сами по себе не имеют, очевидно, никакого
истинностного значения. Они принадлежат—как, впрочем, и сама
идея истины — к эпохе восполнительности»1.
Здесь Деррида делает логический скачок, отвлекаясь от разли-
чия между дополнением как колоннадой классического здания и
«золотой рамой» как безвкусной прикрасой к картине. Метафизи-
ческое понимание природы действительно делает человека лишним
дополнением к ней. Классическая философская мысль не смогла
выработать такого понимания природы, при котором человек —
центр ее, будучи одновременно случайным, затерянным в глубинах
космоса конечным во времени и пространстве существом. Но в клас-
сике есть тенденция к такому пониманию. Отрицая эту тенденцию
в классической философии, Деррида приходит к софизму, гласяще-
му, что текст и письмо первичнее природы. Делается такой вывод
посредством того, что устраняется та разница между двумя типами
дополнения, на которую обратил внимание Кант.
Восполнением природы и человека оказывается в трактовке Дер-
рида искусство, как и любая другая система знаков. Когда, соглас-
но легенде, возник первый рисунок — тень возлюбленного начерта-
ла его любимая—то рисунок, пишет Деррида, представляет собой
«более живой способ выражения, чем речь»1 2. Рисунок философ от-
носит к «непосредственно воспринимаемому знаку»3, каким являет-
ся жест. «Жест здесь не что иное, как добавка к речи, но добавка эта
1 Там же. С. 422.
2 Там же. С. 409.
3 Там же. С. 408.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
588
есть не искусственное восполнение, но скорее возврат к более есте-
ственному, более выразительному, более непосредственному знаку.
Все, что есть в языке, предполагает подмену, причем само по-
нятие подмены предшествует оппозиции природы и культуры: вос-
полнение может быть как естественным (жест), так и искусствен-
ным (речь)»1.
Искусство — такое же дополнение к природе, как колонна — к
зданию, или рама—к картине. С одной стороны, здание может быть
без колонн, оставаясь зданием, а картина—без рамы. С другой сто-
роны, картина, как окно в мир, не может быть без рамы, пусть толь-
ко воображаемой. Деррида определяет это свойство парергона как
«ни наличие, ни отсутствие».
Более подробно характеризуя свое понятие восполнения, фило-
соф замечает — «восполнение восполняет, то есть добавляется как
замена. Оно вторгается, занимая чужое место»1 2. Классическим при-
мером для понятия «восполнения» Деррида избирает такую подме-
ну, как онанизм: «Подобно тому, как письмо обнажает кризис жи-
вой речи, ее деградацию в «образе», рисунке или представлении, так
онанизм возвещает разрушение жизненных сил в соблазнах вообра-
жения»3.
Онанизм — искусственная любовь, восполнение невозможной
любви, искусство—восполнение кризиса живой речи. Деррида, ко-
нечно, смеется над читателем и его здравой логикой. Брутальность
его сравнения оставляет далеко позади знаменитые упрощения Чер-
нышевского, для последнего искусство, будучи искусственной заме-
ной и подменой реальной жизни, все же имеет эстетическое качество,
заключающееся в том, что мы испытываем такой же подъем духов-
ных сил, как от присутствия любимого существа. Онанизм, будучи
грубым возбуждением и столь же грубым физиологическим удовлет-
ворением, убивает ту ауру, которая идет от любимого существа.
Здесь происходит смешение двух совершенно различных типов
восполнения. Один из них—это восполнение природы человеком
и его культурой, выражаемое прежде всего в искусстве. Такое вос-
1 Там же. С. 410.
2 Там же. С. 295.
3 Там же. С. 303.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
589
полнение действительно подобно колонне в классическом ордере.
Искусство—и не природа, и не знаковая система, в которой умирает
жизнь. Оно—истинная середина между ними. «Посредник, — пишет
Деррида, — это середина, переход, средний термин между полным
отсутствием и абсолютной полнотой наличия. (...). Восполнение на-
ходится где-то посредине между полным отсутствием и полным на-
личием. Игра этих замен одновременно и восполняет нехватку, и
оставляет на ней свою мету»1.
Какую нехватку в природе восполняет культура и искусство?
Ответ, данный советским эстетическим «течением» 30-х годов: при-
рода неполна без человеческого разума, он дополняет природу ее же
собственным атрибутом — мышлением (которое природе без чело-
века, разумеется, не свойственно). Красота — квинтэссенция и ак-
туад^зация природы, присущая ей только потенциально. Но вмес-
те с тем красота природы, включающая в себя и безобразие ее, выше
красоты искусства1 2. Искусство в этом смысле — не эрзац, не подме-
на, а актуализация свойств мира. Хотя оно по формальным призна-
кам подходит под определение Деррида, будучи одновременно и вне
природы, и внутри ее (какреализация ее свойств). Причем искусст-
во — между знаками цивилизации, мышлением и природой, между
чувственностью и разумом. Но это «между» — не пустота, не про-
пасть, не катастрофа, а жизнь, если вспомнить того же Чернышев-
ского.
«Между», которое находит настоящее искусство, ломает логичес-
кий круг, выводит за его пределы. Порочный круг создают две край-
ности, которые дополняют друг друга как две стороны одной меда-
ли. Таковы, например, либерализм и псевдо-патриотическая дер-
1 Там же. С. 312.
2 «Красота и не-красота возможны лишь в конечном, отно-
сительном мире. Но природа в целом (хотя она прекрасна
и безобразна) все же прекрасна, совершеннее всякого ис-
кусства, но в том смысле, что она включает в себя и красо-
ту, и не-красоту; есть красота своей красоты и не-красоты.
. Утверждать же, что совершенство природы есть абсолют-
ная красота, было бы уступкой теологическому мировоззре-
нию Платона.» // Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 328.
Жак Деррида и Мих, Лифшиц:
две концепции «щели»
590
жавность, одно плавно перешло в другое за последние io лет'. Надо
пройти между этими крайностями для того, чтобы достичь иного ти-
па дополнительности, именуемого греческими мудрецами соизмере-
нием несоизмеримого. Классический ордер демонстрирует нам ре-
альность этой гармонии, при которой внешнее дополнение есть
внутреннее существо строения, не переставая быть внешним. Чело-
век и мир уравновешены, нашли внутреннее единство, не переставая
быть противоположностями. Колонна есть в действительности внут-
ренняя существенная часть классического ордера. Бог, как целое
мира, статуя которого находится в целле храма, раскрывает себя в гар-
монии, соизмерении несоизмеримого, звучащего в тектонической
ритмике здания. Но колонна при этом все-таки снаружи, она допол-
няет здание так, как человеческое сознание охватывает весь мир
именно потому, что представляет собой не божественный разум,
разлитый во всем мире, а прорастает в частном, маленьком, конеч-
ном, материальном, со всеми присущими последнему недостатками
и слабостями. Там, где Деррида видит логический круг, неразреши-
мый для метафизики, — человек дополняет природу, не нуждающу-
юся в дополнении по причине своей бесконечности, —Лифшиц на-
ходит ту щель, через которую прошла культура: всеобъемлющий дух
развивается не только вопреки материальному, но в известной мере
и благодаря ограниченности и «греховности» последнего.
Деррида уравнивает искусство, да и самого человека с совершен-
но иным типом восполнения, которое является просто эрзацем, под-
меной, ухудшением или даже уничтожением подлинного (онанизм,
без сомнения—не просто подмена, но уничтожение любви). Хотя,
разумеется, все грани подвижны: «Иначе говоря, между автоэротиз-
мом и гетероэротизмом нет жесткой границы», как ее нет между
глупостью и умом, одно при известных обстоятельствах и извест-
ных условиях может переходить в другое. Иначе говоря, как в слу-
чае с Руссо, не только вопреки, но в известной степени и благодаря...
Однако последняя формула и логика совершенно отсутствует у Дер-
рида. А без нее диалектика превращается в софистику.
1 Правые либералы в лице Чубайса выдвигают сегодня для
России программу построения «либерального империа-
лизма».
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
591
Почему же подмена, согласно Деррида, предшествует всякому
иному различию, всякой иной оппозиции типа «природа — обще-
ство»? Просто потому, что «само понятие подмены предшествует
оппозиции природы и культуры: восполнение может быть как ес-
тественным (жест), так и искусственным (речь)»? Это положение
встроено у Деррида в его стратегию борьбы с «трансцендентальным
означаемым», то есть неким целым, существующим относительно
независимо от составляющих его частей. Таким целым является
понятие «природа». И в этом пункте своих размышлений Деррида
снова получает неожиданную поддержку от «обыкновенного» мар-
ксизма Мих. Лифшица. Согласно последнему, «природа» в некото-
ром смысле этого слова действительно появляется только вместе с
человеком. Почему и в каком смысле?
«Никакой «природы» до человека, как целого, не существует, —
писал Лифшиц в одной из своих заметок. —Природа становится
лицом в самом человеке. Природа в обычном смысле метафора, ме-
тафора антропологическая. Это — момент в тождестве человека и
природы. Человек есть природное существо, природа же становит-
ся собой только в человеке. Разумеется, — уточняет Лифшиц свою
парадоксальную мысль, — природа существует реально и до челове-
ка и при нем как нечто независимое. Но это разлитое, аморфное
бытие. [...]. Как вполне определенное целое природа осуществляет-
ся в человеке—процесс вполне объективный и независимый от на-
ших мыслей»1.
Человек делает природу «отвечающей», его деятельность про-
буждает в природе субъективные свойства. Но — и этот вывод Лиф-
шица находится в полном соответствии с материализмом Ленина —
пробуждение субъективных свойств мира человеком есть тоже дело
самой природы, которая идет «вперед к себе». Оставаясь всегда рав-
ной себе. «Окруженные и охваченные ею, — пишет Гете, — мы не
можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть»1 2. Перед нами,
кажется, типичная для Деррида логическая формула: ни-ни, ни то,
1 Цит. по: Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым.
М., 2003. С. 350.
2 Гете И.В. Избранные философские произведения. М.,
1964. С. 37-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели» 592
ни се. Однако при чем здесь подмена, которая, согласно Деррида,
первичнее, чем сама природа?
Совершенно ни при чем. Потому что природа не только у Гете,
но и у античных мыслителей — нечто, выходящее за пределы любого
понятия. Она включает в себя разные противоположности, она со-
единяет их таким образом, что все истинное проходит как бы меж-
ду ними. И единственное, что о ней можно сказать с последней окон-
чательностью — это то, что она на самом деле существует, она не
исчезнет от того, если я — или кто-либо другой, какой бы властью
и силой он ни обладал, — этого захочу. И порождает мир культуры
благодаря творчеству человека, а в известном смысле и вопреки че-
ловеческой деятельности. Таков смысл ленинского определения ма-
терии. Более конкретные ее определения запускают в ход такую ло-
гику, которая для своей полноты делает необходимым даже глупость
и неразумие, «ничто» и исчезновение.
Другими словами, определение материи у Ленина гласит: бла-
годаря своей преобразующей и познавательной деятельности мы
вступаем в бесконечный и необыкновенный мир, который нельзя
исчерпать, понятно-непонятный и близко-далекий нам. В нем воз-
можно если не все, то очень многое—в том числе и то, что делает
наш разум не копией, пусть и бледной иногда, этого бесконечного
мира, а пустышкой, иллюзией, грезой, не имеющей ничего общего
с действительностью. Правда, если разум ведет природу вперед к
себе, то неразумие ведет к тупику, уничтожению (хотя и тут идет
вечный спор «на меже» между разумом и неразумием). Попытки все
более конкретного определения материи и природы уводят в ту не-
исчерпаемую глубину, которая возвращает нас к нам самим. Мы
себя находим в объективной реальности именно потому, что ей
свойственно существовать в определенной мере независимо от на-
ших желаний, фантазий, грез и так далее. Это чудо есть, и «мы со-
знание его, голос его. Надо питать уважение к этому голосу абсо-
лютного»'.
Различание Деррида в отличие от гегелевского становления —
деятельность человека, за пределами которой ничего нет. По сути
перед нами «деятельностная концепция», идущая еще от неоканти-
1 Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 490.
Можно ли дополнить бесконечное?
Культура как «дополнение» к природе
593
анства. В архивных заметках Лифшица читаем: «Чистая деятель-
ность = никакой деятельности. Деятельность возможна лишь как
деятельность на естественной основе, следовательно, отчасти не
деятельность, а подчинение самодеятельности объекта и созерцание
ее. Чистая деятельность, действительно, это—любовь без женщи-
ны. Любовь без естественной основы, без ответа, без подчинения
предмету любви, без созерцания его — ведь это только пустое вооб-
ражение, мастурбация»1. В деятельности человека обнаруживается
и развертывается что-то другое. Но что это другое —«трансценден-
тальное означаемое»? Женщина рожает. Существует ли ребенок вне
ее порождающей силы, мог бы он быть зачат, появиться на свет вне
ее? Так где эта сила — внутри или снаружи женщины? Человек—
порождающая сила природы, отделившаяся от нее и до известной
степени противопоставившая себя ей. Он страдает в своем проме-
жуточном положении между элементарной жизнью природы, от
которой отделился, и нормальными условиями своего существова-
ния, которые еще не созданы. А когда они будут созданы, то природа
придет к себе в мире человеческой культуры, человек будет пони-
мать природу, отражать ее — будучи натурой, а не чем-то, стоящим
вне ее. Этот идеал классическое искусство уже находит осуществ-
ленным в действительности, предвосхищая возникновение «нор-
мальных условий» человеческого бытия. Об этом говорит колонна
в храме, и даже, по-своему—рама в картине как окно в беспредель-
ный мир, рисунок и цвет в живописи как единство объективного и
субъективного1 2.
В классике расстояние «между», условно говоря, двумя стульями,
несостыковки, разрыва «мировой линии» сокращается до миниму-
ма, когда возникает то «между» людьми, которое не нуждается в
словах, в речи, не говоря уже о письме. И между человеком и веща-
ми. Такое «между» действительно не отдаляет материальное от ду-
ховного, хотя и воплощается прежде всего в пространственных ис-
кусствах— изобразительных. «Требование восприятия внешнего
1 Архив Мих. Лифшица, папка № 145, заметка «Искусство
как деятельность».
2 См. об этом более подробно в моей книге «Западное ис-
кусствознание XX века». С. 643.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
594
вида предмета сразу, в целом, ведет к идее самооправдания жизни —
не оправдания ее в далеком полете воображения. Здесь, в это пре-
красное мгновение, реши мне все гнетущие противоречия мира,
ибо, расширяя масштабы своего внутреннего взора, ты оправдыва-
ешь все и устраняешь, в конце концов, разницу не только между
добром и злом, но и между самим бытием и его отрицанием, ничем.
Одновременное бытие соразмерных частей — важная черта реаль-
ной гармонии, ибо то, что можно собрать воедино как целое лишь
в последовательном ряде моментов, менее гармонично»'. Здесь ис-
кусство оказывается таким восполнением, которое позволяет при-
роде вернуться к себе самой, стать молчанием. Культура и природа
сливаются, образуя идеал. Таков момент счастья, любви, которая
есть самоцель и высшая ценность жизни.
Порочный круг
классической теории подражания
Деррида находит в классической мысли вообще и в
классической теории подражания массу интересного и даже ново-
го. Рассказывая о теории подражания Руссо, он особо выделяет воп-
рос об изобразительности и подражательном характере таких не-
изобразительных, с точки зрения структуралистов и семиотиков,
искусств, как архитектура, музыка или орнамент. Неизобразитель-
ной могут считать, например, музыку только те, кто не понимает,
почему рисунок есть искусство подражательное.
«Представьте себе страну, — цитирует рассуждения Руссо Дерри-
да в своей книге, — где совершенно отсутствует понятие о рисунке,
но где многие люди посвящают свою жизнь соединению, смешению
и подбору красок, полагая, будто они достигли совершенства в жи-
вописи»2. Какой-нибудь знаменитый художник из этой воображае-
мой страны, продолжает Руссо, мог бы построить целую философс-
кую систему, доказывая, что суть живописи — производить в нашей
' Лифшиц Мих. Лессинг и диалектика художественной фор-
мы. С. 107-108.
2 Деррида Ж. О грамматологии. С. 383.
Порочный круг
классической теории подражания
595
душе определенные чувственные впечатления и ощущения посред-
ством красок и их сочетания. «Господа, — сказал бы он, — чтобы
правильно рассуждать, надобно отыскивать всему физические при-
чины. Вот разложение цвета, вот первоначальные цвета, вот их от-
ношения, пропорции, вот истинные начала удовольствия, доставля-
емого нам живописью. Все мудреные слова о рисунке, представле-
нии, изображении, образе суть чистое шарлатанство французских
художников, которые полагают, будто подражание позволяет им вы-
звать бог весть какие движения души (выделено мной. —В. А), хотя
мы знаем, что возможны лишь ощущения. Вам рассказывают чуде-
са об их картинах, но взгляните на мои краски»1.
В XX веке аргументы художников из воображаемой страны, над
которыми иронизирует Руссо, иронии не вызывают даже у специали-
стов-искусствоведов. Напротив, после книги Кандинского «О духов-
ном в искусстве» сравнение действия красок в живописи со звуками
в музыке стало чем-то самоочевидным. Если музыка не изобрази-
тельна, то почему должна подражать реальным формам живопись?
Почему невозможна особая музыка, музыка живописи, которая при-
бегает не к звукам, а к музыке красок?
Именно на этот вопрос отвечал в свое ремя Руссо, сочинения
которого о музыке прочно забыты. Деррида извлек их из забвения,
любуясь гибкостью и оригинальностью мысли просветителя XVIII ве-
ка. Все дело в том, рассуждает Руссо, что музыка вовсе не подража-
ет звукам природы. Последние сами по себе, как и краски сами по
себе, вызывают у человека только самые примитивные физические
реакции, а не изысканно-утонченные, красивые движения души.
Деррида цитирует Руссо: «Подобно тому, как живопись отнюдь не
является искусством сочетать краски приятным для глаз образом,
так музыка—это вовсе не искусство ласкать ухо приятным сочета-
нием звуков. Не будь в них ничего, кроме этого, и живопись, и му-
зыка были бы естественными науками, а не изящными искусства-
ми. В ранг искусства их возводит подражание. Но что же делает
живопись искусством подражания? Рисунок. Что делает таковой
музыку? Мелодия».2
1 Там же. С. 384.
2 Там же. С. 376.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
596
Замечу в этой связи, что Лифшиц обращался к тем же аргумен-
там, что привлекли внимание Деррида, полемизируя с учеными, для
которых музыка неизобразительна на том основании, что «звучащих
явлений в мире значительно меньше, чем беззвучных»'. Кажется,
однако, комментирует Лифшиц эти слова, «наш автор не вполне
понимает суть дела. Звучащих явлений в мире меньше, чем беззвуч-
ных, это так. Но музыка не изображает только звучащие явления,
она изображает все явления мира ... (...). Старинная музыка, еще
связанная своей математической основой, более тесно сочетает изо-
бражение внутренней эмоциональной жизни с закономерным дви-
жением внешнего мира, «мировой музыкой», musica mundana»1 2.
Лифшиц, подобно Деррида-Руссо, подчеркивает, что подражание в
искусстве — это не подражание звукам и краскам природы, напро-
тив, как раз современные противники теории подражания сводят
язык искусства к знакам, материальной основой которых являются
звуки и краски природы. «Напомню еще раз гениальную мысль Ари-
стотеля, — продолжает Лифшиц, — повторенную Дюбо (вопреки из-
ложению М. Кагана): музыка есть изображение внутренней жизни
человека, изображение тех естественных реакций, которые вызыва-
ет в нас окружающий объективный мир, а через посредство этой
субъективности и нечто более широкое—изображение самого объек-
тивного мира»3.
Деррида прекрасно знает, что, согласно Платону, все виды искус-
ства подражательны, все искусства изобразительны, включая ар-
хитектуру и музыку. Заметим в скобках, что корифеи нашей отече-
ственной эстетики этого не знают, и потому делают такое, напри-
мер, открытие: «Принцип «одержимости», «безумия», — пишет один
из признанных отечественных авторитетов в области эстетики, —
противопоставленный Платоном принципу «мимезиса», и должен
был объяснить, как могут «мусические» искусства стать неизобра-
зительными»4.
1 Цит. по книге Мих. Лифшица «В мире эстетики». М., 1985.
С. 106-107.
2 Там же. С. 107.
3 Там же. С. 108.
4 Там же. С. 102.
Порочный круг
классической теории подражания
597
О платоновской теории «безумия» поэтов мы все что-то слышали,
что-то читали, но, вероятно, не у самого Платона. «Обратимся к диа-
логу «Законы» (кн. IV, 719-720). Здесь афинянин,—разъясняет азы
теории подражания Лифшиц, — ведущий речь о лучшем законода-
тельстве, говорит от имени поэта, который, согласно древней леген-
де, не помнит себя, когда садится на треножник муз, и позволяет сво-
ему наитию излиться, словно источнику. Но так как, сказано у Плато-
на, «искусство его—подражание», то он, говоря нашим современным
языком, изображает жизнь во всех ее противоречиях, не контролируя
себя. Если, например, законодатель предписывает, чтобы похороны
богатых граждан не были слишком пышными, то есть предписывает
умеренность, то поэт, рисуя такие похороны, представил бы их пыш-
ными, не заботясь о том, что этот пример вреден сознанию людей,
воспринимающих его произведения»1. Отсюда видно, заключает Лиф-
шиц, «что творческое «безумие» (оно переводится в настоящее вре-
мя более скромным словом — вдохновение) вовсе не противополож-
но мимезису, то есть изображению жизни. Напротив, у Платона это,
так сказать, избыток бездумного изображения, вызванный тем, что
поэт не владеет собой, когда творит. Ситуация вполне понятная»1 2.
Если людям, учившим диалектику «не по Гегелю», а теорию ми-
мезиса—не по Аристотелю, Платону, Лессингу или Руссо, эта тео-
рия кажется не только устаревший, но и примитивной, то совершен-
но иную оценку она находит у Жака Деррида. Он подробно, внима-
тельно и с немалым интересом исследует «тонкие понятия» теории
природы и подражания у Руссо (и у Платона, кстати, тоже). Дерри-
да приводит в своей книге большую, почти на страницу (и, разуме-
ется, не единственную) выписку из Руссо, где, в частности, говорит-
ся: «Первые самовыражения природы не заключают в себе ничего
мелодического, ничего сонорного; дети учатся петь, как и говорить,
на нашем примере. Мелодическое, приятное для уха пение — это
лишь робкое искусственное подражание интонациям говорящего
голоса или же голоса, исполненного страсти; крик и стон — это не
пение; однако в пении мы подражаем крикам и стонам...»3
1 Там же. С. 102.
2 Там же. С. 103.
3 Деррида Жак. О грамматологии. С. 362.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
598
На этом примере, комментирует приведенные слова Руссо Дерри-
да, «можно исследовать тонкие механизмы функционирования поня-
тий природы и подражания. На многих уровнях природа предстает
как почва, как низшая ступень: пройдя через нее и выйдя за ее пре-
делы, требуется в нее вернуться, вновь соединиться с ней. Этот воз-
врат не означает устранения различий. Различия между подражани-
ем и тем, чему подражают, почти нет. Голос должен превзойти при-
роду—живую, дикую, немую, бессловесную, вопящую; пение должно
превзойти голос, изменить его. Однако пение должно подражать кри-
ку или стону. Отсюда второе, прямо противоположное определение
природы: природа становится — в конечном идеальном случае —
единством подражания и того, чему подражают, голоса и пения»1.
Здесь начинаются серьезные расхождения Деррида с Руссо и
концепцией мимезиса. Точнее, Деррида пытается извлечь из теории
подражания более глубокий смысл, чем тот, который видели в ней
ее гениальные создатели. И тогда находит в этих рассуждениях логи-
ческий крут. Природа приходит к тождеству с самой собой только
благодаря человеческой культуре («единством подражания и того,
чему подражают»), в которой она обретает голос и самопознание.
Это, разумеется, противоречие, которое служит основанием для
идеи «восполнительности» у Деррида.
Если подражание природе, как и вся человеческая культура, не-
обходимо для самой природы, есть восполнение ее, то природа ущерб-
на без культуры и искусства. Совершенное художественное подра-
жание не может подражать тому, что не полно и ущербно. Следова-
тельно, искусство подражает природе, которая преодолела свою
ущербность, ибо «становится — в конечном идеальном случае —
единством подражания и того, чему подражают, голоса и пения». Но
если бы такого единства искусства и природы, то есть природы, вос-
полненной до своего идеала, «удалось достигнуть, подражание ста-
ло бы не нужным, так как, — заключает Деррида, — единство и раз-
личие непосредственно переживались бы в их единстве»2.
Совершенно иной вывод из этой ситуации делает Лифшиц. При-
рода, восполненная человеком до своей полноты, пришедшая к са-
1 Там же. С. 362.
2 Там же.
Порочный круг
классической теории подражания
599
мой себе, своему самосознанию в человеке и благодаря человеку,
становится опорой и почвой классического искусства. Чему же бу-
дет подражать в таком идеальном случае искусство, задается вопро-
сом Деррида. Оно будет, согласно Лифшицу, изображать весь мир,
опираясь на уже достигнутый идеал единства человека и мира, ис-
кусство вполне обретает эту возможность (напомню мысль искусст-
воведа и археолога Г. Кашница, согласно которой идеал единства че-
ловека и мира был достигнут в древнегреческой классике). «Пусть
идеальность в реальном слаба, но только она дает нам возможность
что-либо вообще знать и понимать. Правота Канта в том,—продол-
жает Лифшиц в своих архивных заметках, — что теоретическая ис-
тина обусловлена практической, идеальной перспективой. Мы по-
нимаем в такой мере, в какой мы идеальны. Простое же наблюде-
ние«, даже помноженное на рациональную обработку, не является
преградой против релятивизма, который растет из простого факта
зависимости сознания от обстоятельств. (...). Это—остров, но это —
объемлет. (...). Нужно искать пути к сокращению власти обстоя-
тельств—реальному, к тому, чтобы становилось объемлющим то,
что представляется в действительности лишь маленьким островком
среди ужасов и страшной игры сил. В этом логика природы и исто-
рии, идеальный момент в ней, путь в “царство свободы”»1.
Да, соглашается с классической теорией мимезиса Деррида, вос-
полнение—это одновременно «замена и прирост», благодаря искус-
ству мы получаем возможность «вновь обрести наш утраченный
голос — тот, что, говоря и слушая, слыша себя как законодателя
мелодии, «был, — цитирует он Руссо, — вдвойне голосом природы»1 2.
Но теория подражания запускает тот механизм различАния, кото-
рый классическая теория не знает, и который всю классику и клас-
сическую философскую мысль разрушает!
Живопись без рисунка—не искусство, она способна порождать
только самые примитивные зрительные ощущения. «Не будем удив-
ляться тому, — пишет Деррида,—что Руссо относит рисунок к обла-
сти искусства, а цвет—к области науки и расчета отношений. Па-
радокс здесь очевиден. Рисунок выступает здесь как условие подра-
1 Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 216-218.
2 Деррида Ж. О грамматологии. С. 365.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели» ООО
жания, а цвет—как естественная субстанция, игру которой можно
объяснить физическими причинами и сделать предметом науки о
количественных отношениях, науки о пространстве и о расположе-
нии интервалов по аналогии. Тем самым обнаруживается аналогия
между двумя искусствами—музыкой и живописью; это пример ана-
логии как таковой. Оба эти искусства несут в себе некое извраща-
ющее их начало, которое, как это ни странно, заложено в самой
природе; в обоих этих случаях извращающее начало связано с раз-
бивкой, с упорядоченностью интервалов, основанных на расчлене-
нии и аналогии»1. Одним словом, всякое искусство, включая живо-
пись и музыку, отягощено письмом как воплощением различения.
Но письмо есть смерть духа. Причем смерть коренится в самой
природе искусства, отличающей его от науки, — в подражании. В ри-
сунке и мелодии, в присущей и тому, и другому неподражаемой ху-
дожественной линии. Ибо «черта (рисунок или мелодическая линия)
есть не только то, что дает возможность подражания и узнавания
представленного в представляющем. Это — сама стихия формаль-
ных различий, которая дает содержаниям (субстанции красок и зву-
ков) возможность проявить себя. Одновременно с этим она может
дать место искусству (techne) как мимезису, не превращая его сра-
зу же в технический прием подражания. Если искусству дает жизнь
эта изначальная репродуктивносгь, то главная черта этой репродук-
тивносги открывает перед нами одновременно пространство исчис-
ления, грамматической упорядоченности, рациональной науки об
интервалах и о «правилах подражания», поглощающих энергию»1 2.
Деррида применяет здесь понятие «репродукгивности» в том смыс-
ле, который ей придавал В. Беньямин,—копия, неподлинное, механи-
ческое, убивающее ауру. Причем, по его мнению, как раз Руссо подоб-
ную репродуктивность считал неразрывно связанной с мимезисом.
В подтверждение своей мысли Деррида цитирует следующее наблю-
дение Руссо: «Жизнь и душу придают этим краскам рисунок и под-
ражание; изображение страстей пробуждает наши страсти ... те или
иные черты трогательной картины затрагивают нас и в эстампе»3.
1 Там же. С. 382.
2 Там же. С. 376.
3 Там же. С. 375-
Порочный круг
классической теории подражания
601
Эстамп—это репродукция, следовательно, прибавляет Деррида,
без репродукции нет мимезиса. «И если прекрасное ничего не теряет
при репродукции, если его можно опознать по его знаку, по знаку
знака или копии, то это значит, что оно изначально, при своем со-
здании, «продукции», уже было по сути своей репродукцией. Эс-
тамп— это одновременно и копия образцов искусства, и сам обра-
зец. И если (перво)начало искусства — это возможность эстампа,
тогда смерть искусства и искусство как смерть уже предначертаны
в самый момент рождения произведения искусства. Принцип жиз-
ни, подчеркнем это, сливается с принципом смерти. Вновь Руссо
стремится разделить их, но вновь в своих описаниях и в своем тек-
сте он учитывает то, что ограничивает это его желание или проти-
воречит ему»1.
Руссо предстает в изображении Деррида как мыслитель, угадав-
ший основные принципы деконструкции, различания, и близко по-
дошедший к тем же выводам, что и сам Деррида. Но, подобно мно-
гим гениальным мыслителям прошлого, он был покорен идеализмом
и логоцентризмом, что заставило Руссо в конечном счете придержи-
ваться классической логики и классической картины мира. На при-
мере теории подражания Деррида хочет продемонстрировать, как
классика упрощает, сглаживает утлы и шероховатости, внутреннюю
раздвоенность, свойственную всему в этом мире. И теория мимези-
са, и создаваемое в соответствии с нею искусство есть различание,
представляет собой то «между», fort—da, которые заключают в себе
одновременно, подобно «хоре», и да, и нет, или, что не менее вер-
но, не заключают в себе ни да, ни нет.
Самое совершенное искусство, самая замечательная живопись
и самая прекрасная музыка, в которой мы слышим пение счастли-
вого человека, интонацию ликования, есть с самого начала не что
иное, как смерть. Взволнованная, исполненная страсти речь духа
содержит в себе как свою неискоренимую суть и первоначало —
молчание тотального Ничто, причем это «Ничто» Хайдеггера, а не
Гете, сделав ставку на которое, можно обрести весь мир. Молчание,
в которое погружается Деррида, есть то пространство, в которое мы
попадаем, сев между двумя стульями, — «ни то, ни се», «ни богу свеч-
1 Там же.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
602
ка, ни черту кочерга», «межеумочность» как последняя истина мира
и человеческой культуры.
«Не плачьте, бабы, це ще, може, брехня!» — невольно приходит
в голову ироническое замечание Мих. Лифшица. Вспомним, не кто
иной, как сам Деррида упрекал классиков за то, что они склонны
были видеть в письме смерть духа. Деррида, кажется, забыл об этом.
Между тем и Платон, и Руссо догадывались — о чем свидетельству-
ют их важные оговорки, приводимые Деррида, — что жизнь в искус-
стве и обществе рождается не только вопреки технической стороне,
автоматизму, повторению, разбивке, откладыванию и отчуждению,
но в известной мере и благодаря им.
Эстамп предполагает репродукцию. Но разве не благодаря эстам-
пу развилась графика как самостоятельный, а не подсобный для жи-
вописи, вид изобразительного искусства? Графика—уникальный,
предполагающий неповторимость авторского почерка (что роднит
графику с каллиграфией) художника, выразительность графической
линии, культивирующий эту уникальность и выразительность спо-
соб изобразительного воссоздания бытия. Тиражируемость этого
вида изобразительного искусства развила на другом полюсе само-
стоятельность линии, большую ее обобщенность и даже некото-
рую абстрактность по сравнению с живописью. Хорошо известно,
что художники-графики более склонны к абстрактному мышлению,
мышлению в понятиях, чем живописцы. Тиражируемость графики
как книжной иллюстрации внутренне связана с ее способностью
переводить словесные образы литературы на язык зрения, непосред-
ственного впечатления, на язык изобразительного искусства.
Но для Деррида эстамп—это только смерть искусства и ничего
более. Подчиняясь софизму В. Беньямина (см. з-ю главу), он в этом
случае мыслит по принципу «или-или», не допускающего переход-
ного случая, светотени между абсолютно черным и абсолютно бе-
лым. То есть следует той самой бинарной логике, по поводу которой
столько ядовитых слов сказано постмодернизмом. Если механичес-
кое повторение, вообще говоря, враждебно искусству, значит, эс-
тамп — воплощение смерти искусства, утверждает он. Но, как изве-
стно, «вообще» ничего решать нельзя, необходимо исследование
конкретных закономерностей, усложняющих и обогащающих аб- >
страктно-верное положение.
Порочный круг
классической теории подражания
603
Вместе с тем, бесспорно, Деррида нащупывает реальную сла-
бость классической идеалистической философии вообще и теории
мимезиса в частности.
Классика ищет некоторого среднего положения между духом и
телом, человеком и природой, свободой и необходимостью. Искусст-
во не есть простое воспроизведение, репродукция природных объек-
тов. Оно не является и продуктом цивилизации, которая строит свое
здание на расчленении объектов природы, знаке, разбивке, техни-
ке. Для Руссо подлинное искусство там, где человек уже не приро-
да, он уже духовен, но еще не попал под власть техники, письма,
отчуждения. Эти состояния он находит в детстве, а первоначалом
искусства и его внутренней сутью, в изложении Деррида, «является
чистое дыхание (pneuma) и непочатая жизнь, нечленораздельное
пение и язык, речь без разбивки: это пример утопический и атопи-
ческий... (...). Это — невма (neuma), чистая вокализация, особая
форма нечленораздельного пения без слов. Слово это означает ды-
хание, вдохновленное Богом и обращенное к нему одному»1. «Лишь
Бог, — развивает мысль Руссо Деррида, — может обойтись без тех
восполнений, которые он дарует людям. Бог—это свобода от вос-
полнений. Невма, волшебство самоналичия, нечленораздельный
опыт времени — это, иначе говоря, утопия. Такого языка — ибо
речь идет именно о языке — собственно говоря, не существует»1 2. Ре-
альные язык и искусство с необходимостью включают в себя члено-
раздельность, разбивку, размещение в пространстве, следовательно,
письмо как носитель и воплощение смерти духа.
Но для классической мысли, в частности, для Руссо, замечает
Деррида, письмо—не только смерть духа, оно при известных услови-
ях становится средством развития и формирования духовного, живо-
го начала. При каких же условиях отдаление от природы, отчуждение
от нее, даже насилие по отношению к ней, разбивка и расчленение
ее—способ возрождения и совершенствования самой природы, вос-
полненной человеком? Это проблема проблем, особенно остро по-
ставленная Новым временем. Классическая мысль видела образец
и пример возможного решения ее в искусстве. Всякое искусство есть
1 Там же. С. 427.
2 Там же. С. 429.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
604
система знаков, разбивки и расчленения, но эта система знаков —
одновременно подражание природе, которое возвращает природе
утраченную целостность, восполняет ее до идеала единства человека
и мира, единства природы с самой собой.
Стало быть, заключает Деррида, излагая глубокий смысл теории
подражания (или отражения) «мы пришли к двум очевидным положе-
ниям: единство природы, или тождество (перво) начала, пронизано
весьма странным различием, которое одновременно и починает эти
единства, и создает их»1. Для Деррида теория подражания в классичес-
кой эстетике оказывается тем самым приближением к его концепции
различания, хотя сами классики, разумеется, не догадывались об этом,
ибо видели в искусстве торжество жизни и духа, а не то абсолютное
молчание, Ничто, которые выражает современное искусство. Да и са-
ма классика тоже содержала в своих недрах молчание и Ничто авангар-
да и постмодернизма. Она просто, согласно Деррида, не доросла до
осознания и открытого выражения своей подлинной мысли. «Но что
же, собственно, Руссо говорит нам, не говоря, видит, не видя? То, что
подмена всегда-уже началась, что подражание, будучи основой искус-
ства, уже положило конец полноте природы, что оно обязано быть дис-
курсом, а потому оно всегда-уже осквернило наличие различанием, что
в природе оно всегда выступает как восполнение природного недо-
статка, как голос, подменяющий голос самой природы. Руссо говорит
все это, не выводя отсюда следствий.. .»2 Далее Деррида цитирует рас-
суждение Руссо, которое, по его мнению, служит подтверждением
концепции «восполнения» у самого Деррида. Что же говорит Руссо?
«Как ни старайся, шум сам по себе ничего не говорит душе. Что-
бы предметы были понятны, — продолжает Руссо, — они должны
говорить, и всегда, во всяком подражании голос природы должен вос-
полняться чем-то вроде речи. Музыкант, желающий шумом пере-
дать шум, заблуждается; он не знает ни слабости, ни силы своего
искусства; его суждения свидетельствуют о безвкусице и невеже-
стве. Растолкуйте ему, что он должен передавать шум пением, даже
если требуется передать кваканье лягушек»3.
' Там же. С. 363.
2 Там же. С. 386.
3 Цит. по: Деррида Ж. О грамматологии. С. 386.
Порочный круг
классической теории подражания
605
Нечто подобное Лифшиц пытался растолковать современным
апологетам активности, хулителям мимезиса: «.. .изобразительную,
или «отражательную», сущность музыки нельзя свести к «звукопод-
ражанию». Можно даже сказать, что в звукоподражании, посколь-
ку оно возникает в музыке, менее важно то, что изображается, чем
то, с каким искусством повторено, включено в общую музыкальную
ткань непосредственное впечатление нашего чувственного опыта,
слуха. Рожок пастуха это то же самое, что «тромплейль» в живопи-
си —тонкость мастерства, доведенная до обмана зрения. Здесь явно
сказывается перевес субъективного момента, и художник действи-
тельно как бы подает нам знак из глубины своей музыкальной кар-
тины, за которой таится его самосознание. Другими словами, «зву-
коподражание» более условно, чем обычная музыкальная стихия,
котирую М. Каган считает неподражательной»1.
Собственного голоса природы в ее шумах и даже пении птиц мы
не слышим, искусство как подражание восполняет этот недостаток
природы, согласно Руссо и всей классической традиции эстетики.
Музыка не подражает звукам природы (а когда подражает, то это—
высшая условность искусства, проявление его субъективной приро-
ды и артистизма), живопись не подражает чувственному образу зре-
ния, а тем более не подражает этому зрительному образу архитек-
тура. Поэтому, продолжал Лифшиц, «теория «неизобразительности»
архитектуры остается в плоскости самых внешних и ненаучных пред-
ставлений. Главный недостаток подобных концепций состоит в том,
что образ искусства смешивается с непосредственным чувственным
образом чувственного восприятия»2. Искусство отражает как «вто-
рое зеркало, зеркало внутренней жизни». Подражая человеческому
голосу, его интонации, а не шумам природы, музыка восполняет
природу до такой полноты ее, при которой целостная природа, вклю-
чающая в себя и человека, обретает свой голос, голос бесконечно-
го бытия.
Но в классической философии и эстетике есть неувязка, которую
нам демонстрирует Деррида через увеличительное стекло своего
различения. Если природа, как нечто внешнее человеку, обретает
1 Лифшиц М. В мире эстетики. С. 107.
2 Там же. С. 108.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
боб
свой голос только благодаря человеку, в его душевных движениях,
которым подражает музыка и лирическая поэзия, то бесконечная
природа без человека неполна, неполноценна? Как же тогда непол-
ноценная и незаконченная природа, нуждающаяся в таком воспол-
нении как человек и его культура, могла создать более полноценное,
чем она сама,—человека и его искусство? Далее, искусство посред-
ством подражания внутреннему голосу человека и внутренним дви-
жениям его души изображает все-таки внешний мир, природу. Но
само по себе подражание, пишет Деррида, уже фактом своего суще-
ствования свидетельствует о неполноте природы, наличие после-
дней оно осквернило различанием. То самое наличие, которое явля-
ется основой классической философии, ее исходным пунктом — на-
личие природы в зрительном образе человека или наличие мира,
меня самого, поскольку «я мыслю, следовательно, существую». Нет
такого «наличия», доказывает Деррида, это миф классического мыш-
ления и классического искусства. Ибо наличие предполагает цело-
стность мира, его полноту до человека и без человека, без его куль-
туры и искусства, без различения. А такого целого без человека и его
преобразующей практики нет и быть не может.
Деррида демонстрирует порочный крут теории подражания, из
которого не видит выхода. Искусство поднимается до своей верши-
ны, когда человеческий мир становится зеркалом полноты природы,
внешней человеку и его культуре и независимой от человека. Но свою
полноту природа получает только благодаря человеку и его искусст-
ву, как же в таком случае ее изначальная неполнота и недостаточ-
ность может придать искусству его истинное содержание, стать на-
стоящим голосом мира, превосходящим по своему духовному содер-
жанию голос самого человека? Выходит, что неполнота природы,
которая восполняется только человеком, дополняет человека и его
искусство? Если это так—а это именно так, доказывает Деррида, —
то перед нами не что иное, как различание, fort—da, хора, ни да, ни
нет, включающее в себя и да, и нет. Одним словом, то самое воспол-
нение, которое дополняет истинную любовь до ее полноты мастур-
бацией. Если же вам не нравится такое восполнение, и вы считаете
его только злом, которое врывается снаружи в беспорочную любовь,
как снаружи врывается письмо в жизнь духа, разбивка—в рисунок,
гармония — в мелодию, то вы метафизик и логоцентрист. Или, что
Порочный круг
классической теории подражания
607
то же самое, классик, который стыдливо закрывает глаза на реаль-
ное положение вещей, хотя и достаточно искренен, подобно Руссо,
поведавшего миру о своих опасных «восполнениях». «И это, — пи-
шет Деррида,—вполне соответствует логике тождества и принципу
классической онтологии (наружа находится снаружи, бытие бытий-
ствует и проч.), но вовсе не логике восполнительности, которая стре-
мится к тому, чтобы наружа была в-нутри, чтобы другое, недостаточ-
ное, вторгалось извне, как простая добавка положительного к отри-
цательному, чтобы сама добавка восполняла недостающее, чтобы
недостаток как наружа нутри уже был нутрью нутри и проч.»1
Порочный крут у Деррида (как и любой иной порочный крут)
рождается благодаря инверсии первого тезиса. Теория подражания
требует, чтобы природа была самодостаточна, ибо искусство есть
голос независимой от человека природы, голос объективной истины
мира. Это так же справедливо, как и прямо противоположный тезис,
вытекающий из теории подражания: искусство восполняет приро-
ду, которая сама по себе, без искусства человека, его разума и циви-
лизации недостаточна. Между тезисом и его инверсией у Деррида
нет щели. В результате образуется порочный круг мысли, заменяю-
щий весь объективный мир различанием, то есть межеумочностью,
тотальной недостаточностью, провалом и катастрофой, абсолют-
ным Ничто и молчанием искусства авангарда и постмодернизма.
Чему же подражает искусство? Неполному миру, лишенному
тепла человеческого сердца и человеческого смысла? Но тогда содер-
жание искусства ниже человека и его внутреннего мира. Искусство
воспроизводит внутренний мир человека, его душу, его страсти? Но
тогда подражание формам внешнего мира будет только средством пе-
редачи движений души, его чистой субъективности, только знаком
или символом, и потому искусство вполне может обойтись без под-
ражания формам самой реальности, то есть не быть изобразитель-
ным. Собственно, согласно этой логике, оно становится вполне ис-
кусством лишь тогда, когда расстается с изобразительностью (как
живопись XX века рассталась с фотографическим подобием реально-
сти). Тут порочный круг, который Деррида фиксирует, не выходя за
его пределы, а объявляя последней истиной — различанием.
1 Там же. С. 385.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
6о8
Согласно Лифшицу, в подобной логике—логическая ошибка, ибо
между тезисом и его инверсией есть щель, неполное тождество. Не
только вопреки субъективности человека, его «видению» достигает-
ся подражание природе, и она обретает свой объективный, т.е. неза-
висимый от субъективности человека голос, но в известной степе-
ни и благодаря. А именно в той степени, в какой человек нужен при-
роде, чтобы он разбудил ее, возбудил в ней субъективные свойства.
И тогда возникает тот «островок», то идеально-реальное «место», где
человек стал природой, а природа доросла до самой себя в челове-
ке и его мире. Обживаясь на этом «месте», расширяя островок ра-
зумности, человек получает возможность видеть мир в его истине
благодаря достигнутой им «трансцендентальной точке зрения».
Классическая эстетическая мысль то подходила к этой идее, то
удалялась от нее, не будучи способной разорвать порочный крут тео-
рии подражания. Ведь искусство—вовсе не некое эклектическое сред-
нее между субъектом и объектом, сплав между ними, или электричес-
кая дута, возникающая между полюсами объективного и субъектив-
ного, как дело представляется гегельянцу XX века Гансу Зедльмайру.
Подражание мертвому объекту не имеет эстетической ценности, а
с другой стороны, подражание душевным движениям человека пре-
вращает изображение предметного мира в знак, то есть заменяет
изображение знаками и символами внутренней жизни.
Между тезисом и его инверсией не полное тождество, между
ними есть щель. А именно: порочный круг может быть разорван
только при допущении, что в искусстве человек подражает объек-
тивному миру, который обладает своей идеальностью, причем бо-
лее широкой и реальной, чем идеалы человека. Но, с другой сторо-
ны, идеальность мира может стать актуальной только в творчестве
человека, который пробуждает в природе скрытые в ней субъектив-
ные свойства и позволяет ей — на человеческом «островке» разум-
ности—дорасти до самой себя, прийти к самой себе. Деррида про-
ницательно уловил главный недостаток классической теории под-
ражания, но вместо разрыва порочного крута делает его тотально
замкнутым. Наружа (то есть природа) должна быть в-нутри (чело-
веке), чтобы природное, неполноценное, не духовное оказывалось
необходимой, положительной добавкой к духовному миру челове-
ка, а без этой добавки природного, подражательного, недуховного
Порочный круг
классической теории подражания
609
искусство вовсе не искусство, а мертвая система знаков. Итак, внут-
ренней необходимостью должно являть нечто совершенно внешнее,
постороннее, то, что только наружи, и что не имеет никакого отно-
шения к внутренней жизни человека. Этот недостаток — «наружа
нутри» — есть такой же парадокс, как мастурбация в качестве необ-
ходимого добавления к истинной любви. Чем больше мы таким об-
разом рассуждаем, тем больше уходим в бесконечную рефлексию,
которая, затягивая сознание в свою воронку, погружает в бездну
абсолютного Ничто. Всякое сознание оказывается звенящей пусто-
той, а искусство—знаком тотальной неизобразительности.
Вывод, вытекающий из концепции «течения» 30-х годов, прямо
противоположный. Искусство изобразительно, потому что в челове-
ке и благодаря человеку природа подражает — в конечном счете —
самой себе. Природа, будучи «наружей», в человеке становится его
«нутрью» — это было понятно всем классикам, от Сократа до Гете.
Добавление к этой верной мысли классики, сделанное «течением»,
заключается в следующем: именно тогда, когда возникает идеаль-
ный мир, «островок разумности», когда природа достигает своей
полноты в человеке и его творчестве, когда она вполне становится
природой в собственном смысле этого слова — именно тогда чело-
веку открывается природа в ее красоте, неисчерпаемости смысла,
независимого от человека и человечества. Движение к идеалу—
единству человека и природы, когда последняя дополняется до сво-
ей истины человечеством и его разумом — есть одновременно дви-
жение к обретению природой своего собственного голоса, очищен-
ного от «человеческого, слишком человеческого».
Что изображает архитектура? Она «изображает мир не в живых
явлениях его, отличающихся органической формой конкретного,
каково, например, человеческое тело, а в более абстрактных, всеоб-
щих и тем не менее все же объективных связях, без которых нельзя
представить себе ни образование кристаллов, ни практику человека»1.
То есть она изображает природу, внешнюю человеку, какова она без
человека? Но как раз архитектура, согласно Гегелю, наиболее сим-
волична, ибо в ней образ мира как целого, доказывал Вельфлин, со-
отнесен с человеком, его пропорциями, его человеческой мерой.
1 Лифшиц Мих. В мире эстетики. С. 107.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
6ю
Значит, воспроизведение наиболее абстрактных закономерностей
мира (тектонических в архитектуре) является знаком для передачи
субъективного мира человека, причем знаком неизобразительным?
Нет, изобразительность архитектуры—на тонкой грани между объек-
тивностью и субъективностью, внешним и внутренним. Внешнее
человеку—абстрактные закономерности природы, ее ритм, ее тек-
тоника. Как они соотносятся с внутренним миром человека?
Структурный принцип классической архитектуры вынесен нару-
жу, внутреннее представлено как внешнее — колонна и тектоничес-
кий конфликт. Но это внутреннее, равное внешнему, представлено
не в виде нарочитой демонстрации вынесенных наружу внутренно-
стей здания (принцип современной архитектуры), а как доступный
чувственному восприятию образ реальных закономерностей бытия.
Чисто знаковый характер современной архитектуры, демонстриру-
ющей ее функциональность, делает архитектуру скучной и нарочи-
той аллегорией, лишая ее непосредственности художественного
образа. Последний в архитектуре возникает тогда, когда наш глаз
видит весь мир в образе здания, мир, завершенный в себе и целост-
ный, космос, но в этом космосе человеческое начало не случайно,
не прибавлено снаружи, оно неразрывно с ним связано, придавая
космосу целостность и гармонию и извлекая их из природы. Если же
человек присутствует в архитектуре как «органическая форма», если
человек «добавлен» к ней, то только как высшая условность архитек-
турного типа изобразительности, например, человек в виде колон-
ны, кариатиды. Ибо ничего не может быть условнее в архитектуре,
чем фигура человека, тем более фигура грациозной женщины, ко-
торая несет на своей голове всю тяжесть каменного сооружения.
Кариатиды—это тоже своеобразный «тромплейль».
Субъективное, человеческое начало только в том, что делает
архитектуру независимым от человека космосом, подобно тому, как
независима от человека и человечества объективная истина, рож-
денная в человеческом сознании и существующая в формах этого
сознания. Архитектура — зримый образ целостного и в себе завер-
шенного мира, не нуждающегося в человеческих прибавлениях (ал-
легорического выражения смысла) именно потому, что человечес-
кое прибавлено не внешне к объективному миру, а образует внут-
реннюю суть классического ордера, его пропорций, его структуры.
Порочный круг
классической теории подражания
6п
Мы видим перед собой мир, как он есть, до человека и после чело-
века, но в этом архитектурном образе человеческое начало всегда
было и будет неустранимо от космоса (мышление есть атрибут ма-
терии), как внутренняя структура здания—в колонне, которая по-
чти вне него, за пределами его центра, целлы. И это человеческое
начало объективного бытия делает, например, Парфенон торже-
ствующей песнью человечества.
Архитектура—зримый образ разрыва порочного круга, на кото-
ром, однако, все и основано. Напротив, для Деррида изобразитель-
ность (подражание) искусства есть различание, манифестация по-
рочного круга и его безвыходности. Разумеется, такая манифеста-
ция — не ворота в бесконечный мир смыслов и живых образов, а
«Ничто» абсолютного молчания. Для Лифшица, наоборот, «высокий
реализм» мирового художественного творчества есть разрыв пороч-
ного круга, все великое и истинное в искусстве проходит в щель,
неполное тождество между, например, человеческой речью, пись-
мом, расчленением и вещами самими по себе, каковы они незави-
симо от человека. Результат — молчание классического искусства,
которое превосходит богатством смысла и выражения движений
души самую выразительную речь или письмо.
Природа не может видеть и мыслить саму себя непосредственно,
она нуждается в таком дополнении к себе, как человек. Он способен
понять природу, то есть объять ее, встать над ней, ибо понять—зна-
чит, превзойти, стать выше, но только посредством расчленения
природы и отчуждения от нее. Однако в высших достижениях чело-
веческой культуры природа идет вперед, к себе. Человек поднима-
ется до глубочайшего постижения и единства с природой, когда
выходит за пределы ограниченности слов и всех своих опосредство-
ваний, созданных культурой, включая дискурсивное мышление. В
его языке заговорили сами вещи.
«Каким великим стимулом для всей человеческой культуры яв-
ляется слово, свободное слово! —писал Мих. Лифшиц, разъясняя
эстетическую идею «течения» 30-х годов и искусствоведа Игоря Иль-
ина в частности. — Но как оно вместе с тем бедно, суетно и обман-
чиво! При всем его громадном значении для истории мир слов не
может заменить действительность и даже приблизительно исчер-
пать ее. Самостоятельное развитие искусства, начиная с гротов Ляс-
Жак Деррида и Мих. Лифшиц: >-
две концепции «щели» О1^
ко и Альтамиры, указывает на недостаточность языка. Искусство
необходимо, но, вопреки модным теориям, необходимость его состо-
ит вовсе не в том, что, соревнуясь с языком или в дополнение к нему,
оно излагает внутреннюю речь художника, его программу и направ-
ление, пусть самое гуманное, загадочно-иррациональное, невнят-
ное, мифологическое — какое угодно. Этим занимается искусство,
стоящее на грани своих возможностей, гибридное, не требующее
часто даже специальных способностей, то есть артистического чув-
ства реальной формы. Такое искусство с успехом может заменить
общая изобретательность или психологический напор, привлекаю-
щий внимание других, часто болезненный. Искусство в собственном
смысле начинается там, где труд художника возвращает нас к при-
роде, чувственной действительности. Без этого начала всех начал
нет ни общественного бытия, ни культуры, которая ищет в художе-
ственном чувстве лекарства от одностороннего развития ее же соб-
ственных сил».
«Мысль Игоря Ильина, — продолжает Лифшиц, — заслуживает
более широкого понимания. Известно, что человек стремится выра-
зить что-то вовне и результатом этой страсти являются его создания
из камня, мрамора, красящих веществ или других материалов. Но
верно и то, что искусство умеет погасить чрезмерную выразитель-
ность нашего «нутра». В художественном творчестве и восприятии
чувство свободно от патологического выражения того «захолустья»,
в котором мы живем, принимая его за центр мира, от шумной говор-
ливости этой колонии биологических клеток, возбужденной своим
участием в необычном для всей остальной природы спектакле — ис-
тории общества. Слишком выразительный голос нашей вотчины
подавляет лучшее в человеке — способность быть экраном, зерка-
лом бесконечного мира, тем, во имя чего сохранил человеческий род
жестокий естественный отбор»1.
«В художественной поэзии,—завершает свою мысль Лифшиц, —
речь приближается к пластике, архитектуре. Слова ложатся, как
хорошо пригнанные камни, язык теряет свою эмпирическую фор-
му, приобретая род автономии. Но это лишь отражение независи-
мого от нас, самобытного существования каждой былинки, «благое
'Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985. С. 306.
6i3
молчание» окружающего нас мира. Если поэзия рассуждает, то это
все же не дискурсивная мысль, выраженная словами, а логос самих
явлений. Возможно ли мышление без слов, услышанных по крайней
мере одним человеком в глубине его души, без verbum mentis? Воз-
можно, поскольку оно опирается на явления чувственной действи-
тельности, на молчаливые образы ее, заключающие в себе реальный
смысл. Если это язык, то непосредственный язык вещей, истина,
которую, по мысли Фейербаха, можно видеть и слышать, пробовать
на вкус и ощущать, вдыхая ее аромат»'.
Молчание Уорхола и Деррида совершенно иной природы — оно
лишено запахов, красок, живых образов реального мира. Это молча-
ние порочного круга бесконечной рефлексии, высшая и последняя
истина которой — абсолютное, тотальное, совершенно лишенное
смысла Ничто. Которое, увы, по закону «крайности сходятся» обора-
чивается «шумом и яростью» политической жизни и массовой куль-
туры. Картинки и имиджи последней, будучи мифологией, точнее,
формой фетишистского сознания, пронизаны всеобщим бессозна-
тельным убеждением в том, что «Бог умер», а говоря философским
языком: действительность испарилась. И это — современность?
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва
порочного круга истории
Деррида подходит к новому «объекту», к «современности» с са-
мых различных сторон, он оглядывает этот объект, ощупывает его,
определяет, насколько в данном случае возможны определения. Мы
рассмотрели «подходы» философа и его результаты, зафиксирован-
ные в понятиях, которые, естественно, сами представляют собой
«ничто», внутренне рассыпающиеся определения, ибо, вообще го-
воря, ничего не определяют и определить не могут. При этом Дер-
рида обнаруживает и мастерство софиста в обращении с понятия-
ми, и незаурядную эрудицию, и талант прирожденного мыслителя.
Больше того — честность, насколько она возможна в том «течении»,
1 Там же. С. 307.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц: >-
две концепции «щели» О±4
в том потоке, именуемом «современностью», который его несет.
«Честность» и абсолютная свобода постмодернизма заключа-
ются в том, чтобы ставить в центр внимания все, от чего обычно от-
водит глаза традиционное искусство. Всё можно, например, под-
глядывать в туалет, когда там сидит дама. Нет запретных сюжетов!
Особая «свобода» постмодернизма—демоническая реакция на ус-
ловности, без которых не может существовать культура, и эта ре-
акция тоже, однако, продукт культуры, а именно пороков, говоря
словами Канта, рожденных ею же самою. «Современность» все бо-
лее и более уходит, таким образом, в условность, которая превраща-
ется в порочный круг бесконечной и саморазъедающей рефлексии.
В конце концов она порождает тупость. Когда культивируемая и
сверхинтеллектуальная тупость (тупость «сверху») сливается с мас-
совой инстинктивной тупостью снизу (естественной реакцией обык-
новенного человека на «порочный круг» повседневности), то, как
показывает история фашизма и сталинизма, возникает гремучая
смесь, способная привести к уничтожению всего живого на нашей
планете.
А может быть, стоит человечеству еще раз попробовать начать
все сначала и «наконец-таки научиться жить»? Кажется, эта мысль
тревожила сознание Деррида, когда он давал последнее в своей жиз-
ни интервью. Может быть, «порочный круг» не столь тотально зам-
кнут, может быть, есть щель, которая позволит из него выйти? При-
чем возможная развязка рокового узла современности почти оче-
видна, почти на поверхности лежит—борьба на два фронта, борьба
против ложных противоположностей, на которые разделено челове-
чество: и против западной псевдодемократии, и против мусульман-
ского, враждебного духу Просвещения, фундаментализма.
Реальную основу крайностей, о которых говорит Деррида, обра-
зует противоположность между «золотым миллиардом» и «мировой
деревней», сопротивляющейся глобализации-модернизации. На ран-
них этапах своего развития капитализм решал проблему модерни-
зации просто: в Англии крестьянство было стерто с лица земли, в
США коренное население уничтожено, загнано в резервации. А ино-
го не дано?
Но современный капитализм ради того, чтобы жить и процве-
тать, вынужден был в середине XX века проглотить нечто такое, что
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории
он не в состоянии переварить. При всеобщем довольстве и растущем
комфорте запах гнили отравил воздух. Ощущение, что западный
мир сел между двух стульев и проваливается в какое-то неведомое
ничто—вот последняя истина сознания и подсознания современно-
го интеллектуала в равной мере, как и человека улицы. Эта правда
непосредственного внутреннего самоощущения, правда повседнев-
ности настолько велика, что не нуждается в каком-либо серьезном
доказательстве. Напротив, она, «истина повседневного бытия», на-
столько сильна, что перерабатывает, перемалывает всю человеческую
культуру прошлого, и под жерновами современности, ничего, кажет-
ся, от культуры не остается, ни аргументации Платона или Руссо, ни
классической архитектуры или театра — только Ничто, «забота»,
«ужас», молчание... И жажда нового порядка, беспрекословного
подчинения новому «фюреру», как в финале «Репетиции оркестра»
Феллини. Современность — это Деррида и Уорхол. А еще раньше
«современность» заговорила языком философии Хайдеггера, вопло-
тившей в себе «крайнюю консервативную революционность»'.
Жак Деррида попытался перемолоть жерновами «современнос-
ти» Руссо, Канта, Гегеля, Платона, Маркса и других корифеев миро-
вой классической мысли. «Жернова», к помощи которых он прибег-
нул, на жернова вовсе не похожи, напротив, это нечто совершенно
свободное и мягкое, аморфное — беспредельный ореол смыслов,
который окружает каждое понятие или, как шлейф, тянется за ним.
Абсолютная свобода мышления Деррида в том, что он позволяет
ореолу побочных смыслов двигаться, соединяться, рассыпаться и
снова объединяться, не подчиняясь, кажется, ничему, в первую оче-
редь—логике, и в результате возникают разнообразные аллюзии,
причудливые смысловые сочетания, как в калейдоскопе. Но, добав-
лю, это не свобода соединения естественных цветов, не удивитель-
ная гармония, рожденная преломлением и рассеянием солнечного
света в облаках на горизонте вечерней или утренней зари. И даже
не калейдоскоп. Потому что абсолютно свободные картины постмо-
дернистской литературы, где все позволено, и абсолютно свободные
от логоцентризма перетекания смыслов у Деррида подчинены жес-
1 Бурдъе П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера.
М., 2003. С. 14.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
616
ткой логике, которая тиранически властвует над всем теоретичес-
ким построением философа.
Оригинален, причудлив логический (алогичный) рисунок ста-
тьи Деррида о «хоре» из платоновского «Тимея». Философ, кажется,
перебирает все возможные смыслы и ассоциации, рождаемые этим,
действительно, необычным понятием—khora (так оно выглядит во
французской транскрипции). Хора — не геометрическая точка, не
место в пространстве, а особое место, например, человек, Сократ,
рождающий смыслы, которые в конечном счете приводят к рассея-
нию всех определенных смыслов. «Хора обозначает особое место,
промежуток, сохраняющий асимметрическое отношение со всем, что
«в ней», сбоку или сверх нее, что выглядит образующим пару с ней.
В паре с тем, что вне пары, эта странная мать, дающая место, но не
порождающая, не может более рассматриваться как начало. Она ус-
кользает от любой антропотелеологической схемы, любой истории,
любого откровения, любой истины»1. Но мы уже видели, что Дерри-
да в статье о «Хоре» жестко отсекает главную характеристику хоры
у Платона, а именно: нелогическое, дологическое, первобытный
Хаос не вполне алогичен и бессмыслен. Без него, как без матери, не-
возможно порождение реальных вещей, Вселенной. Он—необходи-
мое условие логоса, идеального начала мира, в определенном соче-
тании «хоры» с логосом рождается все реально существующее.
Если хора, как утверждает Деррида, «ускользает» от любой исти-
ны, то и от отсутствия ее она тоже может ускользнуть, не так ли?
Иначе перед нами была бы ограниченная чем-то хора, неважно чем,
но все же ограниченная. Как бы ни был свободен от логоцентризма
Деррида, ему не удастся справиться с известным затруднением, и если
все критяне лгут, то, очевидно, не может говорить правду и Деррида.
Деррида хочет доказать, что хора — абсолютная пустота, про-
пасть, в которую все проваливается. Платон доказывает прямо про-
тивоположное — это «место», где порождается абсолютно все, что
только может быть в реальном мире. Хора позволяет Платону до
известной степени избежать пресловутого «логоцентризма», ибо
мыслитель понимает: рождение и развитие вещей не является «за-
программированным», оно не есть «проектирование». Логос, идея —
‘Деррида Ж. Хора. С. 163.
Tertium datur искусства — f
«место» (хора) разрыва порочного круга истории 017
отец порождения, но кормилицей и матерью является хора, приво-
дящая стихии в некий порядок, не будучи при этом логосом, проек-
том, «паттерном». И потому развитие реального мира не может быть
«линейным», что знал, как видим, Платон задолго до современной
моды на синергетику.
Итак, поскольку хора не ограничена никакими истинами, исто-
риями или отсутствием таковых (что подтверждает и сам Деррида),
то на этом месте (khora, или в латинской транскрипции, chora — ме-
сто, площадь) может возникнуть чрезвычайно много интересного,
непредсказуемого. Например, хоровод. Что и подтверждается эти-
мологией греческого слова «хоровод», означающего место танцую-
щих людей и самих танцующих людей. Человек иного, чем Дерри-
да, «течения», Игорь Александрович Ильин раскрыл любопытную
историю, которую могло иметь и имело это уникальное «место».
Оно действительно не привязано к конкретному геометрически
или географически зафиксированному пространству. И вместе с тем
хоровод, будучи свойственен самым разным древним народам, раз-
вился в особую историю в особом месте—Древней Греции. «Исто-
ки театра древних греков теряются в хороводах. Сам эпос понима-
ет под словом «хоровод» (choros) как участников хоровода, так и
место их выступления. Значение термина показывает, что круглая
в плане площадка для песен и плясок дана непосредственно самими
хороводами»1. Театр был создан сознательной, целенаправленной
деятельностью людей, и вместе с тем появился, доказывает Ильин,
как продукт саморазвития особого «места», возникшего в древнем
обществе, но заранее вовсе не «запрограммированного» как место
для будущего театра.
«Ближайшими аналогиями площадок для циклических хороводов
в честь божеств, почитание которых носит столь древний характер,
являются кромлехи, относящиеся, вероятно, к XIX-XX векам до н. э.
(...). Сочетание кромлеха с курганом на площадке для погребальных
танцев, — продолжает Ильин, — позволяет вспомнить постановку
ранних трагедий Эсхила, большинство которых в качестве места
действия имели возвышение в виде холма, скалы и т.п. (...). Соче-
тание кромлеха с курганом (или насыпным холмом) представляет
1 Ильин И.А. История искусства и эстетика. М., 1983. С. 127.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
618
собой один из истоков орхестры и театрона у греков классической
поры. Таким образом, развитие греческого театра имело глубокие
и многообразные корни в исторической обстановке первых тысяче-
летий до нашей эры».1 Не проступают ли в рассказываемой Ильиным
истории театра контуры того «сита» (платоновской дологической
«матери» всего сущего), которое отделяло, группировало и просеи-
вало первобытные стихии, подготавливая будущее рождение теат-
ра еще задолго до появления его идеи в головах людей?
Хороводы, как известно, свойственны многим народам, точку
возникновения их в пространстве и времени зафиксировать невоз-
можно, но очевидно, что они возникли как форма единения лю-
дей — идеального и реального одновременно. В этой «точке», этом
месте люди поставили на «ничто», но совершенно иного рода, чем
«ничто» Хайдеггера и «пропасть», «щель» Деррида. Найденное чело-
вечеством в хороводах «ничто» («ничто» с точки зрения рассудка,
который принимает во внимание только аргумент силы) было тем
центром, в котором сходились смыслы, как рожденные, так и еще не
рожденные. Ведь человек, как известно, микрокосм, и эту свою сущ-
ность он обретал в хороводе, который был одним из первых «зер-
кал», отражающих в себе идеальные свойства бытия.
Идея неравномерности развития, проистекающей не из вне-
шних препятствий целенаправленной сознательности, а из внутрен-
ней логики объективного процесса, логики самих вещей, — эта идея
была одним из главных научных достижений «течения» 30-х годов.1 2
«Нам кажется, — писал И. Ильин, — что этого не поняли ученые,
настаивающие на единой, непрерывной линии развития театра у
древних греков»3. Театр в Древней Греции появился на основе хоро-
водов, и вместе с тем разорвав хоровод — «наивную целостность
сознания мира, которая пленяет нас в “Илиаде” и “Одиссее”»4. Герои
1 Там же. С. 136-137.
2 «Один из моих главных вкладов в Лукача,—отмечал по-
зднее Лифшиц, — Ungleichmaessigkeit der Entwicklung (не-
равномерность развития) // Лифшиц Мих. Что такое клас-
сика? С. 158.
3 Ильин И.А. История искусства и эстетика. С. 166.
4 Там же. С. 151.
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории
эпоса не знают еще, что такое «роковая вина», «ошибка», которые
говорят «о стоящих за спиной человека слепых законах бытия, ему
неподвластных и недоступных его пониманию»1. Роковая вина героя
лежит в основе фабулы древней трагедии, единые в своих истоках
явления выступают как противоположные. Развитие мифологичес-
кой, литературной фабулы привело к формированию и появлению
театра, в том числе и как архитектурного сооружения.
И.А. Ильин так рисует этот процесс. Вначале греки понимали «под
словом театр народ, расположенный по склону холма и собравшийся
на праздник в честь Диониса (одно из значений слова «театрон»—со-
вокупность зрителей, «театес»—зритель, слушатель)... Однако само
развитие сатирической драмы, трагедии и комедии ... приводит к от-
рицанию старого понимания театра, которое получило новое содер-
жание. Театр теперь—не сам народ, а архитектурное сооружение—
места, расположенные уступами по склону холма, противопоставля-
емые орхестре, скене, проскениуму и другим элементам театра»2.
Актеры, разыгрывающие на сцене самостоятельную по отноше-
нию к хору (народу) фабулу, появляются тогда, доказывает И. Иль-
ин, когда греки увидели перед собой неразрешимое противоречие
жизни (fort—da Жака Деррида), и это противоречие разорвало пер-
воначальное единство людей. Но оно же вывело человека из его ог-
раниченности, открыв беспредельный исторический горизонт. Быв-
шие участники хоровода (то есть народ) заняли скамьи амфитеат-
ра, но не были сторонними зрителями, ибо на их глазах на сцене
совершалась драма их жизни. «При новом понимании действия те-
атр уже не может располагать народ вокруг орхестры, как это быва-
ло прежде. Теперь,—продолжает Ильин,—публика располагается
с трех сторон перед орхестрой. Благодаря этому появляется опреде-
ленная точка зрения на действие. Места для народа, деревянные и
встроенные с трех сторон вокруг орхестры, образуя ломаную линию,
впервые дали театру ориентацию и конечность»3.
Беспредельная «хора» сжалась в нечто конечное, на которой, как
на основании, развивается новая, расчлененная и гораздо более
Тамже. С. 152.
2 Там же. С. 154.
3 Там же. С. 166.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
620
богатая бесконечность, приобретающая черты актуальной, а не по-
тенциальной. «При центричности орхестры и эксцентричности дей-
ствия на ней, при расположении мест для народа по склону горы
священная округа Диониса превращается в картину, на фоне которой
разворачивается действие, говорящее теперь больше зрителям, неже-
ли действующим лицам, выступающим к ней спиной, а гора Акропо-
ля, с его храмами и другими постройками, становится в свою очередь
картиной, возникающей перед глазами самих действующих лиц»1.
И еще одно обогащение понятия и содержания «хоры»: «Распо-
лагавшийся на ровном месте вокруг орхестры народ не был сам для
себя объектом созерцания. Теперь же, с появлением повышающихся
деревянных подмостков, положение изменилось: народ — впервые
в развитии театра у древних греков—становится сам для себя объек-
том созерцания как составная часть действия»1 2.
Описывая историю возникновения театра, И. Ильин дает себе
полный отчет в том, что эта история — раскрытие противоречий
уникального места: «Концепция пространства орхестры, несмотря
на ее кажущуюся простоту, содержала в себе на самом деле все про-
тиворечия, из которых как формы развился хороводный театр гре-
ков. Действительно, если под ее пространством следует понимать
окружность, каждая точка которой равно удалена от центра — алта-
ря, то она оказывается пространством, предельно замкнутым. Одна-
ко всякий анализ, имеющий дело с чисто геометрическим, а не смыс-
ловым содержанием пространства, не имеет ничего общего с реаль-
ным анализом»3.
Жак Деррида упоминает об аристотелевской трактовке хоры как
материи. История театра — это история высшей формы материи,
людей. Деррида в своем рассказе о хоре анализирует различные ее
признаки, свойства, противоречия. Кроме одного—свойства материи
к самоорганизации, необъяснимого с точки зрения естественно-
научного детерминизма. Напомню строки Ильи Пригожина, проци-
тированные во Введении: современная наука приближается к от-
крытию иной закономерности, той, что искал Дидро, материалист-
1 Там же. С. 167.
2 Там же. С. 166.
3 Там же. С. 160.
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории
неоплатоник, и которую «наиболее полно, — по мнению ученого, —
выражает скульптура».
Жизнь возникла как разрыв порочного круга, как выход за преде-
лы невозможности. Правда, материи свойственно и «зацикливаться».
Больше того, напомню снова, но на этот раз не Пригожина, а Ленина,
что все основано как раз на порочном круге. Ибо материя обладает
свойством не только создавать порочный круг, но и разрывать его.
Разрыв порочного круга реальных обстоятельств открыл беско-
нечный горизонт не только европейской, но всемирной истории.
Театр для греков стал практикой воспитания и самовоспитания на-
рода. Деррида, вместо того чтобы исследовать со всем богатством
реальных деталей и смыслов, как человечество проходило в щель,
открывая бесконечную перспективу развития, топчется на одном
месте — того «между», которое образует порочный круг. Поэтому
конечный вывод его дискурса всегда один и тот же: во все времена, у
всех творцов прошлого и настоящего он находит только некую ана-
логию своего различАния. То есть абсолютного ничто, порочного
круга и молчания потерявшего себя и способность что-либо различать
в абсолютной мгле субъекта «современности». «Мы задыхаемся, —
как будто бы специально по этому поводу писал Ортега-и-Гассет, —
сосланные в зону промежуточных, вторичных вопросов. Нам нужна
полная перспектива, с передним и задним планом, а не изуродован-
ный пейзаж, не горизонт, лишенный манящего мерцания далей»1.
Правда, и топтание на одном месте, и зацикливание бывает па-
радоксальной почвой для мысли, и глупость может быть условием
пробуждения ума, и верность иногда «облекается в форму неверно-
сти и разрыва»1 2. Жизнь может возникнуть не только вопреки, но в
известной мере и благодаря омертвелым формам мысли и бытия. В
этом — надежда таких людей, как Феллини, который показывает
нам, как на выжженной почве Римской империи, на этом пустом,
как убеждают все факты и сам разум, месте, рождается христиан-
ство, разорвавшее порочный круг умиравшей античной культуры
(фильм «Сатирикон»),
1 Ортега-и-ГассетX. Что такое философия? М., 1991. С. 80-81.
2 Деррида Жак. «Наконец-то научиться жить! (последнее
интервью)». // Вопросы философии, 2005. № 4. С. 135.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
622
«А что это за вспышка счастья, которая повергает меня в тре-
пет?» —говорит себе в финале шедевра Феллини «Восемь с полови-
ной» его альтер эго, наблюдая за тем, как разбираются декорации
не состоявшегося фильма, слушая интеллектуала, убеждающего в
том, что фильма и не должно быть. Как может родиться фабула в
этой жизни, где все и всё герметически замкнуто, закрыто, как во
сне, которым начинается фильм? А наяву все фабулы, едва наметив-
шись, рассыпаются, разбиваясь о стену всемогущего Ничто, тоскли-
вой суеты повседневности. Действительность не идет навстречу. Но
вот перед глазами режиссера герои его не получившейся картины,
приглашенные на сцену волшебником-фокусником, берут друг дру-
га за руки и образуют хоровод под звуки мелодии счастья, проник-
нутого щемящей грустью, мелодии, играемой клоунами, ведущими
за собой по кругу ликующих, танцующих, объединенных единым по-
рывом—всех тех, кого мы раньше видели замурованными в своей
«пещере», непробиваемой скорлупе повседневного «ничто».
Мираж, иллюзия? Не более чем хоровод танцующих и поющих
молодых людей, вернувших к жизни героиню в финале «Ночей Ка-
бирии». Прозрение, позволившее увидеть свет «истинного бытия».
Как и почему такие возрождения случаются как в частной жизни,
так и в истории, нельзя понять, исходя из методологии Деррида. Для
французского мыслителя остается загадкой, почему так мало демо-
кратов среди великих мыслителей, начиная с Платона. Он не пони-
мает разницы между «демократическим консерватизмом» Платона
и реакционным в полном смысле слова консерватизмом Хайдеггера1.
Судя по всему, Деррида просто не знает о споре «вопрекистов» и
«благодаристов» в советской художественной критике и эстетике 30-х
годов. А если знает, то с «теорией тождеств» и «онтогносеологией»,
выросшими из этого спора, он не мог быть знаком. Хотя произош-
ло нечто подобное «победе реализма» — т.е. победа жизни, мысли,
а не смерть духа — в некоторой мере и в некоторых, к сожалению,
редких случаях и эпизодах и у Деррида. При этом, разумеется, в це-
лом его творчество в отличие от «великих консерваторов человече-
ства» Аристофана, Пушкина, Бальзака или Гегеля — не победа, а
смерть «реализма», мысли, философии.
\
1 См. его рассуждения по этому поводу в книге «Негодяи»
// Derrida J. Schurken. S. 126.
Tertium datur искусства —
«место» (хора) разрыва порочного круга истории
Пробуждение смысла, разрыв порочного круга современной бес-
смыслицы мы находим, например, в размышлениях Деррида о Рос-
сии, ее современной истории и судьбе демократии в ней, о перестрой-
ке. Он понял, что иное поражение, даже самое ужасное и позорное,
может стоить многих побед. Эту древнюю истину Деррида открыл
заново, на материале «современности». Но она не помогла ему вый-
ти за пределы апологетики «порочного круга», за пределы методо-
логии постмодернизма, замыкающей мысль в безвыходности.
Формула, которую отстаивает и защищает Деррида — различе-
ние, восполнение, фармакон, fort—da, «щель» и другие, им подобные
понятия его концепции, — монолитна, в ней нет щелей, разрывов,
нет пространства «между». Уточним, того «между», благодаря кото-
рому рождается смысл и все действительное. Сталин, как и любой
другой феномен «современности», оказывается, если следовать раз-
личению Деррида, и злодей, и спаситель одновременно. Эта форму-
ла своей простотой и очевидностью привлекает сердца и умы обра-
зованных обывателей, поклонников иррациональности, жаждущих
в глубине души «порядка», железной руки. Все становится понят-
ным, занимает свое место — и думать больше не надо. Не надо ус-
ложнять себе жизнь. Бесконечная рефлексия тоже может служить
этой цели — успокоить интеллектуала, вывести его из мучительной
раздвоенности. Результат подобной рефлексии — «специфическая
слепота профессионалов ясности», пишет Пьер Бурдье, которой, по
его мнению, Хайдеггер «придал наиболее завершенную форму, и ко-
торую их нежелание знать и высокомерные умолчания воспроизво-
дят и ратифицируют»1.
Эта психотехника отдает мыслителя во власть того, что бессоз-
нательно движет им. Он причаливает к тому берегу, к какому его
несет поток. Сталин и его режим, Берия и так далее — это фармакон,
палач и спаситель одновременно. Значит, выхода нет и надо писать
...что? «Мастера и Маргариту», «Василия Теркина» — или повесть
для школьников о необходимости и моральности подслушивать у
замочной скважины разговоры взрослых, своих родителей?2 Ведь
1 Бурдье П. Соч. цит. С. 14.
• 2 Об одной из таких повестей краткую, но убийственную
в своей разоблачительной ясности рецензию опубликова-
ла в «Литературном критике» (1939, № 2) Е. Усиевич.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
624
щель, о которой повествует Деррида, — ничто, уничтожение, молча-
ние— есть замочная скважина в ту комнату, где все кошки серы.
Только туда, больше никуда, согласно современному мыслителю,
попадают и Платон, и Руссо вопреки своим логоцентрическим ил-
люзиям. Так было, так есть, и ничего другого не будет никогда.
Фрейд, рассказывающий о том, что все люди подчиняются бессоз-
нательному влечению к самоуничтожению, мазохизму, повинуясь
эдипову комплексу—сам обманщик и совратитель, его сочинение
«По ту сторону принципа удовольствия» продиктовано теми же ир-
рациональными побуждениями, о которых он повествует, доказы-
вает Деррида в своем сочинении о почтовой открытке.
К концу жизни Деррида заговорил о необходимости борьбы на
два фронта, о критике разума, не покидающей почвы разумности.
Как всегда случайно, мимоходом у него проговорилась главная идея:
«грядущая демократия могла бы быть хорой политического»1. Хора
могла бы стать формой разрыва порочного круга современности, но
при одном непременном условии: «хора» должна быть понята в духе
Платона, а для этого необходимо сделать шаг вперед от деконструк-
ции Деррида к онтогносеологии Мих. Лифшица. От «современно-
сти» и «современного искусства» или постсовременного — к тому
опыту российской культуры XX века, который мы пытались освоить
на страницах предшествующих глав этой книги. Шаг вперед — от
Энди Уорхола к Аркадию Пластову.
Рецепция и ее проблемы:
новый порочный круг?
Авторы интеллектуального бестселлера «Империя»
американский литературовед М. Хардт и известный итальянский
философ А. Негри приходят к выводу, что казавшийся еще недавно
заманчивым «освободительный потенциал дискурсов постмодер-
низма» на самом деле «лишь еще больше укрепляет положение при-
вилегированных групп населения, которые пользуются определен-
ными правами, определенным уровнем богатства и определенным
1 Derrida J. Schurken. S. 117.
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг?
положением в глобальной иерархии»1. Критика метанарративов
классики, метафизики, Просвещения, критика самой истины име-
ет «освободительную ауру», но теряет ее, «когда перемещается за
пределы элитарной интеллектуальной прослойки Европы и Север-
ной Америки»2. Потому что «в условиях государственного террора
и лжи сохранение верности понятию истины как высшей ценности
может быть мощной и необходимой формой сопротивления»3. На-
пример, «истина состоит в том, что этот генерал приказал пытать и
убить того профсоюзного лидера, а этот полковник руководил массо-
выми убийствами в той деревне. Обнародование подобных истин, —
заключают авторы «Империи»,—является в чистом виде проектом
Просвещения в сфере политической модернизации, и критика его
в данных условиях может пойти на пользу проводившим политику
лжи и репрессий силам режима...»4.
Как же быть? Не следует принимать это признание, пишут Хардт
и Негри, «за полное опровержение названных дискурсов» и призыв
вернуться к идеалам Просвещения. По отношению к постмодерниз-
му не применима, утверждают они, бинарная логика «или/или».
Итак, истина—для отсталых стран, где ложь и насилие, а постмо-
дернистский дискурс для тех, кто пользуется комфортом? И это не
годится. Авторы «Империи» возлагают надежду на «комиссии» по ус-
тановлению истины, которые будут «учредительными собраниями
масс, социальными фабриками по производству истины»5. То есть на
народ, на социальную материю. Однако материя может быть и бес-
форменным хаосом, плодящим чудовищ или просто негодяев, как
некоторые из «господ енаралов»—душегубцев на службе у Пугаче-
ва. И Деррида предупреждает—«хора» может оказаться чем угодно,
она непредсказуема. Гоббс говорил еще более определенно: народ—
«парень дюжий, но злонамеренный».
Впрочем, если быть точным, материя, не достигшая в своем раз-
витии ступени объективной истины,—это еще не природа в полном
1 Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. С. 152.
2 Там же. С. 151.
- 3 Там же.
4 Там же. С. 151-152.
5 Там же. С. 152.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
626
смысле слова, а народ непросвещенный, народ без объективной ис-
тины — это не народ, как «хора» у Платона — не космос, не Вселен-
ная. Вселенная—дитя матери, кормилицы, восприемницы и отца-
логоса, разума, идеи. Так что простой отсылкой к созидательной си-
ле «учредительных собраний масс» вопрос об истине не решается.
Рождается истина не без помощи мыслящей головы (зеркала
объективного мира), а ее надо иметь на плечах, доказывал «человек
30-х годов» социологам, которых называл «вульгарными» по той
простой причине, что истина для них равнозначна коллективным
иллюзиям, идеологии времени. Но идеи «течения» 30-х годов у оте-
чественной интеллектуальной элиты энтузиазма не вызывают. «Кто
сегодня читает произведения этого человека, мнившего себя «чет-
вертым классиком марксизма»?»1 — восклицает наш современник,
М.С. Каган, имея в виду Мих. Лифшица.
Однако все течет и понемногу, бывает, даже изменяется. В1993 го-
ду московский художник-постмодернист Д. Гутов обратился к своим
друзьям со словами, звучащими почти как манифест:«.. .Сейчас людям
как бы дарована исторической судьбой возможность различения (под-
черкнуто мной. —В. А), которая раньше была отнята. Мих. Лифшиц не
боялся быть банальным, когда выбирал темами своих работ Добролю-
бова, Чернышевского, Луначарского. Ему было мало дела до того, как
его позиция выглядит со стороны. Вчера это было неоригинально, се-
годня —верх экстравагантности. Но какое это имеет значение? Все, кто
хотел быть лояльным, как и те, кто заботился о своем нонконформиз-
ме, не о деле думали. В свое время они что могли продемонстрирова-
ли, а потом обнаружили свою ложность, глупость, пустоту полную.
Они исчезли, а Мих. Лифшиц становится всё слышнее и слышнее»1 2.
Дмитрий Гутов основал «Институт Лифшица», который объеди-
нят группу московских художников самого «современного» направ-
ления и примыкающих к ним философов. Он же — автор фильма о
Мих. Лифшице и Институте его имени. На страницах «Художествен-
ного журнала» — главного теоретического органа российских пост-
модернистов—публикуются архивные заметки Мих. Лифшица, при-
1 Каган М.С. О времени, о людях, о себе. СПб., 2005. С. 226.
2 Предисловие Д. Гутова к публикации: Мих. Лифшиц. Улыб-
ка Джоконды //Художественный журнал. 1993. № i. С. 23.
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг?
чем делается это со вкусом и тактом, не лишено остроумия (при-
мер —публикация текста Лифшица «Улыбка Джоконды»). В журнале
мы находим строки, которые по первому впечатлению свидетель-
ствуют о том, что идея tertium datur Лифшица известна его авторам.
Владимир Сальников, член редколлегии «Художественного журнала»,
пишет: «1930-е становятся десятилетием метода, прежде всего мето-
да социалистического реализма, потому что это декада «термидора»,
когда в искусство на смену господствовавшему в предшествующее
десятилетие советскому модернизму приходит «метод социалисти-
ческого реализма». Одновременно Лифшиц и Лукач в противовес
ЛЕФу находят иные основы революционного метода в искусстве,
который, на их взгляд, смог бы стать альтернативой как авангарду
и модернизму, так и сталинскому соцреализму»1.
’ Оппозиционный по отношению к властвующей советской бю-
рократии смысл философии и публицистики Лифшица был очеви-
ден для многих, однако советский либерализм, начиная с бо-х годов,
не только упорно замалчивал это, поднимая на щит другие фигуры
(Д. Лихачева, к примеру), но представлял Лифшица не иначе, как
замшелым догматиком. Когда антидемократический характер либе-
рализма после реформ первой половины 90-х годов XX века доста-
точно отчетливо обозначился, идеологи «новых русских» бросились
в другую крайность — от либерализма к критике либерализма, но
критике не демократической, а явно склоняющейся вправо.
Авторы «Художественного журнала» не повторяют пошлостей
официального или полуофициального советского (и современного)
либерализма. Примечательно, например, в процитированных выше
словах В. Сальникова, что Лифшиц предстает самостоятельной фи-
гурой, а не учеником Лукача, как, желая принизить роль Лифшица,
его изображала советская и постсоветская печать. Критика Лифши-
цем и либерализма (плюрализма), и черносотенства, и авангардиз-
ма, и социалистического реализма, кажется, замечена и оценена
авторами «Художественного журнала».
В 2005 году Д. Гутов публикует статью о Лифшице в сборнике,
выпущенным известным немецким издательством Suhrkamp. Он
1 Сальников В. Превратности метода // Художественный
журнал 48/49. март 2003. С. 9.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
628
полагает, что творчество Лифшица — тонкая ироническая улыбка
человека, считающего и себя, и свое дело погибшим; улыбка Джокон-
ды. Сказано хорошо, но требует развития и теоретического обосно-
вания. Оно в статье Гутова таково: «Можно сказать, что искусство
XX века иллюстрирует текст Маркса, и, отчасти, это действительно
так. В этом истина модернизма. Он рисует насквозь депоэтизиро-
ванную реальность, тоску избыточного сознания в ситуации, где у
человека нет никакой возможности повлиять на собственную судь-
бу. Он дает ни с чем несравнимые картины этого болезненного до
невыносимости состояния, и свидетельство это не ложно. На языке
марксистско-ленинской эстетики, где одним из центральных поня-
тий было «отражение», мир, утративший историческое оправдание,
понимается как имеющий низкий уровень отражаемости. В «Фило-
софско-экономических рукописях 1844 года» эта «отражаемость»
описана, как уже стремящаяся к нулевому коэффициенту»1.
Если отражаемость современного мира «стремится к нулевому
коэффициенту», то, разумеется, не было и не могло быть никакого
Tertium datur ни в жизни, ни в искусстве, ни в эстетике XX века.
Единственное, что остается, — это поза тотального неприятия пус-
той реальности, «молчание», различание и «хора» Деррида как аван-
гардистский жест, дополняемый какой-нибудь утешительной иллю-
зией. Дополнение Д. Гутова к авангардистской идее смерти искус-
ства в XX веке заключается в том, что она, эта идея, нашла якобы
адекватное воплощение в эстетике Лифшица.
С одной стороны, Лифшиц в изображении Гутова оказывается не
только совершенно одиноким (что до некоторой степени верно),
всегда говорящим невпопад, но и (что совершенно не верно) чуж-
дым жизни своей страны и находящим, надо думать, в своей демон-
стративной, культивируемой чужеродности, маргинальности чисто
постмодернистское самоудовлетворение. А с другой стороны, со-
гласно столь же категорическому утверждению Д. Гутова, «совет-
ский вариант марксистско-ленинской эстетики был, по сути, созда-
1 Gutov D. Die marxistisch-leninistische Asthetik in der post-
kommunistischen Epoche. Michail LifSic. // Zuriick aus der
Zukunft. OsteuropDische Kulturen im Zeitalter des Postkom-
munismus, Frankfurt am Main 2005.
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг?
нием одного человека — Михаила Лифшица»1. «И верно, да сквер-
но!»— как любил писать и говорить Лифшиц. Разве можно без вся-
ких оговорок, как это делает Гутов, представлять Лифшица создате-
лем «марксистско-ленинской эстетики» — то есть эстетики В. Ерми-
лова и М. Храпченко? Обывателю такие упрощения нравятся, и,
например, А. Ципко сделал себе имя, доказывая, что империя Ста-
лина есть реализация теории Маркса, ничего иного якобы из этой
теории получиться не могло.
«Институт Лифшица» хочет быть «навигационной картой», атла-
сом, «по которому каждый, кому не безразличен марксизм в его
отношении к искусству, знал бы, где какой остров расположен и как
до него добраться»2. Создание карт—дело ответственное. Какие-ли-
бо перекосы, даже самые невинные на первый взгляд, на карте не-
допустимы, поскольку мореплаватель, который доверится ей, рис-
кует сесть на мель или врезаться в скалу. Он же не знает, что перед
ним — не карта и не атлас, а постмодернистская как бы карта, и ее
составители как бы объективны, а на самом деле рисуют острова,
которых в натуре нет, и намеренно не обозначают те острова, что
хорошо известны.
«Лифшиц однажды заметил, — говорит Д. Гутов, — что полное
единомыслие есть идеал человеческого рода. (...). Это одно из на-
ших принципиальных положений—единомыслие. Если угодно, мож-
но считать это догматизмом»3, «собственно, если человек не согла-
сен с эстетическими взглядами Лифшица, он не является сотрудни-
ком «Института», если согласен, для споров нет места. Все девиации
рассматриваются как отклонение, патология и не являются предме-
том обсуждения. Слово «плюрализм» в нашей среде не котируется»4.
Лифшиц действительно писал, что плюрализм, «давящая терпи-
мость» ничем не лучше принудительного единомыслия»5. Но отсю-
1 Ibid.
2 Газета новой творческой платформы «Что делать?», вы-
пуск № 9, май 2005 г.
3 Там же.
. 4 Там же.
5 Лифшцц Мих. Чего не надо бояться? //Лифшиц Мих. Ми-
фология древняя и современная. М., 1980. С. 575.
Жак Деррида и Мих. Лифшиц:
две концепции «щели»
630
да не следует, что плюрализм должен быть заменен принудитель-
ным единомыслием, исключающим возможность спора. Даже не-
ловко напоминать, что не только Лифшиц, но и Ленин, которого
хотят сделать своим гуру современные российские элитарные ради-
калы, постоянно, как известно, спорил именно с единомышленни-
ками, как и последние имели полную свободу спорить с лидером
партии. Достаточно сослаться на книгу Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм»—яростный диспут по философским пробле-
мам Ленина с большевиками, оставшимися ему верными в крайне
трудном для социал-демократов 1909 году, или на книгу-спор Лиф-
шица с его другом «Диалог с Эвальдом Ильенковым». Единомыслие
не только не исключает честной и принципиальной дискуссии, но
предполагает свободу слова и мысли как непременное условие не-
принудительного единомыслия, единомыслия как идеала и основы
для дальнейших обсуждений и споров по еще не решенным, дискус-
сионным проблемам.
Побывав на одном из заседаний «Института Лифшица» я убедил-
ся, что до единомыслия там очень далеко. К чему тогда столь жест-
кие декларации? Сектантский догматизм, яростная нетерпимость к
другому мнению, свойственны плюралистическому по сути модер-
низму, о чем немало убедительных строк написано Мих. Лифшицем.
Не постмодернистская ли перед нами игра—независимо от личных
намерений ее участников, которые могут быть самыми искренни-
ми? Видя перед собой только непробиваемую стенку (fort — da),
устав от своей бесконечной и бесплодной рефлексии, модернист не
находит в конце концов ничего лучшего, как «пойти в дураки и ду-
рачить других»1, говоря словами того же Лифшица, и в результате
«сложная метаструктура духа», писал он, порождает новый догма-
тизм, теперь уже трижды непроницаемый.
Является ли этот эпизод нашей отечественной художественной
жизни моделью будущего, свидетельствует ли он о том, что всему
миру предстоит перейти от постмодернизма и плюрализма к прину-
дительному единомыслию, от либерализма к сектантскому тотали-
таризму, от ненасильственных акций альтерглобалистов к массово-
1 Лифшиц Мих. Феноменология консервной банки // Лиф-
шиц Мих. Собр. соч. в з т. Т. 3. М., 1988. С. 473.
Рецепция и ее проблемы: новый порочный круг?
631
му террору? Поскольку в истории часто наблюдаются шараханья от
одной крайности к другой, то такое предположение не лишено ве-
роятности. Самые худшие предположения имеют свойство сбывать-
ся. Но если человечество вступает сегодня в новый порочный круг,
а разум молчит в то время, когда безумие кричит на всех углах и
перекрестках, что из этого следует?
«Ты наше красное солнышко!» — кричала толпа бежавших за
колесницей тупицы Калигулы. «Ты наше самое-самое красное сол-
нышко!» — кричат в настоящее время толпы бедных людей, привле-
кающие многие утонченные и премудрые умы на Западе своим че-
стным фанатизмом. История не кончилась, она продолжается» —
писал Мих. Лифшиц1. «Вот и все, вот самая глубокая истина», —до-
бавлял он, обращаясь к Г. Лукачу. Может быть, именно это и хотел
сказать Михаил Булгаков, рассказывая своим современникам ста-
рые сказки о Пилате, Иешуа, молодом человеке из Кириафа, премуд-
ром первосвященнике Кайфе. Зачем ты это пишешь, ведь это никог-
да не будет опубликовано, говорили Булгакову его ближайшие дру-
зья, ибо они тоже, как и Берлиоз, были уверены в том, что никакой
истории, то есть фабулы, обладающей объективным смыслом, не
было, да и быть не может, история — это безразличные к истине и
добру факты, которые ученые мужи собирают и систематизируют.
Но Аннушка — и это тоже факт, который трудно отрицать, —уже
пролила масло...
Порочный круг истории будет разорван, по этому поводу беспо-
коиться не надо. Весь вопрос—когда и как? Либо испытаем на себе
удар, говоря словами отцов церкви, «бича божия», то есть обратно-
го следствия наших собственных неразумных действий. Если это
справедливость, то не приведи господь быть ее современником,
«чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей
в колесе» (О. Мандельштам). Либо порочный круг будет разорван
так, как это сделали христиане первых веков нашей эры. А еще рань-
ше греки, создатели театра и классической традиции мировой куль-
туры. В XX веке эта традиция была продолжена и развита Василием
Теркиным и его создателем, Михаилом Булгаковым, Томасом Ман-
ном, Феллини и Чаплином... В строгом смысле слова только то в
1 Лифшиц Мих. Что такое классика? С. 163.
человеческой истории, что открывало новый духовный горизонт,
ковало «великую цепь бытия». Кровавая справедливость Воланда
настигает людей тогда, когда они—ниже самих себя и не в состоя-
нии распутать клубок, который сами запутали.
Это категорическое «либо-либо» мировой истории можно и нуж-
но дополнять, уточнять, обнаруживая нюансы, взаимопереходы и
перипетии «вечного спора на меже», но отменить его нельзя.
Мы прошли по некоторым кругам ада, возникшего по причине
нетрадиционного решения крестьянского вопроса и индустриали-
зации в России XX века. Никому нельзя рекомендовать этот путь, как
нельзя считать благом великие бедствия—тюрьму, войну, неизле-
чимую болезнь. Но не только вопреки, а в известной мере и благо-
даря бедствиям человечество обретало то, чем может гордиться. В
какой мере благодаря? В той, в какой не спешило замкнуть пороч-
ный круг, не провозглашало со странным удовлетворением, что «Ари-
адна повесилась», а искало путеводную нить. Не представляет ли
собою «великая цепь бытия» мировую линию, возникшую из разры-
вов порочных кругов времени? Не находит ли страсть и мысль лю-
дей, разрывавших цепь безвыходных обстоятельств, трудно пока
объяснимую, но все же поддержку самой реальности, ее «добро», ее
«благодать»? Благодать—дар, счастье, которое, однако, не всем да-
ется, а только тем, кто имел достаточно ума и мужества, чтобы быть
активным и непримиримым, как М. Булгаков и М. Нестеров, а не как
Л. Авербах.
Большая часть современного мира все еще стоит перед проблемой
индустриализации, модернизации, перед необходимостью решения
крестьянского вопроса. Поэтому обращаться к опыту России, кото-
рая в XX веке оказалась испытательным полигоном, так или иначе
придется. Заглянув в это зеркало, мы видим не только палачей и их
жертв, но и тех, кому удалось выйти в «вечную историю». Если опыт
«активного отношения к действительности», приведшего к пораже-
ниям, что выше иных побед, — опыт М. Булгакова, М. Нестерова,
А. Платонова, О. Мандельштама, А. Твардовского, философии «тече-
ния» — будет усвоен, то можно смело ввязываться в бой, воссозда-
вая глубокий сократовской смысл формулы: дело наше правое...
бзз
Именной указатель
Абрамкин В. 250
Абрамов Ф. А. 183
Августин А. 259, зоо, 305, 307, 308, зп, 313
Авербах Л. Л. 94, 112, 171-173, 175, 177,178, 184, 185, 187,190, 218,
262, 282, 349, 362, 385, 421, 422, 426, 632
Аверинцев С. С. 569
Авсоний 525
Автономова Н. 527, 528, 539, 547, 552
Агапов Б. Н. 337, 338, 342, 349
Агеев А. 505
Адорно (Adorno) Т. (Визенгрунд-А.) 17,108,205,225, 226,242,261,
264, 396, 431, 444, 484, 508-511, 527, 536-538
Ажаев В. Н. 422
Акунин Б. (Чхартишвили Г. Ш.) 288
Александр II 78, 415
Александров В. Б. (Келлер) 70, 260, 272, зю, 311, 313, 320, 406,
408, 419-421, 423-435, 437-439, 441-444, 449“452, 456,
459, 4бо, 506, 508, 511
Алексеев М. Н. 331, 336
Алексей Петрович 212
Алкей 341
АлтаузенДж. 266
Альтман И. Л. 79, 8о, 260, 296, 347, 349, 377
Анаксимандр 342
Анаксимен 555
Андреева М. Ф. (Юрковская) п8
Андроников И. Л. 428, 429, 433, 434
Аристотель 25, 205, 262, 276, 292, 357, 396, 437, 454, 463, 471, 474,
507, 529, 553, 566, 596, 597
Именной указатель
6 34
Аристофан 135, 182, 262, 276, 292, 357, 396, 525, 622
Арсланов В. Г. 167,168, 372, 467
Арто (Artaud) А. 521
Асеев Н. Н. 179
Асмус В. Ф. 541
Астахов И. 183, 326, 338, 342, 349, 392
Афиногенов А. Н. 218, 268
Ахиезер А. С. 126,127
Ахматова (Горенко) А. А. 164, 246, 247, 255, 395
Бабель И. Э. 99,172,179
Байрон (Byron) Д. Н. Г. 371
Балтрушайтис Ю. 247
Бальзак (Balzac) О. де 43, 260, 278, 287, 296, 352, 370, 375-377,
379, 622
Барков А. Н. п8
Батищев Г. С. 541
Бауэр Б. (Bauer) 96
Бах (Bach) И. С. 438
Безыменский А. И. 171,184, 248
Беккет (Beckett) С. 445, 484
Белинский В. Г. 25,161,178, 292, 299, 302, 306, 359, 383, 454,
469,501
Белов 324, 327, 329, 331, 342, 349, 392
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 248
Бенуа А. Н. 463
Беньямин (Benjamin) В. 55,56,181,183,222,261, 381,384,385-389,
392-394,396-398,402,404,405,422,423,429,432,444,
600, 602
Берггольц О. Ф. 502
Бергсон (Bergson) А. 543
Бердяев Н. А. 226, 227, 506
Берия Л. П. 206,623
Берлиоз (Berlioz) Г. 133
Бернар (Bernard) К. 72-75
Бертран де Борн (Bertran de Bom) 43
Бессонов Б. Н. 541
635
Бетховен (Beethoven) Л. ван 415
Бибихин В. В. 559
Билль-Белоцерковский В. Н. 184
Благонравов А. А. 336
Бланшо (Blanchot) М. 161
Блок А. А. 49, 86,101,145, 391, 459, 506, 521
Богданов (Малиновский) А. А. 546
Бодлер (Baudelaire) Ш. 394
Боккаччо (Boccaccio) Дж. 140
Борев Ю. Б. 167,168
Боттичелли (Botticelli) С. (Алессандро Филипепи) 193
Бренер А. 363, 435, 501
Брик О. М. 99, И2,181, 422
бруно (Bruno) Дж. 220, 223, 305, 582
Булгаков М. А. 38, 48, 51, 53, 56, 58-60, 64, 66, 68, 69, 71, 76, So-
88, 90-94, 99,100,104,108, но, 112-125,127-142,144,
145-149, 151-156, 159, 160, 162-170, 172-176, 178-180,
182,184,185,190, 216, 218-220, 228, 245, 265, 273, 284,
286, 291, 294, зп, 345, 360, 378, 380, 384, 385, 392, 393,
395, 402-406, 417, 422, 436, 447, 465, 491, 499, 512, 515,
520, 521, 546, 562, 571, 631, 632
Булгаков С. Н. 194
Булгакова Е. С. 218, 219, 233
Булгарин Ф. В. 49, 286, 288,463
Бунин И. А. 459, 508
Бурбоны (Bourbons), королевская династия во Франции 322,
373, 400
Бурдье (Bourdieu) П. 615, 623
Буркхардт (Burckhardt) Я. 249
Буртин Ю. Г. 272, 420
Бухарин Н. И. 179, 217, 268
Буш (Bush) Дж. 16
Быховский Б. 541
Бэкон (Bacon) Ф. 490, 582
Вавилов Н. И. 83
Ван Ган-че (Ван Ань-ши) 40
Именной указатель
63б
Ван Гог (van Gogh) В. 150, 231, 382, 394, 398, 521
Веласкес (Velasquez) Д. 248
Ванини (Vanini) Л. 379
Васильев П. Н. 266
Васильев 324, 327, 329, 342, 349, 392
Вельфлин (Woellflin) Г. 22, 91,163, 193,194,196,197, 200, 201,
457, 609
Вергилий 525
Веселый Артем (Кочкуров Н. И.) 275
Вико (Vico) Д. зз, 276, 326, 342, 343, Збг, 363, 365, 367-369,
373, 374
Виктюк Р. Г. 185-190
Вильям-Вильмонт Н. 343, 347, 421
Вильямс П. Л. 233
Винкельман (Winckelmann) И. И. 30, 261, 365, 445, 502
Виноградов И. И. 348
Виньи (Vigny) Альфред В. де 166
Вишневский В. В. 174,184, 268, 395, 401, 403, 404
Волохов С. 519
Волошин М. А. (Кириенко-Волошин) 178
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 76,147, 345
Вольфовиц (Wolfavitz) П. 529
Воронский А. К. 8о, 99,104,171,175-179,181-183,185,188,189,259,
282, 362, 421, 467, 502
Гадамер (Gadamer) Г. Г. 203
Гайдар Е. Т. 14
Галушкин А. 282
Гальперина Е. 361
Гартман (Hartmann) Н. 229
Гевара (Guevara) Эрнесто Че 464, 465
Гегель (Hegel) Г. В. Ф. 9,11,75,103,128,132,135.148,162,166,175,182,
201, 207,262,264, 307 - 309, 332, 326, 350, 351, 353, 354,
356, 357, 359, 362-364, 367, 374, 376, 384, 395, 402, 453,
459, 479, 481, 482, 486, 504, 515, 524, 537, 543, 546, 549,
551, 552, 563, 564, 5б5, 574-579, 582, 583, 609, 615, 622
ГезаФ. 168
637
Гейне (Heine) Г. 78, 79, 316, 376, 436, 45*
Гераклит Эфесский 103,195, 396, 457, 524, 583
Герасимов А. М. 239, 248, 338, 348
Гернштейн Э. 244, 254
Герцен А. И. 36,109,134, 251, 276, 299, 312, 314, 315 424, 469, 473
Гета 525, 545
Гете (Goethe) И. В. 27, 67,103, юб, 119,125,139,164,165,166,182,
248, 302, 307, 316, 362, 365, 370, 371, 376, 377, 395, 397
423, 438, 552, 564, 591, 592, 601, 609
Гефтер М. Я 251
Гильдебранд (Hildebrand) А. фон 353, 357
Гинзбург В. Л. 78
Гитлер (Hitler) А. (Шикльгрубер) 8г, 187, 285
Гоббс (Hobbes) Т. 36,177, 625
Гоголь Н. В. 57, 79, 83, 257, 277-280, 298, 358, 405, 500, 502,
506,565
Голодный М. (Эпштейн М. С.) 92,171,172,189
Гольдман (Goldmann) Л. 542, 543, 550
Гомер 419, 494
Гончаров И. А. 277
Горбачев М. С. 276, 456, 562
Горшков 331
Горький М. (Пешков А. М.) 38, п8,178, 295, 546
Гофман (Hofmann) Э. Т. А. 83
Гриб В. Р. 259, 269, 272, 361
Грибоедов А. С. 77, 568
ГройсБ. 393
Гронский 266
Гроссман В. С. 326, 449, 456, 466, 508
Гроссман Л. П. 358
Гуковский Г. А. 325, 328, 426
Гулыга А. 292, 301, 303, 344, 349, 378
Гурвич А. 267-269, 271, 283
Гус (Hus) Ян 415
Гуссерль (Husserl) Эд. 56
Гутов Д. Г. 626-629
Гюго (Hugo) В. М. 371
Именной указатель
638
Давыдов Ю. Н. 541
Даль В. И. 187
Данелия Г. Н. 534
Данилевский Н. Я. 363
Данте (Dante) А. 376
Дворжак (Dvorak) М. 91,115, 261
Де Кирико (De Chirico) Дж. 488, 490
Де Сад (de Sade) 571
Деборин А. М. 541, 544
Дедков И. 399
ДезаргЖ. 487
Декарт (Descartes) Р. 379, 472, 474, 479, 481, 483, 487, 504
Делез (Deleuze) Жиль 9-11,16-19,155,161, 444, 536, 537
Деррида (Derrida) Ж. 12,16,18,48,55,56, 94,108,161-164,166,170,
189,292, 384, 394,398,404,430,435,447,467-469,480,
510, 514-517, 520-525, 527-531, 533-534, 538-540, 547-
5б9> 571-579> 582-608, бы, 613-616, 618, 620-625, 628
Джефферсон (Jefferson) Т. 400
Джойс (Joyce) Дж. 170
Дианова В. М. 342, 343
Дидро (Diderot) Д. 24, 29, 76, 86, по, 147, 189, 198, 301, 305, 345,
351, 353, 546, 573, 575, 576
Динамов С. С. 391
Дионисий I Старший 123
Добролюбов Н. А. 253, 319, 501, 626
Добрынин М. 176
Достоевский Ф. М. 44, 57, 69, 72, 147, 154, 167, 257, 259, 286, 287,
294-299, Зоб, 308-321,350,357, 358, Збо, 362,368,405,
471, 504, 506, 520, 530
Дружинин П. Д. 178
Друцэ И. ю8
Дубельт Л. В. 299,454, 455
Дымшиц А. Л. 264, 424, 425, 426
Дюбо Ж.-Б. 198, 596
Екатерина II 147,148, 391
Ельцин Б. Н. 14, 386, 401 470
639
Елютин В. П. ззо
Ермилов В. В. 185, 260-263, 28!, 282, 284, 287, 289, 295-298, 299,
300, 309, 341-344, 347, 349, 360-362, 370, 377, 378, 385,
399, 421-424, 426, 427, 629
Есенин С. А. 99,172,189
Ефанов В. П. 239, 248
Жаров А. А. 184, 265, 378
Жданов А. А. 263
Замятин Е. И. 141
Засулич В. И. 217
Зедльмайр (Sedlmayr) Г. 205, 206
Земляной С. Н. 541
Земпер (Semper) Г. 585
Зингер Л. С. 198,199,230-232
Зиновьев А. А. 48, 400
Зольгер (Solger) К. В. 201
Золя (Zola) Э. 43
Зорин Д. И. 337
Зощенко М. М. 141,172, 210, 222, 500
Иван IV Васильевич (Грозный) 470
Иванов Вс. В. 178
Ильенков Э. В. 177, 260, 262, 339, 363, 538, 541, 545, 581, 591, 630
Ильин И. А. 195, 453, 454, бы, 612, 617-620
Ильин И. П. 525, 526
Иогансон Б. В. 393
Кавелин К. Д. 44
Каган М. С. 292,343-351, 354, 378, 477, 504, 505, 580, 596, 605,
626
Калашников Ю. 421
Калигула 380, 631
Каменев (Розенфельд) Л. Б. 69
Каменский А. 231, 232
Кандинский В. В. 595
Именной указатель
640
Кант (Kant) И. 94, 95,105,109, 180, 262, 313, 351, 392, 4П, 413, 414,
43б, 457, 472,474,481,482,484, 485,496,504, 542, 546,
553, 579, 584, 585, 587, 599, 615
Караваева А. А. 179
Кардинале (Cardinale) К. 535
Карлейль (Carlyle) Дж. 175
Карр (Carr) Э. 470
Карякин Ю. 317
Кассирер (Cassirer) Э. 534
Катаев В. П. 179, 241, 242, 395
Каутский (Kautsky) К. 159
Кафка (Kafka) Ф. 170, 405
Кашниц (Kaschnitz) Вайнберг фон Г. 197, 599
Келлер Б. А. 459
Кирпотин В. Я. 2бо, 263, 286, 296, 341, 342, 343, 347, 385
Киршон В. М. 115,123, 171,172,184, 218, 219
Киселев Е. А. 15
Клейман Р. Я. 68
Клеопатра 430
Клинтон Б. 16
Клингендер Ф. Д. 333
Клямкин И. М. 126, 259
Книпович Е. Ф. 2бо, 286, 296, 343, 349, 377, 420
Ковальчук Е. 421
Кожев (Кожевников) А. 364
Козюра Н. Н. 450
Кони А. Ф. 217
Кончаловский П. П. 224, 228-233, 235, 238-241, 255, 256
Коржавин (Мандель) Н. М. 259
Корин А. Д. I94, 195, 197, 200, 202, 211
Корин П. Д. 194, 195, 197, 199, 200, 202, 211
Короленко В. Г. 38
Кратил 566
Кругликова Е. С. 194, 200, 214
Крымов (Беклемишев) Ю. С. 270, 271
Кулик О. 363, 501
Куприн А. И. 430, 572
641
Кураев М. Н. 245, 408, 465, 500-506, 508, 511
Курчатов И. В. 206
Кьеркегор (Kierkegaard) С. 387, 484, 531
Лавджой А. 364
Лактанций 384
Лакшин В. Я. 138-140, 143, 144, 145, 148, 153, 260, 423, 424
Лапшин В. П. 199
Лацис А. 384
Лебедев-Кумач В. И. 378
Лебедев-Полянский П. И. 327
Левин Ф. 421
Левитан И. И. 201
Лежнев (Горелик) А. 3. 8о, 99, 183, 187
Лежнев (Альтшуллер) И. Г. 99
Лейбниц (Leibniz) Г. В. 563
Лелевич Г. (Кальмансон Л. Г.) 180,183,184
Ленин В. И. (Ульянов) 15, 16, 33-45, 48-51, 60, 69, 71, 81, 82, 96,
98, 99, in, 120,151,179,189,287,299,317, 321, 323, 364,
385, 454, 4б4, 4б5, 470, 471, 477, 482, 504, 505, 531, 532,
535, 570, 577, 578, 591, 592, 621, 630
Ленобль Г. 421
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) 32,193, 210, 287, 289 355,
370, 380, 408-411, 414-419, 435, 436-439, 454, 455, 457,
461, 472, 473, 481, 486, 488, 489-491, 493-495, 511, 512,
520
Леонов Л. М. 179
Леонтьев К. Н. 45, но, 261, 287, 312, 318, 299, 300, 360, 470, 472
Лермонтов М. Ю. 277, 319, 464
Лесков Н. С. 314
Лессинг (Lessing) Г. Э. 30,261 309, 344,345,352,353,362,482,502,
58о,597
Лесючевский Н. 337, 338, 342, 392
Лившиц Б. 247
Лившице. 247
Лидин (Гомберг) В. Г. 179
Линкольн (Lincoln) А. 400
Именной указатель
642
Литовский О. С. 218
Лифшиц М. А. 26,29,42,43,47,48,5b 56, 69, 70, 74-76, 79, 91,102,
103,107, по, ш, пз, 122-124,129,136,140-143,145,147,
153, !б6, 169, 176, 177, 183, 190, 200, 210, 211, 221, 238,
239, 257, 259, 260-265, 269, 272-284, 286-296, 298,
300-304,306-3П, 313-327,329-330,334,336-339, 341-
350, 354, 355, 358, 360-378, 380-386,388-406,420,425,
426, 437, 452, 460, 465, 475, 478, 479,481-483, 497, 504,
508, 510, 514, 529, 531-533, 537, 538, 54b 542, 545, 546,
549, 553, 556, 557, 567, 568, 570, 573, 575, 576, 580, 581,
586, 589-594, 596-599, 602, 605, 608, 609, 611, 612,
618, 624, 626-631
Лихачев Д. С. 627
Ловиц 415
Лозинский М. Л. 460
Ломоносов М. В. 211
Лосев А. Ф. 290, 291, 549
Лосев В. И. 123
Лосский Н. О. 580
Лотман Ю. М. 57, 58,153, 154, 168, 169
Лукач (Lukacs) Г. 46, 79, 8о, 119, 216, 257, 259, 261, 272-274, 280-
284, 287, 290, 296, 341, 347-350, 354, 361, 367, 375, 377,
378, 388, 401, 425, 460, 478, 514, 531, 540-546, 618,
627, 631
Лукин 330
Луначарский А. В. 228, 500, 626
Лысенко Т. Д. 83
Людовик (Louis) XIV 286, 393, 463
Люк (Luke) Т. В. 250
Магуайр (Maguire) Р. А. 177-185,189
Мазаев А. И 269, 270, 289
Макаренко А. С. 361
Македонов А. В. 229, 443, 459
Макиавелли (Machiavelli) Н. 126
Малевич К. С. 201, 497
Маленков Г. М. 282
643
Мамардашвили М. К. 541
Ман Поль де (Man de Paul) 160-162
Мангейм (Mannheim) К. 176
Мандельштам Н. Я. 242, 244. 366
Мандельштам О. Э. 172,178, 224, 228, 229, 239, 241-248, 250,
252-256, 265, 395, 562, 631, 632
Мандзони (Manzoni) А. 460
Манн (Mann) Т. 106,170, 262, 305, 482, 499, 522, 562, 631
МаоЦзедун 511
Марков Г. М. 345
Маркс (Marx) К. 12, 42, 55, 68, 69, 78-82, 95, 96, юг, 103,104,
145,177, 238, 264, 389, 401, 404, 414, 453, 464, 468,
471, 477, 486, 519, 528, 535, 537, 542-544, 575, 576, 577,
* 585, 615, 628, 629
Маркузе (Marcuse) Г. и, 388, 477, 504, 505
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) 50
Маслов 330, 331
Махно Н. И. 49
Маяковский В. В. 64, 83, 84, 87, юо, 175, 179,184,185, 361, 384,
З85, 393
Мейерхольд В. Э. юо, 115,184, 185, 186, 230, 231-235, 238-240,
255, 256, 378, 385, 393
Мейлах М. Б. 245
Мережковский Д. С. 309, 318, 320
Мечников И. И. 72, 85, 90, 95
Микеланджело (Michelangelo) Б. 287, 289
Милошевич С. 16
Митчелл (Mitchell) С. 384, 386
Митчелл (Mitchell) Т. 24
Михайлов 275
Михалков С. В. 403
Можаев Б. А. 169, 465, 499
Молотов В. М. зз7, 344
Мольер (Moliere) Ж. Б. 79,186, 358, 393, 463
Моне (Monet) К. 24
Монтень (Montaigne) М. де 319, 436
Мопассан (Maupassant) Ги де 43
Именной указатель
644
Моцарт (Mozart) В. А. Ю2,105, юб, 214, 370, 416, 435, 437, 438,
457, 5П
Музиль (Musil) Р. 499
Муссолини (Mussolini) Б. 81
Мухина В. И. 197-200, 203, 204, 2о6, 207-209, 2п, 212, 214, 215
Наврозов Л. 245, 247
Надеждин Н. И. 286, 287, 288, 327
Надсон С. Я. 424, 426
Нарский И. С. 541
Негри (Negri) А. 624, 625
Недошивин Г. А. 349
Нейман П. П. 240
Нейдгарт (Neidhart) Р. фон 43
Некрасов В. П. 423
Некрасов Н. А. 178, 319, 416, 425, 426
Немирович-Данченко В. И. и8
Непомнящий В. С. 172, 425
Нестеров М. В. 169, 191, 193-204, 207-209, 211-214, 216-223, 228,
234, 239, 240, 247, 256, 395, 402, 504, 508, 546, 632
Никитин С. А. 161
Николай I 244, 251, 286, 299
Николай II 385
Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus, Николай Кребс, Krebs)
417, 524, 581
Ницше (Nietzsche) Ф. 94,108,114,147, 210, 225, 236, 248-250, 316,
317, 318, 320, 431, 475, 48i, 483, 521
Ньютон (Newton) И. 28
Озеров В. М 421
Олеша Ю. К. 141,179
ОрловС. Д. 334
Ортега-и-Гассет (Ortega у Gasset) X. 465, 512, 621
Островский А. Н. 186
Павлов И. П. 83, 193, 194, 197-199, 214-217, 220
Панаев И. И. 178
645
Панарин А. С. 276
Панова В. Ф. 420
Панофский (Panofsky) Э. 19-23, 26, 32, 229, 351, 352, 360, 427,
486-488, 529
Панферов Л. 15
Пастернак Б. Л. 178, 244, 245, 248, 255, 420, 421, 432, 432, 442
Парето (Pareto) В. 238
Парменид 292, 342, 478, 511
Переверзев В. Ф. 91,114, 278, 354, 372
Перикл 235, 239
Петлюра С. В. 159
Петр I 204, 211, 212, 226
Петрович (Petrovic) А. 169
•Пикассо (Picasso) (Руис) П. 348, 378
Пильняк Б. (Вогау Б. А.) 99,178
Пифагор 195
Пичикян А. М. 349
Пластов А. А. 504, 514, 515, 516, 562, 624
Платон 9, ю, 8о, но, 123,189, 262, 292, 342, 357, 358, 362, 412,
413, 418, 471, 473, 474, 478, 479, 481, 482, 488, 502,
507, 517, 520, 521, 529, 539, 546, 549, 550, 563, 565-
570, 578, 582, 596, 597, 6о2, 615-617, 622, 624, 626
Платонов (Климентов) А. П. 171,172,180, 257, 264, 267-272,
283, 341, 361, 362, 389, 391, 402, 404, 406, 421, 422,
428, 500, 632
Плеханов Г. В. 33~42, 45, 48, 51, 275, 317
Плоткин Л. А. 325, 328, 332
Победоносцев К. П. 49,299,318, 360
Погодин (Стукалов) Н. Ф. 268
Пол Пот (Pol Pot) 511
Поликлет 471
Полонский (Гусин) В. П. 99
Поляновский Э. 244, 247
Померанцев В. М. 183
Помпей Великий (Pompeius Magnus) Г. 122
Помпонацци (Pomponazzi) П. 379
Потресов В. 423
Именной указатель
646
Прециози (Preziosi) Д. 22, 382
Пригожин (Prigogine) И. 29, 30, 32, 533, 621
Прокофьев С. С. 228, 239, 256, 395, 508
Проффер Э. 84
Пруст (Proust) М. 55 170, 433
Пугачев Е. И. 126, 319, 430, 625
Путин В. В. 14, 16, 425
ПушкинА. С. 46,49, 57, 70, 86, ю2, юб, 126,140,172,180,197, 211,
212, 244, 260, 263, 271, 284, 287, 288, 301-303, З05, 318,
319, 373, 376, 380, 397, 414-416, 419, 433, 435, 437, 438,
439, 452, 454, 455, 457, 463, 504-506, 511, 622
Рабле (Rabelais) Ф. 140, 443
Разин С. Т. 430
Разумный В. А. 345
Рамо (Rameau) Ж. Ф. 576
Рамсфелд (Ramsfeld) Д. 529
Расин (Racine) Ж 450
Раскольников Ф. 262
Раскольников (Ильин) Ф. Ф. 178
Растрелли (Rastrelli) В. В. 504
Рафаэль (Raffaello) С. 221
Рейнгардт Л. Я. 129, 290
Рейнгардт М. А. 330
Рембрандт (Rembrandt) Харменс Ван Рейн 414, 473
Ригль (Riegl) А. 91, 195, 196, 355, 363
Ричард (Richard) III 103
Робеспьер (Robespierre) М. 376, 559, 560
Розанов В. В. 45, 59, по, 411
Руссо (Rousseau) Ж.-Ж. 161, 162, 358, 545, 55», 552-554, 565, 566,
590, 594, 595, 597-607, 615, 624
Рыклин М. К. 558
Рылеев К. Ф. 376
Савонарола (Savonarola) Д. 416
Салтыков-Щедрин М. Е. 44, 82, 83,152,157,168,170, 319, 365, 373,
465, 521
647
Сальери (Salieri) А. 102-104, 507, 573
Сальников В. 627
Санд Ж. 315, 371
Сараскина Л. И. 299
Сахаров А. Д. 12,13, 14,16, 206, 367, 400
Сац И. А. 210, 260, 264, 272, 406, 423, 428
Светлов 327
Светлов (Шейнкман) М. А. 189
Сетницкий 580
Сеченов И. М. 72, 90
Симонов К. М. 348, 401, 432, 437, 439, 440, 448
Скотт (Scott) В. 46
Соколов М. Н. 21
Соколов Э. В. 475
Сократ 9-12,14,16,55, но, 127,155,171,182,292, 301, 306, 362,412,
413, 426, 447, 481, 482, 504, 505, 517, 519, 520, 522, 540,
546, 576, 609
Солженицын А. И. 12,13,129,138-140,144,148,149,159,169,187,
232, 233, 236-238, 265, 285, 382, 378, 399, 4б5
Соловьев В. С. 438 ,
Соммервил Д. 333 /
Сомов К. А. 463
Соссюр (Saussure) Ф. 548
Софокл 287, 376, 471
Софронов А. В. 264
Спиноза (Spinoza) Б. 582
Сталин И. В. (Джугашвили) 15,16, 84, too, 108,109,115,120,
123,128,129, 144,178,180, 212, 219, 242, 243, 245,
246, 250, 263, 267, 282, 283, 285, 287, 323, 341, Збо,
372, 392, 393, 420, 442, 452, 464, 465, 470, 539, 540,
623, 629
Станиславский (Алексеев) К. С. п8, 433, 455
Станкевич Н. В. 423 /
Стенгере И. 29, 533 /
Столыпин П. А. 312 /
Стыкалин А. С. 426 /
Сурков А. А. 265, зз5, 337, 347, 348
Именной указатель
648
Суханов Н. (Гиммер Н. Н.) 531
Сухово-Кобылин А. В. 330
Сучков Б. Л. 345
Таиров А. Я. 184
Татлин В. Е. 218
Тахо-Годи А. А. 291
Тацит (Tacitus) 526
Твардовский А. Т. 183, 2п, 259, 263, 264, 269, 291, 345, 348, 378,
419, 420, 427, 428, 432, 437, 440, 441, 443~44б, 449~451,
458, 459, 508, 546, 562, 632
Тиберий (Tiberius) 122
Тициан (Tiziano) Вечеллио 19-22,25-27,29-32,379,380,409,414-
416, 435, 43б, 437, 473
Тойнби (Toynbee) А. Дж. 224-226
Токвиль (Tocqueville) А. 70, 78, 85, 86
Толанд (Toland) Дж. 570
Толстой А. Н. 136,148, 178, 252, 395, 471
Толстой Л. Н. 39,42,49,99,111,140,147,171,198,2бо, 281,287,296,
302, 309, 311, 31З, 354, 357, 359, 377, 388, 422, 450, 505,
517
Третьяков С. М. 180, 422
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. 452, 538
Тургенев И. С. 44, 277, 297, 299, 424
Турнас Е. 500-504, 506-508, 509-512
Турыгин А. А. 234
Тютчев Ф. И. 99
Тютчева С. И. 193
Уайльд (Wilde) О. 437
УдбинЖ.-Л. 577
Уланова Г. С. 256, 508
Уорхол (Warhol) Э. 484, 514-520, 615, 624
Усиевич Е. Ф. 73, 260, 264-273, 282, 283, 361, 362, 623
Успенский Г. И. 314
Устрялов Н. В. 115, 217, 284
Уэллс (Wells) Г. 67
649
Фадеев А. А. 184, 260, 283, 284, 286, 287, 289, 327, 341, 401, 403
Фалес 555
Фальк Р. Р. 229
Федоров Н. Ф. 389,580
Федорова 324, 329, 342, 349
Федоров-Давыдов А. А. 91
Фейербах (Feuerbach) Л. 542, 543, 613
Феллини (Fellini) Ф. 109,169, 378, 445,446, 511, 522, 535, 546, 562,
615, 621, 622, 631
Фидий 471
Фидлер (Fiedler) К. 176
Филонов П. Н. 393
Фихте (Fichte) И. Г. 436, 479, 496
«Флоренский П. А. 81, 83,194, 284, 289,408,472,474,481,486, 489,
491, 492, 495, 498, 499, 504
Фонвизин Д. И. 277
Франк (Franck) С. 417 '
Франс (France, наст, фамилия Тибо) А. 341, 522
Фрейд (Freud) 3. 55, 520-522, 624
Фридман 323
Фридмен (Friedman) М. 401
Фридрих (Friedrich) II 147
Фриче В. М. 114,175
Фрунзе М. В. 181
Фуко (Foucault) М. 444
/
Хайдеггер (Heidegger) М. 29, 94,108,161, 261, 264, 287, 291, 292,
363, 398,402,405,408,447,472-475,478-484,498,499,
503- 511, 514, 5i8, 519, 521, 527, 542, 543, 546, 549, 563,
601, 615, 618, 623
Хайек (Hayek) Ф. фон 401
Хард (Hardt) М. 624, 625
Хауард Ф. 2о
Хаузер (Hauser) А. 297
Хейзинга (Huizinga) Й. 447
Химич В. В. 133,136, 137,163, 164,168
Хобсбаум Э. 516, 548
Именной указатель
650
Ходасевич В. Ф. 178
Хоркхаймер (Horkheimer) М. 17,108, 205, 396
Храпченко М. Б. 278-281, 342, 345, 348, 393, 424, 425, 629
Хусейн С. 16
Цветаева М. И. 303
Цезарь (Caesar) Г. Ю. 122
ЦипкоА. 629
Цицерон 570
Цыганов 331, 332
Чайковский П. И. гз?’
Чаплин (Chaplin) Ч. С. 108,109,169, 511, 522, 546, 562, 631
Чейни (Cheney) Д. 529
Черненко К. У. 491
Чернов В. М. 470
Чернышевский Н. Г. 73,74,78,253, 319,326, 374,415,416,469,588,
589, 626
Чехов А. П. 49,147, 217, 448, 450, 464, 500, 504
Чингисхан 128, 375
Чичерин Г. В. 214, 457, 458, 505
Чубайс А. Б. 14, 580
Чуковский К. И. (Корнейчуков Н. В.) 425
Шагинян М. С. 27, 269, 335, 337, 338, 345, 348, 420
Шадр (Иванов) И. Д. 197-200, 202, 203, 2п
Шапиро М. 291, 292, 398, 405
Шарден (Chardin) Ж. Б. С. 202
Шатобриан (Cateaubriand) Ф. Р. де 395
Шварценеггер (Schwarzenegger) А. 150
Шекспир (Shakespeare) У. п, 32, 103, 171-173, 175, 260, 287, 290,
358, 370, 375, 376, 438, 501
Шеллинг (Schelling) Ф. В. 25, 201, 436, 479, 537
Шиллер (Schiller) Ф. 301, 302, 447, 462, 579
Шкловский В. Б. 138, 423, 425
Шлегель (Schlegel) А. В. 201
Шлегель (Schlegel) Ф. 201
651
Шмидт (Schmidt) Г. 417
Шолем Г. 509
Шопергауэр (Schopenhauer) А. 438
Шостакович Д. Д. 228, 349
Шпенглер (Spengler) О. 326
Штраус (Strauss) Д. Ф. 96
Шульгин В. В. 123
Щеглов М. А. 183, 420, 424, 428
Щербаков А. С. 347
Эйзенштейн С. М. 378
Эйнштейн (Einstein) А. 28, 29, 471
Эйслер (Eisler) Р. 436
Энгельс (Engels) Ф. 78, 79, 8г, 96,159, 306, 316, 323, 333, 352, 453,
543, 544, 575
Эпикур 95
Эпштейн М. Н. 413
Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus) 567, 576
Эренбург И. Г. 233, 234
Эсхил 471
Этьембль (Etiemble) Р, 539
Ювенал 358
Юдин П. Ф. 327
Юдин С. С. 197-200, 2П
Юм (Hume) Д. 105
Юрский С. Ю. 108
Юферова А. А. 195
Яблоков Е. А. 64, 84,136,163,179,182,184
Яковлев А. Н. 282
Ярошенко Н. А. 217
Яшвиль Н. Г. 198
Виктор Григорьевич Арсланов
Постмодернизм
и русский «третий путь»:
tertium datur
российской культуры XX века
Оформление и вёрстка
И. Бернштейн
Корректор
Г. Парамонова
Подписано в печать 25.11.2006.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура CharterC. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 41. Тираж 1000 экз. Заказ №6851
Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1
Телефон/факс (495)6218471
E-mail editor@kultrev.ru
При участии ООО «ПФ «Сашко»
Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14