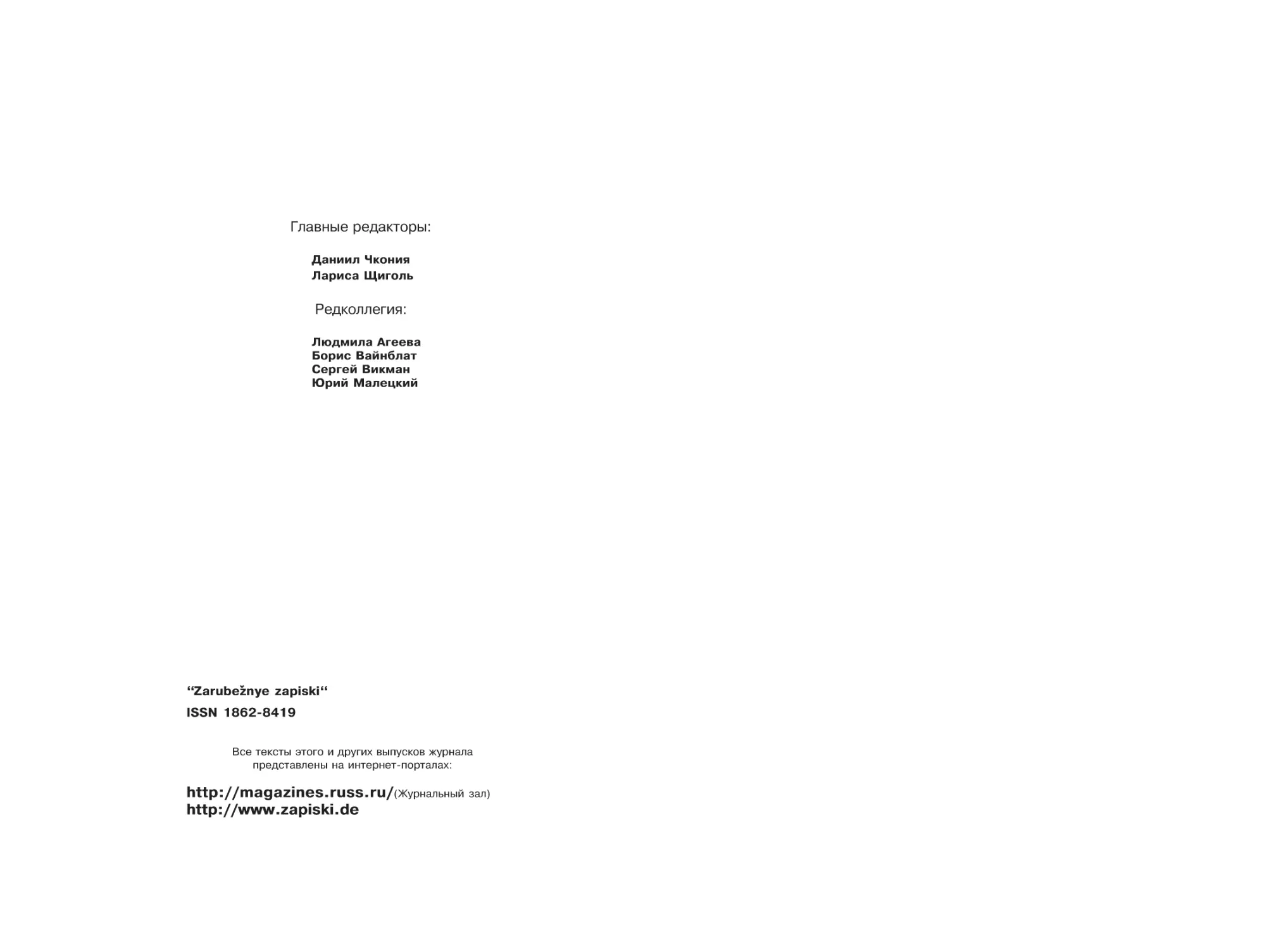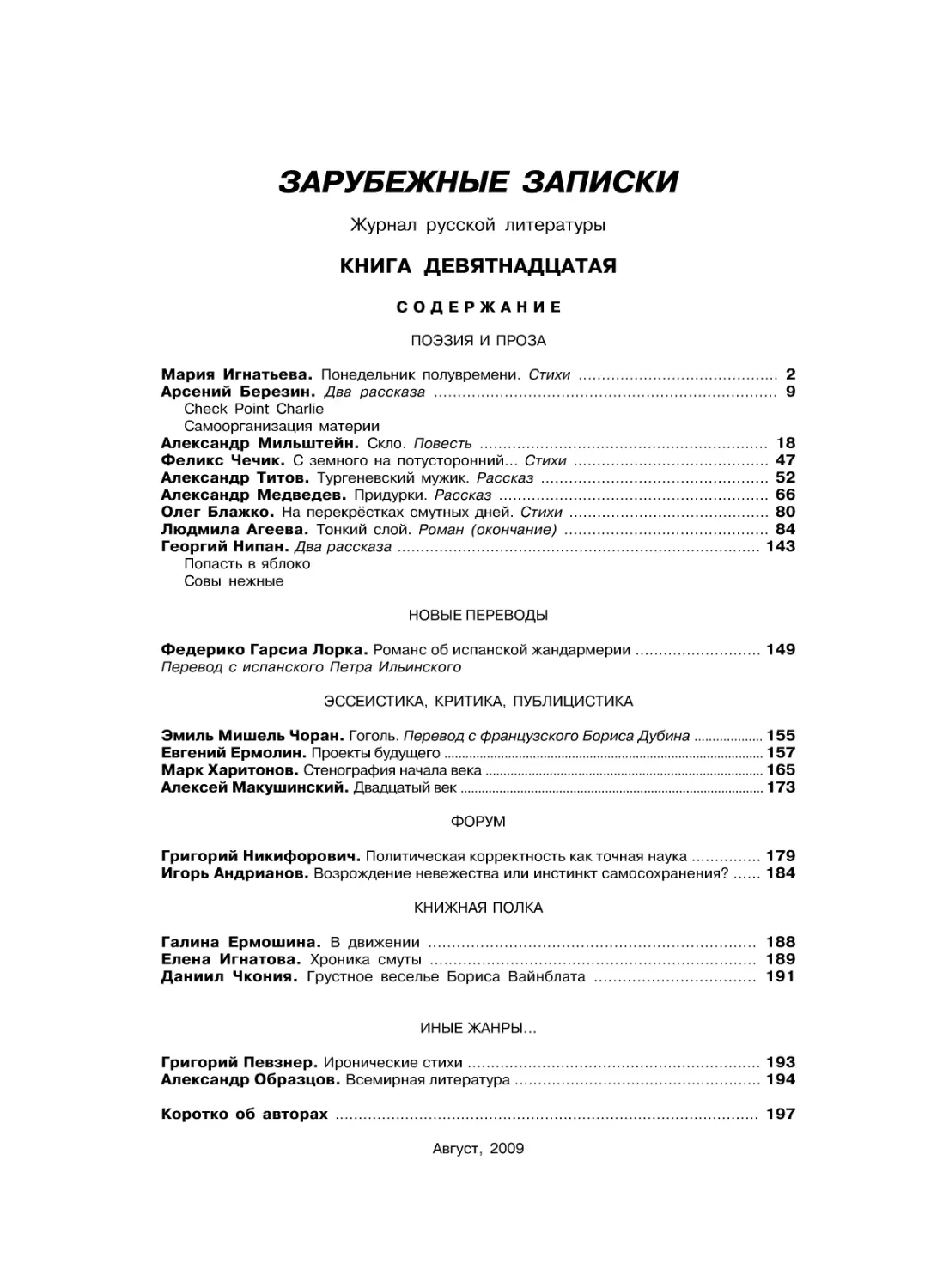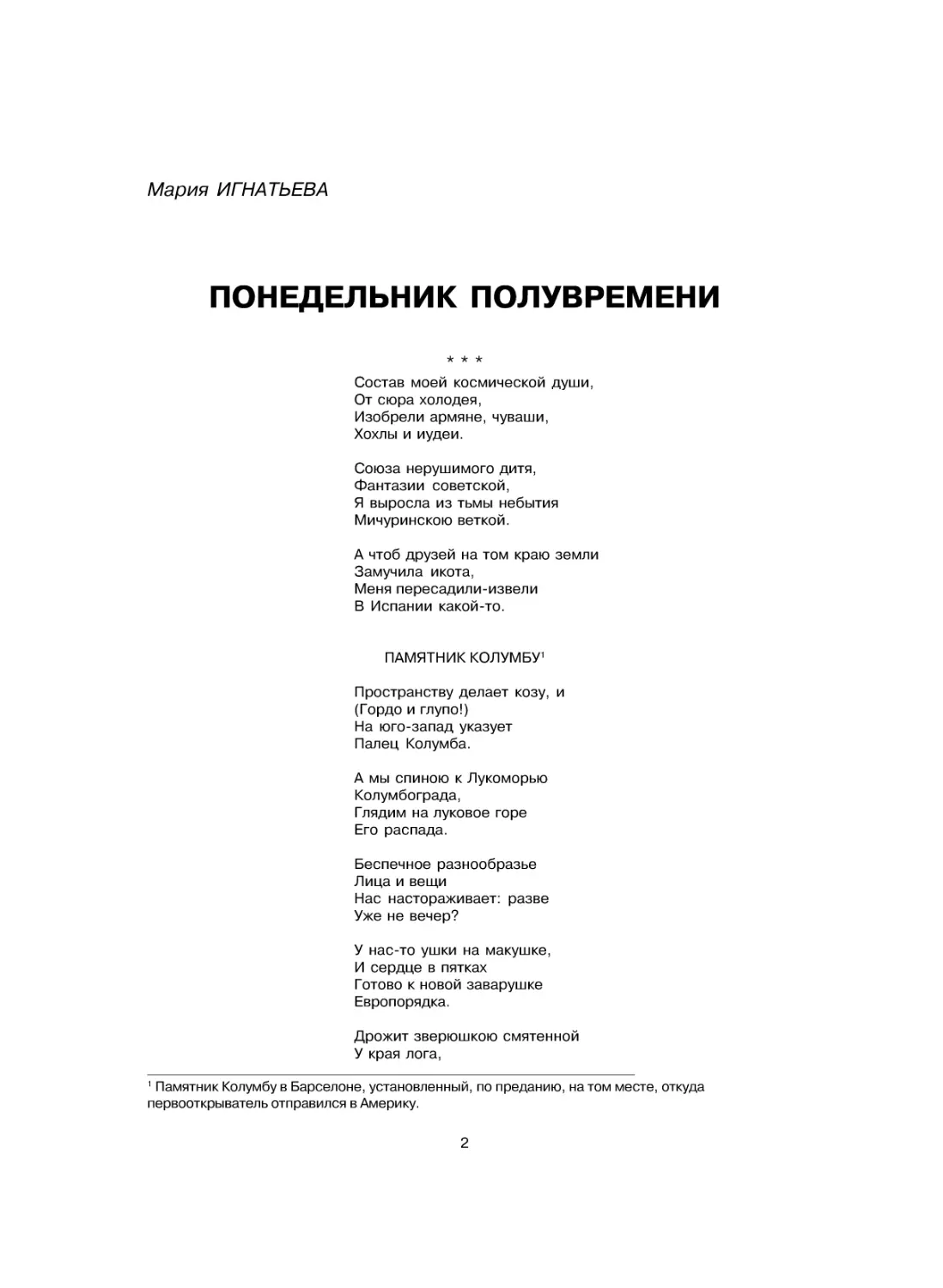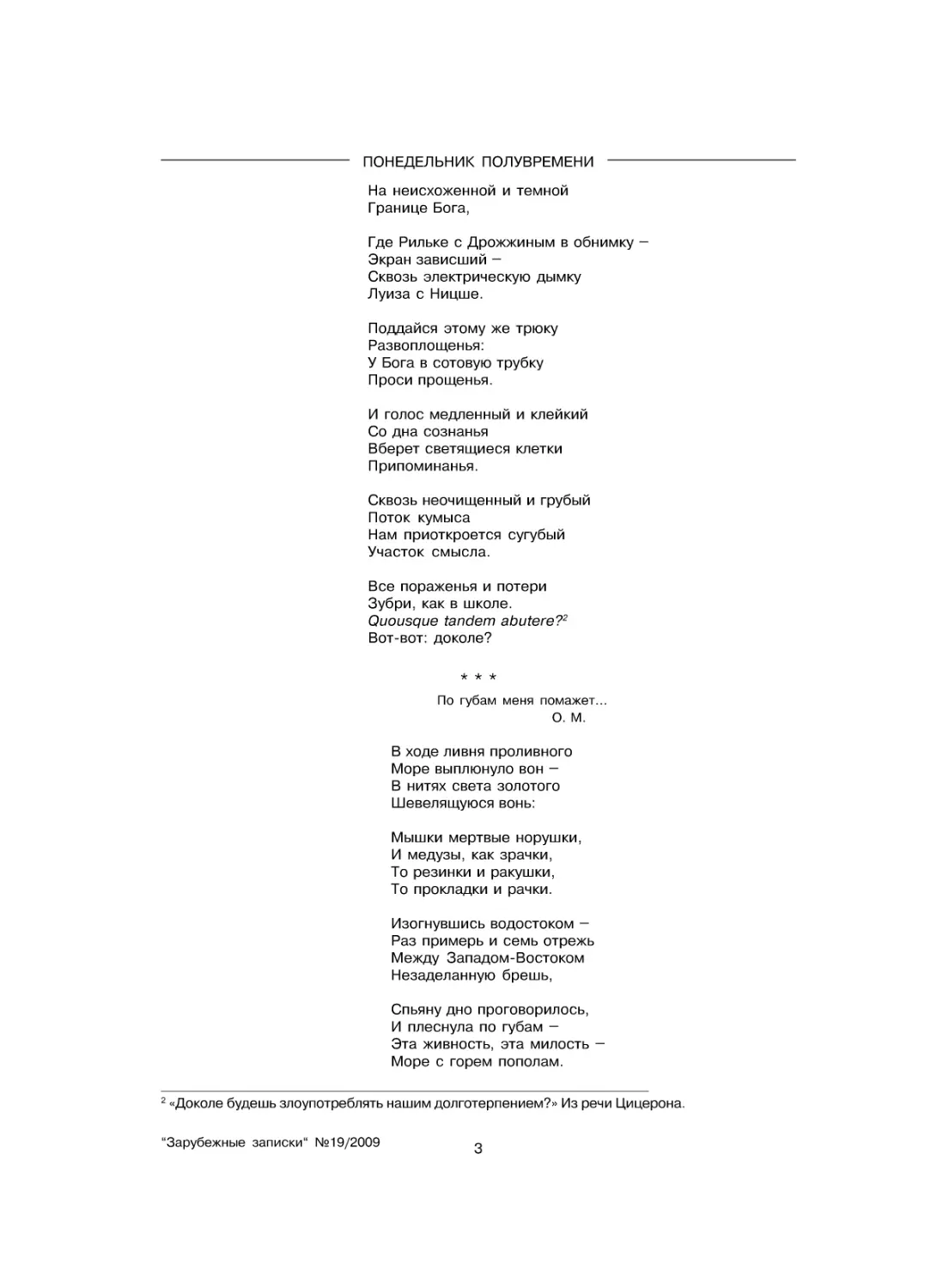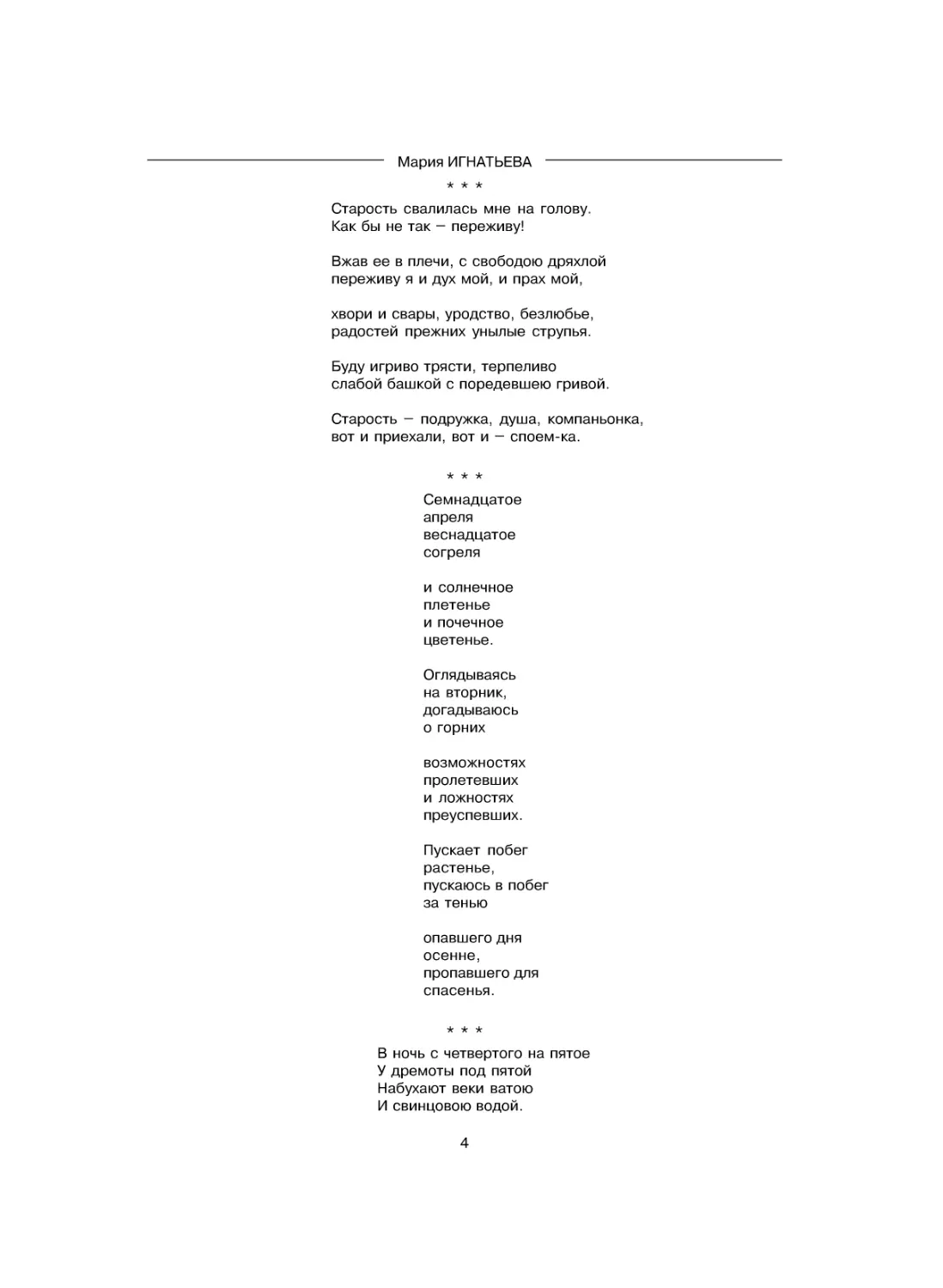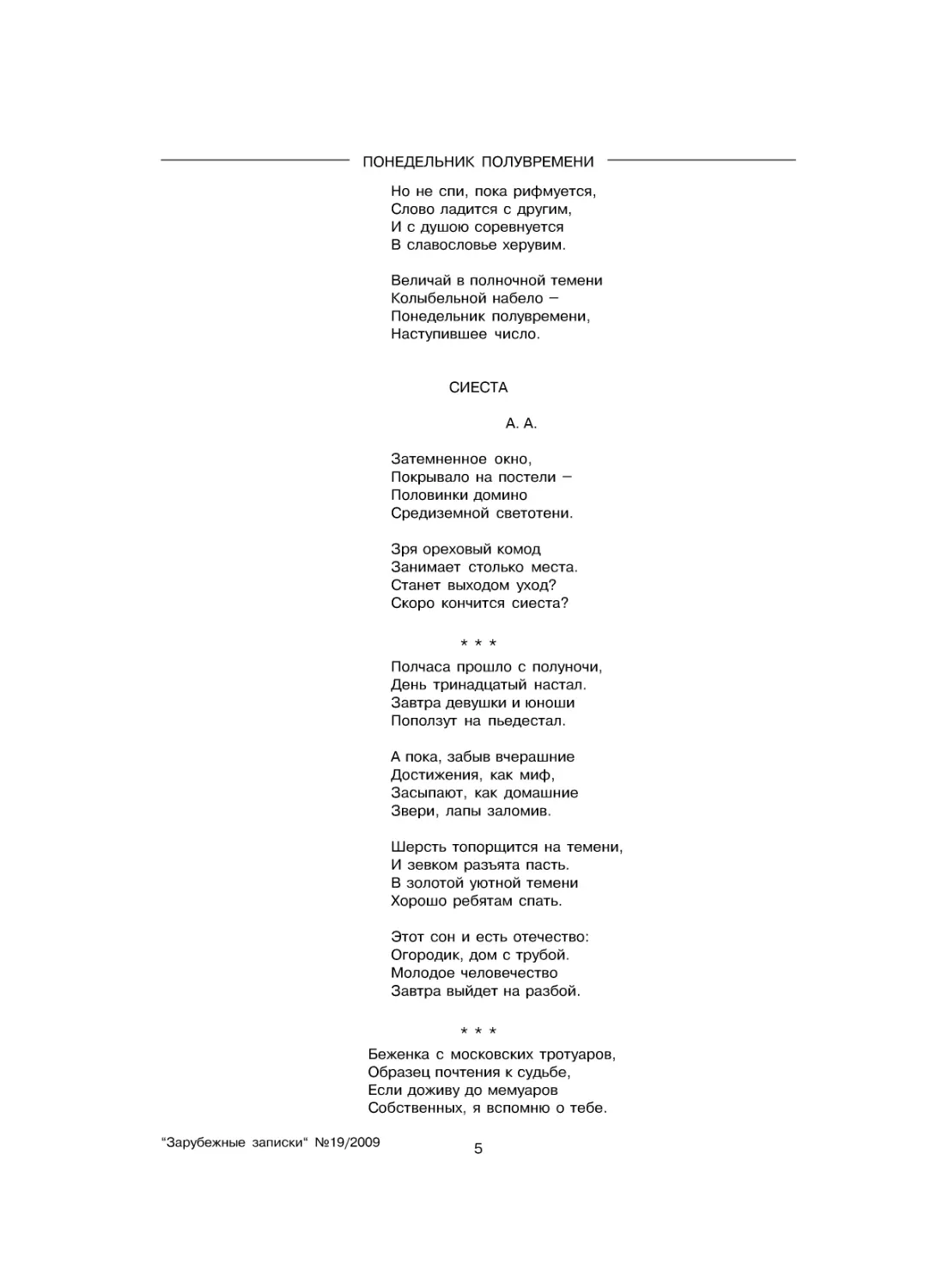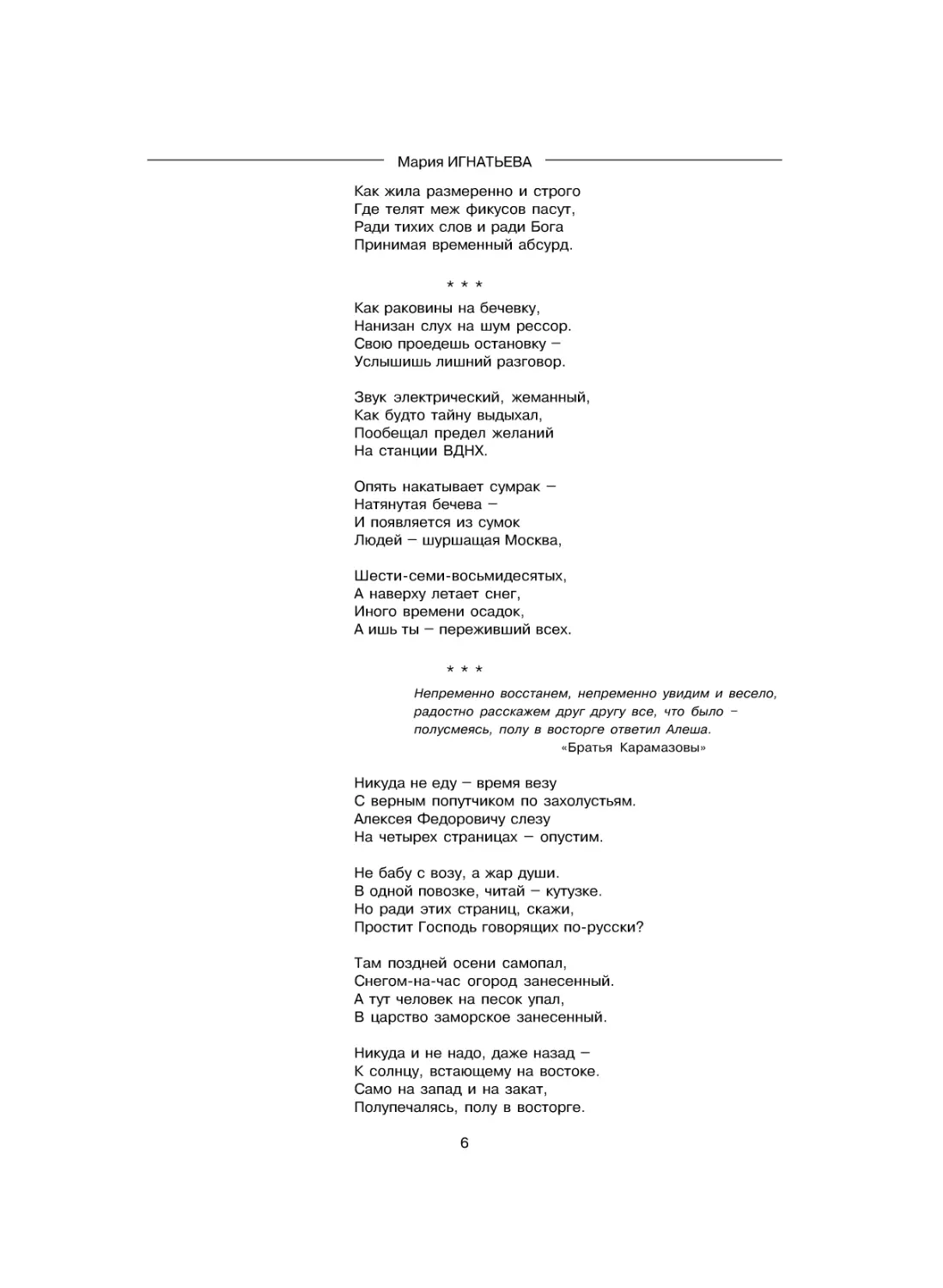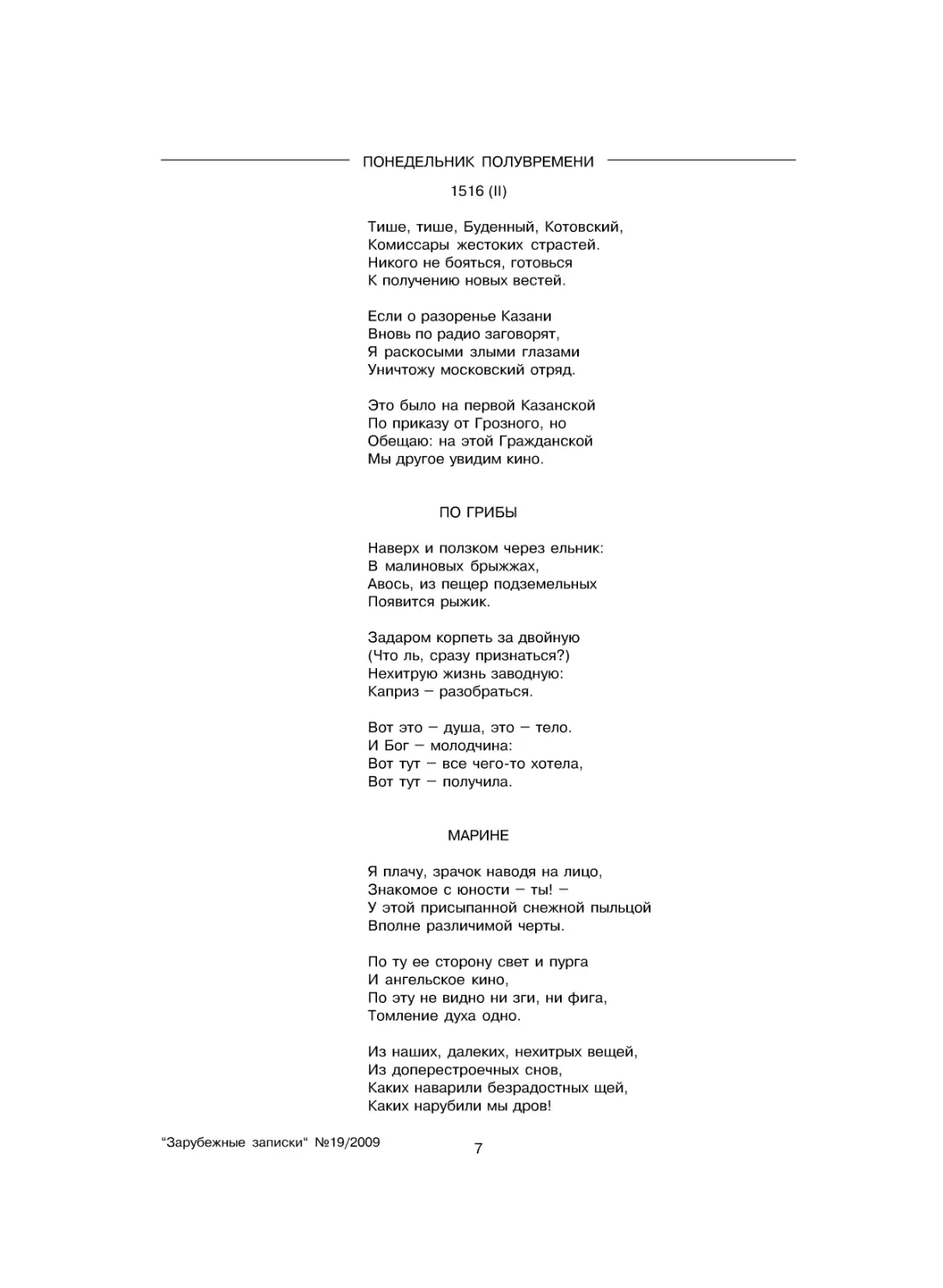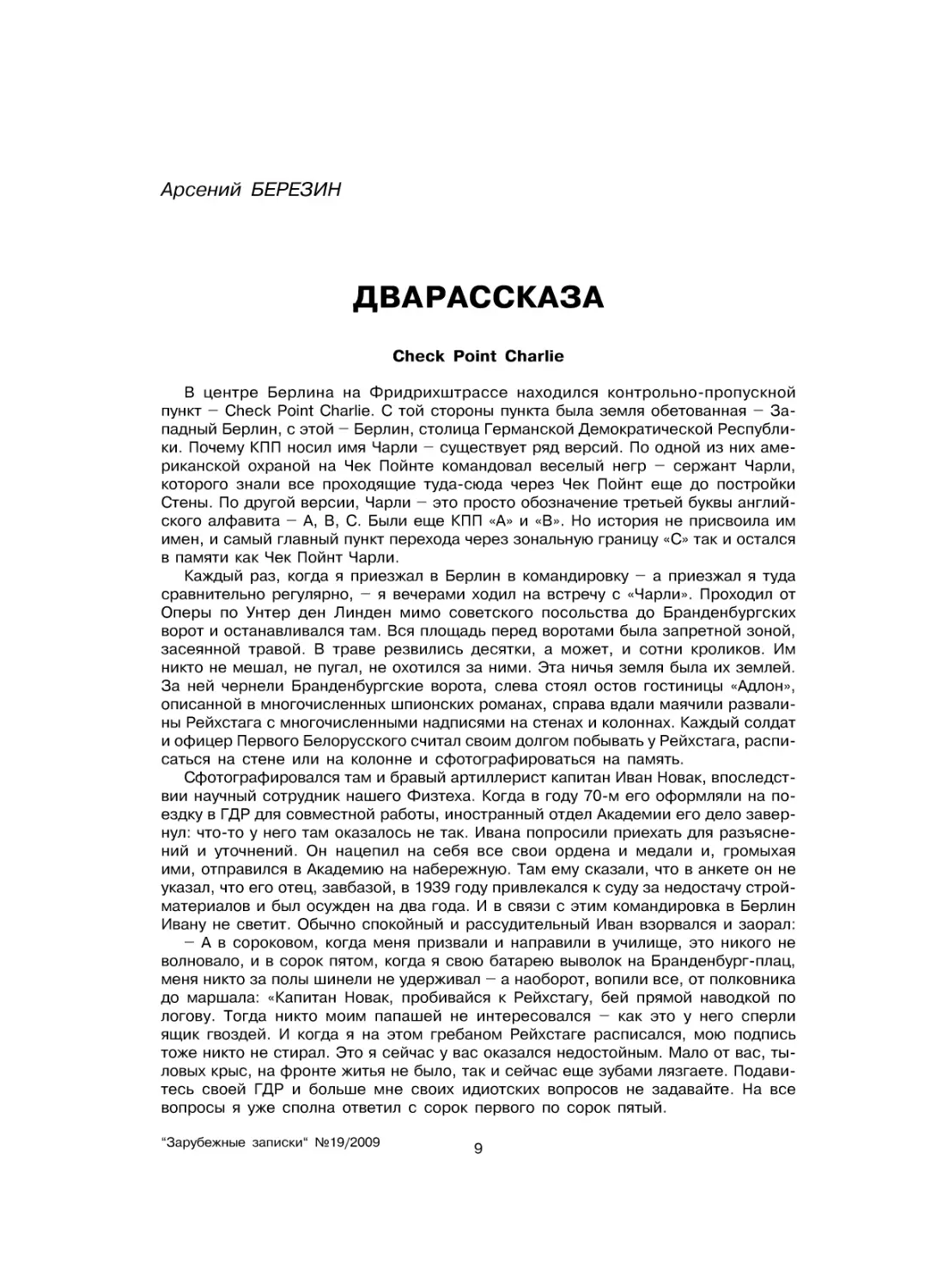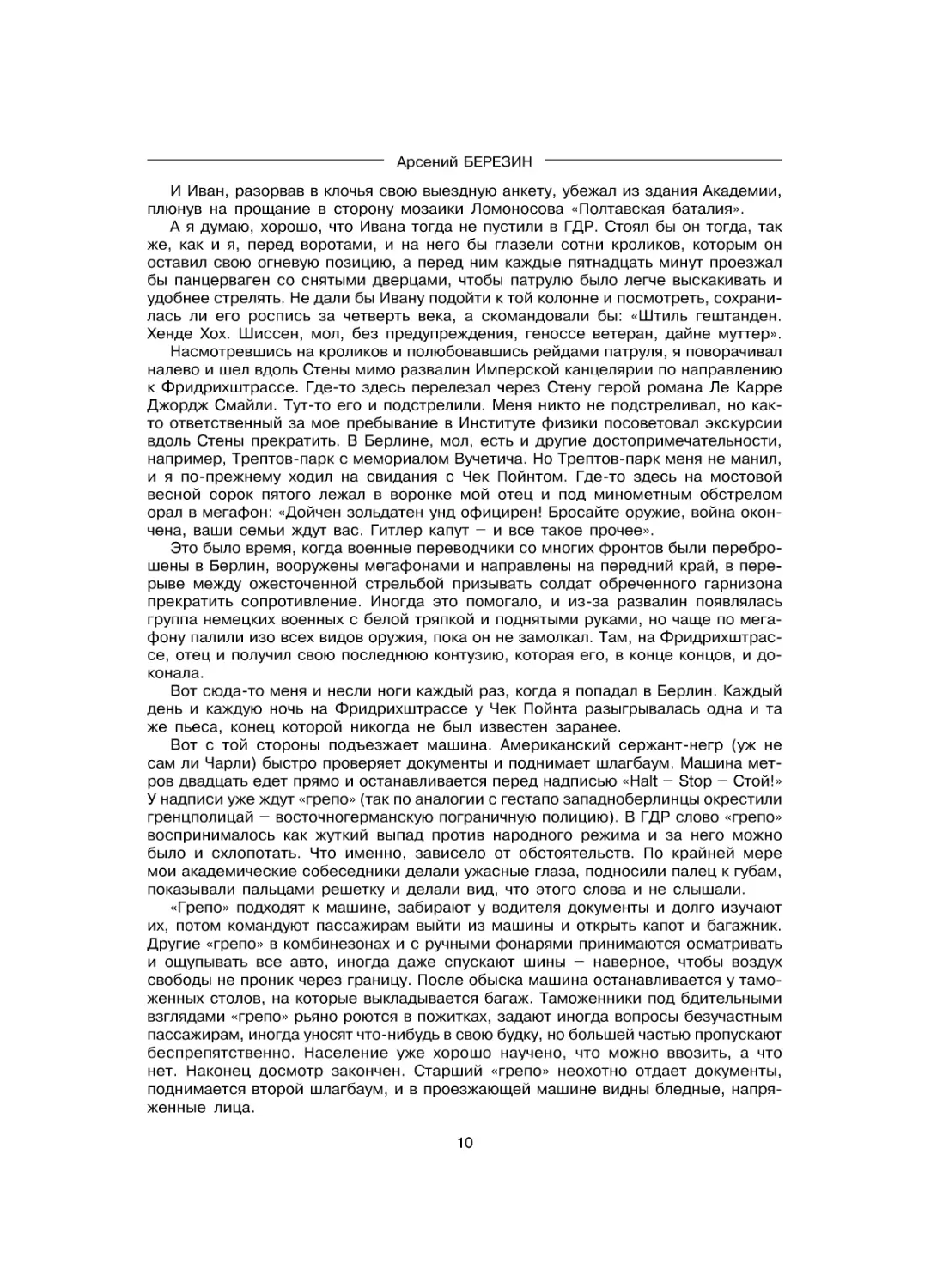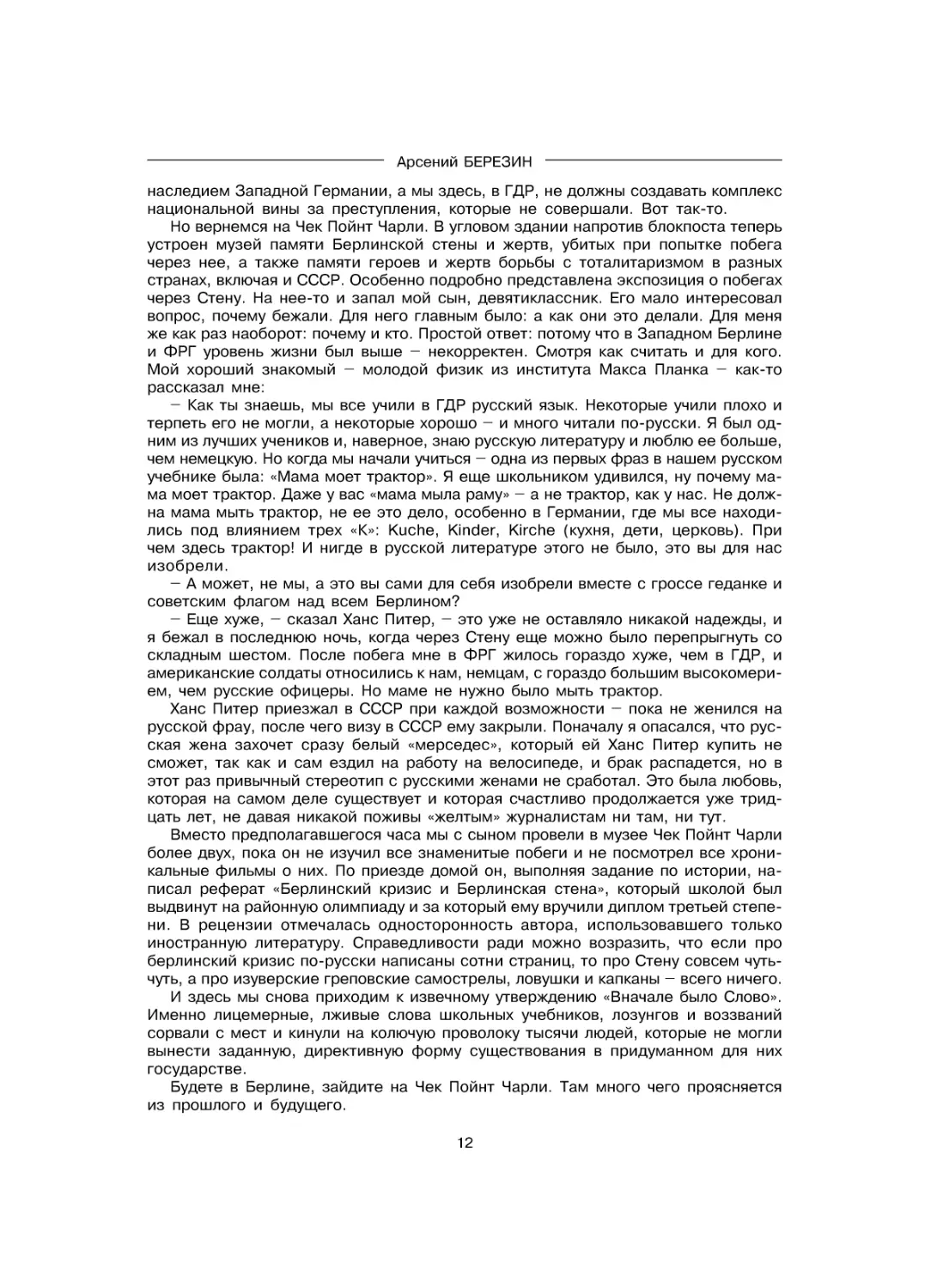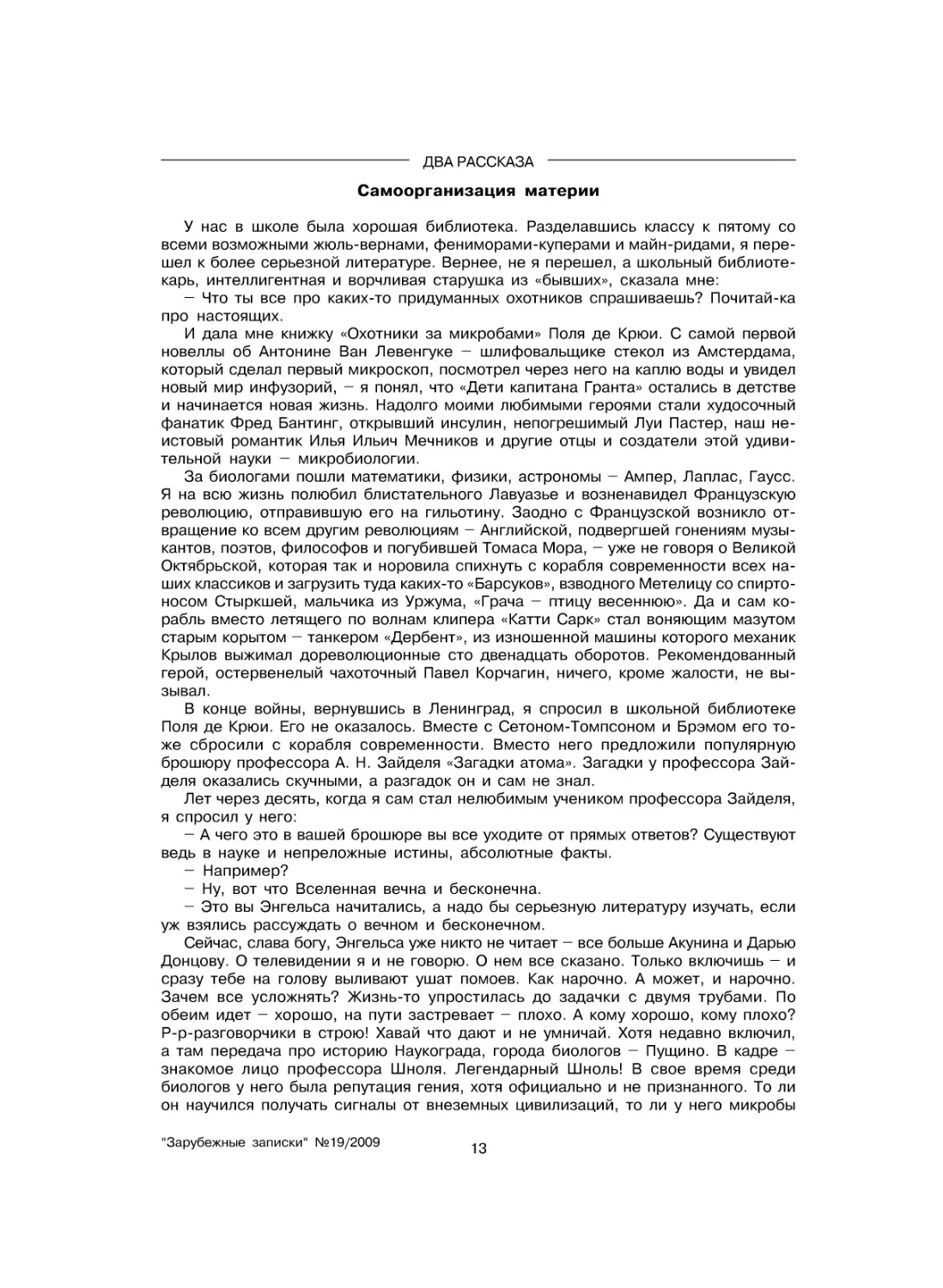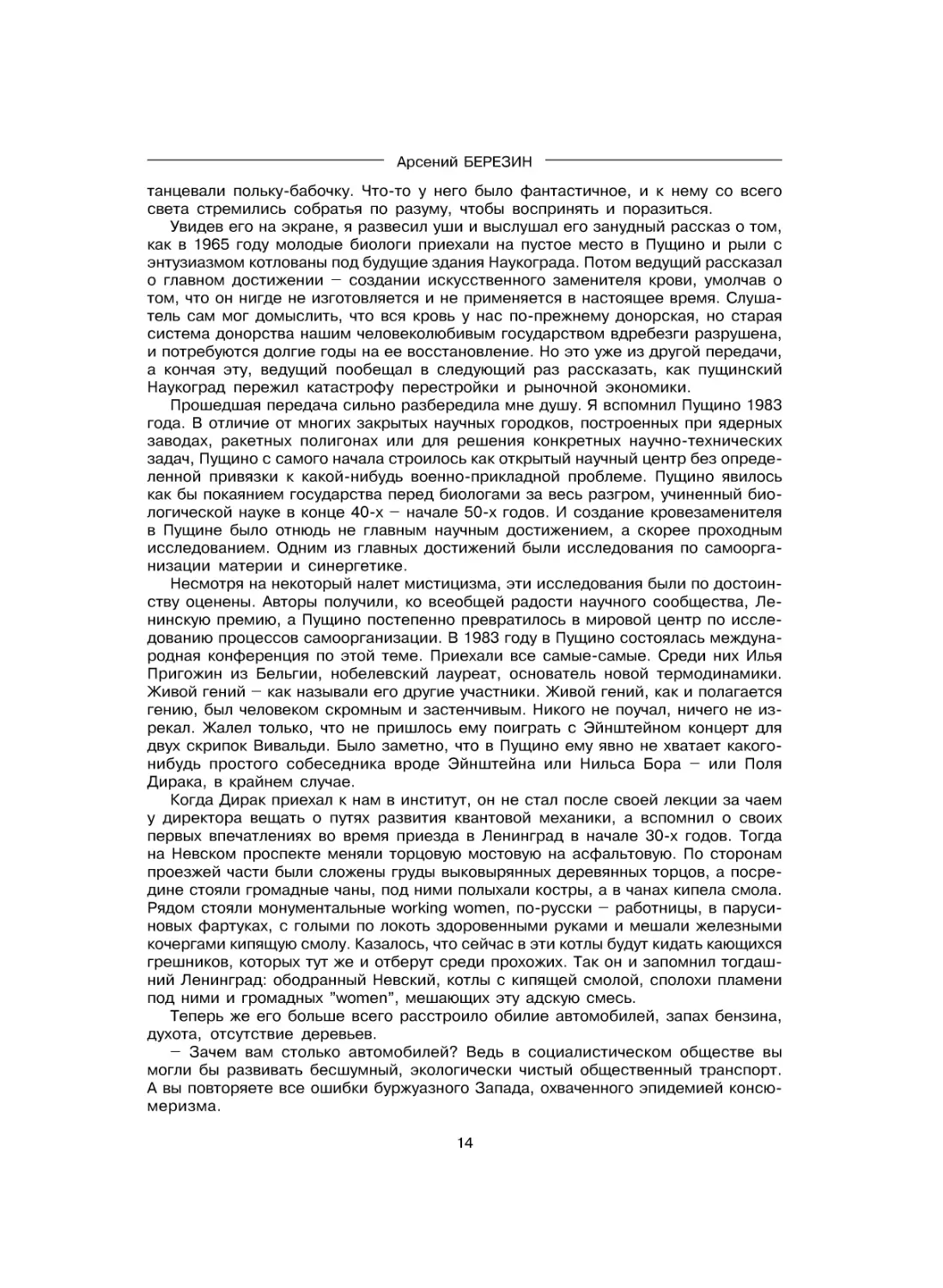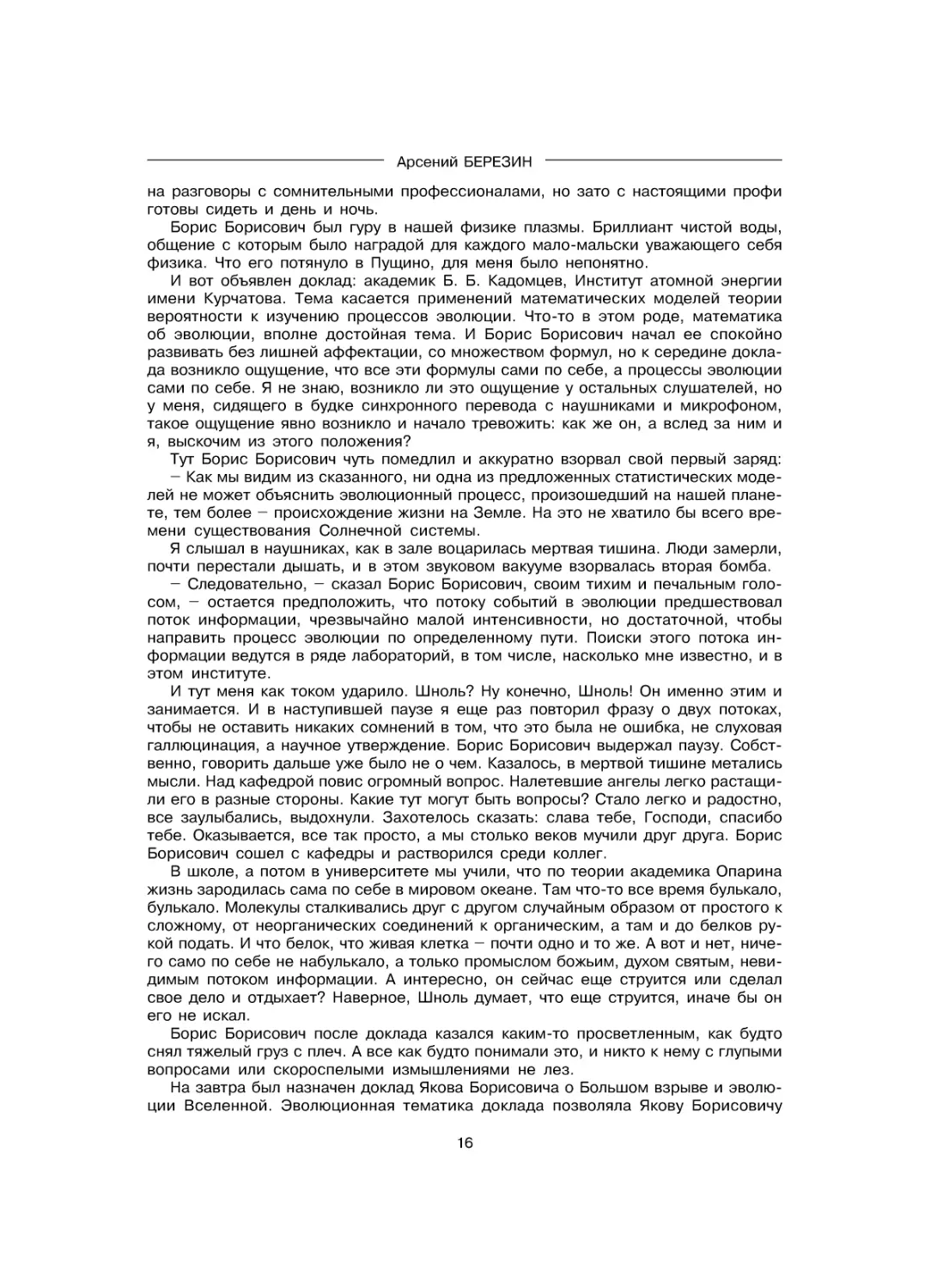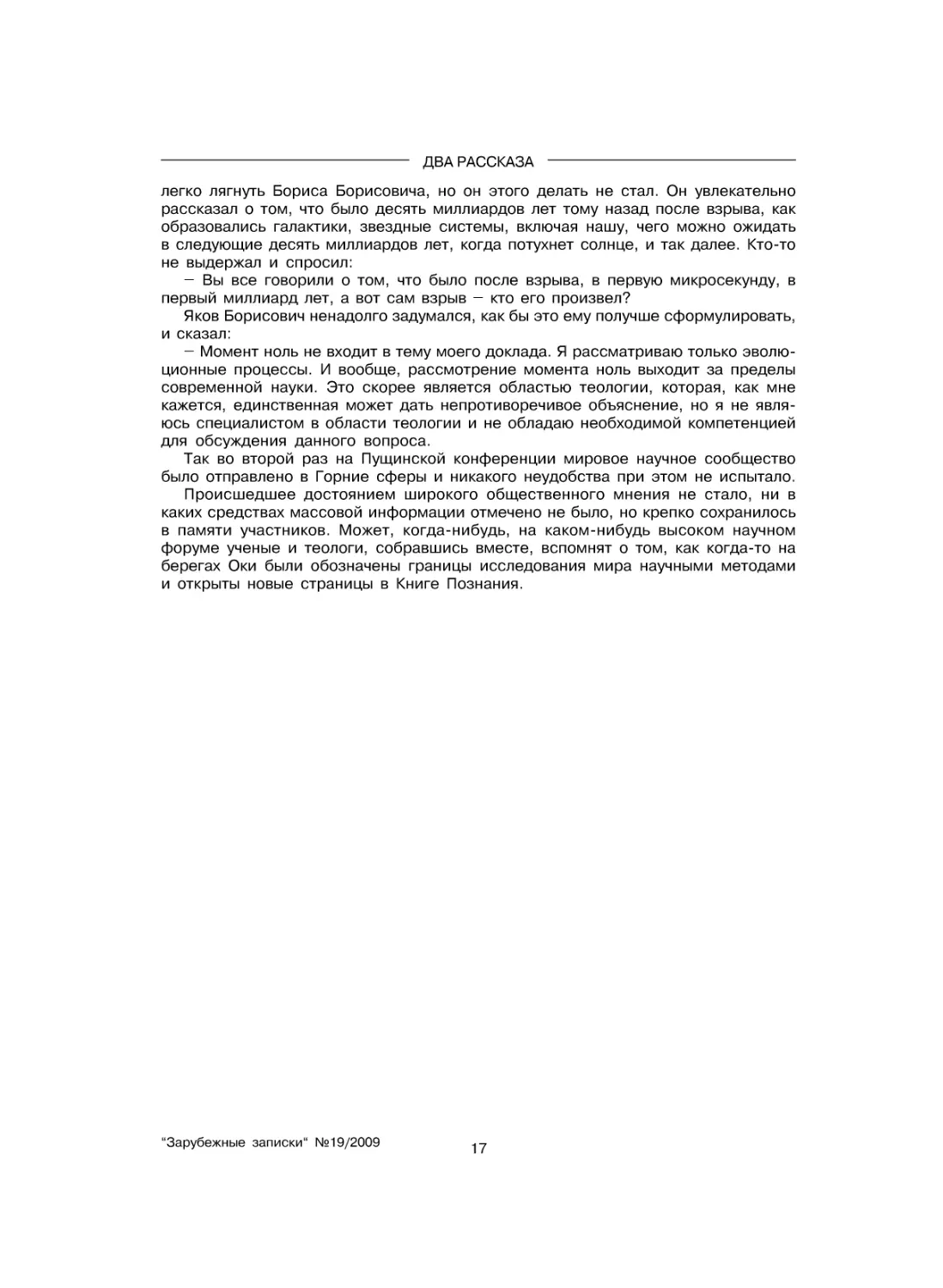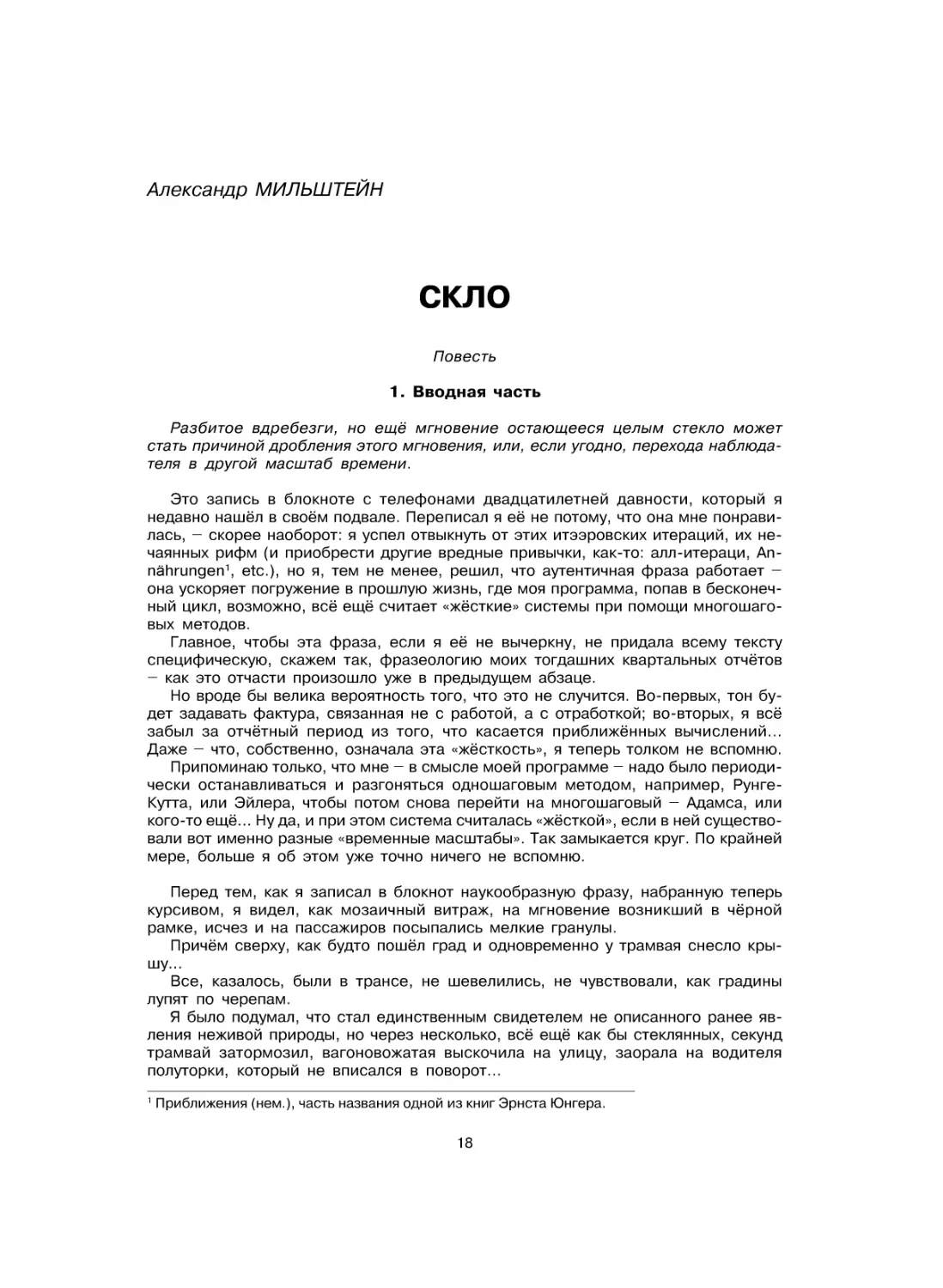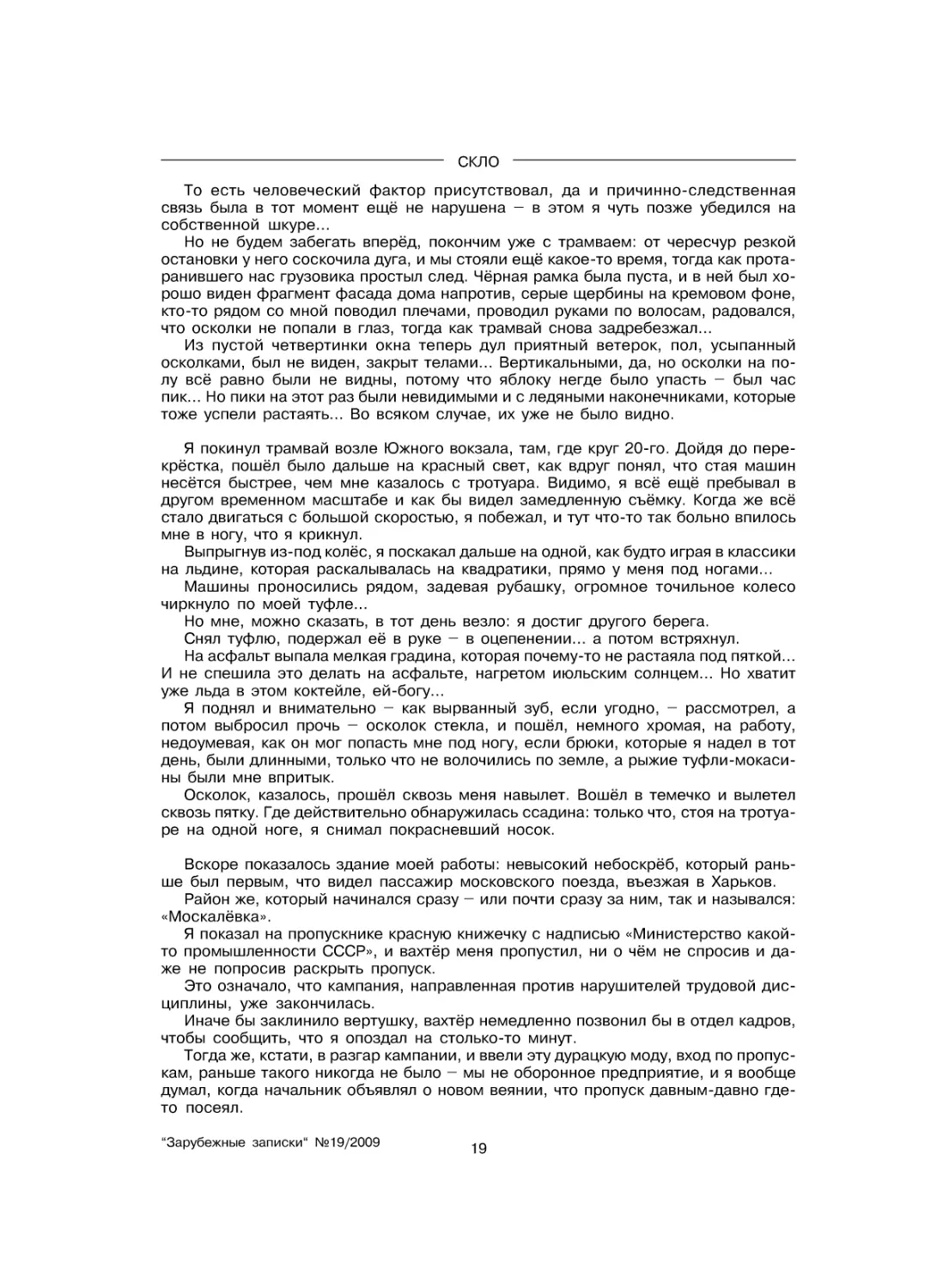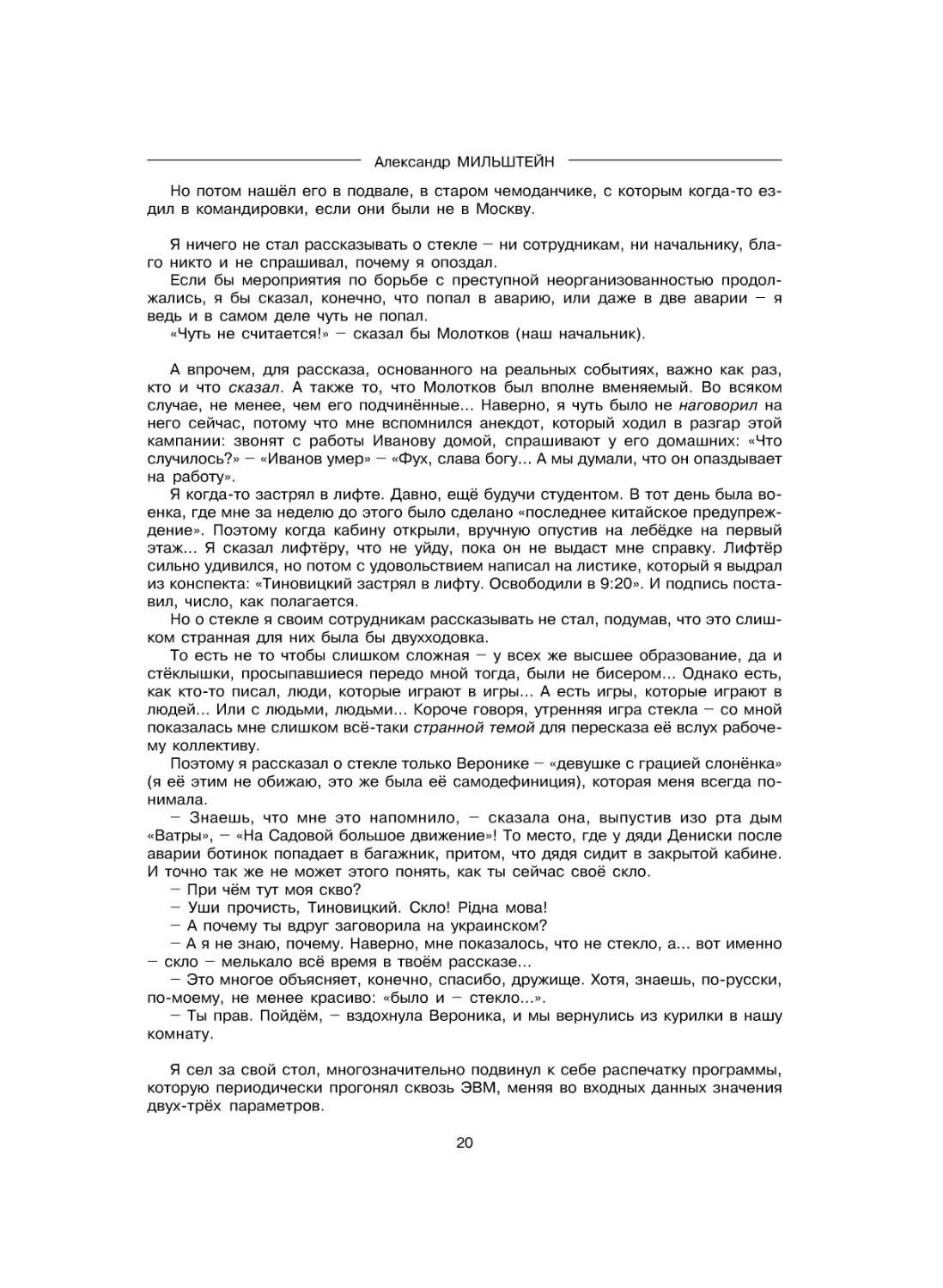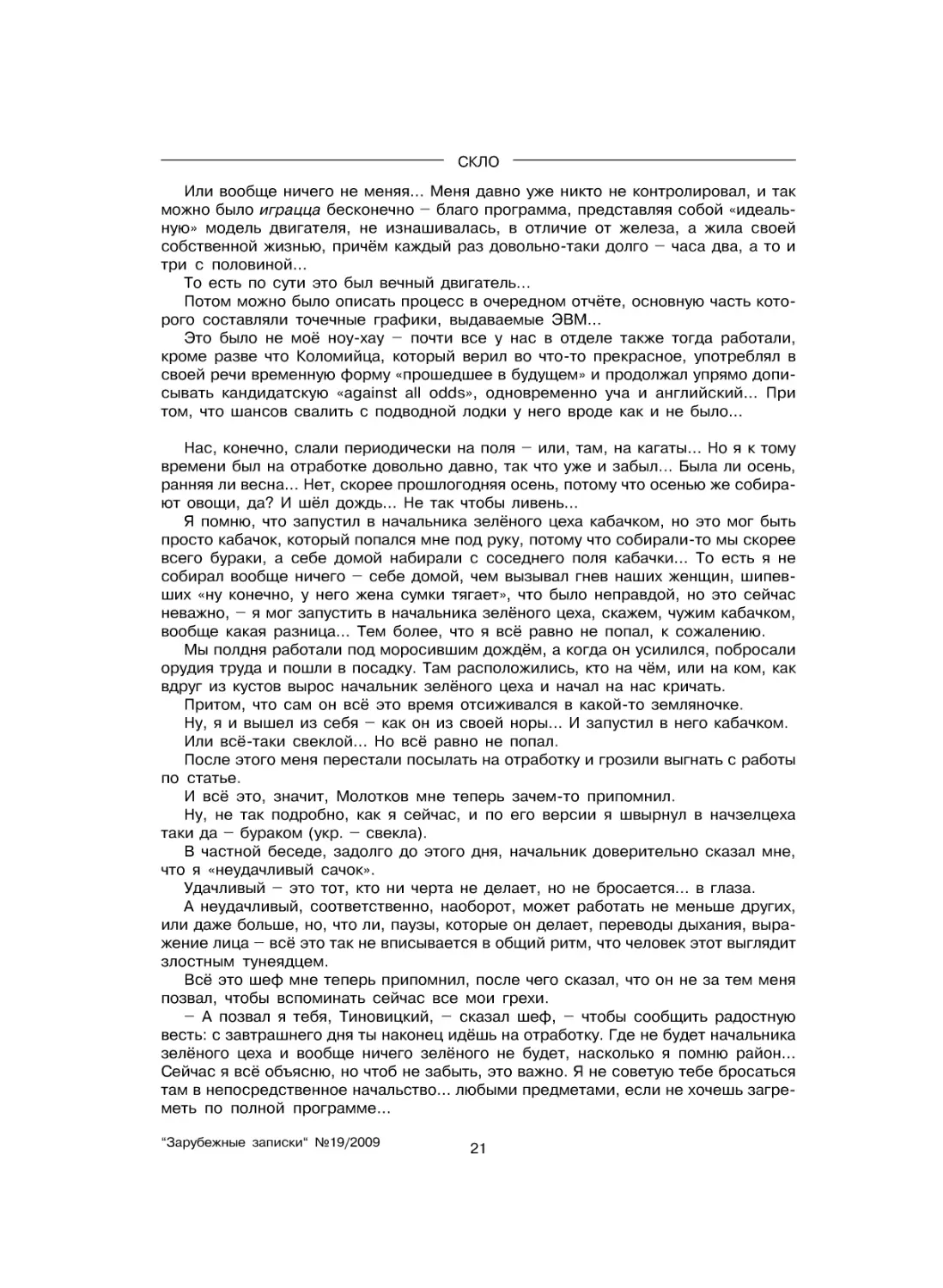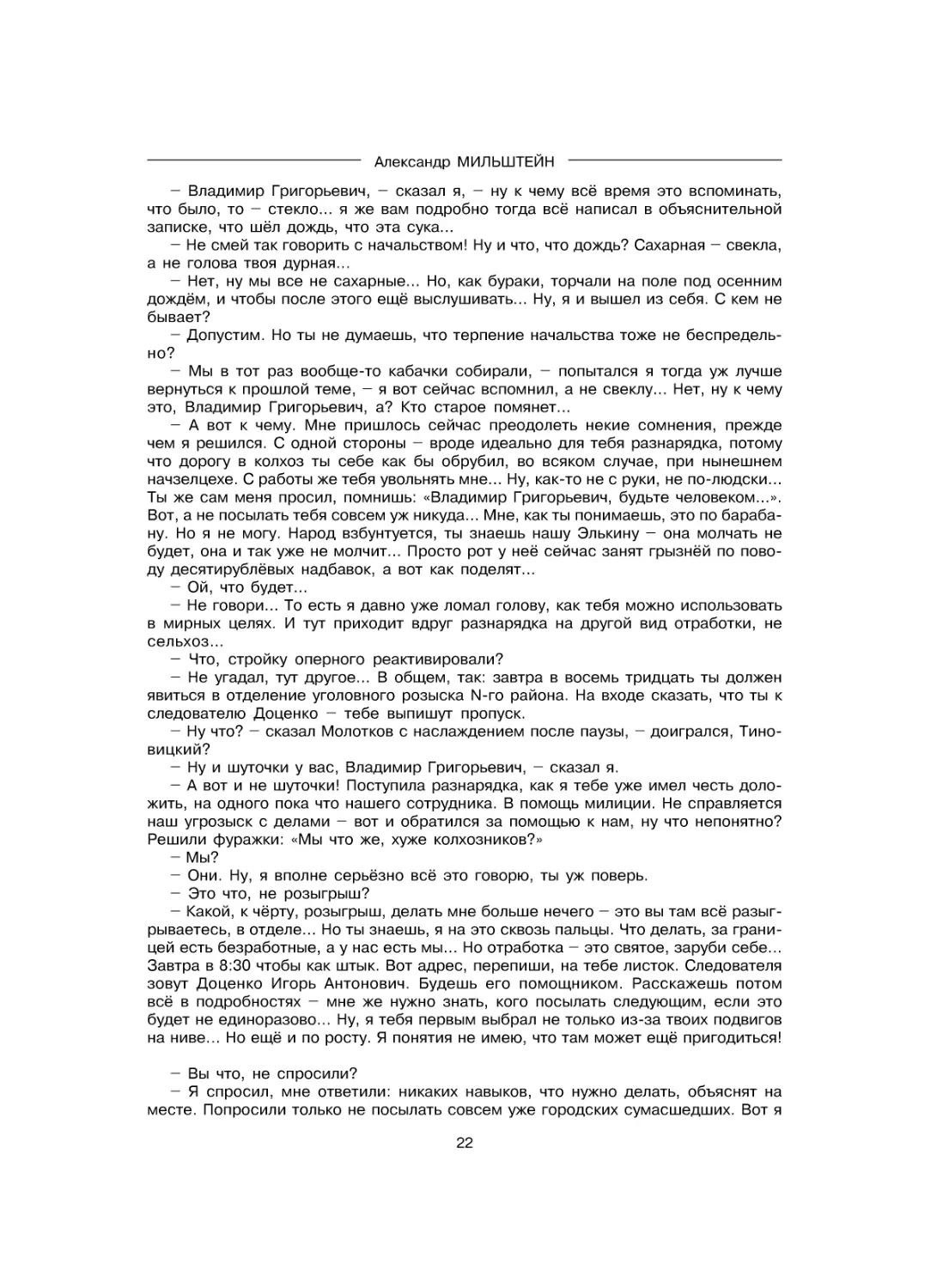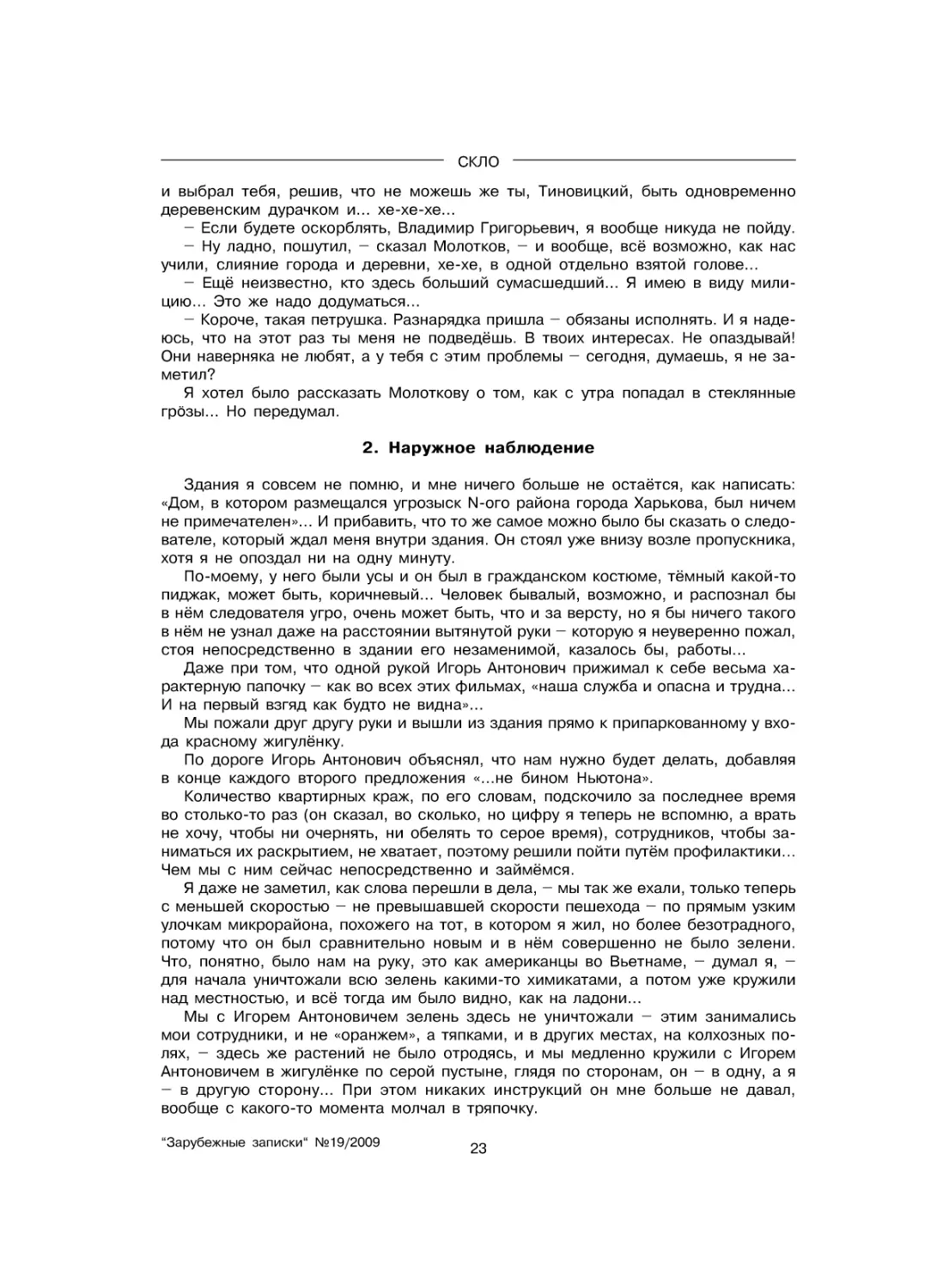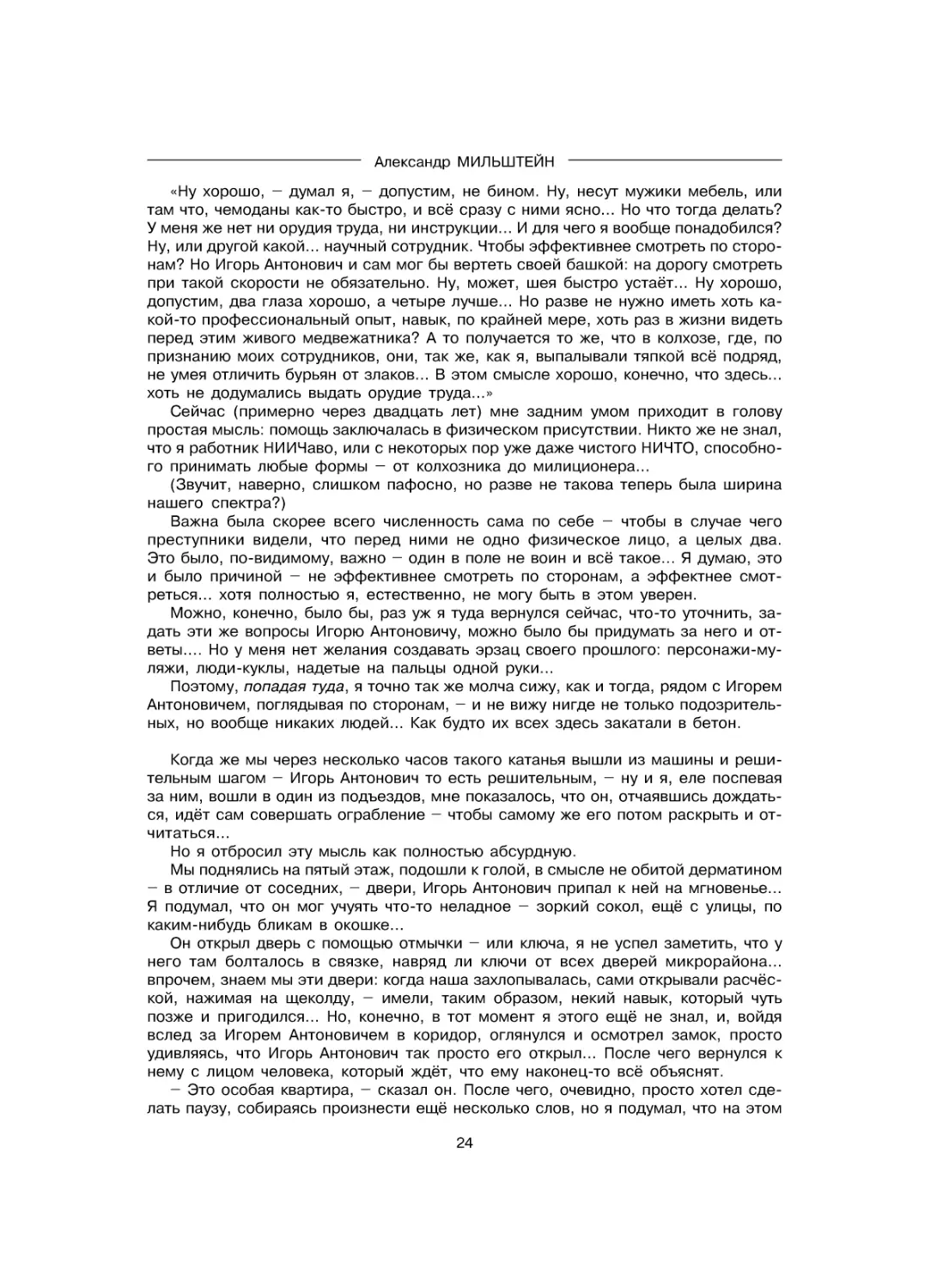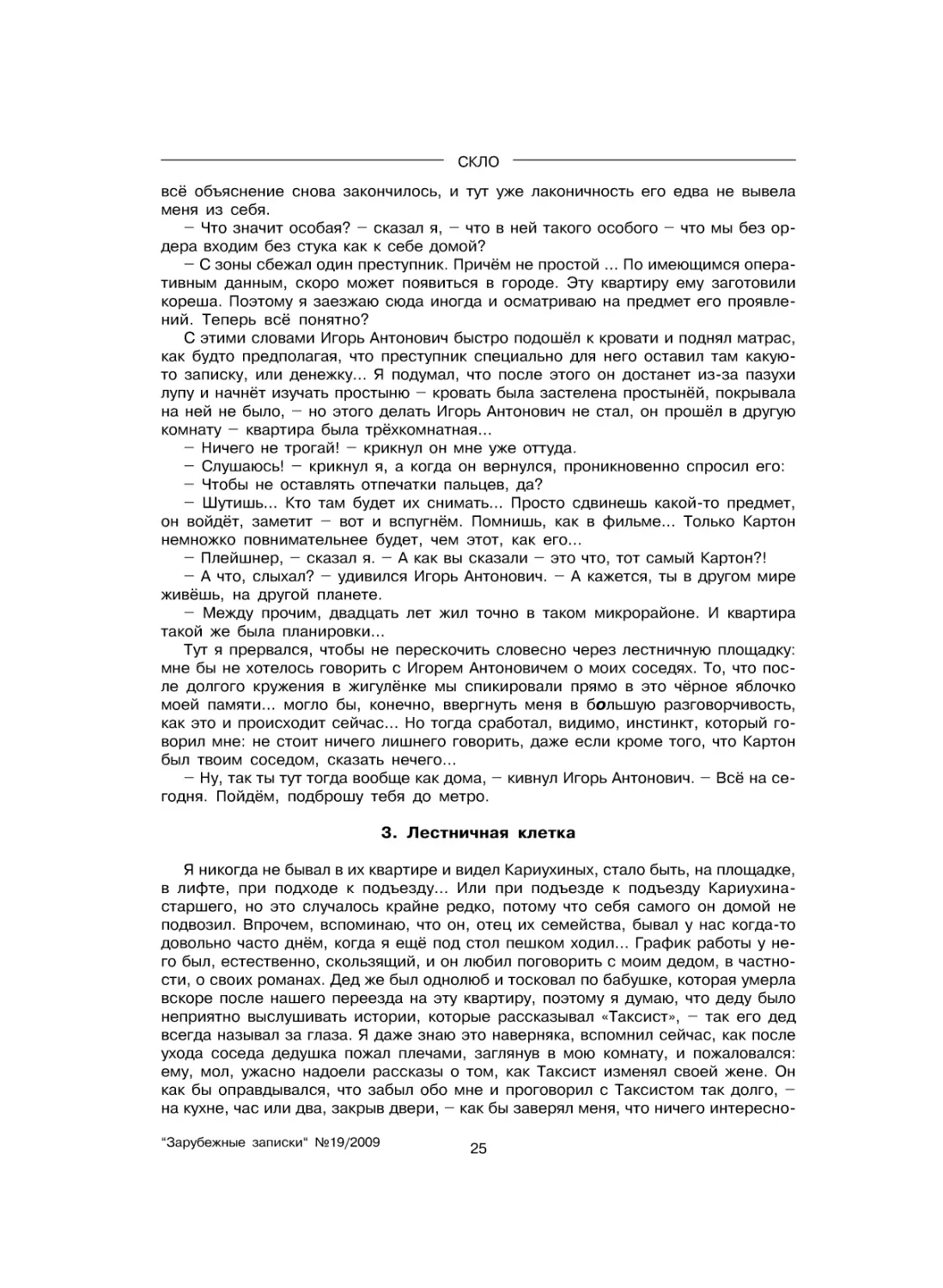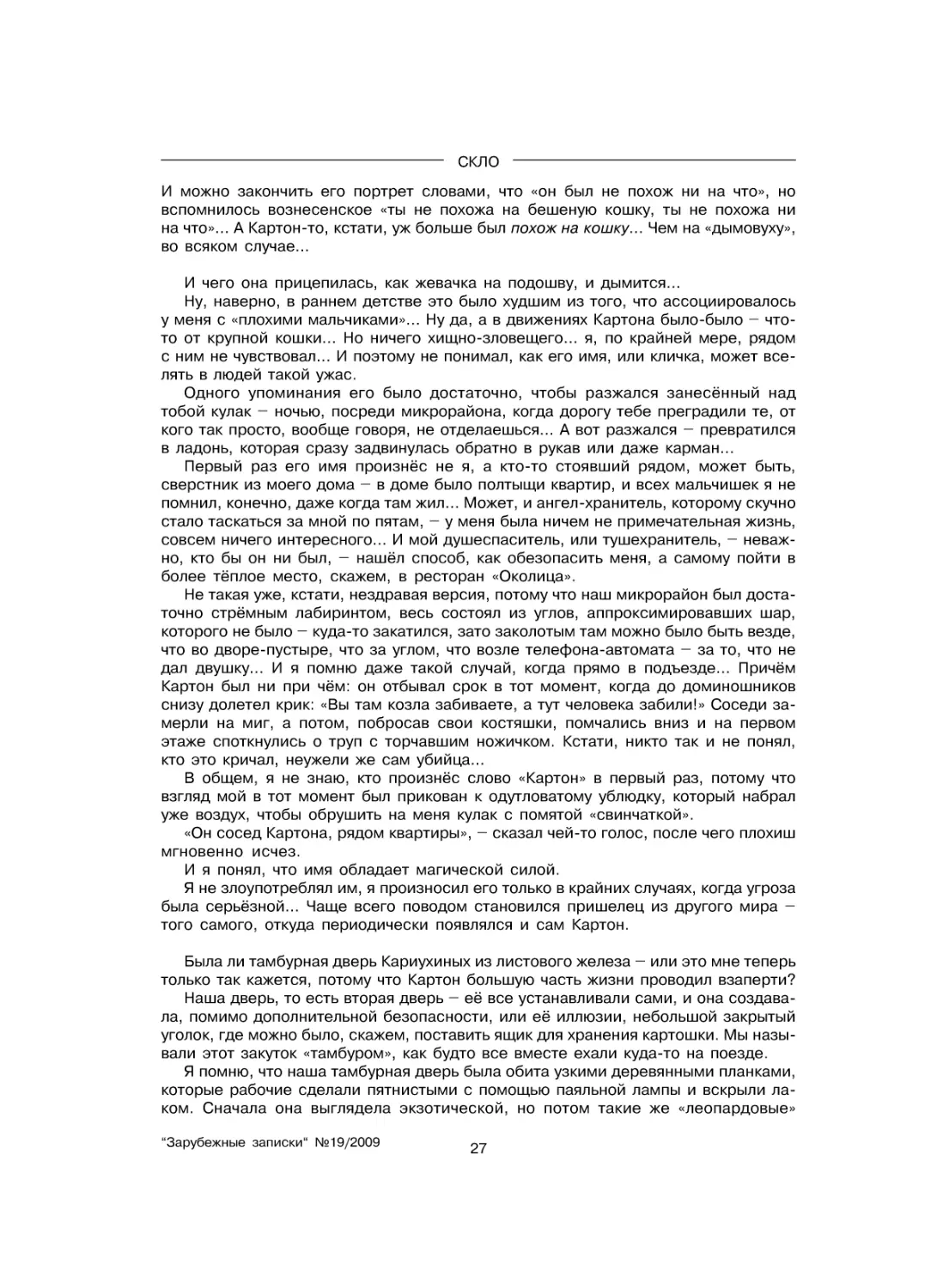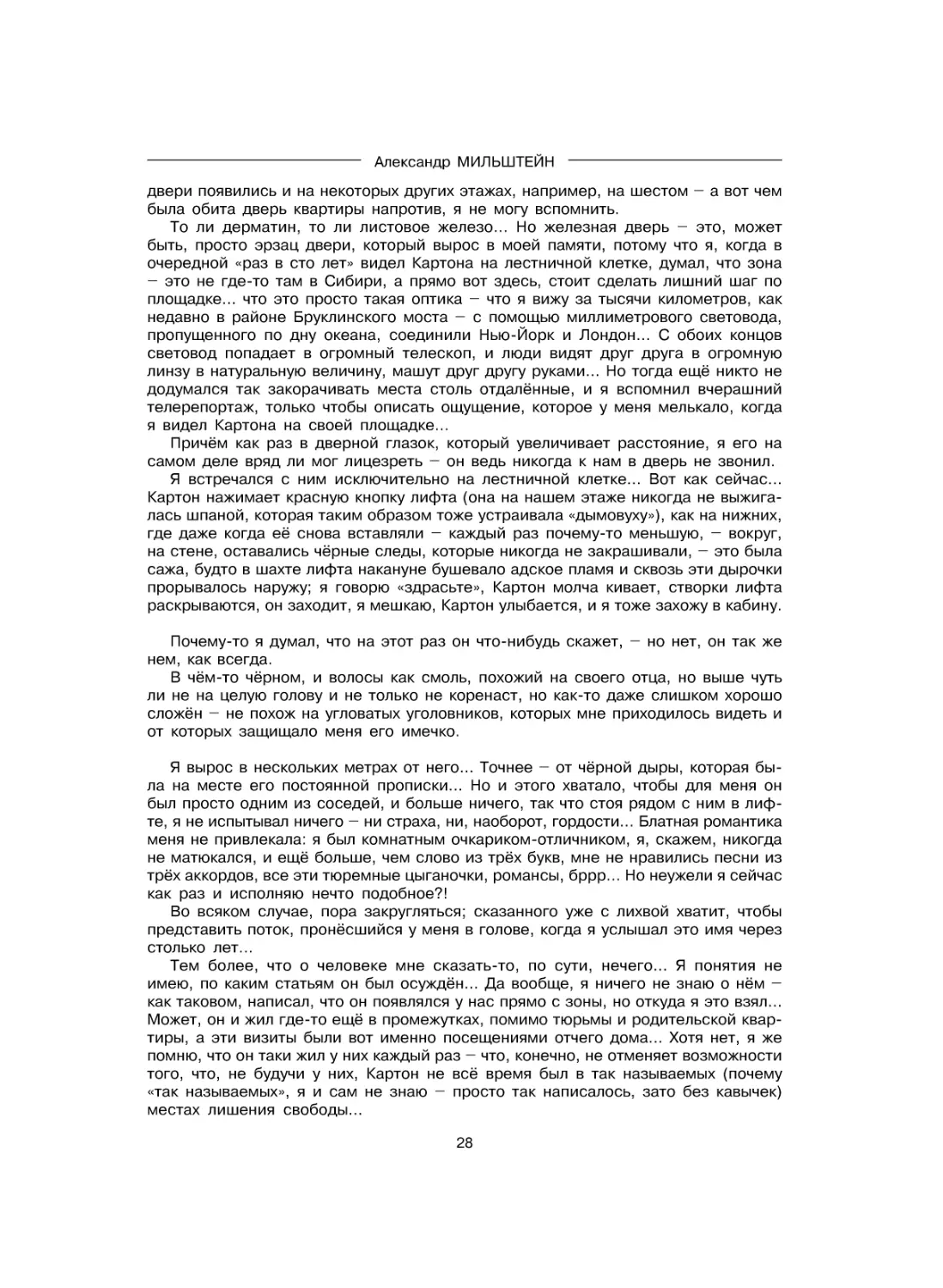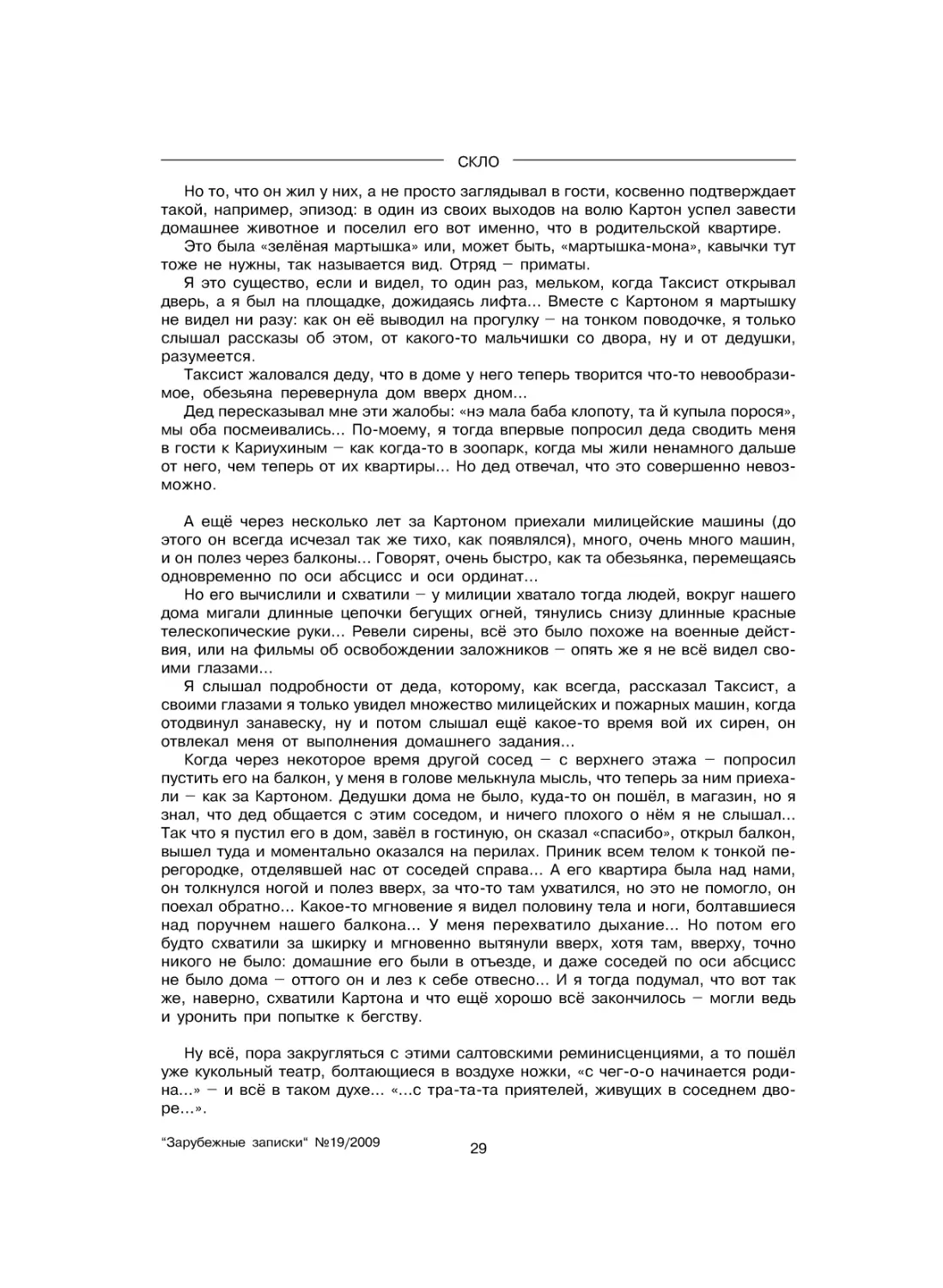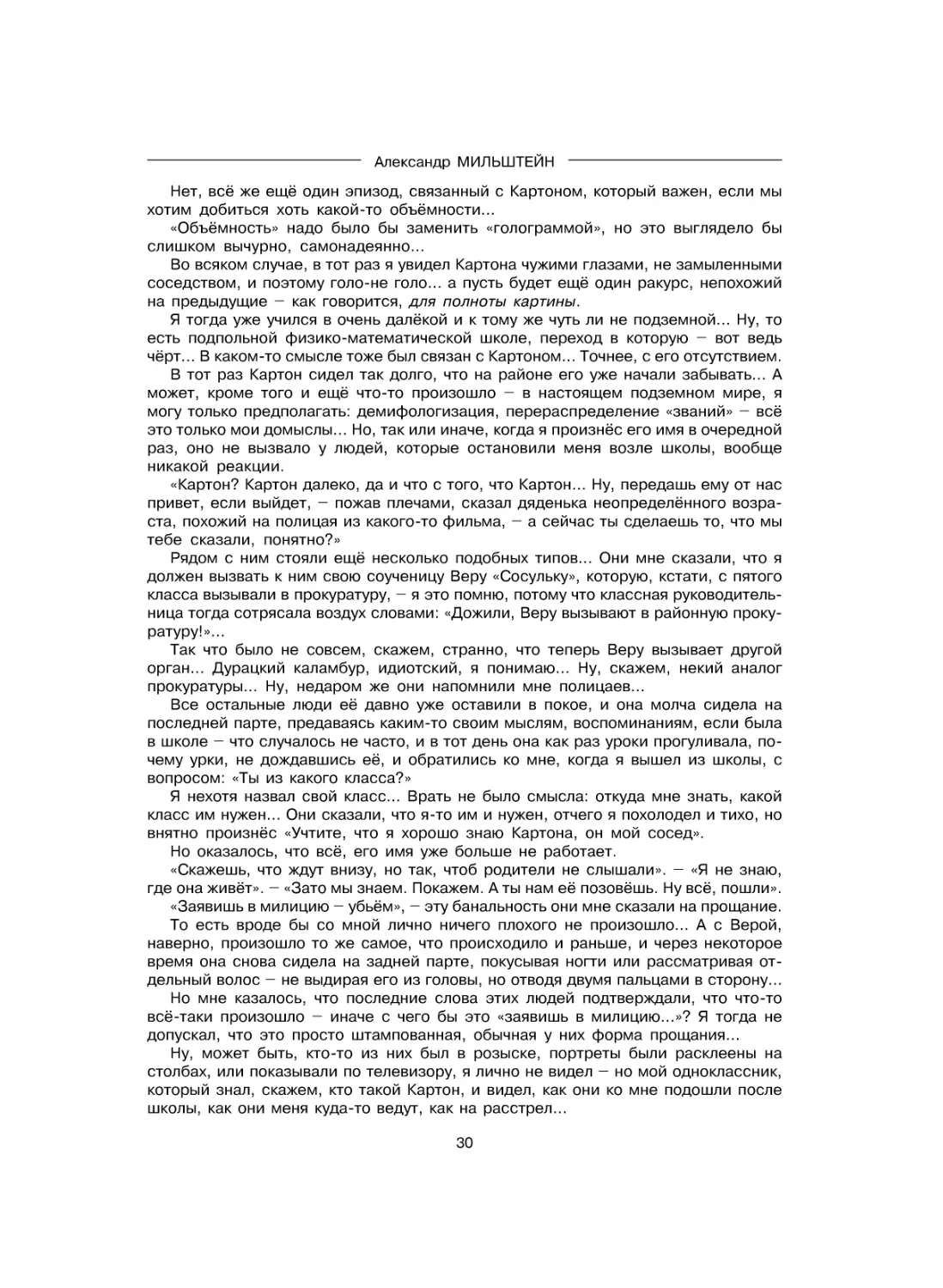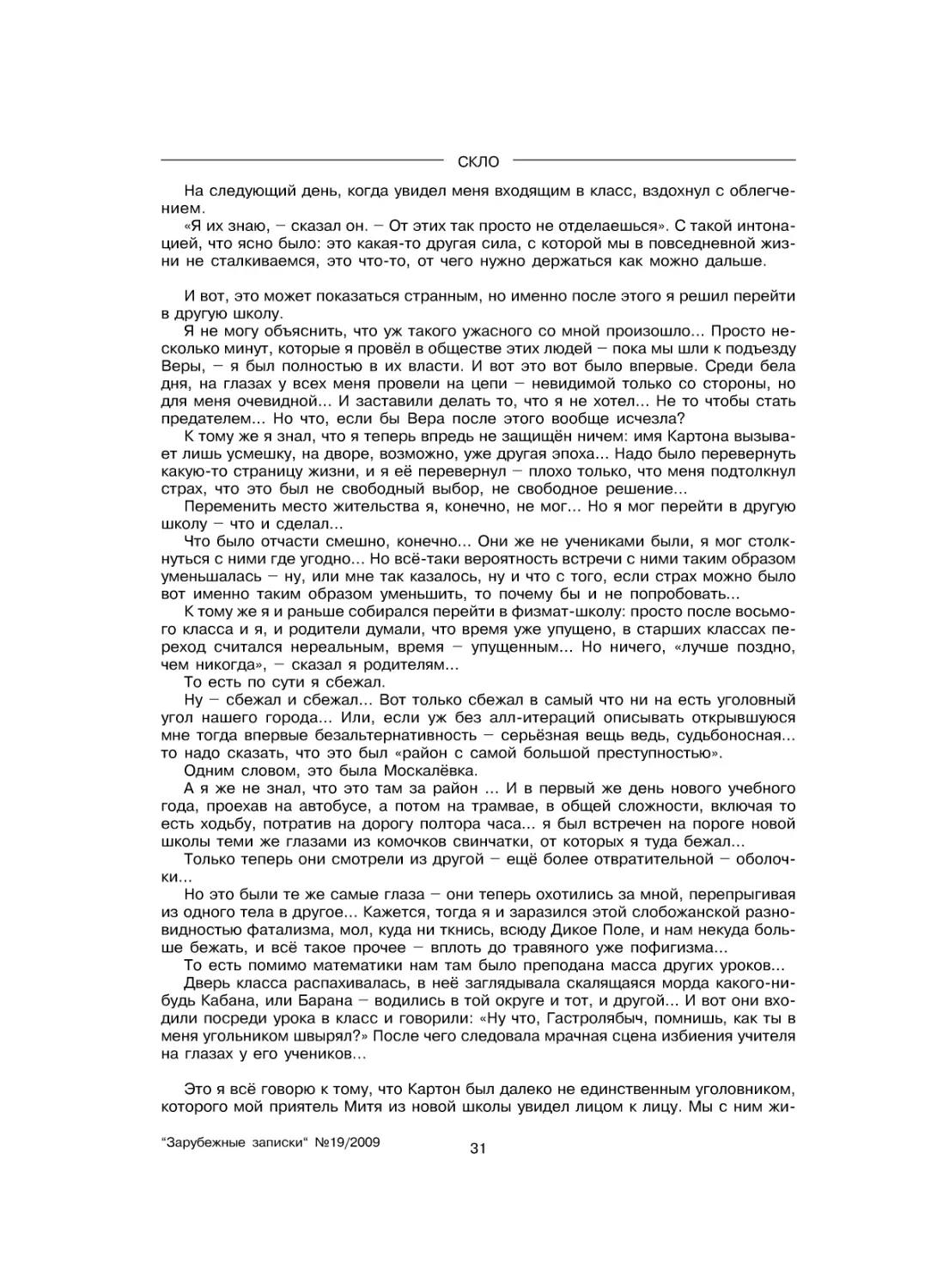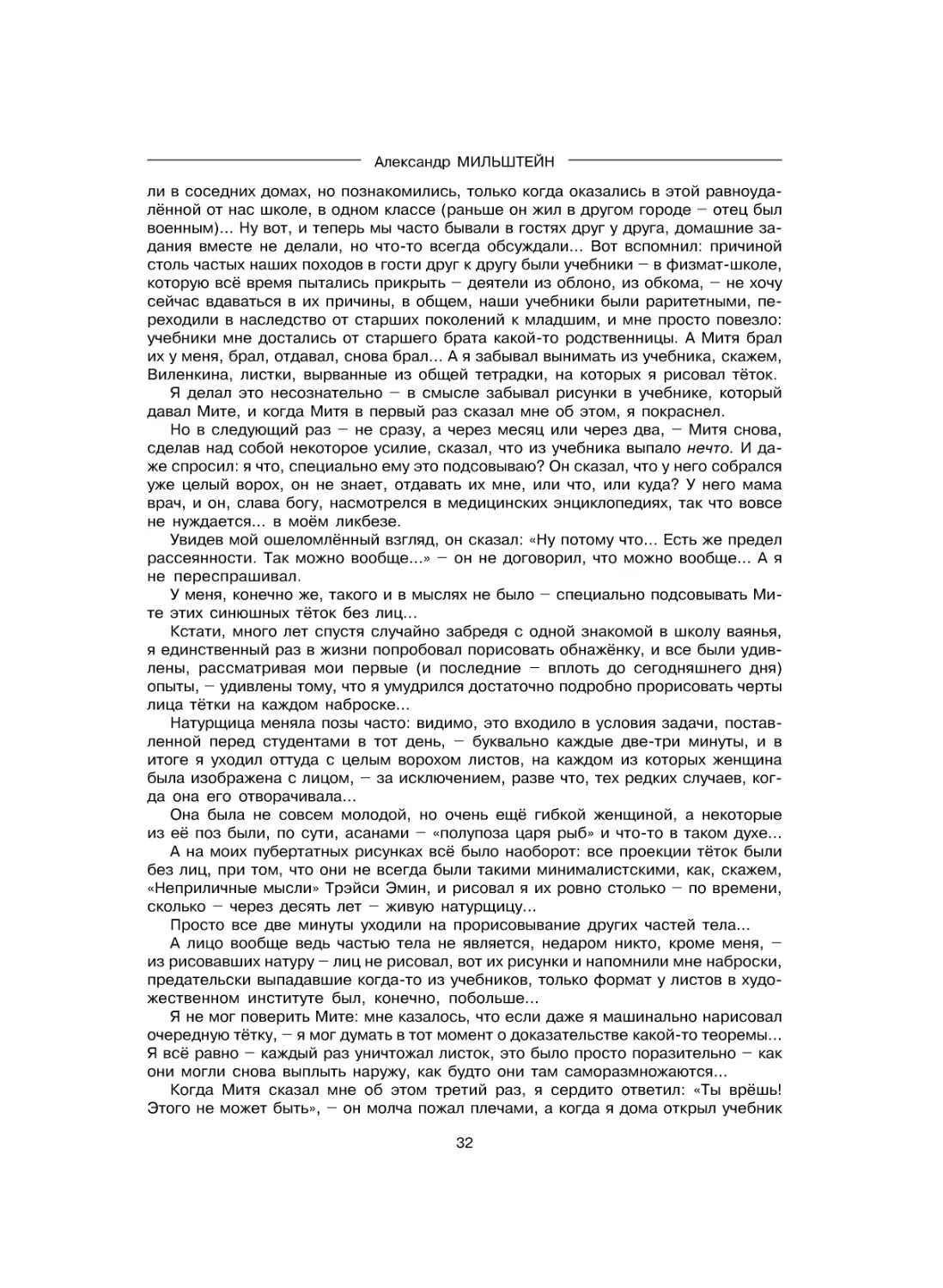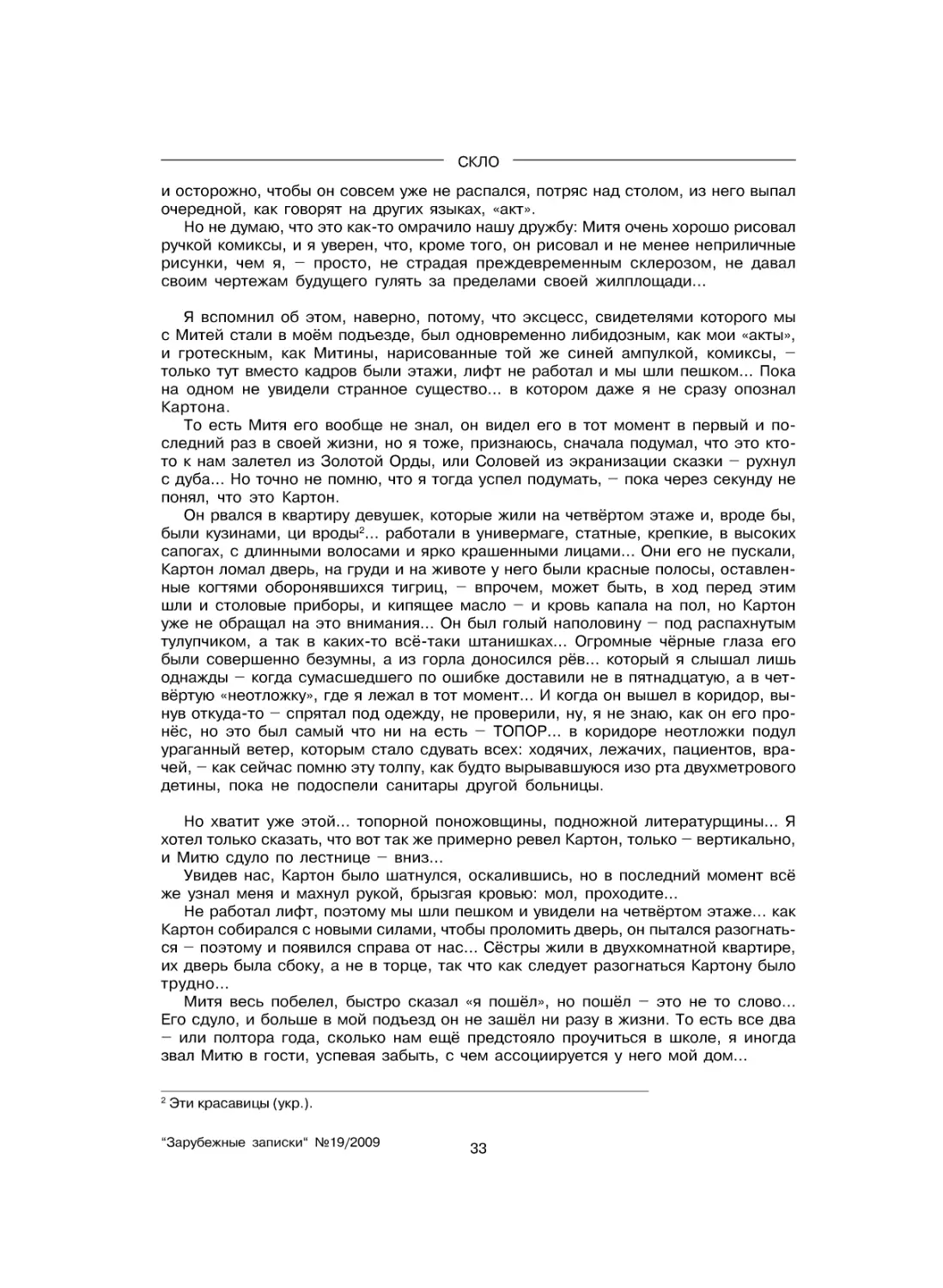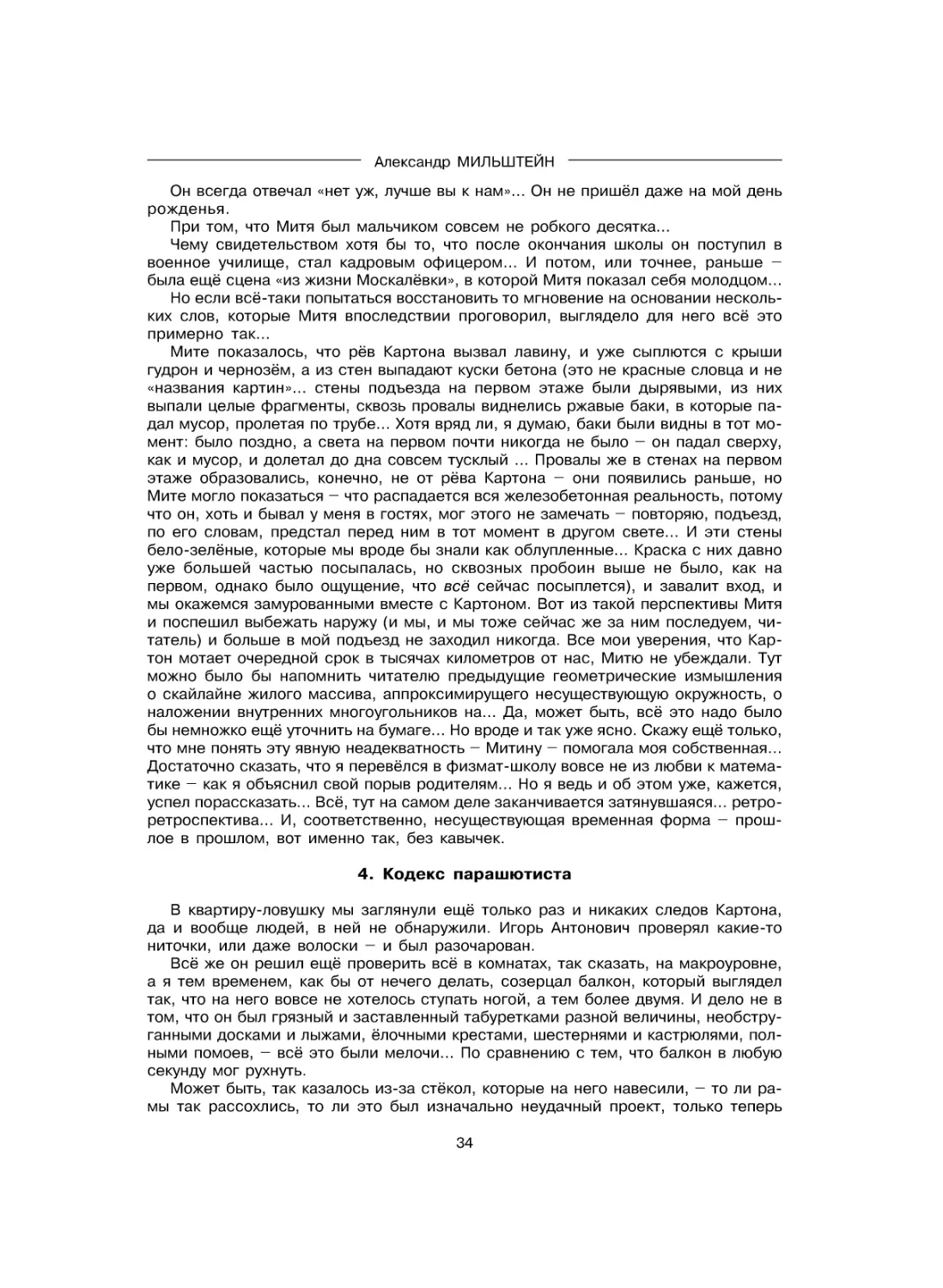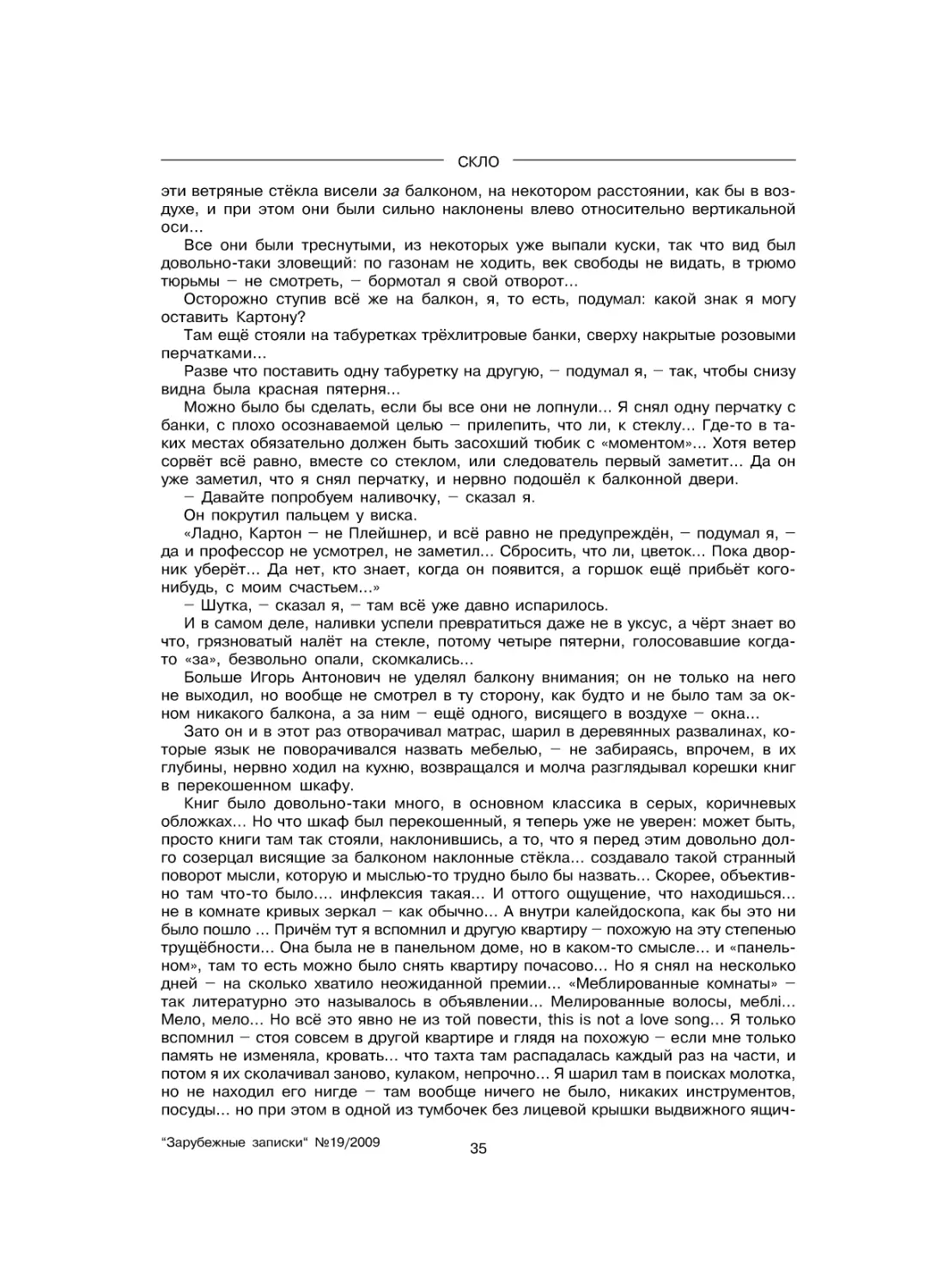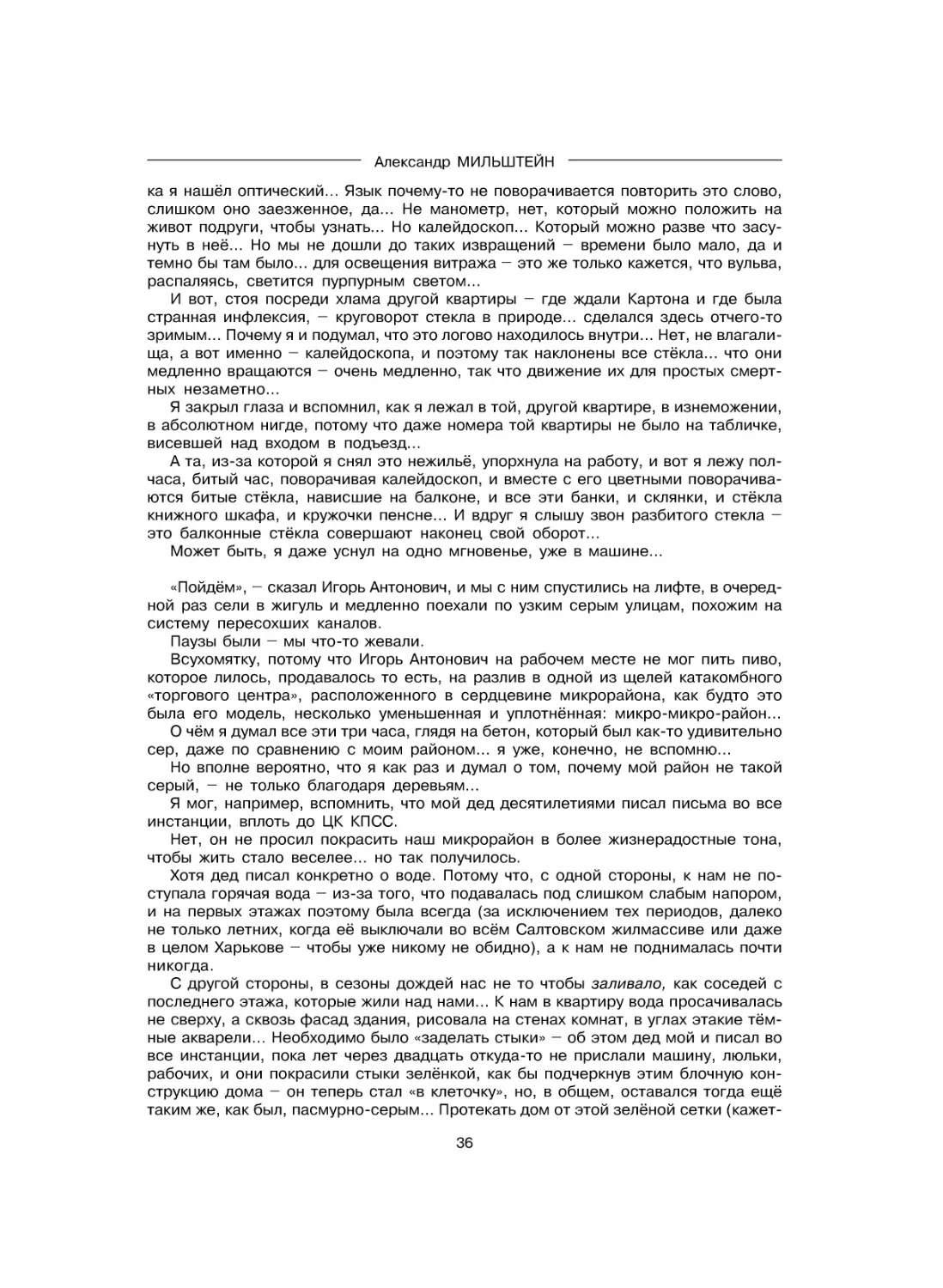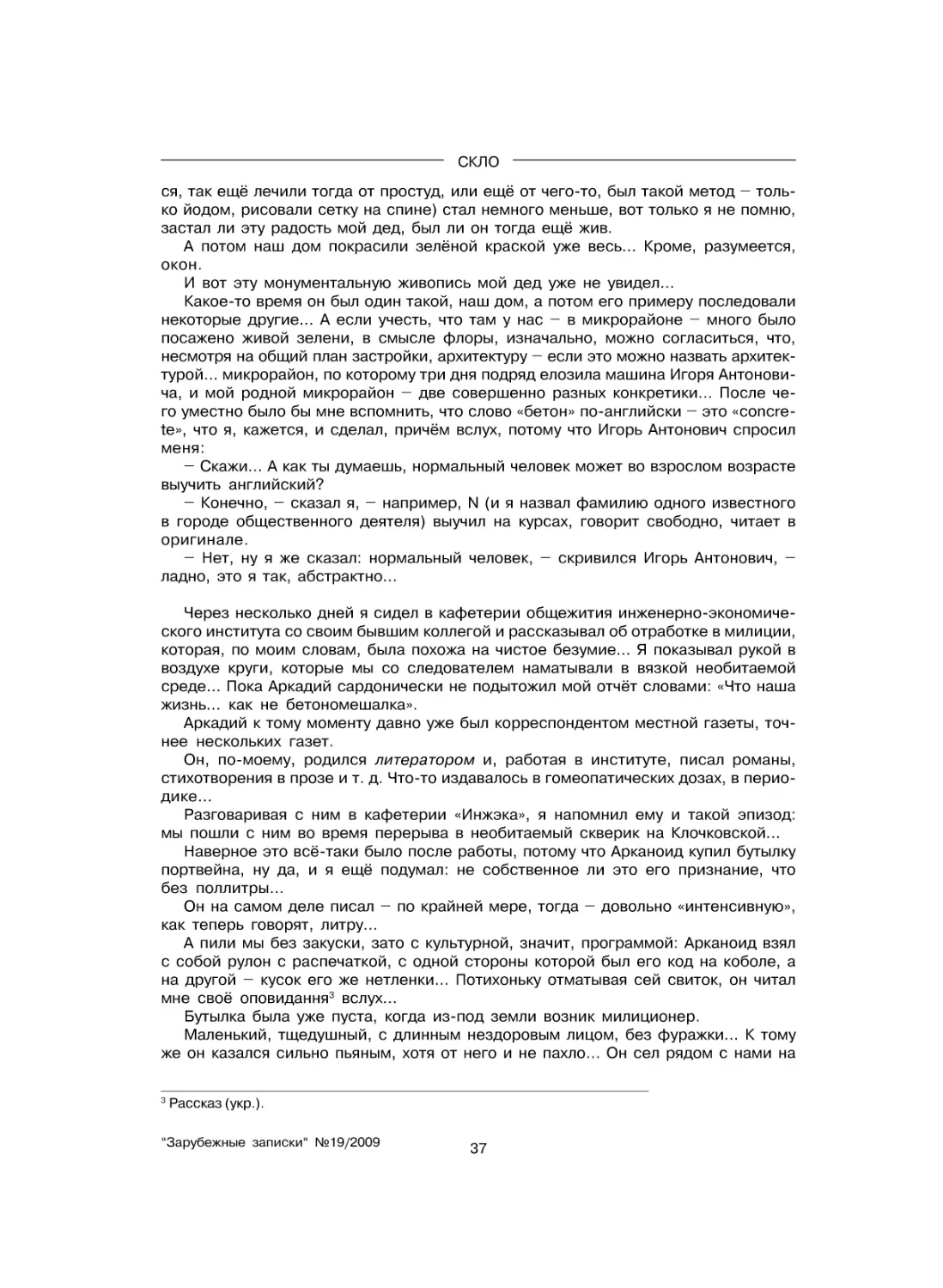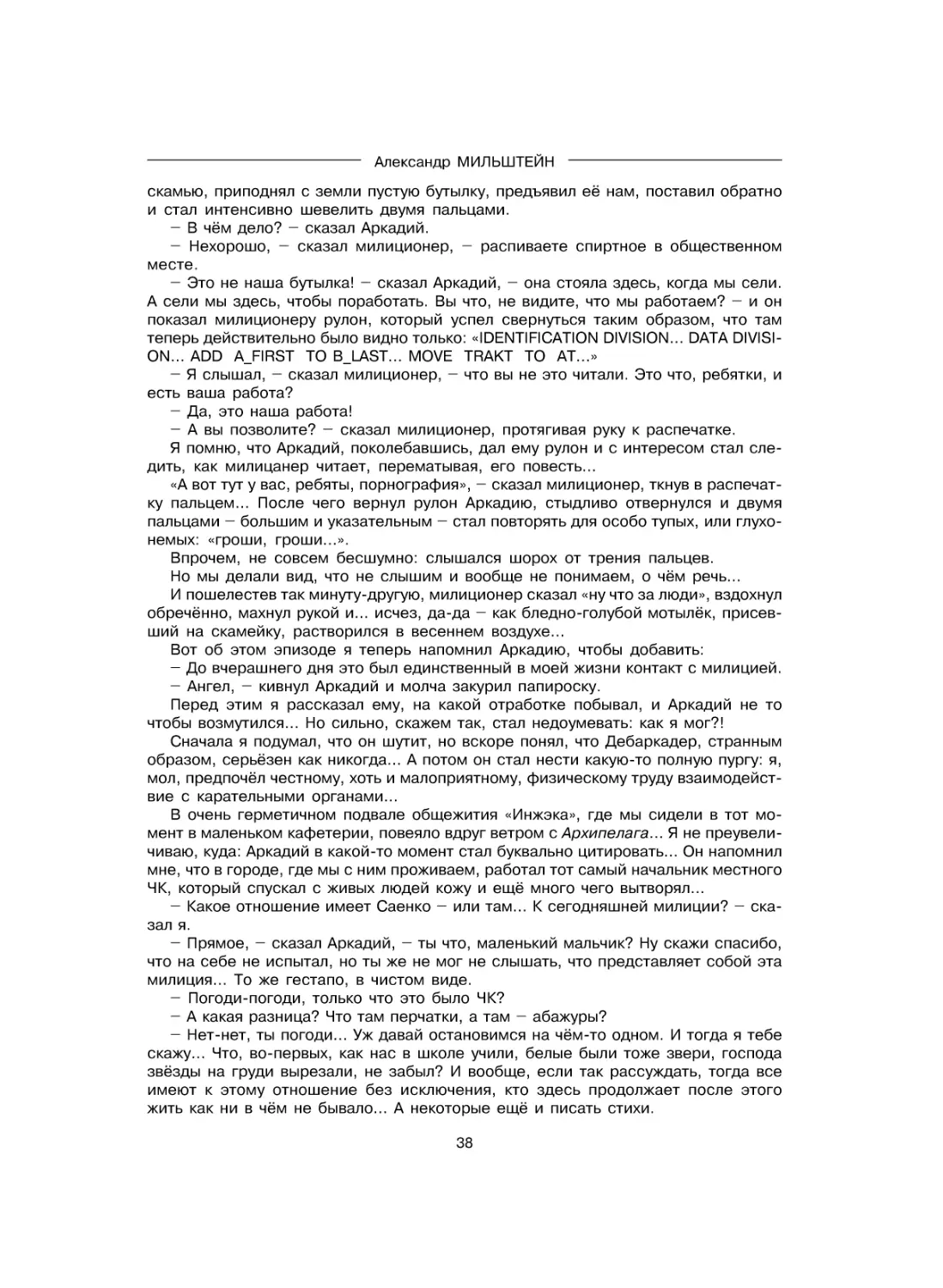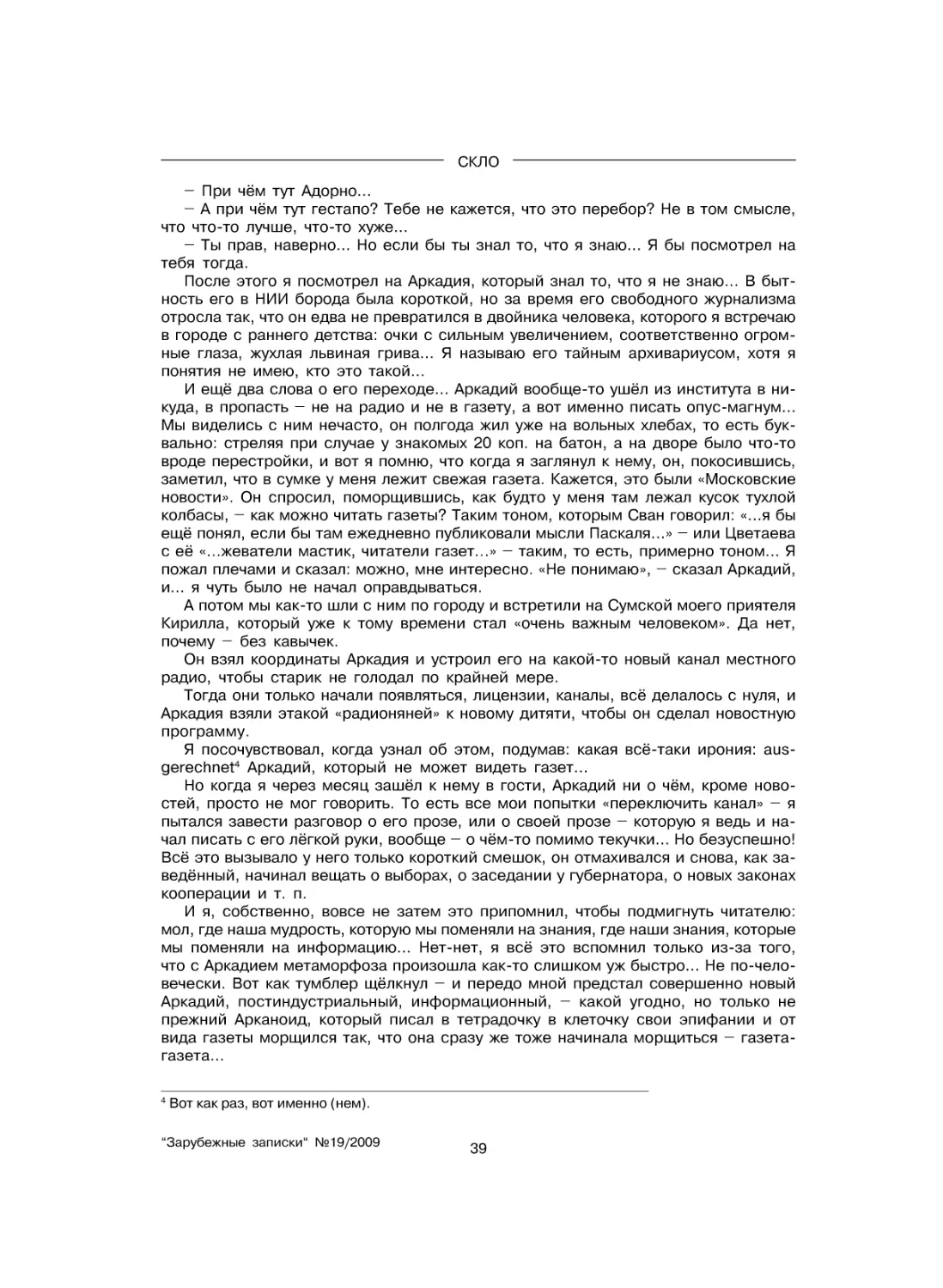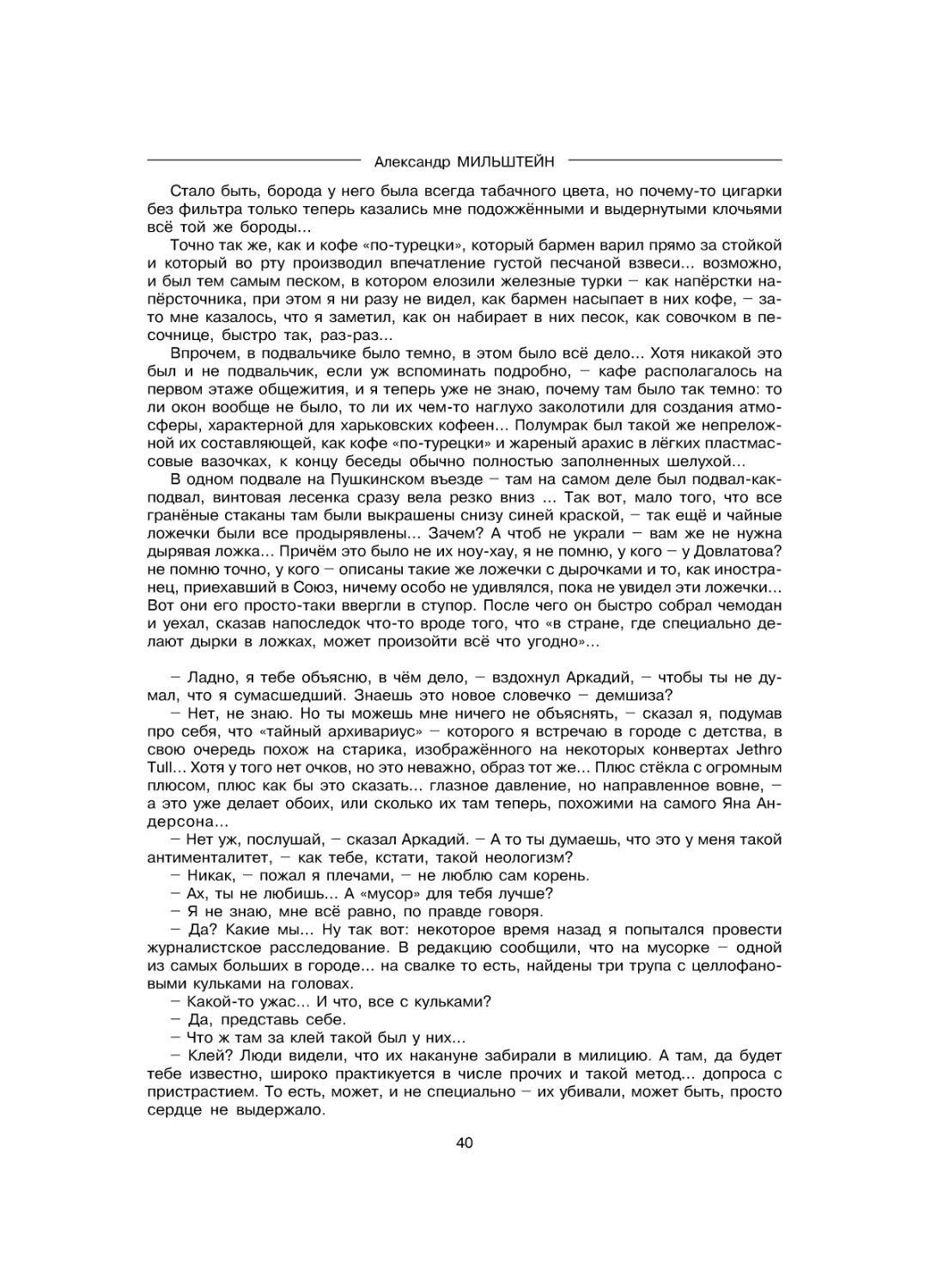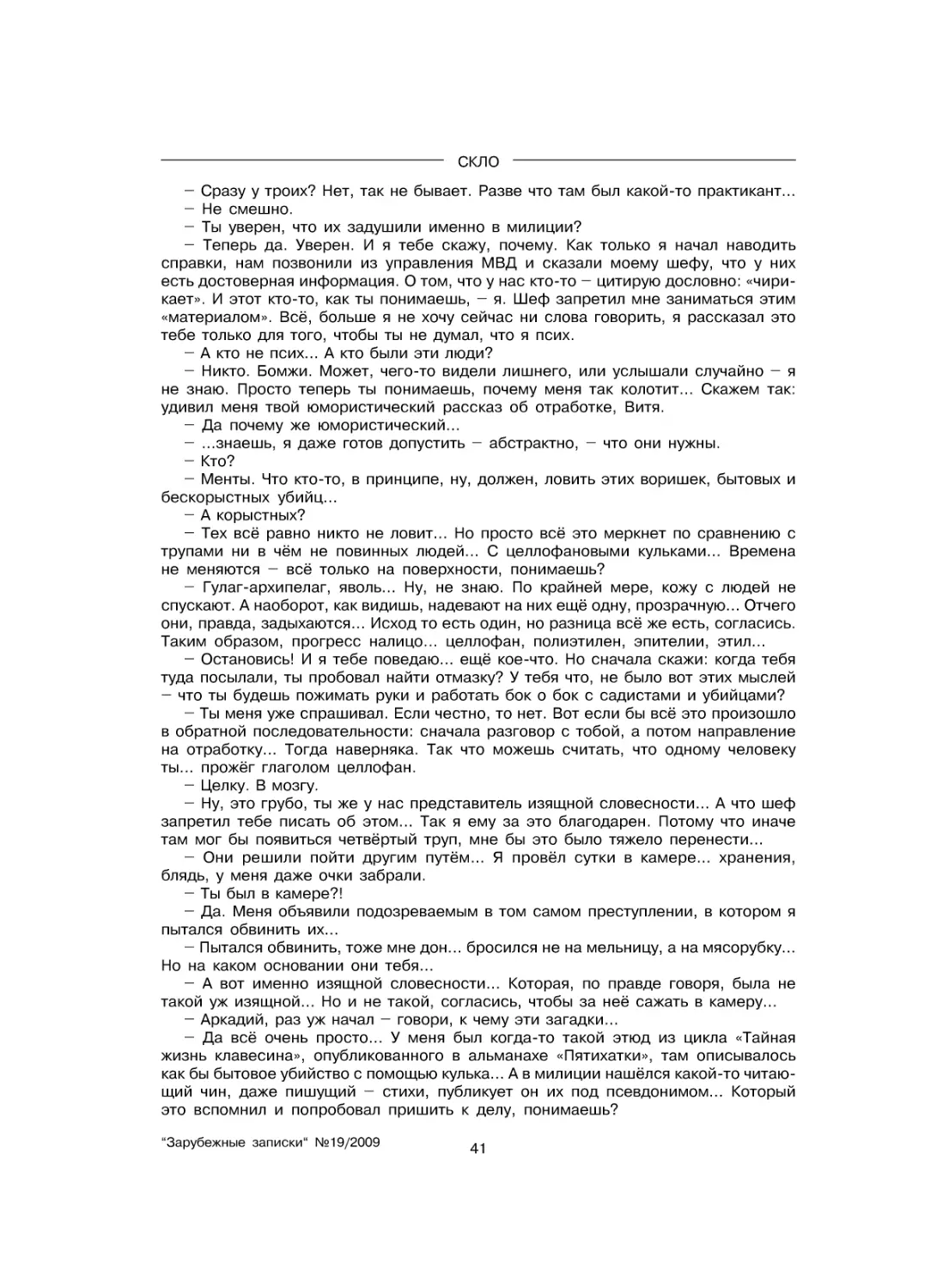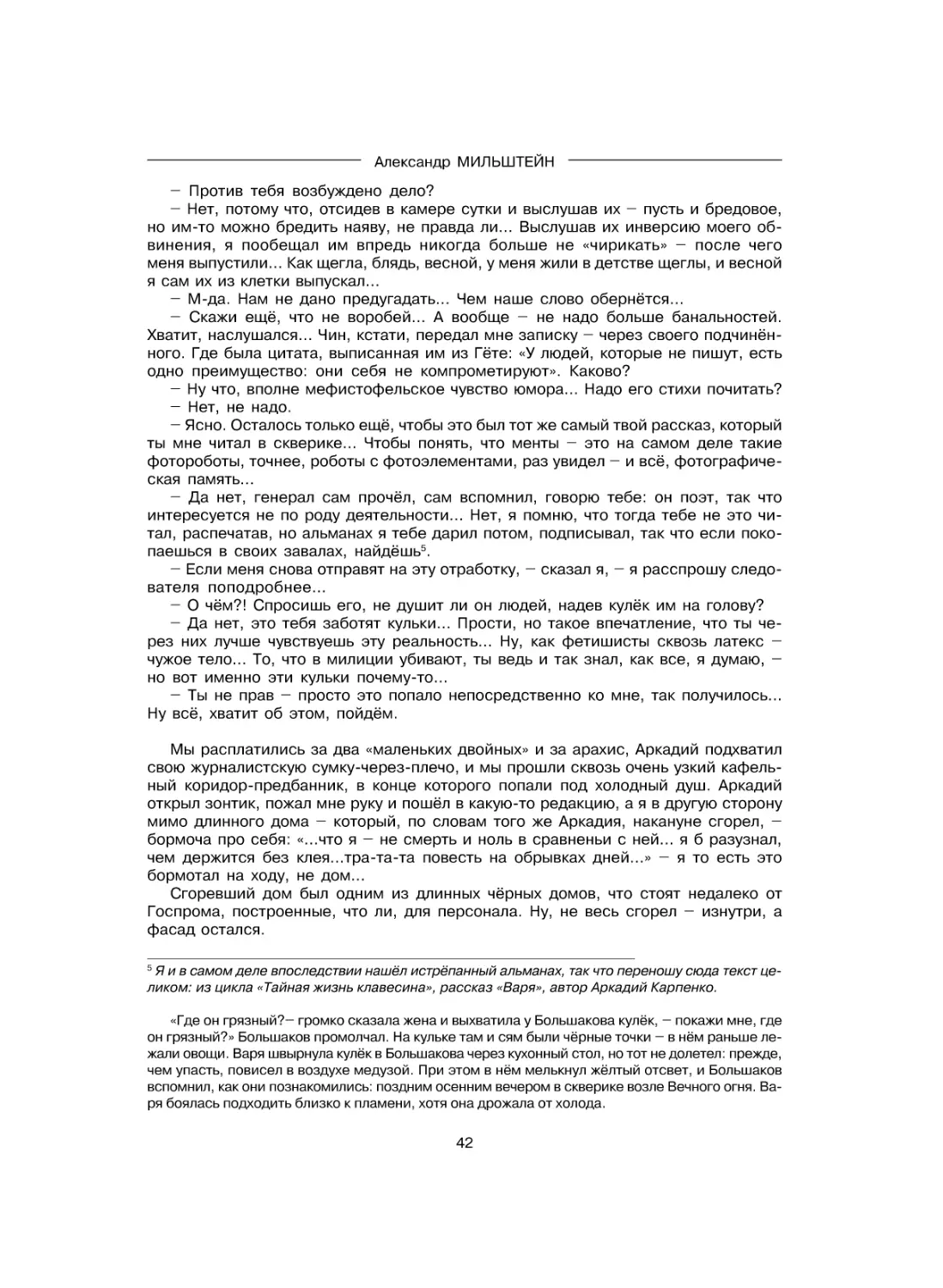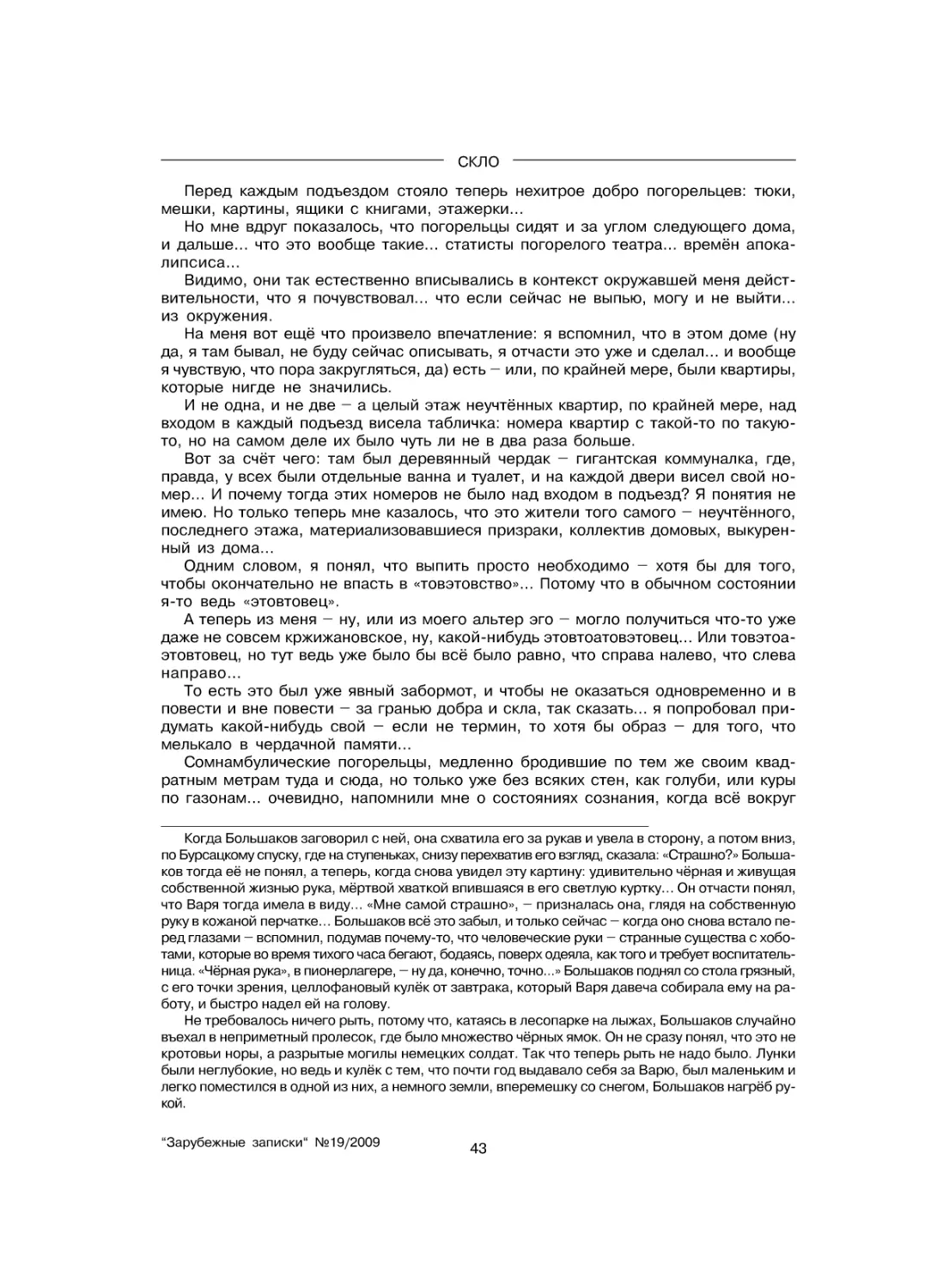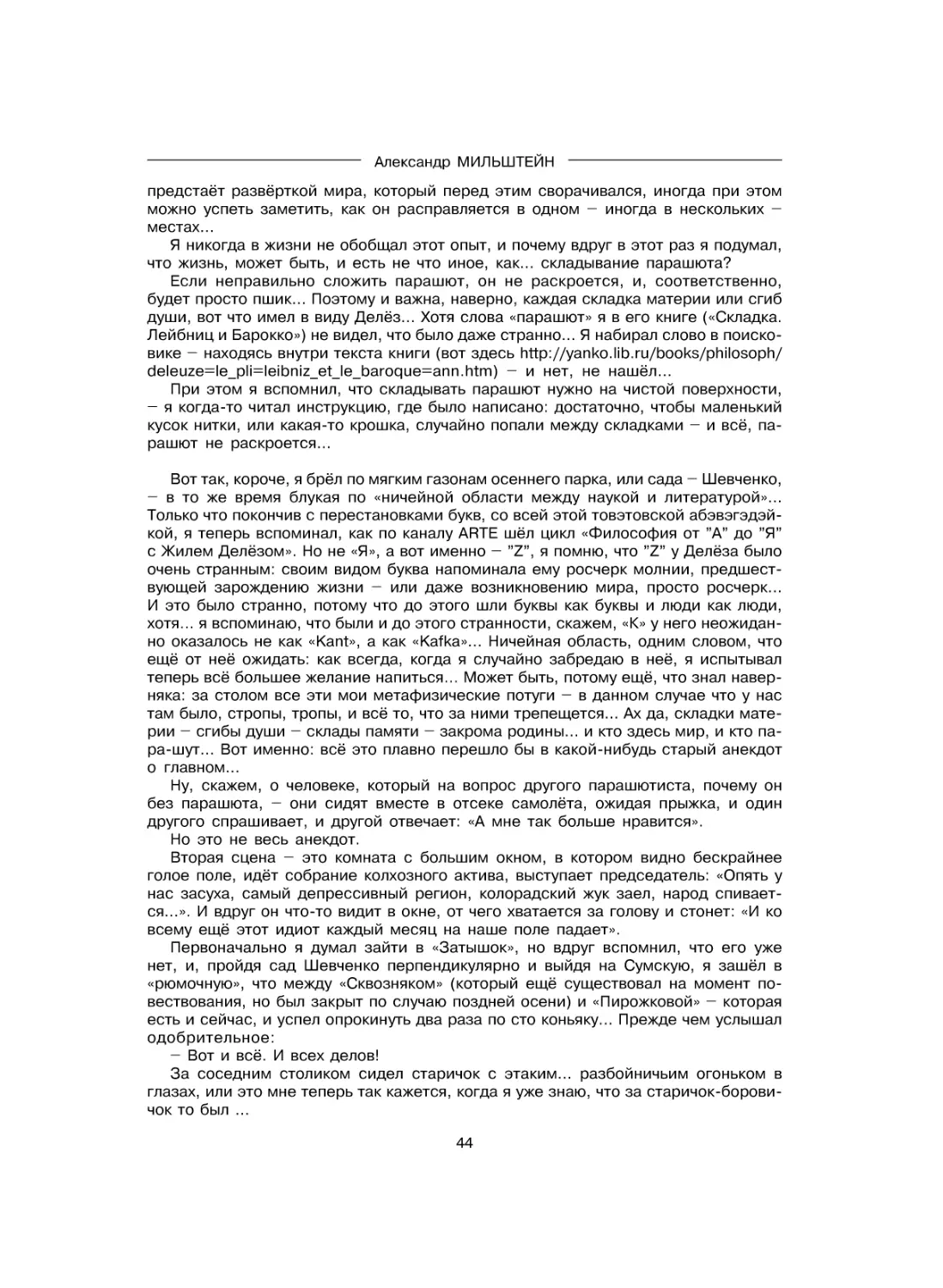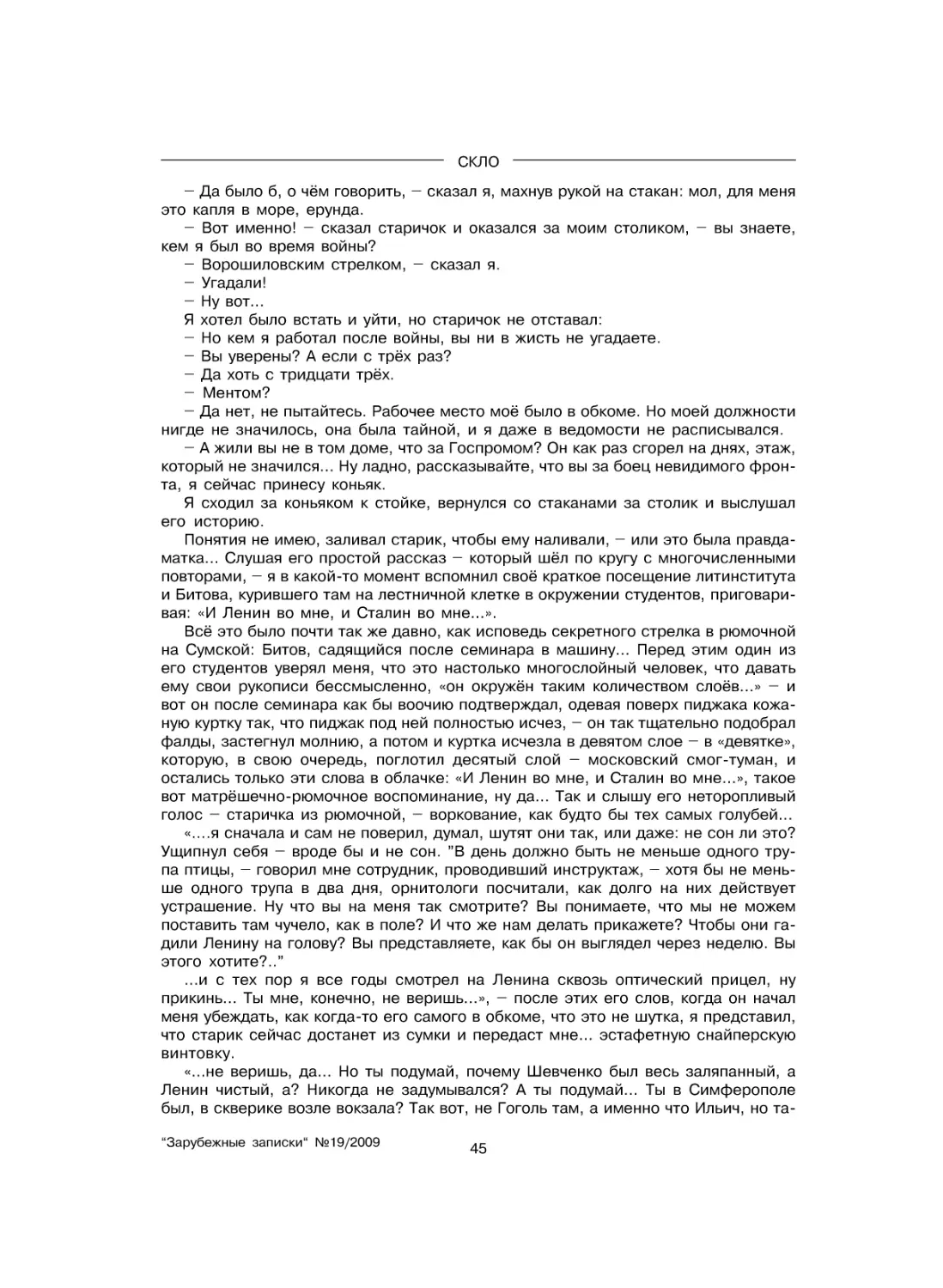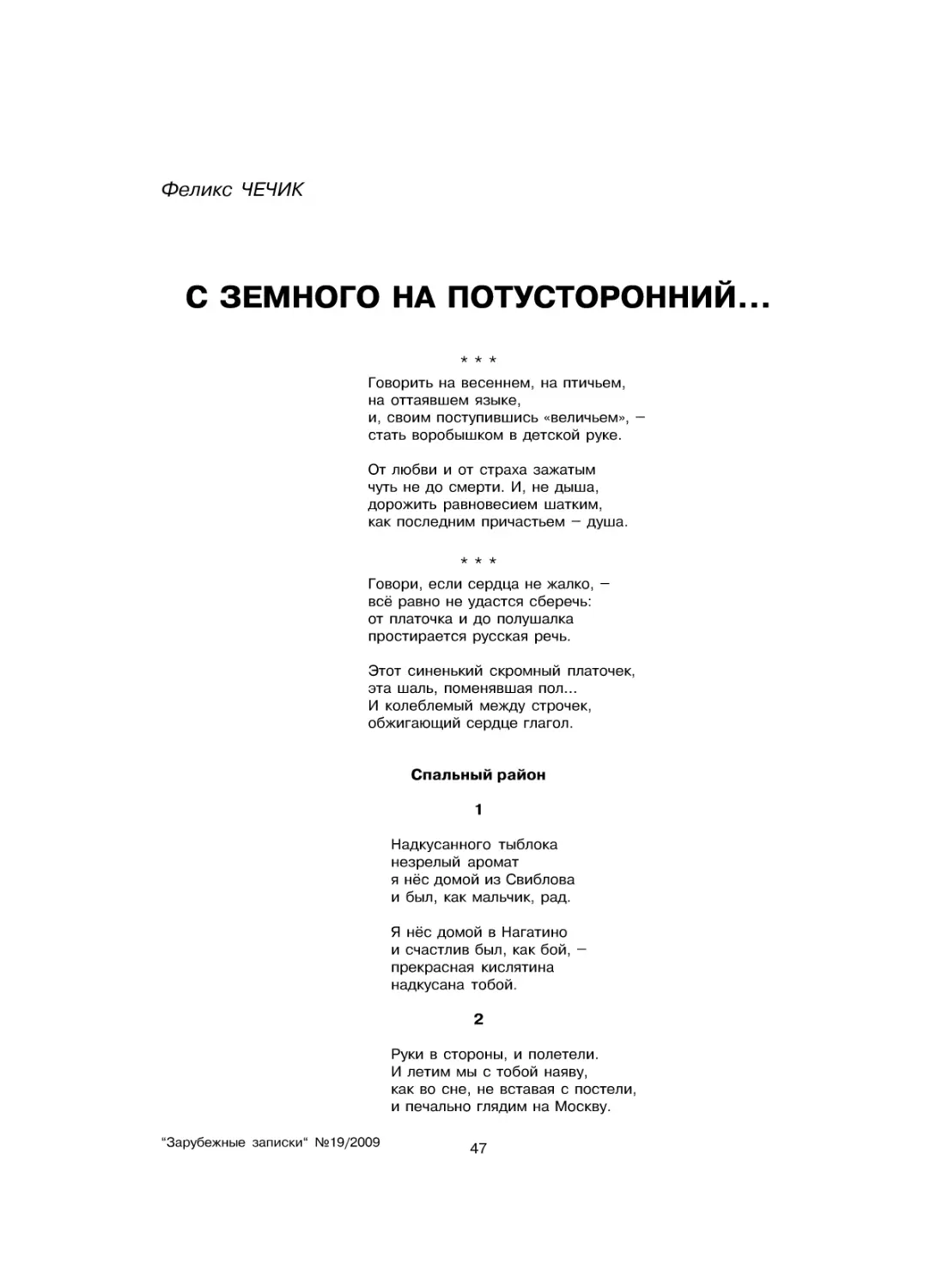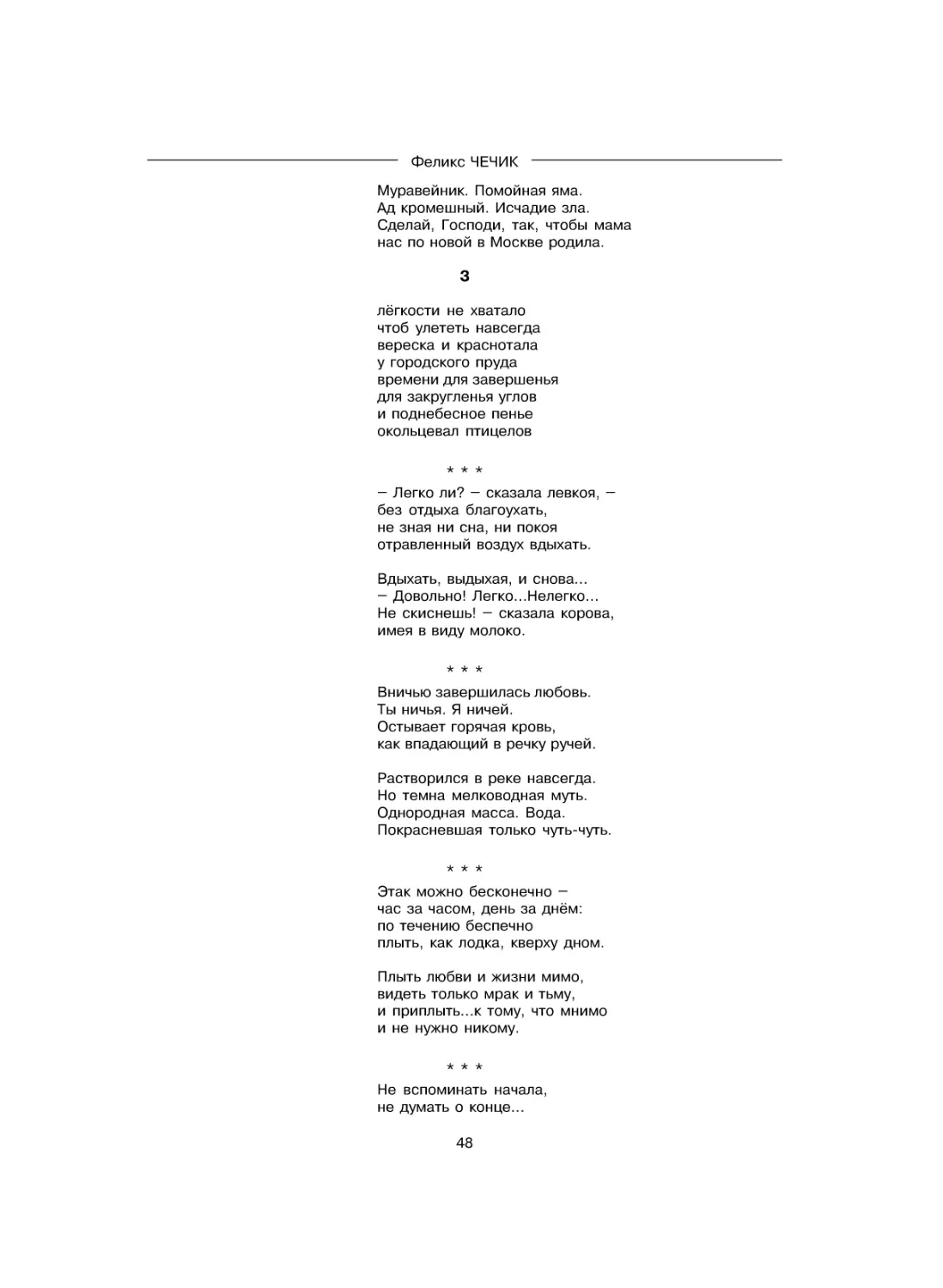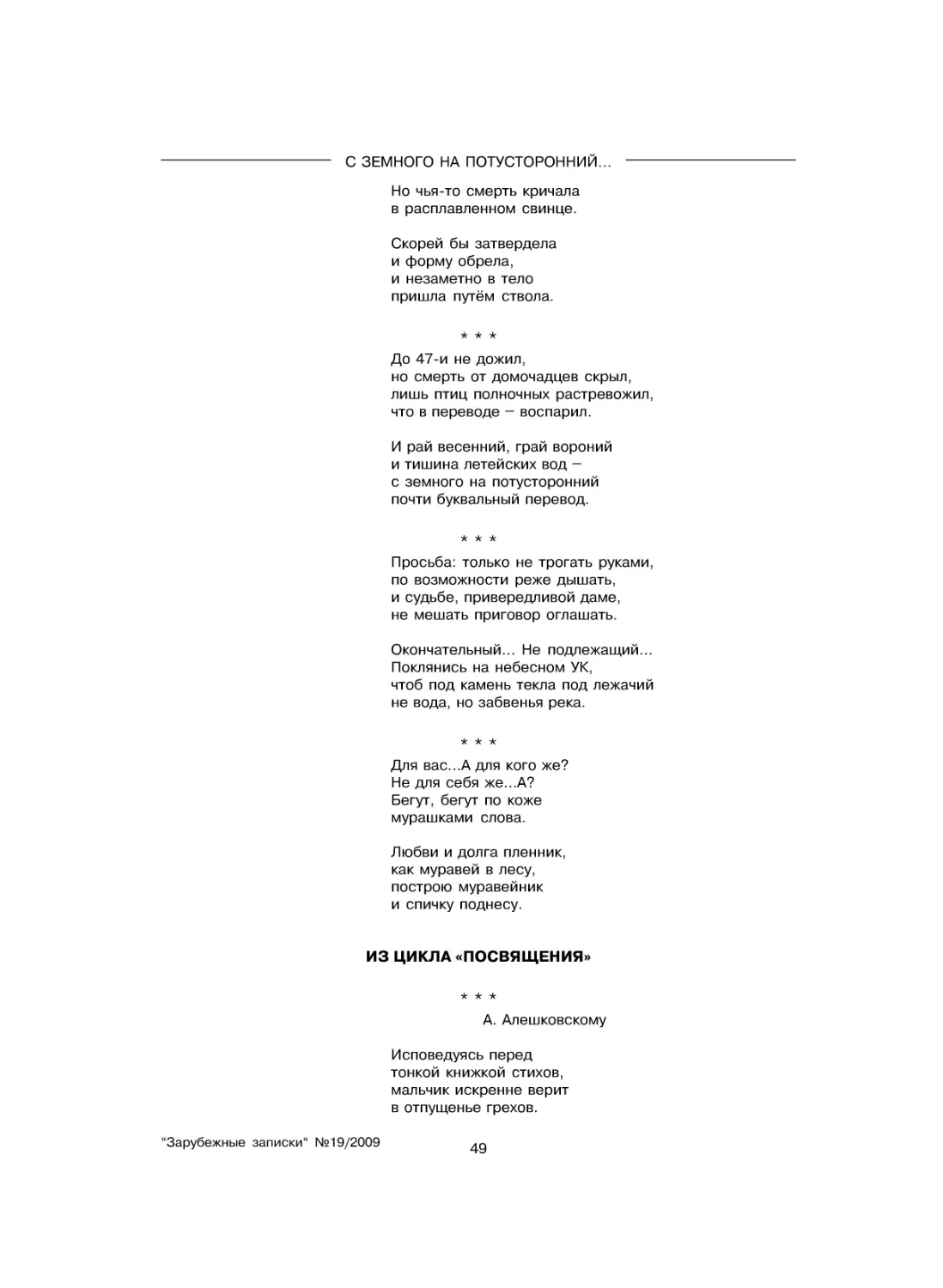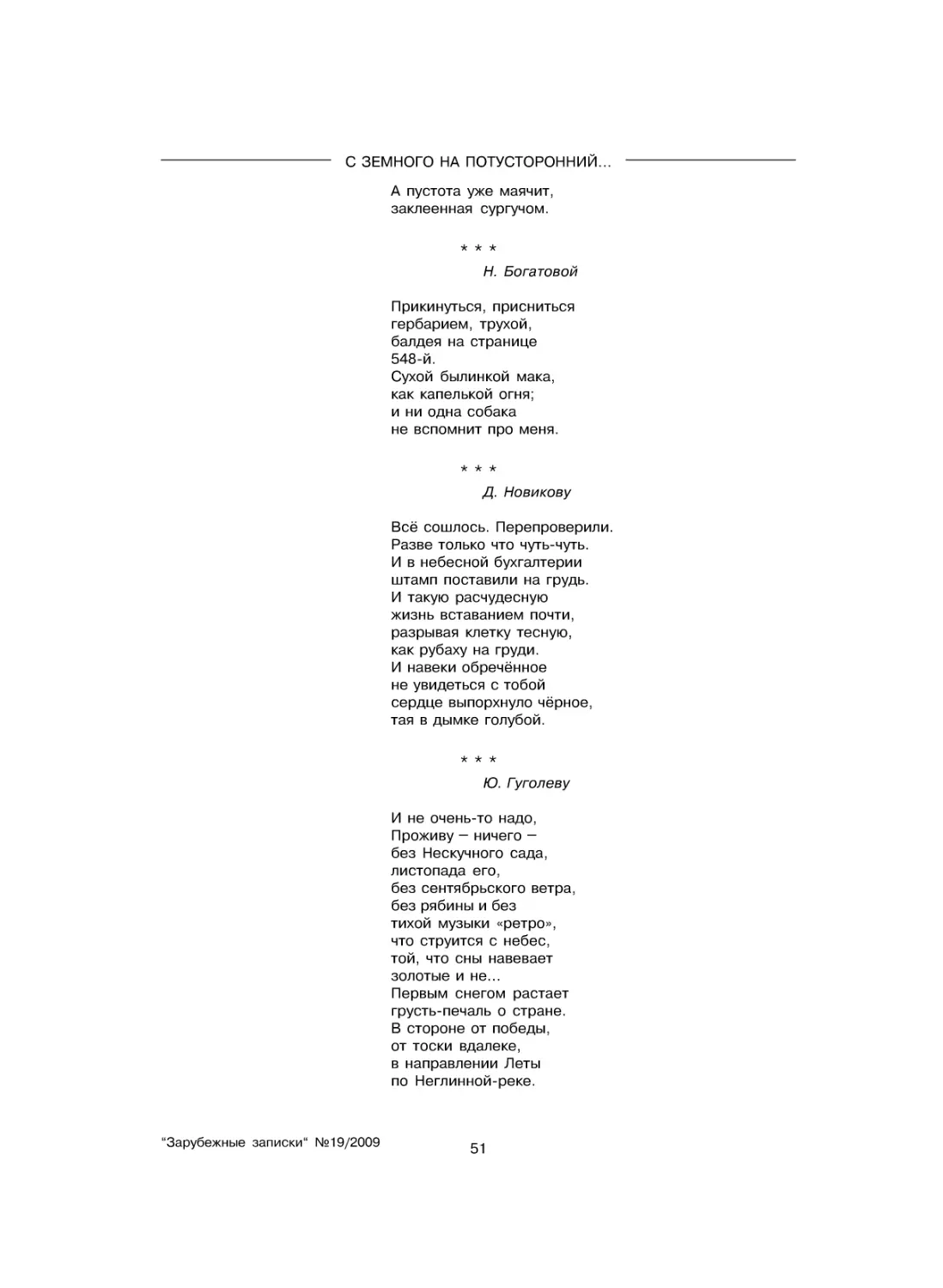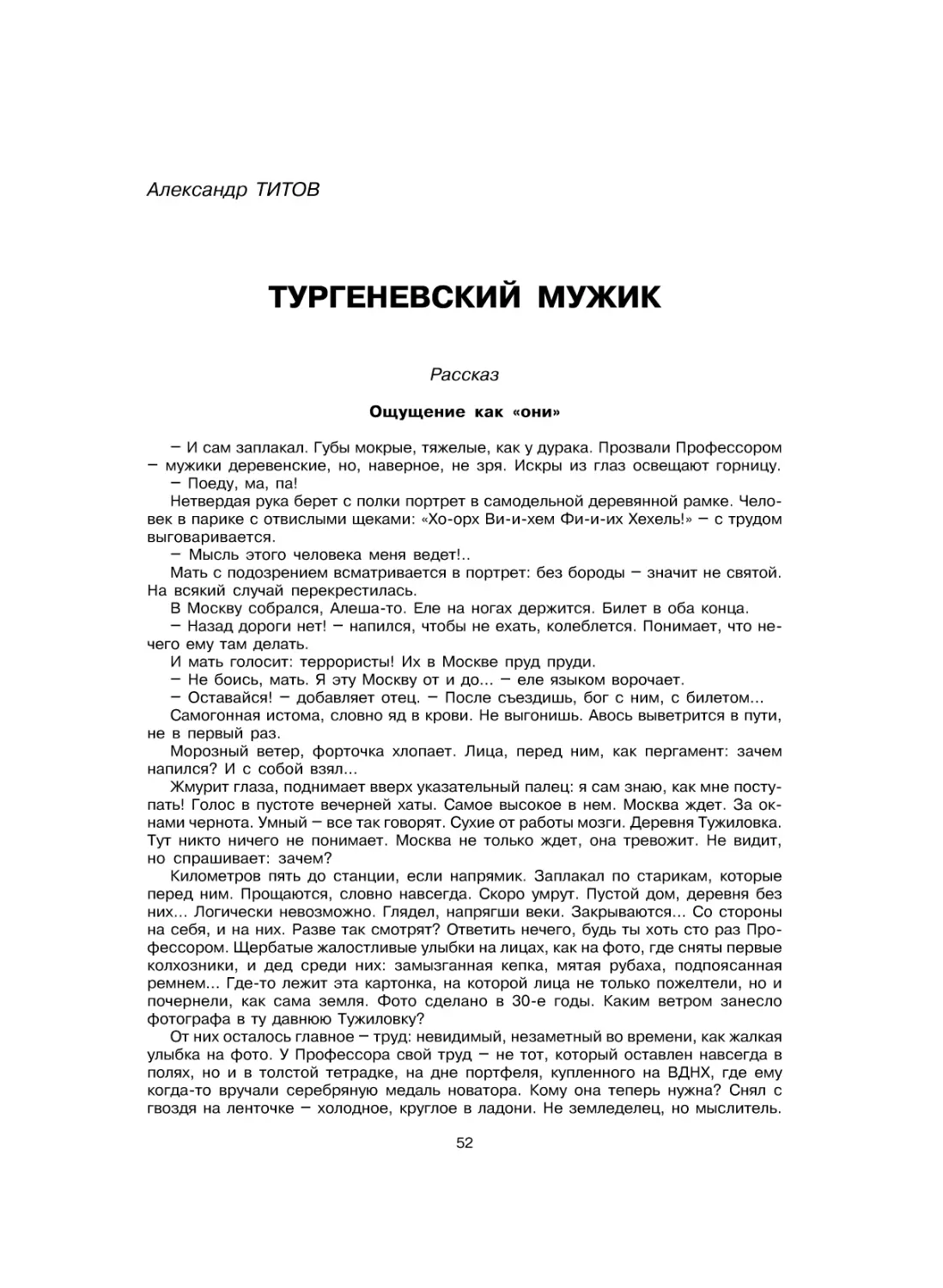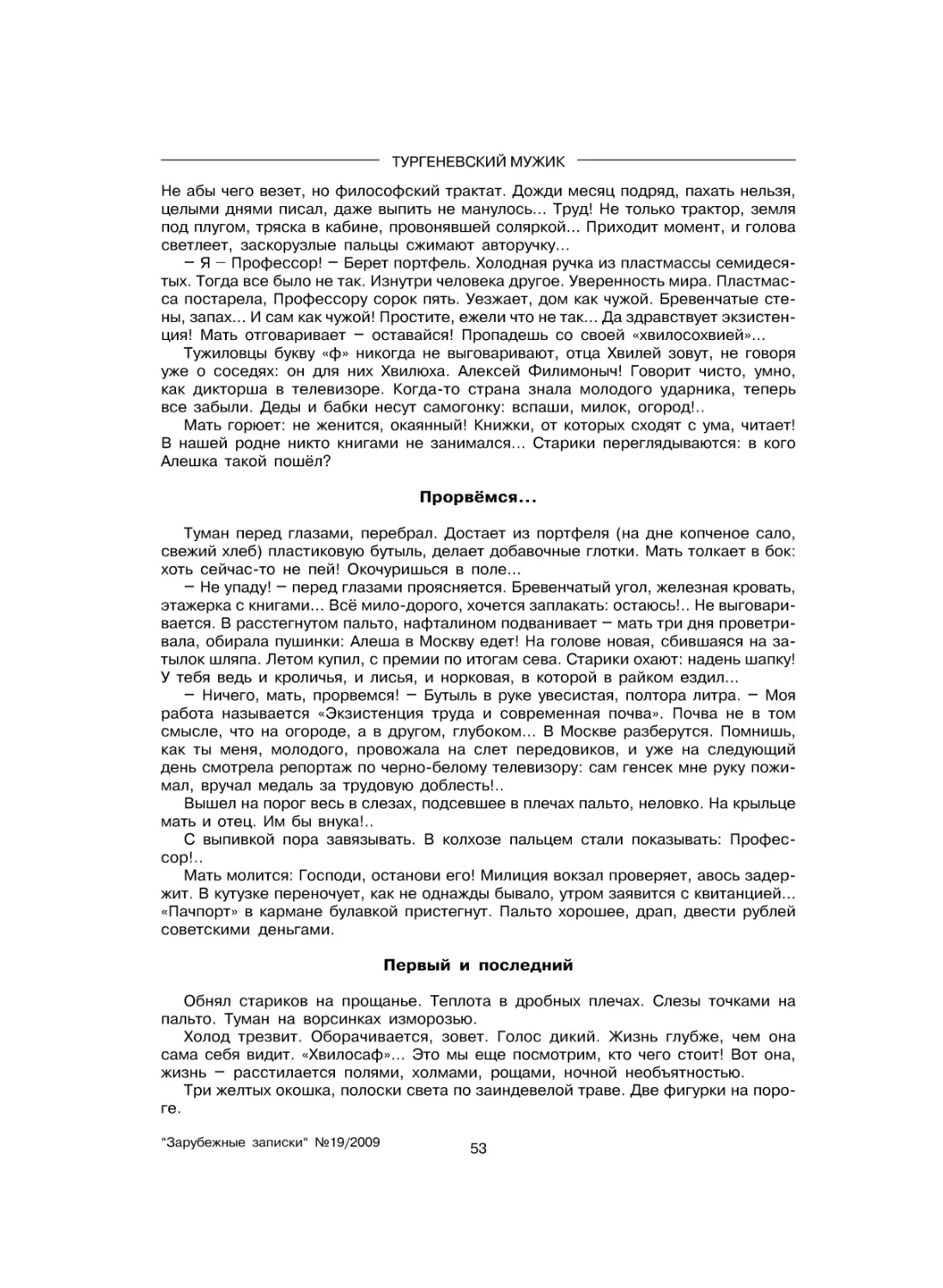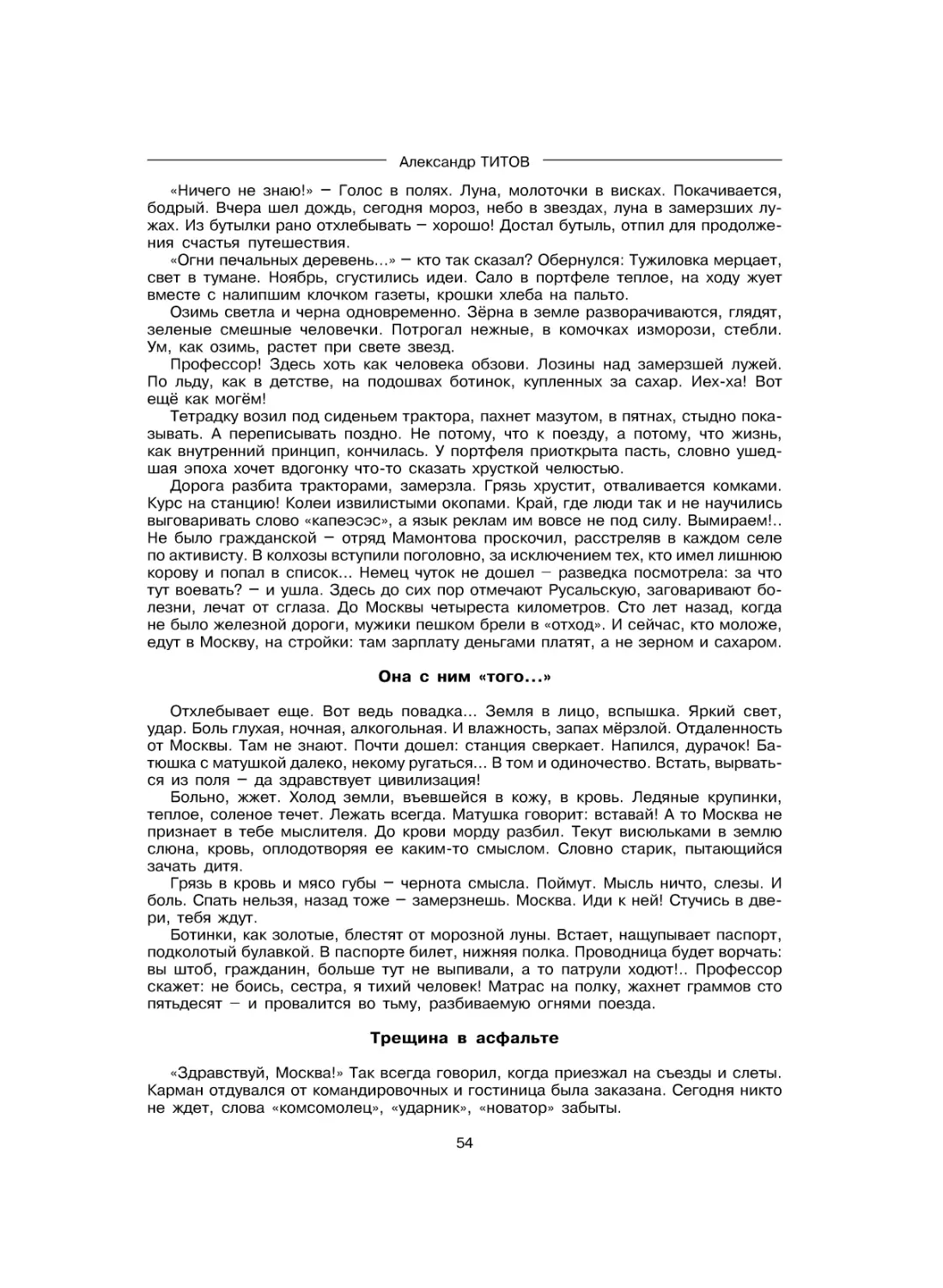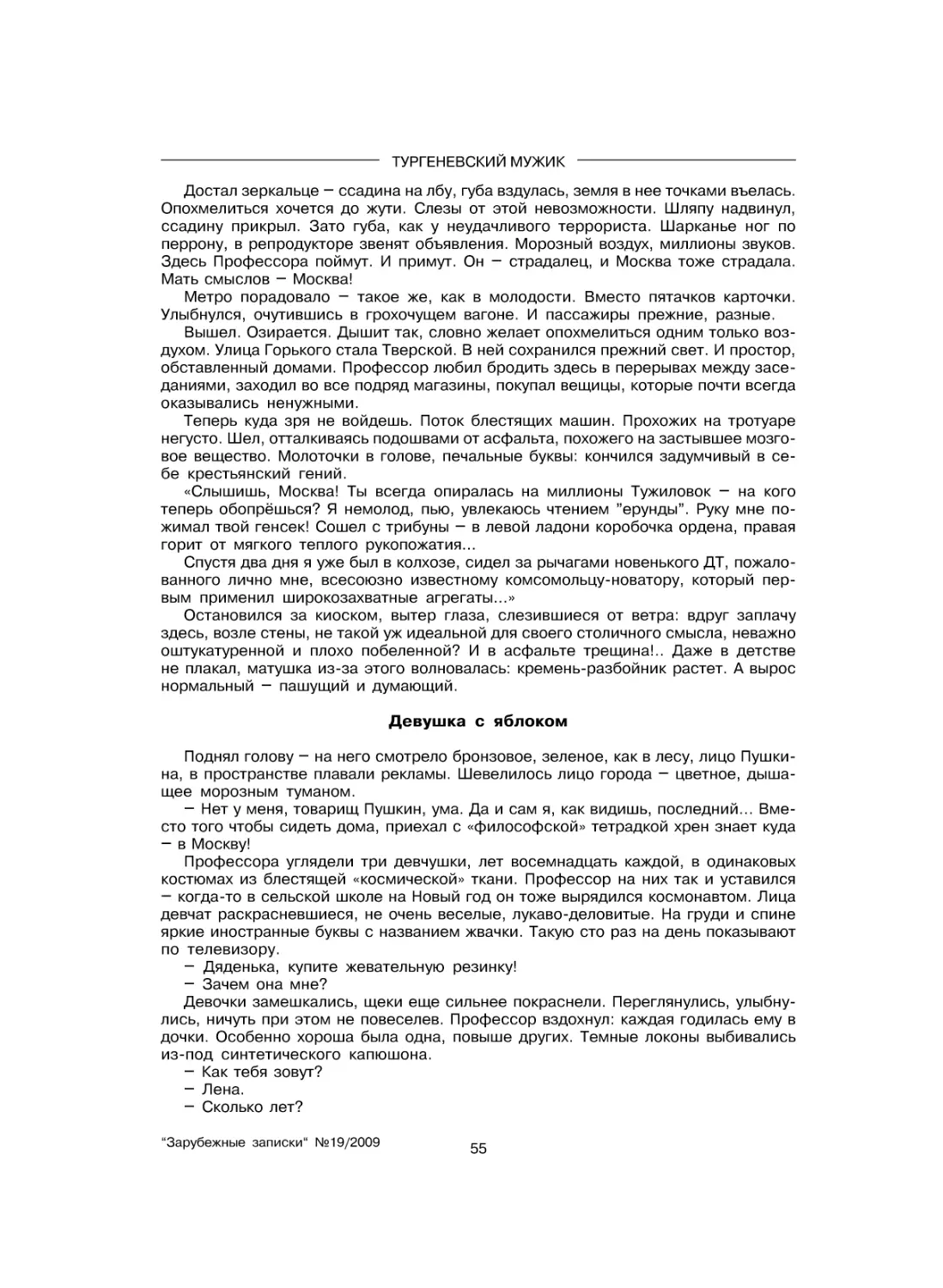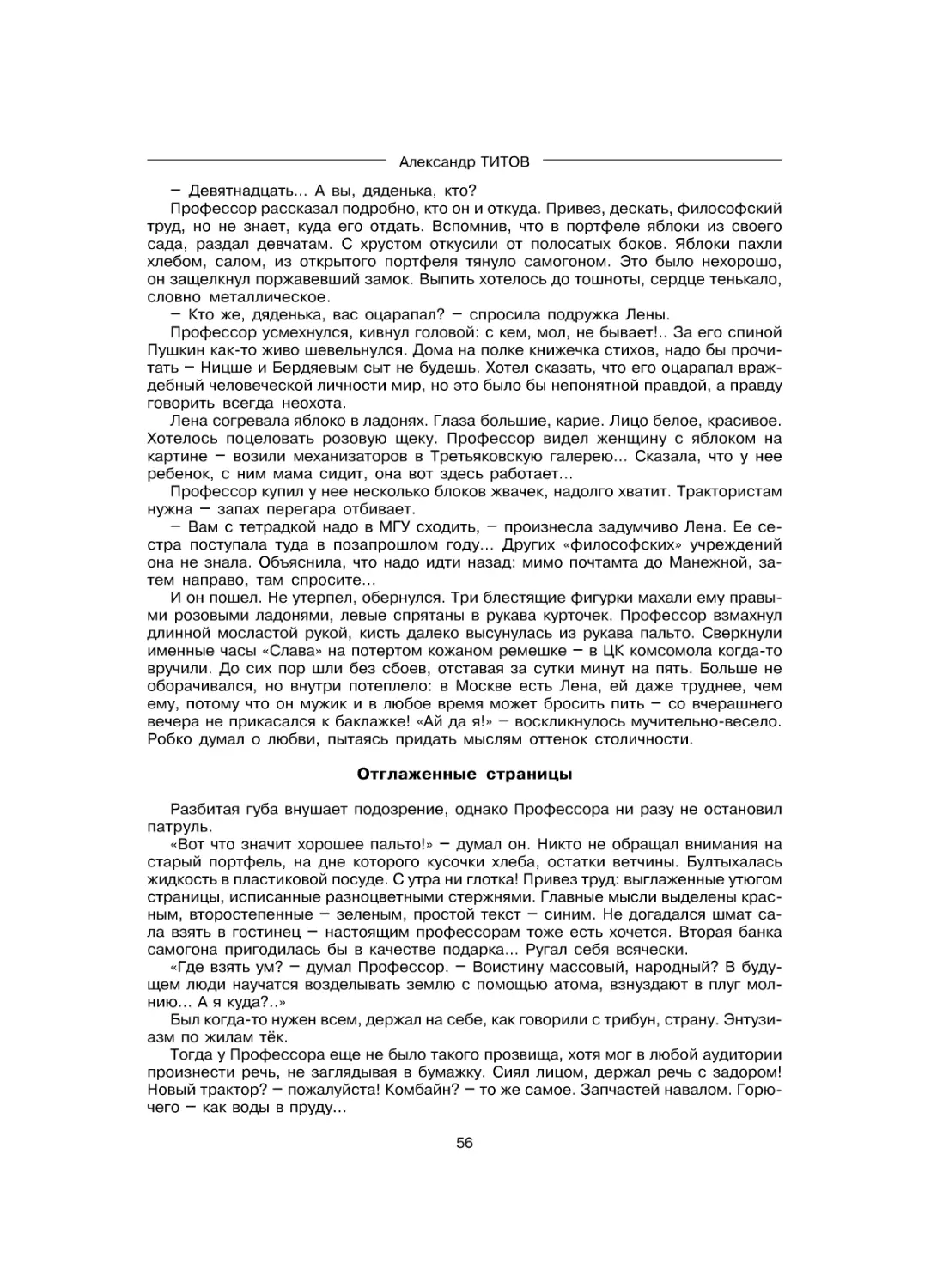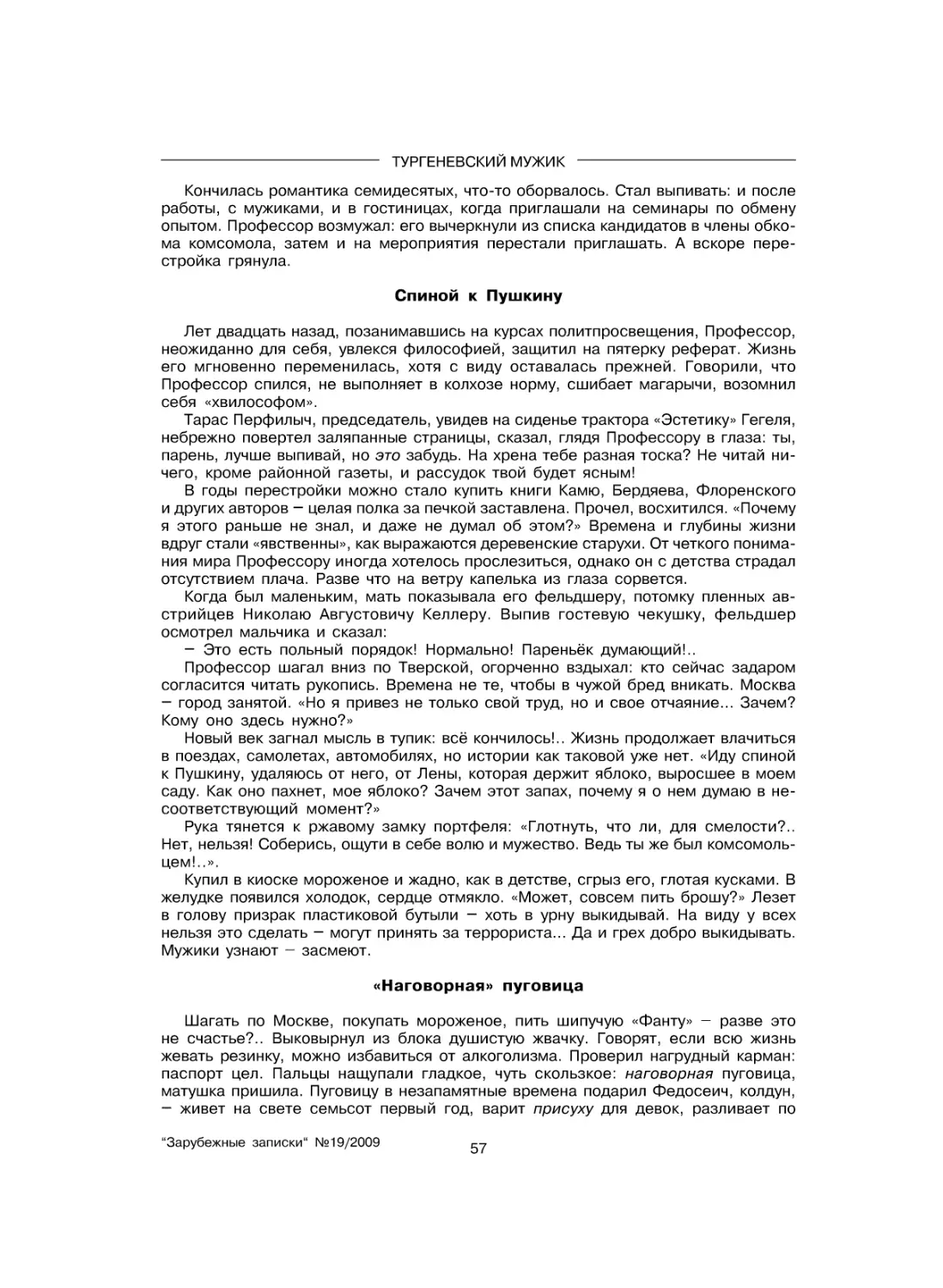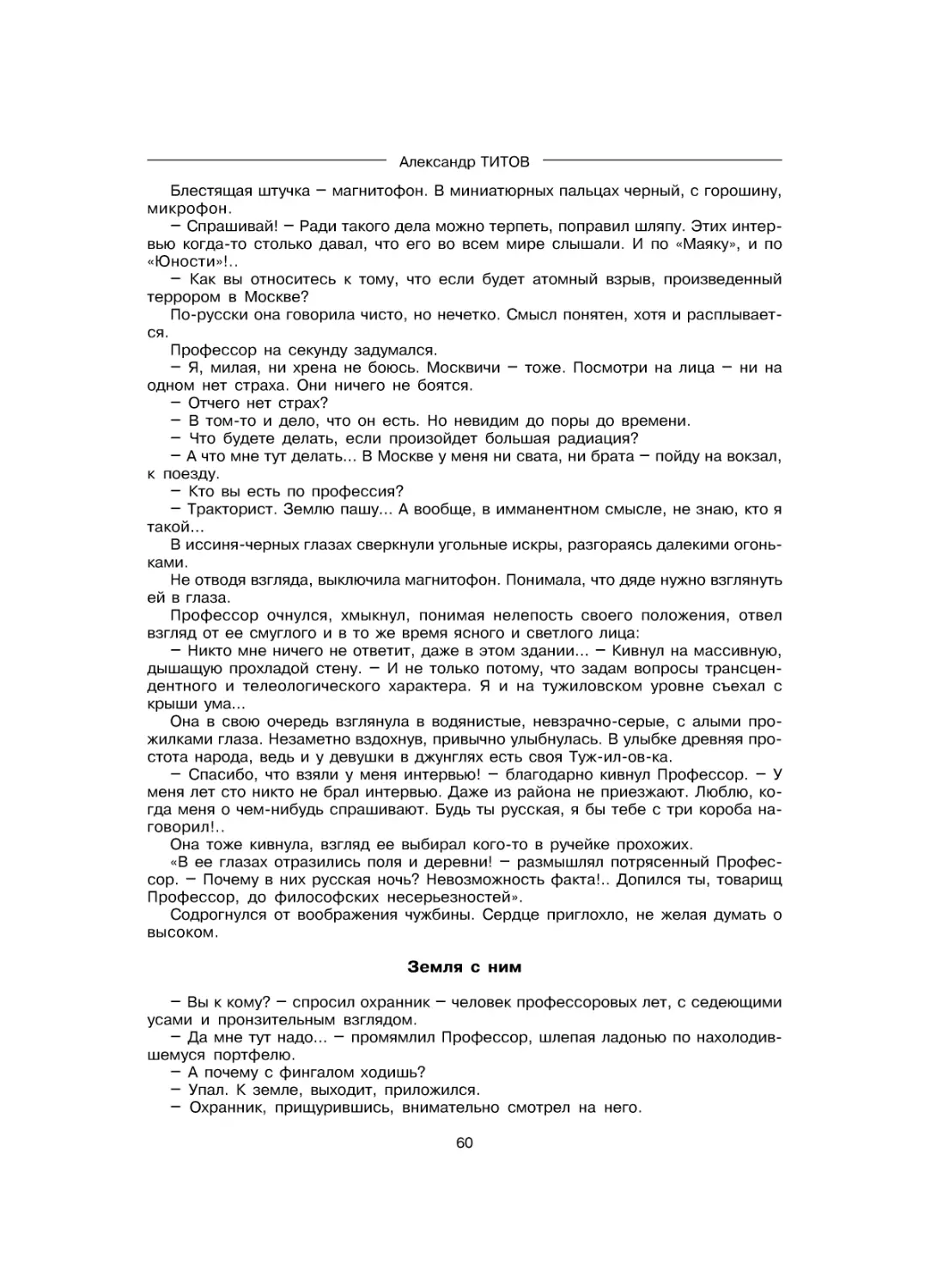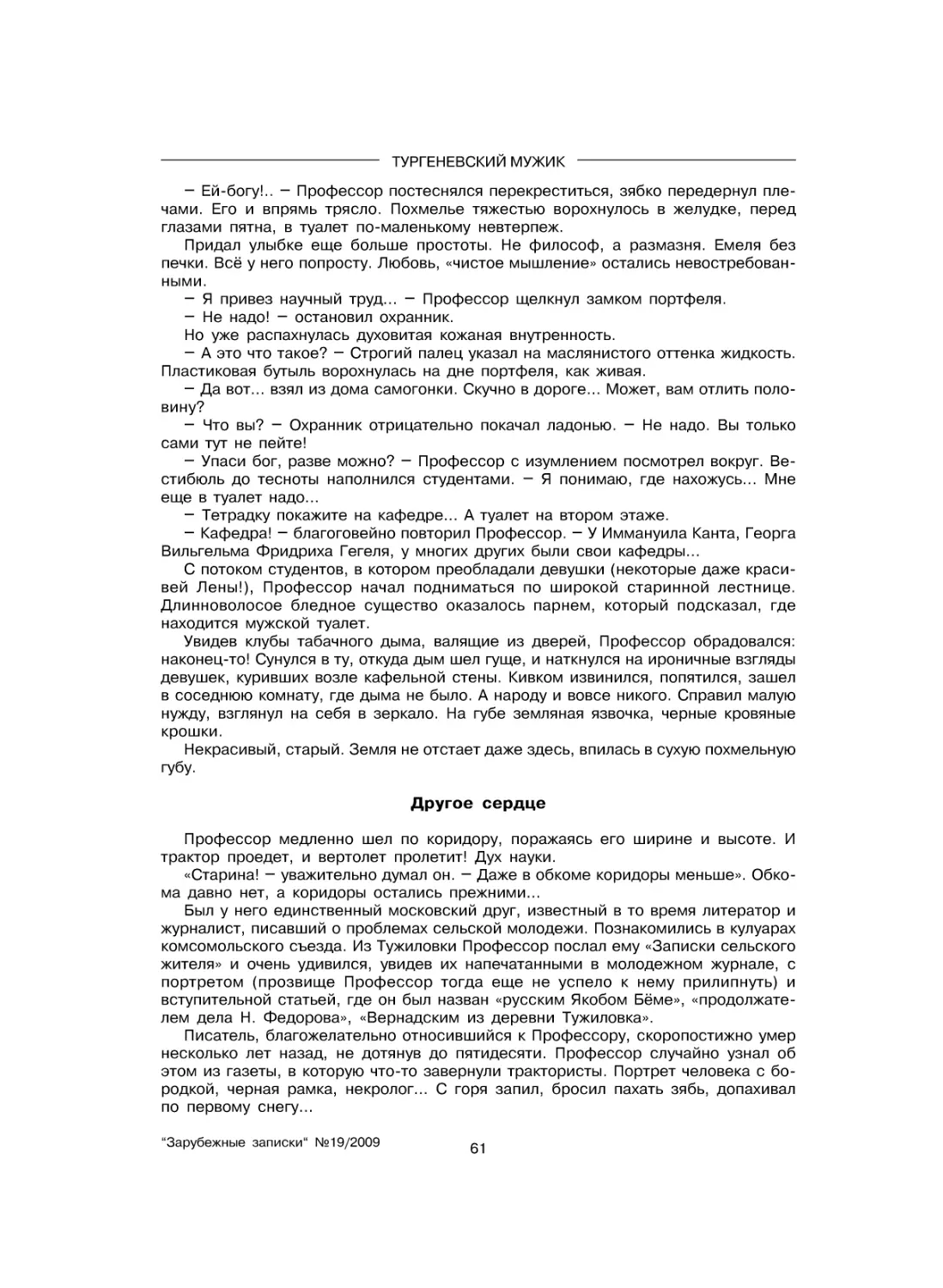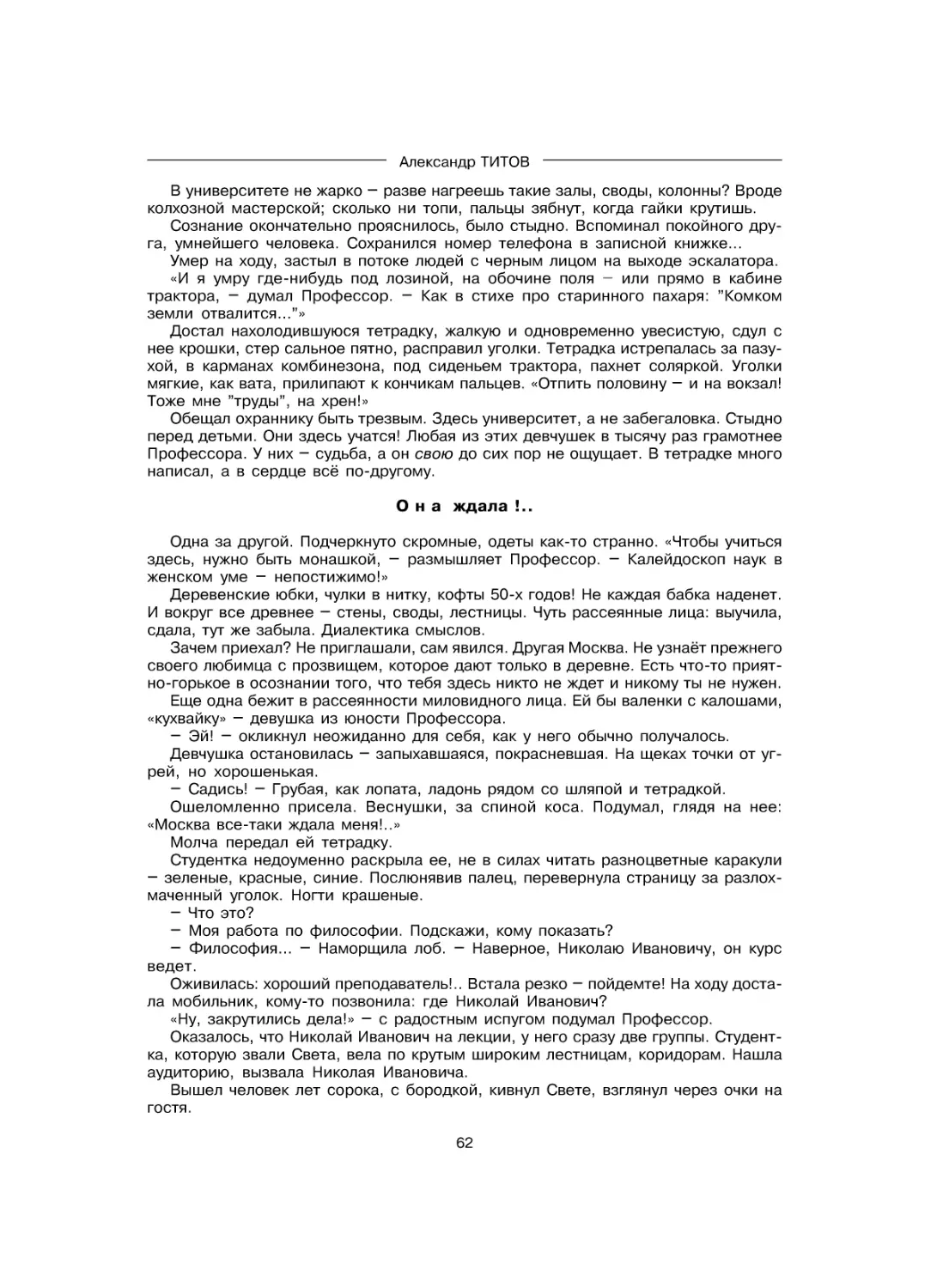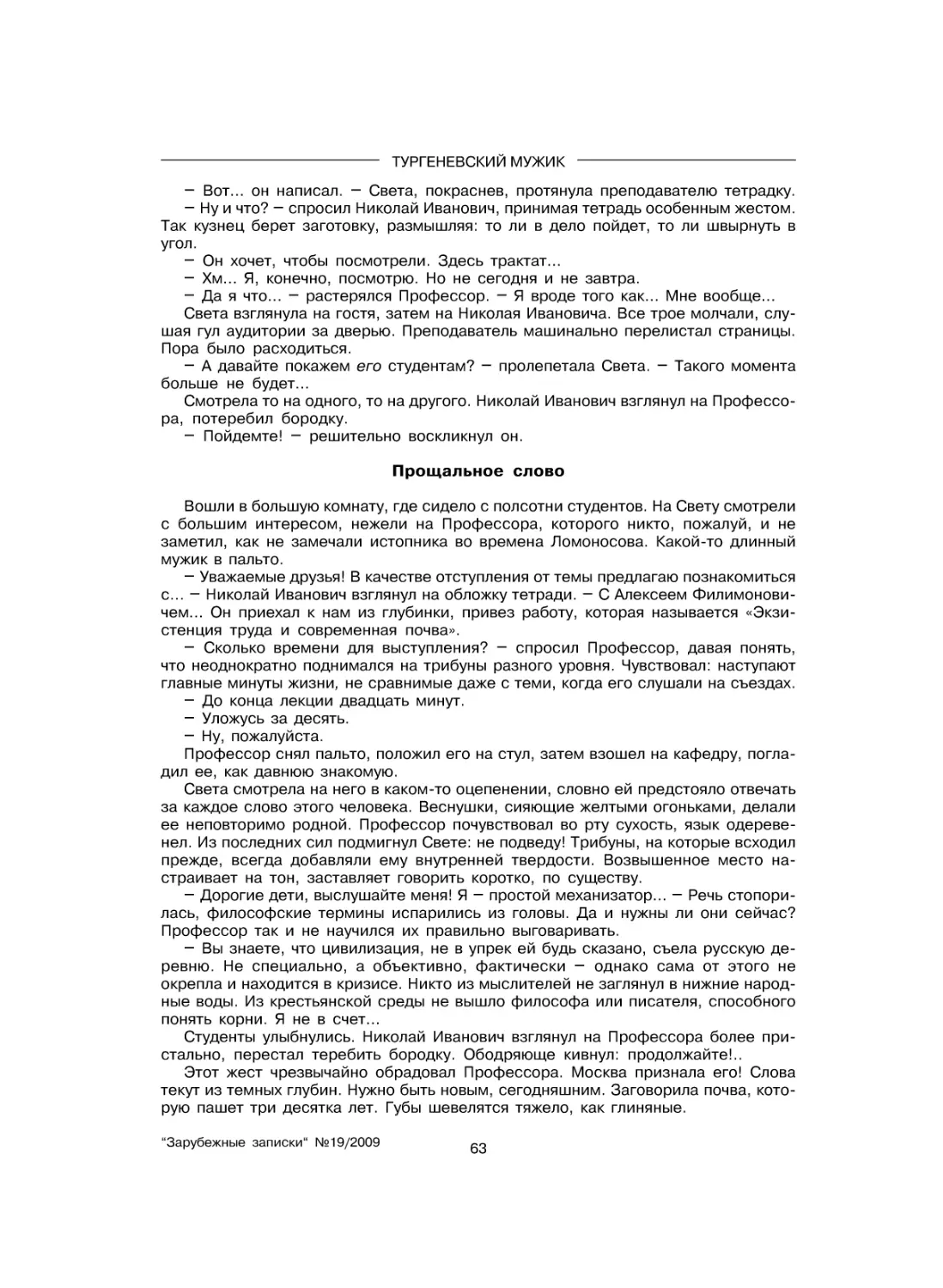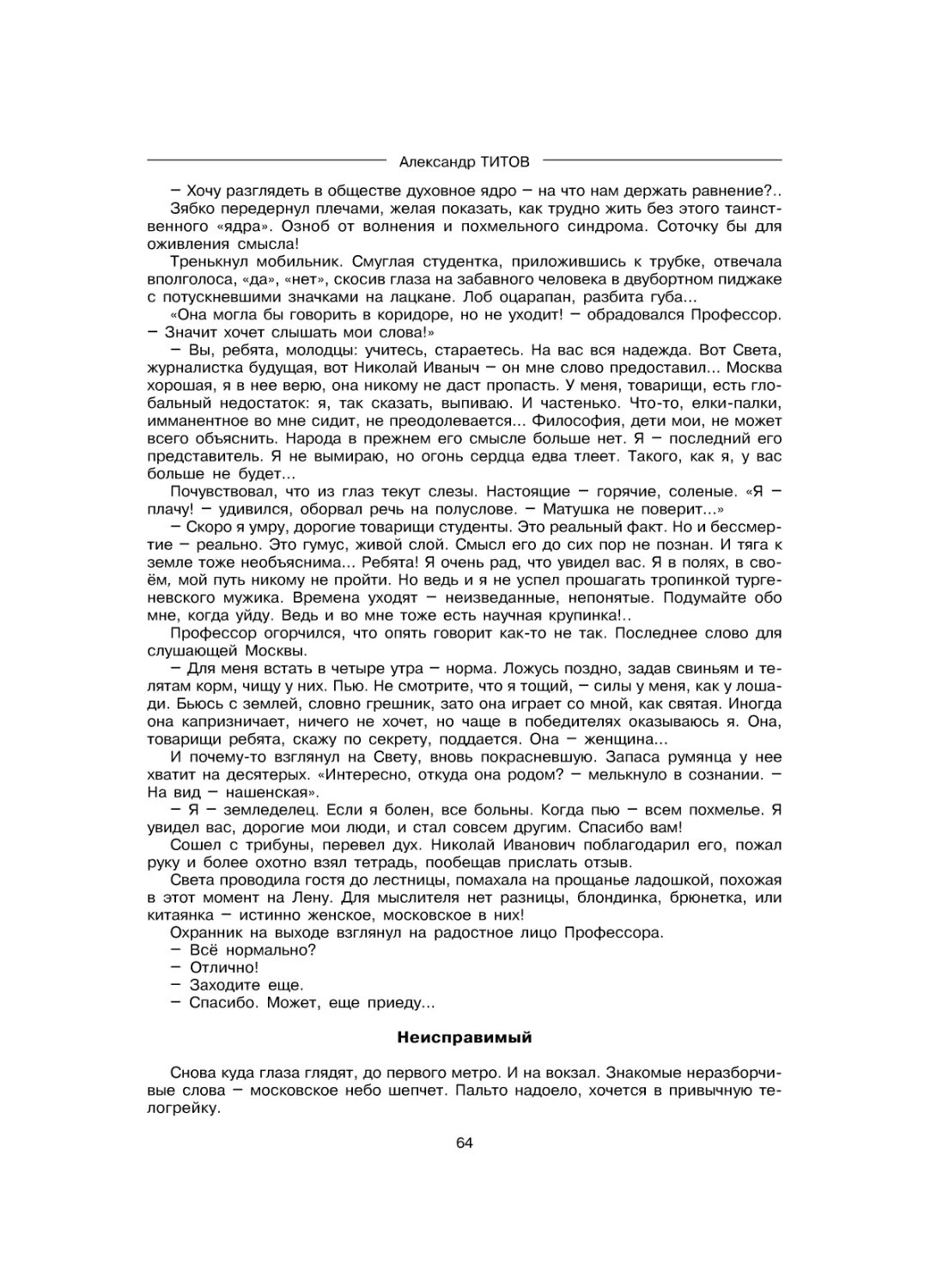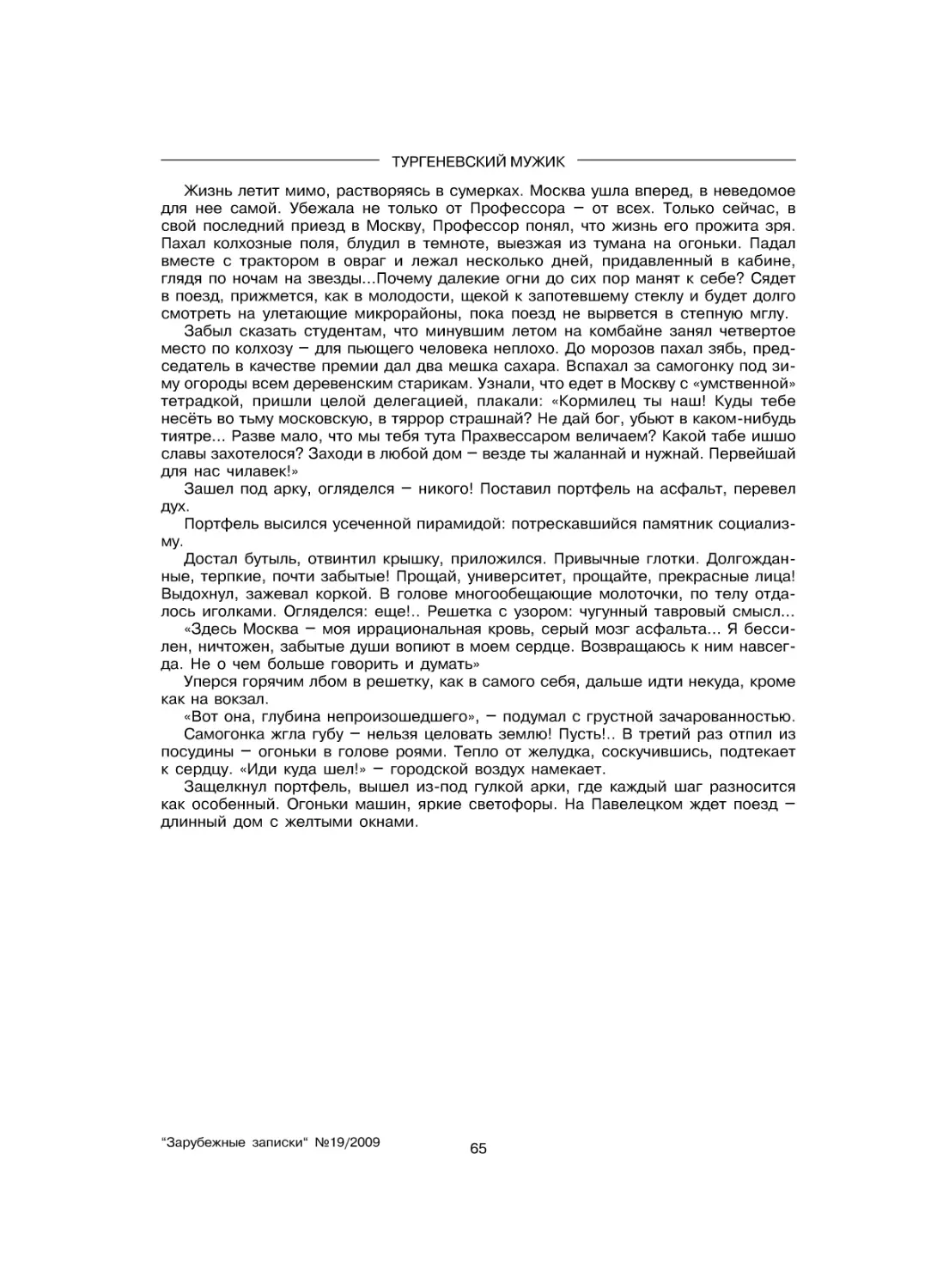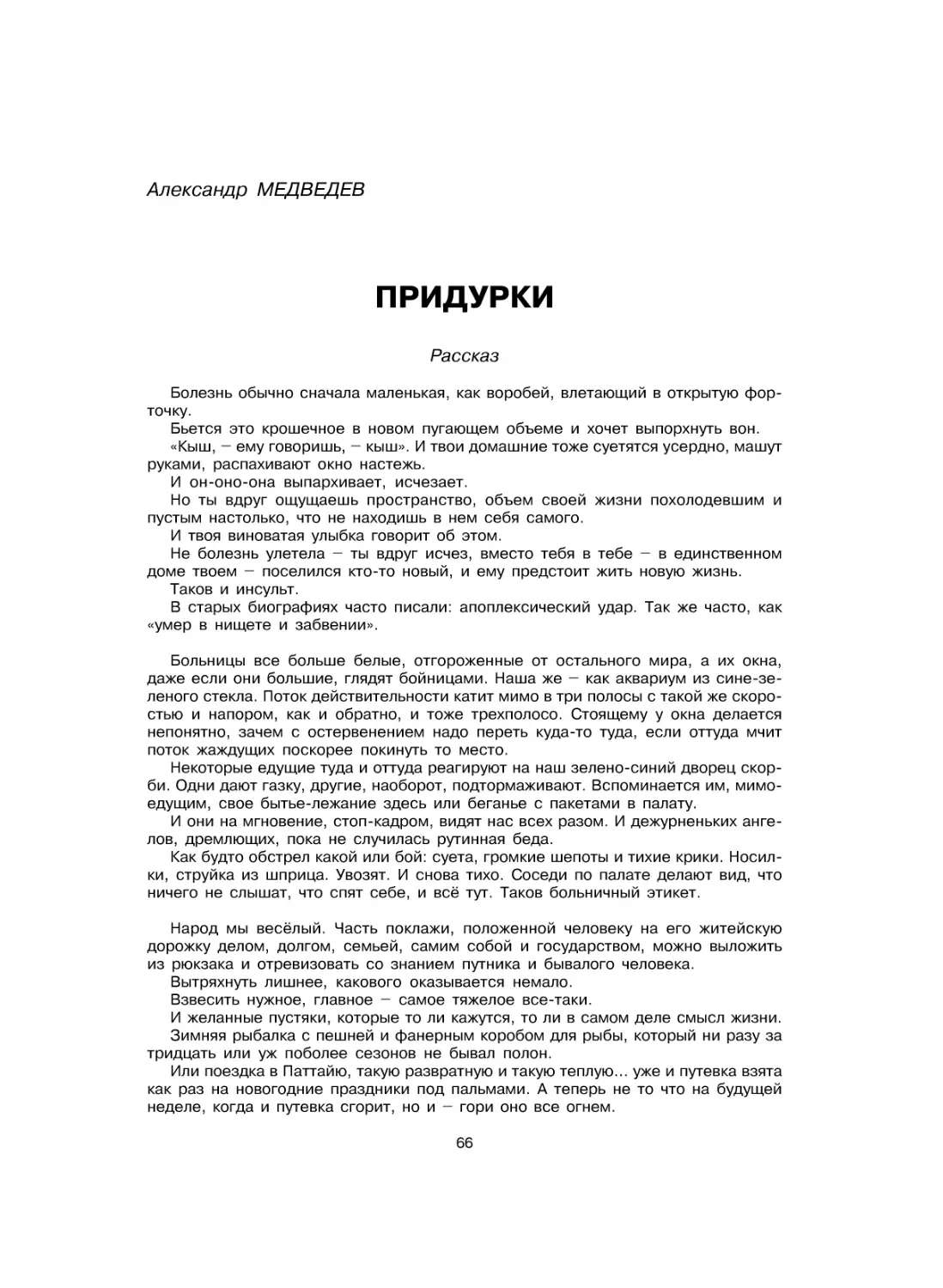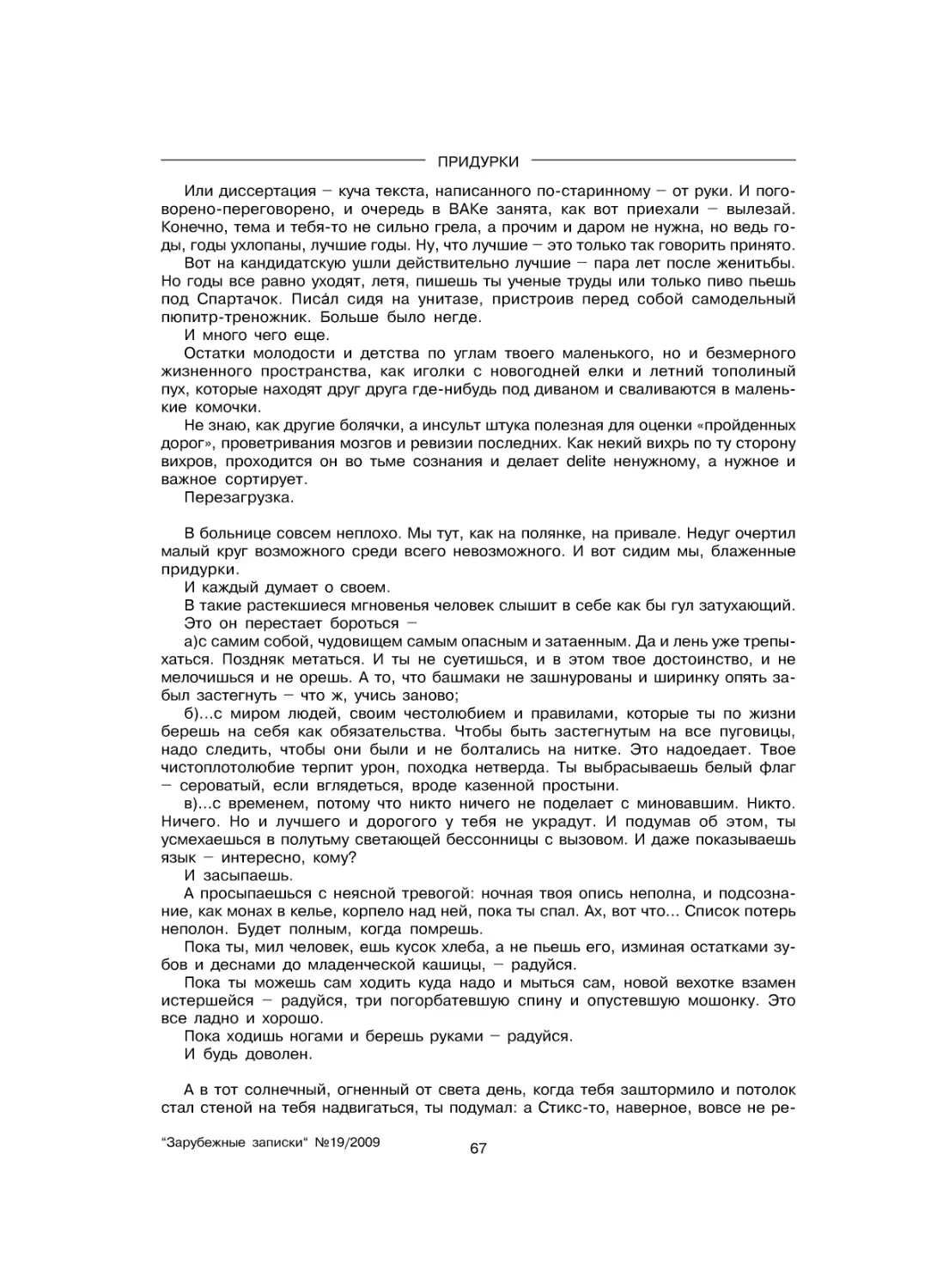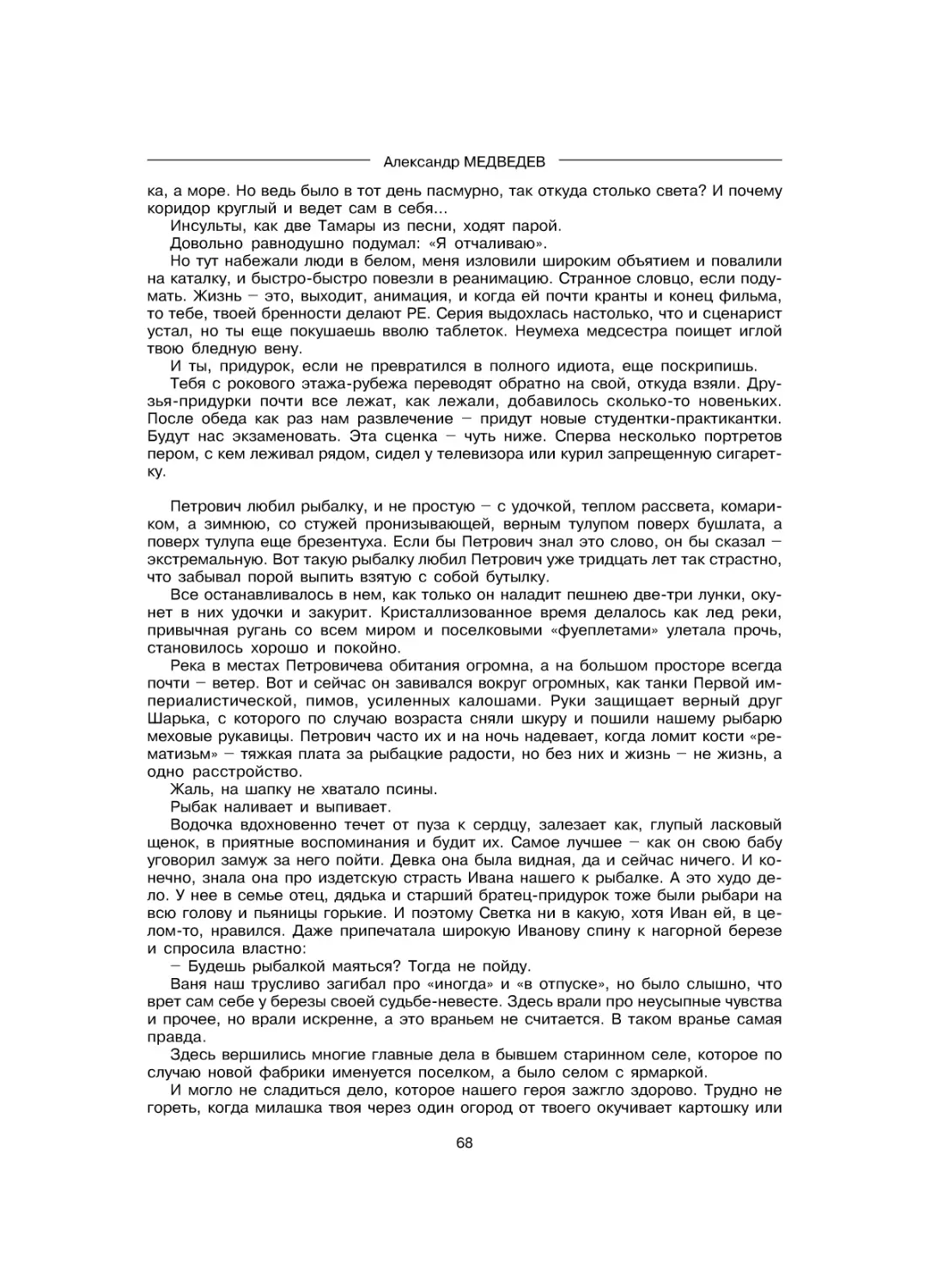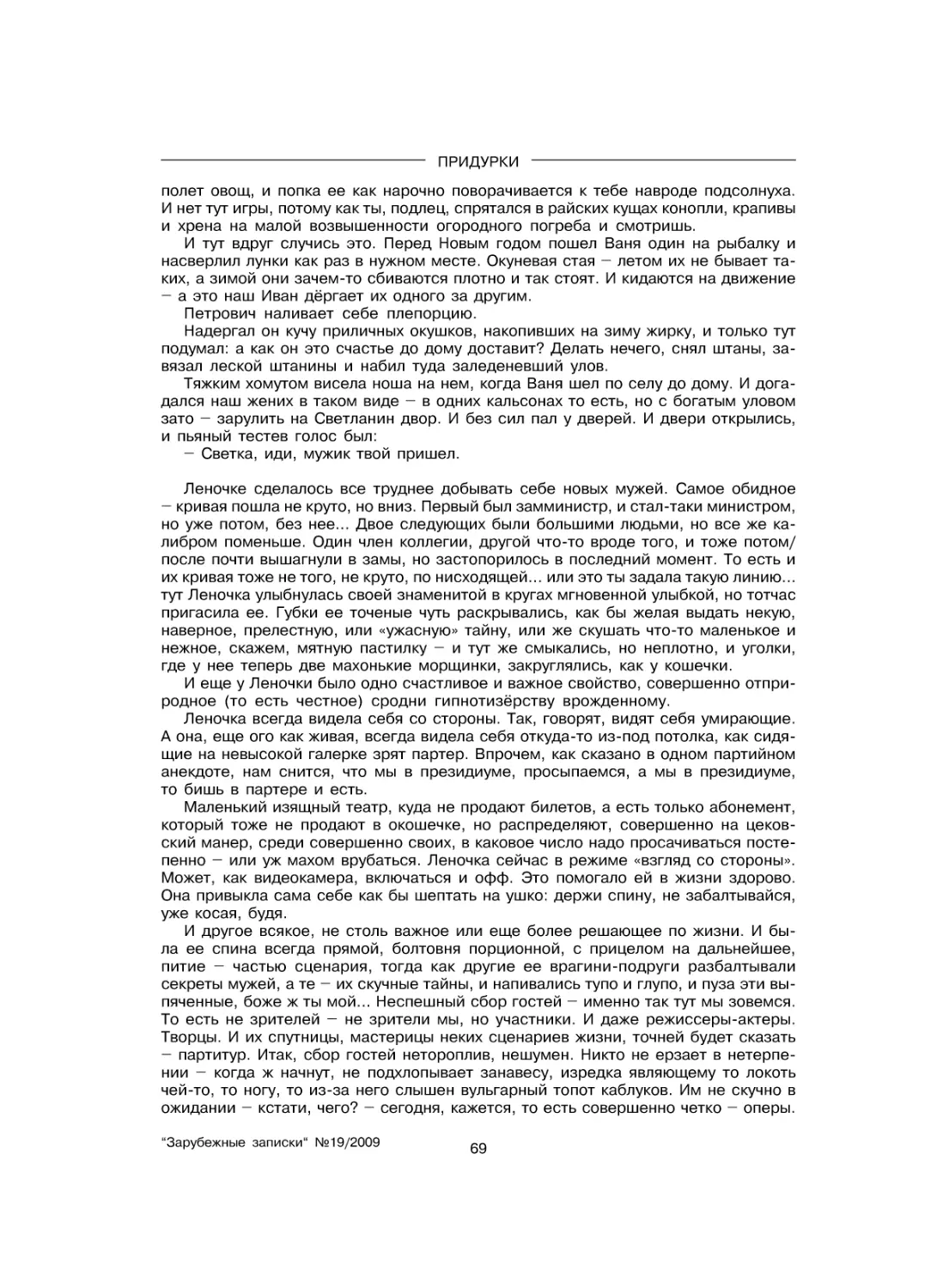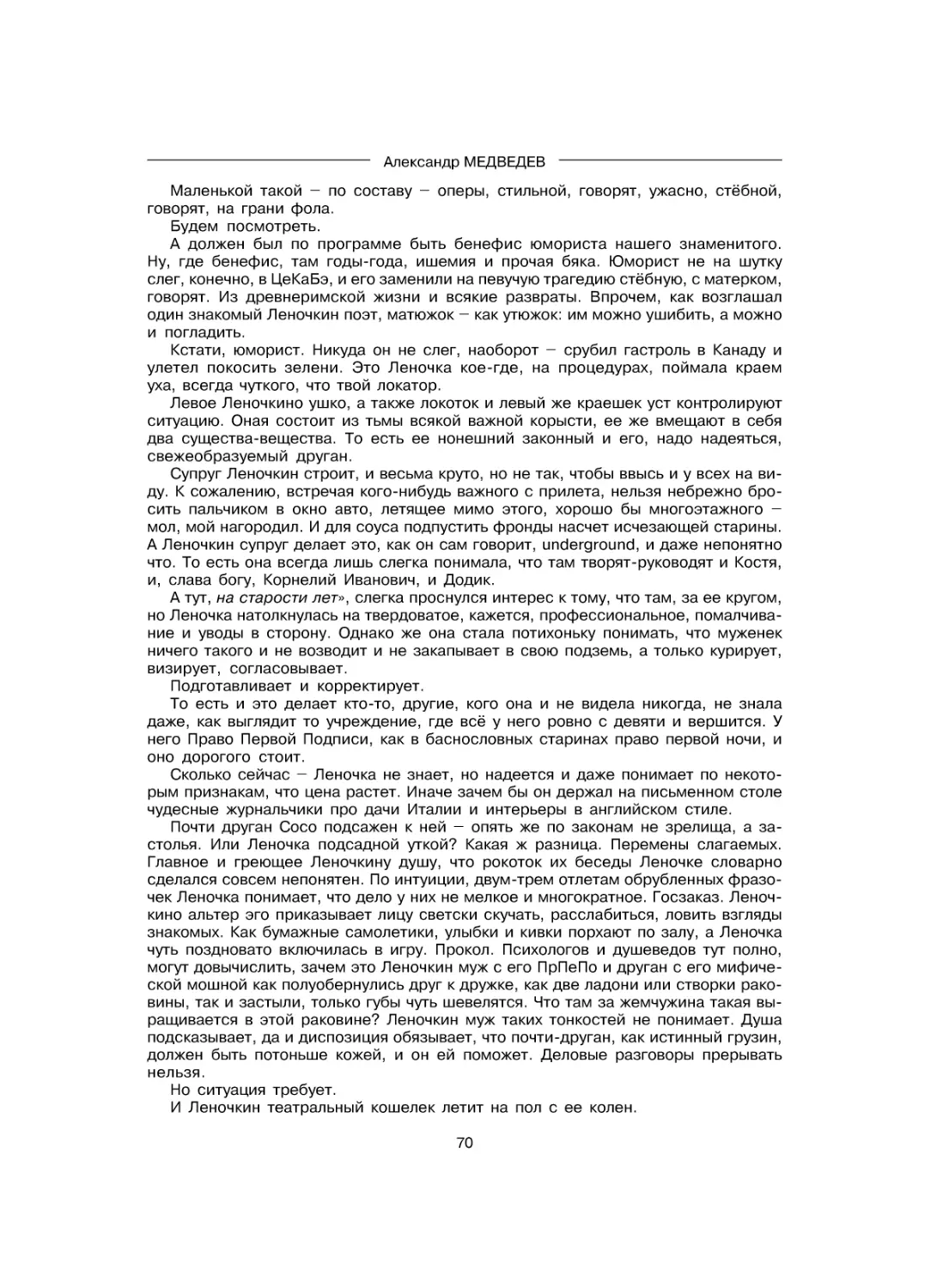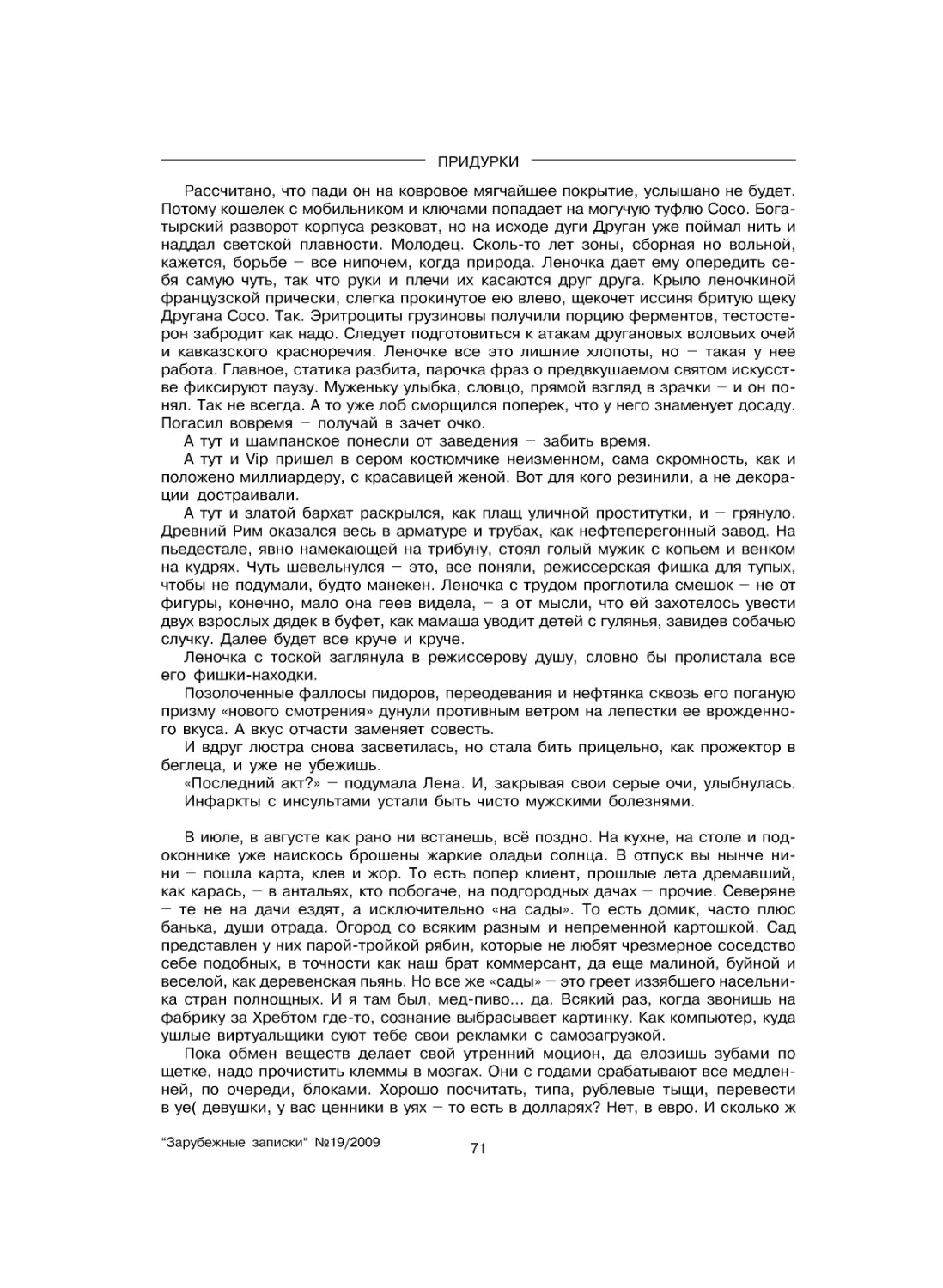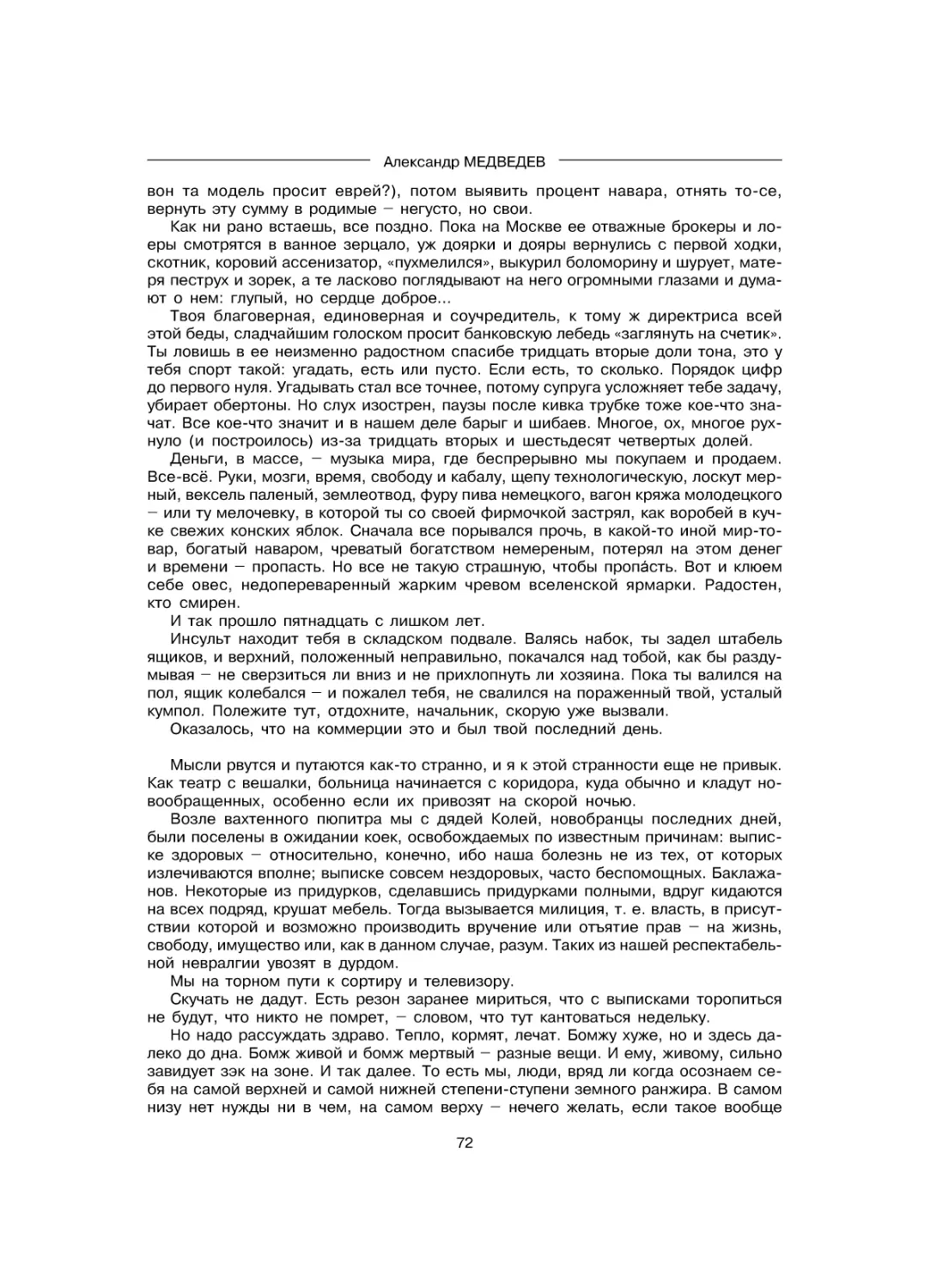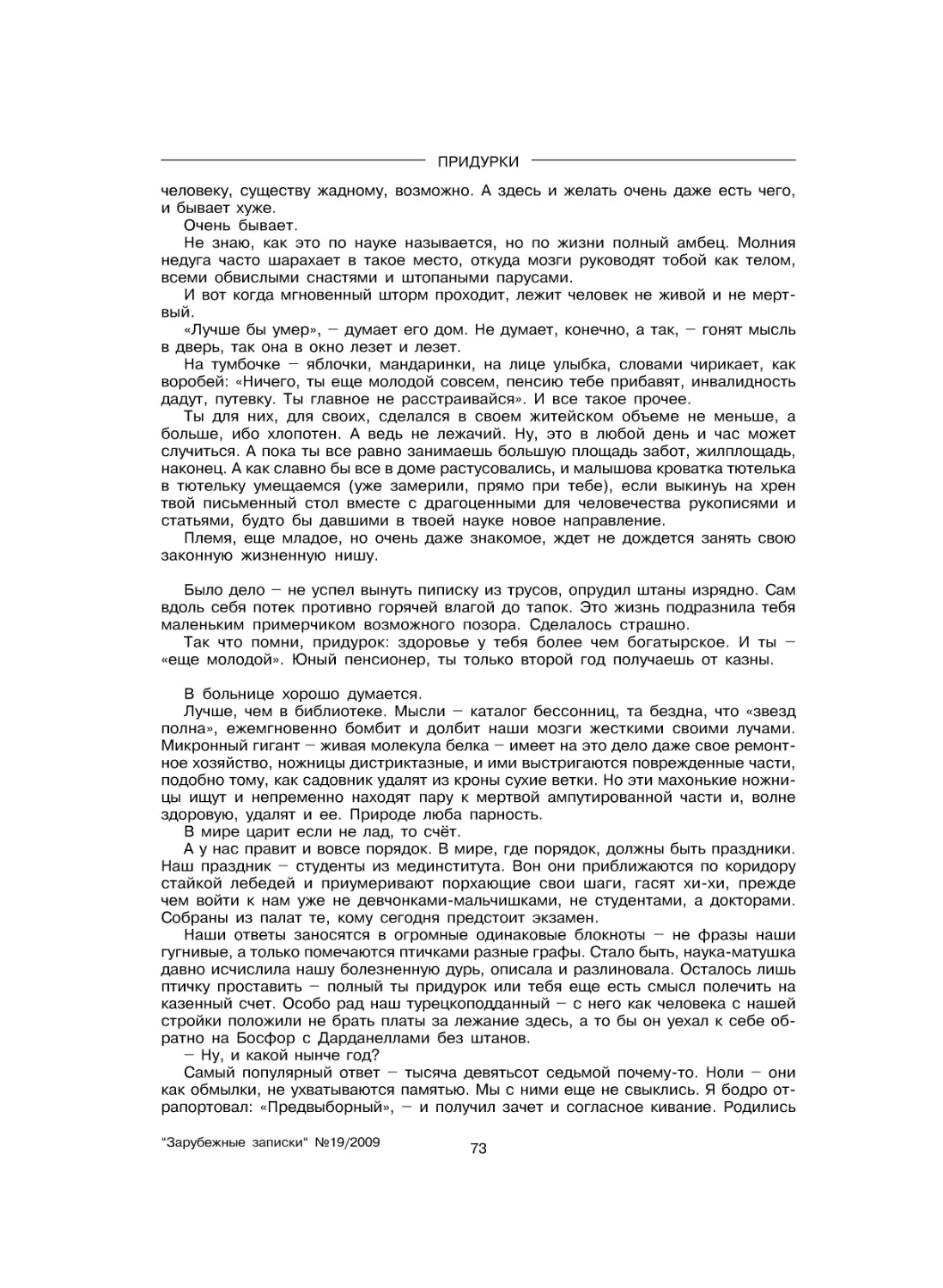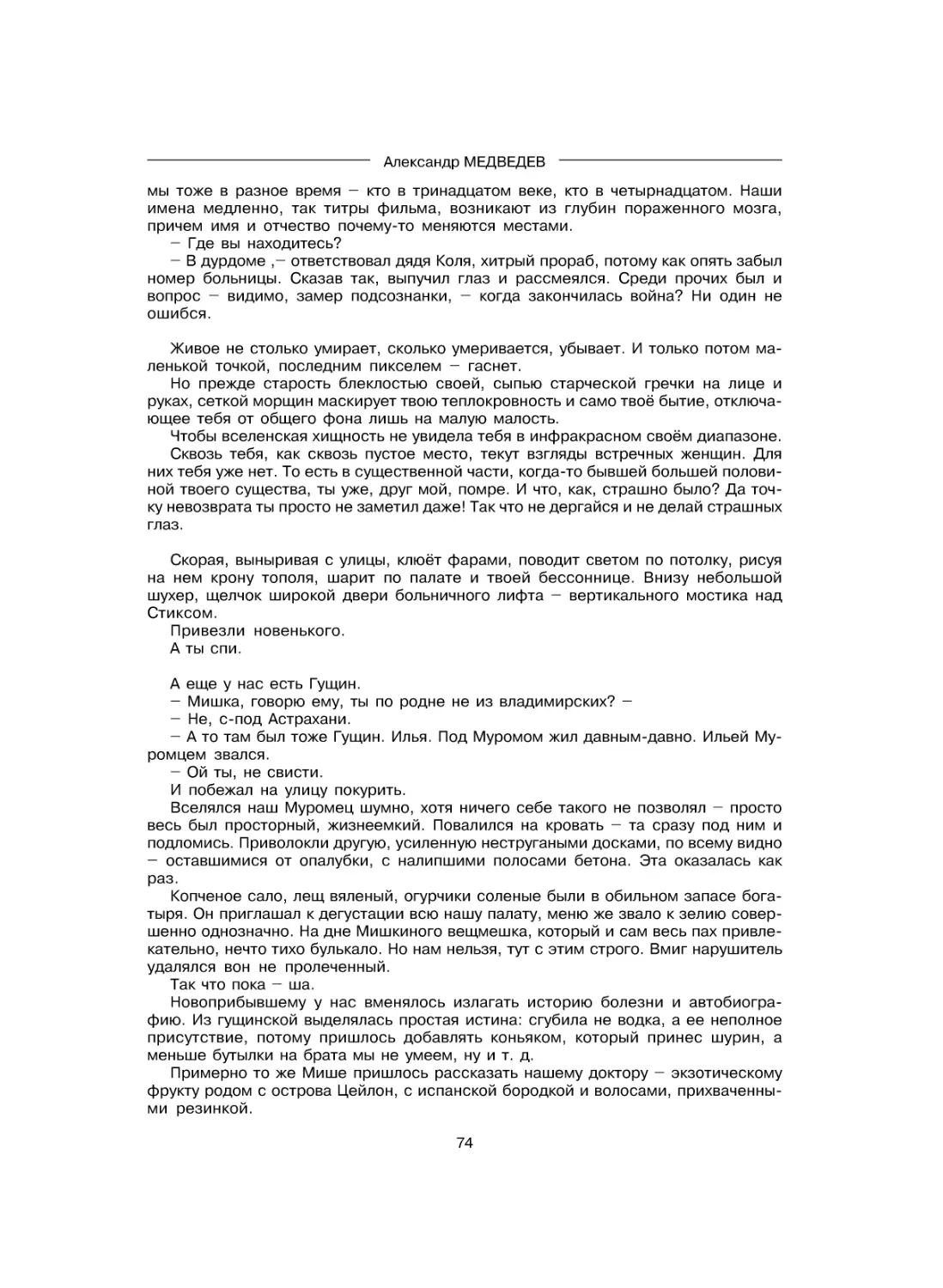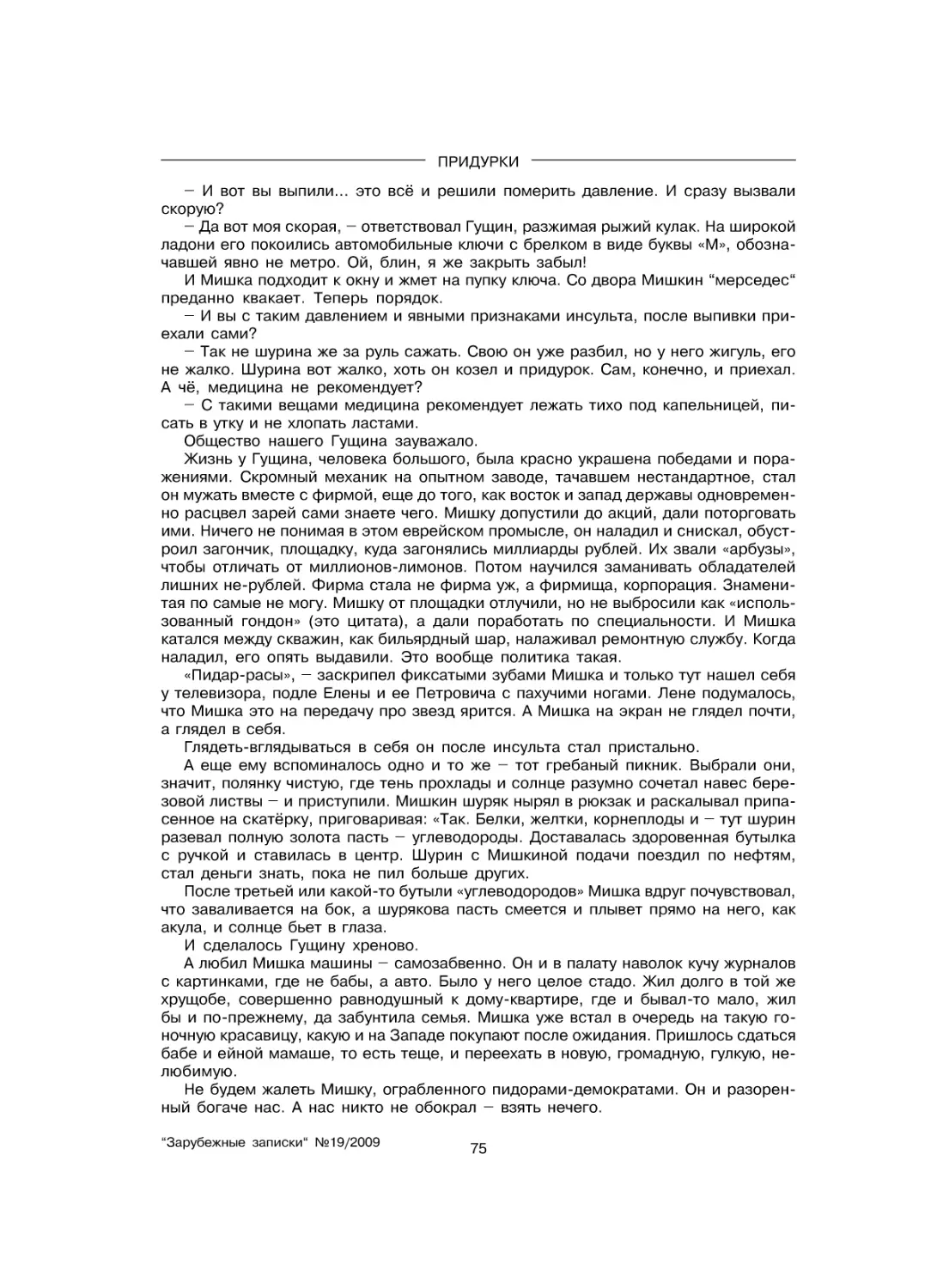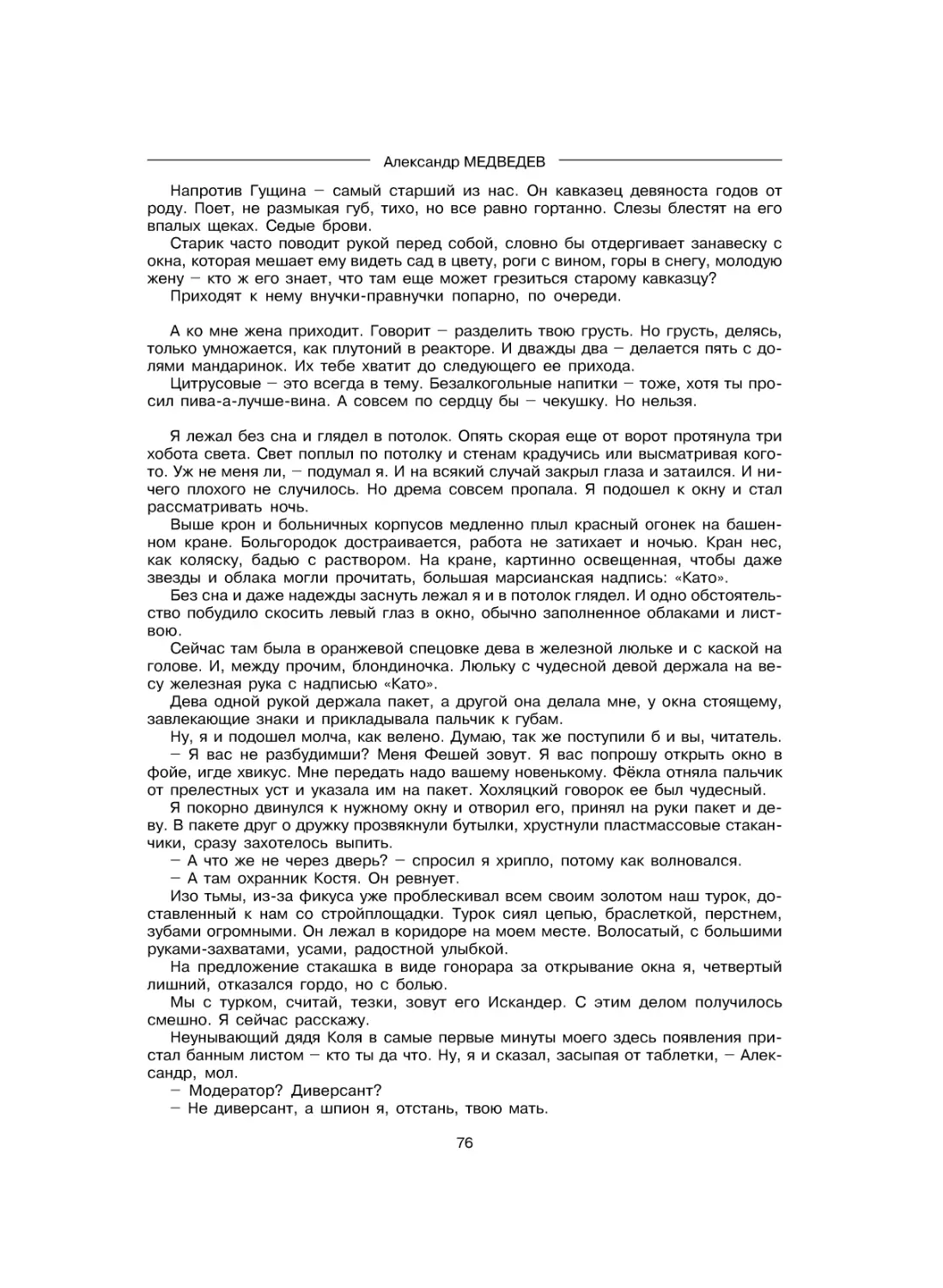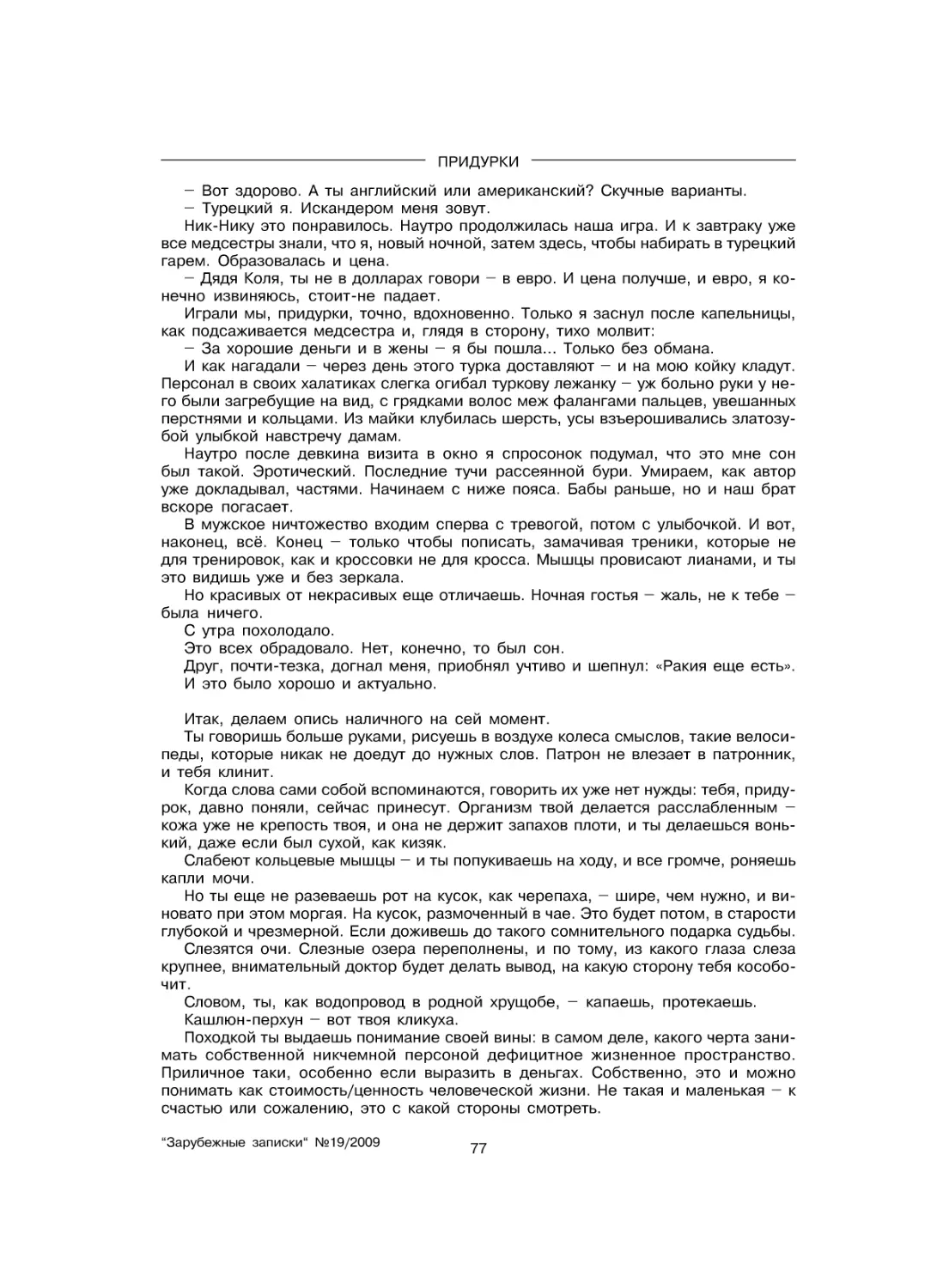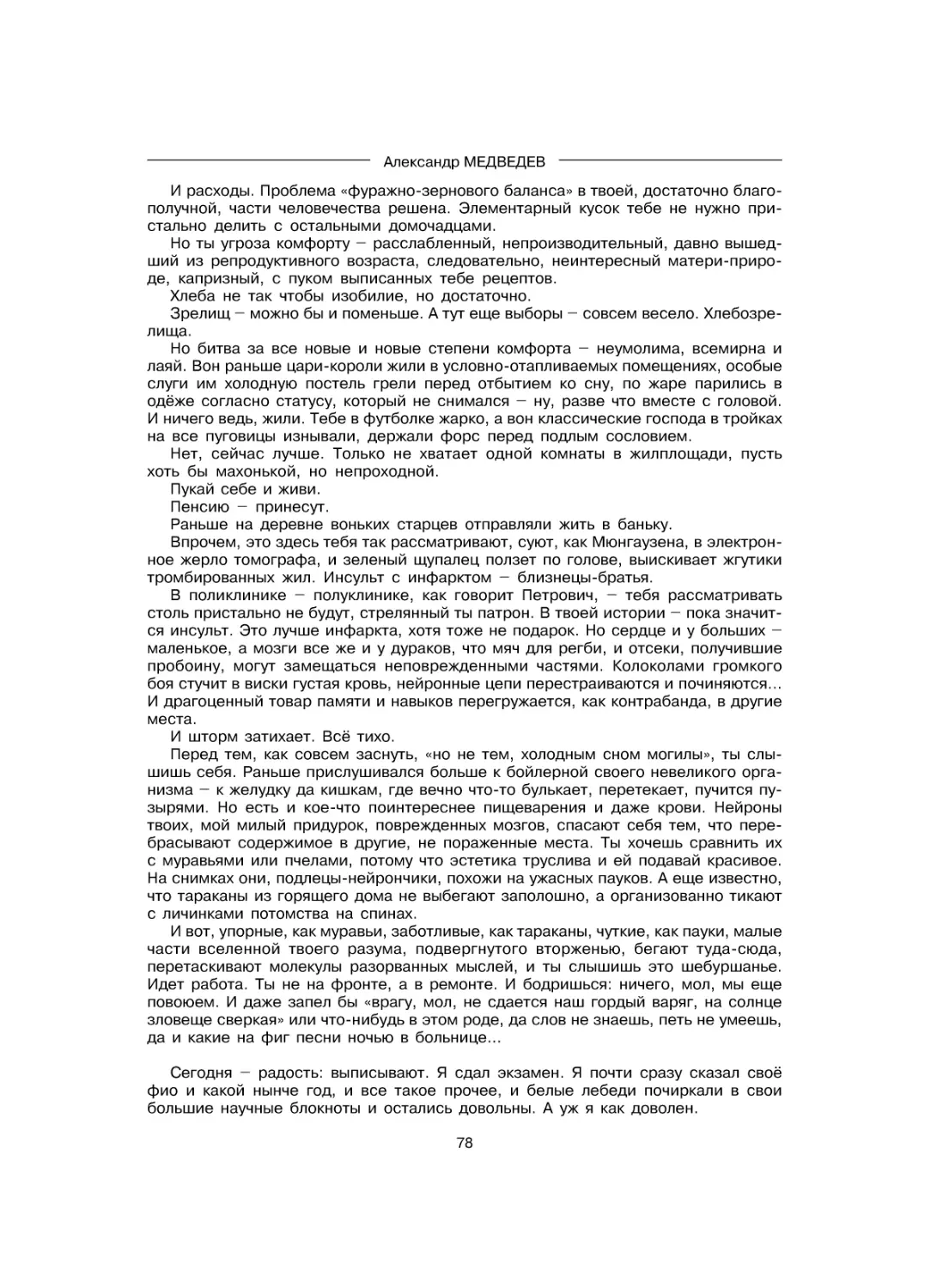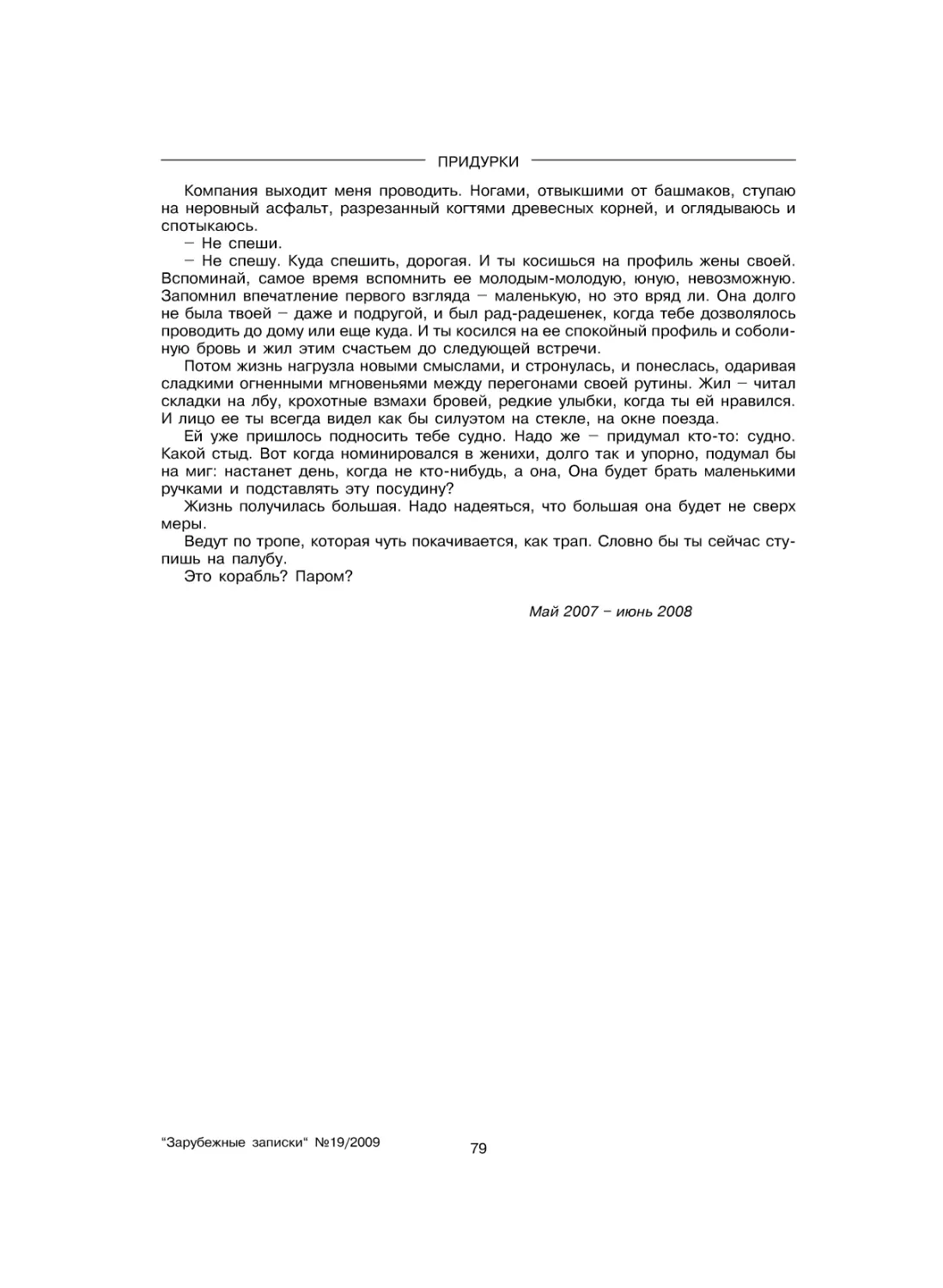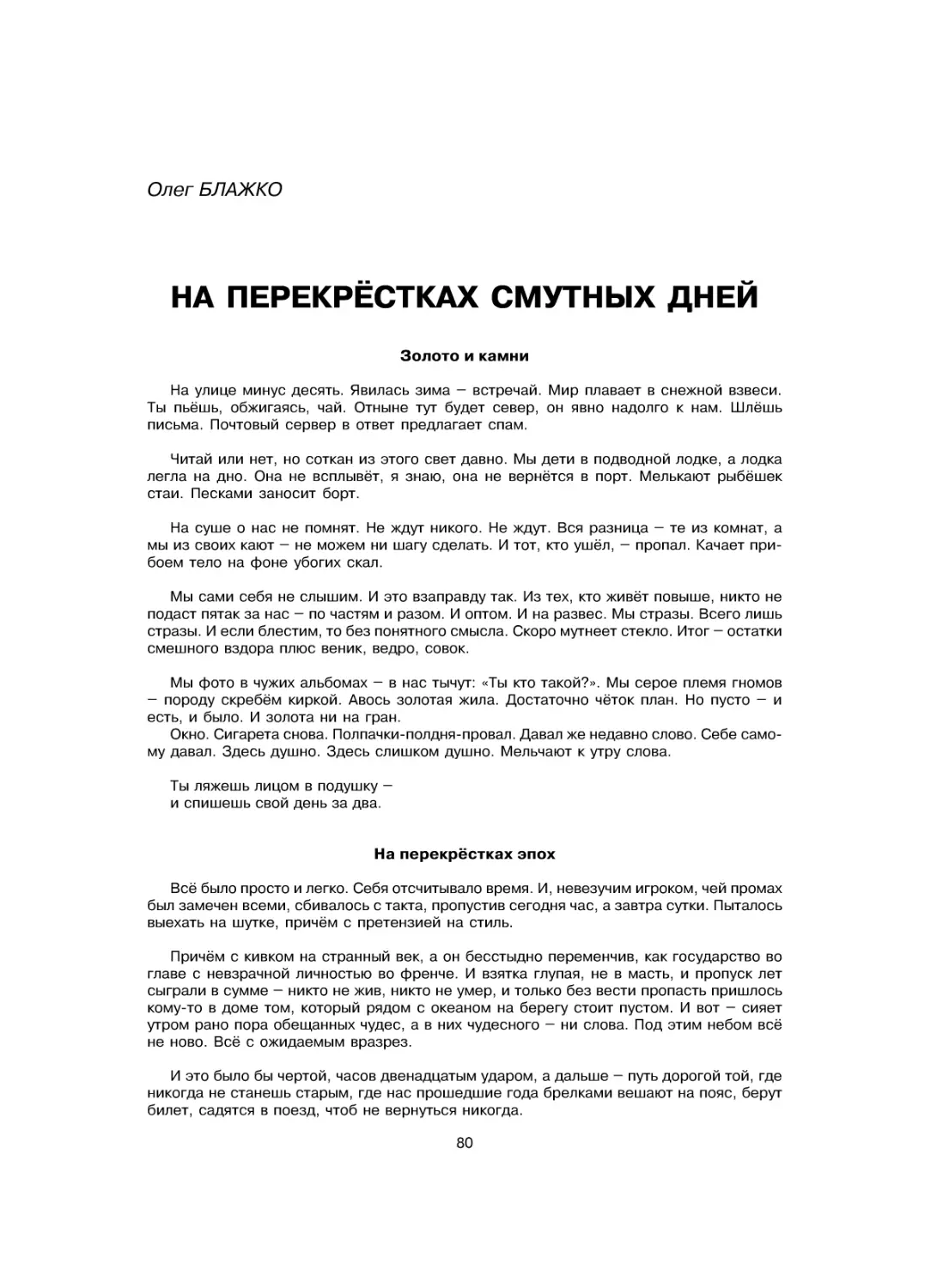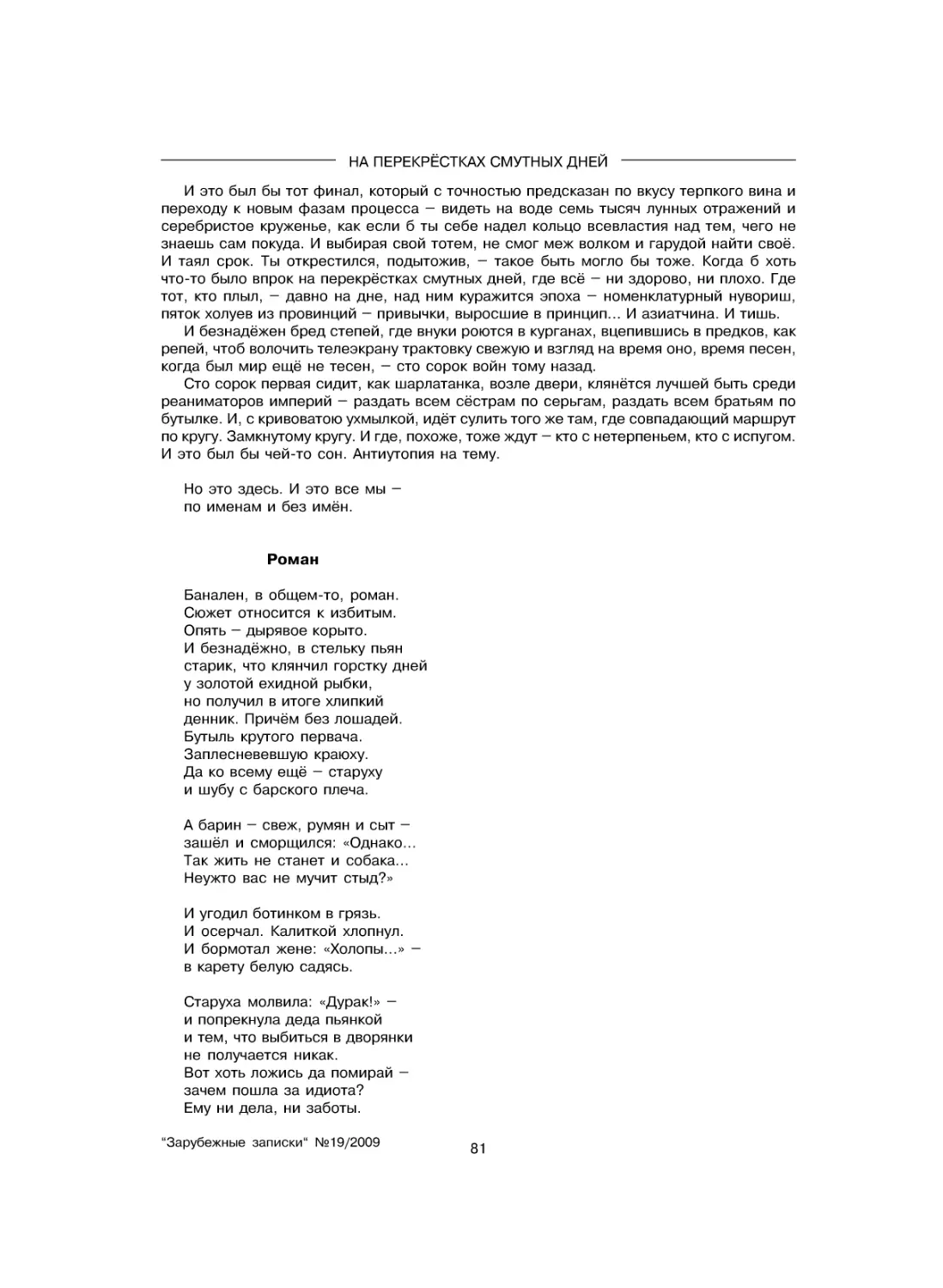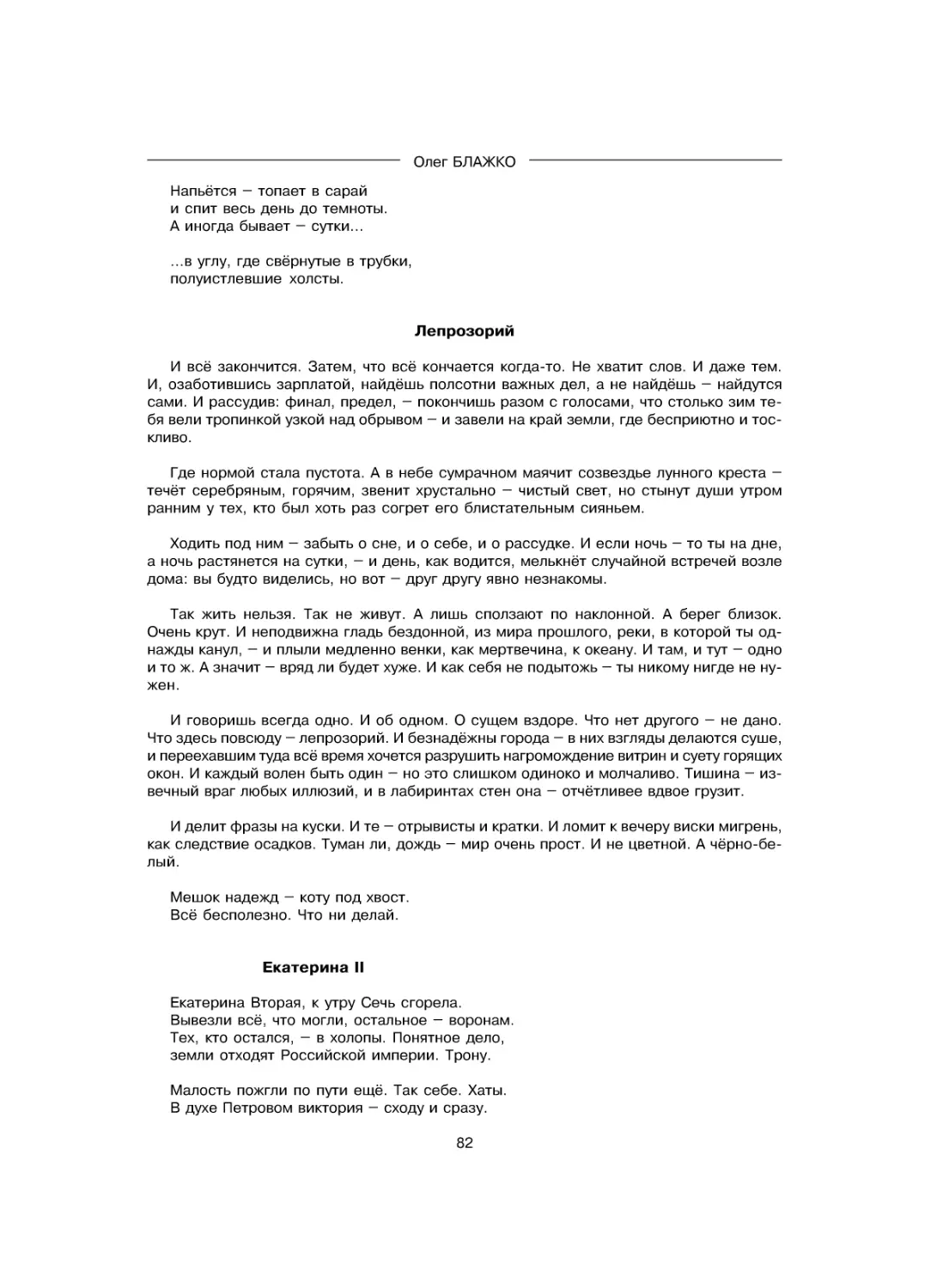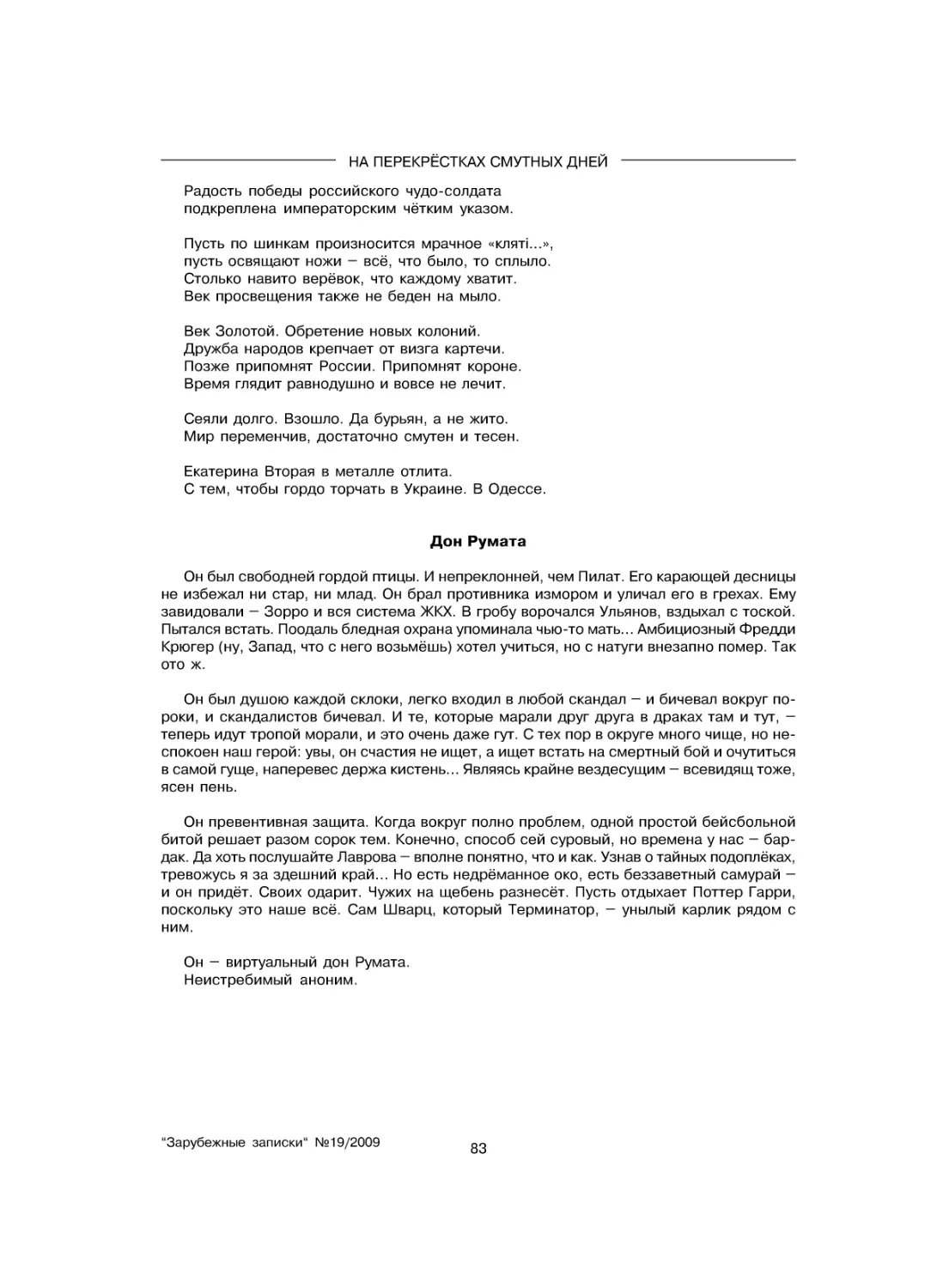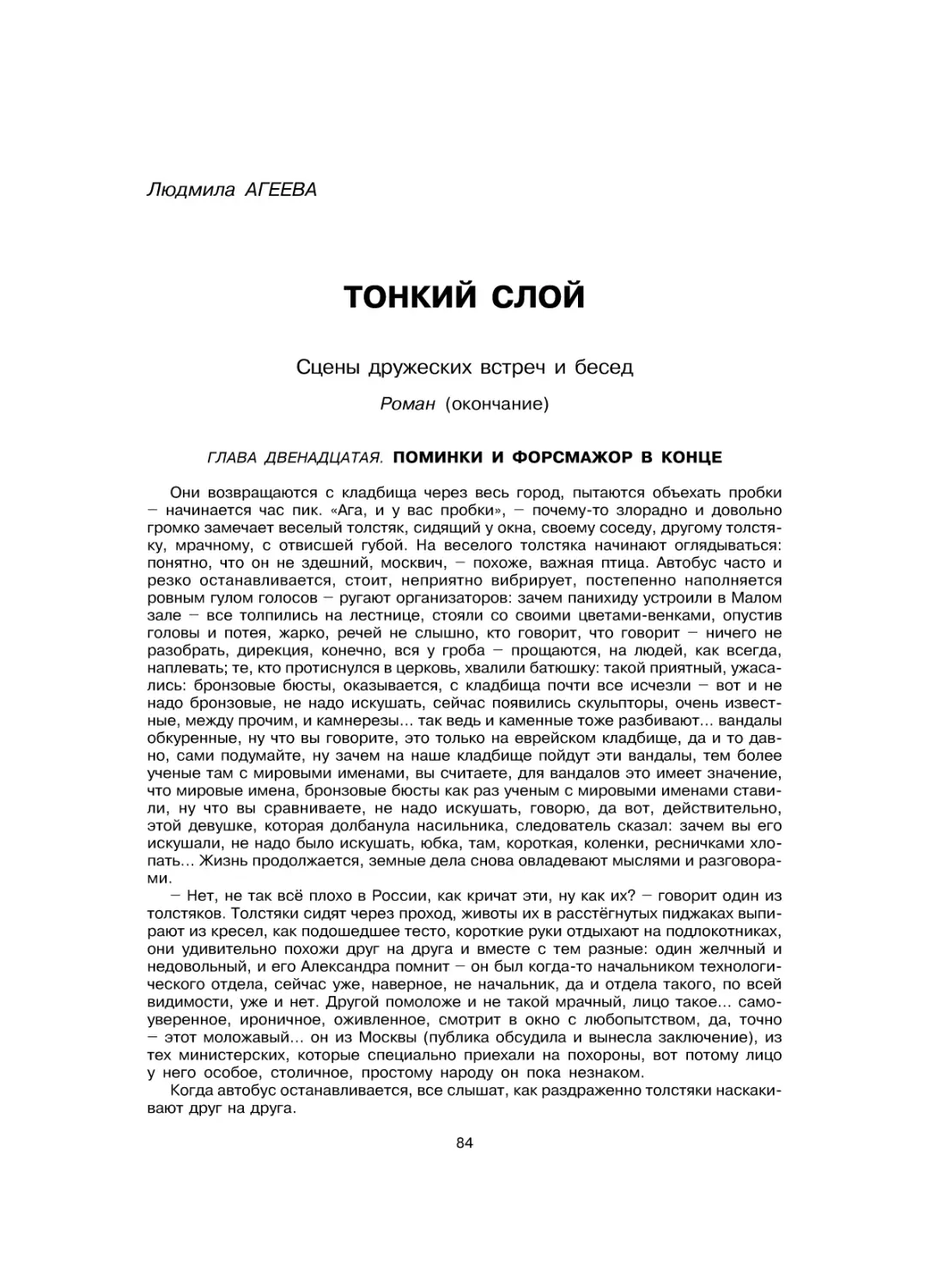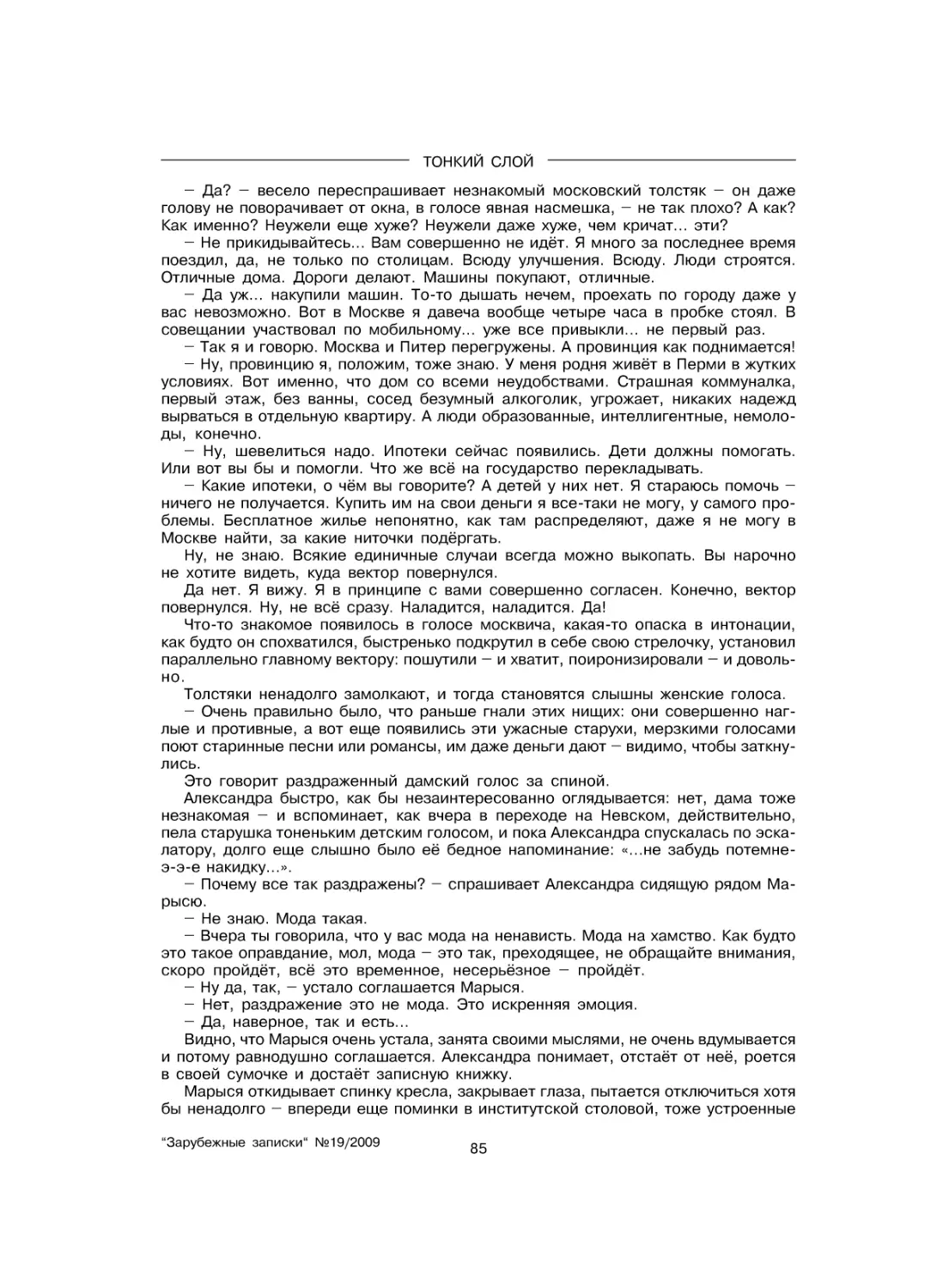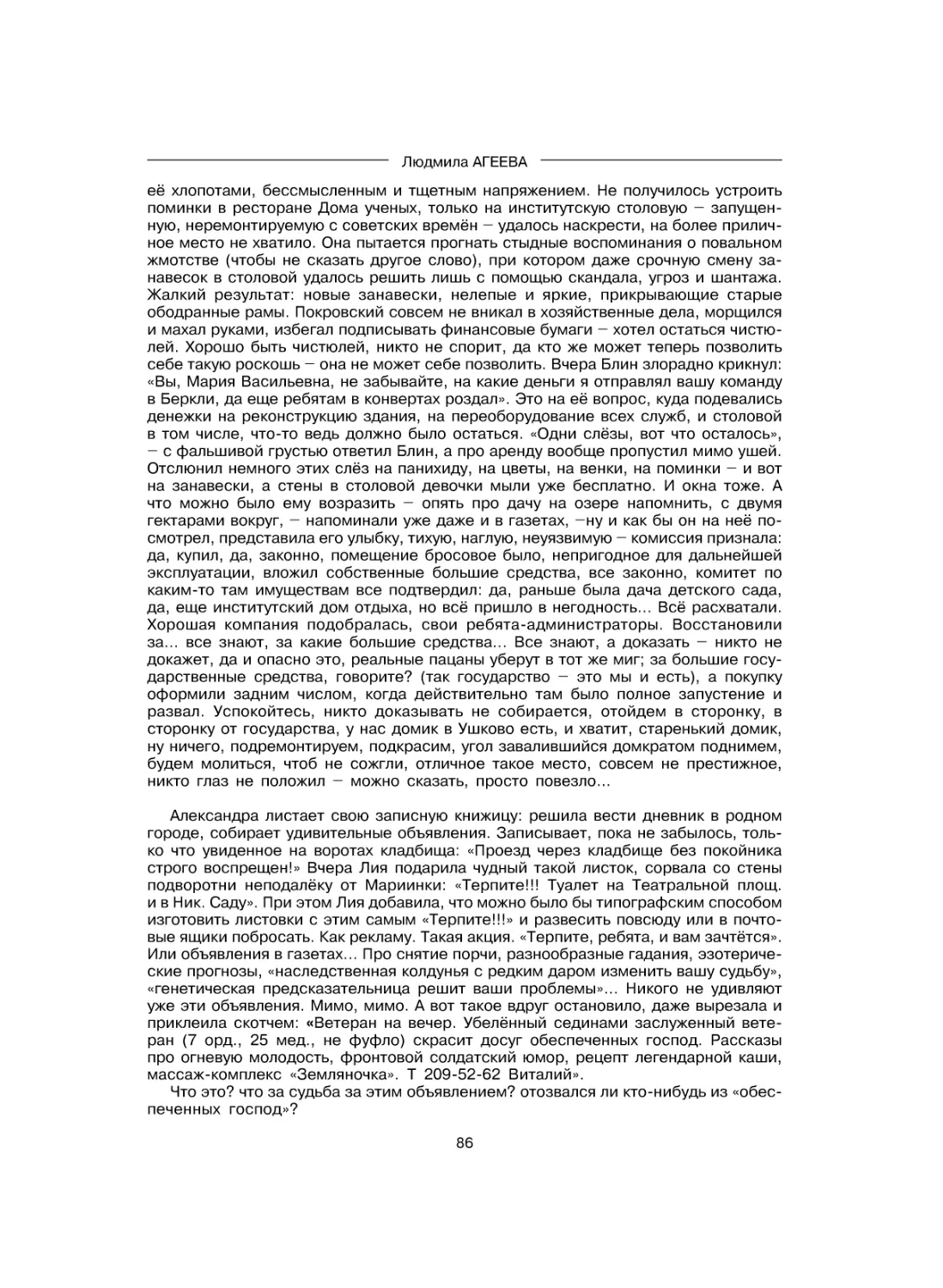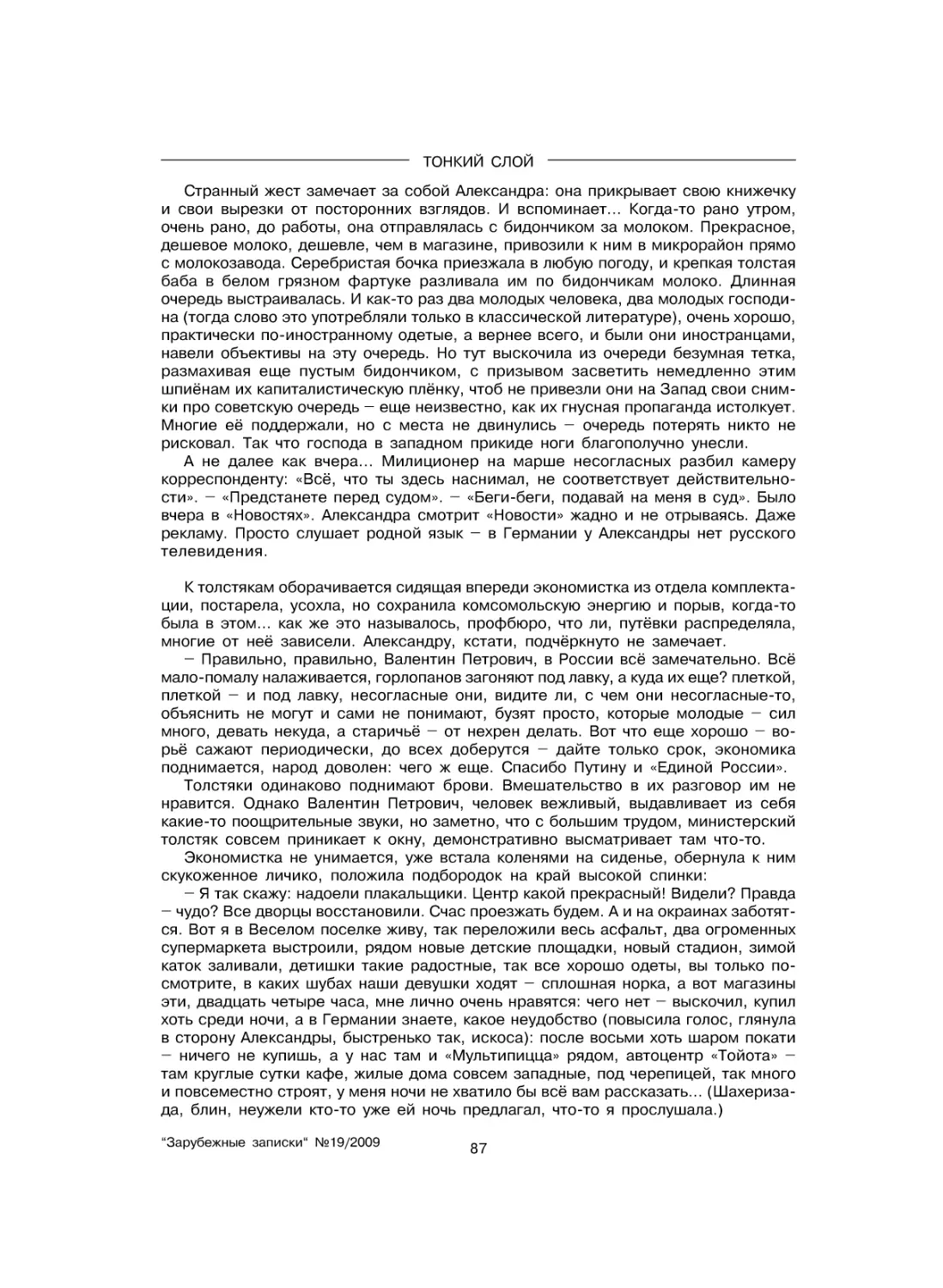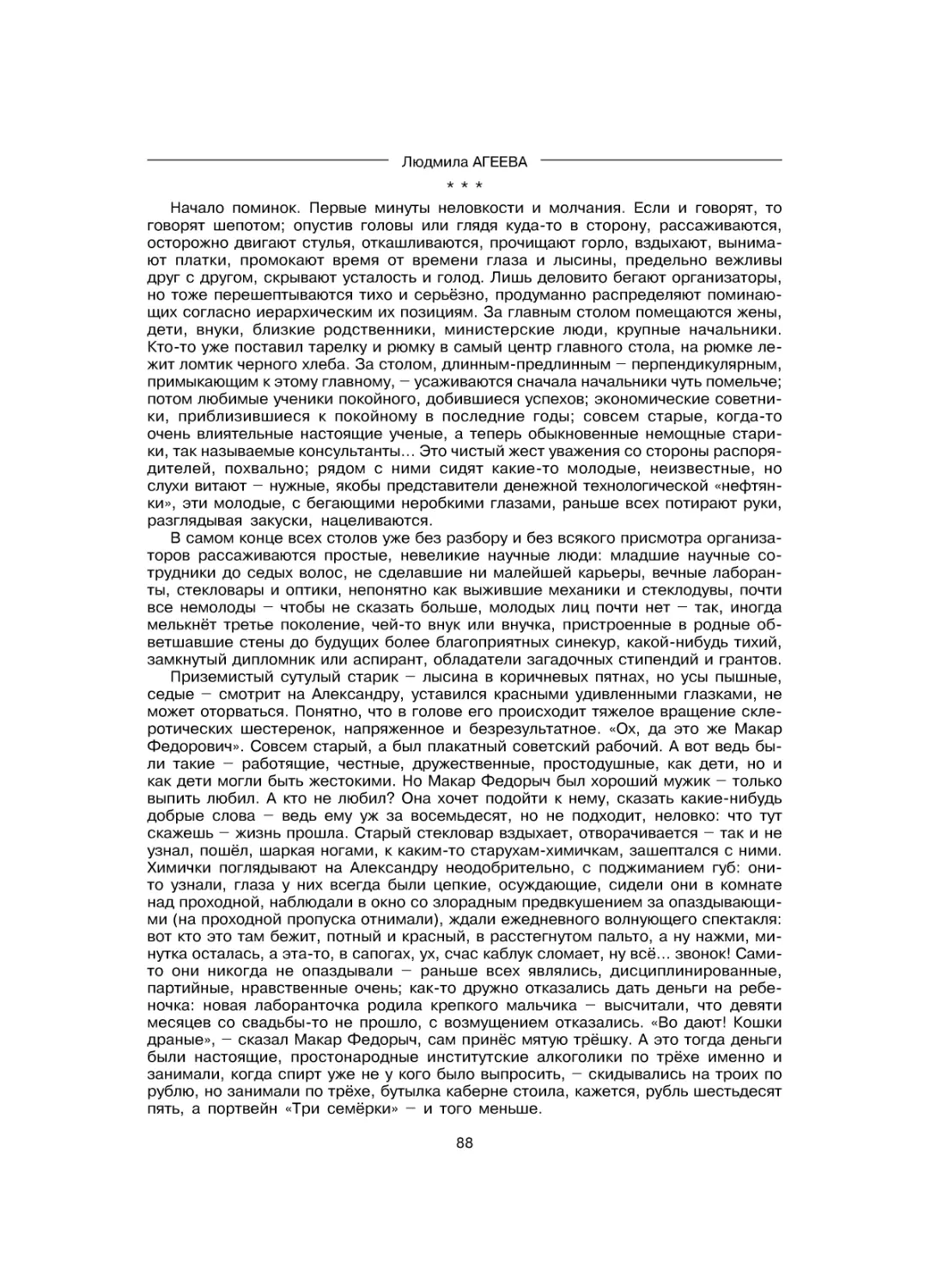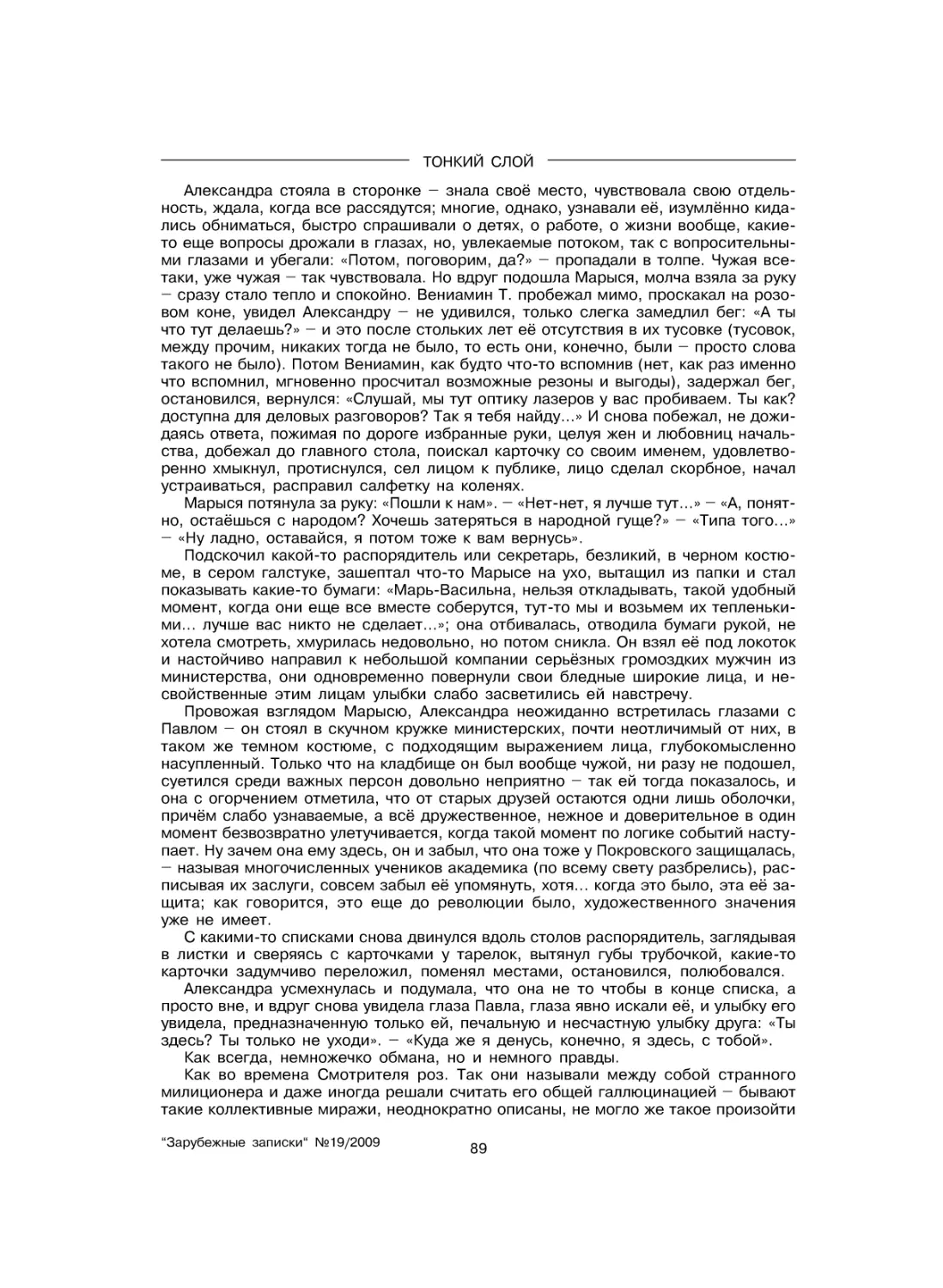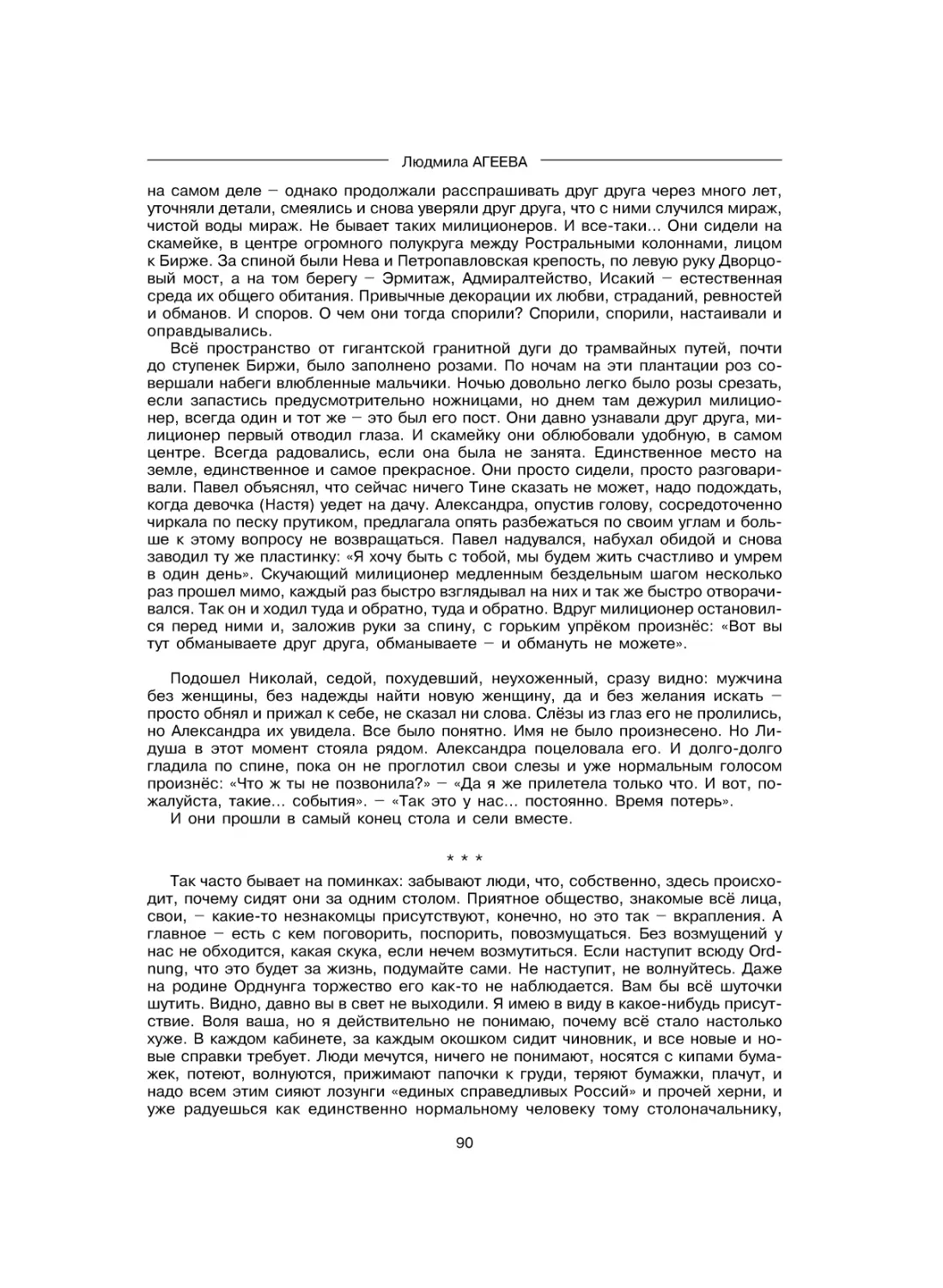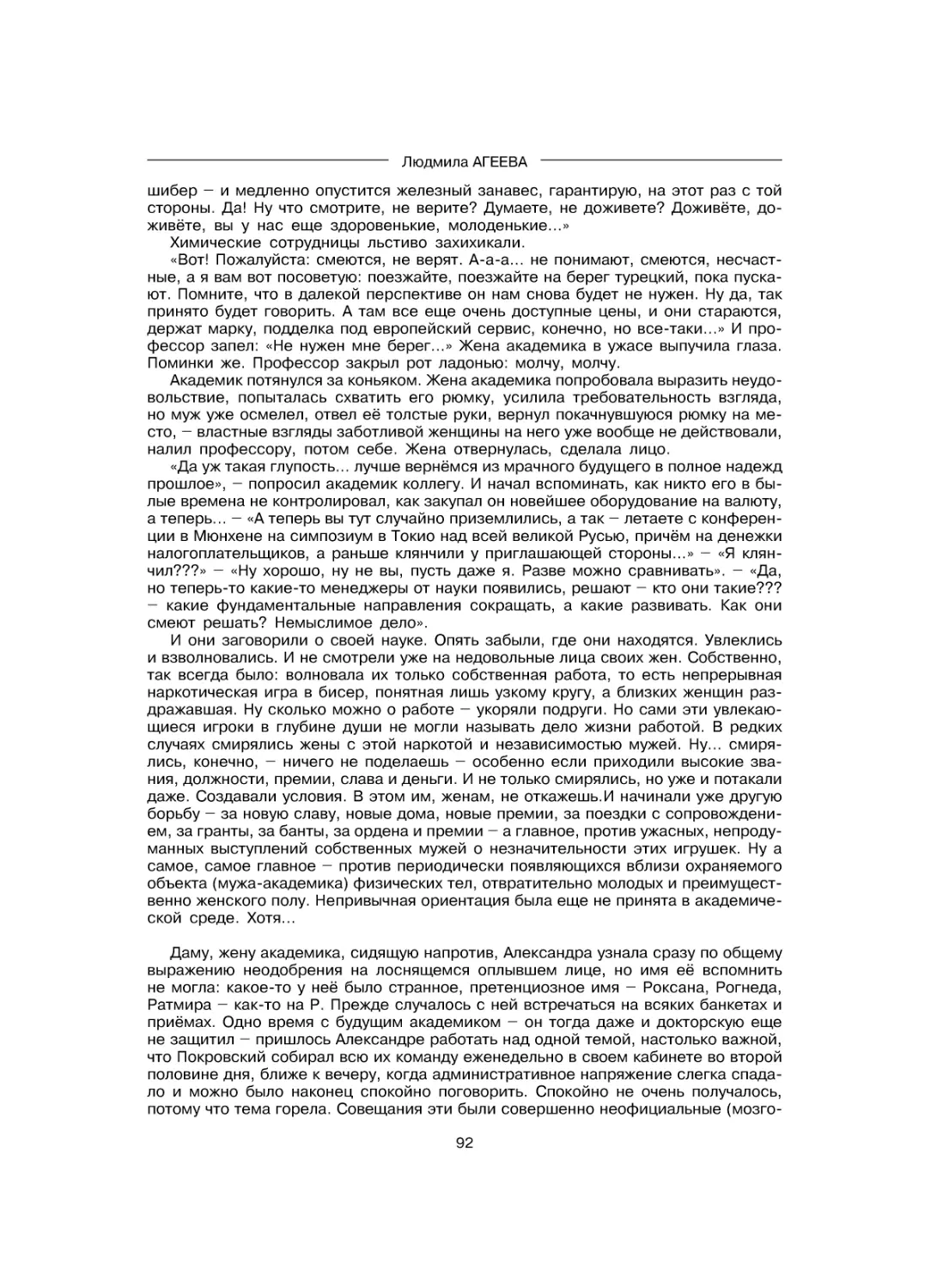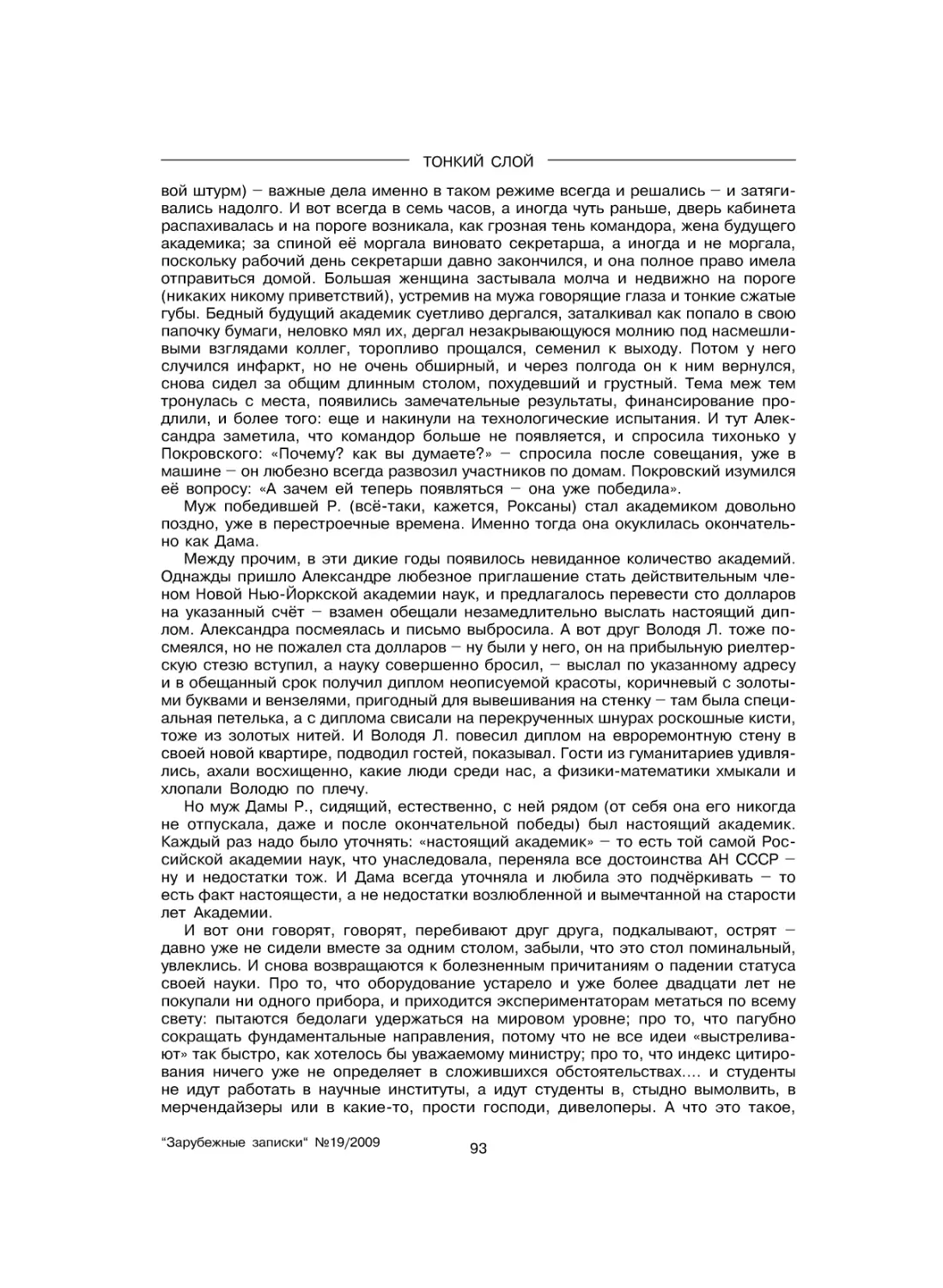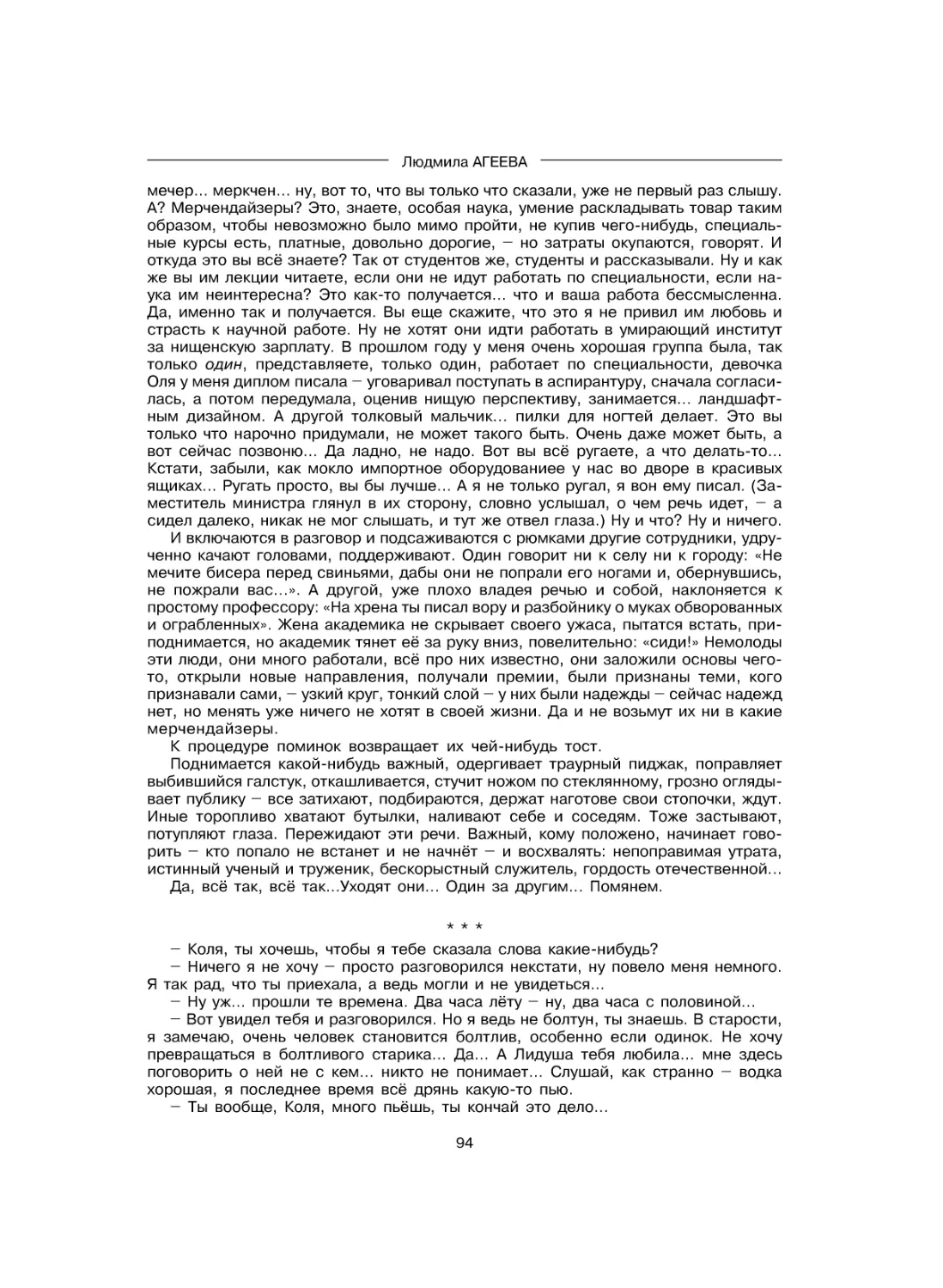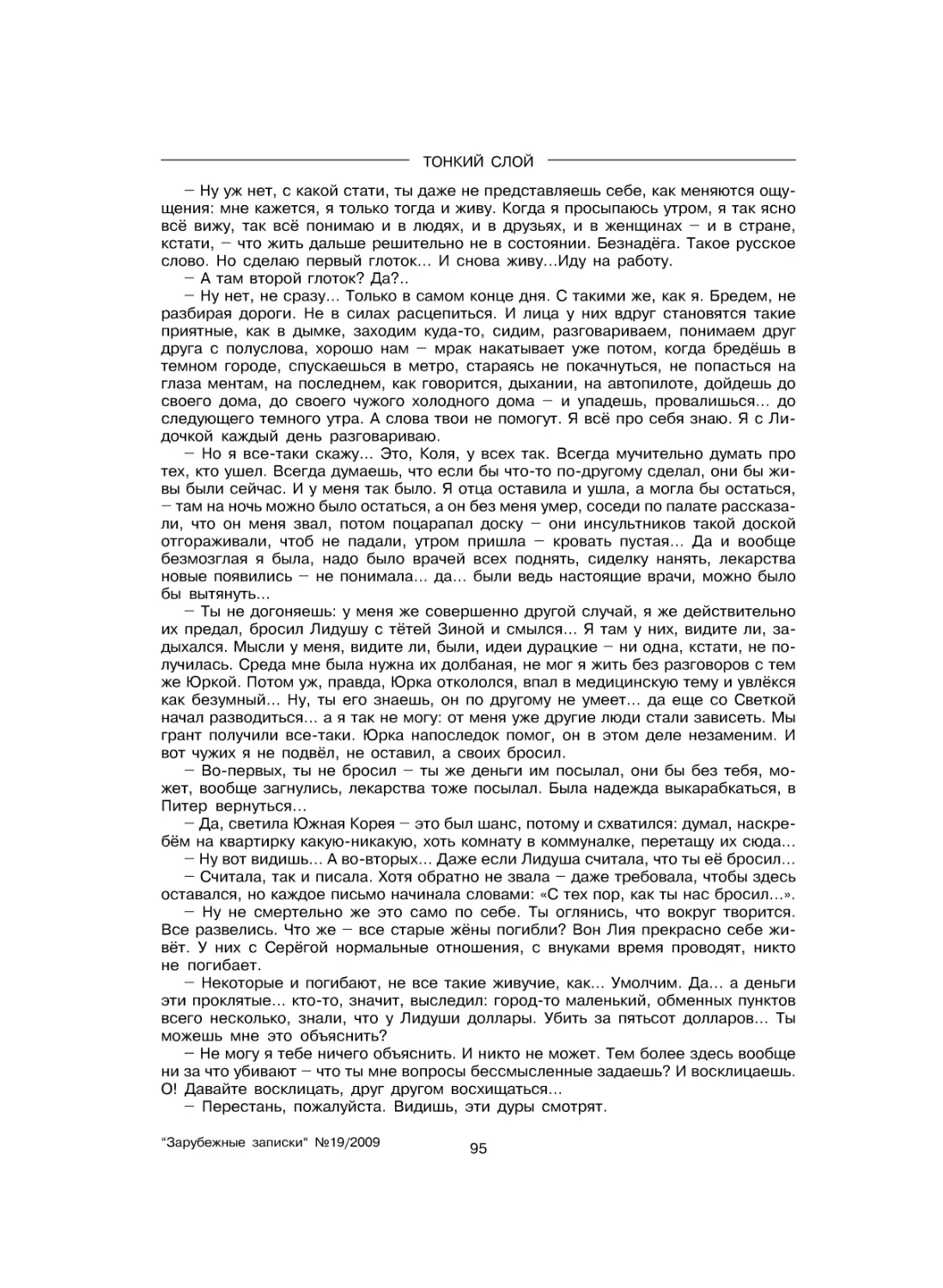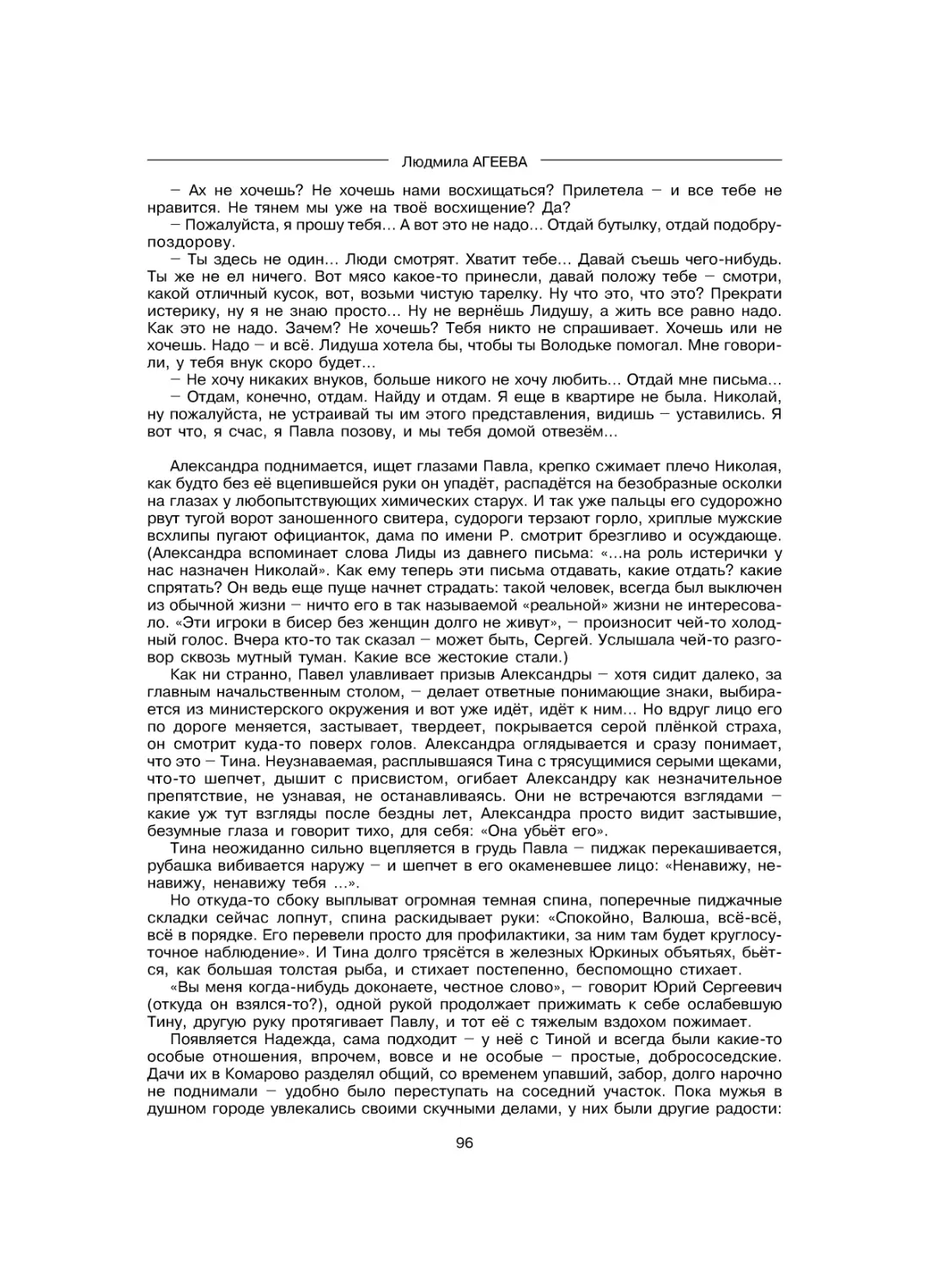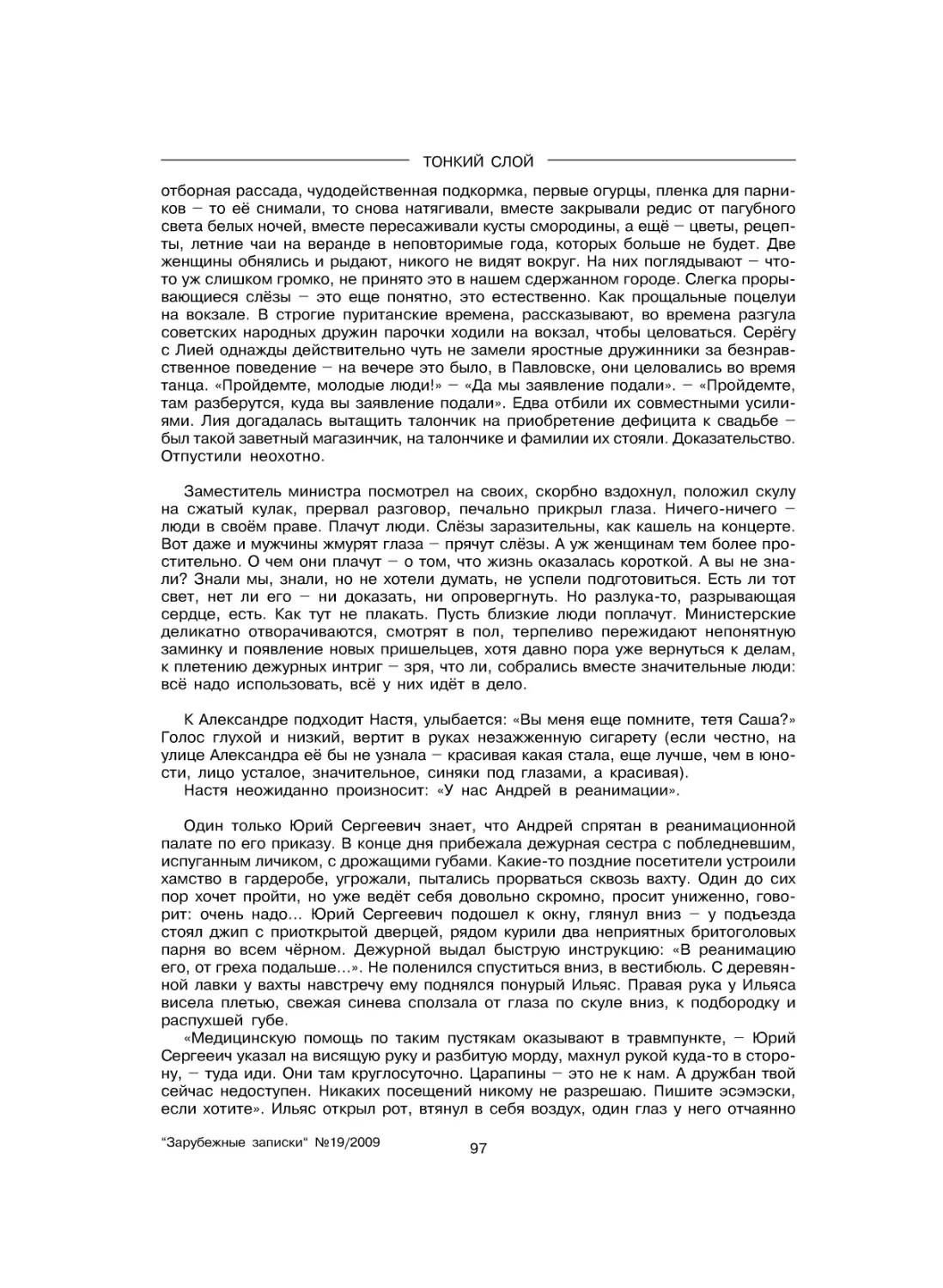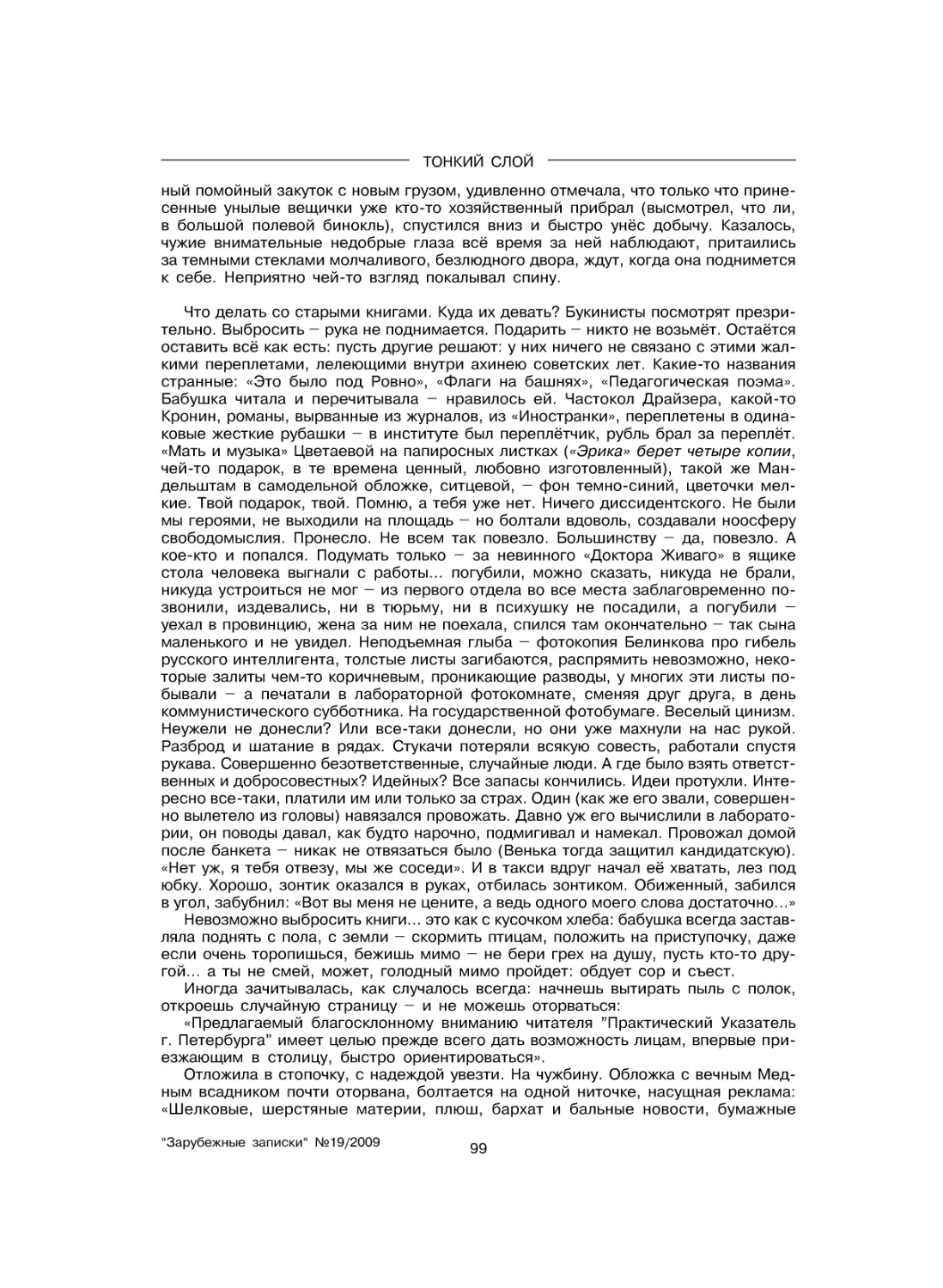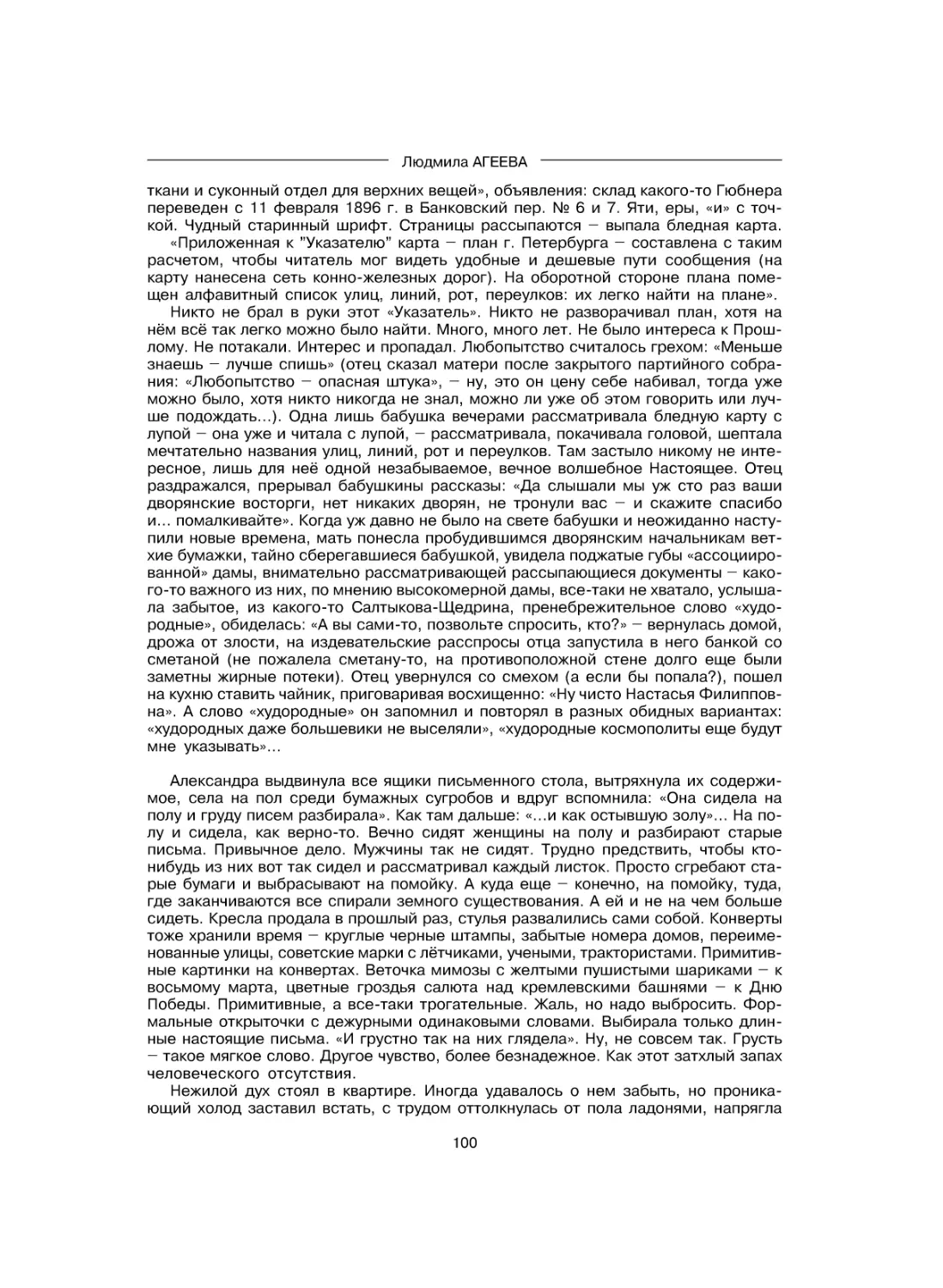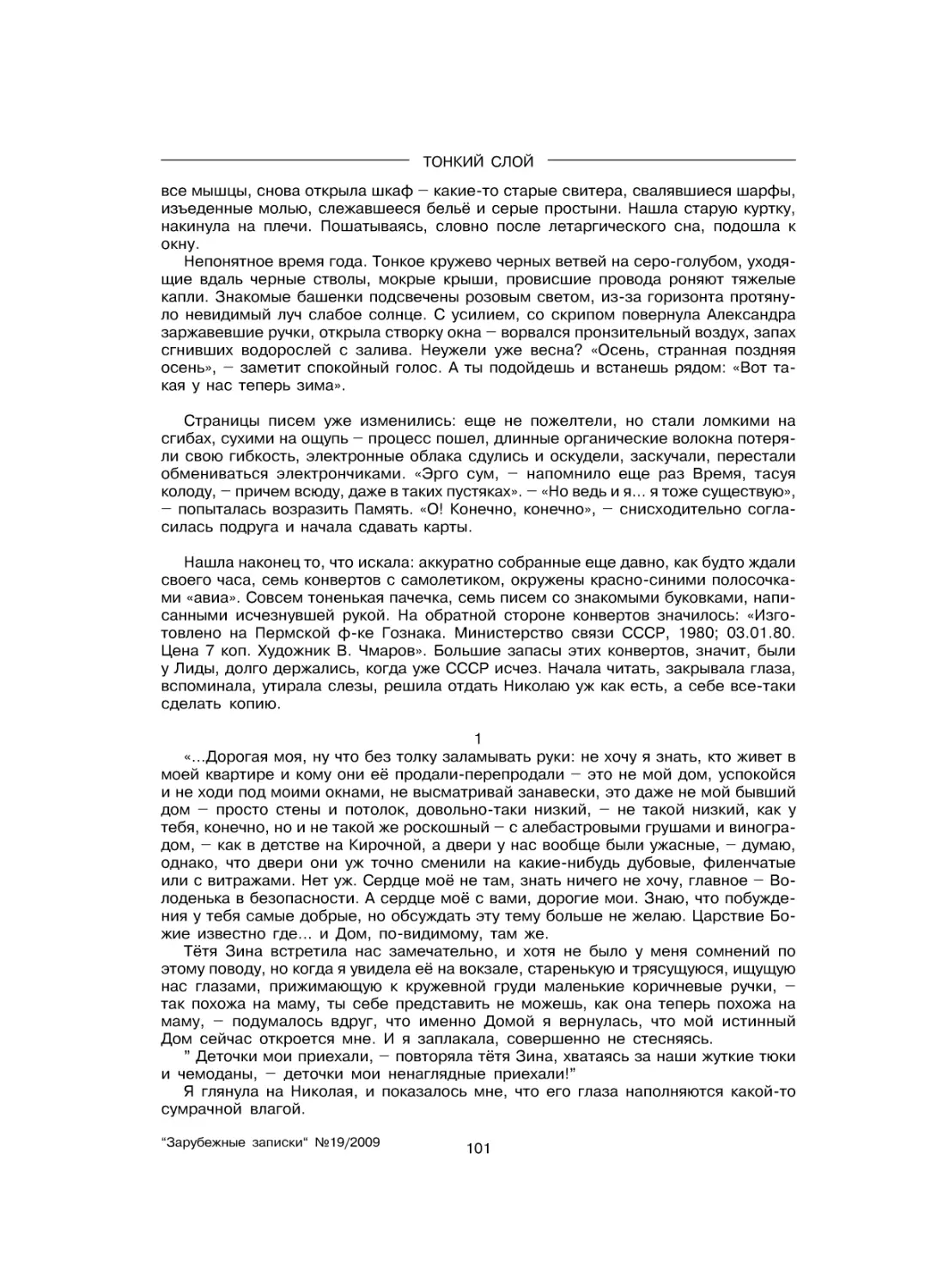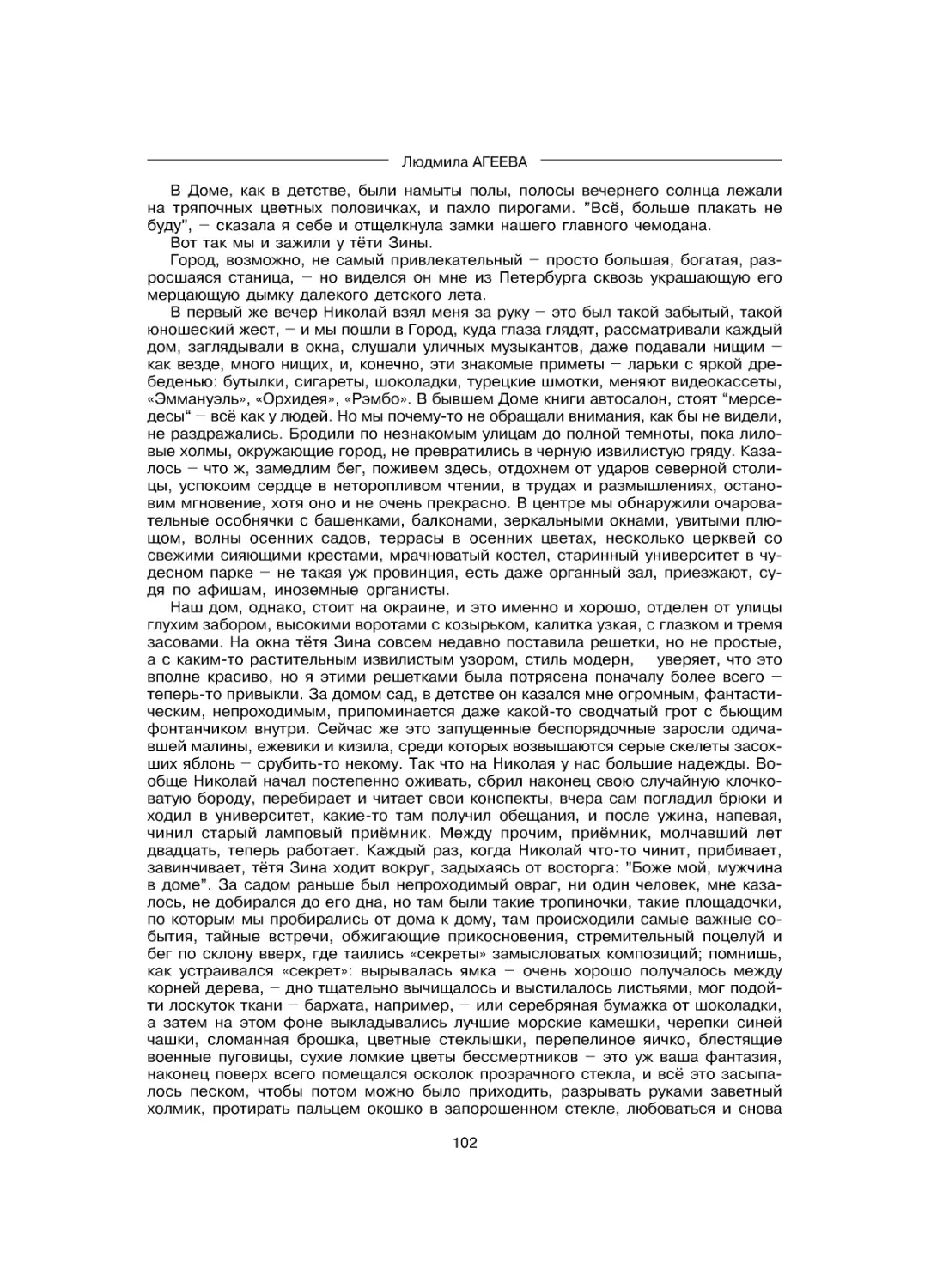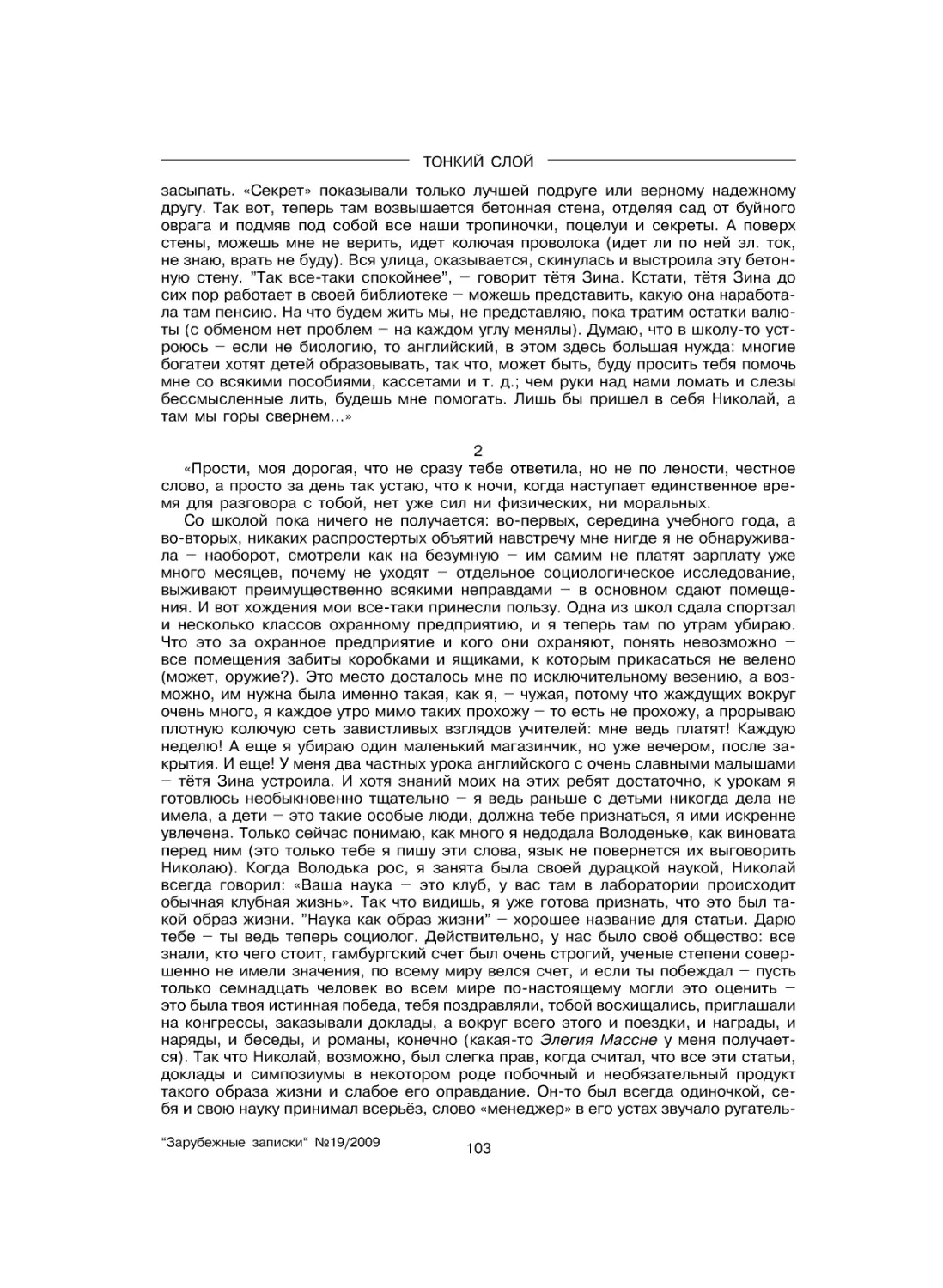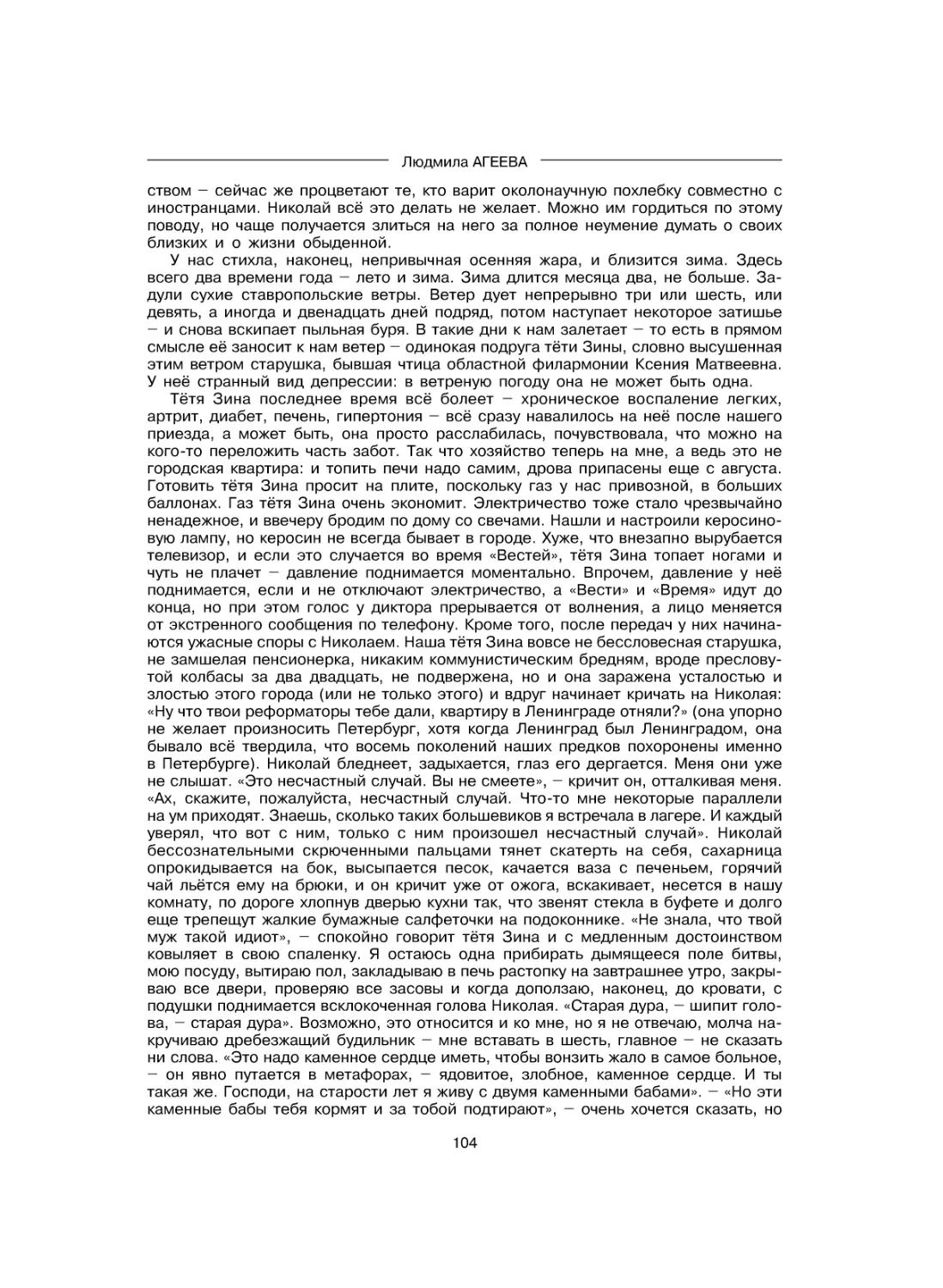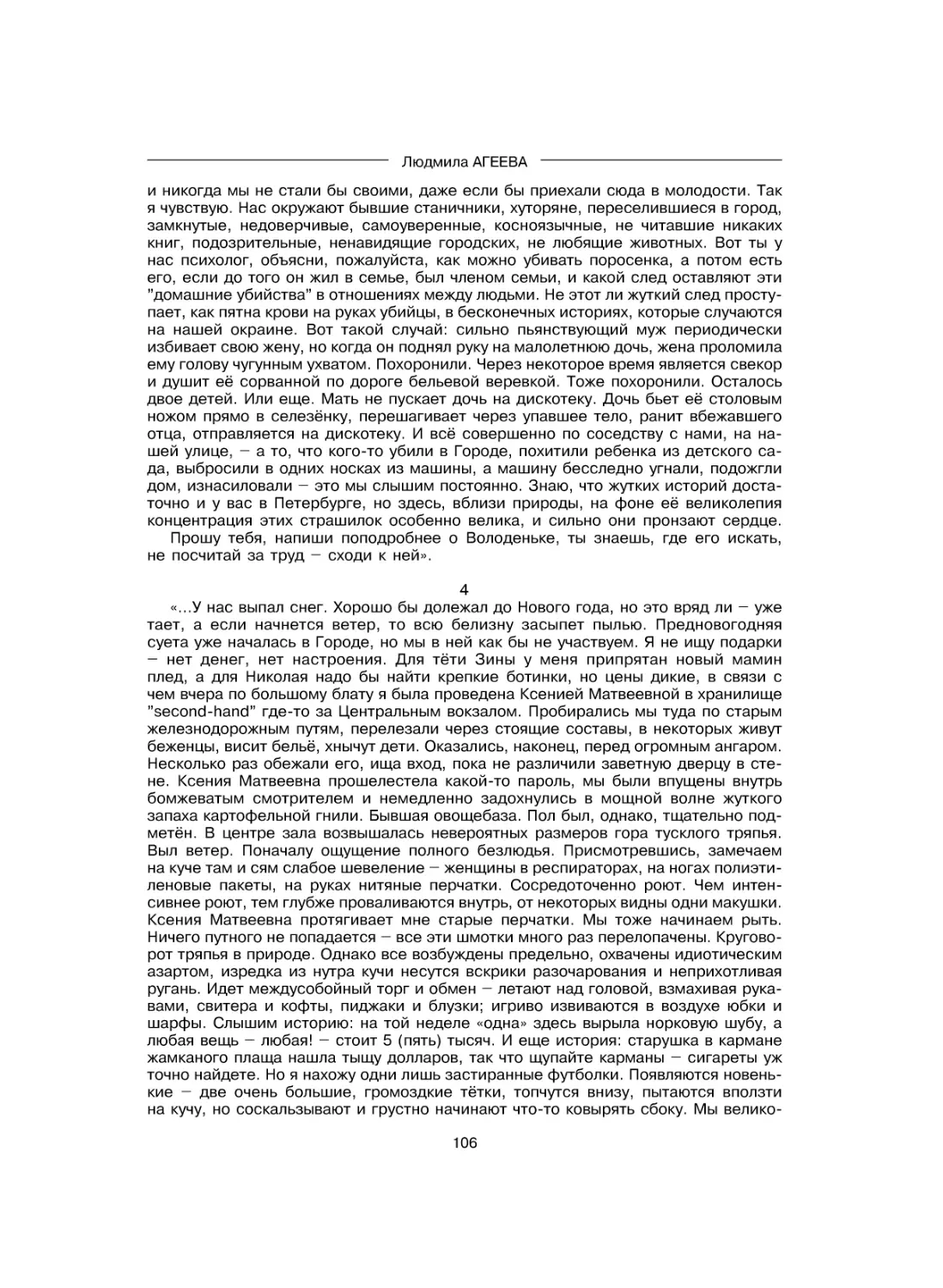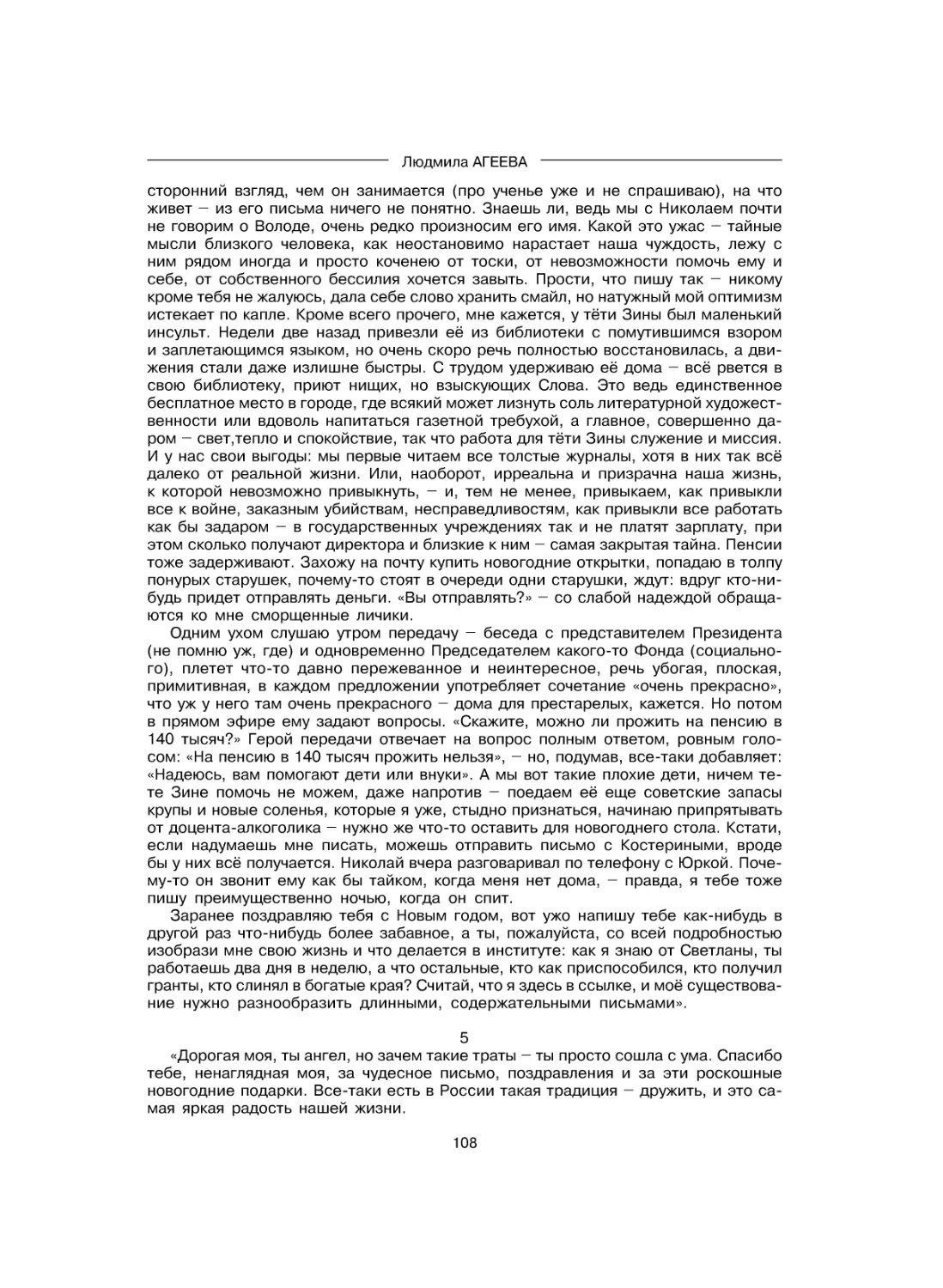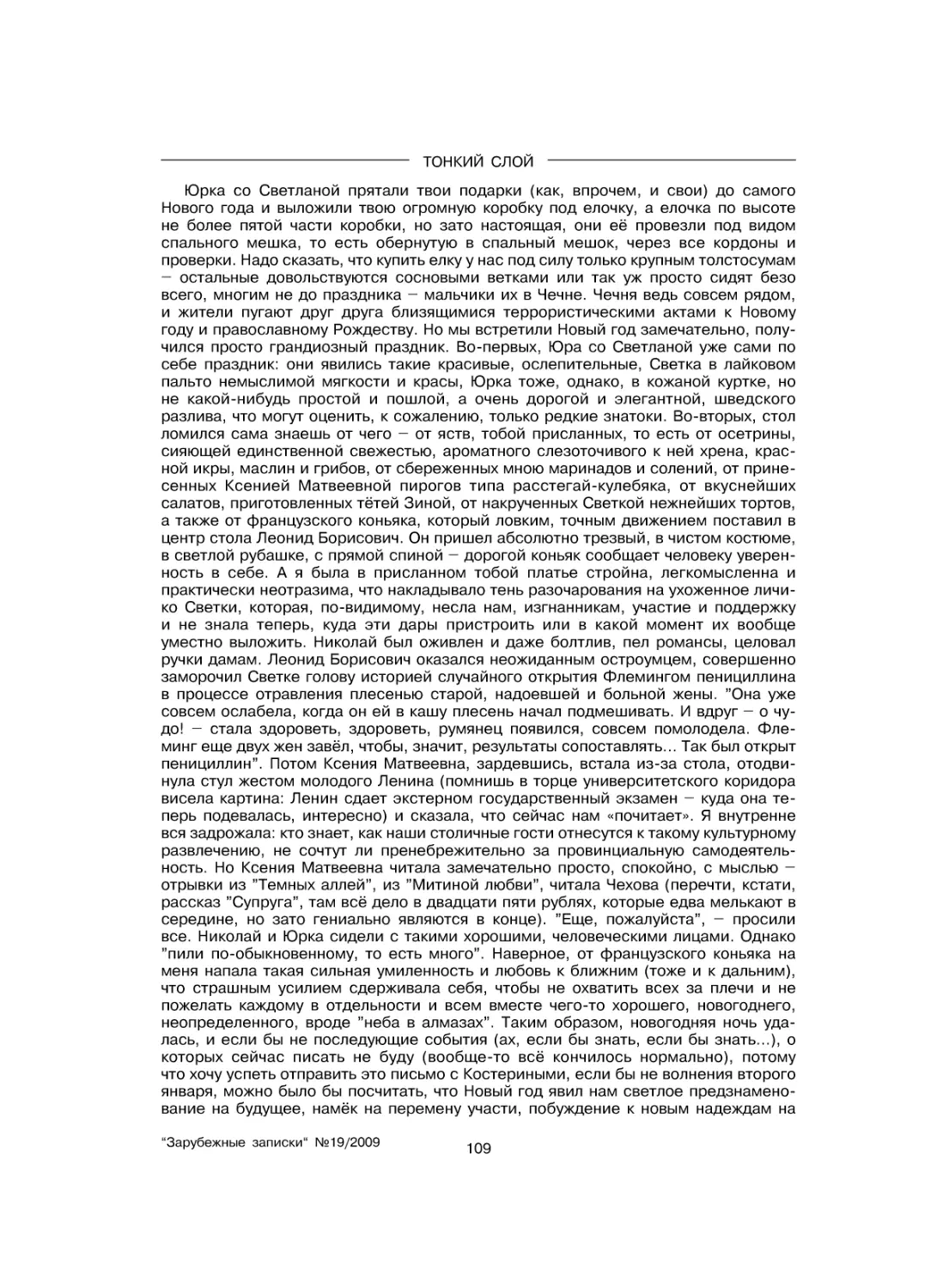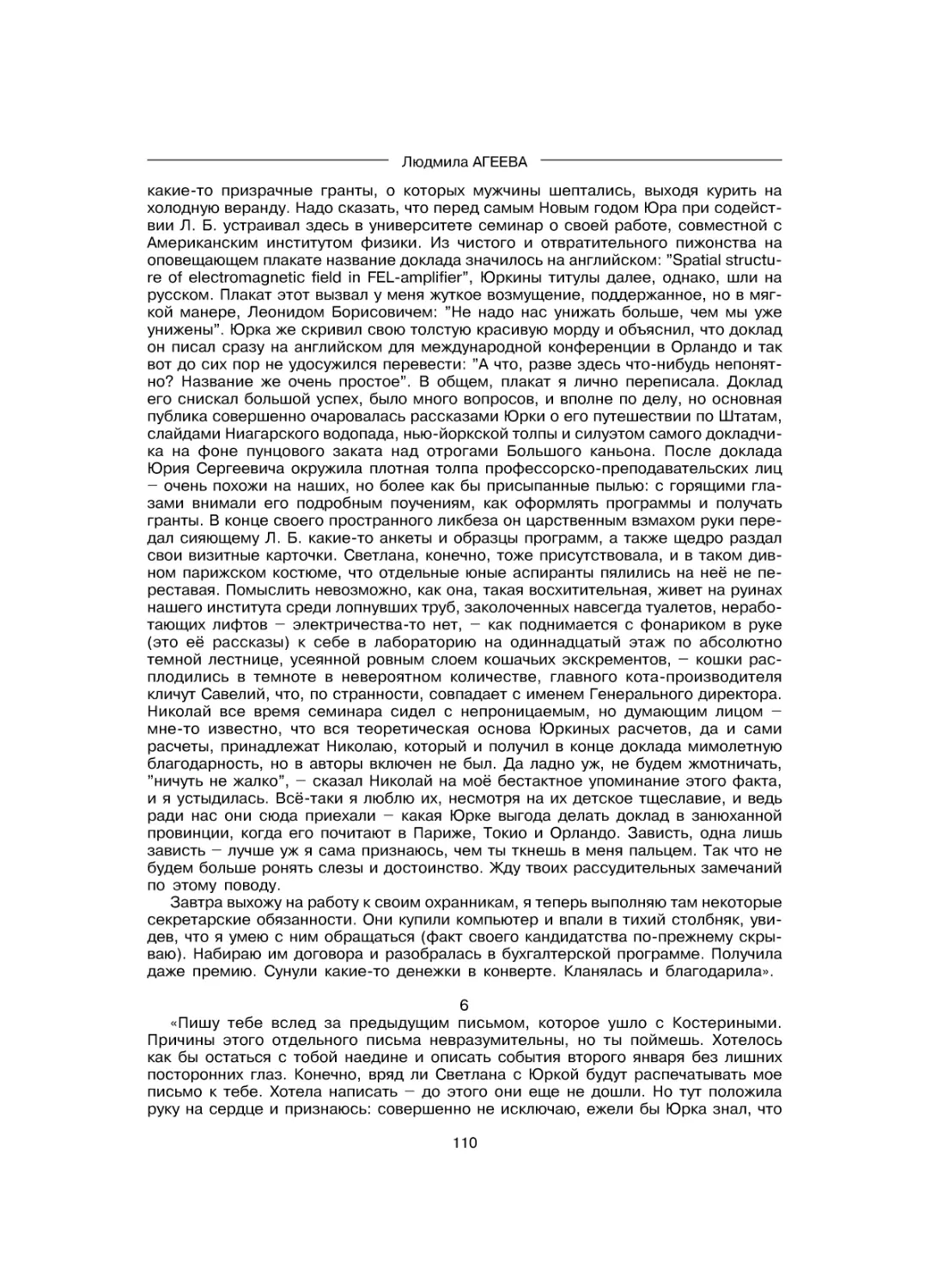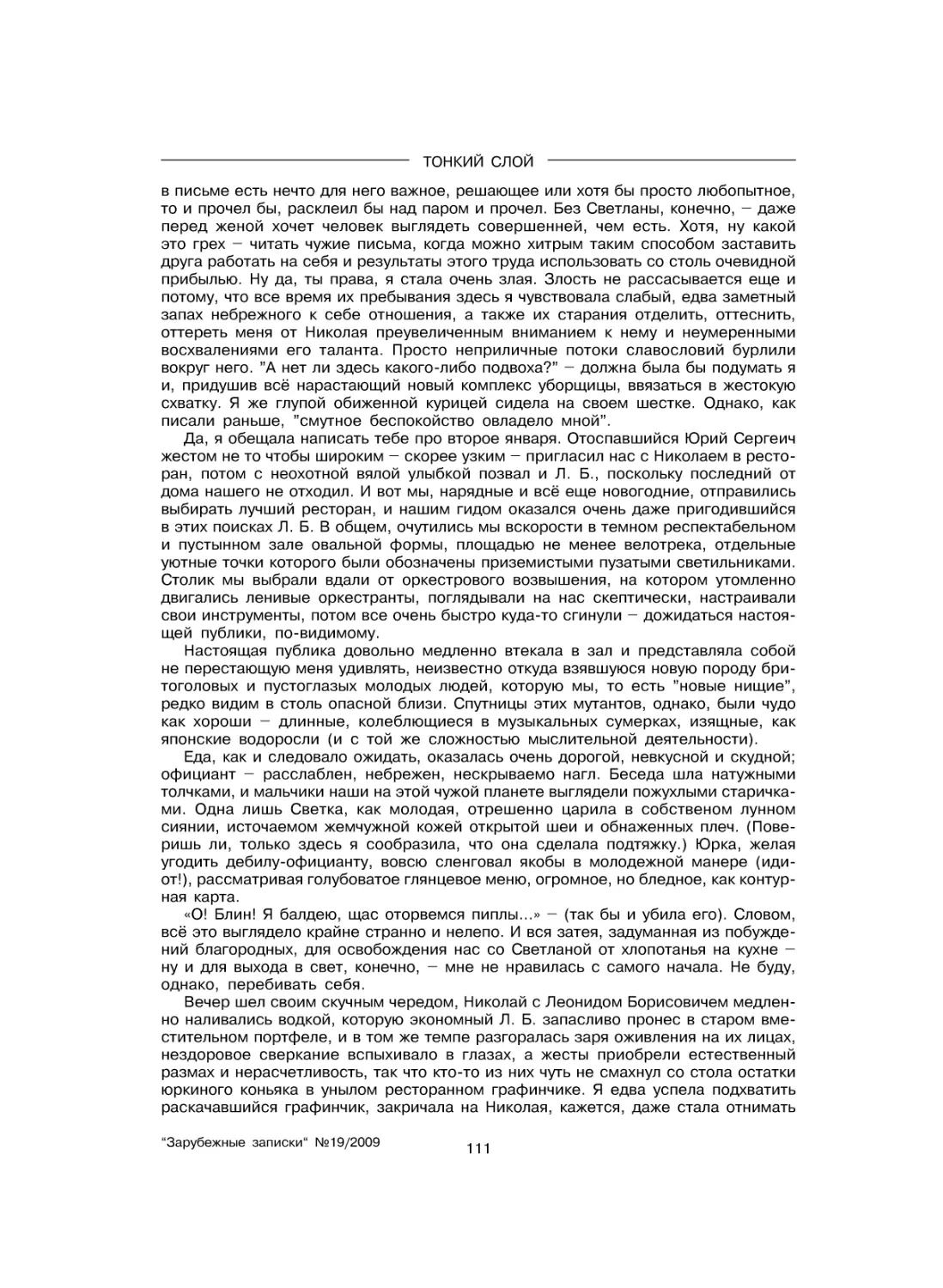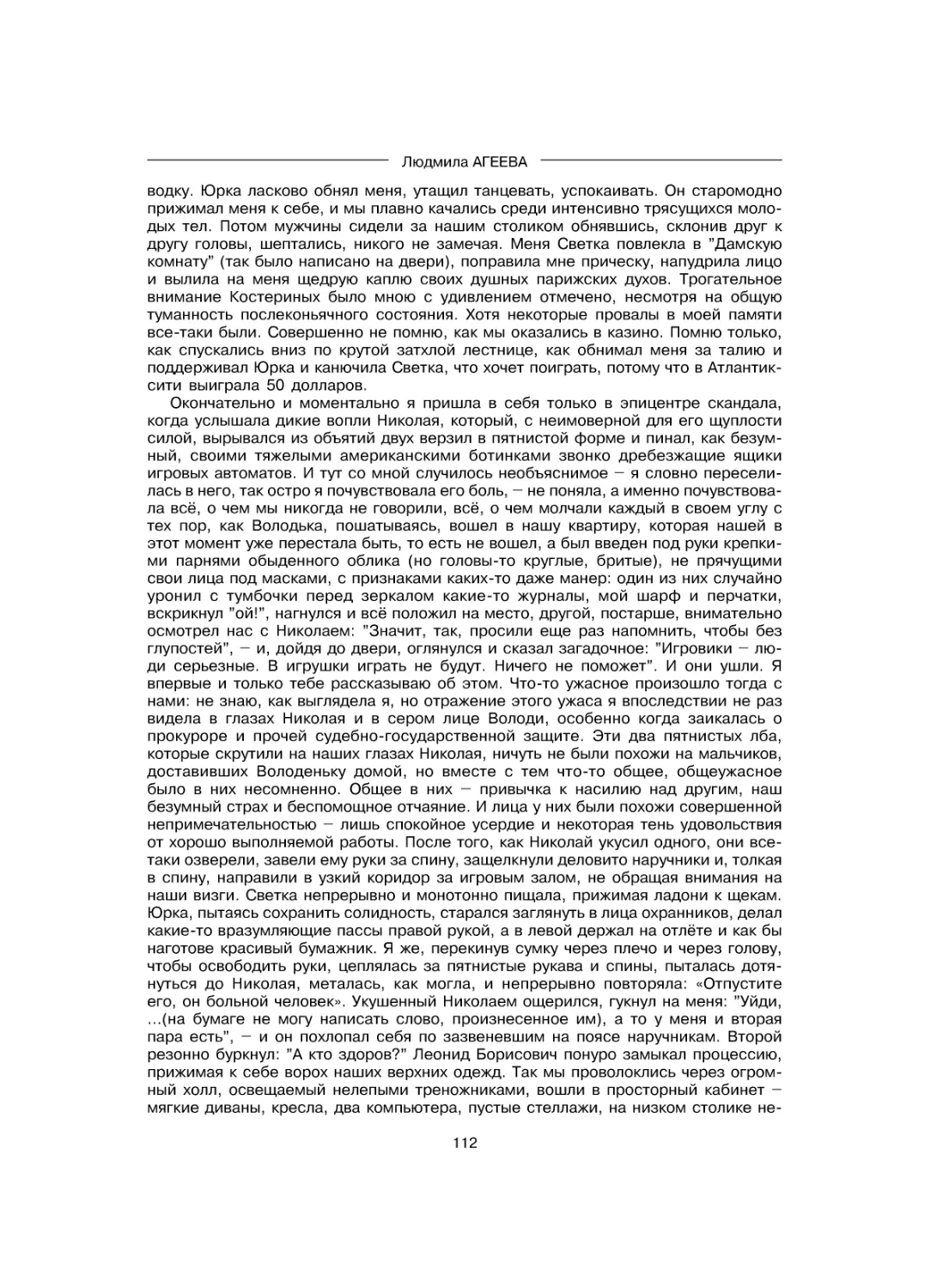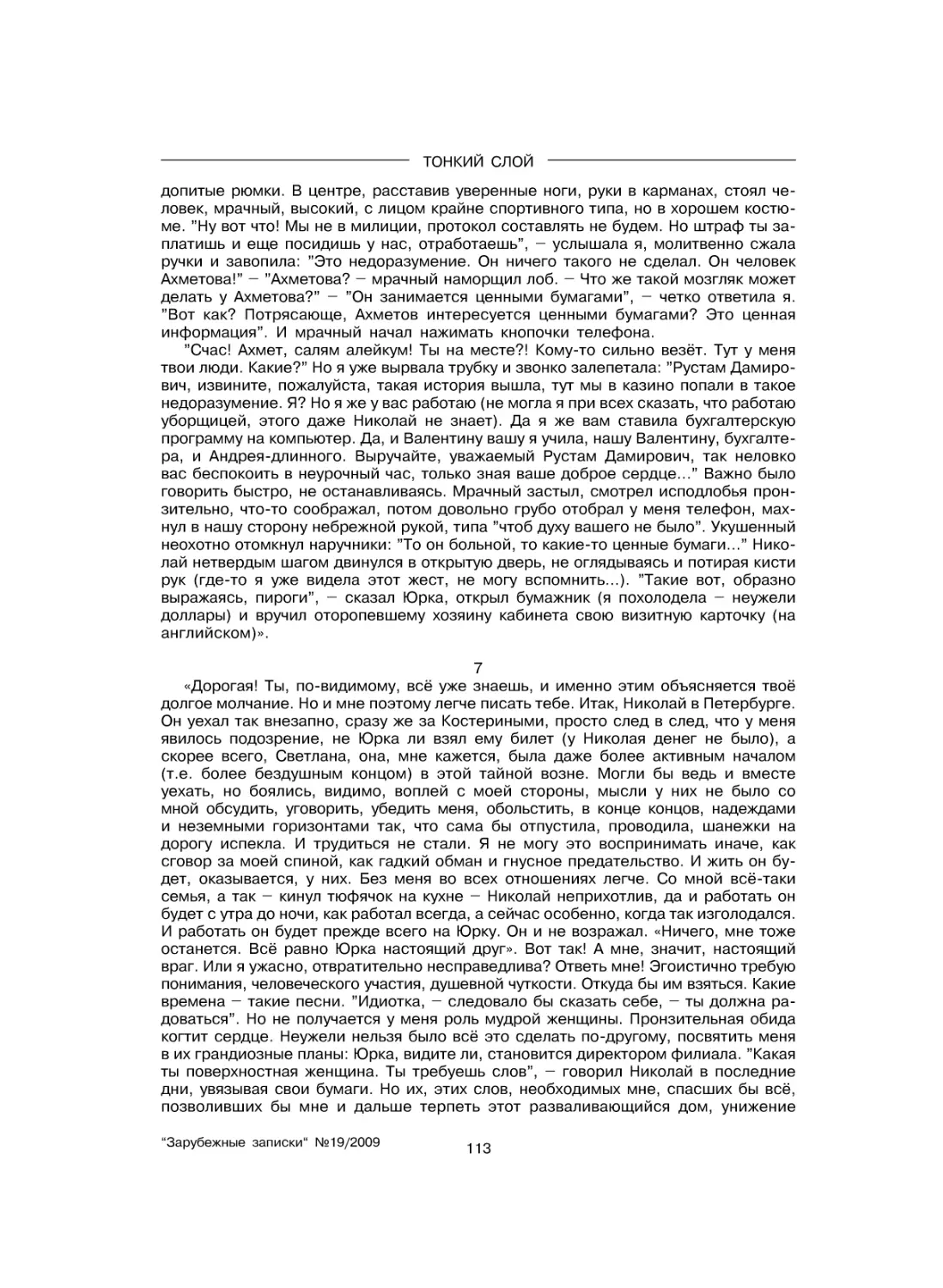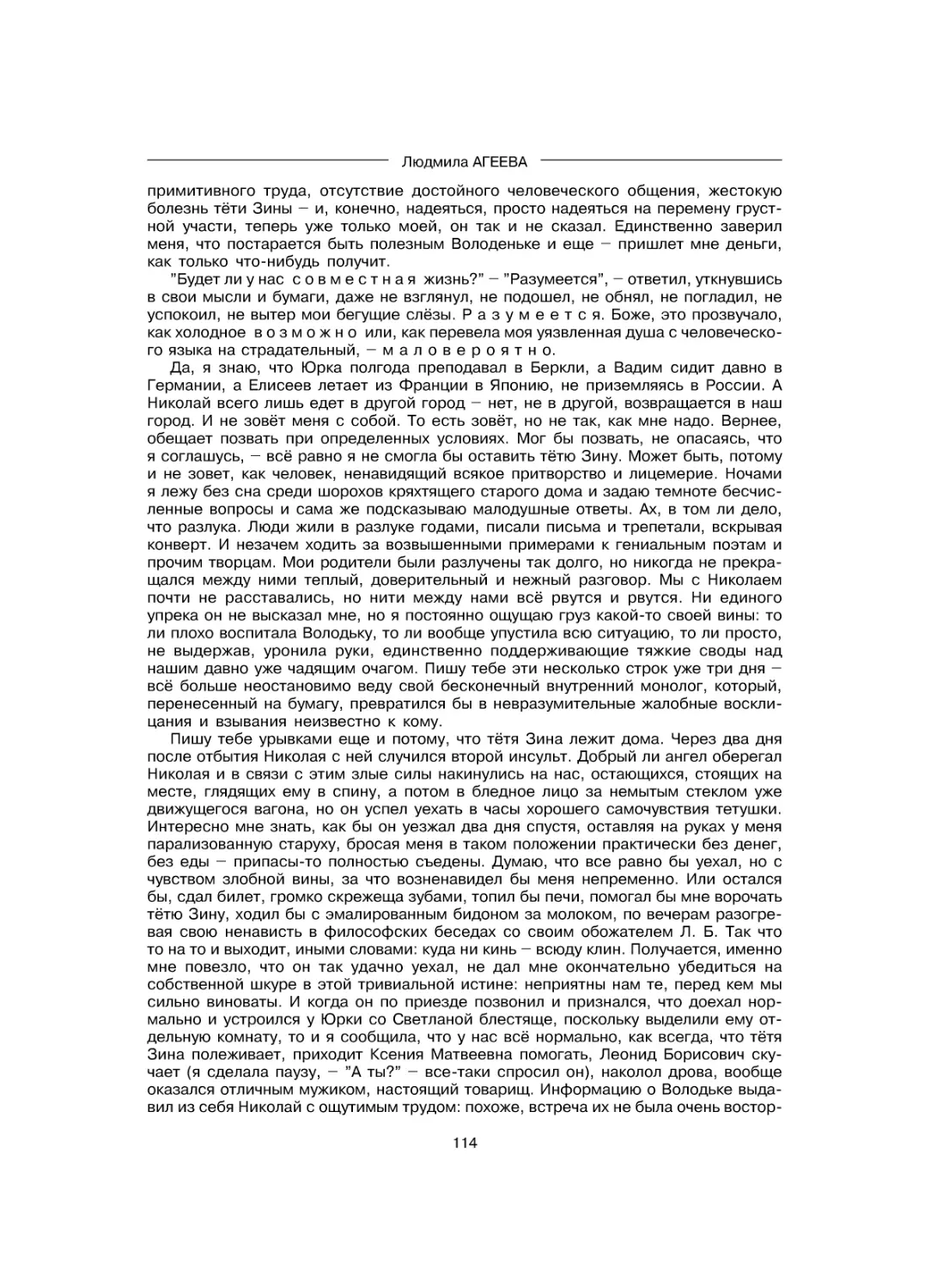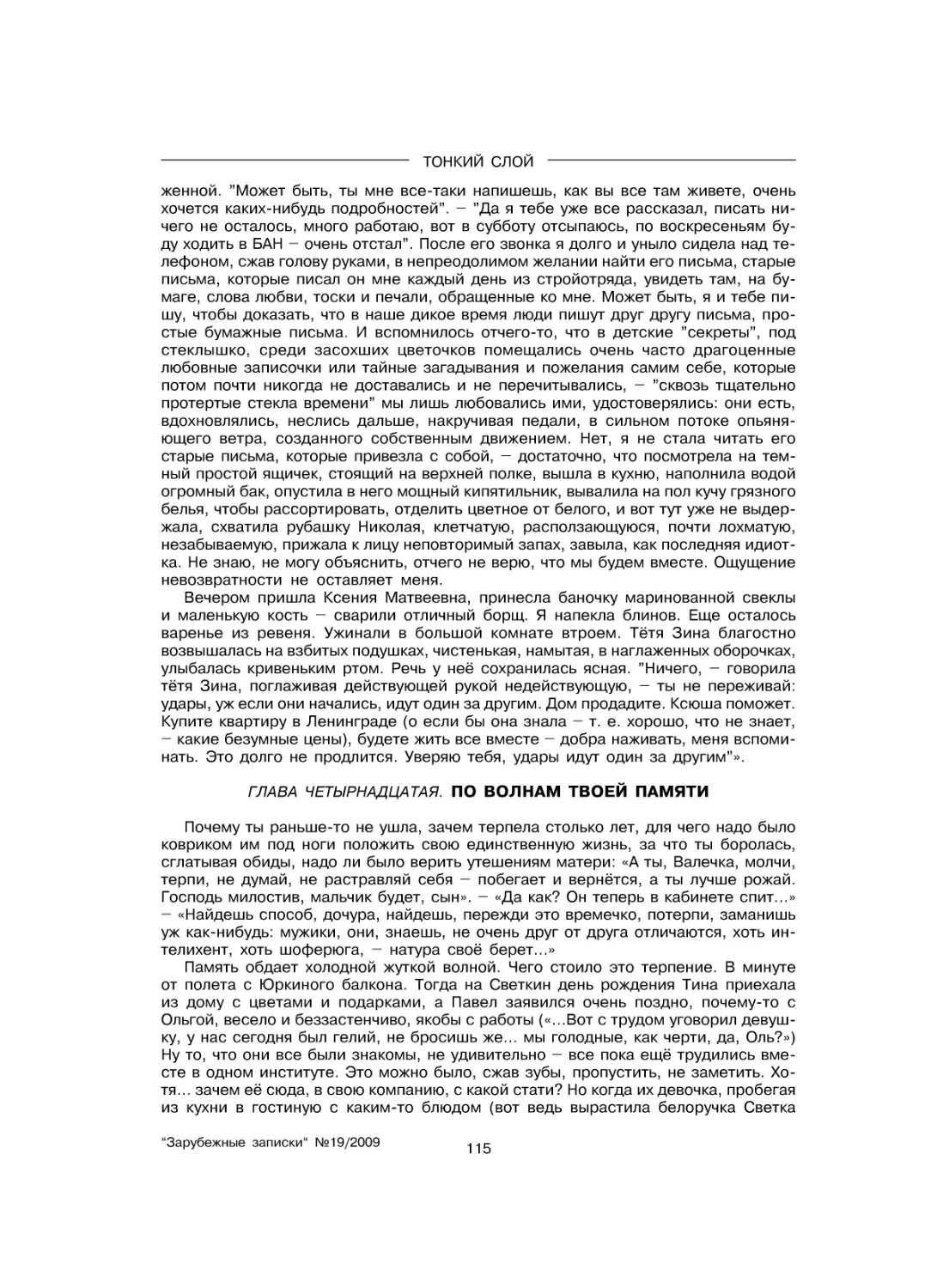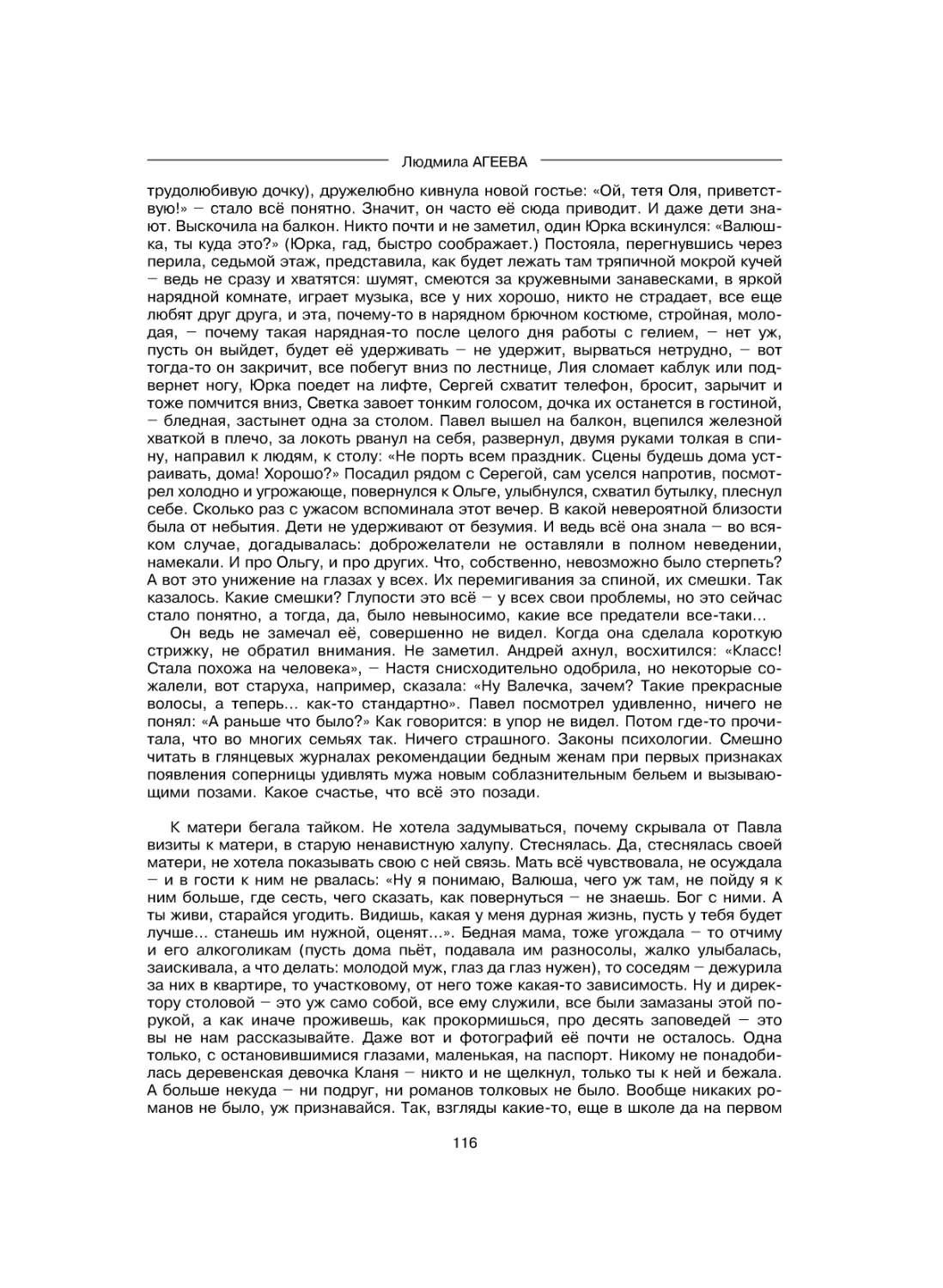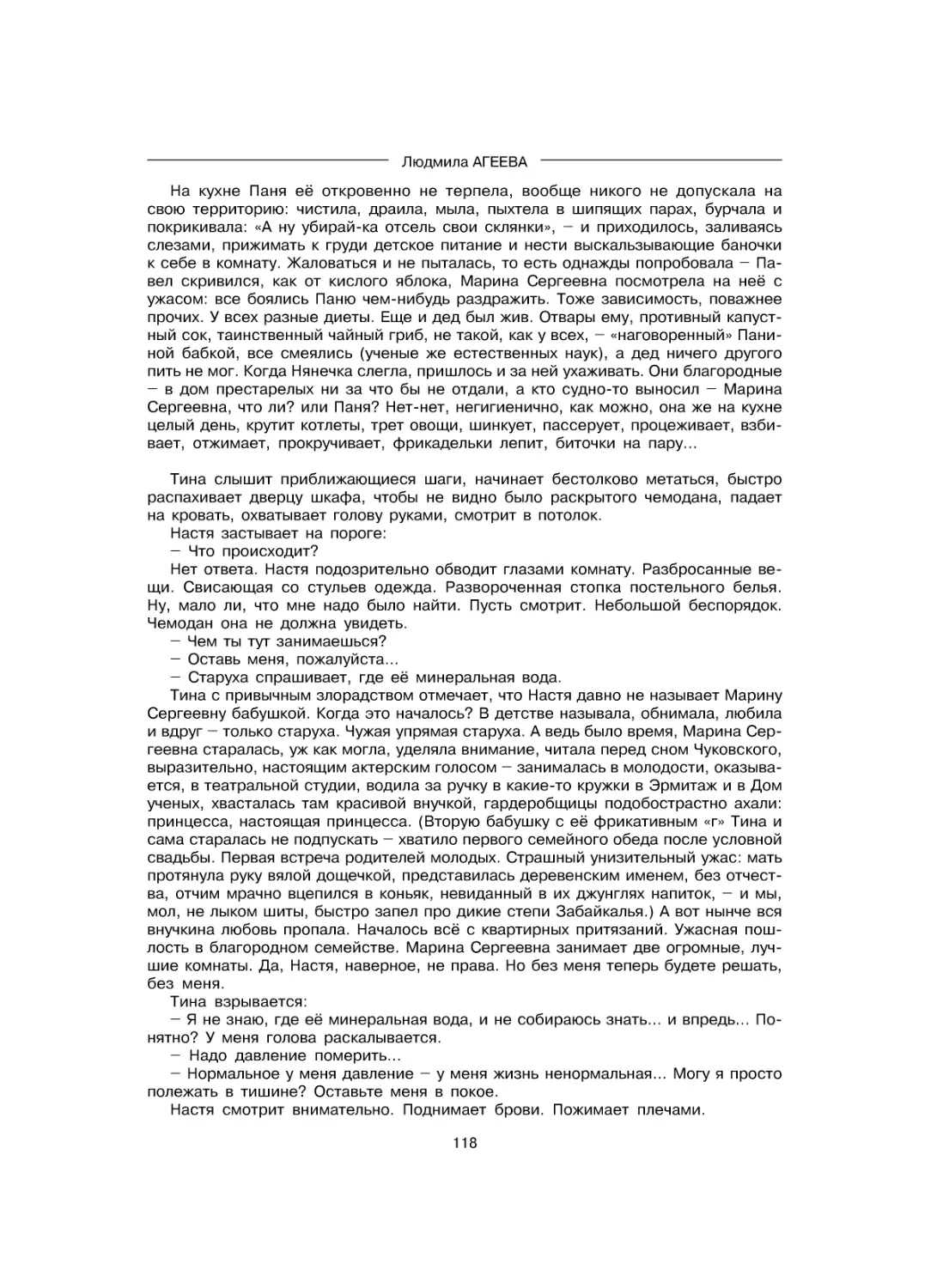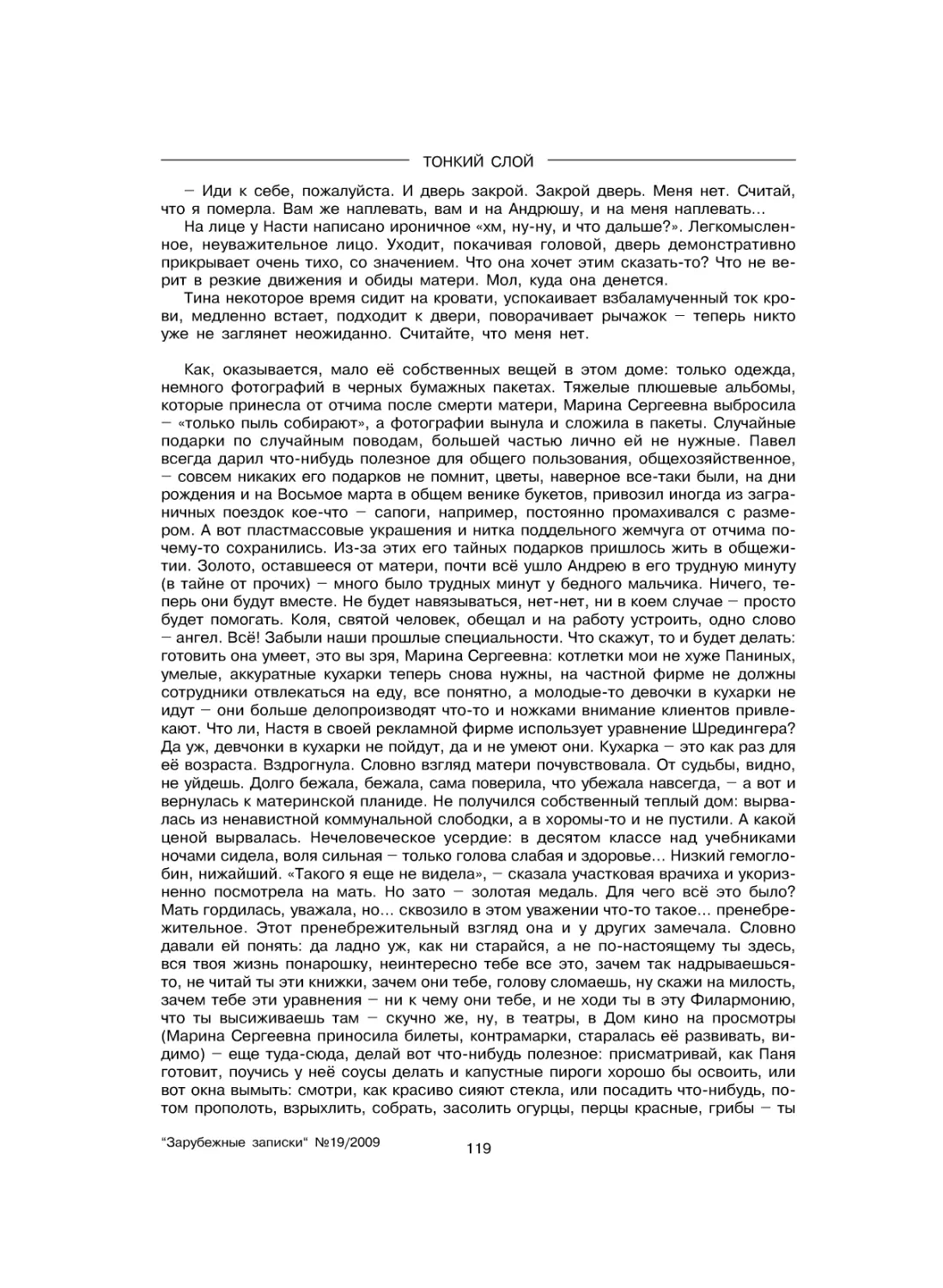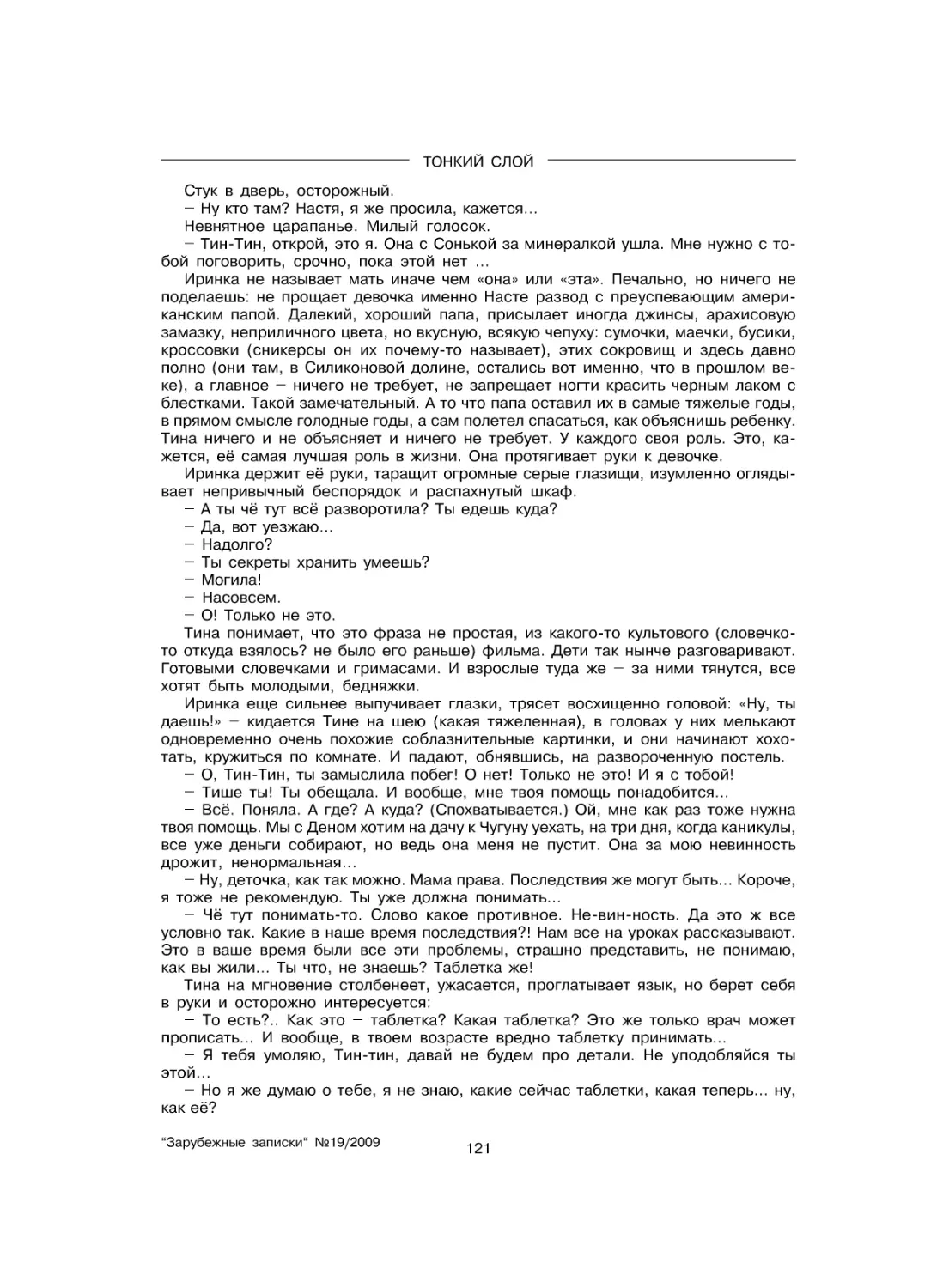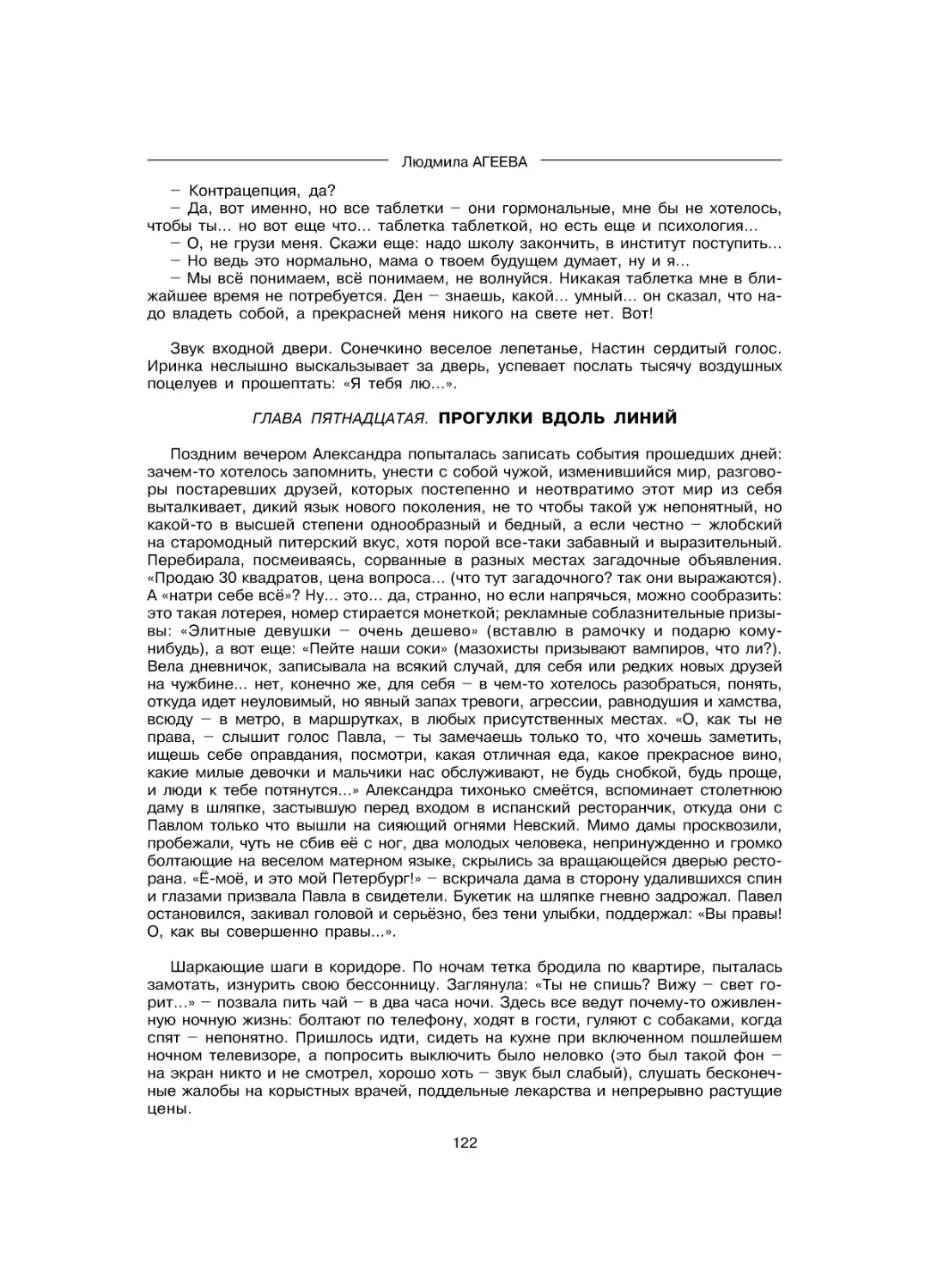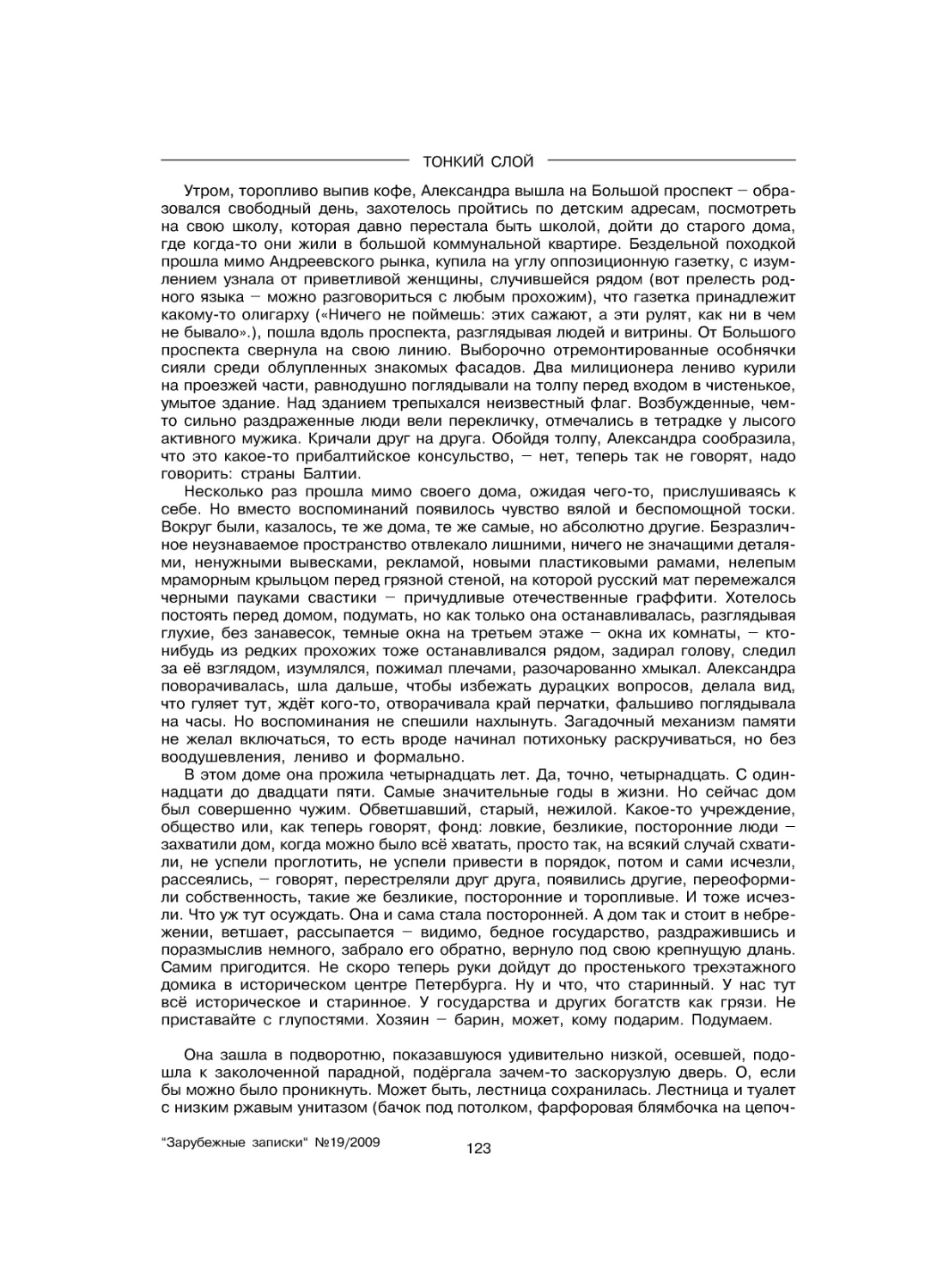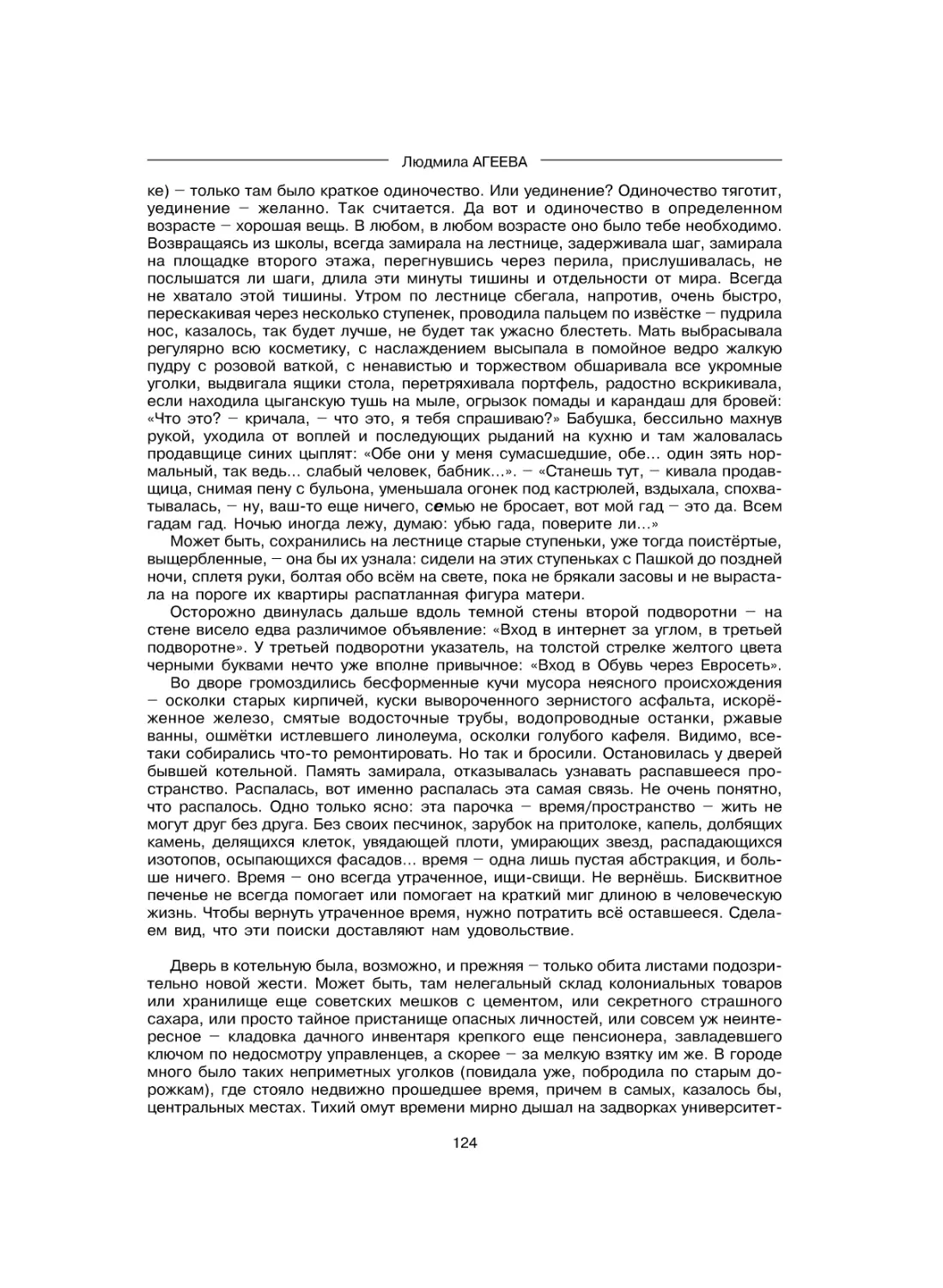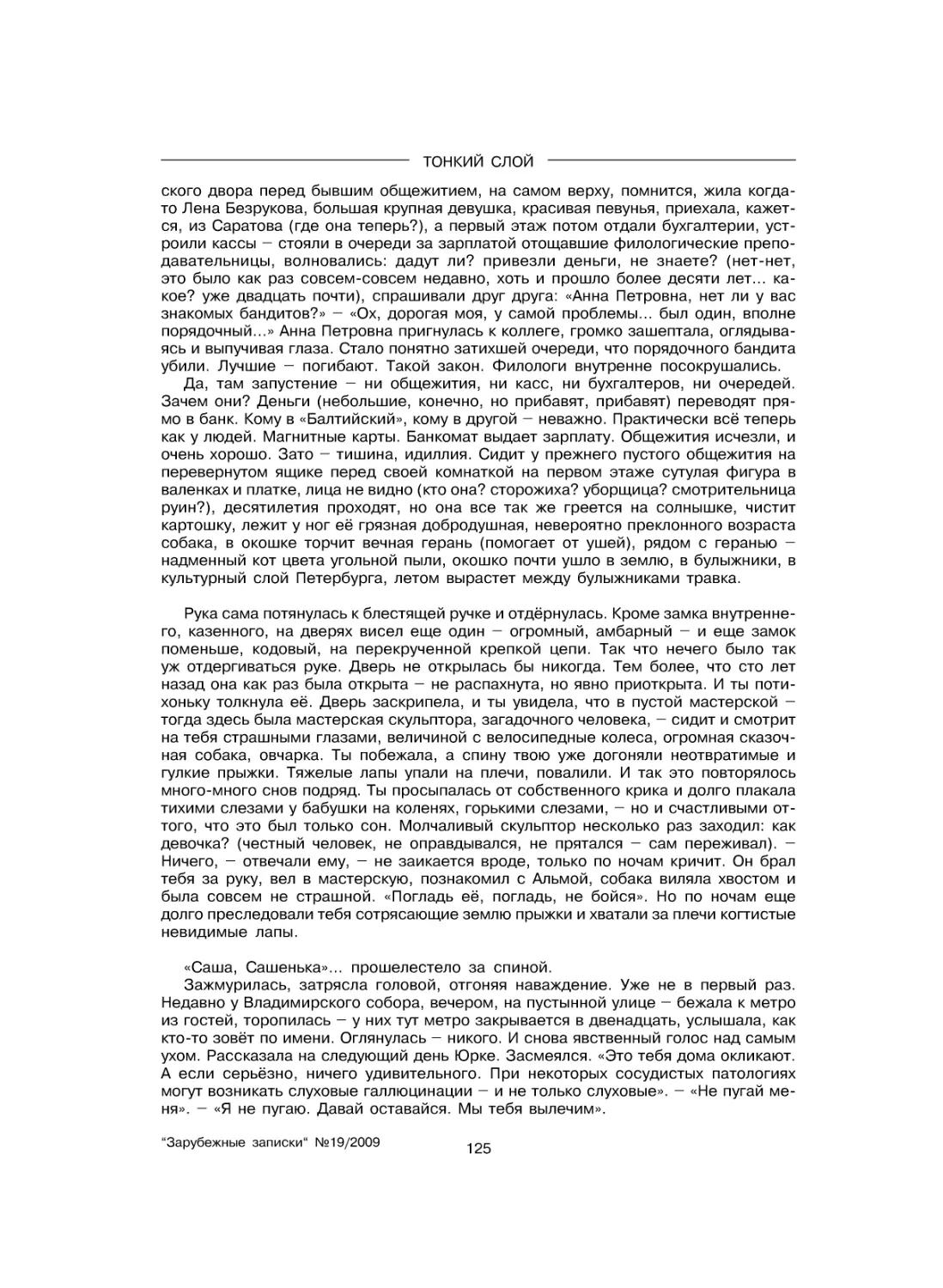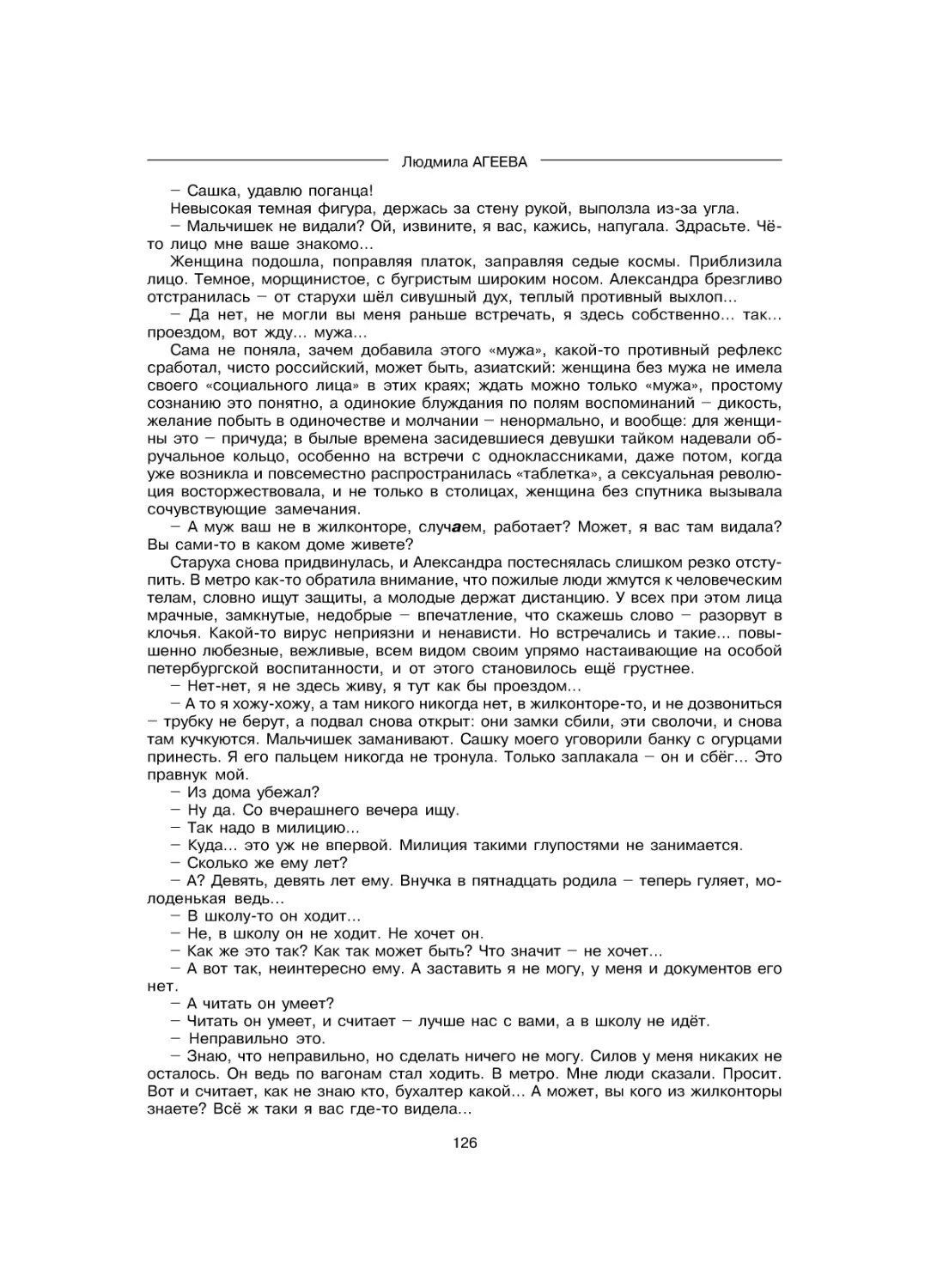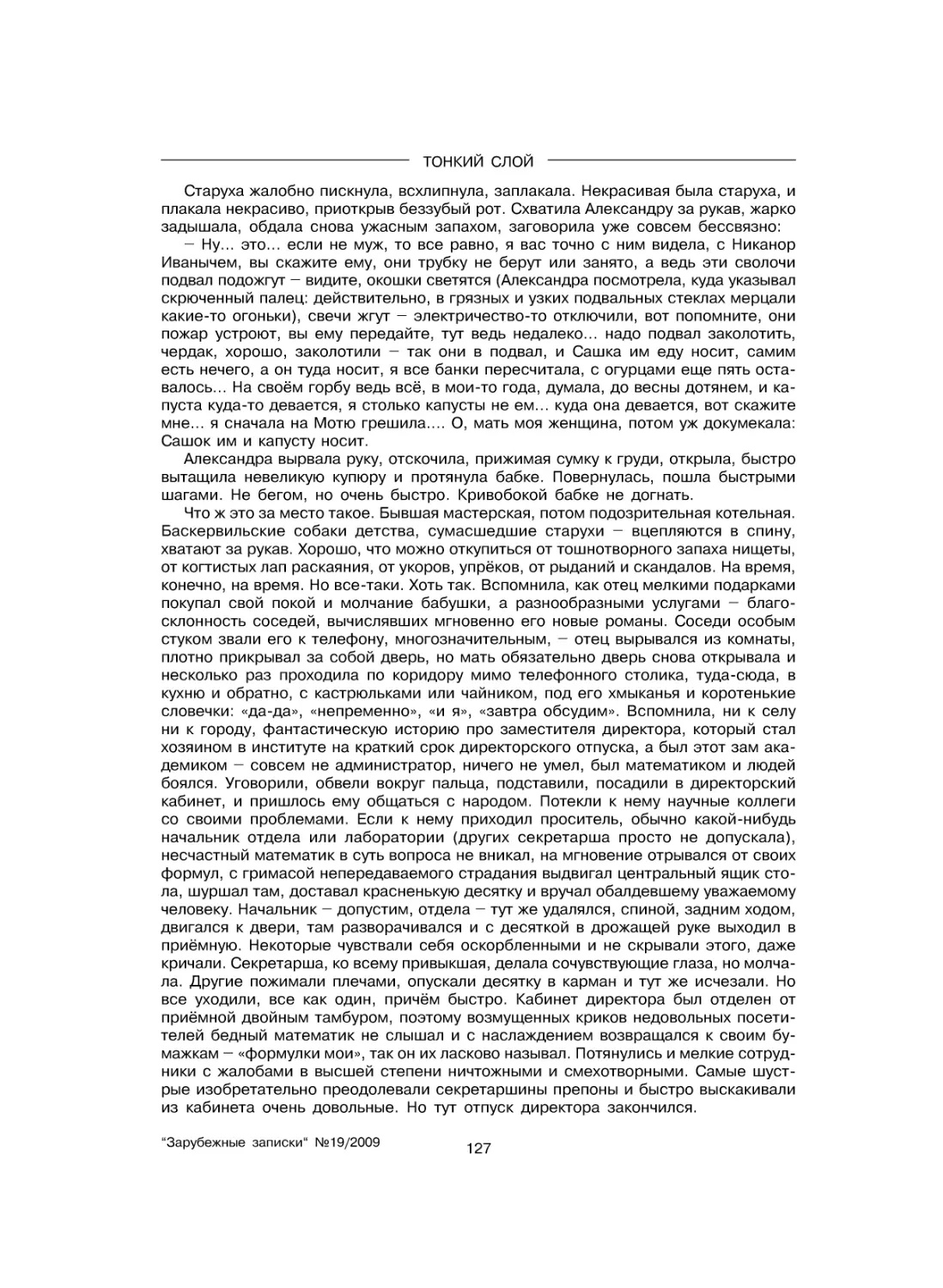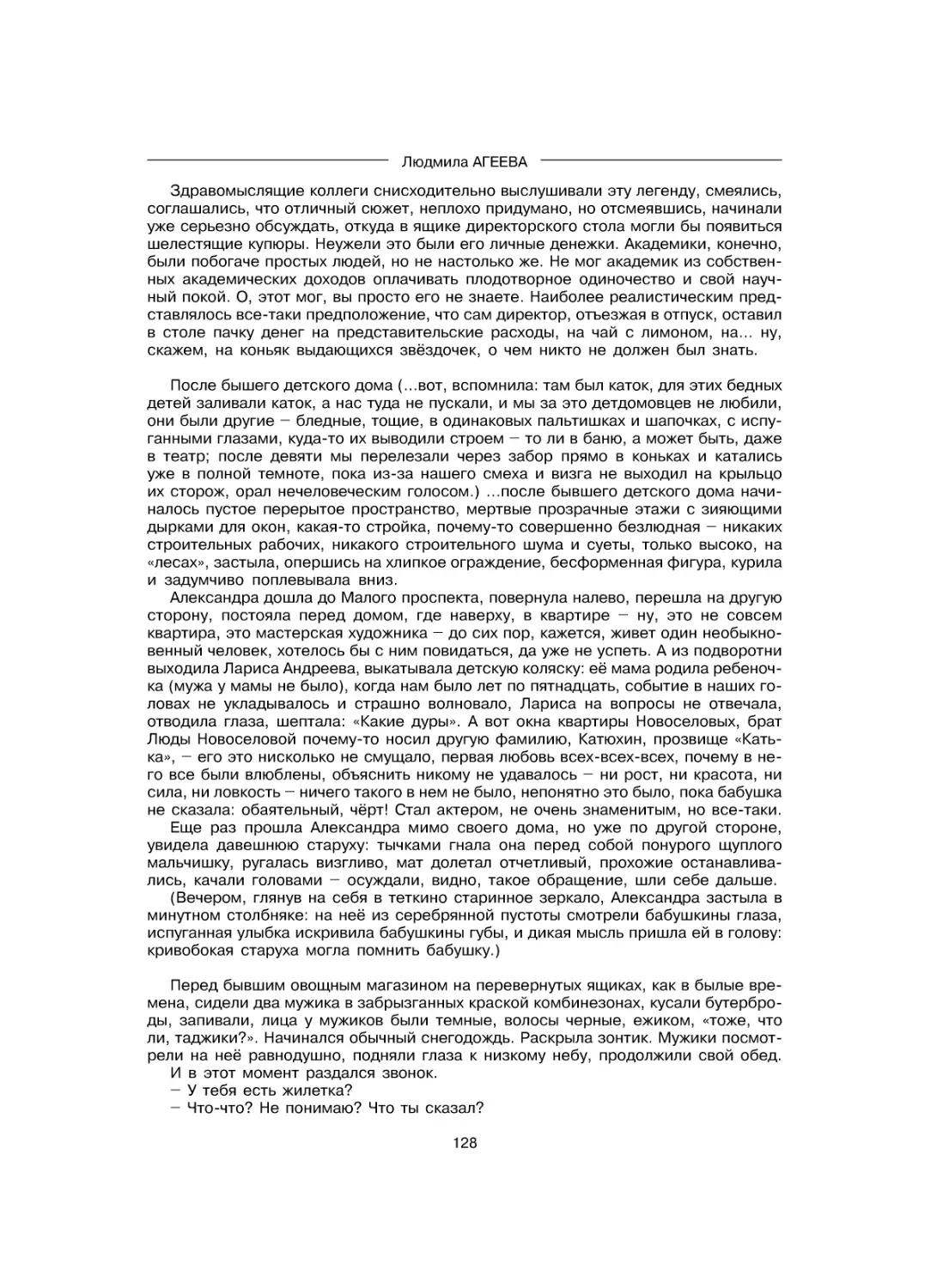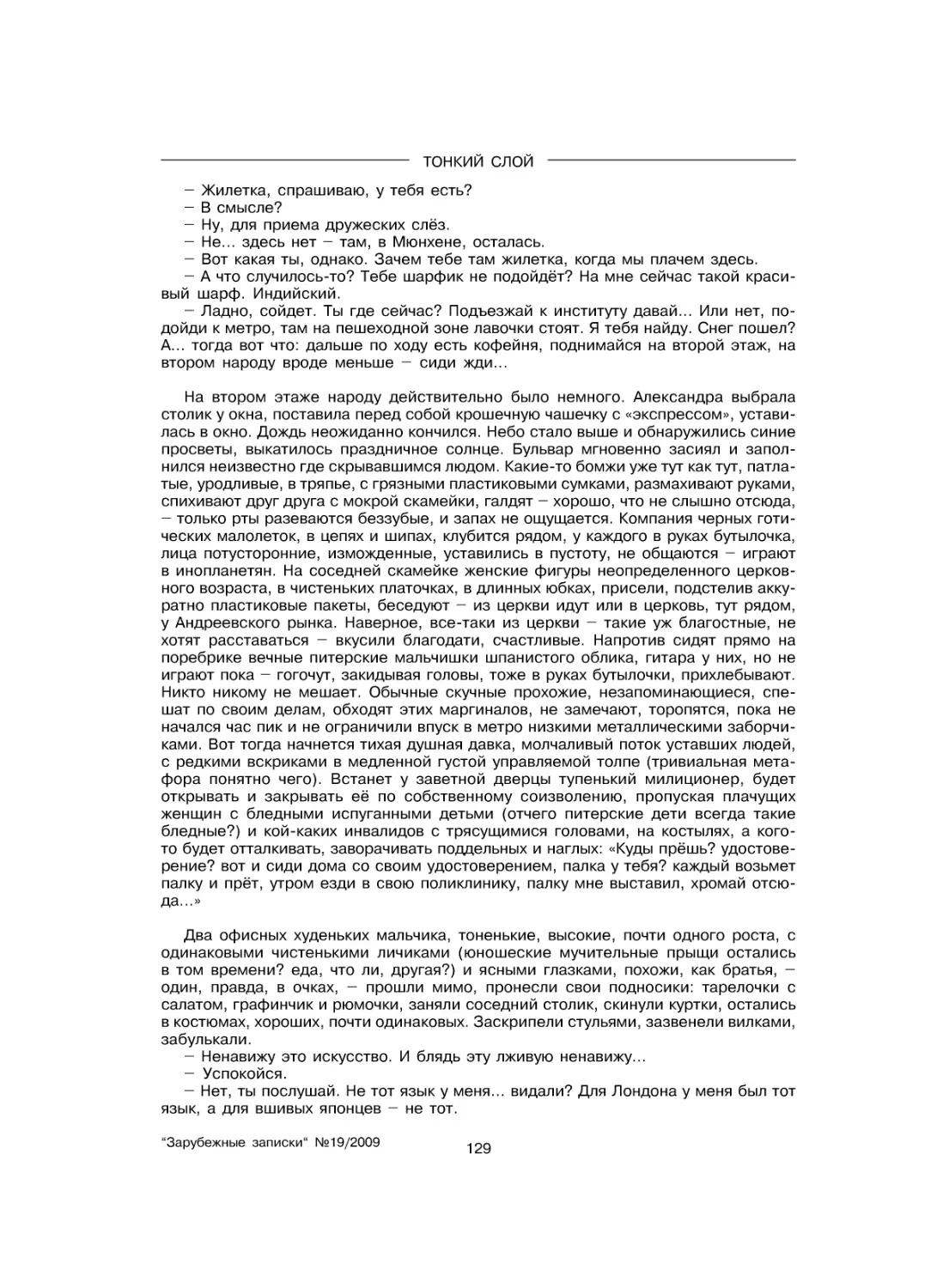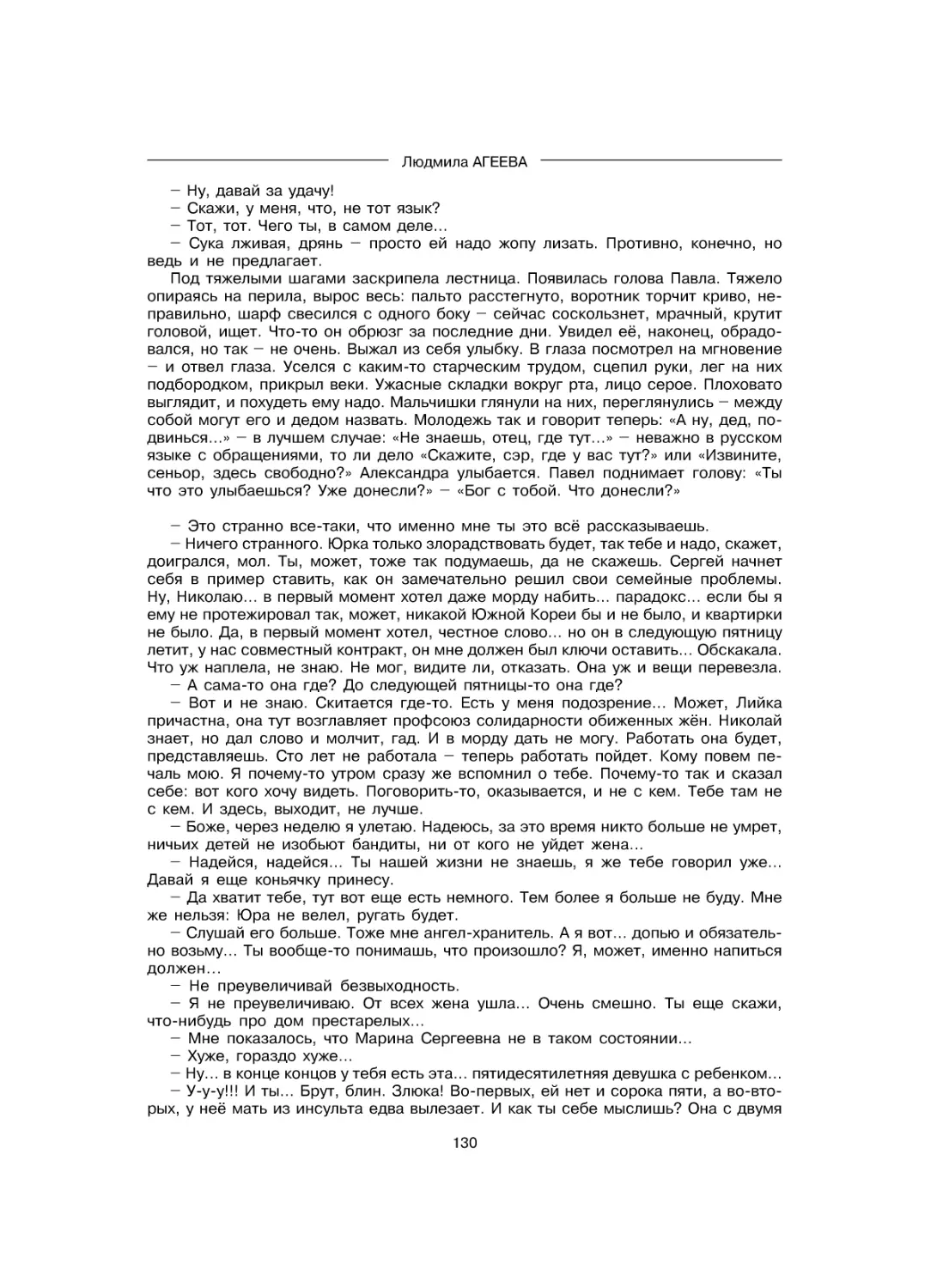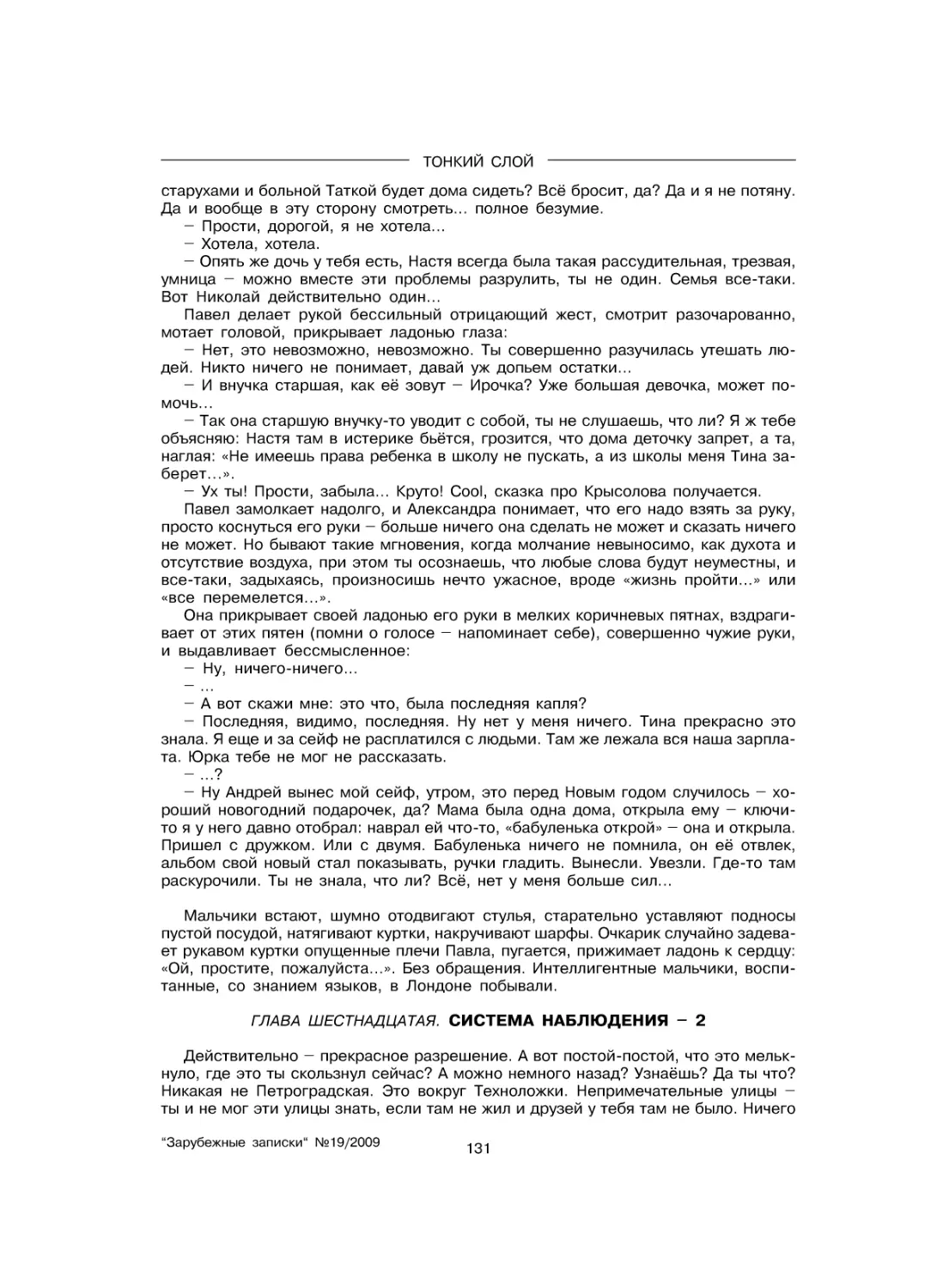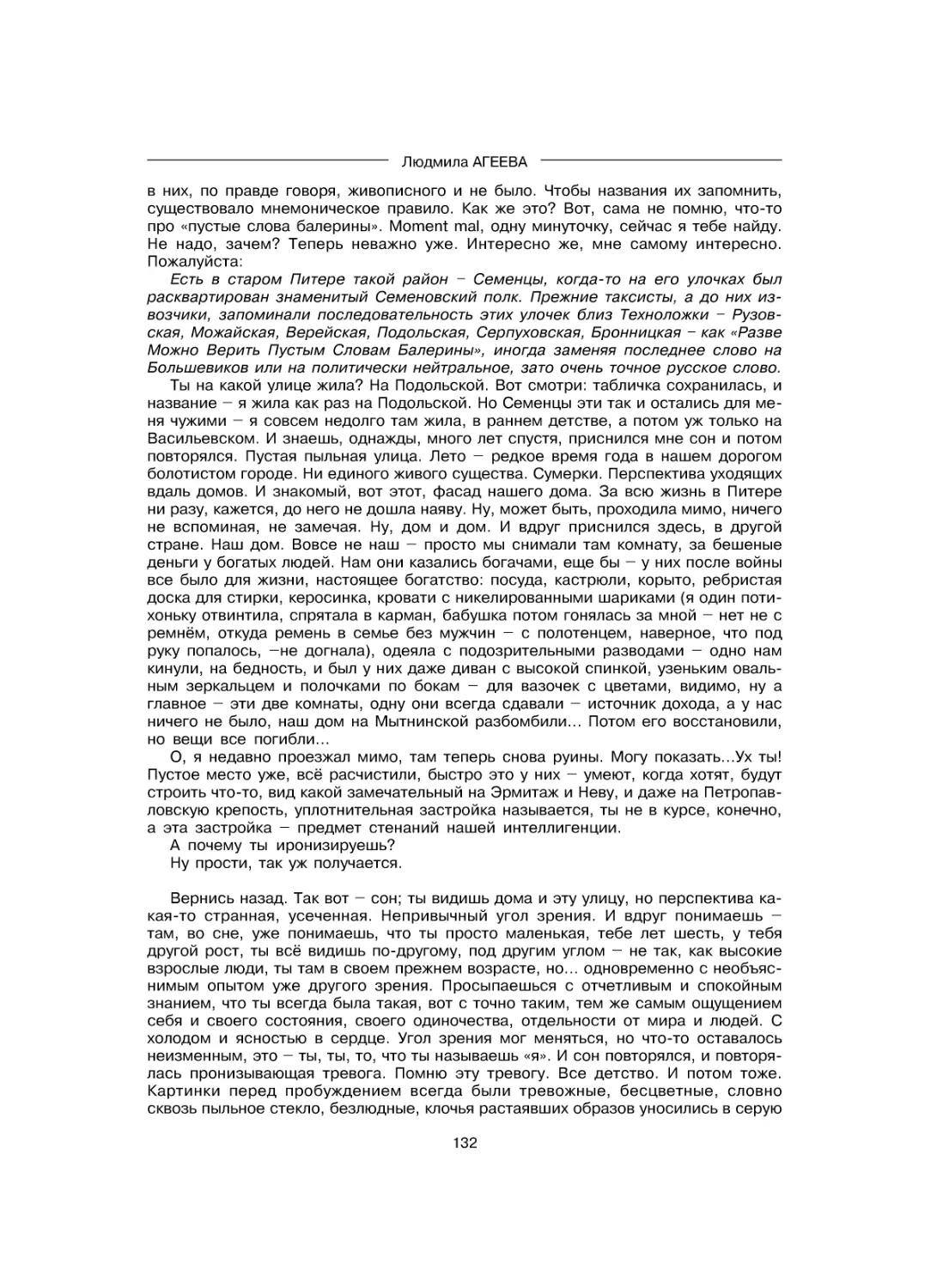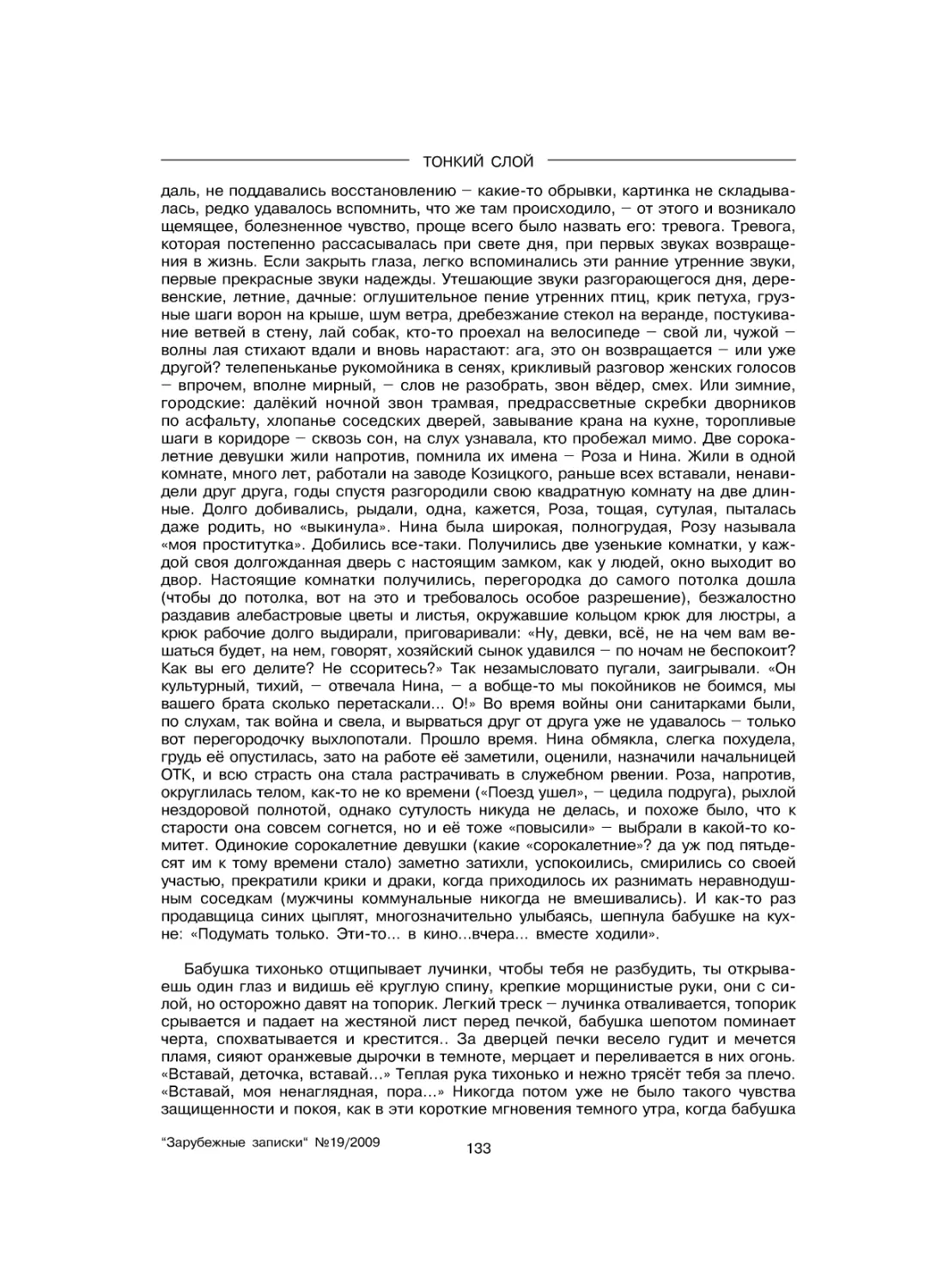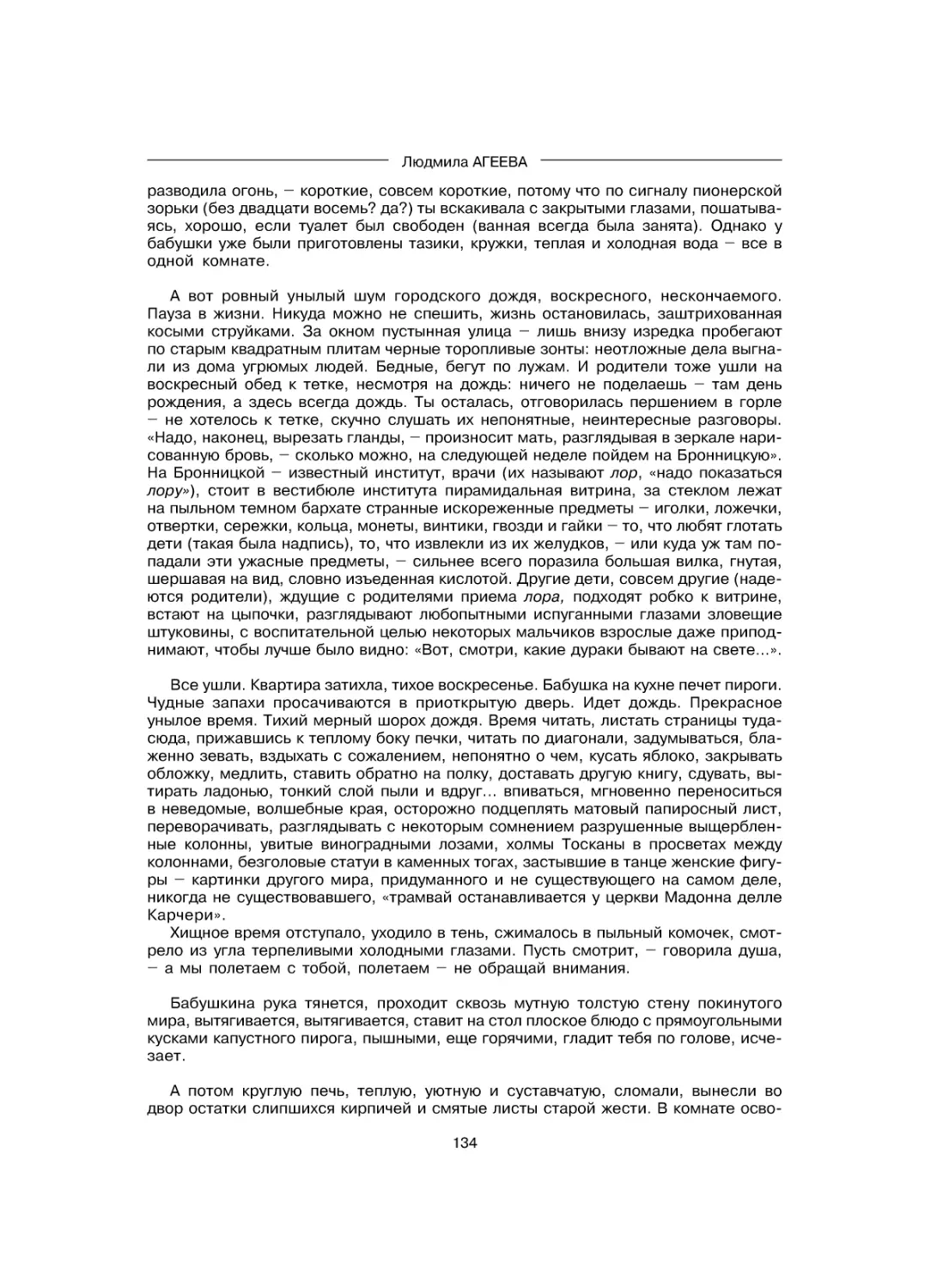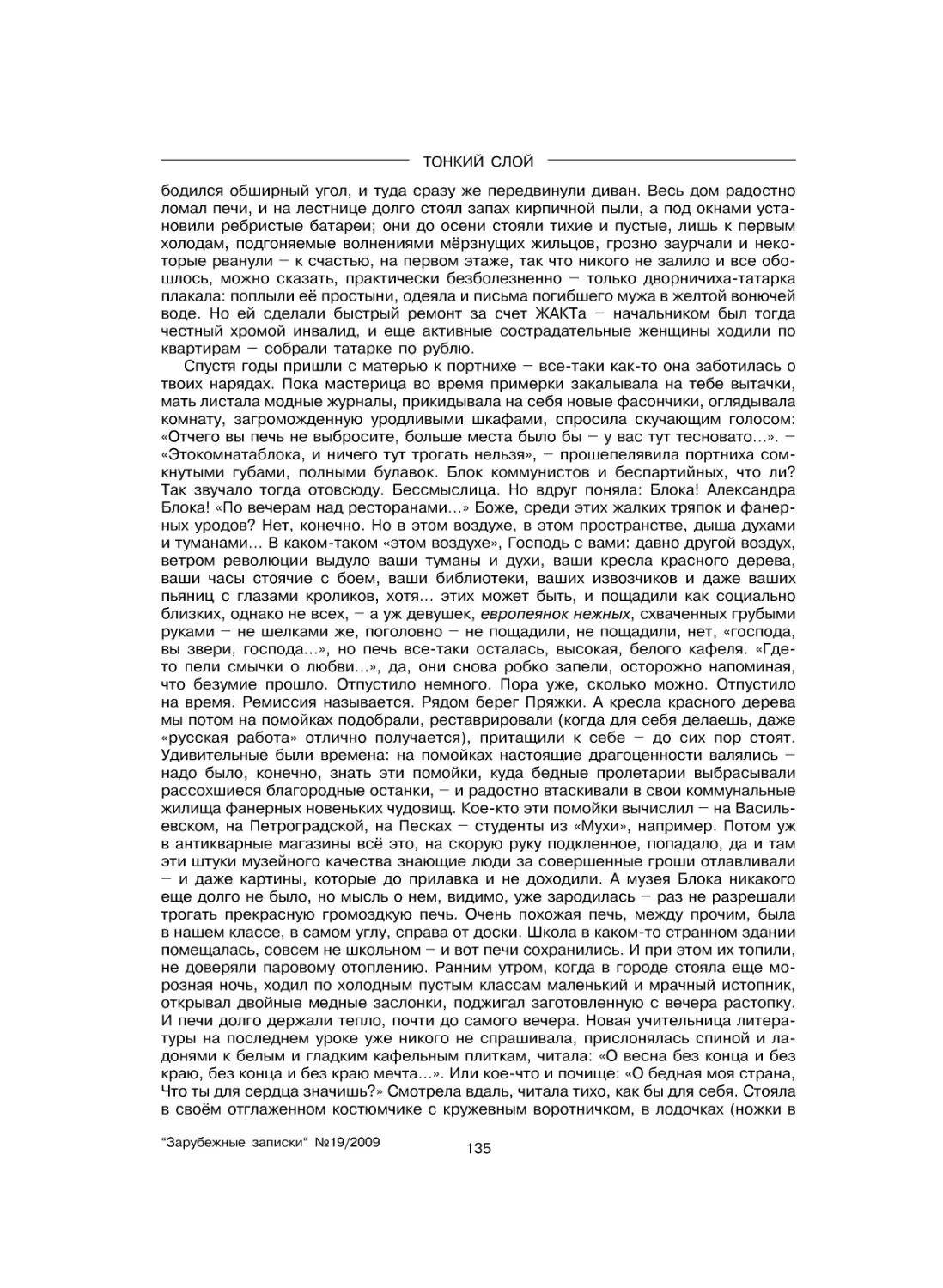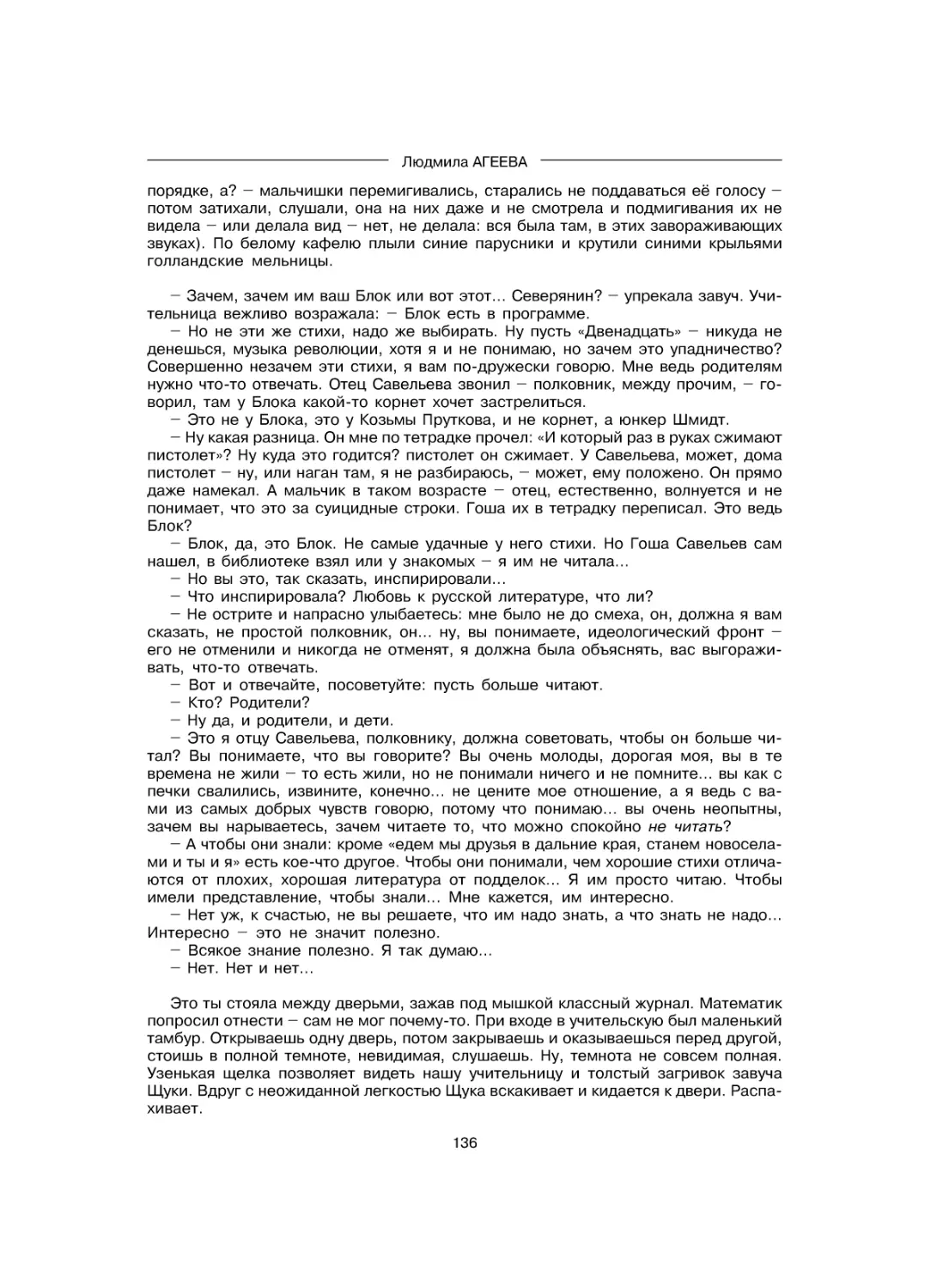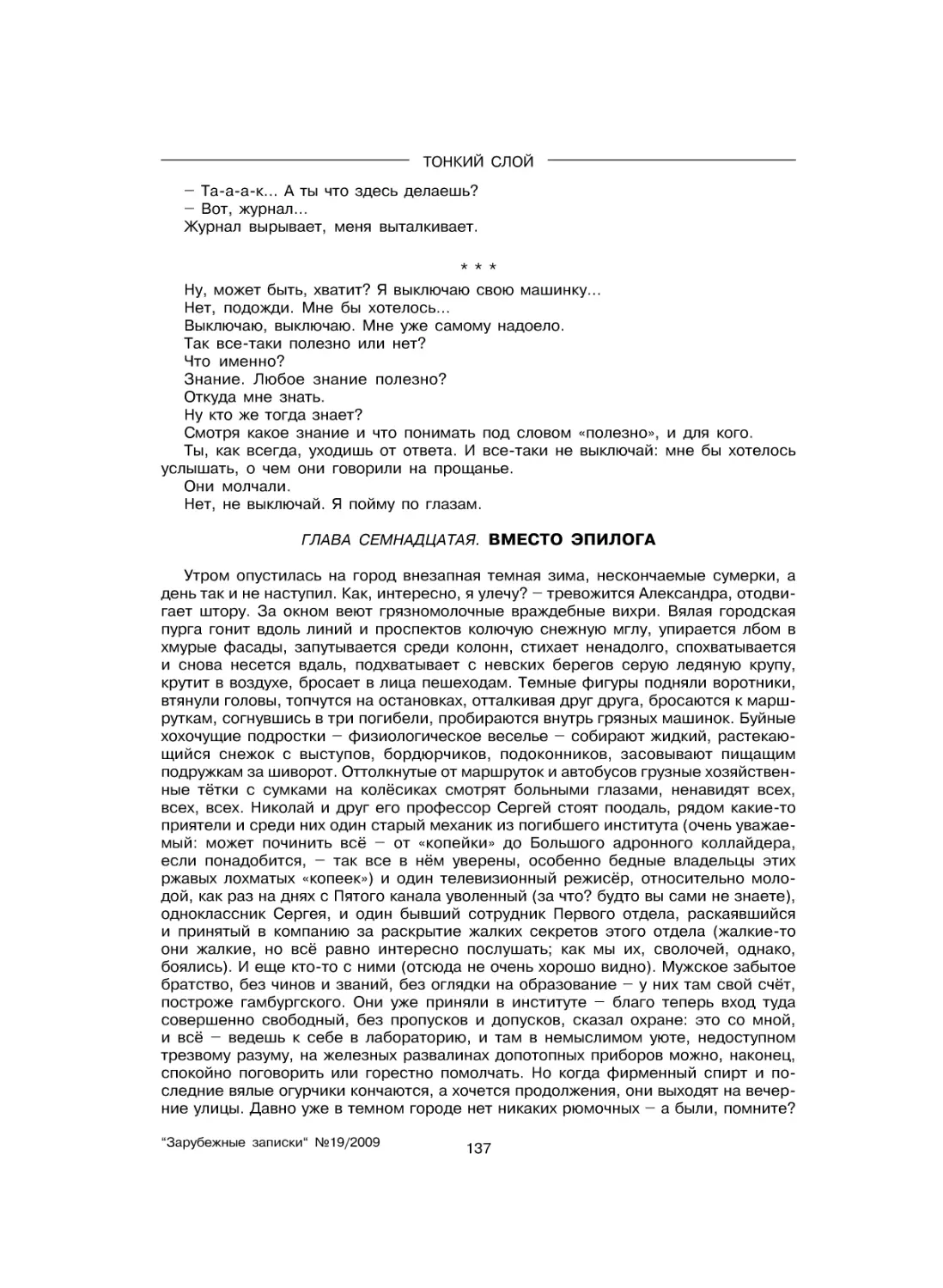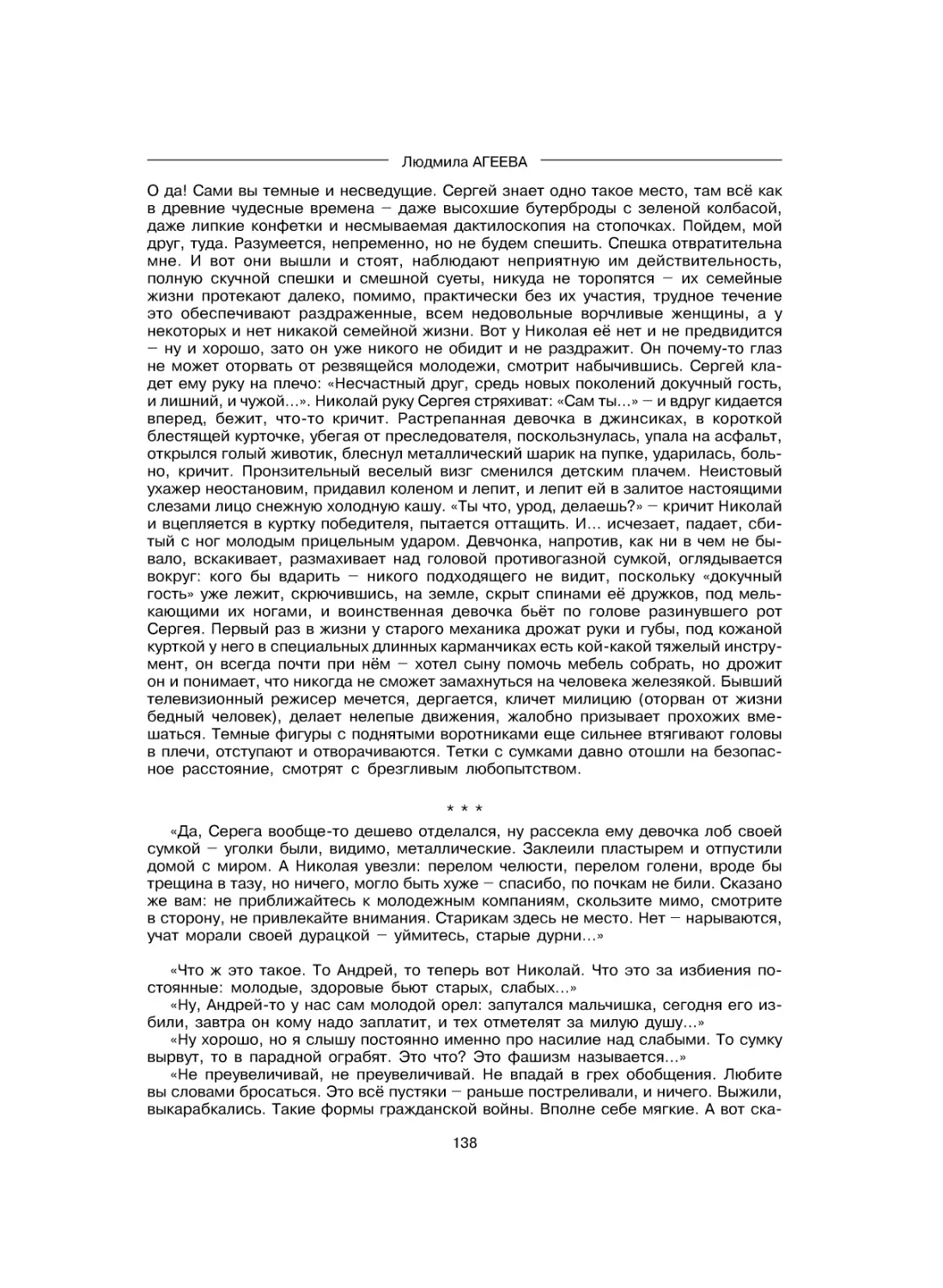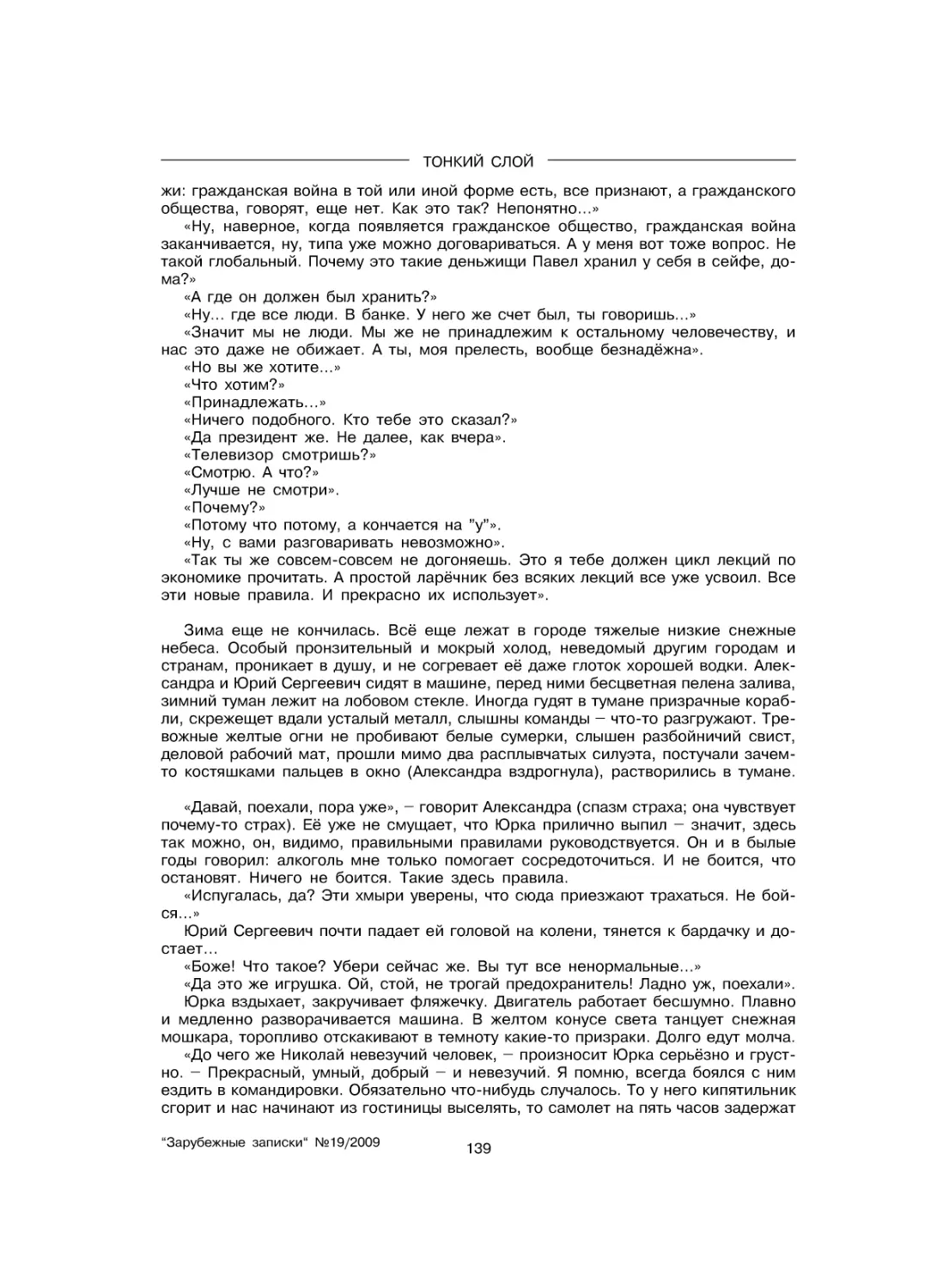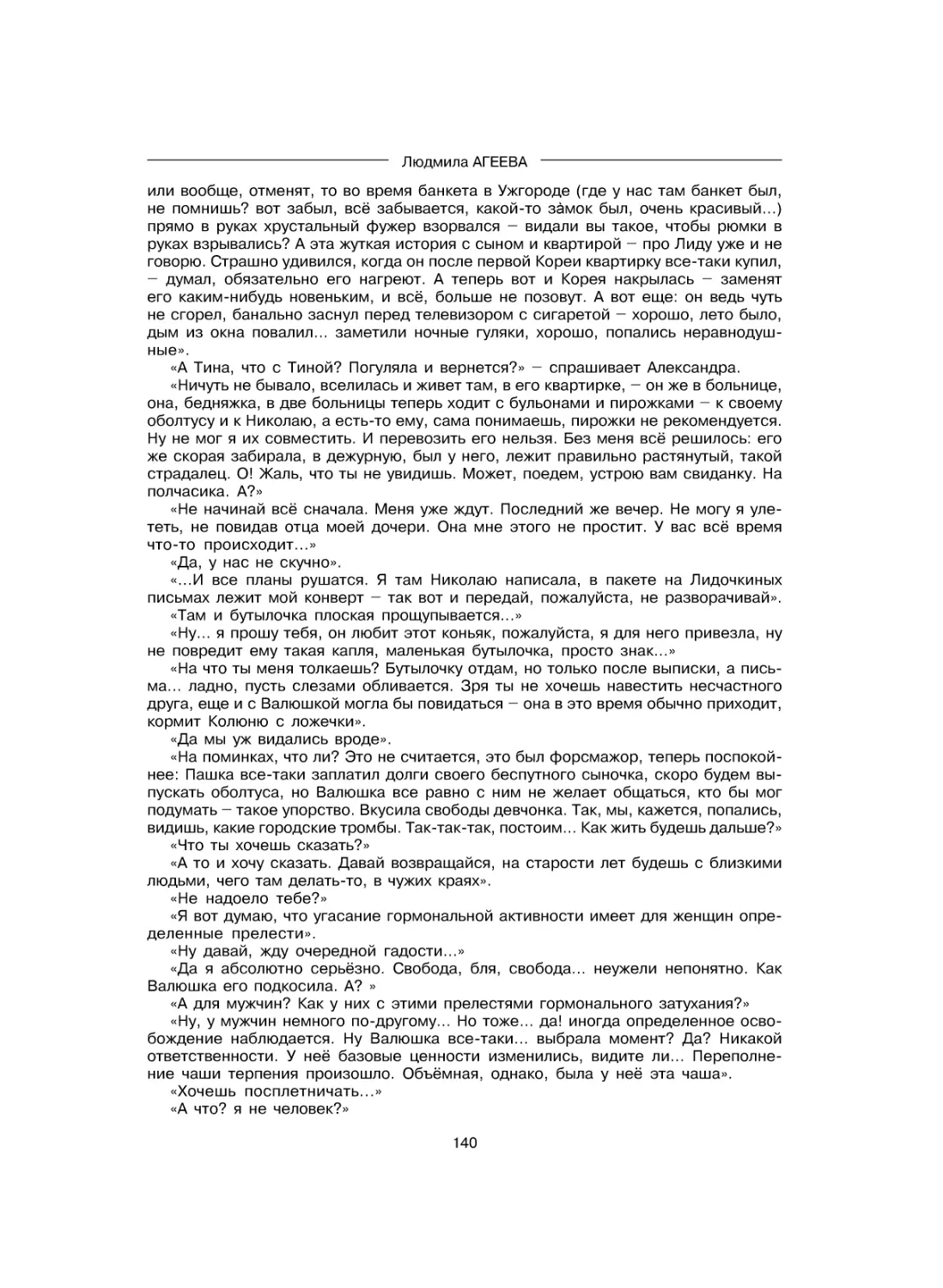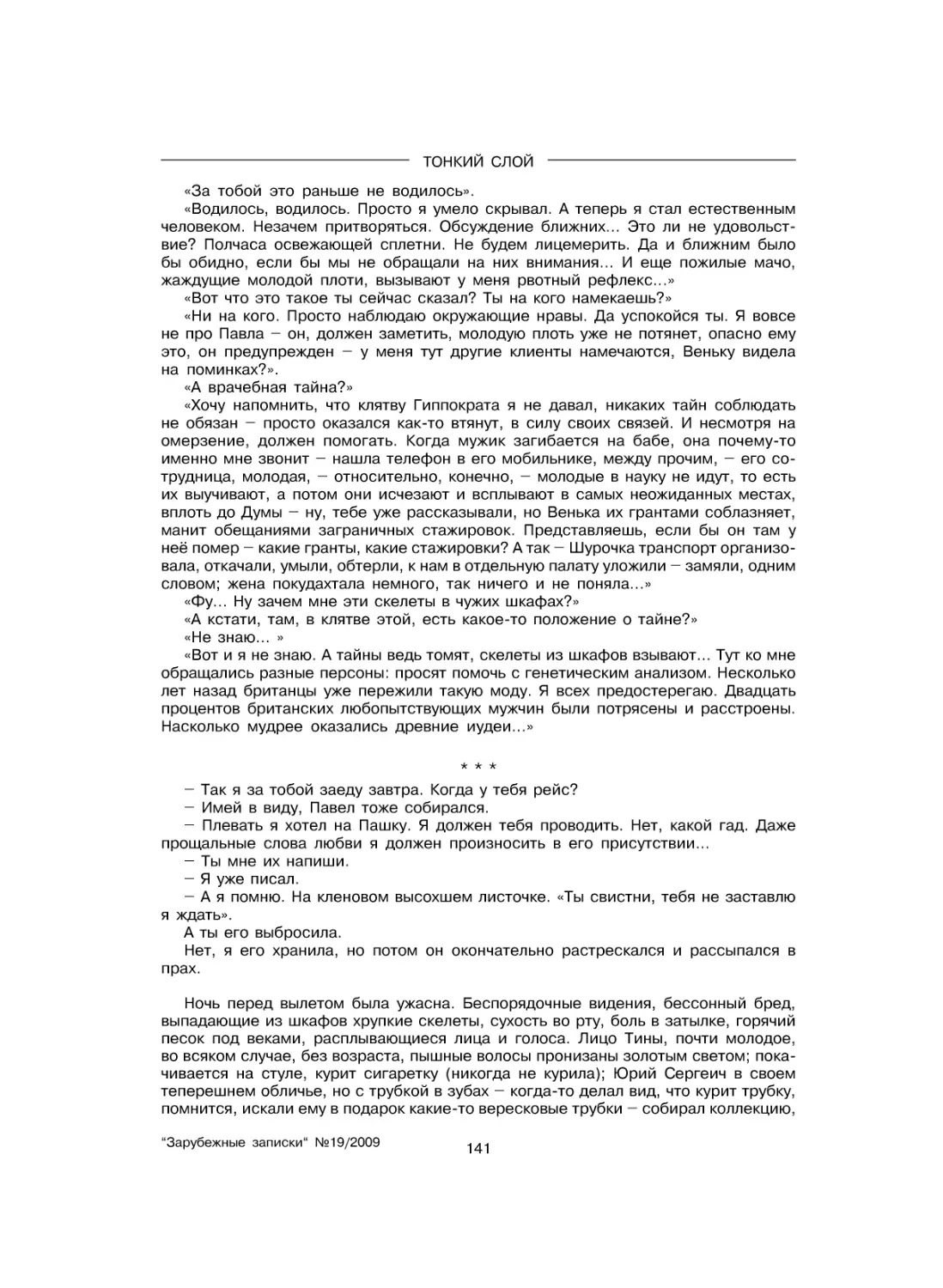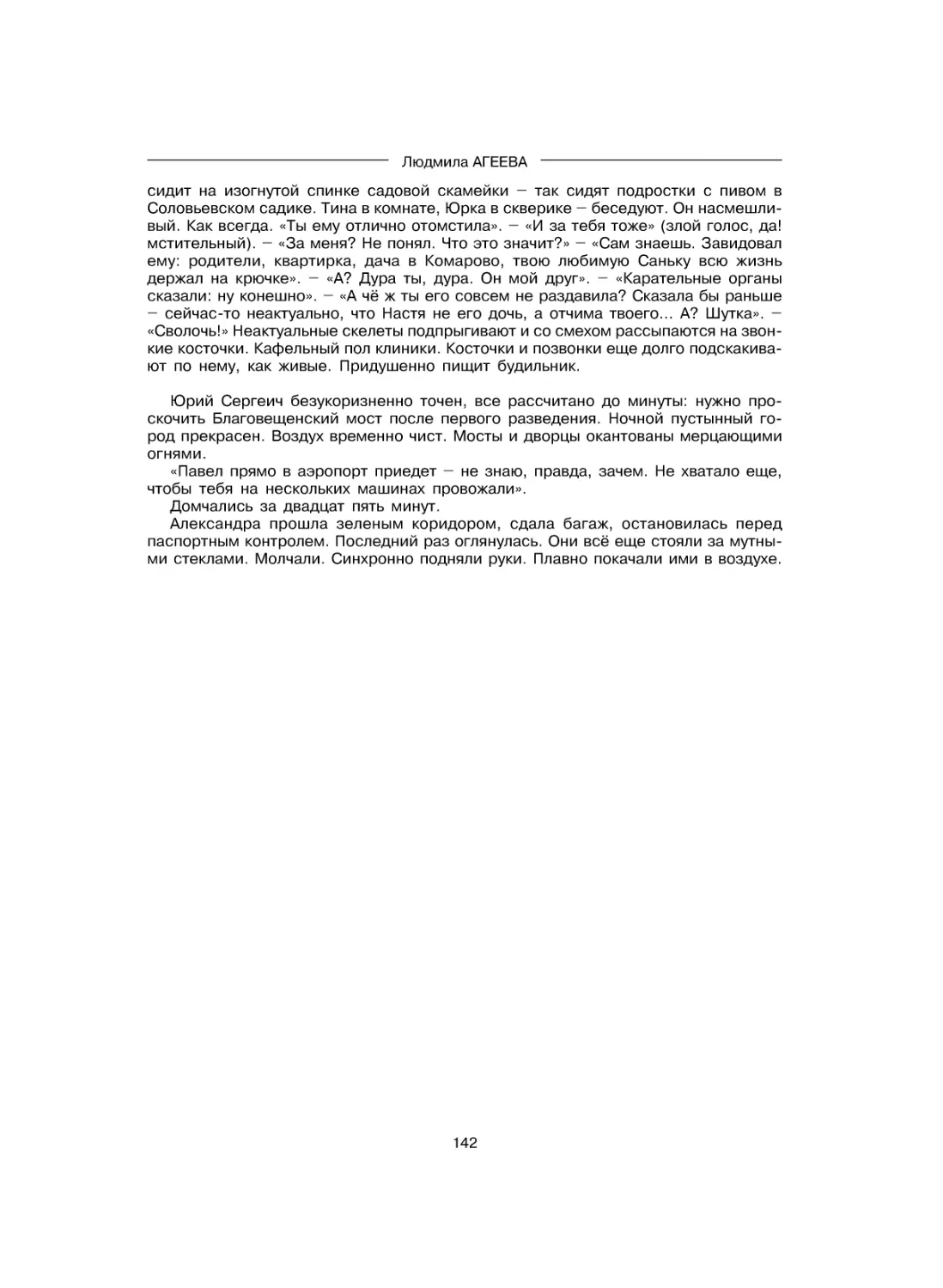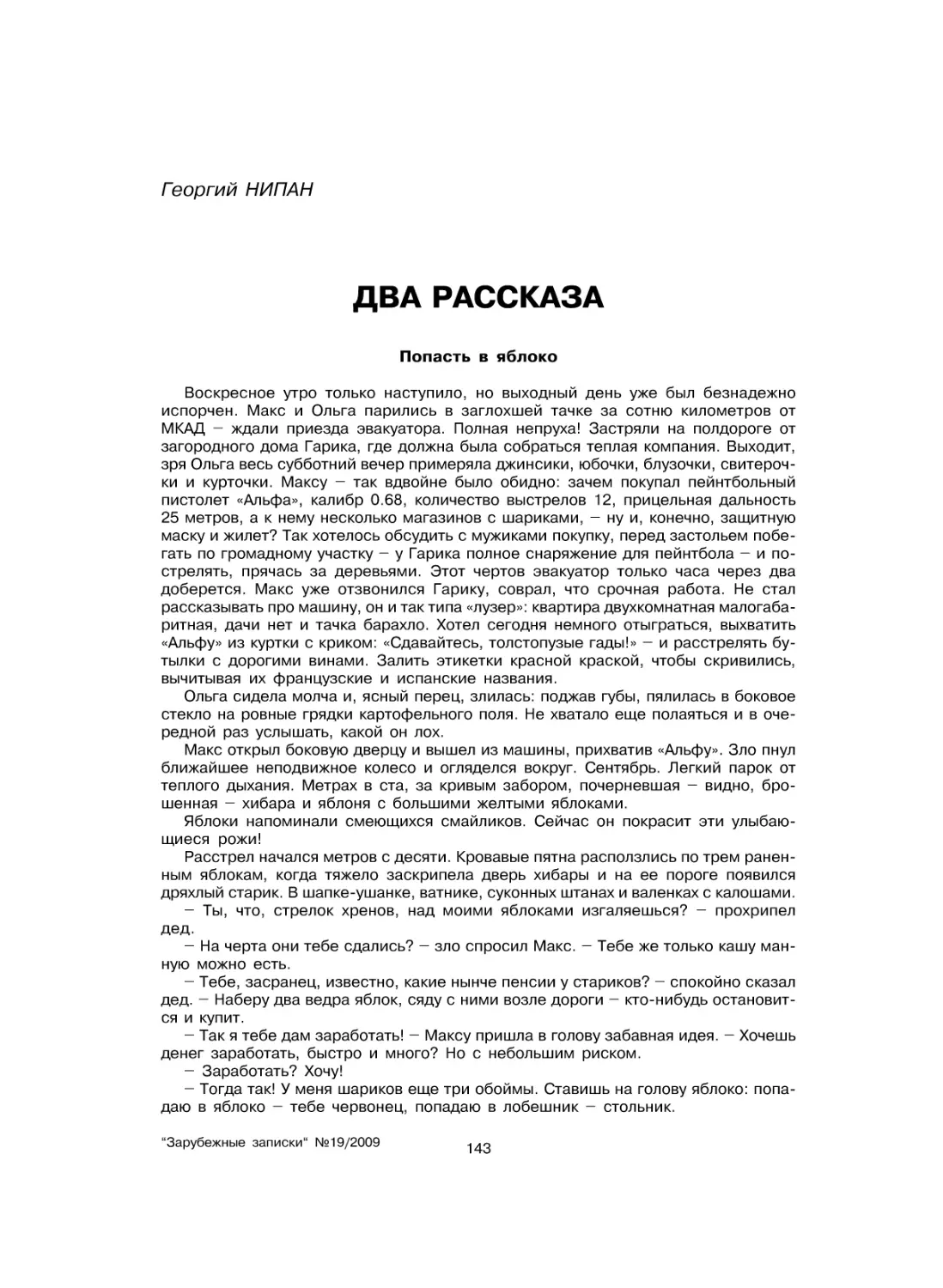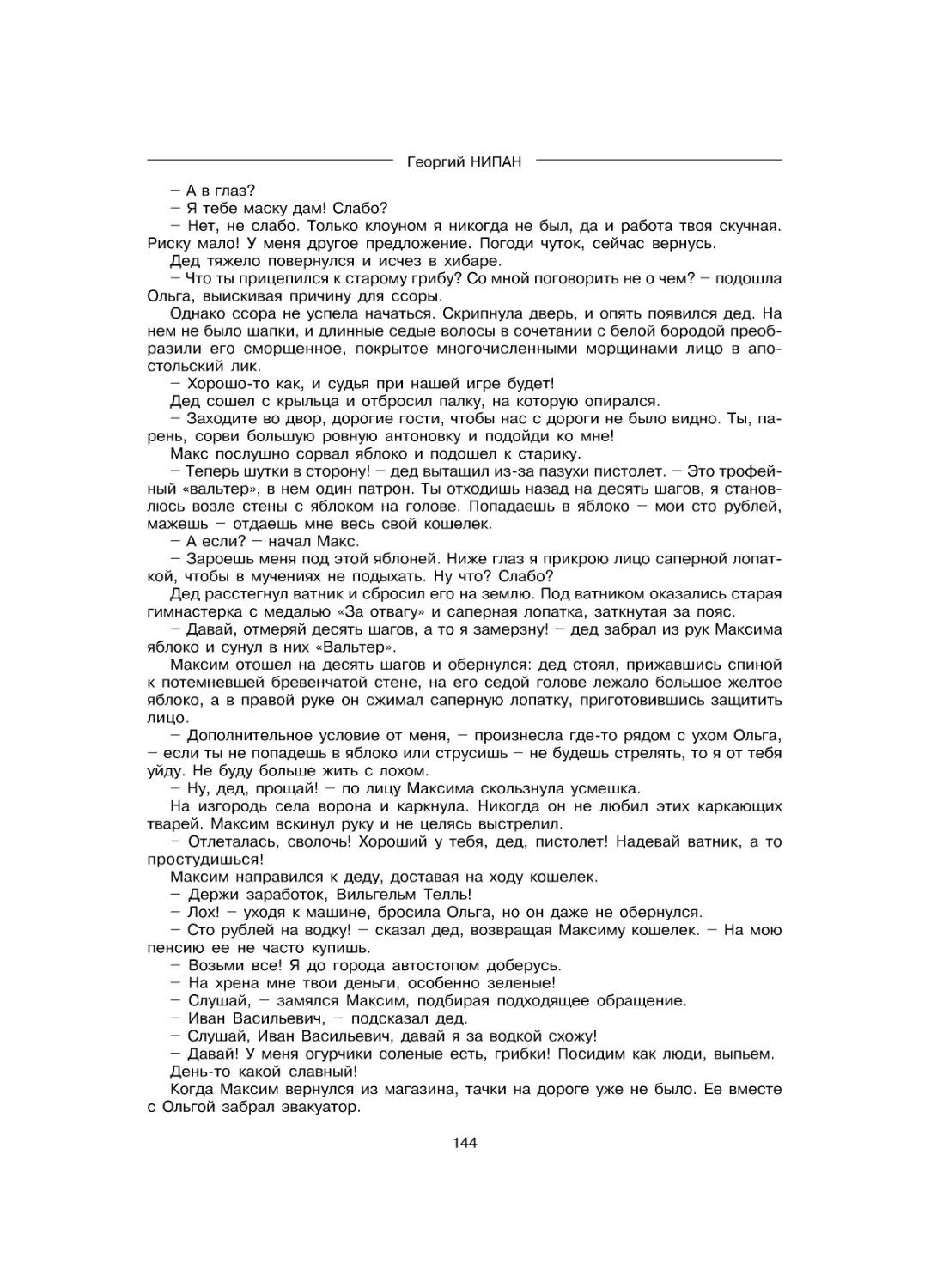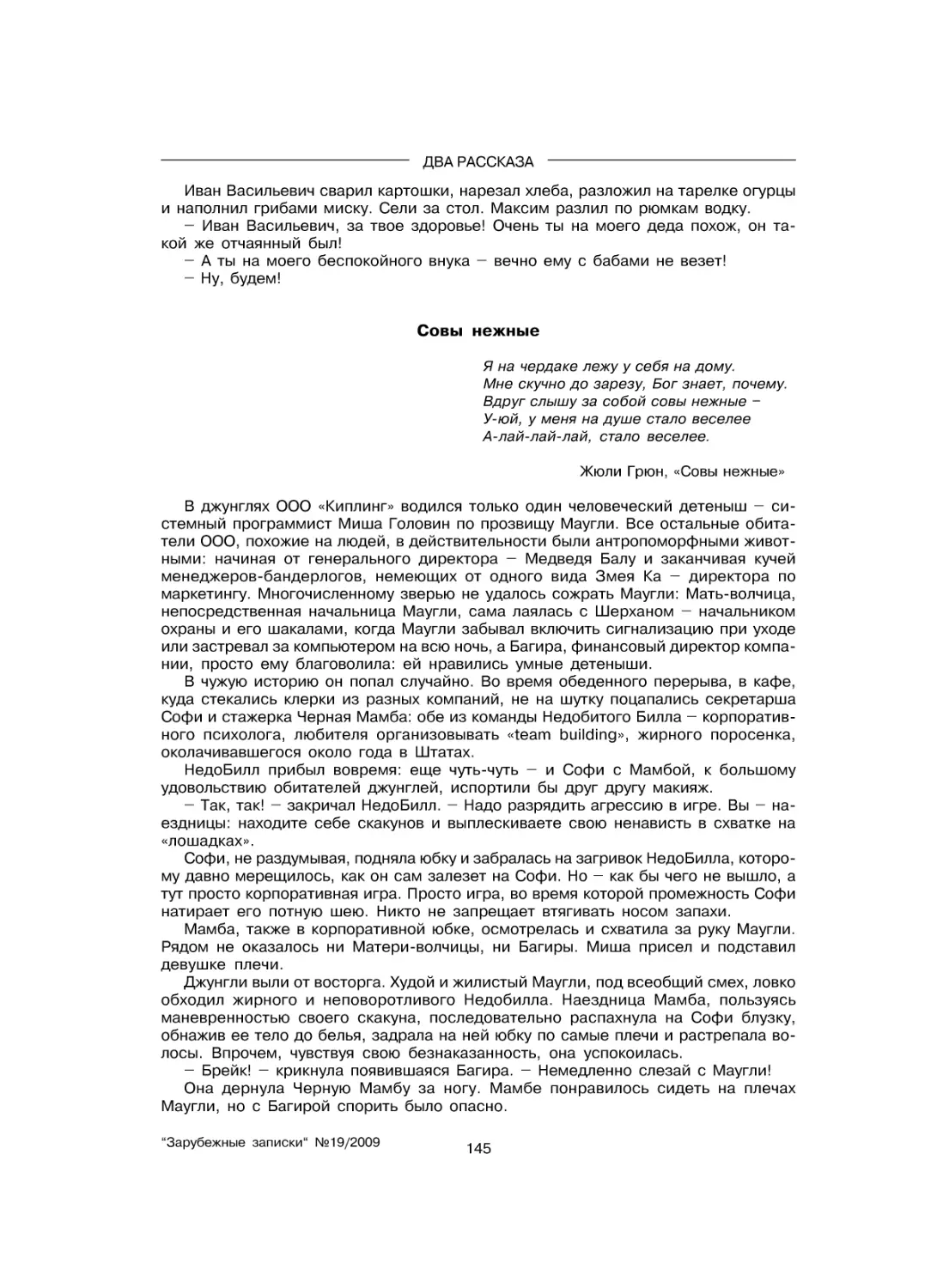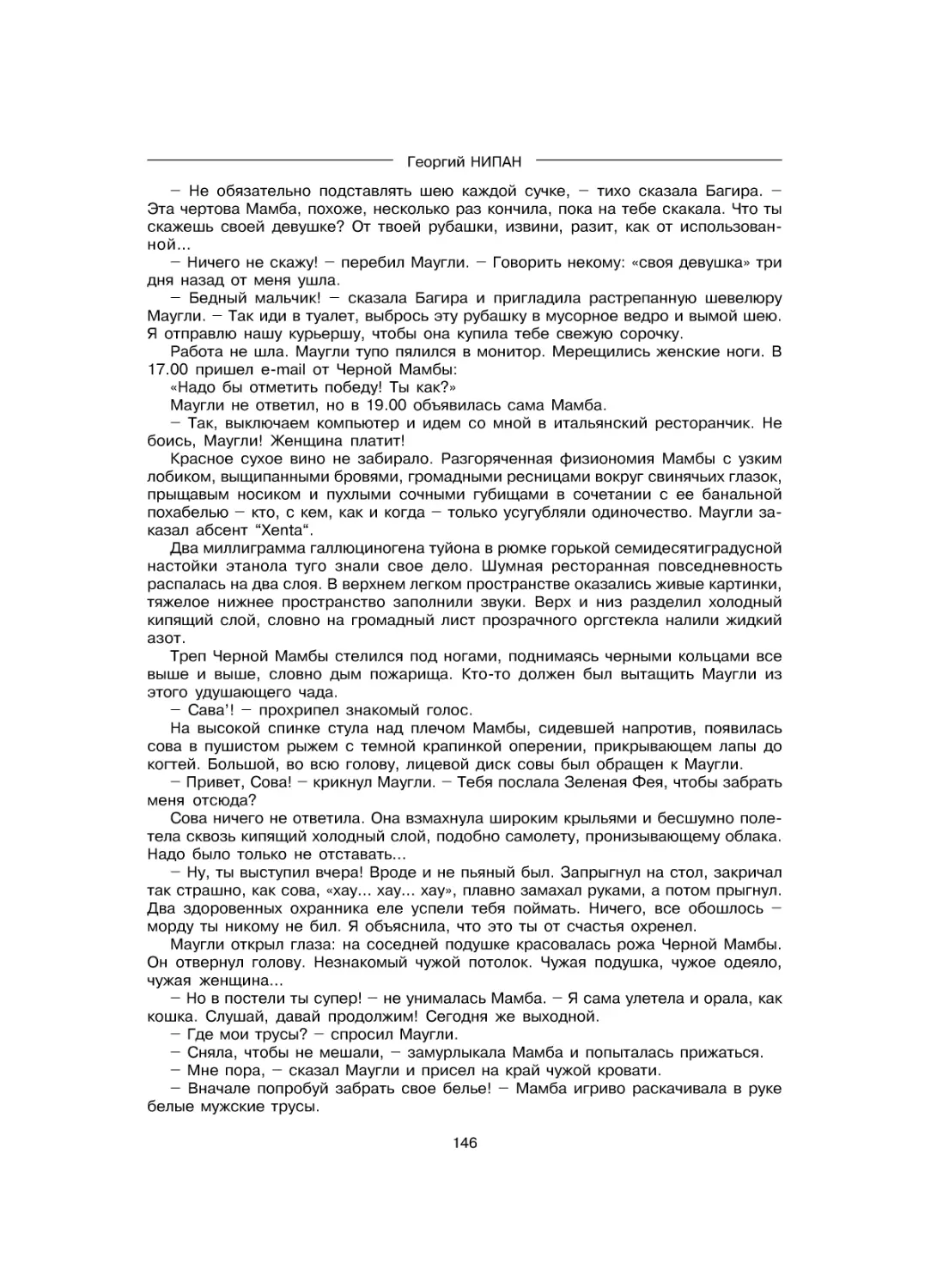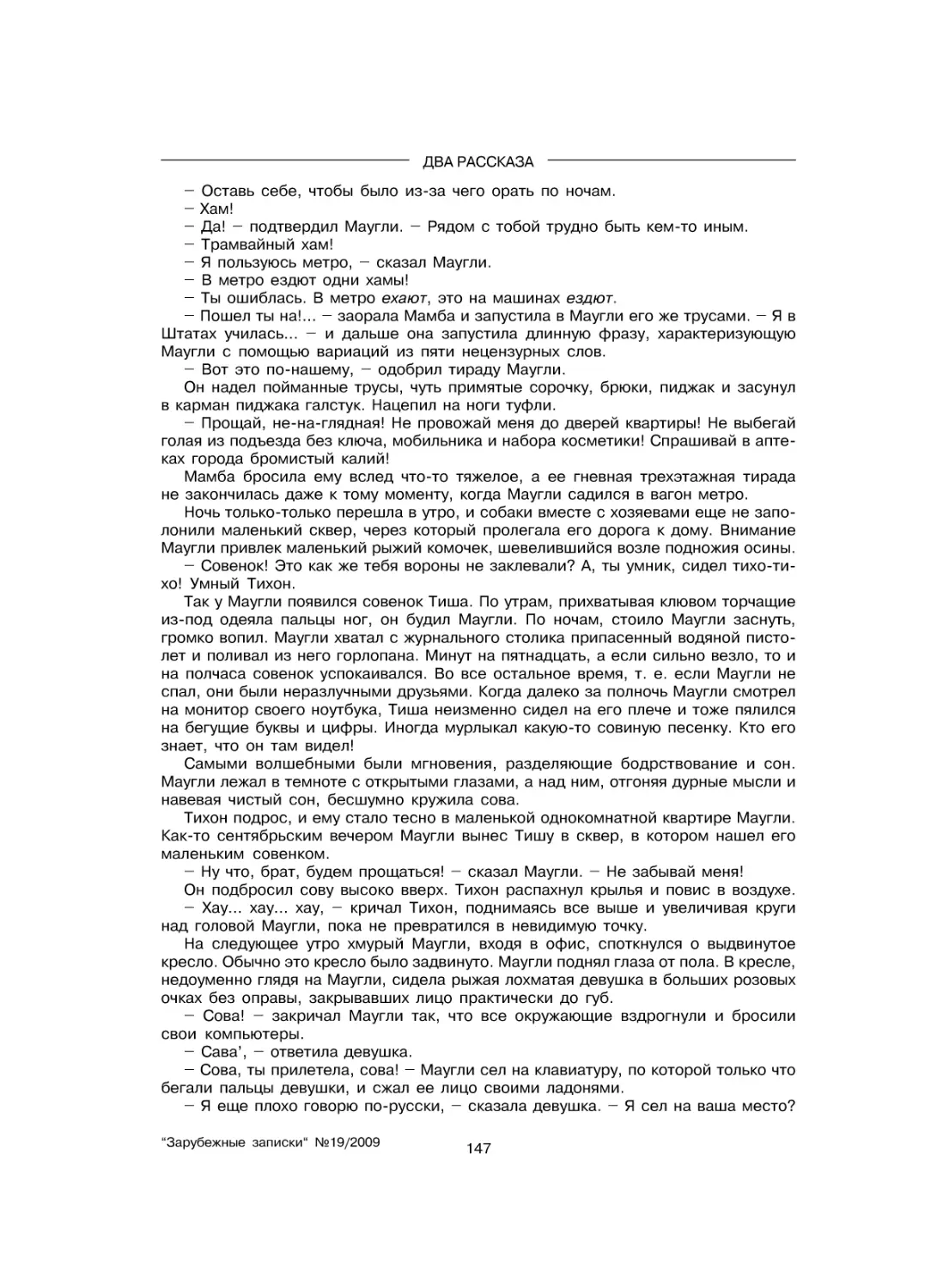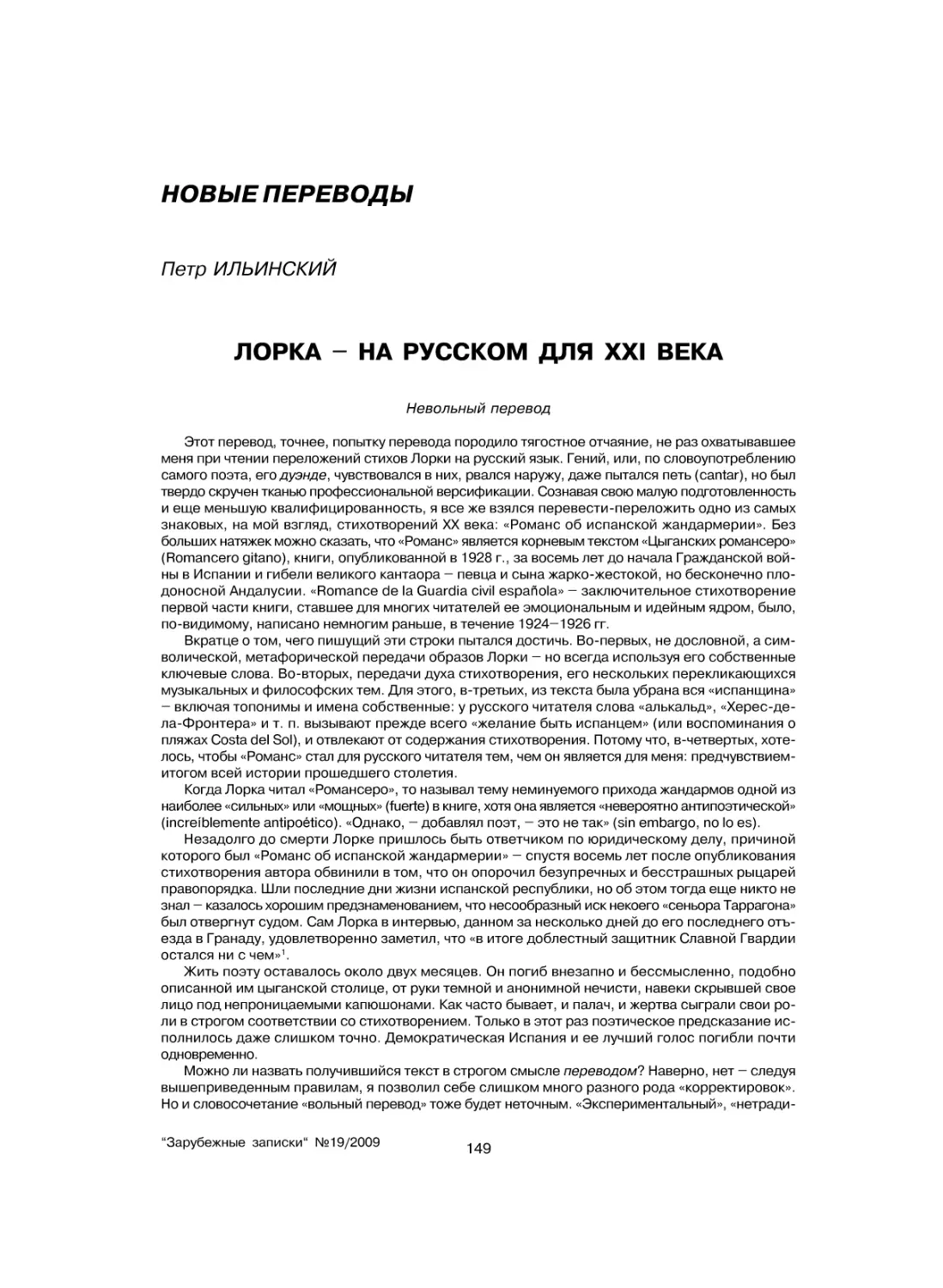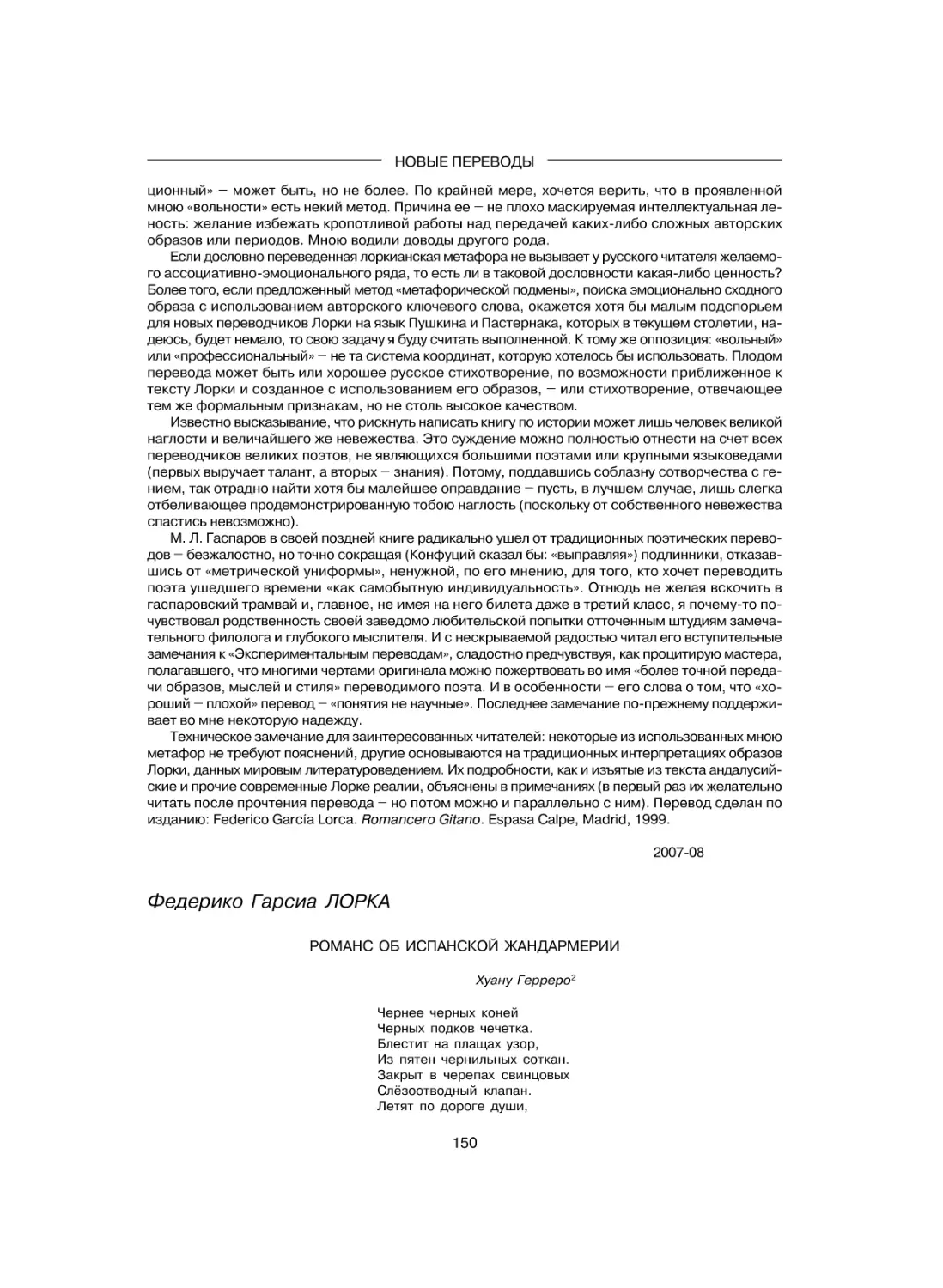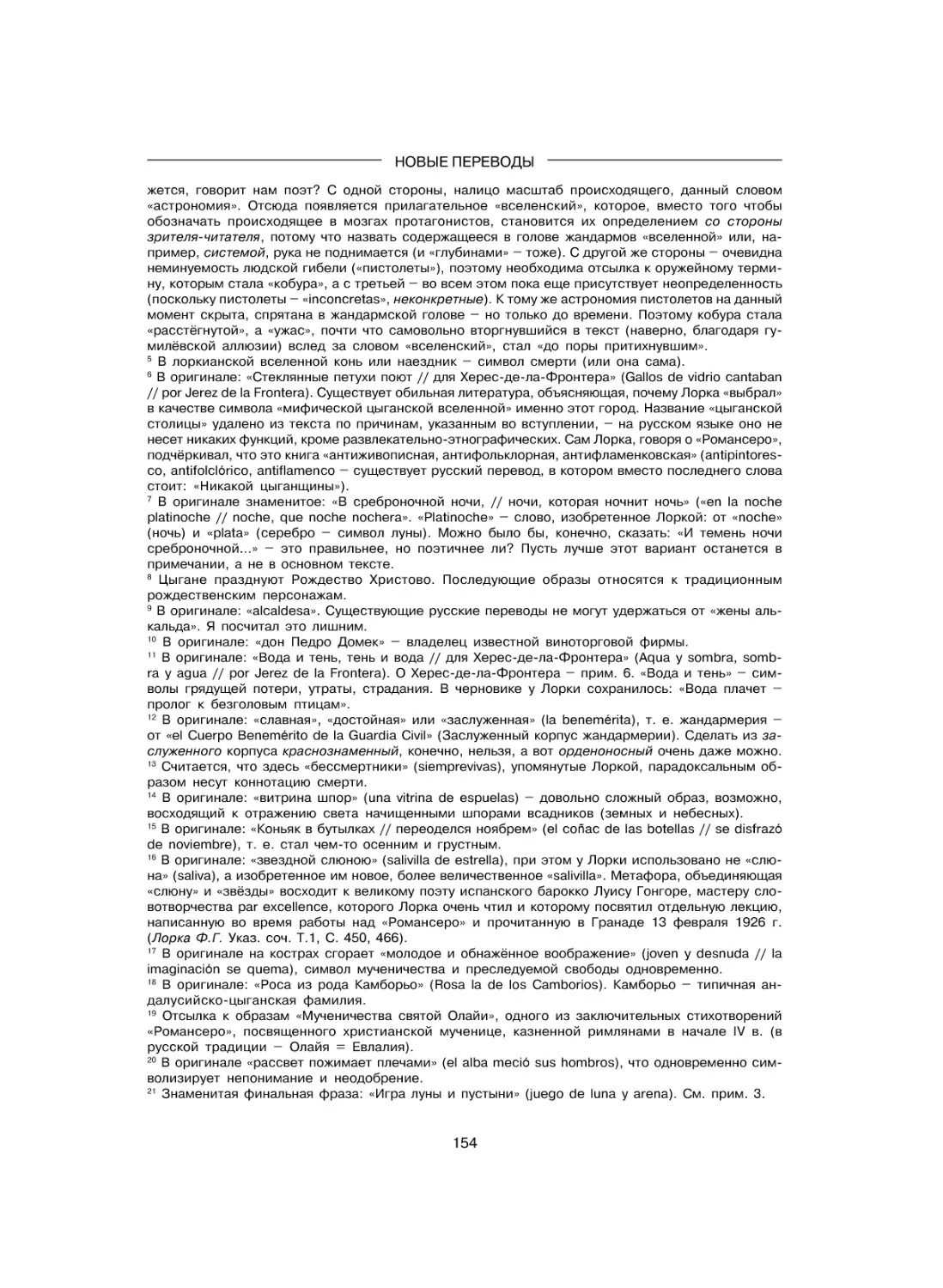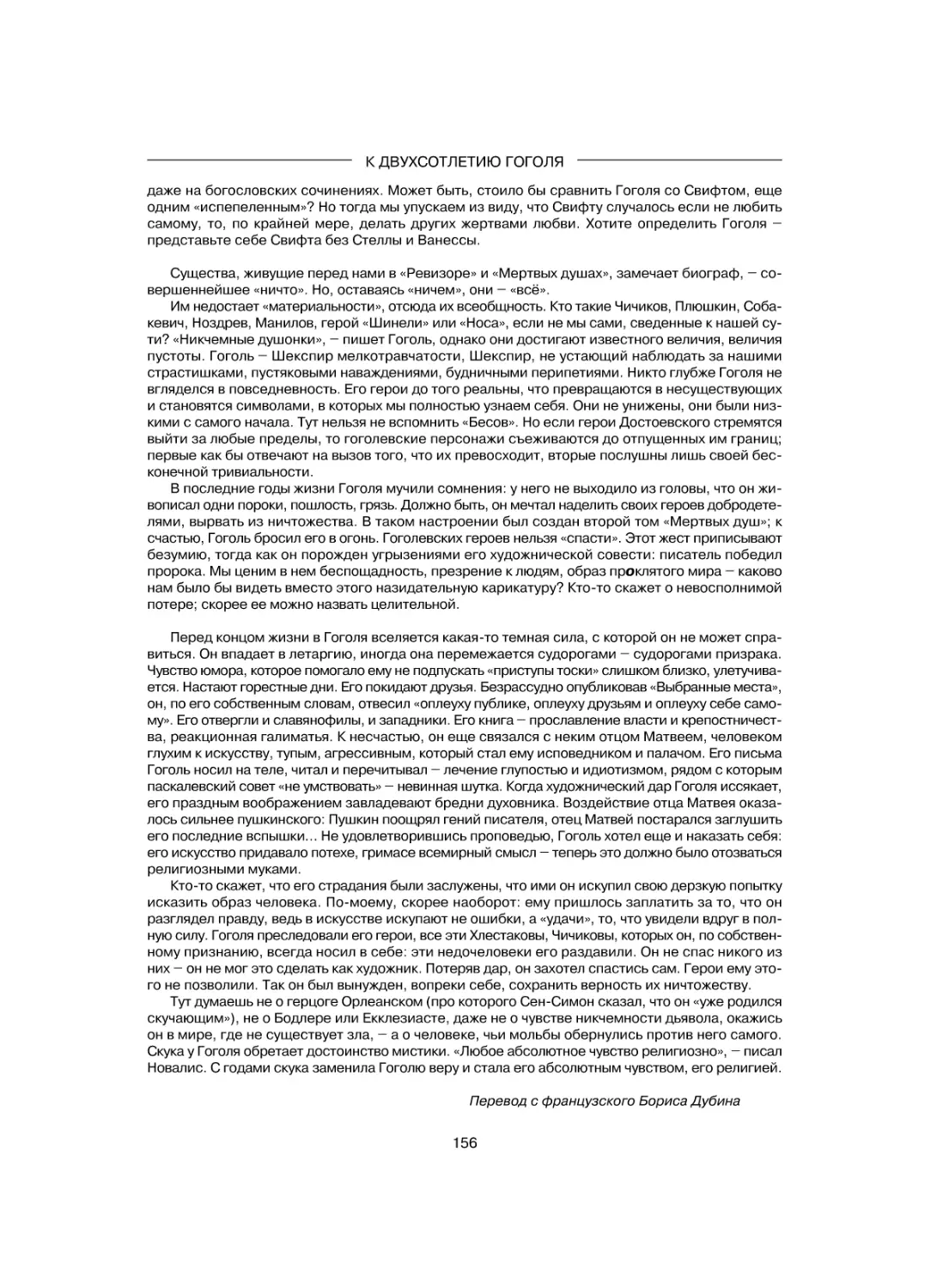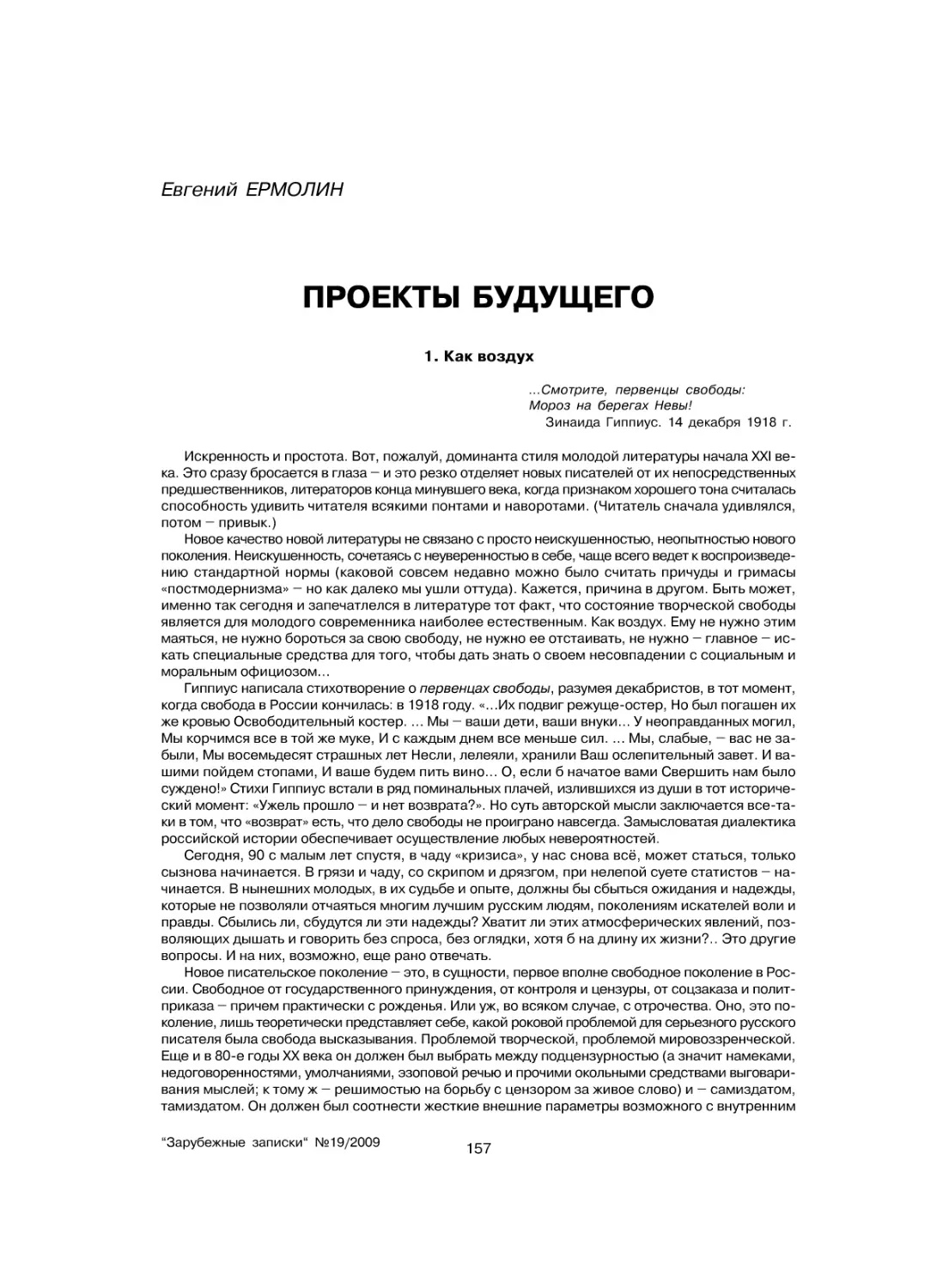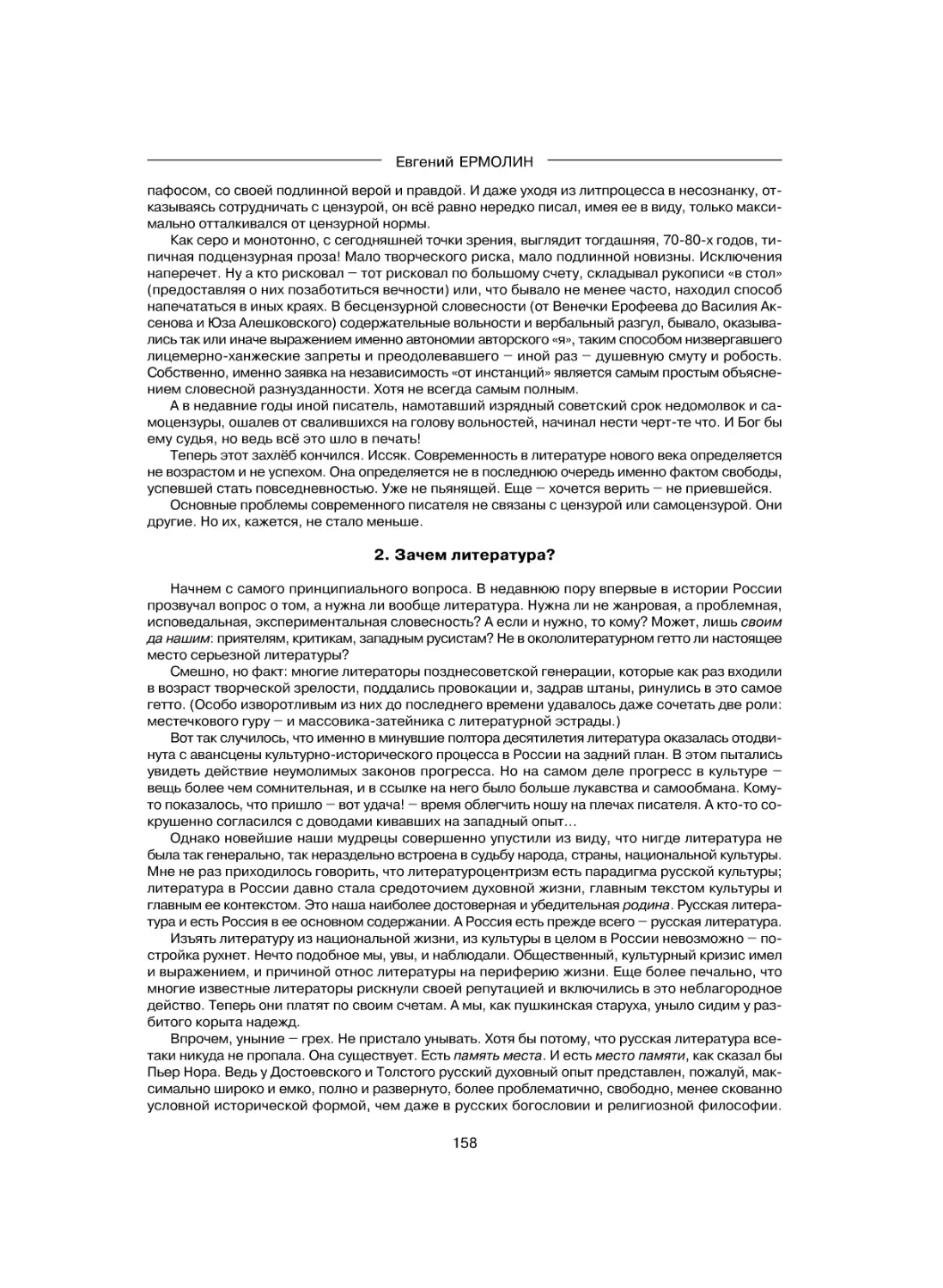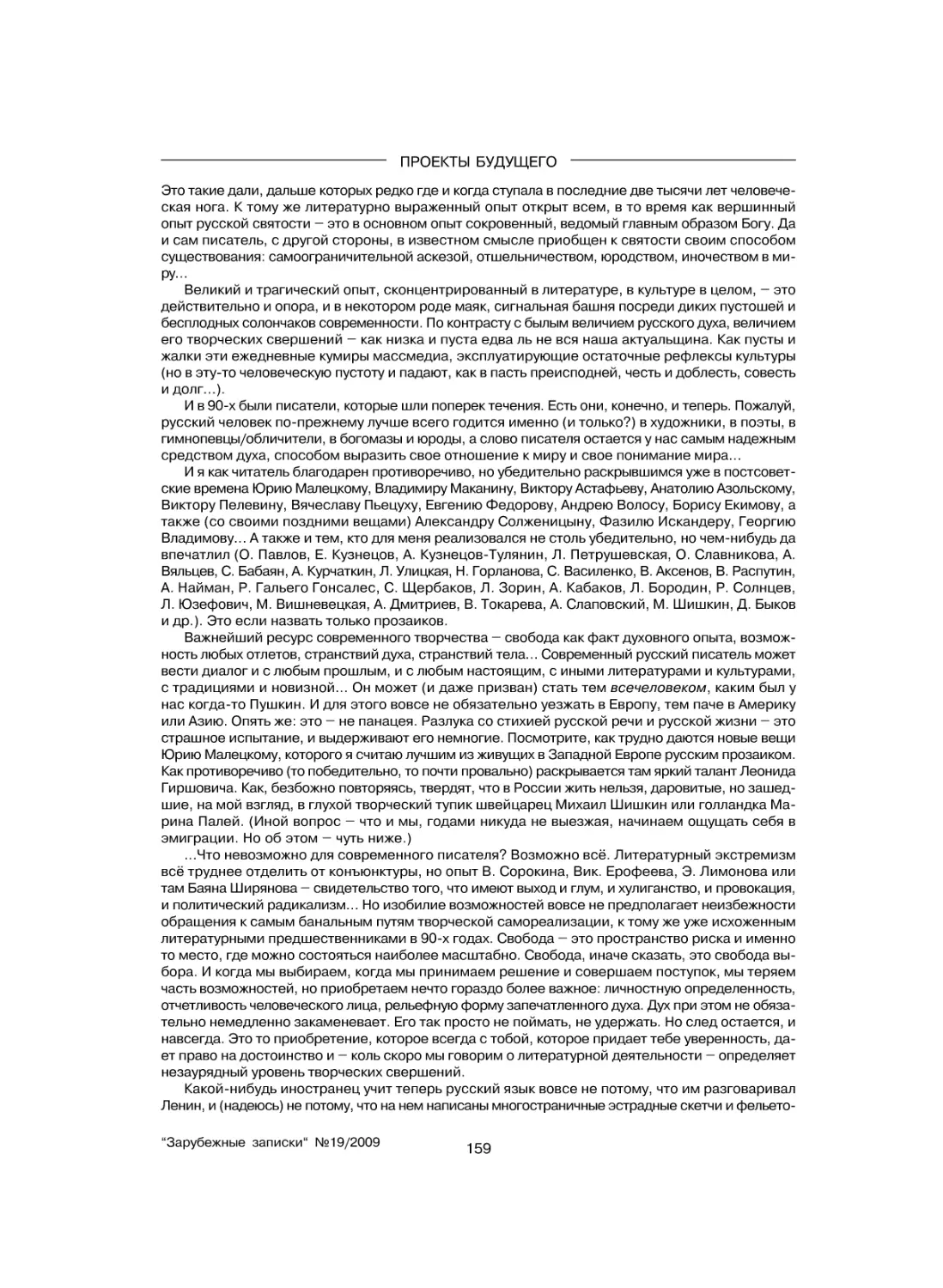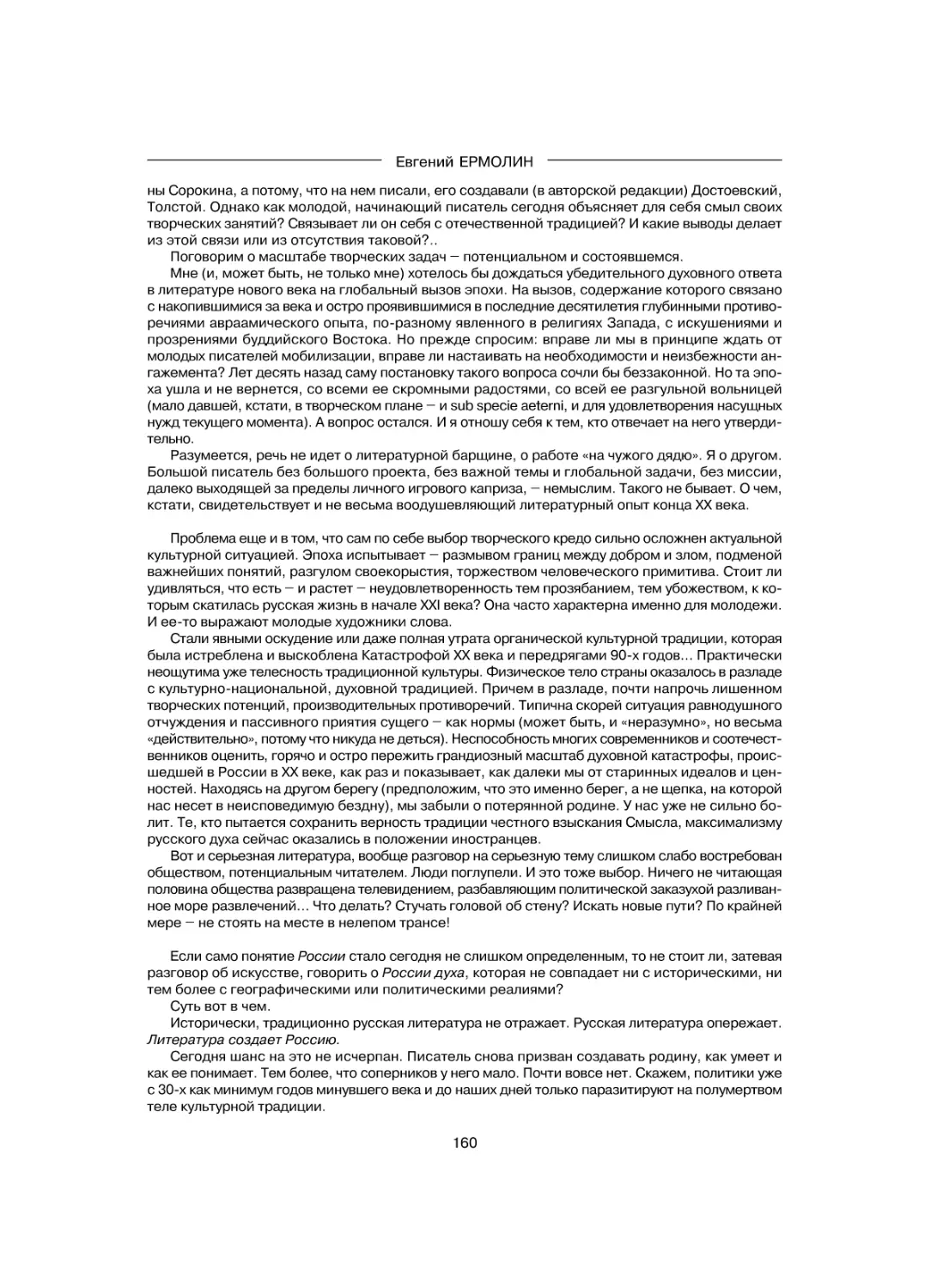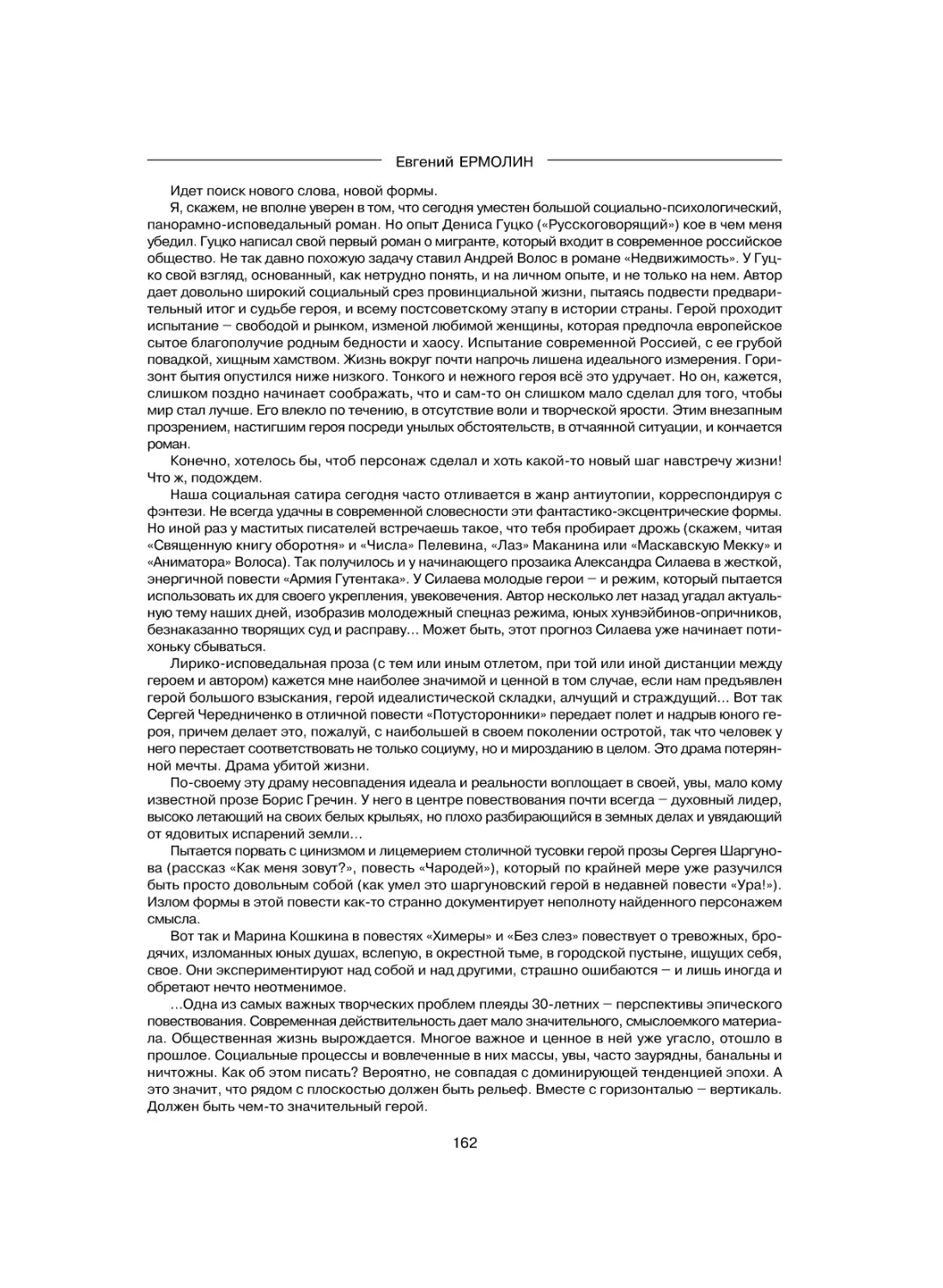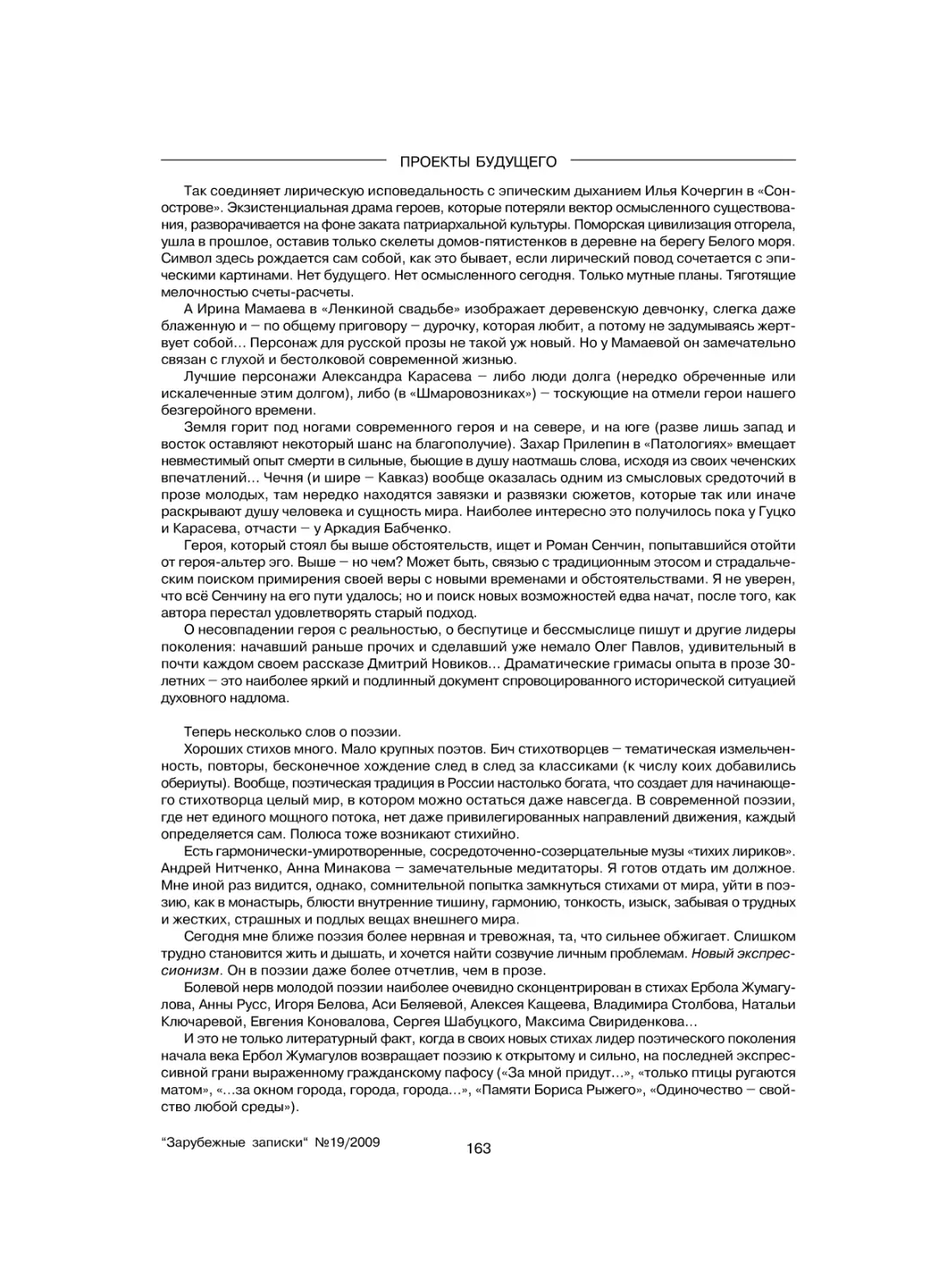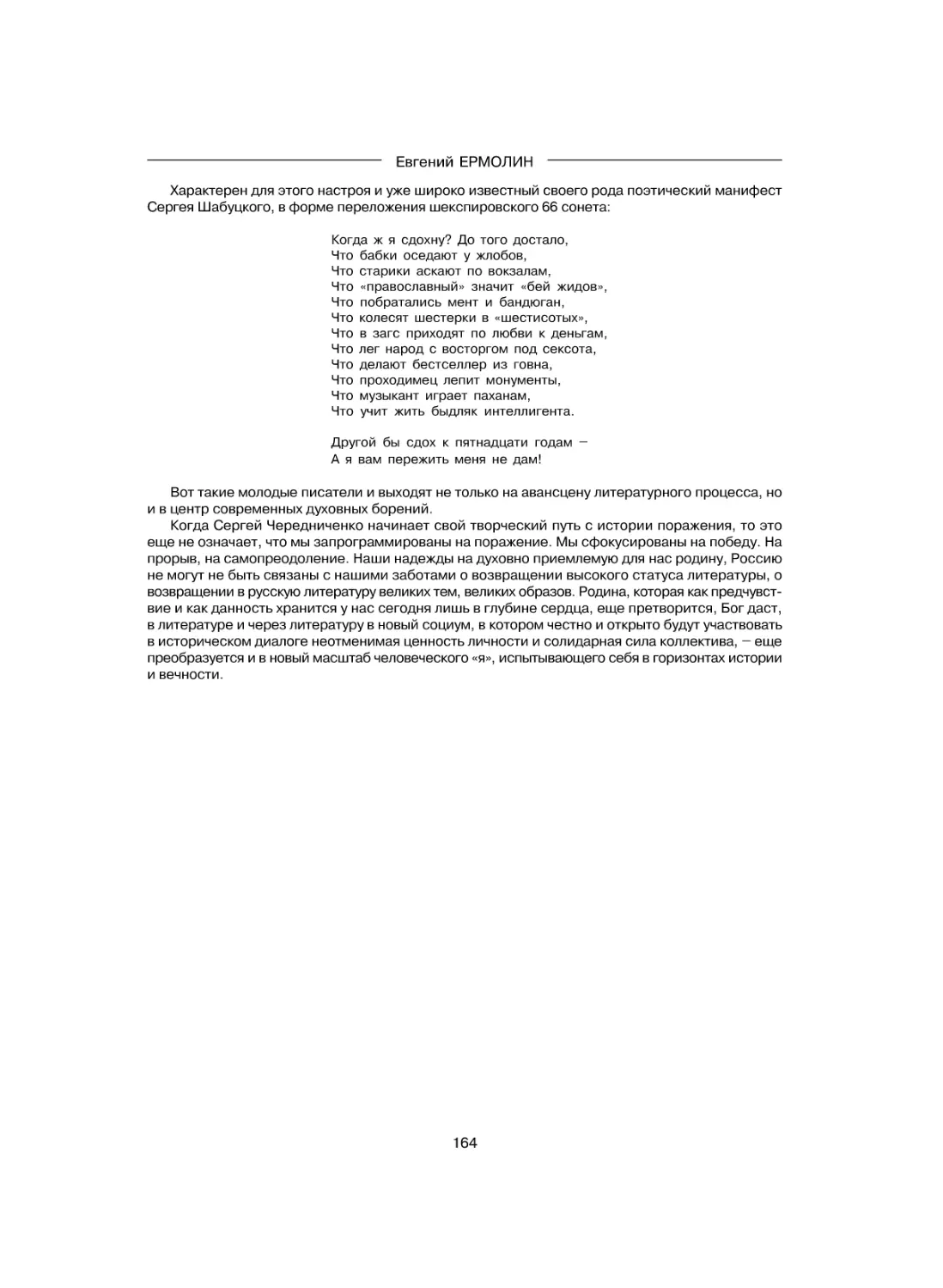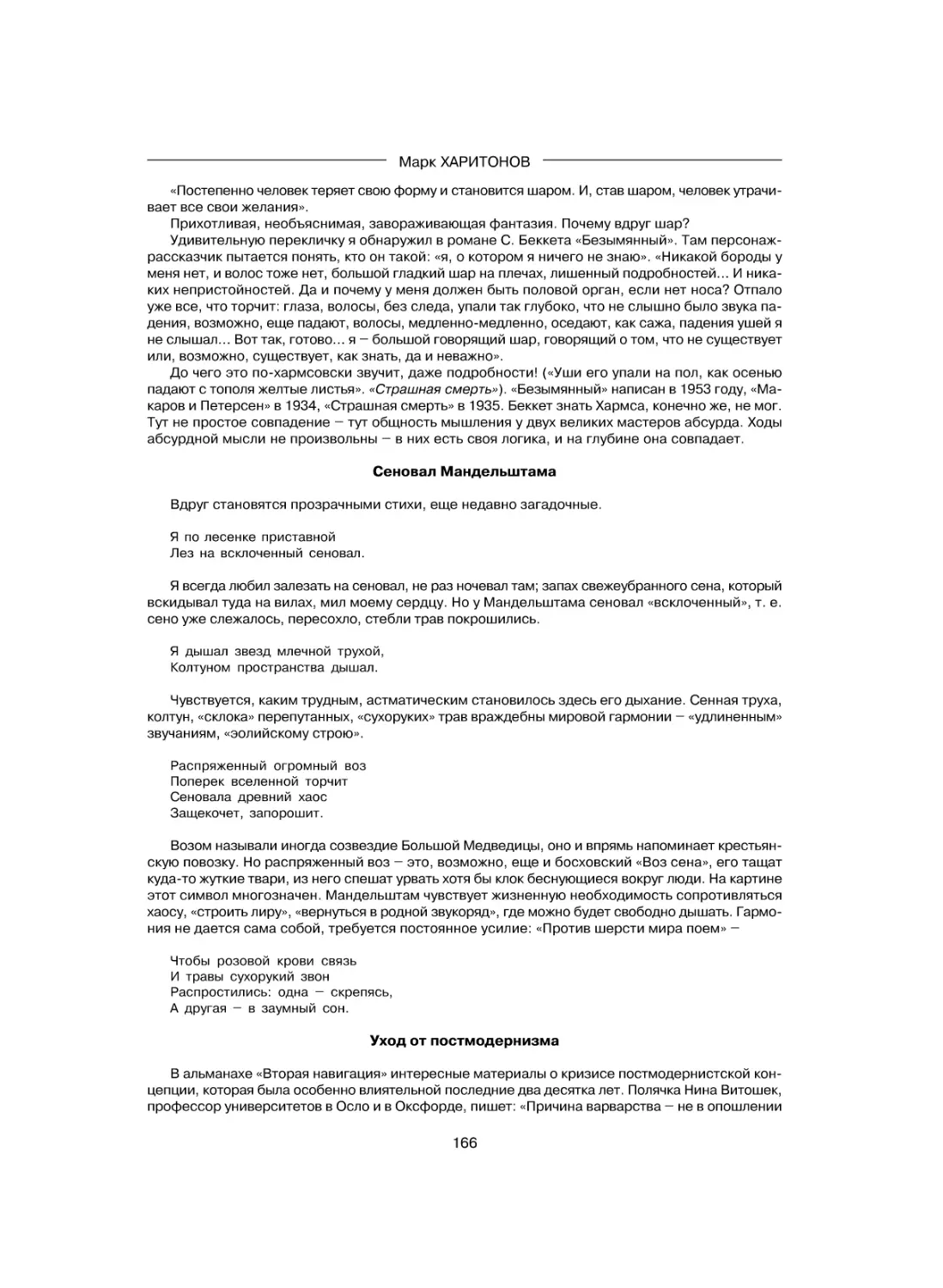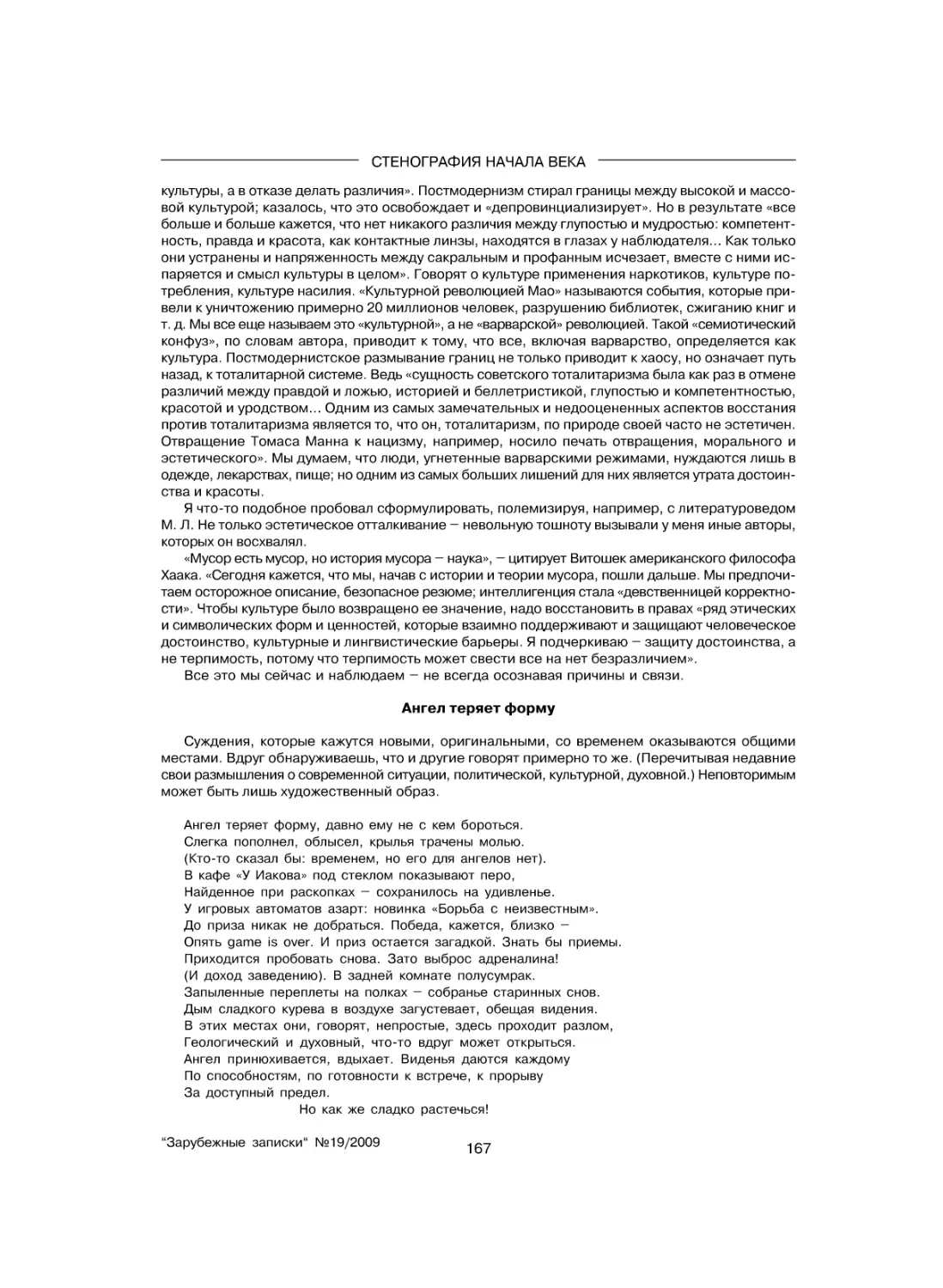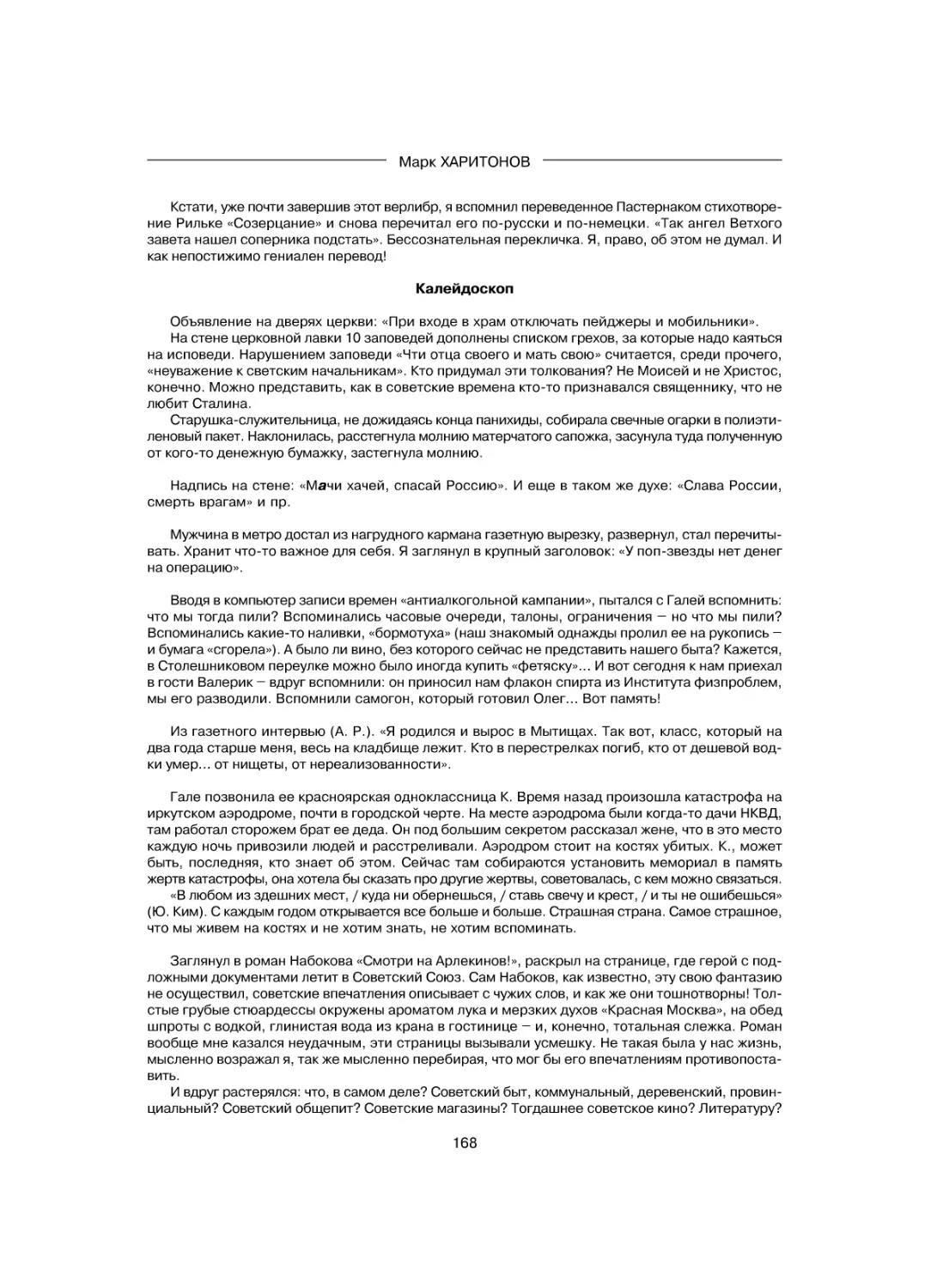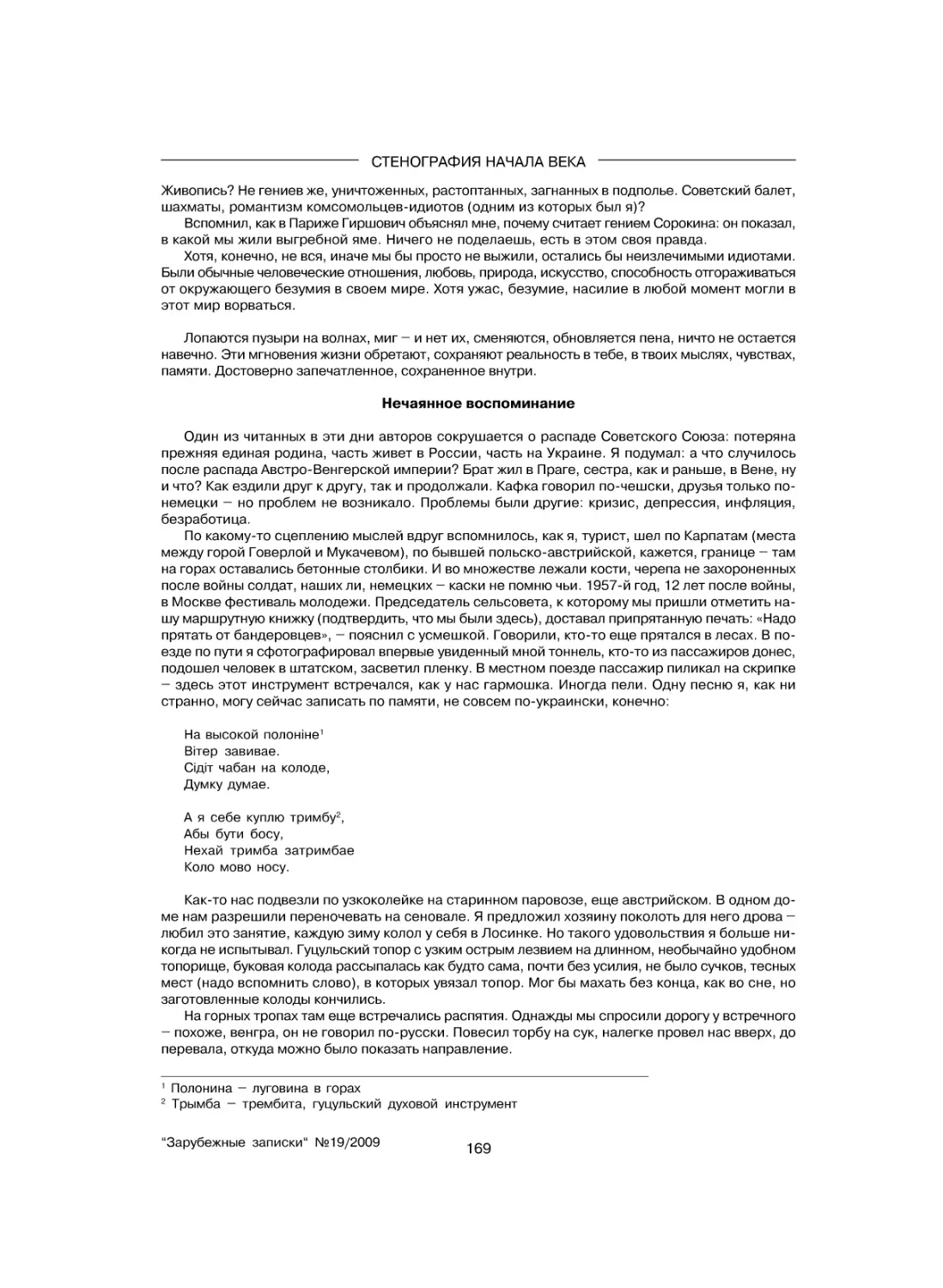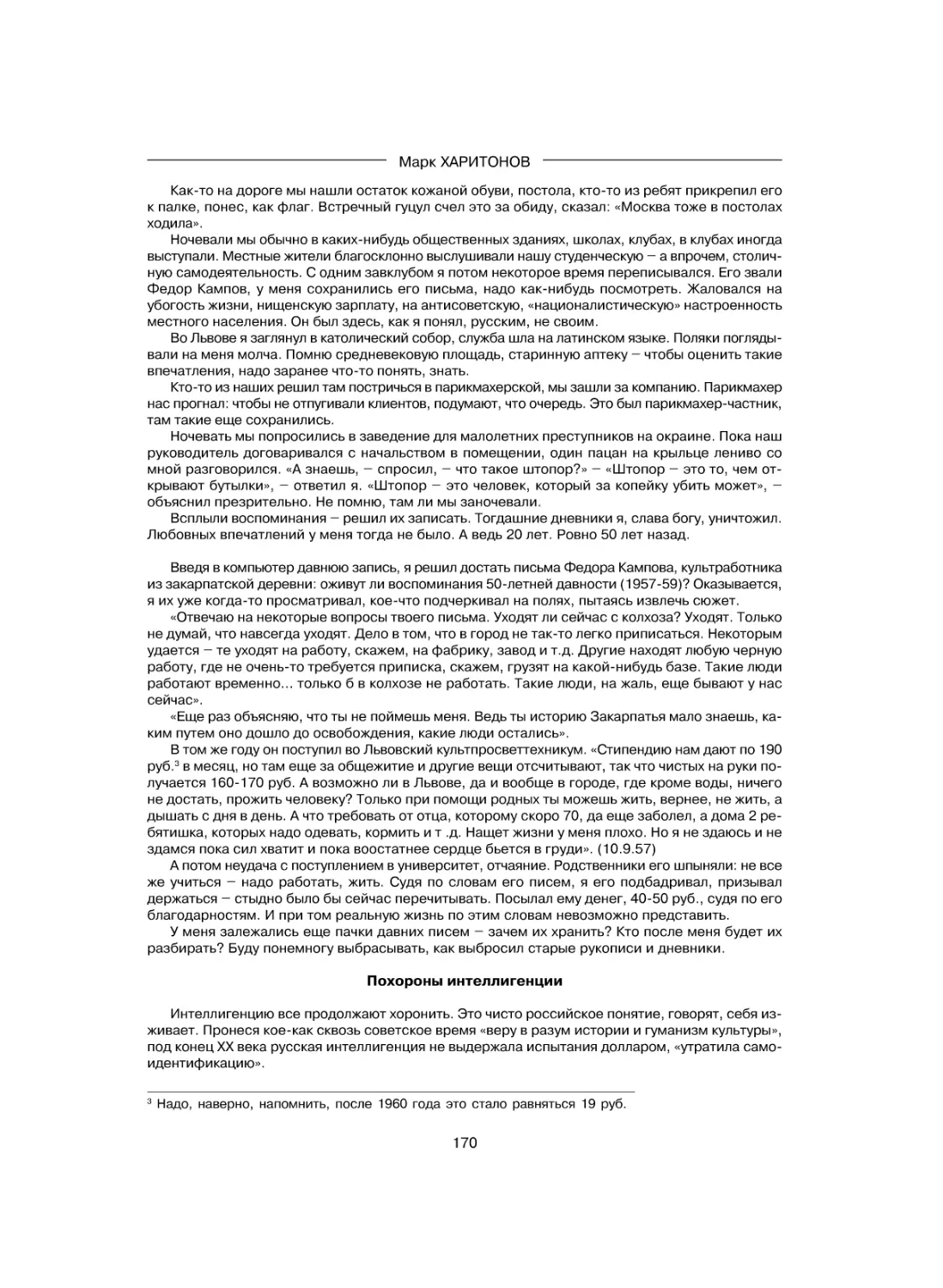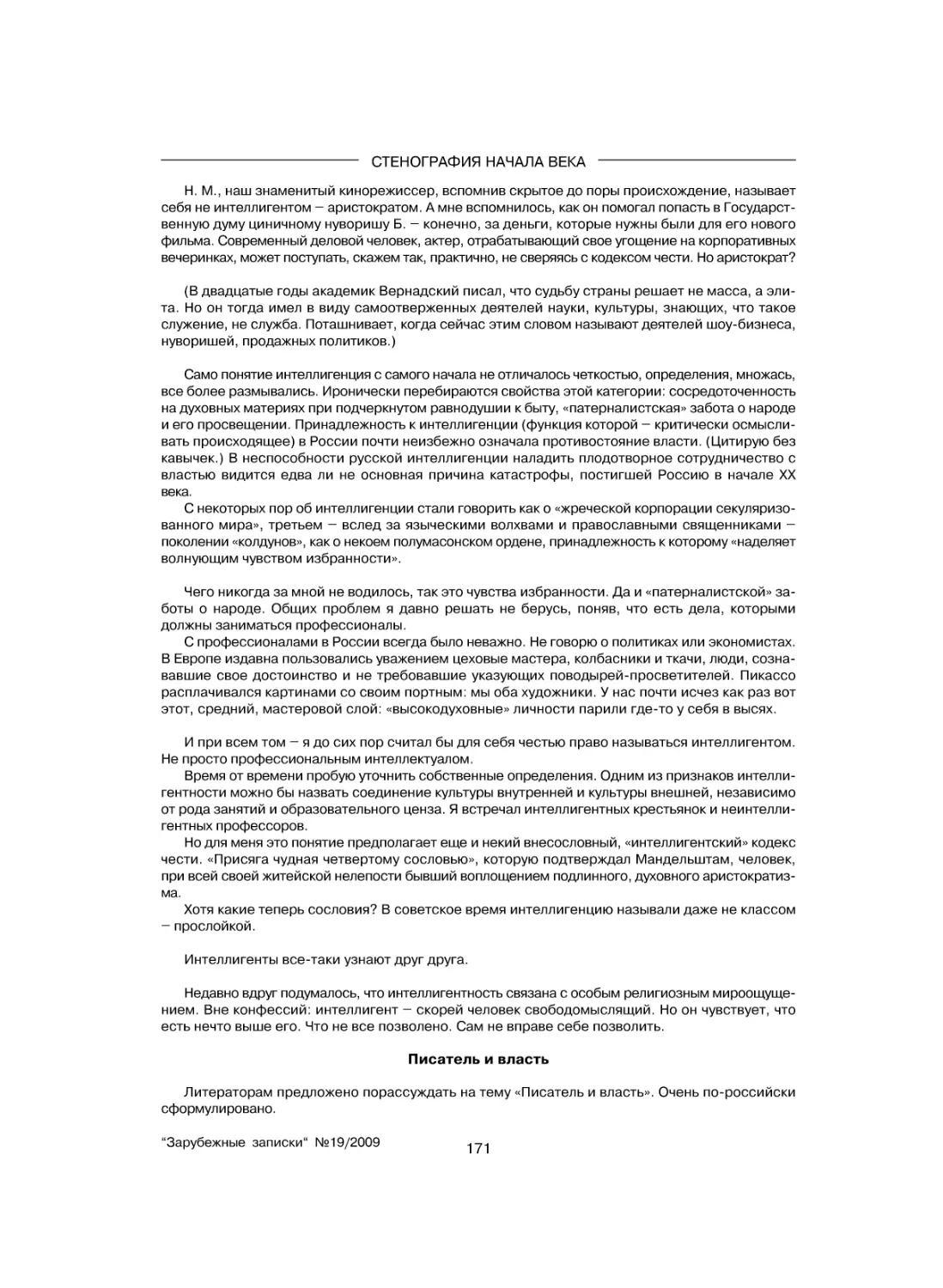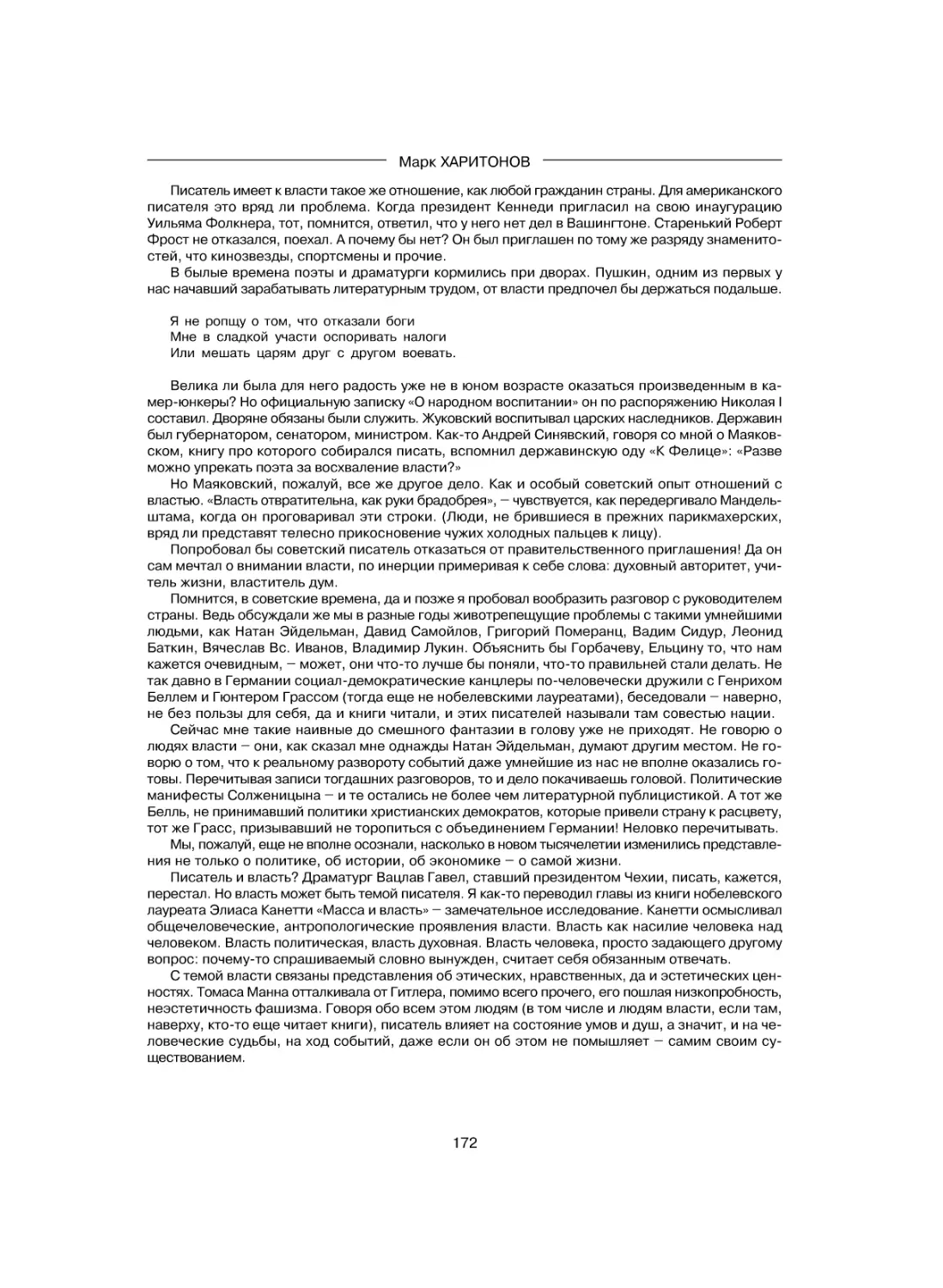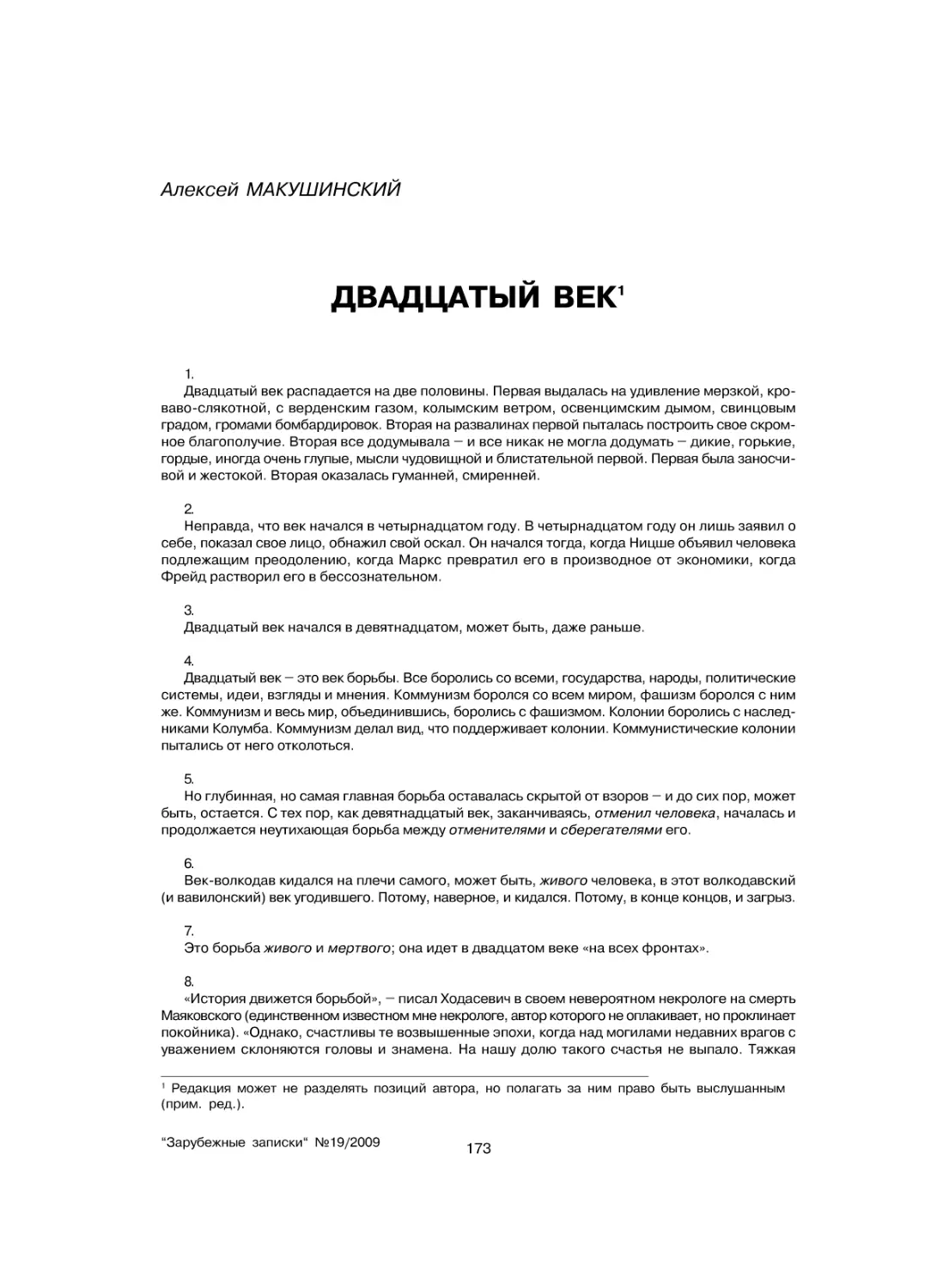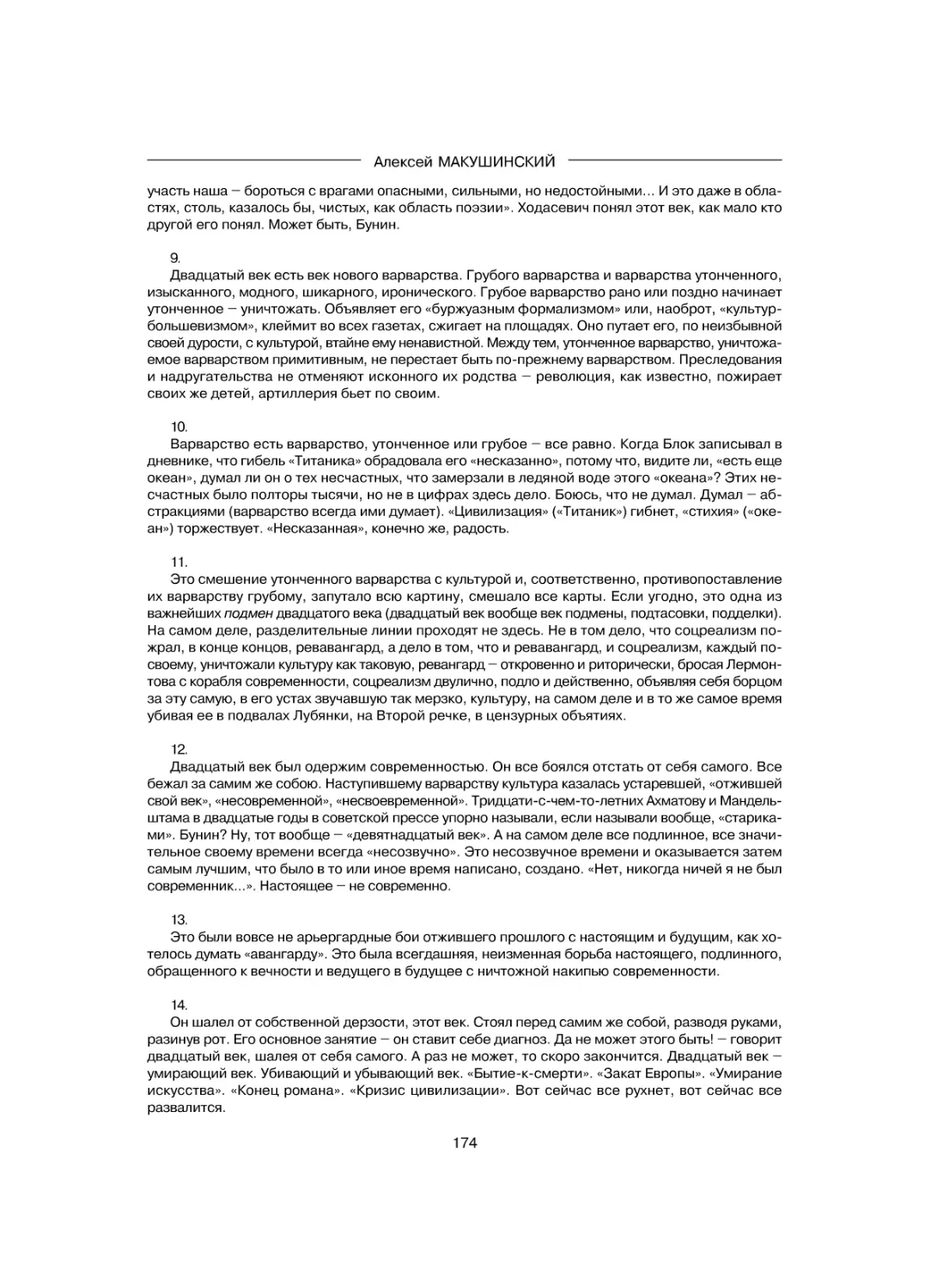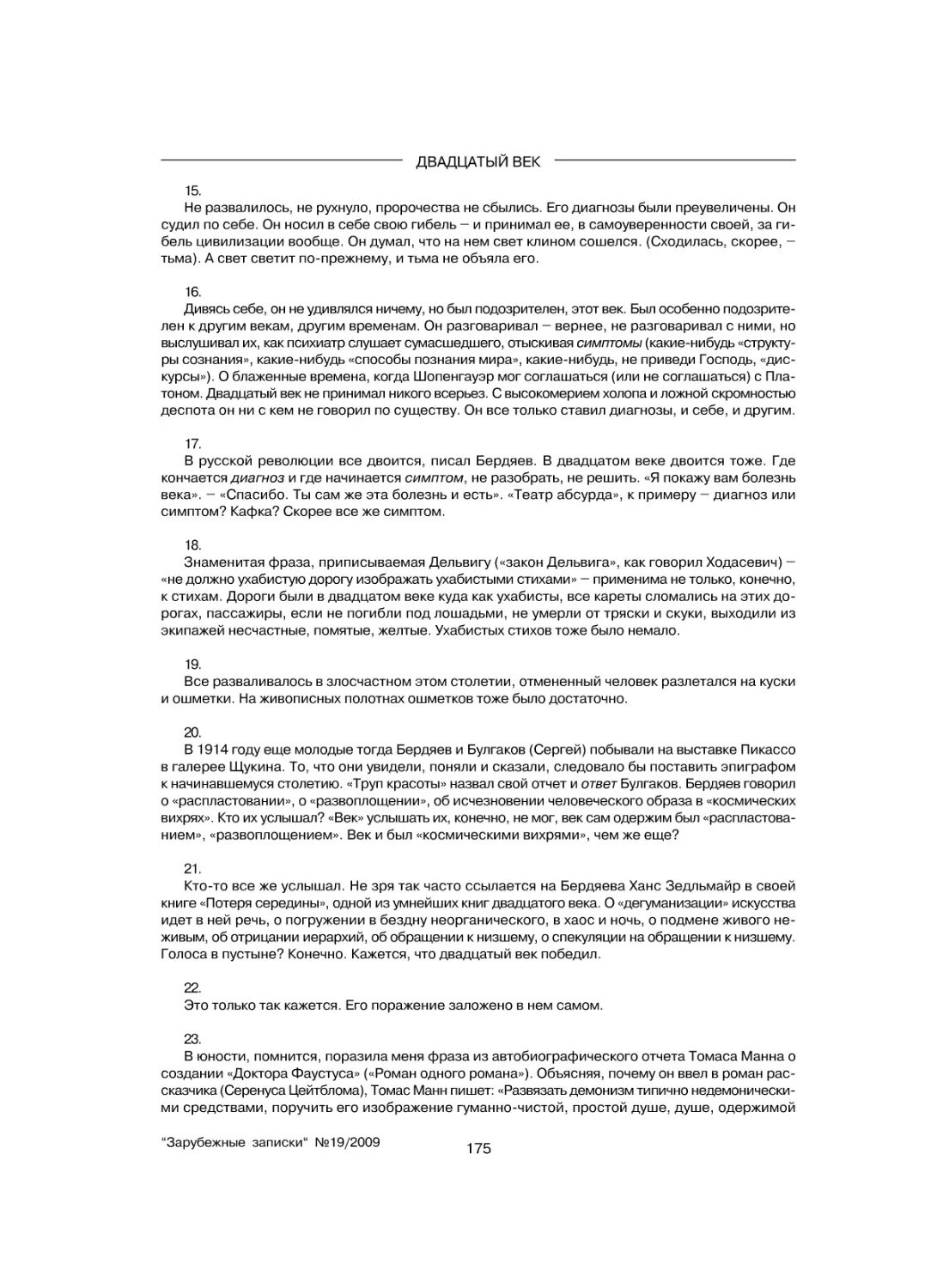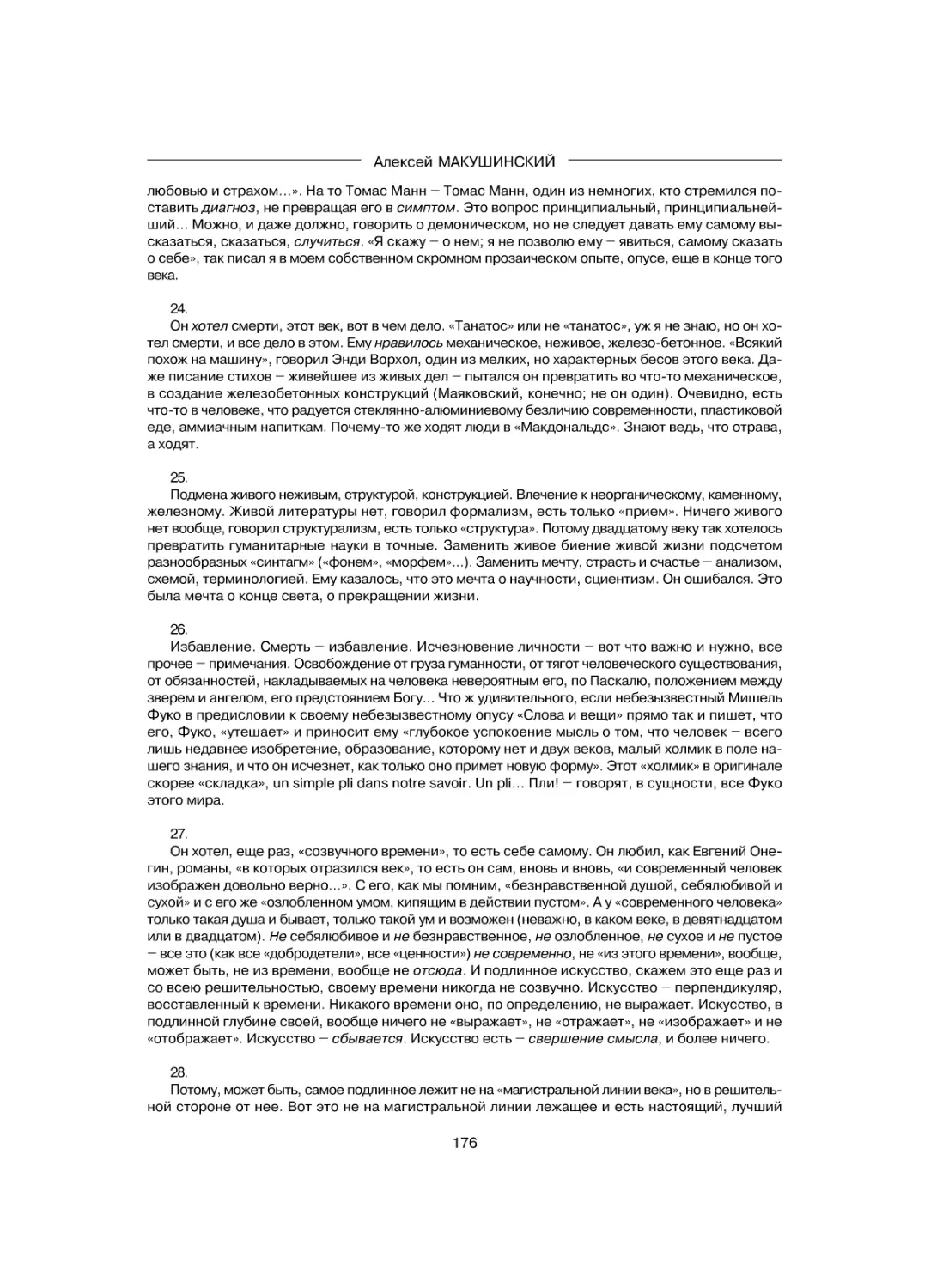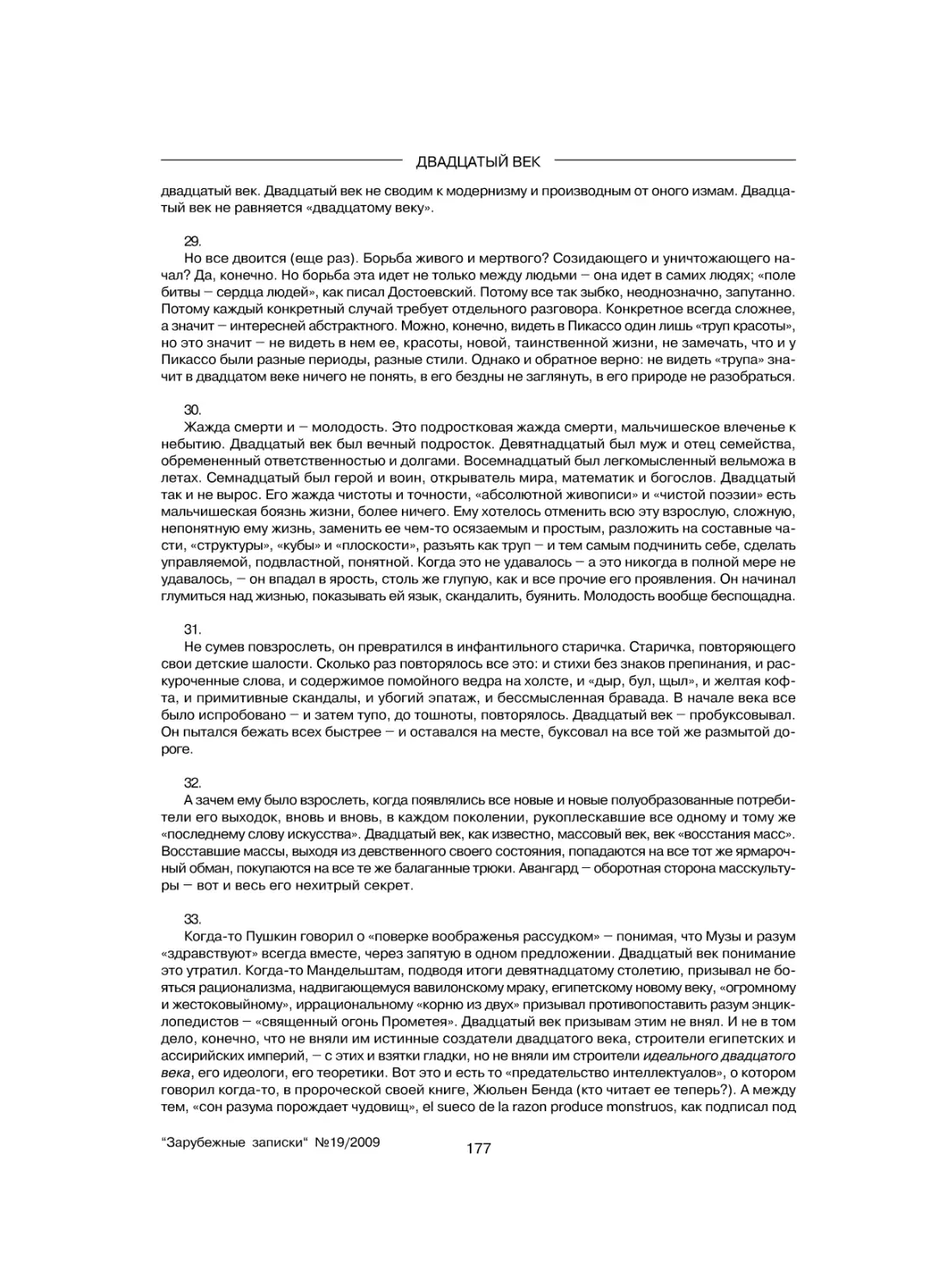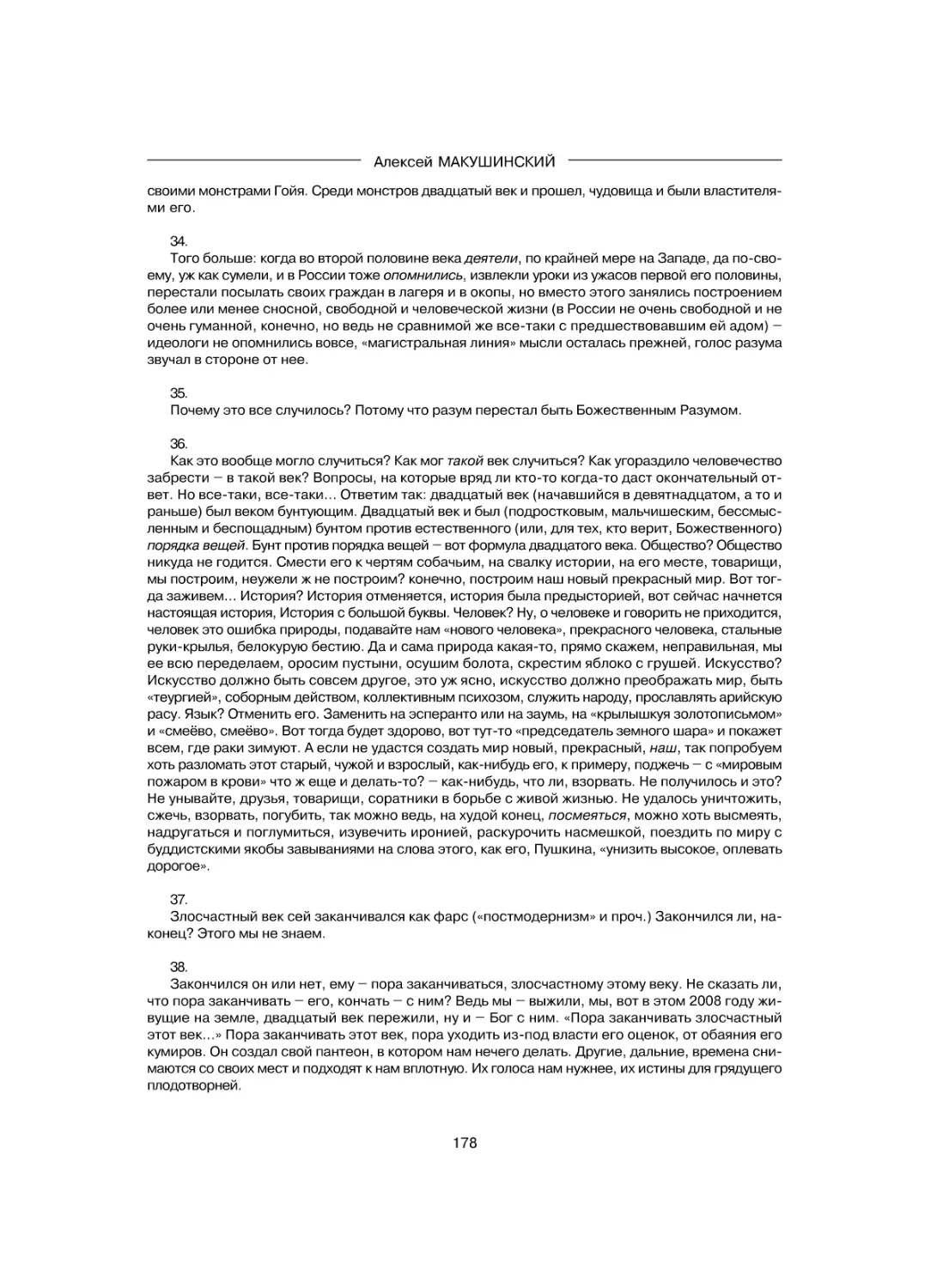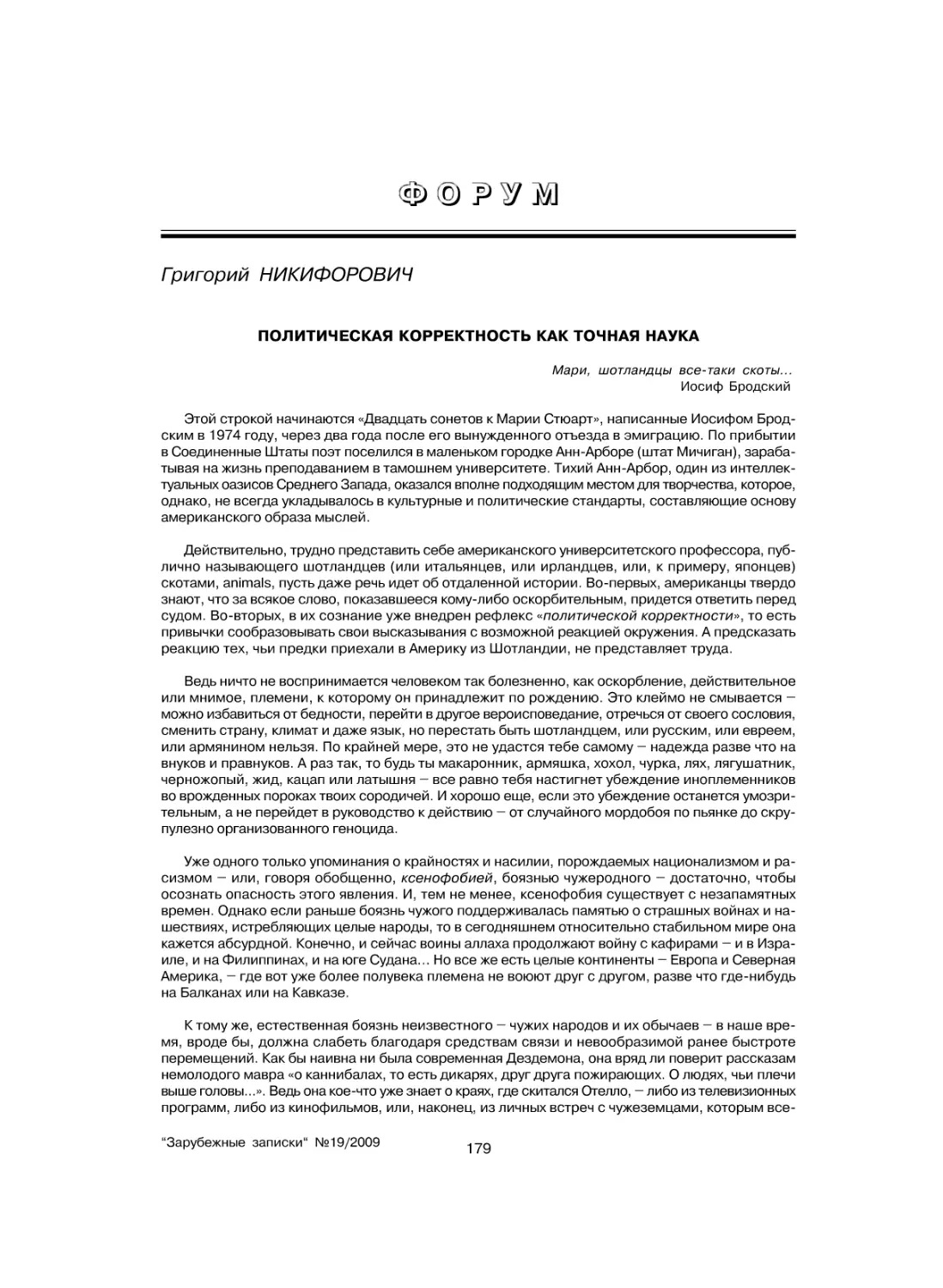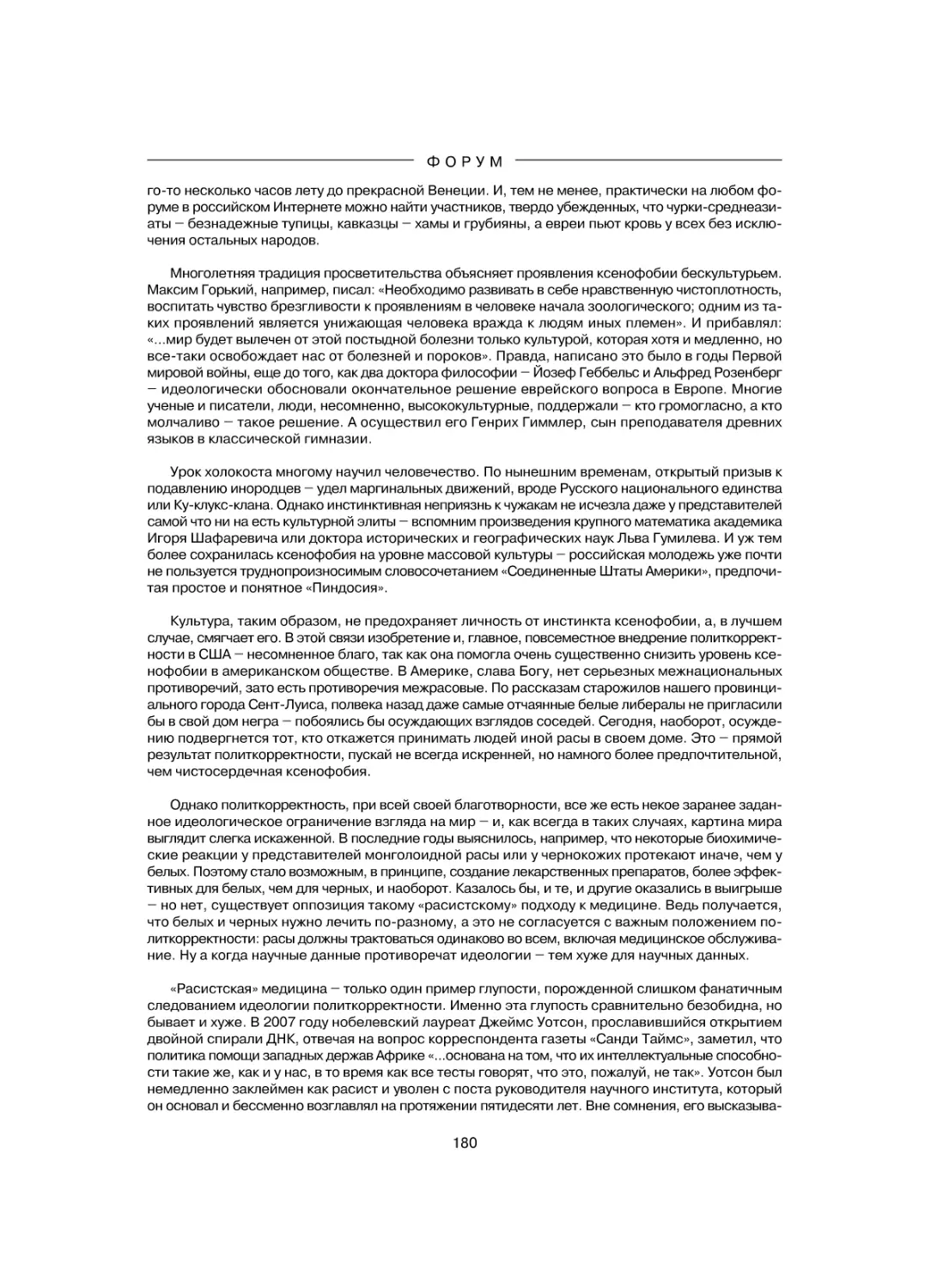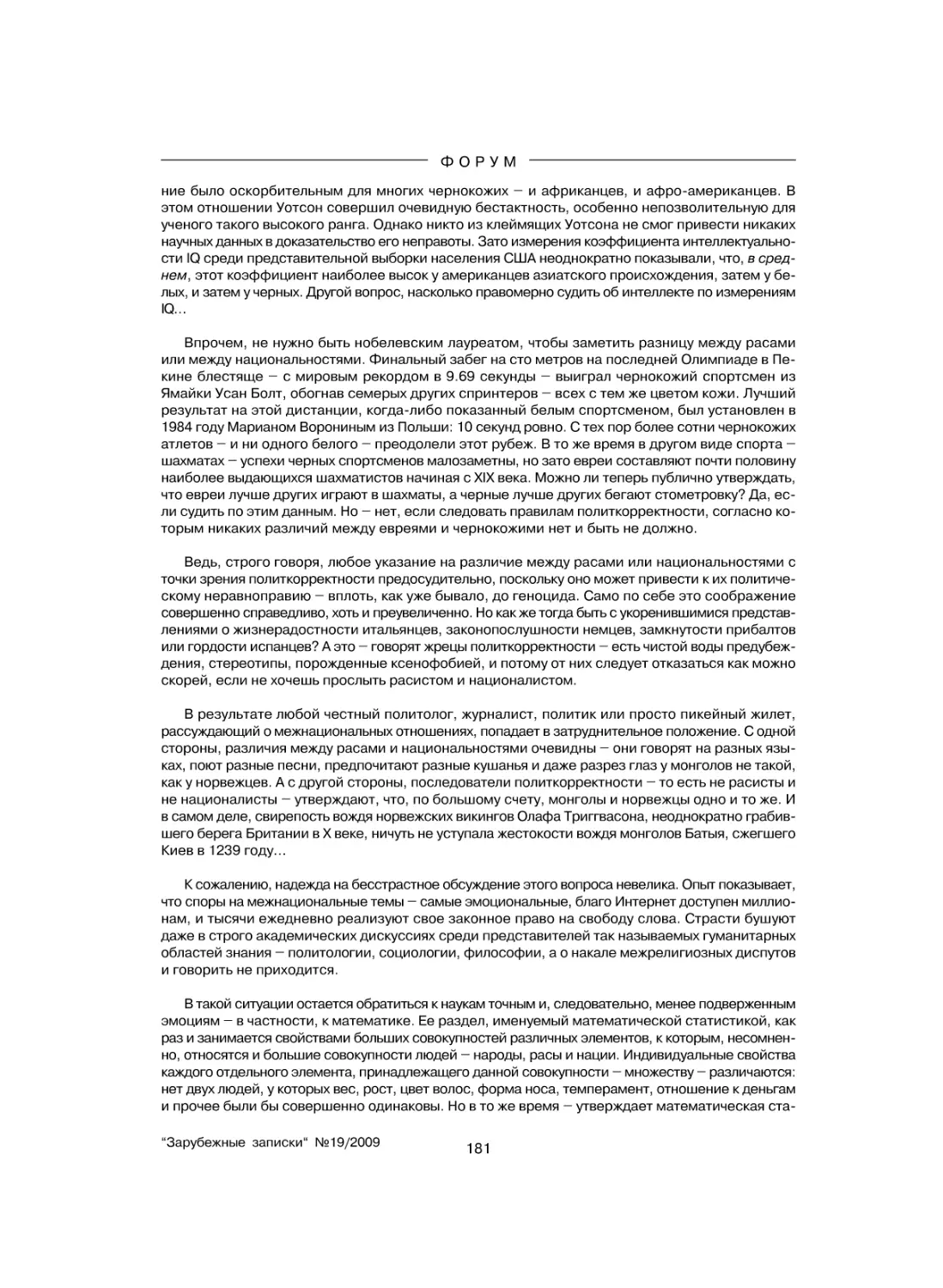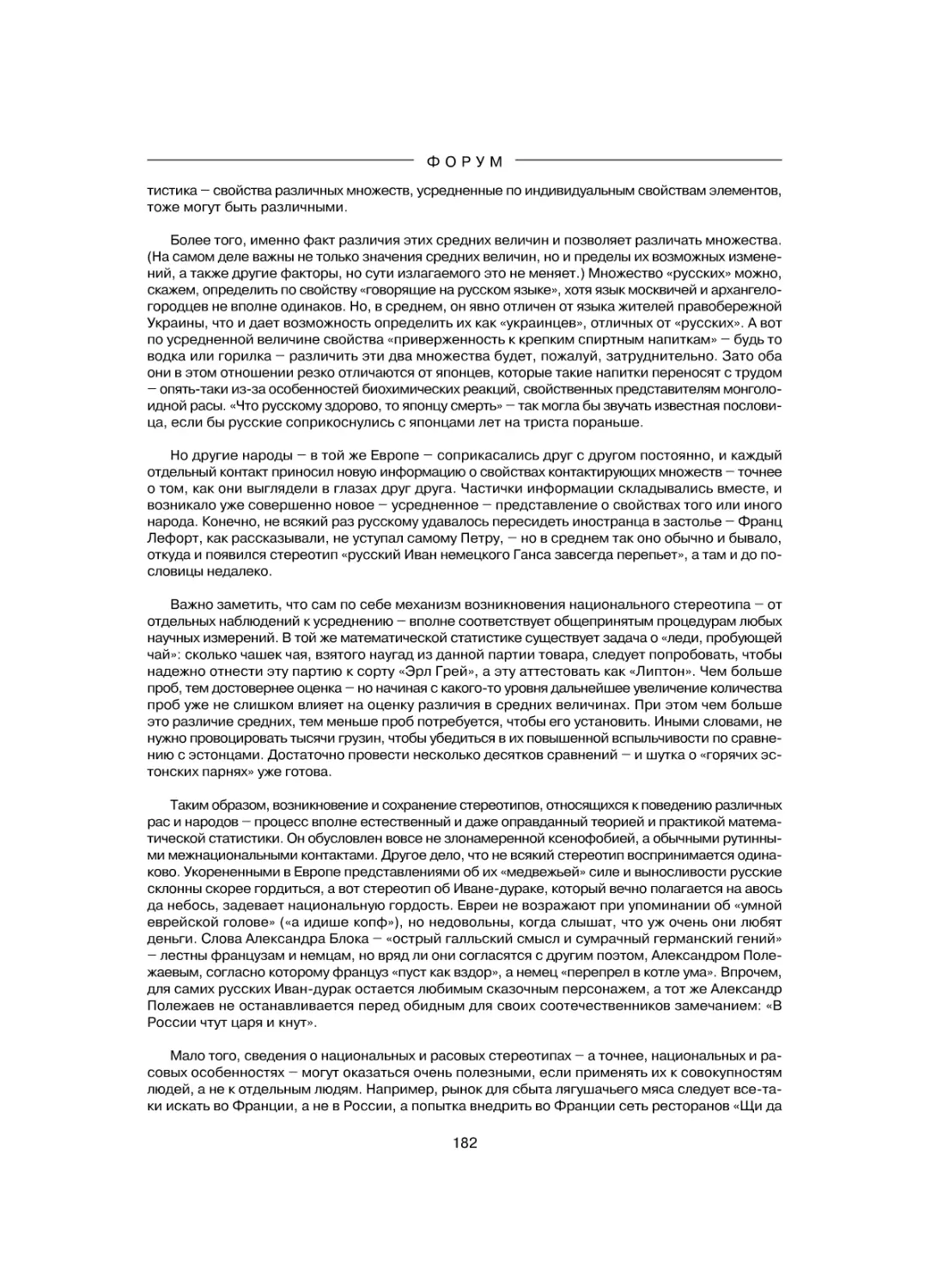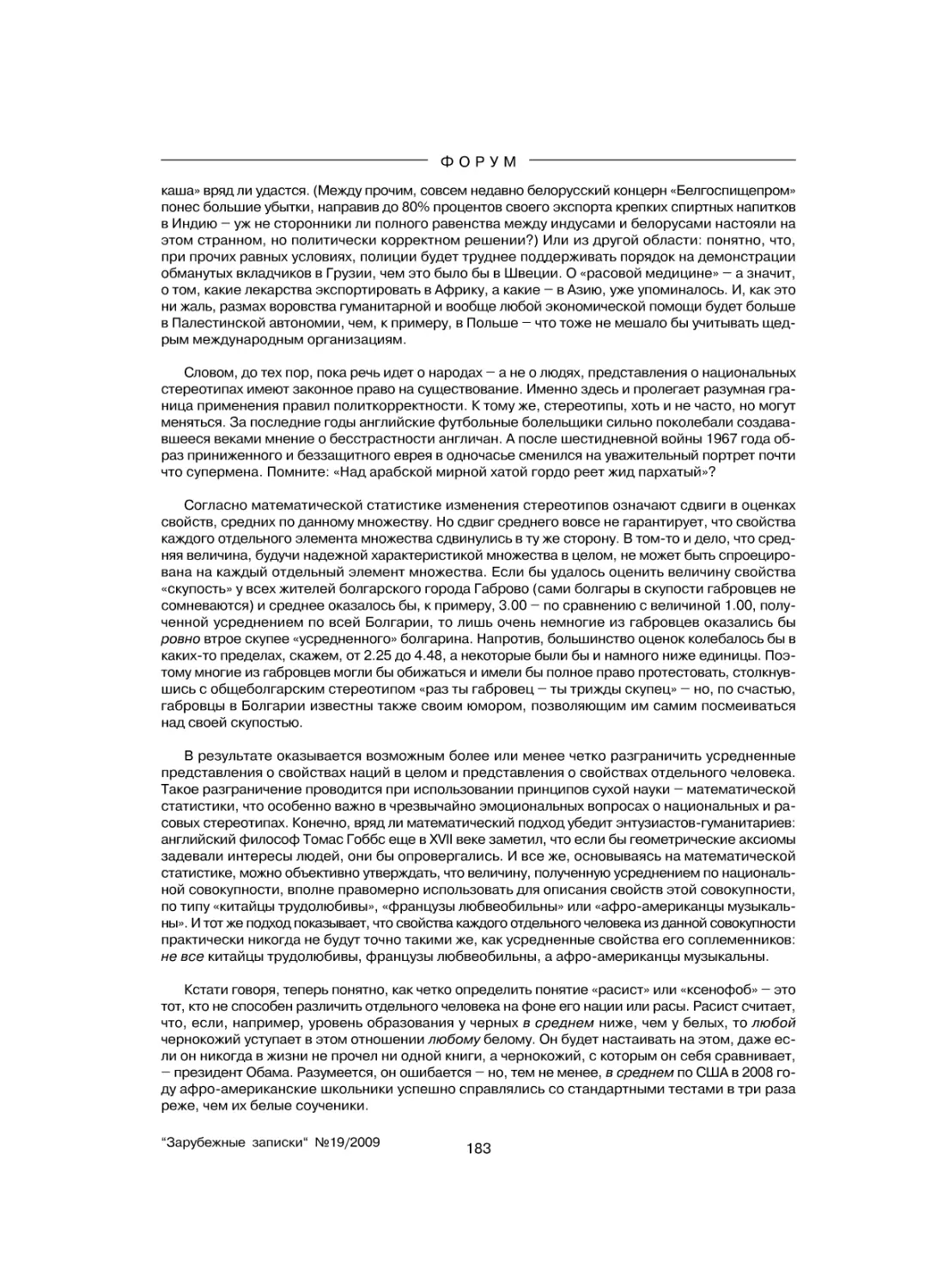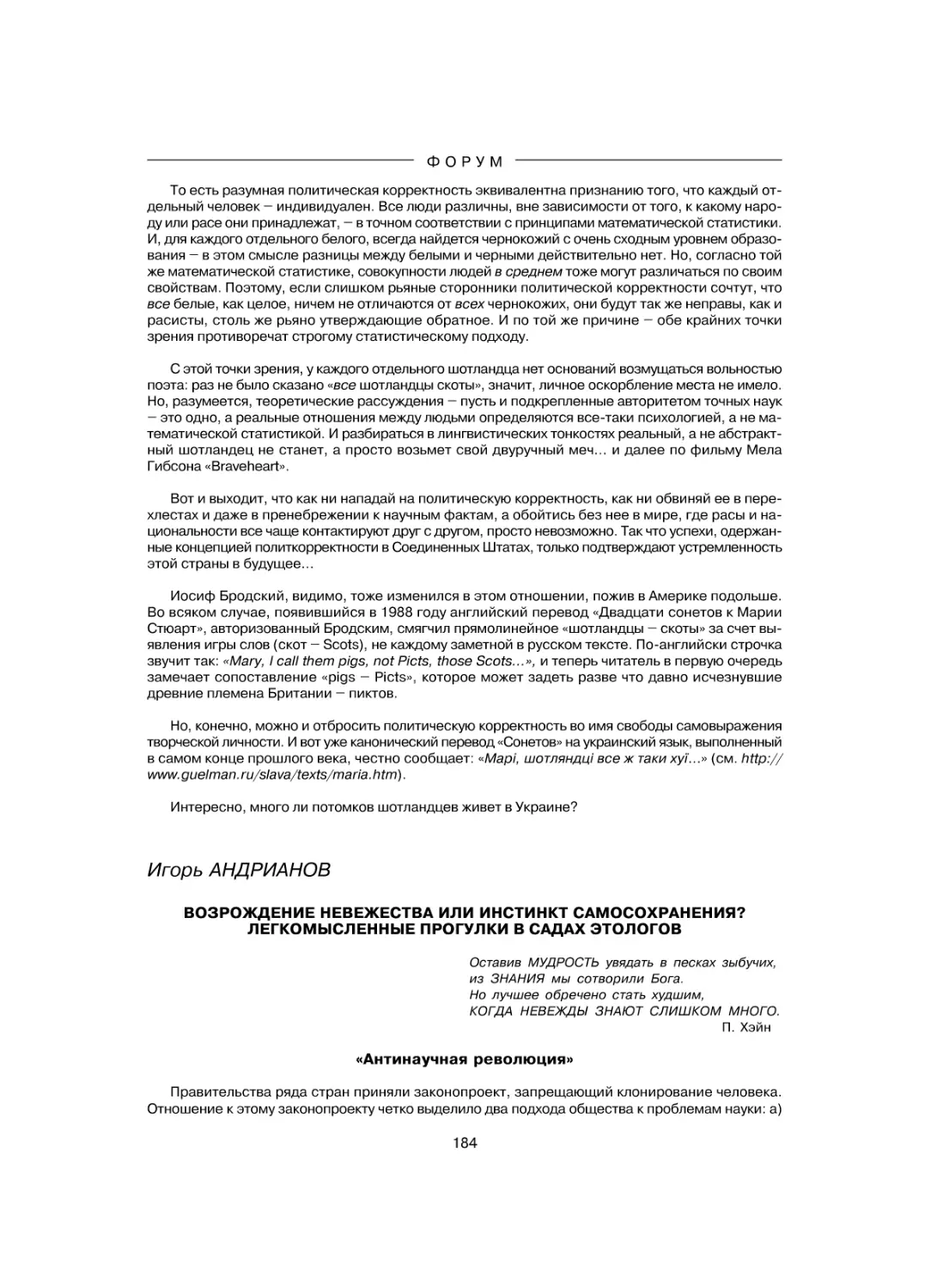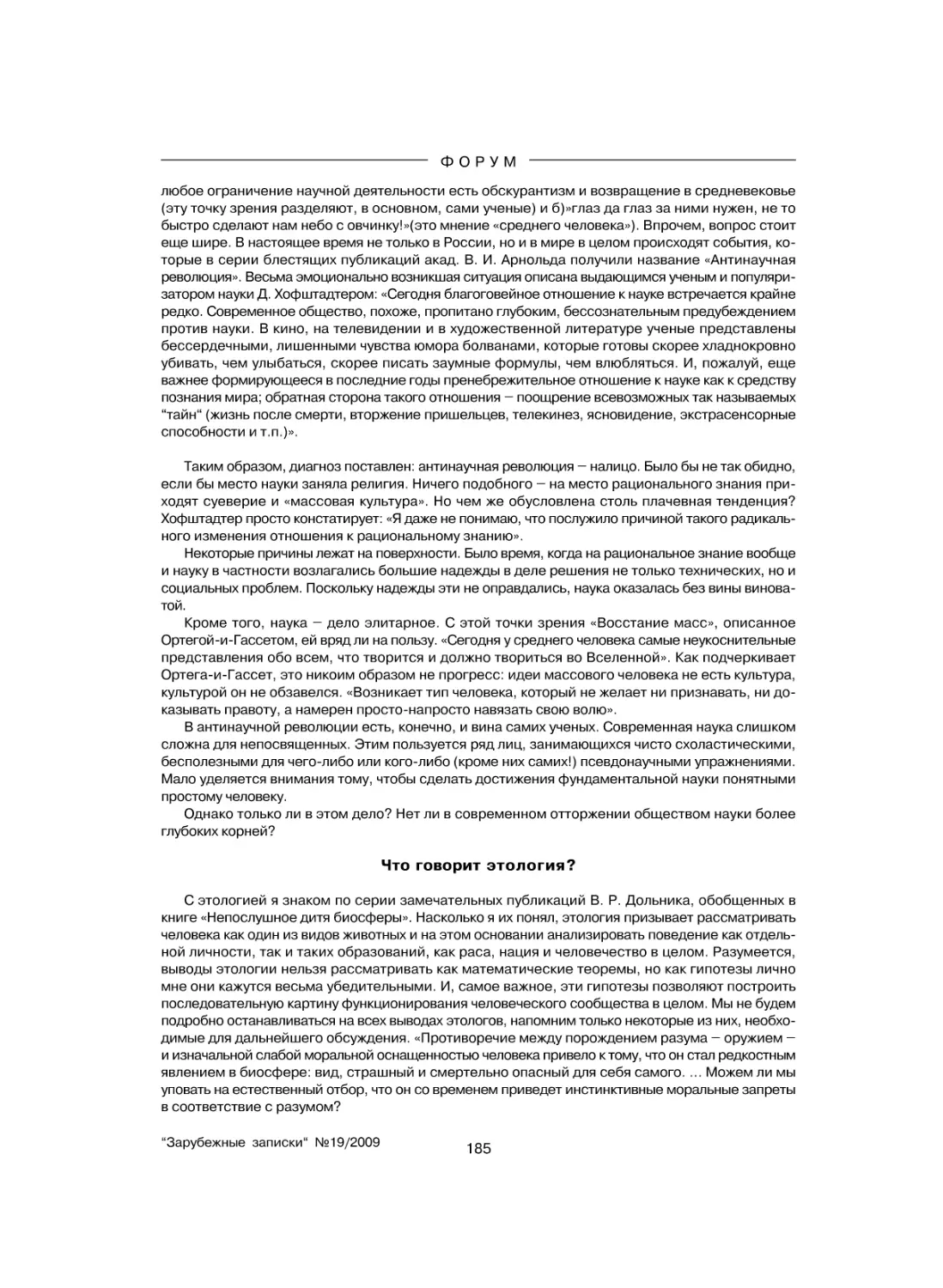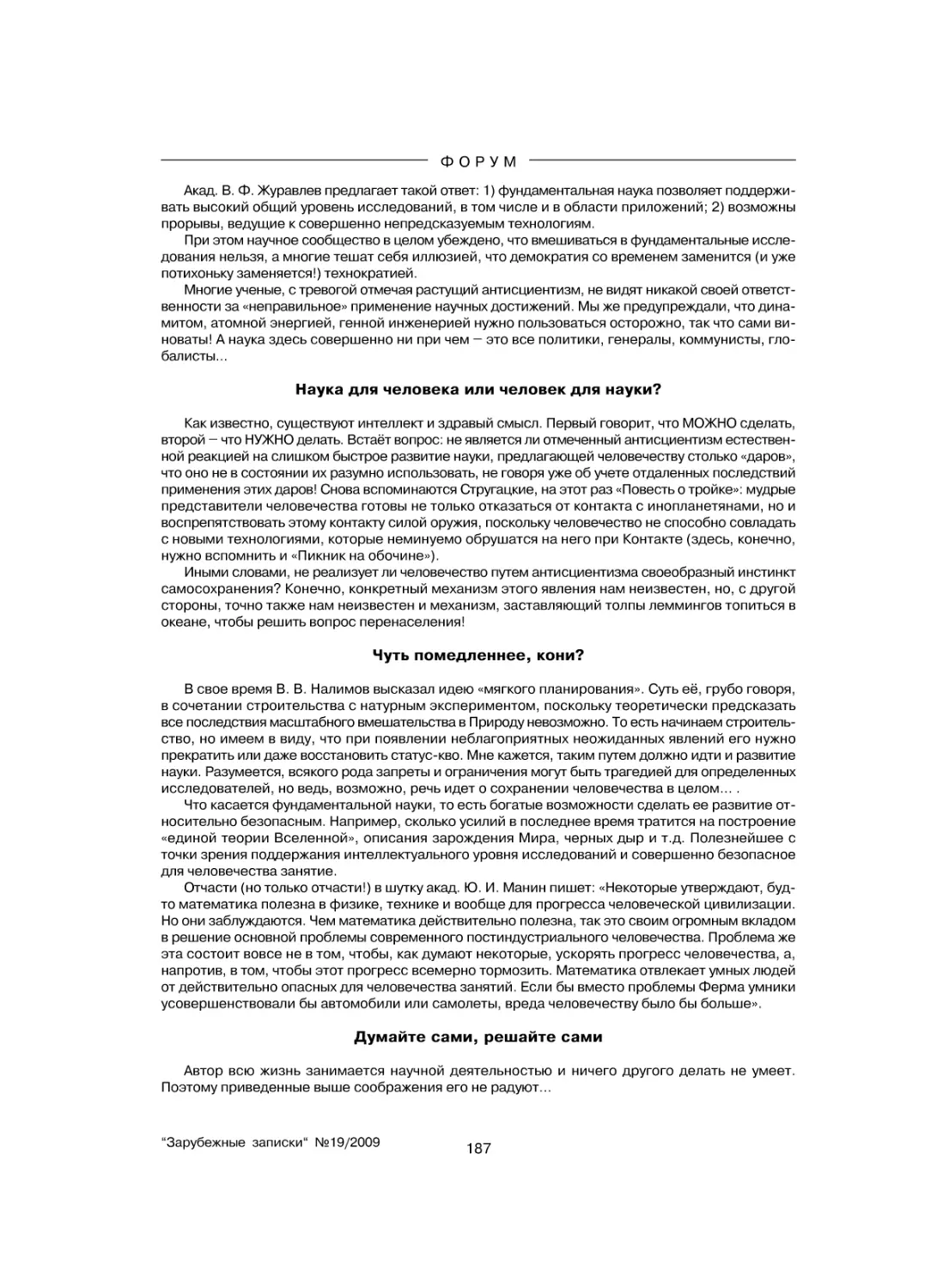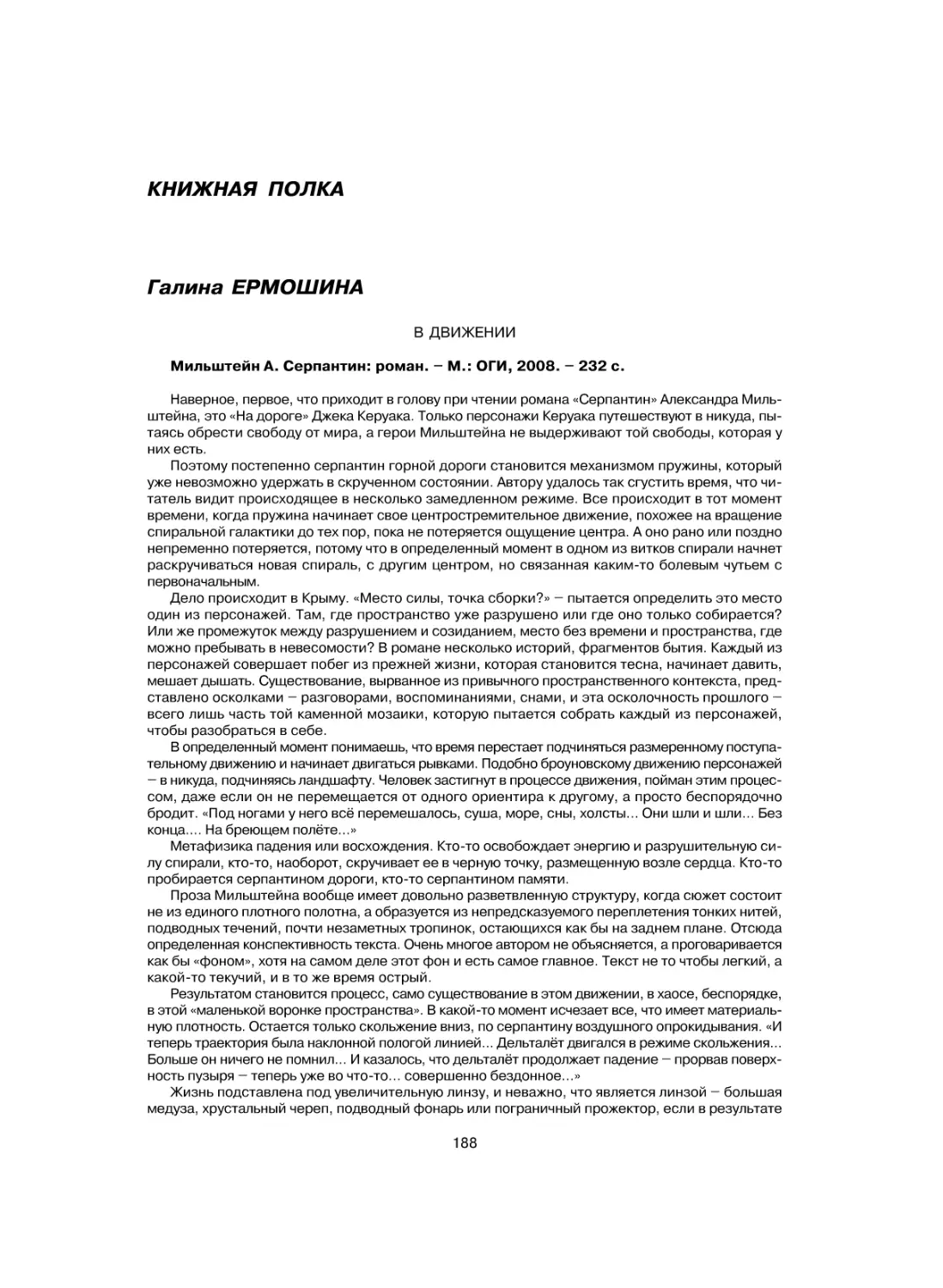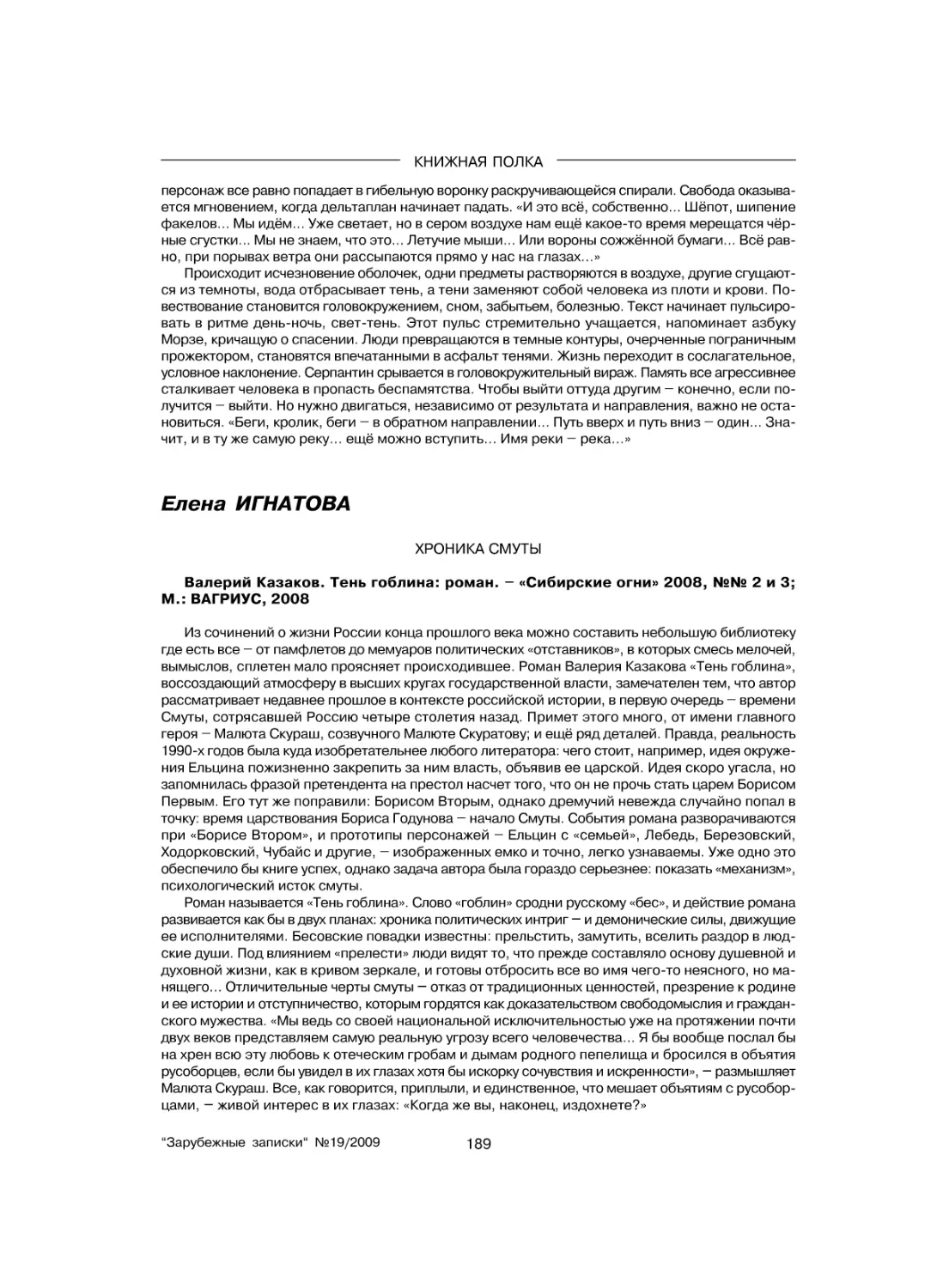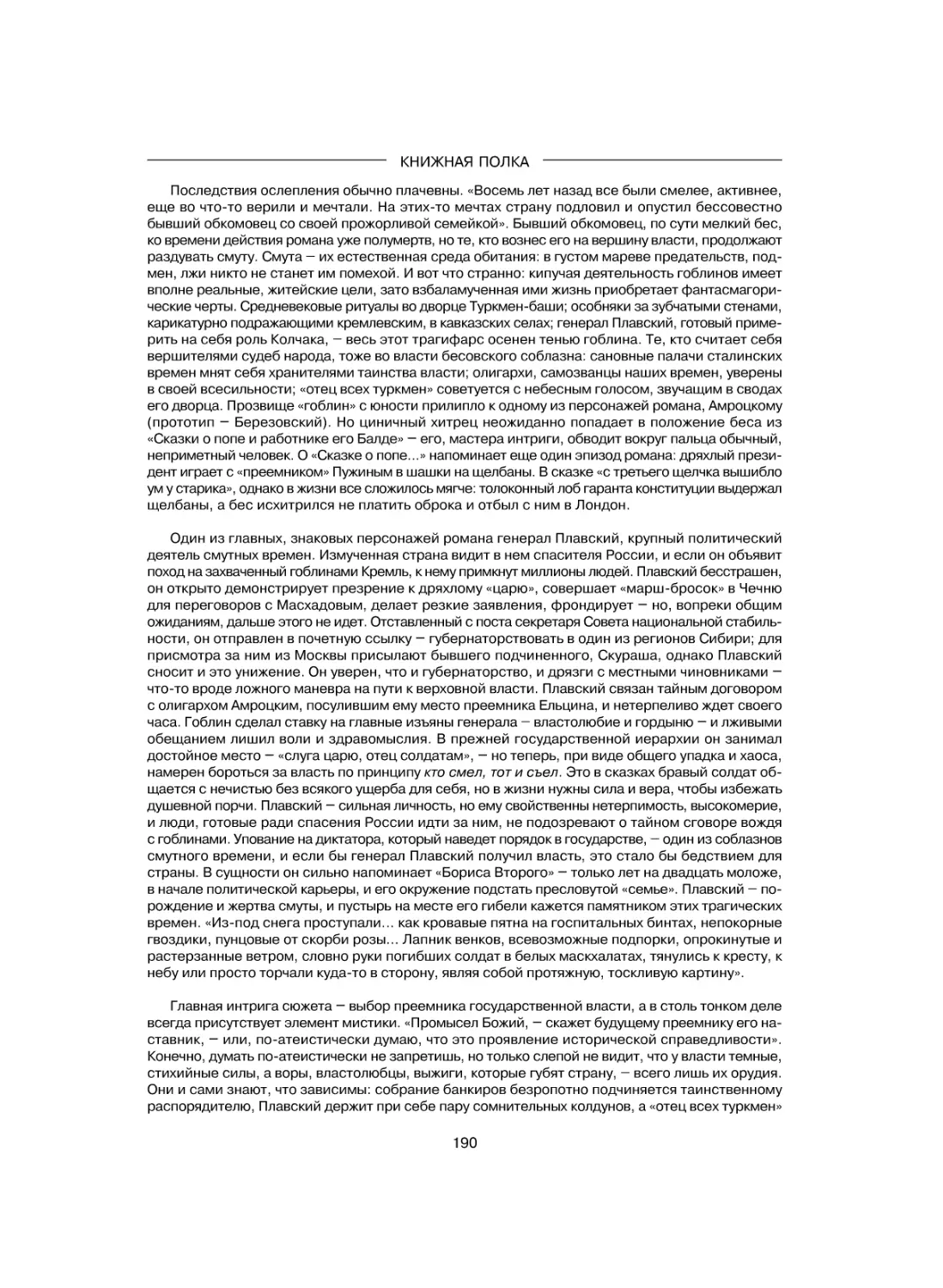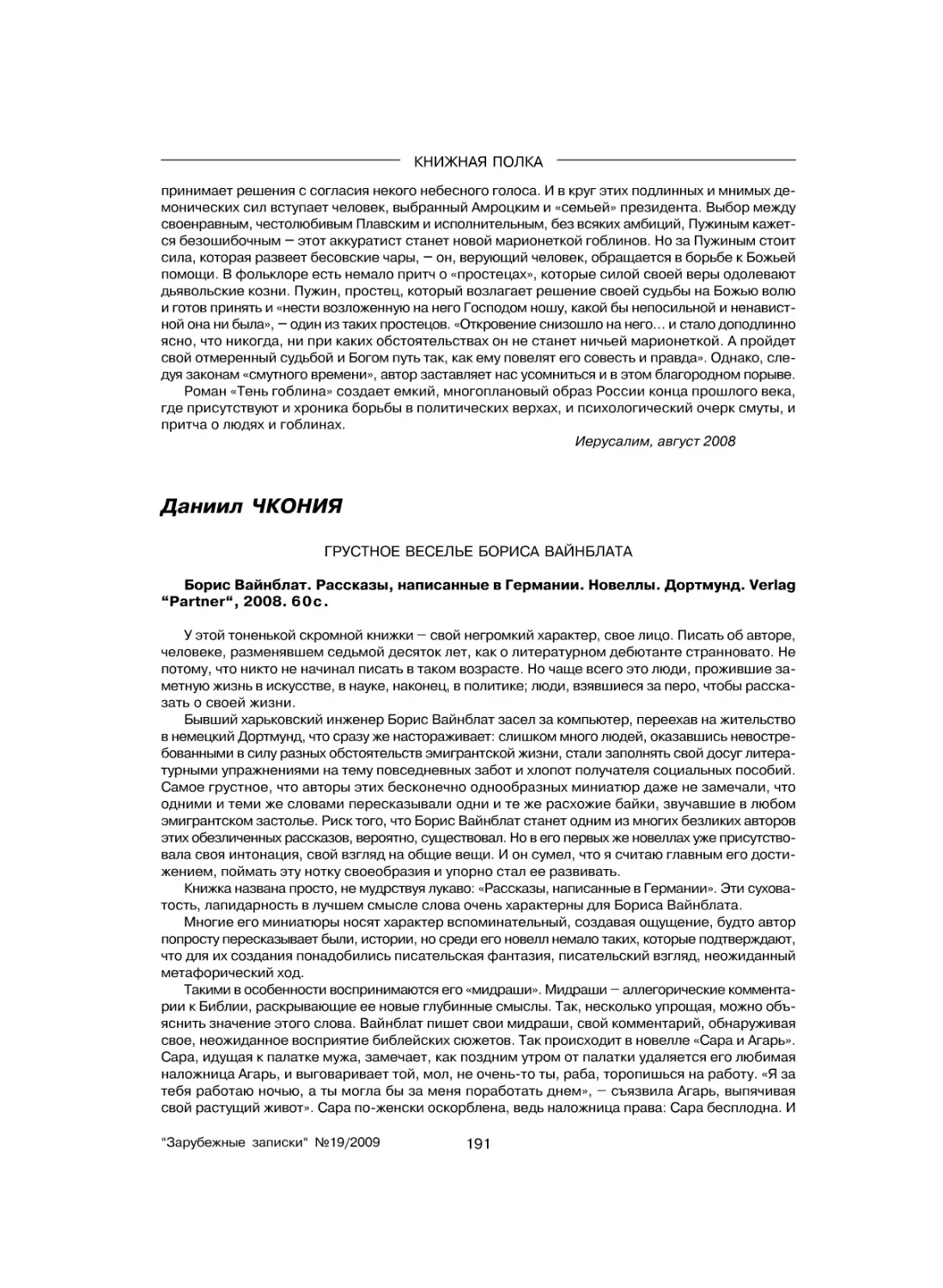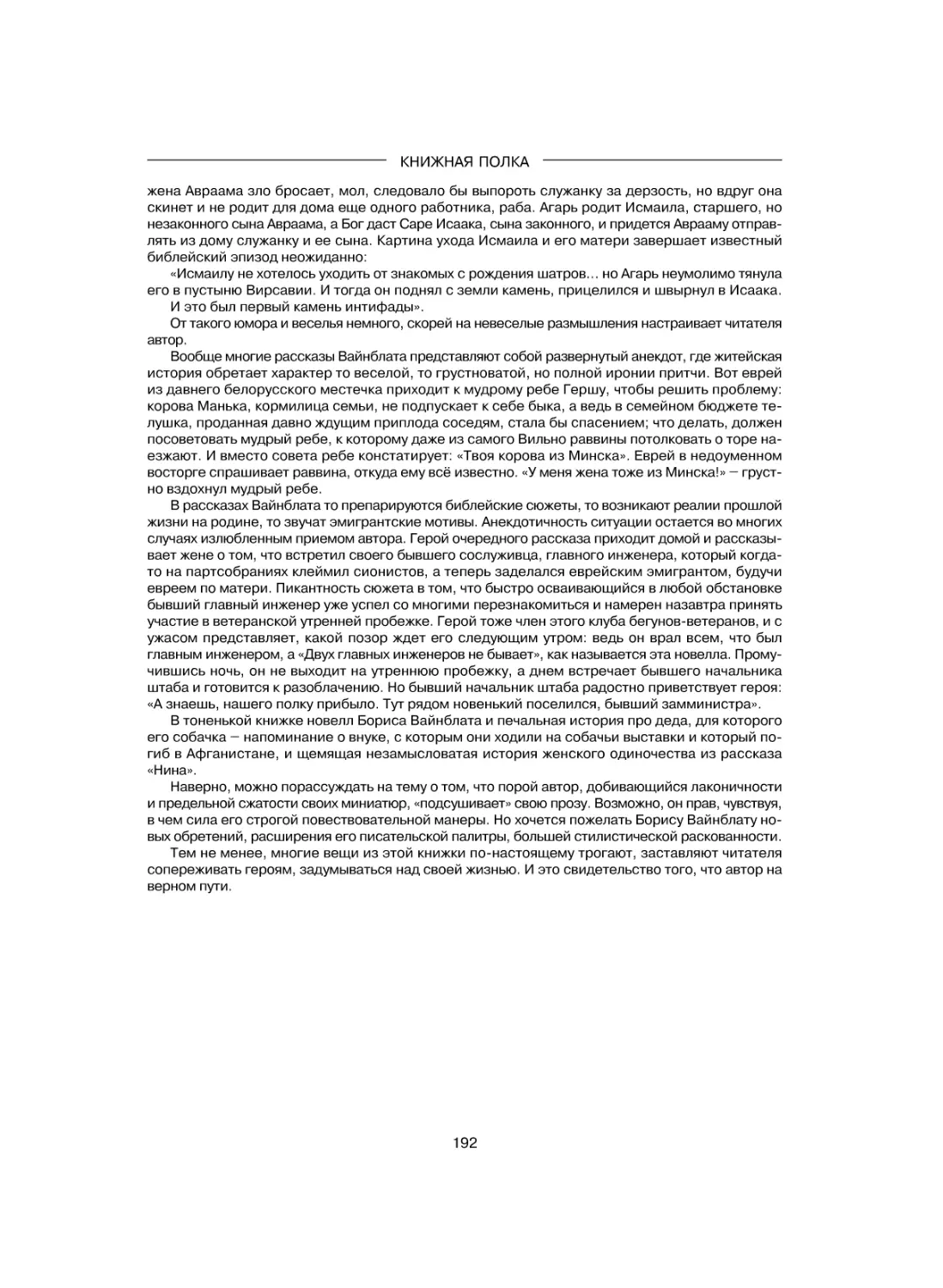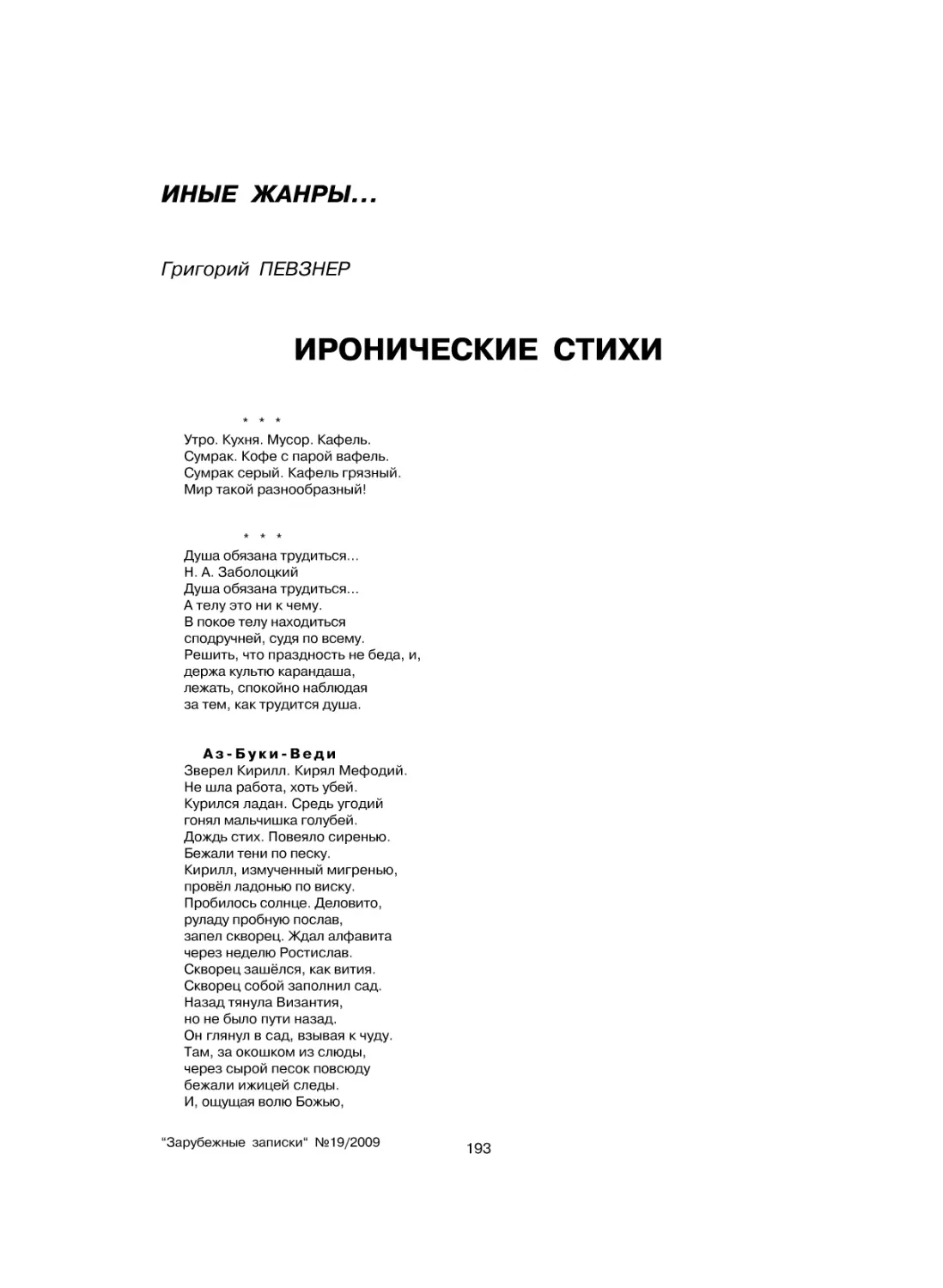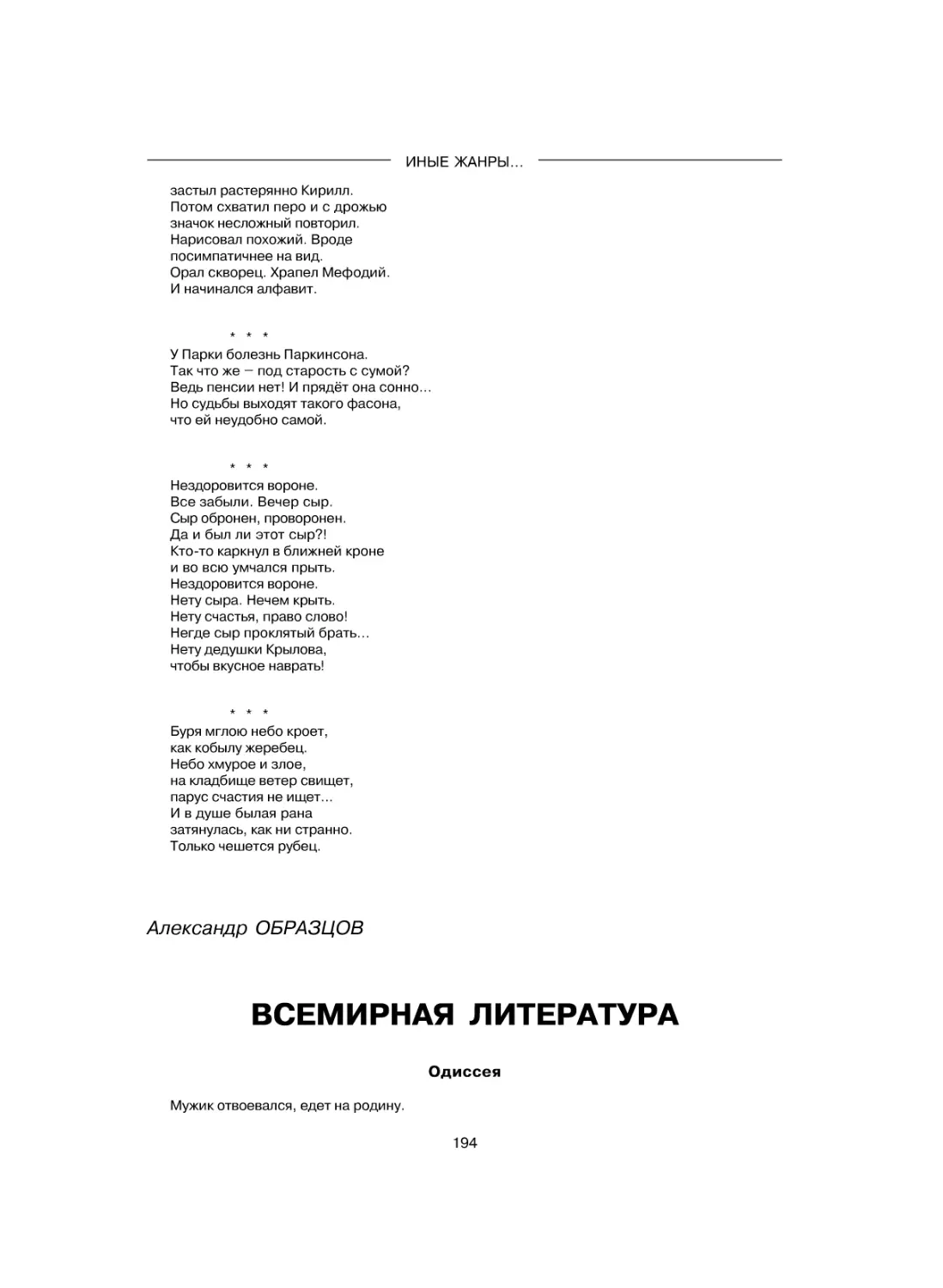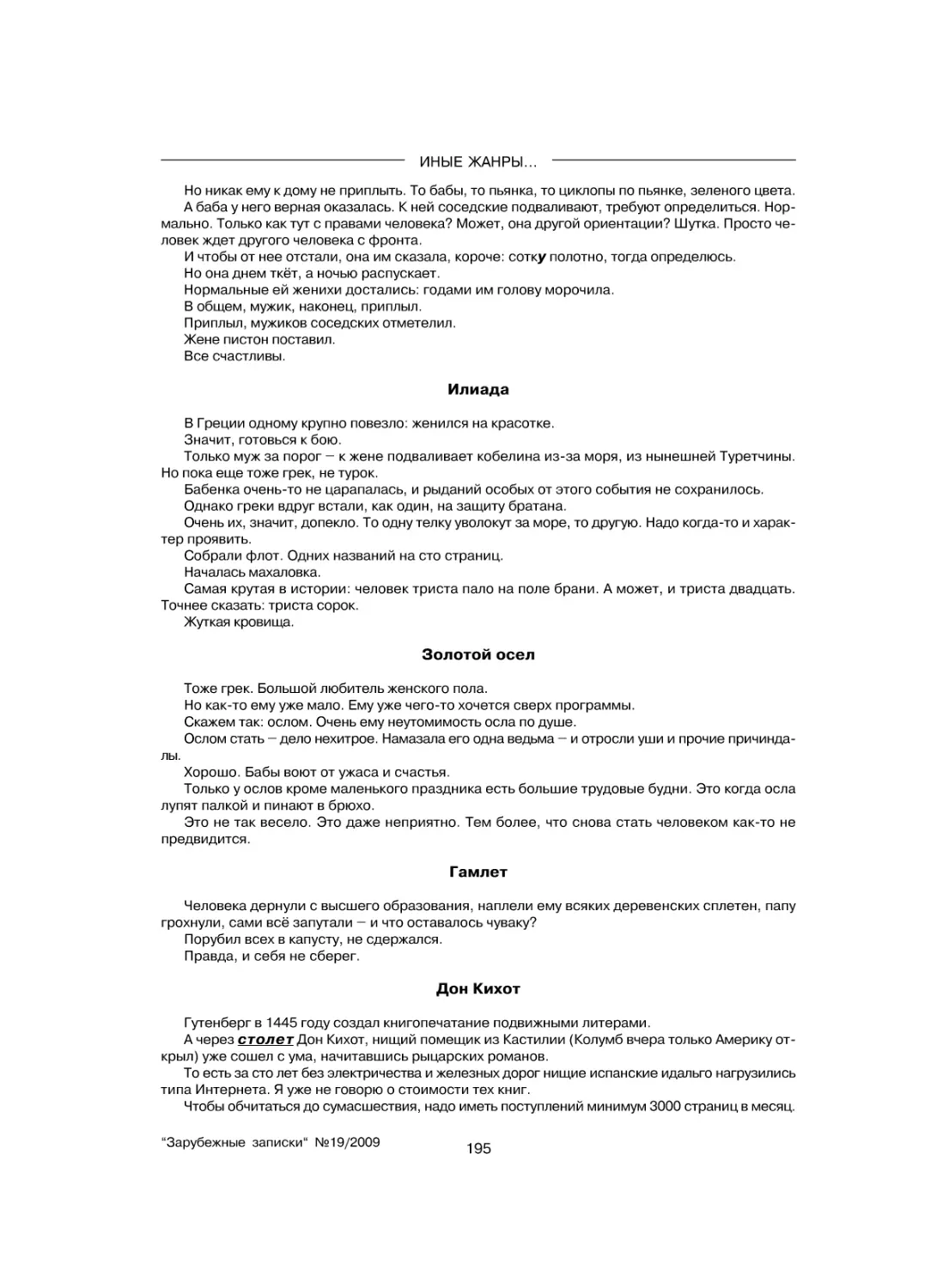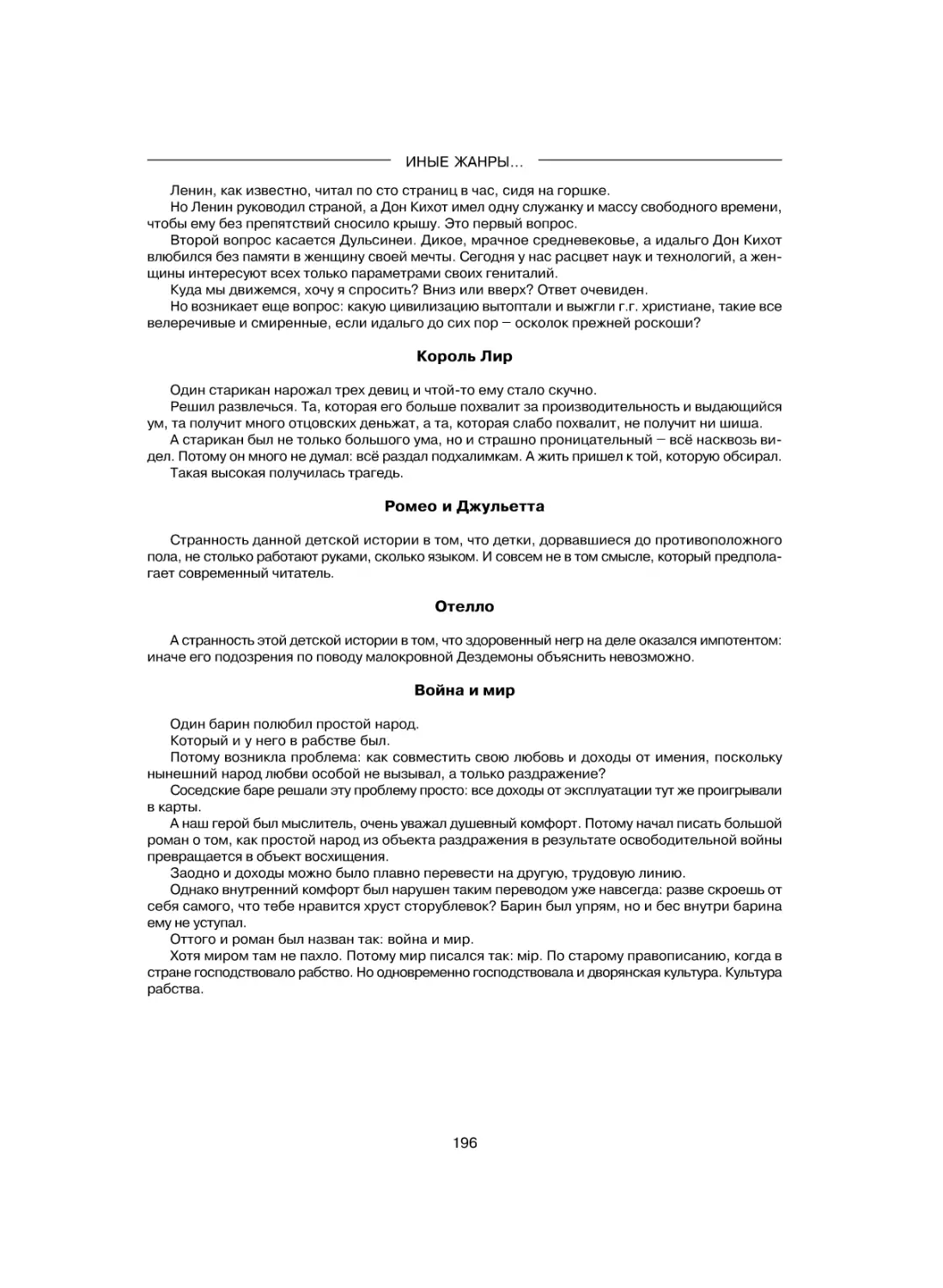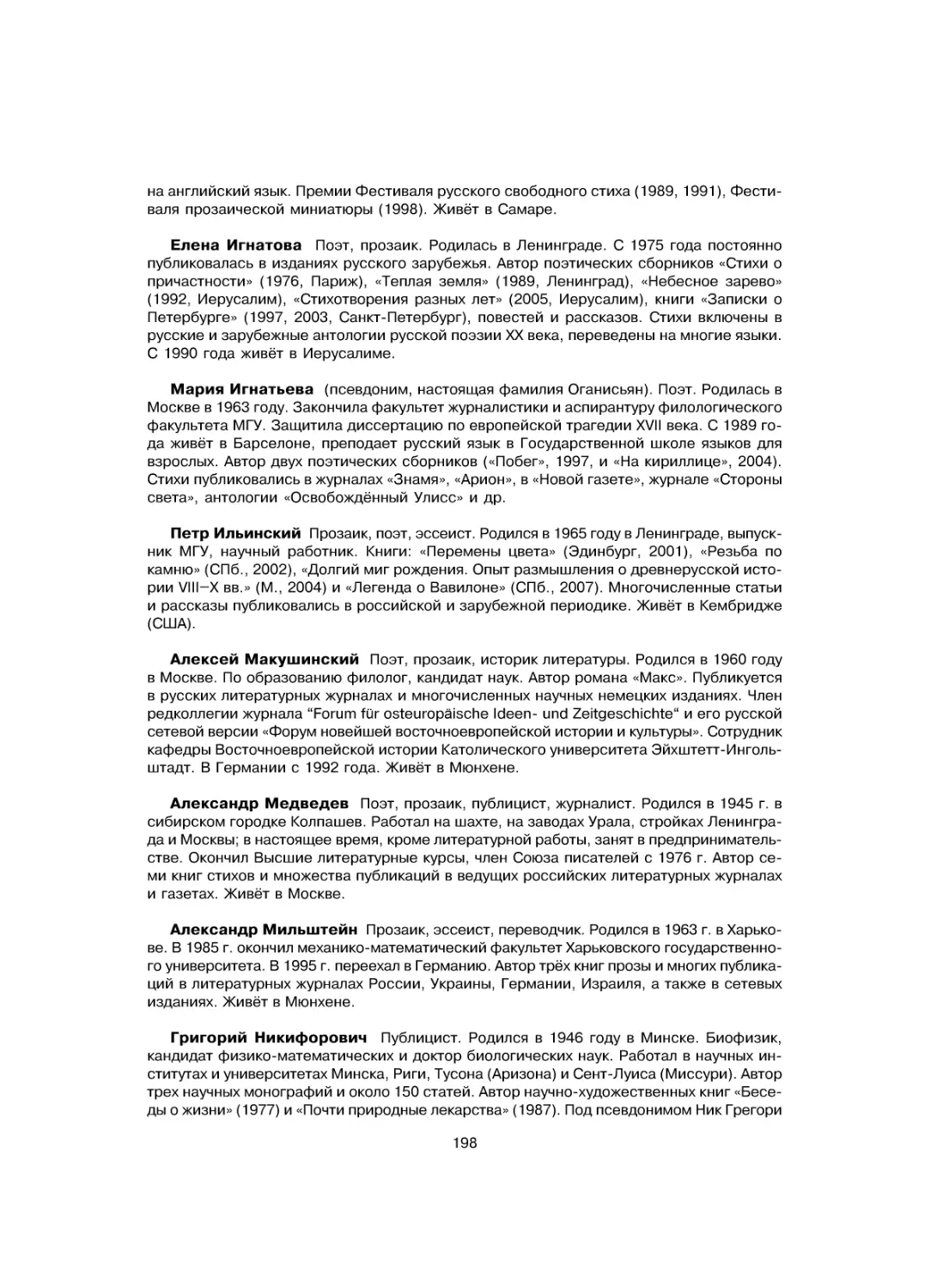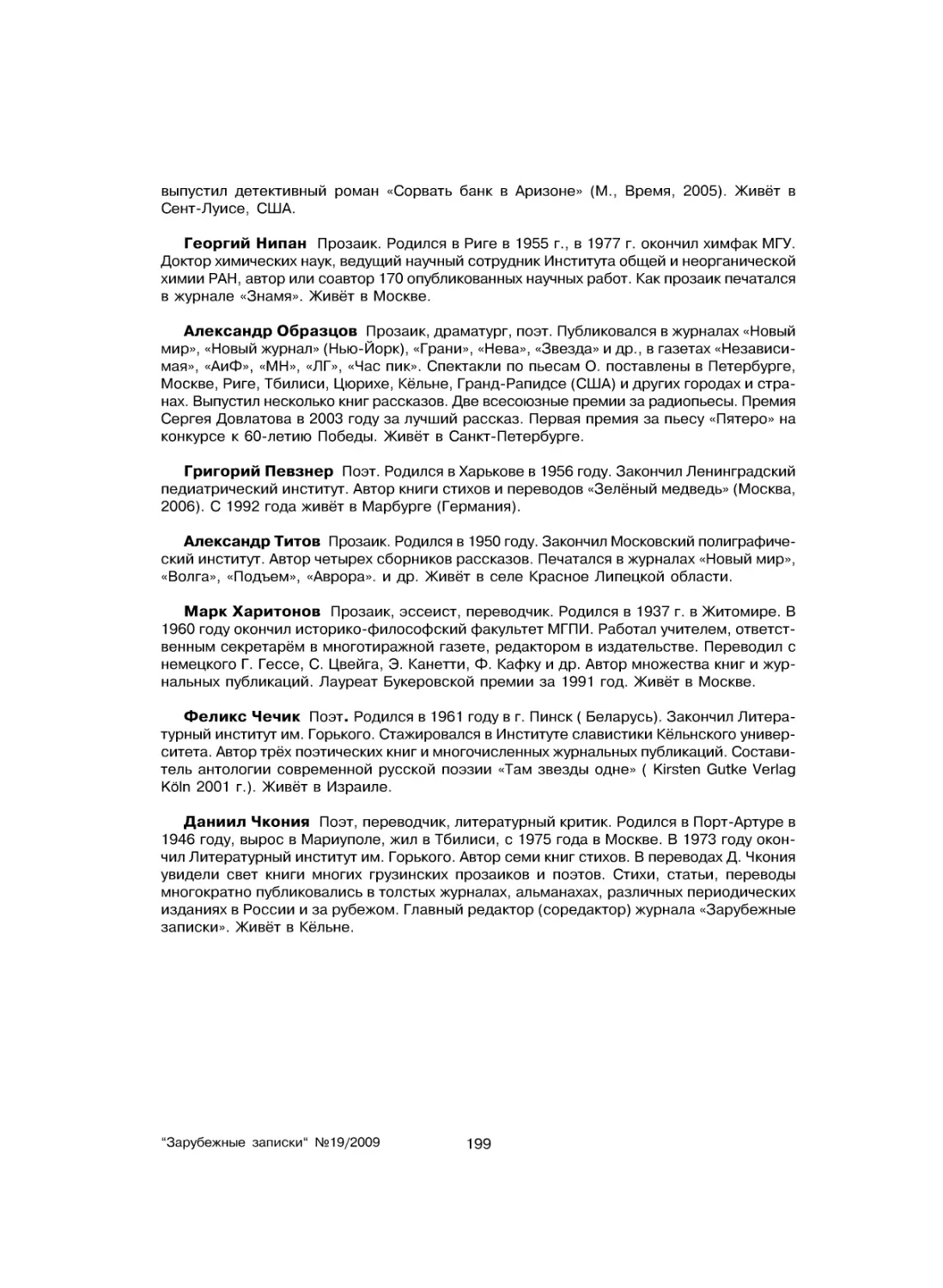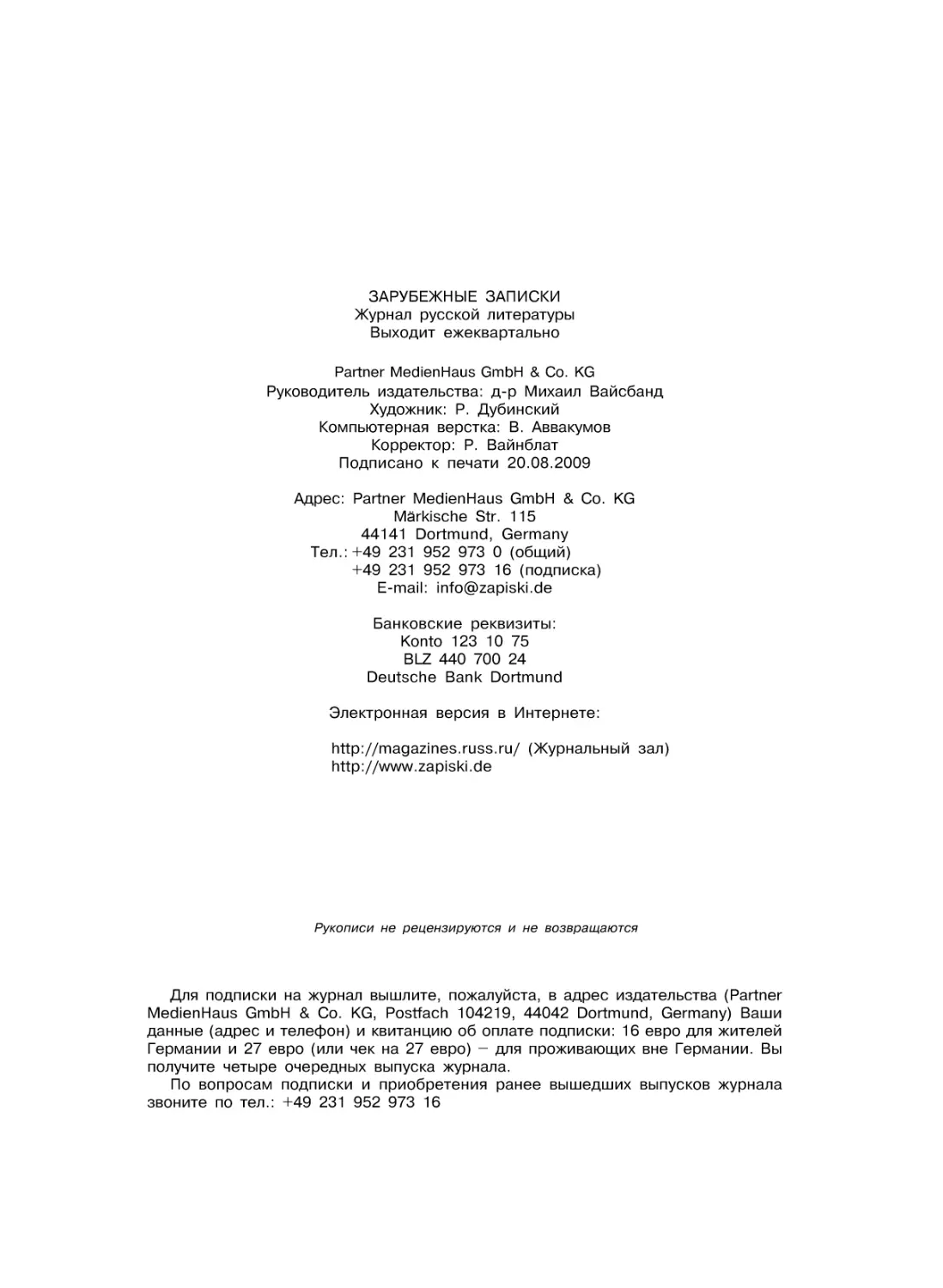Текст
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Книга девятнадцатая
(III - 2009)
Partner MedienHaus GmbH & Со. KG
2009
Главные редакторы:
Даниил Чкония
Лариса Щиголь
Редколлегия:
Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий
“Zarubeznye zapiski“
ISSN 1862-8419
Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:
http://magazines.russ.ги/(Журнальный зал)
http://www.zapiski.de
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
СОДЕРЖАН И Е
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Мария Игнатьева. Понедельник полувремени. Стихи ................... 2
Арсений Березин. Два рассказа ..................................... 9
Check Point Charlie
Самоорганизация материи
Александр Мильштейн. Скло. Повесть ............................... 18
Феликс Чечик. С земного на потусторонний... Стихи ................ 47
Александр Титов. Тургеневский мужик. Рассказ ..................... 52
Александр Медведев. Придурки. Рассказ ............................ 66
Олег Блажко. На перекрёстках смутных дней. Стихи ................. 80
Людмила Агеева. Тонкий слой. Роман (окончание) ................... 84
Георгий Нипан. Два рассказа...................................... 143
Попасть в яблоко
Совы нежные
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Федерико Гарсиа Лорка. Романс об испанской жандармерии............149
Перевод с испанского Петра Ильинского
ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА
Эмиль Мишель Чоран. Гоголь. Перевод с французского Бориса Дубина..155
Евгений Ермолин. Проекты будущего.................................157
Марк Харитонов. Стенография начала века...........................165
Алексей Макушинский. Двадцатый век................................173
ФОРУМ
Григорий Никифорович. Политическая корректность как точная наука. 179
Игорь Андрианов. Возрождение невежества или инстинкт самосохранения?. 184
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Галина Ермошина. В движении ..................................... 188
Елена Игнатова. Хроника смуты ................................... 189
Даниил Чкония. Грустное веселье Бориса Вайнблата ................ 191
ИНЫЕ ЖАНРЫ...
Григорий Певзнер. Иронические стихи.............................. 193
Александр Образцов. Всемирная литература..........................194
Коротко об авторах .............................................. 197
Август, 2009
Мария ИГНАТЬЕВА
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОЛУВРЕМЕНИ
* * *
Состав моей космической души,
От сюра холодея,
Изобрели армяне, чуваши,
Хохлы и иудеи.
Союза нерушимого дитя,
Фантазии советской,
Я выросла из тьмы небытия
Мичуринскою веткой.
А чтоб друзей на том краю земли
Замучила икота,
Меня пересадили-извели
В Испании какой-то.
ПАМЯТНИК КОЛУМБУ1
Пространству делает козу, и
(Гордо и глупо!)
На юго-запад указует
Палец Колумба.
А мы спиною к Лукоморью
Колумбограда,
Глядим на луковое горе
Его распада.
Беспечное разнообразье
Лица и вещи
Нас настораживает: разве
Уже не вечер?
У нас-то ушки на макушке,
И сердце в пятках
Готово к новой заварушке
Европорядка.
Дрожит зверюшкою смятенной
У края лога,
1 Памятник Колумбу в Барселоне, установленный, по преданию, на том месте, откуда
первооткрыватель отправился в Америку.
2
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОЛУВРЕМЕНИ
На неисхоженной и темной
Границе Бога,
Где Рильке с Дрожжиным в обнимку -
Экран зависший -
Сквозь электрическую дымку
Луиза с Ницше.
Поддайся этому же трюку
Развоплощенья:
У Бога в сотовую трубку
Проси прощенья.
И голос медленный и клейкий
Со дна сознанья
Вберет светящиеся клетки
Припоминанья.
Сквозь неочищенный и грубый
Поток кумыса
Нам приоткроется сугубый
Участок смысла.
Все пораженья и потери
Зубри, как в школе.
Quousque tandem abutere?2
Вот-вот: доколе?
* * *
По губам меня помажет...
О. М.
В ходе ливня проливного
Море выплюнуло вон -
В нитях света золотого
Шевелящуюся вонь:
Мышки мертвые норушки,
И медузы, как зрачки,
То резинки и ракушки,
То прокладки и рачки.
Изогнувшись водостоком -
Раз примерь и семь отрежь
Между Западом-Востоком
Незаделанную брешь,
Спьяну дно проговорилось,
И плеснула по губам -
Эта живность, эта милость -
Море с горем пополам.
2 «Доколе будешь злоупотреблять нашим долготерпением?» Из речи Цицерона.
‘Зарубежные записки" №19/2009
3
------ Мария ИГНАТЬЕВА --------------
* * *
Старость свалилась мне на голову.
Как бы не так - переживу!
Вжав ее в плечи, с свободою дряхлой
переживу я и дух мой, и прах мой,
хвори и свары, уродство, безлюбье,
радостей прежних унылые струпья.
Буду игриво трясти, терпеливо
слабой башкой с поредевшею гривой.
Старость - подружка, душа, компаньонка
вот и приехали, вот и - споем-ка.
* * *
Семнадцатое
апреля
веснадцатое
согреля
и солнечное
плетенье
и почечное
цветенье.
Оглядываясь
на вторник,
догадываюсь
о горних
возможностях
пролетевших
и ложностях
преуспевших.
Пускает побег
растенье,
пускаюсь в побег
за тенью
опавшего дня
осенне,
пропавшего для
спасенья.
* * *
В ночь с четвертого на пятое
У дремоты под пятой
Набухают веки ватою
И свинцовою водой.
4
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОЛУВРЕМЕНИ
Но не спи, пока рифмуется,
Слово ладится с другим,
И с душою соревнуется
В славословье херувим.
Величай в полночной темени
Колыбельной набело -
Понедельник полувремени,
Наступившее число.
СИЕСТА
А. А.
Затемненное окно,
Покрывало на постели -
Половинки домино
Средиземной светотени.
Зря ореховый комод
Занимает столько места.
Станет выходом уход?
Скоро кончится сиеста?
* * *
Полчаса прошло с полуночи,
День тринадцатый настал.
Завтра девушки и юноши
Поползут на пьедестал.
А пока, забыв вчерашние
Достижения, как миф,
Засыпают, как домашние
Звери, лапы заломив.
Шерсть топорщится на темени
И зевком разъята пасть.
В золотой уютной темени
Хорошо ребятам спать.
Этот сон и есть отечество:
Огородик, дом с трубой.
Молодое человечество
Завтра выйдет на разбой.
* * *
Беженка с московских тротуаров,
Образец почтения к судьбе,
Если доживу до мемуаров
Собственных, я вспомню о тебе.
‘Зарубежные записки" №19/2009
5
---- Мария ИГНАТЬЕВА --------------------------------
Как жила размеренно и строго
Где телят меж фикусов пасут,
Ради тихих слов и ради Бога
Принимая временный абсурд.
* * *
Как раковины на бечевку,
Нанизан слух на шум рессор.
Свою проедешь остановку -
Услышишь лишний разговор.
Звук электрический, жеманный,
Как будто тайну выдыхал,
Пообещал предел желаний
На станции ВДНХ.
Опять накатывает сумрак -
Натянутая бечева -
И появляется из сумок
Людей - шуршащая Москва,
Шести-семи-восьмидесятых,
А наверху летает снег,
Иного времени осадок,
А ишь ты - переживший всех.
* * *
Непременно восстанем, непременно увидим и весело,
радостно расскажем друг другу все, что было -
полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.
«Братья Карамазовы»
Никуда не еду - время везу
С верным попутчиком по захолустьям.
Алексея Федоровичу слезу
На четырех страницах - опустим.
Не бабу с возу, а жар души.
В одной повозке, читай - кутузке.
Но ради этих страниц, скажи,
Простит Господь говорящих по-русски?
Там поздней осени самопал,
Снегом-на-час огород занесенный.
А тут человек на песок упал,
В царство заморское занесенный.
Никуда и не надо, даже назад -
К солнцу, встающему на востоке.
Само на запад и на закат,
Полупечалясь, полу в восторге.
6
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОЛУВРЕМЕНИ ----------
1516 (II)
Тише, тише, Буденный, Котовский,
Комиссары жестоких страстей.
Никого не бояться, готовься
К получению новых вестей.
Если о разоренье Казани
Вновь по радио заговорят,
Я раскосыми злыми глазами
Уничтожу московский отряд.
Это было на первой Казанской
По приказу от Грозного, но
Обещаю: на этой Гражданской
Мы другое увидим кино.
ПО ГРИБЫ
Наверх и ползком через ельник:
В малиновых брыжжах,
Авось, из пещер подземельных
Появится рыжик.
Задаром корпеть за двойную
(Что ль, сразу признаться?)
Нехитрую жизнь заводную:
Каприз - разобраться.
Вот это - душа, это - тело.
И Бог - молодчина:
Вот тут - все чего-то хотела,
Вот тут - получила.
МАРИНЕ
Я плачу, зрачок наводя на лицо,
Знакомое с юности - ты! -
У этой присыпанной снежной пыльцой
Вполне различимой черты.
По ту ее сторону свет и пурга
И ангельское кино,
По эту не видно ни зги, ни фига,
Томление духа одно.
Из наших, далеких, нехитрых вещей,
Из доперестроечных снов,
Каких наварили безрадостных щей,
Каких нарубили мы дров!
‘Зарубежные записки" №19/2009
7
------ Мария ИГНАТЬЕВА ----------
Ты дни отливаешь в московской тоске
И бьешься об них головой,
А я задыхаюсь в игольном ушке
Соленой воды голубой.
Но из одного и того же сырья
И свет, и дорога к нему.
Снежок запоздалый в окне января -
Вернейшей порукой тому.
8
Арсений БЕРЕЗИН
ДВАРАССКАЗА
Check Point Charlie
В центре Берлина на Фридрихштрассе находился контрольно-пропускной
пункт - Check Point Charlie. С той стороны пункта была земля обетованная - За-
падный Берлин, с этой - Берлин, столица Германской Демократической Республи-
ки. Почему КПП носил имя Чарли - существует ряд версий. По одной из них аме-
риканской охраной на Чек Пойнте командовал веселый негр - сержант Чарли,
которого знали все проходящие туда-сюда через Чек Пойнт еще до постройки
Стены. По другой версии, Чарли - это просто обозначение третьей буквы англий-
ского алфавита - А, В, С. Были еще КПП «А» и «В». Но история не присвоила им
имен, и самый главный пункт перехода через зональную границу «С» так и остался
в памяти как Чек Пойнт Чарли.
Каждый раз, когда я приезжал в Берлин в командировку - а приезжал я туда
сравнительно регулярно, - я вечерами ходил на встречу с «Чарли». Проходил от
Оперы по Унтер ден Линден мимо советского посольства до Бранденбургских
ворот и останавливался там. Вся площадь перед воротами была запретной зоной,
засеянной травой. В траве резвились десятки, а может, и сотни кроликов. Им
никто не мешал, не пугал, не охотился за ними. Эта ничья земля была их землей.
За ней чернели Бранденбургские ворота, слева стоял остов гостиницы «Аддон»,
описанной в многочисленных шпионских романах, справа вдали маячили развали-
ны Рейхстага с многочисленными надписями на стенах и колоннах. Каждый солдат
и офицер Первого Белорусского считал своим долгом побывать у Рейхстага, распи-
саться на стене или на колонне и сфотографироваться на память.
Сфотографировался там и бравый артиллерист капитан Иван Новак, впоследст-
вии научный сотрудник нашего Физтеха. Когда в году 70-м его оформляли на по-
ездку в ГДР для совместной работы, иностранный отдел Академии его дело завер-
нул: что-то у него там оказалось не так. Ивана попросили приехать для разъясне-
ний и уточнений. Он нацепил на себя все свои ордена и медали и, громыхая
ими, отправился в Академию на набережную. Там ему сказали, что в анкете он не
указал, что его отец, завбазой, в 1939 году привлекался к суду за недостачу строй-
материалов и был осужден на два года. И в связи с этим командировка в Берлин
Ивану не светит. Обычно спокойный и рассудительный Иван взорвался и заорал:
- А в сороковом, когда меня призвали и направили в училище, это никого не
волновало, и в сорок пятом, когда я свою батарею выволок на Бранденбург-плац,
меня никто за полы шинели не удерживал - а наоборот, вопили все, от полковника
до маршала: «Капитан Новак, пробивайся к Рейхстагу, бей прямой наводкой по
логову. Тогда никто моим папашей не интересовался - как это у него сперли
ящик гвоздей. И когда я на этом гребаном Рейхстаге расписался, мою подпись
тоже никто не стирал. Это я сейчас у вас оказался недостойным. Мало от вас, ты-
ловых крыс, на фронте житья не было, так и сейчас еще зубами лязгаете. Подави-
тесь своей ГДР и больше мне своих идиотских вопросов не задавайте. На все
вопросы я уже сполна ответил с сорок первого по сорок пятый.
“Зарубежные записки" №19/2009
9
Арсений БЕРЕЗИН
И Иван, разорвав в клочья свою выездную анкету, убежал из здания Академии,
плюнув на прощание в сторону мозаики Ломоносова «Полтавская баталия».
А я думаю, хорошо, что Ивана тогда не пустили в ГДР. Стоял бы он тогда, так
же, как и я, перед воротами, и на него бы глазели сотни кроликов, которым он
оставил свою огневую позицию, а перед ним каждые пятнадцать минут проезжал
бы панцерваген со снятыми дверцами, чтобы патрулю было легче выскакивать и
удобнее стрелять. Не дали бы Ивану подойти к той колонне и посмотреть, сохрани-
лась ли его роспись за четверть века, а скомандовали бы: «Штиль гештанден.
Хенде Хох. Шиссен, мол, без предупреждения, геноссе ветеран, дайне муттер».
Насмотревшись на кроликов и полюбовавшись рейдами патруля, я поворачивал
налево и шел вдоль Стены мимо развалин Имперской канцелярии по направлению
к Фридрихштрассе. Где-то здесь перелезал через Стену герой романа Ле Карре
Джордж Смайли. Тут-то его и подстрелили. Меня никто не подстреливал, но как-
то ответственный за мое пребывание в Институте физики посоветовал экскурсии
вдоль Стены прекратить. В Берлине, мол, есть и другие достопримечательности,
например, Трептов-парк с мемориалом Вучетича. Но Трептов-парк меня не манил,
и я по-прежнему ходил на свидания с Чек Пойнтом. Где-то здесь на мостовой
весной сорок пятого лежал в воронке мой отец и под минометным обстрелом
орал в мегафон: «Дойчен зольдатен унд официрен! Бросайте оружие, война окон-
чена, ваши семьи ждут вас. Гитлер капут - и все такое прочее».
Это было время, когда военные переводчики со многих фронтов были перебро-
шены в Берлин, вооружены мегафонами и направлены на передний край, в пере-
рыве между ожесточенной стрельбой призывать солдат обреченного гарнизона
прекратить сопротивление. Иногда это помогало, и из-за развалин появлялась
группа немецких военных с белой тряпкой и поднятыми руками, но чаще по мега-
фону палили изо всех видов оружия, пока он не замолкал. Там, на Фридрихштрас-
се, отец и получил свою последнюю контузию, которая его, в конце концов, и до-
конала.
Вот сюда-то меня и несли ноги каждый раз, когда я попадал в Берлин. Каждый
день и каждую ночь на Фридрихштрассе у Чек Пойнта разыгрывалась одна и та
же пьеса, конец которой никогда не был известен заранее.
Вот с той стороны подъезжает машина. Американский сержант-негр (уж не
сам ли Чарли) быстро проверяет документы и поднимает шлагбаум. Машина мет-
ров двадцать едет прямо и останавливается перед надписью «Halt - Stop - Стой!»
У надписи уже ждут «грепо» (так по аналогии с гестапо западноберлинцы окрестили
гренцполицай - восточногерманскую пограничную полицию). В ГДР слово «грепо»
воспринималось как жуткий выпад против народного режима и за него можно
было и схлопотать. Что именно, зависело от обстоятельств. По крайней мере
мои академические собеседники делали ужасные глаза, подносили палец к губам,
показывали пальцами решетку и делали вид, что этого слова и не слышали.
«Грепо» подходят к машине, забирают у водителя документы и долго изучают
их, потом командуют пассажирам выйти из машины и открыть капот и багажник.
Другие «грепо» в комбинезонах и с ручными фонарями принимаются осматривать
и ощупывать все авто, иногда даже спускают шины - наверное, чтобы воздух
свободы не проник через границу. После обыска машина останавливается у тамо-
женных столов, на которые выкладывается багаж. Таможенники под бдительными
взглядами «грепо» рьяно роются в пожитках, задают иногда вопросы безучастным
пассажирам, иногда уносят что-нибудь в свою будку, но большей частью пропускают
беспрепятственно. Население уже хорошо научено, что можно ввозить, а что
нет. Наконец досмотр закончен. Старший «грепо» неохотно отдает документы,
поднимается второй шлагбаум, и в проезжающей машине видны бледные, напря-
женные лица.
10
ДВА РАССКАЗА
Проезд в другую сторону, с Востока на Запад, занимал обычно больше времени
и не всегда проходил благополучно. Иногда самих выезжающих проводили в будку,
а потом за ними приезжали «штази» в черных «волгах» и увозили. На той стороне
кто-то вскрикивает, а провожающие на этой стороне с каменными лицами отступа-
ют в тень и уходят подальше от опасной черты.
И вот Берлинская стена рухнула. Проволоку смотали, а саму Стену, «маурер»,
разобрали по кусочкам на сувениры.
Как-то приехав из Бонна в Берлин, я первым делом отправился к старине
Чарли. От Чек Пойнта осталась только сторожевая будка с восточной стороны,
зато появились большие портреты солдат: американского - с запада и советского
- с востока. Меня это удивило. Никогда раньше советских солдат на границе,
кроме как в карауле у Бранденбургских ворот, я не видел. Не стояли советские
солдаты лицом клицу с американскими. Напротив американцев за Стеной стояли,
ходили, ездили, сидели в сторожевых будках «грепо», «вопо» (фолькполицай -
народная полиция), «штази», но не советские солдаты. Произошла подмена стерео-
типов. Зато в Берлине исчезли другие советские солдаты, которые при ГДР появ-
лялись на громадных плакатах накануне Дня Победы и других праздников. Ко
Дню Победы наиболее популярным был плакат ’’Die grosse Gedanke dem Russische
Soldaten!” - «Громадное спасибо русскому солдату!». На плакате, сделанном по
мотивам старой фронтовой фотографии, явно инсценированной, бравый усатый
русский старшина вытаскивает за шиворот из люка на фоне берлинских развалин
немецкого солдатика, жалкого замухрышку из фолькштурма. Возникает недоуме-
ние: и такие вот заморыши сумели угробить на подступах к Берлину и в самом го-
роде почти миллион наших солдат - половину наступающей армии.
Вообще в Берлине того времени у непредвзятого советского гражданина много
вопросов могло возникнуть. Например, если мы признаем суверенность и незави-
симость ГДР, то почему выше государственного немецкого флага реет в ночном
небе советский флаг на флагштоке советского посольства? Чтобы знали, кто здесь
хозяин? Не поэтому ли и на все торжественные собрания после местных руководи-
телей приезжал советский посол Абрасимов, и только с его приездом начиналась
официальная часть. Не сказал бы, что у меня сердце наполнялось национальной
гордостью при виде всего этого - скорее наоборот, было стыдно за нас. Порылся
в памяти: может, это наша национальная традиция - так выпендриваться за грани-
цей. Ничего такого в памяти не обнаружил. Петр I вообще прикидывался учеником
плотника в Голландии и бомбардиром в Англии. Павел I, следуя примеру пращура,
скромно путешествовал по Европам под именем какого-то мифического князя
Северного, скупая бесценные коллекции для Эрмитажа и экономя на каждом по-
стоялом дворе прогонные, полученные от матушки. Великолепный Александр I
въехал в Париж на своей боевой лошади как боевой командир, а не на колеснице,
которую бы тащили побежденные полководцы по примеру римских триумфаторов.
Безмерный восторг французов и их восхищение русским императором от этого
нисколько не уменьшились. Да и в советское время после поражения Антанты
нарком Чичерин не позволял ни себе, ни своим коллегам топтаться на вчерашних
противниках. Откуда же взялось это позднее советское чванство? От хамства?
Но и с другой стороны: почему армия ГДР унаследовала форму гитлеровского
вермахта? Те же мундиры, те же погоны, те же парады - все оставили как есть,
только изменили название - фольксвер вместо рейхсвера. В берлинском Музее
истории Германии вы ничего не могли бы найти ни про лагеря смерти, ни про
Холокост и массовые казни, ни про уничтожение и кражу культурных ценностей
на захваченных территориях. Только немного о борьбе гитлеровского режима с
немецкими антифашистами - будущими создателями немецкого государства рабо-
чих и крестьян. Мне объяснили мои коллеги: все эти нацистские ужасы являются
“Зарубежные записки" №19/2009
11
Арсений БЕРЕЗИН
наследием Западной Германии, а мы здесь, в ГДР, не должны создавать комплекс
национальной вины за преступления, которые не совершали. Вот так-то.
Но вернемся на Чек Пойнт Чарли. В угловом здании напротив блокпоста теперь
устроен музей памяти Берлинской стены и жертв, убитых при попытке побега
через нее, а также памяти героев и жертв борьбы с тоталитаризмом в разных
странах, включая и СССР. Особенно подробно представлена экспозиция о побегах
через Стену. На нее-то и запал мой сын, девятиклассник. Его мало интересовал
вопрос, почему бежали. Для него главным было: а как они это делали. Для меня
же как раз наоборот: почему и кто. Простой ответ: потому что в Западном Берлине
и ФРГ уровень жизни был выше - некорректен. Смотря как считать и для кого.
Мой хороший знакомый - молодой физик из института Макса Планка - как-то
рассказал мне:
- Как ты знаешь, мы все учили в ГДР русский язык. Некоторые учили плохо и
терпеть его не могли, а некоторые хорошо - и много читали по-русски. Я был од-
ним из лучших учеников и, наверное, знаю русскую литературу и люблю ее больше,
чем немецкую. Но когда мы начали учиться - одна из первых фраз в нашем русском
учебнике была: «Мама моет трактор». Я еще школьником удивился, ну почему ма-
ма моет трактор. Даже у вас «мама мыла раму» - а не трактор, как у нас. Не долж-
на мама мыть трактор, не ее это дело, особенно в Германии, где мы все находи-
лись под влиянием трех «К»: Kuche, Kinder, Kirche (кухня, дети, церковь). При
чем здесь трактор! И нигде в русской литературе этого не было, это вы для нас
изобрели.
- А может, не мы, а это вы сами для себя изобрели вместе с гроссе геданке и
советским флагом над всем Берлином?
- Еще хуже, - сказал Ханс Питер, - это уже не оставляло никакой надежды, и
я бежал в последнюю ночь, когда через Стену еще можно было перепрыгнуть со
складным шестом. После побега мне в ФРГ жилось гораздо хуже, чем в ГДР, и
американские солдаты относились к нам, немцам, с гораздо большим высокомери-
ем, чем русские офицеры. Но маме не нужно было мыть трактор.
Ханс Питер приезжал в СССР при каждой возможности - пока не женился на
русской фрау, после чего визу в СССР ему закрыли. Поначалу я опасался, что рус-
ская жена захочет сразу белый «мерседес», который ей Ханс Питер купить не
сможет, так как и сам ездил на работу на велосипеде, и брак распадется, но в
этот раз привычный стереотип с русскими женами не сработал. Это была любовь,
которая на самом деле существует и которая счастливо продолжается уже трид-
цать лет, не давая никакой поживы «желтым» журналистам ни там, ни тут.
Вместо предполагавшегося часа мы с сыном провели в музее Чек Пойнт Чарли
более двух, пока он не изучил все знаменитые побеги и не посмотрел все хрони-
кальные фильмы о них. По приезде домой он, выполняя задание по истории, на-
писал реферат «Берлинский кризис и Берлинская стена», который школой был
выдвинут на районную олимпиаду и за который ему вручили диплом третьей степе-
ни. В рецензии отмечалась односторонность автора, использовавшего только
иностранную литературу. Справедливости ради можно возразить, что если про
берлинский кризис по-русски написаны сотни страниц, то про Стену совсем чуть-
чуть, а про изуверские греповские самострелы, ловушки и капканы - всего ничего.
И здесь мы снова приходим к извечному утверждению «Вначале было Слово».
Именно лицемерные, лживые слова школьных учебников, лозунгов и воззваний
сорвали с мест и кинули на колючую проволоку тысячи людей, которые не могли
вынести заданную, директивную форму существования в придуманном для них
государстве.
Будете в Берлине, зайдите на Чек Пойнт Чарли. Там много чего проясняется
из прошлого и будущего.
12
--------------------------- ДВА РАССКАЗА -----------------------------
Самоорганизация материи
У нас в школе была хорошая библиотека. Разделавшись классу к пятому со
всеми возможными жюль-вернами, фениморами-куперами и майн-ридами, я пере-
шел к более серьезной литературе. Вернее, не я перешел, а школьный библиоте-
карь, интеллигентная и ворчливая старушка из «бывших», сказала мне:
- Что ты все про каких-то придуманных охотников спрашиваешь? Почитай-ка
про настоящих.
И дала мне книжку «Охотники за микробами» Поля де Крюи. С самой первой
новеллы об Антонине Ван Левенгуке - шлифовальщике стекол из Амстердама,
который сделал первый микроскоп, посмотрел через него на каплю воды и увидел
новый мир инфузорий, - я понял, что «Дети капитана Гранта» остались в детстве
и начинается новая жизнь. Надолго моими любимыми героями стали худосочный
фанатик Фред Бантинг, открывший инсулин, непогрешимый Луи Пастер, наш не-
истовый романтик Илья Ильич Мечников и другие отцы и создатели этой удиви-
тельной науки - микробиологии.
За биологами пошли математики, физики, астрономы - Ампер, Лаплас, Гаусс.
Я на всю жизнь полюбил блистательного Лавуазье и возненавидел Французскую
революцию, отправившую его на гильотину. Заодно с Французской возникло от-
вращение ко всем другим революциям - Английской, подвергшей гонениям музы-
кантов, поэтов, философов и погубившей Томаса Мора, - уже не говоря о Великой
Октябрьской, которая так и норовила спихнуть с корабля современности всех на-
ших классиков и загрузить туда каких-то «Барсуков», взводного Метелицу со спирто-
носом Стыркшей, мальчика из Уржума, «Грача - птицу весеннюю». Да и сам ко-
рабль вместо летящего по волнам клипера «Катти Сарк» стал воняющим мазутом
старым корытом - танкером «Дербент», из изношенной машины которого механик
Крылов выжимал дореволюционные сто двенадцать оборотов. Рекомендованный
герой, остервенелый чахоточный Павел Корчагин, ничего, кроме жалости, не вы-
зывал.
В конце войны, вернувшись в Ленинград, я спросил в школьной библиотеке
Поля де Крюи. Его не оказалось. Вместе с Сетоном-Томпсоном и Брэмом его то-
же сбросили с корабля современности. Вместо него предложили популярную
брошюру профессора А. Н. Зайделя «Загадки атома». Загадки у профессора Зай-
деля оказались скучными, а разгадок он и сам не знал.
Лет через десять, когда я сам стал нелюбимым учеником профессора Зайделя,
я спросил у него:
- А чего это в вашей брошюре вы все уходите от прямых ответов? Существуют
ведь в науке и непреложные истины, абсолютные факты.
- Например?
- Ну, вот что Вселенная вечна и бесконечна.
- Это вы Энгельса начитались, а надо бы серьезную литературу изучать, если
уж взялись рассуждать о вечном и бесконечном.
Сейчас, слава богу, Энгельса уже никто не читает - все больше Акунина и Дарью
Донцову. О телевидении я и не говорю. О нем все сказано. Только включишь - и
сразу тебе на голову выливают ушат помоев. Как нарочно. А может, и нарочно.
Зачем все усложнять? Жизнь-то упростилась до задачки с двумя трубами. По
обеим идет - хорошо, на пути застревает - плохо. А кому хорошо, кому плохо?
Р-р-разговорчики в строю! Хавай что дают и не умничай. Хотя недавно включил,
а там передача про историю Наукограда, города биологов - Пущино. В кадре -
знакомое лицо профессора Шноля. Легендарный Шноль! В свое время среди
биологов у него была репутация гения, хотя официально и не признанного. То ли
он научился получать сигналы от внеземных цивилизаций, то ли у него микробы
“Зарубежные записки" №19/2009
13
Арсений БЕРЕЗИН
танцевали польку-бабочку. Что-то у него было фантастичное, и к нему со всего
света стремились собратья по разуму, чтобы воспринять и поразиться.
Увидев его на экране, я развесил уши и выслушал его занудный рассказ о том,
как в 1965 году молодые биологи приехали на пустое место в Пущино и рыли с
энтузиазмом котлованы под будущие здания Наукограда. Потом ведущий рассказал
о главном достижении - создании искусственного заменителя крови, умолчав о
том, что он нигде не изготовляется и не применяется в настоящее время. Слуша-
тель сам мог домыслить, что вся кровь у нас по-прежнему донорская, но старая
система донорства нашим человеколюбивым государством вдребезги разрушена,
и потребуются долгие годы на ее восстановление. Но это уже из другой передачи,
а кончая эту, ведущий пообещал в следующий раз рассказать, как пущинский
Наукоград пережил катастрофу перестройки и рыночной экономики.
Прошедшая передача сильно разбередила мне душу. Я вспомнил Пущино 1983
года. В отличие от многих закрытых научных городков, построенных при ядерных
заводах, ракетных полигонах или для решения конкретных научно-технических
задач, Пущино с самого начала строилось как открытый научный центр без опреде-
ленной привязки к какой-нибудь военно-прикладной проблеме. Пущино явилось
как бы покаянием государства перед биологами за весь разгром, учиненный био-
логической науке в конце 40-х - начале 50-х годов. И создание кровезаменителя
в Пущине было отнюдь не главным научным достижением, а скорее проходным
исследованием. Одним из главных достижений были исследования по самоорга-
низации материи и синергетике.
Несмотря на некоторый налет мистицизма, эти исследования были по достоин-
ству оценены. Авторы получили, ко всеобщей радости научного сообщества, Ле-
нинскую премию, а Пущино постепенно превратилось в мировой центр по иссле-
дованию процессов самоорганизации. В 1983 году в Пущино состоялась междуна-
родная конференция по этой теме. Приехали все самые-самые. Среди них Илья
Пригожин из Бельгии, нобелевский лауреат, основатель новой термодинамики.
Живой гений - как называли его другие участники. Живой гений, как и полагается
гению, был человеком скромным и застенчивым. Никого не поучал, ничего не из-
рекал. Жалел только, что не пришлось ему поиграть с Эйнштейном концерт для
двух скрипок Вивальди. Было заметно, что в Пущино ему явно не хватает какого-
нибудь простого собеседника вроде Эйнштейна или Нильса Бора - или Поля
Дирака, в крайнем случае.
Когда Дирак приехал к нам в институт, он не стал после своей лекции за чаем
у директора вещать о путях развития квантовой механики, а вспомнил о своих
первых впечатлениях во время приезда в Ленинград в начале 30-х годов. Тогда
на Невском проспекте меняли торцовую мостовую на асфальтовую. По сторонам
проезжей части были сложены груды выковырянных деревянных торцов, а посре-
дине стояли громадные чаны, под ними полыхали костры, а в чанах кипела смола.
Рядом стояли монументальные working women, по-русски - работницы, в паруси-
новых фартуках, с голыми по локоть здоровенными руками и мешали железными
кочергами кипящую смолу. Казалось, что сейчас в эти котлы будут кидать кающихся
грешников, которых тут же и отберут среди прохожих. Так он и запомнил тогдаш-
ний Ленинград: ободранный Невский, котлы с кипящей смолой, сполохи пламени
под ними и громадных ’’women”, мешающих эту адскую смесь.
Теперь же его больше всего расстроило обилие автомобилей, запах бензина,
духота, отсутствие деревьев.
- Зачем вам столько автомобилей? Ведь в социалистическом обществе вы
могли бы развивать бесшумный, экологически чистый общественный транспорт.
А вы повторяете все ошибки буржуазного Запада, охваченного эпидемией консю-
меризма.
14
ДВА РАССКАЗА
- Чего-чего? - переспросила дирекция.
- Ну, зачем вы бездумно перенимаете все эти пороки общества потребления?
Ведь у вас были все возможности избежать этого, а теперь вы превращаете ваш
прекрасный город в такой же вонючий гараж, как Лондон или Париж.
Дирекция что-то промычала про цивилизацию и технический прогресс, который
нельзя остановить. Дирак устало заметил, что развитие подлинной цивилизации
часто требует отказа от надуманного технического прогресса и что прогресс, на
самом деле, происходит внутри человека и в его общении с природой, а не в
шумных и душных муравейниках индустриального общества.
- Мы так надеялись на вас, - с горечью добавил он и умолк.
Больше он ничего не сказал.
Из той же породы был Илья Пригожин. Он с удовольствием уходил на берег
Оки, предпочитая эти тихие прогулки обязательному посещению лабораторий и
встречам с возбужденными коллегами.
В Пущино меня занесла моя вторая профессия - синхронного переводчика, а
отнюдь не научные заслуги, но и для меня эта конференция была не очередным
мероприятием, а давно ожидаемым событием - встречей единомышленников.
Собираясь в Пущино, я гадал, будет ли там дано сражение новым еретикам -
сторонникам идеи самоорганизации материи, полагавшим, что наряду с процесса-
ми разрушения и образования хаоса в природе идут процессы создания порядка
из хаоса, подчиняющиеся законам, которые еще предстояло открыть.
В вопросах веры никогда не бывает единодушия. Любая ересь безжалостно
преследуется: Гуситские войны, костры инквизиции, Варфоломеевская ночь, раз-
гром вейсманистов-морганистов, «сумбур вместо музыки» и другие отступления
от догмы.
Генрих IV со своим прагматичным «Париж стоит мессы» является приятным
исключением в толпе своих озлобленных современников. Это он провозгласил
бессмертный лозунг: «Я хочу, чтобы у каждого француза была курица в супе». Ло-
зунг так никогда и не стал реальностью, но до сих пор будоражит воображение,
и не только французов. Мы сами который год мечемся в поисках национальной
идеи, но до сих пор так никто и не сказал: «Я хочу, чтобы у каждого русского бы-
ло...», - потому что на каждого не хватит и не каждому полагается. Так что зря
этот беспутный монарх будоражил пять веков общественное мнение своими иде-
ями. Безответственный популист, но такой симпатичный!
Среди участников оказались академики-ортодоксы - Яков Борисович Зельдо-
вич и Борис Борисович Кадомцев. Яков Борисович три звезды Героя получил за
то, что свои идеи отстаивал бескомпромиссно, у последней черты. Каждая звезда
была подвиг и победа. Уж Яков Борисович слюни размазывать не станет и никакого
псевдонаучного словоблудия не потерпит. С ним было все ясно. Но вот с Борисом
Борисовичем все было неясно, начиная с того, зачем он вообще собрался в Пу-
щино.
Академики бывают разные. Одни - это признанные лидеры, за спиной которых
институты, КБ, заводы, космодромы. У них много наград, званий, сотни научных
работ, написанных сотрудниками и подписанных ими, они хорошо выступают на
съездах и плохо читают лекции студентам - если вообще читают. Они любят вы-
сказываться по разным вопросам и охотно дают интервью.
Другие - это просто ученые, но ученые божьей милостью, по гамбургскому
счету, высшие авторитеты в своей области. Широкая публика их не знает, прави-
тельства слегка опасаются, потому что они всегда могут что-нибудь брякнуть невпо-
пад. Поэтому их редко спрашивают на общие темы. По специальным темам к ним
тоже нелегко добраться. Они не желают тратить своего драгоценного времени
“Зарубежные записки" №19/2009
15
--------------------------- Арсений БЕРЕЗИН -----------------------------
на разговоры с сомнительными профессионалами, но зато с настоящими профи
готовы сидеть и день и ночь.
Борис Борисович был гуру в нашей физике плазмы. Бриллиант чистой воды,
общение с которым было наградой для каждого мало-мальски уважающего себя
физика. Что его потянуло в Пущино, для меня было непонятно.
И вот объявлен доклад: академик Б. Б. Кадомцев, Институт атомной энергии
имени Курчатова. Тема касается применений математических моделей теории
вероятности к изучению процессов эволюции. Что-то в этом роде, математика
об эволюции, вполне достойная тема. И Борис Борисович начал ее спокойно
развивать без лишней аффектации, со множеством формул, но к середине докла-
да возникло ощущение, что все эти формулы сами по себе, а процессы эволюции
сами по себе. Я не знаю, возникло ли это ощущение у остальных слушателей, но
у меня, сидящего в будке синхронного перевода с наушниками и микрофоном,
такое ощущение явно возникло и начало тревожить: как же он, а вслед за ним и
я, выскочим из этого положения?
Тут Борис Борисович чуть помедлил и аккуратно взорвал свой первый заряд:
- Как мы видим из сказанного, ни одна из предложенных статистических моде-
лей не может объяснить эволюционный процесс, произошедший на нашей плане-
те, тем более - происхождение жизни на Земле. На это не хватило бы всего вре-
мени существования Солнечной системы.
Я слышал в наушниках, как в зале воцарилась мертвая тишина. Люди замерли,
почти перестали дышать, и в этом звуковом вакууме взорвалась вторая бомба.
- Следовательно, - сказал Борис Борисович, своим тихим и печальным голо-
сом, - остается предположить, что потоку событий в эволюции предшествовал
поток информации, чрезвычайно малой интенсивности, но достаточной, чтобы
направить процесс эволюции по определенному пути. Поиски этого потока ин-
формации ведутся в ряде лабораторий, в том числе, насколько мне известно, и в
этом институте.
И тут меня как током ударило. Шноль? Ну конечно, Шноль! Он именно этим и
занимается. И в наступившей паузе я еще раз повторил фразу о двух потоках,
чтобы не оставить никаких сомнений в том, что это была не ошибка, не слуховая
галлюцинация, а научное утверждение. Борис Борисович выдержал паузу. Собст-
венно, говорить дальше уже было не о чем. Казалось, в мертвой тишине метались
мысли. Над кафедрой повис огромный вопрос. Налетевшие ангелы легко растащи-
ли его в разные стороны. Какие тут могут быть вопросы? Стало легко и радостно,
все заулыбались, выдохнули. Захотелось сказать: слава тебе, Господи, спасибо
тебе. Оказывается, все так просто, а мы столько веков мучили друг друга. Борис
Борисович сошел с кафедры и растворился среди коллег.
В школе, а потом в университете мы учили, что по теории академика Опарина
жизнь зародилась сама по себе в мировом океане. Там что-то все время булькало,
булькало. Молекулы сталкивались друг с другом случайным образом от простого к
сложному, от неорганических соединений к органическим, а там и до белков ру-
кой подать. И что белок, что живая клетка - почти одно и то же. А вот и нет, ниче-
го само по себе не набулькало, а только промыслом божьим, духом святым, неви-
димым потоком информации. А интересно, он сейчас еще струится или сделал
свое дело и отдыхает? Наверное, Шноль думает, что еще струится, иначе бы он
его не искал.
Борис Борисович после доклада казался каким-то просветленным, как будто
снял тяжелый груз с плеч. А все как будто понимали это, и никто к нему с глупыми
вопросами или скороспелыми измышлениями не лез.
На завтра был назначен доклад Якова Борисовича о Большом взрыве и эволю-
ции Вселенной. Эволюционная тематика доклада позволяла Якову Борисовичу
16
ДВА РАССКАЗА
легко лягнуть Бориса Борисовича, но он этого делать не стал. Он увлекательно
рассказал о том, что было десять миллиардов лет тому назад после взрыва, как
образовались галактики, звездные системы, включая нашу, чего можно ожидать
в следующие десять миллиардов лет, когда потухнет солнце, и так далее. Кто-то
не выдержал и спросил:
- Вы все говорили о том, что было после взрыва, в первую микросекунду, в
первый миллиард лет, а вот сам взрыв - кто его произвел?
Яков Борисович ненадолго задумался, как бы это ему получше сформулировать,
и сказал:
- Момент ноль не входит в тему моего доклада. Я рассматриваю только эволю-
ционные процессы. И вообще, рассмотрение момента ноль выходит за пределы
современной науки. Это скорее является областью теологии, которая, как мне
кажется, единственная может дать непротиворечивое объяснение, но я не явля-
юсь специалистом в области теологии и не обладаю необходимой компетенцией
для обсуждения данного вопроса.
Так во второй раз на Пущинской конференции мировое научное сообщество
было отправлено в Горние сферы и никакого неудобства при этом не испытало.
Происшедшее достоянием широкого общественного мнения не стало, ни в
каких средствах массовой информации отмечено не было, но крепко сохранилось
в памяти участников. Может, когда-нибудь, на каком-нибудь высоком научном
форуме ученые и теологи, собравшись вместе, вспомнят о том, как когда-то на
берегах Оки были обозначены границы исследования мира научными методами
и открыты новые страницы в Книге Познания.
“Зарубежные записки" №19/2009
17
Александр МИЛЬШТЕЙН
скло
Повесть
1. Вводная часть
Разбитое вдребезги, но ещё мгновение остающееся целым стекло может
стать причиной дробления этого мгновения, или, если угодно, перехода наблюда-
теля в другой масштаб времени.
Это запись в блокноте с телефонами двадцатилетней давности, который я
недавно нашёл в своём подвале. Переписал я её не потому, что она мне понрави-
лась, - скорее наоборот: я успел отвыкнуть от этих итээровских итераций, их не-
чаянных рифм (и приобрести другие вредные привычки, как-то: алл-итераци, Ап-
nahrungen1, etc.), но я, тем не менее, решил, что аутентичная фраза работает -
она ускоряет погружение в прошлую жизнь, где моя программа, попав в бесконеч-
ный цикл, возможно, всё ещё считает «жёсткие» системы при помощи многошаго-
вых методов.
Главное, чтобы эта фраза, если я её не вычеркну, не придала всему тексту
специфическую, скажем так, фразеологию моих тогдашних квартальных отчётов
- как это отчасти произошло уже в предыдущем абзаце.
Но вроде бы велика вероятность того, что это не случится. Во-первых, тон бу-
дет задавать фактура, связанная не с работой, а с отработкой; во-вторых, я всё
забыл за отчётный период из того, что касается приближённых вычислений...
Даже - что, собственно, означала эта «жёсткость», я теперь толком не вспомню.
Припоминаю только, что мне - в смысле моей программе - надо было периоди-
чески останавливаться и разгоняться одношаговым методом, например, Рунге-
Кутта, или Эйлера, чтобы потом снова перейти на многошаговый - Адамса, или
кого-то ещё... Нуда, и при этом система считалась «жёсткой», если в ней существо-
вали вот именно разные «временные масштабы». Так замыкается круг. По крайней
мере, больше я об этом уже точно ничего не вспомню.
Перед тем, как я записал в блокнот наукообразную фразу, набранную теперь
курсивом, я видел, как мозаичный витраж, на мгновение возникший в чёрной
рамке, исчез и на пассажиров посыпались мелкие гранулы.
Причём сверху, как будто пошёл град и одновременно у трамвая снесло кры-
шу...
Все, казалось, были в трансе, не шевелились, не чувствовали, как градины
лупят по черепам.
Я было подумал, что стал единственным свидетелем не описанного ранее яв-
ления неживой природы, но через несколько, всё ещё как бы стеклянных, секунд
трамвай затормозил, вагоновожатая выскочила на улицу, заорала на водителя
полуторки, который не вписался в поворот... 1
1 Приближения (нем.), часть названия одной из книг Эрнста Юнгера.
18
скло
То есть человеческий фактор присутствовал, да и причинно-следственная
связь была в тот момент ещё не нарушена - в этом я чуть позже убедился на
собственной шкуре...
Но не будем забегать вперёд, покончим уже с трамваем: от чересчур резкой
остановки у него соскочила дуга, и мы стояли ещё какое-то время, тогда как прота-
ранившего нас грузовика простыл след. Чёрная рамка была пуста, и в ней был хо-
рошо виден фрагмент фасада дома напротив, серые щербины на кремовом фоне,
кто-то рядом со мной поводил плечами, проводил руками по волосам, радовался,
что осколки не попали в глаз, тогда как трамвай снова задребезжал...
Из пустой четвертинки окна теперь дул приятный ветерок, пол, усыпанный
осколками, был не виден, закрыт телами... Вертикальными, да, но осколки на по-
лу всё равно были не видны, потому что яблоку негде было упасть - был час
пик... Но пики на этот раз были невидимыми и с ледяными наконечниками, которые
тоже успели растаять... Во всяком случае, их уже не было видно.
Я покинул трамвай возле Южного вокзала, там, где круг 20-го. Дойдя до пере-
крёстка, пошёл было дальше на красный свет, как вдруг понял, что стая машин
несётся быстрее, чем мне казалось с тротуара. Видимо, я всё ещё пребывал в
другом временном масштабе и как бы видел замедленную съёмку. Когда же всё
стало двигаться с большой скоростью, я побежал, и тут что-то так больно впилось
мне в ногу, что я крикнул.
Выпрыгнув из-под колёс, я поскакал дальше на одной, как будто играя в классики
на льдине, которая раскалывалась на квадратики, прямо у меня под ногами...
Машины проносились рядом, задевая рубашку, огромное точильное колесо
чиркнуло по моей туфле...
Но мне, можно сказать, в тот день везло: я достиг другого берега.
Снял туфлю, подержал её в руке - в оцепенении... а потом встряхнул.
На асфальт выпала мелкая градина, которая почему-то не растаяла под пяткой...
И не спешила это делать на асфальте, нагретом июльским солнцем... Но хватит
уже льда в этом коктейле, ей-богу...
Я поднял и внимательно - как вырванный зуб, если угодно, - рассмотрел, а
потом выбросил прочь - осколок стекла, и пошёл, немного хромая, на работу,
недоумевая, как он мог попасть мне под ногу, если брюки, которые я надел в тот
день, были длинными, только что не волочились по земле, а рыжие туфли-мокаси-
ны были мне впритык.
Осколок, казалось, прошёл сквозь меня навылет. Вошёл в темечко и вылетел
сквозь пятку. Где действительно обнаружилась ссадина: только что, стоя на тротуа-
ре на одной ноге, я снимал покрасневший носок.
Вскоре показалось здание моей работы: невысокий небоскрёб, который рань-
ше был первым, что видел пассажир московского поезда, въезжая в Харьков.
Район же, который начинался сразу - или почти сразу за ним, так и назывался:
«Москалёвка».
Я показал на пропускнике красную книжечку с надписью «Министерство какой-
то промышленности СССР», и вахтёр меня пропустил, ни о чём не спросив и да-
же не попросив раскрыть пропуск.
Это означало, что кампания, направленная против нарушителей трудовой дис-
циплины, уже закончилась.
Иначе бы заклинило вертушку, вахтёр немедленно позвонил бы в отдел кадров,
чтобы сообщить, что я опоздал на столько-то минут.
Тогда же, кстати, в разгар кампании, и ввели эту дурацкую моду, вход по пропус-
кам, раньше такого никогда не было - мы не оборонное предприятие, и я вообще
думал, когда начальник объявлял о новом веянии, что пропуск давным-давно где-
то посеял.
“Зарубежные записки" №19/2009
19
Александр МИЛЬШТЕЙН
Но потом нашёл его в подвале, в старом чемоданчике, с которым когда-то ез-
дил в командировки, если они были не в Москву.
Я ничего не стал рассказывать о стекле - ни сотрудникам, ни начальнику, бла-
го никто и не спрашивал, почему я опоздал.
Если бы мероприятия по борьбе с преступной неорганизованностью продол-
жались, я бы сказал, конечно, что попал в аварию, или даже в две аварии - я
ведь и в самом деле чуть не попал.
«Чуть не считается!» - сказал бы Молотков (наш начальник).
А впрочем, для рассказа, основанного на реальных событиях, важно как раз,
кто и что сказал. А также то, что Молотков был вполне вменяемый. Во всяком
случае, не менее, чем его подчинённые... Наверно, я чуть было не наговорил на
него сейчас, потому что мне вспомнился анекдот, который ходил в разгар этой
кампании: звонят с работы Иванову домой, спрашивают у его домашних: «Что
случилось?» - «Иванов умер» - «Фух, слава богу... А мы думали, что он опаздывает
на работу».
Я когда-то застрял в лифте. Давно, ещё будучи студентом. В тот день была во-
енка, где мне за неделю до этого было сделано «последнее китайское предупреж-
дение». Поэтому когда кабину открыли, вручную опустив на лебёдке на первый
этаж... Я сказал лифтёру, что не уйду, пока он не выдаст мне справку. Лифтёр
сильно удивился, но потом с удовольствием написал на листике, который я выдрал
из конспекта: «Тиновицкий застрял в лифту. Освободили в 9:20». И подпись поста-
вил, число, как полагается.
Но о стекле я своим сотрудникам рассказывать не стал, подумав, что это слиш-
ком странная для них была бы двухходовка.
То есть не то чтобы слишком сложная - у всех же высшее образование, да и
стёклышки, просыпавшиеся передо мной тогда, были не бисером... Однако есть,
как кто-то писал, люди, которые играют в игры... А есть игры, которые играют в
людей... Или с людьми, людьми... Короче говоря, утренняя игра стекла - со мной
показалась мне слишком всё-таки странной темой для пересказа её вслух рабоче-
му коллективу.
Поэтому я рассказал о стекле только Веронике - «девушке с грацией слонёнка»
(я её этим не обижаю, это же была её самодефиниция), которая меня всегда по-
нимала.
- Знаешь, что мне это напомнило, - сказала она, выпустив изо рта дым
«Ватры», - «На Садовой большое движение»! То место, где у дяди Дениски после
аварии ботинок попадает в багажник, притом, что дядя сидит в закрытой кабине.
И точно так же не может этого понять, как ты сейчас своё скло.
- При чём тут моя скво?
- Уши прочисть, Тиновицкий. Скло! Рщна мова!
- А почему ты вдруг заговорила на украинском?
- А я не знаю, почему. Наверно, мне показалось, что не стекло, а... вот именно
- скло - мелькало всё время в твоём рассказе...
- Это многое объясняет, конечно, спасибо, дружище. Хотя, знаешь, по-русски,
по-моему, не менее красиво: «было и - стекло...».
- Ты прав. Пойдём, - вздохнула Вероника, и мы вернулись из курилки в нашу
комнату.
Я сел за свой стол, многозначительно подвинул к себе распечатку программы,
которую периодически прогонял сквозь ЭВМ, меняя во входных данных значения
двух-трёх параметров.
20
скло
Или вообще ничего не меняя... Меня давно уже никто не контролировал, и так
можно было играцца бесконечно - благо программа, представляя собой «идеаль-
ную» модель двигателя, не изнашивалась, в отличие от железа, а жила своей
собственной жизнью, причём каждый раз довольно-таки долго - часа два, а то и
три с половиной...
То есть по сути это был вечный двигатель...
Потом можно было описать процесс в очередном отчёте, основную часть кото-
рого составляли точечные графики, выдаваемые ЭВМ...
Это было не моё ноу-хау - почти все у нас в отделе также тогда работали,
кроме разве что Коломийца, который верил во что-то прекрасное, употреблял в
своей речи временную форму «прошедшее в будущем» и продолжал упрямо допи-
сывать кандидатскую «against all odds», одновременно уча и английский... При
том, что шансов свалить с подводной лодки у него вроде как и не было...
Нас, конечно, слали периодически на поля - или, там, на кагаты... Но я к тому
времени был на отработке довольно давно, так что уже и забыл... Была ли осень,
ранняя ли весна... Нет, скорее прошлогодняя осень, потому что осенью же собира-
ют овощи, да? И шёл дождь... Не так чтобы ливень...
Я помню, что запустил в начальника зелёного цеха кабачком, но это мог быть
просто кабачок, который попался мне под руку, потому что собирали-то мы скорее
всего бураки, а себе домой набирали с соседнего поля кабачки... То есть я не
собирал вообще ничего - себе домой, чем вызывал гнев наших женщин, шипев-
ших «ну конечно, у него жена сумки тягает», что было неправдой, но это сейчас
неважно, - я мог запустить в начальника зелёного цеха, скажем, чужим кабачком,
вообще какая разница... Тем более, что я всё равно не попал, к сожалению.
Мы полдня работали под моросившим дождём, а когда он усилился, побросали
орудия труда и пошли в посадку. Там расположились, кто на чём, или на ком, как
вдруг из кустов вырос начальник зелёного цеха и начал на нас кричать.
Притом, что сам он всё это время отсиживался в какой-то земляночке.
Ну, я и вышел из себя - как он из своей норы... И запустил в него кабачком.
Или всё-таки свеклой... Но всё равно не попал.
После этого меня перестали посылать на отработку и грозили выгнать с работы
по статье.
И всё это, значит, Молотков мне теперь зачем-то припомнил.
Ну, не так подробно, как я сейчас, и по его версии я швырнул в начзелцеха
таки да - бураком (укр. - свекла).
В частной беседе, задолго до этого дня, начальник доверительно сказал мне,
что я «неудачливый сачок».
Удачливый - это тот, кто ни черта не делает, но не бросается... в глаза.
А неудачливый, соответственно, наоборот, может работать не меньше других,
или даже больше, но, что ли, паузы, которые он делает, переводы дыхания, выра-
жение лица - всё это так не вписывается в общий ритм, что человек этот выглядит
злостным тунеядцем.
Всё это шеф мне теперь припомнил, после чего сказал, что он не за тем меня
позвал, чтобы вспоминать сейчас все мои грехи.
- А позвал я тебя, Тиновицкий, - сказал шеф, - чтобы сообщить радостную
весть: с завтрашнего дня ты наконец идёшь на отработку. Где не будет начальника
зелёного цеха и вообще ничего зелёного не будет, насколько я помню район...
Сейчас я всё объясню, но чтоб не забыть, это важно. Я не советую тебе бросаться
там в непосредственное начальство... любыми предметами, если не хочешь загре-
меть по полной программе...
“Зарубежные записки" №19/2009
21
Александр МИЛЬШТЕЙН
- Владимир Григорьевич, - сказал я, - ну к чему всё время это вспоминать,
что было, то - стекло... я же вам подробно тогда всё написал в объяснительной
записке, что шёл дождь, что эта сука...
- Не смей так говорить с начальством! Ну и что, что дождь? Сахарная - свекла,
а не голова твоя дурная...
- Нет, ну мы все не сахарные... Но, как бураки, торчали на поле под осенним
дождём, и чтобы после этого ещё выслушивать... Ну, я и вышел из себя. С кем не
бывает?
- Допустим. Но ты не думаешь, что терпение начальства тоже не беспредель-
но?
- Мы в тот раз вообще-то кабачки собирали, - попытался я тогда уж лучше
вернуться к прошлой теме, - я вот сейчас вспомнил, а не свеклу... Нет, ну к чему
это, Владимир Григорьевич, а? Кто старое помянет...
- А вот к чему. Мне пришлось сейчас преодолеть некие сомнения, прежде
чем я решился. С одной стороны - вроде идеально для тебя разнарядка, потому
что дорогу в колхоз ты себе как бы обрубил, во всяком случае, при нынешнем
начзелцехе. С работы же тебя увольнять мне... Ну, как-то не с руки, не по-людски...
Ты же сам меня просил, помнишь: «Владимир Григорьевич, будьте человеком...».
Вот, а не посылать тебя совсем уж никуда... Мне, как ты понимаешь, это по бараба-
ну. Но я не могу. Народ взбунтуется, ты знаешь нашу Элькину - она молчать не
будет, она и так уже не молчит... Просто рот у неё сейчас занят грызнёй по пово-
ду десятирублёвых надбавок, а вот как поделят...
- Ой, что будет...
- Не говори... То есть я давно уже ломал голову, как тебя можно использовать
в мирных целях. И тут приходит вдруг разнарядка на другой вид отработки, не
сельхоз...
- Что, стройку оперного реактивировали?
- Не угадал, тут другое... В общем, так: завтра в восемь тридцать ты должен
явиться в отделение уголовного розыска N-ro района. На входе сказать, что ты к
следователю Доценко - тебе выпишут пропуск.
- Ну что? - сказал Молотков с наслаждением после паузы, - доигрался, Тино-
вицкий?
- Ну и шуточки у вас, Владимир Григорьевич, - сказал я.
- А вот и не шуточки! Поступила разнарядка, как я тебе уже имел честь доло-
жить, на одного пока что нашего сотрудника. В помощь милиции. Не справляется
наш угрозыск с делами - вот и обратился за помощью к нам, ну что непонятно?
Решили фуражки: «Мы что же, хуже колхозников?»
- Мы?
- Они. Ну, я вполне серьёзно всё это говорю, ты уж поверь.
- Это что, не розыгрыш?
- Какой, к чёрту, розыгрыш, делать мне больше нечего - это вы там всё разыг-
рываетесь, в отделе... Но ты знаешь, я на это сквозь пальцы. Что делать, за грани-
цей есть безработные, а у нас есть мы... Но отработка - это святое, заруби себе...
Завтра в 8:30 чтобы как штык. Вот адрес, перепиши, на тебе листок. Следователя
зовут Доценко Игорь Антонович. Будешь его помощником. Расскажешь потом
всё в подробностях - мне же нужно знать, кого посылать следующим, если это
будет не единоразово... Ну, я тебя первым выбрал не только из-за твоих подвигов
на ниве... Но ещё и по росту. Я понятия не имею, что там может ещё пригодиться!
- Вы что, не спросили?
- Я спросил, мне ответили: никаких навыков, что нужно делать, объяснят на
месте. Попросили только не посылать совсем уже городских сумасшедших. Вот я
22
скло
и выбрал тебя, решив, что не можешь же ты, Тиновицкий, быть одновременно
деревенским дурачком и... хе-хе-хе...
- Если будете оскорблять, Владимир Григорьевич, я вообще никуда не пойду.
- Ну ладно, пошутил, - сказал Молотков, - и вообще, всё возможно, как нас
учили, слияние города и деревни, хе-хе, в одной отдельно взятой голове...
- Ещё неизвестно, кто здесь больший сумасшедший... Я имею в виду мили-
цию... Это же надо додуматься...
- Короче, такая петрушка. Разнарядка пришла - обязаны исполнять. И я наде-
юсь, что на этот раз ты меня не подведёшь. В твоих интересах. Не опаздывай!
Они наверняка не любят, а у тебя с этим проблемы - сегодня, думаешь, я не за-
метил?
Я хотел было рассказать Молоткову о том, как с утра попадал в стеклянные
грозы... Но передумал.
2. Наружное наблюдение
Здания я совсем не помню, и мне ничего больше не остаётся, как написать:
«Дом, в котором размещался угрозыск N-oro района города Харькова, был ничем
не примечателен»... И прибавить, что то же самое можно было бы сказать о следо-
вателе, который ждал меня внутри здания. Он стоял уже внизу возле пропускника,
хотя я не опоздал ни на одну минуту.
По-моему, у него были усы и он был в гражданском костюме, тёмный какой-то
пиджак, может быть, коричневый... Человек бывалый, возможно, и распознал бы
в нём следователя угро, очень может быть, что и за версту, но я бы ничего такого
в нём не узнал даже на расстоянии вытянутой руки - которую я неуверенно пожал,
стоя непосредственно в здании его незаменимой, казалось бы, работы...
Даже при том, что одной рукой Игорь Антонович прижимал к себе весьма ха-
рактерную папочку - как во всех этих фильмах, «наша служба и опасна и трудна...
И на первый взгяд как будто не видна»...
Мы пожали друг другу руки и вышли из здания прямо к припаркованному у вхо-
да красному жигулёнку.
По дороге Игорь Антонович объяснял, что нам нужно будет делать, добавляя
в конце каждого второго предложения «...не бином Ньютона».
Количество квартирных краж, по его словам, подскочило за последнее время
во столько-то раз (он сказал, во сколько, но цифру я теперь не вспомню, а врать
не хочу, чтобы ни очернять, ни обелять то серое время), сотрудников, чтобы за-
ниматься их раскрытием, не хватает, поэтому решили пойти путём профилактики...
Чем мы с ним сейчас непосредственно и займёмся.
Я даже не заметил, как слова перешли в дела, - мы так же ехали, только теперь
с меньшей скоростью - не превышавшей скорости пешехода - по прямым узким
улочкам микрорайона, похожего на тот, в котором я жил, но более безотрадного,
потому что он был сравнительно новым и в нём совершенно не было зелени.
Что, понятно, было нам на руку, это как американцы во Вьетнаме, - думал я, -
для начала уничтожали всю зелень какими-то химикатами, а потом уже кружили
над местностью, и всё тогда им было видно, как на ладони...
Мы с Игорем Антоновичем зелень здесь не уничтожали - этим занимались
мои сотрудники, и не «оранжем», а тяпками, и в других местах, на колхозных по-
лях, - здесь же растений не было отродясь, и мы медленно кружили с Игорем
Антоновичем в жигулёнке по серой пустыне, глядя по сторонам, он - в одну, а я
- в другую сторону... При этом никаких инструкций он мне больше не давал,
вообще с какого-то момента молчал в тряпочку.
“Зарубежные записки" №19/2009
23
------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН -----------------------------
«Ну хорошо, - думал я, - допустим, не бином. Ну, несут мужики мебель, или
там что, чемоданы как-то быстро, и всё сразу с ними ясно... Но что тогда делать?
У меня же нет ни орудия труда, ни инструкции... И для чего я вообще понадобился?
Ну, или другой какой... научный сотрудник. Чтобы эффективнее смотреть по сторо-
нам? Но Игорь Антонович и сам мог бы вертеть своей башкой: на дорогу смотреть
при такой скорости не обязательно. Ну, может, шея быстро устаёт... Ну хорошо,
допустим, два глаза хорошо, а четыре лучше... Но разве не нужно иметь хоть ка-
кой-то профессиональный опыт, навык, по крайней мере, хоть раз в жизни видеть
перед этим живого медвежатника? А то получается то же, что в колхозе, где, по
признанию моих сотрудников, они, так же, как я, выпалывали тяпкой всё подряд,
не умея отличить бурьян от злаков... В этом смысле хорошо, конечно, что здесь...
хоть не додумались выдать орудие труда...»
Сейчас (примерно через двадцать лет) мне задним умом приходит в голову
простая мысль: помощь заключалась в физическом присутствии. Никто же не знал,
что я работник НИИЧаво, или с некоторых пор уже даже чистого НИЧТО, способно-
го принимать любые формы - от колхозника до милиционера...
(Звучит, наверно, слишком пафосно, но разве не такова теперь была ширина
нашего спектра?)
Важна была скорее всего численность сама по себе - чтобы в случае чего
преступники видели, что перед ними не одно физическое лицо, а целых два.
Это было, по-видимому, важно - один в поле не воин и всё такое... Я думаю, это
и было причиной - не эффективнее смотреть по сторонам, а эффектнее смот-
реться... хотя полностью я, естественно, не могу быть в этом уверен.
Можно, конечно, было бы, раз уж я туда вернулся сейчас, что-то уточнить, за-
дать эти же вопросы Игорю Антоновичу, можно было бы придумать за него и от-
веты.... Но у меня нет желания создавать эрзац своего прошлого: персонажи-му-
ляжи, люди-куклы, надетые на пальцы одной руки...
Поэтому, попадая туда, я точно также молча сижу, как и тогда, рядом с Игорем
Антоновичем, поглядывая по сторонам, - и не вижу нигде не только подозритель-
ных, но вообще никаких людей... Как будто их всех здесь закатали в бетон.
Когда же мы через несколько часов такого катанья вышли из машины и реши-
тельным шагом - Игорь Антонович то есть решительным, - ну и я, еле поспевая
за ним, вошли в один из подъездов, мне показалось, что он, отчаявшись дождать-
ся, идёт сам совершать ограбление - чтобы самому же его потом раскрыть и от-
читаться...
Но я отбросил эту мысль как полностью абсурдную.
Мы поднялись на пятый этаж, подошли к голой, в смысле не обитой дерматином
- в отличие от соседних, - двери, Игорь Антонович припал к ней на мгновенье...
Я подумал, что он мог учуять что-то неладное - зоркий сокол, ещё с улицы, по
каким-нибудь бликам в окошке...
Он открыл дверь с помощью отмычки - или ключа, я не успел заметить, что у
него там болталось в связке, навряд ли ключи от всех дверей микрорайона...
впрочем, знаем мы эти двери: когда наша захлопывалась, сами открывали расчёс-
кой, нажимая на щеколду, - имели, таким образом, некий навык, который чуть
позже и пригодился... Но, конечно, в тот момент я этого ещё не знал, и, войдя
вслед за Игорем Антоновичем в коридор, оглянулся и осмотрел замок, просто
удивляясь, что Игорь Антонович так просто его открыл... После чего вернулся к
нему с лицом человека, который ждёт, что ему наконец-то всё объяснят.
- Это особая квартира, - сказал он. После чего, очевидно, просто хотел сде-
лать паузу, собираясь произнести ещё несколько слов, но я подумал, что на этом
24
скло
всё объяснение снова закончилось, и тут уже лаконичность его едва не вывела
меня из себя.
- Что значит особая? - сказал я, - что в ней такого особого - что мы без ор-
дера входим без стука как к себе домой?
- С зоны сбежал один преступник. Причём не простой ... По имеющимся опера-
тивным данным, скоро может появиться в городе. Эту квартиру ему заготовили
кореша. Поэтому я заезжаю сюда иногда и осматриваю на предмет его проявле-
ний. Теперь всё понятно?
С этими словами Игорь Антонович быстро подошёл к кровати и поднял матрас,
как будто предполагая, что преступник специально для него оставил там какую-
то записку, или денежку... Я подумал, что после этого он достанет из-за пазухи
лупу и начнёт изучать простыню - кровать была застелена простынёй, покрывала
на ней не было, - но этого делать Игорь Антонович не стал, он прошёл в другую
комнату - квартира была трёхкомнатная...
- Ничего не трогай! - крикнул он мне уже оттуда.
- Слушаюсь! - крикнул я, а когда он вернулся, проникновенно спросил его:
- Чтобы не оставлять отпечатки пальцев, да?
- Шутишь... Кто там будет их снимать... Просто сдвинешь какой-то предмет,
он войдёт, заметит - вот и вспугнём. Помнишь, как в фильме... Только Картон
немножко повнимательнее будет, чем этот, как его...
- Плейшнер, - сказал я. - А как вы сказали - это что, тот самый Картон?!
- А что, слыхал? - удивился Игорь Антонович. - А кажется, ты в другом мире
живёшь, на другой планете.
- Между прочим, двадцать лет жил точно в таком микрорайоне. И квартира
такой же была планировки...
Тут я прервался, чтобы не перескочить словесно через лестничную площадку:
мне бы не хотелось говорить с Игорем Антоновичем о моих соседях. То, что пос-
ле долгого кружения в жигулёнке мы спикировали прямо в это чёрное яблочко
моей памяти... могло бы, конечно, ввергнуть меня в большую разговорчивость,
как это и происходит сейчас... Но тогда сработал, видимо, инстинкт, который го-
ворил мне: не стоит ничего лишнего говорить, даже если кроме того, что Картон
был твоим соседом, сказать нечего...
- Ну, так ты тут тогда вообще как дома, - кивнул Игорь Антонович. - Всё на се-
годня. Пойдём, подброшу тебя до метро.
3. Лестничная клетка
Я никогда не бывал в их квартире и видел Карпухиных, стало быть, на площадке,
в лифте, при подходе к подъезду... Или при подъезде к подъезду Карпухина-
старшего, но это случалось крайне редко, потому что себя самого он домой не
подвозил. Впрочем, вспоминаю, что он, отец их семейства, бывал у нас когда-то
довольно часто днём, когда я ещё под стол пешком ходил... График работы у не-
го был, естественно, скользящий, и он любил поговорить с моим дедом, в частно-
сти, о своих романах. Дед же был однолюб и тосковал по бабушке, которая умерла
вскоре после нашего переезда на эту квартиру, поэтому я думаю, что деду было
неприятно выслушивать истории, которые рассказывал «Таксист», - так его дед
всегда называл за глаза. Я даже знаю это наверняка, вспомнил сейчас, как после
ухода соседа дедушка пожал плечами, заглянув в мою комнату, и пожаловался:
ему, мол, ужасно надоели рассказы о том, как Таксист изменял своей жене. Он
как бы оправдывался, что забыл обо мне и проговорил с Таксистом так долго, -
на кухне, час или два, закрыв двери, - как бы заверял меня, что ничего интересно-
“Зарубежные записки" №19/2009
25
-------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН ------------------------------
го я на самом деле не пропустил и что он и сам бы с удовольствием всё это не
слушал, если бы не неписаные законы добрососедства и гостеприимства.
Дед общался не только с Таксистом - это родители мои мало кого знали из
соседей, потому что всё время были на работе, - дед же был на пенсии, которую
он посвятил почти полностью мне, а так как он курил папиросы, то часто выходил
из квартиры на лестничную клетку и там общался с другими курильщиками, иногда
даже «забивал с ними козла» - пятачок был довольно большой и позволял поста-
вить несколько табуреток. Это не та площадка, где были двери квартир, а выше
на полпролёта - куда выходила только дверца мусоропровода, которая с лязгом
открывалась и, на каком бы этаже меня это ни заставало, я весь сжимался, как
будто девятиглавое чудище могло проглотить меня. Такое же примерно чувство
возникало у меня в зоопарке, когда в клетке бегемотника разверзалась пасть, -
только у мусоропровода зев был чёрным, а не розовым... Если что-то не проходило
- ящик, скажем, его разбивали или расчленяли, мяли, комкали, рвали, а потом
ещё давили, как будто прессом, упираясь в прямой железный рог, торчавший из
зелёной бугристой челюсти, - я думал, что отсюда и пошло это выражение: «жаба
давит», когда его впервые услышал... Но это так, ни к селу ни к городу, я отвлёкся...
Нет, правда, к чему был весь этот бестиарий... смесь носорога с бегемотом...
бульдога с мусоропроводом... Ага, наверно, цепочка должна была привести нас к
Минотавру... а желёзно-гетакомбный микрорайон моего детства - что, как не ла-
биринт тогда... Ты смотри, как мы чуть было не заговорили... Но ещё лучше - не
смотри, куда смотреть не стоит... Обойдёмся в самом деле без мифов народов
мира, нам нужны только неприукрашенные детские впечатления pur...
Я помню, как Таксист вошёл к нам в квартиру впервые после небольшого, так
называемого косметического, ремонта, как он посмотрел на себя в зеркало, кото-
рое накануне рабочие повесили в коридоре на стенку, и сказал:
- Всё хорошо, только зеркало короткое. Зеркало должно быть до пола. Жен-
щинам же надо видеть свои ножки! - и он так хитро засмеялся, что даже закашлял-
ся.
Казанова был низкого роста - на голову ниже, чем его сын, и очень плотный,
квадратный такой, без шеи, с мощной квадратной же головой, всегда в чёрном
костюме, загорелый и зимой, и летом, - я помню, что курил он, в отличие от де-
да, сигареты с фильтром и всегда одну держал в руке, а также зажигалку, так что
казалось, что он сейчас закурит прямо у нас в квартире, но он этого никогда не
делал. Ну, может быть, зашёл один раз, не погасив: «Я на секундочку»...
Жена его - мать Картона - была маленькой женщиной, возможно, с татарским
разрезом глаз, больше я ничего о ней не помню.
Картон был с начала нашей тамошней жизни достаточно взрослым, чтобы отбы-
вать срок, - что он, в основном, и делал. Каждый из его выходов из тюрьмы и, со-
ответственно, появлений в нашем доме я помню очень хорошо, потому что это
было нечасто, ненадолго, а кроме того... Как бы это сказать... Ну, что ли, облако
невесомости, окружающее, надо полагать, каждого выходящего на свободу чело-
века, какое-то первое время - вот оно как-то ощущалось посторонним наблюдате-
лем, которым и был я со своими очками и школьным ранцем.
Картон был как-то дымчато пластичен... Дурацкое словосочетание, но, прежде
чем я его успел вычеркнуть, оно напомнило мне «дымовуху», то есть подожжённую
пластмассу, вонявшую так, что бесшумный Картон был на неё уже точно не похож...
26
скло
И можно закончить его портрет словами, что «он был не похож ни на что», но
вспомнилось вознесенское «ты не похожа на бешеную кошку, ты не похожа ни
на что»... А Картон-то, кстати, уж больше был похож на кошку... Чем на «дымовуху»,
во всяком случае...
И чего она прицепилась, как жевачка на подошву, и дымится...
Ну, наверно, в раннем детстве это было худшим из того, что ассоциировалось
у меня с «плохими мальчиками»... Ну да, а в движениях Картона было-было - что-
то от крупной кошки... Но ничего хищно-зловещего... я, по крайней мере, рядом
с ним не чувствовал... И поэтому не понимал, как его имя, или кличка, может все-
лять в людей такой ужас.
Одного упоминания его было достаточно, чтобы разжался занесённый над
тобой кулак - ночью, посреди микрорайона, когда дорогу тебе преградили те, от
кого так просто, вообще говоря, не отделаешься... А вот разжался - превратился
в ладонь, которая сразу задвинулась обратно в рукав или даже карман...
Первый раз его имя произнёс не я, а кто-то стоявший рядом, может быть,
сверстник из моего дома - в доме было полтыщи квартир, и всех мальчишек я не
помнил, конечно, даже когда там жил... Может, и ангел-хранитель, которому скучно
стало таскаться за мной по пятам, - у меня была ничем не примечательная жизнь,
совсем ничего интересного... И мой душеспаситель, или тушехранитель, - неваж-
но, кто бы он ни был, - нашёл способ, как обезопасить меня, а самому пойти в
более тёплое место, скажем, в ресторан «Околица».
Не такая уже, кстати, нездравая версия, потому что наш микрорайон был доста-
точно стрёмным лабиринтом, весь состоял из углов, аппроксимировавших шар,
которого не было - куда-то закатился, зато заколотым там можно было быть везде,
что во дворе-пустыре, что за углом, что возле телефона-автомата - за то, что не
дал двушку... И я помню даже такой случай, когда прямо в подъезде... Причём
Картон был ни при чём: он отбывал срок в тот момент, когда до доминошников
снизу долетел крик: «Вы там козла забиваете, а тут человека забили!» Соседи за-
мерли на миг, а потом, побросав свои костяшки, помчались вниз и на первом
этаже споткнулись о труп с торчавшим ножичком. Кстати, никто так и не понял,
кто это кричал, неужели же сам убийца...
В общем, я не знаю, кто произнёс слово «Картон» в первый раз, потому что
взгляд мой в тот момент был прикован к одутловатому ублюдку, который набрал
уже воздух, чтобы обрушить на меня кулак с помятой «свинчаткой».
«Он сосед Картона, рядом квартиры», - сказал чей-то голос, после чего плохиш
мгновенно исчез.
И я понял, что имя обладает магической силой.
Я не злоупотреблял им, я произносил его только в крайних случаях, когда угроза
была серьёзной... Чаще всего поводом становился пришелец из другого мира -
того самого, откуда периодически появлялся и сам Картон.
Была ли тамбурная дверь Карпухиных из листового железа - или это мне теперь
только так кажется, потому что Картон большую часть жизни проводил взаперти?
Наша дверь, то есть вторая дверь - её все устанавливали сами, и она создава-
ла, помимо дополнительной безопасности, или её иллюзии, небольшой закрытый
уголок, где можно было, скажем, поставить ящик для хранения картошки. Мы назы-
вали этот закуток «тамбуром», как будто все вместе ехали куда-то на поезде.
Я помню, что наша тамбурная дверь была обита узкими деревянными планками,
которые рабочие сделали пятнистыми с помощью паяльной лампы и вскрыли ла-
ком. Сначала она выглядела экзотической, но потом такие же «леопардовые»
“Зарубежные записки" №19/2009
27
Александр МИЛЬШТЕЙН
двери появились и на некоторых других этажах, например, на шестом - а вот чем
была обита дверь квартиры напротив, я не могу вспомнить.
То ли дерматин, то ли листовое железо... Но железная дверь - это, может
быть, просто эрзац двери, который вырос в моей памяти, потому что я, когда в
очередной «раз в сто лет» видел Картона на лестничной клетке, думал, что зона
- это не где-то там в Сибири, а прямо вот здесь, стоит сделать лишний шаг по
площадке... что это просто такая оптика - что я вижу за тысячи километров, как
недавно в районе Бруклинского моста - с помощью миллиметрового световода,
пропущенного по дну океана, соединили Нью-Йорк и Лондон... С обоих концов
световод попадает в огромный телескоп, и люди видят друг друга в огромную
линзу в натуральную величину, машут друг другу руками... Но тогда ещё никто не
додумался так закорачивать места столь отдалённые, и я вспомнил вчерашний
телерепортаж, только чтобы описать ощущение, которое у меня мелькало, когда
я видел Картона на своей площадке...
Причём как раз в дверной глазок, который увеличивает расстояние, я его на
самом деле вряд ли мог лицезреть - он ведь никогда к нам в дверь не звонил.
Я встречался с ним исключительно на лестничной клетке... Вот как сейчас...
Картон нажимает красную кнопку лифта (она на нашем этаже никогда не выжига-
лась шпаной, которая таким образом тоже устраивала «дымовуху»), как на нижних,
где даже когда её снова вставляли - каждый раз почему-то меньшую, - вокруг,
на стене, оставались чёрные следы, которые никогда не закрашивали, - это была
сажа, будто в шахте лифта накануне бушевало адское пламя и сквозь эти дырочки
прорывалось наружу; я говорю «здрасьте», Картон молча кивает, створки лифта
раскрываются, он заходит, я мешкаю, Картон улыбается, и я тоже захожу в кабину.
Почему-то я думал, что на этот раз он что-нибудь скажет, - но нет, он так же
нем, как всегда.
В чём-то чёрном, и волосы как смоль, похожий на своего отца, но выше чуть
ли не на целую голову и не только не коренаст, но как-то даже слишком хорошо
сложён - не похож на угловатых уголовников, которых мне приходилось видеть и
от которых защищало меня его имечко.
Я вырос в нескольких метрах от него... Точнее - от чёрной дыры, которая бы-
ла на месте его постоянной прописки... Но и этого хватало, чтобы для меня он
был просто одним из соседей, и больше ничего, так что стоя рядом с ним в лиф-
те, я не испытывал ничего - ни страха, ни, наоборот, гордости... Блатная романтика
меня не привлекала: я был комнатным очкариком-отличи и ком, я, скажем, никогда
не матюкался, и ещё больше, чем слово из трёх букв, мне не нравились песни из
трёх аккордов, все эти тюремные цыганочки, романсы, бррр... Но неужели я сейчас
как раз и исполняю нечто подобное?!
Во всяком случае, пора закругляться; сказанного уже с лихвой хватит, чтобы
представить поток, пронёсшийся у меня в голове, когда я услышал это имя через
столько лет...
Тем более, что о человеке мне сказать-то, по сути, нечего... Я понятия не
имею, по каким статьям он был осуждён... Да вообще, я ничего не знаю о нём -
как таковом, написал, что он появлялся у нас прямо с зоны, но откуда я это взял...
Может, он и жил где-то ещё в промежутках, помимо тюрьмы и родительской квар-
тиры, а эти визиты были вот именно посещениями отчего дома... Хотя нет, я же
помню, что он таки жил у них каждый раз - что, конечно, не отменяет возможности
того, что, не будучи у них, Картон не всё время был в так называемых (почему
«так называемых», я и сам не знаю - просто так написалось, зато без кавычек)
местах лишения свободы...
28
скло
Но то, что он жил у них, а не просто заглядывал в гости, косвенно подтверждает
такой, например, эпизод: в один из своих выходов на волю Картон успел завести
домашнее животное и поселил его вот именно, что в родительской квартире.
Это была «зелёная мартышка» или, может быть, «мартышка-мона», кавычки тут
тоже не нужны, так называется вид. Отряд - приматы.
Я это существо, если и видел, то один раз, мельком, когда Таксист открывал
дверь, а я был на площадке, дожидаясь лифта... Вместе с Картоном я мартышку
не видел ни разу: как он её выводил на прогулку - на тонком поводочке, я только
слышал рассказы об этом, от какого-то мальчишки со двора, ну и от дедушки,
разумеется.
Таксист жаловался деду, что в доме у него теперь творится что-то невообрази-
мое, обезьяна перевернула дом вверх дном...
Дед пересказывал мне эти жалобы: «нэ мала баба клопоту, та й купыла порося»,
мы оба посмеивались... По-моему, я тогда впервые попросил деда сводить меня
в гости к Карпухиным - как когда-то в зоопарк, когда мы жили ненамного дальше
от него, чем теперь от их квартиры... Но дед отвечал, что это совершенно невоз-
можно.
А ещё через несколько лет за Картоном приехали милицейские машины (до
этого он всегда исчезал так же тихо, как появлялся), много, очень много машин,
и он полез через балконы... Говорят, очень быстро, как та обезьянка, перемещаясь
одновременно по оси абсцисс и оси ординат...
Но его вычислили и схватили - у милиции хватало тогда людей, вокруг нашего
дома мигали длинные цепочки бегущих огней, тянулись снизу длинные красные
телескопические руки... Ревели сирены, всё это было похоже на военные дейст-
вия, или на фильмы об освобождении заложников - опять же я не всё видел сво-
ими глазами...
Я слышал подробности от деда, которому, как всегда, рассказал Таксист, а
своими глазами я только увидел множество милицейских и пожарных машин, когда
отодвинул занавеску, ну и потом слышал ещё какое-то время вой их сирен, он
отвлекал меня от выполнения домашнего задания...
Когда через некоторое время другой сосед - с верхнего этажа - попросил
пустить его на балкон, у меня в голове мелькнула мысль, что теперь за ним приеха-
ли - как за Картоном. Дедушки дома не было, куда-то он пошёл, в магазин, но я
знал, что дед общается с этим соседом, и ничего плохого о нём я не слышал...
Так что я пустил его в дом, завёл в гостиную, он сказал «спасибо», открыл балкон,
вышел туда и моментально оказался на перилах. Приник всем телом к тонкой пе-
регородке, отделявшей нас от соседей справа... А его квартира была над нами,
он толкнулся ногой и полез вверх, за что-то там ухватился, но это не помогло, он
поехал обратно... Какое-то мгновение я видел половину тела и ноги, болтавшиеся
над поручнем нашего балкона... У меня перехватило дыхание... Но потом его
будто схватили за шкирку и мгновенно вытянули вверх, хотя там, вверху, точно
никого не было: домашние его были в отъезде, и даже соседей по оси абсцисс
не было дома - оттого он и лез к себе отвесно... И я тогда подумал, что вот так
же, наверно, схватили Картона и что ещё хорошо всё закончилось - могли ведь
и уронить при попытке к бегству.
Ну всё, пора закругляться с этими салтовскими реминисценциями, а то пошёл
уже кукольный театр, болтающиеся в воздухе ножки, «с чег-о-о начинается роди-
на...» - и всё в таком духе... «...с тра-та-та приятелей, живущих в соседнем дво-
ре...».
“Зарубежные записки" №19/2009
29
Александр МИЛЬШТЕЙН
Нет, всё же ещё один эпизод, связанный с Картоном, который важен, если мы
хотим добиться хоть какой-то объёмности...
«Объёмность» надо было бы заменить «голограммой», но это выглядело бы
слишком вычурно, самонадеянно...
Во всяком случае, в тот раз я увидел Картона чужими глазами, не замыленными
соседством, и поэтому голо-не голо... а пусть будет ещё один ракурс, непохожий
на предыдущие - как говорится, для полноты картины.
Я тогда уже учился в очень далёкой и к тому же чуть ли не подземной... Ну, то
есть подпольной физико-математической школе, переход в которую - вот ведь
чёрт... В каком-то смысле тоже был связан с Картоном... Точнее, с его отсутствием.
В тот раз Картон сидел так долго, что на районе его уже начали забывать... А
может, кроме того и ещё что-то произошло - в настоящем подземном мире, я
могу только предполагать: демифологизация, перераспределение «званий» - всё
это только мои домыслы... Но, так или иначе, когда я произнёс его имя в очередной
раз, оно не вызвало у людей, которые остановили меня возле школы, вообще
никакой реакции.
«Картон? Картон далеко, да и что с того, что Картон... Ну, передашь ему от нас
привет, если выйдет, - пожав плечами, сказал дяденька неопределённого возра-
ста, похожий на полицая из какого-то фильма, - а сейчас ты сделаешь то, что мы
тебе сказали, понятно?»
Рядом с ним стояли ещё несколько подобных типов... Они мне сказали, что я
должен вызвать к ним свою соученицу Веру «Сосульку», которую, кстати, с пятого
класса вызывали в прокуратуру, - я это помню, потому что классная руководитель-
ница тогда сотрясала воздух словами: «Дожили, Веру вызывают в районную проку-
ратуру!»...
Так что было не совсем, скажем, странно, что теперь Веру вызывает другой
орган... Дурацкий каламбур, идиотский, я понимаю... Ну, скажем, некий аналог
прокуратуры... Ну, недаром же они напомнили мне полицаев...
Все остальные люди её давно уже оставили в покое, и она молча сидела на
последней парте, предаваясь каким-то своим мыслям, воспоминаниям, если была
в школе - что случалось не часто, и в тот день она как раз уроки прогуливала, по-
чему урки, не дождавшись её, и обратились ко мне, когда я вышел из школы, с
вопросом: «Ты из какого класса?»
Я нехотя назвал свой класс... Врать не было смысла: откуда мне знать, какой
класс им нужен... Они сказали, что я-то им и нужен, отчего я похолодел и тихо, но
внятно произнёс «Учтите, что я хорошо знаю Картона, он мой сосед».
Но оказалось, что всё, его имя уже больше не работает.
«Скажешь, что ждут внизу, но так, чтоб родители не слышали». - «Я не знаю,
где она живёт». - «Зато мы знаем. Покажем. Аты нам её позовёшь. Ну всё, пошли».
«Заявишь в милицию - убьём», - эту банальность они мне сказали на прощание.
То есть вроде бы со мной лично ничего плохого не произошло... А с Верой,
наверно, произошло то же самое, что происходило и раньше, и через некоторое
время она снова сидела на задней парте, покусывая ногти или рассматривая от-
дельный волос - не выдирая его из головы, но отводя двумя пальцами в сторону...
Но мне казалось, что последние слова этих людей подтверждали, что что-то
всё-таки произошло - иначе с чего бы это «заявишь в милицию...»? Я тогда не
допускал, что это просто штампованная, обычная у них форма прощания...
Ну, может быть, кто-то из них был в розыске, портреты были расклеены на
столбах, или показывали по телевизору, я лично не видел - но мой одноклассник,
который знал, скажем, кто такой Картон, и видел, как они ко мне подошли после
школы, как они меня куда-то ведут, как на расстрел...
30
скло
На следующий день, когда увидел меня входящим в класс, вздохнул с облегче-
нием.
«Я их знаю, - сказал он. - От этих так просто не отделаешься». С такой интона-
цией, что ясно было: это какая-то другая сила, с которой мы в повседневной жиз-
ни не сталкиваемся, это что-то, от чего нужно держаться как можно дальше.
И вот, это может показаться странным, но именно после этого я решил перейти
в другую школу.
Я не могу объяснить, что уж такого ужасного со мной произошло... Просто не-
сколько минут, которые я провёл в обществе этих людей - пока мы шли к подъезду
Веры, - я был полностью в их власти. И вот это вот было впервые. Среди бела
дня, на глазах у всех меня провели на цепи - невидимой только со стороны, но
для меня очевидной... И заставили делать то, что я не хотел... Не то чтобы стать
предателем... Но что, если бы Вера после этого вообще исчезла?
К тому же я знал, что я теперь впредь не защищён ничем: имя Картона вызыва-
ет лишь усмешку, на дворе, возможно, уже другая эпоха... Надо было перевернуть
какую-то страницу жизни, и я её перевернул - плохо только, что меня подтолкнул
страх, что это был не свободный выбор, не свободное решение...
Переменить место жительства я, конечно, не мог... Но я мог перейти в другую
школу - что и сделал...
Что было отчасти смешно, конечно... Они же не учениками были, я мог столк-
нуться с ними где угодно... Но всё-таки вероятность встречи с ними таким образом
уменьшалась - ну, или мне так казалось, ну и что с того, если страх можно было
вот именно таким образом уменьшить, то почему бы и не попробовать...
К тому же я и раньше собирался перейти в физмат-школу: просто после восьмо-
го класса и я, и родители думали, что время уже упущено, в старших классах пе-
реход считался нереальным, время - упущенным... Но ничего, «лучше поздно,
чем никогда», - сказал я родителям...
То есть по сути я сбежал.
Ну - сбежал и сбежал... Вот только сбежал в самый что ни на есть уголовный
угол нашего города... Или, если уж без алл-итераций описывать открывшуюся
мне тогда впервые безальтернативность - серьёзная вещь ведь, судьбоносная...
то надо сказать, что это был «район с самой большой преступностью».
Одним словом, это была Москалёвка.
А я же не знал, что это там за район ... И в первый же день нового учебного
года, проехав на автобусе, а потом на трамвае, в общей сложности, включая то
есть ходьбу, потратив на дорогу полтора часа... я был встречен на пороге новой
школы теми же глазами из комочков свинчатки, от которых я туда бежал...
Только теперь они смотрели из другой - ещё более отвратительной - оболоч-
ки...
Но это были те же самые глаза - они теперь охотились за мной, перепрыгивая
из одного тела в другое... Кажется, тогда я и заразился этой слобожанской разно-
видностью фатализма, мол, куда ни ткнись, всюду Дикое Поле, и нам некуда боль-
ше бежать, и всё такое прочее - вплоть до травяного уже пофигизма...
То есть помимо математики нам там было преподана масса других уроков...
Дверь класса распахивалась, в неё заглядывала скалящаяся морда какого-ни-
будь Кабана, или Барана - водились в той округе и тот, и другой... И вот они вхо-
дили посреди урока в класс и говорили: «Ну что, Гастролябыч, помнишь, как ты в
меня угольником швырял?» После чего следовала мрачная сцена избиения учителя
на глазах у его учеников...
Это я всё говорю к тому, что Картон был далеко не единственным уголовником,
которого мой приятель Митя из новой школы увидел лицом к лицу. Мы с ним жи-
“Зарубежные записки" №19/2009
31
Александр МИЛЬШТЕЙН
ли в соседних домах, но познакомились, только когда оказались в этой равноуда-
лённой от нас школе, в одном классе (раньше он жил в другом городе - отец был
военным)... Ну вот, и теперь мы часто бывали в гостях друг у друга, домашние за-
дания вместе не делали, но что-то всегда обсуждали... Вот вспомнил: причиной
столь частых наших походов в гости друг к другу были учебники - в физмат-школе,
которую всё время пытались прикрыть - деятели из облоно, из обкома, - не хочу
сейчас вдаваться в их причины, в общем, наши учебники были раритетными, пе-
реходили в наследство от старших поколений к младшим, и мне просто повезло:
учебники мне достались от старшего брата какой-то родственницы. А Митя брал
их у меня, брал, отдавал, снова брал... А я забывал вынимать из учебника, скажем,
Виленкина, листки, вырванные из общей тетрадки, на которых я рисовал тёток.
Я делал это несознательно - в смысле забывал рисунки в учебнике, который
давал Мите, и когда Митя в первый раз сказал мне об этом, я покраснел.
Но в следующий раз - не сразу, а через месяц или через два, - Митя снова,
сделав над собой некоторое усилие, сказал, что из учебника выпало нечто. И да-
же спросил: я что, специально ему это подсовываю? Он сказал, что у него собрался
уже целый ворох, он не знает, отдавать их мне, или что, или куда? У него мама
врач, и он, слава богу, насмотрелся в медицинских энциклопедиях, так что вовсе
не нуждается... в моём ликбезе.
Увидев мой ошеломлённый взгляд, он сказал: «Ну потому что... Есть же предел
рассеянности. Так можно вообще...» - он не договорил, что можно вообще... А я
не переспрашивал.
У меня, конечно же, такого и в мыслях не было - специально подсовывать Ми-
те этих синюшных тёток без лиц...
Кстати, много лет спустя случайно забредя с одной знакомой в школу ваянья,
я единственный раз в жизни попробовал порисовать обнажёнку, и все были удив-
лены, рассматривая мои первые (и последние - вплоть до сегодняшнего дня)
опыты, - удивлены тому, что я умудрился достаточно подробно прорисовать черты
лица тётки на каждом наброске...
Натурщица меняла позы часто: видимо, это входило в условия задачи, постав-
ленной перед студентами в тот день, - буквально каждые две-три минуты, и в
итоге я уходил оттуда с целым ворохом листов, на каждом из которых женщина
была изображена с лицом, - за исключением, разве что, тех редких случаев, ког-
да она его отворачивала...
Она была не совсем молодой, но очень ещё гибкой женщиной, а некоторые
из её поз были, по сути, асанами - «полупоза царя рыб» и что-то в таком духе...
А на моих пубертатных рисунках всё было наоборот: все проекции тёток были
без лиц, при том, что они не всегда были такими минималистскими, как, скажем,
«Неприличные мысли» Трэйси Эмин, и рисовал я их ровно столько - по времени,
сколько - через десять лет - живую натурщицу...
Просто все две минуты уходили на прорисовывание других частей тела...
А лицо вообще ведь частью тела не является, недаром никто, кроме меня, -
из рисовавших натуру - лиц не рисовал, вот их рисунки и напомнили мне наброски,
предательски выпадавшие когда-то из учебников, только формат у листов в худо-
жественном институте был, конечно, побольше...
Я не мог поверить Мите: мне казалось, что если даже я машинально нарисовал
очередную тётку, - я мог думать в тот момент о доказательстве какой-то теоремы...
Я всё равно - каждый раз уничтожал листок, это было просто поразительно - как
они могли снова выплыть наружу, как будто они там саморазмножаются...
Когда Митя сказал мне об этом третий раз, я сердито ответил: «Ты врёшь!
Этого не может быть», - он молча пожал плечами, а когда я дома открыл учебник
32
скло
и осторожно, чтобы он совсем уже не распался, потряс над столом, из него выпал
очередной, как говорят на других языках, «акт».
Но не думаю, что это как-то омрачило нашу дружбу: Митя очень хорошо рисовал
ручкой комиксы, и я уверен, что, кроме того, он рисовал и не менее неприличные
рисунки, чем я, - просто, не страдая преждевременным склерозом, не давал
своим чертежам будущего гулять за пределами своей жилплощади...
Я вспомнил об этом, наверно, потому, что эксцесс, свидетелями которого мы
с Митей стали в моём подъезде, был одновременно либидозным, как мои «акты»,
и гротескным, как Митины, нарисованные той же синей ампулкой, комиксы, -
только тут вместо кадров были этажи, лифт не работал и мы шли пешком... Пока
на одном не увидели странное существо... в котором даже я не сразу опознал
Картона.
То есть Митя его вообще не знал, он видел его в тот момент в первый и по-
следний раз в своей жизни, но я тоже, признаюсь, сначала подумал, что это кто-
то к нам залетел из Золотой Орды, или Соловей из экранизации сказки - рухнул
с дуба... Но точно не помню, что я тогда успел подумать, - пока через секунду не
понял, что это Картон.
Он рвался в квартиру девушек, которые жили на четвёртом этаже и, вроде бы,
были кузинами, ци вроды2... работали в универмаге, статные, крепкие, в высоких
сапогах, с длинными волосами и ярко крашенными лицами... Они его не пускали,
Картон ломал дверь, на груди и на животе у него были красные полосы, оставлен-
ные когтями оборонявшихся тигриц, - впрочем, может быть, в ход перед этим
шли и столовые приборы, и кипящее масло - и кровь капала на пол, но Картон
уже не обращал на это внимания... Он был голый наполовину - под распахнутым
тулупчиком, а так в каких-то всё-таки штанишках... Огромные чёрные глаза его
были совершенно безумны, а из горла доносился рёв... который я слышал лишь
однажды - когда сумасшедшего по ошибке доставили не в пятнадцатую, а в чет-
вёртую «неотложку», где я лежал в тот момент... И когда он вышел в коридор, вы-
нув откуда-то - спрятал под одежду, не проверили, ну, я не знаю, как он его про-
нёс, но это был самый что ни на есть - ТОПОР... в коридоре неотложки подул
ураганный ветер, которым стало сдувать всех: ходячих, лежачих, пациентов, вра-
чей, - как сейчас помню эту толпу, как будто вырывавшуюся изо рта двухметрового
детины, пока не подоспели санитары другой больницы.
Но хватит уже этой... топорной поножовщины, подножной литературщины... Я
хотел только сказать, что вот так же примерно ревел Картон, только - вертикально,
и Митю сдуло по лестнице - вниз...
Увидев нас, Картон было шатнулся, оскалившись, но в последний момент всё
же узнал меня и махнул рукой, брызгая кровью: мол, проходите...
Не работал лифт, поэтому мы шли пешком и увидели на четвёртом этаже... как
Картон собирался с новыми силами, чтобы проломить дверь, он пытался разогнать-
ся - поэтому и появился справа от нас... Сёстры жили в двухкомнатной квартире,
их дверь была сбоку, а не в торце, так что как следует разогнаться Картону было
трудно...
Митя весь побелел, быстро сказал «я пошёл», но пошёл - это не то слово...
Его сдуло, и больше в мой подъезд он не зашёл ни разу в жизни. То есть все два
- или полтора года, сколько нам ещё предстояло проучиться в школе, я иногда
звал Митю в гости, успевая забыть, с чем ассоциируется у него мой дом...
2 Эти красавицы (укр.).
“Зарубежные записки" №19/2009
33
------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН ----------------------------
Он всегда отвечал «нет уж, лучше вы к нам»... Он не пришёл даже на мой день
рожденья.
При том, что Митя был мальчиком совсем не робкого десятка...
Чему свидетельством хотя бы то, что после окончания школы он поступил в
военное училище, стал кадровым офицером... И потом, или точнее, раньше -
была ещё сцена «из жизни Москалёвки», в которой Митя показал себя молодцом...
Но если всё-таки попытаться восстановить то мгновение на основании несколь-
ких слов, которые Митя впоследствии проговорил, выглядело для него всё это
примерно так...
Мите показалось, что рёв Картона вызвал лавину, и уже сыплются с крыши
гудрон и чернозём, а из стен выпадают куски бетона (это не красные словца и не
«названия картин»... стены подъезда на первом этаже были дырявыми, из них
выпали целые фрагменты, сквозь провалы виднелись ржавые баки, в которые па-
дал мусор, пролетая по трубе... Хотя вряд ли, я думаю, баки были видны в тот мо-
мент: было поздно, а света на первом почти никогда не было - он падал сверху,
как и мусор, и долетал до дна совсем тусклый ... Провалы же в стенах на первом
этаже образовались, конечно, не от рёва Картона - они появились раньше, но
Мите могло показаться - что распадается вся железобетонная реальность, потому
что он, хоть и бывал у меня в гостях, мог этого не замечать - повторяю, подъезд,
по его словам, предстал перед ним в тот момент в другом свете... И эти стены
бело-зелёные, которые мы вроде бы знали как облупленные... Краска с них давно
уже большей частью посыпалась, но сквозных пробоин выше не было, как на
первом, однако было ощущение, что всё сейчас посыплется), и завалит вход, и
мы окажемся замурованными вместе с Картоном. Вот из такой перспективы Митя
и поспешил выбежать наружу (и мы, и мы тоже сейчас же за ним последуем, чи-
татель) и больше в мой подъезд не заходил никогда. Все мои уверения, что Кар-
тон мотает очередной срок в тысячах километров от нас, Митю не убеждали. Тут
можно было бы напомнить читателю предыдущие геометрические измышления
о скайлайне жилого массива, аппроксимирущего несуществующую окружность, о
наложении внутренних многоугольников на... Да, может быть, всё это надо было
бы немножко ещё уточнить на бумаге... Но вроде и так уже ясно. Скажу ещё только,
что мне понять эту явную неадекватность - Митину - помогала моя собственная...
Достаточно сказать, что я перевёлся в физмат-школу вовсе не из любви к матема-
тике - как я объяснил свой порыв родителям... Но я ведь и об этом уже, кажется,
успел порассказать... Всё, тут на самом деле заканчивается затянувшаяся... ретро-
ретроспектива... И, соответственно, несуществующая временная форма - прош-
лое в прошлом, вот именно так, без кавычек.
4. Кодекс парашютиста
В квартиру-ловушку мы заглянули ещё только раз и никаких следов Картона,
да и вообще людей, в ней не обнаружили. Игорь Антонович проверял какие-то
ниточки, или даже волоски - и был разочарован.
Всё же он решил ещё проверить всё в комнатах, так сказать, на макроуровне,
а я тем временем, как бы от нечего делать, созерцал балкон, который выглядел
так, что на него вовсе не хотелось ступать ногой, а тем более двумя. И дело не в
том, что он был грязный и заставленный табуретками разной величины, необстру-
ганными досками и лыжами, ёлочными крестами, шестернями и кастрюлями, пол-
ными помоев, - всё это были мелочи... По сравнению с тем, что балкон в любую
секунду мог рухнуть.
Может быть, так казалось из-за стёкол, которые на него навесили, - то ли ра-
мы так рассохлись, то ли это был изначально неудачный проект, только теперь
34
скло
эти ветряные стёкла висели за балконом, на некотором расстоянии, как бы в воз-
духе, и при этом они были сильно наклонены влево относительно вертикальной
оси...
Все они были треснутыми, из некоторых уже выпали куски, так что вид был
довольно-таки зловещий: по газонам не ходить, век свободы не видать, в трюмо
тюрьмы - не смотреть, - бормотал я свой отворот...
Осторожно ступив всё же на балкон, я, то есть, подумал: какой знак я могу
оставить Картону?
Там ещё стояли на табуретках трёхлитровые банки, сверху накрытые розовыми
перчатками...
Разве что поставить одну табуретку на другую, - подумал я, - так, чтобы снизу
видна была красная пятерня...
Можно было бы сделать, если бы все они не лопнули... Я снял одну перчатку с
банки, с плохо осознаваемой целью - прилепить, что ли, к стеклу... Где-то в та-
ких местах обязательно должен быть засохший тюбик с «моментом»... Хотя ветер
сорвёт всё равно, вместе со стеклом, или следователь первый заметит... Да он
уже заметил, что я снял перчатку, и нервно подошёл к балконной двери.
- Давайте попробуем наливочку, - сказал я.
Он покрутил пальцем у виска.
«Ладно, Картон - не Плейшнер, и всё равно не предупреждён, - подумал я, -
да и профессор не усмотрел, не заметил... Сбросить, что ли, цветок... Пока двор-
ник уберёт... Да нет, кто знает, когда он появится, а горшок ещё прибьёт кого-
нибудь, с моим счастьем...»
- Шутка, - сказал я, - там всё уже давно испарилось.
И в самом деле, наливки успели превратиться даже не в уксус, а чёрт знает во
что, грязноватый налёт на стекле, потому четыре пятерни, голосовавшие когда-
то «за», безвольно опали, скомкались...
Больше Игорь Антонович не уделял балкону внимания; он не только на него
не выходил, но вообще не смотрел в ту сторону, как будто и не было там за ок-
ном никакого балкона, а за ним - ещё одного, висящего в воздухе - окна...
Зато он и в этот раз отворачивал матрас, шарил в деревянных развалинах, ко-
торые язык не поворачивался назвать мебелью, - не забираясь, впрочем, в их
глубины, нервно ходил на кухню, возвращался и молча разглядывал корешки книг
в перекошенном шкафу.
Книг было довольно-таки много, в основном классика в серых, коричневых
обложках... Но что шкаф был перекошенный, я теперь уже не уверен: может быть,
просто книги там так стояли, наклонившись, а то, что я перед этим довольно дол-
го созерцал висящие за балконом наклонные стёкла... создавало такой странный
поворот мысли, которую и мыслью-то трудно было бы назвать... Скорее, объектив-
но там что-то было.... инфлексия такая... И оттого ощущение, что находишься...
не в комнате кривых зеркал - как обычно... А внутри калейдоскопа, как бы это ни
было пошло ... Причём тут я вспомнил и другую квартиру - похожую на эту степенью
трущёбности... Она была не в панельном доме, но в каком-то смысле... и «панель-
ном», там то есть можно было снять квартиру почасово... Но я снял на несколько
дней - на сколько хватило неожиданной премии... «Меблированные комнаты» -
так литературно это называлось в объявлении... Мелированные волосы, меблг..
Мело, мело... Но всё это явно не из той повести, this is not a love song... Я только
вспомнил - стоя совсем в другой квартире и глядя на похожую - если мне только
память не изменяла, кровать... что тахта там распадалась каждый раз на части, и
потом я их сколачивал заново, кулаком, непрочно... Я шарил там в поисках молотка,
но не находил его нигде - там вообще ничего не было, никаких инструментов,
посуды... но при этом в одной из тумбочек без лицевой крышки выдвижного ящич-
“Зарубежные записки" №19/2009
35
------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН ------------------------------
ка я нашёл оптический... Язык почему-то не поворачивается повторить это слово,
слишком оно заезженное, да... Не манометр, нет, который можно положить на
живот подруги, чтобы узнать... Но калейдоскоп... Который можно разве что засу-
нуть в неё... Но мы не дошли до таких извращений - времени было мало, да и
темно бы там было... для освещения витража - это же только кажется, что вульва,
распаляясь, светится пурпурным светом...
И вот, стоя посреди хлама другой квартиры - где ждали Картона и где была
странная инфлексия, - круговорот стекла в природе... сделался здесь отчего-то
зримым... Почему я и подумал, что это логово находилось внутри... Нет, не влагали-
ща, а вот именно - калейдоскопа, и поэтому так наклонены все стёкла... что они
медленно вращаются - очень медленно, так что движение их для простых смерт-
ных незаметно...
Я закрыл глаза и вспомнил, как я лежал в той, другой квартире, в изнеможении,
в абсолютном нигде, потому что даже номера той квартиры не было на табличке,
висевшей над входом в подъезд...
А та, из-за которой я снял это нежильё, упорхнула на работу, и вот я лежу пол-
часа, битый час, поворачивая калейдоскоп, и вместе с его цветными поворачива-
ются битые стёкла, нависшие на балконе, и все эти банки, и склянки, и стёкла
книжного шкафа, и кружочки пенсне... И вдруг я слышу звон разбитого стекла -
это балконные стёкла совершают наконец свой оборот...
Может быть, я даже уснул на одно мгновенье, уже в машине...
«Пойдём», - сказал Игорь Антонович, и мы с ним спустились на лифте, в очеред-
ной раз сели в жигуль и медленно поехали по узким серым улицам, похожим на
систему пересохших каналов.
Паузы были - мы что-то жевали.
Всухомятку, потому что Игорь Антонович на рабочем месте не мог пить пиво,
которое лилось, продавалось то есть, на разлив в одной из щелей катакомбного
«торгового центра», расположенного в сердцевине микрорайона, как будто это
была его модель, несколько уменьшенная и уплотнённая: микро-микро-район...
О чём я думал все эти три часа, глядя на бетон, который был как-то удивительно
сер, даже по сравнению с моим районом... я уже, конечно, не вспомню...
Но вполне вероятно, что я как раз и думал о том, почему мой район не такой
серый, - не только благодаря деревьям...
Я мог, например, вспомнить, что мой дед десятилетиями писал письма во все
инстанции, вплоть до ЦК КПСС.
Нет, он не просил покрасить наш микрорайон в более жизнерадостные тона,
чтобы жить стало веселее... но так получилось.
Хотя дед писал конкретно о воде. Потому что, с одной стороны, к нам не по-
ступала горячая вода - из-за того, что подавалась под слишком слабым напором,
и на первых этажах поэтому была всегда (за исключением тех периодов, далеко
не только летних, когда её выключали во всём Салтовском жилмассиве или даже
в целом Харькове - чтобы уже никому не обидно), а к нам не поднималась почти
никогда.
С другой стороны, в сезоны дождей нас не то чтобы заливало, как соседей с
последнего этажа, которые жили над нами... К нам в квартиру вода просачивалась
не сверху, а сквозь фасад здания, рисовала на стенах комнат, в углах этакие тём-
ные акварели... Необходимо было «заделать стыки» - об этом дед мой и писал во
все инстанции, пока лет через двадцать откуда-то не прислали машину, люльки,
рабочих, и они покрасили стыки зелёнкой, как бы подчеркнув этим блочную кон-
струкцию дома - он теперь стал «в клеточку», но, в общем, оставался тогда ещё
таким же, как был, пасмурно-серым... Протекать дом от этой зелёной сетки (кажет -
36
скло
ся, так ещё лечили тогда от простуд, или ещё от чего-то, был такой метод - толь-
ко йодом, рисовали сетку на спине) стал немного меньше, вот только я не помню,
застал ли эту радость мой дед, был ли он тогда ещё жив.
А потом наш дом покрасили зелёной краской уже весь... Кроме, разумеется,
окон.
И вот эту монументальную живопись мой дед уже не увидел...
Какое-то время он был один такой, наш дом, а потом его примеру последовали
некоторые другие... А если учесть, что там у нас - в микрорайоне - много было
посажено живой зелени, в смысле флоры, изначально, можно согласиться, что,
несмотря на общий план застройки, архитектуру - если это можно назвать архитек-
турой... микрорайон, по которому три дня подряд елозила машина Игоря Антонови-
ча, и мой родной микрорайон - две совершенно разных конкретики... После че-
го уместно было бы мне вспомнить, что слово «бетон» по-английски - это «concre-
te», что я, кажется, и сделал, причём вслух, потому что Игорь Антонович спросил
меня:
- Скажи... А как ты думаешь, нормальный человек может во взрослом возрасте
выучить английский?
- Конечно, - сказал я, - например, N (и я назвал фамилию одного известного
в городе общественного деятеля) выучил на курсах, говорит свободно, читает в
оригинале.
- Нет, ну я же сказал: нормальный человек, - скривился Игорь Антонович, -
ладно, это я так, абстрактно...
Через несколько дней я сидел в кафетерии общежития инженерно-экономиче-
ского института со своим бывшим коллегой и рассказывал об отработке в милиции,
которая, по моим словам, была похожа на чистое безумие... Я показывал рукой в
воздухе круги, которые мы со следователем наматывали в вязкой необитаемой
среде... Пока Аркадий сардонически не подытожил мой отчёт словами: «Что наша
жизнь... как не бетономешалка».
Аркадий к тому моменту давно уже был корреспондентом местной газеты, точ-
нее нескольких газет.
Он, по-моему, родился литератором и, работая в институте, писал романы,
стихотворения в прозе и т. д. Что-то издавалось в гомеопатических дозах, в перио-
дике...
Разговаривая с ним в кафетерии «Инжэка», я напомнил ему и такой эпизод:
мы пошли с ним во время перерыва в необитаемый скверик на Клочковской...
Наверное это всё-таки было после работы, потому что Арканоид купил бутылку
портвейна, ну да, и я ещё подумал: не собственное ли это его признание, что
без поллитры...
Он на самом деле писал - по крайней мере, тогда - довольно «интенсивную»,
как теперь говорят, литру...
А пили мы без закуски, зато с культурной, значит, программой: Арканоид взял
с собой рулон с распечаткой, с одной стороны которой был его код на коболе, а
на другой - кусок его же нетленки... Потихоньку отматывая сей свиток, он читал
мне своё оповидання3 вслух...
Бутылка была уже пуста, когда из-под земли возник милиционер.
Маленький, тщедушный, с длинным нездоровым лицом, без фуражки... К тому
же он казался сильно пьяным, хотя от него и не пахло... Он сел рядом с нами на
3 Рассказ (укр.).
“Зарубежные записки" №19/2009
37
------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН -----------------------------
скамью, приподнял с земли пустую бутылку, предъявил её нам, поставил обратно
и стал интенсивно шевелить двумя пальцами.
- В чём дело? - сказал Аркадий.
- Нехорошо, - сказал милиционер, - распиваете спиртное в общественном
месте.
- Это не наша бутылка! - сказал Аркадий, - она стояла здесь, когда мы сели.
А сели мы здесь, чтобы поработать. Вы что, не видите, что мы работаем? - и он
показал милиционеру рулон, который успел свернуться таким образом, что там
теперь действительно было видно только: «IDENTIFICATION DIVISION... DATA DIVISI-
ON... ADD A_FIRST TO B_LAST... MOVE TRAKT TO AT...»
- Я слышал, - сказал милиционер, - что вы не это читали. Это что, ребятки, и
есть ваша работа?
- Да, это наша работа!
- А вы позволите? - сказал милиционер, протягивая руку к распечатке.
Я помню, что Аркадий, поколебавшись, дал ему рулон и с интересом стал сле-
дить, как милицанер читает, перематывая, его повесть...
«А вот тут у вас, ребяты, порнография», - сказал милиционер, ткнув в распечат-
ку пальцем... После чего вернул рулон Аркадию, стыдливо отвернулся и двумя
пальцами - большим и указательным - стал повторять для особо тупых, или глухо-
немых: «гроши, гроши...».
Впрочем, не совсем бесшумно: слышался шорох от трения пальцев.
Но мы делали вид, что не слышим и вообще не понимаем, о чём речь...
И пошелестев так ми нуту-другую, милиционер сказал «ну что за люди», вздохнул
обречённо, махнул рукой и... исчез, да-да - как бледно-голубой мотылёк, присев-
ший на скамейку, растворился в весеннем воздухе...
Вот об этом эпизоде я теперь напомнил Аркадию, чтобы добавить:
- До вчерашнего дня это был единственный в моей жизни контакт с милицией.
- Ангел, - кивнул Аркадий и молча закурил папироску.
Перед этим я рассказал ему, на какой отработке побывал, и Аркадий не то
чтобы возмутился... Но сильно, скажем так, стал недоумевать: как я мог?!
Сначала я подумал, что он шутит, но вскоре понял, что Дебаркадер, странным
образом, серьёзен как никогда... А потом он стал нести какую-то полную пургу: я,
мол, предпочёл честному, хоть и малоприятному, физическому труду взаимодейст-
вие с карательными органами...
В очень герметичном подвале общежития «Инжэка», где мы сидели в тот мо-
мент в маленьком кафетерии, повеяло вдруг ветром с Архипелага... Я не преувели-
чиваю, куда: Аркадий в какой-то момент стал буквально цитировать... Он напомнил
мне, что в городе, где мы с ним проживаем, работал тот самый начальник местного
ЧК, который спускал с живых людей кожу и ещё много чего вытворял...
- Какое отношение имеет Саенко - или там... К сегодняшней милиции? - ска-
зал я.
- Прямое, - сказал Аркадий, - ты что, маленький мальчик? Ну скажи спасибо,
что на себе не испытал, но ты же не мог не слышать, что представляет собой эта
милиция... То же гестапо, в чистом виде.
- Погоди-погоди, только что это было ЧК?
- А какая разница? Что там перчатки, а там - абажуры?
- Нет-нет, ты погоди... Уж давай остановимся на чём-то одном. И тогда я тебе
скажу... Что, во-первых, как нас в школе учили, белые были тоже звери, господа
звёзды на груди вырезали, не забыл? И вообще, если так рассуждать, тогда все
имеют к этому отношение без исключения, кто здесь продолжает после этого
жить как ни в чём не бывало... А некоторые ещё и писать стихи.
38
скло
- При чём тут Адорно...
- А при чём тут гестапо? Тебе не кажется, что это перебор? Не в том смысле,
что что-то лучше, что-то хуже...
- Ты прав, наверно... Но если бы ты знал то, что я знаю... Я бы посмотрел на
тебя тогда.
После этого я посмотрел на Аркадия, который знал то, что я не знаю... В быт-
ность его в НИИ борода была короткой, но за время его свободного журнализма
отросла так, что он едва не превратился в двойника человека, которого я встречаю
в городе с раннего детства: очки с сильным увеличением, соответственно огром-
ные глаза, жухлая львиная грива... Я называю его тайным архивариусом, хотя я
понятия не имею, кто это такой...
И ещё два слова о его переходе... Аркадий вообще-то ушёл из института в ни-
куда, в пропасть - не на радио и не в газету, а вот именно писать опус-магнум...
Мы виделись с ним нечасто, он полгода жил уже на вольных хлебах, то есть бук-
вально: стреляя при случае у знакомых 20 коп. на батон, а на дворе было что-то
вроде перестройки, и вот я помню, что когда я заглянул к нему, он, покосившись,
заметил, что в сумке у меня лежит свежая газета. Кажется, это были «Московские
новости». Он спросил, поморщившись, как будто у меня там лежал кусок тухлой
колбасы, - как можно читать газеты? Таким тоном, которым Сван говорил: «...я бы
ещё понял, если бы там ежедневно публиковали мысли Паскаля...» - или Цветаева
с её «...жеватели мастик, читатели газет...» - таким, то есть, примерно тоном... Я
пожал плечами и сказал: можно, мне интересно. «Не понимаю», - сказал Аркадий,
и... я чуть было не начал оправдываться.
А потом мы как-то шли с ним по городу и встретили на Сумской моего приятеля
Кирилла, который уже к тому времени стал «очень важным человеком». Да нет,
почему - без кавычек.
Он взял координаты Аркадия и устроил его на какой-то новый канал местного
радио, чтобы старик не голодал по крайней мере.
Тогда они только начали появляться, лицензии, каналы, всё делалось с нуля, и
Аркадия взяли этакой «радионяней» к новому дитяти, чтобы он сделал новостную
программу.
Я посочувствовал, когда узнал об этом, подумав: какая всё-таки ирония: aus-
gerechnet4 Аркадий, который не может видеть газет...
Но когда я через месяц зашёл к нему в гости, Аркадий ни о чём, кроме ново-
стей, просто не мог говорить. То есть все мои попытки «переключить канал» - я
пытался завести разговор о его прозе, или о своей прозе - которую я ведь и на-
чал писать с его лёгкой руки, вообще - о чём-то помимо текучки... Но безуспешно!
Всё это вызывало у него только короткий смешок, он отмахивался и снова, как за-
ведённый, начинал вещать о выборах, о заседании у губернатора, о новых законах
кооперации и т. п.
И я, собственно, вовсе не затем это припомнил, чтобы подмигнуть читателю:
мол, где наша мудрость, которую мы поменяли на знания, где наши знания, которые
мы поменяли на информацию... Нет-нет, я всё это вспомнил только из-за того,
что с Аркадием метаморфоза произошла как-то слишком уж быстро... Не по-чело-
вечески. Вот как тумблер щёлкнул - и передо мной предстал совершенно новый
Аркадий, постиндустриальный, информационный, - какой угодно, но только не
прежний Арканоид, который писал в тетрадочку в клеточку свои эпифании и от
вида газеты морщился так, что она сразу же тоже начинала морщиться - газета-
газета...
4 Вот как раз, вот именно (нем).
“Зарубежные записки" №19/2009
39
-------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН -----------------------------
Стало быть, борода у него была всегда табачного цвета, но почему-то цигарки
без фильтра только теперь казались мне подожжёнными и выдернутыми клочьями
всё той же бороды...
Точно также, как и кофе «по-турецки», который бармен варил прямо за стойкой
и который во рту производил впечатление густой песчаной взвеси... возможно,
и был тем самым песком, в котором елозили железные турки - как напёрстки на-
пёрсточника, при этом я ни разу не видел, как бармен насыпает в них кофе, - за-
то мне казалось, что я заметил, как он набирает в них песок, как совочком в пе-
сочнице, быстро так, раз-раз...
Впрочем, в подвальчике было темно, в этом было всё дело... Хотя никакой это
был и не подвальчик, если уж вспоминать подробно, - кафе располагалось на
первом этаже общежития, и я теперь уже не знаю, почему там было так темно: то
ли окон вообще не было, то ли их чем-то наглухо заколотили для создания атмо-
сферы, характерной для харьковских кофеен... Полумрак был такой же непрелож-
ной их составляющей, как кофе «по-турецки» и жареный арахис в лёгких пластмас-
совые вазочках, к концу беседы обычно полностью заполненных шелухой...
В одном подвале на Пушкинском въезде - там на самом деле был подвал-как-
подвал, винтовая лесенка сразу вела резко вниз ... Так вот, мало того, что все
гранёные стаканы там были выкрашены снизу синей краской, - так ещё и чайные
ложечки были все продырявлены... Зачем? А чтоб не украли - вам же не нужна
дырявая ложка... Причём это было не их ноу-хау, я не помню, у кого - у Довлатова?
не помню точно, у кого - описаны такие же ложечки с дырочками и то, как иностра-
нец, приехавший в Союз, ничему особо не удивлялся, пока не увидел эти ложечки...
Вот они его просто-таки ввергли в ступор. После чего он быстро собрал чемодан
и уехал, сказав напоследок что-то вроде того, что «в стране, где специально де-
лают дырки в ложках, может произойти всё что угодно»...
- Ладно, я тебе объясню, в чём дело, - вздохнул Аркадий, - чтобы ты не ду-
мал, что я сумасшедший. Знаешь это новое словечко - демшиза?
- Нет, не знаю. Но ты можешь мне ничего не объяснять, - сказал я, подумав
про себя, что «тайный архивариус» - которого я встречаю в городе с детства, в
свою очередь похож на старика, изображённого на некоторых конвертах Jethro
Tull... Хотя у того нет очков, но это неважно, образ тот же... Плюс стёкла с огромным
плюсом, плюс как бы это сказать... глазное давление, но направленное вовне, -
а это уже делает обоих, или сколько их там теперь, похожими на самого Яна Ан-
дерсона...
- Нет уж, послушай, - сказал Аркадий. - А то ты думаешь, что это у меня такой
антименталитет, - как тебе, кстати, такой неологизм?
- Никак, - пожал я плечами, - не люблю сам корень.
- Ах, ты не любишь... А «мусор» для тебя лучше?
- Я не знаю, мне всё равно, по правде говоря.
- Да? Какие мы... Ну так вот: некоторое время назад я попытался провести
журналистское расследование. В редакцию сообщили, что на мусорке - одной
из самых больших в городе... на свалке то есть, найдены три трупа с целлофано-
выми кульками на головах.
- Какой-то ужас... И что, все с кульками?
- Да, представь себе.
- Что ж там за клей такой был у них...
- Клей? Люди видели, что их накануне забирали в милицию. А там, да будет
тебе известно, широко практикуется в числе прочих и такой метод... допроса с
пристрастием. То есть, может, и не специально - их убивали, может быть, просто
сердце не выдержало.
40
скло
- Сразу у троих? Нет, так не бывает. Разве что там был какой-то практикант...
- Не смешно.
- Ты уверен, что их задушили именно в милиции?
- Теперь да. Уверен. И я тебе скажу, почему. Как только я начал наводить
справки, нам позвонили из управления МВД и сказали моему шефу, что у них
есть достоверная информация. О том, что у нас кто-то - цитирую дословно: «чири-
кает». И этот кто-то, как ты понимаешь, - я. Шеф запретил мне заниматься этим
«материалом». Всё, больше я не хочу сейчас ни слова говорить, я рассказал это
тебе только для того, чтобы ты не думал, что я псих.
- А кто не псих... А кто были эти люди?
- Никто. Бомжи. Может, чего-то видели лишнего, или услышали случайно - я
не знаю. Просто теперь ты понимаешь, почему меня так колотит... Скажем так:
удивил меня твой юмористический рассказ об отработке, Витя.
- Да почему же юмористический...
- ...знаешь, я даже готов допустить - абстрактно, - что они нужны.
- Кто?
- Менты. Что кто-то, в принципе, ну, должен, ловить этих воришек, бытовых и
бескорыстных убийц...
- А корыстных?
- Тех всё равно никто не ловит... Но просто всё это меркнет по сравнению с
трупами ни в чём не повинных людей... С целлофановыми кульками... Времена
не меняются - всё только на поверхности, понимаешь?
- Гулаг-архипелаг, яволь... Ну, не знаю. По крайней мере, кожу с людей не
спускают. А наоборот, как видишь, надевают на них ещё одну, прозрачную... Отчего
они, правда, задыхаются... Исход то есть один, но разница всё же есть, согласись.
Таким образом, прогресс налицо... целлофан, полиэтилен, эпителии, этил...
- Остановись! И я тебе поведаю... ещё кое-что. Но сначала скажи: когда тебя
туда посылали, ты пробовал найти отмазку? У тебя что, не было вот этих мыслей
- что ты будешь пожимать руки и работать бок о бок с садистами и убийцами?
- Ты меня уже спрашивал. Если честно, то нет. Вот если бы всё это произошло
в обратной последовательности: сначала разговор с тобой, а потом направление
на отработку... Тогда наверняка. Так что можешь считать, что одному человеку
ты... прожёг глаголом целлофан.
- Целку. В мозгу.
- Ну, это грубо, ты же у нас представитель изящной словесности... А что шеф
запретил тебе писать об этом... Так я ему за это благодарен. Потому что иначе
там мог бы появиться четвёртый труп, мне бы это было тяжело перенести...
- Они решили пойти другим путём... Я провёл сутки в камере... хранения,
блядь, у меня даже очки забрали.
- Ты был в камере?!
- Да. Меня объявили подозреваемым в том самом преступлении, в котором я
пытался обвинить их...
- Пытался обвинить, тоже мне дон... бросился не на мельницу, а на мясорубку...
Но на каком основании они тебя...
- А вот именно изящной словесности... Которая, по правде говоря, была не
такой уж изящной... Но и не такой, согласись, чтобы за неё сажать в камеру...
- Аркадий, раз уж начал - говори, к чему эти загадки...
- Да всё очень просто... У меня был когда-то такой этюд из цикла «Тайная
жизнь клавесина», опубликованного в альманахе «Пятихатки», там описывалось
как бы бытовое убийство с помощью кулька... А в милиции нашёлся какой-то читаю-
щий чин, даже пишущий - стихи, публикует он их под псевдонимом... Который
это вспомнил и попробовал пришить к делу, понимаешь?
‘Зарубежные записки" №19/2009
41
-------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН -----------------------------
- Против тебя возбуждено дело?
- Нет, потому что, отсидев в камере сутки и выслушав их - пусть и бредовое,
но им-то можно бредить наяву, не правда ли... Выслушав их инверсию моего об-
винения, я пообещал им впредь никогда больше не «чирикать» - после чего
меня выпустили... Как щегла, блядь, весной, у меня жили в детстве щеглы, и весной
я сам их из клетки выпускал...
- М-да. Нам не дано предугадать... Чем наше слово обернётся...
- Скажи ещё, что не воробей... А вообще - не надо больше банальностей.
Хватит, наслушался... Чин, кстати, передал мне записку - через своего подчинён-
ного. Где была цитата, выписанная им из Гёте: «У людей, которые не пишут, есть
одно преимущество: они себя не компрометируют». Каково?
- Ну что, вполне мефистофельское чувство юмора... Надо его стихи почитать?
- Нет, не надо.
- Ясно. Осталось только ещё, чтобы это был тот же самый твой рассказ, который
ты мне читал в скверике... Чтобы понять, что менты - это на самом деле такие
фотороботы, точнее, роботы с фотоэлементами, раз увидел - и всё, фотографиче-
ская память...
- Да нет, генерал сам прочёл, сам вспомнил, говорю тебе: он поэт, так что
интересуется не по роду деятельности... Нет, я помню, что тогда тебе не это чи-
тал, распечатав, но альманах я тебе дарил потом, подписывал, так что если поко-
паешься в своих завалах, найдёшь5.
- Если меня снова отправят на эту отработку, - сказал я, - я расспрошу следо-
вателя поподробнее...
- О чём?! Спросишь его, не душит ли он людей, надев кулёк им на голову?
- Да нет, это тебя заботят кульки... Прости, но такое впечатление, что ты че-
рез них лучше чувствуешь эту реальность... Ну, как фетишисты сквозь латекс -
чужое тело... То, что в милиции убивают, ты ведь и так знал, как все, я думаю, -
но вот именно эти кульки почему-то...
- Ты не прав - просто это попало непосредственно ко мне, так получилось...
Ну всё, хватит об этом, пойдём.
Мы расплатились за два «маленьких двойных» и за арахис, Аркадий подхватил
свою журналистскую сумку-через-плечо, и мы прошли сквозь очень узкий кафель-
ный коридор-предбанник, в конце которого попали под холодный душ. Аркадий
открыл зонтик, пожал мне руку и пошёл в какую-то редакцию, а я в другую сторону
мимо длинного дома - который, по словам того же Аркадия, накануне сгорел, -
бормоча про себя: «...что я - не смерть и ноль в сравненьи с ней... я б разузнал,
чем держится без клея...тра-та-та повесть на обрывках дней...» - я то есть это
бормотал на ходу, не дом...
Сгоревший дом был одним из длинных чёрных домов, что стоят недалеко от
Госпрома, построенные, что ли, для персонала. Ну, не весь сгорел - изнутри, а
фасад остался.
5 Я и в самом деле впоследствии нашёл истрёпанный альманах, так что переношу сюда текст це-
ликом: из цикла «Тайная жизнь клавесина», рассказ «Варя», автор Аркадий Карпенко.
«Где он грязный?- громко сказала жена и выхватила у Большакова кулёк, - покажи мне, где
он грязный?» Большаков промолчал. На кульке там и сям были чёрные точки - в нём раньше ле-
жали овощи. Варя швырнула кулёк в Большакова через кухонный стол, но тот не долетел: прежде,
чем упасть, повисел в воздухе медузой. При этом в нём мелькнул жёлтый отсвет, и Большаков
вспомнил, как они познакомились: поздним осенним вечером в скверике возле Вечного огня. Ва-
ря боялась подходить близко к пламени, хотя она дрожала от холода.
42
скло
Перед каждым подъездом стояло теперь нехитрое добро погорельцев: тюки,
мешки, картины, ящики с книгами, этажерки...
Но мне вдруг показалось, что погорельцы сидят и за углом следующего дома,
и дальше... что это вообще такие... статисты погорелого театра... времён апока-
липсиса...
Видимо, они так естественно вписывались в контекст окружавшей меня дейст-
вительности, что я почувствовал... что если сейчас не выпью, могу и не выйти...
из окружения.
На меня вот ещё что произвело впечатление: я вспомнил, что в этом доме (ну
да, я там бывал, не буду сейчас описывать, я отчасти это уже и сделал... и вообще
я чувствую, что пора закругляться, да) есть - или, по крайней мере, были квартиры,
которые нигде не значились.
И не одна, и не две - а целый этаж неучтённых квартир, по крайней мере, над
входом в каждый подъезд висела табличка: номера квартир с такой-то по такую-
то, но на самом деле их было чуть ли не в два раза больше.
Вот за счёт чего: там был деревянный чердак - гигантская коммуналка, где,
правда, у всех были отдельные ванна и туалет, и на каждой двери висел свой но-
мер... И почему тогда этих номеров не было над входом в подъезд? Я понятия не
имею. Но только теперь мне казалось, что это жители того самого - неучтённого,
последнего этажа, материализовавшиеся призраки, коллектив домовых, выкурен-
ный из дома...
Одним словом, я понял, что выпить просто необходимо - хотя бы для того,
чтобы окончательно не впасть в «товэтовство»... Потому что в обычном состоянии
я-то ведь «этовтовец».
А теперь из меня - ну, или из моего альтер эго - могло получиться что-то уже
даже не совсем кржижановское, ну, какой-нибудь этовтоатовэтовец... Или товэтоа-
этовтовец, но тут ведь уже было бы всё было равно, что справа налево, что слева
направо...
То есть это был уже явный забормот, и чтобы не оказаться одновременно и в
повести и вне повести - за гранью добра и скла, так сказать... я попробовал при-
думать какой-нибудь свой - если не термин, то хотя бы образ - для того, что
мелькало в чердачной памяти...
Сомнамбулические погорельцы, медленно бродившие по тем же своим квад-
ратным метрам туда и сюда, но только уже без всяких стен, как голуби, или куры
по газонам... очевидно, напомнили мне о состояниях сознания, когда всё вокруг
Когда Большаков заговорил с ней, она схватила его за рукав и увела в сторону, а потом вниз,
по Бурсацкому спуску, где на ступеньках, снизу перехватив его взгляд, сказала: «Страшно?» Больша-
ков тогда её не понял, а теперь, когда снова увидел эту картину: удивительно чёрная и живущая
собственной жизнью рука, мёртвой хваткой впившаяся в его светлую куртку... Он отчасти понял,
что Варя тогда имела в виду... «Мне самой страшно», - призналась она, глядя на собственную
руку в кожаной перчатке... Большаков всё это забыл, и только сейчас - когда оно снова встало пе-
ред глазами - вспомнил, подумав почему-то, что человеческие руки - странные существа с хобо-
тами, которые во время тихого часа бегают, бодаясь, поверх одеяла, как того и требует воспитатель-
ница. «Чёрная рука», в пионерлагере, - нуда, конечно, точно...» Большаков поднял со стола грязный,
с его точки зрения, целлофановый кулёк от завтрака, который Варя давеча собирала ему на ра-
боту, и быстро надел ей на голову.
Не требовалось ничего рыть, потому что, катаясь в лесопарке на лыжах, Большаков случайно
въехал в неприметный пролесок, где было множество чёрных ямок. Он не сразу понял, что это не
кротовьи норы, а разрытые могилы немецких солдат. Так что теперь рыть не надо было. Лунки
были неглубокие, но ведь и кулёк с тем, что почти год выдавало себя за Варю, был маленьким и
легко поместился в одной из них, а немного земли, вперемешку со снегом, Большаков нагрёб ру-
кой.
‘Зарубежные записки" №19/2009
43
-------------------------- Александр МИЛЬШТЕЙН -------------------------------
предстаёт развёрткой мира, который перед этим сворачивался, иногда при этом
можно успеть заметить, как он расправляется в одном - иногда в нескольких -
местах...
Я никогда в жизни не обобщал этот опыт, и почему вдруг в этот раз я подумал,
что жизнь, может быть, и есть не что иное, как... складывание парашюта?
Если неправильно сложить парашют, он не раскроется, и, соответственно,
будет просто пшик... Поэтому и важна, наверно, каждая складка материи или сгиб
души, вот что имел в виду Делёз... Хотя слова «парашют» я в его книге («Складка.
Лейбниц и Барокко») не видел, что было даже странно... Я набирал слово в поиско-
вике - находясь внутри текста книги (вот здесь http://yanko.lib.ru/books/philosoph/
deleuze=le_pli=leibniz_et_le_baroque=ann.htm) - и нет, не нашёл...
При этом я вспомнил, что складывать парашют нужно на чистой поверхности,
- я когда-то читал инструкцию, где было написано: достаточно, чтобы маленький
кусок нитки, или какая-то крошка, случайно попали между складками - и всё, па-
рашют не раскроется...
Вот так, короче, я брёл по мягким газонам осеннего парка, или сада - Шевченко,
- в то же время блукая по «ничейной области между наукой и литературой»...
Только что покончив с перестановками букв, со всей этой товэтовской абэвэгэдэй-
кой, я теперь вспоминал, как по каналу ARTE шёл цикл «Философия от ”А” до ”Я”
с Жилем Делёзом». Но не «Я», а вот именно - ”Z”, я помню, что ”Z” у Делёза было
очень странным: своим видом буква напоминала ему росчерк молнии, предшест-
вующей зарождению жизни - или даже возникновению мира, просто росчерк...
И это было странно, потому что до этого шли буквы как буквы и люди как люди,
хотя... я вспоминаю, что были и до этого странности, скажем, «К» у него неожидан-
но оказалось не как «Kant», а как «Kafka»... Ничейная область, одним словом, что
ещё от неё ожидать: как всегда, когда я случайно забредаю в неё, я испытывал
теперь всё большее желание напиться... Может быть, потому ещё, что знал навер-
няка: за столом все эти мои метафизические потуги - в данном случае что у нас
там было, стропы, тропы, и всё то, что за ними трепещется... Ах да, складки мате-
рии - сгибы души - склады памяти - закрома родины... и кто здесь мир, и кто па-
ра-шут... Вот именно: всё это плавно перешло бы в какой-нибудь старый анекдот
о главном...
Ну, скажем, о человеке, который на вопрос другого парашютиста, почему он
без парашюта, - они сидят вместе в отсеке самолёта, ожидая прыжка, и один
другого спрашивает, и другой отвечает: «А мне так больше нравится».
Но это не весь анекдот.
Вторая сцена - это комната с большим окном, в котором видно бескрайнее
голое поле, идёт собрание колхозного актива, выступает председатель: «Опять у
нас засуха, самый депрессивный регион, колорадский жук заел, народ спивает-
ся...». И вдруг он что-то видит в окне, от чего хватается за голову и стонет: «И ко
всему ещё этот идиот каждый месяц на наше поле падает».
Первоначально я думал зайти в «Затышок», но вдруг вспомнил, что его уже
нет, и, пройдя сад Шевченко перпендикулярно и выйдя на Сумскую, я зашёл в
«рюмочную», что между «Сквозняком» (который ещё существовал на момент по-
вествования, но был закрыт по случаю поздней осени) и «Пирожковой» - которая
есть и сейчас, и успел опрокинуть два раза по сто коньяку... Прежде чем услышал
одобрительное:
- Вот и всё. И всех делов!
За соседним столиком сидел старичок с этаким... разбойничьим огоньком в
глазах, или это мне теперь так кажется, когда я уже знаю, что за старичок-борови-
чок то был ...
44
скло
- Да было б, о чём говорить, - сказал я, махнув рукой на стакан: мол, для меня
это капля в море, ерунда.
- Вот именно! - сказал старичок и оказался за моим столиком, - вы знаете,
кем я был во время войны?
- Ворошиловским стрелком, - сказал я.
- Угадали!
- Ну вот...
Я хотел было встать и уйти, но старичок не отставал:
- Но кем я работал после войны, вы ни в жисть не угадаете.
- Вы уверены? А если с трёх раз?
- Да хоть с тридцати трёх.
- Ментом?
- Да нет, не пытайтесь. Рабочее место моё было в обкоме. Но моей должности
нигде не значилось, она была тайной, и я даже в ведомости не расписывался.
- А жили вы не в том доме, что за Госпромом? Он как раз сгорел на днях, этаж,
который не значился... Ну ладно, рассказывайте, что вы за боец невидимого фрон-
та, я сейчас принесу коньяк.
Я сходил за коньяком к стойке, вернулся со стаканами за столик и выслушал
его историю.
Понятия не имею, заливал старик, чтобы ему наливали, - или это была правда-
матка... Слушая его простой рассказ - который шёл по кругу с многочисленными
повторами, - я в какой-то момент вспомнил своё краткое посещение литинститута
и Битова, курившего там на лестничной клетке в окружении студентов, приговари-
вая: «И Ленин во мне, и Сталин во мне...».
Всё это было почти так же давно, как исповедь секретного стрелка в рюмочной
на Сумской: Битов, садящийся после семинара в машину... Перед этим один из
его студентов уверял меня, что это настолько многослойный человек, что давать
ему свои рукописи бессмысленно, «он окружён таким количеством слоёв...» - и
вот он после семинара как бы воочию подтверждал, одевая поверх пиджака кожа-
ную куртку так, что пиджак под ней полностью исчез, - он так тщательно подобрал
фалды, застегнул молнию, а потом и куртка исчезла в девятом слое - в «девятке»,
которую, в свою очередь, поглотил десятый слой - московский смог-туман, и
остались только эти слова в облачке: «И Ленин во мне, и Сталин во мне...», такое
вот матрёшечно-рюмочное воспоминание, нуда... Так и слышу его неторопливый
голос - старичка из рюмочной, - воркование, как будто бы тех самых голубей...
«....я сначала и сам не поверил, думал, шутят они так, или даже: не сон ли это?
Ущипнул себя - вроде бы и не сон. ”В день должно быть не меньше одного тру-
па птицы, - говорил мне сотрудник, проводивший инструктаж, - хотя бы не мень-
ше одного трупа в два дня, орнитологи посчитали, как долго на них действует
устрашение. Ну что вы на меня так смотрите? Вы понимаете, что мы не можем
поставить там чучело, как в поле? И что же нам делать прикажете? Чтобы они га-
дили Ленину на голову? Вы представляете, как бы он выглядел через неделю. Вы
этого хотите?..”
...и с тех пор я все годы смотрел на Ленина сквозь оптический прицел, ну
прикинь... Ты мне, конечно, не веришь...», - после этих его слов, когда он начал
меня убеждать, как когда-то его самого в обкоме, что это не шутка, я представил,
что старик сейчас достанет из сумки и передаст мне... эстафетную снайперскую
винтовку.
«...не веришь, да... Но ты подумай, почему Шевченко был весь заляпанный, а
Ленин чистый, а? Никогда не задумывался? А ты подумай... Ты в Симферополе
был, в скверике возле вокзала? Так вот, не Гоголь там, а именно что Ильич, но та-
“Зарубежные записки" №19/2009
45
Александр МИЛЬШТЕЙН
кой заляпанный, засранный... Что многие, как и ты, думают, что это гоголь-моголь...
Но там он стоит под деревьями, на которых птицы устраивают свои съезды, - я
как-то спал там на скамейке, точнее, не мог уснуть - так они там галдят, именно
что над Лениным... А здесь обком не мог себе такого позволить, чтобы прямо в
центре города... И позвали меня на эту тайную должность, понял... А потом я
шёл, это всё ночью, конечно, оптика прекрасная, глушок... Шёл и подбирал тушку,
а как же, специальные у меня были даже кулёчки для этого, выдавались...»
- О нет, - сказал я, - только не это...
И я, к удивлению старика, быстро встал и вышел из рюмочной.
46
Феликс ЧЕЧИК
С ЗЕМНОГО НА ПОТУСТОРОННИЙ
* * *
Говорить на весеннем, на птичьем,
на оттаявшем языке,
и, своим поступившись «величьем», -
стать воробышком в детской руке.
От любви и от страха зажатым
чуть не до смерти. И, не дыша,
дорожить равновесием шатким,
как последним причастьем - душа.
* * *
Говори, если сердца не жалко, -
всё равно не удастся сберечь:
от платочка и до полушалка
простирается русская речь.
Этот синенький скромный платочек,
эта шаль, поменявшая пол...
И колеблемый между строчек,
обжигающий сердце глагол.
Спальный район
1
Надкусанного ты блока
незрелый аромат
я нёс домой из Свиблова
и был, как мальчик, рад.
Я нёс домой в Нагатино
и счастлив был, как бой, -
прекрасная кислятина
надкусана тобой.
2
Руки в стороны, и полетели.
И летим мы с тобой наяву,
как во сне, не вставая с постели,
и печально глядим на Москву.
‘Зарубежные записки" №19/2009
47
— Феликс ЧЕЧИК -----------------
Муравейник. Помойная яма.
Ад кромешный. Исчадие зла.
Сделай, Господи, так, чтобы мама
нас по новой в Москве родила.
3
лёгкости не хватало
чтоб улететь навсегда
вереска и краснотала
у городского пруда
времени для завершенья
для закругленья углов
и поднебесное пенье
окольцевал птицелов
* * *
- Легко ли? - сказала левкоя, -
без отдыха благоухать,
не зная ни сна, ни покоя
отравленный воздух вдыхать.
Вдыхать, выдыхая, и снова...
- Довольно! Легко...Нелегко...
Не скиснешь! - сказала корова,
имея в виду молоко.
* * *
Вничью завершилась любовь.
Ты ничья. Я ничей.
Остывает горячая кровь,
как впадающий в речку ручей.
Растворился в реке навсегда.
Но темна мелководная муть.
Однородная масса. Вода.
Покрасневшая только чуть-чуть.
* * *
Этак можно бесконечно -
час за часом, день за днём:
по течению беспечно
плыть, как лодка, кверху дном.
Плыть любви и жизни мимо,
видеть только мрак и тьму,
и приплыть...к тому, что мнимо
и не нужно никому.
* * *
Не вспоминать начала,
не думать о конце...
48
С ЗЕМНОГО НА ПОТУСТОРОННИЙ...
Но чья-то смерть кричала
в расплавленном свинце.
Скорей бы затвердела
и форму обрела,
и незаметно в тело
пришла путём ствола.
* * *
До 47-и не дожил,
но смерть от домочадцев скрыл,
лишь птиц полночных растревожил,
что в переводе - воспарил.
И рай весенний, грай вороний
и тишина летейских вод -
с земного на потусторонний
почти буквальный перевод.
* * *
Просьба: только не трогать руками,
по возможности реже дышать,
и судьбе, привередливой даме,
не мешать приговор оглашать.
Окончательный... Не подлежащий...
Поклянись на небесном УК,
чтоб под камень текла под лежачий
не вода, но забвенья река.
* * *
Для вас...А для кого же?
Не для себя же...А?
Бегут, бегут по коже
мурашками слова.
Любви и долга пленник,
как муравей в лесу,
построю муравейник
и спичку поднесу.
ИЗ ЦИКЛА «ПОСВЯЩЕНИЯ»
* * *
А. Алешковскому
Исповедуясь перед
тонкой книжкой стихов,
мальчик искренне верит
в отпущенье грехов.
‘Зарубежные записки" №19/2009
49
— Феликс ЧЕЧИК ----------------
И тяжёлая лира
сквозь забвенье и тьму
от больного кумира
переходит к нему.
* * *
Эвелине
Ты действительно думаешь, что
проживёшь без меня, дорогая?
Что уйдёшь налегке, без пальто,
улыбаясь, из нашего рая.
Понадеялся, что не уйдёшь.
Просчитался. Ушла в самом деле.
И тебе аплодировал дождь
посреди января и метели.
* * *
Ю. Новиковой
В реку войди по грудь,
«sorry» скажи любви,
воду не взбаламуть,
лилию не сорви.
Судорогой сведёт,
и не раскроешь рта -
близость летейских вод,
вечная немота.
* * *
жене
Подняться над собой,
как если бы над бездной,
растаяв в голубой
безбрежности небесной.
И зацветает медь,
и воду лижет пламя,
где ласковая смерть
склоняется над нами.
* * *
Соне
Опорожняя мирозданье,
приняв как следует на грудь,
забей с самим собой свиданье
и о свидании забудь.
И не приди. Пускай поплачет.
Пускай узнает, что почём...
50
С ЗЕМНОГО НА ПОТУСТОРОННИЙ...
А пустота уже маячит,
заклеенная сургучом.
* * *
Н. Богатовой
Прикинуться, присниться
гербарием, трухой,
балдея на странице
548-й.
Сухой былинкой мака,
как капелькой огня;
и ни одна собака
не вспомнит про меня.
* * *
Д. Новикову
Всё сошлось. Перепроверили.
Разве только что чуть-чуть.
И в небесной бухгалтерии
штамп поставили на грудь.
И такую расчудесную
жизнь вставанием почти,
разрывая клетку тесную,
как рубаху на груди.
И навеки обречённое
не увидеться с тобой
сердце выпорхнуло чёрное,
тая в дымке голубой.
* * *
Ю. Гуголеву
И не очень-то надо,
Проживу - ничего -
без Нескучного сада,
листопада его,
без сентябрьского ветра,
без рябины и без
тихой музыки «ретро»,
что струится с небес,
той, что сны навевает
золотые и не...
Первым снегом растает
грусть-печаль о стране.
В стороне от победы,
от тоски вдалеке,
в направлении Леты
по Неглинной-реке.
‘Зарубежные записки" №19/2009
51
Александр ТИТОВ
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
Рассказ
Ощущение как «они»
- И сам заплакал. Губы мокрые, тяжелые, каку дурака. Прозвали Профессором
- мужики деревенские, но, наверное, не зря. Искры из глаз освещают горницу.
- Поеду, ма, па!
Нетвердая рука берет с полки портрет в самодельной деревянной рамке. Чело-
век в парике с отвислыми щеками: «Хо-орх Ви-и-хем Фи-и-их Хехель!» - с трудом
выговаривается.
- Мысль этого человека меня ведет!..
Мать с подозрением всматривается в портрет: без бороды - значит не святой.
На всякий случай перекрестилась.
В Москву собрался, Алеша-то. Еле на ногах держится. Билет в оба конца.
- Назад дороги нет! - напился, чтобы не ехать, колеблется. Понимает, что не-
чего ему там делать.
И мать голосит: террористы! Их в Москве пруд пруди.
- Не боись, мать. Я эту Москву от и до... - еле языком ворочает.
- Оставайся! - добавляет отец. - После съездишь, бог с ним, с билетом...
Самогонная истома, словно яд в крови. Не выгонишь. Авось выветрится в пути,
не в первый раз.
Морозный ветер, форточка хлопает. Лица, перед ним, как пергамент: зачем
напился? И с собой взял...
Жмурит глаза, поднимает вверх указательный палец: я сам знаю, как мне посту-
пать! Голос в пустоте вечерней хаты. Самое высокое в нем. Москва ждет. За ок-
нами чернота. Умный - все так говорят. Сухие от работы мозги. Деревня Тужиловка.
Тут никто ничего не понимает. Москва не только ждет, она тревожит. Не видит,
но спрашивает: зачем?
Километров пять до станции, если напрямик. Заплакал по старикам, которые
перед ним. Прощаются, словно навсегда. Скоро умрут. Пустой дом, деревня без
них... Логически невозможно. Глядел, напрягши веки. Закрываются... Со стороны
на себя, и на них. Разве так смотрят? Ответить нечего, будь ты хоть сто раз Про-
фессором. Щербатые жалостливые улыбки на лицах, как на фото, где сняты первые
колхозники, и дед среди них: замызганная кепка, мятая рубаха, подпоясанная
ремнем... Где-то лежит эта картонка, на которой лица не только пожелтели, но и
почернели, как сама земля. Фото сделано в 30-е годы. Каким ветром занесло
фотографа в ту давнюю Тужиловку?
От них осталось главное - труд: невидимый, незаметный во времени, как жалкая
улыбка на фото. У Профессора свой труд - не тот, который оставлен навсегда в
полях, но и в толстой тетрадке, на дне портфеля, купленного на ВДНХ, где ему
когда-то вручали серебряную медаль новатора. Кому она теперь нужна? Снял с
гвоздя на ленточке - холодное, круглое в ладони. Не земледелец, но мыслитель.
52
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
Не абы чего везет, но философский трактат. Дожди месяц подряд, пахать нельзя,
целыми днями писал, даже выпить не манулось... Труд! Не только трактор, земля
под плугом, тряска в кабине, провонявшей соляркой... Приходит момент, и голова
светлеет, заскорузлые пальцы сжимают авторучку...
- Я - Профессор! - Берет портфель. Холодная ручка из пластмассы семидеся-
тых. Тогда все было не так. Изнутри человека другое. Уверенность мира. Пластмас-
са постарела, Профессору сорок пять. Уезжает, дом как чужой. Бревенчатые сте-
ны, запах... И сам как чужой! Простите, ежели что не так... Да здравствует экзистен-
ция! Мать отговаривает - оставайся! Пропадешь со своей «хвилосохвией»...
Тужиловцы букву «ф» никогда не выговаривают, отца Хвилей зовут, не говоря
уже о соседях: он для них Хвилюха. Алексей Филимоныч! Говорит чисто, умно,
как дикторша в телевизоре. Когда-то страна знала молодого ударника, теперь
все забыли. Деды и бабки несут самогонку: вспаши, милок, огород!..
Мать горюет: не женится, окаянный! Книжки, от которых сходят с ума, читает!
В нашей родне никто книгами не занимался... Старики переглядываются: в кого
Алешка такой пошёл?
Прорвёмся...
Туман перед глазами, перебрал. Достает из портфеля (на дне копченое сало,
свежий хлеб) пластиковую бутыль, делает добавочные глотки. Мать толкает в бок:
хоть сейчас-то не пей! Окочуришься в поле...
- Не упаду! - перед глазами проясняется. Бревенчатый угол, железная кровать,
этажерка с книгами... Всё мило-дорого, хочется заплакать: остаюсь!.. Не выговари-
вается. В расстегнутом пальто, нафталином подванивает - мать три дня проветри-
вала, обирала пушинки: Алеша в Москву едет! На голове новая, сбившаяся на за-
тылок шляпа. Летом купил, с премии по итогам сева. Старики охают: надень шапку!
У тебя ведь и кроличья, и лисья, и норковая, в которой в райком ездил...
- Ничего, мать, прорвемся! - Бутыль в руке увесистая, полтора литра. - Моя
работа называется «Экзистенция труда и современная почва». Почва не в том
смысле, что на огороде, а в другом, глубоком... В Москве разберутся. Помнишь,
как ты меня, молодого, провожала на слет передовиков, и уже на следующий
день смотрела репортаж по черно-белому телевизору: сам генсек мне руку пожи-
мал, вручал медаль за трудовую доблесть!..
Вышел на порог весь в слезах, подсевшее в плечах пальто, неловко. На крыльце
мать и отец. Им бы внука!..
С выпивкой пора завязывать. В колхозе пальцем стали показывать: Профес-
сор!..
Мать молится: Господи, останови его! Милиция вокзал проверяет, авось задер-
жит. В кутузке переночует, как не однажды бывало, утром заявится с квитанцией...
«Пачпорт» в кармане булавкой пристегнут. Пальто хорошее, драп, двести рублей
советскими деньгами.
Первый и последний
Обнял стариков на прощанье. Теплота в дробных плечах. Слезы точками на
пальто. Туман на ворсинках изморозью.
Холод трезвит. Оборачивается, зовет. Голос дикий. Жизнь глубже, чем она
сама себя видит. «Хвилосаф»... Это мы еще посмотрим, кто чего стоит! Вот она,
жизнь - расстилается полями, холмами, рощами, ночной необъятностью.
Три желтых окошка, полоски света по заиндевелой траве. Две фигурки на поро-
ге.
“Зарубежные записки" №19/2009
53
Александр ТИТОВ
«Ничего не знаю!» - Голос в полях. Луна, молоточки в висках. Покачивается,
бодрый. Вчера шел дождь, сегодня мороз, небо в звездах, луна в замерзших лу-
жах. Из бутылки рано отхлебывать - хорошо! Достал бутыль, отпил для продолже-
ния счастья путешествия.
«Огни печальных деревень...» - кто так сказал? Обернулся: Тужиловка мерцает,
свет в тумане. Ноябрь, сгустились идеи. Сало в портфеле теплое, на ходу жует
вместе с налипшим клочком газеты, крошки хлеба на пальто.
Озимь светла и черна одновременно. Зёрна в земле разворачиваются, глядят,
зеленые смешные человечки. Потрогал нежные, в комочках изморози, стебли.
Ум, как озимь, растет при свете звезд.
Профессор! Здесь хоть как человека обзови. Лозины над замерзшей лужей.
По льду, как в детстве, на подошвах ботинок, купленных за сахар. Иех-ха! Вот
ещё как могём!
Тетрадку возил под сиденьем трактора, пахнет мазутом, в пятнах, стыдно пока-
зывать. А переписывать поздно. Не потому, что к поезду, а потому, что жизнь,
как внутренний принцип, кончилась. У портфеля приоткрыта пасть, словно ушед-
шая эпоха хочет вдогонку что-то сказать хрусткой челюстью.
Дорога разбита тракторами, замерзла. Грязь хрустит, отваливается комками.
Курс на станцию! Колеи извилистыми окопами. Край, где люди так и не научились
выговаривать слово «капеэсэс», а язык реклам им вовсе не под силу. Вымираем!..
Не было гражданской - отряд Мамонтова проскочил, расстреляв в каждом селе
по активисту. В колхозы вступили поголовно, за исключением тех, кто имел лишнюю
корову и попал в список... Немец чуток не дошел - разведка посмотрела: за что
тут воевать? - и ушла. Здесь до сих пор отмечают Русальскую, заговаривают бо-
лезни, лечат от сглаза. До Москвы четыреста километров. Сто лет назад, когда
не было железной дороги, мужики пешком брели в «отход». И сейчас, кто моложе,
едут в Москву, на стройки: там зарплату деньгами платят, а не зерном и сахаром.
Она с ним «того...»
Отхлебывает еще. Вот ведь повадка... Земля в лицо, вспышка. Яркий свет,
удар. Боль глухая, ночная, алкогольная. И влажность, запах мёрзлой. Отдаленность
от Москвы. Там не знают. Почти дошел: станция сверкает. Напился, дурачок! Ба-
тюшка с матушкой далеко, некому ругаться... В том и одиночество. Встать, вырвать-
ся из поля - да здравствует цивилизация!
Больно, жжет. Холод земли, въевшейся в кожу, в кровь. Ледяные крупинки,
теплое, соленое течет. Лежать всегда. Матушка говорит: вставай! А то Москва не
признает в тебе мыслителя. До крови морду разбил. Текут висюльками в землю
слюна, кровь, оплодотворяя ее каким-то смыслом. Словно старик, пытающийся
зачать дитя.
Грязь в кровь и мясо губы - чернота смысла. Поймут. Мысль ничто, слезы. И
боль. Спать нельзя, назад тоже - замерзнешь. Москва. Иди к ней! Стучись в две-
ри, тебя ждут.
Ботинки, как золотые, блестят от морозной луны. Встает, нащупывает паспорт,
подколотый булавкой. В паспорте билет, нижняя полка. Проводница будет ворчать:
вы штоб, гражданин, больше тут не выпивали, а то патрули ходют!.. Профессор
скажет: не боись, сестра, я тихий человек! Матрас на полку, жахнет граммов сто
пятьдесят - и провалится во тьму, разбиваемую огнями поезда.
Трещина в асфальте
«Здравствуй, Москва!» Так всегда говорил, когда приезжал на съезды и слеты.
Карман отдувался от командировочных и гостиница была заказана. Сегодня никто
не ждет, слова «комсомолец», «ударник», «новатор» забыты.
54
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
Достал зеркальце - ссадина на лбу, губа вздулась, земля в нее точками въелась.
Опохмелиться хочется до жути. Слезы от этой невозможности. Шляпу надвинул,
ссадину прикрыл. Зато губа, как у неудачливого террориста. Шарканье ног по
перрону, в репродукторе звенят объявления. Морозный воздух, миллионы звуков.
Здесь Профессора поймут. И примут. Он - страдалец, и Москва тоже страдала.
Мать смыслов - Москва!
Метро порадовало - такое же, как в молодости. Вместо пятачков карточки.
Улыбнулся, очутившись в грохочущем вагоне. И пассажиры прежние, разные.
Вышел. Озирается. Дышит так, словно желает опохмелиться одним только воз-
духом. Улица Горького стала Тверской. В ней сохранился прежний свет. И простор,
обставленный домами. Профессор любил бродить здесь в перерывах между засе-
даниями, заходил во все подряд магазины, покупал вещицы, которые почти всегда
оказывались ненужными.
Теперь куда зря не войдешь. Поток блестящих машин. Прохожих на тротуаре
негусто. Шел, отталкиваясь подошвами от асфальта, похожего на застывшее мозго-
вое вещество. Молоточки в голове, печальные буквы: кончился задумчивый в се-
бе крестьянский гений.
«Слышишь, Москва! Ты всегда опиралась на миллионы Тужиловок - на кого
теперь обопрёшься? Я немолод, пью, увлекаюсь чтением ’’ерунды”. Руку мне по-
жимал твой генсек! Сошел с трибуны - в левой ладони коробочка ордена, правая
горит от мягкого теплого рукопожатия...
Спустя два дня я уже был в колхозе, сидел за рычагами новенького ДТ, пожало-
ванного лично мне, всесоюзно известному комсомольцу-новатору, который пер-
вым применил широкозахватные агрегаты...»
Остановился за киоском, вытер глаза, слезившиеся от ветра: вдруг заплачу
здесь, возле стены, не такой уж идеальной для своего столичного смысла, неважно
оштукатуренной и плохо побеленной? И в асфальте трещина!.. Даже в детстве
не плакал, матушка из-за этого волновалась: кремень-разбойник растет. А вырос
нормальный - пашущий и думающий.
Девушка с яблоком
Поднял голову - на него смотрело бронзовое, зеленое, как в лесу, лицо Пушки-
на, в пространстве плавали рекламы. Шевелилось лицо города - цветное, дыша-
щее морозным туманом.
- Нет у меня, товарищ Пушкин, ума. Да и сам я, как видишь, последний... Вме-
сто того чтобы сидеть дома, приехал с «философской» тетрадкой хрен знает куда
- в Москву!
Профессора углядели три девчушки, лет восемнадцать каждой, в одинаковых
костюмах из блестящей «космической» ткани. Профессор на них так и уставился
- когда-то в сельской школе на Новый год он тоже вырядился космонавтом. Лица
девчат раскрасневшиеся, не очень веселые, лукаво-деловитые. На груди и спине
яркие иностранные буквы с названием жвачки. Такую сто раз на день показывают
по телевизору.
- Дяденька, купите жевательную резинку!
- Зачем она мне?
Девочки замешкались, щеки еще сильнее покраснели. Переглянулись, улыбну-
лись, ничуть при этом не повеселев. Профессор вздохнул: каждая годилась ему в
дочки. Особенно хороша была одна, повыше других. Темные локоны выбивались
из-под синтетического капюшона.
- Как тебя зовут?
- Лена.
- Сколько лет?
“Зарубежные записки" №19/2009
55
Александр ТИТОВ
- Девятнадцать... А вы, дяденька, кто?
Профессор рассказал подробно, кто он и откуда. Привез, дескать, философский
труд, но не знает, куда его отдать. Вспомнив, что в портфеле яблоки из своего
сада, раздал девчатам. С хрустом откусили от полосатых боков. Яблоки пахли
хлебом, салом, из открытого портфеля тянуло самогоном. Это было нехорошо,
он защелкнул поржавевший замок. Выпить хотелось до тошноты, сердце тенькало,
словно металлическое.
- Кто же, дяденька, вас оцарапал? - спросила подружка Лены.
Профессор усмехнулся, кивнул головой: с кем, мол, не бывает!.. За его спиной
Пушкин как-то живо шевельнулся. Дома на полке книжечка стихов, надо бы прочи-
тать - Ницше и Бердяевым сыт не будешь. Хотел сказать, что его оцарапал враж-
дебный человеческой личности мир, но это было бы непонятной правдой, а правду
говорить всегда неохота.
Лена согревала яблоко в ладонях. Глаза большие, карие. Лицо белое, красивое.
Хотелось поцеловать розовую щеку. Профессор видел женщину с яблоком на
картине - возили механизаторов в Третьяковскую галерею... Сказала, что у нее
ребенок, с ним мама сидит, она вот здесь работает...
Профессор купил у нее несколько блоков жвачек, надолго хватит. Трактористам
нужна - запах перегара отбивает.
- Вам с тетрадкой надо в МГУ сходить, - произнесла задумчиво Лена. Ее се-
стра поступала туда в позапрошлом году... Других «философских» учреждений
она не знала. Объяснила, что надо идти назад: мимо почтамта до Манежной, за-
тем направо, там спросите...
И он пошел. Не утерпел, обернулся. Три блестящие фигурки махали ему правы-
ми розовыми ладонями, левые спрятаны в рукава курточек. Профессор взмахнул
длинной мосластой рукой, кисть далеко высунулась из рукава пальто. Сверкнули
именные часы «Слава» на потертом кожаном ремешке - в ЦК комсомола когда-то
вручили. До сих пор шли без сбоев, отставая за сутки минут на пять. Больше не
оборачивался, но внутри потеплело: в Москве есть Лена, ей даже труднее, чем
ему, потому что он мужик и в любое время может бросить пить - со вчерашнего
вечера не прикасался к баклажке! «Ай да я!» - воскликнулось мучительно-весело.
Робко думал о любви, пытаясь придать мыслям оттенок столичности.
Отглаженные страницы
Разбитая губа внушает подозрение, однако Профессора ни разу не остановил
патруль.
«Вот что значит хорошее пальто!» - думал он. Никто не обращал внимания на
старый портфель, на дне которого кусочки хлеба, остатки ветчины. Бултыхалась
жидкость в пластиковой посуде. Сутра ни глотка! Привез труд: выглаженные утюгом
страницы, исписанные разноцветными стержнями. Главные мысли выделены крас-
ным, второстепенные - зеленым, простой текст - синим. Не догадался шмат са-
ла взять в гостинец - настоящим профессорам тоже есть хочется. Вторая банка
самогона пригодилась бы в качестве подарка... Ругал себя всячески.
«Где взять ум? - думал Профессор. - Воистину массовый, народный? В буду-
щем люди научатся возделывать землю с помощью атома, взнуздают в плуг мол-
нию... А я куда?..»
Был когда-то нужен всем, держал на себе, как говорили с трибун, страну. Энтузи-
азм по жилам тёк.
Тогда у Профессора еще не было такого прозвища, хотя мог в любой аудитории
произнести речь, не заглядывая в бумажку. Сиял лицом, держал речь с задором!
Новый трактор? - пожалуйста! Комбайн? - то же самое. Запчастей навалом. Горю-
чего - как воды в пруду...
56
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
Кончилась романтика семидесятых, что-то оборвалось. Стал выпивать: и после
работы, с мужиками, и в гостиницах, когда приглашали на семинары по обмену
опытом. Профессор возмужал: его вычеркнули из списка кандидатов в члены обко-
ма комсомола, затем и на мероприятия перестали приглашать. А вскоре пере-
стройка грянула.
Спиной к Пушкину
Лет двадцать назад, позанимавшись на курсах политпросвещения, Профессор,
неожиданно для себя, увлекся философией, защитил на пятерку реферат. Жизнь
его мгновенно переменилась, хотя с виду оставалась прежней. Говорили, что
Профессор спился, не выполняет в колхозе норму, сшибает магарычи, возомнил
себя «хвилософом».
Тарас Перфилыч, председатель, увидев на сиденье трактора «Эстетику» Гегеля,
небрежно повертел заляпанные страницы, сказал, глядя Профессору в глаза: ты,
парень, лучше выпивай, но это забудь. На хрена тебе разная тоска? Не читай ни-
чего, кроме районной газеты, и рассудок твой будет ясным!
В годы перестройки можно стало купить книги Камю, Бердяева, Флоренского
и других авторов - целая полка за печкой заставлена. Прочел, восхитился. «Почему
я этого раньше не знал, и даже не думал об этом?» Времена и глубины жизни
вдруг стали «явственны», как выражаются деревенские старухи. От четкого понима-
ния мира Профессору иногда хотелось прослезиться, однако он с детства страдал
отсутствием плача. Разве что на ветру капелька из глаза сорвется.
Когда был маленьким, мать показывала его фельдшеру, потомку пленных ав-
стрийцев Николаю Августовичу Келлеру. Выпив гостевую чекушку, фельдшер
осмотрел мальчика и сказал:
- Это есть польный порядок! Нормально! Пареньёк думающий!..
Профессор шагал вниз по Тверской, огорченно вздыхал: кто сейчас задаром
согласится читать рукопись. Времена не те, чтобы в чужой бред вникать. Москва
- город занятой. «Но я привез не только свой труд, но и свое отчаяние... Зачем?
Кому оно здесь нужно?»
Новый век загнал мысль в тупик: всё кончилось!.. Жизнь продолжает влачиться
в поездах, самолетах, автомобилях, но истории как таковой уже нет. «Иду спиной
к Пушкину, удаляюсь от него, от Лены, которая держит яблоко, выросшее в моем
саду. Как оно пахнет, мое яблоко? Зачем этот запах, почему я о нем думаю в не-
соответствующий момент?»
Рука тянется к ржавому замку портфеля: «Глотнуть, что ли, для смелости?..
Нет, нельзя! Соберись, ощути в себе волю и мужество. Ведь ты же был комсомоль-
цем!..».
Купил в киоске мороженое и жадно, как в детстве, сгрыз его, глотая кусками. В
желудке появился холодок, сердце отмякло. «Может, совсем пить брошу?» Лезет
в голову призрак пластиковой бутыли - хоть в урну выкидывай. На виду у всех
нельзя это сделать - могут принять за террориста... Да и грех добро выкидывать.
Мужики узнают - засмеют.
«Наговорная» пуговица
Шагать по Москве, покупать мороженое, пить шипучую «Фанту» - разве это
не счастье?.. Выковырнул из блока душистую жвачку. Говорят, если всю жизнь
жевать резинку, можно избавиться от алкоголизма. Проверил нагрудный карман:
паспорт цел. Пальцы нащупали гладкое, чуть скользкое: наговорная пуговица,
матушка пришила. Пуговицу в незапамятные времена подарил Федосеич, колдун,
- живет на свете семьсот первый год, варит присуху для девок, разливает по
“Зарубежные записки" №19/2009
57
Александр ТИТОВ
пластиковым бутылочкам. А пуговица подарена еще в социалистические времена
- она всегда возвращает домой...
Профессору хотелось вернуться к Лене и сказать: научи меня, девушка, пла-
кать!.. Удочерил бы хоть сейчас! И сам бы нашел работу в этой сказочной жуткова-
той Москве, вкалывал бульдозеристом, каменщиком, кем угодно. Нашел бы для
Лены работящего парня... Какая тут, к черту, «хвилосохвия», если у самого ни же-
ны, ни детей?..
Последний долг
Подземный переход, площадь. Теперь, кажется, направо... Спросить бы кого!..
Надо было вовремя учиться! Давно и сразу, чтобы не носить забавное прозви-
ще Профессор, а быть им, спешить к студентам с папочкой под мышкой, читать
лекции, ставить пятибалльные отметки... В Москве надо быть молодым, шустрым,
как этот выбритый мужчина в длинном черном пальто и белом шарфике, без шап-
ки, аккуратно стриженный. Ухоженный во всех смыслах. Выходит из «джипа», спе-
шит по делам.
- Можно вас на минутку? - неожиданно для себя окликнул его Профессор.
Захотелось снять с головы шляпу, поклониться в пояс, как мужик барину. Но он
этого не сделал, а, наоборот, по-деревенски приосанился. - Спросить я хочу!..
- Пожалуйста... - Незнакомец придержал шаг, повернул голову.
- Здрасьте! - сказал Профессор.
- Здравствуйте, - с некоторым удивлением ответил бизнесмен.
Холодный ветер, на седом асфальте искры инея. Лицо мужчины вмиг покрасне-
ло.
- Вы меня не боитесь? - спросил Профессор.
- Почему я должен вас бояться? - с усмешкой взглянул незнакомец.
- Да мало ли нас тут ходят? Вдруг я террорист?
- Не похожи вы на террориста... - Мужчина смотрел на Профессора с тем
вниманием, с каким барин Тужилов глядел на своих крепостных, обращавшихся с
просьбой. Такие же «себе на уме». Молодой почувствовал в этом провинциале
что-то другое, как если бы он оказался твоим духом, о котором ты и не подозревал,
- призрак твоей души, твой судья.
- Вдруг я киллер и у меня в портфеле бомба?
Молодой человек усмехнулся:
- С таким портфелем мой отец ездил в командировки... - В глазах его что-то
мелькнуло.
- Я хожу по Москве, и никто у меня даже паспорт не спрашивает! - выпалил
Профессор. - Никакой бдительности.
- На вид вы нормальный человек. - Парень потер покрасневшее ухо.
- Я сам не знаю, кто я такой. А знать про себя хочется, - вздохнул Профессор.
- Приехал в Москву, а зачем - неизвестно...
Начал открывать портфель, замок ржаво тенькнул.
- Мне надо идти... - Мужчина взглянул на сверкнувшие часы.
- Сейчас... - Заколяневшая пасть портфеля с хрустом открылась, и оба с неко-
торым любопытством заглянули внутрь, где лежала, перекатываясь с боку на бок,
прозрачная бутыль из-под минералки, облепленная хлебными крошками, влажны-
ми клочками газеты. Даже ломтик сала прилип, намекая на прочность закуски.
- Вот! - с грустным торжеством промолвил Профессор.
Мужчина понимающе кивнул, снова взглянул на часы:
- Извините, меня ждут!..
- Я понимаю, - сказал Профессор. - Спасибо вам большое!
58
------------------------- ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК ----------------------------
- За что? - уже на ходу обернулся незнакомец. Модное пальто благородно
взблеснуло в тенях.
- За то, что поговорили со мной! - Профессор был слегка растерян.
Молодой бизнесмен, храня на лице остатки улыбки, кивнул, исчезая за стеклян-
ной дверью.
Профессор забыл сказать ему самое главное: «Я должен додумать последнюю
мысль последнего крестьянина!»
Брякнул об этом колхозным трактористам, те подняли его на смех: кто же тебя,
Профессор, на такие дела уполномочивал? Подумаешь - Ленин выискался! Это
тебе не мешок комбикорма пропить.
Человек внимающий. Не как «она»
Навсегда исчезнувший бизнесмен ничего не спросил, ушел в деловую тьму.
Не знает, что каждый вечер зажигаются вокруг Москвы миллионы деревенских
огоньков. На экзистенциальном уровне Профессор и бизнесмен равны. Общие
грехи, смерть, к которой надо заранее готовиться. Крестьянин всегда думает о
смерти, даже весной. Интуитивно богатый человек признал в Профессоре кор-
мильца, своего главного человека.
Профессору захотелось потрогать на ощупь металл «джипа» - светлый, блестя-
щий, как живой. Но почему-то страшно прикасаться к подобным предметам...
Он собрал остатки достоинства, зажмурил глаза, погружаясь в темноту вечной
крестьянской ночи, погладил пальто, драп социалистических времен. Тысячи рук,
медленных, заскорузлых, протянулись, успокоили: мы с тобой! Почувствовал, как
приподняло над асфальтом похмельной тошнотой.
Открыл глаза - ладонь помнила прохладные пальцы Лены. Прощай, Лена, дале-
кий от философии товарищ!
Искрящиеся поля
Сворачивает, как она говорила, направо. Спрашивает встречных: где универси-
тет? Сестра Лены в него так и не поступила...
Люди пожимают плечами: мы приезжие. Но и Профессор не новичок в столич-
ных делах: в Москве никто ничего не знает. Еще десяток метров, и Профессор
оказывается в большом дворе, заставленном иномарками. Отдирает от холодных
зубов жвачку, прячет в карман: нельзя мусорить на величественной территории!
Бронзовый Ломоносов сидит в кресле, взирает поверх ненаучной суетной
жизни. Легко и просторно памятнику в таком прекрасном дворе - не украдут в
скупку цветных металлов, свойства которых он изучал!
- Здравствуйте, товарищ Ломоносов! - Как и перед Пушкиным, снял шляпу.
Необходимо стоять в немом восторге, но Профессору хочется в туалет, он тороп-
ливо шагает к двери, через которую в обе стороны идут студенты, в основном
девушки. Много симпатичных, с азиатскими лицами. Несмотря на мороз, все без
головных уборов. Но и волосы хороши - темные, блестящие. Такие сравнивают с
конской гривой, блеском антрацита.
Одна из них садится в аккуратную, словно шар, иномарку, лихо разворачивается
в гуще автомобилей, мчится, притормозив на мгновение у ворот.
Смотрел ей вслед с приоткрытым от изумления ртом.
Вот еще одна, с виду китаянка или японка. Ростом с первоклассницу, как кукла.
На ступеньках, с приборчиком в ладони, смотрит на Профессора.
- Ты чего? - Уставился на нее, забыв о мучительных потребностях.
Улыбнулась крошечной восточной улыбкой. Лучше куклы!
- Я корреспондент радио! Хочу задавать вопросы.
“Зарубежные записки" №19/2009
59
---------------------------- Александр ТИТОВ ------------------------------
Блестящая штучка - магнитофон. В миниатюрных пальцах черный, с горошину,
микрофон.
- Спрашивай! - Ради такого дела можно терпеть, поправил шляпу. Этих интер-
вью когда-то столько давал, что его во всем мире слышали. И по «Маяку», и по
«Юности»!..
- Как вы относитесь к тому, что если будет атомный взрыв, произведенный
террором в Москве?
По-русски она говорила чисто, но нечетко. Смысл понятен, хотя и расплывает-
ся.
Профессор на секунду задумался.
- Я, милая, ни хрена не боюсь. Москвичи - тоже. Посмотри на лица - ни на
одном нет страха. Они ничего не боятся.
- Отчего нет страх?
- В том-то и дело, что он есть. Но невидим до поры до времени.
- Что будете делать, если произойдет большая радиация?
- А что мне тут делать... В Москве у меня ни свата, ни брата - пойду на вокзал,
к поезду.
- Кто вы есть по профессия?
- Тракторист. Землю пашу... А вообще, в имманентном смысле, не знаю, кто я
такой...
В иссиня-черных глазах сверкнули угольные искры, разгораясь далекими огонь-
ками.
Не отводя взгляда, выключила магнитофон. Понимала, что дяде нужно взглянуть
ей в глаза.
Профессор очнулся, хмыкнул, понимая нелепость своего положения, отвел
взгляд от ее смуглого и в то же время ясного и светлого лица:
- Никто мне ничего не ответит, даже в этом здании... - Кивнул на массивную,
дышащую прохладой стену. - И не только потому, что задам вопросы трансцен-
дентного и телеологического характера. Я и на тужиловском уровне съехал с
крыши ума...
Она в свою очередь взглянула в водянистые, невзрачно-серые, с алыми про-
жилками глаза. Незаметно вздохнув, привычно улыбнулась. В улыбке древняя про-
стота народа, ведь и у девушки в джунглях есть своя Туж-ил-ов-ка.
- Спасибо, что взяли у меня интервью! - благодарно кивнул Профессор. - У
меня лет сто никто не брал интервью. Даже из района не приезжают. Люблю, ко-
гда меня о чем-нибудь спрашивают. Будь ты русская, я бы тебе с три короба на-
говорил!..
Она тоже кивнула, взгляд ее выбирал кого-то в ручейке прохожих.
«В ее глазах отразились поля и деревни! - размышлял потрясенный Профес-
сор. - Почему в них русская ночь? Невозможность факта!.. Допился ты, товарищ
Профессор, до философских несерьезностей».
Содрогнулся от воображения чужбины. Сердце приглохло, не желая думать о
высоком.
Земля с ним
- Вы к кому? - спросил охранник - человек профессоровых лет, с седеющими
усами и пронзительным взглядом.
- Да мне тут надо... - промямлил Профессор, шлепая ладонью по нахолодив-
шемуся портфелю.
- А почему с фингалом ходишь?
- Упал. К земле, выходит, приложился.
- Охранник, прищурившись, внимательно смотрел на него.
60
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
- Ей-богу!.. - Профессор постеснялся перекреститься, зябко передернул пле-
чами. Его и впрямь трясло. Похмелье тяжестью ворохнулось в желудке, перед
глазами пятна, в туалет по-маленькому невтерпеж.
Придал улыбке еще больше простоты. Не философ, а размазня. Емеля без
печки. Всё у него попросту. Любовь, «чистое мышление» остались невостребован-
ными.
- Я привез научный труд... - Профессор щелкнул замком портфеля.
- Не надо! - остановил охранник.
Но уже распахнулась духовитая кожаная внутренность.
- А это что такое? - Строгий палец указал на маслянистого оттенка жидкость.
Пластиковая бутыль ворохнулась на дне портфеля, как живая.
- Да вот... взял из дома самогонки. Скучно в дороге... Может, вам отлить поло-
вину?
- Что вы? - Охранник отрицательно покачал ладонью. - Не надо. Вы только
сами тут не пейте!
- Упаси бог, разве можно? - Профессор с изумлением посмотрел вокруг. Ве-
стибюль до тесноты наполнился студентами. - Я понимаю, где нахожусь... Мне
еще в туалет надо...
- Тетрадку покажите на кафедре... А туалет на втором этаже.
- Кафедра! - благоговейно повторил Профессор. - У Иммануила Канта, Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля, у многих других были свои кафедры...
С потоком студентов, в котором преобладали девушки (некоторые даже краси-
вей Лены!), Профессор начал подниматься по широкой старинной лестнице.
Длинноволосое бледное существо оказалось парнем, который подсказал, где
находится мужской туалет.
Увидев клубы табачного дыма, валящие из дверей, Профессор обрадовался:
наконец-то! Сунулся в ту, откуда дым шел гуще, и наткнулся на ироничные взгляды
девушек, куривших возле кафельной стены. Кивком извинился, попятился, зашел
в соседнюю комнату, где дыма не было. А народу и вовсе никого. Справил малую
нужду, взглянул на себя в зеркало. На губе земляная язвочка, черные кровяные
крошки.
Некрасивый, старый. Земля не отстает даже здесь, впилась в сухую похмельную
губу.
Другое сердце
Профессор медленно шел по коридору, поражаясь его ширине и высоте. И
трактор проедет, и вертолет пролетит! Дух науки.
«Старина! - уважительно думал он. - Даже в обкоме коридоры меньше». Обко-
ма давно нет, а коридоры остались прежними...
Был у него единственный московский друг, известный в то время литератор и
журналист, писавший о проблемах сельской молодежи. Познакомились в кулуарах
комсомольского съезда. Из Тужиловки Профессор послал ему «Записки сельского
жителя» и очень удивился, увидев их напечатанными в молодежном журнале, с
портретом (прозвище Профессор тогда еще не успело к нему прилипнуть) и
вступительной статьей, где он был назван «русским Якобом Бёме», «продолжате-
лем дела Н. Федорова», «Вернадским из деревни Тужиловка».
Писатель, благожелательно относившийся к Профессору, скоропостижно умер
несколько лет назад, не дотянув до пятидесяти. Профессор случайно узнал об
этом из газеты, в которую что-то завернули трактористы. Портрет человека с бо-
родкой, черная рамка, некролог... С горя запил, бросил пахать зябь, допахивал
по первому снегу...
“Зарубежные записки" №19/2009
61
Александр ТИТОВ
В университете не жарко - разве нагреешь такие залы, своды, колонны? Вроде
колхозной мастерской; сколько ни топи, пальцы зябнут, когда гайки крутишь.
Сознание окончательно прояснилось, было стыдно. Вспоминал покойного дру-
га, умнейшего человека. Сохранился номер телефона в записной книжке...
Умер на ходу, застыл в потоке людей с черным лицом на выходе эскалатора.
«И я умру где-нибудь под лозиной, на обочине поля - или прямо в кабине
трактора, - думал Профессор. - Как в стихе про старинного пахаря: ’’Комком
земли отвалится...”»
Достал нахолодившуюся тетрадку, жалкую и одновременно увесистую, сдул с
нее крошки, стер сальное пятно, расправил уголки. Тетрадка истрепалась за пазу-
хой, в карманах комбинезона, под сиденьем трактора, пахнет соляркой. Уголки
мягкие, как вата, прилипают к кончикам пальцев. «Отпить половину - и на вокзал!
Тоже мне ’’труды”, на хрен!»
Обещал охраннику быть трезвым. Здесь университет, а не забегаловка. Стыдно
перед детьми. Они здесь учатся! Любая из этих девчушек в тысячу раз грамотнее
Профессора. У них - судьба, а он свою до сих пор не ощущает. В тетрадке много
написал, а в сердце всё по-другому.
Она ждала
Одна за другой. Подчеркнуто скромные, одеты как-то странно. «Чтобы учиться
здесь, нужно быть монашкой, - размышляет Профессор. - Калейдоскоп наук в
женском уме - непостижимо!»
Деревенские юбки, чулки в нитку, кофты 50-х годов! Не каждая бабка наденет.
И вокруг все древнее - стены, своды, лестницы. Чуть рассеянные лица: выучила,
сдала, тут же забыла. Диалектика смыслов.
Зачем приехал? Не приглашали, сам явился. Другая Москва. Не узнаёт прежнего
своего любимца с прозвищем, которое дают только в деревне. Есть что-то прият-
но-горькое в осознании того, что тебя здесь никто не ждет и никому ты не нужен.
Еще одна бежит в рассеянности миловидного лица. Ей бы валенки с калошами,
«кухвайку» - девушка из юности Профессора.
- Эй! - окликнул неожиданно для себя, как у него обычно получалось.
Девчушка остановилась - запыхавшаяся, покрасневшая. На щеках точки от уг-
рей, но хорошенькая.
- Садись! - Грубая, как лопата, ладонь рядом со шляпой и тетрадкой.
Ошеломленно присела. Веснушки, за спиной коса. Подумал, глядя на нее:
«Москва все-таки ждала меня!..»
Молча передал ей тетрадку.
Студентка недоуменно раскрыла ее, не в силах читать разноцветные каракули
- зеленые, красные, синие. Послюнявив палец, перевернула страницу за разлох-
маченный уголок. Ногти крашеные.
- Что это?
- Моя работа по философии. Подскажи, кому показать?
- Философия... - Наморщила лоб. - Наверное, Николаю Ивановичу, он курс
ведет.
Оживилась: хороший преподаватель!.. Встала резко - пойдемте! На ходу доста-
ла мобильник, кому-то позвонила: где Николай Иванович?
«Ну, закрутились дела!» - с радостным испугом подумал Профессор.
Оказалось, что Николай Иванович на лекции, у него сразу две группы. Студент-
ка, которую звали Света, вела по крутым широким лестницам, коридорам. Нашла
аудиторию, вызвала Николая Ивановича.
Вышел человек лет сорока, с бородкой, кивнул Свете, взглянул через очки на
гостя.
62
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
- Вот... он написал. - Света, покраснев, протянула преподавателю тетрадку.
- Ну и что? - спросил Николай Иванович, принимая тетрадь особенным жестом.
Так кузнец берет заготовку, размышляя: то ли в дело пойдет, то ли швырнуть в
угол.
- Он хочет, чтобы посмотрели. Здесь трактат...
- Хм... Я, конечно, посмотрю. Но не сегодня и не завтра.
- Да я что... - растерялся Профессор. - Я вроде того как... Мне вообще...
Света взглянула на гостя, затем на Николая Ивановича. Все трое молчали, слу-
шая гул аудитории за дверью. Преподаватель машинально перелистал страницы.
Пора было расходиться.
- А давайте покажем его студентам? - пролепетала Света. - Такого момента
больше не будет...
Смотрела то на одного, то на другого. Николай Иванович взглянул на Профессо-
ра, потеребил бородку.
- Пойдемте! - решительно воскликнул он.
Прощальное слово
Вошли в большую комнату, где сидело с полсотни студентов. На Свету смотрели
с большим интересом, нежели на Профессора, которого никто, пожалуй, и не
заметил, как не замечали истопника во времена Ломоносова. Какой-то длинный
мужик в пальто.
- Уважаемые друзья! В качестве отступления от темы предлагаю познакомиться
с... - Николай Иванович взглянул на обложку тетради. - С Алексеем Филимонови-
чем... Он приехал к нам из глубинки, привез работу, которая называется «Экзи-
стенция труда и современная почва».
- Сколько времени для выступления? - спросил Профессор, давая понять,
что неоднократно поднимался на трибуны разного уровня. Чувствовал: наступают
главные минуты жизни, не сравнимые даже с теми, когда его слушали на съездах.
- До конца лекции двадцать минут.
- Уложусь за десять.
- Ну, пожалуйста.
Профессор снял пальто, положил его на стул, затем взошел на кафедру, погла-
дил ее, как давнюю знакомую.
Света смотрела на него в каком-то оцепенении, словно ей предстояло отвечать
за каждое слово этого человека. Веснушки, сияющие желтыми огоньками, делали
ее неповторимо родной. Профессор почувствовал во рту сухость, язык одереве-
нел. Из последних сил подмигнул Свете: не подведу! Трибуны, на которые всходил
прежде, всегда добавляли ему внутренней твердости. Возвышенное место на-
страивает на тон, заставляет говорить коротко, по существу.
- Дорогие дети, выслушайте меня! Я - простой механизатор... - Речь стопори-
лась, философские термины испарились из головы. Да и нужны ли они сейчас?
Профессор так и не научился их правильно выговаривать.
- Вы знаете, что цивилизация, не в упрек ей будь сказано, съела русскую де-
ревню. Не специально, а объективно, фактически - однако сама от этого не
окрепла и находится в кризисе. Никто из мыслителей не заглянул в нижние народ-
ные воды. Из крестьянской среды не вышло философа или писателя, способного
понять корни. Я не в счет...
Студенты улыбнулись. Николай Иванович взглянул на Профессора более при-
стально, перестал теребить бородку. Ободряюще кивнул: продолжайте!..
Этот жест чрезвычайно обрадовал Профессора. Москва признала его! Слова
текут из темных глубин. Нужно быть новым, сегодняшним. Заговорила почва, кото-
рую пашет три десятка лет. Губы шевелятся тяжело, как глиняные.
“Зарубежные записки" №19/2009
63
Александр ТИТОВ
- Хочу разглядеть в обществе духовное ядро - на что нам держать равнение?..
Зябко передернул плечами, желая показать, как трудно жить без этого таинст-
венного «ядра». Озноб от волнения и похмельного синдрома. Соточку бы для
оживления смысла!
Тренькнул мобильник. Смуглая студентка, приложившись к трубке, отвечала
вполголоса, «да», «нет», скосив глаза на забавного человека в двубортном пиджаке
с потускневшими значками на лацкане. Лоб оцарапан, разбита губа...
«Она могла бы говорить в коридоре, но не уходит! - обрадовался Профессор.
- Значит хочет слышать мои слова!»
- Вы, ребята, молодцы: учитесь, стараетесь. На вас вся надежда. Вот Света,
журналистка будущая, вот Николай Иваныч - он мне слово предоставил... Москва
хорошая, я в нее верю, она никому не даст пропасть. У меня, товарищи, есть гло-
бальный недостаток: я, так сказать, выпиваю. И частенько. Что-то, елки-палки,
имманентное во мне сидит, не преодолевается... Философия, дети мои, не может
всего объяснить. Народа в прежнем его смысле больше нет. Я - последний его
представитель. Я не вымираю, но огонь сердца едва тлеет. Такого, как я, у вас
больше не будет...
Почувствовал, что из глаз текут слезы. Настоящие - горячие, соленые. «Я -
плачу! - удивился, оборвал речь на полуслове. - Матушка не поверит...»
- Скоро я умру, дорогие товарищи студенты. Это реальный факт. Но и бессмер-
тие - реально. Это гумус, живой слой. Смысл его до сих пор не познан. И тяга к
земле тоже необъяснима... Ребята! Я очень рад, что увидел вас. Я в полях, в сво-
ём, мой путь никому не пройти. Но ведь и я не успел прошагать тропинкой турге-
невского мужика. Времена уходят - неизведанные, непонятые. Подумайте обо
мне, когда уйду. Ведь и во мне тоже есть научная крупинка!..
Профессор огорчился, что опять говорит как-то не так. Последнее слово для
слушающей Москвы.
- Для меня встать в четыре утра - норма. Ложусь поздно, задав свиньям и те-
лятам корм, чищу у них. Пью. Не смотрите, что я тощий, - силы у меня, каку лоша-
ди. Бьюсь с землей, словно грешник, зато она играет со мной, как святая. Иногда
она капризничает, ничего не хочет, но чаще в победителях оказываюсь я. Она,
товарищи ребята, скажу по секрету, поддается. Она - женщина...
И почему-то взглянул на Свету, вновь покрасневшую. Запаса румянца у нее
хватит на десятерых. «Интересно, откуда она родом? - мелькнуло в сознании. -
На вид - нашенская».
- Я - земледелец. Если я болен, все больны. Когда пью - всем похмелье. Я
увидел вас, дорогие мои люди, и стал совсем другим. Спасибо вам!
Сошел с трибуны, перевел дух. Николай Иванович поблагодарил его, пожал
руку и более охотно взял тетрадь, пообещав прислать отзыв.
Света проводила гостя до лестницы, помахала на прощанье ладошкой, похожая
в этот момент на Лену. Для мыслителя нет разницы, блондинка, брюнетка, или
китаянка - истинно женское, московское в них!
Охранник на выходе взглянул на радостное лицо Профессора.
- Всё нормально?
- Отлично!
- Заходите еще.
- Спасибо. Может, еще приеду...
Неисправимый
Снова куда глаза глядят, до первого метро. И на вокзал. Знакомые неразборчи-
вые слова - московское небо шепчет. Пальто надоело, хочется в привычную те-
логрейку.
64
ТУРГЕНЕВСКИЙ МУЖИК
Жизнь летит мимо, растворяясь в сумерках. Москва ушла вперед, в неведомое
для нее самой. Убежала не только от Профессора - от всех. Только сейчас, в
свой последний приезд в Москву, Профессор понял, что жизнь его прожита зря.
Пахал колхозные поля, блудил в темноте, выезжая из тумана на огоньки. Падал
вместе с трактором в овраг и лежал несколько дней, придавленный в кабине,
глядя по ночам на звезды...Почему далекие огни до сих пор манят к себе? Сядет
в поезд, прижмется, как в молодости, щекой к запотевшему стеклу и будет долго
смотреть на улетающие микрорайоны, пока поезд не вырвется в степную мглу.
Забыл сказать студентам, что минувшим летом на комбайне занял четвертое
место по колхозу - для пьющего человека неплохо. До морозов пахал зябь, пред-
седатель в качестве премии дал два мешка сахара. Вспахал за самогонку под зи-
му огороды всем деревенским старикам. Узнали, что едет в Москву с «умственной»
тетрадкой, пришли целой делегацией, плакали: «Кормилец ты наш! Куцы тебе
несёть во тьму московскую, в тяррор страшнай? Не дай бог, убьют в каком-нибудь
тиятре... Разве мало, что мы тебя тута Прахвессаром величаем? Какой табе ишшо
славы захотелося? Заходи в любой дом - везде ты жаланнай и нужнай. Первейшай
для нас чилавек!»
Зашел под арку, огляделся - никого! Поставил портфель на асфальт, перевел
дух.
Портфель высился усеченной пирамидой: потрескавшийся памятник социализ-
му.
Достал бутыль, отвинтил крышку, приложился. Привычные глотки. Долгождан-
ные, терпкие, почти забытые! Прощай, университет, прощайте, прекрасные лица!
Выдохнул, зажевал коркой. В голове многообещающие молоточки, по телу отда-
лось иголками. Огляделся: еще!.. Решетка с узором: чугунный тавровый смысл...
«Здесь Москва - моя иррациональная кровь, серый мозг асфальта... Я бесси-
лен, ничтожен, забытые души вопиют в моем сердце. Возвращаюсь к ним навсег-
да. Не о чем больше говорить и думать»
Уперся горячим лбом в решетку, как в самого себя, дальше идти некуда, кроме
как на вокзал.
«Вот она, глубина непроизошедшего», - подумал с грустной зачарованностью.
Самогонка жгла губу - нельзя целовать землю! Пусть!.. В третий раз отпил из
посудины - огоньки в голове роями. Тепло от желудка, соскучившись, подтекает
к сердцу. «Иди куда шел!» - городской воздух намекает.
Защелкнул портфель, вышел из-под гулкой арки, где каждый шаг разносится
как особенный. Огоньки машин, яркие светофоры. На Павелецком ждет поезд -
длинный дом с желтыми окнами.
“Зарубежные записки" №19/2009
65
Александр МЕДВЕДЕВ
ПРИДУРКИ
Рассказ
Болезнь обычно сначала маленькая, как воробей, влетающий в открытую фор-
точку.
Бьется это крошечное в новом пугающем объеме и хочет выпорхнуть вон.
«Кыш, - ему говоришь, - кыш». И твои домашние тоже суетятся усердно, машут
руками, распахивают окно настежь.
И он-оно-она выпархивает, исчезает.
Но ты вдруг ощущаешь пространство, объем своей жизни похолодевшим и
пустым настолько, что не находишь в нем себя самого.
И твоя виноватая улыбка говорит об этом.
Не болезнь улетела - ты вдруг исчез, вместо тебя в тебе - в единственном
доме твоем - поселился кто-то новый, и ему предстоит жить новую жизнь.
Таков и инсульт.
В старых биографиях часто писали: апоплексический удар. Так же часто, как
«умер в нищете и забвении».
Больницы все больше белые, отгороженные от остального мира, а их окна,
даже если они большие, глядят бойницами. Наша же - как аквариум из сине-зе-
леного стекла. Поток действительности катит мимо в три полосы с такой же скоро-
стью и напором, как и обратно, и тоже трехполосо. Стоящему у окна делается
непонятно, зачем с остервенением надо переть куда-то туда, если оттуда мчит
поток жаждущих поскорее покинуть то место.
Некоторые едущие туда и оттуда реагируют на наш зелено-синий дворец скор-
би. Одни дают газку, другие, наоборот, подтормаживают. Вспоминается им, мимо-
едущим, свое бытье-лежание здесь или беганье с пакетами в палату.
И они на мгновение, стоп-кадром, видят нас всех разом. И дежурненьких анге-
лов, дремлющих, пока не случилась рутинная беда.
Как будто обстрел какой или бой: суета, громкие шепоты и тихие крики. Носил-
ки, струйка из шприца. Увозят. И снова тихо. Соседи по палате делают вид, что
ничего не слышат, что спят себе, и всё тут. Таков больничный этикет.
Народ мы весёлый. Часть поклажи, положенной человеку на его житейскую
дорожку делом, долгом, семьей, самим собой и государством, можно выложить
из рюкзака и отревизовать со знанием путника и бывалого человека.
Вытряхнуть лишнее, какового оказывается немало.
Взвесить нужное, главное - самое тяжелое все-таки.
И желанные пустяки, которые то ли кажутся, то ли в самом деле смысл жизни.
Зимняя рыбалка с пешней и фанерным коробом для рыбы, который ни разу за
тридцать или уж поболее сезонов не бывал полон.
Или поездка в Паттайю, такую развратную и такую теплую... уже и путевка взята
как раз на новогодние праздники под пальмами. А теперь не то что на будущей
неделе, когда и путевка сгорит, но и - гори оно все огнем.
66
ПРИДУРКИ
Или диссертация - куча текста, написанного по-старинному - от руки. И пого-
ворено-переговорено, и очередь в ВАКе занята, как вот приехали - вылезай.
Конечно, тема и тебя-то не сильно грела, а прочим и даром не нужна, но ведь го-
ды, годы ухлопаны, лучшие годы. Ну, что лучшие - это только так говорить принято.
Вот на кандидатскую ушли действительно лучшие - пара лет после женитьбы.
Но годы все равно уходят, летя, пишешь ты ученые труды или только пиво пьешь
под Спартачок. Писал сидя на унитазе, пристроив перед собой самодельный
пюпитр-треножник. Больше было негде.
И много чего еще.
Остатки молодости и детства по углам твоего маленького, но и безмерного
жизненного пространства, как иголки с новогодней елки и летний тополиный
пух, которые находят друг друга где-нибудь под диваном и сваливаются в малень-
кие комочки.
Не знаю, как другие болячки, а инсульт штука полезная для оценки «пройденных
дорог», проветривания мозгов и ревизии последних. Как некий вихрь по ту сторону
вихров, проходится он во тьме сознания и делает delite ненужному, а нужное и
важное сортирует.
Перезагрузка.
В больнице совсем неплохо. Мы тут, как на полянке, на привале. Недуг очертил
малый круг возможного среди всего невозможного. И вот сидим мы, блаженные
придурки.
И каждый думает о своем.
В такие растекшиеся мгновенья человек слышит в себе как бы гул затухающий.
Это он перестает бороться -
а)с самим собой, чудовищем самым опасным и затаенным. Да и лень уже трепы-
хаться. Поздняк метаться. И ты не суетишься, и в этом твое достоинство, и не
мелочишься и не орешь. А то, что башмаки не зашнурованы и ширинку опять за-
был застегнуть - что ж, учись заново;
б)...с миром людей, своим честолюбием и правилами, которые ты по жизни
берешь на себя как обязательства. Чтобы быть застегнутым на все пуговицы,
надо следить, чтобы они были и не болтались на нитке. Это надоедает. Твое
чистоплотолюбие терпит урон, походка нетверда. Ты выбрасываешь белый флаг
- сероватый, если вглядеться, вроде казенной простыни.
в)...с временем, потому что никто ничего не поделает с миновавшим. Никто.
Ничего. Но и лучшего и дорогого у тебя не украдут. И подумав об этом, ты
усмехаешься в полутьму светающей бессонницы с вызовом. И даже показываешь
язык - интересно, кому?
И засыпаешь.
А просыпаешься с неясной тревогой: ночная твоя опись неполна, и подсозна-
ние, как монах в келье, корпело над ней, пока ты спал. Ах, вот что... Список потерь
неполон. Будет полным, когда помрешь.
Пока ты, мил человек, ешь кусок хлеба, а не пьешь его, изминая остатками зу-
бов и деснами до младенческой кашицы, - радуйся.
Пока ты можешь сам ходить куда надо и мыться сам, новой вехотке взамен
истершейся - радуйся, три погорбатевшую спину и опустевшую мошонку. Это
все ладно и хорошо.
Пока ходишь ногами и берешь руками - радуйся.
И будь доволен.
А в тот солнечный, огненный от света день, когда тебя заштормило и потолок
стал стеной на тебя надвигаться, ты подумал: а Стикс-то, наверное, вовсе не ре-
“Зарубежные записки" №19/2009
67
Александр МЕДВЕДЕВ
ка, а море. Но ведь было в тот день пасмурно, так откуда столько света? И почему
коридор круглый и ведет сам в себя...
Инсульты, как две Тамары из песни, ходят парой.
Довольно равнодушно подумал: «Я отчаливаю».
Но тут набежали люди в белом, меня изловили широким объятием и повалили
на каталку, и быстро-быстро повезли в реанимацию. Странное словцо, если поду-
мать. Жизнь - это, выходит, анимация, и когда ей почти кранты и конец фильма,
то тебе, твоей бренности делают РЕ. Серия выдохлась настолько, что и сценарист
устал, но ты еще покушаешь вволю таблеток. Неумеха медсестра поищет иглой
твою бледную вену.
И ты, придурок, если не превратился в полного идиота, еще поскрипишь.
Тебя с рокового этажа-рубежа переводят обратно на свой, откуда взяли. Дру-
зья-придурки почти все лежат, как лежали, добавилось сколько-то новеньких.
После обеда как раз нам развлечение - придут новые студентки-практикантки.
Будут нас экзаменовать. Эта сценка - чуть ниже. Сперва несколько портретов
пером, с кем леживал рядом, сидел у телевизора или курил запрещенную сигарет-
ку.
Петрович любил рыбалку, и не простую - с удочкой, теплом рассвета, комари-
ком, а зимнюю, со стужей пронизывающей, верным тулупом поверх бушлата, а
поверх тулупа еще брезентуха. Если бы Петрович знал это слово, он бы сказал -
экстремальную. Вот такую рыбалку любил Петрович уже тридцать лет так страстно,
что забывал порой выпить взятую с собой бутылку.
Все останавливалось в нем, как только он наладит пешнею две-три лунки, оку-
нет в них удочки и закурит. Кристаллизованное время делалось как лед реки,
привычная ругань со всем миром и поселковыми «фуеплетами» улетала прочь,
становилось хорошо и покойно.
Река в местах Петровичева обитания огромна, а на большом просторе всегда
почти - ветер. Вот и сейчас он завивался вокруг огромных, как танки Первой им-
периалистической, пимов, усиленных калошами. Руки защищает верный друг
Шарька, с которого по случаю возраста сняли шкуру и пошили нашему рыбарю
меховые рукавицы. Петрович часто их и на ночь надевает, когда ломит кости «ре-
матизьм» - тяжкая плата за рыбацкие радости, но без них и жизнь - не жизнь, а
одно расстройство.
Жаль, на шапку не хватало псины.
Рыбак наливает и выпивает.
Водочка вдохновенно течет от пуза к сердцу, залезает как, глупый ласковый
щенок, в приятные воспоминания и будит их. Самое лучшее - как он свою бабу
уговорил замуж за него пойти. Девка она была видная, да и сейчас ничего. И ко-
нечно, знала она про издетскую страсть Ивана нашего к рыбалке. А это худо де-
ло. У нее в семье отец, дядька и старший братец-придурок тоже были рыбари на
всю голову и пьяницы горькие. И поэтому Светка ни в какую, хотя Иван ей, в це-
лом-то, нравился. Даже припечатала широкую Иванову спину к нагорной березе
и спросила властно:
- Будешь рыбалкой маяться? Тогда не пойду.
Ваня наш трусливо загибал про «иногда» и «в отпуске», но было слышно, что
врет сам себе у березы своей судьбе-невесте. Здесь врали про неусыпные чувства
и прочее, но врали искренне, а это враньем не считается. В таком вранье самая
правда.
Здесь вершились многие главные дела в бывшем старинном селе, которое по
случаю новой фабрики именуется поселком, а было селом с ярмаркой.
И могло не сладиться дело, которое нашего героя зажгло здорово. Трудно не
гореть, когда милашка твоя через один огород от твоего окучивает картошку или
68
ПРИДУРКИ
полет овощ, и попка ее как нарочно поворачивается к тебе навроде подсолнуха.
И нет тут игры, потому как ты, подлец, спрятался в райских кущах конопли, крапивы
и хрена на малой возвышенности огородного погреба и смотришь.
И тут вдруг случись это. Перед Новым годом пошел Ваня один на рыбалку и
насверлил лунки как раз в нужном месте. Окуневая стая - летом их не бывает та-
ких, а зимой они зачем-то сбиваются плотно и так стоят. И кидаются на движение
- а это наш Иван дёргает их одного за другим.
Петрович наливает себе плепорцию.
Надергал он кучу приличных окушков, накопивших на зиму жирку, и только тут
подумал: а как он это счастье до дому доставит? Делать нечего, снял штаны, за-
вязал леской штанины и набил туда заледеневший улов.
Тяжким хомутом висела ноша на нем, когда Ваня шел по селу до дому. И дога-
дался наш жених в таком виде - в одних кальсонах то есть, но с богатым уловом
зато - зарулить на Светланин двор. И без сил пал у дверей. И двери открылись,
и пьяный тестев голос был:
- Светка, иди, мужик твой пришел.
Леночке сделалось все труднее добывать себе новых мужей. Самое обидное
- кривая пошла не круто, но вниз. Первый был замминистр, и стал-таки министром,
но уже потом, без нее... Двое следующих были большими людьми, но все же ка-
либром поменьше. Один член коллегии, другой что-то вроде того, и тоже потом/
после почти вышагнули в замы, но застопорилось в последний момент. То есть и
их кривая тоже не того, не круто, по нисходящей... или это ты задала такую линию...
тут Леночка улыбнулась своей знаменитой в кругах мгновенной улыбкой, но тотчас
пригасила ее. Губки ее точеные чуть раскрывались, как бы желая выдать некую,
наверное, прелестную, или «ужасную» тайну, или же скушать что-то маленькое и
нежное, скажем, мятную пастилку - и тут же смыкались, но неплотно, и уголки,
где у нее теперь две махонькие морщинки, закруглялись, как у кошечки.
И еще у Леночки было одно счастливое и важное свойство, совершенно отпри-
родное (то есть честное) сродни гипнотизёрству врожденному.
Леночка всегда видела себя со стороны. Так, говорят, видят себя умирающие.
А она, еще ого как живая, всегда видела себя откуда-то из-под потолка, как сидя-
щие на невысокой галерке зрят партер. Впрочем, как сказано в одном партийном
анекдоте, нам снится, что мы в президиуме, просыпаемся, а мы в президиуме,
то бишь в партере и есть.
Маленький изящный театр, куда не продают билетов, а есть только абонемент,
который тоже не продают в окошечке, но распределяют, совершенно на цеков-
ский манер, среди совершенно своих, в каковое число надо просачиваться посте-
пенно - или уж махом врубаться. Леночка сейчас в режиме «взгляд со стороны».
Может, как видеокамера, включаться и офф. Это помогало ей в жизни здорово.
Она привыкла сама себе как бы шептать на ушко: держи спину, не забалтывайся,
уже косая, будя.
И другое всякое, не столь важное или еще более решающее по жизни. И бы-
ла ее спина всегда прямой, болтовня порционной, с прицелом на дальнейшее,
питие - частью сценария, тогда как другие ее врагини-подруги разбалтывали
секреты мужей, а те - их скучные тайны, и напивались тупо и глупо, и пуза эти вы-
пяченные, боже ж ты мой... Неспешный сбор гостей - именно так тут мы зовемся.
То есть не зрителей - не зрители мы, но участники. И даже режиссеры-актеры.
Творцы. И их спутницы, мастерицы неких сценариев жизни, точней будет сказать
- партитур. Итак, сбор гостей нетороплив, нешумен. Никто не ерзает в нетерпе-
нии - когда ж начнут, не подхлопывает занавесу, изредка являющему то локоть
чей-то, то ногу, то из-за него слышен вульгарный топот каблуков. Им не скучно в
ожидании - кстати, чего? - сегодня, кажется, то есть совершенно четко - оперы.
“Зарубежные записки" №19/2009
69
-------------------------- Александр МЕДВЕДЕВ ----------------------------
Маленькой такой - по составу - оперы, стильной, говорят, ужасно, стёбной,
говорят, на грани фола.
Будем посмотреть.
А должен был по программе быть бенефис юмориста нашего знаменитого.
Ну, где бенефис, там годы-года, ишемия и прочая бяка. Юморист не на шутку
слег, конечно, в ЦеКаБэ, и его заменили на певучую трагедию стёбную, с матерком,
говорят. Из древнеримской жизни и всякие развраты. Впрочем, как возглашал
один знакомый Леночкин поэт, матюжок - как утюжок: им можно ушибить, а можно
и погладить.
Кстати, юморист. Никуда он не слег, наоборот - срубил гастроль в Канаду и
улетел покосить зелени. Это Леночка кое-где, на процедурах, поймала краем
уха, всегда чуткого, что твой локатор.
Левое Леночкино ушко, а также локоток и левый же краешек уст контролируют
ситуацию. Оная состоит из тьмы всякой важной корысти, ее же вмещают в себя
два существа-вещества. То есть ее нонешний законный и его, надо надеяться,
свежеобразуемый друган.
Супруг Леночкин строит, и весьма круто, но не так, чтобы ввысь и у всех на ви-
ду. К сожалению, встречая кого-нибудь важного с прилета, нельзя небрежно бро-
сить пальчиком в окно авто, летящее мимо этого, хорошо бы многоэтажного -
мол, мой нагородил. И для соуса подпустить фронды насчет исчезающей старины.
А Леночкин супруг делает это, как он сам говорит, underground, и даже непонятно
что. То есть она всегда лишь слегка понимала, что там творят-руководят и Костя,
и, слава богу, Корнелий Иванович, и Додик.
А тут, на старости лет», слегка проснулся интерес к тому, что там, за ее кругом,
но Леночка натолкнулась на твердоватое, кажется, профессиональное, помалчива-
ние и уводы в сторону. Однако же она стала потихоньку понимать, что муженек
ничего такого и не возводит и не закапывает в свою подземь, а только курирует,
визирует, согласовывает.
Подготавливает и корректирует.
То есть и это делает кто-то, другие, кого она и не видела никогда, не знала
даже, как выглядит то учреждение, где всё у него ровно с девяти и вершится. У
него Право Первой Подписи, как в баснословных старинах право первой ночи, и
оно дорогого стоит.
Сколько сейчас - Леночка не знает, но надеется и даже понимает по некото-
рым признакам, что цена растет. Иначе зачем бы он держал на письменном столе
чудесные журнальчики про дачи Италии и интерьеры в английском стиле.
Почти друган Сосо подсажен к ней - опять же по законам не зрелища, а за-
столья. Или Леночка подсадной уткой? Какая ж разница. Перемены слагаемых.
Главное и греющее Леночкину душу, что рокоток их беседы Леночке словарно
сделался совсем непонятен. По интуиции, двум-трем отлетам обрубленных фразо-
чек Леночка понимает, что дело у них не мелкое и многократное. Госзаказ. Леноч-
кино альтер эго приказывает лицу светски скучать, расслабиться, ловить взгляды
знакомых. Как бумажные самолетики, улыбки и кивки порхают по залу, а Леночка
чуть поздновато включилась в игру. Прокол. Психологов и душеведов тут полно,
могут довычислить, зачем это Леночкин муж с его ПрПеПо и друган с его мифиче-
ской мошной как полуобернулись друг к дружке, как две ладони или створки рако-
вины, так и застыли, только губы чуть шевелятся. Что там за жемчужина такая вы-
ращивается в этой раковине? Леночкин муж таких тонкостей не понимает. Душа
подсказывает, да и диспозиция обязывает, что почти-друган, как истинный грузин,
должен быть потоньше кожей, и он ей поможет. Деловые разговоры прерывать
нельзя.
Но ситуация требует.
И Леночкин театральный кошелек летит на пол с ее колен.
70
ПРИДУРКИ
Рассчитано, что пади он на ковровое мягчайшее покрытие, услышано не будет.
Потому кошелек с мобильником и ключами попадает на могучую туфлю Сосо. Бога-
тырский разворот корпуса резковат, но на исходе дуги Друган уже поймал нить и
наддал светской плавности. Молодец. Сколь-то лет зоны, сборная но вольной,
кажется, борьбе - все нипочем, когда природа. Леночка дает ему опередить се-
бя самую чуть, так что руки и плечи их касаются друг друга. Крыло леночкиной
французской прически, слегка прокинутое ею влево, щекочет иссиня бритую щеку
Другана Сосо. Так. Эритроциты грузиновы получили порцию ферментов, тестосте-
рон забродит как надо. Следует подготовиться к атакам другановых воловьих очей
и кавказского красноречия. Леночке все это лишние хлопоты, но - такая у нее
работа. Главное, статика разбита, парочка фраз о предвкушаемом святом искусст-
ве фиксируют паузу. Муженьку улыбка, словцо, прямой взгляд в зрачки - и он по-
нял. Так не всегда. А то уже лоб сморщился поперек, что у него знаменует досаду.
Погасил вовремя - получай в зачет очко.
А тут и шампанское понесли от заведения - забить время.
А тут и Vip пришел в сером костюмчике неизменном, сама скромность, как и
положено миллиардеру, с красавицей женой. Вот для кого резинили, а не декора-
ции достраивали.
А тут и златой бархат раскрылся, как плащ уличной проститутки, и - грянуло.
Древний Рим оказался весь в арматуре и трубах, как нефтеперегонный завод. На
пьедестале, явно намекающей на трибуну, стоял голый мужик с копьем и венком
на кудрях. Чуть шевельнулся - это, все поняли, режиссерская фишка для тупых,
чтобы не подумали, будто манекен. Леночка с трудом проглотила смешок - не от
фигуры, конечно, мало она геев видела, - а от мысли, что ей захотелось увести
двух взрослых дядек в буфет, как мамаша уводит детей с гулянья, завидев собачью
случку. Далее будет все круче и круче.
Леночка с тоской заглянула в режиссерову душу, словно бы пролистала все
его фишки-находки.
Позолоченные фаллосы пидоров, переодевания и нефтянка сквозь его поганую
призму «нового смотрения» дунули противным ветром на лепестки ее врожденно-
го вкуса. А вкус отчасти заменяет совесть.
И вдруг люстра снова засветилась, но стала бить прицельно, как прожектор в
беглеца, и уже не убежишь.
«Последний акт?» - подумала Лена. И, закрывая свои серые очи, улыбнулась.
Инфаркты с инсультами устали быть чисто мужскими болезнями.
В июле, в августе как рано ни встанешь, всё поздно. На кухне, на столе и под-
оконнике уже наискось брошены жаркие оладьи солнца. В отпуск вы нынче ни-
ни - пошла карта, клев и жор. То есть попер клиент, прошлые лета дремавший,
как карась, - в антальях, кто побогаче, на подгородных дачах - прочие. Северяне
- те не на дачи ездят, а исключительно «на сады». То есть домик, часто плюс
банька, души отрада. Огород со всяким разным и непременной картошкой. Сад
представлен у них парой-тройкой рябин, которые не любят чрезмерное соседство
себе подобных, в точности как наш брат коммерсант, да еще малиной, буйной и
веселой, как деревенская пьянь. Но все же «сады» - это греет иззябшего насельни-
ка стран полнощных. И я там был, мед-пиво... да. Всякий раз, когда звонишь на
фабрику за Хребтом где-то, сознание выбрасывает картинку. Как компьютер, куда
ушлые виртуальщики суют тебе свои рекламки с самозагрузкой.
Пока обмен веществ делает свой утренний моцион, да елозишь зубами по
щетке, надо прочистить клеммы в мозгах. Они с годами срабатывают все медлен-
ней, по очереди, блоками. Хорошо посчитать, типа, рублевые тыщи, перевести
в уе( девушки, у вас ценники в уях - то есть в долларях? Нет, в евро. И сколько ж
“Зарубежные записки" №19/2009
71
Александр МЕДВЕДЕВ
вон та модель просит еврей?), потом выявить процент навара, отнять то-се,
вернуть эту сумму в родимые - негусто, но свои.
Как ни рано встаешь, все поздно. Пока на Москве ее отважные брокеры и ло-
еры смотрятся в ванное зерцало, уж доярки и дояры вернулись с первой ходки,
скотник, коровий ассенизатор, «пухмелился», выкурил боломорину и шурует, мате-
ря пеструх и зорек, а те ласково поглядывают на него огромными глазами и дума-
ют о нем: глупый, но сердце доброе...
Твоя благоверная, единоверная и соучредитель, к тому ж директриса всей
этой беды, сладчайшим голоском просит банковскую лебедь «заглянуть на счетик».
Ты ловишь в ее неизменно радостном спасибе тридцать вторые доли тона, это у
тебя спорт такой: угадать, есть или пусто. Если есть, то сколько. Порядок цифр
до первого нуля. Угадывать стал все точнее, потому супруга усложняет тебе задачу,
убирает обертоны. Но слух изострен, паузы после кивка трубке тоже кое-что зна-
чат. Все кое-что значит и в нашем деле барыг и шибаев. Многое, ох, многое рух-
нуло (и построилось) из-за тридцать вторых и шестьдесят четвертых долей.
Деньги, в массе, - музыка мира, где беспрерывно мы покупаем и продаем.
Все-всё. Руки, мозги, время, свободу и кабалу, щепу технологическую, лоскут мер-
ный, вексель паленый, землеотвод, фуру пива немецкого, вагон кряжа молодецкого
- или ту мелочевку, в которой ты со своей фирмочкой застрял, как воробей в куч-
ке свежих конских яблок. Сначала все порывался прочь, в какой-то иной мир-то-
вар, богатый наваром, чреватый богатством немереным, потерял на этом денег
и времени - пропасть. Но все не такую страшную, чтобы пропасть. Вот и клюем
себе овес, недопереваренный жарким чревом вселенской ярмарки. Радостен,
кто смирен.
И так прошло пятнадцать с лишком лет.
Инсульт находит тебя в складском подвале. Валясь набок, ты задел штабель
ящиков, и верхний, положенный неправильно, покачался над тобой, как бы разду-
мывая - не сверзиться ли вниз и не прихлопнуть ли хозяина. Пока ты валился на
пол, ящик колебался - и пожалел тебя, не свалился на пораженный твой, усталый
кумпол. Полежите тут, отдохните, начальник, скорую уже вызвали.
Оказалось, что на коммерции это и был твой последний день.
Мысли рвутся и путаются как-то странно, и я к этой странности еще не привык.
Как театр с вешалки, больница начинается с коридора, куда обычно и кладут но-
вообращенных, особенно если их привозят на скорой ночью.
Возле вахтенного пюпитра мы с дядей Колей, новобранцы последних дней,
были поселены в ожидании коек, освобождаемых по известным причинам: выпис-
ке здоровых - относительно, конечно, ибо наша болезнь не из тех, от которых
излечиваются вполне; выписке совсем нездоровых, часто беспомощных. Баклажа-
нов. Некоторые из придурков, сделавшись придурками полными, вдруг кидаются
на всех подряд, крушат мебель. Тогда вызывается милиция, т. е. власть, в присут-
ствии которой и возможно производить вручение или отъятие прав - на жизнь,
свободу, имущество или, как в данном случае, разум. Таких из нашей респектабель-
ной невралгии увозят в дурдом.
Мы на торном пути к сортиру и телевизору.
Скучать не дадут. Есть резон заранее мириться, что с выписками торопиться
не будут, что никто не помрет, - словом, что тут кантоваться недельку.
Но надо рассуждать здраво. Тепло, кормят, лечат. Бомжу хуже, но и здесь да-
леко до дна. Бомж живой и бомж мертвый - разные вещи. И ему, живому, сильно
завидует зэк на зоне. И так далее. То есть мы, люди, вряд ли когда осознаем се-
бя на самой верхней и самой нижней степени-ступени земного ранжира. В самом
низу нет нужды ни в чем, на самом верху - нечего желать, если такое вообще
72
------------------------------- ПРИДУРКИ ----------------------------------
человеку, существу жадному, возможно. А здесь и желать очень даже есть чего,
и бывает хуже.
Очень бывает.
Не знаю, как это по науке называется, но по жизни полный амбец. Молния
недуга часто шарахает в такое место, откуда мозги руководят тобой как телом,
всеми обвислыми снастями и штопаными парусами.
И вот когда мгновенный шторм проходит, лежит человек не живой и не мерт-
вый.
«Лучше бы умер», - думает его дом. Не думает, конечно, а так, - гонят мысль
в дверь, так она в окно лезет и лезет.
На тумбочке - яблочки, мандаринки, на лице улыбка, словами чирикает, как
воробей: «Ничего, ты еще молодой совсем, пенсию тебе прибавят, инвалидность
дадут, путевку. Ты главное не расстраивайся». И все такое прочее.
Ты для них, для своих, сделался в своем житейском объеме не меньше, а
больше, ибо хлопотен. А ведь не лежачий. Ну, это в любой день и час может
случиться. А пока ты все равно занимаешь большую площадь забот, жилплощадь,
наконец. А как славно бы все в доме растусовались, и малышова кроватка тютелька
в тютельку умещаемся (уже замерили, прямо при тебе), если выкинуь на хрен
твой письменный стол вместе с драгоценными для человечества рукописями и
статьями, будто бы давшими в твоей науке новое направление.
Племя, еще младое, но очень даже знакомое, ждет не дождется занять свою
законную жизненную нишу.
Было дело - не успел вынуть пиписку из трусов, опрудил штаны изрядно. Сам
вдоль себя потек противно горячей влагой до тапок. Это жизнь подразнила тебя
маленьким примерчиком возможного позора. Сделалось страшно.
Так что помни, придурок: здоровье у тебя более чем богатырское. И ты -
«еще молодой». Юный пенсионер, ты только второй год получаешь от казны.
В больнице хорошо думается.
Лучше, чем в библиотеке. Мысли - каталог бессонниц, та бездна, что «звезд
полна», ежемгновенно бомбит и долбит наши мозги жесткими своими лучами.
Микронный гигант - живая молекула белка - имеет на это дело даже свое ремонт-
ное хозяйство, ножницы дистриктазные, и ими выстригаются поврежденные части,
подобно тому, как садовник удалят из кроны сухие ветки. Но эти махонькие ножни-
цы ищут и непременно находят пару к мертвой ампутированной части и, волне
здоровую, удалят и ее. Природе люба парность.
В мире царит если не лад, то счёт.
А у нас правит и вовсе порядок. В мире, где порядок, должны быть праздники.
Наш праздник - студенты из мединститута. Вон они приближаются по коридору
стайкой лебедей и приумеривают порхающие свои шаги, гасят хи-хи, прежде
чем войти к нам уже не девчонками-мальчишками, не студентами, а докторами.
Собраны из палат те, кому сегодня предстоит экзамен.
Наши ответы заносятся в огромные одинаковые блокноты - не фразы наши
гугнивые, а только помечаются птичками разные графы. Стало быть, наука-матушка
давно исчислила нашу болезненную дурь, описала и разлиновала. Осталось лишь
птичку проставить - полный ты придурок или тебя еще есть смысл полечить на
казенный счет. Особо рад наш турецкоподданный - с него как человека с нашей
стройки положили не брать платы за лежание здесь, а то бы он уехал к себе об-
ратно на Босфор с Дарданеллами без штанов.
- Ну, и какой нынче год?
Самый популярный ответ - тысяча девятьсот седьмой почему-то. Ноли - они
как обмылки, не ухватываются памятью. Мы с ними еще не свыклись. Я бодро от-
рапортовал: «Предвыборный», - и получил зачет и согласное кивание. Родились
“Зарубежные записки" №19/2009
73
Александр МЕДВЕДЕВ
мы тоже в разное время - кто в тринадцатом веке, кто в четырнадцатом. Наши
имена медленно, так титры фильма, возникают из глубин пораженного мозга,
причем имя и отчество почему-то меняются местами.
- Где вы находитесь?
- В дурдоме ,- ответствовал дядя Коля, хитрый прораб, потому как опять забыл
номер больницы. Сказав так, выпучил глаз и рассмеялся. Среди прочих был и
вопрос - видимо, замер подсознанки, - когда закончилась война? Ни один не
ошибся.
Живое не столько умирает, сколько умеривается, убывает. И только потом ма-
ленькой точкой, последним пикселем - гаснет.
Но прежде старость блеклостью своей, сыпью старческой гречки на лице и
руках, сеткой морщин маскирует твою теплокровность и само твоё бытие, отключа-
ющее тебя от общего фона лишь на малую малость.
Чтобы вселенская хищность не увидела тебя в инфракрасном своём диапазоне.
Сквозь тебя, как сквозь пустое место, текут взгляды встречных женщин. Для
них тебя уже нет. То есть в существенной части, когда-то бывшей большей полови-
ной твоего существа, ты уже, друг мой, помре. И что, как, страшно было? Да точ-
ку невозврата ты просто не заметил даже! Так что не дергайся и не делай страшных
глаз.
Скорая, выныривая с улицы, клюёт фарами, поводит светом по потолку, рисуя
на нем крону тополя, шарит по палате и твоей бессоннице. Внизу небольшой
шухер, щелчок широкой двери больничного лифта - вертикального мостика над
Стиксом.
Привезли новенького.
А ты спи.
А еще у нас есть Гущин.
- Мишка, говорю ему, ты по родне не из владимирских? -
- Не, с-под Астрахани.
- А то там был тоже Гущин. Илья. Под Муромом жил давным-давно. Ильей Му-
ромцем звался.
- Ой ты, не свисти.
И побежал на улицу покурить.
Вселялся наш Муромец шумно, хотя ничего себе такого не позволял - просто
весь был просторный, жизнеемкий. Повалился на кровать - та сразу под ним и
подломись. Приволокли другую, усиленную нестругаными досками, по всему видно
- оставшимися от опалубки, с налипшими полосами бетона. Эта оказалась как
раз.
Копченое сало, лещ вяленый, огурчики соленые были в обильном запасе бога-
тыря. Он приглашал к дегустации всю нашу палату, меню же звало к зелию совер-
шенно однозначно. На дне Мишкиного вещмешка, который и сам весь пах привле-
кательно, нечто тихо булькало. Но нам нельзя, тут с этим строго. Вмиг нарушитель
удалялся вон не пролеченный.
Так что пока - ша.
Новоприбывшему у нас вменялось излагать историю болезни и автобиогра-
фию. Из гущинской выделялась простая истина: сгубила не водка, а ее неполное
присутствие, потому пришлось добавлять коньяком, который принес шурин, а
меньше бутылки на брата мы не умеем, ну и т. д.
Примерно то же Мише пришлось рассказать нашему доктору - экзотическому
фрукту родом с острова Цейлон, с испанской бородкой и волосами, прихваченны-
ми резинкой.
74
------------------------------- ПРИДУРКИ ----------------------------------
- И вот вы выпили... это всё и решили померить давление. И сразу вызвали
скорую?
- Да вот моя скорая, - ответствовал Гущин, разжимая рыжий кулак. На широкой
ладони его покоились автомобильные ключи с брелком в виде буквы «М», обозна-
чавшей явно не метро. Ой, блин, я же закрыть забыл!
И Мишка подходит к окну и жмет на пупку ключа. Со двора Мишкин “мерседес”
преданно квакает. Теперь порядок.
- И вы с таким давлением и явными признаками инсульта, после выпивки при-
ехали сами?
- Так не шурина же за руль сажать. Свою он уже разбил, но у него жигуль, его
не жалко. Шурина вот жалко, хоть он козел и придурок. Сам, конечно, и приехал.
А чё, медицина не рекомендует?
- С такими вещами медицина рекомендует лежать тихо под капельницей, пи-
сать в утку и не хлопать ластами.
Общество нашего Гущина зауважало.
Жизнь у Гущина, человека большого, была красно украшена победами и пора-
жениями. Скромный механик на опытном заводе, тачавшем нестандартное, стал
он мужать вместе с фирмой, еще до того, как восток и запад державы одновремен-
но расцвел зарей сами знаете чего. Мишку допустили до акций, дали поторговать
ими. Ничего не понимая в этом еврейском промысле, он наладил и снискал, обуст-
роил загончик, площадку, куда загонялись миллиарды рублей. Их звали «арбузы»,
чтобы отличать от миллионов-лимонов. Потом научился заманивать обладателей
лишних не-рублей. Фирма стала не фирма уж, а фирмища, корпорация. Знамени-
тая по самые не могу. Мишку от площадки отлучили, но не выбросили как «исполь-
зованный гондон» (это цитата), а дали поработать по специальности. И Мишка
катался между скважин, как бильярдный шар, налаживал ремонтную службу. Когда
наладил, его опять выдавили. Это вообще политика такая.
«Пидар-расы», - заскрипел фиксатыми зубами Мишка и только тут нашел себя
у телевизора, подле Елены и ее Петровича с пахучими ногами. Лене подумалось,
что Мишка это на передачу про звезд ярится. А Мишка на экран не глядел почти,
а глядел в себя.
Глядеть-вглядываться в себя он после инсульта стал пристально.
А еще ему вспоминалось одно и то же - тот гребаный пикник. Выбрали они,
значит, полянку чистую, где тень прохлады и солнце разумно сочетал навес бере-
зовой листвы - и приступили. Мишкин шуряк нырял в рюкзак и раскалывал припа-
сенное на скатёрку, приговаривая: «Так. Белки, желтки, корнеплоды и - тут шурин
разевал полную золота пасть - углеводороды. Доставалась здоровенная бутылка
с ручкой и ставилась в центр. Шурин с Мишкиной подачи поездил по нефтям,
стал деньги знать, пока не пил больше других.
После третьей или какой-то бутыли «углеводородов» Мишка вдруг почувствовал,
что заваливается на бок, а шурякова пасть смеется и плывет прямо на него, как
акула, и солнце бьет в глаза.
И сделалось Гущину хреново.
А любил Мишка машины - самозабвенно. Он и в палату наволок кучу журналов
с картинками, где не бабы, а авто. Было у него целое стадо. Жил долго в той же
хрущобе, совершенно равнодушный к дому-квартире, где и бывал-то мало, жил
бы и по-прежнему, да забунтила семья. Мишка уже встал в очередь на такую го-
ночную красавицу, какую и на Западе покупают после ожидания. Пришлось сдаться
бабе и ейной мамаше, то есть теще, и переехать в новую, громадную, гулкую, не-
любимую.
Не будем жалеть Мишку, ограбленного пидорами-демократами. Он и разорен-
ный богаче нас. А нас никто не обокрал - взять нечего.
“Зарубежные записки" №19/2009
75
Александр МЕДВЕДЕВ
Напротив Гущина - самый старший из нас. Он кавказец девяноста годов от
роду. Поет, не размыкая губ, тихо, но все равно гортанно. Слезы блестят на его
впалых щеках. Седые брови.
Старик часто поводит рукой перед собой, словно бы отдергивает занавеску с
окна, которая мешает ему видеть сад в цвету, роги с вином, горы в снегу, молодую
жену - кто ж его знает, что там еще может грезиться старому кавказцу?
Приходят к нему внучки-правнучки попарно, по очереди.
А ко мне жена приходит. Говорит - разделить твою грусть. Но грусть, делясь,
только умножается, как плутоний в реакторе. И дважды два - делается пять с до-
лями мандаринок. Их тебе хватит до следующего ее прихода.
Цитрусовые - это всегда в тему. Безалкогольные напитки - тоже, хотя ты про-
сил пива-а-лучше-вина. А совсем по сердцу бы - чекушку. Но нельзя.
Я лежал без сна и глядел в потолок. Опять скорая еще от ворот протянула три
хобота света. Свет поплыл по потолку и стенам крадучись или высматривая кого-
то. Уж не меня ли, - подумал я. И на всякий случай закрыл глаза и затаился. И ни-
чего плохого не случилось. Но дрема совсем пропала. Я подошел к окну и стал
рассматривать ночь.
Выше крон и больничных корпусов медленно плыл красный огонек на башен-
ном кране. Больгородок достраивается, работа не затихает и ночью. Кран нес,
как коляску, бадью с раствором. На кране, картинно освещенная, чтобы даже
звезды и облака могли прочитать, большая марсианская надпись: «Като».
Без сна и даже надежды заснуть лежал я и в потолок глядел. И одно обстоятель-
ство побудило скосить левый глаз в окно, обычно заполненное облаками и лист-
вою.
Сейчас там была в оранжевой спецовке дева в железной люльке и с каской на
голове. И, между прочим, блондиночка. Люльку с чудесной девой держала на ве-
су железная рука с надписью «Като».
Дева одной рукой держала пакет, а другой она делала мне, у окна стоящему,
завлекающие знаки и прикладывала пальчик к губам.
Ну, я и подошел молча, как велено. Думаю, так же поступили б и вы, читатель.
- Я вас не разбудимши? Меня Фешей зовут. Я вас попрошу открыть окно в
фойе, игде хвикус. Мне передать надо вашему новенькому. Фёкла отняла пальчик
от прелестных уст и указала им на пакет. Хохляцкий говорок ее был чудесный.
Я покорно двинулся к нужному окну и отворил его, принял на руки пакет и де-
ву. В пакете друг о дружку прозвякнули бутылки, хрустнули пластмассовые стакан-
чики, сразу захотелось выпить.
- А что же не через дверь? - спросил я хрипло, потому как волновался.
- А там охранник Костя. Он ревнует.
Изо тьмы, из-за фикуса уже проблескивал всем своим золотом наш турок, до-
ставленный к нам со стройплощадки. Турок сиял цепью, браслеткой, перстнем,
зубами огромными. Он лежал в коридоре на моем месте. Волосатый, с большими
рукам и-захватам и, усами, радостной улыбкой.
На предложение стакашка в виде гонорара за открывание окна я, четвертый
лишний, отказался гордо, но с болью.
Мы с турком, считай, тезки, зовут его Искандер. С этим делом получилось
смешно. Я сейчас расскажу.
Неунывающий дядя Коля в самые первые минуты моего здесь появления при-
стал банным листом - кто ты да что. Ну, я и сказал, засыпая от таблетки, - Алек-
сандр, мол.
- Модератор? Диверсант?
- Не диверсант, а шпион я, отстань, твою мать.
76
ПРИДУРКИ
- Вот здорово. А ты английский или американский? Скучные варианты.
- Турецкий я. Искандером меня зовут.
Ник-Нику это понравилось. Наутро продолжилась наша игра. И к завтраку уже
все медсестры знали, что я, новый ночной, затем здесь, чтобы набирать в турецкий
гарем. Образовалась и цена.
- Дядя Коля, ты не в долларах говори - в евро. И цена получше, и евро, я ко-
нечно извиняюсь, стоит-не падает.
Играли мы, придурки, точно, вдохновенно. Только я заснул после капельницы,
как подсаживается медсестра и, глядя в сторону, тихо молвит:
- За хорошие деньги и в жены - я бы пошла... Только без обмана.
И как нагадали - через день этого турка доставляют - и на мою койку кладут.
Персонал в своих халатиках слегка огибал туркову лежанку - уж больно руки у не-
го были загребущие на вид, с грядками волос меж фалангами пальцев, увешанных
перстнями и кольцами. Из майки клубилась шерсть, усы взъерошивались златозу-
бой улыбкой навстречу дамам.
Наутро после девкина визита в окно я спросонок подумал, что это мне сон
был такой. Эротический. Последние тучи рассеянной бури. Умираем, как автор
уже докладывал, частями. Начинаем с ниже пояса. Бабы раньше, но и наш брат
вскоре погасает.
В мужское ничтожество входим сперва с тревогой, потом с улыбочкой. И вот,
наконец, всё. Конец - только чтобы пописать, замачивая треники, которые не
для тренировок, как и кроссовки не для кросса. Мышцы провисают лианами, и ты
это видишь уже и без зеркала.
Но красивых от некрасивых еще отличаешь. Ночная гостья - жаль, не к тебе -
была ничего.
С утра похолодало.
Это всех обрадовало. Нет, конечно, то был сон.
Друг, почти-тезка, догнал меня, приобнял учтиво и шепнул: «Ракия еще есть».
И это было хорошо и актуально.
Итак, делаем опись наличного на сей момент.
Ты говоришь больше руками, рисуешь в воздухе колеса смыслов, такие велоси-
педы, которые никак не доедут до нужных слов. Патрон не влезает в патронник,
и тебя клинит.
Когда слова сами собой вспоминаются, говорить их уже нет нужды: тебя, приду-
рок, давно поняли, сейчас принесут. Организм твой делается расслабленным -
кожа уже не крепость твоя, и она не держит запахов плоти, и ты делаешься вонь-
кий, даже если был сухой, как кизяк.
Слабеют кольцевые мышцы - и ты попукиваешь на ходу, и все громче, роняешь
капли мочи.
Но ты еще не разеваешь рот на кусок, как черепаха, - шире, чем нужно, и ви-
новато при этом моргая. На кусок, размоченный в чае. Это будет потом, в старости
глубокой и чрезмерной. Если доживешь до такого сомнительного подарка судьбы.
Слезятся очи. Слезные озера переполнены, и по тому, из какого глаза слеза
крупнее, внимательный доктор будет делать вывод, на какую сторону тебя кособо-
чит.
Словом, ты, как водопровод в родной хрущобе, - капаешь, протекаешь.
Кашлюн-перхун - вот твоя кликуха.
Походкой ты выдаешь понимание своей вины: в самом деле, какого черта зани-
мать собственной никчемной персоной дефицитное жизненное пространство.
Приличное таки, особенно если выразить в деньгах. Собственно, это и можно
понимать как стоимость/ценность человеческой жизни. Не такая и маленькая - к
счастью или сожалению, это с какой стороны смотреть.
“Зарубежные записки" №19/2009
77
Александр МЕДВЕДЕВ
И расходы. Проблема «фуражно-зернового баланса» в твоей, достаточно благо-
получной, части человечества решена. Элементарный кусок тебе не нужно при-
стально делить с остальными домочадцами.
Но ты угроза комфорту - расслабленный, непроизводительный, давно вышед-
ший из репродуктивного возраста, следовательно, неинтересный матери-приро-
де, капризный, с пуком выписанных тебе рецептов.
Хлеба не так чтобы изобилие, но достаточно.
Зрелищ - можно бы и поменьше. А тут еще выборы - совсем весело. Хлебозре-
лища.
Но битва за все новые и новые степени комфорта - неумолима, всемирна и
лаяй. Вон раньше цари-короли жили в условно-отапливаемых помещениях, особые
слуги им холодную постель грели перед отбытием ко сну, по жаре парились в
одёже согласно статусу, который не снимался - ну, разве что вместе с головой.
И ничего ведь, жили. Тебе в футболке жарко, а вон классические господа в тройках
на все пуговицы изнывали, держали форс перед подлым сословием.
Нет, сейчас лучше. Только не хватает одной комнаты в жилплощади, пусть
хоть бы махонькой, но непроходной.
Пукай себе и живи.
Пенсию - принесут.
Раньше на деревне воньких старцев отправляли жить в баньку.
Впрочем, это здесь тебя так рассматривают, суют, как Мюнгаузена, в электрон-
ное жерло томографа, и зеленый щупалец ползет по голове, выискивает жгутики
тромбированных жил. Инсульт с инфарктом - близнецы-братья.
В поликлинике - полуклинике, как говорит Петрович, - тебя рассматривать
столь пристально не будут, стрелянный ты патрон. В твоей истории - пока значит-
ся инсульт. Это лучше инфаркта, хотя тоже не подарок. Но сердце и у больших -
маленькое, а мозги все же и у дураков, что мяч для регби, и отсеки, получившие
пробоину, могут замещаться неповрежденными частями. Колоколами громкого
боя стучит в виски густая кровь, нейронные цепи перестраиваются и починяются...
И драгоценный товар памяти и навыков перегружается, как контрабанда, в другие
места.
И шторм затихает. Всё тихо.
Перед тем, как совсем заснуть, «но не тем, холодным сном могилы», ты слы-
шишь себя. Раньше прислушивался больше к бойлерной своего невеликого орга-
низма - к желудку да кишкам, где вечно что-то булькает, перетекает, пучится пу-
зырями. Но есть и кое-что поинтереснее пищеварения и даже крови. Нейроны
твоих, мой милый придурок, поврежденных мозгов, спасают себя тем, что пере-
брасывают содержимое в другие, не пораженные места. Ты хочешь сравнить их
с муравьями или пчелами, потому что эстетика труслива и ей подавай красивое.
На снимках они, поддецы-нейрончики, похожи на ужасных пауков. А еще известно,
что тараканы из горящего дома не выбегают заполошно, а организованно тикают
с личинками потомства на спинах.
И вот, упорные, как муравьи, заботливые, как тараканы, чуткие, как пауки, малые
части вселенной твоего разума, подвергнутого вторженью, бегают туда-сюда,
перетаскивают молекулы разорванных мыслей, и ты слышишь это шебуршанье.
Идет работа. Ты не на фронте, а в ремонте. И бодришься: ничего, мол, мы еще
повоюем. И даже запел бы «врагу, мол, не сдается наш гордый варяг, на солнце
зловеще сверкая» или что-нибудь в этом роде, да слов не знаешь, петь не умеешь,
да и какие на фиг песни ночью в больнице...
Сегодня - радость: выписывают. Я сдал экзамен. Я почти сразу сказал своё
фио и какой нынче год, и все такое прочее, и белые лебеди почиркали в свои
большие научные блокноты и остались довольны. А уж я как доволен.
78
ПРИДУРКИ
Компания выходит меня проводить. Ногами, отвыкшими от башмаков, ступаю
на неровный асфальт, разрезанный когтями древесных корней, и оглядываюсь и
спотыкаюсь.
- Не спеши.
- Не спешу. Куда спешить, дорогая. И ты косишься на профиль жены своей.
Вспоминай, самое время вспомнить ее молодым-молодую, юную, невозможную.
Запомнил впечатление первого взгляда - маленькую, но это вряд ли. Она долго
не была твоей - даже и подругой, и был рад-радешенек, когда тебе дозволялось
проводить до дому или еще куда. И ты косился на ее спокойный профиль и соболи-
ную бровь и жил этим счастьем до следующей встречи.
Потом жизнь нагрузла новыми смыслами, и стронулась, и понеслась, одаривая
сладкими огненными мгновеньями между перегонами своей рутины. Жил - читал
складки на лбу, крохотные взмахи бровей, редкие улыбки, когда ты ей нравился.
И лицо ее ты всегда видел как бы силуэтом на стекле, на окне поезда.
Ей уже пришлось подносить тебе судно. Надо же - придумал кто-то: судно.
Какой стыд. Вот когда номинировался в женихи, долго так и упорно, подумал бы
на миг: настанет день, когда не кто-нибудь, а она, Она будет брать маленькими
ручками и подставлять эту посудину?
Жизнь получилась большая. Надо надеяться, что большая она будет не сверх
меры.
Ведут по тропе, которая чуть покачивается, как трап. Словно бы ты сейчас сту-
пишь на палубу.
Это корабль? Паром?
Май 2007 - июнь 2008
“Зарубежные записки" №19/2009
79
Олег БЛАЖКО
НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СМУТНЫХ ДНЕЙ
Золото и камни
На улице минус десять. Явилась зима - встречай. Мир плавает в снежной взвеси.
Ты пьёшь, обжигаясь, чай. Отныне тут будет север, он явно надолго к нам. Шлёшь
письма. Почтовый сервер в ответ предлагает спам.
Читай или нет, но соткан из этого свет давно. Мы дети в подводной лодке, а лодка
легла на дно. Она не всплывёт, я знаю, она не вернётся в порт. Мелькают рыбёшек
стаи. Песками заносит борт.
На суше о нас не помнят. Не ждут никого. Не ждут. Вся разница - те из комнат, а
мы из своих кают - не можем ни шагу сделать. И тот, кто ушёл, - пропал. Качает при-
боем тело на фоне убогих скал.
Мы сами себя не слышим. И это взаправду так. Из тех, кто живёт повыше, никто не
подаст пятак за нас - по частям и разом. И оптом. И на развес. Мы стразы. Всего лишь
стразы. И если блестим, то без понятного смысла. Скоро мутнеет стекло. Итог - остатки
смешного вздора плюс веник, ведро, совок.
Мы фото в чужих альбомах - в нас тычут: «Ты кто такой?». Мы серое племя гномов
- породу скребём киркой. Авось золотая жила. Достаточно чёток план. Но пусто - и
есть, и было. И золота ни на гран.
Окно. Сигарета снова. Полпачки-полдня-провал. Давал же недавно слово. Себе само-
му давал. Здесь душно. Здесь слишком душно. Мельчают к утру слова.
Ты ляжешь лицом в подушку -
и спишешь свой день за два.
На перекрёстках эпох
Всё было просто и легко. Себя отсчитывало время. И, невезучим игроком, чей промах
был замечен всеми, сбивалось с такта, пропустив сегодня час, а завтра сутки. Пыталось
выехать на шутке, причём с претензией на стиль.
Причём с кивком на странный век, а он бесстыдно переменчив, как государство во
главе с невзрачной личностью во френче. И взятка глупая, не в масть, и пропуск лет
сыграли в сумме - никто не жив, никто не умер, и только без вести пропасть пришлось
кому-то в доме том, который рядом с океаном на берегу стоит пустом. И вот - сияет
утром рано пора обещанных чудес, а в них чудесного - ни слова. Под этим небом всё
не ново. Всё с ожидаемым вразрез.
И это было бы чертой, часов двенадцатым ударом, а дальше - путь дорогой той, где
никогда не станешь старым, где нас прошедшие года брелками вешают на пояс, берут
билет, садятся в поезд, чтоб не вернуться никогда.
80
НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СМУТНЫХ ДНЕЙ
И это был бы тот финал, который с точностью предсказан по вкусу терпкого вина и
переходу к новым фазам процесса - видеть на воде семь тысяч лунных отражений и
серебристое круженье, как если б ты себе надел кольцо всевластия над тем, чего не
знаешь сам покуда. И выбирая свой тотем, не смог меж волком и гарудой найти своё.
И таял срок. Ты открестился, подытожив, - такое быть могло бы тоже. Когда б хоть
что-то было впрок на перекрёстках смутных дней, где всё - ни здорово, ни плохо. Где
тот, кто плыл, - давно на дне, над ним куражится эпоха - номенклатурный нувориш,
пяток холуев из провинций - привычки, выросшие в принцип... И азиатчина. И тишь.
И безнадёжен бред степей, где внуки роются в курганах, вцепившись в предков, как
репей, чтоб волочить телеэкрану трактовку свежую и взгляд на время оно, время песен,
когда был мир ещё не тесен, - сто сорок войн тому назад.
Сто сорок первая сидит, как шарлатанка, возле двери, клянётся лучшей быть среди
реаниматоров империй - раздать всем сёстрам по серьгам, раздать всем братьям по
бутылке. И, с кривоватою ухмылкой, идёт сулить того же там, где совпадающий маршрут
по кругу. Замкнутому кругу. И где, похоже, тоже ждут - кто с нетерпеньем, кто с испугом.
И это был бы чей-то сон. Антиутопия на тему.
Но это здесь. И это все мы-
ло именам и без имён.
Роман
Банален, в общем-то, роман.
Сюжет относится к избитым.
Опять - дырявое корыто.
И безнадёжно, в стельку пьян
старик, что клянчил горстку дней
у золотой ехидной рыбки,
но получил в итоге хлипкий
денник. Причём без лошадей.
Бутыль крутого первача.
Заплесневевшую краюху.
Да ко всему ещё - старуху
и шубу с барского плеча.
А барин - свеж, румян и сыт -
зашёл и сморщился: «Однако...
Так жить не станет и собака...
Неужто вас не мучит стыд?»
И угодил ботинком в грязь.
И осерчал. Калиткой хлопнул.
И бормотал жене: «Холопы...» -
в карету белую садясь.
Старуха молвила: «Дурак!» -
и попрекнула деда пьянкой
и тем, что выбиться в дворянки
не получается никак.
Вот хоть ложись да помирай -
зачем пошла за идиота?
Ему ни дела, ни заботы.
‘Зарубежные записки" №19/2009
81
------------------------------ Олег БЛАЖКО ---------------------------------
Напьётся - топает в сарай
и спит весь день до темноты.
А иногда бывает - сутки...
...в углу, где свёрнутые в трубки,
полуистлевшие холсты.
Лепрозорий
И всё закончится. Затем, что всё кончается когда-то. Не хватит слов. И даже тем.
И, озаботившись зарплатой, найдёшь полсотни важных дел, а не найдёшь - найдутся
сами. И рассудив: финал, предел, - покончишь разом с голосами, что столько зим те-
бя вели тропинкой узкой над обрывом - и завели на край земли, где бесприютно и тос-
кливо.
Где нормой стала пустота. А в небе сумрачном маячит созвездье лунного креста -
течёт серебряным, горячим, звенит хрустально - чистый свет, но стынут души утром
ранним у тех, кто был хоть раз согрет его блистательным сияньем.
Ходить под ним - забыть о сне, и о себе, и о рассудке. И если ночь - то ты на дне,
а ночь растянется на сутки, - и день, как водится, мелькнёт случайной встречей возле
дома: вы будто виделись, но вот - друг другу явно незнакомы.
Так жить нельзя. Так не живут. А лишь сползают по наклонной. А берег близок.
Очень крут. И неподвижна гладь бездонной, из мира прошлого, реки, в которой ты од-
нажды канул, - и плыли медленно венки, как мертвечина, к океану. И там, и тут - одно
и то ж. А значит - вряд ли будет хуже. И как себя не подытожь - ты никому нигде не ну-
жен.
И говоришь всегда одно. И об одном. О сущем вздоре. Что нет другого - не дано.
Что здесь повсюду - лепрозорий. И безнадёжны города - в них взгляды делаются суше,
и переехавшим туда всё время хочется разрушить нагромождение витрин и суету горящих
окон. И каждый волен быть один - но это слишком одиноко и молчаливо. Тишина - из-
вечный враг любых иллюзий, и в лабиринтах стен она - отчётливее вдвое грузит.
И делит фразы на куски. И те - отрывисты и кратки. И ломит к вечеру виски мигрень,
как следствие осадков. Туман ли, дождь - мир очень прост. И не цветной. А чёрно-бе-
лый.
Мешок надежд - коту под хвост.
Всё бесполезно. Что ни делай.
Екатерина II
Екатерина Вторая, к утру Сечь сгорела.
Вывезли всё, что могли, остальное - воронам.
Тех, кто остался, - в холопы. Понятное дело,
земли отходят Российской империи. Трону.
Малость пожгли по пути ещё. Так себе. Хаты.
В духе Петровом виктория - сходу и сразу.
82
НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СМУТНЫХ ДНЕЙ
Радость победы российского чудо-солдата
подкреплена императорским чётким указом.
Пусть по шинкам произносится мрачное «клят!...»,
пусть освящают ножи - всё, что было, то сплыло.
Столько навито верёвок, что каждому хватит.
Век просвещения также не беден на мыло.
Век Золотой. Обретение новых колоний.
Дружба народов крепчает от визга картечи.
Позже припомнят России. Припомнят короне.
Время глядит равнодушно и вовсе не лечит.
Сеяли долго. Взошло. Да бурьян, а не жито.
Мир переменчив, достаточно смутен и тесен.
Екатерина Вторая в металле отлита.
С тем, чтобы гордо торчать в Украине. В Одессе.
Дон Румата
Он был свободней гордой птицы. И непреклонней, чем Пилат. Его карающей десницы
не избежал ни стар, ни млад. Он брал противника измором и уличал его в грехах. Ему
завидовали - Зорро и вся система ЖКХ. В гробу ворочался Ульянов, вздыхал с тоской.
Пытался встать. Поодаль бледная охрана упоминала чью-то мать... Амбициозный Фредди
Крюгер (ну, Запад, что с него возьмёшь) хотел учиться, но с натуги внезапно помер. Так
ото ж.
Он был душою каждой склоки, легко входил в любой скандал - и бичевал вокруг по-
роки, и скандалистов бичевал. И те, которые марали друг друга в драках там и тут, -
теперь идут тропой морали, и это очень даже гут. С тех пор в округе много чище, но не-
спокоен наш герой: увы, он счастия не ищет, а ищет встать на смертный бой и очутиться
в самой гуще, наперевес держа кистень... Являясь крайне вездесущим - всевидящ тоже,
ясен пень.
Он превентивная защита. Когда вокруг полно проблем, одной простой бейсбольной
битой решает разом сорок тем. Конечно, способ сей суровый, но времена у нас - бар-
дак. Да хоть послушайте Лаврова - вполне понятно, что и как. Узнав о тайных подоплёках,
тревожусь я за здешний край... Но есть недрёманное око, есть беззаветный самурай -
и он придёт. Своих одарит. Чужих на щебень разнесёт. Пусть отдыхает Поттер Гарри,
поскольку это наше всё. Сам Шварц, который Терминатор, - унылый карлик рядом с
ним.
Он - виртуальный дон Румата.
Неистребимый аноним.
“Зарубежные записки" №19/2009
83
Людмила АГЕЕВА
тонкий слой
Сцены дружеских встреч и бесед
Роман (окончание)
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОМИНКИ И ФОРСМАЖОР В КОНЦЕ
Они возвращаются с кладбища через весь город, пытаются объехать пробки
- начинается час пик. «Ага, и у вас пробки», - почему-то злорадно и довольно
громко замечает веселый толстяк, сидящий у окна, своему соседу, другому толстя-
ку, мрачному, с отвисшей губой. На веселого толстяка начинают оглядываться:
понятно, что он не здешний, москвич, - похоже, важная птица. Автобус часто и
резко останавливается, стоит, неприятно вибрирует, постепенно наполняется
ровным гулом голосов - ругают организаторов: зачем панихиду устроили в Малом
зале - все толпились на лестнице, стояли со своими цветами-венками, опустив
головы и потея, жарко, речей не слышно, кто говорит, что говорит - ничего не
разобрать, дирекция, конечно, вся у гроба - прощаются, на людей, как всегда,
наплевать; те, кто протиснулся в церковь, хвалили батюшку: такой приятный, ужаса-
лись: бронзовые бюсты, оказывается, с кладбища почти все исчезли - вот и не
надо бронзовые, не надо искушать, сейчас появились скульпторы, очень извест-
ные, между прочим, и камнерезы... так ведь и каменные тоже разбивают... вандалы
обкуренные, ну что вы говорите, это только на еврейском кладбище, да и то дав-
но, сами подумайте, ну зачем на наше кладбище пойдут эти вандалы, тем более
ученые там с мировыми именами, вы считаете, для вандалов это имеет значение,
что мировые имена, бронзовые бюсты как раз ученым с мировыми именами стави-
ли, ну что вы сравниваете, не надо искушать, говорю, да вот, действительно,
этой девушке, которая долбанула насильника, следователь сказал: зачем вы его
искушали, не надо было искушать, юбка, там, короткая, коленки, ресничками хло-
пать... Жизнь продолжается, земные дела снова овладевают мыслями и разговора-
ми.
- Нет, не так всё плохо в России, как кричат эти, ну как их? - говорит один из
толстяков. Толстяки сидят через проход, животы их в расстёгнутых пиджаках выпи-
рают из кресел, как подошедшее тесто, короткие руки отдыхают на подлокотниках,
они удивительно похожи друг на друга и вместе с тем разные: один желчный и
недовольный, и его Александра помнит - он был когда-то начальником технологи-
ческого отдела, сейчас уже, наверное, не начальник, да и отдела такого, по всей
видимости, уже и нет. Другой помоложе и не такой мрачный, лицо такое... само-
уверенное, ироничное, оживленное, смотрит в окно с любопытством, да, точно
- этот моложавый... он из Москвы (публика обсудила и вынесла заключение), из
тех министерских, которые специально приехали на похороны, вот потому лицо
у него особое, столичное, простому народу он пока незнаком.
Когда автобус останавливается, все слышат, как раздраженно толстяки наскаки-
вают друг на друга.
84
тонкий слой
- Да? - весело переспрашивает незнакомый московский толстяк - он даже
голову не поворачивает от окна, в голосе явная насмешка, - не так плохо? А как?
Как именно? Неужели еще хуже? Неужели даже хуже, чем кричат... эти?
- Не прикидывайтесь... Вам совершенно не идёт. Я много за последнее время
поездил, да, не только по столицам. Всюду улучшения. Всюду. Люди строятся.
Отличные дома. Дороги делают. Машины покупают, отличные.
- Да уж... накупили машин. То-то дышать нечем, проехать по городу даже у
вас невозможно. Вот в Москве я давеча вообще четыре часа в пробке стоял. В
совещании участвовал по мобильному... уже все привыкли... не первый раз.
- Так я и говорю. Москва и Питер перегружены. А провинция как поднимается!
- Ну, провинцию я, положим, тоже знаю. У меня родня живёт в Перми в жутких
условиях. Вот именно, что дом со всеми неудобствами. Страшная коммуналка,
первый этаж, без ванны, сосед безумный алкоголик, угрожает, никаких надежд
вырваться в отдельную квартиру. А люди образованные, интеллигентные, немоло-
ды, конечно.
- Ну, шевелиться надо. Ипотеки сейчас появились. Дети должны помогать.
Или вот вы бы и помогли. Что же всё на государство перекладывать.
- Какие ипотеки, о чём вы говорите? А детей у них нет. Я стараюсь помочь -
ничего не получается. Купить им на свои деньги я все-таки не могу, у самого про-
блемы. Бесплатное жилье непонятно, как там распределяют, даже я не могу в
Москве найти, за какие ниточки подёргать.
Ну, не знаю. Всякие единичные случаи всегда можно выкопать. Вы нарочно
не хотите видеть, куда вектор повернулся.
Да нет. Я вижу. Я в принципе с вами совершенно согласен. Конечно, вектор
повернулся. Ну, не всё сразу. Наладится, наладится. Да!
Что-то знакомое появилось в голосе москвича, какая-то опаска в интонации,
как будто он спохватился, быстренько подкрутил в себе свою стрелочку, установил
параллельно главному вектору: пошутили - и хватит, поиронизировали - и доволь-
но.
Толстяки ненадолго замолкают, и тогда становятся слышны женские голоса.
- Очень правильно было, что раньше гнали этих нищих: они совершенно наг-
лые и противные, а вот еще появились эти ужасные старухи, мерзкими голосами
поют старинные песни или романсы, им даже деньги дают - видимо, чтобы заткну-
лись.
Это говорит раздраженный дамский голос за спиной.
Александра быстро, как бы незаинтересованно оглядывается: нет, дама тоже
незнакомая - и вспоминает, как вчера в переходе на Невском, действительно,
пела старушка тоненьким детским голосом, и пока Александра спускалась по эска-
латору, долго еще слышно было её бедное напоминание: «...не забудь потемне-
э-э-е накидку...».
- Почему все так раздражены? - спрашивает Александра сидящую рядом Ма-
рысю.
- Не знаю. Мода такая.
- Вчера ты говорила, что у вас мода на ненависть. Мода на хамство. Как будто
это такое оправдание, мол, мода - это так, преходящее, не обращайте внимания,
скоро пройдёт, всё это временное, несерьёзное - пройдёт.
- Ну да, так, - устало соглашается Марыся.
- Нет, раздражение это не мода. Это искренняя эмоция.
- Да, наверное, так и есть...
Видно, что Марыся очень устала, занята своими мыслями, не очень вдумывается
и потому равнодушно соглашается. Александра понимает, отстаёт от неё, роется
в своей сумочке и достаёт записную книжку.
Марыся откидывает спинку кресла, закрывает глаза, пытается отключиться хотя
бы ненадолго - впереди еще поминки в институтской столовой, тоже устроенные
“Зарубежные записки" №19/2009
85
Людмила АГЕЕВА
её хлопотами, бессмысленным и тщетным напряжением. Не получилось устроить
поминки в ресторане Дома ученых, только на институтскую столовую - запущен-
ную, перемонтируемую с советских времён - удалось наскрести, на более прилич-
ное место не хватило. Она пытается прогнать стыдные воспоминания о повальном
жмотстве (чтобы не сказать другое слово), при котором даже срочную смену за-
навесок в столовой удалось решить лишь с помощью скандала, угроз и шантажа.
Жалкий результат: новые занавески, нелепые и яркие, прикрывающие старые
ободранные рамы. Покровский совсем не вникал в хозяйственные дела, морщился
и махал руками, избегал подписывать финансовые бумаги - хотел остаться чистю-
лей. Хорошо быть чистюлей, никто не спорит, да кто же может теперь позволить
себе такую роскошь - она не может себе позволить. Вчера Блин злорадно крикнул:
«Вы, Мария Васильевна, не забывайте, на какие деньги я отправлял вашу команду
в Беркли, да еще ребятам в конвертах роздал». Это на её вопрос, куда подевались
денежки на реконструкцию здания, на переоборудование всех служб, и столовой
в том числе, что-то ведь должно было остаться. «Одни слёзы, вот что осталось»,
- с фальшивой грустью ответил Блин, а про аренду вообще пропустил мимо ушей.
Отслюнил немного этих слёз на панихиду, на цветы, на венки, на поминки - и вот
на занавески, а стены в столовой девочки мыли уже бесплатно. И окна тоже. А
что можно было ему возразить - опять про дачу на озере напомнить, с двумя
гектарами вокруг, - напоминали уже даже и в газетах, -ну и как бы он на неё по-
смотрел, представила его улыбку, тихую, наглую, неуязвимую - комиссия признала:
да, купил, да, законно, помещение бросовое было, непригодное для дальнейшей
эксплуатации, вложил собственные большие средства, все законно, комитет по
каким-то там имуществам все подтвердил: да, раньше была дача детского сада,
да, еще институтский дом отдыха, но всё пришло в негодность... Всё расхватали.
Хорошая компания подобралась, свои ребята-администраторы. Восстановили
за... все знают, за какие большие средства... Все знают, а доказать - никто не
докажет, да и опасно это, реальные пацаны уберут в тот же миг; за большие госу-
дарственные средства, говорите? (так государство - это мы и есть), а покупку
оформили задним числом, когда действительно там было полное запустение и
развал. Успокойтесь, никто доказывать не собирается, отойдем в сторонку, в
сторонку от государства, у нас домик в Ушково есть, и хватит, старенький домик,
ну ничего, подремонтируем, подкрасим, угол завалившийся домкратом поднимем,
будем молиться, чтоб не сожгли, отличное такое место, совсем не престижное,
никто глаз не положил - можно сказать, просто повезло...
Александра листает свою записную книжицу: решила вести дневник в родном
городе, собирает удивительные объявления. Записывает, пока не забылось, толь-
ко что увиденное на воротах кладбища: «Проезд через кладбище без покойника
строго воспрещен!» Вчера Лия подарила чудный такой листок, сорвала со стены
подворотни неподалёку от Мариинки: «Терпите!!! Туалет на Театральной площ.
и в Ник. Саду». При этом Лия добавила, что можно было бы типографским способом
изготовить листовки с этим самым «Терпите!!!» и развесить повсюду или в почто-
вые ящики побросать. Как рекламу. Такая акция. «Терпите, ребята, и вам зачтётся».
Или объявления в газетах... Про снятие порчи, разнообразные гадания, эзотериче-
ские прогнозы, «наследственная колдунья с редким даром изменить вашу судьбу»,
«генетическая предсказательница решит ваши проблемы»... Никого не удивляют
уже эти объявления. Мимо, мимо. А вот такое вдруг остановило, даже вырезала и
приклеила скотчем: «Ветеран на вечер. Убелённый сединами заслуженный вете-
ран (7 орд., 25 мед., не фуфло) скрасит досуг обеспеченных господ. Рассказы
про огневую молодость, фронтовой солдатский юмор, рецепт легендарной каши,
массаж-комплекс «Земляночка». Т 209-52-62 Виталий».
Что это? что за судьба за этим объявлением? отозвался ли кто-нибудь из «обес-
печенных господ»?
86
тонкий слой
Странный жест замечает за собой Александра: она прикрывает свою книжечку
и свои вырезки от посторонних взглядов. И вспоминает... Когда-то рано утром,
очень рано, до работы, она отправлялась с бидончиком за молоком. Прекрасное,
дешевое молоко, дешевле, чем в магазине, привозили к ним в микрорайон прямо
с молокозавода. Серебристая бочка приезжала в любую погоду, и крепкая толстая
баба в белом грязном фартуке разливала им по бидончикам молоко. Длинная
очередь выстраивалась. И как-то раз два молодых человека, два молодых господи-
на (тогда слово это употребляли только в классической литературе), очень хорошо,
практически по-иностранному одетые, а вернее всего, и были они иностранцами,
навели объективы на эту очередь. Но тут выскочила из очереди безумная тетка,
размахивая еще пустым бидончиком, с призывом засветить немедленно этим
шпиёнам их капиталистическую плёнку, чтоб не привезли они на Запад свои сним-
ки про советскую очередь - еще неизвестно, как их гнусная пропаганда истолкует.
Многие её поддержали, но с места не двинулись - очередь потерять никто не
рисковал. Так что господа в западном прикиде ноги благополучно унесли.
А не далее как вчера... Милиционер на марше несогласных разбил камеру
корреспонденту: «Всё, что ты здесь наснимал, не соответствует действительно-
сти». - «Предстанете перед судом». - «Беги-беги, подавай на меня в суд». Было
вчера в «Новостях». Александра смотрит «Новости» жадно и не отрываясь. Даже
рекламу. Просто слушает родной язык - в Германии у Александры нет русского
телевидения.
К толстякам оборачивается сидящая впереди экономистка из отдела комплекта-
ции, постарела, усохла, но сохранила комсомольскую энергию и порыв, когда-то
была в этом... как же это называлось, профбюро, что ли, путёвки распределяла,
многие от неё зависели. Александру, кстати, подчёркнуто не замечает.
- Правильно, правильно, Валентин Петрович, в России всё замечательно. Всё
мало-помалу налаживается, горлопанов загоняют под лавку, а куда их еще? плеткой,
плеткой - и под лавку, несогласные они, видите ли, с чем они несогласные-то,
объяснить не могут и сами не понимают, бузят просто, которые молодые - сил
много, девать некуда, а старичьё - от нехрен делать. Вот что еще хорошо - во-
рьё сажают периодически, до всех доберутся - дайте только срок, экономика
поднимается, народ доволен: чего ж еще. Спасибо Путину и «Единой России».
Толстяки одинаково поднимают брови. Вмешательство в их разговор им не
нравится. Однако Валентин Петрович, человек вежливый, выдавливает из себя
какие-то поощрительные звуки, но заметно, что с большим трудом, министерский
толстяк совсем приникает к окну, демонстративно высматривает там что-то.
Экономистка не унимается, уже встала коленями на сиденье, обернула к ним
скукоженное личико, положила подбородок на край высокой спинки:
- Я так скажу: надоели плакальщики. Центр какой прекрасный! Видели? Правда
- чудо? Все дворцы восстановили. Счас проезжать будем. А и на окраинах заботят-
ся. Вот я в Веселом поселке живу, так переложили весь асфальт, два огроменных
супермаркета выстроили, рядом новые детские площадки, новый стадион, зимой
каток заливали, детишки такие радостные, так все хорошо одеты, вы только по-
смотрите, в каких шубах наши девушки ходят - сплошная норка, а вот магазины
эти, двадцать четыре часа, мне лично очень нравятся: чего нет - выскочил, купил
хоть среди ночи, а в Германии знаете, какое неудобство (повысила голос, глянула
в сторону Александры, быстренько так, искоса): после восьми хоть шаром покати
- ничего не купишь, а у нас там и «Мультипицца» рядом, автоцентр «Тойота» -
там круглые сутки кафе, жилые дома совсем западные, под черепицей, так много
и повсеместно строят, у меня ночи не хватило бы всё вам рассказать... (Шахериза-
да, блин, неужели кто-то уже ей ночь предлагал, что-то я прослушала.)
“Зарубежные записки" №19/2009
87
Людмила АГЕЕВА
* * *
Начало поминок. Первые минуты неловкости и молчания. Если и говорят, то
говорят шепотом; опустив головы или глядя куда-то в сторону, рассаживаются,
осторожно двигают стулья, откашливаются, прочищают горло, вздыхают, вынима-
ют платки, промокают время от времени глаза и лысины, предельно вежливы
друг с другом, скрывают усталость и голод. Лишь деловито бегают организаторы,
но тоже перешептываются тихо и серьёзно, продуманно распределяют поминаю-
щих согласно иерархическим их позициям. За главным столом помещаются жены,
дети, внуки, близкие родственники, министерские люди, крупные начальники.
Кто-то уже поставил тарелку и рюмку в самый центр главного стола, на рюмке ле-
жит ломтик черного хлеба. За столом, длинным-преддинным - перпендикулярным,
примыкающим к этому главному, - усаживаются сначала начальники чуть помельче;
потом любимые ученики покойного, добившиеся успехов; экономические советни-
ки, приблизившиеся к покойному в последние годы; совсем старые, когда-то
очень влиятельные настоящие ученые, а теперь обыкновенные немощные стари-
ки, так называемые консультанты... Это чистый жест уважения со стороны распоря-
дителей, похвально; рядом с ними сидят какие-то молодые, неизвестные, но
слухи витают - нужные, якобы представители денежной технологической «нефтян-
ки», эти молодые, с бегающими неробкими глазами, раньше всех потирают руки,
разглядывая закуски, нацеливаются.
В самом конце всех столов уже без разбору и без всякого присмотра организа-
торов рассаживаются простые, невеликие научные люди: младшие научные со-
трудники до седых волос, не сделавшие ни малейшей карьеры, вечные лаборан-
ты, стекловары и оптики, непонятно как выжившие механики и стеклодувы, почти
все немолоды - чтобы не сказать больше, молодых лиц почти нет - так, иногда
мелькнёт третье поколение, чей-то внук или внучка, пристроенные в родные об-
ветшавшие стены до будущих более благоприятных синекур, какой-нибудь тихий,
замкнутый дипломник или аспирант, обладатели загадочных стипендий и грантов.
Приземистый сутулый старик - лысина в коричневых пятнах, но усы пышные,
седые - смотрит на Александру, уставился красными удивленными глазками, не
может оторваться. Понятно, что в голове его происходит тяжелое вращение скле-
ротических шестеренок, напряженное и безрезультатное. «Ох, да это же Макар
Федорович». Совсем старый, а был плакатный советский рабочий. А вот ведь бы-
ли такие - работящие, честные, дружественные, простодушные, как дети, но и
как дети могли быть жестокими. Но Макар Федорыч был хороший мужик - только
выпить любил. А кто не любил? Она хочет подойти к нему, сказать какие-нибудь
добрые слова - ведь ему уж за восемьдесят, но не подходит, неловко: что тут
скажешь - жизнь прошла. Старый стекловар вздыхает, отворачивается - так и не
узнал, пошёл, шаркая ногами, к каким-то старухам-химичкам, зашептался с ними.
Химички поглядывают на Александру неодобрительно, с поджиманием губ: они-
то узнали, глаза у них всегда были цепкие, осуждающие, сидели они в комнате
над проходной, наблюдали в окно со злорадным предвкушением за опаздывающи-
ми (на проходной пропуска отнимали), ждали ежедневного волнующего спектакля:
вот кто это там бежит, потный и красный, в расстегнутом пальто, а ну нажми, ми-
нутка осталась, а эта-то, в сапогах, ух, счас каблук сломает, ну всё... звонок! Сами-
то они никогда не опаздывали - раньше всех являлись, дисциплинированные,
партийные, нравственные очень; как-то дружно отказались дать деньги на ребе-
ночка: новая лаборанточка родила крепкого мальчика - высчитали, что девяти
месяцев со свадьбы-то не прошло, с возмущением отказались. «Во дают! Кошки
драные», - сказал Макар Федорыч, сам принёс мятую трёшку. А это тогда деньги
были настоящие, простонародные институтские алкоголики по трёхе именно и
занимали, когда спирт уже не у кого было выпросить, - скидывались на троих по
рублю, но занимали по трёхе, бутылка каберне стоила, кажется, рубль шестьдесят
пять, а портвейн «Три семёрки» - и того меньше.
88
тонкий слой
Александра стояла в сторонке - знала своё место, чувствовала свою отдель-
ность, ждала, когда все рассядутся; многие, однако, узнавали её, изумлённо кида-
лись обниматься, быстро спрашивали о детях, о работе, о жизни вообще, какие-
то еще вопросы дрожали в глазах, но, увлекаемые потоком, так с вопросительны-
ми глазами и убегали: «Потом, поговорим, да?» - пропадали в толпе. Чужая все-
таки, уже чужая - так чувствовала. Но вдруг подошла Марыся, молча взяла за руку
- сразу стало тепло и спокойно. Вениамин Т. пробежал мимо, проскакал на розо-
вом коне, увидел Александру - не удивился, только слегка замедлил бег: «А ты
что тут делаешь?» - и это после стольких лет её отсутствия в их тусовке (тусовок,
между прочим, никаких тогда не было, то есть они, конечно, были - просто слова
такого не было). Потом Вениамин, как будто что-то вспомнив (нет, как раз именно
что вспомнил, мгновенно просчитал возможные резоны и выгоды), задержал бег,
остановился, вернулся: «Слушай, мы тут оптику лазеров у вас пробиваем. Ты как?
доступна для деловых разговоров? Так я тебя найду...» И снова побежал, не дожи-
даясь ответа, пожимая по дороге избранные руки, целуя жен и любовниц началь-
ства, добежал до главного стола, поискал карточку со своим именем, удовлетво-
ренно хмыкнул, протиснулся, сел лицом к публике, лицо сделал скорбное, начал
устраиваться, расправил салфетку на коленях.
Марыся потянула за руку: «Пошли к нам». - «Нет-нет, я лучше тут...» - «А, понят-
но, остаёшься с народом? Хочешь затеряться в народной гуще?» - «Типа того...»
- «Ну ладно, оставайся, я потом тоже к вам вернусь».
Подскочил какой-то распорядитель или секретарь, безликий, в черном костю-
ме, в сером галстуке, зашептал что-то Марысе на ухо, вытащил из папки и стал
показывать какие-то бумаги: «Марь-Васильна, нельзя откладывать, такой удобный
момент, когда они еще все вместе соберутся, тут-то мы и возьмем их тепленьки-
ми... лучше вас никто не сделает...»; она отбивалась, отводила бумаги рукой, не
хотела смотреть, хмурилась недовольно, но потом сникла. Он взял её под локоток
и настойчиво направил к небольшой компании серьёзных громоздких мужчин из
министерства, они одновременно повернули свои бледные широкие лица, и не-
свойственные этим лицам улыбки слабо засветились ей навстречу.
Провожая взглядом Марысю, Александра неожиданно встретилась глазами с
Павлом - он стоял в скучном кружке министерских, почти неотличимый от них, в
таком же темном костюме, с подходящим выражением лица, глубокомысленно
насупленный. Только что на кладбище он был вообще чужой, ни разу не подошел,
суетился среди важных персон довольно неприятно - так ей тогда показалось, и
она с огорчением отметила, что от старых друзей остаются одни лишь оболочки,
причём слабо узнаваемые, а всё дружественное, нежное и доверительное в один
момент безвозвратно улетучивается, когда такой момент по логике событий насту-
пает. Ну зачем она ему здесь, он и забыл, что она тоже у Покровского защищалась,
- называя многочисленных учеников академика (по всему свету разбрелись), рас-
писывая их заслуги, совсем забыл её упомянуть, хотя... когда это было, эта её за-
щита; как говорится, это еще до революции было, художественного значения
уже не имеет.
С какими-то списками снова двинулся вдоль столов распорядитель, заглядывая
в листки и сверяясь с карточками у тарелок, вытянул губы трубочкой, какие-то
карточки задумчиво переложил, поменял местами, остановился, полюбовался.
Александра усмехнулась и подумала, что она не то чтобы в конце списка, а
просто вне, и вдруг снова увидела глаза Павла, глаза явно искали её, и улыбку его
увидела, предназначенную только ей, печальную и несчастную улыбку друга: «Ты
здесь? Ты только не уходи». - «Куда же я денусь, конечно, я здесь, с тобой».
Как всегда, немножечко обмана, но и немного правды.
Как во времена Смотрителя роз. Так они называли между собой странного
милиционера и даже иногда решали считать его общей галлюцинацией - бывают
такие коллективные миражи, неоднократно описаны, не могло же такое произойти
“Зарубежные записки" №19/2009
89
Людмила АГЕЕВА
на самом деле - однако продолжали расспрашивать друг друга через много лет,
уточняли детали, смеялись и снова уверяли друг друга, что с ними случился мираж,
чистой воды мираж. Не бывает таких милиционеров. И все-таки... Они сидели на
скамейке, в центре огромного полукруга между Ростральными колоннами, лицом
к Бирже. За спиной были Нева и Петропавловская крепость, по левую руку Дворцо-
вый мост, а на том берегу - Эрмитаж, Адмиралтейство, Исакий - естественная
среда их общего обитания. Привычные декорации их любви, страданий, ревностей
и обманов. И споров. О чем они тогда спорили? Спорили, спорили, настаивали и
оправдывались.
Всё пространство от гигантской гранитной дуги до трамвайных путей, почти
до ступенек Биржи, было заполнено розами. По ночам на эти плантации роз со-
вершали набеги влюбленные мальчики. Ночью довольно легко было розы срезать,
если запастись предусмотрительно ножницами, но днем там дежурил милицио-
нер, всегда один и тот же - это был его пост. Они давно узнавали друг друга, ми-
лиционер первый отводил глаза. И скамейку они облюбовали удобную, в самом
центре. Всегда радовались, если она была не занята. Единственное место на
земле, единственное и самое прекрасное. Они просто сидели, просто разговари-
вали. Павел объяснял, что сейчас ничего Тине сказать не может, надо подождать,
когда девочка (Настя) уедет на дачу. Александра, опустив голову, сосредоточенно
чиркала по песку прутиком, предлагала опять разбежаться по своим углам и боль-
ше к этому вопросу не возвращаться. Павел надувался, набухал обидой и снова
заводил ту же пластинку: «Я хочу быть с тобой, мы будем жить счастливо и умрем
в один день». Скучающий милиционер медленным бездельным шагом несколько
раз прошел мимо, каждый раз быстро взглядывал на них и также быстро отворачи-
вался. Так он и ходил туда и обратно, туда и обратно. Вдруг милиционер остановил-
ся перед ними и, заложив руки за спину, с горьким упрёком произнёс: «Вот вы
тут обманываете друг друга, обманываете - и обмануть не можете».
Подошел Николай, седой, похудевший, неухоженный, сразу видно: мужчина
без женщины, без надежды найти новую женщину, да и без желания искать -
просто обнял и прижал к себе, не сказал ни слова. Слёзы из глаз его не пролились,
но Александра их увидела. Все было понятно. Имя не было произнесено. Но Ли-
душа в этот момент стояла рядом. Александра поцеловала его. И долго-долго
гладила по спине, пока он не проглотил свои слезы и уже нормальным голосом
произнёс: «Что ж ты не позвонила?» - «Да я же прилетела только что. И вот, по-
жалуйста, такие... события». - «Так это у нас... постоянно. Время потерь».
И они прошли в самый конец стола и сели вместе.
* * *
Так часто бывает на поминках: забывают люди, что, собственно, здесь происхо-
дит, почему сидят они за одним столом. Приятное общество, знакомые всё лица,
свои, - какие-то незнакомцы присутствуют, конечно, но это так - вкрапления. А
главное - есть с кем поговорить, поспорить, повозмущаться. Без возмущений у
нас не обходится, какая скука, если нечем возмутиться. Если наступит всюду Ord-
nung, что это будет за жизнь, подумайте сами. Не наступит, не волнуйтесь. Даже
на родине Орднунга торжество его как-то не наблюдается. Вам бы всё шуточки
шутить. Видно, давно вы в свет не выходили. Я имею в виду в какое-нибудь присут-
ствие. Воля ваша, но я действительно не понимаю, почему всё стало настолько
хуже. В каждом кабинете, за каждым окошком сидит чиновник, и все новые и но-
вые справки требует. Люди мечутся, ничего не понимают, носятся с кипами бума-
жек, потеют, волнуются, прижимают папочки к груди, теряют бумажки, плачут, и
надо всем этим сияют лозунги «единых справедливых Россий» и прочей херни, и
уже радуешься как единственно нормальному человеку тому столоначальнику,
90
тонкий слой
кто берёт. Гоголя на них нет. И не будет. Ишь чего захотели - Гоголя им подавай.
Размечтались. Надо просто научиться давать. Да как, как давать-то? Я пытался.
Ну и как вы пытались? Я, как раньше, протянул ей пятьсот, говорю, даже вполне
уверенно говорю, как в прошлый раз: «Зачем я конфеты или духи... вот, сами рас-
порядитесь», - так она даже не посмотрела, сдула бумажку, пришлось поднять,
нагнуться, представляете, унизила меня - а может, там камеры у них стоят, провер-
ка на неподкупность, и бормочет своё: «Подавайте заявление». А я знаю: подать
заявление - это всё снова по кругу. За это время другие справки устареют. Мне
же только копию. Что могло за две недели измениться? Очень даже могло. Вы
просто смеётесь надо мной - никакого сочувствия. Ничего не могло измениться.
Прекрасно могло измениться. Бездна человеческой наивности продолжает меня
восхищать. Вы просто очень наивный человек - произошло изменение ставок
взимаемых взяток. Понимаете? Изменение ставок взимаемых взяток. Пятьсот...
это, значит, что? Меньше двадцати долларов, что ли? Так это вы унизили бедную
женщину. Тем более доллар падает. Опять же инфляция. Зарплаты у них ма-а-
аленькие. Давайте-ка я вам налью. При чём здесь - «доллар падает». Я же рубля-
ми. Нет-нет, водки мне не надо, я уже давно коньяк пью. Вы всё время сами себе
противоречите. То говорите, у нас ничего не меняется, то вдруг за две недели
всё изменилось. Никакого противоречия. Это такая наша специфика. Частности,
инструкции, бланки, формы отчётности, банковские ставки и, натурально, ставки
взимаемых взяток непрерывно меняются, но целое неизменно и движется, слегка
вращаясь и поворачиваясь к нам узнаваемыми гранями, - по спирали, конечно,
но близкой к прежнему кругу. Такая у нас спираль, медленная, с маленьким шагом.
Всё смеётесь, а между тем... Слушайте, а икру-то всю подмели... Ну, народ, огля-
нуться не успеешь...
«Ой, ой», - всполошилась химическая сотрудница. С почтительными глазками
слушала она беседу умных мужчин, кивала, поддакивала то одному, то другому.
Вскочила, запнулась, чуть не уронила хлипкий казенный стульчик, побежала куда-
то, торжествующе принесла целое блюдо бутербродов с икрой. «Спасибо, Ираида
Борисовна, добытчица вы наша», - похвалил тот, который толковал про спираль,
язвительный доктор наук. Всего лишь доктор. А друг его, академик, не умеющий
давать, осторожными пальцами взял бутерброд и благодарно улыбнулся. И жена
его тоже взяла. Но важно - без улыбки.
Сторонник теории медленной спирали, нетщеславный простой доктор наук,
занимался когда-то горячей плазмой, да, точно, писал еще популярные статьи о
фантастических каких-то источниках энергии, преподавал в школе для одаренных
детей, докторскую писать долго отказывался, защитился только под жестким дав-
лением своих аспирантов - им-то он нужен был также и в качестве официального
руководителя. Идеи неостановимо клубились у него в голове, как живородящие
дьяволы Максвелла, и щедро выплёскивались на кого ни попадя, на всяких прохо-
димцев, которые плотоядно и энергично их впоследствии разрабатывали, забыв
о первотолчке. Он и не напоминал: «У меня еще много». Ученики переживали,
обижались и к проходимцам ревновали, но преданно его любили, однако ворчали:
«Разбросанный очень». В дни перестройки он сдуру попал в Законодательное
собрание, увлекся социологией, всерьёз, но, как всегда, ненадолго; поразил со-
циологов несколькими специальными статьями, опять всё бросил, вернулся в
науку окончательно. Покровский его ценил, поощрял всячески, создал под него
отдельную лабораторию. А что теперь будет, кто будет финансировать эту лабора-
торию после смерти покровителя, простой доктор наук еще не думал и не желал
думать, а, прожевав бутерброд, продолжил:
«Рыночная экономика уже разделалась с наукой, наш термояд - разуйте глаза
- разгромлен. Энергетический голод неизбежен. Утолить его будет нечем. А я
вам обещаю - он появится. В ближайшем будущем. Да-с! Когда последний галлон
нефти и последний кубометр газа уйдут на Запад. Прощально лязгнет железный
“Зарубежные записки" №19/2009
91
Людмила АГЕЕВА
шибер - и медленно опустится железный занавес, гарантирую, на этот раз с той
стороны. Да! Ну что смотрите, не верите? Думаете, не доживете? Доживёте, до-
живёте, вы у нас еще здоровенькие, молоденькие...»
Химические сотрудницы льстиво захихикали.
«Вот! Пожалуйста: смеются, не верят. А-а-а... не понимают, смеются, несчаст-
ные, а я вам вот посоветую: поезжайте, поезжайте на берег турецкий, пока пуска-
ют. Помните, что в далекой перспективе он нам снова будет не нужен. Ну да, так
принято будет говорить. А там все еще очень доступные цены, и они стараются,
держат марку, подделка под европейский сервис, конечно, но все-таки...» И про-
фессор запел: «Не нужен мне берег...» Жена академика в ужасе выпучила глаза.
Поминки же. Профессор закрыл рот ладонью: молчу, молчу.
Академик потянулся за коньяком. Жена академика попробовала выразить неудо-
вольствие, попыталась схватить его рюмку, усилила требовательность взгляда,
но муж уже осмелел, отвел её толстые руки, вернул покачнувшуюся рюмку на ме-
сто, - властные взгляды заботливой женщины на него уже вообще не действовали,
налил профессору, потом себе. Жена отвернулась, сделала лицо.
«Да уж такая глупость... лучше вернёмся из мрачного будущего в полное надежд
прошлое», - попросил академик коллегу. И начал вспоминать, как никто его в бы-
лые времена не контролировал, как закупал он новейшее оборудование на валюту,
а теперь... - «А теперь вы тут случайно приземлились, а так - летаете с конферен-
ции в Мюнхене на симпозиум в Токио над всей великой Русью, причём на денежки
налогоплательщиков, а раньше клянчили у приглашающей стороны...» - «Я клян-
чил???» - «Ну хорошо, ну не вы, пусть даже я. Разве можно сравнивать». - «Да,
но теперь-то какие-то менеджеры от науки появились, решают - кто они такие???
- какие фундаментальные направления сокращать, а какие развивать. Как они
смеют решать? Немыслимое дело».
И они заговорили о своей науке. Опять забыли, где они находятся. Увлеклись
и взволновались. И не смотрели уже на недовольные лица своих жен. Собственно,
так всегда было: волновала их только собственная работа, то есть непрерывная
наркотическая игра в бисер, понятная лишь узкому кругу, а близких женщин раз-
дражавшая. Ну сколько можно о работе - укоряли подруги. Но сами эти увлекаю-
щиеся игроки в глубине души не могли называть дело жизни работой. В редких
случаях смирялись жены с этой наркотой и независимостью мужей. Ну... смиря-
лись, конечно, - ничего не поделаешь - особенно если приходили высокие зва-
ния, должности, премии, слава и деньги. И не только смирялись, но уже и потакали
даже. Создавали условия. В этом им, женам, не откажешь.И начинали уже другую
борьбу - за новую славу, новые дома, новые премии, за поездки с сопровождени-
ем, за гранты, за банты, за ордена и премии - а главное, против ужасных, непроду-
манных выступлений собственных мужей о незначительности этих игрушек. Ну а
самое, самое главное - против периодически появляющихся вблизи охраняемого
объекта (мужа-академика) физических тел, отвратительно молодых и преимущест-
венно женского полу. Непривычная ориентация была еще не принята в академиче-
ской среде. Хотя...
Даму, жену академика, сидящую напротив, Александра узнала сразу по общему
выражению неодобрения на лоснящемся оплывшем лице, но имя её вспомнить
не могла: какое-то у неё было странное, претенциозное имя - Роксана, Рогнеда,
Ратмира - как-то на Р. Прежде случалось с ней встречаться на всяких банкетах и
приёмах. Одно время с будущим академиком - он тогда даже и докторскую еще
не защитил - пришлось Александре работать над одной темой, настолько важной,
что Покровский собирал всю их команду еженедельно в своем кабинете во второй
половине дня, ближе к вечеру, когда административное напряжение слегка спада-
ло и можно было наконец спокойно поговорить. Спокойно не очень получалось,
потому что тема горела. Совещания эти были совершенно неофициальные (мозго-
92
тонкий слой
вой штурм) - важные дела именно в таком режиме всегда и решались - и затяги-
вались надолго. И вот всегда в семь часов, а иногда чуть раньше, дверь кабинета
распахивалась и на пороге возникала, как грозная тень командора, жена будущего
академика; за спиной её моргала виновато секретарша, а иногда и не моргала,
поскольку рабочий день секретарши давно закончился, и она полное право имела
отправиться домой. Большая женщина застывала молча и недвижно на пороге
(никаких никому приветствий), устремив на мужа говорящие глаза и тонкие сжатые
губы. Бедный будущий академик суетливо дергался, заталкивал как попало в свою
папочку бумаги, неловко мял их, дергал незакрывающуюся молнию под насмешли-
выми взглядами коллег, торопливо прощался, семенил к выходу. Потом у него
случился инфаркт, но не очень обширный, и через полгода он к ним вернулся,
снова сидел за общим длинным столом, похудевший и грустный. Тема меж тем
тронулась с места, появились замечательные результаты, финансирование про-
длили, и более того: еще и накинули на технологические испытания. И тут Алек-
сандра заметила, что командор больше не появляется, и спросила тихонько у
Покровского: «Почему? как вы думаете?» - спросила после совещания, уже в
машине - он любезно всегда развозил участников по домам. Покровский изумился
её вопросу: «А зачем ей теперь появляться - она уже победила».
Муж победившей Р. (всё-таки, кажется, Роксаны) стал академиком довольно
поздно, уже в перестроечные времена. Именно тогда она окуклилась окончатель-
но как Дама.
Между прочим, в эти дикие годы появилось невиданное количество академий.
Однажды пришло Александре любезное приглашение стать действительным чле-
ном Новой Нью-Йоркской академии наук, и предлагалось перевести сто долларов
на указанный счёт - взамен обещали незамедлительно выслать настоящий дип-
лом. Александра посмеялась и письмо выбросила. А вот друг Володя Л. тоже по-
смеялся, но не пожалел ста долларов - ну были у него, он на прибыльную риелтер-
скую стезю вступил, а науку совершенно бросил, - выслал по указанному адресу
и в обещанный срок получил диплом неописуемой красоты, коричневый с золоты-
ми буквами и вензелями, пригодный для вывешивания на стенку - там была специ-
альная петелька, а с диплома свисали на перекрученных шнурах роскошные кисти,
тоже из золотых нитей. И Володя Л. повесил диплом на евроремонтную стену в
своей новой квартире, подводил гостей, показывал. Гости из гуманитариев удивля-
лись, ахали восхищенно, какие люди среди нас, а физики-математики хмыкали и
хлопали Володю по плечу.
Но муж Дамы Р., сидящий, естественно, с ней рядом (от себя она его никогда
не отпускала, даже и после окончательной победы) был настоящий академик.
Каждый раз надо было уточнять: «настоящий академик» - то есть той самой Рос-
сийской академии наук, что унаследовала, переняла все достоинства АН СССР -
ну и недостатки тож. И Дама всегда уточняла и любила это подчёркивать - то
есть факт настоящести, а не недостатки возлюбленной и вымечтанной на старости
лет Академии.
И вот они говорят, говорят, перебивают друг друга, подкалывают, острят -
давно уже не сидели вместе за одним столом, забыли, что это стол поминальный,
увлеклись. И снова возвращаются к болезненным причитаниям о падении статуса
своей науки. Про то, что оборудование устарело и уже более двадцати лет не
покупали ни одного прибора, и приходится экспериментаторам метаться по всему
свету: пытаются бедолаги удержаться на мировом уровне; про то, что пагубно
сокращать фундаментальные направления, потому что не все идеи «выстрелива-
ют» так быстро, как хотелось бы уважаемому министру; про то, что индекс цитиро-
вания ничего уже не определяет в сложившихся обстоятельствах.... и студенты
не идут работать в научные институты, а идут студенты в, стыдно вымолвить, в
мерчендайзеры или в какие-то, прости господи, дивелоперы. А что это такое,
“Зарубежные записки" №19/2009
93
Людмила АГЕЕВА
мечер... меркчен... ну, вот то, что вы только что сказали, уже не первый раз слышу.
А? Мерчендайзеры? Это, знаете, особая наука, умение раскладывать товар таким
образом, чтобы невозможно было мимо пройти, не купив чего-нибудь, специаль-
ные курсы есть, платные, довольно дорогие, - но затраты окупаются, говорят. И
откуда это вы всё знаете? Так от студентов же, студенты и рассказывали. Ну и как
же вы им лекции читаете, если они не идут работать по специальности, если на-
ука им неинтересна? Это как-то получается... что и ваша работа бессмысленна.
Да, именно так и получается. Вы еще скажите, что это я не привил им любовь и
страсть к научной работе. Ну не хотят они идти работать в умирающий институт
за нищенскую зарплату. В прошлом году у меня очень хорошая группа была, так
только один, представляете, только один, работает по специальности, девочка
Оля у меня диплом писала - уговаривал поступать в аспирантуру, сначала согласи-
лась, а потом передумала, оценив нищую перспективу, занимается... ландшафт-
ным дизайном. А другой толковый мальчик... пилки для ногтей делает. Это вы
только что нарочно придумали, не может такого быть. Очень даже может быть, а
вот сейчас позвоню... Да ладно, не надо. Вот вы всё ругаете, а что делать-то...
Кстати, забыли, как мокло импортное оборудованиее у нас во дворе в красивых
ящиках... Ругать просто, вы бы лучше... А я не только ругал, я вон ему писал. (За-
меститель министра глянул в их сторону, словно услышал, о чем речь идет, - а
сидел далеко, никак не мог слышать, и тут же отвел глаза.) Ну и что? Ну и ничего.
И включаются в разговор и подсаживаются с рюмками другие сотрудники, удру-
ченно качают головами, поддерживают. Один говорит ни к селу ни к городу: «Не
мечите бисера перед свиньями, дабы они не попрали его ногами и, обернувшись,
не пожрали вас...». А другой, уже плохо владея речью и собой, наклоняется к
простому профессору: «На хрена ты писал вору и разбойнику о муках обворованных
и ограбленных». Жена академика не скрывает своего ужаса, пытатся встать, при-
поднимается, но академик тянет её за руку вниз, повелительно: «сиди!» Немолоды
эти люди, они много работали, всё про них известно, они заложили основы чего-
то, открыли новые направления, получали премии, были признаны теми, кого
признавали сами, - узкий круг, тонкий слой - у них были надежды - сейчас надежд
нет, но менять уже ничего не хотят в своей жизни. Да и не возьмут их ни в какие
мерчендайзеры.
К процедуре поминок возвращает их чей-нибудь тост.
Поднимается какой-нибудь важный, одергивает траурный пиджак, поправляет
выбившийся галстук, откашливается, стучит ножом по стеклянному, грозно огляды-
вает публику - все затихают, подбираются, держат наготове свои стопочки, ждут.
Иные торопливо хватают бутылки, наливают себе и соседям. Тоже застывают,
потупляют глаза. Пережидают эти речи. Важный, кому положено, начинает гово-
рить - кто попало не встанет и не начнёт - и восхвалять: непоправимая утрата,
истинный ученый и труженик, бескорыстный служитель, гордость отечественной...
Да, всё так, всё так...Уходят они... Один за другим... Помянем.
* * *
- Коля, ты хочешь, чтобы я тебе сказала слова какие-нибудь?
- Ничего я не хочу - просто разговорился некстати, ну повело меня немного.
Я так рад, что ты приехала, а ведь могли и не увидеться...
- Ну уж... прошли те времена. Два часа лёту - ну, два часа с половиной...
- Вот увидел тебя и разговорился. Но я ведь не болтун, ты знаешь. В старости,
я замечаю, очень человек становится болтлив, особенно если одинок. Не хочу
превращаться в болтливого старика... Да... А Лидуша тебя любила... мне здесь
поговорить о ней не с кем... никто не понимает... Слушай, как странно - водка
хорошая, я последнее время всё дрянь какую-то пью.
- Ты вообще, Коля, много пьёшь, ты кончай это дело...
94
тонкий слой
- Ну уж нет, с какой стати, ты даже не представляешь себе, как меняются ощу-
щения: мне кажется, я только тогда и живу. Когда я просыпаюсь утром, я так ясно
всё вижу, так всё понимаю и в людях, и в друзьях, и в женщинах - и в стране,
кстати, - что жить дальше решительно не в состоянии. Безнадёга. Такое русское
слово. Но сделаю первый глоток... И снова живу...Иду на работу.
- А там второй глоток? Да?..
- Ну нет, не сразу... Только в самом конце дня. С такими же, как я. Бредем, не
разбирая дороги. Не в силах расцепиться. И лица у них вдруг становятся такие
приятные, как в дымке, заходим куда-то, сидим, разговариваем, понимаем друг
друга с полуслова, хорошо нам - мрак накатывает уже потом, когда бредёшь в
темном городе, спускаешься в метро, стараясь не покачнуться, не попасться на
глаза ментам, на последнем, как говорится, дыхании, на автопилоте, дойдешь до
своего дома, до своего чужого холодного дома - и упадешь, провалишься... до
следующего темного утра. А слова твои не помогут. Я всё про себя знаю. Я с Ли-
дочкой каждый день разговариваю.
- Но я все-таки скажу... Это, Коля, у всех так. Всегда мучительно думать про
тех, кто ушел. Всегда думаешь, что если бы что-то по-другому сделал, они бы жи-
вы были сейчас. И у меня так было. Я отца оставила и ушла, а могла бы остаться,
- там на ночь можно было остаться, а он без меня умер, соседи по палате рассказа-
ли, что он меня звал, потом поцарапал доску - они инсультников такой доской
отгораживали, чтоб не падали, утром пришла - кровать пустая... Да и вообще
безмозглая я была, надо было врачей всех поднять, сиделку нанять, лекарства
новые появились - не понимала... да... были ведь настоящие врачи, можно было
бы вытянуть...
- Ты не догоняешь: у меня же совершенно другой случай, я же действительно
их предал, бросил Лидушу с тётей Зиной и смылся... Я там у них, видите ли, за-
дыхался. Мысли у меня, видите ли, были, идеи дурацкие - ни одна, кстати, не по-
лучилась. Среда мне была нужна их долбаная, не мог я жить без разговоров с тем
же Юркой. Потом уж, правда, Юрка откололся, впал в медицинскую тему и увлёкся
как безумный... Ну, ты его знаешь, он по другому не умеет... да еще со Светкой
начал разводиться... а я так не могу: от меня уже другие люди стали зависеть. Мы
грант получили все-таки. Юрка напоследок помог, он в этом деле незаменим. И
вот чужих я не подвёл, не оставил, а своих бросил.
- Во-первых, ты не бросил - ты же деньги им посылал, они бы без тебя, мо-
жет, вообще загнулись, лекарства тоже посылал. Была надежда выкарабкаться, в
Питер вернуться...
- Да, светила Южная Корея - это был шанс, потому и схватился: думал, наскре-
бём на квартирку какую-никакую, хоть комнату в коммуналке, перетащу их сюда...
- Ну вот видишь... А во-вторых... Даже если Лидуша считала, что ты её бросил...
- Считала, так и писала. Хотя обратно не звала - даже требовала, чтобы здесь
оставался, но каждое письмо начинала словами: «С тех пор, как ты нас бросил...».
- Ну не смертельно же это само по себе. Ты оглянись, что вокруг творится.
Все развелись. Что же - все старые жёны погибли? Вон Лия прекрасно себе жи-
вёт. У них с Серёгой нормальные отношения, с внуками время проводят, никто
не погибает.
- Некоторые и погибают, не все такие живучие, как... Умолчим. Да... а деньги
эти проклятые... кто-то, значит, выследил: город-то маленький, обменных пунктов
всего несколько, знали, что у Лидуши доллары. Убить за пятьсот долларов... Ты
можешь мне это объяснить?
- Не могу я тебе ничего объяснить. И никто не может. Тем более здесь вообще
ни за что убивают - что ты мне вопросы бессмысленные задаешь? И восклицаешь.
О! Давайте восклицать, друг другом восхищаться...
- Перестань, пожалуйста. Видишь, эти дуры смотрят.
“Зарубежные записки" №19/2009
95
Людмила АГЕЕВА
- Ах не хочешь? Не хочешь нами восхищаться? Прилетела - и все тебе не
нравится. Не тянем мы уже на твоё восхищение? Да?
- Пожалуйста, я прошу тебя... А вот это не надо... Отдай бутылку, отдай подобру-
поздорову.
- Ты здесь не один... Люди смотрят. Хватит тебе... Давай съешь чего-нибудь.
Ты же не ел ничего. Вот мясо какое-то принесли, давай положу тебе - смотри,
какой отличный кусок, вот, возьми чистую тарелку. Ну что это, что это? Прекрати
истерику, ну я не знаю просто... Ну не вернёшь Лидушу, а жить все равно надо.
Как это не надо. Зачем? Не хочешь? Тебя никто не спрашивает. Хочешь или не
хочешь. Надо - и всё. Лидуша хотела бы, чтобы ты Володьке помогал. Мне говори-
ли, у тебя внук скоро будет...
- Не хочу никаких внуков, больше никого не хочу любить... Отдай мне письма...
- Отдам, конечно, отдам. Найду и отдам. Я еще в квартире не была. Николай,
ну пожалуйста, не устраивай ты им этого представления, видишь - уставились. Я
вот что, я счас, я Павла позову, и мы тебя домой отвезём...
Александра поднимается, ищет глазами Павла, крепко сжимает плечо Николая,
как будто без её вцепившейся руки он упадёт, распадётся на безобразные осколки
на глазах у любопытствующих химических старух. И так уже пальцы его судорожно
рвут тугой ворот заношенного свитера, судороги терзают горло, хриплые мужские
всхлипы пугают официанток, дама по имени Р. смотрит брезгливо и осуждающе.
(Александра вспоминает слова Лиды из давнего письма: «...на роль истерички у
нас назначен Николай». Как ему теперь эти письма отдавать, какие отдать? какие
спрятать? Он ведь еще пуще начнет страдать: такой человек, всегда был выключен
из обычной жизни - ничто его в так называемой «реальной» жизни не интересова-
ло. «Эти игроки в бисер без женщин долго не живут», - произносит чей-то холод-
ный голос. Вчера кто-то так сказал - может быть, Сергей. Услышала чей-то разго-
вор сквозь мутный туман. Какие все жестокие стали.)
Как ни странно, Павел улавливает призыв Александры - хотя сидит далеко, за
главным начальственным столом, - делает ответные понимающие знаки, выбира-
ется из министерского окружения и вот уже идёт, идёт к ним... Но вдруг лицо его
по дороге меняется, застывает, твердеет, покрывается серой плёнкой страха,
он смотрит куда-то поверх голов. Александра оглядывается и сразу понимает,
что это - Тина. Неузнаваемая, расплывшаяся Тина с трясущимися серыми щеками,
что-то шепчет, дышит с присвистом, огибает Александру как незначительное
препятствие, не узнавая, не останавливаясь. Они не встречаются взглядами -
какие уж тут взгляды после бездны лет, Александра просто видит застывшие,
безумные глаза и говорит тихо, для себя: «Она убьёт его».
Тина неожиданно сильно вцепляется в грудь Павла - пиджак перекашивается,
рубашка вибивается наружу - и шепчет в его окаменевшее лицо: «Ненавижу, не-
навижу, ненавижу тебя ...».
Но откуда-то сбоку выплыват огромная темная спина, поперечные пиджачные
складки сейчас лопнут, спина раскидывает руки: «Спокойно, Валюша, всё-всё,
всё в порядке. Его перевели просто для профилактики, за ним там будет круглосу-
точное наблюдение». И Тина долго трясётся в железных Юркиных объятьях, бьёт-
ся, как большая толстая рыба, и стихает постепенно, беспомощно стихает.
«Вы меня когда-нибудь доконаете, честное слово», - говорит Юрий Сергеевич
(откуда он взялся-то?), одной рукой продолжает прижимать к себе ослабевшую
Тину, другую руку протягивает Павлу, и тот её с тяжелым вздохом пожимает.
Появляется Надежда, сама подходит - у неё с Тиной и всегда были какие-то
особые отношения, впрочем, вовсе и не особые - простые, добрососедские.
Дачи их в Комарово разделял общий, со временем упавший, забор, долго нарочно
не поднимали - удобно было переступать на соседний участок. Пока мужья в
душном городе увлекались своими скучными делами, у них были другие радости:
96
тонкий слой
отборная рассада, чудодейственная подкормка, первые огурцы, пленка для парни-
ков - то её снимали, то снова натягивали, вместе закрывали редис от пагубного
света белых ночей, вместе пересаживали кусты смородины, а ещё - цветы, рецеп-
ты, летние чаи на веранде в неповторимые года, которых больше не будет. Две
женщины обнялись и рыдают, никого не видят вокруг. На них поглядывают - что-
то уж слишком громко, не принято это в нашем сдержанном городе. Слегка проры-
вающиеся слёзы - это еще понятно, это естественно. Как прощальные поцелуи
на вокзале. В строгие пуританские времена, рассказывают, во времена разгула
советских народных дружин парочки ходили на вокзал, чтобы целоваться. Серёгу
с Лией однажды действительно чуть не замели яростные дружинники за безнрав-
ственное поведение - на вечере это было, в Павловске, они целовались во время
танца. «Пройдемте, молодые люди!» - «Да мы заявление подали». - «Пройдемте,
там разберутся, куда вы заявление подали». Едва отбили их совместными усили-
ями. Лия догадалась вытащить талончик на приобретение дефицита к свадьбе -
был такой заветный магазинчик, на талончике и фамилии их стояли. Доказательство.
Отпустили неохотно.
Заместитель министра посмотрел на своих, скорбно вздохнул, положил скулу
на сжатый кулак, прервал разговор, печально прикрыл глаза. Ничего-ничего -
люди в своём праве. Плачут люди. Слёзы заразительны, как кашель на концерте.
Вот даже и мужчины жмурят глаза - прячут слёзы. А уж женщинам тем более про-
стительно. О чем они плачут - о том, что жизнь оказалась короткой. А вы не зна-
ли? Знали мы, знали, но не хотели думать, не успели подготовиться. Есть ли тот
свет, нет ли его - ни доказать, ни опровергнуть. Но разлука-то, разрывающая
сердце, есть. Как тут не плакать. Пусть близкие люди поплачут. Министерские
деликатно отворачиваются, смотрят в пол, терпеливо пережидают непонятную
заминку и появление новых пришельцев, хотя давно пора уже вернуться к делам,
к плетению дежурных интриг - зря, что ли, собрались вместе значительные люди:
всё надо использовать, всё у них идёт в дело.
К Александре подходит Настя, улыбается: «Вы меня еще помните, тетя Саша?»
Голос глухой и низкий, вертит в руках незажженную сигарету (если честно, на
улице Александра её бы не узнала - красивая какая стала, еще лучше, чем в юно-
сти, лицо усталое, значительное, синяки под глазами, а красивая).
Настя неожиданно произносит: «У нас Андрей в реанимации».
Один только Юрий Сергеевич знает, что Андрей спрятан в реанимационной
палате по его приказу. В конце дня прибежала дежурная сестра с побледневшим,
испуганным личиком, с дрожащими губами. Какие-то поздние посетители устроили
хамство в гардеробе, угрожали, пытались прорваться сквозь вахту. Один до сих
пор хочет пройти, но уже ведёт себя довольно скромно, просит униженно, гово-
рит: очень надо... Юрий Сергеевич подошел к окну, глянул вниз - у подъезда
стоял джип с приоткрытой дверцей, рядом курили два неприятных бритоголовых
парня во всем чёрном. Дежурной выдал быструю инструкцию: «В реанимацию
его, от греха подальше...». Не поленился спуститься вниз, в вестибюль. С деревян-
ной лавки у вахты навстречу ему поднялся понурый Ильяс. Правая рука у Ильяса
висела плетью, свежая синева сползала от глаза по скуле вниз, к подбородку и
распухшей губе.
«Медицинскую помощь по таким пустякам оказывают в травмпункте, - Юрий
Сергееич указал на висящую руку и разбитую морду, махнул рукой куда-то в сторо-
ну, _ тУДа иди. Они там круглосуточно. Царапины - это не к нам. А дружбан твой
сейчас недоступен. Никаких посещений никому не разрешаю. Пишите эсэмэски,
если хотите». Ильяс открыл рот, втянул в себя воздух, один глаз у него отчаянно
“Зарубежные записки" №19/2009
97
Людмила АГЕЕВА
вытаращился, другой выкатил слезу из щёлки под вздувшимся багровым веком.
Ничего не сказал, выдохнул со стоном, как старик.
Потом Юрий Сергеевич зашел в палату, из которой уже выкатили кровать с
Андреем вместе с капельницей, выдвинул ящик тумбочки, положил в карман мо-
бильник, подумал, переложил мобильник Андрея в свой портфель, защёлкнул
замок, захватил забытую бутылку сока и двинулся в сторону реанимационной. У
входа в реанимацию на старинной больничной скамье развалились два охранника,
боевые стволы скучали рядом. Один что-то рассказывал, игриво перебирал пальца-
ми. «У, бездельники...» Молоденькая сестра хихикала перед ними, оттянув кулачка-
ми карманы короткого халатика, переступала тоненькими ножками, кокетничала.
«Уволить, что ли... покинула пост...» Увидели его. Охранники подобрались, лапы
положили на стволы, сдержанно кивнули, а сестра вздрогнула, побежала вперед,
почтительно раскрывая перед ним двери бокса.
- Какого хрена, дядь Юра? - Андрей приподнялся на локте. Трубочки капельни-
цы заколыхались, штатив с бутылочкой задрожал. - Схватили, повезли, ничего не
объяснили. Телефончик не дали послушать. Мордовороты эти тут зачем-то... Мо-
билка моя где?
- Вот что, дружочек. Здесь ты будешь подчиняться мне. А телефончик... вот
он (похлопал по портфелю). Но не отдам. Понятно? Ты лучше скажи, сколько ты
должен?
Андрей жалобно шмыгнул носом, откинулся на подушки, закрыл глаза и еле
слышно пролепетал цифру. Юрий Сергеич присвистнул, придвинул стул к постели,
сел, возвел глаза к потолку, постукал пальцами по подбородку, пожевал губами,
задумался.
- Не врешь?
- Дядя Юра, отдайте мобилку. Я маме хочу позвонить.
- Вот маме как раз и не надо звонить, никому не надо звонить.
- Я в тюрьме, что ли? В тюрьме теперь у всех мобильники, между прочим.
- Вот когда ты будешь в тюрьме, я тебе его верну, непременно. Договорились?
А сейчас - лечь на дно и не высовываться. Никому не звонить, не вставать. Если
ты не совсем дурак, будешь мне подчиняться. Пока.
- Дядь Юра, ну... дядя Юра-а-а !
Но Юрий Сергеевич слышал эти вопли уже в коридоре. А маме Андрей все-та-
ки позвонил. Очаровал сестричку бледной своей красотой, влажными ореховыми
глазками в детских мохнатых ресницах, легко увел девушку у бездельных охранни-
ков, выпросил телефончик, нажаловался маме на дядю Юру, сообщил, что переве-
ден в реанимацию, - в таком он, стало быть, состоянии, опасность для жизни -
ни с того ни с сего в реанимацию не переведут. Голос был тихий-тихий, шелестя-
щий, умирающий.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. В СТАРОЙ КВАРТИРЕ. КНИГИ И ПИСЬМА
Несколько раз с грузом старья спускалась Александра к мусорным бакам. С
трудом подняла и вынесла швейную машинку, подольскую, ужасную - ни одного
ровного шва никогда не прострочила, путала нитки и рвала ткань; фотоувеличитель
на тяжелой металлической подставке - металл кому-нибудь да пригодится; мятые
алюминиевые кастрюли и побитые эмалированные тазы; пальто длинное, когда-
то прекрасное, с настоящими перламутровыми пуговицами, лень было срезать
(потом пожалела); противни со столетними напластованиями сгоревших жиров,
липкие железки - останки газовой плиты; еще пальто, и еще одно, и плащи, и
мешок с клубками шерсти вместе с мертвыми личинками моли, и тостер, усыпан-
ный следами тараканов, и стопку невзрачных общепитовских тарелок, и мешок с
искореженной уродливой обувью, еще какую-то одежду в старинном соломенном
коробе, в сумках, узлах, картонных чемоданах. И каждый раз, вернувшись в смрад-
98
тонкий слой
ный помойный закуток с новым грузом, удивленно отмечала, что только что прине-
сенные унылые вещички уже кто-то хозяйственный прибрал (высмотрел, что ли,
в большой полевой бинокль), спустился вниз и быстро унёс добычу. Казалось,
чужие внимательные недобрые глаза всё время за ней наблюдают, притаились
за темными стеклами молчаливого, безлюдного двора, ждут, когда она поднимется
к себе. Неприятно чей-то взгляд покалывал спину.
Что делать со старыми книгами. Куда их девать? Букинисты посмотрят презри-
тельно. Выбросить - рука не поднимается. Подарить - никто не возьмёт. Остаётся
оставить всё как есть: пусть другие решают: у них ничего не связано с этими жал-
кими переплетами, лелеющими внутри ахинею советских лет. Какие-то названия
странные: «Это было под Ровно», «Флаги на башнях», «Педагогическая поэма».
Бабушка читала и перечитывала - нравилось ей. Частокол Драйзера, какой-то
Кронин, романы, вырванные из журналов, из «Иностранки», переплетены в одина-
ковые жесткие рубашки - в институте был переплётчик, рубль брал за переплёт.
«Мать и музыка» Цветаевой на папиросных листках («Эрика» берет четыре копии,
чей-то подарок, в те времена ценный, любовно изготовленный), такой же Ман-
дельштам в самодельной обложке, ситцевой, - фон темно-синий, цветочки мел-
кие. Твой подарок, твой. Помню, а тебя уже нет. Ничего диссидентского. Не были
мы героями, не выходили на площадь - но болтали вдоволь, создавали ноосферу
свободомыслия. Пронесло. Не всем так повезло. Большинству - да, повезло. А
кое-кто и попался. Подумать только - за невинного «Доктора Живаго» в ящике
стола человека выгнали с работы... погубили, можно сказать, никуда не брали,
никуда устроиться не мог - из первого отдела во все места заблаговременно по-
звонили, издевались, ни в тюрьму, ни в психушку не посадили, а погубили -
уехал в провинцию, жена за ним не поехала, спился там окончательно - так сына
маленького и не увидел. Неподъемная глыба - фотокопия Белинкова про гибель
русского интеллигента, толстые листы загибаются, распрямить невозможно, неко-
торые залиты чем-то коричневым, проникающие разводы, у многих эти листы по-
бывали - а печатали в лабораторной фотокомнате, сменяя друг друга, в день
коммунистического субботника. На государственной фотобумаге. Веселый цинизм.
Неужели не донесли? Или все-таки донесли, но они уже махнули на нас рукой.
Разброд и шатание в рядах. Стукачи потеряли всякую совесть, работали спустя
рукава. Совершенно безответственные, случайные люди. А где было взять ответст-
венных и добросовестных? Идейных? Все запасы кончились. Идеи протухли. Инте-
ресно все-таки, платили им или только за страх. Один (как же его звали, совершен-
но вылетело из головы) навязался провожать. Давно уж его вычислили в лаборато-
рии, он поводы давал, как будто нарочно, подмигивал и намекал. Провожал домой
после банкета - никак не отвязаться было (Венька тогда защитил кандидатскую).
«Нет уж, я тебя отвезу, мы же соседи». И в такси вдруг начал её хватать, лез под
юбку. Хорошо, зонтик оказался в руках, отбилась зонтиком. Обиженный, забился
в угол, забубнил: «Вот вы меня не цените, а ведь одного моего слова достаточно...»
Невозможно выбросить книги... это как с кусочком хлеба: бабушка всегда застав-
ляла поднять с пола, с земли - скормить птицам, положить на приступочку, даже
если очень торопишься, бежишь мимо - не бери грех на душу, пусть кто-то дру-
гой... а ты не смей, может, голодный мимо пройдет: обдует сор и съест.
Иногда зачитывалась, как случалось всегда: начнешь вытирать пыль с полок,
откроешь случайную страницу - и не можешь оторваться:
«Предлагаемый благосклонному вниманию читателя ’’Практический Указатель
г. Петербурга” имеет целью прежде всего дать возможность лицам, впервые при-
езжающим в столицу, быстро ориентироваться».
Отложила в стопочку, с надеждой увезти. На чужбину. Обложка с вечным Мед-
ным всадником почти оторвана, болтается на одной ниточке, насущная реклама:
«Шелковые, шерстяные материи, плюш, бархат и бальные новости, бумажные
“Зарубежные записки" №19/2009
99
Людмила АГЕЕВА
ткани и суконный отдел для верхних вещей», объявления: склад какого-то Гюбнера
переведен с 11 февраля 1896 г. в Банковский пер. № 6 и 7. Яти, еры, «и» с точ-
кой. Чудный старинный шрифт. Страницы рассыпаются - выпала бледная карта.
«Приложенная к ’’Указателю” карта - план г. Петербурга - составлена с таким
расчетом, чтобы читатель мог видеть удобные и дешевые пути сообщения (на
карту нанесена сеть конно-железных дорог). На оборотной стороне плана поме-
щен алфавитный список улиц, линий, рот, переулков: их легко найти на плане».
Никто не брал в руки этот «Указатель». Никто не разворачивал план, хотя на
нём всё так легко можно было найти. Много, много лет. Не было интереса к Прош-
лому. Не потакали. Интерес и пропадал. Любопытство считалось грехом: «Меньше
знаешь - лучше спишь» (отец сказал матери после закрытого партийного собра-
ния: «Любопытство - опасная штука», - ну, это он цену себе набивал, тогда уже
можно было, хотя никто никогда не знал, можно ли уже об этом говорить или луч-
ше подождать...). Одна лишь бабушка вечерами рассматривала бледную карту с
лупой - она уже и читала с лупой, - рассматривала, покачивала головой, шептала
мечтательно названия улиц, линий, рот и переулков. Там застыло никому не инте-
ресное, лишь для неё одной незабываемое, вечное волшебное Настоящее. Отец
раздражался, прерывал бабушкины рассказы: «Да слышали мы уж сто раз ваши
дворянские восторги, нет никаких дворян, не тронули вас - и скажите спасибо
и... помалкивайте». Когда уж давно не было на свете бабушки и неожиданно насту-
пили новые времена, мать понесла пробудившимся дворянским начальникам вет-
хие бумажки, тайно сберегавшиеся бабушкой, увидела поджатые губы «ассоцииро-
ванной» дамы, внимательно рассматривающей рассыпающиеся документы - како-
го-то важного из них, по мнению высокомерной дамы, все-таки не хватало, услыша-
ла забытое, из какого-то Салтыкова-Щедрина, пренебрежительное слово «худо-
родные», обиделась: «А вы сами-то, позвольте спросить, кто?» - вернулась домой,
дрожа от злости, на издевательские расспросы отца запустила в него банкой со
сметаной (не пожалела сметану-то, на противоположной стене долго еще были
заметны жирные потеки). Отец увернулся со смехом (а если бы попала?), пошел
на кухню ставить чайник, приговаривая восхищенно: «Ну чисто Настасья Филиппов-
на». А слово «худородные» он запомнил и повторял в разных обидных вариантах:
«худородных даже большевики не выселяли», «худородные космополиты еще будут
мне указывать»...
Александра выдвинула все ящики письменного стола, вытряхнула их содержи-
мое, села на пол среди бумажных сугробов и вдруг вспомнила: «Она сидела на
полу и груду писем разбирала». Как там дальше: «...и как остывшую золу»... На по-
лу и сидела, как верно-то. Вечно сидят женщины на полу и разбирают старые
письма. Привычное дело. Мужчины так не сидят. Трудно предствить, чтобы кто-
нибудь из них вот так сидел и рассматривал каждый листок. Просто сгребают ста-
рые бумаги и выбрасывают на помойку. А куда еще - конечно, на помойку, туда,
где заканчиваются все спирали земного существования. А ей и не на чем больше
сидеть. Кресла продала в прошлый раз, стулья развалились сами собой. Конверты
тоже хранили время - круглые черные штампы, забытые номера домов, переиме-
нованные улицы, советские марки с лётчиками, учеными, трактористами. Примитив-
ные картинки на конвертах. Веточка мимозы с желтыми пушистыми шариками - к
восьмому марта, цветные гроздья салюта над кремлевскими башнями - к Дню
Победы. Примитивные, а все-таки трогательные. Жаль, но надо выбросить. Фор-
мальные открыточки с дежурными одинаковыми словами. Выбирала только длин-
ные настоящие письма. «И грустно так на них глядела». Ну, не совсем так. Грусть
- такое мягкое слово. Другое чувство, более безнадежное. Как этот затхлый запах
человеческого отсутствия.
Нежилой дух стоял в квартире. Иногда удавалось о нем забыть, но проника-
ющий холод заставил встать, с трудом оттолкнулась от пола ладонями, напрягла
100
тонкий слой
все мышцы, снова открыла шкаф - какие-то старые свитера, свалявшиеся шарфы,
изъеденные молью, слежавшееся бельё и серые простыни. Нашла старую куртку,
накинула на плечи. Пошатываясь, словно после летаргического сна, подошла к
окну.
Непонятное время года. Тонкое кружево черных ветвей на серо-голубом, уходя-
щие вдаль черные стволы, мокрые крыши, провисшие провода роняют тяжелые
капли. Знакомые башенки подсвечены розовым светом, из-за горизонта протяну-
ло невидимый луч слабое солнце. С усилием, со скрипом повернула Александра
заржавевшие ручки, открыла створку окна - ворвался пронзительный воздух, запах
сгнивших водорослей с залива. Неужели уже весна? «Осень, странная поздняя
осень», - заметит спокойный голос. А ты подойдешь и встанешь рядом: «Вот та-
кая у нас теперь зима».
Страницы писем уже изменились: еще не пожелтели, но стали ломкими на
сгибах, сухими на ощупь - процесс пошел, длинные органические волокна потеря-
ли свою гибкость, электронные облака сдулись и оскудели, заскучали, перестали
обмениваться электрончиками. «Эрго сум, - напомнило еще раз Время, тасуя
колоду, - причем всюду, даже в таких пустяках». - «Но ведь и я... я тоже существую»,
- попыталась возразить Память. «О! Конечно, конечно», - снисходительно согла-
силась подруга и начала сдавать карты.
Нашла наконец то, что искала: аккуратно собранные еще давно, как будто ждали
своего часа, семь конвертов с самолетиком, окружены красно-синими полосочка-
ми «авиа». Совсем тоненькая пачечка, семь писем со знакомыми буковками, напи-
санными исчезнувшей рукой. На обратной стороне конвертов значилось: «Изго-
товлено на Пермской ф-ке Гознака. Министерство связи СССР, 1980; 03.01.80.
Цена 7 коп. Художник В. Чмаров». Большие запасы этих конвертов, значит, были
у Лиды, долго держались, когда уже СССР исчез. Начала читать, закрывала глаза,
вспоминала, утирала слезы, решила отдать Николаю уж как есть, а себе все-таки
сделать копию.
1
«...Дорогая моя, ну что без толку заламывать руки: не хочу я знать, кто живет в
моей квартире и кому они её продал и-перепродал и - это не мой дом, успокойся
и не ходи под моими окнами, не высматривай занавески, это даже не мой бывший
дом - просто стены и потолок, довольно-таки низкий, - не такой низкий, как у
тебя, конечно, но и не такой же роскошный - с алебастровыми грушами и виногра-
дом, - как в детстве на Кирочной, а двери у нас вообще были ужасные, - думаю,
однако, что двери они уж точно сменили на какие-нибудь дубовые, филенчатые
или с витражами. Нет уж. Сердце моё не там, знать ничего не хочу, главное - Во-
лоденька в безопасности. А сердце моё с вами, дорогие мои. Знаю, что побужде-
ния у тебя самые добрые, но обсуждать эту тему больше не желаю. Царствие Бо-
жие известно где... и Дом, по-видимому, там же.
Тётя Зина встретила нас замечательно, и хотя не было у меня сомнений по
этому поводу, но когда я увидела её на вокзале, старенькую и трясущуюся, ищущую
нас глазами, прижимающую к кружевной груди маленькие коричневые ручки, -
так похожа на маму, ты себе представить не можешь, как она теперь похожа на
маму, - подумалось вдруг, что именно Домой я вернулась, что мой истинный
Дом сейчас откроется мне. И я заплакала, совершенно не стесняясь.
” Деточки мои приехали, - повторяла тётя Зина, хватаясь за наши жуткие тюки
и чемоданы, - деточки мои ненаглядные приехали!”
Я глянула на Николая, и показалось мне, что его глаза наполняются какой-то
сумрачной влагой.
“Зарубежные записки" №19/2009
101
Людмила АГЕЕВА
В Доме, как в детстве, были намыты полы, полосы вечернего солнца лежали
на тряпочных цветных половичках, и пахло пирогами. ’’Всё, больше плакать не
буду”, - сказала я себе и отщелкнула замки нашего главного чемодана.
Вот так мы и зажили у тёти Зины.
Город, возможно, не самый привлекательный - просто большая, богатая, раз-
росшаяся станица, - но виделся он мне из Петербурга сквозь украшающую его
мерцающую дымку далекого детского лета.
В первый же вечер Николай взял меня за руку - это был такой забытый, такой
юношеский жест, - и мы пошли в Город, куда глаза глядят, рассматривали каждый
дом, заглядывали в окна, слушали уличных музыкантов, даже подавали нищим -
как везде, много нищих, и, конечно, эти знакомые приметы - ларьки с яркой дре-
беденью: бутылки, сигареты, шоколадки, турецкие шмотки, меняют видеокассеты,
«Эммануэль», «Орхидея», «Рэмбо». В бывшем Доме книги автосалон, стоят “мерсе-
десы” - всё каку людей. Но мы почему-то не обращали внимания, как бы не видели,
не раздражались. Бродили по незнакомым улицам до полной темноты, пока лило-
вые холмы, окружающие город, не превратились в черную извилистую гряду. Каза-
лось - что ж, замедлим бег, поживем здесь, отдохнем от ударов северной столи-
цы, успокоим сердце в неторопливом чтении, в трудах и размышлениях, остано-
вим мгновение, хотя оно и не очень прекрасно. В центре мы обнаружили очарова-
тельные особнячки с башенками, балконами, зеркальными окнами, увитыми плю-
щом, волны осенних садов, террасы в осенних цветах, несколько церквей со
свежими сияющими крестами, мрачноватый костел, старинный университет в чу-
десном парке - не такая уж провинция, есть даже органный зал, приезжают, су-
дя по афишам, иноземные органисты.
Наш дом, однако, стоит на окраине, и это именно и хорошо, отделен от улицы
глухим забором, высокими воротами с козырьком, калитка узкая, с глазком и тремя
засовами. На окна тётя Зина совсем недавно поставила решетки, но не простые,
а с каким-то растительным извилистым узором, стиль модерн, - уверяет, что это
вполне красиво, но я этими решетками была потрясена поначалу более всего -
теперь-то привыкли. За домом сад, в детстве он казался мне огромным, фантасти-
ческим, непроходимым, припоминается даже какой-то сводчатый грот с бьющим
фонтанчиком внутри. Сейчас же это запущенные беспорядочные заросли одича-
вшей малины, ежевики и кизила, среди которых возвышаются серые скелеты засох-
ших яблонь - срубить-то некому. Так что на Николая у нас большие надежды. Во-
обще Николай начал постепенно оживать, сбрил наконец свою случайную клочко-
ватую бороду, перебирает и читает свои конспекты, вчера сам погладил брюки и
ходил в университет, какие-то там получил обещания, и после ужина, напевая,
чинил старый ламповый приёмник. Между прочим, приёмник, молчавший лет
двадцать, теперь работает. Каждый раз, когда Николай что-то чинит, прибивает,
завинчивает, тётя Зина ходит вокруг, задыхаясь от восторга: ’’Боже мой, мужчина
в доме”. За садом раньше был непроходимый овраг, ни один человек, мне каза-
лось, не добирался до его дна, но там были такие тропиночки, такие площадочки,
по которым мы пробирались от дома к дому, там происходили самые важные со-
бытия, тайные встречи, обжигающие прикосновения, стремительный поцелуй и
бег по склону вверх, где таились «секреты» замысловатых композиций; помнишь,
как устраивался «секрет»: вырывалась ямка - очень хорошо получалось между
корней дерева, - дно тщательно вычищалось и выстилалось листьями, мог подой-
ти лоскуток ткани - бархата, например, - или серебряная бумажка от шоколадки,
а затем на этом фоне выкладывались лучшие морские камешки, черепки синей
чашки, сломанная брошка, цветные стеклышки, перепелиное яичко, блестящие
военные пуговицы, сухие ломкие цветы бессмертников - это уж ваша фантазия,
наконец поверх всего помещался осколок прозрачного стекла, и всё это засыпа-
лось песком, чтобы потом можно было приходить, разрывать руками заветный
холмик, протирать пальцем окошко в запорошенном стекле, любоваться и снова
102
тонкий слой
засыпать. «Секрет» показывали только лучшей подруге или верному надежному
другу. Так вот, теперь там возвышается бетонная стена, отделяя сад от буйного
оврага и подмяв под собой все наши тропиночки, поцелуи и секреты. А поверх
стены, можешь мне не верить, идет колючая проволока (идет ли по ней эл. ток,
не знаю, врать не буду). Вся улица, оказывается, скинулась и выстроила эту бетон-
ную стену. ’’Так все-таки спокойнее”, - говорит тётя Зина. Кстати, тётя Зина до
сих пор работает в своей библиотеке - можешь представить, какую она наработа-
ла там пенсию. На что будем жить мы, не представляю, пока тратим остатки валю-
ты (с обменом нет проблем - на каждом углу менялы). Думаю, что в школу-то уст-
роюсь - если не биологию, то английский, в этом здесь большая нужда: многие
богатеи хотят детей образовывать, так что, может быть, буду просить тебя помочь
мне со всякими пособиями, кассетами и т. д.; чем руки над нами ломать и слезы
бессмысленные лить, будешь мне помогать. Лишь бы пришел в себя Николай, а
там мы горы свернем...»
2
«Прости, моя дорогая, что не сразу тебе ответила, но не по лености, честное
слово, а просто за день так устаю, что к ночи, когда наступает единственное вре-
мя для разговора с тобой, нет уже сил ни физических, ни моральных.
Со школой пока ничего не получается: во-первых, середина учебного года, а
во-вторых, никаких распростертых объятий навстречу мне нигде я не обнаружива-
ла - наоборот, смотрели как на безумную - им самим не платят зарплату уже
много месяцев, почему не уходят - отдельное социологическое исследование,
выживают преимущественно всякими неправдами - в основном сдают помеще-
ния. И вот хождения мои все-таки принесли пользу. Одна из школ сдала спортзал
и несколько классов охранному предприятию, и я теперь там по утрам убираю.
Что это за охранное предприятие и кого они охраняют, понять невозможно -
все помещения забиты коробками и ящиками, к которым прикасаться не велено
(может, оружие?). Это место досталось мне по исключительному везению, а воз-
можно, им нужна была именно такая, как я, - чужая, потому что жаждущих вокруг
очень много, я каждое утро мимо таких прохожу - то есть не прохожу, а прорываю
плотную колючую сеть завистливых взглядов учителей: мне ведь платят! Каждую
неделю! А еще я убираю один маленький магазинчик, но уже вечером, после за-
крытия. И еще! У меня два частных урока английского с очень славными малышами
- тётя Зина устроила. И хотя знаний моих на этих ребят достаточно, к урокам я
готовлюсь необыкновенно тщательно - я ведь раньше с детьми никогда дела не
имела, а дети - это такие особые люди, должна тебе признаться, я ими искренне
увлечена. Только сейчас понимаю, как много я недодала Володеньке, как виновата
перед ним (это только тебе я пишу эти слова, язык не повернется их выговорить
Николаю). Когда Володька рос, я занята была своей дурацкой наукой, Николай
всегда говорил: «Ваша наука - это клуб, у вас там в лаборатории происходит
обычная клубная жизнь». Так что видишь, я уже готова признать, что это был та-
кой образ жизни. ’’Наука как образ жизни” - хорошее название для статьи. Дарю
тебе - ты ведь теперь социолог. Действительно, у нас было своё общество: все
знали, кто чего стоит, гамбургский счет был очень строгий, ученые степени совер-
шенно не имели значения, по всему миру велся счет, и если ты побеждал - пусть
только семнадцать человек во всем мире по-настоящему могли это оценить -
это была твоя истинная победа, тебя поздравляли, тобой восхищались, приглашали
на конгрессы, заказывали доклады, а вокруг всего этого и поездки, и награды, и
наряды, и беседы, и романы, конечно (какая-то Элегия Массив у меня получает-
ся). Так что Николай, возможно, был слегка прав, когда считал, что все эти статьи,
доклады и симпозиумы в некотором роде побочный и необязательный продукт
такого образа жизни и слабое его оправдание. Он-то был всегда одиночкой, се-
бя и свою науку принимал всерьёз, слово «менеджер» в его устах звучало ругатель-
“Зарубежные записки" №19/2009
103
Людмила АГЕЕВА
ством - сейчас же процветают те, кто варит околонаучную похлебку совместно с
иностранцами. Николай всё это делать не желает. Можно им гордиться по этому
поводу, но чаще получается злиться на него за полное неумение думать о своих
близких и о жизни обыденной.
У нас стихла, наконец, непривычная осенняя жара, и близится зима. Здесь
всего два времени года - лето и зима. Зима длится месяца два, не больше. За-
дули сухие ставропольские ветры. Ветер дует непрерывно три или шесть, или
девять, а иногда и двенадцать дней подряд, потом наступает некоторое затишье
- и снова вскипает пыльная буря. В такие дни к нам залетает - то есть в прямом
смысле её заносит к нам ветер - одинокая подруга тёти Зины, словно высушенная
этим ветром старушка, бывшая чтица областной филармонии Ксения Матвеевна.
У неё странный вид депрессии: в ветреную погоду она не может быть одна.
Тётя Зина последнее время всё болеет - хроническое воспаление легких,
артрит, диабет, печень, гипертония - всё сразу навалилось на неё после нашего
приезда, а может быть, она просто расслабилась, почувствовала, что можно на
кого-то переложить часть забот. Так что хозяйство теперь на мне, а ведь это не
городская квартира: и топить печи надо самим, дрова припасены еще с августа.
Готовить тётя Зина просит на плите, поскольку газ у нас привозной, в больших
баллонах. Газ тётя Зина очень экономит. Электричество тоже стало чрезвычайно
ненадежное, и ввечеру бродим по дому со свечами. Нашли и настроили керосино-
вую лампу, но керосин не всегда бывает в городе. Хуже, что внезапно вырубается
телевизор, и если это случается во время «Вестей», тётя Зина топает ногами и
чуть не плачет - давление поднимается моментально. Впрочем, давление у неё
поднимается, если и не отключают электричество, а «Вести» и «Время» идут до
конца, но при этом голос у диктора прерывается от волнения, а лицо меняется
от экстренного сообщения по телефону. Кроме того, после передач у них начина-
ются ужасные споры с Николаем. Наша тётя Зина вовсе не бессловесная старушка,
не замшелая пенсионерка, никаким коммунистическим бредням, вроде преслову-
той колбасы за два двадцать, не подвержена, но и она заражена усталостью и
злостью этого города (или не только этого) и вдруг начинает кричать на Николая:
«Ну что твои реформаторы тебе дали, квартиру в Ленинграде отняли?» (она упорно
не желает произносить Петербург, хотя когда Ленинград был Ленинградом, она
бывало всё твердила, что восемь поколений наших предков похоронены именно
в Петербурге). Николай бледнеет, задыхается, глаз его дергается. Меня они уже
не слышат. «Это несчастный случай. Вы не смеете», - кричит он, отталкивая меня.
«Ах, скажите, пожалуйста, несчастный случай. Что-то мне некоторые параллели
на ум приходят. Знаешь, сколько таких большевиков я встречала в лагере. И каждый
уверял, что вот с ним, только с ним произошел несчастный случай». Николай
бессознательными скрюченными пальцами тянет скатерть на себя, сахарница
опрокидывается на бок, высыпается песок, качается ваза с печеньем, горячий
чай льётся ему на брюки, и он кричит уже от ожога, вскакивает, несется в нашу
комнату, по дороге хлопнув дверью кухни так, что звенят стекла в буфете и долго
еще трепещут жалкие бумажные салфеточки на подоконнике. «Не знала, что твой
муж такой идиот», - спокойно говорит тётя Зина и с медленным достоинством
ковыляет в свою спаленку. Я остаюсь одна прибирать дымящееся поле битвы,
мою посуду, вытираю пол, закладываю в печь растопку на завтрашнее утро, закры-
ваю все двери, проверяю все засовы и когда доползаю, наконец, до кровати, с
подушки поднимается всклокоченная голова Николая. «Старая дура, - шипит голо-
ва, - старая дура». Возможно, это относится и ко мне, но я не отвечаю, молча на-
кручиваю дребезжащий будильник - мне вставать в шесть, главное - не сказать
ни слова. «Это надо каменное сердце иметь, чтобы вонзить жало в самое больное,
- он явно путается в метафорах, - ядовитое, злобное, каменное сердце. И ты
такая же. Господи, на старости лет я живу с двумя каменными бабами». - «Но эти
каменные бабы тебя кормят и за тобой подтирают», - очень хочется сказать, но
104
тонкий слой
я молчу. Николай прыжком поворачивается ко мне спиной, накрывается с головой.
По-видимому, в каждой семье должна быть только одна истеричка, и на эту роль
назначен наш гениальный Коля, а я почему-то служу уборщицей и выгребаю грязь
за своими охранниками после их ночных гуляний, а он бы не смог, с голоду бы
умер - а не смог».
3
«Спасибо, что не забываешь меня, радость моя, когда увидела конверт в руках
у тёти Зины, выхватила его с такой поспешностью, что оторопевшая тетушка вы-
сказала предположение о любовном происхождении письмеца и пообещала не
говорить Николаю.
Ничего особенно радостного за это время не произошло. Николай изредка
наведывается в университет, но каждый раз возвращается всё более угрюмый, и
я не задаю никаких вопросов. Итак, всё ясно. Физика его никому здесь не нужна
и математика тоже. Частные уроки он найти не может, потому что никому здесь
не известен - учеников расхватывают местные преподаватели, даже давал объяв-
ление в газету, но позвонил только один сумасшедший, который хотел подучить
физику, чтобы оформить несколько мировых открытий, и сгинул - Николай гово-
рит, что по голосу ему не менее шестидесяти. Володька, паразит, не пишет и не
звонит, один звонок был за всё время, правда, у нас очень долго был отключён
телефон - перерубили кабель какие-то пришлые строители: строят неподалеку
от нас фантастический замок, с флюгерами, бойницами, зубчатыми башнями и,
конечно, с арочными окнами - какой «новый русский» не любит арочных окон.
Выстроили уже целую улицу этих замков, являя населению разные стадии архитек-
турного безумия. Недавно проезжая в автобусе мимо такого домика, слышу за
спиной разговор: «Ну ничего, когда наши придут, камня на камне не оставят».
Оглянулась. Два парня студенческого вида. Похоже, кто такие наши, мальчики
знают. Близость войны ощущается постоянно. Охраняют больницы, охраняют шко-
лы, на въезде в город образуются чудовищные пробки - проверяют каждый авто-
мобиль, и всё равно оружие, кажется, есть у всех (кроме нас). На первой перемене
прохожу мимо кучки малышей, один говорит другому: «Ты пистолет пока не прода-
вай: я, может, возьму», - утешаю себя соображением, что речь, по всей видимо-
сти, идет о водяном пистолете. Вчера вечером почти рядом с домом стреляли,
били железным по железному и страшно кричали. Николай кинулся в сени, я с
бульдожьей хваткой станичной жены повисла на нем, тётя Зина, однако, даже
головы не повернула, лишь, уставясь в телевизор, произнесла: «Что вы всполоши-
лись? Ну постреливают у нас...» - и переменила позу. В критические минуты она
любит поражать нас несвойственной её возрасту невозмутимостью, а возможно
это просто лагерная закалка. Однако когда мы где-нибудь задерживаемся и возвра-
щаемся домой после наступления темноты - вот недавно случайно попали на
органный концерт, - она с дергающимся личиком выскакивает на крыльцо: «Где
вас черти носят, неужели нельзя было заранее предупредить».
Мы живем очень уединённо, пребываем в раздраженном ожидании неизвестно
чего, не можем примириться с мыслью, что это последнее наше пристанище и
нигде нас больше не ждут, хуже того: давеча Николай произнес необъяснимую,
но созвучную моим мыслям фразу: «Кажется, дорогая моя, мы попали в ловушку...».
Дело в том, что тётя Зина, несмотря на ссоры и споры, искренне счастлива нашим
присутствием и не перестает твердить: «Господь услышал мои молитвы, есть те-
перь кому меня похоронить - деток милых послал на утешение старости». Выхо-
дит, всё, что с нами произошло, - это для утешения старости тёти Зины. «Дом
еще очень крепкий, и в нашем городе люди живут. Поживете, обвыкнетесь, с ин-
теллигентными людьми познакомитесь». Но нет, не хотят знакомиться с нами ин-
теллигентные люди этого города, где-то, видимо, они есть, но нет круга общения,
и чужие мы здесь, да и тётя Зина чужая, но не хочет признаться ни себе, ни нам,
“Зарубежные записки" №19/2009
105
Людмила АГЕЕВА
и никогда мы не стали бы своими, даже если бы приехали сюда в молодости. Так
я чувствую. Нас окружают бывшие станичники, хуторяне, переселившиеся в город,
замкнутые, недоверчивые, самоуверенные, косноязычные, не читавшие никаких
книг, подозрительные, ненавидящие городских, не любящие животных. Вот ты у
нас психолог, объясни, пожалуйста, как можно убивать поросенка, а потом есть
его, если до того он жил в семье, был членом семьи, и какой след оставляют эти
’’домашние убийства” в отношениях между людьми. Не этот ли жуткий след просту-
пает, как пятна крови на руках убийцы, в бесконечных историях, которые случаются
на нашей окраине. Вот такой случай: сильно пьянствующий муж периодически
избивает свою жену, но когда он поднял руку на малолетнюю дочь, жена проломила
ему голову чугунным ухватом. Похоронили. Через некоторое время является свекор
и душит её сорванной по дороге бельевой веревкой. Тоже похоронили. Осталось
двое детей. Или еще. Мать не пускает дочь на дискотеку. Дочь бьет её столовым
ножом прямо в селезёнку, перешагивает через упавшее тело, ранит вбежавшего
отца, отправляется на дискотеку. И всё совершенно по соседству с нами, на на-
шей улице, - а то, что кого-то убили в Городе, похитили ребенка из детского са-
да, выбросили в одних носках из машины, а машину бесследно угнали, подожгли
дом, изнасиловали - это мы слышим постоянно. Знаю, что жутких историй доста-
точно и у вас в Петербурге, но здесь, вблизи природы, на фоне её великолепия
концентрация этих страшилок особенно велика, и сильно они пронзают сердце.
Прошу тебя, напиши поподробнее о Володеньке, ты знаешь, где его искать,
не посчитай за труд - сходи к ней».
4
«...У нас выпал снег. Хорошо бы долежал до Нового года, но это вряд ли - уже
тает, а если начнется ветер, то всю белизну засыпет пылью. Предновогодняя
суета уже началась в Городе, но мы в ней как бы не участвуем. Я не ищу подарки
- нет денег, нет настроения. Для тёти Зины у меня припрятан новый мамин
плед, а для Николая надо бы найти крепкие ботинки, но цены дикие, в связи с
чем вчера по большому блату я была проведена Ксенией Матвеевной в хранилище
’’second-hand” где-то за Центральным вокзалом. Пробирались мы туда по старым
железнодорожным путям, перелезали через стоящие составы, в некоторых живут
беженцы, висит бельё, хнычут дети. Оказались, наконец, перед огромным ангаром.
Несколько раз обежали его, ища вход, пока не различили заветную дверцу в сте-
не. Ксения Матвеевна прошелестела какой-то пароль, мы были впущены внутрь
бомжеватым смотрителем и немедленно задохнулись в мощной волне жуткого
запаха картофельной гнили. Бывшая овощебаза. Пол был, однако, тщательно под-
метён. В центре зала возвышалась невероятных размеров гора тусклого тряпья.
Выл ветер. Поначалу ощущение полного безлюдья. Присмотревшись, замечаем
на куче там и сям слабое шевеление - женщины в респираторах, на ногах полиэти-
леновые пакеты, на руках нитяные перчатки. Сосредоточенно роют. Чем интен-
сивнее роют, тем глубже проваливаются внутрь, от некоторых видны одни макушки.
Ксения Матвеевна протягивает мне старые перчатки. Мы тоже начинаем рыть.
Ничего путного не попадается - все эти шмотки много раз перелопачены. Кругово-
рот тряпья в природе. Однако все возбуждены предельно, охвачены идиотическим
азартом, изредка из нутра кучи несутся вскрики разочарования и неприхотливая
ругань. Идет междусобойный торг и обмен - летают над головой, взмахивая рука-
вами, свитера и кофты, пиджаки и блузки; игриво извиваются в воздухе юбки и
шарфы. Слышим историю: на той неделе «одна» здесь вырыла норковую шубу, а
любая вещь - любая! - стоит 5 (пять) тысяч. И еще история: старушка в кармане
жамканого плаща нашла тыщу долларов, так что щупайте карманы - сигареты уж
точно найдете. Но я нахожу одни лишь застиранные футболки. Появляются новень-
кие - две очень большие, громоздкие тётки, топчутся внизу, пытаются вползти
на кучу, но соскальзывают и грустно начинают что-то ковырять сбоку. Мы велико-
106
тонкий слой
душно сбрасываем им сверху нарытый большой размер. Рядом в довольно глубо-
кой лунке сидит немолодая актриса, просит кидать ей яркое. Говорят, что под
нами, на чудовищной глубине лежат нетронутые вещи. До этой глубины никто
еще не докапывался. Усилием воли смиряю свой пыл и с большим трудом спуска-
юсь вниз. Мне нужна обувь. К счастью, гора обуви значительно меньше и ниже
(но омерзительнее). И вот ведь какое везение: нахожу очень скоро почти новые
ботинки - огромные, крепкие, на рифленой подошве, «ботинки американского
полицейского», - уверяет Ксения Матвеевна. «Точно, они!» - подтверждает угрюмо
смотритель этих несметных сокровищ, пересчитывая наши денежки. Я всё-таки
и для себя нашла светлую блузочку с оторванными пуговицами, а Ксения Матвеевна
ухватила такую обильную добычу: пестренький буклированный пиджак с отпоротой
подкладкой, подходящего цвета юбка с дырой по шву и свитер ангорский бирюзо-
вого цвета с еле заметным следом от утюга, который она знает как вывести.
Обратный путь наш снова проходит мимо вагонов с беженцами, но теперь
мне кажется, что на нас смотрят с явным недружелюбием, презрением и угрозой.
Знают ли они, что в этом ангаре? Мелькает мысль: возможно, эти вещи для них,
такая гуманитарная помощь, а распродают потихоньку своим. Чушь, конечно, но
я чувствую их взгляды и едва сдерживаю шаг, чтобы не побежать. Ирреальный
страх нападает на меня, я уже несусь, перескакивая через шпалы, Ксения Матвеев-
на не поспевает за мной. Мы ведь тоже беженцы. Откуда? И куда? Навстречу
друг другу мчатся обезумевшие беженцы. А ты, родимая Птица-тройка, куда не-
сешься, выпучив глаза? Дай ответ! Замогильным голосом отвечает: ’’Ждите отве-
та...”.
Заставляю себя оглянуться. Боже мой, я бросила Ксению Матвеевну, её даже
не видно. Поворачиваю назад и натыкаюсь на черную толстую старуху. Осторожно
шаркая и тяжело переваливаясь, несет она трехлитровую банку молока.
- Что с тобой, доченька? Эдак ты собьешь меня, видишь - молоко несу внучон-
ку. Хорошее молоко, со станицы.
- Ничего, деточка, - говорит добрая старуха, обнимая свою банку, - в ту войну
хужее было (она принимает меня за свою). Жить-то все равно надо.
Подходит рассерженная Ксения Матвеевна, крутит пальцем у виска.
Писала ли тебе, что ждем в гости Костериных? Юра уже устроил себе команди-
ровку в здешний университет, хочет и для Светланы что-нибудь придумать - хо-
тя бы дорогу оплатили. Билеты же снова подорожали. Хорошо бы они вместе
прилетели - так грустно здесь без друзей. Прошлая жизнь кажется отсюда, из
этого времени, немыслимым раем именно из-за общения (поневоле всплакнешь
и скажешь: роскошь!). Тяжелее всего, наверное, Николаю: ни с кем он не свел
знакомства, единственный, кто прибился к нему, это такой неряшливый, маленький
человечек - вечно пьян, всклокочен и робок, - как ни странно, доцент со здешней
кафедры полупроводников, по уверению Николая, оригинальный и серьёзный
мыслитель. К нам он заходит не так уж часто, но уж сидит на кухне допоздна,
смотрит на Николая влюбленно, дожидается, когда я уйду спать, и тогда уж они
начинают оглушительно шептаться и сладостно выпивать. Зовут этого доцента
Леонид Борисович, и я давно уже его тихо ненавижу, и он это чувствует: при зву-
ке моего голоса пугается, вздрагивает, прячет руки в обвисшие карманы, хотя я
ему улыбаюсь и улыбаюсь, и ставлю на стол закуски, и всячески их обхаживаю. Но
Николай с ним пьёт! Пьёт и мрачнеет, потом угрожающе веселеет. Говорят они
только о науке - о политике они не говорят. Гляну на Николая - чужой и безумный
человек. На следующий день мучается похмельем, лежит, никуда не идет, раздра-
женно слоняется по дому, сидит, пьёт медленно крепкий чай, упершись останови-
вшимся взглядом в бетонную стену за окном. «Вот повешусь на этой стене. Какие
крюки удобные. Так уж и быть, не буду вам дом пачкать».
Спасибо тебе - пришло письмо от Володеньки, но такое уж формальное -
дальше некуда. Почему ты ни слова не написала о нем, как он выглядит на твой
“Зарубежные записки" №19/2009
107
Людмила АГЕЕВА
сторонний взгляд, чем он занимается (про ученье уже и не спрашиваю), на что
живет - из его письма ничего не понятно. Знаешь ли, ведь мы с Николаем почти
не говорим о Володе, очень редко произносим его имя. Какой это ужас - тайные
мысли близкого человека, как неостановимо нарастает наша чуждость, лежу с
ним рядом иногда и просто коченею от тоски, от невозможности помочь ему и
себе, от собственного бессилия хочется завыть. Прости, что пишу так - никому
кроме тебя не жалуюсь, дала себе слово хранить смайл, но натужный мой оптимизм
истекает по капле. Кроме всего прочего, мне кажется, у тёти Зины был маленький
инсульт. Недели две назад привезли её из библиотеки с помутившимся взором
и заплетающимся языком, но очень скоро речь полностью восстановилась, а дви-
жения стали даже излишне быстры. С трудом удерживаю её дома - всё рвется в
свою библиотеку, приют нищих, но взыскующих Слова. Это ведь единственное
бесплатное место в городе, где всякий может лизнуть соль литературной художест-
венности или вдоволь напитаться газетной требухой, а главное, совершенно да-
ром - свет,тепло и спокойствие, так что работа для тёти Зины служение и миссия.
И у нас свои выгоды: мы первые читаем все толстые журналы, хотя в них так всё
далеко от реальной жизни. Или, наоборот, ирреальна и призрачна наша жизнь,
к которой невозможно привыкнуть, - и, тем не менее, привыкаем, как привыкли
все к войне, заказным убийствам, несправедливостям, как привыкли все работать
как бы задаром - в государственных учреждениях так и не платят зарплату, при
этом сколько получают директора и близкие к ним - самая закрытая тайна. Пенсии
тоже задерживают. Захожу на почту купить новогодние открытки, попадаю в толпу
понурых старушек, почему-то стоят в очереди одни старушки, ждут: вдруг кто-ни-
будь придет отправлять деньги. «Вы отправлять?» - со слабой надеждой обраща-
ются ко мне сморщенные личики.
Одним ухом слушаю утром передачу - беседа с представителем Президента
(не помню уж, где) и одновременно Председателем какого-то Фонда (социально-
го), плетет что-то давно пережеванное и неинтересное, речь убогая, плоская,
примитивная, в каждом предложении употребляет сочетание «очень прекрасно»,
что уж у него там очень прекрасного - дома для престарелых, кажется. Но потом
в прямом эфире ему задают вопросы. «Скажите, можно ли прожить на пенсию в
140 тысяч?» Герой передачи отвечает на вопрос полным ответом, ровным голо-
сом: «На пенсию в 140 тысяч прожить нельзя», - но, подумав, все-таки добавляет:
«Надеюсь, вам помогают дети или внуки». А мы вот такие плохие дети, ничем те-
те Зине помочь не можем, даже напротив - поедаем её еще советские запасы
крупы и новые соленья, которые я уже, стыдно признаться, начинаю припрятывать
от доцента-алкоголика - нужно же что-то оставить для новогоднего стола. Кстати,
если надумаешь мне писать, можешь отправить письмо с Костериными, вроде
бы у них всё получается. Николай вчера разговаривал по телефону с Юркой. Поче-
му-то он звонит ему как бы тайком, когда меня нет дома, - правда, я тебе тоже
пишу преимущественно ночью, когда он спит.
Заранее поздравляю тебя с Новым годом, вот ужо напишу тебе как-нибудь в
другой раз что-нибудь более забавное, а ты, пожалуйста, со всей подробностью
изобрази мне свою жизнь и что делается в институте: как я знаю от Светланы, ты
работаешь два дня в неделю, а что остальные, кто как приспособился, кто получил
гранты, кто слинял в богатые края? Считай, что я здесь в ссылке, и моё существова-
ние нужно разнообразить длинными, содержательными письмами».
5
«Дорогая моя, ты ангел, но зачем такие траты - ты просто сошла с ума. Спасибо
тебе, ненаглядная моя, за чудесное письмо, поздравления и за эти роскошные
новогодние подарки. Все-таки есть в России такая традиция - дружить, и это са-
мая яркая радость нашей жизни.
108
тонкий слой
Юрка со Светланой прятали твои подарки (как, впрочем, и свои) до самого
Нового года и выложили твою огромную коробку под елочку, а елочка по высоте
не более пятой части коробки, но зато настоящая, они её провезли под видом
спального мешка, то есть обернутую в спальный мешок, через все кордоны и
проверки. Надо сказать, что купить елку у нас под силу только крупным толстосумам
- остальные довольствуются сосновыми ветками или так уж просто сидят безо
всего, многим не до праздника - мальчики их в Чечне. Чечня ведь совсем рядом,
и жители пугают друг друга близящимися террористическими актами к Новому
году и православному Рождеству. Но мы встретили Новый год замечательно, полу-
чился просто грандиозный праздник. Во-первых, Юра со Светланой уже сами по
себе праздник: они явились такие красивые, ослепительные, Светка в лайковом
пальто немыслимой мягкости и красы, Юрка тоже, однако, в кожаной куртке, но
не какой-нибудь простой и пошлой, а очень дорогой и элегантной, шведского
разлива, что могут оценить, к сожалению, только редкие знатоки. Во-вторых, стол
ломился сама знаешь от чего - от яств, тобой присланных, то есть от осетрины,
сияющей единственной свежестью, ароматного слезоточивого к ней хрена, крас-
ной икры, маслин и грибов, от сбереженных мною маринадов и солений, от прине-
сенных Ксенией Матвеевной пирогов типа расстегай-кулебяка, от вкуснейших
салатов, приготовленных тётей Зиной, от накрученных Светкой нежнейших тортов,
а также от французского коньяка, который ловким, точным движением поставил в
центр стола Леонид Борисович. Он пришел абсолютно трезвый, в чистом костюме,
в светлой рубашке, с прямой спиной - дорогой коньяк сообщает человеку уверен-
ность в себе. А я была в присланном тобой платье стройна, легкомысленна и
практически неотразима, что накладывало тень разочарования на ухоженное личи-
ко Светки, которая, по-видимому, несла нам, изгнанникам, участие и поддержку
и не знала теперь, куда эти дары пристроить или в какой момент их вообще
уместно выложить. Николай был оживлен и даже болтлив, пел романсы, целовал
ручки дамам. Леонид Борисович оказался неожиданным остроумцем, совершенно
заморочил Светке голову историей случайного открытия Флемингом пенициллина
в процессе отравления плесенью старой, надоевшей и больной жены. ’’Она уже
совсем ослабела, когда он ей в кашу плесень начал подмешивать. И вдруг - о чу-
до! - стала здороветь, здороветь, румянец появился, совсем помолодела. Фле-
минг еще двух жен завёл, чтобы, значит, результаты сопоставлять... Так был открыт
пенициллин”. Потом Ксения Матвеевна, зардевшись, встала из-за стола, отодви-
нула стул жестом молодого Ленина (помнишь в торце университетского коридора
висела картина: Ленин сдает экстерном государственный экзамен - куда она те-
перь подевалась, интересно) и сказала, что сейчас нам «почитает». Я внутренне
вся задрожала: кто знает, как наши столичные гости отнесутся к такому культурному
развлечению, не сочтут ли пренебрежительно за провинциальную самодеятель-
ность. Но Ксения Матвеевна читала замечательно просто, спокойно, с мыслью -
отрывки из ’’Темных аллей”, из ’’Митиной любви”, читала Чехова (перечти, кстати,
рассказ ’’Супруга”, там всё дело в двадцати пяти рублях, которые едва мелькают в
середине, но зато гениально являются в конце). ’’Еще, пожалуйста”, - просили
все. Николай и Юрка сидели с такими хорошими, человеческими лицами. Однако
’’пили по-обыкновенному, то есть много”. Наверное, от французского коньяка на
меня напала такая сильная умиленность и любовь к ближним (тоже и к дальним),
что страшным усилием сдерживала себя, чтобы не охватить всех за плечи и не
пожелать каждому в отдельности и всем вместе чего-то хорошего, новогоднего,
неопределенного, вроде ’’неба в алмазах”. Таким образом, новогодняя ночь уда-
лась, и если бы не последующие события (ах, если бы знать, если бы знать...), о
которых сейчас писать не буду (вообще-то всё кончилось нормально), потому
что хочу успеть отправить это письмо с Костериными, если бы не волнения второго
января, можно было бы посчитать, что Новый год явил нам светлое предзнамено-
вание на будущее, намёк на перемену участи, побуждение к новым надеждам на
“Зарубежные записки" №19/2009
109
Людмила АГЕЕВА
какие-то призрачные гранты, о которых мужчины шептались, выходя курить на
холодную веранду. Надо сказать, что перед самым Новым годом Юра при содейст-
вии Л. Б. устраивал здесь в университете семинар о своей работе, совместной с
Американским институтом физики. Из чистого и отвратительного пижонства на
оповещающем плакате название доклада значилось на английском: ’’Spatial structu-
re of electromagnetic field in FEL-amplifier”, Юркины титулы далее, однако, шли на
русском. Плакат этот вызвал у меня жуткое возмущение, поддержанное, но в мяг-
кой манере, Леонидом Борисовичем: ”Не надо нас унижать больше, чем мы уже
унижены”. Юрка же скривил свою толстую красивую морду и объяснил, что доклад
он писал сразу на английском для международной конференции в Орландо и так
вот до сих пор не удосужился перевести: ”А что, разве здесь что-нибудь непонят-
но? Название же очень простое”. В общем, плакат я лично переписала. Доклад
его снискал большой успех, было много вопросов, и вполне по делу, но основная
публика совершенно очаровалась рассказами Юрки о его путешествии по Штатам,
слайдами Ниагарского водопада, нью-йоркской толпы и силуэтом самого докладчи-
ка на фоне пунцового заката над отрогами Большого каньона. После доклада
Юрия Сергеевича окружила плотная толпа профессорско-преподавательских лиц
- очень похожи на наших, но более как бы присыпанные пылью: с горящими гла-
зами внимали его подробным поучениям, как оформлять программы и получать
гранты. В конце своего пространного ликбеза он царственным взмахом руки пере-
дал сияющему Л. Б. какие-то анкеты и образцы программ, а также щедро раздал
свои визитные карточки. Светлана, конечно, тоже присутствовала, и в таком див-
ном парижском костюме, что отдельные юные аспиранты пялились на неё не пе-
реставая. Помыслить невозможно, как она, такая восхитительная, живет на руинах
нашего института среди лопнувших труб, заколоченных навсегда туалетов, нерабо-
тающих лифтов - электричества-то нет, - как поднимается с фонариком в руке
(это её рассказы) к себе в лабораторию на одиннадцатый этаж по абсолютно
темной лестнице, усеянной ровным слоем кошачьих экскрементов, - кошки рас-
плодились в темноте в невероятном количестве, главного кота-производителя
кличут Савелий, что, по странности, совпадает с именем Генерального директора.
Николай все время семинара сидел с непроницаемым, но думающим лицом -
мне-то известно, что вся теоретическая основа Юркиных расчетов, да и сами
расчеты, принадлежат Николаю, который и получил в конце доклада мимолетную
благодарность, но в авторы включен не был. Да ладно уж, не будем жмотничать,
’’ничуть не жалко”, - сказал Николай на моё бестактное упоминание этого факта,
и я устыдилась. Всё-таки я люблю их, несмотря на их детское тщеславие, и ведь
ради нас они сюда приехали - какая Юрке выгода делать доклад в занюханной
провинции, когда его почитают в Париже, Токио и Орландо. Зависть, одна лишь
зависть - лучше уж я сама признаюсь, чем ты ткнешь в меня пальцем. Так что не
будем больше ронять слезы и достоинство. Жду твоих рассудительных замечаний
по этому поводу.
Завтра выхожу на работу к своим охранникам, я теперь выполняю там некоторые
секретарские обязанности. Они купили компьютер и впали в тихий столбняк, уви-
дев, что я умею с ним обращаться (факт своего кандидатства по-прежнему скры-
ваю). Набираю им договора и разобралась в бухгалтерской программе. Получила
даже премию. Сунули какие-то денежки в конверте. Кланялась и благодарила».
6
«Пишу тебе вслед за предыдущим письмом, которое ушло с Костериными.
Причины этого отдельного письма невразумительны, но ты поймешь. Хотелось
как бы остаться с тобой наедине и описать события второго января без лишних
посторонних глаз. Конечно, вряд ли Светлана с Юркой будут распечатывать мое
письмо к тебе. Хотела написать - до этого они еще не дошли. Но тут положила
руку на сердце и признаюсь: совершенно не исключаю, ежели бы Юрка знал, что
110
тонкий слой
в письме есть нечто для него важное, решающее или хотя бы просто любопытное,
то и прочел бы, расклеил бы над паром и прочел. Без Светланы, конечно, - даже
перед женой хочет человек выглядеть совершенней, чем есть. Хотя, ну какой
это грех - читать чужие письма, когда можно хитрым таким способом заставить
друга работать на себя и результаты этого труда использовать со столь очевидной
прибылью. Ну да, ты права, я стала очень злая. Злость не рассасывается еще и
потому, что все время их пребывания здесь я чувствовала слабый, едва заметный
запах небрежного к себе отношения, а также их старания отделить, оттеснить,
оттереть меня от Николая преувеличенным вниманием к нему и неумеренными
восхвалениями его таланта. Просто неприличные потоки славословий бурлили
вокруг него. ”А нет ли здесь какого-либо подвоха?” - должна была бы подумать я
и, придушив всё нарастающий новый комплекс уборщицы, ввязаться в жестокую
схватку. Я же глупой обиженной курицей сидела на своем шестке. Однако, как
писали раньше, ’’смутное беспокойство овладело мной”.
Да, я обещала написать тебе про второе января. Отоспавшийся Юрий Сергеич
жестом не то чтобы широким - скорее узким - пригласил нас с Николаем в ресто-
ран, потом с неохотной вялой улыбкой позвал и Л. Б., поскольку последний от
дома нашего не отходил. И вот мы, нарядные и всё еще новогодние, отправились
выбирать лучший ресторан, и нашим гидом оказался очень даже пригодившийся
в этих поисках Л. Б. В общем, очутились мы вскорости в темном респектабельном
и пустынном зале овальной формы, площадью не менее велотрека, отдельные
уютные точки которого были обозначены приземистыми пузатыми светильниками.
Столик мы выбрали вдали от оркестрового возвышения, на котором утомленно
двигались ленивые оркестранты, поглядывали на нас скептически, настраивали
свои инструменты, потом все очень быстро куда-то сгинули - дожидаться настоя-
щей публики, по-видимому.
Настоящая публика довольно медленно втекала в зал и представляла собой
не перестающую меня удивлять, неизвестно откуда взявшуюся новую породу бри-
тоголовых и пустоглазых молодых людей, которую мы, то есть ’’новые нищие”,
редко видим в столь опасной близи. Спутницы этих мутантов, однако, были чудо
как хороши - длинные, колеблющиеся в музыкальных сумерках, изящные, как
японские водоросли (и с той же сложностью мыслительной деятельности).
Еда, как и следовало ожидать, оказалась очень дорогой, невкусной и скудной;
официант - расслаблен, небрежен, нескрываемо нагл. Беседа шла натужными
толчками, и мальчики наши на этой чужой планете выглядели пожухлыми старичка-
ми. Одна лишь Светка, как молодая, отрешенно царила в собственом лунном
сиянии, источаемом жемчужной кожей открытой шеи и обнаженных плеч. (Пове-
ришь ли, только здесь я сообразила, что она сделала подтяжку.) Юрка, желая
угодить дебилу-официанту, вовсю сленговал якобы в молодежной манере (иди-
от!), рассматривая голубоватое глянцевое меню, огромное, но бледное, как контур-
ная карта.
«О! Блин! Я балдею, щас оторвемся пиплы...» - (так бы и убила его). Словом,
всё это выглядело крайне странно и нелепо. И вся затея, задуманная из побужде-
ний благородных, для освобождения нас со Светланой от хлопотанья на кухне -
ну и для выхода в свет, конечно, - мне не нравилась с самого начала. Не буду,
однако, перебивать себя.
Вечер шел своим скучным чередом, Николай с Леонидом Борисовичем медлен-
но наливались водкой, которую экономный Л. Б. запасливо пронес в старом вме-
стительном портфеле, и в том же темпе разгоралась заря оживления на их лицах,
нездоровое сверкание вспыхивало в глазах, а жесты приобрели естественный
размах и нерасчетливость, так что кто-то из них чуть не смахнул со стола остатки
юркиного коньяка в унылом ресторанном графинчике. Я едва успела подхватить
раскачавшийся графинчик, закричала на Николая, кажется, даже стала отнимать
“Зарубежные записки" №19/2009
111
Людмила АГЕЕВА
водку. Юрка ласково обнял меня, утащил танцевать, успокаивать. Он старомодно
прижимал меня к себе, и мы плавно качались среди интенсивно трясущихся моло-
дых тел. Потом мужчины сидели за нашим столиком обнявшись, склонив друг к
другу головы, шептались, никого не замечая. Меня Светка повлекла в ’’Дамскую
комнату” (так было написано на двери), поправила мне прическу, напудрила лицо
и вылила на меня щедрую каплю своих душных парижских духов. Трогательное
внимание Костериных было мною с удивлением отмечено, несмотря на общую
туманность послеконьячного состояния. Хотя некоторые провалы в моей памяти
все-таки были. Совершенно не помню, как мы оказались в казино. Помню только,
как спускались вниз по крутой затхлой лестнице, как обнимал меня за талию и
поддерживал Юрка и канючила Светка, что хочет поиграть, потому что в Атлантик-
ой™ выиграла 50 долларов.
Окончательно и моментально я пришла в себя только в эпицентре скандала,
когда услышала дикие вопли Николая, который, с неимоверной для его щуплости
силой, вырывался из объятий двух верзил в пятнистой форме и пинал, как безум-
ный, своими тяжелыми американскими ботинками звонко дребезжащие ящики
игровых автоматов. И тут со мной случилось необъяснимое - я словно пересели-
лась в него, так остро я почувствовала его боль, - не поняла, а именно почувствова-
ла всё, о чем мы никогда не говорили, всё, о чем молчали каждый в своем углу с
тех пор, как Володька, пошатываясь, вошел в нашу квартиру, которая нашей в
этот момент уже перестала быть, то есть не вошел, а был введен под руки крепки-
ми парнями обыденного облика (но головы-то круглые, бритые), не прячущими
свои лица под масками, с признаками каких-то даже манер: один из них случайно
уронил с тумбочки перед зеркалом какие-то журналы, мой шарф и перчатки,
вскрикнул ”ой!”, нагнулся и всё положил на место, другой, постарше, внимательно
осмотрел нас с Николаем: ’’Значит, так, просили еще раз напомнить, чтобы без
глупостей”, - и, дойдя до двери, оглянулся и сказал загадочное: ’’Игровики - лю-
ди серьезные. В игрушки играть не будут. Ничего не поможет”. И они ушли. Я
впервые и только тебе рассказываю об этом. Что-то ужасное произошло тогда с
нами: не знаю, как выглядела я, но отражение этого ужаса я впоследствии не раз
видела в глазах Николая и в сером лице Володи, особенно когда заикалась о
прокуроре и прочей судебно-государственной защите. Эти два пятнистых лба,
которые скрутили на наших глазах Николая, ничуть не были похожи на мальчиков,
доставивших Володеньку домой, но вместе с тем что-то общее, общеужасное
было в них несомненно. Общее в них - привычка к насилию над другим, наш
безумный страх и беспомощное отчаяние. И лица у них были похожи совершенной
непримечательностью - лишь спокойное усердие и некоторая тень удовольствия
от хорошо выполняемой работы. После того, как Николай укусил одного, они все-
таки озверели, завели ему руки за спину, защелкнули деловито наручники и, толкая
в спину, направили в узкий коридор за игровым залом, не обращая внимания на
наши визги. Светка непрерывно и монотонно пищала, прижимая ладони к щекам.
Юрка, пытаясь сохранить солидность, старался заглянуть в лица охранников, делал
какие-то вразумляющие пассы правой рукой, а в левой держал на отлёте и как бы
наготове красивый бумажник. Я же, перекинув сумку через плечо и через голову,
чтобы освободить руки, цеплялась за пятнистые рукава и спины, пыталась дотя-
нуться до Николая, металась, как могла, и непрерывно повторяла: «Отпустите
его, он больной человек». Укушенный Николаем ощерился, гукнул на меня: ’’Уйди,
...(на бумаге не могу написать слово, произнесенное им), а то у меня и вторая
пара есть”, - и он похлопал себя по зазвеневшим на поясе наручникам. Второй
резонно буркнул: ”А кто здоров?” Леонид Борисович понуро замыкал процессию,
прижимая к себе ворох наших верхних одежд. Так мы проволоклись через огром-
ный холл, освещаемый нелепыми треножниками, вошли в просторный кабинет -
мягкие диваны, кресла, два компьютера, пустые стеллажи, на низком столике не-
112
тонкий слой
допитые рюмки. В центре, расставив уверенные ноги, руки в карманах, стоял че-
ловек, мрачный, высокий, с лицом крайне спортивного типа, но в хорошем костю-
ме. ”Ну вот что! Мы не в милиции, протокол составлять не будем. Но штраф ты за-
платишь и еще посидишь у нас, отработаешь”, - услышала я, молитвенно сжала
ручки и завопила: ’’Это недоразумение. Он ничего такого не сделал. Он человек
Ахметова!” - ’’Ахметова? - мрачный наморщил лоб. - Что же такой мозгляк может
делать у Ахметова?” - ”Он занимается ценными бумагами”, - четко ответила я.
’’Вот как? Потрясающе, Ахметов интересуется ценными бумагами? Это ценная
информация”. И мрачный начал нажимать кнопочки телефона.
”Счас! Ахмет, салям алейкум! Ты на месте?! Кому-то сильно везёт. Тут у меня
твои люди. Какие?” Но я уже вырвала трубку и звонко залепетала: ’’Рустам Дамиро-
вич, извините, пожалуйста, такая история вышла, тут мы в казино попали в такое
недоразумение. Я? Но я же у вас работаю (не могла я при всех сказать, что работаю
уборщицей, этого даже Николай не знает). Да я же вам ставила бухгалтерскую
программу на компьютер. Да, и Валентину вашу я учила, нашу Валентину, бухгалте-
ра, и Андрея-ддинного. Выручайте, уважаемый Рустам Дамирович, так неловко
вас беспокоить в неурочный час, только зная ваше доброе сердце...” Важно было
говорить быстро, не останавливаясь. Мрачный застыл, смотрел исподлобья прон-
зительно, что-то соображал, потом довольно грубо отобрал у меня телефон, мах-
нул в нашу сторону небрежной рукой, типа ’’чтоб духу вашего не было”. Укушенный
неохотно отомкнул наручники: ”То он больной, то какие-то ценные бумаги...” Нико-
лай нетвердым шагом двинулся в открытую дверь, не оглядываясь и потирая кисти
рук (где-то я уже видела этот жест, не могу вспомнить...). ’’Такие вот, образно
выражаясь, пироги”, - сказал Юрка, открыл бумажник (я похолодела - неужели
доллары) и вручил оторопевшему хозяину кабинета свою визитную карточку (на
английском)».
7
«Дорогая! Ты, по-видимому, всё уже знаешь, и именно этим объясняется твоё
долгое молчание. Но и мне поэтому легче писать тебе. Итак, Николай в Петербурге.
Он уехал так внезапно, сразу же за Костериными, просто след в след, что у меня
явилось подозрение, не Юрка ли взял ему билет (у Николая денег не было), а
скорее всего, Светлана, она, мне кажется, была даже более активным началом
(т.е. более бездушным концом) в этой тайной возне. Могли бы ведь и вместе
уехать, но боялись, видимо, воплей с моей стороны, мысли у них не было со
мной обсудить, уговорить, убедить меня, обольстить, в конце концов, надеждами
и неземными горизонтами так, что сама бы отпустила, проводила, шанежки на
дорогу испекла. И трудиться не стали. Я не могу это воспринимать иначе, как
сговор за моей спиной, как гадкий обман и гнусное предательство. И жить он бу-
дет, оказывается, у них. Без меня во всех отношениях легче. Со мной всё-таки
семья, а так - кинул тюфячок на кухне - Николай неприхотлив, да и работать он
будет с утра до ночи, как работал всегда, а сейчас особенно, когда так изголодался.
И работать он будет прежде всего на Юрку. Он и не возражал. «Ничего, мне тоже
останется. Всё равно Юрка настоящий друг». Вот так! А мне, значит, настоящий
враг. Или я ужасно, отвратительно несправедлива? Ответь мне! Эгоистично требую
понимания, человеческого участия, душевной чуткости. Откуда бы им взяться. Какие
времена - такие песни. ’’Идиотка, - следовало бы сказать себе, - ты должна ра-
доваться”. Но не получается у меня роль мудрой женщины. Пронзительная обида
когтит сердце. Неужели нельзя было всё это сделать по-другому, посвятить меня
в их грандиозные планы: Юрка, видите ли, становится директором филиала. ’’Какая
ты поверхностная женщина. Ты требуешь слов”, - говорил Николай в последние
дни, увязывая свои бумаги. Но их, этих слов, необходимых мне, спасших бы всё,
позволивших бы мне и дальше терпеть этот разваливающийся дом, унижение
“Зарубежные записки" №19/2009
113
Людмила АГЕЕВА
примитивного труда, отсутствие достойного человеческого общения, жестокую
болезнь тёти Зины - и, конечно, надеяться, просто надеяться на перемену груст-
ной участи, теперь уже только моей, он так и не сказал. Единственно заверил
меня, что постарается быть полезным Володеньке и еще - пришлет мне деньги,
как только что-нибудь получит.
’’Будет ли у нас совместная жизнь?” - ’’Разумеется”, - ответил, уткнувшись
в свои мысли и бумаги, даже не взглянул, не подошел, не обнял, не погладил, не
успокоил, не вытер мои бегущие слёзы. Разумеется. Боже, это прозвучало,
как холодное возможно или, как перевела моя уязвленная душа с человеческо-
го языка на страдательный, - маловероятно.
Да, я знаю, что Юрка полгода преподавал в Беркли, а Вадим сидит давно в
Германии, а Елисеев летает из Франции в Японию, не приземляясь в России. А
Николай всего лишь едет в другой город - нет, не в другой, возвращается в наш
город. И не зовёт меня с собой. То есть зовёт, но не так, как мне надо. Вернее,
обещает позвать при определенных условиях. Мог бы позвать, не опасаясь, что
я соглашусь, - всё равно я не смогла бы оставить тётю Зину. Может быть, потому
и не зовет, как человек, ненавидящий всякое притворство и лицемерие. Ночами
я лежу без сна среди шорохов кряхтящего старого дома и задаю темноте бесчис-
ленные вопросы и сама же подсказываю малодушные ответы. Ах, в том ли дело,
что разлука. Люди жили в разлуке годами, писали письма и трепетали, вскрывая
конверт. И незачем ходить за возвышенными примерами к гениальным поэтам и
прочим творцам. Мои родители были разлучены так долго, но никогда не прекра-
щался между ними теплый, доверительный и нежный разговор. Мы с Николаем
почти не расставались, но нити между нами всё рвутся и рвутся. Ни единого
упрека он не высказал мне, но я постоянно ощущаю груз какой-то своей вины: то
ли плохо воспитала Володьку, то ли вообще упустила всю ситуацию, то ли просто,
не выдержав, уронила руки, единственно поддерживающие тяжкие своды над
нашим давно уже чадящим очагом. Пишу тебе эти несколько строк уже три дня -
всё больше неостановимо веду свой бесконечный внутренний монолог, который,
перенесенный на бумагу, превратился бы в невразумительные жалобные воскли-
цания и взывания неизвестно к кому.
Пишу тебе урывками еще и потому, что тётя Зина лежит дома. Через два дня
после отбытия Николая с ней случился второй инсульт. Добрый ли ангел оберегал
Николая и в связи с этим злые силы накинулись на нас, остающихся, стоящих на
месте, глядящих ему в спину, а потом в бледное лицо за немытым стеклом уже
движущегося вагона, но он успел уехать в часы хорошего самочувствия тетушки.
Интересно мне знать, как бы он уезжал два дня спустя, оставляя на руках у меня
парализованную старуху, бросая меня в таком положении практически без денег,
без еды - припасы-то полностью съедены. Думаю, что все равно бы уехал, но с
чувством злобной вины, за что возненавидел бы меня непременно. Или остался
бы, сдал билет, громко скрежеща зубами, топил бы печи, помогал бы мне ворочать
тётю Зину, ходил бы с эмалированным бидоном за молоком, по вечерам разогре-
вая свою ненависть в философских беседах со своим обожателем Л. Б. Так что
то на то и выходит, иными словами: куда ни кинь - всюду клин. Получается, именно
мне повезло, что он так удачно уехал, не дал мне окончательно убедиться на
собственной шкуре в этой тривиальной истине: неприятны нам те, перед кем мы
сильно виноваты. И когда он по приезде позвонил и признался, что доехал нор-
мально и устроился у Юрки со Светланой блестяще, поскольку выделили ему от-
дельную комнату, то и я сообщила, что у нас всё нормально, как всегда, что тётя
Зина полеживает, приходит Ксения Матвеевна помогать, Леонид Борисович ску-
чает (я сделала паузу, - ”А ты?” - все-таки спросил он), наколол дрова, вообще
оказался отличным мужиком, настоящий товарищ. Информацию о Володьке выда-
вил из себя Николай с ощутимым трудом: похоже, встреча их не была очень востор-
114
тонкий слой
женной. ’’Может быть, ты мне все-таки напишешь, как вы все там живете, очень
хочется каких-нибудь подробностей”. - ”Да я тебе уже все рассказал, писать ни-
чего не осталось, много работаю, вот в субботу отсыпаюсь, по воскресеньям бу-
ду ходить в БАН - очень отстал”. После его звонка я долго и уныло сидела над те-
лефоном, сжав голову руками, в непреодолимом желании найти его письма, старые
письма, которые писал он мне каждый день из стройотряда, увидеть там, на бу-
маге, слова любви, тоски и печали, обращенные ко мне. Может быть, я и тебе пи-
шу, чтобы доказать, что в наше дикое время люди пишут друг другу письма, про-
стые бумажные письма. И вспомнилось отчего-то, что в детские ’’секреты”, под
стеклышко, среди засохших цветочков помещались очень часто драгоценные
любовные записочки или тайные загадывания и пожелания самим себе, которые
потом почти никогда не доставались и не перечитывались, - ’’сквозь тщательно
протертые стекла времени” мы лишь любовались ими, удостоверялись: они есть,
вдохновлялись, неслись дальше, накручивая педали, в сильном потоке опьяня-
ющего ветра, созданного собственным движением. Нет, я не стала читать его
старые письма, которые привезла с собой, - достаточно, что посмотрела на тем-
ный простой ящичек, стоящий на верхней полке, вышла в кухню, наполнила водой
огромный бак, опустила в него мощный кипятильник, вывалила на пол кучу грязного
белья, чтобы рассортировать, отделить цветное от белого, и вот тут уже не выдер-
жала, схватила рубашку Николая, клетчатую, расползающуюся, почти лохматую,
незабываемую, прижала клицу неповторимый запах, завыла, как последняя идиот-
ка. Не знаю, не могу объяснить, отчего не верю, что мы будем вместе. Ощущение
невозвратности не оставляет меня.
Вечером пришла Ксения Матвеевна, принесла баночку маринованной свеклы
и маленькую кость - сварили отличный борщ. Я напекла блинов. Еще осталось
варенье из ревеня. Ужинали в большой комнате втроем. Тётя Зина благостно
возвышалась на взбитых подушках, чистенькая, намытая, в наглаженных оборочках,
улыбалась кривеньким ртом. Речь у неё сохранилась ясная. ’’Ничего, - говорила
тётя Зина, поглаживая действующей рукой недействующую, - ты не переживай:
удары, уж если они начались, идут один за другим. Дом продадите. Ксюша поможет.
Купите квартиру в Ленинграде (о если бы она знала - т. е. хорошо, что не знает,
- какие безумные цены), будете жить все вместе - добра наживать, меня вспоми-
нать. Это долго не продлится. Уверяю тебя, удары идут один за другим”».
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ПО ВОЛНАМ ТВОЕЙ ПАМЯТИ
Почему ты раньше-то не ушла, зачем терпела столько лет, для чего надо было
ковриком им под ноги положить свою единственную жизнь, за что ты боролась,
сглатывая обиды, надо ли было верить утешениям матери: «А ты, Валечка, молчи,
терпи, не думай, не растравляй себя - побегает и вернётся, а ты лучше рожай.
Господь милостив, мальчик будет, сын». - «Да как? Он теперь в кабинете спит...»
- «Найдешь способ, дочура, найдешь, пережди это времечко, потерпи, заманишь
уж как-нибудь: мужики, они, знаешь, не очень друг от друга отличаются, хоть Ин-
тел ихент, хоть шоферюга, - натура своё берет...»
Память обдает холодной жуткой волной. Чего стоило это терпение. В минуте
от полета с Юркиного балкона. Тогда на Светкин день рождения Тина приехала
из дому с цветами и подарками, а Павел заявился очень поздно, почему-то с
Ольгой, весело и беззастенчиво, якобы с работы («...Вот с трудом уговорил девуш-
ку, у нас сегодня был гелий, не бросишь же... мы голодные, как черти, да, Оль?»)
Ну то, что они все были знакомы, не удивительно - все пока ещё трудились вме-
сте в одном институте. Это можно было, сжав зубы, пропустить, не заметить. Хо-
тя... зачем её сюда, в свою компанию, с какой стати? Но когда их девочка, пробегая
из кухни в гостиную с каким-то блюдом (вот ведь вырастила белоручка Светка
“Зарубежные записки" №19/2009
115
Людмила АГЕЕВА
трудолюбивую дочку), дружелюбно кивнула новой гостье: «Ой, тетя Оля, приветст-
вую!» - стало всё понятно. Значит, он часто её сюда приводит. И даже дети зна-
ют. Выскочила на балкон. Никто почти и не заметил, один Юрка вскинулся: «Валюш-
ка, ты куда это?» (Юрка, гад, быстро соображает.) Постояла, перегнувшись через
перила, седьмой этаж, представила, как будет лежать там тряпичной мокрой кучей
- ведь не сразу и хватятся: шумят, смеются за кружевными занавесками, в яркой
нарядной комнате, играет музыка, все у них хорошо, никто не страдает, все еще
любят друг друга, и эта, почему-то в нарядном брючном костюме, стройная, моло-
дая, - почему такая нарядная-то после целого дня работы с гелием, - нет уж,
пусть он выйдет, будет её удерживать - не удержит, вырваться нетрудно, - вот
тогда-то он закричит, все побегут вниз по лестнице, Лия сломает каблук или под-
вернет ногу, Юрка поедет на лифте, Сергей схватит телефон, бросит, зарычит и
тоже помчится вниз, Светка завоет тонким голосом, дочка их останется в гостиной,
- бледная, застынет одна за столом. Павел вышел на балкон, вцепился железной
хваткой в плечо, за локоть рванул на себя, развернул, двумя руками толкая в спи-
ну, направил к людям, к столу: «Не порть всем праздник. Сцены будешь дома уст-
раивать, дома! Хорошо?» Посадил рядом с Серегой, сам уселся напротив, посмот-
рел холодно и угрожающе, повернулся к Ольге, улыбнулся, схватил бутылку, плеснул
себе. Сколько раз с ужасом вспоминала этот вечер. В какой невероятной близости
была от небытия. Дети не удерживают от безумия. И ведь всё она знала - во вся-
ком случае, догадывалась: доброжелатели не оставляли в полном неведении,
намекали. И про Ольгу, и про других. Что, собственно, невозможно было стерпеть?
А вот это унижение на глазах у всех. Их перемигивания за спиной, их смешки. Так
казалось. Какие смешки? Глупости это всё - у всех свои проблемы, но это сейчас
стало понятно, а тогда, да, было невыносимо, какие все предатели все-таки...
Он ведь не замечал её, совершенно не видел. Когда она сделала короткую
стрижку, не обратил внимания. Не заметил. Андрей ахнул, восхитился: «Класс!
Стала похожа на человека», - Настя снисходительно одобрила, но некоторые со-
жалели, вот старуха, например, сказала: «Ну Валечка, зачем? Такие прекрасные
волосы, а теперь... как-то стандартно». Павел посмотрел удивленно, ничего не
понял: «А раньше что было?» Как говорится: в упор не видел. Потом где-то прочи-
тала, что во многих семьях так. Ничего страшного. Законы психологии. Смешно
читать в глянцевых журналах рекомендации бедным женам при первых признаках
появления соперницы удивлять мужа новым соблазнительным бельем и вызываю-
щими позами. Какое счастье, что всё это позади.
К матери бегала тайком. Не хотела задумываться, почему скрывала от Павла
визиты к матери, в старую ненавистную халупу. Стеснялась. Да, стеснялась своей
матери, не хотела показывать свою с ней связь. Мать всё чувствовала, не осуждала
-ив гости к ним не рвалась: «Ну я понимаю, Валюша, чего уж там, не пойду я к
ним больше, где сесть, чего сказать, как повернуться - не знаешь. Бог с ними. А
ты живи, старайся угодить. Видишь, какая у меня дурная жизнь, пусть у тебя будет
лучше... станешь им нужной, оценят...». Бедная мама, тоже угождала - то отчиму
и его алкоголикам (пусть дома пьёт, подавала им разносолы, жалко улыбалась,
заискивала, а что делать: молодой муж, глаз да глаз нужен), то соседям - дежурила
за них в квартире, то участковому, от него тоже какая-то зависимость. Ну и дирек-
тору столовой - это уж само собой, все ему служили, все были замазаны этой по-
рукой, а как иначе проживешь, как прокормишься, про десять заповедей - это
вы не нам рассказывайте. Даже вот и фотографий её почти не осталось. Одна
только, с остановившимися глазами, маленькая, на паспорт. Никому не понадоби-
лась деревенская девочка Кланя - никто и не щелкнул, только ты к ней и бежала.
А больше некуда - ни подруг, ни романов толковых не было. Вообще никаких ро-
манов не было, уж признавайся. Так, взгляды какие-то, еще в школе да на первом
116
тонкий слой
курсе, а потом все. Не до романов стало. Однажды вечером (стыдно вспомнить),
когда Нянечка еще ноги таскала и обещала с Настенькой посидеть, а Павел, как
всегда, был в своих вечных бегах, принарядилась, накрасила ресницы, отправилась
на танцы в «Мраморный» - отвратительное, по слухам, развратное место, прези-
раемое университетскими. А пусть, посмотрю, что там. Стояла у стеночки, долго
не танцевала, наблюдала за стайками простецких девчонок - и здесь уже была
чужая, да и не хотела бы стать своей: фабричные, видно, девчонки, и мальчики у
них тоже свои, ей не нужные, - на неё они, впрочем, внимания и не обращали.
Одиноких самцов, ищущих, с наглыми глазами, отшивала сама - они исчезали,
не настаивали. Потом появился какой-то курсантик, чинно прошлись в танго с за-
стывшими лицами - неплохо у него получалось, учат их там, видно, в училище, но
потные ладони довольно противные были, подергались в полузапрещенном «бы-
стром танце» - ловко он выбрасывал в стороны ноги и локти, нормальное мальчи-
шеское оживление засветилось на личике, присмотрелась: да подросток, чисто
подросток. Пошли гулять, почему-то оказались на Петроградской, неловко держал
её под руку, пытался затащить в какую-то парадную, холодные мокрые губы, звал
к другу в гости, бежала от него сломя голову. Тихо проскользнула в квартиру. Все
уже спали. Не зажигая света, выпила на кухне холодной воды. Павел еще не вернул-
ся. Откуда? Перестала давно задавать себе такие вопросы. Закрылась у себя в
комнате - собственно, это была комната Павла, но он давно переместился в
бывший кабинет деда. А теперь они тут с Настенькой... Быстро разделась, зуб на
зуб не попадал - такой странный озноб. Попытка измены. С негодными средства-
ми. Не выйдет из тебя грешницы: на всё требуется умение, не получается у тебя
грешить, сиди уж в своем углу. Обхохочешься. Даже матери не рассказала. Так
что продолжала угождать. Рефлекторно. Не умела по-другому. Бесплатная домра-
ботница, прачка, даже и кухарка, когда Паня в очередной раз взбрыкивала. Так
ведь и не нравилась им твоя стряпня, гости всегда хвалили, а домашние - нет,
помалкивали, но видно было: что-то не так. И хозяйкой не называли. Никому и в
голову не пришло бы назвать тебя молодой хозяйкой. Даже водопроводчикам.
«Иди зови хозяйку, пусть работу принимает». Марина Сергеевна всегда отмахива-
лась: «Ну, не знаю... сами смотрите, я же не понимаю ничего...». Приходила Паня,
недовольная, сосредоточенная, руки вытирала о передник, важно открывала и
закрывала краны, слушала, как течет вода в ванне: «Чёй-то она медленно уходит,
и тут вроде каплет». «Это у тебя кое-где каплет, - возмущался водопроводчик, -
сила есть - ума не надо, вона! давить не надо, понятно...». Они говорили на од-
ном языке. Такая у них была речь. Удивительные правила наблюдались в беседах
простых людей (слово «простые» Марина Сергеевна не любила: «а вы какие?»,
она была народница - правда, идейная, а в жизни общаться с водопроводчиками
избегала): в любых переговорах необходимо было выказывать постоянно легкое
неуважение к партнеру. Кто кого больше не уважает, тот и победил. Не зря в ми-
нуты опрометчивого алкоголического доверия, когда мечта о невозможном осо-
бенно сильна, самый интимный русский вопрос: «Ты меня уважаешь?» Два других
всем известных вопроса - не интимные, тем более ответ на них у каждого есть,
давно продуманный, из глубины сердца (Чё делать? Работать надо, вот что, надо
работать, то-то ты из сил выбиваться, валить надо, щщщас! куда валить? вы чё?
Россия на подъеме, жизнь только начинается.... Немного разные ответы, но зато
по поводу «кто виноват» ответы всегда - ну, почти всегда - совпадают, с неболь-
шими вариациями. Потому их в честных доверительных беседах и не задают.) А
на интимный вопрос нужно отвечать сразу - пылко, страстно, со слезой. Чуть по-
медлишь с ответом, и беседа может плохо кончиться. Тина так разговаривать не
умела, не усвоила манеру неуважительного, хамского отношения к ближнему, а
равнодушного «постнароднического снобизма», как выражался Павел, тоже не
обрела.
“Зарубежные записки" №19/2009
117
Людмила АГЕЕВА
На кухне Паня её откровенно не терпела, вообще никого не допускала на
свою территорию: чистила, драила, мыла, пыхтела в шипящих парах, бурчала и
покрикивала: «А ну убирай-ка отсель свои склянки», - и приходилось, заливаясь
слезами, прижимать к груди детское питание и нести выскальзывающие баночки
к себе в комнату. Жаловаться и не пыталась, то есть однажды попробовала - Па-
вел скривился, как от кислого яблока, Марина Сергеевна посмотрела на неё с
ужасом: все боялись Паню чем-нибудь раздражить. Тоже зависимость, поважнее
прочих. У всех разные диеты. Еще и дед был жив. Отвары ему, противный капуст-
ный сок, таинственный чайный гриб, не такой, каку всех, - «наговоренный» Пани-
ной бабкой, все смеялись (ученые же естественных наук), а дед ничего другого
пить не мог. Когда Нянечка слегла, пришлось и за ней ухаживать. Они благородные
- в дом престарелых ни за что бы не отдали, а кто судно-то выносил - Марина
Сергеевна, что ли? или Паня? Нет-нет, негигиенично, как можно, она же на кухне
целый день, крутит котлеты, трет овощи, шинкует, пассерует, процеживает, взби-
вает, отжимает, прокручивает, фрикадельки лепит, биточки на пару...
Тина слышит приближающиеся шаги, начинает бестолково метаться, быстро
распахивает дверцу шкафа, чтобы не видно было раскрытого чемодана, падает
на кровать, охватывает голову руками, смотрит в потолок.
Настя застывает на пороге:
- Что происходит?
Нет ответа. Настя подозрительно обводит глазами комнату. Разбросанные ве-
щи. Свисающая со стульев одежда. Развороченная стопка постельного белья.
Ну, мало ли, что мне надо было найти. Пусть смотрит. Небольшой беспорядок.
Чемодан она не должна увидеть.
- Чем ты тут занимаешься?
- Оставь меня, пожалуйста...
- Старуха спрашивает, где её минеральная вода.
Тина с привычным злорадством отмечает, что Настя давно не называет Марину
Сергеевну бабушкой. Когда это началось? В детстве называла, обнимала, любила
и вдруг - только старуха. Чужая упрямая старуха. А ведь было время, Марина Сер-
геевна старалась, уж как могла, уделяла внимание, читала перед сном Чуковского,
выразительно, настоящим актерским голосом - занималась в молодости, оказыва-
ется, в театральной студии, водила за ручку в какие-то кружки в Эрмитаж и в Дом
ученых, хвасталась там красивой внучкой, гардеробщицы подобострастно ахали:
принцесса, настоящая принцесса. (Вторую бабушку с её фрикативным «г» Тина и
сама старалась не подпускать - хватило первого семейного обеда после условной
свадьбы. Первая встреча родителей молодых. Страшный унизительный ужас: мать
протянула руку вялой дощечкой, представилась деревенским именем, без отчест-
ва, отчим мрачно вцепился в коньяк, невиданный в их джунглях напиток, - и мы,
мол, не лыком шиты, быстро запел про дикие степи Забайкалья.) А вот нынче вся
внучкина любовь пропала. Началось всё с квартирных притязаний. Ужасная пош-
лость в благородном семействе. Марина Сергеевна занимает две огромные, луч-
шие комнаты. Да, Настя, наверное, не права. Но без меня теперь будете решать,
без меня.
Тина взрывается:
- Я не знаю, где её минеральная вода, и не собираюсь знать... и впредь... По-
нятно? У меня голова раскалывается.
- Надо давление померить...
- Нормальное у меня давление - у меня жизнь ненормальная... Могу я просто
полежать в тишине? Оставьте меня в покое.
Настя смотрит внимательно. Поднимает брови. Пожимает плечами.
118
тонкий слой
- Иди к себе, пожалуйста. И дверь закрой. Закрой дверь. Меня нет. Считай,
что я померла. Вам же наплевать, вам и на Андрюшу, и на меня наплевать...
На лице у Насти написано ироничное «хм, ну-ну, и что дальше?». Легкомыслен-
ное, неуважительное лицо. Уходит, покачивая головой, дверь демонстративно
прикрывает очень тихо, со значением. Что она хочет этим сказать-то? Что не ве-
рит в резкие движения и обиды матери. Мол, куда она денется.
Тина некоторое время сидит на кровати, успокаивает взбаламученный ток кро-
ви, медленно встает, подходит к двери, поворачивает рычажок - теперь никто
уже не заглянет неожиданно. Считайте, что меня нет.
Как, оказывается, мало её собственных вещей в этом доме: только одежда,
немного фотографий в черных бумажных пакетах. Тяжелые плюшевые альбомы,
которые принесла от отчима после смерти матери, Марина Сергеевна выбросила
- «только пыль собирают», а фотографии вынула и сложила в пакеты. Случайные
подарки по случайным поводам, большей частью лично ей не нужные. Павел
всегда дарил что-нибудь полезное для общего пользования, общехозяйственное,
- совсем никаких его подарков не помнит, цветы, наверное все-таки были, на дни
рождения и на Восьмое марта в общем венике букетов, привозил иногда из загра-
ничных поездок кое-что - сапоги, например, постоянно промахивался с разме-
ром. А вот пластмассовые украшения и нитка поддельного жемчуга от отчима по-
чему-то сохранились. Из-за этих его тайных подарков пришлось жить в общежи-
тии. Золото, оставшееся от матери, почти всё ушло Андрею в его трудную минуту
(в тайне от прочих) - много было трудных минут у бедного мальчика. Ничего, те-
перь они будут вместе. Не будет навязываться, нет-нет, ни в коем случае - просто
будет помогать. Коля, святой человек, обещал и на работу устроить, одно слово
- ангел. Всё! Забыли наши прошлые специальности. Что скажут, то и будет делать:
готовить она умеет, это вы зря, Марина Сергеевна: котлетки мои не хуже Паниных,
умелые, аккуратные кухарки теперь снова нужны, на частной фирме не должны
сотрудники отвлекаться на еду, все понятно, а молодые-то девочки в кухарки не
идут - они больше делопроизводят что-то и ножками внимание клиентов привле-
кают. Что ли, Настя в своей рекламной фирме использует уравнение Шредингера?
Да уж, девчонки в кухарки не пойдут, да и не умеют они. Кухарка - это как раз для
её возраста. Вздрогнула. Словно взгляд матери почувствовала. От судьбы, видно,
не уйдешь. Долго бежала, бежала, сама поверила, что убежала навсегда, - а вот и
вернулась к материнской планиде. Не получился собственный теплый дом: вырва-
лась из ненавистной коммунальной слободки, а в хоромы-то и не пустили. А какой
ценой вырвалась. Нечеловеческое усердие: в десятом классе над учебниками
ночами сидела, воля сильная - только голова слабая и здоровье... Низкий гемогло-
бин, нижайший. «Такого я еще не видела», - сказала участковая врачиха и укориз-
ненно посмотрела на мать. Но зато - золотая медаль. Для чего всё это было?
Мать гордилась, уважала, но... сквозило в этом уважении что-то такое... пренебре-
жительное. Этот пренебрежительный взгляд она и у других замечала. Словно
давали ей понять: да ладно уж, как ни старайся, а не по-настоящему ты здесь,
вся твоя жизнь понарошку, неинтересно тебе все это, зачем так надрываешься-
то, не читай ты эти книжки, зачем они тебе, голову сломаешь, ну скажи на милость,
зачем тебе эти уравнения - ни к чему они тебе, и не ходи ты в эту Филармонию,
что ты высиживаешь там - скучно же, ну, в театры, в Дом кино на просмотры
(Марина Сергеевна приносила билеты, контрамарки, старалась её развивать, ви-
димо) - еще туда-сюда, делай вот что-нибудь полезное: присматривай, как Паня
готовит, поучись у неё соусы делать и капустные пироги хорошо бы освоить, или
вот окна вымыть: смотри, как красиво сияют стекла, или посадить что-нибудь, по-
том прополоть, взрыхлить, собрать, засолить огурцы, перцы красные, грибы - ты
“Зарубежные записки" №19/2009
119
Людмила АГЕЕВА
их, кстати, лучше всех видишь и ягоды быстрее всех собираешь, никто с тобой
сравниться не мог, еще маринады у тебя отличные получаются, все говорят, даже
Паня признавала.
Ну и прекрасно, буду теперь обеды готовить для чужих вежливых людей, кофе
им варить после обеда, подавать да угождать и улыбаться. И сама буду сыта, и
платить обещают нормальную зарплату, Коля твердо говорил: свои ребята, абсо-
лютно честные, не обманут, совместное предприятие, делают уникальные меди-
цинские приборы ручной старательной сборки с единственным в мире программ-
ным управлением. Нормальная зарплата, вам и не снилось, в ваших научных лабо-
раториях, и не надо ошметки кофейные сушить, не надо никого обманывать, а
вечером возвращаться будет она в Колину квартирку. Конечно, надо в его сарае
поработать, переклеить обои, покрасить потолки, батареи и окна - руки пока
еще из правильного места растут. Жил ведь как на вокзале. Даже шкафа у него
не было - вещи в чемоданах хранил, свитера комками запихивал, один приличный
костюм висел на гвоздике под полиэтиленом, рубашки по одной носил в срочную
прачечную напротив - там его знали, девушка из прачечной неожиданно двадцать
третьего февраля галстук подарила, в цвет выдаваемой рубашке, - перепугался
до смерти, галстук взял - как не взять, она ведь старалась, подбирала по цвету -
но задумался: не купить ли стиральную машину? Кое-кому рассказал про галстук,
в голосе слышалось изумление и даже хвастовство, стал немного оживать после
Лидиной смерти. Долго в прачечную не ходил, как перебивался - непонятно, а
когда решился и пришел, девушка эта уволилась, постеснялся спросить, кто такая,
как зовут. «Ну ты и бестолочь, - сказал Юрка. - Девушка хоть симпатичная?» Да-
же постельного белья человеческого не завел. Ужас какой-то. «Делай что хочешь,
- сказал, - и не надо мне ничего, только за квартиру плати в срок и следи, чтобы
соседей не залить, а то убьют меня, точно, они уже в прошлый раз обещали». Ну
не ангел ли? Неужели, чтобы стать ангелом, человек должен так настрадаться, -
правда, он и раньше добрый был, очень, а Лида через его доброту, однако, тоже
настрадалась: всё раздавал, всё из дома - ничего в дом, вечно у них гостили ка-
кие-то его провинциальные аспиранты. И Лида всех кормила, пока еда в городе
не кончилась (кто-то уверял, что видел в газете объявление: «Куплю 400 грамм
еды. Цена договорная», - шутка такая, но...). Бедная Лида. Как трудно людям
жить друг с другом. Даже и с любовью. А уж без любви - лучше сразу в петлю. А
ничего и подобного. Живут как миленькие. Очень даже многие. Практически -
все.
Одежды немного совсем. Не в чем на люди выйти. И не хотела раньше выхо-
дить. А ведь теперь придётся. Там даже у плиты в халате фланелевом не встанешь.
Как-то надо поприличнее выглядеть. Нелепые обвисшие кофты и свитера, на
брюках непоправимо вытянуты колени, блузки с вытертыми манжетами, все ста-
рое, застиранное, в окатышах. Обувь? Даже в мусоропровод нести на выброс
лучше всего ночью. Надо было Настю слушать, она со своим дресс-кодом в этом
деле разбирается - жаль, что сейчас она уже не советница. Ни разу не советница,
как сказала бы Иринка. Объявят сумасшедшей, еще и закроют, запрут. Ну это уж
фиг вам. Вот пришло время разобрать многолетнее барахло, взять только самое
необходимое. Остальное пусть они выбрасывают. Или уж потом как-нибудь. Зайду.
Пустят, должно быть. Не отберут же они у меня ключи, в самом деле. Ни с кем я
не ссорилась, с Павлом отдельный разговор - предал мальчика, бедного моего,
несите сами, мол, свой крест, это ваши проблемы - так теперь все говорят. Че-
модан такой убогий, зато вместительный. Новый, на колёсиках, не хотелось доста-
вать с антресолей, раньше времени себя обнаруживать. Главная опасность -
Настя. Да расписание её нам известно.
120
тонкий слой
Стук в дверь, осторожный.
- Ну кто там? Настя, я же просила, кажется...
Невнятное царапанье. Милый голосок.
- Тин-Тин, открой, это я. Она с Сонькой за минералкой ушла. Мне нужно с то-
бой поговорить, срочно, пока этой нет ...
Иринка не называет мать иначе чем «она» или «эта». Печально, но ничего не
поделаешь: не прощает девочка именно Насте развод с преуспевающим амери-
канским папой. Далекий, хороший папа, присылает иногда джинсы, арахисовую
замазку, неприличного цвета, но вкусную, всякую чепуху: сумочки, маечки, бусики,
кроссовки (сникерсы он их почему-то называет), этих сокровищ и здесь давно
полно (они там, в Силиконовой долине, остались вот именно, что в прошлом ве-
ке), а главное - ничего не требует, не запрещает ногти красить черным лаком с
блестками. Такой замечательный. А то что папа оставил их в самые тяжелые годы,
в прямом смысле голодные годы, а сам полетел спасаться, как объяснишь ребенку.
Тина ничего и не объясняет и ничего не требует. У каждого своя роль. Это, ка-
жется, её самая лучшая роль в жизни. Она протягивает руки к девочке.
Иринка держит её руки, таращит огромные серые глазищи, изумленно огляды-
вает непривычный беспорядок и распахнутый шкаф.
- А ты чё тут всё разворотила? Ты едешь куда?
- Да, вот уезжаю...
- Надолго?
- Ты секреты хранить умеешь?
- Могила!
- Насовсем.
- О! Только не это.
Тина понимает, что это фраза не простая, из какого-то культового (словечко-
то откуда взялось? не было его раньше) фильма. Дети так нынче разговаривают.
Готовыми словечками и гримасами. И взрослые туда же - за ними тянутся, все
хотят быть молодыми, бедняжки.
Иринка еще сильнее выпучивает глазки, трясет восхищенно головой: «Ну, ты
даешь!» - кидается Тине на шею (какая тяжеленная), в головах у них мелькают
одновременно очень похожие соблазнительные картинки, и они начинают хохо-
тать, кружиться по комнате. И падают, обнявшись, на развороченную постель.
- О, Тин-Тин, ты замыслила побег! О нет! Только не это! И я с тобой!
- Тише ты! Ты обещала. И вообще, мне твоя помощь понадобится...
- Всё. Поняла. А где? А куда? (Спохватывается.) Ой, мне как раз тоже нужна
твоя помощь. Мы с Деном хотим на дачу к Чугуну уехать, на три дня, когда каникулы,
все уже деньги собирают, но ведь она меня не пустит. Она за мою невинность
дрожит, ненормальная...
- Ну, деточка, как так можно. Мама права. Последствия же могут быть... Короче,
я тоже не рекомендую. Ты уже должна понимать...
- Чё тут понимать-то. Слово какое противное. Не-вин-ность. Да это ж все
условно так. Какие в наше время последствия?! Нам все на уроках рассказывают.
Это в ваше время были все эти проблемы, страшно представить, не понимаю,
как вы жили... Ты что, не знаешь? Таблетка же!
Тина на мгновение столбенеет, ужасается, проглатывает язык, но берет себя
в руки и осторожно интересуется:
- То есть?.. Как это - таблетка? Какая таблетка? Это же только врач может
прописать... И вообще, в твоем возрасте вредно таблетку принимать...
- Я тебя умоляю, Тин-тин, давай не будем про детали. Не уподобляйся ты
этой...
- Но я же думаю о тебе, я не знаю, какие сейчас таблетки, какая теперь... ну,
как её?
“Зарубежные записки" №19/2009
121
Людмила АГЕЕВА
- Контрацепция, да?
- Да, вот именно, но все таблетки - они гормональные, мне бы не хотелось,
чтобы ты... но вот еще что... таблетка таблеткой, но есть еще и психология...
- О, не грузи меня. Скажи еще: надо школу закончить, в институт поступить...
- Но ведь это нормально, мама о твоем будущем думает, ну и я...
- Мы всё понимаем, всё понимаем, не волнуйся. Никакая таблетка мне в бли-
жайшее время не потребуется. Ден - знаешь, какой... умный... он сказал, что на-
до владеть собой, а прекрасней меня никого на свете нет. Вот!
Звук входной двери. Сонечкино веселое лепетанье, Настин сердитый голос.
Иринка неслышно выскальзывает за дверь, успевает послать тысячу воздушных
поцелуев и прошептать: «Я тебя лю...».
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПРОГУЛКИ ВДОЛЬ ЛИНИЙ
Поздним вечером Александра попыталась записать события прошедших дней:
зачем-то хотелось запомнить, унести с собой чужой, изменившийся мир, разгово-
ры постаревших друзей, которых постепенно и неотвратимо этот мир из себя
выталкивает, дикий язык нового поколения, не то чтобы такой уж непонятный, но
какой-то в высшей степени однообразный и бедный, а если честно - жлобский
на старомодный питерский вкус, хотя порой все-таки забавный и выразительный.
Перебирала, посмеиваясь, сорванные в разных местах загадочные объявления.
«Продаю 30 квадратов, цена вопроса... (что тут загадочного? так они выражаются).
А «натри себе всё»? Ну... это... да, странно, но если напрячься, можно сообразить:
это такая лотерея, номер стирается монеткой; рекламные соблазнительные призы-
вы: «Элитные девушки - очень дешево» (вставлю в рамочку и подарю кому-
нибудь), а вот еще: «Пейте наши соки» (мазохисты призывают вампиров, что ли?).
Вела дневничок, записывала на всякий случай, для себя или редких новых друзей
на чужбине... нет, конечно же, для себя - в чем-то хотелось разобраться, понять,
откуда идет неуловимый, но явный запах тревоги, агрессии, равнодушия и хамства,
всюду - в метро, в маршрутках, в любых присутственных местах. «О, как ты не
права, - слышит голос Павла, - ты замечаешь только то, что хочешь заметить,
ищешь себе оправдания, посмотри, какая отличная еда, какое прекрасное вино,
какие милые девочки и мальчики нас обслуживают, не будь снобкой, будь проще,
и люди к тебе потянутся...» Александра тихонько смеётся, вспоминает столетнюю
даму в шляпке, застывшую перед входом в испанский ресторанчик, откуда они с
Павлом только что вышли на сияющий огнями Невский. Мимо дамы просквозили,
пробежали, чуть не сбив её с ног, два молодых человека, непринужденно и громко
болтающие на веселом матерном языке, скрылись за вращающейся дверью ресто-
рана. «Ё-моё, и это мой Петербург!» - вскричала дама в сторону удалившихся спин
и глазами призвала Павла в свидетели. Букетик на шляпке гневно задрожал. Павел
остановился, закивал головой и серьёзно, без тени улыбки, поддержал: «Вы правы!
О, как вы совершенно правы...».
Шаркающие шаги в коридоре. По ночам тетка бродила по квартире, пыталась
замотать, изнурить свою бессонницу. Заглянула: «Ты не спишь? Вижу - свет го-
рит...» - позвала пить чай - в два часа ночи. Здесь все ведут почему-то оживлен-
ную ночную жизнь: болтают по телефону, ходят в гости, гуляют с собаками, когда
спят - непонятно. Пришлось идти, сидеть на кухне при включенном пошлейшем
ночном телевизоре, а попросить выключить было неловко (это был такой фон -
на экран никто и не смотрел, хорошо хоть - звук был слабый), слушать бесконеч-
ные жалобы на корыстных врачей, поддельные лекарства и непрерывно растущие
цены.
122
тонкий слой
Утром, торопливо выпив кофе, Александра вышла на Большой проспект - обра-
зовался свободный день, захотелось пройтись по детским адресам, посмотреть
на свою школу, которая давно перестала быть школой, дойти до старого дома,
где когда-то они жили в большой коммунальной квартире. Бездельной походкой
прошла мимо Андреевского рынка, купила на углу оппозиционную газетку, с изум-
лением узнала от приветливой женщины, случившейся рядом (вот прелесть род-
ного языка - можно разговориться с любым прохожим), что газетка принадлежит
какому-то олигарху («Ничего не поймешь: этих сажают, а эти рулят, как ни в чем
не бывало».), пошла вдоль проспекта, разглядывая людей и витрины. От Большого
проспекта свернула на свою линию. Выборочно отремонтированные особнячки
сияли среди облупленных знакомых фасадов. Два милиционера лениво курили
на проезжей части, равнодушно поглядывали на толпу перед входом в чистенькое,
умытое здание. Над зданием трепыхался неизвестный флаг. Возбужденные, чем-
то сильно раздраженные люди вели перекличку, отмечались в тетрадке у лысого
активного мужика. Кричали друг на друга. Обойдя толпу, Александра сообразила,
что это какое-то прибалтийское консульство, - нет, теперь так не говорят, надо
говорить: страны Балтии.
Несколько раз прошла мимо своего дома, ожидая чего-то, прислушиваясь к
себе. Но вместо воспоминаний появилось чувство вялой и беспомощной тоски.
Вокруг были, казалось, те же дома, те же самые, но абсолютно другие. Безразлич-
ное неузнаваемое пространство отвлекало лишними, ничего не значащими деталя-
ми, ненужными вывесками, рекламой, новыми пластиковыми рамами, нелепым
мраморным крыльцом перед грязной стеной, на которой русский мат перемежался
черными пауками свастики - причудливые отечественные граффити. Хотелось
постоять перед домом, подумать, но как только она останавливалась, разглядывая
глухие, без занавесок, темные окна на третьем этаже - окна их комнаты, - кто-
нибудь из редких прохожих тоже останавливался рядом, задирал голову, следил
за её взглядом, изумлялся, пожимал плечами, разочарованно хмыкал. Александра
поворачивалась, шла дальше, чтобы избежать дурацких вопросов, делала вид,
что гуляет тут, ждёт кого-то, отворачивала край перчатки, фальшиво поглядывала
на часы. Но воспоминания не спешили нахлынуть. Загадочный механизм памяти
не желал включаться, то есть вроде начинал потихоньку раскручиваться, но без
воодушевления, лениво и формально.
В этом доме она прожила четырнадцать лет. Да, точно, четырнадцать. С один-
надцати до двадцати пяти. Самые значительные годы в жизни. Но сейчас дом
был совершенно чужим. Обветшавший, старый, нежилой. Какое-то учреждение,
общество или, как теперь говорят, фонд: ловкие, безликие, посторонние люди -
захватили дом, когда можно было всё хватать, просто так, на всякий случай схвати-
ли, не успели проглотить, не успели привести в порядок, потом и сами исчезли,
рассеялись, - говорят, перестреляли друг друга, появились другие, переоформи-
ли собственность, такие же безликие, посторонние и торопливые. И тоже исчез-
ли. Что уж тут осуждать. Она и сама стала посторонней. А дом так и стоит в небре-
жении, ветшает, рассыпается - видимо, бедное государство, раздражившись и
поразмыслив немного, забрало его обратно, вернуло под свою крепнущую длань.
Самим пригодится. Не скоро теперь руки дойдут до простенького трехэтажного
домика в историческом центре Петербурга. Ну и что, что старинный. У нас тут
всё историческое и старинное. У государства и других богатств как грязи. Не
приставайте с глупостями. Хозяин - барин, может, кому подарим. Подумаем.
Она зашла в подворотню, показавшуюся удивительно низкой, осевшей, подо-
шла к заколоченной парадной, подёргала зачем-то заскорузлую дверь. О, если
бы можно было проникнуть. Может быть, лестница сохранилась. Лестница и туалет
с низким ржавым унитазом (бачок под потолком, фарфоровая блямбочка на цепоч-
“Зарубежные записки" №19/2009
123
Людмила АГЕЕВА
ке) - только там было краткое одиночество. Или уединение? Одиночество тяготит,
уединение - желанно. Так считается. Да вот и одиночество в определенном
возрасте - хорошая вещь. В любом, в любом возрасте оно было тебе необходимо.
Возвращаясь из школы, всегда замирала на лестнице, задерживала шаг, замирала
на площадке второго этажа, перегнувшись через перила, прислушивалась, не
послышатся ли шаги, длила эти минуты тишины и отдельности от мира. Всегда
не хватало этой тишины. Утром по лестнице сбегала, напротив, очень быстро,
перескакивая через несколько ступенек, проводила пальцем по извёстке - пудрила
нос, казалось, так будет лучше, не будет так ужасно блестеть. Мать выбрасывала
регулярно всю косметику, с наслаждением высыпала в помойное ведро жалкую
пудру с розовой ваткой, с ненавистью и торжеством обшаривала все укромные
уголки, выдвигала ящики стола, перетряхивала портфель, радостно вскрикивала,
если находила цыганскую тушь на мыле, огрызок помады и карандаш для бровей:
«Что это? - кричала, - что это, я тебя спрашиваю?» Бабушка, бессильно махнув
рукой, уходила от воплей и последующих рыданий на кухню и там жаловалась
продавщице синих цыплят: «Обе они у меня сумасшедшие, обе... один зять нор-
мальный, так ведь... слабый человек, бабник...». - «Станешь тут, - кивала продав-
щица, снимая пену с бульона, уменьшала огонек под кастрюлей, вздыхала, спохва-
тывалась, - ну, ваш-то еще ничего, семью не бросает, вот мой гад - это да. Всем
гадам гад. Ночью иногда лежу, думаю: убью гада, поверите ли...»
Может быть, сохранились на лестнице старые ступеньки, уже тогда поистёртые,
выщербленные, - она бы их узнала: сидели на этих ступеньках с Пашкой до поздней
ночи, сплетя руки, болтая обо всём на свете, пока не брякали засовы и не выраста-
ла на пороге их квартиры распатланная фигура матери.
Осторожно двинулась дальше вдоль темной стены второй подворотни - на
стене висело едва различимое объявление: «Вход в интернет за углом, в третьей
подворотне». У третьей подворотни указатель, на толстой стрелке желтого цвета
черными буквами нечто уже вполне привычное: «Вход в Обувь через Евросеть».
Во дворе громоздились бесформенные кучи мусора неясного происхождения
- осколки старых кирпичей, куски вывороченного зернистого асфальта, искорё-
женное железо, смятые водосточные трубы, водопроводные останки, ржавые
ванны, ошмётки истлевшего линолеума, осколки голубого кафеля. Видимо, все-
таки собирались что-то ремонтировать. Но так и бросили. Остановилась у дверей
бывшей котельной. Память замирала, отказывалась узнавать распавшееся про-
странство. Распалась, вот именно распалась эта самая связь. Не очень понятно,
что распалось. Одно только ясно: эта парочка - время/пространство - жить не
могут друг без друга. Без своих песчинок, зарубок на притолоке, капель, долбящих
камень, делящихся клеток, увядающей плоти, умирающих звезд, распадающихся
изотопов, осыпающихся фасадов... время - одна лишь пустая абстракция, и боль-
ше ничего. Время - оно всегда утраченное, ищи-свищи. Не вернёшь. Бисквитное
печенье не всегда помогает или помогает на краткий миг длиною в человеческую
жизнь. Чтобы вернуть утраченное время, нужно потратить всё оставшееся. Сдела-
ем вид, что эти поиски доставляют нам удовольствие.
Дверь в котельную была, возможно, и прежняя - только обита листами подозри-
тельно новой жести. Может быть, там нелегальный склад колониальных товаров
или хранилище еще советских мешков с цементом, или секретного страшного
сахара, или просто тайное пристанище опасных личностей, или совсем уж неинте-
ресное - кладовка дачного инвентаря крепкого еще пенсионера, завладевшего
ключом по недосмотру управленцев, а скорее - за мелкую взятку им же. В городе
много было таких неприметных уголков (повидала уже, побродила по старым до-
рожкам), где стояло недвижно прошедшее время, причем в самых, казалось бы,
центральных местах. Тихий омут времени мирно дышал на задворках университет-
124
тонкий слой
ского двора перед бывшим общежитием, на самом верху, помнится, жила когда-
то Лена Безрукова, большая крупная девушка, красивая певунья, приехала, кажет-
ся, из Саратова (где она теперь?), а первый этаж потом отдали бухгалтерии, уст-
роили кассы - стояли в очереди за зарплатой отощавшие филологические препо-
давательницы, волновались: дадут ли? привезли деньги, не знаете? (нет-нет,
это было как раз совсем-совсем недавно, хоть и прошло более десяти лет... ка-
кое? уже двадцать почти), спрашивали друг друга: «Анна Петровна, нет ли у вас
знакомых бандитов?» - «Ох, дорогая моя, у самой проблемы... был один, вполне
порядочный...» Анна Петровна пригнулась к коллеге, громко зашептала, оглядыва-
ясь и выпучивая глаза. Стало понятно затихшей очереди, что порядочного бандита
убили. Лучшие - погибают. Такой закон. Филологи внутренне посокрушались.
Да, там запустение - ни общежития, ни касс, ни бухгалтеров, ни очередей.
Зачем они? Деньги (небольшие, конечно, но прибавят, прибавят) переводят пря-
мо в банк. Кому в «Балтийский», кому в другой - неважно. Практически всё теперь
каку людей. Магнитные карты. Банкомат выдает зарплату. Общежития исчезли, и
очень хорошо. Зато - тишина, идиллия. Сидит у прежнего пустого общежития на
перевернутом ящике перед своей комнаткой на первом этаже сутулая фигура в
валенках и платке, лица не видно (кто она? сторожиха? уборщица? смотрительница
руин?), десятилетия проходят, но она все так же греется на солнышке, чистит
картошку, лежит у ног её грязная добродушная, невероятно преклонного возраста
собака, в окошке торчит вечная герань (помогает от ушей), рядом с геранью -
надменный кот цвета угольной пыли, окошко почти ушло в землю, в булыжники, в
культурный слой Петербурга, летом вырастет между булыжниками травка.
Рука сама потянулась к блестящей ручке и отдёрнулась. Кроме замка внутренне-
го, казенного, на дверях висел еще один - огромный, амбарный - и еще замок
поменьше, кодовый, на перекрученной крепкой цепи. Так что нечего было так
уж отдергиваться руке. Дверь не открылась бы никогда. Тем более, что сто лет
назад она как раз была открыта - не распахнута, но явно приоткрыта. И ты поти-
хоньку толкнула её. Дверь заскрипела, и ты увидела, что в пустой мастерской -
тогда здесь была мастерская скульптора, загадочного человека, - сидит и смотрит
на тебя страшными глазами, величиной с велосипедные колеса, огромная сказоч-
ная собака, овчарка. Ты побежала, а спину твою уже догоняли неотвратимые и
гулкие прыжки. Тяжелые лапы упали на плечи, повалили. И так это повторялось
много-много снов подряд. Ты просыпалась от собственного крика и долго плакала
тихими слезами у бабушки на коленях, горькими слезами, - но и счастливыми от-
того, что это был только сон. Молчаливый скульптор несколько раз заходил: как
девочка? (честный человек, не оправдывался, не прятался - сам переживал). -
Ничего, - отвечали ему, - не заикается вроде, только по ночам кричит. Он брал
тебя за руку, вел в мастерскую, познакомил с Альмой, собака виляла хвостом и
была совсем не страшной. «Погладь её, погладь, не бойся». Но по ночам еще
долго преследовали тебя сотрясающие землю прыжки и хватали за плечи когтистые
невидимые лапы.
«Саша, Сашенька»... прошелестело за спиной.
Зажмурилась, затрясла головой, отгоняя наваждение. Уже не в первый раз.
Недавно у Владимирского собора, вечером, на пустынной улице - бежала к метро
из гостей, торопилась - у них тут метро закрывается в двенадцать, услышала, как
кто-то зовёт по имени. Оглянулась - никого. И снова явственный голос над самым
ухом. Рассказала на следующий день Юрке. Засмеялся. «Это тебя дома окликают.
А если серьёзно, ничего удивительного. При некоторых сосудистых патологиях
могут возникать слуховые галлюцинации - и не только слуховые». - «Не пугай ме-
ня». - «Я не пугаю. Давай оставайся. Мы тебя вылечим».
“Зарубежные записки" №19/2009
125
Людмила АГЕЕВА
- Сашка, удавлю поганца!
Невысокая темная фигура, держась за стену рукой, выползла из-за угла.
- Мальчишек не видали? Ой, извините, я вас, кажись, напугала. Здрасьте. Чё-
то лицо мне ваше знакомо...
Женщина подошла, поправляя платок, заправляя седые космы. Приблизила
лицо. Темное, морщинистое, с бугристым широким носом. Александра брезгливо
отстранилась - от старухи шёл сивушный дух, теплый противный выхлоп...
- Да нет, не могли вы меня раньше встречать, я здесь собственно... так...
проездом, вот жду... мужа...
Сама не поняла, зачем добавила этого «мужа», какой-то противный рефлекс
сработал, чисто российский, может быть, азиатский: женщина без мужа не имела
своего «социального лица» в этих краях; ждать можно только «мужа», простому
сознанию это понятно, а одинокие блуждания по полям воспоминаний - дикость,
желание побыть в одиночестве и молчании - ненормально, и вообще: для женщи-
ны это - причуда; в былые времена засидевшиеся девушки тайком надевали об-
ручальное кольцо, особенно на встречи с одноклассниками, даже потом, когда
уже возникла и повсеместно распространилась «таблетка», а сексуальная револю-
ция восторжествовала, и не только в столицах, женщина без спутника вызывала
сочувствующие замечания.
- А муж ваш не в жилконторе, случаем, работает? Может, я вас там видала?
Вы сами-то в каком доме живете?
Старуха снова придвинулась, и Александра постеснялась слишком резко отсту-
пить. В метро как-то обратила внимание, что пожилые люди жмутся к человеческим
телам, словно ищут защиты, а молодые держат дистанцию. У всех при этом лица
мрачные, замкнутые, недобрые - впечатление, что скажешь слово - разорвут в
клочья. Какой-то вирус неприязни и ненависти. Но встречались и такие... повы-
шенно любезные, вежливые, всем видом своим упрямо настаивающие на особой
петербургской воспитанности, и от этого становилось ещё грустнее.
- Нет-нет, я не здесь живу, я тут как бы проездом...
- А то я хожу-хожу, а там никого никогда нет, в жилконторе-то, и не дозвониться
- трубку не берут, а подвал снова открыт: они замки сбили, эти сволочи, и снова
там кучкуются. Мальчишек заманивают. Сашку моего уговорили банку с огурцами
принесть. Я его пальцем никогда не тронула. Только заплакала - он и сбёг... Это
правнук мой.
- Из дома убежал?
- Ну да. Со вчерашнего вечера ищу.
- Так надо в милицию...
- Куда... это уж не впервой. Милиция такими глупостями не занимается.
- Сколько же ему лет?
- А? Девять, девять лет ему. Внучка в пятнадцать родила - теперь гуляет, мо-
лоденькая ведь...
- В школу-то он ходит...
- Не, в школу он не ходит. Не хочет он.
- Как же это так? Как так может быть? Что значит - не хочет...
- А вот так, неинтересно ему. А заставить я не могу, у меня и документов его
нет.
- А читать он умеет?
- Читать он умеет, и считает - лучше нас с вами, а в школу не идёт.
- Неправильно это.
- Знаю, что неправильно, но сделать ничего не могу. Силов у меня никаких не
осталось. Он ведь по вагонам стал ходить. В метро. Мне люди сказали. Просит.
Вот и считает, как не знаю кто, бухалтер какой... А может, вы кого из жилконторы
знаете? Всё ж таки я вас где-то видела...
126
тонкий слой
Старуха жалобно пискнула, всхлипнула, заплакала. Некрасивая была старуха, и
плакала некрасиво, приоткрыв беззубый рот. Схватила Александру за рукав, жарко
задышала, обдала снова ужасным запахом, заговорила уже совсем бессвязно:
- Ну... это... если не муж, то все равно, я вас точно с ним видела, с Никанор
Иванычем, вы скажите ему, они трубку не берут или занято, а ведь эти сволочи
подвал подожгут - видите, окошки светятся (Александра посмотрела, куда указывал
скрюченный палец: действительно, в грязных и узких подвальных стеклах мерцали
какие-то огоньки), свечи жгут - электричество-то отключили, вот попомните, они
пожар устроют, вы ему передайте, тут ведь недалеко... надо подвал заколотить,
чердак, хорошо, заколотили - так они в подвал, и Сашка им еду носит, самим
есть нечего, а он туда носит, я все банки пересчитала, с огурцами еще пять оста-
валось... На своём горбу ведь всё, в мои-то года, думала, до весны дотянем, и ка-
пуста куда-то девается, я столько капусты не ем... куда она девается, вот скажите
мне... я сначала на Мотю грешила.... О, мать моя женщина, потом уж докумекала:
Сашок им и капусту носит.
Александра вырвала руку, отскочила, прижимая сумку к груди, открыла, быстро
вытащила невеликую купюру и протянула бабке. Повернулась, пошла быстрыми
шагами. Не бегом, но очень быстро. Кривобокой бабке не догнать.
Что ж это за место такое. Бывшая мастерская, потом подозрительная котельная.
Баскервильские собаки детства, сумасшедшие старухи - вцепляются в спину,
хватают за рукав. Хорошо, что можно откупиться от тошнотворного запаха нищеты,
от когтистых лап раскаяния, от укоров, упрёков, от рыданий и скандалов. На время,
конечно, на время. Но все-таки. Хоть так. Вспомнила, как отец мелкими подарками
покупал свой покой и молчание бабушки, а разнообразными услугами - благо-
склонность соседей, вычислявших мгновенно его новые романы. Соседи особым
стуком звали его к телефону, многозначительным, - отец вырывался из комнаты,
плотно прикрывал за собой дверь, но мать обязательно дверь снова открывала и
несколько раз проходила по коридору мимо телефонного столика, туда-сюда, в
кухню и обратно, с кастрюльками или чайником, под его хмыканья и коротенькие
словечки: «да-да», «непременно», «и я», «завтра обсудим». Вспомнила, ни к селу
ни к городу, фантастическую историю про заместителя директора, который стал
хозяином в институте на краткий срок директорского отпуска, а был этот зам ака-
демиком - совсем не администратор, ничего не умел, был математиком и людей
боялся. Уговорили, обвели вокруг пальца, подставили, посадили в директорский
кабинет, и пришлось ему общаться с народом. Потекли к нему научные коллеги
со своими проблемами. Если к нему приходил проситель, обычно какой-нибудь
начальник отдела или лаборатории (других секретарша просто не допускала),
несчастный математик в суть вопроса не вникал, на мгновение отрывался от своих
формул, с гримасой непередаваемого страдания выдвигал центральный ящик сто-
ла, шуршал там, доставал красненькую десятку и вручал обалдевшему уважаемому
человеку. Начальник - допустим, отдела - тут же удалялся, спиной, задним ходом,
двигался к двери, там разворачивался и с десяткой в дрожащей руке выходил в
приёмную. Некоторые чувствали себя оскорбленными и не скрывали этого, даже
кричали. Секретарша, ко всему привыкшая, делала сочувствующие глаза, но молча-
ла. Другие пожимали плечами, опускали десятку в карман и тут же исчезали. Но
все уходили, все как один, причём быстро. Кабинет директора был отделен от
приёмной двойным тамбуром, поэтому возмущенных криков недовольных посети-
телей бедный математик не слышал и с наслаждением возвращался к своим бу-
мажкам - «формулки мои», такой их ласково называл. Потянулись и мелкие сотруд-
ники с жалобами в высшей степени ничтожными и смехотворными. Самые шуст-
рые изобретательно преодолевали секретаршины препоны и быстро выскакивали
из кабинета очень довольные. Но тут отпуск директора закончился.
“Зарубежные записки" №19/2009
127
Людмила АГЕЕВА
Здравомыслящие коллеги снисходительно выслушивали эту легенду, смеялись,
соглашались, что отличный сюжет, неплохо придумано, но отсмеявшись, начинали
уже серьезно обсуждать, откуда в ящике директорского стола могли бы появиться
шелестящие купюры. Неужели это были его личные денежки. Академики, конечно,
были побогаче простых людей, но не настолько же. Не мог академик из собствен-
ных академических доходов оплачивать плодотворное одиночество и свой науч-
ный покой. О, этот мог, вы просто его не знаете. Наиболее реалистическим пред-
ставлялось все-таки предположение, что сам директор, отъезжая в отпуск, оставил
в столе пачку денег на представительские расходы, на чай с лимоном, на... ну,
скажем, на коньяк выдающихся звёздочек, о чем никто не должен был знать.
После бышего детского дома (...вот, вспомнила: там был каток, для этих бедных
детей заливали каток, а нас туда не пускали, и мы за это детдомовцев не любили,
они были другие - бледные, тощие, в одинаковых пальтишках и шапочках, с испу-
ганными глазами, куда-то их выводили строем - то ли в баню, а может быть, даже
в театр; после девяти мы перелезали через забор прямо в коньках и катались
уже в полной темноте, пока из-за нашего смеха и визга не выходил на крыльцо
их сторож, орал нечеловеческим голосом.) ...после бывшего детского дома начи-
налось пустое перерытое пространство, мертвые прозрачные этажи с зияющими
дырками для окон, какая-то стройка, почему-то совершенно безлюдная - никаких
строительных рабочих, никакого строительного шума и суеты, только высоко, на
«лесах», застыла, опершись на хлипкое ограждение, бесформенная фигура, курила
и задумчиво поплевывала вниз.
Александра дошла до Малого проспекта, повернула налево, перешла на другую
сторону, постояла перед домом, где наверху, в квартире - ну, это не совсем
квартира, это мастерская художника - до сих пор, кажется, живет один необыкно-
венный человек, хотелось бы с ним повидаться, да уже не успеть. А из подворотни
выходила Лариса Андреева, выкатывала детскую коляску: её мама родила ребеноч-
ка (мужа у мамы не было), когда нам было лет по пятнадцать, событие в наших го-
ловах не укладывалось и страшно волновало, Лариса на вопросы не отвечала,
отводила глаза, шептала: «Какие дуры». А вот окна квартиры Новоселовых, брат
Люды Новоселовой почему-то носил другую фамилию, Катюхин, прозвище «Кать-
ка», - его это нисколько не смущало, первая любовь всех-всех-всех, почему в не-
го все были влюблены, объяснить никому не удавалось - ни рост, ни красота, ни
сила, ни ловкость - ничего такого в нем не было, непонятно это было, пока бабушка
не сказала: обаятельный, чёрт! Стал актером, не очень знаменитым, но все-таки.
Еще раз прошла Александра мимо своего дома, но уже по другой стороне,
увидела давешнюю старуху: тычками гнала она перед собой понурого щуплого
мальчишку, ругалась визгливо, мат долетал отчетливый, прохожие останавлива-
лись, качали головами - осуждали, видно, такое обращение, шли себе дальше.
(Вечером, глянув на себя в теткино старинное зеркало, Александра застыла в
минутном столбняке: на неё из серебрянной пустоты смотрели бабушкины глаза,
испуганная улыбка искривила бабушкины губы, и дикая мысль пришла ей в голову:
кривобокая старуха могла помнить бабушку.)
Перед бывшим овощным магазином на перевернутых ящиках, как в былые вре-
мена, сидели два мужика в забрызганных краской комбинезонах, кусали бутербро-
ды, запивали, лица у мужиков были темные, волосы черные, ежиком, «тоже, что
ли, таджики?». Начинался обычный снегодождь. Раскрыла зонтик. Мужики посмот-
рели на неё равнодушно, подняли глаза к низкому небу, продолжили свой обед.
И в этот момент раздался звонок.
- У тебя есть жилетка?
- Что-что? Не понимаю? Что ты сказал?
128
тонкий слой
- Жилетка, спрашиваю, у тебя есть?
- В смысле?
- Ну, для приема дружеских слёз.
- Не... здесь нет - там, в Мюнхене, осталась.
- Вот какая ты, однако. Зачем тебе там жилетка, когда мы плачем здесь.
- А что случилось-то? Тебе шарфик не подойдёт? На мне сейчас такой краси-
вый шарф. Индийский.
- Ладно, сойдет. Ты где сейчас? Подъезжай к институту давай... Или нет, по-
дойди к метро, там на пешеходной зоне лавочки стоят. Я тебя найду. Снег пошел?
А... тогда вот что: дальше по ходу есть кофейня, поднимайся на второй этаж, на
втором народу вроде меньше - сиди жди...
На втором этаже народу действительно было немного. Александра выбрала
столику окна, поставила перед собой крошечную чашечку с «экспрессом», устави-
лась в окно. Дождь неожиданно кончился. Небо стало выше и обнаружились синие
просветы, выкатилось праздничное солнце. Бульвар мгновенно засиял и запол-
нился неизвестно где скрывавшимся людом. Какие-то бомжи уже тут как тут, патла-
тые, уродливые, в тряпье, с грязными пластиковыми сумками, размахивают руками,
спихивают друг друга с мокрой скамейки, галдят - хорошо, что не слышно отсюда,
- только рты разеваются беззубые, и запах не ощущается. Компания черных готи-
ческих малолеток, в цепях и шипах, клубится рядом, у каждого в руках бутылочка,
лица потусторонние, изможденные, уставились в пустоту, не общаются - играют
в инопланетян. На соседней скамейке женские фигуры неопределенного церков-
ного возраста, в чистеньких платочках, в длинных юбках, присели, подстелив акку-
ратно пластиковые пакеты, беседуют - из церкви идут или в церковь, тут рядом,
у Андреевского рынка. Наверное, все-таки из церкви - такие уж благостные, не
хотят расставаться - вкусили благодати, счастливые. Напротив сидят прямо на
поребрике вечные питерские мальчишки шпанистого облика, гитара у них, но не
играют пока - гогочут, закидывая головы, тоже в руках бутылочки, прихлебывают.
Никто никому не мешает. Обычные скучные прохожие, незапоминающиеся, спе-
шат по своим делам, обходят этих маргиналов, не замечают, торопятся, пока не
начался час пик и не ограничили впуск в метро низкими металлическими заборчи-
ками. Вот тогда начнется тихая душная давка, молчаливый поток уставших людей,
с редкими вскриками в медленной густой управляемой толпе (тривиальная мета-
фора понятно чего). Встанет у заветной дверцы тупенький милиционер, будет
открывать и закрывать её по собственному соизволению, пропуская плачущих
женщин с бледными испуганными детьми (отчего питерские дети всегда такие
бледные?) и кой-каких инвалидов с трясущимися головами, на костылях, а кого-
то будет отталкивать, заворачивать поддельных и наглых: «Куцы прёшь? удостове-
рение? вот и сиди дома со своим удостоверением, палка у тебя? каждый возьмет
палку и прёт, утром езди в свою поликлинику, палку мне выставил, хромай отсю-
да...»
Два офисных худеньких мальчика, тоненькие, высокие, почти одного роста, с
одинаковыми чистенькими личиками (юношеские мучительные прыщи остались
в том времени? еда, что ли, другая?) и ясными глазками, похожи, как братья, -
один, правда, в очках, - прошли мимо, пронесли свои подносики: тарелочки с
салатом, графинчик и рюмочки, заняли соседний столик, скинули куртки, остались
в костюмах, хороших, почти одинаковых. Заскрипели стульями, зазвенели вилками,
забулькали.
- Ненавижу это искусство. И блядь эту лживую ненавижу...
- Успокойся.
- Нет, ты послушай. Не тот язык у меня... видали? Для Лондона у меня был тот
язык, а для вшивых японцев - не тот.
“Зарубежные записки" №19/2009
129
Людмила АГЕЕВА
- Ну, давай за удачу!
- Скажи, у меня, что, не тот язык?
- Тот, тот. Чего ты, в самом деле...
- Сука лживая, дрянь - просто ей надо жопу лизать. Противно, конечно, но
ведь и не предлагает.
Под тяжелыми шагами заскрипела лестница. Появилась голова Павла. Тяжело
опираясь на перила, вырос весь: пальто расстегнуто, воротник торчит криво, не-
правильно, шарф свесился с одного боку - сейчас соскользнет, мрачный, крутит
головой, ищет. Что-то он обрюзг за последние дни. Увидел её, наконец, обрадо-
вался, но так - не очень. Выжал из себя улыбку. В глаза посмотрел на мгновение
- и отвел глаза. Уселся с каким-то старческим трудом, сцепил руки, лег на них
подбородком, прикрыл веки. Ужасные складки вокруг рта, лицо серое. Плоховато
выглядит, и похудеть ему надо. Мальчишки глянули на них, переглянулись - между
собой могут его и дедом назвать. Молодежь так и говорит теперь: «А ну, дед, по-
двинься...» - в лучшем случае: «Не знаешь, отец, где тут...» - неважно в русском
языке с обращениями, то ли дело «Скажите, сэр, где у вас тут?» или «Извините,
сеньор, здесь свободно?» Александра улыбается. Павел поднимает голову: «Ты
что это улыбаешься? Уже донесли?» - «Бог с тобой. Что донесли?»
- Это странно все-таки, что именно мне ты это всё рассказываешь.
- Ничего странного. Юрка только злорадствовать будет, так тебе и надо, скажет,
доигрался, мол. Ты, может, тоже так подумаешь, да не скажешь. Сергей начнет
себя в пример ставить, как он замечательно решил свои семейные проблемы.
Ну, Николаю... в первый момент хотел даже морду набить... парадокс... если бы я
ему не протежировал так, может, никакой Южной Кореи бы и не было, и квартирки
не было. Да, в первый момент хотел, честное слово... но он в следующую пятницу
летит, у нас совместный контракт, он мне должен был ключи оставить... Обскакала.
Что уж наплела, не знаю. Не мог, видите ли, отказать. Она уж и вещи перевезла.
- А сама-то она где? До следующей пятницы-то она где?
- Вот и не знаю. Скитается где-то. Есть у меня подозрение... Может, Лийка
причастна, она тут возглавляет профсоюз солидарности обиженных жён. Николай
знает, но дал слово и молчит, гад. И в морду дать не могу. Работать она будет,
представляешь. Сто лет не работала - теперь работать пойдет. Кому повем пе-
чаль мою. Я почему-то утром сразу же вспомнил о тебе. Почему-то так и сказал
себе: вот кого хочу видеть. Поговорить-то, оказывается, и не с кем. Тебе там не
с кем. И здесь, выходит, не лучше.
- Боже, через неделю я улетаю. Надеюсь, за это время никто больше не умрет,
ничьих детей не изобьют бандиты, ни от кого не уйдет жена...
- Надейся, надейся... Ты нашей жизни не знаешь, я же тебе говорил уже...
Давай я еще коньячку принесу.
- Да хватит тебе, тут вот еще есть немного. Тем более я больше не буду. Мне
же нельзя: Юра не велел, ругать будет.
- Слушай его больше. Тоже мне ангел-хранитель. А я вот... допью и обязатель-
но возьму... Ты вообще-то понимашь, что произошло? Я, может, именно напиться
должен...
- Не преувеличивай безвыходность.
- Я не преувеличиваю. От всех жена ушла... Очень смешно. Ты еще скажи,
что-нибудь про дом престарелых...
- Мне показалось, что Марина Сергеевна не в таком состоянии...
- Хуже, гораздо хуже...
- Ну... в конце концов у тебя есть эта... пятидесятилетняя девушка с ребенком...
- У-у-у!!! И ты... Брут, блин. Злюка! Во-первых, ей нет и сорока пяти, а во-вто-
рых, у неё мать из инсульта едва вылезает. И как ты себе мыслишь? Она с двумя
130
тонкий слой
старухами и больной Таткой будет дома сидеть? Всё бросит, да? Да и я не потяну.
Да и вообще в эту сторону смотреть... полное безумие.
- Прости, дорогой, я не хотела...
- Хотела, хотела.
- Опять же дочь у тебя есть, Настя всегда была такая рассудительная, трезвая,
умница - можно вместе эти проблемы разрулить, ты не один. Семья все-таки.
Вот Николай действительно один...
Павел делает рукой бессильный отрицающий жест, смотрит разочарованно,
мотает головой, прикрывает ладонью глаза:
- Нет, это невозможно, невозможно. Ты совершенно разучилась утешать лю-
дей. Никто ничего не понимает, давай уж допьем остатки...
- И внучка старшая, как её зовут - Ирочка? Уже большая девочка, может по-
мочь...
- Так она старшую внучку-то уводит с собой, ты не слушаешь, что ли? Я ж тебе
объясняю: Настя там в истерике бьётся, грозится, что дома деточку запрет, а та,
наглая: «Не имеешь права ребенка в школу не пускать, а из школы меня Тина за-
берет...».
- Ух ты! Прости, забыла... Круто! Cool, сказка про Крысолова получается.
Павел замолкает надолго, и Александра понимает, что его надо взять за руку,
просто коснуться его руки - больше ничего она сделать не может и сказать ничего
не может. Но бывают такие мгновения, когда молчание невыносимо, как духота и
отсутствие воздуха, при этом ты осознаешь, что любые слова будут неуместны, и
все-таки, задыхаясь, произносишь нечто ужасное, вроде «жизнь пройти...» или
«все перемелется...».
Она прикрывает своей ладонью его руки в мелких коричневых пятнах, вздраги-
вает от этих пятен (помни о голосе - напоминает себе), совершенно чужие руки,
и выдавливает бессмысленное:
- Ну, ничего-ничего...
- А вот скажи мне: это что, была последняя капля?
- Последняя, видимо, последняя. Ну нет у меня ничего. Тина прекрасно это
знала. Я еще и за сейф не расплатился с людьми. Там же лежала вся наша зарпла-
та. Юрка тебе не мог не рассказать.
- ...?
- Ну Андрей вынес мой сейф, утром, это перед Новым годом случилось - хо-
роший новогодний подарочек, да? Мама была одна дома, открыла ему - ключи-
то я у него давно отобрал: наврал ей что-то, «бабуленька открой» - она и открыла.
Пришел с дружком. Или с двумя. Бабуленька ничего не помнила, он её отвлек,
альбом свой новый стал показывать, ручки гладить. Вынесли. Увезли. Где-то там
раскурочили. Ты не знала, что ли? Всё, нет у меня больше сил...
Мальчики встают, шумно отодвигают стулья, старательно уставляют подносы
пустой посудой, натягивают куртки, накручивают шарфы. Очкарик случайно задева-
ет рукавом куртки опущенные плечи Павла, пугается, прижимает ладонь к сердцу:
«Ой, простите, пожалуйста...». Без обращения. Интеллигентные мальчики, воспи-
танные, со знанием языков, в Лондоне побывали.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ - 2
Действительно - прекрасное разрешение. А вот постой-постой, что это мельк-
нуло, где это ты скользнул сейчас? А можно немного назад? Узнаёшь? Да ты что?
Никакая не Петроградская. Это вокруг Техноложки. Непримечательные улицы -
ты и не мог эти улицы знать, если там не жил и друзей у тебя там не было. Ничего
“Зарубежные записки" №19/2009
131
Людмила АГЕЕВА
в них, по правде говоря, живописного и не было. Чтобы названия их запомнить,
существовало мнемоническое правило. Как же это? Вот, сама не помню, что-то
про «пустые слова балерины». Moment mal, одну минуточку, сейчас я тебе найду.
Не надо, зачем? Теперь неважно уже. Интересно же, мне самому интересно.
Пожалуйста:
Есть в старом Питере такой район - Семен цы, когда-то на его улочках был
расквартирован знаменитый Семеновский полк. Прежние таксисты, а до них из-
возчики, запоминали последовательность этих улочек близ Техноложки - Рузов-
ская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая - как «Разве
Можно Верить Пустым Словам Балерины», иногда заменяя последнее слово на
Большевиков или на политически нейтральное, зато очень точное русское слово.
Ты на какой улице жила? На Подольской. Вот смотри: табличка сохранилась, и
название - я жила как раз на Подольской. Но Семенцы эти так и остались для ме-
ня чужими - я совсем недолго там жила, в раннем детстве, а потом уж только на
Васильевском. И знаешь, однажды, много лет спустя, приснился мне сон и потом
повторялся. Пустая пыльная улица. Лето - редкое время года в нашем дорогом
болотистом городе. Ни единого живого существа. Сумерки. Перспектива уходящих
вдаль домов. И знакомый, вот этот, фасад нашего дома. За всю жизнь в Питере
ни разу, кажется, до него не дошла наяву. Ну, может быть, проходила мимо, ничего
не вспоминая, не замечая. Ну, дом и дом. И вдруг приснился здесь, в другой
стране. Наш дом. Вовсе не наш - просто мы снимали там комнату, за бешеные
деньги у богатых людей. Нам они казались богачами, еще бы - у них после войны
все было для жизни, настоящее богатство: посуда, кастрюли, корыто, ребристая
доска для стирки, керосинка, кровати с никелированными шариками (я один поти-
хоньку отвинтила, спрятала в карман, бабушка потом гонялась за мной - нет не с
ремнём, откуда ремень в семье без мужчин - с полотенцем, наверное, что под
руку попалось, -не догнала), одеяла с подозрительными разводами - одно нам
кинули, на бедность, и был у них даже диван с высокой спинкой, узеньким оваль-
ным зеркальцем и полочками по бокам - для вазочек с цветами, видимо, ну а
главное - эти две комнаты, одну они всегда сдавали - источник дохода, а у нас
ничего не было, наш дом на Мытнинской разбомбили... Потом его восстановили,
но вещи все погибли...
О, я недавно проезжал мимо, там теперь снова руины. Могу показать...Ух ты!
Пустое место уже, всё расчистили, быстро это у них - умеют, когда хотят, будут
строить что-то, вид какой замечательный на Эрмитаж и Неву, и даже на Петропав-
ловскую крепость, уплотнительная застройка называется, ты не в курсе, конечно,
а эта застройка - предмет стенаний нашей интеллигенции.
А почему ты иронизируешь?
Ну прости, так уж получается.
Вернись назад. Так вот - сон; ты видишь дома и эту улицу, но перспектива ка-
кая-то странная, усеченная. Непривычный угол зрения. И вдруг понимаешь -
там, во сне, уже понимаешь, что ты просто маленькая, тебе лет шесть, у тебя
другой рост, ты всё видишь по-другому, под другим углом - не так, как высокие
взрослые люди, ты там в своем прежнем возрасте, но... одновременно с необъяс-
нимым опытом уже другого зрения. Просыпаешься с отчетливым и спокойным
знанием, что ты всегда была такая, вот с точно таким, тем же самым ощущением
себя и своего состояния, своего одиночества, отдельности от мира и людей. С
холодом и ясностью в сердце. Угол зрения мог меняться, но что-то оставалось
неизменным, это - ты, ты, то, что ты называешь «я». И сон повторялся, и повторя-
лась пронизывающая тревога. Помню эту тревогу. Все детство. И потом тоже.
Картинки перед пробуждением всегда были тревожные, бесцветные, словно
сквозь пыльное стекло, безлюдные, клочья растаявших образов уносились в серую
132
тонкий слой
даль, не поддавались восстановлению - какие-то обрывки, картинка не складыва-
лась, редко удавалось вспомнить, что же там происходило, - от этого и возникало
щемящее, болезненное чувство, проще всего было назвать его: тревога. Тревога,
которая постепенно рассасывалась при свете дня, при первых звуках возвраще-
ния в жизнь. Если закрыть глаза, легко вспоминались эти ранние утренние звуки,
первые прекрасные звуки надежды. Утешающие звуки разгорающегося дня, дере-
венские, летние, дачные: оглушительное пение утренних птиц, крик петуха, груз-
ные шаги ворон на крыше, шум ветра, дребезжание стекол на веранде, постукива-
ние ветвей в стену, лай собак, кто-то проехал на велосипеде - свой ли, чужой -
волны лая стихают вдали и вновь нарастают: ага, это он возвращается - или уже
другой? телепеньканье рукомойника в сенях, крикливый разговор женских голосов
- впрочем, вполне мирный, - слов не разобрать, звон вёдер, смех. Или зимние,
городские: далёкий ночной звон трамвая, предрассветные скребки дворников
по асфальту, хлопанье соседских дверей, завывание крана на кухне, торопливые
шаги в коридоре - сквозь сон, на слух узнавала, кто пробежал мимо. Две сорока-
летние девушки жили напротив, помнила их имена - Роза и Нина. Жили в одной
комнате, много лет, работали на заводе Козицкого, раньше всех вставали, ненави-
дели друг друга, годы спустя разгородили свою квадратную комнату на две длин-
ные. Долго добивались, рыдали, одна, кажется, Роза, тощая, сутулая, пыталась
даже родить, но «выкинула». Нина была широкая, полногрудая, Розу называла
«моя проститутка». Добились все-таки. Получились две узенькие комнатки, у каж-
дой своя долгожданная дверь с настоящим замком, как у людей, окно выходит во
двор. Настоящие комнатки получились, перегородка до самого потолка дошла
(чтобы до потолка, вот на это и требовалось особое разрешение), безжалостно
раздавив алебастровые цветы и листья, окружавшие кольцом крюк для люстры, а
крюк рабочие долго выдирали, приговаривали: «Ну, девки, всё, не на чем вам ве-
шаться будет, на нем, говорят, хозяйский сынок удавился - по ночам не беспокоит?
Как вы его делите? Не ссоритесь?» Так незамысловато пугали, заигрывали. «Он
культурный, тихий, - отвечала Нина, - а вобще-то мы покойников не боимся, мы
вашего брата сколько перетаскали... О!» Во время войны они санитарками были,
по слухам, так война и свела, и вырваться друг от друга уже не удавалось - только
вот перегородочку выхлопотали. Прошло время. Нина обмякла, слегка похудела,
грудь её опустилась, зато на работе её заметили, оценили, назначили начальницей
ОТК, и всю страсть она стала растрачивать в служебном рвении. Роза, напротив,
округлилась телом, как-то не ко времени («Поезд ушел», - цедила подруга), рыхлой
нездоровой полнотой, однако сутулость никуда не делась, и похоже было, что к
старости она совсем согнется, но и её тоже «повысили» - выбрали в какой-то ко-
митет. Одинокие сорокалетние девушки (какие «сорокалетние»? да уж под пятьде-
сят им к тому времени стало) заметно затихли, успокоились, смирились со своей
участью, прекратили крики и драки, когда приходилось их разнимать неравнодуш-
ным соседкам (мужчины коммунальные никогда не вмешивались). И как-то раз
продавщица синих цыплят, многозначительно улыбаясь, шепнула бабушке на кух-
не: «Подумать только. Эти-то... в кино...вчера... вместе ходили».
Бабушка тихонько отщипывает лучинки, чтобы тебя не разбудить, ты открыва-
ешь один глаз и видишь её круглую спину, крепкие морщинистые руки, они с си-
лой, но осторожно давят на топорик. Легкий треск - лучинка отваливается, топорик
срывается и падает на жестяной лист перед печкой, бабушка шепотом поминает
черта, спохватывается и крестится.. За дверцей печки весело гудит и мечется
пламя, сияют оранжевые дырочки в темноте, мерцает и переливается в них огонь.
«Вставай, деточка, вставай...» Теплая рука тихонько и нежно трясёт тебя за плечо.
«Вставай, моя ненаглядная, пора...» Никогда потом уже не было такого чувства
защищенности и покоя, как в эти короткие мгновения темного утра, когда бабушка
“Зарубежные записки" №19/2009
133
Людмила АГЕЕВА
разводила огонь, - короткие, совсем короткие, потому что по сигналу пионерской
зорьки (без двадцати восемь? да?) ты вскакивала с закрытыми глазами, пошатыва-
ясь, хорошо, если туалет был свободен (ванная всегда была занята). Однако у
бабушки уже были приготовлены тазики, кружки, теплая и холодная вода - все в
одной комнате.
А вот ровный унылый шум городского дождя, воскресного, нескончаемого.
Пауза в жизни. Никуда можно не спешить, жизнь остановилась, заштрихованная
косыми струйками. За окном пустынная улица - лишь внизу изредка пробегают
по старым квадратным плитам черные торопливые зонты: неотложные дела выгна-
ли из дома угрюмых людей. Бедные, бегут по лужам. И родители тоже ушли на
воскресный обед к тетке, несмотря на дождь: ничего не поделаешь - там день
рождения, а здесь всегда дождь. Ты осталась, отговорилась першением в горле
- не хотелось к тетке, скучно слушать их непонятные, неинтересные разговоры.
«Надо, наконец, вырезать гланды, - произносит мать, разглядывая в зеркале нари-
сованную бровь, - сколько можно, на следующей неделе пойдем на Бронницкую».
На Бронницкой - известный институт, врачи (их называют лор, «надо показаться
лору»), стоит в вестибюле института пирамидальная витрина, за стеклом лежат
на пыльном темном бархате странные искореженные предметы - иголки, ложечки,
отвертки, сережки, кольца, монеты, винтики, гвозди и гайки - то, что любят глотать
дети (такая была надпись), то, что извлекли из их желудков, - или куда уж там по-
падали эти ужасные предметы, - сильнее всего поразила большая вилка, гнутая,
шершавая на вид, словно изъеденная кислотой. Другие дети, совсем другие (наде-
ются родители), ждущие с родителями приема лора, подходят робко к витрине,
встают на цыпочки, разглядывают любопытными испуганными глазами зловещие
штуковины, с воспитательной целью некоторых мальчиков взрослые даже припод-
нимают, чтобы лучше было видно: «Вот, смотри, какие дураки бывают на свете...».
Все ушли. Квартира затихла, тихое воскресенье. Бабушка на кухне печет пироги.
Чудные запахи просачиваются в приоткрытую дверь. Идет дождь. Прекрасное
унылое время. Тихий мерный шорох дождя. Время читать, листать страницы туда-
сюда, прижавшись к теплому боку печки, читать по диагонали, задумываться, бла-
женно зевать, вздыхать с сожалением, непонятно о чем, кусать яблоко, закрывать
обложку, медлить, ставить обратно на полку, доставать другую книгу, сдувать, вы-
тирать ладонью, тонкий слой пыли и вдруг... впиваться, мгновенно переноситься
в неведомые, волшебные края, осторожно подцеплять матовый папиросный лист,
переворачивать, разглядывать с некоторым сомнением разрушенные выщерблен-
ные колонны, увитые виноградными лозами, холмы Тосканы в просветах между
колоннами, безголовые статуи в каменных тогах, застывшие в танце женские фигу-
ры - картинки другого мира, придуманного и не существующего на самом деле,
никогда не существовавшего, «трамвай останавливается у церкви Мадонна делле
Карчери».
Хищное время отступало, уходило в тень, сжималось в пыльный комочек, смот-
рело из угла терпеливыми холодными глазами. Пусть смотрит, - говорила душа,
- а мы полетаем с тобой, полетаем - не обращай внимания.
Бабушкина рука тянется, проходит сквозь мутную толстую стену покинутого
мира, вытягивается, вытягивается, ставит на стол плоское блюдо с прямоугольными
кусками капустного пирога, пышными, еще горячими, гладит тебя по голове, исче-
зает.
А потом круглую печь, теплую, уютную и суставчатую, сломали, вынесли во
двор остатки слипшихся кирпичей и смятые листы старой жести. В комнате осво-
134
тонкий слой
бодился обширный угол, и туда сразу же передвинули диван. Весь дом радостно
ломал печи, и на лестнице долго стоял запах кирпичной пыли, а под окнами уста-
новили ребристые батареи; они до осени стояли тихие и пустые, лишь к первым
холодам, подгоняемые волнениями мёрзнущих жильцов, грозно заурчали и неко-
торые рванули - к счастью, на первом этаже, так что никого не залило и все обо-
шлось, можно сказать, практически безболезненно - только дворничиха-татарка
плакала: поплыли её простыни, одеяла и письма погибшего мужа в желтой вонючей
воде. Но ей сделали быстрый ремонт за счет ЖАКТа - начальником был тогда
честный хромой инвалид, и еще активные сострадательные женщины ходили по
квартирам - собрали татарке по рублю.
Спустя годы пришли с матерью к портнихе - все-таки как-то она заботилась о
твоих нарядах. Пока мастерица во время примерки закалывала на тебе вытачки,
мать листала модные журналы, прикидывала на себя новые фасончики, оглядывала
комнату, загроможденную уродливыми шкафами, спросила скучающим голосом:
«Отчего вы печь не выбросите, больше места было бы - у вас тут тесновато...». -
«Этокомнатаблока, и ничего тут трогать нельзя», - прошепелявила портниха сом-
кнутыми губами, полными булавок. Блок коммунистов и беспартийных, что ли?
Так звучало тогда отовсюду. Бессмыслица. Но вдруг поняла: Блока! Александра
Блока! «По вечерам над ресторанами...» Боже, среди этих жалких тряпок и фанер-
ных уродов? Нет, конечно. Но в этом воздухе, в этом пространстве, дыша духами
и туманами... В каком-таком «этом воздухе», Господь с вами: давно другой воздух,
ветром революции выдуло ваши туманы и духи, ваши кресла красного дерева,
ваши часы стоячие с боем, ваши библиотеки, ваших извозчиков и даже ваших
пьяниц с глазами кроликов, хотя... этих может быть, и пощадили как социально
близких, однако не всех, - а уж девушек, европеянок нежных, схваченных грубыми
руками - не шелками же, поголовно - не пощадили, не пощадили, нет, «господа,
вы звери, господа...», но печь все-таки осталась, высокая, белого кафеля. «Где-
то пели смычки о любви...», да, они снова робко запели, осторожно напоминая,
что безумие прошло. Отпустило немного. Пора уже, сколько можно. Отпустило
на время. Ремиссия называется. Рядом берег Пряжки. А кресла красного дерева
мы потом на помойках подобрали, реставрировали (когда для себя делаешь, даже
«русская работа» отлично получается), притащили к себе - до сих пор стоят.
Удивительные были времена: на помойках настоящие драгоценности валялись -
надо было, конечно, знать эти помойки, куда бедные пролетарии выбрасывали
рассохшиеся благородные останки, - и радостно втаскивали в свои коммунальные
жилища фанерных новеньких чудовищ. Кое-кто эти помойки вычислил - на Василь-
евском, на Петроградской, на Песках - студенты из «Мухи», например. Потом уж
в антикварные магазины всё это, на скорую руку подкленное, попадало, да и там
эти штуки музейного качества знающие люди за совершенные гроши отлавливали
- и даже картины, которые до прилавка и не доходили. А музея Блока никакого
еще долго не было, но мысль о нем, видимо, уже зародилась - раз не разрешали
трогать прекрасную громоздкую печь. Очень похожая печь, между прочим, была
в нашем классе, в самом углу, справа от доски. Школа в каком-то странном здании
помещалась, совсем не школьном - и вот печи сохранились. И при этом их топили,
не доверяли паровому отоплению. Ранним утром, когда в городе стояла еще мо-
розная ночь, ходил по холодным пустым классам маленький и мрачный истопник,
открывал двойные медные заслонки, поджигал заготовленную с вечера растопку.
И печи долго держали тепло, почти до самого вечера. Новая учительница литера-
туры на последнем уроке уже никого не спрашивала, прислонялась спиной и ла-
донями к белым и гладким кафельным плиткам, читала: «О весна без конца и без
краю, без конца и без краю мечта...». Или кое-что и почище: «О бедная моя страна,
Что ты для сердца значишь?» Смотрела вдаль, читала тихо, как бы для себя. Стояла
в своём отглаженном костюмчике с кружевным воротничком, в лодочках (ножки в
“Зарубежные записки" №19/2009
135
Людмила АГЕЕВА
порядке, а? - мальчишки перемигивались, старались не поддаваться её голосу -
потом затихали, слушали, она на них даже и не смотрела и подмигивания их не
видела - или делала вид - нет, не делала: вся была там, в этих завораживающих
звуках). По белому кафелю плыли синие парусники и крутили синими крыльями
голландские мельницы.
- Зачем, зачем им ваш Блок или вот этот... Северянин? - упрекала завуч. Учи-
тельница вежливо возражала: - Блок есть в программе.
- Но не эти же стихи, надо же выбирать. Ну пусть «Двенадцать» - никуда не
денешься, музыка революции, хотя я и не понимаю, но зачем это упадничество?
Совершенно незачем эти стихи, я вам по-дружески говорю. Мне ведь родителям
нужно что-то отвечать. Отец Савельева звонил - полковник, между прочим, - го-
ворил, там у Блока какой-то корнет хочет застрелиться.
- Это не у Блока, это у Козьмы Пруткова, и не корнет, а юнкер Шмидт.
- Ну какая разница. Он мне по тетрадке прочел: «И который раз в руках сжимают
пистолет»? Ну куда это годится? пистолет он сжимает. У Савельева, может, дома
пистолет - ну, или наган там, я не разбираюсь, - может, ему положено. Он прямо
даже намекал. А мальчик в таком возрасте - отец, естественно, волнуется и не
понимает, что это за суицидные строки. Гоша их в тетрадку переписал. Это ведь
Блок?
- Блок, да, это Блок. Не самые удачные у него стихи. Но Гоша Савельев сам
нашел, в библиотеке взял или у знакомых - я им не читала...
- Но вы это, так сказать, инспирировали...
- Что инспирировала? Любовь к русской литературе, что ли?
- Не острите и напрасно улыбаетесь: мне было не до смеха, он, должна я вам
сказать, не простой полковник, он... ну, вы понимаете, идеологический фронт -
его не отменили и никогда не отменят, я должна была объяснять, вас выгоражи-
вать, что-то отвечать.
- Вот и отвечайте, посоветуйте: пусть больше читают.
- Кто? Родители?
- Ну да, и родители, и дети.
- Это я отцу Савельева, полковнику, должна советовать, чтобы он больше чи-
тал? Вы понимаете, что вы говорите? Вы очень молоды, дорогая моя, вы в те
времена не жили - то есть жили, но не понимали ничего и не помните... вы как с
печки свалились, извините, конечно... не цените мое отношение, а я ведь с ва-
ми из самых добрых чувств говорю, потому что понимаю... вы очень неопытны,
зачем вы нарываетесь, зачем читаете то, что можно спокойно не читать?
- А чтобы они знали: кроме «едем мы друзья в дальние края, станем новосела-
ми и ты и я» есть кое-что другое. Чтобы они понимали, чем хорошие стихи отлича-
ются от плохих, хорошая литература от подделок... Я им просто читаю. Чтобы
имели представление, чтобы знали... Мне кажется, им интересно.
- Нет уж, к счастью, не вы решаете, что им надо знать, а что знать не надо...
Интересно - это не значит полезно.
- Всякое знание полезно. Я так думаю...
- Нет. Нет и нет...
Это ты стояла между дверьми, зажав под мышкой классный журнал. Математик
попросил отнести - сам не мог почему-то. При входе в учительскую был маленький
тамбур. Открываешь одну дверь, потом закрываешь и оказываешься перед другой,
стоишь в полной темноте, невидимая, слушаешь. Ну, темнота не совсем полная.
Узенькая щелка позволяет видеть нашу учительницу и толстый загривок завуча
Щуки. Вдруг с неожиданной легкостью Щука вскакивает и кидается к двери. Распа-
хивает.
136
тонкий слой
- Та-а-а-к... А ты что здесь делаешь?
- Вот, журнал...
Журнал вырывает, меня выталкивает.
* * *
Ну, может быть, хватит? Я выключаю свою машинку...
Нет, подожди. Мне бы хотелось...
Выключаю, выключаю. Мне уже самому надоело.
Так все-таки полезно или нет?
Что именно?
Знание. Любое знание полезно?
Откуда мне знать.
Ну кто же тогда знает?
Смотря какое знание и что понимать под словом «полезно», и для кого.
Ты, как всегда, уходишь от ответа. И все-таки не выключай: мне бы хотелось
услышать, о чем они говорили на прощанье.
Они молчали.
Нет, не выключай. Я пойму по глазам.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Утром опустилась на город внезапная темная зима, нескончаемые сумерки, а
день так и не наступил. Как, интересно, я улечу? - тревожится Александра, отодви-
гает штору. За окном веют грязномолочные враждебные вихри. Вялая городская
пурга гонит вдоль линий и проспектов колючую снежную мглу, упирается лбом в
хмурые фасады, запутывается среди колонн, стихает ненадолго, спохватывается
и снова несется вдаль, подхватывает с невских берегов серую ледяную крупу,
крутит в воздухе, бросает в лица пешеходам. Темные фигуры подняли воротники,
втянули головы, топчутся на остановках, отталкивая друг друга, бросаются к марш-
руткам, согнувшись в три погибели, пробираются внутрь грязных машинок. Буйные
хохочущие подростки - физиологическое веселье - собирают жидкий, растекаю-
щийся снежок с выступов, бордюрчиков, подоконников, засовывают пищащим
подружкам за шиворот. Оттолкнутые от маршруток и автобусов грузные хозяйствен-
ные тётки с сумками на колёсиках смотрят больными глазами, ненавидят всех,
всех, всех. Николай и друг его профессор Сергей стоят поодаль, рядом какие-то
приятели и среди них один старый механик из погибшего института (очень уважае-
мый: может починить всё - от «копейки» до Большого адронного коллайдера,
если понадобится, - так все в нём уверены, особенно бедные владельцы этих
ржавых лохматых «копеек») и один телевизионный режисёр, относительно моло-
дой, как раз на днях с Пятого канала уволенный (за что? будто вы сами не знаете),
одноклассник Сергея, и один бывший сотрудник Первого отдела, раскаявшийся
и принятый в компанию за раскрытие жалких секретов этого отдела (жалкие-то
они жалкие, но всё равно интересно послушать; как мы их, сволочей, однако,
боялись). И еще кто-то с ними (отсюда не очень хорошо видно). Мужское забытое
братство, без чинов и званий, без оглядки на образование - у них там свой счёт,
построже гамбургского. Они уже приняли в институте - благо теперь вход туда
совершенно свободный, без пропусков и допусков, сказал охране: это со мной,
и всё - ведешь к себе в лабораторию, и там в немыслимом уюте, недоступном
трезвому разуму, на железных развалинах допотопных приборов можно, наконец,
спокойно поговорить или горестно помолчать. Но когда фирменный спирт и по-
следние вялые огурчики кончаются, а хочется продолжения, они выходят на вечер-
ние улицы. Давно уже в темном городе нет никаких рюмочных - а были, помните?
“Зарубежные записки" №19/2009
137
Людмила АГЕЕВА
О да! Сами вы темные и несведущие. Сергей знает одно такое место, там всё как
в древние чудесные времена - даже высохшие бутерброды с зеленой колбасой,
даже липкие конфетки и несмываемая дактилоскопия на стопочках. Пойдем, мой
друг, туда. Разумеется, непременно, но не будем спешить. Спешка отвратительна
мне. И вот они вышли и стоят, наблюдают неприятную им действительность,
полную скучной спешки и смешной суеты, никуда не торопятся - их семейные
жизни протекают далеко, помимо, практически без их участия, трудное течение
это обеспечивают раздраженные, всем недовольные ворчливые женщины, а у
некоторых и нет никакой семейной жизни. Вот у Николая её нет и не предвидится
- ну и хорошо, зато он уже никого не обидит и не раздражит. Он почему-то глаз
не может оторвать от резвящейся молодежи, смотрит набычившись. Сергей кла-
дет ему руку на плечо: «Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость,
и лишний, и чужой...». Николай руку Сергея стряхиват: «Сам ты...» - и вдруг кидается
вперед, бежит, что-то кричит. Растрепанная девочка в джинсиках, в короткой
блестящей курточке, убегая от преследователя, поскользнулась, упала на асфальт,
открылся голый животик, блеснул металлический шарик на пупке, ударилась, боль-
но, кричит. Пронзительный веселый визг сменился детским плачем. Неистовый
ухажер неостановим, придавил коленом и лепит, и лепит ей в залитое настоящими
слезами лицо снежную холодную кашу. «Ты что, урод, делаешь?» - кричит Николай
и вцепляется в куртку победителя, пытается оттащить. И... исчезает, падает, сби-
тый с ног молодым прицельным ударом. Девчонка, напротив, как ни в чем не бы-
вало, вскакивает, размахивает над головой противогазной сумкой, оглядывается
вокруг: кого бы вдарить - никого подходящего не видит, поскольку «докучный
гость» уже лежит, скрючившись, на земле, скрыт спинами её дружков, под мель-
кающими их ногами, и воинственная девочка бьёт по голове разинувшего рот
Сергея. Первый раз в жизни у старого механика дрожат руки и губы, под кожаной
курткой у него в специальных длинных карманчиках есть кой-какой тяжелый инстру-
мент, он всегда почти при нём - хотел сыну помочь мебель собрать, но дрожит
он и понимает, что никогда не сможет замахнуться на человека железякой. Бывший
телевизионный режисер мечется, дергается, кличет милицию (оторван от жизни
бедный человек), делает нелепые движения, жалобно призывает прохожих вме-
шаться. Темные фигуры с поднятыми воротниками еще сильнее втягивают головы
в плечи, отступают и отворачиваются. Тетки с сумками давно отошли на безопас-
ное расстояние, смотрят с брезгливым любопытством.
* * *
«Да, Серега вообще-то дешево отделался, ну рассекла ему девочка лоб своей
сумкой - уголки были, видимо, металлические. Заклеили пластырем и отпустили
домой с миром. А Николая увезли: перелом челюсти, перелом голени, вроде бы
трещина в тазу, но ничего, могло быть хуже - спасибо, по почкам не били. Сказано
же вам: не приближайтесь к молодежным компаниям, скользите мимо, смотрите
в сторону, не привлекайте внимания. Старикам здесь не место. Нет - нарываются,
учат морали своей дурацкой - уймитесь, старые дурни...»
«Что ж это такое. То Андрей, то теперь вот Николай. Что это за избиения по-
стоянные: молодые, здоровые бьют старых, слабых...»
«Ну, Андрей-то у нас сам молодой орел: запутался мальчишка, сегодня его из-
били, завтра он кому надо заплатит, и тех отметелят за милую душу...»
«Ну хорошо, но я слышу постоянно именно про насилие над слабыми. То сумку
вырвут, то в парадной ограбят. Это что? Это фашизм называется...»
«Не преувеличивай, не преувеличивай. Не впадай в грех обобщения. Любите
вы словами бросаться. Это всё пустяки - раньше постреливали, и ничего. Выжили,
выкарабкались. Такие формы гражданской войны. Вполне себе мягкие. А вот ска-
138
тонкий слой
жи: гражданская война в той или иной форме есть, все признают, а гражданского
общества, говорят, еще нет. Как это так? Непонятно...»
«Ну, наверное, когда появляется гражданское общество, гражданская война
заканчивается, ну, типа уже можно договариваться. А у меня вот тоже вопрос. Не
такой глобальный. Почему это такие деньжищи Павел хранил у себя в сейфе, до-
ма?»
«А где он должен был хранить?»
«Ну... где все люди. В банке. У него же счет был, ты говоришь...»
«Значит мы не люди. Мы же не принадлежим к остальному человечеству, и
нас это даже не обижает. А ты, моя прелесть, вообще безнадёжна».
«Но вы же хотите...»
«Что хотим?»
«Прин а дл ежать...»
«Ничего подобного. Кто тебе это сказал?»
«Да президент же. Не далее, как вчера».
«Телевизор смотришь?»
«Смотрю. А что?»
«Лучше не смотри».
«Почему?»
«Потому что потому, а кончается на ”у”».
«Ну, с вами разговаривать невозможно».
«Так ты же совсем-совсем не догоняешь. Это я тебе должен цикл лекций по
экономике прочитать. А простой ларёчник без всяких лекций все уже усвоил. Все
эти новые правила. И прекрасно их использует».
Зима еще не кончилась. Всё еще лежат в городе тяжелые низкие снежные
небеса. Особый пронзительный и мокрый холод, неведомый другим городам и
странам, проникает в душу, и не согревает её даже глоток хорошей водки. Алек-
сандра и Юрий Сергеевич сидят в машине, перед ними бесцветная пелена залива,
зимний туман лежит на лобовом стекле. Иногда гудят в тумане призрачные кораб-
ли, скрежещет вдали усталый металл, слышны команды - что-то разгружают. Тре-
вожные желтые огни не пробивают белые сумерки, слышен разбойничий свист,
деловой рабочий мат, прошли мимо два расплывчатых силуэта, постучали зачем-
то костяшками пальцев в окно (Александра вздрогнула), растворились в тумане.
«Давай, поехали, пора уже», - говорит Александра (спазм страха; она чувствует
почему-то страх). Её уже не смущает, что Юрка прилично выпил - значит, здесь
так можно, он, видимо, правильными правилами руководствуется. Он и в былые
годы говорил: алкоголь мне только помогает сосредоточиться. И не боится, что
остановят. Ничего не боится. Такие здесь правила.
«Испугалась, да? Эти хмыри уверены, что сюда приезжают трахаться. Не бой-
ся...»
Юрий Сергеевич почти падает ей головой на колени, тянется к бардачку и до-
стает...
«Боже! Что такое? Убери сейчас же. Вы тут все ненормальные...»
«Да это же игрушка. Ой, стой, не трогай предохранитель! Ладно уж, поехали».
Юрка вздыхает, закручивает фляжечку. Двигатель работает бесшумно. Плавно
и медленно разворачивается машина. В желтом конусе света танцует снежная
мошкара, торопливо отскакивают в темноту какие-то призраки. Долго едут молча.
«До чего же Николай невезучий человек, - произносит Юрка серьёзно и груст-
но. - Прекрасный, умный, добрый - и невезучий. Я помню, всегда боялся с ним
ездить в командировки. Обязательно что-нибудь случалось. То у него кипятильник
сгорит и нас начинают из гостиницы выселять, то самолет на пять часов задержат
“Зарубежные записки" №19/2009
139
Людмила АГЕЕВА
или вообще, отменят, то во время банкета в Ужгороде (где у нас там банкет был,
не помнишь? вот забыл, всё забывается, какой-то замок был, очень красивый...)
прямо в руках хрустальный фужер взорвался - видали вы такое, чтобы рюмки в
руках взрывались? А эта жуткая история с сыном и квартирой - про Лиду уже и не
говорю. Страшно удивился, когда он после первой Кореи квартирку все-таки купил,
- думал, обязательно его нагреют. А теперь вот и Корея накрылась - заменят
его каким-нибудь новеньким, и всё, больше не позовут. А вот еще: он ведь чуть
не сгорел, банально заснул перед телевизором с сигаретой - хорошо, лето было,
дым из окна повалил... заметили ночные гуляки, хорошо, попались неравнодуш-
ные».
«А Тина, что с Тиной? Погуляла и вернется?» - спрашивает Александра.
«Ничуть не бывало, вселилась и живет там, в его квартирке, - он же в больнице,
она, бедняжка, в две больницы теперь ходит с бульонами и пирожками - к своему
оболтусу и к Николаю, а есть-то ему, сама понимаешь, пирожки не рекомендуется.
Ну не мог я их совместить. И перевозить его нельзя. Без меня всё решилось: его
же скорая забирала, в дежурную, был у него, лежит правильно растянутый, такой
страдалец. О! Жаль, что ты не увидишь. Может, поедем, устрою вам свиданку. На
полчасика. А?»
«Не начинай всё сначала. Меня уже ждут. Последний же вечер. Не могу я уле-
теть, не повидав отца моей дочери. Она мне этого не простит. У вас всё время
что-то происходит...»
«Да, у нас не скучно».
«...И все планы рушатся. Я там Николаю написала, в пакете на Лидочкиных
письмах лежит мой конверт - так вот и передай, пожалуйста, не разворачивай».
«Там и бутылочка плоская прощупывается...»
«Ну... я прошу тебя, он любит этот коньяк, пожалуйста, я для него привезла, ну
не повредит ему такая капля, маленькая бутылочка, просто знак...»
«На что ты меня толкаешь? Бутылочку отдам, но только после выписки, а пись-
ма... ладно, пусть слезами обливается. Зря ты не хочешь навестить несчастного
друга, еще и с Валюшкой могла бы повидаться - она в это время обычно приходит,
кормит Колюню с ложечки».
«Да мы уж видались вроде».
«На поминках, что ли? Это не считается, это был форсмажор, теперь поспокой-
нее: Пашка все-таки заплатил долги своего беспутного сыночка, скоро будем вы-
пускать оболтуса, но Валюшка все равно с ним не желает общаться, кто бы мог
подумать - такое упорство. Вкусила свободы девчонка. Так, мы, кажется, попались,
видишь, какие городские тромбы. Так-так-так, постоим... Как жить будешь дальше?»
«Что ты хочешь сказать?»
«А то и хочу сказать. Давай возвращайся, на старости лет будешь с близкими
людьми, чего там делать-то, в чужих краях».
«Не надоело тебе?»
«Я вот думаю, что угасание гормональной активности имеет для женщин опре-
деленные прелести».
«Ну давай, жду очередной гадости...»
«Да я абсолютно серьёзно. Свобода, бля, свобода... неужели непонятно. Как
Валюшка его подкосила. А? »
«А для мужчин? Как у них с этими прелестями гормонального затухания?»
«Ну, у мужчин немного по-другому... Но тоже... да! иногда определенное осво-
бождение наблюдается. Ну Валюшка все-таки... выбрала момент? Да? Никакой
ответственности. У неё базовые ценности изменились, видите ли... Переполне-
ние чаши терпения произошло. Объёмная, однако, была у неё эта чаша».
«Хочешь посплетничать...»
«А что? я не человек?»
140
тонкий слой
«За тобой это раньше не водилось».
«Водилось, водилось. Просто я умело скрывал. А теперь я стал естественным
человеком. Незачем притворяться. Обсуждение ближних... Это ли не удовольст-
вие? Полчаса освежающей сплетни. Не будем лицемерить. Да и ближним было
бы обидно, если бы мы не обращали на них внимания... И еще пожилые мачо,
жаждущие молодой плоти, вызывают у меня рвотный рефлекс...»
«Вот что это такое ты сейчас сказал? Ты на кого намекаешь?»
«Ни на кого. Просто наблюдаю окружающие нравы. Да успокойся ты. Я вовсе
не про Павла - он, должен заметить, молодую плоть уже не потянет, опасно ему
это, он предупрежден - у меня тут другие клиенты намечаются, Веньку видела
на поминках?».
«А врачебная тайна?»
«Хочу напомнить, что клятву Гиппократа я не давал, никаких тайн соблюдать
не обязан - просто оказался как-то втянут, в силу своих связей. И несмотря на
омерзение, должен помогать. Когда мужик загибается на бабе, она почему-то
именно мне звонит - нашла телефон в его мобильнике, между прочим, - его со-
трудница, молодая, - относительно, конечно, - молодые в науку не идут, то есть
их выучивают, а потом они исчезают и всплывают в самых неожиданных местах,
вплоть до Думы - ну, тебе уже рассказывали, но Венька их грантами соблазняет,
манит обещаниями заграничных стажировок. Представляешь, если бы он там у
неё помер - какие гранты, какие стажировки? А так - Шурочка транспорт организо-
вала, откачали, умыли, обтерли, к нам в отдельную палату уложили - замяли, одним
словом; жена покудахтала немного, так ничего и не поняла...»
«Фу... Ну зачем мне эти скелеты в чужих шкафах?»
«А кстати, там, в клятве этой, есть какое-то положение о тайне?»
«Не знаю... »
«Вот и я не знаю. А тайны ведь томят, скелеты из шкафов взывают... Тут ко мне
обращались разные персоны: просят помочь с генетическим анализом. Несколько
лет назад британцы уже пережили такую моду. Я всех предостерегаю. Двадцать
процентов британских любопытствующих мужчин были потрясены и расстроены.
Насколько мудрее оказались древние иудеи...»
* * *
- Так я за тобой заеду завтра. Когда у тебя рейс?
- Имей в виду, Павел тоже собирался.
- Плевать я хотел на Пашку. Я должен тебя проводить. Нет, какой гад. Даже
прощальные слова любви я должен произносить в его присутствии...
- Ты мне их напиши.
- Я уже писал.
- А я помню. На кленовом высохшем листочке. «Ты свистни, тебя не заставлю
я ждать».
А ты его выбросила.
Нет, я его хранила, но потом он окончательно растрескался и рассыпался в
прах.
Ночь перед вылетом была ужасна. Беспорядочные видения, бессонный бред,
выпадающие из шкафов хрупкие скелеты, сухость во рту, боль в затылке, горячий
песок под веками, расплывающиеся лица и голоса. Лицо Тины, почти молодое,
во всяком случае, без возраста, пышные волосы пронизаны золотым светом; пока-
чивается на стуле, курит сигаретку (никогда не курила); Юрий Сергеич в своем
теперешнем обличье, но с трубкой в зубах - когда-то делал вид, что курит трубку,
помнится, искали ему в подарок какие-то вересковые трубки - собирал коллекцию,
“Зарубежные записки" №19/2009
141
Людмила АГЕЕВА
сидит на изогнутой спинке садовой скамейки - так сидят подростки с пивом в
Соловьевском садике. Тина в комнате, Юрка в скверике - беседуют. Он насмешли-
вый. Как всегда. «Ты ему отлично отомстила». - «И за тебя тоже» (злой голос, да!
мстительный). - «За меня? Не понял. Что это значит?» - «Сам знаешь. Завидовал
ему: родители, квартирка, дача в Комарово, твою любимую Саньку всю жизнь
держал на крючке». - «А? Дура ты, дура. Он мой друг». - «Карательные органы
сказали: ну конешно». - «А чё ж ты его совсем не раздавила? Сказала бы раньше
- сейчас-то неактуально, что Настя не его дочь, а отчима твоего... А? Шутка». -
«Сволочь!» Неактуальные скелеты подпрыгивают и со смехом рассыпаются на звон-
кие косточки. Кафельный пол клиники. Косточки и позвонки еще долго подскакива-
ют по нему, как живые. Придушенно пищит будильник.
Юрий Сергеич безукоризненно точен, все рассчитано до минуты: нужно про-
скочить Благовещенский мост после первого разведения. Ночной пустынный го-
род прекрасен. Воздух временно чист. Мосты и дворцы окантованы мерцающими
огнями.
«Павел прямо в аэропорт приедет - не знаю, правда, зачем. Не хватало еще,
чтобы тебя на нескольких машинах провожали».
Домчались за двадцат пять минут.
Александра прошла зеленым коридором, сдала багаж, остановилась перед
паспортным контролем. Последний раз оглянулась. Они всё еще стояли за мутны-
ми стеклами. Молчали. Синхронно подняли руки. Плавно покачали ими в воздухе.
142
Георгий НИПАН
ДВА РАССКАЗА
Попасть в яблоко
Воскресное утро только наступило, но выходный день уже был безнадежно
испорчен. Макс и Ольга парились в заглохшей тачке за сотню километров от
МКАД - ждали приезда эвакуатора. Полная непруха! Застряли на полдороге от
загородного дома Гарика, где должна была собраться теплая компания. Выходит,
зря Ольга весь субботний вечер примеряла джинсики, юбочки, блузочки, свитероч-
ки и курточки. Максу - так вдвойне было обидно: зачем покупал пейнтбольный
пистолет «Альфа», калибр 0.68, количество выстрелов 12, прицельная дальность
25 метров, а к нему несколько магазинов с шариками, - ну и, конечно, защитную
маску и жилет? Так хотелось обсудить с мужиками покупку, перед застольем побе-
гать по громадному участку - у Гарика полное снаряжение для пейнтбола - и по-
стрелять, прячась за деревьями. Этот чертов эвакуатор только часа через два
доберется. Макс уже отзвонился Гарику, соврал, что срочная работа. Не стал
рассказывать про машину, он и так типа «лузер»: квартира двухкомнатная малогаба-
ритная, дачи нет и тачка барахло. Хотел сегодня немного отыграться, выхватить
«Альфу» из куртки с криком: «Сдавайтесь, толстопузые гады!» - и расстрелять бу-
тылки с дорогими винами. Залить этикетки красной краской, чтобы скривились,
вычитывая их французские и испанские названия.
Ольга сидела молча и, ясный перец, злилась: поджав губы, пялилась в боковое
стекло на ровные грядки картофельного поля. Не хватало еще полаяться и в оче-
редной раз услышать, какой он лох.
Макс открыл боковую дверцу и вышел из машины, прихватив «Альфу». Зло пнул
ближайшее неподвижное колесо и огляделся вокруг. Сентябрь. Легкий парок от
теплого дыхания. Метрах в ста, за кривым забором, почерневшая - видно, бро-
шенная - хибара и яблоня с большими желтыми яблоками.
Яблоки напоминали смеющихся смайликов. Сейчас он покрасит эти улыбаю-
щиеся рожи!
Расстрел начался метров с десяти. Кровавые пятна расползлись по трем ранен-
ным яблокам, когда тяжело заскрипела дверь хибары и на ее пороге появился
дряхлый старик. В шапке-ушанке, ватнике, суконных штанах и валенках с калошами.
- Ты, что, стрелок хренов, над моими яблоками изгаляешься? - прохрипел
дед.
- На черта они тебе сдались? - зло спросил Макс. - Тебе же только кашу ман-
ную можно есть.
- Тебе, засранец, известно, какие нынче пенсии у стариков? - спокойно сказал
дед. - Наберу два ведра яблок, сяду с ними возле дороги - кто-нибудь остановит-
ся и купит.
- Так я тебе дам заработать! - Максу пришла в голову забавная идея. - Хочешь
денег заработать, быстро и много? Но с небольшим риском.
- Заработать? Хочу!
- Тогда так! У меня шариков еще три обоймы. Ставишь на голову яблоко: попа-
даю в яблоко - тебе червонец, попадаю в лобешник - стольник.
“Зарубежные записки" №19/2009
143
Георгий НИПАН
- А в глаз?
- Я тебе маску дам! Слабо?
- Нет, не слабо. Только клоуном я никогда не был, да и работа твоя скучная.
Риску мало! У меня другое предложение. Погоди чуток, сейчас вернусь.
Дед тяжело повернулся и исчез в хибаре.
- Что ты прицепился к старому грибу? Со мной поговорить не о чем? - подошла
Ольга, выискивая причину для ссоры.
Однако ссора не успела начаться. Скрипнула дверь, и опять появился дед. На
нем не было шапки, и длинные седые волосы в сочетании с белой бородой преоб-
разили его сморщенное, покрытое многочисленными морщинами лицо в апо-
стольский лик.
- Хорошо-то как, и судья при нашей игре будет!
Дед сошел с крыльца и отбросил палку, на которую опирался.
- Заходите во двор, дорогие гости, чтобы нас с дороги не было видно. Ты, па-
рень, сорви большую ровную антоновку и подойди ко мне!
Макс послушно сорвал яблоко и подошел к старику.
- Теперь шутки в сторону! - дед вытащил из-за пазухи пистолет. - Это трофей-
ный «вальтер», в нем один патрон. Ты отходишь назад на десять шагов, я станов-
люсь возле стены с яблоком на голове. Попадаешь в яблоко - мои сто рублей,
мажешь - отдаешь мне весь свой кошелек.
- А если? - начал Макс.
- Зароешь меня под этой яблоней. Ниже глаз я прикрою лицо саперной лопат-
кой, чтобы в мучениях не подыхать. Ну что? Слабо?
Дед расстегнул ватник и сбросил его на землю. Под ватником оказались старая
гимнастерка с медалью «За отвагу» и саперная лопатка, заткнутая за пояс.
- Давай, отмеряй десять шагов, а то я замерзну! - дед забрал из рук Максима
яблоко и сунул в них «Вальтер».
Максим отошел на десять шагов и обернулся: дед стоял, прижавшись спиной
к потемневшей бревенчатой стене, на его седой голове лежало большое желтое
яблоко, а в правой руке он сжимал саперную лопатку, приготовившись защитить
лицо.
- Дополнительное условие от меня, - произнесла где-то рядом с ухом Ольга,
- если ты не попадешь в яблоко или струсишь - не будешь стрелять, то я от тебя
уйду. Не буду больше жить с лохом.
- Ну, дед, прощай! - по лицу Максима скользнула усмешка.
На изгородь села ворона и каркнула. Никогда он не любил этих каркающих
тварей. Максим вскинул руку и не целясь выстрелил.
- Отлеталась, сволочь! Хороший у тебя, дед, пистолет! Надевай ватник, а то
простудишься!
Максим направился к деду, доставая на ходу кошелек.
- Держи заработок, Вильгельм Телль!
- Лох! - уходя к машине, бросила Ольга, но он даже не обернулся.
- Сто рублей на водку! - сказал дед, возвращая Максиму кошелек. - На мою
пенсию ее не часто купишь.
- Возьми все! Я до города автостопом доберусь.
- На хрена мне твои деньги, особенно зеленые!
- Слушай, - замялся Максим, подбирая подходящее обращение.
- Иван Васильевич, - подсказал дед.
- Слушай, Иван Васильевич, давай я за водкой схожу!
- Давай! У меня огурчики соленые есть, грибки! Посидим как люди, выпьем.
День-то какой славный!
Когда Максим вернулся из магазина, тачки на дороге уже не было. Ее вместе
с Ольгой забрал эвакуатор.
144
ДВА РАССКАЗА
Иван Васильевич сварил картошки, нарезал хлеба, разложил на тарелке огурцы
и наполнил грибами миску. Сели за стол. Максим разлил по рюмкам водку.
- Иван Васильевич, за твое здоровье! Очень ты на моего деда похож, он та-
кой же отчаянный был!
- А ты на моего беспокойного внука - вечно ему с бабами не везет!
- Ну, будем!
Совы нежные
Я на чердаке лежу у себя на дому.
Мне скучно до зарезу, Бог знает, почему.
Вдруг слышу за собой совы нежные -
У-юй, у меня на душе стало веселее
А-лай-лай-лай, стало веселее.
Жюли Грюн, «Совы нежные»
В джунглях ООО «Киплинг» водился только один человеческий детеныш - си-
стемный программист Миша Головин по прозвищу Маугли. Все остальные обита-
тели ООО, похожие на людей, в действительности были антропоморфными живот-
ными: начиная от генерального директора - Медведя Балу и заканчивая кучей
менеджеров-бандерлогов, немеющих от одного вида Змея Ка - директора по
маркетингу. Многочисленному зверью не удалось сожрать Маугли: Мать-волчица,
непосредственная начальница Маугли, сама лаялась с Шерханом - начальником
охраны и его шакалами, когда Маугли забывал включить сигнализацию при уходе
или застревал за компьютером на всю ночь, а Багира, финансовый директор компа-
нии, просто ему благоволила: ей нравились умные детеныши.
В чужую историю он попал случайно. Во время обеденного перерыва, в кафе,
куда стекались клерки из разных компаний, не на шутку поцапались секретарша
Софи и стажерка Черная Мамба: обе из команды Недобитого Билла - корпоратив-
ного психолога, любителя организовывать «team building», жирного поросенка,
околачивавшегося около года в Штатах.
НедоБилл прибыл вовремя: еще чуть-чуть - и Софи с Мамбой, к большому
удовольствию обитателей джунглей, испортили бы друг другу макияж.
- Так, так! - закричал НедоБилл. - Надо разрядить агрессию в игре. Вы - на-
ездницы: находите себе скакунов и выплескиваете свою ненависть в схватке на
«лошадках».
Софи, не раздумывая, подняла юбку и забралась на загривок НедоБилла, которо-
му давно мерещилось, как он сам залезет на Софи. Но - как бы чего не вышло, а
тут просто корпоративная игра. Просто игра, во время которой промежность Софи
натирает его потную шею. Никто не запрещает втягивать носом запахи.
Мамба, также в корпоративной юбке, осмотрелась и схватила за руку Маугли.
Рядом не оказалось ни Матери-волчицы, ни Багиры. Миша присел и подставил
девушке плечи.
Джунгли выли от восторга. Худой и жилистый Маугли, под всеобщий смех, ловко
обходил жирного и неповоротливого Недобилла. Наездница Мамба, пользуясь
маневренностью своего скакуна, последовательно распахнула на Софи блузку,
обнажив ее тело до белья, задрала на ней юбку по самые плечи и растрепала во-
лосы. Впрочем, чувствуя свою безнаказанность, она успокоилась.
- Брейк! - крикнула появившаяся Багира. - Немедленно слезай с Маугли!
Она дернула Черную Мамбу за ногу. Мамбе понравилось сидеть на плечах
Маугли, но с Багирой спорить было опасно.
“Зарубежные записки" №19/2009
145
Георгий НИПАН
- Не обязательно подставлять шею каждой сучке, - тихо сказала Багира. -
Эта чертова Мамба, похоже, несколько раз кончила, пока на тебе скакала. Что ты
скажешь своей девушке? От твоей рубашки, извини, разит, как от использован-
ной...
- Ничего не скажу! - перебил Маугли. - Говорить некому: «своя девушка» три
дня назад от меня ушла.
- Бедный мальчик! - сказала Багира и пригладила растрепанную шевелюру
Маугли. - Так иди в туалет, выбрось эту рубашку в мусорное ведро и вымой шею.
Я отправлю нашу курьершу, чтобы она купила тебе свежую сорочку.
Работа не шла. Маугли тупо пялился в монитор. Мерещились женские ноги. В
17.00 пришел e-mail от Черной Мамбы:
«Надо бы отметить победу! Ты как?»
Маугли не ответил, но в 19.00 объявилась сама Мамба.
- Так, выключаем компьютер и идем со мной в итальянский ресторанчик. Не
боись, Маугли! Женщина платит!
Красное сухое вино не забирало. Разгоряченная физиономия Мамбы с узким
лобиком, выщипанными бровями, громадными ресницами вокруг свинячьих глазок,
прыщавым носиком и пухлыми сочными губищами в сочетании с ее банальной
похабелью - кто, с кем, как и когда - только усугубляли одиночество. Маугли за-
казал абсент “Xenta“.
Два миллиграмма галлюциногена туйона в рюмке горькой семидесятиградусной
настойки этанола туго знали свое дело. Шумная ресторанная повседневность
распалась на два слоя. В верхнем легком пространстве оказались живые картинки,
тяжелое нижнее пространство заполнили звуки. Верх и низ разделил холодный
кипящий слой, словно на громадный лист прозрачного оргстекла налили жидкий
азот.
Треп Черной Мамбы стелился под ногами, поднимаясь черными кольцами все
выше и выше, словно дым пожарища. Кто-то должен был вытащить Маугли из
этого удушающего чада.
- Сава’! - прохрипел знакомый голос.
На высокой спинке стула над плечом Мамбы, сидевшей напротив, появилась
сова в пушистом рыжем с темной крапинкой оперении, прикрывающем лапы до
когтей. Большой, во всю голову, лицевой диск совы был обращен к Маугли.
- Привет, Сова! - крикнул Маугли. - Тебя послала Зеленая Фея, чтобы забрать
меня отсюда?
Сова ничего не ответила. Она взмахнула широким крыльями и бесшумно поле-
тела сквозь кипящий холодный слой, подобно самолету, пронизывающему облака.
Надо было только не отставать...
- Ну, ты выступил вчера! Вроде и не пьяный был. Запрыгнул на стол, закричал
так страшно, как сова, «хау... хау... хау», плавно замахал руками, а потом прыгнул.
Два здоровенных охранника еле успели тебя поймать. Ничего, все обошлось -
морду ты никому не бил. Я объяснила, что это ты от счастья охренел.
Маугли открыл глаза: на соседней подушке красовалась рожа Черной Мамбы.
Он отвернул голову. Незнакомый чужой потолок. Чужая подушка, чужое одеяло,
чужая женщина...
- Но в постели ты супер! - не унималась Мамба. - Я сама улетела и орала, как
кошка. Слушай, давай продолжим! Сегодня же выходной.
- Где мои трусы? - спросил Маугли.
- Сняла, чтобы не мешали, - замурлыкала Мамба и попыталась прижаться.
- Мне пора, - сказал Маугли и присел на край чужой кровати.
- Вначале попробуй забрать свое белье! - Мамба игриво раскачивала в руке
белые мужские трусы.
146
ДВА РАССКАЗА
- Оставь себе, чтобы было из-за чего орать по ночам.
- Хам!
- Да! - подтвердил Маугли. - Рядом с тобой трудно быть кем-то иным.
- Трамвайный хам!
- Я пользуюсь метро, - сказал Маугли.
- В метро ездют одни хамы!
- Ты ошиблась. В метро ехают, это на машинах ездют.
- Пошел ты на!... - заорала Мамба и запустила в Маугли его же трусами. - Я в
Штатах училась... - и дальше она запустила длинную фразу, характеризующую
Маугли с помощью вариаций из пяти нецензурных слов.
- Вот это по-нашему, - одобрил тираду Маугли.
Он надел пойманные трусы, чуть примятые сорочку, брюки, пиджак и засунул
в карман пиджака галстук. Нацепил на ноги туфли.
- Прощай, не-на-глядная! Не провожай меня до дверей квартиры! Не выбегай
голая из подъезда без ключа, мобильника и набора косметики! Спрашивай в апте-
ках города бромистый калий!
Мамба бросила ему вслед что-то тяжелое, а ее гневная трехэтажная тирада
не закончилась даже к тому моменту, когда Маугли садился в вагон метро.
Ночь только-только перешла в утро, и собаки вместе с хозяевами еще не запо-
лонили маленький сквер, через который пролегала его дорога к дому. Внимание
Маугли привлек маленький рыжий комочек, шевелившийся возле подножия осины.
- Совенок! Это как же тебя вороны не заклевали? А, ты умник, сидел тихо-ти-
хо! Умный Тихон.
Так у Маугли появился совенок Тиша. По утрам, прихватывая клювом торчащие
из-под одеяла пальцы ног, он будил Маугли. По ночам, стоило Маугли заснуть,
громко вопил. Маугли хватал с журнального столика припасенный водяной писто-
лет и поливал из него горлопана. Минут на пятнадцать, а если сильно везло, то и
на полчаса совенок успокаивался. Во все остальное время, т. е. если Маугли не
спал, они были неразлучными друзьями. Когда далеко за полночь Маугли смотрел
на монитор своего ноутбука, Тиша неизменно сидел на его плече и тоже пялился
на бегущие буквы и цифры. Иногда мурлыкал какую-то совиную песенку. Кто его
знает, что он там видел!
Самыми волшебными были мгновения, разделяющие бодрствование и сон.
Маугли лежал в темноте с открытыми глазами, а над ним, отгоняя дурные мысли и
навевая чистый сон, бесшумно кружила сова.
Тихон подрос, и ему стало тесно в маленькой однокомнатной квартире Маугли.
Как-то сентябрьским вечером Маугли вынес Тишу в сквер, в котором нашел его
маленьким совенком.
- Ну что, брат, будем прощаться! - сказал Маугли. - Не забывай меня!
Он подбросил сову высоко вверх. Тихон распахнул крылья и повис в воздухе.
- Хау... хау... хау, - кричал Тихон, поднимаясь все выше и увеличивая круги
над головой Маугли, пока не превратился в невидимую точку.
На следующее утро хмурый Маугли, входя в офис, споткнулся о выдвинутое
кресло. Обычно это кресло было задвинуто. Маугли поднял глаза от пола. В кресле,
недоуменно глядя на Маугли, сидела рыжая лохматая девушка в больших розовых
очках без оправы, закрывавших лицо практически до губ.
- Сова! - закричал Маугли так, что все окружающие вздрогнули и бросили
свои компьютеры.
- Сава’, - ответила девушка.
- Сова, ты прилетела, сова! - Маугли сел на клавиатуру, по которой только что
бегали пальцы девушки, и сжал ее лицо своими ладонями.
- Я еще плохо говорю по-русски, - сказала девушка. - Я сел на ваша место?
“Зарубежные записки" №19/2009
147
----------------------------- Георгий НИПАН --------------------------------
- Ты о чем, сова? Какое место? - Маугли убрал ладони от лица девушки и при-
жал ее ладони к своему лицу!
- Я ничего не понимай! - озадаченно произнесла девушка.
- Мадмуазель, поймете, когда поживете и поработаете в нашем зверинце, -
сказала вовремя появившаяся Багира. - Обращаюсь ко всем любопытным! Что
вы уставились? Продолжайте работать. Обычное дело: Маугли нашел Сову. Осталь-
ным птичкам рекомендую закатать губки-клювики. Сова - птица хищная.
148
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Петр ИЛЬИНСКИЙ
ЛОРКА - НА РУССКОМ ДЛЯ XXI ВЕКА
Невольный перевод
Этот перевод, точнее, попытку перевода породило тягостное отчаяние, не раз охватывавшее
меня при чтении переложений стихов Лорки на русский язык. Гений, или, по словоупотреблению
самого поэта, его дуэнде, чувствовался в них, рвался наружу, даже пытался петь (cantar), но был
твердо скручен тканью профессиональной версификации. Сознавая свою малую подготовленность
и еще меньшую квалифицированность, я все же взялся перевести-переложить одно из самых
знаковых, на мой взгляд, стихотворений XX века: «Романс об испанской жандармерии». Без
больших натяжек можно сказать, что «Романс» является корневым текстом «Цыганских романсеро»
(Romancero gitano), книги, опубликованной в 1928 г., за восемь лет до начала Гражданской вой-
ны в Испании и гибели великого кантаора - певца и сына жарко-жестокой, но бесконечно пло-
доносной Андалусии. «Romance de la Guardia civil espanola» - заключительное стихотворение
первой части книги, ставшее для многих читателей ее эмоциональным и идейным ядром, было,
по-видимому, написано немногим раньше, в течение 1924-1926 гг.
Вкратце о том, чего пишущий эти строки пытался достичь. Во-первых, не дословной, а сим-
волической, метафорической передачи образов Лорки - но всегда используя его собственные
ключевые слова. Во-вторых, передачи духа стихотворения, его нескольких перекликающихся
музыкальных и философских тем. Для этого, в-третьих, из текста была убрана вся «испанщина»
- включая топонимы и имена собственные: у русского читателя слова «алькальд», «Херес-де-
ла-Фронтера» и т. п. вызывают прежде всего «желание быть испанцем» (или воспоминания о
пляжах Costa del Sol), и отвлекают от содержания стихотворения. Потому что, в-четвертых, хоте-
лось, чтобы «Романс» стал для русского читателя тем, чем он является для меня: предчувствием-
итогом всей истории прошедшего столетия.
Когда Лорка читал «Романсеро», то называл тему неминуемого прихода жандармов одной из
наиболее «сильных» или «мощных» (fuerte) в книге, хотя она является «невероятно антипоэтической»
(increiblemente antipoetico). «Однако, - добавлял поэт, - это не так» (sin embargo, no Io es).
Незадолго до смерти Лорке пришлось быть ответчиком по юридическому делу, причиной
которого был «Романс об испанской жандармерии» - спустя восемь лет после опубликования
стихотворения автора обвинили в том, что он опорочил безупречных и бесстрашных рыцарей
правопорядка. Шли последние дни жизни испанской республики, но об этом тогда еще никто не
знал - казалось хорошим предзнаменованием, что несообразный иск некоего «сеньора Таррагона»
был отвергнут судом. Сам Лорка в интервью, данном за несколько дней до его последнего отъ-
езда в Гранаду, удовлетворенно заметил, что «в итоге доблестный защитник Славной Гвардии
остался ни с чем»1.
Жить поэту оставалось около двух месяцев. Он погиб внезапно и бессмысленно, подобно
описанной им цыганской столице, от руки темной и анонимной нечисти, навеки скрывшей свое
лицо под непроницаемыми капюшонами. Как часто бывает, и палач, и жертва сыграли свои ро-
ли в строгом соответствии со стихотворением. Только в этот раз поэтическое предсказание ис-
полнилось даже слишком точно. Демократическая Испания и ее лучший голос погибли почти
одновременно.
Можно ли назвать получившийся текст в строгом смысле переводом? Наверно, нет - следуя
вышеприведенным правилам, я позволил себе слишком много разного рода «корректировок».
Но и словосочетание «вольный перевод» тоже будет неточным. «Экспериментальный», «нетради-
‘Зарубежные записки" №19/2009
149
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ционный» - может быть, но не более. По крайней мере, хочется верить, что в проявленной
мною «вольности» есть некий метод. Причина ее - не плохо маскируемая интеллектуальная ле-
ность: желание избежать кропотливой работы над передачей каких-либо сложных авторских
образов или периодов. Мною водили доводы другого рода.
Если дословно переведенная лоркианская метафора не вызывает у русского читателя желаемо-
го ассоциативно-эмоционального ряда, то есть ли в таковой дословности какая-либо ценность?
Более того, если предложенный метод «метафорической подмены», поиска эмоционально сходного
образа с использованием авторского ключевого слова, окажется хотя бы малым подспорьем
для новых переводчиков Лорки на язык Пушкина и Пастернака, которых в текущем столетии, на-
деюсь, будет немало, то свою задачу я буду считать выполненной. Ктомуже оппозиция: «вольный»
или «профессиональный» - не та система координат, которую хотелось бы использовать. Плодом
перевода может быть или хорошее русское стихотворение, по возможности приближенное к
тексту Лорки и созданное с использованием его образов, - или стихотворение, отвечающее
тем же формальным признакам, но не столь высокое качеством.
Известно высказывание, что рискнуть написать книгу по истории может лишь человек великой
наглости и величайшего же невежества. Это суждение можно полностью отнести на счет всех
переводчиков великих поэтов, не являющихся большими поэтами или крупными языковедами
(первых выручает талант, а вторых - знания). Потому, поддавшись соблазну сотворчества с ге-
нием, так отрадно найти хотя бы малейшее оправдание - пусть, в лучшем случае, лишь слегка
отбеливающее продемонстрированную тобою наглость (поскольку от собственного невежества
спастись невозможно).
М. Л. Гаспаров в своей поздней книге радикально ушел от традиционных поэтических перево-
дов - безжалостно, но точно сокращая (Конфуций сказал бы: «выправляя») подлинники, отказав-
шись от «метрической униформы», ненужной, по его мнению, для того, кто хочет переводить
поэта ушедшего времени «как самобытную индивидуальность». Отнюдь не желая вскочить в
гаспаровский трамвай и, главное, не имея на него билета даже в третий класс, я почему-то по-
чувствовал родственность своей заведомо любительской попытки отточенным штудиям замеча-
тельного филолога и глубокого мыслителя. И с нескрываемой радостью читал его вступительные
замечания к «Экспериментальным переводам», сладостно предчувствуя, как процитирую мастера,
полагавшего, что многими чертами оригинала можно пожертвовать во имя «более точной переда-
чи образов, мыслей и стиля» переводимого поэта. И в особенности - его слова о том, что «хо-
роший - плохой» перевод - «понятия не научные». Последнее замечание по-прежнему поддержи-
вает во мне некоторую надежду.
Техническое замечание для заинтересованных читателей: некоторые из использованных мною
метафор не требуют пояснений, другие основываются на традиционных интерпретациях образов
Лорки, данных мировым литературоведением. Их подробности, как и изъятые из текста андалусий-
ские и прочие современные Лорке реалии, объяснены в примечаниях (в первый раз их желательно
читать после прочтения перевода - но потом можно и параллельно с ним). Перевод сделан по
изданию: Federico Garcia Lorca. Romancero Gitano. Espasa Calpe, Madrid, 1999.
2007-08
Федерико Гарсиа ЛОРКА
РОМАНС ОБ ИСПАНСКОЙ ЖАНДАРМЕРИИ
Хуану Герреро2
Чернее черных коней
Черных подков чечетка.
Блестит на плащах узор,
Из пятен чернильных соткан.
Закрыт в черепах свинцовых
Слёзоотводный клапан.
Летят по дороге души,
150
ЛОРКА - НА РУССКОМ ДЛЯ XXI ВЕКА
Покрытые жестким лаком.
Рисует горбатый призрак
Грядущий пейзаж пустыни,
Безмолвье петли и кляпа
Колотит сердца, как дыни3.
Взломает любые двери
Притихнувший до поры
Морозный вселенский ужас
Расстегнутой кобуры4.
*
О город, цыганский город!
Там нет на веселье лишних.
Что слаще луны и тыквы
С вареньем из сочной вишни?
Кто видел тебя, не сможет
Забыть на единый миг,
Как пробовал горький мускус,
Взойдя на имбирный пик.
*
Когда же кромешная ночь
Раскинулась теменью черной,
То стрелы цыгане - и солнца -
Ковали у жаркого горна.
Заплакал у каждой двери
Раненный конь5. И город
Стеклянные звери будят
Тревожным петушьим хором6.
Внезапно явился ветер,
Бурлящий, нагой, нездешний -
И темень серебряной ночи
Стала пучиной кромешной7.
*
Но где кастаньеты? И сразу,
Заботы иные забросив,
За помощью мчатся к цыганам
Пречистая и Иосиф8.
Супруги главы городского9
Мария нарядней одета -
Фольгою расшитое платье
И бусы миндального цвета.
Иосиф поводит плечами,
Облитыми шёлковым градом,
За ним три волхва выступают
И признанный виноградарь10.
Двурогий и строгий, как аист,
Плывет полумесяц сонный,
Все крыши давно захватили
Фонарные батальоны.
Рыдают, суставы утратив,
Пред зеркалом балерины.
В городе - только тени.
И темень бездонной пучины11.
‘Зарубежные записки" №19/2009
151
- НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ -----------
*
О город, цыганский город,
Красив ты - куда ни взгляни!
Но скачут орденоносцы12 -
Гаси поскорее огни!
Кто видел тебя, не сможет
Забыть на единый миг
Сокрытый вдали от моря
Косматый и тёмный лик.
*
Въезжают попарно в город
В сердце праздничной каши,
И запах цветов смертельных13
Гуляет по патронташам.
Въезжают попарно в город
Удвоенные пустоты,
И небо им мнится витриной
Регалий отдельной роты14.
*
А город, не ведая страха,
Всё двери открытые множит,
И сорок жандармских мундиров
В них скачут без всякой дрожи.
Застыли на башне стрелки,
И чтоб избежать навета,
Чужих документов алчут
Бутылки коньячного цвета15.
Взлетают над флюгерами
Пронзительных криков горны,
Исколотый саблями ветер
Растоптан копытом черным.
Пугая кобылок сонных,
Звенят медяками склянки,
Спасительной тьмой проулков
Седые спешат цыганки.
Но улиц крутые склоны
Покорны плащам зловещим,
И лопасти ножниц вихря
Молотят бегущих женщин.
У врат Вифлеемских табор.
А в центре толпы - Иосиф.
Покойницу он наряжает,
Не молится и не просит.
И ночь напролет карабины
Упорствуют барабанно.
Мадонна детей врачует
Звездномолочной манной16.
Но дальше скачут жандармы,
Земли засевая вымя
Кострами, в которых гибнут
Нагими и молодыми17.
В воротах родного дома
Стенает цыганка Роса18
Её отсеченные груди -
Стоят на литом подносе19.
Сподручны беглянок гривы
Для травли неутомимой.
152
ЛОРКА - НА РУССКОМ ДЛЯ XXI ВЕКА
И розы пороховые
Клубятся душистым дымом.
Когда же всю землю заново
Крыш-линий иссёк узор,
Рассвета окаменевшего
Застыл пораженный взор20.
*
Прочь скачет немым туннелем
Черный жандармский конь.
О город, цыганский город,
Последний твой друг - огонь.
Тебя позабыть смогу ли? -
Колотит и жжет в виске
Память о лунной прыти
И выгоревшем песке21.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лорка Ф. Г. Неопубликованное интервью / Пер. Н. Малиновской // Избранные произведения.
М., 1986. Т. 2, С. 461.
2 В оригинале: «Хуано Герреро, генеральному консулу поэзии». Определение, которое Лорка дал
своему приятелю 20-х гг., на мой взгляд, несколько претенциозно и обречено отвлекать читателя.
Никаким «генеральным консулом поэзии» основатель и издатель журнала «Стихи и проза» (Verso
у Prosa) не был, а просто не раз печатал Лорку во время создания «Цыганских романсеро». Со-
хранилась почтовая открытка, в которой Лорка обращается к Герреро тем же самым образом:
«Дорогой Хуан Герреро! Тысяча благодарностей за твою телеграмму. Ты всегда — самый лучший,
генеральный консул поэзии». Вот в телеграмме — должной вызвать у редактора положительные
эмоции - патетическое определение «генеральный консул» вполне уместно. Возможно, посвящение
было своеобразным извинением перед Герреро за какую-либо обиду, реальную или мнимую,
- в письме X. Гильену, датированном 2 марта 1926 г., временем работы над «Романсом», Лорка
упоминает Герреро: «Я так дурно с ним обошелся, а ведь это прекрасный друг и милейший че-
ловек! Обними его и передай привет» (Лорка Ф. Г. Письма 1917 - 1927 гг. / Пер. Н. Малиновской
//Указ соч. М., 1986. Т. 1, С. 450).
3 В оригинале «горбатые и ночные» (jorobados у nocturnos) тени жандармов несут в себе «молчание
темной резины» (silencios de goma oscura) и «страх последней арены» (miedos de fina arena).
«Резина» есть символ орудия казни — гарроты или знака власти и насилия одновременно — ре-
зиновой дубинки. «Арена» в данном случае, также, как и в заключительных строках стихотворения,
— ономастический символ стерильности и смерти. Отсюда слова «пустыня» и «песок», использован-
ные для его передачи (второе значение слова «arena» в испанском — «песок»).
4 Дабы еще раз пояснить свой метод, если его можно назвать столь громко, остановлюсь на
этом четверостишии несколько подробнее. Дословно в оригинале здесь: «Проходят, если хотят
пройти, // и скрывают в голове // смутную астрономию // расплывшихся пистолетов» (Pasan, si
quieren pasar I I у ocultan en la cabeza 11 una vaga astronomia 11 de pistolas inconcretas). Понятно,
что правильно по-русски будет: «проходят, куда хотят» и «скрывают в своих головах» - или да-
же лучше: «и скрыта у них в головах // смутная астрономия» и т. д. С первой строкой проблем
нет, ее передать легко. В других переводах: «От них никуда не деться» (А. Гелескул) или: «Они
проезжают повсюду» (В. Парнах). Я предпочел более жесткий вариант со «взломанными» дверьми
(это кажется уместным, особенно с учетом того, что воспоследует далее). Однако точный перевод
последних трех строк на русский оказывается неприемлем и, будучи ладно скроен и крепко
сшит, мстит за насилие над дуэнде Лорки — становясь малопоэтичным и даже не вполне сообраз-
ным: «...И рвется из них наружу // астрономический бред — // призраки сабель и ружей» (В.
Парнах) или «...Скачут, тая в глубинах //тусклые зодиаки // призрачных карабинов» (А. Гелескул).
«Астрономический бред», да еще и рвущийся наружу, — это и неудачно, и не по тексту. «Тусклые
зодиаки призрачных карабинов» - это заметно лучше, только в каких таких «глубинах» они таят-
ся? Непонятно. Поэтому стоит поискать другой путь — не дословный, а символический. Что, ка-
‘Зарубежные записки" №19/2009
153
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
жется, говорит нам поэт? С одной стороны, налицо масштаб происходящего, данный словом
«астрономия». Отсюда появляется прилагательное «вселенский», которое, вместо того чтобы
обозначать происходящее в мозгах протагонистов, становится их определением со стороны
зрителя-читателя, потому что назвать содержащееся в голове жандармов «вселенной» или, на-
пример, системой, рука не поднимается (и «глубинами» — тоже). С другой же стороны — очевидна
неминуемость людской гибели («пистолеты»), поэтому необходима отсылка к оружейному терми-
ну, которым стала «кобура», а с третьей — во всем этом пока еще присутствует неопределенность
(поскольку пистолеты — «inconcretas», неконкретные). Ктомуже астрономия пистолетов на данный
момент скрыта, спрятана в жандармской голове — но только до времени. Поэтому кобура стала
«расстёгнутой», а «ужас», почти что самовольно вторгнувшийся в текст (наверно, благодаря гу-
милёвской аллюзии) вслед за словом «вселенский», стал «до поры притихнувшим».
5 В лоркианской вселенной конь или наездник — символ смерти (или она сама).
6 В оригинале: «Стеклянные петухи поют // для Херес-де-ла-Фронтера» (Gallos de vidrio cantaban
I I por Jerez de la Frontera). Существует обильная литература, объясняющая, почему Лорка «выбрал»
в качестве символа «мифической цыганской вселенной» именно этот город. Название «цыганской
столицы» удалено из текста по причинам, указанным во вступлении, — на русском языке оно не
несет никаких функций, кроме развлекательно-этнографических. Сам Лорка, говоря о «Романсеро»,
подчёркивал, что это книга «антиживописная, антифольклорная, антифламенковская» (antipintores-
со, antifolclorico, antiflamenco — существует русский перевод, в котором вместо последнего слова
стоит: «Никакой цыганщины»).
7 В оригинале знаменитое: «В среброночной ночи, // ночи, которая ночнит ночь» («еп la noche
platinoche 11 noche, que noche nochera». «Platinoche» - слово, изобретенное Лоркой: от «noche»
(ночь) и «plata» (серебро — символ луны). Можно было бы, конечно, сказать: «И темень ночи
среброночной...» — это правильнее, но поэтичнее ли? Пусть лучше этот вариант останется в
примечании, а не в основном тексте.
8 Цыгане празднуют Рождество Христово. Последующие образы относятся к традиционным
рождественским персонажам.
9 В оригинале: «alcaldesa». Существующие русские переводы не могут удержаться от «жены аль-
кальда». Я посчитал это лишним.
10 В оригинале: «дон Педро Домек» — владелец известной виноторговой фирмы.
11 В оригинале: «Вода и тень, тень и вода // для Херес-де-ла-Фронтера» (Aqua у sombra, somb-
га у agua 11 por Jerez de la Frontera). О Херес-де-ла-Фронтера - прим. 6. «Вода и тень» - сим-
волы грядущей потери, утраты, страдания. В черновике у Лорки сохранилось: «Вода плачет —
пролог к безголовым птицам».
12 В оригинале: «славная», «достойная» или «заслуженная» (la benemerita), т. е. жандармерия —
от «el Cuerpo Benemerito de la Guardia Civil» (Заслуженный корпус жандармерии). Сделать из за-
служенного корпуса краснознаменный, конечно, нельзя, а вот орденоносный очень даже можно.
13 Считается, что здесь «бессмертники» (siemprevivas), упомянутые Лоркой, парадоксальным об-
разом несут коннотацию смерти.
14 В оригинале: «витрина шпор» (una vitrina de espuelas) — довольно сложный образ, возможно,
восходящий к отражению света начищенными шпорами всадников (земных и небесных).
15 В оригинале: «Коньяк в бутылках // переоделся ноябрем» (el conac de las botellas // se disfrazo
de noviembre), т. e. стал чем-то осенним и грустным.
16 В оригинале: «звездной слюною» (salivilla de estrella), при этом у Лорки использовано не «слю-
на» (saliva), а изобретенное им новое, более величественное «salivilla». Метафора, объединяющая
«слюну» и «звёзды» восходит к великому поэту испанского барокко Луису Гонгоре, мастеру сло-
вотворчества par excellence, которого Лорка очень чтил и которому посвятил отдельную лекцию,
написанную во время работы над «Романсеро» и прочитанную в Гранаде 13 февраля 1926 г.
(Лорка Ф.Г. Указ. соч. Т.1, С. 450, 466).
17 В оригинале на кострах сгорает «молодое и обнажённое воображение» (joven у desnuda // la
imaginacion se quema), символ мученичества и преследуемой свободы одновременно.
18 В оригинале: «Роса из рода Камборьо» (Rosa la de los Camborios). Камборьо - типичная ан-
далусийско-цыганская фамилия.
19 Отсылка к образам «Мученичества святой Олайи», одного из заключительных стихотворений
«Романсеро», посвященного христианской мученице, казненной римлянами в начале IV в. (в
русской традиции — Олайя = Евлалия).
20 В оригинале «рассвет пожимает плечами» (el alba mecio sus hombros), что одновременно сим-
волизирует непонимание и неодобрение.
21 Знаменитая финальная фраза: «Игра луны и пустыни» (juego de luna у arena). См. прим. 3.
154
К ДВУХСОТЛЕТИЮ гоголя
Эмиль Мишель ЧОРАН
гоголь
Шесть десятилетий прожив во Франции и полностью перейдя на французский язык, больше
того, составив гордость этого языка и литературы, причем в самых французских жанрах - эссе
и афористике, французской (как, впрочем, и любой иной) словесности Эмиль Мишель Чоран
(1911-1995) однозначно предпочитал русскую. Родившийся в трансильванской глуши сын право-
славного священника и подданный австро-венгерской короны, он вообще всю жизнь хотел быть
другим и при этом чаще всего, опять-таки, русским. В русской прозе Чоран выделял для себя
линию «перегоревших» романтиков, байронических героев от Печорина до Ставрогина, а чаще
всего перечитывал и цитировал Лермонтова и Гоголя, Достоевского, Чехова и Блока. Гоголь -
единственный из его любимцев, кому посвящено отдельное эссе, оно вошло, пожалуй, в лучшую,
наиболее зрелую книгу писателя «Соблазн существования» (1956). Парадоксалист Чоран ищет в
образе и наследии своего избранника именно противоречий и на нескольких страничках опроки-
дывает многие устоявшиеся стереотипы суждений о Гоголе, в частности, о смысле его самоубий-
ственного шага — уничтожения второго тома «Мертвых душ».
Борис Дубин
Некоторые свидетельства - надо признать, редкие - представляют его святым; другие, бо-
лее частые, - привидением. «Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, - писал Аксаков
наутро после кончины Гоголя, - что я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после
смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю
ночь».
Мучимый холодом, который его никогда не покидает, он не перестает повторять: «Я зябну, я
зябну». Он переезжает из страны в страну, советуется с врачами, перебирается из лечебницы
в лечебницу - от внутреннего оледенения не избавляет никакой климат. О его любовных связях
ничего не известно. Биографы открыто говорят об импотенции Гоголя. Такой дефект тем более
отделяет от людей. В импотенте есть внутренняя сила, отличающая его от остальных, делающая
недосягаемым и, как ни парадоксально, опасным: он внушает страх. Животное, порвавшее с жи-
вотным началом, человек без потомства, жизнь, из которой ушел инстинкт. Импотент черпает
силу в том, что утратил: он в первую очередь становится жертвой духа. Вы можете себе предста-
вить импотенцию крысы? Грызуны - отменные мастера размножаться. Иное дело - люди: чем
они исключительнее, тем мощнее в них проявляется главный изъян, вырывающий их из родовой
цепи. Им доступна любая деятельность, кроме той, что роднит нас с животными. Секс уравнивает
всех, больше того - он лишает нас тайны... Именно он, как ничто другое из людских потребностей
и начинаний, ставит нас на одну доску с ближними. Чем больше мы предаемся сексу, тем боль-
ше походим на прочих. Именно в занятиях, именуемых скотскими, обнаруживаются наши качества
граждан: нет ничего более общественного, чем половой акт.
Воздержание, будь оно добровольным или принудительным, ставит индивида то ли ниже,
то ли выше рода человеческого, делая из него помесь святого и слабоумного, которая притягивает
и поражает других. Отсюда та двусмысленная ненависть, которую испытываешь к монаху, как,
впрочем, к любому мужчине, отказавшемуся от женщин, отказавшемуся быть как мы. Ему никогда
не простят его одиночества: оно унижает нас, поскольку отвратительно, оно бросает вызов. Уди-
вительное превосходство ущербных! Гоголь однажды признался, что, поддайся он любви, она
бы «тут же стерла его в порошок». Это переворачивающее и завораживающее нас признание
напоминает «тайну» Кьеркегора, его «жало в плоть». Однако датский философ был натурой эро-
тической: разрывы с невестами, неудачливость в любви мучила его всю жизнь и оставила след
‘Зарубежные записки" №19/2009
155
К ДВУХСОТЛЕТИЮ гоголя
даже на богословских сочинениях. Может быть, стоило бы сравнить Гоголя со Свифтом, еще
одним «испепеленным»? Но тогда мы упускаем из виду, что Свифту случалось если не любить
самому, то, по крайней мере, делать других жертвами любви. Хотите определить Гоголя -
представьте себе Свифта без Стеллы и Ванессы.
Существа, живущие перед нами в «Ревизоре» и «Мертвых душах», замечает биограф, - со-
вершеннейшее «ничто». Но, оставаясь «ничем», они - «всё».
Им недостает «материальности», отсюда их всеобщность. Кто такие Чичиков, Плюшкин, Соба-
кевич, Ноздрев, Манилов, герой «Шинели» или «Носа», если не мы сами, сведенные к нашей су-
ти? «Никчемные душонки», - пишет Гоголь, однако они достигают известного величия, величия
пустоты. Гоголь - Шекспир мелкотравчатости, Шекспир, не устающий наблюдать за нашими
страстишками, пустяковыми наваждениями, будничными перипетиями. Никто глубже Гоголя не
вгляделся в повседневность. Его герои до того реальны, что превращаются в несуществующих
и становятся символами, в которых мы полностью узнаем себя. Они не унижены, они были низ-
кими с самого начала. Тут нельзя не вспомнить «Бесов». Но если герои Достоевского стремятся
выйти за любые пределы, то гоголевские персонажи съеживаются до отпущенных им границ;
первые как бы отвечают на вызов того, что их превосходит, вторые послушны лишь своей бес-
конечной тривиальности.
В последние годы жизни Гоголя мучили сомнения: у него не выходило из головы, что он жи-
вописал одни пороки, пошлость, грязь. Должно быть, он мечтал наделить своих героев добродете-
лями, вырвать из ничтожества. В таком настроении был создан второй том «Мертвых душ»; к
счастью, Гоголь бросил его в огонь. Гоголевских героев нельзя «спасти». Этот жест приписывают
безумию, тогда как он порожден угрызениями его художнической совести: писатель победил
пророка. Мы ценим в нем беспощадность, презрение к людям, образ проклятого мира - каково
нам было бы видеть вместо этого назидательную карикатуру? Кто-то скажет о невосполнимой
потере; скорее ее можно назвать целительной.
Перед концом жизни в Гоголя вселяется какая-то темная сила, с которой он не может спра-
виться. Он впадает в летаргию, иногда она перемежается судорогами - судорогами призрака.
Чувство юмора, которое помогало ему не подпускать «приступы тоски» слишком близко, улетучива-
ется. Настают горестные дни. Его покидают друзья. Безрассудно опубликовав «Выбранные места»,
он, по его собственным словам, отвесил «оплеуху публике, оплеуху друзьям и оплеуху себе само-
му». Его отвергли и славянофилы, и западники. Его книга - прославление власти и крепостничест-
ва, реакционная галиматья. К несчастью, он еще связался с неким отцом Матвеем, человеком
глухим к искусству, тупым, агрессивным, который стал ему исповедником и палачом. Его письма
Гоголь носил нателе, читал и перечитывал - лечение глупостью и идиотизмом, рядом с которым
паскалевский совет «не умствовать» - невинная шутка. Когда художнический дар Гоголя иссякает,
его праздным воображением завладевают бредни духовника. Воздействие отца Матвея оказа-
лось сильнее пушкинского: Пушкин поощрял гений писателя, отец Матвей постарался заглушить
его последние вспышки... Не удовлетворившись проповедью, Гоголь хотел еще и наказать себя:
его искусство придавало потехе, гримасе всемирный смысл - теперь это должно было отозваться
религиозными муками.
Кто-то скажет, что его страдания были заслужены, что ими он искупил свою дерзкую попытку
исказить образ человека. По-моему, скорее наоборот: ему пришлось заплатить за то, что он
разглядел правду, ведь в искусстве искупают не ошибки, а «удачи», то, что увидели вдруг в пол-
ную силу. Гоголя преследовали его герои, все эти Хлестаковы, Чичиковы, которых он, по собствен-
ному признанию, всегда носил в себе: эти недочеловеки его раздавили. Он не спас никого из
них - он не мог это сделать как художник. Потеряв дар, он захотел спастись сам. Герои ему это-
го не позволили. Так он был вынужден, вопреки себе, сохранить верность их ничтожеству.
Тут думаешь не о герцоге Орлеанском (про которого Сен-Симон сказал, что он «уже родился
скучающим»), не о Бодлере или Екклезиасте, даже не о чувстве никчемности дьявола, окажись
он в мире, где не существует зла, - а о человеке, чьи мольбы обернулись против него самого.
Скука у Гоголя обретает достоинство мистики. «Любое абсолютное чувство религиозно», - писал
Новалис. С годами скука заменила Гоголю веру и стала его абсолютным чувством, его религией.
Перевод с французского Бориса Дубина
156
Евгений ЕРМОЛИН
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
1. Как воздух
...Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!
Зинаида Гиппиус. 14 декабря 1918 г.
Искренность и простота. Вот, пожалуй, доминанта стиля молодой литературы начала XXI ве-
ка. Это сразу бросается в глаза - и это резко отделяет новых писателей от их непосредственных
предшественников, литераторов конца минувшего века, когда признаком хорошего тона считалась
способность удивить читателя всякими понтами и наворотами. (Читатель сначала удивлялся,
потом - привык.)
Новое качество новой литературы не связано с просто неискушенностью, неопытностью нового
поколения. Неискушенность, сочетаясь с неуверенностью в себе, чаще всего ведет к воспроизведе-
нию стандартной нормы (каковой совсем недавно можно было считать причуды и гримасы
«постмодернизма» - но как далеко мы ушли оттуда). Кажется, причина в другом. Быть может,
именно так сегодня и запечатлелся в литературе тот факт, что состояние творческой свободы
является для молодого современника наиболее естественным. Как воздух. Ему не нужно этим
маяться, не нужно бороться за свою свободу, не нужно ее отстаивать, не нужно - главное - ис-
кать специальные средства для того, чтобы дать знать о своем несовпадении с социальным и
моральным официозом...
Гиппиус написала стихотворение о первенцах свободы, разумея декабристов, в тот момент,
когда свобода в России кончилась: в 1918 году. «...Их подвиг режуще-остер, Но был погашен их
же кровью Освободительный костер. ... Мы - ваши дети, ваши внуки... У неоправданных могил,
Мы корчимся все в той же муке, И с каждым днем все меньше сил. ... Мы, слабые, - вас не за-
были, Мы восемьдесят страшных лет Несли, лелеяли, хранили Ваш ослепительный завет. И ва-
шими пойдем стопами, И ваше будем пить вино... О, если б начатое вами Свершить нам было
суждено!» Стихи Гиппиус встали в ряд поминальных плачей, излившихся из души в тот историче-
ский момент: «Ужель прошло - и нет возврата?». Но суть авторской мысли заключается все-та-
ки в том, что «возврат» есть, что дело свободы не проиграно навсегда. Замысловатая диалектика
российской истории обеспечивает осуществление любых невероятностей.
Сегодня, 90 с малым лет спустя, в чаду «кризиса», у нас снова всё, может статься, только
сызнова начинается. В грязи и чаду, со скрипом и дрязгом, при нелепой суете статистов - на-
чинается. В нынешних молодых, в их судьбе и опыте, должны бы сбыться ожидания и надежды,
которые не позволяли отчаяться многим лучшим русским людям, поколениям искателей воли и
правды. Сбылись ли, сбудутся ли эти надежды? Хватит ли этих атмосферических явлений, поз-
воляющих дышать и говорить без спроса, без оглядки, хотя б на длину их жизни?.. Это другие
вопросы. И на них, возможно, еще рано отвечать.
Новое писательское поколение - это, в сущности, первое вполне свободное поколение в Рос-
сии. Свободное от государственного принуждения, от контроля и цензуры, от соцзаказа и полит-
приказа - причем практически с рожденья. Или уж, во всяком случае, с отрочества. Оно, это по-
коление, лишь теоретически представляет себе, какой роковой проблемой для серьезного русского
писателя была свобода высказывания. Проблемой творческой, проблемой мировоззренческой.
Еще и в 80-е годы XX века он должен был выбрать между подцензурностью (а значит намеками,
недоговоренностями, умолчаниями, эзоповой речью и прочими окольными средствами выговари-
вания мыслей; к тому ж - решимостью на борьбу с цензором за живое слово) и - самиздатом,
тамиздатом. Он должен был соотнести жесткие внешние параметры возможного с внутренним
‘Зарубежные записки" №19/2009
157
Евгений ЕРМОЛИН
пафосом, со своей подлинной верой и правдой. И даже уходя из литпроцесса в несознанку, от-
казываясь сотрудничать с цензурой, он всё равно нередко писал, имея ее в виду, только макси-
мально отталкивался от цензурной нормы.
Как серо и монотонно, с сегодняшней точки зрения, выглядит тогдашняя, 70-80-х годов, ти-
пичная подцензурная проза! Мало творческого риска, мало подлинной новизны. Исключения
наперечет. Ну а кто рисковал - тот рисковал по большому счету, складывал рукописи «в стол»
(предоставляя о них позаботиться вечности) или, что бывало не менее часто, находил способ
напечататься в иных краях. В бесцензурной словесности (от Венечки Ерофеева до Василия Ак-
сенова и Юза Алешковского) содержательные вольности и вербальный разгул, бывало, оказыва-
лись так или иначе выражением именно автономии авторского «я», таким способом низвергавшего
лицемерно-ханжеские запреты и преодолевавшего - иной раз - душевную смуту и робость.
Собственно, именно заявка на независимость «от инстанций» является самым простым объясне-
нием словесной разнузданности. Хотя не всегда самым полным.
А в недавние годы иной писатель, намотавший изрядный советский срок недомолвок и са-
моцензуры, ошалев от свалившихся на голову вольностей, начинал нести черт-те что. И Бог бы
ему судья, но ведь всё это шло в печать!
Теперь этот захлёб кончился. Иссяк. Современность в литературе нового века определяется
не возрастом и не успехом. Она определяется не в последнюю очередь именно фактом свободы,
успевшей стать повседневностью. Уже не пьянящей. Еще - хочется верить - не приевшейся.
Основные проблемы современного писателя не связаны с цензурой или самоцензурой. Они
другие. Но их, кажется, не стало меньше.
2. Зачем литература?
Начнем с самого принципиального вопроса. В недавнюю пору впервые в истории России
прозвучал вопрос о том, а нужна ли вообще литература. Нужна ли не жанровая, а проблемная,
исповедальная, экспериментальная словесность? А если и нужно, то кому? Может, лишь своим
да нашим: приятелям, критикам, западным русистам? Не в окололитературном гетто ли настоящее
место серьезной литературы?
Смешно, но факт: многие литераторы позднесоветской генерации, которые как раз входили
в возраст творческой зрелости, поддались провокации и, задрав штаны, ринулись в это самое
гетто. (Особо изворотливым из них до последнего времени удавалось даже сочетать две роли:
местечкового гуру - и массовика-затейника с литературной эстрады.)
Вот так случилось, что именно в минувшие полтора десятилетия литература оказалась отодви-
нута с авансцены культурно-исторического процесса в России на задний план. В этом пытались
увидеть действие неумолимых законов прогресса. Но на самом деле прогресс в культуре -
вещь более чем сомнительная, и в ссылке на него было больше лукавства и самообмана. Кому-
то показалось, что пришло - вот удача! - время облегчить ношу на плечах писателя. А кто-то со-
крушенно согласился с доводами кивавших на западный опыт...
Однако новейшие наши мудрецы совершенно упустили из виду, что нигде литература не
была так генерально, так нераздельно встроена в судьбу народа, страны, национальной культуры.
Мне не раз приходилось говорить, что литературоцентризм есть парадигма русской культуры;
литература в России давно стала средоточием духовной жизни, главным текстом культуры и
главным ее контекстом. Это наша наиболее достоверная и убедительная родина. Русская литера-
тура и есть Россия в ее основном содержании. А Россия есть прежде всего - русская литература.
Изъять литературу из национальной жизни, из культуры в целом в России невозможно - по-
стройка рухнет. Нечто подобное мы, увы, и наблюдали. Общественный, культурный кризис имел
и выражением, и причиной относ литературы на периферию жизни. Еще более печально, что
многие известные литераторы рискнули своей репутацией и включились в это неблагородное
действо. Теперь они платят по своим счетам. А мы, как пушкинская старуха, уныло сидим у раз-
битого корыта надежд.
Впрочем, уныние - грех. Не пристало унывать. Хотя бы потому, что русская литература все-
таки никуда не пропала. Она существует. Есть память места. И есть место памяти, как сказал бы
Пьер Нора. Ведь у Достоевского и Толстого русский духовный опыт представлен, пожалуй, мак-
симально широко и емко, полно и развернуто, более проблематично, свободно, менее скованно
условной исторической формой, чем даже в русских богословии и религиозной философии.
158
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
Это такие дали, дальше которых редко где и когда ступала в последние две тысячи лет человече-
ская нога. К тому же литературно выраженный опыт открыт всем, в то время как вершинный
опыт русской святости - это в основном опыт сокровенный, ведомый главным образом Богу. Да
и сам писатель, с другой стороны, в известном смысле приобщен к святости своим способом
существования: самоограничительной аскезой, отшельничеством, юродством, иночеством в ми-
ру...
Великий и трагический опыт, сконцентрированный в литературе, в культуре в целом, - это
действительно и опора, и в некотором роде маяк, сигнальная башня посреди диких пустошей и
бесплодных солончаков современности. По контрасту с былым величием русского духа, величием
его творческих свершений - как низка и пуста едва ль не вся наша актуальщина. Как пусты и
жалки эти ежедневные кумиры массмедиа, эксплуатирующие остаточные рефлексы культуры
(но в эту-то человеческую пустоту и падают, как в пасть преисподней, честь и доблесть, совесть
и долг...).
И в 90-х были писатели, которые шли поперек течения. Есть они, конечно, и теперь. Пожалуй,
русский человек по-прежнему лучше всего годится именно (и только?) в художники, в поэты, в
гимнопевцы/обличители, в богомазы и юроды, а слово писателя остается у нас самым надежным
средством духа, способом выразить свое отношение к миру и свое понимание мира...
И я как читатель благодарен противоречиво, но убедительно раскрывшимся уже в постсовет-
ские времена Юрию Малецкому, Владимиру Маканину, Виктору Астафьеву, Анатолию Азольскому,
Виктору Пелевину, Вячеславу Пьецуху, Евгению Федорову, Андрею Волосу, Борису Екимову, а
также (со своими поздними вещами) Александру Солженицыну, Фазилю Искандеру, Георгию
Владимову... А также и тем, кто для меня реализовался не столь убедительно, но чем-нибудь да
впечатлил (О. Павлов, Е. Кузнецов, А. Кузнецов-Тулянин, Л. Петрушевская, О. Славникова, А.
Вяльцев, С. Бабаян, А. Курчаткин, Л. Улицкая, Н. Горланова, С. Василенко, В. Аксенов, В. Распутин,
А. Найман, Р. Гальего Гонсалес, С. Щербаков, Л. Зорин, А. Кабаков, Л. Бородин, Р. Солнцев,
Л. Юзефович, М. Вишневецкая, А. Дмитриев, В. Токарева, А. Слаповский, М. Шишкин, Д. Быков
и др.). Это если назвать только прозаиков.
Важнейший ресурс современного творчества - свобода как факт духовного опыта, возмож-
ность любых отлетов, странствий духа, странствий тела... Современный русский писатель может
вести диалог и с любым прошлым, и с любым настоящим, с иными литературами и культурами,
с традициями и новизной... Он может (и даже призван) стать тем всечеловеком, каким был у
нас когда-то Пушкин. И для этого вовсе не обязательно уезжать в Европу, тем паче в Америку
или Азию. Опять же: это - не панацея. Разлука со стихией русской речи и русской жизни - это
страшное испытание, и выдерживают его немногие. Посмотрите, как трудно даются новые вещи
Юрию Малецкому, которого я считаю лучшим из живущих в Западной Европе русским прозаиком.
Как противоречиво (то победительно, то почти провально) раскрывается там яркий талант Леонида
Гиршовича. Как, безбожно повторяясь, твердят, что в России жить нельзя, даровитые, но зашед-
шие, на мой взгляд, в глухой творческий тупик швейцарец Михаил Шишкин или голландка Ма-
рина Палей. (Иной вопрос - что и мы, годами никуда не выезжая, начинаем ощущать себя в
эмиграции. Но об этом - чуть ниже.)
...Что невозможно для современного писателя? Возможно всё. Литературный экстремизм
всё труднее отделить от конъюнктуры, но опыт В. Сорокина, Вик. Ерофеева, Э. Лимонова или
там Баяна Ширянова - свидетельство того, что имеют выход и глум, и хулиганство, и провокация,
и политический радикализм... Но изобилие возможностей вовсе не предполагает неизбежности
обращения к самым банальным путям творческой самореализации, к тому же уже исхоженным
литературными предшественниками в 90-х годах. Свобода - это пространство риска и именно
то место, где можно состояться наиболее масштабно. Свобода, иначе сказать, это свобода вы-
бора. И когда мы выбираем, когда мы принимаем решение и совершаем поступок, мы теряем
часть возможностей, но приобретаем нечто гораздо более важное: личностную определенность,
отчетливость человеческого лица, рельефную форму запечатленного духа. Дух при этом не обяза-
тельно немедленно закаменевает. Его так просто не поймать, не удержать. Но след остается, и
навсегда. Это то приобретение, которое всегда с тобой, которое придает тебе уверенность, да-
ет право на достоинство и - коль скоро мы говорим о литературной деятельности - определяет
незаурядный уровень творческих свершений.
Какой-нибудь иностранец учит теперь русский язык вовсе не потому, что им разговаривал
Ленин, и (надеюсь) не потому, что на нем написаны многостраничные эстрадные скетчи и фельето-
‘Зарубежные записки" №19/2009
159
Евгений ЕРМОЛИН
ны Сорокина, а потому, что на нем писали, его создавали (в авторской редакции) Достоевский,
Толстой. Однако как молодой, начинающий писатель сегодня объясняет для себя смыл своих
творческих занятий? Связывает ли он себя с отечественной традицией? И какие выводы делает
из этой связи или из отсутствия таковой?..
Поговорим о масштабе творческих задач - потенциальном и состоявшемся.
Мне (и, может быть, не только мне) хотелось бы дождаться убедительного духовного ответа
в литературе нового века на глобальный вызов эпохи. На вызов, содержание которого связано
с накопившимися за века и остро проявившимися в последние десятилетия глубинными противо-
речиями авраамического опыта, по-разному явленного в религиях Запада, с искушениями и
прозрениями буддийского Востока. Но прежде спросим: вправе ли мы в принципе ждать от
молодых писателей мобилизации, вправе ли настаивать на необходимости и неизбежности ан-
гажемента? Лет десять назад саму постановку такого вопроса сочли бы беззаконной. Но та эпо-
ха ушла и не вернется, со всеми ее скромными радостями, со всей ее разгульной вольницей
(мало давшей, кстати, в творческом плане - и sub specie aeterni, и для удовлетворения насущных
нужд текущего момента). А вопрос остался. И я отношу себя к тем, кто отвечает на него утверди-
тельно.
Разумеется, речь не идет о литературной барщине, о работе «на чужого дядю». Я о другом.
Большой писатель без большого проекта, без важной темы и глобальной задачи, без миссии,
далеко выходящей за пределы личного игрового каприза, - немыслим. Такого не бывает. О чем,
кстати, свидетельствует и не весьма воодушевляющий литературный опыт конца XX века.
Проблема еще и в том, что сам по себе выбор творческого кредо сильно осложнен актуальной
культурной ситуацией. Эпоха испытывает - размывом границ между добром и злом, подменой
важнейших понятий, разгулом своекорыстия, торжеством человеческого примитива. Стоит ли
удивляться, что есть - и растет - неудовлетворенность тем прозябанием, тем убожеством, к ко-
торым скатилась русская жизнь в начале XXI века? Она часто характерна именно для молодежи.
И ее-то выражают молодые художники слова.
Стали явными оскудение или даже полная утрата органической культурной традиции, которая
была истреблена и выскоблена Катастрофой XX века и передрягами 90-х годов... Практически
неощутима уже телесность традиционной культуры. Физическое тело страны оказалось в разладе
с культурно-национальной, духовной традицией. Причем в разладе, почти напрочь лишенном
творческих потенций, производительных противоречий. Типична скорей ситуация равнодушного
отчуждения и пассивного приятия сущего - как нормы (может быть, и «неразумно», но весьма
«действительно», потому что никуда не деться). Неспособность многих современников и соотечест-
венников оценить, горячо и остро пережить грандиозный масштаб духовной катастрофы, проис-
шедшей в России в XX веке, как раз и показывает, как далеки мы от старинных идеалов и цен-
ностей. Находясь на другом берегу (предположим, что это именно берег, а не щепка, на которой
нас несет в неисповедимую бездну), мы забыли о потерянной родине. У нас уже не сильно бо-
лит. Те, кто пытается сохранить верность традиции честного взыскания Смысла, максимализму
русского духа сейчас оказались в положении иностранцев.
Вот и серьезная литература, вообще разговор на серьезную тему слишком слабо востребован
обществом, потенциальным читателем. Люди поглупели. И это тоже выбор. Ничего не читающая
половина общества развращена телевидением, разбавляющим политической заказухой разливан-
ное море развлечений... Что делать? Стучать головой об стену? Искать новые пути? По крайней
мере - не стоять на месте в нелепом трансе!
Если само понятие России стало сегодня не слишком определенным, то не стоит ли, затевая
разговор об искусстве, говорить о России духа, которая не совпадает ни с историческими, ни
тем более с географическими или политическими реалиями?
Суть вот в чем.
Исторически, традиционно русская литература не отражает. Русская литература опережает.
Литература создает Россию.
Сегодня шанс на это не исчерпан. Писатель снова призван создавать родину, как умеет и
как ее понимает. Тем более, что соперников у него мало. Почти вовсе нет. Скажем, политики уже
с 30-х как минимум годов минувшего века и до наших дней только паразитируют на полумертвом
теле культурной традиции.
160
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
Едва ли много толку в том, чтобы даже с лучшими намерениями просто протоколировать
унылую, оскудевшую и измельчавшую жизнь наших современников. Писатель, как сказано, прежде
всего - создает, а не отражает. Молодой критик Валерия Пустовая несколько лет назад подели-
лась своими ожиданиями: а ждет она от литературы не отражения, а преображения жизни. Это,
по-моему, очень верно. И важно, что и у других ответственно и уверенно заявивших о себе мо-
лодых критиков (назову еще Сергея Белякова, Андрея Рудалева, Сергея Сиротина) есть этот
большой запрос к литературе, в том числе и к ровесникам.
Писатель сегодня призван создать смысловое поле высокого напряжения - с тем, чтобы,
так сказать, заразить значительностью своего опыта читателей, с тем, чтобы пробудить в них
чаяние иной, более высокой, благородной, достойной жизни. Пересоздать реальность, вернув
понятию «Россия» (уж коли мы пишем на русском языке и договорились считать его родным)
высокий смысл, вернув России значимость духовного средоточия ойкумены, - вот о чем стоит
думать. (Это, конечно, не значит, что ни о чем другом думать нельзя. Можно. Был бы, повторюсь,
творческий толк.) Сфокусировать действительность в узловых точках современного бытия, сгустить
до предела, до экстракта чушь и бред, тоску и веру, абсурд и смысл; заострить конфликт - вот
самые реальные и наиболее убедительные способы выйти к такой содержательной глубине, к
такой емкости духовного опыта, которые сами по себе встречаются нечасто, стихийно не возникают.
3. Что сделано
Что удалось в нашей новой прозе начала XXI века?
Молодые писатели заново открывают для себя необходимость и неизбежность миссии.
Возможно - по крайней мере, хотелось бы в это верить - заново складывается чаемое духовное
пространство серьезной актуальной напряженности. Мне кажется, оно быстро радикализируется.
По сути, в прозе это целых два поколения: условно - тридцатилетние (Павлов, Гуцко, Сенчин,
Быков, Мамаева, Прилепин, Бабченко, Садулаев, Новиков, Кучерская, Геласимов, Иличевский,
Бузулукский, Белозеров...) и двадцатилетние (Шаргунов, Ключарева, Кошкина, Чередниченко...).
Что-то их объединяет, что-то разделяет.
Вынесем за скобки откровенную графоманию. Вынесем за скобки те, часто вполне приличные,
мастерски выполненные тексты, авторы которых не ставят слишком ответственных задач, потихонь-
ку осваивая скромный личный полигон и не покушаясь на большие завоевания. (Для примера:
Татьяна Ильдимирова. Ей около 25 лет, для прозаика - всего ничего. А проза у нее довольно
умелая - даже не понять, откуда у автора столько профессиональных умений и беллетристического
стандарта. Но в прозе Ильдимировой нет больших мыслей, она слишком, на мой вкус, гладкая,
предсказуемая.) Есть молодые писатели, чей творческий багаж - некая сумма (иной раз немалая)
неудач. Но это интересные, поучительные неудачи. Но. Если уж мы беремся за перо с верой в
преображающее значение слова - а это видно, например, по опытам Максима Свириденкова,
Сергея Вербицкого-Дарккрайна, Дениса Коваленко, Сергея Павловского, Моше Шанина или
Евгения Чепкасова, - то стоит сначала твердо осознать суть замысла, тщательно сформулировать
идею творческого проекта...
Зачем пишет далеко не бесталанный Олег Зоберн? У него обаятельная повествовательная
манера, но силы и средства в основном растрачиваются на фиксацию банальных повседневных
перипетий существования молодого шалопая. Он избегает большого риска или ответственных
решений, и притом подозрительно похож на себя любимого. То бишь на автора. И сам автор с
большой симпатией относится к герою. Это какая-то апология (пусть невольная) заурядности,
ординарности, приземленной и мелкотравчатой жизни; заболевание заразное, если вспомнить,
что в том же духе пишут даровитые Евгений Алехин, Игорь Кузнецов и др.
Молодость - обещание. Обещание иной и, возможно, лучшей будущности. А если речь идет
о молодом писателе, то обещаны и новые литературные горизонты, новые пространства опыта.
Редко бывало так, что эти перспективы гармонически сочетались со статус-кво. С литературной,
социальной, с культурной и политической актуальщиной. Иной раз именно в этом месте и возникал
основной творческий конфликт (он же - важнейший творческий стимул). В современной молодой
литературе много боли, много явного или скрытого драматизма. С этим связано и неизбежное
исповедальное начало - не только в стихах, но и в прозе. Векторы социального и экзистенциаль-
ного реализма регулярно пересекаются с векторами экспрессионизма и сюрреализма. И мне
видится и в этом ценный шанс.
‘Зарубежные записки" №19/2009
161
Евгений ЕРМОЛИН
Идет поиск нового слова, новой формы.
Я, скажем, не вполне уверен в том, что сегодня уместен большой социально-психологический,
панорамно-исповедальный роман. Но опыт Дениса Гуцко («Русскоговорящий») кое в чем меня
убедил. Гуцко написал свой первый роман о мигранте, который входит в современное российское
общество. Не так давно похожую задачу ставил Андрей Волос в романе «Недвижимость». У Гуц-
ко свой взгляд, основанный, как нетрудно понять, и на личном опыте, и не только на нем. Автор
дает довольно широкий социальный срез провинциальной жизни, пытаясь подвести предвари-
тельный итог и судьбе героя, и всему постсоветскому этапу в истории страны. Герой проходит
испытание - свободой и рынком, изменой любимой женщины, которая предпочла европейское
сытое благополучие родным бедности и хаосу. Испытание современной Россией, с ее грубой
повадкой, хищным хамством. Жизнь вокруг почти напрочь лишена идеального измерения. Гори-
зонт бытия опустился ниже низкого. Тонкого и нежного героя всё это удручает. Но он, кажется,
слишком поздно начинает соображать, что и сам-то он слишком мало сделал для того, чтобы
мир стал лучше. Его влекло по течению, в отсутствие воли и творческой ярости. Этим внезапным
прозрением, настигшим героя посреди унылых обстоятельств, в отчаянной ситуации, и кончается
роман.
Конечно, хотелось бы, чтоб персонаж сделал и хоть какой-то новый шаг навстречу жизни!
Что ж, подождем.
Наша социальная сатира сегодня часто отливается в жанр антиутопии, корреспондируя с
фэнтези. Не всегда удачны в современной словесности эти фантастико-эксцентрические формы.
Но иной раз у маститых писателей встречаешь такое, что тебя пробирает дрожь (скажем, читая
«Священную книгу оборотня» и «Числа» Пелевина, «Лаз» Маканина или «Маскавскую Мекку» и
«Аниматора» Волоса). Так получилось и у начинающего прозаика Александра Силаева в жесткой,
энергичной повести «Армия Гутентака». У Силаева молодые герои - и режим, который пытается
использовать их для своего укрепления, увековечения. Автор несколько лет назад угадал актуаль-
ную тему наших дней, изобразив молодежный спецназ режима, юных хунвэйбинов-опричников,
безнаказанно творящих суд и расправу... Может быть, этот прогноз Силаева уже начинает поти-
хоньку сбываться.
Лирико-исповедальная проза (с тем или иным отлетом, при той или иной дистанции между
героем и автором) кажется мне наиболее значимой и ценной в том случае, если нам предъявлен
герой большого взыскания, герой идеалистической складки, алчущий и страждущий... Вот так
Сергей Чередниченко в отличной повести «Потусторонники» передает полет и надрыв юного ге-
роя, причем делает это, пожалуй, с наибольшей в своем поколении остротой, так что человеку
него перестает соответствовать не только социуму, но и мирозданию в целом. Это драма потерян-
ной мечты. Драма убитой жизни.
По-своему эту драму несовпадения идеала и реальности воплощает в своей, увы, мало кому
известной прозе Борис Гречин. У него в центре повествования почти всегда - духовный лидер,
высоко летающий на своих белых крыльях, но плохо разбирающийся в земных делах и увядающий
от ядовитых испарений земли...
Пытается порвать с цинизмом и лицемерием столичной тусовки герой прозы Сергея Шаргуно-
ва (рассказ «Как меня зовут?», повесть «Чародей»), который по крайней мере уже разучился
быть просто довольным собой (как умел это шаргуновский герой в недавней повести «Ура!»).
Излом формы в этой повести как-то странно документирует неполноту найденного персонажем
смысла.
Вот так и Марина Кошкина в повестях «Химеры» и «Без слез» повествует о тревожных, бро-
дячих, изломанных юных душах, вслепую, в окрестной тьме, в городской пустыне, ищущих себя,
свое. Они экспериментируют над собой и над другими, страшно ошибаются - и лишь иногда и
обретают нечто неотменимое.
...Одна из самых важных творческих проблем плеяды 30-летних - перспективы эпического
повествования. Современная действительность дает мало значительного, смыслоемкого материа-
ла. Общественная жизнь вырождается. Многое важное и ценное в ней уже угасло, отошло в
прошлое. Социальные процессы и вовлеченные в них массы, увы, часто заурядны, банальны и
ничтожны. Как об этом писать? Вероятно, не совпадая с доминирующей тенденцией эпохи. А
это значит, что рядом с плоскостью должен быть рельеф. Вместе с горизонталью - вертикаль.
Должен быть чем-то значительный герой.
162
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
Так соединяет лирическую исповедальность с эпическим дыханием Илья Кочергин в «Сон-
острове». Экзистенциальная драма героев, которые потеряли вектор осмысленного существова-
ния, разворачивается на фоне заката патриархальной культуры. Поморская цивилизация отгорела,
ушла в прошлое, оставив только скелеты домов-пятистенков в деревне на берегу Белого моря.
Символ здесь рождается сам собой, как это бывает, если лирический повод сочетается с эпи-
ческими картинами. Нет будущего. Нет осмысленного сегодня. Только мутные планы. Тяготящие
мелочностью счеты-расчеты.
А Ирина Мамаева в «Ленкиной свадьбе» изображает деревенскую девчонку, слегка даже
блаженную и - по общему приговору - дурочку, которая любит, а потому не задумываясь жерт-
вует собой... Персонаж для русской прозы не такой уж новый. Но у Мамаевой он замечательно
связан с глухой и бестолковой современной жизнью.
Лучшие персонажи Александра Карасева - либо люди долга (нередко обреченные или
искалеченные этим долгом), либо (в «Шмаровозниках») - тоскующие на отмели герои нашего
безгеройного времени.
Земля горит под ногами современного героя и на севере, и на юге (разве лишь запад и
восток оставляют некоторый шанс на благополучие). Захар Прилепин в «Патологиях» вмещает
невместимый опыт смерти в сильные, бьющие в душу наотмашь слова, исходя из своих чеченских
впечатлений... Чечня (и шире - Кавказ) вообще оказалась одним из смысловых средоточий в
прозе молодых, там нередко находятся завязки и развязки сюжетов, которые так или иначе
раскрывают душу человека и сущность мира. Наиболее интересно это получилось пока у Гуцко
и Карасева, отчасти - у Аркадия Бабченко.
Героя, который стоял бы выше обстоятельств, ищет и Роман Сенчин, попытавшийся отойти
от героя-альтер эго. Выше - но чем? Может быть, связью с традиционным этосом и страдальче-
ским поиском примирения своей веры с новыми временами и обстоятельствами. Я неуверен,
что всё Сенчину на его пути удалось; но и поиск новых возможностей едва начат, после того, как
автора перестал удовлетворять старый подход.
О несовпадении героя с реальностью, о беспутице и бессмыслице пишут и другие лидеры
поколения: начавший раньше прочих и сделавший уже немало Олег Павлов, удивительный в
почти каждом своем рассказе Дмитрий Новиков... Драматические гримасы опыта в прозе 30-
летних - это наиболее яркий и подлинный документ спровоцированного исторической ситуацией
духовного надлома.
Теперь несколько слов о поэзии.
Хороших стихов много. Мало крупных поэтов. Бич стихотворцев - тематическая измельчен-
ность, повторы, бесконечное хождение след в след за классиками (к числу коих добавились
обернуты). Вообще, поэтическая традиция в России настолько богата, что создает для начинающе-
го стихотворца целый мир, в котором можно остаться даже навсегда. В современной поэзии,
где нет единого мощного потока, нет даже привилегированных направлений движения, каждый
определяется сам. Полюса тоже возникают стихийно.
Есть гармонически-умиротворенные, сосредоточенно-созерцательные музы «тихих лириков».
Андрей Нитченко, Анна Минакова - замечательные медитаторы. Я готов отдать им должное.
Мне иной раз видится, однако, сомнительной попытка замкнуться стихами от мира, уйти в поэ-
зию, как в монастырь, блюсти внутренние тишину, гармонию, тонкость, изыск, забывая о трудных
и жестких, страшных и подлых вещах внешнего мира.
Сегодня мне ближе поэзия более нервная и тревожная, та, что сильнее обжигает. Слишком
трудно становится жить и дышать, и хочется найти созвучие личным проблемам. Новый экспрес-
сионизм. Он в поэзии даже более отчетлив, чем в прозе.
Болевой нерв молодой поэзии наиболее очевидно сконцентрирован в стихах Ербола Жумагу-
лова, Анны Русс, Игоря Белова, Аси Беляевой, Алексея Кащеева, Владимира Столбова, Натальи
Ключаревой, Евгения Коновалова, Сергея Шабуцкого, Максима Свириденкова...
И это не только литературный факт, когда в своих новых стихах лидер поэтического поколения
начала века Ербол Жумагулов возвращает поэзию к открытому и сильно, на последней экспрес-
сивной грани выраженному гражданскому пафосу («За мной придут...», «только птицы ругаются
матом», «...за окном города, города, города...», «Памяти Бориса Рыжего», «Одиночество - свой-
ство любой среды»).
‘Зарубежные записки" №19/2009
163
Евгений ЕРМОЛИН
Характерен для этого настроя и уже широко известный своего рода поэтический манифест
Сергея Шабуцкого, в форме переложения шекспировского 66 сонета:
Когда ж я сдохну? До того достало,
Что бабки оседают у жлобов,
Что старики аскают по вокзалам,
Что «православный» значит «бей жидов»,
Что побратались мент и бандюган,
Что колесят шестерки в «шестисотых»,
Что в загс приходят по любви к деньгам,
Что лег народ с восторгом под сексота,
Что делают бестселлер из говна,
Что проходимец лепит монументы,
Что музыкант играет паханам,
Что учит жить быдляк интеллигента.
Другой бы сдох к пятнадцати годам -
А я вам пережить меня не дам!
Вот такие молодые писатели и выходят не только на авансцену литературного процесса, но
и в центр современных духовных борений.
Когда Сергей Чередниченко начинает свой творческий путь с истории поражения, то это
еще не означает, что мы запрограммированы на поражение. Мы сфокусированы на победу. На
прорыв, на самопреодоление. Наши надежды на духовно приемлемую для нас родину, Россию
не могут не быть связаны с нашими заботами о возвращении высокого статуса литературы, о
возвращении в русскую литературу великих тем, великих образов. Родина, которая как предчувст-
вие и как данность хранится у нас сегодня лишь в глубине сердца, еще претворится, Бог даст,
в литературе и через литературу в новый социум, в котором честно и открыто будут участвовать
в историческом диалоге неотменимая ценность личности и солидарная сила коллектива, - еще
преобразуется и в новый масштаб человеческого «я», испытывающего себя в горизонтах истории
и вечности.
164
Марк ХАРИТОНОВ
СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА
Без малого полвека назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользо-
ваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества,
скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там
были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о
встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий ин-
тересно. Часть этих записей за 1975-1999 годы я решил расшифровать. Так возникла книга
«Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».
Стоит ли говорить, что я продолжаю свою стенографию и в новом тысячелетии? Некоторые
записи последних лет показалось небезынтересно расшифровать, сгруппировав их вокруг заголов-
ков и убрав даты. Так стала складываться новая книга «Стенография начала века», фрагменты
которой - предлагаю читателям журнала.
Человек Филонова
Просматривал альбом Филонова, пытался сформулировать впечатление. Еще в молодости,
до революции, сложился очень большой, мирового масштаба, художник. В 20-е годы вдруг со-
блазнился идеей аналитического, всеобъемлющего, единственно несомненного искусства, стал
писать не картины, а «формулы». Беда русского сознания. И еще непременная оглядка на «русское»:
иконопись, этнографию, кустарные промыслы, это было у многих. Во Франции художники просто
писали картины, интересовались африканским, японским, полинезийским искусством, но не
французской стариной. Потом он от этого ушел, доделала свое дело советская система.
И вот после прекрасной выставки Филонова в Музее частных коллекций впечатление понемногу
оформилось.
Кристаллы саморастущих домов, зыбь городской брусчатки
Грозит засосать человека, он сам становится зыбким,
Бескровным, бесполым телом. Смотрит пустыми глазами,
Ни с кем не встречаясь взглядом, потерянный, оцепенелый.
Все смотрят мимо друг друга, все друг от друга закрыты,
Отделены, отгорожены внешним покровом кожи,
Соседствуют, не общаясь, молчат каждый на своем языке
Или беззвучно вопят, открыв редкозубые рты.
Человечней, пожалуй, глаза у лошадей и коров.
Суть человека раскроешь, если проникнешь под видимость,
Вглубь дремучих переплетений под кожей,
выявишь химию мысли,
Которая рождается в голове, как запах в цветах, деревьях,
Вытекает наружу, затвердевает кристаллической формулой,
Способной преобразить этот мир.
Вязкая россыпь, калейдоскоп,
Праздник трагических красок,
Человек, растворенный в формуле.
Хармс и Беккет
Знаменитый финал одного из «Случаев» Хармса («Макаров и Петерсен»):
‘Зарубежные записки" №19/2009
165
Марк ХАРИТОНОВ
«Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачи-
вает все свои желания».
Прихотливая, необъяснимая, завораживающая фантазия. Почему вдруг шар?
Удивительную перекличку я обнаружил в романе С. Беккета «Безымянный». Там персонаж-
рассказчик пытается понять, кто он такой: «я, о котором я ничего не знаю». «Никакой бороды у
меня нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный подробностей... И ника-
ких непристойностей. Да и почему у меня должен быть половой орган, если нет носа? Отпало
уже все, что торчит: глаза, волосы, без следа, упали так глубоко, что не слышно было звука па-
дения, возможно, еще падают, волосы, медленно-медленно, оседают, как сажа, падения ушей я
не слышал... Вот так, готово... я - большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует
или, возможно, существует, как знать, да и неважно».
До чего это по-хармсовски звучит, даже подробности! («Уши его упали на пол, как осенью
падают с тополя желтые листья». «Страшная смерть»). «Безымянный» написан в 1953 году, «Ма-
каров и Петерсен» в 1934, «Страшная смерть» в 1935. Беккет знать Хармса, конечно же, не мог.
Тут не простое совпадение - тут общность мышления у двух великих мастеров абсурда. Ходы
абсурдной мысли не произвольны - в них есть своя логика, и на глубине она совпадает.
Сеновал Мандельштама
Вдруг становятся прозрачными стихи, еще недавно загадочные.
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал.
Я всегда любил залезать на сеновал, не раз ночевал там; запах свежеубранного сена, который
вскидывал туда на вилах, мил моему сердцу. Но у Мандельштама сеновал «всклоченный», т. е.
сено уже слежалось, пересохло, стебли трав покрошились.
Я дышал звезд млечной трухой,
Колтуном пространства дышал.
Чувствуется, каким трудным, астматическим становилось здесь его дыхание. Сенная труха,
колтун, «склока» перепутанных, «сухоруких» трав враждебны мировой гармонии - «удлиненным»
звучаниям, «эолийскому строю».
Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит.
Возом называли иногда созвездие Большой Медведицы, оно и впрямь напоминает крестьян-
скую повозку. Но распряженный воз - это, возможно, еще и босховский «Воз сена», его тащат
куда-то жуткие твари, из него спешат урвать хотя бы клок беснующиеся вокруг люди. На картине
этот символ многозначен. Мандельштам чувствует жизненную необходимость сопротивляться
хаосу, «строить лиру», «вернуться в родной звукоряд», где можно будет свободно дышать. Гармо-
ния не дается сама собой, требуется постоянное усилие: «Против шерсти мира поем» -
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая - в заумный сон.
Уход от постмодернизма
В альманахе «Вторая навигация» интересные материалы о кризисе постмодернистской кон-
цепции, которая была особенно влиятельной последние два десятка лет. Полячка Нина Витошек,
профессор университетов в Осло и в Оксфорде, пишет: «Причина варварства - не в опошлении
166
СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА
культуры, а в отказе делать различия». Постмодернизм стирал границы между высокой и массо-
вой культурой; казалось, что это освобождает и «депровинциализирует». Но в результате «все
больше и больше кажется, что нет никакого различия между глупостью и мудростью: компетент-
ность, правда и красота, как контактные линзы, находятся в глазах у наблюдателя... Как только
они устранены и напряженность между сакральным и профанным исчезает, вместе с ними ис-
паряется и смысл культуры в целом». Говорят о культуре применения наркотиков, культуре по-
требления, культуре насилия. «Культурной революцией Мао» называются события, которые при-
вели к уничтожению примерно 20 миллионов человек, разрушению библиотек, сжиганию книг и
т. д. Мы все еще называем это «культурной», а не «варварской» революцией. Такой «семиотический
конфуз», по словам автора, приводит к тому, что все, включая варварство, определяется как
культура. Постмодернистское размывание границ не только приводит к хаосу, но означает путь
назад, к тоталитарной системе. Ведь «сущность советского тоталитаризма была как раз в отмене
различий между правдой и ложью, историей и беллетристикой, глупостью и компетентностью,
красотой и уродством... Одним из самых замечательных и недооцененных аспектов восстания
против тоталитаризма является то, что он, тоталитаризм, по природе своей часто не эстетичен.
Отвращение Томаса Манна к нацизму, например, носило печать отвращения, морального и
эстетического». Мы думаем, что люди, угнетенные варварскими режимами, нуждаются лишь в
одежде, лекарствах, пище; но одним из самых больших лишений для них является утрата достоин-
ства и красоты.
Я что-то подобное пробовал сформулировать, полемизируя, например, с литературоведом
М. Л. Не только эстетическое отталкивание - невольную тошноту вызывали у меня иные авторы,
которых он восхвалял.
«Мусор есть мусор, но история мусора - наука», - цитирует Витошек американского философа
Хаака. «Сегодня кажется, что мы, начав с истории и теории мусора, пошли дальше. Мы предпочи-
таем осторожное описание, безопасное резюме; интеллигенция стала «девственницей корректно-
сти». Чтобы культуре было возвращено ее значение, надо восстановить в правах «ряд этических
и символических форм и ценностей, которые взаимно поддерживают и защищают человеческое
достоинство, культурные и лингвистические барьеры. Я подчеркиваю - защиту достоинства, а
не терпимость, потому что терпимость может свести все на нет безразличием».
Все это мы сейчас и наблюдаем - не всегда осознавая причины и связи.
Ангел теряет форму
Суждения, которые кажутся новыми, оригинальными, со временем оказываются общими
местами. Вдруг обнаруживаешь, что и другие говорят примерно то же. (Перечитывая недавние
свои размышления о современной ситуации, политической, культурной, духовной.) Неповторимым
может быть лишь художественный образ.
Ангел теряет форму, давно ему не с кем бороться.
Слегка пополнел, облысел, крылья трачены молью.
(Кто-то сказал бы: временем, но его для ангелов нет).
В кафе «У Иакова» под стеклом показывают перо,
Найденное при раскопках — сохранилось на удивленье.
У игровых автоматов азарт: новинка «Борьба с неизвестным».
До приза никак не добраться. Победа, кажется, близко -
Опять game is over. И приз остается загадкой. Знать бы приемы.
Приходится пробовать снова. Зато выброс адреналина!
(И доход заведению). В задней комнате полусумрак.
Запыленные переплеты на полках - собранье старинных снов.
Дым сладкого курева в воздухе загустевает, обещая видения.
В этих местах они, говорят, непростые, здесь проходит разлом,
Геологический и духовный, что-то вдруг может открыться.
Ангел принюхивается, вдыхает. Виденья даются каждому
По способностям, по готовности к встрече, к прорыву
За доступный предел.
Но как же сладко растечься!
‘Зарубежные записки" №19/2009
167
Марк ХАРИТОНОВ
Кстати, уже почти завершив этот верлибр, я вспомнил переведенное Пастернаком стихотворе-
ние Рильке «Созерцание» и снова перечитал его по-русски и по-немецки. «Так ангел Ветхого
завета нашел соперника подстать». Бессознательная перекличка. Я, право, об этом не думал. И
как непостижимо гениален перевод!
Калейдоскоп
Объявление на дверях церкви: «При входе в храм отключать пейджеры и мобильники».
На стене церковной лавки 10 заповедей дополнены списком грехов, за которые надо каяться
на исповеди. Нарушением заповеди «Чти отца своего и мать свою» считается, среди прочего,
«неуважение к светским начальникам». Кто придумал эти толкования? Не Моисей и не Христос,
конечно. Можно представить, как в советские времена кто-то признавался священнику, что не
любит Сталина.
Старушка-служительница, не дожидаясь конца панихиды, собирала свечные огарки в полиэти-
леновый пакет. Наклонилась, расстегнула молнию матерчатого сапожка, засунула туда полученную
от кого-то денежную бумажку, застегнула молнию.
Надпись на стене: «Мачи хачей, спасай Россию». И еще в таком же духе: «Слава России,
смерть врагам» и пр.
Мужчина в метро достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул, стал перечиты-
вать. Хранит что-то важное для себя. Я заглянул в крупный заголовок: «У поп-звезды нет денег
на операцию».
Вводя в компьютер записи времен «антиалкогольной кампании», пытался с Галей вспомнить:
что мы тогда пили? Вспоминались часовые очереди, талоны, ограничения - но что мы пили?
Вспоминались какие-то наливки, «бормотуха» (наш знакомый однажды пролил ее на рукопись -
и бумага «сгорела»). А было ли вино, без которого сейчас не представить нашего быта? Кажется,
в Столешниковом переулке можно было иногда купить «фетяску»... И вот сегодня к нам приехал
в гости Валерик - вдруг вспомнили: он приносил нам флакон спирта из Института физпроблем,
мы его разводили. Вспомнили самогон, который готовил Олег... Вот память!
Из газетного интервью (А. Р.). «Я родился и вырос в Мытищах. Так вот, класс, который на
два года старше меня, весь на кладбище лежит. Кто в перестрелках погиб, кто от дешевой вод-
ки умер... от нищеты, от нереализованности».
Гале позвонила ее красноярская одноклассница К. Время назад произошла катастрофа на
иркутском аэродроме, почти в городской черте. На месте аэродрома были когда-то дачи НКВД,
там работал сторожем брат ее деда. Он под большим секретом рассказал жене, что в это место
каждую ночь привозили людей и расстреливали. Аэродром стоит на костях убитых. К., может
быть, последняя, кто знает об этом. Сейчас там собираются установить мемориал в память
жертв катастрофы, она хотела бы сказать про другие жертвы, советовалась, с кем можно связаться.
«В любом из здешних мест, / куда ни обернешься, / ставь свечу и крест, / и ты не ошибешься»
(Ю. Ким). С каждым годом открывается все больше и больше. Страшная страна. Самое страшное,
что мы живем на костях и не хотим знать, не хотим вспоминать.
Заглянул в роман Набокова «Смотри на Арлекинов!», раскрыл на странице, где герой с под-
ложными документами летит в Советский Союз. Сам Набоков, как известно, эту свою фантазию
не осуществил, советские впечатления описывает с чужих слов, и как же они тошнотворны! Тол-
стые грубые стюардессы окружены ароматом лука и мерзких духов «Красная Москва», на обед
шпроты с водкой, глинистая вода из крана в гостинице - и, конечно, тотальная слежка. Роман
вообще мне казался неудачным, эти страницы вызывали усмешку. Не такая была у нас жизнь,
мысленно возражал я, также мысленно перебирая, что мог бы его впечатлениям противопоста-
вить.
И вдруг растерялся: что, в самом деле? Советский быт, коммунальный, деревенский, провин-
циальный? Советский общепит? Советские магазины? Тогдашнее советское кино? Литературу?
168
СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА
Живопись? Не гениев же, уничтоженных, растоптанных, загнанных в подполье. Советский балет,
шахматы, романтизм комсомольцев-идиотов (одним из которых был я)?
Вспомнил, как в Париже Гиршович объяснял мне, почему считает гением Сорокина: он показал,
в какой мы жили выгребной яме. Ничего не поделаешь, есть в этом своя правда.
Хотя, конечно, не вся, иначе мы бы просто не выжили, остались бы неизлечимыми идиотами.
Были обычные человеческие отношения, любовь, природа, искусство, способность отгораживаться
от окружающего безумия в своем мире. Хотя ужас, безумие, насилие в любой момент могли в
этот мир ворваться.
Лопаются пузыри на волнах, миг - и нет их, сменяются, обновляется пена, ничто не остается
навечно. Эти мгновения жизни обретают, сохраняют реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах,
памяти. Достоверно запечатленное, сохраненное внутри.
Нечаянное воспоминание
Один из читанных в эти дни авторов сокрушается о распаде Советского Союза: потеряна
прежняя единая родина, часть живет в России, часть на Украине. Я подумал: а что случилось
после распада Австро-Венгерской империи? Брат жил в Праге, сестра, как и раньше, в Вене, ну
и что? Как ездили друг к другу, так и продолжали. Кафка говорил по-чешски, друзья только по-
немецки - но проблем не возникало. Проблемы были другие: кризис, депрессия, инфляция,
безработица.
По какому-то сцеплению мыслей вдруг вспомнилось, как я, турист, шел по Карпатам (места
между горой Говерлой и Мукачевом), по бывшей польско-австрийской, кажется, границе - там
на горах оставались бетонные столбики. И во множестве лежали кости, черепа не захороненных
после войны солдат, наших ли, немецких - каски не помню чьи. 1957-й год, 12 лет после войны,
в Москве фестиваль молодежи. Председатель сельсовета, к которому мы пришли отметить на-
шу маршрутную книжку (подтвердить, что мы были здесь), доставал припрятанную печать: «Надо
прятать от бандеровцев», - пояснил с усмешкой. Говорили, кто-то еще прятался в лесах. В по-
езде по пути я сфотографировал впервые увиденный мной тоннель, кто-то из пассажиров донес,
подошел человек в штатском, засветил пленку. В местном поезде пассажир пиликал на скрипке
- здесь этот инструмент встречался, как у нас гармошка. Иногда пели. Одну песню я, как ни
странно, могу сейчас записать по памяти, не совсем по-украински, конечно:
На высокой полоыне1
BiTep завивае.
CifliT чабан на колоде,
Думку думае.
А я себе куплю тримбу1 2,
Абы бути босу,
Нехай тримба затримбае
Коло мово носу.
Как-то нас подвезли по узкоколейке на старинном паровозе, еще австрийском. В одном до-
ме нам разрешили переночевать на сеновале. Я предложил хозяину поколоть для него дрова -
любил это занятие, каждую зиму колол у себя в Лосинке. Но такого удовольствия я больше ни-
когда не испытывал. Гуцульский топор с узким острым лезвием на длинном, необычайно удобном
топорище, буковая колода рассыпалась как будто сама, почти без усилия, не было сучков, тесных
мест (надо вспомнить слово), в которых увязал топор. Мог бы махать без конца, как во сне, но
заготовленные колоды кончились.
На горных тропах там еще встречались распятия. Однажды мы спросили дорогу у встречного
- похоже, венгра, он не говорил по-русски. Повесил торбу на сук, налегке провел нас вверх, до
перевала, откуда можно было показать направление.
1 Полонина — луговина в горах
2 Трымба — трембита, гуцульский духовой инструмент
‘Зарубежные записки" №19/2009
169
Марк ХАРИТОНОВ
Как-то на дороге мы нашли остаток кожаной обуви, постола, кто-то из ребят прикрепил его
к палке, понес, как флаг. Встречный гуцул счел это за обиду, сказал: «Москва тоже в постолах
ходила».
Ночевали мы обычно в каких-нибудь общественных зданиях, школах, клубах, в клубах иногда
выступали. Местные жители благосклонно выслушивали нашу студенческую - а впрочем, столич-
ную самодеятельность. С одним завклубом я потом некоторое время переписывался. Его звали
Федор Кампов, у меня сохранились его письма, надо как-нибудь посмотреть. Жаловался на
убогость жизни, нищенскую зарплату, на антисоветскую, «националистическую» настроенность
местного населения. Он был здесь, как я понял, русским, не своим.
Во Львове я заглянул в католический собор, служба шла на латинском языке. Поляки погляды-
вали на меня молча. Помню средневековую площадь, старинную аптеку - чтобы оценить такие
впечатления, надо заранее что-то понять, знать.
Кто-то из наших решил там постричься в парикмахерской, мы зашли за компанию. Парикмахер
нас прогнал: чтобы не отпугивали клиентов, подумают, что очередь. Это был парикмахер-частник,
там такие еще сохранились.
Ночевать мы попросились в заведение для малолетних преступников на окраине. Пока наш
руководитель договаривался с начальством в помещении, один пацан на крыльце лениво со
мной разговорился. «А знаешь, - спросил, - что такое штопор?» - «Штопор - это то, чем от-
крывают бутылки», - ответил я. «Штопор - это человек, который за копейку убить может», -
объяснил презрительно. Не помню, там ли мы заночевали.
Всплыли воспоминания - решил их записать. Тогдашние дневники я, слава богу, уничтожил.
Любовных впечатлений у меня тогда не было. А ведь 20 лет. Ровно 50 лет назад.
Введя в компьютер давнюю запись, я решил достать письма Федора Кампова, культработника
из закарпатской деревни: оживут ли воспоминания 50-летней давности (1957-59)? Оказывается,
я их уже когда-то просматривал, кое-что подчеркивал на полях, пытаясь извлечь сюжет.
«Отвечаю на некоторые вопросы твоего письма. Уходят ли сейчас с колхоза? Уходят. Только
не думай, что навсегда уходят. Дело в том, что в город не так-то легко приписаться. Некоторым
удается - те уходят на работу, скажем, на фабрику, завод и т.д. Другие находят любую черную
работу, где не очень-то требуется приписка, скажем, грузят на какой-нибудь базе. Такие люди
работают временно... только б в колхозе не работать. Такие люди, на жаль, еще бывают у нас
сейчас».
«Еще раз объясняю, что ты не поймешь меня. Ведь ты историю Закарпатья мало знаешь, ка-
ким путем оно дошло до освобождения, какие люди остались».
В том же году он поступил во Львовский культпросветтехникум. «Стипендию нам дают по 190
руб.3 в месяц, но там еще за общежитие и другие вещи отсчитывают, так что чистых на руки по-
лучается 160-170 руб. А возможно ли в Львове, да и вообще в городе, где кроме воды, ничего
не достать, прожить человеку? Только при помощи родных ты можешь жить, вернее, не жить, а
дышать с дня в день. А что требовать от отца, которому скоро 70, да еще заболел, а дома 2 ре-
бятишка, которых надо одевать, кормить и т .д. Нащет жизни у меня плохо. Но я не здаюсь и не
здамся пока сил хватит и пока воостатнее сердце бьется в груди». (10.9.57)
А потом неудача с поступлением в университет, отчаяние. Родственники его шпыняли: не все
же учиться - надо работать, жить. Судя по словам его писем, я его подбадривал, призывал
держаться - стыдно было бы сейчас перечитывать. Посылал ему денег, 40-50 руб., судя по его
благодарностям. И при том реальную жизнь по этим словам невозможно представить.
У меня залежались еще пачки давних писем - зачем их хранить? Кто после меня будет их
разбирать? Буду понемногу выбрасывать, как выбросил старые рукописи и дневники.
Похороны интеллигенции
Интеллигенцию все продолжают хоронить. Это чисто российское понятие, говорят, себя из-
живает. Пронеся кое-как сквозь советское время «веру в разум истории и гуманизм культуры»,
под конец XX века русская интеллигенция не выдержала испытания долларом, «утратила само-
идентификацию».
3 Надо, наверно, напомнить, после 1960 года это стало равняться 19 руб.
170
СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА
Н. М., наш знаменитый кинорежиссер, вспомнив скрытое до поры происхождение, называет
себя не интеллигентом - аристократом. А мне вспомнилось, как он помогал попасть в Государст-
венную думу циничному нуворишу Б. - конечно, за деньги, которые нужны были для его нового
фильма. Современный деловой человек, актер, отрабатывающий свое угощение на корпоративных
вечеринках, может поступать, скажем так, практично, не сверяясь с кодексом чести. Но аристократ?
(В двадцатые годы академик Вернадский писал, что судьбу страны решает не масса, а эли-
та. Но он тогда имел в виду самоотверженных деятелей науки, культуры, знающих, что такое
служение, не служба. Поташнивает, когда сейчас этим словом называют деятелей шоу-бизнеса,
нуворишей, продажных политиков.)
Само понятие интеллигенция с самого начала не отличалось четкостью, определения, множась,
все более размывались. Иронически перебираются свойства этой категории: сосредоточенность
на духовных материях при подчеркнутом равнодушии к быту, «патерналистская» забота о народе
и его просвещении. Принадлежность к интеллигенции (функция которой - критически осмысли-
вать происходящее) в России почти неизбежно означала противостояние власти. (Цитирую без
кавычек.) В неспособности русской интеллигенции наладить плодотворное сотрудничество с
властью видится едва ли не основная причина катастрофы, постигшей Россию в начале XX
века.
С некоторых пор об интеллигенции стали говорить как о «жреческой корпорации секуляризо-
ванного мира», третьем - вслед за языческими волхвами и православными священниками -
поколении «колдунов», как о некоем полумасонском ордене, принадлежность к которому «наделяет
волнующим чувством избранности».
Чего никогда за мной не водилось, так это чувства избранности. Да и «патерналистской» за-
боты о народе. Общих проблем я давно решать не берусь, поняв, что есть дела, которыми
должны заниматься профессионалы.
С профессионалами в России всегда было неважно. Не говорю о политиках или экономистах.
В Европе издавна пользовались уважением цеховые мастера, колбасники и ткачи, люди, созна-
вавшие свое достоинство и не требовавшие указующих поводырей-просветителей. Пикассо
расплачивался картинами со своим портным: мы оба художники. У нас почти исчез как раз вот
этот, средний, мастеровой слой: «высокодуховные» личности парили где-то у себя в высях.
И при всем том - я до сих пор считал бы для себя честью право называться интеллигентом.
Не просто профессиональным интеллектуалом.
Время от времени пробую уточнить собственные определения. Одним из признаков интелли-
гентности можно бы назвать соединение культуры внутренней и культуры внешней, независимо
от рода занятий и образовательного ценза. Я встречал интеллигентных крестьянок и неинтелли-
гентных профессоров.
Но для меня это понятие предполагает еще и некий внесословный, «интеллигентский» кодекс
чести. «Присяга чудная четвертому сословью», которую подтверждал Мандельштам, человек,
при всей своей житейской нелепости бывший воплощением подлинного, духовного аристократиз-
ма.
Хотя какие теперь сословия? В советское время интеллигенцию называли даже не классом
- прослойкой.
Интеллигенты все-таки узнают друг друга.
Недавно вдруг подумалось, что интеллигентность связана с особым религиозным мироощуще-
нием. Вне конфессий: интеллигент - скорей человек свободомыслящий. Но он чувствует, что
есть нечто выше его. Что не все позволено. Сам не вправе себе позволить.
Писатель и власть
Литераторам предложено порассуждать на тему «Писатель и власть». Очень по-российски
сформулировано.
‘Зарубежные записки" №19/2009
171
Марк ХАРИТОНОВ
Писатель имеет к власти такое же отношение, как любой гражданин страны. Для американского
писателя это вряд ли проблема. Когда президент Кеннеди пригласил на свою инаугурацию
Уильяма Фолкнера, тот, помнится, ответил, что у него нет дел в Вашингтоне. Старенький Роберт
Фрост не отказался, поехал. А почему бы нет? Он был приглашен по тому же разряду знаменито-
стей, что кинозвезды, спортсмены и прочие.
В былые времена поэты и драматурги кормились при дворах. Пушкин, одним из первых у
нас начавший зарабатывать литературным трудом, от власти предпочел бы держаться подальше.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать.
Велика ли была для него радость уже не в юном возрасте оказаться произведенным в ка-
мер-юнкеры? Но официальную записку «О народном воспитании» он по распоряжению Николая I
составил. Дворяне обязаны были служить. Жуковский воспитывал царских наследников. Державин
был губернатором, сенатором, министром. Как-то Андрей Синявский, говоря со мной о Маяков-
ском, книгу про которого собирался писать, вспомнил державинскую оду «К Фелице»: «Разве
можно упрекать поэта за восхваление власти?»
Но Маяковский, пожалуй, все же другое дело. Как и особый советский опыт отношений с
властью. «Власть отвратительна, как руки брадобрея», - чувствуется, как передергивало Мандель-
штама, когда он проговаривал эти строки. (Люди, не брившиеся в прежних парикмахерских,
вряд ли представят телесно прикосновение чужих холодных пальцев клицу).
Попробовал бы советский писатель отказаться от правительственного приглашения! Да он
сам мечтал о внимании власти, по инерции примеривая к себе слова: духовный авторитет, учи-
тель жизни, властитель дум.
Помнится, в советские времена, да и позже я пробовал вообразить разговор с руководителем
страны. Ведь обсуждали же мы в разные годы животрепещущие проблемы с такими умнейшими
людьми, как Натан Эйдельман, Давид Самойлов, Григорий Померанц, Вадим Сидур, Леонид
Баткин, Вячеслав Вс. Иванов, Владимир Лукин. Объяснить бы Горбачеву, Ельцину то, что нам
кажется очевидным, - может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильней стали делать. Не
так давно в Германии социал-демократические канцлеры по-человечески дружили с Генрихом
Беллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали - наверно,
не без пользы для себя, да и книги читали, и этих писателей называли там совестью нации.
Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не говорю о
людях власти - они, как сказал мне однажды Натан Эйдельман, думают другим местом. Не го-
ворю о том, что к реальному развороту событий даже умнейшие из нас не вполне оказались го-
товы. Перечитывая записи тогдашних разговоров, то и дело покачиваешь головой. Политические
манифесты Солженицына - и те остались не более чем литературной публицистикой. А тот же
Белль, не принимавший политики христианских демократов, которые привели страну к расцвету,
тот же Грасс, призывавший не торопиться с объединением Германии! Неловко перечитывать.
Мы, пожалуй, еще не вполне осознали, насколько в новом тысячелетии изменились представле-
ния не только о политике, об истории, об экономике - о самой жизни.
Писатель и власть? Драматург Вацлав Гавел, ставший президентом Чехии, писать, кажется,
перестал. Но власть может быть темой писателя. Я как-то переводил главы из книги нобелевского
лауреата Элиаса Канетти «Масса и власть» - замечательное исследование. Канетти осмысливал
общечеловеческие, антропологические проявления власти. Власть как насилие человека над
человеком. Власть политическая, власть духовная. Власть человека, просто задающего другому
вопрос: почему-то спрашиваемый словно вынужден, считает себя обязанным отвечать.
С темой власти связаны представления об этических, нравственных, да и эстетических цен-
ностях. Томаса Манна отталкивала от Гитлера, помимо всего прочего, его пошлая низкопробность,
неэстетичность фашизма. Говоря обо всем этом людям (в том числе и людям власти, если там,
наверху, кто-то еще читает книги), писатель влияет на состояние умов и душ, а значит, и на че-
ловеческие судьбы, на ход событий, даже если он об этом не помышляет - самим своим су-
ществованием.
172
Алексей МАКУШИНСКИЙ
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК1
1.
Двадцатый век распадается на две половины. Первая выдалась на удивление мерзкой, кро-
ваво-слякотной, с верденским газом, колымским ветром, освенцимским дымом, свинцовым
градом, громами бомбардировок. Вторая на развалинах первой пыталась построить свое скром-
ное благополучие. Вторая все додумывала - и все никак не могла додумать - дикие, горькие,
гордые, иногда очень глупые, мысли чудовищной и блистательной первой. Первая была заносчи-
вой и жестокой. Вторая оказалась гуманней, смиренней.
2.
Неправда, что век начался в четырнадцатом году. В четырнадцатом году он лишь заявил о
себе, показал свое лицо, обнажил свой оскал. Он начался тогда, когда Ницше объявил человека
подлежащим преодолению, когда Маркс превратил его в производное от экономики, когда
Фрейд растворил его в бессознательном.
3.
Двадцатый век начался в девятнадцатом, может быть, даже раньше.
4.
Двадцатый век - это век борьбы. Все боролись со всеми, государства, народы, политические
системы, идеи, взгляды и мнения. Коммунизм боролся со всем миром, фашизм боролся с ним
же. Коммунизм и весь мир, объединившись, боролись с фашизмом. Колонии боролись с наслед-
никами Колумба. Коммунизм делал вид, что поддерживает колонии. Коммунистические колонии
пытались от него отколоться.
5.
Но глубинная, но самая главная борьба оставалась скрытой от взоров - и до сих пор, может
быть, остается. С тех пор, как девятнадцатый век, заканчиваясь, отменил человека, началась и
продолжается неутихающая борьба между отменителями и сберегателями его.
6.
Век-волкодав кидался на плечи самого, может быть, живого человека, в этот волкодавский
(и вавилонский) век угодившего. Потому, наверное, и кидался. Потому, в конце концов, и загрыз.
7.
Это борьба живого и мертвого', она идет в двадцатом веке «на всех фронтах».
8.
«История движется борьбой», - писал Ходасевич в своем невероятном некрологе на смерть
Маяковского (единственном известном мне некрологе, автор которого не оплакивает, но проклинает
покойника). «Однако, счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с
уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такого счастья не выпало. Тяжкая
1 Редакция может не разделять позиций автора, но полагать за ним право быть выслушанным
(прим. ред.).
‘Зарубежные записки" №19/2009
173
Алексей МАКУШИНСКИЙ
участь наша - бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными... И это даже в обла-
стях, столь, казалось бы, чистых, как область поэзии». Ходасевич понял этот век, как мало кто
другой его понял. Может быть, Бунин.
9.
Двадцатый век есть век нового варварства. Грубого варварства и варварства утонченного,
изысканного, модного, шикарного, иронического. Грубое варварство рано или поздно начинает
утонченное - уничтожать. Объявляет его «буржуазным формализмом» или, наоброт, «культур-
большевизмом», клеймит во всех газетах, сжигает на площадях. Оно путает его, по неизбывной
своей дурости, с культурой, втайне ему ненавистной. Между тем, утонченное варварство, уничтожа-
емое варварством примитивным, не перестает быть по-прежнему варварством. Преследования
и надругательства не отменяют исконного их родства - революция, как известно, пожирает
своих же детей, артиллерия бьет по своим.
10.
Варварство есть варварство, утонченное или грубое - все равно. Когда Блок записывал в
дневнике, что гибель «Титаника» обрадовала его «несказанно», потому что, видите ли, «есть еще
океан», думал ли он о тех несчастных, что замерзали в ледяной воде этого «океана»? Этих не-
счастных было полторы тысячи, но не в цифрах здесь дело. Боюсь, что не думал. Думал - аб-
стракциями (варварство всегда ими думает). «Цивилизация» («Титаник») гибнет, «стихия» («оке-
ан») торжествует. «Несказанная», конечно же, радость.
11.
Это смешение утонченного варварства с культурой и, соответственно, противопоставление
их варварству грубому, запутало всю картину, смешало все карты. Если угодно, это одна из
важнейших подмен двадцатого века (двадцатый век вообще век подмены, подтасовки, подделки).
На самом деле, разделительные линии проходят не здесь. Не в том дело, что соцреализм по-
жрал, в конце концов, ревавангард, а дело в том, что и ревавангард, и соцреализм, каждый по-
своему, уничтожали культуру как таковую, ревангард - откровенно и риторически, бросая Лермон-
това с корабля современности, соцреализм двулично, подло и действенно, объявляя себя борцом
за эту самую, в его устах звучавшую так мерзко, культуру, на самом деле и в то же самое время
убивая ее в подвалах Лубянки, на Второй речке, в цензурных объятиях.
12.
Двадцатый век был одержим современностью. Он все боялся отстать от себя самого. Все
бежал за самим же собою. Наступившему варварству культура казалась устаревшей, «отжившей
свой век», «несовременной», «несвоевременной». Тридцати-с-чем-то-летних Ахматову и Мандель-
штама в двадцатые годы в советской прессе упорно называли, если называли вообще, «старика-
ми». Бунин? Ну, тот вообще - «девятнадцатый век». А на самом деле все подлинное, все значи-
тельное своему времени всегда «несозвучно». Это несозвучное времени и оказывается затем
самым лучшим, что было в то или иное время написано, создано. «Нет, никогда ничей я не был
современник...». Настоящее - не современно.
13.
Это были вовсе не арьергардные бои отжившего прошлого с настоящим и будущим, как хо-
телось думать «авангарду». Это была всегдашняя, неизменная борьба настоящего, подлинного,
обращенного к вечности и ведущего в будущее с ничтожной накипью современности.
14.
Он шалел от собственной дерзости, этот век. Стоял перед самим же собой, разводя руками,
разинув рот. Его основное занятие - он ставит себе диагноз. Да не может этого быть! - говорит
двадцатый век, шалея от себя самого. А раз не может, то скоро закончится. Двадцатый век -
умирающий век. Убивающий и убывающий век. «Бытие-к-смерти». «Закат Европы». «Умирание
искусства». «Конец романа». «Кризис цивилизации». Вот сейчас все рухнет, вот сейчас все
развалится.
174
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
15.
Не развалилось, не рухнуло, пророчества не сбылись. Его диагнозы были преувеличены. Он
судил по себе. Он носил в себе свою гибель - и принимал ее, в самоуверенности своей, за ги-
бель цивилизации вообще. Он думал, что на нем свет клином сошелся. (Сходилась, скорее, -
тьма). А свет светит по-прежнему, и тьма не объяла его.
16.
Дивясь себе, он не удивлялся ничему, но был подозрителен, этот век. Был особенно подозрите-
лен к другим векам, другим временам. Он разговаривал - вернее, не разговаривал с ними, но
выслушивал их, как психиатр слушает сумасшедшего, отыскивая симптомы (какие-нибудь «структу-
ры сознания», какие-нибудь «способы познания мира», какие-нибудь, не приведи Господь, «дис-
курсы»). О блаженные времена, когда Шопенгауэр мог соглашаться (или не соглашаться) с Пла-
тоном. Двадцатый век не принимал никого всерьез. С высокомерием холопа и ложной скромностью
деспота он ни с кем не говорил по существу. Он все только ставил диагнозы, и себе, и другим.
17.
В русской революции все двоится, писал Бердяев. В двадцатом веке двоится тоже. Где
кончается диагноз и где начинается симптом, не разобрать, не решить. «Я покажу вам болезнь
века». - «Спасибо. Ты сам же эта болезнь и есть». «Театр абсурда», к примеру - диагноз или
симптом? Кафка? Скорее все же симптом.
18.
Знаменитая фраза, приписываемая Дельвигу («закон Дельвига», как говорил Ходасевич) -
«не должно ухабистую дорогу изображать ухабистыми стихами» - применима не только, конечно,
к стихам. Дороги были в двадцатом веке куда как ухабисты, все кареты сломались на этих до-
рогах, пассажиры, если не погибли под лошадьми, не умерли от тряски и скуки, выходили из
экипажей несчастные, помятые, желтые. Ухабистых стихов тоже было немало.
19.
Все разваливалось в злосчастном этом столетии, отмененный человек разлетался на куски
и ошметки. На живописных полотнах ошметков тоже было достаточно.
20.
В 1914 году еще молодые тогда Бердяев и Булгаков (Сергей) побывали на выставке Пикассо
в галерее Щукина. То, что они увидели, поняли и сказали, следовало бы поставить эпиграфом
к начинавшемуся столетию. «Труп красоты» назвал свой отчет и ответ Булгаков. Бердяев говорил
о «распластовании», о «развоплощении», об исчезновении человеческого образа в «космических
вихрях». Кто их услышал? «Век» услышать их, конечно, не мог, век сам одержим был «распластова-
нием», «развоплощением». Век и был «космическими вихрями», чем же еще?
21.
Кто-то все же услышал. Не зря так часто ссылается на Бердяева Ханс Зедльмайр в своей
книге «Потеря середины», одной из умнейших книг двадцатого века. О «дегуманизации» искусства
идет в ней речь, о погружении в бездну неорганического, в хаос и ночь, о подмене живого не-
живым, об отрицании иерархий, об обращении к низшему, о спекуляции на обращении к низшему.
Голоса в пустыне? Конечно. Кажется, что двадцатый век победил.
22.
Это только так кажется. Его поражение заложено в нем самом.
23.
В юности, помнится, поразила меня фраза из автобиографического отчета Томаса Манна о
создании «Доктора Фаустуса» («Роман одного романа»). Объясняя, почему он ввел в роман рас-
сказчика (Серенуса Цейтблома), Томас Манн пишет: «Развязать демонизм типично недемонически-
ми средствами, поручить его изображение гуманно-чистой, простой душе, душе, одержимой
‘Зарубежные записки" №19/2009
175
Алексей МАКУШИНСКИЙ
любовью и страхом...». На то Томас Манн - Томас Манн, один из немногих, кто стремился по-
ставить диагноз, не превращая его в симптом. Это вопрос принципиальный, принципиальней-
ший... Можно, и даже должно, говорить о демоническом, но не следует давать ему самому вы-
сказаться, сказаться, случиться. «Я скажу - о нем; я не позволю ему - явиться, самому сказать
о себе», так писал я в моем собственном скромном прозаическом опыте, опусе, еще в конце того
века.
24.
Он хотел смерти, этот век, вот в чем дело. «Танатос» или не «танатос», уж я не знаю, но он хо-
тел смерти, и все дело в этом. Ему нравилось механическое, неживое, железо-бетонное. «Всякий
похож на машину», говорил Энди Ворхол, один из мелких, но характерных бесов этого века. Да-
же писание стихов - живейшее из живых дел - пытался он превратить во что-то механическое,
в создание железобетонных конструкций (Маяковский, конечно; не он один). Очевидно, есть
что-то в человеке, что радуется стеклянно-алюминиевому безличию современности, пластиковой
еде, аммиачным напиткам. Почему-то же ходят люди в «Макдональдс». Знают ведь, что отрава,
а ходят.
25.
Подмена живого неживым, структурой, конструкцией. Влечение к неорганическому, каменному,
железному. Живой литературы нет, говорил формализм, есть только «прием». Ничего живого
нет вообще, говорил структурализм, есть только «структура». Потому двадцатому веку так хотелось
превратить гуманитарные науки в точные. Заменить живое биение живой жизни подсчетом
разнообразных «синтагм» («фонем», «морфем»...). Заменить мечту, страсть и счастье - анализом,
схемой, терминологией. Ему казалось, что это мечта о научности, сциентизм. Он ошибался. Это
была мечта о конце света, о прекращении жизни.
26.
Избавление. Смерть - избавление. Исчезновение личности - вот что важно и нужно, все
прочее - примечания. Освобождение от груза гуманности, от тягот человеческого существования,
от обязанностей, накладываемых на человека невероятным его, по Паскалю, положением между
зверем и ангелом, его предстоянием Богу... Что ж удивительного, если небезызвестный Мишель
Фуко в предисловии к своему небезызвестному опусу «Слова и вещи» прямо так и пишет, что
его, Фуко, «утешает» и приносит ему «глубокое успокоение мысль о том, что человек - всего
лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле на-
шего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму». Этот «холмик» в оригинале
скорее «складка», un simple pli dans notre savoir. Un pli... Пли! - говорят, в сущности, все Фуко
этого мира.
27.
Он хотел, еще раз, «созвучного времени», то есть себе самому. Он любил, как Евгений Оне-
гин, романы, «в которых отразился век», то есть он сам, вновь и вновь, «и современный человек
изображен довольно верно...». С его, как мы помним, «безнравственной душой, себялюбивой и
сухой» и с его же «озлобленном умом, кипящим в действии пустом». А у «современного человека»
только такая душа и бывает, только такой ум и возможен (неважно, в каком веке, в девятнадцатом
или в двадцатом). Не себялюбивое и не безнравственное, не озлобленное, не сухое и не пустое
- все это (как все «добродетели», все «ценности») не современно, не «из этого времени», вообще,
может быть, не из времени, вообще не отсюда. И подлинное искусство, скажем это еще раз и
со всею решительностью, своему времени никогда не созвучно. Искусство - перпендикуляр,
восставленный к времени. Никакого времени оно, по определению, не выражает. Искусство, в
подлинной глубине своей, вообще ничего не «выражает», не «отражает», не «изображает» и не
«отображает». Искусство - сбывается. Искусство есть - свершение смысла, и более ничего.
28.
Потому, может быть, самое подлинное лежит не на «магистральной линии века», но в решитель-
ной стороне от нее. Вот это не на магистральной линии лежащее и есть настоящий, лучший
176
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
двадцатый век. Двадцатый век не сводим к модернизму и производным от оного измам. Двадца-
тый век не равняется «двадцатому веку».
29.
Но все двоится (еще раз). Борьба живого и мертвого? Созидающего и уничтожающего на-
чал? Да, конечно. Но борьба эта идет не только между людьми - она идет в самих людях; «поле
битвы - сердца людей», как писал Достоевский. Потому все так зыбко, неоднозначно, запутанно.
Потому каждый конкретный случай требует отдельного разговора. Конкретное всегда сложнее,
а значит - интересней абстрактного. Можно, конечно, видеть в Пикассо один лишь «труп красоты»,
но это значит - не видеть в нем ее, красоты, новой, таинственной жизни, не замечать, что и у
Пикассо были разные периоды, разные стили. Однако и обратное верно: не видеть «трупа» зна-
чит в двадцатом веке ничего не понять, в его бездны не заглянуть, в его природе не разобраться.
30.
Жажда смерти и - молодость. Это подростковая жажда смерти, мальчишеское влеченье к
небытию. Двадцатый век был вечный подросток. Девятнадцатый был муж и отец семейства,
обремененный ответственностью и долгами. Восемнадцатый был легкомысленный вельможа в
летах. Семнадцатый был герой и воин, открыватель мира, математик и богослов. Двадцатый
так и не вырос. Его жажда чистоты и точности, «абсолютной живописи» и «чистой поэзии» есть
мальчишеская боязнь жизни, более ничего. Ему хотелось отменить всю эту взрослую, сложную,
непонятную ему жизнь, заменить ее чем-то осязаемым и простым, разложить на составные ча-
сти, «структуры», «кубы» и «плоскости», разъять как труп - и тем самым подчинить себе, сделать
управляемой, подвластной, понятной. Когда это не удавалось - а это никогда в полной мере не
удавалось, - он впадал в ярость, столь же глупую, как и все прочие его проявления. Он начинал
глумиться над жизнью, показывать ей язык, скандалить, буянить. Молодость вообще беспощадна.
31.
Не сумев повзрослеть, он превратился в инфантильного старичка. Старичка, повторяющего
свои детские шалости. Сколько раз повторялось все это: и стихи без знаков препинания, и рас-
куроченные слова, и содержимое помойного ведра на холсте, и «дыр, бул, щыл», и желтая коф-
та, и примитивные скандалы, и убогий эпатаж, и бессмысленная бравада. В начале века все
было испробовано - и затем тупо, до тошноты, повторялось. Двадцатый век - пробуксовывал.
Он пытался бежать всех быстрее - и оставался на месте, буксовал на все той же размытой до-
роге.
32.
А зачем ему было взрослеть, когда появлялись все новые и новые полуобразованные потреби-
тели его выходок, вновь и вновь, в каждом поколении, рукоплескавшие все одному и тому же
«последнему слову искусства». Двадцатый век, как известно, массовый век, век «восстания масс».
Восставшие массы, выходя из девственного своего состояния, попадаются на все тот же ярмароч-
ный обман, покупаются на все те же балаганные трюки. Авангард - оборотная сторона масскульту-
ры - вот и весь его нехитрый секрет.
33.
Когда-то Пушкин говорил о «поверке воображенья рассудком» - понимая, что Музы и разум
«здравствуют» всегда вместе, через запятую в одном предложении. Двадцатый век понимание
это утратил. Когда-то Мандельштам, подводя итоги девятнадцатому столетию, призывал не бо-
яться рационализма, надвигающемуся вавилонскому мраку, египетскому новому веку, «огромному
и жестоковыйному», иррациональному «корню из двух» призывал противопоставить разум энцик-
лопедистов - «священный огонь Прометея». Двадцатый век призывам этим не внял. И не в том
дело, конечно, что не вняли им истинные создатели двадцатого века, строители египетских и
ассирийских империй, - с этих и взятки гладки, но не вняли им строители идеального двадцатого
века, его идеологи, его теоретики. Вот это и есть то «предательство интеллектуалов», о котором
говорил когда-то, в пророческой своей книге, Жюльен Бенда (кто читает ее теперь?). А между
тем, «сон разума порождает чудовищ», el sueco de la razon produce monstruos, как подписал под
‘Зарубежные записки" №19/2009
177
---------------------------- Алексей МАКУШИНСКИЙ ----------------------------------
своими монстрами Гойя. Среди монстров двадцатый веки прошел, чудовища и были властителя-
ми его.
34.
Того больше: когда во второй половине века деятели, по крайней мере на Западе, да по-сво-
ему, уж как сумели, и в России тоже опомнились, извлекли уроки из ужасов первой его половины,
перестали посылать своих граждан в лагеря и в окопы, но вместо этого занялись построением
более или менее сносной, свободной и человеческой жизни (в России не очень свободной и не
очень гуманной, конечно, но ведь не сравнимой же все-таки с предшествовавшим ей адом) -
идеологи не опомнились вовсе, «магистральная линия» мысли осталась прежней, голос разума
звучал в стороне от нее.
35.
Почему это все случилось? Потому что разум перестал быть Божественным Разумом.
36.
Как это вообще могло случиться? Как мог такой век случиться? Как угораздило человечество
забрести - в такой век? Вопросы, на которые вряд ли кто-то когда-то даст окончательный от-
вет. Но все-таки, все-таки... Ответим так: двадцатый век (начавшийся в девятнадцатом, а то и
раньше) был веком бунтующим. Двадцатый век и был (подростковым, мальчишеским, бессмыс-
ленным и беспощадным) бунтом против естественного (или, для тех, кто верит, Божественного)
порядка вещей. Бунт против порядка вещей - вот формула двадцатого века. Общество? Общество
никуда не годится. Смести его к чертям собачьим, на свалку истории, на его месте, товарищи,
мы построим, неужели ж не построим? конечно, построим наш новый прекрасный мир. Вот тог-
да заживем... История? История отменяется, история была предысторией, вот сейчас начнется
настоящая история, История с большой буквы. Человек? Ну, о человеке и говорить не приходится,
человек это ошибка природы, подавайте нам «нового человека», прекрасного человека, стальные
руки-крылья, белокурую бестию. Да и сама природа какая-то, прямо скажем, неправильная, мы
ее всю переделаем, оросим пустыни, осушим болота, скрестим яблоко с грушей. Искусство?
Искусство должно быть совсем другое, это уж ясно, искусство должно преображать мир, быть
«теургией», соборным действом, коллективным психозом, служить народу, прославлять арийскую
расу. Язык? Отменить его. Заменить на эсперанто или на заумь, на «крылышкуя золотописьмом»
и «смеёво, смеёво». Вот тогда будет здорово, вот тут-то «председатель земного шара» и покажет
всем, где раки зимуют. А если не удастся создать мир новый, прекрасный, наш, так попробуем
хоть разломать этот старый, чужой и взрослый, как-нибудь его, к примеру, поджечь - с «мировым
пожаром в крови» что ж еще и делать-то? - как-нибудь, что ли, взорвать. Не получилось и это?
Не унывайте, друзья, товарищи, соратники в борьбе с живой жизнью. Не удалось уничтожить,
сжечь, взорвать, погубить, так можно ведь, на худой конец, посмеяться, можно хоть высмеять,
надругаться и поглумиться, изувечить иронией, раскурочить насмешкой, поездить по миру с
буддистскими якобы завываниями на слова этого, как его, Пушкина, «унизить высокое, оплевать
дорогое».
37.
Злосчастный век сей заканчивался как фарс («постмодернизм» и проч.) Закончился ли, на-
конец? Этого мы не знаем.
38.
Закончился он или нет, ему - пора заканчиваться, злосчастному этому веку. Не сказать ли,
что пора заканчивать - его, кончать - с ним? Ведь мы - выжили, мы, вот в этом 2008 году жи-
вущие на земле, двадцатый век пережили, ну и - Бог с ним. «Пора заканчивать злосчастный
этот век...» Пора заканчивать этот век, пора уходить из-под власти его оценок, от обаяния его
кумиров. Он создал свой пантеон, в котором нам нечего делать. Другие, дальние, времена сни-
маются со своих мест и подходят к нам вплотную. Их голоса нам нужнее, их истины для грядущего
плодотворней.
178
Григорий НИКИФОРОВИЧ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ КАК ТОЧНАЯ НАУКА
Мари, шотландцы все-таки скоты...
Иосиф Бродский
Этой строкой начинаются «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», написанные Иосифом Брод-
ским в 1974 году, через два года после его вынужденного отъезда в эмиграцию. По прибытии
в Соединенные Штаты поэт поселился в маленьком городке Анн-Арборе (штат Мичиган), зараба-
тывая на жизнь преподаванием в тамошнем университете. Тихий Анн-Арбор, один из интеллек-
туальных оазисов Среднего Запада, оказался вполне подходящим местом для творчества, которое,
однако, не всегда укладывалось в культурные и политические стандарты, составляющие основу
американского образа мыслей.
Действительно, трудно представить себе американского университетского профессора, пуб-
лично называющего шотландцев (или итальянцев, или ирландцев, или, к примеру, японцев)
скотами, animals, пусть даже речь идет об отдаленной истории. Во-первых, американцы твердо
знают, что за всякое слово, показавшееся кому-либо оскорбительным, придется ответить перед
судом. Во-вторых, в их сознание уже внедрен рефлекс «политической корректности», то есть
привычки сообразовывать свои высказывания с возможной реакцией окружения. А предсказать
реакцию тех, чьи предки приехали в Америку из Шотландии, не представляет труда.
Ведь ничто не воспринимается человеком так болезненно, как оскорбление, действительное
или мнимое, племени, к которому он принадлежит по рождению. Это клеймо не смывается -
можно избавиться от бедности, перейти в другое вероисповедание, отречься от своего сословия,
сменить страну, климат и даже язык, но перестать быть шотландцем, или русским, или евреем,
или армянином нельзя. По крайней мере, это не удастся тебе самому - надежда разве что на
внуков и правнуков. А раз так, то будь ты макаронник, армяшка, хохол, чурка, лях, лягушатник,
черножопый, жид, кацап или латышня - все равно тебя настигнет убеждение иноплеменников
во врожденных пороках твоих сородичей. И хорошо еще, если это убеждение останется умозри-
тельным, а не перейдет в руководство к действию - от случайного мордобоя по пьянке до скру-
пулезно организованного геноцида.
Уже одного только упоминания о крайностях и насилии, порождаемых национализмом и ра-
сизмом - или, говоря обобщенно, ксенофобией, боязнью чужеродного - достаточно, чтобы
осознать опасность этого явления. И, тем не менее, ксенофобия существует с незапамятных
времен. Однако если раньше боязнь чужого поддерживалась памятью о страшных войнах и на-
шествиях, истребляющих целые народы, то в сегодняшнем относительно стабильном мире она
кажется абсурдной. Конечно, и сейчас воины аллаха продолжают войну с кафирами - и в Изра-
иле, и на Филиппинах, и на юге Судана... Но все же есть целые континенты - Европа и Северная
Америка, - где вот уже более полувека племена не воюют друг с другом, разве что где-нибудь
на Балканах или на Кавказе.
К тому же, естественная боязнь неизвестного - чужих народов и их обычаев - в наше вре-
мя, вроде бы, должна слабеть благодаря средствам связи и невообразимой ранее быстроте
перемещений. Как бы наивна ни была современная Дездемона, она вряд ли поверит рассказам
немолодого мавра «о каннибалах, то есть дикарях, друг друга пожирающих. О людях, чьи плечи
выше головы...». Ведь она кое-что уже знает о краях, где скитался Отелло, - либо из телевизионных
программ, либо из кинофильмов, или, наконец, из личных встреч с чужеземцами, которым все-
‘Зарубежные записки" №19/2009
179
ФОРУМ
го-то несколько часов лету до прекрасной Венеции. И, тем не менее, практически на любом фо-
руме в российском Интернете можно найти участников, твердо убежденных, что чурки-среднеази-
аты - безнадежные тупицы, кавказцы - хамы и грубияны, а евреи пьют кровь у всех без исклю-
чения остальных народов.
Многолетняя традиция просветительства объясняет проявления ксенофобии бескультурьем.
Максим Горький, например, писал: «Необходимо развивать в себе нравственную чистоплотность,
воспитать чувство брезгливости к проявлениям в человеке начала зоологического; одним из та-
ких проявлений является унижающая человека вражда к людям иных племен». И прибавлял:
«...мир будет вылечен от этой постыдной болезни только культурой, которая хотя и медленно, но
все-таки освобождает нас от болезней и пороков». Правда, написано это было в годы Первой
мировой войны, еще до того, как два доктора философии - Йозеф Геббельс и Альфред Розенберг
- идеологически обосновали окончательное решение еврейского вопроса в Европе. Многие
ученые и писатели, люди, несомненно, высококультурные, поддержали - кто громогласно, а кто
молчаливо - такое решение. А осуществил его Генрих Гиммлер, сын преподавателя древних
языков в классической гимназии.
Урок холокоста многому научил человечество. По нынешним временам, открытый призыв к
подавлению инородцев - удел маргинальных движений, вроде Русского национального единства
или Ку-клукс-клана. Однако инстинктивная неприязнь к чужакам не исчезла даже у представителей
самой что ни на есть культурной элиты - вспомним произведения крупного математика академика
Игоря Шафаревича или доктора исторических и географических наук Льва Гумилева. И уж тем
более сохранилась ксенофобия на уровне массовой культуры - российская молодежь уже почти
не пользуется труднопроизносимым словосочетанием «Соединенные Штаты Америки», предпочи-
тая простое и понятное «Пиндосия».
Культура, таким образом, не предохраняет личность от инстинкта ксенофобии, а, в лучшем
случае, смягчает его. В этой связи изобретение и, главное, повсеместное внедрение политкоррект-
ности в США - несомненное благо, так как она помогла очень существенно снизить уровень ксе-
нофобии в американском обществе. В Америке, слава Богу, нет серьезных межнациональных
противоречий, зато есть противоречия межрасовые. По рассказам старожилов нашего провинци-
ального города Сент-Луиса, полвека назад даже самые отчаянные белые либералы не пригласили
бы в свой дом негра - побоялись бы осуждающих взглядов соседей. Сегодня, наоборот, осужде-
нию подвергнется тот, кто откажется принимать людей иной расы в своем доме. Это - прямой
результат политкорректности, пускай не всегда искренней, но намного более предпочтительной,
чем чистосердечная ксенофобия.
Однако политкорректность, при всей своей благотворности, все же есть некое заранее задан-
ное идеологическое ограничение взгляда на мир - и, как всегда в таких случаях, картина мира
выглядит слегка искаженной. В последние годы выяснилось, например, что некоторые биохимиче-
ские реакции у представителей монголоидной расы или у чернокожих протекают иначе, чем у
белых. Поэтому стало возможным, в принципе, создание лекарственных препаратов, более эффек-
тивных для белых, чем для черных, и наоборот. Казалось бы, и те, и другие оказались в выигрыше
- но нет, существует оппозиция такому «расистскому» подходу к медицине. Ведь получается,
что белых и черных нужно лечить по-разному, а это не согласуется с важным положением по-
литкорректности: расы должны трактоваться одинаково во всем, включая медицинское обслужива-
ние. Ну а когда научные данные противоречат идеологии - тем хуже для научных данных.
«Расистская» медицина - только один пример глупости, порожденной слишком фанатичным
следованием идеологии политкорректности. Именно эта глупость сравнительно безобидна, но
бывает и хуже. В 2007 году нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, прославившийся открытием
двойной спирали ДНК, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Санди Таймс», заметил, что
политика помощи западных держав Африке «...основана на том, что их интеллектуальные способно-
сти такие же, как и у нас, в то время как все тесты говорят, что это, пожалуй, не так». Уотсон был
немедленно заклеймен как расист и уволен с поста руководителя научного института, который
он основал и бессменно возглавлял на протяжении пятидесяти лет. Вне сомнения, его высказыва-
180
ФОРУМ
ние было оскорбительным для многих чернокожих - и африканцев, и афро-американцев. В
этом отношении Уотсон совершил очевидную бестактность, особенно непозволительную для
ученого такого высокого ранга. Однако никто из клеймящих Уотсона не смог привести никаких
научных данных в доказательство его неправоты. Зато измерения коэффициента интеллектуально-
сти IQ среди представительной выборки населения США неоднократно показывали, что, в сред-
нем, этот коэффициент наиболее высок у американцев азиатского происхождения, затем у бе-
лых, и затем у черных. Другой вопрос, насколько правомерно судить об интеллекте по измерениям
IQ...
Впрочем, не нужно быть нобелевским лауреатом, чтобы заметить разницу между расами
или между национальностями. Финальный забег на сто метров на последней Олимпиаде в Пе-
кине блестяще - с мировым рекордом в 9.69 секунды - выиграл чернокожий спортсмен из
Ямайки Усан Болт, обогнав семерых других спринтеров - всех с тем же цветом кожи. Лучший
результат на этой дистанции, когда-либо показанный белым спортсменом, был установлен в
1984 году Марианом Ворониным из Польши: 10 секунд ровно. С тех пор более сотни чернокожих
атлетов - и ни одного белого - преодолели этот рубеж. В то же время в другом виде спорта -
шахматах - успехи черных спортсменов малозаметны, но зато евреи составляют почти половину
наиболее выдающихся шахматистов начиная с XIX века. Можно ли теперь публично утверждать,
что евреи лучше других играют в шахматы, а черные лучше других бегают стометровку? Да, ес-
ли судить по этим данным. Но - нет, если следовать правилам политкорректности, согласно ко-
торым никаких различий между евреями и чернокожими нет и быть не должно.
Ведь, строго говоря, любое указание на различие между расами или национальностями с
точки зрения политкорректности предосудительно, поскольку оно может привести к их политиче-
скому неравноправию - вплоть, как уже бывало, до геноцида. Само по себе это соображение
совершенно справедливо, хоть и преувеличенно. Но какже тогда быть с укоренившимися представ-
лениями о жизнерадостности итальянцев, законопослушности немцев, замкнутости прибалтов
или гордости испанцев? А это - говорят жрецы политкорректности - есть чистой воды предубеж-
дения, стереотипы, порожденные ксенофобией, и потому от них следует отказаться как можно
скорей, если не хочешь прослыть расистом и националистом.
В результате любой честный политолог, журналист, политик или просто пикейный жилет,
рассуждающий о межнациональных отношениях, попадает в затруднительное положение. С одной
стороны, различия между расами и национальностями очевидны - они говорят на разных язы-
ках, поют разные песни, предпочитают разные кушанья и даже разрез глаз у монголов не такой,
каку норвежцев. А с другой стороны, последователи политкорректности - то есть не расисты и
не националисты - утверждают, что, по большому счету, монголы и норвежцы одно и то же. И
в самом деле, свирепость вождя норвежских викингов Олафа Триггвасона, неоднократно грабив-
шего берега Британии в X веке, ничуть не уступала жестокости вождя монголов Батыя, сжегшего
Киев в 1239 году...
К сожалению, надежда на бесстрастное обсуждение этого вопроса невелика. Опыт показывает,
что споры на межнациональные темы - самые эмоциональные, благо Интернет доступен миллио-
нам, и тысячи ежедневно реализуют свое законное право на свободу слова. Страсти бушуют
даже в строго академических дискуссиях среди представителей так называемых гуманитарных
областей знания - политологии, социологии, философии, а о накале межрелигиозных диспутов
и говорить не приходится.
В такой ситуации остается обратиться к наукам точным и, следовательно, менее подверженным
эмоциям - в частности, к математике. Ее раздел, именуемый математической статистикой, как
раз и занимается свойствами больших совокупностей различных элементов, к которым, несомнен-
но, относятся и большие совокупности людей - народы, расы и нации. Индивидуальные свойства
каждого отдельного элемента, принадлежащего данной совокупности - множеству - различаются:
нет двух людей, у которых вес, рост, цвет волос, форма носа, темперамент, отношение к деньгам
и прочее были бы совершенно одинаковы. Но в то же время - утверждает математическая ста-
‘Зарубежные записки" №19/2009
181
ФОРУМ
тистика - свойства различных множеств, усредненные по индивидуальным свойствам элементов,
тоже могут быть различными.
Более того, именно факт различия этих средних величин и позволяет различать множества.
(На самом деле важны не только значения средних величин, но и пределы их возможных измене-
ний, а также другие факторы, но сути излагаемого это не меняет.) Множество «русских» можно,
скажем, определить по свойству «говорящие на русском языке», хотя язык москвичей и архангело-
городцев не вполне одинаков. Но, в среднем, он явно отличен от языка жителей правобережной
Украины, что и дает возможность определить их как «украинцев», отличных от «русских». А вот
по усредненной величине свойства «приверженность к крепким спиртным напиткам» - будь то
водка или горилка - различить эти два множества будет, пожалуй, затруднительно. Зато оба
они в этом отношении резко отличаются от японцев, которые такие напитки переносят с трудом
- опять-таки из-за особенностей биохимических реакций, свойственных представителям монголо-
идной расы. «Что русскому здорово, то японцу смерть» - так могла бы звучать известная послови-
ца, если бы русские соприкоснулись с японцами лет на триста пораньше.
Но другие народы - в той же Европе - соприкасались друг с другом постоянно, и каждый
отдельный контакт приносил новую информацию о свойствах контактирующих множеств - точнее
о том, как они выглядели в глазах друг друга. Частички информации складывались вместе, и
возникало уже совершенно новое - усредненное - представление о свойствах того или иного
народа. Конечно, не всякий раз русскому удавалось пересидеть иностранца в застолье - Франц
Лефорт, как рассказывали, не уступал самому Петру, - но в среднем так оно обычно и бывало,
откуда и появился стереотип «русский Иван немецкого Ганса завсегда перепьет», атам и до по-
словицы недалеко.
Важно заметить, что сам по себе механизм возникновения национального стереотипа - от
отдельных наблюдений к усреднению - вполне соответствует общепринятым процедурам любых
научных измерений. В той же математической статистике существует задача о «леди, пробующей
чай»: сколько чашек чая, взятого наугад из данной партии товара, следует попробовать, чтобы
надежно отнести эту партию к сорту «Эрл Грей», а эту аттестовать как «Липтон». Чем больше
проб, тем достовернее оценка - но начиная с какого-то уровня дальнейшее увеличение количества
проб уже не слишком влияет на оценку различия в средних величинах. При этом чем больше
это различие средних, тем меньше проб потребуется, чтобы его установить. Иными словами, не
нужно провоцировать тысячи грузин, чтобы убедиться в их повышенной вспыльчивости по сравне-
нию с эстонцами. Достаточно провести несколько десятков сравнений - и шутка о «горячих эс-
тонских парнях» уже готова.
Таким образом, возникновение и сохранение стереотипов, относящихся к поведению различных
рас и народов - процесс вполне естественный и даже оправданный теорией и практикой матема-
тической статистики. Он обусловлен вовсе не злонамеренной ксенофобией, а обычными рутинны-
ми межнациональными контактами. Другое дело, что не всякий стереотип воспринимается одина-
ково. Укорененными в Европе представлениями об их «медвежьей» силе и выносливости русские
склонны скорее гордиться, а вот стереотип об Иване-дураке, который вечно полагается на авось
да небось, задевает национальную гордость. Евреи не возражают при упоминании об «умной
еврейской голове» («а идише копф»), но недовольны, когда слышат, что уж очень они любят
деньги. Слова Александра Блока - «острый галльский смысл и сумрачный германский гений»
- лестны французам и немцам, но вряд ли они согласятся с другим поэтом, Александром Поле-
жаевым, согласно которому француз «пуст как вздор», а немец «перепрел в котле ума». Впрочем,
для самих русских Иван-дурак остается любимым сказочным персонажем, а тот же Александр
Полежаев не останавливается перед обидным для своих соотечественников замечанием: «В
России чтут царя и кнут».
Мало того, сведения о национальных и расовых стереотипах - а точнее, национальных и ра-
совых особенностях - могут оказаться очень полезными, если применять их к совокупностям
людей, а не к отдельным людям. Например, рынок для сбыта лягушачьего мяса следует все-та-
ки искать во Франции, а не в России, а попытка внедрить во Франции сеть ресторанов «Щи да
182
ФОРУМ
каша» вряд ли удастся. (Между прочим, совсем недавно белорусский концерн «Белгоспищепром»
понес большие убытки, направив до 80% процентов своего экспорта крепких спиртных напитков
в Индию - уж не сторонники ли полного равенства между индусами и белорусами настояли на
этом странном, но политически корректном решении?) Или из другой области: понятно, что,
при прочих равных условиях, полиции будет труднее поддерживать порядок на демонстрации
обманутых вкладчиков в Грузии, чем это было бы в Швеции. О «расовой медицине» - а значит,
о том, какие лекарства экспортировать в Африку, а какие - в Азию, уже упоминалось. И, как это
ни жаль, размах воровства гуманитарной и вообще любой экономической помощи будет больше
в Палестинской автономии, чем, к примеру, в Польше - что тоже не мешало бы учитывать щед-
рым международным организациям.
Словом, до тех пор, пока речь идет о народах - а не о людях, представления о национальных
стереотипах имеют законное право на существование. Именно здесь и пролегает разумная гра-
ница применения правил политкорректности. К тому же, стереотипы, хоть и не часто, но могут
меняться. За последние годы английские футбольные болельщики сильно поколебали создава-
вшееся веками мнение о бесстрастности англичан. А после шестидневной войны 1967 года об-
раз приниженного и беззащитного еврея в одночасье сменился на уважительный портрет почти
что супермена. Помните: «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый»?
Согласно математической статистике изменения стереотипов означают сдвиги в оценках
свойств, средних по данному множеству. Но сдвиг среднего вовсе не гарантирует, что свойства
каждого отдельного элемента множества сдвинулись в туже сторону. В том-то и дело, что сред-
няя величина, будучи надежной характеристикой множества в целом, не может быть спроециро-
вана на каждый отдельный элемент множества. Если бы удалось оценить величину свойства
«скупость» у всех жителей болгарского города Габрово (сами болгары в скупости габровцев не
сомневаются) и среднее оказалось бы, к примеру, 3.00 - по сравнению с величиной 1.00, полу-
ченной усреднением по всей Болгарии, то лишь очень немногие из габровцев оказались бы
ровно втрое скупее «усредненного» болгарина. Напротив, большинство оценок колебалось бы в
каких-то пределах, скажем, от 2.25 до 4.48, а некоторые были бы и намного ниже единицы. Поэ-
тому многие из габровцев могли бы обижаться и имели бы полное право протестовать, столкнув-
шись с общеболгарским стереотипом «раз ты габровец - ты трижды скупец» - но, по счастью,
габровцы в Болгарии известны также своим юмором, позволяющим им самим посмеиваться
над своей скупостью.
В результате оказывается возможным более или менее четко разграничить усредненные
представления о свойствах наций в целом и представления о свойствах отдельного человека.
Такое разграничение проводится при использовании принципов сухой науки - математической
статистики, что особенно важно в чрезвычайно эмоциональных вопросах о национальных и ра-
совых стереотипах. Конечно, вряд ли математический подход убедит энтузиастов-гуманитариев:
английский философ Томас Гоббс еще в XVII веке заметил, что если бы геометрические аксиомы
задевали интересы людей, они бы опровергались. И все же, основываясь на математической
статистике, можно объективно утверждать, что величину, полученную усреднением по националь-
ной совокупности, вполне правомерно использовать для описания свойств этой совокупности,
по типу «китайцы трудолюбивы», «французы любвеобильны» или «афро-американцы музыкаль-
ны». И тот же подход показывает, что свойства каждого отдельного человека из данной совокупности
практически никогда не будут точно такими же, как усредненные свойства его соплеменников:
не все китайцы трудолюбивы, французы любвеобильны, а афро-американцы музыкальны.
Кстати говоря, теперь понятно, как четко определить понятие «расист» или «ксенофоб» - это
тот, кто не способен различить отдельного человека на фоне его нации или расы. Расист считает,
что, если, например, уровень образования у черных в среднем ниже, чем у белых, то любой
чернокожий уступает в этом отношении любому белому. Он будет настаивать на этом, даже ес-
ли он никогда в жизни не прочел ни одной книги, а чернокожий, с которым он себя сравнивает,
- президент Обама. Разумеется, он ошибается - но, тем не менее, в среднем по США в 2008 го-
ду афро-американские школьники успешно справлялись со стандартными тестами в три раза
реже, чем их белые соученики.
‘Зарубежные записки" №19/2009
183
ФОРУМ
То есть разумная политическая корректность эквивалентна признанию того, что каждый от-
дельный человек - индивидуален. Все люди различны, вне зависимости от того, к какому наро-
ду или расе они принадлежат, - в точном соответствии с принципами математической статистики.
И, для каждого отдельного белого, всегда найдется чернокожий с очень сходным уровнем образо-
вания - в этом смысле разницы между белыми и черными действительно нет. Но, согласно той
же математической статистике, совокупности людей в среднем тоже могут различаться по своим
свойствам. Поэтому, если слишком рьяные сторонники политической корректности сочтут, что
все белые, как целое, ничем не отличаются от всех чернокожих, они будут так же неправы, как и
расисты, столь же рьяно утверждающие обратное. И по той же причине - обе крайних точки
зрения противоречат строгому статистическому подходу.
С этой точки зрения, у каждого отдельного шотландца нет оснований возмущаться вольностью
поэта: раз не было сказано «все шотландцы скоты», значит, личное оскорбление места не имело.
Но, разумеется, теоретические рассуждения - пусть и подкрепленные авторитетом точных наук
- это одно, а реальные отношения между людьми определяются все-таки психологией, а не ма-
тематической статистикой. И разбираться в лингвистических тонкостях реальный, а не абстракт-
ный шотландец не станет, а просто возьмет свой двуручный меч... и далее по фильму Мела
Г ибсона «Braveheart».
Вот и выходит, что как ни нападай на политическую корректность, как ни обвиняй ее в пере-
хлестах и даже в пренебрежении к научным фактам, а обойтись без нее в мире, где расы и на-
циональности все чаще контактируют друг с другом, просто невозможно. Так что успехи, одержан-
ные концепцией политкорректности в Соединенных Штатах, только подтверждают устремленность
этой страны в будущее...
Иосиф Бродский, видимо, тоже изменился в этом отношении, пожив в Америке подольше.
Во всяком случае, появившийся в 1988 году английский перевод «Двадцати сонетов к Марии
Стюарт», авторизованный Бродским, смягчил прямолинейное «шотландцы - скоты» за счет вы-
явления игры слов (скот - Scots), не каждому заметной в русском тексте. По-английски строчка
звучит так: «Магу, I call them pigs, not Picts, those Scots...», и теперь читатель в первую очередь
замечает сопоставление «pigs - Picts», которое может задеть разве что давно исчезнувшие
древние племена Британии - пиктов.
Но, конечно, можно и отбросить политическую корректность во имя свободы самовыражения
творческой личности. И вот уже канонический перевод «Сонетов» на украинский язык, выполненный
в самом конце прошлого века, честно сообщает: «Mapi, шотляндц! все ж таки хуТ...» (см. http://
www. guelman. ru/slava/texts/maria.htm).
Интересно, много ли потомков шотландцев живет в Украине?
Игорь АНДРИАНОВ
ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕВЕЖЕСТВА ИЛИ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ?
ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ ПРОГУЛКИ В САДАХ ЭТОЛОГОВ
Оставив МУДРОСТЬ увядать в песках зыбучих,
из ЗНАНИЯ мы сотворили Бога.
Но лучшее обречено стать худшим,
КОГДА НЕВЕЖДЫ ЗНАЮТ СЛИШКОМ МНОГО.
П. Хэйн
«Антинаучная революция»
Правительства ряда стран приняли законопроект, запрещающий клонирование человека.
Отношение к этому законопроекту четко выделило два подхода общества к проблемам науки: а)
184
ФОРУМ
любое ограничение научной деятельности есть обскурантизм и возвращение в средневековье
(эту точку зрения разделяют, в основном, сами ученые) и б)»глаз да глаз за ними нужен, не то
быстро сделают нам небо с овчинку!»(это мнение «среднего человека»). Впрочем, вопрос стоит
еще шире. В настоящее время не только в России, но и в мире в целом происходят события, ко-
торые в серии блестящих публикаций акад. В. И. Арнольда получили название «Антинаучная
революция». Весьма эмоционально возникшая ситуация описана выдающимся ученым и популяри-
затором науки Д. Хофштадтером: «Сегодня благоговейное отношение к науке встречается крайне
редко. Современное общество, похоже, пропитано глубоким, бессознательным предубеждением
против науки. В кино, на телевидении и в художественной литературе ученые представлены
бессердечными, лишенными чувства юмора болванами, которые готовы скорее хладнокровно
убивать, чем улыбаться, скорее писать заумные формулы, чем влюбляться. И, пожалуй, еще
важнее формирующееся в последние годы пренебрежительное отношение к науке как к средству
познания мира; обратная сторона такого отношения - поощрение всевозможных так называемых
“тайн“ (жизнь после смерти, вторжение пришельцев, телекинез, ясновидение, экстрасенсорные
способности и т.п.)».
Таким образом, диагноз поставлен: антинаучная революция - налицо. Было бы не так обидно,
если бы место науки заняла религия. Ничего подобного - на место рационального знания при-
ходят суеверие и «массовая культура». Но чем же обусловлена столь плачевная тенденция?
Хофштадтер просто констатирует: «Я даже не понимаю, что послужило причиной такого радикаль-
ного изменения отношения к рациональному знанию».
Некоторые причины лежат на поверхности. Было время, когда на рациональное знание вообще
и науку в частности возлагались большие надежды в деле решения не только технических, но и
социальных проблем. Поскольку надежды эти не оправдались, наука оказалась без вины винова-
той.
Кроме того, наука - дело элитарное. С этой точки зрения «Восстание масс», описанное
Ортегой-и-Гассетом, ей вряд ли на пользу. «Сегодня у среднего человека самые неукоснительные
представления обо всем, что творится и должно твориться во Вселенной». Как подчеркивает
Ортега-и-Гассет, это никоим образом не прогресс: идеи массового человека не есть культура,
культурой он не обзавелся. «Возникает тип человека, который не желает ни признавать, ни до-
казывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю».
В антинаучной революции есть, конечно, и вина самих ученых. Современная наука слишком
сложна для непосвященных. Этим пользуется ряд лиц, занимающихся чисто схоластическими,
бесполезными для чего-либо или кого-либо (кроме них самих!) псевдонаучными упражнениями.
Мало уделяется внимания тому, чтобы сделать достижения фундаментальной науки понятными
простому человеку.
Однако только ли в этом дело? Нет ли в современном отторжении обществом науки более
глубоких корней?
Что говорит этология?
С этологией я знаком по серии замечательных публикаций В. Р. Дольника, обобщенных в
книге «Непослушное дитя биосферы». Насколько я их понял, этология призывает рассматривать
человека как один из видов животных и на этом основании анализировать поведение как отдель-
ной личности, так и таких образований, как раса, нация и человечество в целом. Разумеется,
выводы этологии нельзя рассматривать как математические теоремы, но как гипотезы лично
мне они кажутся весьма убедительными. И, самое важное, эти гипотезы позволяют построить
последовательную картину функционирования человеческого сообщества в целом. Мы не будем
подробно останавливаться на всех выводах этологов, напомним только некоторые из них, необхо-
димые для дальнейшего обсуждения. «Противоречие между порождением разума - оружием -
и изначальной слабой моральной оснащенностью человека привело к тому, что он стал редкостным
явлением в биосфере: вид, страшный и смертельно опасный для себя самого. ... Можем ли мы
уповать на естественный отбор, что он со временем приведет инстинктивные моральные запреты
в соответствие с разумом?
‘Зарубежные записки" №19/2009
185
ФОРУМ
Можем, но лишь в масштабах биологического времени эволюции. Оружие мы совершенствуем
с помощью разума, который способен прогрессировать стремительно, а врожденные запреты
совершенствует естественный отбор, работающий неизмеримо медленнее». (В. Р. Дольник).
Трудно не быть Богом
Итак, противоречие между разумом и моралью налицо. Ситуация «горя от ума» (или, вернее,
«гибели от разума») многократно моделировалась в научно-фантастических романах. В первую
очередь перед глазами встает гениальная книга Стругацких «Трудно быть богом». Далеко не
все их книги выдержали испытание временем, многое просто невозможно перечитывать сегодня,
но эта книга уже позволяет Стругацким войти в антологию всемирной литературы. Кстати, с
точки зрения обсуждаемых вопросов интересна еще одна фантастическая книга - «Возвращение
со звезд» Лема, в которой описаны переживания нормально агрессивного человека, вернувшегося
в новый, неагрессивный мир. Правда, таковым он стал не в результате естественной эволюции,
а искусственно, но особой роли это в данном случае не играет. Обсуждения искусственного по-
давления агрессивности я у этологов не встречал, а ведь оно в принципе возможно, так что
фантасты и здесь поставили вопрос раньше ученых. Да и вообще, фантасты оказались отличными
футурологами! Разве «Хищные вещи века» - не про наше время?
А лемовский «Голос неба» («Глас Божий» в оригинале) - да это же просто «книга по теме»!
Однако мы отвлеклись. Напомню некоторые места из книги Стругацких, имеющие непосредст-
венное отношение к рассматриваемой теме. Прогрессоры с Земли, достигшей по всем парамет-
рам высочайшего уровня развития, пытаются сеять «разумное, доброе, вечное» на планете Ар-
канар, население которой и технически, и морально находится на уровне средневековья. Достиже-
ния разума используются, как правило, в весьма неблаговидных целях. Арканарский Кулибин,
отец Кабани, с горечью перечисляет свои замечательные изобретения. Тут и «проволока с ко-
лючками» - скотные дворы от волков огораживать, и мясокрутка для «нежного мясного фарша»,
и «горючая вода», чтобы мокрые дрова разжигать (первый самогонный аппарат на планете - не
шутка!). А в итоге - колючей проволокой огораживают рудники, в которых работают «государствен-
ные преступники», мясорубка используется для изощренных пыток, а горючую воду подмешивают
в пиво. Понятно - плохие люди используют хорошие вещи во вред, вот хорошие бы люди ... Од-
нако Стругацкие не были бы Стругацкими, если бы не показали всю сложность ситуации. И вот
вполне симпатичный герой, предводитель крестьянских восстаний Арата, просит у прогрессора
Руматы «молнии», чтобы разрушать крепостные стены, за которыми и укрылись плохие люди. С
глубокой печалью Румата отвечает, нет, я не могу дать Вам молнии и не смогу объяснить, поче-
му этого нельзя делать...
Все это - хорошая модель современных земных отношений науки и общества. Ученые открыва-
ют атомную энергию и создают лазер - а общество требует атомную бомбу и лазерную пушку...
При обычных интеллигентских рассуждениях сразу же встает дилемма доктор Оппенгеймер -
генерал Гровс, т. е. хорошие, но наивные ученые и коварные генералы, использующие замечатель-
ные изобретения исключительно во вред человечеству. И решение этой проблемы мыслится
только в моральном совершенствовании, всеобщем «не убий», а отнюдь не в ограничении научной
деятельности. Верна ли такая односторонняя постановка вопроса? Ведь этология утверждает,
что для морального совершенствования человечества нужны эпохи, а сколько нового оружия за
это время придумают... Так, может, и не давать людям молнии, рано им еще? Вон жителям Аф-
рики дали автомат Калашникова - результаты налицо!
Зачем она нужна, эта наука?
Уточню: речь идет о фундаментальной науке. Именно она приводит к инсайтам, которые из-
меняют мир, приносят эйфорические (обычно ничем не обоснованные) надежды и реальные
разочарования и опасности.
Изучением развития науки занимается наукометрия. Ее данные могут, на первый взгляд,
ошеломить: 90% научной продукции ошибочно, из оставшейся 90% никогда не будет использова-
но. На что же тогда идут деньги налогоплательщика?
186
ФОРУМ
Акад. В. Ф. Журавлев предлагает такой ответ: 1) фундаментальная наука позволяет поддержи-
вать высокий общий уровень исследований, в том числе и в области приложений; 2) возможны
прорывы, ведущие к совершенно непредсказуемым технологиям.
При этом научное сообщество в целом убеждено, что вмешиваться в фундаментальные иссле-
дования нельзя, а многие тешат себя иллюзией, что демократия со временем заменится (и уже
потихоньку заменяется!) технократией.
Многие ученые, с тревогой отмечая растущий антисциентизм, не видят никакой своей ответст-
венности за «неправильное» применение научных достижений. Мы же предупреждали, что дина-
митом, атомной энергией, генной инженерией нужно пользоваться осторожно, так что сами ви-
новаты! А наука здесь совершенно ни при чем - это все политики, генералы, коммунисты, гло-
балисты...
Наука для человека или человек для науки?
Как известно, существуют интеллект и здравый смысл. Первый говорит, что МОЖНО сделать,
второй - что НУЖНО делать. Встаёт вопрос: не является ли отмеченный антисциентизм естествен-
ной реакцией на слишком быстрое развитие науки, предлагающей человечеству столько «даров»,
что оно не в состоянии их разумно использовать, не говоря уже об учете отдаленных последствий
применения этих даров! Снова вспоминаются Стругацкие, на этот раз «Повесть о тройке»: мудрые
представители человечества готовы не только отказаться от контакта с инопланетянами, но и
воспрепятствовать этому контакту силой оружия, поскольку человечество не способно совладать
с новыми технологиями, которые неминуемо обрушатся на него при Контакте (здесь, конечно,
нужно вспомнить и «Пикник на обочине»).
Иными словами, не реализует ли человечество путем антисциентизма своеобразный инстинкт
самосохранения? Конечно, конкретный механизм этого явления нам неизвестен, но, с другой
стороны, точно также нам неизвестен и механизм, заставляющий толпы леммингов топиться в
океане, чтобы решить вопрос перенаселения!
Чуть помедленнее, кони?
В свое время В. В. Налимов высказал идею «мягкого планирования». Суть её, грубо говоря,
в сочетании строительства с натурным экспериментом, поскольку теоретически предсказать
все последствия масштабного вмешательства в Природу невозможно. То есть начинаем строитель-
ство, но имеем в виду, что при появлении неблагоприятных неожиданных явлений его нужно
прекратить или даже восстановить статус-кво. Мне кажется, таким путем должно идти и развитие
науки. Разумеется, всякого рода запреты и ограничения могут быть трагедией для определенных
исследователей, но ведь, возможно, речь идет о сохранении человечества в целом... .
Что касается фундаментальной науки, то есть богатые возможности сделать ее развитие от-
носительно безопасным. Например, сколько усилий в последнее время тратится на построение
«единой теории Вселенной», описания зарождения Мира, черных дыр и т.д. Полезнейшее с
точки зрения поддержания интеллектуального уровня исследований и совершенно безопасное
для человечества занятие.
Отчасти (но только отчасти!) в шутку акад. Ю. И. Манин пишет: «Некоторые утверждают, буд-
то математика полезна в физике, технике и вообще для прогресса человеческой цивилизации.
Но они заблуждаются. Чем математика действительно полезна, так это своим огромным вкладом
в решение основной проблемы современного постиндустриального человечества. Проблема же
эта состоит вовсе не в том, чтобы, как думают некоторые, ускорять прогресс человечества, а,
напротив, в том, чтобы этот прогресс всемерно тормозить. Математика отвлекает умных людей
от действительно опасных для человечества занятий. Если бы вместо проблемы Ферма умники
усовершенствовали бы автомобили или самолеты, вреда человечеству было бы больше».
Думайте сами, решайте сами
Автор всю жизнь занимается научной деятельностью и ничего другого делать не умеет.
Поэтому приведенные выше соображения его не радуют...
‘Зарубежные записки" №19/2009
187
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Галина ЕРМОШИНА
В ДВИЖЕНИИ
Мильштейн А. Серпантин: роман. - М.: ОГИ, 2008. - 232 с.
Наверное, первое, что приходит в голову при чтении романа «Серпантин» Александра Миль-
штейна, это «На дороге» Джека Керуака. Только персонажи Керуака путешествуют в никуда, пы-
таясь обрести свободу от мира, а герои Мильштейна не выдерживают той свободы, которая у
них есть.
Поэтому постепенно серпантин горной дороги становится механизмом пружины, который
уже невозможно удержать в скрученном состоянии. Автору удалось так сгустить время, что чи-
татель видит происходящее в несколько замедленном режиме. Все происходит в тот момент
времени, когда пружина начинает свое центростремительное движение, похожее на вращение
спиральной галактики до тех пор, пока не потеряется ощущение центра. А оно рано или поздно
непременно потеряется, потому что в определенный момент в одном из витков спирали начнет
раскручиваться новая спираль, с другим центром, но связанная каким-то болевым чутьем с
первоначальным.
Дело происходит в Крыму. «Место силы, точка сборки?» - пытается определить это место
один из персонажей. Там, где пространство уже разрушено или где оно только собирается?
Или же промежуток между разрушением и созиданием, место без времени и пространства, где
можно пребывать в невесомости? В романе несколько историй, фрагментов бытия. Каждый из
персонажей совершает побег из прежней жизни, которая становится тесна, начинает давить,
мешает дышать. Существование, вырванное из привычного пространственного контекста, пред-
ставлено осколками - разговорами, воспоминаниями, снами, и эта осколочность прошлого -
всего лишь часть той каменной мозаики, которую пытается собрать каждый из персонажей,
чтобы разобраться в себе.
В определенный момент понимаешь, что время перестает подчиняться размеренному поступа-
тельному движению и начинает двигаться рывками. Подобно броуновскому движению персонажей
- в никуда, подчиняясь ландшафту. Человек застигнут в процессе движения, пойман этим процес-
сом, даже если он не перемещается от одного ориентира к другому, а просто беспорядочно
бродит. «Под ногами у него всё перемешалось, суша, море, сны, холсты... Они шли и шли... Без
конца.... На бреющем полёте...»
Метафизика падения или восхождения. Кто-то освобождает энергию и разрушительную си-
лу спирали, кто-то, наоборот, скручивает ее в черную точку, размещенную возле сердца. Кто-то
пробирается серпантином дороги, кто-то серпантином памяти.
Проза Мильштейна вообще имеет довольно разветвленную структуру, когда сюжет состоит
не из единого плотного полотна, а образуется из непредсказуемого переплетения тонких нитей,
подводных течений, почти незаметных тропинок, остающихся как бы на заднем плане. Отсюда
определенная конспективность текста. Очень многое автором не объясняется, а проговаривается
как бы «фоном», хотя на самом деле этот фон и есть самое главное. Текст не то чтобы легкий, а
какой-то текучий, и в то же время острый.
Результатом становится процесс, само существование в этом движении, в хаосе, беспорядке,
в этой «маленькой воронке пространства». В какой-то момент исчезает все, что имеет материаль-
ную плотность. Остается только скольжение вниз, по серпантину воздушного опрокидывания. «И
теперь траектория была наклонной пологой линией... Дельталёт двигался в режиме скольжения...
Больше он ничего не помнил... И казалось, что дельталёт продолжает падение - прорвав поверх-
ность пузыря - теперь уже во что-то... совершенно бездонное...»
Жизнь подставлена под увеличительную линзу, и неважно, что является линзой - большая
медуза, хрустальный череп, подводный фонарь или пограничный прожектор, если в результате
188
КНИЖНАЯ ПОЛКА
персонаж все равно попадает в гибельную воронку раскручивающейся спирали. Свобода оказыва-
ется мгновением, когда дельтаплан начинает падать. «И это всё, собственно... Шёпот, шипение
факелов... Мы идём... Уже светает, но в сером воздухе нам ещё какое-то время мерещатся чёр-
ные сгустки... Мы не знаем, что это... Летучие мыши... Или вороны сожжённой бумаги... Всё рав-
но, при порывах ветра они рассыпаются прямо у нас на глазах...»
Происходит исчезновение оболочек, одни предметы растворяются в воздухе, другие сгущают-
ся из темноты, вода отбрасывает тень, а тени заменяют собой человека из плоти и крови. По-
вествование становится головокружением, сном, забытьем, болезнью. Текст начинает пульсиро-
вать в ритме день-ночь, свет-тень. Этот пульс стремительно учащается, напоминает азбуку
Морзе, кричащую о спасении. Люди превращаются в темные контуры, очерченные пограничным
прожектором, становятся впечатанными в асфальт тенями. Жизнь переходит в сослагательное,
условное наклонение. Серпантин срывается в головокружительный вираж. Память все агрессивнее
сталкивает человека в пропасть беспамятства. Чтобы выйти оттуда другим - конечно, если по-
лучится - выйти. Но нужно двигаться, независимо от результата и направления, важно не оста-
новиться. «Беги, кролик, беги - в обратном направлении... Путь вверх и путь вниз - один... Зна-
чит, и в ту же самую реку... ещё можно вступить... Имя реки - река...»
Елена ИГНАТОВА
ХРОНИКА СМУТЫ
Валерий Казаков. Тень гоблина: роман. - «Сибирские огни» 2008, №№ 2 и 3;
М.: ВАГРИУС, 2008
Из сочинений о жизни России конца прошлого века можно составить небольшую библиотеку
где есть все - от памфлетов до мемуаров политических «отставников», в которых смесь мелочей,
вымыслов, сплетен мало проясняет происходившее. Роман Валерия Казакова «Тень гоблина»,
воссоздающий атмосферу в высших кругах государственной власти, замечателен тем, что автор
рассматривает недавнее прошлое в контексте российской истории, в первую очередь - времени
Смуты, сотрясавшей Россию четыре столетия назад. Примет этого много, от имени главного
героя - Малюта Скураш, созвучного Малюте Скуратову; и ещё ряд деталей. Правда, реальность
1990-х годов была куда изобретательнее любого литератора: чего стоит, например, идея окруже-
ния Ельцина пожизненно закрепить за ним власть, объявив ее царской. Идея скоро угасла, но
запомнилась фразой претендента на престол насчет того, что он не прочь стать царем Борисом
Первым. Его тут же поправили: Борисом Вторым, однако дремучий невежда случайно попал в
точку: время царствования Бориса Годунова - начало Смуты. События романа разворачиваются
при «Борисе Втором», и прототипы персонажей - Ельцин с «семьей», Лебедь, Березовский,
Ходорковский, Чубайс и другие, - изображенных емко и точно, легко узнаваемы. Уже одно это
обеспечило бы книге успех, однако задача автора была гораздо серьезнее: показать «механизм»,
психологический исток смуты.
Роман называется «Тень гоблина». Слово «гоблин» сродни русскому «бес», и действие романа
развивается как бы в двух планах: хроника политических интриг - и демонические силы, движущие
ее исполнителями. Бесовские повадки известны: прельстить, замутить, вселить раздор в люд-
ские души. Под влиянием «прелести» люди видят то, что прежде составляло основу душевной и
духовной жизни, как в кривом зеркале, и готовы отбросить все во имя чего-то неясного, но ма-
нящего... Отличительные черты смуты - отказ от традиционных ценностей, презрение к родине
и ее истории и отступничество, которым гордятся как доказательством свободомыслия и граждан-
ского мужества. «Мы ведь со своей национальной исключительностью уже на протяжении почти
двух веков представляем самую реальную угрозу всего человечества... Я бы вообще послал бы
на хрен всю эту любовь к отеческим гробам и дымам родного пепелища и бросился в объятия
русоборцев, если бы увидел в их глазах хотя бы искорку сочувствия и искренности», - размышляет
Малюта Скураш. Все, как говорится, приплыли, и единственное, что мешает объятиям с русобор-
цами, - живой интерес в их глазах: «Когда же вы, наконец, издохнете?»
‘Зарубежные записки" №19/2009
189
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Последствия ослепления обычно плачевны. «Восемь лет назад все были смелее, активнее,
еще во что-то верили и мечтали. На этих-то мечтах страну подловил и опустил бессовестно
бывший обкомовец со своей прожорливой семейкой». Бывший обкомовец, по сути мелкий бес,
ко времени действия романа уже полумертв, но те, кто вознес его на вершину власти, продолжают
раздувать смуту. Смута - их естественная среда обитания: в густом мареве предательств, под-
мен, лжи никто не станет им помехой. И вот что странно: кипучая деятельность гоблинов имеет
вполне реальные, житейские цели, зато взбаламученная ими жизнь приобретает фантасмагори-
ческие черты. Средневековые ритуалы во дворце Туркмен-баши; особняки за зубчатыми стенами,
карикатурно подражающими кремлевским, в кавказских селах; генерал Плавский, готовый приме-
рить на себя роль Колчака, - весь этот трагифарс осенен тенью гоблина. Те, кто считает себя
вершителями судеб народа, тоже во власти бесовского соблазна: сановные палачи сталинских
времен мнят себя хранителями таинства власти; олигархи, самозванцы наших времен, уверены
в своей всесильности; «отец всех туркмен» советуется с небесным голосом, звучащим в сводах
его дворца. Прозвище «гоблин» с юности прилипло к одному из персонажей романа, Амроцкому
(прототип - Березовский). Но циничный хитрец неожиданно попадает в положение беса из
«Сказки о попе и работнике его Балде» - его, мастера интриги, обводит вокруг пальца обычный,
неприметный человек. О «Сказке о попе...» напоминает еще один эпизод романа: дряхлый прези-
дент играет с «преемником» Пужиным в шашки на щелбаны. В сказке «с третьего щелчка вышибло
ум у старика», однако в жизни все сложилось мягче: толоконный лоб гаранта конституции выдержал
щелбаны, а бес исхитрился не платить оброка и отбыл с ним в Лондон.
Один из главных, знаковых персонажей романа генерал Плавский, крупный политический
деятель смутных времен. Измученная страна видит в нем спасителя России, и если он объявит
поход на захваченный гоблинами Кремль, к нему примкнут миллионы людей. Плавский бесстрашен,
он открыто демонстрирует презрение к дряхлому «царю», совершает «марш-бросок» в Чечню
для переговоров с Масхадовым, делает резкие заявления, фрондирует - но, вопреки общим
ожиданиям, дальше этого не идет. Отставленный с поста секретаря Совета национальной стабиль-
ности, он отправлен в почетную ссылку - губернаторствовать в один из регионов Сибири; для
присмотра за ним из Москвы присылают бывшего подчиненного, Скураша, однако Плавский
сносит и это унижение. Он уверен, что и губернаторство, и дрязги с местными чиновниками -
что-то вроде ложного маневра на пути к верховной власти. Плавский связан тайным договором
с олигархом Амроцким, посулившим ему место преемника Ельцина, и нетерпеливо ждет своего
часа. Гоблин сделал ставку на главные изъяны генерала - властолюбие и гордыню - и лживыми
обещанием лишил воли и здравомыслия. В прежней государственной иерархии он занимал
достойное место - «слуга царю, отец солдатам», - но теперь, при виде общего упадка и хаоса,
намерен бороться за власть по принципу кто смел, тот и съел. Это в сказках бравый солдат об-
щается с нечистью без всякого ущерба для себя, но в жизни нужны сила и вера, чтобы избежать
душевной порчи. Плавский - сильная личность, но ему свойственны нетерпимость, высокомерие,
и люди, готовые ради спасения России идти за ним, не подозревают о тайном сговоре вождя
с гоблинами. Упование на диктатора, который наведет порядок в государстве, - один из соблазнов
смутного времени, и если бы генерал Плавский получил власть, это стало бы бедствием для
страны. В сущности он сильно напоминает «Бориса Второго» - только лет на двадцать моложе,
в начале политической карьеры, и его окружение подстать пресловутой «семье». Плавский - по-
рождение и жертва смуты, и пустырь на месте его гибели кажется памятником этих трагических
времен. «Из-под снега проступали... как кровавые пятна на госпитальных бинтах, непокорные
гвоздики, пунцовые от скорби розы... Лапник венков, всевозможные подпорки, опрокинутые и
растерзанные ветром, словно руки погибших солдат в белых маскхалатах, тянулись к кресту, к
небу или просто торчали куда-то в сторону, являя собой протяжную, тоскливую картину».
Главная интрига сюжета - выбор преемника государственной власти, а в столь тонком деле
всегда присутствует элемент мистики. «Промысел Божий, - скажет будущему преемнику его на-
ставник, - или, по-атеистически думаю, что это проявление исторической справедливости».
Конечно, думать по-атеистически не запретишь, но только слепой не видит, что у власти темные,
стихийные силы, а воры, властолюбцы, выжиги, которые губят страну, - всего лишь их орудия.
Они и сами знают, что зависимы: собрание банкиров безропотно подчиняется таинственному
распорядителю, Плавский держит при себе пару сомнительных колдунов, а «отец всех туркмен»
190
КНИЖНАЯ ПОЛКА
принимает решения с согласия некого небесного голоса. И в круг этих подлинных и мнимых де-
монических сил вступает человек, выбранный Амроцким и «семьей» президента. Выбор между
своенравным, честолюбивым Плавским и исполнительным, без всяких амбиций, Пужиным кажет-
ся безошибочным - этот аккуратист станет новой марионеткой гоблинов. Но за Пужиным стоит
сила, которая развеет бесовские чары, - он, верующий человек, обращается в борьбе к Божьей
помощи. В фольклоре есть немало притч о «простецах», которые силой своей веры одолевают
дьявольские козни. Пужин, простец, который возлагает решение своей судьбы на Божью волю
и готов принять и «нести возложенную на него Господом ношу, какой бы непосильной и ненавист-
ной она ни была», - один из таких простецов. «Откровение снизошло на него... и стало доподлинно
ясно, что никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет ничьей марионеткой. А пройдет
свой отмеренный судьбой и Богом путь так, как ему повелят его совесть и правда». Однако, сле-
дуя законам «смутного времени», автор заставляет нас усомниться и в этом благородном порыве.
Роман «Тень гоблина» создает емкий, многоплановый образ России конца прошлого века,
где присутствуют и хроника борьбы в политических верхах, и психологический очерк смуты, и
притча о людях и гоблинах.
Иерусалим, август 2008
Даниил ЧКОНИЯ
ГРУСТНОЕ ВЕСЕЛЬЕ БОРИСА ВАЙНБЛАТА
Борис Вайнблат. Рассказы, написанные в Германии. Новеллы. Дортмунд. Verlag
“Partner, 2008. 60с.
У этой тоненькой скромной книжки - свой негромкий характер, свое лицо. Писать об авторе,
человеке, разменявшем седьмой десяток лет, как о литературном дебютанте странновато. Не
потому, что никто не начинал писать в таком возрасте. Но чаще всего это люди, прожившие за-
метную жизнь в искусстве, в науке, наконец, в политике; люди, взявшиеся за перо, чтобы расска-
зать о своей жизни.
Бывший харьковский инженер Борис Вайнблат засел за компьютер, переехав на жительство
в немецкий Дортмунд, что сразу же настораживает: слишком много людей, оказавшись невостре-
бованными в силу разных обстоятельств эмигрантской жизни, стали заполнять свой досуг литера-
турными упражнениями на тему повседневных забот и хлопот получателя социальных пособий.
Самое грустное, что авторы этих бесконечно однообразных миниатюр даже не замечали, что
одними и теми же словами пересказывали одни и те же расхожие байки, звучавшие в любом
эмигрантском застолье. Риск того, что Борис Вайнблат станет одним из многих безликих авторов
этих обезличенных рассказов, вероятно, существовал. Но в его первых же новеллах уже присутство-
вала своя интонация, свой взгляд на общие вещи. И он сумел, что я считаю главным его дости-
жением, поймать эту нотку своеобразия и упорно стал ее развивать.
Книжка названа просто, не мудрствуя лукаво: «Рассказы, написанные в Германии». Эти сухова-
тость, лапидарность в лучшем смысле слова очень характерны для Бориса Вайнблата.
Многие его миниатюры носят характер вспоминательный, создавая ощущение, будто автор
попросту пересказывает были, истории, но среди его новелл немало таких, которые подтверждают,
что для их создания понадобились писательская фантазия, писательский взгляд, неожиданный
метафорический ход.
Такими в особенности воспринимаются его «мидраши». Мидраши - аллегорические коммента-
рии к Библии, раскрывающие ее новые глубинные смыслы. Так, несколько упрощая, можно объ-
яснить значение этого слова. Вайнблат пишет свои мидраши, свой комментарий, обнаруживая
свое, неожиданное восприятие библейских сюжетов. Так происходит в новелле «Сара и Агарь».
Сара, идущая к палатке мужа, замечает, как поздним утром от палатки удаляется его любимая
наложница Агарь, и выговаривает той, мол, не очень-тоты, раба, торопишься на работу. «Я за
тебя работаю ночью, а ты могла бы за меня поработать днем», - съязвила Агарь, выпячивая
свой растущий живот». Сара по-женски оскорблена, ведь наложница права: Сара бесплодна. И
“Зарубежные записки" №19/2009 191
КНИЖНАЯ ПОЛКА
жена Авраама зло бросает, мол, следовало бы выпороть служанку за дерзость, но вдруг она
скинет и не родит для дома еще одного работника, раба. Агарь родит Исмаила, старшего, но
незаконного сына Авраама, а Бог даст Саре Исаака, сына законного, и придется Аврааму отправ-
лять из дому служанку и ее сына. Картина ухода Исмаила и его матери завершает известный
библейский эпизод неожиданно:
«Исмаилу не хотелось уходить от знакомых с рождения шатров... но Агарь неумолимо тянула
его в пустыню Вирсавии. И тогда он поднял с земли камень, прицелился и швырнул в Исаака.
И это был первый камень интифады».
От такого юмора и веселья немного, скорей на невеселые размышления настраивает читателя
автор.
Вообще многие рассказы Вайнблата представляют собой развернутый анекдот, где житейская
история обретает характер то веселой, то грустноватой, но полной иронии притчи. Вот еврей
из давнего белорусского местечка приходит к мудрому ребе Гершу, чтобы решить проблему:
корова Манька, кормилица семьи, не подпускает к себе быка, а ведь в семейном бюджете те-
лушка, проданная давно ждущим приплода соседям, стала бы спасением; что делать, должен
посоветовать мудрый ребе, к которому даже из самого Вильно раввины потолковать о торе на-
езжают. И вместо совета ребе констатирует: «Твоя корова из Минска». Еврей в недоуменном
восторге спрашивает раввина, откуда ему всё известно. «У меня жена тоже из Минска!» - груст-
но вздохнул мудрый ребе.
В рассказах Вайнблата то препарируются библейские сюжеты, то возникают реалии прошлой
жизни на родине, то звучат эмигрантские мотивы. Анекдотичность ситуации остается во многих
случаях излюбленным приемом автора. Герой очередного рассказа приходит домой и рассказы-
вает жене о том, что встретил своего бывшего сослуживца, главного инженера, который когда-
то на партсобраниях клеймил сионистов, а теперь заделался еврейским эмигрантом, будучи
евреем по матери. Пикантность сюжета в том, что быстро осваивающийся в любой обстановке
бывший главный инженер уже успел со многими перезнакомиться и намерен назавтра принять
участие в ветеранской утренней пробежке. Герой тоже член этого клуба бегунов-ветеранов, и с
ужасом представляет, какой позор ждет его следующим утром: ведь он врал всем, что был
главным инженером, а «Двух главных инженеров не бывает», как называется эта новелла. Прому-
чившись ночь, он не выходит на утреннюю пробежку, а днем встречает бывшего начальника
штаба и готовится к разоблачению. Но бывший начальник штаба радостно приветствует героя:
«А знаешь, нашего полку прибыло. Тут рядом новенький поселился, бывший замминистра».
В тоненькой книжке новелл Бориса Вайнблата и печальная история про деда, для которого
его собачка - напоминание о внуке, с которым они ходили на собачьи выставки и который по-
гиб в Афганистане, и щемящая незамысловатая история женского одиночества из рассказа
«Нина».
Наверно, можно порассуждать на тему о том, что порой автор, добивающийся лаконичности
и предельной сжатости своих миниатюр, «подсушивает» свою прозу. Возможно, он прав, чувствуя,
в чем сила его строгой повествовательной манеры. Но хочется пожелать Борису Вайнблату но-
вых обретений, расширения его писательской палитры, большей стилистической раскованности.
Тем не менее, многие вещи из этой книжки по-настоящему трогают, заставляют читателя
сопереживать героям, задумываться над своей жизнью. И это свидетельство того, что автор на
верном пути.
192
ИНЫЕ ЖАНРЫ...
Гоигорий ПЕВЗНЕР
ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
Утро. Кухня. Мусор. Кафель.
Сумрак. Кофе с парой вафель.
Сумрак серый. Кафель грязный.
Мир такой разнообразный!
Душа обязана трудиться...
Н. А. Заболоцкий
Душа обязана трудиться...
А телу это ни к чему.
В покое телу находиться
сподручней, судя по всему.
Решить, что праздность не беда, и,
держа культю карандаша,
лежать, спокойно наблюдая
за тем, как трудится душа.
Аз- Буки - Веди
Зверел Кирилл. Кирял Мефодий.
Не шла работа, хоть убей.
Курился ладан. Средь угодий
гонял мальчишка голубей.
Дождь стих. Повеяло сиренью.
Бежали тени по песку.
Кирилл, измученный мигренью,
провёл ладонью по виску.
Пробилось солнце. Деловито,
руладу пробную послав,
запел скворец. Ждал алфавита
через неделю Ростислав.
Скворец зашёлся, как вития.
Скворец собой заполнил сад.
Назад тянула Византия,
но не было пути назад.
Он глянул в сад, взывая к чуду.
Там, за окошком из слюды,
через сырой песок повсюду
бежали ижицей следы.
И, ощущая волю Божью,
‘Зарубежные записки" №19/2009
193
ИНЫЕ ЖАНРЫ...
застыл растерянно Кирилл.
Потом схватил перо и с дрожью
значок несложный повторил.
Нарисовал похожий. Вроде
посимпатичнее на вид.
Орал скворец. Храпел Мефодий.
И начинался алфавит.
У Парки болезнь Паркинсона.
Так что же - под старость с сумой?
Ведь пенсии нет! И прядёт она сонно...
Но судьбы выходят такого фасона,
что ей неудобно самой.
Нездоровится вороне.
Все забыли. Вечер сыр.
Сыр обронен, проворонен.
Да и был ли этот сыр?!
Кто-то каркнул в ближней кроне
и во всю умчался прыть.
Нездоровится вороне.
Нету сыра. Нечем крыть.
Нету счастья, право слово!
Негде сыр проклятый брать...
Нету дедушки Крылова,
чтобы вкусное наврать!
Буря мглою небо кроет,
как кобылу жеребец.
Небо хмурое и злое,
на кладбище ветер свищет,
парус счастия не ищет...
И в душе былая рана
затянулась, как ни странно.
Только чешется рубец.
Александр ОБРАЗЦОВ
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Одиссея
Мужик отвоевался, едет на родину.
194
ИНЫЕ ЖАНРЫ...
Но никакому к дому не приплыть. То бабы, то пьянка, то циклопы по пьянке, зеленого цвета.
А баба у него верная оказалась. К ней соседские подваливают, требуют определиться. Нор-
мально. Только как тут с правами человека? Может, она другой ориентации? Шутка. Просто че-
ловек ждет другого человека с фронта.
И чтобы от нее отстали, она им сказала, короче: сотку полотно, тогда определюсь.
Но она днем ткёт, а ночью распускает.
Нормальные ей женихи достались: годами им голову морочила.
В общем, мужик, наконец, приплыл.
Приплыл, мужиков соседских отметелил.
Жене пистон поставил.
Все счастливы.
Илиада
В Греции одному крупно повезло: женился на красотке.
Значит, готовься к бою.
Только муж за порог - к жене подваливает кобелина из-за моря, из нынешней Туретчины.
Но пока еще тоже грек, не турок.
Бабенка очень-то не царапалась, и рыданий особых от этого события не сохранилось.
Однако греки вдруг встали, как один, на защиту братана.
Очень их, значит, допекло. То одну телку уволокут за море, то другую. Надо когда-то и харак-
тер проявить.
Собрали флот. Одних названий на сто страниц.
Началась махаловка.
Самая крутая в истории: человек триста пало на поле брани. А может, и триста двадцать.
Точнее сказать: триста сорок.
Жуткая кровища.
Золотой осел
Тоже грек. Большой любитель женского пола.
Но как-то ему уже мало. Ему уже чего-то хочется сверх программы.
Скажем так: ослом. Очень ему неутомимость осла по душе.
Ослом стать - дело нехитрое. Намазала его одна ведьма - и отросли уши и прочие причинда-
лы.
Хорошо. Бабы воют от ужаса и счастья.
Только у ослов кроме маленького праздника есть большие трудовые будни. Это когда осла
лупят палкой и пинают в брюхо.
Это не так весело. Это даже неприятно. Тем более, что снова стать человеком как-то не
предвидится.
Гамлет
Человека дернули с высшего образования, наплели ему всяких деревенских сплетен, папу
грохнули, сами всё запутали - и что оставалось чуваку?
Порубил всех в капусту, не сдержался.
Правда, и себя не сберег.
Дон Кихот
Гутенберг в 1445 году создал книгопечатание подвижными литерами.
А через столет Дон Кихот, нищий помещик из Кастилии (Колумб вчера только Америку от-
крыл) уже сошел с ума, начитавшись рыцарских романов.
То есть за сто лет без электричества и железных дорог нищие испанские идальго нагрузились
типа Интернета. Я уже не говорю о стоимости тех книг.
Чтобы обчитаться до сумасшествия, надо иметь поступлений минимум 3000 страниц в месяц.
‘Зарубежные записки" №19/2009
195
ИНЫЕ ЖАНРЫ...
Ленин, как известно, читал по сто страниц в час, сидя на горшке.
Но Ленин руководил страной, а Дон Кихот имел одну служанку и массу свободного времени,
чтобы ему без препятствий сносило крышу. Это первый вопрос.
Второй вопрос касается Дульсинеи. Дикое, мрачное средневековье, а идальго Дон Кихот
влюбился без памяти в женщину своей мечты. Сегодня у нас расцвет наук и технологий, а жен-
щины интересуют всех только параметрами своих гениталий.
Куда мы движемся, хочу я спросить? Вниз или вверх? Ответ очевиден.
Но возникает еще вопрос: какую цивилизацию вытоптали и выжгли г.г. христиане, такие все
велеречивые и смиренные, если идальго до сих пор - осколок прежней роскоши?
Король Лир
Один старикан нарожал трех девиц и чтой-то ему стало скучно.
Решил развлечься. Та, которая его больше похвалит за производительность и выдающийся
ум, та получит много отцовских деньжат, а та, которая слабо похвалит, не получит ни шиша.
А старикан был не только большого ума, но и страшно проницательный - всё насквозь ви-
дел. Потому он много не думал: всё раздал подхалимкам. Ажить пришел ктой, которую обсирал.
Такая высокая получилась трагедь.
Ромео и Джульетта
Странность данной детской истории в том, что детки, дорвавшиеся до противоположного
пола, не столько работают руками, сколько языком. И совсем не в том смысле, который предпола-
гает современный читатель.
Отелло
А странность этой детской истории в том, что здоровенный негр на деле оказался импотентом:
иначе его подозрения по поводу малокровной Дездемоны объяснить невозможно.
Война и мир
Один барин полюбил простой народ.
Который и у него в рабстве был.
Потому возникла проблема: как совместить свою любовь и доходы от имения, поскольку
нынешний народ любви особой не вызывал, а только раздражение?
Соседские баре решали эту проблему просто: все доходы от эксплуатации туг же проигрывали
в карты.
А наш герой был мыслитель, очень уважал душевный комфорт. Потому начал писать большой
роман о том, как простой народ из объекта раздражения в результате освободительной войны
превращается в объект восхищения.
Заодно и доходы можно было плавно перевести на другую, трудовую линию.
Однако внутренний комфорт был нарушен таким переводом уже навсегда: разве скроешь от
себя самого, что тебе нравится хруст сторублевок? Барин был упрям, но и бес внутри барина
ему не уступал.
Оттого и роман был назван так: война и мир.
Хотя миром там не пахло. Потому мир писался так: Mip. По старому правописанию, когда в
стране господствовало рабство. Но одновременно господствовала и дворянская культура. Культура
рабства.
196
Коротко об авторах
Людмила Агеева Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закон-
чила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет
работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию.
Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкур-
са 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.
Игорь Андрианов Прикладной математик, механик. Родился в 1948 году в г. Мука-
чево (Украина). Окончил механико-математический факультет Днепропетровского уни-
верситета, доктор физико-математических наук, профессор. Автор восьми математиче-
ских и четырех научно-популярных книг. Публиковался в журналах «Звезда», «Природа»,
«Знание - сила», «Химия и жизнь - XXI век». Живёт в Кёльне.
Арсений Березин Прозаик. Родился в Ленинграде в 1929 г. Закончил физический
факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук. Рабо-
тал в Физико-техническом институте АН СССР на протяжении 35 лет. Член Европейского
физического общества, действительный член Международной академии наук и образова-
ния (Сан-Франциско). Активный участник и организатор конференций по предотвращению
ядерной войны. Руководит работой Комитета петербургских ученых по борьбе с терро-
ризмом. Автор рассказов, опубликованных в журнале «Звезда» и сборника «Пики-козы-
ри», изданного Пушкинским фондом в 2007 г. Живёт в Санкт-Петербурге.
Олег Блажко Поэт, художник. Родился в 1966 году в городе Искитим Новосибирской
области. Специализация как художника - декоративно-прикладное искусство. Стихи
публиковались в периодике США, России, Украины. Консультант раздела поэзии литера-
турного журнала «Терра Нова» (Сан-Франциско). Живёт в Киеве.
Борис Дубин (р. 1946, Москва, в семье медиков, в 1970г. окончил филологический
факультет МГУ) - российский социолог, переводчик англоязычной, французской, испан-
ской и латиноамериканской, польской литературы, преподаватель социологии культуры
в Институте европейских культур и Московской высшей школе социальных и экономиче-
ских наук, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического
центра Юрия Левады, заместитель главного редактора журнала «Вестник общественного
мнения». Живёт в Москве.
Евгений Ермолин Критик, историк культуры. Родился в 1959 г. в деревне Хачела
Архангельской области. Окончил Московский государственный университет, факультет
журналистики. Работал журналистом, преподает в вузах Москвы и Ярославля. Зам. гл.
редактора журнала «Континент». Автор нескольких книг по истории культуры и журналь-
ных статей о литературе. Лауреат премий «Луч света - Антибукер» (2000), журналов
«Дружба народов» (2001) и «Октябрь» (2005). Член жюри премии «Большая книга». Живёт
в Москве и Ярославле.
Галина Ермошина Поэт, прозаик, литературный критик. Род. в с. Ивантеевка Са-
ратовской обл. в семье служащих. Окончила Куйбышевский институт культуры (1984).
Работает в библиотеке. Автор книги стихов: «Окна дождя», Саратов, Приволжское изд-
во, 1990; «Оклик», Самара, «Гуманитарно-промышленный фонд», 1993. Печатает стихи
в журналах «Новая Юность», «Октябрь». Переводит с английского языка стихи Э. Дикин-
сон. Выпустила также книгу прозы «Время город», Саратов, «Гуманитарно-промышлен-
ный фонд», 1994. Выступает как критик в журнале «Знамя» (с 1998). Стихи переводились
“Зарубежные записки" №19/2009 197
на английский язык. Премии Фестиваля русского свободного стиха (1989, 1991), Фести-
валя прозаической миниатюры (1998). Живёт в Самаре.
Елена Игнатова Поэт, прозаик. Родилась в Ленинграде. С 1975 года постоянно
публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор поэтических сборников «Стихи о
причастности» (1976, Париж), «Теплая земля» (1989, Ленинград), «Небесное зарево»
(1992, Иерусалим), «Стихотворения разных лет» (2005, Иерусалим), книги «Записки о
Петербурге» (1997, 2003, Санкт-Петербург), повестей и рассказов. Стихи включены в
русские и зарубежные антологии русской поэзии XX века, переведены на многие языки.
С 1990 года живёт в Иерусалиме.
Мария Игнатьева (псевдоним, настоящая фамилия Оганисьян). Поэт. Родилась в
Москве в 1963 году. Закончила факультет журналистики и аспирантуру филологического
факультета МГУ. Защитила диссертацию по европейской трагедии XVII века. С 1989 го-
да живёт в Барселоне, преподает русский язык в Государственной школе языков для
взрослых. Автор двух поэтических сборников («Побег», 1997, и «На кириллице», 2004).
Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Арион», в «Новой газете», журнале «Стороны
света», антологии «Освобождённый Улисс» и др.
Петр Ильинский Прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1965 году в Ленинграде, выпуск-
ник МГУ, научный работник. Книги: «Перемены цвета» (Эдинбург, 2001), «Резьба по
камню» (СПб., 2002), «Долгий миг рождения. Опыт размышления о древнерусской исто-
рии VIII—X вв.» (М., 2004) и «Легенда о Вавилоне» (СПб., 2007). Многочисленные статьи
и рассказы публиковались в российской и зарубежной периодике. Живёт в Кембридже
(США).
Алексей Макушинский Поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году
в Москве. По образованию филолог, кандидат наук. Автор романа «Макс». Публикуется
в русских литературных журналах и многочисленных научных немецких изданиях. Член
редколлегии журнала “Forum fur osteuropaische Ideen- und Zeitgeschichte“ и его русской
сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник
кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Инголь-
штадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.
Александр Медведев Поэт, прозаик, публицист, журналист. Родился в 1945 г. в
сибирском городке Колпашев. Работал на шахте, на заводах Урала, стройках Ленингра-
да и Москвы; в настоящее время, кроме литературной работы, занят в предприниматель-
стве. Окончил Высшие литературные курсы, член Союза писателей с 1976 г. Автор се-
ми книг стихов и множества публикаций в ведущих российских литературных журналах
и газетах. Живёт в Москве.
Александр Мильштейн Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1963 г. в Харько-
ве. В 1985 г. окончил механико-математический факультет Харьковского государственно-
го университета. В 1995 г. переехал в Германию. Автор трёх книг прозы и многих публика-
ций в литературных журналах России, Украины, Германии, Израиля, а также в сетевых
изданиях. Живёт в Мюнхене.
Григорий Никифорович Публицист. Родился в 1946 году в Минске. Биофизик,
кандидат физико-математических и доктор биологических наук. Работал в научных ин-
ститутах и университетах Минска, Риги, Тусона (Аризона) и Сент-Луиса (Миссури). Автор
трех научных монографий и около 150 статей. Автор научно-художественных книг «Бесе-
ды о жизни» (1977) и «Почти природные лекарства» (1987). Под псевдонимом Ник Грегори
198
выпустил детективный роман «Сорвать банк в Аризоне» (М., Время, 2005). Живёт в
Сент-Луисе, США.
Георгий Нипан Прозаик. Родился в Риге в 1955 г., в 1977 г. окончил химфак МГУ.
Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической
химии РАН, автор или соавтор 170 опубликованных научных работ. Как прозаик печатался
в журнале «Знамя». Живёт в Москве.
Александр Образцов Прозаик, драматург, поэт. Публиковался в журналах «Новый
мир», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Грани», «Нева», «Звезда» и др., в газетах «Независи-
мая», «АиФ», «МН», «ЛГ», «Час пик». Спектакли по пьесам О. поставлены в Петербурге,
Москве, Риге, Тбилиси, Цюрихе, Кёльне, Гранд-Рапидсе (США) и других городах и стра-
нах. Выпустил несколько книг рассказов. Две всесоюзные премии за радиопьесы. Премия
Сергея Довлатова в 2003 году за лучший рассказ. Первая премия за пьесу «Пятеро» на
конкурсе к 60-летию Победы. Живёт в Санкт-Петербурге.
Григорий Певзнер Поэт. Родился в Харькове в 1956 году. Закончил Ленинградский
педиатрический институт. Автор книги стихов и переводов «Зелёный медведь» (Москва,
2006). С 1992 года живёт в Марбурге (Германия).
Александр Титов Прозаик. Родился в 1950 году. Закончил Московский полиграфиче-
ский институт. Автор четырех сборников рассказов. Печатался в журналах «Новый мир»,
«Волга», «Подъем», «Аврора», и др. Живёт в селе Красное Липецкой области.
Марк Харитонов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1937 г. в Житомире. В
1960 году окончил историко-философский факультет МГПИ. Работал учителем, ответст-
венным секретарём в многотиражной газете, редактором в издательстве. Переводил с
немецкого Г. Гессе, С. Цвейга, Э. Канетти, Ф. Кафку и др. Автор множества книг и жур-
нальных публикаций. Лауреат Букеровской премии за 1991 год. Живёт в Москве.
Феликс Чечик Поэт, Родился в 1961 году в г. Пинск ( Беларусь). Закончил Литера-
турный институт им. Горького. Стажировался в Институте славистики Кёльнского универ-
ситета. Автор трёх поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Состави-
тель антологии современной русской поэзии «Там звезды одне» ( Kirsten Gutke Verlag
Koln 2001 г.). Живёт в Израиле.
Даниил Чкония Поэт, переводчик, литературный критик. Родился в Порт-Артуре в
1946 году, вырос в Мариуполе, жил в Тбилиси, с 1975 года в Москве. В 1973 году окон-
чил Литературный институт им. Горького. Автор семи книг стихов. В переводах Д. Чкония
увидели свет книги многих грузинских прозаиков и поэтов. Стихи, статьи, переводы
многократно публиковались в толстых журналах, альманахах, различных периодических
изданиях в России и за рубежом. Главный редактор (соредактор) журнала «Зарубежные
записки». Живёт в Кёльне.
“Зарубежные записки" №19/2009
199
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально
Partner MedienHaus GmbH & Со. KG
Руководитель издательства: д-р Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 20.08.2009
Адрес: Partner MedienHaus GmbH & Со. KG
Markische Str. 115
44141 Dortmund, Germany
Тел.:+49 231 952 973 0 (общий)
+49 231 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de
Банковские реквизиты:
Konto 123 10 75
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund
Электронная версия в Интернете:
http://magazines.russ.ru/ (Журнальный зал)
http://www.zapiski.de
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (Partner
MedienHaus GmbH & Со. KG, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши
данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей
Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) - для проживающих вне Германии. Вы
получите четыре очередных выпуска журнала.
По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала
звоните по тел.: +49 231 952 973 16
АНОНС
Читайте в двадцатом номере «Зарубежных записок»
Прозу
Нины Горлановой (Пермь),
Бориса Хазанова (Мюнхен),
Михаила Гиголашвили (Саарбрюкен),
Сергея Жадана (Харьков),
Инны Лесовой (Киев),
Баадура Чхатарашвили (Тбилиси)
Стихи
Владимира Салимона (Москва),
Михаила Дынкина (Ашдод, Израиль),
Альбины Синевой (Воронеж),
Каринэ Арутюновой (Тель-Авив)
Критику и эссеистику
Майи Туровской (Мюнхен),
Юрия Малецкого (Кёльн),
Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Леонида Гиршовича (Ганновер)