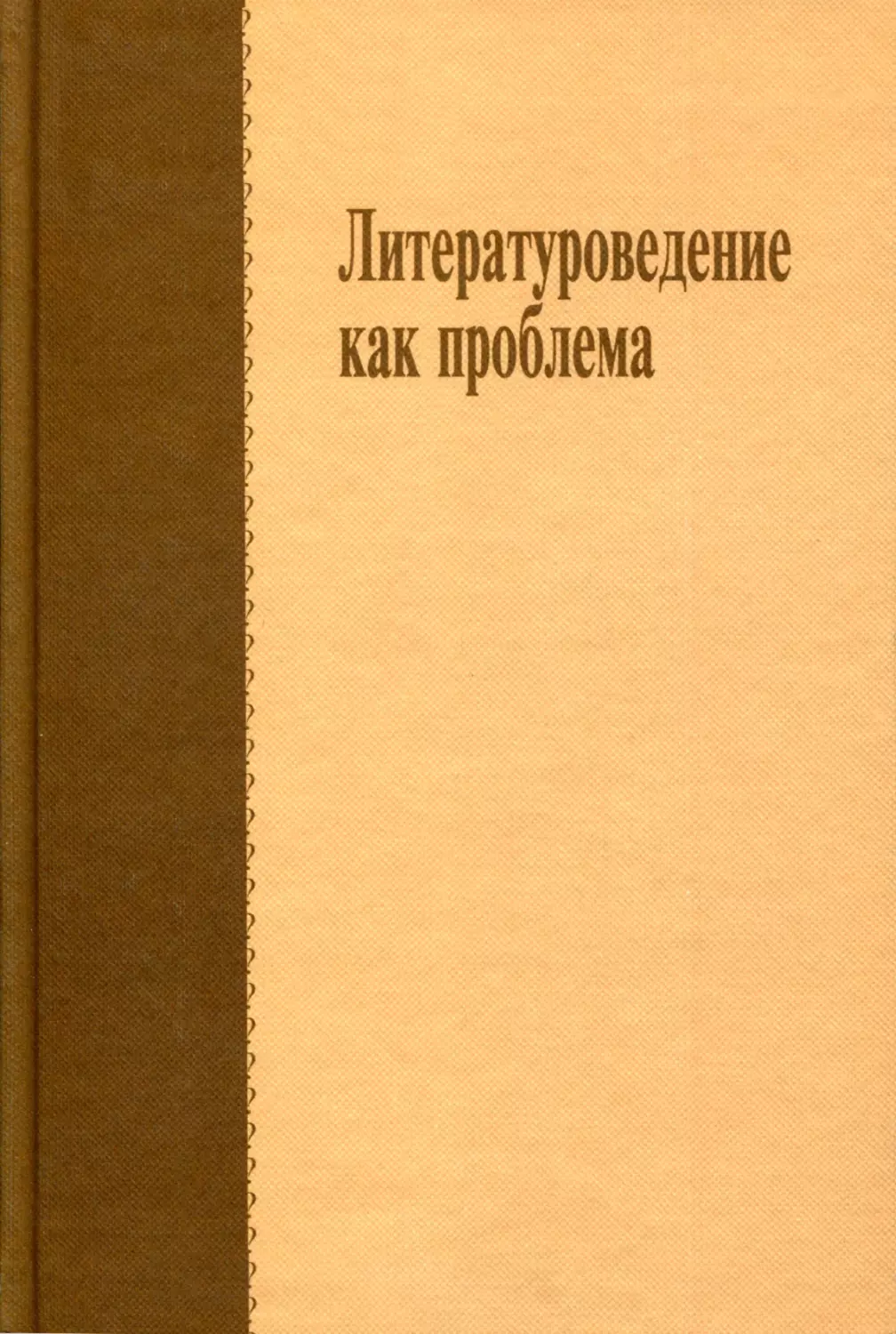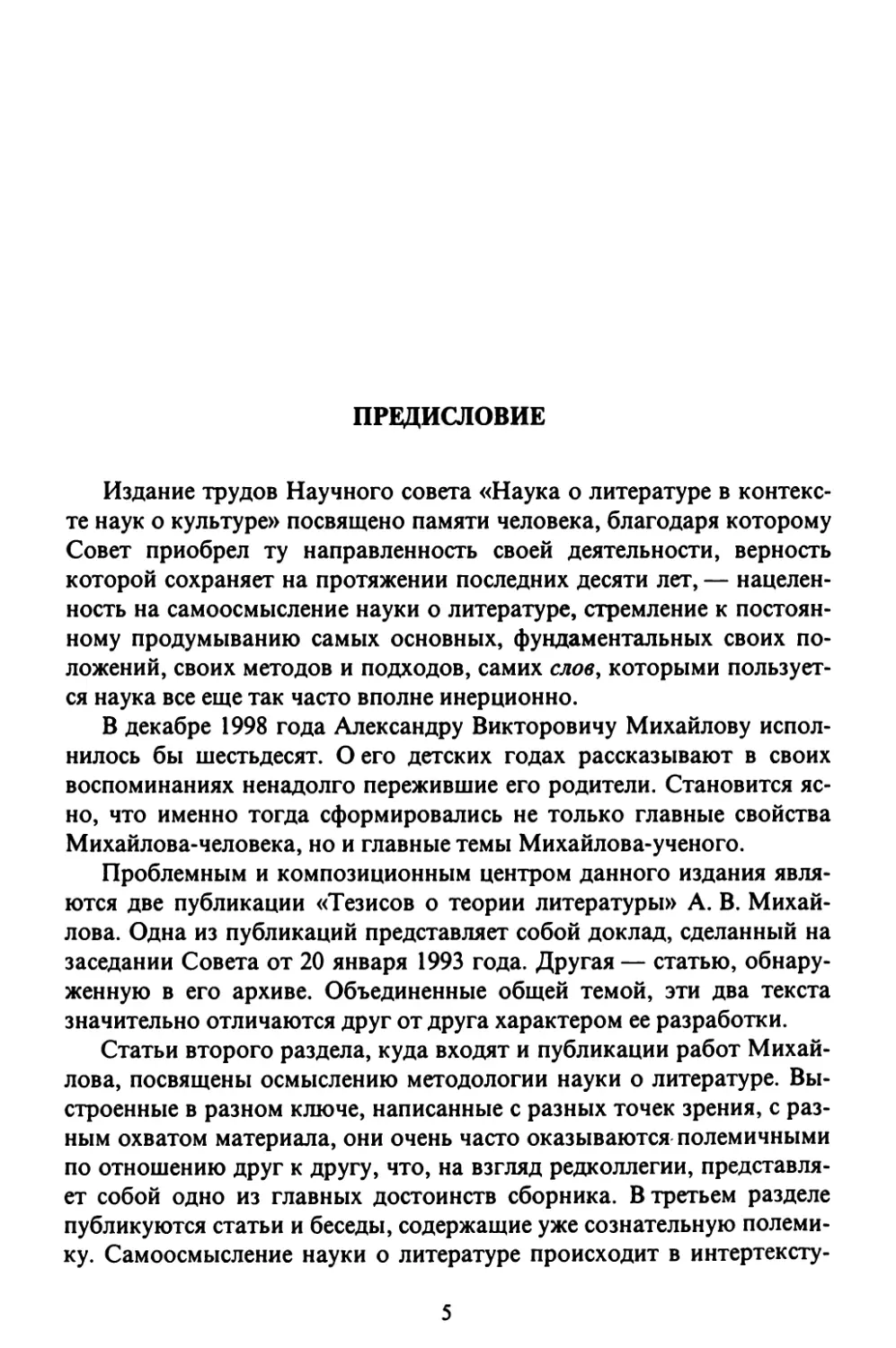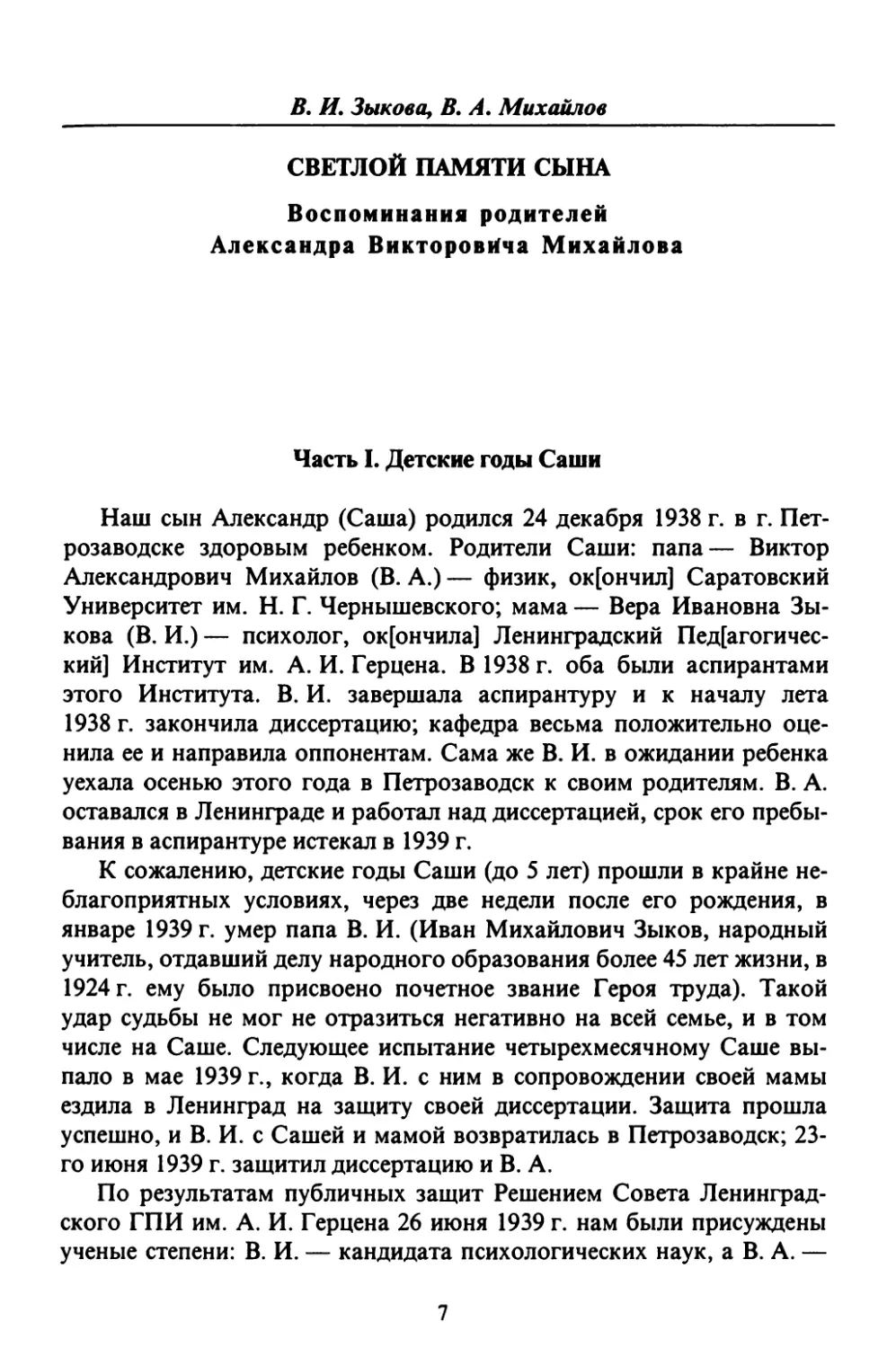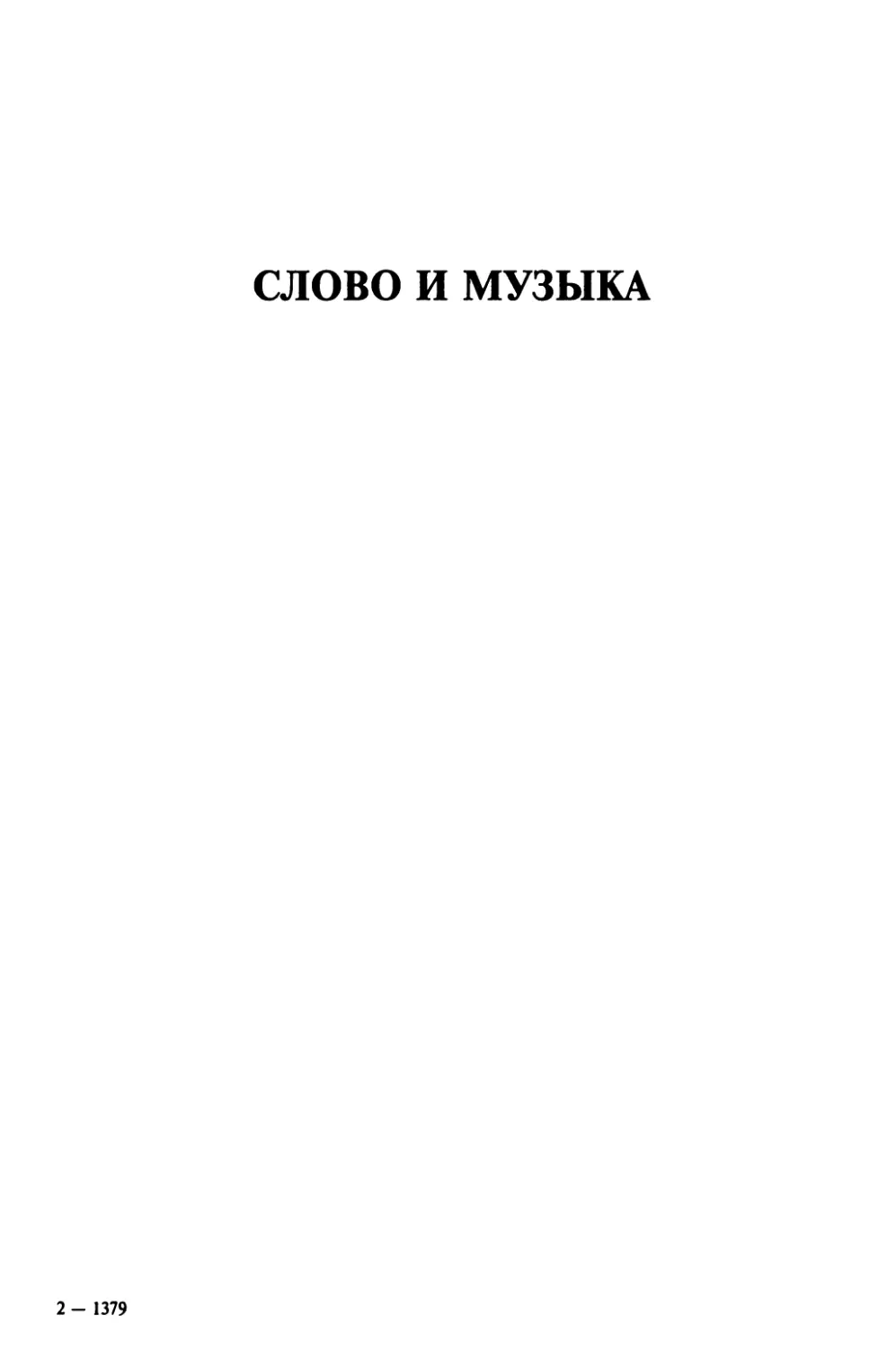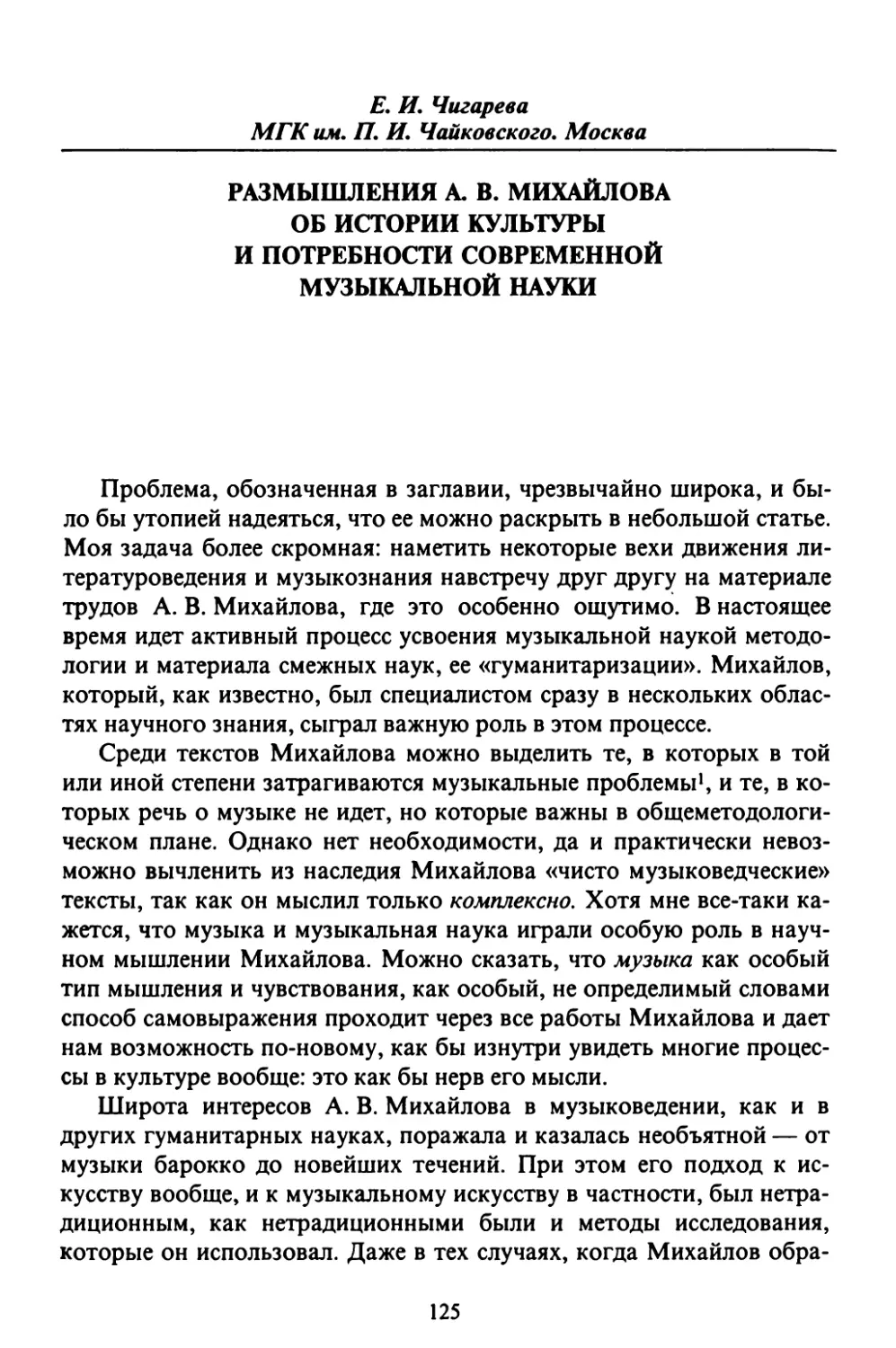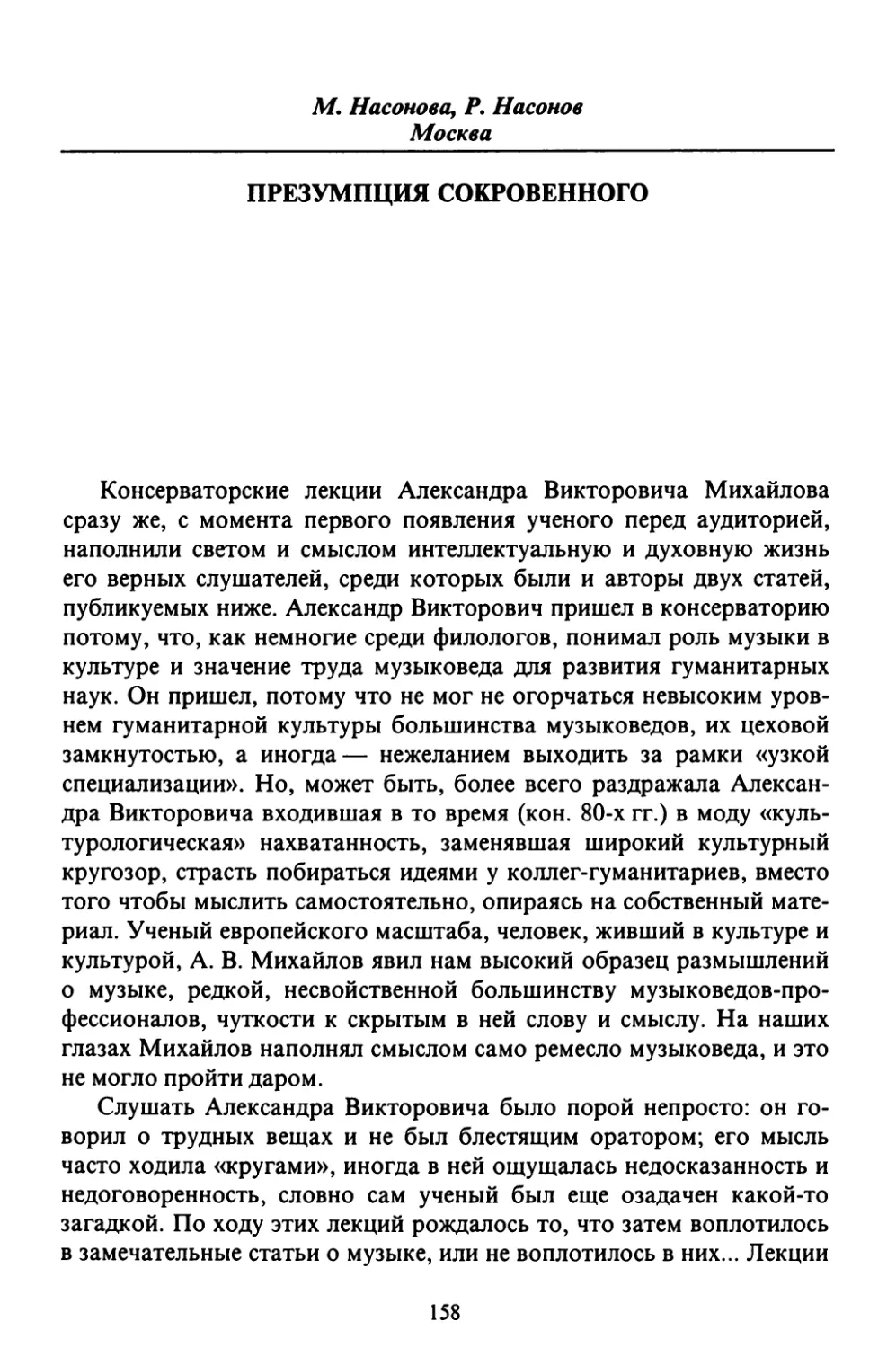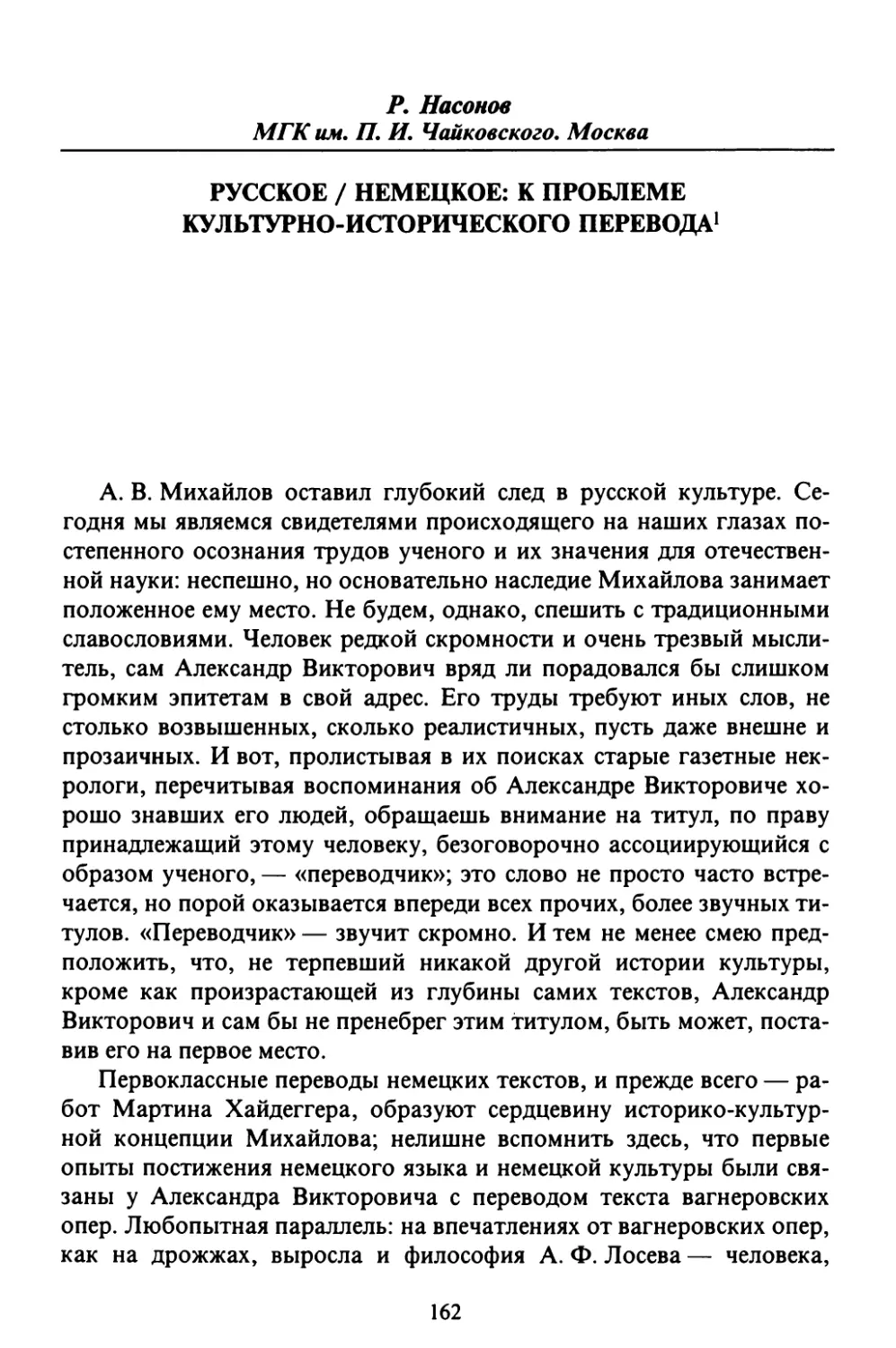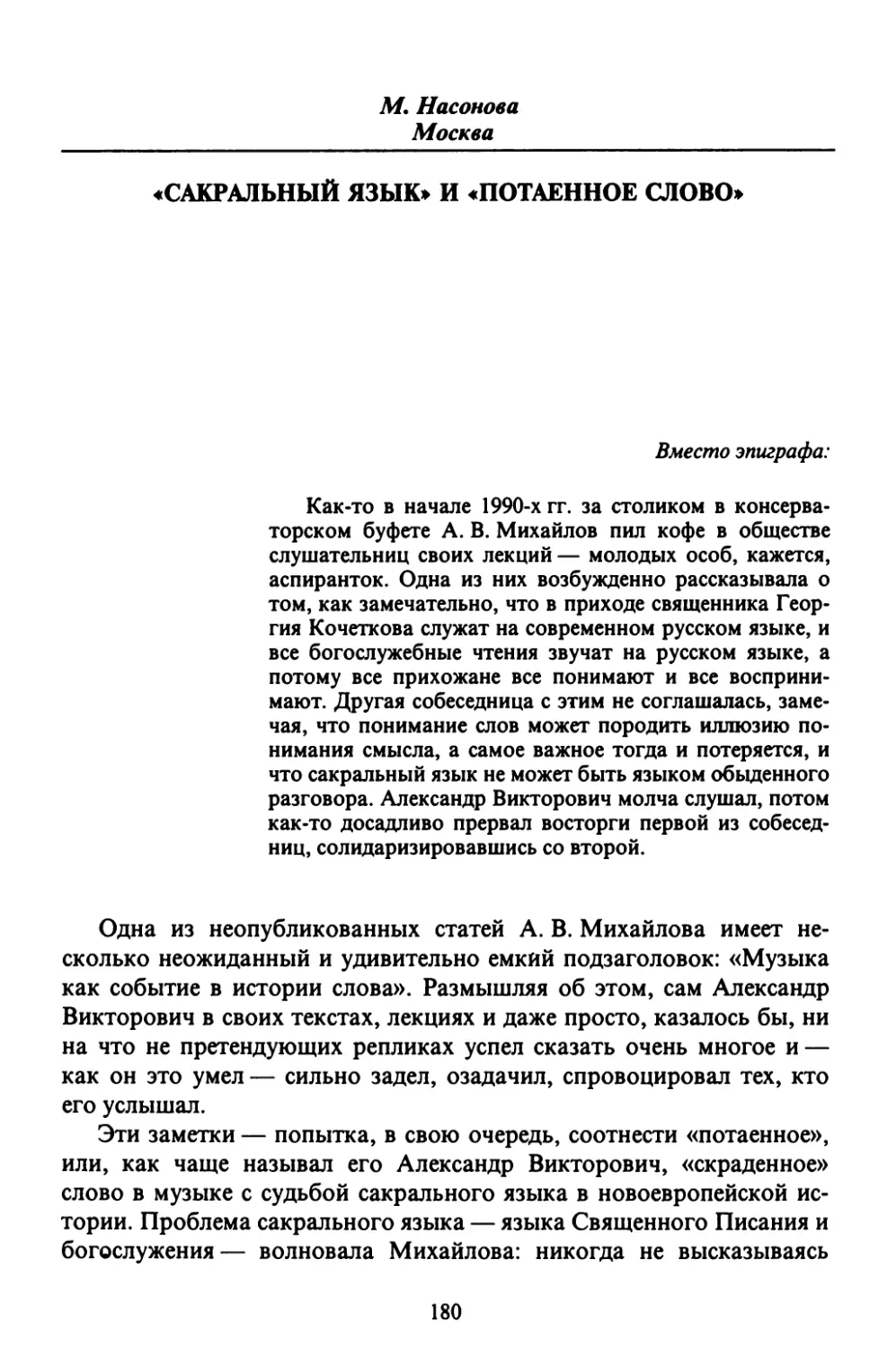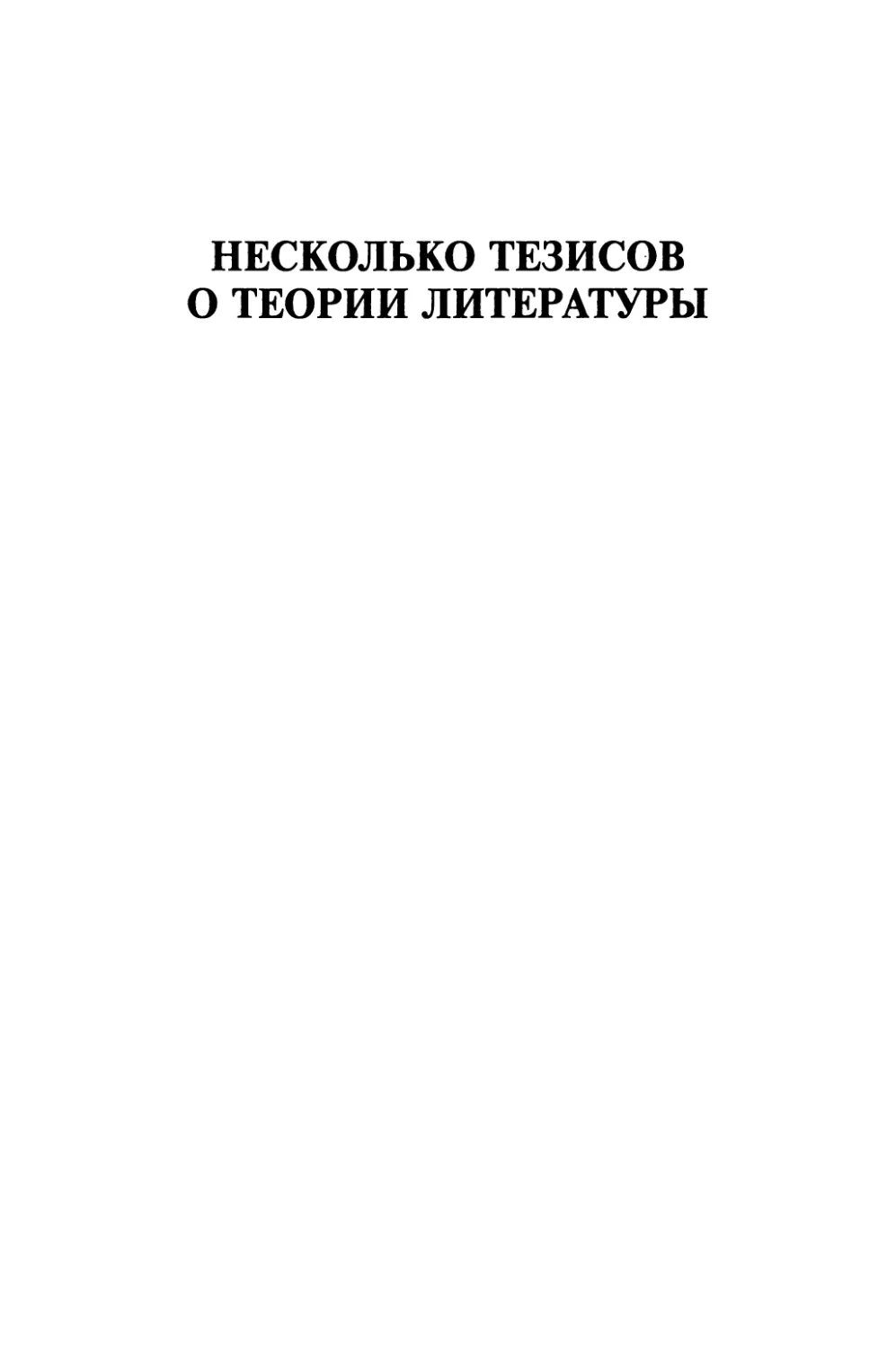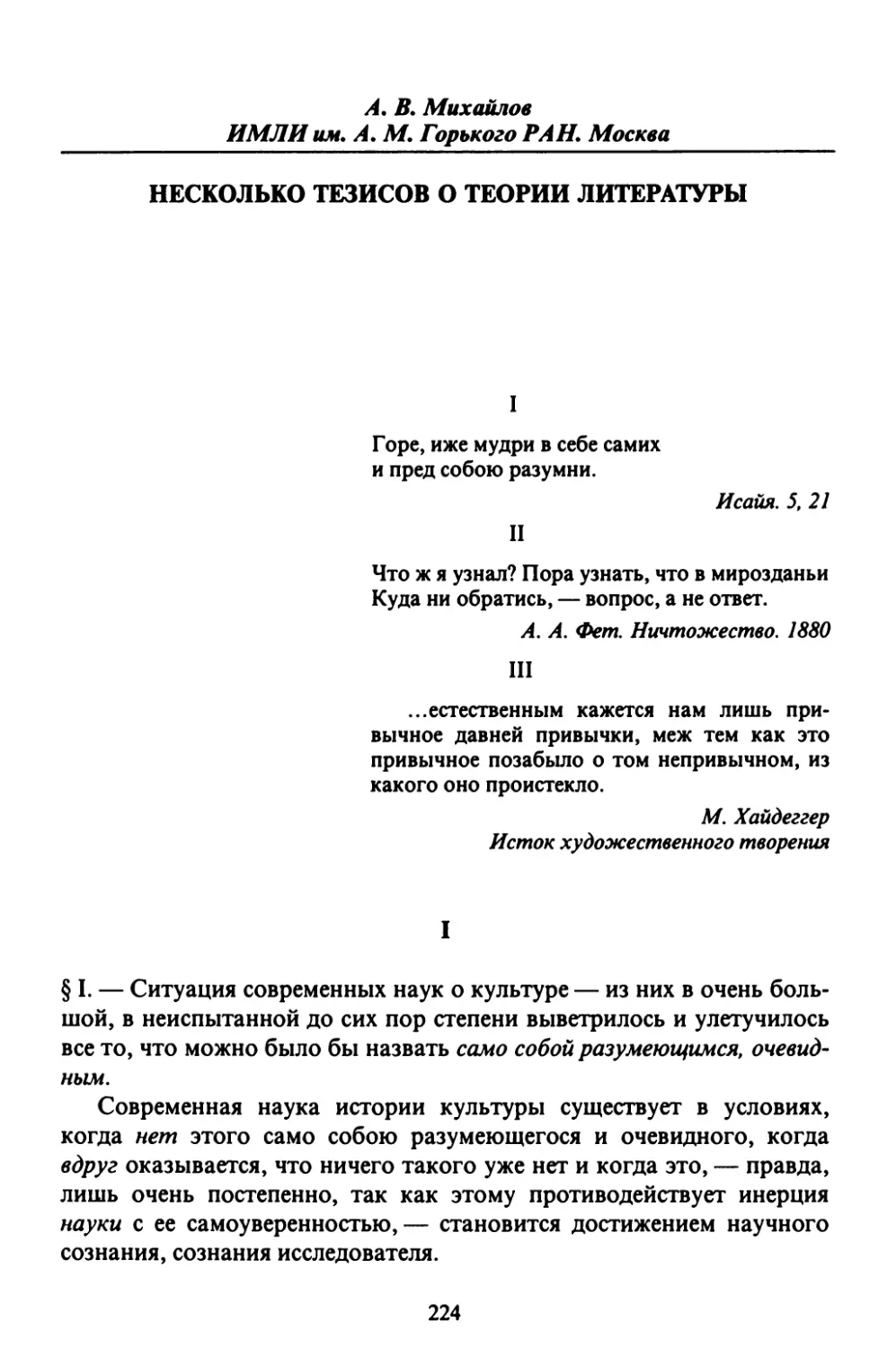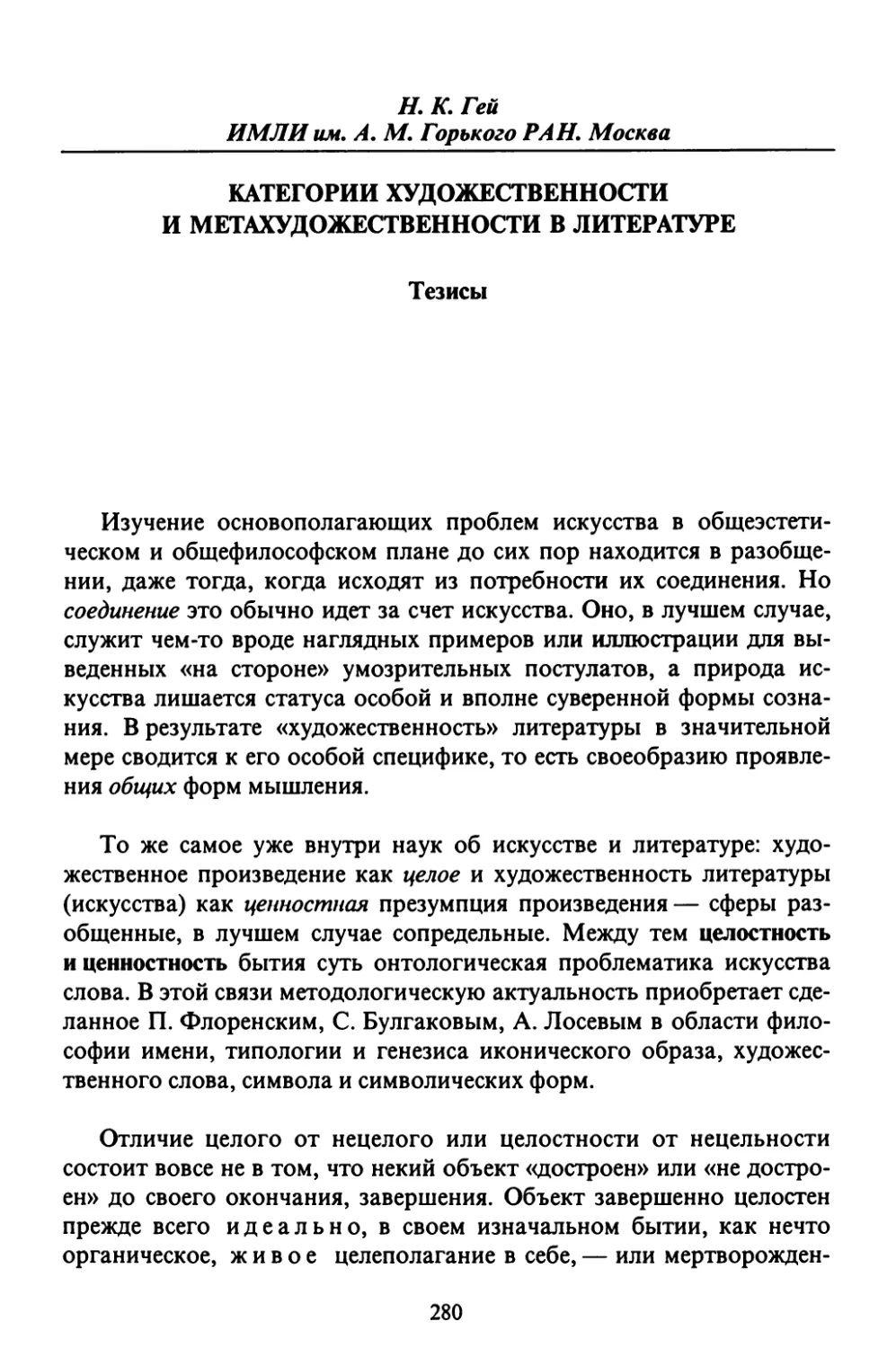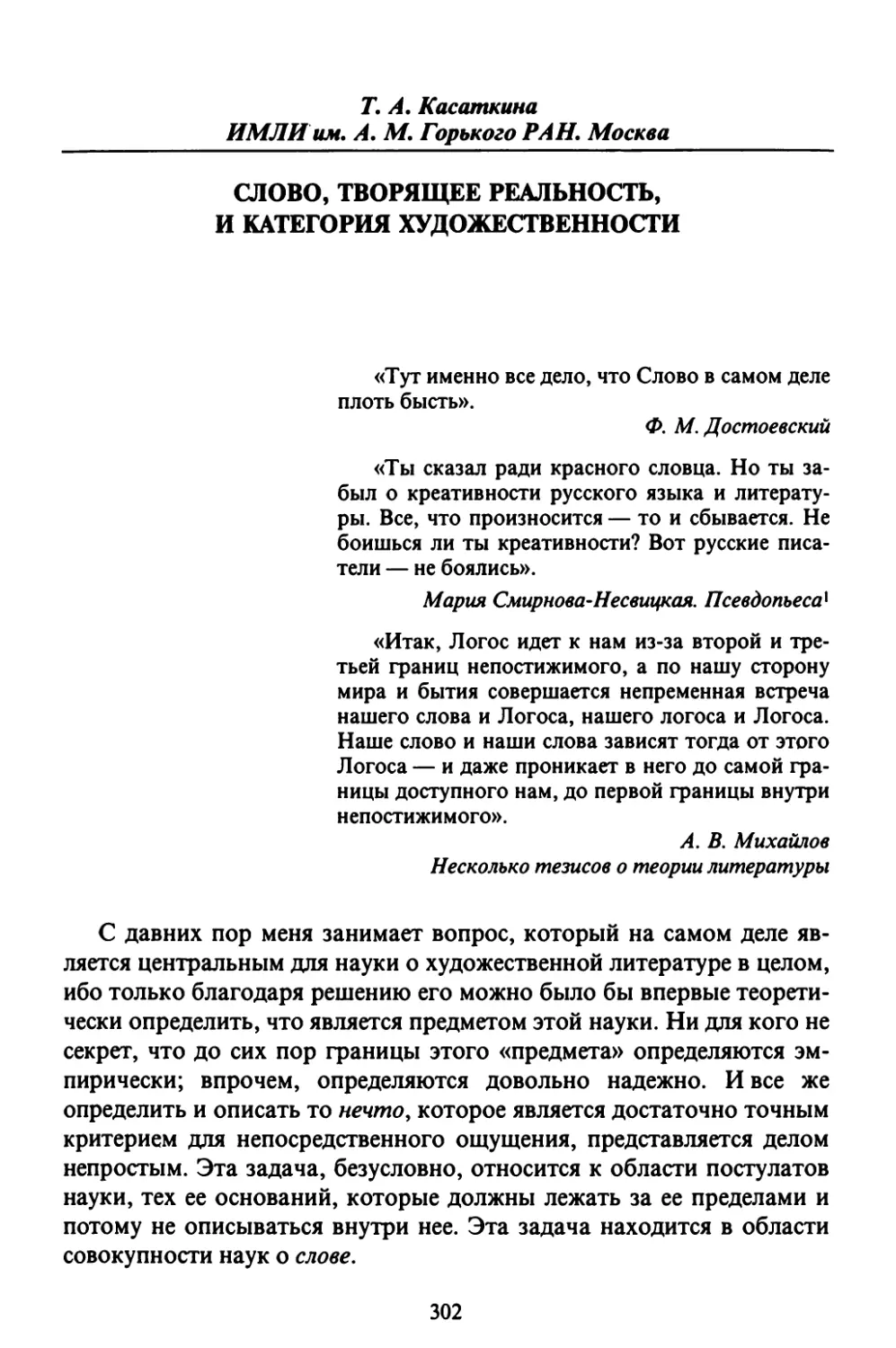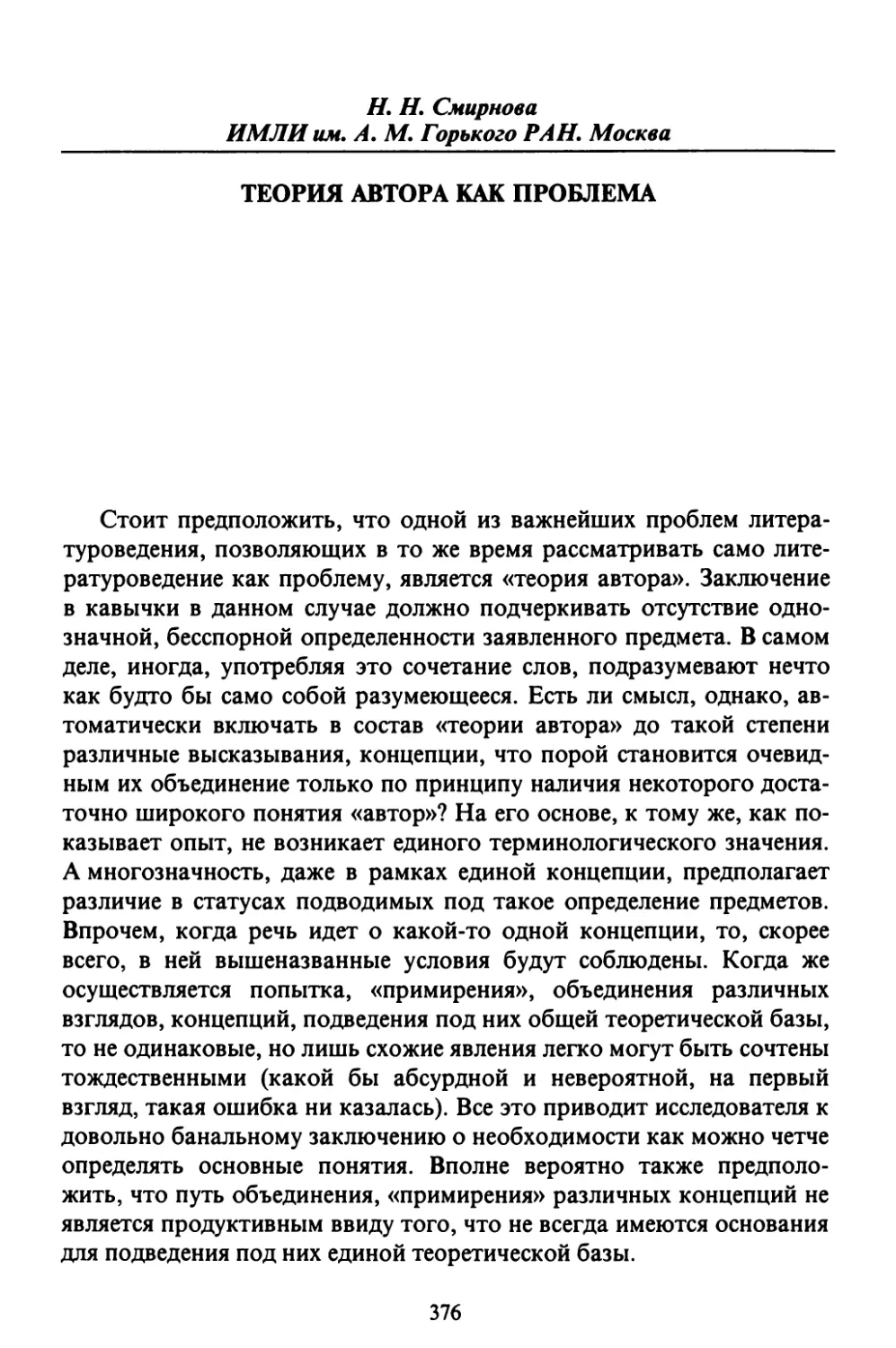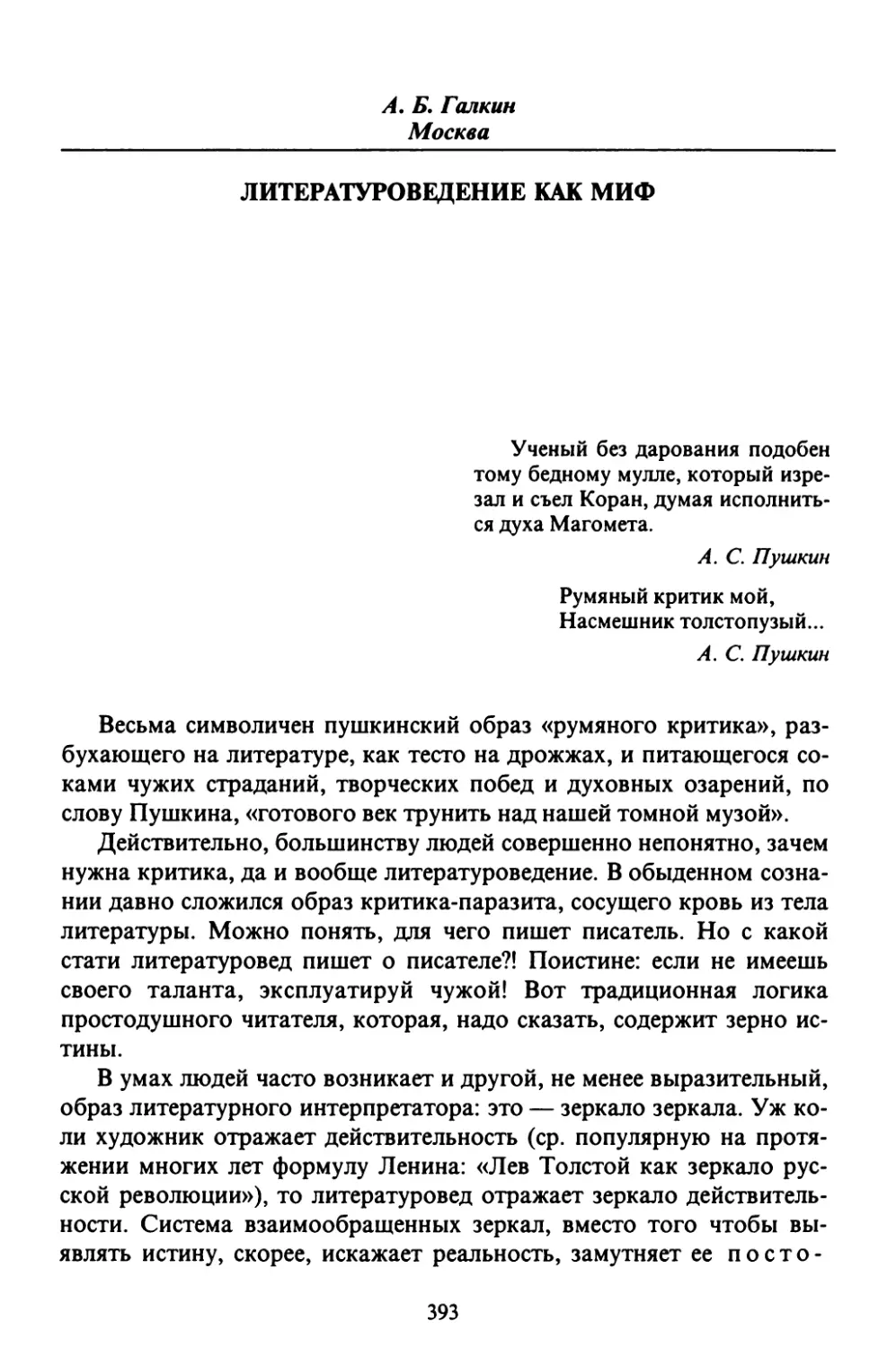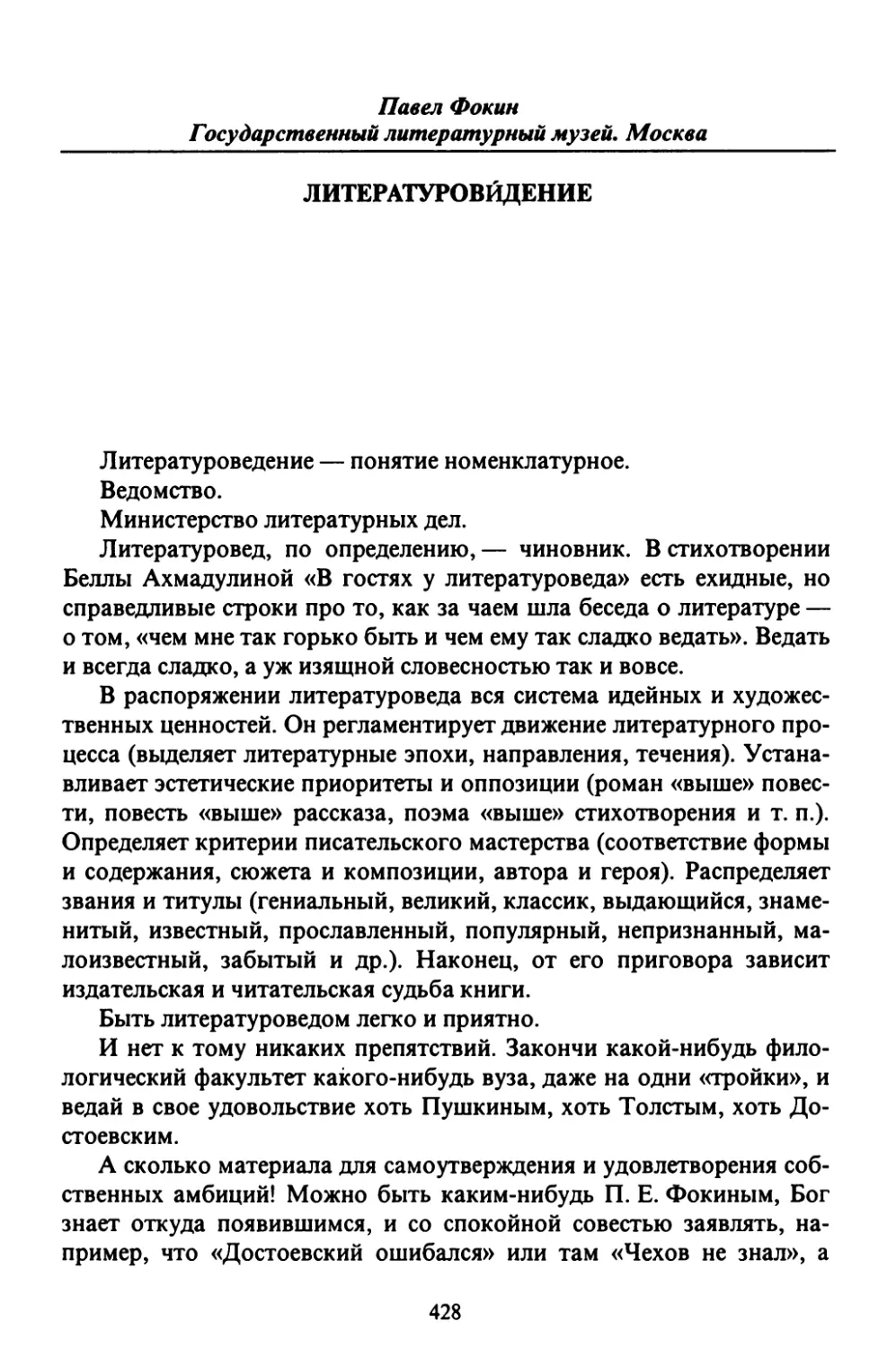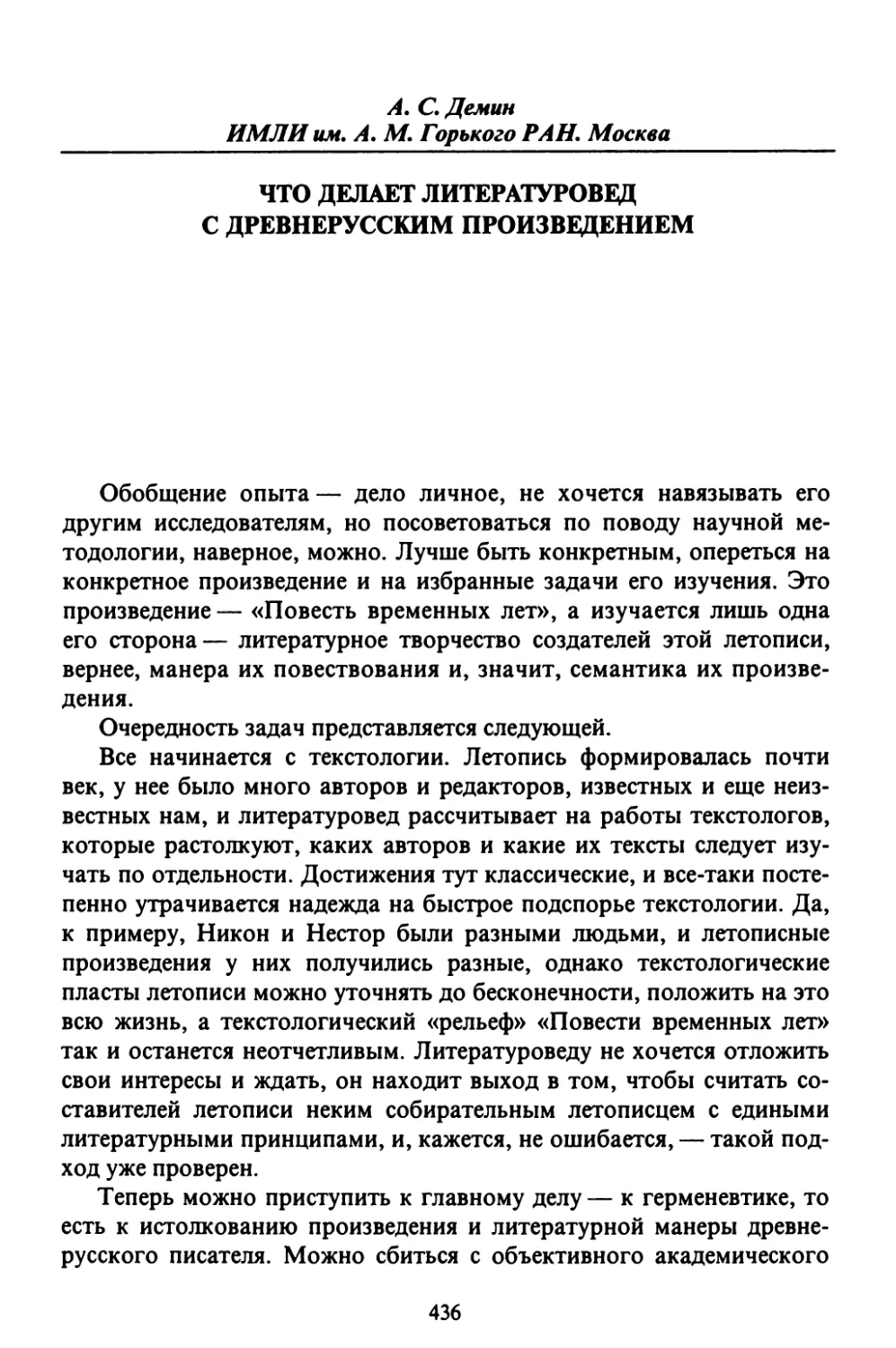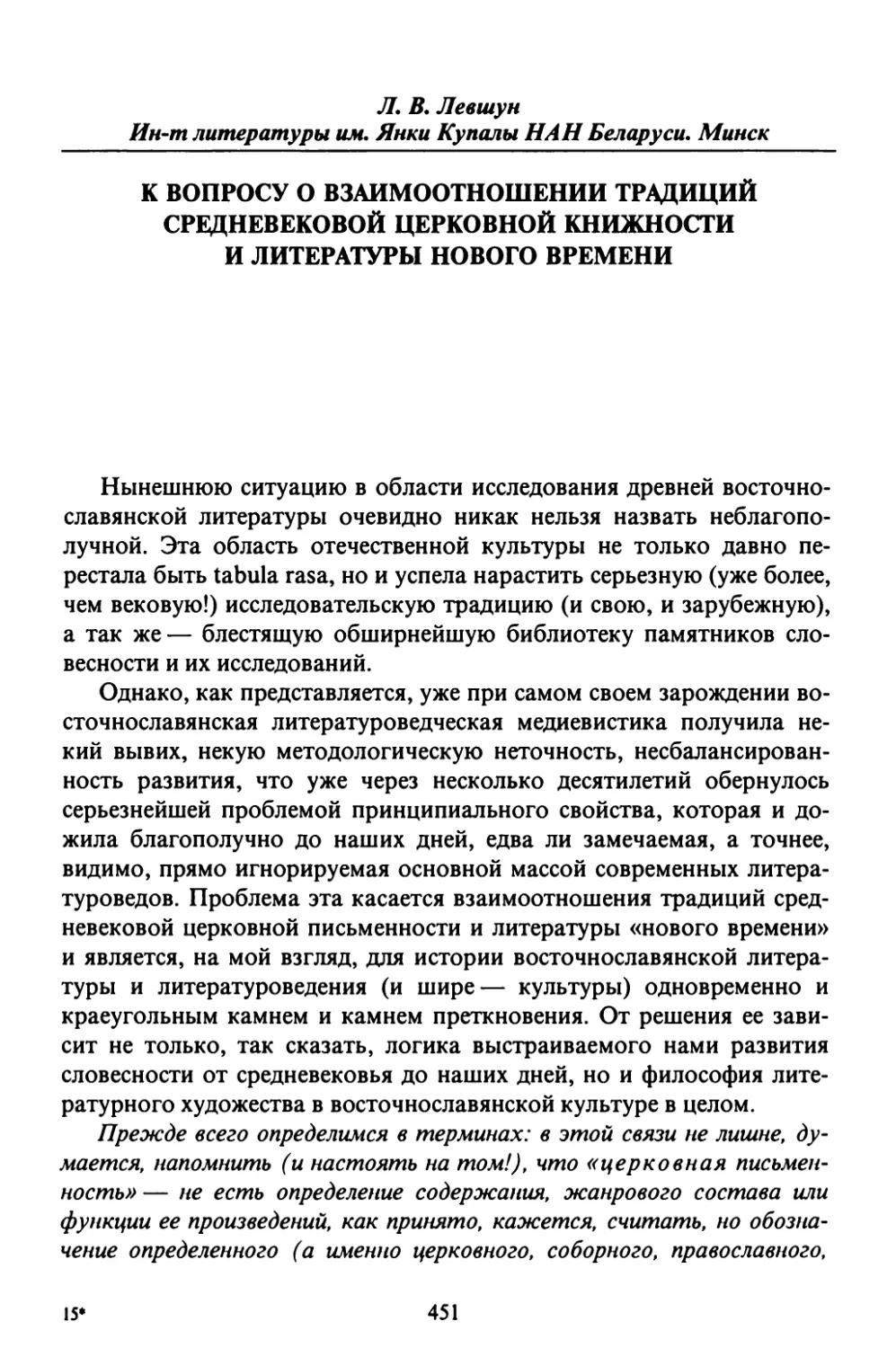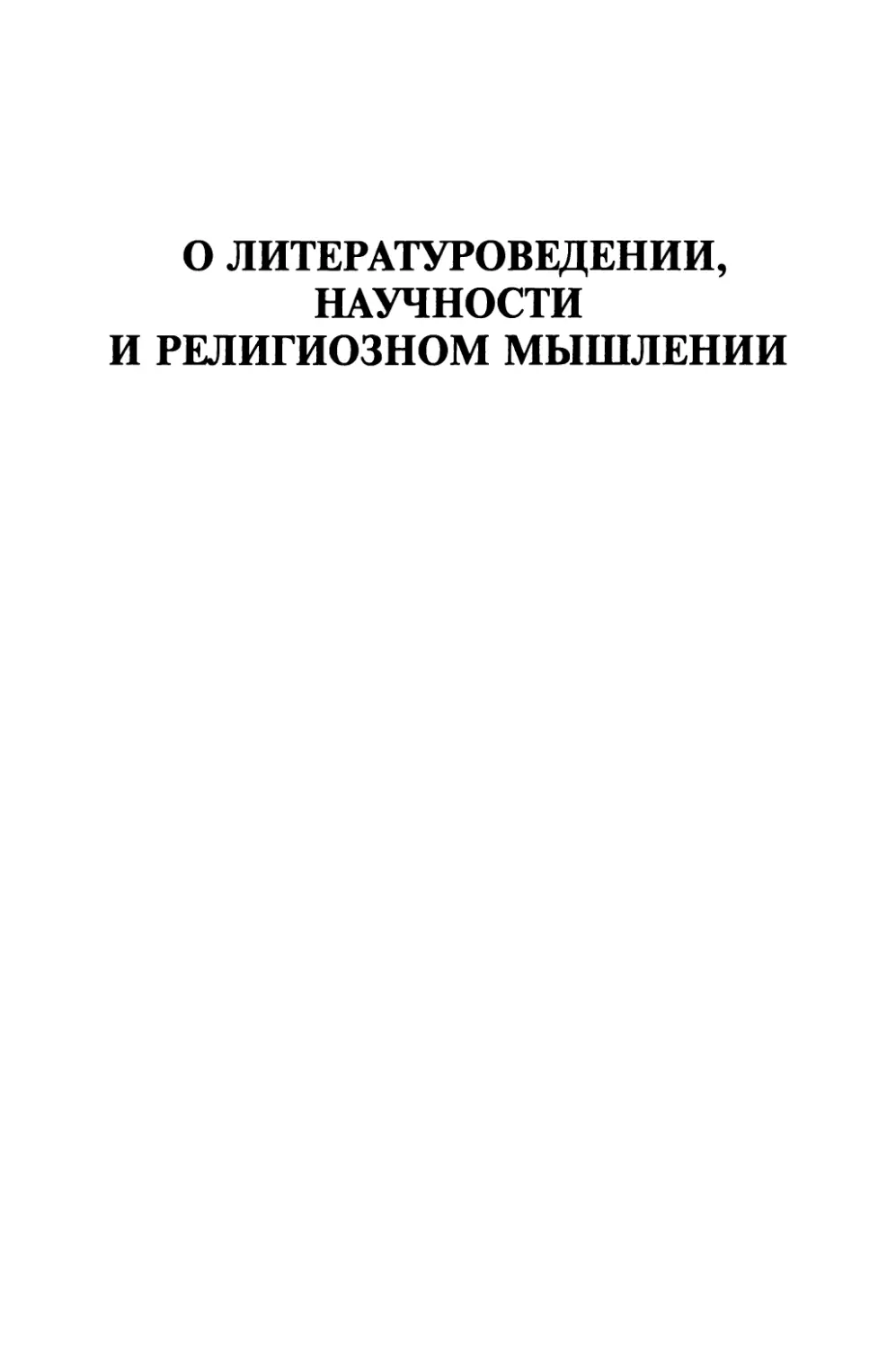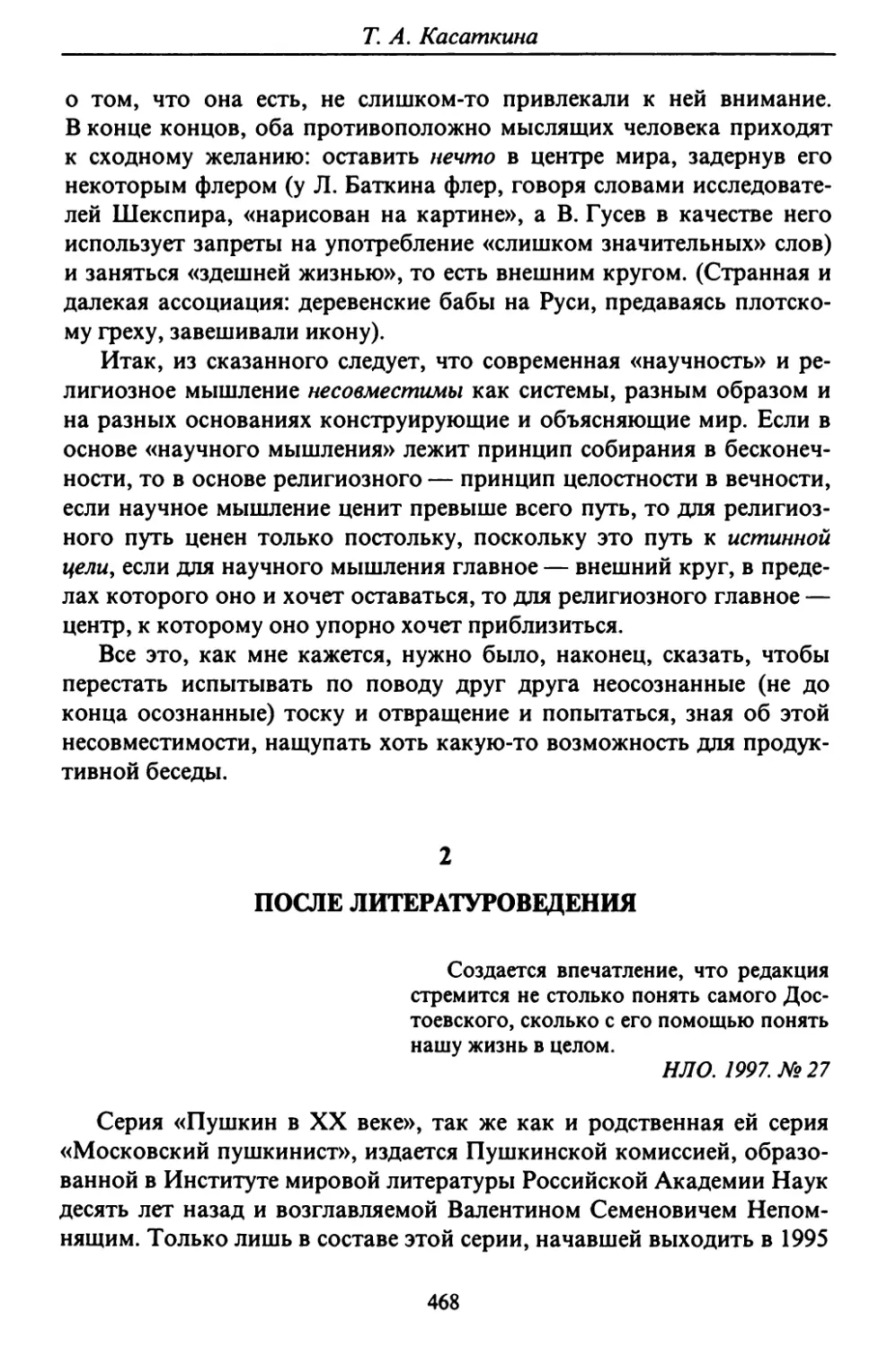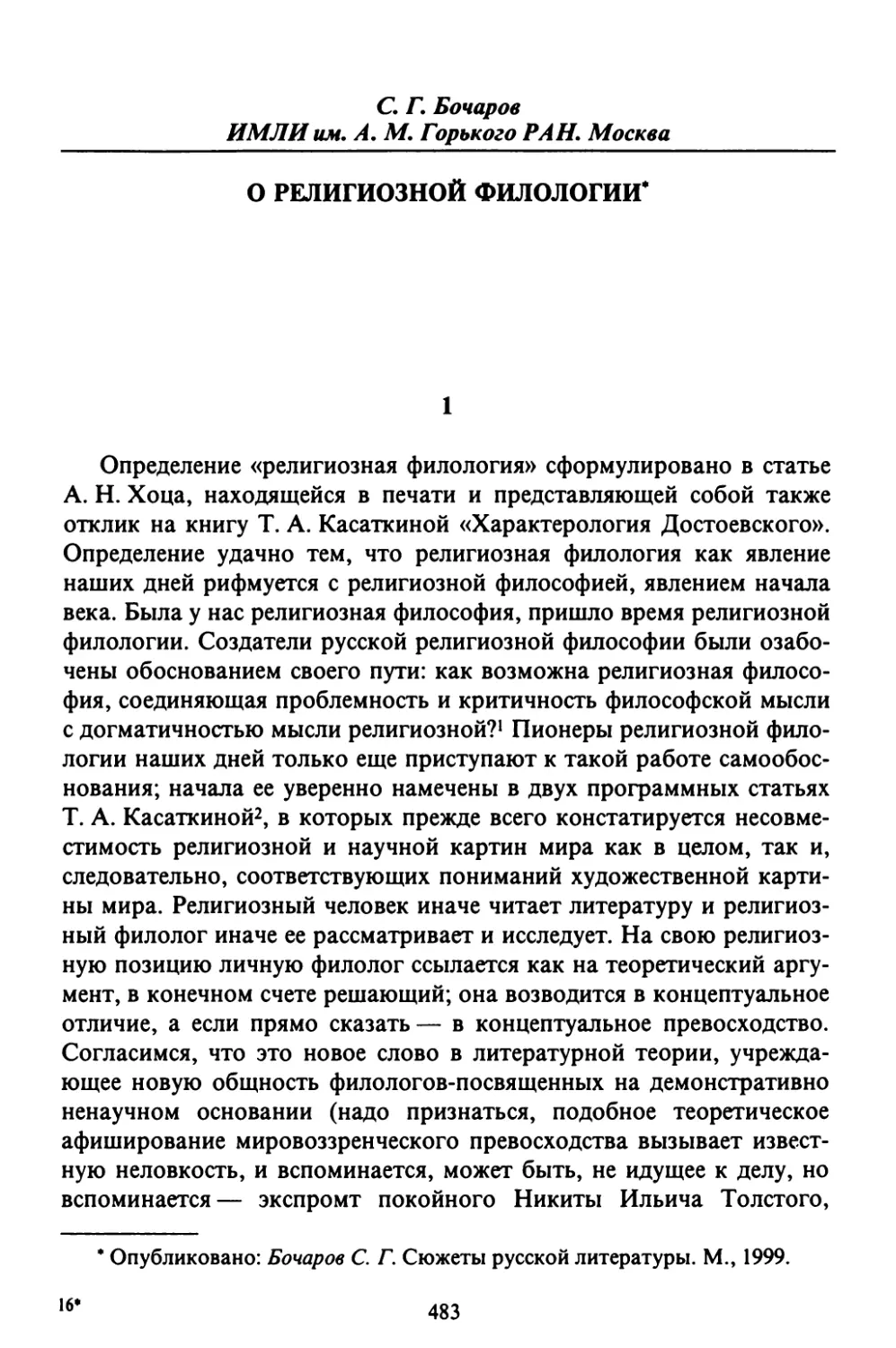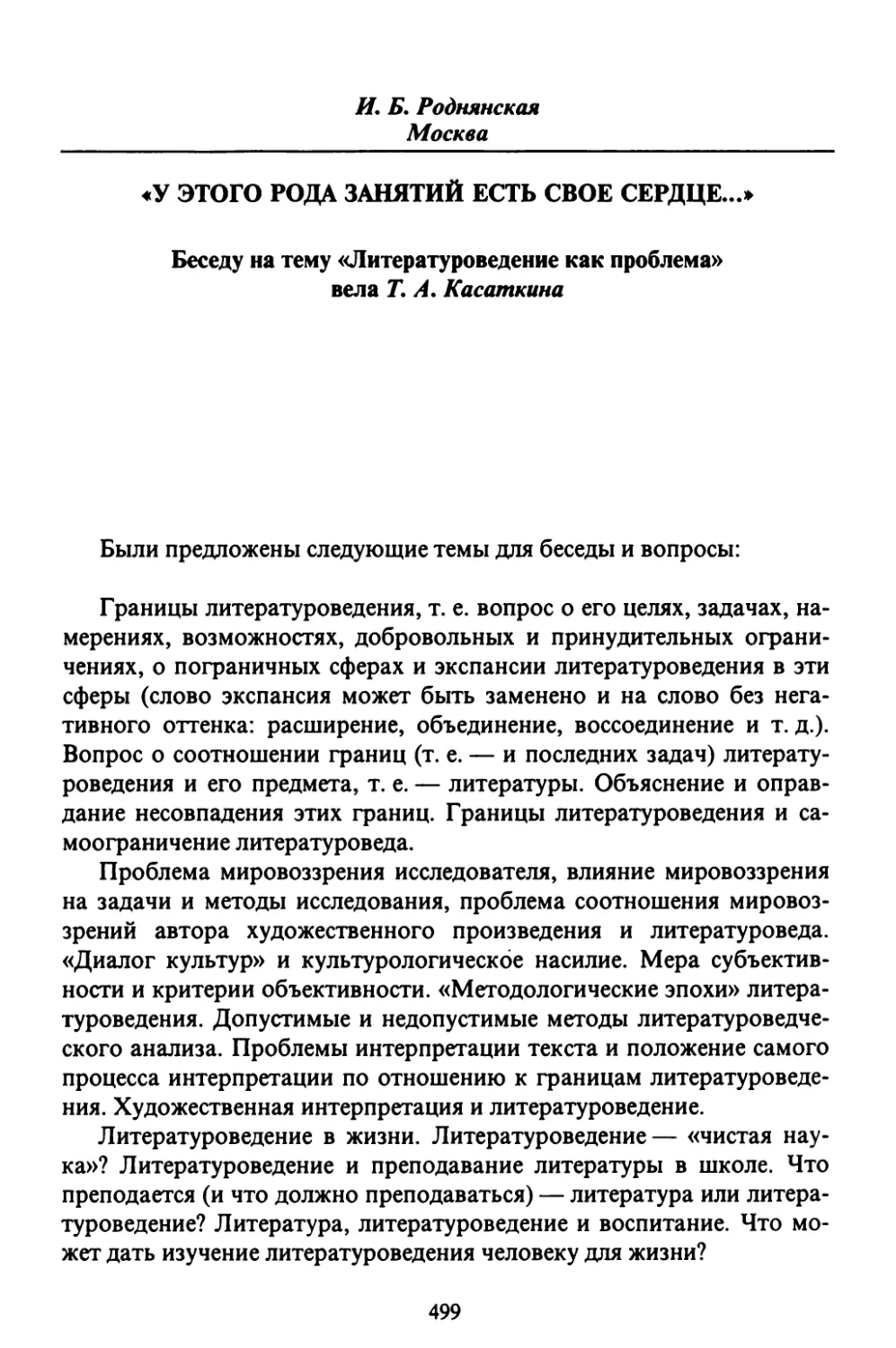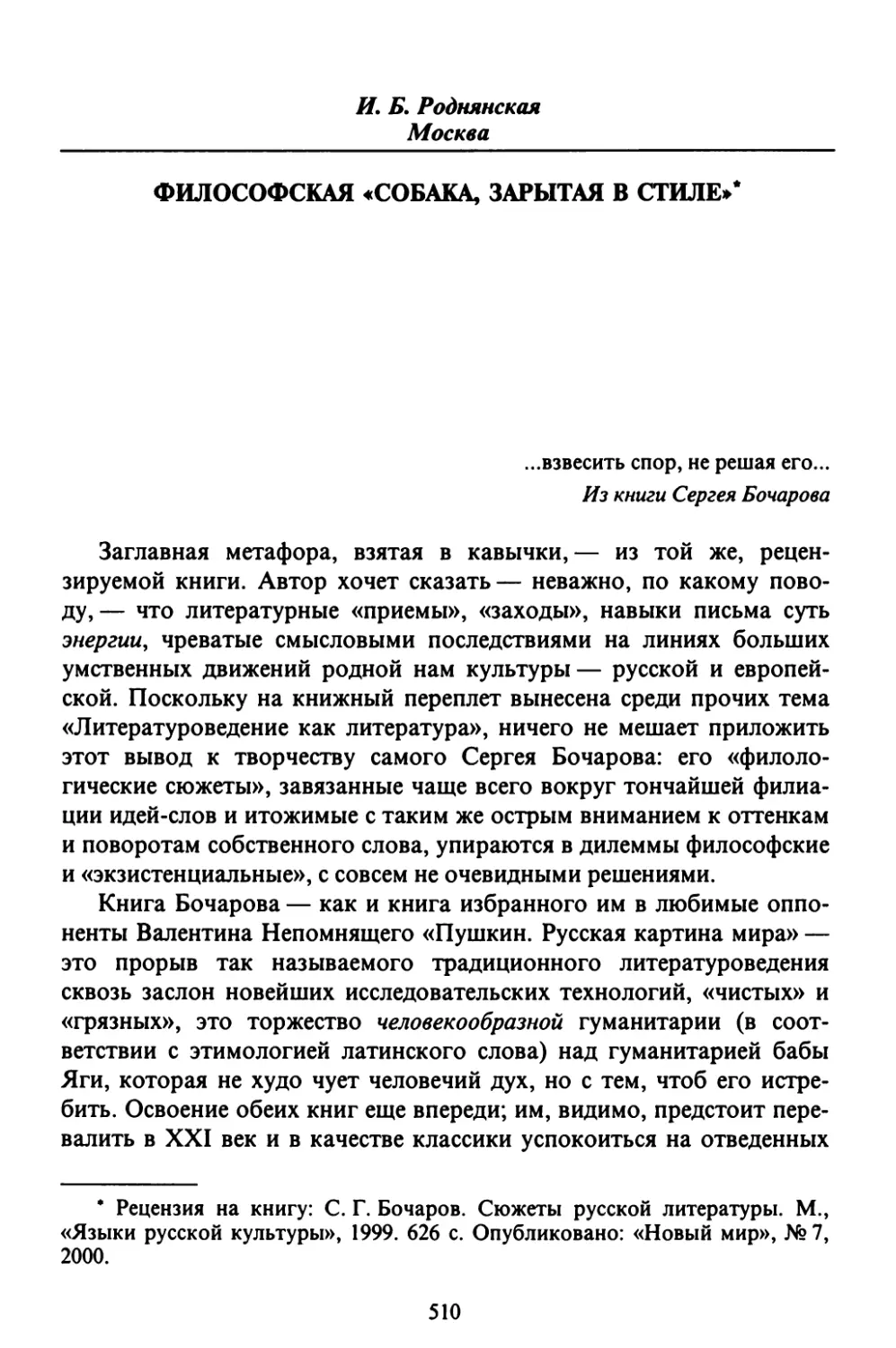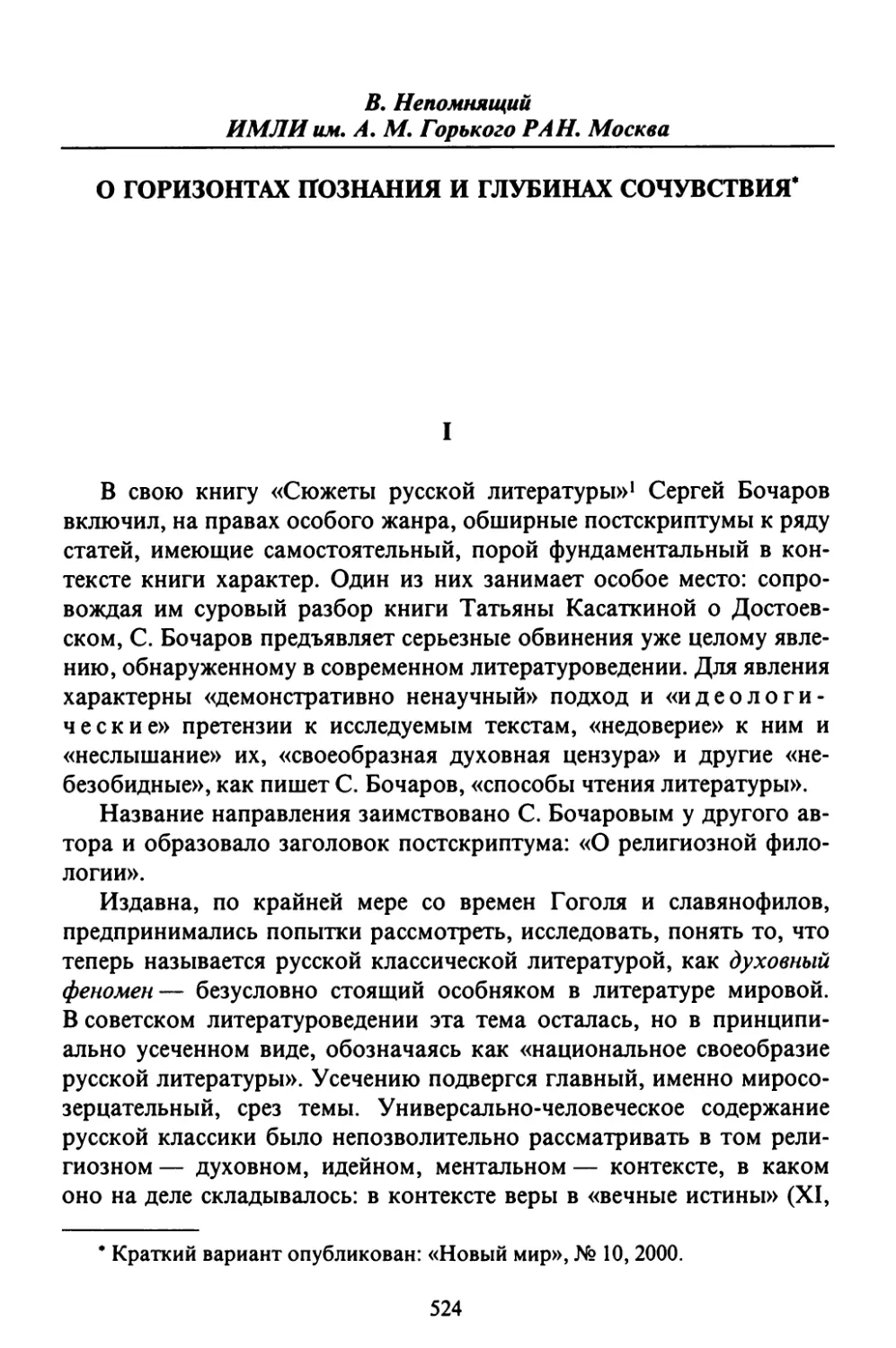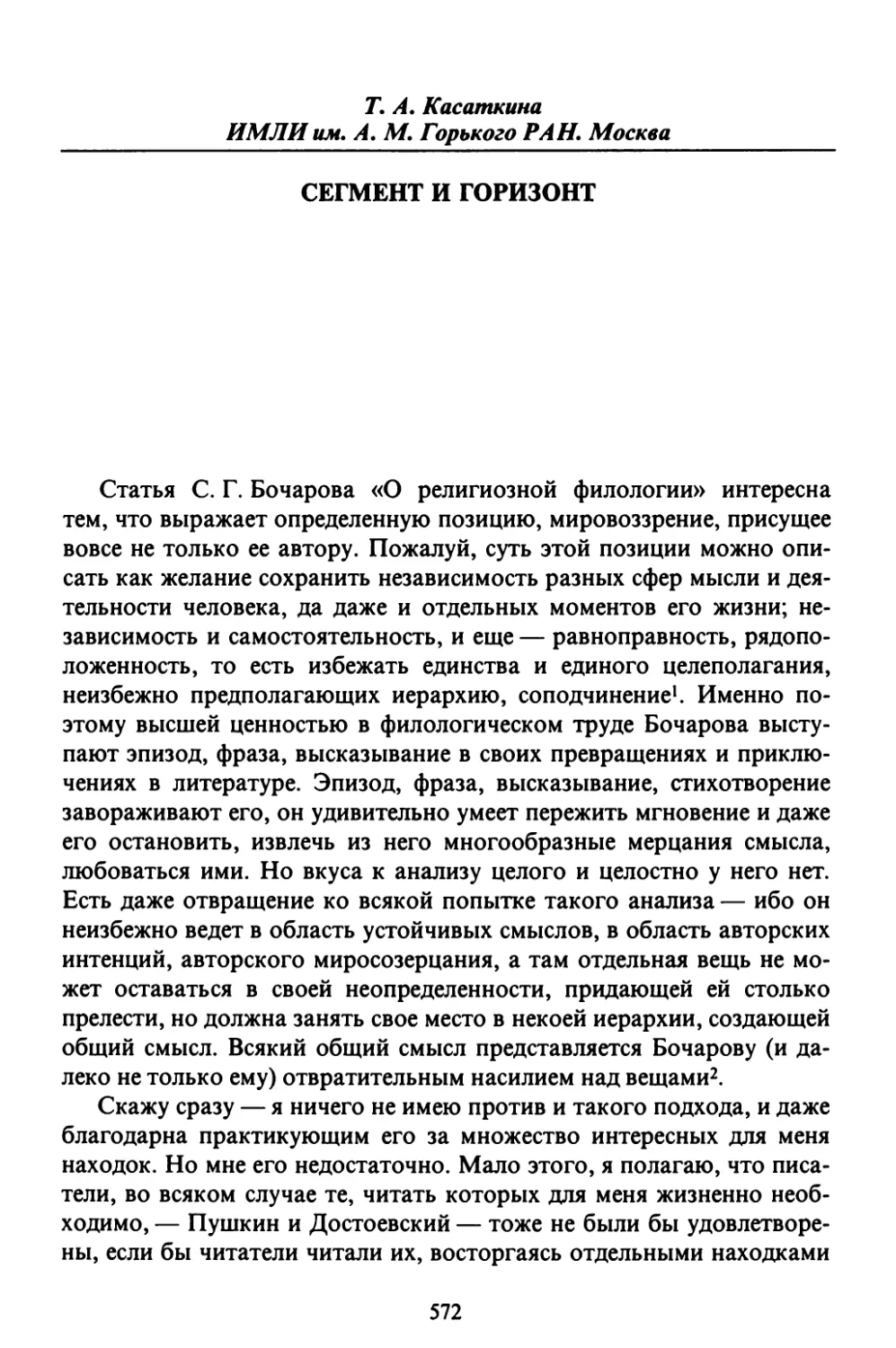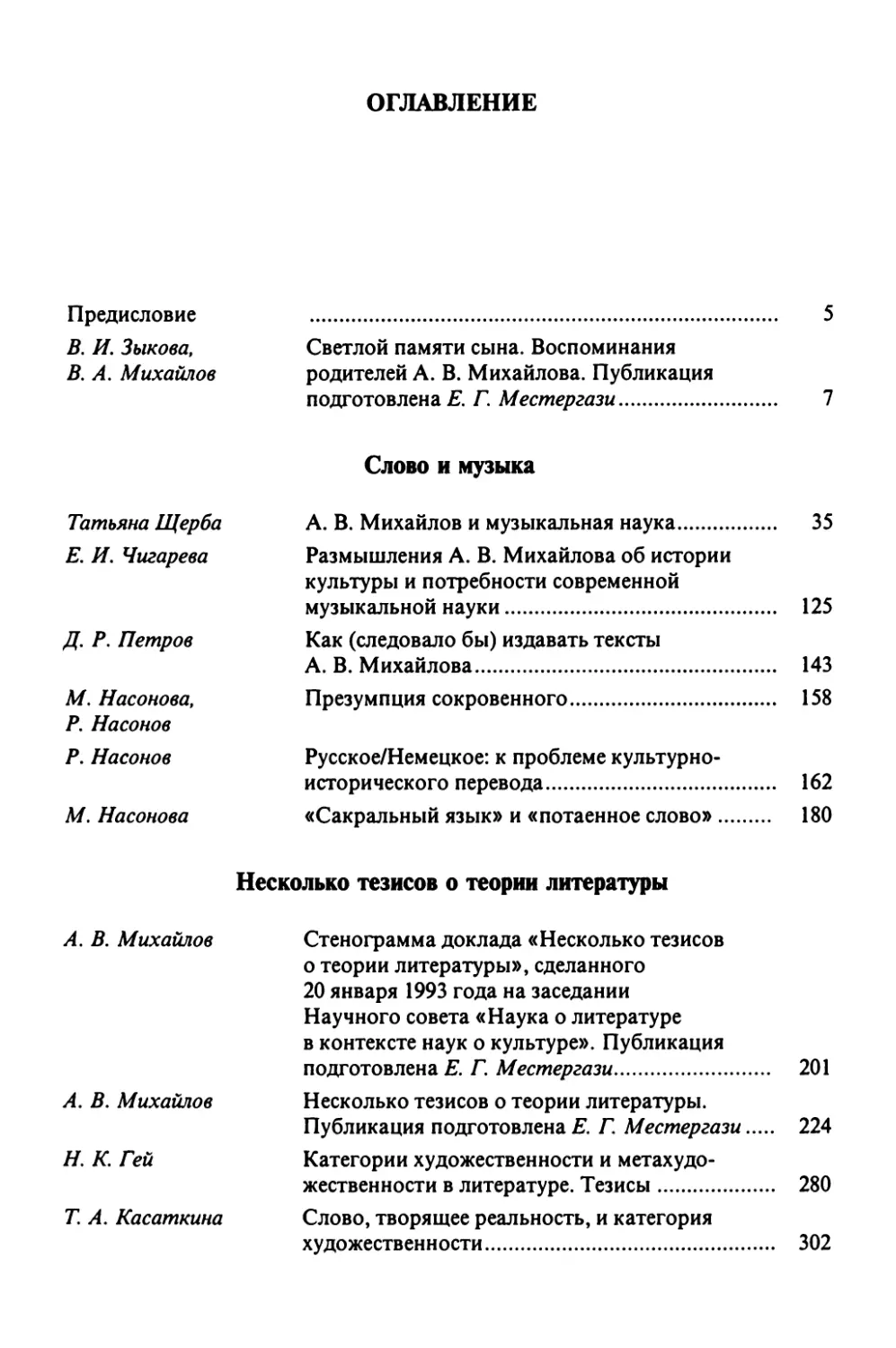Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран литературоведение росийская академия наук издательство наследие литературоведение как проблема
ISBN: 5-9208-0055-0
Год: 2001
Текст
Литературоведение
как проблема
Памяти
Александра Викторовича Михайлова
посвящается
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА
Труды Научного совета
«Наука о литературе в контексте наук о культуре»
Москва
«Наследие»
2001
ББК 83.3
Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН
Главный редактор: Т. А. Касаткина
Ответственный редактор: Е. Г Местергази
Редколлегия:
Ю. Б. Борее, И. К. Гей, С. А. Небольсин
Рецензент:
П. В. Палиевский
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА. Труды На-
учного совета «Наука о литературе в контексте наук о культу-
ре». Памяти Александра Викторовича Михайлова посвящает-
ся. — М.: Наследие, 2001. — 600 с.
Вошедшие в книгу статьи посвящены осмыслению методологии
науки о литературе, науки о культуре. Выстроенные в разном ключе,
написанные с разных точек зрения, с разным охватом материала, они
очень часто оказываются полемичными по отношению друг к другу,
что представляет собой одно их главных достоинств предлагаемого
издания. Полностью понять замысел сборника читатель сможет,
только если будет иметь в виду идею взаимодействия текстов.
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 00-04-16203
© Авторы статей, 2001
© Т. Заика, оформление, 2001
© ИМЛИ им. А. М. Горького РАН
ISBN 5-9208-0055-0 «Наследие», 2001
ПРЕДИСЛОВИЕ
Издание трудов Научного совета «Наука о литературе в контекс-
те наук о культуре» посвящено памяти человека, благодаря которому
Совет приобрел ту направленность своей деятельности, верность
которой сохраняет на протяжении последних десяти лет, — нацелен-
ность на самоосмысление науки о литературе, стремление к постоян-
ному продумыванию самых основных, фундаментальных своих по-
ложений, своих методов и подходов, самих слов, которыми пользует-
ся наука все еще так часто вполне инерционно.
В декабре 1998 года Александру Викторовичу Михайлову испол-
нилось бы шестьдесят. О его детских годах рассказывают в своих
воспоминаниях ненадолго пережившие его родители. Становится яс-
но, что именно тогда сформировались не только главные свойства
Михайлова-человека, но и главные темы Михайлова-ученого.
Проблемным и композиционным центром данного издания явля-
ются две публикации «Тезисов о теории литературы» А. В. Михай-
лова. Одна из публикаций представляет собой доклад, сделанный на
заседании Совета от 20 января 1993 года. Другая— статью, обнару-
женную в его архиве. Объединенные общей темой, эти два текста
значительно отличаются друг от друга характером ее разработки.
Статьи второго раздела, куда входят и публикации работ Михай-
лова, посвящены осмыслению методологии науки о литературе. Вы-
строенные в разном ключе, написанные с разных точек зрения, с раз-
ным охватом материала, они очень часто оказываются полемичными
по отношению друг к другу, что, на взгляд редколлегии, представля-
ет собой одно из главных достоинств сборника. В третьем разделе
публикуются статьи и беседы, содержащие уже сознательную полеми-
ку. Самоосмысление науки о литературе происходит в интертексту-
5
Предисловие
альном пространстве, и полностью понять замысел сборника чита-
тель сможет, только если будет иметь в виду идею взаимодействия
текстов.
Первый раздел посвящен статьям об Александре Викторовиче
Михайлове, так как наука о культуре занята активным освоением его
наследия. Это и исследовательские работы, посвященные творческой
личности Михайлова, и статьи, посвященные проблеме издания его
текстов, и отклики на вышедшие издания, и продумывание учеными
проблем, поставленных А. В. Михайловым в последние годы своей
жизни.
Безотлагательную необходимость подобных работ так обосновы-
вает Татьяна Щерба, автор обширной статьи о музыковедческом
аспекте творчества Михайлова: «В своих трудах Александр Викторо-
вич предстает перед нами во всей широте и во всем многообразии, но
и неохватности тоже. Значимость слова А. В. Михайлова очевидна, а
вот его смысл и значение нам еще только предстоит оценить. Поэто-
му писать об Александре Викторовиче Михайлове нужно сейчас,
пока облик ученого, скрывающийся за яркой самобытностью его
трудов, бережно хранится в сердцах близких ему людей, пока он и
его работы принадлежат еще настоящему нашей культуры — и это
самая актуальная задача. Коль скоро мы все зависим от Слова, про-
изнесенного в свое время над нами Историей, то необходимо попы-
таться найти такие слова, с помощью которых мы могли бы совер-
шенно ясно и отчетливо выразить наше представление о сути твор-
чества нашего современника».
Науке о литературе жизненно необходимо научиться продумы-
вать свои основания. Шаг в этом направлении и представляет собой
этот сборник.
6
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЫНА
Воспоминания родителей
Александра Викторовича Михайлова
Часть I. Детские годы Саши
Наш сын Александр (Саша) родился 24 декабря 1938 г. в г. Пет-
розаводске здоровым ребенком. Родители Саши: папа— Виктор
Александрович Михайлов (В. А.) — физик, ок[ончил] Саратовский
Университет им. Н. Г. Чернышевского; мама — Вера Ивановна Зы-
кова (В. И.) — психолог, ок[ончила] Ленинградский Педагогичес-
кий] Институт им. А. И. Герцена. В 1938 г. оба были аспирантами
этого Института. В. И. завершала аспирантуру и к началу лета
1938 г. закончила диссертацию; кафедра весьма положительно оце-
нила ее и направила оппонентам. Сама же В. И. в ожидании ребенка
уехала осенью этого года в Петрозаводск к своим родителям. В. А.
оставался в Ленинграде и работал над диссертацией, срок его пребы-
вания в аспирантуре истекал в 1939 г.
К сожалению, детские годы Саши (до 5 лет) прошли в крайне не-
благоприятных условиях, через две недели после его рождения, в
январе 1939 г. умер папа В. И. (Иван Михайлович Зыков, народный
учитель, отдавший делу народного образования более 45 лет жизни, в
1924 г. ему было присвоено почетное звание Героя труда). Такой
удар судьбы не мог не отразиться негативно на всей семье, и в том
числе на Саше. Следующее испытание четырехмесячному Саше вы-
пало в мае 1939 г., когда В. И. с ним в сопровождении своей мамы
ездила в Ленинград на защиту своей диссертации. Защита прошла
успешно, и В. И. с Сашей и мамой возвратилась в Петрозаводск; 23-
го июня 1939 г. защитил диссертацию и В. А.
По результатам публичных защит Решением Совета Ленинград-
ского ГПИ им. А. И. Герцена 26 июня 1939 г. нам были присуждены
ученые степени: В. И. — кандидата психологических наук, а В. А. —
7
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
кандидата физико-математических наук. На работу мы оба были
направлены в Карельский Педагогический] Институт (г. Петроза-
водск). В августе 1939 г. получили хорошую трехкомнатную кварти-
ру в жилом корпусе рядом с Институтом. 1-го сентября начали учеб-
ные занятия. Работать бы и радоваться жизни, радоваться ростку
новой жизни в лице Саши, но не тут-то было. Саше не было еще и
годика, как началась Финская война. Петрозаводск стал прифронто-
вым городом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Занятия
прекратились. Учебный корпус Института был занят под госпиталь,
для поддержания в нем необходимой температуры (зима была холод-
ной) дом, в котором мы жили, был отключен от котельной Институ-
та, а через несколько дней выключили и водопровод. Воздушные
тревоги заставляли нас бежать с ребенком в ближайшее бомбоубе-
жище. Саша относился к этому спокойно, никогда не капризничал.
Снабжение города продовольствием серьезно ухудшилось. Источни-
ком витаминов была лишь клюква.
К счастью, война с финнами весной 1940 г. закончилась. Стала
возрождаться мирная жизнь, возобновились занятия в Институте,
который в скором времени был преобразован в Университет.
Прошло немногим более года, и мир снова был нарушен. 22 июня
1941 г. началась тяжелейшая война в истории нашей Родины— Ве-
ликая Отечественная война. В. А. как офицер запаса (авиатор) был
мобилизован. И, пробыв несколько дней в Военном городке Петро-
заводска, 20 июля 1941 г. находился уже на одном из боевых аэро-
дромов 7-й Воздушной Армии Карельского Фронта. Перед отъездом
ему удалось дважды забежать домой, чтобы повидать нас и попро-
щаться. Саша горячо обнимал своего папу и радовался: «Мой папа
военный». После этого я— В. И., моя мама— бабушка Саши Анна
Николаевна стали активно готовиться к эвакуации из Петрозаводска
(с юга и юго-запада наступали финны, поддерживаемые гитлеров-
ской авиацией). К счастью, с нами уезжала моя сестра— Татьяна
Ивановна (Т. И.) и другие родственники.
В двадцатых числах июля 1941 г. нас с немногочисленной дорож-
ной поклажей перевезли на пристань Онежского озера, где стоял
готовый к отправлению караван из трех открытых барж, используе-
мых в мирное время для перевозки гравия и песка. В трюмах барж, по
их бортам были сколочены деревянные нары и над ними щиты для
защиты от дождя. На одну из таких барж мы вошли, расположились
на нарах, и вскоре начали свое длительное «хождение по мукам»,
затянувшееся, как потом выяснилось, на 2,5 года. Сначала медленно
8
Светлой памяти сына...
плыли по Онежскому озеру к г. Вытегра, около которого вошли в
канал старой Мариинской системы и со скоростью черепахи двину-
лись в глубь России.
Куда нас везут, никто не знал. В начале путешествия Саша чув-
ствовал себя хорошо, радовался стрекозам, залетавшим на баржу,
птицам в небе. Очень был доволен присутствием своей любимой ба-
бушки, которая читала ему детские книжки. С питанием было плохо.
Домашние запасы быстро растаяли. На стоянках иногда удавалось
купить молока, картофеля, рыбы — тогда разводили костер и варили
пищу. Питьевой воды на барже не было и мы ходили за ней к тяну-
щему нас буксиру, где нам давали горячей кипяченой воды.
Через несколько недель нас дотянули до пристани Овригино
вблизи одноименного села и предложили высаживаться. Многие,
осмотревшись вокруг, предпочли ехать дальше. Мы же вынуждены
были сойти на берег со всеми вещами, т. к. Саша стал кашлять, чув-
ствовалось, что он нездоров, устал от тяжелых условий плавания на
барже и нуждался в медицинской помощи и отдыхе. На самом берегу
канала мы увидали довольно симпатичное здание начальной школы.
В нем никого не было, оно было открыто и мы поселились в нем.
Я (В. И.) сходила в село, нашла фельдшерицу, которая поставила
Саше банки, что хорошо помогло ему преодолеть простуду. Мы
прожили здесь около двух недель, ожидая транспорт. В ближайшем
лесу собирали грибы, ягоды, на костре варили пищу. Воздух там был
хороший, и Саша стал чувствовать себя лучше, хотя спать было
трудно: ночью нас заедали клопы, хотя мы окружали свое ложе на
полу крапивой, а днем не было покоя от мух.
Не дождавшись транспорта, мы наняли двух мужчин, и они на
большой лодке отвезли нас на другую пристань, куда, как они уверя-
ли, должен был прийти пароходик. Прождав его напрасно целую не-
делю, мы, по совету начальника пристани, решили двигаться дальше
самостоятельно. Нам дали лодку, и мы сами переплыли неизвестное
нам озеро и оказались в районном центре Устье Кубенское, где нас
поселили в пустующую церковь с огромной круглой печкой.
Здесь моя сестра Т. И. встретила своего мужа, приплывшего из
Петрозаводска на следующих за нами баржах. Саша был счастлив,
увидев своего друга «дядю Ва», как он звал Василия Ивановича.
Дальше мы продолжали путешествовать впятером (Т. И. с мужем,
Саша, я — В. И. и моя мама). Много было переездов, трудных пере-
садок. Запомнился, как «светлый луч среди ненастья», переезд на
небольшом теплоходе через Кубенское озеро. Плыли мы с утра, сиде-
9
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
ли в салоне одни, и вдруг к нам подходит девушка из команды тепло-
хода и спрашивает: «Будете ли вы обедать?». Обедать?!?! После дли-
тельных скитаний (шел уже сентябрь) мы даже забыли это слово.
И вот перед нами на тарелках свежесваренный гороховый суп, а за-
тем гречневая каша. На наших лицах, в том числе и на личике ма-
ленького Саши, неописуемое удовольствие и даже радость. Дальше
опять плыли по каким-то рекам и озерам и, наконец, вышли на Вол-
гу. Нам удалось устроиться на теплоход Камского пароходства, ко-
торый в скором времени и дошел до Нижнего Новгорода. Здесь наши
пути разошлись. Т. И. с мужем поплыли на этом же теплоходе на
Каму, в Удмуртию (родину Василия Ивановича]), а мы втроем, сой-
дя на пристань и дождавшись теплохода, идущего вниз по Волге,
поплыли до Саратова, где жили дедушка и бабушка Саши (родители
В. А.). Свободных кают не было, и мы погрузились на среднюю па-
лубу. Но скоро, особенно ночью, мы почувствовали себя очень не-
уютно от сентябрьских ветров и дождей и стали беспокоиться за Са-
шу. Но «мир не без добрых людей». Увидев нас с ребенком замерзаю-
щими, один из матросов предложил нам свою каюту, помог перенес-
ти вещи и сказал, чтобы о нем не беспокоились, т. к. большую часть
суток он проводит на вахте, а поспать он может в каютах своих
друзей. Попав в теплую каюту, мы ожили, отогрелись, напились го-
рячего чая и хорошо выспались. В Куйбышеве (Самаре) удалось сбе-
гать в булочную и отоварить хлебные карточки. Хотя с горы вижу,
что теплоход еще стоит, лечу стрелой, чтобы не опоздать и порадо-
вать маму и Сашу давно невиданными мягкими белыми булками.
Ну вот, наконец, в первых числах октября мы в Саратове. Сходим
на берег, добираемся до ж.-д. вокзала, а за железной дорогой, на са-
мой окраине города у подножья Лысой горы, на небольшой Трак-
торной улице находим небольшой дом деревенского типа, в котором
живут родители В. А.: Александр Дормидонтович Михайлов (потом-
ственный железнодорожник-путеец, отдавший ж.-д. колее более 50
лет жизни, в 1951 г. был награжден орденом Ленина), Александра
Мих[айловна] Михайлова и младший брат В. А. Вениамин с женой и
пятилетней дочкой. Вечером пришел с работы дедушка, поздоровал-
ся с нами, приласкал Сашу и расспросил меня, как мы добрались до
Саратова. Мы сидели в комнате и разговаривали. Вскоре открылась
дверь и вошел Вениамин, рослый и похожий на В. А. Саша с радост-
ным криком: «папа, папа!» бросился к нему, но на полдороге остано-
вился, услышав окрик двоюродной сестренки: «Это не твой папа, это
мой папа!» Саша был озадачен и огорчен, но он не заплакал.
10
Светлой памяти сына...
В ближайшие дни выяснилось, что найти работу по специаль-
ности у меня нет никакой возможности. В Саратове находились в
эвакуации Ленинградский Университет и много других учреждений и
предприятий. Саратов сам богат своим Университетом им. Н. Г. Чер-
нышевского, старейшим на Волге после Казанского, и многими дру-
гими ВУЗами. К тому же учебный год шел уже второй месяц. Сара-
тов переполнен беженцами. С трудом устроилась агентом по снабже-
нию на оборонный завод, перебазированный из Ленинграда, его
предстояло восстановить на новом месте. К счастью, он находился
недалеко от Тракторной улицы, где мы жили. Всю зиму 1941—
1942 гг. весь персонал завода работал с 8 ч. утра до 20 ч. без выход-
ных. Только весной, сначала изредка, а летом постоянно, стали да-
вать выходные дни.
В Саратове наладилась регулярная связь с В. А., мы получали от
него фронтовые «треугольнички» и писали ему. Через Райвоенкомат
я получала от В. А. по аттестату его «денежное довольствие» (фрон-
товую «зарплату»). Но с питанием было очень трудно, особенно стра-
дали дети, для которых удавалось иногда покупать молоко, яйца.
Я же довольствовалась скромнейшим обедом на заводе. В декабре
1941 г. Саше исполнилось три года, но отметить этот день у нас не
было возможности. Однажды наш домик посетили два фронтовых
товарища В. А. И привезли нам от него шоколад, печенье, консервы.
Это был для нас, особенно для детей, настоящий праздник.
В сентябре 1942 г. завод начал выпускать продукцию. У меня
появилось моральное право оставить завод и искать работу по спе-
циальности. Кстати пришло письмо от сестры Т. И. из Ижевска, в
котором она сообщала, что Наркомат просвещения Удмуртии го-
тов предоставить мне работу в качестве преподавателя психологии в
Педагогическом] училище в с. Ново-Мултан (под Ижевском). Я ре-
шила принять это предложение, уволилась с завода и во второй по-
ловине сентября 1942 года мы (я, Саша и моя мама) начали новый
этап «хождения по мукам»— нелегкий переезд из Саратова под
Ижевск.
Волга в то время работала на Сталинград, пассажирские тепло-
ходы ходили нерегулярно. Мы четверо суток провели на открытом
всем ветрам берегу Волги около пристани, чтобы сесть, наконец, на
первый же теплоход, идущий вверх по Волге (к счастью, устроились в
каюте). В Устье-Камском сошли с корабля на берег; через сутки при-
шел теплоход Камского пароходства, на котором мы поплыли вверх
по Каме, на какой-то пристани высадились, а дальше сначала на
11
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
подводе, а затем на поезде, которого дожидались более суток, добра-
лись, наконец, до Ижевска и дома, где жила Т. И. с мужем. Все мы, а
особенно Саша, от дороги устали и нуждались в отдыхе. Поэтому
двое суток мы провели в Ижевске и лишь потом тронулись к месту
моей работы в с. Ново-Мултан Ува-района. Этот переезд, сам по себе
недлинный (короткий), оказался крайне тяжелым: сначала до ст. Ува
ехали по ж. д. в нетопленном вагоне (был октябрь уж на дворе) и
сильно продрогли, а в Уве четверо суток ночевали на грязном полу в
ожидании подводы из Педагогического] училища. До Ново-Мул-
тана тащились целый день, т. к. на осенней дороге, залитой жидкой
грязью, лошадь могла тащить телегу только шагом. Вечером добра-
лись до Ново-Мултана. Временно нас поселили в сухую комнату,
принесли ведро картошки и хлеба. Мы натопили печь и приготовили
себе «ужин». Вечером следующего дня мы хорошо прогрелись в дере-
венской баньке и улеглись спать. Утром, при виде Саши, меня охва-
тил испуг: все его лицо было покрыто сплошной коростой. Мама
успокоила меня: «это простуда вылезла наружу». И правда. Через
несколько дней личико стало чистым. Хуже было с большими паль-
цами на руках, которые нарывали в результате ушиба упавшей на
них оконной рамы на вокзальчике в Уве. Я получила в местной
больнице бинт и мазь и делала утром и вечером перевязку нары-
вающих пальчиков. Надо было видеть терпение маленького Саши.
Перед перевязкой, в ожидании сильной боли, когда я отдирала мар-
лю с гноем с каждого пальца, он не плакал, не пытался как-нибудь
уклониться от неприятной процедуры, но на лице его было напряже-
ние и страх. Но вот перевязка закончена, лицо Саши расслабляется,
слышится вздох облегчения и даже улыбка озаряет его.
На постоянное жительство мы поселились в нижний этаж старого
деревянного дома, уже вросшего в землю и обнесенного завалинкой.
Но печь русскую сложили отличную, так что в квартире было тепло,
хотя в сильные морозы (-35—40°) углы комнат промерзали. Дрова
подвозили, но пилить и колоть мне приходилось самой.
С питанием зимой 1942—1943гг. было невероятно трудно, т.к.
кроме картошки и плохого хлеба мы ничего не имели. Только спустя
некоторое время удалось найти в селе дом, хозяйка которого согла-
силась продавать нам литр молока. Ежедневно до уроков я приноси-
ла хорошее цельное молоко. Это в значительной мере поддерживало
Сашу. Когда установился санный путь, в селе по воскресеньям устра-
ивались базары, куда из окрестных деревень привозили молоко, яй-
ца, мед. Моя мама, бывшая сельская учительница, установила кон-
12
Светлой памяти сына...
такт с жителями окрестных деревень и сумела обеспечить Сашу ва-
ленками, теплыми, мягкими, заново скатанными, и выменяла трех
молоденьких курочек, которые жили у нас на кухне в курятнике и к
весне стали приносить нам яйца. Весной мама приобрела в обмен на
какую-то вещь молодого гусенка, который за лето превратился в
большого красивого гуся.
Педагогическое] училище, в котором я стала работать, было
трехлетним. Мне пришлось вести занятия на всех трех курсах и не
только по психологии и педагогике, но и по математическим дисци-
плинам, заменяя учителей, ушедших на фронт. Электричества в доме
не было, керосина также не было. Поэтому при подготовке к заняти-
ям мне приходилось рассчитывать на свою память и вечерами, в тем-
ноте, когда Саша и мама уже спали, продумывать содержание заня-
тий. По вечерам, пока Саша не спал, я беседовала с ним. Он расска-
зывал, куда он ходил гулять с бабушкой или с Риммой — девочкой
чуть постарше Саши, типичной удмурточкой с черными глазами и
розовыми щечками. Саша рассказывал также о том, что прочитала
ему днем бабушка, иногда при этом рассуждал о прочитанном. Часто
я рассказывала ему басни Крылова, стараясь интонацией выделять
голоса зверушек и воспроизводить их действия. Саша очень быстро
запоминал басни и улавливал мои интонации и действия. Зимой на
дневном новогоднем празднике в Педучилище он выступил со сцены
с басней «Мартышка и очки» и произвел не только на сверстников,
но и на учащихся Педучилища, заполнивших зал, большое впечатле-
ние. Когда он с большой экспрессией показывал руками и движением
тела, как мартышка «с досады и печали о камень так хватила их, что
только брызги засверкали», весь зал дружно аплодировал ему. Саше
только что исполнилось 4 года. В конце праздника всем малышам-
дошкольникам, в том числе и Саше, выдали по маленькому бумаж-
ному кулечку овсяного печенья. Малыши были безмерно рады.
В Педучилище была довольно хорошая библиотека, представлен-
ная главным образом художественной и детской литературой. Отсю-
да я брала книжки для Саши. К моему удивлению, в библиотеке ока-
зался целый набор струнных музыкальных инструментов, и я взяла
домой скрипку. Играла я плохо, но, зная какую-нибудь мелодию,
могла воспроизвести ее на скрипке. Это позволило играть знакомые
народные песни и некоторые несложные арии из опер. Когда мы по-
лучили в письме от В. А. ноты и текст некоторых песен военного
времени («Бьется в тесной печурке огонь...» и др.), то с помощью
скрипки могли их воспроизводить и петь.
13
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
В период нашей жизни в Ново-Мултане связь через почту с В. А.
была регулярной. Саша всегда с радостью слушал, что пишет папа,
посылал ему свои рисунки и писал печатными буквами два-три сло-
ва. Денежное довольствие В. А. я получала через Райвоенкомат. Зи-
мой это довольствие привозили в Ново-Мултан всем женам фронто-
виков. Летом надо было ходить на Уву (Райцентр) пешком.
Последний раз я ходила на Уву в августе 1943 г., получила в Во-
енкомате деньги, потом зашла в магазин, где мне дали 2 кг соли
крупного помола и 1 кг розоватого цвета пряников, твердых, как
камень. Потом я узнала, что для учителей был прислан шоколад, но
местные власти решили взять его себе, а учителям выдать старые
сухие пряники. Любопытно, что Саше пряники понравились (саха-
ра у нас не было). Каждый из них он грыз часами, а, получая от ба-
бушки очередной пряник, всегда спрашивал, остались ли еще. Может
быть, с тех пор у него сохранилась на всю жизнь любовь к пряникам.
Лето 1943 года мы провели в основном за работой на огороде, вы-
ращивая картофель и овощи. Иногда находили время, чтобы осмот-
реть места вокруг села; особенно это удавалось, когда к нам приезжа-
ли из Ижевска сестра Т. И. с мужем. Однажды мы «открыли» для
себя большую поляну, почти сплошь покрытую пнями, вокруг кото-
рых краснело целое море земляники. Мы быстро принялись за сбор
чудесных ягод. Саша тоже собирал в корзину, но часто тут же ел.
Найдя в траве особо крупную ягоду, он бежал к кому-либо из взрос-
лых, чтобы показать, какую он нашел «блямбу».
За два часа мы набрали половину большой корзины и вернулись
домой. Василий Ив[анович] сходил к председателю колхоза и принес
от него 1 кг меда.
Наполнив тарелки ягодами и полив их медом, мы принялись за
лакомство. С тех пор мы часто ходили на эту поляну и всегда воз-
вращались с ягодами. В другом месте в окрестностях села мы на-
толкнулись на земляной вал, поросший тремя рядами сосен, у подно-
жия которых стояли грибы маслята. Их было так много, что мы до-
вольно быстро набрали полные корзины. По дороге домой, проходя
мимо работающих колхозников, мы услышали: «А нам и грибы со-
брать некогда». Мы остановились и отсыпали им добрую половину
собранных грибов.
На речке Увинка, протекающей около села, в одном месте был
довольно большой пруд, в котором водилась мелкая рыба (плотва,
карасики и др.). Вас[илий] Ив[анович] несколько раз ходил на этот
пруд с удочками и возвращался обычно с десятком рыбок, из кото-
14
Светлой памяти сына...
рых мы варили уху. Один раз, когда уха была уже готова, и мама
стала раскладывать рыбу по тарелкам, Саша вдруг подбежал к ней,
уткнул голову в ее колени и сказал, что он хотел бы, чтобы вся рыба
была в его тарелке. Пристыженный в жадности, он больше не повто-
рял подобных желаний. Но бабушка всегда старалась незаметно по-
ложить на тарелку голодного внука побольше рыбки, да и всего дру-
гого редкого и вкусного.
Этим же летом мы получили по почте от В. А. продуктовую по-
сылку. Для Саши в ней был шоколад и печенье, а для всех разные
консервы. Посылка порадовала нас и была большим подспорьем.
Приближалась осень. К началу учебного года я и мама убрали
овощи с грядок и картошку с поля. Тяжело было очень, но, к счас-
тью, осень была сухая и довольно теплая. В квартире оказался по-
греб, который я вычистила и мы загрузили в него выращенное «бо-
гатство». Мама насолила капусты, которую мы вырастили на залив-
ной земле около речки. Появилась уверенность, что зимой 1943—
1944 г. голодать, как в прошлую зиму, мы не будем, хотя никаких
жиров по-прежнему у нас не было. Жизнь шла своим чередом. На-
чался учебный год. Мне прибавили еще один предмет— историю
педагогики и уговорили быть Завучем училища. Работы было много,
но я уже освоилась и за лето успела кое-что почитать к своим заняти-
ям. Учащиеся, особенно на старших курсах, мне нравились: много
было серьезных, способных, стремящихся к знаниям ребят.
В декабре 1943 г. Саше исполнилось 5 лет, уже до этого он стал
проявлять некоторый интерес к моей работе. Из окна училища я не
раз видела его идущим по улице с книжкой под мышкой. Выясни-
лось, что он ходил учить «геометрику» или педагогику.
Из писем В. А. уже знали, что в конце июля 1943 г. он был отозван
с фронта в числе других физиков и химиков (докторов и кандидатов
наук) и прибыл в Москву. Как авиатор В. А. поступил в распоряже-
ние Начальника Управления кадров Военно-Воздушных Сил Крас-
ной Армии, который направил В. А. для дальнейшего прохождения
воинской службы в Военно-Воздушную Инженерную Академию им.
проф. H. Е. Жуковского на работу по подготовке офицерских кадров
ВВС в качестве физика. По приказу Начальника Академии 12 августа
1943 г. В. А. приступил к работе на кафедре физики Академии.
В ноябре 1943 г. ему дали комнату в общежитии Академии. С трудом
он оборудовал ее минимально необходимой для семьи мебелью и в
начале декабря оформил через Командование Академии официаль-
ный Вызов семье на жительство в Москву.
15
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
Этот Вызов мы получили в конце декабря 1943 года. Приехать за
нами В. А. не мог (не разрешило начальство). Поэтому мы начали
подготовку к отъезду, надеясь на свои силы и помощь Вас[илия]
Ивановича] (мужа Т. И.), который специально приехал к нам из
Ижевска. Я закончила учебное полугодие, сдала книги и другие вещи
в Училище и на основании Вызова из Академии получила увольнение
из Ново-Мултанского Пед. Училища.
Ранним январским утром 1944 г., еще затемно, на санях с запря-
женной лошадкой, мы выехали из Ново-Мултана на ст. Ува, чтобы
ехать в Ижевск и оттуда уже в Москву. В Ижевске мы пробыли не-
сколько дней, повидались с Т. И. (сестрой), сдали в багаж вещи и
чуть-чуть передохнули. 13-го января в сопровождении Вас[илия] Ива-
новича] мы выехали на местном поезде на узловую ст[анцию] Агрыз,
где нужно было сделать пересадку на поезд Свердловск-Москва. До-
ехали хорошо, достали билеты в детский вагон. Под вечер пришел
наш поезд. Вот тут-то и началось! Подбежали к детскому вагону,
стучимся — никакого движения, в вагоне полная темнота. Кто-то из
мимо проходящих сказал, что в конце состава есть второй детский
вагон. Бежим к нему. Я с Сашей впереди. Вас[илий] Ив[анович] и
мама сзади несут вещи. Поднимаемся с Сашей на лесенку и стучим в
дверь вагона. В руке у меня проездные билеты, Саша стоит передо
мной. Дверь вагона приоткрывается, и при виде нас молодая про-
водница старается захлопнуть дверь. Я ставлю ногу за порог двери,
чтобы помешать этому, но неожиданно получаю от проводницы та-
кой сильный удар кулаком в грудь, что мы с Сашей летим спиной
вниз. К счастью, мы не упали и не разбились, т. к. в этот самый мо-
мент к двери вагона подошел какой-то начальник в ж.-д. форме, мы
упали буквально ему на руки. Подхватив нас, он спрашивает: «Что
тут происходит?» Показываю билеты, он проходит в вагон и прика-
зывает пропустить нас. В это время подбегает с какой-то вещью Ва-
силий] Ив[анович], и, схватив Сашу, проходит в вагон. Я бегу к ма-
ме, чтобы помочь ей поскорее дойти до вагона, а в это время поезд
трогается. Мы в ужасе! Что-то теперь будет? Вас[илий] Ив[анович] и
Саша уедут, а я с мамой останусь здесь. У Вас[илия] Ивановича] зав-
тра в Институте лекция. Мороз бежит по коже. Но вдруг поезд оста-
навливается. Потом узнали, что Вас[илий] Ив[анович], дернув стоп-
кран, остановил поезд. Успеваем добежать и забраться в вагон, Ва-
силий] Ив[анович] успевает выскочить из него, поезд трогается. Не
успели попрощаться с Вас[илием] Ивановичем] и поблагодарить его.
Проводница куда-то сгинула— пропала. На всех полках детского
16
Светлой памяти сына...
вагона спят мужчины в штатском. Находим свободную нижнюю пол-
ку и устраиваемся на ночлег. Саше и маме я кладу наш дорожный пос-
тельник и подушку и накрываю их одеялом. Сама сажусь им в ноги.
В голове только одно — едем в Москву, скоро увидим своего папу.
К вечеру 14 января 1944 г. мы приехали в Москву. Прямо на Ка-
занском вокзале спускаемся в метро, которое ошеломило нас обили-
ем света, чистотой и роскошью.
Выходим из метро на ст[анции] «Динамо» и в полумраке доби-
раемся пешком до жилого корпуса Академии, в котором живет В. А.
Оставив маму и Сашу в нижнем коридоре, довольно долго брожу
внутри огромного здания, чтобы найти комнату № 6 на втором эта-
же. Наконец нахожу, стучу, и вот наша долгожданная встреча с В. А.
состоялась. Он обрадовался мне, но в то же время несколько удивил-
ся нашему появлению в этот день. Оказывается, он ежедневно вече-
ром ездил на Казанский вокзал и в этот день провел там несколько
часов, встречая поезда, но нас не было. В справочном бюро ему ска-
зали, что сегодня поездов из Свердловска якобы не будет. Он вернул-
ся домой, где я его и нашла. Быстро идем к ожидающим нас Саше и
маме. Саша, увидев нас и расставив ручонки, с радостным криком
«Папа!» бежит навстречу и бросается в его объятия. Поднимаемся в
нашу комнату. Наконец-то, мы дома, все вместе. Комната оказалась
солнечной и вполне достаточной для временного размещения четве-
рых. Туалет и кухня находились в нашем коридоре почти напротив
нашей комнаты.
Одно омрачало нашу жизнь: с потолка часто сочилась вода и од-
нажды отвалился большой кусок штукатурки. К счастью, упал он на
пол, миновав наши головы.
Долго не верилось, что наши «хождения по мукам», начатые в
июле 1941 г. в Петрозаводске, наконец, закончились в Москве в ян-
варе 1944 г. Но для здоровья Саши они даром не прошли. В част-
ности, хулиганская выходка проводницы при посадке в поезд на
ст[анции] Агрыз вызвала у него настоящее нервное потрясение.
В течение нескольких недель Саша вскакивал по ночам бледный, с
испуганными глазами и крупными каплями пота на лбу. Вытянув
руки вперед, он как бы показывал на что-то и кричал от страха. Ми-
нут через 10—15 удавалось его успокоить, и он засыпал.
В апреле 1944 г. В. И. получила работу, о которой она мечтала
более двух лет; ее приняли в качестве научного сотрудника в Психо-
логический институт на Моховой. Это старейший в России НИИ
Психологии, основанный профессорами МГУ в 1912 г. В кругу пси-
17
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
хологов разного ранга (от академика до начинающего аспиранта)
В. И. работала с интересом и результативно. Через некоторое время
ее избрали на должность ст[аршего] научного сотрудника.
Весной того же 1944 г. наш Саша попал в беду, которая могла бы
закончиться большой трагедией. В. И. останавливается на этом со-
бытии, чтобы поведать о существовании каких-то особых, еще не
познанных наукой интимных связей между матерью и ребенком, ко-
торые проявляются в экстремальных условиях. Было воскресенье.
Я (В. И.) решила после обеда погулять о Сашей, одела его и сказала,
чтобы он подождал меня недолго около нашего дома. Сама стала
быстро мыть посуду, а через некоторое время подошла к окну в на-
дежде увидеть Сашу. И в этот момент сердце пронзило что-то острое,
как стрела, а в мозгу появились слова: САША ПОПАЛ ПОД МА-
ШИНУ. Ошеломленная я выбежала на улицу, Саши около дома нет.
Бегу дальше за угол на оживленную улицу. Вижу — стоит грузовик
и вокруг него толпа; говорят, что под машину попал ребенок. По
описанию одежды понимаю, что это Саша. Говорят, что шофер-жен-
щина понесла его в Поликлинику Академии им. [H. Е.] Жуковского,
расположенную в нашем квартале. Бегу к поликлинике, но на полдо-
роге останавливаюсь: а вдруг Саши уже нет в живых, я не переживу
этого; бегу домой за В. А. Отчетливо помню, как бледнеет его лицо;
оба выбегаем во двор. Видим, что от Поликлиники идет женщина, на
руке которой сидит Саша. Сразу отлегло от сердца. Папа перехваты-
вает бледного как мел сына на свои руки, а шофер рассказывает, как
все это произошло: «Я приняла все возможные меры, чтобы не раз-
давить малыша, неожиданно выскочившего за мячом на проезжую
часть улицы. Все же краем заднего колеса машина задела его и косым
ударом отбросила в сторону. В Поликлинике дежурный врач обна-
ружил, что весь левый бок (от плеча до ступни) покрыт синяком, и
оказал ему первую помощь». Дома Сашу уложили на диван, напоили
горячим чаем. Он не стонал и не плакал, лежал тихо, закрыв глаза, а
мы молча сидели около него. И вдруг он открывает глаза и спраши-
вает: «Мама, я жив или умер?».
К счастью, все обошлось сравнительно благополучно. На сле-
дующее утро в поликлинике установили, что голова и ребра не по-
страдали, обнаружили трещинки в нескольких косточках левой ступ-
ни, наложили гипс. Позже Саша рассказал нам: «Я побежал за мя-
чом, потом был удар и стало темно». Видимо, на какое-то время он
потерял сознание. Через 4 недели все пришло в норму. Саша стал
бегать и играть с ребятами.
18
Светлой памяти сына...
Время шло. Мы оба работали с интересом. Бабушка А. Н. опекала
Сашу и помогала вести домашнее хозяйство. Пошел 1945 год.
Мы с восторгом встретили 9 мая 1945 г. — день окончания Вели-
кой Отечественной войны. В Великую Победу нашего народа вложен
и наш скромный труд: ратный труд фронтовика В. А. и «доблестный
труд» в тылу В. И. В майские дни 1995 года мы оба (и В. А., и В. И.)
были награждены юбилейной медалью «50 лет Победы».
24 декабря победоносного 1945 года Саше исполнилось 7 лет.
В следующем году ему идти в школу, а выглядел он худеньким, блед-
ным, со следами многих нервных стрессов и неизжитого еще недое-
дания.
Поэтому еще в начале 1946 года мы обратились к педиатрам По-
ликлиники Академии им. H. Е. Жуковского с просьбой провести пол-
ную диспансеризацию Саши. Они это сделали и установили: «орга-
низм ребенка истощен, питание недостаточное, легкие ослаблены,
нуждается в санаторном лечении». Начальство утвердило это заклю-
чение, и на Сашу выделили бесплатную путевку в Детский Военный
санаторий «Боярки», находящийся в нескольких десятках километ-
ров от Киева. Так в начале лета 1946 года Саша в сопровождении
папы (В. А.) выехал в Киев, а дальше местной электричкой мы при-
ехали в «Боярки».
Вокруг санатория смешанные густые леса, под ногами буйное
разнотравье, воздух напоен ароматом цветущих растений и кислоро-
дом. К концу пребывания Саши в санатории за ним поехала мама
(В. И.). Мягкий киевский климат, прекрасный воздух, хорошие усло-
вия проживания, усиленное питание и лечение в санаторных условиях
сделали свое дело. Саша вернулся домой окрепшим и здоровым. «За
примерное поведение, соблюдение распорядка дня и режима лече-
ния» Командование санатория «Боярки» наградило Сашу «Поощри-
тельной грамотой».
1-го сентября 1946 г. Саша пошел «первый раз в первый класс»
московской средней школы № 150 и начал школьную жизнь. Ему
было в это время 7 лет и 8 месяцев. Все десять лет Саша учился ответ-
ственно и был настоящим «хорошистом», т. е. не имел троек, а пре-
обладали пятерки. Уроки дома он готовил сам, не прибегая к чьей-
либо помощи, он в ней не нуждался.
В июне 1956 года Саша успешно окончил среднюю школу и начал
готовиться (опять-таки самостоятельно) к вступительным экзаменам
в МГУ им. М. В. Ломоносова.
19
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
Часть II. Развитие Саши
Несмотря на все трудности и лишения, особенно в питании, ко-
торые пришлось пережить маленькому Саше в Петрозаводске во вре-
мя Финской войны, а затем в годы скитаний в эвакуации (1941—
1943 гг.), его общее развитие протекало нормально, а в некоторых
отношениях даже опережало развитие сверстников. Отметим прежде
всего его необычную общительность. Когда он был еще совсем мал,
он бурно проявлял свою радость, даже восторг, когда к нам прихо-
дили родственники или знакомые. Нередко заходила ко мне моя по-
друга с двумя мальчиками 4-х и 6-ти лет. Саша (6—7 месяцев) не
только улыбался во весь рот при встрече с ними, но и, сидя на руках у
бабушки, разбрасывал ручки в стороны и долго махал ими, как кры-
лышками, за что был прозван детьми «аэропланчиком». Дома они
просили свою маму сходить с ними к «аэропланчику».
Когда Саша научился ходить и говорить, он, заслышав звонок у
входной двери, всегда мчался «пулей» в переднюю. Увидев знакомое
лицо, он выражал свою радость, сообщая ему что-нибудь про себя.
Например: «А Саша все равно говорит бландада». (На самом деле он
уже не говорил это нелепое слово.)
Старшая сестра бабушки как-то сказала, что никогда не видела
такого веселого ребенка, хотя сама вырастила шестерых детей и
имела трех внуков.
С годами Саша научился сдерживать свои эмоциональные поры-
вы, но общительность как черта характера сопутствовала ему всю
жизнь.
По нашим наблюдениям, у Саши рано проявилось умение сосре-
доточивать внимание на какой-либо игре или занятии в течение до-
вольно длительного времени, что не свойственно большинству детей
раннего возраста. Так, 10—11-месячный Саша, сидя на диване, зани-
мался тем, что захватывал рукой один из пяти небольших предметов
(ластик, огрызок карандаша и т. п.), лежащих около него, и старался
опустить его в высокий деревянный стакан, взятый с письменного
стола, затем другой предмет, третий и т. д. Поскольку движения его
были слабо координированы, опускаемый предмет не всегда оказы-
вался в стакане, а летел мимо него, но это не смущало и не сердило
Сашу. Он терпеливо поднимал упавший предмет, иногда помогая
себе левой рукой, и снова стараясь опустить его в стакан. Когда все
предметы оказывались в стакане, Саша высыпал их на диван и снова
повторял те же действия. Такая игра продолжалась 25—30 минут.
20
Светлой памяти сына...
Конечно, его внимание, как и у любого ребенка в раннем возрасте,
было непроизвольным, т. е. удерживалось не какой-либо поставленной
целью, а было обусловлено непосредственным интересом к выполне-
нию указанных операций. А терпеливость и спокойствие, очевидно,
были его врожденными чертами. Мы уже ранее писали, что Саша
переносил жизненные трудности без капризов.
Когда Саше было 2 года, мы снова были удивлены, как сосредо-
точенно, в течение 40 минут (время было засечено) он рассматривал
цветное изображение паровоза, занимавшего две страницы в разво-
роте журнала «Мурзилка». Его интерес, а, следовательно, и внимание
к изображению паровоза объяснялись тем, что ему удалось 2—3 раза
видеть на окраине Петрозаводска, как из-за густой стены деревьев с
шумом и грохотом выскакивал паровоз, тянувший за собой вагоны;
давая пронзительные свистки, через короткое время скрывался за
высокими домами. Это зрелище производило большое впечатление.
Увидев изображение паровоза на цветной картинке, Саша с большим
интересом разглядывал его в деталях.
Развитию умения сосредоточивать свое внимание, несомненно,
способствовала бабушка А. Н., читавшая Саше сказки, детские сти-
хи, маленькие рассказы. Уже в 1,5—2 года Саша обогащал свою речь
новыми словами, запоминал короткие стихи. Еще не понимая истин-
ный смысл некоторых слов, он устанавливает их близость по звуко-
вому составу. Приведем забавный случай из воспоминаний моей
сестры Т. И.: «Оставшись вдвоем с Сашей в квартире, я подошла к
этажерке, на которой стояли книги В. А. по физике, и взяла одну из
них. Саша, заметивший это, быстро подбежал ко мне, замахал указа-
тельным пальчиком и строго сказал: "Папа, ни-ни!", т. е. папа не
разрешает брать его книги. Я улыбнулась и спросила Сашу: "Но ведь
ты заступишься за меня, если папа будет недоволен?" Саша утверди-
тельно закивал мне головой — мол, заступлюсь. Тогда я спросила:
"А как ты заступишься?" В ответ Саша подошел ко мне и наступил
своей ножкой на мою ногу. Он уловил звуковую связь между словами
"заступиться" и "наступить" и нашел оригинальный способ ответить
на мой вопрос».
Интерес к пониманию смысла непонятных для него слов начал
интенсивно проявляться в 3—3,5 года. Тогда мы (мама, бабушка и
Саша) жили в Ново-Мултане, и, когда Саша слышал из репродукто-
ра новое слово, он тотчас же обращался ко мне: «Мама, что такое
автомат?», «Что такое коммутатор?», «Мама — а скорая помощь —
это ты?» и т. д. Увидев из окна только что выпавший первый снег, он
21
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
спросил: «Мама, покажи мне, как крестьянин торжествует». Чтобы
он понял это слово, я напомнила ему, как недавно мы ехали целый
день на телеге по очень грязной осенней дороге, как лошадке тяжело
было везти телегу. А по снегу, — сказала я, — везти сани гораздо
легче. Вот крестьянин и радуется, или «торжествует», как написал
А. С. Пушкин.
Любовь к книге и к слову, возникшая в ранние детские годы,
осталась у Саши на всю жизнь. До приезда в Москву Саша не умел
читать, хотя знал все буквы и умел написать папе на фронт такие
слова, как «папа», «Саша». В Москву мы приехали 14 января 1944
года, а в декабре 1943 г. Саше только что исполнилось 5 лет. Мы
ежедневно получали газету «Правда», в которой крупным шрифтом
печатались сводки военных действий, интересовавшие всех нас, в том
числе и Сашу. У него появилось желание читать их самому вслух
бабушке. Вглядываясь в буквы напечатанных слов, он как-то быстро,
возможно, с некоторой помощью бабушки, постиг их слияние. На-
учившись читать, он с нетерпением ожидал свежую газету и тут же
сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее прочитывал ба-
бушке очередную сводку, попутно осведомляясь, где находятся упо-
мянутые в сводке города. К сожалению, тогда у нас не было геогра-
фической карты.
Вскоре в руки Саши попала единственная имевшаяся тогда у нас
книга, которую В. А. привез в вещевом мешке с фронта. Это была
«Калевала» (Карело-финский эпос) в прекрасном сокращенном пере-
воде Л. И. Вельского, выпущенная Госиздатом в Петрозаводске в
1940 г. Не только содержание, но и своеобразный размер стиха, его
слаженность и напевность при отсутствии рифм настолько увлекали
Сашу, что он с упоением читал страницу за страницей, легко запоми-
ная целые отрывки. Играя с ребятами на улице, он не мог удержаться
от удовольствия прочесть их наизусть, чтобы познакомить ребят с
этой красотой. Ребята с удивлением слушали его, естественно, мало
что понимая, и решили про себя, что он «псих». Это кухонное руга-
тельство дошло до слуха Саши, но он не придал ему значения, а, мо-
жет быть, в свои пять лет и не совсем понимал его смысл, а потому
вновь прочитанные страницы с прежним желанием декламировал
ребятам.
К этой первой прочитанной книге у Саши на всю жизнь сохрани-
лось особое отношение. Когда мы стали жить уже в отдельной двух-
комнатной квартире в новом доме и возникла острая необходимость
хотя бы частично избавиться от обилия книг, Саша, уже тогда взрос-
22
Светлой памяти сына...
лый человек, отнес часть художественной литературы в обществен-
ную библиотеку. «Калевала» избегла этой участи и до конца жизни
Саши хранилась в его обширной научной библиотеке в собственной
квартире.
Но вернемся к детству Саши. Развитое умение сосредоточивать
внимание на окружающих предметах способствовало развитию на-
блюдательности. Яркий пример этого свойства приводит в своих
воспоминаниях Т. И.: «В октябре 1944 г. мы с мужем возвращались
из эвакуации в Петрозаводск и по пути задержались в Москве. Саше
еще не было 6 лет. Он предложил мне пойти на прогулку. Гуляя, Са-
ша обратил мое внимание на стайку прыгающих воробьев и спросил,
"почему воробьи не ходят по земле, как голуби, а прыгают двумя
ножками сразу?" Я никогда не обращала внимания на эту особен-
ность воробьев и затруднилась с ответом». Оказалось, что и другие
члены нашей семьи, если и видели, что воробьи прыгают, а не ходят,
никто не задумывался над поставленным Сашей вопросом, замечен-
ный Сашей факт как бы проходил у нас поверх сознания.
Хорошая наблюдательность характеризовала Сашу и во взрослом
состоянии. Он сразу же замечал появившуюся в доме новую книгу,
посуду и пр.
Сосредоточенность внимания, хорошая наблюдательность, незау-
рядная память сочетались у Саши с хорошими мыслительными спо-
собностями, с сообразительностью. Продолжим воспоминания Т. И.:
«На той же прогулке Саша с некоторой гордостью за своего папу по-
вел меня к зданию Военно-Воздушной Академии им. H. Е. Жуков-
ского. Мы долго любовались Петровским Дворцом, созданным в
XVIII веке выдающимся русским зодчим М. Ф. Казаковым, обошли
его кругом и с интересом рассматривали красивейший вход во Дво-
рец и его внутренний двор, охраняемый часовыми. Затем по переулку
мы шли мимо учебного корпуса, во дворе которого за чугунной ре-
шеткой стоял небольшой памятник. "А ты знаешь, кому поставлен
этот памятник?" — спросил меня Саша. — "Нет, не знаю", — ответи-
ла я, хотя, конечно, знала. Саша, удивленный моим незнанием, с вол-
нением в голосе воскликнул: "Так это же памятник Жуковскому —
отцу русской авиации!" Продолжая шутить, я спросила: "А кто же
мать?" Саша на мгновение пришел в замешательство: "А мать... — но
быстро сообразил,— а мать— Родина, Россия"1. Я была поражена
находчивостью Саши и его мудрым ответом».
На прогулке со мной (мамой Саши) я часто задавала ему сначала
несложные задачи для детей 6 лет, а потом постепенно стала услож-
23
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
нять их и, наконец, предлагала задачи для учеников 2-го класса, ко-
торые, по моему опыту, вызывали затруднение у слабо развитых
учащихся. После некоторого обдумывания Саша правильно справ-
лялся с ними. Это позволило мне думать, что по математике Саша
будет учиться в школе хорошо. Мое предположение оправдалось.
Первые 4 года он учился у очень опытной и авторитетной учитель-
ницы (А. С), которая умела обеспечить дисциплину в классе, при-
учить детей к выполнению домашних заданий и дать формальные
знания по всем предметам, но, к сожалению, не развивала их творче-
ское мышление. Вот один из примеров ее отношения к самостоятель-
ной мысли ученика. Как-то, заглянув в тетрадь Саши, куда он запи-
сывал решение заданных на дом задач, я обратила внимание на ре-
шение задачи, под которой стояла отметка «4». Я поинтересовалась,
почему было так оценено решение, ведь оно было правильным и ни-
каких помарок в записи не было. Саша сказал: «А. С. объясняла нам,
как решаются такие задачи в 4 действия, а я дома решил в 3 действия,
не так, как она объясняла. Вот за это».
Характерно, что уже в 2-х—3-х-летнем возрасте Саша умел зани-
мать себя игрой, никогда не говорил, что ему скучно, не спрашивал,
чем ему заняться, и с возрастом его самостоятельные игры и занятия
становились все серьезнее. Эту способность Саши отмечает и Т. И. в
своих воспоминаниях: «Отличало Сашу от других детей то, что он
умел сам находить себе занятие, мог долго рассматривать картинки в
книге или играть в придуманную игру. Так, например, во время эва-
куации в селе Овригино маленький Саша часто играл в телефон, ко-
торый он впервые увидел на почте. Начиная игру, он терпеливо об-
матывал нитками ножки табуретки и стола (это были провода), затем
начинал кричать в катушку: "Овригино, Овригино", подражая теле-
фонистке, и потом уже вел длинный разговор от себя. В Москве, ког-
да еще продолжалась война, он придумал свой "секретный завод",
который выпускал оружие для борьбы с фашистами. Каких [только]
приказов Саша не придумывал, чтобы "завод" выпускал пушки, ру-
жья, гранаты и т. д. Завод размещался где-то под землей, и о нем,
кроме родных, никто не знал».
Вырезая из газет и плакатов картинки, Саша несколько раз делал
незатейливые альбомы, которые дарил своей любимой бабушке.
Когда в газете «Вперед и выше», издаваемой Академией им. H. Е. Жу-
ковского, Саша увидел фотографию, на которой был его папа В. А.
во время лекции в аудитории, стоящий с указкой у доски и что-то
показывающий слушателям, у него возникло желание попробовать
24
Светлой памяти сына...
себя в качестве лектора. Он (тогда уже ученик 1-го или 2-го класса)
на нескольких листах ватманской бумаги нарисовал сани, видоизме-
няя их в каких-то деталях. Как-то вечером прикрепил эти листы
кнопками к стене против стола, где мы пили чай, и с указкой в руке
начал «лекцию» о том, как можно сани усовершенствовать. Теперь
уже трудно вспомнить, в чем заключался замысел улучшения саней,
но мы хорошо помним Сашу, как он, действуя указкой, переходил от
одного листа бумаги к другому и давал пояснения. Конечно, в этой
«лекции» не было ничего серьезного, это была очередная, придуман-
ная им игра.
Однажды мы получили газету «Правда», в которой на 8-ми стра-
ницах были напечатаны фамилии депутатов, избранных в Советы
трудящихся. Саша с интересом вчитывался в фамилии и стал заме-
чать их схожесть и различия. Беседуя с нами, он узнал характерные
признаки русских фамилий, армянских, грузинских, украинских и др.
народов.
Вскоре наступили летние каникулы в школе, и Саша с бабушкой
уехали в Петрозаводск к Т. И. и В. И. (моей сестре и ее мужу). Из
воспоминаний Т. И.: «Их приезд был всегда для нас большой ра-
достью, т. к. своих детей у нас не было, и мы любили Сашу как род-
ного сына. Мой муж — филолог по специальности, очень любил об-
щаться с Сашей. Вероятно, результатом их общения явилось желание
Саши "писать научную работу". И вот 7- или 8-летний Саша часами
лежит на полу перед газетой "Правда" и выписывает из нее в толс-
тую тетрадь фамилии, классифицируя их на русские, украинские,
грузинские, армянские и другие. Позже в тетради появилось и ин-
тересное обобщение, написанное Сашей: "В фамилиях разных наро-
дов может быть общий корень, к корню прибавляют разные оконча-
ния, приставки и отставки, тогда образуются другие фамилии"».
Приведенные примеры характеризуют Сашу как одаренного под-
ростка. Известный психолог Н. С. Лейтес, посвятивший ряд исследо-
ваний изучению проблемы умственной одаренности детей, пишет,
что склонность их к труду является фактором их одаренности. Такие
дети имеют повышенную потребность в умственных усилиях, в ум-
ственном напряжении, и для них характерно находить себе занятия,
чтобы удовлетворить их потребность.
Эта же склонность к труду проявилась у Саши при овладении
музыкой. Начнем эту тему с его раннего детства. После окончания
Финской войны весной 1940 г. и освобождения здания Института от
госпиталя 1-го мая в Институте состоялся самодеятельный концерт.
25
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
В большом зале собрались преподаватели, студенты и детвора. Ме-
бели еще никакой не было, и пришедшие образовали большой круг,
на середину которого выходили выступающие в концерте. Я стояла с
Сашей на руках. Исполнялись танцы, песни и т. д. Вернувшись до-
мой, я посадила Сашу в высокое кресло у стола в комнате, а сама
стала на кухне разогревать обед. И вдруг услышала, как 1,5-годо-
валый Саша правильно воспроизводит отдельные места только что
услышанной «Песни о блохе» Мусоргского. Заглянув в комнату, я
увидела его сосредоточенное личико и какие-то замедленные дви-
жения кисти правой ручки, поставленной на локоть. Это нас порази-
ло и порадовало, т. к. мы поняли, что у Саши хороший музыкальный
слух.
Когда в 1948 г. в Москве мы получили две комнаты в 4-х-ком-
натной квартире соседнего корпуса, у нас появилась возможность раз-
местить пианино для Саши. Мы немедленно купили в ЦУМе доброт-
ное пианино Ленинградской фирмы «Красный Октябрь». В качестве
учительницы пригласили аспирантку Музыкально-Педагогического
Института им. Гнесиных. Валентина Ивановна Сосунова (В. И.) ока-
залась высокообразованным музыкантом и хорошим творческим
педагогом. Уроки ее не были формальными. Она учитывала интере-
сы и особенности Саши и тем самым способствовала его музыкаль-
ному развитию.
Саша с большой охотой стал учиться игре на пианино, но не про-
являл особого прилежания в подготовке заданного урока. Проиграв
заданную вещь один-два раза, он длительное время играл другие
пьесы, ноты которых приносила В. И. и покупал папа (В. А.). Музы-
ка влекла его к себе: приходя из школы и вымыв руки, он сразу же
садился за пианино и играл 1,5—2 часа. В результате этого у него со
временем появилось умение играть «с листа». Он самостоятельно
разобрал ряд несложных пьес П. И. Чайковского и других компози-
торов. Запомнилось, как он часто играл один из полонезов Огинско-
го, который очень нравился бабушке; он никогда не отказывал ей в
просьбе сыграть его. В. И. знакомила его с жизнью и деятельностью
композиторов, рассказывала о многих операх, проигрывала ему от-
рывки из них; знакомила с наиболее выдающимися пианистами и
особенностями их исполнения, советовала чаще посещать концерты,
что Саша охотно делал. К 12-ти годам он уже был знаком со многи-
ми крупными исполнителями не только по рассказам учительницы,
но и по собственным впечатлениям от их игры при посещении кон-
цертов в Консерватории и в зале им. П. И. Чайковского. В этот пе-
26
Светлой памяти сына...
риод он не только слушает музыку, но и сам пытается сочинять пье-
сы, которые показывает В[алентине] И[ванов]не. Конечно, это были
совсем незрелые плоды его творчества, но В. И. поощряет его к сочи-
нительству и, помнится, одну пьесу его она одобрила и вместе с ним
старалась доработать. К сожалению, эти ноты не сохранились.
Проиллюстрируем сказанное письмами 12-летнего Саши к де-
душке и бабушке (родителям В. А.). Приведем фрагменты, преиму-
щественно связанные с его занятиями музыкой.
«Дорогие дедушка и бабушка!
Шлем Вам привет.
В школе у меня дела идут хорошо.
По музыке я сейчас занимаюсь с очень хорошей учительницей,
причем не 45 минут и не час, а полтора-два часа. Занимаемся мы не
только игрой на пианино, но и основами композиции и гармонии.
Я написал с октября 1950 г. Прелюдию до-минор, Пьесу для скрипки
и ф-но соль-минор. Сейчас я пишу Прелюдию с вариациями фа-
минор. В эскизах лежит соль-мажорное скерцо для ф-п. Также мы
занимаемся и разбором произведений. Мы разобрали произведения:
прелюдии, вальсы и балладу № 1 Шопена, "Евгения Онегина" Чай-
ковского, несколько его же пьес, жизнь и творчество Скрябина, этюд
"Лезгинку" Ляпунова, "Лунную сонату" Бетховена, Прелюдии Рах-
манинова, также клавиры опер Кюи "Вильям Ратклифф" и "Андже-
ло", Римского-Корсакова "Снегурочку". Вчера мы разбирали трио
Алябьева для ф-п, скрипки и виолончели.
Из композиторов я больше всего люблю Чайковского, а из его
произведений "Онегина" и 1-й ф-п концерт. Этот концерт играют
многие: Рихтер, Оборин, Мержанов, Э. Гилельс, Л. Соснина. Неко-
торые любят слушать Э. Гилельса, а Оборина относят к Шуману,
Шуберту и Шопену. Я же (как и многие другие) люблю слушать Обо-
рина. Как четко он играет! А Гилельс делает из концерта размазню.
Когда я недавно был на концерте, то играла Лауреат конкурса в Бу-
дапеште Людмила Соснина. Сидит она очень наклонившись к роялю
и втянув голову в себя. Конечно, сыграла она несравнимо хуже Обо-
рина, но едва ли хуже Гилельса. Вызывали ее 5 раз. Дирижировал
Элиазберг.
Вы слышали органистов? Я слышал Гедике, Ленпурма и Браудо.
В концертном зале я слушал Прелюдию для струнного оркестра, ор-
гана, арфы, трубы. Партию органа играл, конечно, Гедике. Гедике
неважен как композитор. И, конечно, для органа лучше Баха и Ген-
27
В. И. Зыкова, В. Л. Михайлов
деля никого нет. Ведь один из русских критиков сказал: "Не ручей, а
море должно стать его именем". Бах — по-немецки ручей.
Из сонат мне больше всего нравится "Апассионата" и "Патети-
ческая" Бетховена, из опер— "Евгений Онегин", "Иван Сусанин",
"Руслан", из критиков — Стасов В. В.
Я был за это время на двух концертах. На первом исполнялись:
Первая симфония, Первый концерт, "Франческа да Римини" Чай-
ковского. На втором: "Испанское каприччио" Римского-Корсакова,
"Вступление" к "Хованщине" Мусоргского, Прелюдию Гедике, Вальс-
скерцо и Меланхолическую серенаду для скрипки с оркестром Чай-
ковского.
Недавно я видел в ФГАБТа оперу Красева "Морозко". Это пер-
вая советская детская опера. Музыка, конечно, ценности не пред-
ставляет, но сюжет интересен. Недавно написана опера "Каменный
цветок" (по Бажову) молодым советским композитором, недавно
окончившим Консерваторию, Молчановым. Бажов не дожил до ге-
неральной репетиции три дня. Моя учительница была на репетиции и
рассказывает, что разные чудеса затмевают недурную музыку. В од-
ном месте даже тушат все огни, оркестр молчит — буря. Потом огни
немного зажигают и начинают играть. Вы знаете, что у Римского-
Корсакова 18 опер, причем 6 последних написаны в другом жанре и
стиле. "Каменный цветок" называют 13-й оперой Римского-Корса-
кова. Она подходит к ним по интонациям.
Привет от нас всех Вам всем.
Целую.
Саша 10.XII.50 г.»
«Дорогие Дедушка и Бабушка! 31.12.50 г.
Поздравляем Вас с Новым годом и желаем всего хорошего и здо-
ровья особенно. Сегодня у меня второй день каникул. Отметки за
четверть такие: русский письменный, устный, история, география —
5; арифметика, литература, ботаника — 4.
Дедушка, о какой физике ты пишешь в письме? Мы еще этот
предмет не проходим.
Если предыдущие страницы можно назвать школой, то эту можно
назвать "музыкой". Завтра днем я иду на оперу Чайковского "Евге-
ний Онегин", на мою мечту.
Сегодня я был в нотном магазине и купил: X. Глюк — Гавот,
X. Глюк — мелодия из оперы "Орфей". Это довольно известная опе-
ра и шла в Ленинградском Мариинском театре.
28
Светлой памяти сына...
Я очень огорчен, что бабушка больна. Приезжайте и не болейте.
Саша
P. [S.] У меня сейчас стоит елка, а в школе елки не будет.
P. [P. S.] Я посылаю Вам Вступление к прелюдии (до-минор). Пос-
ле этого вступления идет разработка (это вступление не оканчивается
на какой-нибудь конец).
Саша»2
Приведенные письма относятся ко времени учения Саши в пятом
классе. В этот период его занятий музыкой я (мама Саши) однажды
увидела, что он просматривает и внимательно читает отдельные
страницы книги крупнейшего психолога Теплова Б. М. «Психология
музыкальных способностей»— М.: изд. АПН РСФСР, 1947 г. Спро-
сив Сашу, с какой целью он читает эту трудную для него книгу, я
услышала ответ: хочу узнать, может ли человек стать хорошим му-
зыкантом, если у него нет абсолютного слуха.
Примерно в это же время он придумывает игру, в которую вовле-
кает нашу семью, родственников и знакомых. На 10—15 карточках
он пишет с одной стороны фамилию одного из композиторов, с дру-
гой — названия опер каждого из них. Держа в руках колоду карто-
чек, он просит вытащить одну, вслух прочитать фамилию компози-
тора и назвать оперы его, а уже потом, повернув карточку, прове-
рить, какие из них не названы. Такая игра способствовала укрепле-
нию его знаний и просвещению играющих.
С годами мысль стать музыкантом, а тем более композитором пе-
рестала беспокоить Сашу, но любовь к музыке становилась все силь-
нее и сильнее. Он продолжал уроки по музыке, сам играл на пианино,
много читал книг о жизни и творчестве композиторов, часто ходил
на концерты. Иногда вместе с ним ходили и мы, родители. Нередко
Саша брал на концерт соответствующие партитуры и, слушая музы-
ку, следил по нотам за исполнением произведения, отмечал особен-
ности игры музыканта и оркестра. Иногда же, закрыв глаза, он как
бы весь «уходил» в чарующий мир звуков.
В одной из наших комнат через репродуктор можно было иногда
слушать музыку и даже классическую. Именно таким путем Саша
впервые услышал фрагменты из опер Рихарда Вагнера: Полет валь-
кирий, Прощальную арию Лоэнгрина с Эльзой и другие. Музыка
Вагнера произвела на него большое впечатление. Учтя это, В. А.
(папа Саши) подарил ему большой фрагмент — клавир одной из опер
Вагнера, чем доставил ему большое удовольствие.
29
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
С этого времени началось увлечение Саши музыкой этого велико-
го композитора. В поисках новых опер Вагнера Саша стал часто
самостоятельно ездить в магазин на Неглинной улице. Продавцы
магазина привыкли к юному любителю музыки Вагнера. Однажды
Саша приехал в магазин вместе с гостившим у нас дедушкой Алек-
сандром Дормидонтовичем, и дедушка был очень удивлен тем, что
продавцы дружески приветствовали Сашу, называя по имени, и со-
общили ему, что получен новый клавир Вагнера. Саша незамедли-
тельно приобрел его. Так со временем у него накопилась внушитель-
ная стопа опер Вагнера. Придя из школы, он с удовольствием проиг-
рывал понравившиеся ему отрывки из этих опер.
Клавиры опер Вагнера были изданы в Германии, причем немец-
кий текст под нотами набрали в разрядку (в такт музыке) готическим
шрифтом. Естественно, что Саша стал интересоваться содержанием
немецкого текста. Его не смутила готика шрифта, и он самостоятель-
но с помощью словарей стал делать перевод текста и изучать немец-
кий язык. Занимаясь музыкой и языком, Саша уже в юные годы по-
чувствовал, что между ними, т. е. между музыкой и словами, сущес-
твует какая-то тонкая взаимосвязь. Этой проблеме он в последние
годы своей жизни, безвременно оборвавшейся, уделял огромное вни-
мание.
Итак, мы рассказали, как через музыку Саша пришел к познанию
немецкого языка, полюбил его так же глубоко, на всю жизнь, как
любил музыку. К концу обучения в средней школе у него созрело
решение продолжать изучение немецкого языка и немецкой культу-
ры. Для чего необходимо поступить в МГУ на филологический фа-
культет. Какой же язык сдавать на приемных экзаменах?
В средней школе под руководством преподавателей Саша изучал
английский язык почти 8 лет. Немецкий язык он изучал самостоя-
тельно около 3-х—4-х лет, не прибегая к помощи репетиторов. Нам
Саша сказал, что думает сдавать немецкий язык. Тогда мы решили
проверить его знания и подвергнуть предэкзамену, пригласив опыт-
нейшую преподавательницу немецкого языка из Военно-Воздушной
Инженерной Академии им. H. Е. Жуковского, в которой работал
В. А. Мы попросили ее обстоятельно побеседовать с Сашей, прове-
рить его знания и произношение в объеме, в каком абитуриент, по-
ступающий на филологический факультет МГУ, должен владеть не-
мецким языком, чтобы получить высокую оценку.
Беседа велась на русском и немецком языках. Произношением
Саши учительница была удовлетворена, знания его оценила очень
30
Светлой памяти сына...
высоко, а за пробный экзамен поставила «отлично». Нам сказала:
«Ваш сын может смело идти на экзамен по немецкому языку». И,
действительно, на приемных экзаменах по немецкому языку Саша
получил «отлично с плюсом». Успешно сдав все остальные экзамены,
Саша был зачислен на I курс филологического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова по романо-германскому отделению.
В течение первого года обучения в МГУ (1956—57 гг.) Саша сде-
лал серьезный шаг вперед к овладению живым немецким языком.
В этом он убедился в конце лета 1957 г. в Киеве, который он очень
любил и куда уехал на каникулы к родным. Этим летом в Москве
состоялся Международный Фестиваль молодежи, заключительный
этап которого проходил в Киеве, куда из Москвы переехали все мо-
лодежные делегации. Двоюродная сестра Саши Женя, живущая в
Киеве, рассказывает, что ей папа достал для нее с Сашей гостевые
пригласительные билеты на киевские мероприятия, проходившие в
только что построенной Выставке (нечто вроде ВДНХ). Саша и Же-
ня провели там целый день. В один из перерывов Саша подошел к
немецкой делегации и стал разговаривать с нею по-немецки. Беседа
длилась минут 10—15, после чего Саша попрощался с немцами и
вернулся к сестре. Лицо Саши, по словам Жени, выражало радость.
Саша рассказал, что в конце беседы он спросил собеседников, как
они оценивают его произношение. Они очень удивились такому во-
просу, т. к. приняли его за немца и, с удивлением узнав, что он рус-
ский, сказали, что он говорил очень хорошо, без каких-либо изъянов
в произношении. Этой оценкой Саша был очень доволен. Своеоб-
разный экзамен, который он сам себе устроил, вселил в него уверен-
ность в своей возможности свободно разговаривать с немцами и,
конечно, стал хорошим стимулом для дальнейшего продвижения в
изучении немецкого языка и всей немецкой культуры. В 1961 году
Саша успешно закончил МГУ им. М. В. Ломоносова.
16. 06. 96
Публикация подготовлена Е. Г. Местергази
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вскоре в сквере около Петровского Дворца были поставлены большие
памятники H. Е. Жуковскому и К. Э. Циолковскому.
2 Второе письмо напечатано Сашей на недавно купленной нами пишущей
машинке.
31
В. И. Зыкова, В. А. Михайлов
Примеч. ред.
Оригинал рукописи, хранящийся в личном архиве Александра Вик-
торовича Михайлова, представляет собой «невычитанный» машино-
писный текст с рукописной правкой авторов.
Рукопись публикуется с воспроизведением всех особенностей ав-
торского графического оформления документа (в том числе фрагмен-
ты из писем даны без обозначения купированных мест, как это было в
тексте оригинала), с учетом устранения всех опечаток и граммати-
ческих ошибок. Авторская орфография полностью сохранена, в част-
ности, заглавные буквы вместо строчных в некоторых словах — на-
званиях учреждений, поскольку это написание, не отвечающее нормам
современного русского языка, в какой-то степени отражает мировоз-
зрение авторов и напрямую соотносится с той иерархией жизненных
ценностей, которая была у родителей А. В. Михайлова и отчетливо
запечатлелась в их слове. Курсив соответствует подчеркиваниям в
рукописи.
Рукопись публикуется практически полностью, сокращению под-
верглись несколько предложений в конце первой части, содержащие
повтор предыдущего текста.
Редакция выражает горячую признательность вдове А. В. Михай-
лова Норе Андреевне Михайловой за предоставление архивного мате-
риала.
32
СЛОВО И МУЗЫКА
2 - 1379
Татьяна Щерба
МГК им. П. И. Чайковского. Москва
А. В. МИХАЙЛОВ И МУЗЫКАЛЬНАЯ НАУКА
Творческое наследие Александра Викторовича Михайлова (1938—
1995), выдающегося современного мыслителя и исследователя куль-
туры, включает в себя значительное количество работ о музыке. Дан-
ная статья является лишь первым этапом освоения теоретико- и ис-
торико-музыкального наследия ученого, и основная наша задача —
представить облик Михайлова в целом как современного мыслителя
и, в частности, как мыслителя о музыке.
Александр Викторович любил музыку страстно, его слушание и
восприятие музыки никогда не было пассивным. Уже в юном воз-
расте у А. В. Михайлова сложился определенный круг музыкальных
привязанностей. Среди них особое место принадлежало Рихарду
Вагнеру. При каждой возможности мальчик покупал клавиры опер
Вагнера на немецком языке. Именно с этого момента и начинается
увлечение Михайлова немецкой культурой. По клавирам вагнеров-
ских опер Александр Викторович стал изучать и немецкий язык. «За-
нимаясь музыкой и языком, — вспоминают родители, — Саша уже в
юные годы почувствовал, что между ними, то есть между музыкой и
словами, существует какая-то тонкая взаимосвязь. Этой проблеме он
в последние годы своей жизни, безвременно оборвавшейся, уделял
огромное внимание» (Зыкова, Михайлов, 33).
Музыка сопутствовала Александру Викторовичу на всем его жиз-
ненном пути. Поэтому появление работ о музыке в наследии ученого
не может быть случайным. В каком-то смысле в них А. В. Михайлов
реализовал себя как музыкант. «Во всех его исследованиях — о лите-
ратуре, изобразительном искусстве, о культуре в целом — мы слы-
шим музыку, — пишет Е. И. Чигарева. — Более того, музыка как
особый тип мышления и чувствования, как особый, не определимый
2*
35
Татьяна Щерба
словами способ самовыражения, проходя через все работы А. В. Ми-
хайлова, дает ему возможность по-иному, как бы изнутри, видеть
многие процессы культуры вообще: это как бы нерв его мысли» (Чи-
гарева 1998, 257).
Индивидуальной способностью Михайлова можно считать его
умение переживать каждый момент настоящего как абсолютно цен-
ный и творческий. И в культуре, и в истории, согласно его понима-
нию, нет ничего второстепенного. Даже такая, казалось бы, неприме-
чательная вещь, как концертные программки, может кое-что «пове-
дать» о способе постижения произведения, запечатленного на ней.
В самих программках, как считает Михайлов, «можно видеть особый
язык (иной раз противоречивый и смутный) самоистолкования куль-
туры» (Новый музыковедческий <...>, 4)1. Отчасти с этим же связано
особое, бережное отношение Александра Викторовича к таким ху-
дожникам и их произведениям, которые не являются всеми признан-
ными. Среди его музыкальных симпатий, помимо Вагнера, Скряби-
на, композиторов Новой венской школы, композиторов Могучей
кучки, и других знаменитых фигур первого ряда, такие композиторы,
как Франк, Яначек, Мартину, Нильсен, Пфицнер, Элгар, Воан-
Уильямс, а среди русских — Серов, Вас. Калинников, Глазунов, Та-
неев. В этом заключена характерная тенденция всей второй полови-
ны XX столетия, о которой и сам Александр Викторович писал, что
«вместо установки на шедевр возник интерес к широчайшему, на-
сколько возможно, знанию музыки самых разных эпох и народов»
(Из мюнхенских <...>, 2)2. Все большее значение приобретает кон-
текст, вне которого не может быть понят ни один шедевр. Интерес
Михайлова к композиторам нечасто исполняемым находился в русле
современного музыкознания.
Специфика научного мышления Михайлова, которому свойствен-
но как бы одновременное «думание» в различных средах, во многом
объясняет и интерес Александра Викторовича к личностям такого
же универсального склада. Показательны в этом отношении работы
Михайлова о социологии музыки в трудах Макса Вебера и Теодора
В. Адорно. Макс Вебер — известный немецкий экономист и социо-
лог, к музыкальным проблемам пришедший довольно поздно, извне,
после того, как сложилась его экономико-политическая и культурно-
философская концепция3. Однако его последняя неоконченная книга
о музыкальной социологии, по мнению Михайлова, значительно по-
влияла на развитие современной мысли о музыке.
Работа Макса Вебера оказала влияние на Теодора В. Адорно,
36
А. В. Михайлов и музыкальная наука
личность которого привлекала А. В. Михайлова на протяжении всей
жизни. Для Адорно как мыслителя также характерно стремление к
универсальному взгляду на проблематику современного искусства.
Фигура этого ученого может быть вполне сопоставима с личностью
А. В. Михайлова по характеру научной деятельности, объединяющей
под знаком музыки различные области, например, философию, со-
циологию. Однако, думается, еще более привлекательным для Ми-
хайлова в работах Адорно был его исторический взгляд на процесс
развития культуры. Адорно понимал историю, в частности, историю
музыки, как непременный прогресс, запечатленный в технике музы-
кального языка, и свою философскую и социологическую концепцию
он строил на историческом основании доступного ему музыкального
опыта. Александр Викторович писал по этому поводу: «Я думаю,
что, вроде бы, в XX веке не было такой философии, кроме Адорно,
которая очень бы музыкальный опыт учитывала. Адорно, пожалуй,
один из философов настоящего уровня и писатель настоящего уров-
ня, который знал музыку по-настоящему хорошо и технологически, и
духовно. <...> То есть у него музыкой проникнута вся философия. Он
знал о тех как бы онтологических возможностях, которые музыка в
себе несет. И знал не только как лозунг какой-то. А он как бы
"проел" это все руками, всю эту музыку с начала до конца, насколько
она была ему доступна за 60 лет жизни» (Две беседы 1996,16).
В отечественной культуре похожим образом шло развитие музы-
кальной науки в трудах Б. Асафьева.
Фигуры Макса Вебера, Теодора В. Адорно, Бориса Асафьева не
случайно здесь стоят рядом. С одной стороны, их исследования в об-
ласти музыки оказали значительное влияние на развитие всей даль-
нейшей культуры XX века, с другой — их творческий, научный метод
и даже способ мышления в некоторых аспектах может быть сопоста-
вим с творческим методом Александра Викторовича. А. В. Михайлов
сам неоднократно обращался к трудам этих исследователей, и вполне
очевидно, что работы и М. Вебера, и Т. Адорно, и Б. Асафьева ока-
зали влияние на его собственные исследования в области культуры.
Наконец, в некоторой степени знаменательным кажется и тот факт,
что А. В. Михайлов предполагал издать книгу, в которой бы были
соответствующие главы о Вебере, Адорно, Асафьеве и, возможно,
изложение концепции самого А. В. Михайлова о социологии ис-
кусства4.
37
Татьяна Щерба
А. В. Михайлов — современный мыслитель
Деятельность Александра Викторовича Михайлова была плодо-
творна в самых различных областях искусствознания — филологии,
эстетике, философии, музыкознании. Научная мысль ученого не про-
сто «разлилась» по различным сферам науки об искусстве, но она
способна пребывать одновременно в нескольких средах, из которых
музыка занимает важнейшее место. Такой тип мышления условно
можно назвать «интердисциплинарным», то есть как бы «межнауч-
ным» (те области знания, до которых дотягиваются науки, расширя-
ясь в сферах своих исследований). И именно такой тип мышления,
вероятно, вполне отвечает стремлению к соединению знаний из раз-
личных областей и их органическому единству — одному из харак-
терных качеств современного искусства и науки. Так, появление в
современной музыке таких направлений как конкретная, электрон-
ная, интуитивная музыка, с одной стороны, и попытка самих компо-
зиторов обосновать свое искусство с философско-эстетических пози-
ций, с другой, в достаточной мере показывают, что музыка пережи-
вает особый этап своего осмысления в пространстве всего человече-
ского бытия. Точно так же и для методологии современного музыко-
знания характерна тенденция к рассмотрению какого-либо частного
вопроса в контексте не только музыкальном, но и в контексте всего
искусствознания.
Принципиальная позиция А. В. Михайлова — установка на необ-
ходимую предельную широту в охвате проблемы, что определяет и
одно из главных достоинств его работ: их содержание и проблемати-
ка всегда гораздо шире и острее, чем можно предположить из назва-
ния и, как правило, затрагивают самые серьезные вопросы и эстети-
ки, и филологии, и философии, и музыкознания, и социологии.
Однако «широта» исследования таит в себе известную опасность:
попытка соединения отдельных дисциплин может быть основана
лишь на прочерчивании внешних связей (Письмо к Вальковой 1998,
226). Идеал искусствоведческого исследования А. В. Михайлов видел
в том, чтобы, сосредоточившись на одном вопросе, изнутри него
выйти к обобщениям, касающимся всего комплекса проблем о куль-
туре, вплоть до философских вопросов. Он писал, что «...по-насто-
ящему уразуметь какое бы то ни было конкретное и частное творче-
ское явление из истории музыки можно лишь при условии рассмот-
рения его в максимально широком контексте — настолько широком,
насколько вообще один исследователь способен охватить и внутрен-
38
А. В. Михайлов и музыкальная наука
не постичь такую полноту» (Отзыв о докторской дисс. Ивашкина
<...> 1993, 2). Вместе с тем, для любого исследования крайне важно,
чтобы историко-культурный материал проявил свои смысловые, так
сказать, «эвристические» потенции, чтобы научная работа была
основана на «постепенном и внутренне-логическом вызревании об-
щекультурной проблематики в недрах отдельной дисциплины»
(Письмо к Вальковой 1998, 227).
Для современного искусства характерно не только соединение
различных областей знания, но еще и «пересечение» различных эпох,
начиная с античности и заканчивая самыми авангардными течения-
ми. Радикальные изменения, произошедшие во всех сферах челове-
ческой жизни, затрагивают проблему нашего понимания того, каким
должно быть настоящее творчество. В определенном смысле можно
говорить о новом синтезе искусств. Более того, даже научное знание
становится постепенно неотъемлемой частью самого творческого
процесса и, в частности, процесса сочинения музыки. В конце XX ве-
ка принципиально возможными, действенными и даже вполне соче-
таемыми в одном произведении оказываются методы композиции,
жанры и формы, характерные для далеких от современности эпох:
средневековья, ренессанса, барокко, классицизма, романтизма. А для
композиторов типичным становится комментирование своих произ-
ведений с позиций общекультурной и эстетической проблематики
современного искусства (например, у К. Штокхаузена). Показателен
также спектр исполняемой музыки в концертах: заметна тенденция к
максимальному расширению исторического пространства знаемой
музыки. Это влечет за собой стремление не только к ее слуховому, но
и теоретическому, научному усвоению и осмыслению. Тип современ-
ного мыслителя, ученого, композитора характеризуется умением
свободно обращаться с различными пластами культурной истории,
способностью погружаться и пребывать в них. А это возможно лишь
в том случае, когда сама история начинает собираться вокруг чело-
века, в результате чего все эпохи становятся равноудаленными от на-
шего взора. Вот такое состояние и описывает Александр Викторович,
когда говорит о новом образе истории «как потенциальной налич-
ности всего существующего и притом касающегося нас!» (Из мюн-
хенских <...>, 4). По отношению к современной эпохе А. В. Михай-
лов использует понятие «мета-культура», подчеркивая ее особое по-
ложение относительно своей же истории, собирающейся вокруг нас
во всех своих тенденциях.
Универсализм Михайлова как ученого и мыслителя симптомати-
39
Татьяна Щерба
чен для самой ситуации, сложившейся в искусстве и науке XX века.
Именно потому, что тенденция к универсальному знанию является
методологическим знаком эпохи, положение Александра Викторови-
ча в современной науке не представляется исключительным. Наибо-
лее показательная параллель возникает при сопоставлении А. В. Ми-
хайлова и А. Ф. Лосева. Уже тот факт, что Александр Викторович
неоднократно обращался к трудам философа как к своеобразному
источнику знания о культуре, обращался с некоей внутренней необ-
ходимостью, внешне обосновывает такую параллель. Кроме того,
существуют и некоторые общие моменты, объясняющие возможность
сопоставления двух крупных фигур отечественной культуры.
Первое, что бросается в глаза: и А. Ф. Лосев, и А. В. Михайлов
обращались к музыке, придя из других областей науки — из филосо-
фии, из эстетики, из филологии. Вместе с тем, оба, не будучи музы-
кантами по профессии, оставили значительные труды о музыке. Объ-
единяет ученых и специфический тип мышления, охарактеризован-
ный нами как интердисциплинарный. Для работ А. Ф. Лосева о му-
зыке также характерно пребывание мысли в различных средах: фило-
софско-эстетической, филологической и конкретно-музыкальной.
Общим для обоих мыслителей является и свободное владение ог-
ромными историческими пластами. Например, курс лекций по ис-
тории эстетики, который читал А. Ф. Лосев до 1929 года в Москов-
ской консерватории, включал в себя материал эстетических учений
от древних греков до марксизма. Кроме того, Лосев в своих лекциях
(а также в книге «Музыка как предмет логики») неоднократно обра-
щался к фигуре Г. Э. Конюса, крупного музыковеда, композитора, в
котором усмотрел своего единомышленника. О нем Лосев даже напи-
сал статью «Памяти светлого скептика». А. В. Михайлов, работая в
консерватории в 90-е годы, читал факультативные курсы «Музыка в
истории культуры», «Герменевтические основания истории культу-
ры», «История всеобщей литературы: начала и конец европейской
литературы» и др. Уже в самих названиях этих курсов содержится
указание на максимальный охват самого широкого исторического
знания различных эпох.
В некотором смысле можно говорить и о преемственности тема-
тики. «Совпадают» даже фигуры композиторов — Вагнер, Скрябин,
Римский-Корсаков... Прямым продолжением лосевской музыкальной
темы можно считать статью А. В. Михайлова «Ранние работы
А. Ф. Лосева о музыке» (изд. 1996).
Здесь заключена важная проблема, связанная с философским ас-
40
А. В. Михайлов и музыкальная наука
пектом работ А. В. Михайлова. Правда, Александр Викторович упре-
кал музыковедов в том, что они «на каждом шагу принимают за фи-
лософию любую попытку быть глубоким» (Проблемы философской
<...>, 2). Тем не менее, в отношении работ самого исследователя
представляется возможным поставить проблему о философии в его
трудах. Михайлов был наделен способностью мыслить философски,
в его трудах присутствует определенное умонастроение, и всегда
видна четкая направленность на постановку и анализ коренных во-
просов человеческого бытия и бытия искусства. Философским можно
назвать и способ изложения, характерный для Михайлова: его мысль
разворачивается постепенно, неспешно, вовлекая в свою орбиту мак-
симальное количество самого разнородного материала, и ученый как
бы послушно следует за ней, за всеми ее изгибами и поворотами.
Один из коллег Михайлова, философ В. П. Визгин в статье об
Александре Викторовиче писал: он «с удивительным мастерством и
выдержкой развивал трудную философскую логику мысли, пытаю-
щейся мыслить немыслимое, делая при этом <...> новый шаг в по-
стижении возможностей апофатического мышления» (Визгин 1996,
159).
Александр Викторович Михайлов, рассуждая о характере всего
русского искусства XIX — начала XX века, отметил, что некоторые
философские вопросы были неравномерно распределены по всей
культурной среде русского общества, в том числе и музыкальной.
Одна из причин такого состояния искусства, по его мнению, заклю-
чается в особом положении философии как науки в России, которая
«по крайней мере до конца XIX века никак не желает обособляться и
(скажем, в качестве университетского предмета) замыкаться в себе, —
обстоятельство, которое позволяет предполагать, что задачи фило-
софии были одновременно разлиты по всей недостаточно расчленен-
ной среде русской жизни...» (Рецензия: В. К. Кантор. В поисках <...>,
I)5. Так, о симфониях Глазунова Михайлов пишет, что они «сами по
себе ничуть не "мудрее" симфоний И. Брамса, зато едва ли нельзя
ощутить при слушании их, что автор их весьма по-русски должен
брать на себя "все" — некоторое мыслительно-психологическое це-
лое, опосредующее мысль и "чувство", некоторую целокупность от-
ношения к действительности и миру; для такого симфониста и для
такой русской симфонии не существует какого-либо образа "фило-
софа", читающего где-нибудь с кафедры свой предмет, зато некото-
рая "философствующая" личность переселяется внутрь автора и,
почти неосознанно, пребывает внутри его...» (там же).
41
Татьяна Щерба
О научном творчестве А. В. Михайлова можно сказать, что оно
опирается на широкое поле национальной традиции всей русской
культуры, в том числе и на традиции русского философствования, —
причина, позволяющая поставить Михайлова в один ряд с такими де-
ятелями отечественного искусства, как М. В. Ломоносов, Ф. М. Дос-
тоевский, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, M. М. Бахтин, В. С. Соловь-
ев и др.
Если научную деятельность А. В. Михайлова и нельзя однозначно
назвать философским творчеством, то круг тем, которые разрабаты-
вал Михайлов, можно считать философским. В цитированной выше
статье В. П. Визгин указывает основную, по его мнению, философ-
скую тему Михайлова: это «тема пересечения Мысли и Слова» (Виз-
гин 1996, 159). Нам хочется несколько расширить формулировку.
А. В. Михайлова как современного мыслителя волновали самые зна-
чимые для культуры XX века слова и их смысл: это слова «история»,
«слово» и «музыка». В определенном аспекте можно назвать еще
одну «тему» Михайлова — это проблема конца истории. С. С. Аве-
ринцев считает, что она объединяет все его работы: «Тема А. В. Ми-
хайлова, таившаяся за всем разнообразием его конкретных тем, со-
общавшая его трудам — единство поверх всех границ научных дис-
циплин, а его человеческому облику — черту внутренней боли и того,
что мы <...> назвали суровостью, была связана с проблемой ниги-
лизма и неумолимой логикой смены его фаз, последовательности как
бы эсхатологических духовных катастроф...» (Аверинцев 1997, 9).
Таким образом, под знаком истории как движущегося процесса фи-
лософская мысль Михайлова завязывает в один узел «ключевые сло-
ва» всей мировой культуры.
В этом контексте роль А. Ф. Лосева для научного знания А. В. Ми-
хайлова возрастает. Сам Александр Викторович писал об огромной
значимости слова Лосева в процессе историзации нашего сознания:
«Несравненно, важнее для нас то, что А. Ф. Лосева во всех его рабо-
тах отличало тончайшее знание конкретности и историчности всяко-
го термина. А такое знание предопределялось его сознанием, знаме-
нательным свойством его сознания, направленного на новое, углуб-
ленное осмысление истории» (Терминологические <...> 1991,62).
Само понятие «истории» стало максимально актуальным именно
в XX веке. В каком-то смысле «история» объединяет все работы Ми-
хайлова-филолога и Михайлова-музыковеда, а способ рассмотрения
любого понятия, явления укладывается в известный «принцип исто-
ризма». Можно даже сказать, что слово «история» стало ключевым
42
А. В. Михайлов и музыкальная наука
для многих работ Александра Викторовича. Его знание об истории
отражает саму историю такой, какой она видится современному че-
ловеку.
Обращение Михайлова к проблемам культуры XIX века не толь-
ко не случайно, но даже вполне закономерно, потому что именно в
это время закладываются основы исторического сознания. Как пишет
А. В. Михайлов, впервые у романтиков история начинает постепенно
«разворачиваться» вглубь от современности к древности, включая в
орбиту настоящего и все прошедшее как уже ставшее, как сло-
жившуюся историю6. В этом смысле культура XIX века действитель-
но стоит в центре процесса превращения истории в методологичес-
кий принцип науки.
В XX веке любое понятие толкуется исторически. И философия
осознает свою принадлежность истории, и музыка, и всякое слово.
Более того, сама история, как считает Михайлов, «замкнута на се-
бе — она стала историей для самой себя» (там же, 53). «Сегодня эта
же история,— пишет Михайлов,— обернулась для нас полнотою
всего прожитого мира. Опосредование непосредственного — опосре-
дование всего, что было прожито непосредственно, — вот ее задача.
Для истории, ставшей исторической для самой себя, историей сдела-
лось и всякое бывшее знание» (там же, 54).
Для XX века характерно принципиальное равноправие всех исто-
рических эпох — ситуация, невозможная ни в какое другое время, —
все, когда-либо созданное и существовавшее становится актуальным,
потому что каждое «сегодня» переживается и осмысляется в зависи-
мости от «вчера», весомость которого все возрастает. «Становящаяся
исторической для самой себя, всякая история начинает складываться
и постепенно образует единый и общий для всего равно затрагиваю-
щий нас мир, в котором все важно для нас, в котором все весомо, в
котором нет пустого и незначительного,— все зависит от всего, и
"сегодняшнее" конкретно зависит от давно прошедшего и забыто-
го», — так А. В. Михайлов характеризует современное состояние
истории (там же).
Второй аспект проблемы — то, как постигается история, как она
является нам. И вот тут вступает в свои законные права слово, пото-
му что любое знание, так или иначе, выговаривается через него.
Примечательно, что сам Александр Викторович сопрягает эти два
понятия, «историю» и «слово»: «История есть тогда знание о себе,
положенное, как знание, в слово. Что такое "история"? Скажем так:
это выведание неизведанного через слово и в слове» (там же, 53).
43
Татьяна Щерба
Здесь, думается, Александр Викторович Михайлов также продол-
жает традицию А. Ф. Лосева, поскольку вплотную подходит к слову
как логосу и заданному историей смыслу такого слова как опреде-
ленной идее и эйдосу: «Как умеем и можем, мы будем устраиваться в
новом для нас мире, хотя он и прозадуман для нас — тем, что было, и
тем, что было прозадумано для нас словами, словом, все тем же
"логосом". Он же осветил и наше собирание смыслов, какое поруче-
но по-новому повернувшейся истории. <...> Вот наша ситуация, ко-
торую справедливо называть герменевтической <...>» (там же, 61).
Как конкретный пример современного герменевтического подхо-
да к вопросам истории культуры и, в частности, музыковедения,
можно привести известное письмо А. В. Михайлова к В. Б. Валько-
вой, опубликованное в книге «Музыка в истории культуры». В этом
письме Александр Викторович рассуждает о понятии «тема» по от-
ношению к музыканту и слушателю, теоретику музыки, по отноше-
нию к современной ситуации в науке, связанной с этим словом. При-
мечательно, что методологически его рассуждения начинаются с
обращения к этимологии греческого слова «тема»: «Насколько могу
судить, слово это от корня с чрезвычайно общим и широким значе-
нием (глагол тШтщг)— причем такое слово, которому свойственно
сразу же приобретать существенно специальные значения, сквозь
которые это общее просматривается и видится "как фон". "Тема" —
это, собственно говоря, то, что положено, поставлено, взято как
исходное и т. д. ТШтщг — я кладу; тема — это то, что получилось,
когда я положил и что теперь можно взять и другому; это все мои
попытки растолковать заложенное в слове, "тематизированное" в
нем» (Письмо к Вальковой 1998,228).
Слово «тема» является одним из ключевых слов нашей культуры.
И как бы не видоизменялись многочисленные определения «темы» в
науке об искусстве, все они, так или иначе, учитывают первоначаль-
ный смысл, заложенный как некое целое в этом слове, смысл, посте-
пенно разворачивающийся на протяжении многих веков и постоянно
самоуточняющийся в конкретных способах обращения со словом.
А. В. Михайлов пишет: «пользуясь им (словом. — Т. Щ.) во все но-
вых значениях и оттенках значений, мы в то же время обязаны (хотя
часто этого не знаем) иметь в виду то самое, что имеет в
виду само слово, а что имеет в виду слово, мы очень часто даже не
знаем, а можем только заключать об этом через скрупулезный анализ
истории слова внутри культуры, из его культурно-историчес-
кого функционирования...» (там же, 231).
44
А. В. Михайлов и музыкальная наука
Поле смысла, незримо управляющее словом на протяжении всех
периодов его употребления, А. В. Михайлов называет этимологичес-
ким принуждением, подразумевая под этим выражением определен-
ное «согласие» смысла слова и культуры, которая пользуется им:
«культура, когда она пользуется для своего самопонимания извест-
ным словом, берет на себя его смысл, а это значит: она не толь-
ко утверждает, что вот такое-то слово адекватно соответствует та-
кой-то ее стороне, но и соглашается с тем, чтобы впредь (и вплоть
до отказа от слова) подчиняться всему тому, что несет в себе слово»
(там же).
Этимология греческого слова «тема», по мнению Михайлова, в
приложении к музыке указывает в некотором роде на саму ее сущ-
ность как искусства: «Что вместе с "темой" мы очень близко подхо-
дим к сущности музыки вообще, в целом — очевидно» (там же, 230).
С одной стороны — это положенность, или, как уточняет А. В. Ми-
хайлов, горизонтальная положенность, с другой — такая положен-
ность, которая осмысляется нами как единство, коль скоро существу-
ет само понятие «тема». То есть, «тема» в музыке — это «горизон-
тальная положенность как единство конструктивного или смыслово-
го порядка» (там же, 228). Эти два момента, как считает Михайлов, и
определяют суть музыки: горизонтальный аспект понятия «тема»
указывает на некоторую протяженность музыки во времени, а един-
ство— на особое восприятие музыки как некоего целого, а значит
как бы «вневременного». Александр Викторович пишет: «культура,
которая изобрела для своего самопонимания слово "тема" и подска-
зывает приложение его к музыке, одновременно заявляет о "горизон-
тальном" существе музыки— о музыке как о таком Nacheinander
[последовательность, нем.], который и идет вместе со временем, и тут
же говорит о некотором его "преодолении", коль скоро настаивает
на единстве всякой "положенности". Музыка заявляет о себе как о
"горизонтальном", но еще не (вполне) временном, что, со стороны
слова, одного из центральных, уже гораздо лучше определяет музы-
ку, чем любые головные ее определения. Так сказать, условно,—
музыка — это то, для чего тема (как то-то и то-то) оказывается
одним из центральных, если не самых центральных понятий» (там же,
230).
Для того, чтобы понятие «тема» приобрело возможную полноту
заданного ей историей смысла, необходимо учитывать, по мысли
Михайлова, одновременно несколько существенных моментов (или,
как называет их Александр Викторович, «сил»), которые взаимно
45
Татьяна Щерба
определяют особенности функционирования слова в культуре. Всего
таких «сил» А. В. Михайлов насчитывает пять:
«1. Тем а как лежащее внутри слова и проходящее через всю ис-
торию культуры этимологическое принуждение, — здесь в приложе-
нии к музыке.
2. "Тема" в разнообразии функционирования этого слова — с
разными значениями слова и оттенками его. <...>
3. Тема как "термин" в музыкознании и его история, со всеми
частными истолкованиями "темы", с его суждениями и пр. <...>
4. С а м а музыка, раскладывающаяся на всю свою историю и со-
бирающая всю историю в себя. <...>
5. Такой современный исследователь, который вправе предста-
вить себе такую ситуацию и поставить себя самого в пятый угол, как
такую силу, которая способна осуществлять надзор за всей ситуа-
цией» (там же, 231).
Очертив вышеуказанные пять «сил», управляющих функциониро-
ванием данного слова в истории культуры, Михайлов одновременно
обозначил и характер нынешней ситуации в искусстве и науке. Суть
ее заключается в осознании действия внутренней логики развития
всей культуры, явно или скрыто запечатленной в слове, которым мы
пользуемся. Современная ситуация, где никакое понятие не может
существовать непосредственно, без того, чтобы оно не было так или
иначе осмыслено, переосмыслено, перетолковано, указывает и спо-
соб, даже путь всякого исследования: выявления смысла слова через
актуализацию истории его функционирования. Только в этом случае
слово приобретает такую наполненность и объемность, которая дает
ему возможность что-либо точно и конкретно обозначать.
А. В. Михайлов — мыслитель о музыке
Роль музыкальной линии в исследованиях А. В. Михайлова не
просто чрезвычайно велика. В некотором роде музыка как искусство,
по своей сути бессловесное и засловесное, с помощью звуков говорит
нам о таких вещах, которые не в силах передать никакое слово, разве
что философское и то не в полной мере. Поэтому всякое слово о му-
зыке требует от исследователя крайне осторожного обращения с ним.
И если вся история культуры так или иначе «сидит» в истории музы-
ки, то значит, что этим искусством мир познается наиболее непосред-
ственно и полно. Александр Викторович писал, что «музыка оказы-
46
А. В. Михайлов и музыкальная наука
вается из всех искусств наиболее близкой к основе или подоснове
бытия, о которой мы мало что можем сказать, если не обратимся к
философии и к той же музыке. Музыка... она, если можно так ска-
зать, своя же собственная философия» (Две беседы, 1996, 11).
В этом случае рассмотрение одной музыкальной линии творчес-
тва А. В. Михайлова не должно выглядеть как искусственное разде-
ление его науки. Наоборот, значение, которое придавал Михайлов
музыке, позволяет говорить о том, что в музыковедческих трудах
ученого как частном аспекте его научной деятельности отражена вся
многообразная проблематика современного искусствознания.
Среди огромного количества трудов А. В. Михайлова, опублико-
ванных и неопубликованных, печатных и рукописных, хранящихся в
его архиве, весьма значительное место принадлежит работам по му-
зыкознанию. Александр Викторович всегда испытывал живой инте-
рес к музыке, был чутким и внимательным слушателем, обладал вы-
соким художественным вкусом. И если попытаться охватить все на-
писанное Михайловым о музыке, то в целом вырисовывается фигура
крупного музыковеда, хотя систематического музыкального образо-
вания Александр Викторович не получил.
Привести хотя бы в относительную систему работы А. В. Михай-
лова о музыке — задача не простая, так как часть их не опубликова-
на, часть разбросана по разным текстам, не связанным прямо с му-
зыкой, часть неизвестна, а часть имеет характер конспекта или тезис-
ного плана. Но даже из тех материалов, которые в настоящее время
удается учесть и описать, совершенно очевидно, что музыковедческое
наследие Михайлова огромно и его значение для науки о музыке
велико.
Необходимо описать в самых общих чертах всю совокупность ра-
бот и материалов, которые так или иначе связаны с музыкой, чтобы
получить более или менее четкую картину музыкально-научного
наследия ученого. Прежде всего следует осветить то, что до сих пор
остается неизвестным для читателей, знакомых с музыковедческими
работами Михайлова только по печатным материалам.
Рукописные материалы в архиве А. В. Михайлова
Основная трудность, связанная с описанием рукописных мате-
риалов А. В. Михайлова, заключается в том, что в его архиве собра-
ны разнородные типы текстов. Большая часть из них не датирована.
47
Татьяна Щерба
Поэтому судить о времени написания той или иной статьи можно
лишь по косвенным данным. Некоторые тексты датировать пока все
же не удается. Музыкальная часть архива включает в себя материалы
самого различного содержания. Всю совокупность их возможно
классифицировать следующим образом.
1. Печатные и рукописные тексты исследователя, опубликованные
и неопубликованные, с авторской правкой, часто в нескольких вари-
антах.
2. Рецензии на кандидатские, докторские диссертации, отзывы
на дипломные, курсовые работы студентов, рецензии на книги, сбор-
ники.
3. Рукописные заметки на различные темы, тезисы сообщений,
докладов, лекций.
4. Рукописные и печатные выписки, ксерокопии из книг на раз-
личных языках.
5. Тексты других лиц с пометками А. В. Михайлова.
6. Подготовительные рабочие материалы, наброски.
7. Заявки в издательства о публикации книг и сборников.
8. Библиографические карточки, газетные вырезки, письма, фак-
сы, записки, адреса и телефоны знакомых и коллег.
9. Обширная художественная и научная библиотека, охваты-
вающая литературу на различных языках (русском, немецком, ан-
глийском, французском, греческом и др.) по вопросам филологии,
философии, религии, истории, музыкознания.
10. Аудиозаписи, пластинки, компакт-диски, кассеты.
11. Нотные издания.
12. Справочники, энциклопедии, словари, толкователи.
13. Неполная картотека архивных материалов.
Остановимся подробнее на неопубликованных работах Алексан-
дра Викторовича о музыке.
В архиве А. В. Михайлова находится статья под названием «К эс-
тетике Рихарда Вагнера. Вагнер и Моцарт», объемом 60 с.7. Предпо-
ложительно, эта работа была написана в начале 1980-х годов (не
позднее ноября 1982 года) и предназначалась для сборника «Рихард
Вагнер. Статьи и материалы», редактором-составителем которого
была Людмила Викторовна Полякова. Текст не вошел в сборник,
вышедший в 1987 году, и, по всей вероятности, Александр Викторо-
вич Михайлов больше к нему не возвращался. Существующий экзем-
пляр печатного текста можно назвать черновым. На полях имеются
карандашные пометки, сделанные, по-видимому, рукой Л. В. Поля-
48
А. В. Михаилов и музыкальная наука
ковой, читавшей текст (перед статьей лежит ее записка от 12 ноября
1982 года, где подтверждается этот факт). В печатном тексте есть
правки, сделанные рукой Александра Викторовича.
Среди материалов, касающихся проблем современного искусства,
находится работа о социологии музыки в трудах Макса Вебера под
названием «Макс Вебер. Принцип рационализации и логика куль-
турного развития» (варианты названия— «Макс Вебер: Динамика
его музыкально-социологической программы», «Макс Вебер: Прин-
цип рационализации и история развития культуры»). Общий объем
этой работы — 81с. Текст содержит многочисленные авторские прав-
ки, а также параллельную пагинацию, которая может указывать на
то, что статья готовилась к печати. Существует сокращенный вари-
ант работы под названием «Макс Вебер. Принцип рационализации и
логика культурного развития», объемом 54 с. Кажется обоснованным
датировать текст этой статьи 1984 годом. На основании некоторых
замечаний по ходу работы можно сделать предположение о том, что
А. В. Михайлов задумал издать целую книгу по вопросам социоло-
гии искусства, которая бы включала разделы, посвященные М. Вебе-
ру, Т. Адорно, возможно, Б. Асафьеву8. Однако из всех имеющихся
материалов были опубликованы лишь некоторые переводы из Адор-
но (его труд «Введение в социологию музыки: Двенадцать теоретиче-
ских лекций» издан в 1973 году лишь для внутреннего пользования
ограниченным количеством экземпляров)9, несколько статей о его
социологии (см: Михайлов 1972, 1978, 1988), а также перевод неокон-
ченной работы Макса Вебера «Рациональные и социологические
основания музыки», опубликованный в 1994 году.
Возможно, что в книгу о социологии музыки должна была войти
еще одна неопубликованная статья А. В. Михайлова «Социология
музыки и музыкознание», объемом 41 с. Текст этой работы не дати-
рован. Существующий экземпляр содержит авторскую правку, а так-
же карандашные пометки неизвестных лиц, читавших текст. В нас-
тоящее время статья находится вне личного архива Михайлова.
В октябре 1994 года А. В. Михайловым был прочитан доклад
«Слово и музыка: Музыка как событие в истории Слова» на орга-
низованной им первой совместной (ИМЛИ — Консерватория) кон-
ференции «Слово и музыка». Материалы этой конференции до сих
пор остаются неопубликованными. Текст доклада Михайлова содер-
жит 14 машинописных страниц с авторской правкой. Кроме этого, в
статье имеются редакционные пометки, указывающие на подготовку
текста к печати.
49
Татьяна Щерба
К неопубликованным работам А. В. Михайлова принадлежала и
статья «Н. А. Римский-Корсаков и М. А. Балакирев». Этот текст был
прочитан Александром Викторовичем в 1994 году на конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения Римского-Корсакова. Су-
ществующий экземпляр статьи содержит 14 с. (11 с. текста и 3 с. при-
мечаний) с авторской правкой в тексте. Статья опубликована в Мос-
ковской консерватории в сборнике по материалам конференции в
2000 г.
Пока еще не опубликована статья Александра Викторовича под
названием «Незаслуженные воспоминания» объемом 12 с. В этой
статье Михайлов пишет о музыке Малера и о своих впечатлениях
после посещения концерта, на котором была исполнена 3 симфония
Малера оркестром под управлением К. П. Кондрашина зимой 1960—
1961 года.
Статья «О проблемах текстологии» объемом 18 с. также не опуб-
ликована до сих пор. Предположительно, она была написана в 90-х
годах, однако, точную дату установить не представляется возмож-
ным.
В числе неопубликованных работ А. В. Михайлова имеется пере-
вод музыкально-критических статей Э. Т. А. Гофмана, общий объем
которого составляет 162 с. На основании имеющихся сведений мож-
но говорить о том, что Александр Викторович предполагал выпус-
тить сборник под названием «Э. Т. А. Гофман. О музыке. Статьи и
рецензии». Говорить об этом позволяет хранящееся в архиве письмо
в редакцию издательства «Музыка» от 11 февраля 1989 года. В этом
письме Александр Викторович излагает план сборника. Его общий
объем должен был составить 24 а. л. (20 а. л. текста и 4 а. л. аппарата
издания, включая послесловие, примечания, указатель). Сохранив-
шийся машинописный вариант текста представляет собой часть вто-
рого раздела предполагаемой книги. Как указывает А. В. Михайлов,
основой для перевода послужило «новое издание музыкально-кри-
тических статей Гофмана (Берлин, ГДР, 1988) в сопоставлении с <...>
другими существенными изданиями, начиная с издания Г. Эллингера,
1912» (Письмо в издательство «Музыка» 1989, 4). Издание должно
было быть подготовлено в течение 1989 года, однако, вместо этой
книги в 1990 году вышла другая: «Э. Т. А. Гофман. Крейслериана.
Новеллы», для которой А. В. Михайлов перевел 4 новеллы: «Ферма-
та», «Поэт и композитор», «Состязание певцов», «Автомат».
Одна из самых значительных неопубликованных работ А. В. Ми-
хайлова — новый перевод первого философского труда Ф. Ницше
50
А. В. Михайлов и музыкальная наука
«Рождение трагедии из духа музыки». В архиве Михайлова находит-
ся машинописный и рукописный варианты перевода объемом 151с.
каждый. Кроме этого, есть примечания к переводу на 4 с. и примеча-
ния ко второму варианту перевода на 2 с. В настоящее время текст
готовится к печати в издательстве «Ad Marginem», под руководством
А. В. Иванова.
К крупным работам А. В. Михайлова, опубликованным со значи-
тельными сокращениями, относится и одно из последних его иссле-
дований о Скрябине. В рукописи текст занимает 153с, существует
также машинописный авторский вариант объемом 48 с. под названи-
ем «Об обозначениях и наименованиях в нотной записи, или тексте,
произведений А. Н. Скрябина». В Нижегородском скрябинском аль-
манахе была опубликована лишь незначительная часть этой статьи
(около 16 с). Через некоторое время после смерти А. В. Михайлова
Е. И. Чигарева сделала расшифровку некоторых рукописных разде-
лов работы, составившую 74 с Сейчас рукопись исследования о
Скрябине находится не в личном архиве А. В. Михайлова.
Только в 2000 году вышла из печати книга «Воспоминания о Шу-
мане» (редактор-составитель — О. В. Лосева), для которой А. В. Ми-
хайлов еще в начале 1990-х годов сделал несколько переводов из тек-
стов немецких романтических деятелей о Шумане.
Кажется возможным отнести к неопубликованным работам
А. В. Михайлова о музыке и лекции, прочитанные им в консервато-
рии, где Александр Викторович работал, начиная с 1991 года9а. За
четыре года Михайловым были прочитаны следующие курсы:
1990—1991 — Музыка глазами филолога (II семестр)
— Музыка в истории культуры (II семестр)
1991—1992 — Герменевтические основания истории культуры
1992—1994— История всеобщей литературы. Начало и конец ев-
ропейской литературы
1993— Николай Карамзин в сопоставлении с Гомером и Клоп-
штоком
1994—1995 — Теория и история культуры (I семестр)
— О том, что в музыке (II семестр)10
В 1995—1996 учебном году А. В. Михайлов предполагал прочи-
тать курс: «Античное наследие и европейская культура» и построить
курс лекций вокруг работы Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа
музыки», однако из-за безвременной кончины эти планы не были
осуществлены11.
По существу, драгоценный, большей частью неизвестный матери-
51
Татьяна Щерба
ал лекций нам еще только предстоит собрать и оценить. Можно
предположить, что в этих спецкурсах А. В. Михайлов, не стесненный
рамками печатного текста, излагал самые смелые и самые новые свои
идеи и разработки.
Архивное состояние лекций Александра Викторовича заслужи-
вает особого освещения. В личном архиве ученого сохранились лишь
некоторые наброски лекций, несколько явочных листов и небольшое
количество записок Александру Викторовичу. Все эти документы, за
отсутствием в большинстве случаев датировки, можно лишь условно
отнести к материалам работы Михайлова в консерватории. Однако
значительное количество лекций А. В. Михайлова было зафиксиро-
вано конспективно и на магнитофонную пленку студентами и препо-
давателями Московской консерватории и из других учебных и науч-
ных заведений. Наиболее подробные конспекты, используемые нами
в данной работе, находятся у Е. И. Чигаревой (курсы «Музыка в ис-
тории культуры», «О том, что в музыке»), Д. Р. Петрова (курс «Герме-
невтические основания истории культуры»), В. Я. Голованова (6 лек-
ций курса «Начала и концы европейской литературы», 4 лекции кур-
са «Теория и история культуры»).
Благодаря сделанным расшифровкам, стало возможным подгото-
вить к печати часть этих записей. В книге А. В. Михайлова «Языки
культуры» уже были опубликованы некоторые лекции, например, «По-
ворачивая взгляд нашего слуха» и «Ангел истории изумлен», относя-
щиеся к 1993—1994 году12. В следующем издании, под названием «Об-
ратный перевод», опубликованы 10 лекций Михайлова 1993—1994 гг.
в расшифровке В. Я. Голованова, общим объемом 111 машинопис-
ных страниц (не включая примечания). Возможно, в будущем будут
опубликованы и лекции А. В. Михайлова в записи Е. И. Чигаревой.
В определенном смысле к работам о музыке можно отнести ре-
цензии и отзывы Александра Викторовича Михайлова в связи с осо-
бым положением этого жанра в наследии ученого. Как правило, в
рецензии предполагается максимальное подчеркивание и выявление
чужих мыслей и минимально своих (в форме обсуждения). Однако те,
кому довелось слышать рецензии Александра Викторовича, знают,
что в очень редких случаях он ограничивался простым «пересказом»
сильных и слабых сторон исследования. Практически всегда отзывы
Александра Викторовича— это его собственные мысли на обсуж-
даемую тему, и чем больше захватила работа, тем пространнее ре-
цензия, тем больше в ней «выходов» за пределы темы, вовне, тем
больше в рецензии личного, волнующего самое «я» Михайлова. Мно-
52
А. В. Михайлов и музыкальная наука
гИе отзывы Александра Викторовича на различные отечественные и
зарубежные книги и журналы опубликованы. Ниже приводятся неко-
торые неопубликованные рецензии А. В. Михайлова из его личного
архива, которые содержат, на наш взгляд, ряд ценных замечаний о
музыкальном искусстве.
Среди наиболее ранних рецензий, относящихся к концу 50-х —
началу 60-х годов, укажем три:
Рецензия объемом 3 с. на книгу: Денерт Макс. Антон Брукнер.
Опыт характеристики. Лейпциг: Брейткопф и Гертель, 1958. Рецензия
написана предположительно в начале 60-х годов. В ней А. В. Ми-
хайлов высоко оценивает труд Денерта, который, по мнению Михай-
лова, первый «объективно рассматривает творчество композитора,
<...> видит сильные и слабые его стороны, раскрывает реалисти-
ческую сущность его творчества». Александр Викторович предлагает
также перевести книгу на русский язык.
Рецензия объемом 3 с. на книгу: Мозер Ганс Иоахим. Музыка во
времени и пространстве. Берлин, Мерзебургер, 1960 (Moser, Hans
Joachim. Musik in Zeit und Raum. Berlin, Verlag Merseburger, 1960).
В этом отзыве А. В. Михайлов выделяет несколько статей, которые
«будут интересны и историку новой музыки».
Рецензия объемом 3 с. на книгу: Моцарт Вольфганг Амадей. До-
кументы его жизни. Составление и комментарий Отто Эриха Дейча.
Лейпциг, Немецкое муз. изд., 1961 (Mozart, Wolfgang Amadeus. Die
Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert von Otto Erich
Deutsch. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1961). Об этом издании
А. В. Михайлов отзывается очень положительно, подчеркивая его
безукоризненность с научной точки зрения.
Примечательно, что А. В. Михайлова неоднократно, особенно в
последние 10 лет его жизни, приглашали в качестве рецензента для
обсуждения различных работ музыковедческого профиля. Отчасти
это факт объясняется некоторыми особенностями современного выс-
шего музыкального образования.
Московская консерватория по типу и уровню своего обучения в
большей мере соответствует тому, что принято называть «универ-
ситетским типом образования». В учебном процессе огромная доля
принадлежит различным курсам истории музыки, в своей совокуп-
ности охватывающим всю планету. Сейчас в консерватории сущес-
твует «Центр гуманитарного знания», кафедра междисциплинарных
специализаций музыковедов, в общий курс консерваторских лекций
обязательно входит философия, эстетика и даже экономика.
53
Татьяна Щерба
В связи с этим возникает насущная потребность в разработке и
обсуждении проблем, далеко выходящих за пределы музыкальной
«техники». Эта тенденция естественным образом отражается прежде
всего в потоке научных работ, осуществляющихся в Московской
консерватории и других институтах. Привлечение специалистов вы-
сокого класса в широкой гуманитарной области для обсуждения тех
или иных проблем истории культуры является необходимым элемен-
том как образовательного, так и общего научного процесса. Таким
специалистом, безусловно, являлся Александр Викторович Михай-
лов, к которому нередко обращались за советом, отзывами, рецен-
зиями, с предложениями выступить на определенную заданную тему.
В архиве А. В. Михайлова имеется ряд рецензий и отзывов на ди-
пломные работы студентов, кандидатские и докторские диссертации.
Тематический спектр их в целом самый различный. Это и вопросы
методологии музыкального воспитания, и вопросы исполнительства,
и проблемы современной музыки и др. В качестве примера можно
привести следующие отзывы А. В. Михайлова:
1. Отзыв о статье В. П. Чинаева об алеаторной музыке. Этот от-
зыв содержит 4 страницы и датирован 13 января 1988 года. Можно
предположить, что именно с этого времени тема современной музыки
после продолжительного перерыва вновь начинает занимать значи-
тельное место среди работ ученого. В этом отзыве, рассуждая о про-
блемах, связанных с исполнением алеаторной музыки, А. В. Михай-
лов пишет, что, по его мнению, музыканту-исполнителю «невозмож-
но объяснить, как он должен обращаться с алеаторной музыкой
(особенно в крайних ее разновидностях), как он должен вступать в
контакт с нею», если только исполнитель сам не попытается усвоить,
так сказать, внутреннюю логику этой музыки, пока он «не усвоит
внутреннюю логику всего западноевропейского музыкального мыш-
ления» (Отзыв о статье <...>, 4).
2. Отзыв о докторской диссертации А. В. Ивашкина «Чарльз Айвз
и музыка XX века», датированный 2 декабря 1993 года. В этом отзы-
ве, объемом 5 с, А. В. Михайлов обсуждает наиболее важные проб-
лемы современного искусства. Среди них— вопрос соотношения
истории и культуры XX века, вопросы методологии современного
исследования, вопросы музыкального творчества, традиции и нова-
торства в музыке XX века. Михайлов отмечает как положительные
качества работы тенденцию исследования, в котором происходит
смыкание «истории искусства с теоретической проблематикой самого
всеобщего плана» и, с другой стороны, способность исследователя
54
А. В. Михайлов и музыкальная наука
«рефлектировать эту проблематику в ее движении» (Отзыв о доктор-
ской дисс. Ивашкина <...>, 5). Рассуждая вместе с Ивашкиным над
истоками принципов алеаторики, А. В. Михайлов замечает, что уже в
произведениях Ф. Листа можно увидеть стремление к их открытости
и незамкнутости. Для Листа, как считает Михайлов, «по всей види-
мости, всякое создаваемое им сочинение всегда, в принципе сущест-
вовало как известное множество своих же обработок, которые при
всяком новом исполнении такого сочинения должны были бы пре-
терпевать еще и новые изменения» (там же, 4). По мнению А. В. Ми-
хайлова, «скрытый алеаторизм» присущ европейской музыке поко-
ления Р. Штрауса, и связан он с особой трудностью исполнения за-
фиксированного композитором звукового текста произведения. Ми-
хайлов пишет, что «европейский музыкант <...> очень долго не ре-
шается на то, чтобы отчетливо осмыслить новое явление; писать не-
что заведомо неисполнимое в точности есть феномен такой не
сознающей себя алеаторики» (там же).
3. В 1993 году А. В. Михайловым был написан отзыв (объемом
4 с.) об автореферате докторской диссертации М. Ш. Бонфельда «Му-
зыка как речь и как мышление». Этот отзыв, датированный 14 марта
1993 года, примечателен тем, что в нем Александр Викторович рас-
суждает о проблемах современного музыкознания. В частности, Ми-
хайлов подчеркивает настоятельную потребность в интеграции всего
научного знания, накопленного культурой. Ученый считает, что со-
временная теория не может строиться просто как новая «система
взглядов», она обязана «рефлектировать сама же себя» (Отзыв об ав-
тореферате <...> Бонфельда <...>, 2).
4. В мае 1995 года Александр Викторович участвовал в обсужде-
нии дипломной работы Н. В. Неседова «А. Ф. Лосев и музыкальная
наука». А. В. Михайлов не мог присутствовать непосредственно на
защите этой работы, но его отзыв, объемом 5 с, был зачитан и вы-
звал огромный интерес у всех присутствующих. Среди документов
личного архива Михайлова находится два варианта отзыва, оба да-
тированы 15 мая 1995 года. В одном из них, очевидно, первом, Алек-
сандр Викторович оценивает работу как безусловно хорошую, в дру-
гом — как заслуживающую отличной оценки. В своем отзыве А. В. Ми-
хайлов уделяет внимание сразу нескольким заинтересовавшим его ас-
пектам. Во-первых, Михайлов вступает в очевидную полемику с Не-
седовым по вопросу «"популярности", присущей изложению А. Ф. Ло-
сева» (Отзыв о дипломной работе <...>, 2). Как считает А. В. Ми-
хайлов, Лосев «ничуть не более "популярен", чем любой иной фило-
55
Татьяна Щерба
соф и историк философии, <...> склонность же А. Ф. Лосева в иных
случаях к разговорному лексикону идет от совсем иных источников
и, кстати, имеет отношение к глубинной сути философствования
А. Ф. Лосева и некоторое касательство к самой традиции неоплато-
низма, к которой А. Ф. Лосев примыкал» (там же). Во-вторых, со-
глашаясь с тем, что работы Лосева для современной теории музыки
чрезвычайно важны, А. В. Михайлов, однако, настаивает на том, что
они должны быть переосмыслены нами с точки зрения сегодняшнего
дня. Работы Лосева, как пишет Михайлов, «складываются в некото-
рый цельный и почти неразъемный стилистический облик, однако
при этом они должны быть разъяты, должны, по сути и по мысли,
вводиться в иной контекст, должны сопоставляться с современными
возможностями продумывания тех же или почти тех же вопросов, —
как-то, к примеру, фундаментальных вопросов бытия музыки и бы-
тия музыкального произведения...» (там же, 3). В-третьих, Михайлов
обращает внимание на проблему значения некоторых слов, употреб-
ляемых Лосевым, в том числе и на широкое поле смысла, заключен-
ного в слове «эйдос», которое «входит в широчайший историко-
философский контекст освоения этого раннегреческого понятия со-
временной мыслью...» (там же, 2). Александр Викторович приводит
интересные замечания по этому поводу. Как считает Михайлов,
«многие словоупотребления А. Ф. Лосева так и блещут конкретными
оттенками своего смысла» (там же). Так, например, слово «интелли-
гентный» у А. Ф. Лосева имеет значение «поэтический», «умный».
В то же время, некоторые названия работ Лосева происходят от яв-
ной или скрытой полемики с другими известными трудами. Михай-
лов пишет, что «заглавие книги "Музыка как предмет логики", по
существу очень точное, возникло, разумеется, в условиях соперни-
чества с великолепным русским философом Г. Г. Шпетом, уже успев-
шим опубликовать тогда свою прекрасную, но странную и очень
трудную книгу "История как предмет логики"...» (там же).
Приведенные выдержки из рецензий и отзывов А. В. Михайлова
демонстрируют не только широкий спектр вопросов, волновавших
Александра Викторовича, но и его огромную заинтересованность
проблемами отечественной науки о культуре, его исследовательскую
и читательскую скрупулезность, строгий научный подход к любому
виду текста, стремление даже в краткой форме рецензии обсудить
каждое спорное утверждение. С другой стороны, совершенно очевид-
на обратная тенденция: научная компетентность, добросовестность
А. В. Михайлова привлекала музыковедов, стремящихся выйти за
56
А. В. Михайлов и музыкальная наука
пределы своей науки в более широкую область всей истории культу-
ры. Е. И. Чигарева пишет: «Многие музыканты обращались к Алек-
сандру Викторовичу за советом и консультациями и считали за честь
получить устный отзыв о своих работах или письменную рецензию, и
Александр Викторович, как бы он ни был занят, никогда никому не
отказывал в этом» (Чигарева 1998, 244). Так, усилиями обеих сторон,
происходило объединение различных сфер искусствознания.
Среди архивных документов о музыке определенный интерес пред-
ставляют тезисные планы, наброски, заметки и другие рабочие мате-
риалы Александра Викторовича. Многие из них не датированы и не
авторизованы. Возможно, часть этих рукописей была сделана А. В. Ми-
хайловым на различных конференциях. Несмотря на то, что Михай-
лов старался указывать фамилию автора доклада, не всегда можно с
уверенностью определить, где Александр Викторович конспектирует
кого-нибудь, а где излагает собственные мысли на интересующую
тему. Из таких рукописных заметок выделяются следующие:
1. Авторский тезисный план А. В. Михайлова под названием «От-
носительно политики в области культуры», объемом 4 с. В отличие
от других, этот текст датирован— 10 декабря 1993 года. Он содер-
жит конструктивные предложения Михайлова по выходу страны из
сложившегося кризиса культуры.
2. К самым ранним рукописным материалам о музыке относится
ряд заметок А. В. Михайлова о творчестве А. Брукнера. Предполо-
жительно, эти записи относятся к началу 1960-х годов13. Среди мно-
гочисленных выписок, конспектов из книг, журнальных статей, нахо-
дятся предварительные анализы симфоний композитора, сделанные
Александром Викторовичем, а также ряд замечаний о гармонической
структуре сочинений Брукнера. На основании некоторых данных
можно утверждать, что А. В. Михайлов задумал написать целое ис-
следование, посвященное творчеству великого австрийского компо-
зитора. По каким-то причинам эта работа не была завершена. В чер-
новом варианте находится несколько более или менее завершенных
разделов предполагаемой работы.
3. В архивных документах А. В. Михайлова находится небольшой
рукописный материал, объемом 1 с. тетрадного формата, озаглав-
ленный «Шуман. "Рай и Пери"». Текст изложен конспективно, но, в
связи с некоторыми особенностями почерка Александра Викторови-
ча, его полная расшифровка представляется трудноосуществимой.
В целом, можно предположить, что произведение Р. Шумана рас-
сматривается в этом отрывке с позиций эпохи бидермайера. Так, в
57
Татьяна Щерба
самом начале написано: «Вт [бидермайер] и его влияние на
[произведение] — кроме сюжетной нелепости». Далее в рукописи идет
тезисное описание некоторых стилевых источников интонацион-
ности, которые охарактеризованы как «интонационные несводимос-
ти»: «генделевские» (финал I части), «хоральный» (перед финалом III
части), «[романсовые] в духе Шумана», «[упрощенно-мужеское]».
4. С оборотной стороны рукописи «Рай и Пери» находится еще
один, изложенный конспективно, рукописный текст, объемом 3 с.
тетрадного формата, который называется «Симфония в XIX в[еке]».
Кажется несомненным, что оба эти материала написаны в одно и то
же время, на что указывает в первую очередь сам характер изложе-
ния, особенности почерка и другие моменты. Представляется, что
основная проблема, рассматриваемая в этой рукописи— понятие
«произведения» в XIX веке. Так, Михайлов пишет, что «произведе-
ние [понимается] как: 1) воспоминание, 2) [медитация] ... Произведе-
ние [всегда] есть как бы воспоминание о себе и, следовательно],
м[ожет], существовать] во множестве видов. Произведение] улавли-
вается как "то же самое" не только в [разных] своих исполнениях,
разных интерпретациях], но и в самых разных [отрезках] [того же]
материала, в разных версиях и вариациях <...>»
5. В архивных материалах имеется еще одна рукопись объемом
2 с. под названием «О двух типах симфонии». Этот текст, по-
видимому, представляет собой начало какого-то раздела, посвящен-
ного сравнению симфонии начала XIX века и позднейшей. По типу
изложения материал можно отнести к жанру эссе. В этом отрывке
А. В. Михайлов рассуждает о новых чертах, появившихся в симфо-
нии середины XIX века: «В симф[онии] сер[е]дины века происходит
то, что в приложении к литературным] жанрам Бахтин назвал
["романизацией"]. Очевидно, это гораздо более широкое явление.
Симф[ония] сер[едины] века в отличие от более ранней — это скорее
рассказ о симфонии, а не симфония, она приобретает повествова-
тельный и эпический характер... <...> Ее темп в целом снижается...».
Далее Михайлов рассуждает о новой роли финала симфонии, кото-
рый постепенно начинает претендовать на центральное место в об-
щей симфонической концепции. Рукопись обрывается в том месте,
где Александр Викторович, как представляется, хотел сравнить жанр
симфонии и жанр симфонической поэмы.
6. К анализу проблем музыки XIX века относятся также короткие
заметки А. В. Михайлова на тему «К истории медленного темпа»,
объемом 1 с. На основании некоторых материалов, окружающих
58
А. В. Михайлов и музыкальная паука
рукопись, можно предположить, что это — подготовительные тезисы
к лекции, прочитанной им в консерватории 23 ноября 1993 года. Рас-
суждая о «всеобщем» замедлении темпа, осуществляющемся на про-
тяжении всего прошлого столетия, Михайлов, приводя в пример мед-
ленную часть квартета Регера ор. 121, пишет, что это «м[узыка], о
к[ото]рой можно сказать: если она все-таки движется вперед, то она
делает нам одолжение».
7. В архивных документах, относящихся к последним годам жизни
А. В. Михайлова, находится материал, озаглавленный «Мои [замет-
ки]» объемом 1 с. По всей видимости, запись была сделана Михайло-
вым на конференции «К 60-летию Альфреда Шнитке», проходившей
в Союзе композиторов России 5 декабря 1994 года. В связи с кон-
спективностью изложения, рукопись представляет известную труд-
ность в расшифровке. Однако можно предположить, что эти замет-
ки— рассуждения Михайлова по двум вопросам: 1. — «Истина: что
здесь такое?» и 2. — «Конец "авангарда". Он кончается, т[ак] к[ак]
находится такое обобщение современного языка, к[ото]рое все вводит
в известный круг...».
В архиве Михайлова содержится ряд предложений ученого на пу-
бликацию работ по музыковедению.
Так, например, к 1985 году относится заявка А. В. Михайлова в
редколлегию серии «Литературные памятники» (датирована 05.04.
1985), где ученый предлагает издать выпуск под названием «Музы-
кальная сатира XVIII века». Книга должна была содержать роман
Иоганна Кунау «Музыкальный шарлатан» в переводе А. В. Михай-
лова, сатиру Бенедетто Марчелло «Театр по моде» в переводе
М. Л. Гаспарова, а также две статьи: «Сатира эпохи барокко и проб-
лематика художественной культуры» (автор — Л. М. Бутир) и «О жан-
ре музыкального романа» (автор — А. В. Михайлов). Общий объем
издания предполагался около 31 авторского листа. По косвенным
свидетельствам, заявка была отложена в связи с болезнью одного из
участников издания14.
В рукописи сохранились черновые наброски статьи о жанре му-
зыкального романа. На основании некоторых документов можно
предположить, что ее замысел сложился к концу 1985 года. Основа-
нием к этому служит хранящаяся в архиве «Программа-приглаше-
ние» на научно-практическую конференцию «Барокко и его истори-
ческие связи. Музыка в системе искусств». Конференция была орга-
низована межкафедральной проблемной группой «Связи дисциплин»
и проходила в Московской консерватории 2—5 и 15 декабря 1985
59
Татьяна Щерба
года. В ней, по всей видимости, участвовал Александр Викторович
Михайлов. Его сообщение называлось «Барочный роман музыкан-
та — роман о музыканте (И. Кунау)»15. К сожалению, на данный мо-
мент текст выступления А. В. Михайлова на этой конференции не
обнаружен в архиве ученого.
Ниже приводятся некоторые выдержки из заявки в издательство,
в которых А. В. Михайлов дает характеристику романов Кунау и
Марчелло.
Так, о книге Иоганна Кунау «Музыкальный шарлатан» Михай-
лов пишет: «Дидактико-авантюрный роман Кунау (1660—1722), из-
данный в 1700 году, представляет интерес для серии "Литературных
памятников" уже потому, что является образцом целого жанра, ко-
торый существовал в эпоху барокко,— это роман музыканта и о
музыканте. В этом жанре писали тогда Ример, Принтц, наконец, та-
кой блестящий писатель (и тоже видный музыкант-профессионал),
как Иоганн Беер». По мысли Михайлова, музыкальный роман сое-
диняет в себе несколько жанровых и стилистических разновидно-
стей — «сатиру, авантюрное повествование, элементы эстетического
и музыкального трактата и исторически стоит на грани между ба-
рокко и просветительским рационализмом: пускает корни в бароч-
ную пестроту и полнокровие и рационалистически упорядочивает
их». Как считает А. В. Михайлов, дальнейшая история жанра шла по
пути его разветвления на отдельные линии, развивавшиеся отдельно:
«роман о музыканте создает в XVIII веке И. Ф. Рейхардт, в XIX ве-
ке— Гофман; сатира получала разнообразное выражение— в том
числе и в опере ("Директор театра" Моцарта)».
Для музыкантов роман Кунау интересен еще и тем, что в некото-
рой степени проясняет существующий в эпоху барокко «идеал» му-
зыканта: «это музыкант-"виртуоз", <...> обладающий общей культу-
рой и основательными знаниями наук и искусства». Такой идеал, как
пишет А. В. Михайлов, «связан с представлениями Ренессанса и со-
временника Кунау английского философа Шефтсбери».
В трактате Бенедетто Марчелло «Театр по моде» А. В. Михайлов
видит одну из наиболее распространенных тем драматического ис-
кусства того периода, развиваемую не только в литературном жанре.
Михайлов приводит несколько музыкальных сочинений, в числе ко-
торых — опера А. Сальери «Сначала музыка, потом слова»16.
Выше уже говорилось о том, что А. В. Михайлов предполагал на-
писать книгу о XIX столетии в русском искусстве. Кроме разделов о
литературе, каждая из пяти глав должна была содержать обзор му-
60
А. В. Михайлов и музыкальная наука
зыкального искусства соответствующего периода. Ниже приводятся
выдержки из предварительного плана книги, которые содержат ука-
зания на предполагаемые музыкальные очерки.
Глава I: «Музыка духовная и светская. Характер духовной музы-
ки в XIX веке в целом. Алябьев, Верстовский».
Глава II: «Глинка— классика и классицизм в его творчестве.
Сходство его положения в русской музыке с положением Пушкина в
русской поэзии. Духовное положение Глинки в русской культуре.
Глинка как основоположник русской школы в музыке. Пушкин, Глин-
ка, Иванов: религиозное значение их творчества. Русское и всемир-
ное в их творчестве».
Глава IV: «Музыка после Глинки. Даргомыжский, Балакирев,
Мусоргский, Кюи, Римский-Корсаков, Чайковский, Глазунов в их
кратких творческих характеристиках. Глубокий смысл созданного
ими».
Итоги. «Завершение классики. Глазунов, Скрябин, Рахманинов
<...>: исчерпание и признаки новых начал».
В 1984 году А. В. Михайлов предполагал подготовить к изданию
книгу «От Шуберта до Малера. Эстетическое осмысление музыки в
австрийской культуре XIX столетия». Об этом свидетельствует его
письмо (3 с. машинописного текста) в дирекцию издательства «Му-
зыка», датированное 5 декабря 1984 года. Книга, объемом 6 а. л.,
должна была включать несколько разделов, посвященных особенно-
стям эстетики, философии, культуры Австрии XIX века.^Особое зна-
чение А. В. Михайлов придавал трактату Э. Ганслика «О музыкаль-
но-прекрасном». Анализу этого эстетического сочинения и его исто-
кам предполагалось уделить весьма значительное место. К сожале-
нию, план книги сохранился не полностью.
В настоящее время работа по описанию архивных материалов
А. В. Михайлова не завершена, но уже по имеющимся на сегодняш-
ний день данным можно судить, что труды по музыковедению, хотя и
не стоят на первом месте, все же составляют значительную часть на-
следия ученого.
Виды и жанры текстов А. В. Михайлова о музыке
Представляется, что своеобразие творческой натуры Александра
Викторовича Михайлова, характер его гуманитарного образования,
особенности научного мышления в целом оказали влияние на жанро-
вую специфику работ ученого по музыковедению.
61
Татьяна Щерба
Среди известных завершенных трудов Михайлова, опубликован-
ных и неопубликованных, нет ни одного авторского исследования по
вопросам музыкознания. К сожалению, несколько перечисленных вы-
ше замыслов книг так и остались нереализованными. Думается, что
чисто внешние причины, связанные, например, с проблемами публи-
кации книг, не могут служить достаточным и удовлетворительным
объяснением этого факта. Очевидно, разрешение вопроса кроется во
внутренних причинах, не позволявших А. В. Михайлову выступить в
роли автора исследовательского труда о музыке. Александр Викто-
рович, человек, по выражению В. П. Визгина, «повышенного градуса
совести и скромности», отличался педантичностью, скрупулезностью
в научном исследовании (Визгин 1996, 159). Возможно, сознавая ог-
ромную ответственность перед наукой и обществом за каждое ска-
занное слово, А. В. Михайлов, не получивший специального музы-
кального образования, не мог считать себя с полным правом музы-
коведом-исследователем. Примечательны в этом смысле его слова,
сказанные на конференции, посвященной Веберну, вслед за докладом
Ю. Н. Холопова: «К сожалению, соотношение между докладом Юрия
Николаевича и моим такое: в руках у Юрия Николаевича — все точ-
ное знание относительно Веберна, а у меня — все неточное знание»
(цит. по: Чигарева 1998, 248). Разумеется, эту светскую шутку не сле-
дует принимать всерьез.
Отсутствие крупных исследований в области музыки, однако, сов-
сем не означает, что Михайлов как музыковед не писал в этом жанре.
Наоборот, характер исследования присущ многим работам ученого.
Поэтому можно условно считать основной областью сосредоточения
музыковедческой деятельности А. В. Михайлова жанр исследователь-
ской статьи. В каком-то смысле справедливыми можно считать и
слова В. Н. Холоповой о том, что уникальная способность Михайло-
ва «к порождению необычных, непредсказуемых идей» требовала
немедленной их апробации через жанр статьи или выступления на
конференции (Холопова 1996, 232).
Этот вид исследования характеризует наиболее значимые рабо-
ты А. В. Михайлова по музыковедению: вступительную статью в
книге «Музыкальная эстетика Германии XIX века» (1981—1982), ряд
статей об Адорно (1972, 1978), Штокхаузене (1978), Бетховене (конец
1970-х), неопубликованные статьи «К эстетике Рихарда Вагнера. Ва-
гнер и Моцарт», «М. Вебер. Принцип рационализации и логика
культурного развития», «Социология музыки и музыкознание».
К жанру исследовательской статьи можно отнести также ряд ра-
62
А. В. Михайлов и музыкальная паука
бот А. В. Михайлова на специальные музыковедческие темы: о Му-
соргском (1989), Ганслике (1990, 1991), Скрябине (1995), Веберне
(«Пространство молчания...» 1998), Яворском (1998), статью «Ранние
работы А.Ф.Лосева о музыке» (1996), письмо к В. Б. Вальковой
(1998), а также работы: «Н. А. Римский-Корсаков и М. А. Балаки-
рев», «О проблемах текстологии» (готовится к печати).
Сюда же относится ряд статей Александра Викторовича смешан-
ной проблематики, таких как «Архитектура как застывшая музыка»
(1985, 1992, 1995), «Австрийская культура после первой мировой вой-
ны» (1998), «Проблема характера в искусстве: живопись, скульптура,
музыка» (1988, 1997), «Из прелюдий к Моцарту и Киркегору» (1991),
«Вольфганг Амадей Моцарт и Карл Филипп Мориц, или О видении
слухом», (1993, 1994, 1997), «Нагорная проповедь и конец всех ве-
щей» (1994), «Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна»
(1995,1998).
Другая область музыкально-научного творчества А. В. Михайло-
ва, не менее плодотворная, связана с жанром перевода и коммента-
рия. Можно утверждать, что блестящее филологическое образование
Михайлова, тонкое, глубоко прочувствованное владение немецким
языком позволили ученому только одним квалифицированным пере-
водом музыкальных текстов значительно обогатить современное му-
зыкознание. Добавим к этому еще и тот факт, что нередко Александр
Викторович выступал переводчиком на международных конферен-
циях по вопросам музыковедения, проходивших в Московской кон-
серватории, обнаруживая при этом глубокое знание музыкальной
терминологии не только отечественной, но и зарубежной науки17.
Деятельность переводчика, как правило, не отделима от коммен-
таторского труда. Связано это с тем, что любой перевод— уже не
есть оригинальный текст, но его вариант. Некоторая часть смысла,
заключенная в особо точно выбранном слове, при его транскрипции
неизбежно теряется. Особые трудности возникают также при попыт-
ке адекватного перевода манеры письма того или иного автора, осо-
бенностей его художественного слога. Все это ставит перед перевод-
чиком определенные трудности, для разрешения которых существу-
ют так называемые комментарии к переводу.
Среди многочисленных переводов Александра Викторовича вы-
делим самые значительные, на наш взгляд: это переводы из Адорно
(1988, в частности, его «Введение в социологию музыки: Двенадцать
теоретических лекций» (в 2-х томах) и примечания к ним (1974)18,
перевод трактата Э. Ганслика «О музыкально-прекрасном», перевод
63
Татьяна Щерба
неоконченной работы М. Вебера «Рациональные и социологические
основания музыки» (1994) и примечания, неопубликованные перево-
ды «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше, музыкально-крити-
ческих статей Э. Т. А. Гофмана. Кроме этого, в разное время А. В. Ми-
хайлов сделал многочисленные переводы из текстов Вебера, Шумана
(1967), Вагнера (1974), А. Берга (1985), А. Шенберга (1989), перевел
некоторые статьи о музыке Г. Гофмансталя (1995), четыре музыкаль-
ные новеллы Гофмана (1990), осуществил перевод статьи Г. К. Неп-
лера «О принципах формообразования у Р. Вагнера» (1987), написал
примечания к переводам мыслителей XIX века о музыке, к сборнику
статей Г. Эйслера (1973) и др.
Еще один вид музыкально-научного текста А. В. Михайлова свя-
зан с жанром исследовательского и художественного очерка и эссе.
Как правило, такие статьи ученого предназначались для публикации
в различных журналах и газетах, таких как «Советская музыка»
(ныне «Музыкальная академия»), «Театр», «Музыкальная жизнь»,
«Музыка в СССР», «Российский музыкант», «Независимая газета» и
др. Жанр очерка и эссе, думается, был одним из любимых видов
письма Александра Викторовича, так как его фантазия в этом случае
не была скована рамками строгой и последовательной научной логи-
ки. Вместе с тем, почти в каждом очерке Михайлов так или иначе
затрагивает целый комплекс музыковедческих проблем, связанных,
например, с социологическими вопросами бытования музыки, ис-
полнительством, слушательским восприятием, творческим процессом
сочинения музыки, разрешению которых может быть посвящена це-
лая исследовательская статья.
В этом смысле наиболее ярким и показательным является очерк
«Романтизм: Музыкальные эпохи, направления, стили», опублико-
ванный в 1991 году в журнале «Музыкальная жизнь». По существу —
это исследовательская статья, но только выполненная особым обра-
зом: это как бы авторский монолог-размышление о романтизме, на-
писанный своеобразным, «романтическим» слогом, в «свободной ро-
мантической форме», послушно следующей за фантазией писателя, с
многочисленными отступлениями и ответвлениями, забеганиями впе-
ред и возвращениями назад. Статья Михайлова о романтизме демон-
стрирует глубокое, внутреннее постижение ученым сущности предме-
та, о котором он пишет.
Впрочем, многие из названных выше статей ученого могут быть
охарактеризованы подобным образом. Одно из объяснений напра-
шивается само собой: А. В. Михайлов, как тонкий филолог и внима-
64
А. В. Михайлов и музыкальная наука
тельный читатель, прекрасно сознавал специфику того издания,
где печатается статья. Поэтому, при написании какого-либо текста
для журнала с весьма широким кругом читателей, он непременно
заботился о том, чтобы смысл сказанного проник в самое сердце
каждого.
Кроме того, в жанре очерка и эссе у ученого была возможность
наиболее быстро и своевременно реагировать на события в культур-
ной жизни нашей страны и за рубежом.
Может быть именно поэтому большинство из опубликованных
работ А. В. Михайлова о музыке принадлежат к этому жанру. Это
статьи «Из прошлого в будущее [гастроли в Москве Гамбургского
оперного театра]» (1983), «Народная опера-мистерия» (1984), «Музы-
ка— дар: гастроли Пражского национального театра» (1985), «Ор-
кестр провинциального города» (1987), «Оркестр Чешской филармо-
нии» (1988), «Встречи с музыкой Скандинавии» (1988), «Цикл сим-
фоний Альфреда Шнитке» (1990), «Монолог [об Альтовом концерте
Шнитке]» (1988) и др. В некотором смысле эти работы смыкаются
с жанром рецензии, поскольку многие из них написаны как отклик
на концерты и спектакли, постоянным посетителем которых был
Александр Викторович19. Многие из этих очерков находятся посто-
янно в центре внимания музыковедов, так как в них Александр Вик-
торович говорит о музыке нечасто исполняемых композиторов и их
малоизвестных в нашей стране произведениях, таких как «Приклю-
чения лисички-плутовки» Яначека, симфонии Дворжака, «Далибор»
Сметаны, «Греческие страсти» Б. Мартину, «Самсон и Далила» Сен-
Санса, «Женщина без тени» Р. Штрауса, увертюра «Гелиос» и сим-
фонии К. Нильсена, виолончельный концерт С. Э. Вернера, симфо-
нии А. Петерсона, оратории «Книга за семью печатями» Ф. Шмидта
и других.
В жанре очерка написаны и некоторые монографические статьи
А. В. Михайлова, такие как «Выдающийся музыкальный критик: Из
наследия Теодора Адорно» (1988), «Жизнь с музыкой: Ф. Грильпар-
цер» (1991), «Геннадий Рождественский» (авторское обозначение
этой работы, опубликованной в 1988 году,— «опыт характеристи-
ки»), «Мой поклон Юрию Николаевичу Холопову» (1992).
В некоторых случаях размышления о музыке Александра Викто-
ровича Михайлова выливались в своеобразный монолог-повествова-
ние, в котором автор, помимо «объективной» характеристики про-
изведения, открывает некоторые личные переживания, связанные с
услышанной музыкой, это, например, статьи «Третья симфония Гус-
3-1379
65
Татьяна Щерба
тава Малера как воспоминание и реальность» (1990), неопублико-
ванная пока статья «Незаслуженные воспоминания» (готовится к
печати).
В жанре очерка А. В. Михайлов высказывал также самые вол-
нующие, самые «наболевшие» мысли и чувства, связанные, как пра-
вило, с современным бедственным положением культуры в нашей
стране, отражающимся и на практике исполнения произведения, и на
слушательском восприятии. В таких очерках, как «Заметки о разном
и об одном» (1990), «Из зарубежных впечатлений: Мюнхен, Вена,
Брно» (1992), А. В. Михайлов раскрывается как истинный патриот,
человек, всем сердцем болеющий за Отечество...
К жанру очерка примыкают рецензии Александра Викторовича,
написанные на новые научные издания. Выше уже говорилось о том,
что у Михайлова четкого разделения провести между очерком и ре-
цензией нельзя, потому что его творческая мысль, взволнованная
каким-либо предметом, побуждает ученого к импровизационным
размышлениям на тему, демонстрируя его великолепную эрудицию и
постоянное живое, заинтересованное внимание к новым опублико-
ванным исследованиям. В этом смысле, для любого музыканта по-
лезными оказываются такие рецензии Александра Викторовича, как
«Фундаментальное издание [рецензия на кн.: Шуман Р. Письма: В 2 т.
М., 1970—1983]», опубликованная в 1984 году, «Новый музыковед-
ческий ежегодник [International Journal of Musicology. Vol. 1, 2.—
Frankfurt a. M: Peter Lang, 1992,1993]», опубликованная в 1994 году и
рецензия на книгу Т. В. Чередниченко «Тенденции современной за-
падной эстетики: К анализу методологических парадоксов», напи-
санную Михайловым в 1991 году.
Еще один вид музыкально-научной деятельности А. В. Михай-
лова связан с работой над различными справочными изданиями и
антологиями. В таких словарях, как «Краткая литературная энцик-
лопедия» (в 9 т.), «Театральная энциклопедия» (в 5 т.), антологии
«История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли» (в 5 т.)
находится значительное количество статей ученого справочного ха-
рактера о музыке различных эпох, направлений, стилей, жанров20.
Наконец, стоит упомянуть составительскую и редакторскую дея-
тельность А. В. Михайлова-музыковеда. В частности, Александр Вик-
торович Михайлов является, совместно с В. П. Шестаковым, соста-
вителем такого фундаментального издания, как «Музыкальная эсте-
тика Германии XIX века» (в 2-х томах). Михайловым составлен
сборник «Критика современной буржуазной социологии искусства»
66
А. В. Михайлов и музыкальная наука
(1978), составлен и отредактирован сборник статей Г. Эйслера о му-
зыке.
Из перечисленных видов и жанров работ А. В. Михайлова о му-
зыке становится очевидно, что перед нами — фигура крупного музы-
коведа. Научная деятельность Александра Викторовича, привольно
разлившаяся в различных областях искусствознания, охватывающая
практически все периоды истории развития европейского искусства и
музыки, даже несмотря на отсутствие крупного значительного автор-
ского издания по вопросам музыкознания, заслуживает самого при-
стального внимания и изучения.
Прежде чем выделить некоторые приоритетные области науки о
музыке в трудах А. В. Михайлова, необходимо вкратце остановиться
на вопросе, связанном с хронологией появления работ о музыке в на-
следии ученого.
Как представляется, можно выделить несколько периодов твор-
ческой деятельности Александра Викторовича Михайлова. Первый
из них условно обозначается десятилетием с 1962 по 1971 годы.
В этот период Михайлов начинает активно публиковаться как автор
вступительных статей и статей энциклопедического характера, как
рецензент и комментатор. В некотором роде примечательным оказы-
вается тот факт, что первая печатная работа А. В. Михайлова непо-
средственно связана с музыкой— это статья 1962 года в Краткой
литературной энциклопедии о Рихарде Вагнере. К этому же периоду
относится и участие Михайлова в издании антологии «История эсте-
тики: Памятники мировой эстетической мысли», где Александру
Викторовичу принадлежат разделы о немецких композиторах-роман-
тиках К. М. Вебере, Р. Шумане. Среди архивных материалов, отно-
сящихся к 60-м годам, можно указать упоминавшееся неоконченное
исследование о Брукнере, а также некоторые выписки о музыке ком-
позиторов Новой Венской школы.
Второй период можно датировать 1972—1987 годами. Крайние
даты здесь обозначаются некоторыми чисто внешними моментами.
Так, в 1972 вышла первая значительная работа А. В. Михайлова о
музыке «Концепция произведения искусства у Теодора В. Адорно», а
в 1987 году Михайлов впервые выезжает за границу, его научная
деятельность расширяется и обогащается творческими и личными
контактами с зарубежными коллегами. К этому периоду относятся
так называемые ранние статьи А. В. Михайлова о проблемах совре-
менной музыки. В частности, можно утверждать, что в 70-е годы
Александр Викторович активно изучает социологию музыки и ее
з*
67
Татьяна Щерба
преломление в трудах Т. В. Адорно, так как именно в это время уче-
ный осуществляет перевод его 12 теоретических лекций о социологии
музыки и пишет ряд статей по этому поводу (кроме указанной вы-
ше — это работа «Музыкальная социология: Адорно и после Адор-
но», опубликованная в 1978 году). С известной осторожностью мож-
но также предположить, что труды Адорно оказали определенное
влияние на восприятие и понимание Михайловым западноевропей-
ской музыки второй половины XX века, ее проблемам Александр
Викторович посвятил статью «Некоторые мотивы музыкального
авангардизма: Карлхайнц Штокхаузен» (1978).
С начала 1980-х годов деятельность А. В. Михайлова-музыковеда
постепенно расширяется. Он чаще публикуется, появляется ряд зака-
зов на различные крупные издания. Так, в 1981 году вышел первый
том книги «Музыкальная эстетика Германии XIX века», в котором
Михайлов выступил как автор крупной исследовательской статьи об
эстетических проблемах музыкального романтизма, а также как пе-
реводчик, комментатор и автор вступительных разделов к публикуе-
мым текстам. Книга «Музыкальная эстетика Германии XIX века»,
второй том которой вышел в 1983 году, издана в соавторстве с
В. П. Шестаковым, однако значительная часть работы над двухтом-
ником принадлежит А. В. Михайлову.
Начиная с конца 70-х годов, Александр Викторович публикует
свои отзывы, рецензии и очерки в журналах по искусству, таких как
«Советская музыка», «Советский артист», «Театр».
Среди работ о музыке этого периода выделяется статья «Архи-
тектура как застывшая музыка», опубликованная в сборнике «Ан-
тичная культура и современная наука» (1985). Это небольшое иссле-
дование посвящено истории возникновения, осмысления и переос-
мысления одного из самых «ходовых» эпитетов, которым характери-
зуется музыка. Некоторые размышления о сравнении музыки и архи-
тектуры уже были изложены Михайловым во вступительной статье к
двухтомнику «Музыкальная эстетика Германии XIX века». Тем не
менее, появившаяся работа, в несколько ином аспекте освещает мно-
гие известные факты. Статья «Архитектура как застывшая музыка»
переиздавалась несколько раз, в том числе и на немецком языке.
Наконец, третий период музыкально-научной деятельности Ми-
хайлова связан с последними годами жизни ученого— 1988—1995.
Пожалуй, это время можно назвать наивысшим расцветом деятель-
ности Александра Викторовича, теперь уже широко известного как в
нашей стране, так и за рубежом, активно публикующегося в различ-
68
А. В. Михайлов и музыкальная наука
ных изданиях, постоянно участвующего во всевозможных междуна-
родных конференциях, симпозиумах, съездах. Именно в этот период
выходит наибольшее количество его работ.
Только в 1988 году Александр Викторович опубликовал восемь
статей о музыке: это статьи о Шенберге, Веберне, Адорно, Шнитке, о
творчестве Г. Рождественского, о музыке чешских и скандинавских
композиторов.
Ряд статей Михайлова о музыке связан с его выступлениями на
конференциях, материалы которых затем были опубликованы. Это
работы о Моцарте, Мусоргском, Веберне, Яворском и др.
В последние годы Михайлов активно обращает внимание музы-
коведов на фигуру Э. Ганслика и его трактат «О музыкально-пре-
красном». Гансликовская линия идет еще с 1981 года, с издания кни-
|ги «Музыкальная эстетика Германии XIX века», и завершается рядом
чягатей о его эстетике, опубликованных в 1990—1991 годах.
fi Книга о музыкальной эстетике начала 80-х годов является свое-
образным «ядром» или «зерном» многих последующих работ Алек-
сандра Викторовича Михайлова о музыке, а также его размышлений
относительно развития всей европейской культуры Нового времени.
Многие мысли, изложенные в ней конспективно, в последние годы
получают свое развитие.
Так, небольшой раздел о музыке предромантической эпохи нашел
отражение в работе (опубликованной, к сожалению, с сокращениями)
«Поэтика эпохи барокко», в которой Михайлов рассуждает о му-
зыке Баха и, в частности, о его последних произведениях «Искус-
ство фуги» и «Музыкальное приношение». Раздел, посвященный фи-
гуре Ф. Ницше, нашел продолжение у Михайлова в переводе работы
«Рождение трагедии из духа музыки». Впрочем, как кажется, XIX век
всегда являлся для А. В. Михайлова своеобразным «центром притя-
жения» его творческой мысли.
Хочется особо отметить одну работу Александра Викторовича
Михайлова, опубликованную в 1988 году, которая уже самим своим
названием показывает определенную линию, последовательно про-
водимую ученым, и отражает характерную особенность творческого
метода Михайлова — это статья «Проблема характера в искусстве:
живопись, скульптура, музыка». В этой работе он как бы сознательно
ставит своей целью комплексный подход к вопросам искусства и
предлагает читателю вариант исследования, основанного на после-
довательном рассмотрении в историческом аспекте категории харак-
тера в различных искусствах. Примечательным здесь оказывается то,
69
Татьяна Щерба
что свои заключения А. В. Михайлов строит на основе музыкального
искусства, так как музыка, по его мнению, «позволяет делать такие
обобщения весьма наглядно, потому что явно вскрывает некоторую
общую логику развития» (Проблема характера <...> 1997,258).
Продолжением этой линии оказывается работа Александра Вик-
торовича Михайлова в консерватории, его обобщающие курсы лек-
ций по истории литературы и культуры, а также организованная им в
1994 году совместная конференция филологов и музыкантов под на-
званием «Слово и музыка», на которой он выступил с докладом
«Слово и музыка: Музыка как событие в истории Слова».
В последние годы Александр Викторович вновь возвращается к
проблеме осмысления музыки второй половины XX века, в связи с
чем возникает уместное сопоставление работ Михайлова 90-х годов с
более ранними. Современная музыка волнует исследователя, о чем
красноречиво свидетельствуют его статьи о музыке Шнитке, рецен-
зии на работы об алеаторной музыке, о произведениях Ч. Айвза и
других. В последний год своей жизни Александр Викторович Михай-
лов выступил на российско-немецком симпозиуме, проходившем в
Московской консерватории с докладом «Невозможность авангар-
да»21.
Наконец, самый последний текст, созданный А. В. Михайловым, —
это доклад для конференции, посвященной Веберну, который назы-
вается «Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна». Он вен-
чает творческий и жизненный путь ученого, музыканта, мыслителя.
Общая систематика трудов А. В. Михайлова о музыке
Общую картину музыковедческих исследований Александра Вик-
торовича Михайлова можно условно представить себе в виде ряда
основных областей, значение и разработанность которых не одина-
ковы в наследии ученого.
Большинство наиболее важных проблем, затрагиваемых Михай-
ловым в работах о музыке, можно распределить по трем основным
группам.
Самыми значительными кажутся, на наш взгляд, исследования
Михайлова в, так сказать, пограничных областях музыкознания. Это
области эстетики музыки, социологии музыки, философии музыки.
В другую группу объединяются темы, относящиеся к истории му-
зыки. Это изучение художественных направлений в музыке, стилей и
эпох, также многочисленные преимущественно мелкие фрагменты
70
А. В. Михайлов и музыкальная наука
работ, посвященные отдельным композиторам и исполнителям,—
они составляют персоналию истории музыки. Сюда же можно отнес-
ти статьи Александра Викторовича о музыкальном театре и испол-
нительстве. Музыкально-исторические проблемы касаются как зару-
бежной музыки (в особенности австро-немецкой), так и отечествен-
ной, музыки прошлого и современности.
В-третьих, выделяется и группа проблем теории музыки, впрочем,
пожалуй, наименее разработанная в трудах А. В. Михайлова.
Но надо все время иметь в виду, что музыковедение включается
ученым в область науки о культуре вообще. А. В. Михайлов так мыс-
лил. Его труды о музыке — это содружество наук.
Слово и музыка. Замечания к постановке проблемы
Приоритетное место в музыкально-научном наследии А. В. Ми-
хайлова занимают области музыкознания, тесно связанные со сло-
вом, сказанным, написанным, запечатленным. Наибольшая заслуга
Михайлова видится в том, что он сумел поставить вопрос с необхо-
димой широтой— как проблему осмысления бытия музыки через
слово.
Несмотря на то, что в трудах ученого нет ни одного исследова-
ния, прямо посвященного именно этой философско-музыкальной
проблеме, эта идея является центральной для музыковедческих работ
Михайлова. Так или иначе проблема смысла музыки, выговари-
ваемого ею или, наоборот, умалчиваемого, затрагивается в каждой
из крупных работ А. В. Михайлова.
В последние годы жизни вопрос соотношения слова и музыки
чрезвычайно волновал ученого. Его доклад на конференции 1994
года «Слово и Музыка: Музыка как событие в истории Слова», мож-
но считать первым шагом на пути освоения одной из наиболее слож-
ных проблем искусства. В исследовании этого вопроса существенную
роль играет тот факт, что А. В. Михайлову было доступно рассмот-
рение проблемы одновременно в нескольких средах— философско-
эстетической, филологической и музыкальной.
Вопрос соотношения слова и музыки — всегда остро актуальный.
Однако именно в конце XX века может быть осуществлена попытка
его если не прояснения, то, во всяком случае, онтологического обос-
нования. Это становится возможным потому, что сейчас человек
осознает себя живущим в таком историческом пространстве, кото-
71
Татьяна Щерба
рое, в силу определенных причин, реально открывает ему свои глу-
бины. Выражаясь словами А. В. Михайлова, мы живем в то время,
«когда, как кажется, впервые в истории, все, что когда-либо
существовало в истории культуры, становится потенциально п р о -
з р а ч н ы м, т. е. доступным изучению, пониманию и даже воспроиз-
ведению» (Письмо к Вальковой 1998, 235).
Методология современной науки об искусстве, и, в частности,
о музыке, нацеленная, в конечном счете, на анализ самого бытия
искусства, постоянно вынуждена сталкиваться с проблемами са-
мого различного рода. Одна из наиболее трудных — проблема адек-
ватного выражения словом смысла художественного произведения
искусства.
Стремление современной науки к комплексному гуманитарному
знанию находится в соответствии с самой сущностью искусства как
такового. По своей природе все искусства едины, так как в своем
конечном существе они говорят о вещах невербальных и непонятий-
ных, лежащих в той области, которая лишь в определенной степени
может быть доступна философскому слову и философскому опреде-
лению. Различие же искусств заключается в способе выражения, в
том, что они по-разному говорят об одном и том же, или, используя
терминологию Михайлова, по-разному именуют нечто.
Однако исследователь в этом случае находится в особо трудном
положении. Потому что он имеет дело не с самой сущностью ис-
кусства как такового, которое по конечной свой природе не поня-
тийно, а с видимой оболочкой этой сущности. Исследователю не до-
ступна подлинная глубина искусства, но он предполагает, что некая
ее часть, лежащая на поверхности, оказалась каким-то образом запе-
чатленной в произведении. Следовательно, при попытке понять и
объяснить то, что явлено, возможно проникнуть в то, что сокрыто.
И вот здесь, как кажется, заключена одна из наиболее важных ме-
тодологических проблем всей нашей науки об искусстве. Она видится
в том, что исследователь, при попытке объяснения любого вида ис-
кусства, неизбежно вынужден иметь дело со словом. В итоге получа-
ется преграда двойного рода: то, что запечатлено в произведении
искусства разным способом— через слово, картину, скульптуру,
звук, — а, следовательно, и именовано определенным образом самим
искусством, исследователь вынужденно именует, называет еще раз,
только уже своим словом и своим определением. Пытаясь объяснить
суть искусства доступным нашему восприятию способом, через сло-
во, исследователь, таким образом, в конечном счете воздвигает пре-
72
А. В. Михайлов и музыкальная наука
пятствия в процессе познания самих глубин искусства, того, что яв-
ляется им самим как таковым.
Другой аспект проблемы заключается в том, что в процессе по-
стижения сути искусства художник (как творец) и исследователь сто-
ят по разные стороны предмета. При создании произведения ис-
кусства любой художник бессознательно имеет в виду нечто невер-
бальное, для выявления которого он пользуется материалом того
вида искусства, в котором творит— словом, краской, звуком и т. д.
Исследователь же, осознавая это и пытаясь воспроизвести такой
процесс, попадает в ловушку, так как направление у него обратное.
Он сначала понятийно именует то, что ему дано в произведении ис-
кусства, а затем, через уточнение этого наименования, стремится
дойти до того невербального момента, с которого начал художник.
Слова, которыми мы пользуемся при характеристике художественно-
го произведения, суть понятия, моделирующие процесс «оформле-
ния» произведения искусства в доступное нашему восприятию, но
только в обратном направлении.
В живописи, литературе наши рассуждения имеют дело с предме-
тами искусства, которые мы хотим максимально точно обозначить
терминами, находящимися у нас под рукой22. При этом определения
отражают наш процесс восприятия художественного произведения,
сущность которого мы интуитивно постигаем. Пользуясь определен-
ным понятием, мы, таким образом, соглашаемся с тем, что оно наи-
более адекватно характеризует наше восприятие произведения.
Однако по отношению к музыке дело значительно усложняется.
В первую очередь потому, что сам предмет музыки не переводим на
слова и не может быть запечатлен в слове. В этом случае метод по-
знания музыки как искусства через слово не адекватен предмету по-
знания — музыке. Известное, ставшее ходовым, выражение, что му-
зыка начинается там, где кончается слово, на самом деле имеет и
глубокий философский смысл, потому что прямо указывает на спе-
цифику содержания, данного нам этим искусством.
Особое положение музыки как искусства заключается в том, что
ее глубинная сущность как бы открыта нам непосредственно, в зву-
чании. «Музыке, действительно, отведена особая роль в человечес-
кой жизни, — говорит А. В. Михайлов, — я бы даже сказал не в жиз-
ни, а в культуре, потому что она, как бы ни интерпретировали музы-
ку, она в любом случае очень глубоко где-то лежит. Она воспроизво-
дит, или лучше сказать, пропускает через себя глубинное. Это совер-
шенно очевидно» (Две беседы 1996,9).
73
Татьяна Щерба
Даже философия не в силах объяснить некоторые вещи, в лучшем
случае она может их как-то назвать. Так, например, дело обстоит с
музыкой, о которой говорят, что она философична. Здесь таится
определенная опасность, которая, как кажется, связана с тем, что за
философию в музыке иногда можно принять только лишь определен-
ное умонастроение, запечатленное в произведении. Но, как пишет
Михайлов, «никто не вправе <...> смешивать философское либо с
намерением быть глубокомысленным, либо с какой-то меланхолией»
(Проблема философской <...>, 2).
Однако, коль скоро музыка способна выявлять самую суть вещей,
она, таким образом, оказывается рядом с тем, о чем говорит филосо-
фия. Это не значит, что музыка здесь уподобляется какой-либо фило-
софской теории, но что музыка, доступными ей средствами выраже-
ния, «говорит» о таких вещах, понятийно выразить которые возмож-
но только при попытке передачи их философским словом. А. В. Ми-
хайлов, рассуждая о философии в музыке, пишет: «Когда музыка
философствует, она пребывает как раз в том месте и в том жизненном
слое, который для философии в терминах, понятиях, категориях и в
книгах почти недоступен, — это место и эта сфера выявления всего
того, что человек думает, и знает, и осмысляет еще до всякой книж-
ной философии, это сфера его непосредственной мысли, его непо-
средственного понимания жизни и всего, что вокруг него. "Сама" же
философия долгое время не заглядывала в эту сферу, игнорируя ее, не
зная ей цены, а потому пренебрегая ею: а в ней, в этой области жиз-
ненного — жизненных представлений и мыслей, собственно, настоя-
щий исток всякой словесной философии, тут и решается, какой она
будет» (Цикл симфоний 1990, 5).
Таким образом, для того, чтобы максимально приблизиться к то-
му сокровенному смыслу, который каким-то образом запечатлен в
музыке, исследователь как бы обязан в процессе своего познания
предмета искусства пользоваться тем способом, который предлагает
ему сама музыка. Это такой метод, который соединяет в себе обще-
эстетическое, философское знание и слово с конкретным звуковым
материалом, невербальным по своей природе, с методом музыкально-
теоретического анализа.
В определенном аспекте, смысл музыки познается нами только
при ее звучании,23 или при попытке его воспроизведения (например, в
учебном процессе) через сочинение «по модели», а все что происхо-
дит потом — это «перевод» внутренне разумеемого в область вер-
бального, при котором неизбежно какая-то часть смысла утрачи-
74
А. В. Михайлов и музыкальная наука
вается. Об этом, собственно, пишет и А. В. Михайлов: «Смысл есть
смысл; мы его усматриваем, но не можем ни назвать, ни переимено-
вать (то есть переназвать) средствами языка, а можем, <...> если речь
идет о музыке, лишь воспроизвести само произведение, исполнить,
лишний раз прослушать его или же — что мы совершенно неизбежно
и делаем — колдовать вокруг музЕтки с нашим словом, всегда пребы-
вая на некотором удалении от музыки как только-музыки и всегда
схватывая и ухватывая словом только некоторые отдельные аспекты,
стороны того, что есть вот это произведение как носитель и держа-
тель своего смысла» (Слово и Музыка <...>, 3).
Из приведенных примеров становится очевидным, что проблема
смысла музыки, выражаемого через слово, а, в особенности, через
философское слово, не просто волновала А. В. Михайлова, но нахо-
дилась в определенной стадии разработки и осмысления. К этому
остается добавить еще один примечательный факт. В 1989 году на
конференции, посвященной творчеству П. Флоренского, студенты из
Минска в беседе с Александром Викторовичем задали ему вопрос о
возможности появления книги о философии музыкального опыта под
названием «Столп и утверждение бытия». Представляется, что сама
постановка такого вопроса говорит о том, что к этому времени опре-
деленный круг проблем уже «наболел» как в самой культуре, так и у
Михайлова, в результате чего появилась настоятельная потребность
в их обозначении, или, выражаясь словами Михайлова, именовании.
Некоторые аспекты соотношения слова и музыки
в творчестве А. В. Михайлова
Как считает Михайлов, слово и музыка изначально находятся в
некотором диалектическом единстве относительно друг друга. Про-
является это, в первую очередь, в том, что сама музыка как бы обя-
зывает нас к тому, чтобы мы ее как-то обозначили или назвали, или
попросту сказали, что вот это — музыка, а вот это — не музыка. То
есть, чтобы говорить о музыке, мы должны сначала как-то опреде-
литься понятийно с тем, что есть музыка.
Затем, если мы даже внутренне уяснили себе, что есть музыка, в
самой музыке, создаваемой композитором, обнаруживается огром-
ное поле того, что еще только предстоит назвать. Так, например,
естественно предположить, что когда звучит музыка, то она предпо-
лагает, или полагает саму себя как музыку, следовательно, она же и
называет, или именует себя музыкой. «В музыке мы имеем дело с
75
Татьяна Щерба
полаганиями и именованиями самого разного, — пишет А. В. Михай-
лов, — начиная с того, что в музыке, естественно, полагается сама
музыка...» (Об обозначениях <...>1995, 119).
Однако, по мысли Михайлова, музыка, которая полагается в про-
изведении, не всегда равна, или тождественна себе, или той музыке,
которую имеет в виду композитор, полагая ее. Другими словами, в
музыке может ощущаться нечто такое, что отсылает нас не прямо к
музыке, а куда-то еще: «музыка может полагаться так, что в ней,
внутри ее, может иметься в виду нечто иное, стоящее за музыкой и,
так сказать, слышимое сквозь нее же, сквозь нее же как музыку пола-
гаемую» (там же).
Это иное, как его называет Михайлов, мы тоже должны как-то
обозначить, дать ему имя. Иногда некий смысл, выявляемый музы-
кой в ее звучании, конкретизируется композитором в подзаголовке
или названии произведения. А. В. Михайлов приводит в пример Со-
нату Брамса ор. 5, в которой часть «Интермеццо» имеет подзаголо-
вок «Взгляд назад» («Rückblick»), следовательно, музыка в этой части
полагается не только как музыка, но она «имеет в виду себя как
предшествующую себе...» (там же, 120). К этому примеру можно до-
бавить «Сонату-воспоминание» Метнера, где музыка полагает себя
как музыку-воспоминание о чем-то.
Таким образом, открывается, как считает Михайлов, одно фун-
даментальное обстоятельство: музыка и слово обусловливают и на-
ходятся, так сказать, в направлении друг друга. Музыка требует сло-
ва как непременного фактора, что-либо называющего, именующего в
ней. Но, с другой стороны, слово, именуя, указывает на то, что мы
называем музыкой и в конечном счете указывает на смысл, полагае-
мый музыкой и в музыке. То есть, как пишет Михайлов, во-первых,
«музыка внутри себя, или изнутри себя, установлена, или уставлена
на слово и в направлении такового», а во-вторых, «слово тоже устав-
лено, или установлено на музыку, что оно изнутри самого себя, если
рассматривать дело в историко-культурном разрезе, имеет в виду
музыку как свою же, слова, конечную запечатленность внутри
созидаемого им с м ы с л а» (цит. по: Чигарева 1998,252).
Получается, что музыка, по Михайлову, для своего сдлюобна-
ружения и слшсловыявления окружает себя полем словесных слоев,
которые, каждый в своей мере, способствуют познанию музыки как
музыки, как полагаемого некоего смысла того, что мы называем му-
зыкой. А. В. Михайлов, рассуждая об этом, пишет: «Если мы призна-
ем, что слово так или иначе, в некоторой своей функции, сопряжено с
76
А. В. Михайлов и музыкальная наука
музыкой, "привязано" к ней, то тогда мы можем сказать: у созда-
ваемого музыкой и в музыке "что" — устройство концентрическое: та
музыка, какая была бы только-музыкой, и ничем более, окружена
"поясом" своего же словесного само- и смыслообнаружения <...>»
(Об обозначениях <...> 1995, 121).
Этих словесных поясов, по мнению Михайлова очень много.
Один из «ближайших» к музыке — пояс словесных названий произ-
ведений, их имен.
В названиях, или именованиях произведений раскрывается движе-
ние навстречу друг другу слова и музыки. Так, имя произведения,
указываемое на титульном листе, предполагает само произведение,
но, в свою очередь, произведение обнаруживает себя в том, как оно
называется, или, лучше сказать, некий субстрат произведения, его
смысл запечатлен в его имени. Выражаясь словами Михайлова, с
одной стороны, «имя (и только уж на самый "худой" конец — чистый
знак имени) полагает произведение или же то "что", какое занимает
тут место произведения», но, с другой стороны, «и произведение
именует — оно полагает свой смысл и, полагая, именует его» (Слово
и музыка <...>, 3).
Для характеристики отношений полагаемого смысла и осущес-
твляемого именования этого смысла Александр Викторович исполь-
зует понятие «трансгрессивность». Это означает, что движущееся
навстречу именование смысла и его полагание, осуществляемое в име-
новании, должны где-то сойтись воедино. Но, как считает Михайлов,
они сходятся не конкретно в какой-то смысловой точке, а в более
широком пространстве того, что они имеют в виду. А. В. Михайлов
пишет о трансгрессивное™: «Это означает, что здесь, в музыке,
иметь что-либо в виду влечет за собой непременный и неизбежный
переход в более широкое поле смысла; тем самым именования
сходятся не в "самом" т о м, что, какое имеют в виду, но именно в
более широком поле смысла, в каком находится это то, чшо» (цит.
по:Чигарева1998,251).
Таким образом, мы приходим к тому, с чего начали, а именно: му-
зыка, полагающая некий смысл и обнаруживающая себя как смысл,
тем не менее, не может полагаться на точность слова, которому бы
удалось этот смысл назвать и сделать, так сказать, его полностью
доступным нашему пониманию. То есть слово, которым мы говорим
о музыке, как бы обязано иметь в виду саму музыку, такую, которую
и нельзя выразить словами, ту, что Михайлов называет только-
музыкой.
77
Татьяна Щерба
Можно предположить, что «только-музыка» по Михайлову это и
есть смысл, тот, который существует еще до всякого своего оформле-
ния в любом искусстве, то есть, это самая суть того, о чем по-
разному «говорят» нам произведения искусства. И только музыка
способна являть нам его почти непосредственно, в его особом, как
бы «первобытном» состоянии.
В отношении слова и музыки, в частности, А. В. Михайлов гово-
рит о том, что музыка— это смысл, невыразимый словами, смысл
<<"за"словесный» или «трансгрессивный», характеризуемый Михай-
ловым как обращенный «на себя, и только на себя», такой, который
«запирает и запечатлевает себя в себе самом и не подлежит никакому
словесному же пересказыванию / переиначиванию» (Слово и музыка
<...>, 8).
Он, как считает Михайлов, порожден слоями слов, которые из-
нутри себя произвели «сердцевину смысла, отпущенную из слова как
слова в свое закрытое <...> от слова бытие» (там же, 6). Вот именно
здесь, когда мы имеем в виду сам смысл и только смысл, к слову
приходит на помощь музыка. Александр Викторович пишет: «Нако-
нец, внутри словесных слоев, созидающих смысл, совершается про-
цесс переноса <...> всего "центра тяжести" на смысл как смысл, то
есть на такой смысл, какой вообще не допускает своего переоформ-
ления, и вот тут-то к слову примыкает музыка, параллельно осоз-
нающая свои внутренние возможности и обнаруживающая себя
как — если можно так сказать — транс-словесный смысл» (цит. по:
Чигарева 1998, 252).
Такой «невысказанный» смысл, который имеет в виду музыка,
приобрел, как считает Михайлов, в XX веке особую форму осмыслен-
ности в музыкальном произведении, запечатленную в паузе. «Я, ка-
жется, не ошибусь, — говорит А. В. Михайлов, — если скажу, что
значение пауз в музыке было по-настоящему осознано лишь музыко-
ведением XX столетия, после того, как в музыке был уже накоплен
значительный опыт обращения с паузами» (Музыка и слово <...>, 9).
Именно сейчас выясняется, что пауза в музыке может осмысляться
и как внезапно прорвавшийся «смысл» музыки, недоступный нам в
слове. То есть смысл музыки как только-музыки может являться нам
как таковой; молчание в музыке может «представлять собой смысл
<...> запечатляемый и тогда хранимый за своими семью печа-
тями» (цит. по: Чигарева 1998, 254). Как пишет Михайлов, «смысл,
какой утверждает себя в музыке, — это тогда смысл, прорываю-
щийся через "не могу" своего молчания», и он таковым и утвержда-
78
А. В. Михайлов и музыкальная наука
ется— «тот, который долго накапливается и настаивается в своей
невысказанное™ и даже более того — в своей невысказываемости»
(там же).
Проблема осмысления бытия музыки через слово как основная
давала мощные импульсы для изучения А. В. Михайловым музыки
самых разных эпох, направлений и стилей. Однако, с другой сторо-
ны, она же требовала от ученого осознания и всей сложности того,
как нужно говорить о такой-то музыке. Как филолог А. В. Михайлов
стремился к максимальной точности того, что называет слово, но, с
другой стороны, как филолог и музыкант Михайлов чувствовал, что
полной ясности и определенности невозможно достичь в слове, кото-
рым мы пользуемся по отношению к искусству.
Вопрос именования так или иначе реализует себя во всех тру-
дах Михайлова, коль скоро они посвящены выявлению того смыс-
ла, который разворачивается на наших глазах через историю ис-
кусства.
Представляется, своеобычность Михайлова-исследователя за-
ключается в том, что он полагается в первую очередь не на свое зна-
ние, а на знание, полагаемое историей в слове. Как считает Алек-
сандр Викторович, любая наука находится в истории, основывается
на ней и поднимается из нее. «У этой науки, — пишет Михайлов, —
своя ответственность перед историческим бытием, которое в нее вхо-
дит, в ней познается и в ней осмысляется. Ей присуще свое особое,
точное знание целого, все уточняющееся знание логики этого целого»
(Диалектика <...> 1997,42).
Вопросы терминологии
Среди проблем, поднимаемых А. В. Михайловым в работах, от-
носящихся к области теории литературы, одно из значительных мест
занимает проблема обозначения или, точнее, характеристики раз-
личных эпох, направлений, стилей. Рассматриваемая с точки зрения
литературоведческого анализа, эта проблема имеет прямое касатель-
ство и к музыке. В первую очередь потому, что музыкальные стили
именуются вслед за литературными (шире — художественными), так
это произошло с названиями «барокко», «классицизм», «романтизм»
и др. Однако сразу же выясняется, что музыкальные стили не совсем
соответствуют литературоведческим понятиям. И тогда возникает
огромное количество проблем разного рода.
79
Татьяна Щерба
Во-первых, мы должны уяснить себе (то есть определиться), что
же обозначает каждое из понятий само по себе, каким образом оно
устроено, в какой степени оно подвижно и изменчиво как хроноло-
гически, так и контекстуально; наконец, как оно соотносится с дру-
гими понятиями.
Второй шаг — это попытка понять, как функционирует каждое из
понятий внутри той эпохи (стиля, направления и т. д.), которую обо-
значает; какие явления подпадают под него, какие нет, а какие нахо-
дятся на меже.
В-третьих, коль скоро понятия из литературы, в общем, перено-
сятся в музыку, то пункты первый и второй должны быть применены
к музыке.
Наконец, последний вопрос связан с проблемой соотнесения ли-
тературного понятия и музыкального, в результате чего может ока-
заться, что под одно обозначение попадают литературные и музы-
кальные явления более несхожие, чем схожие. В конце концов может
даже оказаться, что одно художественное явление в литературе и
музыке рассматривается с разных позиций.
Эти терминологические сложности постоянно усугубляются раз-
личными внешними факторами, которые, воздействуя на «теорию
стилей», почти исключают какую бы то ни было возможность не
только определить (как того многим бы хотелось) любое понятие, но
даже просто «договориться» наукам как внутри себя, так и друг с
другом относительно каждого из таких понятий.
Думается, что наиболее важными из внешних факторов оказы-
ваются два:
— Общий ход истории, где каждое понятие претерпевает фазы
от своего появления и становления, отождествления с определенны-
ми художественными явлениями, через переосмысление своего зна-
чения и даже отторжения, пока, наконец, не войдет в обиход науки
как некое «клише» с самыми различными оттенками смысла и зна-
чения.
— Национальная специфика любого искусства, внутри которого
любое понятие неизменно модифицируется, приспосабливаясь к внут-
реннему укладу культуры данного региона.
Наличие внутренней логики искусства позволяет ученому гово-
рить об общих основаниях теории искусства и человеческого бытия
вообще. Это основание — логос, число. «Литературоведение, — как
пишет Михайлов, — по своей природе весьма причастно к логически-
рациональному, к тому "расчету" идей, который осуществляет сама
80
А. В. Михайлов и музыкальная наука
история, к "логосу" и ratio — к подлинному числу» (Методы и стили
<...>, 6).
Но если подходить к этой проблеме со стороны музыки, то для
нас кажется очевидным, что музыкальное слово Михайлова непре-
менно отсылает нас к XIX столетию, к музыке и эстетике романти-
ческой эпохи.
Романтизм
Среди музыкально-научного наследия А. В. Михайлова одно из
центральных мест занимают работы, посвященные искусству роман-
тической эпохи. Может быть, будет некоторым преувеличением ска-
зать, что романтизм — центральная категория всей науки Михайло-
ва, хотя бы потому, что в трудах, относящихся к филологии, значи-
тельное место занимают исследования других пластов литературной
истории, таких как барокко, реализм, бидермайер. Однако содержа-
ние музыковедческих работ ученого позволяет говорить о явной тен-
денции к тому, чтобы проблемы искусства романтизма рельефно
выделялись на фоне других вопросов музыкознания.
Как художественное явление и как исторический феномен роман-
тизм ставит перед исследователем сразу огромное количество вопро-
сов. Один из краеугольных — вопрос о том, что же такое романтизм
вообще, что мы подразумеваем под этим понятием. Актуальность
проблемы очевидна уже в связи с тем, что романтизм, как известно, в
разных искусствах, в частности, в литературе и музыке, не только
развивался по-разному, но и возник в разное время (в художествен-
ной культуре— на рубеже XVIII—XIX веков, а в музыкальной —
лишь в 20-х годах XIX века)24. Кроме того, всегда следует учитывать,
что само эстетическое содержание понятия «романтизм» в литерату-
ре и музыке также не предполагает полной тождественности.
Одна из больших заслуг А. В. Михайлова заключается в том, что
он, как филолог и музыковед, один из немногих, кто совершенно со-
знательно, с одинаковой научной педантичностью и скрупулезнос-
тью, исследовал проблемы романтизма одновременно в различных
искусствах— литературе, музыке, а также эстетике. Среди много-
численных работ ученого выделим основные: это вступительные ста-
тьи, переводы и комментарии в книгах «Эстетика немецких роман-
тиков» (1987), «Музыкальная эстетика Германии XIX века» (совмест-
но с В. П. Шестаковым— 1981, 1985), «Жан-Поль. Приготовительная
81
Татьяна Щерба
школа эстетики» (1981), статья «Романтизм» в журнале «Музыкаль-
ная жизнь» (1991, № 5—6), ряд статей об эстетике Э. Ганслика, нео-
публикованная статья об эстетике Р. Вагнера, неопубликованный
перевод музыкально-критических статей Э. Т. А. Гофмана и др.
В целом огромное количество материалов так или иначе затраги-
вающих искусство романтизма и позволяет нам говорить об этой
эпохе как одной из центральных в трудах А. В. Михайлова.
Романтизм как мироощущение был близок Александру Викторо-
вичу, что явилось одним из значительных факторов, обусловивших, с
одной стороны, глубокую разработанность вопросов искусства этого
периода, а с другой— их особую художественную наполненность.
Язык Михайлова — яркий, образный, во многих стилистических ас-
пектах соприкасающийся с языком романтических писателей. В этом
смысле эпоха и стиль исследователя совпали, оказались адекватными
друг другу.
Романтическая музыка оказалась наиболее близкой и самой на-
туре Александра Викторовича, именно ее он знал досконально, от
Шуберта до Малера и Штрауса. Одним из любимых композиторов
Михайлова с ранней юности был Р. Вагнер, ученый высоко ценил
музыку К. М. Вебера, Р. Шумана, С. Франка, А. Брукнера, компози-
торов различных национальных школ — Л. Яначека, А. Дворжака,
Б. Сметаны, Я. Сибелиуса, среди русских «романтиков» — М. А. Ба-
лакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, А. К. Гла-
зунова.
Не случайно, что и музыка XX века привлекала Михайлова преж-
де всего та, в которой слышны «отголоски» романтизма — в твор-
честве К. Нильсена, X. Пфицнера, Э. Элгара, Р. Воан-Уильямса, А. Бер-
га и др.
Кроме музыкальных пристрастий, феномен романтизма интересо-
вал ученого еще и в связи с другими проблемами, касающимися раз-
вития всей истории искусства вообще.
Одна из таких проблем связана с тем, что, по мнению А. В. Ми-
хайлова, на рубеже XVIII—XIX веков в культуре происходят такие
изменения, которые затрагивают сами ее основания. Это значит, в
его терминологии, что старая традиция морально-риторического
способа осмысления искусства, давно подтачиваемая изнутри, рухну-
ла. И искусство оказалось перед проблемой самообоснования и са-
моуразумения. Коренным изменениям подверглась как литература и
музыка, так и эстетика, и философия. Процесс перестройки всего
эстетического сознания охватил в целом полвека, и вот именно этот
82
А. В. Михайлов и музыкальная наука
период, неустойчивый и противоречивый, интересовал А. В. Михай-
лова, может быть потому, что давал возможность наглядно увидеть и
даже почти осязать процесс становления новой эпохи.
Наконец, можно говорить и о том, что Михайлова, как историка
культуры, интересовали вообще рубежные этапы искусства — рубеж
XVIII—XIX веков, рубеж XIX—XX веков, период между двумя ми-
ровыми войнами, современное состояние отечественной культуры на
рубеже XX—XXI столетий.
Особая привлекательность переломных моментов истории куль-
туры заключается в том, что в это время обнажаются находящиеся в
диалектическом единстве многие как реализованные, так и пока не-
реализованные возможности искусства, что дает исследователю бо-
гатый материал для объяснения процессов, происходящих в совре-
менности.
Стремление А. В. Михайлова изучить и понять искусство XIX ве-
ка в полном объеме объясняется еще и тем, что прошлое столетие
является в некотором роде центральной точкой истории в нашем
понимании. Культура XVII—XVIII веков, как и культура XX века, во
многих аспектах сравниваются и соотносятся с искусством именно
эпохи романтизма (так и в работах Михайлова). Особенно это замет-
но в музыкознании в его прикладном, учебном смысле, так как зна-
чительную часть курса истории музыки составляет музыка XIX века
в самом подробном ее рассмотрении. Обучение музыкантов происхо-
дит на основе классико-романтической тональной системы XIX века,
основу репертуара большинства исполнителей составляет музыка
прошлого столетия. А. В. Михайлов заметил по этому поводу: «Не
будет большим преувеличением сказать, что мы и наш слух только и
знаем, что романтическую музыку,— но зато в максимальном бо-
гатстве проявлений, почти в чрезмерном накоплении разновидностей
и форм» (Романтизм 1991, № 6, 23).
Среди проблем романтического искусства, затрагиваемых в рабо-
тах А. В. Михайлова, на первом месте, по-видимому, стоит вопрос
общей теории романтизма в различных искусствах и в связи с ним —
проблема определения самого понятия «романтизм».
Другая, не менее важная группа вопросов связана с эстетическими
идеями романтиков и их отражением в художественной (и, в част-
ности, музыкальной) практике.
Наконец, третья группа проблем относится непосредственно к ис-
тории музыки, к индивидуальным композиторским стилям, к сочине-
ниям художников-музыкантов XIX века.
83
Татьяна Щерба
К теории понятия «романтизм» в искусстве
«Рассуждать о романтизме можно лишь посвящая читателя в
"экзистенциональные трудности" всей научной проблематики»,—
пишет А. В. Михайлов, сразу давая понять, что простого ответа на
вопрос о романтизме быть не может (там же, № 5, 21). И это несмот-
ря на то, что каждый искусствовед, филолог и музыковед довольно
четко представляет себе период романтизма в искусстве и укажет
наиболее ярких его представителей как в литературе (Жан-Поль,
братья Шлегели, Эйхендорф, Гофман, в России — Жуковский и др.),
живописи (Каспар Давид Фридрих), так и в музыке (весь период от
Шуберта, Вебера, Гофмана до Вагнера, Брамса, Брукнера и даже
Малера и Штрауса). Михайлов замечает об этом: «коль скоро мы
знаем, кого отнести к романтизму, то вроде бы его сущность нам
интуитивно ясна» (там же).
Тем не менее, при попытке сопоставления романтизма литератур-
ного и музыкального возникают проблемы, затрудняющие согласие
между филологами и музыковедами. Одна из них заключается, на
наш взгляд, в том, что романтизм литературный, возникший в Гер-
мании на рубеже XVIII—XIX веков, имел хотя и бурную, но, в об-
щем, непродолжительную историю своего существования, в то время
как музыкальный охватывает весь XIX век в целом. В статье «Эсте-
тические идеи немецкого романтизма» А. В. Михайлов примерно опре-
деляет границы литературного романтизма: от 80—90-х годов XVIII
столетия примерно до 1815 (1819) года, в то время как у музыковедов
«начало» романтизма приходится на второе десятилетие XIX века, а
конец— около 1900 года. Сам Михайлов пишет, что лишь с премье-
рой «Вольного стрелка» К. М. Вебера в 1821 году «открылась эра
подлинного, уверенного и полнокровного романтизма в немецкой
музыке — целая эра, такая длительная и внутренне полная, что нам
еще предстоит спрашивать себя: когда же она, собственно, заверши-
лась?..» (там же). Заметим попутно, что выражение «эра романтизма»
не употребляется ученым по отношению к литературе этого периода.
Еще одно несоответствие, бросающееся в глаза, — это тот факт,
что литературный романтизм в своих эстетических позициях, хотя и
претендовал на универсальность мировоззрения, все же по существу
не был универсальным движением, охватившим не то чтобы всю Ев-
ропу сразу, но даже одну страну. Вместе с романтизмом в Германии
сосуществовали и различные формы классицизма; Австрии роман-
тизм в целом оказался чужд (исключение составляет, пожалуй, му-
84
А. В. Михайлов и музыкальная наука
зыка Шуберта и гораздо позже Брукнера); в немецкой философии
это период высокой эстетической мысли Канта и Гегеля, а примерно
с 20-х годов XIX века в Германии наступает время бидермайера и за-
тем реализма. Во Франции начало романтизма связывается с 1830 го-
дом — годом премьеры драмы Гюго «Эрнани», а также появлением
«Фантастической симфонии» Берлиоза. В Италии о романтизме го-
ворят в связи с творчеством Паганини, Беллини, а в России роман-
тизм сразу тесно соприкасается с другими течениями, например, реа-
лизмом.
Таким образом, литературный и музыкальный романтизм в дру-
гих странах во многом протекает и осмысляется по-разному. А. В. Ми-
хайлов приводит замечание Отто Пеггелера о том, что романтизм в
немецком смысле «выпадает из его интернационального слово-
употребления» (цит. по: Диалектика <...> 1997, 36)25.
Музыкальный же романтизм, как он был осмыслен историей му-
зыки, есть некоторое универсальное явление, охватившее всю Евро-
пу, как в эстетике, так и в самом музыкальном языке.
Например, развитие ни одной из национальных школ— поль-
ской, венгерской, чешской не может быть объяснено вне связи с до-
стижениями немецкого музыкального романтизма. И даже русская
музыка с ее явным уклоном в эстетику реализма в коренных основах
музыкального языка глубоко родственна общеевропейским процес-
сам развития тонально-гармонической системы, не говоря уже о том,
что сочинения Балакирева, Рубинштейна, Чайковского, Римского-
Корсакова несомненно соприкасаются с образным строем общеевро-
пейской романтической музыки.
Получается, что, в отличие от литературного романтизма, музы-
кальный, при всей национальной специфике, имеет в себе некоторую,
условно говоря, «общую» основу, благодаря чему становится воз-
можным говорить о XIX веке как об эпохе музыкального романтиз-
ма. Даже течения, возникшие в конце прошлого столетия, — веризм,
импрессионизм, экспрессионизм, по сути, опираются на романтичес-
кую эстетику, поэтому о такой музыке и говорят, что она «позднеро-
мантическая» или «постромантическая», подчеркивая коренную пре-
емственность этих явлений.
Кроме того, само понятие романтизма, считает Михайлов, «исто-
рически изменчиво и подвижно» (Романтизм 1991, № 5, 21), а раз-
ность его художественного и музыкального воплощения заставляет
говорить о том, что романтизм ни в одну историческую пору не был
равен сам себе (там же, № 6, 22).
85
Татьяна Щерба
Таким образом, для того чтобы определить «романтизм», следует
для начала погрузиться в весь комплекс связанных с ним проблем, с
одной стороны, а с другой — погрузиться в саму историческую по-
этику, в тот литературный контекст рубежа XVIII—XIX веков, ко-
торый окружает это художественное явление. «Романтизм, — пишет
А. В. Михайлов, — определяется не набором характеристик, а узлом
острейших противоречий, заданных историей» (Эстетические идеи
<...> 1987,42).
Этот контекст имеет в своей основе новое (по сравнению с барок-
ко и классицизмом) и, как сейчас выясняется, вполне определенное
мироощущение, мировосприятие и мировоззрение, новые эстетичес-
кие идеи. Это новый взгляд на искусство и его роль в жизни человека,
на реальную действительность. И все это новое, прорывавшееся сквозь
все щели, обветшавшие рамки «старого», требовало иного художес-
твенного языка, иного способа оформления художественного слова,
других средств выразительности. И в этом смысле романтизм как
«язык истории», как запечатленное столкновение эпох буквально на
всех уровнях общественной, политической жизни и искусства, несом-
ненно шире романтизма как «художественного явления» (Проблемы
анализа <...> 1997,52).
К эстетике музыкального романтизма
Яркое, но непродолжительное развитие литературного романтиз-
ма в Германии сопровождалось обостренными исканиями в области
философии и эстетики искусства. Смысл их заключался, в самом об-
щем плане, в преодолении прежней морально-риторической системы
знания, объяснявшей по-своему все устроение мира, но на данном
историческом этапе оказавшейся в резком противоречии с живой
художественной практикой и открывшимися новыми возможностями
как самого искусства, так и способами его осмысления. В некотором
роде романтики сами творили свою эстетику.
К тому моменту, когда появился музыкальный романтизм, в фи-
лософии и эстетике уже были осмыслены и зафиксированы основные
положения «нового» искусства. Музыкальный романтизм, таким
образом, имел под собой твердое основание и выступил, с одной сто-
роны, как продолжение и развитие литературного романтизма, а с
другой— как конкретная «реализация» огромного мыслительного
потенциала, накопившегося за долгие десятилетия постепенной пере-
стройки искусства.
86
А. В. Михайлов и музыкальная наука
Вопросы музыкальной эстетики XIX века получили в трудах
А. В. Михайлова наиболее полное освещение. Основное внимание
ученый уделяет эстетической мысли Германии и Австрии. Во-первых,
это связано со специализацией Михайлова и его особым трепетным
отношением к культуре этих стран. Во-вторых, романтизм как худо-
жественное явление берет свое начало именно в немецкоязычных
странах. Наконец, особое значение музыки как искусства в немецкой
философской и эстетической мысли заставляет ученого искать ответы
на многие вопросы истории в трактатах того времени.
Одной из важнейших заслуг А. В. Михайлова как в области музы-
кознания, так и в области филологии является сам перевод текстов
немецких мыслителей XIX века о музыке и комментарии к ним. Он
дает музыкантам возможность иметь, что называется, всегда «под
рукой» живой материал эпохи. На основании переводов Александр
Викторович написал ряд вступительных статей с использованием
выдержек из текстов, в которых исследователь в очень сжатой, но
предельно насыщенной содержанием форме обозначает основные
«узлы» эстетической мысли.
Нам представляется, что двухтомник «Музыкальная эстетика
Германии XIX века» — одно из немногих изданий, в котором столь
явственно еще в 1980-х годах была намечена тенденция сближения
сразу нескольких наук: философии и эстетики искусства, филологии и
музыкознания. Пикантная деталь этой работы заключается в том,
что ее вступительная статья, посвященная музыке и предназначенная
для музыковедов, написана филологом по образованию, но написана
с таким знанием всего музыкального контекста, что и по сей день
является необходимым звеном в изучении и освоении всей музыки
прошлого века.
По мысли А. В. Михайлова, главный эстетический и философский
переворот, произошедший в музыке XIX века, заключается в том, что
новая эпоха принесла «самосознание музыки как содержательного и
смыслового искусства» (курсив А. М. — Т. Щ.) (Этапы развития <...>
1981, 12). Музыка осознала себя как самостоятельный язык, как лич-
ность, как субъект, противостоящий миру. Сфера музыки— все,
что не определишь словом, то есть все непонятийное, невыразимое.
Э. Т. А. Гофман в 1809 году писал: «Музыка раскрывает перед чело-
веком неведомое царство — мир, который не имеет ничего общего с
внешним миром чувств, окружающим человека,— в этом мире он
оставляет все определимые понятиями чувства, чтобы предаться не-
выразимому. Как мало разумели эту специфическую сущность те
87
Татьяна Щерба
композиторы, которые пытались представить в ней вполне определи-
мые чувства или даже события...» (цит. по: Романтизм 1991,6, 20).
Получается, что музыка в это время как бы обрела свою подлин-
ную сущность, она осознала, что она такое есть и чем отличается от
других искусств. И поэтому такая музыка начинает осмысливаться
как настоящее искусство, или, выражаясь словами Михайлова, как
«первая настоящая музыка, как музыка в полном смысле слова, как
музыка, впервые нашедшая себя» (там же).
Осмысление музыки как автономного искусства произошло, ко-
нечно, не сразу. Оно осуществлялось в искусстве барокко и класси-
цизма на протяжении двух столетий и проходило параллельно со
становлением индивидуальной человеческой личности в искусстве26.
На рубеже XVIII—XIX веков накопленный потенциал вышел на-
ружу. Немаловажную роль в этом сыграли и политические собы-
тия— Французская революция, наполеоновские войны, меттерни-
ховская реакция. А. В. Михайлов пишет, что именно в этот период в
немецком искусстве «отразилось развитие, почти не имевшее анало-
гий в культуре других европейских стран,— развитие личности,
осознающей себя как субъект, как индивид, как психологическую
личность необычайно насыщенного, разнородного и противоречиво-
го содержания, как личность, заключающую в себе целый мир»
(Этапы развития <...> 1981, 13).
Эстетика и философия так или иначе должны были «отклик-
нуться» на процессы, происходившие в искусстве и музыке. Если
музыка стала осознаваться как автономное искусство, и более того,
как субъект и индивид, то с этим надо было как-то примириться, это
еще надо было осмыслить и как-то объяснить. Таким образом, в этот
период в искусстве и в музыке сложилась такая «революционная»
ситуация, когда, по выражению А. В. Михайлова, «сама суть музыки
настоятельно требовала своего объяснения» (там же, 11).
Особая напряженность и даже «идейная перегруженность» немец-
кого искусства рубежа веков, по мнению Александра Викторовича,
объясняется двумя факторами. Один из них — социальный, то есть
сам характер немецкой действительности этого времени, где «фран-
цузской социальной революции <...> отвечала революция художес-
твенная», в результате чего «философия как искусство переносит
противоречия в сферу духа» (там же, 10).
Второй фактор ученый связывает с немецким менталитетом, с
особым типом мышления немцев и их отношением к музыке. Про-
блемы музыкального искусства рассматриваются, как правило, в
88
А. В. Михайлов и музыкальная наука
сопряжении с философией, эстетикой и исторической действитель-
ностью. Музыка в Германии, как пишет Михайлов, «часто выступает
как излюбленный и наделенный особой ясностью объект философии,
а также как особый язык действительности, выявляющий самую суть
происходящего в мире» (там же, 9).
С другой стороны, ученая мысль как бы помогает и самой музыке
раскрыть свою внутреннюю сущность посредством особого фило-
софского слова. «Подобно тому как для немецких теоретиков музыка
есть смысл и суть реальности, — пишет А. В. Михайлов, — так и в
музыкальной эстетике широкие горизонты философской мысли по-
могают раскрыть конечный смысл самой музыки, историческую кон-
кретность ее духовного содержания» (там же, 10).
Немецкую музыку XIX века Александр Викторович называет по-
этому и «немецкой музыкальной мыслью», так как в звуках компози-
торы смогли запечатлеть сложный комплекс философско-эстетичес-
ких проблем эпохи. Достаточно вспомнить симфонические концеп-
ции Бетховена, «который в звуках думал обо всем человечестве» (там
же) или оперы Вагнера, не уступающие по широте охвата и сложнос-
ти отраженных проблем философии Ницше и Шопенгауэра. Нако-
нец, можно привести и творчество австрийских композиторов Брук-
нера и Малера, а в XVIII столетии — это, конечно, творчество Баха.
В конце XX века как своеобразное продолжение этой музыкаль-
но-мыслительной традиции звучат философски насыщенные произ-
ведения Штокхаузена.
Можно предположить, что без той коренной перестройки ис-
кусства и роли музыки, произошедшей в XIX веке, многие из дости-
жений не только немецкого, но и всего европейского искусства были
бы под вопросом.
В начале XIX века перед музыкой как автономным искусством
открылись огромные возможности. И одно из главных направлений,
по которому шло развитие искусства, как считает Михайлов, — это
освоение мира «в его реальности и в его полноте» (там же, 13). Для
немецкой музыки прошлого столетия, по мнению А. В. Михайлова,
характерно «стремление к освоению богатого материала действи-
тельности, внутреннего мира человеческой личности, тяготение к
глубокой и свободной духовности» (там же, 10).
Вновь открывшиеся возможности музыки не были осознаны сра-
зу. Как пример противоречий, характерных в целом для немецкой
музыкальной эстетики XIX века, А. В. Михайлов приводит выдержки
из работ Канта и Гегеля.
89
Татьяна Щерба
В работах Канта, как считает Михайлов, отражены две важные
особенности: это процесс осознания автономности искусства и про-
цесс становления индивидуальной человеческой личности, отражен-
ной в произведении искусства. «В философии Канта, — пишет Алек-
сандр Викторович,— встретились осознавший свою автономность
эстетический субъект и осознавшая свою автономность, воплощен-
ная в искусстве и его произведении, человеческая личность» (там
же, 16).
Михайлов также обращает особое внимание на суждение Канта о
музыке как об игре звуков. Как считает ученый, в таком суждении
философа есть два очень важных момента, указывающих на глубо-
кую сущность музыки как искусства, о которой Кант, «будучи фило-
софом глубоким (но музыки как искусства, как ремесла, вернее, не
слышавший), должен был как-то проговориться <...>» (Две беседы
1996, 12). Первый Александр Викторович связывает как раз с проис-
ходившем процессом самосознания музыки, для которой прежде чем
открыться внутрь себя, надо было «осознать себя в то же время как
чистую игру звуков» (там же, 15). Второй момент — это «случайное»
у Канта указание на то, что эту игру звуков нельзя никак соотнести с
чем-либо окружающим нас в реальном мире, а это значит, что «сфера
музыки <...> есть сфера тех значений, о которых мы не можем ска-
зать иначе как на языке музыки» (там же, 12).
Следующий значительный этап развития философско-эстетичес-
кой мысли о музыке представляют работы Гегеля. Комментируя
мысли философа о музыке, А. В. Михайлов отмечает несколько но-
вых моментов. Во-первых, между искусством и действительностью
существует глубокая связь, так как «искусство заключает в себе мир»
(Этапы развития <...> 1981, 17—18). Следовательно, для него
(искусства) всякое содержание в некотором роде безразлично в том
смысле, что «любое содержание преобразуется искусством в символ,
то есть становится выражением смысловой полноты, собирает в себе
жизненный и мировой смысл <...>» (там же, 17). Гегель пишет так:
«Искусство есть непосредственно та форма, которой безразлично
содержание, которая может обратиться к любому содержанию, до-
вести его до созерцания в качестве чего-то бесконечного, выявляя его
внутреннюю жизнь или его дух и делая его в качестве духа предме-
том» (цит. по: МЭГ-1 1981, 176).
В философии Гегеля А. В. Михайлов обращает внимание на «со-
вершающееся самопознание искусства» (курсив А. М.— Т. Щ.)9 му-
зыка у Гегеля называется «чистым "я" облика», таким образом, ис-
90
А. В. Михайлов и музыкальная паука
кусство обретает себя, свой субъект, или, выражаясь по-гегелевски,
«приходит к себе» (Этапы развития <...> 1981, 18).
Во-вторых, Михайлов отмечает новую форму отношений между
музыкой и слушателем, отраженную в эстетике Гегеля. Музыка — это
«движение смысла, активно создаваемого в звучании» (там же, 19).
То есть музыка как бы слушает сама себя, свой совершающийся на
глазах акт творения смысла, что у Гегеля называется «чистым слуша-
нием», а сам слушатель становится сопричастным этому процессу.
В-третьих, А. В. Михайлов акцентирует тот факт, что Гегель го-
ворит о современной ему музыке, хотя и с критической точки зрения
(откуда и возник, собственно, «конец искусства»). Однако Михайлов
считает, что Гегель подвергает критике музыку как искусство роман-
тическое, то есть такое, которое не может «превышать в своей духов-
ности уровень чувства» (там же, 21—22). Так, например, Гегель пи-
шет, что стихией музыки «служит внутреннее как таковое, бесфор-
менное само по себе чувство», содержанием музыки является
«человеческая душа, чувствование как таковое», материалом — звук,
а формообразованием— «конфигурация, созвучие, разделение, со-
единение, противоположение, противоречие и разложение звуков по
их качественным различиям друг от друга и их художественно со-
блюденной мере времени» (цит. по: Этапы развития <...> 1981, 21).
Другой важный тезис, выдвигаемый Михайловым по отношению
к музыкальной эстетике XIX века — это постепенное установление
новых взаимоотношений между музыкой и слушателем.
По мысли Александра Викторовича, они заключаются в том,
что, осознавшая свою автономность музыка, стала требовать специ-
ального, особого, эстетического восприятия, «целенаправленного и
сосредоточенного слушания музыки как музыки, ради музыки» (там
же, 14).
Трудность заключалась в том, что, во-первых, опыт слушания му-
зыки в начале XIX века был минимален, слушатель еще как бы не
вполне осознал новые возможности музыки, ее особую, ставшую
очевидной, духовную наполненность и подходил к слушанию музыки
со старыми стереотипами. Во-вторых, по мнению А. В. Михайлова,
сами формы бытования, функционирования искусства, долгое время
оставались старыми, не соответствующими новой ситуации, сло-
жившейся в культуре.
В связи с этим, А. В. Михайлов в качестве одной из наиболее зна-
чительных проблем искусства XIX века выдвигает проблему понима-
ния музыки. Музыка, как бы «заново родившаяся», обращается к
91
Татьяна Щерба
слушателю со своим внутренним смыслом и, очевидно, нуждается в
особо пристальном вслушивании и в новых способах своего пости-
жения.
По мнению Михайлова, тот факт, что музыка в XIX веке понима-
лась как сокровенный язык души, и, следовательно, основной ее сфе-
рой была сфера чувства, или, по выражению ученого, «внутренние
душевные движения личности» (Романтизм 1991, № 6, 22), в музы-
кальной эстетике и в слушательском восприятии приводил к некото-
рым противоречиям. Представляется, что разница заключалась преж-
де всего в отношении к чувству. Как пишет ученый, «чувство», с од-
ной стороны, «представлялось чем-то естественным "вообще", нео-
посредованным, достоверным и общечеловеческим» (Этапы развития
<...> 1981 j 23). В этом случае музыка, выражающая такое чувство,
становилась «понятной» слушателям самого разного уровня музы-
кального образования, в том числе и обыкновенному мещанину с
неразвитым вкусом, «порождая в нем иллюзию беспроблемного сов-
падения его "чувства" с "чувством", выраженным в музыке, с содер-
жанием музыки вообще» (там же).
С другой стороны, считает А. В. Михайлов, в самом искусстве
сложились предпосылки для иного подхода к выражаемому чувству,
и музыка XIX века как раз и выявляла эту новую сторону своего
осмысления. Она заключалась в том, что искусство требовало реф-
лексии над собой, а музыка, как пишет Александр Викторович, «вы-
ражала не неподвижное, заранее "узнанное" чувство, но чувство как
предмет анализа и рефлексии» (там же, 24). В другом месте Михайлов
пишет по этому поводу так: «именно здесь (то есть в эпоху роман-
тизма. — Т. Щ.) выяснилось, что само "чувство" очень близко смыс-
лу и что чувство, которое так или иначе выражается в музыке, это
прежде всего осмысленное, осмысляемое чувство» (Романтизм 1991,
№6,22).
Этот принципиально важный момент в понимании эстетики му-
зыки XIX века и самой музыки вообще отсылает исследователя сра-
зу к нескольким аспектам проблемы. Так, например, кажется не-
случайным, что такое понимание музыки, которое можно назвать
философским, где музыка — предмет рефлексии над ее звучащим об-
ликом, сложилось именно в Германии, откуда пошло и само явление
романтизма, и его эстетическое обоснование. Многое, как считает Ми-
хайлов, объясняется особенностями немецкого мышления, склонного
к анализу и рефлексии, способного «с особой настойчивостью до-
биваться интеллектуального, теоретического прояснения того, что
92
А. В. Михайлов и музыкальная паука
происходило в культуре и выстраивать все с невероятной логикой»
(там же).
Но понимание музыки как движущегося смысла, саморазворачи-
ваемого в звучании, открывало широкий простор для запечатления в
ней сложнейших философских вопросов и отражения всей картины
истории человечества. В этом направлении, по мысли Михайлова, и
шло развитие искусства XIX века.
Особый интерес в разработке проблематики романтизма в трудах
А. В. Михайлова представляет тезис ученого о том, что в искусстве
прошлого столетия происходил процесс рождения исторического
сознания, исторической перспективы. Для Александра Викторовича
этот момент кажется поворотным пунктом в истории культуры во-
обще. В музыкальном искусстве, в частности, вопрос истории зазву-
чал именно тогда, когда произошло самоосознание музыки как авто-
номного искусства.
Установление новых отношений между музыкой и слушателем,
требование целенаправленного эстетического восприятия искусства,
слушания музыки ради самой музыки повлекло за собой естествен-
ную потребность в контексте, не ограниченном только искусством
своего времени, в результате чего стала осваиваться музыка прошло-
го, которая в процессе такого освоения стала даже незаметно теснить
современную музыку.
А. В. Михайлов пишет, что у романтиков впервые история начи-
нает постигаться как процесс. Так, уже в 1800—1810 годах у Герреса
«романтическое представление об истории начинает все более напря-
гаться между крайностями — история как "вечность" и история как
имманентное развитие, история как замкнутый в себе "организм"
бытия и история как движение» (Эстетические идеи <...> 1987, 16).
По мысли ученого, романтическая эстетика постепенно усваивает
опыт исторического развития, воздействие которого все углубляется.
История музыки, в частности, начинает постепенно «разворачи-
ваться», как некий закономерный и последовательный процесс, от
настоящего к прошлому.
Отдельная проблема — не всегда однозначное отношение роман-
тиков к музыке прошлого. Здесь, как считает Александр Викторович,
в целом намечаются две тенденции. С одной стороны, музыка прош-
лого — это, несомненно, яркий образец, пример высокого искусства,
эстетической гармонии и, следовательно, относиться к такому ис-
кусству надо с должным почтением и преклонением. Михайлов пи-
шет, что «типологические противопоставления нового и старого
93
Татьяна Щерба
искусства, современной и старинной музыки заставляли видеть осо-
бую ценность именно в искусстве прошлого — в искусстве субстан-
циальном и органически-жизненном, безусловно прекрасном, иде-
ально выражающем художественный идеал» (Этапы развития <...>
1981, 21). С другой стороны, романтики относятся к наследию прош-
лого и с некоторой осторожностью, смешанной с высокомерием, так
как «обретение» музыкой своего «я» приходится только на эпоху XIX
века. Это, по мысли Михайлова, отражено в сознании слушательских
кругов, которое «уверенно концентрируется на новой, только что
возникшей музыке, и только ее понимает как настоящую» (Роман-
тизм 1991, № 6, 20). Музыка прошлого, таким образом, ценится в той
мере, в какой она подготавливает музыку современную. Наиболее
ярко эта тенденция воплощена, как считает Михайлов, в эстетике
Р. Вагнера.
Тем не менее, возрастающий интерес к музыке доромантической
означает, что искусство прошлого как бы выводится из «архивного»
состояния и вплетается в культуру настоящего, становясь неотъемле-
мой частью исторического процесса27. А. В. Михайлов видит в этом
огромную заслугу романтической эстетики, когда в результате тако-
го переосмысления «все культурное наследие прошлого в принципе
выводится из сферы действия внеисторических схем и переводится
в план последовательного исторически конкретного рассмотрения»
(Эстетические идеи <...> 1987, 20). Как отражение этого процесса
Александр Викторович приводит появившееся в это время у Гете
понятие «мировой литературы».
Еще один аспект нового отношения к истории Михайлов усмат-
ривает в обращении романтиков к старине как утопическому идеалу.
Непосредственно переживаемый трагический опыт современной дей-
ствительности, по мысли ученого, заставляет романтиков искать иде-
ал, который находится где-то вне времени и вне истории, так сказать,
«вневременной полюс бытия» (там же, 9). Суть этого идеала заклю-
чается в патриархальности, которая понимается как установление
«гармонии межчеловеческих отношений через преодоление всех кри-
зисных моментов» (там же, 14). С этим моментом Михайлов связы-
вает и увлечение романтиков народной историей, в результате чего
культура начинает постигаться в своей национальной специфике.
Постепенное разворачивание истории от настоящего и известного
к прошлому и неизвестному, предстающему как нечто загадочное,
таинственное, а потому и не тривиальное, не бытовое, имеет своей
конечной целью, как считает Александр Викторович, установление
94
А. В. Михайлов и музыкальная наука
мировой гармонии, к которой стремится всякий романтик. Михайлов
пишет, что «романтический мыслитель, охватывая всемирную исто-
рию как обозримое целое, непременно ставит в ее конце абсолютное
совершенство, — "царствие Божие" Ф. Шлегеля, "золотой век" Но-
валиса, "вечный мир" Герреса» (там же, 39).
Основной процесс развития искусства XIX века заключается, по
мнению А. В. Михайлова, в художественном освоении музыкой бога-
того материала современной действительности (Этапы развития <...>
1981, 13). С этой точки зрения музыкальное искусство также участво-
вало в становлении реализма середины века. Непосредственно в му-
зыке этот процесс мог развиваться сразу в нескольких направлениях.
Во-первых, как пишет Михайлов, перед музыкой встала задача
своими средствами не столько передать образ, сколько «перенести
слушателя в некую реальность» (может быть даже фантастическую)
(Романтизм 1991, № 5, 21). Это значит, что любой сюжет, скажем,
того же «Вольного стрелка» Вебера или «Фантастической симфонии»
Берлиоза, должен быть воплощен настолько непосредственно, чтобы
слушатель погрузился в изображаемую действительность как в ре-
альный мир. «Композитору хотелось как можно ближе пододвинуть
к глазам и ушам слушателей-зрителей все, о чем у него шла речь
<...>, — пишет Михайлов. — Все — как можно непосредственней! Не
какой-то отстраненный и заведомо гармоничный образ, который
вешают на стену музея, чтобы все любовались и наслаждались им, —
нет, не образ, а сама действительность, — она, эта действительность,
должна как бы прорваться сквозь любые условности искусства и
задеть (буквально!) слушателя» (там же).
Однако воплощаемая в музыке реальность имеет свои особен-
ности и трудности, связанные со спецификой самой музыки как ис-
кусства. Первая трудность заключается в том, что музыка, как бы ни
старалась, не может воспроизводить реальный мир в его конкрет-
ности и осязаемости, как это возможно в литературе и живописи.
Потому что музыка— наиболее аллегоричное и символическое из
всех искусств. Любая изобразительность подразумевает явную или
скрытую программность. Не случайно, как считает Михайлов, XIX
век — век программной музыки.
Но именно процесс осознания музыки как самостоятельного язы-
ка и открывшиеся в связи с этим возможности освоения действитель-
ности позволили взглянуть на эту проблему с другой стороны.
А. В. Михайлов пишет: «То, что на протяжении всех веков музы-
кальной истории казалось совершенно невинным — именно уподоб-
95
Татьяна Щерба
ление формы <...> внешнему явлению, — то в первую половину XIX
века воспринималось как переворот, ломавший самые основы музы-
ки» (Этапы развития <...> 1981, 30).
Музыка, осваивавшая действительность, может смело «раздви-
гать» свои границы. Новое в отношении изобразительности в ис-
кусстве XIX века сказывается не столько в том, что музыка передает
в звуках какие-либо внешние вещи, сколько в том, что она своими
средствами создает у слушателя впечатление и, как выражается Ми-
хайлов, «ощущение точно очерченного пространства действитель-
ности, <...> ощущение культурно-исторической конкретности» (Ро-
мантизм 1991, № 5, 22). В качестве примеров А. В. Михайлов приво-
дит оперы: «Вольный стрелок» Вебера, «Руслан и Людмила» Глинки,
«Майская ночь», «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-
Корсакова и др. «Музыка того времени, — заметил ученый, — силь-
на не изобразительностью как таковой, а достигаемой ею в ряде слу-
чаев <...> конкретностью: музыка слышимо и зримо— целостно, во
всю ширь возможного, намечает определенное пространство жизни и
внятно нам говорит — оно таково, и сюда могут поместиться такие-
то вещи, такие-то настроения, такие-то душевные движения, такие-то
сюжеты и т. д. И это очень определенно» (там же).
Вместе с тем, Александр Викторович считает, что в XIX веке
между изобразительностью, программностью и музыкой как искус-
ством звуков возникают новые взаимоотношения. Суть их заключа-
ется в следующем. По мнению ученого, сюжетность возникает не как
внешний момент по отношению к музыке, которая как бы «вынуж-
дена» его изображать, но как внутренняя потребность самой музыки
поведать о своем содержании. И в итоге получается, что программ-
ность XIX века выполняет две противоположные функции: опосредо-
вание действительности и «возвращение» музыки к своему исходно-
му, «всеобщему» содержанию. Об этом А. В. Михайлов пишет так: «Са-
мо собой разумелось обращение романтических музыкантов к самым
разным литературным источникам содержания, мысли, идей — они
нужны затем, чтобы реализовать внутренние потенции самой музы-
ки, насытить процесс опосредования реальным, явным содержанием
и — в конце концов — облегчить возвращение музыки к самой себе,
то есть к ее внутреннему "имманентному", определяемому законом
музыки развитию» (Этапы развития <...> 1981, 28—29).
Однако не вся музыка XIX века программна. Например, симфо-
нии Брамса, Брукнера, Чайковского, сонаты Листа, Шопена не име-
ют литературной программы, но это, как пишет Михайлов, не озна-
96
А. В. Михайлов и музыкальная наука
чает, «что их музыка не опосредована известным идейным мысли-
тельным богатством» (там же, 29). В таких сочинениях, думается,
музыка как самостоятельное искусство охватила и художественно
освоила действительность настолько, что всякий конкретный жиз-
ненный момент как бы «погружен» в звуковую ткань произведения.
И если музыка при этом еще что-то и изображает, то, такое изобра-
жение, по мнению Михайлова — «не картина, отдельная от музыки, а
является в ней же самой, ее звучаниях и выступает наружу сквозь
них», то есть, другим словами, «музыка есть не то, что в ней явлено»,
а «то, что создается, как бы совпадает с самим собой» (Романтизм
1991, №5,22).
Самосознание музыки в XIX веке, как указывалось выше, проис-
ходило параллельно с процессом развития индивидуальной челове-
ческой личности, ее характера. И музыкальный романтизм в своем
наиболее крайнем проявлении стоит на позиции «я», на позиции от-
дельно взятой человеческой личности и ее души. А. В. Михайлов
пишет, что «"я", субъект, душа, личность были в начале XIX века
столь глубоко заложены в немецкую музыку, что слились с ее языком
и техникой композиции» (там же, № 6,23).
Музыка, понятая и осмысленная как язык психологически утон-
ченной личности, естественно, говорит о внутреннем. Не случайно
поэтому романтическую музыку характеризуют как томление, то
есть такое чувство, которое само по себе неустойчиво, внутренне
изменчиво, в нем — некая устремленность к неизведанному. У такой
музыки, конечно, должны быть и свои особые способы передачи не-
прерывно меняющегося душевного движения.
В эпоху романтизма были пересмотрены заново все выразитель-
ные средства музыки — мелодия, гармония, инструментовка и т. д.
Но, по мнению А. В. Михайлова, основному переосмыслению под-
вергся сам музыкальный звук: его качество стало иным. И он стал по-
ниматься как естественный способ воплощения меняющегося чувст-
ва. Александр Викторович ссылается на диссертацию Фрица Штаде,
немецкого критика прошлого века, который пишет, что чувства как
непрерывный ряд внутренних возбуждений аналогичны звуковым ко-
лебаниям, а потому любое душевное движение может быть передано
в его чувственной осязаемости через материал звука. Иными слова-
ми, звук — не только элемент музыкальной речи, но более всего но-
ситель сокровенного смысла, выявляемого музыкой посредством зву-
чания. Звук, пишет Михайлов, «прежде всего станет носителем глу-
бины (сопоставимой с душевным движением и аналогичной ему);
4-1379
97
Татьяна Щерба
<...> в этот звук можно будет вслушиваться, <...> он как бы и сам
будет вслушиваться в себя, приняв на себя смысл, стремясь выразить,
выявить его... Такой звук <...> требует того, чтобы музыкальное
целое считалось с его "особостью", нагруженностью, глубиной» (там
же, № 5,23).
Таким образом, музыка, понятая как искусство субъективное, бо-
лее всего подходит для передачи таких внутренних состояний, кото-
рые и распознать-то можно только при внимательном, пристальном
взгляде в глубь себя, в свою душу, в то, что сокровенно. Но сама по
себе музыка, выявляя сокрытое, одновременно говорит и о себе, о
своей сущности или, как пишет А. В. Михайлов, музыка «выводит
наружу, делает слышной эту сущность, но она и есть эта сущность»
(там же, № 6, 21). То есть, по Михайлову, в романтической музыке
все едино: «и процесс пристальнейшего вслушивания вглубь вещей, и
жизнь души, которая вслушивается, и одновременно то, что она
слышит» (там же, 21—22). В этом ученый и видит сущность романти-
ческой музыки.
Кульминация такой музыки, целиком сосредоточенной на внут-
ренней жизни души, воспроизводящей тончайшие нюансы перехода
одного состояния в другое — это, безусловно, драма Р. Вагнера «Трис-
тан и Изольда», такой, по выражению Александра Викторовича,
«пик сосредоточенности музыки на внутреннем мире, который по-
нимается как сплошной, безостановочный, изменчивый поток» (там
же). Однако музыка оперы Вагнера — это одновременно и одно из
величайших выражений романтической философии музыки в звуках,
то есть того самого чувства, которое наиболее «близко смыслу».
Рассуждая о проблемах романтической музыки, А. В. Михайлов
опирается на весь комплекс эстетических учений конца XVIII и всего
XIX веков. Связано, думается, это с тем, что романтизм как литера-
турный, так и музыкальный, претендовал на универсальность, на
«всеобъемлющий охват и обобщение всего человеческого знания»
(Эстетические идеи <...> 1987, 7). Однако представляется, что именно
в музыкальном искусстве эта тенденция была воплощена с наиболь-
шей яркостью.
Музыкальная же философия и эстетика складывались как диалек-
тическое единство теории, традиций прошлого и непосредственного,
живого опыта современной музыкальной практики. Поэтому совер-
шенно закономерно, что вопросы существа музыки рассматривают-
ся Михайловым в рамках всего немецкого эстетического знания XIX
века.
98
А. В. Михаилов и музыкальная наука
Александр Викторович выделяет четыре этапа развития музы-
кально-эстетической мысли XIX века в Германии: это рубеж XVIII—
XIX веков, середина XIX века, его вторая половина и конец века.
В целом ученый отмечает, с одной стороны, снижение и упадок эсте-
тической мысли от начала века к концу, а с другой — постепенное
размежевание эстетики «академической» и эстетики самих музыкан-
тов. А. В. Михайлов пишет, что «в первой половине века <...> само
развитие искусства происходит предельно диалектически сложно, са-
мо обрабатывает и опосредует мысль о музыке, так или иначе вклю-
чает ее в себя», а во второй половине, наоборот, возникает такое
«философское мифотворчество», которое «"омузыкаливает" свою
мысль <...>, мало считаясь с реальной музыкой и мало заботясь о
духовных нуждах музыкантов» (Этапы развития <...> 1981, 56—57).
По мнению А. В. Михайлова, наиболее яркий и насыщенный пе-
риод — это рубеж XVIII—XIX веков, когда сосуществовали несколь-
ко различных стилевых направлений: литературный романтизм и так
называемый «веймарский классицизм», а в музыке — расцвет твор-
чества композиторов Венской классической школы.
Александр Викторович отмечает несколько новых моментов, по-
явившихся в эстетике писателей-романтиков, которые впоследствии
были восприняты и музыкальной практикой романтической эпохи.
Музыка, как пишет ученый, входит в философскую и естествен-
нонаучную мысль эпохи. Она понимается романтиками «как откро-
вение бытия, природы, как выход наружу "нутра" вещей» (там же,
39). Типичным является рассмотрение мира как музыкального ин-
струмента, а в самой практике такая эстетика запечатлена в огром-
ном количестве новоизобретенных музыкальных инструментов, та-
ких как гармоника, эолова арфа, евфон и др. Музыка в это время, по
мысли А. В. Михайлова, понимается предельно широко, как особый
язык Природы, и она, таким образом, становится как бы образцом
для всех искусств28.
Этот период Михайлов характеризует как разлившуюся «стихию
музыки». Особое внимание ученый уделяет деятельности исполните-
лей-виртуозов, в творчестве которых ясно обозначился признак по-
нимания музыки как нового, автономного искусства. Александр
Викторович пишет: «Виртуоз был обязан своим появлением тому,
что его искусство стало осознаваться как искусство» (там же, 32).
По мысли ученого, романтическая эстетика рубежа веков вносит
нечто существенно новое и в вопрос о природе художественного
творчества. Александр Викторович пишет: «Творчество для роман-
4*
99
Татьяна Щерба
тиков — это, во-первых, всегда творение, (то есть "поэзия" в изна-
чально греческом смысле этого слова) и, во-вторых, связанное с са-
мим творением мира и природы действие, проникающее в самую
первопричину и изначальность бытия» (там же, 42—43). Новое за-
ключается в том, что в искусстве, как пишет Михайлов, особым та-
инственным и символическим образом запечатлена внутренняя сущ-
ность вещей, и она как бы проступает наружу и становится видимым
знаком сокрытого. Так, о пейзажах Каспара Давида Фридриха уче-
ный пишет: «Всякая вещь и все они вместе — все они, как знаки, ука-
зывают на внутреннее, что стоит за ними и им предшествует. <...>
Знак здесь — сигнатура, шифр, очертание внутреннего, его видимая
поверхность, зримый образ того, что скрыто и находится внутри
вещей, всякая вещь выводит наружу то, что иначе осталось бы без
образа и без имени. <...> Знак есть сама же проросшая, означившаяся
сущность» (Эстетические идеи <...> 1987, 32). Такое искусство можно
рассматривать как аллегорию, но аллегорию «особого свойства» —
как «иносказание вещи о своей же сущности» (там же, 33).
В музыке такое понимание творчества наиболее ярко запечатлено
в словах Э. Т. А. Гофмана: «<...> для музыканта видение превра-
щается в слышание изнутри, то есть в сокровеннейшее сознание му-
зыки: музыка <...> звучит для него изнутри всего, что схватывает его
взгляд. Поэтому принципом жизни и всякой жизнедеятельности му-
зыканта можно назвать <...> бессознательное— или, лучше сказать,
невыразимое словами — познание и постижение тайной музыки при-
роды. Слышимые изъявления природы в звуке <...> — все это для
музыканта сначала отдельные выраженные аккорды, затем мелодии с
сопровождением» (цит. по: Этапы развития <...> 1981,43—44).
В эстетической мысли середины века А. В. Михайлов отмечает
несколько противоречивых тенденций. С одной стороны — это наме-
тившаяся антиромантическая настроенность мысли, направленная к
самой реальной жизни, к ее социальным проблемам. А с другой —
огромное «давление» уже сложившейся романтической эстетики.
Михайлов пишет, что в эту эпоху «романтизм и принимался, и отвер-
гался — он отвергался как свободное движение погруженной в иро-
нию мысли, как вольнодумство и принимался как момент
"поэтизации", "романтизации" действительности» (там же, 51). Этот
период А. В. Михайлов рассматривает как эпоху «бидермайера» и
считает, что наиболее яркие мысли запечатлены в высказываниях
композиторов-романтиков этого времени: Вебера, Шумана, раннего
Вагнера.
100
А. В. Михайлов и музыкальная наука
Бидермайер и музыка
Вопрос о бидермайере в отечественном музыкознании, по сущест-
ву, не ставился. Это понятие отсутствует как в Музыкальной энцик-
лопедии и в Музыкально-энциклопедическом словаре, так и в Крат-
кой литературной энциклопедии и Литературном энциклопедичес-
ком словаре.
Бидермайер как определенное явление искусства второй четверти
XIX века, как правило, связывается с общим характером культуры
стран Австрии и Германии. Можно сказать, что в России это поня-
тие, по сути, только еще входит в обиход— благодаря исследова-
ниям Александра Викторовича Михайлова. Его работы «Диалектика
литературной эпохи» и «Проблемы анализа перехода к реализму в
литературе XIX века» (собственно, вместе они составляют доктор-
скую диссертацию ученого), а также раздел вступительной статьи в
книге «Музыкальная эстетика Германии XIX века» (с. 51—56) при-
званы утвердить бидермайер как полноправное обозначение целой
культурной эпохи периода между 1819—1848 годами, того времени,
которое принято называть эпохой Реставрации.
Сам Александр Викторович как филолог настаивает на примене-
нии термина «бидермайер» по отношению к литературе, замечая при
этом, что «в музыкознании понятие бидермайера почти не приви-
лось» (Проблемы анализа <...> 1997, 86). Однако ученый указывает
на одну работу 1985 года, в которой бидермайер заново переосмыс-
ляется в приложении к истории музыки29.
Можно предположить, что эта проблема интересовала и самого
Александра Викторовича. Так, например, есть несколько музыкаль-
ных произведений, которые, по мнению ученого, причастны бидер-
майеровской эпохе. Это оратории Шумана «Рай и Пери», «Паломни-
чество Розы» и Листа — «Легенда о святой Елизавете».
Следует особо подчеркнуть, что бидермайер рассматривается
Михайловым не как стиль, не как направление в искусстве, но как
особое состояние всей культуры, как эпоха, объединяющая в себе
разнородные и противоречивые тенденции — и поздние формы клас-
сицизма, и поздний романтизм, и появляющийся реализм, и тот же
веймарский классицизм, и индивидуальные стили таких писателей,
как Бюхнер и Граббе (там же, 100).
Во многом при характеристике бидермайера А. В. Михайлов опи-
рается на труды немецких специалистов: Рихарда Гаманна и в осо-
бенности Фридриха Зенгле и его школы30.
101
Татьяна Щерба
Не останавливаясь подробно на этой проблеме, укажем лишь не-
которые важные, на наш взгляд, детали, которые могут быть исполь-
зованы по отношению к музыке указанного периода.
Принципиально важным кажется момент, связанный с общим на-
строением эпохи бидермайера, которая предполагает «покой, уют,
пассивность, самоуспокоенность, невозмутимость, которой ни до
чего нет дела, приглушенность любой эмоции» (там же, 82). Михай-
лов говорит даже о тупости существования, «как бы растительного»
(там же). Последние слова, как нам кажется, содержат сильное пре-
увеличение и всерьез обсуждаться не могут. Однако несколько нега-
тивный оттенок, заложенный в самом понятии «бидермайер», долгое
время мешал его использованию в качестве научного термина и
только в последние годы стал постепенно преодолеваться.
Этимология слова, приводимая Михайловым, ярко демонстриру-
ет иронический контекст употребления слова «бидермайер» в середи-
не и особенно второй половине XIX века. Так, А. В. Михайлов при-
водит сведения о том, что в 1869 г. вышла пародийная книга стихов
Людвига Эйхродта «Biedermaiers Liederlust» («Песенное приволье Би-
дермайера»), с подзаголовком «Лирические карикатуры». В этой кни-
ге был выведен персонаж «школьного учителя в Швабии», по имени
Готтлиб Бидермайер, стихи которого якобы вошли во второй раздел
книги.
Само слово «bieder» означает честный, простой, открытый; оно
устарело к середине XVIII века, но вновь вошло в обиход после сто-
летнего перерыва. Это слово, как пишет А. В. Михайлов, «относится
к опустившейся лексике, которая не могла пережить крах ритори-
ческой системы, подобно самому же слову "добродетель"» (там же,
80). Таким образом, «бидермайер» понимается как «честный чело-
век».
Период между двумя революциями в искусстве был отмечен в це-
лом тенденцией к стабилизации, успокоению, примирению разно-
родных тенденций. Историческое положение бидермайера связывает-
ся, по словам Михайлова, с его промежуточным положением между
«романтизмом, который в немецкой культуре исключительно быстро
одомашнивается, теряет универсальность и широту, приобретает
черты тривиального, "беллетризуется", и созревающим реализмом
<...>» (Диалектика <...> 1997, 37).
Такой характер эпохи в целом согласуется с жизненной позицией
«простого, честного и открытого человека», в общем, недалекого бюр-
гера. Александр Викторович определяет основную тенденцию эпохи
102
А. В. Михайлов и музыкальная наука
как «направленность на вещь» (Этапы развития <...> 1981, 51). Куль-
тура этого периода тяготеет, по мнению ученого, к массовости, с од-
ной стороны, а с другой — возникает потребность любования «худо-
жественной и прекрасной вещью как драгоценностью» (там же).
В музыке периода конца 20—30-х годов прошлого века также
можно отыскать сходные тенденции, характерные в целом для эпохи
бидермайера. Музыкальный романтизм, в его, так сказать, «умерен-
ном» виде есть ни что иное, как бидермайер. Можно даже провести
более сильные аналогии и выдвинуть гипотезу о том, что ранний
музыкальный романтизм, представленный творчеством Шуберта,
Вебера, Мендельсона, отчасти Гофмана и возникший в пору, когда
литературный шел на спад, начинается именно как бидермайер.
Не случайно для многих песен Шуберта характерен образ «прос-
того и честного человека», мельника, с его простыми житейскими,
бюргерскими и мещанскими устремлениями, его незамысловатой лю-
бовью к такой же дочери мельника. В опере «Волшебный стрелок»
Вебера главные персонажи также — простые люди с их проблемами и
слабостями, представленные в музыке через бытовые жанры. В неко-
тором роде к бидермайеру можно отнести и вокальные циклы Шу-
мана, особенно «Любовь и жизнь женщины», где подобная окрашен-
ность раннего музыкального романтизма представлена особенно яр-
ко, а также «Песни без слов» Ф. Мендельсона-Бартольди.
Следует еще раз подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о
художественных достоинствах всех указанных произведений, музыка
которых, вне всякого сомнения, прекрасна и возвышенна, но о самой
тенденции приблизить музыку к простому человеку и отразить в ней
характер и быт ничем не примечательного, как бы взятого из самой
жизни простолюдина.
Точно так же не следует думать, что бидермайер в данном случае
противопоставляется романтизму. Бидермайер, как было сказано
выше, характеризуется как раз сочетанием самого разнородного.
Михайлов даже сравнивает понимание этой эпохи в Германии с ба-
рокко, которое построено «поперек» движения времени. «Это по-
следнее здание (т. е. бидермайер.— Т. Щ.)у со множеством помеще-
ний и пристроек, исключительно замысловато,— пишет Михай-
лов, — оно возведено так, чтобы даже и самый "последний" роман-
тик поместился в нем, под его крышей» (Проблемы анализа <...>
1997, 97). В музыкальном же искусстве этого периода речь может
идти скорее об одной из тенденций, выражающейся в том, что центр
тяжести с «высоких» жанров — симфонии, оперы, струнного кварте-
103
Татьяна Щерба
та — сместился в сторону музыки легкой, бытовой, салонной, а об-
разный строй произведений обращен, приближен к жизни.
А. В. Михайлов, не анализируя подробно произведения, которые,
с его точки зрения, испытали влияние бидермайера («Рай и Пери»,
«Паломничество Розы» Шумана, «Легенда о святой Елизавете» Лис-
та), тем не менее пишет, что они «не могут рассматриваться вне би-
дермайеровской перестройки романтической традиции, без всего
этого смыслового пласта бидермайера, переосмысляющего функцию
искусств, приближающего искусство к людям, но очень часто и за-
земляющего художественные идеалы, почти во все вносящего умиро-
творенность и черты идиллического самоуспокоения» (Диалектика
<...> 1997, 38).
В этой тенденции Михайлов видит особую опасность для искус-
ства, выражающуюся в том, что романтическая музыка, открывшая
богатый мир человеческой личности, может идти навстречу буржуа,
филистеру с его неразвитым вкусом и его восприятие делать «мерой»
всего искусства вообще (Этапы развития <...> 1981,23).
Однако в целом нельзя сказать, что музыка Вебера, Шуберта,
Шумана, Мендельсона-Бартольди и др. даже в указанных сочинени-
ях «укладывается» в рамки бидермайера, в первую очередь потому,
что и в опере Вебера, и в вокальных циклах Шуберта, Шумана оче-
видна тенденция к обострению внутреннего и внешнего конфликта, а
не сглаживание его. А. В. Михайлов пишет, что Вебер «преобразовал
тривиальную пресность, псевдопопулярный тон своего литературно-
го источника, создав произведение, отмеченное подлинной народ-
ностью, изначальностью неподдельно романтического символизма»
(там же, 52). Показательны в этом смысле и окончания вокальных
циклов Шуберта и Шумана, в том числе и цикла «Любовь и жизнь
женщины», — в них отчетливо звучит тема одиночества и смерти.
Таким образом, музыкальный романтизм как искусство «художес-
твенно-цельное и здоровое» вырывался из «оков» бидермайера, из
его сладкой атмосферы мещанского быта (там же).
Отдельная проблема возникает при попытке перенести понятие
бидермайер на иные национальные культуры. Уже в самом литерату-
роведении нет единодушия по этому вопросу. А. В. Михайлов также
говорит о том, что вследствие специфического характера немецко-
австрийского бидермайера, он «как целое не транспонируется на
иные литературы» (Проблемы анализа <...> 1997, 100). Однако сле-
дует отметить, что похожие тенденции наблюдались во многих стра-
нах Европы, в том числе и в России. В качестве примера из музыки
104
А. В. Михайлов и музыкальная наука
можно привести камерные вокальные сочинения Гурилева, Алябьева,
Варламова, некоторые романсы Глинки и Даргомыжского («Не ис-
кушай», «Юноша и дева»). Тем не менее, на сегодняшнем этапе пред-
ставляется затруднительным говорить о бидермайере в России,
вследствие особого положения нашей культуры вообще. Нужно спе-
циальное исследование этого вопроса.
Музыкально-эстетическая мысль второй половины XIX века, по
мнению Александра Викторовича, в целом становится более акаде-
мичной. Она основывается на тех положениях, которые были выска-
заны еще в начале века, но то, что тогда воспринималось как откры-
тие, сейчас стало традицией. Михайлов пишет: «<...> не подлежит ни
малейшему сомнению, что эстетика второй половины века по своим
творческим возможностям не идет ни в какое сравнение с эстетикой
начала века, открывшей и осваивавшей вместе с самим искусством
музыки новый художественный мир. Само содержание работ этого
времени жизненно отсылает к началу века как к своему источнику
<...>» (там же, 57).
Особое место в этот период принадлежит, как пишет Михайлов,
трактату Э. Ганслика, который внес существенное оживление в эсте-
тическую мысль второй половины века. Однако Александр Викторо-
вич Михайлов замечает, что работа Ганслика не могла быть адек-
ватно воспринята эстетической мыслью Германии, так как в ней за-
печатлена особая, во многом отличная от немецкой, австрийская
традиция понимания и истолкования искусства.
В конце века происходит глубокое переосмысление музыки. Суть
его А. В. Михайлов формулирует так: «Общий смысл переосмысле-
ния музыки в эти десятилетия заключается в том, что она превра-
щается в живую форму самосознания и критики культуры и в функ-
цию от философской критики культуры» (там же, 64).
Однако, по существу, многие философско-музыкальные концеп-
ции этого времени, по мнению Михайлова, основаны на весьма огра-
ниченном круге композиторов. Так, например, Александр Викторо-
вич считает, что один из наиболее ярких и, несомненно, глубоких
философов — Шопенгауэр — музыки как традиции не знал. Михай-
лов пишет: «То есть я бы так сказал, что то, что говорит Шопенгауэр
о музыке, — это слишком монументально и одновременно слишком
узко. То есть этой монументальности не хватает более медленного,
более глубокого и внимательного вглядывания в историю музыки, в
ее развитие, в ее язык непосредственно, в ее технику и так далее» (Две
беседы 1996,12—13).
105
Татьяна Щерба
Тем не менее, характерно, что музыка была понята глубоко, как
праоснова всего бытия. Здесь Александр Викторович отмечает свое-
образное «смыкание» философско-эстетических суждений начала и
конца века. Музыка, осмысленная как автономное искусство, музы-
ка, «пришедшая к себе»; музыка, освоившая реальный мир в его пол-
ноте, теперь вновь «возвращается» к своему первобытно-стихийному
истолкованию. По мнению Михайлова, особая роль в этом процессе
принадлежит философской концепции Ф. Ницше, а в самой музы-
кальной практике — творчеству Р. Вагнера. Александр Викторович
пишет, что если романтизм начала века «шел от понятия музыки и
мифа о музыке к музыке как реальному искусству, стараясь постиг-
нуть его глубокий смысл в рамках целого универсума», то в конце
века у Ницше «постигнутый и несомненно глубокий, безмерно траги-
ческий смысл реально услышанной (вагнеровской) музыки возвра-
щался назад в мир, становился смыслом мира, его историей» (там
же, 68).
На основании всего вышеизложенного, можно сделать несколько
выводов.
Во-первых, представляется очевидным, что Михайлова более все-
го интересовала проблематика искусства рубежа XVIII—XIX веков и
первой половины XIX столетия. Именно на ней исследователь cocpie-
доточил свое творческое внимание. Объяснение этому следует искать
не только в личном пристрастии ученого к какой-то определенной
эпохе. Здесь видится живая связь с его концепцией истории развития
культуры, которая именно в это время переживала глубокий внут-
ренний переворот и «сдвиг».
Во-вторых, кажется несомненным, что культура XIX века в целом
занимает в трудах ученого особое место. Можно предположить, что
прошлое столетие является своеобразным «центром притяжения»
всей науки Михайлова. Сам Александр Викторович пишет, что «на
протяжении XIX века, на протяжении прекрасного, изумительного и
неповторимого и единственного во всей истории человеческой куль-
туры века, человечество вдруг совершает неожиданную экскурсию,
или экспедицию, в области, которые до этого времени были ей со-
вершенно недоступны» (Поэтические тексты <...> 1998, 134). Эта
область — естественность и непосредственность культуры. Примеча-
тельно, что Александр Викторович не просто выделяет культуру
прошлого столетия, но и своеобразно замыкает ее традицию в ис-
кусстве 1907 годом — когда, по мнению ученого, в культуре произо-
шел еще один поворот.
106
А. В. Михайлов и музыкальная наука
В-третьих, особое положение искусства прошлого столетия свя-
зывается у Михайлова, с одной стороны, с процессом рождения ис-
торического сознания, а с другой — с началом самопознания ис-
кусства. Эти два момента во многом являются определяющими фак-
торами самого творческого метода ученого, который рассматривает
всякое художественное явление и изнутри него самого, как способно-
го «говорить» о своей сущности через свое проявление, и в перспек-
тиве всего открывшегося исторического знания, в котором запечат-
лено его самоистолкование.
Наконец, в этой связи можно говорить и о том, что культуру
XX века (несмотря на произошедший качественно новый поворот)
А. В. Михайлов рассматривает с точки зрения ее преемственности по
отношению к искусству прошлого столетия. Так, например, суще-
ственный момент современного искусства — глубокая опосредован-
ность всякого знания, огромная роль рефлексии над всякой художе-
ственной данностью — связан именно с процессом совершающегося
самопознания культуры, начало которому положил XIX век.
А. В. Михайлов в последние годы жизни о современной музыке
Александра Викторовича в последние годы жизни глубоко инте-
ресовали самые основы культуры, ее онтологические проблемы. По-
этому вопросы современной музыки, ее слухового освоения входят в
широкий круг философской проблематики бытия искусства. Именно
с ней, как представляется, связаны и работы Александра Викторови-
ча Михайлова — о творчестве Антона Веберна.
Два доклада Михайлова о творчестве австрийского композитора
в некотором смысле образуют единое целое. Музыка Веберна рас-
сматривается А. В. Михайловым с позиции онтологического обосно-
вания всего искусства XX века. Здесь принципиально важно и несом-
ненно глубоко прочувствованно и оправданно звучит тезис Алек-
сандра Викторовича о сакральности искусства, которое теперь, в XX
веке, вновь становится как бы закрытым для нашего непосредствен-
ного восприятия и понимания. Сам А. В. Михайлов пишет: «Тут я
должен сказать об этом сразу и прямо — о самой фундаментальной
вещи, которая здесь происходит. Логика духовного культурно-
исторического поворота, который осуществляется вокруг 1907 го-
да,— она не сводится к логике какого-то маленького временного
периода. Скорее здесь происходит другое. Вся европейская культура
107
Татьяна Щерба
своей внутренней весомостью производит поворот к своим
традиционным основаниям.» (Поэтические тексты <...>
1998, 133).
Похожими словами характеризует Александр Викторович и дру-
гие переломные моменты истории. Можно предположить, что этот
поворот, осуществляемый в искусстве, Михайлов по значимости
сравнивает с тем поворотом, который произошел на рубеже XVIII—
XIX веков, когда морально-риторическая система, существовавшая
несколько тысячелетий (ее начало Михайлов датирует эпохой Ари-
стотеля), все же разрушилась.
С этой точки зрения, XIX век в искусстве занимает совершенно
исключительное положение. Потому что в прошлом веке, согласно
концепции Михайлова, отношения искусства и действительности
были непосредственными и ощущались таковыми. «И если в двух-
трех словах сказать о том, что же это за опыт, — пишет Александр
Викторович,— то это опыт в области естественности и непосред-
ственности всякой культурной данности» (там же, 134). Как считает
А. В. Михайлов, центральное понятие XIX века — жизнь, которая
«сама воссоздает себя в искусстве в совершенно естественных, понят-
ных и доступных формах» (там же, 135). Следовательно, произведе-
ния искусства прошлого века как бы открыты нашему восприятию в
той мере, в какой доступно нам познание жизни. Отсюда у Михайло-
ва и особый взгляд на периодизацию искусства XIX века — с выде-
лением в отдельный значительный период эпохи реализма.
Но Александр Викторович считает, что на самом деле у искус-
ства, человеческой культуры другие основания. Здесь Михайлов ха-
рактеризует это основание как «состояние закрытости», или «трудное
состояние текстов». Это значит, что смысл, заключенный в произве-
дении искусства, в принципе нам не доступен, но при определенных
усилиях он может быть частично приоткрыт. То, что открывается
перед нами, есть, выражаясь словами А. В. Михайлова, «некоторый
облик смысла, наделенного некоторой сакральностью независимо от
жанра» (там же, 136; курсив мой. — Т. Щ.).
И вот в сочинениях Антона Веберна, по мысли Михайлова, уже
явно обнаруживается этот поворот, вновь к состоянию закрытости,
когда произведение предстает перед нами «как некоторый бесконеч-
ный облик смысла, который нам одновременно дан как целое, и в то
же время мы знаем, что раскрыть его до самых последних окончаний
и концов мы никогда не будем в состоянии» (там же).
Поворот искусства к своим трудным основаниям совершается не
108
А. В. Михайлов и музыкальная наука
только в музыке, но также и в поэзии, вообще в искусстве. Неслучай-
ным поэтому оказывается, по мысли Михайлова, выбор Веберном
поэтических текстов для своих произведений — это стихи Стефана
Георге и Георга Тракля. Как считает Александр Викторович, поэзия
Георге и Тракля требует особой рефлексии со стороны читателя для
проникновения в глубины своего смысла. То же происходит и у
Веберна. «Музыка Веберна построена на глубокой опосредованности
своих смыслов, — пишет А. В. Михайлов. — Следовательно, она
требует от нас огромных усилий по своему осмыслению, причем
осмыслению не только в прямой форме, когда мы ее слушаем, но
надо, чтобы потом все это укладывалось у нас в голове, чтобы рабо-
тала наша рефлексия, чтобы мы думали над тем, как отнестись к этим
произведениям, как их понять, как уставиться на них своим мышле-
нием и слухом, причем мышлением не меньше, чем непосредствен-
ностью нашего слуха» (там же, 140).
Думается, что поворот к своим трудным основаниям, совершае-
мый в искусстве XX века, обозначился у Веберна еще и в некоторых
чисто музыкальных особенностях его произведений. Среди них осо-
бое место принадлежит параметру виртуального пространства или,
как пишет Михайлов, «в силу вступает слышание музыки — как дви-
жется она перед нашим слухом и мимо нашего слуха— как
пространства» (Отказ и отступление. <...> 1998, 114). Простран-
ственность как качество музыки Веберна, по мнению Михайлова, во
многом определяется пуантилистической техникой композитора.
Однако А. В. Михайлов совершенно оригинально истолковывает
сущность этого пространства у Веберна. Исследователь пишет, что
оно включает в себя тему молчания. То есть музыка точечно (пуан-
тилистически) намечает лишь контуры того пространства, в котором
она звучит, а само нутро этого пространства остается закрытым и
как бы даже недоступным для нас. Слушатель только предполагает,
что там, за музыкой, что-то есть, то, на что музыка нам указывает, но
оно для нас неявно, закрыто, умолчано. А. В. Михайлов пишет: «И
отсюда пространство музыкального произведения, которое заведомо
шире, чем то, что мы в этом произведении слышим. Оказывается, что
эти музыкальные линии и эти звуки выставлены на краю этого про-
странства: все звучащее отодвинулось в сторону, на самый край, а все
пространство произведения занято тем, о чем композитор молчит.
Это реализованное молчание» (там же, 119).
Можно сказать, что музыку Веберна А. В. Михайлов истолковы-
вает философски, сопрягая свое конкретное слушательское восприя-
109
Татьяна Щерба
тие с глубокой внутренней рефлексией над сущностью музыки как
таковой. С этой точки зрения, в самых последних словах Александра
Викторовича о музыке Веберна запечатлена его творческая и музы-
кально-научная позиция, под знаком которой проходила вся жизнь
ученого. «И теперь, — пишет А. В. Михайлов, — когда мы будем
слушать музыку Веберна, то мы должны думать над ней и знать, что
она дает нам себя в первую очередь как мысль, как и всякое искусство
дает себя в первую очередь как мысль. А что эта мысль при этом
иногда обретает свойства очевидной, небывалой, непостижимой кра-
соты— это тоже благодать» (Поэтические тексты <...> 1998, 145—
146; курсив мой. — Т. Щ.).
Рассуждения А. В. Михайлова о настоящем нашей культуры про-
низаны эсхатологическими мотивами. В словах ученого явственно
звучит печальный и вместе с тем сурово-трезвый мотив «конца»: ко-
нец роли субъекта в современном произведении, конец музыки, конец
искусства, конец мира. «И в XX веке никто уже не верит в эту само-
ценность человеческой души, — пишет Александр Викторович, — и
не верит в полном соответствии с тем, что творится вокруг нас. Мо-
жет быть потом, к третьему тысячелетию, станет яснее, что творится
вокруг нас и что творится в музыке. Можно много говорить о досто-
инстве человеческом, о развитии личности человека, внутренних
задатков и дарований, эстетическом воспитании, о том, что человек
должен развиваться и имеет на это право — и о правах человека во-
обще— об этом в XX веке сказано, наверное, больше, чем за все
прошлые века — но все это, в некотором роде, лишено всякой цен-
ности и практического смысла. Потому что культура в это не верит.
Она не ставит человеческое существование ни в грош и говорит нам,
что ценность человеческой личности равна нулю, если не меньше, а
следовательно и ценность человека, как некоего единства тела и ду-
ши, тоже равна нулю. И история это нам говорит, и никакое искус-
ство по-настоящему этому перечить не в силах. Потому что искусство
знает, конечно, о себе гораздо больше, чем композитор, который
создает это искусство. Он может быть переполнен добрыми намере-
ниями, а результат — тот же самый, который мы знаем из историче-
ских обстоятельств <...>» (лекция от 23.11.1993, 838)31.
Сущность этого результата А. В. Михайлов сформулировал так:
«современное искусство дошло до своих мыслимых краев.
И никакого передового искусства уже быть теперь не может, потому
что нельзя быть передовее ... ну, пустоты, которая вдруг обнаружи-
лась как цель» (там же, 842).
110
А. В. Михайлов и музыкальная наука
Позиция Александра Викторовича Михайлова по отношению к
современной музыке — это позиция человека, который ясно сознает,
что для него в искусстве отсутствует какая-бы то ни было перспекти-
ва развития. «Ну вот, — говорит Михайлов, — перед нами остались
своего рода развалины. Не надо бояться этого слова. Развалины всей
истории человеческой культуры и всего искусства. И мы на этих раз-
валинах с вами разбираемся, а уж раз мы среди развалин, нам надо
быть очень трезвыми <...>» (там же, 841).
Творческая мысль ученого, как кажется, старательно и напряжен-
но осваивает то, что произошло в культуре за последние 30 лет. Ре-
зультат такого вдумчивого переживания и запечатлен в лекциях Ми-
хайлова последних лет. Можно предположить, что в целом музыка
второй половины XX века внутренне осталась чужда исследователю.
Но Александр Викторович пытается осмыслить современное искус-
ство как факт совершающейся истории.
Взгляд А. В. Михайлова на музыку этого времени идет как бы со
стороны истории, которая, по мысли ученого, сейчас, в конце XX
века, осмысливает себя как целое, которая предстает нашему созна-
нию от начала и до конца: «современная культура собирает вокруг
себя свою историю, все когда-либо создававшееся в истории, она
проявляет именно такого рода тенденцию <...>: тем самым культура
XX века есть собирание истории в тенденции, есть "мета-культура"
<...> как тенденция» (Отзыв о д/д Ивашкина 1993, 3).
Наиболее важными, на наш взгляд, кажутся рассуждения
А. В. Михайлова по двум вопросам: первый — о логике в музыке,
второй — о современном понимании музыкального произведения и
произведения искусства вообще.
По мысли Михайлова, говорить о логике в музыке можно, осно-
вываясь на том представлении, что все закономерное в музыкальном
произведении есть проявление внутренней логики, которой обладает
музыка. По сравнению с прошлым столетием, сейчас, в XX веке, этот
вопрос встает особенно остро, потому что, как считает Александр
Викторович, процесс индивидуализации, начавшийся в эпоху роман-
тизма, постепенно подошел к такому моменту, когда композитор
стал строить «свой язык для себя, с разного рода оттенками, возмож-
ностями преломления для себя» (О том, что в музыке, 3). Это, как
называет Михайлов, «свобода сверх всякой меры» впервые отчет-
ливо прозвучала в произведениях Шенберга. Его творчество, пишет
Александр Викторович, «отсылает нас к логике впервые в истории
музыки вообще, потому что раньше, пока мы находились в области
111
Татьяна Щерба
функциональной гармонии и связанных с ней толкований, музыка
оправдывает себя не логикой, а воспроизведением душевных движе-
ний» (там же).
Как предел музыки — произведение, в котором отсутствует хоть
какая-нибудь последовательность звуков— пьеса Кейджа «4'33и».
Есть ли в ней логика? А. В. Михайлов, отказываясь от прежнего взгля-
да на эту пьесу как на «вырожденное произведение, которое обраща-
ется в ноль» и которое уже не принадлежит искусству, сейчас пред-
ставляет сочинение американского композитора как своего рода «за-
явление» о себе самой логики музыки XX века. Отсутствие звуковой
последовательности не показывает «разворачивание» логики произ-
ведения, но это значит, считает Михайлов, что логика — в воспри-
ятии этого сочинения как целого. «Логика музыки, — пишет Алек-
сандр Викторович,— коренится в пространственно-временном це-
лом музыкального произведения» (там же, 4). Возможность появле-
ния такого музыкального произведения в XX веке говорит о том, что
логика музыки сейчас открылась как логика целого: «современная
культура полагает целое в качестве заданного и в своей абсолютнос-
ти. <...> Логика — в a priori цельности. <...> Чем дальше, тем больше
музыка черпает свою логику из презумпции целого» (там же).
Таким образом, весь ход истории получает свое отражение и в ло-
гике музыкального произведения, которое, как пишет Михайлов,
«мыслится в первую очередь пространственно, а не как процесс и
протекание» (Невозможность авангарда). То есть категория целост-
ности в искусстве XX века выступает на первый план. Но целост-
ность предполагает и некую замкнутость, завершенность, осущест-
вленность и свою обозримость, в то время как понятие процессуаль-
ное™ подразумевает становление, развитие и т. д.
Сейчас, как считает Михайлов, в соответствии с современным
ощущением истории как целого, в искусстве также сложилась такая
ситуация, когда все возможности музыки предстают как бы одновре-
менно, а не выстраиваются в последовательный ряд. Поэтому А. В. Ми-
хайлов исключает возможность появления «авангарда», так как это
понятие подразумевает нечто передовое, а, следовательно и «отста-
лое» в искусстве. Александр Викторович пишет: «те, кто по инерции
думают, что они авангардисты, глубоко заблуждаются, потому что
сама ситуация, в которой они творят, исключает всякую возмож-
ность быть впереди. <...> Все возможности искусства, которые мыс-
лимы для нас, — они перед нами, и они перед нами совсем в ином
порядке, чем нежели даже двадцать лет назад. Потому что еще двад-
112
А. В. Михайлов и музыкальная наука
цать лет назад можно было представить себе, что кто-то впереди, а
кто-то отстал. Допустим, Эдисон Денисов— естественно, впереди,
Альфред Шнитке— впереди, а Тихон Хренников от них отстал и
находится в другом поколении. Да, в другом поколении он находит-
ся, но двое, названные первыми, — они к нашему времени утратили
значение идущих впереди» (Поворачивая взгляд <...> 1997, 865).
Представляется, А. В. Михайлов обрисовал сущность современ-
ного состояния искусства, которое, пусть и в несколько ином аспекте,
отмечается и другими исследователями: музыка находится на каком-
то рубеже, который всеми осознается, но который искусство еще не
переступило. То есть культура живет ожиданием некоего толчка,
чтобы перейти в новое, никому пока не известное качество, а пока
происходит, так сказать, внутреннее накопление, аккумуляция энер-
гии в искусстве. Михайловский «конец искусства» значит именно его
рубежность: «Конец искусства очевиден не потому, что искусство
кончилось, а за ним искусства уже не будет, а в некотором гораздо
более буквальном смысле. Искусство как бы очерчивает свои грани-
цы, делает их очевидными, и в наше время делает это совершенно
явно» (Поворачивая взгляд <...> 1997, 867).
Естественно предположить, что процессы, происходящие в гло-
бальном масштабе всей истории, закономерным образом отражаются
на всех уровнях культуры. Так, в XX веке, как считает А. В. Михай-
лов, была переосмыслена и сама категория произведения искусства.
«Вопрос, что такое произведение искусства, что такое искусство —
он, конечно, не решен, — пишет Александр Викторович. — И сейчас,
в конце XX века, он только усложняется. Он не к разрешению приво-
дится, а к осознанию того, что это страшно сложно» (там же, 862).
Как филолог Михайлов подчеркивает ответственность всякого,
кто пользуется выражением «произведение искусства». Потому что,
по мнению ученого, — это высокие слова, которые ко многому обя-
зывают: «они должны быть оправданы для нас внутренне» (там же,
863). «Оправдание» заключается в обращении к тому смыслу, кото-
рый стоит за этими словами. Здесь А. В. Михайлов ссылается на
трактат Хайдеггера о происхождении произведения искусства, кото-
рое было осмыслено именно как «произведение, то есть нечто сделан-
ное и доведенное до конца в некотором подчеркнутом смысле» (там
же, 862). Александр Викторович сравнивает произведение в хайдег-
геровском понимании с русским словом «творение». В таком сотво-
ренном произведении искусства происходит, как пишет Михайлов,
«некоторое раскрывание истины. Истины бытия. Которая в произве-
113
Татьяна Щерба
дении искусства как бы вспыхивает перед нами ярким светом на
мгновение и потом существует внутри этого произведения для того,
чтобы вспыхнуть еще и еще раз» (там же, 863). Таким образом, Ми-
хайлов понимает произведение искусства как творение, как нечто
сакральное. Но такое представление о произведении не может быть
применимо к современной ситуации в музыке: «Это возвышенное
представление о произведении искусства, да и время так возвышенно
мыслить, по-видимому, уже ушло. Оно ушло в историю, как и другие
способы мышления художественного произведения» (там же).
А. В. Михайлов вводит в обиход своей науки два обозначения,
которые, по его мнению, указывают на современное «состояние»
произведения искусства. Эти «квази-понятия», как выражается Алек-
сандр Викторович, взяты им из греческого языка.
Произведение в XX веке полагается А. В. Михайловым как некое
«что», которое может быть разложено на «то, что» и «то, о чем». «С
тем, что произведение искусства есть "что", — пишет Михайлов, —
легче согласиться, чем с тем, что произведение искусства есть произ-
ведение искусства. Вот в чем соль этой ситуации» (лекция от 23.11.
1993, 840).
Частица «то», по мысли А. В. Михайлова, лишает полагание про-
изведения как «что» абстрактности, так как содержит указание на
«что-то конкретное», которое, однако, не называется. «То, что» —
это то, что представляет музыкальное сочинение, «это именно то
самое, что создает композитор: то, что он создает. Причем он созда-
ет это в расчете на то, что этому то, что будет возможность осу-
ществляться — во встрече его, композитора, сознания и сознаний его
слушателей. Стало быть, то, что композитор создал, как-то закреп-
лено,— оно закреплено в алгоритме указания <...>» (лекция [«То,
что»], 1).
«То, о чем», по Михайлову, указывает на некую содержательную
сторону сочинения. Александр Викторович пишет: «"То, о чем" ука-
зывает нам просто на то обстоятельство, что произведение искусства
чего-то хочет. <...> Мы, по крайней мере, можем настаивать на том,
что у этого произведения есть вот эта сторона — оно о чем-то. Ну,
пусть о себе самом. Оно что-то значит: пусть оно значит полную
пустоту <...»> (лекция от 23. 11. 1993, 842).
В этих рассуждениях А. В. Михайлова заключена еще одна важ-
ная проблема, волновавшая ученого,— это проблема именования.
Коль скоро изменилось само представление о произведении, то, со-
ответственно, изменились и способы его называния32.
114
А. В. Михайлов и музыкальная наука
Таким образом, понятия «то, что» и «то, о чем» — это два аспекта
одного и того же, это конструкция произведения и, условно, его со-
держание. Оба этих аспекта составляют некое целое «что» произве-
дения, его сущность. Михайлов говорит: «одно понятие в музыке
скорее связывается с тем, что мы назвали бы конструкцией музы-
кальной— то есть осуществлением смысла средствами этого ис-
кусства. А "то, о чем" связано с этой конструкцией, как бы находится
внутри нее, но одновременно и выходит из этой конструкции и пред-
полагает, что некоторый смысл— условно говоря— в этой кон-
струкции обнаруживается и имеет некую самоценность» (там же,
843).
Конструкция выступает поэтому как «носитель смысла», с од-
ной стороны, а с другой — тот смысл, «который сидит внутри этой
конструкции», может пониматься как «определенный аспект того же
самого» (там же). Но, как считает Михайлов, конструкция и смысл
произведения лишь в какой-то исторический момент совпадали (на-
пример, у Моцарта), а потом стали расходиться. Александр Викто-
рович считает, что момент расхождения явственно обозначился в
эпоху Гегеля. Гегелевский «конец искусства», как его понимает Ми-
хайлов, означает такой исторический момент, когда искусство «ра-
зучилось создавать такие произведения, которые несли бы смысл
свой внутри себя, совпадая с этим смыслом. Не так несли бы
смысл, — пишет Александр Викторович, — как носят капусту в ко-
шелке, а в полном единстве — смысл и конструкция совпадали» (там
же, 846).
Этот «распад» художественного произведения означает, по Ми-
хайлову, еще и начало рефлексии искусства о себе, то есть начало
самопознания искусства, «плоды» которого «пожинает» современная
музыка, знающая о себе слишком много, почти все. И чтобы совре-
менное произведение искусства не выглядело бессмысленным, счита-
ет Михайлов, композитору приходится «то, о чем» как бы «напя-
ливать» на всякое «то, что». Или, как пишет ученый, «если сказать
одним словом, то ему приходится прибегать к рефлексии» (Пово-
рачивая взгляд <...> 1997, 869).
А. В. Михайлов в работах последних лет затрагивает наиболее
фундаментальные вопросы современного искусства, начиная с са-
мого основного: что есть музыка и музыкальное произведение.
Так, например, можно предположить, что когда Александр Вик-
торович говорит о культуре XX века, которая «проваливается в соб-
ственные недра»33, то имеется в виду такой исторический момент
115
Татьяна Щерба
самопознания искусства, когда оно не страшится заглянуть внутрь
себя и поразмышлять о себе как о «том, что».
Сам ученый, как кажется, осознавал также, что музыке онтоло-
гически присущ некий смысл, который, по существу, неисчерпаем.
И поэтому музыка как искусство не кончается. В 1989 году Михайлов
по этому поводу сказал так: «Тем не менее, я думаю, что в музыке,
взятой как целое, в ней живет по-прежнему стремление в звуке вос-
создать полноту и гул бытия <...>. Такая как бы "метафизическая"
задача, она и сейчас улавливается композиторами, причем самых раз-
ных направлений. <...> И тем не менее, в нем (в искусстве. — Т. Щ.)
может жить неосознанно какая-то мысль о полноте бытия, которое
может быть в музыке воссоздано» (Две беседы 1996, 13—14).
* * *
Как нам кажется, из представленного описания трудов Алек-
сандра Викторовича о музыке становится очевидным, что у него
сложилась своя оригинальная концепция история развития культуры,
которая позволяет по-новому рассмотреть и некоторые проблемы
музыкальной науки. Эта концепция возникла в широкой сфере гума-
нитарного знания, включающего одновременно и вопросы эстетики,
философии, и вопросы литературы, и непосредственно вопросы му-
зыки. Тем самым музыкальное искусство оказывается включенным в
общий художественный и историко-социальный контекст.
В этой концепции чрезвычайно интересными кажутся мысли
А. В. Михайлова об особом положении нашей современной культуры
относительно всей истории, которая «складывается в единовремен-
ность всего когда-либо существовавшего, и это все когда-либо суще-
ствовавшее, оказывается, каким-то образом касается нас, и затраги-
вает всех нас, и притязает на нас, и вследствие этого обретает какую-
то новую актуальность и реальность своего бытия» (Из мюнхенских
впечатлений, I)34.
Одновременно проблемы музыки рассматриваются Михайловым
и с философской позиции онтологического обоснования музыки как
искусства. Важную роль в этом процессе играют замечания Алек-
сандра Викторовича о соотношении слова и музыки, как в музыкаль-
ном произведении, так и в самом музыковедении как науке.
Особый интерес представляет терминология А. В. Михайлова. Та-
кие вводимые ученым понятия как «пласты литературной истории»,
116
А. В. Михайлов и музыкальная наука
«термины движения»— в литературе, «ключевые слова истории»,
«трансгрессивность», «то, что» и «то, о чем» — в музыке и др. позво-
ляют исследователю более тонко и дифференцированно характеризо-
вать различные процессы, происходящие в искусстве. С этой точки
зрения литературоведческая терминология Михайлова может быть
применена и по отношению к музыке.
Важным, на наш взгляд, кажется намеченный А. В. Михайловым
и отчасти проведенный им метод исследования, являющийся и выра-
жением особого типа мышления Александра Викторовича. Метод,
как и тип мышления ученого, мы предлагали бы условно называть
интердисциплинарный. Сущность его заключается в потребности рас-
смотрения явлений музыки, в том числе и в теоретическом плане, с
выходом за пределы самой данной области. Так, например, вопросы
истории музыки тесно смыкаются у Михайлова с историей других
искусств, в частности, литературы, а также с областями эстетической
мысли и истории культуры (на философском уровне как истории
человеческого духа на определенном ее этапе).
Для теории музыки интердисциплинарный метод предписывает
выход за пределы понятий, терминов и методов теории композиции,
не покидая их, но соединяя с философским, религиозным знанием,
точной наукой. Подобно тому, как Александр Викторович писал о
музыке последнего времени в целом как о самопознании, здесь можно
также говорить о процессе самопознания теории.
Принципиальным является и методологический тезис Александра
Викторовича Михайлова о том, что всякое целое историко-куль-
турное гуманитарное знание так или иначе отражено в каждой из
отдельных частей этого знания. Михайлов пишет о музыкознании,
что оно «ведь есть не только часть и раздел всей истории культуры
и всего нашего знания о культуре, но и отражающая в
себе все это целое, держащая все это целое внутри себя
<...> (разрядка А. М. — Т. Щ.)» (Письмо к В. Б. Вальковой <...>
1998, 228). Следовательно, специалист, тщательно изучая материал
своего предмета, «застревая» на нем, как выражается Александр Вик-
торович, обязательно выйдет и к более общим вопросам искусства.
Важно подчеркнуть, что, по мысли Михайлова, знание должно расти
изнутри предмета, через проникновение в него, а не отвлекаясь от
него. Сам А. В. Михайлов говорил так: «За всякой мелочью скры-
вается бездна проблем. Если мы зафиксируем взгляд на детали и про-
анализируем, сразу за этой мелочью потянутся все проблемы истории
культуры» (цит. по: Чигарева 1998, 248).
117
Татьяна Щерба
Кажется убедительным и предложение А. В. Михайлова более
дифференцированно подходить к проблеме обозначений различных
периодов или «пластов» культурной истории. В частности, можно
попытаться продумать вопрос о том, чтобы внутри общей проблемы
музыкального романтизма создать специальный отдел «бидермайер»,
как особый пласт музыкальной истории раннего романтизма, кото-
рый, по нашему мнению, довольно точно определяет некоторые сто-
роны искусства Шуберта, Шумана, Мендельсона-Бартольди, а также
и других, не только австро-немецких композиторов.
В заключение, оглядываясь на панораму проблематики музы-
кально-научного наследия Александра Викторовича Михайлова,
хочется еще раз отметить, что в его научном методе отражена важная
тенденция современной науки и искусства. Так же как современная
музыка сама вышла из своих традиционных русел и заполнила при-
чудливым образом все промежутки между типовыми жанрами, ко-
торые срослись и образовали новое целое, так и для методологии
современной науки типично стремление к всеохватности и универ-
сальности рассмотрения проблем. Параллель к этому и составляют
исследования Александра Викторовича Михайлова, заполняющие
пространства между традиционными руслами искусствознания. Это,
как нам кажется, привело ко многим замечательным мыслям и на-
ходкам ученого, касающимся истории развития европейской куль-
туры. В этом смысле мы присоединяемся к высказыванию Евгения
Николаевича Лебедева в его статье «Рыцарь легкокрылой науки»:
«Филология, философия, музыковедение А. В. Михайлова — это не
просто проявление многообразия его творческих интересов, это яр-
кий пример понимания того, что постижение истины не может быть
однобоким, что в процессе ее постижения человек неизбежно совер-
шенствуется, что действительное ее постижение может быть только
всеохватным <...>» (Лебедев, 1996).
БИБЛИОГРАФИЯ
Опубликованные труды А. В. Михайлова о музыке:
1. «Архитектура как застывшая музыка» // Античная культура и совре-
менная наука. М, Наука, 1985. То же в изд.: Музыка души и слова. М, 1995.
Расширенный вариант: «...Architektura ist erstarrte Musika...»: Nochmals zu
den Ursprüngen eines Worts über die Musik// International Journal of Mu-
sicology. 1992. Vol. 1.№1.
118
А. В. Михайлов и музыкальная наука
2. Австрийская культура после Первой мировой войны // Михайлов А. В.
Музыка в истории культуры. М., 1998.
3. Вебер Макс. Рациональные и социологические основания музыки /
Пер., прим. // Вебер М. Избранное: Образ общества. М.: Юрист, 1994.
4. Две беседы // Философский поиск. Витебск, 1996.
5. Из зарубежных впечатлений: Мюнхен, Вена, Брно // Музыкальная ака-
демия. 1993. № 1. То же: машинопись, 24 с.
6. Из мюнхенских впечатлений// Российский музыкант. 1992. №6. 1 ию-
ня. То же: машинопись, 5 с.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 1—2 / Сост. (совместно с
В. П. Шестаковым), вступ. ст. к разделам, прим., спис. лит., пер. большей
части текстов. М.: Музыка, 1981—1983.
8. Новый музыковедческий ежегодник [International Journal of Musico-
logy. Vol. 1, 2. Frankfurt a. M: Peter Lang, 1992, 1993]// Музыкальная акаде-
мия. 1994. № 4. To же: машинопись, 5 с.
9. Об обозначениях и наименованиях в нотных записях А. Н. Скрябина //
Нижегородский скрябинский альманах. Нижний Новгород, 1995. № 1.
10. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Анто-
на Веберна// Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. То же:
Адорно Теодор В. Избранное: Социология музыки. М.—СПб., 1999.
11. Письмо к В. Б. Вальковой от 27. 11. [19]92 // Михайлов А. В. Музыка в
истории культуры. М., 1998.
12. Поворачивая взгляд нашего слуха// Новая юность. 1994. №5—6. То
же: Михайлов А. В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М.,
Языки русской культуры, 1997.
13. Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна: Фрагменты до-
клада на конференции в Моск. Консерватории 16 сентября 1995 г. // Незави-
симая газета. 1995. 11 окт. То же: Вопросы искусствознания. Вып. IX. 1996.
Февраль. Полный текст доклада: Михайлов А. В. Музыка в истории культу-
ры. М., 1998.
14. Ранние работы А.Ф.Лосева о музыке// Философия. Филология.
Культура: Лосевские чтения. К 100-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. М.,
Изд-во МГУ, 1996. То же: Контект—1994, 1995 (РАН). М., Наследие, 1996.
15. Романтизм // Музыкальная жизнь. 1991. № 5; 1991. № 6.
16. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX ве-
ка // Музыкальная эстетика Германии XIX века: В 2 т. М., 1981.
Неопубликованные работы и материалы А. В. Михайлова о музыке:
1. Брукнер Антон. Тезисы к статье, наброски. Рукопись, 53 с.
2. Макс Вебер: Принцип рационализации и логика культурного разви-
тия. Машинопись, 81с. То же: вариант текста. Машинопись, 54 с.
3. Герменевтические основания истории культуры. Машинопись (запись
и расшифровка Д. Р. Петрова) — 1991.
4. Гофман Э. Т. А. Музыкально-критические статьи / Перевод. Машино-
пись, 162 с.
119
Татьяна Щерба
Ъ.Денерт Макс. Антон Брукнер. Опыт характеристики. [Рецензия на кни-
гу. — Лейпциг: Брейткопф и Гертель, 1958]. Машинопись, 3 с.
6. К истории медленного темпа. Тезисы [к лекции]. Рукопись, 1 с.
7. К эстетике Рихарда Вагнера. Вагнер и Моцарт. Машинопись, 60 с.
8. Лекции по истории культуры. Конспект (запись и расшифровка
Е. И. Чигаревой). Рукопись, 34 с. — 1994.
9. Мозер, Ганс Иоахим. Музыка во времени и пространстве. [Рецензия на
книгу. Берлин, Мерзебургер, 1960] {Moser, Hans Joachim. Musik in Zeit und
Raum. Berlin, Verlag Merseburger, 1960). Машинопись, 3 с.
10. [Мои заметки]. Рукопись 1 с. (с конференции «К 60-летию Альфреда
Шнитке»). — 5 декабря 1994.
11. Моцарт, Вольфганг Амадей. Документы его жизни. Составление и
комментарий Отто Эриха Дейча. [Рецензия на книгу. Лейпциг, Немецкое
муз. изд., 1961] (Mozart, Wolfgang Amadeus. Die Dokumente seines Lebens.
Gesammelt und erläutert von Otto Erich Deutsch. Leipzig, Deutscher Verlag fur
Musik, 1961). Машинопись. 3 с.
12. Начала и концы европейской литературы. Лекции (расшифровано
В. Я. Головановым). Машинопись, 69 с. (в печати).
13. Невозможность авангарда. Конспект доклада (запись и расшифровка
Л. В. Кириллиной). Машинопись, 1 с. 10 мая 1995.
14. Незаслуженные воспоминания. Машинопись, 12 с.
15. Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки / Перевод и прим.
Машинопись, рукопись, 151 с; прим.: рукопись, 9 с.
16. О проблемах текстологии. Машинопись, 18 с.
17. О том, что в музыке. Конспект лекции (запись и расшифровка
Е. И. Чигаревой). Машинопись, 4 с.
18. Об обозначениях и наименованиях в нотной записи, или тексте, про-
изведений А. Н. Скрябина. Рукопись, 153 с, машинопись, 74 с. То же: сокр.
вариант. — Машинопись, 48 с.
19. Отзыв о дипломной работе Н. В. Неседова «А. Ф. Лосев и музыкаль-
ная наука». Машинопись, 5 с. (в двух вариантах). 15 мая 1995.
20. Отзыв о докторской диссертации А. В. Ивашкина «Чарльз Айвз и му-
зыка XX века». Машинопись, 5 с. 2 декабря 1993.
21. Отзыв о докторской диссертации В. П. Чинаева «Исполнительские
стили в контексте художественной культуры XVIII—XX вв. (На примере
фортепианного исполнительства)». Машинопись, 12 с. 31 марта 1995.
22. Отзыв о статье В. П. Чинаева (об алеаторной музыке). Машинопись,
4 с. 13 января 1988.
23. Отзыв об автореферате кандидатской диссертации Г. А. Насыпной
«Воспитание духовно-нравственных качеств личности учащегося-музыканта
(На материале педагогических идей Т. Манна и Г. Гессе)». Машинопись, 2 с.
11 мая 1994.
24. Относительно политики в области культуры. Тезисы. Машинопись,
4 с. 10 декабря 1993.
25. Письмо в дирекцию изд-ва «Музыка». Заявка на книгу «От Шуберта
до Малера. Эстетическое осмысление музыки в австрийской культуре XIX
столетия». Машинопись (обрыв), 3 с. 5 декабря 1984.
120
А. В. Михайлов и музыкальная наука
26. Письмо в редколлегию серии «Литературные памятники» (об издании
книг И. Кунау «Музыкальный шарлатан» и Б. Марчелло «Театр по моде»).
Машинопись, 2 с. 5 апреля 1985. Подготовительные материалы, 3 с.
27. Н. А. Римский-Корсаков и М. А. Балакирев. Машинопись, 14 с. (в пе-
чати).
28. Симфония в XIX веке. Конспект-набросок. Рукопись, 1 с.
29. Слово и музыка: Музыка как событие в истории Слова. Машинопись.
14 с.
30. Социология музыки и музыкознание. Машинопись, 41 с.
31. Теория и история культуры. Лекции (расшифровано В. Я. Головано-
вым). Машинопись, 42 с. (в печати).
32. То, что. Конспект лекции (запись и расшифровка Е. И. Чигаревой).
Машинопись, 5 с.
33. Шуман «Рай и Пери». Конспект-набросок. Рукопись, 1 с.
Работы о А. В. Михайлове:
\. Аверинцев С. С. Дальше— молчание/ Настоятельный зов проселка//
Независимая газета. 1995. №96. 11 октября.
2. Аверинцев С. С. Путь к существенному // Михайлов А. В. Языки культу-
ры. М., 1997.
3. Бочаров С. Г. Филолог большого стиля / Настоятельный зов проселка //
Независимая газета. 1995. №96. 11 октября.
4. Визгин В. Я. Александр Викторович Михайлов // Вопросы философии.
1996. №2.
5. Голованов В. Я. Памяти Александра Викторовича Михайлова // Новая
юность. 1995. №4—5.
6. Гончаров Б. П., Гугнин А. А., Николаев П. А., Чигарева Е. И. Уроки боль-
шой жизни: Памяти А. В. Михайлова // Филологические науки. 1996. № 6.
7. Гугнин А. А. Памяти А. В. Михайлова// Гетевские чтения: 1997. М., 1997.
8. Зыкова В. И., Михайлов В. А. Светлой памяти сына. Воспоминания ро-
дителей А. В. Михайлова. См. наст. изд.
9. Касаткина Т. А. «Не пропустите человека...»// Контекст« 1994—1995:
Литературно-теоретические исследования. М., 1996.
10. Лебедев Е. Н. Рыцарь «легкокрылой науки» // Там же.
11. Сазонова Л. И. Служение науке // Там же.
М.Сазонова Л. И., Проскурина. Космос смысла: Александр Михайлов:
жизнь в слове // Книжное обозрение «Ex Libris» НГ. 1998. № 9. 11 марта.
13. Холопова В. Н. Он был нетрадиционным музыковедом (об Ал. В. Ми-
хайлове) // Музыкальная академия. 1996. № 1.
14. Царева Е. M'. Слово Александра Викторовича Михайлова// Михай-
лов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998.
15. Чигарева Е. И. Музыка в научной мысли А. В. Михайлова// Михай-
лов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998.
16. Kirillina Larisa. Alexander Mikhailov as musicologist. Машинопись, 5 с.
121
Татьяна Щерба
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Цитируется по машинописному оригиналу. Опубликовано: Музыкальная
академия. 1994. №4. С. 123—124.
2 Цитируется по машинописному оригиналу. Опубликовано: РМ. 1992. № 6.
1 июня.
3 Макс Вебер (1864—1920)— немецкий экономист и социолог. Его музы-
кально-социологическая концепция сложилась к середине 10-х годов XX
века и нашла отражение в неоконченном труде «Рациональные и социо-
логические основания музыки», изданном в 1921 году с предисловием
Т. Кройера. Работа Вебера оказала влияние на развитие социологической
мысли как за рубежом, так и в России, в частности, на Б. Асафьева.
4 Основанием к этому утверждению служат некоторые случайные замечания
Михайлова из его неопубликованной статьи «Макс Вебер. Принцип ра-
ционализации и логика культурного развития». Машинопись, 81 с. (Вари-
ант заглавия: «Макс Вебер. Динамика его музыкально-социологической
программы»).
5 Цитируется по машинописному оригиналу. Опубликовано: Вопросы фи-
лософии. 1995. № 1. С. 188—191.
6 См. вступительные статьи А. В. Михайлова в книгах «Эстетика немецких
романтиков» и «Музыкальная эстетика Германии XIX века».
7 В некоторых случаях авторская пагинация страниц не является сквозной
или содержит дополнительные страницы, пронумерованные особым обра-
зом. Сейчас и в дальнейшем указывается полное количество имеющихся
страниц текста без ссылки на возможные разночтения с авторской пагина-
цией.
8 Так, например, полное название статьи о Вебере (81 с), напечатанное в
расширенном варианте статьи звучит так: Макс Вебер. Глава I. Динамика
его музыкально-социологической программы. В самом тексте в сносках
указывается, что более подробная информация по таким-то вопросам со-
держится в такой-то главе данной книги.
9 В книге: Михайлов А. В. Музыка в истории культуры (М., 1998) на с. 258
указывается 1974 год издания. В 1999 году перевод Михайлова 12-ти лек-
ций Адорно опубликован в книге: Адорно Теодор В. Избранное: Социоло-
гия музыки. М.; СПб., 1999.
9а Часть из них опубликована в книге «Обратный перевод». М., 2000.
10 При составлении данного перечня лекционных курсов А. В. Михайлова
мы руководствовались следующими источниками:
1 ) Холопова В. Н. Он был нетрадиционным музыковедом // Музыкальная
академия. М., 1996. № 1. С. 232.
2) Гончаров Б. П., Гугнин А. А., Николаев П. А., Чигарева Е. И. Уроки
большой жизни. Памяти А. В. Михайлова// Филологические науки. М.,
1996. №6. С. 126.
3) Чигарева Е. И. Музыка в научной мысли А. В. Михайлова // Михай-
лов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 244.
4) Кириллина Л. В. Alexander Mikhailov as musicologist (Александр Михай-
лов как музыковед). Машинопись, 5 с. С. 3.
122
А. В. Михайлов и музыкальная наука
5) Михайлов А. В. Заявление от 30.06.1992 / Михайлов А. В. Личное дело //
Архив МГК им. П. И. Чайковского.
6) Чередниченко Т. В. Характеристика [А. В. Михайлова] (не датирована,
предположительно — август 1994 г.) / Михайлов А. В. Личное дело // Ар-
хив МГК им. П. И. Чайковского.
7) Петров Д. Р. Примечания // Голованов В. Я. Лекции А. В. Михайлова в
Московской консерватории. (Расшифровка магнитофонной записи)
машинопись, 118 с. С. 112. (в печати).
1 ' Эти сведения почерпнуты из следующих источников:
1) Михайлов А. В. Заявление [о приеме на работу в Центр Гуманитарного
Знания МГК им. П. И. Чайковского] от 24.07.1995/ Михайлов А. В.
Личное дело// Архив МГК им. П. И. Чайковского.
2) Чигарева Е. И. Музыка в научной мысли А. В. Михайлова // Михай-
лов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 244.
12 Лекция «Ангел истории изумлен» была прочитана 12 ноября 1994 г. См.:
Голованов В. Я. Памяти Александра Викторовича Михайлова// Новая
юность. М., 1995, № 4—5; № 13—14. С. 193.
13 Время появления этих материалов о Брукнере устанавливается в связи с
имеющимися в папке другими датированными документами, в том числе
рукописными заметками А. В. Михайлова о творчестве австрийского ком-
позитора, относящимися к периоду 1958—1964 гг.
14 Об этом свидетельствует письмо Л. М. Бутира к А. В. Михайлову от 23. 06.
[1985]
15 На участие А. В. Михайлова в этой конференции косвенно указывают
сделанные им конспекты докладов других участников. Наиболее подроб-
но, в частности, зафиксирован доклад В. С. Попова «Фагот в музыке эпо-
хи барокко».
16 Опера Антонио Сальери «Сначала музыка, а потом слова» написана в
1786 году.
17 Автор данной работы присутствовал на одной такой Российско-Герман-
ской конференции, где Александр Викторович, не в силах слушать сбивчи-
вый лепет неквалифицированного переводчика, встал и самостоятельно
взял на себя его роль, к полному удовольствию и российской, и немецкой
аудитории.
18 В книге А. В. Михайлова «Языки культуры» указывается 1973 г.
19 Пожалуй, только об одном концерте А. В. Михайлов написал в строгой
форме рецензии — это его заметка 1978 года о концерте фортепианной му-
зыки в исполнении Наталии Власенко.
20 На сегодняшний день наиболее полный указатель статей Михайлова для
справочных изданий и антологий помещен в книге: Михайлов А. В. Языки
культуры. М., 1997. С. 879—909.
21 Доклад прочитан 10 мая 1995 года.
22 В определенном отношении художественное слово предметно, так как оно
прямо называет тот предмет, о котором идет речь и называет его как бы
«общедоступным» для всех способом.
23 Сюда же можно отнести распространенный в наше время способ слушания
музыки «глазами» по партитуре, представляя себе ее реальное звучание.
123
Татьяна Щерба
24 В датировке начала музыкального романтизма могут быть известные
оговорки. В целом эпоха романтизма — это эпоха после Бетховена, одна-
ко ранние песни Шуберта относятся еще к середине 10-х годов XIX века,
одна из первых романтических опер Гофмана— «Ундина»— была по-
ставлена в 1816 году, наконец, наиболее известная опера Вебера «Вольный
стрелок» поставлена в 1821 году.
25 А. В. Михайлов ссылается на следующую книгу: Pöggeler О. Die neue My-
thologie: Grenzen der Brauchbarkeit des deutschen Romantikbegriflfs // Ro-
mantik in Deutschland / Hrsg. von R. Brinkmann. Stuttgart, 1978.
26 См. об этом у А. В. Михайлова работы «Из истории характера» и «Проб-
лема характера в искусстве: живопись, скульптура, музыка».
27 К этому имеет непосредственное отношение и факт «романтизации» музы-
ки прошлых столетий, да и не только музыки, но и литературы (например,
сочинений Гомера).
28 Как особую проблему Александр Викторович рассматривает ставшее
крылатым сравнение музыки и архитектуры. Ученый считает, что смысло-
вой акцент выражения «Архитектура есть застывшая музыка» постепенно
сместился с архитектуры на музыку. И это, по мнению ученого, было на-
сущной потребностью эстетики XIX века — «не осмысление архитектуры
как музыки, но как раз обратное — осмысление музыки как архитектуры,
то есть как своей особой пространственной конструкции» (Архитектура
<...> 1985,237).
29 Это следующая работа: Fukac J. Zwischen Biedermeier und Revolution: Ver-
such um eine Typologie der tschechischen (böhmischen, deutschböhmischen)
Musikkultur von 1815 bis 1835.
30 Литература по проблеме бидермайера в искусстве содержится в книге
А. В. Михайлова «Языки культуры» (1997) на с. 107—111.
31 С некоторыми сокращениями текст этой лекции опубликован в книге:
Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 862—869.
32 В частности, Александр Викторович приводит сочинение Корндорфа под
названием «Да!»
33 Эти слова Михайлова приводил А. С. Соколов в сообщении «Векторы
культуры в музыкальной панораме XX века» на конференции «Традиции и
новаторство. Музыка последней трети XX века и проблемы ее интерпре-
тации» 8 декабря 1998 года.
34 Цитируется по архивному оригиналу. Статья опубликована в газете
«Российский музыкант». 1992. №6. 1 июня.
124
Е. И. Чигарева
МГК им. 77. И. Чайковского. Москва
РАЗМЫШЛЕНИЯ А. В. МИХАЙЛОВА
ОБ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
И ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
Проблема, обозначенная в заглавии, чрезвычайно широка, и бы-
ло бы утопией надеяться, что ее можно раскрыть в небольшой статье.
Моя задача более скромная: наметить некоторые вехи движения ли-
тературоведения и музыкознания навстречу друг другу на материале
трудов А. В. Михайлова, где это особенно ощутимо. В настоящее
время идет активный процесс усвоения музыкальной наукой методо-
логии и материала смежных наук, ее «гуманитаризации». Михайлов,
который, как известно, был специалистом сразу в нескольких облас-
тях научного знания, сыграл важную роль в этом процессе.
Среди текстов Михайлова можно выделить те, в которых в той
или иной степени затрагиваются музыкальные проблемы1, и те, в ко-
торых речь о музыке не идет, но которые важны в общеметодологи-
ческом плане. Однако нет необходимости, да и практически невоз-
можно вычленить из наследия Михайлова «чисто музыковедческие»
тексты, так как он мыслил только комплексно. Хотя мне все-таки ка-
жется, что музыка и музыкальная наука играли особую роль в науч-
ном мышлении Михайлова. Можно сказать, что музыка как особый
тип мышления и чувствования, как особый, не определимый словами
способ самовыражения проходит через все работы Михайлова и дает
нам возможность по-новому, как бы изнутри увидеть многие процес-
сы в культуре вообще: это как бы нерв его мысли.
Широта интересов А. В. Михайлова в музыковедении, как и в
других гуманитарных науках, поражала и казалась необъятной — от
музыки барокко до новейших течений. При этом его подход к ис-
кусству вообще, и к музыкальному искусству в частности, был нетра-
диционным, как нетрадиционными были и методы исследования,
которые он использовал. Даже в тех случаях, когда Михайлов обра-
125
Е. И. Чыгарева
щался к хорошо изученным явлениям, он все равно находил особый
подход, который раскрывал в них новые аспекты2. Александр Викто-
рович обладал даром видеть в знакомом, широко известном, подчас
хрестоматийном, — загадку, выстраивал перед читателем или слуша-
телем (в лекциях) открытый ряд вопросов и гипотез, приглашая их к
со-творчеству, со-мышлению.
Нетрадиционность метода Михайлова проявляется и в необыч-
ном общем подходе к литературному (разумеется, не только литера-
турному!) процессу, а также — в связи с этим — и к литературной
теории и теории искусства в целом.
В работе «Диалектика литературной эпохи» Михайлов пишет:
«Теория, сопрягающая извечное и зарождающееся, начало и начи-
нающееся, прошлое и настоящее, воспроизводит опыт веков в сло-
ве»3. И далее: «Поэзия, литература — язык истории и язык народа в
его истории. Течения, направления, стоящая за ними разобщенность
стилей— все это возникает с исторической неизбежностью, но все
это для поэтического слова вторично, все это ослабляет его, разбивая
его целостность, расщепляя на частности, отвлекая от существенного,
от пушкинской и гоголевской "существенности"»4.
Обратим внимание на мысль о вторичности литературных тече-
ний и направлений. Для исследовательского метода Михайлова это
очень важно: он вообще отказывается от этих терминов, называя «ба-
рокко», «классицизм», «романтизм» и т. д. «пластами литературной
истории».
Далее он пишет: «Литературная теория, возникшая как отщепле-
ние от поэтического слова, имеет своей целью, одной из своих задач
реконструировать поэтическую память веков»5. «Теория литературы
погружена в ее историю, как сама литература в ее истории — в саму
историческую жизнь»6. Тут Михайлов подходит к важному моменту
своих рассуждений: «Оттого и понятия литературной теории — это
тоже особые слова. Отщепившись от поэтического слова, они стали
для истории литературы делать то самое, что делает поэтическое
слово на протяжении веков и тысячелетий для истории во всем ее
целостном охвате... Они должны все время сводить воедино, сопря-
гать прошлое и настоящее, древнее и новое, опыт и неизведанность»7.
Михайлов называет их «терминами движения».
«Задача науки, — замечает Михайлов, — не определить каждое из
таких понятий по отдельности, но соопределить их в их совокуп-
ности, т. е. в целостности литературного процесса (с его пластами и
напластованиями). Целостность национальной литературы — вот го-
126
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
ризонт, в котором и барокко, и романтизм, и классицизм, и все по-
добное может получать не определение, но определенность...»8.
Можно себе представить, сколь сложна подобная задача и, конеч-
но, это весьма актуально и для музыкознания, где понятия «класси-
цизм», «романтизм» и др. имеют свою специфику, определяемую осо-
бенностями музыкально-исторического процесса. Взять хотя бы ро-
мантизм в Германии, который в музыку пришел тогда, когда в лите-
ратуре он был уже на исходе, но зато потом никак не мог исчерпать
себя, давая уже в XX веке все новые вспышки «нео»9. Этой проблеме
А. В. Михайлов посвятил большую статью, сокращенный вариант ко-
торой был опубликован в журнале «Музыкальная жизнь» (1991, № 5,
6). Выдвигая расширительное понимание музыкального романтизма,
он считает проявление его в музыке сущностным свойством, характе-
ризующим ее как вид искусства: «...музыкальный романтизм (в отли-
чие от более "внешнего" литературного или живописного) поистине
бессмертен и неистребим, — с тех пор как появился он на свет божий...
Не будет большим преувеличением сказать, что мы и наш слух толь-
ко и знаем, что романтическую музыку, но зато в максимальном бо-
гатстве проявлений, почти в чрезмерном накоплении разновидностей
и форм. Таков этот всепоглощающий музыкальный романтизм»10.
Конечно, эта точка зрения отнюдь не традиционна и не привычна
для «школьных» курсов истории музыки, она, как это обычно бывает
с работами Михайлова, может вызвать у кого-то возражения, но
будит мысль и заставляет подчас пересматривать многие сложив-
шиеся представления.
Одной из ключевых идей Михайлова является идея риторической
культуры в том расширительном значении, которое мы встречаем в
его работах — параллельно с исследованиями С. С. Аверинцева. Кон-
цепция риторической культуры, особенно полно изложенная в фун-
даментальном труде «Поэтика барокко: завершение риторической
эпохи»11, тем не менее сформировалась достаточно давно и мысли по
этому поводу рассеяны в работах Михайлова разных лет. Так, на-
пример, во вступительной статье к изданию «Музыкальная эстетика
Германии XIX века» он касается этого вопроса и в связи с музыкаль-
ным искусством XVIII в.: «Каждому жанру музыки отводилась осо-
бая роль; место его в социальном укладе общества было с полной
очевидностью определено. Поставленная на свое место музыка могла
на худой конец оставаться даже формально-риторической, а ее кон-
кретное художественное качество могло восприниматься лишь как
своего рода украшение, вариация заданного...»12.
127
Е. И. Чигарева
Действительно, до конца XVIII в. в музыке действовала строгая
система правил и канонов, подчас очень жестких, предписывающих и
выбор жанра, и некоторые принципы построения — в зависимости от
цели и места музицирования (в церкви, театре, при дворе или в замке,
в домашнем обиходе). Рациональной регламентации подверглась
даже определяющая для музыки категория чувства13, которая, таким
образом, трактовалась как категория риторической системы.
Идея риторической культуры оказалась одной из самых плодо-
творных для музыкальной науки, она помогла расставить нужные
акценты, многое переосмыслить в музыкально-историческом процес-
се. Так, одной из тенденций музыкознания предшествующего перио-
да было, например, выявление предромантических черт в творчестве
композиторов XVIII века — К. Ф. Э. Баха, Гайдна, Моцарта (тем
более Бетховена, бывшего современником раннего романтизма).
Здесь происходило то, что Михайлов называл «операцией переноса»
(перенесение понятий и терминов более позднего времени на более
ранние периоды истории культуры). Прорывы индивидуальной вы-
разительности, отдельные языковые черты в творчестве этих компо-
зиторов, предвосхищающие музыкальный романтизм,— все это не
меняло основного: принадлежности их к риторической традиции с ее
опорой на «готовое слово».
Разрушение риторической системы произошло на рубеже XVIII—
XIX веков, в период наступления романтизма. Михайлов пишет об
этом очень красочно: «Когда же риторика, риторическое постижение
слова пали, были сломаны, ниспровергнуты, тут зато и наступает
время настоящего перехода — настоящего, коль скоро рушатся веко-
вые основания культуры, основополагающее (не только ведь для
литературы, для поэтики!) постижение слова. Риторика, целая систе-
ма риторической культуры, монолитная, притом издавна, по всем
направлениям, подтачиваемая изнутри, рушится сразу и рушится
быстро, — можно сказать, что весь XIX век в литературе и поэзии
забит осколками риторического, которые, однако, почти никогда не
выступают системно»14. Можно поразмыслить над тем, какое пре-
ломление в музыке получил этот общий художественный процесс —
так ли внезапно или более постепенно это происходит в музыкальном
искусстве и не действуют ли системно «осколки риторического» в
творчестве таких романтиков-классиков как, например, Шуберт,
Брамс и т. д. Но это тема самостоятельного исследования.
Одной из актуальных и одновременно весьма сложных проблем
искусствознания является проблема классического стиля, В исследо-
128
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
ваниях Михайлова — например, в фундаментальной работе «Стилис-
тическая гармония и классический стиль в немецкой литературе» —
она ставится в связи с творчеством Гете. Автор дает следующее —
очень емкое — определение: «Классический стиль — процесс возведе-
ния реальной действительности, ее кризисов к гармонии жизни»хь.
Однако, как отмечает Михайлов, классическое — это не «нарочитая
гармонизация действительности», оно «возникает именно как резуль-
тат преодоления острых противоречий, которые, однако, опосреду-
ются и становятся противоречиями творческими»16. Приводя в ка-
честве примера античный акт из второй части «Фауста», Михайлов
делает такой вывод: «Борьба за стиль была борьбой за смысл, за то,
чтобы идея светилась изнутри произведения, по выражению Гете, за
идейную значимость и обобщенность творчества»17.
Понятия «классика», «классицизм» — дискуссионные в музыко-
знании. Как правильно говорить — венский классицизм или венская
классика, в каком веке классицизм приходит в музыку — в XVIII или
в XVII, когда он появляется, скажем, во французской литературе, или
в музыке это не классицизм, а барокко — эти и подобные запутанные
вопросы часто встают перед музыковедами (много и интересно об
этом пишет Л. В. Кириллина18). Мысли Михайлова по этому поводу
дают стимул для решения многих вопросов, определяют возможное
направление научного поиска.
Тема «Михайлов о Гете» — самостоятельная и весьма важная проб-
лема, которая может раскрыть многое в научной концепции Михай-
лова. Размышления о Гете встречаются в самых различных исследо-
ваниях ученого. Феномен Гете притягивал Михайлова и, возможно,
был стержнем его исследовательской мысли. При этом встают самые
различные вопросы: это и идеи Гете об органическом единстве всей
природы19; и о морфологии музыки, которые дали очень богатые
ростки на музыкальной почве20; и представления Гете о единстве по-
этического слова, воплощающего в себе и художественное, и научное
знание21; и мысли о конкретных композиторах.
Известно, например, отношение Гете к Моцарту и его знамени-
тое, ставшее уже хрестоматийным, высказывание: «здесь бы нужна
была такая музыка как в "Дон Жуане". Моцарт, вот кто мог бы на-
писать музыку к "Фаусту"»22. Михайлов также касается этой парал-
лели — «Дон Жуан» — «Фауст» — в плане жанра, организации мате-
риала, композиции. В связи с «Фаустом» он говорит о «внутреннем»
театре, который развертывается перед воображением, но переполнен
самыми реальными впечатлениями — «начиная от кукольного пред-
5-1379
129
Е. И. Чигарева
ставления и до восходящего к средним векам шествия-маскарада, до
бедноватых подмостков "мещанского" театра конца XVII века, до
высокой трагической сцены»23. И далее: «Мучительность трагедии
претворяется в совершенство мысли и красоту слова — преодолева-
ется особенным соединением глубокомыслия и легкости, скудной
сцены и богатого воображения, жгучей остротой совмещения не-
совместимого— наподобие трагикомического завершения моцар-
товского "Дон Жуана"»24.
В меньшей степени Михайлов затрагивает тему «Гете и Бетхо-
вен». Однако это не значит, что он вообще не размышлял над этой
темой. В личном архиве ученого есть рукописный экземпляр тезисов
«Бетховен и Гете» (работа не была написана) и фрагмент работы
«Бетховен и Гете. Двойная оптика традиции». Это ранний вариант
более поздней работы «Бетховен: преемственность и переосмысле-
ния» (другой вариант названия «Бетховен: механизмы традиции»25).
Основной пафос статьи— развенчание различных романтических
мифов о Бетховене, которые дожили до нашего времени26. Научная и
методическая ценность ее несомненна. Приведу не публиковавшиеся
ранее тезисы «Бетховен и Гете». В основном они соответствуют со-
держанию опубликованной посмертно статьи — за исключением по-
следнего, шестого пункта: в окончательном варианте ничего не гово-
рится о творческих параллелях Бетховена и Гете.
Бетховен и Гете (тезисы)
Статья начинается с анализа того известного эпизода встречи
Бетховена и Гете в Теплице, который известен по рассказу Беттины
Брентано (фон Арним). Эпизод этот вымышлен (что теперь вполне
доказано); тем не менее он вновь и вновь пересказывается в литера-
туре о Бетховене — в литературе самого разного направления, уров-
ня, предназначения. Вымышленная сцена обнаруживает свою харак-
терность — показательную, однако, не столько для постижения Бет-
ховена и Гете в их подлинности, сколько для определенной традиции
их интерпретации (причем, в первую очередь Бетховена).
2. Эта традиция понимания, восприятия Бетховена есть в значи-
тельной мере ложная, искажающая традиция. Странным образом по-
лучается, что даже и самые противоположные точки зрения, взгляды
на Бетховена, попытки схватить его сущность как музыканта и че-
ловека пользуются одними и теми же мотивами, составляя
130
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
или строя из них (как бы из постоянных своего рода «мифологем»)
образ Бетховена. Это хорошо подтверждает недавняя книга Эгге-
брехта о Бетховене, посвященная анализу «мотивов» в традиционном
образе Бетховена. Собственные примеры. Однако не менее странно
встречать участившиеся в последние годы призывы «открыть» под-
линного Бетховена или даже претензии на собственое открытие под-
линного Бетховена.
Традиция определенного постижения Бетховена в его человечес-
ких чертах, свойствах, в его характере есть вместе с тем проблема
внутренняя — проблема слышания, понимания его му-
зыки. И в этом отношении традиция постижения Бетховена
сразу же выявляет ряд парадоксов.
Наиболее очевидные, лежащие на поверхности таковы:
a. Творчество Бетховена известно очень неполно и неравномерно;
некоторые из наивысших его шедевров получили признание лишь в
последние десятилетия.
b. Наиболее популярные произведения Бетховена в течение столе-
тия и более исполнялись в отретушированном виде.
c. Старания вернуться к «подлинному тексту» Бетховена в течение
очень долгого времени были безуспешными и оборачивались своей
противоположностью.
О некоторых сторонах исполнительской практики. Феликс фон
Вейнгартнер.
Суть прочтения Бетховена в 19—20 веках состояла в том, что
его музыка читалась и слышалась через призму романтической
музыкальной истории, то есть в обратном историческому развитию
плане— от концов к началам, от романтического психологизма к
классическому ядру и т. д. В результате: Бетховен долгое время заго-
раживал для слушателей и музыкантов Моцарта, Гайдна (пример:
Моцарт, исполняемый «под Бетховена»), всю раннюю музыкальную
классику — и (конечный парадокс) самого себя.
Возвращение к «подлинному Бетховену» означает, таким обра-
зом, не что иное, как установление естественной исторической пер-
спективы и устранение перспективы перевернутой. Опыт показы-
вает, что Бетховен, одна из центральных фигур музыкальной истории
и один из самых популярных композиторов, есть тот композитор,
музыка которого менее всего воспринималась, понималась и слуша-
лась в своей конкретности, в своем задуманном композито-
ром звучании и смысле.
Некоторые методологические замечания. Традиция и изначаль-
5^
131
Е. И. Чигарева
ная подлинность произведения искусства: их соотношение. Фено-
мен «вражды», враждебного отношения и его известный позитивный
смысл — в остром, подчеркнутом схватывании сути задуманного че-
рез все наслоения.
«Закрытость» Бетховена, его заслоненность традицией и пробле-
ма идейного значения его творчества.
Возвращение к первоначальному эпизоду. Бетховен и Гете. Суть
их противопоставления — ложного в музыкальной беллетристике и
подлинного, укорененного в истории музыки, музыкального слы-
шания. Гетевское слышание музыки.
В последние годы Михайлов снова затрагивает эту проблему.
В лекции в Московской консерватории, прочитанной 3 декабря
1994 г., он сравнивает «Западно-восточный диван» Гете с поздними
квартетами Бетховена, обнаруживая в них общие эстетические и
структурные принципы: «...такое произведение можно представить
себе как сделанное из обломков зеркал. И эти обломки зеркал в неко-
тором пространстве расположены странным, но искусным спосо-
бом — так, что они все смотрят друг на друга, и там есть какой-то
источник света, и вдруг одни осколки начинают отражаться в дру-
гих»27.
Безусловно, линия «Гете— Михайлов— музыка» не является
случайной. Достаточно вспомнить прекрасные слова Гете: «Не будь
язык бесспорно самым высоким, что есть у нас, я поставил бы музыку
даже выше языка, прямо на самую вершину»28.
Специально хотелось бы остановиться на работах А. В. Михайло-
ва об австрийской культуре. Для музыкантов, которым постоянно
приходится иметь дело с австрийской, в частности, венской традици-
. ей, столь прочной и длительной, просуществовавшей от XVIII века и
до ХХ-го29— прояснить представление о специфике австрийской
культуры чрезвычайно важно. Ведь не секрет, что эта специфика
отнюдь не всегда учитывалась отечественной музыкальной нау-
кой30 — нередко речь велась о немецко-австрийской культуре как о
целостном явлении, имеющем не только единую языковую основу, но
и общую природу31.
В отечественном литературоведении положение не многим лучше.
На русском языке литература о специфике австрийского Просвеще-
ния практически отсутствует32. Симптоматично, что в многотомном
издании «Истории всемирной литературы», — в V томе, посвящен-
132
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
ном XVIII веку, — в главе о немецкой литературе австрийскому Про-
свещению уделено всего два абзаца.
На этом фоне работы А. В. Михайлова представляют отрадное
исключение. Александр Викторович прекрасно чувствовал и пони-
мал специфику австрийской культуры: речь об этом идет не только
в исследованиях, посвященных творчеству австрийских писателей,
художников, музыкантов, но подчас на страницах статей, имеющих
другую тематику.
Из отдельных замечаний, рассеянных в различных работах Ми-
хайлова, складывается некий целостный образ, на основе которого
каждый, кто обращается к этой теме, на своем материале может на-
рисовать собственную картину.
Иногда ход рассуждений об австрийской культуре как бы сам со-
бой приводит к музыкальным примерам. Например, в статье «Эдуард
Ганслик: к истокам его эстетики» Михайлов пишет: «...художествен-
ные и мыслительные традиции эпохи барокко, преодоленные в про-
тестантских областях уже в первой половине XVIII века и продол-
жавшие влиять скорее подспудно, в Австрии сохраняют свою жиз-
ненность несравненно дольше. А это значит, что сохраняет значи-
мость целый идейный, католически окрашенный мир, в котором все-
му земному, конкретному, становящемуся, изменяющемуся отвечает
так или иначе снимающая и уничтожающая его неземная, неперемен-
чивая, вневременная истина вечного. Таким образом, Просвещение,
передовая идеология XVIII века, в Австрии, запоздав по времени,
вступает в 80-е годы в небывалый союз с государственностью, а в
искусстве с широкой барочной традицией»33.
И далее — уже в связи с Гайдном («опосредованное оптимистиче-
ским разумом Просвещения, уверенное в своей вере искусство барок-
ко»34) и Моцартом («не повторенная никем степень напряженности
моцартовской музыки идет от конфликта, свершающегося внутри
бытия, когда субъективное только начинает отрываться от целого,
всеобщего, абсолютного»35).
Я уже говорила о том, что Александр Викторович как бы изнутри
чувствовал феномен австрийского, ощущая его как что-то близкое
себе, и потому он определяет это явление не какими-либо научными
дефинициями (что вообще не характерно для его метода), а скорее
художественными, образными приемами. Пример этого— вступи-
тельная статья к сборнику «Золотое сечение. Австрийская поэзия
XIX—XX веков в русских переводах». Михайлов видит свою задачу
не в том, чтобы «объяснять австрийских поэтов» и «рассказывать
133
Е. И. Чигарева
историю австрийской поэзии», а в том, чтобы «открыть вид на про-
исхождение этой поэзии из духа австрийской культуры». «<...> боль-
шая, классическая австрийская поэзия — это исповедь культуры и в
то же время часть куда большего целого, часть великого единства
культуры, достигшей своих вершин». И далее очень важный вывод,
раскрывающий метод Михайлова: «Именно поэтому хорошо видеть
культуру в целом — поэзию, музыку, живопись, философию»36.
Свои наблюдения Михайлов излагает свободно, отдельными яр-
кими мазками он создает эскиз, и по прочтении статьи в нашем со-
знании выстраивается портрет целого — Михайлов называет ряд па-
радоксов, которыми отмечена австрийская культура. Например, «ав-
стрийская поэзия, литература, музыка очень своеобразны, однако са-
мо это своеобразие подается так, что читатель, слушатель и зритель,
не будь он уж очень внимателен, легко проходит мимо него»37. И как
бы между прочим делаются существенные обобщения. По поводу
творчества Адальберта Штифтера: «читать идеальное сквозь непри-
глядную, тягостную и сумбурную реальность дня было не только уме-
нием Штифтера, но способностью великих австрийских мыслителей,
писателей прошлого»11. Или в связи с Францем Грильпарцером: «осо-
бенность австрийской культуры в целом, очевидно, заключается... в
том, что вся вообще поэзия рассматривается как единство, на фоне
которого могут выступать некоторые не вполне важные отличия —
исторические, национальные и всякие иные»39.
Возникают и весьма серьезные экскурсы в область музыки. На-
пример, говоря о Моцарте —гении, «в музыке которого переплави-
лись бесчисленными струями и струйками втекавшие в нее линии
самых разных традиций, направлений, стилей искусства Европы»40,
Михайлов обнаруживает корни этого универсализма в феномене
австрийского: «Это явление — Моцарт — и не могло сформировать-
ся иначе как в Австрии41, — стремясь к самому центру вещей (языков,
стилей, приемов, средств искусства), куда съезжаются они сами, и
разъезжая за ними во все концы Европы»42.
Очень ценны для музыкантов отдельные вкрапления: рассредо-
точенные по тексту статьи параллели между поэтами и компози-
торами — и тут же очень тонкие замечания: Франц Грильпарцер —
Франц Шуберт {«пафос пребывания при истине, при красоте»)— с
аллюзией на знаменитое выражение Шумана «божественные длинно-
ты», Адальберт Штифтер — Антон Брукнер («над движением, дина-
микой, преобладают устойчивые формы и состояния»), Гуго фон
Гофмансталь— Рихард Штраус («Все высокое австрийское искус-
134
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
ство, в сущности, интимно — оно даже всемирно-исторические про-
блемы должно переносить в задумчивость и уединенность, чтобы
остаться с ними с глазу на глаз»43).
Следующая тема, которая, возможно, в наибольшей степени де-
монстрирует взаимодействие филологической и музыкальной наук, в
которой воплотилось изначальное синкретическое единство поэзии и
музыки, единство, прошедшее затем через всю историю культуры, —
это тема, которую кратко можно обозначить «Слово и музыка». Она
волновала Александра Викторовича на протяжении всей его жизни,
но особенно в последние годы. Наверное, это не случайно: именно
Михайлов — филолог и музыковед — мог охватить эту необъятную
проблему. Он мечтал об объединении усилий Института мировой
литературы и Московской консерватории — для совместных иссле-
дований в этом направлении. Но он не успел осуществить задуманное
в полном объеме.
Однако Михайлов дал прекрасный импульс в развитии этой тен-
денции, когда в 1994 г. стал инициатором и организатором конфе-
ренции «Слово и музыка», которая проводилась совместно ИМЛИ и
Консерваторией. Следующая конференция, по его замыслу, должна
была быть посвящена либреттологии («Слово и музыка: оперный
текст в его истории») и намечалась через год. Она была подготовлена
Александром Викторовичем, но в сентябре 1995 г. он умер, и конфе-
ренция прошла в Консерватории, без него, но была посвящена его
памяти. С тех пор совместные конференции музыковедов и филоло-
гов под рубрикой «Слово и музыка» стали регулярными. Так что,
можно сказать, что Александр Викторович положил начало опреде-
ленному движению в нашей консерваторской музыкальной науке.
Взаимосвязь слова и музыки Михайлов понимал весьма широко.
От этой глобальной проблемы возникает ряд более конкретных от-
ветвлений, которые были разработаны им или лишь намечены в его
трудах.
Одно из них связано со словом в нотных записях, внутри нотного
текста. В 1994 г. Михайлов написал большое исследование, которое
не довел до конца, — «Об обозначениях и наименованиях в нотных
записях Скрябина», подойдя к этой проблеме как филолог и историк
культуры. Лишь незначительная часть этого фундаментального тру-
да была опубликована в «Нижегородском скрябинском альманахе»
(Нижний Новгород, 1995)44.
Эта широкая проблема и более частная— проблема названия
музыкального произведения — демонстрирует особенный, специфи-
135
Е. И. Чигарева
ческий тип связи музыки и слова, бытования слова в музыке; практи-
чески она даже не была поставлена в музыкознании, так что и в этом
отношении Михайлов явился первооткрывателем.
Другое ответвление проблемы «Слово и музыка» связано с темой
«Музыкальные формы в литературном произведении». Эта тема дав-
но привлекает внимание как музыковедов, так и литературоведов,
можно даже сказать, что сложилось определенное направление, в
основе которого — поиски воплощения музыкальных форм в компо-
зиции литературного произведения45. Свое слово в этой области ска-
зал и Михайлов (и опять в связи с Гете!). Так, в статье «Стилисти-
ческая гармония и классический стиль в немецкой литературе» он
пишет: «"Избирательные сродства" — словно айсберг, девять деся-
тых которого находятся под поверхностью воды. В этом романе все
предельно ясно, кристально-прозрачно, и вместе с тем все, каждая
самая простая и незаметная деталь, таким числом нитей увязано со
всем прочим, что композицию этого романа можно сравнивать
только с самым строгим полифоническим музыкальным произведе-
нием»; «система связей и отражений» сюжетных мотивов создает
символический подтекст романа46.
Представляется, что очень важно во всех подобных случаях учи-
тывать специфику каждого вида искусства, не сводить все к опреде-
ленным музыкальным формам, а стремиться выявить общие— на
эстетическом уровне — закономерности. Данная проблема нуждается
в дальнейшей разработке — как теоретической, так и практической.
И в этом контексте методически важным оказывается следующий те-
зис Михайлова: «И тема романа разрабатывается во всей сложности
таких связей, отношений и взаимодействия, — строгость формы <...>
оказывается не его техникой (т. е. не какой-то конкретной формой. —
Е. Ч.), а плотью темы, плотью мысли»41 (курсив мой. — Е. Ч.).
Однако особенно важна для науки (как музыкальной, так и фило-
логической) теоретическая разработка Михайловым проблемы «Сло-
во и музыка».
Задумывая первую конференцию «Слово и музыка», Александр
Викторович выдвигал следующие идеи:
— трансгрессия науки о литературе, то есть непременный ее вы-
ход за пределы обозначаемого в названии самой науки «материала»,
или «объекта»;
— процессы сближения музыки, литературы и изобразительного
искусства (графики) в современной культуре;
— различные проявления «скраденного», «умолчанного», претво-
136
Размышления А. В. Михайлова об истории культурц...
ренного, преобразованного, воплощенного слова (в том числе в ав-
тономной, то есть в отрешившейся от слова музыке);
— в результате— более широкое понимание феномена слова в
современном историко-культурном контексте.
А также ряд более частных, но также очень важных и интересных
идей, например:
— музыка слышимая и неслышимая в истории мысли о музыке, в
философии музыки;
— проблема шифруемых в музыке буквенных и словесных смыс-
лов (от средних веков до Берга, Шостаковича и наших дней);
— музыка и графика; графическая поэзия и графическая музыка;
— музыка и молчание; молчание как способ выявления смысла.
Каждая из обозначенных тем могла бы послужить основой для
научного труда.
На первой конференции Александр Викторович прочитал доклад,
который можно считать программным, в нем он высказывает свой
взгляд на проблему. Название этого доклада симптоматично: «Слово
и музыка: Музыка как событие в истории Слова»48. Не только гене-
тическая и историческая, но и глубинная сущностная взаимосвязь
этих двух форм мышления, двух языков предстает перед нами. Среди
многих мыслей и идей доклада Михайлова есть одна, наиболее со-
кровенная, к которой Александр Викторович неоднократно возвра-
щался в последние годы — о несказанности, о «внутреннем», «скра-
денном», «умолчанном» слове в музыке. Вот, например, небольшая
цитата из доклада: «Музыка всякий раз может разуметься как про-
рывающаяся немота. А смысл, какой утверждает себя в музыке,—
это тогда смысл, прорывающийся через "не могу" своего молчания.
Смысл утверждается — тот, который долго накапливается и настаи-
вается в своей невысказанное™ и даже более того — в своей невы-
сказываемости». Эти и подобные им мысли, рассеянные в различных
работах Михайлова последних лет, были концентрированно изложе-
ны в цикле из трех лекций (последние, которые он прочитал в Кон-
серватории, за пять месяцев до смерти, в апреле 1995 г.) — цикле,
который он озаглавил весьма необычно: «О том, что в музыке». Го-
воря музыкантам о музыке, проблематику заявленной темы Алек-
сандр Викторович очертил следующим образом:
«О смысле в музыке.
Об онтологическом статусе того, что мы называем музыкальным
произведением (о бытийном положении, о бытийных правах того,
что мы называем музыкальным произведением).
137
Е. И. Чигарева
О логике в музыке.
О слове в музыке.
О том, что же есть музыка в музыке (эта странная формула не
тривиальна, но страшно многозначна)». (Лекция 4/IV—1995).
Очень ценные соображения Михайлов высказал по поводу логики
в музыке (вопрос сам по себе не простой, который нередко дискути-
руется в музыковедении). По мнению (справедливому!) Михайлова,
философские или логические учения нельзя просто переносить в му-
зыку, «надо добывать все из своего материала», «найти в музыке
соответствие тому, что мы подразумеваем под логикой — если удает-
ся, значит: музыка сама показала нам, где есть логика»49.
Рассуждая о различных формах проявления музыкальной логики,
Михайлов приходит к мысли о презумпции целого. «Логика музыки
коренится в пространственно-временном целом музыкального про-
изведения, причем эта логика — заданность, она дана a priori».
Положение Михайлова о презумпции целого дает многое для по-
нимания музыки XX в., в которой при традиционном подходе можно
и не усмотреть никакой логики. Например, музыкальное произведе-
ние может не заключать в себе ни одного звука— как скандально
знаменитая пьеса Дж. Кейджа «4'33п». И все-таки восприниматься
как таковое — как текущее время, в течение которого исполнитель
находится на сцене, а слушатели слушают (вернее ждут — 4 минуты
33 секунды, ощущая это текущее время). По словам Михайлова:
«Логика может быть находима, если представить себе это произведе-
ние как звено в истории музыки. Произведение Кейджа "4'33п" "(т- е-
не перформанс, а молчание) черпает свою логику — в своем же це-
лом, временно-пространственном или пространственно-временном
целом". Преодолевается опусность музыки, но не преодолевается
"то, что". Нельзя создать ничего бессмысленного, не целого»50.
И как некая афористическая формула звучат слова: «Быть логич-
ным значит быть целым и иметь смысл».
Так встает вопрос о смысле — может быть, самый сокровенный в
последних работах и выступлениях Михайлова. Это та самая точка, в
которой сходятся нити всех рассуждений «О том, что в музыке».
Можно ли решить эту проблему на современном уровне развития
музыкальной науки — трудно сказать. Поставить ее — это уже мно-
го. Александр Викторович и не стремился охватить весь комплекс
вопросов, которые встают в связи с проблемой смысла, он говорил
об этом не на языке «строгой науки», а метафорически, подчас почти
поэтическим слогом. Александр Викторович высказал предположе-
138
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
ние о существовании принципа доантропологической красоты музы-
ки («это заложено в сущности природы вообще, а не в сущности при-
роды человека»); он говорил о красоте мира в его цельности, о том,
что «Бог сотворил нечто красивое— принцип построения из про-
стейших элементов, независимо от природы этих элементов».
И кажется мне, что эти размышления Александра Викторовича
Михайлова, которым не суждено было воплотиться в некий закон-
ченный текст, тем не менее продолжают жить — своей независимой
жизнью, давая все новые и новые ростки в научной мысли о музы-
ке — музыке, которую он так любил.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Благодатный материал в этом отношении представляет сборник статей,
опубликованный после его смерти издательством Московской консерва-
тории: «Музыка в истории культуры». (М., 1998).
2 См., напр.: Михайлов А. В. Бетховен: преемственность и переосмысления//
Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 7—73; Михай-
лов А. В. О мировоззрении М. П. Мусоргского // Там же. С. 147—178.
3 Михайлов А. В. Диалектика литературной эпохи// Михайлов А. В. Языки
культуры. М., 1997. С. 16.
4 Там же. С. 17.
5 Там же. С. 18.
6 Там же. С. 20.
7 Там же. С. 19—20.
8 Там же. С. 28.
9 Подробнее об этом см.: Чигарева Е. И. Романтизм в музыке// Романтизм:
эстетика и творчество. Тверь, 1994.
10 Михайлов А. Романтизм // Музыкальная жизнь. 1991. № 6. С. 23.
11 Опубликовано в сокращенном виде в сб. Историческая поэтика: Литера-
турные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994; и далее: Михай-
лов А. В. Языки культуры. Цит. изд. В полном варианте, пока не опубли-
кованном, автор активно привлекает также музыкальный материал, при-
надлежащий к эпохе барокко.
12 Михайлов Ал. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Гер-
мании XIX века// Музыкальная эстетика Германии XIX века. М., 1981.
С. 12.
13 Об этом см., напр.: Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII —
начала XIX веков. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
14 Михайлов А. В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX
века // Михайлов А. В. Языки культуры. С. 64.
15 Михайлов А. В. Стилистическая гармония и классический стиль в немец-
кой литературе // Там же. С. 296.
139
Е. И. Чигарева
16 Михайлов А. В. Стилистическая гармония и классический стиль в немец-
кой литературе // Там же. С. 313—314.
'7 Там же. С. 314.
18 Размежевывая понятия «классика», «классицизм» и «классический стиль»,
Л. В. Кириллина замечает: «Классика — наиболее широкое и универсаль-
ное из них; классический стиль относится к достаточно точно определяе-
мой эпохе в истории музыки, классицизм же — система эстетических пра-
вил, основанных на принципах соревновательного подражания высоким
образцам (классике). Сложность для историка-музыковеда заключается в
том, что, как нам представляется, в музыке второй половины XVIII —
начала XIX века все три понятия действуют одновременно». Кириллина Л.
Указ. соч. С. 13.
19 Михайлов комментирует эти мысли Гете так: «Гете видит природу вглубь:
растение — живая метаморфоза, Земля — это история ее создания, от пер-
возданного состояния, о котором ведутся научные дискуссии, до листа
растения, до человека и, наконец, до самой поэзии. Для такого взгляда нет
ничего, что стояло бы на месте, а не разворачивалось внутрь, к своему ис-
току, к своему историческому началу— в масштабах культуры, жизни
Земли, бытия» (Михайлов Ал. В. Гете, поэзия, «Фауст» // Гете И.-В. Фауст.
Лирика. М., 1986. С. 6.
20 См., например, тексты А. Веберна, где композитор развивает идею един-
ства музыкальной концепции, строящейся на «прорастании из одного кор-
ня» (вариации одной и той же мысли — «...всегда другое и все же всегда то
же самое»). Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975. С. 81.
21 «Это слово для Гете— слово видящее; его задача— не быть "в себе",
но открывать вид на так или иначе понятую реальность исторического,
временного, движущегося, направлять умственное, осмысляющее созерца-
ние и приводить такое созерцание к исторически необходимому, истори-
чески обоснованному» (Михайлов А. В. Диалектика литературной эпохи...
С. 16).
22 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981.
С. 286.
23 Михайлов Ал. В. Гете, поэзия, «Фауст»... С. 10.
24 Там же. С. 10—11. О «Дон Жуане» Моцарта и, в частности, о его бароч-
ных корнях Михайлов пишет также в статье «Эдуард Ганслик: к истокам
его эстетики» (Советская музыка. 1990. № 3. С. 67).
25 Эта работа была опубликована после смерти А. В. Михайлова (см.: Ми-
хайлов А. В. Музыка в истории культуры. С. 7—73.).
26 В русле характерной для XX века тенденции «деромантизации» Бетховена,
возвращающей его творчество в конкретный культурно-исторический кон-
текст его времени, находятся, например, и работы Л. В. Кириллиной, со-
здававшиеся независимо от Михайлова, хотя и появившиеся позднее (см.,
в частности: Бетховен и теория музыки XVIII— начала XIX вв. Авто-
реферат дис. ... канд иск. М., 1990).
27 Михайлов А. В. Обратный перевод. Русская и западноевропейская культу-
ра: проблемы взаимосвязей. М., 2000. С. 792—793.
140
Размышления А. В. Михайлова об истории культуры...
28 Музыкальная эстетика Германии... С. 236.
29 По меткому замечанию композитора Н. Каретникова: «Это некая порази-
тельная эстафета, которая как бы предваряется универсальным опытом
Баха (у которого взято все основное): Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт,
Брамс, Вагнер, Малер, Шенберг, Берг, Веберн. Ее можно представить себе
как некоего гениального долгожителя, который родился под фамилией
Гайдн и умер под фамилией Шенберг, как некое восхождение, непрерыв-
ную единую линию, единый пласт сознания». Каретников Н. Темы с ва-
риациями. М., 1990. С. 107.
30 Одно из немногих исключений — работы Е. С. Черной — например, ее мо-
нография «Оперы Моцарта и австрийский музыкальный театр». М., 1963.
31 По поводу этого выражения — «немецко-австрийская культура» — Алек-
сандр Викторович как-то заметил: «Между австрийской и немецкой куль-
турами такая же разница, как, например, между русской и французской».
32 Можно упомянуть монографию Г. С. Слободкина «Венская народная ко-
медия XIX века» (М., 1985), в которой есть главы об Иосифе Страницком
и его традиции в истории австрийского театра.
33 Михайлов А. В. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики // Советская музы-
ка. 1990. №3. С. 67.
34 Там же. С. 67.
и Там же. С. 68.
36 Михайлов А. В. Из источника великой культуры// Золотое сечение. М.,
1988. С. 6.
37 Там же. С. 6.
38 Там же. С. 8.
39 Там же. С. 11.
40 Там же. С. 9.
41 По этому поводу Михайлов замечает: «Сама старая Вена напоминает древ-
ний город— стоящий на пересечении караванных путей; здесь склады-
вается культура интенсивного обмена, однако свое, собственное, не усту-
пает чужеземному, но обогащаясь им, выступает тем тверже и весомей»
(Там же. С. 9)
42 Там же. С. 9.
43 Там же. С. 18,15,15.
44 Одновременно он сказал новое слово в истории музыки, вписав Скрябина
в контекст «Ъторой психологизации» европейской культуры конца XIX
века.
45 Подробнее об этом см.: Чигарева Е. И. Музыкальная композиция в романе
Гете «Избирательное сродство» // Гетевские чтения 1997. М, 1997.
46 Михайлов А. В. Стилистическая гармония и классический стиль в немец-
кой литературе // Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 331.
47 Там же. С. 331— 332.
48 Доклад будет опубликован в сборнике статей по материалам конференций
«Слово и музыка», который готовится в Московской консерватории. См.
об этом также: Чигарева Е. И. Музыка в научной мысли А. В. Михайлова //
Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 243—257.
141
Е. И. Чигарева
49 Вот, например, парадоксальное высказывание, характеризующее метод
Михайлова: «Логику нужно искать там, где можно заподозрить, что ее
нет».
50 Музыкальное искусство нашего времени Михайлов, может быть, несколь-
ко неожиданно, характеризует так: «Ситуация, когда музыка пришла к
своей красоте. Логику можно искать в вещах простых — в сонатах Гайдна,
в "4'33м" Кейджа — не приходя сразу с определением, что такое логика, а
искать в самой музыке».
142
Д. Р. Петров
МГК им. П. И. Чайковского. Москва
КАК (СЛЕДОВАЛО БЫ) ИЗДАВАТЬ
ТЕКСТЫ А. В. МИХАЙЛОВА1
Нижеследующие замечания относительно принципов публика-
ции наследия А. В. Михайлова сделаны на основании еще очень не-
большого опыта, который есть у автора, с некоторых пор занятого
подготовкой к изданию текстов ученого2. Этот опыт явно недостато-
чен для того, чтобы делать уверенные выводы либо давать рекомен-
дации тем, кто занимается или будет заниматься публикацией работ
А. В. Михайлова. Более того, многое из того, что сделано в настоя-
щее время, приходится оценивать как опыт скорее отрицательный.
Поэтому мы осторожно привносим в название статьи сослагательное
наклонение. Но не только поэтому. Труды А. В. Михайлова заслужи-
вают таких изданий, какие отвечали бы самым высоким и строгим
требованиям в отношении полноты, точности передачи, документи-
рования истории авторского текста и которые были бы адресованы,
как и всякие научные издания, прежде всего исследователям его
творчества, а также исследователям истории гуманитарной науки.
В этом состоит наше глубочайшее убеждение. Однако, по всей види-
мости, время таких изданий еще не пришло — хотя бы потому, что
исследователи творчества А. В. Михайлова у нас еще только появля-
ются, масштабы деятельности ученого пока не видны со всей от-
четливостью, не пройден даже первый этап освоения его редчайшего
по богатству наследия и изучения косвенных источников (писем,
материалов из архивов издательств и т. д.). В таких условиях крайне
непросто писать о том, как должно издавать работы А. В. Михай-
лова, и в то же время об этом необходимо думать, даже если мы го-
товим публикацию, преследующую одну единственную и, на первый
взгляд, простую цель— познакомить читателя с текстами нашего
выдающегося филолога.
143
Д. Р. Петров
I
Среди всего того, что находится между текстом и его публикато-
ром, организуя приемы и методы последнего, присутствует автор,
который, как в случае с А. В. Михайловым, обладал определенными
взглядами на проблемы публикации литературных текстов и опреде-
ленным образом оценивал свои собственные тексты.
А. В. Михайлов оставил несколько работ и отдельных замеча-
ний к проблеме издания литературных текстов. Неопубликованная
статья «О проблемах текстологии», статья «Собирание наследия»,
разбросанные по разным местам отклики на издание «Писем рус-
ского путешественника» Карамзина под редакцией Ю. М. Лотмана
и Б. А. Успенского, размышления по поводу публикации эписто-
лярного наследия в докладе «Болеслав Леопольдович Яворский по
его письмам»— вот только некоторые материалы, охватывающие
названную проблему, к которым примыкают еще многочисленные
рецензии. Непременная сторона в размышлениях А. В. Михайло-
ва — критика сегодняшнего состояния отечественной текстологии и
издательской практики, такая критика, для которой столь же важно
радоваться удаче, как и отдавать отчет в общем бедственном поло-
жении дел, одну из причин которого он видел в реформе 1918 года;
назвал ее однажды «орфографической катастрофой»3. Так что все,
что ни делается, делается на обломках и из обломков. Такой взгляд
если и можно назвать пессимистическим, то весьма и весьма условно.
Последствия катастрофы ведь содержат в себе огромные потенци-
альные возможности преодоления ее последствий. И любая созида-
тельная работа уже оправдана как выполнение не только долга уче-
ного, но и нравственного долга. Но точно так же любой результат
работы подлежит неминуемой и часто беспощадной критике, коль
скоро за ним предполагается возможность (и долженствование) мак-
симально использовать те возможности, которые даны нам ката-
строфической ситуацией. Вот и получается: отчаяние и надежда —
одна из основных тем А. В. Михайлова в приложении к текстологи-
ческой теории и практике.
Взгляды А. В. Михайлова на задачи ученого, занятого подготов-
кой издания текстов другого автора, имплицитно выражены во мно-
гих составленных им книгах. Один частный, но особенно показа-
тельный пример: небольшая подборка текстов Э. Ганслика в издании
«Музыкальная эстетика Германии XIX века» учитывает материал
разных редакций трактата «О музыкально-прекрасном», что на се-
144
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
годняшний день отличает только недавно вышедшее в Германии ис-
торико-критическое издание этого текста.
Работы А. В. Михайлова таковы, что выступают с прямыми или
скрытыми требованиями и к ученому, занятому пусть даже самой част-
ной, своей проблемой истории культуры, и к тому, кто занимается
текстами самого А. В. Михайлова. Способность прочитывать эти тре-
бования и обращать их на себя есть, кажется, первая необходимость в
работе над изданиями его произведений. Тем более что его взгляды
на проблемы текстологии опирались на положения, которые вроде бы
не вызывают сегодня споров по существу, находят признание в тео-
рии, но все еще очень далеки от их строгого применения на практике.
Приведем два фрагмента.
Из статьи «Проблемы текстологии»: «Как и во всем, науке трудно
давались и даются всякого рода преодоления психологических (как
бы психологически-"естественных") установок XIX века,— теперь
же все же удалось выяснить, что филолог-текстолог должен зани-
маться не столько установлением "воли автора" (тем более— "по-
следней воли автора"), сколько документированием всех зна-
чимых состояний текста, а среди них— прежде всего тех, которые
реально включались в историю культуры и играли в ней свою роль —
подчас даже далекую от какой бы то ни было "воли автора" и под-
вергаясь всякого рода истолкованиям»4.
Из доклада о Б. Л. Яворском: «И вот существует в преклонении
перед великим человеком известная сторона, которую я бы назвал
наивной. Наивность заключается в том, что мы преклоняемся перед
великим человеком, а в то же время он нас не устраивает. Нам хоте-
лось бы, чтобы он был другой, а он — не другой, а он — вот такой!
Нам хочется, чтобы он сказал что-то очень понятное и гладкое, — а
он этого не хочет! <...> Надо вводить текстологические приемы, ко-
торые разделяют разные пласты текста, скажем, первоначальный
авторский текст и потом какие-то слои его собственной правки и т. д.
Все это надо делать с полным академическим хладнокровием, не
боясь того, что читатель скажет: "А мне ничего непонятно!"»5.
II
Кажется, нет никаких сомнений в том, что издание наследия
А. В. Михайлова заслуживает самого серьезного к себе отношения.
То, что уже сделано, выполняет одну важную задачу: работы А. В. Ми-
хайлова стали доступнее.
145
Д. Р. Петров
Издание тома избранных статей под названием «Языки культу-
ры» (М., 1996) обошлось вовсе без решения каких-либо текстологи-
ческих задач: опубликованные при жизни автора статьи собраны и
представлены в виде большой книги — в этом тоже есть свой смысл.
Не в последнюю очередь — в быстроте, с какой эта книга появилась,
нашла своих читателей, помогла своим немедленным распростране-
нием выявить действительно широкий интерес к работам А. В. Ми-
хайлова, тем самым создав хорошие условия для подготовки сле-
дующих изданий.
Когда в консерватории готовился другой сборник избранных ра-
бот— «Музыка в истории культуры» (М., 1998), который целиком
состоит из текстов, при жизни автора не публиковавшихся, ситуация
исключала всякую возможность подобных простых решений. И все
же первоначально сборник был задуман максимально просто. Сде-
лать доступными не известные ранее тексты— задача совершенно
понятная. Но что конкретно предполагает эта работа? Какова до-
пустимая мера вмешательства в текст, пусть даже с целью прояснения
того, что в нем сказано? Каков критерий отбора различных редакций
одной статьи для публикации в качестве основного текста? Отверг-
нута ли изначально компиляция как возможный путь? В каком виде
должны быть отражены авторские варианты, различные слои текста?
Какова задача комментария? К сожалению, такие вопросы не были
поставлены с самого начала. А поскольку они не могли не возник-
нуть (таковы уж свойства этого неопубликованного материала), то
застигали нас — составителей сборника — врасплох. Их приходилось
решать в процессе работы, второпях, несогласованно. Есть, правда,
одно обстоятельство, которое может извинить некоторые недостатки
работы: уж в слишком различной степени были подготовлены эти
тексты к печати самим автором. С одной стороны, статьи о Явор-
ском и Мусоргском, представленные А. В. Михайловым для пуб-
ликации в сборниках материалов соответствующих конференций.
С другой стороны, статья о Бетховене, которая существует по край-
ней мере в 4-х вариантах, три из которых, по всей видимости, отра-
жают параллельные, а не хронологически последовательные этапы
работы над текстом; и ни об одном из них нельзя сказать, что он
представляет итог этой работы. Или статья «Австрийская культура
после Первой мировой войны», которая наводит на мысль о том, что
в случае публикации автор внес бы изменения, по крайней мере, в
пунктуацию. Или доклад о Веберне 1993 года; текст, зафиксирован-
ный на магнитной пленке отличается от рукописного не только жан-
146
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
ром (устное выступление и статья), но и большей проработанностью
основных положений в целом.
Можно оспаривать решения редакторов-составителей, принятые в
таких сложных случаях. Можно досадовать, например, и на то, что
использованный в некоторых случаях ради «сжатия» текста петит
(изначально были наложены ограничения на объем книги) есть не
что иное, как непозволительная в таких случаях интерпретация, вы-
деление основного и второстепенного. Можно находить много мел-
ких небрежностей, неточностей в нашем труде.
Вот один пример. На 188 с. книги можно прочитать следующее:
«О себе действительно не предсказывают, — если только косвенно и
невнятно для своих же ушей». Это сказано о Яворском. Следует от-
сылка к комментарию, который предупреждает читателя о том, что в
действительности у А. В. Михайлова другое: «...если только не кос-
венно и не невнятно для своих же ушей» (с. 217). Но и это, оказывает-
ся, неправда. Потому что в машинописном тексте, по которому дела-
лась публикация, написано буквально следующее: «...если не только
не косвенно и не невнятно для своих же ушей». Получилось что-то
невероятное. Готовивший текст к публикации (автор настоящей ста-
тьи) решился на совершенно неоправданную конъектуру, да еще до-
пустил ошибку, предупреждая читателей об этом своем действии.
Можно лишь порадоваться тому, что в сборнике материалов конфе-
ренции «Наследие Б. Л. Яворского», вышедшем незадолго до подго-
товленной в консерватории книги, эта фраза избегла подобных вме-
шательств6. Во всем этом есть и юмористическая сторона: прочитан-
ный фрагмент из устного выступления, где А. В. Михайлов говорит
об академической строгости, напечатан в книге (в комментариях к ос-
новному тексту статьи о Яворском) по соседству с предупреждением
о неоправданной конъектуре и ошибочной цитатой из источника пуб-
ликации. Сказанное, однако, не означает, что оставить все как есть —
наилучшее или единственно возможное в данном случае решение.
Всякий на этом месте споткнется; и не потому, что текст вообще
трудный, вообще требует читательского труда. Нужно предполагать
возможность верной конъектуры. Ведь сказанным в тексте предпола-
гается несомненно, что если и можно предсказывать о себе, то лишь
косвенно и невнятно для своих же ушей. Значит возможно следующее
решение: «О себе действительно не предсказывают, — если только не
косвенно и не невнятно для своих же ушей». То есть одно отрицание
оказывается все же лишним. Получается то же самое, что в нашем
комментарии ошибочно приводится как оригинальное чтение.
147
Д. Р. Петров
Но, в конце концов, издание состоялось. И более того, оно не ли-
шено известной ценности не просто как собрание статей А. В. Ми-
хайлова, но и как один из первых опытов работы над его наследием.
Имею в виду следующее. При всей неосмысленности и несогласован-
ности совершаемых над этими текстами операций, при том, что из-
начально издание не мыслилось как научное и не приблизилось к
таковому под воздействием необходимости решать в процессе рабо-
ты множество возникавших проблем, некоторые первоначальные
(или даже подготовительные) действия в области критики текста
были совершены. В книге можно найти краткое описание источни-
ков, в некоторых случаях — их оценку, обоснование выбора того или
иного источника в качестве основного. Читатель в общем и целом
не введен в заблуждение относительно того, что за текст ему пред-
лагается. Проделанная работа позволяет яснее представлять себе
задачи, которые предстоит разрешать при подготовке будущих из-
даний7.
Одна задача уже очевидна. В случаях повторных публикаций ра-
бот нужно непременно помнить об ошибках предыдущих. Новые
издания, не повторяя в целом материал уже вышедших, отчасти про-
должат освоение текстов тех работ, которые были опубликованы в
двух названных сборниках. «Поэтика барокко» теперь будет издана
не по первой публикации, а по машинописному тексту значительно
большего объема. Текст доклада «Отказ и отступление. Простран-
ство молчания в произведениях Антона Веберна» — по рукописному
тексту, а не по расшифрованной аудиозаписи8. Еще раз будет опу-
бликована статья «Австрийская культура после Первой мировой
войны» и, надо надеяться, с куда более подробным изложением
принципов передачи этого сложного текста9.
III
К приведенным фрагментам работ А. В. Михайлова, затрагива-
ющих проблемы текстологии, добавим его высказывания о собствен-
ных текстах; из них в еще большей степени может быть вычитано
требование, обращенное к публикатору текстов ученого.
В 1994году А.В.Михайлов под впечатлением увиденных рас-
шифровок своих лекций написал небольшой текст, красноречиво
озаглавленный «Предисловие, или, вернее сказать, Послесловие — к
самому себе». В нем есть такие слова: «Вот я смотрю на свой текст,
внезапно остановленный в этом своем трубном бесследном истече-
148
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
нии, и вижу ясно — пусть это не в с ё, а только что-то, но это что-то
отнюдь не бессмысленно, и это что-то я ощущаю теперь как вынуж-
денное движение по одной линии и в одном направлении, потому что
вижу и то, что от каждой фразы на линии еще должно было бы быть
ответвление — отходящие новые линии, а от каждой фразы на новой
линии — еще новые ответвления. Вот какая схема метрополитена тут
получается, и мне хотелось бы построить когда-нибудь свой текст
именно так, но я не знаю, как это сделать, не знаю, как приступить к
делу. А пока я наверняка делаю пересадки случайные и не там, где
надо. Я ведь не могу с одной линии сразу пересесть на две или три
другие — что здесь требуется самим делом»10. Расшифровка лекций, а
следовательно, и перевод произнесенного слова в совершенно иное
состояние обнажили для А. В. Михайлова внутренние проблемы его
текстов. Поэтому он так быстро переходит от впечатлений, вызван-
ных увиденной расшифровкой, к тому, как ему хотелось бы писать,
чтобы текст отвечал сути «самого дела», и к тому, каким он вообще
мыслит собственный текст. Хотя это последнее и предстает в приве-
денном фрагменте как нечто, что в действительности воплотить на
бумаге невозможно, как такая фигура в пространстве («схема метро-
политена»), которая является разве что возможной формой внешне-
графического выражения внутренней устроенности текста, однако
тот, кто занимается изданием работ А. В. Михайлова, может (или,
вероятнее всего, должен) сделать из его слов те выводы, которые
будут иметь самое непосредственное отношение к его практической
деятельности. Нельзя не задаться вопросом: а не является ли облик
текстов А. В. Михайлова отражением его стремления приблизиться к
тому состоянию и к той устроенности текста, которые он выразил
метафорой «схемы метрополитена»? А если ставить вопросы дальше
и думать над тем, какие слои текста как бы отвечают за исполнение
этой задачи, то вероятнее всего следует назвать пунктуацию. Пунк-
туация как очень индивидуальный момент в авторском тексте, тре-
бующий бережной передачи — эту мысль А. В. Михайлов неодно-
кратно высказывал устно и письменно, думая, возможно, и о том, как
поступает он с нормами пунктуации в собственных текстах. В самом
деле, его пунктуация представляет собой явление, отмеченное крайне
индивидуальными чертами. Не предполагая дать анализ этих черт,
отметим, например, иногда непомерно пространные предложения,
частое использование вводных оборотов, характерное сочетание
запятой и тире, проистекающее от того, что в случае совпадения гра-
ниц выделяемых средствами пунктуации сегментов более высокий
149
Д. Р. Петров
уровень выделения (тире) не уничтожает более низкий (запятая). По-
следнее, между прочим, сообщает облику текста замечательную вы-
пуклость. Теперь представим себе, что кто-то, руководимый стрем-
лением донести до читателя ранее неизвестные работы А. В. Ми-
хайлова, будет считать необходимым или даже правильным облег-
чить читателю доступ к «смыслу» текста, исправляя его «букву», бу-
дет исправлять все его, так сказать, неправильности, редактировать
пунктуацию, снимать, добавлять и заменять знаки, разбивать пред-
ложения и т. д. Помня о том, что говорил А. В. Михайлов о соб-
ственных текстах, можно возразить такому человеку не только в том
самом общем смысле, что он собирается ввести читателя в заблужде-
ние, преподнося текст, который автор никогда не писал. Нет, здесь
должны зазвучать со всей возможной настойчивостью и другие, куда
более конкретные аргументы, апеллирующие к устроенное™ именно
этих текстов. Ведь подобного рода редакторская правка сопровож-
дается грубым вторжением в такие слои текста, в которых находит
свое выражение авторское осмысление текста в его внутренней уст-
роенное™. Пунктуация отвечает за то, как этот текст протекает, за
соподчинение его элементов— за то, что можно было бы назвать
горизонталью и вертикалью текста. Вряд ли было бы верным вос-
принимать усложненные, бесконечные, «неправильные» конструкции
в работах А. В. Михайлова только как прихотливо изогнутые линии.
Скорее надо было бы говорить о пересеченной местности, где протя-
женности линий отвечает иногда как бы чрезмерная, приковы-
вающая внимание ее расчлененность на соподчиняющиеся сегменты.
«Схемы метрополитена» все равно, конечно, не получается, но в
стремлении к понимаемой таким образом структуре текста возмож-
ности пунктуации использованы до конца. Следует сразу же отвести
и другое суждение, с которым часто приходится сталкиваться,—
будто бы особенности пунктуации А. В. Михайлова обусловлены в
значительной степени такой невероятной быстротой работы, которая
приводила к большому количеству ошибок, случайностей, непроре-
флектированных автором моментов в графическом оформлении
текста, и, следовательно, у нас есть право или даже обязанность при-
водить эти тексты в «порядок». Достаточно познакомиться с маши-
нописными экземплярами работ А. В. Михайлова с авторской прав-
кой и обратить внимание на то, что именно редактировалось им и
исправлялось. Пунктуация подвергалась изменениям крайне редко, а
если и подвергалась, то названные выше особенности не сглажи-
вались, а усиливались. Все говорит о том, что пунктуация была для
150
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
А. В. Михайлова предметом его личной, совершенно осознанной
ответственности. Если и понимать ее как «букву», то только как та-
кую, которая не противостоит «смыслу» текста, тому, о чем этот
текст, но находится в согласии с тем, что этот текст такое, что он
собой представляет и как он задуман автором. Редактор, взявшийся
помогать читателю в понимании работ А. В. Михайлова, изменяя на
свой лад пунктуацию, если и может в некоторой степени добиться
достижения своей маленькой цели, то чего же тогда он лишает чита-
теля? — По крайней мере, лишает его возможности читать авторский
текст и, следовательно, лишает его возможности понимать, что такое
этот текст.
Сказанное легко перенести и на область орфографии. И в этой
области мы имеем дело не только с особенностями орфографии в
текстах А. В. Михайлова, но и с его отношением к самой проблеме
сохранения или несохранения особенностей орфографии публикуе-
мых текстов. Это отношение лучше всего выразилось даже не в его
рассуждениях по поводу орфографии, но в том, как в своих послед-
них работах цитирует он привлекаемые источники — с максимально
возможной в условиях применения послереформенного алфавита
точностью в передаче орфографии текстов XIX века. Наиболее яр-
ким примером тому может служить работа «Из истории нигилиз-
ма»11. Но вот случай из практики работы над изданием текстов са-
мого А. В. Михайлова. В томе избранных статей «Обратный пере-
вод» изданы несколько ранее не публиковавшихся работ, написан-
ных в разные годы. Их соединение под одним переплетом в резкой
форме ставит вопрос о возможной унификации формы написания
некоторых слов, например, «реторика» и «риторика». Легче всего
было бы решиться на унификацию, но вряд ли это был бы правиль-
ный путь. И вряд ли сейчас можно предполагать все то, о чем может
сказать такая непоследовательность А. В. Михайлова. Например, о
том, что в середине и в конце 1970-х годов автор делал попытку через
написание «реторика» (см. статью «Культура комического в столк-
новении эпох»), приближенное к латинскому корню, каким-то обра-
зом противопоставить свое расширительное толкование этого поня-
тия тому более узкому и даже несколько негативному значению слова
«риторика», с которым это расширительное толкование сосуществу-
ет и вынуждено считаться. Унификация лишила бы нас возможности
читать авторский текст таким, каким он, собственно, был написан, и
открывать в нем выраженные через формы написания слов авторские
интенции.
151
Д. Р. Петров
IV
В 1991 году А. В. Михайлов задумывал сборник своих работ, ко-
торый хотел озаглавить так: «Из старины. Литература, искусство,
музыка. Первый урожай текстов». Смысл последней фразы заключа-
ется, видимо, в том, что это должен был быть вообще первый сбор-
ник статей автора. По поводу статей, которые предполагалось вклю-
чить в него, А. В. Михайлов написал: «Некоторые тексты уже опу-
бликованы, но, как правило, в неполном виде, с сокращениями, од-
нако и с дополнениями, которые ставят задачу просмотра вариантов
и собирания из них нового»12.
Вот еще один случай, когда слова А. В. Михайлова можно про-
честь как требование, обращенное к публикатору его текстов. Речь,
разумеется, ни в коем случае не может идти о возможности компиля-
ции, о смешении различных редакций, на что с полным правом мог
пойти только сам автор. Нам же стоит принять во внимание, что в
некоторых случаях А. В. Михайлов, думая возвратиться к своим
прежним работам, не мог отдать предпочтение ни одной из редакций,
ни первоначальной, ни уже опубликованной. Значит, самой предпоч-
тительной формой публикации работ ученого должна была бы стать
их публикация в виде комплекса авторских редакций. Такие издания,
если возникнут, то, наверное, еще не скоро. Однако существующие на
сегодняшний день издания в сочетании с теми, которые появятся в
скором времени, предоставят читателям возможность знакомиться с
различными редакциями одной и той же работы (см. выше). Сейчас
же приходится нередко решать вопрос выбора какой-либо одной
редакции в качестве основного источника публикации. И в этих слу-
чаях материалы других известных редакций должны привлекаться
редакторами в комментариях. Учитывая, что большинство работ
А. В. Михайлова было опубликовано сравнительно недавно и позна-
комиться с прижизненными изданиями не составляет большого тру-
да, имеет смысл публиковать первоначальные редакции по машино-
писным или рукописным текстам, особенно тогда, когда эти послед-
ние отличаются большей полнотой. Но существуют и другие причи-
ны, побуждающие возвращаться к первым редакциям. Так, напри-
мер, статья «Гоголь в своей литературной эпохе», опубликованная в
1985 году в сборнике «Гоголь: история и современность» (источник
«В»), сохранилась в архиве А. В. Михайлова в виде машинописной
копии (источник «А»), к которой приложены еще три страницы ма-
шинописной копии, содержащие вариант окончания статьи (источ-
152
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
ник «Б»). Таким образом, при двух основных редакциях работы ее
окончание представлено тремя вариантами. В сборнике «Обратный
перевод» статья напечатана в первой редакции. Выбор основного ис-
точника обусловлен тем обстоятельством, что текст в сборнике 1985
года сильно сокращен в сравнении с текстом машинописной копии.
По всей видимости, мы имеем дело с сокращениями, часть которых
была совершена по какому-либо требованию извне. В первую оче-
редь это относится к окончанию статьи. 5-й раздел, имеющийся в «А»
и посвященный в основном сопоставлению работ о Гоголе К. С. Ак-
сакова и В. Г. Белинского с явным предпочтением, отдаваемым пер-
вому, и критике некоторых работ советских литературоведов, был в
«Б» сокращен и сведен до небольшого заключения 4-го раздела с
беглым напоминанием о правомерности сопоставления Гоголя и Го-
мера. В рецензии М. Б. Храпченко «Метаморфозы критического субъ-
ективизма»13 статья А. В. Михайлова удостоилась едва ли не раз-
громной критики, причем особенное негодование вызвало сравнение
Гоголя с Гомером с беглой ссылкой на К. С. Аксакова, все-таки
оставшейся в «В». Этот отзыв выражает противоположную А. В. Ми-
хайлову точку зрения, конечно, в предельно крайнем виде, однако
соответствует, по-видимому, мнению не одного только М. Б. Храп-
ченко. И с таким мнением А. В. Михайлов мог столкнуться в процес-
се подготовки статьи к печати. Во всяком случае, он по меньшей мере
дважды принимался за переделку окончания статьи. Источник «Б»
отражает промежуточный этап переработки. Это новое, сокращенное
окончание статьи, которое при подготовке к публикации еще раз
было переделано. Ср.:
«Б» (с. 59а) — «В. Г. Белинский, который, к сожалению, недооце-
нил мировое значение Гоголя ("Гоголь великий русский поэт, но не
более"), в то же время очень верно почувствовал все своеобразие
положения Гоголя в мировой литературе <...>»;
«В» (с. 130)— «В. Г. Белинский верно почувствовал все своеобра-
зие положения Гоголя в мировой литературе <...>».
Сказанное, однако, не означает, что, переделывая статью,
А. В. Михайлов не ставил перед собой никаких иных задач, кроме
подчинения внешним требованиям. Последние строчки в «Б» и «В», в
которых упоминается роман А. Штифтера «Витико» и содержится
обобщение относительно «органической цельности гоголевской по-
эмы», дают ту степень завершенности целого, какой, по возможному
мнению автора, недоставало первоначальной редакции.
153
Д. Р. Петров
V
Задуманный А. В. Михайловым сборник «Из старины» был не
единственным неосуществленным проектом такого рода. В его архи-
ве существует, например, еще план книги о Гете и поэзии Востока,
которая тоже должна была быть составлена преимущественно из
ранее опубликованных работ.
Перед составителями любого издания стоит вопрос о выборе и
расположении материала. К сожалению, авторские проекты неосу-
ществленных изданий были обнаружены в архиве А. В. Михайлова
уже после того, как вышел в свет том «Языки культуры», где часть
статей, помещенных А. В. Михайловым в планы авторских сборни-
ков, была переиздана. Так что сейчас приходится, к сожалению, от-
казываться от возможности воспроизвести структуру задуманных
автором книг. Но существуют ли какие-либо иные основания, на
которые можно было бы верно положиться при издании текстов
А. В. Михайлова?
Многие, вероятно, согласятся с тем, что объединение работ
А. В. Михайлова в разделы по тематическому признаку может быть
очень и очень условным. Когда он предлагал подобное разделение в
проекте сборника «Из старины», то тут же заметил: «названия разде-
лов я не думаю оглашать: они только для внутреннего пользования,
для обзора целого, тем более что один [раздел] всякий раз переходит
в другой».
Самые важные слова здесь, на наш взгляд,— «обзор целого»,
внутри которого, следовательно, все тематические разделения только
относительны. Уже не раз приходилось слышать и читать, что все
работы А. В. Михайлова и вся его деятельность отмечены неким
единством замысла. Говорить сейчас об этом «замысле» более кон-
кретно, пытаться реконструировать его — значит вступать в область
очень тонких интуиции, тем более что наследие ученого сейчас вовсе
еще не лежит у нас перед глазами в полном объеме. Другое дело, ког-
да сам А. В. Михайлов говорил о себе как о человеке, «долго импро-
визирующем на свои темы, на все свои темы»14. Такие «свои те-
мы», переходящие из одной работы в другую, иногда как бы поверх
основного предмета, найдет без труда читатель, знакомый с некото-
рым количеством текстов А. В. Михайлова. Но искать эти темы, вы-
являть их конфигурацию, их соотражения — дело скорее не издания,
а чтения.
154
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
* * *
Описывая ситуацию, когда редакторы, будучи не в силах верно
судить о намерениях автора, вступают в «соавторство» с ним, ис-
правляя и «улучшая» текст, А. В. Михайлов сетовал на то, что такое
положение дел, уже осознанное как недопустимо препятствующее раз-
витию отечественной текстологической теории и практики, все еще
не может быть преодолено15. Сейчас оно не преодолено точно так же,
как в 1981 году, когда была опубликована работа Ю. Лотмана, Н. Тол-
стого и Б. Успенского, на которую ссылается А. В. Михайлов, так же,
как в 1994 году, когда он сам писал статью «О проблемах текстоло-
гии». Не раз встречающееся у А. В. Михайлова соображение: он ста-
вит в пример Германию, где в последние десятилетия уровень науч-
ной подготовки изданий, рассчитанных на широкого читателя, не-
уклонно растет. Пока никто не замысливает таких изданий трудов
А. В. Михайлова, которые были бы адресованы исследователям его
научного творчества, никто не замысливает трудоемких критических
изданий, пока не удовлетворена потребность как можно скорее полу-
чить в руки публикации неизвестных или мало известных работ уче-
ного. Но для того, чтобы эти издания когда-нибудь появились, нуж-
но, на наш взгляд, уже сейчас осознать следующее. Пусть тексты уче-
ных, даже очень крупных, в отличие от текстов великих писателей
прошлого крайне редко удостаиваются критических изданий, работы
А. В. Михайлова, что нам и хотелось показать, представляют собой
именно те тексты, в отношении которых нужно непременно ставить
вопрос: что они такое. И если интерес к ним как к необыкновенному
явлению мысли и языка, интерес с долей радостного и тревожного
изумления, не пропадет, мы невольно должны будем прийти к мысли
о необходимости подлинно научных изданий наследия ученого.
Однако кое-что необходимо делать уже сейчас. Если позволено
будет обратиться со страниц этого сборника ко всем тем, кто имеет
отношение к публикации работ А. В. Михайлова, то мы должны ска-
зать по крайней мере о трех вещах.
1. Наследие А. В. Михайлова представлено большим количеством
документов, публикаций, рукописей, расшифровок, имеющих отно-
шение к одним и тем же работам. Это требует указания на источник
публикации в любых изданиях, какие бы цели они не преследовали.
Иначе читатель, знакомый с различными изданиями одних и тех же
работ, сделанными по разным источникам, будет введен в заблужде-
ние относительно того, что за текст он читает;
155
Д. Р. Петров
2. Если в каких-либо случаях сохранение особенностей авторской
записи вызывает принципиальные возражения издателей, абсолютно
необходимо раскрывать и объяснять все операции, которые прихо-
дится производить редакторам над текстами А. В. Михайлова;
3. А. В. Михайлов говорил и писал о важности графического об-
лика текста, который включает в себя и орфографию, и пунктуацию,
и расположение текста на странице и т. д. Понимание важности гра-
фического облика текста дается непросто, но здесь нам может по-
мочь опыт искусства XX века, возрождающего формы графической
поэзии, музыки «для глаз» и т. п. Этот опыт не может не вести к пере-
смотру принципов издания текстов, даже таких, которые, на наш
взгляд, устроены вполне традиционно. Если принципиально согла-
ситься с тем, что графический облик текста является не менее важ-
ным, чем его «смысл», или просто одной из граней того же самого
«смысла», то многие вопросы вмешательства редактора в авторский
текст решатся сами собой, причем в большинстве случаев в пользу
сохранения особенностей авторского текста.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Настоящая статья основана на материале доклада, подготовленного авто-
ром совместно с С. Ю. Хурумовым и прочитанного на конференции «Сло-
во и музыка. Памяти Александра Викторовича Михайлова» в Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского в декабре 1998 го-
да. Автор приносит благодарность С. Ю. Хурумову за разрешение частич-
но использовать материал совместной работы, а также Н. А. Михайловой
за предоставление материалов из архива А. В. Михайлова.
2 См.: Михайлов А. В. Музыка в истории культуры: Избр. статьи / Редкол.:
Е. И. Чигарева (ред.-сост.), О. В. Лосева, Д. Р. Петров, Е. М. Царева, В. С. Це-
нова. М., Моск. гос. консерватория, 1998; Михайлов А. В. Обратный пере-
вод: Избр. работы / Сост. С. Ю. Хурумов; Подгот. текста и коммент.
Д. Р. Петрова и С. Ю. Хурумова. М., Языки русской культуры, 2000.
3 Михайлов А. В. Собирание наследия // Альманах библиофила. Вып. 26. М.,
1989. С. 18.
4 Машинопись. С. 4 (архив А. В. Михайлова).
5 Михайлов А. В. Болеслав Леопольдович Яворский по его письмам [1992] //
Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. С. 216—217 (коммент.).
6 Наследие Б. Л. Яворского. К 200-летию со дня рождения / Ред.-сост.
Г. П. Сахарова. М., ГЦММК им. М. И. Глинки, 1997. С. 101.
7 В настоящее время в издательстве «Университетская книга» готовятся к
изданию четыре тома избранных работ А. В. Михайлова.
8 Приходится с сожалением указать на недавний факт такой публикации
156
Как (следовало бы) издавать тексты А. В. Михайлова
этой работы, которая представляет собой компиляцию расшифровки маг-
нитофонной записи и авторского текста (в кн.: Адорпо Т. В. Избранное:
Социология музыки. СПб., 1999. С. 412—427), о чем редакторы, правда,
весьма кстати предупреждают читателя.
9 В сб. «Музыка в истории культуры» эта статья (подгот. текста Д. Р. Пет-
рова) претерпела отдельные редакторские вмешательства, нигде не огово-
ренные. Наиболее существенное: знак "точка с запятой", часто используе-
мый автором на первых страницах текста, был использован в продолже-
нии статьи для внутреннего расчленения предложений, занимающих до
одной машинописной страницы.
10 Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. С. 222.
11 Опубликована: Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 537—623.
,2 План сборника, предназначенный А. В. Ахутину. Машинописная копия в
архиве А. В. Михайлова.
'3 См.: Новый мир. 1985. № 11. С. 234—235.
14 Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. С. 221.
15 См.: Михайлов А. В. О проблемах текстологии. С. 3.
157
M. Насонова, P. Насонов
Москва
ПРЕЗУМПЦИЯ СОКРОВЕННОГО
Консерваторские лекции Александра Викторовича Михайлова
сразу же, с момента первого появления ученого перед аудиторией,
наполнили светом и смыслом интеллектуальную и духовную жизнь
его верных слушателей, среди которых были и авторы двух статей,
публикуемых ниже. Александр Викторович пришел в консерваторию
потому, что, как немногие среди филологов, понимал роль музыки в
культуре и значение труда музыковеда для развития гуманитарных
наук. Он пришел, потому что не мог не огорчаться невысоким уров-
нем гуманитарной культуры большинства музыковедов, их цеховой
замкнутостью, а иногда— нежеланием выходить за рамки «узкой
специализации». Но, может быть, более всего раздражала Алексан-
дра Викторовича входившая в то время (кон. 80-х гг.) в моду «куль-
турологическая» нахватанность, заменявшая широкий культурный
кругозор, страсть побираться идеями у коллег-гуманитариев, вместо
того чтобы мыслить самостоятельно, опираясь на собственный мате-
риал. Ученый европейского масштаба, человек, живший в культуре и
культурой, А. В. Михайлов явил нам высокий образец размышлений
о музыке, редкой, несвойственной большинству музыковедов-про-
фессионалов, чуткости к скрытым в ней слову и смыслу. На наших
глазах Михайлов наполнял смыслом само ремесло музыковеда, и это
не могло пройти даром.
Слушать Александра Викторовича было порой непросто: он го-
ворил о трудных вещах и не был блестящим оратором; его мысль
часто ходила «кругами», иногда в ней ощущалась недосказанность и
недоговоренность, словно сам ученый был еще озадачен какой-то
загадкой. По ходу этих лекций рождалось то, что затем воплотилось
в замечательные статьи о музыке, или не воплотилось в них... Лекции
158
Презумпция сокровенного
А. В. Михайлова врезались в память не стройной последователь-
ностью мысли и логичным планом, но скорее отдельными фрагмен-
тами, замечаниями, озарениями. Каждый был поражен чем-то своим,
и было бы интересно собрать эти воспоминания воедино, сложить из
ярких стеклышек мозаику нашей памяти.
Один из подобных эпизодов и послужил стимулом и отправной
точкой для наших статей. Это была первая лекция, которую Алек-
сандр Викторович читал в 23 классе консерватории по приглашению
проф. В. Н. Холоповой. Речь зашла о смысле и значении слов нашего
языка. Со свойственной ему неподражаемой иронией Александр
Викторович издевался над советским канцелярским стилем с его бес-
конечным использованием слова «является», а затем — прочел пер-
вую строфу стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье...»,
и полустершееся слово заиграло новыми, удивительными красками.
Мысль слушателей, завороженных случившимся на их глазах неча-
янным чудом, пошла в разных, едва ли предполагавшихся здесь са-
мим Александром Викторовичем, направлениях. Один из присут-
ствовавших подумал о тайне слов, сокрытых и явленных в музыке
(продолжая давние собственные размышления, столь близко соприка-
савшиеся с мыслями Михайлова, которыми тот делился на своих лекци-
ях); еще один, вспомнив этот случай спустя много лет, задумался о фе-
номене культурно-исторического перевода...
Любопытно, что в самой последней своей статье — «Поэтические
тексты в сочинениях Антона Веберна» — Михайлов возвращается к
пушкинской строфе, сопоставляя ее со строкой Ст. Георге «Entflieht
auf leichten Kähnen» («Ускользайте на легких челнах») — трудным,
по словам Михайлова, текстом, смысл которого закрыт от понима-
ния и лишь приоткрывается для него. Текст Пушкина тоже загадо-
чен, однако вспыхивающий в нем свет смысла, внешне столь просто-
го и очевидного, заливает собой, скрывает все таинственное и труд-
ное, что есть в нем, создавая у читателя XIX века ощущение есте-
ственности и непосредственности искусства, понятности и доступ-
ности его текстов1. Рассуждение Александра Викторовича, сохра-
нившееся в опубликованной статье, не было непосредственным про-
должением его размышлений о заболтанности слов, первозданную
полноту смысла которым возвращает поэзия (размышления эти со-
хранились в памяти слушателей); просто, по-видимому, пушкинская
строфа озадачивала А. В. Михайлова, не давала ему покоя. Лишь
небольшой мостик между этими двумя фрагментами мысли — слово
«явилась»: размышления о явленности и сокрытости смысла в их
159
M. Насонова, P. Насонов
загадочной сопряженности занимали ученого и в начале 90-х годов,
когда он читал свою первую консерваторскую лекцию. «...Мы могли
бы задаться вопросом о том, что значит "чистая красота" и почему
этот философский термин попадает в поэзию. А кроме того, зная о
бурной истории понятия "гений" на протяжении XVIII и начала XIX
веков, мы могли бы озадачиться вопросом о том, в каком смысле
понимает здесь поэт слово "гений"»2. Позволим себе предположить,
что эти вопросы существовали для А. В. Михайлов не только в сосла-
гательном наклонении...
Что думал по этому поводу А. В. Михайлов? Было ли у него на
этот счет сформировавшееся мнение, или интуиция, или он просто
намечал направление возможных дальнейших размышлений (быть
может, по своему обыкновению, надеясь, что необъятную задачу
осмысления истории культуры в ее бесчисленных проявлениях разде-
лят с ним его коллеги, в том числе молодые)? Нам не дано знать это-
го. Мы никогда не узнаем, что же думал Александр Викторович о
смысле слова «гений» в стихотворении Пушкина «Я помню чудное
мгновенье...». И кто знает, чего еще нам не узнать никогда.
А. В. Михайлов оставил нам огромное, поистине необъятное на-
следие, многое из этого наследия нам еще недостаточно хорошо из-
вестно. Велик соблазн поскорее разобраться с перешедшими к нам в
руки текстами, все выяснить, привести в систему, создать стройную
картину взглядов ученого и его идей к истории культуры; затем эти
идеи изложить, применить, развить... В нашей научной среде все это,
наверное, неизбежно, и поэтому в ближайшем будущем можно ожи-
дать появление многочисленных «специалистов по Михайлову», воз-
никновения «михайлововедения» как особой отрасли науки и т. п. Вы
еще не знаете, что считал А. В. Михайлов по данному поводу? Сейчас
мы это узнаем, установим с полной научной достоверностью. Мы
будем знать Михайлова лучше, чем он знал сам себя.
Правда, однако, заключается в том, что А. В. Михайлов был
трудным мыслителем, не спешившим выдавать нам простые и одно-
значные заключения в легко усваиваемой форме. В жизни он был
приветлив и доброжелателен по отношению к своим коллегам; его
тексты — о чудо! — написаны таким живым и естественным языком.
Отсюда может возникать ложное впечатление близости к ученому,
проникновения в сокровенные тайны его мысли (как кажется простой
и понятно^ знаменитая пушкинская строфа; как естествен непосред-
ственный жест— желание потрепать Пушкина по плечу: «Ну что,
брат Пушкин?»). И все же, несмотря на огромную величину наследия
160
Презумпция сокровенного
А. В. Михайлова, в его текстах остается очень много умолчания и
недосказанности. Вспоминая фигуру Александра Викторовича по-
следних лет его жизни, увенчанную белизной седых волос, кажется,
что видишь айсберг, подводная часть которого не знает своей меры.
Нам еще предстоит осмыслить глубину того, о чем умолчал ученый.
Но для этого молчание и тайна должны иметь презумпцию смысла.
Собственно, за эту презумпцию сокровенного и боролся Александр
Викторович при своей жизни.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 136—139. На
текст Георге написан одноименный канон А. Веберна для смешанного хо-
ра a capella, op. 2.
2 Там же. С. 138.
6 - 1379
161
Р. Насонов
МГК им. П. И. Чайковского. Москва
РУССКОЕ / НЕМЕЦКОЕ: К ПРОБЛЕМЕ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА1
А. В. Михайлов оставил глубокий след в русской культуре. Се-
годня мы являемся свидетелями происходящего на наших глазах по-
степенного осознания трудов ученого и их значения для отечествен-
ной науки: неспешно, но основательно наследие Михайлова занимает
положенное ему место. Не будем, однако, спешить с традиционными
славословиями. Человек редкой скромности и очень трезвый мысли-
тель, сам Александр Викторович вряд ли порадовался бы слишком
громким эпитетам в свой адрес. Его труды требуют иных слов, не
столько возвышенных, сколько реалистичных, пусть даже внешне и
прозаичных. И вот, пролистывая в их поисках старые газетные нек-
рологи, перечитывая воспоминания об Александре Викторовиче хо-
рошо знавших его людей, обращаешь внимание на титул, по праву
принадлежащий этому человеку, безоговорочно ассоциирующийся с
образом ученого, — «переводчик»; это слово не просто часто встре-
чается, но порой оказывается впереди всех прочих, более звучных ти-
тулов. «Переводчик» — звучит скромно. И тем не менее смею пред-
положить, что, не терпевший никакой другой истории культуры,
кроме как произрастающей из глубины самих текстов, Александр
Викторович и сам бы не пренебрег этим титулом, быть может, поста-
вив его на первое место.
Первоклассные переводы немецких текстов, и прежде всего — ра-
бот Мартина Хайдеггера, образуют сердцевину историко-культур-
ной концепции Михайлова; нелишне вспомнить здесь, что первые
опыты постижения немецкого языка и немецкой культуры были свя-
заны у Александра Викторовича с переводом текста вагнеровских
опер. Любопытная параллель: на впечатлениях от вагнеровских опер,
как на дрожжах, выросла и философия А. Ф. Лосева — человека,
162
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
оказавшего большое влияние на становление Михайлова-ученого;
труды и идеи Лосева всегда были предметом размышлений и глубо-
ких наблюдений Александра Викторовича.
Параллель не случайна: мы имеем дело с некоторой закономерно-
стью, с историко-культурным фактом, хорошо известным Алексан-
дру Викторовичу, осмысленным им глубоко и всесторонне. Само-
бытность всей русской культуры является в некотором смысле само-
бытной рецепцией культуры немецкой, результатом культурно-
исторического перевода2. Точность такого перевода, адекватность
представлений о содержании трудов немецких ученых и литераторов
бывает весьма различной: от поверхностного знакомства с работами
Гегеля и Шеллинга в начале и середине XIX в., на которое обращает
внимание Александр Викторович, до глубочайшего проникновения в
самые сложные немецкие тексты, блестящие образцы которого мы
находим у самого Михайлова, непревзойденного знатока немецкой
культуры, впитавшего ее, кажется, целиком и без остатка.
Проблема культурно-исторического перевода является ключевой
для русской истории. Масштаб ее до сих пор не осознан. Но если в
области словесности мы имеем замечательные работы А. В. Михай-
лова, закладывающие прочный фундамент осмысления многообраз-
ной проблематики перевода культуры с немецкого языка на русский,
то в других областях культуры, и прежде всего в области музыки, нам
еще многое предстоит начинать сначала. И прежде всего предстоит
понять, как вообще, какими путями может осуществляться процесс
перевода в таком вроде бы «бессловесном» виде искусства, как музы-
ка; и как найти слова, которые могли бы выявить и описать те
трансформации музыкального языка, которые неизбежны в этом
процессе и составляют его суть?
И коль скоро мы желаем понимать свою родную культуру, нам не
избежать этих вопросов, неотступно следующих за нами, норовящих
буквально поймать нас на слове. На слове пойман и я сам. Однажды,
слушая со студентами Девятую симфонию Бетховена, я был озадачен
репликой одного весьма непосредственного студента, дважды (во вре-
мя звучания трио из Скерцо и темы радости из четвертой части),
восклицавшего: «Так это же "Камаринская" Глинки!». Озадаченный,
я не нашел ничего лучшего как парировать, почти скаламбурив: «Нет,
это не Девятая симфония — "Камаринская" Глинки, но "Камарин-
ская" Глинки — это Девятая симфония Бетховена, переведенная на
русский язык». За всякие неосторожные слова, слова, произнесенные
в тот момент, когда язык отпущен на волю, рано или поздно полага-
6*
163
Р. Насонов
ется отвечать. В свое время я пообещал студентам как-нибудь в дру-
гой раз объяснить, каким образом «Камаринская» Глинки является
переводом Девятой симфонии Бетховена, и вот теперь этот другой
раз настает. Ведь «Камаринская» Глинки — особое сочинение в ис-
тории русской музыки; это точка самоопределения русского духа в
области музыкального искусства, и в этом смысле — точка отсчета
всей нашей национальной музыкальной традиции, одно из начал
духовной истории отечественной музыкальной культуры.
Известно, что среди множества русских композиторов XIX века
Михаил Иванович Глинка был одним из самых прилежных учеников,
глубоко погруженным в изучение современной ему европейской му-
зыки и особенно усердно штудировавшим немецкую науку музы-
кальной композиции. Бетховен был одним из любимых композито-
ров Глинки, музыку которого он прекрасно знал. Тому есть множе-
ство свидетельств: позволю себе лишь напомнить о знаменитом диа-
логе Михаила Ивановича со своей супругой, Марьей Петровной,
одну из жемчужин глинкинских «Записок»; бедная Марья Петровна
была «плохой музыкантшей» и не знала, кто такой Бетховен и что он
сделал Михаилу Ивановичу, — по-видимому, в глазах супруга, это не
подлежало амнистии даже спустя многие годы после их развода. Сам
автор «Записок» относит данный эпизод к прослушиванию Седьмой
симфонии Бетховена; комментаторы его убедительно доказывают,
что на самом деле этой симфонией была Девятая3. Вполне возможно,
что Глинка, как и многие другие мемуаристы, смешивает в этом вос-
поминании два разных эпизода; примечательно для нас, однако, дру-
гое: с той же желчностью и сарказмом, что и в эпизоде с Марьей
Петровной, описывает Глинка поведение известного критика Фео-
фила Толстого (Ростислава), осмелившегося утверждать (да к тому
же перед государыней-императрицей!), будто в своей «Камаринской»
Глинка изображает пьяного мужика, стучащегося в дверь избы. Дело,
конечно, не в Толстом, поступок которого вовсе не выглядит чем-то
вызывающим на фоне того безудержного веселья, которое, судя по
сохранившимся свидетельствам, всякий раз охватывало публику при
прослушивании глинкинского сочинения. Просто Глинке было хо-
рошо известно, что произведение его — серьезное и значительное, и
если не «плохая музыкантша Марья Петровна», то, по крайней мере,
столь сведущий в музыке человек, как Толстой, должен восприни-
мать его всерьез и с почтительностью— так, например, как сам
Глинка с трепетом внимал бетховенской Девятой симфонии4.
Итак, конкретизируем нашу мысль. Речь не идет, конечно, о том,
164
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
что, сочиняя «Камаринскую», Глинка сколько-нибудь сознательно
«перелицовывал» Девятую симфонию Бетховена. «Камаринская» и
Девятая симфония связывают нашу мысль единым узлом скорее бла-
годаря своему выдающемуся положению в истории русской и запад-
ноевропейской музыки первой половины XIX века. Через эти произ-
ведения лежит путь к пониманию тех музыкальных традиций, к ко-
торым они принадлежат, и потому поиски их новых интерпрета-
ций — необходимый компонент всякого самоопределения традиций,
совершающегося в истории. Сегодня мы говорим о «Камаринской» и
озабочены определением начал «русского духа», как он утверждает
себя в музыке через сочинение Глинки. Но говорить о «русском» нам
следует, имея в виду «немецкое», — так же, как, несомненно, имел в
виду «немецкое» и сам композитор.
Новая интерпретация «Камаринской» должна быть целостной и
аутентичной. Конечно, ничто не может застраховать нас от того,
чтобы наше толкование не оказалось во власти предзаданной идеи,
во власти Vorgriff, тем более, что тот материал, который мог бы по-
мочь нам реконструировать авторский замысел и пути его воплоще-
ния, довольно скуден: о создании «Камаринской» Глинка повествует
в «Записках» лишь в нескольких словах; концепционных же мани-
фестов этот автор создавать не был склонен. Все имеющиеся у нас
сведения ограничены пояснениями Глинки к истории названия сочи-
нения. И однако же это немало: нас могут приободрить проница-
тельные замечания Александра Викторовича о том, сколь многое
могут сообщить музыковеду такие отдаленные от сердцевины, каза-
лось бы, чисто внешние, пояса музыкального смысла, как название
сочинения или даже его афиша.
Анализ сочинения естественно начинать с определения его фор-
мы. Форма «Камаринской» традиционно определяется как сонатная
без разработки, или, как уточняется в известной книге В. А. Цуккер-
мана «"Камаринская" Глинки и ее традиции в русской музыке»,
двойные вариации, распланированные наподобие сонатной формы
без разработки; иначе говоря, сонатная форма без разработки яв-
ляется в «Камаринской» формой второго плана, каковая почти обя-
зательна в вариациях: ведь вариации — это не форма, а способ раз-
вития материала. Сомнительность понимания «Камаринской» сквозь
призму сонатной формы без разработки вряд ли требует подтверж-
дения для всякого, кто имеет отчетливое представление, в том числе и
слуховое, о классической сонатной форме. И все же здесь имеется
рациональное зерно: по-видимому, Глинка и в самом деле мыслил
165
Р. Насонов
соотношение двух русских мелодий как соотношение главной и по-
бочной темы в классической форме европейского образца (и притом,
вовсе не обязательно в сонатной форме). Об этом свидетельствует
история создания «Камаринской», как она безыскусно фиксируется в
«Записках»: «В то время случайно я нашел сближение между свадеб-
ною песнею "Из-за гор, гор высоких, гор", которую я слышал в де-
ревне, и плясовою "Камаринскою", всем известною. И вдруг фанта-
зия моя разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на ор-
кестр под именем "Свадебная и плясовая"»5.
Говоря иначе, Глинка обнаружил интонационную близость двух
мелодий и возможность выведения одной из них из другой класси-
ческим методом производного контраста. Главной темою в этом слу-
чае представляется плясовая: и в силу своего характера (лирическая
свадебная гораздо ближе к классическим побочным темам), и пото-
му, что именно свадебная песня (вторая группа ее проведений) выве-
дена из плясовой, а не наоборот; первая группа проведений свадеб-
ной относится в таком случае ко вступлению (Интродукции) — и это
естественно, учитывая, что излагается она в Фа мажоре, тогда как все
сочинение написано и оканчивается в Ре. Иными словами, формой
второго плана служит добропорядочная немецкая форма: сложная
трехчастная с переходами (термин Ю. Н. Холопова), или вторая фор-
ма рондо (по А. Б. Марксу).
И все же подобное понимание неполно: остановившись на нем,
мы упустим из вида то обстоятельство, что у Михаила Ивановича
«разыгралась фантазия», так что нам остается лишь пуститься по
скользкому пути вслед за этой фантазией русского любителя компо-
зиции. Действительно, пьеса называется не «Свадебная и плясовая», а
«Камаринская»: первоначальное название было изменено по совету
князя Одоевского, вопреки сожалениям иных, менее чутких и прони-
цательных критиков. Изменение названия не было случайным актом:
вместе с огромным большинством публики Одоевский верно почув-
ствовал и сумел выразить тот музыкальный строй сочинения, кото-
рый сложился в период реализации первоначального замысла; за-
головок «Свадебная и плясовая» при этом не исчез вовсе, а ушел в
подзаголовок, в соответствие со смысловым устройством «Камарин-
ской». Этот целостный строй «Камаринской» может легко ускольз-
нуть от восприятия современного слушателя, сознание которого пе-
регружено историко-культурными стереотипами. Однако нам, воз-
можно, следовало бы обратить внимание на то, что сохранившиеся
отклики современной Глинке слушательской аудитории как бы игно-
166
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
рируют само существование свадебной мелодии, и чем живее и непо-
средственнее эти отклики — тем в большей мере. Помнится и самого
меня в раннем детстве глубоко ранили наставления взрослых-
педагогов, всерьез и со знанием дела утверждавших, что «"Камарин-
ская" Глинки — это фантазия на две русские народные темы, что в
начале идет свадебная песня в подголосочном народном складе, за-
тем...» Я же не мог примириться с существованием этой свадебной
песни: конечно, исключительно по детской наивности. Наивное со-
знание — сознание неотрефлектированное, и тем не менее, название
пьесы не позволяет нам легко отделаться от первоначальной, пусть и
наивной, интуиции: в конце концов (и одновременно с самого нача-
ла) свадебная песня не является существенной составляющей смысло-
вого строя глинкинской музыки. Доверимся наивности и задумаемся
о том, как и почему это происходит.
И прежде всего обратимся к самой плясовой — к «Камаринской»
с ее существенной стороны. О мелодии «Камаринской» сказано так
много, что со своей стороны мы можем лишь добавить, что это, соб-
ственно, вообще никакая не мелодия, или анти-мелодия. Ведь мело-
дия— это всегда мало-мальски развернутая музыкальная мысль,
имеющая свою пластику и разворот (и, соответственно, опирающа-
яся на гармонический оборот), мелодия дышащая и поющая. В «Ка-
маринской» же мы имеем дело с чем-то вроде линии передач, крат-
чайшим путем соединяющей остов настырно торчащей квинты. Та-
кой линии не суждено сворачивать по пути или разворачиваться впо-
следствии: субстанциален квинтовый каркас, его же заполнение —
акцидентально, это не более чем мелизматические украшения. Пока-
зательно, что, допуская различную гармонизацию, в одноголосном
изложении «Камаринская» не обнаруживает внутри себя смены функ-
ций, чем существенно отличается от целого ряда тем западноевро-
пейских композиторов-классиков, интонационной основой которых
является бурдон,— например, от внешне весьма похожей на нее
Главной темы Финала 104-й Симфонии Гайдна. Гайдновская мело-
дия устроена таким образом, что после показа тонической гармонии
(в мелодии обрисовывается квинта ре-ля) отчетливо выделяется до-
минантовая квинта ля-ми. Напротив, у Глинки бурдон ре-ля господ-
ствует безраздельно и не соглашается потесниться даже на время,
чтобы дать прозвучать иной гармонии. Но ведь другие гармонии все-
таки нужны! Нужны хотя бы для того, чтобы соорудить из них ка-
денцию и окончить сочинение. Однако изображенное в «Камарин-
ской» народное веселье не знакомо с правилами приличия и закона-
167
Р. Насонов
ми музыкальной формы. Окончить такое сочинение «порядочно» и
на полном серьезе невозможно не только в силу его развеселого ха-
рактера, но и по имманентно-музыкальным причинам (из-за уни-
кального строения главной темы), поэтому Глинка завершает «Кама-
ринскую» остроумным комическим эффектом (комизм этот легко за-
метен для самой неподготовленной публики, и эта подкупающая
простота словно маскирует те нешуточные музыкальные проблемы,
которые и породили необходимость подобного завершения пьесы;
аналогия Глинка-Пушкин напрашивается сама собой). Достигая в
коде высшей, кульминационной точки веселья, Глинка неожиданно и
резко облегчает звучание (и в плане динамики, и в плане оркестров-
ки): первые скрипки начинают знакомый наигрыш, однако дважды
не могут довести его до конца, словно «упираясь» в возникающие у
валторн доминантовые квинты ля-ми. Эти квинты — словно снег на
голову: раньше их здесь «не стояло». Появление новой квинты на-
столько поражает скрипки, что их вторая попытка сопровождается
замедлением темпа; случившееся надо понять и обдумать: остано-
виться, почесать затылок... И только когда сигнал к окончанию пье-
сы «доходит» окончательно (выделенные искусственным образом квин-
ты ля-ми начинают восприниматься так, словно они здесь «всегда и
были»), звучит залихватская каденция (см. нотный пример).
Очень полезно сравнить «Камаринскую» и с другими интонаци-
онно родственными ей темами — такими, как тема Трио Второй час-
ти бетховенской Девятой симфонии (кажется, будто еще более про-
стая и непритязательная, чем тема Глинки, однако интеллектуализи-
рованная изнутри в типичной бетховенской манере, за счет игры рит-
мических акцентов и остроумной гармонизации; в результате, вместо
квинтового бурдона ре-ля, мы слышим гораздо более изящный мело-
дический контур ре-фа диез-соль-ми, гармонизованный полным функ-
циональным оборотом — да еще с остроумной перегармонизацией
при втором проведении «простецкой» мелодической фразы) или ме-
лодию Вариаций на тему рококо П. И. Чайковского (интонационно
очень похожую на тему «Камаринской», но только поначалу: в целом
же Чайковский создает широкую кантилену, воспитанную в лучших
традициях светского этикета); эти темы изложены, соответственно,
все в том же Ре и в родственном ему Ля мажоре. В сочинении Глинки
сильнейший контраст «Камаринской» представляет широко распетая
мелодия свадебной песни, со множеством мелодических и гармониче-
ских поворотов; но как раз в силу этого ей отводится особое и до-
вольно скромное место.
168
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
росо ritard
a tempo
В изложении Глинки «Камаринская» — не мелодия; скорее — это
диминуции на бурдон, или, еще точнее, — бурдон с диминуциями.
Как уже отмечалось, бурдонные темы — не редкость в европейской
музыке; особенность «Камаринской» состоит в том, что она упорно
169
Р. Насонов
держится этого бурдона, не растекаясь и не получая мелодического
разворота. С самых первых тактов «Камаринская» демонстрирует
удивительную собранность, не поддаваясь соблазну развития — прин-
ципа, на котором стоит все классическое искусство музыкальной
формы6. Раз-витие, Ent-wicklung, означает разворачивание чего-то
свитого, некоей первоначальной целостности; развитие осуществля-
ется путем аналитических процедур, методом «анализа», то есть «раз-
вязывания», «раз-работки». Подлинное чудо русского искусства, «Ка-
маринская» цельна внутренне и хранит свою цельность на протяже-
нии всех вариаций. Традиционные категории музыкальной формы
вряд ли нам здесь помогут; скорее, вслед за современниками Глинки,
нам следует восхищаться контрапунктической изобретательностью
автора, недаром столь прилежно изучавшего контрапункт у Дена.
Однако и контрапунктическая терминология не позволит нам до
конца уяснить себе неслыханную новизну Глинки — позволим себе
поэтому изъясняться метафорически — ведь и в метафорах есть своя
строгость.
Первоначальный показ плясовой представляет собой тему с шес-
тью вариациями. Его главная идея состоит в том, что к теме не при-
бавляется практически ничего нового. В первых двух вариациях кон-
трапункт опирается на секстовые дублировки основных звуков темы;
дальнейшее присоединение голосов происходит по принципу октав-
ных дублировок опорных звуков темы и, самое главное, ее остова —
квинты ре-ля. Описанный процесс никак не есть развитие темы, ско-
рее его можно представить как ее «одевание», «наряжание», или «об-
ряжение»; тоны бурдона выстраиваются по всей вертикали оркестро-
вого пространства, отчего расхожий бытовой наигрыш обретает кос-
мический размах, становится музыкой бытия. Бурдон превращается в
мировое древо, родовое тело мироздания, а заполняющие его дими-
нуции становятся жизненными соками, играющими в этом теле, его,
выражаясь на латинский манер, гуморами, или, произнося это слово
на французский лад, юмором.
Полнота, цельность, довольствие, изобилие — вот важнейшие ха-
рактеристики установившегося в «Камаринской» бытия. Ничто не в
состоянии поколебать эту устойчивую цельность. Появление новой,
свадебной песни происходит не из-за стремления главной темы пе-
рейти в инобытие, как в классической форме, но как одно из прояв-
лений изобильной полноты вечно единого. Вслед за шестой вариаци-
ей, в которой тема примеряет полный наряд, следует ее «разобла-
чение» — до той конструктивной основы, которая, по наблюдению
170
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
Глинки, роднит свадебную с плясовой; свадебная здесь — не произ-
водна от плясовой, но единосубстанциальна ей, возникает из единого
плодородного источника— «рога изобилия». Эта единосубстанци-
альность превосходно выявляется Глинкой в ложной, Си бемоль ма-
жорной репризе плясовой, к концу которой фрагменты обоих тем
перемешиваются таким образом, что различить их становится невоз-
можно. Этот раздел открывает цепь тонально-гармонических при-
ключений, продолжающихся в настоящей, Ре мажорной репризе пля-
совой. Тональное движение здесь вновь имеет особый смысл, отлич-
ный от смысла обычного модуляционного процесса в классической
музыке— процесса сущностных, исторических изменений, процесса
раскрытия смысла. В виду прочно установленного бытия все «нело-
гичные» и «неожиданные» педали, в том числе и знаменитый до бе-
кар, производят впечатление не бытийного разлада, а бытовых не-
строений, и если Феофил Толстой обнаруживает здесь пьяного му-
жичка, ломящегося домой к своей женушке, то это вовсе не покуше-
ние на святое, как показалось Глинке, а вполне адекватная форма
образно-чувственной герменевтики музыкального текста, популяр-
ной в XIX веке. Происходит «перестройка» балалайки— «русской
лиры», как земной, так и небесной, и окончание пьесы знаменуется
восстановлением первоначального строя во всей его космической
величине и величии.
Итак, можно смело утверждать, что «Камаринская» Глинки пред-
ставляет собой блестящий пример культурно-исторического перевода
форм европейской музыки на русскую почву. Ограничиться этим вы-
водом означало бы, однако, упустить из виду несколько наипринци-
пиальнейших вопросов, на которых мне и хотелось бы остановиться
в заключение. Так, всем известно, что «Камаринская» является исто-
ком традиций русской симфонической музыки — но в каком смысле
это происходит? Давайте честно перечитаем исследования на этот
счет — и прежде всего, прекрасную, классическую книгу В. А. Цук-
кермана. Множество примеров, приводимых обычно для иллюстра-
ции развития глинкинских традиций, распадается, по-видимому, на
две группы: одни из них, при несомненных музыкальных досто-
инствах, далеко отступают от логики глинкинской композиции; дру-
гие служат скорее иллюстрацией не развития традиций, а их вырож-
дения (особенно это заметно на советском материале). «Как дуб в
желуде» (П. И. Чайковский)— очень яркая метафора, но это сксрее
благое пожелание, чем историческая реальность: метафора предпо-
лагает последовательное развитие и органический рост, а их-то и
171
Р. Насонов
нет. В силу своего особого склада «Камаринская» не может служить
образцом для подражания и постепенного переосмысления, акаде-
мической матрицей, каковой стал сонатно-симфонический цикл вен-
ских классиков. Это точка изъявления, манифестации русского духа в
музыке, а не формальный шаблон. Традиция «Камаринской» — это
не скромные сочинения второго и третьего эшелона, но величайшие
памятники самосознания и самоидентификации русского духа в му-
зыке— такие, как Финал Четвертой симфонии Чайковского или
«Свадебка» И. Ф. Стравинского. Можно сколь угодно раз повто-
рять «Свадебную и плясовую» (что и имел в виду Стасов, негодо-
вавший по поводу перемены названия пьесы7), «Камаринская» — бес-
подобна.
Бесподобие «Камаринской» обуславливается ее главным свой-
ством — сознательным и нарочитым отказом от развития и субстан-
циальных изменений. Отождествление себя с цельностью и истори-
ческой нерасчлененностью народных форм жизни — отличительная
черта всей русской культуры середины XIX века. Переведенная с
иного языка, она испытывает ощущение своей неукорененности, бес-
почвенности, неподлинности, и потому мечтает погрузиться в эту
почву, уйти в нее без остатка. Она как бы прячется за спину
«народного» и готова отказаться от самой себя. Народ объявляется
подлинным творцом культуры, и здесь нам не сказать лучше Глинки:
«Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем»8.
Мысль о народности искусства и культуры становится основной ми-
фологемой русского самосознания XIX века, поворачивающейся на
разный лад — например, в «Исторической поэтике» академика Весе-
ловского, в центре которой стоит мысль о субстанциальности народ-
ного предания, элементы которого лишь «аранжируются» в процес-
се личного творчества, приводятся в новые отношения9. Новая, пе-
реводная, барская культура с умилением всматривается в народный
быт и видит в нем свой «золотой век»: балалайка— наша русская
лира, из-под тулупов мужичков вылезают древнегреческие туники10.
«Русская Аркадия» воистину блаженна, история же — лишь процесс
распада и грехопадения, продуктом которого ощущают себя и рус-
ские культурные люди. Эта завораживающая интуиция, мифологема
«народности» объединяет всех: интеллигенцию и власти, Россию цар-
скую, коммунистическую, демократическую «сегодняшнюю» и «зав-
трашнюю»: не то национал-социалистическую, не то народно-патри-
отическую. Вот и Глинка словно бы скрывает культурносозидающее
усилие своей «Камаринской», и словно бы сам (а вовсе не советское
172
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
правительство) заказывает привычный способ рассмотрения и ин-
терпретации своего шедевра: сначала «Камаринская» редуцируется,
местами весьма насильственно, к фольклорным формам музицирова-
ния, затем наступает пора восхищаться: «Ну надо же, у Глинки все в
точности как у деревенских музыкантов! Художественная загадка,
понимаешь...».
Между тем, культура— это культура, то есть история: процесс
постоянных изменений и переосмыслений. И сегодня не остается сом-
нений, что «неразъятость форм народной жизни» — это тоже куль-
турно-историческая мифологема. Историческая изменчивость свой-
ственна не только интеллигентской культуре, но и фольклору: это
хорошо известно всем, кто прошел соответствующий курс в Москов-
ской (или в какой-нибудь другой) консерватории, хотя и не всегда
принимается в расчет. Культурно-исторический перевод — всеобщая
форма существования культуры. Идея же органического развития
«от самых корней», некогда весьма плодотворная, сегодня не только
тормозит развитие культуры, но просто вредна и соблазнительна.
Важно понять, что известная «неорганичность», культурная опо-
средованность — удел не только русской культуры, но и, как не без
сожаления отмечал в свое время академик Веселовский, всех новоев-
ропейских культур11; добавим— всех культур вообще. И процесс
опосредования, культурно-исторического перевода — это не простое
калькирование и голое заимствование, но плодотворнейший твор-
ческий процесс. Доказательство тому — все творчество А. В. Ми-
хайлова, явившего нам множество блестящих образцов культурно-
исторического перевода. Одним из них и был случай в 23 консерва-
торском классе, упомянутый в публикуемых перед этой статьей за-
метках.
Слушая, как Михайлов читает Пушкина, я был потрясен бездной
смысла, открывавшейся в заболтанных беспрестанным повторением
хрестоматийных строчках. Это было удивительно естественно и ор-
ганично, почвенно и, как сказал бы сам Александр Викторович, «суб-
станциально»; это стало одним из самых ярких впечатлений моей
неоперившейся юности и нисколько не перестало быть таковым пос-
ле того, как я узнал, что и в этом случае мы имеем дело с практикой
культурно-исторического перевода: в своих размышлениях Алек-
сандр Викторович явно имел в виду тот фрагмент работы М. Хай-
деггера «Европейский нигилизм», в котором речь идет о пустоте и
богатстве бытия12. Только Хайдеггер имел в виду другую поэти-
ческую строчку: über allen Gipfeln / ist Ruh...
173
Р. Насонов
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Статья написана на основе доклада, прочитанного в декабре 1998 г. на
Михайловских чтениях в Московской консерватории.
2 В своей монографии «Проблемы исторической поэтики в истории немец-
кой культуры» (М., 1988) А. В. Михайлов обращает внимание на беспре-
станный процесс переосмысления явлений прошлого, происходящий в ли-
тературе, формулируя в итоге крайне важную для всех исследователей
культуры мысль: «<...> вся история культуры <...> состоит в том, что раз-
ные культурные явления беспрестанно переводятся на иные, первоначаль-
но чуждые им культурные языки, часто (и как правило) с предельным и
безжалостным переосмыслением их содержания» (Указ. соч. С. 44). Посто-
янно сопоставляя традиции русской и немецкой культуры XIX столетия,
ученый глубоко и проницательно анализирует их соотношение (см., в
частности, начало второй главы упомянутой монографии). Рассматривая в
нашей статье соотношение русской и немецкой культуры на собственном
материале, мы вступаем, вольно или невольно, в диалог с размышлениями
ученого.
3 См.: Глинка М. И. Записки. М., 1988. С. 65,167—168.
4 По всей видимости, комментарий Ф. Толстого вызвал сильнейшую досаду
легко ранимого Глинки. С крайней желчностью и возмущением сообщает
он о нем в своих «Записках», дважды возвращаясь к обидному для себя
эпизоду (см.: Глинка М. И. Записки. М., 1988. С. 133, 141). Любопытно, что
в рукописном автографе «Записок» и в их копии, снятой Л. И. Шестако-
вой, упоминание инцидента сопровождается гротескными рисунками: кот
с длинными ушами и хвостом; профиль лица с длинным носом и усами.
Квалифицированный психологический анализ подобных рисунков, дума-
ется, был бы полезен для лучшего понимания характера композитора, его
душевного мира; несомненно однако, что рисунки подобного рода встре-
чаются в рукописи «Записок» как реакция Глинки на обидные высказыва-
ния в его адрес и означают нечто вроде: «Сам осел!» — так, парируя кри-
тическое замечание И. К. Кавоса по поводу инструментовки хора, напи-
санного композитором для выпускного вечера девиц Смольного института
(инструментовку эту сам автор оценивал очень высоко), Глинка изобража-
ет ослиную голову с припиской «bravo, bravissimo» (Там же. С. 138). Реп-
лика «Сам осел!» — представляется адекватной реакцией Глинки на по-
ступок Ф. Толстого, буквально «унизившего» — в глазах августейшей осо-
бы! — композитора до уровня подражателя «мужицкой» музыки: музыки
«животной» — «грязной», «низкой» и «грубой». Почитая свою «Камарин-
скую» произведением «высокого» и «чистого» искусства, никак не запач-
канного натуралистическим воспроизведением крестьянского быта, заме-
шанного на «грязной» русской почве, Глинка особо подчеркивает, что в
процессе сочинения он «руководствовался <...> единственно внутренним
музыкальным чувством, не думая ни о том, что происходит на свадьбах,
как гуляет наш православный народ и как может запоздалый пьяный сту-
чать в дверь, чтобы ее ему отворили» (Там же. С. 133; курсив наш.—
174
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
Р. #.). Как и вся музыка Глинки, «Камаринская» принадлежит к числу со-
чинений «возвышенного» классического искусства — искусства пластиче-
ских форм, в которых запечатлевается внутреннее музыкальное чувство;
это хорошо сознавал композитор, и не случайно острие его сарказма на-
правлено против тех, кто, возомнив себя ценителем высокого искусства,
разбирается в нем, как свинья в апельсинах (или осел в...): «Знаменитый (!)
наш критик по глубокому (!) пластическому воззрению не нашел ничего
лучше и умнее, как только то, что пьяный-де толчется в дверь» (Там же,
с. 141; восклицательные знаки принадлежат Глинке; курсивом выделены
те слова, которые в рукописи подчеркнуты чернилами). Полемизируя с
Ф. Толстым, Глинка делает примерно то же самое, что и Бетховен, пред-
усмотрительно снабдивший заглавие своей программной «Пасторальной»
симфонии исчерпывающим замечанием: «Более выражение чувства, чем
звуковая живопись»; в эскизах к этой симфонии та же мысль выражена бо-
лее развернуто, на манер краткой эстетической программы: «Всякая изоб-
разительность проигрывает, если к ней чрезмерно прибегают в инструмен-
тальной музыке. <...> Тот, кто имеет понятие о сельской жизни, может и
без многих заголовков представить себе, чего хотел сказать автор. Целое
является более выражением чувств, чем изображением, оно будет распознано
и без описаний» (цит. по: Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке
XVIII— начала XIX веков. Самосознание эпохи и музыкальная практика.
М., 1996. С. 78).
5 Глинка М. И. Записки. М., 1988. С. 133.
6 Необычайный лаконизм темы «Камаринской» обращал на себя внимание
и в XIX столетии. Ее краткость требовала своего объяснения и оправда-
ния, и здесь вновь не удается обойтись без параллелей с Бетховеном.
В газетной рецензии 1880 г. Ц. А. Кюи пишет: «<...> тема "Камаринской"
не отличается благородством, и две первые фразы Пятой симфонии Бетхо-
вена совершенно ничтожны, но из этого материала Глинка и Бетховен
строят чудеса». Кюи, конечно же, прав, и возразить ему нечего. Зато его
наблюдение совершенно необходимо дополнить. За внешним сходством
двух лаконичных тем Бетховена и Глинки (быть может, даже самых лако-
ничных в музыкальной литературе) скрывается их глубинное смысловое
отличие. Тема Бетховена представляет собой сгусток мощнейшей энергии,
заключает в себе сильнейший импульс движения и является источником
дальнейшего развития; этому способствует ритмическая структура «моти-
ва судьбы» (его «ямбическая» устремленность от слабого музыкального
времени к сильному, из затакта— к сильной доле), его мелодическая
«неустойчивость» (начинаясь с пятой ступени до минора, первое проведе-
ние мотива упирается в третью, как бы «не дотягивая» до первой), а также
гармоническая разомкнутость (если первое проведение мотива, или, по
Ц. А. Кюи, первая «фраза», обрисовывает устойчивую тоническую гармо-
нию, то его второе проведение, или вторая «фраза», дает функциональный
сдвиг в сторону доминанты). «Чудо» Глинки — совсем иного рода. Не-
обычайная устойчивость его темы также обеспечивается всеми средствами
музыкального языка: сверхустойчивость мелодии и гармонии достигается
175
Р. Насонов
благодаря «упорному» повторению тонической квинты ре-ля (соответ-
ственно, первой и пятой ступеней Ре мажора), которая, вследствие силь-
ных ритмических акцентов, приходящихся на каждый из этих звуков, бук-
вально «пронзает» слух.
7 Освещая в первой биографии Глинки, опубликованной вскоре после смер-
ти композитора («Русский вестник», кон. 1857 г.), период пребывания его в
Петербурге с ноября 1848 по май 1849 г., Стасов не без горечи констатиру-
ет: «Этот приезд его в Петербург ознаменовался лишь только тем, что
один из его друзей, участвовавших и в советах насчет "Руслана и Людми-
лы", заставил его дать новые, неудачные имена тем двум величайшим ин-
струментальным сочинениям, которые Глинка привез с собой (речь идет о
князе Одоевском, который присоветовал назвать "Испанской увертюрой"
"Хоту" и "Камаринской"— "Свадебную и плясовую")»; цит. по: Ста-
сов В. В. Избранные сочинения. М., 1952. Т. 1. С. 500.
8 Следует оговориться, что хрестоматийная цитата Глинки известна нам в
записи А. Н. Серова. У нас нет оснований подозревать известного критика
в злонамеренной фальсификации слов композитора, однако к подобного
рода ярким высказываниям художника, записанным чужой рукой, надо
все же относиться с осторожностью (как, например, и в случае с многочис-
ленными высказываниями, которые приписываются Бетховену). Можно
легко предположить, что знаменитая фраза «сорвалась» у Глинки с уст
(возможно, не без помощи собеседника, который мог на нее «навести»),
однако это еще не означает, что мы должны расценивать ее как глинкин-
ское Credo — тем более, что у нас имеется достаточное количество текстов
композитора, написанных обдуманно, но не содержащих и намека на от-
каз от авторства своих сочинений в пользу народа. Важнейшее докумен-
тальное свидетельство Глинки о себе и своем творчестве, «Записки», пока-
зывают, что стремление их автора писать музыку в национальном духе ни-
сколько не противоречило его личным амбициям как композитора. Осо-
бых восторгов по поводу народного творчества в «Записках» мы не най-
дем (да и в целом о народе и его музыке говорится там довольно скупо),
зато во множестве найдем едкие реплики, монологи уязвленного творче-
ского самолюбия и тщеславия. Относился Глинка к крестьянам неплохо,
однако не чуждая композитору барская идеализация «мужика» не есть все
же «безвкусное» народническое поклонение ему, свойственное иногда
представителям разночинной интеллигенции. И чем внимательнее вчиты-
ваешься в «Записки», тем более утверждаешься во мнении, что знаменитая
фраза естественнее прозвучала бы в устах А. Н. Серова, чем М. И. Глинки
(что, впрочем, имеет не столь большое значение: у крылатых слов важны
крылья, а не авторство).
9 «Каждая новая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами,
обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбина-
ции старых и только наполняя их тем пониманием жизни, которое, соб-
ственно, и составляет ее прогресс перед прошлым?»; «<...> как в области
культуры, так, специальнее, и в области искусства мы связаны преданием и
ширимся в нем, не создавая новых форм, а привязывая к ним /к старым
176
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
формам/ новые отношения <...>»; цит. по: Михайлов А. В. Проблемы ис-
торической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989. С. 225. Сопо-
ставляя «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского с «Поэтикой» В. Ше-
рера, А. В. Михайлов приходит к существенному и важному наблюдению:
«При известном пересечении тем и проблем двух "поэтик" оба замысла
ориентированы диаметрально противоположным образом: то, что нахо-
дится в центре научных интересов Веселовского, находится на самой пе-
риферии интересов Шерера; внимание Веселовского направлено на ранние
и фольклорные формы литературы, в генетической связи с которыми ока-
зывается все последующее ее развитие, тогда как Шерер опирается на сло-
жившуюся в новейшее время литературную ситуацию, которая сознатель-
но принимается за ключ к прошлому, но еще более того бессознательно
действует как психологическая норма подхода к любой литературе» (Там
же. С. 206). Рискуя изложить ту же мысль своими словами (а значит, при-
дать ей новое, возможно, и не предусмотренное А. В. Михайловым на-
правление), можно сказать, что «Поэтика» Шерера отражает известную
обособленность хорошо отлаженного академического литературного про-
цесса в Германии II пол. XIX в., его замкнутость на себя; напротив, рус-
ское искусство (и, шире, культура, культурный слой общества) мыслит се-
бя как органическая часть народного искусства и народной жизни, всеми
силами преодолевая неизбежный зазор между «эстетическим» и «почвен-
ным». «<...> Народ, который у Шерера <...> выступал как негативная ве-
личина, разрушающая, а не созидающая культуру, или превращался в
"публику", как носительницу усредненного вкуса, у Веселовского высту-
пил как сила творческая, как носитель литературного процесса (создает
музыку народ... — Р. #.); это отвечало передовой русской традиции и рус-
скому опыту истории: " <...> чтобы понять цвет этой жизни, т. е. поэзию,
надо, я думаю, выйти от изучения самой жизни, чтобы ощутить запах поч-
вы, надо стоять на этой почве", — слова молодого Веселовского» (Там же.
С. 211). Стоит признать сегодня правоту А.В.Михайлова, настойчиво
призывавшего слушателей своих лекций читать Веселовского (а в свое
время это могло показаться порой причудой метра, только что опублико-
вавшего монографию, в которой Веселовский был одним из главных ге-
роев). Вопрос лишь в том, действительно ли опыт русской культуры XIX
века выглядит более «передовым» по сравнению, скажем, с немецкой тра-
дицией. Нарочитое отождествление «искусства» и «жизни» ничем не лучше
их искусственного разделения; и нет ли в высказываниях Веселовского
стремления как бы не замечать всей серьезности и субстанциальности ис-
торического опыта (на что справедливо указывается в книге Михайлова),
равно как и известной идеализации родной почвы с ее «запахами»? Рус-
ское культурное наследие для нас поистине бесценно, хотя и располагает
оно не столько к удовлетворенному любованию его «передовыми» дости-
жениями, сколько к критическому размышлению о больных проблемах
нашей истории и национального самосознания.
10 Примечательно, что в первом издании партитуры «Камаринской», вы-
шедшем в свет в издательстве Ф. Т. Стелловского, на титульном листе,
177
Р. Насонов
примерно в том месте, где обычно принято изображать символ академиче-
ского искусства — древнегреческую лиру, на нас задорно смотрит изящная
фигура балалайки.
11 «<...> русская литература не развивалась органически, как развивалась,
например, греческая литература, в истории которой смена литературных
родов и форм в их преемственности, в их взаимной обусловленности вы-
дается наиболее рельефно»; «европейская поэзия развивалась таким <...>
путем: поэтическое чутье возбудилось к сознанию личного творчества не
внутренней эволюцией народно-поэтических основ, а посторонними ему
литературными образцами <...> Как бы пошло европейское литературное
развитие, предоставленное эволюции собственных народных основ, — во-
прос, по-видимому, бесплодный, но вызывающий некоторые теоретические
соображения <...> Очевидно, органическая эволюция совершалась бы мед-
леннее, не минуя очередных стадий, как часто бывает под влиянием чуждой
культуры, заставляющей, иногда не вовремя, дозревать незрелое, не к выгоде
внутреннего прогресса» (цит. по: Указ. соч. С. 54). Яркую и представительную
подборку мыслей Веселовского А. В. Михайлов приводит в доказательство
того, что взгляды Веселовского не были «нормативно-эволюционными».
Как, однако, следует понимать слово «норма»? Если как некую «средне-
статическую величину», вслед за некоторыми современными словарями
(отражающими установку «массовой культуры»: хорошее — значит усред-
ненное), — то и в самом деле: в представлениях Веселовского эмпиричес-
кая история литературы, «в среднем», не укладывается в рамки непрерыв-
ной эволюции, но знает «скачки» и «сдвиги». Но если следовать основно-
му и изначальному смыслу слова norma (лат.: наугольник, правило, обра-
зец, т. е. нечто правильное, правомерное, должное), в котором понимал
его, очевидно, и сам Веселовский, то эволюция для него и впрямь «нор-
мальна», нормативна; не случайно единственной «нормальной» литерату-
рой является, по Веселовскому, «классическая» древнегреческая (в которой
он и усматривает идеальную непрерывность и органику развития).
И все же эволюционизм — вовсе не главное в представлениях Веселов-
ского; главное— чтобы это была эволюция «собственных народных ос-
нов» (именно так: не «на основе», а «основ»). В этом — сущностный пара-
докс мысли ученого, а с ней и русской культуры XIX века: сколько ни
«эволюционируй» — все равно получаешь все те же «основы» (словно и не
цветок растет, а почва; то же и у Глинки: «развитие» в «Камаринской»
только усиливает господство одной и той же краткой темы с ее упрямо
выделяемой «основой» — квинтой ре-ля). Императив «почвенности» плохо
соединяется с представлениями об историческом развитии (хотя бы в фор-
ме наивного эволюционизма); историко-культурное взаимодействие в этой
системе координат представляется чем-то заведомо отрицательным, и дело
здесь не столько в нарушении «эволюционной» непрерывности, сколько в
«отрыве от основ» (или в их «подрыве»?). Примечательно и то, как Весе-
ловский проецирует собственную проблематику русской культуры
(комплекс «неорганичности», возникающий в результате бурного, интен-
сивного процесса восприятия западноевропейской культуры и стиля жизни
178
Русское / немецкое: к проблеме культурно-исторического перевода
высшими, образованными слоями русского общества) на историю других
европейских литератур (сожалея о «неорганичности» их перехода к эпохе
личного творчества, об отрыве европейской литературы от «народных
основ»; в этих сетованиях так и слышится что-то очень родное, например:
«страшно далеки они от народа»). «Всемирная отзывчивость» всемирной
отзывчивостью, однако абсолютизация какого-либо одного историческо-
го состояния, превращение его в «норму», ведет к тому, что А. В. Михай-
лов назвал «исторической поэтикой—2» (Указ. соч. С. 45). «Историческая
поэтика—2» «подкладывает» «свое» под «чужое», переводит «чужое» на
язык «своего»: только если для В. Шерера и его немецких коллег «своим»
был современный литературный процесс, то для Веселовского и других
русских деятелей культуры современность могла показаться «чужой», «за-
емной», «переводной», а потому «своими» становились «почва», «стари-
на», «народные основы»; и вот, внутри русской культуры XIX века ока-
зывается возможным представить «чужую» современность (современные
формы европейского искусства) в обличье «своей» старины (словно бы
«народ» их и создал)...
•2 См.: Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 171—176.
179
Л/. Насонова
Москва
«САКРАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» И «ПОТАЕННОЕ СЛОВО»
Вместо эпиграфа:
Как-то в начале 1990-х гг. за столиком в консерва-
торском буфете А. В. Михайлов пил кофе в обществе
слушательниц своих лекций — молодых особ, кажется,
аспиранток. Одна из них возбужденно рассказывала о
том, как замечательно, что в приходе священника Геор-
гия Кочеткова служат на современном русском языке, и
все богослужебные чтения звучат на русском языке, а
потому все прихожане все понимают и все восприни-
мают. Другая собеседница с этим не соглашалась, заме-
чая, что понимание слов может породить иллюзию по-
нимания смысла, а самое важное тогда и потеряется, и
что сакральный язык не может быть языком обыденного
разговора. Александр Викторович молча слушал, потом
как-то досадливо прервал восторги первой из собесед-
ниц, солидаризировавшись со второй.
Одна из неопубликованных статей А. В. Михайлова имеет не-
сколько неожиданный и удивительно емкий подзаголовок: «Музыка
как событие в истории слова». Размышляя об этом, сам Александр
Викторович в своих текстах, лекциях и даже просто, казалось бы, ни
на что не претендующих репликах успел сказать очень многое и —
как он это умел — сильно задел, озадачил, спровоцировал тех, кто
его услышал.
Эти заметки — попытка, в свою очередь, соотнести «потаенное»,
или, как чаще называл его Александр Викторович, «скраденное»
слово в музыке с судьбой сакрального языка в новоевропейской ис-
тории. Проблема сакрального языка — языка Священного Писания и
богослужения— волновала Михайлова: никогда не высказываясь
180
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
развернуто, он имел по этому поводу четкую позицию, определяемую
всем его духовным обликом, погруженностью в жизнь европейской
культуры...
«Потаенное», или «скраденное», слово— одно из выражений, с
помощью которых Александр Викторович обозначал слово, погру-
женное вглубь музыки и не нуждающееся в своем непосредственном
произнесении; сама музыка здесь есть «скраденное» прононсирова-
ние. (В качестве синонимов А. В. Михайлов говорил также о слове
«интериоризированном», «внутреннем».) Появление такого слова —
важнейшее событие в истории культуры, имеющее глубокие корни.
Память о них хранит уже само выражение «потаенное».
«Потаенное» — значит неявное, неявленное.
Приведенный во вступлении к этим заметкам эпизод из консерва-
торской лекции А. В. Михайлова имеет непосредственное отношение
к нашим рассуждениям. Пример этот поистине поразителен. Необхо-
дим подлинный языковой стресс, чтобы вернуть к жизни, казалось
бы, почти умершее слово («является»). Ведь Пушкин берет этот гла-
гол— ставший ныне «канцелярским»— не более не менее как из
языка славянской Библии, из языка славянской литургии1. Являет-
ся — то есть предстает перед человеческим взором, становится види-
мым — невидимое: бесплотные умные силы и сам Господь Бог. Бог
Господь и явися (по-русски — «явился») нам! — возглашается в начале
православной Утрени, которая, как известно, символически обозна-
чает время Нового Завета, нашу эру — по Рождестве Христа, Кото-
рый в Своем воплощении является людям. Бог Господь и явися нам! —
поет хор при открытии царских врат в тот момент Божественной
литургии, когда Священник выносит из алтаря к причастникам чашу
со Святыми Дарами, знаменующими телесное присутствие Христа в
храме.
Днесь спасения нашего главизна
и еже от века таинства явление, —
поется в тропаре Благовещению,— явление того, что от века есть
таинство:
Сын Божий сын Девы бывает
и Гавриил благодать благовествует.
Являться — становиться явным, видимо явить сущность — слово
пограничное, находящееся на грани миров, на грани здесь- и том-
бытия (и оттого явление — «страшно»: «Не бойся», — говорит Ан-
181
M. Насонова
гел, явившийся Марии с Благою Вестью; «Не бойтесь, я возвещаю
вам великую радость»,— говорит Ангел Вифлеемским пастухам)...
«Передо мной явилась ты», — говорит Пушкин и тем самым сак-
рализует образ земной женщины, вольно или невольно переводя ее
здешнее существование в мир сущностей. В самом деле получается
«образ»— не в школьном, заболтанном смысле, а в смысле изна-
чальном: образ как икона (мы называем по-русски иконы «обра-
зами»); в данном случае — икона словесная.
«Как мимолетное виденье», является этот «образ» поэту, как в
других стихах явился ему шестикрылый серафим. И, создавая этот
«образ», Пушкин поступает дерзновенно, но не кощунственно.
Ведь Бог создает человека по Своему образу и подобию. Но не как
Свой портрет, не как изображение Себя. Изображение Бога Яхве за-
прещено Моисеевой заповедью — не только в виде кумиров-статуй,
но и как словесное описание. Ветхозаветный Бог не имеет ничего
общего с тварным миром, и Его лик сокрыт, утаен от видения. «Бога
не видел никто никогда» (Ин. 1, 18). Бог «Неизреченен, Неведомь,
Невидимь, Непостижимь» (Евхаристический канон Литургии Иоанна
Златоуста). Господь говорит Моисею: «лица Моего не можно тебе
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в
живых» (Исх. 33, 20).
Однако, как замечает современный христианский автор, в посто-
янных драматических поисках Бога запечатлевается лик самих би-
блейских персонажей, глубинный и уникальный пласт внутреннего
человеческого существа2. Тайна Божественного лика способствует
тому, что люди обретают свою уникальную личность, узнают о ее
тайне. Человек создан по образу Божию, и это значит, что он —
личность.
Однако сокровенность Бога-Отца таинственно сочетается с явле-
нием в мир Его Сына Единородного. В центре христианской религии
стоит Личность Христа, явленность Бога людям в сиянии Его Лика (в
древнееврейском тексте 117(118)-го псалма стоит: «Бог Господь, и
воссиял нам; греческое «eKecpavev» — явился — происходит от (paivcû,
что несет оба значения: и являть, и светить), причастность к нему
человеческого мира. Евангелие нередко называют «словесной ико-
ной» Христа — неслучайно на воскресной утрене Евангелие кладут
на место праздничной иконы, и к нему, как к иконе, прикладываются
молящиеся.
Еще Пушкину хорошо известно, что образ — это явление сокро-
венной тайны личности, и эта тайна сакральна; именно христианство
182
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
открывает путь появлению — явлению личности, ее образу в европей-
ском искусстве. Но эту таинственность языка и личности (одно отра-
жается в другом), таинственную гармонию явленного и потаенного
сохранить не удается: импульс Ренессанса и Реформации (волны,
исходящие от него, проникают всю толщу культуры только ко вто-
рой трети XIX века, о чем не раз писал А. В. Михайлов) не только
позитивно-динамичен, но и разрушителен. Да, как замечает Е. Б. Раш-
ковский, важнейшее достижение Реформации— «право на чтение
Библии на своем родном языке, на личное общение с Библией, на
опыт личного осмысления, даже на личную экзегезу — все это нало-
жило глубочайший отпечаток на характер европейского богословия,
философии, словесности, искусств, гуманитарных знаний; <...> би-
блейский текст в качестве насущного и внутренне свободного чтения
для мыслящего и верующего человека оказался тем даром Реформа-
ции, который во многом определил весь последующий культурный
облик Евроамериканского ареала. <...> Реформационные веяния сти-
мулировали интерес и обращение к библейским истокам христиан-
ской культуры и в лоне ортодоксальных ветвей христианства — ка-
толичества и православия — стимулировали сознательное и осмыс-
ленное насыщение библейским содержанием Литургии, церковной
проповеди, церковного и светского искусства»3.
Но для всего этого само слово должно было утратить свою таин-
ственность (таинственность) и — в пределе — стремиться к некоему
единственно правильному истолкованию (в том смысле, что это те-
перь— в пределах человеческих прав «интеллектуальной собствен-
ности»). «В основе традиционной европейской культуры (опирав-
шейся на текст Библейского канона, прежде всего — в виде Вульга-
ты) лежала идея не самосознания (как это оказалось характерно для
«модерн»-культуры), но идея Откровения: библейский текст <...>
служил не только источником всей основной мыслительной инфор-
мации, но и предметом благочестивых медитаций, толкований, тео-
ретизирований. И вместе со всем этим — основным и бесспорным
источником любых форм человеческой практики, в том числе и ху-
дожественного вдохновения»4. Мы понимаем: происходит десакрали-
зация слова, а это означает, что, со своей стороны, абсолютизирует-
ся, становится самодостаточен тот, кто его произносит. Слово те-
перь— собственность человека, и распоряжение этой собственнос-
тью накладывает на него особую отвественность: условие свободы
веры— внутреннее благочестие5. Ответственность эта,— по-види-
мому, непосильная...
183
M. Насонова
Реформация стала поворотным (скалькируем формулировку Алек-
сандра Викторовича)— событием в истории Слова. Десакрализо-
ванное Слово /?яз-облачается до своего собственно словесного смыс-
ла. Писание становится объектом научных исследований— за что
европейская культура должна быть благодарна прежде всего проте-
стантской библеистике. Но есть и издержки: и если вместо словесной
иконы Евангелия в XIX веке появляются историко-биографические
труды типа «Жизнь Иисуса», то в XX веке— вместе с протестант-
скими проповедниками на стадионах с микрофоном в руках — появ-
ляются такие вещи, как рок-опера «Jesus Christ Superstar».
* * *
Культуре еще предстоит осмыслить, что означает перевод Биб-
лии и Литургии на национальные языки. Сейчас же мы спросим
лишь: что именно мы переводим?
Слово сакрального языка— слово воплощенное, слово пресу-
ществленное в таинстве; музыка несет такое слово с трепетом, чтобы
не потревожить таинственности его смысла (это хорошо слышно
еще в духовных сочинениях Палестрины). Новое слово (даже если
это латынь, но десакрализованная контрреформацией, ведь это
уже тем самым все равно перевод— на язык другой культуры,
культуры с иными основаниями) присваивается человеком: рациона-
лизируется, погружается в рефлексию. И именно такое слово — вне
своей субстанциальности — репрезентируется при помощи музыки
в эпоху барочной музыкальной экзегетики и риторики, а затем, к
концу барочной эпохи интериоризируется музыкой, становясь по-
степенно тем самым «потаенным», «скраденным» словом, погру-
женным вглубь музыкальной материи, судьба которого пересекается
с музыкой.
В искусстве нарастает стремление сделать явным все тайное. Изо-
бражение Яхве на знаменитых фресках Микеланджело в плафоне
Сикстинской капеллы — это все-таки именно изображение, не алле-
гория6. В музыке становится возможным услышать голос Бога, его
прямую речь. Грозные интонации Гласа Божьего с потрясающей си-
лой звучат в 109-ом Псалме «Вечерни Девы Марии» Монтеверди:
Сказал Господь Господу моему:
Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
184
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
в подножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
Композитором эти слова озвучены с действительно потрясающей
силой, вызывающей — в соответствии с барочным «физиологизмом»
представлений о том, как должна воздействовать музыка — содрога-
ния и трепет у слушателей (в руках композитора XVII века и доста-
точно мощные по динамике оркестровые средства, и напористый,
если не сказать агрессивный, ритм — чего музыка высокой традиции
до сей поры не знала).
Вокальная партия, обозначенная словом Deus, появляется в ду-
ховных диалогах и ораториях итальянских композиторов, написан-
ных на Ветхозаветные сюжеты (яркий пример — оратория Дж. Ка-
риссими «Авраам и Исаак», представляющая знаменитый эпизод из
гл. 22 Книги Бытия, когда Господь является Аврааму, требуя от того
в знак верности принести в жертву единственного сына7). Это обо-
значение — совсем не то же самое, что обозначения «figura» (т. е.
внешний вид, очертания, образ) или «persona» (театральная маска, от-
сюда роль— от «personus»— звучащий, играющий) при репликах
Христа в диалогизированных текстах средневековых литургических
драм. И прямая речь Бога в ораториях — вовсе не целомудренное
литургическое библейское чтение. Это изображение Бога как теат-
рального персонажа.
Лишь немногие в XVII веке решались противостоять соблазну
музыкальной изобразительности. Так, Генрих Шютц (1585—1672)
в своих поздних циклах Пассионов — по Матфею, Луке и Иоанну,
1665—1666 (о которых принято обычно писать лишь то, что циклы
эти весьма консервативны— а лучше бы сказать: ретроспектив-
ны), — сознательно отказывается от всего огромного разнообразия
выразительных средств, освоенных музыкальным искусством его вре-
мени— и освоенных во многом благодаря усилиям и изобрета-
тельности самого Шютца. В этих повествованиях о страданиях и
смерти Христа музыкальная риторика принесена в жертву субстан-
циальности сакрального Слова, его литургичности; вокальное пись-
мо возвращается к литургическому речитативу, музыкальная фигур-
ность — к речевой фигурности, лишь зафиксированной звуковысот-
но, положенной на ноты. Вокально интонируя Евангельское Сло-
во, Шютц желает «лишь» слегка помочь своему слушателю, вни-
мающему сакральным словам, не прибегая к тем приемам, которые,
185
M. Насонова
насильственно увлекая людей, отучают их от привычки простого и
внимательного вслушивания в Священное Писание. Примечательно,
что текст в «Страстях» — немецкий. Такое целомудренное и «чисто-
сердечное» предстояние перед Словом — наверное, и есть то, чего
искали реформаторы и гуманисты в своем стремлении сделать текст
Писания понятным и доступным (и что столь созвучно нам сегодня,
чего нам так болезненно, даже экзистенциально не хватает). Но в
реальности истории это оказывается где-то на периферии культуры.
К концу эпохи барокко (сер. XVIII в.) музыка уже целиком нахо-
дится во власти того слова, которое я-своено и лрм-своено человеком.
Такое слово— не столько икона Божественной Личности, сколько
образ (помнящей о своем Богоподобии) личности самого человека,
не важно, светская это музыка, или церковная. Человеческая лич-
ность и ее тайна — таково теперь основное содержание музыки; для
Венских классиков и их современников вся ценностная иерархия
жанров музыкального искусства, устремленная ранее вверх, к цер-
ковной музыке, становится центростремительной — и этим центром
является человек. Но то, что в самосознании эпохи церковный стиль
продолжает оставаться на вершине стилевых классификаций,— не
формальная дань почтения прошлому. Конечно, церковная музыка
не занимает столь значительного места собственно в творчестве клас-
сиков, как это было у композиторов предыдущих эпох, однако она
сохраняет свое бытийное место в культуре8 (кстати, в церквах про-
должала звучать музыка мастеров XVI — нач. XVIII вв., в том чис-
ле — Палестрины, Аллегри; Моцарту просто не надо было, подобно
Палестрине, создавать сто с лишним месс). Но на место сакрального
языка в известной мере заступает язык культуры, язык высоких
жанров сценического, словесного, звукового искусства. Это стано-
вится возможным благодаря историко-генетической памяти культу-
ры о сакральном языке в собственном смысле; пользуясь выражением
И. А. Барсовой, о сакральном прошлом языка свидетельствует его
«культурная этимология».
Приведенный пример из стихотворения Пушкина показывает, как
сакральное, как Библейский текст, ставший насущным и «внутренне
свободным чтением для мыслящего и верующего человека», продол-
жает питать, животворить культуру. Но, с другой стороны, новое —
присвоенное, интериоризированное и психологизированное— слово
порождает собственные sacramenta. Одним из них становится сама
отделившаяся от слова музыка с ее «потаенным», или скраденным,
словом.
186
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
В восприятии культурных людей XIX столетия музыка— та-
инство; обретая свои собственные слова, усваивая их внутрь себя, она
тем не менее хранит их таинственность — уберегает от явного и от-
четливого произнесения. Достаточно и того, что есть некий, «какой-
то» смысл, и не стоит допытываться, какой же именно. Конечно, в
интересах широкой публики, музыку часто сопровождают подроб-
ным образным и чувственным комментарием, обнародуют прог-
раммы музыкальных сочинений, порой даже подтекстовывают ме-
лодии, но все это — неизбежная степень профанации, необходимой,
так сказать, для того, чтобы приобщить к таинству массы.
Мы ясно слышим в инструментальных сочинениях венских
классиков, как интонационность и синтаксис функционируют по
моделям речевого дискурса (речевые модели постепенно проника-
ют собой язык инструментальной музыки на протяжении эпохи
барокко). Музыкальные теоретики — от позднего барокко до по-
следних рубежей классицизма — при описании и объяснении зако-
нов, по которым развертывается во времени музыкальная сотро-
sitio (построение; мы здесь сознательно избегаем понятия «музы-
кальная форма» — тогда оно не использовалось в сегодняшнем
значении), пользуются терминами грамматики (в частности, зна-
ками препинания — при обозначении функций элементов музы-
кального синтаксиса), риторики и логики (для обозначения частей
музыкальной compositio). Взаимное перетекание вокальных и ин-
струментальных жанров — транскрипции, переложения, подтек-
стовка — обычная практика и во времена классиков, и в романти-
ческую эпоху9. Не случайно и сегодня педагоги музыкальных школ
часто подтекстовывают эту музыку, обучая детей осмысленному и
выразительному исполнению. Нельзя сказать: «музыка говорит то-
то и то-то», но всегда можно предположить: «музыка говорит
примерно так...». Кажется, что слово находится еще очень близко
от поверхности музыки — запусти руку поглубже, и ухватишь
таящееся, похитишь слово из потаенности.
Однако слово погружается все глубже и глубже, и вот уже не
всегда можно понять, действительно ли мы имеем дело со словом,
или уже с чем-то иным. Наступающий XIX век знаменуется появ-
лением в музыке чего-то совершенно нового. Романтическая фак-
тура, в том числе и в особенности — прелюдийно-этюдная, —
всегда есть нечто большее, чем это необходимо для того, чтобы
просто гармонически сопровождать песенную мелодику. В ней
слышны бессловесные голоса того несказанного, что находится в
187
M. Насонова
самой глубине человеческого существа. Когда Гегель говорит, что
музыка есть «увы и ах» души, — это как нельзя более подходит
нарождающейся романтической музыке.
Дискурс потаенного слова порой отступает с первого плана и
даже растворяется в бессловесном изъявлении сокровенных душев-
ных глубин. Нередко если здесь и есть речь, то только потому, что
междометия относятся к частям речи (впрочем, высказывание, со-
ставленное почти из одних междометий,— высказывание особого
рода).
Но здесь, в музыке романтиков первой половины века, появляется
нечто совершенно новое, именно «нечто» — бессловесное и неопре-
делимое. То мы узнаем его в кипении фортепианной фактуры, когда
оно, это «нечто», контрапунктирует «дискурсу» интериоризирован-
ного слова песенной мелодии, находя свои пределы в вертикальном
пространстве, то слышим его голос в гуще фигурации, подобно
«звуку» из motto Фантазии Шумана:
Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Für den, der heimlich lauschet.
(Ф. Шлегель)
Во сне земного бытия
Звучит, скрываясь в каждом шуме,
Таинственный и тихий звук,
Лишь чуткому доступный слуху. —
А то оно, это «нечто», и вовсе теснит слово, буквально, зримо вры-
ваясь в его собственный дом — за надежные и прочные стены клас-
сической метрики, обживает эти пределы и учиняет в них разруше-
ния. Удивительный пример такого вторжения-вытеснения— цент-
ральный эпизод Третьего, ми-мажорного, этюда Шопена. «Нечто»
врывается, словно вихрь в распахнутое внезапным порывом бури
окно «дома», и теснит его ошарашенного обитателя-«слово», ко-
торое буквально вжимается в стены, на какое-то время вообще ни-
как не проявляясь; кажется, сейчас и сам «дом» рухнет— поток
музыки сметает тактовую метрическую сетку. Это видно даже в
графическом облике нотной записи— понятно и человеку, не зна-
ющему нот,
188
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
Ф. Шопен. Этюд № 3, центральный эпизод и начало репризы
Ри щ^тщи^^шщщ^!^
9É
jgf 1Щ№ ЩЩ
| | «Вторжение»
"11 «Песня»
11 «Вторжение»
Р^ЩШШ§№ Щ
~"| [«Песня»! Г «Вторжение»
WffJUÜWft
189
M. Насонова
Г~ «Вторжение»-] [Го, что осталось от «Песни»
TfrfWd
Восстановление «Песни»
190
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
Природная стихия вытесняет «культурное», связанное со словом
(песенную мелодию), проходит свой жизненный цикл и как-то сама
собой утихает; «культурный» порядок потихоньку восстанавлива-
ется.
«Этимология» таких вторжений некоторым образом соотносима с
примером из пушкинского стихотворения: «И внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом» —
повествуется о сошествии Духа Святого на апостолов (Деян. 2, 2). Но
«неведомое» романтической трансцендентной стихии— иное; обо-
жествленная природа — но обожествленная по-иному. Хотя здесь, в
Третьем этюде Шопена, это «нечто» вовсе не злое, по большому сче-
ту, оно все равно нехорошее, так как неясно, откуда оно пришло,
куда унеслось, кто его создал. Непонятно и, извне оно или, может,
изнутри? Словно какая-то бездна антивещества, и то ли человек в нее
заглядывает, то ли она в человека — заглядывает и входит — и зани-
мает место утраченной субстанциальности слова...10
Яркая история «потаенного слова» в музыке оказывается доволь-
но короткой. Уже в середине XIX века вытеснение его бессловесным
«нечто» не просто происходит на практике, в отдельных сочинениях,
но и осознается концепционно. В знаменитом Ми бемоль мажорном
трезвучии из Вступления к «Золоту Рейна» Вагнера нет никакого
слова, зато утаивается вся европейская культура со всеми ее словами.
Это образ абсолютной, ^-культурной цельности и не-явленности,
191
Л/. Насонова
созданный искусственным путем, то есть с помощью последних до-
стижений музыкального искусства. Для Вагнера культура — сама по
себе беда, грехопадение. Нужно /?аз-облачить ее до первичного, до-
культурного состояния. Золото возвращается на дно, Валгалла —
сгорает. Однако этот первичный, нулевой слой — когда якобы нет
культуры, — не абсолютный ноль (золото не может быть не похищено
из воды, оно там для этого и находится). Как не «раздевай» культуру,
все равно мы остаемся в ее пределах, только в XX веке, как заметил
А. В. Михайлов, эти пределы оказываются достигнуты. Но тут выяс-
няется, что пределы — это не временная категория, а категория тер-
ритории.
Вагнеровское трезвучие уже не содержит интериоризированного
слова; пользуясь выражением А.В.Михайлова— это «то, что»п,
простое наличествование, своим молчанием надежно укрывающее
богатство сокровенного. Из этой точки открывается вид на музыку
XX века, с ее культурной космологией и «священномолчанием», сак-
рализацией и своеобразной вербализацией невербальных катего-
рий— в культуре «постмодерна» конца XX века «словом» может
быть все что угодно.
Музыка, утратив органическую связь с сакральным и вытеснив из
себя слово (или утопив его глубоко на дне себя), создает свой соб-
ственный языковой пантеон, свои языковые sacramenta; она обретает
их в своей долгой истории, «освящает» свои языковые элементы, при-
том симптоматично, что эти языковые элементы связаны со «свя-
щенной историей» музыки, когда она несла свое смиренное служение
сакральному слову, до ее, так сказать, «грехопадения». Такой «освя-
щенной» музыкальной лексемой может быть мажорное трезвучие
(эффект «высвечивания» чистого трезвучия сквозь «тьму» диссонант-
ной фактуры— прием, используемый многими композиторами, в
частности, Альфредом Шнитке и Софией Губайдулиной), натураль-
ный звукоряд— представитель «диатонического рода», противопо-
ставляемый хроматике и микрохроматике (как в «Perception» Губай-
дулиной), постепенно вырастающий из основного тона обертоновый
звукоряд (как в «Гимне 2» Шнитке для контрабаса и виолончели),
даже сам по себе чистый музыкальный звук — unisonus, не «осквер-
ненный» предварительным «приготовлением» инструмента (пред-
намеренно загрязняющим, искажающим звучание), шумами, много-
звучными кластерными и микрохроматическими наложениями,—
звук, очищенный до своей культурной первозданное™ (именно куль-
турной — не природной, — как и у Вагнера).
192
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста.
(О. Мандельштам)
Обретя вновь свои святыни, музыка, как кажется иногда, более
всего желает вместе с ними навсегда умолкнуть, чтобы более не было
утрат.
Умолкание искусства происходит на фоне культурного маро-
дерства (которым, в известном смысле, занимается не только около-
культурный обыватель, но и современная «культурология»; обычные,
к сожалению, выражения в среде историков культуры, много раз
слышанные автором из уст коллег, — «подобрать инструмент иссле-
дования», «новые подходы к исследованию культуры»; подобные
конструкции «проговариваются», ясно показывая «пространствен-
ное» взаиморасположение культуры и говорящего: последний, тем
самым, обозначает свое пребывание «вне пределов» культуры), и
шумной попсовой болтовни. Все мы, хотим или не хотим этого, це-
ликом погружены в попсу, потребляя— не напрягаясь— поп-му-
зыку, поп-культуру, ну и поп-религию (это когда проповедник — с
микрофоном и — желательно перед телекамерой, чтоб спасение ду-
ши осуществлялось с доставкой на дом, к дивану).
Не могу не привести поразивший меня пример. Некоторое вре-
мя назад в «Аргументах и фактах» напечатали небольшую, но сочув-
ственную заметку о том, как некий филолог (обладатель соответству-
ющей ученой степени) умудрился перевести на молодежный сленг и
на феню (для незнающих — тюремный жаргон) «Слово о полку Иго-
реве» — получилось, соответственно, «Спик о тусовке Гарика-мили-
тариста», и, на фене, — «Роман за гастроль Игорька, сына Славика,
Олегова внучка». Автор заметки с удовольствием цитирует особые
«удачи» переводчика— этот господин поработал также над «Бес-
прайсовой Лизой» (Бедная Лиза), «Ботанику атас» (т. е. Горе от ума)
и кратким изложением «Евгения Онегина». Собственное чадо
«переводчика» сдало выпускной экзамен в средней школе на 4, озна-
комившись со «Словом о полку Игореве» по отцовскому переводу.
Журналист из «Аргументов» с пафосом заключает: «Слышу гневные
возгласы: "что за безобразие?! Это же издевательство над нашими
святынями!" Успокойтесь, господа. Массовая речь всегда питала
литературный язык, а поэма Пушкина "Руслан и Людмила" в его
время считалась почти неприличной».
7 - 1379
193
M. Насонова
Конечно, это случай крайний, но он возвращает нас к началу
этих заметок. В отличие от многих других народов, мы обладаем
драгоценным культурным сокровищем: нам сохранен сакральный
язык — церковнославянский. Самим своим существованием церков-
нославянский язык напоминает русской культуре о том, что в мире
есть что-то настоящее, помимо попсовой болтовни, что бытие чело-
века имеет таинственные глубины, открывающиеся в нас через таин-
ственное общение с Богом. Перевод богослужения на обыденный
русский стал бы сейчас тяжкой катастрофой: и совсем не только по-
тому, что большинство попыток такого перевода не удерживаются в
рамках даже «высокого стиля» словесности, неизбежно соскальзывая
в область профанного.
Богослужебные тексты — в большинстве своем поэтические или
сродни поэзии; у них — своя музыка, своя фонетика и звуко-краска;
смысл, который они несут — не буквальный смысл, не чистая словес-
ная семантика. Их красота, мелодика, интонация — формируют свой
смысловой слой, свой уровень воздействия. Слова дороги нам не
только буквальным смыслом. Душа отзывается на что-то помимо
него. Сравним строки, наверное, самого известного, 50-го псалма по-
славянски и в русском синодальном переводе. Начало псалма, по-
славянски:
Помилуй мя, Боже,
По велицей милости Твоей,
И по множеству щедрот Твоих
Очисти беззаконие мое.
По-русски —
изгладь беззаконие мое:
лексически чуть более точно (ср. по-гречески и по-латыни: соответ-
ственно, èÇccteiqxo, dele — затереть, вычеркнуть, вымарать, изгладить
[написанное на дощечке, покрытой воском]) — но как-то не трево-
жаще.
Далее:
Наипаче омыймя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя...
По-русски:
Многократно омой меня от беззакония моего...
Анализировать нет необходимости — все слышно без коммента-
риев.
194
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
Сторонники реформы богослужебного языка верно отмечают, что
когда-то ведь и греческую библию перевели — сначала на латынь,
потом на славянский. И эти переводы тоже когда-то были новыми и,
быть может, спорными. Но не будем забывать, что в то время, когда
делались эти переводы, к слову Писания было иное, чем теперь, от-
ношение: Слово Писания было накрепко связано со Словом Вопло-
щенным.
Tiv осрхл fjv о Xôyoç, ка1 о Xôyoç fjv тсрос xöv 0eôv, mi 0eoç fjv ô Xôyoç.
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum.
В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.
Именно такое отношение создало языковые феномены Вульгаты и
Славянской Библии, сквозь буквы которых мы воспринимаем в себя
сущности, которые никак не сводимы к буквальным значениям слов.
Сами-то слова перевести, разумеется, можно — и с величайшей эти-
мологической точностью, и со всяческими литературными досто-
инствами. Но то, что было вложено в эти слова помимо буквальных
значений, вложено дорефлективно — неважно, как называть тот ме-
ханизм, благодаря которому это стало возможно, — это ныне утра-
чено культурой, утрачено языком, на котором мы говорим. И надо с
благодарностью и трепетом и упованием принимать эти поистине
священные дары, сохраненные нам в славянских текстах, и мы на
самом деле все это великолепно чувствуем, только надо себе в этом
больше доверять.
И Слово плоть бысть, и вселися в ны,
и видехом славу Его,
славу яко Единородного от Отца,
исполнь благодати и истины.
Конечно, нужно трезво сознавать те опасности, которые таит в
себе сохранение дистанцированного от обыденной жизни сакраль-
ного языка. Богослужебные тексты необходимо понимать, не говоря
уж о том, что сакральный язык не должен становиться искусствен-
ной преградой между Церковью и миром, отпугивая непосвящен-
ных. Но перевод богослужения не может быть неким директивным
техническим актом. Это нечеловечески — действительно нечеловечес-
ки* — трудное дело. Каждое слово нужно взвешивать — в сердце,
держать его на ладони как величайшую драгоценность, тысячи раз
переслушивая его звучание внутренним слухом души — чтобы не
7*
195
M. Насонова
было ни малейшего призвука фальши в звучании, всеми силами ста-
раясь— памятью культуры или глубинами сердца или (как скажет
человек церковный) силою Духа Святого — вспомнить о нем и в нем
то, что было забыто.
Составители текстов православной Литургии — Иоанн Златоуст
и Василий Великий, великие гимнографы трех-четырех последующих
столетий, имели за плечами наследие античной поэзии и риториче-
ского искусства... Славянские переводы, слово за словом калькируя
греческий текст, невольно сохранили в себе и несут нам генетическую
память об этом наследии. Несколько веков сакральный язык питал
словесную культуру, был ее золотым фондом, откуда черпали и вели-
кие, и малые, задавал точку отсчета, планку, с которой словесность
себя соотносила.
На самом деле, каждый, кто прикасался — прежде всего сам для
себя — к переводу литургических текстов, понимает, что переводить
в полном смысле этого слова нужно очень немногое— некоторые
совсем уж не воспринимаемые современным слухом синтаксические
обороты, калькированные с греческого (вроде конструкции dativus
absolutus, передающей греческий genitivus absolutus), слова, ради-
кально изменившие или «снизившие» свое значение в современном
русском языке (также — случайно образовавшиеся омонимы послед-
них).
Когда же в одном лице соединяются священник, библеист, фило-
лог и литератор — такие уникальные случаи бывают, — совершенно
поразительные языковые находки рождаются из живой литурги-
ческой практики, и только тогда сами они оказываются подлинными
и живыми. То, что происходит с литургическим текстом или текстом
Евангелия, звучащим за богослужением, напоминает тогда бережную
реставрацию старинной мозаики: заменили всего несколько осыпав-
шихся или потускневших камешков — и вот она снова засияла золо-
том, так что теперь и не различить, какие камешки новые.
Может ли быть (или научиться быть, суметь быть) сакральным
современный русский язык? Думаю, что не может — сегодня не мо-
жет. Сегодня, когда стаж чтения Библии по-русски не превышает
10—11 лет (Библия стала доступной обычному читателю только в
конце 80-х, когда в СССР готовились к празднованию 1000-летия
крещения Руси; это уже стало как-то забываться). Сегодня, когда мы
только учимся переносить свой церковный опыт в обыденную жизнь
с ее собственным языком, когда только нарождаются традиция и
умение молиться своими словами, а не по молитвослову — а значит,
196
«Сакральный язык» и «потаенное слово»
молиться по-русски. А что у нас есть на сегодня? Есть прекрасные
русские молитвы, оставленные оптинскими старцами, святителем
Иоанном Кронштадтским, отцом Александром Менем. В России не
умерла и духовная поэзия (достаточно назвать С. С. Аверинцева,
О. А. Седакову). А благодаря С. С. Аверинцеву мы получили и пре-
восходные русские поэтические переводы Псалмов (но все же не для
литургического использования, а для домашнего чтения).
Наверное, сегодня нам необходимо двуязычие — как умение соче-
тать божественную потаенность и явленность сокровенного в мире12.
Сакральный язык нужен нам и для того, чтобы освящать язык совре-
менный, как питал и освящал он поэзию Пушкина, Тютчева, Фета,
Пастернака, Мандельштама.
Напоминая нам об этом, Александр Викторович немного осветил
и, может быть, даже освятил и нашу жизнь.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Связи текстов Пушкина — художественных и эпистолярных — с текстом
славянской Библии и богослужебными текстами (лексика, стилистика, ци-
таты, аллюзии, парафразы) подробно рассмотрены и прокомментированы
в книге: Юрьева И. Ю. Пушкин и христианство. М., 1998. Вне зависимости
от характера личного отношения поэта к христианству в разные периоды
жизни языковой пласт, связанный со Священным Писанием и богослуже-
нием, был живой и неотъемлемой частью языка культуры пушкинской
эпохи, общим и общезначимым ее достоянием.
2 «На всем протяжении библейских текстов (и это касается Обоих Заветов)
внешние описания героев почти что отсутствуют. Внешность человека не
«портретируется», Но запечатлевается <...> нечто иное: глубинный и
уникальный пласт внутреннего существа человека. Его личность. Или —
точнее — его лик. Уникальность эмоционально-духовных состояний дан-
ного человека в данный момент предельных испытаний — вот что откры-
вается в библейских описаниях. <...> библейская изобразительность есть
изобразительность не внешнего портретирования, но <...> непреложной и
доселе не осмысленной динамики эмоционально-духовных или, если угод-
но, смысловых состояний человека». Рашковский Е. Б. Европейская куль-
тура Нового времени: Библейский контекст// Библия в культуре и ис-
кусстве. Материалы научной конференции «Випперовские чтения—1995».
М., ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1996. С. 29—30.
3 Там же. С. 22.
4 Там же. С. 20.
5 Так, согласно лютеранской доктрине всесвященства, каждый христиа-
нин— священник уже по факту своего крещения (по своему статусу —
197
M. Насонова
Stand); на должность же священника (Amt) человек назначается по мере
своих способностей: блюсти благочестие, понимать Слово и помогать в
его познании другим.
6 И в России существовала традиция изображения Бога-Отца в виде стари-
ка. Наиболее древний иконографический вариант так называемой «Но-
возаветной Троицы», известный с нач. XV века и получивший название
«Отечество», представляет сидящего на престоле старца, на коленях ко-
торого отрок, держащий в руках медальон или сферу с вылетающим отту-
да голубем. Антропоморфное изображение Бога-Отца на Руси неодно-
кратно осуждалось, в том числе Стоглавым собором 1551 г., Большим
Московским Собором 1666—1667 г., постановлением Святейшего Синода
от 1792 г. Тем не менее, такие изображения создавались на протяжении
примерно четырех столетий.
7 Автографов ораторий Джакомо Кариссими (1605—1674) не сохранилось,
но существуют списки (главным образом, английского и французского
происхождения), относящиеся к XVII в.
8 См.: Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX
века. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996. С. 102.
9 Известно, что Бетховен благожелательно— как нечто естественное —
воспринял подтекстовку своим другом Ф. Г. Вегелером Adagio из своей
фортепианной сонаты ор. 2 № 1 в качестве песни «жалоба», и, более того,
обратился к нему с просьбой составить поэтический текст к теме форте-
пианной сонаты ор. 26. В дальнейшем, уже без всякого согласования с
композитором, было опубликовано множество таких подтекстовок, при-
надлежащих самым различным авторам (Кириллина Л. В. Бетховен ad
libitum. Доклад на конфереции «Старинная музыка: Практика. Аранжи-
ровка. Реконструкция». Московская государственная консерватория, 17
мая 1999 г. (рукопись).
10 А. В. Михайлов обращает внимание на существенные причины того инте-
реса, который романтики питали к музыкальным инструментами, звуча-
щим без участия человека: «<...> в звучании Эоловой арфы, на которой
играет сама Природа, и в звучании подобных ей гармоники, евфона, эоло-
дикона, играя на которых исполнитель подражает Природе, искали не му-
зыки, создающей произведения искусства, но музыки как стихии, музыки
как элемента самого бытия» (Михайлов А. В. Этапы развития музыкально-
эстетической мысли в Германии XIX века // Музыкальная эстетика Герма-
нии XIX века. М., 1981. Т. 1. С. 36). Не только внимая Эоловой арфе, но
даже и создавая произведения искусства, романтики стремились услышать
голоса несказанного — стихийных, хаотических сил, таящихся в мире и в
человеческой душе.
11 См.: Михайлов А. В. Поворачивая взгляд нашего слуха// Михайлов А. В.
Языки культуры. М., 1997. С. 862 и след.
12 Дистанция между сакральным и обыденным языком (а значит и жизнен-
ным опытом) не должна превращаться в онтологический разрыв, к пре-
одолению которого и стремились в свое время гуманисты и реформаторы.
198
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ
О ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
А. В. Михайлов
ИМЛИим. А. М. Горького РАН. Москва
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Стенограмма доклада, сделанного 20 января 1993 года
на заседании Научного совета ОЛЯ РАН
«Теория и методология литературоведения и искусствознания»*
Уважаемые коллеги! Я с самого начала хочу вам сказать, что
имею все основания для того, чтобы вас основательно разочаровать,
и сейчас скажу чем, как и почему. Дело в том, что, конечно, я заду-
мывал свой доклад в буквальном смысле слова как несколько те-
зисов. Если так понимать его, то тезисы спокойно могут быть изло-
жены на листе бумаги. И этот лист бумаги даже можно было бы
предложить присутствующим, и это сделало бы текст доклада обо-
зримым и удобным для всякого использования. Но когда я написал
эти несколько тезисов, то я увидел, что в эту старую форму изложе-
ния своего материала и содержания своего доклада я не попадаю, то
есть исполнение отличается от задуманного и, следовательно, изла-
гать я должен не в той форме, в которой я первоначально собирался.
Не в форме нескольких тезисов, которые можно очень быстро прочи-
тать и которые сразу же очевидны, а в другой форме, которая должна
сложиться особо. Это уже повод для некоторого огорчения. Затем
обнаружилось второе обстоятельство, которое уже ближе касается
содержания того, о чем я хотел сказать. Обнаружилось, что все зна-
ние наше литературоведческое, если начать над ним размышлять,
оно невольно попадает в такую кругообразную форму, где невоз-
можно найти настоящие начала, и начинать можно с любого места.
Но это приводит к тому, что некоторые тезисы, как бы в необъяснен-
ной, никак не подкрепленной никакими доказательствами и ничем
* Таково первоначальное название Совета, возглавляемого А. В. Михай-
ловым. Совет стал называться «Наука о литературе в контексте наук о куль-
туре» в 1996 году в связи с организацией Совета ОЛЯ РАН по искусствозна-
нию, который возглавил Д. В. Сарабьянов.
201
А. В. Михайлов
вообще форме, выдвигаются вперед, встают как вопрос, и ответ на
этот вопрос надо ждать, а он не приходит, не хочет приходить. Но и
это относится к содержанию того, о чем я хотел вам сообщить.
Отсутствие ответов — это один из содержательных моментов мо-
их тезисов. В тезисах речь идет о том, что мы спрашиваем, а ответа
не получаем. И это вот один из тезисов, случайно вынырнувший сей-
час вперед и, конечно, бездоказательный сам по себе. Но так это бу-
дет идти и дальше. Но поскольку я должен излагать то, что я хотел
вам сказать, в форме иной, нежели это изложено у меня на бумаге, то
я позволю себе сказать несколько слов о том представлении об ис-
тории, которое было у Шеллинга в зрелую пору его жизни. Все
упрощения я в этом случае беру на себя, все упрощения пересказа.
Когда Шеллинг создавал свою философию мифологии, а размышлял
он над ней несколько десятилетий, то вот складывалась такая карти-
на: первобытное человечество, не народы, а человечество, единое,
цельное, знало о том, что есть один Бог. Ну, это была форма моноте-
изма. Монотеизм этот, согласно Шеллингу, не был настоящим, не
мог быть настоящим, потому что человечество в эту пору не имело
никакого представления о том, что может быть как-то иначе, что
может быть два бога, или несколько, или много богов. Значит, это
был монотеизм, при котором человечество знало о существовании
только одного Бога. И потом вдруг наступает новый период в ис-
тории, в человечестве вдруг возникает представление о том, что гря-
дет второй бог. И человеческое сознание вдруг преисполняется чув-
ством величайшего ужаса перед этим пришествием второго бога,
который начинает поселяться в сознании человечества и, как пишет
Шеллинг, буквально, «находит на человечество».
Человечество все проникнуто величайшим ужасом перед этим не-
понятным нашествием второго бога. Ну, и таким образом происхо-
дит теогонический процесс: приходит второй бог, который влечет за
собой идею о множестве богов, монотеизм первоначальный сменяет-
ся многобожием, политеизмом, и только после этого наступает пора
истинного монотеизма, уже настоящего монотеизма, такого, кото-
рый доведен до знания людей путем Откровения. Ужас же челове-
чества, связанный с тем, что на него «находит» второй бог, он связан
с тем, что люди понимают, что вместе со вторым и последующими
богами человечеству предстоит разделение. Единого человечества
уже не будет, начнется эпоха разделения человечества на отдельные
нации и т. д. и т. д. Вот этот страшный период истории человечества,
по Шеллингу, непременно имел место, и ужас его пережит людьми.
202
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
В этой страшно упрощенной мною картине одновременно теогони-
|ческого процесса и истории человечества есть три момента, которые,
[дсак мне казалось, сейчас для нас важны, и которые у меня находят
полное сочувствие.
Первый момент: вот, оказывается, по Шеллингу, если вчитывать-
ся в него, то можно задать такой вопрос ему: где же то начало, кото-
рое управляет историей и направляет ее? Откуда идет этот второй
бог? Где та сила, которая управляет порядком, которая «наводит»
человечество на мысль о втором боге и о последующих богах? Где
это начало? Ответа нет. Это не знание об истории, об ее законах,
закономерностях, о правилах, по которым протекает исторический
процесс, а это незнание. За этой картиной исторического процесса,
которую рисует Шеллинг, стоит не знание, а незнание. И этот момент
надо зафиксировать: ни человечество не знает, откуда идет новый
бог, ни, наверное, Шеллинг не знает, откуда идет новый бог. И это
можно сказать обо всей истории. Конечные ее корни, источник ее
неизвестен.
Второе. По-видимому, так получается, по Шеллингу, что ничто,
совершающееся в истории, никогда не минует человеческое сознание.
Все, что происходит в истории, по-своему зачинается внутри челове-
ческого сознания. И нет ничего такого, что бы ни зародилось в пре-
делах человеческого сознания, если даже представить себе, что ис-
точник исторического процесса находится где-то еще.
И третье. В той картине исторического процесса и теогонического
свершения, которую рисует нам Шеллинг, можно видеть не изложе-
ние знания об историческом процессе, но именно отступление знания
в сферу не-знания. Человек не должен обязательно претендовать на
свое знание чего бы то ни было, не надо подменять свое не-знание
знанием. Есть ситуации, в которых наше знание должно отступить
перед нашим не-знанием. Это ситуация, с которой, я предполагаю,
мы встретимся, но на самом деле я предполагаю, что в нашей науке о
литературе и во всех наших науках о культуре, об истории культуры
и так далее, мы уже встречаемся с той ситуацией, в которой мы
должны отступать. Отступать из области предполагаемого нашего
знания в область нашего же не-знания.
Значит, три урока, или три таких тезиса я для себя отметил, раз-
думывая над замыслом «Философии мифологии» Шеллинга, причем
я вполне отдаю себе отчет в том, что можно было специально о Шел-
линге сейчас не говорить, а начать с чего-то другого, но именно этот
огромный текст Шеллинга дает мне возможность хотя бы что-то не
203
А. В. Михайлов
вполне беспричинно выставить вперед из своих тезисов. Значит, из-
лагая то же самое в форме более простой, я повторю эти три положе-
ния, до которых мы потом должны снова дойти.
Первое: где начало истории, ее истоки и движущие силы, этого мы
не знаем, по всей видимости. Второе: ничто из того, что совершается
вокруг нас, с нами и, вообще, в истории, не минует человеческого
сознания и в нем коренится, и непременно не обходится без человече-
ского сознания. И, наконец, третье положение: наше знание, ну, или
мы — в области нашей науки, постоянно имеем дело не только с соб-
ственным знанием, но и с собственным не-знанием, и это не-знание не
есть просто отсутствие знания, не есть просто отсутствие сегодня
того, что мы узнаем завтра, а есть как бы положительная действую-
щая величина в пределах нашей науки.
Ну, это все на будущее...
К тем тезисам, которые я хотел вам излагать, у меня сами собой
подобрались три эпиграфа. Я их не отыскивал, они сами подобра-
лись, и я позволю себе их прочитать, потому что это тоже способ
оправдать выдвижение вперед некоторых тезисов.
Первый эпиграф — из Книги Пророка Исайи: «Горе иже мудри в
себе самих и пред собою разумни» (Ис. 5,21).
Второй эпиграф из Афанасия Афанасьевича Фета, который в од-
ном из своих стихотворений пишет так: «Что ж я узнал? Пора узнать,
что в мирозданьи, / Куда ни обратись,— вопрос, а не ответ». По
поводу этого эпиграфа я хотел бы заметить наперед, что, по-
видимому, бывает такая ситуация, когда не в пределах науки, а явно
за пределами ее рождается сознание некоторой истины, которая, как
относящаяся к делу, и относящаяся, например, к нашей науке, до
поры до времени никак не может быть прочитана. Некоторая истина
не обязательно должна рождаться внутри науки, она не скована ни-
какими рамками науки, но зато мы скованы рамками науки, и мы не
знаем, что относится к нашей науке, пока мы не подталкиваемся ка-
кими-то обстоятельствами к тому, чтобы узнать об этом.
Если же это так, то, по всей видимости, слова, которыми мы поль-
зуемся, и которыми пользуется поэт, они имеют свою силу, они зна-
ют, что и когда сказать, а мы не знаем того, что нам говорят. Пред-
положить в словах Афанасия Афанасьевича Фета нечто вроде науч-
ного тезиса, наверно, не приходило в голову никому, тем не менее, в
пределах поэзии происходят такие открытия относительно сущности
нашего знания, и исключить такую возможность мы не можем. От-
крытия, которые, до известной степени, не отдают себе отчет, но ра-
204
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
но или поздно нам приходится отдать себе отчет в том, что содержат
слова поэта. И эта самостоятельность слова, самостоятельность дей-
ствия слова и самостоятельность смысла слов, которые этот смысл
держат на себе и проводят его через доступную нам историю, — это
надо тоже иметь в виду.
Третий эпиграф— из работы Мартина Хайдеггера: «Естествен-
ным кажется нам лишь привычное, привычное давней привычки, меж
тем как это привычное позабыло о том непривычном, из какого оно
проистекло». Это тоже помогает высказать мне некоторые сообра-
жения по поводу ситуации нынешних наук о культуре.
Ситуация современных наук о культуре заключается, на мой
взгляд, если осмелиться говорить о них и об этой ситуации что-то
общее, в утрате того, что мы назвали бы само собой разумеющимся
или очевидным. Это мой тезис и мое предположение. Значит, совре-
менная ситуация наук о культуре в целом и науки о литературе, в
частности, характеризуется тем, что в них утрачено само собой разу-
меющееся или очевидное.
Современная наука о истории культуры существует в условиях,
когда нет этого само собой разумеющегося или очевидного. Когда
вдруг оказывается, что ничего такого уже нет, и когда это, правда,
очень постепенно, так как этому противодействует инерция науки с
ее самоуверенностью, становится достижением научного сознания.
Вот мой первый настоящий тезис, на котором я способен настаи-
вать, и который, как мне кажется, подтверждается ситуацией науки
действительно. В пределах науки о культуре утрачено знание о само
собой разумеющемся или очевидном. Если же это так, и само собой
разумеющееся для историка культурной науки тает и исчезает, то
надо отдать себе в этом отчет: так ли это? И если это так, то попы-
таться воспрепятствовать тому, чтобы, как это нередко происходит,
самоуверенность науки и ученого занимала место само собой разу-
меющегося и очевидного. А на само собой разумеющемся и очевид-
ном основывается, по всей видимости, вообще всякая наука. Она
начинается с того, что некоторые вещи принимаются за само собой
разумеющиеся и очевидные. И вот если это само собой разумеющееся
из наших наук исчезает, если мы убедимся, что это так, а убедиться в
этом можно/только идя последовательно путем осмысления того,
что такое наука сейчас, то надо воспрепятствовать тому, чтобы тра-
диция с ее инерцией занимала место реальности постижения, чтоб
привычное занимало место открывающегося перед нами смысла.
Здесь я ссылаюсь на тот эпиграф из Хайдеггера, который я только
205
А. В. Михайлов
что прочитал: среди привычного нам может совершаться нечто не-
ожиданное и непривычное, оно совершается, мы можем не отдавать
себе в этом отчета, но если оно совершается, то мы рано или поздно
это откроем, и ситуация нашей науки будет заключаться в том, что
мы будем приходить к этому непривычному, открывающемуся для
нас среди самой науки.
Убедиться в том, что это так, можно действительно только путем
осмысления ситуации науки во всем ее богатстве, и это лишний раз
убеждает нас в том — если это так, снова, — что в этой области не-
пременно имеет место такой круговой процесс, в который мы погру-
жены, и в котором по отдельности ничего не доказывается. И не
оправдывается. Можно оправдать и подтвердить только нечто взятое
во всей совокупности своего осмысления. Это страшно затрудняет
нашу задачу, да, в частности, и мою, и первым возражением мне мо-
жет быть то, что на самом деле это все не так и что само собой разу-
меющееся вовсе не исчезло из пределов науки, но тогда все после-
дующие мои тезисы рушатся сами собою.
Вот мои тезисы и посвящены нынешней ситуации: историко-
культурные дисциплины в условиях отсутствия само собой разу-
меющегося, в условиях исчезновения очевидности.
Если верно, что наука о литературе — одна из наук, входящих в
историю культуры как науку в целом, — это тоже один из тезисов,
но, наверное, более приемлемый по своей форме, — то все, что я из-
лагаю потом, имеет в виду и науку о литературе в частности, и науку
о культуре в целом. Говоря об одном, я подразумеваю одновременно
и другое. В зависимости от обстоятельств я в дальнейшем иногда
больше говорю о науке о культуре, иногда, по преимуществу, о науке
о литературе, но имеется в виду вся внутренне как-то устроенная
совокупность нашего знания об истории культуры, которое мы
осмысляем.
Следующий тезис имеет такую парадоксальную форму: если го-
ворить об утрате само собой разумеющегося и очевидного в науках
о культуре, если бы нам действительно удалось удостовериться в том,
что это так, то тогда, конечно же, с самой крайней остротой встает
перед нами такой вопрос: а что же тогда оказывается само собой
разумеющимся для науки о культуре? Если утрачено само собой ра-
зумеющееся, то, разумеется, и никакого другого выхода нет, мы
должны спрашивать себя: а что же тогда разумеется для нас само
собою? Что же тогда оказывается само собой разумеющимся для
науки о литературе? И что же оказывается само собой разумею-
206
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
щимся, например, для теории литературы или для истории литера-
туры.
Такие вопросы, естественно, кажущимся образом находятся в про-
тиворечии с утверждением, что само собой разумеющееся исчезло.
И здесь не остается ничего другого, как пустить мои тезисы по
разным направлениям. С одной стороны, попытаться осмыслять суть
вот этой ситуации как бы парадоксальной, с другой стороны, поду-
мать о том, что делается в других науках, которые привыкли иметь
дело с чем-то таким, что разумеется для них (или — разумелось для
них), и посмотреть, что делается в этих науках, среди всех наук, ко-
торые существуют.
Я исхожу, из того, что для любой науки не может не быть такого
близлежащего, самого близкого к нам, из чего эта наука исходит и на
основании чего она может себя строить. Это я называю условно са-
мым близким или близлежащим. Однако, спрашивая себя о том, что
может быть для наук о культуре таким, я вовсе не надеюсь получить
ответ. Такого ответа, действительно, может и не быть. Вопрос ни-
когда не остается без ответа, однако в том смысле, что ответом уже
может быть указание на то направление, в котором, как нам будет
представляться, этот ответ лежит.
Такой ответ, то есть ответ, который только указывает какое-то
направление, но ничего не утверждает более позитивного и положи-
тельного, — разумеется, это уже ответ и указание на то само собой
разумеющееся, что непременно остается для науки даже при том
условии, что она удостоверится в том, что прежнего само собой ра-
зумеющегося для нее уже нет.
Фет Афанасий Афанасьевич был в этом смысле в высшей степени
проницателен. Проницательность эта— не проницательность слу-
чайного размышления случайного поэта о том, что в рамках поэти-
ческой мысли ему вдруг представилось. Я думаю, что за всеми таки-
ми поэтическими суждениями стоит настоящая истина, которая не
может быть урезана или подвергнута сомнению на том основании,
что это поэт между прочим сказал. Все, что говорит поэт, он говорит
между прочим, но это между прочим иногда оказывается гораздо
весомее и важнее того, что говорит наука, остающаяся в своих преде-
лах, и, в принципе говоря, ничего такого, что говорилось бы между
прочим, не должна говорить. Но это реальная ситуация. Так вот
Афанасий Афанасьевич Фет нашел для нас такой ответ в общем пла-
не. Он указал нам на то, что наши вопросы могут не получать ника-
кого ответа, и это тоже есть форма ответа— сами вопросы, сама
207
А. В. Михайлов
возможность задавать вопросы до известной степени есть возмож-
ность получать ответы. Ответ заключается в самом вопросе, но си-
туация эта непривычная, и для науки о литературе в том виде, в ка-
ком она существует сейчас, совсем уж непривычная, потому что, я
еще раз скажу, что, на мой взгляд, инерция внутри науки скопилась и
собралась невероятная, то есть огромная инерция. Мы делаем вид,
невольно часто, что мы разделяем основные положения своей науки,
которых мы давно уже не разделяем, в которые мы не верим и кото-
рые перестали быть для нас очевидностью. Если это так, то то, что
является для нас по-настоящему основными положениями, из кото-
рых мы реально исходим, есть нечто другое. И это ставит вопрос о
соотношении между кажущейся реальностью нашей сегодня су-
ществующей науки и тем, из чего мы на самом деле исходим, из на-
стоящей реальности этой науки. Эта настоящая реальность, на мой
взгляд, есть реальность совершенно непривычная для нас, но именно
та реальность, которая для нас является настоящей реальностью.
Один из моих тезисов — я всякий раз вынужден забегать вперед,
но это каждый раз будет повторяться до тех пор, пока не наступит
такой момент, когда я смогу уже ссылаться на то, что я говорил
раньше, — один из моих тезисов заключается в том, что мы в своей
работе, в той реальной работе, которую мы делаем, не в предполо-
женной только и как бы должной, имеющей быть, а реальной, что мы
в этой своей работе исходим вовсе не из тех положений, которые мы
на поверхности держим перед собою и по инерции разделяем. На
самом деле, современная наука о литературе и современная наука о
культуре строится на основаниях, которые совсем не те, которые она
выставляет вперед и формулирует в качестве таких основных своих
положений. И теория литературы как так называемый «предмет» или
как курс, который читается, на самом деле, имеет в виду про себя,
неосознанно часто, совсем другие основоположения, нежели те, ко-
торые в этом курсе, по сути дела, преподаются. Вот это один из под-
ходов к современной ситуации науки.
Есть нечто близлежащее для нас, и мы должны посмотреть, что же
это за близлежащее. Об этом — вопрос. Пока нет никакого ответа.
Когда говорили и говорят о связи науки с жизнью, говорят, как пра-
вило, из очень добрых соображений, иногда из демагогических по-
буждений, то этим до крайности расплывчато и завуалированно пе-
редают некоторую суть дела, сущность того, что действительно
имеет место.
Это действительно имеет место, потому что, как мы увидим поз-
208
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
же, да и в этом не надо, наверное, никого убеждать, науки о культуре,
и, в частности, наука о литературе имеет ту особенность, что она не в
состоянии и не способна отомкнуть себя от того, что есть окружа-
ющее. В отличие от тех наук, которые понимают себя как науки точ-
ные, и которые способны до последней степени, до самой крайней
степени, до которой они на это способны, замыкать себя внутри себя
и тем самым изолировать себя от окружающей жизни, то есть от то-
го, что мы называем жизнью.
Значит, когда говорят о связи науки с жизнью, то при этом имеют
в виду нечто реальное, но при этом завуалированное и не вполне по-
нятное. Ведь мы же действительно не знаем и не будем настаивать на
том, что мы знаем, ну, особливо в пределах нашей науки, что такое
жизнь и как следует ее разуметь. Но при этом выясняется следующее
обстоятельство: ведь жизнь— это одно из основных слов нашего
языка, одно из тех слов нашего языка, которые я бы назвал ключе-
выми или основными словами нашей культуры.
И здесь ничего не остается опять иного, как забежать вперед.
Жизнь в ее непонятности разделяет судьбу всех других основных слов
культуры, которые естественным образом попадают и внутрь наук о
культуре, и внутри этих наук — и внутри теории литературы и внут-
ри науки о литературе в целом — осмысляются и обрабатываются,
каждое слово по-своему, так жизнь разделяет судьбу каждого из та-
ких слов нашей культуры. В современной культуре эти слова все
утрачивают для нас внутри науки свою очевидность.
Ну, жизнь, может быть, не в самую первую очередь, поскольку
тот способ, которым это слово попадает внутрь науки о литературе,
разумеется, совершенно своеобразен и особенный. У каждого основ-
ного слова культуры свой способ захождения внутрь нашей науки, то
есть науки о литературе, каждое слово в науке о литературе есть сло-
во, зашедшее внутрь этой науки извне, то есть из того, что можно в
самом общем смысле назвать жизнью, каждое слово обработано по-
своему, каждое слово соединяет эту науку с окружающим, и каждое
слово внутри нашей науки сегодня имеет тенденцию утрачивать свое
самоочевидное содержание. Об этом мне приходится тоже сказать на
будущее, и об этом я написал несколько тезисов, которые встретятся
нам позже, но о самой сути дела нельзя не сказать уже сейчас.
Исчезновение само собой разумеющегося внутри нашей науки
выражает себя, в частности, как одна из форм проявления, тем, что
основные слова, которыми мы пользуемся в пределах своей науки,
утрачивают для нас, и должны утрачивать, свою очевидность. Свою
209
А. В. Михаилов
самоочевидность. Это, конечно, в минимальной степени касается
такого слова, как жизнь, и в самой большой степени касается тех
слов, которые оказываются не просто основными словами культуры,
но основными словами именно нашей науки, нашего знания. Таких
слов в пределах науки о литературе очень много, они, вероятно, об-
разуют внутри себя какие-то группы, и каждая из групп ведет себя
по-своему, но таких слов очень много, и все они утрачивают свою
самоочевидность, и я, значит, настаиваю на том, что они не просто
утрачивают для нас свою очевидность, но, по мере того как мы будем
осмыслять сущность своего знания, они должны утрачивать эту са-
моочевидность.
Это тезис, на котором я действительно настаиваю, и другой тезис,
который я тоже должен излагать наперед, но об этом я уже сказал:
все излагается наперед, другой тезис заключается в том, что вот эти-
то слова, основные слова нашей науки, по всей видимости, либо от-
носятся к самому близкому, что есть для нас в этой науке, то есть к
тому, что я назвал близлежащим, или, по крайней мере, указывают в
направлении того, что в пределах науки является для нас самым
близким.
Есть уже у нас два действующих лица в той ситуации, в которой
мы находимся, — это мы, здесь присутствующие, и нечто близлежа-
щее, через что мы получаем доступ к самой нашей науке. Мы, нахо-
дясь вместе с нашей наукой (или внутри ее), мы соединены с ней и
одновременно разделены с нею тем, что можно назвать самым близ-
лежащим. Так вот, я утверждаю, что к числу такого самого близкого
относятся основные слова нашей науки, и что эти основные слова
нашей науки, безусловно, находятся к нам ближе, чем все то, что
можно рассматривать как содержание или предмет нашей науки.
Историк литературы очень часто склонен думать, что его предме-
том и материалом его знания является история литературы. Ну, вот, я
думаю, что это очень наивно. Это и верно, и наивно. Историк лите-
ратуры, который занят историей литературы, естественно занят ею,
но этого мало. Он занят не самой историей литературы, это должно
быть понято, а той историей литературы, с которой он не просто
напрямую соединен и которая лежит перед ним, как настоящий
предмет и материал, обозримый и доступный, а он отделен от самой
истории литературы целым валом из самого близлежащего. Есть
такое близлежащее, что позволяет ему подойти к тому, что он назы-
вает предметом и материалом своего знания, и это же близлежащее
лежит на его пути к самому своему предмету. Но о том, есть ли этот
210
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
«сам предмет» и следует ли его называть предметом, это особая тема.
Но очевидно совершенно, что он и отделен этим от своего предмета.
[Если представить себе, что историк литературы занимается историей
литературы, то, разумеется, он занимается не самой историей литера-
туры. Сама история литературы лежит еще очень далеко от него. Она
отгорожена от него всем тем, через что он должен пройти, прежде
чем он подойдет к этому своему предмету, если только мы будем
надеяться на то, что он подойдет к своему предмету. Он не подойдет
к нему, потому что никакой самой истории литературы, которая бы-
ла бы доступна как предмет и материал для обращения с ней, безус-
ловно, нет. По дороге к этой самой истории литературы встретятся
многочисленные и бескрайние, почти необозримые формы опосредо-
вания, говоря попросту, то, что он, историк литературы, хотел бы
иметь как свой предмет, уходит от него, потому что он отделен от
самого предмета множеством опосредовании, неслучайных. Я наста-
иваю на том, что самое близлежащее, что встретится историку лите-
ратуры на его безнадежном пути к самой истории литературы, будут
слова, то есть основные слова науки о литературе. Не саму историю
литературы он должен изучать, на это, как я полагаю, у него никакой
надежды не остается, но он должен, встретившись с тем, что ближе
всего находится на его пути к ней, заняться этим.
Но я прекрасно понимаю, что, излагая ситуацию историка лите-
ратуры в таком виде, я утрирую ее. Естественно, что историк литера-
туры не просто хочет заниматься самим своим предметом, но и зани-
мается им. Он занимается им, не замечая при этом всего того, что
стоит у него на пути. И все, что стоит у него на пути, отличается та-
кой скромностью, что отодвигается в сторону, делая вид, что оно,
вот то, что отделяет его от его предмета, отходит в сторонку скромно
и пропускает историка литературы к его предмету. Значит, свойство
близлежащего, вот того, что отделяет нас от предполагаемых занятий
историка литературы, заключается в скромности всего этого. Слова
ведут себя как слова. Они знают себя, и поэтому они могут отодви-
нуться в сторонку, сделав вид, что историк литературы имеет дело
напрямую со своим предметом.
На самом деле ситуация совсем другая. Инерция ведь тоже конча-
ется. Наконец наступает такая ситуация науки, по совокупности при-
чин, которые к этому приводят, когда наука не может больше удо-
вольствоваться тем, чтобы вместе со словами делать вид, что они не
играют здесь первоочередной роли, что они не являются самым близ-
лежащим. Наконец, наука не может бесконечно делать вид, что исто-
211
А. В. Михайлов
рик литературы имеет дело с самим предметом, которым он, по его
предположениям, занят. Наступает ситуация, в которой слова ста-
новятся на пути знания нашего, и становятся как такое «препят-
ствие», которое мы уже не можем обойти.
Значит, мой главный тезис, который я сегодня в качестве такого
изложил, — о том, что в науке утрачено прежде бывшее само собой
разумеющимся, предстает теперь в такой форме: в науке утрачивает-
ся, и должно быть утрачено, представление о том, что основные сло-
ва нашей науки разумеются сами собою. И что мы можем пользо-
ваться ими по инерции, автоматически, не углубляясь в их смысл, не
спрашивая у них (а это значит и у самих себя), что они, собственно
говоря, значат, а должны отдать себе отчет в том, что мы делаем, и
что заставляет нас так поступать, и что за наука такая, с которой мы
теперь имеем дело, в отличие от того, какая была вчера и какая еще
продолжает существовать и сегодня, и вот эта ситуация — ситуация
критического пересмотра всего, что мы, согласно нашим представле-
ниям, продолжаем держать в руках, и ситуация того, что, мы про-
должаем думать, находится в нашем распоряжении, но что уже, на
самом деле, далеко не находится в нашем распоряжении.
В такой ситуации непременно должно обнаруживаться, что не
слова находятся в нашей власти, а мы находимся во власти слов. И,
если мы будем рассматривать группы тех основных слов, с которыми
мы имеем дело в теории литературы, то непременно окажется, что
эти слова должны утрачивать все свое само собой разумевшееся. Они
предстают перед нами теперь, я здесь снова забегаю вперед, как не-
что исторически разворачивавшееся, что не дает нам права автома-
тически пользоваться некоторым аспектом их разворота. Значит,
забегая вперед, слова даны нам как некоторый итог их исторической
жизни, их исторического развития и становления, как некоторый
итог, который, прежде всего, закрыт в себе. Но пользоваться такими
закрытыми в себе словами до бесконечности невозможно. Если мы
представим себе, что наступила такая пора, когда мы должны эту
закрытость устранить, то тогда слово предстает перед нами не как
само собой разумеющееся, а как разворачивающееся. И мы должны
еще придумать, как им пользоваться.
Но вот, если смотреть на слова, близкие к нашей науке, то я здесь
могу только так сказать, что есть слова, которыми современная нау-
ка по инерции пользуется как совершенно закрытыми словами. Есть
слова, немножко приоткрытые в историчности своего существова-
ния, и есть слова, которые немножко изучены в своей истории, ну, и
212
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
слов, история которых представала бы перед нами вполне ясно, ни в
какой науке о культуре, ни в какой части науки о культуре, до сих
пор еще нет. Ситуация науки такая, что слова должны открываться
перед нею в своей историчности, а слов, которые мы могли бы вос-
произвести в их историчности, таких слов для нас пока нет. Самые
закрытые слова, правда, не науки о литературе, а наук о культуре в
целом, в том пользовании, которое до самого последнего времени
казалось простым, это слова «субъект» и «объект» и вот подобные
им. То есть те слова, которыми даже философы, пока длился совет-
ский период истории философии, пользовались как совершенно за-
крытыми, как совершенно простыми и, якобы, очевидными, а теперь
пришел конец такому этапу истории философии. Но подумаем о том,
что эти слова перешли в науки о культуре в более собственном смыс-
ле слова, что ими пользуются и историки и теоретики литературы,
слова «объективный» и «субъективный», «объективное изучение ис-
тории», «объективный смысл исторического развития», «объектив-
ный смысл» того, что мы изучаем, звучат на каждом шагу.
Мне не надо подыскивать примеры. Но это, одновременно, такие
примеры — есть примеры пользования словами, которые абсолютно
закрыты в своем смысле. Это пользование словами по инерции.
В тезисах можно приводить какие-то примеры или не приводить их,
но вот вам простые примеры пользования словами, которые совер-
шенно закрыты для 99 % людей, которые ими пользуются, причем я
здесь должен попросить прощения, что что-то сказал такое образное,
где одновременно успел «подсчитать» количество людей в процентах,
которые пользуются такими словами как закрытыми. Никто никогда
подсчитать проценты таких людей не сможет, но мы же все знаем,
что этими словами пользуются как словами закрытыми, не отдавая
себе отчета в том, что требуют от нас эти слова. Но таких слов мно-
жество. Если зайти вглубь теории литературы в собственном смысле
слова, то мы встречаем множество слов, начиная с какого-нибудь
«метода» или «стиля», которые почти закрыты. Они не закрыты в
той мере, в какой слово «субъект» или «объект» закрыто для совет-
ского философа, но они в большой мере закрыты. Между тем, у них
есть своя история, и пришла пора, когда надо вот эту историю вы-
водить на поверхность и узнавать. Но как только мы представим
себе, что слово вышло наружу в своей историчности, сразу мы можем
себе представить и то, что автоматически и как бы по инерции поль-
зоваться таким словом становится совершенно невозможно, и это
одна из причин, которые дают мне основание утверждать, что в нау-
213
А. В. Михайлов
ке утрачена ситуация, где есть для нее что-то само собой очевидное и
разумеющееся.
Вот этот феномен, если можно назвать это феноменом, когда ве-
щи перестают быть само собой разумеющимися, будет все снова и
снова выступать перед нами. В самых разных формах, потому что,
как я думаю, это соответствует современной ситуации, в которой
находится знание о литературе и наука о литературе. Так что это
будет открываться все снова и снова.
Ну вот, пока я говорил это как бы наперед, я думаю, что откры-
лось и то слово, которое для науки о литературе и науки о культуре в
целом является самым основным, в отличие от близлежащего, от
самого близлежащего, но оно же оказывается и близлежащим и са-
мым дальним, поскольку это слово задает нам тот горизонт, в кото-
рый, хотят ли они того или нет, погружены все науки о культуре в
целом. Это слово «история», конечно. И поэтому, если я раньше го-
ворил, что у нас два действующих лица — это мы и то, что я назвал
самым близлежащим, то теперь три силы действующие— это мы,
самое близлежащее и история. История как горизонты нашего зна-
ния. Потому что совершенно, ну, я хотел бы сказать, очевидно, что
горизонты нашего знания о культуре — это слово «история». Это не
сама история, разумеется, о которой мы еще не знаем, что сказать, о
которой вместе с Шеллингом я бы хотел думать, что мы не знаем,
откуда она идет, и как она протекает, и какие силы направляют ее, да
можно сказать, что в пределах науки о литературе этого можно и не
знать, но если представим себе, что мы это не знаем, то вот мы знаем,
наверное, что слово «история» — это горизонт нашего знания. И то,
что выходит на свет, когда мы представим себе, что есть эти дей-
ствующие силы, то есть мы, то, что ближе всего к нам и то, что опре-
деляет горизонты нашего знания, то возникает то, что я называю
условно, и ничуть не претендуя здесь ни на какую терминологи-
ческую свежесть, а просто пользуясь словами, потому что они есте-
ственно подходят к этой ситуации, я называю это герменевтическим
пространством. Причины, почему я пользуюсь именно такими сло-
вами, сейчас объяснять не надо, но образуется герменевтическое про-
странство, в котором действуем всякий раз какие-то «мы», в котором
есть близлежащее и в котором есть горизонты истории, одновремен-
но и самой близкой к нам, и самой далекой от нас. Но горизонты
слова «история», конечно, это самое первое, что надо подчеркнуть,
не сама история, она взята внутрь слова «история». И слово «исто-
рия» скажет для нас, как я думаю — это предположение, неочевид-
214
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
ное, — оно скажет для нас гораздо больше того, что могла бы ска-
зать для нас сама история, если бы таковая явилась пред нами, если
бы она была доступна для нас как-то иначе, кроме осмысления свое-
го в слове, которое и означает то, что имеем мы в виду, когда гово-
рим «история».
Здесь дело обстоит вот так. Это герменевтическое пространство,
как я его назвал, и следующая группа тезисов относилась бы к уст-
ройству этого герменевтического пространства, к тому особому уст-
ройству, которым обладает оно для нас сегодня, в отличие от других
ситуаций, в которых герменевтическое пространство, как мы сейчас
его построили, ну, для нас существует.
Если мы пользуемся таким понятием, как герменевтическое про-
странство, то нам очень легко представить себе, что и, скажем, в 1700
году тоже существовало герменевтическое пространство, хотя бы
потому, что тогда существовали тоже какие-то «мы», существовало
нечто близлежащее для этих «мы», и существовала история, которая
разворачивалась точно так же, как разворачивается она сейчас для
нас. Но здесь есть повод для того, чтобы к этому месту снова под-
ключить ряд тезисов, суть которых заключается в том, что строя вот
такое представление и перенося его как якобы само собой разу-
меющееся на все эпохи прошлого, на те эпохи, когда существовала
наука о литературе, и на те, когда существовало какое-то знание о
литературе, а наука в более четком смысле не существовала, что мы,
поступая так, находимся в пределах прежней инерции нашей науки, и
что мы, поступая так, совершаем то, что я в своих тезисах называю
обратным проецированием, операцией обратного проецирования,
при которой в чужой для нас истории и чужой для нас исторической
ситуации мы приписываем способность подчиняться нашим поняти-
ям и представлениям. Вот эта операция обратного проецирования
есть для науки, какой существует она по инерции до сих пор, нечто
разумеющееся само собою.
В то время как наука, существующая в своей инерции, привыкла
переносить на прошлую историю те понятия, которые она, по каким-
то причинам, выбрала для себя в качестве основных, я думаю, что
наука в нынешнем ее состоянии должна отдавать себе отчет всякий
раз в том, что она делает при этом некоторую опасную и рискован-
ную операцию, присваивая себе то, что ей не принадлежит, распро-
страняя на не свое то, что привычно для нас сейчас, перенося на чу-
жое то, что присуще своему. И сейчас мы можем, по крайней мере,
рассмотреть, что такая операция, вот, операция того, что я называю
215
А. В. Михайлов
«обратным проецированием», имеет место, и что мы в состоянии
рассмотреть эту операцию, в то время как наука XIX века совершен-
но не могла этого рассмотреть, в то время как наука XX века очень
часто с известной уверенностью и даже самодовольством пользова-
лась этой операцией для того, чтобы подчинить себе как бы все про-
странство того, что попадает, все богатство того, что попадает в ее
герменевтическое пространство.
Сейчас мы дожили до того, что можем рассмотреть суть опера-
ции, которая при этом производится, чужое, то есть то, что принад-
лежит не нашей культуре и не нашему языку, мы привыкли излагать
на своем языке, и мы только теперь дожили до ситуации, когда мы
видим это с достаточной ясностью, и видим в этом некоторую про-
блему. Вот вопрос, который встает со всей осязательностью своей,
это вопрос, а не ответ. Вопрос, который встает в ряду с множеством
других подобных же вопросов. Операция «обратного проецирова-
ния», как я ее называю, она не безобидна и несет в себе свою пробле-
матику, в то время как есть такие отрасли нашей науки и наук о
культуре в целом, где этот вопрос не встает. Эти направления живут
старой инерционной жизнью своей традиции, традиции своей науки.
Они не ставят вопрос об историчности своего языка и об истори-
ческой относительности своего языка, о границах его применения, о
невозможности его беспроблемно транспонировать на другие языки
культуры и т. д.
Отсюда следует и другое. То, что я назвал герменевтическим про-
странством для нас, по своей сути решительно и резко отличается от
любого герменевтического пространства, которое мы могли бы по-
строить для любой эпохи культуры, предшествовавшей нашей. Наша
ситуация в науке и за пределами науки такова, что мы встаем в от-
ношение наук к истории нашей же науки, в отношение к истории
нашей же культуры, взятой в целом, в совершенно новые отношения,
которых раньше не было. В такие отношения, когда мы не только
можем говорить что-то о культуре прошлого, но и отдавать себе
отчет в сущности некоторых операций, которые мы при этом произ-
водим и т. д. и т. д. Значит, теперь я хочу сказать о том, что касается
в более прямой форме того, что я назвал само собой разумеющимся и
очевидным. По всей видимости, науки о культуре, и, в том числе,
наука о литературе, занимают вполне естественное место в ряду всех
наук, которые вообще сейчас существуют. Науки не отделены друг от
друга вот теми непроходимыми препятствиями, которые возникают в
нашем сознании по очень простым причинам: мы занимаемся одним
216
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
и не занимаемся другим, и развитие и существование каждой из наук
протекает в своем русле. На самом деле таких непроходимых водо-
разделов, которые разъединяли бы различные науки, не существует,
как я думаю. И на самом деле между науками о культуре и точными
науками так называемыми устанавливаются те естественные отно-
шения, которые реально существуют, но о которых мы знаем пока
мало что.
Я думаю, что наука о литературе очень близка, по внутренним
причинам, не по каким-то внешним, к такой науке, как математика.
Общность их, и различие, естественно, они должны непременно выяс-
ниться, как только мы начинаем размышлять о сущности того, что
мы считаем само собой разумеющимся. Вот, математика отличается
от наук о культуре тем, что она свои первооснования способна фор-
мулировать. Ну, в виде того, что называется аксиомами, или, скажем,
более широко, чем-то аксиоматическим. Этим всякая математическая
наука отличается от наук о культуре, но она этим не только отлича-
ется, но родственна наукам о культуре. Науки же о культуре, в отли-
чие от математических наук, характеризуются тем, что они не могут
назвать своих первооснований. Но, тем не менее, как я полагаю, нау-
ки о культуре пользуются своей аксиоматикой, сущность которой
объясняется тем, как поставлены эти науки в отношении бытия или
мира. Это как бы бытийное отношение в них. Математические науки
по сравнению с науками о культуре занимают более узкое простран-
ство. Оно снизу, если пространственные ограничения здесь допусти-
мы, ограничено той выведенной на поверхность и поддающейся фор-
мулированию аксиоматикой, которой математическая наука пользу-
ется с тех пор, как она осознала себя как особое знание. Но вот надо
иметь в виду, что на протяжении культурной истории, насколько она
нам доступна, аксиоматические основания математической науки
тоже прожили определенные этапы и, вот, удивительным образом,
эти этапы совмещаются до известной степени с теми большими вре-
менными этапами, которые прожила сама культура и литература и
знание о литературе и все, что оказывается у нас здесь под рукой.
Это уже указывает на внутреннюю гармонию разных областей
знания. Значит, аксиоматика в той форме, в какой она существовала
в эпоху Евклида, она, разумеется, претерпела огромные изменения, и
очень характерно и интересно, что форма осмысления математи-
ческой аксиоматики, заданная в древней Греции, существовала в
более или менее нетронутом виде до первой половины XIX века, ког-
да Лобачевский и другие математики начали постепенно обнаружи-
217
А. В. Михайлов
вать, что аксиоматическая система геометрии Евклида не есть попро-
сту само собой разумеющаяся аксиоматика. И началось то стреми-
тельное развитие осмысления аксиоматических основ математи-
ческой науки, сама динамика которого удивительным образом сов-
падает с той динамикой, с которой, начиная с первой половины XIX
века, развивается литература, искусство и все явления культуры.
Они идут одним путем: в сомнениях в абсолютной самоочевид-
ности системы аксиом, которые приняты были, начиная с древней
Греции, и на протяжении XIX века эти сомнения привели к тому, что
весь фундамент математического знания был перерыт и осмыслен
заново. Возникли основания математики, и возникло то представле-
ние об аксиоматической основе математического знания, которое
позволяет, к примеру, мыслить себе здание математической науки не
как построенное на определенной, заведомо очевидной, системе, на-
боре аксиом, а, скажем так, такое здание, которое построено на спе-
циально выбранной системе аксиом, и можно говорить о множестве
возможных аксиоматических систем и о таких вещах, о которых за
сто лет до этого нельзя было и подумать, потому что мысль об этом
не могла прийти в сознание математика, точно так же, как мысль о
втором боге не могла прийти, до поры до времени, в сознание чело-
вечества, которое знало только одно: что есть один Бог.
Ну вот, на протяжении XIX века фундаменты перерыты. Устана-
вливается новое представление об аксиоматике, но, правда, сохра-
няется в опосредованном виде представление об очевидности. Оче-
видность просто уходит вглубь, но она не уходит изнутри математи-
ческой науки. И изнутри того здания, которое, каждый раз, когда
оно строится, должно строиться на основании некоторых основных
посылок. Без этого обойтись невозможно, когда речь идет о науке,
которая по своему назначению должна замыкаться внутрь себя до
самого последнего места. Там остается маленькое отверстие, кото-
рое, тем не менее, соединяет математическое знание с тем, что мы
привыкли называть в общем виде жизнью. Оно остается совсем ма-
ленькое, незаметное, недостижимое, а уж, тем более, недостижимое
для нас сейчас, а суть такого знания в том, что оно способно пони-
мать себя внутри себя и строить себя как закономерную, продуман-
ную, осмысленную и сконструированную по законам, которые тоже
продуманы и осмыслены, систему. Всего этого лишена наука о куль-
туре, и, тем не менее, она не лишена своих аксиоматических основа-
ний. Она как бы выброшена один на один с историей. И это надо
знать.
218
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
Она не просто выброшена один на один с историей, но она вы-
брошена один на один, в первую очередь, со словом «история», кото-
рое имеет свою собственную историю, и историю, которая сейчас, в
значительной мере, для нас закрыта. Но возникла новая герменевти-
ческая ситуация, новое герменевтическое пространство, возникла
возможность строить такое пространство, возникла возможность
сомневаться в том, что все, что в науке для нас существует как поло-
жение, может автоматически переноситься на всю остальную ис-
торию, на всякий другой язык культуры, и это уже указывает нам на
то, что в науке сложилась совершенно новая, небывалая ранее ситуа-
ция, и что эта ситуация еще в очень малой степени осмыслена пока
внутри нашей науки.
Говорить можно много, и я прошу прощения за то, что я, навер-
ное, слишком много говорил. Но, увы, сколько бы я не говорил, я
только начинаю открывать то, что так или иначе должно открывать-
ся перед нами и для нас, это самое начало. И очень многое зависит от
того, как каждый из нас продолжит это начатое. Продолжить нача-
тое в данном случае не значит следовать тому, что я сейчас сказал,
ну, хотя бы потому, что продолжение может заключаться и в том, что
будет сказано, что я с самого начала говорю вещи, не относящиеся
ни к какому делу, и, следовательно, на этом и поставим точку. Но я
не могу отделаться от своей внутренней убежденности в том, что то,
что я начал, имеет отношение к делу. И, в частности, можно рассмат-
ривать и действительно обдумывать и осмыслять взаимоотношения
между той наукой о литературе, которая реально существует и кото-
рая дает свои плоды в виде научных статей, книг и т. д., и которая
реально этим уже оправдана, и которая находится в своей традиции,
и той наукой, которая, вот, как мне кажется, существует внутри этой
же науки как наука, построенная совсем на других основаниях, и
которая становится пока только чуть более нам понятна. В науке о
литературе наступает ситуация, которая немножко напоминает си-
туацию математического знания в ту пору, когда в нем зародилось
сомнение, оказавшееся самым важным и творческим для этой науки.
У нас тоже зарождаются разного рода сомнения, и я пытаюсь офор-
мить их так или иначе. Как мне кажется, то, что можно назвать ак-
сиоматикой науки о литературе — это реально существующая вещь,
если угодно, и она недоступна для нас, в отличие от математика, ко-
торый знает, на чем он строит свое знание, но наше знание такое, что
оно одновременно должно знать о том, что оно строится на из-
вестных основаниях или первоположениях, и, в то же время, оно
219
А. В. Михайлов
должно знать, что эти первоположения, в отличие от математика,
никогда не будут даны ему в руки, поскольку наука о культуре нахо-
дится в таком отношении к истории, как бы в предельно неопосредо-
ванном отношении, она выброшена в море истории, в море слова
«история», и ее отношение к этому морю таково, что она не может
докопаться до своего дна, и, как я пишу здесь дальше, черпает свои
аксиомы из неизвестного ей будущего. Поскольку оказывается зад-
ним числом, что нечто подобное аксиоматике предыдущего периода
развития культуры со временем становится для науки доступным и
более прозрачным, и более очевидным. Так вот, наука о литературе,
она выброшена в историю и черпает свои основания из того буду-
щего, которое ей точно так же недоступно, как и вообще это в жизни
недоступно, но недоступность эта относительна, мы все время втор-
гаемся в будущее и своими действиями, мыслями, наше сознание точ-
но так же стоит относительно будущего, как сознание того перво-
бытного человечества, которое представил себе Шеллинг вот так. На
него что-то находит, ну вот и на нас что-то находит. И все, что на нас
находит, это и есть, по-видимому, самое очевидное из того, что мо-
жет объявиться внутри нашего знания, мы обнаруживаем это, посте-
пенно. Мы обнаруживаем постепенно внутри своей науки, внутри
нашего знания, если мы осмысляем его, нечто такое, что находит на
нас, и это самая лучшая история, история, которая, конечно же, все
время ставит нас перед проблемой незнания, нашего незнания как
границы, и которая ставит нас перед проблемой непостижимости как
вполне реального слова.
Поэтому я должен вам сказать, что как бы ни излагал я сегодня
свои тезисы, в каких бы словах не следовало отозваться об этом из-
ложении, как бы не следовало оценить это по существу и по форме
изложения, я неизбежно вошел в этот круг, а выйти из него уже не
могу, а поэтому мои тезисы, которые я назвал сначала вот так:
«несколько тезисов», что они стали разворачиваться все дальше и
дальше, и я хочу вам сказать только о том, что к этим тезисам даже
написано приложение, приложение, необходимость которого выяс-
нилась для меня, как только я стал писать эти тезисы, когда я начал
их писать, и когда мне казалось, что их будет всего лишь несколько,
сразу же прояснилась необходимость написать отдельные тезисы, о
сфере непостижимого, и я глубоко уверен, что осмыслять непости-
жимое, которое мы не обязаны осмыслять в науке о литературе, взя-
той как определенный круг знания, что с этой сферой мы постоянно
имеем дело, как только начинаем осмыслять свою науку сегодня. Вот
220
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
есть такие отдельные тезисы о сферах непостижимого, которые, на
мой взгляд, имеют прямое отношение к нашей науке в настоящем ее
положении, то есть не в инерционном, а в настоящем положении, и
что наука наша о литературе и о культуре в целом, пытаясь осмыс-
лять себя, непременно и очень быстро приходит к тому месту, где
наше знание кончается, где оно еще чуть-чуть продолжается дальше в
сферу непостижимого, а потом обрывается окончательно.
Так вот, эта сфера непостижимого внутри науки о литературе, и,
значит, внутри науки о культуре в целом, обнаруживает себя на каж-
дом шагу. Она обнаруживает себя уже в самом близлежащем, по-
скольку, хочет она того или нет, наука о литературе всегда имеет
дело с самой историей, то есть, с самим словом «история», которое
для нас в известной степени прозрачно, в большей степени непро-
зрачно, и в некоторой степени совершенно недоступно. Так вот эту
сферу полной недоступности в науке о литературе приходится обна-
руживать на каждом шагу, стоит только немножко копнуть глубже.
В науке о литературе мы все время должны обнаруживать это непо-
стижимое. И это непостижимое, это незнание в каком-то смысле для
науки о литературе сегодня — это сила. Я в каком-то из тезисов на-
писал, нарочно, конечно, и, зная, как смешно это звучит, я в одном
месте написал: «Незнание — это сила». Но я действительно уверен в
том, что для нашей науки в том виде, в каком она сейчас существует,
незнание — это сила, поскольку незнание — это такое наше незнание,
о котором мы уже имеем некоторое представление. Когда мы знаем,
что оно есть. В то время как, скажем, перед наукой о литературе в
XIX веке и сама эта проблема не могла встать, поскольку осмысление
науки было совершенно другим, а осмысление это ведь зависит не от
меня или от кого-то еще, оно зависит от чего-то такого, чего мы, в
свою очередь, не знаем, то есть не знаем точно так же, как первобыт-
ное человечество, по Шеллингу, никак не могло знать, никак не мог-
ло понимать, откуда же находит на него этот второй бог. Вот, мы в
ситуации примерно такой же: на нас что-то находит в эту минуту, а
что находит, это, скорее, неизвестно, и поэтому то, что я в своих те-
зисах предлагаю делать для того, чтобы немножко прояснилась эта
наша ситуация, это, вот, отдавать, между прочим, отчет во всем том,
чего мы не знаем, во всем том непостижимом, что попадается на на-
шем пути.
Но при этом надо сказать, что, точно так же, как и в математике,
где существуют огромные разделы, в пределах которых никакой ис-
следователь не обязан задумываться над основаниями своей науки,
221
А. В. Михайлов
так же и в науке о литературе могут существовать большие разделы,
в пределах которых вовсе никому нельзя вменить в обязанность раз-
мышлять о том, что можно было бы назвать основаниями науки о
литературе. Там знание как бы идет более простыми путями, оно
делает нечто более простое, и поэтому может не задумываться над
тем, с чем оно имеет дело. Но это не значит, что наука в целом долж-
на не задумываться об этом. Можно очень долго считать, не зная, что
такое число, но и потом окажется, в самом конечном счете, что, что
такое число, по сути дела, неизвестно. Можно иметь некоторые мне-
ния и суждения на этот счет, но всякие мнения и суждения на этот
счет, они начинают меркнуть и делаться несущественными, если мы
узнаем о том, что мнения мало что значат вообще.
Ну, нечто подобное происходит и в науке о литературе. Я мог бы
говорить очень долго, в чем нет ничего хорошего, но парадокс науки
о литературе, ведь, обнаруживается немедленно, как только мы вду-
мываемся в самое ее название. И это будет как раз путем ее самоос-
мысления: вдумываться в то, как называется наука, — это же тоже
неочевидно.
То, чем занимается наука о литературе, это вовсе не только ли-
тература. Это же очевидно совершенно. Наука о литературе зани-
мается и такими формами как бы литературы, которые никакой ли-
тературой не являются и никак письменно не фиксируются. И здесь
начинается целое множество парадоксов, которые надо анализиро-
вать, безусловно, и это один из путей, которым надо идти, ведь на
пути историка литературы и на пути теоретика литературы первым
делом в сфере близлежащего встает слово «литература». Вменить
всякому историку литературы заниматься этим словом — неоправ-
данно, но вменить это в обязанность науке о литературе необходи-
мо, и это не я или кто-то еще должен вменить ей в обязанность, а
ее собственное самосознание должно привести ее к тому, чтобы об
этом задуматься, ну, вот, наука и пришла в такое состояние и начи-
нает об этом задумываться. И, даст Бог, она придет на этом пути к
тому, чтобы упорядочить свое знание и установить свое незнание,
то есть, установить то, о чем она не может думать, то есть установить
ту, условно говоря, границу, которая пролегает внутри непостижи-
мого. Есть некоторая конечная граница, за которой непостижимое
остается непостижимым. И для науки вот такой-то и вообще для
человеческого знания. Эта граница сейчас обнаруживается. Когда
наука приобретает способность смотреть на себя, то эта граница
непременно должна обнаружиться. Но она обнаруживается не толь-
222
Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада...
ко где-то далеко от нас, но она же обнаруживается и где-то близко
к нам.
Ну вот, позвольте на этом закончить, я не стал перечислять даже
тех разделов, которые уже написаны, потому что сегодня мне хоте-
лось сделать некоторое введение, это введение, пожалуй, правильно,
все-таки, было бы назвать так, как оно и было названо: «Несколько
тезисов». Бессвязных тезисов, и та форма связи, в которую они при-
шли, это отчасти дело случая, потому что круг, в котором они указы-
вают друг на друга, оказался, как мне кажется, достаточно широким
и довольно сложно устроенным. Спасибо за внимание.
Запись на магнитофон и расшифровка Г. А. Касаткиной (1993 год)
Публикация подготовлена Е. Г. Местергази
Настоящий текст доклада воспроизводится по машинописному не-
авторизованному варианту стенограммы, хранящемуся в личном архи-
ве Александра Викторовича Михайлова с 1993 года. Пунктуация и
графические выделения оформлялись при расшифровке в соответствии
с авторской интонацией. Редколлегия выражает искреннюю призна-
тельность вдове ученого Норе Андреевне Михайловой за любезное пре-
доставление архивного материала.
223
А. В. Михайлов
ИМЛИим. А. М. Горького РАН. Москва
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
I
Горе, иже мудри в себе самих
и пред собою разумни.
Исайя. 5, 21
II
Что ж я узнал? Пора узнать, что в мирозданьи
Куда ни обратись, — вопрос, а не ответ.
А. А. Фет. Ничтожество. 1880
III
...естественным кажется нам лишь при-
вычное давней привычки, меж тем как это
привычное позабыло о том непривычном, из
какого оно проистекло.
М. Хайдеггер
Исток художественного творения
I
§ I. — Ситуация современных наук о культуре — из них в очень боль-
шой, в неиспытанной до сих пор степени выветрилось и улетучилось
все то, что можно было бы назвать само собой разумеющимся, очевид-
ным.
Современная наука истории культуры существует в условиях,
когда нет этого само собою разумеющегося и очевидного, когда
вдруг оказывается, что ничего такого уже нет и когда это, — правда,
лишь очень постепенно, так как этому противодействует инерция
науки с ее самоуверенностью,— становится достижением научного
сознания, сознания исследователя.
224
Несколько тезисов о теории литературы
Если же это так, и само собой разумеющееся для историко-
культурной науки тает и исчезает, то надо отдать себе в этом от-
чет, — так ли это, — и если это так, то попытаться воспрепятство-
вать тому, чтобы (как это нередко происходит) самоуверенность нау-
ки и ученого занимала место само собою разумеющегося и очевидно-
го,— на чем, всякий раз по-своему, основывается всякая наука,—
чтобы традиция с ее инерцией занимала место реальности постиже-
ния, чтобы привычное занимало место открывающегося перед нами
смысла (ср. эпиграф III).
§ 2. — Эти тезисы и посвящены нынешней ситуации: историко-
культурные дисциплины в условиях отсутствия само собою разу-
меющегося, в условиях исчезновения очевидности.
Если верно, что наука о литературе — одна из наук, входящих в
историю культуры как науку в целом (таков один из предлагаемых
тезисов), то нижеследующее имеет в виду и одно и другое — и науку
о литературе и науку о культуре, говоря об одном и подразумевая
другое, говоря, в зависимости от обстоятельств, о науке о литературе
и подразумевая всю совокупность наук о культуре, и наоборот, по-
ступая иной раз так для краткости, и т. п.
Теория литературы — одна из дисциплин, входящих в литерату-
роведение, или науку о литературе. Как в этом случае одно входит в
другое, как теория литературы соотносится с наукой о литературе в
целом, — это, вместе со всем остальным, есть основная забота этих
тезисов.
§ 3. — Если я говорю об утрате само собою разумеющегося и очевид-
ного науками о культуре, и если бы нам как-то удалось действитель-
но удостовериться в том, что это так, то тогда со всей крайней остро-
той перед нами встал бы вопрос —
что же тогда оказывается само собою разумеющимся для наук о
культуре?
что же оказывается тогда само собою разумеющимся для науки о
литературе?
что же оказывается тогда само собою разумеющимся для теории
литературы?
§4. — Такие вопросы о само собою разумеющемся и очевидном вовсе
не находятся в противоречии с исчезновением всего такового, —
для любой науки (уже не только наук о культуре) не может не
быть такого близлежащего, из чего она исходит и на основании чего
она может строить себя.
Такое близлежащее, или самое близлежащее, должно быть и для
8 - 1379
225
А. В. Михайлов
наук о культуре, и для науки о литературе, и для теории литера-
туры.
Однако, спрашивая о нем, мы отнюдь не непременно получим
ответ. Такого ответа может для нас и не быть — см. эпиграф II. Во-
прос никогда не останется без ответа, однако, в том смысле, что,
видимо, может быть указано направление, в котором можно его ис-
кать, и, соответственно, та область, к которой относится/относился
бы ответ. Сам вопрос «невольно» указывает в этом — «искомом» —
направлении:
говоря о близлежащем, или самом близлежащем, я «невольно» и
преднамечаю направление возможного ответа — направление, кото-
рое само напрашивается для меня:
когда говорили и говорят о связи науки с жизнью — говорят из
добрых, а иногда из демагогических побуждений,— то этим до
крайности расплывчато и завуалированно передают некоторую суть
дела, сущность того, что действительно имеет место: в то время как
неизвестно еще, что такое «жизнь» и как следует ее разуметь, — тут
«жизнь» разделяет судьбу всех ключевых, или основных слов культу-
ры (об этом ниже), — я, пытаясь говорить о близлежащем, или самом
близлежащем для науки, стараюсь направить ситуацию в сторону
большей очевидности:
если допустить, что каждая наука есть свой особый и существен-
ный взгляд на мир (или, проще, на окружающее нас), то можно до-
пустить и то, что такой взгляд встретит нечто такое, что будет пер-
вым на его пути,— такое допущение достаточно просто, элемен-
тарно. Оно пока еще мало чего требует от нас; можно даже допус-
тить, что самым первым будут некоторые слова, вроде слова «жизнь».
Можно даже допустить, и, кажется, с достаточным основанием,
что самым первым, что встречает на своем пути наука в ее сло-
жившемся и устоявшемся виде, — это и есть слова. С еще большим
основанием это можно допустить относительно наук о культуре, и с
еще большим — для науки о литературе. Это допущение даже со-
ставляет один из основных моих тезисов (см. ниже).
Однако, даже если слова и самое первое, то не наиболее близле-
жащее: слова еще могут анализироваться в том, что они и как они
разумеются, между тем как близлежащим, самым близлежащим или
наиболее близлежащим для науки будет то, что определит собою
даже и выбор слов, и их разумение.
§ 5. — Говоря «мы», «близлежащее», я пытаюсь ничего не «вписы-
вать» в науку наперед, ничего не приписывать ей наперед. «Мы»,
226
Несколько тезисов о теории литературы
«близлежащее», «окружающее» безусловно элементарнее, нежели,
скажем, «наука» и «жизнь».
Ситуация, может быть, даже несколько иная, чем представилось
выше, — § 4, абзац 6: «...каждая наука есть свой особый и существен-
ный взгляд на мир ... такой взгляд встретит нечто такое, что будет
первым на его пути...». Возможно, что есть такое близлежащее к нам,
такой вид близлежащего, который предопределяет собой суть науки,
такой-то науки: тогда не научный взгляд встречает на своем пути
что-либо первое для него, а это «первое» предопределяет взгляд нау-
ки. Во всяком случае, есть мы, близлежащее к нам и окружающее нас,
и, видимо, они во всякой научной области образуют какое-то кон-
кретное свое отношение: то, что есть близлежащее для вот этой нау-
ки, и определяет конкретность отношения, «нас» и «окружающего».
§ 6. — Близлежащее, если только оно есть для науки, указывает на ту
сферу, которую с некоторыми основаниями можно назвать аксиома-
тикой науки.
§ 7. — Возможна такая аксиоматика, которая никак и ни в каком
случае не может быть осознана и осмыслена той самой наукой, кото-
рая строит себя на ней и благодаря ей, аксиоматика, которая никак
не может быть «взята в руки» самой такой наукой.
Напротив, возможна и существует такая аксиоматика, которая
заведомо «взята в руки» самой наукой, которая осознана и осмысле-
на ею и формулируется ею наперед.
Второе из положений § 7 не подлежит никакому сомнению, — на
основе осознанной и формулируемой, по возможности строго, ак-
сиоматики строит себя издавна математическая наука. Однако, необ-
ходимо иметь в виду следующее:
1) само постижение всего аксиоматического в математике имеет
свою историю— оно претерпело глубокие исторические видоизме-
нения, этапы каковых по всей видимости находятся в столь же глубо-
ком родстве с этапами становления европейской культуры, особенно
культуры новоевропейской; существующий здесь несомненный па-
раллелизм, — какой надо еще исследовать и исследовать, — безус-
ловно весьма красноречив и указывает на глубокое родство матема-
тической науки с наукой о культуре, — родство, которое мало иссле-
довано, которое коренится в общности историко-культурного со-
вершения и которое, как можно думать, станет в будущем одной из
самых важнейших проблем науки;
2) математическая наука строит себя так, что она с самого начала
и заведомо замыкает себя в рамки, очерченные ее аксиоматикой; как
8*
227
А. В. Михайлов
бы ни разумелась аксиоматика, математическая наука строит себя
как некую смысловую замкнутость «в себе», как такую, какая по-
лучает возможность оставлять за своими пределами все то, что не
включается в смысловую замкнутость;— при этом чрезвычайно
красноречивым математическим выводом XX в. явилось как раз осо-
знание того, что никакая замкнутость такого типа не может быть
абсолютной.
В то время как математическая наука находится в до крайности
опосредованном отношении к «жизни» и к историко-культурному со-
вершению (именно к тому, с которым она, как можно полагать, об-
ретается во внутренней «гармонии» и единстве), всякая наука о куль-
туре «напрямую» связана с этим историко-культурным совершением и
его основаниями: все то, что тематическая наука имеет возможность и
право «элиминировать», определяет суть и характер всякой истори-
ко-культурной науки (см. Приложение, § 8).
Если наука о культуре имеет касательство к какой-либо аксио-
матике, то эта аксиоматика — более глубокого слоя, нежели та, ка-
кую осознает, формулирует и «берет в свои руки» наука математи-
ческая.
Однако и это положение, и тезис, сформулированный в абзаце 1
§ 7, не могут быть просто доказаны: их обоснование — дело совокуп-
ного осмысления всего то[го], что обязана осмыслить наука о культу-
ре сегодня — совокупного осмысления всех вставших перед ней про-
блем, их взаимоосмысления и взаимоосвещения.
Единственным указанием на существование такой аксиоматики
служит то, что по прошествии известных историко-культурных эпох
на поверхность выходят, осознаются и тогда уже даже формулируют-
ся — задним числом — некоторые исходные положения, какими, не
сознавая их, руководствовалась культура эпохи; таковые касаются и
пространства, и времени, и истории, и числа и множества иных поня-
тий и представлений, в отношении которых сама эпоха бывает либо
совершенно слепа или полуслепа.
То, во что эпоха действительно верит, как Евклидова геометрия в
свои аксиомы, ничуть в них не сомневаясь, однако в отличие от гео-
метрии, ничего о них не зная, — это и есть действительная историко-
культурная аксиоматика, в которой, если это так, естественным об-
разом коренится и всякая наука, и всякая культура вообще и, конеч-
но, математическая наука в том ее предварительном слое, который
именно в математике никак не формализуется и не может быть фор-
мализован.
228
Несколько тезисов о теории литературы
§ 8. — Наука о культуре поставлена в особые отношения ко времени.
Она прямо уставлена в будущее, поскольку именно будущее — ис-
точник ее основных и наиболее глубоких пред-положений, или ак-
сиом.
Наука о культуре поставлена в особые отношения к истории.
§ 9. — Находясь именно в таких отношениях со временем и историей,
наука о культуре поставлена на свое незнание о себе.
Это ее незнание; или неведение о себе— существенно для нее и
сущностно для нее.
Наука о культуре не ведает себя в том отношении, что она, по
всей видимости, не может составить никакого представления о том
самом глубокое слое, какой предопределяет ее существо.
Такое незнание, или неведение, присуще науке о культуре, высту-
пает в ней даже как позитивный момент, позитивно работающий в
ней момент, — как только мы узнаём о своем незнании, так это не-
знание как таковое оказывается в наших руках и в нашем распоря-
жении, мы можем определяться и соопределяться с ним, считаться с
ним, и осмысление нашего незнания как незнания становится неот-
мыслимой составной частью нашего общего осмысления своей науки,
ее сущности и ее исторического часа.
Все сказанное здесь равно относится и к науке о литературе.
Сюда же относятся некоторые представления о непостижимом, ко-
торые формулируются в «Отдельных тезисах о непостижимом» ниже.
§ 10. — Настоятельное самоосмысление науки — наук о культуре и
науки о литературе, в частности,— и есть ее исторический час се-
годня, ее первоочередная и первостепенная задача.
§11. — Эта задача отсылает нас к началу этих тезисов— к утрате
само собою разумеющегося и очевидного для этих наук.
Эта «утрата» — уже как предположение и вопрос — отсылает нас
к сфере аксиоматического — той, которая существует и для истории
культуры, и как она существует для истории культуры.
§12. — Существует то, что можно назвать обоснованием науки о ли-
тературе.
Существует то, что можно назвать обоснованием наук о культуре.
§13. — Если только верно, что существует обоснование науки о ли-
тературе, то этим обоснованием создается для науки о литературе то,
что я называю полем дометодологического.
Это поле представляется мне весьма обширным и пространным;
оно, скорее, даже безгранично широко. В то время как современное
литературоведение все более приучается мыслить себя как рядопо-
229
А. В. Михайлов
ложность и плюрализм безразличных друг к другу методов, а всякая
научная дисциплина уже приучила себя мыслить себя как нечто
замкнутое в себе, причем над отдельными дисциплинами поднима-
ется (будто бы столь желанное для всех!) здание «междисциплинар-
ное™», поле дометодологического располагается там, где пока еще
никто — ни один литературовед, ни один историк искусства и куль-
туры, — не решился следовать какому-то одному методу.
На этом — как бы предварительном — поле дометодологического
можно даже спокойно предаваться всякого рода недоумениям,—
вроде того, что непонятно, мол, почему, на каком основании, из ка-
ких соображений мы выбираем такие-то литературоведческие ме-
тоды, затем следуем им и т. д.?! — ведь неясно еще, как их следует
выбирать, не исходить же просто из того, что они есть?! Это область
лредрешений.
Все такие недоумения отсылают нас, однако, к предельно серь-
езному — к тому исключительно серьезному, что связано с самоос-
мыслением науки. Конечно, на этом поле можно обсуждать наперед
любые методы, исследуя их предпосылки, насколько их можно рас-
смотреть и сформулировать, — но, главным образом, здесь должны
быть осмыслены — вновь, насколько то мыслимо, — отношения нау-
ки о литературе и всей науки о культуре с историей.
§ 14. — У науки о литературе и у наук о культуре— свои особые и
вместе с тем существенные отношения с историей.
В самом конечном счете наука о литературе есть свое мышление
истории.
В самом конечном счете наука о литературе есть такое мышление
истории, где слово «истории» — и родительный объективный, и ро-
дительный субъективный: история мыслится, и она же мыслит себя в
науке, в ее рамках, в ее пределах.
§15. — Это последнее утверждение — § 14, абзац 3 — формулируется
с тем же самым основанием, с тем же самым правом, с которым в § 6
говорилось об аксиоматике науки, — т. е. и без всякого основания и
права, и с полным основанием и правом. Объясняется этом тем, что
вместе со своим самоосмыслением, если только таковое будет осу-
ществляться (и уже осуществляется, как я предполагаю), наука о ли-
тературе и наука о культуре оказываются в той ситуации, которую на
современном языке можно называть герменевтической.
§ 16. — Осмысление герменевтического относится к самоосмыслению
науки. Это то, что задано науке как идущее от ее исторического часа.
§17. — Герменевтика и герменевтическое заданы науке как одно из
230
Несколько тезисов о теории литературы
очень многих заданных ее осмыслению слов, затем как одно из не-
многих новых и «свежих» слов, далее как слово, претендующее на то,
чтобы определить собою способ и строй самоосмысления науки в ее
сегодняшний исторический час.
§ 18. — То, что претендует на то, чтобы определять способ и строй
самоосмысления, очень нелегко схватить, — тем более, что все схва-
тываемое, все, что еще схватывается, оказывается рядом со всем тем,
что еще не схватывается, что пока не схватывается и что не схваты-
вается вообще, с непостижимым и его сферами.
§ 19. — Герменевтическое схватывается трудно: самое первое, что
можно сказать о нем — в том плане, в каком мы встречаемся с этим
сейчас, — герменевтическое есть кружение в пределах того самоос-
мысления, в котором все затрагиваемые нами и затрагивающие нас
смысловые моменты получают взаимное обоснование, — так в само-
осмыслении науки о литературе или в самоосмыслении науки о куль-
туре, или какой-либо отдельной ее дисциплины,— или же, иначе,
кружение в пределах того обоснования науки, которое совершается
как ее самоосмысление с «учетом» (как принято говорить) всех тех
факторов и моментов, которые, как оказывается, зависят друг от
друга и отсылают друг к другу.
§ 20. — Насколько можно судить, есть во всем этом кружении такие
его участники, такие «силы», которые и дальше всего отстоят друг от
друга, и ближе всего подходят друг к другу, которые и более всего не
зависимы друг от друга, и наиболее зависят друг от друга, которые
достаточно далеко расставлены в герменевтическом пространстве,
чтобы обрисовывать для нас его границы, центр и его глубь. Таковы,
видимо, мы, история и то, что, осторожно (или неосторожно) назван-
ное близлежащим, опускает нас в непроглядность непостижимого
(мы не знаем в конечном счете, что там, что оттуда направляет нас).
§ 21. — Все, что обсуждается в науке о литературе, оказывается внут-
ри этого пространства, где выступают — мы, история и близлежащее.
Шире его здесь, кажется, ничего нет, и если только можно говорить о
таком пространстве (которое называлось бы герменевтическим), то
такое «пространство» было бы в пределах науки о литературе (и нау-
ки о культуре) единственным представлением, которое не затраги-
валось бы всесилием исторического движения и, напротив, стреми-
лось бы поместить историческое движение внутрь себя, внутрь свое-
го кружения.
Такое представление о герменевтическом пространстве было бы
именно по этой причине для науки о литературе, какая осмысляет
231
А. В. Михайлов
себя, представлением условным и как бы рабочим,— готовым при-
носить себя в жертву тому идущему из будущего, что прояснится и
вынудит нас думать иначе, чем сейчас.
§ 22. — Со всем тем, что попадает внутрь пространства кружения,
герменевтика, согласно своему замыслу, предлагает обращаться, по пре-
имуществу, уак с существенными (субстанциальными) точками зре-
ния, или «перспективами», строящими всякий раз нечто подобное то-
му, охватывающему всю всякий раз доступную «нам» историю, герме-
невтическому пространству, как сформулировали мы его только что.
«Наше» герменевтическое пространство заключает в себя не толь-
ко и не просто «наше» пространство, но и все когда-либо бывшие в
истории, всякий раз «наши» пространства, по мере их доступности
нам.
§ 23. — «Наше» пространство, как может складываться оно сейчас, в
наш исторический час, по всей видимости, отличается от ситуаций
прошлых времен тем, что оно включает в себя наибольшее количество
всякий раз «наших» пространств, включает в себя потенциально даже
вообще все число таких пространств, какие только осуществлялись
исторически.
Эта тема заявлена сейчас лишь на будущее, и здесь не раскры-
вается.
С другой стороны, необходимо еще и еще раз напомнить, что са-
мо понятие такого «герменевтического пространства»— условно:
коль скоро, как окажется, для науки о культуре чрезвычайно важно
учиться говорить на языках других, бывших культур — прежде всего
это означает, что «мы» должны стараться молчать, давая сказать
другим и давая сказаться другому, — переносить наше сегодняшнее
возможное понятие такого пространства на прошлое можно лишь
при условии, что это понятие и представление будет, насколько то
возможно, сведено до значения некой чисто формальной, бесплотной
и ни на что особое не претендующей схемы. Нельзя заставить кого-
либо пользоваться таким понятием, и в этом нет никакой необходи-
мости. Нам же сейчас это представление в своей роли формальной
схемы может принести некоторую пользу.
К недостаткам настоящих тезисов и, в частности, сказанного в
предыдущем абзаце следует отнести то, что в них и в нем многое
приходится формулировать на ходу и забегая вперед, — что облегча-
ется существенным кружением, какое устанавливается в герменевти-
ческом пространстве.
§ 24. — Со всякой исторически осуществившейся «точкой зрения»
232
Несколько тезисов о теории литературы
герменевтика предлагает, далее, обращаться как с вестью, — или,
иначе, как с языком и голосом.
То, что понимают как язык культуры, с иной стороны или с иных
сторон близко подходит к тому, что в герменевтическом простран-
стве осмысляется как всякий раз наша/моя точка зрения.
А точка зрения — это, напомним, всякий раз нами/мною понятая,
постигнутая, высказанная история.
§ 25. — Здесь уместно повторить уже сформулированный (§ 23, аб-
зац 3) тезис:
«Мы» должны стараться молчать, давая сказать другим и давая
сказаться другому.
Этот тезис вовсе не означает призыва скромно стушеваться и из
некоторой вежливости уступить первенство старшим — т. е. тем точ-
кам зрения, какие исторически были прежде нас.
Этот тезис сам сливается в едином кружении со всеми иными вза-
имоопределяющимися моментами внутри герменевтического про-
странства и равнозначен следующему тезису:
§ 26. — Как только мы оказываемся в состоянии формулировать не-
что подобное герменевтическому пространству, оно оказывается
единым для всех точек зрения и соответствующих им схем подобных
же герменевтических пространств.
Эта наше сегодняшнее пространство — результирующее и итого-
вое; включая в себя прочие точки зрения, оно не просто, как п-ное,
встает в ряд существующих в истории точек зрения, но обретает спо-
собность находиться с ними в новых, особых отношениях, строить
для всех них единое пространство, общую схему и т. д.
Все это — вновь — прямо относится к задачам осмысления науки
в этот исторический час. Это относится к ее новому положению от-
носительно истории и т. д.
§ 27. — Наша мысль идет вверх и вглубь от того уровня, на каком мы
можем представить себе (условно) смену точек зрения в линейном
движении истории.
Она получает возможность рефлектировать все бывшее ранее в
истории и, если смотреть на бывшие в истории точки зрения, то до-
пускать их существенность и вслушиваться в них, — при этом ста-
раясь по возможности не нарушать их голоса (что вместе с тем ока-
зывается внутри герменевтического пространства невозможным); она
получает возможность задумываться над реконструкцией этих
«голосов» прошлого и контролировать свои процедуры, свое обще-
ние со всем другим.
233
А. В. Михайлов
Как только наша мысль, будучи способной строить единое герме-
невтическое пространство и общую формальную схему, начинает
идти вверх и вглубь от уровня линейного движения истории, так само
движение истории для него изменяется. И наоборот.
§ 28. — Наука о культуре, осмысляя себя в настоящий исторический
миг, должна следить за изменением своих исторических представле-
ний, того, что называют образом истории, — за изменением того, что
следует называть мышлением истории.
§ 29. — Есть одно: то, как наука о культуре и наука о литературе
думают о том, как они мыслят историю, — и есть другое: то, как они
действительно мыслят историю, не вполне отдавая себе отчет в том.
§ 30. — Историческая ситуация науки (и всех «нас») такова: история в
прежнем смысле приходит к своему завершению.
§ 31. — Наука и «наша» мысль в этот исторический миг оказывается
перед лицом неизведанного и непостижимого и углубляется в них
(насколько то вообще возможно по сущности непостижимого).
§ 32. — Углубление в неизведанное (и т. д.) оказывается вместе с тем,
одновременно и по смыслу, углублением в наше же собственное со-
знание, разведыванием его возможностей.
Осмысление науки, встающее перед нами как задача этого исто-
рического часа, оказывается разведыванием возможностей нашего
сознания и, в частности, осознанием-осмыслением как нашего зна-
ния, так и нашего незнания, удостоверением всего, что может быть
достоверно для нас и т. д.
§ 33. — Если представить, что мы уже осмыслили науку, которая вы-
ступает сейчас как настоятельная проблема осмысления, то она вый-
дет из этого осмысления иной, чем была раньше.
Само это самоосмысление науки не может не видоизменить ее са-
мым решительным образом (см. ниже, II).
Само это самоосмысление науки обеспечивает ей в будущем то,
что прежде называлось «прогрессом» науки. Теперь это самоосмыс-
ление (включая сюда и то наше знание о нашем дознании, какое мы
должны приобрести) науки, ее внутреннее просветление становится
таким же позитивным фактором ее существования, как и овладение
новым «материалом» и т. п.
Незнание — это сила.
§ 34. — Как только мы пробуем приступить к самоосмыслению нау-
ки, в ней обнаруживается, насколько сложно устроено то, что мы по
традиции привыкли упрощать:
234
Несколько тезисов о теории литературы
для науки о литературе исторический процесс развития литерату-
ры становится чрезвычайно многоголосным и многослойным;
«сама» история литературы оказывается в одном пространстве со
всеми опосредованиями этой «самой» истории литературы, начиная с
имманентной поэтики творчества и кончая историко-литературными
компендиями, учебниками теории литературы и историческими ис-
следованиями истории науки.
§ 35. — «Сама» история литературы оказывается опосредованной для
нас многими слоями своего самопостижения и сомнительной в своей
прямой доступности: историк литературы может делать вид, что он
занимается «самой» историей литературы, однако занят он другим —
изучением той недостаточно просветленной и ясной для него тради-
ции, которая передала ему не знание о «самой» истории литературы,
но традицию знания о ней.
§ 36. — Первой задачей истории литературы оказывается не погоня
за фантомом трудно достижимой «самой» истории литературы, а
анализ и прореживание опосредующих ее слоев.
§ 37. — Всякий взгляд на историю литературы, на литературу, поэзию
и т. д. выступает для науки о литературе во всей своей сущест-
венности.
Всякий взгляд во всяком случае истинен в отношении себя самого,
хотя, вероятно, и не непротиворечив.
Все, что отделяет «нас» от самой истории литературы, — это вовсе
не рефлексы и рефлексии по поводу литературы, которые нам хотелось
бы отбросить, как излишние, но существенные и истинные в себе спосо-
бы ее существования и постижения, которые необходимо изучать.
§ 38. — То, что первым делом и в наибольшей степени отделяет «нас»
от «самой» истории литературы как реальности своего рода, — это
то же самое, что крепче и существеннее всего соединяет нас с нею, —
это язык литературоведения, язык науки о литературе именно в том
виде, в каком сложился он теперь.
Сам этот язык — есть традиционная, нарастающая и сменяюща-
яся внутри себя, испытывающая сдвиги и сбои форма салюпостиже-
ния литературы.
За этим языком как постижением литературы стоит ее самопо-
стижение, которое наделено своей истинностью, но которое не един-
ственно возможно и не исключительно.
Язык науки о литературе, каким он сложился, его понятия и ос-
новные слова — это первое, чем должна заниматься наука о литера-
туре в своем самоосмыслении.
235
А. В. Михайлов
§ 39. — Шире науки о литературе: вся история культуры погружена в
слова, и она окутана словами, однако, по сущности их, не как непро-
глядным туманом (за которым не видна была бы «сама» суть дела),
но как сферой самопостижения, саморефлексии. Сфера эта относится
к самой же культуре и ее истории. Она отделяет нас, однако, от того,
что, не будь этой окутывающей ее сферы, было бы, конечно, совер-
шенно иным и разумелось бы нами совершенно иначе.
Однако реально существует не такое «иное», но именно окутан-
ная словами культура, которая и для истории культуры, и для всей
науки о культуре есть самая первая, самая важная и наиболее реаль-
ная реальность.
§ 40. — Вся история культуры держится для нас словами — ключевы-
ми, или основными понятиями культуры, понятиями ее самопости-
жения, самоистолкования.
У каждого такого слова — сложнейшая и нередко почти непро-
глядная история.
История ни одного из таких слов не изучена пока сколько-нибудь
полно и досконально.
Все такие слова, какие направляют самопостижение культуры,
обретаются на самой границе непостижимого для нас.
§ 41. — Специально о теории литературы можно думать все что
угодно. Для такой же науки, которая рассмотрела задачу своего са-
моосмысления в свой исторический час, теория литературы — это не
столько отдельная дисциплина со своим «предметом», сколько во-
обще знание наукой самой себя.
§ 42. — Настоящие трудности наук о культуре сейчас — это труд-
ности их положения по отношению к истории, истории — по отно-
шению к ним. Это же относится и к науке о литературе, и к т. н. ее
теории.
Вместе с этими трудностями мы возвращаемся к § 1. Что значит,
что более нет для этих наук само собою разумеющегося и очевид-
ного?
Это значит, что нет более и не может быть непосредственной ве-
ры в себя, в свою точку зрения, в свое. Ср. II, § 6: «... Ее, нашей новой
точки зрения, высота — в том, что она не верит так, как то всегда
было, в свое: она не верит в свое так, как раньше, и, в отличие от
прежнего, не обесценивает все иное, — а верит в историю как смену и
сосуществование разного иного и, если что-то и обесценивает, то
только свое "иное", — которое другого порядка».
Вместе с этим изменившимся положением в отношении истории и
236
Несколько тезисов о теории литературы
всего иного в ней,— значит, в отношении всякого содержания ис-
тории вообще, например в отношении всей истории литературы, —
исчезла само собою разумевшаяся и очевидная сфера исходных прин-
ципов исследования.
Эти исходные принципы исследования можно было понимать как
т. н. методологические принципы и верить в них. В них почти во всей
современной науке и продолжают верить с тем фанатизмом, который
исключает всякое обдумывание подобных принципов и всякое сом-
нение в них, — сомнение в них было бы для многих смерти подобно.
Однако методологические принципы своим кажущимся подобием
некоторой аксиоматической системе лишь загораживают вид на под-
линную аксиоматику наук о культуре.
Такая аксиоматика для наук о культуре — весьма неудобным для
обращения с нею образом! — заключена в неочевидности очевидного,
выведываемого у непостижимого и лишь с большим опозданием пе-
реводимого в слово, — см. Приложение, § 6, 7.
§ 43. — Вместо мнимой аксиоматики и кажущейся методологии на-
стоящая наука о культуре, настоящая наука о литературе должны
были бы заняться своим самоосмыслением, в котором, естественно
можно было бы обсудить и любые возможные методологические
принципы, — однако происходило бы это не в состоянии слепой при-
верженности одним принципам и заведомого отвергания других, но
на поле дометодологического, на котором для науки о литературе
открываются дающие ей смысл общие горизонты истории культуры.
II
Наука о литературе как реальность и как должное
(см.1,§29)
§ 1. — Если говорить о науке о литературе и о теории литературы, —
что это такое, то, конечно, мы должны начать не с того, что перечис-
лим обычно входящие в учебники теории литературы разделы,—
теория литературы есть прежде всего знающая себя наука (ср. I, § 41),
и этим, как я предполагаю, она в наше время отличается от той нау-
ки, которая умела и могла создавать учебники теории литературы,
введения в литературоведение. Та наука знала, что относится к ней, к
ее ведению, а эта наука должна знать, почему.
§2. — Замечание относительно только что употребленного слова
«должна».
237
А. В. Михайлов
Что наука что-то должна, не означает, что мы хотим изменить ее,
заставить ее делать не то, что она делает, реформировать ее и т. п., —
если наука и должна перемениться, то об этом-то нам не приходится
заботиться (ср. эпиграф I), она и сама изменится.
Наука «должна» означает здесь лишь то, что, как я полагаю, нау-
ка уже стала другой и только не всегда отдает себе в этом отчет, надо
несколько подтолкнуть ее к знанию себя самой; знание себя самой
предполагает самоосмысление, — этим и должна заняться наука, при-
чем в этом последнем выражении слово «должна» имеет уже несколь-
ко иной смысл, смысл некоторого весьма скромного и тихого под-
талкивания науки к ней самой.
§ 3.— Всякое «почему» (§ 1) требует самообоснования. Такое само-
обоснование и должна получить наука о литературе, и это самая
«актуальная» задача, какая только стоит перед ней. Это же относится
и ко всем наукам о культуре.
§ 4. — И еще одно долженствование: научиться отдавать должное
всякому из существовавших и существующих языков культуры (см. I,
§ 24, абзац 2).
§ 5. — Отдавать должное — не то же самое, что научиться говорить
на ином языке. Последнее невозможно: то, что именуется языком
культуры, можно реконструировать, но нельзя уйти от своей сущ-
ностной точки зрения и нельзя усвоить иную — двойное воспреще-
ние.
А отдавать должное значит:
а) признать за иным права иного, признать его существенность и
истинность;
б) отказаться от накладывания на чужой язык чего-либо своего —
привычек, схем, систем, отказаться в той мере, в какой это доступно
и подконтрольно нам.
Общее, отвлеченное теоретизирование, какое, видимо, уже отжи-
ло свой век, исходило из признания правомочности общих, ко всему
относящихся и будто бы во всем действующих схем, систем, понятий
и т. д.
§6. — Однако, наше сегодняшнее разумение науки, по всей видимос-
ти, подсказывает нам (ср. I, § 27), что нам недостаточно понимать
что-либо только для себя, для «нас».
Если «наша» точка зрения теперь отличается по своему существу
и статусу от прежних, какие были в истории, то наше «иное», что не-
сет наша точка зрения, не просто стоит после бывших прежде, но и
переносится над ними (не «возносится над ними» и не «заносится над
238
Несколько тезисов о теории литературы
ними», как надо надеяться!). Ее, нашей новой точки зрения, высо-
та — в том, что она не верит так, как то всегда было, в свое: она не
верит в свое так, как раньше, и, в отличие от прежнего, не обесцени-
вает все иное, — а верит в историю как смену и сосуществование раз-
ного иного и, если что-то и обесценивает, то только свое «иное», —
которое другого порядка. Отсюда и несравненно большая прозрач-
ность и доступность всего исторического для нашей точки зрения —
для нашей в том смысле слова, что она нам дана, подарена (см. эпи-
граф I). О большей прозрачности см. I, § 22, абзац 2.
Если наша новая точка зрения и предлагает какую-либо общую
схему (см. I, § 23, абзац 2), то такая схема — не схема объяснения (для
всего сразу), а способ отступления от навязывания своего иному чу-
жому в бесплотные истончившиеся очертания все еще неизбежного.
Нельзя говорить об ином, не внося туда своего, однако нужно не
упиваться своим, а умолкать перед голосом иного (см. I, § 25, аб-
зац 2). Наше молчание перед иным все еще слишком шумно. От нас
все равно всегда слишком много шума.
§ 7. — Иное встречается нам в герменевтическом пространстве. В нем
иное всегда сопряжено с иным для него, например с «нами». Иное тут
и не обходится без «нас». Это и парадокс наблюдателя, но и более
глубокая бытийная сопряженность иного и иного, иного и моего и
т. д., в котором любое сущностно отсылается к иному, в том числе и к
тому иному, которого реально еще не было и нет, отсылается к суще-
ственности и истинности всего иного.
§ 8. — Иное обнаруживается уже и в своем: как момент его не тождес-
твенности себе, как момент внутреннего раскола и, наконец, как мо-
мент сущностного отсылания к иному, к его существенности и истин-
ности.
§ 9. — Сущностная сопряженность одного и другого, своего и иного,
своего и чужого и т. д. нуждается однако и в неукоснительном разли-
чении всего этого.
Науке о культуре, как существует эта наука сейчас, приходится в
первую очередь задумываться о различении разного,— сопряжен-
ность осуществляется и без нашего участия, путаница же и стирание
различий многообразно вносится в историю нами самими.
§ 10.— Самоосмысление науки несомненно изменит ее (I, § 33),—
однако цель не изменение, а осмысление.
Наша забота — лишь о том: не знает ли наука о себе меньше, чем
можно? Ведь — I, § 29 — «есть одно: то, как наука о культуре и наука
о литературе думают о том, как они мыслят историю, — и есть дру-
239
А. В. Михайлов
roe: то, как они действительно мыслят историю, не вполне отдавая
себе отчет в том». Тогда наша забота — лишь о том, чтобы наука
догнала сама себя и по-настоящему узнала (от себя же), как и что она
мыслит и разумеет.
§11. — Как только наука о культуре заметит, что делает уже не то,
что делала прежде, и убедится, что стала другой (или готова стать
другой), она должна будет убедиться в том, что ее мышление истории
изменилось и стало другим. Возможно, однако, что оно только стало
таким, каким в сущности, без осознания того, было и раньше.
Так, задумываясь над проблемой реконструкции различных язы-
ков культуры, наука должна будет продолжить свои размышления
до осознания тех историко-культурных горизонтов, изнутри которых
такая реконструкция мыслима и возможна.
Мышление истории — таков горизонт (каждой) науки о культуре:
ее горизонт и ее глубина.
III
§ I. — «Теоретическое» противопоставляется, по меньшей мере, а) прак-
тическому; б) эмпирическому; в) историческому.
Такого рода противопоставления так или иначе обрабатываются
в истории науки о литературе, так что, например, существует т. н.
«эмпирическое литературоведение». Но главным образом такое про-
тивопоставление проявилось в существовании теории литературы
наряду с историей литературы, как бы ни разумелись их взаимоот-
ношения.
§ 2. — Сложившееся различение истории и теории литературы как
чего-то отдельного, обособленного друг от друга— условно, вре-
менно и скорее всего несостоятельно вообще. Теория не может отно-
ситься к чему-либо кроме данности литературы (того, что, как при-
нято говорить, составляет ее «предмет» или «материал»), а такая дан-
ность — существенно историческая.
§ 3. — Правильнее говорить не о теории и — наряду с этим — об ис-
тории литературы, но о единой науке о литературе. (Замечу, что
такое наименование имеет даже некоторые преимущества по сравне-
нию с более обычным — литературоведение).
Внутри таковой, в связи с естественными потребностями эконо-
мии и разделения труда, образуются свои центры тяжести, которые
имеют тенденцию затвердевать в своей обособленности и в таком
виде институционализироваться в качестве отдельных дисциплин.
240
Несколько тезисов о теории литературы
Однако всякий такой центр тяжести, или особый центр внимания,
следует рассматривать не как обособленную дисциплину, но именно
как динамический центр тяжести в пределах существенно единой
науки о литературе.
§ 4. — Напротив, если бы была признана дисциплина оснований науки
о литературе, которая осмысляла бы ее в ее единстве и обосновывала
бы ее, отдельным центрам тяжести было бы даже легче и проще су-
ществовать в своей отдельности, удовлетворяя своей потребности в
специализации: общая сторона науки о литературе, будучи осмыс-
ленной, стала бы гораздо доступнее для постоянного продумывания;
мотивы единства знания не только возникали бы в научном сознании
время от времени, но были бы учтены и изложены.
§ 5. — Наука о литературе вычленяется на протяжении XVIII—XX вв. —
путем неоднократно повторяющихся актов такого своего вычленения
и становления своего в качестве именно науки — из круга знания о
литературе.
Наука о литературе существенно принадлежит к кругу знания о
литературе, и их взаимоотношения должны быть вновь продуманы.
§ 6. — Наука о литературе остается в пределах знания о литературе.
Наука о литературе, или литературоведение, — более узкое поня-
тие, а знание о литературе — более широкое или даже всеобъемлю-
щее.
Все литературоведческие суждения входят в круг знания о литера-
туре, но не всякое знание о литературе входит в состав науки о лите-
ратуре.
§7. — Знание о литературе исторически предшествует науке о лите-
ратуре и подготавливает ее.
§ 8. — Заметим — преждевременно — для продумывания наперед:
хотя в дальнейшем и выяснится то совершенно несомненное, что
слово «литература» в пределах науки о литературе лишь условно
обозначает все то, что оказывается в поле знания о «литературе», в
поле соответствующего знания и, затем, науки, но, если называть все
это (условно и с осознанием такой условности) «литературой», то
знание о литературе исторически предшествует не только науке о
литературе и не только подготавливает таковую,
но оно предшествует и литературе и подготавливает таковую.
Первый текст европейской «литературы», «Илиада» Гомера, на-
чинается с чрезвычайно краткого, однако зрелого и продуманного
изложения известного знания о литературе, т. е. о том, что поэт тво-
рит, и это предшествование знания о литературе, или поэтики, чрез-
241
А. В. Михайлов
вычайно знаменательно: вообще говоря, понимание чего-то, что мы
делаем, в некотором смысле обязано предшествовать тому, что мы
делаем, хотя вместе с тем и с другой стороны это понимание поверя-
ется самим «делом», складывается с ним, взаимодействует с ним и
становится внутри него. Однако, делая что-либо, мы имеем в виду
некоторое что, хотя порой и достигаем чего-то иного в сравнении с
задуманным. Есть момент логического предшествования замысла
деланию и изготовлению. Есть всегда некоторое задуманное «что».
И такое «что» становится сейчас огромной проблемой для нашей
науки — постольку, поскольку она, возможно, не согласится в даль-
нейшем попросту мириться с условным и нейтрализующим употреб-
лением слова «литература» в отношении всего, с чем имеет она дело.
Если нет,— если не согласится,— в наиострейшей форме встанет
вопрос о том, с чем же имеет она дело, и тут даже самые основатель-
ные ответы, какие давались еще в недавнем прошлом, едва ли удов-
летворят сейчас: едва ли согласимся мы с тем, что все, с чем имеет
дело наука о литературе, тем более знание о литературе, суть «про-
изведения», или «творения».
Все содержание § 8 изложено на будущее — для того чтобы мысль
по возможности «цеплялась» за уже заявленное и выявленное.
§ 9. — Наука о литературе остается в пределах знания о литературе
(ср. §6).
Однако: отношение науки о литературе как науки ко всему кругу
знания о литературе— иное, нежели у других наук (за пределами
наук о культуре, которые, видимо, в одинаковом или почти одинако-
вом с наукой о литературе положении) в отношении к соответствую-
щим кругам знания, предшествовавшим им и их подготавливавшим.
Видимо, для математики и для физики всякое знание, которое
предшествовало их становлению в качестве наук, должно исчезнуть в
пределах научного знания и для него, во всяком случае, получив свое
переоформление на новых основаниях и пределах особым образом
выстраиваемого «здания» науки.
В науке о литературе положение иное: знание о литературе оста-
ется одним из оснований науки о литературе. Помимо этого, у него и
нет никаких шансов куда-либо исчезнуть, так как знание всего того,
что именуем мы «литературой», должно непременно возникать вновь
и вновь, наряду с наукой о литературе и помимо нее: всякое самое
непосредственное понимание и разумение всякой литературы в самой
«обыденности», в самой «жизни» возникает и проявляется совершен-
242
Несколько тезисов о теории литературы
но непременно, и такое понимание — не антинаучно и не безразлично
для науки, и оно не идет мимо нее, а это «живой» субстрат всякого
научного знания в этой области, субстрат— плохо ли, хорошо ли
то — непрестанно забирающийся в область собственно науки и очень
часто своей непереработанной обыденностью мешающий ей, вмеши-
вающийся в науку. Однако всякие «непрофессиональные» вмеша-
тельства в науку обыденных суждений о литературе (их можно на-
блюдать на каждом шагу) возможны лишь потому, — и они показа-
тель того,— что наука о литературе особым образом соединена и
сопряжена с таким «живым» субстратом (сколько бы ни возражать
против такого неопределенного слова, как «живой»).
К обыденным суждениям о «литературе», пытающимся как-то вы-
разить непосредственное понимание, уразумение всего литературно-
го, нельзя относиться с высокомерием, — сколько бы заведомо аб-
сурдно ни было какое-то отдельное из таких суждений. Само научное
знание, по крайней мере с одной своей стороны, основывается ни на
чем ином, как на получающих известную систематизацию, или «утон-
чение», или наукообразное препарирование обыденных суждениях.
Различие между обыденными суждениями непосредственного ра-
зумения и суждениями «научными», видимо, в том, что последние
опосредованы традицией науки, т. е. некоторой преемственностью
способов обработки «до»-научных суждений. Однако до тех пор,
пока сама эта традиция не осмыслена по-настоящему, как и вся наука
о литературе, ее опосредования условны и в известной степени
«непосредственны» (непосредственны, коль скоро научная рефлексия
недостаточно захватывает также и их).
Неразрывность связи науки о литературе с «обыденными» сужде-
ниями приоткрывает «человеческий» аспект этой науки (откуда вовсе
не следует, что наука о литературе относится к числу т. н. «наук о
человеке», — она таковая, надо думать, не более, нежели любая дру-
гая). «Человеческий» аспект — в том, что наука эта не может разме-
жеваться с обыденными «просто человеческими» суждениями, и это
бытийная ее черта. Напротив, попытки превратить науку о литера-
туре в науку точную, работающую точными методами, несостоя-
тельны не потому, что они, скажем, не осуществимы:
всякая такая попытка, если бы она увенчалась успехом, создала
бы иную науку по сравнению с той наукой о литературе, какая уже
имеет свою традицию,
и вместе с тем не имела бы ни малейших шансов упразднить ту
науку о литературе, какая уже имеет свою традицию.
243
А. В. Михайлов
Любые попытки реформировать существующее литературоведе-
ние не хороши и не плохи — они должны разуметь себя не как ре-
формы, а как попытки основать новую науку, и никак не должны
претендовать на то, чтобы занять место прежней науки. Эта прежняя
наука— та, что существует пока,— строится на известном су-
ществующем реально, наличествующем в окружающем нас мире спо-
собе отношения ко всему тому, что мы условно именуем «литера-
турой», и этот способ нельзя устранить точно так же, как никому
невозможно претендовать на то, чтобы впредь не высказывались ни-
какие «обыденные» суждения о литературе. Пока они высказываются
и пока их нельзя запретить, существует почва для той науки о лите-
ратуре, какая сложилась и уже имеет свою традицию, восходящую к
знанию о литературе, к знанию более широкому и предшествующему
науке о литературе.
§ 10. — «Человеческая» сторона науки о литературе: никакой литера-
туровед не в силах отрешиться в себе от человека, «просто» судящего
о литературе, а попытки добиться этого приводят, как известно, к
парадоксальным результатам, одним словом — к омертвению лите-
ратуроведческой «продукции».
Невозможность отмежеваться от «обыденных» суждений для всей
науки и от «просто» человека в себе для литературоведа — это про-
сто реальность этой науки, реальность, с которой надо просто счи-
таться.
Те же «проблемы» известного рода реальности и невозможность
попросту сжиться с ними стоят и перед другими науками, включая
историю. В последней науке они, вероятно, и встают во всей их тя-
жести и весомости.
Если только слово «тяжесть» влечет за собой некоторые нега-
тивные, а «весомость» — некоторые позитивные коннотации, то нам
следует «переделывать» тяжесть подобных проблем в их «весомость»,
т. е. осознавать их в деловом стиле, а не «переживать» как нечто при-
скорбное.
Такова природа науки о литературе (и некоторых других наук).
Такова их реальность.
Такова же, в частности, и природа науки об искусстве: глаз выно-
сит свои суждения прежде их ученого обоснования. Правда, глаз мо-
жет быть неопытным и может быть многоопытным. Однако и опыт-
ный глаз знатока искусства и затем искусствоведа — все же только
опытный глаз, и таков же, по природе, «глаз» и «слух» литературо-
веда.
244
Несколько тезисов о теории литературы
§11. — Предшествующее позднее складывающейся науке о литерату-
ре и подготавливающее ее знание о литературе никуда не пропадает
вместе со становлением науки о литературе, но по-прежнему предше-
ствует ей и подготавливает ее. Оно служит одним из реальных, а
именно — «жизненным» основанием науки о литературе.
В широкий круг знания о литературе входят, между прочим, и та-
кие высокие образцы поэтики, как начало «Илиады». Это теорети-
ческое знание, хотя и не наука о литературе, поскольку под наукой
следует разуметь науку в ее новоевропейском самопостижении, ка-
кому отвечает и представление о науке о литературе, склады-
вающейся на протяжении XVIII—XX вв.
§12.— Знание о литературе— всеобъемлюще, а наука о литерату-
ре — не вечна. Как всякое научное, научно оформляемое знание, она
имеет начало и конец и существует, пока длится новоевропейское
самопостижение науки (как самопостижение знания).
Поэтому у науки о литературе есть еще шанс перейти в иное со-
стояние — пока (почти) не известное еще нам, или малоизвестное.
В пределах науки о литературе нам следовало бы наперед раз-
узнавать, каким могло бы быть такое будущее, наследующее научно-
му состояние знания о литературе. Для этого полезно сверяться с
опытом всех иных наук, подсказывающих ту же перспективу
(перехода в иное состояние знания).
§ 13. — Науке о литературе не следует обольщаться собою и видеть в
себе высшую форму знания о литературе. Этого и вообще не следует
делать никакой науке, однако в особенности — такой, которая не в
состоянии отрываться от предшествующего ей и подготавливающего
ее знания.
Такие науки, как наука о литературе, постоянно отсылаются к че-
ловеческому опыту всего того, что становится их «предметом», и
обязаны сверяться с ним. Они настолько обязаны это делать, что не
могут не делать этого.
§14. — Есть науки, в которых невозможно, немыслимо отложив-
шееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания
таковым. «Отложившееся» знание— замыкающееся в себе и пове-
ряемое внутри себя. Последнее получает возможность удостоверять-
ся внутри себя (математические науки). Такое знание достигает сте-
пени практически полной независимости от непосредственного чело-
веческого опыта.
§15.— Наука о литературе тоже должна удостоверяться в истин-
ности своего знания и делает это лишь недостаточно.
245
А. В. Михайлов
Однако всякое удостоверение здесь — дело необычайно тонкое и
почти немыслимое, поскольку оно предполагает обращение к опыту
сознания и к анализу такового. <...>*
Поэтому истинность в науке о литературе — дело хрупкое. В этой
науке — возможно, это и очевидно (?) — нет истины для всех, а бы-
вает только истина для нас.
Зато истина для нас стоит крепко, ибо основывается на внутренней
убежденности опыта и сознания, на их «само собою разумеющемся».
§ 16. — Однако именно поэтому не могут быть истинными «вообще»
в науке о литературе какие-либо теоретические тезисы о существова-
нии чего бы то ни было, что удостоверялось бы внутри самой науки.
Конечно, «русская литература» существует, однако это и не обос-
новывается внутри науки о литературе.
Напротив, все суждения о т. н. методах, стилях и т. д. заведомо не
могут быть истинны для всех и вообще. Это всякий раз может быть
истинны[м] только для соответствующих «нас».
§17. — Все написанное и «наговоренное» в науке о методах— реа-
лизма, соцреализма, о стилях и направлениях не только не может
никому навязываться в качестве «истины», а в лучшем случае может
претендовать на статус кем-либо принятого. Можно почему-либо
настаивать на целесообразности таких понятий или представлений.
Однако можно сомневаться в том, что как суждения о методах,
направлениях и стилях и т. п., так и сами эти понятия непременно
обязаны наличествовать в науке о литературе. Скорее, их можно
рассматривать как некую надстройку внутри науки— надстройку,
возникающую из стремления быть во что бы то ни стало научным,
или, скажем, системным.
§18. — Место в науке есть, собственно, только для того, что может
получить внутри ее свое обоснование.
Пока «метод» и прочие понятия такого типа не получили обосно-
вания, лучше говорить о них как о том, что называется, или что на-
зывают методами и т. п.
§19. — Поскольку необходимо безоговорочно признавать в науке о
литературе любую истину для нас, <...> то за всяким традиционным
учением о литературе в рамках науки следует признать такое право
на истину для него и затем уже разбираться во внутренней устроен-
ности такого учения.
* Здесь и далее знак <...> везде означает купирование следующих про-
пусков в тексте: (ср. ), (см. ).
246
Несколько тезисов о теории литературы
§ 20. — Вера в то, что науку надо строить именно так, и есть ис-
тинность учения в нем самом и для него самого. Часто такая вера
восходит лишь к традиции, перенятой некритически в том смысле,
что оснований для критики традиции еще не было в самом сознании
науки.
Раньше, и еще недавно, таких оснований, видимо, еще не было.
Теперь они, по-видимому, есть. И в этом «вся» разница между учеб-
никами теории литературы, написанными относительно недавно, и
нашей нынешней ситуацией. Эта последняя <...> такова, что она вы-
нуждена не вставать в один ряд с бывшим ранее: наша точка зрения
(какая обеспечивала бы нам истинность для нас наших утверждений)
существенно отличается от прежних точек зрения и встает, в отличие
от них, в иное отношение к истории.
§21.— «Системность» такого научного знания, которое не имеет
возможности оторваться от человеческого опыта с его непосред-
ственностью, — весьма особого свойства.
Ни литературоведам, ни искусствоведам не следует поддаваться
очарованию таких формул, как «системность научного знания».
Есть два положения, которые необходимо осмыслить и которые,
возможно, воспрепятствуют чарам любых формул:
1) всякое слово, попадающее внутрь науки, должно быть осмысле-
но внутри ее в соответствии с ее опытом, и это «вдвойне» значимо
для таких наук, в которых <...> назрела необходимость историческо-
го осмысления всех своих основных слов и понятий <...>;
2) для науки бессмысленно перенятие готовых слов, понятий и
формул, — они должны быть приведены в некоторое соотношение с
опытом самой науки, осмыслены изнутри ее, и это «вдвойне» значи-
мо для таких наук, которые вот только сейчас, кажется, подошли к
тому, чтобы осмыслить себя изнутри и в том числе конкретно осо-
знать и осмыслить свой опыт.
§ 22. — Литературовед, очутившийся перед формулами типа «сис-
темность научного знания» имеет все шансы внести свой особенный,
вполне реальный вклад в уяснение этой и других подобных формул,
причем вклад, вытекающий из (далеко еще не уясненной нами) при-
роды именно его научного знания.
Залогом такого реального и дельного вклада служит существен-
ное отношение науки о литературе (и всего знания о литературе) к
слову, ее, ей присущее и данное только ей, общение со словом, — при
условии, что существенность такого отношения будет одновременно,
насколько то возможно и мыслимо, уясняться.
247
А. В. Михайлов
V*
Обратное проецирование как неизбежность
§ 1. — Обратное проецирование сопутствует всей культуре и, видимо,
присуще ей вообще.
§ 2. — Обратное проецирование — частный случай о-своения иного
как у-своения и при-своения его себе.
§ 3. — Видимо, только сейчас наше (научное) сознание подошло к
тому, чтобы видеть относительность таких операций, подвергнуть их
разбору и в принципе подчинить их своему контролю, «взять в руки».
§ 4. — То, что в современной научной литературе именуется «диа-
логом культур» и «диалогом» в более общем смысле, обязано счи-
таться с ситуацией— т. е., во-первых, с тем, как осуществлялось и
осуществляется о-своение в истории культуры, с обратным проеци-
рованием, и, во-вторых, с осознанием относительности (историчес-
кой относительности) таких операций.
Теоретики «диалога» должны соответствовать этой ситуации, а не
удовлетворяться лишь переводом традиционной ситуации о-своения
на новый, свой язык.
Вообще же говоря, понятие «диалога», переносимое на всю ис-
торию культуры, тяготеет к тому, чтобы проецироваться на все и
посягать на все.
§ 5. — Можно предположить следующее: обратное проецирование
можно редуцировать, ограничить, но нельзя устранить вообще.
Ограничить обратное проецирование и поставить его под свой
контроль желательно потому, что эта «операция» наиболее фунда-
ментально нарушает самотождественность истории.
Наверное, дело науки — не в том, чтобы вводить в систему акты
переноса своего на чужое, в чем суть обратного проецирования, а в
том, чтобы поставить под контроль такие неизбежные «операции».
§6. — Задачу сегодняшней науки о культуре в этом отношении я
представил бы так:
ей следовало бы научиться разворачивать в обратном направлении
то, что исторически осуществилось как обратное проецирование.
§7. — Вся наука, какая была доныне, и вся научная традиция, какой
* В рукописи А. В. Михайлова после части III идет часть V, но, поскольку
какие-либо смысловые «пробелы» в тексте не ощущаются, вероятно, в дан-
ном случае автор ошибся в нумерации. Тем не менее авторская нумерация
полностью сохраняется в публикации, т. к. ее простое изменение неизбежно
повлекло бы за собой существенную правку по всему тексту. — Примеч. ред.
248
Несколько тезисов о теории литературы
сложилась она, выступает едва ли не как самая первая «данность»,
подлежащая обратному разворачиванию в своих операциях.
По мере того как наука погружалась в свою сущность, как заду-
мана она была в новоевропейской культуре, и по мере того как она,
соответственно, предавалась мечтаниям о своей «системности» и
т. п., она склонялась к безоговорочному, полному и бесконтрольному
обратному проецированию.
Такая наука в своем усугубленном виде, кажется, к настоящему
времени вполне исчерпала себя.
Можно допустить, что науки о культуре— по причине своей
внутренней вялости, инертности— осознают это недостаточно от-
четливо.
Однако именно науки о культуре, находящиеся в своем, данном
им отношении к истории, и призваны к такому осознанию. Тако-
вое — аспект их столь назревшего самоосмысления.
§ 8. — Как бы ни представлять себе протекание истории культуры,
она происходит как смена и как со-существование того, что назы-
вается языками культуры. (Правда, как говорилось уже, — само это
понятие сводимо к более первичным, однако им не противоречит,
т. е. не противоречит и тому направлению, в каком наука о культуре
призвана сейчас к самоосмыслению).
Каждый язык— свой, при всех внутренних осложнениях такого
своего (в котором не может не вырисовываться также и иное себе).
Каждый язык — свой. Он несет в себе истинность своей самотож-
дественности, истинность своей точки зрения, истинность своего мыш-
ления истории. Каждая точка зрения вправе говорить на своем языке,
каждый свой язык вправе претендовать на все свое, по мере всякий
раз своего. (Правда, последнее — это утверждение, какое предполо-
жительно следует из нашего своего языка, из соответствующего ему
образа истории и мышления истории; <...>.)
§ 9. — Правда, никакой язык культуры не дан нам «сам по себе» —
дан не более, нежели «сама» история литературы и «сама» литера-
тура.
«He-данность» всякого языка культуры и не превышает, однако,
не-данность любого другого культурно-исторического «явления».
То, что закрывает от нас и для нас подступ к «данности» как та-
ковой, и обеспечивает его же, и делает его возможным.
Поэтому такая «не-данность» и есть сама реальность любого
культурно-исторического явления, есть реальная его данность.
249
А. В. Михайлов
§ 10. — Нельзя лишь недооценивать «не-данность» любой данности.
«He-данность» реальна, она ставит всякую культурно-историчес-
кую реальность в поле непостижимого (см. Приложение) и «обрека-
ет» ее всему тому, что творится на этом поле.
§11. — Любое приближение к своему, как к чужому своему, так и к
нашему своему, совершается как вторжение, или внедрение, в непо-
стижимое.
VI
§ 1.— Науки о культуре таковы, что они имеют дело со словом в
различных его (само)выявлениях и сами пользуются словом.
Науки о культуре имеют дело со словом в его существенности, в
его бытии словом, — в отличие от наук, которые пользуются словом,
но не располагаются в направлении слова как слова.
§ 2. — Сказать что-либо о существенности слова сейчас и на этом
месте невозможно, а наше предположение о том, что науки о культу-
ре располагаются в направлении существенности слова, достаточно
формально и оправдано сейчас и на этом месте тем, что мы были
принуждены и имели возможности сказать о слове в других своих
тезисах.
§ 3. — Если же предположить, что и наука о литературе располага-
ется, наряду с другими науками о культуре, в направлении сущес-
твенности слова, то ей слово дано — или даровано — в особом его
аспекте.
О том, как дано ей слово, говорить сейчас было бы поспешно.
Во всяком случае весьма поспешным было бы утверждение, будто
наука о литературе имеет дело со словом литературным, поэтиче-
ским, творческим, со словом литературы, поэзии. Ограничительное в
таком утверждении пока не оправдано: есть такие эпохи истории
литературы, в применении к которым понятие литературного расши-
ряется и распространяется на все написанное вообще, и можно за-
даться вопросом, не верно ли было бы распространять его во всех
случаях.
§4. — Что наука о литературе имеет дело с творческим и поэтиче-
ским словом, пока было бы лишь красивыми словами.
Целесообразнее задуматься над следующим:
не имеет ли наука о литературе дело со словом как словом соз-
дающим особого рода «что», о каких преждевременно было бы гово-
рить, что это за «что», и запечатляющемся в них.
250
Несколько тезисов о теории литературы
«Ничего не говорящая» сторона подобного высказывания всерьез
считается с тем обстоятельством, что, пытаясь говорить о чем-либо
подобном, мы входим в поле непостижимого и, конкретнее, того,
что вовсе нам не известно.
§ 5. — Вот обо всем подобном — о том, что вовсе и действительно
нам неизвестно, неведомо, наука о литературе склонна забывать по
присущей ей инерции.
Чтобы напомнить ей об этом, скажу лишь одно: наука о литера-
туре безусловно и несомненно не знает того, о чем она, так как
неизвестно, что такое та «литература», наукой о которой она пре-
тендует быть.
§ 6. — Что такое литература, какую мы имеем в виду, когда говорим
о науке о литературе, действительно неизвестно, хотя бы потому, что
объем того, что относится к «литературе» в каждую из рассматри-
ваемых в науке о литературе эпох ее истории, всякий раз различен.
Говорить о «науке о литературе» возможно лишь потому, что все
мы имеем в виду под нею примерно одно и то же. Мы, возможно,
знаем то, что должны еще эксплицировать.
§ 7. — Что же такое «литература», какой занята наука о литературе?
Это одно из самых основных понятий науки о литературе.
Оно собирает в себе всю внутреннюю проблематику этой науки.
«Литература» — это, далее, одно из слов, которые в настоящий
исторический час должны быть, наряду с остальными основными
словами науки о литературе и наук о культуре, подвергнуты истори-
ческому анализу.
Должна быть создана, говоря проще, история этого слова (как и
других слов).
Как одно из слов, далее, посредством которого наука осуществля-
ла и осуществляет обратное проецирование, слово «литература»
должно быть развернуто в обратном направлении (см. V, § 6).
§8. — Скажем иначе: литература — это одно из тех основных слов
науки о литературе, с помощью которых мы приходим в связь имен-
но с тем, чем занята эта наука, и посредством которых мы никогда не
достигаем того самого, чем заняты и с чем имеем дело в этой науке.
Как такое основное слово, слово литература функционирует со-
вершенно безукоризненно.
Однако сейчас, в связи с необходимостью самоосмысления науки,
и этому понятию придется отказаться от автоматизма всего само
собою разумеющегося и перейти к историческому статусу своего
существования.
251
А. В. Михайлов
Историческое существование слова для науки означает первым
делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо тожде-
ственным себе и обязано выявить историческую конкретность и ис-
торическую изменчивость своего смысла. Т. е. неравенство себе и
свою несводимость к одному смыслу.
Наступила пора, когда перед словами следует ставить прямые во-
просы «в лоб»: что же это такое!
Так, говоря о литературе, мы и должны спрашивать себя, обна-
руживая все свое (действительное) незнание: что же это такое!?
Вместе с тем все это вопросы, которые— в пределах наших
наук — задаются нам же, которые ставятся перед нами же.
§ 9. — Весь мир и все бытие — все окружающее — предстает для нау-
ки о литературе и для наук о культуре (наук о духе) как погруженный
в слово в его существенности, как «укутанный» в слово.
§ 10. — Все те слова, в которые «укутано» для науки то, с чем имеет
она дело, все те слова, которые соединяют ее с тем и разделяют ее с
тем, с чем имеет она дело, — все эти слова, которые иногда называют
терминами науки, гораздо ближе к этой науке, нежели любая литера-
тура. Они принадлежат к близлежащему, к тому, что совсем близко к
нам и близко от нас по дороге к тому, чем заняты мы в самой науке.
Все такие слова (или «термины»), какими пользуется наука (ду-
мающая иногда, что это она, наука, выработала их, чтобы «пользо-
ваться» ими), гораздо реальнее для науки о литературе любых произ-
ведений литературы, какими она занята и каким посвящает она свои
сознательные усилия, гораздо реальнее для нее и писательских судеб,
и той «самой» истории литературы, которой занят историк литера-
туры.
§11. — Все основные слова науки о литературе выступают в ней и для
нее как носители исторической действительности, как держатели
исторического опыта, как те данные и заданные науке смыслы, по-
средством которых осуществляется связь со всем тем, что было и есть
в истории, посредством которых такая связь устанавливается и на-
рушается, посредством которых многообразно осуществляется пере-
нос своего на чужое и все операции обратного проецирования.
§12. — Понятие «основные слова науки о литературе» предпочти-
тельнее, нежели «термины»: понятие «термина» есть результат пере-
носа некоторого смысла в науки о культуре из других наук. «Термин»
в этих науках перестает удовлетворять своему значению, какое полу-
чили они в другой области знания.
В науке о литературе и «пользуются» словами иначе: настоящий
252
Несколько тезисов о теории литературы
термин— это инструмент замыкающегося в себе научного знания,
между тем как основные слова науки о литературе — не столько слова,
которыми «пользуется» литературовед, сколько слова, которые дер-
жат его в своем и при своем смысле и, не отпуская его от себя, застав-
ляя его «пользоваться» собою, держат его «в своих руках». Кто же
тут кем и что тут чем «пользуется»?..
§ 13. — Основные, или ключевые слова науки о культуре и основные
слова науки о литературе — это слова, поднимающиеся из недр самой
культуры в ее непосредственности.
Сколь бы ни опосредованы они были и как бы иной раз не вво-
дились они с прямым умыслом внутри самой науки, как бы они ни
сочинялись и ни нарочито изобретались, они все еще продолжают
непосредственное существование самой культуры. Если бы мы были
вправе не раздумывая пользоваться словом «жизнь», то могли бы
сказать, что и во всех этих «опосредованиях» все еще продолжается
непосредственная жизнь культуры и что все они сразу же и немедлен-
но вливаются в эту общую жизнь.
У основных слов науки о литературе есть и эта непосредственная
сторона, и есть сторона опосредованная: со стороны непосредствен-
ной в них продолжение «жизни» культуры, со стороны опосредован-
ной они суть язык культуры, говорящей о самой себе, язык самопо-
стижения культуры.
§14. — Язык ашопостижения культуры и все слова такого самопо-
стижения — ь них прямое продолжение «обыденного» и «жизненно-
го» понимания, его актов и процессов, то прямое продолжение, какое
не прерывается и в пределах науки о литературе, сколь бы научной
ни пожелалось ей быть, то прямое продолжение, которое науку о
литературе делает продолжением и наследницей несравненно более
обширного знания о литературе.
§15. — Все такие основные слова науки — это своего рода наросты
на культуре, посредством которых она удаляется от простой своей
непосредственности. Именно поэтому все основные слова культу-
ры — не просто запечатления самопостижения культуры, в которых
и благодаря которым мы просто-напросто могли бы приходить в
связь с «самой» культурой, но и такие способы, которые закрывают и
скрывают ее от нас.
В них, этих основных словах, есть истинность того, что существу-
ет так, а не иначе, истинность самопостижения, которое такое, а не
иное, — однако никто не гарантирует нам истинности такого само-
постижения культуры. Напротив, чем дальше тем больше, укоре-
253
А. В. Михайлов
няющиеся в традиции мысли и затем науки слова начинают претен-
довать на свою самоцельность и самозначительность, наконец даже
на статус настоящих научных терминов.
§ 16. — Для нас сейчас все такие основные слова — это та реальность
культуры, которой нам не миновать.
В науке они для нас ближе, чем что-либо (см. § 10). Это самая
близлежащая к нам реальность истории литературы и всей культуры.
§ 16. — Примечание. Вот одно из практических приложений того, что
осознано, если только осознано нами: несколько приутихшие в по-
следнее время протесты против т. н. «европоцентризма» не дости-
гают своей цели и остаются чистой демагогией до тех пор, пока не
распространяются на ключевые понятия культуры и, в частности, не
возражают против таких понятий, как «мировая культура», «мировая
литература» и т. п. Однако, ведь все такие слова сделались возмож-
ными и сложились лишь в итоге европейского культурного развития;
однако, не только слова, но и то, что стоит здесь за ними, сделалось
реальностью лишь благодаря европейской истории, как ее итог. Пока
протестуют против т. н. европоцентризма, перенимая основные слова
европейской культуры и не возражая против понятия и сути «мировой
культуры», эти протесты абсурдны. Противникам «европоцентриз-
ма» следовало бы возражать против самой идеи «мирового», а затем
настаивать на полнейшей непереводимости и несопоставимости как
языков культуры, так и в первую очередь языков самопостижения
различных культур. Впрочем, следовало бы протестовать на языке,
заведомо не переводимом ни на какой европейский язык, без чего
совершенно немыслим какой-либо /^европоцентристский взгляд на
какую бы то ни было культуру. Надо отказаться и от европейской
науки и от ее языка. Впрочем, нелепость подобных требований лишь
выявляет исходную нелепость протеста, который, впрочем, и вскорм-
лен был самой европейской культурой в той мере, в какой она пере-
стает разуметь себя. Не будь европейской культуры, наш мир, хоро-
шо то или дурно, и не объединился бы в то целое, к которому прило-
жимо слово «мировое»; весь этот «мир» и постижим только изнутри
языка европейской культуры, изнутри языка ее самопостижения, и
никак иначе.
§17. — Начиная с самых первых слов науки о литературе, мы встре-
чаемся с «операциями» перехода граней внутри истории.
Такие первые слова — история
литература
254
Несколько тезисов о теории литературы
§ 18. — «История» принадлежит всей культуре. Само это слово в на-
ше время само оказалось на грани нового перехода, и «куда» этого
перехода только еще предстоит нам осмыслять, вместе с осмыслением
нашей науки и внутри его.
§ 19. — Наука о литературе, как и всякая иная наука о культуре,
весьма естественным путем при-сваивает себе «историю» («история
литературы» как одна из основных дисциплин литературоведения).
Судьба «истории» не решается в пределах науки о литературе или
науки о культуре. Скорее, наоборот: их судьбы решаются в пределах
истории.
Однако наука о литературе способна внести свой особенный вклад
в продолжающееся осмысление этого слова и сказать о нем свое, а
именно, по-своему осознать и осмыслить то самое, что сейчас, в этот
исторический час, ставит его перед гранью нового, крайне суще-
ственного переосмысления.
§ 20. — Вообще говоря, от каждой науки, с ее стороны и в ее суще-
ственной перспективе виден весь круг проблем сегодняшней действи-
тельности, виден так, как только и может быть увиден он именно
отсюда, с такой-то точки зрения и в такой-то перспективе.
Одно из следствий этого понятно (ср. III, § 21, 2): науке о литера-
туре следует остерегаться перенимать что бы то ни было в готовом
виде из других наук, и следует стремиться разглядеть все именно так
и именно в том свете, как и в каком просматривается все с ее сторо-
ны. При этом следует сверяться с тем, что происходит в других нау-
ках. А то общее и предшествующее разделению научных дисциплин
(которое лишь относительно) выявится при этом с большей яс-
ностью. Наука о литературе должна, таким образом, смотреть за тем,
что и как видно с ее позиции, и это относится и к самым общим
«вещам», таким, как время, пространство, история, число — обо всем
этом наука о литературе может сказать нечто такое, что может знать
только она одна, и то, что она скажет, будет непременно соотносить-
ся с физическими, математическими и прочими представлениями о
всех таких «вещах».
§21.— Вопрос о подлинной, внутренней связи и общности наук —
даже самых различных и внешне далеких друг от друга, — вопрос об
этом, вполне вероятно, может оказаться в числе самых главных и
первоочередных, какие будут занимать научное сознание в ближай-
шие десятилетия. Возможно, он и выйдет «на поверхность» уже в
ближайшее время. Пока же в его почти сплошной темноте появляют-
ся самые первые лучи самой возможности нового и для традиции
255
А. В. Михайлов
неожиданного подхода к такой внутренней взаимосвязи наук. Так,
они сказываются в первых попытках подобраться к анализу самого
сознания науки в определенную эпоху.
§ 22. — Как и все другие основные, ключевые слова культуры, исто-
рия обнаруживает свою историю.
§ 23. — История как основное слово культуры отличается еще и тем,
что держит в себе, в своем кругу, все остальные основные слова науки
и культуры. История — см. I — это и горизонт всего герменевтиче-
ского пространства культуры.
§ 24. — Не потому история держит в своем кругу основные понятия,
что она— самое общее понятие, а потому, что судьба истории —
глубокое переосмысление, случившееся с ней на исторической памяти
культуры, — затрагивает судьбу всякого другого слова.
Так, для любого другого слова небезразлично, например, то, что
на рубеже XVIII—XIX вв. история была переосмыслена из «суммы
сведений» в процесс движения и развития во времени, в существенно
эволюционный процесс и прогресс. Столь глубокое переосмысле-
ние — не единственное в истории культуры, не единственное из тех,
что памятны ей.
§ 25. — Любое переосмысление истории не отменяет прежних и иных
ее осмыслений, их истинности <...>.
§ 26. — Тезис § 25, если только он воспроизводим для нас, сам по себе
уже равносилен тому, что мы притязаем на переосмысление истории
и, соответственно, на новое, по сравнению с прошлым, ее осмысление
и уже следуем ему. <...>
§ 27. — Примечание. Найденное нами сейчас слово «воспроизводи-
мость» (Nachvollziehen), по всей вероятности, очень важно для осмыс-
ления науки о культуре сейчас. Воспроизводимость (для нас) есть как
бы редуцированная, ослабленная степень само собою разумеющегося
и очевидного. Последнее требует непосредственного усмотрения и ос-
новывающейся на нем веры; «воспроизводимо» же то, что мы еще —
при известных обстоятельствах, при известных условиях— готовы
повторить и тем самым взять на себя, что не означает той же степени
очевидности и веры.
§ 28. — Новое осмысление истории, или, иначе, новый облик ис-
тории, о котором мы можем предполагать, что мы уже следуем ему,
хотя он еще не установился, подготавливается, как можно думать, на
протяжении достаточно длительного времени.
256
Несколько тезисов о теории литературы
На протяжении этого времени новый облик истории собирается к
себе, стягивается в свое.
Представление об истории, допускающей «цитирование» различ-
ных исторических эпох (В. Беньямин), принадлежит к этому стяги-
вающемуся к своему, собирающемуся к себе облику истории.
§ 29. — И по своей внутренней сути новое осмысление истории, ее
новый облик, по-видимому, отвечает такой динамике:
История, которая допускала бы «цитирование» всего разного
бывшего, — это история, собирающая по направлению к себе и в себе
все когда-либо бывшее в истории.
§ 30.— Все бывшее выступает для такой истории все более как
бывшее-в-настоящем: то, что было, именно поэтому (по причине сво-
ей неотменимой истинности) получает право на то, чтобы быть сей-
час (и сейчас тоже), однако как уже бывшее.
Как уже было сказано <...>, такое бывшее-в-настоящем надо еще
представлять себе как бывшее-в-настоящем-из-будущего.
§ 31.— То бывшее, что, как бывшее, продолжает существовать и
сейчас, как бывшее-в-настоящем, получает иной статус, нежели, на-
пример, тот, каким обладает древний храм, рассматриваемый как
памятник своей культуры.
Всему бывшему-в-настоящем, если бы таковое действительно бы-
ло, свойственно входить в окружающее нас. Если таковое и памятник,
то прежде всего и в первую очередь памятник нашей культуры.
Говоря иначе, всякое такое бывшее-в-настоящем есть элемент или
часть той настоящей, т. е. относящейся к настоящему времени, куль-
туры, которая имеет основания (и смелость) брать на себя и прини-
мать в свое все когда-либо бывшее, все когда-либо бывшее истинным
для «нас» в одном из частных герменевтических пространств.
§ 32. — Новому осмыслению, мышлению истории соответствует гер-
меневтическое пространство <...>, о котором можно сказать, что оно
по своему замыслу — собирательное, или итоговое.
Те же герменевтические пространства, которые — путем обратно-
го проецирования — мы получаем для прошлых эпох, выступают в
нем как пространства частные.
Относительно сомнительности представления о герменевти-
ческом пространстве <...>.
§ 33. — Культура, которая, в соответствии с своим мышлением ис-
тории, имела бы основания вводить в свое окружающее также и все
бывшее, имела бы основания (и смелость) вводить в свое (в «свое»
свое) также и все иное (со всеми переходами и гранями между всем
9 - 1379
257
А. В. Михайлов
иным, со всеми теми перераспределениями, которые как бы «задним
числом», но теперь уже «в настоящем», будут еще происходить между
«разными» иными).
§ 34. — Такая культура делала бы небывалую еще попытку, а именно:
не проецировать свое на чужое и иное (что вполне привычно), но
проецировать иное на свое и подчинять свое несомненной сущест-
венности иного.
§ 35. — Такому новому осмыслению истории, способному мыслить
бывшее-в-настоящем-из-будущего, соответствовал бы и свой исто-
ризм.
В некотором отношении он радикально отличался бы от всякого
существовавшего ранее— и от историзма науки XIX в. и от того
историзма, какой провозглашался в советской науке, в т. ч. в литера-
туроведении.
Прежнее понимание историзма соотносилось с научным понима-
нием истории, т. е. с пониманием ее в рамках замысла науки. Прежнее
понимание историзма основывалось на неосознанном как принцип
допущении обратного проецирования научных представлений, поня-
тий, схем, систем и т. п. и, соответственно, на неосознанном допуще-
нии переноса своего на все иное.
В случае своей тривиализации историзм означал лишь требование
вписывать культурно-исторические явления в их исторический кон-
текст, сам контекст же — в эволюционный ряд истории, в ее процесс
и прогресс.
§ 36. — Лишь постепенно и неохотно тривиальное представление об
историзме отступало от представлений об историческом прогрессе и
процессе, об эволюции истории и т. п. Это отступление происходило
под давлением нового мышления истории, которое изнутри теснило
старое и сделавшееся вполне привычным (см. эпиграф III).
§ J37. — Новый историзм, т. е. известное качество, соответствующее
новому мышлению истории (где «истории» — <...> это и родитель-
ный объективный, и родительный субъективный), строился бы на:
а) (вполне осознанном, как принцип) переносе иного на свое (см.
выше § 34);
б) на предположении о сложной связи между «прошлым»,
«настоящим» и «будущим», в какую первым делом вступает и посту-
пает все, с чем имеет дело культура и наука о культуре.
§ 38. — Сама формула «бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть по-
пытка высказать нечто изнутри нового мышления истории, выска-
зать наперед, причем эта формула, как и представление «герменев-
258
Несколько тезисов о теории литературы
тического пространства», должна разуметься и приниматься лишь
как способ отступления, т. е. как наивозможно минимальное означе-
ние того, в рамках чего можно было бы рассматривать далее кон-
кретность реальных отношений внутри истории культуры.
§ 39. — Новое мышление и новый образ истории имели бы дело уже
не со сменяющими друг друга в эволюционной последовательности,
но прежде всего с со-существующими формами, или способами ино-
го— с такими языками культуры, которые в этом образе истории
предстают и как совместность и как некоторая, взятая внутрь со-
вместности, последовательность и смена.
§ 40. — Для такого мышления истории и для такого образа истории
существовало бы, по-видимому, неразвитие, не существовали бы
развития, реальность которых неоспорима и которые представляют
собою переход от одного к другому. Всякое развитие продолжается
лишь до тех пор, пока развивающееся или меняющееся не предстает
как иное.
§ 41. — Вполне возможно предполагать, что, как крайний случай, сами
эволюционные представления об историческом развитии, процессе,
прогрессе могут быть переложены на «язык» иного, иных и развитой,
совершающихся между ними. Такой крайний случай может и даже
должен быть допущен, коль скоро и эволюционная теория истории
заключает в себе истинность для себя и, как таковая, вовсе не может
быть «отменена».
§ 42. — Все то, с чем имеет дело история искусства, история литера-
туры, — все их неопределимые «что» <...> — вступало бы в сложные
временные отношения внутри истории.
Как можно предполагать, этим наукам внутри уже осознанного
образа истории пришлось бы не столько обучаться чему-то новому
(каким-либо новым «операциям»), сколько приводить в порядок уже
известное им из их практики и отучаться от много[го] лишнего (на-
чиная со ссылок на понятый в прежнем смысле принцип «историз-
ма»).
То, с чем имеет дело история искусства и история литературы, —
то, что называлось и еще называется «произведениями», — соотно-
сится или как-то «взаимодействует» со всей полнотой истории —
вперед и назад,— со всем наполнением «герменевтического про-
странства».
§43. — Культуре и ее истории присуще не только развитие, но и
стояние на месте, не только смена одного другим, но и сосуществова-
ние разного, и опосредованность разного и т. д.
9*
259
А. В. Михайлов
Само «герменевтическое пространство», — если только есть осно-
вания мыслить таковое, — есть способ очень основательно стоять на
месте.
§ 44. — Более конкретные, узкие и частные и тем более выразитель-
ные и красноречивые способы стоять на месте проясняются тогда,
когда мы начинаем обращаться к близлежащему для «нас», т. е. к
исторической жизни основных слов науки о культуре, науки о лите-
ратуре.
VII
§ 1. — Каждое основное слово науки о культуре (и науки о литерату-
ре) наделено своей внутренней устроенностью — своим особым вза-
имоотношением с полнотой исторического; каждое по-своему обна-
руживает грани исторических переходов-переосмыслений.
§ 2. — Тезис § 1 прежде всего чисто эмпирический: надо всмотреться в
историю хотя бы нескольких основных слов, чтобы убедиться, что
каждое из них ведет себя на свой лад, у каждого свои особенные
фазы, или этапы истории, свои границы и грани переосмыслений.
Это и понятно, так как всякое основное слово науки о культуре
следует понимать и как самопостижение культуры, которая в каждом
из них мыслит свою историю в известном важном и основном аспекте.
§ 3. — Лишь изнутри слов как запечатленных способов мыслить ре-
альность истории в некоторых важных аспектах можно составить
представление о культурно-исторических фазах, или этапах, вообще
говоря, о том, как членится история.
§ 4. — О слове литература. То, что стоит за литературой в сочетани-
ях «история литературы», «наука о литературе» и т. п., далеко не
очевидно, — это упирается в непостижимость <...> и это лишь «ес-
тественно».
§5. — Однако, тому «что», какое стоит за «литературой», соответ-
ствует целый ряд переосмыслений, переключений, проецирований,
относящихся к самым разным эпохам истории.
Так, та культура, для которой образованность вообще, или даже
культура вообще постигалась как [пропуск в тексте. — Е. А/.], совер-
шала некоторый шаг и принимала решения, которые еще «откли-
каются» в нашем понятии «литература» и в пользовании им.
§6. — Так, еще и для нас все дописьменное и устное, что оказывается
в пределах науки о литературе, доступно лишь через грань, отделяю-
260
Несколько тезисов о теории литературы
щую устное и дописьменное от литературы, основанной на письмен-
ности и на письменной фиксации того, что внутри ее создается.
Через границу: те «что», которые фиксируются принципиально
иначе, нежели то привычно для нас, доступны нам лишь через эту
границу.
Само то, что позднее было осмыслено как «литература» и названо
«литературой», перешло через такую границу.
Так, думать, что наука о литературе занимается устным поэтиче-
ским творчеством, слишком просто. Она, конечно, занимается им и
имеет на то право, и должна заниматься им. Однако, она занимается
им только как перешедшим через грань. Это так даже и чисто «тех-
нически» — трудно было бы заниматься не фиксированными пись-
менно текстами. Но так это и по существу: для сознания, уже пере-
шедшего через ту границу, все еще не перешедшее доступно лишь
через нее, и слово «литература», покрывающее собою и все такое,
свидетельствует о том, что такая граница перейдена.
Возможно, что это ничего не значит для фольклористики. Одна-
ко, для науки о литературе, пытающейся осмыслить себя, идти в этом
направлении важно и неизбежно.
§ 7. — Можно было подумать, что достаточно переменить название
науки и называть ее не «наукой о литературе», а как-то иначе. Одна-
ко, этого и при всем желании нельзя было бы сделать просто так.
Как и все основные слова культуры, слово «литература» есть не-
кая истина ошопостижения культуры. Такую истину (см. уже неод-
нократно выше) нельзя просто отбросить, а можно лишь постигнуть
в ее исторической относительности (чего для слова «литература»
пока еще не сделано). Для этого же требуется обратное разворачива-
ние обратных проецирований, т. е. по сути дела фундаментальная
работа по осмыслению науки, такая работа, которая вовсе не может
быть произведена относительно какого-либо взятого по отдельности
основного слова культуры и науки. Поэтому науку о литературе
нельзя было бы просто переименовать, и труднее всего что-либо пе-
реименовать именно в этот исторический час науки о литературе.
В слове «литература», как пользуемся мы им в науке, запечатле-
лись исторические переходы и обратные проецирования.
§8. — В пределах науки о литературе оказывается даже и т. н. раннее
синкретическое искусство, само наименование которого запечатлело
акт обратного проецирования — такое искусство должно соединять в
себе то, чего, когда оно существовало, еще не было как отдельного:
поэзии, музыки, танца...
261
А. В. Михайлов
Имея дело с т. н. синкретическим искусством, наука о литературе
в некоторых случаях имеет дело с таким искусством, в котором вовсе
нет даже и слов — казалось бы самого первого, что необходимо для
«литературы» и науки о ней. Однако науке о литературе приходи-
лось заниматься и этим, с достаточным основанием.
§ 9. — В пределах литературы оказывается и то, что соединяет в себе
рисунок и письмо, и такие соединения, как скорее всего оказывается,
проходят через всю историю литературы.
В пределах науки о литературе оказывается даже и то, что вовсе
нельзя прочитать — такие «написанные» рисунки, которые не рас-
считаны на «чтение».
Все это оказывается внутри науки о литературе с достаточным
основанием.
§ 10. — Едва ли кто в наше время склонен будет думать, что «лите-
ратура», какой занята наука о литературе, тождественна а) поэзии
или б) текстам.
Ни понятие «поэзия», ни понятие «текст» не очевидны, и им при-
надлежит свое историческое движение.
Кроме того, такое отождествление, кажется, уже вполне опровер-
гается предыдущими параграфами.
§11.— Примечание. В науке о литературе иногда бывают рабочие
определения, которые и разумеют (должны разуметь) себя как леса,
как временные постройки для временного удобства мысли.
Именно поэтому нельзя рассуждать так: значение «литературы»
или «текста» зависит от того, как мы определим их. Как мы опреде-
лили их в рабочем порядке, совершенно безразлично для науки о
литературе, но зато для «нас» в герменевтическом пространстве — в
том, в каком совершается осмысление и науки о литературе, — чрез-
вычайно важно, как определят себя «сами вещи», в каком направле-
нии, по меньшей мере, они будут требовать своего определения.
И это уже совершенно небезразлично для самоосмысляющейся науки
о литературе.
Не будь ситуация с «определениями» именно такой, мы по-преж-
нему имели бы дело с «очевидностями», — в частности, с «очевид-
ностью» того, что такое «литература», что такое «текст», что такое
«поэзия» и т. д. и т. д.
Итак, все, что мы сейчас пишем, всецело зависит от нашего ответа
на вопрос: по-прежнему ли очевидно для нас все это? Или же от како-
го-либо иного, равносильного этому.
Наше рассуждение исходит из отрицательного ответа на такой
262
Несколько тезисов о теории литературы
вопрос — все такое не очевидно — и отсылает далее к историческому
бытию всего того, что для нас уже не очевидно.
§ 12. — «Литература», какую имеют в виду «наука о литературе»,
«литературоведение» и т. п., подразумевает то, что неоднократно
переходит в истории границы своего переосмысления и вводится в
границы иного постижения такого «что».
«Литература» — это итог всех таких переходов. Итог, который до
сих пор еще брали как понятный и потому как само собой разумею-
щийся.
Каждое основное слово культуры, науки о культуре, науки о ли-
тературе — это своя история, со своей картиной переходов и обрат-
ных проецирований. Ср. § 2, абзац 2.
§13.— Назовем для примера несколько основных слов культуры, у
каких всякий раз есть своя история:
миф
смысл
характер
ирония
§ 14. — Такие же примеры из несколько более узкой области науки о
литературе:
метод
стиль
жанр
роман
§15. — Подобных слов огромное множество, и у каждого своя ис-
тория.
Одни из слов теснее замыкаются в пределы науки о литературе,
другие осмысляются и в других науках о культуре.
У каждого из этих основных слов свои отношения с обыденным
языком.
Все слова и каждое слово идут из обыденного языка — т. е. из
«самой» культуры.
Некоторые из слов в своем обыденном употреблении носят сейчас
на себе, скорее, отпечаток их научного употребления.
§ 16. — До сих пор всеми этими словами и каждым из них по преиму-
ществу еще пользуются как простыми итогами их истории.
Сегодняшняя задача — обратное разворачивание их свернувшей-
ся в итог истории.
§17. — Если же пользование такими словами как простыми итогами
263
А. В. Михайлов
своей истории более уже не очевидно, то их можно в первую очередь
понимать как призывы обратиться к существенности истории, запе-
чатленной в каждом из слов с присущей каждому из них своей пер-
спективой осмысления истории.
§ 18. — Если бы у нас была чисто практическая необходимость быть
в своей речи предельно точными, то в условиях исчезновения из нау-
ки о литературе всяких очевидностей нам пришлось бы говорить
примерно так:
в той области знания, которая именуется сейчас по традиции ли-
тературоведением и рассматривается как одна из т. н. наук, речь,
между прочим, идет о том, что принято называть «поэтическими
произведениями» или «произведениями т. н. литературы», причем
еще не известно, с каким правом называется тут «произведением»
то, что имеется в виду под таковым, и с каким правом именуется
это условно называемое «произведением» нечто — произведением
поэзии и литературы.
И все это — вместо того, чтобы сказать:
Литературоведение занимается произведениями литературы. Ра-
зумеется, не надо быть сторонником нарочито пространной, услож-
ненной и утрированной манеры выражаться. Но от этого не меняется
суть дела:
Мы должны обрести сознание того, что в настоящее время наша
речь внутри науки о литературе— резко сокращенная, по практи-
ческой необходимости, и что мы опускаем в своей речи множество
необходимых оговорок.
Если мы опускаем такие оговорки и это не препятствует нашему
взаимопониманию, — это одна ситуация.
Если же мы разумеем друг друга и не подозреваем об опущенных
оговорках или о том вообще, что они должны тут быть, — это другая
ситуация.
§19. — Язык науки о литературе существенно отсылается к есте-
ственному языку в его обыденной непрорефлектированности. Наука
о литературе имеет в таком языке свою существенную опору и, види-
мо, не может обходиться без того, что можно назвать простым,
безыскусственным говорением.
§ 20. — Необходимо практически совместить критическое внимание к
основному слову как всякий раз своей истории и простое говорение.
§21.— Как вроде бы показывает нам опыт, совмещение такое со-
264
Несколько тезисов о теории литературы
вершается так, что в поле нашего внимания попадает лишь одно или
всего несколько основных слов, между тем как все их языковое окру-
жение остается в тумане мнимой очевидности.
Видимо, практически невозможно, чтобы все одновременно нахо-
дилось в фокусе внимания.
§ 22. — Если угодно, то и само простое говорение указывает литера-
туроведу на сферу непостижимого, от которой он никуда не может
уйти. У простого говорения — своя ясность и своя же темнота и не-
проглядность. От него — простого говорения — и от нее — темно-
ты — литературоведу никуда и никогда не уйти. Это условия его су-
ществования.
VIII
Об устроенное™ «что» в науке о литературе
§ 1. — То, с чем, — то «что», с которым имеет дело наука о литерату-
ре, ускользает от нас точно так же, как «что» литературы ускользает
от науки о литературе.
§ 2. — Примечание. «Ускользание» (ср. эпиграф к § 3 Приложения)
есть один из способов, какими обнаруживает себя уставленность
мысли вовнутрь непостижимости, что присуще мысли во всяком су-
щественном знании.
§ 3. — «Что» литературного произведения ускользает от нас точно
так же, как ускользает от нас «что», с которым имеет дело наука о
литературе и «что» литературы.
§ 4. — Наука, конечно, знает о том, чем она занята и чем ей зани-
маться, но нам только еще хотелось бы узнать, чем же.
§ 5. — Примечание. Тезис § 4 обращает наше внимание на то, что и
внутри науки существует непосредственность знания и понимания.
В таком случае литературовед знает больше того, что способен он
вывести в слово и формулировать в виде тезиса. Так это, видимо, и
должно быть, если наука о литературе и науки о культуре действи-
тельно черпают свою «аксиоматику» из будущего <...>.
Возможно, и вообще всякая наука— в том же положении, если
она добирается до своего глубокого слоя, связывающего ее с непо-
средственностью культурно-исторического протекания. В математи-
ке, возможно, нет никакой ясности и нет никакого согласия относи-
тельно того, что есть число, и в таком случае математика находится
265
А. В. Михайлов
лишь на пути к числу. Замечу, что вопреки иногда высказываемым
утверждениям математика все же сущностно имеет дело с числом,
т. е. с тем, что для работающих в области наук о культуре следовало
бы, вероятно, представить себе как особого вида словом/словами,
открывающими особенную перспективу на окружающее в культурно-
историческом герменевтическом пространстве.
§ 6. — Все сказанное выше относительно науки о литературе значимо
и для других наук о культуре, и соответствующие рассуждения могут
быть повторены относительно их.
§ 7. — Так с чем же имеет дело наука о литературе, что есть то «что»,
с которым она имеет дело?
§ 8. — Этот вопрос, кажется, вполне правомерен и принципиален.
Однако он не однозначен. В известном отношении вполне не баналь-
ным ответом на него служит простое: все, чем реально занималась и
занимается наука о литературе, и есть ее «что».
Так, нельзя отрицать, что наука о литературе занимается и био-
графиями писателей, и это тоже входит в то, чем она занимается.
§ 9. — Ничуть не пытаясь суживать занятия и заботы науки о литера-
туре и вместе с тем не берясь перечислять все, чем она занималась и
занимается, обратимся лишь к тому отношению, которое еще недав-
но разумелось самим собою,— к отношению и сопряженности, в
каких находились и находятся наука о литературе и литературное
произведение, и к тому месту, которое занимало и еще занимает в
науке о литературе литературное произведение.
Мы поступим так, вовсе не настаивая на том, что литературное
произведение обязано занимать в науке о литературе главное или
основное место. Это решается не здесь, — постольку, поскольку здесь
решительно ничего не пред-решается.
Мы поступаем так лишь для того, чтобы сузить до приемлемых
очертаний наш вопрос о том, «что», и в этих более узких пределах
рассмотреть неоднозначность вопроса о том, с чем, с каким «что»
имеет дело наука о литературе.
§10. — Итак, наше «что» сейчас обращено к тому месту, которое еще
недавно занимало и, возможно, еще продолжает занимать в науке о
литературе литературное произведение.
Наше предположение сводится лишь к тому, что и понятие лите-
ратурного произведения утратило, вместе со всем, свою само собою
разумеющуюся очевидность, хотя, надо признать, это понятие еще
вполне воспроизводимо <...> для нас.
266
Несколько тезисов о теории литературы
Мы займемся тем, что попробуем отступать в пределах того
места, какое занимало или еще занимает литературное произведе-
ние.
§11. — Вот разные смыслы «что», относящегося к этому месту:
что как бытие того, что есть «что» (1)
что как смысл того, что есть «что» (2)
что как разворачивание бытия того, что есть «что» (3)
что как разворачивание смысла того, что есть «что» (4)
§ 12. — Нетрудно видеть, что эти четыре «что» составляют две пары
и что им соответствуют такие понятия — бытие и разворачивание.
§ 13. — То новое, на что осмеливается претендовать сформулирован-
ное в § 11, сводится к следующему:
вопрос о том «что», относящемся к месту, занимавшемуся или за-
нимаемому литературным произведением, расходится в двух направ-
лениях, которые можно по преимуществу иметь в виду и которые не
непременно должны совпасть.
§ 14. — «Литературное произведение» и его место выступают тогда
как свернутые в себя (§11, 1—2) и как развернутые, или разворачи-
ваемые (§ 11, 3—4).
§ 15. — Различие свернутого и развернутого, кажется, понятно:
когда мы говорим о «Войне и мире» или об «Илиаде», то имеем в
виду эти «произведения» в «целом», или, иначе, соответствующие
им места, или, иначе, их бытие, (1)
либо же мы имеем в виду некий целый, или, иначе, итоговый
смысл этих «произведений», или «мест». (2)
§16. — Сказанное в § 15, 1 имеет в виду больше и в первую очередь
бытийную сторону «произведения», сказанное же в § 15, 2 — смысло-
вую сторону.
Нетрудно вспомнить случаи соответствующих словоупотреблений:
1) в таких русских романах XIX в., как «Накануне», «Война и
мир», «Анна Каренина»...
2) идея «Войны и мира» состоит в следующем... и т. д. и т. п.
§17. — «Произведение» в целом может иметься в виду
1) либо по преимуществу как «место» и соответствующее ему
бытие,
2) либо как смысл по преимуществу.
§18. — Одно даже «тянет» в сторону как бы материального, другое
же — в сторону духовного как такового.
§19. — Можно иметь в виду смысл по преимуществу, и важно
267
А. В. Михайлов
установить, что «произведения» могут выступать как свой свернутый
смысл.
Так (зафиксированный случай), если говорить о пожаре, губящем
целый город, и называть этот рассказ «Илиадой», то, очевидно, го-
меровская «Илиада» выступает для автора рассказа как целый, соби-
рательный, итоговый смысл. Он имеет в виду не то, о чем «Илиада»,
а то, что значит она в целом. Говоря о пожаре города, автор рассказа
отсылает нас к такому культурно-историческому месту, которое зна-
чит именно то, что имеет он в виду.
§ 20. — Примечание. От сказанного выше, особенно в § 19, мысль мо-
жет разветвляться по двум направлениям:
во-первых, уместно будет указать на малоисследованную пока
функцию заглавий, названий «литературных произведений», где надо
будет установить, как и в какой мере эти названия собирают смысл
всего взятого «в целом»; <
во-вторых, уместно будет указать на условность пользования сло-
вом «смысл» (ср. VII, § 13). Пользуясь этим словом, мы, хотя и весьма
скромно, осуществляем «операцию» обратного проецирования:
надо думать, что «произведения» отнюдь не столь однозначно
претендуют на какой-либо свой смысл, как это представляется в фи-
лософии XX в.; вероятно обратное разворачивание слова «смысл» как
культурно-исторического и затем, в особенности, философского сло-
ва позволит нам свести все, что может иметься тут в виду, к куда
большей очевидности. Важно, однако, то, что всякое «произведение»,
а также и то куда более скромное «что», занимающее его место,
склонно выступать в двух аспектах:
бытия и смысла, или места и смысла,
в двух аспектах, из которых один «как бы» более «материален», а
другой — «как бы» более «духовен».
§21. — Бытие же, или место, склонно сворачиваться в себе и развора-
чиваться.
И этому вновь соответствуют различные способы обращения с
«произведениями», различные способы, из которых одни тяготеют к
«как бы» более «материальному», к месту, а другие — «как бы» к
более «духовному» и смысловому.
§ 22. — Весьма затруднительно показать сейчас, что во всех письмен-
ных культурах «произведение» мыслится как некоторый объем —
как, впрочем, такой объем, который вовсе не требует какого-либо
материального воплощения, но с последним связан точно так же, как
все духовное с несущим его материальным субстратом.
268
Несколько тезисов о теории литературы
Легче показать это, напомнив, что в культурной традиции весь
мир может мыслиться как книга, — которая выступает как матери-
альный субстрат «произведения», однако сама по себе вместе с тем
осмысляется вполне духовно, как бытийное место.
Книга мыслится как объем, «страницы» которого (как ни была
устроена «книга» — как свиток, как кодекс) и открывают нам сам
«объем» и выявляют «объемность» места. Книга — это здесь место
того, что.
Книга мыслится по образцу платоновской «идеи», а вместе с тем
следует обратить внимание на то, что она мыслится существенно
иначе, чем вообще «объем», с одной стороны, и совершенно иначе,
чем что-либо подобное «миру произведения», или его «художествен-
ному миру».
§ 23. — От таких понятий, как «мир произведения», мы здесь пока
еще предельно далеки.
Что же касается того, как мыслится «объем», то достаточно ука-
зать на то, насколько иначе мыслится, например, «логический объем
понятия» и «объем книги». Настолько же иначе мыслятся:
объем как место («произведение» как место) и
объем «произведения» по образцу «книги».
§ 24. — «Произведение», или место, как книга, мыслятся, в сущнос-
ти, — чтобы сказать об этом коротко, — как разворачивание посред-
ством переворачивания.
Объем как книга мыслится как то, в чем, внутри чего можно
«переворачивать» или, во всяком случае, замещать одну «полосу»
другой.
§ 25. — Примечание. Понятие «книги» относится, как кажется, к чис-
лу таких понятий и представлений, сложившихся в самой культуре,
пользуясь которыми, мы почти совершенно не осуществляем «опе-
рации» обратного проецирования, — не считая той культурно-исто-
рической грани, или порога, когда мы переходим к дописьменному
творчеству, которое вновь начинает претендовать у нас и для нас на
место книги.
Берущее начало в древности мышление книги, дающее как бы
зримую идею «книжного объема», одновременно показывает нам всю
глубину переосмысления, связанного с переходом от письменной
литературы к дописьменной и устной.
§ 26. — Наряду с «как бы» материальностью книги как объема
«произведение» разворачивается перед нами в своей последователь-
ности.
269
А. В. Михайлов
Есть «целый» и итоговый смысл произведения, и есть то, что схо-
дится, давая такой итог. Есть «целый» и итоговый смысл, и есть то,
как он разворачивается.
§ 27. — Свернутый и разворачиваемый смыслы сопряжены друг с дру-
гом, однако их сопряженность не абсолютна.
Легко представить, что человек, ссылающийся на «Илиаду», как
упомянутый выше рассказчик, никогда не читал поэмы Гомера. Он
лишь ознакомился со свернутым и общим смыслом поэмы, который
был так или иначе доведен до него.
§ 28. — Примечание. Необходимо отметить сейчас, как недостаточно
разработанную тему науки о литературе, все косвенные способы су-
ществования литературных произведений — в виде пересказов, крат-
ких отсылок, всякого рода аннотаций и т. д.
Можно было бы показать, что задолго до того, как «произве-
дения» были осмыслены в самой литературе как произведения, они
могли существовать в ней как то и как такое «то, о чем», которое
подлежало постоянному пересказыванию. Ср. эпос средних веков.
Может быть, говоря иначе, такая ситуация, в которой то, что
«литературного произведения» выступает по преимуществу и первым
делом как то, о чем.
То, о чем может пониматься по преимуществу как рассказ о чем-
либо. Притом как рассказ, который ничуть не притязал бы на то,
чтобы быть текстом в позднейшем разумении, но притязал бы на то,
чтобы его непрестанно вновь и вновь пересказывали.
§ 29. — Сказанное только что — § 28, абзац 4 — позволяет нам по-
нять то, что разворачивание смысла может исторически постигаться
весьма по-разному.
Разворачивание смысла может постигаться как разворачивание,
соответствующее известному уже данному объему и месту\ — и это
более новая и привычная ситуация, — однако
разворачивание смысла может постигаться как разворачивание
того, что только еще складывает объем, который в сравнении с са-
мим «фактом» разворачивания (рассказывания) отступает тогда на
второй план или оказывается вовсе несущественным.
Сказанное сейчас — подсказка для того, чтобы представить себе
вопросы относительно «что» пребывающими в исторической кон-
стелляции колебаний и изменчивости.
§ 30. — Наши четыре «что», — которыми дело не кончается — скла-
дываются в некоторую устроенность и со-устроенность, устанавли-
вающую логическую зависимость между ними.
270
Несколько тезисов о теории литературы
Есть основание говорить именно об устроенности и со-устро-
енности всех «что».
§31. — Всякий вопрос о «что», соответствующий в пределах науки о
литературе тому месту, какое занимало или занимает «литературное
произведение», относится ко всей устроенности и со-устроенности
всех «что».
Если обозначить четыре «что», названных в § 11, как что-1, что-2,
что-3 и что-4, то что-1 будет логическим основанием для мышления
что-2, что-3 и что-4.
§ 32. — Вопрос о том, что — в зависимости от того, какое «что»
имеется в виду прежде всего и по преимуществу, — образует нечто,
подобное особой конфигурации всех «что» в пределах устроенности
и со-устроенности всех «что».
§ 33. — Такие конфигурации образуются и тем, как мыслится «что»,
или то, что соответствует «что», в истории литературы, в истории
культуры.
Исторически одно подчеркивается, другое отставляется назад и
уходит в тень.
§ 34. — Дело не обходится только четырьмя «что».
Когда мы спрашиваем, например, о жанре произведения, такого-
то произведения, мы остаемся внутри устроенности и со-устроеннос-
ти всех «что».
Вопрос о жанре остается внутри устроенности и со-устроенности
всех «что» и по-своему складывает конфигурацию всех «что». О том,
как это происходит в случае этого что-5, не приходится сейчас гово-
рить, так как, по всей видимости, чем больше «что» мы называем,
тем исторически-конкретнее выглядит конфигурация всех «что».
§ 35.— Все «произведения литературы» или «произведения поэ-
зии» — это (исторически) сначала свои «что» (то, что имелось в ви-
ду), а потом уж «произведения».
Они логически сначала суть свое бытие и свои места, а затем уж
(на время) становятся произведениями.
Появление «произведений», т. е. таких «что», которые осмысля-
ются именно как произведения, само по себе есть событие или про-
исшествие в истории культуры.
Как событие или происшествие, произведение вызывает к жизни и
влечет за собой целый каскад обратных проецирований, — с послед-
ствиями такого «потопа» мы и отдаленно не справились даже по сю
пору.
271
А. В. Михайлов
§ 36. — В истории музыки понятие «произведения» складывается лишь
на протяжении XVI — конца XIX вв., причем оно продолжает скла-
дываться и тогда, когда оно уже начинает подтачиваться и разлагаться.
Произведения музыки складываются по образцу литературных
произведений, причем не вообще, а в аспекте что-3, т. е. «что» как
книги. В списке сочинений Гектора под соч. 14 значится «Фантасти-
ческая симфония», а под соч. 10 — его «Трактат об инструментовке».
Оба сочинения (или опуса— произведения) связаны тем, что они
мыслятся как книги.
Определяет сущность произведения не то, что оно (как это при-
выкли думать теперь) есть некое целое, как бы таковое ни разумелось,
а то, что оно записано и предстает в облике книги.
§ 37. — «Произведение» не разумеется само собою, а может лишь
либо мыслиться, либо вообще не мыслиться на основе того, что —
или же, иначе, того, что в полном логическом виде выступает как
устроенность, или со-устроенность всех «что» (с которыми можно
обратиться к тому, с чем имеет дело наука о литературе).
§ 38. — История литературы, наука о литературе и вся наука о куль-
туре должны со всем упорством и настойчивостью задаваться вопро-
сами наподобие следующих:
что такое «Илиада»?
что такое «Божественная комедия» Данте?
что такое «Фауст» Гете? и т. д. и т. п.
Такие вопросы обращены к тому, что имеется в виду, и они за-
трагивают как устроенность и со-устроенность всех «что», так и их
конкретную историческую конфигурацию.
§ 39. — Рассуждения относительно «что», какие проводил Роман Ин-
гарден в рамках несомненности для него многих понятий, должны
быть продолжены теперь вне таких рамок — ибо многое несомненное
сделалось с тех пор сомнительным и многое «неподвижное» — исто-
рически относительным.
§ 40. — Даже и у Мартина Хайдеггера («Исток художественного тво-
рения», 1936/1950), т. е. у мыслителя, открывшего во многом подлин-
ные горизонты историчности многих основных понятий истории
культуры и философии, открывшего историческую перспективу ис-
торической открытости, или открытости к истории, — даже у Хай-
деггера понятия «художник» и «произведение искусства» (взаимосо-
пряженные) продолжают оставаться само собою разумеющимися —
притом создающими историю, но и отключенными от истории, неза-
тронутыми ею.
272
Несколько тезисов о теории литературы
Эти понятия закрывают вид на то самое, что сам же Хайдеггер
начал рассматривать в присущей этому самому историчности.
Настоящая утрата само собою разумеющегося произошла в нау-
ке о культуре уже после Ингардена и после Хайдеггера.
Эта утрата (см. эпиграф III) есть нечто, подобное разразившейся
над нашими головами непривычности.
§ 41. — «Произведения», как и все то, «что» литературы, в качестве
исторических событий.
Предлагается на то, что в науке о литературе по праву рассматри-
вается как «произведение», и на то, что рассматривается так не по
праву, посмотреть как на вид исторических событий.
§ 42. — Разумеется, такое предложение делается не без сознания за-
ключающегося в нем обратного проецирования и в намерении <...>
обосновать его как отступление к минимуму.
§ 43. — Некоторая связь с понятием «события» (Ereignis) по Хайдег-
геру тоже несомненно сразу же просматривается.
§ 44. — Это предложение (§ 41) не намерено создавать новую терми-
нологию и заменять ею существующую.
Наибольшее, на что оно хотело бы претендовать, есть следующее:
чуть потеснить существующую терминологию в ее неправомоч-
ных претензиях на не положенное ей сверх значимости в пределах
исторической относительности;
поставить на место такой «захватывающей чужое» терминологии
нечто по возможности скромное.
Отступление совершается из того, что явно перестало быть само
собою разумеющимся и очевидным.
§ 45. — Обоснование понимания бывшего произведения литературы,
поэзии, искусства как вида исторических событий могло бы быть
дано лишь по совокупности разных аргументов— позитивных и
негативных: позитивных, суть которых в том, чтобы назвать сторо-
ны, напоминающие в «произведениях» исторические события; нега-
тивных, суть которых в нашем незнании, неведении того, с чем же
имеем мы дело.
§ 46. — Примечание. И наше незнание тоже становится созидательной
силой <...>, коль скоро определение характера нашего знания, имен-
но как частичного, входит в осмысление нашего знания и, как непре-
менная составная часть, укладывается в эту задачу осмысления.
273
А. В. Михайлов
§ 47. — Исторические события и произведения встречаются хотя бы в
том, что выше, в § 11, названо что-2.
Альбрехт Альтдорфер, создавая «Битву Александра», поступает
подобно рассказчику, ссылающемуся на «Илиаду» Гомера. Как в
последнем случае отнюдь не непременно чтение «Илиады», так в
первом исключено присутствие при самом историческом событии,
при его разворачивании (которое соответствовало бы тогда что-4).
А. Альтдорфер не пишет картину битвы так, как изобразил бы ее
художник, видевший ее, или как заснял бы ее фотограф, — конечно,
при условии, что художник знал бы, как поступает и обязан посту-
пать фотограф.
А. Альтдорфер изображает итоговый смысл битвы Александра с
царем Дарием, — он передает свое осмысление битвы, как подсказы-
вает ему его уразумение исторического и древней истории, в част-
ности.
Это осмысление переводится им в зримость живописного изобра-
жения.
§ 48. — «Что» науки о литературе, т. е. «произведения» и все то, что
не есть таковые, отличает от иных исторических событий то, что они
фиксируют самих себя.
§ 49. — В самой фиксации самого себя и возникает все то, что впо-
следствии можно рассматривать как произведения или как-то иначе.
§ 50. — Фиксация приводит к возникновению устроенности и со-
устроенности всех «что», каковые создают почву для осмысления
создаваемого как «произведения» или как-то иначе.
§51. — Фиксация не то же самое, что запись.
§ 52. — Фиксация не то же самое, что память об историческом собы-
тии, или происшествии.
§ 53. — В фиксации, или, точнее, сашфиксации того, что впоследст-
вии возможно будет рассматривать как «произведение» или как-то
иначе, коренится возможность возникновения понятий, подобных
«тексту», опирающихся, в пределах устроенности и со-устроенности
всех «что», на развертывании того, что имеется в виду в науке о ли-
тературе.
§ 54. — «Произведения» и любые «что», их замещающие, фиксируют
свой смысл, какой разумеют и подразумевают (с оговорками относи-
тельно исторической относительности «смысла», ср. § 20, абзац 3), и
вместе с тем и для того создают свою «как бы» материальную осно-
ву, а также и действительно материальный субстрат своих «что»
{что~1 и что-3).
274
Несколько тезисов о теории литературы
§ 55. — «Произведения» делают возможность их воспроизведения,
т. е. повтора, в отличие от других исторических событий.
§ 56. — Как уже было (предварительно) видно раньше (ср. § 28, аб-
зац 2), то, что повторяется и может повторяться, воспроизводиться
и т. д., зависит от постижения устроенное™ и со-устроенности всех
«что», от их исторически складывающейся конфигурации <...>.
§ 57. — Возможность повтора вовсе не означает, что должен воспро-
изводиться текст. Текст — лишь один из аспектов всей со-устроен-
ности тех «что», какая отвечает всякому «что» в пределах науки о
литературе.
§ 58. — Несмотря на столь явные отличия от других, остальных исто-
рических событий, «произведения» обладают и сходствами с ними.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдельные положения о сферах непостижимого,
или непостижимости
§ 1.— Предварительно скажем, что непостижимое мыслится здесь
как слово в одном ряду с другими — такими, как недоступное, не-
приступное, непонятное, неизведанное, недостижимое и многими
другими.
Гете: Das Unzulängliche, Hier wird's Ereignis — «Не-достижимое —
здесь событие»: возможно, что эти слова наилучшим образом вы-
ражают суть того положения, в каком обретается в наши дни вооб-
ще всякое историко-культурное знание. Конечно, поэт об этом на-
шем не думал, а это наше положение так видно сейчас, видно нам и
для нас.
§ 2. — Если думать, что есть непостижимое, то оно обязано тотчас
же образовать несколько кругов, или сфер. Вот эти как бы концетри-
ческие круги, как можно представить их себе:
1) непостижимое как (пока еще) не постигнутое; непознанное, по-
ка еще не познанное; то, что кажется непостижимым сегодня, может
еще быть постигнуто нами завтра или со временем; это — небезна-
дежное для постижения непостижимое; граница познанного имеет
275
А. В. Михайлов
тенденцию отодвигаться вглубь непостижимости; это переходящее в
познание непостижимое — еще не вполне настоящее;
2) однако, это первое располагается в поле настоящего непости-
жимого — и это уже «безнадежное» непостижимое, о котором мы
должны сказать себе, что оно навсегда так и останется для нас непо-
стижимым;
3) но и такое настоящее и «безнадежное» непостижимое — далеко
еще не последнее для нас; мы ведь все же постигаем его постольку,
поскольку умеем назвать его своим именем. Подбирая для него слово
из своего, из нашего языка, называя его «непостижимым», мы все же
успеваем перевести его на свою, доступную нам сторону бытия;
внутри непостижимого обнаруживается тогда новая граница; итак:
1) «постижимое» непостижимое— граница— и за ним 2) «непости-
жимое» непостижимое, которое переведено, однако, на нашу сторо-
ну— граница и, наконец, то непостижимое, для которого уже не
будут годиться никакие наши слова и которое, несмотря на все наши
усилия, ускользает для нас даже и как «непостижимое» непостижи-
мое, и таково «третье» по счету непостижимое, однако есть, надо
думать, и
4) где должна стоять пустота: есть и такое, пред чем бес-
силен наш язык и где мы должны признать, что есть и такое, где мы
должны сказать: оно не только ускользает от нашего именования, но
мы даже и предположить не в силах, как подступиться к нему, с на-
шим языком и нашими словами. Это уже не «непостижимое», но то,
что стоит за ним, то самое, для чего все наши слова исчерпаны, мы
ничего о том сказать не можем, и вот тут-то и пребывает самое на-
стоящее .
Вот четыре сферы непостижимого.
«...не будем забывать, что это целое
совершается в сфере неизреченной тайны
божественного триединства, просторы ко-
торого раскрыты на все стороны и которое
ускользает от всех путей, пролагаемых че-
ловеком...»
Ганс Урс фон Балътазар
§ 3. — Очевидно, причем в самой обыденной действительности, уже
в ней, есть и слово, и то, что предшествует слову, и то, что превышает
наше слово и его возможности.
276
Несколько тезисов о теории литературы
Науке о литературе и всей науке о культуре необходимо убедиться
в том, что даже и все предшествующее слову, и все превышающее
слово находятся для нас в сфере слова и делаются нам доступны сущ-
ностно через слово. Но дело не в одной лишь доступности — все это,
все, что до слова, и все, что после слова, становится возможным лишь
как слово и благодаря слову.
§ 4. — Когда я говорю: есть и такое непостижимое, надо думать, где
должна стоять пустота, и т. д. — то это значит, что наш взор упирает-
ся в такую полнейшую непроглядность, где не видно и где даже не
невидно ничего; так же и с нашим словом — если есть, вообще гово-
ря, непостижимое, то должна быть сфера, куда совершенно не про-
никает наше слово — уже и после того, что оно, слово, сказало все,
что могло и умело, о непостижимом и т. п.
Однако мы не должны полагать, что эта последняя сфера, кото-
рую мы не можем ни назвать, ни помыслить, ни исчислить, не имеет
отношения к нашему слову, & потому не имеет отношения к нашей
сфере знания, и к нашим попыткам осмыслять то, чем мы заняты, и
то, чем занято то («наука»), чем заняты мы. Логос идет к нам из той
сферы непостижимого, что осталась для нас за второй и третьей гра-
ницей.
Если же полагать, что все доступное счету все еще находится по
нашу сторону мира, — тогда и «четвертое» непостижимое, — то мы
должны будем предположить еще и следующую сферу непостижи-
мого, — которую даже и включать в общий счет бессмысленно. Но
вот это уже выходит сейчас за рамки наших вопросов, тех, какими
осмысленно задаваться сейчас.
§5. — Итак, Логос идет к нам из-за второй и третьей границ не-
постижимого, а по нашу сторону мира и бытия совершается непре-
менная встреча нашего слова и Логоса, нашего логоса и Логоса. На-
ше слово и наши слова зависят тогда от этого Логоса — см. эпиграф
I и выше эпиграф к § 3 Приложения — и даже проникает в него до
самой границы доступного нам, до первой границы внутри непости-
жимого.
§6. — Сказанное имеет практическое продолжение, поскольку по-
зволяет указать на ту сферу, в которой располагается столь зани-
мающая нас и вполне реальная неочевидность самоочевидного. Т. е.
аксиоматический слой наук о культуре. Это та сфера, где работает
человеческая мысль, когда она вторгается в непостижимое и пребы-
вает на границе в нем, отодвигая ее вглубь. Она бьется о границу
внутри непостижимого, которое отчасти оказывается «ненастоящим»:
277
А. В. Михайлов
наш думающий взор уже проникает сюда, однако, что и подтверж-
дается историческим опытом, назвать, наименовать все уриденное
здесь бывает возможно лишь задним числом. Пока мысль еще не в
состоянии отдать себе отчет в том, что она мыслит, она имеет дело с
тем над- и за-словесным, что пока еще превышает наше слово и наши
слова. Таково и есть неочевидно-очевидное, на которое и опирается
всякая наука о культуре.
Такова пограничная территория, завоевываемая и осваиваемая
бегущей вперед, в будущее, мыслью, область историко-культурной
аксиоматики.
Будущее есть здесь то, что только еще станет нашим словом.
Историко-культурная наука, как и вся культура вообще, опира-
ется на будущее; ее предпосылки— в будущем; это их настоящее
основание, опора, фундамент; и культура, и наука в самом сущес-
твенном отношении обращены в будущее, существуют из будущего
Необходимо будет показать, и что все прошлое, с чем сопряжено
наше настоящее, идет к нам из нашего будущего и существует из бу-
дущего.
Тот статус, какой получает в современной культуре всякое куль-
турное явление прошлого,— бывшее-в-настоящем,— на деле еще
более сложен и замысловат: это бывшее-в-настоящем-из-будущего.
§ 7. — Будущее — это основание наук о культуре и, следовательно, в
частности, науки о литературе.
Будущее — однако, и основание всей культуры, а потому, в част-
ности, и основание математических наук.
Однако, — см. I, § 7, пункт 2, — у последних значительно более
обособленное положение, они отомкнуты от этих временных отно-
шений с их непосредственностью и замкнуты в себе.
Между тем науки о культуре преданы будущему, отданы ему «с
головой», они отданы в распоряжение будущего и оставлены наедине
с его непроглядностью, неизведанностью и непостижимостью —
столь явно и явственно подающей о себе весть.
§8. — Возможно, что в этом и состоит предназначение историко-
культурных наук, всего знания истории культуры, и, наконец, самой
культуры — за вычетом тех ее областей, которым поверено уже более
методичное, последовательное обстраивание и упорядочение всего
уже завоеванного в свете слова, знака и числа.
§ 9. — Наука о литературе — в частности — опирается на будущее и
упирается в него. Она — вместе с другим знанием — вынуждает бу-
278
Несколько тезисов о теории литературы
дущее быть будущим и в то же время существует из него, за его
счет — за счет того, что станет по-настоящему ясным и доступным
слову лишь впоследствии.
Публикация подготовлена Е. Г. Местергази
Предположительно рукопись может быть датирована 1992—
1993 гг. Автограф, хранящийся в личном архиве Александра Викторо-
вича Михайлова, представляет собой 56 стр. машинописного текста
(2-ю или 3-ю копию) и частично ксерокопии машинописного текста с
рукописной правкой автора. Фрагменты на немецком языке вписаны
автором от руки, разборчиво. Авторская пагинация оформлена особым
образом: на каждой странице в правом верхнем углу значится —
А.В.Михайлов, ниже— Несколько тезисов..., еще ниже— номер
части и страница. Сквозная пагинация отсутствует. (В настоящем
издании эти особенности графического оформления документа не вос-
производятся.) Наличие пропусков в тексте, множества опечаток
указывает на то, что автор не готовил рукопись для печати.
Публикация осуществлена с сохранением всех особенностей автор-
ской орфографии и пунктуации, а также графического оформления
документа (кроме случаев, специально оговоренных), с учетом устра-
нения всех опечаток и ошибок. Курсив соответствует подчеркива-
ниям, а полужирный курсив — курсиву в рукописи.
Редакция выражает горячую признательность вдове А. В. Михай-
лова Норе Андреевне Михайловой за предоставление архивного мате-
риала.
279
H. К. Гей
ИМЛИим. А. М. Горького РАН. Москва
КАТЕГОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
И МЕТАХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ
Тезисы
Изучение основополагающих проблем искусства в общеэстети-
ческом и общефилософском плане до сих пор находится в разобще-
нии, даже тогда, когда исходят из потребности их соединения. Но
соединение это обычно идет за счет искусства. Оно, в лучшем случае,
служит чем-то вроде наглядных примеров или иллюстрации для вы-
веденных «на стороне» умозрительных постулатов, а природа ис-
кусства лишается статуса особой и вполне суверенной формы созна-
ния. В результате «художественность» литературы в значительной
мере сводится к его особой специфике, то есть своеобразию проявле-
ния общих форм мышления.
То же самое уже внутри наук об искусстве и литературе: худо-
жественное произведение как целое и художественность литературы
(искусства) как ценностная презумпция произведения — сферы раз-
общенные, в лучшем случае сопредельные. Между тем целостность
и ценностность бытия суть онтологическая проблематика искусства
слова. В этой связи методологическую актуальность приобретает сде-
ланное П. Флоренским, С. Булгаковым, А. Лосевым в области фило-
софии имени, типологии и генезиса иконического образа, художес-
твенного слова, символа и символических форм.
Отличие целого от нецелого или целостности от нецельности
состоит вовсе не в том, что некий объект «достроен» или «не достро-
ен» до своего окончания, завершения. Объект завершенно целостен
прежде всего идеально, в своем изначальном бытии, как нечто
органическое, живое целеполагание в себе, — или мертворожден-
280
Категории художественности и метахубожественности...
ное, механически совокупное, состоящее из частей, взаимозаме-
няемых, взаимообособленных и т. д. Пушкин, опыт которого далеко
недостаточно учитывается при решении общих проблем искусства,
отлично понимал внутренние потенции художественности, говоря о
плане «Божественной комедии» Данте. И в собственной творческой
практике он прибегал к наброскам будущего произведения (иногда
даже стихотворения) беглым указанием моментов некоей общей це-
лостности замысла (Моцарт об этом).
Большинство работ о художественном целом довольствуется
внешними признаками и свойствами такого целого. Подобный под-
ход к произведению искусства — предпосылка сугубо эмпирических
критериев художественности. Но художественность довлеет искус-
ству. Без необходимой проявленности этой природы вовне (как ху-
дожественного смысла произведения) нет искусства. Она невыразима
в дискретных дискурсах. Она самодостаточна для искусства как та-
кового, она удостоверяет, что произведение обладает всем необхо-
димым, чтобы быть произведением искусства, а не утилитарным по-
собием в распространении просвещения.
Мы будем исходить из следующей системы отношений: онтоло-
гическая природа слова вообще, художественного слова в особен-
ности и понимание самого художественного произведения как едино-
го «слова» внутри художественной системы, обращенной к нравст-
венной действительности человека и человечества.
Наука о литературе проглядела (пожалуй, в гораздо большей ме-
ре, чем другие искусствоведческие дисциплины) главный предмет
свой, занимаясь или историко-литературным процессом, его за-
кономерностями, или поэтикой художественного произведения.
Она во многом прошла мимо художественного произведения как
особого феномена смыслового целого, мимо художественного образа
как особого не-атомарного предмета изучения.
Художественное произведение — художественно в себе. Все
попытки искать обоснование природы искусства и его критериев вне
самой этой природы приводят и не могут не приводить либо к описа-
ниям и отсылкам к жизни, к «самой» действительности, либо к аргу-
ментации от чистой формы, бессодержательной в себе, взятой в ее
атомарном расчленении.
281
Я. К Гей
Отсюда неповторимость художественного феномена. Личностный
аспект художественного феномена — «эффект присутствия» содержа-
тельного смысла в его единственно возможной истинности. Образ не
«изображает» и не символизирует некие «идеи», он носитель сущ-
ностной онтологически значимой конкретности бытия. Это менталь-
ная реальность бытийственности и смысла.
О Гёте говорят — «высокая непринужденность». О Пушкине же
не следует твердить бесконечно «загадочная простота», — а видеть,
что это высокая простота. Пушкинский стиль служит не «пе-
реложению», а «схватыванию» бытия абсолютным слухом ценност-
ного его восприятия. Это не просто «верное изображение жизни», а
верное ощущение и, в конечном счете, понимание высокой нравствен-
ной действительности как предмета и цели творчества, этим отлич-
ного от всех других форм сознания. И не случайно отсюда постоян-
ное пушкинское неприятие морализаторства в искусстве, то есть при-
внесения морали в некую художественную данность или подчинения
этой данности неким внешним атрибутам. В своей обращенности к
нравственно-ценностной системе бытия творение подлинного ис-
кусства недоступно любой конечной интерпретации.
Понятие художественного образа давно осталось за скобками со-
временного литературоведения. И это обстоятельство вполне объяс-
нимо.
В античности считается наиболее близким эквивалентом понятию
образ — эйдос, то есть целостно оформленное единство внешнего и
внутреннего содержания изображаемого, его облик, материальное
оформление и смысл этого единства, нематериальная идея и значение
словесного, литературного или живописного, скульптурного феноме-
на. Мимесис у греков — это подражание и претворение бытия в не-
кую, скажем так, онтологическую феноменальность. Это бытийствен-
ность особого рода, отражающая и осмысляющая реальность как
предметную и одновременно духовную по своему содержанию. Это
бытийственность смысла изображаемого.
Смысл как некая изначальная инстанция бытия (эманация исти-
ны) — ценностная, по природе своей, сущность.
Развиваясь затем в системе классической философии и романти-
ческой эстетики, образ понимался в достаточно широких категори-
альных рамках, означая и акт творческого воссоздания действитель-
ности и художественное творение и художественное осуществление в
282
Категории художественности и метахудожественности...
слове, в звуке, в краске предмета, воссоздаваемого данным видом
искусства. От Платона к Шлегелю, от Шиллера и Гегеля к Белин-
скому образ становится содержательным субстратом понимания
искусства, так и трактуемого как «мышление в образах». Но с усиле-
нием традиций позитивизма и эмпирического психологизма катего-
рия образа все более накапливает в себе инерции достаточно механи-
ческого, в конечном счете, отражения объективной реальности, ее
картинного воссоздания в искусстве слова, и по существу — оп-
тического— в живописи, например. Психологизм, в свою очередь,
подталкивал мысль к восприятию художественного образа как подо-
бия реалий человеческой психологии, по существу адекватной повсе-
дневному жизненному опыту. Отсюда пошла практика школьной
трактовки литературных персонажей: «образ Наташи Ростовой» у
Толстого или «Девушкина» у Достоевского — по аналогии с живыми
человеческими лицами, реально данными вне текста, по аналогии со
вставленным в картину живописца живым человеческим носом.
Самым тяжелым уроном семидесятилетней истории русской науки
XX века оказалось полное игнорирование, и запрет даже, на огром-
ное наследие русской религиозно-философской мысли нашего «се-
ребряного века». В творчестве братьев Трубецких, отца и сына Лос-
ских, С. Булгакова, П. Флоренского, А. Лосева, а затем M. М. Бах-
тина произошло или было подготовлено возрождение онтологии
искусства, онтологического его понимания и возвращение к жизни
художественного образа как бытийственности смыслов, недоступных
другим сферам сознания.
Исходя из онтологической бытийности образа, совершенно не-
обходимо иметь в виду непременность процессуальной природы
художественного образа, его динамическую природу. Статический
образ даже в живописи теряет свою подлинную природную сущ-
ность и превращается в некую копию изображаемого, в некое упо-
добление фотографии. Именно динамика образной формы в его
смысловое содержание и позволяет осуществиться образу в то, чем
он является по определению. Образ целостен во всех своих прояв-
лениях, и целостность эта, повторим, и есть процессуальность ста-
новления облика и значения, соотношения «мыслительного» и
«вещного» в нем. Это живое перетекание жизни в образ и возвра-
щение его в жизнь.
Всякое ограничение образа во времени (статика), или его раз-
дробление, или вычленение из целостности произведения (анализ)
283
H. К Гей
приводит к деструкции и умиранию образа, всегда живущего соб-
ственной живой жизнью.
Можно говорить о микро- и макро- художественных образах. Пре-
дельной образной микроструктурой выступает уже всякое слово и, в
том числе, сам термин «образ» (по меткому наблюдению В. Э. Прос-
цевичуса). Слово метафорично, и потому образно изначально. Макро-
образом можно считать цикл произведений, организованный в себе
целостно. Но любой целостный образный феномен от образной детали
до произведений как большого, предельного в себе образного феноме-
на, определяется и характеризуется в конкретном своем бытии «внут-
ренним единством смысла», о котором говорится у Бахтина. Образ от
малого до большого своего осуществления и есть внутренняя процессу-
альность становления и осуществления этого целостного смысла, це-
лостного смыслового единства на разных уровнях произведения.
Из природы подлинно художественно-органического текста про-
истекает его сакральность, художественность, замкнутая в се-
бе и на себя; замкнутость, которую следует понимать как само-со-
держательность и отсюда проистекающую самодостаточность. Отсю-
да же, несмотря на простоту и естественность повествования, проис-
текают и свои особые трудности, связанные со своеобразной «непри-
ступностью текста» и «бесконечными обликами смысла», заключен-
ными в тексте. Таковы сонеты Петрарки. Таков Пушкин.
В русской философско-религиозной и эстетической мысли было
сделано очень много для онтологического учения об имени. Вклад
Флоренского, С. Н. Булгакова, А. Ф. Лосева в эту во многом совер-
шенно новую дисциплинарную сферу чрезвычайно плодотворен и
обширен. Они показали как слово, образ, имя, символ в свете своей
онтологической природы связаны со Словом, Именем, Символом.
В этой связи художественность литературы в нашем понимании
можно считать тем, что делает слово, троп, образ, произведение,
наконец, чем-то неизмеримо большим, чем они есть сами по себе.
Художественность делает их мифологемой, концептом, художествен-
ным смыслом на разных уровнях осмысления мира и художественно-
го творчества. Слово, троп, образ, текст — каждый из них становится
больше себя самого. Художественность — синтез всех элементов со-
держания и формы в некое художественное целое, в произведение,
даже — в Произведение как большой смыслообраз.
284
Категории художественности и метахубожественности...
Чтобы войти в этот мир следует иметь в виду, что каждое, по су-
ществу, слово знаменательно изнутри, светится каждый раз по-осо-
бому, особым содержательным и смысловым излучением. В нем —
соединение стиле- и смысло-образующих моментов. Так, простота
пушкинского слова и стиля свидетельствует об истинности заклю-
ченного в них огромного содержания.
Такая самодостаточность художественности основана на гибкой
содержательности нестилевого слова, которое внешне равно самому
себе — и одновременно намного больше «натуральной своей вели-
чины».
Но отсюда и парадокс— чем проще и яснее, несомненнее, так
сказать, художественная форма, тем сложнее для понимания целое,
под ясной поверхностью — глубины содержательных смыслов. Так,
вникая в глубины незамутненно-спокойной поверхности, мы оказы-
ваемся у Пушкина перед обманчивостью текста в его «незамутнен-
ное™» мыслью.
Художественность — это не образность как таковая и не тради-
ционная образная специфика искусства, а самоценность художе-
ственного феномена в его единственно-неповторимом и значимом в
этой неповторимости виде. Поэтическое слово самоценно в своей
глубине и наполненности. Оно своеобразное чудо в своей первоздан-
ное™, и поэтому не говорит нам нечто о мире, а становится миром,
и сам мир говорит нам или говорит с нами. В противном случае чудо
не может состояться.
Особость художественного мира не в обособленности волшебных
игровых модуляций от жизни, а в изначальном соотнесении этого
мира с эстетическим идеалом, своеобразным «индикатором» той
нравственной действительности, без присутствия которой — как точ-
ки отсчета и критерия истинности изображаемого — теряет всякий
смысл самое «светлое» и самое «гадкое» копирование или травести-
рование жизненного содержания.
Анализируя стихотворение Пушкина «Я вас любил...», Р. Якобсон
замечает: «Без сверхъестественного вмешательства другую такую лю-
бовь героине встретить вряд ли еще придется». Но вглядимся в это
утверждение, привычное для литературоведческого подхода к интер-
претации художественного текста. И поэтому скрадывающее непри-
вычную ситуацию пушкинского текста. Вглядимся в привычные стро-
285
H. К Гей
ки. В строках этих нет той, о которой сказано неосторожно Якобсо-
ном. Героини нет в тексте произведения. Произведение направлено
«к ней», оно создает ситуацию обращенности Я к «неизвестной» в
местоименных формах, призванных раскрыть непосредственность и
искренность лирического исповедания. Фиксирует обращенную ад-
ресную направленность внутреннего монолога к НЕЙ. Но ее нет.
Есть Я обращенный к ней в мыслях и воспоминаниях. Нет ни одного
ощутимо воспринимаемого факта этих отношений, ни одной под-
робности этой любви, ни одного штриха реальности, всегда так резко
остающихся не в памяти даже, а неотъемлемо от самого любимого, в
данном случае, любимой женщины — не только ни дуновения ее при-
сутствия как одной-единственной, этой, но и с ней связанного време-
ни и места, окружающего дуновения мира, больше никогда невоз-
можного после, и связанного с бывшим одним единственным чудным
мгновением— «оттуда»— из того времени. Есть только Я и лю-
бовь, ставшая этим Я. Произведение лишено не только тропов, тра-
диционных для поэтической образности. Нет, отсутствуют сами об-
разы, в традиционных представлениях теории литературы. В худо-
жественном шедевре присутствует один единственный СМЫСЛО-
ОБРАЗ равный тексту произведения, составленного из двух фраз все-
го и сорока самостоятельных слов (если опустить повторы-рефрены и
служебные слова).
«Дай вам Бог любимой быть другим» — это не пафос, не должен-
ствование для «него» или «нее», а самоутверждение высоты нрав-
ственного чувства сейчас и здесь, в этих словах стихотворения.
Это не «Я», желающее любви «другому», это восхождение на со-
вершенно иную нравственную высоту переживания, очищенного от
эгоистической самости. Это неповторимая ценностная высота реаль-
ного и конкретного движения души. Это реальность выражения не-
выразимого.
Троекратное повторение на восьмистрочном пространстве — «Я
вас любил...» — не прошлое, открывающее путь новой модели чувств,
а утверждение, да позволено будет сказать, «торжествующей любви»;
это признание любви истинной и идеально сущей, данной бытий-
ственно, а не описательно или диалектично и психологично. Это не
расчленение любви «моей» и «другого» и «любимой» для себя и для
другого. Это нахождение полноты истинного чувства в себе — через
«другого». Но именно об этом в словах и словами и не говорится
ничего. Ибо именно об этом и в стихах и в прозе говорят все и всег-
да — превращая то, о чем говорящий хотел бы поведать, в то, о чем
286
Категории художественности и метахубожественности...
Гамлетом сказано— «слова— слова— слова»— и не более того.
В стихотворении Пушкина нет этих всеобщих слов, и говоря столь же
простыми и всем доступными словами, он говорит о чем-то совер-
шенно недоступном, может быть, никому и, может быть, самому
Пушкину тоже. Но сказанное им становится реальностью— оно
есть, оно действительность, оно не реальная действительность, но
реальность нравственной действительности. Это слово, самоутверж-
дающее себя, если хотите, это абсолютное слово, слово самодостаточ-
ное. «Любил» не означает здесь «разлюбил», а прошлое время глаго-
ла, напротив, означает его продленное, длящееся настоящее. «Лю-
бил» — становится своеобразным вневременным выражением страс-
ти, очищенной от всего сиюминутно-страстного. И, может быть, по-
тому соприродного вечному. И поэтому первая фраза при всей ее
традиционности — не элегический вздох; а последняя не претендует
быть ни сентенцией, ни афоризмом. Так же как у Татьяны в романе в
стихах: «но я другому отдана» — не столько утверждение жертвен-
ности, сколько высоты нравственного долга, который давит не под-
нявшегося до него, но поднимает того, кто видит в нем нравственную
высоту. Происходит «поэтический взрыв» из столкновения двух не-
примиримостей — «ревностью томим» и «дай вам Бог любимой быть
другим». И есть все основания говорить об императиве художествен-
ной целостности, все время налагаемой на пушкинскую недозавер-
шенность, незаконченность почти всех его творений.
Кроме Пушкина, пожалуй, никто не воспринимал творчески не-
раздельность вдохновения (то есть как бы непредвзятого видения ве-
щей) и обязательного присутствия нравственной действительности
как составляющего ценностного начала всякого творчества. И пото-
му Пушкин мог смело сказать: «цель творчества не мораль, но иде-
ал», т. е. нечто большее, чем утилитарное долженствование, зада-
ваемое искусству извне.
Одинаково ущербны теоретические предпосылки искусства, при
которых превалирующим началом берется начало эстетическое без
любого иного, включая этическое начало («чистое искусство» или
многие разновидности модернизма), а так же любые попытки обос-
новать приоритеты морально-нравственной аксиологии в искусстве,
которое при таком подходе становится вторичным иллюстративным,
а то и просто служебно-прагматическим, образованием.
Онтологию искусства, которая выходит сама по себе за рамки ис-
кусства, видимо имеет резон обозначить как метахудожественность.
287
Я. К Гей
Метахудожественность предваряет и обусловливает на террито-
рии искусства явление такого его качества как художественность,
если под этим понимать свойства, определяющие искусство как ис-
кусство. Художественность определяется (и, таким образом, опреде-
ляет для нас) целостность произведения искусства. Метахудожес-
твенность представительствует от целостности бытия в слове
(в определенном смысловом словосочетании, наделенном совокуп-
ным содержанием и смыслом), коль скоро речь идет об искусстве
слова. Метахудожественность в своих логических, понятийных объ-
емах далеко выходит за рамки искусства как такового. Художес-
твенность — категория, транспонированная на специфику и ценност-
ное качество искусства. Метахудожественность— это уже то, что
определяет человеческое сознание. Художественность неразрывно
связана в своей конкретной реализации с видами искусства и осо-
бенностями материальных носителей образности этих видов (му-
зыка, живопись, поэзия и т. д.). Метахудожественность, распро-
страняясь на ряд видов человеческого сознания (в нашем случае,
в словесном своем оформлении — ив этом качестве будучи при-
сущей не только сфере «изящных искусств»), объединяет их в
своей, не побоимся сказать, противопоставленности формам и
видам научного и философского ареала, с опорой его на панло-
гизм и принципиальный рационализм, в пределе свойственный ма-
тематическому сознанию и математической логике. Итак, метаху-
дожественность, в отличие от художественности, не отличает ис-
кусство от не-исскуства, а подводит нас к его онтологическому бы-
тийственному смыслу.
Чтобы означить предмет нашего исследования, необходимо все
время иметь в виду глубинное ядро искусства и достижение
«онтологической определенности» (П. А. Флоренский) в его изуче-
нии. А. Н. Веселовский, выведя исследование поэтики на большое
историческое пространство, вынужден был сразу же приблизить во-
просы художественной формы к изучению смыслового содержания
их и к общим основаниям процессов познания и осознания мира и
человека. Но тут же наука о литературе оказывалась в плену у столь
опасного соблазна, который возникает при изучении архаических
этапов развития объекта изучения — а именно: соблазн видеть спасе-
ние в движении самого искусства в его развитии и научной мысли о
нем, опираясь на идею эволюционизма, перехода от простого к
сложному; и через это простое (первоначальное)— достижение и
288
Категории художественности и метахубожественности...
постижение сложного. Но простое даже в мире точных наук изна-
чально оказывалось бесконечно сложным и даже неисчерпаемым.
И потому постижение искусства и секретов его природы, его спе-
цифики путем последовательного вычленения из других сфер созна-
ния не привели к успеху. Думалось, что отделив словесное искусство
от научных, философских религиозных текстов, мы и сможем ухва-
титься за хвост истины и вытянуть из мрака неведения черты специ-
фики художественного сознания, художественности искусства. Но все
оказалось далеко не так однозначно.
Начнем с того, несколько утрируя проблему, что любое слово, в
любом словоупотреблении наделено потенциями создания некоторой
реальности, некоторой данности и даже заданное™ художественного
в своих потенциях мира. И тем самым нет предзаданного различия
между художественным словом (художественным образом) в искусст-
ве и словом не-художественным, присутствующим в обиходной речи
или в научном трактате. Оговоримся, говоря о «слове» как о перво-
элементе искусства слова, в виду имеется, естественно, не атомарное
бытие этого первоэлемента, а его реальная содержательно-достаточ-
ная данность, будь то фрагмент фразы, фраза замкнутая на опреде-
ленную словесно-смысловую доминанту или определенный участок
текста вообще. Такое «слово» всегда, пусть имплицитно, заряжено
жизненным содержанием (в разной степени конкретизации этой
первоосновы) и всегда значимо (то есть, опять же, в большой амп-
литуде несет заряд смыслового обозначения данного объекта— от
его «простого» наименования до превращения в общую или даже
всеобщую «идею»; от «буренки» на лугу до обозначения определен-
ного рода парнокопытных млекопитающих и даже до быка-Зевса).
В силу огромного, таким образом, диапазона конкретики и все-
общности в слове, оно наделено огромными энергиями и потенци-
альной энергетикой. И потому, в отличие от своей теоретической
прописки по ведомости «знаковых систем», на практике, то есть в
реальном своем употреблении, выступает не только знаково-поня-
тийно (А есть А, или А=А), но и в живой конвенциональной динами-
ке овеществленных в нем смыслов (А=а в степени п). И потому даже
в философии подчас «хочется сказать то самое, что поет в песне душа
русского народа»1.
Сошлемся для примера на такое высказывание: «В то время как
гиперборейский мудрец... сидит в сладостном созерцании еще горя-
щего в сердце видения, у ног его шевелится земля и показывается
10 - 1379
289
H. К. Гей
морда безгласного любителя мрака— крота. Солнечным взглядом
смотрит Платон на крота, и нет в нем движения гнева, ибо слишком
сильно внутреннее движение его духа. Платон наклонился к любите-
лю мрака лишь на мгновение и замер над ним...»2
Чем не событийное изображение, не художественная картина?
Текст так же неотличим от художественного сочинения, как ничем не
отличим в романе от оригинального текста текст включенных в его
состав документальных жанров, будь то доподлинные выдержки из
дневников, судовых журналов, прокламаций, переписки и т. д.
И еще один пример:
«Краток путь сей, которым идем с телом; дым, пепел, прах, смрад,
жизнь эта, как дым на воздухе расходится, как травной цвет скоро
отпадает и увядает, как конь скоро пробегает, как вода быстро про-
текает и как туман поднимается с поверхности земли, и как роса ут-
ренняя исчезает; или как птица пролетает, так минует жизнь века
сего...»3 Ничем не различимы: «жизнь как дым на воздухе расходит-
ся» и «дым отечества нам сладок и приятен»... Да и любое другое —
«трава скоро отпадает и увядает», «туман поднимается с поверх-
ности земли» ни по своей фактуре, ни по смыслу не могут претендо-
вать на особый, единственно возможный статус по своей принадлеж-
ности.
Итак, транстерриториальность речевых структур, опирающихся
на некие универсальные сущности.
И это побуждает нас, говоря о художественности=специфике ис-
кусства, ставить проблему иначе, чем это обычно делается, даже тог-
да, когда мосты между искусством и наукой, литературой и филосо-
фией оставляют несожженными. Как это было, например, у А. Коз-
лова, критиковавшего в свое время Вл. Соловьева и занимавшегося
изучением Э. Гартмана и писавшего при этом, что философия и ис-
кусство для него «имеют тождественную основу, различаясь только
формой выражения»*. Но из наших примеров видно, что как раз на
уровне своего функционирования словесные формы далеко не сразу и
не всегда демонстрируют различие качественное и очевидное. Сло-
весные образования из сочинений Платона, Карамзина или Лосева не
выдают наружу легко различимые свойства и качества для показа-
тельной, а тем более доказательной аргументации. Диалоги Платона
отнюдь не «беллетризация» трудного философского содержания, а
самая данность этого содержания, и описание жгучего солнечного
полдня в «Федре» приведено не для оживления текста, а как состав-
ляющее «солнечной записи» истины.
290
Категории художественности и метахудожественности...
И в этой связи А. Потебня вполне имел основания для транстер-
риториального сближения слова и образа.
Слово как таковое, после В. Гумбольта и А. Потебни, становится
образованием, целостно несущим многомерность живой жизни и ее
осмысления уже во внутренней форме слова. В нем укоренен фунда-
мент экзистенциальных основ слова-образа и слова-смысла, наличие
бытийственного содержания do-слова и в слове. Здесь бьют родники
человеческого духа. И здесь-то и предстоит наметить точку опоры,
точку схождения и расхождения метахудожественности искусства
(его онтологичности) и художественности (его органики). На этом
рубеже и возникли универсальные миры «Махабхараты», «Бхагават-
Гиты», «Илиады», Псалмов Давида, «Божественной комедии», а
также— «Потерянный рай», «Дон-Кихот» и, скажем, «Гамлет» —
творения, горизонты которых выходят далеко за рамки сугубо лите-
ратурной специфики и художественности, понимаемой в традицион-
ном смысле, не вписываясь ни в нормы поэтики, ни в литературно-
теоретические концепции.
Оси художественности и метахудожественности в мирах Эсхила,
Гомера, Данте не пересекаются в одной точке, подобно осям коорди-
нат, но то сходятся, то расходятся в параллельно-перпендикулярной
парадоксальности. Пытаясь дать самые предварительные представ-
ления, скажем так: линия художественности тяготеет к горизонталь-
ности внутри поэтико-стилевой качественно-специфической цель-
ности художественного творения, тогда как линия метахудожествен-
ности располагается, в основном ориентируясь на вертикальный
модус, проходя пласты образности разных видов искусств и сопре-
дельных видов сознания многих культурных контекстов, которые не
могут быть обойдены историей мировой литературы, но не могут в
большинстве случаев входить и в предмет изучения этой науки, и
даже науки вообще, будучи, например, сочинениями по астрологии
или алхимии5. Еще Шеллинг прекрасно осознавал многообъемность
содержательных энергий метахудожественности, когда писал, что
поэма Данте, «будучи взятой всесторонне, не есть отдельное произ-
ведение», занимающее строгое свое место в той или иной клеточке
знания, человеческой культуры, ибо она наделена «чем-то изна-
чальным, чем обулавливается ее общезначимость»6.
Возьмем жанровую форму японского поэтического трехстишия,
предельно законченное, можно сказать, замкнутое в себе хокку (или
ю*
291
Я. К Гей
хайку) Мацуо Басе (1644—1694), «старца из банановой хижины».
Жанр, строжайшим образом регламентированный рамками как бы
пейзажной лирики. Одни называют этот жанр — трехстишием, дру-
гие — моностихом, связанным с развитием в Японии XVI века шу-
точной поэзии — хайкай и с распадением классического стихотвор-
ного пятистишия танка на две части, из которых первая, так назы-
ваемая начальная строфа (хокку), постепенно обособившись, обрела
самостоятельное существование:
Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Легкий звон цикад.
(Перевод В. Марковой)
Три строки. Семнадцатисложная структура: 5+7+5, разделенная
внутренними цезурами. Всего два предложения с минимизированным
конкретным содержанием— «тишина» и «звон цикад». В общей
сложности восемь слов — и все. Это не фрагмент стихотворения, не
стихотворный набросок или заготовка для дальнейшего развития
темы, а совершенно четкое, в традициях восточной лирики закончен-
ное произведение, несущее свое собственное и самодостаточное со-
держание, опирающееся на первоосновы народной культуры и спе-
цифические формы народной мудрости. Хокку — своеобразней ана-
лог симиэ — предельно скупому рисунку тушью на рисовой бумаге.
Может показаться, что трехстрочник— демонстрация наглядной
остановки во времени, поэтическая аннигиляция движения и апофеоз
поэтического статуарного состояния. Но, даже исходя из заданных
параметров японского классического трехстишия, не так то и легко
сходу войти в поэтическое пространство, в этот миниатюрный по
форме мир, одновременно разомкнуто-тождественный большому ми-
ру человеческой жизни. На внешнем плане, сближенная в статике с
живописью, поэтическая форма до предела динамична внутренней
пульсацией. Это не остановка в пути, а титаническое уловление мига,
мгновения в его неповторимости принципиально-значимой, значимо
фиксирующей этот миг, которого тут же не будет. И это схватывание
текущей, подвижной неповторимости. Это, в отличие от античной
Греции, фиксация невозможности остановки движения жизни в само-
тождественной сущности, объективированной словом, ибо всякая
остановка для восточной мысли — нарушение дао1.
Необходим эффект уподобления, даже превращения лапидарного
292
Категории художественности и метахубожественности...
словесного творения в означенную в нем двумя-тремя чертами кар-
тину. И не просто увидеть, но и пережить означенное в скупом слове,
войти в него, раствориться в нем без остатка, приняв его как упоря-
доченность с фиксированным «началом» и «концом» (в полном соот-
ветствии с целостной объектностью произведения-вещи, по Аристо-
телю).
Хокку или хайку соединяет сиюминутное и вечное. В нем — мир-
ское и духовное, малое и великое, природное и человеческое. Это
образность особого рода, предмет ее недоступен другим видам об-
разности и не передаваем другими средствами адекватно. Отсюда
особая роль идеограммы — знакового единства самой формы, мате-
риала и содержательного смысла такой образности.
Большой мир «просвечивает» в малом словесном пространстве,
воссозданном соединением возможностей поэзии, живописи и даже
строя строфы, а на японской национальной почве даже и каллигра-
фии8. Целый мир в капле росы — говоря это, будем иметь ввиду не-
что большее, чем традиционное и очень распространенное суждение
о литературном образе и образности. Традиционная идеограммати-
ческая поэтика для японского глаза и слуха, можно сказать, «пере-
насыщена» экстразнаковой образностью. Это не «описание» приро-
ды и не ее «переживание», не фрагментарная «картина» мира, а его
онтологическое присутствие. Данность мира, осмысленная как це-
лостное существование и даже как целостность его существова-
ния. В хокку Басе продемонстрировал, что жанр этот не столько
устойчивая структура, миниатюрный словесно-живописный «порт-
рет» вещи, сколько скорее особая «формула» мира в единстве кон-
кретики неповторимого и общего в жизни для всех, особое видение
жизни и понимание в русле философии дзэн. Так, например, идео-
грамма «мир, покой» предполагает изобразительно-семантический
ряд элементов — дом + сердце + чаша. Любая другая компановка
заданной идеи формы будет разрушением первичного содержания в
его целостности9. После сказанного легче представить себе, что хок-
ку — не эмблема и не философская максима, и тем более не импрес-
сионистические «мимолетности».
Сохранилась запись разговора между Басе и его наставником
Бутте, который спросил однажды: «Чем вы занимались все это вре-
мя?» Басе ответил: «После дождя мох такой зеленый». Бутте на это:
«Что же раньше — Будда или зеленый мох?» Вопросы и ответы вы-
держаны в духе абсурдных разрывов логической цепи привычных
связей и отношений, но в границах национальной архаики сказанное
293
H. К Гей
находится в рамках предельно серьезного философского диспута,
хотя в контексте вопроса о первичности Будды следует еще более
странная фраза Басе: «Слышали? Лягушка прыгнула в воду?» Басе
дает строго формулируемый ответ, хотя и выглядящий как реплика в
сторону. Ответ содержит посылку о статике и динамике бытия, о
временных его измерениях и вечности10. Для европейского мышления
трудно войти в таким образом выраженные философские глубины.
Для нас существенно сейчас другое: Басе отвечает своему учителю не
логическим постулатом, а на языке хокку, ему принадлежащему:
Старый пруд!
Прыгнула в воду лягушка —
Всплеск в тишине.
(Перевод В. Марковой)
Не выступая, однако, репликой в философском диалоге, а претен-
дуя на статус литературного произведения, приведенные нами хокку
Басе вместе с тем, по канонам европейской эстетики, даже формально
не вполне отвечают таковому. Что и понятно — трехстишие лишено
исходных композиционных предпосылок аристотелевой эстетики,
видящей в произведении аналог «вещи», а «вещь» считая данностью,
обладающей некоторой продолжительностью, ограниченной «нача-
лом» и «концом»11. В известной мере перед нами произведение-
предложение о невидимом миге-вечности, присутствующей в со-
держании хокку помимо словесной логики или словесного живопи-
сания. Это мир «чистого» бытия, равный идее, «чистой» мысли, как
бы гласящей об отсутствии дуальности человека и природы. Это
императив достижения состояния «не-я = я» или «я», долженствую-
щего «быть миром», быть единым с ним.
Хокку может представлять собой идеальную модель метахудоже-
ственности — фокусированную интенцию бытия, пример целостного
в себе простого сознания, особого рода вещно-смысловую органику,
воссоздание внешнего и внутреннего мира человека.
Поразительна устойчивость исходной установки жанра, в свою
очередь демонстрирующая сущностную природу этой установки,
онтологической в своей основе:
Капустное поле
Где-то на самом краю —
Вершина Фудзи.
Или:
294
Категории художественности и метахудожественности...
Покачиваясь,
Стоят среди трав густых
Колокольчики.
(Т. Л. Соколова-Делюсин)
Это уже строки не из Басе, а из Кабояси Исса (1763—1827), кото-
рый вышел на поэтическое поприще, когда жанр хайку уже пришел,
казалось, в упадок, превращаясь из провозглашенного Басе высоко-
го искусства, в полупоэзию или полуигру чисто развлекательного
свойства. И тем не менее, Исса вернул хайку в ранг подлинного ис-
кусства12.
Устойчивость и подвижность внутри себя некоего ядра смысла.
Смысла помещенного как бы в единственной точке бытия. Это мож-
но означить словами П. Флоренского как то, что пребывает «у кор-
ней мысли», до ее вычленения в особые понятийно-логические града-
ции, то, что существует «до мысленных глубин» (Флоренский, 2, 28).
Хокку взят нами как случай и лишь один из примеров поэти-
ческой иероглифики. По-видимому, слово «иероглиф» в европейский
обиход было пущено Климентом Александрийским13. И примеры
«иероглифического мышления» можно в изобилии черпать не только
на Востоке14, но и сколько угодно из европейской как средневековой,
так и современной культуры.
Так, проблема: «Бог — природа — видение — умозрение», кото-
рая определялась не только в европейской мистике, но и в ней (Бёме,
Мастер Экхарт), чрезвычайно занимала Гёте15. Да, это как бы мысль
самой природы о себе. Гёте: «Наблюдая природу, вы должны чтить
одно подобно всему, отдельное подобно подобно целому, — нет
ничего внутри, ничего снаружи, потому что то, что внутри, то —
снаружи. Так не мешкая, овладевайте священно-откровенной тайною
(heilig öffentlich Geheimnis)»16. Передачу сокровенно-сущностного в
живом и конкретном облике можно обозначить как явления поэти-
ческой идео-иероглифики.
И сюда подходит и лермонтовский «Белеет парус одинокий», и
«Der Tod ist gross» Рильке.
Но остановимся подробнее на классическом во всех отношениях
Wanderer's «Nachtlied» Гёте:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh;
In allen Wipfeln
295
H. К. Гей
Spürst du
Kaum einen Hauch;
Die Vogelin schweigen im Walde.
Известны всем «Горные вершины» Лермонтова, конгениально пе-
редающие оригинал.
Сохранилось свидетельство о посещении поэтом за год до своей
смерти лесной сторожки близ Ильменау, войдя в которую Гёте ска-
зал, что в давние времена он попал со своим слугой в эти комнаты и
на стене записал маленькое свое стихотворение. Ему захотелось
отыскать запись, она сохранилась. Гёте смотрел на строки и дату их
написания и сквозь слезы «не прочитал, не продекламировал», а про-
изнес: «Ja, warte nur, balde Ruhest du auch»17.
Свидетельство это драгоценно тем, что сам автор засвидетель-
ствовал феноменальность этого текста, произнеся его строчку без
дистанции с тем, что было «тогда» и — «сейчас». Сказанное тогда и
теперь стало словом, пребывающим как бы вне литературы или чем-
то еще д ö-литературным и потому изначально истинным. Сам Гёте
называл такое слово «первоявленным» или «протофеноменом». Та-
кое слово — залог подлинного искусства, но оно и больше, чем ма-
териал или средство литературы, подобное бронзе, глине или мра-
мору. О. Вальцель (1864—1944, профессор Боннского университета)
отмечал: «У Гёте слова не только обозначают некое состояние ду-
ши, они — самое это "состояние" и сама "природа" поет в творениях
поэта»18.
Такое слово — протофеномен, и делает его таковым — метаху-
дожественность, то есть то, что больше, чем совокупность свойств
литературного произведения как такового, что существует д о-лите-
ратуры. Показательно, что в книге Ф. Гундольфа о Гёте (1916) поэзия
немецкого классика, в полном соответствии с концепцией автора
книги и В. Ворингера о «трансцензусе за пределы смыслового значе-
ния слова», проиллюстрирована изобразительным материалом для
наглядности «выхода» поэтического содержания за объем слов19.
В примере с «Über allen Gipfeln» и «Горными вершинами» Лер-
монтова, с удивительной адекватностью передающими оригинал, так
же как и в хокку Басе — человек говорит за природу, природа за че-
ловека. В примерах из японской, немецкой и русской классики про-
демонстрировано главное для нас в данном случае — слово оказыва-
ется больше самого себя, и в этих случаях поэтому предельно лапи-
дарное высказывание оказывается укрупненно (как через увеличи-
тельное стекло) содержательным. (В тексте хокку Басе— всего 17
296
Категории художественности и метахубожественности...
слогов; в стихотворении Гёте— 33, у Лермонтова— 42. Соответ-
ственно значащих слов — 8, и 18 у Гёте; и — 18 у Лермонтова.) Пора-
зительное свидетельство предельного достижения укорененной в
слове полноты. Художественная монада демонстрирует всеохват-
ность и поражает своей простотой, насыщенностью прямым смыслом.
Собственно говоря, приведенные строки лишены тропов. У Гёте нет
ни одного. Формальное подведение таких оборотов как «сердце
скал» (у Басе) или «вершины спят» у Лермонтова под поэтические
метафоры лишает эти произведения изначальной их метахудоже-
ственности— глубинно-содержательной бытийственности. На глу-
бинном уровне перед нами не сопоставление явлений двух миров, а
органическое их объединение в одно. Согласно Гёте, природа не
имеет ни зерна, ни скорлупы — у нее все это зараз. И она прежде
всего и есть цельность всех сторон мира и мир как целое: все во
в с е м. А такое «природное» же слово — есть целостность всех сторон
своих и содержательных интенций и, соответственно, сущих в нем
(присущих ему) смыслов. «Сердце скал» и «спящие вершины» — не
двухсоставные, а односоставные смысловые компоненты. Это глубо-
ко содержательная односоставная поэтическая идиома, поверх ко-
торой и идет смысловой разряд. И потому их можно даже посчитать
метахудожественными мифологемами— вневременным тождеством
микро- и макро-косма. Одно есть бытие многого.
«Гора— это не символ, или аллегория, или метафора, а живой
образ ("вид") открытой тайны. Природа — зримая открытость тай-
ны. Конечно, тайна не перестает быть тайной, но именно как тайна
она— открыта, она лежит перед глазами, как offenbar Geheimnis,
öffentlich Geheimnis. Поэтому Гёте так возмущен, когда Ф. Г. Якоби
написал: "природа скрывает бога"»20.
Тут и находится та точка прочности, обоснования бытийственной
монолитности, где сходятся мировые линии.
Лермонтовский перевод оказался конгениальным своему прото-
типу, уловив его дух, хотя, по свидетельству специалистов, русский
поэт «очень далек от немецкого текста», причем не только на словес-
ном уровне, но и по системе мотивов и образов, и их коннотации с
национальными культурными контекстами21. В силу такой гениаль-
ности, видимо, и можно говорить о самодостаточности каждого сло-
ва и у немецкого и у русского текста. В них нет трансформации одно-
го плана в другой, если эти планы и присутствуют, то присутствуют
имплицитно, и скорее они смотрятся друг в друга не как в другое,
а как смотрится человек в самого себя в зеркальном своем двойнике.
297
Я. К. Гей
Природа и человек живут одной живой жизнью, хотят поведать
одно общее содержание, вместе «проникнуть» в единую истину.
И текст оформлен однозначно как лирический монолог. Но монолог
это или диалог? Рефлексия направленная извне — во внутрь; и опять
вовне.
Подожди немного отдохнешь и m ы! — что это за m ы? Что за суб-
станция и к какой обьектности она направлена? От какого лица и к
какому лицу это обращение? В лирическом потоке нет ни реального
«я» ни «ты». Описание-раздумье, незаметно переводящее предмет
разговора с «языка» природы на «язык» слов.
В случае творения Гёте-Лермонтова поэтическое слово, направ-
ленное к «ядру конкретного бытия», выводит к бытию, к его
всеохватности.
Подожди немного отдохнешь и m ы! — не жест ли это не только в
сторону умиротворения, успокоения, но и упокоения? И не о том ли
говорят слезы в голосе Гёте в охотничьей сторожке перед строками
на притолоке двери, как о целостном взгляде на всю свою жизнь?
И не выводит ли этот жест содержание теста стихотворения за преде-
лы лирики и даже лирики философской к корням жизни?
Метахудожественность в выше рассмотренных проявлениях по-
зволяет охарактеризовать ее как живую жизнь смыслов, живое их
бытие, не равное ни научному, ни поэтическому своему эквиваленту.
Скажем так — это почка на зеленом дереве жизни, которая раскры-
ваясь приносит свои плоды в мифологии, в фольклоре, в искусстве
слова, в самом слове как таковом, то расцветая под пером и филосо-
фа (повторим яркое обозначение— «Слово есть... молния, которая
раздирает небо от востока до запада» (Флоренский, 2, 292)), то
«завядая» в сухой почве понятий и терминов.
«Слово есть та молния, которая раздирает небо от востока до за-
пада, являя воплощенный смысл» (Флоренский, 2, 292). В нем духов-
ная данность мира.
Именно в онтологии слова и заложена природа метахудожествен-
ности как предмета нашего разговора. И его продолжением будет
разговор о расхождении общего ствола человеческого сознания, а
соответственно, и видов освоения и выражения смыслов, заложенных
в слове как пути освоения бытийственной онтологии.
В слове понятийном, в слове-термине рационализмом и позити-
298
Категории художественности и метахубожественности...
визмом накоплен огромный разрушительный эрозионный осадок, на-
носы, покрывшие конкретику и богатство бытия с головой. На ал-
тарь общему и в жертву эмпирической множественности принесены и
неповторимость и индивидуальность.
Имя сопротивляется бездушно-общему и абстрактному. В имени
происходит синтез одного и много. Никакой «елены» нет и не может
быть и каждая Елена не только называет, но и провозглашает не-
множественность, полноту неповторимости, соединение единствен-
ности и единого. И потому господствует над дурной множественнос-
тью остального. В этом отличие слов-этимонов и слов «идей вещи».
Говоря об имени и слове, мы присутствуем на рубеже между от-
влеченной символикой, логически-понятийными абстракциями, зна-
ками-универсалиями, отвлеченными от единственности, от конкрети-
ки, от реального в этом значении содержания, и определенным уни-
версумом с богатым в потенции (и зачастую совсем не активизируе-
мым) жизненным содержанием. Флоренский считал, что в имени
«Творец возвысил единичное до всеобщего» (2,146).
Слово в меньшей мере, чем имя, но противостоит также жертвен-
ному служению «множеству», «множественности» мира вещей, фак-
тов, людей и событий, имя которым легион. Абстракция вбирает в
себя общий смысл и становится представительством этих общих
смыслов, и поэтому приложима ко многим и многообразным анало-
гам, тогда как все остальное уходит, опускается; выводится за скобки
то, что делает «это» несовместимым с «тем», то есть конкретика
объекта и реальная неисчерпаемость его слов и качеств. Только по-
клонникам абстрактных понятийных сущностей-идей в слове оно мо-
жет казаться служащим однообразному «клонированию» в любых
своих функционированиях. И в этом смысле слово не выходит якобы
за пределы клишированного знака или ознаменования, служа только
«общему». И при таком взгляде на вещи «общее», в свою очередь, —
аморфно-застывшее, вне реального богатства конкретики, реального
богатства мира. Происходит своего рода аннигиляция конкретики и
конкретного богатства жизненной данности. Происходит расщеп-
ление онтологической данности реального бытия и его смыслов.
По словам Флоренского: «Слово есть самая реальность, словом
высказываемая, не то чтобы дубль ее, рядом с ней поставленная ко-
пия, а именно она, самая реальность в своей подчиненности, в своем
299
H. К. Гей
нумерическом самотождестве». И главное: «Словом и через слово
познаем мы реальность, и слово есть сама реальность (2,293)».
Речь идет об универсальном принципе целого или об универсаль-
ном целом: «откровении» мира в нас и нас — миру. Отсюда — мыш-
ление целым и в слове, уже в самой его природе, и с помощью слова,
словом; схватывание сущности смысла и сущего смысла— вместе,
без разделительных трещин и изъянов.
Это — «знание» и «самосознание». Это — видение и ведение. Это
«присутствие бытия» как бы изнутри и извне. Благодаря чему только
и можно достигнуть органического соприродного совмещения смыс-
ла и конкретики первообраза, мифологемы, символогемы (содержа-
тельной конкретики и «идеи» ее). Другими словами — отказаться от
бессмысленного и атомарного представления, от бессмысленной дей-
ствительности и от поиска смысла как самой-по-себе данности.
«Личное» может восприниматься в жизни только непосредственно
или передаваться произведением искусства.
Слово оказывается ничем иным, как «мировое всё».
На этой-то метахудожественной незарегулированности живого
языка существует и живет искусство слова. И то, что в научном текс-
те присутствует имплицитно, как «подсказка» или тихий «шёпот»
бытия, в образном сознании оказывается главной магистралью раз-
ворачивания словесного текста в бессловесный образ, в особый ху-
дожественный смысл, не сводимый ни к простой сумме образующих
его слов, топосов и тропов, ни к слишком предельному их интегри-
рование.
Вот этот живой процесс превращения словесного текста в бессло-
весную метахудожественность и встречают исследователи литерату-
ры, сталкиваясь с произведением искусства, и тем более таким безыс-
кусным, как «Я вас любил» Пушкина.
В композиции и под редакцией Т. А. Касаткиной
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
С. 31. В дальнейшем сноски на это издание даются в тексте с указанием
тома и страницы.
2 Эрн В. Ф. Сочинения. М, 1991. С. 502—503.
3 «Крины сельные или цветы прекрасные» Паисия Величковского. Одесса.
С. 7. Репринт, изд.: Оптина пустынь, Калуга, 1990.
300
Категории художественности и метахудожественности...
4 См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 39.
5 См.: Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М.,
1979. С. 186—187.
6 Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 451.
7 См.: Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979. С. 181.
« См.: Соколова-Делюсин Т. Л. II ИЛ. 1990. № 11. С. 186—187.
9 Там же. С. 186—187.
■° См.: Григорьева Т. П. Указ. соч. С. 201,223.
11 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1951. С. 63.
12 См.: Соколова-Делюсин Т. Л. II Кабояси Исса. Стихи и проза. СПб., 1996.
С. 6—8,26,62.
13 Альбедиль М. Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. СПб., 1991. С. 90.
>4 Алексеев В. М. В старом Китае. М, 1958. С. 30.
15 Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 651, а также 652,653, 579.
16 Цит. по: Там же. С. 580.
17 Лермонтов М. Ю. Поли. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 616—
617.
18 Вальцель О. Художественная форма в произведениях Гёте и немецких ро-
мантиков // Проблемы литературной формы, Л., 1928. С. 88.
|» См.: Вальцель О. Цит. соч. С. 17.
20 Михайлов А. В. Указ. соч. С. 583.
21 Сквозников В. Д. Лирика // Теория литературы. М, 1964. Т. 2. С. 216—217.
301
Т. А. Касаткина
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Москва
СЛОВО, ТВОРЯЩЕЕ РЕАЛЬНОСТЬ,
И КАТЕГОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
«Тут именно все дело, что Слово в самом деле
плоть бысть».
Ф. М. Достоевский
«Ты сказал ради красного словца. Но ты за-
был о креативности русского языка и литерату-
ры. Все, что произносится — то и сбывается. Не
боишься ли ты креативности? Вот русские писа-
тели — не боялись».
Мария Смирнова-Несвицкая. Псевдопьеса1
«Итак, Логос идет к нам из-за второй и тре-
тьей границ непостижимого, а по нашу сторону
мира и бытия совершается непременная встреча
нашего слова и Логоса, нашего логоса и Логоса.
Наше слово и наши слова зависят тогда от этого
Логоса — и даже проникает в него до самой гра-
ницы доступного нам, до первой границы внутри
непостижимого».
А. В. Михайлов
Несколько тезисов о теории литературы
С давних пор меня занимает вопрос, который на самом деле яв-
ляется центральным для науки о художественной литературе в целом,
ибо только благодаря решению его можно было бы впервые теорети-
чески определить, что является предметом этой науки. Ни для кого не
секрет, что до сих пор границы этого «предмета» определяются эм-
пирически; впрочем, определяются довольно надежно. И все же
определить и описать то нечто, которое является достаточно точным
критерием для непосредственного ощущения, представляется делом
непростым. Эта задача, безусловно, относится к области постулатов
науки, тех ее оснований, которые должны лежать за ее пределами и
потому не описываться внутри нее. Эта задача находится в области
совокупности наук о слове.
302
Слово, творящее реальность, и категория художественности
Однако есть такой аспект, такой поворот восприятия самого сло-
ва, который может быть уловлен лишь изнутри литературоведения,
при именно и только литературоведческом подходе к самой пробле-
ме, и который остается решительно «за кадром» при попытке внед-
рения в литературоведение лингвистического, социологического, пси-
хологического, философского (в смысле последних двух веков) взгля-
да на слово. Литературоведение, основывающееся на таких подходах,
при всем своем блеске и всех своих неоспоримых достижениях прак-
тически всегда оказывается деструктивно по отношению к собствен-
ному предмету — и это верно в отношении M. М. Бахтина в той же
степени, как и в отношении Ж. Деррида2. Сказанное не есть упрек —
это не более чем наблюдение, причем в той или иной форме сделан-
ное уже многократно и самыми разными «наблюдателями»3.
Между тем, от того, как понимается слово, зависит решение са-
мых «неразрешимых» теоретических проблем литературоведения, за-
висит определение и функционирование его основных категорий (на-
пример, жанра и стиля) и, конечно, зависят способы анализа и интер-
претации конкретных художественных произведений.
От того, как понимается слово, вообще многое зависит в жизни и
деятельности человека. Недаром слово, его осмысление, оказалось в
центре внимания практически всех крупнейших философов XX ве-
ка— неважно, придавали ли они своим системам вид трактатов,
литературоведческих или лингвистических штудий или художествен-
ных произведений. И поскольку центральной философской катего-
рией в нашем веке стала категория отношения, главной функцией
слова, функцией, через которую вновь и вновь пытались определить
самую его сущность, стала функция коммуникативная. Я думаю, что
М. Хайдеггер потому столь любим и столь ненавидим современни-
ками и ближайшими потомками (то есть вызывает такие чувства,
какие, вроде бы, и не к лицу философу), что становится на принципи-
ально иную основу, и, определяя язык как «дом бытия», обозначает
совсем иную возможность подхода к отношению как к базовой кате-
гории, разворачивает связи и то, что они связывают, совсем иным
образом, выводя их из уютной плоскости «коммуникации».
Структуралисты, безусловно, создавшие систему «плодотворных
односторонностей»4, сконцентрировались на «коммуникативной функ-
ции искусства, его знаковости, безусловной принадлежности искус-
ства, как любой формы познания, к семиотической системе»5. То есть,
искусство стало последовательно рассматриваться как (огрубляем)
форма сообщения о познанном мире. Между тем, впадая в другую
303
T. A. Касаткина
односторонность (и надеясь, что она будет плодотворной), нужно
указать на иной подход к искусству, на совершенно иной модус су-
ществования его. Это творение мира, требующее познания как от
читателя, так и от своего автора. Другими словами, произведение
пишется не для того, чтобы изложить некоторую систему взглядов
(когда произведение пишется для этого, оно бывает в высшей степени
неудачно и смахивает на то, чем и должно бы являться, — на трак-
тат), но для того, чтобы создать мир, который может быть постиг-
нут только в процессе его создания. Неуверенность автора, известная
по многим источникам, непредсказуемость для него самого действий
его персонажей, сомнения в жанровом наименовании произведения
в процессе его сотворения свидетельствуют, по крайней мере, о том,
что речь явно не идет об изложении познанного. К жизни вызы-
вается некая реальность, которая облегчает постижение не тобой со-
творенного мира, ибо типологически сходна с любым творением6.
Отсюда становится вовсе не таким уж смешным сомнение целых
течений литературоведения в том, что автор «знает», что он хотел
сказать.
Особенно драгоценны здесь свидетельства самих художников.
В очень важном с точки зрения данной темы эссе «Искусство при
свете совести» Марина Ивановна Цветаева, со всей достоверностью
человека, обладающего (или — наделенного, обладаемого) гениаль-
ным творческим даром, свидетельствует:
«Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к
первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать
вещь.
Поэт — обратное шахматисту. Не только Шахматов, не только доски —
своей руки не видать, которой может быть и нет»7.
Это ею сказано по поводу Пушкина и Вальсингама. А вот по по-
воду Блока— свидетельство сразу и невольности (в смысле несвое-
вольности) творения и реальности его (воплощенности, сотворен-
ное™ — уже в Божием мире, а не в поэтическом):
«По совершении же может оказаться, что художник сделал большее, чем
задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал. Или другие скажут, —
как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался, со всеми,
чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это (то есть налич-
ность какой бы то ни было цели) было ему ново.
«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа Револю-
ции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил
его.
304
Слово, творящее реальность, и категория художественности
А наивная моралистка 3. Г. потом долго прикидывала, дать или нет Бло-
ку руку, пока Блок терпеливо ждал.
Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении,
как человек, на котором катались.
Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. (Я не знаю
«Двенадцати», я не помню «Двенадцати». Действительно: не знал*.)
И понятен его страх, когда он на Воздвиженке в 20 году, схватив за руку
спутницу:
— Глядите!
И только пять шагов спустя:
— Катька!»9
И, однако, в обстании «пользователей», забывших об онтологи-
ческой природе слова, привыкших использовать «шелуху» слов (а
«шелуха» — от «shell» — скорлупа, оболочка, корка; «покрытие» без
ядра, вылущенное «слово», годное, на первый взгляд, для любого
наполнения; и это «shell» с очевидностью (с очевидностью, проя-
вившейся хотя бы в полотнах Иеронима Босха) связано с «шеолом»
Ветхого Завета — с местом Божия отсутствия10), отношение самих
поэтов, творцов к слову становится двусмысленным. Во-первых, в
такой атмосфере становится возможным «эстетическое» отношение к
слову, «эстетическое» его использование. В наше время оно приме-
няется как для создания новых «произведений искусства» (и, в сущ-
ности, только к таким созданиям и может быть по праву применен
этот термин11), так и для создания новых интерпретаций старых про-
изведений.
О существе этих интерпретаций ясное представление могла бы
дать разгоревшаяся несколько лет назад полемика, суть которой сво-
дилась к тому, могут ли произведения православного писателя ана-
лизироваться и интерпретироваться исследователем-атеистом. Спор
шел, как некоторые наверняка помнят, о творчестве Гоголя.
Что говорить — конечно, могут. Могут анализироваться подроб-
но, въедливо и досконально. Но вряд ли могут адекватно интерпре-
тироваться. Ибо сами точки, на которые устремлен взгляд писателя и
читателя в этом случае будут не просто различны, но взгляд и мысль
писателя будут начинаться там, где взгляд исследователя обретет уже
свое завершение, смысл и цель. На танец жрицы можно взглянуть и с
эстетической точки зрения. И тогда можно будет похвалить плав-
ность и соразмерность некоторых движений, удивиться странности и
несоразмерности композиции, в ужасе и отвращении отвернуться от
иных фигур (или найти и в них известную экспрессию — смотря ка-
кой эстетической системы будет придерживаться зритель). Но от
305
T. A. Касаткина
такого наблюдателя ускользнет самое главное— точность и адек-
ватность всякого движения как слова к богу (богине), ускользнет не
просто смысл речи — но самое понимание того, что это была речь —
и речь не самодостаточная, но рассчитанная на ответ и отклик.
Можно очень подробно, точно и остроумно описать таинство как
театральное действо. Можно даже приписать ему (или — отыскать в
нем) эстетические цель и смысл. Но при этом будет забыто самое
главное—существование таинства в пространстве первичной, не «эс-
тетической» реальности, способность таинства эту реальность пре-
образовывать. Речь уже будет идти о совсем другой вещи. Это будет
взгляд инопланетянина— или сверстника Ноя, созерцающего наш
мир из-за кромки Вечных Вод, успокоенного в своем созерцании те-
атра теней на воде.
О том, как достигается такое состояние мира и слова, с горечью
рассказывает шведский писатель Ларе Густаффсон, вставивший в
свой замечательный рассказ «Искусство пережить ноябрь» изящней-
шую и кратчайшую притчу, преподнесенную в качестве бытовой
подробности.
«Она же (девушка, нигде не названная по имени. — Т. К.), во всяком слу-
чае во время отлива, станет бродить вдоль берега, отыскивая по дыхатель-
ным отверстиям в песке моллюска с изысканно-розовой изнутри раковиной,
который называется Cornea purpurea.
Моллюска можно удалить из раковины, прокипятив ее в кастрюльке с
водой.
Она питала отвращение к этой процедуре и перепоручала ее ему; на ку-
хонном столике уже лежало несколько раковин.
Их пурпурное нутро было похоже на ничего уже не стоящую, выданную
тайну»12.
Чуть раньше о том же процессе— иначе, но по сути очень
сходно — рассказал Н. С. Гумилев в известном стихотворении, кото-
рое небесполезно будет привести здесь целиком.
СЛОВО
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
306
Слово, творящее реальность, и категория художественности
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это — Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.13
Таким образом, в сознании художников формируется представ-
ление как бы о двух типах слов, выраженное, например, в записи
Розанова о Соловьеве. Для Розанова слова — следы личности, орга-
ническое истечение личности, если это те, настоящие слова. Потому
что есть слова рожденные, а есть слова знаемые, захваченные внеш-
ним образом, взятые в плен и рабство. «Надо бы проследить, — пи-
шет он о В. Соловьеве, — есть ли у него "восклицательные знаки" и
"многоточия" — симптомы души в рукописании и печати [...] У него
везде звон фразы, щелканье фраз, силлогизмы. Точно не течет речь
(= кровь), а речь — составлена из слов. "Слова" же он знал, как уче-
ный человек, прошедший и университет и Дух. Академию. Соловьев
усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих,
немецких, итальянских, лидийских,— философских, религиозных,
эстетических; и из них делал все новые и новые комбинации, с искус-
ством, мастерством, талантом, гением. Но родного-то слова между
ними ни одного не было, все были чужие...
И он все писал и писал...
И делался все несчастнее и несчастнее...»14
Природно-рожденное, родное слово обладает для Розанова пол-
ной — плотской — реальностью, в то время как «выученное», захва-
ченное, «присвоенное» (усвоенное) без уроднения себе слово годно
307
T. A. Касаткина
лишь на то, чтобы огородить (прикрыть и отделить) некое пустое
место, начинающее претендовать на реальное существование. «Шелу-
ха слов» не может нарастать на реальности — она нарастает — вер-
нее, ее наращивает на себе — пустота. И это, может быть, одно из
самых сильных свидетельств онтологической природы слова — если
именно и только через него пустота мечтает обрести бытие.
И однако удар от ощущения опустошенности слова для чувстви-
тельного художника бывает настолько силен (а, может быть, здесь
действует и иной механизм, о котором после), что слово порой начи-
нает восприниматься как противостоящее реальности, как разру-
шающее, разлагающее, губящее реальность. Такое ощущение харак-
терно для японского писателя Юкио Мисимы (настоящее имя — Ки-
митакэ Хираока (1925—1970)), известного своим неустанным вос-
хождением к полноте реальности, первоначально созданной им на
страницах собственных произведений.
«Когда я вспоминаю свое раннее детство,— пишет Мисима в эссе
"Солнце и сталь",— то оказывается, что память слова во мне появилась
гораздо раньше, чем память тела. У нормальных людей жизнь начинается с
ощущения своей плоти, а уж потом появляется слово. Ко мне же первыми
пришли слова, а тело медлило, упрямилось. Когда я наконец с ним познако-
мился, оно уже обрело черты умозрительности и, конечно же, было все изъе-
дено словами.
Обычная последовательность событий такова: стоит деревянный столб,
потом в нем поселяются муравьи и начинают его грызть. В моем случае пер-
выми возникли муравьи, и лишь затем постепенно появился наполовину
источенный ими столб.
Не нужно пенять мне на то, что я сравниваю слова, орудие своего ремес-
ла, с муравьями. Ведь что такое мое ремесло? Оно подобно гравировке —
слова, как азотная кислота, вытравливающая медную пластину, разъедают
реальную жизнь, превращая ее в произведение искусства. Пожалуй, это не
совсем точное сравнение. Медь и азотная кислота, естественные творения
природы, пред ее лицом равны, слово же и реальность — нет. Слова — это
средство, с помощью которого реальность преображается в абстрактные об-
разы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают дей-
ствительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами.
Попробую применить другое сравнение, более подходящее. Представьте себе
желудочный сок, выделяющийся столь обильно, что он не только растворяет
пищу, но и изъязвляет стенки желудка.
Многие, вероятно, не поверят, что подобное явление может происходить
в душе ребенка, однако со мной случилось именно это. Разыгравшееся в
моем сознании действо заставило меня стремиться к двум совершенно раз-
ным, противоположным целям. С одной стороны, мне хотелось подхлестнуть
коррозию реальности и превратить эту химическую реакцию в дело всей
308
Слово, творящее реальность, и категория художественности
моей жизни; с другой стороны, во мне постепенно крепло желание вырваться
в сферу, где слова не имеют никакой ценности, и там встретиться с подлин-
ной действительностью»15.
Даже абсолютно убежденная в творящей природе слова Марина
Цветаева, исходя из этого общего ощущения, способна была напи-
сать о песне Вальсингама:
«Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наи-
тие стихий— все равно на кого, сегодня на Пушкина. Языками пламени,
валами океана, песками пустыни— всем, чем угодно, только не словами —
написано»16.
Правда, вскоре выяснится, что слово и есть — «стихия стихий»:
«Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в сти-
хию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в
лоно.
Гибель поэта — отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жи-
лы»17.
Но «только не словами» — было всерьез сказано о «других» сло-
вах, противостоящих любой подлинности, противоположных реаль-
ности.
Иное положение, по сравнению с поэтом, которого эмоционально
мутит от отвращения в первый момент столкновения с неожиданной
для него и невозможной пустотой слова, занимает зоркий исследова-
тель, внеэмоционально пытающийся вглядеться в глубины собствен-
ной науки, и по мере такого вглядывания ощущающий ужас от того,
что все, на первый взгляд отчетливое, отграниченное и осмысленное,
расплывается перед его глазами, утрачивает привычный облик, и
сквозь этот облик медленно и пока невнятно для глаза начинает про-
ступать нечто, совсем неожиданное и невидное для тех, кто привык к
некоей самоочевидности основных понятий науки, кто удобно видит
их по привычке.
«Исчезновение само собой разумеющегося внутри нашей науки
выражает себя, в частности, как одна из форм проявления, тем, что
основные слова, которыми мы пользуемся в пределах своей науки,
утрачивают для нас, и должны утрачивать, свою очевидность. Свою
самоочевидность. Это, конечно, в минимальной степени касается
такого слова, как жизнь, и в самой большой степени касается тех
309
T. A. Касаткина
слов, которые оказываются не просто основными словами культуры,
но основными словами именно нашей науки, нашего знания. Таких
слов в пределах науки о литературе очень много, они, вероятно, об-
разуют внутри себя какие-то группы, и каждая из групп ведет себя
по-своему, но таких слов очень много, и все они утрачивают свою
самоочевидность, и я, значит, настаиваю на том, что они не просто
утрачивают для нас свою очевидность, но, по мере того как мы будем
осмыслять сущность своего знания, они должны утрачивать эту са-
моочевидность»18.
Слово в его истинном обличий, порождающее и понимающее ре-
альность (об-нимающее, милующее и значит — о-смысливающее: не
привносящее смысл в бытие, но наделяющее его смыслом самим актом
встречи; еще точнее: понимающее — как антоним, обратное действие
к порождающее, т. е. вбирающее вновь в себя, заключающее в себе и
дающее в таком виде существовать реальности как смыслу) должно
перестать мыслиться как средство, как кирпич19, который равно
можно положить в строение каменное или запустить им в реципиен-
та. Слово — то, из чего возникает строение, как цыпленок из яйца
(или джин из бутылки). Иное его употребление (в качестве кирпича)
предполагает его несуществование для пользователей в его истинном
виде, предполагает использование его в качестве другой вещи. Навер-
ное, можно сложить забор или стенку и из волшебных табакерок.
Слово должно перестать мыслиться как средство для «низкой жизни»
(для нее чисел более чем достаточно, в чем мы все более и более
убеждаемся в наш торговый и технический век). Императивы в моем
высказывании отражают не долженствование, но жизненную необ-
ходимость, возможность истинного бытия вещи только в таких усло-
виях.
Необходимо, чтобы новое отношение к слову могло характеризо-
ваться так же, как Бибихин характеризует розановский способ «аб-
страгирования»: «Розановское восхождение к тому, что обычно на-
зывают абстракциями, открывает не схемы, а тайны, возвращающие
богатство и задушевность человеческому существу»20. В противном
случае нас ждет лишь успех (или поражение) внешнего захвата (из-
насилование тела при незнании того, что есть еще и душа).
Когда Адам давал имена животным, он должен был так постичь
существо предстоящей перед ним твари, чтобы изнутри его родилось
то слово, которым была сотворена тварь. Имя не нарекалось, а узна-
валось, понималось, «прочитывалось» в творении. И прочтенное в
творении слово было словом творящим.
310
Слово, творящее реальность, и категория художественности
Захваченные нами слова остаются творящими. Но поскольку они
творят, как правило, нечто нами не предвиденное, то и сам процесс
творения (превращающийся зачастую в процесс разрушения) усколь-
зает от наших взоров.
Кажется, именно здесь можно было бы искать исток и причину
отношения Юкио Мисимы к словам, как к веществу, вызывающему
коррозию реальности. Когда процессом твоего говорения создается
нечто, чего ты не имел в виду и не желал, но имеющее вполне реаль-
ное существование, от неожиданного столкновения двух реальностей
обе начинают разрушаться. Мы живем в обстании реальностей, соз-
данных бездумно произнесенными словами. Мы живем на свалке
сотворенных и не востребованных реальностей, и эта свалка все бо-
лее и более заслоняет от нас истинные и чистые вещи мира.
Представляется, что к описываемому имеет прямое отношение
следующее высказывание Бибихина: «Отчаяние прокрадывается в
жизнь миллионов. Оно подрывает человечество как раз тогда, когда
люди, кажется, с небывалым упоением увлеклись жизнью. Не надо
принимать это увлечение за чистую монету. В нем не жизнелюбие, а
попытка схватить внешними средствами ускользающую глубину, на
которую у человека перестало хватать силы <...> Беда в метафизи-
ческой немощи. Человеческому существу перестало хватать духовно-
го размаха для прикосновения к началам вещей. От этого человек
размазывает себя по поверхности мира. Как бы широко он не раз-
брасывался, он не восстановит этим своего величия»21.
Отчаяние совсем другого рода было свойственно мыслителю,
столкнувшемуся с этими не замечаемыми никем валами «вторичной»
(и здесь это слово проявляет свою истинную сущность, разворачи-
ваясь по аналогии со словосочетанием «вторичное сырье» — те отхо-
ды, которые и складываются чаще всего из упаковок разного рода)
реальности, нагороженными вокруг того, что было его «предметом»
и преградившими к нему доступ, который, что в этот момент с оче-
видностью стало для него ясно, может быть вновь открыт только
полноценным словом, которое будет вести исследователя, смирив-
шегося со своей ролью ведомого.
«Историк литературы очень часто склонен думать, что его пред-
метом и материалом его знания является история литературы. Ну,
вот я думаю, что это очень наивно. Это и верно, и наивно. Историк
литературы, который занят историей литературы, естественно занят
ею, но этого мало. Он занят не самой историей литературы, это
должно быть понятно, а той историей литературы, с которой он не
311
Т. Л. Касаткина
просто напрямую соединен и которая лежит перед ним, как настоя-
щий предмет и материал, обозримый и доступный, а он отделен от
самой истории литературы целым валом из самого близлежащего.
Есть такое близлежащее, что позволяет ему подойти к тому, что он
называет предметом и материалом своего знания, и это близлежащее
лежит на его пути к самому своему предмету. Но о том, есть ли это
"сам предмет" и следует ли его называть предметом, это особая тема.
Но очевидно совершенно, что он и отделен этим от своего предмета.
Если представить себе, что историк литературы занимается историей
литературы, то, разумеется, он занимается не самой историей литера-
туры. Сама история литературы лежит еще очень далеко от него. Она
отгорожена от него всем тем, через что он должен пройти, прежде
чем он подойдет к этому своему предмету, если мы только будем
надеяться на то, что он подойдет к своему предмету. Он не подойдет
к нему, потому что никакой самой истории литературы, которая бы-
ла бы доступна как предмет и материал для общения с ней, безуслов-
но, нет. По дороге к этой самой истории литературы встретятся мно-
гочисленные и бескрайние, почти необозримые формы опосредова-
ния, говоря попросту, то, что он, историк литературы, хотел бы
иметь как свой предмет, уходит от него, потому что он отделен от
самого предмета множеством опосредовании, неслучайных. Я на-
стаиваю на том, что самое близлежащее, что встретится историку
литературы на его безнадежном пути к самой истории литературы,
будут слова, то есть основные слова науки о литературе. Не саму
историю литературы он должен изучать, на это, как я полагаю, у
него никакой надежды не остается, но он должен, встретившись с
тем, что ближе всего находится на его пути к ней, заняться этим»22.
И здесь опять становится ясно, что никаких «разных двух» слов
нет, что каждое, связанное с тем, что мы привычно называем «пред-
метом», слово имеет к нему непосредственное и истинное отноше-
ние — только очень часто это совсем иное отношение, нежели пред-
полагаемое нами. Становится ясно, что пустоте не удается узурпиро-
вать слова, и что они несут в себе всю реальность, которая вообще
может быть нам доступна, но которая, при условии нашей гордой
уверенности, что это мы владеем словом, и что слово— это наш
«инструмент», оказывается абсолютно недоступна нам.
«Но я прекрасно понимаю, что излагая ситуацию историка лите-
ратуры в таком виде, я утрирую ее. Естественно, что историк литера-
туры не просто хочет заниматься самим своим предметом, но и зани-
мается им. Он занимается им, не замечая при этом всего того, что
312
Слово, творящее реальность, и категория художественности
стоит у него на пути. И все, что стоит у него на пути, отличается та-
кой скромностью, что отодвигается в сторону, делая вид, что оно,
вот то, что отделяет его от предмета, отходит в сторонку скромно и
пропускает историка литературы к его предмету. Значит, свойство
близлежащего, вот того, что отделяет нас от предполагаемых занятий
историка литературы, заключается в скромности всего этого. Слова
ведут себя как слова. Они знают себя, и поэтому они могут отодви-
нуться в сторонку, сделав вид, что историк литературы имеет дело
напрямую со своим предметом.
На самом деле ситуация совсем другая. Инерция ведь тоже конча-
ется. Наконец наступает такая ситуация науки, по совокупности при-
чин, которые к этому приводят, когда наука не может больше удо-
вольствоваться тем, чтобы вместе со словами делать вид, что они не
играют здесь первоочередной роли, что они не являются самым близ-
лежащим. Наконец, наука не может бесконечно делать вид, что исто-
рик литературы имеет дело с самим предметом, которым он, по его
предположениям занят. Наступает ситуация, в которой слова станов-
ятся на пути знания нашего, и становятся как такое "препятствие",
которое мы уже не можем обойти»23. И далее: «В такой ситуации
непременно должно обнаружиться, что не слова находятся в нашей
власти, а мы находимся во власти слов»24. Последнее высказывание
менее всего является метафорой.
Внутреннюю онтологичность и творящую природу слова доказы-
вает самая возможность понимания— для начала, самая возмож-
ность оговорки, понимания того, что сказанное выражает нечто иное,
не то, что имелось в виду. То есть, процесс понимания сказанного
некоторым образом направлен не от субъекта высказывания к субъ-
екту восприятия (и не наоборот — как могло бы быть, если логично
вообразить активной энергию именно понимания, а не высказыва-
ния25), но от них обоих к слову, которое, произнесенное, порождает
смысл, часто совершенно не предполагавшийся говорящим. «Я не то
хотел сказать!»—это ведь частенько произносится еще до вопроса
или восклицания воспринимающего, и означает наступившее пони-
мание высказывающимся реально произнесенного. То есть, слово ни
с какими оговорками не может быть рассмотрено как некий упако-
вочный материал для передачи смыслов в коммуникативном акте, но
лишь как некая реальность, которая, будучи вызвана к жизни выска-
зыванием, впервые эти смыслы порождает независимо от воли гово-
рящего26. Этот феномен ярче всего представлен в действительности
313
T. A. Касаткина
ситуацией «говорить не подумав». Слова такого говорения, как всем
хорошо известно по личному опыту, способны оказывать почти фи-
зическое воздействие как на воспринимающего, так и на говорящего.
Наиболее сопоставимо действие такого слова с действием заклина-
тельной формулы, произнесенной разгневанным (скажем) магом,
который, вызвав к жизни заключенную в ней реальность, должен
приложить неимоверные усилия, чтобы, пришедши в себя, эту реаль-
ность как-то преобразовать в лучшую сторону.
Одна фраза Потебни может указать направление, в котором надо
искать основу того, что мы именуем «художественностью». Она же
поможет понять, что на самом деле стоит за «шелухой слова», за
представлением о его опустошенности: «Символизм языка, по-види-
мому, может быть назван его поэтичностью; наоборот, забвение
внутренней формы кажется нам прозаичностью слова»27. Ощущение
внутренней формы слова есть ощущение того, что «говорит» само
слово, ощущение реальности, им самим порождаемой, в то время как
забвение внутренней формы создает ощущение опустошенности сло-
ва и конвенциональное/пи его значения, что и ощущается как прозаич-
ность, то есть неспособность порождать реальность художественного
текста.
Вообще, высказывания Потебни очень часто можно воспринять в
соответствии с представлениями об онтологичности слова, но каждая
его фраза в конце концов будет развернута в соответствии с его
«психологическими» установками. Вот он пишет: «Из перемен, каким
подвергается мысль при создании слова, укажем здесь только на ту,
что мысль в слове перестает быть собственностью самого говоряще-
го, и получает возможность жизни самостоятельной по отношению к
своему создателю»28. Если обратить внимание только на выделенные
слова, их можно развить в плане воплощения, то есть буквального
обретения мыслью плоти в слове, тем самым отделяющем мысль от
говорящего, видоизменяющем ее в соответствии с заключенной в нем
реальностью (ведь каждому пишущему знакомо ощущение, что он
написал не совсем то, что намеревался) и дающем ей «возможность
жизни самостоятельной». Но, оказывается, что Потебня имеет в виду
нечто другое, а именно: «не уничтожающую возможности взаимного
понимания способность слова всяким пониматься по-своему», в связи
с чем и приводит важную для него, и окончательно уводящую с на-
шего пути цитату из Гумбольдта: «На язык нельзя смотреть как на
нечто готовое, обозримое в целом и исподволь сообщимое; он вечно
314
Слово, творящее реальность, и категория художественности
создается, притом так, что законы этого создания определены, но
объем и некоторым образом даже род произведения остаются неоп-
ределенными» (Т. VI, стр. 57—58)29. «Язык состоит не только из сти-
хий, получивших уже форму, но вместе с тем и главным образом из
метод продолжать работу духа в таком направлении и в такой фор-
ме, какие определены языком. Раз и прочно сформированные стихии
составляют некоторым образом мертвую массу, но эта масса носит в
себе живой зародыш без конечной определимости» (Т. VI, стр. 62).
«Сказанное здесь обо всем языке мы применяем к отдельному
слову»,— пишет Потебня, затемняя тот факт, что в последующих
его рассуждениях меняется не только объект приложения исследова-
тельской мысли, но и сама методология иная, чем у Гумбольдта.
«Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает направ-
ление мысли слушающего, но она только возбуждает этого последне-
го, дает только способ развития в нем значений, не назначая преде-
лов его пониманию слова. Слово одинаково принадлежит и говоря-
щему и слушающему, а потому значение его состоит не в том, что
оно имеет определенный смысл для говорящего, а в том, что оно
способно иметь смысл вообще. Только в силу того, что содержание
слова способно расти, слово может быть средством понимать друго-
го»30.
Однако вряд ли можно сказать, что способность слова вмещать в
себя некоторое до неопределенных границ (или безгранично?) расту-
щее содержание может служить основанием для понимания. Дело
скорее в том, что слово не принадлежит ни говорящему, ни слу-
шающему, и именно потому способно быть посредником между ни-
ми, той твердой землей (а не зыблющейся бездонной трясиной), на
которой возможна встреча31. Усилия же и слушающего и говорящего
направлены на постижение слова: одним — в процессе творения, дру-
гим — в процессе понимания, то есть ре-анимации, во-одушевления
сотворенного; при этом успех понимания подтверждается успехом ре-
анимации. В этом смысле претензии, скажем, «реальной критики»
60-х годов XIX века на равные (или даже большие) с писателем
«права на владение» произведением (знаменитое «нам важно не то,
что хотел сказать писатель, но что вольно или невольно сказалось
им») имеют под собой серьезные основания, хотя права этих крити-
ков остались абсолютно нереализованными, поскольку на поверку
они не стремились постигать реальность слова и дать ей быть, но
старались узурпировать оболочку слова и нагрузить ее нужным им
узким партийным смыслом32. В их декларациях это выглядело как
315
T. A. Касаткина
апелляция к «первичной» реальности при отказе вникать в реаль-
ность «вторичную».
Писарев, например, так начинает свой, с позволения сказать,
«анализ» «Преступления и наказания»:
«Приступая к разбору нового романа Достоевского, я заранее объявляю
читателям, что мне нет никакого дела ни до личных убеждений автора, кото-
рые, быть может, идут вразрез с моими собственными убеждениями, ни до
общего направления его деятельности, которому я, быть может, нисколько
не сочувствую, ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может,
провести в своем произведении и которые могут казаться мне совершенно
несостоятельными. Меня очень мало интересует вопрос о том, к какой пар-
тии, какому оттенку принадлежит Достоевский, каким идеям или интересам
он желает служить своим пером и какие средства он считает позволительны-
ми в борьбе с своими литературными или какими бы то ни было другими
противниками. Я обращаю внимание только на те явления общественной
жизни, которые изображены в его романе; если эти явления подмечены вер-
но, если сырые факты, составляющие основную ткань романа, совершенно
правдоподобны, если в романе нет ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и
приторной подкрашенное™, ни внутренних несообразностей, одним словом,
если в романе действуют и страдают, борются и ошибаются, любят и ненави-
дят живые люди, носящие на себе печать существующих общественных усло-
вий, то я отношусь к роману так, как я отнесся бы к достоверному изложе-
нию действительно случившихся событий; я всматриваюсь и вдумываюсь в
эти события, стараюсь понять, каким образом они вытекают одно из друго-
го, стараюсь объяснить себе, насколько они находятся в зависимости от
общих условий жизни, и при этом оставляю совершенно в стороне личный
взгляд рассказчика, который может передавать факты очень верно и обстоя-
тельно, а объяснять их в высшей степени неудовлетворительно»33.
(К счастью, роман Достоевского оказался абсолютно непрони-
цаем для такого подхода, и критик вынужден был констатировать
сплошную клевету на «нормальную» действительность и предоста-
вить роман ведению медиков, если они, конечно, сочтут его достой-
ным внимания.)
В сущности, непонимание всегда можно определить по степени
критичности отношения к сотворенному. Чем больше отброшено (не
у-своено), тем ниже уровень понимания.
Насколько слово лишается исследователем онтологичности, на-
столько же (в той же точно степени!) лишается им онтологичности и
художественное произведение, несмотря на подчеркнутый факт об-
особления и самостоятельности его по отношению к творцу: «Пре-
клоняет ли художник колена пред своим созданием или подвергает
его заслуженному или незаслуженному осуждению— все равно он
316
Слово, творящее реальность, и категория художественности
относится к нему как ценитель, признает его самостоятельное бытие.
Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя пе-
редать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его
собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства;
поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) разви-
вается уже не в художнике, а в понимающих»34.
Здесь слово (творение) выступает в лучшем случае как некая вещь
в себе, брошенная, изверженная сознанием художника, чтобы пробу-
дить сознание зрителя; как нечто, чья функция сводится к толчку, к
удару, то есть к поверхностному соприкосновению, а внутреннее на-
полнение имеет значение для придания тяжести, веса, то есть созда-
ния условий, при которых «удар» вообще может быть нанесен.
Специфика позиции собственно литературоведческой— в том,
что ее должно интересовать именно среднее звено, именно наполне-
ние «снаряда», то есть слова или произведения, и только для прояс-
нения их значения литературоведу нужны и могут послужить чита-
тельские «восприятия», которые, однако, могут быть и безусловно
отброшены, если читатели очевидно заняты собой, а не произведени-
ем. С точки зрения же психологического подхода абсолютно все чи-
тательские реакции включаются в «неисчерпаемое возможное содер-
жание» произведения, которое «условлено его внутреннею формою»,
но не порождается ею, как можно сказать, признавая онтологический
статус произведения и слова, а лишь может быть вложено в него35.
Все рассуждения Потебни, однако, помогают понять, что «худо-
жественность» слова или произведения и есть его онтологичность.
Когда говорящий не постигает слово, творящее новую реальность, но
пытается выразить себя в слове, присвоив его и насильно навязав ему
себя в качестве выражаемой реальности, из произведения исчезает то,
что мы называем художественностью. Таковы, как правило, стихи
подростков.
Вообще, хорошей иллюстрацией вышеизложенных рассуждений
может быть краткий анализ одной необычной книги36, составленной
из произведений множества авторов. Все они — дети. Детской лите-
ратурой это назвать нельзя — имя уже занято, детская литература —
это то, что пишут взрослые для детей. Произведения, составившие
книгу, писались детьми для самих себя, для других детей, но почему-
то кажется, что главное — для взрослых. Так что книга эта — шанс
для взрослых заглянуть в мир, который существует для детей. Сквозь
маленькие — иногда мутные, иногда пронзительно-ясные — окошки
стихотворений, сочинений, сказок, рассказов увидеть их радость и
317
71 A. Касаткина
боль, их страхи и разочарования, их особость и их похожесть, но
главное— удивительную живость, животворность, одушевленность
того мира, который видят дети. Они с легкостью пишут рассказы от
лица кукол и кошек, дневник собаки на каникулах и размышления
кресла о своих хозяевах, описывают сны снежинок и рассказывают о
похождениях мягкого знака. Они не то чтобы верят в чудеса — чуде-
са с ними просто случаются. Им не надо ничего придумывать —
слишком многое просто есть. А взрослые об этом уже не помнят,
потеряв способность слушать и слышать, слишком занятые сами
собой, чтобы подумать даже о том, отчего их малыш загрустил, не
говоря уже о печалях трав и цветов, приблудного щенка или поте-
рявшейся снежинки. Сквозь неуклюжие иногда слова детей проры-
ваются неудержимо доброта и внимание ко всему вокруг. Может
быть, поэтому (именно поэтому!) все детские стихи несут на себе пе-
чать подлинности.
Особые отношения детей этого возраста со словом неожиданным
образом раскрываются в одном примечании Потебни, приводящего
свидетельство и методическую рекомендацию составителя «одного
малоизвестного букваря»: «Может случиться, что ученик не будет
отделять слова от предмета, например, если спросить его, какой звук
(то есть какая гласная) в слове стол, может случиться, что он будет
смотреть на стол и не находить там никакого звука. В таком случае
нужно довести его до того, чтобы он мог представлять себе слово как
нечто отдельное от предмета (! — Т. К.). Этого можно достигнуть
объяснением неизвестных ему слов» (Завадский)37. Из предлагаемой
методической рекомендации можно заключить, что слово начинает
существовать отдельно от предмета (в своем втором качестве — «ше-
лухи») не ранее появления «незнакомых слов», то есть, согласно би-
блейской истории, не ранее вавилонского смешения языков.
Иначе — у подростков. Диву даешься, насколько все сразу меня-
ется, стоит человеку перешагнуть тринадцатилетний возраст. В цент-
ре мгновенно оказывается он сам, его чувства, его переживания, боль
и обида — и поразительно, до какой степени из «подростковых» сти-
хов исчезает всякая индивидуальность. Они, за немногими исключе-
ниями, будто написаны по шаблону, однако совершенно очевидно,
что каждый пытался отобразить свое собственное неповторимое
чувство, свою любовь, свою разлуку. Нигде с такой наглядностью
невозможно увидеть, что личность человеческая проявляется не в
самовыражении, а в прислушивании к другому, в попытке выразить
не собственную эмоцию, во внутренней необходимости сказать —
318
Слово, творящее реальность, и категория художественности
за молчащего. Впрочем, Гете давно заметил, что истинный стиль
рождается как проникновение автора в глубь предмета, как постиже-
ние автором внутреннего принципа вещи, как выражение мира, а не
себя.
Зато подростки — прозаики, резонеры и аналитики. Дети пока-
зывают нам рай, где человек еще понимает слова вещей. Подростки
ставят и решают проблемы, связанные с потерей рая. А значит — и с
потерей райского, полновесного, слова. И нам становится понятнее,
на каких именно путях оно покидает человека.
Таким образом, художественность есть полновесное, то есть не
присвоенное творящим, неизнасилованное слово, слово, не лишенное
глубиной непостижения его творящим способности творить, вызы-
вать к жизни стоящую за ним реальность. Слово, не лишенное ис-
кусственным словоупотреблением своей естественной магичности.
Точнее сказать, художественность— это дарованная творцом воз-
можность этому слову быть, совпадение интенции слова и художни-
ка. Еще точнее — прямое указание художника воспринимающему на
реальность, создаваемую словом. Отсутствие художественности —
несовпадение жеста творца с интенцией слова, когда его указующий
перст обращен в пустоту, мимо созданной и незамеченной реаль-
ности, сотворенной словом.
В сущности, за всем сказанным стоит простая мысль о подчинен-
ности, подвластности человека слову, а не слова человеку. Мы це-
ним, верим, доверяем тем, кого называем «людьми слова», то есть
людьми, добровольно подчиняющими себя слову, обещанию, сотво-
рению, воплощению обещанного — людьми, служащими раз произ-
несенному слову. И наоборот, людей, о которых можно сказать, что
«как лакеи, служат вам слова, любое приказанье исполняя»38, мы
опасаемся, справедливо предполагая в них лукавство, которое есть
ни что иное, как подтасовка реальности и стремление выдать не су-
щее за сущее.
Один из университетских наставников Серена Киркегора, поэт и
философ Поль Мёллер в своем собрании афоризмов писал: «Ложь —
это поэзия, приходящая не из жизни»39. Здесь также подчеркнуто, что
стремление о-поэтизировать, то есть самовольно привнести в твори-
мое словом нечто, ему (слову и вещи, им сотворяемой) не свойствен-
ное, не соприродное, но лишь желаемое поэтом, и порождает аффек-
тацию, перерождающуюся в пошлость просто по причине приобре-
319
T. A. Касаткина
таемой авторским словом внутренней пустоты. Оставшиеся пустые
контуры слова, конечно, допускают проделывать с собой что угодно,
позволяют любые искажения, остающиеся посторонними им: так
сдутую и растянутую оболочку надувного шара можно произвольно
приминать и раскладывать, — но, в общем, стремятся к унификации,
к скруглению, стиранию формы вещи, ибо не держатся уже каркасом
ее смысла и бытия. Так готический замок, оплывая от тщетного
«жара души», превращается в пряничный дворец. Пошлое слово —
это слово, насильно сделанное безответственным перед бытием, то
есть насильно оторванное личностью автора от своего божественно-
го Первоисточника, заслоненное творцом от Творца, узурпирован-
ное творцом у Творца. Это слово в тени творца. Поэтому пошлое
слово тошнотворнее слова похабного: последнее раскрывает отвра-
тительную реальность, первое затягивает в пустоту отсутствия вся-
кой реальности, вызывая головокружение и тошноту.
Взаиморасположение слова и человека в европейской науке двух
последних столетий и следствия такого их расположения наглядно
показаны в заключительных пассажах работы К. Г. Юнга «Анали-
тическая психология и мировоззрение». «Основной ошибкой любого
мировоззрения, — утверждает Юнг, — является удивительная склон-
ность считать истинными сами вещи, тогда как в действительности
они являются всего лишь названиями, которые мы им даем (здесь,
очевидно, не очень хороший перевод, но понятно, что речь идет все о
том же соотношении «вещи» с «именем», то есть о том, является ли
имя сущностью вещи или всего лишь произвольным ярлыком.—
Т. К.). Будем ли мы спорить в науке о том, соответствует ли название
"Нептун" сущности небесного тела и является поэтому единственно
"правильным" названием? Отнюдь! И это есть причина, почему нау-
ка является более ценной, ибо она знает только рабочие гипотезы.
Лишь первобытный дух верит в "правильные названия". Если гнома
в сказке называют настоящим именем, то его можно разорвать на
куски. Вождь скрывает свое настоящее имя и дает себе для повсе-
дневного употребления экзотерическое имя, чтобы никто не смог его
заколдовать, узнав его настоящее имя. В гробницу египетского фа-
раона клали предметы с надписанными и символически изобра-
женными именами богов, чтобы он одолел их, зная их подлинные
имена. Для каббалистов обладание настоящим именем бога означает
абсолютную волшебную силу. Короче говоря: для первобытного
духа посредством имени представлена сама вещь. "То, что он гово-
320
Слово, творящее реальность, и категория художественности
рит, тем становится", — гласит древнее изречение Пта (по одной из
версий (мемфисской) сотворения мира в Древнем Египте, Пта творил
мир мыслью и словом. — Т. К.).
Мировоззрение страдает от этой части бессознательной перво-
бытности. И так же, как астрономии пока ничего не известно о пре-
тензиях обитателей Марса по поводу неправильного названия их
планеты, так и мы можем спокойно считать, что миру абсолютно все
равно, что мы о нем думаем. Но это не значит, что нам нужно пере-
стать о нем думать. Мы же этого не делаем, и наука продолжает жить
как дочь и наследница старых, расщепленных мировоззрений. Но кто
обнищал при такой "смене власти", так это человек. В мировоззре-
нии старого стиля он наивно вложил свою душу в вещи, он мог рас-
сматривать свое лицо как лик мира, видеть себя подобием бога, за
величие которого не слишком трудно было заплатить кое-какими
наказаниями ада. В науке же человек думает не о себе, а только о
мире, об объекте: он отмахнулся от себя и пожертвовал свою лич-
ность объективному духу. Поэтому и в этическом смысле научный
дух стоит выше, чем старое мировоззрение.
Но мы начинаем ощущать последствия этой гибели человеческой
личности. Повсюду встает вопрос о мировоззрении, о смысле жизни
и мира. Также многочисленны в наше время попытки вновь зани-
маться тем, чем занималось мировоззрение древности, а именно тео-
софией, или, если это больше по вкусу, антропософией. У нас есть
стремление к мировоззрению, во всяком случае, оно есть у более мо-
лодого поколения. Но если мы не хотим развиваться в обратном на-
правлении, то новое мировоззрение должно покончить со всяким
суеверием в свою объективную силу, оно должно суметь признать,
что является лишь картиной, которую мы рисуем ради нашей души, а
не волшебным именем, с помощью которого мы постигаем вещи. Мы
обладаем мировоззрением не для мира, а для себя. Если мы не созда-
ем образа мира как целого, то не видим также и себя, ведь мы яв-
ляемся точными отображениями именно этого мира. И только в зер-
кале нашей картины мира мы можем увидеть себя целиком. Только в
образе, который мы создаем, мы предстаем перед самими собою.
Только в нашей творческой деятельности мы полностью выходим из
тьмы и сами становимся познаваемы как целое. Никогда мы не при-
дадим миру другое лицо, чем наше собственное, и именно поэтому
мы и должны это делать, чтобы найти самих себя. Ибо выше, чем
самоцель науки или искусства, стоит человек, создатель своих ору-
дий. Нигде мы не стоим так близко к самой возвышенной тайне всех
11 - 1379
321
T. A. Касаткина
начал, как в познании собственной Самости, которая по извечному
нашему заблуждению всегда кажется нам уже известной. Однако
реально глубины мирового космоса известнее нам, чем глубины Са-
мости, где мы, правда сами того не ведая, можем почти непосред-
ственно украдкой наблюдать за творческим бытием и становлени-
ем»40.
Утверждая, что в науке человек думает не о себе, а только о мире,
об объекте, Юнг наделяет положительным этическим смыслом («по-
жертвовал своей личностью объективному духу») по меньшей мере
сомнительное в этическом плане действие. Ибо все начинается с того,
что человек начинает думать о мире как об объекте, и его потеря на
этом пути собственной личности является лишь следствием того, что
прежде он лишает личности мир, устраняя таким образом возмож-
ность и необходимость существования собственной личности, заклю-
чающуюся в востребованности со стороны полноценного другого.
Личность, оказавшаяся перед зеркалом, запертая внутри психологи-
ческого солипсизма, фактически объявляемого Юнгом, бьется о
стекло в своем порыве к мнимому другому, пока не истощится в
тщетных попытках установить контакт с собственным отражением.
Но если она поймет, что перед ней лишь зеркало, а больше никого не
существует, а если даже и существует, то она лишена возможности
хоть что-либо достоверно знать об этом, она уляжется в конце кон-
цов у стекла в тоске и печали, и никакие объяснения, что ей необхо-
димо смотреться в зеркало мира ради душевного здоровья, не заста-
вят ее вновь взглянуть в эту сторону. Невозможно сделать вид, что у
мира есть душа, и если объектность мира неизбежно заставляет чело-
века «пожертвовать» своей личностью «объективному духу», то есть
если объектность мира неизбежно лишает человека души и личнос-
ти, то, используя доказательство от противного, можно сказать, что
в том случае, если человек обладает личностью и душой, мир не объ-
ектен.
А душу мира Юнг очевидно и последовательно связывает со сло-
вом. Имя оказывается первоосновой, душой вещи, с которой и искал
контакта «первобытный дух», и от которой, посредством утвержде-
ния конвенциональности значения слова, отгородился зеркальной
стеной дух современности. Именно идея конвенциональности, то есть
«назначения» слова субъектом для объекта, и становится «зеркалом»,
сквозь которое, однако, пытаются разглядеть «объективную реаль-
ность» вещи.
Что же касается предостережения Юнга о неизбежности возврат-
322
Слово, творящее реальность, и категория художественности
ного движения, о «развитии назад» в случае, если мы возвращаемся к
свойственному всем (согласно Юнгу!) мировоззрениям представле-
нию об онтологической природе слова (и, надо сказать, что этот
страх обратного развития, регресса, становится решающим аргумен-
том против такого возвращения и даже, зачастую, причиной отвра-
щения от возможности любого мировоззрения), то вряд ли нас это
уже так пугает. Последняя возможность неомраченной веры в про-
гресс осталась во времени Потебни. Уже Юнгу приходится очищать
эту веру от всевозможных затемнений. И, главное, некоторым обра-
зом изменилось само наше положение по отношению ко времени. Тот
оптимистический разворот, который свойственен вере в прогресс,
человечество, как известно, приобрело очень недавно. Вот как крат-
ко описывает взаимоотношения человечества со временем на до-
вольно большом временном отрезке А. В. Михайлов, цитируя книгу
И. С. Клочкова «Духовная культура Вавилонии»: «"Обращенность к
прошлому свойственна культурам древности и Средневековья. Пси-
хологический поворот лицом к будущему начался, очевидно, в сере-
дине первого тысячелетия до нашей эры, под влиянием мессианских
учений и эсхатологических ожиданий, благодаря которым и высшая
значимость, и главное внимание людей были перенесены с прошлого
на будущее. Завершился же он лишь в Новое время..."
Мы говорили об этом: в истории культуры существует большой
переходный период, продолжавшийся примерно два тысячелетия, в
течение которого изменилось отношение людей к направленности
времени. Поворот лицом к будущему произошел за это время. При-
чем в принципе этот поворот лицом к будущему осуществился в сере-
дине первого тысячелетия до нашей эры, но, тем не менее, как бы
немножко недоосуществился и окончательно произошел уже в Новое
время — в XVIII, в XIX веках»41.
Суть же отношений со временем человека, глядящего в прошлое
характеризуется следующим образом: «Клочков пишет так: "...Ва-
вилонянин жил, оглядываясь в будущее, взвешивая время на весах и
ведя ему счет по прошедшим поколениям или по годам правления
царя. Его восприятие и представление о времени, безусловно, не мог-
ло не отличаться самым радикальным образом от современного ев-
ропейского понимания, на формирование которого оказали влияние
концепции точных наук Нового и новейшего времени...
Вавилонское время... очень вещественно. Это не чистая длитель-
ность, а в первую очередь сам поток событий и цепь поколений. Да-
же язык вавилонской науки, астрономии и астрологии, обходился без
il*
323
Т. Л. Касаткина
специального термина времени, хотя мы допускаем, что ученые вос-
принимали время не совсем так, как рядовые горожане, земледельцы
и пастухи. При таком восприятии времени, возможно, лучше вообще
не употреблять этот термин, а говорить просто о будущем, настоя-
щем и прошлом. Прошлое для вавилонянина — это не бездна единиц
вроде тысячелетий или веков, а конкретные события, деяния опреде-
ленных людей, предков, прожитая ими жизнь. Почти то же самое
можно сказать и о будущем. Будущее воспринималось, по-видимому,
не в качестве абстрактных дней или лет, а как то, что непременно
случится, как дальнейшее развертывание божественных предначер-
таний, неукоснительное исполнение божественных планов. Будущее
для вавилонянина — это не все то богатство возможностей, из кото-
рых может реализоваться та или другая, а именно то, что позднее
воплотится и станет прошлым по прошествии какого-то времени..."
Вавилонянин идет в будущее, но взор его устремлен в прошлое.
Будущее не становится реальным, пока не станет прошлым...»42
Из сказанного можно извлечь чрезвычайно интересное положе-
ние: оказывается, будущее определенно и линейно, то есть поступа-
тельно, прогрессивно и т. д., лишь при условии прошлого, взятого
как базовое время, как точка отсчета; будущее можно понять как
целестремительное движение лишь при условии взгляда, обращенно-
го в прошлое. В противном случае (вне своей однозначной вопло-
щенное™ в качестве «будущего прошлого») будущее ветвится воз-
можностями и вариантами, теряет поступательность, растекаясь в
невоплощенной равнозначности, болотом обступает человека, теряя
качество всякого пути (а не только ведущего к светлым вершинам).
Мало этого, как уже известно из нашего недавнего опыта, при базо-
вом будущем само прошлое становится вариативно, неопределенно и
недостоверно.
Таким образом, вера в прогресс была возможна лишь при полупо-
вороте человека в сторону будущего, когда сохраняется память о
линейности воплощенного прошлого. Как только этот поворот был
завершен, будущее пало и растеклось по равнине возможностей, сза-
ди нахлынули воды прошлого, и человек очутился в том обстании
времен, в котором находит себя сейчас. Река будущего оказалась
перегорожена некоей плотиной, и в эту стену уткнулся лицом чело-
век, и в нее же ударилась, разбившись, линейность прошлых времен,
оказалось, что он не ушел от них, но они вместе с ним пришли к этой
стене.
На мысль о том, какова природа этой «плотины», навело меня
324
Слово, творящее реальность, и категория художественности
высказывание Ю. Б. Борева, который в ответ на изложенное пред-
ставление о современном состоянии чувства времени сказал, что лю-
бой футуролог может указать на тот факт, что наши представления о
будущем формируются путем комбинации картин, сюжетов и т. д.
прошлого. Действительно, на это может указать любой футуролог. Но
это означает очень простую вещь. Видеть что-либо в какой-либо
перспективе (даже в перспективе болота) мы вообще можем только в
прошлом. Повернувшись лицом к будущему, мы оказываемся перед
концом, и это ощущение завершенности, эсхатологичности (от
греч. — крайний, последний, самый отдаленный), оказывалось свой-
ственно любой культуре, довершившей этот поворот. Взгляд в буду-
щее, если это действительно взгляд в будущее, а не в маскируемое под
будущее прошлое, это неизбежно взгляд за пределы наличествующего
бытия. В пустоту. Вот этот предел наличествующего бытия и есть та
плотина, о которую разбивается время.
При таком понимании ситуации времени становится понятен и
процесс «опустошения» слова. Слово полнозначно в миг Творения,
Слово есть Источник жизни, но — вообще двинувшись во времени,
запустивши этот механизм ухода самим фактом нашего отпадения от
Источника всякой жизни — мы вынуждены были все дальше и даль-
ше от Него отступать, все же не теряя из виду до тех пор, пока сохра-
няли «базовое прошлое». Начавшийся поворот всякий раз совпадает
с замечаемым началом «опустошения» слова, то есть творимая сло-
вом реальность начинает не просто отдаляться во времени, но и час-
тично исчезать из нашего поля зрения. Упершись взглядом в стену
«предела наличествующего бытия», мы завершаем процесс, полнос-
тью отворачиваемся от наличной реальности, от сущего и даже сущес-
твующего. Мы остаемся с «нагими именами», ибо вся сотворенная
ими реальность отныне располагается за нашей спиной. Мы оказы-
ваемся в мире миража, «пустословия» (недаром почитаемого тяжким
грехом), в ситуации сплошной и полной неверифицируемости, ласко-
во называемой «плюрализмом», ибо уже и головы не хотим (или —
не можем) повернуть, чтобы хоть взглядом вернуться к Истоку.
В такой экзистенциальной ситуации пугаться того, что какой-то
из спасительных постулатов окажется чересчур ретроградным — по
меньшей мере ретроградно.
Попытаюсь подвести некоторые итоги. Итак, в основе всех моих
рассуждений — апелляция к тем словам, которые «были в начале» и о
которых помнит не только иудейская и христианская традиция.
325
Т. Л. Касаткина
И если не во всех культурах существуют сказания о сотворении мира
из ничего словом, то все же о магичности слова, о том, что истинное
слово, истинное имя есть душа вещи, ее существо и основа, и в конце
концов — ее зерно, зародыш, помнит любая культура, о чем, в част-
ности, свидетельствует существование многочисленных табу, про-
должающих функционировать даже в самых современных технокра-
тических культурах, где давно существуют лишь слова, пределом
которым, по словам Н. Гумилева, поставлены «тесные пределы ес-
тества», отчего слова и умирают и, более того, «дурно пахнут» —
разлагаясь вовсе не безвредно для мира.
Ведь смысл табуирования, сохраняющийся даже для слов в «тес-
ных пределах естества», утративших, казалось бы, свою творящую
сущность, прекративших быть «ключом» и «паролем», позволяю-
щими овладеть вещью, и даже переставших служить окликом, ее при-
зывающим, в том, что на самом деле существование в реальности,
так сказать, реальный онтологический статус получает не совершён-
ное, которое может быть сколь угодно окказионально, а — произне-
сенное. И тогда умалчивание «из приличия» получает тоже совсем
другое значение — не лицемерия, но непропускания в реальность того,
чего в ней не должно быть. «Свет не карает заблуждений, но тайны
требует для них». Заблуждение здесь и есть случайность, уклонение,
которое приобретает статус реальности, претендует на онтологич-
ность и весомость лишь в процессе озвучивания. Неговорение, в та-
ком случае, — собственно и есть признание ошибки, наше «стыдно
сказать»— залог как бы отсутствия документа, удостоверяющего
личность события, указание на его контрабандное бытие — т. е. за-
лог его неокончательной воплощенности.
Так, от противного, удостоверяется в нашей культуре творящая
природа слова, и сентенция «того, о чем не говорят, нет» напоми-
нает о своем онтологическом, а не лицемерно-морализаторском ста-
тусе43.
Я говорю о слове порождающем, слове творящем. А это — в ос-
нове своей слово, вбирающее, содержащее в себе и то, что мы тради-
ционно относим в ведение других «искусств». Это не «синтетическое»
слово, собранное из различных «искусств», но слово живое и перво-
начальное, лишь в процессе своего разложения распавшееся на со-
ставные — музыку, слово, цвет, запах, и если судить по тому, какой
живительной силой обладают эти продукты распада, можно предста-
вить себе, как звучало неповрежденное слово.
Вот еще одно свидетельство поэта. Н. Гумилев в «Поэме начала»
326
Слово, творящее реальность, и категория художественности
описывает произнесение слова, согласно индуизму, лежащего в осно-
вании Вселенной:
Человечья теснила сила
Нестерпимую ей судьбу,
Синей кровью большая жила
Налилась на открытом лбу,
Приоткрылись губы, и вольно
Прокатился по берегам
Голос яркий, густой и полный,
Как полуденный запах пальм.
Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось в первый раз от века
Запрещенное слово: «ОМ»!
Солнце вспыхнуло красным жаром
И надтреснуло. Метеор
Оторвался и легким паром
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий
Где-нибудь за Млечным Путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове «ОМ».
Океан взревел и, взметенный,
Отступил горой серебра.
Так отходит зверь, обожженный
Головней людского костра.
Ветви лапчатые платанов
Распластавшись легли на песок,
Никакой напор ураганов
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной,
Тонким воздухом и огнем
Сотрясая тело вселенной,
Заповедное слово «ОМ»44.
Порождающее слово «ОМ», или, точнее, «АУМ», хорошо для
нашего рассмотрения еще и тем, что наглядно нарушает принцип
конвенциональности, произвольности сочетания звуковой оболочки
с семантикой слова, принцип, легший в основу сведения слова к его
коммуникативной функции. Здесь смысл рождается из сочетания зву-
ков, где максимально открытый «А» означает «все», рассредоточен-
327
T. A. Касаткина
ное первоначало, которое, путем концентрации и ограничения себя в
звуке «У», подготавливается к порождению нового во взрыве «М».
Здесь значение слова прочитывается определенно — как в привыч-
ном для нас слове, но определенность эта извлекается из звуковой
символики, вернее даже — из смысла звучания и звукового перехо-
да — как в музыке.
Однако мы давно живем в культуре, для которой, во всяком слу-
чае, для рефлексии которой, не внятна истинная жизнь слова. И, как
уже было сказано, здесь неожиданный путь открывается для литера-
туроведа, отважившегося искать оснований для своего взгляда на
слово внутри своей собственной науки. Повторю, что означенный
мною аспект, поворот восприятия самого слова, может быть уловлен
ныне лишь изнутри литературоведения, при именно и только литера-
туроведческом подходе к самой проблеме, он остается решительно
«за кадром» при попытке внедрения в литературоведение лингвисти-
ческого, социологического, психологического, философского (в
смысле последних двух веков) взгляда на слово, упорно определяю-
щего его через центральную философскую категорию последних двух
веков — категорию отношения, в свете которой главной функцией
слова и становится функция коммуникативная.
Впрочем, стала она «главной» функцией слова гораздо раньше,
в результате победы, одержанной в исторической перспективе но-
минализмом. Процесс этот кратко и внятно описан Джованни Реале
и Дарио Антисери при анализе знаменитой (или «пресловутой» —
именно это слово употреблено переводчиком и трудно не согласить-
ся с ним и авторами) «бритвы Оккама» (ок. 1280—1349): «Entia non
sunt multiplicanda praeter necessitatem» — «He следует умножать
сущности сверх необходимости». Эта формула становится главным
оружием критики платонизма и аристотелизма в том, что их объе-
диняет.
«Сначала Оккам отказывается от метафизики бытия в модусе
аналогий Аквината и однозначного бытия Скота {пытающихся
установить соотношение между Богом и миром, Бытием и существо-
ваниями. — Т. К.) по причине, что нет другой связи между конечным
и бесконечным как чистый акт божественной воли, по поводу кото-
рой бессмысленно рефлектировать {здесь полагается начало будущему
употреблению слова «схоластика» в исключительно ругательно-
пренебрежительном смысле. — Т. К).
Вместе с понятием бытия выводится и понятие субстанции. О ве-
щах теперь мы знаем лишь их качества и акциденции, обнаружи-
328
Слово, творящее реальность, и категория художественности
ваемые в опыте. Субстанция— разве что неизвестная реальность,
ради которой вряд ли стоит поступаться принципом экономии разу-
ма {а главное— субстанция оказывается не нужна, ибо возникает
основа для потребительского отношения к вещи, при котором стано-
вится не важно, что она есть, а важно лишь то, какое действие она
производит; перенося внимание с субстанции на атрибут и акциден-
цию, мы, по сути, отказываемся от любви во имя себялюбия и присвое-
ния. — Т. К).
По поводу метафизического понятия действующей причины эм-
пирически устанавливаемо, что есть разница между причиной и след-
ствием, первое предшествует второму. Возможно установление пра-
вил следования феноменов, но без метафизических претензий по по-
воду необходимости типа causa efïïciens (действующая причина), или
causa finalis (целевая причина). Нет смысла говорить, что нечто дви-
жимо любовью или желанием, ведь действие и так есть. Точно так же,
если огонь испепеляет дотла, то почему непременно вести речь о фи-
нальной причине, не достаточно ли пепла, говорящего о тщете дока-
зательств? (Так телеология начинает утрачивать свои позиции в евро-
пейском мышлении, постепенно вопрос о цели вообще объявляется
«антинаучным», законной становится только причинно-следственная
связь явлений. — Т. К.) <...>
Английский францисканец в видах оздоровления логики предла-
гает освободить мышление от ненужного смешения лингвистических
образований (а под «лингвистическими образованиями» понимаются
те самые «реалии», которые лежат в основе мировоззрения проигры-
вающего эту битву реализма. — Т. К.) с реальными, элементов дис-
курса с элементами объективными. Знаки, которыми мы располага-
ем, необходимы для описания и передачи информации, но не следует
приписывать символам другой функции, чем указание на то, чем
символы являются»45.
Таким образом «опустошенное слово» постмодернизма имеет дав-
нюю историю, вполне осмысленную его теоретиками— недаром в
программном постмодернистском сочинении Умберто Эко «Имя
розы» Вильгельм (главный герой) постоянно апеллирует к суждениям
«своего друга Оккама»46.
Но латинская фраза, которой заканчивается роман Эко, кажется,
могла бы засвидетельствовать понимание рассказчиком того, что
вещи, имена и реалии остались неразлученными между собой, и лишь
человек, попытавшись остаться при произвольно поименованной,
замкнувшей всю свою реальность в себе вещи, на поверку утратил и
329
71 А. Касаткина
вещи и имена: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» («Роза
при имени прежнем — с нагими мы впредь именами» — точнее: мы
овладеваем лишь голым (неимущим, обездоленным, незанятым, пус-
тым) именем. Но и первую часть пословицы можно перевести как
«роза остается с прошедшим (истекшим, вчерашним) именем», то
есть не розе принадлежит прежнее имя, но она принадлежит ему,
оставшись с ним в прошлом; мы же утрачиваем розу, присваивая себе
лишь пустое имя, искаженное этим опустошением (оно уже не
«прежнее»): что и сказано, хоть не совсем проявленно, в поэтическом
русском переводе.
Вот другой, более ранний, этап того же процесса, обозначивший
краткий миг, когда разлука вещи и имени, отрешение имени от соз-
данного им, начавшееся обнажение создали иллюзию освобождения,
свободы слова от реальности: «Разве вещь хозяин слова? Слово —
Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает,
как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность,
милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа во-
круг брошенного, но незабытого тела»47.
Но, радуясь свободе, Мандельштам с точностью поэта, не могу-
щего солгать в слове, называет радующий его процесс— смертью,
разлучением души и тела. Просто душа еще рядом — тело еще не
забыто ею. Имя еще не совсем нагое, и жизнь еще не в прошлом, а
всего лишь, если воспользоваться системой времен английского язы-
ка — в «настоящем совершённом».
Ср. высказывание Мандельштама со словами французского фи-
лософа Г. Башляра (1884—1962): «Я считаю себя грезотворцем слов,
мечтателем слов. Как-то слово останавливает мое внимание. И мои
глаза уже не следят за написанным. Слога, из которых состоит слово,
начинают передвигаться, тонические ударения меняют свое место.
Слово прощается со своим смыслом и покидает его как некий излиш-
ний груз, тянущий вниз и мешающий мечтать. Слова начинают тогда
обретать новые смыслы, как если бы они имели право быть юными.
И они улетают, находя в чаще словарей новых друзей, часто плохих
друзей»48.
Это, пожалуй, следующий этап по отношению к Мандельштаму.
На русской почве этот этап описывается иным образом: «(Т)е годы,
когда абсурд советской действительности стал очевидным и всепро-
никающим: ни в одной сфере общественной жизни не было связи
между означающим и означаемым»49.
Утратив реальность имени, мы оказались в разных реальностях с
330
Слово, творящее реальность, и категория художественности
вещами, мы оказались отделены от них, окружены потоком «мни-
мостей», порожденных «опустошенными» нами словами.
Но почему же именно литературоведу оказывается наиболее до-
ступен подход к слову, как к слову творящему? Потому что если где и
сохранилась, по всеобщему признанию, ныне эта функция слова, так в
пределах художественного текста! Она, можно сказать, укрылась в
границы художественного текста, и оттуда ее все еще не удается
окончательно выжить, несмотря на настойчивые попытки исследова-
телей, пытавшихся и художественную литературу свести к задаче
«познания мира» и передачи информации о «познанном».
Итак, суть того, о чем здесь идет речь, заключается в обращении к
слову как к главной реальности, с которой имеет дело наука о лите-
ратуре.
Самая влиятельная (и в смысле обладания авторитетом, и в смыс-
ле оказывания влияния даже на те направления в науке о литературе,
которые ее не признавали) школа недавнего прошлого — структура-
лизм— предпочитала рассматривать в качестве основной единицы
анализа сообщение^, сосредоточивая внимание на отношении между
элементами структуры, а не на самих элементах51, следуя в основном
русле европейской философии XX века, главной категорией которой
становится категория отношения. Такое перемещение акцента так
или иначе лежит в основе всей современной поэтики, сосредоточен-
ной на композиции, на складывании слов в единства более сложного
порядка, и на поиске смысла, порождаемого таковым складыванием.
Смысл, таким образом, стал искаться буквально между словами, в
высказывании, позволяющем в той или иной степени манипулиро-
вать словом, наполнять его смыслом по своему усмотрению, устана-
вливать его значение лишь в той или иной конструкции, ограничи-
вать его значением, требуемым для данной фразы. Слова стали
«опустошаться». Удивительно, что этот процесс до сих пор вызывает
удивление.
В силу указанного перемещения акцента основными категориями,
описывающими для исследователя структуралистского и, в значи-
тельной мере, постструктуралистского толка «все мироздание», стали
метафора и метонимия52, формы переноса, порождающие значение в
столкновении слов, вне собственно слов, за их пределами и граница-
ми, и, соответственно, открывающие широкое поле для авторской и
исследовательской субъективности. При таком подходе игнорирова-
331
T. A. Касаткина
лась главная реальность литературы и науки о ней. Предполагалось,
что писатель владеет словом, а не слово владеет им. Предполагалось,
что воспринимающий воспринимает слово и овладевает им, в свою
очередь «внося» в него собственное понимание53, переакцентируя
смысл высказывания в той большой степени, в какой это позволяет
смысл, витающий между словами и закрепленный лишь их связями
между собой — связями, каждая из которых может быть произвольно
актуализирована реципиентом. Все это предоставляло возможность
бесконечной интерпретации, вернее, бесконечного разброса интер-
претаций, ибо лишало исследователя того «сопротивления материа-
ла», который только и может положить конец индивидуальному про-
изволу. Это лишало исследователя собственно материала исследова-
ния — слова. Слова, в своей реальности неподвластного манипуля-
циям, ибо порождающего смысл не в сочетании лишь с другими сло-
вами, то есть не в конструкциях более высокой степени сложности,
но самого по себе смыслосодержащего и смыслопорождающего54.
Предлагаемый здесь литературоведческий подход базируется на
возвращении к осознанию творящей природы слова, в первую оче-
редь — творящей природы слова в художественном произведении.
Суть такого подхода состоит во взгляде на слово как на порож-
дающую субстанцию художественного текста. Подобный взгляд воз-
можен в том случае, если предполагается, что слово заключает в себе
некую реальность, не зависящую от воли участников коммуника-
тивного акта, реальность, которую они могут только заметить или не
заметить, осознать или не осознать, но не властны вызвать ее к жизни
или запретить ей быть по собственному произволению. Интенция
автора может лишь совпасть с реальностью слова или, напротив,
«заслонить» эту реальность от читателя. Такое представление впер-
вые дает твердую почву для определения зыбкого понятия «художес-
твенности». Произведение обладает свойством художественности,
если интенция автора совпадает с реальностью, которую заключает в
себе слово, если «указующий перст» писателя указывает читателю
именно в направлении реальности, творимой словом, образно гово-
ря, если писатель благоразумно помнит, что он не «творец», но лишь
«маг», призывающий творящие силы, чья мудрость заключается в
точном ощущении, когда к какой из этих сил надо обратиться. Если
автор узурпирует статус «творца», безоглядно самовольного и само-
надеянного, он рискует «промахнуться» мимо творимой словом ре-
альности; думая, что он может использовать слово по своему произ-
волению, или даже— по своей прихоти, писатель, в конце концов,
332
Слово, творящее реальность, и категория художественности
начинает указывать в пустоту. Тогда художественность, которая есть
не что иное, как встающая за словом реальность, исчезает из его тек-
стов, в них остается, в лучшем случае, сам автор, и текст лишается
своей общезначимости, придаваемой ему реальностью слова, сохра-
няя, в лучшем случае, частный интерес чего-то вроде «истории болез-
ни». Когда же автор исчерпывает себя (что, в случае самоуверенной
сосредоточенности на себе самом, происходит довольно быстро), в
его текстах, сквозь предпринимаемую им симуляцию реальности, на-
чинает сквозить пустота, которая воспринимается чутким читателем
как пошлость. Пошлость— это и есть тотальное «промахивание»
автора мимо реальности слова, заставляющее читателя созерцать
пустоту.
Предлагаемый подход состоит во внимании к тому, что «говорит»
слово, воспринимаемое во всем объеме заключенного в нем смысла.
Применительно к изучению русской литературы XIX века здесь
есть одно дополнительное затруднение. Радикальное отличие того
русского языка, на котором мы говорим сейчас (и который мы, как
правило, только и способны воспринимать в художественном произ-
ведении), состоит в резком сокращении смыслового объема, откры-
вающегося нам в слове. При этом мы находимся в приятном заблуж-
дении, что слышим именно то, что нам говорят. На самом деле, тот
объем смысла, который с легкостью, «на слух» воспринимался, по
крайней мере, определенным кругом читателей XIX века (на кото-
рых, как правило, и ориентировались писатели, так как были с ними
хорошо знакомы), для нас восстанавливается лишь путем кропот-
ливого исследования с привлечением множества источников. Книги,
по которым дети в XIX веке учились читать, сейчас часто знакомы
лишь специалистам. Из образовательного курса нескольких поколе-
ний в XX веке были исключены обязательно изучавшиеся, опять-
таки, определенным кругом в XIX веке древние языки, катехизис и
библейская история, практически исключены (ибо переработаны до
полной неузнаваемости) история древняя и отечественная. Следстви-
ем этого было не просто уменьшение объема знаний у читателей.
Лицо мира затмилось (ибо о нем не ведали и им пренебрегали) и
обернулось предметом. У читателя изменилось отношение к миру и
ко многим вещам этого мира, в том числе к слову. В массовом созна-
нии утвердилось (задолго до этого возобладавшее в европейской
философии) отношение к миру как к объекту, а к сотворенному сло-
вом — как к небывальщине, отношение, которому дольше всего со-
противлялось именно рядовое читательское сознание. Именно по-
333
T. A. Касаткина
этому простое, даже самое мощное, «информационное вливание»
ничему не может помочь. XIX век еще хорошо помнит о традиции
разговора с миром (стоит вспомнить стихотворение
Е. А. Баратынского «Приметы» (1839 г.)), чтения мира как книги, где
вещь становится словом, обращенным Богом к человеку, сквозь бы-
товую сценку проглядывает притча, а каждое событие жизни челове-
ка должно быть осмыслено как наставление и назидание. Отчасти
писатели XIX века указанной традиции следуют.
Обращаясь к слову, как к главной реальности с которой имеет де-
ло наука о художественной литературе, я полагаю, что именно здесь
лежит тайна качественного отличия художественного произведения
от любого другого текста, в котором на первый план выдвигается
смысл высказывания. Это качественное отличие не так давно в оче-
редной раз было осознано. Структуралисты и постструктуралисты,
сделавшие акцент на смысле высказывания и, соответственно, вполне
логично, положившие в основу анализа любого текста модель ком-
муникативной ситуации, очень быстро пришли к осознанию ущерб-
ности и неполноценности в этом смысле художественного произведе-
ния. Члены «группы мю» пишут: «Последним следствием такого ви-
доизменения языка является то, что поэтическая речь обнаруживает
свою несостоятельность как средство коммуникации». «Неполноцен-
ной коммуникативной ситуацией» называет художественное произ-
ведение (в ее терминах «нарратив») Е. В. Падучева55. Впрочем, при-
меры здесь очень многочисленны.
«Неполноценной» коммуникативной ситуацией художественное
произведение делает то, что замечательная итальянская переводчица
произведений Ф. М. Достоевского Кандида Гидини назвала «аурой»
слова, «аурой», которую честный переводчик обязан учитывать в
своих мучительных поисках слова, адекватного авторскому. «Аура»,
в сущности, и представляет собой то поле смысла, которое не задей-
ствовано в конкретном высказывании, но учтено в художественном
произведении.
Один простейший пример. Когда Раскольников возвращается в
свою каморку после совершения преступления, ноги его еле держат и
его качает. Ему кричат: «Нарезался!» В узком ситуативном контексте
слово это обозначает: «Напился». Но в романе «Преступление и на-
казание» слово начинает звучать как обличение, как указание на
только что совершенное героем преступление, хотя те, кто кричат, об
этом смысле слова ничего не знают. Теперь представим себе положе-
334
Слово, творящее реальность, и категория художественности
ние переводчика, который, переведя слово адекватно его переносно-
му значению — напился, упустит прямое — нарезался. Он, в сущности,
сведет художественное Повествование к коммуникативной ситуации.
Здесь, кстати, видно еп(с одно отличие коммуникативной ситуации
от художественного произведения (как это ни парадоксально, на
первый взгляд, прозвучит): коммуникативная ситуация более склон-
на использовать переносные значения слов и упускать из виду их
прямые значения. В художественном произведении слово предстает в
своей реальности, а значит, — непременно и как основное актуали-
зируя свое прямое значение, даже если к нему, как в приведенном
примере, по видимости и приходится продираться через переносное.
Ясно, однако, что художественное произведение потому и является
«неполноценной» коммуникативной ситуацией, что в нем актуализи-
рованы смыслы слова, которые не предусмотрены конкретным кон-
текстуальным его употреблением.
Надо отметить еще один момент: слово, в отличие от того, кто
кричит его Раскольникову, согласно с реальностью, и если перенос-
ное значение, актуализированное волей кричащего, решительно бьет
мимо цели (Раскольников не пьян), то прямое значение попадает
точно в цель.
Начиная свою работу словами о том, что вниманию читателей
предлагается подход, являющийся, по удачному выражению Лидии
Гинзбург, «плодотворной односторонностью», я менее всего имела в
виду сказать вежливую ложь или попытаться избавиться от обвине-
ний в отсутствии толерантности. То, что я заявляю в первых строках,
имеет непосредственное отношение к сути дела, ибо, в каком-то
смысле, то, что я могу позволить себе свою односторонность, оправ-
дано лишь долгим и плодотворным существованием той односто-
ронности структурализма и постструктурализма, от которой я оттал-
киваюсь. Над представленным мной подходом к слову, как заклю-
чающему в себе реальность, к слову, как к порождающей субстанции
реальности художественного текста, и подходом, делающим акцент
на отношении между словами, рассматривающим как основную еди-
ницу анализа сообщение, что неизбежно отсылает нас к модели ком-
муникативной ситуации, присутствует обобщающая идея. Эта идея
слова как посредника.
Структуралистский подход, делая акцент на значении слова, ак-
туализированного волей говорящего, абсолютизировал именно пере-
даточную роль посредника, сведя ее практически к роли посыльного.
Но посредник — не есть посыльный.
335
71 A. Касаткина
Посыльный лишь переносит информацию от одной стороны, от
одного участника коммуникативного акта, к другому и обратно,
причем он в расчет практически не принимаемся, он может вообще не
знать, какую информацию он несет. В пределе его участие должно
быть сведено к минимуму, к нулю — скажем, к цифре, к любому зна-
ку, могущему стать представителем любого означаемого, в зависи-
мости от принятой конвенции.
Посредник — тот, к кому стороны обращаются, ибо помимо него
контакт невозможен. То есть он обладает чем-то, чем не обладают
стороны, им связываемые.
Вот это что-то и ставится в центр данного подхода, подход пред-
ставляет собой сознательное сосредоточение на среднем звене, на
посреднике, на слове, порождающем плоть художественного текста.
При этом передаточная роль посредника практически упускается
мной из виду.
Эта односторонность, на мой взгляд, неизбежна и плодотворна,
если помнить о том, что отвлечение, здесь производимое, временно и
осознается как отвлечение. Я бы сказала, что это отвлечение есте-
ственно как позиция именно филолога. Идею слова как посредника в
ее полноте разрабатывала русская философия XX века, прежде всего
в лице Лосева и Флоренского.
Суть предлагаемого подхода заключается в попытке услышать то,
что говорит слово, не скованное рамками узкого контекста, не реду-
цированное к одному из своих многочисленных «значений», но взя-
тое во всей доступной нам полноте, ибо слово представляется не как
оболочка, способная временно заключать в себя то или другое актуа-
лизированное контекстом значение, но как смысловое поле, непре-
рывное и энергетически напряженное, не дискретное, не разбитое на
«кусочки» значений, но присутствующее во всей полноте всякий раз
при своем явлении.
Такое полноценное, полнозначное явление слова и представляется
основой того, что называют художественностью. Отсутствие или
наличие художественности в произведении, следовательно, зависит
от взаимоотношений слова и автора текста, который может всеми
силами помочь слову явиться, но может и попытаться использовать
его в своих узких, ситуативных интересах, «затенив» часть смыслово-
го поля, не приняв его во внимание: проигнорировав, следовательно,
то обстоятельство, что, кроме того, на что он рассчитывал, в тексте
присутствует еще нечто, им не предполагавшееся, что одновременно
разрушает контекст, но и само опустошается теснящим его контек-
336
Слово, творящее реальность, и категория художественности
стом. Понятно, что если автор не учитывает всей полноты значения
слова, тогда то, что присутствует в тексте помимо его воли и, следо-
вательно, может быть, опять же против его воли, воспринято читате-
лем, порождает неадекватность читательского восприятия авторско-
му замыслу. Интересно, что здесь мы приходим к определению худо-
жественности, аналогичному тому, которое формулирует Ф. М. Дос-
тоевский: «...Художественность, например, хоть бы в романисте, есть
способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою
мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так оке понимает
мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произве-
дение»56.
Таким образом, речь идет о методологии, о подходе, распростра-
нимом на самые различные области литературоведения. Один из
аспектов этого подхода можно описать словами Г. К. Честертона:
«Ни один разумный человек не хотел бы увеличивать количество
длинных слов. Но мне все-таки придется сказать, что нам нужна но-
вая наука, которая могла бы называться психологической историей.
Я бы хотел найти в книгах не политические документы, а сведения о
том, что значило то или иное слово и событие в сознании человека,
по возможности — обыкновенного. Я уже говорил об этом в связи с
тотемом. Мало назвать кота тотемом (хотя, кажется, котов так не
называли), важно понять, кем он был для людей — кошкой Уиттинг-
тона или черным котом ведьмы, жуткой Бает или Котом в сапогах.
Точно так же я хотел бы узнать, какие именно чувства объединяли в
том или ином случае простых людей, здравомыслящих и эгоистич-
ных, как все мы. Что чувствовали солдаты, когда увидели в небе
сверкание странного тотема— золотого орла легионов? Что чув-
ствовали вассалы, завидев львов и леопардов на щитах своих сеньо-
ров? Пока историки не обращают внимания на эту субъективную
или, проще говоря, внутреннюю сторону дела, история останется
ограниченной, и только искусство сможет хоть чем-то удовлетворить
нас»57.
Психологический антураж высказывания не совсем адекватен
моему подходу, но в данном высказывании (в отличие от работ По-
тебни) это действительно почти антураж. Вполне возможно сказать
иначе: с какой реальностью сталкивались люди, произнося то или
другое слово, перед чем они оказывались, имея дело с понятием для
нас абстрактно-невнятным и потому допускающим с собой любое
обращение, от в высшей степени невнимательного до в высшей сте-
пени произвольного? Иначе, говоря словами героя Л. Н. Толстого
337
T. A. Касаткина
(«Крейцерова соната»), что производит/производило над людьми то
или иное слово: «Что оно делает? И зачем оно делает то, что делает?»
Главный принцип описываемого метода — уловление бытия слова в
первичной реальности— говоря прямее и откровеннее, уловление
той реальности, которую первично заключает в себе слово.
ПРИМЕЧАНИЯ
■ Контекст 9. М, 1998. № 3. С. 134.
2 Впрочем, школа деконструкции (как и «новая» герменевтика) тоже пыта-
лись решить вставшую перед ними проблему поиска новых оснований пу-
тем сужения сферы поиска (нельзя не отметить, что вслед за этим (по
крайней мере, в деконструкции) последовала экспансия этой суженной
сферы на все пространство бытия). Вот что по этому поводу пишет
А. В. Лашкевич: «Общим местом в исследованиях по истории американ-
ской критики стало объединение герменевтики и деконструкции в единое
движение конца 1970-х гг. При этом почти все исследователи указывали в
качестве основного показателя этого единства на некий общий постфено-
менологический и постструктуралистский пафос, которым были отмечены
первые работы представителей нового движения, и в частности манифест
Йельской школы «Deconstruction and Criticism» (1979). В самом деле, не-
смотря на то, что к новым идеям каждый из мэтров этих школ приходил
своим путем, как, например, это сделали Пол де Ман и Уильям Спейнос,
все же общей почвой для них было отталкивание от господствовавших в
1960-е гг. идей феноменологии и структурализма и поиск новых оснований
для литературных исследований в сфере самой филологии». Лашкевич А. В.
Современная литературоведческая герменевтика: слово как деконструкция
Времени // Начало. М, 1995. Вып. 3. С. 5—6.
Но для них это сужение сферы связано прежде всего с разрывом (в
большей или меньшей степени) со всем тем, к чему, согласно предше-
ствующим взглядам, отсылал язык. В высказывании Винсента Лейча о
том, что Деррида украл референт, а Спейнос стал укрывателем краденного
и обозначен этот разрыв. И если история, в которой разворачивается и о-
смысляется для герменевтиков слово, сохраняет для них, как основную ка-
тегорию, смысл, хотя это и смысл времени (зависимый от времени, вре-
менной — ив этом смысле — временный, смысл), то любимая деконструк-
ционистами темпоральность «есть свобода временного смыслотворчества,
не ограниченная ничем, кроме самого языка и его ресурсов, не определяе-
мая даже интенциональностью (нацеленностью на познание и понимание)
субъекта— потребителя смыслов и значений. Само пост-структуралист-
ское понимание мира как (интер) текста предполагает именно свободную
игру смыслов и значений во времени, их распыление и рассеивание по эпо-
хам и периодам в зависимости от внутреннего состояния системы озна-
чающих — языка.
338
Слово, творящее реальность, и категория художественности
Деконструкционисты здесь выступают как наиболее радикальные про-
тивники ограничения этой смысловой игры и сторонники беспредельного
плюрализма в прочтениях и интерпретациях интертекста. Герменевтики
же пытаются ввести временной поток смыслотворчества в рамки опреде-
ленных исторических конвенций (традиций) и выявить в этом потоке не-
кие сущностные закономерности. Можно заметить, что именно здесь завя-
зывается узел кардинальных расхождений пути обеих школ— декон-
струкция уходит вглубь означающего, стремясь раствориться в самых тон-
ких структурах языка (слова), тогда как герменевтика пытается выявить
некий референт, лежащий за текстовыми пределами слова или, по крайней
мере, намеки на такой референт, заключающиеся в нем». Пашкевич А. В.
Указ. соч. С. 10—11.
Для меня же в моей попытке это сужение сферы есть некое отступление
в последний оплот слова в его реальности, и эта реальность есть никакая
другая, как онтологическая, то есть та, которая порождает реальность са-
мой реальности.
3 См., например: Гаспаров М. Л. M. М. Бахтин в русской культуре XX века //
Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. Совсем иначе, но тоже
отмечает деструктивность Бахтина по отношению к тому, что можно было
бы назвать его «материалом», Фридман И. Н. в статье «Карнавал в оди-
ночку» (Вопросы философии. 1995, № 11. С. 79—89.) О том же гораздо бо-
лее резко, чем Фридман, и с иных позиций говорит Фудель С. И. (см. его
«Наследство Достоевского» (М., 1998. С. 227—228)).
4 Гинзбург Л. Я. Запись 1927 года по поводу доклада В. Гофмана «Рылеев».
5 Ильин Д. П. Эстетический феномен в поэзии (анализ лирики) // Контекст-
1986. М., 1987. С. 115.
6 Насколько противоположно этому действие, которое производит ученый
(и которое он периодически пытается приписать поэту (и Поэту!)) лучше
всего видно из следующего рассуждения Николая Кузанского (Компендий
7, 23): «Основатель мира — художник и причина всего и, рассуждает кос-
мограф, относится изначально ко всему миру так же, как сам он, космо-
граф, относится к карте. А из отношения карты к истинному миру, рас-
сматривая умом истину в изображении, обозначенное в знаке, он созер-
цает в себе самом как космографе творца мира». Цит. по: Бибихин В. В.
Новый ренессанс. М., 1998. С. 328.
Здесь вещи связаны между собой отношениями референции, отсылки, а
не типологического подобия. Здесь обозначающее действительно имеет
внеположенное себе обозначаемое, и сущностное подобие вырождается в
аллегорию. А все потому, что не учитывается существо происходящего, в
силу чего противоположный жест принимается за тот же самый). Ведь
Основатель мира, к которому как бы отсылает образ картографа, разво-
рачивает мир из проекта, творя из ничего живое и необъятное все. Карто-
граф же сворачивает преднаходимый мир до проекта, и игнорируя то, что
делает нечто обратное творению, «созерцает в себе самом как космографе
творца мира». Создавая схему мира, картограф одновременно создает ил-
люзию своего им обладания. Под знаком этой ренессансной иллюзии мы
339
71 A. Касаткина
живем до сих пор. В. В. Бибихин, чьи симпатии несомненно принадлежат
ренессансу, так комментирует приведенное высказывание: «Мысль оттал-
кивается от мирового целого и в нем находит себе центральную опору. За-
долго до путешествий вокруг света ренессансные филологи и энциклопе-
дисты создали своим глобализмом, по выражению Буркхардта, «литера-
турную готовность», к великим географическим открытиям. Наоборот, в
Средние века, когда география плавно переходила в мифологию (мифо-
логией здесь и названо представление о сущностном подобии. — Т. К.), ми-
ровое пространство вовсе не из-за технической неоснащенности путе-
шественников и исследователей, а в принципе и по определению остава-
лось необъятным». Там же. С. 328.
7 Марина Цветаева. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Проза. Письма. М., 1988. С. 379.
8 Интересно, что Ф. М. Достоевский тоже не знал своих романов. Не помнил
до такой степени, что не мог назвать даже имен главных действующих лиц
по прошествии некоторого времени после публикации.
9 Марина Цветаева. Указ. соч. С. 384—385.
10 См. об этом, например: Митрополит Сурожский Антоний. Дом Божий.
Три беседы о Церкви. М, 1998. С. 16: «Ад Ветхого Завета — не тот ад, ко-
торый мы видим описанным у Данте или в полуфольклорной-полубо-
гословской литературе; это не место мучения, не место наказания, это не-
что гораздо более страшное. Тот шеол, который описан в Ветхом Завете,
это не место, куда идут грешники, это то место, куда идут все уми-
рающие— потому что все отделены от Бога. <...> Христос спускается в
эти глубины, и тут объясняется место псалма, где говорится: Куда, Гос-
поди, пойду я от Тебя? На небесах Твой престол, в аду — и там Ты еси
(см. Пс. 138: 7—8). Это пророческое слово, потому что оно противоречит
тому именно представлению об аде, которое качествовало в то время, вет-
хозаветному представлению об аде как о месте, где Бога нет, о месте, где
только тоска по Богу, вера Ему, поклонение Ему — как бы в Его отсут-
ствие».
Надо добавить — самое большее, что там есть, это тоска по Богу (и уж
совсем в редчайших, поначалу, случаях— вера Ему и поклонение Ему).
Так и в словах, ставших подобием шеола, самое большее, что иногда
есть — это тоска. И тоска — то, что делает их небезнадежными.
11 Говорю это в том смысле, в каком Марина Цветаева различает «одер-
жимость людей искусства» и «одержимость людей искусством»: «Искус-
ство есть то, через что стихия держит — и одерживает: средство держания
(нас — стихиями), а не самодержавие, состояние одержимости, не содер-
жание одержимости.
Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей
одной — поэт!
Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.
Это — о больших художниках.
Но одержимость искусством есть, ибо есть— и в безмерно-большем
количестве, чем поэт — лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии, глотнув-
ший, существо погибшее и для Бога и для людей — и зря погибшее.
340
Слово, творящее реальность, и категория художественности
Демон (стихия) жертве платит. Ты мне — кровь, жизнь, совесть, честь, я
тебе— такое сознание силы (ибо сила— моя!), такую власть надо всеми
(кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках — свободу, что всякая
иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть — мала, всякая иная сво-
бода — тесна
и всякая иная тюрьма — просторна.
Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему пла-
тит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько
я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда». Указ.
соч. С. 400—401.
12 См.: Иностранная литература. 1995. №9. С. 159—167.
13 Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 312. Первая публи-
кация: Дракон. Альманах стихов. Пг., 1921. Вып. 1.
14 Розанов В. В. Мимолетное. 1915 год// Начала. М., 1992. № 3. С. 32—33.
15 Мисима Юкио. Исповедь маски. СПб., 1998. С. 290—291. Для прояснения
позиции Мисима полезно привести анализ японского слова, используе-
мого для называния «языка», проводимый в работе Хайдеггера «Из диа-
лога о языке между японцем и спрашивающим». Это слово звучит как ко-
то 6а. «— Кото, событие светящей вести про-изводящей милости. — Ко-
то, стало быть, правящее событие... — а именно того, что требует сбере-
жения возрастающего и расцветающего. — Что в таком случае говорит
кото ба как имя для языка? — Услышанный из этого слова, язык есть: ле-
пестки цветения, происходящие из кото». Хайдеггер Мартин. Время и бы-
тие. Составление, перевод, вступительная статья, комментарии и указатели
В. В. Бибихина. М., 1993. С. 298.
Здесь не слово порождает событие, встречу, но слово как бы рождает-
ся, расцветает из события, встречи, скажем, духа и плоти. Не дух впервые
творит, оформляет плоть именем, но плоть расцветает именем от присут-
ствия в ней духа. Это совсем другое движение. Эти «цветы» могут быть
приняты и за коррозию...
Интересно— по сходству метафоры нечто здесь проясняющее— вы-
сказывание апостола (хоть он и говорит о «славе», а не о «слове»): «Ибо
всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве:
засохла трава, и цвет ее отпал, но слово Господне пребывает вовек» (1 Пет.
1,24—25).
16 Марина Цветаева. Указ. изд. С. 377. Курсив в цитатах мой, полужирный
нормальный шрифт — выделено цитируемым автором.
17 Там же. С. 381.
18 Михайлов А. В. «Несколько тезисов о теории литературы». Стенограмма
заседания Научного совета ОЛЯ РАН «Теория и методология литературо-
ведения и искусствознания» от 20 января 1993 года. С. 7.
19 Слово, которым пользуются таким образом, А. В. Михайлов называл «за-
крытым словом»: «Но вот, если смотреть на слова, близкие к нашей науке,
то здесь я могу только сказать, что есть слова, которыми современная нау-
ка по инерции пользуется как совершенно закрытыми словами. Есть слова,
немножко приоткрытые в историчности своего существования, и есть сло-
341
T. A. Касаткина
ва, которые немножко изучены в своей истории, ну, и слов, история кото-
рых представала бы перед нами вполне ясно, ни в какой науке о культуре,
ни в какой части науки о культуре, до сих пор еще нет. <...> Мне не надо
подыскивать примеры. Но это, одновременно, такие примеры — есть при-
меры пользования словами, которые абсолютно закрыты в своем смысле.
<...> (Э)тими словами пользуются как словами закрытыми, не отдавая се-
бе отчета в том, что требуют от нас эти слова». Там же. С. 9. Надо заме-
тить, что вообще онтология слова разворачивается для Михайлова в его
(слова) историю, раскрывается в его истории, и это, конечно, ближайший
путь к выяснению того, что заключено в слове — посмотреть на то, что уже
им создано.
20 Начала. М., 1992. № 3. С. 60.
21 Там же. С. 60—61.
22 Михайлов А. В. «Несколько тезисов о теории литературы». С. 7—8.
23 Там же. С. 8.
24 Там же. С. 9.
25 После объявления о «смерти автора» именно эта энергия все чаще воспри-
нимается как активная и аккумулирующая смыслы художественного текс-
та: «Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из
множества разных видов письма, происходящих из различных культур и
вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако
вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой яв-
ляется не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это
то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых
слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в
предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель —
это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь
некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст».
Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэти-
ка. М., 1994. С. 390.
26 Со многими оговорками, подобающими серьезному ученому, Потебня не
может все же не обратить внимания, хоть и вкратце, на подобное восприя-
тие слова в предшествующие века: «Не вдаваясь в серьезные исследования,
мы здесь только намекнем на отчасти известные факты, характеризующие
этот взгляд темных веков.
Теперь и в простом народе заметно некоторое равнодушие к тому,
какое именно из многих подобных слов употребить в данном случае. Судя
по некоторым пословицам (например, "не вмер Данило, болячка вдави-
ла"), народу кажется смешным не видеть тождества мысли за различием
слов. На такой степени развития, как та, на которую указывают подобные
пословицы, находимся мы. За словом, которое нам служит только указа-
нием на предмет, мы думаем видеть самый предмет, независимый от на-
шего взгляда. Не то предполагаем во времена далекие от нашего и даже во
многих случаях в современном простом народе, употребляющем упомяну-
тые пословицы. Между родным словом и мыслью о предмете была такая
тесная связь, что, наоборот, изменение слова казалось непременно измене-
342
Слово, творящее реальность, и категория художественности
нием предмета. <...> Это дает нам право предположить, что в то время,
когда слово было не пустым знаком, а еще свежим результатом апперцеп-
ции, объяснения восприятий, наполнявшего человека таким же радостным
чувством творчества, какое испытывает ученый, в голове коего блеснула
мысль, освещающая целый ряд до того темных явлений и неотделимая от
них в первые минуты, — что в то время гораздо живее чувствовалась за-
конность слова и его связь с самим предметом. И в самом деле, в языке и
поэзии есть положительные свидетельства, что, по верованиям всех индо-
европейских народов, слово есть мысль, слово— истина и правда, муд-
рость, поэзия. Вместе с мудростью и поэзиею слово относилось к боже-
ственному началу. Есть мифы, обожествляющие самое слово. Не говоря о
божественном слове евреев-эллинистов, скажем только, что как у герман-
цев Один в виде орла похищает у великанов божественный мед, так у ин-
дусов то же самое делает известный стихотворный размер, превращенный
в птицу. Слово есть самая вещь, и это доказывается не столько филологи-
ческою связью слов, обозначающих слово и вещь, сколько распространен-
ным на все слова верованием, что они обозначают сущность явлений.
Слово, как сущность вещи, в молитве и занятии получает власть над при-
родою. "Verba... Quae mare turbatum, quae concita flumina sistant" ("Слово,
что море волнует, что быстрый поток укрощает") — эти слова имеют та-
кую силу не только в заговоре, но и в поэзии (причем, не могу не отметить,
что поэзия и состоит именно в такой силе слова. — Т. К.) <...>, потому что
и поэзия есть знание. Сила слова не представлялась следствием ни нрав-
ственной силы говорящего (это предполагало бы отделение слова от мыс-
ли, а отделения этого не было), ни сопровождающих его обрядов. Само-
стоятельность слова видна уже в том, что, как бы ни могущественны были
порывы молящегося, он должен знать, какое именно слово следует ему
употребить, чтобы произвести желаемое. Таинственная связь слова с сущ-
ностью предмета не ограничивается одними священными словами загово-
ров: она остается при словах и в обыкновенной речи. Не только не следует
призывать зла ("Не зови зло, jep, само може дочи") <...>, но и с самым не-
винным намерением, в самом спокойном разговоре не следует поминать
известных существ или по крайней мере, если речь без них никак не обой-
дется, нужно заменять обычные и законные их имена другими, произволь-
ными и не имеющими той силы. Сказавши неумышленно одно из подоб-
ных слов, малорусский поселянин до сих пор еще заботливо оговаривает-
ся: "не прим1ряючи", "не перед шччю загадуючи" (чтоб не привиделось и
не приснилось); серб говорит: "не буди примщенено", когда в разговоре
сравнит счастливого с несчастным, живого с мертвым и проч., и трудно
определить, где здесь кончается обыкновенная вежливость и начинается
серьезное опасение за жизнь и счастье собеседника. Если невзначай язык
выговорит не то слово, какого требует мысль, то исполняется не мысль го-
ворящего, а слово. Например, сербская вештица, когда хочет лететь, мажет
себе под мышками известною мазью (как и наша ведьма) и говорит: "Ни о
трн, ни о грм (дуб и кустарник тоже, как кажется, колючий), ben на помет-
но гумно!". Рассказывают, что одна женщина, намазавшись этой мазью,
343
71 A. Касаткина
невзначай вместо "ни о трн и проч." Сказала "и о трн" и, полетевши, по-
разрывалась о кусты». Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
С. 172—174.
27 Там же. С. 174.
28 Там же. С. 180.
29 Потебня цитирует по: Humboldts W. von. Gesammelte Werke. Bd. I—VI,
Berlin, 1848.
30 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 180.
31 У меня здесь речь идет уже о том, что Лосев в своей работе назовет «пред-
метной сущностью» слова («Философия имени II А. Ф. Лосев. Из ранних
произведений. М., 1990. С. 76 и далее). Вот как, однако, он описывает по-
среднические функции слова еще между «субъектом» и «объектом», пред-
сказывая, кстати, и болезненный менталитет современной науки о языке,
пожелавшей оставаться в границах «лишь языка»: «Чистая ноэма есть как
раз то, что в обывательском сознании, т. е. в школьной грамматике и пси-
хологии, некритично трактуется как "значение слова" — без дальнейших
околичностей. Однако попробуем реально представить себе, что наше
мышление оперирует только ноэмами. Представим себе, что ноэма — сущ-
ность слова и последнее его основание. Это значило бы, что наша мысль,
выработавши известные образы, устремляется к ним и ими ограничивает-
ся. Произнося слово, мы продолжали бы ограничиваться самими собой,
своими психическими процессами и их результатами, как душевнобольной,
не видя и не замечая окружающего мира, вперяет свой взор в картины соб-
ственной фантазии и в них находит своеобразный предмет для мысли и
чувства, предмет, запрещающий выходить ему из сферы собственного уз-
ко-личного бытия. Впрочем, и здесь, вероятно, различается образ предме-
та от самого образного предмета. Предположивши, что произносимое на-
ми слово есть только ноэма, "то, что мыслится о" чем-нибудь, мы не вы-
ходим за пределы процессов мышления как таких и их результатов. А меж-
ду тем тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении
с другими людьми. Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой ин-
дивидуальности. Оно— мост между "субъектом" и "объектом". Живое
слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание
его сокровенных глубин. Имя предмета не просто наша ноэма, как и не про-
сто сам предмет. Имя предмета — арена встречи воспринимающего и вос-
принимаемого, вернее познающего и познаваемого. В имени — какое-то
интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к со-
вместной жизни их в одном цельном, уже не просто "субъективном" или
просто "объективном" сознании. Имя предмета есть цельный организм его
жизни в иной жизни, когда последняя общается с жизнью этого предмета и
стремится перевоплотиться в нее и стать ею. Без слова и имени человек —
вечный узник самого себя, по существу и принципиально анти-социален,
необщителен, несоборен и, следовательно, также и не индивидуален, не-
сущий, он — чисто животный организм или, если еще человек, умалишен-
ный человек. Тайна слова в том и заключается, что оно — орудие общения с
предметами и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жиз-
344
Слово, творящее реальность, и категория художественности
нью. Это выводит нас далеко за пределы простой ноэмы слова». Там же.
С. 38—39.
Вообще, русская философия 20 века, связанная так или иначе с имясла-
вием (Лосев, Булгаков, Флоренский), последовательно стремилась восста-
новить онтологическую сущность имени в сознании современиков— и
осталась до сих пор на «полях» истории философии 20 века, не востребо-
ванная и даже толком не прочитанная.
32 Ленин, безусловно могущий служить здесь экспертом, так отзывался о
статьях Добролюбова: «Из разбора "Обломова" он сделал клич, призыв к
воле, активности, революционной борьбе, а из анализа "Накануне" на-
стоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей
день не забывается». Валентинов Н. Встречи с Лениным. Vermont. Б/д.
С. 109. Цит. по: Дунаев M. М. Православие и русская литература. Часть
III. М, 1997. С. 75.
33 Писарев Д. И. Борьба за жизнь // Ф. М. Достоевский в русской критике.
М, 1956. С. 162.
34 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 181.
35 Там же. С. 181—182.
36 Пегас ворвался в класс. Стихи, рассказы, сочинения, сказки, афоризмы и
рисунки школьников Красноярского края. 1996. 303 стр.
37 Потебня А. А. Указ. соч. С. 218—219.
38 Шекспир Уильям. Генрих VIII. II акт, 4 сцена. Цит. по: Уильям Шекспир.
Поли. собр. соч. в 8 т. Т. 8. М., 1960. С. 266.
39 Цит. по: Роде Петер П. Серен Киркегор сам свидетельствующий о себе и о
своей жизни. Пер. с немецкого, сост. Приложения и послесловие Николая
Болдырева. Урал LTD, 1998. С. 50.
40 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. Пер. с нем. А. М. Боковикова.
М., 1993. С. 242—244.
41 Михайлов А. В. «Ангел истории изумлен...»// Михайлов А. В. Языки куль-
туры. М, 1997. С. 872.
*2 Там же. С. 873.
43 О функциях табуирования в культуре и, в частности, в художественном
мире Ф. М. Достоевского см. замечательное исследование Ольги Меерсон:
Meerson Olga. Dostoevski's Taboos. Studies of the Harriman Institute. Dres-
den University Press. Dresden — München, 1998. 227 p.
44 Николай Гумилев. Поэма начала // Николай Гумилев. Указ. изд. С. 470—471.
45 Реале Джованни и Антисери Дарио. Западная философия от истоков до
наших дней. Средневековье. Т. 2. СПб., 1994. С. 182—183.
46 См.: Эко Умберто. Имя розы. М, 1989. С. 18 и далее.
47 Мандельштам О. Э. Слово и культура. М., 1987. С. 42.
48 Bachelard G. Poétique de la rêverie. P., 1952. P. 15. Цит. по: Большаков В.
Психология художественного творчества Г. Башляра.
49 Степанян К. Постмодернизм — боль и забота наша // Вопросы литерату-
ры. 1998. Сентябрь — октябрь. С. 47.
50 Постструктурализм продолжает ту же тенденцию, еще дальше уходя от
«субстанции» к отношению: «Вероятно, "сообщение как таковое", как пи-
345
T. A. Касаткина
сал Якобсон, может рассматриваться как отдельный факт окружающей
нас действительности. Именно в таком ракурсе представляется язык на
первый взгляд: язык — это в каком-то смысле материализованные "фра-
зы", "слова", которые можно "фиксировать", сохранить при помощи
письма, записать на магнитофонную ленту и т. п. Только потом мы начи-
нает понимать, что эти фразы суть сообщения, адресованные одним чело-
веком другому, что они реализуются в той или иной физической субстан-
ции, что значение им приписывается по той или иной заранее принятой
договоренности. Эта псевдосубстанция на самом деле есть ни что иное,
как узел отношений». Общая риторика. М., 1986. С. 54—55.
51 Хрестоматийным стало высказывание Лотмана: «Структурный анализ
исходит из того, что художественный прием — не материальный элемент
текста, а отношение». Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л.,
1972. С. 24.
52 «В последние десятилетия центр тяжести в изучении метафоры перемес-
тился <...> в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и со-
знанию, к концептуальным системам и, наконец, к моделированию ис-
кусственного интеллекта. В метафоре стали видеть ключ к пониманию
основ мышления и процессов создания не только национально-
специфического видения мира, но и его универсального образа». Арутю-
нова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М, 1990. С. 5—6.
53 Принципиальный тезис «группы мю»: «Воздействие фигуры не содержится
в самой фигуре, а возникает у читателя в качестве ответа на определнный
стимул». Общая риторика. М., 1986. С. 71. Ср. согласие Л. С. Выготского с
определением художественного произведения как «совокупности эстетиче-
ских знаков, направленных к тому, чтобы возбуждать в людях эмоции».
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. С. 9.
54 Постструктуралисты, собственно, не отрицают стремления слова в худо-
жественном тексте к бытию «самому по себе», к тому, как можно сказать в
терминах предлагаемого исследования, чтобы перестать быть «гонцом»
человека и дать быть заключенной в самом слове реальности. Однако они
видят в этом некоторый ущерб, неполносмысленность художественного
слова: «Последним следствием такого видоизменения языка является то,
что поэтическая речь обнаруживает свою несостоятельность как средство
коммуникации. С ее помощью нельзя ничего сообщить или, скорее, можно
сообщить только то, что касается ее самой. Можно сказать также, что со-
держащееся в ней сообщение адресовано ей самой и эта "внутренняя ком-
муникация" есть не что иное, как основной принцип художественной фор-
мы. Включая в свою речь на всех ее уровнях и между ними множество обя-
зательных соответствий, поэт замыкает речь на ней самой: и именно эти
замкнутые структуры мы называем художественным произведением». Об-
щая риторика. М., 1986. С. 46.
55 Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вид в
русском языке. Семантика нарратива. М. 1996.
56 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990. Т. 18. С. 80.
57 Честертон Г. К. Вечный человек. М., 1991. С. 178.
346
Константин Баршт
Санкт-Петербург
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ
В СВЕТЕ ОТКРЫТИЯ А. ПОТЕБНИ
(ЗАМЕТКИ О РАКУРСАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО БЫТИЯ)
Складывается впечатление, что в литературоведении, как и в ис-
тории литературы, может возникнуть ситуация «вечного возвраще-
ния». С устойчивой регулярностью повторяется, по крайней мере,
одна история: вера в безграничные возможности формальной логики
заводит исследователя в тупик, из которого единственный выход —
к смыслу литературного произведения, за которым просвечивает
смысл Вселенной (Логос), затем приходит сомнение в этом Смысле
(или даже в самой возможности его существования), происходит об-
ратное движение от цельного и единого к кажущемуся таким реаль-
ным дискретному и детерминированному (лишенному системы Хао-
су), и опять, снова, по тому же кругу. Систематическое оказывается
синонимом ложного и полярным реальному. Терминологическое
оформление этого сюжета литературоведческой эстетики в разные
времена выглядело по-разному: «Пушкин/сапоги», «символ»/«реаль-
ность», «чистое искусство»/«утилитаризм», «эстетика прекрасного»/
«эстетика безобразного», формирование целого ряда нормативных
эстетик (классицизм, соцреализм), тотальный Смысл (Бог-Слово)/
изоморфная безжизненная «материя» и пр. Неизменным оставалось
одно: перемещение ценностного центра теоретической концепции от
одного логического предела к другому. Парадокс заключается в том,
что, борясь за внутреннюю непротиворечивость и строгую науч-
ность, теория доходит до парадокса, за которым всякий вопрос о
логике снимается. Путь самоотрицания маячит перед каждой науч-
ной концепцией в виде тяжкой, но реальной перспективы— нечто
вроде Апокалипсиса, подобным же образом нависающего над ис-
торией человечества.
347
Константин Баршт
Иногда можно поставить вопрос об удивительных совпадениях, в
которых невозможно отличить плагиат от «изобретения велосипеда»,
скорее все-таки второе, чем первое. Упомянутый сценарий типа: от
тотального Смысла к тотальной бессмыслице и от нее снова к едино-
му тотальному Смыслу — работает в тысячах вариантов, каждый раз
представая в новом терминологическом платье. Вот и современный
литературоведческий неопозитивизм (постструктурализм) проходит
сейчас маршрутом, который был хорошо освоен и активно разраба-
тывался около ста лет назад — когда под обаянием идей Соссюра и
Гумбольдта складывались первые представления о словесном знаке,
а позиции «точных наук» были сильны как никогда. Тогда возникли
первые формулировки вопроса о смысле связи между означающим и
означаемым, самой необходимости этой связи. У всех попыток найти
для литературных явлений независимый, научный и «не метафизиче-
ский» знаменатель обнаружилось правило: этот знаменатель всегда
оказывается расположенным в точке, вплотную приближающейся
либо к бесконечной дискретности, либо к абсолютному единству.
В ряде случаев концепты столетней давности выглядят свежее в тео-
ретическом отношении, чем недавно созданные теоретические кон-
гломераты.
Некоторые концепты современного постструктурализма застав-
ляют нас вспомнить теоретические конструкции А. Потебни.
Чтобы не оскорбить этим А. Потебню, вряд ли согласившегося
бы примкнуть к постструктуралистам, и заодно выполнить требова-
ние постструктуралистов не считать их взгляды какой-либо «теори-
ей», скажем, что эти точки соприкосновения характеризуются двумя
параметрами: 1) это, как правило, сходство не функциональное, но
внешне-конструктивного характера, 2) иногда сопровождается суще-
ственной редукцией, вплоть до превращения куба в квадрат. Однако
некоторые линии все же легко узнаются и требуют сравнительного
рассмотрения. Ссылки на прошлое здесь неизбежны, но мы попы-
таемся обойтись без того, что Поль де Ман назвал «судорожной рет-
роспекцией». Речь идет вовсе не о том, чтобы «воздать должное»
А. Потебне (жанр исследования, слишком популярный в прежние
времена) или восстановить справедливость — вот, дескать, первый и
настоящий автор изобретения не упомянут в патенте. Дело здесь в
другом, Потебня нам нужен потому, что он многое понял и сказал
лучше других, даже более поздних исследователей. Так что дело не
в его «историческом значении» или еще чем-то в этом роде, скорее,
в надежде на его помощь в выходе из трагического тупика, в кото-
348
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
рый забилось литературоведение, заболев столбняком неонигилизма,
осложненным социологическим неврозом.
В свой известной гипотезе о «внутренней форме слова»1 А. По-
тебня впервые указал на конструктивную особенность поэтического
слова, коренящуюся в его трехчленной структуре2. Тем самым он
впервые сформулировал основания для поэтики как вполне само-
стоятельной науки. Потебня отрекся от традиции культурно-исто-
рической школы в присущем ей пользовании словами как твердыми
и навеки застывшими кусочками лавы историко-культурного извер-
жения. Повсеместно принятая двучленная структура знака, («озна-
чаемое/означающее») представлялась Потебне слишком тяжеловес-
ной и малопродуктивной в теоретическом отношении, слишком мно-
го языковых явлений — особенно в области поэтического языка —
ей противоречили. Он ввел еще один элемент, учитывающий функ-
цию знака в акте выражения и, шире, как творческого акта мысли.
Описывая случай, когда ребенок называет абажур «арбузиком», По-
тебня добивался ясности понимания того очевидного сегодня факта,
что в процессе языкового освоения мира человек создает новые зна-
ки, основой для формирования которых служит семантический фун-
дамент языка— «внутренняя форма слова». Такие слова русского
языка как «удав», «подснежник», «светлячок», «пылесос», «паровоз»,
«жженка» столь ясно демонстрируют свою «внутреннюю форму»
именно благодаря поэтическому их осмыслению, составляющему,
согласно убеждению ученого, внутреннюю ось языковой коммуни-
кации.
В своих работах он настаивал на том, что «внутренняя форма»
слова — источник его жизни (или причина его умирания). Станови-
лось ясно, что каждое употребление слова являет только одно из мно-
гих его значений, и если мы думаем, что в разных случаях употребля-
ем одно и то же слово в одном и том же значении — мы ошибаемся:
«На деле есть только однозвучность различных слов..»3. Особенно
яркие примеры находил ученый в народной поэзии, обнажающей
этот механизм поэтической поддержки внутренней формы слова, на-
пример, в формулах типа: «красна-девица», «плакать-рыдать», «мо-
ре-океан» и пр. Оказалось, что в языке, при каждом употреблении
слова, нет стопроцентной повторяемости значений — значение выра-
батывается из конкретной смысловой ситуации, из языкового окру-
жения, в котором оказывается слово. Потебня обратил внимание на
то, о чем говорит «Грамматология» Ж. Дерриды: связь между озна-
чающим и означаемым отнюдь не так незыблема и прочна, как дума-
349
Константин Баршт
ли раньше; каждый раз, при очередном новом употреблении слова,
она выстраивается заново.
В годы, когда ученый начал разработку своей концепции, наука о
литературе чаще всего трактовалась как отрасль психологии, исто-
рии, философии, каждая из которых выступала со своими претензия-
ми на роль метанауки. Благодаря его работам, особенно книге «Из
записок по теории словесности» (1905), научная проблематика лите-
ратуроведения обрела самостоятельную значимость, перестав быть
сводимой к философско-эстетической публицистике, трактующей
«художественные особенности», «психологизм» или «народность» то-
го или иного литературного текста. Формулируя свою концепцию
поэзии как основы бытия языка, Потебня окончательно и безусловно
вывел художественную литературу из-под жесткого детерминизма
«социального заказа». Но особенно важно другое. Потебня показал,
что поэтический текст, основанный на трехчленном художественном
знаке, обладает спецификой, которая не позволяет свести его полнос-
тью к тексту коммуникативному. С другой стороны, ни одно из упо-
треблений языка не может обойтись без обращения к «внутренней
форме слова», следовательно — поэтической функции. Здесь возник-
ли первые штрихи потебнианского концепта панъязыка, объемлю-
щего собою реальность во всей ее полноте.
Художественное значение литературного произведения, по По-
тебне, строится аналогично лексическому значению слова, и наобо-
рот. «Содержание» — это совокупность идей, могущих быть воспри-
нятыми читателем. И, наконец, «внутренней форме» слова соответ-
ствует «образность» литературного произведения (в употреблении
этого термина Потебней — наглядная, символическая природа худо-
жественного знака). Ряд «образов», в том числе персонажей и обли-
ков различных предметов, соответствует образности «внутренней фор-
мы» слова. Эти два параллельных трехчленных ряда, слова и худо-
жественного текста, образовывали у Потебни стройную концепцию,
объясняющую смысл работы писателя со словом как разворачивание
в контексте его «внутренней формы» составляющих его слов. Таким
образом, поэтический образ был понят Потебней как «внутренняя
форма слова», включенная в структуру произведения.
Становилось ясно, что эстетическое значение произведения не в
том, что именно в нем «представлено» (не в «содержании», не в его
референциальности), но в том, каковы конкретные связи между «пред-
ставлениями» (элементами художественной структуры). Поэтический
образ впервые был осмыслен не в виде декорированного «художест-
350
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
венными особенностями» логического понятия (могущего существо-
вать и без упомянутого «декора»), но как компактный и по-своему
уникальный способ передачи и хранения информации. Гипотеза А. По-
тебни о «сгущении мысли» в поэзии основывалась на способности
поэтического символа вмещать бесконечно большие объемы смыслов:
любой длины ряд представлений (слов, текстов, образов) заменяются
здесь одним знаком, обозначающим все целиком. Эта мысль была бы
невозможна без представления о том, что поэтический смысл— это
концентрированное обозначение мироздания. Выявленный Потебней
принцип «экономии мысли», проявлялся в том, что «искусство вооб-
ще и в частности поэзия, стремится свести разнообразные явления к
сравнительно небольшому количеству знаков и образов, и им дости-
гается увеличение важности умственных комплексов, входящих в
наше сознание»4. Поэзия у Потебни выступила как самый адекват-
ный способ преобразования мысли в форму, доступную для восприя-
тия принципиально другой точки мировосприятия.
Творящий поэт, по Потебне, и не думает о передаче своих идей
другому человеку, он поглощен работой с внутренними значениями
слов, выработкой художественной формы как образного аналога со-
здаваемого им художественного знака — «образного значения текс-
та». Поэт уясняет мысль самому себе, и лишь тем самым он становит-
ся ценен для окружающих. Творческий процесс становится процес-
сом уяснения слова самому себе. Отсюда мысль Потебни, что слово
(равно как и все искусство) — «орган самосознания» человека и че-
ловечества. Творческий процесс — процесс самоотчета и самосозна-
ния, в котором слово играет ключевую роль. Творческий акт — это
акт душевной жизни писателя. Рождающееся слово требует выхода:
уместно вспомнить слова Ф. М. Достоевского, который писал из
каторги Н. Д. Фонвизиной, что если он не выразит выношенные им
за четыре года художественные образы, то они — «отравой в крови
разольются». Процесс рождения новой художественной формы для
Потебни — это процесс возрождения внутренних форм слов, окру-
жающих человека. Человек, таким образом, представлен как тексто-
вое существо, творчески преображающее среду своего обитания: окру-
жающий его пантекст. Учение Потебни не случайно называли «вели-
чественной», «незаконченной» постройкой5, смысл которой — в по-
пытке связать между собой два кардинальных понятия мировой
культуры нового времени: Мироздание и слово. Ему удалось наме-
тить пути для решения основной филологической проблемы— по-
нимания роли слова в культуре — как формы бытия.
351
Константин Баршт
Не избежал Потебня и обсуждения знаменитого «вопроса о ябло-
ке»— традиционного предмета филологического раздора в отече-
ственной филологии и эстетике. Если у материалиста Н. Г. Черны-
шевского натуральное яблоко всегда лучше описанного, а у пострук-
туралистов никакого яблока нет вообще, а есть только «яблочный
дискурс», то Потебня с яблоком в руках оказывается человеком, дер-
жащим связь между собой и миром в рамках описанности этого мира
для него. «Яблоко, которое я держу.... не выдумано мною, но оно
существует для меня настолько и в таком виде, насколько и как оно
воспринимается мною и насколько эти восприятия вызывают преж-
ние или сходные восприятия и мысли»6. Рецепция яблока предрешена
определенным кодом восприятия, но сам этот код— не железные
объятия Интертекста, не «отражение» материи, но определенный
ракурс, наклон Бытия в памяти индивидуума. Предвидя возражения
постструктуралистов структуралистам, еще задолго до появления
первых ростков «морфологического литературоведения» 1920-х гг.,
Потебня предложил вариант решения этой проблемы, которую из-
ложил в концепции словесного «индивидуального я».
Ясно, что, исходя из этого, Потебня должен был отрицательно
относиться к социокультурной критике, стремящейся рассматривать
художественное произведение безотносительно к его художественно-
му значению (образу), сосредоточенной на «подлежащем» — темати-
ческом пласте текста, рассматривая его «содержание» или «идей-
ность» (положительную или отрицательную — крайности смыкают-
ся). Попытки замкнуть критику текста на одном или нескольких вне-
текстовых факторах (включая сюда и объяснение одного текста дру-
гим) Потебня считал не филологическим анализом, а «переложени-
ем» литературного произведения — то есть его переводом на новый
язык, фактически созданием нового текста, отличающегося по смыс-
лу от рассматриваемого оригинала. Потебней было выдвинуто акту-
альное и доселе требование изучать художественную структуру про-
изведения, не заменяя этот анализ его историко-культурным описа-
нием или философско-публицистическим эссе. Такого рода крити-
ку он высмеивал, говоря, что она похожа на человека, который,
встретив красивую женщину, тут же спрашивает: «Где она купила это
платье?»
Слово Потебня воспринимал как реальное выражение человеком
отношения к миру, вопрос же о реальности мира, лежащем за преде-
лами слова, оказывается лишним вопросом. Само слово, без всякого
добавочного «референта», оказывается свидетельством о бытии, бо-
352
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
лее чем достаточным. Кладоискательские наклонности некоторых
современных филологов, не находящих «общего означаемого», ле-
жащего за словом, Потебне были чужды.
Разумеется, соблазн сформулировать в авторском метатексте не-
кий окончательный и универсальный, предельно «истинный» смысл
художественного произведения нависает над каждым исследователем
или интерпретатором текста. Бесспорно, немало научных авторите-
тов созидалось с помощью жесткого и агрессивного навязывания
определенной интерпретации (способа интерпретации) текста.
«Эпистема» давила и продолжает давить на каждого ученого, с
силой, пропорциональной дистанции, отделяющей его от общепри-
нятых мнений и расхожих моделей. Отдельные участки истории ли-
тературоведения напоминают бараки концентрационного лагеря —
являя собой образцы жесткого диктата «монолога над диалогом»,
пользуясь бахтинским термином. Стремясь к совершенному и точно-
му описанию того, каким текст видится исследователю, мы забываем,
что сама эта точность и полнота — всегда с определенной точки зре-
ния, с личной позиции самого исследователя, который никогда не в
силах будет освободиться от своего, данного ему вместе с жизнью
бытийного ракурса, индивидуального взгляда на Мироздание.
Исследования Потебни, его терминология, конечно, основыва-
лись на современных ему лингвистике и психологии (ассоциативное
и сенсуалистическое направления), но во многом опередили свое вре-
мя. Вопреки существовавшей тогда традиции, Потебня выдвинул
идею о тотальном влиянии, которое оказывает язык на все сферы
психической и творческой деятельности человека. По его мнению,
«внутренняя форма слова» проявляет себя в любом словесном выра-
жении мысли, следовательно— поэтическая функция присутствует
в любом языковом акте. Отсюда ясно, что литературная работа —
это профессиональная языковая деятельность, но любое обращение к
языку так же неразрывно связано с актуализацией поэтической функ-
ции, поскольку обращается все к тому же «знаку значения». Потебня
почувствовал, что поэтическое начало есть (может возникнуть) в лю-
бом тексте, особенно в случае, если воспринимающий сделает «уста-
новку на выражение»— придаст специальное «вторичное модели-
рующее значение» всем или некоторым сдвигам в значениях, которые
явились следствием, например, простой неточности, то есть не имели
какой либо телеологии. Именно поэтому поэзия, по его мнению,
«указывает цели науке, всегда находится впереди нее и незаменима
ею вовеки»7. Преодолевая позитивизм современных ему эстетических
12 - 1379
353
Константин Баршт
школ, Потебня настаивал на том, что мысль в акте языковой комму-
никации не подлежит прямой и непосредственной передаче, пере-
дается лишь способ («слово-образ»), с помощью которого слушаю-
щий (воспринимающий) может создать в своем сознании такую же
или, точнее, сходную мысль. «От одной горящей свечи зажигается
другая», — так формулировал Потебня смысл общения с помощью
слова, проясняя теоретическую базу будущих достижений филологии
XX века8.
Помимо значительного вклада в теорию языка, который сделал
Потебня своим открытием, оно оказалось чрезвычайно плодотвор-
ным для выяснения природы художественного знака и прояснило
сущность поэзии как языкового явления. Потебня утверждал, что
не только каждое литературное произведение написано на поэти-
ческом языке, но и каждое слово в его составе — своего рода худо-
жественное произведение. Более того, каждый акт словесного твор-
чества, в зависимости от степени удаления от базового естественного
языка, есть, более или менее, художественная конструкция. Вопрос о
структуре художественного произведения решался Потебней в рам-
ках вопроса о структуре слова. Слово — это уже произведение ис-
кусства, и его внутреннее устройство распространяется на все виды
текстов, состоящих из слов: «Элементарная поэтичность языка, т. е.
образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была
она заметна, ничтожна сравнительно с способностью языков созда-
вать образы из сочетаний слов, все равно, образных или безобраз-
ных»9.
Отсюда в каждом элементарном высказывании (назывании, пре-
дицировании) Потебня находил поэтическое творчество — ибо каж-
дое обращение к языку естественно связывается им с необходимым
обращением к «внутренней форме» слова. Вместе с тем, именно внут-
ренняя форма— точка, на которой сосредотачивается внимание
профессионального литератора, поэта, работающего над художе-
ственной формой. Именно за счет подбора слов, оттеняющих и ак-
туализирующих внутренние формы друг друга, создается литератур-
ный шедевр, в равной мере — в поэзии и в прозе. Ища сэязь между
каждодневным бытовым употреблением языка и профессиональной
литературой, Потебня неожиданно нашел объективный критерий по-
этичности — уровень возвышения внутренней формы слова в опре-
деленном речевом акте (контексте). Поэтическая работа, по Потебне,
превращалась в процесс возвращения словам их начального «знака
значения», преодоления заштампованности и безобразности, неиз-
354
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
бежно следующих за исчезновением первичного знакового представ-
ления слова10.
Отсюда ряд выводов. Оказывается, что поэтическая работа при-
суща любому речевому акту, безотносительно к его прагматической
задаче. Становится очевидной связь фольклора с литературой. Вся-
кий язык, а не только собственно поэтический, может быть описан
как искусство, а всякая языковая деятельность — как литературное
творчество (непрофессиональная, либо профессиональная). С этой
точки зрения направление работы поэта — восстановление «первич-
ной образности» слова за счет построения специальной конструкции
взаимной поддержки словами «внутренних форм» друг друга — ху-
дожественной формы. Ни «внешняя форма», ни его лексическое зна-
чение не имеют такого значения в творческой работе писателя, как
найденная им «внутренняя форма».
Коренное, уходящее в глубины этимологии значение слова, воз-
никшее при его формировании (часто — из междометия), связанное
непосредственной мотивировкой с обозначенным предметом, вместе
со всем бесконечным рядом его употреблений, пониманий, в преем-
ственности нынешнего значения по отношению к предыдущим —
«внутренняя форма слова» — оказывается главным источником поэ-
зии, как основы существования языка. Поэзии профессиональной и
спонтанно возникающей во время говорения, сознательной или бес-
сознательной. «Образность слова равна его поэтичности», — пишет
Потебня, и это значит, что поэзия, восстанавливая первобытную об-
разность слова, оказывается источником вечной жизни естественного
языка. Попутно выясняется бессмысленность попыток объяснения
значения художественного творчества исходя из «социального зака-
за» или концепции «чистого искусства». Поэтическое творчество зна-
чительно потому, что оно суть внутренний механизм обновления и
вечной жизни языка, за счет которого существует все общество в
целом. Художественное произведение оказывается не «хуже» жизни
(как считал Н. Г. Чернышевский и культурно-историческая школа) и
не «лучше» ее (романтизм, символизм), оно есть самоценная форма
вечного самовозрождения языка в форме обращения одной челове-
ческой индивидуальности к другой, и конечно, не существует вне
диалога, требующего двух несовпадающих сознаний.
Художественность, таким образом, непосредственно коренится
внутри самого слова, уже изначально таящего в себе зародыш поэ-
зии— «внутреннюю форму»: «первое слово уже есть поэзия11. По-
тебня придавал этой концепции глобальный смысл, делая вывод о
12*
355
Константин Баршт
первичности слова по отношению к мифу, пению, изобразительному
искусству и другим видам эстетической деятельности человека, счи-
тая речевую (читай: поэтическую) деятельность человека основным
содержанием и средоточием его жизни. Поэзия становилась основой
бытия так же, как слово — основной формой существования Миро-
здания. Свое учение о «внутренней форме» слова Потебня попытался
применить к анализу художественного произведения, впервые поста-
вив вопрос о едином текстовом значении художественного произве-
дения, которое может рассматриваться как единый знак. Внешняя
форма произведения— это его словесное воплощение, последова-
тельность слов, образующих тесное смысловое единство. Именно это
отличает художественный текст от нехудожественного— в послед-
нем это единство не является обязательным и принципиальным, текст
не образует единого значения, или не обязательно образует его12.
Таким образом, изучая акт художественной коммуникации, По-
тебня первым обратил внимание на то, что между говорящим и вос-
принимающим всегда находится не столько простой ряд понятных
обоим «означающих», имеющих совершенно ясные монументальные
«означаемые», но «внутренняя форма» слова, инвариант значения в
ряду бесконечного количества вариантов— цитата, цитирующая
сама себя.
У Потебни, как и у Ж. Дерриды, практическая деятельность чело-
века (включая производство и потребление) оказывалась внутри сло-
весной — поэзия описывает людям их самих и окружающий их мир
друг для друга и потому носит универсально-незаменимый характер.
«Перед человеком находится мир, с одной стороны бесконечный в
ширину, по пространству, с другой — бесконечный в глубину, беско-
нечный по количеству наблюдений, которые можно сделать на самом
ограниченном пространстве, вникая в один и тот же предмет»13. Поэ-
зия оказывается переводом нашего понятия о мироздании на язык,
способный связать между собой две независимые друг от друга и
несводимые друг к другу индивидуальности. Контакт в слове — это
актуализация того общего, что есть в этих двух языках— «внут-
ренняя форма слова», помогающая конвертировать смысл из одного
индивидуального идиолекта в другой. Отсюда ясно, что вне такого
контакта нет ничего; оказывается, что вне языка нет бытия, но сам
язык — свойство бытия. Все тексты и другие формы языкового вы-
ражения связаны этой идеей.
В конечном счете и литературоведение — это продукт филологи-
ческой рефлексии человека, для которого мало создать словесно-
356
Постструктурализм в свете открытия А. Потебпи...
символический образ Бытия. Желательно еще найти этому обозначе-
нию место в самом Мироздании — как его неотъемлемой части. Ра-
зумеется, если бытие есть: как удачно сформулировал инженер Ки-
риллов в романе Достоевского «Бесы»: «Бытие есть, а небытия нет».
Вопрос о вторичности «слова о слове» в таком понимании, конечно,
отпадает; противоречие между «основной» литературой и «неоснов-
ным» литературоведением снимается, подобно тому, как снято про-
тиворечие между сознанием и самосознанием воспринимающего мир
человека. «Вопрос об отношении мысли к слову предполагает
известный взгляд на значение слова для мысли и степень его связи с
душевной жизнью...» — как это сформулировал сто лет назад А. По-
тебня14. «И вот та "не-желающая-ничего-сказать-мысль", — продол-
жает далее Ж. Деррида,— ....которая начинается в грамматологии,
берет на себя как раз отсутствие всякой уверенности в оппозиции
между внешним и внутренним»15. Этот путь неуверенности в «оп-
позиции между внешним и внутренним» провел ницшеанского Зара-
тустру «по ту сторону добра и зла», он же, убивая художественный
знак, ведет нас мимо догмы «центризма»— по ту сторону слова.
Благородный протест ницшеанского «сверхчеловека» против деше-
вых радостей гуманистического детерминизма отливается здесь в
мрачное филологическое «подполье» концепций, отрицающих связь
слова со Словом.
Решение вопроса о смысле взаимоотношения литературы и жиз-
ни — неотъемлемая часть основного филологического «вековечного
вопроса»; особенность его постановки на русской почве в том, что
при всем разнообразии и теоретической глубине гипотез, созданных
в отечественном литературоведении, нет среди них ни одной, которая
строила бы свою теоретическую базу на идее полного отсутствия в
Мироздании какого-либо смысла. Даже формалисты, сосредоточен-
ные на имманентном анализе, жестко отсекавшие внетекстовые связи
художественного текста, отрицавшие художественную семантику и
«историю литературы», не сомневались в том, что этот смысл су-
ществует, и исходили из него. Литературный текст понимался фор-
малистами как нечто существующее имманентно, самодостаточное и
определенное. Самодостаточная концепция исторического реализма
обеспечивала условия для развития социологического и марксист-
ского литературоведения. Похожее место занимали миф для мифо-
поэтической школы или недра человеческой психики для литерату-
роведческого психоанализа. И так далее.
С другой стороны, очевидно, что любое слово, определяющее от-
357
Константин Баршт
ношение человека к бытию, может быть самодостаточным и внут-
ренне непротиворечивым, на каком тематическом материале оно бы
ни строилось (П. Флоренский, М. Бахтин, А. Лосев). Этим материа-
лом может быть и бытие человека в мире (литература), и бытие слова
человека о мире (литературоведение); широкие рамки филологии
избавляют нас от необходимости искать неразрешимые противоре-
чия между этими двумя сторонами одного и того же процесса. Слово
понимается как имя, имя— воспринимается как символ, одновре-
менное существование (сосуществование) факта бытия и его обозна-
чения. Отделить обозначаемое от знака возможно лишь если мы
предлагаем ему другое обозначаемое, например, в процессе художе-
ственного или научного творчества. Но если мы попробуем разру-
шить имя, отделив его фактичность от его словесности, убив его ду-
шу— символичность, то мертвое имя тут же покажется безличной
цитатой откуда-то.
Конечно, любое противопоставление в рамках бинарных оппози-
ций изначально страдает неполнотой, «хромает»; оно оказывается
возможным, конечно, лишь в случае, если обе части оппозиции так
или иначе связаны общим значением. Возможно, что на этом основа-
нии нет необходимости полностью отказаться от оппозиции. Вряд ли
можно одобрить действия хирурга, который отрезает хромому чело-
веку ногу, таким образом ликвидируя хромоту вместе с возмож-
ностью ходьбы. Отрицая «внутреннего человека»16 и описывая инди-
видуальность как тотальное внешнее существо, объясняя мотивы
движения человека за счет акцентирования его внешних зависимо-
стей, мы конечно, неизбежно придем к отрицанию структуры худо-
жественного текста— основой которой является независимая и са-
модостаточная точка зрения на мир. В этом случае любой текст, те-
ряя структуру, лишается границ— и растворяется в окружающих
текстах, целиком и полностью объясняясь лишь его внетекстовыми
связями (поскольку других попросту нет). Потебня видел эту пробле-
му и не игнорировал ее. Преодоление трудности он видел в следую-
щем. Процесс «собирания мира в целое» (поэзия) и «анализа мира,
разложения на части» (наука) виделся им не как отдельные друг от
друга и строго последовательные процессы, заменяющие и/или ис-
ключающие друг друга. Но как принципиально один процесс, обла-
дающий этими двумя отграничивающими понятие зонами. «Цель-
ность» и «детализация» — это как две колеи одного шоссе, обрам-
ляющие само дорожное полотно— по нему, склоняясь к той или
иной стороне шествует человек, поэт и ученый — одновременно, в
358
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
той или иной степени, конечно. Оппозиция по Потебне — здесь и в
других случаях — не имеет характера тотального взаимоотрицания
двух сущностей (кстати этот «мягкий» характер оппозиции оказался
присущим и Ю. М. Лотману). Речь идет о тесном взаимодействии
двух сторон одной медали, так называемом (Ж. Деррида) «различе-
нии» .
Подобно тому, как социальные «я» совершенно непохожих и раз-
ных людей могут быть идентичны, имена, потерявшие свою симво-
личность ^индивидуальность), неожиданно окажутся с одной сто-
роны очень похожими, с другой — восходящими к какому-то едино-
му корню, цитатами из некой традиции. Ю. Лотман сочувственно
цитирует А. Блока «Ложь, что мысли повторяются». В случае, если
слово — это имя. Однако все «мысли» окажутся только «повторен-
ными», если убрать символичность имени из слова. Мертвое слово
потеряет свою цельность, не сможет быть основой для строительства
художественной структуры, как не может живой организм состоять
из распавшихся клеток ткани. В лотмановском структурализме, не-
смотря на все его высокое наукообразие (некоторых по недоразуме-
нию приводившее к мысли о позитивизме), живет мысль о том, что в
художественном тексте, понимаемом как единый знак, выражен мир
как целое— с определенной точки зрения на него. Единому Слову
соответствует цельное Мироздание. Эта не оставляет нам возмож-
ности всерьез говорить о «разложении искусства» в метаописаниях
структур. Напротив, если мы откажемся от символичности слова —
высказывания людей о мире тут же распадутся, Слово разложится на
отдельные дискурсы, химические цепочки нитей мертвого тела Ин-
тертекста. Здесь коренится различие: «нет повторений» (Ю. М. Лот-
ман); «нет ничего, кроме повторений» (Ж. Деррида).
Описывая свойства текста (лишенного отграниченности и струк-
турности «дискурса»), Ж. Деррида указывает на мощное влияние
«центров», которые, в согласии с его «грамматологией», носят ха-
рактер последовательного подчинения «иного» и навязывания ему
«своего».
Ж. Деррида строит свою филологию («грамматологию»), оттал-
киваясь от философской этики — впрочем, этот путь уже проделал
М. Бахтин.
Сходство здесь в том, что в критике этических недоразумений ти-
па отождествления «я-для-себя» и «я-для-другого» М. Бахтин идет в
русле дерридианской грамматологии — но в момент окончательных
выводов их пути расходятся. Тотальное подчинение Интертексту
359
Константин Баршт
делает из человека текстового раба, и почва для контакта двух неза-
висимых и несовместимых точек бытия исчезает — вместе с эстетиче-
ским событием, требующим как минимум две такие взаимодей-
ствующие и равные друг по отношению к другу точки. Нет эстетиче-
ского события — рождается событие этическое — точнее, религиоз-
ное. Действительно, если изнутри концепции Бахтина посмотреть на
Интертекст, то налицо вариант отношения автора и героя, типологи-
чески сходный с вариантом «автор поглощает героя» (напр., ложно-
классицизм): автор (Интертекст) делает героя (человеческое созна-
ние) рупором своих идей, причем герой наивно высказывает («цити-
рует) точку зрения автора. Было бы естественно предположить, что
автор, полностью отрицающий какой-либо «личный почин», сводя-
щий любой текст к непроизвольной цитате, должен был бы отказать-
ся от подписи под своим текстом. Именно так поступал, например,
философ Н. Ф. Федоров, отказываясь ставить свою подпись и печа-
таться именно из-за отрицания авторства (правда, по совсем другим
соображениям).
Итак, опираясь на мысль о разорванной, лишенной всякого смыс-
ла вселенной, представляющей собой хаотическое нагромождение
материи, чуждой и враждебной человеку, беспомощно барахтающе-
муся в гуще созданных им за тысячелетия текстов и бесследно уми-
рающему среди этого хаоса, приходим к мысли об отсутствии необ-
ходимости искусства, ибо эстетическая коммуникация оказывается
делом случайным, маловажным и эфемерным. Язык и присущая ему
поэзия своим существованием отвечают на знаменитый тютчевский
вопрос: «Как мне узнать, чем ты живешь..», — формулируя один из
существенных ракурсов Бытия в новой точке зрения на мир, актуали-
зированной человеком-творцом. Альтернативный вопрос носителя
личного апокалипсиса: «Как мне избавиться от вопроса, чем ты жи-
вешь?» При отсутствии смысла в мироздании, не может появиться
никакого значения ни в ком: ни в «авторе», ни в «читателе», ни в
литературном герое. Диалог двух заинтересованных друг в друге
сознаний превращается в отчаянное и бессмысленное бормотание в
адрес мрачной пустоты, безо всякой надежды на ответ. В эту концеп-
туальную черную дыру, подобно хармсовским старухам, провали-
ваются один за другим теоретики литературы, так и не узнавшие
«иного»... Поэтому литературные (да и литературоведческие) труды,
написанные под этим модусом бытия, хранят очарование предсмерт-
ной записки убежденного атеиста.
Удивительно другое: то, что пишет Деррида о слове, может отно-
360
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
сится к любому другому слову, кроме его собственного. Если же при-
ложить его концепцию «грамматологии» к самой «грамматологии»,
то возникает эфффект филологического харакири.
С другой стороны, даже доказывая принципиальную сводимость
«да» к «нет» (и наоборот), нельзя всерьез говорить о полном отсут-
ствии смысла где бы то ни было, если в центре поиска находится
враждебный Логосу «концепт». Другими словами, позиция барона
Мюнхаузена, пытающегося вытащить себя за волосы из болота —
вариант текстовой позиции, в центре которой — отрицание рефе-
ренции и отсутствие Смысла, все же рассчитанного на понимание
«иным». Игнорируется то обстоятельство, что само существование
«иного» прямо зависит от возможности еще одной, равноценной точ-
ки зрения на мир, самая равноценность которой требует «знаме-
нателя», и при отсутствии оного оказывается невозможной.
Противопоставление внешнего и внутреннего в мире человеческо-
го «я», разумеется, носит относительный характер, и сами формы
таких противопоставлений характерны для разных типов ценност-
ных шкал и мировоззрений: романтизм — все внешнее во внутреннем
«я»; сентиментализм— в природе, классицизм и соцреализм— в
общественном и государственном, и пр. Гуманитарная наука су-
ществует, признавая это разделение, ибо при любом поглощении
внешнего внутренним или внутреннего внешним без следа исчезает
самоценное человеческое «я» — без которого нет диалога с другим
непохожим на него самоценным «я». Следовательно— становится
невозможен эстетический акт, оказывается без опоры положитель-
ный этический акт— возникает известная ситуация «по ту сторону
добра и зла». Одно из лучших ее описаний принадлежит Ф. Ницше,
гениально указавшему на смерть человеческого «я» в недрах соци-
альной детерминанты, нивелирующей личность — или в противопо-
ложных по направлению, но таких же бездонных недрах одинокого
«сверхчеловека».
Все попытки создать негуманитарную литературоведческую кон-
цепцию, с которыми выступали в разные годы представители разных
литературоведческих школ, оказались бесплодными. Трагедия мно-
гих научных направлений, связавших себя с методологией позити-
визма, заключались в отождествлении «научного» (понимаемого как
«точное») и «негуниматарного». Однако и в теории относительности
А. Эйнштейна, и в ее литературоведческом приложении (П. Флорен-
ский и М. Бахтин) было ясно доказано, что субъективная, личная
бытийная точка зрения — не помеха, а необходимое условие для соз-
361
Константин Баршт
дания любой концептуальной картины Мироздания. На этом фоне
кажется, что осторожное и простое предположение, что у всего нас
окружающего есть Смысл, субъективную модель которого и пред-
ставляет художественный текст, сделанное М. Бахтиным и подтверж-
денное Ю. М. Лотманом, выглядит как не слишком уж вычурный
эвристический проект.
Претендуя на какой-либо анализ литературного текста, исследо-
ватель должен сам себе (при необходимости— и своему коллеге)
ответить на два вопроса: что является объектом его исследования
(художественный текст, произведение, дискурс и пр.), и с какой
целью проводится его анализ. Существует некий набор вариантов
ответов на эти вопросы: художественный текст есть объективация
духа (романтики), произведение бесцельно, эстетическая деятель-
ность есть игра (Г.-Х. Гадамер и В. Фриче), художественное созда-
ние— прямое «зеркальное» отражение общественной реальности
(социологическая школа — В. Переверзев), поэтический текст есть
систематический набор определенных художественных приемов (фор-
малисты — В. Шкловский), или сформулированная в пространстве и
времени точка зрения человека на мир (М. Бахтин), свободный акт
художественного сотворчества человека Богу (Н. Бердяев) или осо-
бым образом организованная словесная структура, моделирующая
действительность (Ю. М. Лотман), и др.
При любом возможном ответе на эти два вопроса все-таки необ-
ходимо признание положительного отношения этого текста и бы-
тийной точки самого исследователя к Смыслу бытия; в противном
случае исследование не может быть проведено, оно останавливается,
лишенное предмета, цели и направления. Возможен ли полет, если у
него нет направления? Возможно ли обращение к другому «я» (пусть
даже с критикой «логоцентризма»), если отсутствует бытие? «Про-
клятые» вопросы множатся и множатся, каждый раз апеллируя к
«логоцентризму», упорно не отпускающему от себя слово языка.
Ясно, что ответ, формирующий отрицательное отношение к смыслу
(текста и цели исследования) снимает саму необходимость и возмож-
ность литературоведческого анализа. Извне литературный текст
представляет собой набор достаточно очевидных и легко описы-
ваемых языковых форм, и если мы признаем возможность исчерпы-
вающего описания художественного текста средствами лингвистики,
необходимость литературоведческого анализа (поэтики) тут же отпа-
дет, вместе со структурой текста, нами отрицаемой.
Само существование филологии связано с мыслью (иногда тща-
362
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
тельно скрываемой или подчас даже горячо оспариваемой) о наличии
у художественного текста смысла, полностью не исчерпывающегося
суммой его возможных прочтений, интерпретаций и вариантов мета-
текстовых описаний. Другими словами, как-либо относясь к художе-
ственному произведению, мы признаем наличие у него внутреннего
физического и смыслового пространства. Это позволяет отнестись к
нему как к «иному», построенному на не всегда знакомых принципах,
открывшихся нам с точки зрения определенного (всегда до конца не
понятного, но признанного нами безусловно ценным) лица — точки
повествования и/или главного героя. Отсюда ясно, что, анализируя
словесный материал, мы уже только тем самым признаем присут-
ствие в Мироздании определенных законов и определенного смысла,
которые находят свое выражение в самом произведении. Даже кри-
тиковать Логос можно, лишь имея под ногами твердую почву Лого-
са, лишь признавая существование структуры («центр/периферия),
возможно говорить «центризмы» (фоно-, лого-, фалло- и пр.).
Упреки в догматизме всегда обладали особым обаянием, они лег-
ко становятся убедительными. Кажется, что в многотрудном пути
отечественной филологии, которая долгие годы дышала отравлен-
ным воздухом идеологических догм, легко найти «логоцентризм» и
все сопутствующие ему неприятности. Однако в действительности,
именно из-за грубого давления «центризма», русская филология по-
стоянно несла в себе антидогматический пафос, вырабатывая антите-
ла сопротивления всякого рода «институированным кодам». «Иде-
альный интеллектуал», живущий на границе «аутсайдер», непри-
знанный и презираемый академическим истэблишментом, не исклю-
чение, но правило для любого более или менее значительного отече-
ственного филолога.
Практически вся русская филология XX века создавалась как раз
в «маргинальных зонах», на периферии, вдалеке от центральных ин-
ститутов. Именно такова была позиция Ю. Тынянова, П. Флорен-
ского, А. Лосева, М. Бахтина, Ю. Лотмана, многих других. С другой
стороны, постструктуральная эпистема находится сейчас в роли аг-
рессивного концепта, оказывающегося жесткое давление, и активно
институирована.
Большая или меньшая выраженность в той или иной теорети-
ческой концепции этого фактора признания смысла также имеет
симптоматическое значение. Для российской литературоведческой
традиции характерно, что круг ее теоретических проблем прямо за-
трагивает практически все основные постановки «вековечного» во-
363
Константин Баршт
проса. Это доказывается и историко-ретроспективным анализом.
История развития отечественной филологической науки показывает
нам, что самая стройная и законченная концепция литературного
произведения, которая сводила текст только к внутренним, имма-
нентным связям и отказывавшаяся от значения (формализм) терпела
неудачу. С другой стороны, теория, которая пыталась объяснить
текст исключительно за счет внетекстовых параллелей (например,
социологическая и фрейдистская школы), также в конечном итоге
всегда оказывалась недостаточной и быстро себя теоретически ис-
черпывала.
При этом академическая эклектика, несмотря на всю свою теоре-
тическую бедность, проявляет поразительную живучесть. Дело здесь
не только в живучести всевозможных форм конформизма — но и в
признании актуальной и осознанной связи текста с его Смыслом (не
будем вдаваться в объяснения того, что сам этот Смысл понимается
недостаточно или неверно). Другое дело, что эклектика, конечно, не
столько изучает эти проблемы, сколько паразитирует на них — но в
рамках отечественной традиции это ситуация более естественная и
простительная, чем, например, игнорирование вопроса о Смысле
Бытия со стороны отрицавших этот Смысл формалистов.
Видимо, дело не только в наличии набора определенных «кодов»
или «референции». В процессе художественной коммуникации уча-
ствуют три индивидуальные точки зрения на Мир, находящиеся в
диалогических отношениях: автора (повествователя), героя и читате-
ля. Сведение каждой из них (или всех сразу) к цитате уничтожает не
только «центризм» и его агрессивную догму, но и саму коммуника-
цию. Этическое и эстетическое, не только у М. Бахтина, но и у мно-
гих других ученых не противопоставлены, как это происходит у
Ницше, или, по-своему, у представителей «социологической школы».
Одно естественным образом входит в другое, оказываясь уровнем
единого этико-эстетического образования. С этим связана положи-
тельная этичность искусства. Эстетическое «третье я», подобно смыс-
ловому фильтру, не пропускает отрицательные смыслы в значение
всего произведения в целом («текстовое значение», по Ю. Лотману).
В русской литературоведческой традиции хорошо различимо внима-
ние к категории «другого», отражающей христианское «ты еси»,
именно этот пункт задает основу для формирования понятия о Кра-
соте-Истине-Добре (Ф. М. Достоевский) или «другости» как перво-
основе человеческого бытия (М. Бахтин). Согласно мысли Ю. Лот-
мана, возникновение художественного значения невозможно без про-
364
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
цесса «перекодировки» с одного индивидуального языка на другой,
параллельно М. Бахтину, эстетическое возникает у него если не как
продукт ряда этических актов, то во всяком случае как их итог.
«Лицо» (П. Флоренский) обеспечивает значение словесному символу:
вне личного понимания нет никакого понимания вообще.
Постструктурализм, находящийся в состоянии бурного роста за
рубежом и имеющий мало самостоятельных и вялых поклонников в
нашей стране, сосредоточился на преодолении проблем морфологи-
ческой традиции в изучении литературного текста, стремясь доказать
обратное: отсутствие у Мироздания единого центра. Звучит обвине-
ние всей предшествующей гуманитарной науки в «логоцентричес-
ких» тенденциях — насильственном привязывании всех интеллекту-
альных поисков человечества к Логосу как выдуманному и на самом
деле не существующему центру. Глубинное различие между структу-
рализмом и деконструктивизмом хорошо видно в самих оттенках
значений слов «структура» и «конструкция». «Структура» подразу-
мевает смысловой центр, единое текстовое значение; конструкция мо-
жет иметь смысл — или быть совершенно бессмысленной. Бессмыс-
ленность эта (или— наличие бесконечного ряда взаимопротивопо-
ложных смыслов) может провозглашаться в качестве принципиаль-
ного свойства. В этом случае исследователь подпиливает сук, на ко-
тором сам сидит, ибо никакая информация не существенна, если не
признает возможность нахождения где-либо какого-либо смысла.
Попытка построить нечто положительное только на одних частицах
«не» — интересна как концептуальный вариант, но не дает никакого
плода, напоминая собой усердные сельскохозяйственные работы на
асфальте.
Тем не менее в последние двадцать лет в литературоведении на
первый план стала выходить прагматика, отталкивавшаяся от зна-
чительных успехов, которые достигло структуральное изучение ху-
дожественного текста. Пытаясь окончательно добить осмеянную
еще «формалистами» академическую эклектику, тартуско-москов-
ская школа сосредоточилась на попытке создания систематическо-
го литературоведения, подлинно научного, способного заменить то,
что М. Л. Гаспаров называет «интуитивным интерпретаторством»,
а Ю. М. Лотман — «эстетизированным полунаучным мышлением».
С помощью основного своего инструмента— бинарных оппози-
ций — структуралистам удалось вскрыть новые возможности описа-
ния текста. Правда, сразу же открылась полная недостижимость воз-
можности законченного и полного метаописания текста— «змея
365
Константин Баршт
поймала свой хвост» и такого рода полным метатекстом самого себя
мог стать только изучаемый текст. Оказалось невозможным все до
конца сосчитать внутри текста, тем более— за его пределами, во
внетекстовой реальности, где открывалось безбрежное поле описан-
ной еще А. Н. Веселовским «мировой литературы».
Тем не менее, семиотический подход к художественному произве-
дению позволил открыть новые возможности в постановке вопроса о
литературе и культуре, литературе и мифе, литературе и других язы-
ках общения, лингвистических и неязыковых. Изучение визуальных и
жестовых языков, идущих параллельно литературному, помогало
яснее прочитать художественный знак, на более высоком уровне по-
ставить вопрос об отличии художественного текста от нехудоже-
ственного. Если у структуралистов текст, имея «текстовое значение»,
построен по иконическому принципу, оказывается отграниченным и
ясно осознаваемым целым, то постструктурализм стремится расша-
тать сформулированные Ю. М. Лотманом и другими учеными прин-
ципиальные различия между художественным и нехудожественным
текстами. Поэтика структурализма зиждется на мысли о возмож-
ности постижения смысла за счет точного описания отношений меж-
ду составляющими текст элементами. Согласно мысли Лотмана, раз-
вивающей в данном случае идеи Р. Якобсона, художественный текст
моделирует пространственно-временной континуум, может иметь
автономного от автора персонажа, он написан на двух языках, лите-
ратурном и поэтическом — в отличие от текста нехудожественного,
лишенного всех этих свойств.
Постструктурализм на выбранном им пути разрушения структу-
ральной поэтики, отрицает принципиальное двуязычие художествен-
ного текста. Двучленная модель языкового знака Соссюра («означа-
ющее/означаемое»), как и трехчленная структура Потебни-Лотмана17
(«форма/содержание/внутренняя форма» или «означающее/означае-
мое-1/означаемое-2»), были отброшены ими, взамен был принят на
вооружение гибрид первого и второго: («означающее/означающее-1/
означающее-2», то есть произошла актуализация концепции А. По-
тебни о поэтическом значении любого языкового акта. Опираясь на
разработанную им доктрину о «внутренней форме слова», Потебня
доказывал, что любое использование словарного материала есть, с
одной стороны, актуальная опора на его «внутреннюю форму», а с
другой — сдвиг в значении, где решающую роль играет живой и те-
кучий контекст. Потебня растворил все непоэтические словесные
формы — в формах поэтических, создал идею своего рода глобаль-
366
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
ной экспансии поэзии в культуру. Любое обращение к языку оказы-
валось поэтической работой, обновлявшей естественный язык, вли-
вавшей в него новые силы.
Фактически именно эту мысль, правда, развернув ее в обратную
сторону, использовали постструктуралисты: любая языковая форма
может быть сведена к «дискурсу», понятому как часть более крупно-
го образования, всегда неполному и не поддающемуся отграничению
от тотального контекста (Интертекста). Число планов сигнификации
стремится здесь к бесконечности, структура текста размывается, ока-
зывается непрочной, зыбкой, зависимой от постоянно меняющихся
условий прочтения. Если у Бахтина и Лотмана язык в поэзии — ма-
териал для формирования пространственно-временного знака Миро-
здания, имеющего свою «точку зрения», то здесь языковая реаль-
ность первична, реферативность — сомнительна, а автор оказывает-
ся, очень похоже на социологическую поэтику В. Фриче — отраже-
нием представляемой им социально-общественной группы. Любой
текст может быть описан как художественный — с помощью окруже-
ния его группой других текстов, активизирующих его поэтическую
функцию.
Прагматика и рецептивная эстетика тем самым вышли на первый
план, став важнейшими литературоведческими дисциплинами. Объ-
яснить текст на фоне какого-либо конечного набора его «связей»
оказалось невозможно, внутренняя структура оказалась заложницей
Интертекста — в этих условиях исследователи стали вообще отказы-
ваться и от семантики, и от поэтики, пытаясь прочесть текст «от ну-
ля», где ставится крест на требовании Пражского лингвистического
кружка максимально редуцировать влияние личной точки зрения
исследователя. Личное восприятие оказалось единственным реаль-
ным кодом, относительно которого и опираясь на который исследо-
ватель вскрывает внутренние противоречия рассматриваемого им
произведения. Парадокс в том, что, подвергнув сомнению сложную и
развитую систему терминов структуральной поэтики, деструктивис-
ты создали свою, еще более сложную терминологию, которая по сути
является не столько терминологией, сколько набором метафор, по-
новому звучащих в каждом новом контексте.
Итак, круг замкнулся: такого рода литературоведческие веяния
могли бы с восторгом принять, например, русские символисты нача-
ла XX века. Исследования в таком ключе, по существу, смыкаются с
литературной критикой, задача которой — создание художественной
модели художественного текста. Вопрос о возможности научной
367
Константин Баршт
модели художественного текста возник с остротой, напоминающей
1910-ые годы, время становления русского «формализма». В работах
наиболее радикальных деструктивистов происходит «выплескивание
ребенка вместе с водой», многие же литературоведы, не забывшие об
основном смысле своих филологических исследований, сменили но-
менклатурно-морфологический подход к изучению художественного
текста на более естественные, функциональные методы18.
Возможно ли вообще найти объективный критерий, точку отсчета
для построения подлинно точной и объективной филологической
концепции, помимо человека, понятого как самоценное лицо? Это,
по существу, выливается в попытку создания негуманитарной фило-
логической дисциплины. Мысль о тотальном взаимоопределении
текстами друг друга в едином Контексте Мироздания была высказа-
на множество раз в трудах самых различных литературоведческих
школ, впервые — в Ветхом и Новом Завете. Любой текст, создавае-
мый человеком, тяготеет к Слову— или отталкивается от него.
В этой религиозно-философской центростремительной силе— осо-
бенность русской литературоведческой традиции, для которой лю-
бой текст — часть Текста, любое слово — выражение или проявление
Слова. Безбрежная текстуализация бытия человека, отказавшаяся
при этом от мысли о самом Смысле Бытия, ввергает человека в тем-
ные глубины языческого мифа, где, как и в Интертексте, все означает
все, где личное бытие, свобода, истина — оказываются двусмыслен-
ными и относительными понятиями. В литературном процессе это
выражается в последовательном угасании художественной повество-
вательное™ — движении художественной «телеологии» (А. Скафты-
мов) в противоположном направлении— обратном, относительно
описанного О. Фрейденберг в ее «теории наррации». Идея бесчело-
вечного Текста, подавляющего и отчуждающего лицо человека, ока-
залась чуждой отечественной традиции, по крайней мере до самого
последнего времени; возможно, что это и есть основная черта русско-
го литературоведения XX века.
Согласной этой идее, «все то, что мы называем миром, природою,
что мы ставим вне себя, как совокупность вещей, действительность, и
самое наше «я» есть сплетение наших душевных процессов, хотя не
произвольное, а вынужденное чем-то, находящимся вне нас..»19. От-
сюда два вывода: мысль вовсе не тождественна действительности —
это сегодня уже доказывать нет необходимости, и, главное, что наше
восприятие мира детерминировано миром— в его прошлых вос-
приятиях. «Слово», по Потебне, чрезвычайно напоминая дерридиан-
368
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
ский «дискурс», сравнивается с застекленной рамкой, «определяющей
круг наблюдений и известным образом окрашивающей наблюдае-
мое»20. Осталось сделать совсем маленький шаг, чтобы обозначить
эту внешнюю по отношению к человеку данность его восприятия
мира как Интертекст. Но Потебня делает шаг в другом направлении.
Он говорит о специфической вторичности языка, с помощью которо-
го мысль может «задерживаться в восприятии». Язык оказывается
способом бытия мысли человека в мире. Но языковой акт требует
коммуникации. Возрастает роль автокоммуникации в отношении
между человеком и словом. Уже окончательно кажется, что никакой
референции действительно нет, что нет никакой самостоятельности
индивидуума по отношению к окружающей его языковой реаль-
ности, поглощающей его целиком и полностью. Вместо отказа от
«инерции смысла» и догматизма «логоса», свойственных «эпитемоло-
гическому сомнению», Потебня предлагает свою концепцию «внут-
ренней формы слова», снимающей это вопиющее противоречие.
Из нее вытекает модель, выстроенная Потебней: мир — объемный
и изменчивый, а научная истина — лишь точка, через которую мож-
но провести множество линий (научных концепций). Кроме того,
научная концепция— жесткая и неподвижная точка, поэтическое
слово — гибко и подвижно, легко перемещаясь в одномерном про-
странстве науки, по линии какой-либо концепции, и в двумерной
плоскости коммуникативного языка общения, и в трехмерном объеме
человеческой культуры21. Взаимоотношение «поэзии» и «науки» сво-
дится к взаимоотношениям целого и составляющих его частей —
одно не существует без другого, либо исчезает, либо теряет свой
смысл. Отсюда «поэзия служит источником поэзии, которая в свою
очередь питает новое поэтическое творчество»22. Сама способность к
созданию знака бытия связана с возможностью его разделения на
части, с другой стороны, знак можно выстроить из набора осознан-
ных функционально частей, и целое бытия разделить лишь в том
случае, если это целое было создано самим человеком из определен-
ных его частей.
Вопрос о структуре текста оказывается тем самым неотъемлемой
частью вопроса о значении всего текста в целом23. Потебня был уве-
рен, что нашел кардинальный закон Мироздания и ключ к решению
вопроса о роли слова в мире: «так, мы верим, будет, пока живут лю-
ди»24. Как ученик И. Канта, Потебня считал неистребимой частью
человеческой природы стремление к нахождению первичного знака
Мироздания, прочтению мироздания как книги, обладающей своим
369
Константин Баршт
названием. Религиозная природа человека представлялась ему
основной чертой Гомо сапиенс. Возможность обойтись когда-нибудь
без художественного кода Потебня мог связать только с тотальной
гибелью человечества: «процесс обобщения присущ человеческой
природе»25. Этот процесс обобщения связан с попыткой удовлетво-
рительной для человека связи его с Мирозданием и другими людь-
ми — Потебня называет это поиском «гармонии», считая это «врож-
денной человеку потребностью видеть везде цельное и совершен-
ное»26.
Человеческая мысль раскачивается как маятник внутри макси-
мальной амплитуды «бесконечно малое — бесконечно большое», от
атома до Мироздания, движется по замкнутому квадрату, четырьмя
углами которого являются:
1) мироздание с определенной точки зрения, как целое явившееся
в своей пространственно-временной данности конкретному индиви-
дууму;
2) анализ, разложение на составные части, создание отвлеченных
понятий, обозначающих структурные слои и уровни Мироздания;
3) пройдя этот путь до конца, человек испытывает неудовлетво-
ренное ощущение каких-то потерь, которые возникли на пути беско-
нечного дробления и структурирования реальности. Возникает нега-
тивный пафос отталкивания от частного, попытка найти значитель-
ную основу самому процессу осмысления. Снова соединить все в
одно целое;
4) затем круг замыкается и, сведя мир в одно целое и создав снова
этот символ целого, человек пытается найти в нем отдельные части,
чтобы подвергнуть мир анализу27.
Постструктуралисты, вместе с остальным человечеством проде-
лывая этот путь, отказываются пройти его до конца, пытаясь задер-
жаться на центральных двух частях потебнианской схемы, причем в
своей последовательности эти две части меняются местами. Третьему
пункту Потебни соответствует «эпистемологическое сомнение» «иде-
ального интеллектуала», который, находясь в «маргинальных зонах»
выходит за пределы «центризма» и получает возможность воспри-
нять его критически; второму пункту Потебни соответствует сама
деконструкция, как нахождение нестыкующихся между собой частей
Бытия — для того, чтобы указать на случайность и эфемерность «1)»
и «4)» пунктов, объясняемых постструктуралистами как нелепая и
грубая детерминированость человеческого сознания «лого-» и «фо-
ноцентризмом». Если у слова есть структура, то может существовать
370
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
и означаемое, объединяющее слова общим референтом. Если озна-
чающее относится только к другому означающему, у него нет и не
может быть никакой структуры, кристалл Логоса заменяется аморф-
ной некристаллической массой Интертекста.
Для Потебни из ста куриц никак не могла составиться лошадь, в
противоположность концепту количественно великой массы дискур-
сов, где структура несущественна и нереальна. Если Потебня, как и
его ученик Ю. Лотман, настаивал на принципиальности разделения
художественного («1» и «3») и нехудожественного текста («2» и «4»),
то поструктурализм отказывается от этого разделения, считая одина-
ковым внутреннее устройство всех речевых актов, письменных и уст-
ных — в концепции «дискурса».
Поначалу Потебня и поструктуралисты идут рука об руку, говоря
о том, что языковое выражение — единственное достоверное прояв-
ление реальности, освобожденной или освобождающейся от мертвых
доктрин и схем, которые управляют процессом создания всех языко-
вых выражений, включая и «художественные произведения». Однако
далее идет резкое расхождение: 1) эта панъязыковая реальность есть
проявление смысла вселенной, внутренняя форма слова— аналог
внутреннего смысла Бога-Слова, находящегося в центре (Потебня),
2) на самом деле языковая реальность изоморфна и не имеет никако-
го центра, представляя из себя набор более или менее узнаваемых
цитат и ссылок, до бесконечности перепевающих друг друга.
Таким образом, мысль о Сверхтексте, помимо которого ничего не
существует и который обеспечивает тотальную филологичность жи-
вущего в нем человека, нельзя признать совершенно новой.
Эта идея является цитатой (вольно или невольно скрытой) гипо-
тезы А. Потебни об априорной поэтичности языка, с добавлением
его же мысли о Мировом Тексте как едином связном целом мировой
литературы. Спустя сто лет эта красивая и весьма агрессивная ме-
тафилологическая идея возродилась снова, правда, с диаметрально
противоположным смысловым акцентом. Фактически, идея Интер-
текста — это А. Потебня, вывернутый наизнанку. Хотя и в этом слу-
чае фасон и покрой узнаются легко, характерные линии этой «ши-
нели» остались нетронутыми.
«Внутренняя форма слова» оказывается формулой Смысла бытия,
выраженной в определенном обозначенном ею предмете. Наряду со
«знаком значения» и «внутренней формой слова» употреблялся тер-
мин «этимологическое значение»28. Отождествляя «внутреннюю» и
«внешнюю» форму слова, мы неизбежно сталкиваемся с тупиковой
371
Константин Баршт
ситуацией, ведущей к полному отказу от значения и смысла. Многие
слова могут обозначать один и тот же предмет и многие предметы
могут обозначаться одним и тем же словом. Этот путь — от Р. Барта
и до Ж. Дерриды — проделала французская филология. Действи-
тельно, знак вовсе не обозначает какой-либо предмет, как принято
было думать, но, скорее, отношение индивидуума к предмету. Пред-
ставление о слове как условном знаке рождает кошмарную ситуацию
полной отъединенное™ человека от окружающего мира и других
людей. Можно, конечно, этим состоянием ужасаться, либо упивать-
ся — как кому нравится. Потебня, очевидно, считает такое положе-
ние ошибкой. «Знак значения» слова или его «внутренняя форма»
оказываются недостающим звеном, которое восстанавливает есте-
ственную структуру слова, объясняя его внутреннее строение и осо-
бенности функционирования.
На наш взгляд, Потебня ближе своего современника А. Н. Весе-
ловского подошел к одной из крайних точек литературоведческого
теоретического поля, за которой находится смерть в небытии: «ав-
тора», «героя», «читателя», «человека», самого теоретика литерату-
ры, если, конечно, ничто человеческое ему не чуждо. Потебня нашел
в себе силы остановиться и наметил путь: если и не совершенный, то
во всяком случае не очевидно гибельный, при котором эпистемоло-
гическая змея перестала, наконец, есть собственный хвост и поползла
в каком-то перспективном для себя направлении. Он выстроил, для
себя и других, концепцию, помогавшую уклониться от пресловутой
дурной бесконечности безграничной, фанатичной веры в свою поки-
нутость и заброшенность — отрицательной религии и «болезненного
ячества», в конечном итоге приводящим к подобию религиозного
поклонения небытию (доброму небытию, буддийской нирване, или
злому небытию — аду, хаосу, «бездне» — у постмодернистов).
Параллель «слово — художественное произведение» оказалась ко
двору в мировой литературоведческой науке. Обсуждая «систему
правдоподобия» литературного произведения Майкл Риффаттер
говорит: «...Внетекстовая референциальность— не более чем иллю-
зия, потому что знаки или системы знаков отсылают к другим знако-
вым системам....»29. Того плоского и тотально изоморфного значе-
ния, которое отрицают в слове постструктуралисты, в нем, действи-
тельно, нет, указывает Потебня. Но есть сложная разветвленная сеть
значений, напоминающая собой дерево каталогов и файлов компью-
тера или сеть дорог, окружающих город. Понимание группы опреде-
ленных участков этих значений, образующих его основу, Потебня
372
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
назвал «знаком значения». Любое употребление слова будет обраще-
нием к его возможностям менять свою основу. Любое прикосновение
к слову меняет его значение.
Подобно Ж. Дерриде, Потебня в свое время указывал на тоталь-
ность языковой деятельности, вне которой нет бытия и истории че-
ловечества. «Текущему столетию принадлежит историческая точка
зрения на язык. Язык есть деятельность. Наука о языке в высшем
своем проявлении и может быть только историей, частью общей ис-
тории человечества. Описание языка как предмета есть только первая
грубо-эмпирическая ступень языкознания...»30. Сохранит ли человек
свободу выбора или окажется несвободным «текстовым животным»?
В пределах присущего ему «логоцентрического дискурса» Потебня
отказывался решать этот вопрос для всего человечества целиком:
видимо, это имеет значение конкретное, для каждого человеческого
«я» в отдельности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Впервые опубликовано: Потебня А. Мысль и язык, 1862.
2 Описывая слово как «творческий акт речи и познания», Потебня создал
известную концепцию структуры слова, которое, состоит из трех элемен-
тов:
1) внешнего знака («единства членораздельных звуков»);
2) внутреннего «знака значения» («представления», «внутренней форма
слова»);
3) лексического (словарного) значения.
Первое и третье могут существовать лишь за счет второго, отсюда же
следует вывод о необходимой поэтичности любого высказывания. Обра-
тим внимание на то, что здесь Потебней фактически предвосхищена вто-
ричная моделирующая система Ю. М. Лотмана, описывающая знак по-
этического языка как трехчленную структуру, состоящую из означающего,
означаемого 1 (словарное значение слова) и означаемого 2 (значения в по-
этическом контексте).
3 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. С. 15—16.
4 Там же. С. 20.
5 Чудаков А. П. см.: Академические школы в русском литературоведении.
М., 1975. С. 344.
6 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 338.
7 Потебня А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 72.
8 Перспективность работ Потебни для современного литературоведения
неоднократно отмечалась исследователями, напр. А. П. Чудаковым. —
Академические школы в русском литературоведении. М., Наука. 1975.
373
Константин Баршт
С. 352. О. Пресняков отмечает «проницательное осмысление методологи-
ческих проблем филологии» {Пресняков О. Поэтика познания и твор-
чества. Теория словесности А. А. Потебни. М., 1980. С. 5).
9 Потебня А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 104.
10 По-видимому, именно эта мысль Потебни о поэзии как незаменимом виде
связи между людьми впоследствии легла в основу концепции Ю. Лотмана
о художественности как «особым образом организованном языке», соеди-
няющем два сознания, две несовпадающие точки зрения на мир. Потебня
употреблял термин «познание», имея в виду восприятие-осмысление язы-
ковой связи между «я» и окружающим человека миром, сдвигая акцент от
словесного означаемого к его рецепции, тем самым предвосхищая совре-
менную дискуссию о противоположности текста дискурсу, а Контекста —
Интертексту.
и Потебня А. А. Мысль и язык. Изд. 5-ое. Харьков, 1926. С. 150.
12 Недостатки и достоинства этой концепции Потебни, в общем совпадают:
посвятив свою жизнь горячей защите этого постулата, он впоследствии
подвергался критике за то, что недооценивал другие факторы художе-
ственности; абсолютизируя найденный им «знак значения» слова, Потебня
не успел подключить его к проблеме многоуровневой структуры художе-
ственного текста, который сам состоит из многослойного набора знако-
вых систем. Не помогло и то, что наряду с «образностью» Потебня упо-
треблял иногда слово «символичность», что очевидно придает его работам
современное звучание, вызывая ассоциации с продолжавшими двигаться в
этом направлении А. Ф. Лосевым и «пражцами», особенно Р. Я. Якоб-
соном.
,3 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 520.
'4 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.,
1976. С. 35.
15 ДерридаЖ. Позиции. Киев, 1996. С. 24.
'б Ср. параллельные гипотезы: «творческую личность» (Н. Бердяев),
«избыток видения» (М. Бахтин), «личный почин» (А. Н. Веселовский),
«внутренний язык» (Л. Выготский).
17 Сравнивая концепцию Потебни о трехчленном состоянии слова и идею
«вторичной моделирующей системы» в Тартуской школе, можно обнару-
жить явное типологическое сходство. Два плана значения, подчерки-
ваемые Потебней, соответствуют «первичной» и «вторичной» модели-
рующим системам в Тартуской школе. Различие состоит в том, что струк-
тура слова в составе поэтического текста, предлагаемая Лотманом, описа-
на как две соприкасающиеся бинарные оппозиции (что понятно, учитывая
известный научный принцип школы), в то время как Потебня тяготел бо-
лее к принципам мышления М. Бахтина с его тринитарными моделями.
В этом смысле потебнианское слово напоминает не круг, разделенный на
три сектора, но матрешку: снаружи — означающее (внешняя форма), в ко-
торой находятся постоянно переворачиваемые по мере надобности песоч-
ные часы: 1) словарное означаемое—2) внутреннее означаемое («внутрен-
няя форма слова»), первое и второе постоянно меняются местами, за счет
374
Постструктурализм в свете открытия А. Потебни...
чего идет историческая эволюция языка, базирующаяся на поэтическом
функционировании словесного знака.
18 Интересной попыткой решить проблему интертекстуальности средствами
структуральной поэтики является теория «текста в тексте» тартуского фи-
лолога П. X. Торопа. (ТоропП.Х. Тотальный перевод. Тарту, 1995). Со-
гласно этой концепции, отношениями между текстами в пределах контекс-
та любой широты управляет закон метакоммуникации, когда каждый
текст может становиться кодом, помогающим созданию нового текста, и
так далее. Исследователю удалось создать вариант описания структуры
Интертекста, в которой оказались по рейтингу убывания/увеличения «тек-
стовости/кодовости» различные виды перехода и включения одного текста
в другой: цитирование, калькирование, реконструкция, деструкция текс-
та — которая красноречиво предшествует низшему уровню отношения к
тексту, его исключению. Распределяя по ряду оппозиционных признаков
различные виды отношений текстов друг к другу (аллюзия, парафраз, ци-
тата, перевод, имитация, плагиат и др.), ученый выявляет закономерности
в жизни тотального мирового Контекста. Эта концепция свидетельствует,
что возможности структурального изучения отношения между языками и
текстами еще далеко не исчерпаны.
19 ПотебняА. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 338.
20 Там же. С. 416.
21 См. об этом: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 504—505.
22 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 115.
23 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 503.
24 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 115.
25 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 513.
2« Там же. С. 194—195.
2? Там же. С. 194—195.
28 См. об этом: Муратов А. Б. Теоретическая поэтика А. А. Потебни // По-
тебняА. Теоретическая поэтика. М, 1990. С. 10.
29 Риффаттер М. Истина в диэгесисе // НЛО. № 27 (1997). С. 6.
30 Цит. по: Пресняков О. Поэтика познания и творчества. Теория словесности
А. А. Потебни. М., 1980. С. 60.
375
H. H. Смирнова
ИМЛИим. A. M. Горького РАН. Москва
ТЕОРИЯ АВТОРА КАК ПРОБЛЕМА
Стоит предположить, что одной из важнейших проблем литера-
туроведения, позволяющих в то же время рассматривать само лите-
ратуроведение как проблему, является «теория автора». Заключение
в кавычки в данном случае должно подчеркивать отсутствие одно-
значной, бесспорной определенности заявленного предмета. В самом
деле, иногда, употребляя это сочетание слов, подразумевают нечто
как будто бы само собой разумеющееся. Есть ли смысл, однако, ав-
томатически включать в состав «теории автора» до такой степени
различные высказывания, концепции, что порой становится очевид-
ным их объединение только по принципу наличия некоторого доста-
точно широкого понятия «автор»? На его основе, к тому же, как по-
казывает опыт, не возникает единого терминологического значения.
А многозначность, даже в рамках единой концепции, предполагает
различие в статусах подводимых под такое определение предметов.
Впрочем, когда речь идет о какой-то одной концепции, то, скорее
всего, в ней вышеназванные условия будут соблюдены. Когда же
осуществляется попытка, «примирения», объединения различных
взглядов, концепций, подведения под них общей теоретической базы,
то не одинаковые, но лишь схожие явления легко могут быть сочтены
тождественными (какой бы абсурдной и невероятной, на первый
взгляд, такая ошибка ни казалась). Все это приводит исследователя к
довольно банальному заключению о необходимости как можно четче
определять основные понятия. Вполне вероятно также предполо-
жить, что путь объединения, «примирения» различных концепций не
является продуктивным ввиду того, что не всегда имеются основания
для подведения под них единой теоретической базы.
376
Теория автора как проблема
Столь различные взгляды на проблему автора (M. М. Бахтина,
В. В. Виноградова, Р. Барта, М. Фуко и др.) вряд ли с равными ос-
нованиями можно объединить в рамках одной теории. Каждый раз,
говоря о существующей проблеме, ученые поднимали различные
ее стороны. «Автор» В. В. Виноградова не сопоставим с «автором»
M. М. Бахтина, концепция «смерти автора» не означает утраты по-
нятия «автора» как чего-то определенного, то есть единого, подразу-
мевающегося всеми, как если бы речь шла об одном и том же
«авторе».
В современном литературоведении возможно определение, по
меньшей мере, трех основных аспектов осмысления термина «автор»:
реальный автор произведения, «образ автора» и «автор» как субъект
творческой активности (обнаруживающейся в построении произве-
дения)1.
Если принимать во внимание фиктивный (то есть основанный на
вымысле, благодаря чему возникают иные реальности) характер
произведения, то очевидно, что первый из аспектов значения термина
«автор» явно находится за пределами рассмотрения: реальный автор
(являющийся человеком, а не персонажем) ни в какой мере не присут-
ствует в созданном им художественном мире, в той мере, чтобы мож-
но было дать ответ на вопрос, где конкретно, в каких пределах можно
с ним встретиться, как может быть зафиксировано присутствие
реального человека в ирреальном мире? Второй аспект сам по себе
предполагает несколько значений. Во-первых, «образ автора» —
термин, введенный В. В. Виноградовым, всесторонне подводимый им
к разработке проблематики теории стиля (и затем далее — к пробле-
ме определения авторства)2. Во-вторых, как таковое, «изображение
писателем, живописцем, скульптором, режиссером самого себя»
имеет лишь косвенное отношение к виноградовскому «образу авто-
ра». Надо полагать, что в сферах живописи и скульптуры таким
изображением следует считать автопортрет. Особенно, если автор
сам обозначил его как таковой. В противном случае возможно, прав-
да, обратиться к свидетельствам современников (если они имеются),
например, портретам предполагаемого автора, выполненным други-
ми художниками, и попробовать определить сходство. Но как быть,
если автор видит себя в каком-либо ином, даже неантропоморфном
образе (при этом им подразумевается все то же самоизображение)? И,
наконец, не способен ли привнести сомнения тот факт, что в подоб-
ных случаях исследователь неизбежно будет иметь дело с реальным
автором, хотя бы только для того, чтобы идентифицировать образ*}
311
H. H. Смирнова
Если в случае изобразительных искусств портретное сходство может
быть одним из аспектов идентификации, то в театре или кинемато-
графе факт участия режиссера в собственной постановке вряд ли
может впрямую указывать на то, что мы имеем дело с образом авто-
ра3. Парадокс заключается в том, что исполнение роли режиссером в
собственной постановке формально (если взять за основу принцип
идентификации, принятый и, казалось бы, естественный в сфере
изобразительных искусств) подходит под определение «автора» как
изображающего самого себя (ирония и «вопрос» только в том, кого
на самом деле изображает автор постановки). Гораздо больше
«определенности», на первый взгляд, в ситуации изображения писа-
телем самого себя. По крайней мере здесь часто образ автора (то есть
изображение автором самого себя) сохраняет некоторое единство, да-
же несмотря на существенные различия в жанрах. Так, собрание эссе
М. Пруста «Против Сент-Бева», предшествующее «Поискам утра-
ченного времени» уже включает в себя мотивы и образы будущей
книги, а некоторые мотивы литературно-критических эссе позднее
вошли в части «Поисков утраченного времени»4. Стоит ли считать
образы автора в этих случаях различными (например, есть ли какая-
нибудь принципиальная разница между образом Марселя, обра-
щающегося к своей матушке в эссе «Против Сент-Бева» и образом
Марселя в «Поисках утраченного времени»)? Если же они тожде-
ственны, то в чем принципиальное отличие фиктивного повествова-
ния от нефиктивного? В самом деле, в обоих случаях образы автора
строятся по одному и тому же принципу, и более того, обладают
одинаковыми свойствами. Правда, предмет рассмотрения в данном
примере ограничен только изображением «автора». То же, что назы-
вается авторской активностью, эстетической деятельностью, в дан-
ный аспект не входит. Также почти что за пределами рассмотрения
оказывается пока понимание автора как носителя определенной по-
зиции, нахождение которой связывается с ориентацией читателя в
повествовании и, в конце концов, с возможностями интерпретации.
Последний из названных аспектов термина «автор»— в общем
значении «субъект творческой активности»— и включает в себя
многие пока что остающиеся за скобками смыслы. Данный аспект
представляется самым широким и многогранным, его чаще всего
имеют в виду. Наиболее важным среди целого комплекса частных
значений представляется понимание «автора» как субъекта эстети-
ческой деятельности. Здесь речь должна идти о природе творчества.
Два (по меньшей мере) других компонента— изображение реаль-
378
Теория автора как проблема
ности под определенным углом зрения, а также суждения и оценка —
имеют отношение к сфере интерпретации произведения. Проблема
состоит в том, что, будучи смешиваемыми, эти различные по своей
природе компоненты значения вступают в противоречия в рамках
какой-то одной концепции, теории5.
Существует взгляд, что в процессе интерпретации произведения
необходимо опираться на некоторую инстанцию в его повествова-
тельной структуре, которая способна служить центром ориентации,
точкой отсчета6. Предполагается, что этим центром может быть ин-
станция «автора». Позиция, определяемая в данной инстанции, та-
ким образом, должна иметь свои средства выражения, как, например,
точка зрения, «авторский голос». Стоит, однако, уточнить, относятся
ли средства выражения «авторской» позиции к «образу автора» (то
есть изображению автором самого себя, что чаще всего выражается в
виде авторской маски)7 или к некоторой абстрактной инстанции,
«надпозиции», часто одинаково обозначаемым как просто «автор»8.
Тем не менее и первый и второй варианты связываются с процессом
интерпретации.
Продуктивность понятия об «авторе в положении как бы бога-
творца», или, традиционно выражаясь, о «всезнающем авторе»9,
продуцирующем «надпозицию», неоднократно ставилось под сомне-
ние. Совершенно очевидно, что такая позиция предполагает наличие
парной инстанции— всепонимающего (абстрактного, идеального)
читателя (слушателя)10. В совокупности они иллюстрируют некий
внешний принцип коммуникации, который не всегда соответствует
принципам, существующим в данном тексте. «При таком понима-
нии, — отмечал М. М. Бахтин, — в сущности идеальный слушатель
является зеркальным отображением автора, дублирующим его. Он не
может внести ничего своего, ничего нового в идеально понятое про-
изведение и в идеально полный замысел автора. Он в том же времени
и пространстве, что и сам автор, точнее, он как и автор, вне времени
и пространства (как и всякое абстрактное идеальное образование),
поэтому он и не может быть другим (или чужим) для автора, не может
иметь никакого избытка, определяемого другостью. Между автором
и таким слушателем не может быть никакого взаимодействия, ника-
ких активных драматических отношений, ведь это не голоса, а рав-
ные себе и друг другу абстрактные понятия»11. Гипотеза о конструк-
тивной роли абстрактного (имплицитного) автора основывается, в
свою очередь, на предположении, что смысл, «заложенный» в тексте
конечен и подлежит непременному выявлению. В итоге, все пове-
379
H. H. Смирнова
ствовательные инстанции, содержащие некие смыслы на своих уров-
нях, оказываются сводимыми (и смыслы вместе с ними) к парному
взаимодействию абстрактных автора и читателя.
Не стоит, однако, полагать, что такого рода прямолинейное вза-
имодействие должно пониматься как выражаемое непосредственно
через «авторский голос». Ю. М. Лотман отмечал, что, например,
«воспроизведение чьей-либо точки зрения в повествовательном текс-
те послепушкинскои прозы, как правило, строится в виде некоторой
амальгамы, где лингвистические средства выражения точки зрения
героя монтируются с точками зрения автора и других персонажей.
<...> Рассказ строится так, что каждая из этих точек зрения, присут-
ствуя в нем, по-разному акцентируется в разных частях текста.
В пределах одной и той же фразы могут выступать различные точки
зрения. Этим создается и акцентуация специфики субъективных по-
зиций и объективная «надпозиция» — конструкт действительности»
(выделено мной. — Н. С)12. Тем не менее, здесь наиболее показатель-
но то, что главное свойство «надпозиции» — в ее объективном ха-
рактере, что должно быть, в свою очередь, обусловлено обязательной
определенностью (вплоть до неизменности) смысла.
Принципиально несопоставимым будет значение термина «автор»
в том случае, если придается, соответственно, иное значение смыслу,
равно как и процессу интерпретации в целом. M. М. Бахтин писал:
«Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение, и
предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический мини-
мум). <...> Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошедших
веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда
завершенными, конечными) — они всегда будут меняться (обновля-
ясь) в процессе последующего, будущего развития диалога»13. В кон-
цепции M. М. Бахтина не существует вопроса: «Что же в конце концов
(окончательно, раз и навсегда) этим самым хотел сказать автор?» То
есть не существует вопроса о конечном смысле. Соответственно, и
понятие «голос» имеет другое значение. «Голос» — участник диало-
гических отношений, а не средство выражения абстрактных позиций.
Вообще, проблема автора в бахтинском понимании внешняя по от-
ношению к прикладным целям анализа текста. «Анализ обычно ко-
пошится на узком пространстве малого времени, то есть современ-
ности и ближайшего прошлого и представимого— желаемого или
пугающего — будущего»14. Проблема автора для M. М. Бахтина су-
ществует в контексте рассмотрения природы творчества на протяже-
нии длительной истории человеческой цивилизации. И это, в первую
380
Теория автора как проблема
очередь, проблема отношения творящего субъекта к миру другого.
Здесь предметом интерпретации становится сам процесс художе-
ственного творчества, и «автор» — понятие экзистенциальное.
Таким образом, в данном случае довольно сложно найти общ-
ность в трактовке проблемы автора в концепциях, ориентированных
на поиск различных результатов. То, что «автор» в описанных случа-
ях представляет собой не одно и то же понятие, становится еще оче-
виднее в свете концепции «смерти автора».
К XX веку миф о наличности смысла в художественном творении,
о возможности выражения этого смысла другими средствами
(например, в пересказе, толковании, в конечном счете, направленных
на выявление того, что хотел сказать автор— здесь уже реаль-
ный— своим произведением) становится своеобразным камнем пре-
ткновения. Об этом прямо свидетельствуют сами факты борьбы с
определенного рода позициями отношения к произведению ис-
кусства. Критиковалось наследие XIX века как «отрицательное
влияние прошлого» (X. Ортега-и-Гассет). «XIX век чрезмерно око-
сел,— говорится в «Дегуманизации искусства»,— <...> Все великие
эпохи искусства стремились избежать того, чтобы «человеческое»
было центром тяжести произведения. И тот императив исключитель-
ного реализма, который управлял восприятием в прошлом веке, яв-
ляется беспримерным в истории эстетики безобразием»15. Искусство
XIX века критиковалось за то, что было «трансцендентным», и даже
«в двойном смысле»: «Оно было таковым по своей теме, которая
обычно отражала наиболее серьезные проблемы человеческой жизни,
и оно было таковым само по себе, как способность, придающая до-
стоинство всему человеческому роду и оправдывающая его. Нужно
видеть торжественную позу, которую принимал перед толпой вели-
кий поэт или гениальный музыкант,— позу пророка, основателя
новой религии, величественную осанку государственного мужа, от-
ветственного за судьбы мира!»16 В том, что именно так (через призму
убеждений XIX века) искусство и продолжало восприниматься сви-
детельствуют не только однозначно отрицательные высказывания.
Миф о «трансцендентном» искусстве (будем использовать это обо-
значение вслед за испанским философом, и разумеется, в им устано-
вленном смысле) стал довольно распространенным. Его часто ис-
пользовали в общих местах рассуждений в противовес иным аспек-
там творчества, он становился своего рода теневой стороной, частью
бинарной оппозиции в построении других искусствоведческих кон-
цепций. Иными словами, от него отталкивались, полагая в нем некую
381
H. H. Смирнова
устоявшуюся позицию. Например, у С. Зонтаг в статье «Заметки о
Кэмпе» выстраивается оппозиция именно на фоне такого «обычного»
понимания искусства. «Вкус Кэмпа, — пишет она, — разворачивает
нас прочь от оси хороший-плохой обычного эстетического суждения»
(выделено здесь и далее мной. — Н. С)17. Это последнее, по ее мне-
нию, имеет вполне очевидные очертания: «Обычно мы расцениваем
произведение искусства в зависимости от того, насколько серьезно и
благородно то, чего оно достигает. Мы ценим его за удачно выпол-
ненную задачу — за способность быть тем, чем оно является и, веро-
ятно, за выполнение тех намерений, которые лежат в его основе. Мы
предполагаем некую правильную, так сказать, прямолинейную связь
между намерением и результатом. На основании этих стандартов мы
расцениваем «Илиаду», пьесы Аристофана, баховское «Искусство
фуги», «Мидцлмарч», живопись Рембрандта, Шартрский собор, поэ-
зию Донна, «Божественную комедию», квартеты Бетховена, и —
среди людей — Сократа, Христа, Св. Франциска, Наполеона, Саво-
наролу. Короче, пантеон высокой культуры: истина, красота и се-
рьезность»^.
Миф о «высокой культуре» сродни мифу о «трансцендентности»
искусства, приводимому X. Ортегой-и-Гассетом. «Правильная, пря-
молинейная связь между намерением и результатом» (так как это
намерение, безусловно, известно, благодаря обязательной определен-
ности, конечности заложенного в произведении искусства смысла),
«наиболее серьезные проблемы человеческой жизни», отражаемые в
искусстве, и, наконец, само оно «как способность, придающая досто-
инство всему человеческому роду и оправдывающая его», — все это
богатый материал для мифотворчества. Общим знаменателем здесь
является серьезность как результат прямой соотнесенности между
желанием творца выразить определенный смысл и его (смысла) конеч-
ной наличности в произведении искусства. Корни такого понимания
находятся, скорее всего, не столько в реальной художественной прак-
тике, в том числе, и «окосевшего» XIX века, сколько обнаруживают-
ся в сфере влияния критики, а именно, в пределах культурно-исто-
рического и биографического методов. Установление зависимости
между общественной жизнью и искусством или реальным автором и
его произведением обязывает к поиску полагающегося в любом ху-
дожественном творении определенного, конечного смысла, являюще-
гося таковым именно благодаря определенности, конкретности вре-
мени его породившего. Так, то «человеческое» содержание, ставшее
объектом критики испанского философа, явилось результатом рас-
382
Теория автора как проблема
смотрения искусства XIX века (и, в первую очередь, в самом XIX
столетии родоначальником культурно-исторической школы И. Тэ-
ном в фундаментальном труде «Философия искусства» (1865)) как
обобщающего и отражающего «господствующий тип», «наиболее су-
щественные черты эпохи» (что тем не менее может быть выражено не
только средствами искусства). Автор, таким образом, становился от-
ветственным за истинность отражения «сущности вещей», свойст-
венных конкретному времени, следовательно, ответственным за обя-
зательную определенность, конечность смысла произведения. С этой
позиции эстетическое присутствие автора в произведении почти что
равно присутствию реального автора (по крайней мере, различие
между автором в тексте и реальным автором при таком взгляде на
произведение не представляется существенным)19, именно потому,
что последний связан ответственностью за каждое слово им начер-
танное. Несколько иного рода ответственность несет автор, если
исходить из биографического метода Ш.-О. Сент-Бёва. Произведение
объясняется путем нахождения в нем автора во всей реальности свое-
го существования. Полагалось, будто таким образом легко можно
обнаружить, что автор имел в виду, что он хотел «этим» сказать.
Итак, с позиций только что приведенных, обязанность автора —
отражать определенные вещи и идеи, а с другой стороны, непремен-
ное нахождение авторского следа,— все это теснейшим образом
связывается с наличностью конечного смысла в произведении. Ав-
тор — гарант смысла. При этом почти каждое слово в тексте воспри-
нимается как прямое авторское. Без автора и его ответственности
произведение становится бессмысленным.
В свете столь сильного влияния философской и литературно-
критической мысли XIX века, в том числе и на более позднее осмыс-
ление природы художественного творчества, возможно объяснить
резкое неприятие в XX веке принципа реализма, согласно которому
«"человеческое" было центром тяжести произведения»20. Искусство
XIX века позже воспринимается, главным образом, как «бездумное
удвоение реальности», в то время как «миссия искусства — создавать
ирреальные горизонты. Чтобы добиться этого, есть только один спо-
соб — отрицать нашу реальность, возвышаясь над нею. Быть худож-
ником— значит не принимать всерьез людей, каковыми являемся
мы, когда не являемся художниками»21. Автор, который впоследст-
вии должен был «умереть», представлялся неким кентавром: образ
автора в тексте с головой автора реального, каковым был он, «когда
не являлся художником».
383
H. H. Смирнова
В XX веке с развитием формалистических тенденций в литерату-
роведении (формальный метод, структурализм, нарратология) «ав-
тор в тексте» все более обособляется от идеи автора вообще, получа-
ет конкретные очертания, а его «ответственность» сводится к струк-
турообразованию. Понятие «автора» подвергается неоднократному
расщеплению. Но если попытаться обобщить результаты этого дли-
тельного процесса, то можно констатировать возникновение следую-
щих аспектов данного термина: во-первых, «автор» как некая фигура
в тексте, повествователь (эксплицитный автор), во-вторых, «автор»
как абстрактная структурообразующая инстанция (варианты: «над-
позиция»— «конструкт действительности», имплицитный автор —
конструкт коммуникативной ситуации, рассматриваемой в наррато-
логии). Особняком, как уже было видно, стоит феноменологическое
бахтинское понимание автора как субъекта эстетической деятель-
ности. (Особенность позиции заключается в том, что понятие о таком
авторе не исчерпывается структурой, «замыканием в текст».)
Концепция «смерти автора» продолжала развиваться на почве не-
вольного смешения, наложения друг на друга представлений об ав-
торе, сформировавшихся в XIX веке, и поздних, главным образом,
нарратологических идей.
Так, с одной стороны, уже было введено и закреплено понятие
«автора в тексте» («ауктора», организующего повествование с опре-
деленных — в том числе и в композиционном отношении — точек
зрения), близкое более позднему «абстрактному (имплицитному)
автору», с другой — понятие «голоса» сохранило свои прежние кон-
нотации, и вопрос «кто говорит?» стал обнаруживать свою реальную
сущность. Принцип «авторского голоса» продолжал связываться со
способами «прямого воздействия на действительность». В самом де-
ле, идея «автора» — организатора изображаемых событий, который
сам занимает некую абстрактную позицию, не совсем гладко сочета-
лась с идеей почти что «овеществленной» точки зрения («телесная
тождественность» по Р. Барту), то есть принадлежащей некоторому
определенному субъекту, «отвечающему» за нее. Иными словами,
абстрактная позиция не могла быть источником конкретного значе-
ния, а это последнее должно было иметь за собой совершенно опре-
деленную позицию субъекта. Следует отметить, что эта определенная
позиция субъекта в тексте, вольно или невольно, влекла за собой
сопоставление с некоторой субъективной позицией за его пределами,
то есть в действительности. На этом фоне повествовательный
«голос» также вольно или невольно рассматривался как выход неко-
384
Теория автора как проблема
торой позиции в действительность, и в крайнем своем проявлении,
как воздействие на последнюю.
В концепции «смерти автора» на первое место и выдвигалось не-
соответствие между абстрактной позицией «автора» и его субъектной
ролью, понимаемой почти что в качестве субъективной со всеми вы-
шеназванными последствиями. Известная статья Р. Барта и начи-
нается с констатации этого факта. Процитировав, на первый взгляд,
отмеченную субъективным видением фразу о подобном женщине
кастрате из новеллы Бальзака «Сарразин», ученый рассуждает: «Кто
говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать
под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуж-
дающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Баль-
зак-писатель, исповедующий «литературные» представления о жен-
ской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть,
романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, по
той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о
голосе, об источнике. Письмо — та область неопределенности, неод-
нородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъектив-
ности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождествен-
ность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего»22.
Если X. Ортега-и-Гассет «приговаривает» искусство XIX века, видя
его в свете философских и литературно-критических тенденций рас-
сматриваемой же эпохи, то Р. Барт заявляет о совершенно новом и,
по его мнению, универсальном принципе осмысления искусства вне
зависимости от времени: «Очевидно так было всегда: если о чем-либо
рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия
на действительность, то есть в конечном счете, вне какой-либо функ-
ции, кроме символической деятельности как таковой,— то голос
отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и
здесь-то начинается письмо»23. Общим при этом является отрицание
непосредственной связи изображаемого с действительностью, что
уже заметно подрывает основы представлений о субъектной органи-
зации повествования (о чем говорилось выше).
С этих позиций нет оснований выяснять, кто говорит: допущение
определенности, стабильности и конечности, смысла (непременно
заложенного неким субъектом, отвечающим за него) снято. Смыслы
появляются и исчезают; не существует закрепленного в данном тексте
смысла, нельзя четко определить субъектную организацию «голоса»,
нет «ответственности», нет «автора» — этого вместилища всех смыс-
лов, голосов и т. д. («...текст сложен из множества разных видов
13-1379
385
H. H. Смирнова
письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с
другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множе-
ственность фокусируется в определенной точке, которой является не
автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель— это то
пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты <...>; чита-
тель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он
всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют
письменный текст»)24.
В таком контексте читатель — лишь условное указание на неис-
черпаемое множество смыслов, а вовсе не воспринимающий инфор-
мацию один из субъектов коммуникативной ситуации, как это чуть
позже будет постулироваться в нарратологии. Читатель Р. Барта, с
точки зрения все той же коммуникативной ситуации,— подобное
отсутствующему автору бестелесное пространство, тогда как соглас-
но нарратологическим представлениям, конечными инстанциями
могут быть реальные автор и читатель. Но дело здесь, как уже не-
однократно говорилось, вовсе не в реальности, а в принципе видения
смысла. Множественность смыслов с трудом сопрягается с четкой
субъектной организацией, основным элементом которой должен
быть «автор», представляемый, главным образом, в качестве «над-
позиции». Гипотеза о наличии определенного, стабильного и конеч-
ного, смысла, напротив, в конце концов приводит к допущению по-
добной инстанции. Таким образом, что говорится непременно пере-
ходит в кто говорит, и наоборот25.
Концепцию «смерти автора» можно условно сравнить с концеп-
цией «обратной перспективы»: «смерть автора» «разворачивает»
перспективу смысла в противоположном направлении, в результате
чего центром и точкой видения оказывается воспринимающий. Да-
лее, в нарратологии была учтена инстанция читателя, но ей придава-
лось совсем иное значение: перспектива смысла развивалась по на-
правлению к нему от «автора». (О сходстве можно сказать еще то,
что «обратная перспектива» по времени предшествовала появлению
прямой, как «разворот» перспективы смысла в сторону читателя у
Р. Барта фактически предшествовал твердому закреплению означен-
ной инстанции в нарратологических концепциях, но уже в качестве
получателя смысла.)
Итак, «автор» существовавший в XIX веке, «автор умерший»,
«автор» структуралистских и нарратологических концепций — раз-
ные авторы. До известной степени, их общность порождена связью с
аспектом интерпретации, отсюда и возникала в разной связи идея
386
Теория автора как проблема
«авторской ответственности». Так или иначе, полагание смысла свя-
зывалось с авторской инстанцией, а ее исчезновение, «смерть авто-
ра», внешне напоминало обессмысливание: возможно, множествен-
ность смыслов игнорирует конкретный, единый смысл. Однако раз и
навсегда установленная его определенность, в свою очередь, игнори-
рует диалогичность эстетической деятельности. В этой связи возни-
кает проблема автора в том ее ракурсе, в котором она не могла быть
поднята, пока речь шла о концепции «смерти автора».
Автор как субъект эстетической деятельности стоит за предела-
ми своего творения. Что это значит? Во-первых, такой субъект
(«чистый автор») не может быть еще и одним из образов, персонажей
произведения26. Во-вторых, что одновременно делает такого автора
«бессмертным», — он не представляет собой средоточия всех смыс-
лов своего творения, но только их возможность. При таком понима-
нии в процессе эстетической деятельности непременно возникает
многоголосое слово, которое является не столько структурообра-
зующим признаком определенного рода повествования (по сравне-
нию, например, с одноголосым словом), но обязательным условием
самой эстетической деятельности27.
В структуралистских концепциях многоголосое повествование
рассматривается как своего рода закономерное продолжение и раз-
витие повествования одноголосого. Это последнее, в свою очередь,
является отправной точкой исследований, и, в то же время достаточ-
но условным теоретическим конструктом, некой моделью виртуаль-
ного одноголосого повествования, которое само по себе рассмотре-
нию не подлежит не только потому, что не представляет специально-
го интереса28, но и, вероятно, потому, что факт его реального суще-
ствования в чистом виде сомнителен. Повествовательное многоголо-
сие вырисовывается как результат претензий каждой из точек зрения
(позиций, с которых ведется повествование, одновременно, контро-
лирующихся «надпозицией») на истинность. При этом многоголосие
видится в качестве сравнительно недавнего образования, не являю-
щегося конститутивным признаком художественного слова вообще29.
Совершенно очевидно, что это многоголосие не идентично многого-
лосию, возникающему в процессе эстетической деятельности. Даже
несмотря на то, что в структуралистских концепциях используются
понятия, введенные M. М. Бахтиным, в них они приобретают иное
значение. Автор как субъект эстетической деятельности представляет
возможность смыслов своего творения. «Надпозиция» структура-
листских концепций — гарант наличности смыслов. Многоголосие в
13*
387
H. H. Смирнова
этом случае— всего лишь распределение заложенных «автором»
смыслов по точкам зрения, возникающее только при достаточном
развитии структуры последних. Ему противопоставляется повество-
вание, ведущееся с какой-то одной точки зрения, поглощающей со-
бой все другие. Напротив, в процессе эстетической деятельности од-
ноголосого слова в принципе не существует. То есть оно не рассмат-
ривается даже как отправная точка. В данном случае многоголосие
является условием эстетической деятельности, в охарактеризованном
выше — оно всего лишь одна из особенностей структуры30. В этом
последнем как раз и раскрывается «смертная» природа «автора».
Исследование ситуации по следам «разрушений» позволило дока-
зать, что субъект в тексте не един, и никогда единым не был, хотя бы
даже, если исходить из чисто композиционных, точнее, позиционных
аспектов. Так, М. Фуко обращает внимание на результаты исчезно-
вения «автора» с точки зрения именно анализа структуры, некогда
возведшего его в ранг «надпозиции»: «...Известны все сложности,
которые вызывают раздвоение у сторонников интерпретативного
анализа, когда они пытаются отнести формулировки во всей их сово-
купности к тому, что хотел сказать автор текста, к тому, что он ду-
мал, — одним словом, к тому великому безмолвному дискурсу, неви-
димому и однородному, на основе которого они выстраивают пира-
миду различных уровней. Но даже вне этих инстанций формулирова-
ния, не тождественных индивидууму-автору, высказывания романа
имеют не одинаковые субъекты...»31. Главным следствием этого яв-
ляется то, что разные типы высказываний в тексте, обусловившие его
неоднородную структуру, «не предполагают одинаковых отличитель-
ных черт для субъекта высказывания; они не предусматривают от-
ношения между субъектом и тем, что он пытается высказать»32. Пос-
ле исчерпания возможностей обращения от «автора» к полаганию
смысла тем не менее остается возможность нахождения пути к «ав-
тору» от текста, то есть «рассмотреть только отношение текста к
автору, тот способ, которым текст намечает курс к этой фигуре —
фигуре, которая по отношению к нему является внешней и предше-
ствующей, по крайней мере с виду»33. Важнейшим условием этого
пути является отказ от непременной заданности, наличности единого
смысла ради возобновления его поисков, но уже с иных позиций.
Впрочем, автор, оторванный от своей «ответственности», рассматри-
вается уже как совсем иной предмет. Главным теперь является не
смысл текста, а смысл знания как совокупности высказываний —
единиц дискурса, следовательно, различных дискурсивных практик.
388
Теория автора как проблема
Очевидно, что если это и относится к «теории автора», то уже к сов-
сем другой. Точнее, даже и не «автор» в какой-либо из своих ипоста-
сей является в этом случае предметом специального рассмотрения, а
«позиции и функции субъекта, которые он может занимать и выпол-
нять в различных дискурсах»34. Внимание исследователя теперь со-
средоточено не на интерпретации текста (высказывания) в соот-
ветствии с заданной смыслообразующей фигурой автора, а на описа-
нии того положения вещей, которое позволяет отличать одни выска-
зывания от других, где субъект — не гарант заданного, определен-
ного, конечного, смысла, а условие существования самого высказы-
вания.
Таким образом, «автор» не един, и не может представлять собой
нечто единое: проблема автора, в конечном счете, почти всегда,
вольно или невольно, сопрягается с проблемой интерпретации (либо
происходит демонстративное отталкивание от нее), поиска смысла,
но пути при этом выбираются самые разные, и самые разные исход-
ные точки. Сам по себе факт исчезновения, «смерти» автора свиде-
тельствует не столько о дегуманизации, открещивании от «слишком
человеческого», сколько о расширении границ понимания «челове-
ческого» с открытием множественности смысла.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Будем говорить об аспектах осмысления, а не значениях, так как целью
настоящей работы не является уточнение или введение новых значений (их
уже стоит принять как данность), речь идет только о принципах подхода к
такому предмету, как «теория автора». В то же время стоит учитывать
определяемые в современной теории литературы значения термина «ав-
тор». «Это, во первых, — как отмечает В. Е. Хализев, — творец художе-
ственного произведения как реальное лицо с определенной судьбой, био-
графией, комплексом индивидуальных черт. Во-вторых, это образ автора,
локализованный в художественном тексте, т. е. изображение писателем,
живописцем, скульптором, режиссером самого себя. И наконец, в третьих
<...>, это художник-творец, присутствующий в его творении как целом,
имманентный произведению. Автор (в этом значении слова) определен-
ным образом подает и освещает реальность (бытие и его явления), их
осмысливает и оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художествен-
ной деятельности» (Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 54.).
2 См.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
В более ранних работах В. В. Виноградов намечал пути такого осмысле-
ния термина «образ автора». «В композиции целого произведения дина-
389
H. H. Смирнова
мически развертывающееся содержание, во множестве образов отражаю-
щее многообразие действительности, раскрывается в смене и чередовании
разных функционально-речевых стилей, разных форм и типов речи, в
своей совокупности создающих целостный и внутренне единый «образ ав-
тора». Именно в своеобразии речевой структуры образа автора глубже и
ярче всего выражается стилистическое единство целого произведения»
{Виноградов В. В. Язык художественного произведения // Вопросы языко-
знания. 1954. №5. С. 23).
3 Так, например, в современном кинематографе достаточно распространен-
ным является факт участия режиссера в эпизодах собственного фильма.
4 См.: Михайлов А. Д. Марсель Пруст накануне «Поисков утраченного вре-
мени»: «Против Сент-Бева» // Пруст Л/. Против Сент-Бева. Статьи и эссе.
М, 1999. С. 16—17,21—22.
5 Следует отдавать отчет в некоторой произвольности выбора данных трех
аспектов значения термина «автор». Очевидно, что этих аспектов гораздо
больше (не говоря уже о конкретных значениях). Последний из назван-
ных — тому подтверждение. Главное, что следует учитывать, проводя по-
добные разграничения, это— те контексты, особенности теорий и кон-
цепций, в которых данные терминологические значения возникают.
6 Изначально выявление данной точки позволяет определить, с чьей пози-
ции ведется повествование, чьи суждения и оценки являются в нем ключе-
выми, например, «всезнающего автора» или повествователя, являющегося
еще и участником изображаемых событий.
7 Традиционно полагается, что в случае с маской это могло бы означать
ироническое отношение (между тем, что говорится и кем).
8 «Автор» в этом последнем значении может пониматься так, как охаракте-
ризовал это Ю. М. Лотман: «Автор романа находится в положении как бы
бога-творца. Он творит свой мир, охватывает его весь с начала до конца
взглядом, знает о нем и о своих героях все, выбирает и комбинирует их пу-
ти. Свой мир он держит в руках и месит, как скульптор, глину. Перед чи-
тателем этот мир открывается постепенно, эпизод за эпизодом, читатель
идет по нему, как по лабиринту, отбрасывая одни догадки и выдвигая но-
вые, ошибаясь и делая открытия. Только к финалу он должен получить
от автора всезнание и слить свою точку зрения с авторской» (выделено
мной. — Н. С.) (Лотман Ю. М., Цивьян Ю. Г. Диалог с экраном. Таллин,
1994. С. 108—109).
9 Возможно и другое, более узкое понимание того, что именуют
«всезнанием», а именно: любого происхождения избыточность видения,
присущая субъекту повествования, когда, например, изображаются некие
внутренние психические процессы, относящиеся к другому субъекту, или
подробное описание событий, детали которых данному субъекту пове-
ствования не могли быть известны. В этом случае мы имеем дело с интер-
претацией на уровне событийном (то есть в сопряжении с пространствен-
но-временными, «материальными», физическими характеристиками изоб-
ражаемого), а не оценочном, «идеологическом» (по аналогии с «точкой
зрения в плане идеологии» Б. А. Успенского, см.: Успенский Б. А. Поэтика
390
Теория автора как проблема
композиции// Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 19—29).
Не стоит, видимо так дистанцировать, четко разграничивать эти два уров-
ня интерпретации (стоит повторить, что речь идет пока об интерпретации
внутри самого повествования, то есть об интерпретации повествователь-
ской). В самом деле, интерпретация событийная всегда стоит на грани с
оценочной, здесь всегда возможны взаимопроникновение, взаимопереход,
обусловленность одного другим (например — различные версии об одних
и тех же событиях в романе «Шум и ярость» У. Фолкнера). Так или иначе
решить, какого рода «всезнание» перед читателем, можно только в каждом
конкретном случае. Стоит, однако, предположить, что возможность узко-
го понимания «всезнания» является свидетельством соотнесения фик-
тивной реальности повествования и реальности вне его, точнее, некоторой
нормой развития событийности во внешней по отношению к фиктивной
реальности (умозаключения о том, что повествователь мог знать, и чего не
мог, на какие высказывания он способен, а на какие — нет, чаще оказы-
ваются произвольными, чем обоснованными).
10 См., напр.: Toolan M. J. Narrative: a critical linguistic introduction. London,
1992. P. 80.
11 Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества. М, 1979. С. 368.
12 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 334.
13 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 372—373.
м Там же. С. 369.
15 Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства// Самосознание европей-
ской культуры XX века. М, 1991. С. 244.
16 Там же. С. 259.
17 Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997. С. 59.
18 Там же. С. 59.
19 И говоря об авторе в этом контексте, мы не ставим слово в кавычки. Пе-
ред нами идея автора вообще: нет ничего более неопределенного, но и нет
ничего более искреннего (когда от автора требуется соблюдение каких-
либо норм, когда автора призывают к ответственности и т. п.). Круг неоп-
ределенных возможностей употребления данного слова в контексте теоре-
тических воззрений XIX века тем не менее значительно уже, чем в наше
время. Поэтому говоря о «теории автора» как проблеме, мы учитываем
весь спектр противоречивых значений, которое может иметь термин
«автор», и употребляем его в кавычках. Однако нет смысла смешивать, так
сказать, общий план и более или менее ограниченное контекстом значе-
ние.
20 Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства... С. 244.
21 Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства... С. 258.
22 Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэти-
ка. М, 1994. С. 384.
23 Там же. С. 384.
24 Там же. С. 390.
25 Согласно нарратологическим представлениям, главное не то, реальные
или абстрактные автор и читатель располагаются на симметричных уров-
391
H. H. Смирнова
нях друг перед другом, а то что они располагаются в рамках коммуника-
тивной ситуации, и все, сообщаемое с одного края, декодируется на про-
тивоположном. У Р. Барта множественность смыслов исключает того, кто
сообщает. Остаются только само сообщаемое и воспринимающий как не-
кие черезвременные инстанции смысла.
26 См.: Бахтин Л/. Л/. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1998. Т. 5. С. 313.
27 «В какой мере в литературе возможны чистые безобъектные одноголосые
слова? Может ли слово, в котором автор не слышит чужого голоса, в ко-
тором только он и он весь, стать строительным материалом литературного
произведения? Не является ли какая-то степень объектности необходимым
условием всякого стиля? Не стоит ли автор всегда вне языка как материала
для художественного произведения? Не является ли всякий писатель (даже
чистый лирик) всегда «драматургом» в том смысле, что все слова он разда-
ет чужим голосам, в том числе и «образу автора» (и другим авторским
маскам)? Может быть, всякое безобъектное, одноголосое слово является
наивным и негодным для подлинного творчества. Всякий подлинно твор-
ческий голос всегда может быть только вторым голосом в слове. Только
второй голос — чистое отношение — может быть до конца безобъектным,
не бросать образной, субстанциональной тени. Писатель— это тот, кто
умеет работать на языке, находясь вне языка, кто обладает даром непря-
мого говорения». {Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1998.
Т. 5. С. 314.).
28 Интересно, что о такого рода повествовании, например, у Б. А. Успен-
ского есть упоминание только в связи с темой «"Точки зрения" в плане
идеологии». См.: Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 19.
29 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 335.
30 Следовало бы основательнее затронуть вопрос о происхождении, истоках
понятия «многоголосия» в обоих случаях, но, вероятно, это было бы
предметом специального рассмотрения. Здесь стоит только акцентировать
главное, а именно, различие в целеполагании: с одной стороны, «много-
голосие» в контексте философского осмысления специфики гуманитарного
знания у M. М. Бахтина, с другой — в связи с конкретными целями струк-
турного анализа произведения.
31 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 94.
32 Там же. С. 94.
33 Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 12—13.
34 Фуко М. Археология знания... С. 196.
392
А. Б. Галкин
Москва
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК МИФ
Ученый без дарования подобен
тому бедному мулле, который изре-
зал и съел Коран, думая исполнить-
ся духа Магомета.
А. С. Пушкин
Румяный критик мой,
Насмешник толстопузый...
А. С. Пушкин
Весьма символичен пушкинский образ «румяного критика», раз-
бухающего на литературе, как тесто на дрожжах, и питающегося со-
ками чужих страданий, творческих побед и духовных озарений, по
слову Пушкина, «готового век трунить над нашей томной музой».
Действительно, большинству людей совершенно непонятно, зачем
нужна критика, да и вообще литературоведение. В обыденном созна-
нии давно сложился образ критика-паразита, сосущего кровь из тела
литературы. Можно понять, для чего пишет писатель. Но с какой
стати литературовед пишет о писателе?! Поистине: если не имеешь
своего таланта, эксплуатируй чужой! Вот традиционная логика
простодушного читателя, которая, надо сказать, содержит зерно ис-
тины.
В умах людей часто возникает и другой, не менее выразительный,
образ литературного интерпретатора: это — зеркало зеркала. Уж ко-
ли художник отражает действительность (ср. популярную на протя-
жении многих лет формулу Ленина: «Лев Толстой как зеркало рус-
ской революции»), то литературовед отражает зеркало действитель-
ности. Система взаимообращенных зеркал, вместо того чтобы вы-
являть истину, скорее, искажает реальность, замутняет ее посто-
393
А. Б. Галкин
р о н н и м и оптическими эффектами. Словом, литературовед — кри-
вое зеркало в «королевстве кривых зеркал», потому что и художник
не чужд искривления действительности.
Впрочем, здесь возникает совсем уж запредельный вопрос: что та-
кое действительность? Возможно ли существование «чистой», ничем
не замутненной действительности? Или, попутно, говоря словами
Понтия Пилата, «что есть истина»? И эти вопросы ставят размыш-
ляющего над ними в такой тупик, из которого не выбраться, разве
что выход каждый подыскивает свой, а какой именно — это уже дело
вкуса.
Итак, прежде всего, сформулируем ряд проблем, требующих раз-
решения или хотя бы осознания:
1. Имеет ли смысл литературоведение и не является ли оно попро-
сту надувательством?
2. Литературоведение — это наука со своим научным терминоло-
гическим аппаратом или только способ высказать свое мировоззре-
ние, то есть обнародовать некую систему взглядов, для которой ли-
тературное произведение играет подсобную роль — роль аккумуля-
тора или катализатора собственных мыслей и чувств, другими сло-
вами, остается поводом к размышлению и личным суждениям крити-
ка о себе, мире, обществе и человеке?
3. Если литературоведение — наука, то имеет ли литературоведе-
ние научный метод? (Поскольку существует ходячее мнение,
будто литературоведение есть досужая болтовня, более или менее
терминологическая.)
Всякая наука, по определению, разумеется, должна иметь свою
терминологию. В общем смысле ряд терминов в литературоведении,
конечно, имеется, например: композиция, сюжет, фабула, жанр, дра-
ма, сонет, версификация и пр. Правда, часто литературоведение чер-
пает запас слов и понятий из философии, эстетики, временами в не-
которых оценках смыкается с этикой, заимствует термины из психо-
логии, даже лингвистики. Помимо всего прочего, множество иссле-
дователей-литературоведов тяготеют к метафорическому языку, а
иногда попросту к эссеистике.
Термины, используемые литературоведами, не имеют той точ-
ности, которая позволила бы любому читателю или коллеге-
литературоведу в полной уверенности заявить, что он ясно понимает,
о чем речь, если термин не объясняется дополнительно. Впрочем, эта
особенность свойственна всякой гуманитарной науке. Любой тер-
мин, в конечном итоге, вызывает бурную полемику, мировоззрен-
394
Литературоведение как миф
ческие нарекания. Между собой сталкиваются литературоведческие
школы и направления, эстетические вкусы и пристрастия — словом,
литературоведение есть подобие живой жизни, а значит, ему присущи
все ее проявления.
Следовательно, ни удовлетворяющей всех терминологии, ни об-
щего, сколько-нибудь внятного языка у литературоведения нет.
Сразу сделаем несколько оговорок по существу. Литературоведе-
ние имеет безусловно практическую ценность, если оно занимается
подготовкой художественных или публицистических текстов, дает
комментарии и предисловия или послесловия ознакомительного ха-
рактера (биографические сведения о писателе, информация о его эс-
тетических, этических и др. взглядах, выдержки из писем писателя,
отзывы современников и пр.). Другая область литературоведения,
ценность которой не вызывает сомнений, — это архивная работа и
вытекающая из нее текстология. Открытия новых материалов: доку-
ментов, писем; уточнение хронологии появления текстов и т. д. имеет
узко научный, но несомненный интерес для специалистов. К читате-
лям как таковым подобные исследования, как правило, не обращены.
Этих сфер литературоведения мы касаться не будем.
Нас, прежде всего, интересует, имеет ли право литературоведение
претендовать на всеобщий интерес. Иначе говоря, литературовед,
занимающийся анализом литературного произведения, то есть его
интерпретацией, может ли, не опуская глаза в землю, честно сказать:
«Я ем свой хлеб не зря!»
Посмотрим, как сами литературоведы доказывают, что они зани-
маются наукой.
Литературоведение как наука
В статье «Космос Достоевского» Г. Д. Гачев предложил читателю
следующий методологический принцип: «Представим: если бы Эмпе-
докл воззрился на мир Достоевского, как бы он мог его прочитать?»
Вероятно, имеется в виду, что Эмпедокл каким-то образом должен
воскреснуть и необычайно заинтересоваться творчеством Достоев-
ского. Допустим, впрочем, что Гачев выражается метафорически,
считая, что мир Достоевского следует рассмотреть на языке четырех
стихий («земля, вода, воздух, огонь, понимаемые символически»), где
«его (языка. — А. Г.) синтаксис — Эрос»1.
Отметим попутно, что терминология берется Гачевым из смеж-
ных наук, в частности из лингвистики. Термин он строит, повторяем,
395
А. Б. Галкин
как метафору. Но образ имеет свою логику, и если Гачев утверждает,
что синтаксис языка стихий — Эрос, значит, должна быть и морфо-
логия, и орфография, и пунктуация— словом, грамматика языка,
охватывающего мир Достоевского. Иначе говоря, метафорический
язык в науке чрезвычайно опасно использовать, поскольку исследо-
ватель наверняка будет превратно понят. Более того, метафора сни-
мает с ученого ответственность: он словно заявляет во всеуслышание,
что видит мир так, а не иначе, вы, стало быть, можете принимать его
видение, а можете не принимать. Принцип вкуса здесь будет действо-
вать со всей очевидностью.
Гачев далее пишет, что в произведениях Достоевского «человек —
это недовоплощенный воз-дух». «У недовоплощенных воз-духов жаж-
да жизни (курсив Гачева.— А. Г.) велика. У просто живых, в ком
жизнь спокойна, нет жажды жизни, ибо жизнь — вода — при нцх. А у
этих именно жажда на топло жизни. Огня им не хватает, а огонь до-
бывается трением — вот они и трутся о людей и любят теплоту раз-
дражения, страдания»2.
Теперь мы наблюдаем, как Гачев (возьмем его способ интерпре-
тации литературных произведений как яркий пример литературовед-
ческой тенденции, которая во множестве других литературовед-
ческих работах представлена гораздо менее выпукло) оперирует, по-
мимо метафорического языка, не менее распространенным этимо-
логическим языком: строит исследование на игре со словофор-
мой.
Однако более всего Гачев тяготеет к так называемому типоло-
гическому подходу в литературоведении. Поэтому он делит ге-
роев Достоевского, со свойственным ему остроумием, на мужчин и
женщин, применяя оппозицию женского и мужского начала (по ана-
логии: огонь, воздух— мужские стихии; вода, земля— женские).
Женское начало — это Россия, мужское — Петербург: «Петербург —
в углу России, где она клином сошлась (и где на нее тевтонская
свинья клин клином натыкалася). Посреди России — Москва. Она —
сердце, Петербург— окно в Европу. Окно— глаз избы (!— А. Г.).
Глаз — на голове. Выходит, Петербург есть голова, ум, промозглый
мозг; Москва— сердце, душа России. Москва-матушка, а Питер-
батюшка. Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по пре-
имуществу, бесконечный простор, где свет ер (свет плюс ветер)
гуляет и любит мать сыру землю»3. Далее герои отождествляются со
стихиями: «...они суть оплотнения русских первоэлементов или их
сочетаний в камере-обскура Петербурга»4:
396
Литературоведение как миф
а) с камнем как кесаревым началом соотносятся герои, подоб-
ные Лужину;
б) «"Светер" в романе "Идиот" двоится на Свет— князь Лев
Мышкин, весь белокурый и духовный, и Ветер— Рогожин, мужик
удалой, разгульный, с бесовщиной и огнями <...> Он— черная вью-
га, вихрь, что закружит, заметет . <...> Идиот в эпилепсии— прови-
дец, как шаман арктический. Он — белый шаман, а Рогожин — чер-
ный шаман»;
в) «Ну, а женщина какова? Она не мать-сыра, какова Русь-
матушка, что распростерлась вне Петербурга как страна и приро-
да — спокойная, медлительная, — нет, она такова, как Нева = жен-
ская ипостась в космосе Петербурга: короткодыханная, и не мать, а
Нева-дева. Недаром имя такое: Неточка Незванова (= нет, не (з)
в а (ть) — это малая Невка.) H е - в а — это отрицание, небытие Руси
(М о с к - в а — утверждение, бытие Руси). Петербург — это воля, ог-
некаменное "Да!" А вечно женское <...> здесь говорит — "Не..."»;
г) отсыревший камень: «...Девушкин, Голядкин, Мармела-
дов, генерал Иволгин, Лебедев, капитан Лебядкин, отчасти Федор
Павлович Карамазов, который когда-то тоже служил. Все это от-
прыски камня на болоте, плод его отсыревания при взаимодействии с
матерью сырой землей <...> капля (водки) точит камень Петров»;
д) хтонические: «Если Федор Павлович Карамазов— Кро-
нос, хтотичен, то в структуре романа аналогичная ему по трансцен-
дентности уровня светлая ипостась — старец Зосима. Однако и он,
быть может, в прошлом Кар а-мазов (= Черно мазый, т. е. дьявол,
Вельзевул)...5»
Как видим, в этой типологической схеме персонажей Достоевско-
го все построено на допущениях: во-первых, Эмпедокл должен
«воззриться» на произведения Достоевского, во-вторых, Нева и
Москва противопоставлены вследствие совпадения последнего слога
«ва» (не говоря уже о «малой Невке», давшей имя Неточке Незвано-
вой), в-третьих, Федор Павлович может стать Кроносом, тогда ста-
рец Зосима до пострига, в миру, закономерно станет Вельзевулом.
С тем же успехом можно допустить, что Федор Павлович не Кронос,
а, скажем, Кухулин. Тогда старца Зосиму вполне можно соотнести с
Фердиадом. Почему бы нет? Ку-ху созвучно Ка-ра, и Кухулин так же
энергичен, как Федор Павлович, когда, например, мечет стрелу
пальцами ног из-под воды в бою с Фердиадом. Их поединок вполне
соотносим со скандалом, развязанным Федором Павловичем в келье
старца Зосимы.
397
А. Б. Галкин
Помимо «этимологического», «метафорического», «эссеистичес-
кого» методов (все эти методы представлены у Гачева широко), в
литературоведении имеет место противоположный крен: попытка
формализовать литературоведческий анализ. Допустим, с помощью
формул. Так, С. М. Соловьев вводит в научный оборот формулу
«цветовой насыщенности литературных произведений», где С —
цветовое число:
_ число упоминаний цвета
число печатных листов произведения
В романе «Война и мир» С = 17,7, в романе «Идиот» С = 6,97, в
«Братьях Карамазовых» С = 6,236. Отсюда делается вывод, что Дос-
тоевскому присуще редкое употребление цвета. Остается преклонять-
ся перед научным подвигом Соловьева: он педантично и целенаправ-
ленно, с карандашом в руках читал эти крупные по объему романы и
подсчитывал каждое слово, выражающее цвета и цветовые оттенки, в
сочетании с количеством печатных листов произведения.
Соловьев, хотя и тяготеет к точности, противоположной безгра-
нично свободному полету мысли Гачева, тем не менее, как ни пара-
доксально, они сходятся в желании типологизировать, разу-
меется разными средствами. Соловьев типологизирует героев Досто-
евского, отталкиваясь от концепции M. М. Бахтина о «полифонии»
Достоевского: Соловьев делит персонажей на «поливариантные» и
«монологические» (ср. основную оппозицию Бахтина: полифония со-
знаний — монологическое сознание. — А. Г.). При этом он составля-
ет таблицу поливариантного образа Ползункова, показывая проти-
воречивую сложность его натуры:
«С одной стороны:
честнейший и благороднейший человек на свете,
сознание собственного достоинства,
гнев (благородный).
С другой:
робость за неудачу,
стыд,
полнейшее сознание собственного ничтожества,
просьба о прощении, что смел утруждать.
С третьей:
досада с внезапной краской на лице,
ложная наглость,
способность сделать подлость по первому приказанию»7.
398
Литературоведение как миф
К поливариантным образам Соловьев относит Исая Фомича Бум-
штейна; членов семьи Карамазовых, кроме Алеши; человека из под-
полья; Андреева («Подросток»); Настасью Филипповну; Рогожина;
Валковского и пр. Для монологических персонажей характерны, по
мнению Соловьева, «общие признаки: гармоническое единство внеш-
него и внутреннего и акцент на главной индивидуальной черте в этом
внешнем»8. К монологическим, например, принадлежит, Варенька
Доброселова («Одной тональностью создан этот образ, одна нота
звучит в нем: призыв к милосердию...»9), а также Алеша Карамазов,
Зосима, ростовщица Алена Ивановна («безжалостная хищница»),
Хохлакова, чиновник Перхотин.
Опять-таки музыкальный принцип и метафора вдруг начинают
определять типологию героев: монологический герой — звучит одна
нота, поливариантный — много нот, может быть даже какофония.
Явно художественные персонажи не укладываются в формулу — для
каждого требуется, по крайней мере, таблица.
Следует отметить, что Бахтин после выхода в свет книги «Проб-
лемы поэтики Достоевского» открыл плеяду своих эпигонов в лите-
ратуроведении. Вдруг все разом бросились искать «полифонию» и
«монологизм» у всех писателей мира. Даже Пушкин в подобных ис-
следованиях выступает как своего рода вторичное явление, как ил-
люстрация идеи Бахтина. Последний превратился в непререкае-
мый научный авторитет, что называется «забронзовел». Б. Т. Удодов
в статье «Пушкин: становление художественной антропологии», на-
пример, пишет: «В завершающих цикл южных поэм "Цыганах" Пуш-
кин не только развивает и углубляет проблематику "Кавказского
пленника", он усиливает в них диалогическое столкнове-
ние противоположных и вместе с тем равноправ-
ны х с точки зрения автора голосов и правд (разрядка моя. —
А. Г.)»10.
Получается, что на вполне самостоятельного писателя наклады-
вается некая изначально заданная готовая схема или научная теория
(идеи Бахтина о «полифонии», «карнавальном сознании», «большом
диалоге», без сомнения, сами по себе блестящи, но это его собствен-
ные идеи, они вытекают из его, только ему присущего мировоззрения
и художественного видения мира). В этом заключается метод ли-
тературоведческого анализа.
С 30-х по 60-е годы XX века в отечественном литературоведении
доминировала социологическая школа. Ей отдали дань даже
талантливые исследователи, такие, например, как Г. А. Гуковский.
399
А. Б. Галкин
В книге «Реализм Гоголя» он вполне убежденно проводит границу
между помещиками и народом по классовому признаку, более того,
зло и добро противопоставляет по тому же классовому критерию: «В
этой борьбе зла и блага, по Гоголю, непременно побеждает благо,
уже потому, что благо, для Гоголя, это сущность характера и бытия
народа, а зло— это искажение, классовое и сословное, барское и
насильническое искусственное наслоение на положительную осно-
ву. Победа блага в конце конфликта, образующего сюжет поэмы
("Мертвые души". — А. Г.), и выражена в авторском монологе о
тройке, где гоголевский принцип слитно-целостного образа, охваты-
вающего огромный коллектив, в конце концов всю страну, торже-
ствует победу»11.
Идеологическая установка (о безусловной правильности и непре-
рекаемости марксистско-ленинского, материалистического взгляда
на историю и культуру) подразумевает заданность оценок при анали-
зе любого произведения. Внеположная образному миру писателя
упомянутая идеологическая установка, само собой разумеется, тре-
бует пафоса поучения: Гоголь — или любой другой писатель — не-
допоняли, не оценили, не осознали и пр. — все потому, что не владе-
ли марксистско-ленинским методом и жили в другую эпоху— до
торжества идей социализма и коммунизма. Одним словом, интерпре-
тация произведения оказывается вторичной, а первичной будет
оценка. Все, что не укладывается в идеологические рамки, плохо: по
мнению другого известного специалиста по творчеству Гоголя С. Ма-
шинского, персонажи 2-го тома «Мертвых душ» недостойны пера
Гоголя, поскольку «Гоголь временами осознавал, что в изображении
своих идеальных героев он шел не от действительности, не от жиз-
ненной правды, а произвольно выдумывал их от себя»12, а концепция
С. Шевырева о гоголевской «раздвоенности» не выдерживает крити-
ки, потому что если поверить в эту концепцию, то гоголевское твор-
чество «начисто утрачивало свою боевую идейно-сатирическую на-
правленность и приобретало характер сентиментальной проповеди
нравственного самосовершенствования»13.
Очевидно, Машинский не сомневается в том, что он знает, и
знает досконально, что представляет собой действительность и жиз-
ненная правда, а что— произвольная выдумка (как будто художе-
ственный образ не есть таинственное сочетание выдумки и жизнен-
ной правды). Такое знание, вероятно, внушает ему идеологическая
установка. Кроме того, почему Гоголь должен непременно осущест-
влять боевую идейно-сатирическую направленность в своем твор-
400
Литературоведение как миф
честве и почему вдруг проповедь нравственного самосовершенство-
вания настолько плоха, что заслуживает эпитета сентиментальной?
К несчастью, сам литературовед вынужден выходить на боевую
тропу защиты социализма и его идеалов (очень неотчетливых), что,
безусловно, уменьшает ценность литературоведческого анализа про-
изведения писателя.
Нам могут возразить, что социологический метод — это неакту-
ально и в литературоведении уже много лет серьезно господствует
тартусская структуралистская школа, которую возглавляют Ю. Лот-
ман и Б. Успенский; эта школа давно разработала аналитический
аппарат и приемы интерпретации текста, тем самым наконец отечес-
твенная наука преодолела изоляцию и присоединилась к магистраль-
ной линии европейского и американского литературоведения.
Но какой же метод применяет отечественный структурализм? Это,
прежде всего, метод аналогий: литературное произведение уподоб-
ляется компьютерному коду, в нем структуралисты ищут и небезус-
пешно находят «обозначаемое» и «обозначающее» и их взаимообмен.
Инструментарий интерпретации текста прост: оппозиции (диады) и
триады, базовая программа и «инварианты». В подобном анализе
три опасности. Первая: свести художественное своеобразие к нау-
кообразию и путем перевода образного, символического, эмоци-
онально наполненного и живого языка литературного текста в «засу-
шенный» язык структурализма «убить» произведение и отчасти от-
толкнуть читателя (не от произведения, а от литературоведа). Вторая
опасность: высокомерно считать, что непонимание или недопонима-
ние «реципиента» (воспринимающего; в данном случае — читателя)
есть его неспособность к дешифровке сложного кода произведения.
Наконец, третья — максимальное абстрагирование и формализация
художественного произведения, подобные математическому абстра-
гированию.
Ю. М. Лотман, анализируя пушкинские «Медный всадник» и «Ка-
питанскую дочку», прямо заявляет о «некотором культурно-истори-
ческом уравнении (разрядка моя. — А. Г.), допускающем любую
смысловую подстановку, при которой сохраняется соотношение чле-
нов парадигмы... образ бурана, открывающий сюжетный конфликт
"Капитанской дочки"... связывается то с первым ("стихийным"), то с
третьим ("человеческим") членом парадигмы. Расщепление второго
члена на дополнительные (т. е. совместимо-несовместимые) функции
приводит к чрезвычайному усложнению образа Петра: Петр вступ-
ления, Петр в антитезе наводнению, Петр в антитезе Евгению — со-
401
А. Б. Галкин
вершенно разные и несовместимые, казалось бы, фигуры, соответ-
ственно трансформирующие всю парадигму. Однако все они зани-
мают в ней одно и то же структурное место, образуя микропарадигму
и в этом отношении отождествляясь.
Таким образом, существенно, чтобы сохранился треугольник, пред-
ставленный бунтом стихий, статуей и человеком. Далее возможны
различные интерпретации при проекции этих образов в область по-
нятий. Возможна чисто мифологическая проекция: вода (= огонь) —
обработанный камень— человек. Второй член, однако, может ис-
толковываться исторически: культура, ratio, власть, город, законы
истории. Тогда первый член будет трансформироваться в понятия:
природа, бессознательная стихия, бунт, степь; стихийное сопротивле-
ние законам истории»14.
Это структуралистское рассуждение, во-первых, дает наглядную и
вполне удобную, скажем для студентов, схему — треугольник.
Человек
стихия статуя
Во-вторых, внутри, казалось бы, жесткой схемы возможно любое
фантазирование, то есть мифологические, исторические, философ-
ские, общекультурные, социологические проекции. Здесь все зависит
от вкуса и духовных устремлений литературоведа. В конечном итоге
триада: вода (= огню) — камень — человек15 — начинает всерьез на-
поминать типологию Гачева. Противоположности сходятся: поэт без
берегов и академический профессор плывут под одним парусом к
одному берегу. Достаточно не принять их систему координат, и
оппозиции, триады, инварианты рассыпаются в прах, потому что
иная мировоззренческая позиция или даже иной эстетический
вкус вносят внеположный данным построениям критерий смысла, и
если этот критерий принципиально другой, то никакие авторитеты не
убедят инакомыслящего в правильности триады и ее проек-
ций. Для него они просто не будут являться значимыми.
Беда структуралистов заключается в том, что временами они иг-
норируют очевидный факт нежелания читателя расшифровывать
произведение по заданному коду. Читателю довольно отыскать
близкое ему в произведении, чтобы получить эстетическое и любое
другое наслаждение.
Кроме того, отдадим себе отчет в том, что и структуралист никак
не застрахован от субъективизма, причем подчас в крайних его фор-
мах. Другими словами, литературоведение, без сомнения, идеоло-
402
Литературоведение как миф
г и я (в широком смысле этого слова). И от нее нельзя требовать
строго научных истин, выверенных формул, математических доказа-
тельств. Элемент субъективизма и необязательности будет в логиче-
ских и аналитических построениях любого литературоведа. Это надо
принять как данность и считать неустранимым злом или добром —
неважно, как это оценивать.
Наконец, есть и еще один типичный метод литературоведческо-
го анализа. Его условно можно назвать жизненным. Распростра-
неннейший прием литературоведческой статьи — примеры из жиз-
ни, особенно из собственной. Читатель узнает о наличии семейства
у литературоведа, о его дружеских и любовных связях, о его поли-
тических пристрастиях и т. п. Чаще всего, фоном такого исследова-
ния будет патетика, эмоциональные тирады и восклицания, неожи-
данные открытия и чудесные откровения, в основном представляю-
щие ценность исключительно для данного конкретного литературо-
веда.
Примером такой неукротимой жизненности может служить, до-
пустим, книга Ю. Ф. Карякина «Достоевский и канун XXI века».
В одной из глав, названной очень выразительно: «Зачем Хроникер в
"Бесах"?»— Карякин сразу, по-литературоведчески берет быка за
рога. Однако решает он поставленную проблему не так четко, как
сформулировал. Он вспоминает свою поездку в Лондон в октябре
1960 г., где в маленькой гостиной у Гайд-парка смотрел телевизор:
«На экране давали дикие сцены резни под захлебывающийся механи-
ческий голос диктора: прямой репортаж с какого-то края света»16.
Затем ему приходит на ум еще одно воспоминание — уже о поездке в
Америку: «Когда вся Америка (пол-Земли, наверное) смотрела по
телевидению, как буквально на ее глазах, по очереди, убивали обоих
Кеннеди, убивали Мартина Лютера Кинга, мне примерещилась вдруг
такая вот "картинка": не исключено, что люди могут увидеть в лю-
бой момент, на таком же экране, какой-нибудь взрыв ядерный (пря-
мой репортаж!) и не догадаться, что это они сами (курсив Каряки-
на. — А. Г.) именно и взрываются сию минуту»17.
Вследствие подобных ассоциаций сознание исследователя вдруг
озаряется ярким светом, и он обнародует невероятное литературо-
ведческое открытие: «Но ведь тогда все становится на свои места, не
становится— стояло, только сами не видели. Перед нами великое
художественное открытие, которое неразделимо, конечно, на
"содержание" и "форму". Сто с лишним лет назад Достоевский уло-
вил наши ритмы и шумы, угадал наши беды и рассказал об этом поч-
403
А. Б. Галкин
ти на нашем языке, преобразовав сам способ массовой информации
(как сказали бы нынче) в художественный метод»18.
Такие озарения, несомненно, делают честь исследовательскому
дару Карякина, а также его острому политическому чутью («...уж
"Бесов"-то вообще нельзя понять <...> без томов Нюрнбергского
процесса»19. Впрочем, все эти размышления имеют значение преиму-
щественно для внутреннего мира самого Карякина, нежели отвечают
художественному методу Достоевского20. Писатель вырывается из
исторического контекста, лишается индивидуальности, с тем чтобы в
канун XXI века быть провозглашенным пророком и провидцем
«наших бед, ритмов и шумов». Карякин проводит поразительную
текстологическую работу, чтобы доказать пророческий дар Достоев-
ского и связь его романа с современностью. Он находит множество
цитат из романа «Бесы» о сталинских «тройках» («...у них все смерт-
ная казнь... на бумагах с печатями, три с половиной человека подпи-
сывают...»), о коллективизации («...вы даете 80 миллионам народу
только несколько дней, чтоб он снес вам свое имущество, бросил
детей, поругал церкви и записался в артели...»), о шпионстве («под-
сыпают и поджигают»). «Откуда он это знал?» — восклицает Каря-
кин21. Писатель здесь уже не является объектом анализа, а скорее
оказывается предметом культа, пиетета, фанатического поклонения
его непререкаемому авторитету; в то же время его личность как ху-
дожника и мыслителя обесценивается, вытесняется случайными вос-
поминаниями и ассоциациями исследователя, и, в конце концов, пи-
сатель служит иллюстрацией социологических или публицистических
пристрастий литературоведа. В этом смысле книга Карякина вос-
крешает социологический метод 30—60-х, на самом деле далеко не
изжитый и поныне в отечественном литературоведении.
Подведем первые итоги.
Как читатель художественного произведения, так и интерпрета-
тор в равной степени подвержены мифологической деятель-
ности. Они обязательно оказываются в плену той или иной мифи-
ческой структуры. Условно их можно обозначить как: 1) миф макси-
мально субъективный, где наложение своей личности полностью
перекрывает личность писателя; 2) миф частично субъективный, ког-
да личность читателя (интерпретатора) не поглощает личность авто-
ра, а находит с ней общие точки соприкосновения, но при этом ав-
торская личность в сознании воспринимающего предстает в виде
иной структуры, нежели собственная личность; 3) миф, прибли-
жающийся к объективному, когда исследователь (читатель) осознает
404
Литературоведение как миф
структуру личности и автора в целом, не навязывая этой личности ни
одного не свойственного ей закона, предельно отграничивая свою
личность от авторской.
Первый случай — сфера деятельности массовой мифологии, мас-
сового психоза, обыденного сознания. Обожествление, фетишизм
различных эстрадных «звезд», политических деятелей, некоторых
писателей основаны на законе предельно субъективной мифологии:
берется какая-нибудь одна, как правило несущественная для обо-
жествляемой личности или даже попросту несуществующая, черта и
возводится в абсолют. Этот принцип мифологизации удачно сфор-
мулирован в пушкинском стихотворении: «Ах, обмануть меня не
трудно, я сам обманываться рад». В этой поэтической формуле вид-
но, что миф возникает не вовне, а изнутри воспринимающего. Ему,
по существу, не важен объект — он ищет в себе то, что в другом ему
необходимо абсолютизировать. Концепции Гачева и Карякина—
наглядные примеры такой мифологической структуры: личность ис-
следователя выражается целиком, в то время как личность Достоев-
ского отступает в тень, растворяясь в ярком свете личностей Гачева и
Карякина.
Второй случай иллюстрируют концепции С. Соловьева и Ю. Лот-
мана. Кстати, под этот, наиболее распространенный, случай подпа-
дает даже Ф. М. Достоевский. Б. М. Энгельгардт проницательно за-
метил, что его речь о Пушкине свидетельствует не столько о Пушки-
не, сколько о самом Достоевском и его идеологических построени-
ях22.
Третий случай — идеал гуманитарного анализа. Только времена-
ми лучшие литературоведы могут похвастаться таким почти объ-
ективным проникновением в творческий мир писателя, близким к
адекватности. Некоторые работы Б. М. Эйхенбаума, Ю. М. Лотмана,
Ю. Н. Тынянова, Т. Г. Цявловской приближаются к идеалу за счет
необыкновенной талантливости этих исследователей, можно
даже сказать, их конгениальности творцам, произведения
которых они анализировали. И здесь мы сталкиваемся с очередным
парадоксом литературоведческой науки: талантливость в литерату-
роведении— необходимая составляющая смысла. Если в других
науках бесталанность может скрыться за педантизмом исследования,
за формулами и таблицами, то в литературоведении, как, впрочем, и
в искусстве, бездарность видна, и никуда от этого не денешься.
Бессмыслица исследования никак не спрячется за яркими одеждами
научных авторитетов или громкими именами и терминами. Правда,
405
А. Б. Галкин
и здесь только время может все окончательно расставить по своим
местам: непреходящие вещи и подлинные таланты определятся спус-
тя десятилетия, а то и столетия.
Литературоведение как искусство
Уж коли мы решили, что нет объективного литературоведения, а
значит, по логике вещей, литературоведение нельзя считать и наукой
как таковой, поскольку размыт как предмет науки (литература), так
и методы научного постижения; к тому же остается весьма зыбкой
научная истина: или она склоняется к релятивизму, или, наоборот,
напористо насаждается отдельным литературоведом как единствен-
ная и абсолютная истина; наконец, идеологичность литературоведе-
ния нередко порождает личные амбиции, весьма далекие от научных
интересов, — итак, если литературоведение не наука, то она должна
стать искусством. Литературовед тогда будет творцом, для которого
материалом станут художественные образы произведения или худо-
жественный образ личности писателя. Литературовед в конце концов
должен честно признаться себе самому, что он создает новую ху-
дожественную реальность, что он мифологизирует, выстраивает ги-
потетически с помощью собственной образной системы художестве-
ный мир другого лица: писателя, поэта, драматурга.
Одним словом, сделаем следующий шаг и скажем без обиняков:
личность — это миф, а метод постижения мира этой личностью —
мифологизация. Это утверждение касается в равной мере и писателя,
и литературоведа, да и вообще человека.
Что значит м и ф? И почему из мифа следует выводить метод ли-
тературоведческой интерпретации?
Личность как миф
В своей книге «Диалектика мифа» А. Ф. Лосев сформулировал
концепцию личности в следующих основных положениях:
1) «Всякая живая личность есть так или иначе миф»23.
2) Миф есть символ.
3) «...мифическая отрешенность есть отрешенность фактов по их
идее от их обычного идейного состава и назначения»24.
4)«Вещь, ставшая символом и интеллигенцией (само-
сознанием в терминологии Лосева. -^А. Г.), есть уже миф»25.
406
Литературоведение как миф
Эти тезисы нуждаются в раскрытии. Во-первых, Лосев справедли-
во доказывает, что любое человеческое сознание мифологично. Ка-
кой бы точнейшей наукой ни занимался человек, он все равно не
сможет избавиться от присущей только ему направленности мысли,
так сказать, бессознательного вероучения. Отбор и интерпретация
фактов отсюда сугубо индивидуальны и как раз определяются лич-
ностной мифологией. В литературоведении это происходит как нель-
зя более часто.
Во-вторых, «мифология оперирует чувственными образами»26, а
значит, в определении личности невозможно обойтись без понимания
образа. Для Лосева образ-символ дает ключ к мифологическому
мышлению личности. Личность в этом смысле тождественна симво-
лу: так же как в символе, в личности присутствуют два плана бытия:
«внутреннее» (идеальное, идея) и «внешнее» (выражение, вещь), при-
том что в символе «они даны в полной абсолютной неразли-
чимости, так что уже нельзя указать, где "идея" и где "вещь"»27.
Для личности эти категории внутреннего и внешнего будут вопло-
щаться в категориях самосознания и выражения, то есть поступка.
Вообще, для Лосева понимание искусства как символичес-
кой деятельности глубоко принципиально. Только такой взгляд на
искусство, по нашему мнению, позволяет избежать аллегорического
или схематического (согласно Лосеву) мышления литературоведов.
(В аллегории внешнее перевешивает над внутренним, в схеме, напро-
тив, внутреннее — над внешним, в символе осуществляется тождес-
тво внутреннего и внешнего.) Даже самые крупные и талантливые ли-
тературоведы впадают иногда в комментирование художественного
образа как реальности. Это следствие абсолютизации «внеш-
него» (аллегории) или абсолютизации «внутреннего» (схемы). В пер-
вом случае литературные персонажи превращаются в близких знако-
мых, соседей по лестничной клетке или даче: их ругают взахлеб, об-
ращают к ним слова восхищения и любви, учат их жить, упрекают за
неправильные поступки, объясняют, как надо было вести себя и пр.
Приведем пример такого комментирования, типичного в литерату-
роведении: «Вельчанинов (герой рассказа Ф. М. Достоевского "Веч-
ный муж". — А. Г.) жил широко и свободно, он промотал два состо-
яния. Наружность Вельчанинова была привлекательна, он был оса-
нист, крепкого телосложения и крепкого здоровья; физически силен,
много сильнее Трусоцкого.
Вельчанинов эгоист, для которого главное — он сам, его прихоти,
его желания, его увлечения, преимущественно чувственного характе-
407
А. Б. Галкин
pa. Его главная страсть — женщины, его главный порок — разврат»
(В. Я. Кирпотин)28.
Во втором случае (случае со схемой) невозможно отличить Шекс-
пира от Достоевского, Пушкина от Лескова, Гоголя от Лермонтова.
Те и другие отвечают одному и тому же механическому принципу,
выбранному литературоведом за руководящий.
Вернемся к личности как мифу в концепции Лосева.
Нет в мире ни одной вещи, которая была бы не мифологизирова-
на человеком. Каждую вещь он окружает индивидуальными оценка-
ми, испытывает к ней особенные эмоции. Весь вещественный мир
оказывается пронизан акциденциями личности. Вещи вбирают в себя
самосознание личности, становятся символичными. Мир предстает в
достаточной степени фантастическим для каждой личности и уж, по
крайней мере, уникальным, не совпадающим ни с каким другим ми-
ром. Отсюда возникает та мифическая отрешенность, то индивиду-
альное личностное чудо, которое неповторимо для каждой личности
и которое другой никогда не способен понять до конца. Лосев пишет:
«...мифическая отрешенность предполагает некую чрезвычайно прос-
тую и элементарную интуицию (курсив Лосева. — А. Г.), моменталь-
но превращающую обычную идею вещи в новую и небывалую. Мож-
но сказать, что каждому человеку свойственна такая специфическая
интуиция, рисующая ему мир в каком-то особенном свете, а не как-
нибудь иначе. И потому мифическая отрешенность есть явление ис-
ключительное по своей универсальности. В каждом человеке
можно заметить, как бы ни была богата его психика, эту одну общую
линию понимания вещей и обращения с ними. Такая линия свойст-
венна ему, и никому больше. На любом писателе это можно прове-
рить и показать. Но только наши историки литературы и литерату-
роведы мало занимаются такими вопросами. Вопросы же эти совер-
шенно эмпирические и реальные и требуют массы фактических и ста-
тистических наблюдений для выяснения общего уклона об-
разности (разрядка моя. — А. Г.) и прочих словесных особенно-
стей данного писателя. Эта основная и примитивная интуиция есть
нечто совершенно простое, нечто совсем, совсем простое, как бы
только один взгляд на какую-нибудь вещь. Это действительно взгляд,
но не на ту или иную вещь, а взгляд вообще на все бытие, на мир, на
любую вещь, на Божество, на природу, на небо, на землю, на свой,
наконец, костюм, на еду, на мельчайший атом повседневной жизни, и
даже собственно не взгляд, а какая-то первичная реакция сознания на
вещи, какое-то первое столкновение с окружающим»29.
.408
Литературоведение как миф
Лосев, с одной стороны, точно, а с другой — туманно, формули-
рует метод подхода к писателю и в целом к человеку. Однако он
только намечает его как нечто существующее в жизни и подразуме-
ваемое, всем понятное. Литературоведческий метод требует конкре-
тизации и, так сказать, инструментария. «Общий уклон образно-
сти» — это пока только заявка на метод. В чем суть мифологизма
личности и как этот пресловутый мифологизм превратить в метод?
Обратимся к исследователям мифа— мифа первобытного, мифа
древних людей.
Миф, в понимании А. Бергсона, асоциален, мифотворческое
воображение стремится разорвать связь с обществом в интересах
свободы и личной инициативы. Он соотносит мифологию с религией,
которые являются «оборонительной реакцией природы против раз-
лагающей силы интеллекта, в частности против интеллектуального
представления о неизбежности смерти»30. Другими словами, миф, как
и религия, покоится на вере. Индивидуальный миф личности также в
своем основании имеет веру.
Французский исследователь первобытной мифологии Л. Леви-
Брюль сочувственно цитирует представителя ритуальной мифологи-
ческой школы Малиновского, который пишет: «Миф является для
дикаря тем же, что для набожного христианина является в Библии
история творения, потопа, искусительной жертвы Христа на крес-
те»31. Если для первобытного человека миф — своеобразное «священ-
ное писание», то человеку современному свойственно переживать свой
индивидуальный миф точно так же. Миф определяет поступки лич-
ности и неразрывен с ритуалом, как доказывает ритуальная ми-
фологическая школа применительно к дикарям. Миф, одним словом,
функционален, глубинным образом связан с поступком человека.
Действительно, миф обусловливает поведение человека: образует-
ся неразрывное единство его кредо (собственного «священного писа-
ния») и конкретных проявлений вовне. Нет разлада между телеоло-
гической устремленностью личности и ее выражением.
Леви-Брюль конкретизирует выводы Малиновского, полагая, что
коллективные представления «носят императивный, повелительный
характер и оказываются не чисто интеллектуальными фактами»32,
так как насыщаются моторными, эмоциональными и аффективными
элементами33. Положение Леви-Брюля можно перенести на личность
с ее системой жизненных правил, нравственных (или безнравствен-
ных) императивов, установленных самой личностью и обращенных к
себе и другим.
409
А. Б. Галкин
Леви-Брюль проводит резкую черту между первобытным и логи-
ческим мышлением современного человека. По мнению ученого,
первобытное мышление пра-логично, то есть «оно обнаружи-
вает полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш
разум»34... «для первобытного мышления противоположность между
единицей и множеством, между тождественным и другим и т. д. не
диктует обязательного отрицания одного из указанных терминов при
утверждении противоположного и наоборот»35. Это значит, что объ-
екты могут быть и самими собой и чем-то иным. Отсюда Леви-Брюль
выводит еще один аспект первобытного мышления— его мисти-
ческую окраску, ориентированную на культ умерших предков36.
Трудно согласиться с мыслью Леви-Брюля о том, что между
мышлением первобытного и современного человека лежит непрохо-
димая пропасть. Каждый из нас для себя на самом деле мыслит
отнюдь не по логическим законам. Когда дело касается конкретности
нашей жизни, мы мыслим противоречиво, отрывочно и, так сказать,
по законам тождества, восходящим к ассоциативности нашей
памяти и восприятия. Притом на уровне индивидуального мифа ве-
щи или явления, с которыми мы сталкиваемся, в определенном ми-
фологическом контексте обретают для нас магические свойства.
В отношении этих самых простых и обыденных вещей личность из-
нутри себя творит индивидуальное чудо. Склонность к подобным
мистическим обобщениям в контексте своей судьбы так или иначе
характерна для всякой личности. Поистине для себя мы предельно
мифологичны— логические законы вступают в действие уже для
других в связи с практическими объяснениями своей точки зрения
или концепции.
Вот почему во множестве литературоведческих исследований лег-
ко «выпадают» целые логические звенья, причем нередко совершенно
незаметно для самого литературоведа.
Так, например, литературовед А. А. Слюсарев, анализируя пуш-
кинскую повесть «Метель», соотносит гегелевское определение бес-
сознательного из «Философии духа» с душевным состоянием героев
«Метели»: «Гегель останавливается и на таком его (бессознательно-
го.— А. Г.) проявлении, как "магнетизм": в нем "... организм рас-
крывается в своей конечности, бессилии и зависимости от чуждой
силы..." Поэтому между "чувствующей природной жизненностью и ...
рассудочным сознанием возникает разрыв (курсив Слюсарева. —
А. Г.)" В этом состоянии внутренней несвободы и раздвоенности
Бурмин подъезжает к церкви и попадает в особое "психологическое
410
Литературоведение как миф
пространство", диктующее ему свое поведение»37. Слюсареву, веро-
ятно, даже не приходит в голову мотивировать, почему именно Ге-
гель становится точкой опоры его конструкции, а не Спиноза или,
скажем, Марк Аврелий. Дело, наверное, в том, что волею судеб он
изучал именно Гегеля и тот ему близок, в отличие от К. Г. Юнга
или 3. Фрейда, у которых тоже можно было бы почерпнуть понятие
бессознательного и проанализировать персонажей Пушкина исходя
из психоанализа. Первобытное мышление в этом примере отчетливо
выражено, бессознательное вероучение литературоведа (авторитет-
ность гегелевского слова) проявлено.
Известный этнограф, структуралист К. Леви-Стросс остроумно
отмечает не только близость первобытного и современного мышле-
ния, но даже их идентичность; различаются только объекты, на ко-
торые то и другое мышление направлено: «Логика мифологического
мышления так же неумолима, как логика позитивная, и в сущности
мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве ло-
гических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых
логическому анализу»38.
Блестящий образец мифологического мышления дает Кассирер.
По Кассиреру, специфика мифологического мышления заключается в
«неразличении реального и идеального, вещи и образа, тела и свой-
ства, "начала" и принципа, в силу чего сходство или смежность пре-
образуется в причинную последовательность, а причинно-следствен-
ный процесс имеет характер материальной метаморфозы. Отношения
не синтезируются, а отождествляются; вместо "законов " выступа-
ют конкретные унифицированные образы; часть функционально
тождественна целому, весь космос построен по одной модели и арти-
кулирован посредством оппозиции "священного и профанного " (курсив
мой. — А. Г.)...»39.
Это исключительно глубокое понимание мифологического мыш-
ления переадресуем личности. Конечно, мышление человека нового
времени не равно первобытному мышлению, где нет разницы между
реальным и идеальным, телом и свойством и т. д. Тем не менее выде-
ленные нами слова имеют универсальное значение, являются консти-
тутивными также и для индивидуального мифа личности. Во-первых,
свернутый характер нашего мышления определяется самобытной
образной системой, с позиций которой мы подходим к миру; лишь
впоследствии «унифицированные образы», как сказано у Кассирера,
переводятся нами в план абстрактно-логический, для того чтобы
выразить и развернуть их идеальную сущность. Во-вторых, чрезвы-
411
А. Б. Галкин
чайно продуктивна мысль Кассирера о построении мира по одной
модели (по нашей терминологии — идеалу, о чем ниже), так сказать
первообразу. Исходя из этой модели, личность выстраивает це-
лую систему отождествлений. Даже если личность в процессе этих
отождествлений сильно удаляется от первообраза, изначальная связь
с ним все равно сохраняется. Оппозиция священного — профанного,
заложенная в первообразе и взятая Кассирером за основу мифологи-
ческого мышления, наглядно отражает ценностные ориентации вся-
кой личности; с ее помощью и следует рассматривать, что суще-
ственно и волнующе для личности, а что не имеет для нее ни малей-
шего значения.
В художественных произведениях пародийное, ироническое, сар-
кастическое, то есть профанное, нужно понимать только вместе
со священным. Иначе непонятно, почему писатель пародирует имен-
но это или насмехается над тем, а не над другим. Без осознания того,
во что художник верит, анализ его критических суждений совершен-
но бессмыслен.
Миф в сознании личности выступает как нерасчленимый образ.
Расчленить его может другое сознание. Символическая природа ми-
фа в его структурном единстве образа и значения, как писал
А. А. Потебня40, закономерно стягивает все разрозненные проявле-
ния личности к своему ядру. Мыслительная деятельность, творчес-
кая, бытовая, любые поступки личности обретают единство в инди-
видуальном мифе. Миф— это своего рода синтез, снимающий все
личностные противоречия посредством веры в некий первообраз.
Как же миф развертывается вовне? Каков путь превращения его
из синтетического образа в функцию? Об этом подробно пишет
К. Леви-Стросс. Верный своему структурному методу, он рассматри-
вает миф как кодовую систему, в которой мифологическая мысль
пускает в оборот уже использованные символические элементы41. Со-
гласно Леви-Строссу, мифологическое мышление принципиально ме-
тафорично: «Изменение сообщений, или кодов, при трансформации
мифов (здесь-то и сказывается все своеобразие мифологического
мышления) большей частью имеет образно-метафорический харак-
тер, так что один миф оказывается полностью или частично "мета-
форой" другого»42.
Иначе говоря, мифы наподобие матрешек: входят один в другой,
восходя к одному первоисточнику (так сказать, к самой большой
матрешке). Способ, с помощью которого мифы претерпевают свое-
образную перетасовку, перегруппировку, как в калейдоскопе, Леви-
412
Литературоведение как миф
Стросс называет интеллектуальным «бриколажем». Этот термин
используется в верховой езде, охоте, игре в бильярд и означает игру
отскоком, рикошетом (от французского глагола «bricoler»): «Мифо-
логическая логика достигает своих целей как бы ненароком, околь-
ным путем, с помощью материалов, к тому специально не предназна-
ченных»43.
Это положение Леви-Стросса целиком совпадает с мифологи-
ческой логикой мышления личности. Наши любимые идеи и чувство-
вания в процессе самой жизни, в результате совершаемых нами по-
ступков как бы перераспределяются. Различные комбинации одних и
тех же свойственных нам ощущений влияют на сами поступки, хотя
они испытывают вместе с тем и обратное давление обстоятельств, —
вот почему видоизменяются и перетасовываются.
Наиболее зримо и ярко «бриколаж» действует в художественном
творчестве. Художественный образ выстраивается как бы окольным
путем — путем аналогий, отождествлений с другими образами. Это
одна сторона «бриколажа». С другой стороны, в последнем есть и
мировоззренческий аспект. Дело в том, что мировоззрение личности
художника неизменно сохраняет свое ядро, но разнообразные автор-
ские идеи располагаются вокруг этого зерна в различные сочетания.
В каждом новом произведении, если воспользоваться структуралист-
ским термином, происходит перекодировка прежних идей автора,
точно так же как и в статьях некоего литературоведа. Притом эта
перекодировка не формальна (на чем чаще всего настаивают струк-
туралисты): авторские темы, идеи, сюжеты, образы перекочевывают
из произведения в произведение, но в то же время они меняют акцен-
ты, в них вносится иной смысл. В общем, индивидуальный миф лич-
ности образует единство мировоззрения и повествования. Повество-
вание (в нашем литературоведческом случае — художествен-
ное произведение) есть выраженное мировоззрение, определенным
образом организованное.
Философ-деконструктивист Жак Деррида, анализируя диалог Пла-
тона «Тимей», также предлагает свою философему мифа, который он
традиционно рассматривает как повествование, точнее правдопо-
добный вымысел. С одной стороны, миф у Деррида — игра, и потому
к нему нельзя относиться серьезно; с другой — «в плане становления,
когда мы не можем претендовать на прочный и устойчивый логос
<...> он учреждает единственно возможную строгость. Эти два моти-
ва с необходимостью переплетаются, что придает игре серьезность, а
серьезности— игру <...>. Мифологическое рассуждение играет
413
А. Б. Галкин
(разрядка Деррида. — А. Г.) с правдоподобным образом, поскольку
чувственный мир сам принадлежит этому образу. Чувственное ста-
новление есть образ, подобие, а миф — изображение этого образа»44.
Впрочем, Деррида расширяет границы мифа. Он считает, что, по-
мимо оппозиции «миф — логос», существует так называемая «хора»
(в терминологии Деррида, взятой у Платона), или интервал, проме-
жуток между логосом и мифом, бытием и сущностью, согласно Пла-
тону. Хора, как считает Деррида, асимметрична, вне указанной оп-
позиции, она сравнивается с речью, «не имеющей законного отца»45.
Она похожа на сироту или незаконнорожденного, дистанцируясь,
«таким образом, от философского логоса, который, — как об этом
сказано в "Федре", — должен иметь отца, несущего ответственность,
отвечающего за него и от него»46. Хора могла бы стать «восприем-
ницей и как бы кормилицей всякого рождения» (цитата из платонов-
ского «Тимея». — А. Г.). И все же <...> она не образует пару с отцом,
иначе говоря, с образцовой моделью. Являя собой третий род, она не
принадлежит оппозиционной паре, например, такой, какую умопо-
стигаемый образец образует с чувственным становлением и которая
больше похожа на пару отец\сын. «Мать была бы в стороне. А по-
скольку это только фигура, схема, а следовательно, одно из тех опре-
делений, которое получает х о р а, то эта последняя является матерью
не больше, чем кормилицей, и не больше, чем женщиной»47.
Так как есть «хора», всегда остается тайна, невыговариваемое,
неопределимое, причем необязательно тайной, подчеркивает Дерри-
да, является то, что необходимо скрывать. Нет, просто вне границ
мифа и логоса лежит область невыразимого или, по крайней мере,
никак не желающего быть высказанным и артикулированным. Отсю-
да вытекает нередкое непонимание между интерпретатором (в тер-
минологии Деррида «критическим читателем» (вообще у Деррида
нет строгой терминологии, она всегда контекстуальна и во многом
случайна)) и интерпретируемым текстом, который Деррида ирониче-
ски соотносит с «ритуалом». Между интерпретатором и интерпрети-
руемым, согласно Деррида, лежит множество опосредствованных пе-
регородок, воздвигнутых нередко вследствие грамматических, семан-
тических и этимологических различий в понимании слова или явле-
ния и всегда нарушаемых: «Граница между действующим лицом и
аналитиком, как бы они ни были далеки друг от друга, каким бы ни
было различие между ними, представляется весьма нечеткой и всегда
проницаемой. В какой-то степени она даже должна быть пересе-
чена, чтобы стали возможными, с одной стороны, анализ, а с дру-
414
Литературоведение как миф
гой — соответствующее поведение, подчиненное общепринятой ри-
туальности.
Однако "критический читатель" (critical reader) справедливо воз-
разит, что не все типы анализа эквивалентны: разве нет существенно-
го различия между анализом того или той, кто, желая исполнить
ритуал как нужно, должен разбираться в его нормах, и анализом
того, кто не ставит своей целью приспособиться к ритуалу, но стре-
мится объяснить его, "объективировать", представить его сущность и
цели? Точнее, не существует ли между ними критического различия?
Вполне возможно, но что есть критическое различие? Ведь если
участник обязан анализировать, читать, интерпретировать, он так-
же должен придерживаться некоторой критической и, в какой-то
мере, "объективирующей" позиции. Даже если его активность часто
граничит с пассивностью и даже со страстью (passion), он все же при-
бегает к критическим и критериологическим актам <...> следовало
бы, с одной стороны, обозначить различия между критиками, а, с
другой, поставить некритика в такое положение, которое бы не про-
тивопоставлялось и, может быть, даже не являлось чем-то внешним
по отношению к критику. Критик и некритик, конечно, не идентич-
ны, но в сущности они— единое целое. Во всяком случае, они —
соучастники»48.
Область «хоры», промежутка между разумным (логосом) и соз-
данным в воображении мифом (в «Тимее» Деррида обнаруживает
нескольких рассказчиков одного и того же события, делающих в ре-
зультате личной субъективности само событие полностью неопреде-
ленным и, может быть, вообще не бывшим) все время смещает оцен-
ки, обнаруживая их несовершенство. Относительное понимание яв-
ления или текста, по убеждению Деррида, может быть достигнуто
только косвенным путем, по касательной (одна из частей работы
Деррида «Страсти» называется «Косвенное приношение»). Впро-
чем, Деррида, верный своему, так сказать, скрупулезно-этимологи-
ческому методу (Деррида — знаток языков) очень скептически оце-
нивает диалог интерпретатора и интерпретируемого. По мнению
Деррида, ответ, который должен дать интерпретатор интерпрети-
руемому тексту, в сущности, вообще невозможен, поскольку, а Дер-
рида — мастер каламбура, ответ подразумевает ответственность, но
так ли уж часто интерпретатор стремится взять на себя ответствен-
ность? Наоборот, он готов тотчас же с себя ее сложить49. Получается,
что Деррида приходит к полнейшему релятивизму, и ответ не пред-
полагает вопроса, как и вопрос повисает в воздухе без ответа. Одним
415
А. Б. Галкин
словом, «хора» (невысказываемое), точно пресловутый Бермудский
треугольник, заглатывает все возможности между аналитиком и ин-
терпретируемым текстом. Такая концепция мифа (и «хоры» как ее
составляющей) вряд ли конструктивна и методологически значима.
Скорее, она является способом интеллектуальной гимнастики остро-
умного философа-деконструктивиста.
Специфика мифологического мышления обусловливает специфи-
ку мифологического пространства и времени. Исследования Леви-
Брюля и Кассирера показывают, что эти категории, по сути дела,
также идеологичны. Мифологическое пространство и время
несоотносимо ни с циклическим календарным временем, ни с линей-
ным временем, которые безразличны к человеческим суждениям,
безотносительны к их оценкам. Они, действительно, развиваются по
собственному почину, непрерывны, не имеют ни провалов, ни подъе-
мов — словом, линейное и циклическое время независимо от созна-
ния. Их никоим образом нельзя сблизить с пространством.
В идеологическом пространстве и времени все наоборот: все про-
низано человеческими оценками и эмоциями. Люди оживляют
время. Они населяют его различными фантазиями, страхами, надеж-
дами, разочарованиями, ассоциациями и пр. Получая со стороны —
из реальности — время объективное (календарное или линейное), лич-
ность обживает его таким образом, что делает его предельно субъек-
тивным, индивидуальным, своим, предельно личностным. Время ста-
новится мифологическим слепком сознания личности. Такое пред-
ставление о времени, скорее всего, уходит своими корнями в глубь
веков, вновь связывая современного человека с его первобытными
предками. Последние, между прочим, различали время, разделяя его
«на время счастливое и несчастливое»50.
В отношении индивидуально-личностного пространства мы тоже
можем констатировать некую приверженность личности к тому или
иному пространству: к лесу, к полю, к горам, к уютному домашнему
гнездышку; к распахнутым или закрытым дверям; к загроможденно-
му или освобожденному пространству. Значит, время и пространство
личности определяется уникальным образом мира, имею-
щимся в сознании любого человека, пускай в неотчетливом и смут-
ном виде. Идеологичность этих категорий опять-таки восходит к
первообразу (идеалу) личности.
Кассирер и Леви-Брюль формулируют законы мифологического
времени и пространства, которые с такой же непреложностью дей-
ствуют и в индивидуально-личностном пространстве и времени. Ле-
416
Литературоведение как миф
ви-Брюль полагает, что мифологическое пространство подчиняется
закону партиципации (сопричастия), когда «определенное место, как
таковое именно, сопричастно находящимся в нем предметам и су-
ществам»51, причем «мистическое отношение связывает живых и мер-
твых членов этой группы с тайными силами всякого рода, населяю-
щими эту территорию»52. Этот закон сопричастия, как считает Леви-
Брюль, в новое время трансформировался в закон сопричастия про-
странства времени53. Это явление нашло выражение в теории А. Берг-
сона. Последний утверждал, что «обыкновенно мы помещаем себя
именно в пространственное время»54, то есть расчленяем непрерыв-
ную изменчивость нашего сознания на рядоположенные состояния,
чем нарушаем реальную длительность и неделимость времени55.
Следуя за наблюдениями Бергсона, мы увидим, что на самом деле
в сознании современного человека действует закон партиципации
(сопричастия) времени пространству. Как объяснить, почему время
для личности то ускоряется, то замедляется, то словно обрывается в
бездну, замирая над ней, то вдруг вновь начинает неторопливое вос-
хождение? Откуда «зияния» в психологическом времени личности,
откуда интервалы, рваный ритм? Все это объяснимо законом парти-
ципации: личность уподобляет время своей жизни некоему про-
странству со своими вершинами, впадинами, пещерами и спусками.
Вот отчего объективное время в сознании человека трансформирует-
ся в субъективное и приобретает мистический оттенок веры, полной
как вдохновенного восторга и откровения, сравнимого с полетом на
небеса, так и пессимистического упадка — провала в пропасть.
В подобном же ракурсе исследует мифологическое пространство
и время Кассирер. По его мнению, время строится по типу прост-
ранственных отношений. Например, оппозиция дня и ночи, света и
тьмы соответствует пространственному перпендикуляру (Север —
Юг): «К этим пересекающимся линиям восходит и интуиция времен-
ных интервалов. Кассирер старается показать, что мифическое чув-
ство времени качественно и конкретно, как и чувство пространства, и
связано с мифологическими фигурами. Деление времени, сопря-
женное с приходом и уходом, с ритмическим становлением, Кассирер
уподобляет музыкальной решетке»56.
Заслуживает пристального внимания также мысль Кассирера о
том, что пространство и время непосредственно связано с мифиче-
скими фигурами. Если в качестве примера взять Достоевского, то мы
обнаружим, что пространство и время его личности обусловливает
фигура Христа (термин «мифологическая фигура» внеоценочен, он
14 - 1379
417
А. Б. Галкин
отнюдь не означает иллюзорности, лживости и неистинности этой
фигуры). Оппозиция священного и профанного, согласно Кассиреру
образующая мифологические формы времени, составляет единствен-
ную модель мира в сознании писателя. Время и пространство отсюда
делятся у него на истинное (вечное, временное, небесное) и неистин-
ное (сиюминутное, хаотичное, беспорядочное, греховное)57.
Исследователи мифа выявляют в нем психические, глубинные ис-
токи.
Аналитическая психология (Фрейд, Юнг, Адлер) сплавляет миф
со сновидением. Когда говорят о концепции К. Г. Юнга, то в основ-
ном упоминают его термин «коллективное бессознательное», а также
архетипы анимы-анимуса, персоны, матери, мудрого старика и т. д.
Однако Юнг и термин «индивидуальное бессознательное» наполнил
новым смыслом.
Анализ сновидений пациентов позволил Юнгу обнаружить глу-
бинный слой индивидуальных комплексов, так сказать личностных
архетипов, хотя все они, по Юнгу, в конечном итоге укладывались в
архетипы коллективного бессознательного, и энергия этих архетипов
могла одна спасти пациентов Юнга от болезненных индивидуальных
комплексов, вытесненных в подсознание и проявленных в сновидени-
ях. По убеждению Юнга, бессознательное, явленное во сне, требует
понимания, а значит, нужно наладить диалог бессознательного с
сознанием. Осмысленное и понятое высвобождает психическую энер-
гию и излечивает, переставая быть актуальным и гнетущим58.
Для нас важно то наблюдение Юнга, которое касается одинако-
вого содержания сновидений, повторяющегося в разных образных
вариантах. Такое единое содержание чаще всего выражается в своего
рода близких или похожих сюжетах. Говоря обобщенно, всякая лич-
ность тяготеет к персональным сюжетам — неким повторяющимся
схемам, идентичным индивидуальным архетипам личности. Эти сю-
жеты личность настойчиво отыскивает вовне либо сводит к ним все
окружающее.
Выскажем еще два принципиальных соображения. Миф как тако-
вой, безусловно, шире образа. Если образ, по мысли А. А. Потебни,
есть «постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим»59, то есть
к объясняемому этого образа, то миф — уже кодовая система, род-
ственная музыке, уничтожающая «антиномию непрерывного времени
и дискретной структуры, организуя психологическое время слушате-
ля»60, как писал Леви-Стросс в своей работе «Мифологичные». Кста-
ти, Е. М. Мелетинский указывает на музыкальную композицию этой
418
Литературоведение как миф
работы Леви-Стросса. Последний «ссылается на Вагнера, анализи-
ровавшего мифы средствами музыки, и сам строит свое исследование
в первом томе "Мифологичных" по принципу контрапункта; он,
кроме того, пользуется музыкальными терминами и в заголовках
глав: "Ария разорителя гнезд", "Соната хороших манер", "Фуга пяти
чувств", "Кантата опоссума" и т. п.»61. Одним словом, нет ничего
удивительного, что, выстраивая собственные индивидуальные ми-
фы-концепции, исследователи (Р. Вагнер, Т. Манн, M. М. Бахтин,
С. М. Соловьев) пользуются музыкальными аналогиями. Музыка
ближе всего к мифотворчеству.
Леви-Стросс находит еще одну аналогию мифа и музыки: тот и
другая способны перескакивать «с одного структурного уровня на
другой»62. Очевидно, наибольшая адекватность восприятия личности
писателя в сознании читателя (литературоведа) наблюдается лишь
тогда, когда повествование претерпевает слом, «перепрыгнув» с од-
ного структурного уровня на другой; когда элементы одной структу-
ры вдруг немотивированно вторгаются в другую структуру, нарушая
строгую логичность подачи материала. Текст в этом случае как бы
показывает «швы»— и личность художника проглядывает сквозь
них намного отчетливей, чем прежде, — в условиях ровного течения
повествования. Личность композитора представляется областью
домыслов и загадок, если пользоваться только материалом сочинен-
ного им музыкального опуса, поскольку упомянутый опус кажется
замкнутым в себе целым, своего рода выражением «чистой» идеи.
Однако даже в музыке (по мнению формалистов, безобразном
искусстве) выделяется лейтмотив, ведущая тема, доминирующий с
нею ассоциативный образ, неминуемо возникающий в сознании
слушателя. Навязчивый и неотвратимый мотив рока в опусах Чай-
ковского ощущается всяким непредвзятым и неподготовленным, но
внимательным слушателем.
Художественный литературный текст так же, как и музыка, замк-
нут, закономерно организован, композиционно выверен во всех час-
тях автором, иначе говоря сознательно выстроен в каждом эле-
менте общей структуры ради авторской идеи. Следовательно, в этом
случае личностный авторский миф ослабляет свое влияние, становит-
ся менее заметен в произведении. Поэтому, чтобы выявить этот ин-
дивидульно-личностный миф, нужно брать в качестве предмета ана-
лиза всю авторскую личность, то есть все доступные тексты
(художественные произведения, публицистику, письма, устные вы-
сказывания, мемуары современников, рисующие образ писателя, и
14*
419
А. Б. Галкин
т. д.). Короче говоря, отдельное произведение строится по собст-
венным законам, имеет некую замкнутую структуру, но основа ана-
лиза произведения, конечно, образы (от героя до метафоры, си-
некдохи, метонимии, сравнения). Личность художника — это явление
уже разомкнутое, хотя и имеющее свои границы. Миф — образная
структура. Если хотите, личность (писателя, композитора, вооб-
ще человека) — не что иное, как художественное произведение Бога.
В ней также действуют свои особые законы, она также наполнена
специфической образностью, и она (личность) требует такого же до-
сконального анализа, как литературное произведение.
Наконец, индивидуальные мифы личностей составляют целое
культуры человечества. Сохранение культуры во все времена, даже
самые неблагоприятные для ее существования, доказывается, на наш
взгляд, прежде всего наличием стойких индивидуальных мифов
творцов этой культуры, их страстным желанием выразить себя, под-
черкнуть самобытность своей личности, заявить уникальность ху-
дожнической позиции в ряду других позиций. Данная точка зрения,
как нам представляется, точнее «объясняет существование культуры
в борьбе за выживание человечества»63, нежели мысль структуралис-
тов о культуре как информации, особым образом зашифрованной.
Предлагаемый структуралистами типологический анализ безжалост-
но устраняет личность художника, сводит ее, по существу, к подсоб-
ной роли участника историко-литературного процесса, своего рода
безличного производителя текстов. Отсюда возникает соблазн со-
поставлять русские тексты с западными и восточными, совершенно
не принимая в расчет авторов этих текстов: «Чем более далекие ва-
рианты одних и тех же структурных функций мы будем рассматри-
вать, тем легче определяются инвариантные — типологические зако-
номерности. Следовательно, при сопоставлении далеких (хронологи-
чески и этнически) литературных явлений типологические черты бу-
дут более обнаружены, чем при сопоставлении близких. Разумеется,
необходимо, чтобы отдаленность не нарушала функций их эквива-
лентности в рамках сопоставляемых обширных единств. Например,
для определения типологических черт русской городской новеллы
плутовского типа ("Фрол Скобеев") удобнее сопоставлять ее не с "По-
вестью о Савве Грудцыне", а с аналогичными произведениями в за-
падноевропейской и восточной литературе. Однако подобный под-
ход противоречит прочно укоренившейся практике подготовки лите-
ратуроведов и создания исследований. В результате известное число
литературоведов не обладает необходимыми навыками и знаниями,
420
Литературоведение как миф
которые позволили бы им выйти за пределы определенной эпохи
(часто очень узкой), определенной национальной литературы»64.
Получается, что литературовед иди историк литературы получает
высшую санкцию сближать любые литературные произведения, если,
конечно, он обладает достаточным «исследовательским навыком», то
есть прошел выучку структуралистской школы литературоведения.
Между прочим, эта школа, скорее всего, незаменима для обучения
студентов. Недаром она оперирует разработанными в ее недрах т и -
пами культуры: синтактического, семантического, асинтактиче-
ского, асемантического или семантико-синтактического65. Главное,
нужно правильно выстроить оппозиции внутри этих типов культуры,
и дело в шляпе. На экзаменах студенты не ударят в грязь лицом: сра-
зу скажут: «Это семантический тип, а это асинтактический...» Только
в напряженных поисках общих закономерностей самых далеких тек-
стов не избежать вкусовых пристрастий, а значит субъективизма,
притом что личность в подобного рода исследованиях будет изъята
из литературного процесса, так сказать «выпотрошена» литера-
туроведом-структуралистом.
Если творец творит из потребности самовыражения, то почему
его искусство находит отклик в лице других (слушателей, читателей,
зрителей)? Л. С. Выготский полагает, будто жизнестойкость искус-
ства объясняется возможностью «изживать в искусстве величайшие
страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни», что,
«видимо, и составляет основу биологической области искусства»66.
Выготский уподобляет нашу нервную систему железнодорожной
станции, «к которой ведут пять путей и от которой отходит только
один; из пяти прибывающих на эту станцию поездов только один, и
то после жестокой борьбы, может прорваться наружу— четыре
остаются на станции», а также сравнивает нервную систему с ворон-
кой, «которая обращена широким отверстием к миру и узким отверс-
тием к действию»67. Искусство, согласно Выготскому, вызывая ка-
тарсис, реализует невостребованные потенции человека: «Мир вли-
вается в человека через широкое отверстие воронки тысячью зовов,
влечений, раздражений. Ничтожная их часть осуществляется и как
бы вытекает наружу через узкое отверстие. Совершенно понятно, что
эта не осуществившаяся часть жизни, не прошедшая через узкое от-
верстие нашего поведения, должна быть так или иначе изжита. Орга-
низм приведен в какое-то равновесие со средой, баланс необходимо
сгладить, как необходимо открыть клапан в котле, в котором давле-
ние пара превышает сопротивление его тела. И вот искусство, види-
421
А. Б. Галкин
мо, и является средством для такого взрывного уравновешивания со
средой в критических точках нашего поведения»68.
Выготский оценивает необходимость искусства биологически, впро-
чем, этого явно недостаточно. Коли настоящее искусство все-таки
бескорыстно, то оно сродни игре без выигрыша. Оно подобно
серьезной игре, как писал Т. Манн69, руководствуясь шиллеровской
концепцией искусства. Только ведь играют личности. Следова-
тельно, мы включаемся в игру вместе с близкими нам личностями и
избегаем садиться за игровой стол с подозрительными и малоприят-
ными субъектами. Другими словами, если индивидуальный миф ху-
дожника какими-то сторонами соприкасается с нашим индивидуаль-
ным мифом, то тогда мы способны оценить, полюбить, более или
менее адекватно проанализировать произведение. Вот откуда такая
разноголосица и вкусовщина в подходе к искусству у большинства, а
может быть, и у всех людей.
Индивидуальные мифы, само собой разумеется, не вовсе обособ-
лены и взаимодействуют друг с другом. В совокупности они образу-
ют коллективный миф, тем самым создавая условия устойчивости
социальной системы и оправдывая ее существование. Справедливо
пишет Мелетинский: «Мифологические символы функционируют
таким образом, чтобы личное и социальное поведение человека и
мировоззрение (аксиологически ориентированная модель мира) вза-
имно поддерживали друг друга в рамках единой системы. Миф объ-
ясняет и санкционирует существующий социальный и космический
порядок в том его понимании, которое свойственно данной культуре,
миф так объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы
поддерживать этот порядок; одним из практический средств такого
поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно
повторяющихся ритуалах»70.
Итак:
1. Миф личности психичен, интуитивен, алогичен (Бергсон, Юнг,
Леви-Брюль). Он подобен символу в своей неразличимости смысла и
значения (Потебня, Лосев).
2. Миф жизнеспособен только при наличии безусловной веры в
него (кредо личности).
3. Мифологическое мышление подчиняется закону тождества и
пренебрегает рационально-логическим способом постижения мира.
4. Миф восходит к своему первообразу, так сказать, изначальной
модели мира. Развертывание первообраза вовне есть не что иное, как
выстраивание других образов в некоторую иерархию внутри созна-
422
Литературоведение как миф
ния личности. Первоначальная оппозиция первообраза («священ-
ное— профанное», по Кассиреру) действует опосредствованно и в
структуре других образов, вытекающих из первообраза.
5. Мифологическое мышление комбинирует новые структуры с
помощью тех же самых элементов, «перетасовывая» их и достигая
своих целей «кружным» путем («рикошетом», или «бриколажем»).
6. Мифологическое пространство и время насквозь идеологично,
глубоко личностно, эмоционально и оценочно. Время уподобляется в
нем пространству.
7. Мифологическое мышление оперирует некими схемами (архе-
типами), наполнение которых различным содержанием делает миф
повествованием.
8. Миф как модель мира соотносится со сновидением, а в качестве
кодовой системы сопрягается с музыкой.
9. Индивидуальные мифы личностей являются основой жизнеспо-
собности культуры в целом и вечной ее обновляемое™ как с точки
зрения создания произведений искусства, так и их восприятия.
Одним словом, мы предлагаем метод — литературоведческий
метод, благодаря которому можно с некоторой долей адекватнос-
ти анализировать художественные произведения и творческую лич-
ность. Этот метод основывается на развернутой нами выше посыл-
ке: личность есть миф. Раз это так, то всякие рассуждения о науч-
ности литературоведения теряют смысл. Это — искусство, созданное
талантом интерпретатора, и одновременно — идеология. Как пока-
зал M. М. Бахтин, интерпретация проходит на границе двух созна-
ний — интерпретатора и интерпретируемого — и образует диалоги-
ческие отношения. Правда, Бахтин совершенно не учитывает фено-
мена «замкнутости» человеческого сознания, подчас полной его не-
проницаемости для восприятия неблизких ему идей или образов.
Мифологическая структура сознания рождает чудовищные урод-
ливости в интерпретации: литературовед выбирает в произведении
писателя только то, что кажется ему справедливым, истинным, до-
стойным внимания. Остальное игнорируется либо забалтывается.
К тому же восприятие личности другими неадекватно самосозна-
нию личности. Писатель, как, впрочем, и всякий человек, имеет о
себе иное представление, чем окружающие. Писатель для себя созда-
ет образ собственной личности и в художественном произведении
стремится отразить лишь те моменты, какие, по его мнению, можно
или должно открыть читателю. Но, поскольку творчество — всегда
«обнажение» творца, читатель (исследователь) замечает в личности
423
А. Б. Галкин
писателя то, чего тому не хотелось бы обнародовать, а также то,
что он сам в себе не осознает. Иначе говоря, читательское (и лите-
ратуроведческое) восприятие выходит из-под контроля художника.
У воспринимающего возникает свой образ личности писателя,
не соответствующий желаемому образу, к созданию которого, может
быть, были направлены все творческие усилия автора. Значит, созда-
вая собственный образ, читатель вольно или невольно рассматривает
личность писателя как определенную статическую структу-
ру, выделяет в личности писателя черты, существенные для чита-
теля (интерпретатора). При этом каждый убежден в правоте своего
взгляда.
Миф как метод
Чтобы не произошло подобных «перекосов» в интерпретации,
чтобы личность художника сохранила свое самобытное лицо, или,
точнее, чтобы был выражен его индивидуально-личностный миф,
нужно, прежде всего, следуя предложенному нами методу, отыскать
центральный, доминантный образ в творчестве художника. Удобнее
всего назвать его идеалом. Если миф, помимо мировоззрения,
включает в себя бессознательные психические свойства личности
(комплексы, например), то идеал — это воплощенный в об-
разе индивидуальный миф. Миф является многочленной
структурой, а идеал — единственный цельный образ, модель мира, по
которому строятся другие, менее значимые образы. Идеал стоит на
вершине пирамиды, в центре иерархии образов. Это — монарх, ко-
торому подражают подданные.
Личность всегда движется к некой цели, она телеологична,
так же как и произведение искусства. Направление этого движения —
от идеала вовне, к читателю, зрителю, слушателю. Движение литера-
туроведа должно быть обратным — к идеалу художника, через по-
средство других образов, восходящих к идеалу.
Так, например, идеал Достоевского — образ Христа. Остальные
образы «подвёрстываются», в некотором смысле «подгоняются»,
часто бессознательно, под этот главный, интегральный образ. Это и
образ русского народа, в котором Достоевский ищет страдания и
жертвенности, как и в Христе; это и образ Пушкина, в котором на-
род воплотился как в реальной личности. Пушкин, бесспорно, сори-
ентирован у Достоевского на Христа. Но ведь и все остальные герои
произведений Достоевского обращены к Христу: чем сильнее отра-
424
Литературоведение как миф
женный свет Христа в их душах, тем они чище, безгрешнее; чем
дальше они от Христа — тем греховнее. В этом заключается основ-
ной доминирующий сюжет произведений Достоевского.
У Пушкина такой идеал — образ Мадонны, «чистейшей прелести
чистейший образец». И связанный с ним образ «рыцаря бедного», а
также «благородного разбойника» как мужчины с его кодексом чести
и благородства, смысл жизни которого — защитить «Прекрасную да-
му», его возлюбленную. Отсюда, кстати, дуэль Пушкина с Дантесом
как продолжение его кодекса. Правда, цель жизни «человека чести» и
«благородного рыцаря» сталкивается с роком, фатумом, обстоя-
тельствами, случайностью в ее роковом смысле — и «вихрь судьбы»,
«буран», стихия захлестывает мужчину и женщину— и финал их
любви открытый, как в «Евгении Онегине», либо свой корректив в их
судьбу вносит Смерть, часто воплощенная в образах мистических:
Пиковой Дамы, Командора, — ужас которых Пушкин часто пытает-
ся преодолеть с помощью иронии, что не всегда снимает сам ужас.
Эти примеры очень конспективно показывают, как работать с
индивидуально-личностным мифом художника, определяют своеоб-
разную систему координат, личностные доминанты и особые законы,
по которым строится мир каждого художника. Пространство и вре-
мя, сюжетные схемы, композиционные приемы, лейтмотивы твор-
чества— все это образует музыку его жизни. Блок говорил:
«Слушайте музыку Революции!» Мы говорим, обращаясь к литера-
туроведам: «Слушайте музыку мифа!»
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гачев Г. Д. Космос Достоевского // Проблемы поэтики и истории литера-
туры. Сб. статей. Саранск, 1973. С. 110.
2 Там же. С. 115.
3 Там же. С. 116.
4 Там же. С. 118.
5 Там же. С. 120—121.
6 Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевско-
го. М., 1979. С. 241—244.
7 Там же. С. 23.
8 Там же. С. 17.
9 Там же. С. 18.
10 Удодов Б. Т. Пушкин: становление художественной антропологии // Исто-
рико-литературный сборник к 60-летию Л. Г. Фризмана. Харьков, 1995.
С. 104.
425
А. Б. Галкин
ч Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959. С. 523.
12 Машинский С. Художественный мир Гоголя. М, 1979. С. 362.
•3 Там же. С. 295.
14 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.
М, 1988. С. 128—129.
•5 Там же. С. 129.
16 Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. С. 110.
17 Там же. С. 248.
•8 Там же. С. 249—250.
19 Там же. С. 300.
20 См. о том, для чего в действительности нужен Хроникер в «Бесах» мою
статью «Пространство и время в произведениях Достоевского» («Вопросы
литературы». 1996. № 1.)
21 Карякин Ю. Указ. соч. С. 204—205.
22 Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоев-
ский. Статьи и материалы. М.—Л., 1924. Т. 2. С. 103.
23 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 1930. С. 90.
24 Там же. С. 79.
" Там же. С. 84.
* Там же. С. 38.
27 Там же. С. 46-^7.
28 Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. Статьи, исследования. 2-е изд. М.,
1983. С. 167.
29 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 80—81.
30 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 27.
31 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
С. 297.
32 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 20.
33 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 42.
34 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. С. 4.
35 Там же. С. 48.
36 Там же. С. 49.
37 Слюсарев А. А. О психологизме в «Метели» Пушкина // Историко-
литературный сборник к 60-летию Л. Г. Фризмана. Харьков, 1995. С. 121.
38 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.,1985. С. 206.
39 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 47.
40 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 331.
41 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 83.
42 Там же. С. 90.
43 Там же. С. 83.
44 ДерридаЖ. Эссе об имени. М., 1998. С. 165—166.
45 Там же. С. 181.
« Там же. С. 181.
47 Там же. С. 181.
48 Там же. С. 17.
49 Там же. С. 32.
426
Литературоведение как миф
50 Леви-Брюлъ Л. Первобытное мышление. С. 286.
s« Там же. С. 82.
52 Там же. С. 301.
53 Там же. С. 288.
54 Бергсон А. Восприятие изменчивости. Лекции, читанные в Оксфордском
университете 26 и 27мая 1911 г. СПб., 1913. С. 32.
55 Там же. С. 35—36.
56 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 51.
57 См. подробнее мою диссертацию «Образ Христа в творческом сознании
Ф. М. Достоевского», Москва, 1992, а также статью «Образ Христа и кон-
цепция человека в романе Ф. М. Достоевского "Идиот"» в сб. «Роман
Ф. М. Достоевского "Идиот": современное состояние изучения» (М., 2001).
58 См.: Юнг К. Г. Отношения между Я и Бессознательным // Юнг К. Г. Пси-
хология бессознательного. М., 1994.
59 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 83.
60 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 81.
61 Там же. С. 81.
« Там же. С. 81.
63 Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970. Вып. 1. С. 3—
6.
« Там же. С. 90—91.
« Там же. С. 90—91.
66 Выготский Л. С. Психология искусства. М, 1993. С. 296.
67 Там же. С. 296.
68 Там же. С. 296.
« Манн Т. Художник и общество. М., 1986. С. 207.
70 Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 169—170.
427
Павел Фокин
Государственный литературный музей. Москва
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Литературоведение — понятие номенклатурное.
Ведомство.
Министерство литературных дел.
Литературовед, по определению,— чиновник. В стихотворении
Беллы Ахмадулиной «В гостях у литературоведа» есть ехидные, но
справедливые строки про то, как за чаем шла беседа о литературе —
о том, «чем мне так горько быть и чем ему так сладко ведать». Ведать
и всегда сладко, а уж изящной словесностью так и вовсе.
В распоряжении литературоведа вся система идейных и художес-
твенных ценностей. Он регламентирует движение литературного про-
цесса (выделяет литературные эпохи, направления, течения). Устана-
вливает эстетические приоритеты и оппозиции (роман «выше» повес-
ти, повесть «выше» рассказа, поэма «выше» стихотворения и т. п.).
Определяет критерии писательского мастерства (соответствие формы
и содержания, сюжета и композиции, автора и героя). Распределяет
звания и титулы (гениальный, великий, классик, выдающийся, знаме-
нитый, известный, прославленный, популярный, непризнанный, ма-
лоизвестный, забытый и др.). Наконец, от его приговора зависит
издательская и читательская судьба книги.
Быть литературоведом легко и приятно.
И нет к тому никаких препятствий. Закончи какой-нибудь фило-
логический факультет какого-нибудь вуза, даже на одни «тройки», и
ведай в свое удовольствие хоть Пушкиным, хоть Толстым, хоть До-
стоевским.
А сколько материала для самоутверждения и удовлетворения соб-
ственных амбиций! Можно быть каким-нибудь П. Е. Фокиным, Бог
знает откуда появившимся, и со спокойной совестью заявлять, на-
пример, что «Достоевский ошибался» или там «Чехов не знал», а
428
Литературоведение
«Булгаков не догадывался». Да что там Достоевский, Чехов, Булга-
ков etc.! В 1997 году на Достоевских чтениях в Старой Руссе Игорь
Леонидович Волгин в присутствии почти что сорока человек без тени
смущения заявил: «На все воля Божия, но и Бог может ошибаться».
И хотя коллеги попытались его утихомирить, все равно продолжал
настаивать. То-то. Что уж говорить о грешных писателях. Нет, что и
говорить, литературоведение — страшная сила.
Литературоведение придумала советская бюрократия. Брокгауз и
Ефрон такого понятия не знают. Литературную критику — знают, а
литературоведение — нет. До революции в России была филология.
Даже и не наука, а просто — любовь к слову. И даже больше, не про-
сто к слову, а к Логосу, то есть к Богу. Тех, кто любил Бога после
революции, как известно, не жаловали. Можно ли было терпеть фи-
лологию? Упразднили в литературоведение. Вырвали в отдельную
дисциплину языкознание. Окоротили живое народное слово фоль-
клором. Дальше больше: само литературоведение стали расчленять
на историю литературы и теорию литературы, текстологию и поэти-
ку. Вся эта процедура была направлена, главным образом, против
русской литературы, духовной мощи которой большевики ничего не
могли противопоставить. Их критика оказалась бессильной. Тогда и
придумали литературоведение. Или же, что скорее всего, украли у
педантичных немцев, с давних времен оттачивающих искусство раз-
бирать по косточкам да раскладывать по полочкам. И живое тело
русской литературы стало загнивать, проанализированное и про-
крученное через мясорубку смежных дисциплин.
К концу «великой эпохи» даже среди профессиональных иссле-
дователей литературы трудно было найти тех, кто бы адекватно вос-
принимал наследие русской классики. Например, всеобщий люби-
мец и бесспорный классик советского литературоведения Ю. М. Лот-
ман, характеризуя идейную структуру «Капитанской дочки», писал:
«Стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда лю-
ди политики, вопреки своим убеждениям и "законным интересам",
возвышаются до простых человеческих душевных движений, — сов-
сем не дань "либеральной ограниченности", а любопытнейшая веха в
истории русского социального утопизма— закономерный этап на
пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему
и утопических социалистов, и крестьянских утопистов-уравнителей, и
весь тот поток духовных исканий, который по словам В. И. Ленина,
"выстрадал", подготовил русский марксизм»1. Я Лотмана и сам лю-
блю, перед его знаниями и умом преклоняюсь, но из песни слова не
429
Павел Фокин
выкинешь. Да и речь не о «слове», а о взгляде. Замутненном. Даже у
самых прозорливых.
Среди многочисленных метафорических значений сюжета набо-
ковской «Лолиты» в контексте настоящего разговора актуален кон-
фликт между литературоведом Гумбертом Гумбертом и писателем
Клэром Куилти. Лолита в этой ситуации может представлять собой
литературу, овладеть которой страстно и насильственно пытается
литературовед и которая по доброй воле отдается писателю. Литера-
туровед убивает писателя: истерично, бестолково, кроваво. Мрачная
шутка Набокова, вполне отражающая реальность Министерства
литературных дел.
После того, как государство отказалось от надсмотра за литера-
турой, отпала необходимость и в ведомстве, которое бы этот над-
смотр осущестэляло. Литературоведы оказались безработными. Не-
которые смогли переквалифицироваться. Кто-то стал критиком, кто-
то издателем, кто-то даже писателем. Самые неповоротливые прозя-
бают вузовскими преподавателями и школьными учителями. Литера-
туроведение тихо умирает. И слава Богу! Пройдет какое-то время, и в
России вновь возродится Филология. Для этого, впрочем, предстоит
кое-чему научиться.
Одним из главных пороков литературоведения была и остается до
сих пор читательская слепота. Литературоведению было вменено
большевиками оценивать, в первую очередь, идейное содержание
произведения. При этом волновали главным образом идеи, выра-
женные в прямых высказываниях автора или персонажей. Лишь в
отдельных, наиболее откровенных случаях (в сатирических произве-
дениях, например), обращалось внимание на образность как на фор-
му воплощения идейного содержания. И хотя само понятие художес-
твенного образа было возведено, по наследству от литературной кри-
тики, в ранг краеугольного камня, способность видеть этот самый
образ в литературоведении с годами постепенно утрачивалась, пока
не превратилась в полную слепоту.
Впрочем, литературоведам вполне хватало собственного классо-
вого чутья, чтобы не ошибаться в оценке. Затерявшиеся же среди
литературоведов отдельные филологи в страхе перед наступающей
слепотой и мраком стали придумывать всякие приспособления, вроде
структурализма, с помощью которых можно было бы и с бельмом на
глазу «видеть» мир художественного произведения. Идет такой фи-
лолог-структуралист, палочкой вокруг себя постукивает, радуется:
тут, говорит, ступеньки, а тут стена, ой, а здесь лужа, и все-то ему
430
Литературоведение
ясно да понятно. А уж куда ведут эти ступеньки, или какого цвета
стена и что отражается в луже, — это уже детали.
Возникшие на исходе литературоведческой осени всевозможные
методы анализа текста, при всей своей полемичности и даже оппо-
зиционности к марксистской методологии, были ее наследниками:
читательская слепота передавалась генетически. Классовость, пар-
тийность, идейность, народность уступили место структуре, пара-
дигме, дискурсу, онтопоэтике и прочей интеллигибельности. Настоя-
щий литературоведческий «бо-бок». При этом вполне естественно,
что Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, вся классическая рус-
ская литература, ее Серебряный век оказались еще более замордо-
ванными и изувеченными, чем в советские времена (хотя казалось бы,
куда дальше?).
Гумберт Гумберт, убив Куилти, берется за перо, чтобы описать
все свои страсти, радости и мучения, вновь овладеть своей Ло, Лоли-
той, Долорес. Из под его пера выходит один из лучших романов XX
века. Чтобы вернуться к литературе, литературовед становится писа-
телем. Он смотрит на мир открытыми глазами, ловит все оттенки
цветов, фиксирует каждую деталь, замечает подлинное соотношение
предметов. Для него больше нет тайн. «Пелена вдруг упала». Он го-
ворит нормальным, человеческим языком, и все кругом его по-
нимают, и он сам понимает себя.
Литературоведение должно уступить место литературовидению.
О чем это я?
Писатель, создавая единый мир художественного произведения,
по воле воображения переносится в него целиком и полностью. Ему
не нужно рисовать планы улиц и комнат, записывать для памяти
детали туалета и внешности героев, выстраивать мизансцены и логи-
ку бесед. Все это у него перед глазами. Он видит мир своего произве-
дения во всей полноте. Он живет в нем, и поэтому никогда не оши-
бается, даже в деталях. Того же требует писатель и от читателя.
А литературовед — это профессиональный читатель. И прежде, чем
говорить об идейном содержании, проблематике и художественных
особенностях произведения, нужно прежде всего вжиться в него, уви-
деть мир произведения таким, каким он изображен писателем.
Современники вспоминали, что Бунин читал книги не подряд,
страница за страницей, а эпизодами, откладывая книгу в сторону и
представляя себе всю картину в мысленных образах. Пожалуй, это
идеальный пример профессионального чтения. Литературовидения.
431
Павел Фокин
Почему, кстати, размышления писателей о прочитанных книгах чаще
бывают более содержательными и тонкими, чем специальные иссле-
дования литературоведов.
Иннокентий Анненский рассказывал, как слушал пушкинского
«Пророка» в исполнении Достоевского, как поразила его, молодого
человека «передовых» убеждений, та боль и мука с какими Достоев-
ский произносил последние строки стихотворения. В интерпретации
Достоевского не было традиционного торжественного грома и фан-
фар в финале. Было безмерное страдание и стон. Читая Пушкина,
Достоевский сам перевоплощался в пророка, испытывая на себе все
ужасы перевоплощения. Судя по всему, после Достоевского никто из
профессиональных читателей «Пророка» на этот эксперимент не ре-
шался. У литературоведов пушкинский «Пророк» выглядит иначе.
Невозможно говорить здесь обо всех литературоведческих интер-
претациях «Пророка». Хочу привести лишь несколько примеров,
касающихся знаменитых строк о преображении слуха Пророка:
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Вот как пишет об этих строках С. М. Бонди: «Поэт слышит все
звуки мира — и громовые содрогания неба, и полет ангелов в высоте
(образ в контексте библейско-мифологического стиля стихотворе-
ния). Он "слышит, как трава растет" и как движутся под водой мор-
ские животные»2. Все. Не более красноречив H. Н. Скатов: «В «Про-
роке» самосознание и самоопределение поэта, впервые вышедшего к
высшей объективности, способного воспринимать всю полноту жиз-
ни и могущего представлять все богатство мира, а значит, и все-
могущего»*. Подробнее останавливается на этом фрагменте В. Э. Ва-
цуро: «Здесь — нарисованная с поразительным мастерством картина
мира как она представляется наивному, первобытному сознанию.
В этом мире нет сверхъестественного, ангелы в нем — такая же ре-
альность, как птицы, они населяют небо. В воде обитают морские
«чудовища», на земле растет лоза <...> И пушкинский пророк с лег-
ким изумлением повествует о том, какой «шум и звон» услышал он от
содрогания неба,— но ни малейших следов удивления не обнару-
живает он, встретив на перепутье шестикрылого серафима. Чудо —
432
Литературоведение
это повседневность, реальность; чтобы встретиться с ним, нужны
лишь очень обостренные зрение и слух.
Слух здесь имеет особое значение. Мир раскрывается перед Про-
роком не в красках, а в звуках. Полет ангелов, прорастание лозы,
звон «содрогающегося» небесного свода <...> — все это он не видит,
а слышит. Это не случайно. Звуки природы — это ее язык <...>. Они
таинственны, и для понимания их нужна сверхчеловеческая муд-
рость. «Внял я неба содроганье...». «Внял» означает «услышал», но
вместе с тем и «усвоил», «понял». Итак, второй дар серафима —
больше первого, он ставит Пророка на более высокую ступень муд-
рости»4.
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать!
Можно ли услышать, как движется воздух (а в «Пророке» речь
идет именно об этом, а не о громе и буре)? Как трепещут крылья бес-
телесных ангелов? Как плавают рыбы в морской глубине? Как семя
пробивает ростком земную твердь? Этих звуков нет в природе. И все-
таки Пророк их слышит. И слышит как «шум и звон». Но если все
эти несуществующие звуки «шум и звон», то что же тогда все осталь-
ные звуки мира, которые Пророк тоже осужден слышать? Можем ли
мы хоть на одно мгновение представить себе во всей полноте, что
слышит Пророк после преображения? И такой ли это уж «дар»? И тог-
да уже последний вопрос: что должно было случится с Пророком,
вот так слышащим звуки мира, когда Бога глас к нему воззвал! Вот
сколько вопросов всего лишь к шести строкам хрестоматийного сти-
хотворения, на которые у литературоведения до сих пор нет ответов.
Мгновение летит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
Какой серафим должен явиться на пути литературоведов, чтобы
«отверзлись вещие зеницы»?
Литераутровидение не означает узкого обращения только лишь к
визульной стороне художественного образа. Тут работают все орга-
ны чувств. Увидеть означает не только способность представить
форму, размер, объем и цвет. Картину следует наполнить звуками,
запахами, эмоциями. И не только теми, что прямо названы в тексте.
Важно увидеть и то, что в тексте отсутствует, но реконструируется
метонимическим путем, что включается в структуру образа через
сравнение и метафору, с помощью ритма и лексики, графически и
433
Павел Фокин
пунктуационно. Образ сопрягается с образом. Возникающая картина
проясняет смысл целого. В итоге складывается панорама художе-
ственного мира писателя. Направления. Эпохи. Литературовидение
охватывает широкие горизонты.
Каково в принципе соотношение литературоведения и литерату-
ровидения? Нет смысла и необходимости напрочь отметать все, что
было сделано советскими литературоведами в области филологии.
Среди литературоведов было много искренних и талантливых иссле-
дователей, проделана огромная и исключительно ценная работа, без
знания и учета которой невозможно профессионально работать в
области филологии. Литературовидение отрицает литературоведе-
ние, но не отрицает результатов литературоведения. Практически
каждый текст, в свое время прочитанный литературоведами, ну-
ждается в перепрочтении с позиций литературовидения.
Программное стихотворение Александра Блока «О, весна, без кон-
ца и без краю...» в литературоведении традиционно трактуется как
поворот поэта от мистической неопределенности раннего творчества
к конкретике и многообразию реальной действительности, чуть ли
не отказ от символизма, приятие мира во всей его полноте. Аргумен-
тацией служит неоднократное употребление Блоком слова «прини-
маю»: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щи-
та...», «Принимаю тебя, неудача, и, удача, тебе мой привет...» и др.
Все так и есть, если слепо довериться декларативным высказываниям
лирического героя. Однако, присмотревшись к заявленной в стихо-
творении системе образов, мы увидим несколько иную картину.
Во-первых, стоит разобраться со щитом, звоном которого лири-
ческий герой «приветствует» жизнь. Образ вполне конкретный и од-
новременно символичный. Звенеть щит может только под ударами
встречного оружия, иначе говоря, в бою. О каком бое идет речь в
стихотворении? Судя по «приветствию» и «принятию», можно было
бы предположить, что лирический герой выступает в качестве за-
щитника жизни, обороняющего ее от нападения неких врагов. О них,
впрочем, в тексте стихотворения ни слова не сказано. Зато о встрече с
жизнью говорится как о «враждующей», и дается очень зримая по-
ртретная деталь: «И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеи-
ных кудрях». Если «змеиные кудри» прочитать как визуальную ме-
тафору, то большой пользы от этого не будет: развивающиеся на
ветру кудри— романтическая красивость, не больше. Эти кудри
могут принадлежать как лирическому герою, так и «жизни». И ло-
гичнее предположить, что лирическому герою, чем «жизни». Со щи-
434
Литературовидение
том — прямо какой-то Зигфрид или Неистовый Роланд получается.
Но если «змеиные кудри» увидеть как буквальный образ, то есть змеи
в качестве кудрей, то стихотворение получит свою образную полноту
и завершенность. Жизнь лирический герой встречает в образе Меду-
зы Горгоны, щит необходим ему, новому Персею, чтобы отразить ее
мертвящий взгляд и освободить мечту-Андромеду. «Узнаю тебя,
жизнь, принимаю и приветствую звоном щита» — узнаю твой облик
Медузы, принимаю вызов на бой и готов сразиться. В мифе о Персее
щит выступает как оружие нападения. Лирический герой Блока в
этом стихотворении вовсе не защитник жизни, а ее противник в еди-
ноборстве. В мифе побеждает Персей. Стихотворение, таким обра-
зом, представляет собой не отказ от символизма в пользу «живой
жизни», а манифест нового противостояния жизни в борьбе за Меч-
ту — «без конца и без края мечта».
Литературовидение позволяет корректировать работы литерату-
роведов. Но литературовидение не самостоятельная дисциплина, это
всего лишь рабочий инструмент.
Лекарство от ведения.
Формула любви.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПб., 1995. С. 224.
2 Бонды С. М. О Пушкине. М.: Худож. лит., 1978. С. 147.
3 Скатов Н. Н. Русский гений. М.: Современник, 1987. С. 262.
4 Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: Академический проект, 1994.
С. 13.
435
А. С. Демин
ИМЛИим. А. М. Горького РАН. Москва
ЧТО ДЕЛАЕТ ЛИТЕРАТУРОВЕД
С ДРЕВНЕРУССКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
Обобщение опыта— дело личное, не хочется навязывать его
другим исследователям, но посоветоваться по поводу научной ме-
тодологии, наверное, можно. Лучше быть конкретным, опереться на
конкретное произведение и на избранные задачи его изучения. Это
произведение — «Повесть временных лет», а изучается лишь одна
его сторона— литературное творчество создателей этой летописи,
вернее, манера их повествования и, значит, семантика их произве-
дения.
Очередность задач представляется следующей.
Все начинается с текстологии. Летопись формировалась почти
век, у нее было много авторов и редакторов, известных и еще неиз-
вестных нам, и литературовед рассчитывает на работы текстологов,
которые растолкуют, каких авторов и какие их тексты следует изу-
чать по отдельности. Достижения тут классические, и все-таки посте-
пенно утрачивается надежда на быстрое подспорье текстологии. Да,
к примеру, Никон и Нестор были разными людьми, и летописные
произведения у них получились разные, однако текстологические
пласты летописи можно уточнять до бесконечности, положить на это
всю жизнь, а текстологический «рельеф» «Повести временных лет»
так и останется неотчетливым. Литературоведу не хочется отложить
свои интересы и ждать, он находит выход в том, чтобы считать со-
ставителей летописи неким собирательным летописцем с едиными
литературными принципами, и, кажется, не ошибается, — такой под-
ход уже проверен.
Теперь можно приступить к главному делу — к герменевтике, то
есть к истолкованию произведения и литературной манеры древне-
русского писателя. Можно сбиться с объективного академического
436
Что делает литературовед с древнерусским произведением
исследования семантики памятника на капризную критику или на
модернизирующую журналистику, если не выставлять своим безус-
ловным судьей древнерусский текст и педантичный учет всех фактов,
содержащихся в тексте, и не избегать подмены более или менее объ-
ективных терминов нашими оценками, выносимыми без понимания
точки зрения древнего автора.
Древнерусский текст подсказывает три направления герменевти-
ческой аналитики. Одно направление: надо правильно понимать
оттенки значений слов и выражений в древнерусском произведении.
Например, какой круг значений содержали в летописи слова «смыс-
леный» или выражение «люди новые», с чьей стилистикой связы-
валась фраза «испроверже зле живот свой», и т. д. Литературоведы
обычно не занимаются такими вопросами специально, это сфера не
их профессиональной деятельности, поэтому они полагаются на ра-
боты историков русского языка или историков общественной мысли,
но чаще — на свою начитанность в памятниках, потому что лингвис-
ты и культурологи приготовили ответы далеко не на все вопросы,
которые встают перед литературоведом в каждый данный момент.
Конечно, можно увлечься изучением системы понятий отдельного
древнерусского автора или произведения, либо углубиться в семан-
тику того или иного слова, в категориально-философские дебри, но
важна мера, а литературовед все же сторонится лингвистической и
терминологической герменевтики, иначе он не дойдет до своего
главного дела.
Второе направление герменевтических исследований литературо-
веды выбирают чаще всего: изучают характеристики различных объ-
ектов у автора, смысловые оттенки характеристик, то есть писатель-
ские темы и мотивы в древнерусском произведении— частные и
обобщающие, осознанные и не осознанные автором,— какие ин-
тересны исследователю. Например, какой представлена в летописи
княгиня Ольга? А князья вообще? А человек вообще? А мир вообще?
Тут огромное поле для новых разысканий по писательской, как сей-
час говорят, картине мира.
Однако тот исследователь, кого интересует поэтика и больше то-
го — история литературного творчества, выбирает третье направле-
ние — герменевтику повествовательных средств и форм, самых раз-
ных, от мелких, фразовых, до крупных, жанровых. Никто, кроме
литературоведов, и не станет изучать семантику литературных
средств и форм, их давно забытые смысловые оттенки. Так как пер-
спективы этого герменевтического направления еще не очень ясны,
437
А. С. Демин
то полезно подумать о нем детальнее, а в качестве примера привести
наблюдения над «Повестью временных лет».
Исходный материал для герменевтики литературной формы по-
является, когда обнаружены особенности ее структуры. В «Повести
временных лет» можно выделить обыденное, но тем не менее приме-
чательное повествовательное средство: летописец постоянно пере-
числял составные части того или иного целого, того или иного явле-
ния. Особенность летописного изложения такова: в перечнях на одну
и ту же тему летописец упорно повторял один и тот же первый эле-
мент, а прочие перечисляемые элементы обычно не имели устойчиво-
го места.
Рассмотрим эту особенность по темам перечислений, начиная с
тем широких. Так, когда летописец перечислял стороны света, то
первым, как правило, он указывал восток. Летопись начата расска-
зом о разделе Земли между сыновьями Ноя: «разделиша Землю...
И яся въстокъ Симови... Хамови же яся полуденьная страна... Афету
же яшася полунощныя страны и западныя»1. Рассказ о Земле заим-
ствован летописцем из «Хроники» Георгия Амартола и из какого-то
недошедшего «Хронографа»2, но, скорее всего, именно летописец
ввел перечисление сведений по сторонам света и при этом первым
назвал восток. Такой же порядок перечисления летописец повторил,
обозревая Землю при потомках сыновей Ноя: «прияша сынове Си-
мови въсточныя страны, а Хамови сынове— полуденьныя страны,
Афетови же— прияша запад и полунощныя страны» (5); восток
был упомянут первым и при упоминании легендарной пустыни:
«пустыня Етривьскыя межю въстокомь и северомъ» (226, под 1096 г.;
географическое уточнение тоже принадлежит летописцу3); восток
упоминался первым и при перечислениях сторон света по иным по-
водам, например, при описании небосвода: «бысть знаменье на не-
беси... акы пожарная заря отъ въстока, и уга, и запада, и севера» (266,
под 1102 г.); при обозрении территории варягов: «по сему же морю
седять варязи семо ко въстоку..., по тому же морю седять къ запа-
ду...» (3).
Первым элементом в космогонических перечислениях у летописца
выступало небо: «Богъ... створилъ небо, и землю, и звезды, и луну, и
солнце, и человека» (81, под 983 г.); «створилъ небо, и землю, звезды,
месяць и всяко дыханье» (83, под 986 г.). Но вот перечисления уже не
о мироздании: «знаменья бо въ небеси, или звездахъ, ли солнци, ли
птицами, ли етеромь чимъ не на благо бывають» (161, под 1065 г.); и
даже не перечень, а перечислительный рассказ развивался в той же
438
Что делает литературовед с древнерусским произведением
последовательности упоминаний: «бысть знаменье на небеси, ...в
луне, ...в солнци...» (266, под 1102 г.) и т. д.
В перечислениях на историко-этнические темы летописец также
повторял первые элементы. Если речь шла о славянских племенах, то
первыми указывались поляне: «словенескъ языкъ в Руси: поляне, де-
ревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи, северъ, бужане» (10); «и
живяху в мире поляне, и деревляне, и северъ, и радимичи, вятичи, и
хорвате» (12); «держати почаша... княженье в поляхъ, а в дерев-
ляхъ — свое, а дреговичи — свое, а словени — свое в Новегороде, а
другое — на Полоте, ижи полочане» (9); дань «козари имаху на по-
лянехъ, и на северехъ, и на вятичехъ» (18, под 859 г.); «и бе обладая
Олегъ поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи» (23—24, под
885 г.). Соответственно в перечислительных рассказах о племенах
первыми также назывались поляне: племена «имяху бо обычаи
свои..., кождо свой нравъ. Поляне бо своихъ отець обычай имуть
кротокъ... А древляне живяху звериньскимъ образомъ... И радимичи,
и вятичи, и северъ одинъ обычай имяху... Си же творяху обычая кри-
вичи и прочий погании...» (12—13).
Когда же летописец говорил о, так сказать, международных объ-
единениях, то перечень открывали обычно варяги: «Афетово бо и то
колено: варязи, свей, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва,
римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочий» (4); «звахуся
варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же — урмане, анъгля-
не, друзии— гъте» (18—19, под 862 г.); «поимъ воя многи: варяги,
чюдь, словени, мерю, весь, кривичи» (22, под 882 г.) и мн. др.
При перечислении социального состава общества, управляемого
князем, летописец первыми называл бояр, а место остальных слоев не
закреплял четко: «съзываше боляры своя, и посадникы, старейшины
по всемъ градомъ, и люди многы... и приходити боляромъ, и гри-
демъ, и съцъскымъ, и десяцьскымъ, и нарочитымъ мужемъ» (122—
123, под 996 г.); «созва... боляры своя и старци градьские... Иреша
бояре и старци» (104, под 987 г.) и т. д. При церковной характеристи-
ке общества первыми чаще всего указывались епископы: «въздая
честь епископомъ и презвутеромъ, излиха же любяше черноризци...
И собрашася епископи, и игумени, и черноризьци, и попове, и боля-
ре, и простии людье» (209—210, под 1093 г.); «предъ епископы, и
предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ, и предъ людми градь-
скыми» (222, под 1096 г.); даже о чужой стране: «в земли Лядьске...
епископы, и попы, и бояры своя» (146, под 1030 г.).
Историческое прошлое как собрание умерших людей также имело
439
А. С. Демин
свою последовательность перечислений у летописца — первыми упо-
минались «отцы»: «землю отець своихъ и дедъ своихъ» (157, под
1054 г.); «отци ваши и деди ваши» (254, под 1097 г.); «по устроенью
отьню и дедню» (124, под 996 г.); «на столе отьни и дедни» (139, под
1016 г.) и мн. др.
Рассмотрим перечисления, относящиеся к быту, к общественной
жизни. Так, человек как единство телесного и духовного получал в
летописных перечнях характеристику, начиная, как правило, с тела:
«теломъ велици и умомь горди» (11), «съвкуплена телома, паче же
душама» (134, под 1015 г.); «погыбе теломь и душею» (176, под
1071 г.); «дебелъ теломъ, черменъ лицемъ, великыма очима, храборъ
на рати, милостивъ» (146—147, под 1036 г.); иногда первым упомина-
лось лицо: «добру сущю зело лицемъ и смыслену» (59, под 955 г.);
«красенъ лицемъ и душею» (80, под 983 г.); иногда первым указывал-
ся «взоръ»: «глядай взора, и лица его, и смысла его» (69, под 971 г.);
«взоромъ красенъ, и теломъ великъ, незлобивъ нравомъ» (196, под
1078 г.). Так или иначе, но перечислительные характеристики персо-
нажей в летописи почти всегда начинались с физических элементов
(если те вообще присутствовали в характеристике).
При перечислении пищи или съестных припасов первым упоми-
нался хлеб: «хлебъ, и вино, и мясо, и рыбы, и овощь» (30, под 907 г.);
«хлебы, мяса, рыбы, овощь розноличный, медъ въ бчелкахъ, а въ
другыхъ квасъ» (123, под 996 г.); «ни хлеба не вкуси, ни воды, ни
овоща, ни отъ какого брашна» (188, под 1074 г.); «ядый хлебъ сухъ, и
то чересъ день, и воды в меру вкушая» (153, под 1051 г.) и др.
При перечислении воинского снаряжения первым указывалось
«оружье»: «покладоша оружье свое, и щиты, и золото,., изоделися
суть оружьемъ и порты» (53, под 945 г.); «на оружьи и на конихъ»
(124, под 996 г.); «оружье и кони» (166, под 1068 г.); «оружье» упоми-
налось первым и в перечислении с переносным смыслом: «укрепивъся
оружьемь крестнымь и верою непобедимою» (207, под 1091 г.).
При перечислении даней, даров, трофеев, украшений и всяческих
богатств первым фигурировало злато: «неся злато, и паволокы, и
овощи, и вина, и всякое узорочье» (31, под 907 г.); «богатество: злато
много, и паволоки, и каменье драгое, и страсти Господня, и венець, и
гвоздие...» (37, под 913 г.); «дары многи: злато и сребро, паволоки и
съсуды различныя» (60, под 955 г.); «бещисленое множьство злата и
сребра, кунами и белью» (167, под 1068 г.) и т. д. и т. п.
Перечисления на этические темы демонстрируют ту же особен-
ность структуры. Из положительных состояний общества и госу-
440
Что делает литературовед с древнерусским произведением
дарства первым указывался мир: «не преступите намъ... мира и люб-
ви» (37, под 912 г.); «имети миръ и свершену любовь» (71, под 971 г.);
«бе миръ межю ими и любы» (124, под 996 г.); «жити мирно и в бра-
толюбьстве» (145, под 1026 г.); «мирно пребывати, в совокуплении и
въ сдравии» (136, под 1015 г.); и др. Соответственно в ряду несчастий
первой ставилась война: «избавляюща отъ усобныя рати и отъ про-
нырьства дьяволя» (136); «ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть
проявляють» (161, под 1065 г.); «отъ рати и отъ продажь» (211, под
1093 г.); «рать и скорбь» (217, под 1093 г.). Из череды физических
несчастий человека первенствовали раны: «приимаше раны, и наготу,
и студень» (190, под 1074 г.); «многовещныа имуще раны, различныя
печали и страшны мукы» (216, под 1093 г.); и пр. Из множества нрав-
ственных человеческих недостатков возглавляли перечень грехи:
«умножишася греси наши и неправды» (208, под 1092 г.); «въстяг-
нутися отъ греха, и отъ зависти, и отъ прочихъ злыхъ делъ неприяз-
нинъ» (там же); «грехъ ради нашихъ великихъ и неправды, за умно-
женье безаконий нашихъ» (214, под 1093 г.); «греси ихъ и безаконья
ихъ»(225, под 1096 г.).
И последнее. В летописи не только объекты, но наборы качеств
перечислялись с повторяющимся первым элементом. Великость пред-
мета или существа стояла на первом месте: «Земля наша велика и
обилна» (19, под 862 г.); «ископати яму велику и глубоку» (55, под
945 г.); «быкъ великъ и силенъ,.. мужь... превеликъ зело и страшенъ»
(120—121, под 992 г.); «бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ» (139, под
1016 г.); «бе бо великъ и силенъ Редедя» (143, под 1022 г.). И в пере-
числительных рассказах первой указывалась великость объектов:
«звезда превелика, луче имущи акы кровавы» (160, под 1065 г.); «цер-
кы, юже бе создалъ велику сущю,.. и пристрой ю великою пристроек),
украсивъ ю всякою красотою» (202, под 1089 г.).
Далее исследователю необходимо заняться семантикой данной
повествовательной формы, объяснить склонность летописца к по-
вторению первых элементов в своих перечислениях. Первым он, по-
видимому, называл главное. Так, летописец ставил восток первым в
своих перечислениях сторон света, скорее всего, потому, что считал
восток главной стороной света. Хотя о главенстве востока летописец
специально не рассуждал, но косвенно, пожалуй, обосновал манеру
своего мироописания, включив в летопись так называемую «Речь
философа», где неоднократно напоминалось о связи именно востока
с важными библейскими событиями: во-первых, «насади Богъ рай на
въстоце», во-вторых, при рождении Иисуса Христа «волъсви придо-
441
А. С. Демин
ша отъ въстока, глаголюще: «...Видехомъ бо звезду его на въстоце..»;
в-третьих, сам Господь обозначил все пространство Земли, начав с
востока: «Тако глаголетъ Господь: "...отъ въстока и до запада имя
мое прославися..."» (86, 100, 96, под 986 г.). Остальные стороны света
не имели определенного места в летописных перечислениях. Таким
образом, можно предположить, что литературным принципом лето-
писца было: первым упомянуть главное, а прочее уже не так важно.
Многие перечисления подтверждают, что летописец придержи-
вался именно такого принципа. Небо упоминалось первым, потому
что летописец считал его главным космогоническим элементом,
опять-таки опираясь на Библию и ссылаясь на то, что первым было
сотворено небо («Искони бо створи Богъ небо, таже землю»— 112,
под 988 г.), что небо особенно почтено («Богъ есть на небеси, седяй
на престоле» — 172, под 1071 г.), что царство небесное сравнительно
с прочими имеет «красоту неизреченьну» (103, под 986 г.). Остальные
элементы не занимали устойчивого места в перечислениях, то есть
летописец и тут следовал литературному принципу — первым назы-
вать главное.
В перечислениях на различные исторические темы летописец вы-
держивал тот же литературный принцип: первым называл главное и
только главному уделял особое внимание. Поляне в перечнях первые,
потому что они главные для летописца. Предпочтение полянам лето-
писец ясно выразил уже в начале летописи — они идеальные «мужи
мудри и смыслени» (9). Варяги в перечислениях первые, потому что
они самые важные для летописца среди окружающих этносов того
времени: ведь «отъ техъ варягъ прозвася Руская земля» (19, под
862 г.) — эту мысль летописец подчеркивал неоднократно.
Однако не всегда бывает легко понятен действительный смысл
перечислений у летописца. Например, перечисляя качества, летопи-
сец на первое место помещал и, значит, из всех качеств больше всего
ценил великость. Недаром прилагательное «великий» намного чаще
всех остальных прилагательных употреблялось в летописи4; недаром
прилагательными «великий» и «велий» летописец характеризовал
Бога гораздо чаще, чем другими определениями, хотя подчеркивание
преимущественно великости или величия Бога не было обязатель-
ным; обилие повторяющихся формул с прилагательным «великий» —
типа «честь великая», «плач великий», «победа великая» и т. д. —
тоже свидетельствовало о предпочтении, которое летописец оказы-
вал этому эпитету, тем более что некоторые летописные рассказы
местами получились даже необычно заполненными подобными вы-
442
Что делает литературовед с древнерусским произведением
ражениями, как, например, рассказ под 1103 г. о победе над полов-
цами: «и Богъ великый вложи ужасть велику в половце,., велико спа-
сенье Бог створи, а на врагы наша дасть победу велику... И придоша
в Русь с полономъ великымъ, и с славою, и с победою великою»
(268—269).
Но слово «великий» чрезвычайно многозначно в летописи, и по-
этому встает вопрос: собственно говоря, какое же качество явлений
летописец считал главным. Снова обратимся к семантике перечисле-
ний со словом «великий». Вот любопытный пример: под 862 г. рас-
сказывается о том, как четыре племени — чудь, словены, кривичи и
весь — пригласили к себе княжить варягов, называвшихся русью, и
от тех варягов новое государство стало называться Русскою землею.
Приглашавшие сказали о себе: «Земля наша велика и обилна» (19).
Значение слова «великий» не ясно в данном отрывке, но здесь вряд ли
имелось в виду то, что сейчас кажется нам: будто выражение «земля
велика» обозначало большую территорию; на самом же деле летопи-
сец в своем повествовании нигде и никогда не затрагивал тему вели-
кости=обширности Русской или иной земли. Он, скорее всего, мыс-
лил иной категорией: «земля великая» у него, в первую очередь,
означала «землю многолюдную». В летописи немало свидетельств
этого. Летописец неоднократно связывал великость с многолюд-
ством. Он, например, перечислил ряд днестровских племен и заклю-
чал перечисление такими словами: «Бе множество ихъ..., да то ся
зваху отъ грекъ Великая Скуфь» (12) — великая область, потому что
населена множеством людей,— так летописец пояснил греческое
название области. Различные иные явления летописец называл вели-
кими из-за их многолюдности, множества или многости участников.
Например, характеризовал войско как великое из-за его бесчислен-
ности: «И оступиша печенези градъ в силе велице, бещислено множь-
ство около града» (64, под 968 г.). Сражение называлось великим из-
за множества сражавшихся: «Брани же велице бывши, и мноземъ
падающимъ отъ обою полку» (260, под 1097 г.). Праздник великий
предусматривал множество народу: «сотворяше праздникъ великъ,
сзывая бещисленое множство народа» (122, под 996 г.). Великий плач
подразумевал большое множество плачущих: «вси кияне великъ
плачь створиша» (200, под 1086 г.), «во плачи и велице вопли, плака
бо ся... весь градъ Киевъ» (196, под 1078 г.)— «весь Киевъ», «вси
кияне» и есть косвенное обозначение огромного множества людей.
В общем, если летописец так или иначе пояснял определение
«великий», то всегда как множество, многолюдство. Так что выра-
443
А. С.Демин
жение «земля наша велика и обилна», в первую очередь, означало:
«земля наша многолюдна и обильна», и именно многолюдство ле-
тописец ставил на первое место как главное достоинство страны.
Многолюдство выступало в летописи источником обилия, созида-
ния: «умножившемъся человекомъ на земли — и помыслиша создати
столпъ до небесе» (4); или в более скромных масштабах: «умно-
жившимся братьи в печере... — и помыслиша поставити вне печеры
манастырь» (154, под 1096 г.); или от противного, когда безлюд-
ность— источник оскудения: «городи вси опустеша, села опусте-
ша— прейдемъ поля, ... все тоще ныне видимъ, нивы поростъше...»
(216, под 1093 г.)— многолюдство всегда упоминалось первым как
главное историческое обстоятельство.
Другие значения эпитета «великий» в перечислениях качеств объ-
ектов подтверждают, что летописец неспроста ставил этот эпитет на
первое место. Короче говоря, и в перечислениях качеств у летописца
господствовал культ выделения чего-то одного главного при гораздо
меньшей внимательности ко всему остальному.
Изучение даже одной литературной формы выводит на широкие
обобщения, касающиеся специфики летописного повествования. Ока-
зывается, опора на что-то одно главное являлась общим принципом
литературного творчества летописца, повлиявшим не только на пе-
речисления, но и на другие формы повествования в летописи. Так,
например, летописец нередко приводил краткие оценки различных
явлений, причем каждое явление характеризовалось только по его
главной черте, обычно одной.
Состояние страны определялось по добру или по злу, сделанному
этой стране, и летопись была заполнена соответствующими лапидар-
ными оценками: «колико добра створилъ Русьстей земли» (128, под
1015 г.); «велико добро створиши земле Русскей» (267, под 1103 г.);
или, напротив: «болше зло наводить Богъ на землю» (136, под 1015),
«земле Русьскей много зло створше» (194, под 1073 г.); «сего не быва-
ло есть в Русьскей земьли ни при дедехъ нашихъ, ни при отцихъ на-
шихъ, сякого зла» (252, под 1097 г.) и т. д. Доброе и злое состояния
страны местами конкретизировались в летописи, они почти всегда
упоминались как единственный главный признак в каждом случае.
Например: «подающа целебныя дары Русьстей земли» (134, под
1015 г.); или же, напротив: «осквернися кровьми земля Руска» (77,
под 1015 г.); и более того: «губять землю Русьскую» (212, под 1093 г.),
«погубили суть землю Русьскую» (221, под 1095 г.) и пр. Эти одиноч-
ные качества страны подбирались по принципу противоположности
444
Что делает литературовед с древнерусским произведением
добра и зла. Такова, например, еще пара: «бысть тишина велика в
земли» (145, под 1026 г.), но «бысть мятежь в земли Лядьске» (146,
под 1030 г.)
И в более подробных описаниях летописец характеризовал явле-
ния по их главной черте. Так, он сравнительно более подробно рас-
сказывал о различных церковных службах и их первым, главным
элементом неизменно указывал пение: «пенья и службы архиерейски,
престоянье дьяконь» (105, под 987 г.); «устави въ манастыри своемь,
како пети пенья манастырьская, и поклонъ какъ держати и чтенья
почитати, и стоянье в церкви, и весь рядъ церковный...» (156, под
1051 г.); «бодру быти на пенье церковное, и на преданья отечьская, и
почитанья книжная; паче же имети въ устехъ Псалтырь Давыдовъ
подобаеть черноризцемъ» (179, под 1074 г.); и т. п. Краткие же упо-
минания служб сводились только к указанию пения: «стоять, поюще»
(184, под 1074 г.); «со обычными песнми» (210, под 1093 г.) и пр.
И иные формы повествования отражали эту манеру летописца —
опираться на что-то одно главное в характеристике объектов. Так,
иногда летописец упоминал лишь самую броскую черту какого-
нибудь существа, а остальные черты отказывался перечислять. На-
пример, описал урода: «Бяшеть бо сиць: на лици ему срамнии удове,
иного нелзе казати срама ради» (160, под 1065 г.) — летописец мог бы
ограничиться общей оценкой без деталей или, напротив, перечислить
несколько деталей, однако показательно, что он посчитал достаточ-
ной только одну деталь. Летописец таким же способом передавал
суть речей некоторых летописных персонажей: приводил одно их
краткое высказывание и далее делал лишь общую отсылку, что «ина
словеса хулная глаголаху» (225, под 1096 г.).
Когда летописец противопоставлял какие-нибудь объекты, то он
опять-таки основывался только на одном главном для данного слу-
чая признаке, не следя за соотношением всех прочих сообщаемых им
сведений. Лишь в начале летописи, рассказывая об обычаях племен,
летописец— редкий случай— противопоставил по две позиции:
«поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ и ...брачный
обычай имяху... А древляне живяху звериньскимъ образомъ,... и бра-
ка у нихъ не бываше» (12). Далее в летописи противопоставлялось
только что-либо одно. Народы — по обуви: волжские болгары «суть
вси в сапозехъ»— «поидемъ искать лапотниковъ», то есть другой
народ (82, под 985 г.); человек человеку противопоставлялся по ком-
плекции: один — «превеликъ зело», а другой «середний теломь» (121,
под 992 г.); или по учености: один «хытръ книгамъ», а другой «не
445
А. С. Демин
книженъ» (201—202, под 1089 г.); боги противопоставлялись по месту
пребывания: «Какый то богъ, седя в бездне? То есть бесъ. А Богъ есть
на небеси» (172, под 1071 г.); оружие противопоставлялось по лезви-
ям: «оружье обоюду остро, рекше мечь» сопоставлялось с «оружьемь
одиною стороною остромь, рекше саблями» (16) и т. д. — каждый раз
в центре внимания летописец держал, как правило, один признак.
Изучение литературных форм и средств приносит особую пользу:
если за темами и мотивами произведения кроется авторское отноше-
ние к качествам явлений, то за литературными средствами — отно-
шение автора к структуре явлений, а все вместе это и есть авторская
картина мира, или принципы мироописания у автора, в данном слу-
чае у летописца XI — начала XII в.
Тут возникает новая задача. Мы рассказали о действиях автора
как бы с его точки зрения. Теперь о них надо сказать с точки зрения
нашей и хотя бы по одному из принципов мироописания у летописца
(«структурному») попытаться определить тип его литературного
творчества в максимально широкой исторической перспективе, то
есть по сравнению с нами. История типов литературного творчества
(или принципов мироописания) помогает обозреть историю литера-
туры максимально крупными частями и указать место памятника в
масштабах большого целого. При этом важно не впадать в прямоли-
нейность и субъективность. Пристрастие летописца к выделению
главного в явлениях, особенно когда он пользовался перечисления-
ми, вполне сопоставимо с гораздо более разветвленной иерархич-
ностью элементов в наших современных литературных перечислени-
ях. Однако прямой генетической связи тут усматривать не надо, ина-
че сравнительно с нами летописные перечисления с первым, главным
элементом и неопределенной семантикой остальных элементов мож-
но свысока трактовать как ущербные, зачаточные или неразвитые;
или же, напротив, сравнительно с древностью, перечисления в нашей
современной литературе тоже можно неблагожелательно оценить как
ущербные, утерявшие культ выделения главного. Бесспорно лишь то,
что летописные перечисления, во-первых, древние и, во-вторых, се-
мантически просто другие. На этом основании литературное творче-
ство летописца правомерно назвать архаическим, а далее можно до-
полнять и обобщать, в чем именно состояла эта архаика как объек-
тивное явление.
В частности, встает вопрос об истории литературной архаики,
представленной «Повестью временных лет» и ее перечислениями.
Архаическая литературная манера выделять только главное, по-ви-
446
Что делает литературовед с древнерусским произведением
димому, не уходила в глубокую древность, так как своей системой
перечислений летопись уникальна и не имеет аналогий в более ран-
них памятниках, оригинальных и переводных, а в конкретных случа-
ях главенство=первенство тех или иных категорий в перечислениях
объяснимо самыми разными причинами, не сводимыми в единое це-
лое, — от библейских традиций до политической реальности и быта.
Можно заметить симптоматичную особенность летописных перечис-
лений — их живую, еще не застывшую, еще не завершенную система-
тичность. Главные, первенствующие, повторяющиеся элементы ле-
тописец отбирал как придется — по самым разнообразным основа-
ниям: первым называл то самое крупное, большое, заметное, то са-
мое значимое, ценное, сильное, то самое существенное, определяю-
щее, обобщающее, то нечто старшее, начальное, исходное, подгото-
вительное и т. д. Кстати, вся летопись составляет историю по годам,
и первым указан 852 г. — год самого раннего, по расчету летописца,
употребления названия «Русь» в книжности, то есть хронологический
перечень у летописца возглавляет не начальное событие, а начальное
называние явления — эта черта также архаична.
Система перечислений и открыто колебалась, когда летописец
менял смысловые акценты в своих рассказах. Так, первенство физи-
ческого, телесного в перечислительных характеристиках летописных
персонажей объясняется преобладающей в летописи «плотской» те-
матикой, в том смысле, что летописец больше рассказывал о внеш-
них, физических деяниях людей и лишь изредка говорил об их ду-
ше, «сердце» или уме. Поэтому и летописные некрологи князьям
обычно тоже первыми поминали телесные черты или просто тело
князя, а уж потом переходили к его внутренним свойствам. Даже о
Владимире Крестителе летописец повествовал в этой последователь-
ности: «...схраниша тело его с плачемь, блаженаго князя... Аще бо и
бе преже на скверньную похоть желая, но после же прилежа к покая-
нью...» (128, под 1015 г.)— тело упомянуто перед характеристикой
морального облика. То же, например, о Ярополке Изяславиче в нек-
рологе: «...спрятавше тело его... Такъ бяше блаженый сь князь тихъ,
кротъкъ, смеренъ и братолюбивъ...» (200, под 1096 г.)— сначала
упомянуто тело. Среди летописных перечислений встречаются два
исключения, когда первой указывается душа, а потом тело: в обоих
случаях это выражение «радовашеся душею и теломъ» (59, под 955 г.;
122, под 996 г.). Подобная перемена последовательности упомина-
ний, возможно, не была случайной, так как летописец сообщал о ве-
ликих благочестивых событиях — крещении Ольги и первом празд-
447
А. С.Демин
новании в Киеве праздника успения Богородицы. Подобным же об-
разом летописец нарушал обычную последовательность упоминаний,
когда составлял некрологические похвалы личностям, безусловно
христиански совершенным с его точки зрения,— тогда первой он
упоминал душу человека (или его душевные качества) и лишь потом
тело. Например, так поведал о Ярославе Владимировиче Мудром:
«Ярославу же приспе конець житья, и предасть душю свою Богу...
Всеволодъ же спрята тело отца своего...» (158, под 1054 г.); или же о
его внуке очень набожном Глебе Святославиче: «Бе же Глебъ мило-
стивъ убогымъ и страннолюбивъ, тщанье имея к церквамъ, теплъ на
веру и кротокъ, взоромъ красенъ, его же тело положено бысть Чер-
нигове...» (193, под 1078 г.) — сначала о духовном, потом о телесном.
Первенство=главенство души и духовного обозначено в летописи по
поводу лишь нескольких идеальных лиц.
Однако в большинстве случаев колебания в системе летописных
перечислений не удается объяснить разумными причинами. Напри-
мер, первенство отцов перед дедами было безусловным в летописи.
Отцы упоминались часто, притом и без дедов: следовали обычаям,
законам и заповедям именно отцов и наследовали именно отцам;
деды же упоминались в летописи довольно редко и всегда в сопро-
вождении отцов как подкрепление отцам. Отцы важнее дедов у лето-
писца. Но есть и два исключения в последовательности перечисле-
ний: один раз Владимир Святославич упоминает «дедъ мой и отець
мой» (124, под 996 г.), и другой раз Владимир Всеволодович Моно-
мах отмечает, что «сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при
дедехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла» (252, под 1097 г.).
Оба упоминания сначала дедов, а потом отцов в речах князей выгля-
дят случайными отступлениями от правила, потому что тут же в этих
же летописных статьях обычная последовательность восстанавли-
вается, в том числе и в речи Владимира Мономаха.
Летописец так и не определил безусловно первый, главный эле-
мент состава многих и многих объектов. Например, в раю для него
были главными то «красота», то «веселие», то свет. Когда летописец
перечислял потребительские дары, блага или запасы, то на первое
место он ставил меха: «одаривъ скорою, и чалядью, и воскомъ» (53,
под 945 г.); а вскоре — и челядь: «многи дары прислю ти: челядь,
воскъ, и скъру, и вой в помощь» (61, под 955); потом меха вообще
упоминал последними: «си жито держить, а си — медъ, а си — рыбы,
а си — скору» (170, под 1071 г.). Возможно, таким способом летопи-
сец тонко различал ситуацию в некоторых рассказах. Но, вернее все-
448
Что делает литературовед с древнерусским произведением
го, он просто немного путался. Ведь в летописи он не оставил прак-
тически ни одного перечня без колебаний первого элемента, варь-
ировал даже привычные парные сочетания, нередко уже ставшие
формулами. Вот в паре «города и села» летописец первыми обычно
упоминал города, например, в рассказе о несчастьях Русской земли:
«городи вси опустеша, села опустеша» (216, под 1093 г.), но в этом
же рассказе однажды поменял местами элементы: «опустеша села на-
ша и городи наши» (215)— видимо, не придавал особого значения
этой последовательности упоминаний. Так же и в сочетании «день и
ночь» летописец постоянно указывал первым день, но иногда бук-
вально в соседних строчках допускал вариации: «Водяшеть бо я въ
день столпъ облаченъ, а в нощи столпъ огненъ. То се не столпъ во-
дяше ихъ, но ангелъ идяше предъ ними в нощи и въ дне» (274, под
1110 г.) — сначала «въ день — в нощи», но тут же «в нощи — въ дне».
Примеров таких стихийных колебаний великое множество. Система
перечислений в «Повести временных лет», вероятно, только-только
сложилась.
Перечисления «Повести временных лет» составили всего лишь
эпизод в огромной и богатой истории древнерусской литературной
архаики. Дальше можно увидеть следующие перспективы для иссле-
дования: у древнерусской литературной архаики было много призна-
ков и еще больше истоков в мировой литературе. Их надо изучать, но
какому специалисту? К сожалению, литературовед-русист не может
полностью превращаться в «традициеведа», он становится им от
случая к случаю и вынужден работать поверхностно, особенно когда
касается традиций других средневековых литератур.
Исторически настроенный литературовед может сократить свое
пребывание в мире литературы и сразу перейти к объяснениям тех
или иных принципов литературного творчества огромным миром
внелитературной реальности. Так, летописная манера характеризо-
вать целое по его главной части, наверное, может быть объяснена
общественной привычкой держаться за главное, отстраняя второсте-
пенные детали, в культуре, искусстве, эстетике, идеологии и практи-
ческой жизни начала XII в. Широка возможная картина, но она еще
не воссоздана, с ней не справиться литературоведу в одиночку, без
встречных работ историков, культуроведов и философов, а попытка
подменить собою всех специалистов или, напротив, систематизиро-
вать выводы только чужих работ, не вдаваясь в текстовые факты,
приводит к псевдообобщениям, к которым особенно склонны раз-
ного рода любители. Настоящая стыковка наук все еще впереди, ли-
15 - 1379
449
А. С. Демин
тературоведу же пока приходится в основном пребывать в своей об-
ласти.
Более уверенно чувствует себя литературовед, когда за объясне-
ниями обращается, как он думает, к психологии древнерусского ав-
тора, вернее, к психологии группы авторов, связанных одним делом
и близких по времени, вроде составителей «Повести временных лет».
Наверное, увлекательно порассуждать о психологии творчества,
чувствах, представлениях, ассоциациях, установке, воображении
летописца, однако все это своего рода самообман, потому что ни у
литературоведа, ни у психолога нет прямых психологических свиде-
тельств относительно натуры и способностей летописца, а живых
лабораторных данных получить о древнем авторе вообще невозмож-
но. Литературовед, как оказывается, употребляет психологическую
терминологию в литературоведческом смысле и в действительности
ведет речь о смысле текста и его оттенках, об авторских темах и мо-
тивах, формах и средствах, писательской манере повествования и
принципах мироописания, но в психологию серьезно не вдается.
Пока же самое плодотворное для «древника» с теоретическими
запросами— это продолжать заниматься древнерусской картиной
мира и древнерусским отношением к структуре мира, а отсюда —
историей типов литературного творчества, и постоянно держать в
памяти предупреждение самому себе: скудоумие— главный враг
исследования. Надо общаться и советоваться... и перечитывать про-
изведения в поисках их литературного, образного, художественного,
эстетического смысла.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. Изд. подгот. А. Ф. Бычков.
СПб., 1897. С. 1—2. Орфография передается с упрощениями.
2 См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ.
М.—Л., 1940. Т. 4. С. 42-44,72—73.
3 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. С. 101—102.
4 Ср.: Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет»: Слово-
указатели и частотный словник. Киев, 1984. С. 32,164, 211.
450
Л. В. Левшун
Ин-т литературы им. Янки Купалы HAH Беларуси. Минск
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ТРАДИЦИЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКОВНОЙ КНИЖНОСТИ
И ЛИТЕРАТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Нынешнюю ситуацию в области исследования древней восточно-
славянской литературы очевидно никак нельзя назвать неблагопо-
лучной. Эта область отечественной культуры не только давно пе-
рестала быть tabula rasa, но и успела нарастить серьезную (уже более,
чем вековую!) исследовательскую традицию (и свою, и зарубежную),
а так же — блестящую обширнейшую библиотеку памятников сло-
весности и их исследований.
Однако, как представляется, уже при самом своем зарождении во-
сточнославянская литературоведческая медиевистика получила не-
кий вывих, некую методологическую неточность, несбалансирован-
ность развития, что уже через несколько десятилетий обернулось
серьезнейшей проблемой принципиального свойства, которая и до-
жила благополучно до наших дней, едва ли замечаемая, а точнее,
видимо, прямо игнорируемая основной массой современных литера-
туроведов. Проблема эта касается взаимоотношения традиций сред-
невековой церковной письменности и литературы «нового времени»
и является, на мой взгляд, для истории восточнославянской литера-
туры и литературоведения (и шире— культуры) одновременно и
краеугольным камнем и камнем преткновения. От решения ее зави-
сит не только, так сказать, логика выстраиваемого нами развития
словесности от средневековья до наших дней, но и философия лите-
ратурного художества в восточнославянской культуре в целом.
Прежде всего определимся в терминах: в этой связи не лишне, ду-
мается, напомнить (и настоять на том!), что «церковная письмен-
ность»— не есть определение содержания, жанрового состава или
функции ее произведений, как принято, кажется, считать, но обозна-
чение определенного (а именно церковного, соборного, православного,
15*
451
Л. В. Левшун
христоцентрического) типа сознания, способа мышления художни-
ка, его иерархии ценностей, его отношения к миру. Так что, к примеру,
княжеское завещание детям Владимира Мономаха более церковно, чем
вирши монаха Симеона Полоцкого.
Таким образом, церковная —характеристика вероисповедная ми-
ровоззренческая, а современным литературоведением она используется
скорее метафорически и не соответствует своему исконному содер-
жанию.
В литературоведческом и еще более в «книголюбском» сознании
наиболее распространенным сегодня представлением об истории
отечественной словесности является, как кажется, то, какое создается
при простом наложении так называемой «теории прогресса» на лите-
ратурные факты. При этом за эталон произвольно и как само собой
разумеющееся, а потому не требующее доказательств, принимается
классическая литература нового времени, причем, не только своя, но
и зарубежная (что, впрочем, вполне закономерно при таком взгляде
на вещи)1. Средневековая же, по преимуществу церковная, словес-
ность при всем том, что она осознается как нечто само по себе цен-
ное, вместе с тем (или скорее — вопреки тому) мыслится как «мла-
денческое состояние»2 грядущей за ней великой классической литера-
туры, как ее своего рода грандиозная «заготовка», колоссальный
«классический» черновик классики.
Ценность средневекового произведения определяется зачастую
именно степенью его приближенности к «совершенству» (стилисти-
ческому и идеологическому) литературы классической, степенью его
соответствия общепринятым (чисто светским по происхождению)
стандартам: например, как нечто безусловно прогрессивное и поло-
жительное представляется, как правило, обращение средневековых
авторов к проблемам гуманистического свойства, к тому, что «было
великим предвозвестием гуманистического характера русской лите-
ратуры XIX в. с ее темой ценности маленького человека»3 (восслав-
ление человеческого гения, превознесение индивидуальной свободы и
бунта индивидуальности, борьба против церковных канонов в худо-
жестве, демократическая сатира, раскрытие человеческой индивиду-
альности во всей ее противоречивости, тонкость психологических
мотивировок и т. п.).
Именно на этом основании (то есть как ее «младенческое состоя-
ние») средневековая церковная словесность включается (предваряя
их) в курсы истории восточнославянских литератур нового времени,
что и формирует у следующего поколения книголюбов и литературо-
452
К вопросу о взаимоотношении традиций...
ведов представление о непосредственной преемственности этих лите-
ратур, замыкая, таким образом, порочный круг.
Между тем высказывались и высказываются, хотя мало популя-
ризируются, иные взгляды на проблему взаимоотношения двух на-
званных этапов в бытии отечественной художественной словесности.
Например, Н. К. Никольский еще в конце прошлого столетия утвер-
ждал: «Церковная письменность дореформенной эпохи не была свя-
зана нераздельно с послепетровской изящною словесностью ни по
задачам, ни по содержанию, ни по форме, ни по литературному стилю,
ни по своей, так сказать, природе...»4. В связи с чем замечал: «Полу-
чается любопытная странность: к истории изящной словесности за ея
два недавних столетия прикрепляется спереди история церковной
письменности за семь веков, несмотря на то, что первая не была связа-
на с последнею причинною зависимостью...»5.
В продолжение весьма, на мой взгляд, верного и актуального по-
ныне наблюдения Никольского отмечу другой общеизвестный факт,
который лежит, что называется, на поверхности, но по неведомым
причинам историки литературы (и древней и новой) его то ли не за-
мечают, то ли старательно обходят за неимением опровержений и
просто объяснений ему: ведь мало того, что средневековая церковная
письменность, по выражению Никольского, «прикрепляется спереди»
к изящной словесности нового времени как ее зародышевая форма,
вместе с тем она — эта самая церковная письменность, благополучно
здравствующая и поныне во всем многообразии своих «средневеко-
вых» «зародышевых» «младенчески мягких и зыбких» жанров,—
необъяснимым образом (что называется «по умолчанию») категори-
чески выводится за пределы современного литературного процесса.
Впрочем, последнее, по-видимому, совершенно справедливо, посколь-
ку церковное художество действительно строится на принципах, глу-
боко чуждых (чтобы не сказать враждебных) светскому искусству...
Недаром же А. С. Пушкин — не только великий поэт, но и вели-
кий знаток и мастер слова — в набросках статьи о русской литерату-
ре (1830г.), еще задолго до Н.К.Никольского, утверждал: «Сло-
весность наша явилась вдруг в XVIII столетии, подобно русскому
дворянству, без предков и родословий»*. «...К сожалению,— сетовал
поэт, к слову сказать, хорошо знакомый и с древними летописями, и с
патериковыми рассказами, и с молитвословными произведениями, —
старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь, и
на ней возвышается единственный памятник: "Слово о полку Игоре-
ве"». А несколько позже в другой известной своей статье с эпати-
453
Л. В. Левшун
рующим названием «О ничтожестве литературы русской» (1834 г.) он
еще раз вернулся к этой мысли: «"Слово о полку Игореве" возвы-
шается уединенным памятником в пустыне нашей древней словеснос-
ти».
Почему бы нам не довериться художественному чутью и вкусу
«солнца русской поэзии»? По крайней мере, не учитывать мнения
поэта мне кажется несколько опрометчивым. Пушкин, как видим,
вполне солидарен с Никольским в том, что не стоит «прикреплять
спереди» к изящной словесности словесность церковную, и уж если
пытаться искать в средневековье «предков и родословий» для изящ-
ной словесности, то избирать для этой роли нужно произведения
нецерковные, как то совершенно справедливо названное им «Слово о
полку Игореве» или (смею прибавить то, что не было известно Пуш-
кину) «Моление Даниила Заточника», труды Белозерского старца
Евфросина, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, пародий-
но-сатирические произведения XVI—XVII вв. и т. п. Заметим, говоря
о ничтожестве литературы русской, поэт ни в коем случае не имел в
виду «ничтожество» или «младенческое состояние» средневековой
церковной словесности, — он вовсе не имел в виду церковную словес-
ность как не относящуюся к поднимаемой им проблеме. Для Пушки-
на «драгоценные памятники времен давно минувших»1 никак не ассо-
циировались с современной ему изящной литературой, но представ-
лялись неким особым миром художества, ничего общего с ней не
имеющим. Мысль эта, кажется, осталась невысказанной. Возможно,
из-за полной ее очевидности (аксиоматичности) для поэта.
Истина — на самом деле наиочевиднейшая — заключается в том,
что в культуре восточных славян с момента принятия ими Правосла-
вия вплоть до наших дней сосуществуют две культурные традиции:
традиция церковного (православного) художества и традиция секу-
лярного искусства; традиция интуитивного благодатного синтеза и
традиция рационалистического анализа. О невозможности рассмат-
ривать их в одной плоскости гениально проговаривается, в част-
ности, обладавший беспримерной научной интуицией Д. С. Лихачев.
«С ростом реализма в литературе развивается и литературоведе-
ние», — пишет он в статье с характерным названием «Об обществен-
ной ответственности литературоведения»8, очевидно имея в виду,
скажем так, классический реализм, — реализм эмпирический, но не
мистический реализм откровения, на котором утверждается церков-
ное художество. «Задача литературы открывать человека в человеке9,
совпадает с задачей литературоведения открывать литературу в
454
К вопросу о взаимоотношении традиций...
литературе»10— продолжает ученый. Но задача церковной пись-
менности состоит в том и только в том, чтобы открывать в человеке
его Первообраз, который есть образ Божий. И это значит, что цер-
ковная письменность действительно не совпадает с литературой (fic-
tion) «ни по задачам, ни по содержанию, ни по форме, ни по литера-
турному стилю, ни по своей, так сказать, природе», как выразился
Н. К. Никольский в упомянутой выше работе, ни по способу изуче-
ния, добавлю от себя то, что, несомненно, имел в виду ученый. Впро-
чем, ведь и Дмитрий Сергеевич указывал на то же самое, хотя, воз-
можно, с противоположной целью, проницательно замечая, что при
переходе «древней русской литературы в новую» изменяется как раз
«понимание задач литературы... методы художественного обобще-
ния... понимание человека, сюжета, жанра и т. д. Изменяется самый
характер литературного творчества в связи с существенными из-
менениями в отношении писателей к литературе и к самой действи-
тельности»11.
Но тогда и литературоведение, то самое, которое, по словам
Д. С. Лихачева, является ровесником реализма, не может (не доста-
точно) исследовать памятники церковной письменности. Не в со-
стоянии (не располагает соответствующим инструментарием) рацио-
налистический (читай литературоведческий) анализ постичь законы,
на основании которых создаются произведения благодатного интуи-
тивного синтеза. Тогда на каком основании включать церковные
памятники в курсы «Истории древнерусской литературы»!
Впрочем, если бы древняя церковная письменность только «при-
креплялась спереди», как выразился Николай Константинович, к
«новой литературе» — это было бы еще, пожалуй, полбеды. Беда в
том, что средневековая церковная книжность, представляемая как
ранний этап развития светской литературы, как раз чаще всего и
исследуется (тем самым литературоведением— ровесником реализ-
ма) и преподается как вообще беллетристика, в отрыве от церковной
культуры, от мировоззрения, ее породившего, и оценивается с точки
зрения сугубо светских мерок, методами, выработанными светской
наукой для анализа светских же произведений. Но, как проницатель-
но заметил о. Павел Флоренский, «художественное произведение,
отвлеченное от конкретных условий своего художественного бытия,
умирает, или, по крайней мере, переходит в состояние анабиоза, пе-
рестает восприниматься как художественное»12, даже, прибавим, если
его художественность, так сказать, декларируется исследователем.
В связи со сказанным хочется указать еще на один факт, тоже ле-
455
Л. В. Левшун
жащий на поверхности, но, как правило, не поставляемый в связь с
поднятой проблемой: в секулярном искусстве художественность и
литературность фактически сливаются (имею в виду словесное твор-
чество), в то время как в церковном они были едва ли не антаго-
нистами. Внутри церковного словесного художества художественны
все без исключения нелитературные и значит нехудожественные в
современном представлении жанры (летопись, житие, молитва, заве-
щание, переписка, проповедь, полемический трактат и др.). И это
единодушно признается всеми литературоведами. Настолько едино-
душно, что, как правило, не оговаривается. На самом деле такая все-
проницающая художественность церковного художества13 объясняет-
ся просто: с точки зрения церковного сознания художественно все то,
что способствует богопознанию, «путеводительствует к знанию и
откровению сокрытого»14, но, согласно христианской иконологии,
всякий материальный (в том числе и словесный) церковный образ
(характер— отпечаток, клеймо в терминологии Феодора Студита,
одного из «теоретиков» христианской теории образа) всегда восхо-
дит к своему Первообразу и возможен постольку, поскольку су-
ществует этот последний. Поэтому степень художественности зави-
сит не от формы и способа изображения (жанра, стиля), но от степени
проявленности Первообраза в образе. По-видимому, светские лите-
ратуроведы подспудно чувствуют это (душа-то человеческая по при-
роде своей — христианка, напомню давнее откровение Тертуллиану)
и не дискутируют по поводу литературности (точнее художествен-
ности) средневековых жанров.
Однако, обращаясь к более поздней культурной эпохе, когда на-
ряду с церковной словесностью начинает на равных, а потом и пре-
имущественно существовать светская литература (собственно fiction),
то есть примерно века с XVII-ro, исследователь неизменно встает
перед вопросом, принадлежит ли данное произведение к художе-
ственной литературе, или нет. Художественна ли (то есть собственно
литературна ли, может ли считаться фактом литературного процес-
са), к примеру полемика, связанная с церковной унией или с вопро-
сом о времени пресуществления Святых Даров? Художественны ли
эпистолярные памятники, историографические и публицистические
произведения, философские и естественнонаучные трактаты, пропо-
веди, наконец? Где критерий?.. А критериев становится много: с точ-
ки зрения, например, их функции — безусловно, нет; с точки зрения
содержания перечисленные жанры принадлежат к деловой и научной,
но не беллетристической литературе; с точки зрения стиля, иначе
456
К вопросу о взаимоотношении традиций...
говоря, использованных в них риторических приемов, они могут
быть отнесены к разным видам искусства красноречия, то есть если
не к собственно беллетристике, то уж к «изящной словесности» во
всяком случае и т. д.
Однако, настаивая на том, что традиция светского искусства не
наследует непосредственно традиции церковного художества, нельзя
утверждать, что они сосуществуют автономно и никак не соотносят-
ся меж собой. Они, безусловно, определенным образом взаимодей-
ствуют друг с другом и, составляя культуру одного народа, являют
собой некое нераздельное единство, но единство это нераздельно-
неслиянное.
Церковная и секулярная культуры связаны опосредованно, через
отрицание (апофатически, как сказал бы богослов), согласно извест-
ному гегелевскому закону. В качестве пояснения приведу слова из-
вестного ученого-богослова В. В. Зеньковского, относящиеся к исто-
рии культуры в целом. Исследователь, в частности, пишет: «"Свет-
ская" культура и в Западной Европе и в России есть явление распада
предшествовавшей ей церковной культуры». Зеньковский употребил
слово «распад», однако более точным, на мой взгляд, было бы здесь
именно «отрицание», поскольку, повторю, церковная культура нику-
да ведь не делась, не пропала, не распалась, но лишь перестала быть,
так сказать, преобладающей, утратила связь с идеей государствен-
ности, хотя и осталась (осознаем мы это или нет) этноопределяющей.
«Это происхождение светской культуры из религиозного корня,—
пишет далее В. В. Зеньковский, — дает себя знать в том, что в свет-
ской культуре — особенно по мере ее дифференциации — есть всегда
своя религиозная стихия, если угодно — свой (внецерковный) мисти-
цизм... Идеал, одушевляющий светскую культуру, есть, конечно, не
что иное, как христианское учение о Царстве Божием, — но уже все-
цело земном и созидаемом людьми без Бога»15.
Согласившись с этим (что, на мой взгляд, необходимо для адек-
ватного видения и воспроизведения истории отечественного литера-
турного художества, как, впрочем, и всей восточнославянской куль-
туры в целом), — итак, согласившись с тем, что средневековая цер-
ковная письменность не есть младенческая форма современной (се-
кулярной) литературы (fiction), но что она, несомненно, метафизи-
чески связана с этой последней и оказывает на нее определенное
влияние; что, с другой стороны, литература (fiction) — пусть порой
не осознаваемо для самой себя — стремится к идеалам, отраженным
именно церковной словесностью, — согласившись со всем этим, сле-
457
Л. В. Левшун
дует, по-видимому, пересмотреть наши традиционные курсы «Исто-
рии литературы» и, наконец, разграничить в них не на словах только
две традиции, издревле сосуществующие в словесном творчестве и
находящиеся в отношениях не преемственности, но скорее «отрица-
ния отрицания»...
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «В целом, — писал Д. С. Лихачев в заключении своей известнейшей и
авторитетнейшей работы «Человек в литературе Древней Руси», — разви-
тие русской литературы XI—XVII вв. было прогрессивным, литература
постепенно приближалась к литературе нового времени» (Лихачев Д. С.
Избранные работы: В 3 т. Л., «Художественная литература», 1987. Т. 3.
С. 164.)
2 Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы
Древней Руси // Там же. Т. 2. С. 21.
3 Там же. С. 144.
4 Никольский Н. К. Ближайшие задачи изучения древне-русской книжнос-
ти // Памятники древней письменности и искусства, [б. м.] 1902. T. CXLVII.
С. 2—3.
5 Там же. Здесь и далее разрядка моя — Л. Л.
6 Любопытно — в типологическом плане — что почти что теми же словами
охарактеризовал возникновение средневековой восточнославянской сло-
весности Д. С. Лихачев: «Литература возникла внезапно. Скачок в царство
литературы произошел одновременно с появлением на Руси христианства
и церкви, потребовавших письменности и церковной литературы»
(Лихачев Д. С. Великое наследие // Там же. С. 5.)
7 Так, в частности, охарактеризовал он древнерусские летописи в письме
(1828 г.) к издателю «Московского вестника», где печатался его «Борис
Годунов».
8 Лихачев Д. С. Избранные работы... Т. 3. С. 451.
9 Сразу вспоминается, что те же самые слова сказал в свое время Гете, ха-
рактеризуя творчество Стерна, который, на его взгляд впервые «открыл в
человеке человеческое».
10 Лихачев Д. С. Избранные работы... Т. 3. С. 451.
11 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Там же. С. 108.
12 Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств // СС. Paris, 1985.
Т. 1. Статьи по искусству. С. 42.
13 В связи с этим не лишним, думаю, было бы поразмышлять над этимологи-
ей самого слова «художество».
14 Иоанн Дамаскин. De imag. III. 16.
15 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1.4. 1. С. 82.
458
О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ,
НАУЧНОСТИ
И РЕЛИГИОЗНОМ МЫШЛЕНИИ
T. A. Касаткина
ИМЛИим. A. M. Горького РАН. Москва
Г
О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ, НАУЧНОСТИ
И РЕЛИГИОЗНОМ МЫШЛЕНИИ
Доклад, прочитанный на заседании отделения
Научного совета ОЛЯ РАН «Теория и методология
литературоведения и искусствознания» 21.10.1993
Как ни странно (а, может быть, вовсе и не странно), но литерату-
роведение — с того, кажется, момента, как появляется такая специ-
альность— «литературоведение», постоянно нуждается в оправда-
нии. Пока веданием литературы занимались писатели, профессора
словесности, философы, наконец, все, вроде, было в порядке, во вся-
ком случае, специально по этому поводу никому оправдываться не
приходилось. Может, правда, потому, что не с кого было спросить —
все, вроде, делом занимались. А литературовед по специальности
был сразу воспринят как профессиональный бездельник. И в этом
был свой смысл, потому что большая часть отечественных «лите-
ратуроведов» имела судьбу, сходную с судьбой большей части оте-
чественных (советских, понятно) «философов», выполняя функцию
охранительную, то есть, наблюдая за тем, чтобы никто ни литерату-
ры, ни философии не ведал, а если и увидел, то не понял.
Эта охранительная функция литературоведения и была тем фак-
тором, который сделал в высшей степени продуктивным и полезным
требование «научности» в литературоведении. «Научность», которая,
по видимости, требовала отказаться от «субъективного произвола»
* Две предлагаемые вниманию читателей статьи были опубликованы ра-
нее: первая - в сборнике работ молодых ученых «Начало. Выпуск 3» (1995),
вторая - в журнале «Новый мир» (1999, №3). Обе печатаются практически
без изменений (за исключением нескольких примечаний ко второй статье),
так как стали объектом полемики (см. статью С. Г. Бочарова «О религиозной
филологии»), на мой взгляд, очень тенденциозно интерпретирующей их
основные положения. Я хотела дать читателю возможность самому быть
судьей в возникшем споре. — 71 К.
461
T. A. Касаткина
исследователя-интерпретатора, на самом деле, по глубинному смыслу
своему, защищала этот самый субъективизм от произвола «объектив-
ной истины», используя в своих целях декларации «самого научного
в мире» мировоззрения. Но ведь нужно было помнить все время (и,
прежде всего, самим приверженцам «новой научности»), что «науч-
ность» структурализма — это защита от «научности» марксизма, и,
принимая всерьез результаты исследований, немножко не принимать
всерьез самого «научного метода». Однако ведь это чудовищно
трудная задача, особенно для последователей! Понятно, что сработал
соблазн «истинного метода», для овладевшего которым не существу-
ет больше никаких препятствий, затруднений и тайн, сработал не-
одолимый соблазн «универсальной отмычки».
Этот соблазн был понят во всей своей опасности теми, кто высту-
пил в дискуссии о научности с требованием адекватности метода
исследования предмету исследования, теми, кто еще тогда сказал, что
«научность» гуманитарных наук — это «другая» научность.
Но тогда слово «научность» было еще слишком ярко положи-
тельно маркировано, и эта сторона также не могла от него отказать-
ся, а для третьей стороны — решающей — слово «научность» было
еще настолько властным, что, по-видимому, сыграло немалую роль в
полуразрешении неугодного, вроде бы, структурализма.
И, однако, та «научность», то к ней почтение было, даже у эпиго-
нов, всегда наиболее тяжело пораженных, всего лишь «детской бо-
лезнью» по сравнению с тем тяжелейшим приступом научности, ко-
торый мы переживаем сейчас. Такое положение усугубляется еще и
тем обстоятельством, что прежде научность была агрессивна в ка-
честве защищающейся стороны, в то время как теперь она агрессивна
в качестве победительницы.
За последний год эта агрессивность, кажется, проявилась наибо-
лее ярко. На многих филологических и «культурологических» конфе-
ренциях вызывали видимое неприятие (и «невосприятие») доклады, в
которых так или иначе отражалась религиозность докладчика (а
религиозность, если она истинна, не может не сказаться в исследова-
нии, ибо религиозный человек видит мир и мыслит иначе, чем безре-
лигиозный).
Это принципиальное отторжение религиозного способа мышле-
ния о мире (отторжение, которое — хотя мы на какое-то время все об
этом забыли — необходимо присуще научному (в смысле последних
двух веков), позитивистскому мышлению) очень симптоматично и
позволяет выявить принципиальные структурные расхождения в этих
462
1. О литературоведении, научности и религиозном мышлении
двух способах мышления: стоит только посмотреть, на чем всегда
«запинается» представитель «научности», слушая доклад человека,
мыслящего религиозно.
А «запинается» он на двух моментах: на «повышенной» концепту-
альное™ и на некоторой «всеохватности» концепции, которая, даже
будучи высказана частично и по поводу частности, очевидно, пред-
полагает присутствующую за кадром целостность миросозерцания не
в смысле последовательности мышления только, но и в смысле онто-
логичности мировосприятия.
То есть религиозно мыслящий человек (более того, христиански
мыслящий) воспринимает познание скорее как постижение некото-
рой целостности, отраженной в любой своей частности (скорее —
выраженной в каждой своей части: тот случай, когда часть подобна
целому, целое же больше суммы частей и, естественно, не равно час-
ти). Это познание, ориентированное на вечность.
Безрелигиозное научное сознание воспринимает познание как (и,
прежде всего как) процесс, поскольку целостность представляется
складывающейся из своих частей, частностей, процесс познания ко-
торых бесконечен. Итак, это познание, ориентированное на бесконеч-
ность. Причем, поскольку научное познание честно, то есть не тешит
себя соображениями вроде того, что «абсолютная истина постижима,
но процесс ее постижения отодвигается в бесконечность», оно реля-
тивно, то есть признает множественность истин (то есть не задается
вопросом, составляют ли они или нет, в конце концов, Одну Истину).
А поскольку признание множественности истин воздействует на че-
ловеческий интеллект вполне определенным образом (см. статью
Блока об иронии), то эта множественность оборачивается некоторой
несерьезностью, то есть игрой в концепции, которые перебираются
«научным» сознанием, и ни одна из которых не принимается лич-
ностно — кроме, пожалуй, самой концепции «игры».
Это принятие игры как единственно желаемой реальности, это
упорство в движении по кругу, это отвращение к попыткам проник-
новения глубже определенной, четко очерченной границы особенно
ярко характеризуют «научность» мышления в сопоставлении с «ре-
лигиозностью» мышления. Если представить себе познаваемый мир в
виде круга, то религиозное мышление стремится достигнуть центра
(Бога) и из центра увидеть и обозреть всю целостность мироздания в
ее единстве. Отсюда и «повышенная концептуальность» и целост-
ность мировосприятия, которые даются даже тому, кто еще далеко не
оказался в «центре», но лишь устремился к нему. Знание, даже только
463
T. A. Касаткина
допущение, что в центре круга есть центр, придает осмысленность
любой частности, любому событию. Для мышления, захваченного
«научностью», это отвратительное явление, сродное шизофрении,
стремящейся к полному структурированию мира и введению любого
частного элемента в структуру, что придает ему значение и смысл
(при введении в произвольную структуру — как это имеет место при
действительной болезни — произвольные значение и смысл; но дело
в том, что для «научного» мышления любая структура с фиксирован-
ным центром — произвольна).
И это даже справедливо — если пытаться создать именно струк-
туру, помещая в центр ее вещи и явления внешнего круга. Однако в
религиозном мышлении речь идет не о структуре, а о целостности с
внеположенным внешнему кругу центром (т. е. точка центра качес-
твенно отличается от точек внешнего круга) — что и дает возмож-
ность быть целостности, а не структуре, которая необходимо иерар-
хична. Но для научного мышления нет разницы (во всяком случае,
она живо не ощущается) между структурой и целостностью — ибо
мир принципиально децентрирован, а вместо внеположенного внеш-
нему кругу центра — «дырка от бублика» (по замечательному выра-
жению одной из наших исследовательниц и последовательниц кон-
цепций Жака Дерриды).
Итак, научное мышление непременно и упорно настаивает на
«дырке от бублика» — ибо только она является естественной основой
для плюрализма научных концепций, для относительности мнений,
для игры смыслами и для произвольности этих смыслов.
Все это, опять-таки, в высшей степени не лишено самых серьезных
оснований.
И стремление двигаться по кругу, и (вытекающее из него) настаи-
вание на бесконечности процесса познания связаны с некоторыми
банальностями (а я убеждена, что отец банальности — или Бог, или
дьявол, причем происхождение, как правило, можно установить по
одному простому признаку: Божеские банальности анонимны
(всехние), дьявольские — авторизованы), так вот, жизненно важные
для научного сознания идеи связаны с некоторыми банальностями
типа: «Жизнь есть движение». Понятая определенным образом, эта
банальность заставляет предпочесть бесконечное верчение по кругу
попытке проникновения к его центру — ибо проникновение в центр,
«дохождение до самой сути» — это, с подобной точки зрения, оста-
новка, конец познания, конец движения, изменения (в привычном
смысле), то есть конец жизни — смерть. Потому что (и это простое
464
/. О литературоведении, научности и религиозном мышлении
различие — корень всех остальных различий) люди «научного мыш-
ления» знают только здешнюю жизнь и не знают никакой другой. Не
только не знают, но и не хотят знать — и с тоской и отвращением
воспринимают всякое упоминание-напоминание о ней— хотя бы
только в виде указаний на ее смысл — то есть на любой смысл, не
принадлежащий внешнему кругу, где (если признавать существова-
ние лишь внешнего круга) любой смысл относителен.
Научное сознание в высшей степени современно. И бесконечность
движения (по кругу), и складывание мира из отдельных кусков, и
вспыхивание неожиданных (и — случайных) смыслов, возникающее
при столкновении складываемых кусков, и нанизывание этих смыс-
лов на любую случайную нить — с полным сознанием и памятью о
том, что она — случайна, все это хорошо знакомые признаки пост-
модернизма. Но надо же помнить, что и постмодернизм бывает раз-
ный. Один — возникающий из чувства оставленности при взгляде на
разбитый на куски мир, полный тайной надежды, что при складыва-
нии этой головоломки хоть какие-то связи окажутся неслучайными,
хоть какой-то кусок картины сложится правильно, в соответствии с
иным — не реставратора — замыслом о нем. Тот, который склады-
вает в надежде, представляющейся столь многим тщетной, что сло-
женное — срастется, оживет.
И другой — перебирающий и разбрасывающий куски головолом-
ки в свободной игре, не знающий и не желающий знать ничего, кроме
этой игры и страшно боящийся того, что вдруг в его руках окажутся
части чего-то живого — вместо удобных картинок; вдруг они срас-
тутся — ведь это означает — конец игры.
При потрясающем внешнем сходстве тот и другой постмодернизм
исходят из разных интенций и приходят к разным результатам.
В страхе «научного» мышления перед «религиозным» скрыта
очень простая вещь: суть в том, что так очень быстро доходишь до
цели. А человеку, думающему о «жизни сей», свойственно хотеть ид-
ти к цели как молено дольше. Ведь для него главным является путь
(утрачивающий при этом именно качество пути — быть средством
достижения цели), а не цель. Кроме того, цель, как правило, очень
проста (в жизни — смерть, в философии — банальность: «Что поймет
наш изощренный ум на высоте всех помыслов и дум? Что? Точный
смысл народной поговорки»), а путь может быть сколь угодно слож-
ным; цель — общая, а путь можно сделать сколь угодно индивиду-
альным.
Как уже было сказано, «религиозное» мышление раздражает
465
Т. Л. Касаткина
своей «глобальностью». И раздражение это, с точки зрения «науч-
ности», вполне оправданно — оправданно уже исходя из самого спо-
соба построения мира: из фактов. Не слишком утрируя, можно ска-
зать, что самые блестящие научные теории (по крайней мере— в
филологии, но я склонна предполагать, что это гораздо более рас-
пространенное явление)— не верны, то есть, верны для очень не-
большого количества фактов, для очень узкого взгляда, узкого под-
хода. «Верные» вещи, теории, пытающиеся объяснить мир по су-
ществу, во-первых, «ненаучны», во-вторых, «банальны». Иногда это
удается скрыть — при помощи языка или имени. Часто приходится
слышать, например: «Хайдеггер сказал...» Почему Хайдеггер? Это
сказал еще апостол Павел. Но отсылка к апостолу вскрыла бы
«ненаучность» и была бы сокращением пути.
В связи со всем сказанным интересно привести запись Л. Я. Гинз-
бург от 1927 года (тогда она, безусловно, и мыслила и хотела мыс-
лить «научно»). Запись по поводу доклада В. Гофмана «Рылеев»:
«Меня страшит не то, что мы скрещиваемся то с социологией, то с
идеологией, но то, что мы стали что-то слишком умны и что-то
слишком много понимаем. Мне иногда мерещится, что именно наука
«должна быть глуповата», вернее, немного подслеповата и однобока.
Чего бы стоил Шкловский, если бы он в 1916 году все знал, все чув-
ствовал, все видел». И далее: «Обзавестись широкими горизонтами и
всеприятием не в пример легче, чем сконструировать систему плодо-
творных односторонностей».
Но сейчас в «научном» мышлении невозможны уже «плодотвор-
ные односторонности» — их творили с теплою верой в то, что имен-
но данная система объяснит, наконец, все до конца. Сейчас любая
попытка объяснения «всерьез» под подозрением. Поэтому, в сущ-
ности, «всерьез» внутри научного мышления сейчас возможна только
«история науки». А история науки страшна своей объективирующей
силой и, следовательно, безапелляционными оценками. В «истории
науки» плодотворность исчезает и остаются одни «одностороннос-
ти». Ведь автор пишет (если использовать терминологию Бубера) не
для того, чтобы о нем сказали «он» (это мания величия, и если она не
изжита, то это беда и болезнь, как любая затянувшаяся инфантиль-
ность), а для того, чтобы ему сказали «ты» — и только это продук-
тивно, только это чревато новым. Изложение, пересказ «его» только
мертвит автора, оставляя от него лишь сухую плоскую схему, кото-
рая неверна, как любая схема, но, как любая схема, может служить —
не результатом познания, но орудием его. Результат же облекает
466
1. О литературоведении, научности и религиозном мышлении
схему живой плотью, и эта-то плоть и исчезает, как правило, в пере-
сказах «его» (ведь всего не расскажешь) — а она-то и есть смысл тру-
да, а не схема. Говоря автору «ты», споря и соглашаясь, интерпрети-
руя те же факты, что и он, ему противопоставляют другую схему (ибо
у каждого истинного исследователя свой инструмент), но усваивают
всю «плоть» работы — открытые путем схемы смыслы. Видимо, не
следует интерпретировать интерпретатора. С интерпретатором нуж-
но говорить (а это предполагает общность темы) — и только тогда
он становится понимаем — не до начала разговора, а только в про-
цессе его.
Но «научности» не свойственно стремление к диалогу, как бы оно
не декларировалось ее приверженцами. Чужая концепция всегда объ-
ективируется, вне зависимости от того, что с ней происходит дальше:
отвергается она с порога, или включается в процесс игры смыслами,
или, что реже, становится авторитетной. На примере авторитетной
концепции процесс объективации заметен, может быть, лучше всего:
M. М. Бахтин, например, уже так основательно интерпретирован,
что просто не приходит в голову с ним «поговорить».
Молодых приверженцев «научности» такое положение вещей в
пределе приводит к роду скрытого (тщательно скрытого!) солипсиз-
ма. Представители более старшего поколения, не могущие смириться
в глубине души с «дыркой от бублика» в центре мироздания, произ-
водят с ней интереснейшие манипуляции.
Л. Баткин, например, на конференции «Миф и культура» (РГГУ)
со всей ответственностью и убедительностью заявил: «Я верю в сом-
нение». По сути своей, это то же самое, что со всей ответственностью
и убедительностью заявить что-нибудь вроде: «Я болен сифилисом».
Ибо о том, что сомнение — страшная и позорная болезнь, знает не
только каждый, кто когда-либо имел к ней действительное отноше-
ние, но знает и русская культура в целом — после Ф. М. Достоев-
ского и осмысливавшего его рубежа веков. Но фраза Баткина, на
самом деле, безупречна, ибо он действительно не сомневается (что и
есть болезнь), но верит в сомнение, ставя его в центр и основание
мира и тем совершая положительный акт, поскольку он ставит его на
место «дырки от бублика», оставляя, таким образом, в центре мира
все-таки некоторое нечто, а не голое ничто.
Совсем с другой стороны подходит к проблеме В. И. Гусев, убеж-
денный в наличии в центре мира абсолютной положительной вели-
чины (Бога), желающий, чтобы об этой величине помнили, но никак
ее не задействовали, «не поминали всуе» и, в каком-то смысле, помня
467
T. A. Касаткина
о том, что она есть, не слишком-то привлекали к ней внимание.
В конце концов, оба противоположно мыслящих человека приходят
к сходному желанию: оставить нечто в центре мира, задернув его
некоторым флером (у Л. Баткина флер, говоря словами исследовате-
лей Шекспира, «нарисован на картине», а В. Гусев в качестве него
использует запреты на употребление «слишком значительных» слов)
и заняться «здешней жизнью», то есть внешним кругом. (Странная и
далекая ассоциация: деревенские бабы на Руси, предаваясь плотско-
му греху, завешивали икону).
Итак, из сказанного следует, что современная «научность» и ре-
лигиозное мышление несовместимы как системы, разным образом и
на разных основаниях конструирующие и объясняющие мир. Если в
основе «научного мышления» лежит принцип собирания в бесконеч-
ности, то в основе религиозного — принцип целостности в вечности,
если научное мышление ценит превыше всего путь, то для религиоз-
ного путь ценен только постольку, поскольку это путь к истинной
цели, если для научного мышления главное — внешний круг, в преде-
лах которого оно и хочет оставаться, то для религиозного главное —
центр, к которому оно упорно хочет приблизиться.
Все это, как мне кажется, нужно было, наконец, сказать, чтобы
перестать испытывать по поводу друг друга неосознанные (не до
конца осознанные) тоску и отвращение и попытаться, зная об этой
несовместимости, нащупать хоть какую-то возможность для продук-
тивной беседы.
2
ПОСЛЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Создается впечатление, что редакция
стремится не столько понять самого Дос-
тоевского, сколько с его помощью понять
нашу жизнь в целом.
НЛО. 1997. №27
Серия «Пушкин в XX веке», так же как и родственная ей серия
«Московский пушкинист», издается Пушкинской комиссией, образо-
ванной в Институте мировой литературы Российской Академии Наук
десять лет назад и возглавляемой Валентином Семеновичем Непом-
нящим. Только лишь в составе этой серии, начавшей выходить в 1995
468
2. После литературоведения
году благодаря поддержке Правительства Москвы, изданы уже кни-
ги Марины Новиковой «Пушкинский космос» (1995), М. Ф. Мурья-
нова «Из символов и аллегорий Пушкина» (1996), Л. А. Краваль
«Рисунки Пушкина как графический дневник» (1997), «"Моцарт и
Сальери", трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология
трактовок и концепций от Белинского до наших дней», составленная
и откомментированная В. С. Непомнящим (1997). Вот-вот выйдет
«Метафизика Пушкина» А. Позова. На подходе уже пятый выпуск
«Московского пушкиниста» — ежегодного сборника, который, как и
питерское издание «Пушкин. Исследования и материалы», находится
на переднем крае отечественной пушкинистики.
Так что, оглядывая сделанное за эти годы, кажется, что комиссия
существовала «всегда», да в некотором смысле, пожалуй, так оно и
было, ведь не создалась же она в 1988 году решением институтского
начальства, а как будто — «проявилась», воплотилась, бывшая в ду-
хе — всегда, ибо всегда имя «Пушкин» — не только в тяжелые годы
сгустившейся тьмы, как предсказывал Блок,— служило паролем,
которым окликали и на который откликались, по которому узнавали
друг друга. Паролем не элитарным, не известным лишь «посвящен-
ным», но даром (даром здесь— и наречие и существительное) да-
ваемым каждому, вскормленному русской культурой, на случай, если
пожелает воспользоваться, если затоскует, томим жаждою встречи с
другом, близким, но — неведомым, пока не произнесено волшебное
слово «Пушкин». Рождение «пушкинской комиссии» — оно тогда, в
1880, на открытии памятника Пушкину, где в любви к нему соедини-
лось — тогда уже страшно, безобразно и беспощадно расколотое —
русское общество.
И уже тогда стало ясно, что Пушкин — не залог примирения, но
залог собирания, не разрешение спора, но та почва, на которой спор
можно вести небессмысленно, та почва, на которой в споре непре-
менно родится истина — но при одном условии — при наличии люб-
ви. То есть при условии отношения к Пушкину как к среде, в которой
живем, к воздуху, которым дышим, к чему-то жизненно необходи-
мому, (хотя кем-то, может быть, и незамечаемому), но не как к само-
достаточному артефакту, служащему объектом исследования, цель
которого — отстраненно познавать, но не понимать и не любить.
Это условие московской Пушкинской комиссией всегда блиста-
тельно выполнялось. Странно (хотя может быть, вовсе и не стран-
но) — именно это порой вызывало жесточайшие нарекания. Харак-
терно, что собрание профессионалов высочайшего класса (хотя со-
469
T. A. Касаткина
став заседаний комиссии всегда был в высшей степени демократичен,
и там никогда не презирались дилетанты — хорошее, как о том по-
рой вспоминают, почитаемое в пушкинскую эпоху слово, означа-
ющее «любящий высокой любовью», я бы сказала, бескорыстно лю-
бящий, без того расчета, который ведь стоит тенью за словом «про-
фессионал» — так вот, при всем демократизме, ядро комиссии может
служить образцом именно профессионального объединения)— это
собрание обвинялось ни в чем другом, как в... недостатке научности.
Степень нелепости обвинения такова— при том, что делалось оно
порой людьми весьма неглупыми, и толк в литературоведении пони-
мающими, и не заведомо злонамеренными — что, безусловно, заслу-
живает рассмотрения, заставляя предположить, что здесь заключает-
ся некое qui pro quo, некая путаница, проясняющая, тем не менее,
какое-то существенное заблуждение нашего времени.
Заблуждение это состоит, как представляется, в том, что, скрыто
или явно, под «научностью» понимается лишь, так сказать, «чистая
наука». А «чистая наука» — это наука, не выходящая и не ведущая за
свои пределы, но при этом вовсе не смиренно принимающая свою
определенность— в смысле определенность, ограниченность— но
замыкающаяся в ней гордо, с сознанием того, что все, за эти пределы
выходящее, есть не более чем «туманная неопределённость, недока-
зуемая и внимания не заслуживающая». А собственные же следствия,
находящиеся уже вне «научных» пределов, наука рассматривает как
«побочные продукты», средства для нужд «низкой жизни», опять-
таки, интереса для «настоящего ученого» не представляющие. Все это
обстоит примерно одинаково и для физики, и для литературоведения.
Разница здесь одна, но весьма существенная. Теоретическая физи-
ка — в разные годы по разному: снисходительно, с брезгливость или
с ужасом — взиравшая на свои «побочные продукты», относилась к
ним таким образом по одной простой причине: ее конечные интересы
были направлены на построение «истинной картины мира», план
мироздания — вот что привлекало, а потом и приковывало, взгляды
крупнейших теоретиков, и именно потому, что взгляд их был весьма
сосредоточен — там, он был довольно-таки рассеян — здесь, о по-
следствиях чего нам всем известно.
Смешная и грустная стороны научного бытия литературоведа —
приверженца чистой научности — состоят в том, что то, что он почи-
тает «побочным продуктом» литературоведения и от чего стыдливо
или брезгливо открещивается, оставляя, как и физик-теоретик, веде-
нию «низких» практиков, так вот, это то — и есть то самое, к чему
470
2. После литературоведения
прикован взгляд физиков-теоретиков «на высоте всех помыслов и
дум». Именно план мироздания и предоставляется снисходительно
«низким» практикам, которые тоже весьма своеобразны в литерату-
роведении ибо это — школьные учителя. И если «низкие» практики
всех остальных сфер деятельности дело имеют с теми или иными соз-
данными человеком механизмами, то практики от литературоведе-
ния — с невероятной и до сих пор теоретически неразрешимой зада-
чей— с воспитанием человека, и в этом случае план мироздания,
проблема «истинной картины мира» становится делом вовсе не от-
влеченного частного или хоть и общественного знания, но личного и
всеобщего бытия. От мировидения, миросозерцания каждого учени-
ка средней школы зависит, ну пусть не благо всего человечества, но,
скажем, ваше личное благо — в том случае, если вы с ним встрети-
лись. И не так зависит, как от атомной бомбы — то есть отрицатель-
но, но так, что самые основания вашего существования могут быть
потрясены или разрушены, или напротив, укреплены на основании
адамантовом. Иначе говоря, от миросозерцания этого бывшего уче-
ника зависит ваше счастье — если вы, например, в него влюбились.
И если с миросозерцанием этим проблемы — то это, может быть, и
похуже атомной бомбы. И тогда все зависит от вашего собственного
миросозерцания — а оно тоже, в большой степени, «продукт» вашего
взаимодействия с учителем-литературоведом, ибо все науки и в шко-
ле занимаются своей частной областью, и только литературоведе-
ние — всей областью жизни человеческой. Возможно, воздействуя на
формирование самых основ миросозерцания человека, учитель-
литературовед занимается и не совсем своим делом, но пока в школах
не введен Закон Божий, такое положение дел неизбежно, да и ранее,
при наличии Закона Божия, словесность упорно узурпировала эти
функции, весьма успешно противостоя Закону Божию. К чему это
привело, также всем известно. Все это можно объяснить и описать
как бунт секуляризованного, отпавшего слова против Слова, или
долгий и трудный путь возвращения слова к Слову, но после паде-
ния, после измены обету, это, ведь, как известно — три пары желез-
ных сапог истоптать, три железных посоха источить, три железных
хлеба изглодать.
Забавно только, что, ориентировавшаяся всегда в своем стремле-
нии к научности на «точные науки», наука о литературе перевернула
иерархию этих «научнейших наук», и, сочтя их последние цели и
устремления за свои «побочные продукты», их побочные продукты
поставила во главу угла и сделала своими главными и последними
471
T. A. Касаткина
целями. Метод, разработка методики почти до уровня «поточного
производства», уточнение факта, даже если это уточнение никак не
влияет на смысл события в целом, в «чистом литературоведении»
неизменно почитаются и ценятся (часто — превыше всего). Здесь не
могу не привести два примера, они хороши до слез, и если бы их не
было, их, право, стоило бы выдумать. Примеры эти — из рецензии
С. Жожикашвили на восемь выпусков альманаха «Достоевский и
мировая культура» и книгу «Достоевский в конце XX века», опубли-
кованной в № 27 Нового литературного обозрения за 1997 год. Среди
очень немногочисленных, но зато несомненных и весомых достиже-
ний этих изданий автор рецензии называет то, что «Б. Тихомиров на
две минуты уточняет время смерти писателя»1 (С. 357). А вот зато
самое тяжелое обвинение, самый горький упрек, который автор ре-
цензии бросает (лучше— выдвигает против) редколлеги альмана-
ха, — оно вынесено в эпиграф к этой статье. Привожу его в контекс-
те, чтобы истинные эмоциональные, ценностные и оценочные значе-
ния высказывания стали очевидны — ведь, спорю, не все догадались,
глядя на эпиграф, что это — обвинение и упрек. «Если редкие удачи
(из десяти книжек альманаха вряд ли можно составить один настоя-
щий сборник) — заслуга конкретных ученых, то неудачи — проявле-
ние общей тенденции. Создается впечатление, что редакция стремит-
ся не столько понять самого Достоевского, сколько с его помощью
понять нашу жизнь в целом» (С. 360). Перед нами — очевидный грех
«научности», ибо всякому греху присуще (как напомнил в своем ка-
техизисе архим. Александр Семенов Тян-Шанский, а вспомнил его
слова В. С. Непомнящий в послесловии к антологии о «Моцарте и
Сальери»), всякому греху присуще «подчинение высшего низшему»
(С. 863).
По видимости все более и более удаляясь от первоначального
предмета разговора, мы, наконец, приблизились к нему вплотную.
То, в чем упрекают издателей и авторов серии, можно было бы опи-
сать как не «минус-научность», то есть отсутствие свойственных нау-
ке подходов, методов, методик, невладение научным инструментари-
ем, но как «плюс-научность», то есть наличие в высшей степени на-
учных и обоснованных методов, подходов и так далее, но — при не-
пременной памяти о том, что все это лишь средство, а не цель, не
нечто самодостаточное и в своей замкнутости и завершенности со-
вершенное, но лишь путь, который не может заключать свою цель в
себе самом, но находит ее всегда вне себя, внеположной себе, в чем-
то, может быть, совсем, субстанциально другом — как цель невесты
472
2. После литературоведения
Финиста-ясна сокола ведь не в том, чтобы сапоги сносить и несъе-
добные хлебы изглодать, но в том, чтобы найти жениха. Но «чистое»
литературоведение именно в глодании хлебов и видит высочайшее и
конечное свое достижение, а насчет дальнейшего...
Надо сказать, что самое впечатляющее возражение, какое мне до-
велось услышать против выхода литературоведения «за свои преде-
лы», в область плана мироздания, было то, что «это нецеломудрен-
но». Но в том-то и дело, что в пределах любого миросозерцания, где
целомудрие будет вещью небессмысленной, оно не есть самоцель,
но — путь. Путь верности. Путь к жениху земному, временному, или
путь к Жениху Небесному, Вечному, но никак не вещь, ценная сама
по себе. Поэтому оно и прекращает существовать как ценность в
культуре, в которой ни к кому не ведет.
Однако «чистая научность» отвергает и «научность-минус» и
«научность-плюс». Парадоксальным образом— перед нами сюжет
центральной книги серии (она сейчас — даже просто по времени вы-
хода ровно посередине) — книги о «Моцарте и Сальери».
Но, прежде чем продолжить сопоставление, я просто вынуждена
изложить свое понимание пушкинской трагедии — к которому меня
привела эта долгая — в полтора века — книга раздумий и споров,
включающая, кстати, работы литературоведов всех трех категорий
«научности». Иначе рискую быть понята не просто неверно, но —
превратно.
Центральным героем антологии оказался Сальери (что отмечено
и проанализировано в послесловии составителя: С. 850 и далее). Ду-
маю, это не просто понятно или закономерно — это правильно. Это
адекватно пушкинскому замыслу. Потому что «Моцарт и Салье-
ри» — это не только трагедия Сальери (ибо Моцарт, как блистатель-
но покажет Непомнящий в послесловии составителя — не трагиче-
ский герой), это не только трагедия о Сальери, но это еще и трагедия
для Сальери, то есть она для него написана, она имеет его своим ад-
ресатом. Как и все события трагедии, и сам Моцарт — для Сальери.
Ибо именно бытие Сальери представляет собой мучительную и не-
разрешимую только его усилиями проблему, отравляющую (калам-
бур, право, ненамеренный) бытие и всех окружающих. Но если адре-
сат трагедии — Сальери, то это значит, что именно Сальери сидят в
зрительном зале.
Не следует сразу пугаться или негодовать. Западные исследовате-
ли творчества Достоевского давно сформулировали одно фундамен-
тальное свойство поэтики этого гениального ученика Пушкина: не
473
T. A. Касаткина
давать читателю никакого нравственного преимущества перед оши-
бающимися и слишком опрометчиво судящими героями. Русским
читателям и исследователям это свойство мешала заметить, во-пер-
вых, накрепко усвоенная аксиома бахтинистской (не скажу— бах-
тинской) поэтики Достоевского, утверждающая, что ошибающиеся и
слишком опрометчиво судящие герои у Достоевского отсутствуют,
ибо истинная полифония предполагает не ошибку, но «свою правду».
А во-вторых — неисключительность этого свойства, его принадлеж-
ность вовсе не только Достоевскому, а в первую очередь — Пушкину.
Потому с героями Пушкина, как и с героями Достоевского, могли
происходить трансформации, столь характерные для недавнего вре-
мени, когда в самые-самые положительные попадали как раз заблу-
дившиеся, заблудшие персонажи произведений того и другого.
И хотя Сальери сделать идеологически положительным героем было
затруднительно (все-таки Моцарта отравил, не старушонку какую-
нибудь угробил!), но сочувствие к нему проскальзывает в целом ряде
работ, а уж о понимании и говорить нечего! Понимают его так хо-
рошо (чувствуют — так и хочется сказать: как себя — не значит, что
правильно — с точки зрения авторского замысла — истолковывают),
что и Моцарта, как персонажа неясного, так называемая «новая вер-
сия», суть которой — в стремлении ввести Моцарта в конфликт тра-
гедии «на равных», найти в ней собственно «моцартовский» кон-
фликт, стремлении, отраженном еще в статье и характере театраль-
ной постановки В. Рецептера и позднее нашедшем свое формальное
выражение в идее «открытого отравления» (работы Чумакова, Беля-
ка и Виролайнен), так вот, «новая версия» стремится перетолковать
Моцарта в духе Сальери — чтобы был понятнее.
Сальери ведь прежде всего не завистник и не преступник (то
есть— не больше чем каждый из нас). Сальери— смирившийся с
тем, что он «чадо праха», рожденный землей (мы же вот все, хоть на
какое-то время, смирились с тем, что произошли от обезьяны) и по-
ставивший между собой и небом надежный щит— возлюбленное
искусство. Искусство, бывшее всегда, во всех типах религиозных
культур, путем, проводником и посредником, ставшее для него са-
моцелью (что отмечено многими авторами антологии), превращается
в заслон, а затем — ив заслонку от той печи, где младенцев-пер-
венцев приносили в жертву Молоху. Тогда-то именно и было сказа-
но: «Не сотвори себе кумира», — ибо точно было известно, что вся-
кий кумир неизбежно потребует человеческих жертв. Потому что
кумир — стена между Богом и человеком. Кумир — это когда созда-
474
2. После литературоведения
тель обожествляет создание, чтобы забыть о Создателе. Сальери —
«человек, исповедующий рукотворность мира», как скажет в статье,
помещенной в антологии, Татьяна Глушкова (С. 691). Сальери мо-
лился не Богу и не демону — автомату. Его ситуацию хорошо описа-
ла Марина Цветаева, говоря о современных ей литераторах: «Искус-
ство есть то, через что стихия держит — и одерживает: средство дер-
жания (нас — стихиями), а не самодержавие, состояние одержимости,
не содержание одержимости. Не делом же своих двух рук одержим
скульптор и не делом же своей одной — поэт! Одержимость работой
своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.
Это — о больших художниках. Но одержимость искусством есть,
ибо есть — ив безмерно-большем количестве, чем поэт — лже-поэт,
эстет, искусства, а не стихии, глотнувший, существо погибшее и для
Бога и для людей — и зря погибшее.
Демон (стихия) жертве платит. Ты мне — кровь, жизнь, совесть,
честь, я тебе — такое сознание силы (ибо сила — моя!), такую власть
надо всеми (кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках — сво-
боду, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть —
мала, всякая иная свобода — тесна
— и всякая иная тюрьма — просторна.
Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему
платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки.
Сколько я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для ино-
го труда»2.
Сальери завернулся в свой земляной кокон, концы и начала свои
оставив внутри него, и лишь смутно душа его помнит, что родился
он — Моцартом. Когда текут его детские слезы от звуков органа в
старинной церкви — они текут не от любви к искусству, как сам он
утверждает, ведь искусство он любил все неистовее, но не плакал с
тех пор — они текут от любви к Тому, к кому и должен пробуждать
любовь церковный орган. Неважно, как назвать Его, у Него много
имен, Единое прекрасное— очень подходящее имя. Слезы— знак
чаемой встречи в конце пути. С тех пор Сальери не ждал встречи, и
весь сосредоточился на самом пути, путь вообразив — встречей. Но
мы же все — кто все время, кто часто, кто время от времени — так
живем. Живем, как будто на земле— цель и смысл нашей жизни.
Живем, испытывая отвращение при мысли о смерти, но значит — и
отвращаясь от возможности встречи. И, забыв о сферах, где обрета-
ется истинный смысл наших дел, и чувствуя невозможность осмыс-
лить их в заданных нами пределах, страдая от неизбежной эфемерно-
475
T. A. Касаткина
сти всех достижений, порой «мало любим жизнь» и ощущаем ее
«несносной раной». Но об этих наших страданиях мы потом навер-
няка скажем: «Я счастлив был, я наслаждался мирно...»— когда в
нашу жизнь придет Моцарт.
А он обязательно придет — улыбкой вашего собственного малы-
ша, глазами любящей женщины, восторгом влюбленного юноши —
взглядом существа чистого и любящего вас беззаветно и безоглядно,
самоотверженно— и хотя бы этой любовью очищенного. Потому
что мистерия существования человечества повторяется во всякой
человеческой судьбе, и каждый получает себе — спасителя, и каждо-
му суждено сыграть роль спасителя в судьбе другого — иногда даже
неведомо для себя. Он смотрит на вас беспредельно любящим взгля-
дом, он напоминает о том, что всякое искусство— лишь дорога
ввысь, иногда даже не зная этого нашим знанием, но просто взлетает,
не задумываясь о том, как это у него получается, и недоумевает, гля-
дя на вас, остающихся внизу. Вроде насекомых, которым даруются
крылья на краткий миг их бытия, и они, глядя на собратьев, уже ли-
шенных крыльев, не видят разницы между собой и ими, не понимают,
отчего те не летят.
И вот под этим устремленным к вам лучистым взглядом вы пой-
мете, наконец, как были счастливы прежде, когда он не томил и не
мучил вас, выбивая почву из-под ног, лишая уверенности в достигну-
том, требуя от вас (при том что — ничего не требует) таких измене-
ний, которые потрясут все ваше существо, которые разрушат с таким
трудом сплетенный кокон, на который истощила себя ваша душа.
Вот тогда вы зарычите раненым львом и взвоете подшибленным ша-
калом. Странно, что некоторые исследователи удивляются непосле-
довательности Сальери, делают ее предметом углубленного рассмот-
рения и даже не шутя обсуждают степень его умственного рас-
стройства (то «жизнь казалась мне несносной раной», то «я счастлив
был») — все познается в сравнении.
А Моцарт... Честно говоря, меня несколько удивляют яростные
споры вокруг «новой версии». Ведь сама по себе идея (безусловно,
надуманная) о том, что Моцарт мог видеть, как Сальери бросил яд в
стакан, еще ничего не меняет и, если не отступать от пушкинской
трактовки характера и в других точках, из Моцарта Сальери не дела-
ет. Ведь вот знал же Спаситель, что Его ожидает от возлюбленного
человечества. Знал наверняка— и проверять было нечего. Но при-
шел — не чтобы испытать, но потому что любил, любил своего дру-
гого, друга в вечности, отпавшего и отвернувшегося, захотевшего
476
2. После литературоведения
самому быть как боги и без Бога, в лицо Ему, не за спиной кри-
чавшего: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше». Не на «поединок
роковой» вышедший, как Моцарт в трактовке Чумакова, но — взыс-
кующий друга.
Или представьте — вот дитя. (Непомнящий прекрасно написал об
огромной дистанции, отделяющей человека-Моцарта от его гения,
«который знает» (С. 876 и далее). Но удивительно, что жест, произ-
водимый от полноты знания и от полноты незнания — совпадает!)
Так вот — дитя. И его любимая мама (ну представьте!) говорит ему:
«Я тебя убью сейчас!» Да чего представлять, слышали не раз. Но вот
она на его глазах всыпает яд, размешивает еще — ведь ребенок за-
смеется, скажет: «Мама, я тебя люблю. Ты самая хорошая. Ты мой
лучший друг». И выпьет. И так никогда и не совместит любимую
маму с убийцей. Скажете, неправдоподобно. Каждый ребенок прихо-
дит к нам Моцартом — это знает всякая мать, глядевшая в глаза не-
давно рожденного малыша. Но уже через пару-тройку лет в этих
дивно сиявших глазах иногда— такая отравная муть, что, право,
непонятно, почему отравить тело быстро уж настолько отвратитель-
нее, чем отравлять душу — медленно.
Моцарт не знает, что Сальери его отравляет, не только потому,
что он не видел, как тот клал яд, но потому, что этого не может быть
(и это «не может быть» не совсем адекватно тому, что В. С. Не-
помнящий называет «не гармонирует», говоря о «гении и злодей-
стве»3). Как не может мать убить свое дитя — хотя едва ли найдется
ныне на земле много женщин, в той или иной форме такого убийства
не совершивших. Как не может брат убить брата — хотя первая ис-
тория человечества именно о братоубийстве4. И пока, несмотря ни на
какую очевидность, человечество не перестанет чувствовать эту не-
возможность — у него есть шанс.
Моцарт любит друга и брата Сальери, а Сальери невыносима эта
любовь. Моцарт— вестник возвращения и встречи, а Сальери не
хочет встречи. Но Моцарт пришел — к Сальери и для Сальери. Как
Господь пришел — к людям и для людей. Мы любим Моцарта и Гос-
пода. Но не надо забывать, что они пришли к Сальери и к распинав-
шим. К нам. Хорошо, что мы любим Моцарта и Господа. Себя-то
чего так уж любить.
Область «моцартианского» бытия — это область бытия в судьбе
другого — именно поэтому так загадочен Моцарт для тех исследова-
телей, которые желают уравнять двух героев, связанных в заглавии
союзом «и». Это структурно Пушкиным обозначено предельно яс-
477
T. A. Касаткина
но — Моцарт не только никогда не появляется перед нами без Са-
льери, но он никогда не появляется без зова Сальери, без его призыва
и вызова, не важно, как этот призыв оформлен: как отчаянный вопль
в пустоту: «О, Моцарт, Моцарт!» — или как вполне пристойное при-
глашение на обед. Пушкиным нам явлен Моцарт в судьбе Сальери —
и недаром Сальери судорожно вслушивается в «знаки небес», а Мо-
царт будто ничего и не слышит. Он и не слышит — он передает. Как,
впрочем, и вообще гений. Как замечательно отметил один из авторов
книги: дар гения — это всегда дар другим, для передачи другим. Ге-
ний, как и спаситель, всегда осуществляется в судьбе другого, и это
удивительным образом доказывается всеми исследователями, пы-
тавшимися «исправить перекос» в прочтении трагедии и вытащить
Моцарта в область его собственной судьбы (используя для этого его
предполагаемое знание о намерении и действиях Сальери). По мере
продвижения в эту сторону Моцарт начинал на глазах превращаться
в Сальери. Главный аргумент исследователей, желающих произвести
указанное перемещение, восстановить «равноправие» героев, тот, что
ведь в заглавии они стоят вместе и наравне. Да еще Моцарт — пер-
вый. Но кто сказал, что осуществление высочайшего предназначения
человека происходит не в области судьбы другого!
Теперь, объяснив, что Сальери для меня— всякий (как и Мо-
царт— всякий в другой судьбе, хоть однажды, хоть раз (а, может
быть, — только однажды, только раз)), перехожу к его профессио-
нальным взаимоотношениям с Моцартом и слепым скрыпачом.
Марина Новикова в работе, помещенной в книге, отметила одну
особенность произведений, упоминаемых Сальери в его инвективе
против слепого скрыпача: они стоят «на рубеже культуры и культа»
(С. 576). Но предполагаемый ею взгляд Сальери со стороны «культа»
(как она считает, изнутри средневекового, «цехового» типа культу-
ры) скорее затемняет, чем проясняет картину, хотя в отношении его к
указанным произведениям есть все именно от культа. А дело в том,
что только в «культуре» (если брать слово в том значении, каким оно
обладает в предложенной оппозиции) предмет культа становится
объектом культа. Мадонна Рафаэля приобретает то абсолютное зна-
чение, при наличии которого можно патетически восклицать: «Мне
не смешно, когда маляр негодный...» — лишь в «культуре». В преде-
лах «культа», где предмет «культа» — путь, проводник, «окошко» к
прообразу, его эстетическое качество имеет большое, но отнюдь не
абсолютное значение. Мадонна, сработанная Рафаэлем ли, «негод-
ным ли маляром», равно может выполнять функцию окошка (ну,
478
2. После литературоведения
конечно, окошка более светлого или совсем мутного — но здесь раз-
ница количественная, а не качественная), если... вообще может ее
выполнять. В ситуации, когда произведение «маляра» и Рафаэля ка-
чественно противопоставлены, обожествляется уже не Мадонна, а
«Мадона Рафаэля», образ застилает первообраз, то, что мыслилось
путем, объявляется целью и вершиной, и сотворенный кумир засло-
няет небеса и правду небес.
И для того, для кого путь становится целью, не важно, с какой сто-
роны другой — ученый, художник, поэт — выходит за его пределы: со
стороны «минус», или со стороны «плюс». И те и другие равно вызы-
вают отвращение, поскольку нарушают замкнутость, и значит — эсте-
тическую завершенность творения, «волнуют» и «мучат» сердца, вместо
того, чтобы их услаждать (хотя бы даже и нравоучением).
Для Моцарта — слепой скрыпач — его собственное отражение, и,
в конце концов, «брат родной по музе, по судьбам». Как замечатель-
но пишет Непомнящий: «Он такой же Скрыпач: тот играет (по слу-
ху — ведь слепой) божественную музыку Моцарта, а Моцарт игра-
ет — тоже по слуху — Божественную гармонию. И наверняка (ведь
гений) слышит, чувствует, что в чем-то ее искажает: не потому ли
хохочет — видя в слепом старике собрата, а не нахала, профанирую-
щего музыку. Ведь, в конце концов, весь этот падший мир есть про-
фанация того, что замыслил о нас Бог» (С. 856—857). О том же, но
словами, даже еще более подходящими к тому, о чем непосредствен-
но идет здесь речь, скажет А. А. Белый: «Может быть, Моцарт в ста-
рике увидел... себя? Ведь старик играет по-своему хорошо, но и как-
то искажая произведение в присутствии его автора, его создателя.
Может быть, он, Моцарт, также несовершенен перед лицом Создате-
ля, также искажает его творение, как старик — творение Моцарта?
Увидев себя в старике, он увидел и как смешна претензия человека на
гениальность с точки зрения "горнего мира"» (С. 746).
Для Сальери — враги оба, ибо оба лишают абсолютной ценности
то, что для Сальери— ценность абсолютная, потрясая тем самые
основы его бытия. Но если от одного можно отделаться презрением и
негодованием, то удел другого внушать — отвращение, в том смысле,
в каком Достоевский, описывая свои последние минуты перед
казнью, говоря о том, что в луче, играющем на куполе колокольни,
виделся ему прообраз его новой природы, с неожиданным напором
признается в сильнейшем отвращении своем от этой новой природы.
Отвращение — это ведь, когда хочется — отвернуться. И не смотреть
в ту сторону, и быть уверенным, что там — ничего нет.
479
71 A. Касаткина
Сальери говорит чистую правду, когда плачет при звуках Реквие-
ма, что «эти слезы» он льет впервые. Слезы, о которых он вспомина-
ет в начале трагедии — слезы встречи. Слезы, которые он проливает
в финале — слезы прощания. Ибо окончательно отсечен страдавший
член, уходит спаситель и посланник, и небеса, наконец, закроются.
И придет сомнение — вечный спутник человека под закрытыми небе-
сами, где правда уже никогда не чувствуется (а всякие попытки ее
почувствовать объявляются ненаучными и «ортодоксальными») и
требуется доказательство в виде факта и прецедента. Когда творение
разнимают как труп и собирают как механизм, отбрасывая лишние
детали. И на том основании, что души в мертвом теле никогда обна-
ружено не было, объявляют ее несуществующей. Но гложущее сом-
нение все равно превращает жизнь в несносную рану. Хотя, конечно,
это почти счастье — по сравнению с присутствием Моцарта.
«Чистая наука» требует факта и бесстрастности исследователя к
этому факту. «Ну вот, — сетует Непомнящий в послесловии к кни-
ге, — какое-то время держался худо-бедно на сравнительно научном
уровне разговора и— пожалуйста— съехал-таки опять в "полное
возмущение" (как откомментировали мои когдатошние возражения
авторы статьи), рискуя в качестве реакции снискать величественный
отворот головы или, напротив, тонкую улыбку: ну зачем так уж вол-
новаться? Виноват сам: не выдержал тона, нарушил конвенцию. Чем
ученее словарь, чем бесстрастнее и холоднее подача, солиднее и без-
личнее стиль изложения, тем серьезнее отнесутся к твоим умствова-
ниям (а бывает — нагорожено такого, что, как говорится, сто умни-
ков не распутают). Все понимаю, но поделать с собой ничего не могу.
Волнуюсь» (С. 894).
Но вот что писал по поводу современного состояния науки один
из крупнейших филологов, философов культуры, блестящий музыко-
вед, искусствовед, германист (всем известно — самая «научная» нау-
ка — в Германии) А. В. Михайлов: «Исследователь в XIX веке и в
конце ХХ-го находится в разных экзистенциальных положениях.
В XIX веке европейский опыт подсказывал веру в прогресс. Исследо-
ватель в XIX веке находится в более идиллическом положении. Нау-
ка в XIX веке — "наука в себе". Кажется, вот-вот она предстанет в
законченном виде... Сейчас ясно, что неизвестного становится все
больше и больше по мере накопления фактов. Это наша ситуация.
У нас нет никакой надежды, занимаясь какой-либо наукой, создать
что-либо устойчивое, замкнутое в себе...
Отсюда следуют, по крайней мере, три вывода:
480
2. После литературоведения
1) знание больше и незнание больше;
2) историчность любого понятия, с которым мы будем иметь дело;
3) экзистенциальность всего, о чем мы думаем и пишем.
Последнее предполагает следующее. Все, чем мы занимаемся, как
бы далеко оно ни было, как бы ни было это отвлеченно и абстракт-
но, — все связано с нашей позицией во времени и пространстве. Все
наши понятия располагаются в окружении этой точки и нигде более
и связаны с этой точкой, зависят от нее. Любая тема, какой бы отда-
ленной она ни была, связана с этой точкой. Это проявляется в нашем
волнении по поводу данной темы. Исследователь, не испытывающий
волнения, создает науку, лишая ее экзистенциального измерения,
лишая ее человеческих качеств. Если мы забудем эти три положения,
они не забудут нас...»5
Здесь не извне — от предпосланных пути целей, но изнутри себя
наука начинает ощущать себя не самодостаточной и не самодо-
влеющей, перестает чувствовать себя «завершенной» или «близкой к
завершению», начинает ощущать свою протяженность. Она начинает
ощущать свое качество пути, и это лучше — ибо ближе к истине —
чем то состояние, когда она считала себя целью, даже если это пока
еще путь, не осознающий своих, внеположных ему, целей.
И как только наука почувствовала, что она — путь (даже со всеми
оговорками), главным удостоверением своей истинности она осозна-
ла — волнение.
Как хорошо, что многие авторы книги о «Моцарте и Сальери», да
и других литературоведческих трудов — волнуются. Ведь после ли-
тературоведения, как и после физики — будет жизнь. Или — уже не
будет.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Я совсем не склонна преуменьшать возможного значения этого факта по
его следствиям для судьбы писателя (которые, впрочем, пока, по крайней
мере, не известны). Но эти-то следствия как раз меньше всего занимают
рецензента.
2 Марина Цветаева. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. Проза. Письма.
С. 400—401.
3 Валентин Семенович Непомнящий, прочитав работу, сказал, что действи-
тельно, слово «не гармонируют» он употребил именно и только потому,
что в тот момент думал о музыке, и что если бы ему пришло на ум иное
сравнение, пришлось бы употребить иное слово, отражающее нарушение
16 - 1379
481
T. A. Касаткина
главного принципа существования именно этой сферы. Таким образом, речь
идет о невозможности чего-то, как покушающегося на самые основы су-
ществования, посягающего на корни бытия, невозможности чего-то, объ-
ясняющейся просто тем, что при наличии этого чего-то не будет самой
вещи, о которой идет речь, — как при наличии «негармонии» не будет му-
зыки.
4 Видимо, что-то подобное имеет в виду Освальд Шпенглер, противопо-
ставляя «мир фактов и мир истин». Только вряд ли они так безнадежно
разъединены, как это представляется Шпенглеру: «Ни одна вера никогда
не могла изменить мир, и ни один факт никогда не мог опровергнуть веру.
Не существует моста между устремленностью времени и вневременно веч-
ным, между ходом истории и пребыванием божественного миропорядка, в
структуре которого «провидение» есть слово для предельного случая кау-
зальности. Вот последний смысл того мгновения, когда Пилат и Иисус
стояли друг против друга. В одном — историческом — мире Римлянин по-
слал Галилеянина на крест: такова была его судьба. В другом мире Рим
подпал проклятию и крест стал залогом искупления: такова «Божья во-
ля»». Цит. по: Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
С. 36.
5 Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 246—247.
482
С. Г. Бочаров
И МЛ И им. А. М. Горького РАН. Москва
О РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОЛОГИИ*
1
Определение «религиозная филология» сформулировано в статье
А. Н. Хода, находящейся в печати и представляющей собой также
отклик на книгу Т. А. Касаткиной «Характерология Достоевского».
Определение удачно тем, что религиозная филология как явление
наших дней рифмуется с религиозной философией, явлением начала
века. Была у нас религиозная философия, пришло время религиозной
филологии. Создатели русской религиозной философии были озабо-
чены обоснованием своего пути: как возможна религиозная филосо-
фия, соединяющая проблемность и критичность философской мысли
с догматичностью мысли религиозной?1 Пионеры религиозной фило-
логии наших дней только еще приступают к такой работе самообос-
нования; начала ее уверенно намечены в двух программных статьях
Т. А. Касаткиной2, в которых прежде всего констатируется несовме-
стимость религиозной и научной картин мира как в целом, так и,
следовательно, соответствующих пониманий художественной карти-
ны мира. Религиозный человек иначе читает литературу и религиоз-
ный филолог иначе ее рассматривает и исследует. На свою религиоз-
ную позицию личную филолог ссылается как на теоретический аргу-
мент, в конечном счете решающий; она возводится в концептуальное
отличие, а если прямо сказать— в концептуальное превосходство.
Согласимся, что это новое слово в литературной теории, учрежда-
ющее новую общность филологов-посвященных на демонстративно
ненаучном основании (надо признаться, подобное теоретическое
афиширование мировоззренческого превосходства вызывает извест-
ную неловкость, и вспоминается, может быть, не идущее к делу, но
вспоминается— экспромт покойного Никиты Ильича Толстого,
* Опубликовано: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
16*
483
С. Г. Бочаров
который выпалил как-то за столом одному из присутствующих: «У
кого крест снаружи, тот всех хуже»). Свое обращение к «изумитель-
ному стихотворению» Блока «Девушка пела в церковном хоре...»
В. Непомнящий предваряет словами: «Атеист и верующий прочтут
стихотворение по-разному»3. Что несомненно, имея в виду лиричес-
ко-литургический сюжет стихотворения, но посмотрим, как «по-раз-
ному» можно читать его.
В изумительном стихотворении обнаружено слабое место — по-
нятно, какое. «...И только высоко, у Царских Врат,/ Причастный
Тайнам, плакал ребенок / О том, что никто не придет назад». Пони-
мание этой печальной концовки, в самом деле, зависит от знакомства
с порядком православной литургии и знания о мистическом смысле
таинства Евхаристии; для незнакомого и незнающего эти строки за-
шифрованы. Знающий понимает, что происходит; а происходит то, к
чему возможен реальный комментарий с переводом с сакрального на
простой язык: ребенок плачет, когда его подносят к Причастию, что
часто бывает, но ведь это обычное здесь представлено на слух поэта,
который слышит необычное. Но поэт сначала слышит девушку, как
она пела в церковном хоре, «И всем казалось, что радость будет» —
происходит великая ектения (прошение), лирический сюжет воспро-
изводит последование литургического действа; и плач ребенка в мо-
мент Причастия— это девушке ответ. Ребенок знает, чего уже не
знает девушка, — что никто не придет назад. Тяжкий срыв в итоге
стихотворения, впрочем, как-то смягченный всем его пережитым уже
нами строем, неснимаемым отчего-то и безнадежным итогом и, не-
смотря на итог, остающимся с нами. Тем не менее в итоге стихотво-
рения— срыв и вызов, и ортодоксальная критика стихотворения
обоснованна и понятна. Но художественная критика и оценка, если
она при этом не хочет себя отделять от критики ортодоксальной?
Если хочет целостно оценить, не отделяя очарования этих стихов от
того их противохристианского заострения, что составляет их смысл в
итоге?
Надо признать, что это очень трудный вопрос художественной
критики, в каждом случае, очевидно, нуждающийся в своем решении.
В этом случае В. Непомнящий так решает его: он хочет исправить
стихотворение. Чтобы спасти его, другого выхода критик не видит.
«Самое замечательное» — это уже мы цитируем критика, — что он
может представить стихотворение без злосчастного рокового места:
«Самое замечательное — к этому я, собственно, и веду — это то, что
вводного оборота "Причастный Тайнам" могло и не быть. По-
484
О религиозной филологии
пробовав представить это себе, мы увидим, как возрастает степень
нашей свободы в понимании прекрасных стихов, каким объемным,
живым и трепетным становится их смысл без жесткой идеологи-
ческой "маркировки" этого детского плача!»
В самом деле — мало ли от чего дитя надрывается. Критик хочет
отделить этот бытовой факт от его принудительно-идеологического
(противохристианского) истолкования в стихотворной строке, а для
того исправить строку. Но можно ли их в стихотворной строке раз-
делить? Никакого бытового факта в стихотворной строке, конечно,
нет, и от «вводного оборота» его здесь не отделить. Есть плач ребен-
ка вместе с его откровением-смыслом — как поэтический факт.
Критик даже так формулирует: поэт «наносит читающему удар
ниже пояса, чтобы он не смел своевольничать в понимании смысла».
В остальном же стихотворение изумительное. В чем остальном, если
здесь его кульминация, несомненно центральное место, с которым уж
в целом стихотворение принимать или нет. Во всяком случае пред-
ставить себе («Попробовав представить это себе...») его так исправ-
ленным — и как бы то ни было вообще исправленным — невозмож-
но. Но ведь вот, оказывается, такому чуткому критику это возмож-
но — и приходится на него же, по логике бумеранга, обратить его же
тяжелую артиллерию и его грубоватый язык: это критик следит за
поэтом, чтобы он не смел своевольничать в понимании смысла.
Почти за тридцать лет другой очень чуткий тоже критик задер-
живался на этом стихотворении Блока как на специальном примере к
теме «Поэзия и религия». «Поэзию от религии хоть и возможно отде-
лить, но лишь с трудом, и не на самой глубине» — писал Владимир
Вейдле4. Он приводил письмо Блока 5 августа 1905 г. из Шахматова
Е. П. Иванову, глубоко верующему его другу; Блок в этом письме
ему посылал стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...» и
здесь же писал: «Скажу приблизительно: я дальше, чем когда-
нибудь, от религии...»5 Вейдле это письмо приводил, и ему надо
было что-то решить со. стихотворением Блока в связи с письмом и с
поставленной темой о поэзии и религии. И Вейдле решал: «Прочитав
эти стихи, мы только одно можем сказать: поэзия его ближе к рели-
гии, чем его воля и рассудок». Так он решал о стихотворении в це-
лом, принимал его в целом, нисколько не отворачиваясь от безна-
дежности на его конце. «Стоит он <поэт> теперь вместе с нами за
обедней, слушает пение, возносящееся с клироса, уверениям веры не
верит, а все же "из мрака" обращает лицо к алтарю, оттого и печаль
его стихов остается проникнутой чем-то ликующим и светлым».
485
С. Г. Бочаров
Владимир Вейдле судил о стихотворении Блока как художествен-
ный критик и как верующий человек одновременно и вместе, но не
как религиозный филолог. Мысль об исправлении (пусть только
мысленном, «представленном себе») текста поэзии не могла придти
ему в голову. Между тем она логична— скажем так— с позиции
религиозного филолога, который может принять прекрасное, но не
вполне правильное стихотворение, лишь подвергнув его благочести-
вому исправлению. Скажем, опять же пользуясь логикой бумеран-
га,— идеологическому исправлению. Смешно, когда в полемике
предъявляют друг другу этот эпитет, этот ярлык, отводя его от себя,
как кричат «держи вора!» Но все же более странно критику вменять
поэту идеологическое вмешательство в собственный поэтический
текст там, где критика он не устраивает, и все же подобная неприят-
ная операция и самое это понятие по характеру ремесла подходит
более критику, поправляющему поэта. Если то, что Блок говорил в
письме приблизительно, выразилось в стихотворении, посланном в
том же письме, то выразилось как именно мысль «приблизительная»,
настроение, перешедшее в мысль лирическую и, во всяком случае, для
изумительного стихотворения органическую. Слова об «идеологичес-
ком напоре» поэта на самого себя как-то здесь неправдоподобны —
зато что касается представленного нам благочестивого проекта пере-
толкования, то здесь, по неслучайной той же логике бумеранга, они
уместны вполне. Держи вора!
Блок в конце, вспоминает Вейдле, многое у себя разлюбив, это
стихотворение «до конца не разлюбил» и в послеоктябрьские уже
годы им часто заканчивал выступления на вечерах, «так что слуша-
тели знали: прочтет его, значит больше читать стихов не будет».
Проблема религиозной филологии упирается в общий большой
вопрос, заключающийся в понимании и оценке статуса секуляризо-
ванного искусства нового времени, которое, «освободившись от куль-
та, пошло своим путем, получило возможность и осознать свои гра-
ницы, и ощутить свою глубину»6. Нынешняя религиозная филология
с очевидностью ориентируется на идеал искусства в составе культа (о
чем, например, говорят упоминавшиеся в статье о книге Т. А. Ка-
саткиной ее оценки западноевропейской живописи после иконы).
В старой нашей религиозной философии было об этом такое сужде-
ние: «Восстановление прежнего положения для искусства потому не
может явиться желанным для современности, что отношения между
религией и искусством, потребностями культа и внутренними стрем-
лениями творчества тогда имели все-таки несвободный характер,
486
О религиозной филологии
хотя это и не сознавалось. Искусство, посвящая себя религии, сдела-
лось ее ancilla, играя служебную роль, а отношение к нему было ути-
литарное, хотя и в самом высшем смысле». Статус же искусства как
такового, свободного и даже «самодержавного», С. Н. Булгаков опре-
делил своей классической формулой, отлившейся в императивную
форму: «Оно должно быть свободно и от религии (конечно, это не
значит — от Бога), и от этики (хотя и не от Добра)»7.
Стихотворение Блока свободно от религии (как и писал поэт
Е. П. Иванову), но разве свободно оно от Бога? Ни единым словом
своим не свободно — перечитаем с начала и до конца. Но, похоже, в
такие тонкие различения религиозная филология вдаваться не хочет.
Она исповедует то, что С. Н. Булгаков называл «гетерономией це-
лей», какая «противоречит природе искусства»8, так что пушкинское
«цель поэзии— поэзия», вероятно, может быть принято ею очень
условно, наверное, с оговоркой или также быть подвергнуто исправ-
лению (перетолкованию). Гетерономия целей при этом скрыта в бла-
гом представлении о как бы предустановленной гармонии целей:
«Русскому поэту, впитавшему христианскую генетику, "бороться" с
христианством чисто художественными средствами не под си-
лу— не позволяет собственный художественный гений»9. Однако
разве стихотворение Блока всего лишь один колеблющий эту рито-
рику досадный пример? «Дар напрасный...» пушкинский не раз огор-
чал В. Непомнящего, да и другое у Пушкина — «Поэт», «В степи
мирской...» А уж у более поздних поэтов: «Мужайся, сердце, до кон-
ца: / И нет в творении Творца, / И смысла нет в мольбе». И рядом с
Блоком — стихотворение о том, как «уплывала Вербная неделя».
Уплывала в дымах благовонных,
В замираньи звонов похоронных,
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытых в черной яме.
О том же ведь — что «никто не придет назад». Что, не «чисто ху-
дожественными средствами» это так сильно сказано?
2
Но и прямо гетерономия целей заявлена главной мыслью прог-
раммных статей Т. А. Касаткиной о том, что искусство — «лишь
средство, а не цель», «лишь путь», «проводник и посредник»,
«лишь дорога ввысь» — с неизменным акцентом на это «лишь»10. Вы-
487
С. Г. Бочаров
разительное словечко — а в нем центральная мысль объявленного в
статье Т. А. Касаткиной «послелитературоведения» (выразительное
тоже самоназвание, образованное по образцу такого понятия, как
«метафизика») и его отношение к своему предмету. Искусство, лите-
ратура — это «лишь», то, что надо преодолеть, как сказал бы Ницше.
И оно преодолевается, а как преодолевается — о том пример поясня-
ющий: ведь цель невесты Финиста — ясна сокола вовсе не в том, что-
бы три пары железных сапог сносить, а чтобы найти жениха (пред-
полагается повышение этого слова, которое и происходит в ближай-
ших строках статьи). Путь по миру искусства тем самым надо быст-
рее пройти, не задерживаясь и тем более не погружаясь в него. Соот-
ветственно и цель филолога трансцендируется, простирается за лите-
ратуру — дальше и выше.
Так «во всех типах религиозных культур» — уточняет автор. По-
слелитературоведение тем самым мыслит себя чем-то вроде «нового
средневековья» в современной эстетике. И, очевидно, вопреки мне-
нию С. Н. Булгакова, «восстановление прежнего положения для ис-
кусства» признается желательным. Однако судит автор при этом о
новом искусстве в свободном его состоянии, которому принадлежат
и Пушкин, и Достоевский — опоры нынешнего православного лите-
ратуроведения. Но поэтому их приходится поправлять — и вообще
решимость филолога не только исследовать и даже не только оцени-
вать, но поправлять великого писателя есть совершенно новая в на-
шей филологической практике храбрость, о которой можно и в са-
мом деле сказать, что, отменяя умершую советскую идеологию и ей
противостоя, новая литературоведческая идеология сохраняет из-
вестную ее функцию, руководящую и направляющую роль (замеча-
ние А. Н. Хоца). Нам случалось уже писать о том, как В. Непом-
нящий сетовал Пушкину на незнание правильного языка и свысока
его поправлял, когда тот обмолвился о «божественном красноречии»
и «вечно новой прелести» Евангелия. И Достоевским-художником в
его способе выражения, случается, надо руководить, «...думаешь-
думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, — и вот все такого, как ты,
воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького,
что вдруг придет да и скажет: "Вы не виновны, Настасья Филиппов-
на, а я вас обожаю!"». Комментарий исследователя: «Опасная в дан-
ном контексте оговорка! Утверждение невиновности во грехе и обо-
жение — это стезя Клеопатры. Но, кажется, истинный смысл, столь
неумело выраженный, в другом— в жажде восстановления боже-
ственного достоинства, присущего человеку»11.
488
О религиозной филологии
В статье о пушкинской цитате в романе «Идиот», как и в книге
Т. А. Касаткиной, кое-что остро замечено, и мы торопимся это при-
знать (как и об этом именно романе Достоевского в других работах
автора). Но останавливаемся на цитированном попутном замечании
в скобках как несомненно методологическом замечании, выдающем
нечто из общих целей автора, лежащих, как и теоретически утверж-
дает автор, вне исследуемого текста. Следствие — неслышание текс-
та, проверяемого на правильность. Кому предъявлена духовно-сти-
листическая претензия — герою или автору? Если герою, и это он
(она) не умеет правильно выразиться, то, значит, это Настасье Фи-
липповне надо вменить целые две принципиальные религиозно-фи-
лософские ошибки в ее всего нескольких столь простых и душевных
словах, какие, конечно, автор здесь для нее нашел. Но поэтому все же
вменяется автору, Достоевскому. «Столь неумело выраженный» —
это ему, а «истинный смысл», умело выраженный, — металитерату-
роведу. Но сравним чудесные слова в романе и голую риторику ком-
ментатора как, вероятно, их правильный перевод. Так вот, симптом
методологический— если это методологический случай, а он, оче-
видно, таков — симптом методологический есть неслышание чудес-
ности этих слов, сама потребность вменить, поправить, выполнить
по отношению к любимому писателю руководящую роль.
Это попутное замечание в скобках в рассматриваемой работе на
самом деле — концептуальное замечание, поскольку слова Настасьи
Филипповны, которые кажутся нам чудесными, а автору замечания
опасными, находятся в самом центре исследовательского внимания
как средоточие заблуждения обоих героев— и, соответственно, в
центре нового понимания романа Достоевского вопреки привычному
«гуманному» пониманию. Христианское понимание вопреки «гуман-
ному». Новое понимание чрезвычайно сурово к обоим героям за то,
что путь покаяния и прощения они подменили путем оправдания
грешницы, ее «реабилитации». Такова основная мысль ортодоксаль-
ного идиотоведения в ряде работ последнего времени. «Реабилити-
ровать»— слово из черновиков к «Идиоту», «то есть— оправды-
вать», комментирует исследовательница12. Но комментарий ошибо-
чен, поскольку пользуется — что в очередной раз характерно — су-
женным, усеченным актуальным истолкованием термина, как он зна-
ком нам по политической современности. Достоевский творил в дру-
гом языке, у него это слово — духовный термин, правда, пришедший
к нему из французского христианского социализма времен его моло-
дости. Смысл его еще в 1849 году был проговорен П. В. Анненковым
489
С. Г. Бочаров
в статье о ранних произведениях Достоевского: «попытка восста-
новления (rehabilitation) человеческой природы»13. Асам Достоев-
ский в 1862 г. в широко известных словах объявил «восстановление
погибшего человека» главной мыслью всего искусства своего столе-
тия, «мыслью христианской и высоконравственной». Несомненно, в
том же значении термин используется в черновиках к «Идиоту»: «Он
восстановляет Настасью Филипповну», «rehabilitation Настасьи Фи-
липповны»14. Не оправдание, а восстановление погибшего челове-
ка — и слово это в устах самого Достоевского, а не только его за-
блуждающегося духовно, допустим, героя. Собственно, то же, что и
исследовательница от себя формулирует как «истинный смысл». Но
неуклонно ведет свою линию суда над героем за оправдание грешни-
цы (в интересах чего неслучайно и термин «реабилитация» у Досто-
евского понимая концептуально-ошибочно). В конце концов неслу-
чайно тоже, можно сказать, логично интерпретация находит в тексте
для себя опорные слова Евгения Павловича Радомского: «Как вы
думаете: во храме прощена была женщина, такая же женщина, но
ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких
почестей и уважения?» («Идиот», часть четвертая, IX).
«Дело в том, что в данном вопросе Евгений Павлович абсолютно
прав...» — заключает другая исследовательница в другой работе, но
исполненной в той же линии мысли, можно сказать, договаривающей
интерпретацию15. В материалах к роману это лицо характеризовано
как «скептик и неверующий»16, в самой же сцене романа, где произ-
носится это суждение, Евгений Павлович «разумно и ясно» и «с чрез-
вычайною даже психологией» подвергает беспощадному анализу всю
историю отношений героя и героини. Комментарий рассказчика к
этой речи очевидно имеет здесь характер иронически-отчуждаюший;
по всем пунктам характеристики это чуждый автору персонаж, уму
которого автор отдает при этом должное и доверяет местами даже
некоторые свои мысли. Но эта сентенция о евангельской грешнице
представляет собой в смысловом балансе романа, наверное, некий
обратный полюс не только несчастному герою, но и автору вместе с
ним. В самом деле персонаж-резонер «абсолютно прав», но прав от-
влеченно, холодно, прав той правдой, о которой слова Аглаи —
«одна правда, стало быть — несправедливо», худшей для Достоев-
ского правдой.
И вот парадокс религиозной интерпретации романа Достоевского
в последней названной статье заключается в том, что оценка главной
ситуации романа производится с точки зрения Евгения Павловича
490
О религиозной филологии
Радомского, «скептика и неверующего». Парадокс, имеющий свою
логику, иллюстрацией которой и служит «абсолютно правильное»
изложение душевно-духовно чуждым автору персонажем евангель-
ской истории, изложение, почти демонстративно в составе романа
противостоящее всей его живой горячей действительности. Бедный
князь признает, что его собеседник все правильно говорит; «но тут
было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете: я смотрел
на ее лиц о!» Интерпретаторы это, кажется, пропустили тоже. «Ди-
алектика» и «жизнь» — основное у Достоевского размежевание; ду-
ховные прокуроры нынешней религиозной интерпретации, опираю-
щиеся на суждение в духе фарисейского христианства как на «по-
следнее слово в романе» (суждение, представляющее здесь, в тексте
романа, характерно Достоевскую смысловую провокацию автора:
«соблазн для фарисейских ушей», какого столько у Достоевско-
го17),— кажется, на стороне «диалектики» в том самом смысле, в
каком это слово произносил Достоевский.
3
Работы двух авторов, о которых идет у нас речь, — талантливые
и сильные; оттого и заслуживают внимания как порождающая среда
нарастающих на глазах тенденций. Статью В. Непомнящего отличает
крупный взгляд на самый «феномен Пушкина» в контексте не только
и не столько литературном— в контексте отечественной истории.
Изложение этого взгляда перемежается с показательными, методоло-
гическими, как любит сам автор их называть, разборами текстов; как
методологические именно они и интересуют нас в настоящих замет-
ках. В статье таких центральных разборов два: Блок — второй, а
первый, с которого все начинается, — «Стихи, сочиненные ночью во
время бессонницы». Методология же одна — исправить Пушкина и
Блока и привести в соответствие с философским сознанием истол-
кователя. Блок претерпевает это открыто, пушкинское стихотворе-
ние— скрыто. Оно прочитано так, что скепсис последней строки,
вероятно, и побудивший Жуковского к его редакторскому — и гени-
альному в этом случае (не везде редактура Жуковским Пушкина та-
кова) — творчеству в пушкинском тексте, — этот скепсис последней
строки («Смысла я в тебе ищу»)— снимается. Объясняется, что
«Жизни мышья беготня», лежащая, «как свинец», в центре текста
(как его «черная дыра») — это не слитное выражение, троп, символ
жизни как таковой, всей жизни, а лишь образ низшего жизненного
491
С. Г. Бочаров
пласта, самодовлеющей «горизонтали», низшей, презренной лишь
«части» ее. Этим «ошметкам бытия» и задается вопрос о «смысле»,
какого у них и не может быть, отсюда скепсис последней строки
оправдан. По этому случаю вспоминается даже Понтий Пилат, за-
давший тоже свой вопрос об истине «некорректно» и «не туда» — по
неведению. Пушкин, напротив, по ведению настоящего смысла, ка-
кого в низшей реальности жизни нельзя обрести, если же можно,
«тогда следует немедленно повеситься». Пушкинские стихи — экспе-
римент в будущем достоевском духе — как ответ Достоевского отно-
сительно «истины вне Христа». Жуковский не понял замысел Пуш-
кина и «обессмыслил» его своей гениальной поправкой18 — то есть
он освятил презренную жизнь, даровав ей смысл и язык («Темный
твой язык учу»). Все это интересно сказано, но, читая, не оставляет
чувство, что это придумано — интересно придумано. И зачем приду-
мано — догадаться не трудно.
Исправляя строку, Жуковский решил, что Пушкин «снова тянет
ту же песню», что и недавно— «Дар напрасный, дар случайный,/
Жизнь...» Но Пушкин уже разобрался в уровнях жизни и уже не мо-
жет себе позволить спутать «жизни мышью беготню» и жизнь как
таковую. Все, что можно сказать на эту интерпретацию,— что ее
нельзя подтвердить на тексте стихотворения. Это один из примеров
интерпретации, порождающей собственный смысл, затем обратным
ходом приписанный тексту. Можно назвать это интерпретацией по
внутреннему убеждению (а все мы знаем от Гоголя, «что значит
внутреннее убеждение»). Как подтвердить на тексте пьесы, что поэт в
глухой и мрачный час бессонной ночи не к той же жизни взывает, что
и двумя годами прежде в мрачном тоже стихотворении? Надо слиш-
ком для этого оторваться от настроения текста. «От меня чего ты
хочешь?/ Ты зовешь или пророчишь?» Так, с такой последней се-
рьезностью, не обращаются к «ошметкам бытия». И ведь два заклю-
чительные стиха суть повисший вопрос, а не заключение об от-
сутствии смысла (в такой жизни, по Непомнящему). Эти два стиха
тавтологичны: «Смысла я в тебе ищу...» повторяет и раскрывает «Я
понять тебя хочу». Я хочу понять эту жизнь, а не ее отвергнуть (по
Непомнящему). Скепсис последней строки обоснованно мог Жуков-
скому показаться опасным — и Жуковский ответил Пушкину, поэт
ответил поэту, да так, что чужая строка прекрасно легла в заверше-
ние пьесы, завершив ее по-иному, но так гармонично и глубоко, что
поколения читателей сжились со стихотворением как с подлинным
пушкинским и не хотели слышать потом о новооткрытой в советской
492
О религиозной филологии
уже текстологии настоящей последней строке (помню, как не мог
примириться с ней такой тонкий ценитель и знаток поэтического
слова, как А. В. Чичерин). Никак Жуковский не «обессмыслил» за-
мысел друга-поэта — скорее его по-своему договорил™. И мог он это
сделать так успешно потому, что о той же жизни в большом объеме
высказывался, о которой и Пушкин в стихотворении вопрошал.
Зачем придумано? Кажется так: надо было все же сомнительное
(ведь пришлось-таки Жуковскому исправлять) стихотворение оправ-
дать, а для этого что-то придумать. Чтобы не было на пути поэта
нового «Дара напрасного» (но его и не было). Навести порядок в
картине пушкинской лирики, не имеющей права на новые срывы
после ее покаяния перед святителем («В часы забав иль праздной
скуки...»). На его картину пушкинской лирики недавно был ответ
пушкинисту: «Лирический поэт как эхо и миру, и своей душе имеет
право на мгновенное настроение» — и нельзя нам «желать, чтобы в
лирике "все окончательно встало на свои места"»20 (внутренние ка-
вычки — цитата из пушкиниста). Лирические высказывания поэта не
выстраиваются в неуклонную линию, но образуют объем. Не взгля-
нуть ли проще и на болдинские ночные стихи как на «мгновенное
настроение», проникающее до дна бытия, как и свойственно лирике,
а не тот хитроумный мировоззренческий «эксперимент», что постро-
ил талантливо, но искусственно на месте стихотворения за поэта
критик?
4
Методологические разборы больше говорят о явлении, чем объ-
явленные принципы. Тем рассмотренные разборы и показательны,
что за ними — явление, представленное не только двумя именами.
Чтение литературы, разборы текстов — всегда проверка. Что проис-
ходит с классическими текстами, читаемыми глазами религиозного
филолога наших дней? Они теряют свою свободу, теряют себя, они
перестают быть самими собой. Перед судом религиозной филологии
сама поэзия утрачивает ту свободу и сложность своего положения
между лежащей под нею жизнью и высшим духовным началом и сво-
боду вопрошания в обе стороны, какую она обрела на независимом
своем пути в лице в том числе и тех художников, что стали предме-
том внимания наших филологов. Что слышится в разборах стихотво-
рений Пушкина и Блока? Слышится недоверие к нерегламентирован-
ному рискованному свободному смыслу этой поэзии— вплоть до
493
С. Г. Бочаров
чего-то вроде своеобразной духовной цензуры (как иначе назвать
подходы к стихотворению Блока или к словам Настасьи Филиппов-
ны). Недоверие к Пушкину и Блоку — прямо можно сказать. Недове-
рие к поэзии как таковой, в нерегламентированном, несвязанном ее
состоянии. Результаты разборов, кажется, отвечают той теории, что
поэзия это лишь средство и путь. Ей, теории этой, соответствует оп-
тика чтения — более или менее мимо произведения, каким оно нам
дано, в устремлении сквозь него на некий заданный образ его. И то:
возможно ли филологу прочитать произведение, подходя к нему со
словечком «лишь»? Надо ведь сосредоточиться на предмете, погру-
зиться в него — возможно ли это, если не видеть в нем себе, своему
усилию цель! Нет, «цель поэзии — поэзия» — это поэтом не только
было сказано для поэтов, но и для нас, филологов. Филолог, в это не
верящий, приходит к тем деформациям в чтении литературы, какие,
по нашему впечатлению, наблюдаются в рассмотренных методоло-
гических разборах— и которые, как способы чтения литературы
именно, представляются небезобидными. Методологические разборы
в результате сводятся к немалому упрощению сложной и нерешенной
картины, какую являет нам эта поэзия (оба стихотворения — вопро-
шающие, а не отвечающие — не только пушкинское, все стоящее под
знаком вопроса, но на глубине своей и блоковское), упрощению
средствами или хотя бы мысленного редактирования (Блок) или же
перетолкования, притупляющего и обезвреживающего испытующее
жало смятенной лирики и ставящего простой ответ на место этого
пытания-вопрошания— с открытым ответом («Стихи, сочиненные
ночью во время бессонницы»).
Поминая словцо Аполлона Григорьева, можно сказать, что рели-
гиозное литературоведение это веяние наших дней. Безусловно явле-
ние современное. Оно себя мыслит в противостоянии постмодернист-
ской игре с литературой — и действительно в таком противостоянии
оно состоит. Литература это не игра и не предмет игры, литература
это миссия — как и литературоведение. Но все же это противостоя-
ние в составе общей, как нынче говорится, актуальной социокуль-
турной парадигмы. Парадоксально-общее в том и другом крыле со-
временного послелитературоведения (их общее в самоопределении
того и другого явления «пост»)— это именно отрясание праха
бывшего литературоведения со своих железных сапог на пути своего
прохождения сквозь литературу к своим вне ее находящимся целям
(таким, конечно, разным в этих двух случаях) и соответственная ак-
тивность в перестраивании литературного материала и свободном с
494
О религиозной филологии
ним обращении. Общее — неизбежная потребность в деформирова-
нии своего предмета как материала (если предмет — это «лишь», то
значит, он из предмета становится материалом).
Безусловная принадлежность нынешней религиозной филологии
остросовременному идейному контексту делает намеченную выше
параллель с религиозной философией начала века весьма условной.
Слишком разные контексты общие и явления разные. Тем не менее
фон — и именно фон философский — наша старая религиозная фи-
лософия дает для взгляда на нынешнее явление. Разве не служит фо-
ном философия искусства в книге С. Н. Булгакова 1917 года новой
теории послелитературоведения? Эта «лишь»-теория разве не есть
прямой отказ от того понимания искусства как независимой духов-
ной силы, свободной и от религии? Что не значит, что искусство
мыслилось вне его отношения к религии, нет— но в отношении
сложном и опосредованном (излюбленный термин в теории языков
культуры покойного А. В. Михайлова). Искусство мыслилось в со-
ставе религиозного единства культуры на правах автономной сво-
бодной области. Поскольку вновь перед нами те же вопросы, подни-
мающиеся по новому кругу, то заключим этот экскурс еще одним
напоминанием оттуда — строками Федора Степуна, затерянными в
старой философской периодике; представляется, что они сегодня
кстати. В 1912 г. Степун писал о том, как строить религиозную фило-
софию культуры, которой принципы определяются:
«1) твердою верою в религиозные корни всякого истинного куль-
турного творчества и в религиозно-символическое значение всех
ценностей мировой культуры; 2) решительным требованием свобод-
ного и автономного развития всех областей культуры в безусловном
и исключительном подчинении внутреннему те л о су каждой от-
дельной области; 3) принципиальным отклонением какого бы то ни
было вмешательства религиозно-философского догматизма в работу
отдельных областей культуры. Отклонение такого вмешательства
сильно тем убеждением, что религиозное единство отдельных об-
ластей творчества, этих монад духа — изначально и свободно пред-
установлено в абсолютной сущности Божеской монады, а потому
бессмысленно и излишне его насильственное установление в относи-
тельной сфере человеческой воли и человеческого знания.
Положительное решение проблемы религиозного единства куль-
туры правомерно исключительно в смысле утверждения безусловной
религиозности глубоко скрытых в жизни корней творчества, и со-
вершенно не законно в своем стремлении к построению такой иерар-
495
С Г. Бочаров
хии культурных ценностей, в которой все области творчества были
бы существенно предопределены венчающей сферой религиозно-
догматических положений»21.
«Бессмысленно и излишне». Можно заключить, что по всем глав-
ным пунктам установки новой религиозной филологии противоречат
старой религиозной философии, на которую мы ссылаемся здесь не в
пример, а для ясности. Та философия была озабочена самообоснова-
нием и занималась им достаточно основательно, поскольку самое
сочетание понятий «религиозная философия» находила проблематич-
ным. Нынешнее религиозное литературоведение, очевидно, не видит
в собственном самоопределении особой проблемы и просто себя уве-
ренно утверждает. Между тем религиозная филология как определе-
ние, наверное, проблематично гораздо более. Оно, вероятно, предпо-
лагает непосредственное совпадение религиозного и художественного
сознания в поэтическом акте (как было «во всех типах религиозных
культур»), а не опосредованное единство их, как видела это наша ста-
рая философия. Такое единство, которое допускает творчество на
свой страх и риск и в этом видит не только его оправдание, но и его
назначение, потому что только таким путем поэзия добывает соб-
ственное знание, всегда вопрошающее по отношению к миру и целям
его в большей мере, нежели отвечающее. То сложное знание, что со-
общают нам стихотворения Пушкина и Блока, и Достоевский тоже.
Путь к постижению этого сложного знания один для филолога — как
формулировано это в вышеприведенной цитате, подчинение «внут-
реннему телосу» литературы, поэзии. Путь, программно отвергаемый
религиозным литературоведением, как раз не признающим за нею
собственного «телоса», но зато не отвергающим «вмешательства ре-
лигиозно-философского догматизма» в свою работу. Чтение литера-
туры, разборы текстов — проверка того и другого пути. Единствен-
ная же наша цель в настоящей заметке — проверка этого чтения.
В конце концов ведь главная методологическая посылка послели-
тературоведения в том и состоит, что религиозный филолог читает
литературу иначе. Проверка на чтение есть поэтому методологиче-
ская проверка.
«Цель поэзии— поэзия»— этой истиной вовсе не закрывается
тема о поэзии и религии. Истиной этой дается нам направление к
усмотрению темы в сердце самой поэзии. Бунт Ивана Карамазова
содержит важное уточнение: не Бога — мира Божьего он не прини-
мает. Кажется, к теме о поэзии и религии это имеет отношение. Ибо
универсальную тему самой поэзии «мир Божий» и составляет. «Мир
496
О религиозной филологии
Божий»— именно так, таков предмет поэзии: вспомним еще раз
С. Н. Булгакова — искусство свободно от религии, но не от Бога.
«Мир Божий», предоставленный свободному творчеству человека и
стоящий всегда под вопросом. Искусство и обращено к миру с этим
вопросом — к нему как именно к Божьему миру. В своей христиан-
ской в самой высокой мере книге о Достоевском С. И. Фудель не
согласен с тем, что «"бунт Ивана не есть бунт самого Достоевского".
Бунт Достоевского существует, но он, так же как все его неверие Фо-
мино, только углубляет веру, и его, и нашу. Это "бунт" Иова»22. Бунт
Иова ведь тоже «мира Божьего» не мог принять и был в итоге оправ-
дан Богом. Не содержался ли в этой истории прототип того будущего
свободного вопрошания о «мире Божьем» в проблематичном, нере-
шенном, историческом его состоянии, каким явилось искусство? И не
составило ли его предназначение — религиозное его предназначение,
осмелимся предположить— такое вопрошание? Выше поминались
строки Пушкина, Тютчева, Блока, Анненского, смущающие нынеш-
нюю благочестивую филологию. Но не того же ли рода это смуще-
ние, что отличало благочестивых друзей Иова? Только не открывает-
ся глазам друзей Иова поэзия. Наверное, оттого и этот навык недо-
верчивого чтения как бы мимо произведения, какой утверждается в
образцах религиозной филологии наших дней.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М, Республика, 1994. С. 69—86.
2 О литературоведении, научности и религиозном мышлении// Начало. М.,
Наследие, 1995. Вып. 3. С. 25—31; После литературоведения // Новый мир.
1999. №3. С. 186—193.
3 Непомнящий В. Феномен Пушкина в свете очевидностей// Новый мир.
1998. №6. С. 202.
4 Вейдле В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра
Блока // Вестник русского студенческого христианского движения. Париж —
Нью-Йорк, 1971. № 99. С. 97—98.
5 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 133.
6 Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 328.
7 Там же. С. 327.
8 Там же. С. 327.
* Новый мир. 1998. № 6. С. 204.
'о Новый мир. 1999. № 3. С. 188—190.
11 Касаткина Т. А. «Ценою жизни ночь мою...» Пушкинская цитата в «Иди-
497
С. Г. Бочаров
оте» Достоевского // Московский пушкинист. V. М., Наследие, 1998. С. 20.
12 Касаткина Т. «Христос вне истины» в творчестве Достоевского // Достоев-
ский и мировая культура. Альманах. СПб., Серебряный век, 1998. № 11.
С. 118.
•з Современник. 1849. Т. XIII. № 1. Отд. III. С. 5.
14 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., Наука, 1974.
Т. 9. С. 252,275.
15 Левина Л. А. Некающаяся Магдалина, или почему князь Мышкин не мог
спасти Настасью Филипповну // Достоевский в конце XX века. М., Клас-
сика плюс, 1996. С. 360.
16 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 274.
17 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 513.
'8 Новый мир. 1998. № 6. С. 190—194, 201.
19 Исследователь «великого текста русской литературы», — пишет В. Н. То-
поров в неопубликованном философском фрагменте,— «ищет смысл
как некое интегральное целое и смыслы как все многообразие отраже-
ний этого целого. Смысла я в тебе ищу и Темный твой язык учу — по сути
дела, одно и то же. Только ища смысл, учатся самому искусству его поис-
ка, и только в этом поиске обретается сам смысл, который никогда н е
задан, но всегда иском и никогда до конца не находим, потому что
он всегда в развитии, и потому еще, что его глубина столь велика, что ухо-
дит в будущее, которому предстоит дать воплощение тому, что потенци-
ально хранилось в глубине прошлого». И также: «Когда говорят: есть
смысл, чтобы..., в слово смысл вкладывают идею благого, истинного,
надежного основания, высокой целесообразности, более того, смыслу
приписывается бытие, само явление которого благо, и отсылка к соеди-
ненному из разных частей целому, а такое целое безмерно выше
"природного", т. е. порожденного (а не сотворенного) целого как искони
существующего монолита. Сотворенность целого отсылает к твор-
цу — Богу или человеку прежде всего, и поэтому явление смысла, как и
само это слово смысл, предполагает сферу богочеловеческого и специ-
ально — "антропную" доминанту».
20 Гальцева Рената. Поэт и царь Давид // Новый мир. 1999. № 6. С. 200.
21 Труды и дни. Двухмесячник издательства «Мусагет». 1912. № 1. С. 71.
22 Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., Русский путь, 1998. С. 209.
498
И. Б. Роднянская
Москва
«У ЭТОГО РОДА ЗАНЯТИЙ ЕСТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ...»
Беседу на тему «Литературоведение как проблема»
вела Г. А. Касаткина
Были предложены следующие темы для беседы и вопросы:
Границы литературоведения, т. е. вопрос о его целях, задачах, на-
мерениях, возможностях, добровольных и принудительных ограни-
чениях, о пограничных сферах и экспансии литературоведения в эти
сферы (слово экспансия может быть заменено и на слово без нега-
тивного оттенка: расширение, объединение, воссоединение и т. д.).
Вопрос о соотношении границ (т. е. — и последних задач) литерату-
роведения и его предмета, т. е. — литературы. Объяснение и оправ-
дание несовпадения этих границ. Границы литературоведения и са-
моограничение литературоведа.
Проблема мировоззрения исследователя, влияние мировоззрения
на задачи и методы исследования, проблема соотношения мировоз-
зрений автора художественного произведения и литературоведа.
«Диалог культур» и культурологическое насилие. Мера субъектив-
ности и критерии объективности. «Методологические эпохи» литера-
туроведения. Допустимые и недопустимые методы литературоведче-
ского анализа. Проблемы интерпретации текста и положение самого
процесса интерпретации по отношению к границам литературоведе-
ния. Художественная интерпретация и литературоведение.
Литературоведение в жизни. Литературоведение— «чистая нау-
ка»? Литературоведение и преподавание литературы в школе. Что
преподается (и что должно преподаваться) — литература или литера-
туроведение? Литература, литературоведение и воспитание. Что мо-
жет дать изучение литературоведения человеку для жизни?
499
И. Б. Роднянская
Положение литературы и литературоведения в общественном со-
знании (колебания и изменения этого положения, от чего они зави-
сят?). Соотношение литературоведения и литературной критики
(задачи, подходы, цели, намерения, методы). Проблема понимания.
Литературоведение в Вашей жизни — профессия, любовь, способ
существования или...? Цели и задачи Вашего литературоведения.
Ваши наблюдения над трансформацией этих целей, задач, понимания
своего места — в поколениях и личностях литературоведов. Нынеш-
нее состояние литературоведения и людей, с ним так или иначе свя-
занных.
И. Р. У Вас был вопрос о предмете и границах литературоведения.
Ну, прежде всего, само это слово — литературоведение — чрезвы-
чайно искусственно. Даже подозреваю, хотя не успела выяснить, что
появилось оно у нас в 30-х годах, в соответствующую советскую эпо-
ху. И чуть ли не всякий, кто занимается тем, что это слово должно
покрывать, боится его, как чумной заразы, и в разных справках о
себе старается писать что угодно: филолог, историк литературы,
культуролог (хотя «культуролог» — тоже слово неважное). Но толь-
ко не «литературовед». За этим, видимо, стоит некое не до конца
вербализованное ощущение, что это искусственное слово или без-
мерно широко, или вообще ничего не означает. Или— слишком
много, или — ничего. С тем, что оно означает слишком многое, мож-
но примириться, потому что, если счесть это понятие просто указа-
нием на внимание к одному определенному предмету, проявляемое в
разнообразных формах, тогда оно, обсуждаемое понятие, получает
кое-какие права. Предмет же этот, как, кстати, лаконично констати-
рует Литературный энциклопедический словарь,— художественная
литература. И вот, исходя из этого, я бы сказала, что литературове-
дом является всякий, кто пишет нехудожественные (не беллетристи-
ческие) тексты о художественной литературе, каковы бы они ни бы-
ли. От цифири, которой занималась школа Колмогорова, до, пред-
положим, «Писем о русской поэзии» Гумилева или «Книги отраже-
ний» И. Анненского. От стиховедения Андрея Белого до «образа
автора» в исследованиях Бахтина, хотя философ Бахтин решительно
перешагивает «литературоведческую» границу понятия «автор» и
говорит уже о Творце (Авторе) миров. Да, все это — от «Мильона
терзаний» Гончарова до современных деконструктивистов — можно
посчитать литературоведением и только при таком условии прими-
риться с термином, не стараясь его уточнять, дотошно онаучивать.
500
«У этого рода занятий есть свое сердце...»
Между тем у этого рода занятий есть все-таки свое ядро, свое
сердце. Вот это-то сердце «соседи» со смежных территорий знания
пытаются из литературоведения изъять— аннигилировать как не-
нужное, антинаучное, обветшавшее. Что же это за сердцевина такая?
Ну, сами понимаете, — не история литературы, поскольку это часть
истории культуры, естественным образом смыкающаяся с нею. Это
не поэтика, поскольку поэтика — как литературная теория вообще —
законная часть эстетики (вспомним Аристотеля). Это не вполне фи-
лология, потому что филология есть специфическая работа над тек-
стом, его пристальное комментирование, изучение его генетических
микросвязей. Что-то «отхватывает» себе философия, большой кус —
социология, так как социология чтения не может не касаться функ-
ционирования текстов в десятилетиях и веках, т. е. и литературовед-
ческой проблемы. Короче, я думаю, что это самое «ядро», подозри-
тельное и неприемлемое, даже ненавидимое за «архаичность», анти-
позитивность и «рефлектерство», — герменевтика и экзегеза художес-
твенного произведения (воспользуемся терминами из несколько сто-
ронней области). Потому что именно чтение художественного текс-
та, определенным образом имманентное ему самому, и превращает
пишущего о литературе в ведающего литературу; он тогда становится
в каком-то преимущественном смысле литературоведом.
Тут встает вопрос, который мне лично не слишком интересен, но
который всегда на устах у профессиональной общественности: яв-
ляется ли это наукой? Что ж, соглашусь, что это не наука (science), а
дисциплина, дисциплина в двух смыслах: во-первых, дисциплина как
область некоторого знания, во-вторых, дисциплина в буквальном,
ближайшем значении этого слова — как дисциплина прочтения, а не
произвол прочтения. В этой связи еще один вопрос маячит, его и Вы
не могли мне не задать, и я сама над этим много размышляла, пото-
му, в частности, что писала для энциклопедий некоторый статейный
цикл, трактующий о художественном образе и художественности
(понятия, выходящие из употребления вместе с классической эстети-
кой). Вопрос этот— о пределах интерпретации. Могу сказать в чем,
по-моему, идеал дисциплинированного чтения, делающего литерату-
роведа интерпретатором. Это пребывание одновременно и внутри и
вне произведения.
Что значит «находиться внутри произведения»? Это значит кон-
гениально автору выявлять его акцентуацию, а не заменять ее сходу
своей собственной. Ведь состоятельное произведение искусства мно-
гозначно, но не сколь-угодно-значно, и, говоря несколько механичес-
501
И. Б. Роднянская
ким языком, в него вмонтированы посреди «мест неполной опреде-
ленности» (Р. Ингарден) некие смысловые определители и ограничи-
тели, игнорировать которые значит ломать вещь через колено. Ин-
терпретатор не обязательно должен выяснять, что хотел сказать ав-
тор (хотя такая реконструкция желательна, а в текущей критике под-
час насущна), но ему следует выяснить, что же автором сказалось,
прежде чем примерять к этому «что» собственную мыслительную
раму. Для этого не существует алгоритма, хотя безусловно предпола-
гаются некие вспомогательные приемы и навыки, связанные с пони-
манием эпохи, ее стилистики, с учетом интертекстуальности во всех
ее гранях... Но (к вопросу о научности?) все-таки — это чтение как
первичное приближение к тексту, и инструментом такого чтения
служит эстетическая эмоция, включенность аппарата восприятия, жи-
вого реагирования на задачу, реализуемую художественной вещью.
И лишь «задействовав» этот аппарат (а не одну только сумму пред-
варительных знаний), можно ощутить те акценты, которые созна-
тельно или непроизвольно расставил автор, и не спутать их ни с чем
другим. Для этого от исследователя-интерпретатора требуется само-
ограничение, не то самоограничение, когда боязно залезть в сосед-
нюю область, боязно оказаться на одной делянке с социологом или
философом, а то самоограничение, когда личность автора, начер-
тавшая себя посредством особой маркировки на произведении, как
автограф, не насилуется, а для начала принимается как таковая. Эту
процедуру можно перевести на немного «птичий» язык гуссерлиан-
ской феноменологии (опять сошлюсь на такого хорошего феномено-
лога-эстетика, как Роман Ингарден), но дело не в языке, а в обяза-
тельствах интерпретатора, в акте его первичного так сказать, беско-
рыстия.
Но поскольку существует не только правда художника, которая
являет себя как реализация его замысла, — причем здесь случается
проследить, насколько художник дал этому замыслу осуществиться,
не мешая ему своим произвольным вторжением, идеологическим или
иным, — поскольку существует еще мировоззрение самого истолко-
вателя, то, что считает правдой он, — постольку второй этап проце-
дуры — это неизбежное сопоставление истины данного творения, с
той истиной, которую исследователь считает объективной, или, если
угодно, высшей. И вот здесь уже совершается до-объяснение произ-
ведения — не из него самого, а из обстоятельств его создания, может
быть, не до конца осознававшихся самим автором, — биографичес-
ких, духовных, эпохальных и пр. Совершается суд над произведени-
502
«У этого рода занятий есть свое сердце...»
ем, т. е. (по-гречески) его критика с позиций, так или иначе ему
трансцендентных. И вот такое нахождение сразу внутри и вне — оно
и есть, по моему разумению, двухтактовая задача интерпретатора;
решая ее, он и становится «ведающим» данное художественное со-
здание.
Приведу пример из Белинского, которого люблю, несмотря на все
прегрешения, накопившиеся в его последнем, позитивистско-запад-
ническом периоде, когда он стал сознательно отодвигать эстетичес-
кое суждение на второй план во имя поддержки своей литературной
партии. Скажем, его несправедливое — что ему теперь часто поми-
нают — отношение к Боратынскому. Если мне не изменяет память,
Белинский в статье о нем безошибочно выделяет его высшие, прин-
ципиальные создания, в том числе цитирует «Последнего поэта» с
эстетическим восторгом, и только после этого резюмирует, что у
Боратынского отсталая точка зрения на грядущее, что будут желез-
ные дороги, будет положительное развитие, прогресс и т. д.
По мне, конечно, XX век показал большую правоту Боратынско-
го, хотя и сейчас не все, наверное, со мной согласятся; но вот то, что
сначала дана воля эстетическому переживанию, притом без колеба-
ний направленному на достойный объект (у Боратынского ведь, даже
в «Сумерках», всякие стихи есть), и лишь потом собственное кредо
противопоставлено верованиям поэта, это для меня свидетельство,
что критик не весь отдался во власть тенденции и остался человеком,
ведающим искусство. Пусть этот пример элементарен, зато он на-
гляден.
Вы спрашиваете меня еще о преподавании литературы в его связи
все с тем же «ведением». Не столкнувшись с этой проблемой на прак-
тике и вспоминая лишь свои школьные и студенческие годы, скажу
вещь достаточно абстрактную. Чему нужно учить школьника, по
крайней мере старших классов? С одной стороны, давать ему хоть
первичное представление о смене литературных эпох, периодов, на-
правлений, чтобы он запомнил, что Крылов — до Некрасова. Это не
праздная шутка, мне только что мой коллега Александр Алексеевич
Носов, преподающий историю культуры в Московской консервато-
рии, рассказал, как студенты путают Николая I с Николаем II, не
знают, что именно произошло в феврале 1917-го и т. д., а это студен-
ты, собирающиеся посвятить себя истории русской музыки, которую
им придется исследовать в связи с историей России и русской культу-
ры, так что мой пример насчет Крылова и Некрасова не столь уж
дик. И во-вторых, — надо учить медленному чтению. Это двуединая
503
И. Б. Роднянская
задача, призванная хотя бы минимально обеспечить и историческую
ориентировку, и эстетический тренаж, умение восчувствовать деталь,
оттенок, блик. Соответственно, программы должны быть составлены
как некая непрерывная линия, где есть узлы. Узлы, которые обра-
щают учащегося к переживанию и пониманию текста, а не только
дают ему общие представления об этапах литературного процесса.
Что касается литературной критики, о чем у нас с Вами тоже
предполагалось поговорить, я, по чести, не вижу никакой специаль-
ной границы между литературоведением и ею. Ну, можно сказать,
что критика как жанр журнальный в отличие от литературоведения,
имеющего более специализированный адрес, стилистически непри-
нужденнее, эссеистичнее. И только. Вадим Кожинов когда-то писал,
что критика предполагает участие в борьбе литературных лагерей на
той или иной стороне, что в ней можно и должно быть пристраст-
ным, быть идейным полемистом, поднимать на щит своих и расправ-
ляться с чужими, как это вообще водится в журналистике; ну, а лите-
ратуровед — это человек, который занят словесностью прошлого и
блюдет объективность, отрешаясь от своих литературных при-
страстий. Я думаю, что это (во втором случае) абсолютно невыпол-
нимое условие, и на примере самого Кожинова видим, что, обра-
щаясь к прошлому, он его интерпретирует достаточно пристрастно.
Затем: по моим наблюдениям, люди, хоть сколько-то примечатель-
ные в литературной критике непременно занимаются и тем, что мы с
Вами условно назвали литературоведением. И наоборот: я не знаю
ни одного значительного исследователя литературного прошлого,
который не делал бы вылазку, крайне заинтересованную, в текущее
литературное движение, — и чем больше все это будет походить на
сообщающиеся сосуды, тем лучше для сочинений о литературе. Жест-
кие деления здесь либо плод доктринерства, либо ставят критику в
положение информационно-рекламной отрасли на рынке печати, а
литературоведение запирают в какой-то отсек, где современности
запрещено влиять на оптику исследователя, что вряд ли возможно и к
тому же вредно.
Т. К. Спасибо, Ирина Бенционовна. Я хотела, в связи с тем, что
Вы говорили о школе, спросить: зачем, с Вашей точки зрения, нужно
учить детей «медленному чтению»? Полезно ли это только для того,
чтобы они вообще читали, что они делают все меньше и меньше, или
здесь может быть еще какой-то «выход», результат, который можно
было бы назвать даже и практическим?
И. Р. Конечно же, практический «выход» есть, потому что из тво-
504
«У этого рода занятий есть свое сердце...»
рений искусства мы узнаем, любой человек на протяжении тысячеле-
тий узнавал, не меньше, чем «из жизни»; искусство — источник того,
что восполняет, организует и осмысляет жизненный опыт любого из
нас. Встреча с искусством не может не иметь экзистенциального из-
мерения, которое можно назвать и прагматическим. Единственно че-
го я боюсь, был такой знаменитый на всю страну учитель-словесник,
забыла его фамилию, школьники его очень любили, — так вот, он у
себя повернул изучение литературы практической стороной, вроде
ролевых игр, учил на примере Наташи Ростовой, как надо вести себя
в семье или чему-то еще в том же роде. Он сводил уроки литературы
к урокам практической морали, настолько плоским, что искусство
тут оказывалось ни при чем именно как школа жизни, а не только,
скажем, как «школа прекрасного». Медленное чтение, замечу, как раз
нужно для того, чтобы в «Трех сестрах» школьник обратил внима-
ние, как Наташа орет, что вилку не туда положили, и почувствовал
гадливость. Это и будет незаменимый этический урок, урок отноше-
ния к жизни. И никакие другие объяснительные акции, никакая ау-
топсия не дадут того, что даст пристальное чтение, когда вот эти
самые нелобовые акценты художника, которые как правило бывают
не просто эстетическими, но и этическими, философскими акцентами,
наконец становятся рельефны. Это развивает душевный аппарат, без
чего человек в общем-то урод.
Т. К. Ирина Бенционовна, а что Вы сказали бы о литературоведе-
нии в Вашей жизни?
И. Р. Я дилетант и никогда не числила себя в литературоведах,
хотя, случается, пишу о себе это слово, раз другие анкетные слова
еще сомнительней. Но стараюсь не писать. Дело в том, что, будучи
критиком, я не могла удержаться от того, чтобы сочинять что-то и о
классике, ведь я уже говорила, что между критиком и литературове-
дом не может быть неодолимой границы, и критик, который ни разу
не писал ни о Пушкине, ни о Достоевском, ни о Есенине, ни о Ман-
дельштаме, произвел над собою, по-моему, какую-то вивисекцию.
Кроме того, в 70-е годы обстоятельства складывались так (и это
нынче подвергается довольно иронической переоценке), что из кри-
тики в так называемое литературоведение, в так называемое свежее
прочтение классики ушло немало пишущего народу. Просто потому,
что не хотелось лгать, не хотелось быть причастным к ложной шкале
ценностей, а противиться ей было почти бесполезно: даже если на-
пишешь, к примеру, о настоящем писателе Андрее Битове, все равно
статья (к тому же после цензурного ее процеживания) потонет в сон-
505
И. Б. Роднянская
ме дежурных похвал Георгию Маркову и ему подобным. Короче, в
текущей литературе хозяйничали чужие люди, программируемые
официальной идеологией и лицемерием собственного клана. И тогда,
повторяю, многие ушли в прошлое, но ушли как критики, то есть это
не были патентованные филологические штудии, это была эссеистика
с актуальными выходами, чему-то пытавшаяся учить, напомнить
что-то о высших началах жизни. Сказанное относится и ко мне. Да и
конкретное стечение обстоятельств диктовало предмет занятий, их
русло: если, допустим, тебя не печатают в журналах, а предлагают
писать для Лермонтовской энциклопедии, то статей двадцать я туда
и написала. И с теорией литературы — то же самое.
Еще Достоевский долго был предметом моего особого— здесь
даже можно сказать — изучения, я действительно обдумывала едва
ли не каждую его строчку, включая черновики, и регулярно знакоми-
лась с литературой о нем, хотя написала немногое.
В общем, из того, что можно хоть отчасти назвать литературове-
дением, получились у меня встречи с Лермонтовым, Достоевским, не-
ожиданно — с Блоком. К его юбилею 1980 года «Новый мир» (поче-
му-то!) предложил мне написать довольно пространную статью, от
работы над которой у меня сохранилась огромная папка материалов
и собственных заметок; полагаю, что встретилась с Блоком не де-
журно, не журналистски-юбилейно, а более серьезно. И в последнее
время осмелилась кое-что сочинить о Пушкине, тоже, как кажется,
выйдя за рамки журнализма. Без всего этого было бы скучно и тоск-
ливо, я ведь и русской философией занималась (-юсь), а при этом
нельзя не обращаться к русской литературной классике; если всерьез
интересуешься Владимиром Соловьевым, то понятно — что и всеми,
на кого распространялись его эстетические суждения. Просто страш-
но подумать, что этого утешительного сектора в моих литераторских
занятиях могло не быть. Но называть это «литературоведением в
моей жизни» — неловко, давайте все-таки избегнем такого реши-
тельного определения.
Т. К. Ирина Бенционовна, а вот насчет нынешнего состояния ли-
тературоведения и людей, с ним так или иначе связанных, которых
Вы ведь знаете очень много и самых разных, — как у них меняются
цели, задачи, понимание своего места в науке о литературе?
И. Р. Знаете, боюсь, что ответить на этот вопрос — за предела-
ми моей компетенции. Правда, я охотно читаю нынешнюю литера-
туру из этой области, но все же читаю ее отрывочно, спорадически.
Я очень ценю, и для Вас это не будет новостью, весьма высоко ценю
506
«У этого рода занятий есть свое сердце...»
именно в связи с тем «сердцем» и «ядром» литературоведения, о ко-
тором я говорила, труды Сергея Георгиевича Бочарова. Думаю, что
книга, которую он сейчас готовит, станет в каких-то отношениях
ответом на вызов современных течений социологии литературы,
деконструктивизма (который, кстати;является чисто философским, а
не литературно-эстетическим методом), отбивая у них, отстаивая то
самое пространство интерпретации — идущее от текста как художе-
ственного мира и лишь в итоге «за» текст. Очень может быть, что это
будет воспринято новейшей генерацией людей, пишущих о художе-
ственной литературе, как отсталость. Не знаю, как он, но я морально
к этому готова, хотя и немного грустно, что дела идут таким обра-
зом. Я уже не раз читала у современных культурологов определенно-
го круга, что все эти «прочтения» просто смешны, что пора и в на-
шем деле переходить на социологические рельсы, исходить из по-
следних слов психоанализа, неофрейдизма, изучать литературу как
часть культурной археологии и так далее,— кому, дескать нужно
сотое прочтение «Евгения Онегина», предлагаемое болтунами, кото-
рые не опираются ни на какие позитивные методики, а вслушиваются
в свои душевные вибрации, разве это котируется на мировых интел-
лектуальных рынках? Думаю, такое наступление на нашу традици-
онную любовь к нормальной гуманитарии будет вестись очень дол-
го— до собственного полнейшего изживания. Помните, Бердяев
говорил, что зло изживается на имманентных путях. Эта бердяевская
идея, теологически, быть может, и сомнительная, приложима к неко-
торым теориям, которые гаснут без всякой видимой борьбы с ними.
Так что и эта мода, эти веяния исчерпают себя со временем, но если
говорить о сегодняшнем дне, считаю, что перевес в профессиональ-
ном кругу (я имею в виду прежде всего «Новое литературное обозре-
ние») — на стороне этих воззрений, и с ними надо считаться хотя бы
просто как с фактом текущей умственной жизни.
Т. К. Ирина Бенционовна, в связи с этим — вопрос о проблеме
мировоззрения исследователя. По мнению, например, «Нового лите-
ратурного обозрения», у исследователя не должно быть мировоззре-
ния, оно мешает тем «естественным» методам, которыми они поль-
зуются.
И. Р. Естественнонаучным. Это ведь старые разговоры. Не знаю,
стоит ли приписывать эту позицию именно «НЛО». Все это звучало
уже по ходу споров вокруг так называемых общественных наук, при
этом каждый обвинял в идеологизированности своих оппонентов или
предшественников, а в себе видел исключение из общего правила
507
И. Б. Роднянская
(хоть Карл Маркс, хоть Карл Мангейм). Впрочем, серьезные фило-
софы давно поняли, что отмыслить человеческий фактор даже из
естественнонаучного (имеются в виду науки о природе) исследования
невозможно. Конечно, у воинствующих позитивистов (зачастую —
атеистов), отстаивающих «незаинтересованный» сциентистский под-
ход, на деле еще ой-какая мировоззренческая жесткость. Вопреки
собственным иллюзиям этот тип мысли демонстрирует активную,
даже агрессивную тенденциозность, иногда искажая хрупкий «пред-
мет», художественное произведение, до неузнаваемости.
Т. К. Ирина Бенционовна, вопрос относительно нашего опять-
таки мировоззренческого отношения к тому, что мы называем «ли-
тературой 19 века». Ведь даже те из нынешних «нас», кто одной веры
(или, скажем, одного безверия) с людьми, которые жили тогда, все
равно находятся в совершенно ином культурном пространстве, и
даже это наличие или отсутствие вер, оно все равно другого качества.
Насколько мы вообще можем адекватно читать тексты даже бли-
жайшего к нам, нашего же 19 века.
И. Р. Разрыв все же преувеличен. Блок, перечитывая в 1909 году
«Анну Каренину», записывает в дневнике, что в романе «вся психо-
логическая путаница относится к настоящему» и почти ничего — к
будущему. То есть человек Серебряного века, века свободных отно-
шений, считал, что сюжет, развязка, «мораль» этого романа на гла-
зах устаревают. Причем это говорит гениальный поэт, а не простой
обыватель. Проходит время, и выясняется, что устарело очень мно-
гое из того перекошенного и сиюминутного, что было в Серебряном
веке, а роман Толстого, при всем том, что сейчас возможны какие
угодно разводы и какие угодно связи, он по-прежнему внятен и в
принципе открыт непосредственному читательскому чувству. Если
бы в великих творениях прошлых эпох не было зерна вечного (как и в
человеческой жизни есть временное и вечное), то вообще было бы
невозможно никакое духовное сообщение между эпохами и культу-
рами. Конечно, функционируя в веках, литературное произведение
обрастает все новыми и новыми прочтениями, но те точки, констан-
ты, о которых я говорила, они являются точками соприкосновения
литературных вершин с вечностью. И поэтому, сколько ни толкуй
«Антигону» (а это ведь не близкая к нам «Анна Каренина», это было
так давно), сколько ни толкуй ее как канувшее в глубь веков столк-
новение полисной морали и морали патриархальной,— все равно,
идет «Антигона» на современной сцене, даже не в перелицовке
Ануйя, и каждый зритель понимает, что речь идет о коллизии морали
508
«У этого рода занятий есть свое сердце...»
прагматической (будь она государственной, гражданской или какой-
то еще) и высшей правды, начертанной в сердце человека как сущест-
ва духовного, правды, носительницей которой остается и для нас
героиня этой трагедии. Когда Достоевский говорил о «Дон-Кихоте»,
что эту книгу человечество предъявит Богу как свое объяснение с
Ним (я, каюсь, назвала бы здесь «Гамлета»), то думал он так, живя от
Сервантеса на большем удалении, чем мы живем от самого Достоев-
ского; тем не менее, каковы бы ни были изыскания о происхождении
этого романа из пародии и т. п., мы чувствуем, что Достоевский не
ошибся. Вот и ответ.
509
И. Б. Роднянская
Москва
ФИЛОСОФСКАЯ «СОБАКА, ЗАРЫТАЯ В СТИЛЕ»*
...взвесить спор, не решая его...
Из книги Сергея Бочарова
Заглавная метафора, взятая в кавычки,— из той же, рецен-
зируемой книги. Автор хочет сказать — неважно, по какому пово-
ду,— что литературные «приемы», «заходы», навыки письма суть
энергии, чреватые смысловыми последствиями на линиях больших
умственных движений родной нам культуры — русской и европей-
ской. Поскольку на книжный переплет вынесена среди прочих тема
«Литературоведение как литература», ничего не мешает приложить
этот вывод к творчеству самого Сергея Бочарова: его «филоло-
гические сюжеты», завязанные чаще всего вокруг тончайшей филиа-
ции идей-слов и итожимые с таким же острым вниманием к оттенкам
и поворотам собственного слова, упираются в дилеммы философские
и «экзистенциальные», с совсем не очевидными решениями.
Книга Бочарова — как и книга избранного им в любимые оппо-
ненты Валентина Непомнящего «Пушкин. Русская картина мира» —
это прорыв так называемого традиционного литературоведения
сквозь заслон новейших исследовательских технологий, «чистых» и
«грязных», это торжество человекообразной гуманитарии (в соот-
ветствии с этимологией латинского слова) над гуманитарией бабы
Яги, которая не худо чует человечий дух, но с тем, чтоб его истре-
бить. Освоение обеих книг еще впереди; им, видимо, предстоит пере-
валить в XXI век и в качестве классики успокоиться на отведенных
* Рецензия на книгу: С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М.,
«Языки русской культуры», 1999. 626 с. Опубликовано: «Новый мир», № 7,
2000.
510
Философская «собака, зарытая в стиле»
младшими современниками и потомками шестках, как уже почти
случилось с сочинениями Тынянова, Бахтина и даже Лотмана. Пока
же— первые отклики, разгоряченные, когда главное— не воздать
почесть рангу и масштабу, а «мысль разрешить». Или, если угодно,
скреститься мыслями.
...Впрочем, помянутое «традиционное литературоведение» — здесь
не более чем условная абстракция. У Бочарова — свой метод, быть
может, столь же давний, как и сама филологическая герменевтика, но
сегодня как раз не традиционный. Скажем, он декларирует почти-
тельность к исторической поэтике (во время оно выводившей его
поколение из тупика нормативного марксизма). А между тем — со-
вершает ею не санкционированное. Если историческая поэтика и ее
близкая родственница— компаративистика— опираются на доку-
ментированное выяснение взаимовлияний и социокультурных эво-
люции, то есть подходят к цепочкам литературных фактов позити-
вистски, то Бочаров думает совсем по-другому. «Независимые пере-
клички в истории мысли ценнее всего», — «независимые», то есть не
полученные по литературной эстафете (от «отца» ли к «сыну» — или
от захудалого дядюшки к бойкому племяннику, как считали опоя-
зовцы), а навеянные, так сказать, атмосферически (аполлон-григорь-
евское и леонтьевское «веянье» — «обаятельное понятие», по ощуще-
нию автора).
Переклички же эти независимы только от прямых литературных
контактов, осознанных впечатлений, но они зависимы от бессозна-
тельной «власти литературных припоминаний» (используется выра-
жение А. Бема); здесь даже правит «таинственная сила генетической
литературной памяти», сила, о которой Бочаров не забывает напо-
минать на пространстве всей книги. И словно шкатулка открывает-
ся— по-иному озвучивается строгое и неброское название тома.
Большие творческие «идеи» суть функции некоего сверхличного кон-
тинуума. Нет, еще верней. Они порождаются сверхличным организ-
мом. «Сюжеты русской литературы» — это не сюжеты, употребитель-
ные у русских авторов, это сюжеты, авторство которых принадлежит
соборному целому русской литературы. А «узлы», выхваченные из
целого стойкими бочаровскими преференциями («Пушкин— Го-
голь — Достоевский», «К. Леонтьев — Толстой — Достоевский»; до-
бавим из области теории: Бахтин — А. В. Михайлов), — сочленения
живого мифопорождающего организма, отверстого будущему (в вы-
ходах за пределы XIX века: Пруст — Ходасевич — Битов — Петру-
шевская — тоже все сочленено, хоть и не так плотно).
511
И. Б. Роднянская
В общем, если адепт исторической поэтики — поневоле позити-
вист, ибо обязался оперировать положительно удостоверенными ин-
тертекстуальными связями и вытаскивать из-под спуда времен смыс-
лы и значения, актуальные в эпоху создания произведения (безус-
ловно ценный «обратный перевод» с современного на минувший), то
наш автор — скорее «холист» или «органицист», то есть контр-пози-
тивистичен. В очень существенном смысле тут тоже — «русская кар-
тина мира», и книга Бочарова породнена с книгой Непомнящего
куда больше, чем они сами думают. Коль Непомнящий — это «рели-
гиозная филология» (так в Сюжетах...» припечатано), то Бочаров это
«метафизическая филология». «Тайна»— принципиальное слово из
его лексикона: вместо обратного перевода, возвращения в лоно исто-
рического контекста — потаенная чреватость зерна будущими про-
растаниями. Быть может, тут одна из причин того, что трудно найти
сегодня другое историко-литературное сочинение, настолько насы-
щенное философскими аллюзиями— от Гераклита и Платона до
Хайдеггера и Макса Шелера, от Сковороды до Флоренского, Булга-
кова и Федотова.
Чем крепится филология (служба при слове, по С. С. Аверинцеву)
к философии? Экзегезой, работой по уразумению максимального
смыслового объема слова в существенном для данной культуры тек-
сте и метатексте. «Сюжеты русской литературы» меньше, чем можно
было ожидать, заинтересованы в собственно сюжетосложении или в
родословии характеров. Ранние открыватели сквозных положений
русской литературы— скажем, автор знаменитой статьи «Русский
человек на rendez-vous» или полузабытый Осипович-Новодворский,
в «Эпизоде из жизни ни павы ни вороны» собравший у одра изды-
хающего Демона целый выводок его литературных детей, — напрас-
но просятся в предшественники нашему филологу. Слово-мотив, в
крайнем случае, ситуация, означенная как бы вскользь оброненной
фразой, а не сюжетный кирпичик, перипетия, и не типологическая
черта персонажа, — вот квант рассмотрения. Точнее, вглядывания:
феноменалистики и физиогномики. Вглядывания и вслушивания.
Осмысляющий слух Бочарова изумителен; здесь, по-моему, нет ему
равных (я даже не добавляю: «сегодня»). Это явлено в «мелочах»
высшей пробы. Например: «...дьявол с Богом борется (из зацитиро-
ванных слов Мити Карамазова о красоте). Не «борются» (в манихей-
ском некоем равенстве, — как часто запоминается нашему поверх-
ностному уму), а «борется» атакует дьявол, пытаясь похитить, оспа-
ривая у Всевышнего богосозданную, онтологически несомненную
512
Философская «собака, зарытая в стиле»
красоту. Или кто бы еще расслышал в мрачном стихотворении Хода-
севича об автомобиле: «Но с той поры, как ездит, тот,/ В душе и
мире есть пробелы, / Как бы от пролитых кислот», — в этом «как
бы» — тютчевский «знак высокой старинной поэтики в применении к
химической и технической метафоре века», а за ним — сразу весь
«контрапункт поэзии Ходасевича, его современности и его класси-
цизма»? В этой виртуозности главное — что она неотразимо точна,
суть не в остроумии, а высвобожденной ласточке смысла..
Триумф этого метода — статья-размышление «Праздник жизни и
путь жизни. Сотый май и тридцать лет. Кубок жизни и клейкие лис-
точки»1. Феноменология понятия «праздник» с его религиозными
призвуками, дерзкое обмирщение его в идущем от старой француз-
ской поэзии эпикурейском клише, и далее: Пушкин, прильнувший к
«кубку жизни», от юности до зрелой мудрости, припавший к нему же
Иван Карамазов в прении с братом Алешей о «клейких листочках»
(пушкинских тож), о жажде жизни и жажде ее смысла... Любо-дорого
следить, как путем чуткого внятия, различения полу- и четвертьто-
нов, и одновременно посредством жесткой философской аутопсии
«свежее слово» художника обращается в «идейную парадигму», из-
влекаемую исследователем на свет Божий без того, чтобы «свежему
слову» хоть сколько-то повредить. Замечу кстати: пусть Бочаров и
предупреждает, что любые спрямленные дороги от фактов поэзии к
философским тезисам сомнительны, сам он, «расщепляя» поэтиче-
ское слово и высвобождая его «эйдос», производит образцовое раз-
граничение философских позиций: эпикурейство, стоицизм, шопен-
гауэрианство, христианский взгляд (сошлюсь, в частности, на пора-
зительный этюд о стихотворении Тютчева «Итальянская villa» в ра-
боте «Литературная теория Константина Леонтьева»).
«Странным сном полна бывает и голова филолога...» Вот призна-
ние! Оно равносильно славному и неоспоримому: «Поэта далеко
заводит речь». Потому что в обоих случаях долгоиграющий, едва ли
не мирового размаха «сюжет» выстраивается как бы слово за слово.
«Собака зарыта» здесь в том, чтобы выследить эти тайные слова,
зародыши будущих событий и деяний. Сюжет «зарезанной любви» —
есть, оказывается в русской словесности такой, и идет он, конечно, от
Пушкина, от нескольких строк известного уподобления в «Сцене из
Фауста», от рельефной фигуры речи. Самая эффектная цепочка: на-
чиная одной из октав «Домика в Коломне», где поэт-повествователь
дает на мгновение волю мстительному порыву, воображает пожар
богатого новомодного дома, сгубившего прежний уголок, — к сце-
7217-1379
513
И. Б. Роднянская
нам поджога в губернском городе из «Бесов» — и наконец к «миро-
вому пожару» Блока. Мудро подавленное, оставившее лишь беглый
словесный росчерк чувство — и вдруг прорывается из подпочвы как
мятеж, а потом уже детонирует как «апокалипсис нашего времени».
И ведь действительно сюжет — не только русской литературы, но и
всей русской истории, крыть нечем.
Бочаров буквально ловит своих героев на слове, на соучастии в
«независимых», не зависящих от их воли перекличках. Вот: о «ми-
ровой гармонии», слагающейся из эстетически уравновешенных кон-
трастов добра и зла, — Константину Леонтьеву приходит тут на ум
прекрасная опера, но задолго до того, словно упредив неведомого
противника, Белинский с ядом называет нечто подобное усладой для
меломанов. Или— малосимпатичное слово «ковыряние», которым,
не сговариваясь, метят Леонтьев и Тургенев новую, отягощенную
«лишними» подробностями манеру письма (включая Толстого). Та-
ким занимательным совпадениям ненавязчиво придается значимость
и значительность — как проявлениям общей жизни русской литера-
туры, совокупного источника ее сюжетов.
Слово у Бочарова на заметке, в ореоле свободных валентностей, и
то справедливо также в отношении специфического «чужого сло-
ва» — слова тех разнокалиберных коллег, кто привлечен в спутники
по филологическому прочтению2. Чужое определение, формула, «мо»
(именной указатель отчасти свидетельствует о чрезвычайном объе-
ме этих извлечений) Бочарову, положа руку на сердце, не слишком
нужны— избыточны. Владея всеми артистическими оттенками ин-
теллектуальной речи, он, кажется, легко мог бы «переиграть» эти
посторонние удачи и находки. Но ему важно поместить себя в по-
лилог голосов, сгруппировавшихся вокруг «испытуемого» текста,
не остаться рядом с ним в идеологически-авторитарном одиночестве.
Здесь не просто научная корректность, понуждающая учитывать суж-
дения тех, кто до тебя приближался к твоему предмету. Здесь — тип
сознания.
Внимание к слову в ущерб вниманию к перипетии — это верный
признак нелюбви к законченности, окончательности (ведь в класси-
ческой парадигме цепочка перипетий приводит-таки к развязке, сло-
во же звучит и ждет отзвука невзирая на автономию текста, на по-
ставленную в нем точку). Слово открыто противослову за пределами
того исхода, которым сам себя итожит завершенный художественный
мир произведения.
Книга Бочарова начата работой о «возможных сюжетах» Пушки-
514
Философская «собака, зарытая в стиле»
на — в «Евгении Онегине» и не только там. Например, уясняется, что
завязка романа в стихах идет не от Татьяны, а от Онегина, от его
возможного чувства к ней при первой встрече, чувства, оставшегося в
сослагательном наклонении («...Я выбрал бы другую,/ Когда б я
был, как ты, поэт»)3.
За словом, указывающим на внесюжетную, иносюжетную воз-
можность движения, развертывается громадная перспектива, обозна-
ченная в книге пушкинской фразой: «Не говорите: иначе нельзя
было быть»,— повод для разговора о неполной детерминиро-
ванности, нефаталистичности исторических событий, о случае как
мгновенном мощном орудии Провидения и о человеке с его свобод-
ной волей как ловце такого случая. Что может быть привлекательней
(скажем, для меня) философской борьбы с историческим детерми-
низмом, ведущейся во имя и именем Пушкина? И все же у рассужде-
ния имеется обратная, не предвидимая автором сторона.
Да, возможность есть не пустая мечта, а особый модус бытия
(Бочаров вспоминает при этом Аристотеля). Но действительность —
она-то реализованный выбор между разными возможностями, ког-
да отсекаются все, кроме одной (героический выбор, как отзывается
сам филолог о выборе Татьяны в финале пушкинского романа). От-
каз от выбора превращает рой возможностей в беспробудное снови-
дение.
Чтобы не впасть в морализаторство, вернемся, обходя стороной
жизнь, к литературе. Бочаров цитирует известные слова Льва Толс-
того о творческой задаче писателя: «...обдумать мильоны возможных
сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/000000...» Задача же
исследователя — уловить и выявить конструктивное присутствие тех
немногих «возможных сочетаний», которые не были выброшены в
лабораторную корзину вместе с тысячами прочих, а оставили в текс-
те след: могло быть иначе; устремись воля художника по другому,
слегка намеченному руслу, открылись бы совсем иные дали, и перед
кем-нибудь, наткнувшимся на заброшенное ложе потока, они и
впрямь открываются— в преемственном творческом акте. Но это
задание имеет свой философский пафос и свою философскую оправ-
данность только в рамках классической нормы повествовательного
искусства. (Точно так бунт против устоев общества бывает полезен и
освежающ, пока общество это устойчиво.) Между тем постклассиче-
ское письмо, так сказать, методология компьютерного века, услуж-
ливо предлагает художнику включение неотброшенных возможно-
стей в самую программу произведения, отказ от линейности и, следо-
'/217*
515
И. Б. Родлянская
вательно, от выбора (неважно, что этим у нас пользуются пока авто-
ры второго и третьего ряда — «Зимняя пыль» Слаповского, «Спич-
ки» Бородыни, «Чайка» Акунина; на Западе — уже давно и первого,
Макс Фриш, например). В новой эстетической ситуации «возможные
сюжеты» назойливо определяют себя как ирреальные, отменяющие
самоё возможность реальности, — и пусть это станет маленьким зво-
ночком, тренькающим близ уха нашего автора...
Бочарову чрезвычайно пришлось по душе «коромысло антино-
мий», на котором, как замечено было Я. Э. Голосовкером, колеблет-
ся ум Ивана Карамазова. Даже сама фигура Ивана предстает «неким
мистериальным неравновесным живым коромыслом»: «идет как-то
раскачиваясь... правое плечо... ниже левого». Здесь нашему исследо-
вателю бросается в глаза именно «неравновесность» — как Иванова
ущербленность (шуйца, сторона нечистого духа, приподнята выше
десницы). Но «коромысло» Кантовых антиномий, на кои указывает
Голосовкер, да и любых нерешаемых антиномий вообще, — как раз
«равновесное», и в этом его искусительность. Прежде всего — для
автора данной книги. Почти во всех важнейших анализах и спорах
он стремится остановить в «колеблющемся равновесии» чаши весов,
сравнять в силе pro и contra.
Ясней всего эта «привязанность к коромыслу» манифестируется в
очень установочной статье «Из истории понимания Пушкина». Раз-
бор наиболее подходящего для такого случая пушкинского стихо-
творения «В начале жизни школу помню я...» превосходен, а замеча-
ние о том, что слово «бесы» применительно к античным «кумирам» в
(саду — не прямое, а «цитатное» слово, извлеченное воспоминателем
то ли из прежнего, отроческого сознания, то ли из кругозора его на-
ставников, — замечание это могло бы быть, в пику «выпрямителям»,
развернуто в целый очерк о благом чуде пушкинской уклончивости.
Но дальнейший вывод превышает смысловые границы даже такого
поразительного (и действительно незавершенного, — неумышленно,
или нарочито) создания: «Стихотворение ...держится на натяжении и
колеблющемся равновесии сошедшихся в нем гигантских всемирных
энергий... непримиренных огромных сил»; поэт сумел «организовать
во внутреннем мире встречу миров исторических — двух культурных
эонов — и взвесить спор, не решая его». Миры эти — античность и
христианство, но «в начале жизни» отрока-поэта их «колеблющееся
равновесие» — только ведь подорожная в его будущих творческих
странствиях. Однако чувствуется, как хотелось бы Бочарову распро-
странить этот, как говорили гегельянцы, момент на всю драму дви-
516
Философская «собака, зарытая в стиле»
жения «всемирных энергий», остановить чаши весов, в состоянии, не
предполагающем выбора. А ведь «взвесить» спор энергий, спор сти-
хий — совсем не значит их заклясть («заклинатель и властелин мно-
гообразных стихий» — формулу Аполлона Григорьев Бочаров выде-
ляет как наиболее близкую своему постижению Пушкина). Это зна-
чит— остаться созерцателем противоречия, отрешенно восклицая:
«Посмотрите! каковы?../ Делибаш уже на пике,/ А казак без голо-
вы!» ...Думаю, возможно показать превосхождение Пушкиным исто-
рических и культурных противоречий очень большого масштаба, и
это не станет насилием над ним («интерпретацией»).
Но Бочаров любит противоречие, любит не столько умом, сколь-
ко душой. (Может быть, так же, как о. Павел Флоренский, почти
освятивший противоречие, это удобное свидетельство невместимости
бытия в человеческий ум?) Поэтому так драгоценен ему Константин
Леонтьев — воплощенное противоречие, — предпочитаемый не
только «лукавому» диалектику Соловьеву, но иной раз и «грубому» в
своих квалифицирующих формулах Достоевскому. Леонтьев
«склонялся перед требованиями православной аскетики и не хотел
терять широты эстетических и культурных переживаний», — до чего
симпатично! до чего сродни каждой мятущейся душе!
При этом Бочаров прекрасно видит, что если повертеть это ко-
ромысло так и эдак, оно, того гляди, сломается. Прекрасно он видит,
что «православная аскетика», по Леонтьеву, отмечена таким безлю-
бовным радикализмом, что оказывается уже и не вполне православ-
ной. Он прекрасно видит (и сам о том пишет), что широта культур-
ных переживаний Леснтьева, переливающаяся в его «эстетику жиз-
ни», несет на себе театрально-декоративный, слегка бутафорский
налет. Что, если обратиться к «популярнейшей леонтьевской цита-
те»4— то станет очевидно: Моисея автор ее представлял себе по
скульптуре Микеланджело, а не по Библии,— гугнивого Моисея,
незадачливого убийцу египтянина, спустившегося, однако, с Синая с
непереносимо сияющим лицом от недавней близости Божией. Что,
да, «апостолы проповедовали» — а среди них первоверховный апо-
стол Павел, больной какой-то противной, неприглядной хворью,
«жалом в плоть», от которого Господь не давал ему избавления. Что
«мученики страдали» — красивая констатация, за которой в состав-
ленных ранними христианами актах стоят описания ужасных, от-
вращающих воображение пыток. Короче, как о Ницше писал Влади-
мир Соловьев, что его доктрина— мечтания «филолога», так и о
Леонтьеве можно сказать, что его эстетизм — поклонение не Красо-
17 - 1379
517
И. Б. Роднянская
те, а ее культурным отражениям разных эпох; ту же красоту, что
«тайно светит» сквозь «зрак раба» («рабский вид», как дословно пе-
ревел Тютчев со славянского догматическую формулу), он скорее
всего — именно как красоту — не переживал, хотя и упивался, уже
вторичной, красотой церковного обряда. И значит, меркнет все ве-
ликолепие центрального леонтьевского противоречия — обе его сто-
роны подмочены.
В книге можно найти многочисленные прокламации касательно
нерешенности и нерешаемости вещей самых важных в «сюжетах ли-
тературы» и сюжетах жизни, — и это принципиально. Насчет убеж-
денности Леонтьева в единственно реальной на земле гармонии —
гармонии света и тени, добра и выгодно оттеняющего его зла — го-
ворится: «Мысль старая как мир и вечно новая, убедительность ко-
торой равна ее соблазнительности» (курсив мой. — И. Р.). Так со-
физм ли это или, напротив, закон бытия? Дай ответ — не дает ответа.
С удовольствием исследователь отмечает «свободный поэтический
взгляд» Иннокентия Анненского на контроверзы «Преступления и
наказания»— «без однозначного между ними решения». О Досто-
евском и Леонтьеве: «Сейчас мы слышим обоих и заново переживаем
тот спор, который и до сих пор для нас не остыл... И оценивать нам
его сегодня не в чью-то пользу. Это был не мирный унисон, из кото-
рого никогда в истории мысли путного не было, а... та самая поэти-
ческая борьба, которую так любил Леонтьев». Но если спор «не
остыл», как можно удержаться, не ввязаться в него и кончить важ-
нейшую из своих штудий столь закругленным эффектом? Поистине,
подобное невмешательство должно стоить специальных усилий, свя-
занных с общими мотивами книги5. В иных случаях можно говорить
(подражая приведенной в книге характеристике: «вызывающе неточ-
ный» язык Бахтина) об ускользающе противоточном языке Бочаро-
ва. «Леонтьев был одним из источников той популярной сейчас, в
конце двадцатого века мысли, что большая русская литература отве-
чает за то, что случилось потом в русской истории». Речь идет о мыс-
ли — способной смутить и опалить; но удачно подобранным поясне-
нием «популярная» снят вопрос, насколько она жжет автора приве-
денных строк и жжет ли вообще.
Принципиальная, даже не лишенная внутренней патетики пози-
ция филолога-мыслителя — ее мы попытались описать — требует не
просто уважения, а вникания в ее собственную истину, в ее, быть
может, правоту? Ну, самое неинтригующее, поверху лежащее объяс-
нение — влиянием Бахтина, который, как показано в его философ-
518
Философская «собака, зарытая в стиле»
ском портрете Бочаровым-мемуаристом, не сочувствовал «сведению
концов с концами» и согласованию чего бы то ни было в «эпическую
гармонию». Диалог видится тотальным и незавершимым: спорят пер-
сонажи, творцы, культурные эпохи, понимая (вопреки О. Шпенг-
леру — М. Гаспарову), но и переиначивая друг друга, и нет ни у кого
права на последнее слово. Однако Бочаров— не эпигон коренных
бахтинских понятий, он их учитывает лишь там, где это нужно его
идущей своим путем мысли.
И все же без Бахтина не обойтись — в другом, менее очевидном
отношении. Бочаров — такой же персоналист, как и тот. Святыня
лица, «нежность» к лицу, а не только его филологическое осви-
детельствование для него важней всего. Он пишет о тех, кого любит,
и тех, кого любит, — не судит. Конечно, можно съязвить, что сами
его «объекты» не того ранга, чтобы лезть к ним с поучениями. Но,
нет, не противопоказанная ответственному уму почтительность—
именно любовь к лицу побуждает Бочарова не применять ранящей
методики вскрытия, оставляя речи каждого в их недоговоренности, с
их «бледнеющими промежутками» (К. Леонтьев)6. «Досказать речь
Диотимы» в Платоновом «Пире» — на такое мог решиться разве что
Владимир Соловьев, за что и прослыл доктринером.
Наконец, главное опять-таки совпадает с бахтинским «кодексом».
Собеседнику Михаила Михайловича, Бочарову, запомнились слова:
«Правда и сила несовместимы». Эти слова отнюдь не оспорены, ско-
рее— приняты в сердце автором «Сюжетов...». Отсюда: акт выбора
означает давление на одну из чаш весов, пребывающих в «колеблю-
щемся равновесии». И даже если это выбор правды (Правды — на-
чальную букву можно и повысить), она, оказавшись в позиции силы,
тотчас перестает быть собой. Тут бесполезно возражать, что не вся-
кая сила есть насилие и что «слово со властью» привлекает, а не на-
силует. Тут— наиинтимнейшая установка души, надежно защищен-
ная от любых наших резонов.
С этой-то установкой связана полемика вокруг «авторитарных
тезисов» коллег — Валентина Непомнящего и Татьяны Касаткиной,
полемика, которую Бочаров ведет, я бы сказала, с суровым юмором
и художническим воодушевлением. Это самый щепетильный момент
в ходе моих заметок, потому что никто не ставил меня арбитром
между такими людьми, такими филологическими писателями. И все
же я трусливо отступлю, если не признаюсь, что, с одной стороны,
согласна с Бочаровым в существе дела, но с другой, — по извлечении
«существа» нечто обнаруживается в сухом остатке.
17*
519
И. Б. Роднянская
Оба названных автора— интерпретаторы Пушкина и Достоев-
ского, а интерпретация, как определяет ее Бочаров,— это «авто-
номная область порождения собственных смыслов, затем обратным
ходом приписываемых тексту». Понимание — союзничество с иссле-
дуемым текстом, пребывание близ него; интерпретация — «агрессив-
ное давление на текст», его «идеологическая редукция», заносчивое
пребывание над ним. Что ж, идет ли речь о прочтении Непомнящим
пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» или
о толковании Касаткиной, скажем* романа «Идиот», — все, что пи-
шет Бочаров об этой «религиозной филологии» и о присущих ей спо-
собах препарирования, более чем справедливо. Грустно за тех, в кого
попали стрелы, но радость от «экологической» защиты любимых со-
чинений, от доказательства их «неприступности» превозмогает огор-
чение. Меткость же попаданий почти скрывает легкое дрожание ра-
зящей руки.
И все же. Неужели «третьего не дано»? Неужели понимание всегда
означает покорное согласие с мыслью художника, а интерпретация,
то есть (говоря без обвинительного уклона) истолкование этой мыс-
ли в контексте мысли собственной, означает, опять-таки всегда, об-
ращение художника в искалеченного Гуинплена? Нельзя ли пони-
мать, оставаясь при своем, и интепретировать без ножа? Понимал же
Леонтьев литературные удачи лукавца Вольтера!
Вот автор «Сюжетов...» встает на защиту безусловно прекрасного
стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре». Обороняет
блоковский шедевр от Непомнящего, который хотел бы изъять из
роковой концовки слова «причастный тайнам» (Тайнам), тяготясь
заключенным в них «диктатом» (причащенный Св. Тайн ребенок
прозорливо ведает, что все, о ком только что молились в храме, не-
милосердно обречены — ибо так устроен мир). Бочаров прав: жела-
ние интерпретатора «исправить» стихотворение, удалив из него сло-
ва, ради которых, именно ради них, ради этого Weltschmerz'a, оно
было написано, — безумное, хотя и трогательное желание. Но так ли
он прав, становясь (как всегда это делает) на сторону художника и
утверждая, что «срыв» в конце стихотворения уравновешен всем,
представленным до этого поворота? Так ли помогает тут ссылка на
авторитет В. Вейдле, «художественного критика и верующего чело-
века», пояснявшего, что поэт «уверениям веры не верит... а все же...
обращает лицо к алтарю, оттого и печаль его стихов оказывается
проникнутой чем-то ликующим и светлым»? Дивное стихотворе-
ние — почему не признать, что оно — по сути — кощунственно? За-
520
Философская «собака, зарытая в стиле»
чем оставлять этот прямодушный вывод на долю атеистов и бого-
борцев? Да, неземная красота — но она заемна, заимствована из кра-
сок богослужения, проникновенных слов ектений, светоносной атмо-
сферы храма и девической чистоты, к чему поэт все еще чувствителен.
Угрюмый итог, не побоюсь сказать, паразитирует на этой красоте,
подсвечен ею, потому и кажется неотразимым. Точно так же лермон-
товско-врубелевский Демон в медленно гаснущем, как «вечер ясный»
оперении, все еще красив, и его саркастические слова о тщете на-
дежды: «Простить Он может, хоть осудит», — в точности так же гип-
нотичны и провокационны, как последний катрен блоковских сти-
хов. Не будем же отрицать «угрюмства», какое знал за собой поэт.
Не откажем в понимании и «наивной» реакции Непомнящего.
Примечательно, что Бочаров почти не соударяется с «чужими» —
с такой крупной фигурой, как М. Гаспаров (хотя неприятие послед-
ним Бахтина не позволило полностью избежать спора). Он очень мяг-
ко возражает В. Шмиду и другим западным славистам, которые по
части акробатических интерпретаций порой дадут сто очков вперед
главным объектам бочаровской критики. Он мало интересуется «уль-
транынешними» теориями текстового анализа, которые, казалось бы,
могли вывести его из себя. Как правило, он оппонирует «своим», тем,
кто говорит на общем с ним ценностном языке, языке горних смыс-
лов, но говорит другое и по-другому, прибегая к указующим «пас-
тырским жестам». (В случаях, когда к таким «жестам» прибегают
Гоголь, Достоевский или Соловьев, им тоже не прощается.)
Понятное дело, Бочаров защищает статус литературоведения как
«осмысления самой литературы изнутри», как продолжения литера-
туры ее собственными средствами — защищает от средств, привно-
симых извне, из особенно болезненной для него (потому как не сов-
сем чужой) сферы идеологизированного «благочестия». Но сама его
книга, напрягающая читателя каждым неординарным изгибом фра-
зы, ворошит такие предельные «вопросы жизни», что сугубо литера-
туроведческой ее не назовешь. Не хочется называть ее и блистатель-
ной (хотя она блистательна), поскольку ее внутренний накал не вя-
жется с этим льдистым эпитетом. И однако, куда денешься — распо-
ложилась она на острове блаженных, в некоторой Телемской обите-
ли, где вершинные фигуры старой культуры дороги немногим уже
избранным, где самые яростные стычки происходят в одном тесном
смысловом кругу, — а между тем волны и вихри постцивилизации
все сильней налегают на сей заповедник. Чует ли самый чуткий из
больших наших филологов это веянъеЧ
521
И. Б. Роднянская
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мне особенно полюбившаяся в массивном богатстве книги; хотя автору,
чувствуется, дороже другая — «Холод, стыд и свобода» — на пушкинско-
гоголевско-достоевский «сюжет», сопоставленный с библейским сюжетом
грехопадения прародителей. Но там, по-моему, филологический невод за-
брошен слишком глубоко в пучину последних сущностей, и нет уверен-
ности, что его удалось вытащить.
2 Поучительно, что пушкинисту Непомнящему коллеги-пушкинисты ни к
чему — за редкими исключениями.
3 Бочаров замечает, что этот момент еще должным образом не оценен ис-
следователями. Справедливости ради укажем, что реплика Онегина не
прошла мимо внимания Белинского (хотя он «из принципа» отвергал вся-
кую возможность чувства Онегина к Татьяне— неопытной девочке):
«Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух
невнимательных взглядов, чтобы понять разницу между обеими сестра-
ми...»
4 «...не ужасно ли и не обидно было бы думать, что Моисей всходил на Си-
най...» и т. д.
5 Позволю себе экскурс по поводу одного из таких мест» вокруг «слезинки
ребенка» (С. 377): «... она поколеблет картину вечной гармонии так, что
писателю до сих пор на эту тему с нами не объясниться...» Колебание же
невыносимое — близ довода «о невозможности принесения в "строитель-
ную жертву" одного человеческого существа». Недавно С. Ломинадзе по-
лемизировал на этой территории с К. Степаняном, приписывая аргумент
от «детской слезинки» глубочайшему мирочувствию самого Достоевского
и отметая замечание А. Василевского, что мысль из главы «Бунт» идет все-
таки от персонажа, а не от автора «Братьев Карамазовых». Бочаров осто-
рожно солидаризуется с Ломинадзе. Тут, по-моему, наряду с натуральным
этическим порывом, еще и какое-то тягостное недоразумение, во всяком
случае среди людей, чтущих, догадываюсь, Евангелие. Словосочетание
«строительная жертва» взято Бочаровым из одной работы В. Е. Ветлов-
ской, где Ивану Карамазову с большим или меньшим успехом приписы-
вется кардинальная причастность к масонству и к его эзотерической сим-
волике. Но, если отвлечься от этой символики, травестирующей всечело-
веческие архетипы, и от самого диагноза, выставленного Ивану, нужно со
всей силой сказать, что для верующего ума (в том числе для ветхозаветно-
го и языческого) на жертве стоит все мироздание (отсюда и гекатомбы, и
всесожжения, и даже человеческие жертвоприношения — все то, совсем не
пустое и не суеверное, все то всеобщее мифо-действие, от чего освободил
человечество Христос). А сам Христос — именно что «строительная жерт-
ва»: Камень, который отвергли строители, стал во главу угла— нового
соборного вселенского здания Церкви. И Он же — жертва искупительная.
Потому-то на слова Ивана Алеша отвечает напоминанием о Едином Без-
грешном (так что на «диалектику» Ивана откликается не только «космо-
дицея Зосимы», но и прямой Алешин возглас). Больше того, Церковь сак-
522
Философская «собака, зарытая в стиле»
рализует не только добровольную жертву — Христа и его последователей,
но и жертву, не связанную с волеизъявлением: канонизированы изничто-
женные Иродом в Вифлееме еврейские младенцы — как принявшие смерть
Христа ради. И вообще, в круговой поруке общей вины невинные гибнут
за виновных, Достоевский ли об этом не знал? Все это не противоречит
нравственной невозможности устраивать свое счастье на несчастье друго-
го (Татьяниного мужа в Пушкинской речи Достоевского, на которую в
этой связи ссылаются и Ломинадзе, и Бочаров) и не оправдывает притяза-
ния новых иродов основывать сулимое в будущем благоденствие на по-
гублении ныне живущих. Невинно погубленные и ироды скажутся по пра-
вую и левую сторону престола Господня.
Можно, конечно, посчитать эту «экзистенциальную метафизику» про-
сто эквилибристикой фарисействующих умов, но тогда уж надо до конца
оставаться с Иваном Карамазовым во всем. Бунтовать так бунтовать.
(Кстати, мне кажется, Достоевский, вопреки мнению Бочарова, любит
Ивана Карамазова не меньше, чем Раскольникова. Любит, но делает иной
выбор.)
6 Иногда эти «промежутки» представлены, на мой взгляд, слишком уж
«бледными», как у других бывают слишком картинны искусственные ин-
терпретации... Для моего грубого ума не составляет такой уж загадки, от-
чего в «Станционном смотрителе» Дуня по доброй воле увозимая из от-
цовского дома, плачет в кибитке — она оплакивает трагическое неведение
отца, добродушно подтолкнувшего ее к окончательному решению: дес-
кать, прокатись, чего боишься?— оплакивает и свою внезапную реши-
мость, отягощенную виной. Загадочности здесь не больше, чем в пресло-
вутой реплике доктора Астрова насчет «жарищи в Африке», — а вот поня-
тие «подтекста» не стоило бы так резко отвергать.
523
В. Непомнящий
НМЛ И им. А. М. Горького РАН. Москва
О ГОРИЗОНТАХ ПОЗНАНИЯ И ГЛУБИНАХ СОЧУВСТВИЯ*
I
В свою книгу «Сюжеты русской литературы»1 Сергей Бочаров
включил, на правах особого жанра, обширные постскриптумы к ряду
статей, имеющие самостоятельный, порой фундаментальный в кон-
тексте книги характер. Один из них занимает особое место: сопро-
вождая им суровый разбор книги Татьяны Касаткиной о Достоев-
ском, С. Бочаров предъявляет серьезные обвинения уже целому явле-
нию, обнаруженному в современном литературоведении. Для явления
характерны «демонстративно ненаучный» подход и «идеологи-
ческие» претензии к исследуемым текстам, «недоверие» к ним и
«неслышание» их, «своеобразная духовная цензура» и другие «не-
безобидные», как пишет С. Бочаров, «способы чтения литературы».
Название направления заимствовано С. Бочаровым у другого ав-
тора и образовало заголовок постскриптума: «О религиозной фило-
логии».
Издавна, по крайней мере со времен Гоголя и славянофилов,
предпринимались попытки рассмотреть, исследовать, понять то, что
теперь называется русской классической литературой, как духовный
феномен— безусловно стоящий особняком в литературе мировой.
В советском литературоведении эта тема осталась, но в принципи-
ально усеченном виде, обозначаясь как «национальное своеобразие
русской литературы». Усечению подвергся главный, именно миросо-
зерцательный, срез темы. Универсально-человеческое содержание
русской классики было непозволительно рассматривать в том рели-
гиозном — духовном, идейном, ментальном — контексте, в каком
оно на деле складывалось: в контексте веры в «вечные истины» (XI,
* Краткий вариант опубликован: «Новый мир», № 10, 2000.
524
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
201)2 и высшие ценности, которые понимались в России как истины
христианские и ценности православные и отношение с которыми
определяло характер этой литературы, ее идеалы, пути и драмы.
Теперь эта тема — не только потому, что стало «можно», но и от-
того, что вопрос ценностной самоидентификации стал сегодня одним
из вопросов жизни и смерти нации и культуры,— вышла наружу
(вместе со своими, как и у всякого подхода издержками) и встречает
сопротивление, порой яростное, как в поверхностных (фельетонис-
тических, сказал бы Герман Гессе) слоях культуры, так и на научном
уровне, где ценностного подхода, считая его «идеологически м»,
сторонятся как огня. Вообще, «идеологическим», а также ненаучным,
субъективистским (в лучшем случае — «субъективным») называют по
сложившейся традиции все, что выходит за пределы той объектив-
ности и научности, представление о которых заимствовано из есте-
ственных и точных наук и применено филологией к себе; все, что
прикасается к глубокой специфике русской литературы как словес-
ности христианской нации, как деятельности, держащей в поле зре-
ния основы человеческого бытия, духовного и нравственного, нако-
нец как слова, сказанного о человеке и к человеку же обращенного.
Сохраняется в неприкосновенности старинное, историей уже снятое,
жесткое противопоставление науки и религии (больше вредящее
именно науке, где необходимые ей начала веры и интуиции работа-
ют, получается, как бы не вполне легитимно); и, надо сказать,
«научное» в последнее время проявляет несравненно большую агрес-
сивность, чем «религиозное».
Тема, о которой идет речь, непроста. Она почти недоступна при
том узкофилологическом подходе, какой годится для изучения лите-
ратуры всякой, литературы «вообще», она предполагает внимание к
национальной традиции, к национальной картине мира, где религи-
озное начало — структурообразующее. Материя тут не категориаль-
ная: в религиозной ипостаси русской литературы поистине «дышат
почва и судьба», но в то же время не «кончается искусство» — хотя
порой порывается к этому; здесь требуется действительно «другая»,
по выражению Т. Касаткиной, научность. Научность специфически
гуманитарная — поскольку предмет слишком выдается в ту область
человеческого, которая включает и самого исследователя, так что
отстраненно-объектное, по образцу «позитивных» наук, исследова-
ние здесь столь же затруднительно, как затруднительно выпрыгнуть
нам из себя; научность, гуманитарная до дна — поскольку исследует-
ся не только материя слова, но и дух его — в свете «вечных истин» и
525
В. Непомнящий
высших ценностей. Дух тонок, а данные человеку истины просты, и
исследовательское слово часто оказывается немощно удержаться на
лезвии: избегая дурной бесконечности глубокомысленного ученого
кружения в лабиринтах отвлеченностей, «больных и бесплодных
запутанностей, таящих соблазн» (И. А. Ильин), не впасть в другую
крайность— дурную простоту, таящуюся в соблазнительных пра-
вильностях формул, грубом наложении «общего» на «особенное»,
духовного на эстетическое и наоборот, жесткости интонаций и убеж-
денности без убедительности.
Все такое, конечно, встречается в литературоведении везде— и
везде по-своему. Внимание С. Бочарова «небезобидность» таких из-
держек привлекла именно в работах, открыто представляющих тот
подход к изучению литературы, который можно назвать аксиологи-
ческим, ценностным, можно и религиозным. Название С. Бочарова
радикальнее: «религиозная филология»,— оно представляется ему
«удачным» и, судя по всему, в научном смысле ясным. Но ведь с ка-
кой стороны смотреть; иначе говоря, в каком контексте, с какою
целью и как название употребляется.
Неясность очевидна в самом обращении автора с этим названием:
в начале постскриптума определение «религиозная филология» — окра-
шенное ярко отрицательно— признается изобретением коллеги, и
притом «удачным»; в конце же оно нечувствительно превращается у
автора в самоопределение «уверенно утверждающего себя» направле-
ния — ив этом новом качестве объявляется уже не удачным, а «проб-
лематичным»; поскольку же такого самоназвания— «религиозная
филология» — вообще нет, то все вместе выходит как-то приблизи-
тельно, что науке не подобает.
Что ясно в этом определении, так это — эмоциональный обертон:
отчужденно-, или раздраженно-, или язвительно-ироническая окрас-
ка (мол, «что может быть доброго...» и т. д.), словно бы имеющая в
виду сочувственника, которому неприглядная суть явления, наимено-
ванного «религиозной филологией», должна быть так же очевидна,
как, к примеру, смысл выражений «плохая погода» или «нехорошая
квартира». Другими словами, «научно» понравиться такое определе-
ние должно скорее всего тому, кто разделяет мнение об одиозности
религии как таковой и ленинскую иронию в отношении «боженьки».
Но не на это, по-видимому, рассчитывал автор.
Другая неловкость— в том, что определение заставляет усмот-
реть (или, лучше, предположить) у автора идею: вот, мол, была у нас
безрелигиозная филология — настоящая, научная, а теперь...
526
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Но и этого автор, может быть, не хотел. Он ставит вопрос иначе.
«Была у нас религиозная философия, пришло время религиозной
филологии», — как бы с иронической усмешкой говорится в первых
строках постскриптума. Если создатели русской религиозной фило-
софии, продолжает С. Бочаров, «были озабочены обоснованием сво-
его пути: как возможна религиозная философия, соединяющая про-
блемность и критичность научной мысли с догматичностью мысли
религиозной?» — то «религиозная филология», предполагает он, «оче-
видно, не видит в своем собственном самоопределении особой проб-
лемы и просто уверенно себя утверждает» — как «новое слово в ли-
тературной теории».
Все это выглядит опять-таки язвительно, но уже отчасти и научно.
Однако речь идет все-таки о бузине и дядьке. Параллель, проводимая
С. Бочаровым: «религиозная филология наших дней рифмуется с
религиозной философией, явлением начала века...»,— произвольна
настолько же, насколько поверхностна. Она и основана именно и
только на «рифме» («религиозная фило-...»), да притом еще ис-
кусственно созданной: само наименование «религиозная филология»
придумано только что, как раз в эту самую рифму, — ведь для того,
чтобы поставить в печку, надо назвать горшком. Впрочем, параллель
все же действительно может иметь место — но только совсем другое,
не в области рифмовки, и с совсем другими выводами.
В самом деле: общее у религиозной философии и филологии — то,
что и та и другая имеют своим предметом в конечном счете слово, а
содержанием— исследование, понимание, толкование слова. Вот,
собственно, все совпадение, дальше начинаются различия.
Слово, с которым имеет дело религиозная философия, есть Слово
Божие, предмет сакральный, иноприродный философии, занятию
секулярному. Отсюда и «особая проблема», которою, как пишет
С. Бочаров, была «озабочена» религиозная философия начала века:
как остаться самой собой, философией, секулярно «проблемной и
критичной», в отношениях с явлением иноприродным, священным? и
как, в то же время, уберечь сакральное Слово от секуляризации и,
стало быть, редукции в системе и языке науки?
Никакой подобной проблемы для филологии никогда не было и
быть не может: слово, с которым имеет дело филология — как бы
художественно, велико и гениально оно ни было, — есть слово чело-
веческое, предмет одноприродный секулярному занятию филологии,
как ее ни назови — хоть «новой», хоть «религиозной» (в известном
смысле исключение составляет, может быть, филологическое изуче-
527
В. Непомнящий
ние священных текстов, производимое на богословской основе, но
это совсем другая тема). Скажут о «чудесности» (С. Бочаров), «бо-
жественности» поэтического, положим, слова— то есть о нашем
ощущении, что за таким словом Бог стоит, — но ведь это вовсе не
означает, что поэтическое слово есть иноприродное нам, не челове-
ческое слово. Не совершают ли люди чудес во всех других областях
своей деятельности? не стоит ли Бог за делами и поступками Жанны
д'Арк или Ивана Сусанина, Менделеева или Пирогова, доктора Гаа-
за или Януша Корчака — меньшие ли это чудеса, чем слово поэзии?
Все, что делают люди прекрасного, в конечном счете божественно и
чудесно, все исходит от Бога. Если «чудесность» и «божественность»
представить преимущественным свойством слова художника, то,
боюсь, надо будет упразднить всю филологию, оставив только
«религиозную», или уж всей науке присвоить такое определение.
Итак, религиозная философия имеет дело со Словом Божьим, а
филология — с человеческим. И потому заставлять филологию, спе-
циально названную для этого религиозной, выполнять требования,
которые ставила перед собой религиозная философия, — мягко гово-
ря, некорректно. Если же все-таки настаивать — тогда надо честно
заявить: поэтическое слово — текст священный, требующий к себе
соответственного отношения, включая религиозную веру в его не-
пререкаемость; текст, ограничивающий, или даже пресекающий,
права критики в обычном смысле и пр. То есть, если религиозная
философия была «озабочена» тем, чтобы уберечь священное Слово
от секуляризации, то воображаемая «религиозная филология», следуя
необходимости «самообоснования», которого требует С. Бочаров,
должна совершить обратное действие — сакрализовать человеческое
(поэтическое) слово, отнесясь к нему как к святыне в прямом, культо-
вом смысле— и тем самым превратить свое «самообоснование» в
самоотрицание филологии как сложившейся науки.
Вся эта «ахинея» (словцо Достоевского, употребленное С. Боча-
ровым в его книге) — из-за одного-единственного слова «религиоз-
ная», легкомысленно приставленного к «филологии» по соблазни-
тельной формальной аналогии, короче говоря, из-за «рифмы». Поне-
воле согласишься, что слово не воробей.
Впрочем, насчет легкомыслия я могу ошибиться: призрак описан-
ного культового отношения к слову поэзии не только вырисовывает-
ся из теоретического посыла автора, но и на практике — или мне это
кажется — бродит по страницам постскриптума. Но я забежал впе-
ред. Сейчас лучше сказать так: кое-что у С. Бочарова, в его сопо-
528
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
ставлении философии и филологии, угадано или почувствовано, вот
только истолковано причудливо. А если отбросить «рифму», отло-
жить в сторону неприязненную и, в предложенном контексте, безот-
ветственную формулу «религиозная филология», то из сопоставления
очень можно извлечь толк.
Надо, например, вспомнить, что русской религиозной философии
потому и понадобилась, как пишет С. Бочаров, «работа самообосно-
вания», что до нее родовым признаком философии Нового времени
было сознание мировоззренческой суверенности, эмансипации от
религии; философия была сама себе «религия», она вытесняла рели-
гию и, как видим сегодня, довольно успешно. Русская же философия
в том и оригинальна была, тем и «озабочена», что впервые в Новое
время строилась на совсем иных основаниях: оставаясь наукой, к
тому же мировоззренческой, вписала себя в контекст христианской
веры. С филологией дело обстоит совсем иначе: она (разумеется из-
учение духа ее предмета, а не только буквы) всегда покоилась на вне-
положных ей мировоззренческих основаниях и в этом смысле всегда
была «религиозна»: ведь и евангельское «В начале было Слово», и
просветительский Разум, и марксистские в начале была материя и
«Религия есть опиум...» суть предметы веры; и мировоззрение науч-
ного позитивизма, захватившего в последние столетия гуманитарную
сферу, есть в своем роде религия; и сама наука, наконец (будь то фи-
лология или математика), родилась из представлений о бытии как
устроенном целом, стало быть имеет религиозные корни. «Религиоз-
ность» филологии — никакое не «новое» слово, скорее хорошо забы-
тое старое, тем более поскольку речь идет о науке гуманитарной.
Другое дело, что это качество настолько в крови у таких наук, что
словно бы и не предполагает специальной рефлексии (особенно в
эпоху, когда, по выражению Е. Лебедева, «сознание гуманитариев
перестало быть гуманитарным»), и то явление, которому С. Бочаров
посвятил свой постскриптум, — вовсе не «самоутверждение» какой-
то новой, «религиозной», филологии, а скорее попытка самоосозна-
ния филологии в «старом» качестве: деятельности, самоназвавшейся
любовью к Логосу (где Логос безусловно содержит в себе не только
«обыденное» значение единицы речи, но и онтологический, религи-
озно-философский, пусть дохристианский, смысл); попытка об этой
своей природе вспомнить, ее посильно осмыслить и осуществить уже
на основе христианского опыта, — который и русскую литературу
создал.
Русские религиозные мыслители начала века тоже пытались
529
В. Непомнящий
«вспомнить» о природе философии: в известном смысле вернуть ее к
тому, чем она была во времена, скажем, Платона и Аристотеля, когда
философия сознавала себя свободным исследованием, ведущимся в
порядке диалога между двумя субъектами: миром божественным и
миром человеческим, — диалога свободного и равного, если не по
силе, то по достоинству. Воспроизвести такую позицию на христиан-
ской основе было для русской философии действительно непросто:
ведь об античном «равенстве» тут речи быть не может— «второй
субъект» диалога, человек, должен прежде всего слушать обращен-
ное к нему иноприродное, священное Слово, предназначенное не для
«проблемного» и «критического» рассмотрения, а для понимания и
исполнения.
В филологии все проще: ее диалог, как сказано, ведется со словом,
одноприродным ей, то есть между изначально равными субъектами.
Только ведется этот равный диалог— с христианской точки зре-
ния — не в пустом или «научно» нейтральном пространстве, а перед
лицом истинного Субъекта бытия: каждое слово человека изречено
(скажем, писателем) или изрекается (скажем, исследователем) перед
лицом Слова, без которого «ничто (в том числе и человеческое сло-
во. — В. Н.) не начало быть» (Ин. 1, 3). И только от Него слово чело-
веческое может получить отблеск Божественного совершенства (у ху-
дожника) и истинности (у исследователя); и перед Ним же оно отве-
чает, «ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься»
(Мф. 12, 37), и к тому, чье орудие слово, это имеет отношение особое.
Секуляризация сознания упразднила (в лучшем случае вынесла
«за скобки») Субъекта бытия, тем самым и Слово, Которым «все
начало быть»: субъектом назвался человек. В отношении человека к
слову произошло, в общем, то же, что в отношениях человека с ми-
ром: упразднив или вынеся за скобки Бога, человек сам стал на место
Бога— и немедленно осознал весь мир, разумеется и слово, своим
объектом. Между двумя одноприродными, тварными явлениями —
человеком и данным ему словом— возникли мистифицированные
отношения метафизического неравенства (как в пушкинской форму-
ле: «...для нас орудие одно»). Человек стал относиться к слову лишь
как к своему орудию и объекту — что и стало, в частности, основой
позитивистской филологии, литературной науки. Анализ и критика
слова (писателя, например) получили «точку отсчета» не в области
Слова, универсальной, всеобщей области «вечных истин» и высших т
ценностей, а в сфере частичных и частных правд, секулярных — на-
учных и иных — ценностей, истин и интересов «субъекта».
530
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Отношение исследователя литературы к слову как субъекта к объ-
екту есть, с гуманитарной стороны, глубоко ущербный подход. При-
том он вовсе не исключает восхищения совершенством, «чудеснос-
тью» (С. Бочаров) слова, поклонения ему, — напротив, все эти знаки
нашей памяти о Божественном отсвете Слова на слове приобретают
даже особую остроту и напряженность, порой до экстатичности (на-
подобие гимна «голубому небу» и «клейким листочкам» из уст Ивана
Карамазова, в «порядок вещей» не верующего), что говорит о неис-
требимой потребности человека в вере и поклонении «чему-то выс-
шему». Но ведь идол и кумир, какие бы не воздавались им почес-
ти, — все равно объекты. Наслаждаясь красотой слова, называя его
«божественным» и «чудесным», обоняя аромат его совершенства, мы
вполне можем не слушать того, что и о чем оно говорит; восприни-
мая отсвет Божественной красоты — не слышать отзвука Божествен-
ной правды, «вечных истин». Видя в слове лишь объект— изучения,
восхищения, критики,— мы лишаем его голоса, помещаем себя в
некую превосходительную позицию оценки, порой гурманской, пре-
тендуем на некую высоту истины. Но ведь нам до этой высоты дале-
ко, мы всего только люди. По-настоящему судить, восхищаться, из-
учать мы можем только из глубины сопереживания слову — сопережи-
вания как Правды и Красоты, просвечивающих в слове, так и нашей
общей неправды и некрасоты, запечатлеваемой им. Мы можем су-
дить из глубины нашей сопричастности, совиновности, сочувствия —
из той глубины, к которой можно отнести: «так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).
Христианский подход к изучению слова художника есть отношение к
нему не как к объекту рассмотрения, а как к субъекту переживания;
это и называется — слушать.
Слушать все слово, а не только его гармонию и красоту.
(Собственно, это вещь универсальная, а не только научная. Наш
тварный мир только тогда может достигнуть субъектности— на
ином языке, спасения и обожения, — когда будет стремиться к субъ-
ектным отношениям внутри себя, когда никто никого не будет счи-
тать своим объектом.)
Филология между тем предпочитает в основном иной путь. Она,
как правило, из двух— если вспомнить Канта— величайших для
человеческого разума тайн выбирает не «нравственный закон внутри
нас», а «звездное небо над нами», не «вечные истины» и высшие цен-
ности, издавна, по Достоевскому, встречающиеся, как на «поле бит-
вы», в «сердцах людей» (а стало быть и в слове) с известным против-
531
В. Непомнящий
ником, а именно секреты мироустройства (в их филологическом пре-
ломлении); не экзистенциальное в слове, а причастное в нем к пау-
тинно-непостижимой вязи мироздания, к той, как выразился один
встретившийся мне когда-то безумец, «формуле Логоса», которая, по
его признанию, была им «открыта». Конечно, человек и должен ста-
вить себе цели невозможные и безмерные, и без безумия, о чем Нильс
Бор говорил, наука немыслима; и все это было бы замечательно, если
бы не считалось, что только тут истинная, коли вообще не един-
ственная, цель науки о литературе; если бы рядом с этой целью почти
всякая попытка в слове поэта узнать голос человека, пусть иного, чем
мы, но и такого же, как мы, уловить в эстетически преображенном
духовном его мире, в подчас необходимо условном («лирический
герой») преломлении этого голоса, экзистенциальное переживание
онтологии мира, — если бы, говорю, почти всякая попытка подобно-
го рода не оценивалась в конце концов как нефилологичная, некор-
ректная, ненаучная,субъективная.
Впрочем, с последним определением я теперь мог бы, на худой
конец, и согласиться — при условии, однако, что «субъективный» бу-
дет здесь означать — субъектный (подход к слову литературы как к
целостному субъекту), а то, что называется в современной науке
«объективным» подходом к слову, будет именоваться подходом объ-
ектным (видящим в слове лишь его часть, объект изучения).
Таким образом, в отличие от религиозной философии, строив-
шейся на новых в христианском мире основах, критикуемая С. Боча-
ровым филология пытается исходить из старых, забытых, отошедших
в тень позитивизма, основ христианского, то есть субъектного, от-
ношения к слову. Это-то старое и воспринимается как нечто совер-
шенно «новое», и притом крайне предосудительное. Тут уместны
слова Т. Касаткиной насчет «принципиального отторжения религи-
озного способа мышления о мире», которое «необходимо при-
суще научному (в смысле последних двух веков) позитивистскому
мышлению...»3.
Как конкретно происходит это отторжение, по крайней мере,
один из способов, мы можем сейчас увидеть. Я специально выделил в
цитате слова, говорящие не о «науке вообще», а именно о позити-
вистской науке «в смысле последних двух веков». В самом начале
постскриптума «О религиозной филологии» эта позиция искажена
просто-таки до невозможности: у Касаткиной, пишет С. Бочаров,
«прежде всего констатируется несовместимость религиозной и
научной картин мира...», — и такой «пересказ» есть исходный крити-
532
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
ческий шаг автора. Но ведь яснее, чем было сказано, не скажешь, —
отчего же так превратно прочтено? или для критика позитивистская
научность и в самом деле единственно истинная, а другой не бывает?
Тут кстати и слова, идущие почти сразу после «пересказа»: «На
свою религиозную позицию личную, — пишет С. Бочаров, — филолог
ссылается как на теоретический аргумент, в конечном счете решаю-
щий», и такова, мол, «религиозная филология», стоящая «на демон-
стративно ненаучном основании».
Здесь замечательно само построение высказывания— его под-
черкнутого тоже места: «На свою религиозную позицию личную», —
это так неясно и скользко, что не разберешь: то ли в понимании ав-
тора всякая «религиозная позиция» вещь в принципе всего лишь «лич-
ная», а потому не могущая быть «аргументом»; то ли совсем наобо-
рот: всякая «религиозная позиция» — вещь в принципе исключитель-
но коллективная, «личное» же в ней — нонсенс... Даже что тут хуже,
понять невозможно. Зато ясно, что личное и научное— две вещи
несовместные, и это отнесено не к, скажем, историко-литературной
фактологии, или к представлениям об объективных механизмах сти-
листики и поэтики, или к иной эмпирической материи, но — к гума-
нитарной науке в целом, к ее человеческой проблематике. Как если
бы в «личном» — личной вере, интуиции и пр. — не могло быть ни-
какой общей правды, никакого общезначимого знания о мире и че-
ловеке, ничего вообще научно ценного. Не хочу спекулировать на
сопоставлении такого взгляда на «личное» с установками «единст-
венно научного», всесильного потому что верного, учения,— но
многим из основных идей той самой русской философии (и ее пред-
шественников в XIX веке), на которую то и дело ссылается С. Бо-
чаров, этот взгляд противоречит кричаще — не говоря уже о многом
в блестящем исследовательском опыте самого автора книги «Сюже-
ты русской литературы»; кстати, чтение сверх прочего, ясно показы-
вает, что какое-то «личное» никак не может у С. Бочарова считаться
научным, а какое-то «личное» вполне может; и не в разных ли —
снова напрашивается мысль — «религиозных» установках суть?
В самом деле, все было бы гораздо яснее, если бы протест против
«религиозной позиции» заявлялся не «вообще» и не от имени какой-
то абстрактной «научности», а — от лица некой «другой» религиоз-
ности: ответ на уместный в этой ситуации вопрос «како веруеши»
был бы чрезвычайно благороден, создавая, по крайней мере, твердую
почву, в которой мне не пришлось бы вязнуть по ходу диалога на эту
и без того непростую тему.
533
В. Непомнящий
Но, блуждая в тумане, сосредоточенном уже в одном первом аб-
заце постскриптума, я слишком уклонился в ту область, где другой
объект внимания автора, Т. Касаткина, будучи теоретиком, вероят-
но, сильнее меня, — между тем как у меня задача своя.
II
Дело в том, что постскриптум «О религиозной филологии» хоть
и сопровождает критику книги о Достоевском и содержит особую
главку на ту же тему, в значительной своей части обращен к моим
работам последнего времени о Пушкине.
Это уже не в первый раз; только теперь в круге внимания С. Бо-
чарова оказываюсь не один я, более того, возникли очертания некой
миссии, взятой на себя автором и исполняемой от имени всей фило-
логии в отношении целого явления, — и теперь мне нельзя уклонить-
ся, как это было несколько лет назад, от ответа. Я был в советское
время одним из первых, если не единственным, кто в открытой пе-
чати пытался как умел, сначала интуитивно, затем осознанно, про-
тивостоять идеологии «научного атеизма» в науке о Пушкине, ме-
тодологическому господству в ней позитивизма; а потом, когда на-
стали новые времена, не раз выступал против «православных» тол-
кований, порой тоже отчетливо большевистского покроя, где Пуш-
кин «оформляется» в грубо клерикальном духе, применительно к
готовым представлениям о том, каков должен — или не должен —
быть поэт в православной культуре, где пушкинское религиозное
ощущение жизни, всегда глубоко внутреннее, личное и лиричное,
переводится в дерево и бетон идеологизма, только уже религиозно-
го4. Поскольку в том духе, против которого я выступал, теперь тол-
куются и «оформляются» мои собственные взгляды, я вынужден,
наконец, объясниться — если получится.
Правду сказать, мне это действительно нелегко. Я слишком ува-
жаю то, что делает в филологии Сергей Бочаров, слишком восхи-
щаюсь многим в его последней книге; но и слишком чувствую раз-
ность наших мировоззренческих, в широком смысле религиозных,
установок, «систем координат»— можно сказать, разность про-
странств.
Мои координаты были довольно подробно и на очень широком
проблемном фоне изложены в последних по времени работах5, в том
числе в той («Феномен Пушкина в свете очевидностей»), откуда
534
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
С. Бочаров выбрал для критики и моего вразумления отдельные мес-
та: о пушкинском «Мне не спится, нет огня» («Стихи, сочиненные
ночью во время бессонницы») и блоковском «Девушка пела в цер-
ковном хоре».
Я вовсе не против критики, она мне почти всегда любопытна и
нередко полезна, как и всякому. Недавно Б. М. Цейтлин6, автор ин-
тереснейших философских работ, подверг критическому разбору тот
же фрагмент (о пушкинской «бессоннице»), который возмутил С. Бо-
чарова. Это критика на куда большую, чем у С. Бочарова, глубину —
при том, что автор все время стремится понять то, что критикует, в
контексте общей моей концепции, в которую он добросовестно
вслушивается. В постскриптуме С. Бочарова иначе. Позиция крити-
куемого берется не в ее концептуальных основаниях, а в деталях и
фрагментах, от оснований оторванных, почему критикуемым утвер-
ждениям и нетрудно придать вид висящего в пустоте домысла.
Вчуже это очень можно понять: так удобнее— особенно когда
спор мировоззренческий. Кстати, такие споры бесперспективны едва
ли не по определению, и вот почему мне труден этот диалог из раз-
ных пространств. Впрочем, с сознанием этой разности можно было
бы спокойно жить и дальше, и каждому делать свое дело, — но в
адрес мой и моего дела последовал вызов, притом с позиции как бы
само собой разумеющейся окончательной истины и выдержанный в
тоне изначальной учительной правоты. И если отвечать всерьез, то
надо было бы и в самом деле, следуя совету Пушкина, «войти в образ
мыслей моего критика» возможно глубже, разглядеть и ощупать
«законы, им самим над собою признанные», его систему взглядов,
его, в конечном счете, мировоззрение. Но это работа исследователь-
ская, такого я не могу себе сейчас позволить. Мой оппонент исследо-
вательской проблемой озабочен, кажется, не был, у меня впечатле-
ние, что он исходит из наличия лишь одной системы координат, од-
ного-единственного пространства, и что у него дело обстоит просто:
он находится в этом пространстве там, где надо, а я (и Т. Касат-
кина) — там, где не надо. Оттого проще была и его задача, моя же
оказывается еще сложнее.
В итоге мне остается синица в руках: рассмотреть то, что, во-
первых, обозримо сразу, а во-вторых — то, что позволяет, не очень
углубляясь в мировоззренческие «стрижено-брито», увидеть особен-
ности критического, тем самым и научного, зрения моего критика, а
значит, и его позиции, на целостный анализ которой я не могу посяг-
нуть так же решительно, как С. Бочаров оценивает мою позицию.
535
В. Непомнящий
Решительность эта обусловлена, видимо, той миссией, о которой
шла речь и которая впервые обозначилась шесть лет назад, в 1994
году.
Тогда в 6-м номере «Нового мира», в разделе «Из редакционной
почты», С. Бочаров напечатал в некотором роде письмо Белинского
к Гоголю; оно называлось «О чтении Пушкина», и в нем был сделан
строгий выговор моим работам предыдущих лет, опубликованным
тоже в «Новом мире», в особенности же— статье «Дар. Заметки о
духовной биографии Пушкина», напечатанной за пять лет до того
(1989, № б)7.
Признаться, статья эта не из самых удачных, ее вторая половина,
излишне импульсивная, недоношенная и торопливая, долго тяготила,
пока наконец не рассосалась в новой работе8. Но досталось мне не за
отдельные грехи, а за все направление моей работы в целом, тоже
названное «небезобидным»: сюда входили «идеологизированная ду-
ховность», «подозрительное» отношение к текстам Пушкина, «мо-
ральные» претензии к нему, ориентация больше на Достоевского, чем
на Конст. Леонтьева, больше на Евангелие, нежели на Г. Федотова, и
многое другое; в целом же «благочестивое пушкиноведение» и «на-
рождающийся пушкинистский фундаментализм»9. Одним словом,
письмо «О чтении Пушкина» сегодня представляется мне неумыш-
ленной репетицией нынешнего постскриптума «О религиозной фило-
логии». Репетиция тем хороша, что помогает понять, что получилось
в итоге; поэтому я задержусь на этом письме «о чтении», из которого
могут стать ясны прежде всего особенности чтения, в данном слу-
чае — критического зрения моего оппонента.
III
Оно, это письмо, сильно меня тогда огорчило и поразило— не
только по существу, а также тоном харизматической превосходи-
тельное™, но и тем, что, ко всему, выходило, будто это я виноват: не
лучшее у меня повод для не лучшего у Сергея Бочарова. Текст про-
сто-таки пестрел удивительными для столь серьезного и тонкого уче-
ного странностями: на каждом шагу— то навязанные мне идеи и
понятия, то причудливые интерпретации моих собственных позиций;
где неуместные доводы и отсылки или острые замечания невпопад,
где ошеломляюще некорректные цитации или до неряшливости до-
ходящая небрежность чтения.
536
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Сопоставляю я, к примеру, юношеское «Безверие» с элегией «Под
небом голубым страны своей родной» — С. Бочаров пересказывает
это, забыв, какие места сопоставляются, заменив ту строку элегии,
что у меня, другою, и меня же уличает в «логическом конструиро-
вании». Напоминает любимую им характеристику Пушкина К. Ле-
онтьевым: «чувственный, воинственный, демонически-пышный ге-
ний», — выставляя ее против Пушкина — «смиренного христианина»
у Достоевского, внушает мне, что леонтьевской характеристике со-
чувствовал С. Франк — забывая при этом, что Франк, дважды цити-
руя Леонтьева, дважды переиначивал его слова (вместо «демоничес-
ки-пышный» — «героический», что сильно меняет дело), а одну из
этих цитации замкнул своим определением Пушкина как раз в духе
Достоевского. Даже там, где повод для критики есть, выходит стран-
но. Об этом поводе С. Бочаров вспоминает и сегодня: «Нам уже при-
ходилось писать о том, как В. Непомнящий сетовал (имеется в виду:
пенял. — В. Я.) Пушкину на незнание правильного языка», — речь
идет о не до конца продуманной мною характеристике употребления
поэтом в «Мадонне» слова «прелесть» и случаях сходного рода.
И вот, поправляя меня, С. Бочаров ссылается на недавнюю тогда
статью А. Архангельского о «словесности и церковности» («Новый
мир», 1994, № 2); в которой, необходимо заметить, автор выступает,
в вопросе о слове «прелесть», куда большим «ортодоксом», чем я
представлен у С. Бочарова; однако мой критик с искусством, заслу-
живающим отдельного анализа, делает А. Архангельского союзни-
ком, превращая суровое мнение последнего о пушкинском слово-
употреблении в некое отстраненно-экспертное и чуть ли не критиче-
ское свидетельство о том, что, мол, творится в современном «ново-
православном» литературоведении... Наконец, отвергая мое напоми-
нание о завете ап. Иоанна Богослова «не всякому духу верить», но
различать духов, «от Бога ли они» (I Ин. 4, 1), С. Бочаров в своей
цитации и критике опускает последние слова как нечто малосуще-
ственное (а в них-то весь смысл), из чего далее следует немыслимая
путаница.
Вообще говоря, чего не бывает в споре, но тут я столкнулся с чем-
то прямо необычайным: буквально ни одного критического удара в
точку, ни одного случая, где мой критик глядел бы прямо в лицо
критикуемому тексту или положению, — все как-то свысока, издали,
скользя и искоса, отчего и в критике выходило как-то криво.
Пишу, например, в той статье о стихотворении «Три ключа»
(«В степи мирской, печальной и безбрежной») так: «последняя стро-
18 - 1379
537
В. Непомнящий
ка — о "ключе забвенья" — ужасна...», — не спорю, сказано слишком
эмоционально и может шокировать, — но из всего контекста легче
легкого при желании понять, что тут не «критическая оценка» стро-
ки, а ошеломленность холодным приятием смерти в этом стихотво-
рении, «одном из самых совершенных и самых мрачных» у Пушкина.
И мой критик вроде понимает — поскольку признает: «Это "ужасно"
так непосредственно, искренне вырвалось, что теряешься отвечать на
это»10,— а дальше, вовсе не теряясь, вменяет мне, ни больше ни
меньше, «безнервное христианство» (В. Розанов), покушение «осу-
дить» Пушкина «морально, духовно, религиозно», а еще — «неслы-
шание... дивной гармонии». Последнее, насколько я постигаю, озна-
чает, что поэтическое совершенство и дивная гармония стихов велят
мне даже и холодное приятие человеком смерти ощущать как нечто
ни в коем случае не «ужасное», напротив — тоже дивно гармоничное
и изумительно совершенное. «Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов».
Эти брюсовские строчки вспоминались над письмом не раз:
слишком часто возникало чувство, что для его автора (в других мес-
тах горячо защищающего «жизнь», «закон ж и з н и», от моего, как
он писал, «морального пафоса»11) достоинства ярко-певучих стихов
все-таки важнее, чем «жизнь». Так, например, в назидание мне, С. Бо-
чаров напоминает вариант эпиграфа к 1 главе «Онегина» — «золотые
слова» Э. Бёрка: «Ничто так не враждебно точности суждения, как
недостаточное различение», — это чтобы я учился «различению» у
Пушкина «отдельных стихотворений», а не связывал бы их между
собою в единый контекст (что у моего критика превращено в «кон-
цепцию духовного пути как прямой восходящей линии, с вершинами
на пути и регулярными в промежутках между ними падениями»12).
Но когда речь заходит о необходимости «различения» в области цен-
ностей жизненных и духовных, например о том же «различении ду-
хов», — «золотые слова» не припоминаются: С. Бочаров не только
теоретически протестует против «различения», но и на деле его игно-
рирует — путает между собою призыв ап. Иоанна Богослова разли-
чать духов, «от Бога ли они», и учение ап. Павла о различных духов-
ных дарах (I Кор. 12). Забыт Бёрк с его «различением» и в споре со
мною об элегии «Под небом голубым...» и «Заклинании», когда мой
критик снова привлекает в единомышленники С. Франка, писавшего
о «смелости эротической религиозности» у Пушкина, — что опять не
совсем уместно: С. Бочаров толкует «эротическое» как синоним
«чувственного» (в его контексте— сексуального),— но Франк-то
538
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
наследовал традицию большой русской культуры, знавшей разницу
между богом любви Эросом и богом чувственности Приапом.
Вопрос об элегии «Под небом голубым...» тогда особенно взвол-
новал моего оппонента (да и у меня элегия занимала центральное
место), и здесь особенно много странностей чтения. Привожу строки:
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем... и проч.,
— сопоставляю их, с одной стороны, с сокрушенными словами из
заупокойной стихиры: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и
вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красо-
ту, безобразну, и безславну, не имущу вида...»,— а с другой— с
пронзительным: «На жертву прихоти моей Гляжу, упившись наслаж-
деньем, С неодолимым отвращеньем...» («Сцена из Фауста»); спра-
шиваю по поводу «тяжелого напряженья», с каким любила «пла-
менная душа»: «что это: Толстой? Достоевский? Чехов?»,— а мой
критик, найдя, с одной стороны, что все мое «размышление... пере-
полняет моральный пафос», с другой обнаруживает в моем подтексте
скабрезность в духе, как бы это помягче сказать, Виктора Ерофеева,
а именно— «превышение эротического градуса подробностей» и
даже— «физиологические намеки», которые, мол, «непроизвольно,
может быть» (!) возникают...13
Игра столь проницательного и живого воображения тогда не на
шутку меня задела. Не только потому, что нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется, и теперь уж, как говорят, не отмоешься;
нет, это заставило меня с особенным напряжением думать о манере
чтения моего оппонента, о способе, каким он извлекает смысл из
прочитанного. Дело в том, что на небольшом пространстве того
фрагмента моей статьи, что пересказан выше, мне вздумалось, на
мою беду, вторично (при упоминании Толстого и других) привести
слова о «тяжелом напряженье». Эта оплошность была роковой: из-за
нее мой критик, пренебрегши и стихирой, и «Сценой из Фауста», и
великими писателями, мастерами «диалектики души», и вообще всем
контекстом рассуждения— так сказать, взглянув и мимо,— устре-
мился к «напряженью», игравшему в злосчастном повторе чисто слу-
жебную роль, и неизвестно отчего понял его как центральный мотив
всего пассажа об этой невероятной строфе, потрясающей и загадоч-
но-жутким оборотом «Так вот кого любил я...» (отнесенным к
мертвой теперь возлюбленной), и жестокостью взгляда на себя и
свою любовь.
18*
539
В. Непомнящий
Тут мне и представилось, что чтение моего критика не то что не-
внимательно и небрежно (хотя и это тоже), а — принципиально вне-
контекстно: критикуемая система взглядов воспринимается не как
система, а как набор мнений и утверждений, и задача критика в том,
чтобы что-то отобрать для своих целей. Никого ни с кем не сравни-
вая, вспоминаю сегодня характеристику, какую дает сам С. Бочаров
в своей книге полемике Леонтьева с Достоевским: философ «по-сво-
ему перестраивает мир» писателя, приводя его «в соответствие с ле-
онтьевским убеждением (с которым не согласился бы никогда Досто-
евский)»14. Модель, вообще говоря, распространенная, а приемы
бывают разные; вот один из них.
Любовь к героине элегии «Под небом голубым...», писал я в
статье, «вспоминается ему (Пушкину. — В. Я.) сейчас как исключи-
тельно плотская, исчерпывающе чувственная, лишенная духовной
связи. И когда умерла е е плоть — умерло все. Стихотворение, соб-
ственно, о том, в какое недоумение, растерянность, содрогание при-
вело его это открытие. Ведь он равнодушен не к камню или, в самом
деле, к трупу — к живой душе, которая "уже летала" над ним... Это и
есть "недоступная черта"...».
Можно спорить с этим пониманием — хотя я на нем стою, — но
для этого надо попытаться понять, что речь идет об ужасном душев-
ном «смятении, в которое повергла автора элегии очная ставка с
самим собой перед лицом "бедной, легковерной тени"», о понимании
им в этот момент природы своего равнодушия: того, что «недоступ-
ная черта» пролегает не вне его, не между ним и ею, а внутри его
собственной души...
У моего в критика все это уложено так: элегия «прочитана как
стихотворение о греховной страсти...», «недоступная черта»— это
«плод греха»...15
Подобным вот образом все написанное мною в статье было
успешно переведено в какой-то другой язык— на котором просто
обречено было выглядеть плоско и туповато.
Не скажу, что такого рода полемика с чучелом была мне вовсе не-
знакома; но с подобной критикой я сталкивался у авторов совсем
иного уровня, каким и отвечать не стоит. Здесь был, разумеется, не
тот случай; как говорится, сел я тотчас и стал писать.
Писать пришлось порядочно; но странное дело: чем более исчер-
пывающими получались, на мой взгляд, разъяснения, ответы и отпо-
веди, тем большего, казалось мне, в них недоставало. И тем большая
меня охватывала растерянность и словно какая-то тоска: будто я
540
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
толку в ступе воду или — как это у странницы Феклуши в «Грозе» —
бегу со всех ног, куда меня манят, а там никого нет. В чем тут фокус,
я долго не мог ухватить, словно и вправду оказался туповат. Пока,
наконец, не обратил внимание на одну фразу письма — опять-таки
по поводу моего анализа элегии «Под небом голубым...». Эта фраза и
объяснила мне кое-что по существу.
В статье я говорил об этом стихотворении как об острейшей
внутренней драме, важном моменте истории отношений поэта с лю-
бовью, со смертью, с самим собою. Разговор этот — «разветвленное
размышление», как назвал его С. Бочаров, — велся и вправду на до-
вольно широком культурно-историческом, идейном, мировоззрен-
ческом фоне, в весьма большом контексте творческой и духовной
биографии Пушкина; тут были вопросы о вере и ее отношениях с
творчеством, о теме смерти, о Ренессансе и Рафаэле, картине и иконе,
«Гавриилиаде», «Вакхической песне» и «Зимнем вечере», «Безверии»,
«Пророке», «Пире во время чумы», о многом другом — но все это
мало затронуло моего критика. Впрочем, «разветвленное размышле-
ние» ему вообще «...интересно было читать, мешало лишь чувство,
что стихотворение— о другом... У Пушкина проще: мы узнаем о
печальном законе жизни, о преходящести чувства, равнодушии и
забвении...», и сам поэт тоже «познал печальный закон», вот и все, о
том и элегия16.
Ну что ж — отвечу попутно на эту ошеломляющую глухоту к че-
ловеческой драме — если это все, не странно ли, что для такого по-
знания понадобились целые 27 лет жизни поэта да еще человеческая
смерть— смерть любимой когда-то женщины— впридачу? и весь
душевный опыт уместился в печаль! Не велика ли цена познания и не
чрезмерна ли инфантильность — или толстокожесть? К тому же — я
показал это в другом месте17 — при таком благополучном понима-
нии элегии, не как драмы, а как ламентации на тему «печального
закона», из стихотворения «выпадает», становясь всего лишь необя-
зательным психологическим нюансом, целая строфа, та самая, «Так
вот кого любил я...», — стихи могут благополучно существовать без
нее, не изменив своего «печального» смысла, как будто так и было.
Тут нет необходимости соглашаться со мной во всем, нужно просто
повнимательнее прочесть элегию — то есть услышать ее не как один
лишь лирический гул «печального» свойства, а как творческий про-
цесс со своим художественным синтаксисом, смысловой иерархией,
где каждый элемент не гудит на одной ноте с другими, а звучит в
осмысленном контексте.
541
В. Непомнящий
Но все это, повторяю, попутно: дело сейчас не в нашем разногла-
сии, пусть и коренном, а в мелочи. Речь идет о том, как мое неверное
понимание элегии подано у С. Бочарова рядом с его верным. Сдела-
но это так: все мое «разветвленное размышление», составляющее
центр довольно объемистой работы, мимоходом отчуждено моим
оппонентом всего в несколько слов, красноречивых, как пожатие
плечами:
«Воздвигается сложное построение с метафизическими заглядами,
но все кажется, у Пушкина проще: мы узнаем о печальном законе...»18
и т. д., см. выше.
Надо отдать справедливость — сказано сильно: одно колоритное
словечко «загляды», а как много благодаря ему умещается в лапи-
дарную формулу: тут и громоздкая тщета «воздвигнутого», и сдер-
жанная ирония, и легкая досада человека, которому долго докучали
вздором.
Скажу от чистого сердца, я принял это (написав уже что-то около
полутора печатных листов) без малейшей обиды, напротив, с облег-
чением. Мне стала понятна природа этой критики — отчужденной,
монологической, целиком извне: той критики на упразднение, какую
можно— используя термин, пришедший недавно из другой облас-
ти — назвать бесконтактной; я уразумел наконец, что я здесь лиш-
ний, что напрасно воображал себя участником диалога, — и вскоре
оставил свой полемический подвиг.
Разгадка недоумений оказалась проста. Именно: то, что беско-
нечно волнует в Пушкине, в поэтическом слове меня, совершенно не
интересно моему оппоненту.
Это не в упрек С. Бочарову. Многие вещи, сказал Козьма Прут-
ков, нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому,
что сии вещи не входят в круг наших понятий; но почему, думал я, не
волнующее моего оппонента тем самым и «небезобидно», подлежит
разгрому и запрету?
Отвечать по Фонвизину: то вздор, что не интересно моему оппо-
ненту, — было бы и неуместно, и вульгарно; но, каюсь, что-то похо-
жее мне чудилось. Вдруг осмыслилось, что оппонент мой и стихи
Пушкина читает так же, как и меня недостойного: принципиально
внеконтекстно, не заглядывая «внутрь» — той же, скажем, элегии: о
чем она, что там в ней происходит, — а скользя над чудесно обра-
зующими «дивную гармонию» сучками и задоринками, словно эта
«печальная» поверхность так же гладка, как «дорога зимняя» в
«Онегине».
542
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Выражаясь упрощенно, меня волнует, что Пушкин переживает и о
чем говорит, а С. Бочарова — как Пушкин поет.
Впрочем, каждому свое. Но здесь нельзя пройти мимо того, что я
не могу назвать иначе как догматикой. «Сомнительное дело, — пи-
шет С. Бочаров, — не от жизни поэта восходить к его поэзии, но из
текстов вычитывать его душу»19. Это полновесный догмат. Мой оп-
понент велит мне исповедовать старый добрый детерминистский
принцип, заимствованный у естественных наук и до блеска отполи-
рованный марксистским литературоведением, и послушно применять
его к творчеству поэта, внятно сказавшего о присутствии в «заветной
лире», то бишь в «текстах», именно его «души». Кому-то это может
быть неинтересно, согласен; но что же «сомнительного» в желании
услышать «душу»— ведь с ее-то присутствием в «текстах» поэт и
связывает свое бессмертие и славу «в подлунном мире»?
Другой догмат касается «природы лирики»; лирика запечатлевает
«моментально и объемно мир и правду поэта»20. Не мир и правду
собственно, а — только «мир и правду поэта»; и обязательно «мо-
ментально»; иначе, мол, не бывает. Ну а если бывает — например, у
Пушкина? как иначе понимать, скажем, неслыханные его лирические
черновики, варианты — процесс, растянутый порой на годы? а если
для Пушкина «правды поэта» мало и он хочет большего? Вдруг он не
укладывается в эту — в большинстве других случаев приемлемую —
типологию, он, «слишком объективный, чтобы быть лириком» (И. Ки-
реевский)?
Есть и третья незыблемая истина: «разработанные современной
филологией методы поэтики»21. Они окончательны и универсальны;
и, к примеру, напрасно я самодеятельно посягаю определить, где в
Гимне чуме автор, а где герой22, — хотя современная филология, с ее
разработанными методами, в этом деле, по признанию С. Бочарова,
со времен Цветаевой так и не двинулась.
Поскольку филология не может быть совсем «безрелигиозной»,
догматика филологическая опирается на мировоззренческую. Основ-
ное положение здесь— настойчиво утверждаемое отождествление
христианского подхода с «моральным» и «идеологическим»: тради-
ционное понимание советской «передовой» интеллигенции. Другое:
не так уж важно различать духов, «от Бога ли они» (Иоанн Бого-
слов), — «страшнее угасить Д у х» (Г. Федотов)23. То есть — в
ценностном «различении» состоит главный вред, наносимый «рели-
гиозным филологом» чтению и пониманию «великих текстов».
Отсюда вытекает третье положение: «Я против утилизации Пуш-
543
В. Непомнящий
кина в высших целях»24. С. Бочаров прекрасно «знает силу слов», и,
характеризуя стремление изучать Пушкина в свете «вечных истин, на
которых основано счастие и величие человеческое» (XI, 201), в свете
его феноменальной роли в духовной истории России, его собствен-
ного универсального духовного опыта, в свете правды, которая, по
слову Достоевского, выше Пушкина, выше России, выше всего,—
находит именно слово «утилизация». Поистине, догматизм подстере-
гает нас на каждом шагу. И неизвестно, что хуже: религия, ставшая
идеологией, или идеология, превратившаяся в религию. Когда все,
что связано с желанием услышать в «дивной гармонии» человеческий
смысл и человеческий голос ее творца, почти рефлекторно отталки-
вается как «идеологическое», остается лишь сказать: по вере вашей
да будет вам.
IV
В постскриптуме «О религиозной филологии» многое оказалось
знакомым, порой до деталей, по письму «О чтении Пушкина».
Автор письма не видел в элегии «Под небом голубым...» драмы,
а только констатацию «печального закона»; автор постскриптума
в стихотворении Блока «Девушка пела...», в его «противохристи-
анском заострении», слышит всего лишь «печальную концовку». Мо-
дель аргументации — та же: в «письме» — о моем прочтении эле-
гии: «...интересно было читать, мешало лишь чувство, что стихотво-
рение — о д р у г о м...»; в постскриптуме — о моем анализе «Мне не
спится...»: «Все это интересно сказано, но, читая, не оставляет чув-
ство, что это придумано...». В письме были перепутаны сопо-
ставлявшиеся мною строки элегии и «Безверия», что искажало мое
чтение; в постскриптуме искаженно пересказывается стихотворение
Блока (ребенок не причастившийся — «причастный Тайнам», — а его
только «подносят к Причастию»), что меняет ситуацию стихов и
обессмысливает разговор. Небрежность цитации, отсылок, переска-
зов, чтения— все как в «письме»: я пишу о «напоре» идеологии
Блока на его же гений и интуицию — оппонент переделывает это в
«напор» «поэта на самого себя» и заявляет (справедливо), что это
«неправдоподобно». В письме мой анализ элегии «Под небом голу-
бым...» был превращен в прочтение «стихотворения о греховной
страсти» — примерно то же и здесь: в «Стихах, сочиненных ночью
во время бессонницы» автор, писал я, пытается вести диалог с «низ-
шей реальностью» жизни, ее природной «материей» — «неотъемле-
544
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
мой и утомительной, необходимой и эфемерной», — а у критика вы-
ходит, что я приписываю Пушкину обращение к жизни «презрен-
ной», которую он «отвергает». Точно так же (как и в письме) перево-
дится в другой язык практически все, что попадается под руку в моем
тексте.
Не меньшие неловкости — в ссылках на авторитеты. Игнорируя
(или не принимая) фундаментальную для меня коллизию поэт и его
гений— которая в блоковском стихотворении выступает как кон-
фликт между гением и идеологией, — С. Бочаров наставляет меня
примером Владимира Вейдле, словно совсем не видя: я говорю бук-
вально то же, что и Вейдле, только другими словами. У меня «худо-
жественный гений» Блока, генетически христианский, — в разладе с
личной идеологией поэта, с его «точкой зрения», «мнением»; а на
языке Вейдле— «поэзия» Блока в разладе с «волей и рассудком».
Разница лишь в том, что Вейдле увидел разлад, сопоставив стихи
Блока с сопровождающим их признанием автора, а я констатировал
то же самое, не зная об этом признании.
Дальше в укор мне приводится высказывание Федора Степуна,
1912 года, с его «решительным требованием свободного и авто-
номного развития всех областей культуры»; однако это совершенно
справедливое высказывание — не единственное на тему «автономии»
культуры от религии: спустя полвека (1962) эмигрант Ф. Степун в
речи о Пушкине, сурово высказался о том, к чему на Западе привел
«отрыв всех сторон духовной жизни от ее религиозного центра», и
говорил: «В России начало автономии, начало самодовлеющих, в
себе замкнутых областей культуры ведущей роли не играло... Русское
искусство в творчестве своих крупнейших представителей убежденно
преследовало цель устроения жизни (по С. Бочарову, это «утилиза-
ция» искусства. — В. #.). Одни верили, что устроить ее может только
вера, а другие, что это может сделать только революционный социа-
лизм»25. В споре об авторе «противохристиански» заостренного сти-
хотворения и поэмы «Двенадцать» с ее «революцьонным шагом»
было бы уместно вспомнить и эти слова, но мой оппонент привел
только те.
И уж совсем неудобно получилось со ссылками на других поэтов,
подтверждающими, как кажется С. Бочарову, необоснованность
моей критики блоковского стихотворения. Приводя (не совсем точ-
но) тютчевское: «Мужайся, сердце, до конца: И нет в творении Твор-
ца! И смысла нет в мольбе!» — и Анненского, из «Вербной недели», о
том, как она «уплывала» «От икон с глубокими глазами И от Лаза-
545
В. Непомнящий
рей, забытых в черной яме», — мой критик не без торжества коммен-
тирует: «О том же ведь — что "никто не придет назад"...» Но торже-
ствовать тут нечего: совсем не «о том же ведь» пишут оба поэта, их
стихи очевидным образом не имеют ничего общего с блоковскими.
У Тютчева утверждение «И нет в творении Творца!» и т. д. — пре-
дельно лично и подчеркнуто условно: уж если «И чувства нет в твоих
очах... И нет души в тебе»,— стало быть, и Бога нет! У Блока же
«никто не придет назад» утверждается именно безусловно и именно
как внеличный, «объективный» факт. Стоит вникнуть в атмосферу
стихотворения Анненского, а не только в яркость певучих стихов, и
мы услышим горькое сознание того, что на пути от Воскресения
Вербного к Светлому Воскресению, к разрешению от поста, к полно-
те радостей жизни земной, многие удаляются от памяти о жизни той,
забывают своих Лазарей в черных ямах, оставляют и память, и мо-
литву о них позади; оттого и плывут «жаркие слезы по вербе На ру-
мяные щеки херувима», что если небесное «смертию смерть» попи-
рает, то земное — жизнью жизнь. Что же и тут похожего на Блока, у
которого «никто не придет назад», невзирая на общую молитву и
веру?
Одним словом, надо бы читать все эти стихи не просто как «пе-
чальный» гармонический гул, но как смысл, как контекст, как пере-
живание наконец, то есть пытаясь «вычитать душу» поэта из его тво-
рения. Но это, как мы знаем, «сомнительное дело».
В критикуемой моей статье «Феномен Пушкина в свете очевид-
ностей» С. Бочаров отмечает «крупный взгляд на самый "феномен
Пушкина" в контексте не только и не столько литературном— в
контексте отечественной истории». Слышать это лестно, только вот
самое существенное упущено: сама проблема, сам феномен контекс-
та, составляющие центральную тему статьи. Статью о контексте
С. Бочаров читает в свойственной ему манере, игнорирующей кон-
текст,— что тут же и свидетельствуется: «Изложение этого взгля-
да, — продолжает критик, — перемежается с показательными, мето-
дологическими, как любит сам автор их называть (? — В. #.) разбо-
рами текстов» (имеются в виду стихи Пушкина и Блока). «Изложе-
ние» — «перемежается», «крупный взгляд» одно, «разборы» — дру-
гое; суп, так сказать, отдельно, мухи отдельно.
Тут коллизия и в самом деле методологическая, в конечном счете
мировоззренческая, если угодно — религиозная: та самая проблема
разности наших пространств.
546
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
V
На вооружении С.Бочарова— знаменитое раннее (1825) «Цель
[поэзии— поэзия» (XIII, 167),— утверждение самодостаточности
искусства в ответ на рационалистические, идеологические, мораль-
ные и прочие поползновения. Я чту эти слова не меньше, чем мой
оппонент, но они звучат в его тексте словно какая-нибудь мантра и
похоже, играют близкую роль: «поэзия» выглядит неприкасаемой
высшей инстанцией; когда «цель филолога трансцендируется, про-
стирается з а литературу — дальше и выше», это вызывает у С. Бо-
чарова протест, словно совершается святотатство и как будто поэт —
не человек, а «з а» литературой ничего нет.
С этой позиции и отвергается моя критика стихотворения Бло-
ка— состоявшая в том, что искусная игра слов «Причастный тай-
нам» есть не столько художественный, сколько вербально-идеологи-
ческий «силовой прием», которого, я писал, «могло и не быть»
(может же, скажем, исчезнуть черновой вариант в беловом тексте,
заменившись другим).
Возражение С. Бочарова выглядит так: «Есть плач ребенка вместе
с его откровением-смыслом— как поэтический факт». На-
сколько я могу понять, это значит: в незыблемую подлинность «п о -
этического факта» включается, вместе с личным переживанием
поэта (безусловно подлинным), также и заведомо вымышленный,
воображенный поэтом тайный смысл детского плача, в котором ука-
занному личному чувству автора (все «Тайны» в том, что никаких
тайн нет, кроме одной: «никто не придет назад») сообщается статус
сверхличной, всеобщей, объективной истины. Обретая, по хотению
автора, словесную, поэтическую плоть, вымысел этот становится так
же реален, как переживание автора, как сам автор и мир, его окру-
жающий, как то Слово, что «плоть бысть». А потому мое ощущение,
что это — не лучшее место в стихотворении, наносящее ущерб его
художественной правде, едва ли не кощунственно: «Во всяком случае,
представить себе его (стихотворение. — В. Я.)... как бы то ни
было исправленным — невозможно», — возмущенно пишет мой оп-
понент. То есть какая бы и чья бы то ни было критика недопустима
даже в воображении.
Но вот же Жуковский — не то что усомнился в строке «Смысла я
в тебе ищу» как неприкасаемом «поэтическом факте», а просто взял и
переписал ее: «Темный твой язык учу...»— и тот же С. Бочаров не
находит слов для выражения восторга: Жуковский «ответил Пуш-
547
В. Непомнящий
кину» (в его же стихотворении), «по-своему договорил» (то, что
Пушкин сказал совсем иначе). Стало быть, критика и даже правка
вполне возможны— и не Блока, а Пушкина, и не в воображении, а/
на бумаге и в печати. Выходит, слово Блока («откровение-смысл»,,
заключенное в «поэтическом факте»), в отличие от пушкинского, для
С. Бочарова почти сакрально, его нельзя «трогать»: за ним нет ника-
кой большей реальности (в самом деле, Блок, в отличие от Пушкина,
вопросов не задает — он утверждает). Ведь цель поэзии — поэзия, а
«трансцендировать з а» поэзию, к цели большей и высшей, — это
«утилизация» поэзии.
Жуковский так не считал. Как ни относиться к его правке, он ис-
ходил из того, что оба они, и Пушкин, и он сам, стремятся к одной и
той же Высшей правде, а не воплощают каждый исключительно свою
собственную «правду поэта». Высшая правда — одна, пути же и ню-
ансы могут быть разные, полагал Жуковский, и даже слово пушкин-
ское было для Жуковского слово человеческое, а не сакральное, —
стало быть, его можно и «договорить», и «ответить» на него; С. Бо-
чаров готов даже признать, что строка Жуковского по меньшей мере
равна по достоинству пушкинской. И в этом косвенно сказывается
тонкое ощущение некоторого единства системы ценностей Пушкина
и Жуковского, общности их «координат». К разнице же нюансов мой
оппонент относится терпимо, если не сказать благодушно, готов да-
же ее вовсе не замечать.
Почему так? Потому, думаю, что на эстетику «золотого века», на
его систему ценностей С. Бочаров смотрит несколько со стороны.
В отстаивании же «координат» Блока и его эпохи он непримирим.
Отсюда у него и верховенство формулы «цель поэзии— поэзия»,
идущей у молодого Пушкина от установок поэзии «новаторов», «лю-
бимцев муз», и настолько подошедшей «серебряному веку», что этот
век соотношение поэзии и жизни, действительное для «золотого»,
подверг, в духе этой формулы, инверсии в своих «жизнестроитель-
ных» идеях. «Подошло» ему и разработанное школой «новаторов»,
но возведенное в новую степень, представление о лирическом выска-
зывании как целиком спонтанном, «моментальном» акте. Так или
иначе, эстетику, лирическую практику и систему ценностей поэзии
Пушкина, явившейся вершиной «золотого века», С. Бочаров рас-
сматривает с точки зрения эстетики, практики и ценностей «серебря-
ного века», — поскольку они ему ближе.
Одним словом, тут чистейшая идеология. Оттого и мою критику
стихов Блока оппонент громит как «идеологическую» — в упор не
548
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
замечая, что в моей статье сам вопрос о стихах Блока возникает в
русле проблемы глубоко филологической — проблемы сплошного
контекста как условия художественного совершенства. Тут роль
сыграл случай.
С молодых лет я читаю стихи вслух — мне это необходимо для их
понимания и изучения. Помню, что, читая стихотворение «Девушка
пела...», я всегда спотыкался на одном и том же месте, и это было как
раз «Причастный Тайнам...». Я тогда очень смутно представлял, что
такое Причастие, и к тому же читал Блока по советским изданиям,
где «Тайнам» печаталось с маленькой буквы (что упраздняло игру
слов). Тем не менее в финале всегда что-то происходило, я не знал,
отчего это, но неизменно спотыкался на некой непреодолимой внут-
ренней немузыкальности, принужденности этой вставки насчет «тайн»
как на лишнем звуке. И только недавно я впервые увидел текст с
прописною буквой— и услышал, на чем споткнулась внутренняя
музыка стихотворения: Блок слышит ту же «музыку сфер», которую
так или иначе слушал «золотой век» (говоря словами Вейдле, «из
мрака» обращает лицо к алтарю), но пытается переделать, перепи-
сать, «исправить» ее— и выходит «неверный» (Некрасов), лишний
звук.
С. Бочаров видит у меня «идейное» недовольство Блоком. Но ес-
ли я чем и «недоволен», то не религиозной драмой поэта, что было
бы пошло, а тем, что изумительное до комка в горле стихотворение
могло быть таким до конца, но не стало: декларация из двух слов
разрушила музыкальную сплошность поэтического контекста. По
существу, Блок (в котором идейное начало было очень сильно) на-
рушил здесь тот высший закон, что содержится в истине «Цель поэ-
зии — поэзия»; это с ним бывало: «Блок... уступал стихии осознанно,
"концептуально"»26, — так С. Бочаров пишет в книге. Уступил и
здесь, уступил и «стихии», и «концепции».
Отводя так много места своему пониманию стихотворения Блока,
я отдаю себе отчет в том, что могут быть и иные понимания. Дело не
в самих стихах Блока, дело в разности наших позиций. Выше не всуе
сказано о высшем смысле формулы о поэзии как цели поэзии. По
рассуждениям С. Бочарова можно понять так, что на эту тему ничего
иного, в том числе Пушкиным, и не сказано. Между тем у Пушкина
было обыкновение развивать и раскрывать свои мысли. И, что до
меня, то принимая с благоговением все, что сказано Пушкиным о
поэзии (включая, разумеется, и то, что она должна быть глуповата), я
ориентируюсь все-таки прежде всего на менее популярное, чем слова
549
В. Непомнящий
1825 года, позднее (1836) высказывание: «...цель художества есть
идеал...» (XII, 70).
«И д е а л» тут невозможно ни отождествить с собственно «поэти-
ческим» либо, скажем, нравственным, ни противоположить тому или
другому (он отчетливо здесь же противопоставлен Пушкиным только
откровенно утилитарному: «нравоучению»): «идеал» тут ни то,
ни другое в их отдельности, а — единство (да, да, истины, добра и
красоты), та божественная целостность, которая оттого и «цель ху-
дожества», что она не есть его готовая данность. Данностью «худо-
жества» являются данные Творцом средства, свойства и условия ху-
дожества — среди которых и «высшее, свободное свойство поэзии не
иметь никакой цели кроме самой себя» (XI, 201). И вот поэзия, не
имеющая цели кроме самой себя — подобно стихии, подобно ветру, и
орлу, и сердцу девы, которым нет закона,— но данная существу,
сотворенному по образу и подобию Бога свободным и у которого
«дело закона написано в сердце» (Римл. 2, 15),— поэзия может —
через данные ей средства, свойства и условия — если не достигнуть,
то приобщиться «идеал у», этой Божественной целостности, тяготея
к ней как к своему источнику, — может, когда того же жаждет чело-
веческое сердце: Пушкина, скажем в нашем случае, или Достоевско-
го. А если не жаждет, не страстно жаждет — или страстно жаждет, но
чего-либо другого,— тогда поэзия свободна остаться в пределах
данности своих свойств ветра и орла, может быть изумительной, как
стихотворение Блока, и совершенной в меру данных ей условий,
свойств и средств, — но все же не той, к какой иного эпитета кроме
«божественная» не подберешь. Потому что «праздничные формы
жизни» — а высшее, божественное художество, о чем бы оно ни бы-
ло, несомненно праздник, — при всей своей свободе, «должны полу-
чить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из
мира высших целей человеческого существования, то есть из ми-
ра идеалов»27. С. Бочаров должен бы тут протестовать против этой
окаянной манеры «религиозной филологии» «трансцендировать...
дальше и выше», — но «трансцендирует» эту цель здесь M. М. Бах-
тин, а цитирует его С. Бочаров в своей книге.
Но это попутно; главное в том, что «санкция», о которой говорит
Бахтин, не может явиться сама собой, она должна быть востребова-
на; она, как шестикрылый серафим, является в ответ на «духовную
жажду». Жажда есть нужда, порой страдание: «праздник жизни»
рождается на «пути жизни» (слова заглавия одной из статей книги
«Сюжеты русской литературы»). А путь жизни требует труда души от
550
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
творца, особенно — «на перепутье»; и не перепутье ли вся жизнь че-
ловека на земле, особенно если человеку много дано?
Собственно, это и есть главная тема моих занятий в последние го-
ды: пушкинская поэзия как духовная биография поэта, цепь «пере-
путий», процесс живых отношений смертного человека со своим бес-
смертным гением, сердца трепетного— с божественным, неизмер-
1ным, пылающим как угль даром: отношений, которые полны драм и
|нередко катастрофичны, так как развиваются между нераздельно-
реслиянными сущностями, составляющими единую личность гения,
который всего лишь человек, как и мы все.
Моя картина этого процесса потому и строится вокруг «Проро-
ка», что это неслыханное в мировой светской поэзии слово поэта о
самом себе — не только художественная формула самого процесса,
символ его, запечатлевший и предвозвестивший жребий поэта, какого
еще не было (что не мое мнение: это сказано в «Пророке»), выгово-
рившего то, чего никто из поэтов не говорил. Это символ и задания
(«поручения»— по Баратынскому, послушания— по «Памятнику»
Пушкина), и пути, и неизбежного страдания от того, что «санкция»,
данная свыше, страшно тяжка при трепетном сердце — хотя его же
духовной жаждой и востребована. Это, наконец, и центральный мо-
мент процесса: не случайно «Пророк» возник и по существу, и хро-
нологически — в центре пути, «на перепутье», когда дар оказался, по
выражению его обладателя, «tout-a-fait développée», развившимся
вполне, дав ему право добавить: «Je puis créer» (я могу творить; XIII,
198). В «Пророке» поэт, ощутивший беспримерность своего жребия и
служения, сердцем восчувствовал — еще не зная и не выговорив это-
го,— что «цель художества есть идеал»,— и ужаснулся. Ибо «на
перепутье» сердце его, в отличие от дара, оказалось не готово к такой
цели — хотя ее, повторяю, и жаждало, притом едва ли не с самого
начала, само о том не ведая, — цели, в сущности, непосильной, мыс-
лимой разве что вот именно в порядке идеала,— но в «Пророке»
восчувствованной как актуальное (сказали бы сейчас) задание, пред-
полагающее к тому же и муки, похожие то ли на пытку, то ли на
казнь.
С потребностью дара в такой «запредельной» цели, потребностью
в конечном счете религиозной, нелегко было бы жить и более осно-
вательной и монолитной натуре— как, скажем, Гете; Пушкин же,
как натура, весь в порывах и противоречиях, в жизни часто «жертва
бурных заблуждений И необузданных страстей», весь — движение и
огонь от начала и до конца жизни, и такова стихия, данная ему как
551
В. Непомнящий
условие целеустремленной свободы его «художества», и условие не-
пременное, ибо совершение пути требует не статичного постоянства,
а именно движения и огня, способности меняться, даже «заблужде-
ний» и «страстей», необходимых так, как для хождения необходимы
тяготение и сопротивление земли. ,
Оттого Пушкин и «поэт с историей», как гениально догадалась!
Цветаева (что бы она сама ни вкладывала в эти слова). Его отноше-
ния со своим даром (потрясенное переживание которого было, по(
С. Франку, одним из оснований внутренней религиозности поэта)
действительно есть история души, которая предчувствовала — а ког-
да «развилась вполне», то и убедилась, — что на нее возложен такой
дар, который невозможно оседлать. Это — путь, в котором пушкин-
ская лирика есть множество, осуществляемое как единство, стано-
вящееся во времени; как движение того, что дано, к тому, что не
дается, а достигается. Единство обусловлено не идеологией, убеж-
дениями, верностью «принципам» либо даже «идеалам» в обыденном
понимании,— но в каком-то смысле инстинктом самосохранения
носителя дара, какого еще не было, потребностью сохранить, отстоять
свою идентичность на всех «перепутьях» — пусть и ценой страдания
и борьбы с собой; это может услышать всякий, имеющий уши слы-
шать не только «волшебные звуки», но и «чувства» поэта, и его
«думы».
Только все тем же внеконтекстным чтением и того несовершенно-
го, что мною написано на эту тему, и того совершенства, какое пред-
ставляет пушкинская лирика, можно объяснить ту поразительную
нечувствительность к совершающимся в этой лирике драмам, с какой
С. Бочаров приписывает мне «идеологические» оценки, «подозри-
тельность» в анализе, «моральные» претензии к поэту. Уж лучше бы
мой критик возмутился тем, что я крайне нефилологично пытаюсь
влезть в шкуру поэта, передать его собственные «претензии» к себе,
волшебно воплощаемые в «союзе... звуков, чувств и дум». Но для
этого, как минимум, надо принять, что Пушкин не только поет —
что он еще имеет обыкновение думать, о чем поет. «J'écris et je
pense», я пишу и размышляю (XIII, 198), говорил он о работе над
«Годуновым» — описывая дальше, как он порой пропускает сцены,
требующие вдохновения; и в лирике ему требовалось размышле-
ние — может, оттого и откладывал он иногда лирические замыслы
«на потом», как было, к примеру, со стихами о смерти Геракла (пере-
рыв в десять лет) или с «Бесами» (перерыв в год). Конечно, это мало
похоже на «природу лирики» в догматическом представлении.
552
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Вообще, «история», какую являет собою его лирика, безусловно
уникальна— в той же мере, в какой Пушкин уникален; но она в
определенном плане и универсальна: это своего рода типология по-
эта — в том смысле, что разные типы поэта были на разных этапах
этой «истории» освоены и испытаны, испробованы, пережиты, смо-
делированы, спародированы и т. п. Самого же она, эта типология, не
^вмещает, наоборот, в него вмещается и, наверное, только в нем од-
(ном и содержится, простираясь до того предела светского «художес-
тва», за которым и вправду «кончается искусство», но не метафори-
чески, а вот именно «с кровью», вместе с «почвой и судьбой», — что
и явлено нам уходом (здесь нужно именно так сказать) Пушкина в
расцвете, как принято говорить, творческих сил.
И сама лирическая поэтика Пушкина — такого же динамического
характера, что и лирика в целом: стихотворение — не «моменталь-
ный» слепок готовой «правды поэта» (ценность «серебряного века»),
не новое мгновение прогулки по садам «своего мира», но тоже «исто-
рия», переживание мира общего, живое и становящееся, в результате
которого с поэтом на протяжении стихов что-то происходит2*,—
каковое преображение, в предельной своей и символической сущ-
ности, служит, кстати, сюжетом «Пророка».
Мой анализ стихотворения о бессоннице С. Бочаров называет
«придуманным» и «искусственным», заявляя, что его «нельзя под-
твердить на тексте стихотворения». Конечно, нельзя — если читать
этот анализ скользящим взглядом, не видя у меня процесса поисков,
который идет рядом с разбором «Домика в Коломне»; если оставить
от процесса примитивно сформулированный результат, неузнаваемо
извращающий и плоть, и дух моего текста; конечно, нельзя, если и
сами пушкинские стихи принять не как процесс, в самом решитель-
ном месте оборванный, а как «моментальную» голограмму, в гото-
вом виде упавшую на бумагу, ни из чего в прошлом опыте автора не
вытекающую и ни к чему не ведущую; если изъять стихи из большого
контекста пушкинской лирики; если, наконец, не принимать во вни-
мание глубокую «инфраструктуру» стихотворения— его черновые
варианты, на которые я опирался в анализе и которые — поистине
«история» в цветаевском смысле. Черновики предъявляют нам про-
цесс «J'écris et je pense» — размышления поэта, рождения «экспери-
мента», как я условно выразился, в который вылилось стихотворе-
ние. В нем поэт отважно пошел навстречу искушению «духа времени»
(по замечанию Б. М. Цейтлина) — того самого духа секуляризации и
материализма, для которого нет в бытии ничего кроме «горизонта-
553
В. Непомнящий
ли», «материи», «природы». Он попытался вопросить— не «пре-
зренную жизнь», как истолковывает С. Бочаров, а — «материю» той
«самоценной жизни», которая, как С. Бочаров и пишет в книге, «сама
по себе конечна и смертна»29; у нее «самой по себе», у этой материи,
он и пытается вызнать: есть ли в ней, самой по себе, что-нибудь сверх)
ее «конечности» и «смертности»? Не может ли она возникнуть сама\
по себе, без наития вертикали духа, тех сфер, где «Вечности бессмерт-
ный трепет», — сфер, вначале возникших в черновике, а в беловом
варианте сознательно устраненных, как если бы они не существовали
вовсе?
Что же — применительно к Пушкину — «придуманного», «искус-
ственного» в таком вопросе, в таком даже эксперименте,— пусть
задолго до Достоевского и даже до Блока (с его сознанием бессмыс-
ленности молитвы)? Ведь Пушкин уже и «Анчар» написал, мир кото-
рого построен (тоже своего рода «эксперимент») сплошь «гори-
зонтально», на одной только материи, то бишь «природе» («жажду-
щих степей»); и о «равнодушной природе» сказал — словно в прямой
спор с будущим тютчевским «Не то, что мните вы, природа». И не в
родстве разве этот «опыт» с «ахинеей» Ивана Карамазова, выводи-
мой С. Бочаровым в книге к «современной категории абсурд а»30?
И не того же ли порядка этот вопрос, как и тот, на который положи-
тельный ответ передает со слов Петруши Федька Каторжный: «гово-
рят, что все одна природа устроила...», — каковой ответ через неко-
торое время научно обоснует академик Опарин?
Все это не так уж сложно увидеть при внимательном чтении моих
рассуждений, но мой оппонент не видит. Полемика его однообразна:
«...Но все кажется, у Пушкина проще...», — было в письме «О чтении
Пушкина» про элегию; «не взглянуть ли проще и на болдинские ноч-
ные стихи...»,— говорится теперь о моем чтении «бессонницы». Од-
нако, с другой стороны, у меня отмечается «немалое упрощение слож-
ной и нерешенной картины». Усложняя Пушкина, я тем самым
его упрощаю.
Такая «диалектика» — плод определенной филологической идео-
логии, которой написанное мною не соответствует. Для меня лирика
Пушкина есть путь, для С. Бочарова любая лирика, в том числе и
Пушкина,— преимущественно объем. «Путь» для моего оппонента
понятие «идеологическое», «объем»— поэтическое. Видя в лирике
Пушкина «путь», то есть стремясь упростить ее, я и «придумал»
свое— усложненное— понимание стихов о бессоннице: для того,
чтобы это «стихотворение оправдать... Чтобы не было на пути
554
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
поэта нового "Дара напрасного"... Навести порядок в картине пуш-
кинской лирики...». А на самом-то, мол, деле «Дар напрасный...»
никуда не делся: в стихах о бессоннице, говорит мой критик, заклю-
чено обращение «к той же жизни», что и в «Даре...».
Зачем С. Бочарову это нужно? Затем, что в таком случае «лири-
ческие высказывания Пушкина не выстраиваются (как у меня. —
Д Н.) в неуклонную линию, а образуют объем», что и требуется.
Но если «Мне не спится...» — нечто в том же роде, что «Дар на-
прасный...», в чем же «объем»?
Тут моему оппоненту кстати пришлась правка Жуковского, ко-
торая ему так по душе. Жуковский заменил вопросительное «Смыс-
ла я в тебе ищу...» утвердительным «Темный твой язык учу...». С. Бо-
чаров считает: «чужая строка прекрасно легла в завершение пьесы,
завершив ее по-иному, но так гармонично и глубоко...». Снова изум-
ляет нечувствие смысла «дивной гармонии». (Ведь тут, при сходном
вокале, едва ли не противоположное (а не просто «иное») содер-
жание:
Я понять тебя хочу, Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу... Темный твой язык учу...
Неужели не слышно, что в первом случае — требовательное вопро-
шание, а во втором — сдача на милость победителя?) В итоге у С. Бо-
чарова выходит: с одной стороны, в «болдинских ночных стихах»
жизнь— как и в «Даре...» («Цели нет передо мною»)— напрасна,
случайна, бессмысленна, бесцельна, а с другой — язык ее темный не-
обходимо «учить»: жить-то надо! Таким образом все сходится: на-
строение поэта остается тем же, «что и двумя годами раньше в мрач-
ном тоже стихотворении», взгляд на жизнь («правда поэта») — тоже,
идея пути дезавуирована, а витальный объем даже возрастает.
По-земному это очень понятно, по-житейски здраво, нет ни осо-
бых духовных драм, ни «метафизических заглядов»: «объем» — по-
нятие, в общем, довольно благополучное, обязательств не налагаю-
щее, удобное и даже, я бы сказал, уютное — не то что «путь».
С. Бочаров считает мою «картину» стихотворения «упрощен-
ной» и «решенной», мой подход к Пушкину — игнорирующим, ес-
ли не упраздняющим, свободу «творчества на свой страх и риск»
(«риск» — одно из излюбленных понятий моего оппонента); но, вы-
ходит, если у кого «картина» и «решенная», и «риска» лишенная, то
как раз у моего критика. Настоящая «нерешенность» и рискован-
ность у Пушкина — в моем понимании.
555
В. Непомнящий
Я поступил опрометчиво, мимоходом упомянув в своей статье
«Дар напрасный...» (предположив, что стихи эти повлияли на правку
Жуковского): упоминание это, без которого можно было и обойтись,
сбило с толку моего критика (примерно так же, как это случилось со
злосчастным «тяжелым напряженьем»). В действительности никакого
«Дара...» в пушкинской «бессоннице» нет: Жуковский испугался бы
еще больше, если бы вчитался в эти стихи глубже. В них Пушкин
мыслит в ином порядке, чем в «Даре...», — потому и адрес вопросов
здесь другой: там— «Кто...», а здесь— что («лепетанье», «трепе-
танье», «беготня»); этот порядок стал внятен гораздо позже, когда
«дух времени» развернул наступление по всему фронту русской куль-
туры. Вопросы Пушкина в «Мне не спится...»— это уже не вопросы
Иова (на которого, кстати, любит ссылаться С. Бочаров, забывая,
что многострадальный Иов был праведник, не читавший свою жизнь
с отвращением, трепеща и проклиная, сознававший, что страдает ни
за что; забывая также, что Пушкин не мог не сознавать эту разницу,
будучи личностью трезвой и, если можно так выразиться, метафизи-
чески порядочной); вопросы Пушкина, повторяю, не вопросы Иова;
и даже не Ивана Карамазова, который «не Бога — мира Божьего» не
принимает. Тут основательнее. Тут вопрос: а Божий ли — лш/>? А мо-
жет, вот именно, все «одна природа устроила»? И не Бог куда-то «зо-
вет», а эта самая «мышья беготня» — вместо Бога?..
Иначе говоря, здесь, в этих бессонных стихах, Пушкин отчаянно и
безоглядно ступил по пути сомнения дальше, чем в «Даре...», — глядя
в лицо «духу времени», эпохе будущих Петь и прочих «научных»
атеистов,— как Гуан в лицо Командору, как Вальсингам в лицо Чу-
ме. Пошел, но, в отличие от своих героев, вопросом и ограничился:
руки не дал, гимна не спел, стихи вопросом оборвал. И не из трусо-
сти или потому что задумался и «решил» («Результат оказывается в
отсутствии результата», —сказано у меня, и еще не раз в этом духе),
а — гений ему подсказал: тут нет никого и ничего, тут фантастиче-
ское пространство (а в него и кинулось потом просвещенное челове-
чество), тут дно — не «дно бытия», как эффектно пишет С. Бочаров, а
дно в смысле падения духа (Вальсингам: «мой падший дух...») и по-
мрачения человеческого разума. Остается оттолкнуться от этого дна,
если хочешь жить— то есть мыслить и страдать. Оттолкнуться —
значит поверить, признать, что все то, к чему обращены вопросы: и
шепот, и ропот, и лепетанье, и трепетанье, и мышья беготня, — все
это не только одухотворено, но и существует-то лишь тем и оттого,
что есть «Вечности бессмертный трепет»; или, словами одного из
556
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
персонажей Болдинской осени, «правда на земле» есть только пото-
му, что есть она «и выше».
Конечно, повторю, «нам не дано предугадать...»: забыв об этом,
я, может быть, оказался недостаточно внятен в своей статье... Как
же теперь объяснить моему оппоненту — с его пониманием «природы
лирики» Пушкина как «моментального» акта, — что все описанное
есть не «решенность», якобы навязанная («придуманная») мною
Пушкину, а — чувство, скорее даже предчувствие, поэта; не готовый
результат, сходу выведенный С. Бочаровым, а сплошной процесс, —
ни в коем случае не «лирическое мгновение»? Отсюда и внимание
мое к черновым вариантам — внутреннему контексту этого процесса,
и к «Домику в Коломне»— его ближайшему внешнему контексту,
фрагменту болдинской осени31. Стихотворение, с его сомненно-воп-
росительным финалом («вопрос повисает в ночи без перспективы
ответа»,— писал я),— только фрагмент процесса, обрыв, пауза
сомнения и надежды, разрешающаяся в «Домике в Коломне». С. Бо-
чаров не затронул ни того, ни другого контекста, он читает мою
«картину» в своих статичных координатах, отчего она (вспомню еще
раз леонтьевскую полемику с Достоевским) лишается, говоря слова-
ми С. Бочарова, «динамических свойств и обращается в статическую
фигуру».
Напрашивается обобщение. Для меня христианский подход к сло-
ву (к искусству; к миру; к жизни) есть подход контекстуальный:
«...христианство есть высшее художество, оно не идеологич-
но, а методологично, и его ценностная система есть сплошной
контекст»,— писал я, заключая разбор стихов Блока. Если это
так, то подход, противополагаемый христианскому, есть подход вне-
контекстный. Нисколько не посягая на общемировоззренческое
определение позиции моего критика, я вынужден констатировать:
теоретически ниспровергая то, что названо «религиозной филологи-
ей», С. Бочаров в критической практике демонстрирует соответ-
ствующий, то есть противоположный «религиозному», внеконтекст-
ный метод.
Все показанные здесь неувязки, оплошности, некорректности в
прочтении, толковании, цитировании и проч. имеют один источник:
мой оппонент игнорирует то, что игнорированию не подлежит, а
главное, не поддается: дыша в воде, как на воздухе, неминуемо начи-
наешь захлебываться. Там, где С. Бочаров видит у Пушкина «мгно-
вение», на самом деле — гигантский контекст, из которого я и исхо-
жу: черновые варианты — стихотворение — «Домик в Коломне» —
557
В. Непомнящий
болдинская осень, — весь путь Пушкина — наконец сама жизнь с ее
непостижными уму «проклятыми» вопросами, которые никаким «объ-
емом» не ухватишь, «объектом» изучения не сделаешь, которые «изу-
чаются» только в переживании их, в сопереживании с поэтом; и не в
парении интеллекта, а ползком по собственному пути. Это такой
контекст, такой «объем», в который мы сами вписаны, и там нет
«объектов», сплошная субъектность, все связано с нами и вообще
связано сплошь: как в чеховском «Студенте» сидящие ночью у костра
связаны с тем, что было у другого костра две тысячи лет назад.
Необыкновенно важная формулировка проблемы контекста в ее
абсолютном филологическом плане содержится в книге Сергея Боча-
рова «Сюжеты русской литературы». Это слова M. М. Бахтина про
собственную его книгу о Достоевском:
«Это все в имманентном кругу литературоведения, а должен быть
выход к мирам иным»32.
А мы из того и бьемся (XI, 164).
VI
«Да, так мы не думали. Мы читали и перечитывали эти страницы
"Бедных людей" и думали, что же это такое? Потому что предчув-
ствовали. Потому что не верили скромности этого эпизода— его
общеизвестности, его зачитанности не верили. И набрели на других
страницах романа на стыд, "примером сказать, девический". И —
открылось: горизонт открылся. Оказалось: эпизод с горизонтом, вот
с таким горизонтом. Верно ли открылось, так ли? — пусть читатель
судит. Мы же лишь растерянно повторяем вместе с героем битовско-
го рассказа: а это, оказывается, вот что»33.
Это удивительное, почти до детскости простодушное, радостно
изумленное (вроде «ай да Пушкин, ай да сукин сын!») и в то же время
щемящее признание— финал самой, может быть, вдохновенной из
составивших книгу «Сюжеты русской литературы» статей: «Холод,
стыд и свобода»; она же — одна из выдающихся работ современного
литературоведения также и по своей, не побоюсь сухого слова, дель-
ности.
Посвящена статья тому эпизоду романа Достоевского, «где автор
заставил своего бедного героя читать подряд "Станционного смотри-
теля" и "Шинель" и высказываться об этих произведениях»; «прочте-
ние этого эпизода можно уподобить расщеплению ядра с высвобож-
дением неподозревавшейся смысловой энергии»34, — пишет С. Бо-
558
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
чаров, и оно приводит его в сферы, где мерцает «нечто вроде глубин-
ного мифа русской литературы», в котором в свою очередь скрыты
«очертания иного — общечеловеческого вечного мифа»35. Тем самым
работа эта открывает большие возможности для изучения как раз
того духовного и ментального «своеобразия русской литературы», о
котором говорилось на первых моих страницах.
Здесь не место, по жанру, рассыпаться в восхищениях, разбирая
или просто пересказывая ход аналитической мысли в этом шедевре
моего супостата; придется, в нарушение известного правила критики,
сказать не только (может быть, и не столько) о том, что есть в статье,
но и о том, чего в ней нет; это имеет отношение к нашей теме.
«Холод, стыд и свобода» — завидное название. Красота — форма
истины, когда красота неподдельна: название содержит в себе неко-
торые истинные «параметры», атрибуты, условия той «русской ду-
ховности», что воплотилась в русской культуре, в нашем случае —
литературной классике.
Холод — это север, «полнощная» страна, Россия, это «медлитель-
ный огонь» русского характера, степенного и взрывчатого, долго-
терпеливого и буйного, созерцательного и страстного. Все мы пом-
ним, как Пушкин любил «русский холод».
Стыд. Русская культура, русская душа — самая стыдливая, мо-
жет быть, в мире. Отсюда в иконах строго сохраняется одетость до
«ручек» и «ножек» — только лик, ладони и ступни открыты; да еще
металлический оклад поверх тканых риз, как баррикада от нескром-
ного воображения; лишь Спаситель на кресте почти наг— потому
что Он — Бог. И отсюда же наша чудовищная матерная ругань, о
ее религиозной, стыдливой природе я в свое время писал36. Во всей
русской классике самые «сексуальные» писатели— то есть такие,
что изредка вводят эту материю в иерархически высокие темати-
ческие слои, — Чехов и Бунин; она отсутствует уже у позднего Пуш-
кина.
Свобода — наверное, самая важная из доминирующих черт рус-
ской души (отсюда необходимость сильной власти), ее любимая сти-
хия, настолько глубоко внутренняя, своя, настолько вездесущая в
ней, что сливается с понятием воли — решающего хотения, двигателя
деяний, духовной силы.
Я не пеняю автору статьи на отсутствие разработки всего эк-
зистенциально-национально-религиозного массива темы, обозначив-
шейся у него этими понятиями: необъятного объять нельзя, и цель у
автора своя. Его тема локальнее и филологичнее: он рассматрива-
559
В. Непомнящий
ет — отталкиваясь от названного эпизода «Бедных людей» — «миф
русской литературы, творимый литературой нового века», о Пушки-
не как «потерянном рае» русской литературы, об искусительной, «от-
рицательной», «дьявольской» роли Гоголя в ней и «восстановитель-
ной» — с помощью Гоголя же, читаемого Макаром Девушкиным, —
роли Достоевского: «гоголевское "отрицание", — пишет С. Боча-
ров, — с последующим "восстановлением" Достоевского в телеоло-
гии русской литературы образовало ее магистральный путь»37.
Рассмотрение это складывается в сложный, тонкий и захваты-
вающий сюжет, разворачивающийся на фоне и в координатах «ро-
доначального в Священной истории события грехопадения»38.
В «философской ситуации начала века», когда возникла задача
«понять смысл русской литературы во вселенском религиозно-мифо-
логическом горизонте», — это событие обрело, пишет С. Бочаров,
«неожиданную актуализацию... особенно облюбовал его Розанов, от-
личавшийся чуткостью к ветхозаветным темам»39.
Я нарочно здесь кое-что выделил курсивом, чтобы подчеркнуть
некоторую странность в выражениях автора и некоторую свою рас-
терянность. «Неожиданная актуализация», «облюбовал» — так вчу-
же можно было бы сказать о какой-нибудь экзотической диковине
(«ретро», выражаясь по-нынешнему), давно утратившей смысл и наз-
начение, а вот вдруг явившейся из забвения и даже кому-то особо
полюбившейся. Между тем речь идет не о чем-нибудь — о событии
грехопадения. (Помнится, Бердяева в «Смысле творчества» тема гре-
хопадения бесконечно раздражает как изрядно надоевшие прописи,
волочащиеся из средневековья и мешающие свободному творчеству
человека; память о грехопадении — это, на его языке, «послушание
последствиям греха», от чего надо избавляться). Надо сказать, автор
статьи немало делает для того, чтобы у читателя создалось впечатле-
ние, что событие грехопадения, его роль в истории и культуре — для
самого автора вещь едва ли не новооткрытая и, как оказалось, очень
любопытная.
Оказалось: «...в событии грехопадения, говорит современный ис-
толкователь, были заложены вообще истоки ситуации, в которую
поставлен человек на земле»40.
Оказалось: «Живая душа человека раздвоена по вертикали и, дей-
ствуя в реальной жизни по назначениям нефеш, человек способен
обозревать себя "глазами" нешама, судить себя с высшей точки зре-
ния в себе, испытывать муки совести и стыда за себя, переживать
идеал и каяться сам перед собою»41,— это тоже объясняет «совре-
560
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
менный истолкователь», на которого С. Бочаров ссылается словно на
новейший источник, «на все проливающий свет».
Я не хочу сказать ничего дурного о книге Б. Бермана «Библейские
смыслы», это, вероятно, книга очень полезная в условиях нашей тем-
ноты: она не открывает, она напоминает то, что известно на Руси —
не как мифологема, а как правда жизни — тысячу лет, что тысячу лет
говорят с амвонов «простому народу» батюшки и на чем примерно
столько же времени, по крайней мере с Иларионова «Слова...», стоит
русская литература, наиболее наглядно представительствующая пе-
ред миром от лица «русской духовности»; это те азы, с которых на-
чинают преподавать детям Закон Божий, азы русской духовности,
давшей русскую классику. На этих азах стоит мое понимание Пуш-
кина (что можно видеть по работам последнего времени); отсюда важ-
нейшая для меня коллизия поэт и его гений, отражающая универ-
сальную коллизию «раздвоенности по вертикали»: человек и образ
Божий в нем, — и послужившая основой анализа и элегии «Под не-
бом голубым...», и стихотворения Блока, и, в конечном счете, стихов
о бессоннице. Быть может, мой критик лучше понял бы меня, если бы
я излагал свое понимание просто на другом, более научном языке,
где, предположим, на месте образа Божия был нешам, а тема поэт и
его гений рассматривалась бы в терминах нефеш и нешам, с соответ-
ствующей ссылкой?
Но материал на тему грехопадения как начала и одновременно
«алгоритма» человеческой истории (непрестанно это событие возоб-
новляющей)— а также на тему взаимоотношений «небесного» и
«земного» в человеке, идеального и натурального в нем — я почерп-
нул, помимо первоисточника, непосредственно из русской классики,
прежде всего из Пушкина: интересующемуся это доступно; и немалая
нужна дистанция между этим материалом и исследователем, чтобы
последнему для осмысления элементарных библейско-евангельских
основ русской литературы понадобилось обращаться к «современ-
ному истолкователю» «библейских смыслов».
Наличием этой дистанции, думаю, и объясняется тот факт, что
опыт статьи «Холод, стыд и свобода» (имеющей подзаголовок «Ис-
тория литературы sub specie Священной истории») никак не сказался
на постскриптуме «О религиозной филологии», хотя статья была
написана пять лет назад, автор читал уже и книгу Б. Бермана, и то
сходное, что есть в моих работах последних лет.
Сыграла, может быть, роль и та дистанция, на которую в этой
этапной работе отнесен Пушкин, не вошедший в тот «горизонт», что
561
В. Непомнящий
«открылся» автору, а оставшийся на периферии в качестве «поте-
рянного рая» русской литературы (Розанов). Такую маргинальность
можно понять в пределах задачи автора, но отсюда происходят обид-
ные потери: от отсутствия глубокого «загляда» в «Станционного
смотрителя» (великолепные отдельные наблюдения касательно него
заставляют особенно об этом жалеть) до всего лишь, казалось бы,
детали, но — значения неоценимого.
Из тех финальных строк статьи, что приведены в начале этой гла-
вы, ясно, что роль последнего кристалла, брошенного в раствор, сыг-
рала тема стыда «примером сказать, девического» (откуда С. Боча-
ровым выводится и значащая фамилия Макара Алексеевича Девуш-
кина). Но ведь это— прямо из Пушкина. Из Предисловия к «По-
вестям Белкина», где об Иване Петровиче говорится: «стыдливость
была в нем истинно девическая». Это что-нибудь да значит в экзис-
тенциально-русском контексте проблемы, необходимо и объективно
вмещающем Пушкина; но этот исток, притом известный автору42,
остается вне статьи, хотя он бесконечно важен для характеристики
всей великой русской классики. «Целомудрие как эстетический прин-
цип» — это название статьи О. Поволоцкой о «Повестях Белкина»43
(эпиграфом к которой и взяты слова о «девической» стыдливости)
могло бы определять одно из коренных начал нашей классики в це-
лом, положенное Пушкиным.
Возможность «крупного взгляда» на эти коренные начала, можно
сказать, так и рвется в статью С. Бочарова, возникая порою с боль-
шой пронзительностью. Вот несколько таких мест.
«Юный Достоевский сообщал брату универсальную мысль (9 ав-
густа 1838 г.): "...какое же противузаконное дитя человек; закон ду-
ховной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище
духов небесных, отуманенных грешною мыслию..."... О чем эта мысль?
о направлении развития человека как следствия изначальной ошиб-
ки, грехопадения, если перевести ее на язык Священной истории»...44
Макар Девушкин, говорится в другом месте статьи, видит себя в
повести Гоголя «как в зеркале. Гоголь ему его показал. И это
отражение одновременно он не может не признать за свое и не хочет
признать. Не хочет признать, что тождествен...»45
«История новой шинели — это словно попытка Акакия Акакие-
вича воплотиться в формы мира, войти в его измерения...»46.
«Акакий Акакиевич... прошел свое грехопадение и вступил на
путь приобщения к миру мнимых значений...»47.
Эти мысли автора стоят в его контексте на своих местах и служат
562
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
его цели — но могут стоять в контексте более широком. В этих мес-
тах С. Бочаров приблизился к самому сердцу той духовности, что
создала и литературу русскую, и всю нашу культуру. Ему оставался
один шаг к тому, чтобы на основе масштабно и виртуозно разрабо-
танной темы сформулировать «имплицитный» религиозный пафос
русской литературы, ее «национальное своеобразие» среди других
литератур Нового времени.
Впрочем, он этот пафос и определил — только отнес его лишь к
Гоголю (у которого он и в самом деле выступил в страшной остроте).
Сказано это так: Гоголь ставит «земное существование падшего че-
ловека» на «очную ставку с абсолютными его пределами, с которыми
оно потеряло связь, с первым и последним актами всемирной дра-
мы»48 — грехопадением и Страшным Судом.
Это, повторяю, сказано, о Гоголе, но здесь — стержень и русской
духовности, и русской литературы (и вот откуда гигантская роль
Гоголя, «оголившего» — см. С. Бочарова — этот стержень). Пусть я
набрасываю тут (говоря словами автора) «грубый контур, кажется,
не вмещающий» всей «живой конкретности текстов»49 (и жизненных
проявлений), — но все же русская картина мира в целом своем поко-
ится — невзирая на все наши идеологические и духовные катаклиз-
мы, уклонения и падения — на глубоком до полузабвения знании о
том, что история рода человеческого началась с греха и полна греха,
что это история падшего мира, но что человек предназначен для ино-
го и что «душа человека раздвоена» со времени грехопадения на
«земное», падшее, и «небесное», идеальное; что смысл жизни — не в
«мире мнимых значений» и что за все деяния, в том числе и в слове,
надо держать ответ перед истинной Жизнью.
От этого знания, в котором исповедание отцов то ли совпало с
ментальностью, то ли оформило ее,— все духовное величие и вся
земная неустроенность, неумение наше «воплотиться в формы мира»
(сегодня говорим: «цивилизованного мира»), все крайности наши в
обе, во все стороны, все метания от «духов небесных» к «отума-
ненности грешною мыслию» и обратно, все непрестанные, часто до
уродливости (а то и до святости), отношения с «зеркалом» совести.
На этом знании, что мир наш — падший, и стоит «своеобразие» рус-
ской духовности, с ее отсчетом ценностей от идеала, от неба, — тогда
как в остальном христианском мире действителен, в основном,
отсчет от интереса, от земли, событие грехопадения осталось в цер-
ковной догматике, а практика нацелена к возобновлению, рекон-
струкции Рая на земле — как будто ничего не случилось.
563
В. Непомнящий
«Крупный взгляд» на русскую литературу в таком контексте тре-
бует той зоркости и тонкости, того мягкого и смелого ведения фило-
логической мысли, какие свойственны С. Бочарову в статье «Холод,
стыд и свобода»; тогда как моя манера порой и в самом деле бывает,
по его слову, «грубовата». (В порядке творческой рефлексии вспоми-
наю одного деревенского соседа, однажды зашедшего взглянуть на
мои строительные достижения. «Погляди, Анатолий Иванович,—
говорю, — какой наличник я сделал. Только пилой и топором!» Он
посмотрел, покивал головой: «Оно и видно, что топором».) Но и
тонкость — вещь не универсальная (Пушкин, как мы помним, к «тон-
кости» относился порой сдержанно: XI, 55—56), без прямоты иной
раз не обойдешься, бывает нужно и «голое» слово (о котором нема-
ло сказано С. Бочаровым в статье). И вот, та дистанция, которую
положил С. Бочаров между собою и непосредственно религиозной
материей своей проблемы — темой падшего мира (переведенной
им в конце концов в тему «мифа», в исключительно литературный
план), — создала ощутимый пробел в созданной им впечатляющей
картине. Речь идет о смехе Гоголя.
Он, конечно, в статье упоминается, но как-то проскоком, его не к
чему особенно «подключить» в концепции кроме как к темам стыда,
«кривой рожи и наготы человека»: верно, но по касательной. Между
тем, читая цитируемые С. Бочаровым слова Достоевского о «двух
демонах» русской литературы, один из которых «все смеялся»50, на-
помню автору пушкинский набросок (1821) «Вдали тех пропастей
глубоких», где на отрывочно намеченном фоне ада «Ужасный сатана
хохочет» и который, по всей вероятности, связан с традиционным
христианским представлением о «всесмехливом аде» (в то время как
Христос никогда не смеется). И вот зачем напомню. «Сатана хохо-
чет» потому, что падший мир смешон— ибо он есть профанация
Божьего замысла о мире; сатана хохочет над «кривой рожей» совра-
щенного, соблазненного им человеческого мира.
Это, конечно, только исходный момент, от которого тема про-
стирается неимоверно далеко: в ней огромная глубина и сложнейшая
диалектика; но без этого исходного момента (может быть, ключевого
для понимания проблемы Гоголя и его роли в русской литературе) в
статье о «телеологии русской литературы» образуется дыра, зона
умолчания — не знаю отчего: от робости — не очень, впрочем, свой-
ственной автору — или от обезболивающей осторожности. Ведь пе-
ред смехом мы все беззащитны; а смешны все, и каждый знает про
себя — когда и чем.
564
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
Умолчание увеличивает дистанцию между автором и его мате-
риалом, то бишь между «субъектом» и «объектом», отдаляя и слегка
затуманивая тот «горизонт», что «открылся», и о котором сказано в
лирическом заключении статьи.
«...А это, оказывается, вот что», — говорится там. «Это концовка
рассказа молодого Андрея Битова "Инфантьев",— поясняет ав-
тор, — и какое она имеет отношение к нашему сюжету? Но почему-то
вспоминается»51.
Инфантьев похоронил жену. И происходит что-то странное: она
иногда появляется. «Но Инфантьев как-то странно чувствует, что все
нормально, естественно и что в то же время не может быть, все это
невозможно, чтобы было какое-то еще "там"».
На кладбище он встречает женщину, приходящую на могилу му-
жа; она с мужем тоже «общается»: «Он мне помолчит — и мне легче».
« — Вы, наверно, и в Бога верите? — шепотом спросил Инфантьев
и осторожно взглянул на голубой купол.
— Да нет, — сказала она. — Я там и не была никогда. — И тоже
взглянула на купол.
— Я был. — Инфантьев вздохнул. — Случайно...
— Они живые, конечно, — сказала женщина. — Иначе как бы мы
с ними разговаривали?
— Я как-то так не догадался рассудить, — пораженный, протянул
Инфантьев.
— Он даже приходит ко мне...
— И к вам?! — воскликнул Инфантьев.
"Да, я так не думал, — повторял Инфантьев. — Я думал, что это
такое? А это, оказывается, вот что"».
Этой последней фразой заключение статьи и открывается, и за-
вершается; за нею — весь рассказ, и разговор на кладбище, и герой,
советский «итээр» (подумавший, очутившись «случайно» в церкви,
что никогда «не был внутри») с фамилией то ли царственной, то ли
священнической, но все равно детской; герой, впервые заглянувший,
в сердце своем и уме, в самый большой контекст.
Что бы он делал, если бы был филологом?
Почувствовал ли бы, что за колоссальная творческая сила таится
там, где «выход к мирам иным» (М. Бахтин); что именно она, даже и
на приличной филологической дистанции, соблюдаемой автором
статьи, дает то счастье открытия, которое продиктовало благоговей-
565
В. Непомнящий
ный восторг финала? Ветер, доносящийся оттуда, дует в паруса ис-
следовательской мысли, вращает крылья ее мельницы; но прибли-
зиться к этому «выходу» исследователь избегает (такие «загляды»,
такой «риск» не в его правилах), а главное — другим не велит.
VII
«Розанов, — пишет С. Бочаров, — создал миф о Пушкине как по-
терянном рае нашей литературы...» Если «с Пушкиным» — то дви-
жению и перемене неоткуда взяться» — цитирует он, — зачем
движение, если рай?52»
Даже на Розанова с его отважным, живым и неготовым знанием
век наложил здесь свою печать. Как будто «мудрости века сего»
вполне известно все: и что такое рай (то, чего, по апостолу, «не
видел., глаз, не слышало ухо, и не приходило... на сердце челове-
ку...» — I Кор. 2,9), и что в раю происходит — или не происходит, —
и чем этот рай напоминает Пушкина. И о Пушкине тоже все извест-
но: что в нем заведомо нет ни «движения», ни «перемены», нет «ис-
тории», увиденной в нем младшей современницей Розанова Цветае-
вой, одним словом — нет жизни; одна «дивная гармония», сиречь —
«рай».
Да сама-то «гармония» — что она такое? И почему именно у
Пушкина она так неслыханна, так вездесуща, так тотальна?
«Цель художества есть идеал». Он не сказал: цель художества
есть истина; или что она есть добро; или, наконец, что — красота.
Сказал: идеал. То есть целостность всего того, что выразимо на на-
шем языке как конечная цель устремлений человеческого духа. Это и
есть гармония. Прекрасна истина и прекрасно добро, и красота пре-
красна; но целого не заменит ни одно из этих трех, мыслимое в от-
дельности от их единства. Однако в случае искусства, художества
именно это происходит — в нашем сознании — относительно красо-
ты. Будучи наиболее явленным предметом искусства (как в науке —
истина, в практике жизни — добро), красота часто заслоняет для нас
все— и все искусство слова, в первую очередь поэзия, подводится
под «рубрику» красоты; и получается и недобро, и неистинно; так
примитивный социологизм советского литературоведения известных
пор, будучи ложью, украшался декларациями примитивного же эсте-
тизма; толкования Пушкина, принадлежащие тому времени, лучший
здесь пример.
566
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
В прозе положение «легче»: в ней «красота» не так выступает на
первый план, как в поэзии. И в прозе С. Бочаров — как рыба в воде:
тут «красота» ему не мешает. А в поэзии — мешает, оглушает, не дает
услышать всю дивную гармонию и что там в ней, какие струны ее
издают, чему мы этою гармонией обязаны.
В одном месте постскриптума «О религиозной филологии» С. Бо-
чаров пишет: «"Дар напрасный..." пушкинский не раз огорчал В. Не-
помнящего, да и другое у Пушкина...»,— это реминисценция из
письма «О чтении Пушкина», где о моем анализе стихотворения как
трагического, после «Пророка», духовного события, было едко бро-
шено: «Невыдержанное написал он стихотворение после "Проро-
ка"...» . Мое стремление понять, что произошло там, внутри, в душе,
в поэзии, что дало этот отчаянно мрачный аккорд, было истолковано
как идеологическое недовольство. В том же письме примерно так же
оценивались мои слова о том, что в «Поэте» («Пока не требует по-
эта») автор переживает «двусмысленность» своего положения (то ли
«пророк», то ли «всех ничтожней»). «Что значит «двусмысленное», —
вопрошал мой критик. — ...Двойственность человека-поэта — недву-
смысленная его (Пушкина. — В. Н.) тема».
Лирическая тема). — и никаких переживаний. Вот она — филоло-
гическая дистанция.
И при этом в конце постскриптума заявляется: «...не открывается
глазам друзей Иова поэзия»...
«Друзья Иова» называются «благочестивыми» (эпитет нелестный
в устах С. Бочарова). Словно за благочестие Господь прикрикнул на
них, а не за то, что не вникли они в смысл речей Иова, что не сопере-
жили с ним то, о чем он вопиял.
В филологии же такая дистанция часто как раз приветствуется.
Глухота именуется «целомудрием»53.
Я не против дистанции, во многих случаях и при определенных
целях без нее обойтись нельзя — как и без широких «горизонтов». Но
без глубин сочувствия слову поэта— зачем лирика? Ведь если до
конца всерьез: формула «цель поэзии — поэзия» применима, в своем
буквальном, автологичном смысле (связанном с греческой этимоло-
гией «поэзии»), только к одному Художнику; вот тут «трансценди-
ровать з а» и в самом деле некуда: все, включая жертву Искупителя,
входит в творческий процесс, в пойесис Творца. Однако человеку не-
удержимо хочется стать вровень с Творцом, по крайней мере, своими
силами сконструировать отнятый грехопадением Рай, но — не вни-
мая «нравственному закону внутри нас», Им данному, а лишь изучая
567
В. Непомнящий
«звездное небо над нами», «механизм» мироздания; подражая Творцу
не в сострадании тем, кто назван «братьями Моими меньшими», а
лишь в «технологии» пойесиса; не сочувствуя, а лишь познавая,—
словно, познав все до конца, усвоив «формулу Логоса», человек до-
стигнет искомого равенства. Но ведь это тот случай, когда от вели-
кого (и поистине великого) один шаг до... того самого.
В книге «Стихотворная поэтика Пушкина» наш общий друг Юрий
Чумаков, сетуя — по поводу моих работ об Онегине (оцениваемых
им в остальном высоко)— на «внутреннюю взвинченность нашей
культуры», предпочитает то, что «звучит гораздо спокойнее», — «ди-
станционное прочтение западных пушкинистов»54. То есть — их под-
ход к Пушкину как научному «объекту». Не отвергая опыта запад-
ных пушкинистов, у которых немало специфически ценного (в том
числе по причине взгляда совсем уж со стороны, что бывает и полез-
но), а осмысляя собственный подход, не западный и не спокойный, я
не могу не быть благодарен С. Бочарову за напоминание слов из
«Авторской исповеди» Гоголя:
«...Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал,
что выведенное лицо (в случае лирики это, стало быть, сам поэт. —
В. Н.) взято из того самого тела, с которого создан и он сам, что это
живое и его собственное тело»55.
Не зря говорится именно о русском читателе и, значит, о русском
писателе (поэте). Россия, говорит Гоголь, «сильнее слышит Божью
руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного
Царствия»56. А сбывается в ней в общем то же, что со всем челове-
чеством, с тою лишь разницей, что человечество в большинстве сво-
ем живет так, будто ничего не случилось, а Россия еще не совсем забы-
ла, что — случилось. Все мы платим за жизнь дорогую цену, только
Россия «сильнее слышит» это, и ее поэзия тоже. Поэтому высокой
ценой оплачиваются те «самые формулы мыслей и чувств», которые,
по Островскому, дает нам Пушкин: формулы наших мыслей и наших
чувств, только возведенные, как говорили когда-то, в перл создания.
«Нам музы дорого таланты продают!» — сказал Батюшков о поэтах.
И в эту цену, сверх общей, входит у Пушкина, как я писал когда-то,
нечто вроде муки царя Мидаса, от прикосновения которого и хлеб и
вода обращались в золото; а Пушкин был человек как и мы. Мы же
думаем, что имеем дело с готовым золотом, наслаждаемся готовым
божественным благоуханием. Кому-то из специалистов по поэзии и
ее целям под силу обонять его, не задаваясь вопросом, «какие ве-
щества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуха-
568
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
ние»57; мне — нет. Вот друзья Иова говорили «дистанционно», «го-
раздо спокойнее», без особой «взвинченности».
Может быть, Пушкин — и «рай», хотя бы по нашим земным по-
нятиям; наверное, так. Но должны же мы отдавать себе отчет— как
и какими трудами, какою «силою берется» (Мф. 11, 12) рай; это же
всех нас касается. Ведь не ради Александра Македонского с его пер-
натым шлемом совершается, в конце концов, история.
Розанов признавался, что он Пушкина «ел». И прекрасно, и на
здоровье. Но Розанов, думаю, понимал, что — да простит мне Бог
продолжение розановского сравнения Пушкина с раем — только ма-
лый ребенок охотно глотает Причастие лишь потому, что вкусно.
Одно из самых больших достижений С. Бочарова не только в
статье, которой здесь посвящена глава, но, может быть, во всей его
книге — то, как он показал в Макаре Девушкине пример экзистенци-
ального переживания онтологии мира и человека; это ведь и есть
квинтэссенция и метода и пафоса великой русской классики. О таком
переживании и говорит Гоголь в приведенных выше словах о
«русском читателе». Эти слова цитируются С. Бочаровым как раз в
связи с героем «Бедных людей», которому Достоевский «доверил»
свой «взгляд на путь литературы»— доверил как «примитивному
читателю, но которого можно также назвать экзистенциальным
читателем, такому читателю, который видит себя героем читаемых
произведений, узнает себя в них и откликается ... всем своим челове-
ческим существом»58.
Я готов применить к себе как исследователю Пушкина такое
определение. Добавив, впрочем, что подобный читатель, как пишет
дальше автор, делает «свое великое дело прочтения метатекста лите-
ратуры и построения ее драматического сюжета»59.
То есть— «примитивный читатель», он же «экзистенциальный
читатель», делает дело филологии — как такой науки, которая само-
назвалась любовью к Логосу. А такое дело есть, на русской почве,
дело христианское— и в наше время отчаянно необходимое. Это
стало мне видно с помощью С. Бочарова.
Тут и вспомнилось «коромысло» из рассуждения С. Бочарова о
«Карамазовых» (см. статью «Праздник жизни и путь жизни»60) с его,
коромысла, двумя плечами; хромает аналогия, но все же... Несмотря
ни на что, хотелось бы думать, что в конечном счете мы с Сергеем
Бочаровым делаем одно дело — «с двух концов»; однако коромыс-
ло — длинное. И нужно, конечно, следить за равновесием — чтобы
не занесло. Только под руку бы не толкать.
19- 1379
569
В. Непомнящий
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., «Языки русской культу-
ры», 1999. 632 с. См. статью «О религиозной филологии» в настоящем из-
дании.
2 Том и страница в скобках указывают на Большое академическое собрание
сочинений Пушкина (1937—1949). Курсив в цитатах мой, разрядка— ав-
торская.
3 Касаткина Т. А. О литературоведении, научности и религиозном мышле-
нии // Начало. Сб. статей. Вып. 3. С. 26.
4 См.: «Введение в художественный мир Пушкина», «Слово о благих наме-
рениях» (1994), вошедшие в мою книгу: Непомнящий В. Пушкин. Русская
картина мира. (М., 1999); выступление «Христианство Пушкина: легенды
и действительность» в кн. «Ежегодная богословская конференция Право-
славного Свято-Тихоновского Богословского Института». М., 1997; после-
словие в кн. «Дар. Русские священники о Пушкине» (М., «Вече»-«Руссюй
Mip», 1999).
5 «Удерживающий теперь», «Феномен Пушкина в свете очевидностей» (см.:
Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. С. 443—536.)
6 Цейтлин Б. М. Припомянутое слово // Московский пушкинист. Вып. VI.
М, 1999.
7 Далее в III разделе все цитаты из моей статьи приводятся по этому изда-
нию.
8 Непомнящий В. Под небом голубым. «Пророк» и его автор. К истории
отношений // Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. С. 192—300.
9 Бочаров С. Г. О чтении Пушкина // Новый мир. 1994. № 6. С. 244.
10 Бочаров С. Г. О чтении Пушкина. С. 241.
11 Там же. С. 239.
12 Там же. С. 240.
'з Там же. С. 239.
14 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 370.
15 Бочаров С. Г. О чтении Пушкина. С. 238,239.
»* См.: Там же. С. 239.
17 Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. С. 205—207.
18 Бочаров С. Г. О чтении Пушкина. С. 239.
>9 Там же. С. 241.
20 Там же. С. 240.
21 Там же. С. 243.
22 «Поэт и толпа»— Новый мир. 1993. № 6. См.: Непомнящий В. Пушкин.
Русская картина мира. С. 412—442.
23 Бочаров С. Г. О чтении Пушкина. С. 244.
24 Там же. С. 245.
25 См.: Речи о Пушкине. 1880—1960-е годы. М, 1999. С. 297. (Впервые опу-
бликовано: Вестник РСХД. 1962. № 65.)
26 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 189.
27 Там же. См.: С. 193—194.
570
О горизонтах познания и глубинах сочувствия
28 См. мои тезисы «Время в его поэтике» {Непомнящий В. Пушкин. Русская
картина мира. С. 65—72).
29 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 194.
30 Там же. С. 209.
31 Тема была продолжена в моем докладе «О композиции Болдинской осени»
на 137 заседании Пушкинской комиссии НМЛ И РАН 8 апреля 1998 г.
32 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 476.
33 Там же. С. 148.
34 Там же. С. 123.
35 Там же. С. 124.
36 «С веселым призраком свободы» (1992)— см.: Непомнящий В. Пушкин.
Русская картина мира. С. 384—411.
37 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 147.
38 Там же. С. 122.
39 Там же. С. 122.
40 Там же. С. 125.
41 Там же. С. 134.
42 См.: С. Г. Бочаров. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 143.
43 Московский пушкинист. Вып. VII. М, 2000.
44 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 132.
45 Там же. С. 131.
46 Там же. С. 126.
47 Там же. С. 127.
48 Там же. С. 129.
49 Там же. С. 122—123.
50 Там же. С. 138.
51 Там же. С. 148.
52 Там же. С. 122.
53 См. об этом в статье Т. Касаткиной «После литературоведения» в настоя-
щем издании.
54 Чумаков Ю. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 243.
55 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 130—131.
56 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1952. Т. 8.
С. 251.
57 Там же. С. 383.
58 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 123.
59 Там же. С. 123.
60 Там же. С. 211.
19*
571
T. A. Касаткина
ИМЛИим. A. M. Горького РАН. Москва
СЕГМЕНТ И ГОРИЗОНТ
Статья С. Г. Бочарова «О религиозной филологии» интересна
тем, что выражает определенную позицию, мировоззрение, присущее
вовсе не только ее автору. Пожалуй, суть этой позиции можно опи-
сать как желание сохранить независимость разных сфер мысли и дея-
тельности человека, да даже и отдельных моментов его жизни; не-
зависимость и самостоятельность, и еще — равноправность, рядопо-
ложенность, то есть избежать единства и единого целеполагания,
неизбежно предполагающих иерархию, соподчинение1. Именно по-
этому высшей ценностью в филологическом труде Бочарова высту-
пают эпизод, фраза, высказывание в своих превращениях и приклю-
чениях в литературе. Эпизод, фраза, высказывание, стихотворение
завораживают его, он удивительно умеет пережить мгновение и даже
его остановить, извлечь из него многообразные мерцания смысла,
любоваться ими. Но вкуса к анализу целого и целостно у него нет.
Есть даже отвращение ко всякой попытке такого анализа — ибо он
неизбежно ведет в область устойчивых смыслов, в область авторских
интенций, авторского миросозерцания, а там отдельная вещь не мо-
жет оставаться в своей неопределенности, придающей ей столько
прелести, но должна занять свое место в некоей иерархии, создающей
общий смысл. Всякий общий смысл представляется Бочарову (и да-
леко не только ему) отвратительным насилием над вещами2.
Скажу сразу — я ничего не имею против и такого подхода, и даже
благодарна практикующим его за множество интересных для меня
находок. Но мне его недостаточно. Мало этого, я полагаю, что писа-
тели, во всяком случае те, читать которых для меня жизненно необ-
ходимо, — Пушкин и Достоевский — тоже не были бы удовлетворе-
ны, если бы читатели читали их, восторгаясь отдельными находками
572
Сегмент и горизонт
и не пытаясь понять смысла целого. При поисках смысла целого ис-
следователям случается очень даже поблуждать, потрудиться, и они,
конечно, не застрахованы от самых досадных промахов. И их, конеч-
но, хорошо бы поправить. Беда, однако, в том, что статья Сергея
Георгиевича посвящена разгрому подхода, а вовсе не попытке пони-
мания результатов, с его помощью полученных. Посему происходят
интереснейшие «недоразумения».
Например, Бочаров пишет о неверном истолковании мною слова
«реабилитировать», «réhabiliter», которое, по его мнению, означает
не «оправдывать», а «восстанавливать»: «"Реабилитировать" — сло-
во из черновиков к "Идиоту", "то есть — оправдывать", комменти-
рует исследовательница. Но комментарий ошибочен, поскольку поль-
зуется— что в очередной раз характерно— суженным, усеченным
актуальным истолкованием термина, как он знаком нам по полити-
ческой современности. Достоевский творил в другом языке...»
Сам критик признает, что слово взято Достоевским из лексикона
«французского христианского социализма». Проблема здесь в том,
что глагол réhabiliter и существительное réhabilitation во француз-
ском языке имеют значение «восстанавливать в правах» и не облада-
ют общим значением «восстанавливать», каковым обладают, скажем,
глагол restaurer и существительные restauration, rétablissement. Как
Анненков, так и Достоевский об этом прекрасно знали. Именно в
этом смысле ими употребляется и русское слово «восстановить», не-
даром сопровождаемое французским эквивалентом. И, конечно, имен-
но в этом значении слово было употребляемо в системе «француз-
ского христианского социализма».
Цитата же из Достоевского, приводимая Бочаровым в доказа-
тельство своей мысли о моем суженном и ложном толковании слова,
оборвана в удивительно подходящем для критика месте — ибо, если
ее продолжить, выяснится, что Достоевский толкует спорное слово
именно как «оправдание». Кстати, речь у Достоевского идет о Вик-
торе Гюго — то есть французский контекст слова, употребляемого
таким образом, абсолютно устойчив. Но вот цитата: «Его мысль
(Виктора Гюго. — Т. К.) есть основная мысль всего искусства девят-
надцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был
чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и вы-
соконравственная; формула ее — восстановление погибшего челове-
ка, задавленного несправедливым гнетом обстоятельств, застоя веков
и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных
и всеми отринутых парий общества» (20, 28).
573
T. A. Касаткина
Достоевский в 1862 году признает эту мысль христианской и вы-
соконравственной, пишет, что «она есть неотъемлемая принадлеж-
ность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого
столетия» (20, 29). Проблема, однако, заключается в том, ставил ли
он своей задачей в 1868 проведение той же самой мысли, или роман
«Идиот» не сводим к ней. Эту ли мысль, сорок лет уже непрерывно
выговариваемую всем девятнадцатым веком, он, неготовый к тому,
но вынуждаемый обстоятельствами, «рискнул как на рулетке»3 по-
ставить в центр своего нового, впоследствии горячо и робко люби-
мого произведения?
Если бы Сергей Георгиевич дал себе труд действительно прочи-
тать то, что я пишу о романе, он мог бы увидеть, что суть противо-
поставления прощения через покаяние и оправдания заключается как
раз в том, что последнее есть «восстановление в правах», тогда как
первое — «восстановление в обязанностях»4. Именно оно оказывает-
ся необходимым для исцеления раненного своим и чужим грехом
человека, для исцеления пораженного этим грехом общества, и реши-
тельно недостаточным для такого исцеления оказывается «восстанов-
ление в правах». Эта мысль в конце 60-х — начале 70-х годов особен-
но занимает Достоевского, с чем связано и внимание к теории «сре-
ды», внимание, настойчиво акцентируемое в романе «Идиот». На
своем нижнем, очевидном, социальном плане оно даже подчерки-
вается исследователями романа, но Достоевский никогда не останав-
ливался на нижнем плане идеи, в области простых решений. В Днев-
нике писателя за 1873 год он напишет: «Делая человека ответствен-
ным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же че-
ловека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном,
учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до
совершенного освобождения его от всякого нравственного личного
долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства,
какое только можно вообразить» (21, 16). Народная идея, как ее по-
нимает и с ней солидаризуется Достоевский, прямо противоположна
«учению о среде», прямо противоположна «восстановлению в пра-
вах», объявлению того, что нет ни преступления, ни греха, а есть
только голодные, совращенные или сбитые с толку. Народная идея
состоит не в оправдании преступника и грешника, но в признании
и своей вины в его преступлении, не в оправдании5, а в неосуждении,
в неотделении себя от грешника, нерасторжении с ним братских свя-
зей, в понимании того, что он страдает (справедливо!) — за общий
грех. «Этим словом "несчастные" народ как бы говорит "несчаст-
574
Сегмент и горизонт
ным": "Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на
вашем месте— может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами,
может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления
наши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об
нас, и мы об вас помолимся. А пока берите, "несчастные", гроши на-
ши; подаем их, чтобы знали вы, что мы вас помним и не разорвали с
вами братских связей» (21, 17). И далее: «Нет, народ не отрицает пре-
ступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что
и сам он виновен вместе с каждым преступником» (21,18).
Таким образом, народ не отрицает преступления, но относится к
нему, как заповедано относиться к греху, видя преступление прояв-
лением общего греха, а вовсе не проступком индивидуальности про-
тив общественных установлений. Именно смешение этих здравых
понятий и показано в романе «Идиот». Настасью Филипповну в ро-
мане все гуманно оправдывают, но из общества-то исторгают и брат-
ского общения отрицаются: добрейшая и достойнейшая Нина Алек-
сандровна Иволгина вот с чем приходит к гуманнейшему генералу
Епанчину: «А я, брат, продолжаю не постигать, — задумчиво заме-
тил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив ру-
ки, — Нина Александровна тоже намедни, вот когда приходила-то,
помнишь? стонет и охает; "чего вы?" — спрашиваю. Выходит, что им
будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить?
Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про
нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой
вздор, при известных обстоятельствах особенно! "Вы, говорит, не
пустите ее к вашим дочерям?" Ну! Эвона! Ай да Нина Александров-
на! То есть как это не понимать, как это не понимать...» (8, 27).
Именно непризнание грешности греха, преступности преступления
(многим не хочется признавать— ведь тогда придется признать и
свою грешность и преступность, лучше гуманно все отрицать, а «не-
винную» как-нибудь с глаз долой; князь не хочет признавать — воз-
можно потому, что этого греха он не знает и не способен разделить с
героиней6) и приводит к тому, что дело никак не может быть постав-
лено на твердую основу, а плывет и колеблется, сводя с ума Настасью
Филипповну.
Я вовсе не сужу и не поправляю ни героиню (с которой я разде-
ляю ее грех и знаю, что нет ничего страшнее и опаснее, чем попы-
таться внушить больному (неважно, кто ему это внушает: он сам или
окружающие), что он здоров; что нет ничего мучительнее, чем на-
стаивать на душевном благополучии, загоняя внутрь боль поражения
575
T. A. Касаткина
грехом), ни, тем более Достоевского, следуя за которым я пришла в
Церковь. Я просто пытаюсь осмыслить путь того, кто ведет меня.
Если же, раз уж к слову пришлось, я пишу о «неумело выраженном
смысле» (кстати, из контекста абсолютно понятно, что выражен он
«неумело» героиней, да Сергей Георгиевич и лично мне задавал во-
прос, кого же я, все-таки, имею в виду, и получил прямой ответ— но
не принял его во внимание во время работы над статьей, не захотел
пожертвовать удобным примером моего «надзора» над Достоев-
ским), то я пишу так, предполагая, что Достоевскому и нужно, чтобы
он был «неумело выражен», чтобы он «двоился» — как очень многое
двоится в этом странном романе, как все время двоится и образ са-
мой героини, и двусмысленность слов — лишь одно из многочислен-
ных проявлений такого двоения. Так что, меня можно было бы по-
править, сказав: «Нет, эти слова героини абсолютно понятны и не-
двусмысленны», — но вряд ли мне можно здесь приписать идеологи-
ческий контроль над Достоевским.
Кстати уж, заодно приведу свое объяснение с С. Г. Бочаровым по
поводу моих «оценок западноевропейской живописи после иконы»,
данное в примечаниях к моей диссертации и известное ему к моменту
написания настоящей статьи. Так что в некоторых ее пассажах мож-
но даже заметить своего рода «упреждающие удары»:
В рецензии на мою книгу С. Г. Бочаров пишет: «Но качеством
гибкости автор сознательно жертвует ради идейной ясности. Этой
ясностью отличается важное в идеологии книги рассуждение об ико-
не и западноевропейской картине. Об исторических причинах заме-
щения иконы картиной в самом деле было бы автору говорить
«невозможно и неуместно»; достаточно объявить, что это было
«радикальным потрясением для культуры», и вынести духовный при-
говор всей живописи как человекобожескому явлению, целью кото-
рого было «отрицать божественность Христа». Этот огромный
взгляд изложен на полустраничке, но это один из опорных тезисов
книги, руководящий анализом «Идиота» и, надо сказать, позволяю-
щий интересно заметить, как много в этом романе живописи, картин,
объявленных и необъявленных. Таков характер книги: наблюдения,
часто новые и почти неизменно острые, нанизанные на каркас из
авторитарных тезисов, среди которых и это культуроборческое (в
культурологическом сочинении) обличение европейской картины как
таковой, что, наверное, надо понять как последний вывод из извест-
ной теории обратной перспективы, но если так, то вывод круче самой
теории»7.
576
Сегмент и горизонт
Вот, однако, как общие процессы этого времени характеризует
вполне им сочувствующий искусствовед.
«Но важнейшее место в культуре Возрождения принадлежало изо-
бразительным искусствам. Доступные в своей наглядности и попу-
лярные в самых широких слоях народа, они были демократичным
проявлением духовной жизни этого времени, распространяя в образ-
ной и зрительно убедительной форме новые прогрессивные идеи. <...>
Сама деятельность художника стала первым и наиболее ярким во-
площением безграничных возможностей человека, формирующего и
преобразующего действительность. Создавая монументальные фре-
сковые циклы, картины и статуи, архитектурные сооружения, худож-
ники Возрождения зримо, во всей очевидности творили "вторую ре-
альность" мира по законам гуманистического мировоззрения. Ху-
дожник-творец в сочинениях Леонардо да Винчи и в других эстетиче-
ских трактатах этого времени постоянно уподобляется Богу-деми-
ургу, создателю вселенной: "Если живописец пожелает увидеть пре-
красные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их,
а если он пожелает увидеть уродливые вещи, которые устрашают, и
смешные, то и над ними он властелин и бог... дух живописи превра-
щается в подобие божественного духа, так как он свободной властью
распоряжается рождением разнообразных сущностей, разных живот-
ных, плодов, полей, горных обвалов..."
Но не менее высоко эстетика того времени вознесла и роль зрите-
ля, современника и заказчика художника. Его общественные потреб-
ности, его жизненный опыт, разум, сама его зрительная способность
впервые провозглашаются главным критерием истинности знаний о
мире. Произведения живописи, скульптуры и архитектуры прочнее
входят в общественную, политическую и частную жизнь современни-
ков, украшая патрицианские дворцы, здания ремесленных корпора-
ций, площади, монастыри и соборы, социальная роль которых часто
затмевает их сугубо религиозные функции.
Вместе с новым гуманистическим содержанием искусство Воз-
рождения обретает новое место в действительности, новые сюжеты,
жанры. Человек становится главным заказчиком, ценителем, целью и
темой искусства. Само слово "гуманизм", восходящее к латинскому
"гуманус"— человек, определяет мерило этических и эстетических
ценностей эпохи "открытия мира и человека", по определению круп-
нейшего швейцарского ученого XIX века Якоба Буркхардта.
В живописи это было время перехода от иконы к картине, в
скульптуре — период господства героико-монументального стиля»8.
577
T. A. Касаткина
Кстати будет заметить, что героико-монументальный стиль в ис-
тории человечества появлялся всегда при попытках очередного воз-
ведения Вавилонской башни.
Вот еще пример (производится анализ картины Сано ди Пьетро
(1406—1481) «Усекновение главы Иоанна Предтечи»): «Сценическая
выгородка, обладающая ограниченной глубиной, конкретизирует
момент и характер действия. Событие происходит "здесь" и "сейчас".
На смену иконописи с ее отвлеченными вневременными и внепро-
странственными образами приходит живопись, тяготевшая к новым
принципам единства пространства и времени. <...>
Живопись обретает свой самостоятельный глубинный смысл, вы-
ходящий за пределы интуиции постулатов теологического сознания,
обращенный к непосредственному изучению мира и человека, их
внерелигиозной этической и эстетической оценки с позиции гумани-
стического мировоззрения нового времени»9.
Я была бы крайне удивлена, если бы узнала, что сообщила
С. Г. Бочарову что-либо для него новое. Просто в его пассаже от-
четливо проявилось желание моего рецензента усидеть на двух сту-
льях. Из приведенных выше цитат из работы более чем лояльного по
отношению к Возрождению искусствоведа видно, что человекобоже-
ского характера своего мировоззрения деятели Возрождения и не
скрывали и, напротив, им гордились, как гордились этим достижени-
ем и многие их позднейшие исследователи. Хорошо известны став-
шие почти хрестоматийными слова Ницше: «Понимают ли в конце
концов, хотят ли понять, чем был ренессанс? Переоценкой христиан-
ских ценностей, попыткой, предпринятой со всеми средствами, со
всеми инстинктами, со всем гением, доставить победу противопо-
ложным ценностям...»10.
В отечественной науке в основе своей тот же взгляд был (с другой
оценкой, чем у Ницше), после долгого перерыва, представлен в на-
верняка известной моему рецензенту работе: А. Ф. Лосев. Эстетика
Возрождения. М, 1978.
Я всего-навсего констатирую факт: это было так и имело такие
следствия. Стремление мое— не оценивать, но понимать. Если эти
следствия дурны с точки зрения рецензента — это еще не доказатель-
ство того, что они не имели места. Рецензент все время пытается (не
знаю, насколько отдавая себе в том отчет) совместить гуманистиче-
ское мировосприятие с христианским, что невозможно, поскольку
системы эти различным образом центрированы: в центре первой
стоит человек, провозглашенный мерой всех вещей, в центре вто-
578
Сегмент и горизонт
рой — Бог. Очень разные точки отсчета, разными будут и все выво-
ды, сделанные из наблюдений над миром и жизнью из этих двух си-
стем. Но если для человека что-либо очень желательно, можно не
принимать логику во внимание и даже объявить ее идеологизирован-
ной и излишне-догматичной.
Повторю, однако, что Сергей Георгиевич вовсе не одинок.
И целый ряд положений его статьи — общие положения для опреде-
ленного рода мировосприятия. К таким «положениям» относится
объявление тех, кто не согласен, что «бунт Ивана Карамазова есть
бунт самого Достоевского», «друзьями Иова». Лукавый бунт Ивана,
желающего совратить Алешу, Ивана, жадно припавшего «к кубку»
этого самого «не принимаемого им мира Божьего», Ивана, оскорб-
ляющего и обижающего ребенка (о чем скажет ему Алеша), этот
бунт, соответственно, сравнивается с «бунтом» праведного страдаль-
ца Иова. Но главное даже не в качествах действующих лиц — глав-
ное (и это упускают из виду все, апеллирующие к «бунту» Иова) в
том, что Иов и все оправдываемые посредством такой апелляции
персонажи находятся в качественно разных состояниях мира.
Иов «бунтует», находясь в мире, отпавшем от Бога, не знающем
Бога, и он не бунтует вовсе — он ищет Его, и его вызов — именно
последняя отчаянная попытка обрести Бога. Иов жалуется: «Ибо Он
не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на
суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на
обоих нас» (Иов 9, 32—33). Иов верит и сохраняет верность Тому,
Кого не знает, он лишь взывает к Нему и вызывает Его. Он знает
силу Бога, и не знает лица Его11 (а увидев Его, отрекается от «бун-
тарских» слов своих12), знает долю человеческую, и не знает Господ-
ня замысла о человеке. Он «бунтует» в той ситуации завершения
жизни человеческой в пределах земных13, которую лукаво будет
предполагать Иван, зная уже всем доступным человеку знанием, что
«если Бог есть» (то есть если есть к Кому вообще обращать свой
бунт) — она не такова.
Все те, кого обычно сравнивают с Иовом, бунтуют, находясь в
мире, воссоединенном с Богом искупительной жертвой Христа, ко-
торый, будучи Богом и Человеком одновременно, как раз и «поло-
жил руку свою на обоих» и явил дольнему миру лик Господень.
В мире, где вне Господа пребывает лишь тот, кто сам выбирает та-
кую позицию, кто предпочитает бунт. «Бунт» Иова — порыв и про-
рыв к Богу. Бунт Ивана Карамазова — отказ, отворот, отречение от
579
T. A. Касаткина
Бога. Если здесь не видеть разницы, то, право, Достоевского читать
бессмысленно. Но дело в том, что если обращать внимание на фразу,
жест и положение вне общего контекста, вне мировосприятия автора,
вне общего замысла романа, то с легкостью можно противоположное
принять за то же самое.
Для Иова человек — самая слабая и нежизнеспособная из Богом
созданных тварей, и он только удивляется Божию к нему пристрас-
тию, требовательности и неотступности, восклицая: «Что такое чело-
век, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое,
посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?
Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не
дашь мне проглотить слюну мою?» (Иов 7, 17—19). В ситуации после
Боговоплощения человек уже знает, что он — самое дорогое Богу,
что за него принес Бог величайшую жертву нисхождения Своего до
дна тварного мира и остался с ним в этом мире, чтобы служить ему
дверью в мир иной, питая его Своею Плотью и Кровью. Бог потому
так хвалится Иовом, что Иов — доказательство и свидетельство спо-
собности человека любить и быть верным, как Бог, — а Бог остается
верен тем, кто отвернулся от Него, любит тех, кто покинул Его, спа-
сает тех, кто предал Его на распятие. О верности и любви Бога дивно
пишет митрополит Сурожский Антоний: «И вот Бог, Который есть
живая любовь, Который всего Себя отдает нам, говорит: однако, ты
свободен Меня отвергнуть... Есть пословица: Человек предполага-
ет — Бог располагает. Это неправда: Бог, по Своей любви, как бы
применяется к тому, что решит человек, но Он не поступает так, как
мы, люди. Огорченные, обиженные, мы отворачиваемся, отходим, —
Бог не отходит, Он остается верен. Бог создал мироздание, которое
было сплошной гармонией в своей весенней невинности, и это миро-
здание рухнуло; рухнуло грехом ангельским, рухнуло грехом челове-
ческим, — и что? Бог Своего суда не произнес; Бог не отвернулся;
только Его любовь, которая была ликующей радостью, стала крест-
ным страданием. Та же любовь — но теперь на теле воплощенного
Бога следы гвоздей, и копья, и тернового венца, и креста на плече»14.
Как похожа эта история на историю Иова... Только пока без благо-
получного завершения. Господь все сидит во прахе и пепле и глиня-
ным черепком соскребает со Своего пречистого тела гной от проказы
наших грехов.
«Бунт» Иова сродни борьбе Иакова с Богом — «не отступлю от
Тебя, покуда не благословишь меня» — а вовсе не стремлению Ивана
устроиться как боги и без Бога.
580
Сегмент и горизонт
Но и еще заметим: вся книга Иова — о том, что никто со стороны
не может судить между Богом и человеком; о том, что каждый может
знать и судить лишь в своем деле. Иван поступает не как Иов, но как
раз как друзья Иова — только они брали сторону Бога, а он берет
сторону человека, но и он и они берутся судить не в своем деле, само-
вольно берут на себя роль третейских судей, вместо того, чтобы де-
лать дело свое, всякому заповеданное — то есть сострадать и помо-
гать. Но и даже между человеком и человеком не поставлен судить
никакой человек, потому что между ними судит Бог. И жертве дана
Богом огромная власть — власть прощения на кресте: «Прости им,
Боже, ибо не ведают, что творят». Это прощение, которого никто
отменить не властен, прощение, которым прощен каждый в челове-
честве, ибо каждый — участник Христова распятия. И вслед за
Христом эта власть дана каждому мученику, каждому страдальцу,
каждому обиженному — и их прощение тоже никто отменить не вла-
стен, потому что тогда, тем же законом, должно было бы быть отме-
нено и прощение Христово. Иван, со свойственной ему гениальной
казуистикой, чтобы поставить под сомнение возможность «гармо-
нии», настаивает на невозможности простить страдания за другого.
И, как всегда, берет неотразимый пример: «Не хочу я, наконец, что-
бы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не
смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть
простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страда-
ния своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не
смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему\»15 (14,
223). И как всегда, передергивает, ибо последней фразой он утверж-
дает не неоспоримую невозможность прощения за другого — чувст-
вуя здесь слабость своей аргументации— ведь другой может про-
стить свои страдания сам, и из чего тогда бунт? Он отрицает неот-
менимость прощения за себя, он отрицает последнее и непререкаемое
право жертвы простить мучителю, право последнего слова жертвы,
освященное страданиями Христовыми16.
Весь бунт Ивана — сплошная перверсия, извращение книги Ио-
ва. Достоевский пишет бунт Ивана на фоне книги Иова, рассчитывая
на то, что она уже прочитана читателем его романа и понята пра-
вильно.
Дело, однако, в том, что положение и интенции автора статьи «О
религиозной филологии» сродни положению и интенциям Ивана (не
то же самое, а именно сродни). Автор статьи желал бы как-нибудь
оставить Бога, но убрать религию, понимаемую им почему-то как
581
T. A. Касаткина
род идеологии. Однако цитируемый им в качестве союзника и выс-
шего авторитета С. Н. Булгаков в том же «Свете невечернем» рели-
гию понимает так: «В религии устанавливается и переживается связь,
связь человека с тем, что выше человека. В основе религиозного от-
ношения лежит поэтому основной и неустранимый дуализм: в рели-
гии, какова бы она не была в своей конкретной форме, есть всегда
два начала, два полюса. Религия (как это справедливо заметил Фей-
ербах) всегда есть раздвоение человека с самим собой, отношение к
себе как к другому, второму, не-одному, не-единственному, но свя-
занному, соединенному, соотносящемуся. В религии человек ощуща-
ет, что его видят и знают, прежде чем он сам себя узнал, но вместе с
тем он сознает себя удаленным, отторгнутым от этого благого источ-
ника жизни, с которым стремится восстановить связь, установить
религию. Итак, в самой общей форме можно дать такое определение
религии: религия есть опознание Бога и переживание связи с Бо-
гом»17.
То есть, автору статьи, по логике его высказываний, хотелось бы,
чтобы Бог как-нибудь там был, но связи с Ним не было, не привязы-
вало бы нас к Нему ни что, не привязывало бы к Нему никак и наше
искусство (и не обязывало бы, конечно,— ни нас, ни наше искус-
ство). Чтобы не было «гетерономии целей». Все это очень либераль-
но — как, впрочем, либеральна всякая расчлененка: освободить ногу
от руки и их обеих от головы. Проблема лишь в том, что в результате
освободительных действий перед нами оказывается кучка дурно пах-
нущей плоти. Если кому-то покажется, что я изъясняюсь неясными и
не идущими к делу метафорами, пусть прочитает пару страниц, ну,
хоть Виктора Ерофеева. Сразу станет понятно, что метафоричности
в моем высказывании не было никакой. Проблема в том, что это
естественный путь развития секуляризованного искусства.
Мне представляется, что ни Пушкин, ни Достоевский не включе-
ны в это триумфальное шествие к светлой вершине в лице Виктора
Ерофеева, что их творчество нельзя понять вне процесса возвраще-
ния, «исцеления» искусства от насильственной секуляризации. Это не
оценочное слово, а суждение по существу, и то, что элемент насилия
здесь присутствовал, доказывается уже самим стремлением к исцеле-
нию, каким бы иногда искаженным это стремление не выглядело; во
всяком случае, доказывается сознанием неблагополучия, неуверен-
ностью в собственном статусе и задачах. В конце концов, эта насиль-
ственность отторжения проявилась и в знаменитых спорах о роли
искусства, о его социальных задачах, о его гражданских функциях.
582
Сегмент и горизонт
Те, кто твердо и убежденно говорил о гражданских функциях ис-
кусства, в основе своего убеждения имели совершенно здравое, хотя в
их случае и весьма неясное ощущение того, что искусство есть лишь
путь, и что оно именно поэтому никак не может быть самоцелью.
Было у них и ощущение того, что этот путь можно развернуть в раз-
ные стороны, и самое большое отвращение у них вызывала мысль о
том, что путь может замкнуться кольцом гедонистического наслаж-
дения.
Действительно, искусство изначально возникало внутри культа
как место встречи человека и богов (Бога), как путь, возводящий
(или низводящий) человека к Богу (богам). В момент, когда трещина
разделила искусство и веру, создалась иллюзия того, что здесь может
встретиться человек с человеком, напрямую, без посредников и опе-
кунов. Но «только человеческое» искусство ожидала та же участь,
что и «только человеческую» любовь, и они вместе проходили круги
своего нисхождения. Объявив «только человеческую» любовь выс-
шей ценностью, человек очень скоро дошел до такого ее унижения и
поругания, до такого стирания в грязь всяких понятий о зле и добре,
красоте, достоинстве и чести, и, главное, идет в этом направлении
такими темпами, что всего век назад раздававшиеся жалобы Мити
Карамазова: «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь
красотой» (14, 100), совершенно невнятны его нынешним последова-
телям на пути к идеалу содомскому, которым, к тому же, научно до-
казано, что «позор» — всего лишь набор неизжитых комплексов, и
если уж чего-то и надо стыдиться (как и в случае с критиками-шес-
тидесятниками, здесь тоже есть смутное, но здравое ощущение, что
чего-то стыдиться все-таки надо), так это того, что что-то представ-
ляется тебе позорным.
Иными словами, я бы сравнила «искусство для искусства» с «сек-
сом ради секса», который тоже, утратив свое значение пути, стано-
вится формально богаче и изощреннее, но во всех смыслах отдает
творческой импотенцией, отказываясь от своих целей — становиться
основой для создания семьи и рождения детей. Как и в случае ис-
кусства, думая возвыситься, сделавшись самоцелью, «только челове-
ческая» любовь истощает и унижает себя. Человеческого здесь в обо-
их случаях всего и остается, что бессознательная боль утраты всего
человеческого.
Так что инстинкт «революционных демократов» был абсолютно
верен: «искусство для искусства» вещь противоестественная. Поэтому
они его и отдали в работницы, в проводницы социальных и граждан-
583
71 A. Касаткина
ских идей. Отказавшись вести к высочайшей цели, искусству при-
шлось обслуживать цели здешние, практические, утилитарные. Отка-
завшись быть супругой короля, принцессе случалось становиться
служанкой последнего подданного его королевства.
И Пушкин, и Достоевский— бессознательно и сознательно —
стремились вернуть принцессе утраченное достоинство.
Самое забавное, однако, что и С. Н. Булгаков стремится к тому
же. Сергей Георгиевич, как всегда, цитирует, скажем, очень выбо-
рочно. Даже непосредственно на тех страницах, откуда извлекается
«сокрушительная» цитата: «Восстановление прежнего положения для
искусства потому не может явиться желанным для современности,
что отношения между религией и искусством, потребностями культа
и внутренними стремлениями творчества тогда имели все-таки не-
свободный характер, хотя это и не сознавалось. Искусство, посвящая
себя религии, сделалось ее ancilla, играя служебную роль, а отноше-
ние к нему было утилитарное, хотя и в самом высшем смысле», —
далее разъясняется, почему именно, на самом деле, такое восстано-
вление нежелательно для современности: «Искусство сковано было
аскетическим послушанием, которое не вредило ему лишь до тех пор,
пока вьйюлнялось искренно и свободно, но стало невыносимым лице-
мерием и ложью, когда аскетический жар был им утрачен. Это (кста-
ти! — Т. К.) мы можем наблюдать в эпоху Ренессанса...»18 И далее, о
переходе искусств «из культа в культуру»: «Это сделалось неизбеж-
ным и даже вполне правомерным, как только по тем или иным при-
чинам была нарушена искренность (выделено С. Н. Булгаковым. —
Т. К.) отношений между культом и искусством и в них проник рас-
четливый утилитаризм, одинаково чуждый природе как религии, так
и искусства. Всякая гетерономия целей противоречит природе ис-
кусства, оно существует только в атмосфере свободы и бескорыстия.
Оно должно быть свободно и от религии (конечно, это не значит —
от Бога), и от этики (хотя и не от Добра). Искусство самодержавно, и
преднамеренным (выделено мной. — Т. К.) подчинением своим оно
лишь показало бы, что не верит себе и боится себя, но на что же спо-
собно малодушное искусство? Тогда вместо творческих исканий во-
дворяется условность стилизации, вместо вдохновения— коррект-
ность канона» (Там же).
Таким образом, Булгаков говорит о том, что если цели искусства
искренне не совпадают с религиозными, то такое совпадение не
должно быть навязано — в противном случае искусство просто пере-
станет существовать. Но речь ведь у Бочарова идет не о предписыва-
584
Сегмент и горизонт
нии искусству каким быть, а о понимании и оценке уже созданного, а
об этом вот что говорит Булгаков на следующей странице: «Свобод-
ное от этики, искусство по своему духу, по своему внутреннему пафо-
су подлежит суду только мистическому и религиозному»19.
Но самое интересное, что задачи и будущее искусства видятся
Булгакову следующим образом: «В одном лишь трудно сомневаться,
именно, что искусству суждено еще раз загореться религиозным пла-
менем. На этой почве возможно и новое сближение искусства с куль-
том, ренессанс религиозного искусства, — не стилизация хотя и вир-
туозная, но лишенная вдохновения и творчески бессильная, а совер-
шенно свободное и потому до конца искреннее, молитвенно вдох-
новляемое творчество, каким было великое религиозное искусство
былых эпох». Но возрождение религиозного искусства, по Булгако-
ву, «если оно и последует, само по себе отнюдь еще не является отве-
том на эти запросы (речь идет о «софиургийных чаяниях», то есть о
том, что «художник, осознавший реалиорность искусства, не может
на этом остановиться, чтобы не стремиться дальше, к самой реаль-
ности. Ему хочется, чтобы тот свет Фаворский, рассеянные лучи ко-
торого он уловляет в фокусе своего творчества, просиял во всем мире
и явил свою космоургическую силу в спасении мира от "мира сего" с
его безобразием и злом»20. — Т. К.), потому что и оно остается еще в
пределах искусства, между тем идея софиургии выводит за его преде-
лы. Но, разумеется, молитвенно вдохновляемое религиозное искус-
ство имеет наибольшие потенции стать той искрой, из которой заго-
рится мировое пламя, и воссияет на земле первый луч Фаворского
света. Итак, что же: доступна ли искусству софиургийная задача и
должно ли оно стремиться к ней? И да и нет. Оно должно лелеять ее в
сердце, сознавая в то же время всю ее неразрешимость средствами
искусства, хотеть непосильного и невозможного, стремясь "в божес-
твенной отваге себя перерасти". Но вместе с тем оно должно оста-
ваться искусством, ибо, только будучи самим собой, является оно
вестью горнего мира, обетованием Красоты. И его творческий по-
рыв, по воле Божией, может оказаться исходной точкой софиургий-
ного действа. Возврата к чистому искусству с эстетической успоко-
енностью и ограниченностью уже нет, по крайней мере, вне духовного
застоя или реакции»21.
Я не ставлю здесь своей задачей анализ теории искусства С. Н. Бул-
гакова — она достаточно сложна и оригинальна, чтобы не занимать-
ся ею в пределах статьи, посвященной другим вопросам. Я только
хочу обратить внимание на то, что текст Булгакова — не того рода,
585
T. A. Касаткина
откуда можно вырывать небольшие понравившиеся цитаты для под-
тверждения собственной мысли, и констатировать, что Сергей Геор-
гиевич выбирает не совсем ему подходящих союзников.
Тезис, который я хочу рассмотреть напоследок, в статье С. Г. Бо-
чарова впрямую не высказан. Но он высказывается сейчас все чаще и
чаще. Звучит он так: «Не сводите Достоевского к христианству (ва-
риант — к православию)». Меня занимает в этом высказывании даже
не прямое пренебрежение недвусмысленно выраженной волей самого
Достоевского. Я бы хотела разобраться с той странной идеей, что к
Православию можно что-либо свести.
Говоря о «сведении» Достоевского к Христианству, очевидно, по-
нимают ситуацию таким образом, будто существует ряд отдельных
замкнутых в себе систем, рядоположенных, равноправных, и, следо-
вательно, утверждая, что Достоевский — христианский писатель, мы
локализуем его местонахождение, «не допуская» его уже, например, в
ту область, которая занята исламом. Но ситуация, на самом деле,
существенно иная. Христианство— это не «место» в ряду других
мест, Христианство — это горизонт самый дальний, который досту-
пен человеку, ибо на линии этого горизонта— трансцендентный
Бог22. Все остальные религии отличаются от Христианства тем, что
прочерчивают свой горизонт существенно ближе23. В сущности, лю-
бую нехристианскую религию можно определить, исходя из двух
противоположных оснований. Можно описать ее из ее фундамен-
тальных положений (которые не так уж сильно, как неоднократно
было замечено специалистами по сравнительному изучению религий,
будут различаться). И можно описать ее с точки зрения того, от чего
она отказалась в Христианстве (особенно если она возникает позже,
как ислам), с точки зрения того, что оказалось для нее в Христи-
анстве лишним, где она прочертила свой горизонт.
Достоевский (да и многое, и уж, безусловно, самое главное в рус-
ской литературе) прочитывается адекватно только в системе христи-
анского мировидения именно потому, что изнутри любого другого
претерпевает недопустимую редукцию, сужение взгляда и сокращение
мыслей. Из любого другого мировидения просто не видна часть кар-
тины, изображаемой Достоевским, и оттуда, соответственно, можно
судить лишь о части полотна.
Например, одна из самых дорогих Достоевскому мыслей: «Хрис-
тианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться
Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой
он мог достигнуть» (30, 228), — становится основой создания худо-
586
Сегмент и горизонт
жественного образа в его романах. Герои Достоевского, проживая
свою жизнь, являют внутри нее— не во внешних формах, но в су-
ти — бытие вечных прообразов.
При этом ориентиры и образцы для подражания они находят в го-
ризонтальном движении времени, в истории. Так, Раскольников при-
нимает себе за образец Наполеона и Магомета, Кира Персидского и
Ликурга. Но если мы будем рассматривать его образ только в этой па-
радигме, мысль Достоевского останется нами совершенно не понята.
Ведь именно исторические образцы и примеры провоцируют потерю
личностью себя самой, ее самоизнасилование, ее поступание вопреки
заложенным в ней стремлениям, представлениям и самозапретам. Об-
ратившись же к себе, личность обнаруживает внутри себя данный,
вечно существующий, неисторжимый из нее до какого-то последнего
предела свой прообраз — лик Христов, пытаясь воплотить который,
она испытывает истинное облегчение — несмотря на все трудности
такого воплощения— и истинную радость встречи с собой— а не
подмены своей сущности, не натягивания на себя — личины.
Если мы будем рассматривать творение Достоевского не из хрис-
тианского мировидения, мы увидим лишь хаос мятущихся душ — и
не заметим той твердой и нерушимой основы, которая проступает
сквозь этот хаос. А эпилог «Преступления и наказания» наверняка
покажется нам лишним, ненужным, слабым и надуманным — как это
черным по белому написано во множестве исследований, посвящен-
ных роману.
Не надо рассматривать человеческую культуру как ряд дискрет-
ных и рядоположенных областей, лишь изнутри себя же самих обо-
зримых сегментов. Она включена в единый горизонт. Поэтому из
Христианства язычество видно даже очень хорошо. Это из язычества
не видно Христианства. Оно просто еще за горизонтом, и только для
самых зорких сияет на горизонте Звезда Вифлеема.
Последнее, что я хочу сказать, — это что я очень благодарна Сер-
гею Георгиевичу. Он, как Божий кнут, погоняющий нерадивых ра-
бов, заставил, вынудил выговорить то, что, может, еще долго бы
оставалось под спудом без его благословенного вмешательства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Эту позицию можно обозначить как плюрализм, и из дальнейшего еще раз
убедиться, что плюрализм — это, прежде всего, не принципиальное допу-
щение разных позиций, а — принципиальное недопущение принципиальности
587
T. A. Касаткина
этих позиций, это жесткий запрет на понятие неправды («неправдой» плю-
рализм называет только утверждение правды), в результате чего понятие
правды немедленно девальвируется. «Неправдой» плюралист объявляет
попытку понимания мира с позиции любой правды, если она почитает се-
бя правдой, а не «любой правдой». Именно поэтому выдвигается жесткий
запрет на интерпретацию (плюрализм вообще весьма жесткая идеология:
как хорошо сказал диакон Андрей Кураев, «в демократическом обществе,
как известно, по вопросу о плюрализме двух мнений быть не может»). Од-
нако любое понимание осуществляется как интерпретация (буквально —
«разъяснение», «истолкование», «перевод»), как перевод с языка, скажем,
«веяний» на понятийный язык. Это, однако, неприемлемо для любителя
«веяний» — так как «веяние» можно с удовольствием пережить вне всякой
иерархии смыслов, можно увидеть в нем, как в замкнутом в себе, «оста-
новленном» мгновении «истину, красоту и добро», и это не помешает уви-
деть «истину, красоту и добро» в веянии противоположном. (Отсюда мож-
но заключить, что запрещена только целостная интерпретация, а не истол-
кование отдельного эпизода или фразы— потому что целостная интер-
претация, сопоставив эпизоды, какие-то из них представит вовсе не как за-
ключающие в себе помянутые истину, добро и красоту.) И, рассмотрев
каждое «веяние» как вещь саму по себе, мы не упустим ни одного из бо-
гатств этого мира, и всеми насладимся. Только что-то это очень напоми-
нает. «Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе де-
ло и ощущаю оттого удовольствие; рядом желаю злого и тоже чувствую
удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мел-
ко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руково-
дить не могут» (10, 514), — слова из последнего письма Ставрогина. Иро-
ния Ставрогина — это эстетизм в действии. Не от этого ли спасался при
монастыре Константин Леонтьев, желая остаться при эстетизме в теории,
но вовсе не желая так дурно кончить? (Все цитаты из Достоевского приво-
дятся по Полному собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990, с обозначением тома и
страницы в скобках после цитаты.)
2 Вообще, «путь вещей», следование за вещью, вслушивание в то, что гово-
рит она сама о себе самой — чрезвычайно соблазнительное (в том числе —
и по своему очевидному благородству и скромности) умонастроение. Да и
шедевры секулярной культуры, ее классика, создаются на этом пути. Здесь,
однако, необходимо иметь в виду, что, скажем, японская культура, прин-
ципом своим сделавшая «слушание вещей» (моногатари — крупный жанр
японской литературы — буквально означает: «говорят вещи»), являет нам
«субъекта» (если воспользоваться европейской терминологией) в таком
положении и состоянии (как это ни странно, на первый взгляд, при та-
кой установке), в каком не захотел бы оказаться ни один субъект: в поло-
жении изгоя, отгороженного стеной от людей и мира. Наиболее очевидно
здесь, хотя вовсе не исключительно, творчество Кобо Абэ который самого
героя превращает в стену, объявляя тем самым, что стена не есть нечто
внешнее, при отсутствии чего все будет в порядке, но некое субстанциаль-
ное свойство человека, в конце концов — его единственное свойство.
588
Сегмент и горизонт
Бескрайняя пустыня.
И в ней я — стена, бесшумно уходящая
в бесконечность.
(«Стена»)
Надо сказать, что Кобо Абэ с наибольшей очевидностью свойственно
утверждение глубинной, фундаментальной несубстанциальности человечес-
кого существа, с легкостью утекающего водой («Красный кокон»), сматы-
вающегося в клубок ниток («Жизнь поэта»), оборачивающегося волшеб-
ным мелком («Красный кокон»), претерпевающего иные метаморфозы;
при этом во всех превращенных вещах сохраняется некоторая остаточная
особость, выветривающийся со временем аромат человеческого чувства
(любви, зависти и стремления к «равенству», способности одушевлять свои
или чужие фантазии). Таким образом, выброшенные из своей жизни и
своего человеческого естества, герои оказываются «изгоями» и в мире ве-
щей. Вообще «изгойство», отсутствие у человека чего-нибудь, на что он
мог бы хоть с какой-то гарантией рассчитывать, последовательное унич-
тожение всех иллюзий такого рода у своих героев («Стена», «Вторгшиеся»,
«За поворотом» в этом смысле особенно характерны) — одновременно и
основная тема и глобальная мировоззренческая установка писателя.
Более подробно о том, с чем это связано в японской культуре, см. мою
статью «Русский читатель над японским романом» («Новый мир», 2001,
№4). Здесь для нас интересен факт понимания проблемы Достоевским,
сделавшим ее сквозной в своем творчестве и давшим удивительные симво-
лы трех возможных путей построения отношений человека с вещами мира.
Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» не случайно пришелся ко двору в
японской культуре. В нем предельно отчетливо выражено сиротство чело-
века в только природном мире, катастрофа, подстерегающая его при по-
пытке следовать за вещами: «Тоска его (князя Льва Николаевича Мышки-
на. — Т. К.) продолжалась; ему хотелось куда-нибудь уйти... Он не знал
куда. Над ним на дереве пела птичка, и он стал глазами искать ее между
листьями; вдруг птичка вспорхнула с дерева, и в ту же минуту ему почему-
то припомнилась та «мушка» в «горячем солнечном луче», про которую
Ипполит написал, что и «она знает свое место и в общем хоре участница, а
он один только выкидыш». Эта фраза поразила его еще давеча, он вспом-
нил об этом теперь. Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в
нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его
лечения, даже в первые месяцы. Тогда он еще был совсем как идиот, даже
говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют.
Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною му-
чительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестя-
щее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому
конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как
простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Му-
чило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это
за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет
589
71 Л. Касаткина
его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может при-
стать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое утро на во-
допаде радуга, каждый вечер снеговая, самая высокая гора, там вдали, на
краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая «маленькая мушка, кото-
рая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре
участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка
растет и счастлива! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью от-
ходит и с песнью приходит: один он ничего не знает, ничего не понимает,
ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог го-
ворить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и
немо; но теперь ему казалось, что он всё это говорил и тогда; все эти самые
слова, и что про эту «мушку» Ипполит взял у него самого, из его тогдаш-
них слов и слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от
этой мысли...» (8, 351).
Этот великий праздник, так притягивающий издалека, при попытке
приблизиться, присоединиться к нему — то есть при ближайшем рассмот-
рении — оборачивается, как укажет на то Ипполит, чем-то вроде «громад-
ной машины новейшего устройства», захватывающей, раздробляющей и
поглощающей в себя бесценные существа— какова всякая человеческая
личность; природа предстает как «темная, наглая и бессмысленно-вечная
сила, которой все подчинено» (8, 339) — добавим: она становится такой,
как только ей оказывается все подчинено. Как только человек устремляет-
ся к этому «хору», чтобы примкнуть к нему, чтобы следовать за ним, в не-
го впиваются зубы— или, скорее, зубья— колес гигантской холодной
мертвой машины — зубья «законов природы», природы, самим человеком,
его первородным грехом, отторгнутой от Бога и вращающейся в своем
одиночестве в непрерывной механической смене бытия и небытия. Чело-
веку некуда возвращаться, он сам погубил свой рай.
Еще можно, вместе с буддизмом и вслед за Константином Леонтьевым
(и всевозможными дуалистическими ересями; несмотря на концептуальные
различия, все указанные пути приводят к одному и тому же конечному
движению) отринуть существование для Несуществования, бытие для Бы-
тия, поступить так, как с лошадкой (христианский символ тела, материи:
образ коня и всадника традиционен в христианской литературе для выра-
жения отношений тела и души, мироздания и человека: то есть, духа и ма-
терии) поступает Миколка в сне Раскольникова в «Преступлении и нака-
зании»: засечь ее на том странном основании, что она «сердце надрывает».
Удивительно, с какой страстностью настаивает эстет Леонтьев на непре-
менности гибели всего мира «мимолетной» красоты, не гнушаясь при этом
(а, скорее всего, искренне не замечая) прямого извращения христианства:
«Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина,
Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а
действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего жи-
вущего на ней — вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой
вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской про-
поведи» («О всемирной любви»). И далее: «Ничего нет верного в реальном
590
Сегмент и горизонт
мире явлений. Верно только одно, одно только несомненно — это то, что
все здешнее должно погибнуть!» Леонтьев говорит так, будто Бог не при-
ходил в этот мир, и уж, во всяком случае, не остался в нем и с ним, как сви-
детельствует о том само бытие Церкви Христовой.
Но Словом нам было заповедано другое — не пойти за природой, и
не предать, не бросить ее, а привести все творение к союзу с Творцом и к
Бытию.
Есть у Достоевского и образ истинного отношения к природе и земной
красоте, без которой, оказывается, невозможен никакой «переезд» к новой
и лучшей жизни. И образ этот возникает в последнем романе писателя в
мечте капитана Снегирева и сына его Илюшечки о переезде из «нашего
нехорошего города» «в другой, в хороший город»: «Обрадовался я случаю
отвлечь его от мыслей темных, — рассказывает Снегирев, — и стали мы
мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да
тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем,
изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь
надо, не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а глав-
ное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что рус-
ский мальчик так и родится с лошадкой» (14, 189). И по мере того, как, при
содействии Алеши Карамазова, мечта приближается к реальности: «Да
знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осу-
ществим: купим лошадку да кибитку, да лошадку то вороненькую, он про-
сил непременно чтобы вороненькую, да и отправимся, как третьего дня
расписывали... Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку,
Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да всех бы и по-
вез-с...» (14, 192)— «тележка» приобретает черты колесницы, в которую
впряжена сама черная земля, и ее не отягощая, но щадя и бережно направ-
ляя, ведет («везет») вместе со всеми ее обитателями в «новый хороший го-
род» ничтожнейший из героев романа, пьяница, «выкидыш» и изгой, ка-
питан Снегирев.
Затронутая тема (и, может быть, поэтому мне извинят столь длинное
отступление) находится в непосредственной связи с вопросом о соотноше-
нии иконы и картины, постановка которого в моей статье о романе «Иди-
от» так возмутила С. Г. Бочарова. Л. А. Успенский, говоря о повороте на
Руси в XVII в. от иконы к религиозной живописи, замечает: «От <...> про-
свещенного художника теперь требуется создать искусство, которое, как и
прежде, с «религиозным воодушевлением» соединило бы «верность при-
роде». Завороженность этим открытием верности природе пленила на 300
лет русского культурного человека и оттолкнула его от иконы» (Л. А. Ус-
пенский. Богословие иконы православной церкви. Издательство братства
во имя святого князя Александра Невского. 1997. С. 534). Именно следо-
вание за вещами в их природном бытии объявляется Успенским главной
ложью расцерковленного искусства: «Ведь живописное реалистическое на-
правление, будучи продуктом автономной культуры, есть выражение ав-
тономного же бытия видимого мира по отношению к миру божественно-
му, выражение жизни «по стихиям мира сего», хотя бы даже идеализиро-
591
T. A. Касаткина
ванной личным благочестием художника. Ограничиваясь человечеством
Христа оно, как и вообще всякое другое искусство, кроме канонической
иконы, не может раскрыть жизнь во Христе и указать путь спасения. Ведь
путь спасения человека и мира заключается никак не в приятии их нынеш-
него состояния в качестве нормального и передаче его в искусстве, а в вы-
явлении того, чем падший мир отличается от Божественного о нем замыс-
ла, того, в чем заключается спасение человека, а через него и мира»
(С. 572). «Автономный человек современной, то есть гуманистической,
культуры отказался от уподобления своему Первообразу, не принял обра-
за Славы, явленного в униженном теле Христа. И вот с отречения от этого
образа неизреченной славы началась наша <...> цивилизация, началась с
того, что по богословской аналогии следовало бы назвать вторым грехо-
падением», — цитирует Успенский А. Шмемана. И продолжает: «Урезав
свое человечество, человек нарушил иерархию бытия и тем самым извра-
тил свою роль по отношению к окружающему миру, подчинив себя, вмес-
то Божественной воли, той материальной природе, над которой он при-
зван господствовать. Отказавшись от Бога Творца, человек, объявив твор-
цом себя, творит себе других богов, более жадных на человеческие жерт-
вы, чем были боги языческие» (С. 578—579). И далее: «Соблазн удачи «жи-
воподобия» затопляет искусство в эпоху Ренессанса. А с увлечением ан-
тичностью, вместо преображения человеческого тела утверждается культ
плоти. Христианское вероучение об отношении Бога и человека направ-
ляется на ложный путь, подрывается христианская антропология. Отсека-
ется вся эсхатологическая перспектива сотрудничества человека с Богом»
(С. 591). Выделенная последняя фраза вполне проясняет, почему влюблен-
ному в языческое искусство Леонтьеву по «обращении» оставалось только
настаивать на полном уничтожении всего здешнего.
И последнее, о чем в основном тексте статьи речь еще пойдет: о ес-
тественной эволюции культуры «живоподобия» к ее нынешнему состоя-
нию: «Знаменательно явление этого времени (имеются в виду первые деся-
тилетия XX века. — Т. К): культура, которая отвергла икону и ради кото-
рой икона была отвергнута, повернулась в ее оценке на позицию прямо
противоположную, от отрицания иконы к преклонению перед ней, как в
плане художественном, так и в плане ее содержания, причем независимо от
наличия или отсутствия той или иной вероисповедной или национальной
принадлежности. Потому что культура эта, толкнувшая Православие к от-
ходу от иконы, культура дробления и распада, сама пришла к разложе-
нию, а в искусстве — к открытому иконоборчеству, к образу развоплоще-
ния, абстракции — образу пустоты» (С. 558). Очевидно, именно сюда ве-
дет «путь вещей».
3 См. его знаменитые письма этого времени: например, С. А. Ивановой 1(13)
января 1868 г., где Достоевский, указывая, на то, что «идеал — ни наш, ни
цивилизованной Европы еще далеко не выработался», говорит, что для
него единственный идеал Христос, тут же обрывая себя: «Но я слишком
далеко зашел» (как будто — чтоб не сглазить). Далее, перебирая вопло-
щенный уже «идеал» Европы, он называет и того персонажа, который во-
592
Сегмент и горизонт
площает указанную мысль: Жан Вальжан. И заключает: «У меня ничего
нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет
положительная неудача» (282, 251).
4 Что из себя представляет «восстановление в правах» на русской почве —
хорошо видно из «Петербургских повестей» Гоголя. Он вполне сознавал
все безумие этой затеи и степень неверности самой постановки вопроса: об
этом «Нос». Фантастичность «прав» человека очень не карикатурно пред-
ставлена в «Записках сумасшедшего»: в сущности, каждый из нас, эго-
центристов по рождению и воспитанию, склонен сознавать себя испанским
королем, который, наконец, нашелся, но которому почему-то льют на го-
лову холодную воду. Поприщин достойнее многих других: с каким пони-
манием ценности и равенства человеков сказано его «не нужно знаков по-
читания»! Но сейчас речь не о том: речь о Достоевском, который ив 1861
году думал уже о «восстановлении в обязанностях». На это указывает ха-
рактерно пересказанный им в «Петербургских сновидениях в стихах и про-
зе» «поприщинский» сюжет. Речь идет о ничтожном чиновнике, бедст-
вующем с женою и шестерыми детьми (да еще какой-то теткою), вдруг во-
образившем, что он — Гарибальди. Но дело не в том, что он, ничтожный,
вообразил себя значительным человеком: он именно сознал себя ответ-
ственным за все преступления Гарибальди. «И вот в нем образовалась ма-
ло-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибу-
стьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое пре-
ступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни вы-
сокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни
ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбу-
дившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извоз-
чиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занима-
ло его. Весь Божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля сколь-
зила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступле-
ние, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам
Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян
Лукич, что скажут они, они все... Беда! И вот в одно утро он вдруг бросил-
ся в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я —
Гарибальди, делайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним... что надо
было сделать» (19, 72). То есть, наверное, опять лили на голову холодную
воду. Но на этом сходство заканчивается: если у Гоголя сумасшедший
сознает свое личное достоинство, то Достоевский заставляет своего героя
осознать вину, которой и впрямь виноват всякий человек, который со
времен первородного греха «флибустьер и нарушитель естественного по-
рядка вещей». И, наверное, осознав эту вину каждый бы почувствовал, что
«весь Божий мир скользит перед ним и улетает куда-то, земля скользит из-
под ног его». Он бы одно только видел везде и во всем: «свое преступле-
ние, свой стыд и позор». Видел бы, как страшно искажена земля тем, что
он совершил. Здесь уже присутствует то, что отольется гораздо позже в че-
канную формулу: «все за всех виноваты».
5 Достоевский против именно оправдания преступника, он видит здесь не-
593
T. A. Касаткина
праведную жалость и сентиментальное слабодушие: «но вот что наиболее
смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жа-
лости? "Больно, дескать, очень приговорить человека". Ну и что ж, и уй-
дите с болью. Правда выше вашей боли» (21, 15). Полагаю, бывший ка-
торжник знал, о чем говорит.
6 Странные сны ему при этом снятся, выдавая именно нежелание его, при
внутреннем знании того, как на самом деле все обстоит: «Наконец пришла
к нему женщина; он знал ее, знал до страдания; он всегда мог назвать ее и
указать, — но странно, — у ней было теперь как будто совсем не такое ли-
цо, какое он всегда знал, и ему мучительно не хотелось признать ее за ту
женщину. В этом лице было столько раскаяния и ужасу, что казалось —
это была страшная преступница и только что сделала ужасное преступле-
ние. Слеза дрожала на ее бледной щеке; она поманила его рукой и прило-
жила палец к губам, как бы предупреждая его идти за ней тише. Сердце
его замерло; он ни за что, ни за что не хотел признать ее за преступницу;
но он чувствовал, что тотчас же произойдет что-то ужасное, на всю его
жизнь. Ей, кажется, хотелось ему что-то показать, тут же недалеко, в пар-
ке. Он встал, чтобы пойти за нею, и вдруг раздался подле него чей-то свет-
лый, свежий смех; чья-то рука вдруг очутилась в его руке; он схватил эту
руку, крепко сжал и проснулся. Перед ним стояла и громко смеялась
Аглая» (8, 352) Характерно, что сон снится накануне первого любовного
свидания князя — то есть когда он становится прикосновенен к области
греха Настасьи Филипповны. Тогда грех проступает, становится видимым
для него, затемняя ее лик. Она потому и приводит его во сне — к Аглае на-
яву, что только таким образом он становится способен лицезреть ее грех,
то, что она хочет ему показать «тут же недалеко». Любовное свидание с
Аглаей и становится, кстати, началом того «ужасного, на всю его жизнь».
7 Новый мир, 1997, № 7. С. 199.
8 Прилуцкая Т. И. Живопись итальянского возрождения. М., 1995. С. 4—5.
9 Прилуцкая Т. И. Указ. соч. С. 23.
10 Ницше Ф. Антихрист. СПб., 1907. С. 151.
11 «Если бы я воззвал, и Он ответил мне, — я не поверил бы, что голос мой
услышал Тот, Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не
дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать
силою, то Он могуществен; если судом, кто сведет меня с Ним?» (Иов 9,
16—19).
12 «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42,5—6).
13 «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и
отрасли от него выходить не перестанут <...> А человек умирает и распа-
дается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыха-
ет: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не
воспрянет от сна своего» (Иов 13, 7—12). И далее— слова, прямо проти-
воположные Иванову «возвращению билета»: «О, если бы Ты в преиспод-
ней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне
срок и потом вспомнил обо мне! Когда умрет человек, то будет ли он
594
Сегмент и горизонт
опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока
придет мне смена» (Иов 13, 13—14).
14 Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 1991.
С. 154—155.
15 Еще одна перверсия в романе: через несколько страниц Иван расскажет об
«одной монастырской поэмке» «Хождение Богородицы по мукам», где Бо-
гоматерь молит об избавлении от наказания и мучений всех грешников без
различия. Иван рассказывает: «Разговор Ее с Богом коллосально интере-
сен. Она умоляет, Она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвож-
денные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, —
то Она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам
пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора» (14, 225).
Богоматерь — всему миру Заступница и Покров — тому миру, который
распял ее возлюбленного Сына. Если мать не смеет простить мучителям,
даже если сам ребенок простил им — мы.все лишены заступничества и хо-
датайства Божией Матери.
16 Иван отрицает то, чем только держится и спасается земля. Протоиерей
Александр Шаргунов в проповеди в день убиения Царской семьи говорит:
«Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не темным
ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые мученики
и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что они при-
няли Крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и человеку.
Не тем поражает жизнь святых, что с потрясающей достоверностью вос-
крешает в наши дни древние чудеса, а тем, что доказывает: не бывает та-
ких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией становится невоз-
можным. Новомученик митрополит Владимир Киевский перед расстре-
лом, воздев руки вверх, так молился Богу: «Господи, прости моя согреше-
ния, вольная и невольная, и приими дух мой с миром». Потом он благо-
словил палачей обеими руками и сказал: «Господь вас благословляет и
прощает». Великая княгиня Елизавета Феодоровна, основательница зна-
менитой Марфо-Мариинской обители милосердия, перед тем как озве-
ревшие палачи сбросили ее и других узников в шахту рудника и закидали
гранатами, произнесла молитву Спасителева заступничества: «Господи,
прости им, не знают, что творят!» <...> Исполнив заповедь о любви до
конца, засвидетельствовав кровью своей, что человека, верного Богу, ни-
кто не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку, святые
мученики посрамили древнего человекоубийцу и обрекли на поражение
дело Маркса — Ленина, которые ради любви к человеку звали к освобожде-
нию человечества от заповеди любви к Богу (то, к чему зовет и Иван. —
Т. К.) и, преуспев в этом, развязали такую энергию ненависти в мире, что
казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях и никто не устоит, чтобы
не ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной нена-
вистью <...> Но мир не погрузился во тьму, Церковь устояла в любви <...>
Это тайна Церкви, пасхально радостной и гонимой, от апостолов, перво-
мучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до
последнего нашего святого Царя. Архидиакон Стефан, окруженный пре-
595
T. A. Касаткина
дателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали зу-
бами, воззрел на небо и увидел отверзшиеся небеса и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога, и, когда его побивали камнями, молился, прекло-
нив колени: «Господи, не вмени им греха сего!» Когда история идет
вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса,
изливая Божественную энергию любви, проникающую в мир, и Савл, одоб-
рявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом». Пропове-
ди московских священников. М.: Трифонов Печенгский монастырь. 2000.
С. 128—131.
17 Булгаков С. Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 12.
>* Там же. С. 327.
'* Там же. С. 328.
20 Там же. С. 332.
2« Там же. С. 334—335.
22 Дж. Реале и Д. Антисери в своем многотомном труде по истории европей-
ской философии так комментируют высказывание Бенедетто Кроче: «Биб-
лейское послание преобразовало позитивным образом как тех, кто его
принял, так и тех, кто его отверг, прежде всего в диалектическом смысле,
антитетично <...>, но и в более общем смысле, обозначив духовный гори-
зонт, не подлежащий упразднению. Примечательны слова Бенедетто Кро-
че: «Почему мы не можем не называться христианами», — смысл которых
состоит в том, что христианство, однажды появившись, стало ненаруши-
мым горизонтом, тем, из чего нельзя выйти и оказаться вовне». Реале Дж.
и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2. Сред-
невековье. СПб., 1994. С. 9.
23 К примеру — единобрачие в Христианстве и допущение 4 жен в исламе.
Понятно, что ислам гораздо человечнее, то есть приспособленнее к налич-
ному состоянию человеческой природы. Христианство указывает самые
дальние рубежи, самые великие возможности природы человека: «В чело-
веке может вместиться Бог». Кстати, перед нами — проблематика «Вели-
кого инквизитора». Герой поэмы Ивана как раз и сокращает горизонт до
наличного состояния человеческой природы, ограждает человека от предъяв-
ленных к нему требований, чем оправдывает это самое наличное состоя-
ние, восстанавливает человека в правах, начисто лишив его предписанных
Христианством обязанностей, что и становится путем к рабству и деграда-
ции. Вот как писал об этом Розанов: «Анализируя природу человека и со-
поставляя ее с учением Христа, престарелый инквизитор, раскрывающий
идею своей Церкви, находит несоответствие между первою и вторым. Да-
ры, принесенные Христом на землю, слишком высоки и не могут быть
вмещены человеком', а поэтому человек и не в силах принять их, т. е. как
уразуметь слово Христа, так и привести в исполнение Его заветы. От этого
несоответствия требований и способностей, идеала и действительности,
человек должен оставаться вечно несчастным: только немногие, сильные
духом, могли и могут спасаться, следуя Христу и понимая тайну искупле-
ния. Таким образом, Христос, отнесшись к человеку с столь высоким ува-
жением, поступил "kûk бы вовсе не любя его". Он не рассчитал его природы
Сегмент и горизонт
и совершил нечто великое и святое, но вместе невозможное, неосуществи-
мое. Католицизм и есть поправка к Его делу, есть понижение небесного
учения до земного понимания, приспособление божеского к человеческому»
(выделено Розановым. — Т. К.). Розанов В. В. Мысли о литературе. М.,
1989. С. 104.
Это — восстановление в правах наличного состояния человеческой при-
роды— путь и нашей секуляризованной культуры. Но наличное состоя-
ние — это состояние падшего человека; оправданием этого состояния от
человека закрывают его истинную природу, изначально ему присущее со-
стояние. Это, в свою очередь, коллизия Настасьи Филипповны в «Идио-
те», которая так настаивает на своей виновности, потому что не хочет,
чтобы ее, такую как она есть, приняли за истинную ее.
Великий инквизитор считает, что «нет возможности другим способом
устроить, сберечь и пожалеть племя извращенных существ, как приняв это
самое извращение в основу; собрать их рассыпавшееся стадо извращенных
мыслью, ложь которой ответила бы лжи их природы». Розанов В. В. Мыс-
ли о литературе. М., 1989. С. 125.
«Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за
Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего за-
кона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что
добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, — но
неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и
Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем,
как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в Тебе, ибо
невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты,
оставив им столько забот и неразрешимых задач» (14, 232)— говорит он
Христу.
Иов, не принимающий мысли о том, что наличное состояние мира, —
плод замысла Господня — ответ Ивану; Иов, остающийся верным вопреки
всем испытаниям, Иов, после всех испытаний поклоняющийся явленному
ему наконец лику Господню, — ответ великому инквизитору.
597
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
В. И. Зыкова,
В. А. Михайлов
Татьяна Щерба
Е. И. Чигарева
Д. Р. Петров
М. Насонова,
Р. Насонов
Р. Насонов
М. Насонова
5
Светлой памяти сына. Воспоминания
родителей А. В. Михайлова. Публикация
подготовлена Е. Г. Местергази 7
Слово и музыка
А. В. Михайлов и музыкальная наука 35
Размышления А. В. Михайлова об истории
культуры и потребности современной
музыкальной науки 125
Как (следовало бы) издавать тексты
А. В. Михайлова 143
Презумпция сокровенного 158
Русское/Немецкое: к проблеме культурно-
исторического перевода 162
«Сакральный язык» и «потаенное слово» 180
А. В. Михайлов
А. В. Михайлов
H К. Гей
Т. А. Касаткина
Несколько тезисов о теории литературы
Стенограмма доклада «Несколько тезисов
о теории литературы», сделанного
20 января 1993 года на заседании
Научного совета «Наука о литературе
в контексте наук о культуре». Публикация
подготовлена Е. Г. Местергази 201
Несколько тезисов о теории литературы.
Публикация подготовлена Е. Г. Местергази 224
Категории художественности и метахудо-
жественности в литературе. Тезисы 280
Слово, творящее реальность, и категория
художественности 302
Константин Баршт Постструктурализм в свете открытия
А. Потебни (заметки о ракурсах
филологического бытия) 347
Н. Н. Смирнова Теория автора как проблема 376
А. Б. Галкин Литературоведение как миф 393
Павел Фокин Литературовйдение 428
A. С.Демин Что делает литературовед с древнерусским
произведением 436
Л. В. Левшун К вопросу о взаимоотношении традиций
средневековой церковной книжности
и литературы нового времени 451
О литературоведении, научности и религиозном мышлении
Т. А. Касаткина 1. О литературоведении, научности
и религиозном мышлении 461
2. После литературоведения 468
С. Г. Бочаров О религиозной филологии 483
И. Б. Роднянская «У этого рода занятий есть свое сердце...»
Беседу вела Т. А. Касаткина 499
И. Б. Роднянская Философская «собака, зарытая в стиле» 510
B. С. Непомнящий О горизонтах познания и глубинах
сочувствия 524
Т. А. Касаткина Сегмент и горизонт 572
Научное издание
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА
Труды Научного совета
«Наука о литературе в контексте наук о культуре»
Памяти
Александра Викторовича Михайлова
посвящается
Технический редактор Т. А. Заика
ИД № 01286 от 22.03.2000 г.
Подписано в печать 21.02.2001.
Формат 60x90 !/|б. Бумага офсетная. Гарнитура тайме.
Печать офсетная. Печ. л. 37,5. Тираж 1000 экз.
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, «Наследие».
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а.
Тел.: (095) 202-21-23; 291-23-01.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография "Наука"».
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6. Заказ № 1379